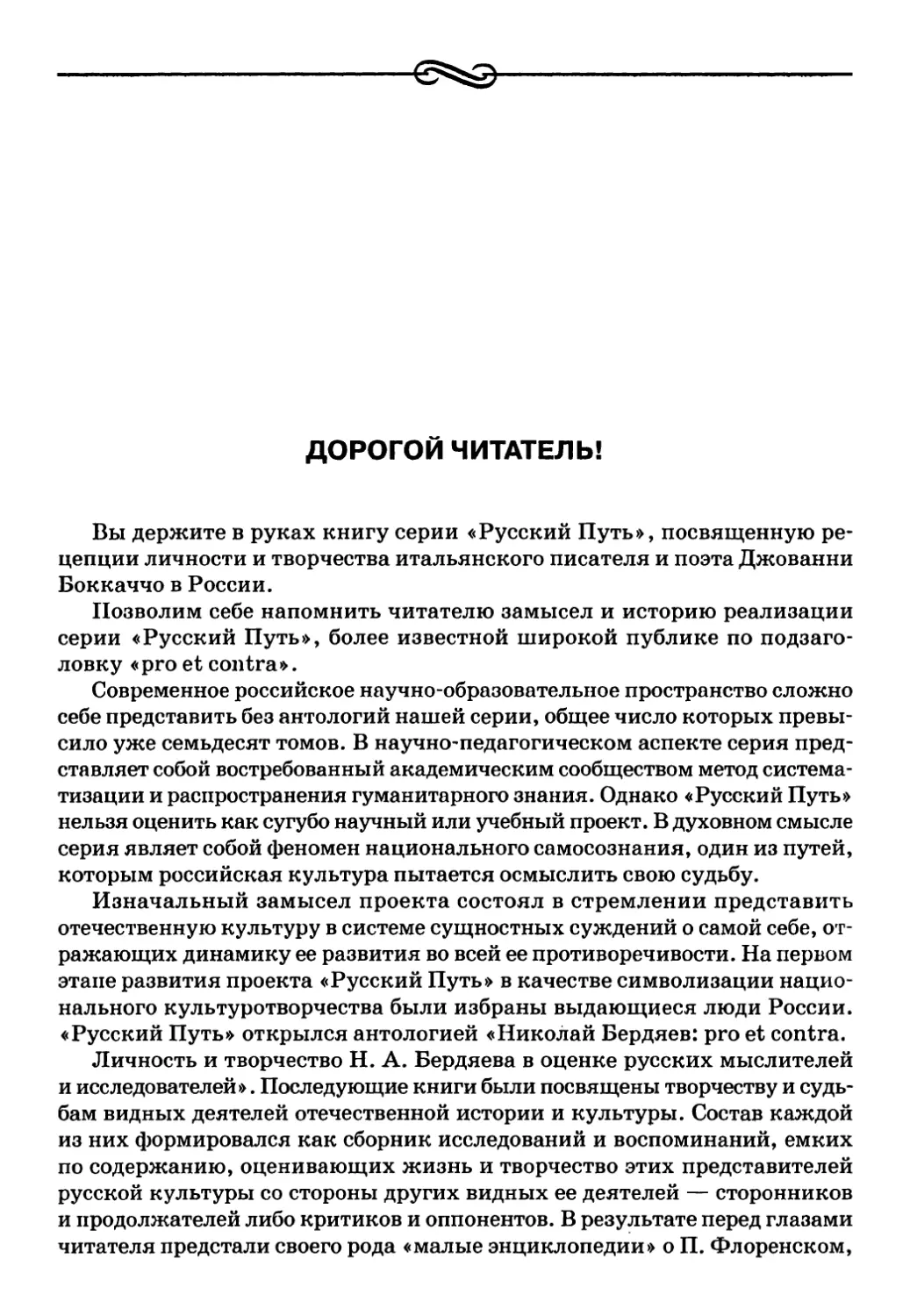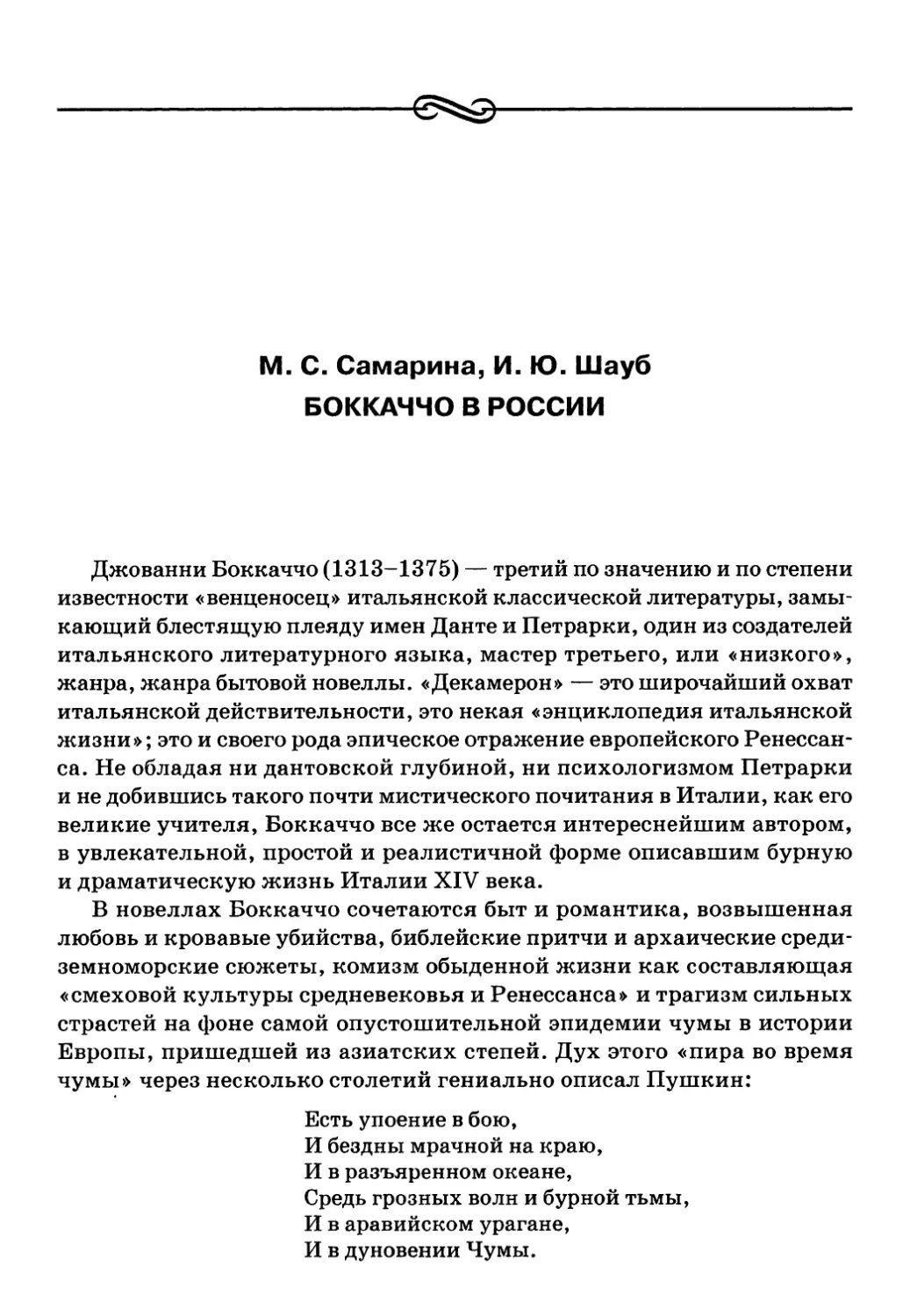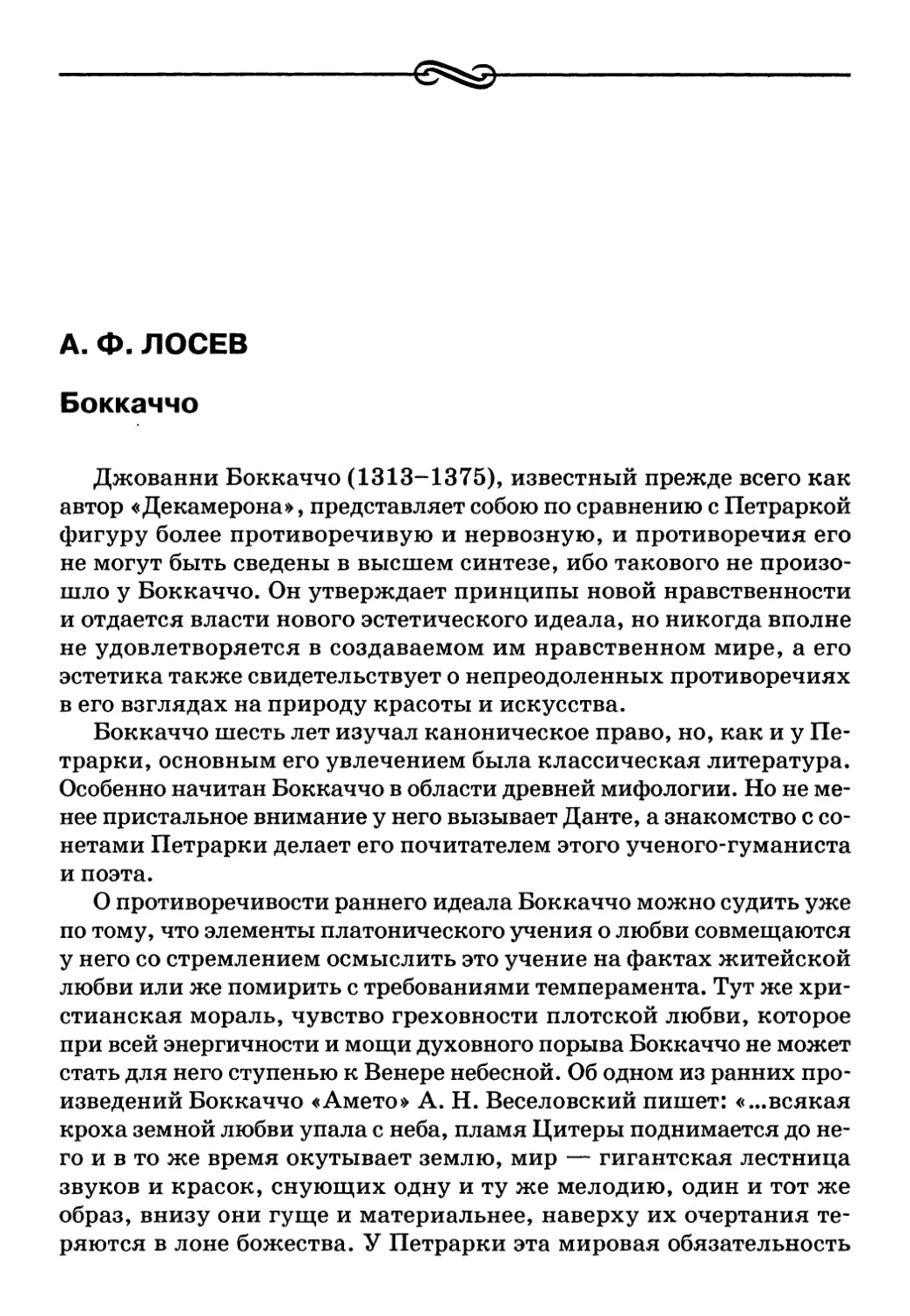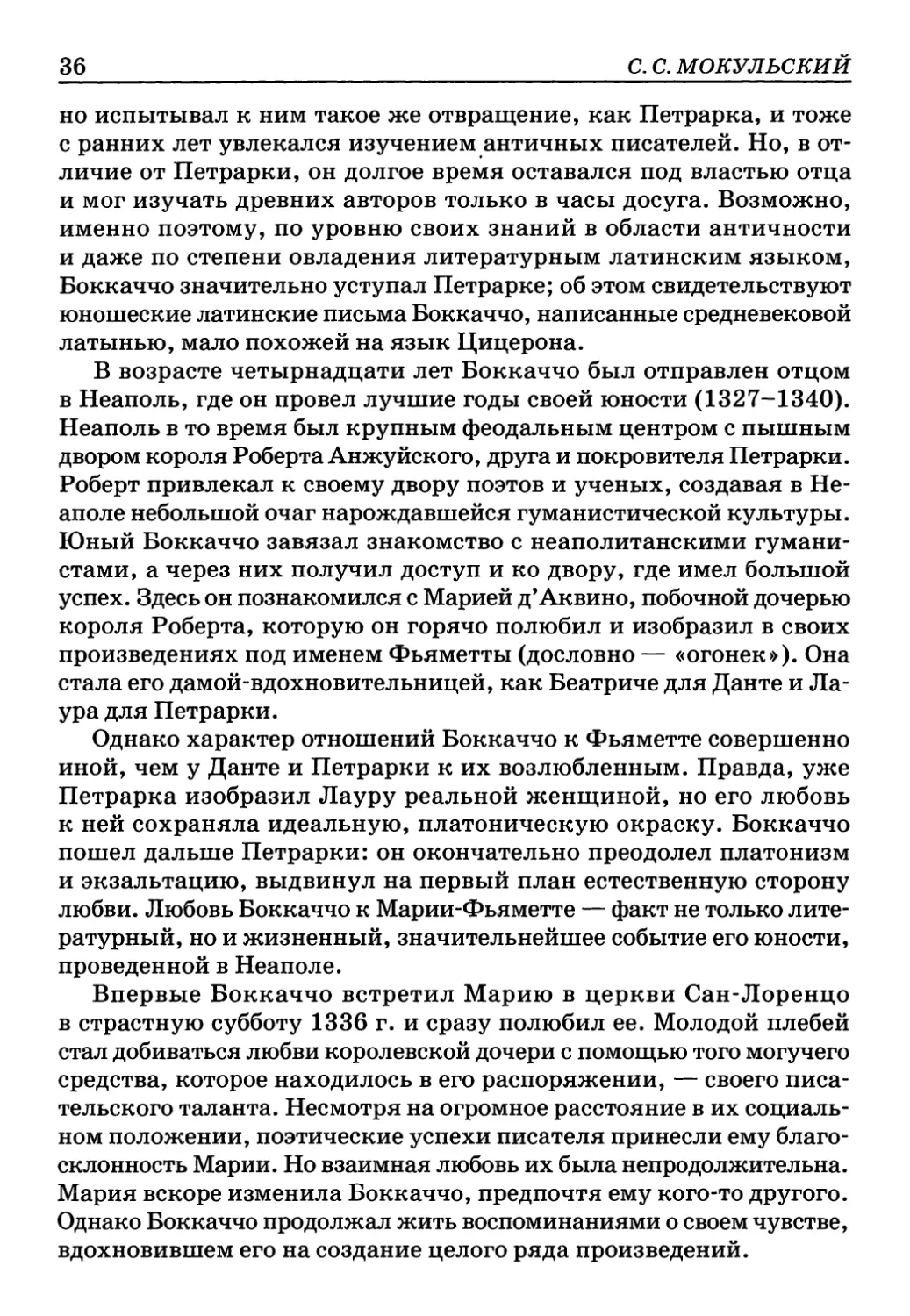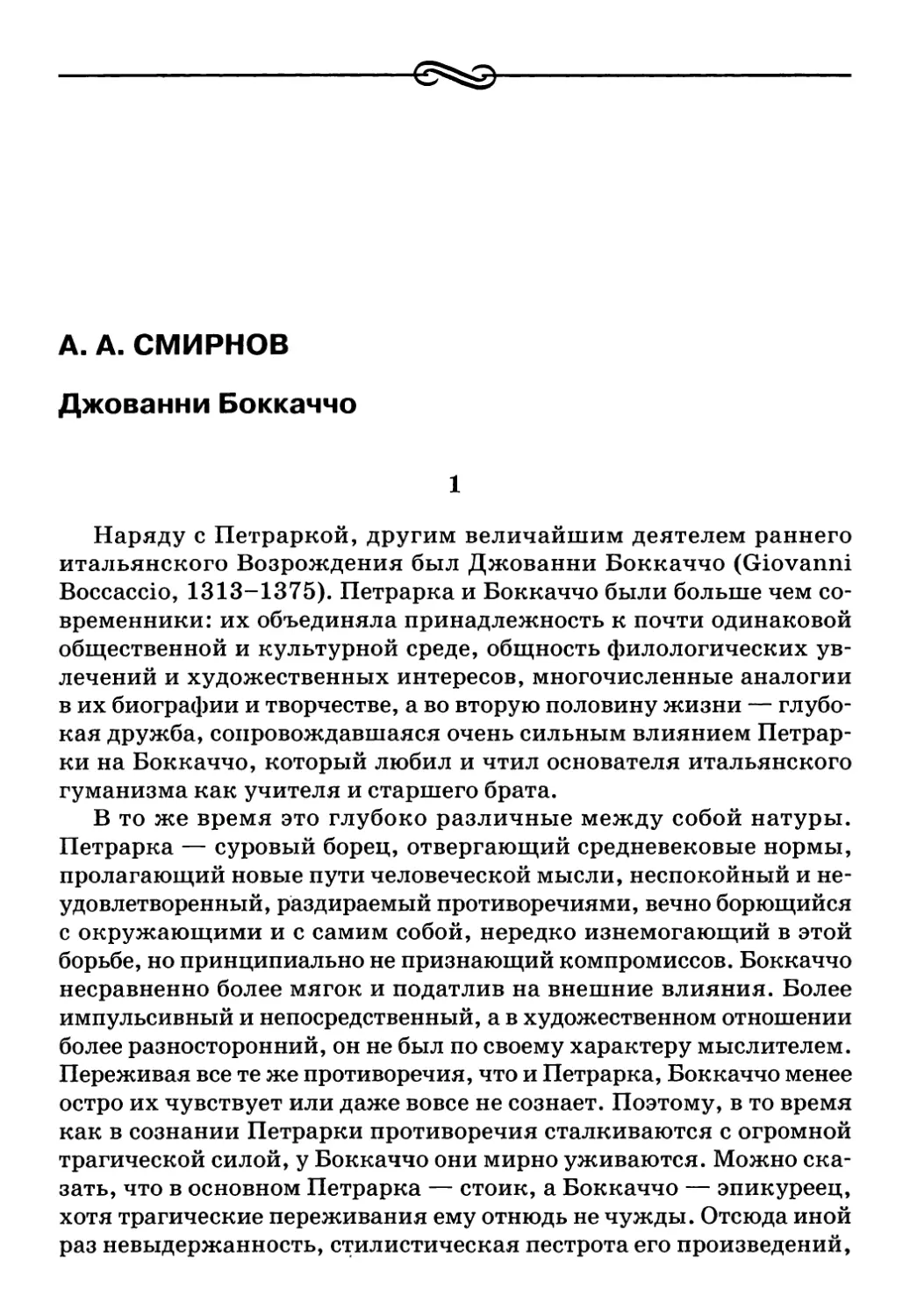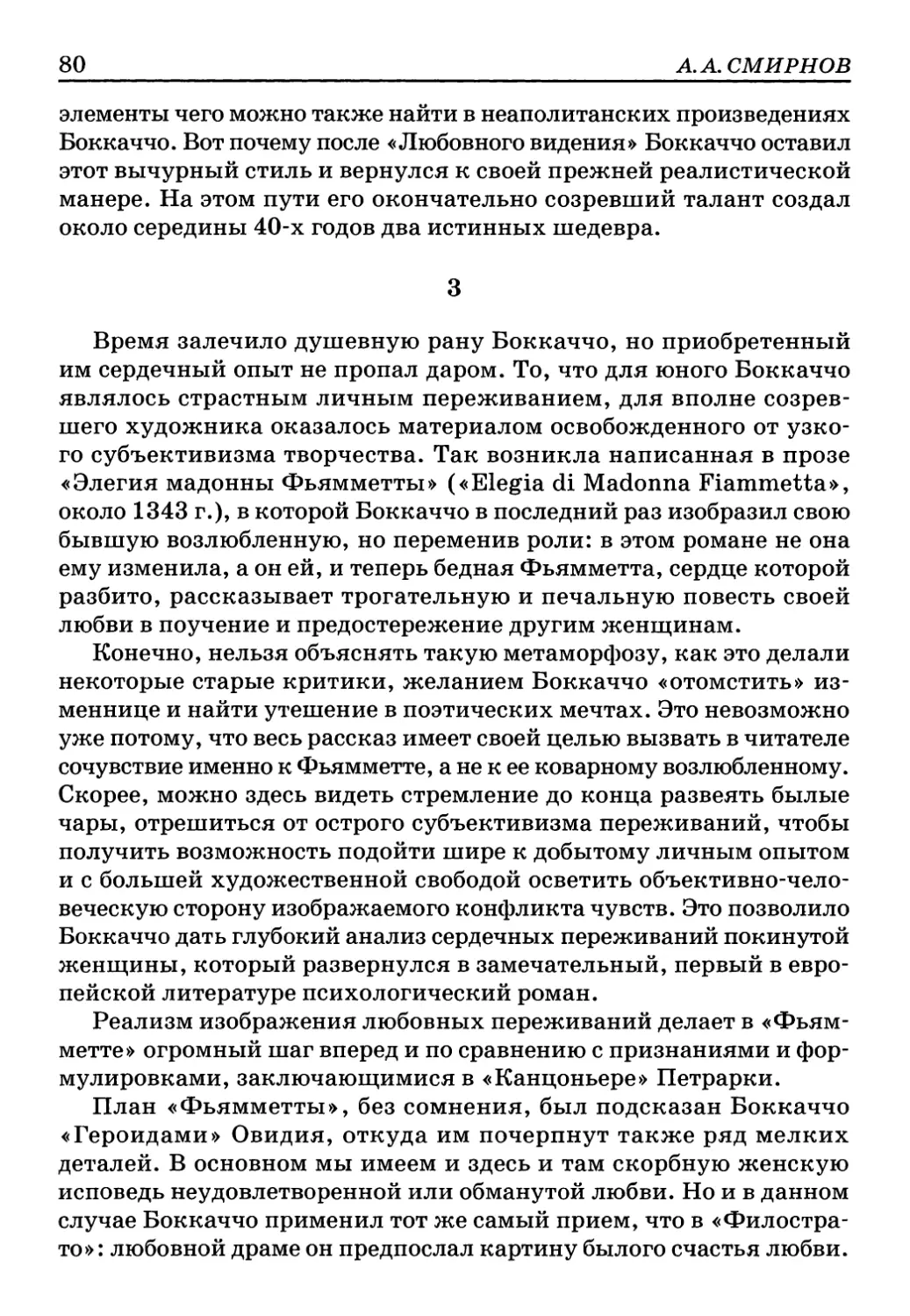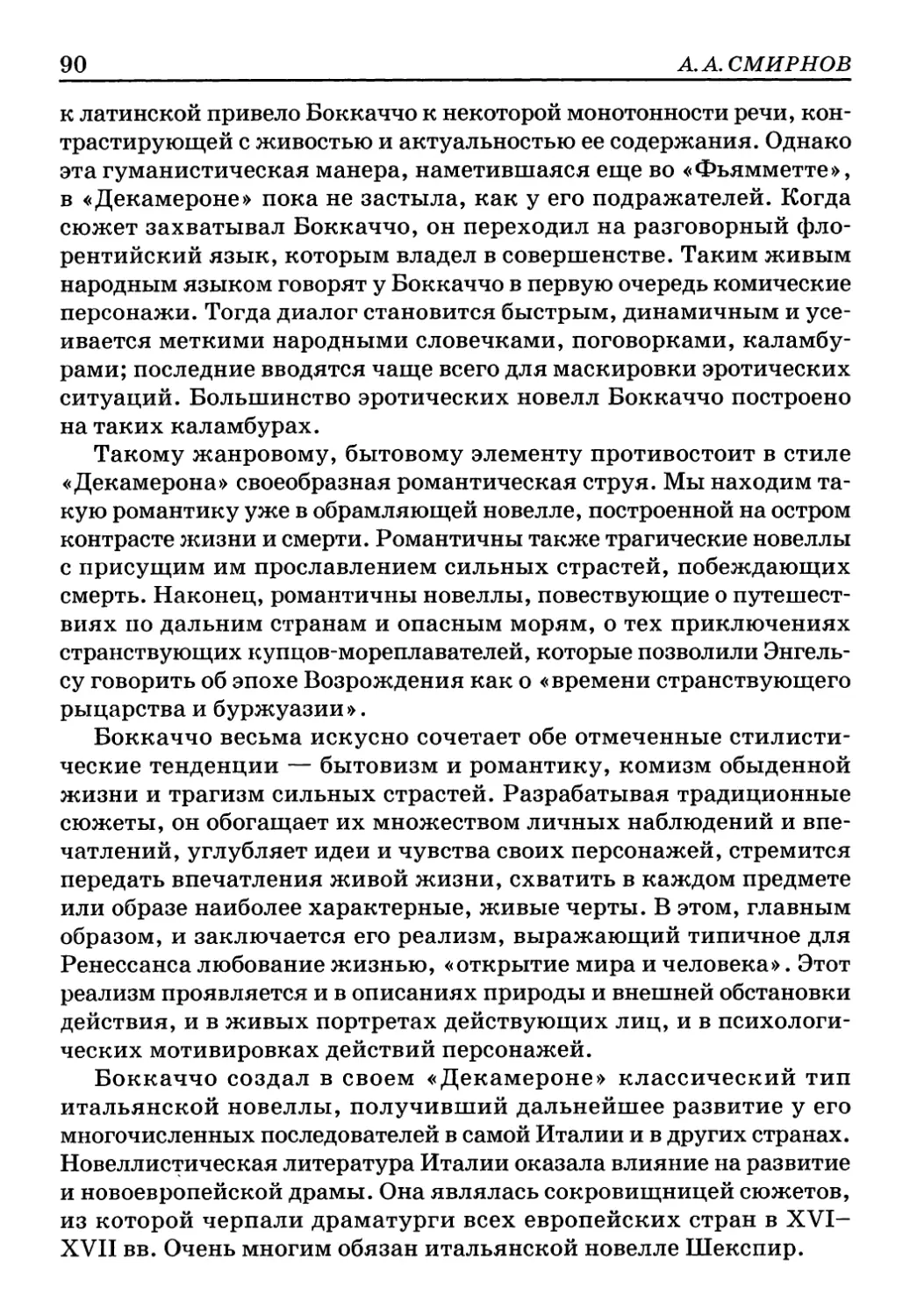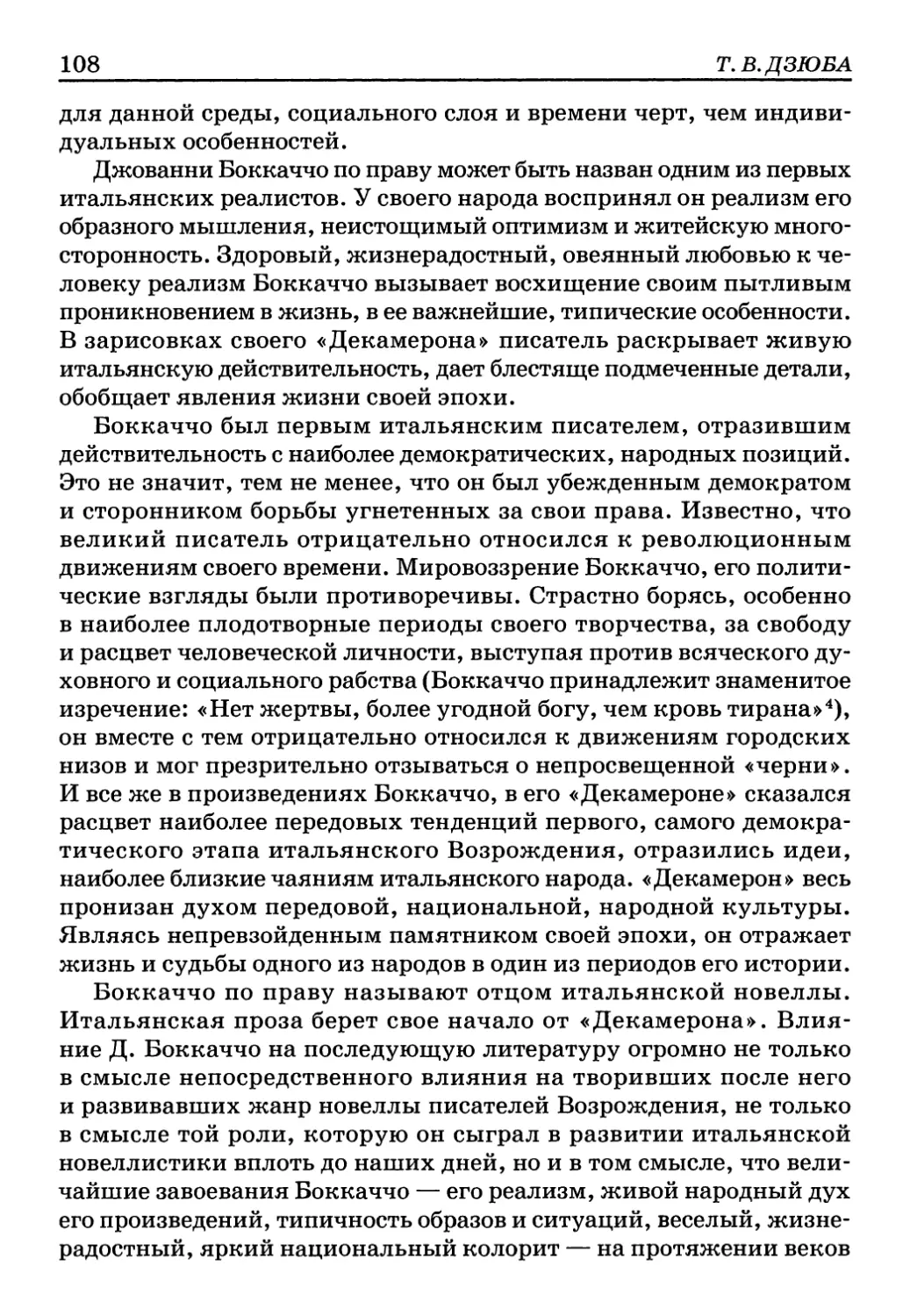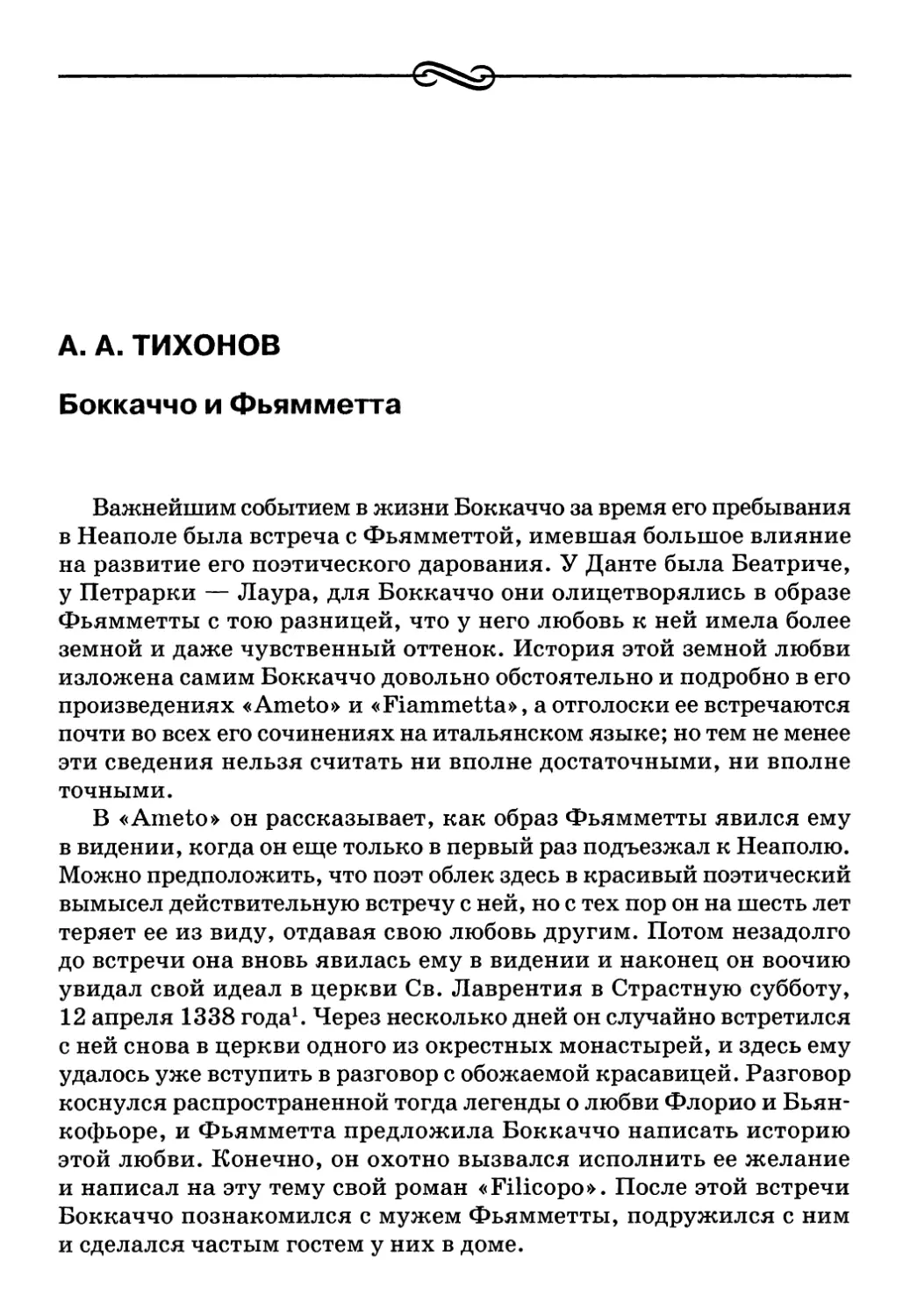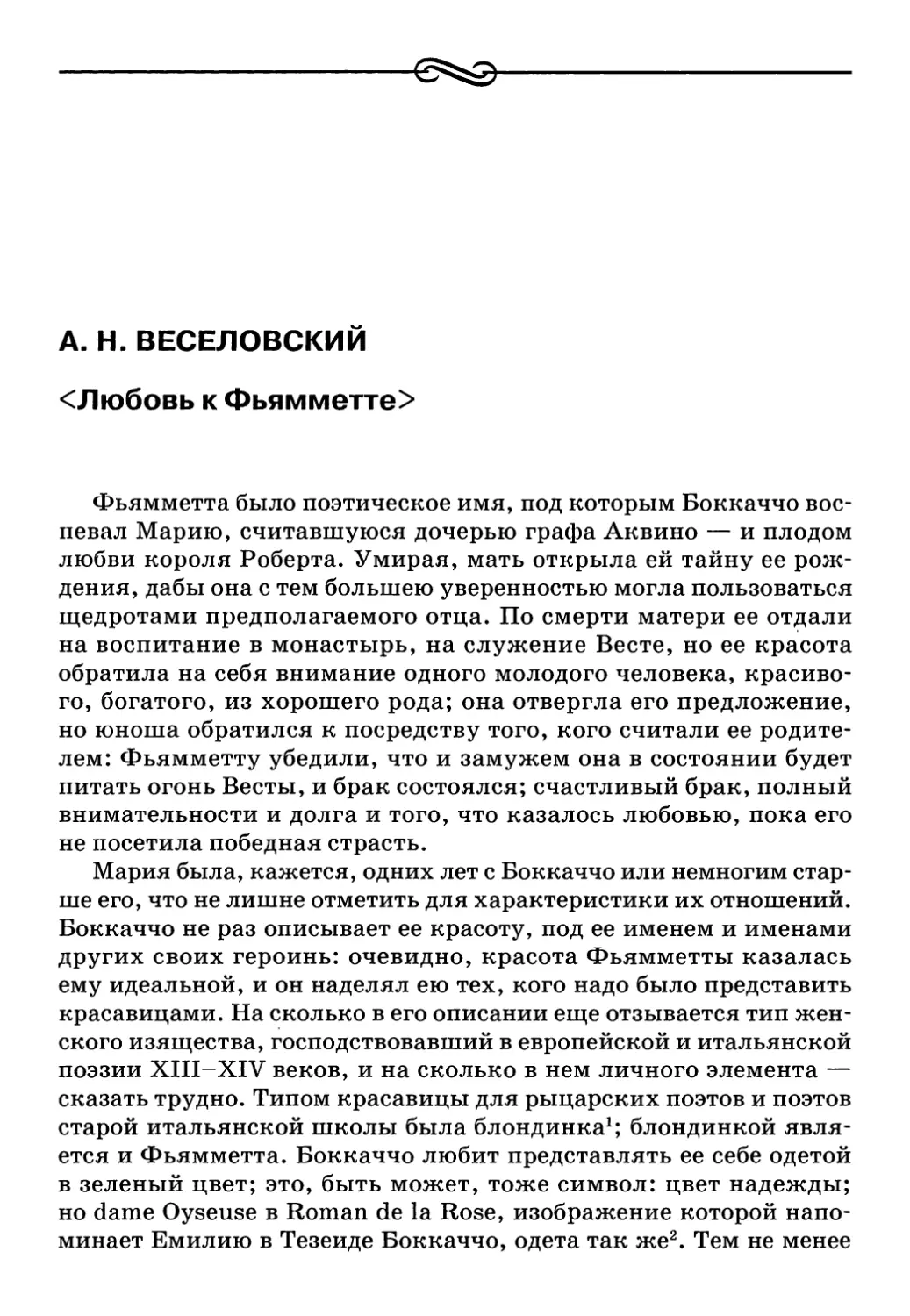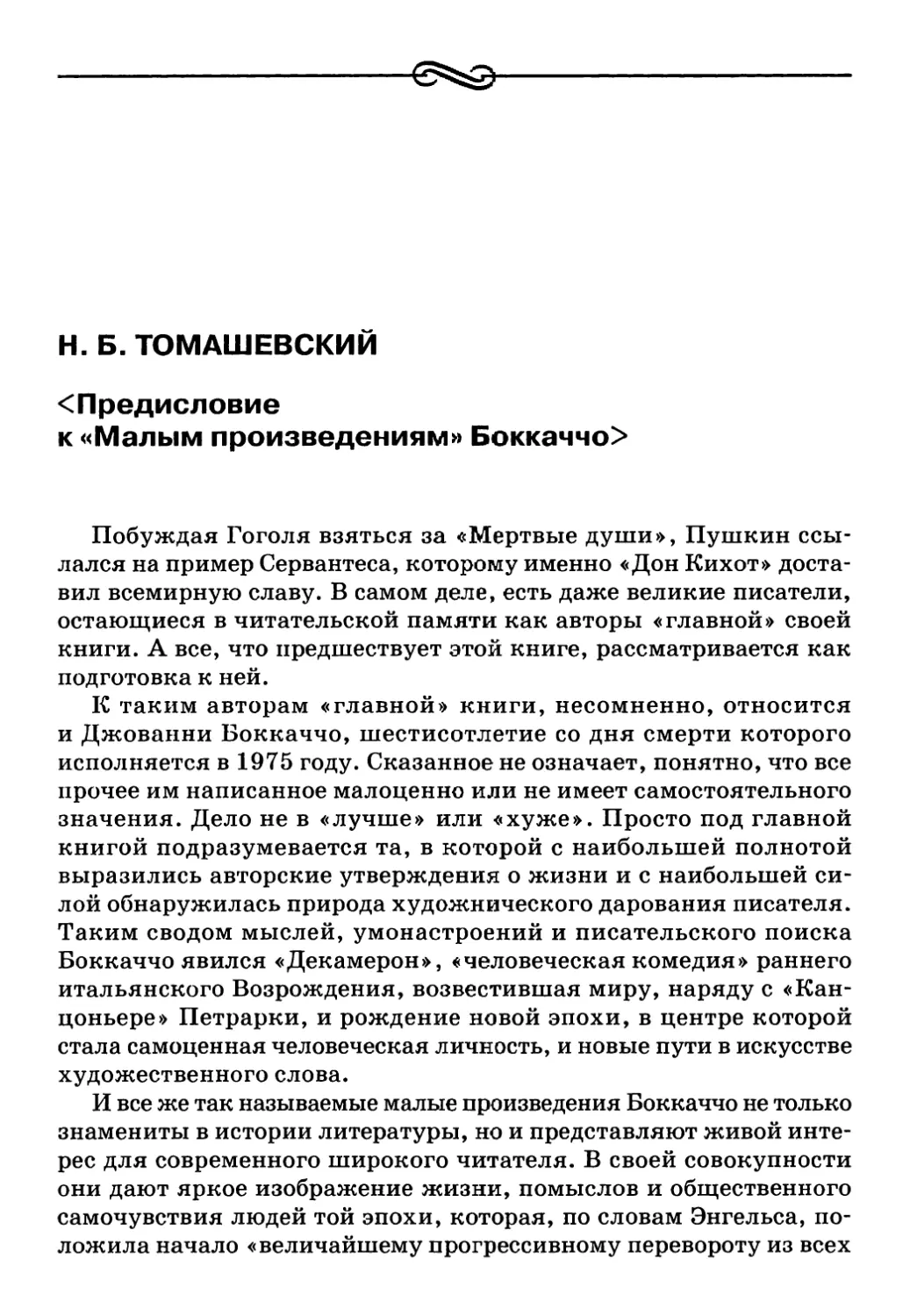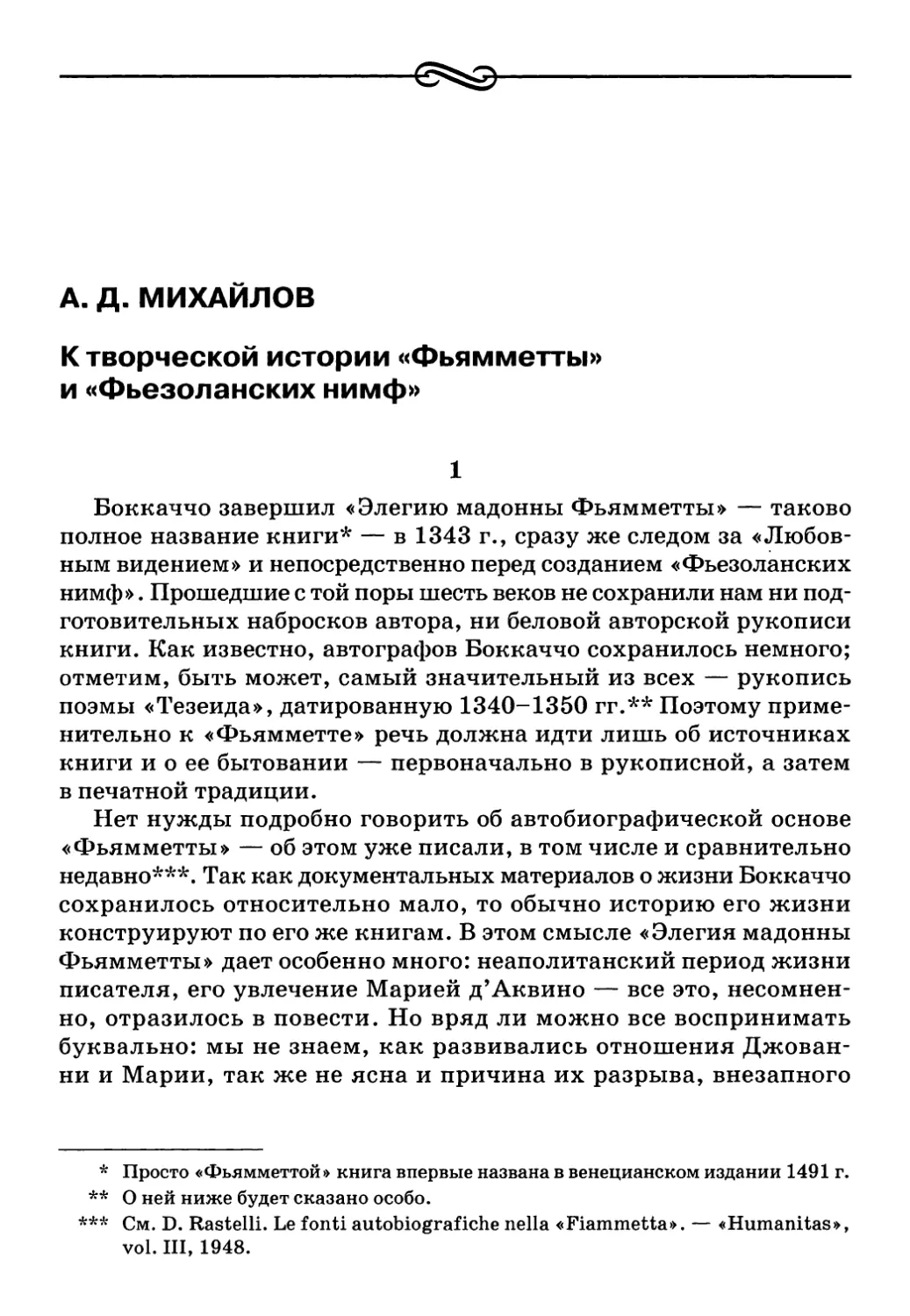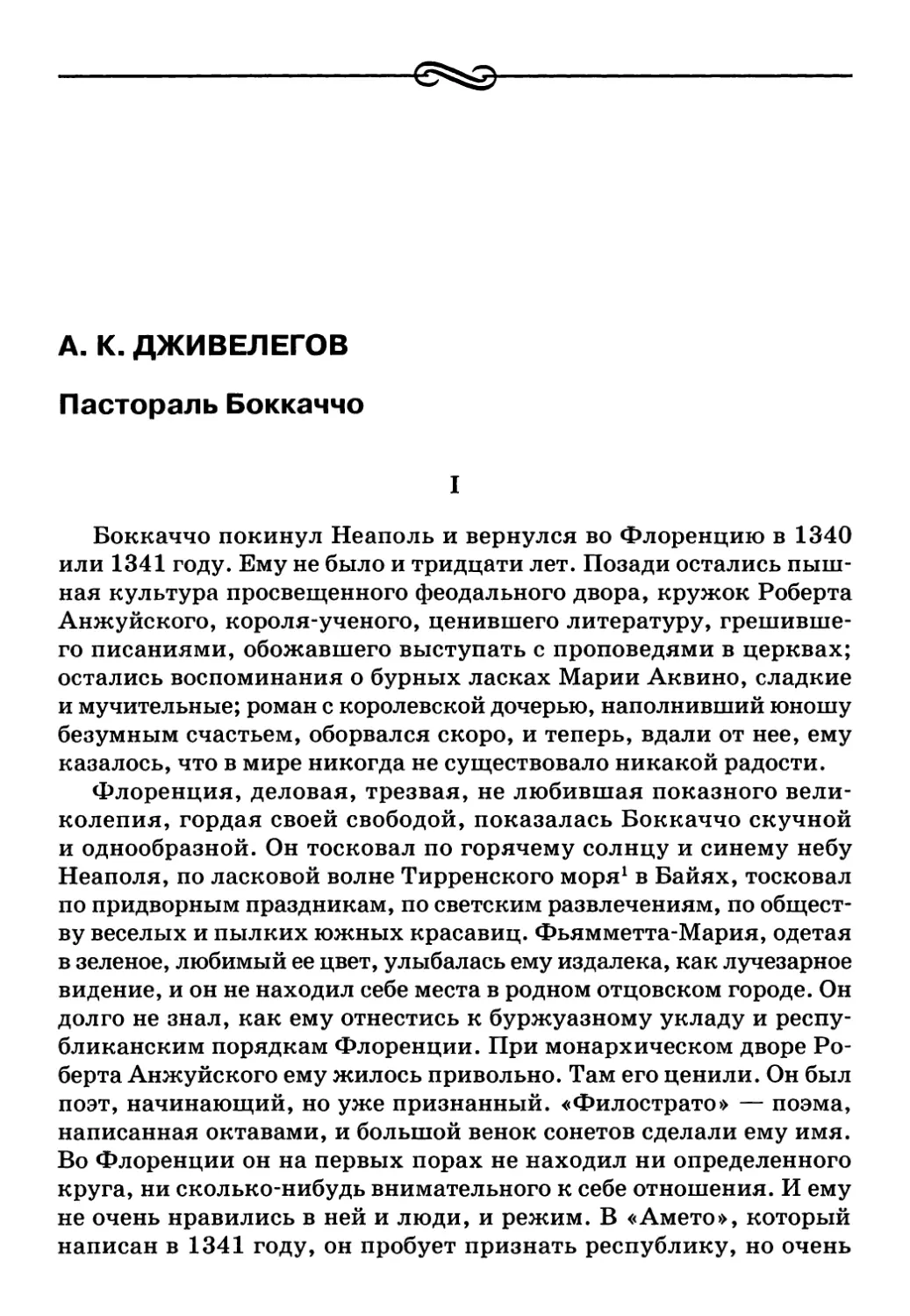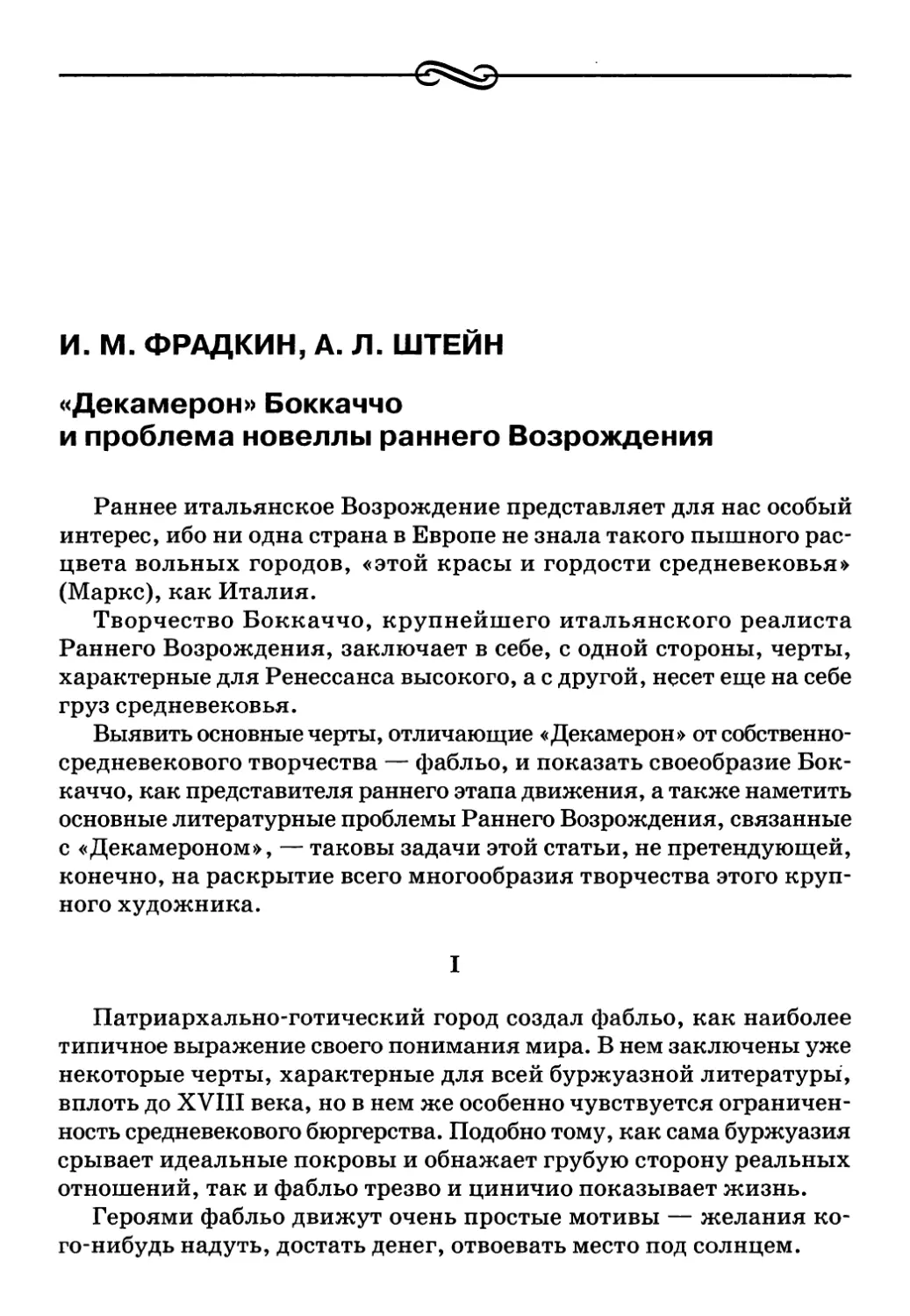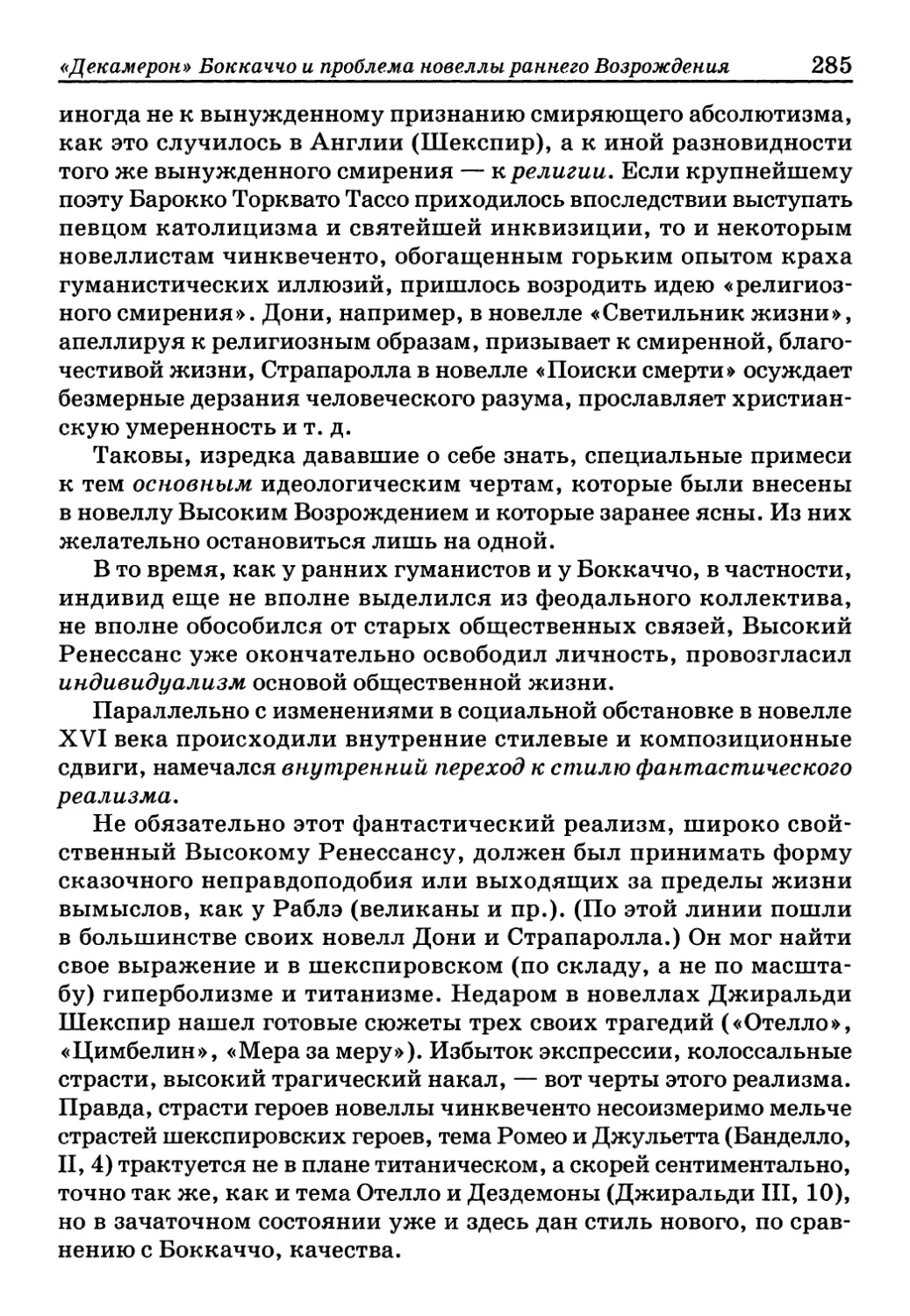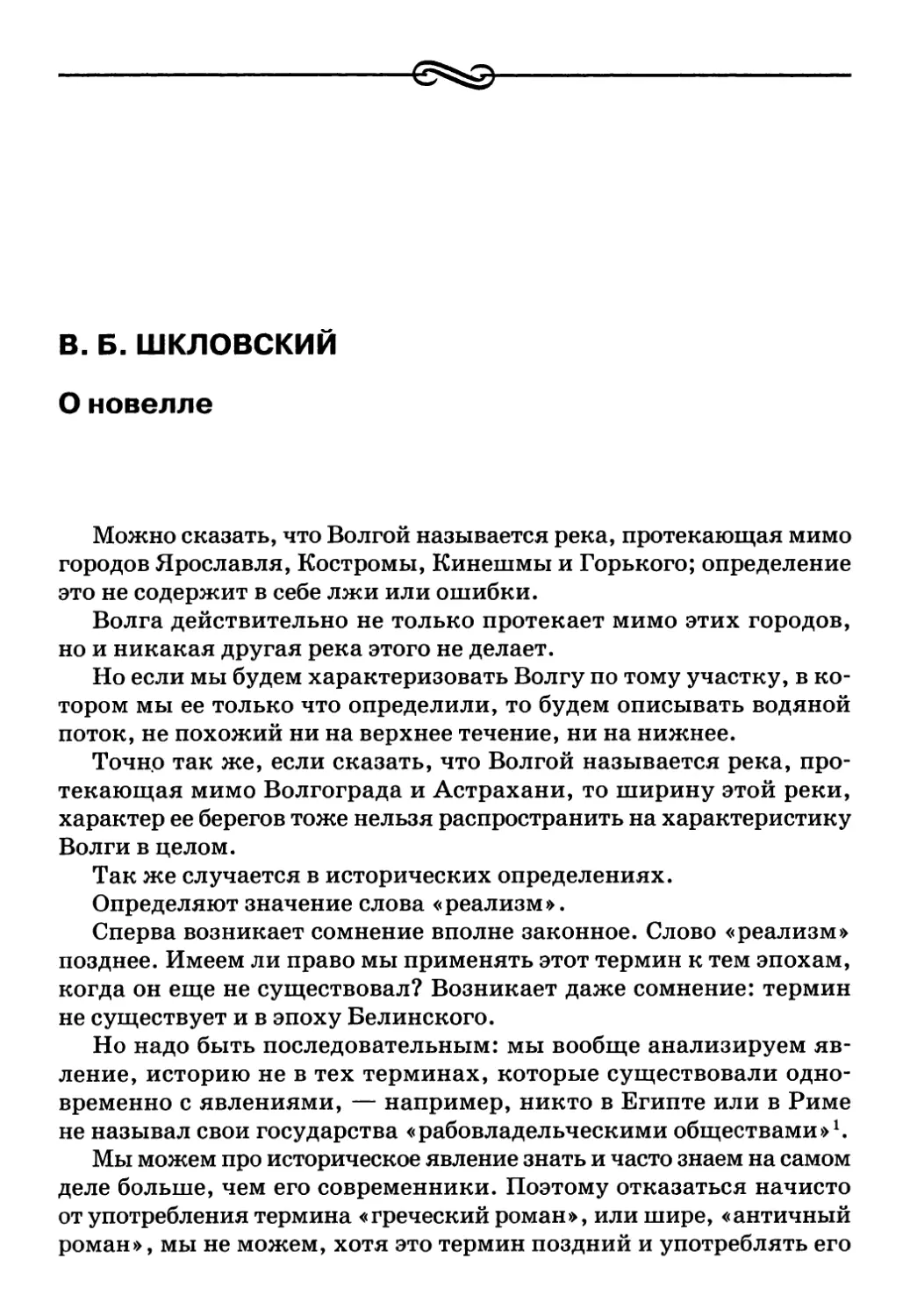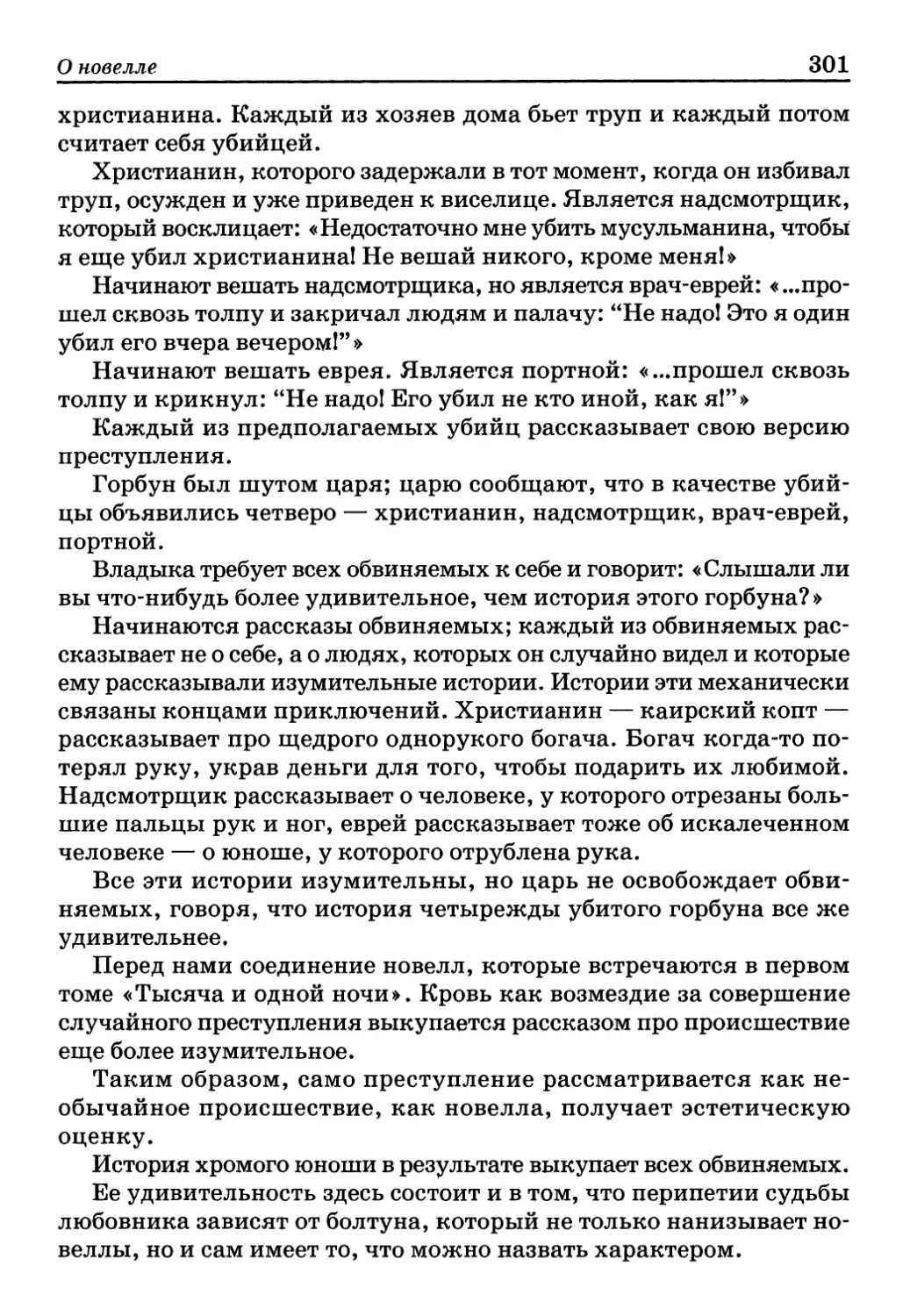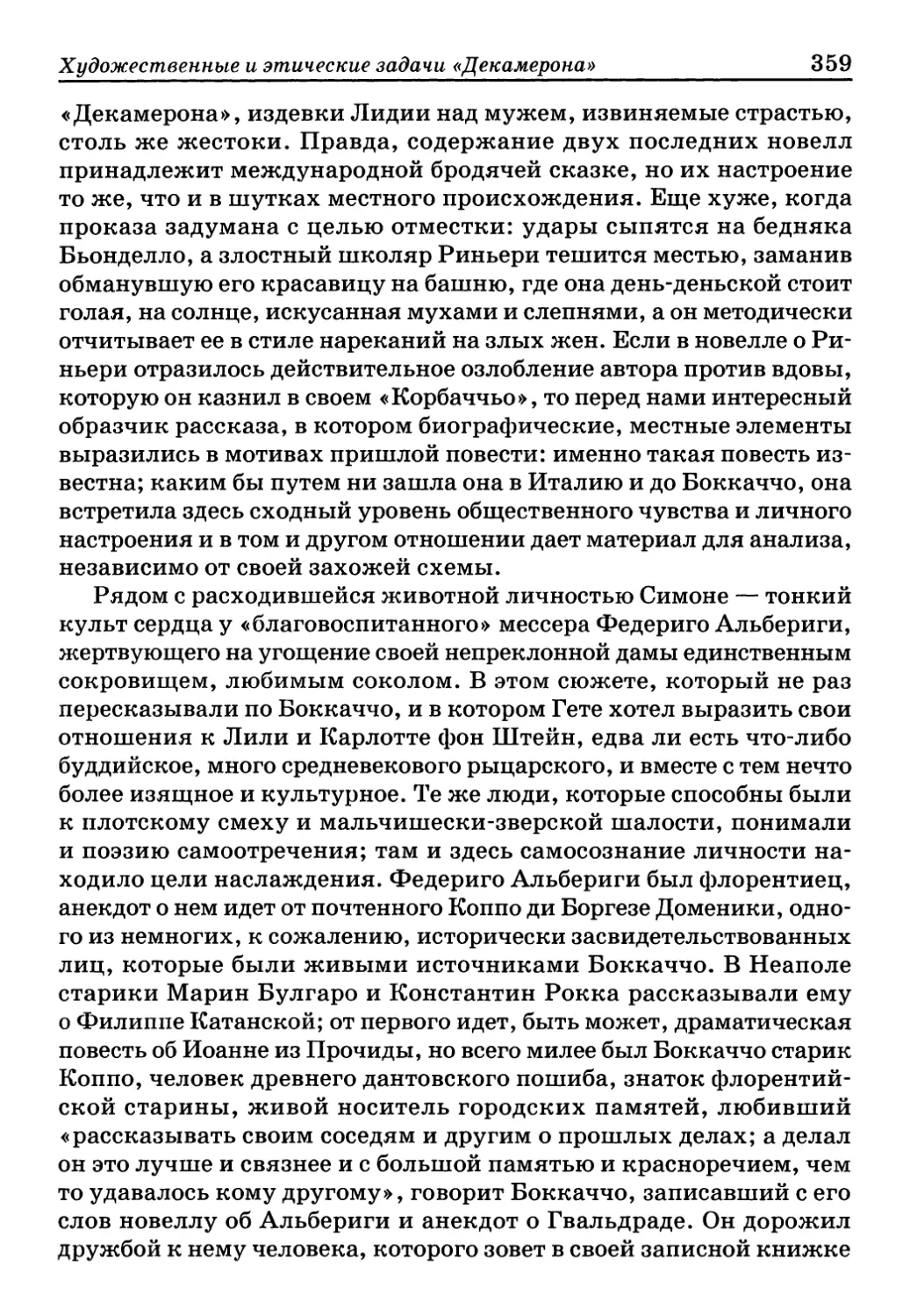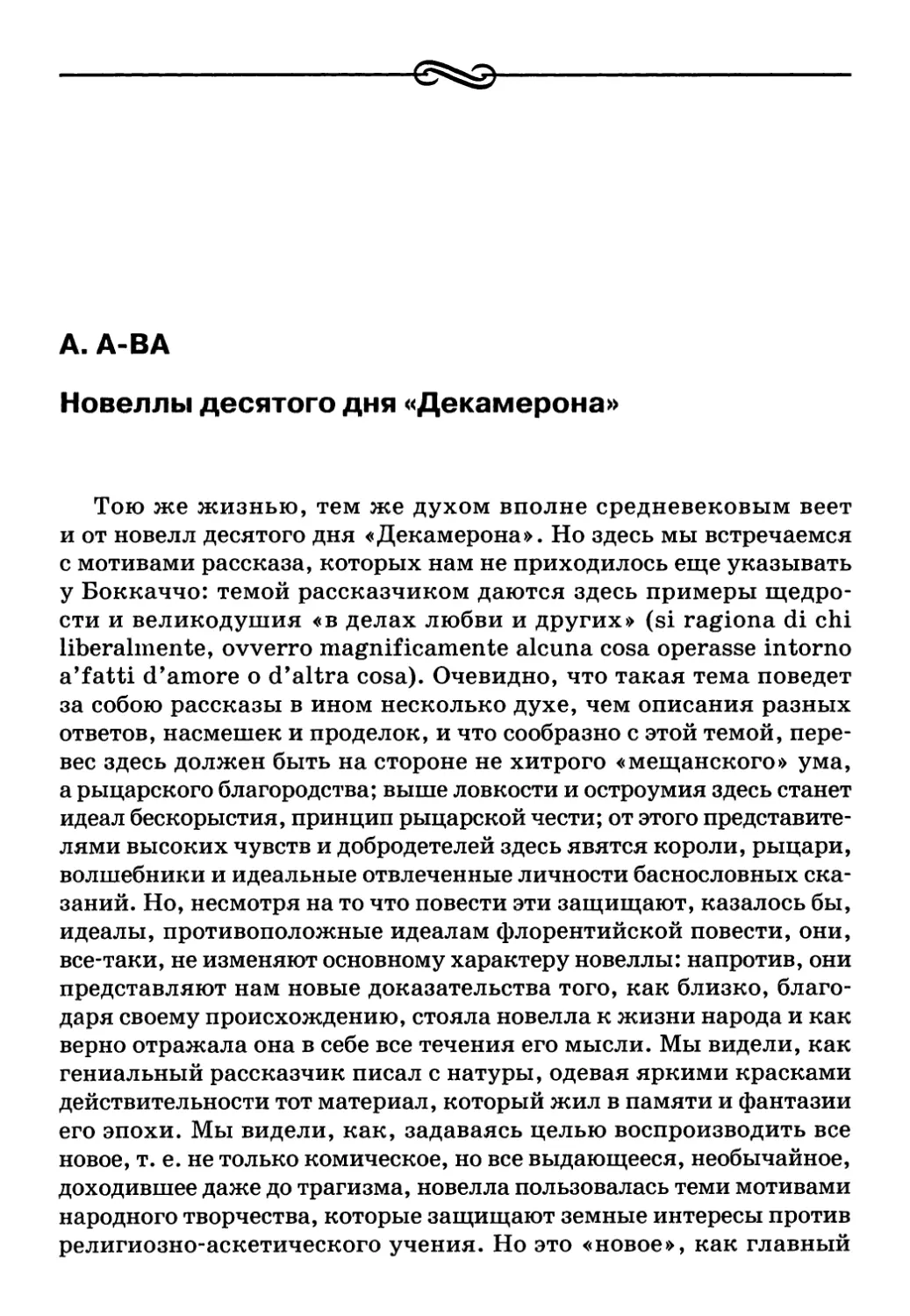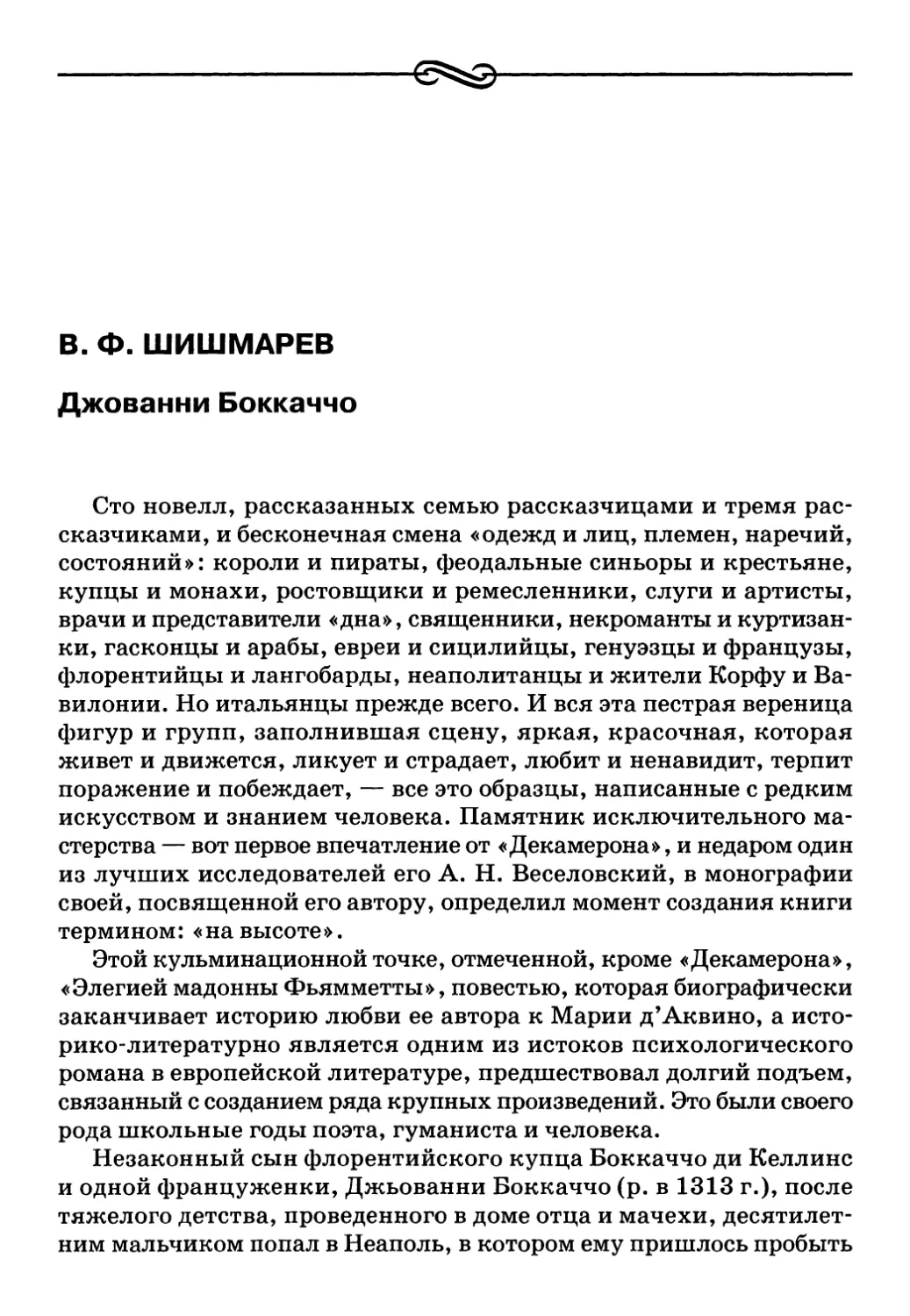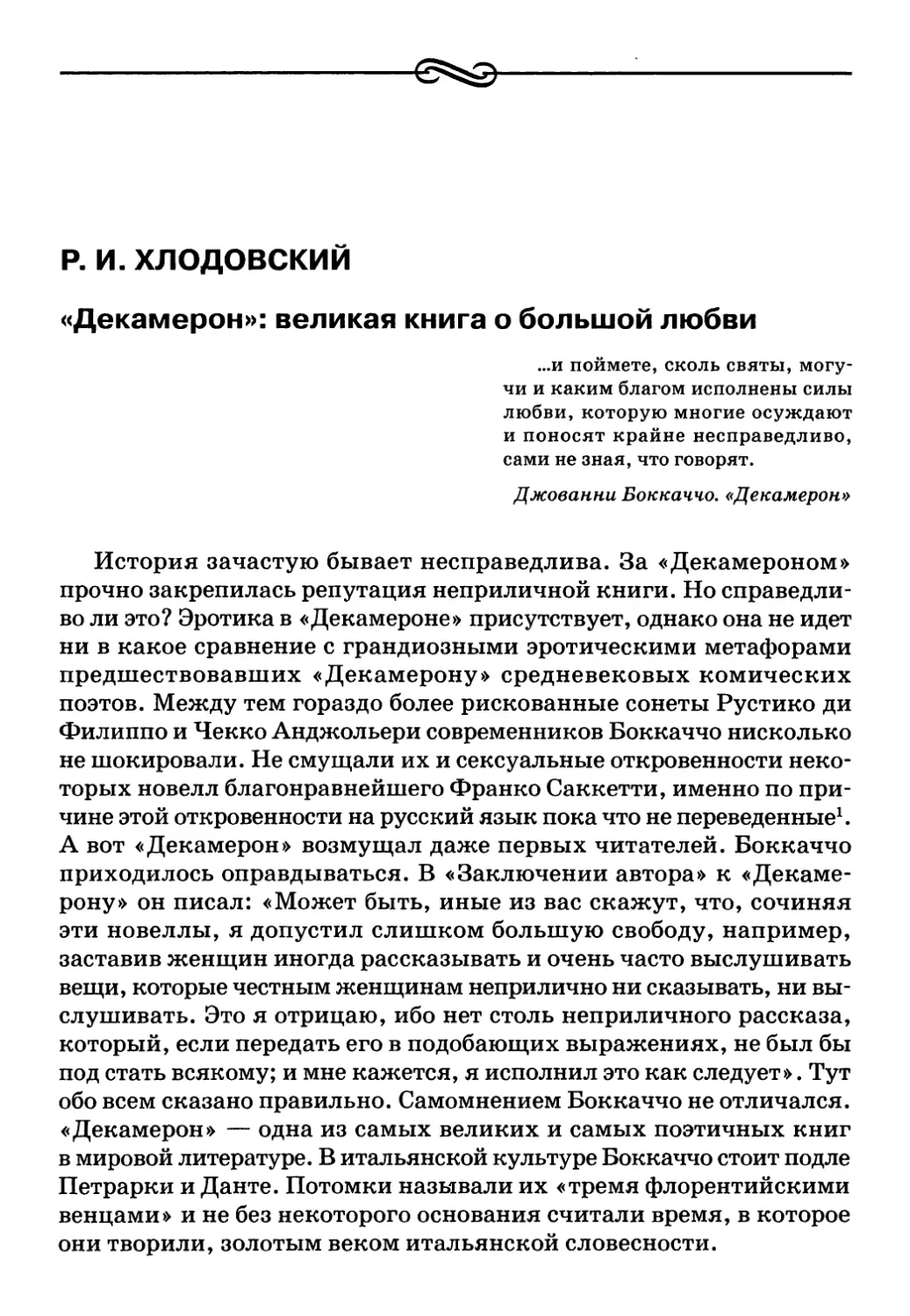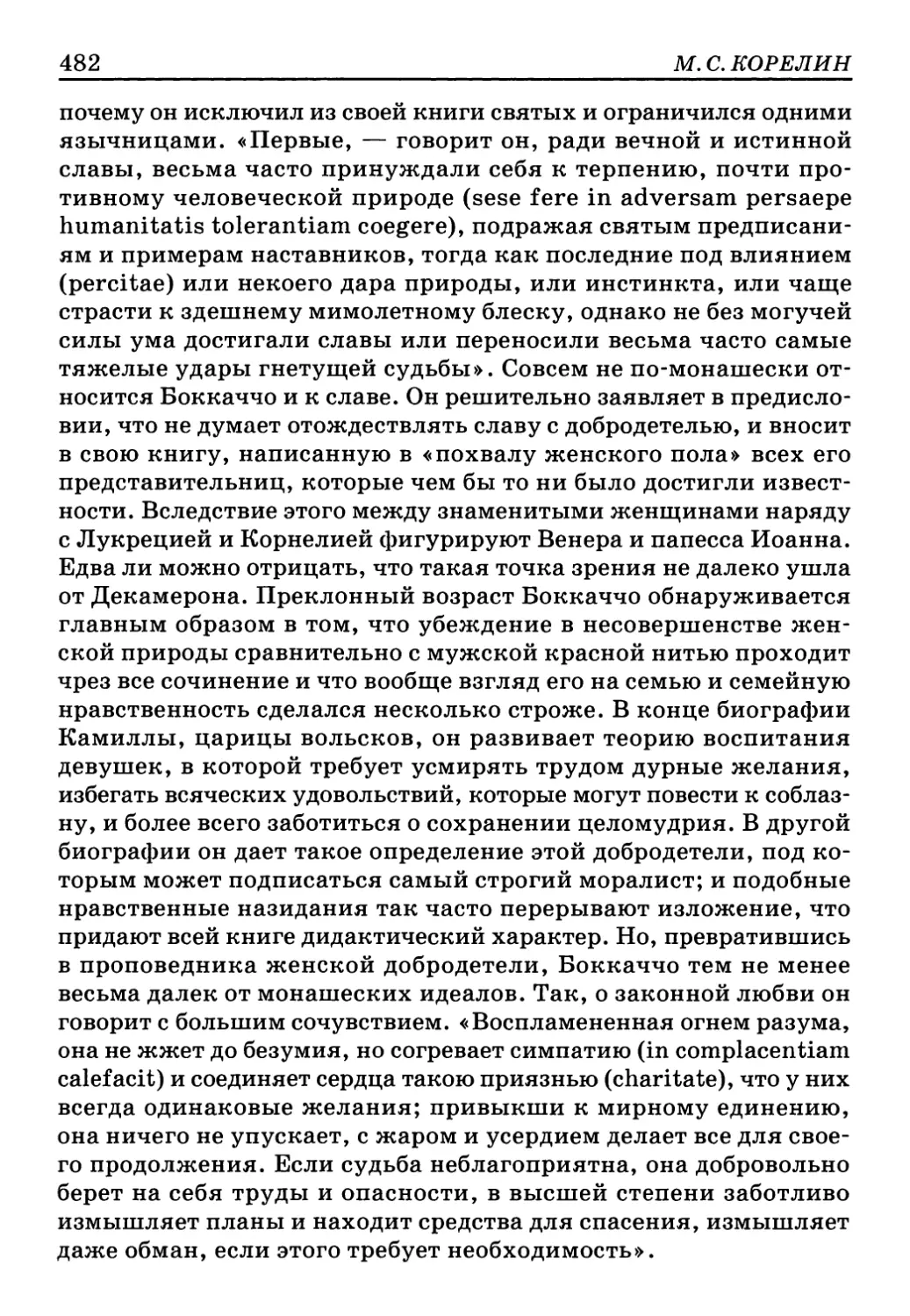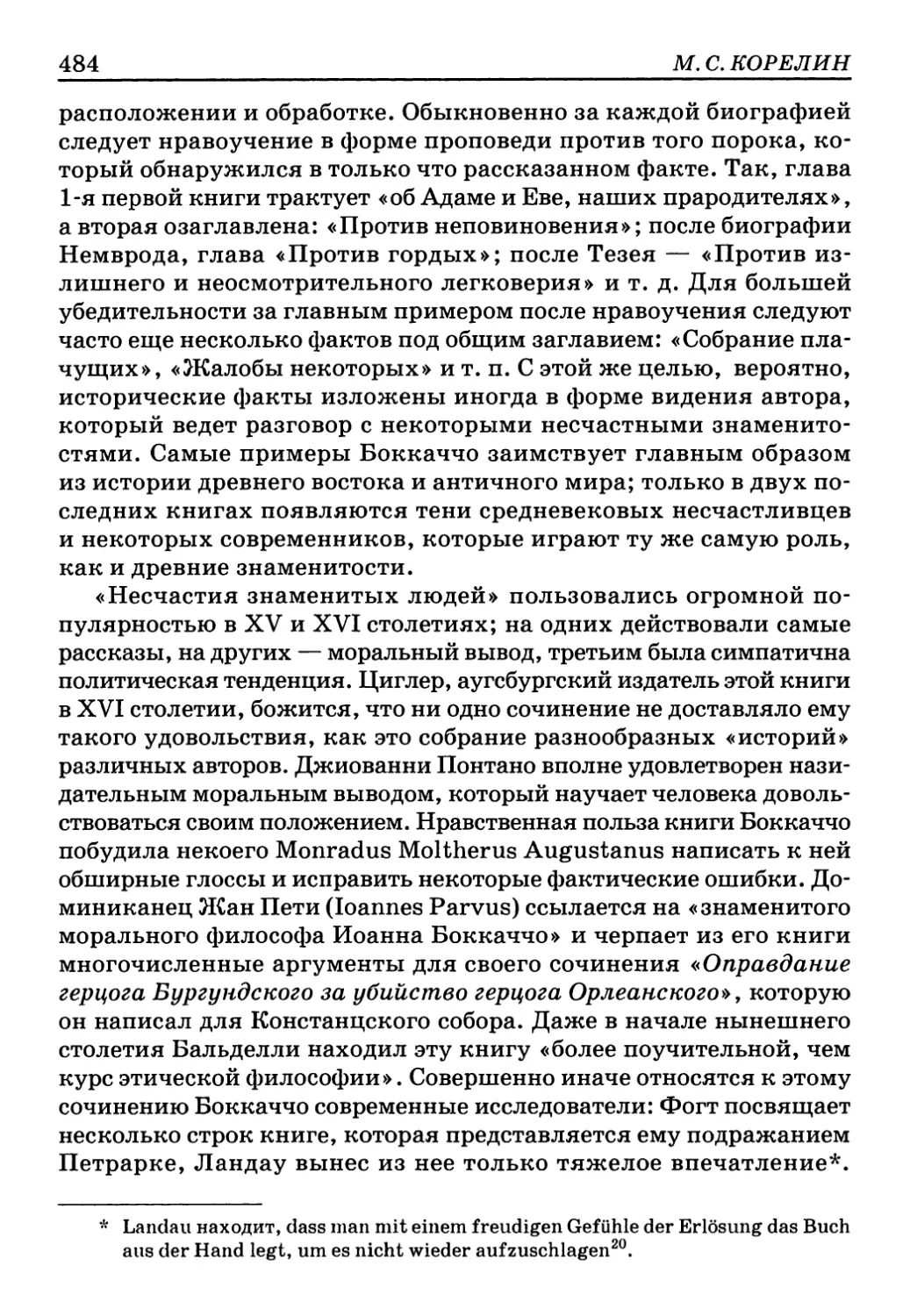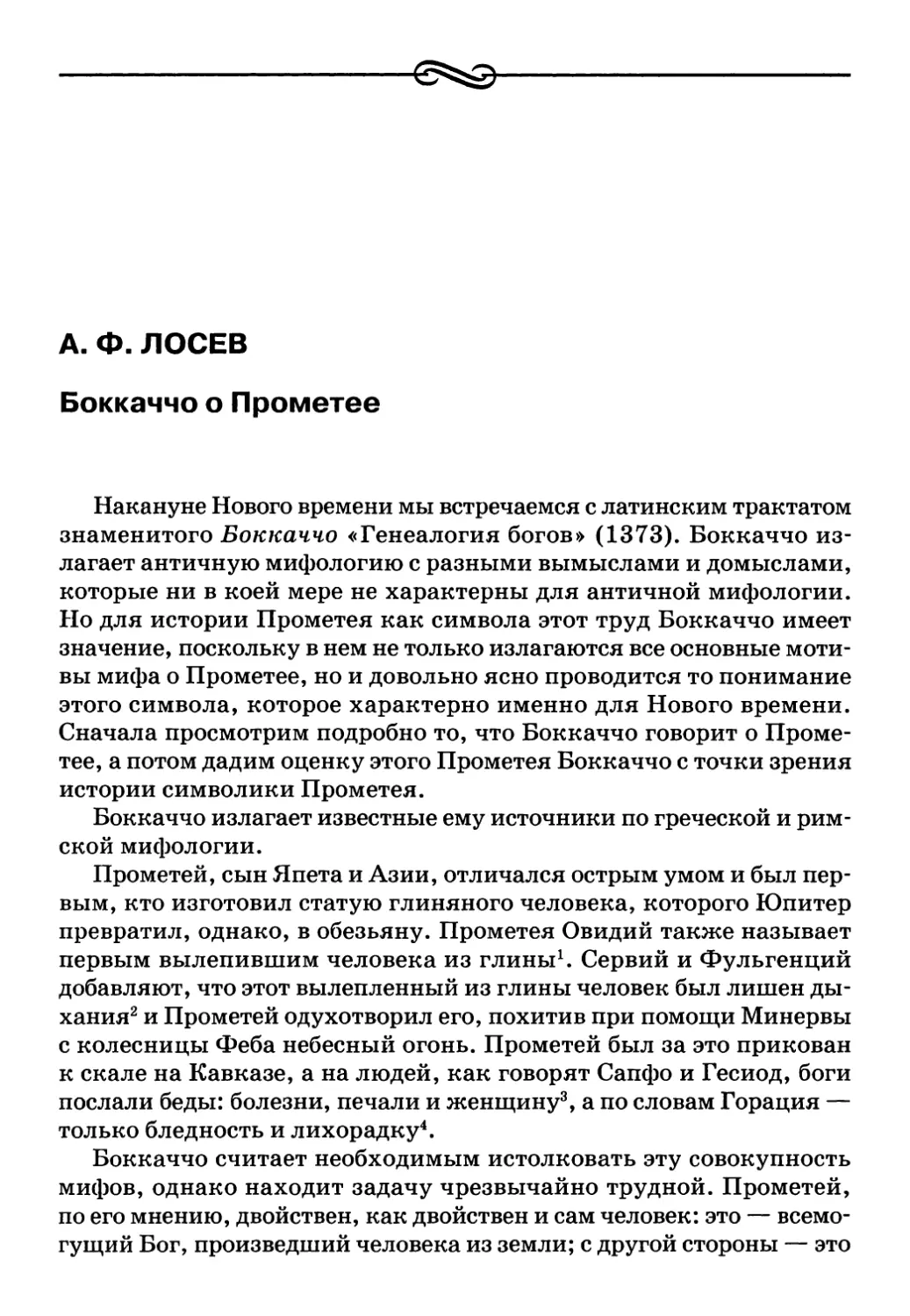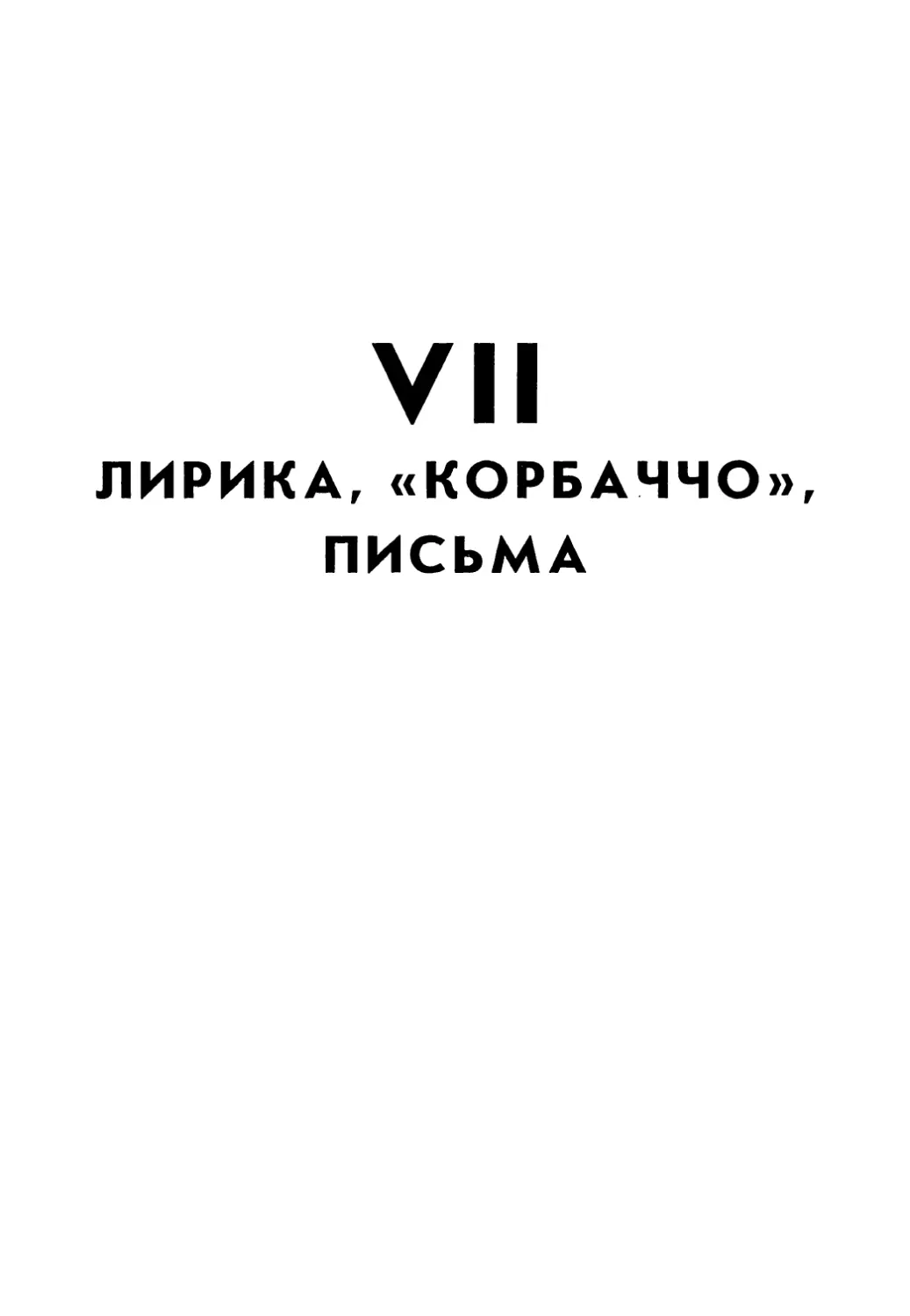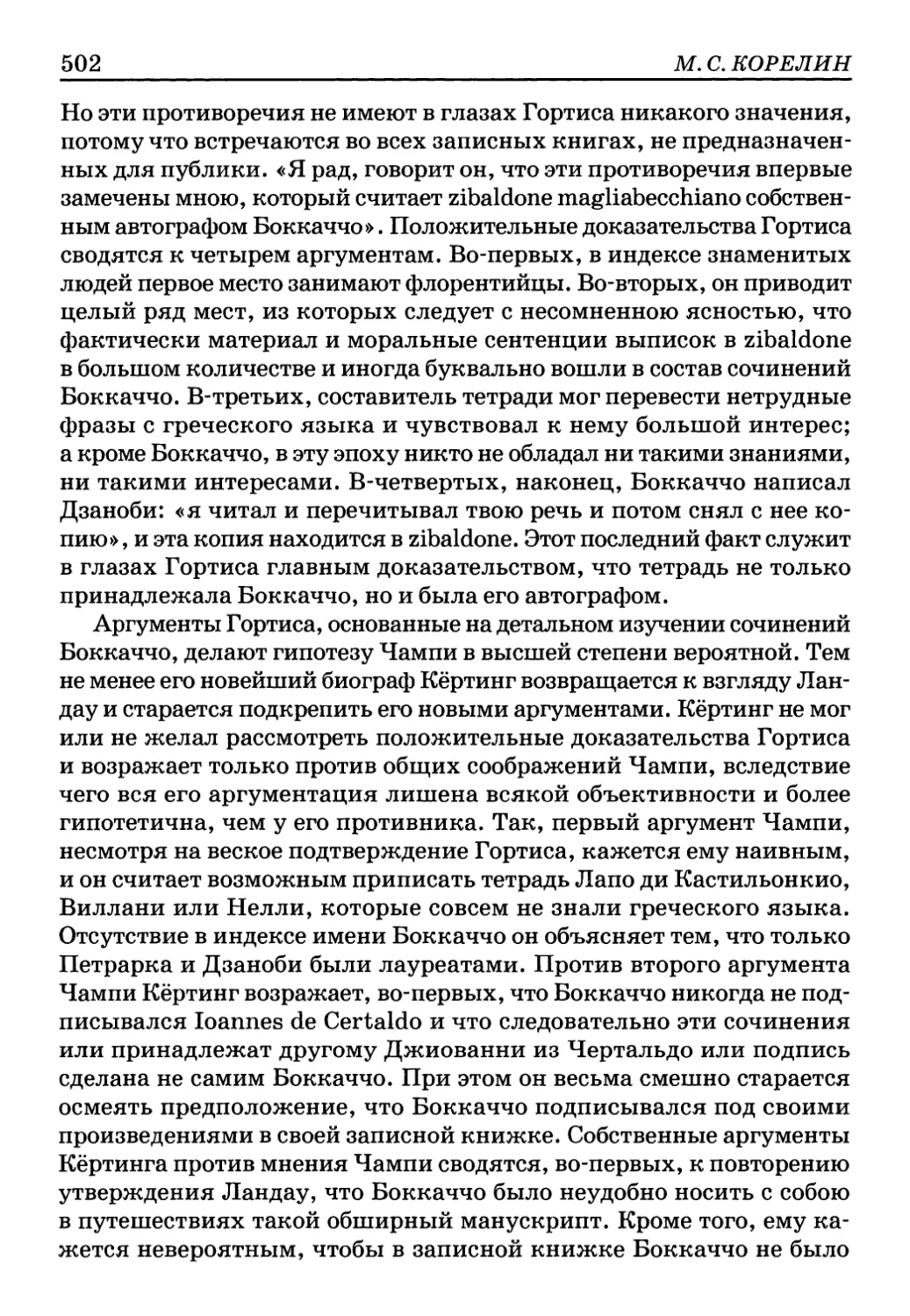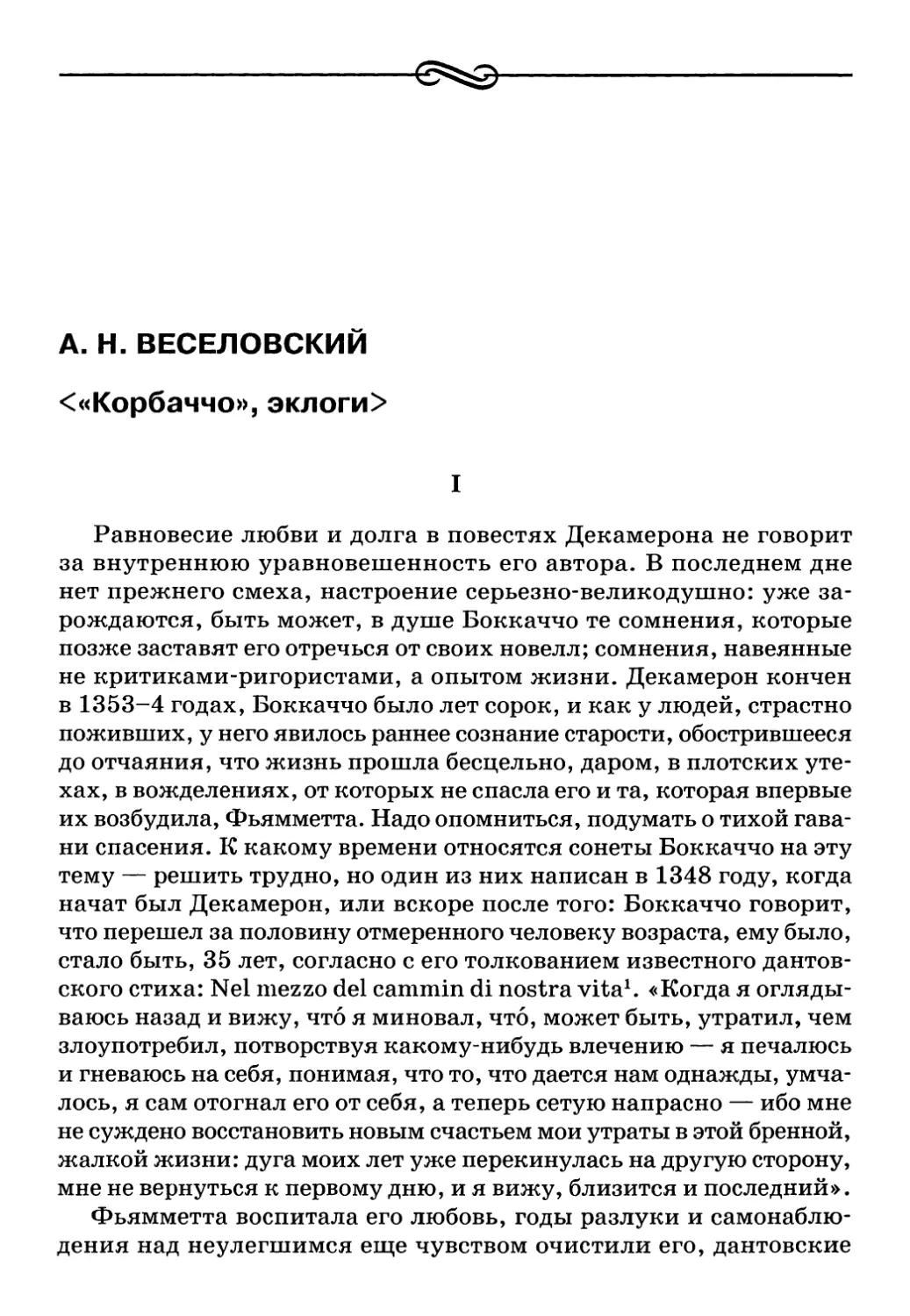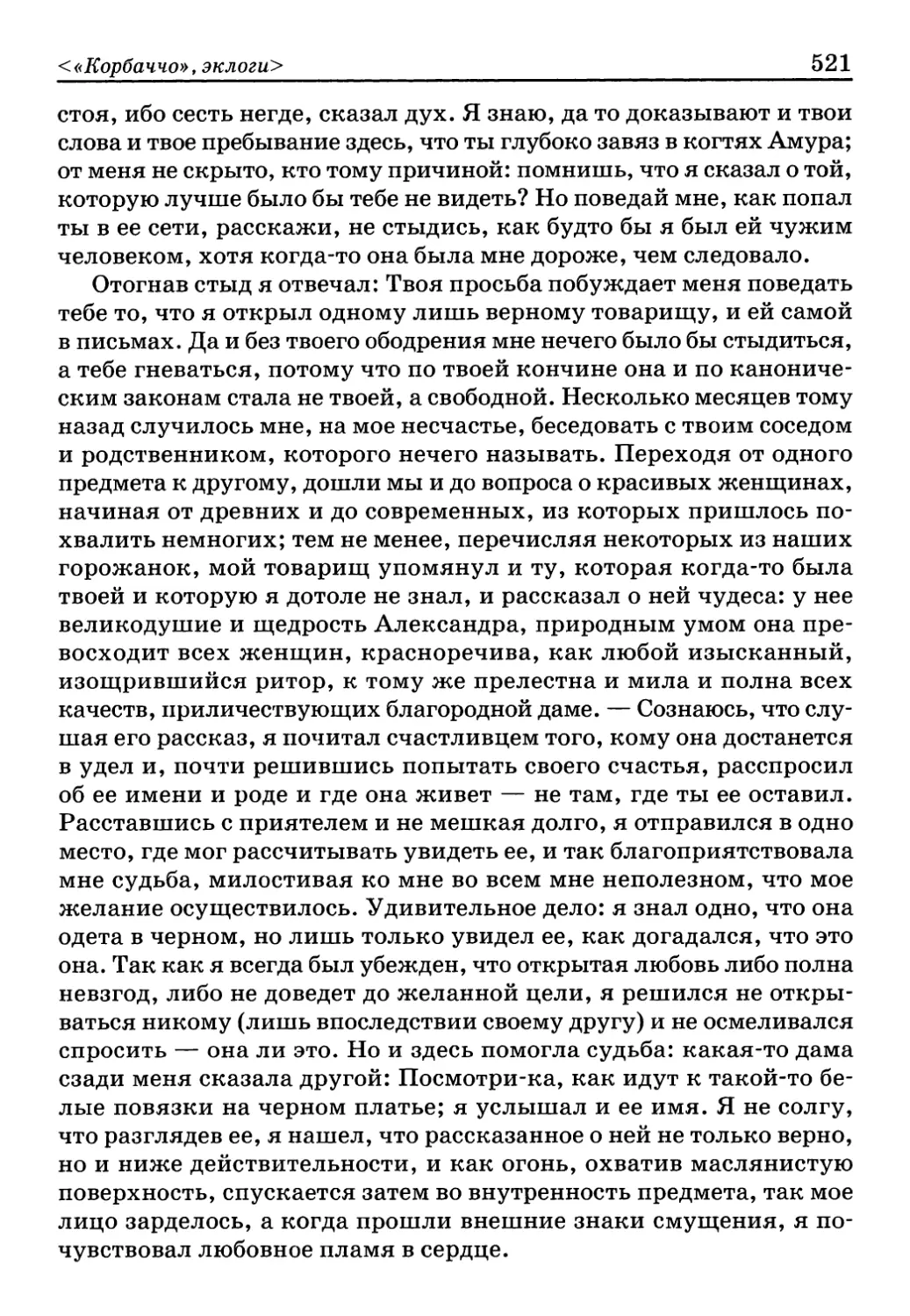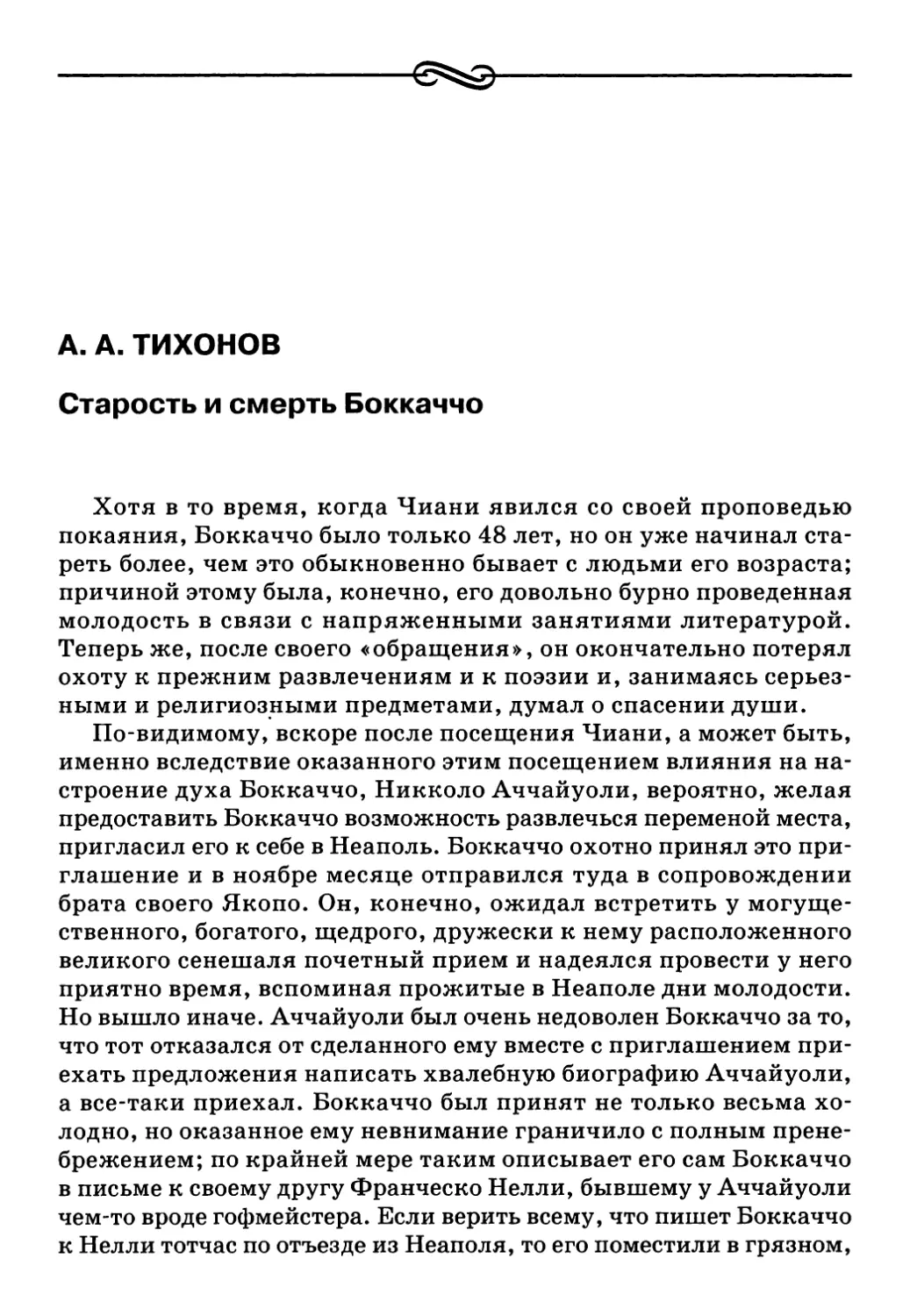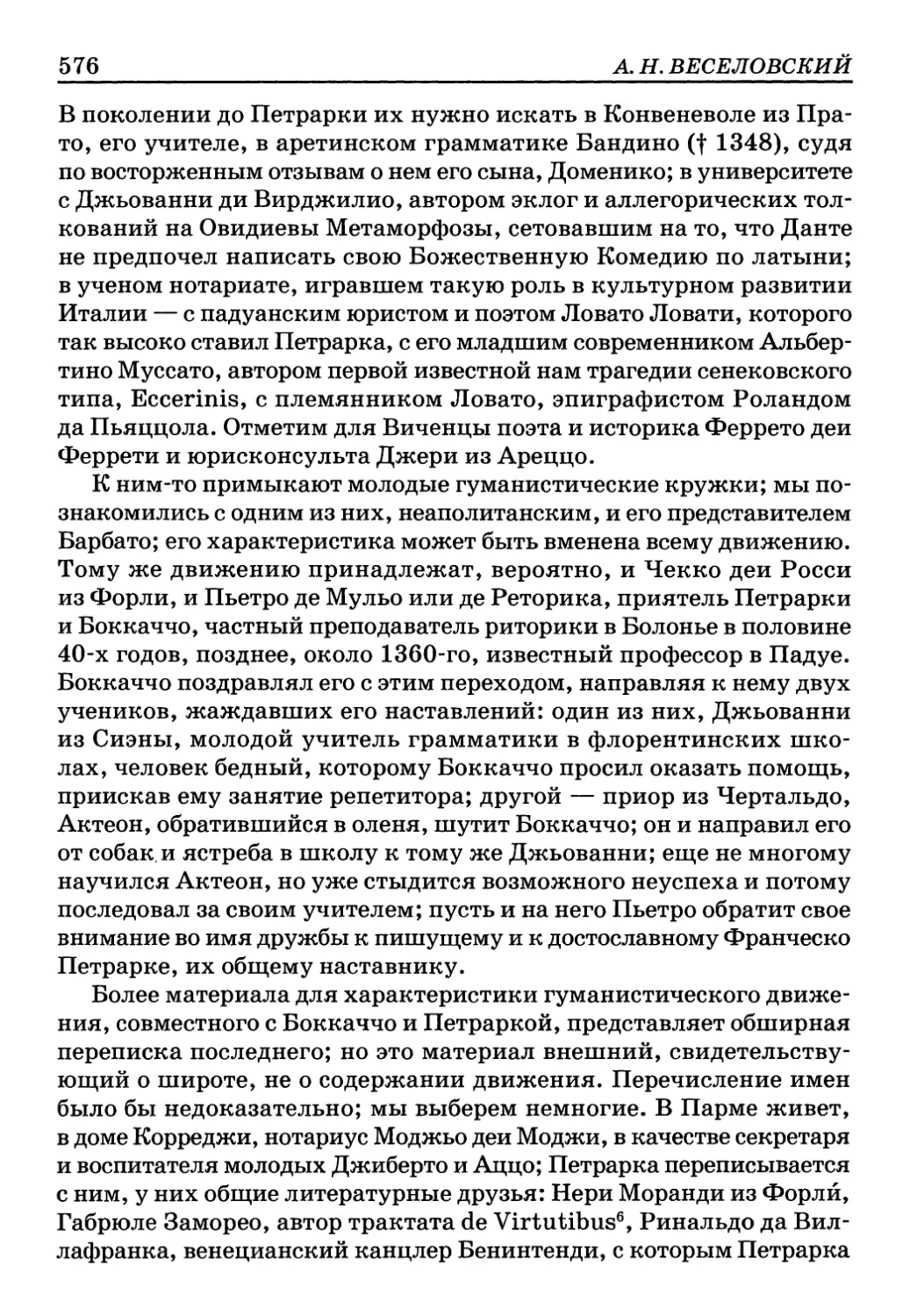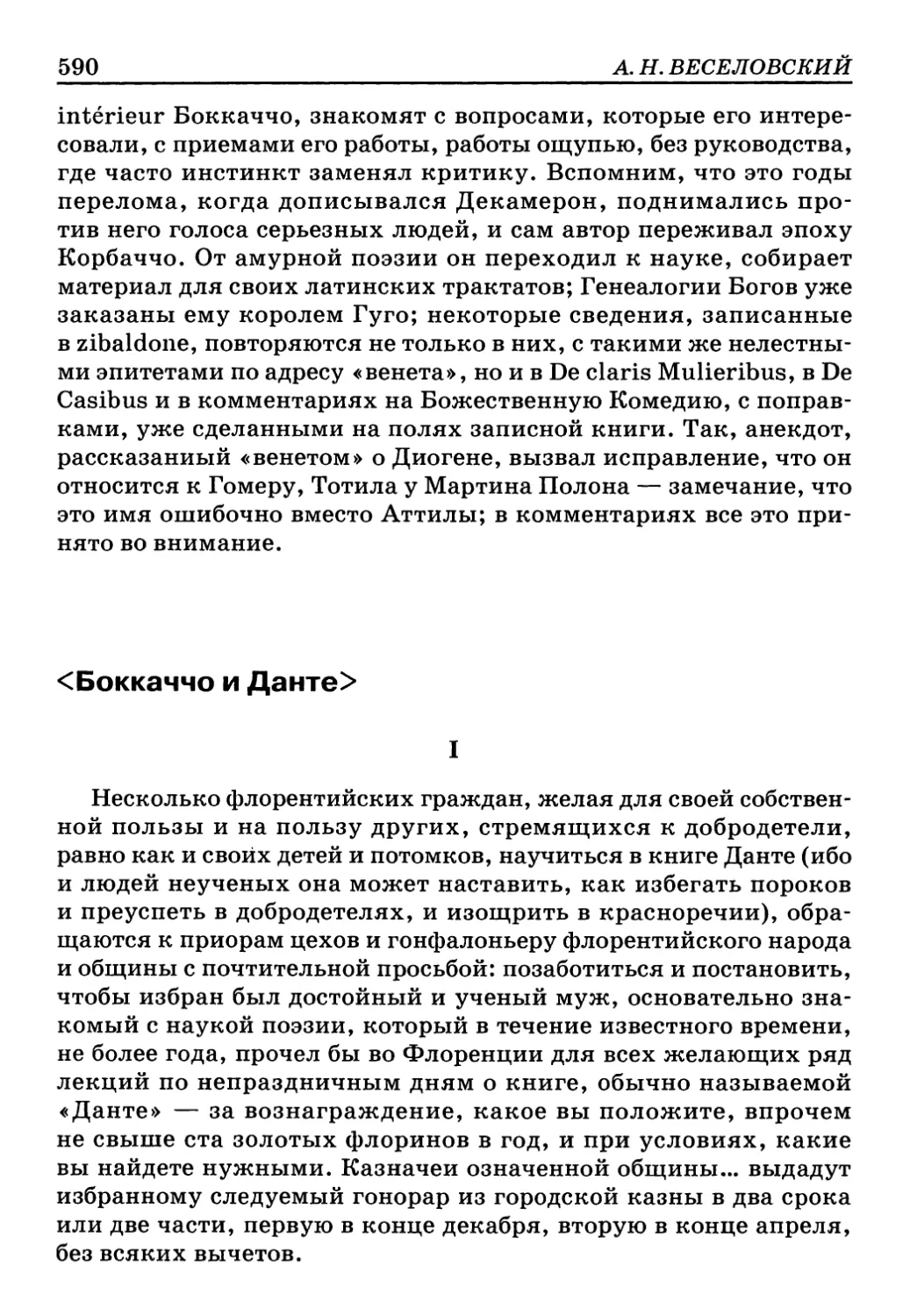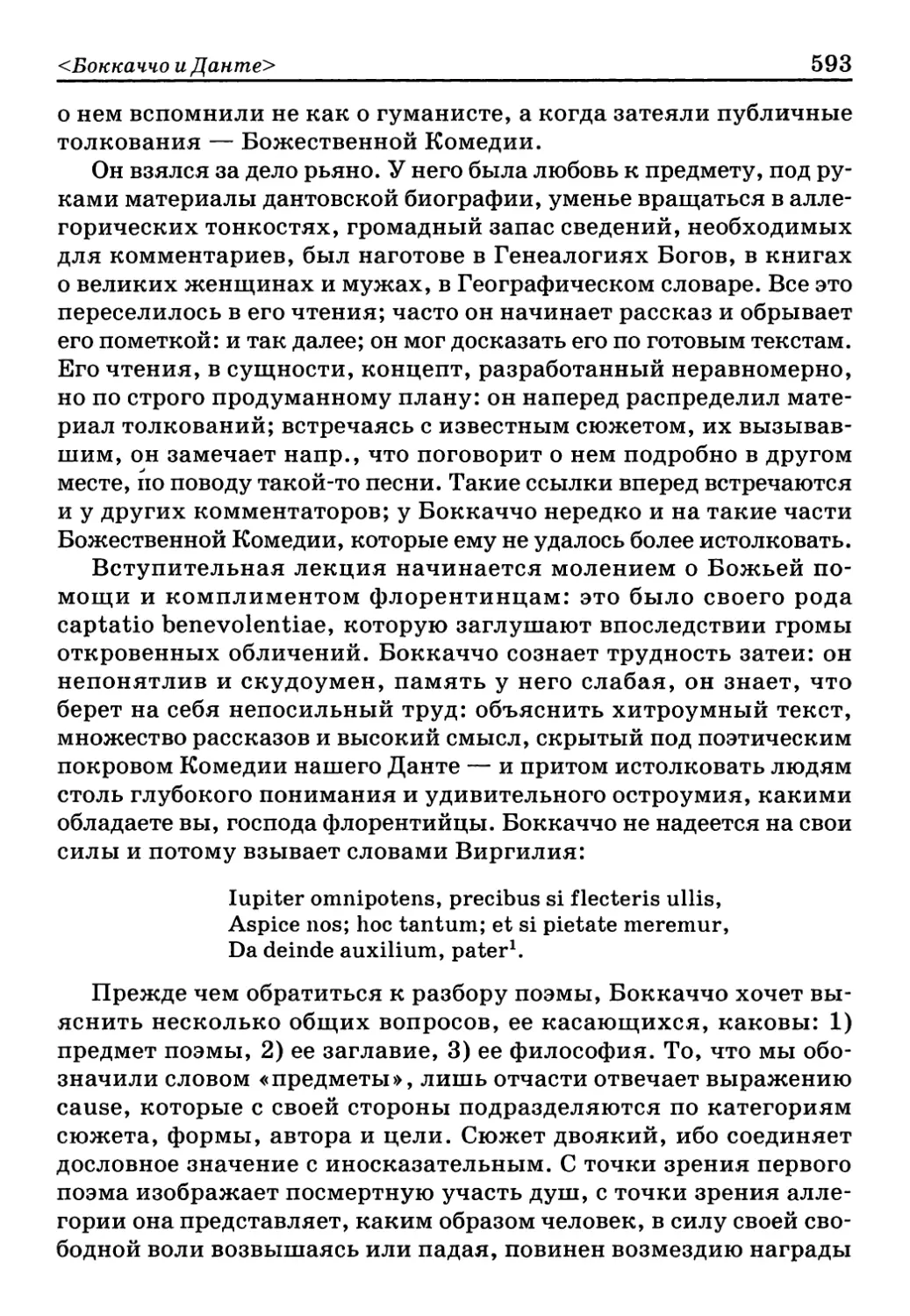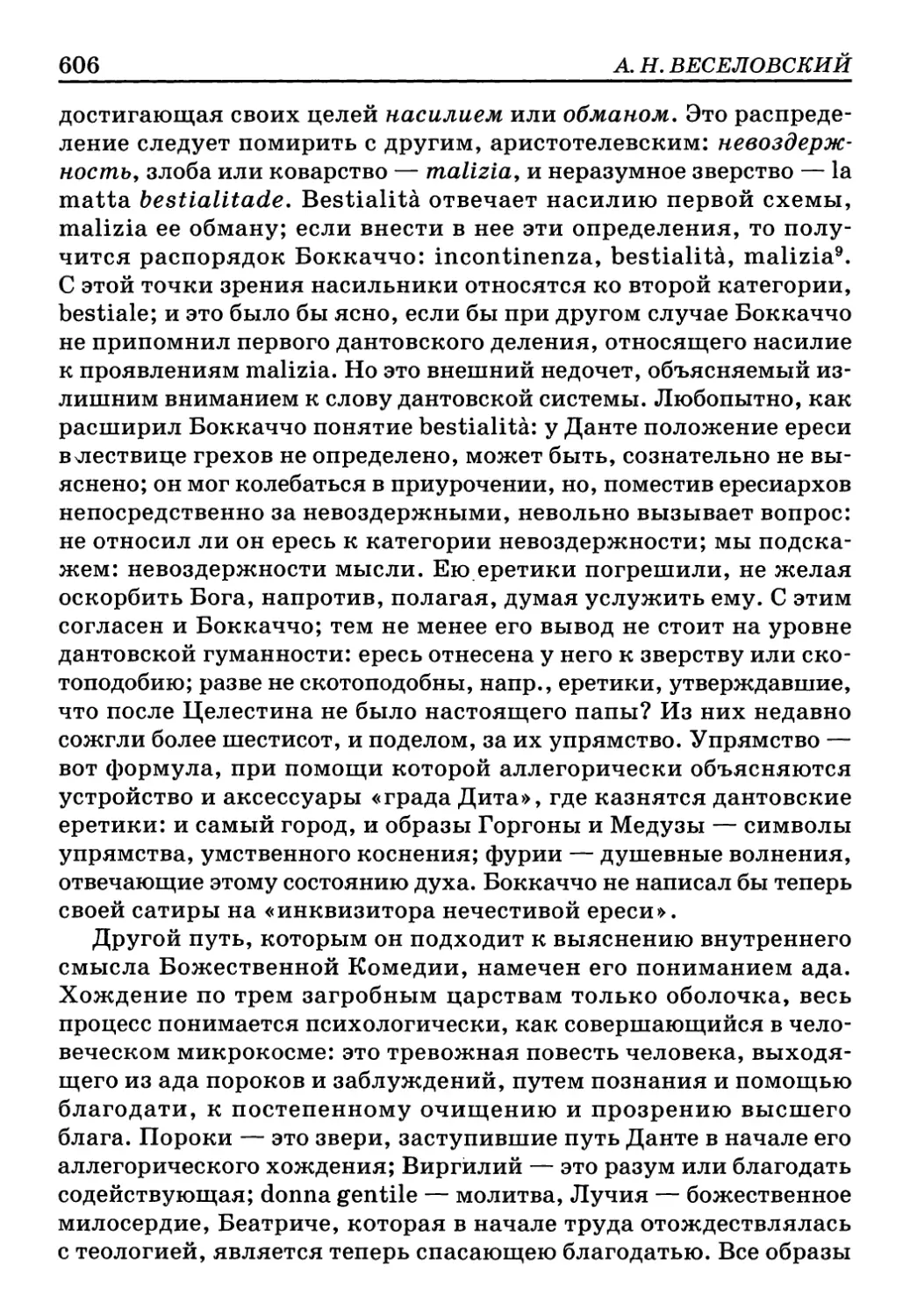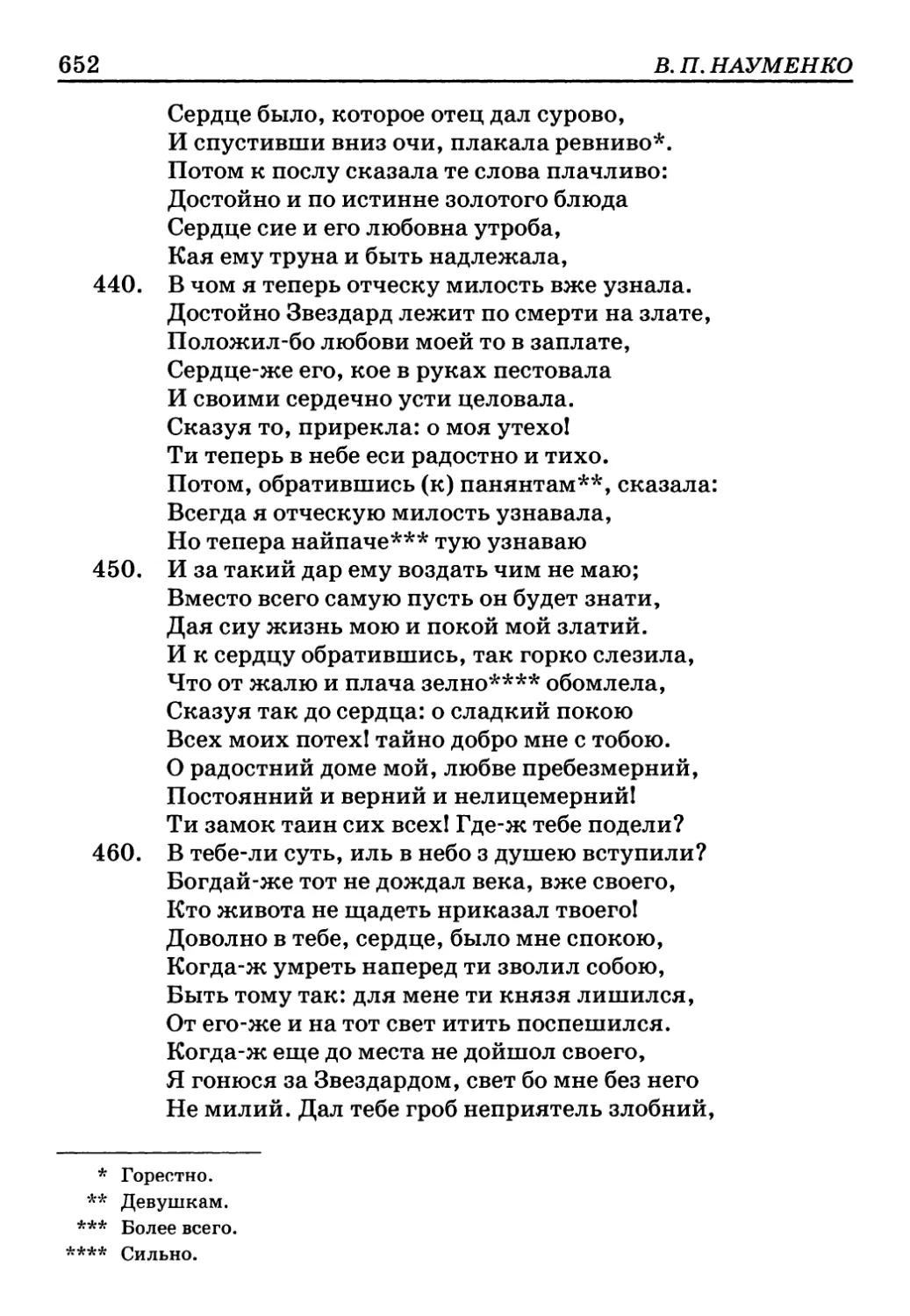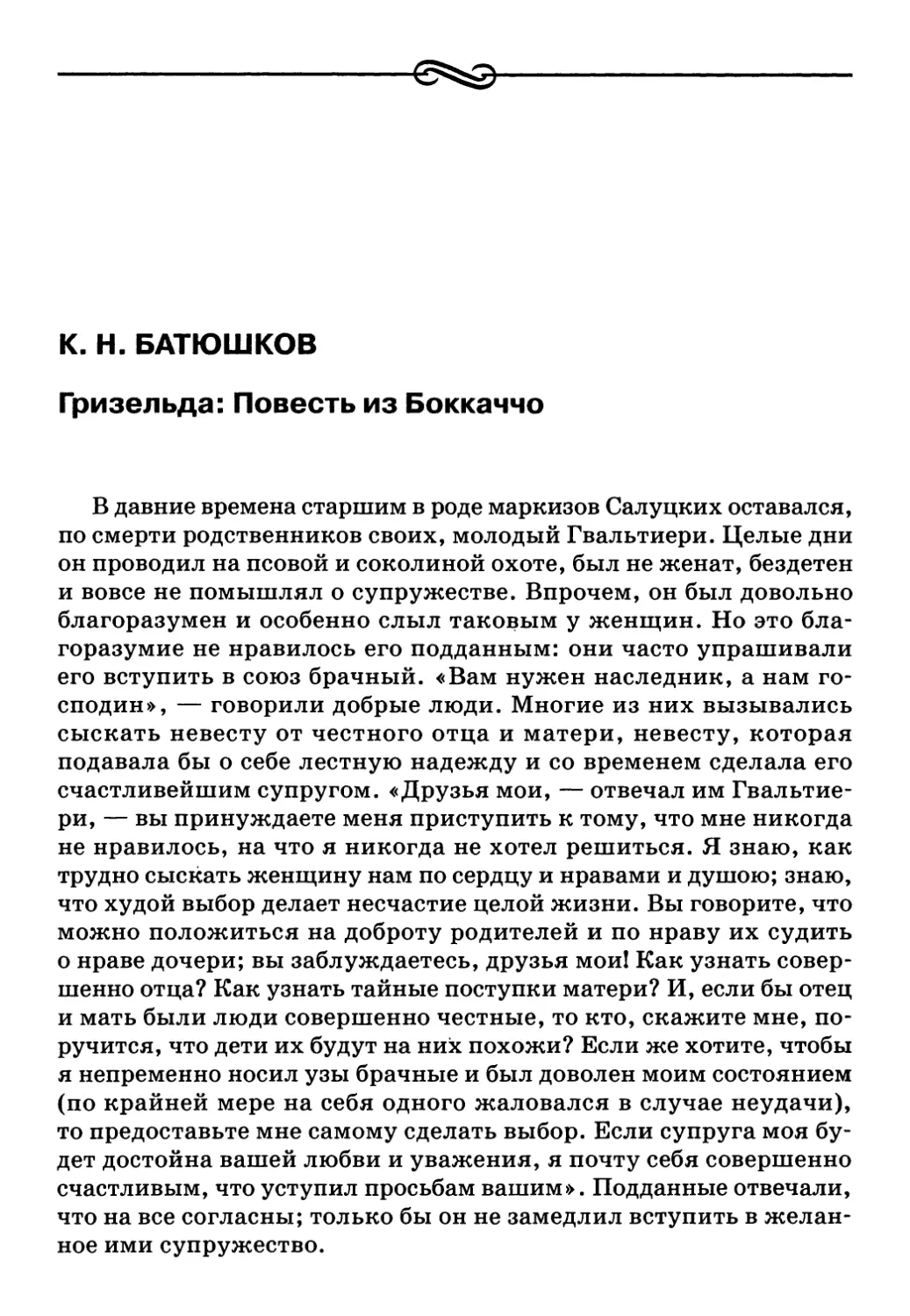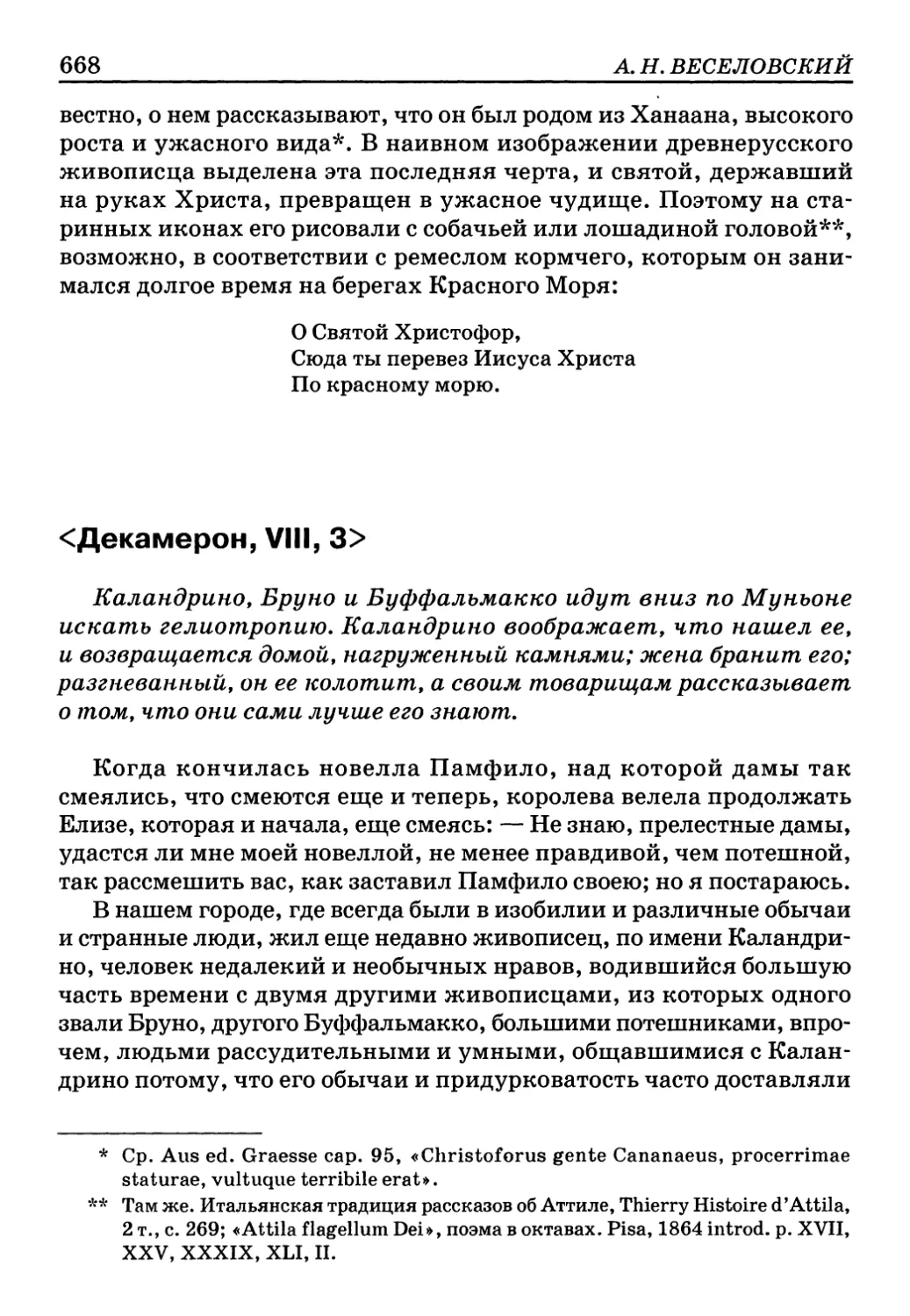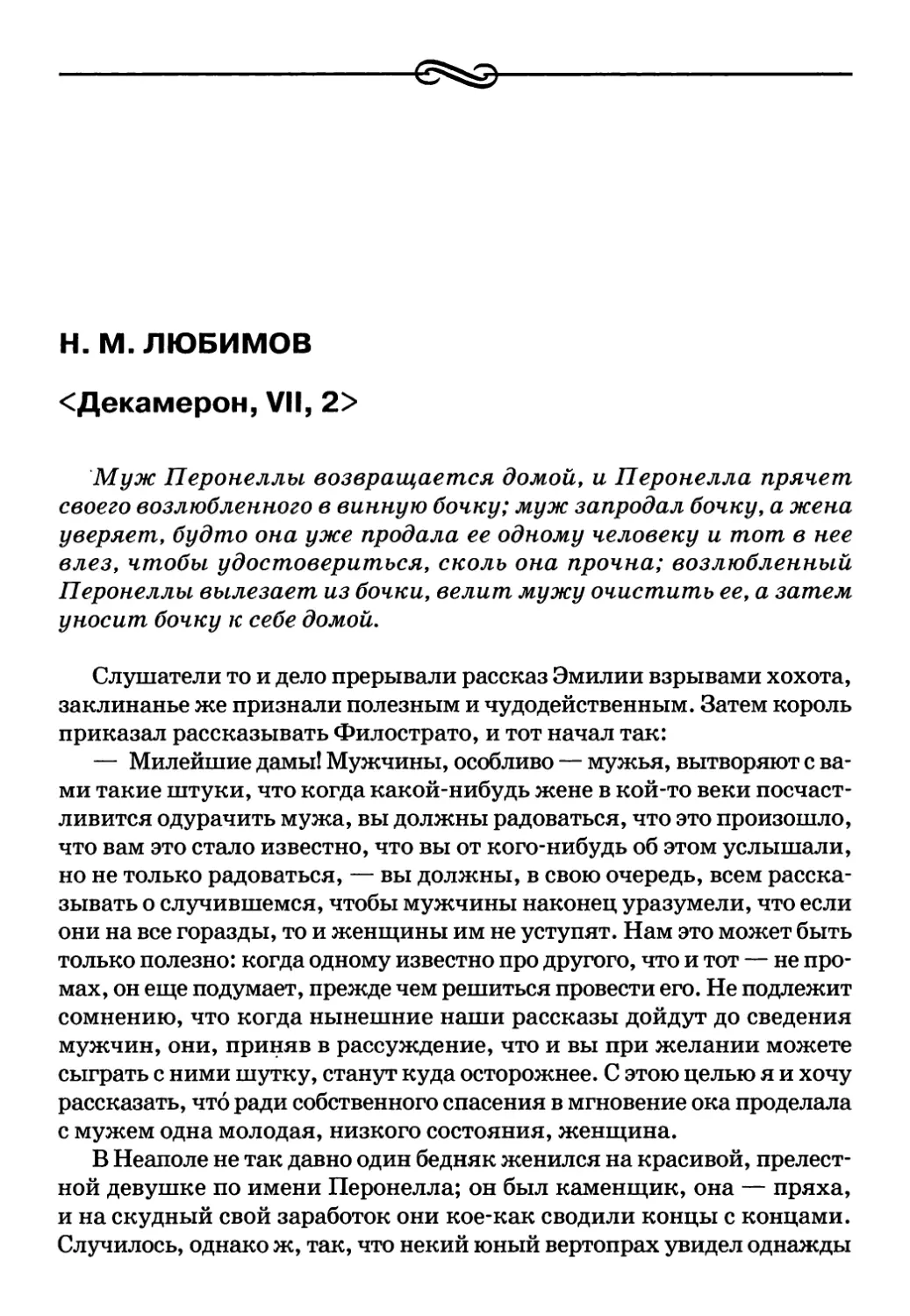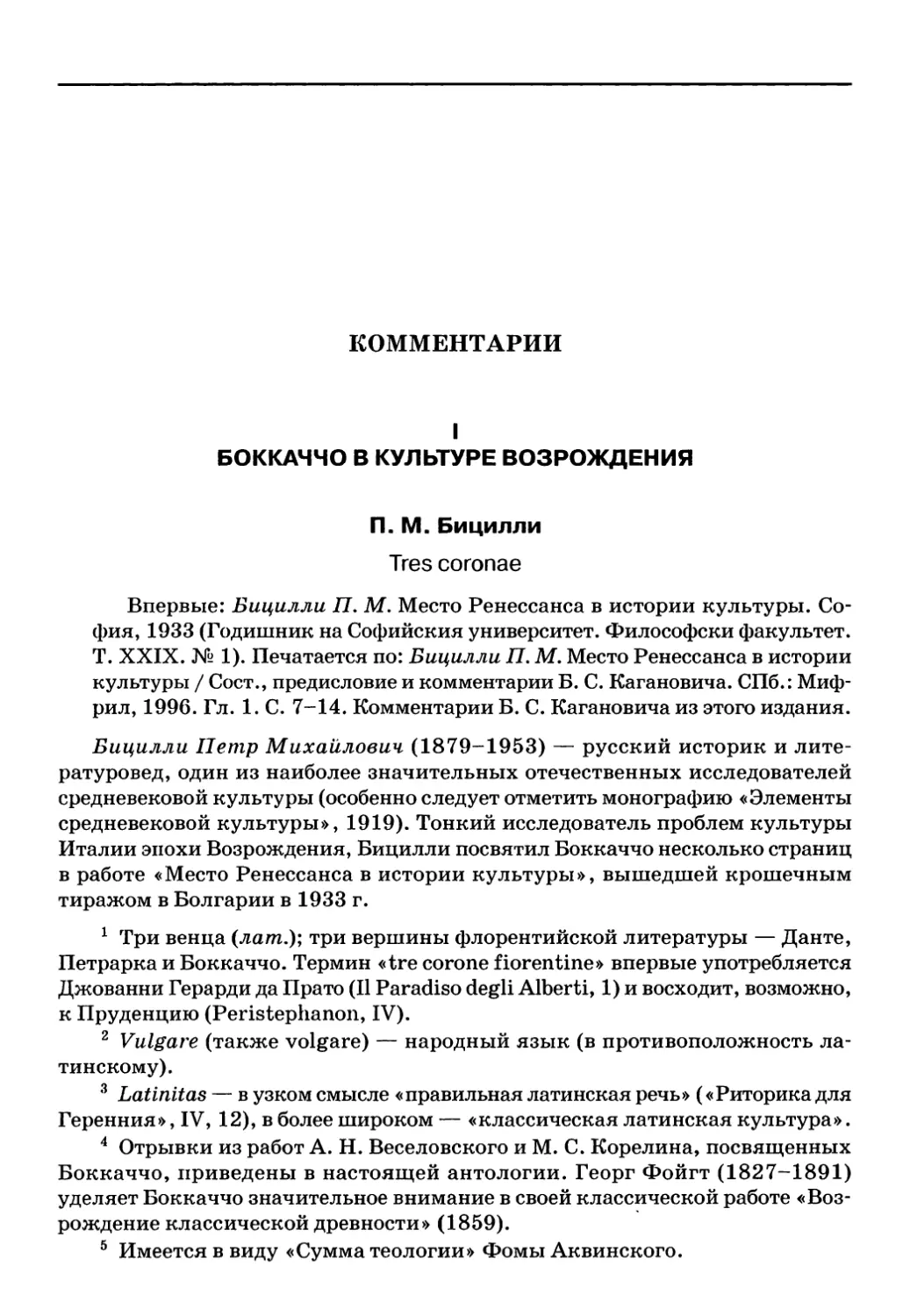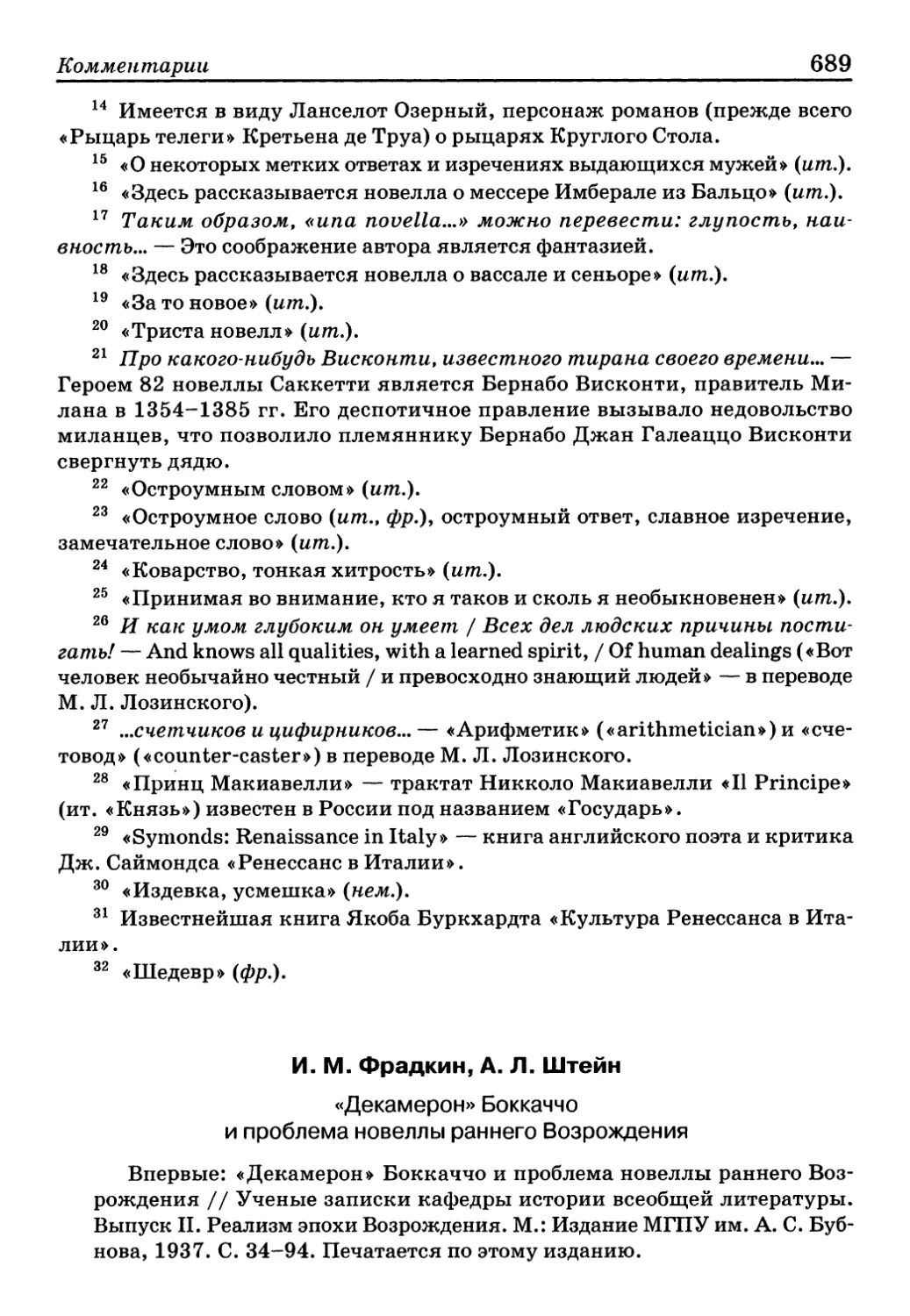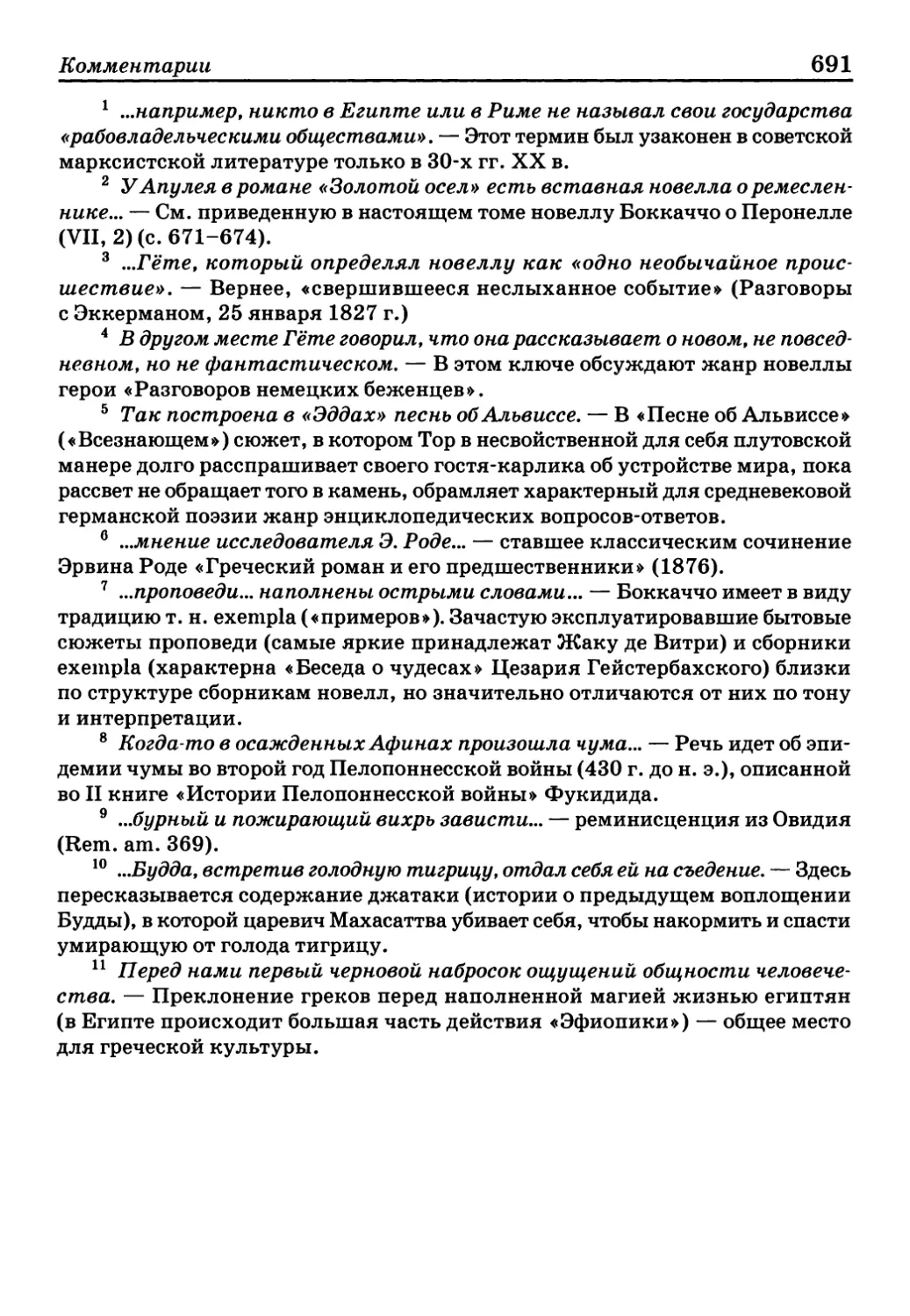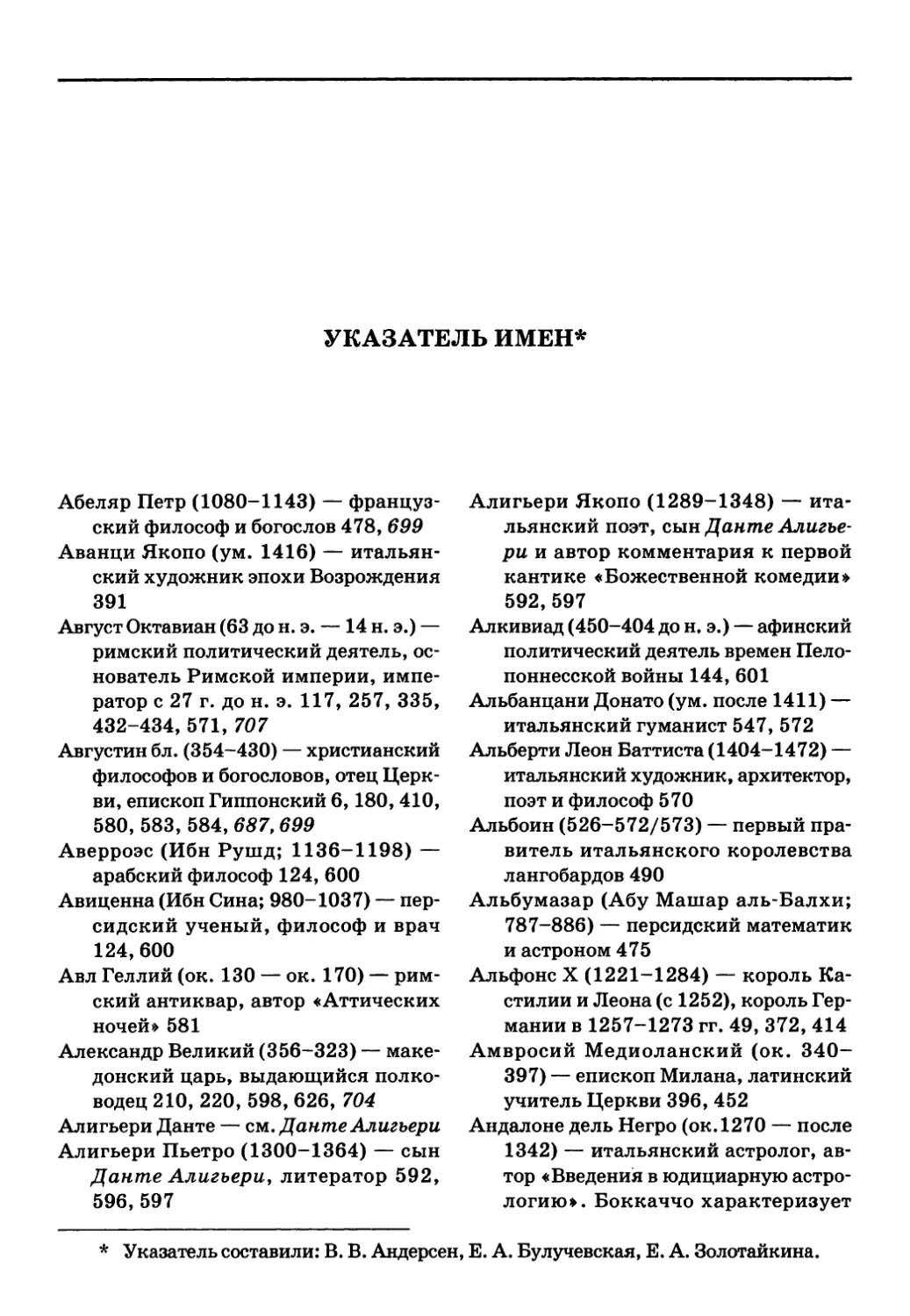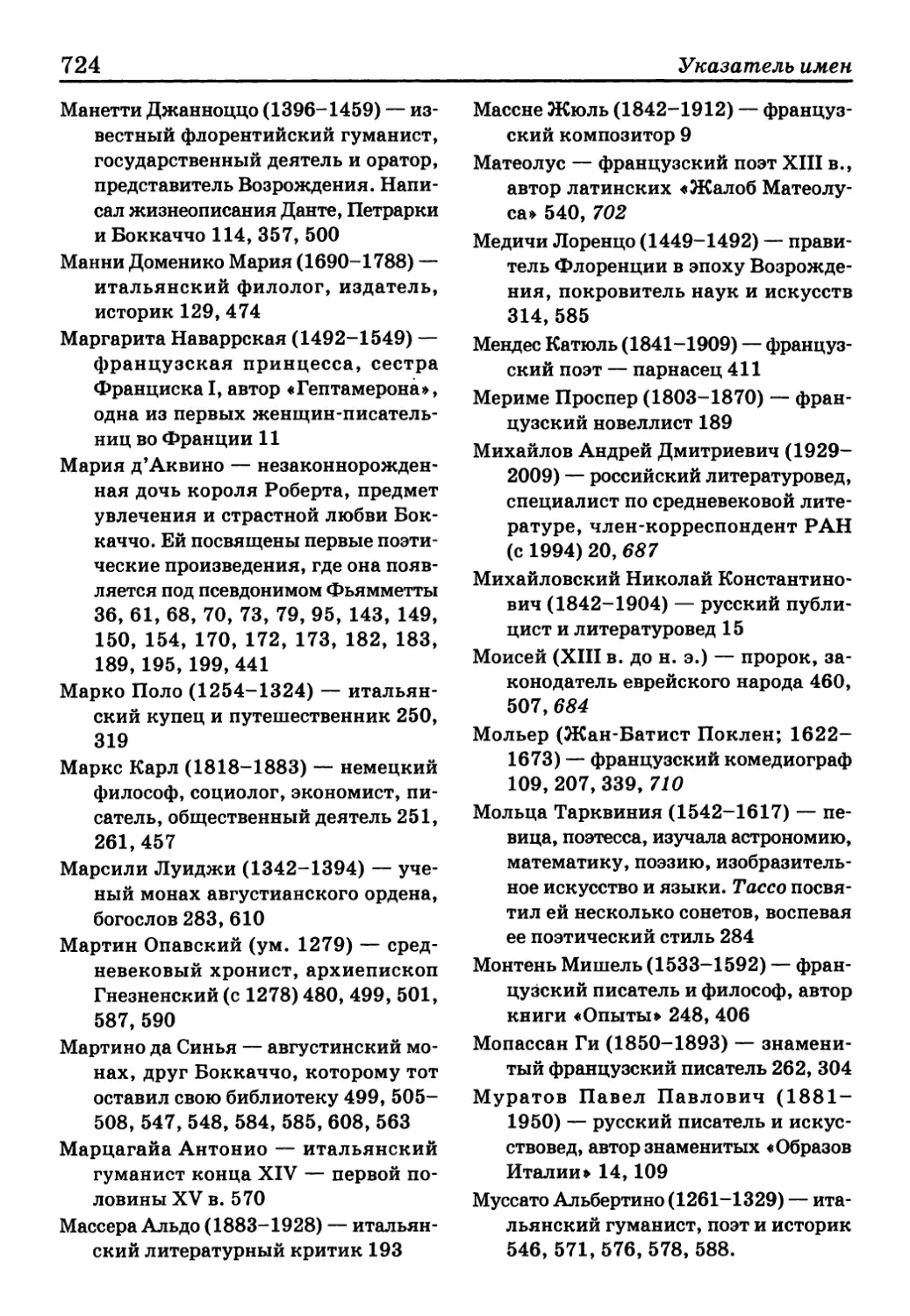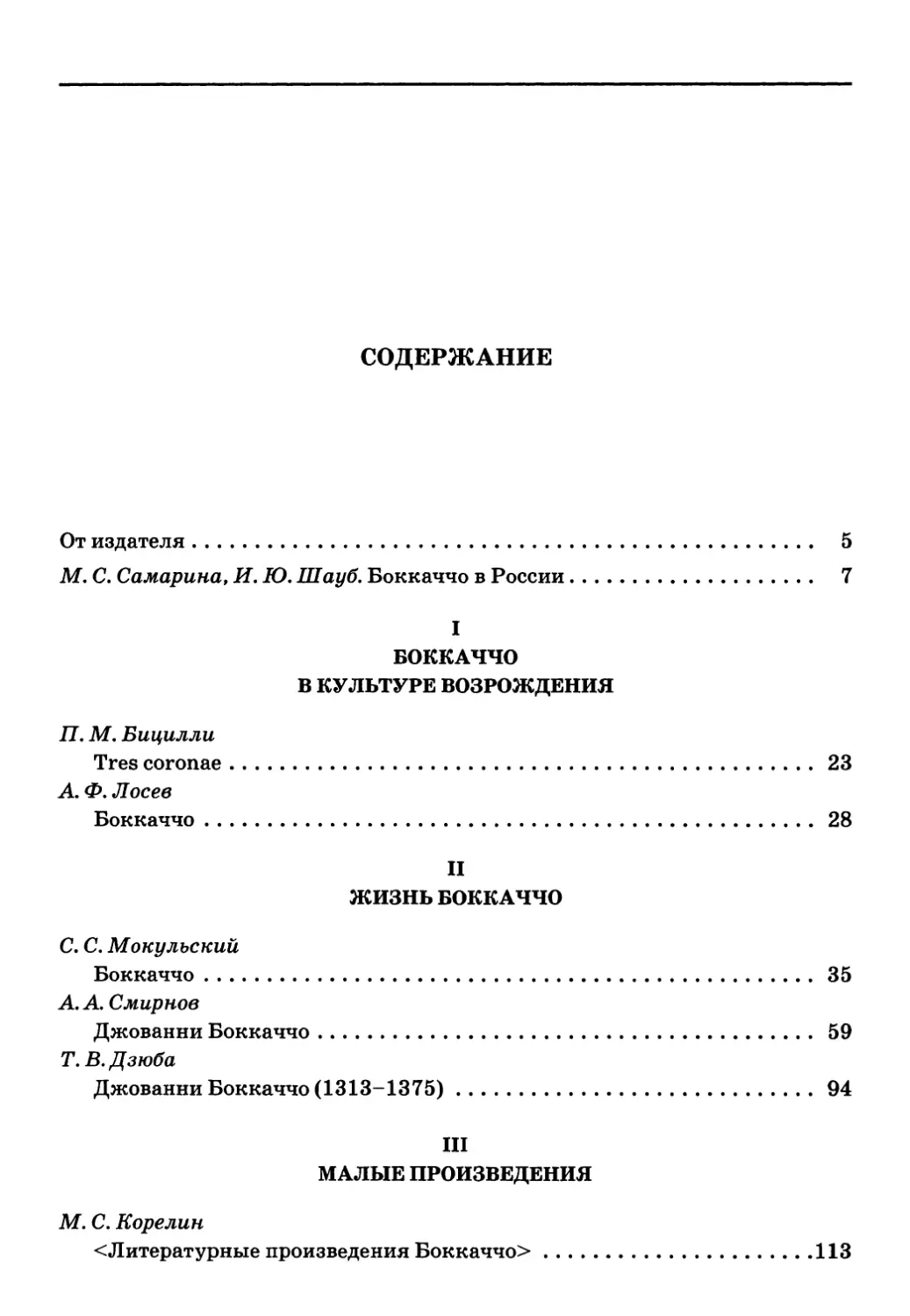Текст
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Серия «Русский Путь: pro et contra»
основана в 1993 году
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
ДЖ. БОККАЧЧО:
PRO ET CONTRA
Личность и творчество Боккаччо
в оценке отечественных исследователей
Антология
Издательство
Русской христианской гуманитарной академии
Санкт-Петербург
2015
Серия
«РУССКИЙ ПУТЬ»
Серия основана в 1993 г.
Редакционная коллегия серии:
Д. К. Богатырев (председатель), В. Е. Багно, С. А. Гончаров,
A.A.Ермичев, митрополит Иларион (Алфеев),
К. Г. Исупов (ученый секретарь), A.A. Корольков,
М.А. Маслин, Р. В. Светлов, В. Ф. Федоров, С. С. Хоружий
Ответственный редактор тома
Д. К. Богатырев
Составители:
M. С. Самарина, И. Ю. Шауб
Издано при поддержке Санкт-Петербургского общества
по распространению итальянской культуры им. Данте Алигьери
Дж. Боккаччо: pro et contra, антология / Сост., вступ. статья,
коммент. М. С. Самариной, И. Ю. Шауба; коммент. В. В. Андерсена,
И. Ю. Шауба, Ч. Пило Бойл ди Путифугари. — СПб.: Издательство
РХГА, 2015. — 735 с. — (Русский Путь).
ISBN 978-5-88812-710-0
Антология «Дж. Боккаччо: pro et contra» отображает рецепцию
личности и творчества Джованни Боккаччо в России. Интерес к создателю нового
жара бытовой новеллы в России проявляли представители практически всех
литературных школ и направлений. В книге собраны работы таких авторов,
как А. Н. Веселовский, М. С. Корелин, В. Б. Шкловский, А. Ф. Лосев и др.
Антология представляет читателю широкую картину восприятия российскими
учеными и литераторами творчества выдающегося итальянского писателя эпохи
Возрождения начиная с XIX столетия и до нашего времени.
Издание адресовано как специалистам, так и самому широкому кругу
читателей.
© М. С. Самарина, составление, вступ.
статья, 2015
© И. Ю. Шауб, составление, вступ.
статья, комментарии, 2015
© В. В. Андерсен, комментарии, 2015
© Ч. Пило Бойл ди Путифугари,
комментарии, 2015
© Русская христианская гуманитарная
академия, 2015
ISBN 978-5-88812-710-0 © «Русский Путь», название серии, 1993
^^^
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Вы держите в руках книгу серии «Русский Путь», посвященную
рецепции личности и творчества итальянского писателя и поэта Джованни
Боккаччо в России.
Позволим себе напомнить читателю замысел и историю реализации
серии «Русский Путь», более известной широкой публике по
подзаголовку «pro et contra».
Современное российское научно-образовательное пространство сложно
себе представить без антологий нашей серии, общее число которых
превысило уже семьдесят томов. В научно-педагогическом аспекте серия
представляет собой востребованный академическим сообществом метод
систематизации и распространения гуманитарного знания. Однако «Русский Путь»
нельзя оценить как сугубо научный или учебный проект. В духовном смысле
серия являет собой феномен национального самосознания, один из путей,
которым российская культура пытается осмыслить свою судьбу.
Изначальный замысел проекта состоял в стремлении представить
отечественную культуру в системе сущностных суждений о самой себе,
отражающих динамику ее развития во всей ее противоречивости. На первом
этапе развития проекта «Русский Путь» в качестве символизации
национального культуротворчества были избраны выдающиеся люди России.
«Русский Путь» открылся антологией «Николай Бердяев: pro et contra.
Личность и творчество Н. А. Бердяева в оценке русских мыслителей
и исследователей». Последующие книги были посвящены творчеству и
судьбам видных деятелей отечественной истории и культуры. Состав каждой
из них формировался как сборник исследований и воспоминаний, емких
по содержанию, оценивающих жизнь и творчество этих представителей
русской культуры со стороны других видных ее деятелей — сторонников
и продолжателей либо критиков и оппонентов. В результате перед глазами
читателя предстали своего рода «малые энциклопедии» о П. Флоренском,
6
От издателя
К. Леонтьеве, В. Розанове, Вл. Соловьеве, П. Чаадаеве, В. Белинском, Н.
Чернышевском, А. Герцене, В. Эрне, Н. Гумилеве, М. Горьком, В. Набокове,
А. Пушкине, М. Лермонтове, А. Сухово-Кобылине, А. Чехове, Н. Гоголе,
А. Ахматовой, А. Блоке, Ф. Тютчеве, А. Твардовском, Н. Заболоцком, Б.
Пастернаке, М. Салтыкове-Щедрине, Н. Карамзине и В. Ключевском и др.
РХГА удалось привлечь к сотрудничеству замечательных ученых,
деятельность которых получила поддержку Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ), придавшего качественно новый импульс развитию
проекта. «Русский Путь» расширился структурно и содержательно.
«Русский Путь» исходно замышлялся как серия книг не только о мыслителях,
но и — шире — о творцах отечественной культуры и истории. К настоящему
времени увидели свет два новых слоя антологий: о творцах российской
политической истории и государственности, в первую очередь — о российских
императорах — Петре I, Екатерине II, Павле I, Александре I, Николае I,
Александре II, Александре III, государственных деятелях — П. Столыпине
(готовятся к печати книги о Г. Жукове, И. Сталине), об ученых — М.
Ломоносове, В. Вернадском, И. Павлове.
Другой вектор расширения «Русского Пути» связан с сознанием того,
что национальные культуры формируются в более широком контексте,
испытывая воздействие со стороны творцов иных культурных миров.
Ветвь этой серии «Западные мыслители в русской культуре» была открыта
антологиями «Ницше: pro et contra» и «Шеллинг: pro et contra»,
продолжена книгами о Платоне, 6л. Августине, Н. Макиавелли, Б. Паскале,
Ж.-Ж. Руссо, Вольтере, Д. Дидро, И. Канте, Б. Спинозе. Антологии о
Сервантесе и Данте являются достойным продолжением этого ряда. Готовятся
к печати издания, посвященные Г. Гегелю, А. Бергсону, 3. Фрейду.
Новым этапом развития «Русского Пути» может стать переход от
персоналий к реалиям. Последние могут быть выражены различными
терминами — «универсалии культуры», «мифологемы-идеи», «формы
общественного сознания», «категории духовного опыта», «формы
религиозности» . Опубликованы антологии, посвященные российской рецепции
православия, католицизма, протестантизма, ислама.
Обозначенные направления могут быть дополнены созданием
расширенных (электронных) версий антологий. Поэтапное структурирование этой базы
данных может привести к формированию гипертекстовой мультимедийной
системы «Энциклопедия самосознания русской культуры». Очерченная
перспектива развития проекта является долгосрочной и требует
значительных интеллектуальных усилий и ресурсов. Поэтому РХГА приглашает
к сотрудничеству ученых, полагающих, что данный проект несет в себе как
научно-образовательную ценность, так и жизненный, духовный смысл.
^5^
■e*^
M. С. Самарина, И. Ю. Шауб
БОККАЧЧО В РОССИИ
Джованни Боккаччо (1313-1375) — третий по значению и по степени
известности «венценосец» итальянской классической литературы,
замыкающий блестящую плеяду имен Данте и Петрарки, один из создателей
итальянского литературного языка, мастер третьего, или «низкого»,
жанра, жанра бытовой новеллы. «Декамерон» — это широчайший охват
итальянской действительности, это некая «энциклопедия итальянской
жизни» ; это и своего рода эпическое отражение европейского
Ренессанса. Не обладая ни дантовской глубиной, ни психологизмом Петрарки
и не добившись такого почти мистического почитания в Италии, как его
великие учителя, Боккаччо все же остается интереснейшим автором,
в увлекательной, простой и реалистичной форме описавшим бурную
и драматическую жизнь Италии XIV века.
В новеллах Боккаччо сочетаются быт и романтика, возвышенная
любовь и кровавые убийства, библейские притчи и архаические
средиземноморские сюжеты, комизм обыденной жизни как составляющая
«смеховой культуры средневековья и Ренессанса» и трагизм сильных
страстей на фоне самой опустошительной эпидемии чумы в истории
Европы, пришедшей из азиатских степей. Дух этого «пира во время
чумы» через несколько столетий гениально описал Пушкин:
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
8
M. С. САМАРИНА, Я. Ю. ШАУБ
Все, все что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!1
Жанр «Декамерона» (1348-1351), самой знаменитой книги великого
итальянского мастера, уходит корнями не только в европейское
средневековье, но и в восточные сборники, прежде всего в арабскую « 1001 ночь».
Название «Декамерон» — греческого происхождения (Боккаччо —
писатель не только латинской, но и греческой культуры) и обозначает
«десятидневник». События книги происходят в XIV веке, во время чумы
1348 года: несколько молодых людей (юношей и девушек) из высшего
общества решают бежать из зачумленной Флоренции и уезжают на
загородную виллу, где в течение десяти дней каждый из них рассказывает
по десять историй, таким образом, получается сборник из ста новелл.
При этом сюжетная рамка у Боккаччо еще более драматична, чем
в « 1001 ночи» ; если Шахерезада пытается задержать свою казнь с
помощью рассказывания сказок, то в «Декамероне» реальная гибель от чумы
ожидает большинство населения Европы. «Страсть к жизни на пороге
у смерти» — так определил атмосферу «Декамерона» А. Н. Веселовский.
Знаменитое описание флорентийской чумы 1348 года, которым
открывается «Декамерон», настолько резко контрастирует с
жизнеутверждающей тональностью всего сборника новелл, что иногда возникает
впечатление, что эта часть книги была написана не самим Боккаччо (он
действительно основывался на некоторых античных и раннесредневе-
ковых текстах). Мрачная и торжественно трагическая, даже эпическая
тональность описания гибнущего города встраивается в общие
апокалиптические ожидания средневекового общества, ощущавшего себя
на краю бездны. Тема чумы — одна из самых зловещих и символических
тем мировой литературы, от Библии и античных авторов (Фукидид)
до Эдгара По («Маска красной смерти») и романа «Чума» А. Камю.
Но ужасы чумы не пугают рассказчиков, и ожидание смерти отступает
перед стремлением молодых людей услышать об очередных приключениях.
Новеллы «Декамерона» разнообразны и увлекательны, в них
присутствует великое множество действующих лиц. Тем не менее весь
комплекс новелл все же можно условно разделить на несколько групп.
Первая группа объединяет короткие рассказы, посвященные
какой-либо затруднительной ситуации, из которой помогает выйти мудрое
изречение или быстрый остроумный ответ. Самая знаменитая новелла
Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М.: Государственное издательство
художественной литературы, 1960. С. 378.
Воккаччо β России
9
этой группы — «Новелла о трех кольцах» (I, 3) о равенстве трех
религий (иудаизма, христианства и ислама), послужившая впоследствии
основой для драмы Лессинга «Натан мудрый».
Вторая группа — это новеллы о глубоких душевных драмах, о
самоотверженности, рыцарстве и великой любви. Это такая известнейшая новелла,
как девятая новелла пятого дня о жертвенности и верности бедного рыцаря
Федериго, убившего ради жестокой прекрасной дамы единственного
любимого сокола. Сюжет «Сокола» вызвал целый ряд интерпретаций в мировой
литературе: Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Ж. де Лафонтен, А. Теннисон,
Г. Лонгфелло. В России в 1786 году Д. Бортнянским была написана опера
на этот сюжет, и, кроме того, определенные параллели (убийство любимого
животного) прослеживаются в повести «Муму» Тургенева. Но, вероятно,
самая знаменитая новелла этой группы и всего сборника — новелла об
испытании самоотверженной Гризельды, завершающая весь сборник (X, 10).
Современный читатель сложно реагирует на полное отсутствие женской
гордости, самозабвенную покорность и глубину терпения несчастной
Гризельды перед бесконечными унижениями, которым подвергает ее
муж-тиран; тем не менее именно эта новелла считается вершиной
творчества Боккаччо; именно ее Петрарка перевел на классическую латынь
(что являлось высшей степенью его оценки); из всего сборника именно
эту новеллу (вместе с описанием флорентийской чумы) выбрал для
перевода на русский язык К. Батюшков. Сюжет «Гризельды» был обработан
Дж. Чосером, К. Гольдони, Ш. Перро, Г. Саксом, а также лег в основу
многих музыкальных произведений: опер Скарлатти, Вивальди, Визе,
Массне; а в честь Гризельды назван открытый в 1902 году астероид № 493.
Группа трагических, или «кровавых», новелл выделяется
описаниями жестоких сцен и ужасающих ситуаций, характерных для
итальянской истории этих драматических столетий. Таких новелл в сборнике
довольно много. Так, в новелле о Гисмонде (IV, 1) принц, ее жестокий
отец, убивает ее возлюбленного Гвискардо и посылает своей дочери его
сердце в золотом кубке; Гисмонда же наливает в этот кубок яд и
выпивает его. В новелле об Изабетте (IV, 5) героиня выкапывает голову своего
возлюбленного, убитого ее братьями, и кладет ее в горшок с цветком,
который ежедневно поливает своими слезами и умирает от горя, когда
жестокие братья этот цветок у нее отнимают.
Еще одна группа в увлекательной форме новелл повествует об
удивительных приключениях и превратностях судьбы. Такова новелла
о невероятных приключениях богатого купца Ландольфо Руффоло
(X, 4), о долгих скитаниях дочери Вавлонского султана Алатиэль (II, 7),
о комических приключениях в мире неаполитанских воров и куртизанок
простодушного провинциала Андреуччо (II, 5), несколько новелл о про-
10
M. С. САМАРИНА, И. Ю. ШАУБ
делках флорентийских живописцев Бруно, Буффальмакко и Нелло
(VIII, 3; VIII, 9; IX, 3; IX, 5). Невероятное нагромождение событий,
напряженная и часто сложная до запутанности фабула,
кораблекрушения, нападения пиратов, нахождение кладов, обретение потерянных
родственников — все это могло бы послужить богатейшим материалом
для современной кинематографии (знаменитая экранизация П.
Пазолини совсем не передает широты и обаяния новелл Боккаччо).
В «Декамероне» есть и так называемые «озорные» новеллы, имеющие
ярко выраженную эротическую составляющую; этих новелл немного,
но именно они на столетия снискали этому произведению репутацию
неприличной книги у широкой публики; именно из-за них «Декамерон»
в 1559 году был включен в «Индекс запрещенных книг». Эротическая
составляющая, как и тема женской неверности, здесь действительно
трактуется с истинно итальянской непринужденностью. Иногда эти новеллы
называют антиклерикальными (традиция делать из Боккаччо борца с
религиозным мракобесием — одна из любимых тем литературоведов
советского периода), поскольку в них часто действуют монахи, которые далеко
не всегда строго следуют евангельским заветам, по-своему переосмысляя
заповедь «любите друг друга» и предаваясь радостям жизни. Но насмешки
Боккаччо над жизнелюбивыми монахами всегда беззлобны и добродушны;
собственно антирелигиозный элемент в них отсутствует. Даже плутоватый
монах брат Чиполла, торгующий фальшивыми церковными реликвиями
(VI, 10), вызывает прежде всего смех, а не справедливое возмущение.
Необходимо отметить также, что герои озорных новелл говорят богатым
разговорным языком, наполненным поговорками и каламбурами,
звучавшими на улицах и площадях Флоренции XIV столетия.
«Декамерон» — самое знаменитое, но не единственное творение
великого мастера; Боккаччо — автор многих произведений, практически
забытых современным читателем. Среди них — «Филоколо», роман
в прозе на раннесредневековый сюжет, небольшая поэма «Филострато»,
сюжет которой впоследствии использовал Шекспир (через поэму Чосера)
в пьесе «Троил и Крессида», поэма на античный сюжет «Тезеида»,
пастораль «Амето», поэма в терцинах «Любовное видение» (не самое удачное
подражание Данте), поэма «Фьезоланские нимфы», вероятно, его лучшее
поэтическое произведение, а также психологическая повесть «Фьяммет-
та». Только специалистам ныне известны латинские мифологические
и исторические произведения Боккаччо, написанные под влиянием его
«наставника» и духовного отца Петрарки: «О генеалогии богов», «О
роковой участи знаменитых мужей», «О знаменитых женщинах».
Особое место среди «малых произведений» Боккаччо занимает
аллегорическая книга в дантовском стиле «Ворон» («Corbaccio»), на-
Боккаччо в России
11
писанная им в состоянии тяжелейшей душевной травмы (Боккаччо был
тогда близок к самоубийству) вследствие предательства любимой им
флорентийской дамы. «Ворон» — это жестокий, беспощадный и грубый
памфлет против женщин в худших традициях средневековой
антифеминистической литературы, отчасти напоминающий сочинения эпохи
расцвета инквизиции и охоты на ведьм. Женщина, согласно Боккаччо,
существо неполноценное прежде всего с нравственной точки зрения;
мораль и женщина как сосредоточие мирового зла — понятия
несовместимые. С написанием «Ворона» у Боккаччо начинаются первые
признаки необратимых изменений в творчестве (а также в психике),
как это часто бывает с эмоциональными личностями.
Этот болезненный творческий кризис усилился из-за личных
потерь; под влиянием монаха проповедника Чани он впал в самую
болезненную мистику, ему стали являться адские видения и призраки
Ада. Отрекшись от «Декамерона» (здесь напрашивается определенная
аналогия с творческим кризисом Н. В. Гоголя) как от книги опасной
и непристойной и отказавшись от собственного творчества, Боккаччо
ушел в науку и стал заниматься изучением и распространением
наследия своего великого предшественника Данте Алигьери, заложив
основы университетской дантологии как самой широкой области,
от лингвистики до культурологи. Именно Боккаччо, автор «Жизни
Данте» и комментария к первым семнадцати песням «Божественной
комедии», возглавил кафедру дантологии во Флоренции в 1373 году,
создав традицию Дантовских чтений, которая жива до сих пор, и стал,
таким образом, организатором филологической науки.
Влияние «Декамерона» на последующий литературный процесс
переоценить трудно. Многочисленные последователи Боккаччо с разной
степенью успеха развивали созданный им жанр бытовой новеллы, идя
по стопам великого мастера. Так, Франко Саккетти (XIV век) в своем
подражании Боккаччо пошел по пути довольно нехитрого натурализма
и наивного комизма; Мазуччо Гвардати (XV век) усилил драматический
элемент, положив начало расцвету «эстетики ужасного», в
следующем — XVI столетии еще большее развитие получило общее увлечение
новеллистов изображением эротики и кровавых сцен; так, новеллы
Маттео Банделло (каждую из которых можно было бы назвать
маленьким романом) по этой причине были даже запрещены инквизицией.
Традиции итальянской ренессансной новеллистики стали
неотъемлемой частью европейской литературы. Во Франции это, прежде всего,
сборник «Гептамерон» Маргариты Наваррской, созданный в подражание
«Декамерону» и повествующий о галантных приключениях королевского
двора Франциска I. В Испании это «Назидательные новеллы» Сервантеса,
12
M, С. САМАРИНА, И. Ю. ШАУБ
образцом для которых послужили новеллы М. Банделло, и где на первый
план выходит морально-этическая проблематика. В Англии несомненное
влияние отчетливо прослеживается практически во всем творчестве Дж.
Чосера (XIV век). И, наконец, многие сюжеты пьес Шекспира также
заимствованы у итальянских новеллистов: «Ромео и Джулетта» (Банделло),
«Венецианский купец» (Дж. Фьорентино), «Много шуму из ничего»
(Банделло), «Двенадцатая ночь» (Банделло), «Все хорошо, что хорошо
кончается» и «Цимбеллин» (Боккаччо), «Отелло» и «Мера за меру» (Дж. Чинтио).
Наследие Боккаччо подводит и некий итог блестящему периоду
итальянской культуры. Со смертью великого мастера закончился
золотой век литературы Италии. Ариосто и Тассо уже сознавали себя всего
лишь учениками великих венценосцев — Данте, Петрарки и Боккаччо.
Созидательные силы итальянской нации, уступив первенство в
литературном развитии другим странам — Франции, Германии, Англии,
проявят себя в других областях — сначала в живописи, затем в музыке.
Не будем забывать также, что самые значительные произведения
итальянской литературы — «Божественная комедия» Данте, сонеты
к Лауре Петрарки и, конечно, «Декамерон» Боккаччо были написаны
в особое для Европы время. Кроме чумы, на две трети опустошившей
Европу, западная цивилизация стояла еще перед одной смертельной
угрозой — татаро-монгольского нашествия. Татарские кочевники,
пройдя огромные пространства, остановились буквально на пороге Европы.
От дальнейшего продвижения на запад ее заслоняла Россия, на
просторах которой иссякла пассионарность непобедимых завоевателей. На год
позже Боккаччо, в 1314 году, родился великий подвижник и собиратель
земель русских Сергий Радонежский, в 1380 году (всего через пять лет
после смерти автора «Декамерона») благословлявший русское воинство
перед битвой на Куликовом иоле. Европейская цивилизация, таким
образом, не была сметена с лица земли натиском с востока и, напротив,
получила возможность развиваться и создавать величайшие
произведения искусства.
•к 'к "к
Имя Боккаччо входит в культурный обиход России только в
первой половине XIX века с публикациями переводов из «Декамерона»,
выполненных замечательным поэтом К. Н. Батюшковым2. Однако
2 Моровая зараза во Флоренции. Пер. К. Батюшкова // Труды вольного
общества любителей российской словесности. Ч. V. СПб., 1819. С. 39-50; Гризель-
да. Повесть из Боккацьо // Батюшков К. Н. Сочинения. Ч. I. СПб., 1834.
С. 251-267.
Боккаччо в России
13
ещё в XVII веке были известны некоторые из новелл Боккаччо в
старинном русском переводе3; русский читатель XVIII столетия мог
познакомиться с творчеством классика итальянской литературы, когда
в 1764 году вышел в свет «Ивана Бокация, славного флорентийца.
Сокол. Размышление»4 в переводе В. Санковского.
Однако подлинный интерес к Боккаччо и его произведениям в России
возникает лишь во второй половине XIX века, когда появляется ряд
изданий отдельных новелл «Декамерона» в различных переводах (в
основном весьма посредственных)5, большая научно-популярная статья,
впервые познакомившая русского читателя не только с творчеством
итальянского гуманиста, но и с ренессансной новеллистикой Италии6,
небольшая книжка А. А. Тихонова в широко известной многотиражной
биографической серии Павленко7, серьёзные научные исследования,
среди которых первостепенное значение имеет фундаментальный труд
крупнейшего отечественного специалиста по истории романских
литератур А. Н. Веселовского8.
См.: ПыпинА. 1) Несколько новелл Боккаччьо в русской литературе XVII-
го века // Отечественные записки. 1857. № 2, февр. С. 458-465; 2) Очерк
литературной истории старинных повестей и сказок русских. СПб., 1857.
С.276-278.
См. также: Науменко В. Новелла Боккачьо в южно-русском стихотворном
пересказе XVII-XVIII столетия // Киевская старина. 1885. Т. XII. № 6, июнь.
С.273-306.
Доброе намерение. М., 1764. № 3, март. С. 99-111; см. также: Ивана Бокация,
славного флорентийца. Юпитер, звери и человек / Пер. В. Санковского //
Доброе намерение. М., 1764. № 4, апр. С. 154-156.
В 1780 г. выходит в высшей степени курьёзное сочинение: Повесть из Бока-
ца // Б-ка немецких романов / Пер. В. Левшина. Ч. II. Романы рыцарские.
М.,1780. С. 302-310.
Декамерон. Сказки / Пер. Н. И. Шульгина // Живописное обозрение. 1878.
Т. I—II, III, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 33; Новеллы I и II дня.
Декамерон / Пер. с итал. Вып. 1. Орел: «Орловский вестник», 1881. (Для
легкого чтения. № 5); Вступление и новеллы I—III. Декамерон. Отрывки //
Боккаччьо. Изд. В. В. Чуйко. СПб., 1882. С. 11-145. (Европейские писатели
и мыслители. II).
АваА. Итальянская новелла и «Декамерон». Историко-литературные
очерки // Вестник Европы. 1880. № 2, февр. С. 558-639; № 3, март. С. 197-250;
№ 4, апрель. С. 575-619.
Тихонов A.A. Д. Боккаччо. Его жизнь и литературная деятельность.
Биографический очерк. СПб.: Общественная польза, 1891. (Жизнь замечательных
людей. Биографическая 6-каФ. Павленкова. Вып. 18). Рец.: Русская мысль.
1891. Кн. VIII, авг. С. 352.
ВеселовскийА~Н. 1) Боккаччо, его среда и сверстники. Т. Ι-Π. СПб. : Академия
наук, 1893-1894. (Рец.: Шепелевич Л. Боккаччо в исследовании русского ученого //
14
M. С. САМАРИНА, И. Ю. ШАУБ
Первый полный перевод «Декамерона» также осуществил А. Н. Ве-
селовский9. Его труд стал классическим10. Тем не менее, уже вскоре
после появления этого перевода, наряду с его переизданиями, стали
выходить и другие переводы наиболее популярного произведения
Боккаччо11. Собственный перевод ряда новелл итальянского классика
предпринял замечательный искусствовед П. П. Муратов12, отмечая
мастерство Боккаччо-новеллиста.
Северный вестник. 1897. № 2, февр. С. 28-44); 2) Собрание сочинений. T. V-VL
Пг.: Академия наук, 1915-1919; 3) Взгляд на эпоху Возрождения в Италии //
Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. 243-252; 4) Король-книгочий //
Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. IV. Вып. 1. СПб., 1909. С. 404-426; 5) Противоречия
итальянского Возрождения// Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. IV. Вып. 1. СПб., 1909.
С. 309-350. О Боккаччо см.: с. 325-332 (То же // Веселовский А. Н. Избранные
статьи. Л., 1939. С. 263-283. О Боккаччо см.: с. 261-263, 265-270); 6)
Художественные и этические задачи «Декамерона» // Веселовский А. Н. Избранные статьи.
Л., 1939. С. 284-358; 7) Боккаччьо о мифологии и поэзии // Журнал министерства
народного просвещения. 1893. № 3, март. С. 1-59; № 4, апр. С. 269-297; 8) Боккаччо
и Овидий // Журнал министерства народного просвещения. 1892. Ч. СССХХХ.
№ 4, апр. С. 370-381 (Тоже // Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 4. Вып. 1. СПб., 1909.
С. 426-440); 9) Malizia. (Заметки к биографии Боккаччьо) // Под знаменем
науки. Юбилейный сборник в честь Н. И. Стороженко. М., 1902. С. 670-672 (То же.
Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. IV. Вып. I. СПб., 1909. С. 479-482); 10) Учители
Боккаччио. Очерк // Вестник Европы. 1891, ноябрь. С. 167-184.
Веселовский опубликовал и письма Боккаччо; см.: Joannis Boccaccii ad
Maghinardum de Cavalcantibus epistolae très. Три письма Джованни Боккаччо
к Майнардо де'Кавальканти. 1375-1852. 21 дек. СПб.: Тип. В. Демакова, 1876.
(Предисловие А. Н. Веселовского. С. 1-9); Тоже // Записки
историко-филологического ф-та Императорского Санкт-Петербургского университета. Ч. П. СПб., 1877.
С. 1-24. (Предисловие А. Н. Веселовского. С. 1-9) (То же // Веселовский А. Н.
Собр. соч. Т. 4. Вып. I. (Серия П. Т. 2. Вып. 1. Италия и Возрождение]. СПб., 1909.
С. 140-163).
Декамерон / Пер. А. Веселовского с этюдом о Боккаччьо. Т. 1-2. М.: Кушнерев,
1891-1892; То же. С предисл. ко второму испр. изд., 1896; То же. Вступит,
статья В. Ф. Шишмарева. Предисл. П. С. Когана. Л.: Academia, 1927. Т. 2;
То же. 1929. Т. 2. (Сокровища мировой литературы).
Будагов P.A. Академик А. Н. Веселовский как переводчик Боккаччо (К
проблеме художественного перевода) // Известия Академии наук СССР.
Отделение литературы и языка. Т. 17. Вып. 4. 1958. С. 343-352.
Боккаччьо Д. Декамерон. Сто новелл / Пер. под ред. Г. А. Чарского. СПб., 1904.
Предисловие: Бриллиант С. М. Несколько слов о жизни и деятельности Джио-
ванни Боккачио. С. V-XII.
Муратов П. П. Новеллы итальянского Возрождения. — Новеллисты
Треченто // Новеллы итальянского Возрождения, избранные и переведенные
П. Муратовым. Ч. 1-Й. М., 1912. С. 1-29. П. Муратовым (на с. 73-128)
переведены: Вступление к «Декамерону», новеллы: 5-я II дня, 6-я и 8-я V дня;
9-я и 10-я VI дня.
Боккаччо в России
15
Наряду с Веселовским необходимо упомянуть талантливого
исследователя творчества Боккаччо М. С. Корелина13. Можно вспомнить также
и почитателя Платона, киевского философа А. Н. Гилярова14, но только
для того, чтобы отметить, что его рассуждения о Боккаччо устарели.
Естественно, что Боккаччо занимал достойное место в
многочисленных изданиях учебного характера, посвященных истории итальянской
литературы в рамках литературы мировой, которые выходили в России
в конце XIX — начале XX века15. Известный своими курсами
итальянского языка и литературы профессор нескольких российских
университетов И. И. Гливенко написал сравнительно небольшую, но основательную
статью о Боккаччо в энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона16.
Следует отметить, что два властителя русских дум второй половины
XIX века, Л. Н. Толстой и Н. К. Михайловский, высказали своё мнение
о классике итальянской литературы: первый походя и крайне
негативно17, второй — весьма пространно и гораздо более позитивно18.
Корелин М. С. 1) Очерки итальянского Возрождения. М.: Кушнерев, 1896.
(Б-ка «Русской мысли»). О Боккаччо см: с. 166-175; 2) Ранний итальянский
гуманизм и его историография. Критическое исследование. Т. III. Джиованни
Бокаччио, его критики и биографы. 2-е изд. СПб., 1913 (То же. 1914); Ка-
реев Н. Итальянский гуманизм и новый его исследователь (М. Корелин) //
Вестник Европы. 1893. Т. V, окт. Кн. 12. С. 541-565. Об Исследовании М. Ко-
релиным творчества Боккаччо см.: с. 541-550.
ГиляровА. Н. Старые поэты в новых русских переводах. Данте, Боккаччьо,
Ариост, Сервантес, Байрон. Критический очерк с точки зрения учения о
поэзии как выражении вселенского логоса. Киев, 1895.
Болдаков И. М. Итальянская литература в средние века // Всеобщая история
литературы / Под ред. В. Корша и А. Кирпичникова. Т. II: История
средневековой литературы. СПб., 1885. С. 769-860. О Боккаччо см.: с. 843-860. Вейн-
берг П. И. Лекции всеобщей литературы. СПб., 1888. Литограф, изд. О Боккаччо
см.: с. 219-241; Смирнов М. Боккаччио и Чосер как предшественники
Возрождения // Книга для чтения по истории средних веков / Под ред. В. Виноградова.
Изд. 2. Вып. 4. М.: Кушнерев, 1903. С. 153-220; Де-ла-Барт Ф. Джьованни
Боккаччьо // Де-ла-Барт Ф. Беседы по истории всеобщей литературы. Ч. 1.
Средние века и Возрождение. 2-е изд. доп. и перераб. М., 1914. С. 207-218;
Тиандер К. Боккаччьо // Тиандер К. Общий курс истории античных и западных
литератур. Вып. II. Возрождение. Пг., 1915. С. 67-75.
Гливенко И. И. Боккаччо. Энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона.
Т. 2. С. 362-365.
Толстой Л. Н. Что такое искусство // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т.
М., 1983. Т. 15. С. 41-221. О Боккаччо см.: с. 102. См. также:
Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. М., 1995. С. 55, 80, 144, 354.
Михайловский Н. К. Случайные заметки и письма о разных разностях.
XXIX. Декамерон // Михайловский Н. К. Сочинения. Т. VI. СПб., 1897.
С.1007-1025.
16
M. С. САМАРИНА, Я. Ю. ШАУБ
Несмотря на широкую читательскую популярность Боккаччо,
в особенности «Декамерона» (о чём красноречиво свидетельствуют
многочисленные переводы и пересказы книги, вплоть до «Детского
«Декамерона»19), этот писатель, в отличие от своего великого
предшественника и кумира Данте20, не стал объектом пристального внимания
представителей духовной элиты Серебряного века. Это неудивительно,
поскольку приземлённость и грубоватый реализм Боккаччо (особенно
его «Декамерона») не соответствовал её мистическому настрою и
духовным поискам.
Поэтому при несомненном знакомстве с творчеством Боккаччо
не только мыслители, но и литераторы начала XX века его имя и
произведения если и упоминают, то лишь вскользь21. Та же картина
наблюдается и в культуре русского Зарубежья. Так, И. А. Бунин22,
поднося свою книгу «Темные аллеи» 3. Шаховской, написал на
титульном листе: «"Декамерон" написан был во время чумы. "Темные
аллеи" в годы Гитлера и Сталина — когда они старались пожрать один
другого». Характерно, что крупнейший филолог-романист русского
Зарубежья, И. Н. Голенищев-Кутузов23 (возвратившийся на родину
в 1955 году), пребывая на Западе, не проявлял интереса к творчеству
Боккаччо. Только выдающийся историк П. М. Бицилли посвятил
несколько страниц своей замечательной книги о культуре Ренессанса
осмыслению той роли, которую сыграл Боккаччо в её формировании24.
19 Декамерон для детей. Избранные новеллы / Пер. 3. Н. Журавской. СПб.:
«Копейка», 1911; То же. Бесплатное приложение к журналу «Нашим детям», № 3.
20 См.: Данте: pro et contra / Сост. и коммент. М. С. Самариной и И. Ю. Шауба.
СПб., 2011.
21 См., напр: Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. Коммент. и подготовка
текста Р. Д. Тименчика. М., 1990. С. 91; Блок А. А Собр. соч.: В 8 т. / Под общ. ред.
B. Н. Орлова, А. А. Суркова, К. И. Чуковского. М.; Л., 1962 (см. указатель);
Библиотека А. А. Блока. Описание. Кн. 1 / Сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова,
C. Я. Бовина. Л., 1984. С. 50,115,116; кн. 3. Л., 1986. С. 38,212; ФлоренскийП.
Первые шаги философии (Из лекций по истории философии) // Флоренский П.
Соч.: В 4 т. М., 1996, Т. 2. С. 75; Белый А Между двух революций / Подг. текста
А. В. Лаврова. М., 1990. С. 201; Сомов К. А. Мир художника: Письма.
Дневники. Суждения современников / Вступ. статья, сост., прим. и летопись жизни
и творчества К. А. Сомова, Ю. Н. Подкопаевой и А. Н. Свешниковой. М., 1979.
С. 269; Зелинский Φ. Ф. Возрожденцы. Научно-популярные статьи по всеобщей
литературе. Вып. I. Из жизни идей. Пб.: Academia, 1922.0 Боккаччо см.: с. 38-39
(Го же. СПб., 1997. С. 42-43); Чуковский К. Дневник 1901-1929. М., 1991. С. 236.
22 См.: Мальцев Ю. Бунин. М., 1994. С. 324.
23 Голенищев-Кутузов Я. Н. Новеллистика после «Декамерона» // Голенищев-
Кутузов И. Н. Романские литературы. Статьи и исследования. М., 1975. С. 154.
24 Бицилли П. М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996. С. 8-13.
Боккаччо в России
17
Некоторым исключением из общей картины отсутствия интереса
к Боккаччо у мыслителей Серебряного века был, пожалуй, только
B. В. Розанов26.
Ещё в XIX веке русские исследователи по примеру своих
западноевропейских коллег начали искать сходство «Декамерона» Боккаччо
с другими литературными произведениями. Кроме Веселовского в этой
связи нужно упомянуть таких литературоведов, как Н. И. Барсов,
C. Е. Новиков, В. М. Фриче, В. Крусман26; в советское время подобные
исследования продолжал академик М. П. Алексеев27. Другой советский
академик, Е. В. Тарле28, ещё на рубеже веков в рамках своих
исследований по истории Италии уделил довольно много внимания Боккаччо.
600-летие со дня рождения Боккаччо было отмечено в России
выходом в свет перевода «Фьяметты», который выполнил талантливый
поэт Михаил Кузмин29, а также публикацией трех статей, посвященных
классику итальянской литературы30.
25 См.: Розанов В. В. 1) Мимолетное. М., 1994. С. 87; 2) О писателях и
писательстве. М., 1995. С. 560-564; 3) Во дворе язычников. М., 1999. С. 234;
4) Последние листья. М., 2000. С. 218; 5) Апокалипсис нашего времени.
М., 2000. С. 310; 6) В нашей смуте. М., 2004. С. 348; 7) На фундаменте
прошлого. М., 2007. С. 86. См. также: НиколюкинА. Боккаччо // Розановская
энциклопедия. М., 2008.
26 Барсов Н. И. Декамерон и «Пир десяти дев» [св. Мефодия Турского].
Письмо в редакцию // Вестник Европы. 1893, окт. С. 830-849; Новиков С. Е.
«Decamerone» Боккаччо, «Heptameron» Маргариты Наваррской // Журнал
министерства народного просвещения. 1914. № 11, ноябрь. С. 111-133;
Фриче В. М. «Декамерон» Боккаччьо и «Кентерберийские рассказы» Чосера //
Фриче В. М. Очерки по истории западноевропейской литературы. М., 1908.
С. 25-30; Крусман В. На заре английского гуманизма. Английские
корреспонденты первых итальянских гуманистов в ближайшей своей обстановке.
Одесса: тип. «Техник», 1915. О Боккаччо см.: с. 33, 70, 251, 291, 319, 286,
640, 642, 644-646, 649-653 — о Боккаччо и Чосере.
27 Алексеев М. П. Кентерберийские рассказы и Декамерон // Ученые записки
Ленинградского гос. пед. ин-та им. Герцена. T. LXI, 1941. С. 57-110.
28 Тарле Е. В. 1) Итальянский скептицизм в эпоху Возрождения // Начала.
СПб., 1899. № 1-2, январь-февраль. С. 139-154. О Боккаччо см.: с. 139,140-
142; 2) Умственная жизнь европейского общества в новое время. Гл. I. Эпоха
Возрождения // Жизнь. 1900. № 8, авг. С. 60-79; 3) История Италии в новое
время. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1901. О Боккаччо см.: с. 29-32.
29 Боккаччо Дж. Фьяметта / Пер. М. Кузмина. СПб.: Корнфельд, 1913 (То же.
Вестник иностранной литературы, 1913. № 6. С. 1-88 (приложение)).
30 Дейч А. Джованни Боккачио (1313-1913). Страницы из его жизни и
творчества // Нива (литерат. приложение). 1913. № 9. С. 103-126; № 10.
С. 257-276; 600-летию со дня рождения Боккаччио // Вестник иностранной
литературы. 1913. № 12, разд. II. С. 23-28; Крусман В. Эпический характер
18
M. С. САМАРИНА, И. Ю. ШАУБ
В отличие от Серебряного века, в культуре советской эпохи Боккаччо
пользовался большим почётом и уважением. Неоднократно
переиздавались, причём массовыми тиражами, старые и создавались новые
переводы его произведений. В качестве курьёза: маленькое (61 стр.)
дешевое многотиражное издание избранных новелл «Декамерона»
(в пер. Веселовского)31 было удостоено крошечной рецензии в журнале
«Книга строителям социализма»32.
Был издан перевод «Фьезоланских нимф», выполненный
известным поэтом старой школы Ю. Н. Верховским33. Тот же Верховский
перевёл и несколько стихотворений Боккаччо34. Несмотря на
пуританские установки власти, даже самые откровенные эротические сцены
«Декамерона» печатались без купюр. Это было обусловлено тем, что
Боккаччо считался борцом с клерикализмом и прочими «мерзостями»
средневековой культуры. В целях атеистической пропаганды даже
рекомендовались публичные чтения тенденциозно подобранных
отрывков из «Декамерона»35. Идеологическими установками советской
власти36, а отнюдь не художественными достоинствами произведений
Боккаччо, объясняется повышенный интерес к его творчеству, прежде
всего к «Декамерону». Отсюда и сравнительно большое количество
исследований, посвященных Боккаччо, причём не только в Москве и
Ленинграде, но и других университетских городах, о чём свидетельствуют
Боккаччьо. К 600-летнему юбилею со времени его рождения (1313-1913) //
Известия одесского библиографического общества. 1913. Т. П. Вып. 8.
С.339-349.
Декамерон. Новеллы / Пер. А. Веселовского. М.; Л.: Госиздат, 1930.
Книга строителям социализма. 1931. № 6. С. 73.
Боккаччо Дж. Фьезоланские нимфы / Пер. Ю. Н. Верховского; ред. и статья
А. К. Дживелегова; словарь сост. Г. О. Гордоном. М.; Л.: Academia, 1934.
(Итальянская литература / Под общ. ред. А. К. Дживелегова).
Сонеты [Сокрылась доблесть, честь угасла, стала... — Раз я уснул —
и, мнилось, к тверди синей...— Данте о себе.] / Пер. Ю. Верховского // Поэты
Возрождения. М., 1949. С. 51-52; Тоже. 2-е изд. М., 1955. С. 49-51.
Шарлатанство монахов («Декамерон», день шестой, новелла десятая) /
Пер. А. Н. Веселовского// Против тьмы. Антирелигиозный сборник для
эстрады. М.; Л., 1938. С. 40-46.
Неудивительно, что сам нарком просвещения уделял творчеству
Боккаччо видное место в своих литературоведческих писаниях; см.:
Луначарский А. В. 1) История западноевропейской литературы в ее важнейших
моментах. Ч. 1. 2-е изд. М.; Л.: Госиздат, 1930. О Боккаччо см.: с. 135-137;
2) Литература эпохи Возрождения // Луначарский А. В. Статьи о
литературе. М., 1957. С. 443-508. О Боккаччо см.: с. 443, 450, 463, 470-471,
475,481.
Боккаччо в России
19
статьи саратовского литературоведа В. Я. Каплинского37, диссертация
киевского филолога А. Ф. Илличевского38, книга С. Т. Ваймана39.
В Ленинграде, кроме уже упомянутого академика М. П. Алексеева,
изучением произведений Боккаччо занимались один из виднейших
отечественных романистов 1-ой половины XX века академик В. Ф. Шиш-
марёв40, а также такие крупные филологи, как А. А. Смирнов41,
М. А. Гуковский42, Н. Томашевский43.
В Москве творчество Боккаччо входило в сферу интересов таких
учёных, как великий философ А. Ф. Лосев44, историки культуры:
А. К. Дживелегов, начавший свою деятельность ещё задолго до
революции (он одним из первых в России применил социологический метод
к изучению итальянского Возрождения)45 и Л. М. Баткин46,
филологи: С. С. Мокульский47, И. М. Фрадкин, А. Л. Штейн48, выдающийся
37 Каплинскии В. Я. 1) К характеристике Ninfale Fiesolano Боккаччио. Саратов,
1927. (Отдельный оттиск из «Ученых записок» Саратовского гос. ун-та. Пед.
фак. Т. VI. Вып. III); 2) Реализм и условность в построении «Декамерона»
Боккаччио // Литературные беседы. Саратов, 1929. С. 114-135.
38 ИлличевскийА Ф. Боккаччо на пути к «Декамерону» / Автореф. дис.... кандидата
филологических наук. Киев: Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, 1954.
39 Вайман С. Т. Реализм как эстетический антипод религии: Этюды по поэтике
Боккаччо. Воронеж, 1966.
40 Шишмарев В. Ф. Очерки по истории итальянской литературы: Данте,
Петрарка, Боккаччо. М., 2011.
41 Смирнов А. А. Джованни Боккаччо // Боккаччо Д. «Фьямметта». «Фьезо-
ланские нимфы» / Изд. подг. Н. И. Голенищев-Кутузов, А. Д. Михайлов.
М., 1968. С. 261-288.
42 Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. Т. I. Италия с 1250 по 1380 год.
Л.: изд-во ЛГУ, 1947. О Боккаччо см.: с. 263-274.
43 Томашевский Н. В. Предисловие // Боккаччо Д. Малые произведения (Амето.
Фьямметта. Фьезоланские Нимфы. Лирика. Ворон. Жизнь Данте). Л., 1975.
44 Лосев А. Ф. 1) Проблема символа и реалистическое искусство. 2-е изд., испр.
М.: Искусство, 1995; 2) Эстетика Возрождения. М., 1978.
45 Дживелегов А. К. 1) Боккаччьо // Дживелегов А. К. Начало итальянского
Возрождения. М., 1908. С. 80-93(Гоже.2-еизд.,перераб.М., 1925. С. 101-112.
(Социально-историческая б-ка)); 2) Боккаччо // Дживелегов А. К. Начало
итальянского Возрождения. 2-е изд., перераб. М., 1924. С. 101-112. См.
также: Дживелегов А. Пастораль Боккаччо // Боккаччо Д. Фьезоланские
нимфы / Пер. Ю. Верховского. М.; Л., 1934. С. 9-18.
46 См.: Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М., 1995.
О Боккаччо см.: с. 66, 104, 118, 193, 304-312.
47 Мокульский С. С. Итальянская литература. Возрождение и Просвещение.
М., 1966. О Боккаччо см.: с. 67-93.
48 Фрадкин И. М.> Штейн А. Л. «Декамерон» Боккачио и проблема новеллы
раннего Возрождения // Московский гос. пед. ин-т. Ученые записки кафе-
20
M. С. САМАРИНА, И. Ю. ШАУБ
специалист по истории французской литературы А. Д. Михайлов49,
видный исследователь итальянской литературы Р. В. Хлодовский50.
Одно из последних исследований творчества Боккаччо принадлежит
известному российскому филологу, исследователю западноевропейской
литературы, лауреату международных премий по филологии, автору
многих работ по истории литературы М. Л. Андрееву51.
Нужно отметить, что еще в 1961 году вышел в свет био-библиогра-
фический указатель переводов Боккаччо на русский язык, а также
публикаций, посвященных его творчеству, который был подготовлен
филологом Т. В. Дзюбой52.
Существует также работа, в которой предпринята попытка
проследить воздействие одного из сюжетов Боккаччо на загадочный сюжет
картины великого венецианского художника Джорджоне «Гроза»53.
Литературное наследие выдающегося итальянского писателя
продолжает привлекать внимание российских гуманитариев и ждет
дальнейших исследований.
Наша книга имеет целью по возможности полно познакомить
отечественного читателя с «русским» Боккаччо.
Составители выражают благодарность Е. А. Золотайкиной и Е. А. Бу-
лучевской за техническую помощь в работе над антологией.
е^э
дры истории всеобщей литературы. Вып. И. Реализм эпохи Возрождения /
Под ред. проф. Ф. П. Шиллера. М., 1937. С. 43-94; Штейн А. Джованни
Боккаччо и его «Декамерон».// Боккаччо Д. Декамерон. М., 1955. С. 3-25.
Михайлов А. Д. К творческой Истории «Фьямметты» и «Фьезоланских
нимф» // Боккаччо Д. «Фьямметта». «Фьезоланские нимфы» / Изд. подг.
Н. И. Голенищев-Кутузов, А. Д. Михайлов. М., 1968.
Хлодовский Р. И. 1) Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982; 2) «Декамерон»:
великая книга о большой любви // Боккаччо Дж. Декамерон. М., 2007;
3) Джованни Боккаччо и новеллисты XIV в. // История всемирной
литературы. Т. 3. М., 1985. С. 77-88.
Андреев М. Л. Боккаччо // Культура Возрождения. Энциклопедия. Т. 1.
М.,2007. С. 206-209.
Дж. Боккаччо. Био-библиографический указатель / Сост. и автор вступ. ст.
Т. В.Дзюба.М., 1961.
Белоусова H.A. 1) «Гроза» Джорджоне и «Фьезоланские нимфы» Джованни
Боккаччо // Искусство Западной Европы и Византии. М., 1978. С. 59-76;
2) Джорджоне. М., 1996. С. 88 ел.
I
БОККЛЧЧО
В КУЛЬТУРЕ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
^*^
Π. M. БИЦИЛЛИ
Très coronae1
Ренессанс был временем необычайно приподнятого культурного
самосознания. Деятели Ренессанса сами дали это имя своему
времени, считая его временем «возрождения», или «воскресения»,
наук и искусств, в течение тысячелетия «спавших смертным сном».
Культурное самосознание сказывается раньше всего в Тоскане,
и естественно, что трое великих тосканцев, сделавших из
тосканского vulgäre2 общеитальянский литературный язык, в созданной
итальянцами легенде о Ренессансе заняли особое, исключительное
место. «Très coronae» разделили судьбу некоторых, особо
популярных, святых: их постигло нечто вроде прижизненной канонизации;
они обратились в, так сказать, геометрическое место всевозможных
«качеств», которые им приписывались с той целью, чтобы
освятить последние их авторитетом; к ним что угодно «возводилось»,
и от них что угодно вело свое начало. Организаторы культа «трех
лауреатов» выдвигали, в первую очередь, их двойную заслугу:
1) они создали итальянский язык и 2) возродили «latinitas»3.
Вокруг оценки их с этой именно точки зрения велись бесконечные
споры между ранними гуманистами, споры интересные уже тем,
что они показывают, как рано был затемнен панегиристами «трех
лауреатов» (еще более, чем их хулителями) их истинный облик.
После трудов Александра Веселовского, Корелина, Фойгта4 к этим
спорам нет нужды возвращаться. Замечу только, что Данте,
Петрарка и Боккаччо пострадали от постигшего их культа, но все же
не в одинаковом смысле и не в одинаковой степени. Собственно,
облик Данте был искажен еще до того, как за него взялись «новые
люди», гуманисты. «Божественная комедия» была понята
современниками как «Сумма»5 для мирян, более полная, чем, например,
24
Π. M. БИЦИЛЛИ
«Li livre dou Tresor»6 «учителя» Данте, Брунетто Латини, и
обладавшая сверх того еще тем преимуществом, что была написана
на тосканском vulgäre, а не на lingua d'oïl7, и к тому же стихами.
Для гуманистов Данте был немногим более простого знака,
великого имени, символом без собственного содержания. Его облик был
не столько искажен, сколько просто стерт. Автором «Декамерона»
занимались сравнительно немного: восхваляли изящество его
тосканской речи* и порицали его latinitas. Гораздо сложнее обстоит
дело с Петраркой — уже потому, что он не только стоит в центре
тех вопросов, относительно которых велись споры, но сам явился
зачинщиком последних, сам выдвинул проблему новой культуры.
Петрарка был первым сознательным гуманистом. В «Ad Posteros»10
он говорит, что полюбил античность потому, что ему «не нравилось»
новое, его, время. В своих «философских» трактатах он занимает
определенное положение по отношению к средневековью: в «De sui
ipsius et multorum ignorantia»11 он резко противопоставляет свою
«мудрость» схоластической учености с ее претензиями знать о том,
о чем человеку знать не дано, мудрость, которую он выдает за
философию Платона, прославляя его за счет Аристотеля. От Петрарки
ведет начало легенда о средневековье как времени притязательного
невежества и вместе с тем времени забвения Платона и господства
аристотелизма; от него же и легенда о Ренессансе как времени
возрождения «истинного» просвещения и «открытия античности».
Пока Возрождение исследовалось с точек зрения,
обусловленных филологическими интересами и увлечениями гуманистов,
Данте, Петрарка и Боккаччо еще укладывались с грехом пополам
в общую схему. Затруднение возникает тогда, когда исследователи
генезиса Ренессанса подошли к проблеме идейного содержания
культуры этого периода. Полвека тому назад еще возможно было
говорить о «смехе Боккаччо» как новом культурно-историческом
В пору «Hochrenaissance» , когда начинается реакция против
гуманистического пуризма, Боккаччо находит себе правильную оценку. Кастильоне
различает два стиля в языке Боккаччо — «изящный» и простой, и отдает
предпочтение последнему: «Ma perché talor gli omini tanto si dilettano di
riprendere, ehe riprendono ancor quello ehe non mérita riprensione, ad alcuni ehe
mi biasimano perch'io non ho imitato il Boccaccio... restero di dire, ehe anchor
che'l Boccaccio fusse di gentil ingegno, secondo quei tempi, e ehe in alcuna parte
scrivesse con discrezione ed industria, nientedimeno assi meglio scrisse quando
si lasso guidar solamente dall'ingegno ed istinto suo naturale, senz'altro studio
о cura di limare iscritti suoi, ehe quando con diligenzia e fatico si sforzô d'esser
più culto e castigato» (II Cortegiano, dedica, 2)9.
Très coronae
25
явлении, забывая о связях «Декамерона» со средневековыми
фабльо; о направленной против «невежества и пороков
духовенства» и заставляющей якобы «предчувствовать Реформацию»
Боккаччиевой сатире, — забывая о связях ее со средневековой
проповедью. Сейчас подобные оценки воспринимаются как
несносные натяжки. Равным образом, если в настоящее время еще
встречаются историки, серьезно говорящие о «внутреннем
разладе» Петрарки как новом культурно-историческом факте, то,
кажется, уже никто не ставит наряду с ним факта такого же
«раздвоения» между «христианским аскетизмом» и «жизнерадостным
язычеством» Боккаччо, «раздвоения», вычитывавшегося из его
письма к Магинардо Кавальканти, где Боккаччо просит адресата
не давать «Декамерона» в руки его дамам: это книга,
возбуждающая дурные наклонности и к тому же могущая внушить
неблагоприятное представление об авторе: «читая ее, они вообразят меня
сводником, кровосмесительным старцем, грязным человеком,
сквернословом, хулителем, любителем болтать о чужих грехах»
(Lettere di Boccaccio, ed. Corazzini, 1877, p. 298).
Конрад Бурдах заменил каноническую троицу новой: вместо
Боккаччо у него «третьим великим» выставлен Риенци*. Этим
действительно достигается цельность построения: Данте —
Петрарка — Риенци вращаются в кругу идей, связанных с
терминами regeneratio, reformatio, vita nova, renasci12 и т. п., терминами,
не случайно же прилагаемыми к двум начальным периодам «Нового
времени», почему Бурдах и считает, что проследить генезис этих
терминов — значит найти истоки новой культуры, а тем самым
и вскрыть ее сущность. Термины regeneratio etc. связаны с мистикой,
с представлениями о циклах истории, о «веке Астреи», с IV эклогой
Вергилия в средневековой экзегезе, с иоахимизмом. Данте высоко
ставил il calabrese abbate Gioacchino di spirito profetico dotato (Par.
XII, 140)13; его пророчества о «Cinquecento dieci cinque»14 и подобные
носят вполне иоахимистский характер; Риенци был под влиянием
иоахимитов и руководствовался гадательной книгой «Oraculum
Cyrilli»15; Петрарка приветствовал начинание Риенци. Вера в
«интегральное обновление», греза о прекрасном обновленном мире — это
и есть «rinascita», «Rinascimento», Ренессанс. Человек Ренессанса
переживает мир как самого себя; «Vita nova» Дантр является
памятником этого нового личного сознания.
См. в особенности: К. Burdach. Reformation — Renaissance — Humanismus.
Berlin, 1918.
26
Π. M. БИЦИЛЛИ
Идя к явлениям истории духа от истории слов и сделав на этом
пути ряд ценнейших открытий, Бурдах все же, не замечая того,
подменил одну историческую задачу другой. Одни и те же термины
нередко покрывают различные содержания; одно явление может
быть генетически сведено к другим и унаследовать от последнего
его терминологию — и все же радикально отличаться от него*.
Марксизм «вышел» из гегельянства и пользуется гегельянской
терминологией, будучи, однако, в своей сущности скорее отрицанием
гегельянского жизнепонимания. В жизни Петрарки его увлечение
Риенци было только эпизодом. Боккаччо шокировало то, что автор
канцоны «Italia mia»16 жил за счет «тиранов», политика которых
была явно враждебна идее итальянской независимости (см. Lettere,
49 ел.). О религиозности же Петрарки, о его мистицизме серьезно
говорить не приходится**. Надежнейшим доказательством
недостаточности построения Бурдаха служит то, что в нем место Боккаччо
занял Риенци. «Consensus omnium»17 никогда не является просто
заблуждением, и не случайно Риенци в период Ренессанса был
совершенно забыт, а Боккаччо, наряду с Данте и Петраркой, был
поставлен во главе нового культурного движения.
Что же было у «трех лауреатов» действительно нового? Начнем
с Боккаччо: это простейший случай. Ново у него его искусство
индивидуализирования персонажей. Достигается это введением
деталей, которые с точки зрения «содержания», фабулы
рассказа, может быть, и случайны, но которые придают повествованию
художественную убедительность, какой не знало средневековье.
Так, в новелле III, 3 выведен честный, но глупый монах,
которого хитрая женщина заставляет играть роль сводника, причем он
не догадывается об этом. Вместо того чтобы охарактеризовать
личность монаха при помощи общих определений, Боккаччо просто
показывает его читателю: «монах, который, хотя был круглый
и толстый человек, однако, так как он вел весьма святую жизнь,
почти у всех пользовался славой честного инока». Читатель должен
вообразить себе монаха и догадаться, что его наружность, при его
святой жизни, не говорит ни об уме, ни об учености. Стремление
к индивидуализированию персонажей обусловило прием,
которым Боккаччо широко пользуется: прием самохарактеристики
* Ср. меткие замечания К. Brandi в Göttingische gelehrte Anzeigen, 1923, VII-
XII, 187-198.
** Ср.: Giov. Gentile. Il preteso del Petrarca. — Studi sul Rinascimento. Firenze,
1923, 67 ел.
Très coronae
27
действующих лиц, но самохарактеристики не прямой, а косвенной:
действующее лицо, о чем бы оно ни говорило, своей речью выдает
себя. В одной из лучших новелл (VIII, 9) выведен доктор Симоне,
которого надувают два жулика. Они выманивают его из дому, обещая
свести его на спиритический сеанс и показать ему там всех самых
знаменитых красавиц древности и нового мира. Симоне приходит
в восторг и по пути начинает болтать: смотрите, как я красив, лицо
мое подобно розе, да к тому же я доктор медицины — таких в
вашем обществе нет — я знаю немало рассказов и песенок, — и начал
петь. Родители мои, начинает он снова хвастаться, из благородных,
и у меня есть множество ценных вещей и книг — таких нет ни у
кого другого из наших лекарей. Жулики напоминают ему, что все,
что будет на «сеансе», он должен сохранить в тайне. Он отвечает,
что они могут быть спокойны: ему оказывает доверие сам мессер
Гаспаруоло де Саличето, судья при градоначальнике в Форлимпо-
поли (городишко в Тоскане). Если бы Боккаччо просто сказал, что
маэстро Симоне — жалкий, самовлюбленный, обуреваемый мелким
честолюбием педант, характеристика была бы менее
убедительной, менее наглядной. Читая эту новеллу, мы не только слышим,
но и словно видим маэстро Симоне. Мастерство, с которым Боккаччо
умеет одним намеком приоткрыть человеческую душу, проявилось
в особенности в знаменитой новелле о Гризельде. В новелле подробно
рассказывается о всех страданиях, через которые пришлось пройти
Гризельде, весь рассказ ведется от лица повествователя. Гризельда
все время изображается молчащей, словно немой, почти
неодушевленной. Тем разительнее эффект тех единственных слов, которые
она произносит, когда ее муж и господин наносит ей последний удар:
она просит его не обращаться с новой женой так, как он обращался
с ней, Гризельдой, ибо ей, молодой дворянке, это будет невтерпеж.
И читатель сразу, вместе с Гризельдой, как бы переживает то, что
пережила она за все годы ее жизни с Гвальтиери. Одной короткой
фразы достаточно, чтобы создать такое же непосредственно
убедительное впечатление «вечно женственного начала», воплощенное
в конкретном образе, какое создают образы Корделии и Гретхен. <...>
^5^
^^^
Α. Φ. ЛОСЕВ
Боккаччо
Джованни Боккаччо (1313-1375), известный прежде всего как
автор «Декамерона», представляет собою по сравнению с Петраркой
фигуру более противоречивую и нервозную, и противоречия его
не могут быть сведены в высшем синтезе, ибо такового не
произошло у Боккаччо. Он утверждает принципы новой нравственности
и отдается власти нового эстетического идеала, но никогда вполне
не удовлетворяется в создаваемом им нравственном мире, а его
эстетика также свидетельствует о непреодоленных противоречиях
в его взглядах на природу красоты и искусства.
Боккаччо шесть лет изучал каноническое право, но, как и у
Петрарки, основным его увлечением была классическая литература.
Особенно начитан Боккаччо в области древней мифологии. Но не
менее пристальное внимание у него вызывает Данте, а знакомство с
сонетами Петрарки делает его почитателем этого ученого-гуманиста
и поэта.
О противоречивости раннего идеала Боккаччо можно судить уже
по тому, что элементы платонического учения о любви совмещаются
у него со стремлением осмыслить это учение на фактах житейской
любви или же помирить с требованиями темперамента. Тут же
христианская мораль, чувство греховности плотской любви, которое
при всей энергичности и мощи духовного порыва Боккаччо не может
стать для него ступенью к Венере небесной. Об одном из ранних
произведений Боккаччо «Амето» А. Н. Веселовский пишет: «...всякая
кроха земной любви упала с неба, пламя Цитеры поднимается до
него и в то же время окутывает землю, мир — гигантская лестница
звуков и красок, снующих одну и ту же мелодию, один и тот же
образ, внизу они гуще и материальнее, наверху их очертания
теряются в лоне божества. У Петрарки эта мировая обязательность
Боккаччо
29
любви представляется абстрактнее, у Боккаччо поражает излишняя
откровенность в рассказах об увлечении Мопсы, о супружеских
невзгодах Агапе, которые и не идут к делу; но Адиона счастлива
в супружестве, Лия — во втором браке, и обе горят Амуром и силою
своего чувства поднимают до своего уровня материалиста Дионея
и непочатую натуру Амето, раскрывая перед ним в перспективе
образы небесной Венеры и — триединого Бога».
Выражением той же неопределенности и противоречивости
является и размытость, дробность и неорганичность образной
системы ранних произведений Боккаччо. Мотивы из античных авторов
переплетаются с образами дантовских видений, большое значение
имеет также аллегорическая фигура Разума и пр.
Большая органичность свойственна образной системе «Фьезолан-
ских нимф», но постановка конфликта и его разрешение здесь
таковы, что мы опять-таки не можем говорить о воплощении искомого
идеала: миг счастья приводит возлюбленных к гибели. Единения
духовной, возвышенной, и плотской любви не произошло, но зато
мы вправе говорить о более совершенном воплощении нового взгляда
на мир, природу и человеческие чувства.
В «Элегии мадонны Фьямметты» Боккаччо освобождается от
аллегоризма и отказывается от античных декораций. На первый план
здесь выступает точность психологического анализа. По словам
А. Н. Веселовского, «Фьямметта — литературное переживание
психологического момента, который перестал тревожить сердце,
но продолжает занимать воображение». Отсюда некоторая
риторичность, которая, однако, не мешает ясно воспринимать всю новизну
художественного открытия Боккаччо.
Совершенства художественное творчество Боккаччо достигает
в «Декамероне» (1350-1353). Непреходящее значение этого
произведения было очень хорошо осознано впоследствии, но не случайно
сам Боккаччо отрекался от него в старости. Действительного
совершенства достигает образная структура произведения. Поистине
человек здесь занимает первое место в мире, создаваемом автором,
и сам мир осознается в своей трагичности и великолепии. Природа
по-настоящему становится предметом эстетического переживания.
Человеческие чувства в своем выражении освобождаются от
условных форм ранних произведений Боккаччо. Все богатство
человеческой природы как бы впервые выступает перед нами в разнообразии
ее светской, бытовой стороны. Но дело не только в реализме
Боккаччо, в полнокровном и ярком изображении материальной стороны
действительности.
30
Α. Φ. ЛОСЕВ
Боккаччо в «Декамероне» впервые находит и воплощает такое
сочетание различных сторон человеческого бытия, что, кажется,
он действительно обретает здесь искомое самоудовлетворенное
сочетание высоких нравственных порывов и самых элементарных
чувственных запросов человека. Но вместе с тем остается
противоречие между стилем и содержанием, которое характерно для ранних
произведений Боккаччо, остается прежняя риторичность. Часто
обращая внимание на мелочи, Боккаччо в «Декамероне» забывает
общее. А. Н. Веселовский замечает по этому поводу: «...чувство
особи, чутье к человеческому, реальному в его соответствии с
миром психики и знакомое нам свойство глаза схватывать в предмете
не общее, а массу подробностей, которые художник заносит на
полотно, одну за одной, в расчете, что их совокупность произведет
впечатление целой жизни». Но этот расчет Боккаччо не
оправдывается, да он и принципиально не мог оправдаться.
Если изобразить дело в общей схеме, то процесс эволюции
Боккаччо будет примерно таков:" общая, лишенная разработки, поэтому
еще пустая и достаточно абстрактная идея целого, мира, постепенно
ослабляется, раздробляется, конкретизируется, переходит в деталь.
Когда же идея оказывается уже вполне раздробившейся, когда она
играет всеми красками реальной жизни, когда она рассыпается
перед нами в массе прекрасных частностей, тогда идея перестает
уже узнавать себя в них, катартического восхождения от
частного, раздробленного к целому и высшему, осмысленному единству
не происходит. Мозаика распадается, за отдельными осколками,
лишенными связи, оказывается пустота. Нужен был совсем
небольшой толчок, маленький сдвиг, чтобы образное совершенство
перестало удовлетворять автора, чтобы жизнь для него отказалась
узнать себя в рассыпавшейся мозаике частностей, чтобы
произошел крутой перелом, приведший к фактическому отказу Боккаччо
от художественной деятельности.
В «Корбаччо» этот перелом отчетлив и несомненен. Здесь уже
«музы — не женщины, а нечто серьезное, целомудренное и
назидательное, что не всякому доступно и граничит с философией». Уже
во второй части «Декамерона» бездумная чувственность
оказывается в противоречии и борьбе с чувством греховности плотских
наслаждений; голая чувственность, не одухотворенная, как некогда,
силами платонического Амура, перестает быть для Боккаччо
законной и вредит человеческому достоинству. В «Корбаччо» те самые
женщины, которым он так сочувствовал во «Фьямметте» и
«Декамероне» , исключаются из числа читателей. Теперь Боккаччо ищет
Боккаччо
31
успокоения души в рассказах о мерзостях женщины, ибо душа его
омрачена силою плотского гнева. Боккаччо перестает быть поэтом
и обращается к науке. Он всецело отрицает изучение латинских
авторов (новая вспышка интереса к которым заметна у него уже
во время работы над последними книгами «Декамерона»)1,
занимается греческим языком, стремится обрести цельное
мировоззрение в обращении к традиционным религиозным взглядам, но так
и не обретает его. Он занимается научными изысканиями, пишет
трактаты «О знаменитых женщинах», «О несчастиях знаменитых
людей», «Генеалогии богов» и создает географический словарь
(«De montibus»). Когда во Флоренции была открыта кафедра для
толкования «Божественной комедии», Боккаччо избрали первым
дантовским лектором, но его лекции не имели большого успеха.
За два года до смерти в письме к Майнардо деи Кавальканти
Боккаччо отказывается от «Декамерона». В июле 1374 г. скончался
Петрарка, а в декабре следующего, уповая на встречу с Фьямметтой
и Петраркой в лучшем мире, скончался и Боккаччо.
О взглядах Боккаччо на искусство мы можем судить по его
поздним произведениям («Генеалогии богов»). В основном здесь речь
идет о поэзии. У А. Н. Веселовского дается подборка материала
по этому вопросу, мы ею и воспользуемся.
Поэзия, согласно Боккаччо, стоит на одной ступени с
физикой, изучающей законы природы, с богословием; она занимается
высшими вопросами; обитая в небе, в божественных советах, она
увлекает немногих к вожделению вечной славы, внушает
возвышенные помыслы, подсказывает дивные образы и изящные речи;
поэзия сходит на землю в обществе священных муз и поселяется
в бедной хижине поэта, который вечно стремится скорее к
возвышенному, чем к бренному, к постоянному, нежели к
преходящему. Поэзия — страстное стремление найти и выразить найденное
словом, побуждение, исходящее от бога и свойственное немногим.
У Боккаччо есть также рассуждения о поэзии-богословии — идея,
высказанная еще Петраркой, да и не им первым, разработанная
Боккаччо в деталях и поддерживаемая у него рядом примеров.
Постоянно сопоставляет Боккаччо поэзию и философию. И ту и другую
часто упрекают в темноте, и над сочинениями философскими, как
и поэтическими, нужно потрудиться: ведь и в Священном писании
есть темные места, но, по слову того же Писания, святыню не
бросают псам, перед свиньями не мечут бисера. Боккаччо всячески
осуждает поэтов низменных и комических, но если справедливо
подвергаются нападкам отдельные поэты, то само искусство поэзии
32
Α. Φ. ЛОСЕВ
стоит вне осуждения. Поэзия подражает природе, и что может быть
почтеннее, как не старание воспроизвести через искусство то, что
природа творит своими силами?
Боккаччо, таким образом, является одним из основателей
свободной светской поэтики, аналитическая разработка системы которой
носила антисхоластический характер.
Представляется неправомерным судить о Боккаччо по его
«Декамерону», написанному в сравнительно ранний период его
творчества, заслужившему полное осуждение у самого же его автора
и перекрытому в дальнейшем творчестве Боккаччо глубочайшими
рассуждениями вполне платонического характера. Это
действительно переходный период европейской эстетики, когда она оказывается
уже захваченной новыми антропоцентристскими веяниями, но пока
считает их вполне греховными и вместо них старается
базироваться на твердом фундаменте средневековой мысли. Субъективный
имманентизм XIV в., безусловно, захватил Боккаччо, но Боккаччо
сумел богатырским образом его преодолеть и остаться на старых
позициях, впрочем уже не столь застойных и духовно неподвижных.
^^
Il
ЖИЗНЬ БОККАЧЧО
^^
С. С. МОКУЛЬСКИЙ
Боккаччо
1
Вторым великим итальянским гуманистом, младшим
современником Петрарки был Джованни Боккаччо (Giovanni Boccaccio,
1313-1375). Подобно Петрарке, он сочетал в своем лице писателя-
художника и ученого-филолога. Боккаччо развивался под двойным
влиянием Данте (в области поэзии) и Петрарки (в области науки)
и с гордостью называл великих флорентийцев своими учителями,
хотя по существу его дарование лежало в совсем другой плоскости,
чем дарование Данте и Петрарки.
Боккаччо не добился у современников такой громкой славы
и такого восторженного почитания, как Петрарка. Его деятельность
не имела такого широкого международного размаха, как
деятельность Петрарки. Он был не вождем европейского гуманизма, а всего
лишь талантливейшим итальянским писателем1, разработавшим
«низкий», по тогдашним представлениям, жанр новеллы. Но именно
благодаря этому в творчестве Боккаччо полнее и непосредственнее
выразились особенности первого, демократического этапа
итальянского Возрождения, его глубокие народные корни. В общем Петрарка
и Боккаччо как бы восполняют друг друга, выражая две различные
стороны культуры Италии эпохи Возрождения: Петрарка ярко
раскрывает ее космополитический аспект, Боккаччо же выражает ее
национальный аспект.
Боккаччо был незаконным сыном флорентийского купца и
француженки. Он родился в Париже, куда его отец приехал по торговым
делам, но еще младенцем был увезен во Флоренцию и впоследствии
в Париже никогда больше не бывал. По желанию отца, юный
Боккаччо обучался сначала торговому делу, затем юридическим наукам,
36
С. С. МОКУЛЬСКИИ
но испытывал к ним такое же отвращение, как Петрарка, и тоже
с ранних лет увлекался изучением античных писателей. Но, в
отличие от Петрарки, он долгое время оставался под властью отца
и мог изучать древних авторов только в часы досуга. Возможно,
именно поэтому, по уровню своих знаний в области античности
и даже по степени овладения литературным латинским языком,
Боккаччо значительно уступал Петрарке; об этом свидетельствуют
юношеские латинские письма Боккаччо, написанные средневековой
латынью, мало похожей на язык Цицерона.
В возрасте четырнадцати лет Боккаччо был отправлен отцом
в Неаполь, где он провел лучшие годы своей юности (1327-1340).
Неаполь в то время был крупным феодальным центром с пышным
двором короля Роберта Анжуйского, друга и покровителя Петрарки.
Роберт привлекал к своему двору поэтов и ученых, создавая в
Неаполе небольшой очаг нарождавшейся гуманистической культуры.
Юный Боккаччо завязал знакомство с неаполитанскими
гуманистами, а через них получил доступ и ко двору, где имел большой
успех. Здесь он познакомился с Марией д'Аквино, побочной дочерью
короля Роберта, которую он горячо полюбил и изобразил в своих
произведениях под именем Фьяметты (дословно — «огонек»). Она
стала его дамой-вдохновительницей, как Беатриче для Данте и
Лаура для Петрарки.
Однако характер отношений Боккаччо к Фьяметте совершенно
иной, чем у Данте и Петрарки к их возлюбленным. Правда, уже
Петрарка изобразил Лауру реальной женщиной, но его любовь
к ней сохраняла идеальную, платоническую окраску. Боккаччо
пошел дальше Петрарки: он окончательно преодолел платонизм
и экзальтацию, выдвинул на первый план естественную сторону
любви. Любовь Боккаччо к Марии-Фьяметте — факт не только
литературный, но и жизненный, значительнейшее событие его юности,
проведенной в Неаполе.
Впервые Боккаччо встретил Марию в церкви Сан-Лоренцо
в страстную субботу 1336 г. и сразу полюбил ее. Молодой плебей
стал добиваться любви королевской дочери с помощью того могучего
средства, которое находилось в его распоряжении, — своего
писательского таланта. Несмотря на огромное расстояние в их
социальном положении, поэтические успехи писателя принесли ему
благосклонность Марии. Но взаимная любовь их была непродолжительна.
Мария вскоре изменила Боккаччо, предпочтя ему кого-то другого.
Однако Боккаччо продолжал жить воспоминаниями о своем чувстве,
вдохновившем его на создание целого ряда произведений.
Боккаччо
37
2
Идейный и творческий рост Боккаччо ярко отразился в его
юношеских романах и поэмах, задуманных в Неаполе, но законченных
по большей части уже после возвращения во Флоренцию. Первым
по времени из этих произведений является «Филоколо» (1338) —
обширный роман в прозе, в котором Боккаччо обработал
популярную в литературе раннего средневековья историю любви Флорио
и Бьянчифьоре (во французской редакции — Флуар и Бланшефер).
В предисловии к «Филоколо» Боккаччо сообщает, что на обработку
истории этих верных любовников натолкнула его Фьяметта. Идя
навстречу ее желанию, Боккаччо пересказал эту повесть о
злоключениях язычника и христианки, вплетая в нее новые эпизоды и
несколько изменив ее финал. Боккаччо стремился облечь старинную
любовную повесть в новую художественную форму, подсказанную
культом античности. Отсюда — название романа («Филоколо» —
испорченное греческое слово, означающее «усилие любви»: это имя,
которое принимает Флорио, разыскивающий свою возлюбленную);
отсюда введение в роман античных богов (Венеры, Марса, Плутона,
Амура) как двигателей действия; отсюда же и использование
мифологической образности в стиле романа (христианский бог именуется
«всевышним Юпитером»; первый человек — не Адам, а Прометей;
соблазняет его не сатана, а Плутон и т. д.).
Несмотря на бесформенность «Филоколо», на курьезное смешение
в нем эпох и стилей, на постоянный контраст между приподнятым
слогом и простотой фабулы, в романе есть ряд интересных
моментов. Таков, например, вставной эпизод встречи в Неаполе Флорио
с Фьяметтой и Дионео (т. е. самим Боккаччо). Они развлекают
Флорио «вопросами любви», напоминающими куртуазные споры
на любовные темы2 (например: «какая дама более несчастна, —
та, которая имела возлюбленного и потеряла его, или та, которая
не имеет надежды иметь его?»). Иногда введение к вопросу
расширяется в маленькую новеллу. Эти новеллы Боккаччо впоследствии
пересказал в расширенном виде в своем «Декамероне».
Вслед за «Филоколо» Боккаччо написал небольшую поэму «Фило-
страто», в которой он впервые использовал заимствованную у
площадных певцов народную восьмистрочную строфу — октаву. Сюжет
«Филострато» заимствован из «Романа о Трое» (автор —
французский трувер Бенуа де Сент-Мор), имевшего в Италии хождение
в латинском пересказе Гвидо делле Колонна. Боккаччо разработал
любовный эпизод из этого романа — историю Троила и Гризеиды,
38
С. С. МОКУЛЬСКИЙ
которую впоследствии драматизировал Шекспир в своей комедии
«Троил и Крессида». «Филострато» имеет автобиографическую
подкладку, так как написан под свежим впечатлением измены
Фьяметты.
Содержание поэмы сводится к следующему. Троянец Троил
влюблен в прекрасную греческую пленницу Гризеиду; чтобы добиться ее
благосклонности, он прибегает к помощи своего двоюродного брата
Пандара, который успешно справляется с этим поручением. Троил
и Гризеида некоторое время наслаждаются любовью, затем при
обмене пленными Гризеиду отправляют к отцу под охраной греческого
воина Диомеда. При расставании влюбленные проливают горькие
слезы и клянутся в вечной верности. Но затем Диомед добивается
благосклонности Гризеиды при помощи тех же убеждений, которые
раньше пускал в ход Пандар и которые на этот раз скорее приводят
к желанной цели. Тщетно ждет Троил возвращения Гризеиды. Он
пишет ей письмо и получает лживый ответ. Наконец, на одеянии,
отнятом в бою у Диомеда, он узнает пряжку, которую он сам подарил
Гризеиде. Убедившись в ее измене, он ищет смерти в бою и падает
от руки Ахилла.
В «Филострато» Боккаччо впервые проявил присущую ему
психологическую тонкость в обрисовке характеров и поступков.
Вместо схематического изображения женской неверности,
данного в романе Бенуа де Сент-Мора, он дал полный анализ любовных
отношений Троила и Гризеиды от самого зарождения у Гризеиды
чувства, являющегося изменой ее покойному мужу. Подсылая
к Гризеиде Пандара, Троил выступает как соблазнитель и в
дальнейшем сам расплачивается за те средства, которые применил для
овладения ею. С исключительной тонкостью Боккаччо рисует сцену
убеждения Гризеиды Пандаром, во время которой Пандар искусно
играет на слабых струнках Гризеиды — на ее тщеславии, кокетстве
и т. д. Не менее тонко сделана также сцена обольщения Гризеиды
Диомедом, подметившим ее нежность к Троилу и сумевшим
использовать ее в своих интересах. По своему сюжетному построению
«Филострато» — типичный психологический роман, несмотря
на стихотворную форму. Боккаччо закладывает здесь основу той
манеры повествования, которая приведет его впоследствии к
созданию «Фьяметты».
Третье юношеское произведение Боккаччо — «Тезеида» (1339) —
тоже является поэмой в октавах на античный сюжет. Ее название,
напоминающее название классических эпопей (ср. «Энеида», «Фи-
ваида» и т. п.), свидетельствует о претензии Боккаччо создать эпос
Боккаччо
39
«о трудных делах Марса», т. е. о военных подвигах знаменитых
героев Греции. На самом же деле в «Тезеиде» разработана созданная
самим Боккаччо любовная история, полная отзвуков его отношений
к Фьяметте.
Это новелла о двух фиванских юношах Арчите и Палемоне,
которые оба влюбляются в красавицу Эмилию, свояченицу афинского
царя Тезея. Друзья решают поединком вопрос, кому должна
достаться любимая ими женщина. В этом поединке одерживает верх
Арчит, но затем он падает с лошади и умирает, завещая завоеванную
им Эмилию Палемону.
Чтобы поднять новеллистический сюжет на высоту эпопеи,
Боккаччо заставляет богов (Венеру, Юнону, Диану) принимать
ближайшее участие в судьбе его героев. Однако античные элементы
переплетаются в поэме со средневековыми: греческих героев
посвящают в рыцари, и они бьются на турнире; Тезей окружен баронами
и носит титул герцога афинского и т. д. В поэме много длиннот,
обширное историческое введение (война Тезея с амазонками и его
женитьба на Ипполите), столь же обширное заключение (похороны
Арчита, военные игры в его честь, свадьба Палемона и Эмилии),
пространные описания, речи и сравнения в античном эпическом стиле.
Но на первом месте в «Тезеиде» снова стоит тонкое изображение
любовных отношений и переживаний. Необходимо отметить рост
поэтического мастерства Боккаччо, его превосходное овладение
октавой.
Следующим произведением Боккаччо был «Амето» (1341) —
пастушеская идиллия, написанная уже во Флоренции, вперемежку
стихами и прозой. Он не только дает здесь описание чувств, но также
детально разрабатывает обстановку и рисует многочисленные
картины пастушеской жизни, широко используя наследие античной
буколической поэзии.
Герой пасторали Амето — грубый, неразвитый, простодушный
юноша, преданный охоте. Однажды после охоты он встречает в кругу
нимф красавицу Лию, слышит ее песню и влюбляется в нее. С этих
пор он постоянно следует за нимфами, охотится с ними и отдыхает
на берегу реки. Все его мысли отданы Лии. Он посвящает себя
служению ей и постепенно перерождается под ее влиянием.
Идея облагораживающей силы любви, побеждающей грубую,
животную натуру, могла быть воспринята Боккаччо из «Циклопа»
Овидия, в котором было показано перерождение сурового циклопа
Полифема под влиянием любви к Галатее. Однако античный мотив
переплетается у Боккаччо со старой доктриной трубадуров, которые
40
С. С. МОКУЛЬСКИЙ
тоже говорили об облагораживающем действии любви на человека.
Характерно, однако, что Боккаччо, рисуя перерождение Амето,
наделяет его комическими черточками. Так, когда Амето в первый
раз пытается воспеть свою Лию, он делает это весьма прозаично,
навлекая на себя насмешки нимф.
Далее Боккаччо излагает рассказы семи нимф о своих любовных
похождениях. Каждая из них посвятила себя служению одной из семи
добродетелей: мудрости, справедливости, умеренности,
нравственной стойкости, любви, надежде, вере (эта аллегория добродетелей
заимствована из дантовского «Чистилища», песнь XXXI). В конце
появляется Венера в полосе ослепительного света, которого Амето
не может вынести. Тогда Лия (вера) погружает его в реку, после
чего он становится способным выносить свет богини. Просветленный
и счастливый, он чувствует, что из животного сделался человеком.
Так, заимствуя дантовскую аллегорию, Боккаччо показывает,
как человек из мрака невежества и чувственности возвышается
до богопознания. Но возвращение к дантовскому аллегоризму
Боккаччо не удается: его нимфы — не святые девы, как у Данте, а
веселые, легкомысленные девушки, соблазняющие молодых пастухов,
а обращение души к добродетели изображается в ряде рассказов
о чувственной любви. Моральная аллегория превращается только
в предлог, по существу же Боккаччо утверждает прелесть земной
любви и ее облагораживающее воздействие на человека.
Еще более своеобразно преломляются дантовские мотивы в
следующем, весьма оригинальном произведении Боккаччо — «Любовное
видение» (1342). По замыслу Боккаччо, эта поэма в терцинах должна
была, подобно «Божественной комедии», показать путь
освобождения от земной суеты и достижения вечного блаженства. На деле же
Боккаччо пришел к прямо противоположному результату: вместо
осуждения жажды славы, богатства, могущества и наслаждений
он дал утверждение всех этих земных соблазнов, обладающих для
него особой притягательной силой. Величественная женщина,
олицетворяющая небесную добродетель, обещающая привести поэта
к истинному счастью (подобно Беатриче в «Божественной комедии»),
все время оттесняется возлюбленной поэта Фьяметтой, образ
которой Боккаччо не удается превратить в аллегорию. Желая достичь
небесного мира, поэт никак не может оторваться от мирской суеты.
Если поэма Данте завершалась лицезрением бога, то поэма Боккаччо
завершается тем, что поэт держит в объятиях возлюбленную. Этим
по существу снимается вопрос о небесном рае, который заменяется
земным счастьем.
Боккаччо
41
Вопреки субъективным намерениям Боккаччо, его
аллегорическая поэма превращается в настоящий гимн земному миру, земной
красоте и чувственной любви. Расхождение Боккаччо с Данте
оказывается тем более разительным, чем более Боккаччо пытается идти
по следам этого глубоко почитаемого им поэта. В итоге «Любовное
видение» временами кажется прямой пародией на «Божественную
комедию», хотя пародирование никак не могло входить в
намерения Боккаччо, так как Данте он объявлял «господином всякого
знания», а себя лишь его «малым слугой». Несмотря на то что
«Любовное видение» отделено от «Божественной комедии» всего
лишь двадцатилетним промежутком, эти произведения кажутся
продуктами двух различных эпох, настолько велик был идейный
сдвиг, происшедший в сознании первых итальянских гуманистов.
В следующем своем произведении — «Фьезоланские нимфы»
(1345-1346) — Боккаччо снова разрабатывает пасторальную
идиллическую фабулу. Эта фабула, вымышленная Боккаччо, вдохновлена
подражанием античным локальным мифам, в которых объяснялось
происхождение той или иной географической местности. Главным
образцом для Боккаччо являлись «Метаморфозы» Овидия,
переполненные подобными локальными мифами. В «Фьезоланских нимфах»
Боккаччо объясняет происхождение речек Африко и Мензолы,
обтекающих холм, на котором расположен живописный городок
Фьезоле. Эти речки разъединяются близ холма Фьезоле, а затем
снова стекаются. Боккаччо рассказывает, что их названия
произошли от имен двух несчастных любовников.
В незапамятную старину, когда еще не существовало города
Фьезоле, на этом холме обитали богиня Диана со своими нимфами.
Однажды в собрание нимф проник пастух Африко, влюбившийся
в нимфу Мензолу. Чтобы приблизиться к ней, он по совету
Венеры переоделся в женское платье. В ответ на любовное признание
Африко Мензола, давшая обет девственности, сначала отвергает
его, но затем пробудившееся в Мензоле чувство побеждает ее стыд
и страх перед Дианой, и Мензола становится возлюбленной
Африко. Вслед за этим Мензола раскаивается в совершенном ею
поступке и начинает избегать Африко, который с отчаяния убивает
себя копьем, окрашивая своею кровью ручей. Между тем Мензола
рождает ребенка и, страшась гнева Дианы, скрывается от нее.
Однажды Диана застает ее с ребенком. Убегая от нее, Мензола
превращается в ручей, который за холмом Фьезоле соединяется
с ручьем Африко. Родители Африко подбирают ребенка Мензолы
и воспитывают его.
42
С. С. МОКУЛЬСКИЙ
Эта небольшая любовная история, написанная октавами,
рассказана Боккаччо просто, искренне, сердечно, без всякой риторической
декламации. Боккаччо мастерски изображает борьбу Мензолы с ее
любовью и то, как она становится ее жертвой. Он впервые в
европейской литературе рисует материнское чувство Мензолы,
невозможность для нее расстаться с ребенком, в котором заключены
одновременно ее радость и ее гибель. Новым моментом в «Фьезоланских
нимфах» являются также семейные сцены между Африко и его
родителями. Все это знаменует явный перелом в стиле юношеских
произведений Боккаччо, его «выход к свободному творчеству»,
по выражению А. Н. Весел овского- Условность формы классической
эклоги с ее мифологическим аппаратом здесь искусно
преодолевается. Боккаччо создает «обыкновенную историю деревенской
любви, не идеальной, но юношески-здоровой, внезапно овладевшей
всем существом в майское утро, когда цветут луга и поют соловьи,
и так же быстро прерванной разлукой и смертью»*. Маленькая
идиллия Боккаччо пронизана здоровым реализмом и направлена
своим острием против аскетических идеалов. Аскетический культ
девственности признается здесь не только непосильным, но и
губительным для человека. Отказ от аскетизма, следование здоровым,
естественным инстинктам является, по мнению Боккаччо,
обязательной предпосылкой полноценной, человеческой жизни.
3
Наиболее значительным из юношеских произведений Боккаччо,
в котором он показывает себя уже законченным
художником-реалистом, является «Фьяметта», иначе называемая также «Элегией
мадонны Фьяметты». Эту повесть часто называли первым
психологическим романом в западноевропейской литературе. Боккаччо
дал здесь мастерский анализ чувств и переживаний женщины,
покинутой своим возлюбленным. При этом он воспользовался формой
монологического повествования: вся повесть представляет собой
пространную исповедь или признание героини, носящей имя
возлюбленной Боккаччо — Фьяметты.
Как и во всех юношеских произведениях Боккаччо, в «Фьяметте»
имеется ряд автобиографических элементов. Но автобиографизм
* А. Н. Веселовский. Боккаччо, его среда и сверстники. Т. I. 1893. В кн.:
Собрание сочинений Александра Николаевича Веселовского. Т. 5. Пг., 1915,
стр. 349.
Боккаччо
43
здесь выступает уже в своеобразно опосредствованном виде: если
в жизни Фьяметта изменила поэту, то в романе роли переменились —
не Фьяметта изменила Памфило, а Памфило Фьяметте. «Боккаччо
заставил Фьяметту пережить всю ту бурю ревности, негодований
и надежд, которую испытал сам в лице Троила, Галеоне, Фило-
коло. Такое переживание в уме предполагает известное отрешение
от страстности, наступление художественного покоя; лишь при таких
условиях возможен такой анализ болевых ощущений, доходящий
до мелочей, чуткий к каждому движению, заботливо отмечающий
всякую черту»*. Итак, перенеся факты собственной душевной жизни
на Фьяметту, Боккаччо освободился от биографизма в узком смысле
слова и получил возможность дать объективный анализ переживаний
покинутой женщины на материале собственного жизненного опыта.
Содержание «Фьяметты» сводится к следующему: прекрасная
молодая женщина Фьяметта изменяет любящему ее мужу с юношей
Памфило, которого она встретила в церкви. Счастье влюбленных
непродолжительно, потому что отец Памфило отзывает его к себе.
Уезжая, Памфило обещает Фьяметте возвратиться через несколько
месяцев. Фьяметта тоскует по возлюбленному, перечитывает его
письма, перебирает его вещи, отмечает черными и белыми
камушками дни, оставшиеся до обещанного им срока приезда. Общество
тяготит ее, она теряет даже вкус к нарядам. Наконец до нее доходят
слухи о женитьбе Памфило. Ее горе не знает границ; обида, отчаяние
и злоба теснятся в ее душе; она помышляет даже о самоубийстве.
Но еще горше становится Фьяметте, когда она узнает, что Памфило
не женился, а только завел новую возлюбленную. Теперь она теряет
всякую надежду на то, что Памфило когда-нибудь вернется к ней.
Фьяметта рассказывает свою горестную историю другим женщинам,
чтобы они не повторили ее ошибок.
Несложная история несчастной любви Фьяметты изложена
Боккаччо с исключительным вниманием к переживаниям героини,
с мастерски схваченными бытовыми и психологическими
деталями. Такое изображение внутреннего мира человека было подлинно
новым словом в европейской литературе. До Боккаччо женщине
поклонялись, ее воспевали, но не пытались разобраться в ее душевной
жизни. Боккаччо первый низвел женщину с пьедестала и показал ее
во всей жизненной конкретности. Этим он заложил основу
психологического романа, который разовьется в европейских литературах
несколькими веками позже.
* А. Н. Веселовский. Боккаччо, его среда и сверстники. Т. I. Там же, стр. 397-398.
44
С. С. МОКУЛЬСКИЙ
Однако при всей принципиальной новизне «Фьяметты», при
сильнейших реалистических моментах в этой повести, Боккаччо не
удается в ней еще окончательно объективировать образ своей героини.
Он наделяет Фьяметту не только тонкой наблюдательностью,
но и гуманистической ученостью. Он заставляет ее изъясняться
длинными периодами, построенными по образцу латинских
писателей и уснащенными моральными сентенциями, историческими
параллелями, цитатами из классических авторов. Объясняется это
тем, что итальянская национальная художественная проза
создавалась под влиянием римских риторических прозаиков, у которых
Боккаччо учился писательскому мастерству.
Но вся эта гуманистическая ученость и риторика не может
заглушить в «Фьяметте» отмеченного реалистического показа
женской психики. Новизна «Фьяметты» по сравнению с «Новой
жизнью» Данте хорошо показана А. Н. Веселовским в его
классическом труде о Боккаччо; «Данте и Беатриче просятся в обстановку
старого католического храма, среди мелодий и вечерних лучей,
льющихся из разноцветных окон: Фьяметту и Памфило не оторвать
от пейзажа байского берега и пряной атмосферы неаполитанского
салона. Там юношеская любовь, взлелеянная целомудренным
воспоминанием до значения мирового факта, здесь повесть знойной
страсти, захватывающей дух, но в сущности очень обыденной,
с ее реальными восторгами и падениями — и просьбой простого
людского счастья»*.
4
По возвращении во Флоренцию Боккаччо принял живое
участие в политической жизни родного города, в котором кипела
напряженная социальная борьба. Быстрый рост мануфактурной
и домашней промышленности все больше обострял классовые
противоречия между «жирным» и «тощим народом», между цеховыми
мастерами и ремесленным предпролетариатом. Во Флоренции
участились народные волнения. Уже вырисовывались контуры
грандиозного восстания «чомпи» (чернорабочих)3, до которого
Боккаччо немного не дожил (оно произошло через три года после
его смерти, в 1378 г.).
Боккаччо был записан в один из семи старших цехов и
выполнял различные дипломатические поручения правящей гвельфской
* А. Н. Веселовский. Боккаччо, его среда и сверстники. Т. I. Там же, стр. 438.
Боккаччо
45
партии. По своим политическим убеждениям он твердо стоял
на республиканских позициях; ему принадлежит изречение: «Нет
жертвы более угодной богу, чем кровь тирана». При всем том
Боккаччо отрицательно относился к движению городских низов,
непросвещенной «черни». В этом сказалось одно из противоречий
мировоззрения итальянского гуманизма, характерное даже для
лучших его представителей, Боккаччо и Петрарки.
В 1350 г. Боккаччо впервые встретился с Петраркой, которого он
уже раньше хорошо знал по его произведениям. Личное знакомство
двух великих гуманистов скоро перешло в тесную дружбу. Однако
Боккаччо всегда относился к Петрарке с глубокой почтительностью,
называя его своим «наставником». Он говорил, что общение с
Петраркой оказало на него большое облагораживающее воздействие.
Но особенно сближало Петрарку и Боккаччо восторженное
отношение к античной культуре. Как ученый, Боккаччо продолжал
начатую Петраркой работу по изучению классических писателей.
Он расширил доступную Петрарке область знания, включив в нее
греческую литературу, которую он читал в оригинале, так как
изучил под руководством калабрийского грека Леонтия Пилата
греческий язык.
Плодом занятий Боккаччо классической древностью явился
ряд его научных работ на латинском языке. Боккаччо дает сводку
знаний по вопросам античной мифологии в обширном труде «О
генеалогии богов». Он доказывает здесь, что древние верили сначала
в единого бога и что политеизм возник позже благодаря философам
и поэтам. Античные мифы Боккаччо объясняет аллегорически,
воспроизведя теорию Данте о четырех смыслах поэзии. Другой
научный труд Боккаччо — «О горах, лесах, озерах, реках,
болотах и о названиях морей» — представляет собой первую попытку
создания географического словаря классической древности. Далее
Боккаччо сочиняет книгу «О знаменитых женщинах», задуманную
как дополнение к книге Петрарки «О знаменитых мужах». Он
дает здесь ряд кратких биографий выдающихся женщин, начиная
от Евы и кончая королевой Джованной, дочерью Роберта
Неаполитанского: большая часть жизнеописаний относится к героиням
античного мира.
Особое место среди научных трудов Боккаччо занимает книга
«О роковой участи знаменитых мужей», в которой он использовал
для изложения своих политических взглядов ряд изречений,
заимствованных у Цицерона и других латинских писателей. Боккаччо
проводит в этой книге принципы стоической морали, доказывает,
46
С. С. МОКУЛЬСКИИ
что нравственное удовлетворение дается человеку сознанием
исполненного долга. Добродетель состоит из доблести, силы воли,
твердости духа; она освобождается от подчинения слепой,
несправедливой и капризной Фортуне.
Ученость Боккаччо по сравнению с Петраркой носила более
средневековый характер; в нем всегда чувствовался начетчик,
лишенный критицизма. В отличие от Петрарки, стремившегося
проникнуть в античную мудрость, Боккаччо был прежде всего
ученым-собирателем. Наибольшее значение для современников имели
его работы справочного характера, которые были затем переведены
на итальянский язык и сыграли большую образовательную роль.
Хотя Боккаччо высоко ставил латинский язык, однако сам он
пользовался им гораздо меньше, чем Петрарка. Помимо названных
научных трудов, он написал по-латыни еще 16 эклог (1348-1353),
интересных только в биографическом отношении. В целом латинские
произведения Боккаччо имеют несравненно меньшее значение, чем
латинские работы Петрарки.
5
Произведением Боккаччо, на котором зиждется его мировая
слава, является «Декамерон», написанный приблизительно в 1348-
1353 гг. В этой замечательной книге, открывающей собой историю
итальянской художественной прозы, Боккаччо наносит
сокрушительный удар религиозно-аскетическому мировоззрению и дает
необычайно полное, яркое и разностороннее отражение современной
ему итальянской действительности. Реализм Возрождения,
подготовленный уже в юношеских произведениях Боккаччо, получает
яркое выражение в «Декамероне», который часто
противопоставляли «Божественной комедии» Данте как книгу, знаменующую
начало новой эры в западноевропейской литературе.
В жанровом отношении «Декамерон» доводит до высокого
совершенства небольшую прозаическую повесть — новеллу,
существовавшую в итальянской литературе еще до Боккаччо. Своими
корнями этот жанр уходит в литературу раннего средневековья,
в литературу легенд, сказок, исторических повестей и захожих
сказаний, отчасти восточного происхождения. Многие такие
повестушки входили в популярные латинские сборники «Римские
деяния» и «Книга семи мудрецов», которая уже в XIII в. была
переведена на итальянский язык. В самом конце этого века появился
первый анонимный сборник итальянских новелл — «Новеллино, или
Боккаччо
47
Сто древних новелл», весьма пестрый по своему содержанию. Мы
встречаем здесь пересказы сюжетов рыцарских романов, сказания
об античных героях и мудрецах, о библейских персонажах и святых,
о западных и восточных монархах (особенно часто об императоре
Фридрихе II), а также басни о животных и восточные притчи. Но
самую интересную группу новелл в «Новеллино» составляют бытовые
рассказы и анекдоты, почерпнутые из живой итальянской
действительности. Видное место среди них занимают рассказы о любовных
похождениях попов с женами горожан, столь частые во французских
фаблио и немецких шванках. Новеллы «Новеллино» отличаются
краткостью и схематичностью; стиль их суховат и безыскусственен,
стремление к правдоподобию часто приносится в жертву
занимательности. В новелле всегда налицо наивная морализация. Анонимный
автор «Новеллино» ставил себе чисто практические цели: его
задачей являлось принести «большую пользу людям, не имеющим
образования, но желающим его получить».
Боккаччо воспринял из «Новеллино» и других ранних сборников
новелл все заключенные в них плодотворные элементы:
анекдотическую фабулу, трезвый бытовой элемент, жизненную
непосредственность, прославление находчивости и остроумия, непочтительное
отношение к попам и монахам. К этим унаследованным элементам
он добавил последовательную реалистическую установку,
богатство психологического содержания и сознательную артистичность
формы, воспитанную внимательным изучением античных авторов.
В силу такого подхода к новелле она стала полноправным
литературным жанром, легшим в основу всей повествовательной литературы
нового времени. Свежесть и новизна этого жанра, его народные
корни, ощутимые даже под лоском изящного литературного стиля
Боккаччо, сделали его наиболее приспособленным для выражения
передовых гуманистических воззрений.
Подобно «Новеллино», «Декамерон» состоит из ста новелл. Но эти
новеллы следуют одна за другой не произвольно, как в «Новеллино»,
а в определенном, строго продуманном порядке. Они скреплены
при помощи обрамляющего рассказа, являющегося вступлением
к книге и дающего ей композиционный стержень. Такое построение
существовало уже до Боккаччо в восточных сборниках сказок
(арабском — «1001 ночь», индусском — «Панчатантра», персидском —
«Тути-Намэ»), а также в популярной в средневековой западной
литературе «Книге семи мудрецов», тоже восходящей к восточным
источникам. Но во всех указанных сборниках давалась бытовая
мотивировка рассказывания сказов (рассказывание для задержания
48
С. С. МОКУЛЬСКИЙ
казни, для возражения на какую-либо мысль, для убеждения
в чем-либо и т. д.). Боккаччо снял утилитарный мотив и заменил
его рассказыванием ради рассказывания. До «Декамерона» этот
прием был применен Боккаччо уже в «Филоколо» ("13 любовных
вопросов) и в «Амето» (любовные рассказы семи нимф). При таком
построении рассказчики отдельных новелл являются участниками
вводного, обрамляющего рассказа.
«Декамерон» начинается знаменитым описанием
флорентийской чумы 1348 г. Мрачный, трагический колорит этого описания
эффектно контрастирует с веселым, жизнерадостным настроением
всего сборника. Семь дам и трое юношей удаляются из зачумленного
города на виллу, находящуюся в окрестностях Флоренции, и
приятно проводят время в прогулках, играх, танцах и в рассказывании
новелл. Каждый день рассказывается по десяти новелл (по числу
участников этой компании), а всего они проводят на вилле десять
дней. Отсюда и название сборника «Декамерон» (свободное греческое
словообразование, означающее «десятидневник»).
Таким образом, новеллы «Декамерона» рассказываются в
обстановке своего рода «пира во время чумы». А. Н. Веселовский замечает
по этому поводу: «Боккаччо схватил живую, психологически верную
черту... страсть жизни у порога смерти»*. Рассказчики
«Декамерона» забывают о чуме, они беспечно проходят мимо ужасов смерти.
В этом ярко проявляется жизнерадостность людей эпохи
Возрождения. Боккаччо изображает рассказчиков и рассказчиц «Декамерона»
образованными, изящными и остроумными молодыми людьми. Трое
юношей носят имена Дионео, Филострато и Памфило, под которыми
Боккаччо выводил самого себя в своих юношеских произведениях.
Веселый Дионео, меланхоличный Филострато и рассудительный
Памфило — показатели настроений самого Боккаччо в разные
периоды его молодости. Характер каждого из юношей отражается
в рассказываемых им новеллах. То же относится и к дамам, среди
которых фигурирует и Фьяметта. Это придает большое разнообразие
сборнику и вносит в него структурную четкость.
Каждый день собеседники избирают из свой среды короля или
королеву, которые руководят занятиями всей компании и
рассказыванием новелл. При этом в восьми днях из десяти они намечают
тему, которая должна быть трактована всеми рассказчиками. Однако
эти темы обычно носят очень общий характер и не препятствуют
разнообразию новелл, развертывающих данную тему.
* А. Н. Веселовский. Боккаччо, его среда и сверстники. Т. I. Там же, стр. 455.
Боккаччо
49
Боккаччо почти всегда трактовал использованные в литературе
сюжеты, подчас весьма древние. Источники «Декамерона» —
французские фаблио, средневековые романы, античные и восточные
сказания, средневековые хроники, сказки, новеллы
предшествующих новеллистов, злободневные анекдоты. Но Боккаччо
пользовался заимствованным материалом весьма свободно, внося новые
черточки, видоизменяя целую установку всего рассказа. В итоге
весь использованный им материал принимал ярко
индивидуальный отпечаток.
У предшественников Боккаччо новелла была еще
назидательным рассказом средневекового типа. Боккаччо сохраняет эту
традиционную установку. Рассказчики «Декамерона» сопровождают
свои новеллы моральными сентенциями. Так, 8-я новелла X дня
должна показать силу истинной дружбы, 5-я новелла I дня должна
иллюстрировать значение быстрого и удачного ответа и т. д. Однако
обычно у Боккаччо мораль вытекает из новеллы не логически, как
в средневековых назидательных рассказах, а психологически. Это
придает новелле новое идейно-художественное качество.
В своих новеллах Боккаччо рисует огромное множество событий,
образов, мотивов, ситуаций. Он выводит целую галерею фигур,
взятых из различных слоев современного общества и наделенных
типичными для них чертами. Несмотря на такое разнообразие
содержания, новеллы Боккаччо могут быть разбиты на несколько групп.
Первая, самая простая в сюжетном отношении группа — это
коротенькие рассказы, повествующие о каком-нибудь остроумном
изречении, коротком и быстром ответе, помогающем герою выйти
из затруднения. Такие новеллы, напоминающие новеллы «Новел-
лино» и французские фаблио, заполняют I и VI дни «Декамерона».
К этой группе примыкает и знаменитая новелла восточного
происхождения о трех кольцах (д. I, нов. 3-я), в которой Боккаччо
утверждает принципиальное равенство трех основных религий, тем
самым выступая против претензии христианской религии на
единственную истинность. Новеллу эту впоследствии обработал Лессинг
в драме « Натан Мудрый ».
Ко второй группе относятся новеллы об удивительных
добродетелях и глубоких движениях души. Такие новеллы характерны в
особенности для X дня «Декамерона». Здесь прославляется пышность
двора испанского короля Альфонса, великодушие Карла
Анжуйского, щедрость Натана, непоколебимая любовь Тито и Джизиппо.
Новеллы этой группы часто посвящены прославлению рыцарских
добродетелей, куртуазии. Такова известная новелла о Федериго
50
С. С. МОКУЛЬСКИЙ
дельи Альбериги (д. V, нов. 9-я) — бедном рыцаре, заколовшем для
угощения любимой дамы своего единственного сокола.
Другая знаменитая новелла этой группы — об испытании Гри-
зельды (д. X, нов. 10-я). Во имя прославления супружеской верности
и покорности мужу Боккаччо заставляет Гризельду подавить в себе
и самолюбие, и человеческое достоинство, и женскую гордость,
и ревность к сопернице, и материнское чувство. Гризельда выходит
победительницей из всех этих унизительных испытаний и в конце
новеллы награждается за свою кротость, покорность и
самоотверженную любовь. Эта новелла, последняя в «Декамероне», заключает
в себе моральное поучение в стиле средневековых рассказов, в общем
мало типичное для Боккаччо. Она произвела большое впечатление
на Петрарку, который даже перевел ее на латинский язык.
К третьей группе относятся новеллы, повествующие об
удивительных превратностях судьбы, бросающей людей от одних условий
жизни к другим, прямо противоположным. К этим превратностям
«фортуны» Боккаччо и его герои относятся с оптимизмом,
характерным для людей эпохи Возрождения. Такие новеллы больше всего
встречаются во II и V днях. Среди случайностей, разрешающих
запутанную фабулу, важную роль играет неожиданное
нахождение утерянных родственников — мотив, ставший впоследствии
излюбленным в комедиях XVI-XVII вв. Так, в 5-й новелле V дня
девушка, в которую одновременно влюблены двое юношей, узнает
в одном из них своего утраченного брата, после чего выходит замуж
за другого.
В некоторых новеллах Боккаччо дает невероятное нагромождение
превратностей судьбы, постигающих его героев. Такова новелла
о Ландольфо Руффоло (д. II, нов. 4-я), который был богатым
купцом, затем потерял все свое богатство, сделался корсаром и снова
приобрел состояние, ограбив турок; когда он решил вернуться к
спокойной жизни, генуэзцы захватили его в плен, но их судно терпит
кораблекрушение; Ландольфо спасается на ящике и полумертвый
приплывает на нем к острову Корфу; открыв ящик он находит
в нем целое состоящие и становится богатым в третий раз. Сюда же
относится новелла о дочери вавилонского султана Алатиэль (д. II,
нов. 7-я), которая в течение четырех лет попадает в руки к девяти
мужчинам, после чего прибывает к своему жениху, королю дель
Гарбо, и как ни в чем не бывало выходит за него замуж. Некоторые
из новелл этой группы имеют остро комический характер. Такова
остроумная новелла о приключениях в Неаполе провинциала Ан-
дреуччо из Перуджи (д. II, нов. 5-я), знакомящая читателя с миром
Боккаччо
51
неаполитанских куртизанок и воров. Простодушный провинциал
становится их жертвой и испытывает в течение одной ночи
множество разнообразных приключений, после которых он не знает,
как бы поскорее уйести ноги из этого опасного города.
Новелла об Андреуччо подводит нас к группе буффонных новелл,
рассказывающих о проделках веселых гуляк, шутников, любителей
веселого словца, пользующихся случаем позабавиться на чужой счет.
Таковы флорентийские живописцы Бруно, Буффальмакко и Нелло,
забавные проделки которых над простаками Симоне и Каландрино
заполняют целых пять новелл VIII и IX дней. Эти флорентийские
затейники отличаются большой наблюдательностью, остроумием
и неиссякаемой энергией, которую они растрачивают на всякого рода
комические выдумки. Мораль новелл этой группы может быть
выражена словами: горе всем слабым, недалеким, доверчивым людям!
Боккаччо с сочувствием относится к проделкам своих шутников,
когда они безобидны и выражают остроумие и изобретательность.
Иной характер имеют плутни попов и монахов, использующих
религиозность и суеверие массы в своих личных целях. Боккаччо
язвительно разоблачает алчность и похотливость этих пройдох. Так
комическая новелла превращается в сатирическую,
дискредитирующую служителей католической церкви.
Классическим типом церковного шарлатана является брат Чипол-
ла (д. VI, нов. 10-я), монах ордена св. Антония, морочащий голову
доверчивым людям всякими мнимыми реликвиями, вроде локона
серафима, ногтя херувима, пузырька с потом ангела, боровшегося
с дьяволом, склянки со звоном колоколов Соломонова храма и т. д.
Когда двое шутников наложили в его ларец вместо реликвий углей,
брат Чиполла немедленно заявил, что бог совершил чудо, заменив
перо архангела Гавриила угольками с костра, на котором был со-
уКлсен св. Лаврентий, и собрал больше подаяния, чем обычно. Итак,
никакому плуту и шутнику не перехитрить монаха. Вся сила, все
влияние духовенства на массу держится на этом плутовстве,
сочетаемом с религиозным лицемерием.
Разоблачение духовенства, обличение показной святости,
ханжества, религиозного лицемерия характерно для «Декамерона» как
памятника гуманистической литературы. «Декамерон» — книга
с ярко выраженными антиклерикальными тенденциями. Развивая
непочтительное отношение к духовенству, присущее произведениям
городской повествовательной литературы раннего средневековья,
Боккаччо превращает монаха в комический персонаж, в мишень
для всякого рода насмешек и издевательств. Обличая католическое
52
С. С. МОКУЛЬСКИЙ
духовенство, Боккаччо широко использует комический контраст
между словами и поступками монахов. Проповедуя высшую
мудрость монахи на самом деле грубы и невежественны; проповедуя
чистоту и воздержание, они похотливы и развратны и т. д. При этом
они даже не стараются сгладить контраст между своими словами
и действиями, а убеждают верующих: «Делайте то, что мы говорим,
а не то, что мы делаем» (д. III, нов. 7-я), или же доказывают, что
можно быть святым человеком и грешить, потому что «святость
пребывает в душе, а грех в теле» (д. III, нов. 8-я). Руководствуясь
такими афоризмами, монахи у Боккаччо постоянно выступают
в роли соблазнителей горожанок; при этом обычно их проделки
разоблачаются.
Но обличая развратных монахов, Боккаччо был далек от
отрицания монашества и католической церкви в целом. Его
антиклерикальная сатира не перерастала в антирелигиозную, а имела
целью исправление пороков духовенства. Однако объективный
результат сатирических выпадов Боккаччо значительно
превзошел его субъективные замыслы. В сознании будущих поколений
сатира «Декамерона» получила ярко выраженное антирелигиозное
звучание.
Антиклерикальные новеллы Боккаччо обычно содержат
эротический элемент. Эротическая тематика в этих новеллах мотивируется
проводимым в них разоблачением аскетизма. Однако и помимо
этого эротическая тематика многих новелл «Декамерона» имеет
глубоко принципиальный характер. Она вырастает из борьбы
гуманиста Боккаччо против устарелых норм феодальной семьи,
против делового брака, обусловленного фамильными интересами,
против подавления естественных влечений и тирании
домостроевского уклада.
Соответственно своим новым идеологическим установкам,
Боккаччо совершенно изменяет трактовку темы супружеской
неверности. Если городская литература раннего средневековья
изобличала неверных жен как служительниц дьявола, то Боккаччо
обычно становится на сторону женщины. Будучи выдана замуж
насильно, женщина, изменяя нелюбимому мужу, мстит изменой
за свое угнетение; ее измена есть проявление верховной, суверенной
силы любви. Стоя на точке зрения естественной морали, Боккаччо
считает любовь единственным законом, не терпящим никаких
ограничений и рамок. Ни династические, ни сословные, ни фамильные
интересы для Боккаччо в вопросах любви не являются решающими.
Боккаччо охотно рисует случаи, когда любовь разрушает социальные
Боккаччо
53
перегородки. Так, Гисмонда, дочь принца, отдается слуге своего
отца Гвискардо и красноречиво защищает перед отцом свое право
любить человека «низкого происхождения» (д. IV, нов. 1-я).
Возмущение природы и страсти против установленных
социальных законов и предрассудков приводит у Боккаччо подчас к
трагическим конфликтам. Так, новелла о Гисмонде и Гвискардо кончается
трагически: принц убивает Гвискардо и посылает его сердце дочери
в золотом кубке; Гисмонда же поливает его отравленной водой и
выпивает ее. Столь же трагично кончается новелла об Изабетте (д. IV,
нов. 5-я); братья убили ее любовника; она выкапывает его голову,
кладет ее в горшок базилики и ежедневно поливает своими слезами;
когда же братья отнимают у нее голову возлюбленного, Изабетта
умирает с горя. Таких трагических новелл немало в «Декамероне».
Они находятся в разительном контрасте с игривыми адюльтерными
новеллами, в которых находит выражение характерная для
Возрождения реабилитация плоти с ее естественными, здоровыми
инстинктами. Заметим, что эти эротические новеллы создали в широкой
публике совершенно неправильное, одностороннее представление
о «Декамероне».
Поразительное богатство идей, сюжетов, образов, ситуаций,
присущее «Декамерону», находит отражение также в его стиле.
Новеллы Боккаччо отличаются на редкость богатым и красочным
языком. Боккаччо создал в них стиль итальянской художественной
прозы, которая до него была примитивной и безыскусственной. Он
первый подверг ее литературной отделке, ориентируясь на опыт
античных авторов. Стремление приблизить итальянскую прозу
по ее построению к латинской привело Боккаччо к некоторой
монотонности речи, контрастирующей с живостью и актуальностью ее
содержания. Однако эта гуманистическая манера у Боккаччо еще
не застыла, как у его подражателей. Когда сюжет захватывал
Боккаччо, он переходил на разговорный флорентийский язык, которым
владел в совершенстве4. Таким живым народным языком говорят
у Боккаччо в первую очередь комические персонажи. Тогда диалог
становится быстрым, динамичным, усеивается меткими народными
словечками, поговорками, каламбурами; последние вводятся чаще
всего для маскировки эротических ситуаций. Большинство
эротических новелл Боккаччо построено на каламбурах.
Вот образчики народных поговорок у Боккаччо. Насмехаясь
над учеными из Болоньи, он говорит о них: «Вы учились азбуке
не на яблоке, а на тыкве», «вас крестили в воскресенье, а из Болоньи
вы принесли уменье держать язык за зубами». О побоях он говорит:
54
С. С. МОКУЛЬСКИЙ
«Осел при меньшем количестве палок дошел бы до Рима». Женщин,
обирающих мужчин, он называет «цирюльницами», ибо они бреют
мужчин. О правосудии он замечает: «Сколько раз лягнет осел
стену, столько ему и отзовется». Подобными красочными народными
остротами переполнены новеллы «Декамерона».
Этому жанровому, бытовому элементу, противостоит в стиле
«Декамерона» своеобразная романтическая струя. Мы находим
такую романтику уже в обрамляющем рассказе, построенном
на остром контрасте жизни и смерти. Романтичны также
трагические новеллы, с присущим им прославлением сильных страстей,
побеждающих смерть (ср. новеллы о Гисмонде, об Изабетте и др.).
Наконец, романтичны новеллы, повествующие о путешествиях
по дальним странам и опасным морям, о тех приключениях
странствующих купцов-мореплавателей, которые позволили Энгельсу
говорить об эпохе Возрождения, как о времени странствующего
рыцарства буржуазии.
Боккаччо весьма искусно сочетает обе отмеченные
стилистические тенденции — быт и романтику, комизм обыденной жизни
и трагизм сильных страстей. Он является писателем исключительно
широким и разносторонним. Обрабатывая традиционные сюжеты,
он обогащает их множеством личных наблюдений, углубляет идеи
и чувства своих персонажей, стремится передать впечатление
живой жизни, схватить в каждом предмете или образе наиболее
характерные, живые черты. В этом главным образом и заключается
его реализм, выражающий типичное для Возрождения любование
жизнью; «открытие мира и человека». Этот реализм проявляется
и в описаниях природы и внешней обстановки действия, и в живых
портретах действующих лиц, и в психологических мотивировках
их поступков.
Боккаччо создал в своем «Декамероне» классический тип
итальянской новеллы, получивший дальнейшую разработку у его
многочисленных последователей. Все итальянские новеллисты XIV, XV
и XVI вв. находятся под сильным влиянием Боккаччо. Ближайшие
преемники Боккаччо в XIV в. (например Джованни Фьоренти-
но) копируют его новеллы, стремясь механически приблизиться
к прославленному образцу. Оригинальнее других новеллистов
Франко Саккетти (Franco Sacchetti, ок. 1335-1400). Его новеллы
кажутся шагом назад по сравнению с «Декамероном».
Композиция их примитивна, характеристики однобоки и поверхностны,
реализм Боккаччо заменен наивным натурализмом. Большинство
новелл Саккетти представляет собой бытовые анекдоты, факты
Боккаччо
55
и наблюдения, изложенные живым разговорным языком. Саккетти
владеет искусством карикатуры; он любит описывать проделки
шутов и плутов, забавные происшествия, вытекающие из ничтожных
причин. В политическом отношении Саккетти разделяет взгляды
флорентийских ремесленников. Он сетует на войны и анархию,
на увеличение налогов, на суровые порядки, заведенные «жирным
народом». Однако восстание чомпи, происходившее у него на глазах,
он решительно не принял и под его воздействием пошел на
примирение с правящей верхушкой Флоренции.
По стопам Баккаччо идут также новеллисты XV в.
Крупнейшим из них был Мазуччо Гвардато из Салерно (Masuccio Guardato
Salernitano), автор «Новеллино» (1476). Он принадлежал к
неаполитанскому служилому дворянству, жил при дворе короля Ферранте
и посвящал свои новеллы, снабженные пространными моральными
послесловиями, различным представителям придворной знати.
Смертельный враг папства, он еще более усилил антиклерикальный
элемент новеллы по сравнению с Боккаччо. В целом он подражал
Боккаччо и в содержании и в форме своих новелл, но влияние
Боккаччо не подавило оригинальности Мазуччо. Его новеллы грубее
и резче, но подчас динамичнее «Декамерона»; в них отсутствуют
описания, портреты, аксессуары, и все сведено к напряженному
действию. Целый отдел «Новеллино» посвящен нападкам на
женщин, которых Мазуччо наделяет всяческими пороками, подобно
средневековым моралистам. В новеллах Мазуччо уже появляются
зачатки той эстетики ужасного, которая расцветает затем в
новеллистике XVI в.
В первой половине XVI в. количество новеллистов необычайно
возрастает, но художественное качество новеллы ослабевает в
результате начинающейся феодально-католической реакции.
Новеллисты XVI в. охотно изображают кровавые сцены, половые
извращения, сверхъестественные ужасы. Развитие новеллы Возрождения
завершает Маттео Банделло (Matteo Bandello, 1480-1562). В своем
обширном сборнике новелл он дает как бы сводку типов и
достижений итальянской новеллы за все время ее существования. В новеллах
Банделло появляются сложные романтические сюжеты, элемент
трагизма, иногда чувствительности. В то же время Банделло
стремится к объективизму и документальной точности повествования;
в его новеллах совершенно отсутствует сатирическая заостренность.
Несмотря на это, он вынужден был издать свои новеллы в Париже,
потому что в Италии они были запрещены инквизицией и папской
цензурой.
56
С. С. МОКУЛЬСКИИ
Новеллистическая литература Италии оказала большое влияние
на развитие новой европейской драмы. Она являлась сокровищницей
сюжетов, из которой обильно черпали драматурги всех европейских
стран в XVI-XVII вв. Очень многим обязан итальянской новелле
Шекспир.
6
Вскоре после завершения «Декамерона» Боккаччо испытал
рецидив аскетических настроений, с которыми он вел столь решительную
борьбу в «Декамероне». Результатом этих настроений явилась
аллегорическая поэма в дантовском стиле — «Корбаччо, или Лабиринт
любви» (1354-1355), представляющая собой язвительный памфлет
на женщин. Поэма эта имеет биографическую основу: в бытность
свою во Флоренции Боккаччо ухаживал за одной вдовой, которая
выказывала ему притворное расположение, за глаза же насмехалась
над ним, разглашая его письма к ней. Узнав об этом, Боккаччо
решил отомстить ей, написав памфлет на женщин.
В начале «Корбаччо» поэт говорит, что жестокость
флорентийской вдовушки чуть не довела его до самоубийства. Затем он
успокоился, заснул и увидел во сне, будто, гуляя, он заблудился
в страшном лабиринте гор, окружен дикими зверями и ждет
смерти. Вся эта обстановка очень напоминает ту, которую мы находим
в начале «Божественной комедии». Но в поэме Данте лес является
символом земной жизни с ее невзгодами и горестями, от которых
поэта спасает небесная любовь Беатриче, между тем как у Боккаччо
лес символизирует любовь, от которой поэта освобождает здравый
человеческий рассудок. Таким образом, любовь трактуется у Данте
и Боккаччо совершенно по-разному. Естественно поэтому, что и
выход из сходной ситуации в обеих поэмах совершенно различный:
место Вергилия занимает в поэме Боккаччо «величественный
старец» , который оказывается покойным мужем кокетливой вдовушки,
претерпевающим мучения в чистилище за «непристойную
терпимость», с которой он выносил поведение жены. Сейчас, после своей
смерти, он уже не ревнует жену, а наоборот, глубоко сочувствует
всякому, кто имел несчастье связаться с ней. Бог послал его к
поэту, чтобы раскрыть последнему глаза на женский пол и возбудить
отвращение к нему. Выполняя это поручение, старец разражается
против женщин страстными филиппиками, напоминающими
отчасти трактаты средневековых моралистов, отчасти знаменитую
VI сатиру Ювенала.
Боккаччо
57
Главное отличие «Корбаччо» от указанных произведений
антифеминистической литературы заключается в том, что Боккаччо
конкретизирует здесь свои нападки, вставляя их в бытовую рамку
и уснащая живыми современными черточками. Боккаччо мастерски
показывает в «Корбаччо» и женщину, прихорашивающуюся перед
зеркалом и пускающую в ход всевозможные косметические средства,
и женщину-болтунью, которая знает все, от звезд небесных до
нового пояса соседки, и сплетничает со служанкой, прачкой,
булочницей, и женщину в церкви, которая держит в руках четки и делает
вид, что молится, на самом же деле переглядывается с мужчинами
и перешептывается с соседками. В конце концов наставления мужа
приводят к желательному результату: поэт начинает смеяться и
излечивается от своего любовного недуга. Выведя его из любовного
лабиринта, муж вдовушки возводит его на гору, и поэт, посмотрев
вниз, ясно видит, из какого ада он спасен благодаря наставлениям
своего руководителя.
Критика отмечала грубость красок и карикатурность образов,
показанных в «Корбаччо». Эта резкость обусловлена
особенностями памфлетного жанра, к которому относится «Корбаччо».
В то же время «Корбаччо» целым рядом моментов перекликается
с «Декамероном», в котором также немало места отведено рассказу
о женских ухватках, хитростях и притворствах. Но в «Декамероне»
весь этот материал не преследует цели очернить женщин вообще,
тогда как в «Корбаччо» писатель ставит себе именно такую цель. Он
возвращается здесь к старому взгляду на женщину, как на существо
низшего порядка, полагая, что возвышенные натуры встречаются
среди женщин только в качестве исключения. Соответственно
такому изменению взглядов на женщину изменяются также взгляды
Боккаччо на любовь: от любви, как законного, самодовлеющего
принципа жизни, он возвращается к прежнему критерию —
любовь — это только вожделение.
Идеологические противоречия, присущие Боккаччо как человеку
переходной эпохи, в «Корбаччо» значительно обостряются и
приводят к попытке пересмотра принципов гуманистической морали.
В старости Боккаччо испытывает прилив религиозно-аскетических
настроений и восстает теперь против «безумия» языческих
помыслов, наполнявших его прежние произведения. Начало этого
перелома относится к 1362 г. и произошло оно под влиянием увещаний
фанатического картезианского монаха Чани, который запугал
Боккаччо угрозами вечных мук и убедил его отдаться религии.
Боккаччо решил последовать этим увещаниям, продать свои книги
58
С. С. МОКУЛЬСКИЙ
и прекратить литературно-научные занятия. Правда, Петрарка
уговорил его не делать этого, и Боккаччо продолжал работать
над своими научными трудами; но от «Декамерона» он решительно
отрекся, объявив его книгой опасной и непристойной, в особенности
в руках порядочной женщины.
Последние годы своей жизни Боккаччо посвятил изучению
и комментированию Данте, который всегда оставался его любимым
поэтом. В 1373 г. флорентийская коммуна поручила ему истолковать
«Божественную комедию» в публичных лекциях. Заняв, таким
образом, первую дантовскую кафедру в Италии, Боккаччо составил
весьма обстоятельный комментарий к первым семнадцати песням
поэмы Данте, а также начал писать первую биографию великого
поэта («Жизнь Данте»), закончить которую ему помешала смерть.
Несмотря на свое благоговение перед Данте, Боккаччо, будучи
человеком другой эпохи и совершенно другого склада, в сущности
не сумел правильно понять и оценить личность этого великого
поэта-гражданина.
Итак, Боккаччо испытал в старости известный поворот в сторону
старой культуры, как и Петрарка. Но этот поворот был не в силах
ослабить грандиозное воздействие, оказанное на сознание масс его
«Декамероном». Боккаччо вошел в историю именно как автор этой
великой книги, навсегда оставшейся одним из драгоценнейших
памятников человеческой мысли и творчества, освобождающихся
от гнета феодально-церковного мировоззрения.
^^
^э-
А. А. СМИРНОВ
Джованни Боккаччо
ι
Наряду с Петраркой, другим величайшим деятелем раннего
итальянского Возрождения был Джованни Боккаччо (Giovanni
Boccaccio, 1313-1375). Петрарка и Боккаччо были больше чем
современники: их объединяла принадлежность к почти одинаковой
общественной и культурной среде, общность филологических
увлечений и художественных интересов, многочисленные аналогии
в их биографии и творчестве, а во вторую половину жизни —
глубокая дружба, сопровождавшаяся очень сильным влиянием
Петрарки на Боккаччо, который любил и чтил основателя итальянского
гуманизма как учителя и старшего брата.
В то же время это глубоко различные между собой натуры.
Петрарка — суровый борец, отвергающий средневековые нормы,
пролагающий новые пути человеческой мысли, неспокойный и
неудовлетворенный, раздираемый противоречиями, вечно борющийся
с окружающими и с самим собой, нередко изнемогающий в этой
борьбе, но принципиально не признающий компромиссов. Боккаччо
несравненно более мягок и податлив на внешние влияния. Более
импульсивный и непосредственный, а в художественном отношении
более разносторонний, он не был по своему характеру мыслителем.
Переживая все те же противоречия, что и Петрарка, Боккаччо менее
остро их чувствует или даже вовсе не сознает. Поэтому, в то время
как в сознании Петрарки противоречия сталкиваются с огромной
трагической силой, у Боккаччо они мирно уживаются. Можно
сказать, что в основном Петрарка — стоик, а Боккаччо — эпикуреец,
хотя трагические переживания ему отнюдь не чужды. Отсюда иной
раз невыдержанность, стилистическая пестрота его произведений,
60
A.A. СМИРНОВ
в которых совмещаются самые разнородные, почти непримиримые
черты — элементы античности, влияния Данте, реалистически
переданное живое чувство, остатки средневековой поэтики, — лишь
постепенно объединяющиеся, но так, до самого конца и не
пришедшие к полному синтезу. Отсюда же, с другой стороны, легкость
и непринужденность творчества, та несколько беспечная
восприимчивость к новым культурным веяниям и впечатлениям шире,
глубже, чем раньше, раскрывающейся жизни, которые помогли
Боккаччо пойти гораздо дальше, чем Петрарке, на пути создания
новых, ренессансных поэтических жанров и стиля. Вместе с тем
Боккаччо, лишенный огромного философского кругозора Петрарки
и того морального авторитета, который еще при жизни доставил ему
общеевропейскую славу, является в большей степени
национальным итальянским писателем, выразившим с гораздо большей силой
и полнотой народные корни первого, демократического периода
итальянского Ренессанса.
Подобно Данте и Петрарке, Боккаччо был флорентийцем. Отец
его был видный флорентийский купец, родом из Чертальдо,
местечка неподалеку от Флоренции. Отправившись по торговым делам
в Париж, он вступил там в любовную связь с одной француженкой
знатного рода. Плодом этой связи был Джованни Боккаччо, рано
утративший мать и еще в младенчестве отвезенный к отцу во
Флоренцию. Отец Боккаччо хотел сделать из него коммерсанта, но мальчик
испытывал глубокое отвращение к этой профессии; внешне
подчиняясь отцу, он отдавал все свое свободное время чтению латинских
и итальянских авторов. После того как отец женился, отношения
его с сыном окончательно испортились, и юноша был рад, когда
в возрасте четырнадцати лет он был отослан отцом в Неаполь для
того, чтобы там закончить обучение торговому делу.
Неаполь в то время был крупнейшим культурным центром.
Король Роберт Анжуйский, покровитель Петрарки, человек широко
образованный, привлекал к своему двору поэтов и ученых. Вскоре
и Боккаччо получил туда доступ. Библиотекарь короля, Паоло Пе-
руджино, посвятил его в изучение классической древности, у
генуэзца Андалоне дель Негро он усвоил элементы астрономии. Дело мало
изменилось, когда отец Боккаччо позволил ему, наконец, бросить
ненавистную коммерцию и заменить ее изучением канонического
права. Боккаччо внешне снова выразил покорность, но вскоре
забросил право ради древних авторов, особенно ради своего любимого
Овидия. Но еще больше, чем занятия наукой и искусствами,
Боккаччо привлекал к двору Роберта веселый кружок аристократической
Джованни Боккаччо
61
молодежи, в который он был охотно принят благодаря своим
изящным манерам и поэтическому таланту. Он ухаживает за молодыми
красавицами, сочиняет в их честь стихи. Но предметом его самого
серьезного увлечения явилась Мария д'Аквино, незаконная дочь
короля Роберта и жена одного из видных придворных. Боккаччо
встретил ее в церкви Сан-Лоренцо в страстную субботу 1336 г.
и сразу же пылко в нее влюбился. Мария некоторое время
сопротивлялась, затем ответила полной взаимностью. Но блаженство
Боккаччо было непродолжительно: ветреная красавица стала ему
изменять, а затем совершенно его покинула. Боккаччо упреками
и мольбами долго пытался вернуть ее любовь, до тех пор, пока
призванный отцом, дела которого к этому времени сильно расстроились
и который к тому же потерял жену и всех законных детей, не был
вынужден в 1340 г. уехать во Флоренцию.
Годы, проведенные в Неаполе (1327-1340), были счастливейшим
временем в жизни Боккаччо и вместе с тем периодом интенсивного
поэтического творчества, когда он сформировался как писатель.
Почти все произведения, написанные им в эту пору, связаны так или
иначе с его любовью к Марии, которую он обычно называет Фьям-
меттой (итальян. fiammetta — «огонек»). Одни из них он пишет,
исполняя ее желание, в других изображает различные фазы их
любви. Несмотря, однако, на то, что любовь к Марии — Фьямметте
захватила все существо Боккаччо и наложила сильнейший отпечаток
на его творчество, история этой любви, если сравнить ее с
отношением Данте к Беатриче и Петрарки к Лауре, означает огромный,
типичный для Ренессанса, шаг вперед на пути к реалистическому
осмыслению сердечного чувства и порождаемого им поэтического
образа. Для Данте Беатриче — полуабстракция, абсолют, «ангельская
донна», заполонившая его душу и определившая направление всего
его творчества. Лаура — уже вполне земная женщина, к которой
Петрарка испытывает вожделение. Она не поглощает всей его жизни
и творчества, в которых есть огромные области, никак не связанные
с Лаурой. Но все же она для него — высшее совершенство, возможное
на земле, идеальная спутница его жизни, вдохновившая его на все
лучшее, что он создал и совершил. Напротив, Фьямметта — лишь
эпизод, хотя и очень значительный, окрасивший некоторый
период жизни и творчества Боккаччо, но затем сменившийся другими
впечатлениями и литературными задачами.
Жизнь Боккаччо за десятилетие с 1340 г. по 1350 г. нам мало
известна. У отца, который вскоре женился снова, он не засиделся.
Мы встречаем упоминания о пребывании Боккаччо после 1345 г.
62
А. А. СМИРНОВ
в Равенне и в Форли, где он, по-видимому, служил в качестве
секретаря или приближенного лица у местных князей. В 1348 г. Бок-
каччо побывал в Неаполе, но там тем временем обстановка сильно
изменилась. Король Роберт умер в 1343 г., и ему наследовала его
внучка, королева Джованна. Вскоре при дворе разыгрались
кровавые события — убийство мужа королевы, венгерского принца
Андрея, а также мужа ее сестры. Прежней радости жизни в Неаполе
Боккаччо уже не нашел. Вскоре пришло известие о смерти отца,
и Боккаччо в 1349 г. поспешил возвратиться во Флоренцию, где
прочно обосновался уже до самой смерти.
Разрыв с Фьямметтой не причинил Боккаччо душевного
опустошения. Мы знаем, что в 40-х годах у него были другие сердечные
увлечения; в частности, известно, что от разных любовных связей
у него было несколько незаконных детей. Точно так же и поэтическое
творчество Боккаччо не потерпело ущерба. В первое пятилетие он
создает ряд шедевров на итальянском языке (в частности, «Фьяммет-
ту» и «Фьезоланские нимфы»), а после 1345 г. усиленно занимается
творчеством на латинском языке (главным образом, эклоги).
Имущества, оставшегося после отца, оказалось недостаточно
для спокойного и безбедного существования. Однако, не считая
короткого времени, когда, в 1351 г., он выполнял обязанности
члена управления городского казначейства, Боккаччо, больше всего
дорожа своей независимостью, уклоняется от занятия какой-либо
постоянной должности. Тщетно в 1353 г. его старый покровитель,
великий канцлер неаполитанского королевства Никколо Аччайуоли
приглашает его перебраться в Неаполь. Боккаччо пишет в ответ его
приближенному, неаполитанскому гуманисту Дзаноби да Страда:
«Оставаясь бедным, как сейчас, я принадлежу себе; став богатым
и заняв высокое положение, я должен буду жить ради других. Здесь,
среди своих книг, я испытываю больше счастья, чем все князья,
увенчанные коронами».
Некоторым подспорьем для Боккаччо являлось выполнение
дипломатических поручений, которые ему давала от времени до
времени флорентийская синьория. Эти почетные поручения Боккаччо
принимал очень охотно, так как теперь он стал интересоваться
политикой и с течением времени проникся благодарностью и
любовью к своему родному городу, где он жил, окруженный почетом
и признанием. В обращении флорентийцев к Боккаччо сказалось
характерное для Возрождения уважение к образованности,
признание силы художественно организованной, ораторской речи.
К тому же и по своим личным качествам Боккаччо, всегда глубоко
Джованни Боккаччо
63
тактичный и сдержанный, известный своим бескорыстием и
беспристрастностью, как нельзя лучше подходил для такого рода миссий.
Таким-то образом в 1350 г. он ездил послом от флорентийской
синьории в Романью; в 1351 г. — к королеве Джованне для переговоров
о покупке Флоренцией городка Прато и в том же году — к Людовику
Баварскому, маркграфу Бранденбургскому; в 1353 г. — в Равенну;
в 1354 г. — в Авиньон, с заездом в Геную, и т. д.
В этот период произошло важное событие в жизни Боккаччо,
оказавшее огромное влияние на всю его дальнейшую
литературную деятельность. В 1350 г. состоялась первая личная встреча его
с Петраркой, который побывал проездом во Флоренции. Боккаччо,
уже давно питавший к великому поэту и гуманисту заочное
восхищение, был счастлив оказать ему гостеприимство в своем
доме, и с этих пор ведет начало глубокая душевная близость между
ними. До самого конца жизни Петрарки Боккаччо проявлял к
нему самую преданную дружбу и поклонение, поддерживал с ним
деятельную переписку, советуясь по поводу всех своих личных
дел и литературных или научных вопросов, подчиняясь во всем
его авторитету, — и Петрарка, насколько это позволяла его более
холодная и замкнутая натура, платил Боккаччо взаимностью.
Вскоре после отъезда Петрарки, Боккаччо, воодушевленный этим
свиданием, начинает хлопотать о привлечении Петрарки на
постоянное жительство во Флоренцию. По его настоянию, синьория
предлагает Петрарке занять любую кафедру в только основанном
флорентийском studio (публичном университете), выражая
готовность возвратить ему имущество отца, некогда конфискованное.
С этими предложениями Боккаччо едет в следующем, 1351 г.,
к Петрарке в Падую для переговоров. Петрарка, однако, дал
уклончивый ответ, и вскоре затем оскорбленная таким
пренебрежением синьория отменила декрет о возвращении ему отцовского
имущества. Впоследствии Боккаччо не раз предпринимал поездки,
чтобы повидаться со своим знаменитым другом, который всегда
оказывал на него огромное моральное влияние.
Другим событием в личной жизни Боккаччо этого времени
явилось одно любовное приключение, окончившееся для него неудачно.
Красивая вдова, которою увлекся Боккаччо в 1354 г., когда ему было
уже за сорок лет, отвергла его с пренебрежением. При этом, будучи
знатного происхождения, она посмеялась над его «худородностью».
Больно уязвленный этим поэт отомстил ей произведением, которое
он расширил до степени сатиры против женщин вообще. Так
возник, в том же году, его «Корбаччо».
64
A.A. СМИРНОВ
Влияние Петрарки и тяжелые переживания, связанные с
упомянутым эпизодом, который показал Боккаччо, что его молодость
окончилась, еще более укрепили в нем наметившуюся уже в середине
40-х годов ориентацию на более «серьезные», латинские труды и
отход от художественного творчества на итальянском языке. После
«Декамерона», законченного около 1353 года, но начатого, без
сомнения, значительно раньше, и последовавшего за ним «Корбаччо»,
в течение остальных двадцати лет своей жизни Боккаччо ничего
больше не пишет на родном языке, за единственным
исключением — биографии Данте. Ученый гуманист и национальный поэт
уживались в Петрарке, не без внутренней борьбы между собою,
на протяжении всей его сознательной жизни. У Боккаччо первое
из этих начал внезапно вспыхивает с огромной силой и вытесняет
второе. Боккаччо с увлечением пишет или заканчивает начатые им
раньше латинские трактаты, посвященные классической древности.
Вскоре ему представился случай расширить свое изучение
античности в новом направлении. Познакомившись в 1359 г. с одним
калабрийским греком Леонтием Пилатом, человеком довольно
невежественным, но оказавшимся счастливым обладателем
нескольких редких в ту пору в Италии рукописей древнегреческих
произведений, Боккаччо увлек его с собой во Флоренцию,
выхлопотал ему у синьории кафедру греческого языка и поселил его
в собственном доме, приняв на себя целиком его содержание.. Вслед
за тем, выписав из Греции на свои средства рукописи «Илиады»
и «Одиссеи», Боккаччо передал их Пилату, который читал и
комментировал их в своих лекциях, а затем перевел на латинский язык.
Этот первый в Европе латинский перевод поэм Гомера был,
несомненно, литературно проредактирован самим Боккаччо1. Впрочем,
многому научиться у калабрийца Боккаччо не удалось по той
причине, что познания самого учителя были довольно смутны. Прожив
в доме Боккаччо три года, Леонтий Пилат отправился в Венецию
к Петрарке, который пытался столь же безуспешно изучить с его
помощью греческий язык, а затем предпринял поездку в Грецию
и на обратном пути в Италию был убит ударом молнии.
За первым душевным переворотом, толкнувшим Боккаччо к
научным занятиям, последовал второй, еще более острый моральный
кризис. К концу 50-х годов Боккаччо начал прихварывать. Он
преждевременно стареет, его угнетает чувство одиночества, преследуют
мрачные мысли. В 1362 г. к нему явился монах Джоаккино Чани
из Сьены, объявивший себя посланцем блаженного Пьетро Петро-
ни, незадолго перед тем умершего в Сьене. От имени последнего
Джованни Боккаччо
65
Чани должен был передать духовное предостережение ряду лиц,
и в первую очередь Боккаччо: смерть близка к нему, и ему
надлежит немедленно подумать о покаянии. Уже не раз среди своих
нравственных сомнений Боккаччо, по натуре своей менее всего
склонный к религии, но в то же время простодушный и не
способный, подобно Петрарке, быть твердым мыслителем, прибегал
к католическому учению. Есть даже предположение, — хотя этого
никак нельзя считать доказанным, — что в один из таких моментов
душевного упадка он принял монашеский сан. Естественно поэтому,
что речь таинственного посланца должна была произвести на него
гнетущее впечатление. Он уже хотел распродать свою библиотеку
и сжечь все свои итальянские сочинения. В эту тяжелую минуту
жизни Боккаччо большую моральную поддержку оказал ему
Петрарка, который, будучи немедленно извещен им о происшествии,
своими письмами поддержал в нем душевную бодрость, увещевая
не придавать значения речам «ложных пророков».
Здесь снова обнаруживается глубокое различие между
характерами Петрарки и Боккаччо. В душе Петрарки все время происходила
борьба между светлым, гуманистическим началом его мышления
и приглушенной верой средневекового человека2, жившего в нем,
и это противоречие осталось до конца в нем неразрешенным.
Напротив, у Боккаччо религиозность, никогда не исчезая вполне,
долгое время остается отодвинутой в глубину, пока затем вдруг
не вспыхивает снова с катастрофической силой, нарушая душевное
равновесие и затемняя сознание.
Боккаччо все же удалось победить в себе мрачное настроение,
но внутреннее беспокойство и чувство неудовлетворенности уже
не покидало его до конца жизни. У него возникли какие-то нелады
с флорентийскими властями, острое недовольство окружающим,
и в конце 1362 года он принял предложение Аччайуоли переехать
в Неаполь. Однако прием, оказанный там Боккаччо, принес ему
горькое разочарование. Великий сенешал проявил верх
небрежности по отношению к пятидесятилетнему поэту, который
испытывал недостаток в самом необходимом. Раздраженный лишениями
и оскорбленный в своем чувстве дружбы, Боккаччо весной 1363 г.
покинул Неаполь, но не для того, чтобы вернуться во Флоренцию,
а чтобы принять гостеприимство Петрарки, который уже давно
звал его к себе в Венецию, предлагая обеспеченное существование
до конца жизни. Но, видимо, Боккаччо тяготила в его годы
зависимость даже от такого друга, каким был для него Петрарка. Пробыв
в Венеции лишь три месяца, он уехал домой, чтобы поселиться
66
А. А. СМИРНОВ
не во Флоренции, а на родине отца, в Чертальдо, где у него был
маленький домик и где он провел затем безвыездно почти три года.
Здесь он переживал, после своих неудачных поездок, длительный
приступ жестокой мизантропии, нашедшей выражение в письме его
к Пино деи Росси. Это так называемое «Утешительное послание»
(«Epistola consolatoria», 1364 г.) имело целью выразить сочувствие
старому другу, подвергшемуся изгнанию в результате одного из
очередных столкновений городских партий. Но так как изгнание
состоялось еще в 1360 г., то ясно, что оно явилось лишь поводом для
Боккаччо под видом запоздалого «утешения» дать исход своим
собственным мыслям и чувствам этих лет. В самом деле, послание
это — целый моральный трактат. Характерно, однако, что, несмотря
на нередкую в нем католическую фразеологию, оно проникнуто
духом морали отнюдь не христианской, а чисто языческой, стоической.
Несмотря на тяжелое состояние духа, Боккаччо в тиши Чертальдо
деятельно работал над завершением своих латинских трактатов.
В 1365 г. Боккаччо вернулся во Флоренцию и, видимо,
примирившись с синьорией, возобновил свою «посольскую службу». Еще
в том же году он едет к папе в Авиньон по одному очень
ответственному делу; в 1367 г. — в Равенну, в Венецию и в Рим; в 1368 г. — снова
в Венецию. Затем эти разъезды прекращаются, и последние пять
лет своей жизни Боккаччо проводит частью во Флоренции, частью
в Чертальдо, куда он уезжает на этот раз не из-за недовольства
флорентийскими властями, а единственно лишь в поисках тишины
и спокойствия. Боккаччо явно угасал. Однако перед смертью ему
суждено было еще раз послужить национальной поэзии и вновь
почтить память своего великого учителя Данте. Осенью 1373 г.
синьория постановила открыть курс публичных лекций о
«Божественной Комедии» и пригласила для выполнения этой обязанности
Боккаччо, назначив за это значительное вознаграждение. Боккаччо
с жаром принялся за это дорогое ему дело, но уже через несколько
месяцев тяжело заболел. Уехав осенью 1374 г. в Чертальдо, он через
год умер там.
Жизнь Боккаччо и его творчество распадаются на три периода:
неаполитанский период, отклики которого еще чувствуются в
течение первых лет после возвращения во Флоренцию, период высшей
зрелости, когда Боккаччо пишет главные свои шедевры (прибл.
1343-1353), и последняя треть жизни, характеризующаяся уходом
в научные занятия и душевным кризисом. На протяжении этих
трех периодов можно отчетливо проследить развитие личности и
поэтического сознания Боккаччо и вместе с тем — смену различных,
Джованни Боккаччо
67
противоречивых тенденций, которые в скрытом виде все время
сосуществовали в его душе, как они сосуществовали в общественном
сознании эпохи.
2
В Неаполе впервые пробудилось поэтическое дарование Боккаччо,
и здесь же оно нашло исключительно благоприятные условия для
своего развития. Кипучая народная жизнь большого торгового
города, расположенного на скрещении средиземноморских культурных
путей, чарующие пейзажи Неаполя и его окрестностей, в частности
Поццуольского залива, излюбленного местным аристократическим
обществом, кружок придворной молодежи, где царили изящество
и вместе с тем простота манер, смех и веселье, любовные увлечения,
песни, стихи, забавные рассказы, — все это действовало на чувство
и воображение юного Боккаччо, развивавшегося свободно, без
сурового отцовского надзора, в обстановке, приятной для его ума
и сердца. Все, что было написано Боккаччо в неаполитанские годы,
несмотря на нередкие у него грустные нотки и даже остро
драматические мотивы, окрашено ощущением приволья и ласки жизни.
Сердечные переживания и смутные еще идейные замыслы
отлагались поэтически в формы, подсказанные разнообразными
литературными образцами — средневековыми романами, римскими
элегиками, народной итальянской песнью, устными бродячими
повестями любви и приключений. Лишь постепенно, по мере того
как углубляется жизненный опыт Боккаччо, расширяется кругозор
и созревает его мастерство, все это приходит к синтезу, в котором
проступает большой индивидуальный стиль. На первых же порах
это — искания, порою рабская зависимость от образцов и
неспособность преодолеть противоречия мысли и ее художественного
выражения, наивности, не лишенные прелести благодаря той
непосредственности, которая характеризует все творчество Боккаччо.
Однако уже эти юношеские произведения его содержат отдельные
черты и мотивы, заставляющие предчувствовать будущего мастера
«Фьямметты» и «Декамерона».
Самое раннее произведение Боккаччо — небольшая поэма в
терцинах (форма, которую Боккаччо заимствовал у Данте и затем
неоднократно еще применял) «Охота Дианы» («La caccia di Diana»).
В этой поэме, почти бессюжетной и выдержанной в овидиевских
тонах, Боккаччо устраивает смотр знакомым ему молодым
неаполитанским дамам под видом служительниц Дианы и участниц ее
68
A.A. СМИРНОВ
охоты. То, что Мария — Фьямметта здесь отсутствует, доказывает,
что поэма была написана еще до встречи Боккаччо с нею.
Следующие произведения Боккаччо в той или иной степени уже
связаны с Марией д'Аквино. По ее прямому желанию он
предпринял, вероятно еще в 1336 г., под названием «Филоколо» («Filocolo»)
пространный прозаический пересказ средневекового французского
романа в стихах «Флуар и Бланшефлер», известного ему по
итальянскому переводу в октавах («Флорио и Бьянчифьоре»). В
источнике Боккаччо Флорио — сын «языческого» (сарацинского) царя,
страстно влюбившийся в христианскую пленницу Бьянчифьоре.
Его родители, не сочувствуя этой любви, продают девушку заезжим
купцам. Безутешный Флорио отправляется на поиски ее и после
многих приключений и опасностей счастливо с ней соединяется.
К этому времени отец его умирает, и Флорио, сделавшись царем,
принимает религию своей возлюбленной и крестит свой народ.
Боккаччо дал своему герою с того момента, как тот отправляется
разыскивать возлюбленную, имя Филоколо, неправильно
образованное им из двух греческих слов: «друг, любящий» и «тяжкий труд,
страдание». Таким образом, имя героя должно было означать, по его
замыслу, «страдающий вследствие любви». Очень возможно, что
Боккаччо тем охотнее взялся за обработку старинной повести, что
это позволило ему в идеальных очертаниях любви Флорио и
Бьянчифьоре изобразить свои собственные отношения с Фьямметтой,
свою мечту о прочном соединении с любимой.
Сохранив, в общем, сюжетную схему своего источника,
Боккаччо перенес действие в первые века христианства: его юные
любовники — язычники, которые после своего брака становятся
христианами. Гораздо существеннее мелких сюжетных отступлений
стилистическая манера его романа. Он чрезвычайно растянул
изложение, введя множество описаний, диалогов, добавочных эпизодов,
и превратил простую, бесхитростную историю любви в
торжественное, громоздкое, риторически изукрашенное повествование. Очень
тяжеловесны постоянные античные реминисценции и, в частности,
мифологические образы. Бог именуется у него «всевышним
Юпитером» ; первый человек — не Адамом, а Прометеем; соблазняет его
не Сатана, а Плутон. В действие постоянно вмешиваются Венера,
Амур, Марс и другие боги. Флорио восхваляет свою
возлюбленную в таких выражениях: «Сияние твоего лица превосходит свет
Аполлона, и красота Венеры не сравнится с твоею. Сладость твоих
речей могла бы добиться большего, чем то, чего добилась
кифара фракийского певца или фиванца Амфиона. Поэтому великий
Джованни Боккаччо
69
римский император, властитель мира, с радостью назвал бы тебя
своей спутницей, и больше того — я думаю, что если бы было
возможно, чтобы Юнона умерла, для Юпитера не нашлось бы другой
женщины, более достойной, чтобы стать его супругой».
Эта риторика, а также мифология, внешне противоречащая
христианскому финалу романа, имеют свое объяснение. Боккаччо
пришлось трудиться над созданием итальянской художественной
прозы, до него представленной лишь опытами Данте (прозаические
части «Новой жизни» и «Пир»). Единственным источником и
образцом могла для него послужить лишь сложная, ораторски
разработанная речь древнеримских прозаиков — этих первоначальных
учителей всей новоевропейской стилистики. Вполне естественно,
что юный Боккаччо, выступая в этой области новатором,
пересаживал довольно многое на итальянскую почву, недостаточно освоив,
не «переварив» заимствованные классические элементы. И
впоследствии, даже в мастерской прозе «Декамерона», у него нередко
ощущается тяжеловесность цицероновского периода, странно
контрастирующего с легкой текучестью образов и внутренней живостью
повествования.
Что касается употребления мифологии в «христианском» сюжете
(черта, так^ке общая множеству писателей Ренессанса, и не только
итальянского), то на этот счет у Боккаччо имелась определенная
доктрина, связанная с учением Данте о нескольких смыслах
поэзии и подробно изложенная впоследствии самим Боккаччо в одном
из его латинских трактатов («О генеалогии богов»). По его мнению,
древние первоначально верили в единого бога, а политеизм возник
позже благодаря философам и поэтам. Эти последние создавали
мифы, аллегорически изображавшие взаимоотношения между
богом, с одной стороны, и людьми и природой — с другой. Задача
поэзии заключается в том, чтобы изображать истину под покровом
прекрасного вымысла, каковым в первую очередь являются
языческие мифы. Таким образом, у Боккаччо бог называется Юпитером,
а первый человек Прометеем в силу обязательного закона эстетики,
без какого-либо морального соблазна или ущерба для католической
ортодоксии. Эта условно-поэтическая функция мифологической
образности и сюжетики встречается еще во второй половине XVI в.
у таких правоверно христианских поэтов, как Торквато Тассо или
Камоэнс. Но, конечно, как и в отношении классической
стилистики, следует признать, что в этом раннем произведении Боккаччо
им еще не достигнута та легкость и естественность использования
мифологической образности, которые придали бы ей подлинную
70
A.A. СМИРНОВ
поэтическую жизненность. От «Филоколо» до «Фьезоланских нимф»
в этом отношении — огромная дистанция.
Несмотря на все сказанное, в «Филоколо» есть подлинно
прекрасные и волнующие места. Одно из лучших — эпизод «Любовных
вопросов» , в котором автор допускает смелый анахронизм. Среди своих
скитаний в поисках Бьянчифьоре, Филоколо попадает в Неаполь.
Здесь он находит в одном саду избранное общество из молодых дам
и кавалеров, в которое его охотно принимают. Председательнице
(«королеве») этого кружка, Фьямметте, рядом с которой находится
ее возлюбленный Калеоне (в его лице Боккаччо изобразил самого
себя), все присутствующие задают хитрые вопросы, относящиеся
к « философии любви », например : « есть ли любовь благо или зло? »,
«кого лучше любить — девушку, вдову или замужнюю даму?»,
«больше ли надо жалеть полюбившего без взаимности, или же
добившегося взаимности, но терзаемого ревностью?» и т. д. На все эти
вопросы Фьямметта дает остроумные, хорошо обоснованные ответы.
Пейзаж, внешность молодых людей, их манеры и содержание бесед
зарисованы с натуры, будучи живым изображением
аристократического общества, собиравшегося в Байях на морских купаньях близ
Неаполя, где любила бывать Мария д'Аквино. Не является выдумкой
Боккаччо и сама картина игры в любовный диспут. При анжуйском
дворе в Неаполе, где еще были сильны старые французские и
провансальские рыцарские веяния, могли быть памятны и тенцоны
(стихотворные прения двух поэтов на какие-нибудь отвлеченные
темы) трубадуров ХП-ХШ вв., и латинская книга шампанца
Андрея Капеллана конца XII в. «О любви», в которой описывались
«судилища любви», где знатные дамы разрешали сложные казусы
любви, взятые будто бы из действительной жизни. Но весь этот
средневековый, куртуазно-рыцарский материал здесь овеян духом
новой ренессансной культуры, проникнут психологической
правдивостью и своеобразно эстетизирован.
Боккаччо успел написать в Неаполе лишь первую половину
«Филоколо» : его отвлекли другие задачи и нахлынувшие волнения; лишь
по возвращении во Флоренцию он закончил свой первый роман.
Следующее крупное произведение Боккаччо — поэма «Фило-
страто» («Filostrato») — было написано в 1337 г. или 1338 г.
Поводом для его возникновения послужило временное охлаждение
к поэту или даже измена его возлюбленной. Сюжет поэмы восходит
к одному эпизоду из «Романа о Трое» французского трувера второй
половины XII в. Бенуа де Сент-Мора, получившего известность
в Италии главным образом благодаря латинской обработке его Гвидо
Джованни Боккаччо
71
делле Колонне. Перелагая в стихи апокрифические хроники о
Троянской войне Диктиса и Дарета, Бенуа присочинил от себя эпизод
любви троянского царевича Троила к пленной гречанке Брисеиде,
получивший затем чрезвычайную популярность в средневековой
и ренессансной литературе. Бенуа рассказывает, что счастливая
любовь Троила и Брисеиды продолжалась недолго. Троянцы были
вынуждены вернуть прекрасную пленницу ее отцу. Перед разлукой
любящие поклялись друг другу в вечной верности, но едва ветреная
Брисеида оказалась в греческом лагере, как она забыла прежнюю
любовь и ответила взаимностью на чувство своего нового
поклонника Диомеда. Безутешный Троил ищет смерти в бою и вскоре падает
от руки Ахилла.
Эту повесть трагической любви Боккаччо использовал для
выражения своих собственных душевных переживаний. Его поэма —
жалоба забытого или отвергнутого любовника, горький упрек
прекрасной изменнице. В соответствии с этим он дает своему герою
выразительное прозвище, снова составляя его из античных элементов.
На этот раз это имя — гибридное, составленное из греческого filos
и латинского stratos — «распростертый, поверженный». Filostrato
должно значить: «сраженный любовью».
В «Филострато» Боккаччо допустил более значительные
отступления от своего источника, чем в «Филоколо». Зная, что в
«Илиаде» имя Брисеиды носит совсем другой персонаж (возлюбленная
Ахилла), он назвал свою героиню Гризеидой. Но гораздо
существеннее некоторых внешних отклонений внутреннее расширение всей
истории и радикальная стилистическая перестройка ее. Углубляя
психологический анализ, лишь едва намеченный у Бенуа,
прослеживая все перипетии отношений между любящими и все изгибы
их чувств, Боккаччо создает мнимоэпическую поэму, по существу
являющуюся наброском психологического романа. Бенуа, а вслед
за ним и Гвидо делле Колонне, начинают свой рассказ сразу с
вынужденной разлуки любящих, чтобы затем перейти к трагическому
финалу. Боккаччо предпосылает этому длинное описание
возникновения любви между ними, робкой нерешительности Троила,
бесстыдного посредничества кузена Гризеиды — Пандара, лукавой
тактики Гризеиды и, наконец, блаженства любящих. Благодаря
этому, вместе со всем дальнейшим поэма распадается, как диптих,
на две половины, причем драматичность второй оттеняется веселой
игривостью и идилличностью первой. Сверх того, это дало поэту
возможность обрисовать всесторонне, с целым рядом оттенков
характеры главных персонажей, в особенности Гризеиды — хитрой,
72
A.A. СМИРНОВ
чувственной, коварной, легкомысленной и вместе с тем
пленительной. Хорошо показаны сердечность, прямодушие, истинная
доблесть и вместе с тем страстность Троила. Целиком создан Боккаччо
образ Пандара, имя которого стало после этого нарицательным
в значении «сводник». С большой наблюдательностью и тонкостью
сделаны сцены пробуждающейся любви, первых сомнений и мук
ревности. Даже в обрисовку второстепенных персонажей Боккаччо
внес много правдивых подробностей. Замечательна, например, та
проницательность, с которою Диомед в момент разлуки Гризеиды
с провожающим ее до греческого лагеря Троилом разгадал
характер отношений между ними, что и легло в основу разработанного
им плана обольщения Гризеиды. Для реалистических тенденций
Боккаччо в этой поэме-романе характерно полное отсутствие
вмешательства богов в судьбу любящих, все чувства и действия
которых превосходно мотивированы, вытекая с неизбежностью
из их характеров.
«Филострато» написан октавами — размером, которым до тех
пор пользовались только площадные певцы в Италии. Именно
Боккаччо принадлежит заслуга введения в «школьную» итальянскую
поэзию этой стихотворной формы. Правда, в «Филострато» октава
звучит у Боккаччо иногда еще немного тяжеловесно, но
впоследствии он придал ей ту гибкость и мелодичность, которые сделали ее
излюбленным размером итальянских мастеров повествовательной
поэзии XV-XVI вв.
Октавами написана и следующая поэма Боккаччо, «Тезеида»
(«La Teseida»), возникшая к самому концу его пребывания в
Неаполе, вероятно в 1339 г., когда Фьямметта уже окончательно его
покинула. Это попытка растрогать бывшую возлюбленную и, быть
может, вернуть ее чувство рассказом о покорной и
самоотверженной любви, приводящей любящего к смерти. Но в то же время это
и нечто другое. Поэт, достигший уже гораздо большей зрелости,
наряду с интимными сердечными признаниями ставит себе и другую,
объективную задачу — создать на своем родном языке подлинную
эпопею. В заключительных строках «Тезеиды» Боккаччо с
гордостью отмечает, что он «первый заставил музу заговорить на
живом итальянском языке». Материал дала ему снова античность,
но на этот раз он уже не следует какому-нибудь одному образцу,
а свободно компилирует, пользуясь разнообразными материалами
древней истории и мифологии.
Поэма задумана как описание подвигов Тесея — его войны с
амазонками, закончившейся браком Тесея с их царицей Ипполитой,
Джованни Боккаччо
73
участием в фиванской войне за наследство несчастного Эдипа и т. п.
Обстановка и костюмерия взяты отчасти из «Фиваиды» римского
поэта Стация (I в. н. э.), отчасти из ее обработки — анонимной
французской поэмы второй половины XII в. «Роман о Фивах».
В соответствии с этим последним, как и вообще всей поэтической
практикой средневековья, древнегреческие герои изображены здесь
в обличий средневековых рыцарей: они сражаются на турнирах,
галантно ухаживают за дамами, именуются баронами, герцогами
и т. п. Наряду с античной мифологией в поэме встречается
представление о христианском аде. В стилистическом отношении, кроме
поэмы Стация, очень заметно влияние «Энеиды» Вергилия.
Соответственно широкому эпическому заданию, поэма содержит целый
ряд обширных монологов и пространных, риторически
изукрашенных описаний празднеств, сражений, военных игр, похорон путем
сожжения праха героев и т. п. Снова, как и в «Филоколо», боги
сходят с Олимпа в человеческом обличий, чтобы принять участие
в изображаемых событиях.
Вся эта псевдоисторическая и мифологическая бутафория служит,
однако, лишь фоном или введением для центрального эпизода поэмы,
составляющего основное ее содержание. Это — любовная история,
свободно измышленная Боккаччо или составленная им из
различных новеллистических элементов. Двое благородных фиванских
юношей, Палемон и Арчита, связанные узами верной дружбы, после
разрушения Фив живут в качестве пленников в Афинах. Здесь они
видят прекрасную Эмилию, сестру Ипполиты, и оба страстно в нее
влюбляются. Арчита, освобожденный Тесеем из тюрьмы, но
изгнанный, томится ревностью. Он тайком возвращается и вступает в
поединок со своим другом-соперником, но их застает Тесей, который
велит прекратить бой. Узнав, в чем дело, он великодушно прощает
их, но приказывает возобновить поединок в другой назначенный
день, в торжественной обстановке, в афинском театре, с участием
поручителей, согласно рыцарскому этикету, и при большом
стечении зрителей. В этой встрече побеждает Арчита, но вследствие
вмешательства Венеры, покровительствующей его сопернику, он
надает с лошади и смертельно ранит себя. Умирая, он великодушно
завещает Эмилию Палемону. По мнению многих критиков, весьма
правдоподобному, под видом Эмилии Боккаччо изобразил Марию
д'Аквино, под видом Арчиты — самого себя, а под видом Палемона —
своего счастливого соперника, вытеснившего его из сердца Марии.
Несмотря на некоторые изящные описания и трогательные
моменты, эта поэма в отношении психологического реализма,
74
A.A. СМИРНОВ
по сравнению с «Филострато», все же означает шаг назад. Ее
притязательная эпическая рамка и чувствительный центральный эпизод
находятся между собой в стилистическом противоречии, ослабляя
друг друга и образуя дисгармоническое целое.
К неаполитанскому периоду принадлежит также наибольшая
часть лирики Боккаччо. Он писал канцоны, сонеты, мадригалы,
бал латы, преимущественно любовного содержания. В самых
ранних из них он воспевал неизвестных нам неаполитанских дам. Две
из них, Пампинея и Абротония, впоследствии появляются снова
в «Декамероне» в качестве рассказчиц историй, но вскоре
Фьямметта становится единственным объектом его любовных стихов.
В основном Боккаччо — последователь школы «сладостного
нового стиля» и, в частности, Данте; однако его поэзия носит гораздо
менее философский характер, она более конкретна и реальна.
Платоническая мечтательность решительно уступает в ней место
непосредственному переживанию.
Следуя поэтической традиции, идущей от Данте и частью
от Петрарки, Боккаччо в своих стихах идеализирует Фьямметту.
По поводу ее красоты он говорит: «Когда она смеется, небо
кажется отверстым и весь мир улыбается. Природа соединила в ней
и золотые кудри, и смеющиеся глаза, блестящие и нежные...» Он
прибавляет: «Если я страстно вздыхаю по ней, да не осудят меня
те, кто ведает, что награда моих страданий — надежда».
Боккаччо подчеркивает чувственную прелесть своей возлюбленной. Он
то рисует в своем воображении, как она «сидит под тенью дерев,
плетя из своих золотых волос сети, куда попадут все, взглянувшие
на нее», то как она «катается на лодке и поет; у нее чарующий
голос, дельфины следуют за нею, как за поющим Арионом».
Образы — столь же сладостные, как у Петрарки, но не
меланхолические, а смеющиеся. Фьямметта добродетельна, она спутница
Дианы, но она не дала обета девственности и уже учится молиться
Венере. Поэт молит ее о любви, долго и тщетно. Он начинает
грозить ей: она состарится, на лице ее появятся морщины, и тогда
он скажет: «Мадонна, Амур вас более не любит, и вам остается
только оплакивать свою былую неподатливость». Наконец, ее
сердце смягчается, и поэт испытывает блаженство. Но за
первыми моментами счастья следуют новые муки: боязнь доносчиков,
страдания ревности.
Боккаччо первый в европейской поэзии выразил как в своей
лирике, так и в юношеских романах и поэмах не только всю тонкость
и силу любовного чувства, но и ту сладость, которая в нем таится,
Джованни Боккаччо
75
доставляемое им упоение чувств даже в том случае, когда к
наслаждениям примешиваются неизбежные в любви мучения3.
С большой силой в стихах Боккаччо сказалось влияние народной
поэзии. Особенно это заметно в лучших образцах его лирики —
в десяти балладах, вставленных в «Декамерон», где по большей
части воспеваются радости простой и чистой любви или страдания
любящих, которым что-нибудь мешает соединиться. Уже в пожилые
годы, прочитав сонеты Петрарки, Боккаччо разочаровался в своих
лирических стихотворениях и сжег их. Все же, часть их
сохранилась в списках, которые успели до этого распространиться среди
его друзей. Это обстоятельство, делающее невозможной датировку
большинства стихотворений и спорным авторство очень многих
из них, весьма затрудняет их изучение, в результате чего значение
лирики Боккаччо для общего развития итальянской поэзии сейчас
еще далеко не выяснено.
Возможно, что Боккаччо начал в Неаполе еще несколько поэм или
романов, законченных им затем уже во Флоренции, подобно тому
как это случилось с его «Филоколо». Во всяком случае, в течение
первых двух или трех лет после своего отъезда из Неаполя Боккаччо
еще полон неаполитанских впечатлений, воспоминаний,
поэтических замыслов и образов, увезенных им оттуда. Поэтому следующие
две поэмы его, написанные или законченные в 1341-1342 гг.,
непосредственно примыкают к его предшествующему творчеству и все
еще содержат в себе отклики любви к Фьямметте.
Однако в них есть нечто и новое. Пережитые любовные
страдания закалили Боккаччо. Его юность окончилась, и он чувствует
себя более зрелым и вместе с тем более ответственным перед собой
и окружающими. Не меняя сущности своего творчества, он
стремится придать ему более глубокое содержание или, по крайней мере,
более серьезное и внушительное облачение. Данте, его великий
предшественник и учитель, пережив кризис сердечного чувства в том же
возрасте, что и Боккаччо, обратился к изучению наук и философии.
Этот великий пример стоит перед глазами и обязывает — особенно
здесь, во Флоренции, где так жива дантовская традиция.
Боккаччо еще не уходит с головой в ученые занятия, — для этого он еще
не «созрел»,— но он стремится сейчас придать своему творчеству
философский, морально-назидательный характер. Образцом служит
ему опять-таки Данте, следуя которому Боккаччо пытается писать
морально-аллегорические поэмы. Но живое чувство Боккаччо всегда
опережало его мысль, отдававшую обильную дань старым,
средневековым традициям. Аллегорическая поэзия не дается Боккаччо.
76
А. А. СМИРНОВ
Его аллегоризм при столкновении с непосредственным чувством,
составляющим основу творчества Боккаччо, отпадает как чуждая
оболочка, за которой открывается истинный Боккаччо —
жизнерадостный, чувственный реалист, влюбленный в жизнь и в природу.
Первая из флорентийских поэм Боккаччо, «Амето» («Ameto»),
написана смесью прозы и стихов, причем стихи имеют форму
терцин, в подражание поэме Данте. В этом произведении Боккаччо
возродил на итальянском языке форму и тон латинской буколики,
тем самым положив основание столь впоследствии развившейся
итальянской пасторальной поэзии. Следуя античным образцам,
Боккаччо широко вводит в свою повесть изображение сельских
празднеств в честь богов, споры пастухов о любви, о том, как
следует ухаживать за стадами и т. п. Наряду с Вергилием и другими
римскими поэтами, образцом для Боккаччо могли послужить также
символические латинские эклоги Данте, написанные им в конце
жизни. Новым в «Амето» является внесение в эту традиционную
форму новых, современных автору мыслей и чувств.
Амето (от греч. admetos — «необузданный»), грубый и
простодушный юноша, находящий радость только в охоте, однажды в лесу,
около ручья, застиг собравшихся нимф и, услышав пение одной из
них, Лии, влюбился в нее. С этих пор он следует за нею неотступно.
Любовь оказывает на него просветляющее, облагораживающее
действие; он становится нежным, сдержанным, способным к высоким
чувствам. Он присутствует на другом собрании семи нимф, которые
рассказывают разные поучительные истории, и жадно внимает
им. По окончании рассказов появляется сноп сверхъестественного
света, из которого звучит сладостный голос: «Я свет небес, единый
и троякий, начало и конец всего...» Это — «небесная Венера». Лия
погружает Амето в реку, после чего, очищенный, он способен
вынести вид богини; он познает теперь истину, которая скрывалась
ранее под оболочкой лжи, он из полуживотного стал человеком.
В основе замысла этой повести лежит старая трубадурская,
перешедшая в Италию и там своеобразно преломившаяся в болонской
школе доктрина о возвышающей человека силе любви,
скрестившаяся с образами, шедшими из античности — из «Циклопа» Овидия,
где показано перерождение дикого циклопа Полифема под влиянием
любви к нереиде Галатее. Но все это здесь спиритуализировано,
перенесено в плоскость католического мировоззрения. Как мы уже
видели, Боккаччо считал мифы поэтическим способом выражения
священных истин. Аллегории «Амето» прозрачны: Венера есть
любовь, понимаемая в христианском смысле, погружение Амето
Джованни Боккаччо
77
в реку — таинство крещения, семь нимф — воплощение семи
основных добродетелей, соответственно тем богиням, которым каждая
из них служит (Паллада — мудрость, Помона — воздержание, Ки-
бела — вера и т. п.). В частности, Лия, служащая Весте, знаменует
надежду. Прямым источником этой концепции послужил эпизод
из «Чистилища» Данте (XXXI, 103-114), где четыре добродетели,
танцующие вокруг колесницы Беатриче, берут за руки Данте,
очищенного водами Леты, и приводят его к возлюбленной, возглашая:
«Мы — нимфы здесь, на небе же мы — звезды».
Но все это морально-богословское здание распадается, когда мы
узнаем, что под видом семи нимф Боккаччо в то же время портретно
изобразил знакомых ему флорентийских и неаполитанских дам,
причем каждой из них он дал бессменно состоящего при ней
возлюбленного; в числе других фигурирует также и Фьямметта, имеющая
спутником Калеоне, т. е. (согласно «Филоколо») самого Боккаччо.
В конце концов реалист Боккаччо вырывается из уз навязанной
им себе богословско-аллегорической концепции и обретает свою
обычную красочность, живость и непосредственность в тех местах
повести, где проступают элементы простой и живой
действительности: юмор, с которым изображаются первые неуклюжие попытки
Амето объясниться в любви Лии, превосходное изображение
пейзажа, портреты очаровательных молодых женщин на лоне природы,
тонко переданная прелесть земной любви.
Нелепое по своей конструкции, полное кричащих противоречий,
произведение это содержит целый ряд положительных,
способных к дальнейшему развитию поэтических элементов, благодаря
которым оно заняло важное место в истории итальянской поэзии
Ренессанса. «Амето» — узел, в котором скрестилось старое и новое,
самые разнообразные течения эпохи, наследие средневековья и
зачатки новой художественной мысли.
Еще отчетливее проявились те же тенденции во второй поэме,
состоящей из 50 коротеньких песен в терцинах и написанной также
не позже 1342 г. — «Любовное видение» («L'Amorosa visione»). Ее
замысел и самая форма (схема «видения») — целиком дантовские.
Но чем ближе — будь то в общем замысле, будь то в мелких
деталях — Боккаччо следует тому, кого он назвал «господином всякого
знания», тем отчетливее выступает коренная разница в их поэтике
и жизнеощущении, вплоть до того, что моментами кажется, будто
Боккаччо пародирует «Божественную Комедию». На самом деле,
однако, его намерения очень серьезны. Боккаччо, почти
достигшего тридцатилетнего возраста, т. е. близкого к тому, что считалось
78
А. А. СМИРНОВ
серединой жизни, начинает тревожить проблема самоопределения,
выбора между аскетической добродетелью и земной радостью,
осмысления и оправдания своего жизненного пути. В эту пору, когда
нравственные сомнения еще не достигли в нем той болезненной
остроты, как это случилось впоследствии, он с легкостью находит
компромисс, дающий ему простое и удобное самооправдание.
Рамка поэмы почти буквально заимствована у Данте. Поэту
снится, что он затерялся среди пустыни. Величественная женщина
выводит его к роскошному замку, имеющему два входа: один —
узкий, с крутым подъемом, другой — широкий, привлекающий
к себе удобством и красотой. Первый ведет к «вечному душевному
миру», и туда путеводительница пытается направить поэта. Но он
решительно устремляется ко второму, приводящему к радости и
красоте жизни, отговариваясь тем, что все узнать — никогда не может
повредить, а для того, чтобы пройти узкими вратами,— у него еще
много времени впереди. Следует описание ряда покоев,
украшенных картинами, изображающими всю сладость жизни, отраду,
доставляемую знаниями, искусствами и нежными чувствами. Тут
и великие мудрецы древности, и прославленные поэты, и
аллегорическая фигура богатства, восседающая на золотом троне около
горы из золота и серебра, от которой каждый старается отодрать
ногтями хоть маленький кусочек, — причем и поэт признается,
что хотел бы раздобыть частицу ее, так как золото — вещь хотя
и суетная, но все же необходимая в жизни. Следует изображение
«Триумфа Амура» — длинный ряд легенд любви из античной
мифологии, пространно рассказанных Боккаччо и занимающих целых
пятнадцать песен, затем — «Триумфа Фортуны» с ее колесом, вид
которого наводит автора на грустные мысли и заставляет вспомнить
об узких вратах. Но тут ему предстает сонм прекрасных молодых
женщин, его современниц, и среди них он видит свою
возлюбленную, Фьямметту. Видя его радость, путеводительница, до тех пор
смущавшаяся его поведением, восклицает: «Если бы ты раньше
назвал мне ее, мы бы уже давно пришли к ней!» И она соединяет
его союзом вечной любви. В свою очередь, и Фьямметта велит
поэту во всем повиноваться своей путеводительнице, кроме разве того
случая, если она запретит ему любить ее, Фьямметту. После этого
обе женщины уславливаются, что они вместе проведут Боккаччо
через узкие врата в обитель «душевного мира», но он заявляет, что
ему необходимо перед трудным восхождением немного отдохнуть,
и, оставив путеводительницу, отправляется с Фьямметтой
прогуляться по чудному саду. В этом месте автор пробуждается. К нему,
Джованни Боккаччо
79
уже наяву, снова является добрая путеводительница и обещает, что
он найдет свою Фьямметту, если только согласится войти в узкие
врата. Поэт обещает сделать это, и тут поэма внезапно кончается.
В этом произведении намерения Боккаччо и реальный
художественный эффект, им достигнутый, расходятся еще более резко, чем
в «Амето». По его замыслу поэма должна была указать путь к
освобождению от земной суеты и к достижению вечного блаженства.
На самом же деле Боккаччо показал необыкновенно красноречиво
всю прелесть земной красоты, славы, величия, а главное —
чувственной любви. Его путеводительница оттесняется в поэме Фьямметтой,
образ которой поэту никак не удается превратить в аллегорию.
Поэма обрывается там, где должна была бы начаться основная,
собственно моральная часть ее. Как метко замечает Гаспари, «дан-
тевское видение кончается там, где поэт достигает лицезрения
триединого бога; Боккаччо пробуждается, когда он думает, что он
держит в объятиях свою мадонну»*. Рай земной любви фактически
заменяет рай небесный.
Этой двойственностью поэмы объясняются как ее слабые стороны,
так и достоинства. Сложный замысел ее, стремление Боккаччо быть
педантически назидательным вызывает нагромождение аллегорий,
вычурность формы, крайне тяжелый стиль. Утомительная вязь
терцин отягощается еще гигантским, проходящим через всю поэму
акростихом: начальные буквы всех терцин образуют три сонета,
из которых два обращены к Марии-Фьямметте, а третий — к
читателю. Однако под этой вычурной оболочкой ощущается живая
непосредственность и нежность чувства. Целый ряд сцен и образов,
особенно любовных, полны большого очарования. Поэма полна
сладостных образов, светлых воздушных фигур. Высокая оценка
ее таким строгим судьей, как Петрарка, явствует из того, что в его
«Триумфах» можно обнаружить заметное влияние «Любовного
видения».
Боккаччо не мог все же не почувствовать всей искусственности
своих попыток подражать Данте. Главное же, этот аллегорический
стиль, не свойственный его мироощущению, уводил его в сторону
от тех художественных задач, которые были намечены уже в самых
ранних его произведениях и которые в конце концов он
блистательно разрешил: это, с одной стороны — создание психологического
романа, по существу реалистического, а с другой стороны —
изображение жизни в ее наиболее ярких и характерных проявлениях,
* А. Гаспари. История итальянской литературы. T. И. М., 1897. С. 21.
80
A.A. СМИРНОВ
элементы чего можно также найти в неаполитанских произведениях
Боккаччо. Вот почему после «Любовного видения» Боккаччо оставил
этот вычурный стиль и вернулся к своей прежней реалистической
манере. На этом пути его окончательно созревший талант создал
около середины 40-х годов два истинных шедевра.
3
Время залечило душевную рану Боккаччо, но приобретенный
им сердечный опыт не пропал даром. То, что для юного Боккаччо
являлось страстным личным переживанием, для вполне
созревшего художника оказалось материалом освобожденного от
узкого субъективизма творчества. Так возникла написанная в прозе
«Элегия мадонны Фьямметты» («Elegia di Madonna Fiammetta»,
около 1343 г.), в которой Боккаччо в последний раз изобразил свою
бывшую возлюбленную, но переменив роли: в этом романе не она
ему изменила, а он ей, и теперь бедная Фьямметта, сердце которой
разбито, рассказывает трогательную и печальную повесть своей
любви в поучение и предостережение другим женщинам.
Конечно, нельзя объяснять такую метаморфозу, как это делали
некоторые старые критики, желанием Боккаччо «отомстить»
изменнице и найти утешение в поэтических мечтах. Это невозможно
уже потому, что весь рассказ имеет своей целью вызвать в читателе
сочувствие именно к Фьямметте, а не к ее коварному возлюбленному.
Скорее, можно здесь видеть стремление до конца развеять былые
чары, отрешиться от острого субъективизма переживаний, чтобы
получить возможность подойти шире к добытому личным опытом
и с большей художественной свободой осветить
объективно-человеческую сторону изображаемого конфликта чувств. Это позволило
Боккаччо дать глубокий анализ сердечных переживаний покинутой
женщины, который развернулся в замечательный, первый в
европейской литературе психологический роман.
Реализм изображения любовных переживаний делает в
«Фьямметте» огромный шаг вперед и по сравнению с признаниями и
формулировками, заключающимися в «Канцоньере» Петрарки.
План «Фьямметты», без сомнения, был подсказан Боккаччо
«Героидами» Овидия, откуда им почерпнут также ряд мелких
деталей. В основном мы имеем и здесь и там скорбную женскую
исповедь неудовлетворенной или обманутой любви. Но и в данном
случае Боккаччо применил тот же самый прием, что в «Филостра-
то»: любовной драме он предпослал картину былого счастья любви.
Джованни Боккаччо
81
Благодаря этому получил до конца развернутый круг сердечных
переживаний, полный внешнего и, главное, внутреннего движения.
Далее, литературную схему, найденную у Овидия, Боккаччо
наполнил материалом не только своего душевного опыта, но и своих
наблюдений, поскольку психологическое действие романа
помещено в определенную обстановку, тонко зарисованную Боккаччо
и образующую гармонически сливающийся с этим действием фон.
При этом именно то, что Боккаччо вложил в эту рамку изображение
вполне современного ему общества и вполне современных чувств,
позволило ему создать реалистический роман в новоевропейском
смысле.
Рассказ Фьямметты, при всей его стилистической изукрашен-
ности и обилии античных исторических и мифологических
реминисценций, замечателен мягкой задушевностью, размеренностью,
плавностью переходов, той общей гармонией, которая позволяет
назвать это произведение «поэмой в прозе».
Фьямметта родилась весной, в цвету природы, от богатых и
знатных родителей. Наставница хорошо ее воспитала, с годами
пришла красота, похвалы приучили ее гордиться. Многие ухаживали
за ней безуспешно. Наконец, она нашла подходящего человека.
Она — его блаженство, он исполняет каждое ее желание. Как
счастлива была бы она, если бы любовь эта продолжилась! Но судьба,
завистливая к благам, ею же дарованным, направила Фьямметту
на путь бедствий. Ей снится сон: в ясный, чудный день она гуляет
по лугу, сплетая венки и распевая песни. Прилегла она на траве,
и вдруг змея ужалила ее в левую грудь. Ей и больно, и в то же время
она прижимает к груди змею, лаская. Но та скользнула и исчезла
в траве. Фьямметта проснулась от луча солнца, проникшего в
скважину, и улыбнулась своему вещему сну, не поняв его значения.
Она оделась и пошла в церковь, так как было воскресенье. Там все
любуются ею, словно вошла Венера или Минерва. Вдруг взор ее
падает на молодого человека: он стоит, прислонившись к колонне,
красивый, изящный, с курчавыми волосами, с нежным пушком
на щеках. Он смотрит на нее умоляющими глазами, и она уже
любуется им тайком. Она читает в его взоре: «Ты мое блаженство». —
«А ты мое», — отвечает ее сердце. Кровь приливает к ее лицу, ей
жарко, она вздыхает; ей хочется только одного — понравиться
ему. А он — видно, опытный в этих делах — все смотрит с мольбой.
Сколько обмана таит его взор! Но Фьямметта верит ему и думает:
«Вот тот, кого я избрала моим первым и последним, единственным
властелином!»
82
A.A. СМИРНОВ
Она узнала его имя: Панфило, что значит «всецело любящий».
И в церкви, и дома, и на берегу моря все ее мысли — только о нем.
Она потеряла самоуверенность, забыла гордость, утратила сон
и аппетит. Ее нянька обо всем догадывается и пытается склонить ее
к благоразумию. Но Фьямметта объявляет, что не в силах
противостоять власти Амура: либо смерть, либо счастье любви с избранником
сердца! Все решает видение Венеры, которая велит ей покориться.
Фьямметта склоняет колени и говорит Венере: «Да будет воля твоя!
Прости мне мое сопротивление». Венера дохнула на нее, и от этого
желание Фьямметты еще жарче разгорелось.
Фьямметта вводит Панфило в круг знакомых своего мужа. В
обществе, среди общей беседы, они ведут свой особый разговор
иносказаниями, «будто о древних греках». Перед тем, как рассказать
о решительном тайном свидании, Фьямметта просит снисхождения
и сострадания у своих слушательниц. «А ты, честная стыдливость,
поздно мною познанная, удались, не карай робких женщин, пусть
они узнают о том, к чему, любя, стремятся сами». Наступили дни
блаженства, но вскоре за ними пришло горе. Однажды сквозь сон
Фьямметта слышит, как Панфило плачет возле нее. На ее
расспросы, прерывая слова вздохами, он сообщает, что отец вызывает его
в родной город. Фьямметта молит его остаться, но Панфило должен
ехать; он обещает вернуться через некоторое время. При последнем
свидании Фьямметта потеряла сознание. Панфило на руках отнес
возлюбленную на ее ложе и долго плакал, моля богов пощадить ее.
Фьямметта осталась одна. Ее одолевают черные думы, которые
ничто не в силах рассеять. Наконец, приходит письмо от Панфило,
который обещает скоро вернуться. Фьямметту это не утешает. Ее
томят муки ревности: ведь во Флоренции столько красавиц. «Впрочем,
кого он найдет, кто бы его любил так, как я ? » Часто она на вышке
дома следит, скоро ли зайдет солнце, отмечает белыми и черными
камешками прошедшие и еще оставшиеся дни, перебирает вещи
Панфило, перечитывает его письма, беседует ночью с луной; она
слушает сказки служанок, читает повести любви, засыпая, грезит
о милом. Приближается назначенный срок. Фьямметта обновляет
свои наряды, пытается освежить свою красоту. Кто бы ни вошел,
чей бы ни послышался голос, все ей кажется, что это Панфило или
весть о нем. Раз сто на дню выглядывает она в окно. Вспомнив, что
Панфило обещал что-то привезти ее мужу, Фьямметта решает
спросить его, скоро ли вернется Панфило, но муж ничего об этом не знает.
Срок давно уж прошел. Распространяется слух о женитьбе Панфило.
Фьямметта потрясена. Она представляет себе, как Панфило будет
Джованни Боккаччо
83
рассказывать молодой жене о победе над ней. Ее терзают обида,
отчаяние, злоба. Наконец, она заболевает. Муж обеспокоен, врачи
бессильны помочь ей. Фьямметта нехотя наряжается, нехотя
выходит на люди. Начнет причесываться — задумается, и гребень
падает из рук. Все напоминает ей о Панфило. Выйдет ли на берег
моря — ей вспоминается, как они там вместе гуляли, слушает ли
музыку — звуки будят в ней любовные чувства. Фьямметта
проклинает светскую жизнь, мечтает о простоте сельского существования,
о невинности золотого века. Прошел год, и Фьямметта начинает
привыкать к своему горю. Но вдруг она узнает, что женился
только отец Панфило, а сам он завел возлюбленную. Это еще тяжелее
для нее, так как это — самая несомненная измена. Настала весна,
но для Фьямметты теперь это — пора печали. В довершение —
злая насмешка судьбы: приходит известие, что приехал Панфило;
но оказывается, что это его земляк и тезка. Фьямметта подробно
перечисляет любовные невзгоды знаменитых женщин древности,
стараясь доказать, что ее участь — горше всех. Она кончает рассказ
напутствием своей книжке: «Маленькая моя книжечка, как будто
извлеченная из гробницы твоей госпожи... влюбленным женщинам
тебя я представляю такою, как ты есть, написанную моей рукою
и часто орошенную моими слезами... Служи через страдания
госпожи своей примером вечным для всех счастливых и несчастных».
Повесть Боккаччо полна литературных воспоминаний. Явление
Венеры, которая, распахнув хитон, показывает Фьямметте на своей
груди изображение Панфило, напоминает очень сходное видение
в «Новой Жизни». Описание пути любви, проникающей через глаза
в сердце (когда Фьямметта впервые видит в храме Панфило),
воспроизводит старую доктрину трубадуров. Кормилица Фьямметты
очень похожа на кормилицу Федры. Описание признаков
влюбленности взято из Овидия, точно так же как заключительное обращение
к книге парафразирует начало его «Печальных песен» («Tristia»).
Вообще, откликов из Овидия очень много. Но это не механические
заимствования, а выбор подходящего материала, умело
осваиваемого, из литературных источников, которые не открывали чего-либо
по существу нового, а лишь помогали художественно оформить
самобытное чувство.
Это, однако, не касается чисто стилистических моментов, в
которых проявляется чрезмерная зависимость от классиков.
Сюда относятся — ораторская замедленность рассказа, сложность
синтаксиса, большое количество вставных рассуждений, а
главное — нагромождение исторических или мифологических образов
84
А. А. СМИРНОВ
и сравнений, иногда столь обильных (например, там, где Фьям-
метта сопоставляет свою судьбу с судьбою героинь древности),
что возникает впечатление, будто рассказчица хочет щегольнуть
своей ученостью. Здесь сказывается та же борьба за стиль, начатая
в «Фи л около» и не окончившаяся еще в «Декамероне», старание
освоить античную стилистику в целях создания современной
подлинно художественной прозы на живом, национальном языке.
При склонности гуманистов, и в том числе Боккаччо, превращать
подражание древним в самоцель, частичные неудачи на этом пути
были неизбежны.
Но во всем том, что касается обрисовки и анализа чувств,
литературные и ученые реминисценции — лишь подспорье. В основном
здесь Боккаччо самостоятелен, так же как он самостоятелен в живом
и правдивом изображении обстановки душевной драмы — нравов
и сцен неаполитанской жизни, празднеств, поездок, танцев на берегу
моря, пленительного южного пейзажа. Превосходны также очень
объективно очерченные фигуры второстепенных персонажей
повести, в первую очередь — мужа Фьямметты и ее кормилицы. В целом,
роман производит впечатление большой самобытности и гармонии.
«Фьямметта» — прощание Боккаччо с прошлым, с былой
любовью, с феодальным Неаполем, где протекла его молодость, и
решительный отход от рыцарской романтики, проникавшей до сих пор
его творчество. Отныне Боккаччо — гражданин трезвой и деловой
Флоренции, с которой он все более срастается, республиканец,
начинающий интересоваться общественно-политическими вопросами
и проявлять внимание к практической жизни и порождаемым ею
общественным типам. В творчестве это соответствует дальнейшему
углублению реализма, без отказа, однако, от поэтической стихии,
культа изящной формы и использования принципов
классической эстетики. Все это нашло столь же полное выражение, как
и в «Фьямметте», во втором большом произведении этого
периода, поэме в октавах «Фьезоланские нимфы», написанной около
1345 г. Начальные и заключительные строфы этой поэмы говорят
о том, что она вдохновлена любовью, всецело владеющей сердцем
поэта. Но предмет его чувства, — быть может, уже не Фьямметта,
а какая-то другая флорентийская дама, имя и судьба которой
остались нам неизвестны.
В основу сюжета Боккаччо положил миф, услышанный или
вычитанный им где-то, а, быть может, свободно им измышленный
по образцу «Метаморфоз» Овидия и приуроченный к Фьезоле,
живописному городку поблизости от Флоренции. Именно — поэма
Джованни Боккаччо
85
должна объяснить происхождение названий двух ручьев, сбегающих
с холма Фьезоле и затем сливающихся вместе.
В незапамятные времена, когда еще не существовало города
Фьезоле и люди жили в первобытной простоте, не зная даже
употребления хлеба и вина, на холме Фьезоле обитали нимфы,
подчиненные Диане и принесшие обет девственности. Юный пастух
Африко однажды подглядел собрание нимф и страстно влюбился
в одну из них, Мензолу. Но суровая нимфа отвергает мольбы
юноши, мечтающего сделать ее своей женой, и даже едва не поражает
его копьем. Безутешному Африко является Венера и дает ему
совет — переодеться женщиной и вмешаться в толпу нимф, что даст
ему возможность достигнуть цели. Африко следует этому совету и,
воспользовавшись моментом, силою овладевает Мензолой. Та
сначала негодует и плачет, но затем в ее сердце пробуждается любовь,
и она уже добровольно осыпает Африко ласками. Расставаясь, она
обещает ему часто приходить на свиданье. Вслед за тем, однако, ее
охватывает страх перед Дианой, и она скрывается от Африко. Тот
ее тщетно разыскивает, тоскует и, наконец, в отчаянии лишает
себя жизни собственным копьем на берегу потока, окрасив воды
своей кровью.
Мензола, ничего не зная об этом, продолжает прятаться в
своей пещере. Почувствовав себя беременной, она озабочена лишь
одним — как бы сберечь своего будущего ребенка от гнева Дианы.
Однако, когда у нее рождается прелестный мальчик, она
оказывается не в силах отдать его старой нимфе, желающей помочь ей,
и оставляет ребенка при себе. В конце концов Диана
обнаруживает ее проступок и превращает убегающую от нее Мензолу в реку.
После этого старая нимфа относит мальчика, названного Прунео,
к родителям Африко, которые с любовью его воспитывают. Через
некоторое время в страну приходит Атлант с множеством народа
и насаждает цивилизацию. Он основывает город Фьезоле, а нимф
выдает замуж за своих подданных. Прунео он сделал своим пажем,
а затем сенешалом, приискал ему жену знатного рода и подарил
обширные владения. У Прунео было десять сыновей, потомки
которых стали гражданами Фьезоле, а затем переселились в основанную
римлянами Флоренцию. Род Африко процвел, и из него в других
местностях пошли именитые люди.
«Фьезоланские нимфы» — самое поэтическое из всех
произведений Боккаччо и, вместе с тем, такое, в котором реалистическое
и народное начало его творчества выразилось с огромной силой.
Особенно ясно это становится, если сравнить «Фьезоланских нимф»
86
А. А. СМИРНОВ
с первым опытом Боккаччо в области пасторального жанра, « Аме-
то». Здесь нимфы — уже не разряженные и жеманные светские
красавицы или пышные, замысловатые аллегории более ранней
поэмы, а простодушные и здоровые сельские девушки, истинные
дочери природы. Диана более похожа на настоятельницу женского
монастыря, деловито хозяйничающую и оберегающую от соблазнов
своих питомиц, чем на величавую античную богиню. Даже Венера
дана в упрощенном и очеловеченном виде, особенно когда она
является Африко в необычном с точки зрения античной мифологии
виде — с «младенцем» Амуром на руках, словно привычная для
народной фантазии Мадонна. Таковы же чувства главных
персонажей — необычайно простые и искренние, лишенные какой бы
то ни было приподнятости или сентиментальности. Душевные
движения подмечены и описаны с не меньшей правдивостью,
чем в «Фьямметте». Превосходно обрисована борьба,
происходящая в душе Мензолы, сначала между чувством горькой обиды
по отношению к насильнику и зарождающейся нежности к нему,
затем между любовью и страхом. Впервые в новой европейской
литературе Боккаччо изобразил материнское чувство, всецело
овладевающее душой молодой женщины. Точно так же тонко и
правдиво нарисованы семейные сцены в доме Африко, трогательные
заботы о нем родителей — когда мать, приняв любовный недуг
юноши за обыкновенную болезнь, хочет приготовить ему ванну
из целебных трав, а отец, разгадав в чем дело, прикрывает
Африко одеялом и советует жене не тревожить его. Так же с большой
теплотой изображено, как старики принимают в свой дом внука
и нежно заботятся о нем.
Условность классической эклоги с ее мифологическим аппаратом
преодолена здесь Боккаччо. Это сказывается и в стиле поэмы,
свободном от всяких риторических прикрас. В языке «Фьезоланских
нимф» мы встречаем целый ряд выражений и оборотов народной
речи. Еще существеннее обращение здесь Боккаччо к формам и духу
народной поэзии. Когда отец Африко спрашивает о причине долгой
отлучки, юноша отвечает уклончиво и иносказательно, прибегая
к символике народной любовной поэзии: несколько дней назад он
видел в горах лань, да такую красивую, что наверно господь
сотворил ее собственными руками, — походка у нее легкая, цветом
она так приглянулась ему, что он погнался за нею, но поймать ее
так ему и не удалось. Strambotti и rispetti4 звучат на каждом шагу
в поэме, особенно в монологах и диалогах. Следует добавить, что
октава в этой поэме несравненно более подвижная и музыкальная,
Джованни Воккаччо
87
чем в «Филострато» и «Тезеиде», сохраняет при этом всю простоту
и непринужденность этого размера в народной поэзии. И в стиле
и в метрике «Фьезоланских нимф» наблюдается соединение тонкой
отделки и очаровательной небрежности.
Все это делает «Фьезоланских нимф» идиллической поэмой
совсем нового типа. Тогда как в «Амето» пасторальная обстановка
служит лишь внешней рамкой действия, здесь она сообщает поэме
ее существенный, внутренний тон. Там — замысловатая история
вычурных чувств на условном фоне природы, здесь —
непосредственная, бесконечно естественная жизнь сердца в интимном слиянии
с природой, в самой природе. Поэма полна любви к родной земле
и душевной ясности.
Основное в «Фьезоланских нимфах» —утверждение естественных
чувств и протест против аскетического идеала, который объявляется
не только непосильным, но и гибельным для человека. Более того,
следование здоровым инстинктам является, согласно Боккаччо,
необходимым условием полноценной, связанной с культурным
творчеством жизни. Эта мысль отчетливо выступает в финале
повести, в эпизоде с Атлантом, который хотя и выглядит случайным
привеском к поэме, на самом деле необходим для раскрытия ее
основной мысли. Как в «Тезеиде» ее псевдоисторическое обрамление
(деяния греческих героев, «дела Марса») создает общий тон,
акцентирующий идеалистически-рыцарский характер чувств главных
персонажей, так в «Фьезоланских нимфах» такое же обрамление
(рассказ об Атланте и о дальнейших судьбах Фьезоле и Флоренции)
подчеркивает ориентацию поэмы на идеалы иного рода — на
простые и мирные человеческие чувства. Первое связано с атмосферой
феодально-монархического Неаполя и рыцарской романтики,
ассоциировавшейся с ним в сознании Боккаччо, второе — с атмосферой
демократической, республиканской Флоренции и родившимся
у Боккаччо в ее обстановке влечением к реализму и идиллической
простоте жизни.
При этом коренное различие между обоими обрамлениями
заключается в том, что изображение военных деяний в «Тезеиде»
бесперспективно и лишь фиксирует некий универсальный и
неизменный уклад общества, как это свойственно средневековому
мышлению, между тем как финал «Фьезоланских нимф» содержит
первые проблески идеи исторического развития, приоткрывающейся
сознанию людей Ренессанса. Этот зачаточный «историзм» поэмы
связан с другим моментом первостепенной важности. Во всех
неаполитанских произведениях Боккаччо личные чувства и личная
88
А. А. СМИРНОВ
жизненная авантюра были началом и концом, которые покрывали
и заслоняли все остальное. В «Фьезоланских нимфах» эта
субъективность чувства преодолевается*.
4
Главным произведением Боккаччо, на котором прежде всего
основана его мировая слава, является «Декамерон», написанный,
приблизительно в 1353-1354 гг. В замечательной книге, ставшей
значительнейшим событием в развитии итальянской
художественной прозы, Боккаччо выказывает себя великим гуманистом,
наносящим сокрушительный удар религиозно-аскетическому
мировоззрению и дающим необычайно полное, яркое и разностороннее
отражение современной итальянской действительности. Ренессанс-
ный реализм, подготовленный уже в юношеских произведениях
Боккаччо, получает ярчайшее выражение в «Декамероне», который
часто противопоставляли «Божественной Комедии» Данте, как
подлинно «человеческую комедию», знаменующую начало новой эры
в западноевропейской литературе.
Опираясь на традиции средневековых рассказчиков,
Боккаччо взял у своих предшественников все заключенные в них
плодотворные элементы: анекдотическую фабулу, трезвый
бытовой элемент, жизненную непосредственность, прославление
находчивости и остроумия, непочтительное отношение к попам
и монахам. К этим унаследованным элементам он добавил
интерес к жизни, последовательную реалистическую установку,
богатство психологического содержания и сознательный
артистизм формы, воспитанный внимательным изучением античных
авторов. В силу такого подхода к новелле она стала
полноправным литературным жанром, легшим в основу всей
повествовательной литературы нового времени. Свежесть и новизна этого
жанра, его глубокие народные корни, отчетливо ощутимые даже
под лоском изящного литературного стиля Боккаччо, сделали
его наилучше приспособленным к выражению передовых
гуманистических воззрений.
В своей книге Боккаччо впервые ввел новый композиционный
мотив — рассказывание ради рассказывания. До «Декамерона»
этот прием был применен им в «Филоколо» (13 любовных вопросов)
и в «Амето» (любовные рассказы семи нимф). При таком построении
* Здесь в рукописи А. А. Смирнова пропуск одной или двух фраз.
Джованни Боккаччо
89
рассказчики отдельных новелл являются участниками основной,
обрамляющей новеллы.
Обрамляющей новеллой «Декамерона» является описание
флорентийской чумы 1348 г. Мрачный, трагический колорит этого
описания эффектно контрастирует с веселым, жизнерадостным
настроением всего сборника. Таким образом, новеллы
«Декамерона» рассказываются в обстановке «пира во время чумы».
Академик А. Н. Веселовский замечает по этому поводу: «Боккаччо
схватил живую психологически верную черту — страсть к жизни
у порога смерти». Рассказчики «Декамерона» забывают о чуме, они
беспечно проходят мимо ужасов смерти. В этом ярко проявляется
жизнерадостность Ренессанса. Боккаччо изображает рассказчиков
и рассказчиц «Декамерона» культурными, образованными и
остроумными молодыми людьми. Трое юношей носят имена Дионео,
Филострато и Панфило, под которыми Боккаччо выводил себя
в своих произведениях. Чувственно веселый Дионео,
чувствительный, меланхоличный Филострато и серьезный, рассудительный
Панфило — показатели настроений самого Боккаччо в разные
периоды его молодости. Характер каждого из юношей отражается
в рассказываемых им новеллах. То же относится и к девушкам,
среди которых фигурирует и Фьямметта. Это придает большое
разнообразие сборнику, но в то же время вносит в него структурную
четкость.
У предшественников Боккаччо новелла имела определенную
практическую, морализующую установку. Боккаччо сохраняет этот
традиционный мотив. Рассказчики «Декамерона» сопровождают
свои новеллы моральными сентенциями, вытекающими из их
рассказа. Так, 8-я новелла X дня должна показать силу истинной
дружбы, 5-я новелла I дня должна иллюстрировать значение быстрого
и удачного ответа и т. д. Однако обычно у Боккаччо мораль вытекает
из новеллы не логически, а психологически и часто является только
поводом и приемом.
Поразительное богатство идей, сюжетов, образов, ситуаций,
присущее «Декамерону», находит отражение также в его стиле,
во всей той сумме средств и приемов, которая говорит о важном
этапе в развитии именно художественной итальянской прозы.
Новеллы Боккаччо отличаются на редкость богатым и красочным
языком. Боккаччо создал в них стиль итальянской прозы, которая
до него была бессвязна, наивна, необработанна. Он первый подверг
ее литературной отделке, ориентируясь на опыт античных
авторов. Стремление приблизить итальянскую прозу по ее построению
90
А, А. СМИРНОВ
к латинской привело Боккаччо к некоторой монотонности речи,
контрастирующей с живостью и актуальностью ее содержания. Однако
эта гуманистическая манера, наметившаяся еще во «Фьямметте»,
в «Декамероне» пока не застыла, как у его подражателей. Когда
сюжет захватывал Боккаччо, он переходил на разговорный
флорентийский язык, которым владел в совершенстве. Таким живым
народным языком говорят у Боккаччо в первую очередь комические
персонажи. Тогда диалог становится быстрым, динамичным и
усеивается меткими народными словечками, поговорками,
каламбурами; последние вводятся чаще всего для маскировки эротических
ситуаций. Большинство эротических новелл Боккаччо построено
на таких каламбурах.
Такому жанровому, бытовому элементу противостоит в стиле
«Декамерона» своеобразная романтическая струя. Мы находим
такую романтику уже в обрамляющей новелле, построенной на остром
контрасте жизни и смерти. Романтичны также трагические новеллы
с присущим им прославлением сильных страстей, побеждающих
смерть. Наконец, романтичны новеллы, повествующие о
путешествиях по дальним странам и опасным морям, о тех приключениях
странствующих купцов-мореплавателей, которые позволили
Энгельсу говорить об эпохе Возрождения как о «времени странствующего
рыцарства и буржуазии».
Боккаччо весьма искусно сочетает обе отмеченные
стилистические тенденции — бытовизм и романтику, комизм обыденной
жизни и трагизм сильных страстей. Разрабатывая традиционные
сюжеты, он обогащает их множеством личных наблюдений и
впечатлений, углубляет идеи и чувства своих персонажей, стремится
передать впечатления живой жизни, схватить в каждом предмете
или образе наиболее характерные, живые черты. В этом, главным
образом, и заключается его реализм, выражающий типичное для
Ренессанса любование жизнью, «открытие мира и человека». Этот
реализм проявляется и в описаниях природы и внешней обстановки
действия, и в живых портретах действующих лиц, и в
психологических мотивировках действий персонажей.
Боккаччо создал в своем «Декамероне» классический тип
итальянской новеллы, получивший дальнейшее развитие у его
многочисленных последователей в самой Италии и в других странах.
Новеллистическая литература Италии оказала влияние на развитие
и новоевропейской драмы. Она являлась сокровищницей сюжетов,
из которой черпали драматурги всех европейских стран в XVI-
XVII вв. Очень многим обязан итальянской новелле Шекспир.
Джованни Боккаччо
91
5
Вскоре после завершения «Декамерона» Боккаччо испытал
рецидив аскетических настроений, с которыми он вел столь
решительную борьбу в «Декамероне». Он написал аллегорическую
поэму в дантовском стиле (в прозе) — «Корбаччо, или Лабиринт
любви» (1354-1355), представляющую язвительный, злой памфлет
на женщин. Книга эта имеет биографическую основу: в бытность
во Флоренции Боккаччо ухаживал за одной вдовой, которая
выказывала ему притворное расположение, за глаза же насмехалась
над ним, разглашая его письма к ней. Узнав об этом, разгневанный
Боккаччо решил написать памфлет на женщин, сравнив их с злым
вороном, каркающим направо и налево (отсюда и название поэмы:
«Corbaccio» — скверный, злой ворон, «воронище»).
В начале «Корбаччо» поэт говорит, что жестокость
флорентийской вдовушки чуть не привела его к самоубийству. Затем он
успокоился, заснул и увидел во сне, будто, гуляя, он заблудился
в страшном лабиринте гор, окружен дикими зверями и ждет
смерти. Вся эта обстановка очень напоминает ту, которую мы находим
в начале «Божественной Комедии». Но в поэме Данте лес является
символом земной жизни с ее невзгодами и горестями, от которых
поэта спасает небесная любовь Беатриче, между тем как у Боккаччо
лес символизирует любовь, от которой поэта освобождает здравый
человеческий рассудок. Таким образом, любовь трактуется у Данте
и Боккаччо совершенно по-разному. Естественно потому, что и выход
из исходной ситуации в обеих поэмах совершенно различный: место
Вергилия занимает в поэме Боккаччо «величественный старец»,
который оказывается покойным мужем кокетливой вдовушки,
претерпевающим мучения в чистилище за «непристойную терпимость»,
с которой он выносил поведение жены. Сейчас, после своей смерти,
он уже не ревнует жену, а наоборот — глубоко сочувствует всякому,
кто имел несчастье связаться с ней. Бог послал его к поэту, чтобы
раскрыть ему глаза на женский пол и возбудить отвращение к
нему. Выполняя это поручение, старец разражается против женщин
страстными филиппиками, напоминающими отчасти трактаты
средневековых моралистов, отчасти знаменитую VI сатиру Ювенала.
Главное отличие «Корбаччо» от указанных произведений
антифеминистической литературы заключается в том, что Боккаччо
конкретизирует здесь свои нападки, вставляя их в бытовую рамку
и уснащая живыми современными черточками. Боккаччо мастерски
показывает в «Корбаччо» и женщину, прихорашивающуюся перед
92
A.A. СМИРНОВ
зеркалом и пускающую в ход всевозможные косметические
средства,— и женщину-болтунью, которая знает все, от звезд небесных
до нового пояса соседки, и сплетничает со служанкой, прачкой,
булочницей,— и женщину в церкви, которая держит в руках
четки и делает вид, что молится, на самом же деле переглядывается
с мужчинами и перешептывается с соседками. В конце концов
наставления мужа приводят к желательному результату: поэт
начинает смеяться и излечивается от своего любовного недуга. Выведя
его из любовного лабиринта, муж вдовушки возводит его на гору,
и поэт, посмотрев вниз, ясно осознает, из какого ада он спасся
благодаря наставлениям своего руководителя.
Критика отмечала грубость красок и карикатурность образов,
показанных в «Корбаччо». Эта резкость обусловлена
особенностями памфлетного жанра, к которому относится «Корбаччо».
В то же время в «Корбаччо» есть ряд перекличек с «Декамероном»,
в котором немало места отведено рассказу о женских ухватках,
хитростях и притворствах. Но в «Декамероне» весь материал
не преследует цели очернить женщин вообще, тогда как в
«Корбаччо» Боккаччо ставит себе именно такую цель. Он возвращается
здесь к старому взгляду на женщину как на существо низшего
порядка, полагая, что возвышенные натуры встречаются среди
женщин только в качестве исключения. Соответственно такому
изменению взглядов на женщину изменяются также взгляды
Боккаччо на любовь: «после признания любви как законного,
самодовлеющего принципа жизни, — поворот к старому нравственному
критерию и взгляду на любовь как на неразумное вожделение»
(Веселовский).
Идеологические противоречия, присущие Боккаччо как человеку
переходной эпохи и ощутимые даже в «Декамероне», в «Корбаччо»
значительно обостряются и приводят к явной ревизии принципов
гуманистической морали. В старости Боккаччо испытывает прилив
религиозно-аскетических настроений и восстает против безумия
языческих помыслов, наполняющих его прежние произведения.
Начало этого перелома датируется 1362 г., когда Боккаччо решил
последовать увещаниям Джоаккино Чани, продать свои книги и
прекратить литературно-научные занятия. Правда, Петрарка уговорил
его не делать этого, и Боккаччо продолжал работать над своими
научными трудами; но от «Декамерона» он решительно отрекался,
объявляя его книгой опасной и непристойной, в особенности в руках
порядочной женщины.
Джованни Боккаччо
93
Последние годы своей жизни Боккаччо посвятил изучению
и комментированию Данте, который всегда оставался его любимым
поэтом. В 1373 г. флорентийская коммуна поручила ему
истолковывать «Божественную Комедию» в публичных лекциях. Заняв, таким
образом, первую дантовскую кафедру в Италии, Боккаччо составил
весьма обстоятельный комментарий к поэме Данте, а также начал
писать первую биографию великого поэта («Жизнь Данте»), которую
смерть помешала ему закончить. Несмотря на свое благоговение
перед Данте, Боккаччо не сумел правильно понять личность этого
великого поэта-гражданина, потому что был человеком совершенно
другой эпохи и склада.
Итак, Боккаччо испытал в старости такой же поворот в сторону
старой культуры, как и Петрарка. Но этот поворот был не в силах
ослабить грандиозное воздействие его «Декамерона». Боккаччо
вошел в историю именно как автор этой великой книги, навсегда
оставшейся одним из драгоценнейших памятников человеческой
мысли и творчества, освобождающихся от гнета
феодально-церковного мировоззрения.
■е5^
^^
Т. В. ДЗЮБА
Джованни Боккаччо (1313-1375)
Джованни Боккаччо, сын флорентийского купца из Чертальдо,
родился в 1313 году, в Париже, куда его отец приехал по своим
торговым делам. Мать Боккаччо — француженка.
Нелегким было детство будущего великого итальянского
писателя. Отец не захотел жениться на матери Боккаччо, а вернувшись
во Флоренцию, обручился с богатой девушкой. Мать Боккаччо
вскоре умерла, и отец перевез маленького Джованни к себе. Очень
рано проявилась у мальчика склонность к литературе и поэзии.
Шести лет он уже писал стихи. Однако суровый, рассудочный,
поглощенный своими торговыми делами отец не мыслил для сына
иного пути, кроме торгового.
Семи лет мальчик был отдан в латинскую школу Джованни
да Страда, но вскоре взят оттуда, так как отец спешил приохотить
его к торговому делу. Не закончив своего латинского образования,
Джованни поступил к купцу на выучку. Однако вскоре отец понял,
что из сына не выйдет купца; он решил хоть как-то приспособить
его к практической буржуазной деятельности и сделать юристом,
знатоком канонического права. С этой целью в 1332 году Боккаччо
был послан в Неаполь.
Неаполь этих лет представлял собой крупный феодальный центр,
где создавался очаг расцветавшей в Италии гуманистической
культуры. Пышный двор короля Роберта Анжуйского,
покровительствовавшего гуманистам, был открыт для ученых, поэтов, людей
искусства.
Занимаясь правом по необходимости, Джованни все свободное
время уделяет чтению книг, общению с учеными и филологами
Неаполя, собиранию древних текстов и работе над ними. В юности
Джованни Боккаччо (1313-1375)
95
Боккаччо не имел возможности целиком отдаться поэзии и
филологическим наукам. Все эти пробелы он заполнял жадно, как умел.
Над могилой Вергилия юноша дает клятву целиком посвятить себя
поэзии и изучению классиков. Однако молодой Боккаччо не
пренебрегал и развлечениями, придворными знакомствами. Хотя
в то время он не был еще широко образованным гуманистом и
знаменитым поэтом, его любили за веселый и добрый нрав, за жадное
стремление к знаниям, за все те, быть может, подчас неуловимые
признаки богато одаренной художественной на туры, которые
сказывались уже в юности.
Большое значение для начала творческой деятельности
Боккаччо имела его встреча в 1336 году с Марией д'Аквино, которую он
горячо полюбил. Эта любовь была глубоко человечным, земным
чувством, которое воплотилось в полнокровные реалистические
образы поразительной для этого этапа развития мировой литературы
психологической глубины. Мария д'Аквино, увлекшись на время
Боккаччо, вскоре предпочла ему кого-то другого. Но чувство поэта,
долгие годы не оставлявшее его, вызвало к жизни посвященные
Фьямметте — так он назвал ее — или написанные по ее просьбе, или
согретые памятью о ней произведения; оно обусловило
психологическую глубину и убедительность его ранних творений, послужило
основой для создания такого шедевра, как роман «Фьямметта»,
углубило реалистическую и психологическую линию величайшего
творения писателя — «Декамерон».
Первым произведением Боккаччо был обширный роман в прозе
«Филоколо» (1336), написанный по просьбе Марии-Фьямметты.
Еще очень несовершенный композиционно, во многом наивный,
роман ценен как первое прозаическое произведение Боккаччо,
в котором уже проявился его блестящий талант рассказчика,
повествователя. Особенно интересны вставные новеллы романа,
впоследствии использованные в «Декамероне». «Филоколо» —как бы
заявка на то произведение, которому суждено было обессмертить
имя Боккаччо и веках. За «Филоколо» последовали поэмы в октавах
«Филострато», «Тезеида», пастушеская идиллия «Амето», поэма
в терцинах «Любовное видение» и, наконец, вершина поэтического
творчества писателя — «Фьезоланские нимфы» (1345-1346 гг.).
Боккаччо не стал великим итальянским поэтом, хотя увлечение
поэзией пронес через всю свою жизнь и упорно работал над стихом,
совершенствовал композицию своих поэтических произведений.
Боккаччо — поэт земной и веселый, тяготеющий к бытовым
описаниям, к прославлению простого человеческого счастья, к отдельным,
96
Т.В.ДЗЮБА
мастерски выписанным жанровым сценам и эпизодам и
психологическому углублению в мир переживаний своих героев. Почти во всех
поэтических произведениях Боккаччо проглядывает прозаик,
бытописатель, реалист нового склада, будущий гениальный новеллист.
В «Фьезоланских нимфах» он не только доводит до совершенства
октаву и поэтический язык, но и добивается исключительной
психологической глубины повествования. Это — повесть о несчастной
любви Африко и Мензолы, написанная без риторики и условности,
искренне, удивительно тепло и человечно.
Если Боккаччо не стал великим национальным поэтом, как
Данте, если он не стал величайшим лирическим поэтом и крупным
ученым-гуманистом, как Петрарка, то славой своей в мировой
литературе он обязан блестящему дарованию писателя-новеллиста,
реалиста, психолога. В жанрах психологического романа и новеллы
Боккаччо сказал новое слово в итальянской и мировой литературе,
его справедливо считают создателем этих жанров. Но личная,
человеческая трагедия Джованни Боккаччо заключалась в том, что
к этим, так называемым, «низким» жанрам, в разработке которых
он достиг поразительных высот, он, как и большинство его
современников, относился с некоторым пренебрежением, не умея сам
оценить то место, которое он занимает в итальянской культуре, и
понять, что в его творчестве является главным. В латинских же своих
произведениях и письмах Боккаччо не смог подняться до уровня
Петрарки как ученый-филолог.
В 1340 году Боккаччо возвращается во Флоренцию. Затем много
раз уезжает в Неаполь и другие города, путешествует, занимается
научной и политической деятельностью, но основной труд его
жизни — литература и филология, а также гениальное его творение
«Декамерон» прочно связаны с родной Флоренцией.
Прожив некоторое время с отцом, Боккаччо уезжает в Неаполь.
В 40-е годы он много и упорно работает, занимается филологией.
Художественные произведения, вышедшие в эти годы из-под его
пера, полны воспоминаниями о счастливых днях, вдохновлены
любовью к Фьямметте и представляют собой в большей или
меньшей степени реалистическую разработку человеческой психологии.
Очень важно, что здесь закладывались основы «Декамерона», зрело
мастерство для его написания.
Величайшим произведением Боккаччо, так же, как и
«Декамерон», обессмертившим его имя, явился роман «Фьямметта» (1345 г.),
заложивший основы психологического романа в европейской
литературе. В «Элегии мадонны Фьямметты», написанной от лица
Джованни Боккаччо (1313-1375)
97
героини, Боккаччо дал непревзойденным анализ чувств и
переживаний любящей женщины, заглянув в самые глубины человеческого
сердца. Трагедия обманутой любви написана Боккаччо с
удивительной теплотой, достоверностью, с огромной силой убедительности.
Повествование построено в форме монолога, с которым Фьямметта
обращается к другим женщинам, с болью рассказывая о своей
разбитой жизни и призывая их учиться на ее горьком примере. Как
и все ранние произведения Боккаччо, книга эта связана с фактами
его биографии, но опираясь на собственные переживания, Боккаччо
с такой удивительной для его времени глубиной раскрыл трагедию
женской души, что мог бы с полным правом сказать, перефразируя
произнесенные пять веков спустя слова Флобера: «Фьямметта, —
это я»1. Роман замечателен и богатством реалистических, бытовых
и психологических деталей. Кроме того, это первое
конкретно-историческое произведение Боккаччо.
Тяжеловесная гуманистическая ученость, риторика, длинные
периоды и моральные сентенции не могут ослабить огромной
художественной силы «Фьямметты», произведения, которое остается
живым и понятным современному читателю. Сама мадонна
Фьямметта — это типизированный и полноценный художественный
образ, созданный на основе непосредственных реалистических
наблюдений над жизнью.
В конце 40-х годов Боккаччо снова живет в Неаполе.
Завершился ранний период его литературных исканий, и в 1349 году, после
смерти отца, он возвращается во Флоренцию.
Флоренция 1349 года, только что оправившаяся от чумы,
поразила Боккаччо — наполовину вымерший город носил на себе
следы недавно пронесшегося над ним бедствия. Хотя Боккаччо сам
не видел флорентийской чумы и для описания ее в «Декамероне»
принужден был довольствоваться рассказами очевидцев, введение
к «Декамерону» поражает точностью и правдивостью созданных
писателем бытовых и психологических картин. Над «Декамероном»
Боккаччо работает в период 50-53 годов. Но эти годы загружены
и другими занятиями. Уже известный писатель, завоевавший
себе почетную известность своими учеными трудами, он теперь,
по просьбе флорентийской синьории, начинает заниматься
политической деятельностью. Правда, участие Боккаччо в политической
жизни страны, в борьбе партий и городов было не так уж велико.
В 50-60-е годы Боккаччо много ездил по стране как посол к
различным итальянским дворам и к папе. Небольшое наследство
не поправило плохие денежные дела Боккаччо. Возможно, что его
98
Т.В.ДЗЮБА
политическая деятельность объясняется также и соображениями
финансового порядка.
В отличие от Петрарки, заслужившего огромную славу при
жизни, умевшего добиться признания и уважения от различных
монархов и меценатов, Боккаччо был исключительно скромным
человеком, не умел устраивать свои материальные дела, говорить о своих
заслугах, знаниях, учености, таланте, да он и не считал себя
достойным славы и поклонения. Неумелые попытки устроиться при дворе,
чтобы избавиться от нужды, ни к чему не привели. До конца жизни
Джованни Боккаччо остался простым и скромным человеком; он
всего добился сам, без «благосклонной» помощи сильных мира сего,
без унижений и приспособленчества, хотя подчас ему приходилось
терпеть подлинную нужду и лишения.
В 1353 году, когда Боккаччо узнал, что Петрарка поступил
на службу к миланскому тирану Висконти, он направил ему письмо,
в котором, щадя болезненное самолюбие своего увенчанного лаврами
друга, все же написал о том, как сильно его огорчило недостойное
поведение Петрарки, поправшего принципы свободы художника-
гуманиста.
Касаясь отношений Боккаччо и Петрарки, необходимо отметить,
что великий новеллист всегда испытывал к Петрарке огромное
уважение. Петрарка со своей стороны милостиво принимал
поклонение Боккаччо и охотно переписывался с ним. Но ценя Боккаччо
как друга, он не умел по достоинству оценить Боккаччо-писателя.
В частности, «Декамерона» Петрарка не понял, ему очень
понравилась лишь новелла о Гризельде (10, X), которую он и перевел
на латинский язык.
В 50-е годы Боккаччо усиленно занимается углублением своих
знаний, научными сочинениями, собиранием и изучением
античных текстов. В эти годы (1348-1363) он пишет свои латинские
эклоги, начинает свои знаменитые латинские сочинения «О
генеалогии богов» (1358-1366), трактаты «О несчастиях знаменитых
мужей», «О знаменитых женщинах» и другие. Своим латинским
сочинениям, в отличие от «Декамерона», он придавал гораздо
большее значение, чем они того заслуживали. Однако в них сказались
результаты огромной работы Боккаччо, большая его эрудиция,
и многие из них, как например, «О генеалогии богов» или «О горах
и лесах», заключая огромный собранный материал, являются
сводом знаний того времени, ценнейшими справочными изданиями.
В 1355 году у Боккаччо, как и у многих великих людей его
времени, чье мировоззрение еще только начинало освобождаться
Джованни Боккаччо (1313-1375)
99
от пут средневековья, произошел рецидив тех самых религиозно-
аскетических взглядов, которые были им так блестяще осмеяны
в «Декамероне». Эти настроения нашли отражение в аллегорической
поэме «Корбаччо». Непосредственным поводом для написания поэмы
послужил эпизод из личной жизни Боккаччо — немолодой уже поэт
влюбился в молоденькую вдовушку, которая жестоко посмеялась
над ним, разгласив его письма, «Корбаччо» (или «Лабиринт
любви») — резкая сатира на женщин, написанная в блестящей форме.
Общая направленность поэмы — антигуманистична, она находится
в резком противоречии с передовым, новым взглядом на женщин
как на равных и умственно полноценных созданий. Однако
антифеминизм «Корбаччо» не может зачеркнуть той высокой
гуманистической идеи равноправия женщины, за которую Боккаччо боролся
всем своим творчеством.
В 60-е годы Боккаччо усиленно занимается филологическими
исследованиями, окончательно отрешившись от житейских благ,
от славы, материального благополучия, светских удовольствий.
Боккаччо был страстным собирателем античных текстов и на свои
скромные средства составил великолепную библиотеку, которую
тщательно пополнял во время своих многочисленных поездок,
посещений монастырских библиотек и т. д. Овладев, хотя далеко
не в совершенстве, греческим языком, он предпринял огромный
труд и перевел вместе с калабрийским греком Леонтием Пилатом
рукопись Гомера2.
В 1362 году Боккаччо, здоровье которого к этому времени сильно
пошатнулось, испытал новый, еще более острый рецидив
религиозных, отступнических настроений. Произошло это под влиянием
картезианского монаха Джоакино Чани, прибывшего во Флоренцию
с поручением от своего религиозного наставника, Пьетро Петрони,
умершего незадолго до того и «осененного» перед смертью
видениями, в которых ему «свыше» повелевалось убедить многих
выдающихся людей того времени, и в частности, Боккаччо, оставить
«греховный» образ жизни и обратиться на путь истинный. Когда
Чани приехал к Боккаччо и начал одурманивать его своими
проповедями, то они, видимо, упали на благоприятную почву.
Две эпохи, две культуры, феодальная и буржуазная, аскетическая
средневековая и гуманистическая возрожденческая, боролись в уме
и сердце Боккаччо, столкнувшегося с проповедью Чани. Влияние
монаха оказалось настолько сильным, что у Боккаччо произошел
серьезный душевный перелом, заставивший его ужаснуться
«безумию» своих былых языческих идей и отречься от «Декамерона»3.
100
Т.В.ДЗЮБА
Для «спасения души» Боккаччо решил даже продать свою библиотеку
и отказаться от научных и литературных занятий. Об этом он написал
Петрарке, и Петрарка, тоже не избежавший колебаний и
раздвоенности, все же уговорил Боккаччо не верить предсказаниям и
продолжать заниматься научной деятельностью. Письмо уважаемого друга
отрезвило Боккаччо. Кризис его скоро прошел, однако до конца своей
жизни он уже не только не создал ничего, подобного «Декамерону»,
но и вообще почти не занимался литературным творчеством. Работа
Боккаччо в последние годы жизни приняла исключительно научное,
филологическое направление. Много и любовно занимался он в это
время творчеством Данте, перед которым всегда преклонялся.
В 70-е годы здоровье писателя значительно ухудшается, чему
способствовали не столько годы, сколько тяжелое материальное
положение, душевные потрясения, многочисленные и сложные
поездки по плохим дорогам, напряженная научная работа. В
письме к Маньярдо Кавальканти Боккаччо описывает свою болезнь
и жалуется на то, что теперь у него отнято главное его утешение
в жизни — «музы», как он говорил, литература, поэзия.
Подлинным кумиром Боккаччо был Данте. Любовь и уважение
к великому национальному поэту, восхищение его гением
Боккаччо пронес через всю жизнь. В отличие от Петрарки, не ценившего
Данте (отчасти из ревности к его славе), снисходительно
относившегося к работам Данте в области итальянского языка и
написанным на родном языке сочинениям, Боккаччо преклонялся
перед Данте не только как перед величайшим поэтом, достигшим
вершины итальянской поэзии, но и человеком, сумевшим
защитить и прославить родную тосканскую речь. В конце жизни, когда
Боккаччо отрешился от художественного творчества, всю свою
любовь к литературе, преданность делу гуманизма, весь остаток
физических и духовных сил он вложил в большой труд о Данте. Это
были знаменитое «Жизнеописание Данте», первая не оконченная,
правда, биография великого поэта, и комментарии к
«Божественной комедии», которые составились из лекций Боккаччо о Данте,
читанных в 1373 году по поручению Флорентийской коммуны. Это
была как бы первая в истории дантовская кафедра, и Боккаччо
стоит у истоков многовекового изучения творчества Данте в Италии,
являясь основоположником дантологии.
Болезнь помешала Боккаччо закончить лекции, и в январе
1374 года он удаляется в Чертальдо; но через некоторое время
возвращается во Флоренцию, пытается работать, однако заболевает
снова и умирает 21 января 1375 года в Чертальдо.
Джованни Боккаччо (1313-1375)
101
По словам известного итальянского исследователя, Адольфо
Бартоли, Боккаччо «бедняком сошел в могилу, оставив
человечеству все сокровища своего огромного богатства». Гениальный
писатель и скромный, простой человек, подверженный слабостям
и колебаниям; великий итальянский гуманист, провозгласивший
прогрессивные для своего времени идеи, но оставшийся далеким
от борьбы тех сил, которым принадлежало будущее; крупный
ученый, поражавший современников своими знаниями и
работоспособностью, талантливый филолог, посвятивший себя защите
гуманистических принципов, к которому бессмертная слава
национального итальянского гения пришла лишь спустя несколько
веков после смерти, — таков был третий (после Данте и Петрарки)
великий флорентиец, Джованни Боккаччо.
* * *
Величайшее произведение Д. Боккаччо, его «Декамерон»,
принадлежит к тем творениям мировой литературы, которые переживают
века и являются для людей новых поколений не только
непревзойденным памятником ушедшей эпохи, с ее борьбой, проблемами
и человеческими судьбами, но и вечно живым источником познания
и художественного наслаждения, вечно новой и близкой каждому,
волнующей страницей истории человеческого гения.
Как известно, «Декамерон» (свободное греческое
словообразование, означающее «десятидневник») состоит из 100 новелл,
рассказанных в течение десяти дней. Создав этот памятник, Боккаччо
завоевал славу отца итальянской новеллы. Это вовсе не значит, что
Боккаччо создал жанр новеллы, широко распространенный в
итальянской литературе и устном творчестве задолго до него и
закрепленный в знаменитом сборнике «Новеллино». Но Боккаччо сумел
довести этот жанр до совершенства, найти ту классическую форму
итальянской новеллы, которая надолго определила развитие
жанра в целом, сумел сделать ее могучим средством отражения жизни
итальянского общества эпохи Возрождения.
Возникнув из устного народного рассказа, итальянская новелла
отличалась способностью давать читателям или слушателям живой
материал, насыщенный современностью, она обладала образным
разговорным языком, богатым пословицами, поговорками,
крылатыми выражениями, она впитала в себя и элементы «ученой»
культуры. Итальянская новелла всегда отличалась острым сюжетом,
динамизмом, тенденциозностью. По мере ее развития она
становится все более серьезным оружием в борьбе передовых сил эпохи
102
Т.В.ДЗЮБА
Возрождения, а вместе с этим углубляется и психологизм новеллы,
расширяется человеческая характеристика персонажей,
количественно и качественно растут авторские замечания и отступления,
отражающие передовые идеалы своего времени. Новелла начинает
играть все более активную роль в идеологической борьбе. Однако
острая сюжетная занимательность, развлекательность продолжают
оставаться тем специфическим, национальным, традиционным
средством, с помощью которого итальянская новелла выполняет
свою идейную и историческую роль.
Боккаччо взял основу итальянской новеллы — ее сочность и
занимательность, актуальность и остроумие — и обогатил ее большим
гуманистическим содержанием, соединив народную меткость и
наблюдательность с силой воинствующей гуманистической мысли.
Основными источниками для Боккаччо были предшествующая ему
и современная итальянская новелла и живая окружающая
действительность. Но свои сюжеты и темы он брал также и из восточных
легенд и сказаний, и из средневековых исторических повестей,
анекдотов, и из латинских сборников новелл, и из рыцарских
романов, библейских сказаний, античных преданий, из басен и притчей.
«Декамерон» начинается блестящим описанием флорентийской
чумы 1348 года. Трагический колорит введения резко и эффектно
контрастирует с веселыми, жизнерадостными тонами большинства
новелл. В картинах чумы проявилось окрепшее мастерство Боккаччо
в создании крупных полотен. Ярко описав ужасное бедствие, создав
выразительные зарисовки того, как разные люди встречают его,
писатель переходит к рассказу о «возникновении» новелл
«Декамерона» . Семь дам и трое юношей, удалившись на загородную виллу,
чтобы переждать чуму, каждый день придумывают по новелле.
Участники этого маленького кружка — обеспеченные люди,
получившие хорошее гуманистическое образование. Десять рассказчиков
горячо верят в заложенные в человеке положительные качества,
смеются над сословными предрассудками и феодальными
пережитками, симпатизируют тем, кто борется за свое счастье, за свои
человеческие права. Но не они подлинные герои книги.
Рассказчики — наиболее бледные персонажи «Декамерона». В пестрой толпе
героев новелл перед читателем предстает многоязычный,
многонациональный, многоукладный, шумный, веселый, говорливый мир,
мир живой кипящей жизни, красочный и противоречивый, как
сама эпоха Возрождения.
В новеллах Боккаччо действуют короли, графы, маркизы,
восточные деспоты, купцы, врачи, студенты, школяры, дворяне, буржуа,
Джованни Боккаччо (1313-1375)
103
пестрая толпа горожан и горожанок, бесчисленное количество
аббатов, священников, монахов и монахинь, ремесленников, рабочих,
простолюдинов, слуг и т. д., различных национальностей, времен,
характеров.
Тематика новелл чрезвычайно разнообразна. Кажется, нет
такого пласта жизни, таких оттенков человеческой психологии, таких
житейских и социальных явлений, которые не были бы, с той или
иной глубиной, отражены на страницах «Декамерона».
Боккаччо стоит в преддверии нового мира, шедшего на смену
феодально-католическому укладу в Европе. Все его творчество
пронизано предчувствием новой эпохи — эпохи буржуазно-городской
культуры.
Крутые исторические повороты, важнейшие проблемы эпохи
могут найти отражение в трагической форме, в колоссальных
по масштабам и насыщенности образах, как это было у Шекспира.
Особенности таланта Боккаччо заставляли его рисовать важнейшие
явления своего времени не в трагических, а зачастую в комических
житейских положениях и острых динамичных ситуациях, смотреть
на них веселым взглядом остроумного, наблюдательного художника.
Его герои как бы воспринимают движение истории сквозь призму
своей повседневной жизни, мелочей быта.
«Декамерон» отличается удивительным сюжетным
разнообразием. Но все богатство содержания книги в конечном итоге подчинено
гуманистической идее, наполнено живым дыханием новой эпохи.
Излюбленная тема Боккаччо связана с антиклерикальными
настроениями. Антиклерикальные новеллы — самая обширная группа
новелл «Декамерона». Эти новеллы важны прежде всего тем, что
в них особенно ярко проявилась гуманистическая идеология
писателя. Боккаччо — не атеист, но все то косное, антигуманистическое,
тормозящее движение вперед, что заключено в религии, все, что
обманывает, заставляет страдать, а подчас и губит человека, —
раскрыто с большой убедительностью и бичующим остроумием. «Если
Данте с великим трагизмом отправлял пап и кардиналов в ад, то
Боккаччо с большим комизмом послал их на подмостки балагана. И это
наказание было, быть может, сильнее дантовского, ибо здесь они
погибли при взрыве такого хохота, который не замолк еще и до нас,
после многих веков», — писал А. Бартоли. Действительно, Боккаччо
так остроумно, едко высмеивает клириков, священников, монахов
и пап, их пороки, развращенность, их не знающую границ
алчность, лицемерие, ханжество, грубый обман, что своими блестяще
выписанными образами плутов и лицемеров (сер Чаппеллетто, брат
104
Т.В.ДЗЮБА
Чиполла и др.), кажется, убивает насмерть одно из самых мрачных,
гнетущих зол средневековья.
В других новеллах, тоже очень многочисленных и тоже
пронизанных идеями, направленными против средневекового
мракобесия, Боккаччо выступает, в конечном итоге, за права женщины.
Эта группа новелл, повествующая о жизни и быте горожан, о
борьбе горожанок за свои человеческие права, за свободу в чувстве
и равноправие в семье, подчас перегружена излишними
подробностями, рискованными ситуациями. Это навлекало на Боккаччо
постоянные нападки и обвинения в нескромности,
безнравственности и т. д. Но великий гуманист обвинялся в этих грехах отнюдь
не с передовых позиций. Передовые писатели и деятели культуры,
итальянские и зарубежные, неизменно находили в Д.
Боккаччо вернейшего союзника в своей борьбе за человеческие права,
за гуманистическое искусство, за прогрессивные идеалы. Те, кто
обвиняли и обвиняют Боккаччо в безнравственности, стремятся
прикрыть этим свою ненависть к великому гуманисту, страстно
любившему человека во всех его проявлениях, приветствовавшему
жизнь в каждом ее дыхании.
Буржуазная литература на протяжении многих веков создала
огромное количество произведений, действительно низменных,
написанных с позиций ненависти к человеку и клеветы на него.
Антигуманистическое, антинародное буржуазное искусство не раз
прибегало к эротике и цинизму как к средству борьбы с большими
прогрессивными идеалами. Стремление Боккаччо изобразить
человека во всех его жизненных проявлениях, в большом и малом, высоком
и повседневном не имеет ничего общего с болезненной эротикой
декадентской литературы. Изображение человека у Боккаччо настолько
здоровое, гуманистическое, что эти обвинения не пристают к
Боккаччо, хотя некоторые его новеллы, разумеется, не предназначены
для детей. Хорошо сказал о так называемой «безнравственности»
Боккаччо П. С. Коган: «В его изображении власти плоти так много
наивности, простоты, здоровья, полнокровия и жизнерадостности,
что даже на больные умы оно не может оказать вредного влияния».
От подобных обвинений защищал Боккаччо и Джозуэ Кардуччи,
и многие исследователи его творчества.
Новеллы о ловких проделках умных и свободолюбивых
горожанок, оставляющих в дураках своих незадачливых поклонников-
попов или стремящихся проучить своих ревнивых мужей, или,
наконец, избирающих себе человека по сердцу вопреки ханжеской
морали и выступающих против угнетения женщин в семье, — это
Джованни Боккаччо (1313-1375)
105
выражение борьбы Боккаччо против второго ужасного зла
средневековья — порабощения женщины.
Лучшие, наиболее возвышенные и наполненные большим
гуманистическим содержанием новеллы Боккаччо направлены
против сословного неравенства. Этих новелл не так много, но именно
в них — пафос сборника: именно здесь Боккаччо поднимается
до выражения самых прогрессивных и новых для своего времени
идей. Едва ли не лучшая новелла «Декамерона», новелла о любви
Гисмонды и Гвискардо (новелла о съеденном сердце, 1-я новелла IV
дня), посвящена защите большого человеческого чувства и является
художественным протестом против сословных предрассудков.
Психологически убедительно показывает писатель развитие чувства
Гисмонды и Гвискардо, историю борьбы Гисмонды за право любить
человека «низкого» происхождения, ее безмерное горе после того,
как отец убивает Гвискардо, и ее романтическую кончину. Веселый,
остроумный рассказчик, неизменно зло высмеивающий своих
персонажей или же лукаво и добродушно подтрунивающий над ними,
Боккаччо здесь поднимается до подлинного трагизма. С большой
художественной убедительностью раскрыта в новелле мысль о том,
что люди рождаются равными и что подлинные доблесть и
достоинство человека зависят от его ума, характера, поступков и целей,
а не определяются происхождением.
В другой новелле (9 новелла III дня) рассказывается о том, как
девушка незнатного происхождения своими личными качествами,
умом и постоянством завоевала любовь знатного человека. На
подобную же тему написано еще несколько новелл (новелла 5 IV дня
и др.). Но в новелле о съеденном сердце гуманистическая идея
равноправия выражена в наиболее совершенной художественной
форме и с наибольшей психологической убедительностью образов.
В центре рассказов Боккаччо всегда находится выделившаяся
из коллектива личность. Наблюдая взглядом большого художника,
как рвутся старые феодальные связи, Боккаччо неизменно рисует
эту личность свободной и стремится прославить ее ум и талант, волю
и энергию, инициативу и сметку. Идеал Боккаччо — всесторонне
развитый человек. Боккаччо восхищается лучшими своими
героями, умными, образованными, честными, смелыми, способными
на благородные поступки. Герои Боккаччо всегда красивы внешне,
внутренняя и внешняя красота человека для него нераздельны.
Но изображение больших характеров и благородных поступков
не так уж характерно для таланта Боккаччо. Он тяготеет к
изображению человеческой личности во всех ее проявлениях. Боккаччо
106
Т.В.ДЗЮБА
очень дорого простое, обыденное в человеке. Герой Боккаччо —
не избранная личность, не идеальный человек, а человек простой
и даже заурядный. Вот почему писатель восхищается не только
благородными деяниями своих героев, но и такими их человеческими
качествами, как выносливостью, сметкой, ловкостью, остроумием,
жизнерадостностью.
Отсюда две большие группы новелл «Декамерона». Одна — об
остроумном ответе, изречении, ловко найденном выходе из
затруднительного положения (преимущественно новеллы I и VI дней), о проделках
шутников и веселых гуляк, буффонные новеллы (некоторые новеллы
VIII и IX дней), в другой рассказывается о путешествиях,
приключениях, удивительных превратностях судьбы и повествуется о ловкости,
мужестве, терпении (преимущественно новеллы II и V дней).
Наконец еще одна группа новелл Боккаччо — новеллы о
возвышенных чувствах, больших и красивых движениях души. Лучшей
из таких новелл является 1-я новелла V дня о Чимоне, прекрасном
физически, но тупом и умственно неразвитом юноше, которого
любовь облагородила и преобразила. Под влиянием глубокого чувства
Чимоне из грубого животного превращается в умного, изящного,
широко образованного человека. Знаменитая новелла о Федериго
дельи Альбериги (9-я V дня) посвящена показу человеческого
великодушия, щедрости, способности самопожертвования. В других
новеллах подобного плана Боккаччо показывает благородство,
верность в любви и дружбе, великодушие и красоту.
Однако такие новеллы не всегда удаются Боккаччо. Возможно,
это происходит потому, что дарование великого новеллиста
звучало в ином ключе. Но главная причина слабости подобных новелл,
видимо, в том, что, стремясь показать идеальных людей,
способных отречься от своих интересов и жертвовать собой, Боккаччо
отходит от породившей его реализм животворной почвы реальной
действительности, вызвавшей появление нового человека с его
раскрепощенным индивидуалистическим сознанием, с его городской
культурой и буржуазными устремлениями. Там, где Боккаччо
стремится говорить об абстрактных человеческих чувствах и
благородных поступках, где он отрывается от характерного для него
реалистического изображения человека в его величии и слабостях,
там Боккаччо невольно впадает в схематизм, и от его героических
новелл (главным образом X дня), выросших из абстрактных понятий,
начинает веять литературщиной, а подчас и средневековыми
воззрениями. Примером здесь может служить широко известная новелла
об испытаниях Гризельды (10, X). Самоотречение и безграничное
Джованни Боккаччо (1313-1375)
107
самопожертвование Гризельды, изображенные вне связи с земными
человеческими интересами, выглядят искусственно. Это снижает
в какой-то степени художественный уровень этой в целом
очаровательной боккаччевской новеллы.
* * *
Новеллы Боккаччо имели в свое время огромное воспитательное
значение. Писатель сознательно ставил своей целью внушить
современникам передовые гуманистические идеалы. Твердость идейной
позиции писателя обусловила богатство стилевых оттенков новелл:
так, в ткань произведения, помимо разнообразнейших образов,
типов, ситуаций, Боккаччо искусно вводит многочисленные
замечания, вскрывающие психологию героев, сущность описываемых
событий, авторские отступления, иногда чисто публицистического
характера. Каждая отдельная новелла воздействует на читателя,
а вместе они, усиливая друг друга, блестяще выражают общий
гуманистический пафос «Декамерона».
Боккаччо создал специфический язык новеллы. Основными
элементами его стали образные выражения живой народной речи,
народные пословицы и поговорки. Новеллы Боккаччо остро
сюжетные, со стремительно развивающимся действием требовали яркого,
энергичного и вместе с тем сжатого, выразительного языка. И
такая форма была создана в «Декамероне». После Боккаччо лучшие
итальянские новеллисты не могли уже обойтись без красочной,
живой разговорной речи. Очень большое место в новеллах занимает
диалог, гибко отражающий все особенности живой разговорной речи
итальянского народа. Боккаччо первым ввел диалоги, написанные
разговорным народным языком, до него они звучали лишь устно,
со сцены, в представлениях комедии масок.
В плодотворных поисках реалистического изображения
нового, внесословного и антиаскетического человека формировался
стиль Боккаччо, с его особой чувственной конкретностью, с его
зорким обобщением типических черт и воинствующим народным
оптимизмом.
Психологизм новелл Боккаччо также является одним из
замечательных завоеваний художника. Пестрая толпа боккаччевских
персонажей пересыпана живыми, удивительно яркими и
выразительными характерами, действующими сообразно своим
человеческим побуждениям и тенденциям своего времени. Однако блестяще
созданным типам подчас не хватает чисто индивидуальных,
неповторимых признаков; они несут в себе иной раз больше типических
108
Т.В.ДЗЮБА
для данной среды, социального слоя и времени черт, чем
индивидуальных особенностей.
Джованни Боккаччо по праву может быть назван одним из первых
итальянских реалистов. У своего народа воспринял он реализм его
образного мышления, неистощимый оптимизм и житейскую
многосторонность. Здоровый, жизнерадостный, овеянный любовью к
человеку реализм Боккаччо вызывает восхищение своим пытливым
проникновением в жизнь, в ее важнейшие, типические особенности.
В зарисовках своего «Декамерона» писатель раскрывает живую
итальянскую действительность, дает блестяще подмеченные детали,
обобщает явления жизни своей эпохи.
Боккаччо был первым итальянским писателем, отразившим
действительность с наиболее демократических, народных позиций.
Это не значит, тем не менее, что он был убежденным демократом
и сторонником борьбы угнетенных за свои права. Известно, что
великий писатель отрицательно относился к революционным
движениям своего времени. Мировоззрение Боккаччо, его
политические взгляды были противоречивы. Страстно борясь, особенно
в наиболее плодотворные периоды своего творчества, за свободу
и расцвет человеческой личности, выступая против всяческого
духовного и социального рабства (Боккаччо принадлежит знаменитое
изречение: «Нет жертвы, более угодной богу, чем кровь тирана»4),
он вместе с тем отрицательно относился к движениям городских
низов и мог презрительно отзываться о непросвещенной «черни».
И все же в произведениях Боккаччо, в его «Декамероне» сказался
расцвет наиболее передовых тенденций первого, самого
демократического этапа итальянского Возрождения, отразились идеи,
наиболее близкие чаяниям итальянского народа. «Декамерон» весь
пронизан духом передовой, национальной, народной культуры.
Являясь непревзойденным памятником своей эпохи, он отражает
жизнь и судьбы одного из народов в один из периодов его истории.
Боккаччо по праву называют отцом итальянской новеллы.
Итальянская проза берет свое начало от «Декамерона».
Влияние Д. Боккаччо на последующую литературу огромно не только
в смысле непосредственного влияния на творивших после него
и развивавших жанр новеллы писателей Возрождения, не только
в смысле той роли, которую он сыграл в развитии итальянской
новеллистики вплоть до наших дней, но и в том смысле, что
величайшие завоевания Боккаччо — его реализм, живой народный дух
его произведений, типичность образов и ситуаций, веселый,
жизнерадостный, яркий национальный колорит — на протяжении веков
Джованни Боккаччо (1313-1375)
109
находили последователей в лице лучших итальянских писателей,
а демократическая традиция итальянской литературы в творчестве
Боккаччо получила свое отчетливое воплощение.
Творения Боккаччо сыграли важную роль в формировании
реализма западноевропейской литературы XVI-XVII веков и не раз
оказывали серьезное влияние на отдельных писателей вплоть до
наших дней, являясь идейным и тематическим источником некоторых
произведений. Влияние Боккаччо, в той или иной степени,
отдельные боккаччевские мотивы и настроения различные исследователи
наблюдали у таких разных европейских писателей, как Ганс Сакс,
Шекспир, Лопе де Вега, Мольер, Лафонтен, Перро, Лессинг, Гете,
Лонгфелло, Мюссе, Гауптман и другие.
* * *
В России Боккаччо известен уже давно. В XVII веке повесть,
ставшая любимым чтением русских образованных людей, начала
обогащаться за счет новых источников. С Запада, через Польшу,
проникали в южную Русь новеллы и повести других народов. С юга
России эти заимствованные, переведенные или пересказанные
произведения направлялись на север, в Великороссию. В 1680 году были
переведены с польского языка пять новелл «Декамерона» (день II,
новеллы 7, 9; день III, новеллы 4, 7; день VIII, новелла 8). Таким
образом, уже в XVII веке русское общество начало знакомиться
с Боккаччо, хотя, разумеется, знакомство это было и неполным,
и случайным. В XVII-XVIII вв. появились другие пересказы
Боккаччо, в частности, очень интересный южнорусский стихотворный
пересказ новеллы о Гисмонде и Гвискардо. Сделанный на языке
того времени в стихотворной манере, с некоторым изменением имен
и места действия, этот пересказ, тем не менее, передает основное
в новелле Боккаччо, прославление глубоких человеческих чувств
и последовательную демократическую направленность, дух борьбы
с сословными предрассудками.
В начале XIX века над переводом Боккаччо работал русский поэт
и знаток итальянской культуры К. Н. Батюшков. Многие русские
писатели и литераторы занимались переводами отдельных и
избранных новелл, «Фьямметта» была переведена M. Кузминым. Жизнью
и творчеством Боккаччо, в частности «Декамероном», занимались
многие русские исследователи, в том числе М. С. Корелин, А. А.
Тихонов, П. П. Муратов и др. Однако честь воссоздания «Декамерона»
на русском языке и создания наиболее глубокого исследования
о его авторе принадлежит академику А. Н. Веселовскому. В конце
110
Т.В.ДЗЮБА
90-х годов появляется его перевод «Декамерона» и многочисленные
исследования о Боккаччо (двухтомный труд «Боккаччо, его среда
и сверстники», а также другие работы и статьи).
Исследования А. Н. Веселовского впервые дали русскому
читателю анализ жизненного и творческого пути великого итальянского
гуманиста, раскрыли творчество Боккаччо в его полноте,
исторических перспективах и социальных особенностях. Блестящий знаток
итальянского Возрождения и тонкий ценитель итальянской
культуры, Веселовскии впервые в русском литературоведении создал
научное и дышащее глубоким пониманием творчества Боккаччо
и любовью к нему исследование о великом писателе. В переводе же
«Декамерона» ученому удалось сохранить общий дух произведения,
его стилистическое своеобразие и неповторимую боккаччевскую
манеру изложения. Талантливый перевод А. Н. Веселовского
является образцом художественного перевода величайшего создания
творческого гения одного народа на язык другого народа.
В советский период произведения Боккаччо неоднократно
издавались и переиздавались. Статьи А. К. Дживелегова, С. С. Мокульского,
В. Ф. Шишмарева и других советских ученых знакомили советского
читателя с творчеством гениального флорентийца. В нашей стране
творчество Джованни Боккаччо, и особенно его новеллы, веселые
и задушевные, остроумные и глубоко человечные, борющиеся со
всяческим мракобесием и исполненные непоколебимой веры в талант
и силы человека, — нашло подлинно всенародное признание.
В творчестве Джованни Боккаччо с удивительной полнотой
отразилась огромная одаренность итальянского народа, величие и
богатство его передовой культуры, ее гуманистический, демократический
характер. И сегодня, спустя более шестисот лет после их создания,
гениальные творения Джованни Боккаччо близки и дороги всем,
кому дорог человек, дороги мир и счастье на земле.
^^
Ill
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
^^
M. С. КОРЕЛИН
<Литературные произведения Боккаччо>
Итальянские произведения Боккаччо имеют более важное
историческое значение, чем Rime Петрарки. Его работы, посвященные
Данте, в особенности Comento представляет собою компендиум
его учености, выраженной в латинских трактатах; в его романах
и преимущественно в Декамероне формулированы иногда с живой
непосредственностью и откровенностью важнейшие стороны его
гуманистических тенденций. Но сочинения этой последней категории
имеют еще огромный филологический, литературный и
эстетический интерес, на который и обращено преимущественное внимание
новых исследователей. Для нашей цели эти стороны итальянских
произведений Боккаччо не имеют значения; мы имеем в виду
рассмотреть только заключающийся в них автобиографический и
историко-культурный материал и отметить только относящуюся к ним
новую литературу. Поэтому литература об источниках Боккаччо,
а также многочисленные филологические и эстетические
комментаторы и критики его произведений останутся за пределами нашего
исследования.
К латинской прозе Боккаччо ближе всего подходят по
содержанию его «Жизнь Данте» и «Комментарии к Божественной
Комедии», написанные на итальянском языке. «Жизнь Данте»*
представляет собою попытку реабилитировать знаменитого поэта
в глазах его сограждан; поэтому она написана на народном языке.
В коротеньком предисловии Боккаччо, сурово порицая
соотечественников за несправедливость к Данте, ставит своей задачей выяснить
* Точной хронологической даты для этого сочинения еще не установлено.
Бальделли и Витте относят его к 1351; Ландау к 1354 или 1355; Кёртинг—
ранее 1350 года. Первое издание относится к 1477.
114
M. С. КОР ЕЛ И H
его личность и заслуги. Его фактическая биография занимает
немного места* и вся переполнена лирическими отступлениями. Во второй
части Боккаччо изображает характер Данте, его достоинства и
недостатки, коротко и эпически излагает содержание его главнейших
сочинений и в заключение истолковывает сновидение его матери.
Боккаччо был первым биографом Данте, и его многочисленные
продолжатели и собственные биографы резко расходятся в оценке
этого произведения. Одни, начиная с Бруни, считают его
«романической болтовней», не заслуживающей никакого доверия, другие,
наоборот, признают за ним много достоинств. Эти противоречия
обусловливаются главным образом меркою, которую прилагали
для оценки биографии. С точки зрения полноты, обстоятельности
и критической обработки материала она не выдерживает критики,
отсюда резкие отзывы некоторых из позднейших биографов Данте.
Но она имеет несомненные достоинства, отмеченные и этими
исследователями, и биографами Боккаччо. В нашу задачу не входит
вопрос о том, какое место занимает это сочинение в ряду
биографий Данте; мы остановимся только на отзывах самих гуманистов
и их позднейших историков.
Леонардо Бруни Аретино в предисловии к своей биографии
Данте отзывается довольно резко о труде Боккаччо, который «так
описывал жизнь и характер столь возвышенного поэта, — говорит
он, как будто бы ему предстояло писать о Филокопо, или о Фило-
страто, или о Фьямметте. Поэтому все преисполнено любви, вздохов
и горячих слез, как будто бы человек рождается в этом мире
только для того, чтобы провести те десять любовных дней, о которых
рассказывают в 100 новеллах влюбленные женщины и любезные
юноши. Он так воспламеняется этими любовными сторонами, что
оставляет на заднем плане важные и существенные стороны жизни
Данте». Справедливость этого упрека не подлежит никакому
сомнению; но тем характернее этот недостаток для автора. Джианоццо
Манетти не вдается в критику, с уважением отзывается о Боккаччо
и во многом следует его изложению.
Из новых биографов Боккаччо Бальделли называет биографию
«перлом итальянской литературы». На этой же точке зрения стоит
Ландау. «Конечно, Боккаччо не исследовал по манере Тирабоски
с крупулезной точностью, где проводил Данте каждый день своей
жизни, он не исписывал, как многие педантичные биографы, целых
страниц о том, случилось ли известное событие в жизни его героя
Из 76 страниц in 16° ей отведено только 25.
<Литературные произведения Боккаччо>
115
одиннадцатого или двенадцатого числа какого-нибудь месяца; но он
изобразил нам Данте таким, каков он был в действительности.
Твердой рукой нарисовал он нам его, так что мы как-будто его видим
и слышим, не пропустив ни одной черты, которая помогает узнать
его характер». Ландау ставит в похвалу автору, что он не
«измышлял (herausgeklügelt) биографии по сочинениям Данте», а создал
настоящего поэта «Божественной Комедии». Увлечение Ландау
автором Декамерона слишком чувствуется в этом восторженном
отзыве. Нельзя, конечно, отрицать известной живости и главным
образом большой задушевности в изображении Данте в биографии
Боккаччо; но в ней нельзя найти не только полноты и
обстоятельности, но и понимания значения и роли великого поэта.
Биография Боккаччо действительно далека от смешного
педантизма новых биографов, но она близка к противоположной
крайности, к чисто субъекному, лирическому панегирику. Эту
черту совершенно верно отметил Кёртинг, может быть, потому, что
его собственная книга страдает противоположным недостатком.
По мнению Кёртинга, книгу Боккаччо следовало озаглавить Elogio
di Dante, и в качестве похвального слова она и вполне оправдывается
тогдашними обстоятельствами, и обладает необходимыми для
него свойствами — искренностью и сердечностью. Но как биография
она не выдерживает никакой критики: Боккаччо не хотел или
даже не умел воспользоваться всем материалом, который был у него
под руками, не был знаком с научными приемами, необходимыми
для его обработки, и отличается крайней некритичностью. Кёртинг
оправдывает эти недостатки отчасти задачей автора, отчасти
условиями его времени. Камилло Антона-Траверси, ученый и
добросовестный комментатор Ландау, считает оценку последнего книги
Боккаччо значительно преувеличенной, хотя не вполне примыкает
и ко взгляду Кёртинга. По его мнению, Боккаччо при тогдашнем
отношении флорентийцев к Данте мог и должен был написать
панегирик, чтобы реабилитировать память поэта. Поэтому его сочинение
должно обсуждать не как научную работу, а как публицистическое
произведение.
Превосходную характеристику этой биографии Данте с
особенной точки зрения дает Де Санктис. «Жизнь Данте, — говорит
он, — откровение: в ней обнаруживается автор с полной
искренностью и непосредственностью; здесь находим мы нового человека,
который образовывался в Италии». Этот новый человек «мог
удивляться Данте, но не мог понять его, потому что в нем не было духа
автора Божественной Комедии». Отношение Данте к Беатриче ему
116
M. С. КОРЕЛИН
совершенно непонятно: раннюю любовь в девятилетнем возрасте он
объясняет влиянием нравов, климата, «пищей, вином, весельем»;
любовь в зрелом возрасте он оправдывает примерами Зевса,
Геркулеса, Париса, Давида, Соломона и Ирода. «Он создал Данте по своему
образу», поэтому «здесь нет никакого следа внутреннего мира Данте,
но зато внешний мир развит до анекдота, до пустяков (pettegolezzo)».
С другой стороны, это юношеское произведение Боккаччо заключает
в себе зародыш всех направлений его учено-литературной
деятельности. «Кто хочет познакомиться с мнениями и чувствами нашего
юноши, — говорит Де Санктис, пусть прочтет эту книгу и в ней он
найдет уже весь материал, из которого вышел Декамерон. В ней
нет никакой оригинальности и глубины мысли, никакой тонкости
в аргументации; в ней все доказывается, даже самые обычные
истины, но основание аргументации в памяти, а не в разуме, перед
нами не мыслитель, не диалектик, а ученый». С этой точки зрения
книга Боккаччо имеет важное историческое значение. Полное
непонимание внутреннего мира Данте свидетельствует о появлении
новых чувств и новых потребностей. На это же указывают примеры
из древнего мира и начитанность в классических авторах. Но
отрицания средневековой культуры нет, и традиционные образы
фигурируют наряду с античными героями. С этой точки зрения
получает интерес весьма существенный недостаток книги
Боккаччо — обширные отступления. Так, изложивши биографию Данте,
Боккаччо озаглавливает целый отдел «Упрек флорентийцам» ;
другое обширное «Отступление относительно поэзии» занимает более
10 страниц. Кроме того, самая попытка литературной реабилитации
писателя характерна для эпохи, а отношение Боккаччо к Данте
показывает, что первые гуманисты умели ценить великого
национального поэта*. В цитированном выше отступлении о поэзии Боккаччо
подробно излагает свой ввгляд на этот вопрос, на различие между
поэзией и богословием и на положение поэта. Кроме того, особенно
интересны те места, где автор излагает свое отношение к родному
городу, обнаруживает свою вражду к гиббеллинам и вообще говорит
о политических делах. И здесь, как в других сочинениях, резко
заметно различие воззрений Боккаччо в этой сфере от Петрарки и его
близость к позднейшим гуманистам. Гораздо ближе в этом сочинении
к своему руководителю стоит он по взглядам на женщину и семью,
о чем не раз говорится в биографии Данте.
Особенно поучителен в этом отношении маленький отдел, озаглавленный
Perché la commedia sia stata scritta in volgare...
<Литературные произведения Боккаччо>
117
«Комментарий» Боккаччок «Божественной Комедии»
представляет собою лекции, которые он читал во Флоренции по поручению
правительства. Это произведение старческого возраста* осталось
неоконченным: болезнь прервала его в средине фразы, и толкование
доведено только до 17 стиха 17-й песни Ада. Современные
толкователи Данте признают значение «Комментария» для понимания
«Божественной Комедии» даже в настоящее время, но он служит
не менее важным дополнением и к собственным сочинениям Боккач-
чо. Первая лекция — из 60, на которые разделен Comento, служит
введением, где рассматриваются некоторые общие вопросы о Данте,
о Божественной Комедии, о задаче поэзии etc., почти буквально
совпадает с одним письмом Данте**. Дальнейшие толкования
распадаются на два крупных отдела: на реальный комментарий, который
заключает в себе исторические, мифологические и естественно-
исторические объяснения, и истолкование аллегорий, занимающее
гораздо менее видное место в книге Боккаччо. В эту рамку он
вложил почти всю свою ученость, так что Comento представляет собою
энциклопедию знаний Боккаччо***. Влияние средневековых ошибок
при только что нарождающемся критицизме чувствуется весьма
сильно: Боккаччо смешивает Атиллу с Тотилой, ведет
происхождение европейских народов из Трои, верует, что род Августа идет
от Энея, вычисляет время, когда этот герой посетил Додону и сходил
в ад и даже приводит рассказы о волшебстве Виргилия1. Но наряду
с этим в оценке Лукана Боккаччо стоит уже на почве новой науки.
В политическом отношении он совершенный гвельф, не скрывает
своей антипатии к Фридриху II и не считает возможным и
справедливым господство в Италии римского императора. Педагогические
цели, которые имелись в виду при толковании Данте, требовали
от Боккаччо осторожности в щекотливых вопросах и нравственного
назидания. Так, текст требовал известного отношения к папству
и католицизму, и Боккаччо остается строгим католиком, с
негодованием говорит о ересях, хотя и не скрывает самых вопиющих
пороков духовенства. Как моралист, он часто предостерегает свою
аудиторию от разных пороков и в особенности тех, которые
развиты во Флоренции. Боккаччо не раз и подробно останавливается
* Оно относится к 1373 году.
k Вопрос об отношении этой лекции к письму Данте поднимался несколько
раз, решался различным образом и до сих пор остается открытым.
k Так, напр., 3 лекция представляет собою рассуждение о поэзии, по
содержанию в общих чертах тождественное с 14 книгой Генеалогии.
118
M. С. КОР ЕЛ И H
на родном городе, на его нравственных и политических недугах.
Наконец, в разных местах Comento разбросаны автобиографические
черты, так что его важное значение, как исторического источника
не может подлежать сомнению, хотя в нем мало такого, чего мы
не нашли бы в других его сочинениях.
Итальянские романы и стихотворения Боккаччо, кроме чисто
литературного значения, весьма многими сторонами отражают
наступающую эпоху. Почти во всех его эпических произведениях целая
масса автобиографического материала, весьма ценного не только
по фактическому содержанию, но и по настроению автора, по его
глубокому интересу ко внутренней жизни индивидуума, по
непримиримой, хотя и полусознательной вражде ко всему, что стесняет
развитие личности. Самым ранним из его эпических произведений
был роман Филоколо, или Филокопо*, в котором рассказана история
любви испанского царевича Фиорио и знатной римлянки Бианко-
фиоре. Боккаччо заимствовал сюжет из старинной сказки, но
значительно изменил и переделал свой источник: из средневековой
поэмы он создал странную смесь, где рыцарский роман разукрашен
не только волшебными сказками и христианскими легендами,
но и языческими мифами**. Современные исследователи не высоко
ставят юношеской роман Боккаччо с эстетической точки зрения***;
но как произведение начинающегося гуманизма он отражает на себе
«дух классического Ренессанса», по выражению Бартоли. Прежде
всего, в романе весьма сильно чувствуются результаты интереса
к древним авторам. Боккаччо иногда подражает Виргилию в фабуле
и в описаниях****, вводит рассказы о превращениях людей в дерево,
* Он был начат вскоре после знакомства автора с Фьямметтой и по ее
поручению, хотя окончен значительно позже, так как Боккаччо работал над ним
много лет.
** Er hat es nicht nur aus dem Französichen ins Italienische, sondern auch aus dem
mittelalterlich Ritterlichen ins antik Heidnische übersetzt2, говорит Ландау. Этот
меткий отзыв не уничтожается мнениями Бартоли и Дзумбини, к которым
примыкает и Кёртинг, что Боккаччо пользовался не французской обработкой
сказания. Один только Россетти полагал, что содержание этого романа
представляет собою аллегорическое описание посвящения в 7 степеней тайного
гибеллинского общества, устроенного по образцу ордена Храмовников.
** К роману неблагоприятно относились еще в XVIII столетии; порицает его
и Бальделли. Самый резкий отзыв о нем дает Ландау. Соглашаясь с ним
в общем, Дзумбини и Кёртинг значительно смягчают его резкость, находя
в нем много хороших сторон.
** Так, появление «короля» Амура, внушающего любовь Флорио и Бианкофио-
ре — подражание сцене Виргилия, где подобному же внушению подвергается
<Литературные произведения Боккаччо>
119
в источник, в мраморную глыбу и т. п.*, совершенно в духе Овидия.
Особенно видную роль в его романе играют языческие боги. Они
иногда являются у него, как реальные существа: Венера утешает
влюбленных, Марс будит Фиорио, когда он невовремя заснул, и
помогает победить противника и доказать невинность Бианкофиоре
и т. д. То он понимает их, как дьяволов христианского мира, и
Плутон постоянно играет у него роль Сатаны. То, наконец, они служат
аллегорическим обозначением христианского Бога: так, Юпитер,
по Боккаччо, создал мир и послал сына своего Христа в мир,
чтобы одержать победу над Плутоном; или называет папу викарием
Юноны, которая посылает к нему Ирису, а св. Иакова — «богом,
которому поклоняются в Галиции» и т. д. Иногда Боккаччо
изменяет свой источник, чтобы придать рассказу античную окраску. Так
в сказании Фиорио — Филокопо побеждает одного из своих
противников мечом, в рукоятке которого вделаны были реликвии; у
Боккаччо он получил от Венеры меч, сделанный Вулканом для Марса,
и кроме того, сам Марс сопровождает его на борьбу. Эта странная
манера смешения резко отличных понятий** получила широкое
распространение у позднейших гуманистов; но «паганизм» Боккаччо
носит еще полусредневековую окраску***, и роман заканчивается
торжеством христианства, так как монах Иларио крестил Флорио,
его супругу и их испанских подданных****. Таким же переходным
характером отличается и попытка Боккаччо соединить античные
сказания с средневековыми в одно органическое, художественное
целое. Кёртинг, отмечая эту сторону романа, признает смешение,
само по себе «неизящное и нездоровое», заслугою Боккаччо, потому
что оно спасло романтический элемент в итальянской литературе,
который без этого был бы уничтожен гуманизмом. Мы увидим ниже,
Дидона; рассказ Сатаны-Плутона о мнимом разрушении Марморины —
рассказу о разрушении Трои у Виргилия.
Fileno превращен в источник, Idalagos — в дерево, его коварная возлюбленная
в мраморную глыбу, а три ее подруги — в различные растения.
Эту mescolanza di cristianesimo е di paganesimo ehe sembra assai stravagante3
заметили еще в XVIII веке.
«Es ist kein Homer oder Virgil, говорит Ландау, ja nicht einmal ein Lucan
oder Statius, der aus dem Filocopo spricht, sondern der Schüller eines Paul von
Perugia und Leontius Pilatus, der Bewunderer des pedantischen Königs Robert
von Neapel»4.
Ландау предполагает, что Боккаччо вводит Олимп с ироническою целью
осмеяния языческих богов. Филокопо совершенно не производит такого
впечатления и комментатор Ландау Траверси удачно опровергает эту гипотезу.
120
M. С. КОР ЕЛ И H
что это опасение не подтверждается фактами из истории
Ренессанса, тем не менее попытка Боккаччо чрезвычайно характерна. Она
показывает, что стремление к примирению античного с
средневековым составляет отличительную черту движения не только в сфере
философских и этических воззрений.
Изображение и анализ чувств и вообще внутренней жизни
человека, что так удавалось Петрарке, еще довольно слабы в первом
романе Боккаччо. Муки ревности Филокопо, заподозрившего верность
своей возлюбленной, изображены очень рельефно; но многословное
описание любви героев после их первой разлуки — настоящая
гиперболическая риторика. Точно так же редки проявления того
благоговения перед внутренней свободой, которое было символом
веры гуманизма. Характерно, однако, одно изменение, которое
сделал Боккаччо в своем источнике. Там испанский король силою
заставляет своих подданных принять христианство; в романе он
действует только убеждением.
Немало в романе и автобиографических данных. В введении
Боккаччо, рассказывает, правда, в весьма туманных аллегориях
и весьма темным языком, биографию Фьямметты и историю своей
любви к ней. Кроме того, критики отмечают в самом изложении
два эпизода, в которых можно видеть автобиографические
намеки. Оракул в Чертальдо возвестил Флорио, что отсюда произойдет
поэт, который его историей прославит свое имя. В другом месте
обращенный в дерево Идалагос, незаконный сын пастуха Эвкома,
обиженный отцом и бессердечной девушкой, рассказывает свою
историю, которая весьма похожа на биографию Боккаччо*.
Интерес к окружающей действительности, столь характерный
для эпохи, весьма заметно отразился и в Филокопо**. В предисловии
к этому роману, Боккаччо рассказывает, правда, аллегорически,
историю завоевания Неаполя Карлом Анжуйским. Большой интерес
в этом отношении представляют так называемые Questioni d'amore —
самое лучшее место в романе по отзыву всех критиков. Флорио
в своих поисках за Бианкофиоре прибыл в Неаполь и случайно
* Кёртинг возражает против этого предположения. Самые обстоятельные
исследования об автобиографической стороне Filocopo принадлежат В. Крешини
(Idalagos, в Zeitschr. f. rom. Phil. IX, p. 437 и X, p. 1), где он рассматривает
с этой точки зрения рассказ Эвкомова сына и Contributo agli studi sui Boccaccio
con documenti inediti, где отмечены автобиографические черты в других
эпизодах романа.
** Сгульмеро (Sulla corografia del Filocolo. Milano, 1883) утверждает, что место
действия романа — Верона и ее окрестности.
<Литературные произведения Боккаччо>
121
попадает в общество Фьямметты. Действие романа мгновенно
переходит из VI века* в XIV, и Боккаччо дает живую картину тогдашней
придворной жизни в Неаполе. Среди удовольствий и забав кружок
Фьямметты занят между прочим обсуждением вопросов о любви.
Каждый из присутствующих рассказывает в форме новеллы
какой-нибудь сложный любовный казус, и избранная королевой Фьям-
метта дает свое решение, как следует поступить в данном случае.
Наконец странствования одного из вводных лиц романа — Филено
дают повод Боккаччо сделать несколько исторических и
мифологических замечаний о Падуе, Равенне, Мантуе и других итальянских
городах, чрез которые идет путь Филено, так что это место романа
напоминает Кёртингу «Сирийский путеводитель» Петрарки.
Вскоре после Филокопо, может быть, даже одновременно с ним
появился Амето**. Это первый пастушеский роман новой
литературы, который начинается гимном любви и кончается молитвой
к пресвятой Троице, в котором люди смешаны с нимфами, сатирами,
дриадами и проч., и проза со стихами. Его существенное содержание
составляет история пастуха Амето, который долго любил только
охоту и собак, а потом влюбился в нимфу Лию, а также вставочный
эпизод — праздник Венеры, где между прочим семь нимф (Лия,
Эмилия, Фьямметта, Монса, Акримония, Агапес и Адиона)
рассказывают свои любовные похождения и влюбляют в себя Амето.
Как художественное произведение, пастушеская идиллия Боккаччо
не имеет высокой цены; но она представляет
культурно-исторический интерес как источник для своей эпохи. Прежде всего, в Амето
целая масса автобиографического материала, хотя и здесь, как
повсюду в поэтических произведениях Боккаччо, он прикрыт густым
аллегорическим туманом. Нимфа Эмилия рассказывает историю
его парижанки-матери***; Фьямметта — свою биографию и историю
любви Боккаччо; пастух Галеоне — встречу с Фьямметтой, и сам
* Боккаччо не определяет времени действия своего романа; всего удобнее
отнести его к VI веку, хотя исторических анахронизмов там целая масса. Так,
родители Бианкофиоре идут на поклонение св. Иакову в Кампостелью, хотя
Испания еще языческая. Или папа Агапет крестит императора Юстиниана
и т. п.
** Кёртинг относит время его появления к 1340-41 г. Бальделли, а за ним Кор-
рацини — к 1343, Гаспари — к 1341 или 1342. Первое издание появилось
в Риме в 1478 году.
** Так толкуют это место Ландау и Траверси. Кёртинг, отрицающий [вслед]
за Кораццини парижское внебрачное происхождение Боккаччо, игнорирует
это место.
122
M. С. КОРЕЛИН
Амето, если не точный портрет Боккаччо, то, по крайней мере,
переживает весьма многие настроения и ощущения автора*.
Де Санктис видит в «Амето» аллегорическое изображение
«победы любви и природы над звериною дикостью людей», целую
историю культуры, начиная с Афин и кончая Тосканой, «куда
автор с законной гордостью полагает начало новой цивилизации».
Такие утверждения при смутности содержания Амето не могут
не страдать некоторой произвольностью. Но, несмотря на густую
аллегорию содержания романа, в нем проявляются обычные
черты гуманизма — любовь к природе в описаниях, интерес
к внутренней жизни человека и к исторической и современной
действительности. Состояние только что познавшего любовь Амето
изображено с большим интересом и иногда весьма живо. Нимфа
Лия рассказывает согласно с хрониками основание Флоренции,
Фьямметта — историю Неаполя, и в рассказах других нимф
встречается масса очевидных намеков на тогдашние общественные дела
во Флоренции. Самые беседы нимф, под которыми несомненно
скрываются неизвестные нам действительные личности**, дают
наглядную картину жизни и интересов дамского общества
начального Ренессанса. Роман заканчивается посвящением Николо
ди Бартоло дель Буоно, в котором Боккаччо, осыпая похвалами
«единственного» друга, выражает между прочим глубокое
уважение к Римской церкви.
Эту черту совершенно верно подметил Кёртинг, и особенно важно в
стихотворном заключении Ameto недружелюбное отношение Боккаччо к родительскому
дому. Количество автобиографического материала можно было значительно
увеличить, если пуститься в детальное истолкование аллегорий; но сделанные
до сих пор попытки не привели к благоприятным результатам. Толкования
Сансовино отвергнуты Бальделли, с которым в свою очередь не соглашается
самый остроумный из комментаторов — Ландау, который видит в нимфах
олицетворение кардинальных добродетелей. Но и эти объяснения не
приняты вполне даже итальянским переводчиком Ландау — Траверси, так что
новейший биограф Боккаччо решительно объявляет все такие попытки
бесплодными и успешный их результат невозможным. Тем не менее Крешини
в этюде L'allegoria dell' Ameto del Boccaccio и потом в цитированном Contributo
вновь доказывает, что Венера — христианский Бог, а нимфы — олицетворение
добродетелей, что не мешает им быть в то же время реальными образами,
заимствованными из живой действительности. К этому взгляду в общем
примыкает Гаспари.
Попытка истолковать Лию как мать детей Боккаччо, отвергнута Траверси;
отыскивать оригиналы других нимф, кроме, конечно, Фьямметты, сколько
мне известно, пытались только Бальделли и Крешини.
<Литературпые произведения Боккаччо> 123
За Амето последовала неудачная в литературном отношении
аллегорическая поэма «Любовное видение» {Visione Amorosa*).
Стихотворение состоит из 50 песен, составляющих в общей
сложности 4406 стихов и по своему философско-ученому содержанию
чрезвычайно характерно для Боккаччо. Его видение заключается
в том, что какая-то аллегорическая женщина — вера, добродетель,
истина или что-нибудь в этом роде** ведет его к высшему блаженству.
Они подходят к огромному замку, в который ведут две двери: одна
узкая, другая широкая и удобная. Первая ведет к цели, но
Боккаччо идет во вторую, и его руководительница следует за ним,
хотя и не охотно. Там проходят они через зал мудрости, славы
и богатства, и неудовлетворенный автор просит спутницу вести его
по другой дороге. Та предварительно приводит его в залу фортуны,
чтобы показать изменчивость всего земного, и затем направляется
к узкой двери. Но налево от нее Боккаччо увидал обширный сад,
в котором, среди фонтанов и художественных произведений
гуляют красивые дамы. Он упрашивает свою руководительницу зайти
сюда; та, хотя и порицает его за земные желания, но соглашается.
Здесь Боккаччо находит между прочими Фьямметту и после 135
дней добивается ее взаимности. В этот момент автор проснулся, но,
оглядевшись кругом, увидел свою спутницу, которая убеждала его
идти к узкой двери, потому что это воля его возлюбленной. Ландау
отказывается понять, почему Боккаччо, стремившийся к неземному
благу, очутился «в положении более сомнительном, чем положение
Йорика и горничной». С таким же недоумением останавливается
перед смыслом поэмы — Дзумбини***. Между тем загадка не
особенно трудна, и Де Санктис, а за ним Кёртинг и Гаспари разъяснили
ее весьма просто: при невозможности, по крайней мере, для себя
достичь высшего блага, Боккаччо довольствуется любовью, как
высшим, по его мнению, земным благом****. Такое толкование со-
* Она относится к 1342 году (Кёртинг, Гаспари), но Бальделли, а за ним Ко-
раццини относят ее к 1343. Первое издание появилось в Милане в 1520 году.
Приговоры об эстетической цене поэмы новых исследователей на этот раз
единодушны.
** По Крешини — это разум. Гаспари отказывается от объяснения.
*** Мнения Дзумбини цитирует Траверси по его неизданным лекциям в
неаполитанском университете и выражает уверенность, что его учитель со временем
разрешит эту загадку.
**** де Санктис, сравнивая поэму с Божественной Комедией, которой подражал
Боккаччо, находит в Amorosa Visione решительное и абсолютное
«прославление плоти, в которой мир и успокоение», убежденную замену христианского
124
M. С. КОР ЕЛ И H
ответствует содержанию поэмы и вполне подходит к тогдашнему
настроению автора. Это решение вопроса весьма характерно для
наступающей эпохи, и в поэме Боккаччо чувствуется уже трактат
«Об удовольствии» Баллы.
«Любовное видение» содержит, кроме того, целую массу
автобиографического материала. Описывая чертоги мудрости, славы,
богатства и фортуны, Боккаччо обнаруживает обширное знание
имен и фактов из древней и средневековой истории. Презрения
к представителям средневековой культуры у Боккаччо незаметно:
среди мудрецов наряду с Аристотелем, Платоном, Цицероном и
прочими представителями древности встречаются Боэций, Аверроэс,
Авиценна и другие схоластики. За колесницей славы идут в толпе
древних героев Карл Великий, Фридрих II, Конрадин и проч.; в главе
о любви рассказана вместе с похождениями Зевса история
Тристана и Изольды. Насколько глубоко и обширно это знание, сказать
трудно, потому что по большей части имена и факты только
упоминаются; несомненно однако, что Боккаччо почерпал его не всегда
из надежных источников, потому что в перечне различных
знаменитостей мы встречаем такие имена, как Abracis, Tebico, Ambepece,
Hoëta, Bordo и т. п. Кроме того, при описании своего путешествия,
Боккаччо останавливается и на современности. Общество в саду,
которое задержало разочарованного в земных благах автора перед
самой дверью к вечному блаженству, то же самое, какое описывал
Боккаччо в Questioni d'amore (Filocopo) и на празднике Венеры
в Ameto. Особенно характерно, что Роберт Неаполитанский, перед
которым так благоговел Петрарка, помещен Боккаччо под именем
Мидаса среди корыстолюбивых скупцов*.
Поэма Боккаччо знакомит нас также с некоторыми воззрениями
автора. В 33-й песне его руководительница делает резкую
выходку против аристократии, доказывая, что все люди созданы Богом
равными и что только добродетель облагораживает. Одушевление,
рая «магометанским». Того же мнения держится Саймондс. Кёртинг, Кре-
шини и Гаспари вносят существенную поправку в это толкование: Боккаччо
не отрицает верности и истинности старых идеалов, но чувствует свое бессилие
для их достижения и удовлетворяется любовью. Попытки более подробного
объяснения поэмы не раз делал Крешини: La Lucia deir Amorosa Visione del
Boccaccio (в Rivista Europ. 1882) и в особенности в Contribuito; но все они
носят гадательный характер и не представляют исторического интереса.
* Так понимает это место Ландау и его комментатор, который собрал из
переписки параллельные места, доказывающие, что именно так смотрел Боккаччо
на Роберта. См. также эклогу «Midas».
<Литературные произведения Боккаччс»
125
с которым в другом месте Боккаччо описывает художественные
произведения, отличает его от равнодушного к искусству
Петрарки. Весьма интересно также его искреннее отношение к богатству,
которое так хотелось презирать его руководителю. Изобразивши
корыстолюбца, который ногтями скребет гору, чтобы добыть там
золото, Боккаччо сознается, что он сам занялся бы этим, если бы
это можно было сделать с честью, потому что бедняка все презирают
и избегают. Здесь же впервые мы встречаем чрезвычайно резкую
выходку против монахов, которых автор называет фарисеями. Для
фактической биографии Боккаччо «Любовное видение» дает
изображение отношения автора к отцу, который «скребет ногтями гору»,
и последовать примеру которого запрещает автору честь. Далее
глубокое уважение к Данте, не раз засвидетельствованное автором
Декамерона, проявляется и в этом стихотворении. Наконец, в
поэме находятся самые несомненные указания, что любовь Боккаччо
к Фьямметте была далека не только от аллегорического идеализма
Данте, но и от вынужденного платонизма Петрарки.
Гораздо менее исторического и биографического интереса
представляет обширная эпическая поэма Тезеида, хотя современные
критики с литературной и эстетической точки зрения ставят ее
выше всех предшествующих произведений Боккаччо*. Ее содержание
составляет борьба Тезея с Амазонками и главным образом история
любви двух фиванских царевичей, Архита и Палемона, к Эмилии,
сестре Амазонки Ипполиты, жены Тезея. Автобиографический
элемент этого эпоса чрезвычайно скуден, хотя в посвящении и
говорится, что поэма написана для того, чтобы снова воспламенить
охладевшую к автору Фьямметту, и что под именем одного из фи-
ванцев Боккаччо изобразил самого себя. Но который из героев
воспроизводит чувства автора, сказать трудно, потому что личности
Кораццини относит это произведение к 1342-43 г.; Бальделли к 1341. Первое
издание Teseide появилось в Ферраре в 1475 г. Поэма разделена на 12 песен,
составляющих 9896 стихов, кроме двух относящихся к ней сонетов. Ей
предпослано посвятительное письмо к Фьямметте. Бальделли дает восторженный
отзыв о Тезеиде; весьма далекий от панегириков Ландау признает
литературное значение поэмы, которая представляет — das erste italienische Epos
und das erste italienische Werk in achtzeiligen dreireimigen Stanzen5, находит
эстетические достоинства в частностях, хотя в общем считает поэму
скучною и характеры ее героев невыдержанными и бледными. Приблизительно
в этом же смысле высказывается Гаспари. Наоборот, Кёртинг в восторге
от поэмы и только в ее частностях находит недостатки. Ближе к Кёртингу
стоит Траверси и цитируемый им Дзумбини. Только Де Санктис и за ним
Саймондс отрицают эстетическую цену поэмы.
126
M. С. КОР ЕЛ И H
Архита и Палемона весьма бледны*. В самой поэме не встречается
бографических указаний, кроме разве описания наружности Фьям-
метты, которую должна изображать бледная, безличная Эмилия.
Главный интерес поэмы, как исторического источника, заключается
в отношении автора к древности. Боккаччо не только подражает
древним, но и выдерживает античный тон фабулы, если не вполне,
то, по крайней мере, с большой археологическою точностью, чем
в каком-либо другом произведении. Весьма возможно, что этот
общий тон принадлежит не самому Боккаччо, а его источнику; тем
не менее описание похорон павших на турнире греков и Архита,
обстоятельный рассказ мифической истории Фив, изображение
дворца Марса — все это показывает ранний интерес и сравнительно
хорошее знакомство еще молодого автора с древним миром**.
Обширная поэма «Филострато»***, в которой Боккаччо изобразил
несчастную любовь Троила, сына Приама, к дочери Калхаса Хризеи-
де, вся проникнута лиризмом. В предисловии, составленном в форме
Кёртинг делает попытку выяснить характеры обоих героев, но отказывается
определить, под которым из них скрывается Боккаччо. Крешини, сделавший
обстоятельный разбор поэмы с автобиографической точки зрения, приходит
к тому же выводу.
Вопрос об источнике Тезеиды остается спорным до сих пор. Боккаччо в
посвящении говорит, что он заимствовал свой сюжет: trovata una antischissima
storia, о al piu délie genti non manifesta6 etc. Сандра в Étude sur G. Chaucer,
Paris 1859, высказал мнение, что источником Боккаччо было французское
произведение. А. Эберт в разборе этой книги (Jahrb. für rom. und engl. Lit.
Band IV. 1862) доказывал, что Боккаччо пользовался латинским переводом
византийского романа конца V века нашей эры, главным образом потому, что
содержание поэмы сохранило античный тон. Ландау отвергает эту гипотезу, так
как греки Тезеиды кажутся ему «настоящими рыцарями XII или XIII века».
Кёртинг снова возвращается к мнению Эберта, но относит источник к эпохе
Адриан. Так как фабулы Тезеиды до сих пор не найдено ни на французском,
ни на греческом языках, то вопрос остается открытым, и Траверси, склоняясь
к Кёртингу, возлагает по обыкновению все надежды на Дзумбини. Крешини
вновь пересмотрел все эти выводы и, отвергнув мнения Эберта и Кёртинга,
пришел к выводу, что античный элемент поэмы отчасти заимствован Боккаччо
у Стация, а средневековой — из источников, которые нужно еще отыскать.
Время состав летя Filostrato в точности определить нельзя, можно только
указать ее место в хронологическом порядке других произведений. Поэма
разделена на 10 частей (parte) и вместе с обращениями и отступлениями
составляет 5392 стиха. Ей предшествует эпистолярное посвящение Фьямметте,
помеченное 1341 годом (но дата не оправдывается лучшими рукописями), где
Боккаччо объясняет между прочим заглавие поэмы «Filostrato tanto viene
a dire, quanto uomo vinto e abbattuto da amore»7. Первое издание появилось
в Венеции в 1480.
<Литературные произведения Боккаччо>
127
письма к Фьямметте, он изображает свою горячую любовь к ней
и мучения разлуки и ревности, так как предмет его страсти покинул
Неаполь. Тогда ему «пришла в голову мысль... в лице какого-нибудь
влюбленного воспеть свои муки». «Поэтому я начал старательно
перелистывать старинные истории, продолжает Боккаччо, чтобы
найти кого-нибудь, кого я мог бы с некоторою вероятностью сделать
щитом своей тайной влюбленной скорби». Его выбор остановился
на Троиле, которого он и сделал выразителем своего настроения.
В мастерском изображении различных фазисов любви заключается
и высокая эстетическая цена поэмы* и ее историческое значение.
Боккаччо вложил в заимствованный сюжет** свои личные чувства
и дал один из первых образцов психологически-верного
поэтического описания одной стороны внутренней жизни***. Правда этот
интерес к личности еще бессознателен и односторонен. Боккаччо
говорит только о любви и связанных с нею чувствах; но
характерна наблюдательность и уменье передать результаты наблюдений.
Вложив в Троила свое настроение, Боккаччо из современной жизни
заимствовал всю окраску поэмы и действующих лиц****. Вследствие
этого в Филострато отразилось высшее неаполитанское общество,
хотя только с той стороны, которая составляет главное содержание
поэмы*****.
* Es ist unbegreiflich, говорит Гетнер, wie eine so herrliche Perle achtester Poesie,
wie Boccaccio's Filostrato, vergessen sein kann8. Кёртинг совсем неожиданно
называет поэму verfehltes Werk («неудачной работой» — авт.), хотя и
признает мастерство психологического описания. Основная причина этого взгляда
заключается в ошибочном утверждении, будто зрелый человек, несчастно
влюбленный в недостойную женщину, представляет собою не трагическую,
а комическую фигуру.
** «Antiche storie», которыми пользовался Боккаччо, был «Roman de Troie»
Бену а де Сент-Мора или его итальянская обработка Гвидо да Колонна.
*** Такие описания встречаются во всей поэме. Для примера можно указать:
состояние Троила, когда он впервые увидел Хризеиду; вся III песнь, где
изображается счастье влюбленных; отчаяние Троила при вести, что греки
требуют Хризеиду, и после ее удаления и passim. «Здесь впервые, говорит
Де Санктис, любовь, разорвав платоническое покрывало, обнаруживается
в своей реальности и самостоятельности, отделившись от своих старинных
сотоварищей — чести и религиозного чувства. Это уже любовь не народная,
а городская, т. е. утонченная, полная нежности и истомы, воспитанная
культурой и искусством».
**** По поводу Хризеиды Ландау замечает: «wahrlich, die schlimmste Kokette vom
Hofe der Königin Iohanna scheint zu diesem Porträt gesessen zu haben»9.
**** Unter diesem Gesichtpunkte betrachtet, gewinnt der Filostrato ein grosses, wenn
auch wenig erfreuliches kulturgeschichtliches Interesse10, — говорит Кёртинг
128
M. С. КОРЕЛИН
Идиллическая поэма Боккаччо Ninfale Fiesolano — одно из самых
удачных его произведений до Декамерона*. Под влиянием
античной литературы и преимущественно Овидия автор сделал попытку
сочинить предания для объяснения названия двух флорентийских
ручейков Af f rico и Mensola, а также об основании Фьезоле и
Флоренции. В результате вышла изящная история несчастной любви
пастуха Аффрико и нимфы Мензолы, которая, кроме
художественного ланшафта**, ничего не дает ни для истории Ренессанса, ни для
биографии Боккаччо. Характерен только самый успех поэмы, ее
художественное достоинство, потому что это показывает, что античные
и средневековые элементы весьма быстро нашли себе примирение,
но только в области поэзии, менее всего затронутой католицизмом.
«Элегию мадонны Фьямметты, посвященную всем влюбленным
женщинам» Кёртинг справедливо называет первым новым
романом***. Эта исповедь покинутой женщины, которую Боккаччо влагает
в уста своей возлюбленной, представляет собою настоящую летопись
женского сердца. В других произведениях психологическое
описание является более или менее отрывочно и носит по большей части
автобиографический характер; в «Фьямметте» — оно составляет
и находит отразившееся в поэме общество durch und durch unmoralisch und
frivol11. Такой упрек заслужила да и то не вполне только неглубокая Хризе-
ида.
* Время ее составления можно определить только приблизительно и то лишь
на основании внутренних свойств стихотворения; впрочем в одной рукописи,
приведенной у Манни, стоит 1366 год. Бальделли отрицает эту дату на
основании внутренних свойств поэмы. Ее первое издание — в Венеции в 1477.
У Мутье поэма разделена на 7 песен и составляет 3784 стиха. Единодушно
сочувственные отзывы критиков сведены у Траверси.
** Де Санктис видит более глубокий смысл в поэме. По его мнению, «этот
первобытный мифологический мир — гимн Природе». Мензола, хотя смертью
заплатила за свою любовь, полюбила «не по испорченности, не по извращению
сердца, а повинуясь непреодолимой силе природы». Ее сын, отмщая за мать,
разрушил храмы Дианы, насильно выдавая замуж нимф, «вводит
цивилизацию и культуру». «Таким образом мифологический мир с своими лесными
учреждениями гибнет, и начинается гражданская жизнь по законам любви
и природы». Саймондс разделяет это мнение. Смысл поэмы, по его мнению,
заключается в том, что «гражданское общество занимает место лесной
дикости и любовь рассматривается как вступление в культурное состояние (the
vestibule to culture)». Нам кажется, что эта мысль вложена Боккаччо его
новейшими критиками.
*** Время составления романа спорно. Кёртинг относит его к 1340, Ландау
к 1346-47 годам. Подлинное заглавие романа, по Ландау, — Elegia di Madonna
Fiammetta da lei alle innamorate donne mandata12.
<Литературные произведения Боккаччо>
129
главное содержание романа и является результатом сознательного
наблюдения, вызванного живым интересом к психической жизни
вообще. С этой точки зрения роман Боккаччо представляет большой
культурно-исторический интерес, как наиболее резкое проявление
одной из характернейших черт гуманистического движения.
Интересно также живое и одушевленное описание прелестей деревенской
жизни, к которой чувствовали такое влечение гуманисты. В романе
отразился далее чисто гуманистический интерес к
действительности: Боккаччо почти с пафосом описывает свадебные торжества
в Неаполе, морское купанье в Байе и знаменитые «дворы любви».
Не лишены, наконец, интереса и автобиографические данные, хотя
их содержание встречается и в других произведениях*.
Знаменитый Декамерон, который создал всемирную известность
Боккаччо и весьма много повредил его моральной репутации, как
исторический источник, имеет несравненно более значения, чем
другие беллетристические произведения того же автора**. Прежде
всего та сторона, которая составляет главное достоинство
Декамерона, — типичное изображение реальной жизни имеет важное
историческое значение***. Боккаччо любит природу, интересуется
жизнью и умеет ее наблюдать. Знаменитое описание «черной смерти»
критики не только сравнивают с Фукидидовым, но многие ставят
даже гуманиста выше классика. Попытка Манни найти
историческую основу в новеллах Боккаччо не может быть названа вполне
удачною; но огромное большинство его рассказов, откуда бы ни был
заимствован их сюжет, воспроизводят местную жизнь и местные
нравы. «Эти новеллы, — говорит Кёртинг, — представляют богатый
и достоверный культурно-исторический материал; по ним можно
изучать итальянские и специально флорентийские частные
древности». Более того, высокая художественность Декамерона дает
* Тосканец Панфило — купеческий сын, которого в церкви встретила Фьям-
метта и которого удалила от нее воля отца, — несомненно, сам Боккаччо.
Сцена счастливой любви во 1-й главе имеет значение для спорного вопроса
о характере отношений между Боккаччо и Марией. Самый обстоятельный
анализ романа с автобиографической точки зрения у Крешини. Он же отметил
влияние Овидия и Сенеки на Боккаччо в этом произведении.
** Время составления Декамерона в точности неизвестно. Траверси относит его
к 1348-53.
*** Автобиографического материала мало в Декамероне, и встречающиеся там
намеки очень неопределенны и не прибавляют почти ничего нового к
фактической биографии автора. Правда, там появляются Фьямметта и Панфило;
но в противоположность роману, здесь ее благорасположением пользуется
Дионео, под которым, по мнению Ландау, скрывается автор.
130
M. С. КОРЕЛИН
возможность проникнуть глубже внешнего быта тогдашних
флорентийцев, в их внутреннюю жизнь, изображенную без прикрас, в ее
повседневной ординарности*. Но этой стороной новеллы Боккаччо
являются важным источником для культурной истории вообще;
в частности для характеристики раннего гуманизма гораздо важнее
«философия» Декамерона и ее приложение к политике и религии.
Ключом к объяснению почти всего миросозерцания Боккаччо,
по скольку оно выразилось в Декамероне, может служить введение
к IV дню. Оправдываясь от возможных обвинений в чрезмерной
любви к женщинам и в излишнем стремлении им нравиться, Боккаччо
рассказывает новеллу о флорентийском отшельнике Бальдуччи,
который держал своего сына до 18-летнего возраста в полном
удалении от мира и потом взял с собою во Флоренцию. Молодой человек
остался сравнительно равнодушным к невиданному великолепию
богатого города; но встреча с женщинами произвела на него сильное
впечатление. Напрасно отец приказывал ему опустить глаза,
потому что это «mala cosa»; напрасно старик, не желая произносить
слова «женщина», сказал сыну, что встретившиеся существа
называются гусенятами. Юноша не поверил отцу, что это «mala cosa»,
и усердно упрашивал взять с собою одного «гусенка», которого
он будет кормить у себя в пещере. «Не хочу, сказал ему отец; ты
не знаешь, чем они питаются», и с неудовольствием почувствовал,
что природа имеет более силы, чем его разум. Из этого рассказа
Боккаччо выводит поучение своим порицателям. Если женщины
более всего понравились «юноше неразвитому (senza sentimento)»,
почти «лесному животному», то что же удивительного, говорит
Боккаччо женщинам, «если вы нравитесь мне, тело которого Небо
создало вполне способным к любви, а свой дух я направил к вам
с самого детства, чувствуя силу ваших светлых взоров, прелесть
медоточивых слов, пламя, возбуждаемое вашими любвеобильными
(pietosi) вздохами?» «Несомненно, заключает Боккаччо, только
тот будет порицать меня, кто не понимает и не знает наслаждения
и силы чувств, вложенных в нас природою, и поэтому не любит вас
и не желает быть вами любимым. А такие порицания меня мало
беспокоят». Итак, любовь, по Боккаччо, высочайшее наслаждение
* Противопоставляя Декамерон, Человеческую Комедию, «Божественной
комедии» Данте, Саймондс замечает: «трудно решить, которая из двух драм
вернее и который из двух поэтов крепче держится реальности». У Боккаччо,
по его словам, «мир, как мир, плоть, как плоть, природа, как природа, без
вмешательства духовных агентов, без отношения к идеальной сфере».
<Литературные произведения Боккаччо>
131
и великая сила, потому что она вложена в человека самою природою.
Автор не отрицает возможности вести борьбу с этим естественным
стремлением; но такая борьба представляется ему крайне
непривлекательной и почти бесплодной. «Для желания сопротивляться
законам природы, говорит он, нужны слишком большие силы, и те,
которые пытаются делать это, часто трудятся не только понапрасну,
но даже с огромнейшим вредом для себя. Я признаюсь, что таких
сил у меня нет и иметь их я не желаю; а если бы они у меня были,
то я скорее предоставил бы их кому-нибудь другому, чем
приложил бы к самому себе. Поэтому пусть молчат мои хулители и, если
они не могут согреться, то пусть живут с своим холодом, с своими
наслаждениями или даже с своими извращенными стремлениями,
и пусть оставят мне мои радости, предоставленные нам в этой
короткой жизни». Этот смелый и решительный протест против
аскетизма — характерный признак времени. За естественной наклонностью
личности, которая считалась грехом в Средние века, не только
признано право на существование, но и борьба с ней объявлена делом
по меньшей мере бесполезным и даже вредным. Введение в 4-й день
Декамерона — панегирик не только человеческому духу, но даже
и плоти, и большая часть новелл представляет собою иллюстрацию
к этому панегирику, триумф любви над церковью, над сословным
строем, над социальными отношениями, т. е. триумф не только духа,
но и плоти, и плоти иногда более, чем духа*. Некоторые из новых
критиков склонны видеть в Декамероне проповедь распущенности**.
«Декамерон, — говорит Саймондс, — бессознательный бунт против
всей средневековой доктрины. Подобно всякой сильной реакции
он не удовлетворяется оппозицией крайностям оспариваемого
воззрения: вместо отрицания аскетизма, он установляет
распущенность (licence)». С таким взглядом нельзя согласиться. Подобной
проповеди мы не находим ни в одной новелле***; рассказ о маркизе
Монферратской (I, 5), о укене Bernabo da Genova (Π, 9) показывают,
что автор ценит супружескую верность, раз нет достаточных, по его
мнению, оснований для ее нарушения. Но физические потребности
человеческой природы оправдывают с его точки зрения нарушение
всех преград, поставленных религией и моралью. Новелл такого
* См., напр., рассуждение женщин в V, 10 и всю эту новеллу.
* По словам Саймондса, «Boccaccio celebrates the apotheosis of natural appetite
of il talento, stigmatised as sin by ascetic Christianity»13.
* Повод к такому выводу может подать 7 новелла 2-го дня; но она ничего не
проповедует, а только констатирует факт.
132
M. С. КОРЕЛИН
содержания очень много; но особенно характерны в этом отношении
рассуждения жены Риччардо да Кинцика, которая не пожелала
вернуться к мужу от похитившего ее Паганино да Монако (II, 10).
Не следует думать однако, что Боккаччо сводит любовь к
простому чувственному наслаждению: для него она великая моральная
и культурная сила. В новеллах четвертого дня любовь часто сильнее
жизни; в новелле о Чимоне (V, 1) — она делает колоссальный
переворот в герое, превращает его из полузверя в совершенно культурного
человека*.
Подчеркивая могущество любви, которая считалась грехом
средневековою церковью, оправдывая ею средства, запрещаемые
моралью** и сословными отношениями, Боккаччо не мог не
заметить резкого противоречия своих взглядов с господствующими
воззрениями. Но это нисколько не парализовало его литературных
стремлений: он решительно, хотя и косвенно, протестует против
греховности не только глубокой любви, но и простого
чувственного влечения. Боккаччо заимствовал сюжет 8-й новеллы 5-го дня
из аскетического источника, где рассказывается, как наказана
была женщина за убийство мужа из-за любви к другому; в
Декамероне сохранено наказание, но оно налагается за жестокость к
влюбленному. Не менее характерна в этом отношении 2-я новелла 2-го
дня. Ринальдо д'Асти имел обычай, выходя из гостиницы во время
своих странствований, читать un paternostro и una avemaria15
за душу родителей св. Джулиано. Однажды на дороге его
ограбили разбойники, и ему приходилось провести без крова холодную
ночь. Тогда Ринальдо начал «жаловаться на св. Джулиано,
говоря, что это не соответствует его вере в святого. Но св. Джулиано
обратил на него внимание и без большого замедления приготовил
ему хороший ночлег». Благочестивый купец попал к веселой
даме, где провел полную наслаждений ночь и получил обильные
подарки. На другой день «Ринальдо, благодаря Бога и св.
Джулиано, сел на коня и здоровым благополучно вернулся домой».
В коротеньком введении к новелле Боккаччо подчеркивает ее
религиозную окраску, и рассказ может показаться с первого взгляда
самой конщунственной насмешкой над плодотворной молитвой.
* Ф. Шлегель считает «Veredelung der rohen männlichen Jugendkraft durch die
Liebe»14 сущностью Декамерона, которая выражена еще в Ninfale Fiesolano.
Нетрудно показать, что содержание Декамерона гораздо шире этой темы.
** Особенно характерно в этом отношении рассуждение Ricciardo Minutolo
в утешение обманутой женщине (III, 6).
<Литературные произведения Боккаччо>
133
Но наивный и искренний тон новеллы делает невероятным такое
предположение*.
Восставая против одной и весьма крупной стороны аскетического
идеала, Боккаччо необходимо должен был столкнуться с
монашеством. Коренного, принципиального, так сказать, этико-философ-
ского отрицания монашества мы не находим в Декамероне. Боккаччо
часто и охотно изображает нарушение монахами обета целомудрия,
но относится к этому спокойно, без особенного раздражения, а
иногда даже с некоторым сочувствием. Введение к рассказу о Мазетто
да Лампореккио (III, 1) представляет искреннюю защиту этого
нарушения, а его заключение, весьма кощунственное по форме,
возбуждает сомнение в самой греховности падения. Но и в этой новелле,
одной из самых циничных в Декамероне, Боккаччо не отрицает
принципиально монашество: склоняясь к греху, юная монахиня
заявляет, что в их среде найдутся и верные обету девственности.
Такой же смысл имеет новелла об отшельнике Рустике (III, 10):
в Фиваидекой пустыне нашелся благочестивый монах, который
устоял перед красавицей Алибек, и Боккаччо называет его — valente
uomo16, но нисколько не осуждает и изобретательного Рустика.
Не подлежит сомнению, что противоречие действительности с
обетом давало обильный материал для забавных историй, но
Боккаччо, верный культу любви и природы, добродушно смеется даже
над злоупотреблениями религией ради удовлетворения естественной
потребности. Монахи платятся за свою неловкость, а не за
нарушение обета. Аббат в 8-й новелле 3-го дня проделал кощунственную
жестокость с глуповатым ревнивцем Ферондо; но аббат был
«монах весьма святой во всех делах, кроме отношения к женщинам»,
и Боккаччо смеется не над ним, а над грубым и глупым Ферондо.
Точно так же в 4-й новелле того же дня автор осмеивает не монаха
Феличе, а обманутого им ханжу Пуччо**. Иногда Боккаччо вставляет
в рассказы о любовных похождениях монахов лирические выходки
против их пороков; но и здесь он упрекает их не за нарушение обета,
о котором идет речь в новелле, а вообще за лицемерие и за общий
упадок нравов. В 3-ей новелле 7-го дня ловкому Ринальдо
противопоставляются свв. Франциск и Доминик, хотя тон рассказа, весьма
* См. также замечательный вывод из 7-й новеллы 4-го дня.
* Пуччо, но мнению Боккаччо, заслужил свою участь, потому что когда его
жена sarebbe voluta dor mire о for se scher zar con lui, egli le raccontava la vita di
Cristo e le prediche di f rate Nastagio, о il lamento della Maddalena, о cosi f atte
17
cose .
134
M. С. КОР ЕЛ И H
сочувственный находчивому монаху, совершенно не соответствует
благочестивому отступлению. Иным характером отличается 2-я
новелла 4-го дня: неудачные любовные похождения брата Альберто,
который наряжался для этого архангелом Гавриилом, рассказаны
с некоторым злорадством и хорошо иллюстрируют резкую выходку
против монашеского лицемерия. Но принципиального отрицания
монашества и здесь нет: Альберто в миру был «человек преступной
и развратной жизни таким же остался в монашестве и потерпел
за свои подвиги достойное наказание от своего начальства*.
Тон Боккаччо становится гораздо резче, когда он говорит о
других сторонах монашеской жизни. Минорит-инквизитор,
притворявшийся «святым и сердечно привязанным к христианской вере,
как все делают, был не менее хорошим исследователем, у кого
полон кошелек». Это резкое отношение достигает высшей
степени, когда монахи являются преградой любви. С этой точки зрения
представляет особый интерес 7-я новелла 3-го дня. Тедальдо дельи
Элизеи и Эрмеллина, жена Альдобрандино Палермини любили
друг друга; но монах на исповеди запугал женщину загробными
муками, и она решила отказаться от своей греховной любви.
Результатом отказа был целый ряд несчастий, между прочим
осуждение на смертную казнь ни в чем не повинного Альдобрандино.
Смысл новеллы и сам по себе совершенно ясен; но Боккаччо счел
необходимым еще более подчеркнуть свою основную мысль и для
этой цели вложил в уста Тедальдо длинную речь, весьма
интересную в культурно-историческом отношении, хотя она и вредит
художественности новеллы. Тедальдо доказывает, что «единственный
грех» Эрмеллины — ее отказ от любви и что убедивший ее монах
совершил «разбой и неприличное дело (ruberia е sconvenevole
cosa)». «Положим, говорит он, что монах, порицавший вас, прав,
т. е., что нарушение супружеской верности великий грех, но разве
не больший ограбить человека?... Близкие отношения мужчины
и женщины — грех натуральный; грабить, убивать, отправлять
в изгнание — это производит испорченная воля (da malvagità di
mente procède)». Эрмеллина отняла y Тедальдо свою любовь,
вынудила его уйти с родины, и «божественное правосудие, которое
по справедливости приводит все действия к их результатам, не
хотело оставить безнаказанным этот грех».
* Остальные две новеллы о любовных похождениях монахов (I, 4 и IX, 2)
не представляют интереса. То же самое можно сказать о X, 2, где
действующим лицом является abate di Cligni18.
<Литературные произведения Боккаччо>
135
Но Боккаччо не ограничивается опровержением того, что
говорит монах Эрмеллине на исповеди: он вообще характеризует все
современное монашество. По его мнению, «величайшая забота»
и «главное занятие» современных монахов — обманывать «вдов
и многих других глупых женщин, а также и мужчин» ; они стремятся
исключительно «к женщинам и богатствам». Боккаччо выступает
далее против того учения, которое проповедуют монахи.
«Теперешние монахи, говорит он, желают, чтобы вы поступали по их словам,
т. е., чтобы вы наполняли их кошельки деньгами, поверяли им свои
секреты, соблюдали чистоту, обладали терпением, прощали обиды,
воздерживались от дурных слов, — все это дела добрые,
благородные, святые. Но почему же должно так поступать? Почему монахи
могут делать то, чего не могли бы делать, если бы были светскими
людьми? Кто не знает, что без денег не может существовать
лености? Если ты будешь тратить деньги на свои удовольствия, то монах
не будет в состоянии предаваться праздности в своем монастыре,
если ты будешь ухаживать за женщинами, то среди них не будет
места монаху; если ты не будешь обладать терпением и прощать
обид, монах не осмелится прийти в твой дом и загрязнить твою
семью... Итак, заключает Боккаччо, будем ли мы слушаться таких
людей? Кто это делает, пусть делает, что хочет; но Бог знает,
поступает ли он разумно»'1'. Этот вывод из самой радикальной
в Декамероне выходки против монашества чрезвычайно
характерен. Боккаччо не в силах выйти из средневекового миросозерцания,
не умеет найти твердой почвы для своего протеста против аскетизма
и все сводит к современному упадку церковных нравов. В своей
проповеди против монашества он не отрицает самого учреждения.
Теперешние монахи плохи, а прежние были santissimi е volenti
uomini19 и «заботились о спасении людей». Возвращаясь к этому
вопросу в конце Декамерона, Боккаччо отделывается
саркастической шуткой: «есть монахи — хорошие люди, которые из любви
к Богу избегают хлопот (il disagio), мелют запруженной водой
и ничего не отрицают, и если бы от всех них не пахло немного
козлом, то иметь с ними дело было бы много приятней». Совершенно
также относится Боккаччо к духовенству. «Мне приходит в голову
рассказать вам новеллету, говорит Панфило в начале 2-й новеллы
8-го дня, против тех, которые постоянно нас оскорбляют и не могут
подвергнуться такому же оскорблению с нашей стороны, именно
Косвенную иллюстрацию этого вывода составляет весьма характерная по тону
1-я новелла VII дня.
136
M. С. КОРЕЛИН
против священников, которые идут крестовым походом на наших
жен, и когда они подчиняют себе какую-нибудь из них, то думают,
что точно так же приобрели освобождение от греха и наказания, как
если бы привели связанным султана из Александрии в Авиньон»*.
Не более глубоко идет отрицание Боккаччо и других сторон
католической церкви. Злоупотребление таинствами и священными
предметами, столь распространенное в его время, давало обильные
сюжеты для веселых рассказов, и Боккаччо не стесняется
непринужденно смеяться над тем, что в благочестивом человеке вызвало бы
негодование. Но эта насмешка никогда не доходит до философского
отрицания. Глубже всего поставлен вопрос в известной новелле
о трех кольцах (I, 3), которая послужила предметом долгих споров.
До начала нынешнего столетия весьма многие писатели считали
возможным на основании этого рассказа признать Боккаччо автором
известного памфлета De tribus impostoribus20. Пламенный защитник
не только ортодоксальности, но и благочестия Боккаччо, прелат
Боттари утверждал наоборот, что рассказ о кольцах вложен в уста
еврею с тою целью, чтобы показать особое нечестие выраженного
в нем взгляда. В новое время некоторые исследователи думают
усмотреть в новелле проповедь религиозной терпимости в духе Лессин-
гова Натана. Но рассказ Боккаччо не оправдывает ни одной из этих
гипотез: для автора Декамерона анекдот несимпатичного ему еврея
не иное что, как остроумное средство выйти из затруднительного
положения. Боккаччо, заимствовавши эту новеллу из
предшествующей литературы, во многих отношениях изменил свой источник,
но не придал ему ни одного из приписываемых критиками оттенков:
новелла остается чисто эпическим рассказом.
Гораздо характернее для религиозных воззрений Боккаччо
новелла об обращении в христианство еврея Авраама (1,2). Высшее
духовенство и сам папа, т. е. то, что в Средние века преимущественно
обозначало церковь, изображены здесь в ужасающих красках, которые
вполне оправдывают опасение купца, что Авраам, ознакомившись
с Римом, «не только не сделается из еврея христианином, но если бы
даже он уже принял христианство, то несомненно вернется к
иудейству» . Но самая испорченность духовенства изображена в новелле
только для доказательства божественности христианства, и еврей
приходит к заключению, что «Св. Дух — фундамент и поддержка
христианства, как религии истинной и более святой, чем всякая
Самый рассказ и другие новеллы, где фигурируют духовные особы (VI, 3,
VIII, 4), не представляют интереса.
<Литературные произведения Боккаччс»
137
другая». Боккаччо не делает дальнейших выводов из этого контраста
между святостью божественной религии и испорченностью
«церкви», как ее тогда понимали, и его отрицание не глубже отрицания
тех благочестивых католиков, которые требовали нового вина для
старых мехов. Автор Декамерона остается истинным сыном старой
церкви и только скорбит о ее пороках или осмеивает ее недостатки.
Таким же характером отличаются те новеллы, в которых идет речь
о культе святых, о таинствах, о реликвиях и чудесах в католической
церкви. На первом месте между ними следует поставить
новеллу о Чаппеллетто (I, 1), где Боккаччо рассказывает, как «самый
дурной человек, какой когда-либо рождался», благодаря ложной
исповеди перед смертью, был признан святым, и на его могиле
происходили чудеса*. Автор не хотел оставить без объяснения этого
замечательного факта и прибавил к новелле весьма характерное
введение и заключение. Она рассказана, чтобы «укрепить нашу
надежду на Бога, как Существо неизменяемое, чтобы мы всегда
прославляли Его имя» и были бы уверены, что милость Божия
«вызывается не какою-нибудь нашей заслугой, но Его собственной
благостью». Боккаччо не считает невозможным, что Чаппеллетто
в самый момент смерти искренним сокрушением о грехах снискал
милосердие Божие; но это божественная тайна, и для человеческого
разума кажется более правдоподобным, что Чаппеллетто попал в
руки дьявола, что нисколько не уничтожает действительности молитв
к этому мнимому праведнику. «Если это так», говорит Боккаччо,
«то из этого мы можем познать, как велика к нам благость Божия,
которая, обращая внимание не на наше заблуждение, а на чистоту
веры, выслушивает нас, делая нашим посредником своего врага,
считая его своим другом, точно так же, как если бы мы прибегали
к истинному святому». В этой новелле, где особенно
подчеркивается важность веры для снискания благодати, Боккаччо остается,
однако, прежним католиком и в введении усердно проповедует
то верование, которое, по-видимому, осмеивается в самом рассказе.
Другие рассказы, в которых осмеиваются ложные чудеса (II, 1),
злоупотребление учением о чистилище (III, 8), реликвиями (VI, 10)
и таинствами (III, 3), характерны больше по тону, чем по
философскому смыслу содержания. Они ясно показывают, что в эпоху
Декамерона вполне исчезло то мистическое благоговение перед
внешней стороной религии, которое столь характерно для старой
* Уже Манни доказывал, что Чаппеллетто — действительное лицо. Паоли
напечатал Document! di ser Ciappelletto (Giorn. stör. d. litt. ital. V, p. 329).
138
M. С. КОРЕЛИН
церкви. Новелла о брате Чиполла, который хотел показать перо
архангела Гавриила (VI, 10), представляет собою такое беспощадное
осмеяние злоупотребления верованием, которое может поколебать
и самые его основы. Еще характерней вывод, который делает автор
из 3-й новеллы 3-го дня. Там рассказывается, как одна влюбленная
женщина воспользовалась простодушием монаха и, посредством
ловко обдуманной систематической лжи на исповеди, достигла своих
любовных целей. Новелла представляет самое циническое поругание
таинства, а Боккаччо, не замечая этого, подчеркивает совершенно
другую ее сторону. «Я хочу вам рассказать шутку, говорит Филомена
в начале этой новеллы, которую сыграла одна красивая женщина
с важным монахом, и мой рассказ тем более должен понравиться
всякому светскому человеку, что монахи, будучи по большей части
весьма глупы и отличаясь нелепыми нравами и манерами, думают,
что они во всяком деле более знают и имеют более значения, чем
другие». Если некоторые из позднейших читателей Декамерона,
делая логический вывод из иных новелл, объявляли Боккаччо
предшественником Лютера, то их ошибка заключалась в том, что
они приписывали автору веселых рассказов более философской
вдумчивости и религиозной глубины, чем у него было. Настроение
Боккаччо разрушало аскетическое миросозерцание и основанный
на нем средневековый католицизм, но он не был в состоянии
философски обосновать и даже стройно формулировать свои потребности
и просто не замечал своего коренного протеста против самых основ
средневековой церкви.
Некоторые из новых иссдедователей пытаются свести все
миросозерцание Декамерона к буржуазным нравам, воззрениям и
стремлениям. «Гений Декамерона, говорит Кине, — это гений буржуазных
республик Тосканы, тех popolani grassi21, которые все сводили
к пропорциям своих коммун... Боккаччо не оставляет ни одному
замку незапятнанного знамени, ни одной фамилии ее престижа,
ни одному имени его реального или химерического величия. Он
настоящий революционер, не желая этого, потому что уничтожает
феодализм в фантазии (dans les imaginations) и в поэзии...
устанавливает равенство в смешном между славными традициями (dans
les gloires) всех сословий. Самые гордые воспоминания феодальной
эпопеи должны склоняться под той же самой иронией и низойти
до прозы точно так же, как в реальной жизни благородные
дворяне (châtelains) Италии вынуждены спуститься из своих замков
на утесах, чтобы записаться в книгу коммун вместе с ткачами
и чесальщиками шерсти. Кто может отрицать республиканский
<Литературные произведения Боккаччс»
139
и демократический характер Декамерона? Он написан там на
каждой странице». На этой же точке зрения стоит и Саймондс, только
он пытается устранить голословность аналогичных воззрений. «Все
сферы средневекового энтузиазма подвергнуты пересмотру и
критике с точки зрения флорентийской bottega и piazza»22, говорит он
и приводит целый ряд доказательств, страдающих крайней
произвольностью. Так, «новелла об Агилульфе (III, 2), по его мнению,
вульгаризирует рыцарское понятие о любви, облагораживающей
человека незнатного происхождения», хотя, кроме имен, в этом
рассказе ничто не напоминает рыцарства. Еще менее можно согласиться
с утверждением Саймондса, что «Танкреди (IV, 1)
экстравагантностью мести делает смешным (burlesques) рыцарское уважение к
незапятнанному фамильному гербу». Прежде всего эта новелла ничего
не осмеивает; она вовсе не сатира, а настоящая драма, в основании
которой лежит столкновение двух различных миросозерцании,
причем автор не отказывает в некотором сочувствии и представителю
старых воззрений, несмотря на его жестокость. Правда, в новелле
обнаруживается демократическое настроение, но этот демократизм,
как мы увидим, выходит не из флорентийской bottega и покоится
на более широком основании, чем флорентийская piazza. К этому же
источнику сводит Сэймондс новеллу о фиваидском отшельнике,
которая будто бы «осмеивает аскетическую мечту о чистоте и
самоотречении ради служения Богу», и рассказ о Чаппеллетто,
выражающий будто бы «презрение к канонизации святых». «Исповедь,
почитание реликвий, священство, монашеские ордена подвергаются
самой губительной насмешке (the deadliest persiflage)». Выше мы
видели, как глубоко идет отрицание Боккаччо в этой сфере; но как
ни истолковывать его сатиру, она во всяком случае гораздо шире
городской исключительности.
Но если миросозерцание Декамерона нельзя свести к
площадной насмешке флорентийского горожанина над всем, что выходит
из круга его понятий, тем не менее демократическая струя заметно
обнаруживается во многих новеллах. В основе этого демократизма,
совершенно чуждого политического характера, лежит признание
прав личности, законные или, правильнее говоря, естественные
стремления которой не подлежат никаким сословным ограничениям.
Сюда относится прежде всего любовь: преграды, полагаемые ей
сословными расчетами — все равно, дворянскими или купеческими,
неизбежно ведут к несчастию. Но Боккаччо не останавливается
и перед специальными выходками против средневековой знати, в
которых определенно формулирует свою резко индивидуалистическую
140
M. С. КОРЕЛИН
точку зрения. Особенно замечательна в этом отношении речь
дочери Танкреди. Отвечая отцу, упрекавшему ее за любовь к человеку
низкого происхождения, Гисмонда, между прочим говорит: «если
мы посмотрим в глубь вещей, то ты увидишь, что у всех у нас тело
из одной материи, что все души созданы тем же Творцом, с
одинаковыми силами, с одинаковыми наклонностями, с одинаковыми
свойствами. Впервые доблесть (virtu) положила различие между
нами, так как все мы родились и рождаемся равными, те, которые
обладали ею в большей степени и более о ней старались, были
названы знатными (nobili), а прочие остались незнатными, хотя позже
неблагоприятные обычаи затемнили этот закон, все-таки он не
уничтожен и вполне проявляется в природе и в хороших нравах. Поэтому
тот, кто действует доблестно, ясно доказывает свою знатность, и кто
его называет иначе, налагает пятно не на него, а на самого себя».
Исходя из этой точки зрения, Боккаччо в другой новелле (I, 8) делает
резкую выходку против тех, которые «желают называться и слыть
благородными людьми и сеньорами и которых скорее следует назвать
ослами» и повторяет те же обвинения, которые выставлял против
знати и Петрарка. Но демократизм и здесь не носит узкосословного
и республиканского характера: Боккаччо охотно прославляет и
рыцарские доблести, и королевские достоинства.
Этими чертами исчерпывается исторически важная сторона
миросозерцания «Декамерона»*, но, кроме того, заслуживает
внимания отношение автора к источникам, а также содержание и тон
его рассказов. В нашу задачу не входит критическая проверка
исследований об источниках новелл Боккаччо. Но названные труды
Ландау и Каппеллетти с полной несомненностью констатируют тот
факт, что автор Декамерона заимствовал свои сюжеты как у древних
писателей, так и из всех отраслей средневековой литературы, и его
рассказы представляют собою переработку в новом духе
традиционного материала. С другой стороны, самое содержание и тон
новелл чрезвычайно характерны. Боккаччо вовсе не был чудовищем
разврата; между тем 25% его новелл по самой снисходительной
оценке совершенно непристойны. Как художник и гуманист, чуткий
к действительности, он не считал нелепым и несообразным с
общественными нравами приписать избранному обществу подобные
беседы, и приведенное выше письмо к Кавальканти показывает, что
Для отдельных воззрений Боккаччо некоторый интерес представляет новелла,
прославляющая дружбу (X, 8), рассуждение о снах в начале 6-й новеллы 4-го
дня.
<Литературные произведения Боккаччс»
141
автор Декамерона не был безнравственнее своего обычного читателя.
Ландау и Кёртинг вместе с большинством других исследователей
с несомненной ясностью показали, что современников новеллы
не шокировали, потому что их тон не представлял собою ничего
необыкновенного. Декамерон отразил общественные нравы и является
поэтому живой характеристикой среды, в которой приходилось
действовать гуманистам. Изображенная в нем действительность
не порождение Ренессанса, а однородная с ним реакция против
официального аскетизма — факт, который имеет существенное значение
для понимания моральной стороны в гуманистическом движении.
Все итальянские романы и поэмы Боккаччо, написанные ранее
Декамерона, стоят в тесной связи с его любовью к Фьямметте и
носят на себе поэтому более или менее автобиографический характер.
Таким же характером отличается и его последнее по времени
беллетристическое произведение — «Корбаччио или лабиринт любви»*»
Боккаччо искал руки одной вдовы и, получив отказ, написал против
своей невесты инвективу. Сочинение написано в форме диалога.
Автор во сне увидал себя в ужасной пустыне чувственной любви,
куда явилась потом тень первого мужа его невесты. Боккаччо
вступил с ним в разговор, и его собеседник с необычайной резкостью
и с поразительным цинизмом нарисовал ему образ своей жены.
Эта пятая по счету гуманистическая инвектива резко отличается
от четырех предшествующих, вышедших из-под пера Петрарки.
Боккаччо усвоил прием своего учителя обращаться литературным
путем к общественному мнению; но первый гуманист защищал
инвективами вопросы политические, литературные и философские;
Боккаччо вынес на суд общества свое личное дело. Он не скрывает
от читателя, что его книга написана из мести и открыто заявляет,
что писатели имеют полную возможность и превознести, и опорочить
человека-*. Таким образом сатира Боккаччо является расширением
предмета созданной Петраркою публицистики. Кроме того, она
представляет культурно-исторический интерес и по своему содержа-
II Corbaccio о il Labirin to cTAmore. Время составления в точности
неизвестно. Большинство исследователей относит его к 1355 году. Первое издание
появилось во Флоренции в 1487. Статья Пинелли «Appunti sul Corbaccio»
(Propugnatore, XVI, 1883), где автор сравнивает изображение порочной
женщины у Боккаччо и в VI сатире Ювенала, не представляет исторического
интереса. Книга Levi (И Corbaccio е la Divina Comedia. Note е raffronti. Torino,
1889) представляет несколько формальных сравнений между обоими
произведениями.
Такую же точку зрения развивает студент Риньери в Декамероне: VII, 7.
142
M. С. КОР ЕЛИ H
нию. Нападки Боккаччо не ограничиваются только флорентийской
вдовой, но распространяются и на всех женщин вообще: поклонник
Фьямметты и резкостью тона, и страстностью ненависти к
женщине и семье значительно превосходит певца Лауры. По взглядам
на семью и по изображению духовного образа женщины «Корбаччио»
может быть поставлен на ряду с самыми злобными произведениями
средневекового аскетизма.
Сатира представляет некоторые данные и для других воззрений
Боккаччо. Так, среди жестоких выходок против женщин мы
встречаем там благочестивую хвалу в честь Богоматери, которая, по мнению
Боккаччо, не была женщиною, но «надземным существом», «от
вечности преуготованною обителью для Царя небесного». Такое же
благочестие обнаруживает автор и в начале книги: он разговаривает
с своим собеседником о божественных предметах и почерпает
подкрепление в таких беседах, хотя и замечает мимоходом, что все
эти вопросы безгранично выше человеческого понимания, — точка
зрения, на которой стоит в своих философских произведениях и его
учитель Петрарка. Сюда же можно отнести строго церковный взгляд
на самоубийство. Еще интереснее политические воззрения, которые
высказывает Боккаччо в этой инвективе. Его невеста хвастается
между прочим благородным происхождением, и автор делает
обширное отступление, в котором с презрением говорит об аристократии
и доказывает что истинное благородство заключается в добродетели.
Как во всех произведениях, так и в инвективе, Боккаччо говорит
и о самом себе. Он сообщает свой возраст во время написания книги
и говорит с презрением о коммерческих занятиях и с большою
любовью о научных, которые были направлены «на святую философию»
и главным образом на поэзию*.
Лирические произведения Боккаччо** не имеют большой цены
ни в каком отношении. Их художественное достоинство невысоко.
Боккаччо весьма часто подражает Данте и Петрарке, а также
классическим поэтам и в оригинальных стихотворениях несравненно ниже
своего руководителя. Точно так же мало имеют они
автобиографического и историко-культурного значения. В огромном большинстве
стихотворения эротического содержания, тем не менее они дают
совсем ложное освещение отношений автора к Фьямметте. Боккаччо
подражал Петрарке, а кроме того, писал свои сонеты для кружка
Это место служит главным источником для определения хронологии
сочинения.
Всех стихотворений, включая вставленные в романы, 124; из них 110 сонетов.
<Литературные произведения Боккаччо>
143
Марии и вообще для неаполитанского двора, поэтому скрывал истину
и, пользуясь взаимностью, оплакивал несчастную любовь. Отсюда
их неискренность, одинаково вредившая и их художественной цене
и автобиографическому значению*. С этой последней точки зрения
некоторый интерес представляют немногие сонеты религиозного
и политического содержания**.
Боккаччо приписывают с большим или меньшим основанием
и еще несколько произведений на итальянском языке. Сюда
принадлежит прежде всего «Урбано», новелла о романтических
похождениях побочного сына Фридриха Барбаросы***. Заподозренный Боргини
без достаточных оснований, этот рассказ признан за подлинное
произведение Боккаччо всеми новейшими исследователями.
Похождения Урбано, интересные по фабуле и по изложению, написаны
Боккаччо под старость и, кроме нескольких автобиографических
черт в предисловии, не имеет ни биографического, не исторического
значения****. Более сомнительна подлинность обширного
аллегорического стихотворения «Охота Дианы». По характеру содержания
и обработке темы оно напоминает «Любовное видение»: автор
изображает свиту Дианы, 58 охотниц, которые выпросили у Венеры,
чтобы словленная ими дичь превратилась в юношей, вследствие
чего сам он из оленя делается обожателем одной из охотниц и
заканчивает стихотворение восхвалением ее совершенств. Рукописи
этой поэмы не носят имени Боккаччо; историк литературы XVI века
Поччанти впервые объявил его ее автором; тем не менее
современные исследователи склонны признать ее подлинность. Хотя
* Кёртинг, пытавшийся построить на них изображение отношения Боккаччо
к Фьямметте, приходит к ошибочным выводам.
** Самый обстоятельный разбор Rime Боккаччо сделан в статье Манго. Автор,
сравнивая поэзию Боккаччо с стихотворениями Данте и Петрарки,
приходит к убеждепнию, что покаянный характер религиозной поэзии автора
Декамерона лишен искренности и задушевности, что его патриотические
стихотворения лишены искреннего чувства и его мечты о прежнем величии
Рима и Италии носят учено-антикварный характер.
*** L'Urbano. Первое издание — Венеция, 1526.
**** Ландау, а за ним Кёртинг, упрекает Боккаччо за незнакомство и
произвольное отношение к истории Гогенштауфенов. Последний делает даже по этому
поводу общее замечание: jedenfalls erkennen wir daraus, wie unendlich naiv
des Dichters Geschichtsanschauung war und wie gleichgültig er sich gegen
Quellenkritik verhielt23. Но вслед за этим он сам указывает источник
Боккаччо — именно средневековую повесть о Константине Великом, так что
оценивать исторические воззрения и требовать критики источников в таком
произведении едва ли представляется какая-нибудь возможность.
144
M. С. КОР ЕЛ И H
под Дианиными охотницами скрываются современные автору
неаполитанские дамы, и стихотворение содержит массу намеков на
местные события, но аллегория настолько темна и непроницаема, что
это произведение утратило всякое историческое и биографическое
значение. По всей вероятности Боккаччо принадлежит
непристойное стихотворение «Руфианелла», в котором старуха воспоминает
веселую ночь, проведенную в молодости с обожателем. Большинство
издателей выпускает это стихотворение из собрания сочинений
Боккаччо, но Ландау утверждает, что оно «лучше своей репутации
и во всяком случае не хуже многих новелл Декамерона». Весьма
сомнительной подлинности «Диалог о любви», в котором один из
собеседников, Алкивиад, дает другому, Филатерио, наставление, как
добиться женской любви. Сочинение это будто бы было написано
по-латыни и переведено на итальянский язык Анджело Амбрози,
но латинских рукописей не сохранилось, и сочинение, по мнению
Ландау, ничем не напоминает Боккаччо, хотя этот вопрос занимал
автора Декамерона, потому что в Эскуриале есть рукопись
итальянского перевода Ars amandi с именем Juan Bochatio. Большинство
современных исследователей считают Боккаччо автором
стихотворной новеллы «Джета и Бирриа», не представляющей интереса
переделки латинской поэмы — poema de Amphitryone et Alcmena
Виталия Блуасского, который в свою очередь заимствовал сюжет
из Плавтова Амфитриона*24. Нет положительных доказательств
подлинности двух религиозных стихотворений, приписываемых
Боккаччо: «Страдание Христа» и «Ave Maria». По содержанию
они не противоречат настроению Боккаччо; но таких неглубоких
католиков, как он, было всегда очень много, между тем
некоторые рукописи и ранние издания указывают и других авторов.
Не представляют никакого интереса два итальянских сочинения,
приписываемые Боккаччо. Одно из них «Примечание к Данте»,
считавшееся его юношеским произведением, теперь признано
большинством подложным, и во всяком случае не имеет никакой
цены при несомненности «Жизни Данте» и большого комментария
Боккаччо к «Божественной комедии». Еще менее интереса, с нашей
точки зрения, имеет перевод 3-й или первых трех декад Ливия,
вопрос о принадлежности которого Боккаччо остается нерешенным
до настоящего времени.
Так называемый «переворот», который будто бы произошел
в Боккаччо под влиянием пророчества св. Пьетро Петрони и будто бы
* Первое издание Geta е Birria относится к 1516 г.
<Литературные произведения Боккаччо>
145
произвел глубокую пропасть между его ранними (итальянскими)
и поздними (латинскими) произведениями, совершенно не
оправдывается источниками. Идеи и настроение итальянских романов,
поэм и новелл Боккаччо в целом и общем выражены и в его
латинских трактатах. Некоторая разница замечается только в отношении
к любви и женщине; но она объясняется отчасти естественным
влиянием преклонных лет, отчасти тем эпизодом, который
вдохновил Корбаччио. По существу обе категории произведений
Боккаччо проникнуты тем же самым индивидуализмом, который мы
отметили в сочинениях Петрарки; только здесь, благодаря личным
особенностям автора, этот индивидуализм получил несколько иное
выражение. Боккаччо не ученый и не мыслитель; новое направление
обнаруживается гораздо сильнее в его настроении, чем в его идеях.
Поэтому в его ученых сочинениях критика почти совершенно
отсутствует и вся работа сводится к механическому сопоставлению
источников. Но критицизм весьма силен в его настроении: не
говоря уже о недостатках современной церкви, которые Боккаччо
выставляет на вид с большой старательностью, он резко порицает
Петрарку за его отношения к Висконти и не стесняется
выражениями в критических замечаниях относительно разных писателей
в Zibaldone. К сожалению, этот критицизм не слагается в
определенную систему, не становится сознательным научным приемом.
То же самое и в философии. Боккаччо не чувствует интереса к от-
влеченому мышлению и не пишет философских трактатов; но
интерес к моральным вопросам, столь характерный для Петрарки,
обнаруживается уже в Декамероне и отодвигает на второй план
главное содержание De casibus.
Как ни поверхностны этические рассуждения Боккаччо, они
представляют несомненный исторический интерес по своей
основной мысли: мораль Боккаччо, поскольку она формулирована в De
casibus и в письме к Pino de' Rossi сводится к утилитаризму или,
правильнее, к эвдаймонизму, а благо человека заключается в
совершенно правильном и всестороннем индивидуальном развитии.
Эта мысль ясно формулирована в последних книгах Генеалогии,
где Боккаччо горько жалуется на неблагоприятные условия, долго
мешавшие ему сделаться поэтом. Индивидуализм в смысле интереса
к внутренней жизни личности и как требование широкого
пользования всем, что дала природа человеку, у Боккаччо шире и глубже,
чем у Петрарки. Автор Декамерона занят не только своим личным
внутренним миром, как Петрарка, но он интересуется духовною
жизнью других: Боккаччо автор первого психологического романа,
146
м. a корелин
героиней которого является женщина, и художественное
достоинство его новелл обусловлено между прочим способностью сделать
тонкое наблюдение и верно понять психический мир героев. Кроме
того, Петрарка только умел чувствовать любовь и интересовался
ею, как своим чувством; Боккаччо идет далее, констатирует ее
важность в индивидуальной жизни вообще и требует для нее
широких прав. Правда, в Декамероне это требование заходит слишком
далеко, но в De Claris mulieribus оно введено в должные границы
и резкие выходки против любви в Corbaccio и в De casibus следует
признать случайным озлоблением от личной неудачи старика,
привыкшего к победам в молодости. Оценка людей и у Петрарки,
и у Боккаччо основана на чисто индивидуалистическом принципе
личных свойств, независимо от происхождения и общественного
положения; поэтому оба они враждебны знати и всяким сословным
привилегиям; но Боккаччо последовательнее первого гуманиста
и прилагает эту мерку также к женщинам, к которым Петрарка
относился с средневековой точки зрения. Его De Claris mulieribus
представляет поэтому огромный интерес. Боккаччо не безусловный
поклонник женщины даже в «Декамероне»*; тем не менее он
посвящает трактат знаменитостям женского пола, причем исключает
из их числа тех, которые приобрели известность не собственными
силами, а при помощи божественной благодати. Так же резко
проявляется индивидуализм Боккаччо в сфере религии и политики.
Он менее безразлично, чем Петрарка, относится к политическим
формам: он республиканец по преимуществу и тирания ему
ненавистна. Более того, его индивидуализм не стеснен ни античными
традициями, ни даже итальянским патрмотизмом: в письме к Росси
уже чувствуются начала индивидуалистического космополитизма.
Тоже самое и в религии: не отрываясь от католицизма, Боккаччо
обнаруживает стремление индивидуалистически толковать его
учения — культ святых, молитву и т. п. Но и здесь, как повсюду,
индивидуализм Боккаччо, резко отражаясь в его настроении, не до-
развился до систематического миросозерцания и нашел выражение
только в отдельных воззрениях.
Две остальные черты, отмеченные нами у Петрарки, —
критическое отношение к древности и стремление слить античные
традиции с средневековой культурой, проявляются и в
сочинениях Боккаччо. Разница заключается в том, что у Боккаччо
сравнительно слабее критицизм по отношению и к древним авторам
См. замечательную речь Тедальдо в III, 7 и рассуждение старухи в V, 10.
<Литературпые произведения Боккаччо>
147
и к средневековым ученым, чем у Петрарки. В Генеалогии и других
сочинениях он открыто и резко заявляет глубокое уважение к
древним, что не мешает ему с почтением относиться и к средневековым
знаменитостям, как это видно из той же Генеалогии и из Amorosa
visione. Формально слить языческое с христианским Боккаччо
пытается в теории, при защите поэзии, и на практике — во многих
поэтических произведениях, например, в Эклогах и Филокопо;
но в культурном отношении эта задача оказалась ему так же
непосильной, как и Петрарке; только в сфере чисто художественной
деятельности, где автора Декамерона менее стесняли средневековые
традиции, это слияние двух культур привело к благоприятным
результатам и Боккаччо-художник является совершенно новым
человеком.
^5^
^^^
А. А, ТИХОНОВ
Боккаччо и Фьямметта
Важнейшим событием в жизни Боккаччо за время его пребывания
в Неаполе была встреча с Фьямметтой, имевшая большое влияние
на развитие его поэтического дарования. У Данте была Беатриче,
у Петрарки — Лаура, для Боккаччо они олицетворялись в образе
Фьямметты с тою разницей, что у него любовь к ней имела более
земной и даже чувственный оттенок. История этой земной любви
изложена самим Боккаччо довольно обстоятельно и подробно в его
произведениях «Ameto» и «Fiammetta», а отголоски ее встречаются
почти во всех его сочинениях на итальянском языке; но тем не менее
эти сведения нельзя считать ни вполне достаточными, ни вполне
точными.
В «Ameto» он рассказывает, как образ Фьямметты явился ему
в видении, когда он еще только в первый раз подъезжал к Неаполю.
Можно предположить, что поэт облек здесь в красивый поэтический
вымысел действительную встречу с ней, но с тех пор он на шесть лет
теряет ее из виду, отдавая свою любовь другим. Потом незадолго
до встречи она вновь явилась ему в видении и наконец он воочию
увидал свой идеал в церкви Св. Лаврентия в Страстную субботу,
12 апреля 1338 года1. Через несколько дней он случайно встретился
с ней снова в церкви одного из окрестных монастырей, и здесь ему
удалось уже вступить в разговор с обожаемой красавицей. Разговор
коснулся распространенной тогда легенды о любви Флорио и Бьян-
кофьоре, и Фьямметта предложила Боккаччо написать историю
этой любви. Конечно, он охотно вызвался исполнить ее желание
и написал на эту тему свой роман «Filicopo». После этой встречи
Боккаччо познакомился с мужем Фьямметты, подружился с ним
и сделался частым гостем у них в доме.
Боккаччо и Фьямметта
149
Настоящее имя этой дамы, которую Боккаччо обессмертил
под именем Фьямметты (что, от слова fiamma — огонь, означает
собственно «огонек»), было Мария. Она родилась в семье графа
Аквино, занимавшего высокий пост при неаполитанском дворе,
но считалась побочной дочерью короля Роберта. Ее мать, графиня
Аквино, была весьма нравственная женщина, но должна была
однажды уступить преступной страсти короля Роберта,
вынужденная к этому обстоятельствами. Родившаяся у нее после этого
дочь была, однако, по желанию короля воспитана как дочь графа
Аквино; но мать, умирая, открыла ей тайну ее рождения. Сначала
Мария поступила послушницей в монастырь; но ее красота,
обращавшая на себя всеобщее внимание, воспламенила сердце одного
молодого и богатого дворянина; он стал добиваться руки Марии
и наконец, при содействии короля Роберта, женился на ней, Мария
жила счастливо со своим мужем уже несколько лет, когда случайно
встретилась с Боккаччо.
Имя мужа Фьямметты остается неизвестным. Он, очевидно,
не принадлежал к числу выдающихся лиц в неаполитанском
обществе, и нигде не видно, чтоб он или Фьямметта принимали
какое-нибудь участие в придворных интригах.
Во время первой встречи Боккаччо с Фьямметтой ему было 25 лет,
а она была года на три старше его; но, если верить описаниям
Боккаччо, она соединяла в себе все телесные и духовные совершенства
и была сошедшим с неба на землю идеалом женской красоты:
«золотистые длинные волосы, белые бархатные плечи, краска лилий
и роз на лице, губы, как темные рубины, и глаза яркие, светящиеся,
как у свободного сокола». О ее умственном развитии можно судить
по тому, что Боккаччо посвящал ей такие вещи, как «Тезеида»
и «Филострат», для понимания которых нужно было все-таки
некоторое знание древней мифологии. Во всяком случае, к литературе
у нее была несомненная склонность.
Здесь кстати сказать несколько слов и о наружности Боккаччо.
По описанию его современника Филиппо Виллани, он был довольно
красив, высок ростом и, по-видимому, всегда отличался несколько
излишней полнотой. Веселый, живой, любезный, он привлекал
к себе увлекательной беседой и располагал к себе всех знавших его.
Выше мы заметили, что любовь Боккаччо имела чувственный
оттенок; но нужно оговориться, что это было так только с его стороны.
Не имея никаких документальных доказательств тех или других
отношений Боккаччо к его возлюбленной, мы должны делать наши
заключения на основании его поэтических произведений, а они,
150
A.A. ТИХОНОВ
будучи украшены вымыслом, противоречат друг другу. В своих
сонетах Боккаччо постоянно жалуется на холодность своей
возлюбленной, называет ее мрамором, не согретым лучом любви, упрекает
ее в том, что ей гораздо дороже ее честь, чем его любовь, и даже
в пылу гнева высказывает желание видеть ее состарившейся и
подурневшей. И надо думать, что, действительно, Фьямметта никогда
не переходила границы дозволенного в своей любви к Боккаччо.
Она позволяла ему посещать их дом, сопровождать ее в прогулках,
поклоняться ей и боготворить ее, но и только. Быть может, ее
заставляли удерживаться и действительно нравственные побуждения,
а может быть, и боязнь, что Боккаччо, достигнув последней цели,
охладеет, оставит ее, и она лишится такого интересного поклонника.
В посвящении к «Филострату» Боккаччо прямо признается, что его
возлюбленная никогда не удостаивала его такой благосклонности,
как Хризеида Троила, и что он впредь не питает на это надежды.
С другой стороны, в «Амето» и «Фьямметте» есть точные указания,
что эта любовь была преступной с самого начала или после
некоторого периода колебаний. Но здесь эту преступность отношений обоих
героев романа надо отнести на долю романтического вымысла, без
чего самые романы, кончающиеся не достигшими цели
искательствами, показались бы читателям сентиментально-скучными.
Для нас, конечно, не представляет никакой важности решение
этого вопроса в том или другом смысле. Важно лишь указать, что
эта любовь к Фьямметте вызвала появление почти всех поэтических
произведений Боккаччо: «Тезеида» и «Филострат» посвящены ей;
«Filicopo» написан по ее желанию; она является героиней в
«Фьямметте», ее имя прославляется в «Ameto», «Amorosavisione», «Ninfale
Fiesolano» и в «Декамероне», и к ней же относится самая большая
часть всех лирических стихотворений. Без этой любви к Фьямметте
Боккаччо не был бы тем, что он есть.
Как долго длились отношения Боккаччо к Фьямметте, в
точности неизвестно. В то время когда он писал «Декамерон», т. е.
около 1350 года, она, вероятно, была еще жива и продолжала
пользоваться поклонением поэта. Но, вероятно, вскоре после того
она умерла, потому что в 1355 году Боккаччо подпал уже
влиянию другой неудачной любви, вызвавшей его сатиру «Corbaccio»,
к которой мы еще вернемся. Любовь к Фьямметте была, во всяком
случае, его единственной любовью; он остался верен ей даже
после смерти Фьямметты-Марии, как это видно из целого ряда его
позднейших сонетов. Фьямметта всегда была для Боккаччо музой,
вдохновлявшей его и поддерживавшей в нем священное пламя
Боккаччо и Фьямметта
151
поэзии, и имя ее останется в потомстве неразрывно связанным
с именем Боккаччо.
Около 1339 или 1340 года Боккаччо должен был покинуть
Неаполь и вернуться во Флоренцию по желанию своего отца, который
перед этим похоронил жену и нескольких сыновей и, вероятно,
пожелал, чтоб Джованни помогал ему в делах. Мы уже видели,
какова была жизнь в доме отца Боккаччо. Можно себе представить,
в каком настроении вернулся Джованни в эту суровую,
негостеприимную обитель и как тяжело было ему расстаться с возлюбленной
Фьямметтой, с прекрасным Неаполем и с веселым и образованным
обществом, в котором он там вращался. И письма Боккаччо, и
произведения его, написанные или начатые в этом периоде времени,
свидетельствуют о мрачной скорби и угнетенном состоянии духа,
в котором он тогда находился.
Впрочем к причинам такого настроения, касавшимся его лично,
присоединялись еще и причины внешние. Флоренция переживала
тогда печальное время. Финансовый кризис разорил несколько
богатейших банкирских домов, и масса прежде состоятельных
граждан сделалась теперь нищими. В числе пострадавших от этого
кризиса был, по-видимому, и отец Боккаччо; хотя он и не
разорился, но состояние его, во всяком случае, пострадало, и старик стал
теперь еще скупее и желчнее прежнего. Вместе с тем и политическое
положение Флоренции было поколеблено неудачно кончившейся
разорительной войной с Пизой. Партии враждовали между собой.
Дворянство, с одной стороны, и низшие классы, с другой, боролись
одновременно с партией именитых горожан, стоявших до тех пор
во главе правления. Внутренние беспорядки дошли до последней
степени. Можно себе представить, какое печальное настроение
должно было вызвать это положение у Боккаччо после всего, что
он видел в Неаполе.
Но он, по-видимому, не принимал никакого участия в этих
политических волнениях. За время долгого отсутствия его во Флоренции
интерес к борьбе местных партий в нем, конечно, ослабел, да,
вероятно, ни одна из тогдашних партий и не привлекала его симпатий.
Благотворным исходом из мрачного настроения, тяготевшего тогда
над Боккаччо, были для него занятия литературой, которым он
и отдался с особенным рвением.
В 1342 году приезжал во Флоренцию Никколо Аччайуоли, и
встреча с ним временно разогнала мрачное настроение Боккаччо.
В 1344 или 1345 году Боккаччо мог, наконец, избавиться от
тягостного его пребывания во Флоренции и вернуться в Неаполь. Чем
152
A.A. ТИХОНОВ
был вызван этот отъезд — неизвестно, но вероятнее всего, что отец
его, женившийся в это время во второй (или третий) раз, не нашел
удобным стеснять жизнь молодой жены пребыванием возле нее
взрослого пасынка.
* * *
Второе пребывание в Неаполе не было для Боккаччо таким
светлым и радостным, как первое. Времена переменились. Король
Роберт уже умер, на престол вступила королева Иоанна, при
неаполитанском дворе наступил период распущенности, и
политическое значение Неаполя клонилось к упадку. Сам Боккаччо не был
уже тем пылким юношей, каким он явился в Неаполь в первый
раз; теперь ему, человеку зрелого возраста, многое должно было
показаться уже в другом свете, чем тогда. Ряды друзей поредели,
взаимные интересы изменились или ослабели. И в то же время
в политической жизни Неаполя разражались бури одна за другой.
Убиение мужа королевы Иоанны, Андрея, последовавшие затем
беспорядки, свадьба Иоанны с Людвигом Тарентским, нашествие
венгров, бегство и возвращение королевской четы, чума — все это
прошло перед глазами Боккаччо, и если он, по-видимому, и не
принимал участия в этих событиях, то, во всяком случае, они не могли
не отражаться на его жизни, не могли пройти бесследно мимо него,
так как одним из деятельнейших участников всех этих событий
был, как мы видели, Никколо Аччайуоли, а Боккаччо был к нему
более или менее близок.
Его взгляды на события того времени и отношения к ним
выразились в его латинских эклогах. Не называя имен, прикрываясь
аллегорией, он оплачивал смерть короля Роберта, воздавая
величайшую похвалу его деятельности, и вместе с тем с большой симпатией
относился к убитому принцу Андрею, мужу королевы Иоанны, а
Иоанну выставил под видом волчицы, растерзавшей принца на
уединенной лесной тропинке. Потом он восхвалял Аччайуоли за его
преданность принцу Людвигу во время его изгнания, высказывал
скорбь по поводу разгрома, который произвел в Неаполе венгерский
король, и, наконец, когда Иоанна и Людвиг вернулись из изгнания
снова в Неаполь, Боккаччо, вразрез с предыдущим, написал по
этому случаю такую преувеличенно-хвалебную эклогу, что можно
было бы заподозрить его в желании получить какое-либо доходное
придворное место. Но такое подозрение едва ли будет справедливо,
потому что Боккаччо, по-видимому, никогда не стремился занять
какую-либо постоянную должность, ибо иначе он мог бы, вероятно,
Боккаччо и Фъямметта
153
достичь этого через Аччайуоли. За такие преувеличенные похвалы
ему можно сделать упрек скорее в недостатке литературного вкуса,
чем в низменном искательстве. В придворных кружках он вращался
больше ради развлечения, да и на него там смотрели не как на
искателя придворных мест или политического деятеля, а
преимущественно как на приятного собеседника и интересного рассказчика,
что подтверждается отчасти и позднейшим намеком Боккаччо, что
«Декамерон» написан им по желанию королевы Иоанны. Конечно,
должно показаться странным, что Боккаччо, вначале отнесшийся
так враждебно к королеве Иоанне после убиения ее супруга, нашел
потом возможность не только бывать в ее обществе, но и
восхвалять ее. Но оправдание такой видимой беспринципности можно
найти в том, что виновность королевы в смерти ее супруга никогда
не была доказана. Иоанна была оправдана в этом обвинении самим
папой и, когда изгладились из памяти первые впечатления смерти
принца Андрея, неаполитанское общество относилось к королеве
без предубеждения. Боккаччо же и в том и в другом случае явился
лишь отголоском общественного мнения. В написанной им позднее
книге о знаменитых женах он называет Иоанну красой Италии,
которой не было равной ни у одного народа, и хвалит даже
порядок и общественную безопасность в ее королевстве, что, конечно,
является непозволительным преувеличением даже тех удачных
административных распоряжений, которые исходили не от
Иоанны, а от Аччайуоли.
В 1348 или 1349 году умер отец Боккаччо, вероятно, во время
свирепствовавшей тогда чумы. Боккаччо находился в это время
в Неаполе. Жена его отца умерла еще раньше, и Боккаччо был
назначен опекуном своего младшего брата Якопо. Тогда он отправился
во Флоренцию, чтоб принять оставшееся на его долю и на долю
Якопо наследство.
Это возвращение во Флоренцию отделяет резкой чертой
последующую эпоху его жизни от предыдущей.
^^
^^
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
<Любовь к Фьямметте>
Фьямметта было поэтическое имя, под которым Боккаччо
воспевал Марию, считавшуюся дочерью графа Аквино — и плодом
любви короля Роберта. Умирая, мать открыла ей тайну ее
рождения, дабы она с тем большею уверенностью могла пользоваться
щедротами предполагаемого отца. По смерти матери ее отдали
на воспитание в монастырь, на служение Весте, но ее красота
обратила на себя внимание одного молодого человека,
красивого, богатого, из хорошего рода; она отвергла его предложение,
но юноша обратился к посредству того, кого считали ее
родителем: Фьямметту убедили, что и замужем она в состоянии будет
питать огонь Весты, и брак состоялся; счастливый брак, полный
внимательности и долга и того, что казалось любовью, пока его
не посетила победная страсть.
Мария была, кажется, одних лет с Боккаччо или немногим
старше его, что не лишне отметить для характеристики их отношений.
Боккаччо не раз описывает ее красоту, под ее именем и именами
других своих героинь: очевидно, красота Фьямметты казалась
ему идеальной, и он наделял ею тех, кого надо было представить
красавицами. На сколько в его описании еще отзывается тип
женского изящества, господствовавший в европейской и итальянской
поэзии XIII-XIV веков, и на сколько в нем личного элемента —
сказать трудно. Типом красавицы для рыцарских поэтов и поэтов
старой итальянской школы была блондинка1; блондинкой
является и Фьямметта. Боккаччо любит представлять ее себе одетой
в зеленый цвет; это, быть может, тоже символ: цвет надежды;
но dame Oyseuse в Roman de la Rose, изображение которой
напоминает Емилию в Тезеиде Боккаччо, одета так же2. Тем не менее
<Любовъ к Фъямметте>
155
описание повторяется так настойчиво и в общем однообразно, что
поневоле веришь в его реальность. В конце IV-ro дня Декамерона
Филострато возлагает венок на белокурую головку Фьямметты;
ее «вьющиеся, длинные и золотистые волосы падали на белые,
нежные плечи, кругленькое личико сияло настоящим цветом алых
роз и белых лилий, смешанных вместе; глаза, как у ясного сокола,
рот маленький, с губками, точно рубины». Амето любуется ее
волосами, часть которых приподнята была над ушами, другая падала
до конца затылка двумя густыми косами; скрестившись назади,
они снова взбирались к вершине белокурой головки и опять
спускались, пряча свои концы под первыми, поднявшимися, и здесь
скреплены были золотой с жемчугом булавкой, так что ни один
волосок не выходил из назначенного ему места. На голову
наброшен тончайший вуаль, поверх его венок из цветов, скрепленный
золотом, укрывавший от солнечных лучей не менее, чем то делает
греческая (данайская) шляпа. Черная лента отделяет линию
золотистых волос от лба, внизу которого вырисовываются полукругами
двое тонких бровей, цвета ночного мрака, изящно разделенных
большим пространством, а под ними пара плутовских в своем
движении глазок; что они таят в себе и кто в них пребывает, того
не угадать, и смущенный Амет отводит от них свой взгляд, чтобы
полюбоваться носом, не сгорбленным, не широким и не малым,
а какому следует быть на красивом лице; щечками цвета молока,
в которое капнула свежая кровь — когда красавице жарко, в иное
время — цвета темно-бледного, восточного жемчуга и т. д.
Боккаччо стоит за плечами Амета, и его глаза также спускаются
от линии волос к бровям, глазам, носу, губкам, подбородку,
медленно подбирая черту за чертой, не минуя ни одного мелкого штриха,
напр. что ни один волосок не выделялся из гладкой прически;
видимо любуясь каждой подробностью. Таковы его описания
природы, зданий, характеров; точно перед ним ландшафт или оригинал,
и он задался мыслью воспроизвести их с возможной точностью,
предоставляя нам схватить в них то общее, то впечатление жизни,
которое выносил сам. Средневековой поэме, народной песне знакомы
такие же статистические описания напр. красоты, но это реализм,
одеревеневший в постоянно повторяющейся формуле; у Боккаччо
она раскрылась для личных целей; те же приемы, но задача другая,
он — начинатель художественного реализма. И он достигал своих
целей, когда дело шло об объектах движущихся, развивающихся
во времени: для характеристики психологического или
общественного типа дорога всякая фраза, движение, обрывок разговора,
156
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
склад речи; общее получится в конце, как вывод, в котором вы сами
желаете участвовать работой мысли. Описание природы, красоты,
всего покоящегося и не движущегося должны быть выводом самого
художника, мы не можем участвовать в его работе, готовы разделить
его впечатление и не в силах оживить его фотографический снимок,
когда, например, при описании поляны нам говорят, что там были
ели, кипарисы, лавры — и несколько пиний*, либо о веселом
обществе Декамерона, что они пропели именно шесть песенок**. Мы
готовы принять на веру точную опись прелестей красавицы, но пока
разве ее плутовские глазки позволяют нам угадать, что побудило
Боккаччо назвать ее своей Искоркой, Фьямметтой, и постоянно
играть в своих сонетах словами: огонь и пламя, fuoco и fiamma.
Любовные сонеты и Филострато подскажут нам многое.
Боккаччо страшно увлекся Фьямметтой, она заинтересовалась
незнакомцем, имя которого узнала лишь несколько дней спустя
после встречи в Сан-Лоренцо. Влюбленный поэт ищет случаев увидать
ее, старается познакомиться с ее родней, вступает в такую дружбу
с ее мужем, что тот не находит ничего приятнее его общества. Она
замечает это и своими действиями и движениями тайно дает ему
понять, что и она горит тем же пламенем; пусть только будет
осторожен, как она. Однажды он случайно зашел в церковь св. арх.
Михаила при монастыре монахинь-бенедиктинок и здесь встретил
даму своего сердца в веселой беседе, к которой допущен был и он
с товарищем. Переходя от одного предмета к другому, стали говорить
и о приключениях доблестного юноши Флорио, сына испанского
короля Феличе, и Боккаччо рассказал о них с увлечением. Повесть
понравилась Фьямметте и с милым движением обратившись к
рассказчику, которого она, очевидно, уже знала за поэта, она весело
сказала: «Как подумаем мы об этих влюбленных молодых людях,
о великой твердости их духа, и как, соединенные силой любви в
одном желании, они постоянно были верны друг другу, приходится
сознаться, что их память терпит великий урон, ибо ни один еще поэт
не возвеличил стихами их славу, как бы то следовало, и она
предоставлена баснословным россказням невежд. Вот почему, тщеславная
тем, что буду поводом к их прославлению, и тем, что ощутила
жалость к их судьбе, я хочу попросить тебя написать по-итальянски
небольшую книжку, в которой говорилось бы об их происхождении,
любви и приключениях, все до конца».
* Декамерон, конец VI дня.
** Введение к IX-му дню.
<Любовъ к Фьямметте>
157
Это была первая просьба Фьямметты, которой Боккаччо
дорожил, как залогом лучшего будущего, и обещал исполнить. Так
затеян был его первый роман, Филоколо, с содержанием
какой-нибудь византийской повести, отразившейся в французских поэмах
XII-XIII века; Боккаччо мог знать итальянскую народную поэму
на тот же сюжет, пересказ французской. Вкус к романическим
захожим из Франции сюжетам был распространен в итальянском
обществе и среди дам: флорентийская вдова, столь жестоко
осмеянная Боккаччо, зачитывается похождениями Ланцелота и Джи-
невры, Тристана и Изотты, Флорио и Бианчифьоре; в счастливые,
но не долгие дни любви Фьямметта охотно слушает и читает разные
истории, особенно любовные, и французские романы.
Чтение отвечало настроению: в психологическом этюде,
носящем имя Фьямметты, в котором Боккаччо, извращая факты,
представляет ее покинутой своим милым, она коротает время,
рассказывая что-либо своим девушкам, либо слушая сказки;
а когда этого нельзя устроить, припоминает разные горестные
случаи, которые сравнивает с своим положением, и как бы найдя
товарищей но несчастью, отводит душу. Повесть о чужом горе или
счастье помогала разобраться в своем собственном, обобщая его;
в этом смысле новеллы Декамерона и были написаны «на помощь
и развлечение любящих»: каждый рассказ вызывал житейскую
и психологическую оценку, личные интересы рассказчиков
сказывались в выборе того или другого сюжета. Сцена в монастыре
св. Михаила — первый листок Декамерона: когда в веселом кружке
беседовали о судьбах Флорио и Бьянчифьоре, Боккаччо и
Фьямметта могли бессознательно отождествлять себя с героем и героиней
романа, полюбившими друг друга с детства какою-то роковою
страстью, разлученными целым рядом препятствий и все же
кончившими гимном торжествующей любви.
Под этим впечатлением начат был Филоколо; Боккаччо кончил
его уже во Флоренции, после разрыва с Фьямметтой; оттого в нем
так много автобиографических эпизодов, веселых и грустных
воспоминаний, нередко перерастающих канву рассказа, более его
не интересовавшего: действительность нарушила его поэтические
грезы.
Пока он счастлив: ему сказали, что его любят*. «Теперь за тобой
стало собраться с духом и пойти за мною, припасшей тебе венок
из столь дорогих тебе листьев. Что же ты намерен делать? Приди,
* Filocolo II, стр. 248.
158
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
говорит мне красавица, которою увлек меня Амур; а я стою
недвижим: таково мое малодушие»*. Робость-ли это влюбленного
или недоверчивость, внушенная ему высоким положением его
дамы, только он победил то и другое, и начинает ухаживать.
Фьямметта становится его музой: «Когда-то я взывал в своих
нуждах к музам Парнасса, но с тех пор, как я влюбился в тебя,
мадонна, любовь заставила меня изменить старому обычаю... Ты
моя радость и утешение, ты мне Юпитер и Аполлон, моя муза;
я это знаю по опыту»**. Он хочет испытать над нею силу
«украшенного слова», воспевая ее красоту***, и она расточает похвалы
его стихотворениям. Измышленное имя Фьямметта позволяло
сказать многое; Боккаччо знает, что известное положение
обязывает к осторожности и тайне, и сам называет себя то Памфилом****,
то Калеоне*****. Он выработал себе язык знаков и иносказаний и
объясняется в любви без слов; иногда, воспламененный любовью, он
рассказывает, в присутствии близких к Фьямметте людей, о ней
и о Памфило, будто бы о греках, о том, как они увлеклись друг
другом и что за тем последовало, обставляя новеллу
соответствующими именами лиц и местностей. Фьямметта смеялась, порой
ее разбирал и страх, как бы, увлекшись, Памфило не сказал что
лишнее; но он был хитрее, чем ей казалось, и сама она научилась
у него языку знаков и в выдумках превзошла любого поэта,
отвечая рассказами на иносказания милого6*.
Откуда ее имя? Видеть ли в нем позднейшее измышление автора
«Фьдмметты», или оно в самом деле подсказалось ему уже в ранних
отношениях любви? В Ш-й и V-й эклогах Боккаччо один из
собеседников носит имя Памфило, что объясняется: totus amor, всецело
любящий; Боккаччо мог вычитать его из анонимной поэмы XII века,
De Amore или De arte amandi3, одном из популярных в Средние века
подражаний Овидию. Действующие в нем лица Памфил и Галатея;
их имена греческие — а Боккаччо рассказывает о себе и Фьямметте,
как о греках; Памфил поэмы — бедный юноша, горящий любовью
к богатой и родовитой Галатее; это те же отношения, что и у
Боккаччо, и у него та же робость, что у героя поэмы:
* Сонет XXVII.
** Filostrato, I, 1-2. Сл. посвящение, стр. 5.
*** Filocolo, II, стр. 248, 261.
**** Фьямметта, Декамерон.
***** Амето, Филоколо.
6* Fiammetta, с. I, стр. 80-81.
<Любовь к Фъямметте>
159
Dicitur et fateor me nobilioribus ortam,
Huic ideo metuo dicere velle meum.
Fertur, et est verum, quod me sit ditior ilia,
Et decas et dotes copia saepe rogat,
Nee mihi sunt dotes decas ingens copia grandis,
Sed quod habere queo, quero labore me4.
Он молит о помощи Венеру; она ободряет его действовать (76 labor
improbus omnia vincit5; 87 rebu et in multis ars adjuvat officiumque6):
пусть не пугается отказа, он явится непременно (76 Quodque
precando petis prius aspera forte negabit7), но за ним скрывается
желание (112 Sed quod habere cupit hes magis ipsa negat8); сладкие речи
возбуждают и питают любовь (107 Excitât et nutrit facundia dulcis
amorem9), — как и Боккаччо пытает силу «украшенного слова»,
copiosa sermonis facundia, как выразился бы капеллан Андрей10.
Помощь Венеры ограничивается, впрочем, одним советом, действие
разрешается с появлением услужливой старухи известного типа,
прошедшего из элегии Овидия* и восточных повестей в
средневековые фаблио, в Roman de la Rose, поэму de Vetula11 и новеллу
Декамерона**. Она-то и устраивает любовь Памфила и Галатеи, которая
увлечена и страшится, стыдлива и разумна — и горит желанием
Боккаччо упоминает Памфила, очевидно указанную поэму,
в Любовном Видении***, наряду с Пандаром (Фиванским), а в
послании к Якову Пиццинги считает его в числе итальянских
поэтов, поддерживавших в средние века заглохшее пламя
поэзии. Именно ситуация поэмы могла дать ему идею перевести
ее отношения на свои собственные: та же противоположность
социального положения, и та же смесь страстности и
выдержки в Фьямметте — Галатее. О Фьямметте он, очевидно, не мог
говорить, как о греческом имени; он, может быть, и называл ее
Галатеей, рассказывая о любви двух греков. Не она ли является
в его ХИ-й эклоге:
Me Galatea diu, me quondam Phyllis amavit12,
bXVI-й:
lusit Galatea potentem
Viribus?13
* Am. I, 8.
** Дек. V, 10.
*** Cap. V, str. 11.
160 А. Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Не она ли разумеется и в его ответном послании к Чекко да Миле-
то? Положим предел нашим песням, говорит он ему, они не способны
к великому, но нам знаком Пафос и пламя Венеры и жестокие
стрелы Амура, ибо шаловливая Галатея, улыбаясь, дарит меня своими
вздохами — и не тушит грозного пламени:
Nam placido Galatea mihi enspiria vultu
Lasciviens près tat, nee diros opprimit ignes.
Имя Галатеи* не удержалось, предпочтение отдано было Фьям-
метте, может быть, подсказанной Овидием**. Байский берег видел
ее нередко вместе с Памфилом участниками одного из тех веселых
обществ, которые изобразил нам Боккаччо.
Его лирика отражает все развитие его страсти, с ее надеждами
и упоениями, порывами плотской ревности и полетами в области
любви, отвлеченной до значения небесной добродетели. Фьям-
метта — красавица, ее прелестей не описать, говорит поэт***, но он
пытается изобразить в другом сонете**** тип знакомый нам из
Декамерона и Амето, подчеркивая в первой строфе смех Фьямметты; он
его особенно очаровал: когда она смеется, небо кажется отверстым
и улыбается весь мир*****. Природа соединила в ней, как в своей
сокровищнице, и золотые кудри, и смеющиеся глаза, блестящие
и нежные, изящные движения и степенные нравы, сдержанную
шутливость и честное простодушие речи. Если я страстно вздыхаю
по ней, да не порицают меня те, кто не ведает, что наградой моих
страданий — надежда6*. Он любит представлять себе Фьямметту
на берегу моря, в обществе дам7*; либо она сидит под тенью
деревьев, плетя из своих золотистых волос сети, куда попадут все,
поглядевшие на нее, как попал и он, слишком понадеявшись на себя,
увлеченный неведомой силой8*. Чаще всего она катается в лодке
и поет: это воспоминание байских прогулок9*; ее голос чарующий:
* Сл. Галатею = Лауру Х1-й эклоги Петрарки.
** Am. II, 16, 11: at meus ignis abest14.
*** Сонет XVIII.
**** Сон. III.
***** Coh.LXXXIX.
6* Coh.LXI.
7* Сон. XXXI.
8* Сон. XXXVIII.
9* Сон. XXXII.
<Любовь к Фьямметте>
161
дельфины следуют за нею, как за песнью Ариона*, но ни голос
того, кто усыпил Аргоса, ни песни Ариона и сирен не сравняются
с тою, которую пела она, убирая свои волосы цветами и зеленью;
она-то и зажгла в моем сердце искорку, прибавляет поэт, рифмуя
angioletta и f iammetta**. Его любовь чиста, поднимает его
нравственно: она возжигает в нем лишь побуждение к добру***, он ничего иного
не желает, как доставить столь прелестному созданию удовольствие
в пределах честности****; пусть Фьямметта подарит его одним лишь
вздохом: он утолит сжигающее его пламя*****. В ее лице ему видится
красота небес, она-то и поднимает его на крыльях добродетели6*,
потому что любовь воспитывает благородный дух в радушии и
смирении и как от врага бежит от всего низкого7*.
Так уже в ранней лирике Боккаччо намечен мотив
одухотворяющей любви, к которому он так часто возвращается впоследствии.
Очевидно, для него это не одна лишь мода, не лирическая формула,
а вместе и требование самосознания, желание помирить опросы
темперамента и идеализации. Вопрос платонизирующей любви
поставлен уже в одной небольшой поэме его первой неаполитанской
поры, в Дианиной охоте. Фьямметта не названа, но едва ли не она
разумеется под bella donna, donna piacente, gentile15; недаром у нее
на руке царственный орел.
Поэт мечтает о том, как бы ему защититься от любви, и слышит
голос дантовского spirto gentil16, призывающий к Диане всех ее
партенопейских поклонниц. Они являются, с своими именами,
принадлежащими к родовитым неаполитанским семьям; подобные
перечни красавиц были не новость в провансальской и итальянской
поэзии; последняя не названа, потому что ее имя достойно большей
хвалы, чем на какую способен поэт; она, bella (IV п.), избранница
Амура, руководит другими, и ей поручен один из четырех отрядов,
на которые Диана делит своих охотниц; у ней на руке ловчий орел.
Начинается охота врассыпную, падают звери, между ними
носорог и слон, пантера и страус. После охоты Диана ожидает, что вся
эта добыча будет принесена в жертву Юпитеру и ей; но красавица
* Сон. LUI.
** Сон. XU.
*** Сон. LXII.
**** Сон. LXXXIV.
***** Сон. LXXXV.
6* Сон. L.
7* Сон. CIV.
162
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
(Donna piacente XVI п.) протестует: «Не хотим мы более пребывать
под твоей властью, ибо горим другим пламенем». Пока гневная
Диана удаляется на небо, красавица (donna gentile, XVII п.)
предлагает всем обратиться к «святой Венере, матери Амура», и
принести ей в жертву добытых на охоте зверей, дабы ее сила в них
умножилась, их мысли очистились от всякие скверны, сердце
стало щедрым и приветливым; пусть покажет на них свою силу
и исполнит их желание, сделав их доступными любви. На светлом
облаке показывается обнаженная богиня и говорит, что их просьба
будет исполнена; что-то шепнула на огонь, где лежали жертвенные
животные, и они ожили в человеческом образе, в виде красивых,
веселых юношей; они окунулись в реку и очутились в дорогих
одеждах красного цвета. Повинуйтесь этим красавицам, говорит
Венера, любите их, и ваши труды увенчаются победой, и над вами
смилуются. Богиня вознеслась на небо, а поэту кажется, что и сам
он был принесен ей в жертву в виде оленя и также преобразился,
как другие, и предоставлен в служение красавице (XVIII п.). Вот
что она сделала со мною, чистая и непорочная, сошедшая с неба,
дабы просветить людские очи, мудрая, с рассудительной речью,
величественным видом, с веселой, легкой поступью. Отдавшись ей,
я превратился из зверя в разумное существо; она гонит печаль,
делает милостивым всякого, на нее смотрящего: когда гляжу я на нее,
от меня бежит гордость и нерадение, любостяжание и гнев. Пусть
все, служащие тому же властелину, что и я, помолят его, чтобы
я дольше пробыл в ее любви и мог достойно почтить ее. Более
не говорю, ибо намерен воздать ей большие похвалы, от которых
еще жду себе — счастья.
С этими мотивами мы встретимся в эпизодах Филоколо, в типах
Амето в Чимоне, в идее Любовного Видения. В пору своей молодой
страсти к Фьямметте, Боккаччо, очевидно, сам верил в
выспренность своих желаний и увлекался до восторгов к неземной красоте
небес, но он не спокоен: в сущности, он надеется на что-то другое,
и надежда смешана у него со страхом, что всякое счастье
недолговечно*; он один горит, когда природа под снегом; молит подать ему
воды, и не вымолит у Амура ни капли**. Он жалуется на свои глаза,
открывшиеся на красоту, от которой он погиб***, на Амура и свою
милую, и чувствует, как она тайно отвечает в его сердце: «Моя
* Сон. XX.
** Сон. LXXVII.
*** Сон. LXIII.
<Любовъ к Фьямметте>
163
честь мне дороже твоего горя! » * Почему Амур не поразил и ее, как
поразил его?** Почему не убьет его?*** Он жаждет смерти****, хотел бы
бежать, но Амур останавливает его: «Напрасно! Одно слово, улыбка,
ласковый взгляд заставит тебя вернуться, и ты будешь более связан,
чем прежде****** ; оплачь свою свободу, говорит себе поэт, и тотчас же
прибавляет, что нет лучше свободы, как быть подвластным столь
чудной красоте6*. А она не хочет над ним сжалиться, гнушается им,
бежит, лишь только его завидит, точно ревнуя к себе, боится всякого,
кто на нее посмотрит, как бы ее не отняли у нее самой7*; то подает
надежду, то пугает отказом8*. Ее прелестные глазки, которые влекут
его, как птицы влекутся ночью на свет, кажутся ему коварными9*,
она как бы торжествует в сознании своей силы, когда видит его
бледным, убитым, изменившимся, и вот он хочет, с согласия Амура,
изменить лад своих песен: он будет хулить, что неразумно хвалил:
может быть, так он дождется конца своих страданий10*, доживет
до поры, когда ее золотистые волосы посеребреют, лицо покроется
морщинами, голос станет хриплым — и его печаль обратится в смех,
и он скажет: «Мадонна, Амур вас более не любит и вам остается
оплакать свою неподатливость»11*.
Но вот в его лирике слышится новая нота: если моя дама не
шутит надо мною, моя надежда вскоре будет увенчана, говорит он
себе; при встрече со мною она бледнеет, то широко уставит на меня
глаза, полные желания, то закроет их; она вздыхает, точно
подавленная чувством, просит у меня мира. Я ли перестану пылать
к ней, видя, что ей это по сердцу12*. Ему кажется, что и она
переживает то же, что и он13*. Настает пора сближения, интимных бесед
Памфила с Фьямметтой, опасений, как бы не дознался муж14*,
* Сон. LXX.
** Coh.LXXXIX.
*** Coh.LVII.
**** Coh.LXXV.
***** Сон. LXXII.
б* Сон. XXII.
7* Сон. XLIV, XLVI, LII: мадригал I.
8* Coh.CVII.
9* Сон. XIV.
10* Сон. XIII.
и* Сон. LXXXII; ел.: XXXVII.
12* Сон. LXVI.
13* Сон. XXIII.
14* Сон. LIV.
164
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
как бы не оговорили их злые языки. Нечто подобное случилось,
если канцоны IV, V и VI относятся к Фьямметте, за что говорят,
по-видимому, указания на разницу общественных положений. Поэт
пишет своей даме, потому что не может с нею видеться; кто тому
виною: его ли неразумное желание, направленное к женщине,
стоящей выше его, — или враждебная судьба? Это она настроила
против него грубых, неотесанных людей, завистников, распустивших
ложные слухи и подозрения, ни на чем не основанные — и вот он
принужден теперь избегать мест, куда влечет его любовь, избегать
не по малодушию, а по благоразумию, чтобы соблюсти честь милой
и чтоб их обоих не охулили. Эти грубые люди — служители дамы;
они позволили себе оскорбить поэта словом и делом; он не может
забыть обиды, но просит даму не наказывать тех людей, а ласково
внушить им, чтоб они более не забывались и своими лживыми
наговорами не пятнали ее чистого имени. Судьба может разделить
нас телесно, говорит он, наших душ никогда не разъединить; если
моя просьба что-либо значит, забудь, что против тебя говорили
и делали. Пятая канцона спешит следом за своей «сестрой»: та
не произвела впечатления и не вызвала ответа; милая не убедилась;
уж не упрекает-л и она его в малодушии? Шестая канцона
возвращается к этому упреку, устраняя его; снова говорится об оскорблении,
нанесенном поэту; пострадал не один он: оказывается, что некая
дама, носившая его имя (Джьованна?), служила ему отводом глаз
и что под ее прикрытием он являлся, где мог видеть свою милую,
не обращая на себя внимания. Ее-то оскорбили из-за него, теперь
он погиб, ему не на кого более положиться. Извини же меня,
обращается поэт к своей милой, если я покажусь тебе, быть может,
слишком осторожным: все эти невзгоды возбудила ты, любовь,
которую ты во мне вселила; от тебя я жду помощи, от твоих
прекрасных глаз, от звука ангельских речей.
Боккаччо прибегал, стало быть, к тому же средству, которое
освятил провансальский любовный обиход и дантовская donna
dell'ischermo*17: за фиктивными, более безопасными
отношениями он старался скрыть настоящую любовь. В юности я был твоим,
говорится в одном мадригале**, и если показывал, что увлекался
другой, то для того лишь, чтобы о нас с тобой не говорили.
Ко всему этому присоединились и муки ревности.
* Vita Nova § V, след.
г* Если только он принадлежит Боккаччо, а не ser Durante da San Miniato.
<Любовь к Фъямметте>
165
Каждой весною Байи отнимают у него его милую*, и ему кажется,
что зефир навевает ему ее образ, и она говорит: «Посмотри, какую
радость я тебе принесла!» Он хочет схватить ее, но она уносится
с ветром**. Он сам поехал бы в Байи, но она запретила ему***, может
быть, чтобы не возбудить внимания: о них уже пошли слухи. И он
разражается страшными нападками против Бай: все его там
страшит, и небо, и море, и земля, и то, что делается в домах и вне дома;
там только о том и думают, чтоб веселиться среди музыки и пения,
подманивая пустыми речами неопытные умы, беседуя о победах
Амура; Венера там всесильна, и часто бывает, что Лукреция,
отправившись туда, возвращается назад Клеопатрой. Он это знает
и опасается, как бы подобного рода мысли не проникли и в сердце
его дамы****. Когда в былое время при нем рассуждали в кружках,
что предпочтительнее для влюбленного: видеть ли свою милую,
или беседовать о ней, или наконец мечтать о ней, Боккаччо стоял
за последнее; он жестоко разубедился в этом, когда Фьямметте
пришлось уехать в Аквино (Самний), куда он не мог последовать
за нею ни под каким благовидным предлогом, если не желал
принести ее честное имя в жертву своему счастью. Он чувствует себя
одиноким, точно опустел с отъездом Фьямметты и город, и как
Данту***** по смерти Беатриче, так и ему подсказываются слова
Иеремии: Quomodo sedet sola civitasl18 Он хотел бы утаить свое горе,
чтобы не выдать себя, но это выше его сил, и он решается отвести
душу, воспев в лице другого влюбленного собственные страдания.
Он будет петь о любви Троила к Гризеиде и об его гореваньи, когда
она удалилась от него, как удалилась Фьямметта. Троил — это он,
сраженный любовью: так произвольно толкует Боккаччо греческое
слово Филострато, которым назвал свою поэму; Троил был счастлив
с Гризеидой, но Боккаччо связан своим источником и остерегает
нас от отождествлений: если он говорит о блаженстве Троила,
то не с тем, чтобы уверить других, будто и ему улыбнулась судьба,
а дабы изображением счастья лучше оттенить последовавшее
горе. Троил был счастлив обладанием Гризеиды, он — лицезрением
своей дамы, которого теперь лишен; пусть же вернется она скорее,
* Сон. XXXIV.
** Сон. XV.
*** Сон. XXXIII.
**** Coh.LXIX.
***** VitaNuova§29;ex. §31.
166
А Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
и да возжет в ее сердце Амур то чувство, в котором поэт видит свое
единственное блаженство.
Так говорит Боккаччо в письме, которым посвятил Фьямметте
свою первую законченную поэму, Филострато — потому что Фило-
коло, хотя и начатый ранее, в весеннюю пору любви, дописан был
позднее, под совершенно иными впечатлениями, когда все было
кончено и рефлексия вступила в права чувства. Он сочинялся
медленно, Филострато вылился зараз в минуты аффекта, от которого
Боккаччо пытался освободиться, художественно изобразив его вне
себя. Это изображение дает нам меру его таланта; Филострато
заставляет предчувствовать Декамерон: это уже новелла, хотя еще
в формах рыцарского романа; тот же реализм, тот же
психологический анализ, с его тонкостями и недочетами, то же отношение
к источникам.
^^
€*^
Н.Б.ТОМАШЕВСКИЙ
<Предисловие
к «Малым произведениям» Боккаччо>
Побуждая Гоголя взяться за «Мертвые души», Пушкин
ссылался на пример Сервантеса, которому именно «Дон Кихот»
доставил всемирную славу. В самом деле, есть даже великие писатели,
остающиеся в читательской памяти как авторы «главной» своей
книги. А все, что предшествует этой книге, рассматривается как
подготовка к ней.
К таким авторам «главной» книги, несомненно, относится
и Джованни Боккаччо, шестисотлетие со дня смерти которого
исполняется в 1975 году. Сказанное не означает, понятно, что все
прочее им написанное малоценно или не имеет самостоятельного
значения. Дело не в «лучше» или «хуже». Просто под главной
книгой подразумевается та, в которой с наибольшей полнотой
выразились авторские утверждения о жизни и с наибольшей
силой обнаружилась природа художнического дарования писателя.
Таким сводом мыслей, умонастроений и писательского поиска
Боккаччо явился «Декамерон», «человеческая комедия» раннего
итальянского Возрождения, возвестившая миру, наряду с «Кан-
цоньере» Петрарки, и рождение новой эпохи, в центре которой
стала самоценная человеческая личность, и новые пути в искусстве
художественного слова.
И все же так называемые малые произведения Боккаччо не только
знамениты в истории литературы, но и представляют живой
интерес для современного широкого читателя. В своей совокупности
они дают яркое изображение жизни, помыслов и общественного
самочувствия людей той эпохи, которая, по словам Энгельса,
положила начало «величайшему прогрессивному перевороту из всех
168
H. Б. ТОМАШЕВСКИЙ
пережитых до того времени человечеством» и которая была призвана
разбить «рамки старого orbis terrarum1»*.
Творческая жизнь Боккаччо распадается на три четко
прослеживаемых периода: юношеский (неаполитанский), примерно
с середины 20-х годов XIV столетия и до 1340 года; первый
флорентийский период (1340-1355), открывается он «Амето» и
завершается «Декамероном», «Вороном» и «Жизнью Данте», второй
флорентийский период (1355-1375), когда Боккаччо посвящает себя
преимущественно ученым занятиям, связанным с античностью,
пишет ученые сочинения на латинском языке и к концу жизни
принимает поручение флорентийской коммуны публично
комментировать дантовскую поэму.
Нечего и говорить, что с художественной точки зрения
наибольший интерес представляет первый флорентийский период.
Он-то и представлен в настоящей книге.
О Боккаччо существует огромная литература. И тем не менее
в биографии его еще очень много белых пятен. Длительное время
она восстанавливалась преимущественно из собственных
произведений Боккаччо, многие из которых с излишней доверчивостью
толковались в автобиографическом ключе. Отсюда ряд
недоразумений, освященных солидной традицией. Нет, например, никаких
серьезных оснований полагать, что Джованни Боккаччо родился
в Париже от случайной связи его отца Боккаччино ди Келлино
с знатной француженкой, да еще чуть ли не королевского
происхождения. Можно считать доказанным, что Джованни родился
во Флоренции (или в Чертальдо) в 1313 году — точная дата не
выяснена — и был внебрачным ребенком. У отца было имение в
Чертальдо, но, будучи купцом, он жил преимущественно во
Флоренции, тогдашнем торговом и денежном центре Италии. Начальное
образование Джованни получил дома, и состояло оно, как тогда
было принято, из азов грамматики и риторики. Джованни было
около четырнадцати лет, когда отец решил отправить его в
Неаполь попрактиковаться в торгово-финансовых делах в
неаполитанском отделении известного в те времена флорентийского банка
Барди, одним из совладельцев которого стал купец Боккаччино.
В Неаполе, бывшем тогда одним из главных культурных центров
полуострова, юный Джованни должен был пополнить и свое
образование: заниматься каноническим правом. Собственные признания
* Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 20. М.. 1961, с. 346.
<Предисловие к «Малым произведениям» Боккаччо>
169
и вся дальнейшая судьба Боккаччо свидетельствуют о том, что он
не имел особой охоты совершенствоваться ни в том, ни в другом.
Благодаря протекции богатого флорентийца Никколо Аччайуоли,
обосновавшегося в Неаполе, Джовании был введен в круг молодых
придворных просвещенного монарха и мецената Роберта
Анжуйского. Талантливый и впечатлительный юноша куда больше
преуспел в свободных искусствах и гуманистических знаниях, чем
в юриспруденции и банковских операциях. Он быстро усвоил тот
обязательный минимум образованности, который полагался
светскому молодому человеку и начинающему литератору: открытая
к тому времени античность (преимущественно латинская), поэзия
трубадуров, французские фаблио, поэты «сладостного нового стиля»,
Данте. Он жадно впитывает в себя все, что может дать тогдашнее
просвещенное неаполитанское общество. Проблемы политические
и социальные не волнуют его или волнуют в столь незначительной
степени, что это не нашло никакого отражения в его юношеских
произведениях. Это период накопления и освоения литературной
культуры классического прошлого и высших достижений
настоящего. Даже в Данте, который с юных лет становится его кумиром,
Боккаччо увлекает поначалу скорее внешняя, формальная сторона,
а не гражданская его страстность. В вихре изящной светской жизни
неаполитанского двора, поразившей его контрастом по сравнению
с суровым деловым укладом флорентийского отчего дома, Боккаччо,
несмотря на цепкую свою наблюдательность, еще никак не
различает тех перемен, которые происходят в бурлящих итальянских
больших и малых государствах и, в частности, в самом Неаполе.
А ведь сам он, в сущности, присутствует на «пире во время чумы».
Это он поймет позже, когда, вернувшись во Флоренцию, снова
посетит Неаполь. Пока он радуется жизни и эта радость
захлестывает его, захлестывает и его творчество, несмотря на все любовные
страдания, которые он претерпел в Неаполе и которые он с таким
блеском опоэтизировал.
К 1336 году относится его знаменитая встреча с Марией д'Аквино,
светской красавицей, которой легенда, поддержанная и самим
Боккаччо, пожелала приписать королевское происхождение. Встреча
произошла в страстную субботу, в церкви Сан-Лоренцо. Произошла
она через десять лет после знаменитой встречи Петрарки с Лаурой
в церкви Санта-Клара в Авиньоне и имела для литературы во многом
схожие последствия. На долгое время Мария д'Аквино стала под
именем Фьямметты главной музой Боккаччо. Сейчас трудно, а порой
и невозможно отделить реальную Марию д'Аквино от литературной
170
Я. Б. ТОМАШЕВСКИЙ
Фьямметты, отделить женщину от поэтической фикции,
чувственную любовь от идеи любви. Вероятно, надо согласиться с тем, что
в творчестве Боккаччо сказалось и то, и другое. Однако помнить
о литературном обаянии дантовской Беатриче и петрарковской
Лауры следует. А потому довольно рискованно выдавать, как это
иногда делалось, поэтические фантазии за почти документальную
автобиографическую прозу или лирическую исповедь.
Роман с Марией д'Аквино не был долговечным. Разрыв и
сопряженные с ним переживания послужили не только материалом
для ряда очень живых сценок, исполненных боли и неподдельного
человеческого страдания, но и поводом для серьезных
размышлений о любви истинной и кажущейся, чувстве и долге, послужили
поводом для углубленного психологического анализа и самоанализа.
Все это очень пригодилось Боккаччо при написании «Фьямметты».
В 1340 году, по требованию отца, Боккаччо возвращается во
Флоренцию. Материальные дела семьи пошатнулись. Обанкротился
банк Барди. Флорентийская действительность оказалась куда
более суровой и в то же время более интересной по интенсивности
политической и духовной жизни, чем внешне безоблачное
существование в Неаполе. Для Боккаччо начинается самый плодотворный
в творческом и гражданском смысле период жизни. Он реализует то,
что было начато или задумано еще в Неаполе, — «Амето» и «Фьям-
метту». Создает «Фьезоланских нимф», работает над
«Декамероном». Кроме того, он выполняет ряд дипломатических поручений
флорентийской коммуны, что дает ему некоторый материальный
достаток, необходимый для спокойной литературной работы. Одним
из центральных событий в этот период явилось для Боккаччо личное
знакомство с Петраркой, перешедшее в сердечную дружбу, которая
прервалась только со смертью Петрарки в 1374 году.
Первым произведением флорентийского периода является, как
уже было сказано, повесть «Амето», начатая в Неаполе. Повесть
сложная, во многом для литературы новая, хотя и достаточно еще
эклектичная. Написана она частично прозой, частично стихами.
Литературная ее зависимость от различных источников несомненна.
Так, общий замысел восходит к Вергилию и Овидию, из «Циклопа»
которого Боккаччо заимствовал мотив перерождения дикого,
необузданного человека в изящного кавалера (у Овидия —
преображение Циклопа под воздействием любви к нереиде Галатее). Влияние
Данте заметно и в некоторых частных эпизодах (поздние дантовские
эклоги на латинском языке), и в выборе строфической формы для
вставных стихотворных кусков («Божественная комедия»). Понятно
<Предисловие к «Малым произведениям» Боккаччо>
171
при этом, что античный мотив получил под пером Боккаччо спири-
туализированно-аллегорическое звучание вполне в духе тогдашнего
католического миросозерцания.
Грубый пастух и охотник Амето живет где-то в междуречье Арно
и Мупьоне. Однажды ему повстречалась стайка резвящихся на лоне
природы нимф. В одну из них, Лию, Амето влюбляется с первого
взгляда. В день празднования культа Венеры (понимаемой здесь как
любовь в христианском смысле) Амето с семью нимфами и тремя
пастухами собираются под цветущим деревом у прозрачного ручья.
Нимфы, олицетворяющие семь основных добродетелей
соответственно тем богиням, которым они служат (Паллада — Мудрость,
Помона — Умеренность, Веста — Надежда и т. д.), поочередно
рассказывают свои самые заветные любовные истории. Когда
рассказчицы смолкают, Лия, олицетворяющая надежду, окунает Амето
в очищающий источник, и в него вселяются все семь добродетелей:
Любовь, Вера, Надежда, Мудрость, Справедливость, Умеренность,
Мужество. В апофеозе Амето является ослепительная Венера. Так
Амето из грубого животного превращается в Человека.
Пасторальный сюжет имеет тут прозрачно-аллегорический
смысл: семь нимф — три богословских и четыре основных
добродетели, сам Амето — символ человечности, сперва неотесанной
и грубой, потом смягчаемой под действием любви, освященной
добродетелями; преображенный Амето обретает способность лицезреть
единого и триединого в своей тайной сущности бога.
Главная пружина аллегории — любовь, начало человечности
и очищения — свойство поэтической культуры времени,
восходящее к трубадурской доктрине о возвышающей силе любви. Следует,
впрочем, заметить, что присуще оно было не столько чувству
Боккаччо, сколько его интеллекту. К тому же аллегория лишь один
из элементов «Амето», и отнюдь не самый существенный. В
художественную систему этой пасторали, которая, наряду со следующей
пасторалью Боккаччо, «Фьезоланскими нимфами», в значительной
мере определила собой дальнейшее развитие пасторального жанра
в западноевропейской литературе, входят и другие элементы, в
частности лирический и реалистический. Достаточно сказать, что все
семь нимф и их возлюбленные отвечают исторически
распознаваемым прототипам. Среди них — Фьямметта, с очевидными чертами
Марии д'Аквино, да и сам Боккаччо.
Стало быть, «Амето» — повесть с «ключом». И хотя порой ключ
этот для нас весьма загадочен, но для земляков — современников
Боккаччо — он вряд ли представлял особую загадку. Правда и то,
172
Я. Б. ТОМАШЕВСКИЙ
что автобиографический (или лирический, как сказали бы теперь)
элемент носит тут менее непосредственный характер, чем,
например, в «Филострато» и других сочинениях неаполитанского периода.
В « Амето» больше порой лукавой светской хроники, чем исповеди.
Мало того, в повести, особенно в рассказах нимф, содержится
повествовательный ряд, который лишь с большими натяжками
может быть согласован с общей аллегорической картиной.
Напомним, что прелестные нимфы рассказывают некоторые историйки,
не всегда соответствующие дидактическому заданию повести.
Их вполне заземленный реализм часто колеблет
морально-богословское назидание, лежащее в основе идейно-художественного
замысла. И в этом, и в отдельных описаниях места действия
(Этрурия, Тоскана) сказывается будущий Боккаччо, тонкий
наблюдатель и умелый рассказчик. Конечно, проглядывает он пока
больше в частностях, чем в общем. Дело в том, что врожденные
инстинктивные данные Боккаччо-художника зачастую
подавляются или, во всяком случае, приглушаются наперед заданными
литературными построениями, приглушаются чрезмерной тягой
к отделке языка и стиха под выбранную априорно норму. В
«Амето» очень заметно усилие Боккаччо искусственно построить
итальянский повествовательный язык, моделировать его по
образцу схем латинского периода, с его ритмическими каденциями
и параллелизмами. Боккаччо злоупотребляет неуклюжими и
утомительными латинизмами.
Разумеется, подобный опыт литературного благоустройства
народного языка (volgare) имел немалое значение для дальнейшего
развития боккаччевской прозы, но до поры до времени попытка
эта не реализуется еще в органичном сплаве языка и стиля
Боккаччо. Искусственность опыта особенно сказывается в описательных
кусках, где появляется нарочитость, почти манерность, в которой
тонут энергично и сильно написанные частности.
Но, так или иначе, «Амето» знаменует собой важный шаг на пути
от аллегорий предвозрожденческого типа к реализму
«Декамерона» . Недаром еще в XVI веке «Амето, или Комедию флорентийских
нимф» назвали «маленьким "Декамероном"».
На пути к «большому "Декамерону"» Боккаччо создает еще
несколько произведений. Среди них «Элегию мадонны Фьямметты»,
чаще именуемую просто «Фьямметтой» (1343?) и поэму «Фьезолан-
ские нимфы», сочиненную между 1343 и 1346 годами.
Построение, отдельные мотивы, да и отдельные картины и сценки
во «Фьямметте» имеют точно установленные параллели в античной
<Предисловие к «Малым произведениям» Боккаччо>
173
римской литературе. Зависимость плана этого первого в европейской
литературе психологического романа от «Героид» Овидия давно
выяснена. Исследователи текста «Фьямметты» со всей
скрупулезностью обнаружили и реминисценции из «Печальных песен»
Овидия, и сходство кормилицы Фьямметты с кормилицей сенеков-
ской Федры, и множество других литературных совпадений.
Впрочем, во времена Боккаччо, когда следование образцам и усвоение
художественных достижений античности являлось сознательной
установкой первых гуманистов, создателей новой ренессансной
культуры, это было вполне естественным и закономерным.
Важно то, каким содержанием были нагружены воспринятые
от прошлого схемы, в какую новую художественную систему
включался этот литературный багаж.
Как и в более ранних произведениях, материал романа также
имеет автобиографический привкус. Во многих деталях жалобная
история Фьямметты, покинутой Панфило, напоминает любовные
перипетии Боккаччо и Марии д'Аквино. И нет нужды в том, что
история эта предстает в романе в «перевернутом» виде. В романе
изменяет не Фьямметта, а изменяет Панфило, повергая свою
возлюбленную в безысходное горе. Некоторые критики полагали,
что Боккаччо «перевернул» исходную ситуацию, чтобы отомстить
Марии д'Аквино. Предположение довольно нелепое. Совершенно
справедливо профессор А. А. Смирнов замечал по этому поводу: «Это
невозможно уже потому, что весь рассказ имеет своей целью вызвать
в читателе сочувствие именно к Фьямметте, а не к ее коварному
возлюбленному. Скорее можно здесь видеть стремление до конца
развеять былые чары, отрешиться от острого субъективизма
переживаний, чтобы получить возможность подойти шире к добытому
личным опытом и с большей художественной свободой осветить
объективно-человеческую сторону изображаемого конфликта чувств.
Это позволило Боккаччо дать глубокий анализ сердечных
переживаний покинутой женщины, который развернулся в замечательный,
первый в европейской литературе психологический роман»*.
Ревность, терзавшая Фьямметту, была хорошо знакома
самому Боккаччо. Он сам изведал ее. И интересно, как тонко сумел он
переадресовать эти мужские свои терзания женщине, которая сама
не имела повода для ревности.
В романе Фьямметта — самая верная из влюбленных женщин.
Панфило, вызванный отцом во Флоренцию, оставляет возлюбленную
Боккаччо Дж. Фьямметта. Фьезоланские нимфы. М., 1968, с. 278.
174
H. Б. ТОМАШЕВСКИЙ
полумертвой от горя. Она ждет его возвращения с покорнейшей
верой.
И вот однажды, совершенно случайно, она узнает от заезжего
флорентийского купца, что Панфило женился. Но Фьямметта еще
не теряет надежды. Она хочет верить, что женился он по
принуждению отца, но продолжает любить только ее. Известие оказывается
ложным. Женился не Панфило, а его отец. Панфило же влюбился
в одну из флорентийских красавиц.
Фьямметта, будучи не в силах перенести измену, ищет смерти.
По счастью, старая кормилица обнаруживает намерение своей
воспитанницы и вовремя предотвращает ее попытку броситься с башни.
От безысходного горя Фьямметта тяжело заболевает.
Мужу сообщают, что отчаяние жены вызвано смертью любимого
юного брата. Тут, кстати, следует отметить совершенно
поразительную психологическую тонкость, с которой Боккаччо изобразил
предупредительно-внимательное отношение Фьямметты к обманутому
мужу, перед которым она чувствует себя виновной.
Единственным утешением для Фьямметты остаются рассказы
о своем горе. На какой-то момент появляется проблеск надежды:
кормилица сообщает, что встретила на набережной флорентийского
юношу, прибывшего морем, который будто бы знает Панфило и
знает, что тот должен вот-вот вернуться в Неаполь. Надежда воскрешает
Фьямметту, по радость напрасна. Вскоре выясняется, что сведение
ложное. Кормилица ошиблась. Юноша, прибывший из
Флоренции, оказывается не Панфило. Он даже его не знает. Фьямметта
пытается сыскать утешение в сопоставлении своих любовных мук
с муками знаменитых ревнивиц древности и находит, что ее муки
стократ горше.
Конечно же, «Фьямметта» — не иносказательная
автобиография. Ее там нет, как нет ее, впрочем, и в предшествующих вещах
Боккаччо. Можно говорить лишь о нанесении лирического начала,
собственного жизненного опыта, живых размышлений и наблюдений
на внешне не новую повествовательную канву; книга построена как
исповедь обманутой любви.
Во «Фьямметте», как и в «Филострато», Боккаччо порой
касается сокровенно лирических и даже очень интимных переживаний.
Но если «Филострато» писался по живому следу, когда ревнивые
подозрения вовсю мучили Боккаччо и потому во многих октавах
этой поэмы отчетливо слышно душевное смятение, почти
бессвязное стенание, то во «Фьямметте» личные авторские переживания
лишь только подсобный материал, обработанный рукой уверенной
<Предисловие к «Малым произведениям» Боккаччо> 11Ъ
pi точной. Они переведены из жизненного в литературный факт.
Боккаччо с равным вниманием выписывает как главную героиню,
так и персонажей второстепенных. Роман свободен от элементов
дидактических и аллегорических, что замутняло некоторые из
предшествующих его опытов (например, «Амето» и одновременно с этой
повестью написанную аллегорическую поэму в терцинах «Любовное
видение»).
Позднейшая критика и, в частности, такие проницательные
итальянские критики, как де Санктис и Кардуччи, не без скепсиса
относившиеся к «Фьямметте», между прочим укоряли
Боккаччо за утомительную эрудицию. Их коробило то, что Фьямметта
при всех своих страданиях и переживаниях не упускает случая —
для пущего убеждения «всех влюбленных дам», своих
слушательниц, — припомнить все, что в подобных случаях испытывали
знаменитые страдалицы древности. Но стоит ли тому удивляться,
если и через двести и триста лет после Боккаччо к образам и
примерам античности обращались персонажи даже самые низкие, вроде
слуг из итальянских и испанских комедий XVI и XVII веков? Если
вспомнить читательский круг Боккаччо, то в такой литературной
условности не покажется ничего странного. Вряд ли справедливо
подменять понятие о естественности и реализме времен Боккаччо
нашими современными понятиями. Гоголевский Манилов назвал
своих сыновей Фемистоклюсом и Алкидом, и все увидели в этом
точную характеристику Манилова. Почему же побочная дочь
неаполитанского короля, воспитанная при куртуазнейшем дворе,
не могла даже в минуту душевного смятения взывать к Дидоне или
Федре? Вольтер и энциклопедисты зло высмеивали понятия чести,
принятые в испанской драме Золотого века. С точки зрения морали
французского общества XVIII века эти понятия представлялись
сплошным варварством. Однако именно на этих понятиях основаны
и кальдероновские «Саламейский алькальд», и «Врач своей чести»,
которые потрясают нас до сих пор.
Во времена Боккаччо эрудиция не была простым литературным
щегольством, она была прежде всего целостным выражением
господствующего в определенной исторической среде умонастроения
и художественного вкуса.
Конечно, с точки зрения современного нашего восприятия, трудно
согласовать бьющую фонтаном эрудицию с красочными
реалистическими описаниями Неаполя, окрестных мест, моря, оказавшимися
непревзойденными даже в «Декамероне», или с той поразительной
точностью психологического наблюдения, совсем не книжного,
176
Я. Б. ТОМАШЕВСКИЙ
которое является самой живой особенностью романа. В этом смысле
одним из самых ярких эпизодов является попытка Фьямметты
покончить с собой. Эти пронзительные страницы обработаны с
удивительным искусством и душевной зоркостью. Они настолько близки
позднейшим открытиям и литературе, настолько современны, что,
заражаясь ими, мы начинаем предъявлять и к другим страницам
требования анахроничные, а порой и решительно абсурдные. А ведь,
читая старинные памятники, куда как важно отрешиться от
литературных мерок сегодняшнего дня и попытаться мысленно
перенестись в эпоху, их породившую. Иначе мы всегда рискуем не понять
реального содержания и художественного обаяния прочитанного.
Точное время написания «Фьезоланских нимф» неизвестно.
Верно одно: написана поэма на пороге того счастливого в жизни
и творчестве Боккаччо периода, когда обозначались первые, еще
приблизительные контуры главного его произведения, «Декамерона».
Хотя и сама поэма с полным основанием может рассматриваться
как маленький шедевр.
В фабульной основе этой поэмы в октавах лежит красочная
легенда о происхождении Фьезоле и Флоренции. Она является
как бы эпической «подкладкой» поэмы. В центре же поэтического
повествования находится трогательная любовная история пастуха
и охотника Африко и нимфы Мензолы. Юноша добивается любви
прелестной нимфы, но в дальнейшем она раскаивается в своем
падении и, боясь гнева богини Дианы, бежит от возлюбленного.
Отчаявшийся ее найти Африко кончает с собой возле ручья,
принимающего его имя. Мензола рожает сына. Преследуемая богиней,
она бежит, но разгневанная богиня ее настигает и превращает Мен-
зол у в ручей. Предметом «Фьезоланских нимф» является, таким
образом, то же, что вдохновляло лучшие страницы юношеского
Боккаччо: исследование сокровенного человеческого чувства. Но тут,
как и во «Фьямметте», гораздо в меньшей степени примешиваются
посторонние задачи. Нет ни аллегорий, ни дидактики. А
мифологический сюжет прозрачно-условен. Поэма написана легко, с тем
счастливым лирическим вдохновением, которое до той поры
утяжелялось либо порывами страстей слишком личного характера, либо
всплесками нарочитой учености.
Для «Фьезоланских нимф» характерны расширение
поэтического горизонта, более раскованная фантазия и творческая
изобретательность. Да и сам стиль поэмы становится более простым,
гибким и музыкальным. В поэме множество картин совершенно
реалистических и народных.
<Предисловие к «Малым произведениям» Боккаччо>
177
Чтобы объяснить, какой сдвиг произошел в творчестве
Боккаччо, показать его отход от спиритуализма и абстрактности его
предшественников и даже обожаемого им Петрарки, стоит сопоставить
октаву из «Фьезоланских нимф» (CCLXXIV) Боккаччо с сонетом
(LXI) Петрарки, написанным всего года за два-три до поэмы.
Первые два стиха боккаччевской октавы почти в точности
воспроизводят первые два стиха сонета Петрарки.
У Петрарки:
Benedetto sia'l giorno, e'l mese, et Гаппо,
et la stagione, e Г tempo, et Гога, еЧ punto...*
У Боккаччо:
Benedetto sia Гашю еЧ niese e'l giorno,
e Tora еЧ tempo, ed ancor la stagione...**
Совпадение, как видим, полное. Перестановка слов продиктована
исключительно нуждами рифмовки, системы которых в сонете и
октаве не совпадают. Перекличка двух поэтов не вызывает сомнений.
Посмотрим теперь содержание петрарковского сонета и октавы
Боккаччо.
Вот сонет Петрарки в переводе Вяч. Иванова:
Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край, и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз.
Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце бог, тайком разящий нас.
Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!
Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны, —
Дум золотых о ней, единой, сплав!
* Пусть будут благословенны день, месяц, год, и время года, и миг, и час,
и место...
** Пусть будут благословенны год, месяц, день, и час, и миг, и время года...
178
H. Б. ТОМАШЕВСКИЙ
У Петрарки в этом его знаменитейшем и одном из самых его, так
сказать, «реалистических» сонетов нет ничего телесного, ничего
конкретного. Лишь «прекрасные глаза». Самой Лауры нет. Есть
идея, возвышенная, чистая, почти отвлеченная. Есть, правда,
чувство самого поэта, но и то настолько спиритуализированное,
что и «жалобы», и «стоны», и «боль» перестают быть выражением
земных чувств и превращаются в «золотые думы», в идею любви,
в абстракцию. Ко всему этому примешивается еще и прославление
«певучих канцон», т. е. поэзии, которая сама по себе (в духе раннего
гуманизма) приравнивается к абсолютной идее. И по этому сонету
заметно, что в извечном для Петрарки споре между влечением сердца
и нравственным абсолютом побеждает последний.
У Боккаччо возлюбленная (неважно, что это Мензола!) совершенно
конкретна и телесна. И лексика у него самая бытовая. Здесь есть
«ладное тело», «прелестное личико», «небо», «легион богинь»*. А в
следующей строфе Боккаччо говорит еще и о «сноровке» и «простодушии»
Мензолы в любви. Словом, под пером Боккаччо аналогичный предмет
приобретает уже иную разработку и смысл. Любовь вполне земная,
носители ее — живые люди, менее всего похожие на литературные
фикции, не бестелесные аллегории или персонифицированные идеи.
В октавах, предшествующих цитированной, содержится такое живое
описание плотской любви, какое впору «Декамерону». Кстати, зачин
октавы CCXLV имеет прямую параллель в «Декамероне», а весь
эпизод падения Мензолы может быть сопоставлен не только с наиболее
откровенными сценами из «Декамерона», но и с новеллистикой и
поэзией чипквеченто, не исключая Пьетро Аретино. И, пожалуй, главное
не просто в откровенности сцен (подобное можно найти в литературе
позднего средневековья), а именно в общей тональности,
жизнелюбивой настроенности, проявлении естественного человеческого чувства.
Это уже гимн человеку, признание его самоценности.
Можно было бы привести и множество других сцен, эпизодов
в поэме уже совершенно заземленного бытового плана,
характеризующих домашнюю хлопотливость родителей Африко, материнское
чувство Мензолы и т. п.
Но особенного внимания заслуживает заключительная
картина поэмы (октавы CDXXXVI-CDLXIV), посвященная появлению
в Европе мифического Атланта и основанию им города Фьезоле.
По сути дела, Боккаччо дает краткую, хотя и легендарную историю
В стихотворном переводе лексика, впрочем, несколько «завышена» по
сравнению с оригиналом.
<Предисловие к «Малым произведениям» Боккаччо>
179
Флоренции, поет ей славу как городу свободному, живущему
простой, естественной жизнью по заветам отцов. Это прославление
той идеальной свободной каждодневно-трудовой жизни, которая
как нельзя точнее соответствует всему идейно-художественному
настрою стихотворной повести о любви Африко и Мензолы,
свободной от рыцарско-куртуазной условности, глубоко человечной,
основанной на признании личности. Заключительные строфы поэмы
в форме традиционного обращения к всесильному владыке Амуру
являются самым настоящим гимном такой любви, преображающей
жизнь и человека.
За «Фьезоланскиминимфами» последовал «Декамерон». После —
«Ворон, или Лабиринт любви», последнее по времени
художественное произведение Боккаччо, написанное в 1354-м либо в 1355 году.
Если, конечно, не считать некоторого количества стихотворных пьес
малых форм, преимущественно сонетов. Но они всегда были лишь
эпизодом в творческой биографии Боккаччо. В них, пожалуй, менее
всего выразилась его индивидуальность, его склонности и сильные
стороны. Они еще слишком традиционны. Впрочем, небольшое
количество сонетов, приводимых в томе, могли бы оказать честь
и поэту более сильному. Но даже в лучших сонетах живописные,
яркие строки соседствуют с образами и синтаксисом чисто
литературного происхождения, навеяны поэзией «нового сладостного
стиля». Повествователь в нем победил лирика.
«Ворон» — это сатира, направленная против некой вдовушки,
которая насмеялась над чувствами влюбленного в нее рассказчика.
Но это уже не назидательный рассказ о мести молодого студиозуса
полюбившейся ему вдовушке, которая не только отринула его
притязания, но и жестоко посмеялась над ним (см. седьмую новеллу
VIII дня «Декамерона»), а суровая инвектива против уловок и
притворства женщин вообще. Книга довольно горькая, подсказанная
внутренней неудовлетворенностью не только собственной жизнью
и поступками, но и своими писаниями (не исключая
«Декамерона», особенно тех его новелл, которые были сочинены во славу
женщин). Эта исповедальная горечь придала книге совершенно
особый привкус, далекий от спокойной и уравновешенной
атмосферы «Декамерона». Реализм Боккаччо поставлен тут на службу
смятенному вдохновению, остро полемичному и какому-то
отчаянному. Это получило отражение в пространных периодах
риторической декламации откровенно морализаторского толка. Лучшими
страницами, правда весьма ядовитыми, являются те, где Боккаччо
с присущей ему остротой глаза описывает проделки и ухищрения
180
Я. Б. ТОМАШЕВСКИЙ
обманувшей рассказчика вдовушки. Тут он достигает разительной
сатирической силы.
Но наибольшее значение книги, пожалуй, в том, что она, наряду
со знаменитым диалогом Петрарки с Августином Блаженным2,
писавшемся почти одновременно, выражает настроения оскорбленного
суетностью жизни гуманиста, разочарованного в действительности
и находящего в книгах и культе поэзии высший смысл и идеал жизни.
И хотя поле приложения сил при этом весьма ограничено, но зато такая
жизнь морально куда честнее. Признание суетности мира, суетности
страстей, призыв к сосредоточенной, уединенной жизни, посвященной
словесному искусству и философии, — вот смысл этой книги. Она
полагает резкую грань между двумя периодами в жизни и творчестве
Боккаччо: от поэтических фантазий и участия в жизненном пиру
к углубленным научным трудам и размышлениям в тиши. Новое
умонастроение было вызвано не одними личными переживаниями.
Это кризис целого поколения гуманистов, вызванный крахом многих
иллюзий, пришедших в столкновение с реальным ходом истории.
Тяжелые раздумья Боккаччо о жизни, времени и литературе
сказались в его книге о Данте.
Наряду с любовью к классической литературе древности, что
подтверждается его латинскими сочинениями, культом куда более
близким и личным был для Боккаччо Данте. Очевидными
свидетельствами этого интереса являются собственноручные копии «Новой
жизни» и «Божественной комедии», комментарии к первым
семнадцати песням «Ада» и трактат «Жизнь Данте» (дошедший до нас
в трех редакциях: одной, более пространной, созданной между 1357
и 1362 годами, и двух других, более кратких и, по всей вероятности,
более поздних. В настоящем томе печатается первая).
«Жизнь Данте» не есть в строгом смысле слова подробное
жизнеописание Данте: из биографических сведений он приводит лишь
те, которые помогают восстановить характер Данте, его величие как
поэта, его обширные научные и поэтические занятия, его
философскую доктрину. Это скорее «духовная биография» Данте. Данте был
для Боккаччо примерным образом поэта, и в этом смысле биография
приобретает характер панегирика поэзии вообще, характер
утверждения эстетических позиций самого Боккаччо (тут любопытно
сопоставить трактат о Данте с тем, что Боккаччо писал в XIV главе «De
Genealogiis»3), характер апологии обновленной культуры, которая,
как понимал великий чертальдец, способна воспринять в высшем
синтезе уроки классической литературы древности и новейшие
опыты на так называемом volgare. В творчестве Данте Боккаччо сумел
<Предисловие к «Малым произведениям» Боккаччо> 181
прозорливо разглядеть тягу к идеям нарождающегося гуманизма,
несомненную к ним близость. И вот это обстоятельство очень
импонировало его собственному идеалу культуры и поэзии, который он
исповедовал. Это объясняет, почему Боккаччо говорит о длительном
и упорном изучении Данте латинских писателей и о его намерении
«подражать им... создавая свое». Но это же объясняет и то, что
Боккаччо считает своим долгом пожурить Данте за его чрезмерную,
с точки зрения гуманиста Боккаччо, увлеченность злободневными
политическими распрями, чрезмерную партийную одержимость.
Боккаччо даже полагает, что именно последнее обстоятельство
побудило отчасти Данте писать свою «Божественную комедию»
на volgare. Как в энтузиазме перед гуманистическими мотивами
Данте, так и в некоторых своих колебаниях Боккаччо
предваряет — хотя и с большим простосердечием — те оценки дантовской
поэзии, которые давали ей писатели итальянского кватроченто
и чинквеченто. А как свидетельство о собственных настроениях
и о времени книга просто неоценима.
Шестьсот лет — срок достаточный для уяснения истинных
масштабов художника. Боккаччо по-прежнему жив для мировой
культуры, как живы его кумиры Данте и Петрарка.
^^
^5^
А. Д. МИХАЙЛОВ
К творческой истории «Фьямметты»
и «Фьезоланских нимф»
1
Боккаччо завершил «Элегию мадонны Фьямметты» — таково
полное название книги* — в 1343 г., сразу же следом за
«Любовным видением» и непосредственно перед созданием «Фьезоланских
нимф». Прошедшие с той поры шесть веков не сохранили нам ни
подготовительных набросков автора, ни беловой авторской рукописи
книги. Как известно, автографов Боккаччо сохранилось немного;
отметим, быть может, самый значительный из всех — рукопись
поэмы «Тезеида», датированную 1340-1350 гг.** Поэтому
применительно к «Фьямметте» речь должна идти лишь об источниках
книги и о ее бытовании — первоначально в рукописной, а затем
в печатной традиции.
Нет нужды подробно говорить об автобиографической основе
«Фьямметты» — об этом уже писали, в том числе и сравнительно
недавно***. Так как документальных материалов о жизни Боккаччо
сохранилось относительно мало, то обычно историю его жизни
конструируют по его же книгам. В этом смысле «Элегия мадонны
Фьямметты» дает особенно много: неаполитанский период жизни
писателя, его увлечение Марией д'Аквино — все это,
несомненно, отразилось в повести. Но вряд ли можно все воспринимать
буквально: мы не знаем, как развивались отношения Джован-
ни и Марии, так же не ясна и причина их разрыва, внезапного
* Просто «Фьямметтой» книга впервые названа в венецианском издании 1491 г.
** О ней ниже будет сказано особо.
*** См. D. Rastelli. Le fonti autobiografiche nella «Fiammetta». — «Humanitas»,
vol. III, 1948.
К творческой истории «Фьямметты» и «Фъезоланских нимф» 183
и окончательного*. Интересно здесь отметить другое: свои
переживания неожиданно покинутого возлюбленного Боккаччо
переадресовывает их виновнице, создав как бы обратную, перевернутую
ситуацию. Личная любовная драма позволила Боккаччо столь
правдиво передать переживания его героини, выходя за рамки
прямого подражания античным образцам, хотя этих подражаний
и немало в книге. Небезынтересно в этом отношении сопоставить
с повестью коротенькое посвящение Фьямметте другого
произведения писателя — его поэмы «Тезеида», созданной несколькими
годами ранее. И по теме, и по стилю, даже по ритму это
посвящение очень напоминает прозу «Фьямметты», особенно ее пролога
и заключительной главы. Но здесь уже сам Боккаччо упрекает,
жалуется, молит и надеется.
Образ Фьямметты проходит через все творчество Боккаччо — она
одна из героинь «Филоколо» и « Амето», едва ли не главная
рассказчица «Декамерона»**, основная, если не единственная,
вдохновительница его «Канцоньере»***. Но это не та доверчивая, неопытная
и непосредственная в своем чувстве возлюбленная, образ которой
так мастерски обрисован в «Элегии».
Марию д'Аквино Боккаччо никогда не забывал, но с созданием
«Элегии мадонны Фьямметты» для него она превращается в
литературный персонаж, что, между прочим, несомненно помогло поэту
залечить свою любовную рану. Известное замечание А. Н. Веселов-
ского («Фьямметта — литературное переживание психологического
* Правда, ряд ученых путем сопоставления повести и лирики Боккаччо уже
давно стремились установить «хронологию» их романа (см. сводку этих
материалов: А. Н. Веселовский. Собр. соч., т. V. Пг., 1915, стр. 643-658).
** В «Декамероне» она рассказывает следующие новеллы: 1, 5; 11, 5; III, 6; IV, 1;
V, 9; VI, 6; VII, 5; VIII, в; IX, 5; X, 6. Но анализ их содержания в
сопоставлении с содержанием и стилем новелл, вложенных в уста других рассказчиков,
ничего не дает ни для выяснения реальных отношений писателя с Марией
д'Аквино, ни для более полной характеристики героини повести. А вот ее
портрет из «Декамерона» (конец четвертого дня): «Вьющиеся, длинные и
золотистые волосы Фьямметты падали на белые, нежные плечи, кругленькое
личико сияло настоящим цветом белых лилий и алых роз, смешанных вместе;
глаза — как у ясного сокола, рот маленький, с губками, точно рубины».
*** Фьямметте — Марии посвящены, очевидно, очень многие стихотворения
из «Канцоньере», хотя названа она лишь в четырех сонетах и еще одной
пьесе. Но лирика автора «Декамерона» еще плохо изучена, здесь еще могут
быть выявлены ошибочные датировки и спорные атрибуции; нет еще
детального и аргументированного комментария к стихам (см. V. Branca. Note
sullo tradizione e il tes to délie «Rime» — в его кн.: «Tradizione délie opère di
Giovanni Boccaccio». Roma, 1958, p. 243-329.
184
А. Д. МИХАЙЛОВ
момента, который перестал тревожить сердце, но продолжает
занимать воображение»* правильно лишь отчасти, — в исповеди
Фьямметты еще очень много неподдельной боли самого Боккаччо.
Лишь позже — в «Нимфах» и «Декамероне» — эта боль стихает.
У книги Боккаччо немало литературных источников. Очень
заманчиво сопоставить «Элегию мадонны Фьямметты» с «Новой
жизнью» Данте, что и было в свое время сделано**, однако
сопоставление это мало что могло объяснить в генезисе боккаччиевой повести.
В. Крешини*** указал на более вероятный источник — на «Героиды»
Овидия. Эта вполне обоснованная точка зрения (которую затем
никто и не опровергал) подтверждается, между прочим, таким,
казалось бы, незначительным фактом: одна из сохранившихся
рукописей повести находится в том же кодексе Лауренцианы (cod.
Pluteo XLII, 8), который содержит прозаический итальянский
перевод овидиевых «Посланий». Кодекс этот помечен 1422 г. Нам
кажется, что это не случайно: в сознании современников и
ближайших потомков Боккаччо эти две книги — «Героиды» и «Фьяммет-
та» — воспринимались как родственные друг другу.
Тот же В. Крешини**** обратил внимание на близость диалогов
Фьямметты и кормилицы из повести Боккаччо и Федры и
кормилицы из «Федры» Сенеки. Эти наблюдения были затем значительно
углублены М. Серафини*****, нашедшим в тексте книги параллели
другим трагедиям современника Нерона.
Но литературные связи «Фьямметты» далеко выходят за
пределы подражаний творениям Овидия и Сенеки6*; в этой книге
писатель выступает во всеоружии своей классической образованности,
* А. Н. Веселовский. Собр. соч., т. V, стр. 438.
** R. Renier. La Vita nuova e la Fiammetta. Torino e Roma, 1879.
*** V. Crescini. Contribute agli studi sul Boccaccio. Torino, 1887, p. 156-160.
**** Там же, стр. 160-162. См. также: V. Crescini. II prima atto délia Fedra di Seneca
nel primo capitolo della Fiammetta del Boccaccio. Venezia, 1921.
t**** m. Serafini. Le tragédie di Seneca nella «Fiammetta» di Giovanni Boccaccio
«Giornale Storico delle Letteratura italiana», vol. CXXVI, 1949, p. 95-105.
G* К сожалению, нам не удалось познакомиться с наиболее свежей работой
по этому вопросу, принадлежащей перу уже упоминавшегося Д. Растелли,
как и с еще одним его исследованием, чрезвычайно важным для нашей
темы: D. Rastelli. Le fonti letterarie del Boccaccio nolFV «Elegia di Madonna
Fiammetta»«Saggi di Umanesimo cristiano», 1949; D. Rastelli. V'Elegia
di madonna Fiammetta. II mito mondano e la caratterizzazione psicologica
della protagonista, Pavia, Tip. del Libro, 1950. Нам была доступна
только следующая работа: D. Rastelli. Notizie storiche e bibliographiche sulla
composizione e snlla fortuna dell' «Elegia di madonna Fiammetta» e del «Ninfale
К творческой истории «Фьямметты» и «Фьезоланских нимф» 185
еще более подчеркнутой в авторских примечаниях к повести. Эти
примечания, опубликованные лишь в 1939 г. В. Перниконе*,
находятся на полях одного из самых ранних списков «Фьямметты»
(конец XIV в.). Принадлежность этих примечаний автору книги
является до сих пор предметом ожесточенного спора (авторство
Боккаччо решительно и упорно отвергает А. Э. Квальо**). Очевидно,
вопрос этот нельзя считать решенным окончательно. Но В.
Перниконе провел атрибуцию весьма убедительно: он сопоставил
примечания к «Фьямметте» с аналогичными примечаниями,
содержащимися в авторской рукописи поэмы «Тезеида»***. Ряд
из них совпадает почти дословно****, другие же, комментирующие
одних и тех же мифологических или исторических персонажей,
значительно отличаются друг от друга. Не совсем понятно,
почему комментатор (он же переписчик?) конца XIV столетия одни
примечания попросту списал из автографа «Тезеиды», другие же
составил сам; в то же время вполне ясно, зачем Боккаччо,
комментируя спустя несколько лет свое произведение, повторяет
свои примечания, кажущиеся ему наиболее удачными, другие же
перерабатывает, причем переработка эта чаще всего ведет к
сокращению примечания, к некоторому «высушиванию» его. Да,
напряженная, взволнованная, построенная на смене сложных
периодов проза «Фьямметты» отличается от примечаний к ней,
но, думается, именно таким и был замысел автора.
Рукописная история «Элегии мадонны Фьямметты» сложна
и запутанна. Первую попытку классификации многочисленных
списков повести Боккаччо сделал В. Перниконе при своем издании
книги*****. Следующую сводку сохранившихся рукописей дали почти
fiesolano». — «Annali délia Biblioteca Governativa e Libreria Civica di Cremona»
(1951), vol. IV, fasc. 2. Cremona, 1952.
* G. Boccaccio. L'Elegia di madonna Fiammetta. Con le chiose inédite. A cura di
V. Pernicone. Bari, 1939, p. 173-212. См. также: V. Pernicone. Sulle chiose
all'Elegia di madonna Fiammetta del Boccaccio. — «Leonardo», vol. XII, 1941.
** Α. Ε. Quaglio. Le choise all' «Elegia di Madonna Fiammetta». Padova, 1957.
*** Направление развития прозы Боккаччо в примечаниях «Тезеиды» хорошо
проанализировано А. Лиментани (A. Limentani. Tenderize délia prosa del
Boccaccio ai margini del «Teseida». — «Giornale Storico della Letteratura
italiana», vol. CXXXV. 1958, p. 524-551).
**** Указ. соч., стр. 249-253.
***** Указ. соч., стр. 233-242.
186
А. Д. МИХАЙЛОВ
одновременно В. Бранка* и А. Э. Квальо**. Последний, путем
сопоставления всех существующих списков по методу «общих ошибок»,
составил их генеалогическую схему. Она довольно сложна.
Положенный в ее основу механистический метод, справедливо оспоренный
в нашей науке***, привел к ряду несуразностей, когда, например,
более ранний список оказывается на более отдаленной ветви
схемы, чем список более поздний. На основании этого анализа Квальо
во многих местах оспорил текст Перниконе, но предложенные им
эмендации не приняты еще в новейших изданиях книги.
Обилие сохранившихся списков «Элегии»— а это говорит о ее
чрезвычайной популярности (лишь списков «Декамерона»
сохранилось больше), — серьезно запутало и осложнило печатную
традицию «Фьямметты».
Впервые книга была издана в 1472 г. в Падуе с латинским
титульным листом (lohannis Bochacii Viri eloquentissimi ad Flamettam
Panphyli amatricem libellus materno sermone aeditus) и с
латинскими же подзаголовками перед многочисленными параграфами, на
которые был разбит текст повести. В XV в. вышло еще четыре издания
книги, в том числе венецианское 1481 г. с интересным послесловием
некоего Иеронимо Скфарцафико, который попытался объяснить
замысел Боккаччо и рассказать о причинах и условиях написания
«Элегии». В 1497 г. книга была переведена на испанский язык
(в 1532 г. вышел французский перевод, а в 1587 г. — английский).
В XVI в. книга переиздается около 40 раз. Из всех этих
многочисленных перепечаток следует остановиться только на двух:
на флорентийском издании 1517 г. и венецианском — 1524 г. Первое
было напечатано Филиппо ди Джунта и открывалось посланием Бер-
нардо ди Джунта к Козимо Ручеллаи. Автор послания подчеркнул
прежде всего назидательный характер повести Боккаччо. Для него
«Фьямметта» — это пример того, как опасно предаваться любовной
страсти. Вместе с тем он отметил в книге хороший итальянский
язык, занимательный сюжет, вообще считал ее полезным и
приятным чтением.
* V. Branca. Tradizione délie opère di Giovanni Boccaccio. Roma, 1958, p. 30-36.
Дополнено в «Studi sul Boccaccio», vol. I. Firenze, 1963, p. 18.
** A. E. Quaglio. Per il testo della «Fiammetta». — «Studi di Filologia italiana»,
vol. XV. Firenze, 1957, p. 5-205 (см. особенно стр. 5-35). Это самый подробный
анализ сохранившихся списков книги.
*** См., например, Д. С. Лихачев. Кризис современной зарубежной
механистической текстологии — «Известия АН СССР», Отделение литературы и языка,
т. XX, 1961, стр. 274-286.
К творческой истории «Фьямметты» и *Фъезоланских нимф» 187
Издание Джунти не повторяло предыдущих, а было
подготовлено по рукописям, причем Филиппо и Бернардо ди Джунти весьма
тщательно готовили текст, сверяя несколько бывших в их руках
манускриптов. Это издание было несколько раз повторено в течение
века, но, к сожалению, не оно стало основным для двух
последующих столетий.
Наиболее популярным стало издание, осуществленное в 1524 г.
в Венеции местным издателем Гаэтано Тиццоне. Об этом
предприимчивом человеке с весьма своеобразными приемами публикации
текстов существует уже специальная литература*. Свое издание
«Фьямметты» мессер Тиццоне предварил восторженным
посвящением Доротее ди Гонзага, в котором он обещал «исправить
Фьямметту» и сокрушался, что это трудное и хлопотное дело. Он
указывал, что повесть побывала в руках многочисленных
переписчиков и издателей и все-таки осталась грубой и неотесанной.
Он же стремился сделать ее доступной «мужчинам и дамам,
каково бы ни было их общественное положение». Прежде всего
Тиццоне превратил девять глав «Элегии» в семь «книг»,
приблизительно одинаковых по объему. Положив в основу своего
издания «джунтину» 1517 г., а также, очевидно, воспользовавшись
какими-то рукописями и изданием конца XV в. (так называемое
«издание без даты»), Тиццоне «исправлял» текст, так как
попросту не везде разобрался в сложном синтаксисе Боккаччо.
Некоторые места повести ему показались довольно темными, и он
их переработал на свой вкус. Вообще, весь текст книги пестрит
всевозможными интерполяциями, поновлениями и
пропусками. Делалось все это, конечно, с добрыми намерениями, очень
тщательно и с большой затратой труда. Тиццоне был человеком
опытным и проницательным, и ему удалось верно подметить
несколько ошибок предыдущего издания и исправить их. Но в целом
издание его искажало текст Боккаччо в значительно большей
степени, чем флорентийское издание 1517 г.
* См. указ. соч. В. Перниконе (стр. 223-228), см. также: А. Е. Quaglio.
Per il testo délia «Fiammetta», p. 141-143; N. Vianello. Per il testo délie
«Stanze» del Poliziano: Vedizione del 1526. — «Lettere Italiane», vol. VII,
1955, p. 330-342; V. Pernicone. L'edizione tizzoniana délie «Stanze» del
Poliziano. — «Giornale Storico délia Letteratura italiana», vol. CXXXIII,
1956, p. 226-236; A. E. Quaglio. Prime correzioni al «Filocolo»: del testo di
Tizzone verso quello del Boccaccio. — «Studi sul Boccaccio», vol. I. Firenze,
1963, p. 27-252.
188
А. Д. МИХАЙЛОВ
Все многочисленные издания XVI в.* — и довольно редкие двух
последующих веков** — либо повторяли текст Тиццоне, либо конта-
минировали его с текстом Джунти. То же можно сказать и об
изданиях качала XIX в. Лишь в 1829 г. Игнацио Мутье в очередном томе
своего собрания сочинений Боккаччо (Opère volgari) вернул текст
повести к его первоначальному виду, обратившись к изучению ряда
списков «Элегии». В тексте Мутье было, однако, немало ошибок,
объяснявшихся как общим невысоким уровнем текстологической
науки того времени, так и недостаточно критическим отношением
к предыдущим изданиям. Тем не менее издание Мутье в течение
целого столетия оставалось наиболее достоверным по тексту
(популярное, не раз повторенное издание П. Фанфани 1859 г. возвращало
текст «Фьямметты» к контаминациям Джунти — Тиццоне).
В 1939 г. появилось уже не раз упоминавшееся издание В. Пер-
никоне, основанное на вдумчивом и тщательном сопоставлении
34 манускриптов, в нем впервые опубликованы авторские
примечания к повести. Текст Перниконе лег в основу большинства
последующих переизданий, в том числе и хорошо комментированного
издания 1952 г.*** Ф. Аджено, следующий издатель «Фьямметты»
(1954), в своем обстоятельном обзоре текущей «боккаччианы»****
указал на ряд просчетов Перниконе и предложил несколько новых
чтений. Наконец, в 1957 г. появилась обширная статья А. Э. Квальо,
о которой мы уже говорили выше. Квальо предложил более 250
поправок к тексту издания Перниконе, однако большинство его
рекомендаций не введено еще в научный, а главное, издательский
обиход. Издание Винченцо Перниконе остается той базой, на которой
основываются все новые перепечатки «Элегии».
На русском языке книга Боккаччо была издана лишь
однажды — в связи с отмечавшимся 600-летием со дня рождения писателя
в 1913 г. «Фьямметта» была напечатана известным петербургским
издателем М. Г. Корнфельдом в переводе поэта, прозаика и
драматурга Михаила Алексеевича Кузмина (1875-1936). Отметим лишь,
что перевод этот создан в пору особенно сильных стилизаторских
* Отметим среди них издание 1558 г., интересное своими примечаниями,
автором которых был Сансовино.
** В XVII в. было шесть изданий книги, в XVIII в. — только два.
*** q# Boccaccio. Decameron, Filocolo, Ameto, Fiammetta. A cura di E. Bianchi,
C. Salinari, N. Sapegno. Milano — Napoli, 1952.
**** «Giornale Storico della Letteralura italiana», vol. CXXXI, 1954, p. 227-248;
см. также: F. Ageno. Per il testo della «Fiammetta». — «Lettere Italiane», vol.
VI, 1954, p. 154-164.
К творческой истории «Фьямметты» и «Фьезоланских нимф» 189
увлечений Кузмина(«Куранты любви», 1911; «Осенние озера», 1912;
«Третья книга рассказов», 1913; «Плавающие — путешествующие»,
1915 и мн. др.); в дальнейшем (например, в своих переводах из Ме-
риме) Кузмин отказался от нарочитого стилизаторства и манерности.
Перевод Кузмина сделан, очевидно, по одному из популярных
итальянских изданий XIX в., весьма недостоверных по тексту.
При подготовке настоящей книги перевод был сверен с изданием
В. Перниконе и в него были внесены некоторые поправки: вставлено
несколько фраз и отдельных слов, отсутствовавших в итальянских
изданиях XIX века, одна фраза снята (это указано в
комментариях), упорядочено написание собственных имен, изменено деление
на абзацы, а также устранен ряд мелких неточностей.
2
Большинство исследователей сходятся на 1346 г. как на крайней
дате завершения работы над «Фьезоланскими нимфами». Поэма
была не только написана, но и задумана во Флоренции. На это
указывает как чисто «флорентийская» тематика произведения
Боккаччо, так и изменение отношения к Фьямметте — Марии:
намек на любовное увлечение поэта, содержащийся в первой октаве,
носит характер простой условности. В. Крешини считал, что поэма
написана позже всех юношеских вещей, непосредственно перед
«Декамероном»*. Как справедливо заметил А. Н. Веселовский,
«Фьезоланские нимфы» знаменуют «выход из периода страстности
к свободе художественного творчества»**. Определить время начала
работы над поэмой значительно труднее. Очевидно, следует указать
на 1343 г., как на наиболее вероятную дату возникновения замысла
и появления первых набросков «Фьезоланских нимф».
Не приходится удивляться, что не раз делались попытки отыскать
в поэме автобиографическую основу. Так, Э. Каррара*** высказал
предположение, что весь эпизод с обесчещенной нимфой — это
отражение личного любовного приключения Боккаччо: якобы
молодой поэт силой заставил нарушить обет девственности монахиню
одного из окрестных монастырей. Однако гипотеза эта не встретила
* V. Crescini. Contribute) agli studi sul Boccaccio. Torino, 1887, p. 248-249.
** A. H. Веселовский. Собр. соч., т. V, стр. XI.
*** Ε. Carrara. Un peccato del Boccaccio. — «Giornale Storico délia Letteratura
italiana», vol. XXXVI, 1900, p. 123-130.
190
А. Д. МИХАИЛОВ
поддержки в научном мире; ей решительно возражали (например,
А. Оветт*).
Литературные же источники изучены весьма детально. Первым
на обширные заимствования из Овидия указал Кёртинг**; глубокий
анализ поэмы и ее источников дал Б. Цумбини***, его значительно
дополнил Ф. Маджини****, обнаруживший и чисто итальянские
источники «Фьезоланских нимф». Боккаччо заимствовал у своих
предшественников не сюжет поэмы. Правда, иногда полагают, что
поэт пересказывает какую-то не дошедшую до нас античную или же
более позднюю средневековую легенду, но большинство
исследователей считает историю любви пастуха Африко и нимфы Мензолы
плодом вымысла самого Боккаччо. Отдельные же мотивы, сюжетные
ходы и образы найдены Боккаччо у древнеримских поэтов, прежде
всего у Овидия, усердным читателем которых Боккаччо стал уже
в молодые годы.
Из «Метаморфоз» и « Герои д» Боккаччо черпает очень широко.
Трагический исход любовной связи Африко с Мензолой
заставляет вспомнить рассказанную Овидием историю Пирама и Тисбы
(между прочим, в своем первоначальном виде — т. е. до обработки
его Овидием — миф этот был перенесением в область человеческих
отношений рассказа о двух протекающих рядом речках; Боккаччо
мог, конечно, об этом знать).
Сопоставления с Овидием можно продолжить. Африко
подглядывает за нимфами, как Актеон («Мет.», III, 155 ел.), Мензола
рождает сына Прунео подобно тому, как нимфа Каллисто рождает
от Зевса сына Аркада («Мет. », II, 409 ел.) и т. д. Мотив превращения
героя в речку или ручей, собственно, центральный мотив поэмы,
ибо вся она как бы служит рассказом о происхождении названий
ряда местных источников, повторяется у Овидия многократно:
достаточно вспомнить Киану («Мет.», V, 425 ел.), Аретусу («Мет.»,
V, 572 ел.), Библиду («Мет.», IX, 447 ел.), Эгерию(«Мет.», XV, 487
ел.), Ациса («Мет.», XIII, 747 ел.) и др.*****
* H. Hauvette. Воссасе. Р., 1914, р. 169.
** G. Koerting. Boccaccios Leben und Werke. Lipsia, 1880, S. 640-641.
'** B. Zumbini. II Ninfale fiesolano di G. Boccaccio. Firenze, 1896.
** F. Maggini. Ancora a proposito del Ninfale Fiesolano. — «Giornale Storico della
Letteraturaitaliana», vol. LXI, 1913, p. 32-40.
r** См. В. Я. Каплинский. К характеристике Ninfale Fiesolano Боккаччо. Саратов,
1927, стр. 7.
К творческой истории «Фьямметты» и «Фьезоланских нимф» 191
Что касается мотива переодевания юноши в женскую одежду,
чтобы овладеть возлюбленной, то он встречается в сборнике «О
любовных страданиях» древнегреческого поэта и грамматиста I в.
до н. э. Парфения, а также у Павсания (II в. н. э.) в его «Описании
Эллады» (кн. VIII, гл. 20), где рассказывается о том, как юноша
Левкипп переоделся девушкой, чтобы сблизиться с нимфой Дафной,
поклонницей Дианы. Правда, Боккаччо мог знать книги Парфения
и Павсания лишь в чьем-нибудь пересказе или переводе, но
другое произведение, разрабатывающее аналогичный мотив, он знал
хорошо. Это «Ахиллеида» Стация, в первой книге которой
рассказывается, как юный Ахилл, переодевшись женщиной, жил среди
дочерей царя острова Скирос Ликомеда (на этот источник Боккаччо
указал Ф. Маджини*). Эпизод наказания провинившейся нимфы
встречается в романе древнегреческого писателя II в. н. э. Ахилла
Татия Александрийского «Левкиппа и Клитофонт», но знакомство
с ним Боккаччо может быть взято под сомнение1.
У Стация же в его «Сильвах», а также в «Буколиках» Вергилия
Боккаччо нашел тот тонкий колорит деревни, то точное и поэтичное
изображение сельской жизни, которыми отмечена его поэма.
Значительно меньше заимствований из вергилиевой «Энеиды», из нее
Боккаччо взял лишь отдельные выражения и эпитеты.
Есть в книге и отзвуки чтения Данте. Весь конец поэмы,
излагающий полулегендарную историю Флоренции и Фьезоле, Боккаччо
заимствовал у своего земляка флорентийского хрониста Джованни
Виллани (1275-1348), у которого, как писал Ф. Маджини, «мы
находим то же, что рассказывается и во "Фьезоланских нимфах",
причем часто в тех же самых выражениях»**.
Уже первые исследователи творчества Боккаччо указывали
на близость «Фьезоланских нимф» к фольклору, на чисто народное
звучание октав поэмы. Д. Кардуччи писал по этому поводу: «Его
октава подобна девушке тосканской деревни, которая ведет
рассказ то обдуманно, то беззаботно, то свободно, то сдержанно; она
порой изящно обольщает нас, бросая своим слушателям остроты
и улыбки»***. Аналогично высказывался и А. Н. Веселовский****.
Однако эти утверждения, ставшие уже общим местом, до самого
последнего времени не шли дальше лишь чисто импрессионистиче-
* Указ. соч., стр. 36.
** Указ. соч., стр.40.
*** G. Carducci. Dante, Petrarca е il Boccaccio. Bologna, 1909, p. 780.
**** a. Η. Веселовский. Собр. соч., т. V, стр. 346.
192
А. Д. МИХАЙЛОВ
ских впечатлений. Недавняя превосходная работа Армандо Баль-
дуино* действительно доказала народность языка и стиля поэмы,
обнаружила заимствования из народных песен, подтвердила
освобождение Боккаччо от известной риторичности и искусственности,
свойственных его некоторым ранним произведениям.
В эпоху Возрождения «Фьезоланские нимфы» пользовались
очень большой популярностью**. Об этом свидетельствует изрядное
количество дошедших до нас списков поэмы (авторской рукописи
«Фьезоланских нимф» нет)***. Так, к XIV в. относятся две рукописи,
к XV в. — 40. XVI и следующие века почти не оставили нам новых
списков (правда, в библиотеке Ровиго хранится список XVIII в.,
явно сделанный по печатному тексту). Это объясняется, конечно,
распространением книгопечатания, но также и снижением
интереса к поэме Боккаччо. Последнее подтверждается и анализом
изданий «Фьезоланских нимф». Впервые поэма была напечатана
в 1477 г. в Венеции местными типографами Бруно Валлой и Том-
мазео из Александрии. Следом за этой публикацией до конца века
было выпущено — преимущественно во Флоренции и Венеции —
еще 10 изданий книги. На первую половину XVI в. приходится
лишь шесть изданий, а на вторую — уже только два (1563 и 1568)****.
В XVII в. «Фьезоланские нимфы» не издавались ни разу и лишь
раз — в XVIII в. (1778), да и то за пределами Италии (в Париже,
но с указанием на Лондон).
Все эти издания делались без какого-либо учета рукописной
традиции и без филологической критики текста. Не приходится
удивляться, что текст этих изданий изобилует ошибками и
произвольными поновлениями. Часто ошибки одного издания
переходили в следующее. Как правило, печатники-флорентийцы брали
за основу текст предыдущего флорентийского издания,
венецианцы — венецианского. Так сложились две издательские традиции,
впрочем принципиально друг от друга не отличающиеся. Первые
издатели поэмы произвольно делили ее текст на несколько «песен»
* A. Balduino. Tradizione canterina е tonalité popolareggianti nel «Ninfale Fieso-
lano» — «Studi sul Boccaccio», vol. II, 1964, p. 25-79.
** S. Debenedetti. Per la fortuna délia Teseida e del Ninfale Fiesolano. — «Giornale
Storico délia Letteratura italiana», vol. LX, 1912, p. 259-264.
*** Cm. V. Branca. Tradizione délie opère di Giovanni Boccaccio. Roma, 1958,
p. 52-55. Позднее В. Бранка дополнил свой обзор: V. Branca. Un nuovo elenco
di codici. — «Studi sul Boccaccio», vol. I. Firenze, 1963, p. 20.
'*** Интересно отметить, что в 1556 г. «Фьезоланские нимфы» были переведены
на французский язык Антуаном Герсен дю Кре (книга вышла в Лионе).
К творческой истории «Фьямметты» и «Фьезоланских нимф» 193
или «книг» (чаще всего на семь), как это сделал сам Боккаччо для
«Тезеиды» и «Филострато», двух других своих поэм, написанных
октавами. Однако это деление не подтверждается анализом
дошедших до нас рукописей.
Первым критическим изданием поэмы следует считать
публикацию ее в 1832 г. в очередном томе собрания итальянских
произведений Боккаччо (так называемое издание Мутье). Основанное
на изданиях XV в. и на ряде рукописей, оно служило основой для
всех перепечаток поэмы на протяжении XIX столетия. В начале
нашего века немецкий ученый Б. Визе сначала выступил с
программной статьей о тексте поэмы*, а затем осуществил и
критическое издание «Фьезоланских нимф»**, избрав в качестве основного
источника рукопись XV в. Флорентийской Национальной
библиотеки (Palatino, 359) и приведя варианты еще по 9 из 36 доступных
ему рукописей. Альдо Массера в рецензии на это издание*** указал
на просчеты Б. Визе, главным образом касающиеся орфографии,
пунктуации и метрики. Сам А. Массера, не претендуя на
установление канонического текста, в своем издании книги Боккаччо****
перепечатал текст Б. Визе, внеся в него необходимые исправления.
Винченцо Перниконе, следующий издатель «Фьезоланских
нимф»*****, критически пересмотрев издания Визе и Массеры,
поставил перед собой задачу установить дефинитивный текст поэмы. Он
считал, что даже обнаружение новых списков не сможет отменить
его текстологических решений6*.
Наличие большого числа сохранившихся рукописей ставит перед
текстологами немалые трудности. Прежде всего встает задача
классификации этих рукописей и выяснения их генеалогии. Помимо
палеографических данных (т. е. бумаги, чернил, почерка и т. п.),
для этого используется широко распространенный на Западе
критерий «общих ошибок». Так, Б. Визе в основу своей классификации
* В. Wiese. Zu einer kritischen Ausgabe des «Ninfale Fiesolano» Boccaccios —
«Miscellanea in onore di A. Hortis». Trieste, 1910, S. 347-362.
** В. Wiese. Das «Ninfale fiesolano» Giovanni Boccaccios. Kritischer Text.
Heidelberg, 1913.
*** «Giornale Storico della Letteratura italiana», vol. LXV, 1915, p. 396-398.
**** g, Boccaccio. II Ninfale Fiesolano. Introdurione e note di A. F. Massera. Torino,
1926.
***** G. Boccaccio. II Filostrato e il Ninfale Fiesolano. A cura di V. Pernicone. Bari,
1937.
6* Указ. соч., стр. 379. См. рецензию Дж. Контини на это издание: «Giornale
Storico della Letteratura italiana», vol. CXII, 1938, p. 100-101.
194
А. Д. МИХАЙЛОВ
положил отсутствие строфы 264 и обратную последовательность
строф 331 и 332. В. Перниконе классифицировал рукописи по
варианту стиха 5 строфы XI и по наличию в тексте поэмы перед
некоторыми строфами прозаических подзаголовков. Эти
подзаголовки встречаются во многих рукописях (в том числе и таких
авторитетных, как манускрипты Флорентийской Национальной
библиотеки — Magliabechiano 11, II, 66 — и библиотеки Риккардиа-
ны — Riccardiano 1083), в тех же случаях, когда этих подзаголовков
нет, их места обозначены пробелами, т. е. изготовлявшие ту или
иную рукопись писцы знали о их существовании. Так как точно
такие же подзаголовки есть в «Филострато» и — главное — в
авторской рукописи «Тезеиды», у В. Перниконе не вызывала сомнений
принадлежность этих подзаголовков перу Боккаччо.
Все последующие издания «Фьезоланских нимф» повторяют
текст Перниконе (иногда Массеры, мало чем от него
отличающийся), внося в него лишь незначительные исправления. Так поступил
и Пьер Джорджо Риччи в своем прекрасно комментированном
издании поэмы Боккаччо*.
На русский язык «Фьезоланские нимфы» переведены
известным поэтом и переводчиком Юрием Никандровичем Верховским
(1878-1956). Первое издание перевода вышло в 1934 г. с
предисловием А. К. Дживелегова (изд. «Academia»). Затем перевод был
дважды переиздан (в 1948 и 1955 гг.) в книге Ю. Верховского
«Поэты Возрождения».
^^
* G. Boccaccio. Opère in versi. Corbaccio... A cura di Pier Giorgio Ricci. Milano —
Napoli, 1965.
^э-
А. К. ДЖИВЕЛЕГОВ
Пастораль Боккаччо
ι
Боккаччо покинул Неаполь и вернулся во Флоренцию в 1340
или 1341 году. Ему не было и тридцати лет. Позади остались
пышная культура просвещенного феодального двора, кружок Роберта
Анжуйского, короля-ученого, ценившего литературу,
грешившего писаниями, обожавшего выступать с проповедями в церквах;
остались воспоминания о бурных ласках Марии Аквино, сладкие
и мучительные; роман с королевской дочерью, наполнивший юношу
безумным счастьем, оборвался скоро, и теперь, вдали от нее, ему
казалось, что в мире никогда не существовало никакой радости.
Флоренция, деловая, трезвая, не любившая показного
великолепия, гордая своей свободой, показалась Боккаччо скучной
и однообразной. Он тосковал по горячему солнцу и синему небу
Неаполя, по ласковой волне Тирренского моря1 в Байях, тосковал
по придворным праздникам, по светским развлечениям, по
обществу веселых и пылких южных красавиц. Фьямметта-Мария, одетая
в зеленое, любимый ее цвет, улыбалась ему издалека, как лучезарное
видение, и он не находил себе места в родном отцовском городе. Он
долго не знал, как ему отнестись к буржуазному укладу и
республиканским порядкам Флоренции. При монархическом дворе
Роберта Анжуйского ему жилось привольно. Там его ценили. Он был
поэт, начинающий, но уже признанный. «Филострато» — поэма,
написанная октавами, и большой венок сонетов сделали ему имя.
Во Флоренции он на первых порах не находил ни определенного
круга, ни сколько-нибудь внимательного к себе отношения. И ему
не очень нравились в ней и люди, и режим. В «Амето», который
написан в 1341 году, он пробует признать республику, но очень
196
А. К.ДЖИВЕЛЕГОВ
неуверенно: «Флоренция могущественнее, чем когда-нибудь. Ее
границы простерлись далеко; подчиняя народному закону
непостоянную кичливость грандов и соседние города, она пребывает
в славе, готовая и на более великое, если страстная зависть, жажда
любостяжания и невыносимая гордыня, в ней властвующие, ей в том
не помешают, как того позволено опасаться». А в «Фьямметте»,
написанной в 1348 году, он заставляет героиню говорить своему
возлюбленному, собирающемуся ехать во Флоренцию: «Сам ты
говоришь, что твой город... изобилует гордецами, любостяжателями
и завистниками, полон бесчисленных забот; все это тебе не по сердцу.
А покинуть ты хочешь Неаполь, веселый и мирный, благодатный
и роскошный, к тому же обретающийся под властью одного короля!
Все это тебе приятно, насколько я знаю».
Между робкой похвалой «народному закону», ограниченной
очень энергичным «если», и восхвалением режима, подчиняющегося
«одному королю», едва ли есть большая разница. Боккаччо не
примирился еще с республикой. Его все еще манили воспоминания
о «мирном и веселом» Неаполе. А холодное отношение к Флоренции
поддерживалось у него, по-видимому, еще другим. Он стал сильнее
увлекаться Данте, и Дантовы проклятия Флоренции при таких
колеблющихся политических настроениях не могли не заражать
его своим огнем. Первые десять лет пребывания на берегах Арно
прошли в этих шатаниях чувств. Дел настоящих у поэта не было.
Отец был еще жив и работал. Чем же был занят Джованни? Что он
делал? Он творил.
II
За эти годы написаны почти все вещи Боккаччо, кроме
«Декамерона», «Корбаччо» и латинских трактатов. Из Неаполя кроме
мелких стихотворений он привез только «Филострато». Одна эта
поэма была там закончена. Но замысел многих других созрел тоже
там. Некоторые, как «Филоколо», были там даже начаты. Какое
место среди этих вещей занимает «Ninfale Fiesolano»?*
До «Фьезоланских нимф» были написаны: «Филоколо», «Аме-
то», «Любовное видение» и «Тезеида». После — «Фьямметта»
Ninfale — труднопередаваемое слово. Это очень искусственное производное
от ninfa — нимфа. Если бы нужно было во что бы то ни стало перевести
заглавие поэмы на русский язык буквально, следовало бы сказать: «Фьезоланское
нимфование» или «Фьезоланскийнимфовник».
Пастораль Боккаччо
197
и «Декамерон», т. е. наиболее зрелые произведения. Создавалась
эта чудесная трагическая идиллия в 1345 или 1346 году.
«Ninfale Fiesolano» — не первая пастораль Боккаччо. Пасторалью
был и « Амето». Но в « Амето» пастораль вся пропитана аллегорией,
которая сушит ее и отнимает краски. В «Нимфах» ничто не мешает
свободе поэтического вымысла. Сюжет развертывается вольно и,
что бы ни говорили строгие критики, концовка с Атлантом не только
ничему не мешает, а очень естественно завершает рассказ именно
так, как хотел того Боккаччо.
Конечно, чтение Овидия, величайшего мастера таких сюжетов,
оказало влияние на Боккаччо. Конечно, Боккаччо обильно черпал
из Кастальского источника2. Миф, поэтизирующий седую древность
холмов и речек, окружающих Флоренцию, мог быть создан только
поэтом, напитавшимся классическими образами и сумевшим сделать
их органической частью собственного творчества. Боккаччо не был
еще настоящим гуманистом, но античную поэзию понимал и — что
существеннее — чувствовал. И хорошо, что он не был еще
настоящим гуманистом. У гуманиста «Ninfale» был бы полон, вероятно,
большей учености, но едва ли вылился бы с такой очаровательной
непосредственностью.
«Нимфы» — вершина поэтического творчества Боккаччо. Ни в
одной из своих предыдущих вещей он не поднимался на такие высоты
именно как поэт. А позднее он не писал больше ничего крупного
итальянскими стихами. Слово, стих, строфа соперничают здесь
отделкой и подлинной красотою. Октава, не достигшая еще зрелости
в «Филострато», не такая мелодичная в «Тезеиде», здесь получает
художественную законченность, разнообразие и свободный ритм.
После Боккаччевых «Нимф» станет легко ее дальнейшее
совершенствование у Полициано, Ариосто, Тассо. Прециозность, неизбежный
спутник придворных вкусов, портивший неаполитанские сонеты
и отдельные части не только «Филострато», но и «Амето» и даже
«Тезеиды», здесь исчезла. Ее заменила свободная, художественно
претворенная простота. В итальянской литературе мало вещей,
которые так приятно и легко читать, как «Ninfale Fiesolano».
Но в поэме есть нечто, что идет уже от другого источника, не
Кастальского. При всей своей прозрачной античной простоте она очень
реалистична. В ней то и дело мелькает народная флорентийская
речь. В ней есть сцены, которые чудесно изображают быт, например
сцена Африко со своими стариками после встречи с Мензолой или
сцена передачи Синидеккьей ребенка Африко его родителям. И вся
любовная история — такая ненадуманная, такая живая и подлинная
198
А К.ДЖИВЕЛЕГОВ
история полнокровной сельской идиллии, что боги и нимфы кажутся
живыми людьми: Венера — светской дамой, много развлекавшейся
и понимающей любовное горение юных душ*, Диана —
какой-нибудь строгой нравами владелицей замка на одном из тосканских
холмов, Атлант — пришедшим во Флоренцию подестою с
широкими человечными взглядами и с обдуманной мудрой программой
реформ. А пастухи и нимфы — деревенские юноши и девушки,
по-человечески чувствующие, радующиеся, страдающие.
Каким образом сочетались в поэме эти разнородные черты?
III
Боккаччо мог сколько угодно скучать по Неаполю и по
неаполитанскому двору. Воздух Флоренции делал свое дело. Пять или шесть
лет, проведенных в ее новой каменной ограде, да еще в такие бурные
времена, не прошли даром для чуткого и впечатлительного поэта.
За эти годы промелькнула эфемерная тирания герцога Афинского,
восстание дворян против городского строя, тут же подавленное,
банкротство банков Барди и Перуцци, разорившее всех их вкладчиков,
и многие другие более мелкие этапы социальной борьбы.
Если Боккаччо и не был вовлечен в эти кризисы лично, то
наблюдал их, много думал и впитывал в себя впечатления.
Жизнь была отнюдь не такая «мирная» и не такая «веселая», как
в Неаполе. Наоборот, она была тревожная и опасная. И, быть может,
как раз это и заставляло Боккаччо вздыхать по власти «одного
короля» , который держит всех в узде и которого нельзя выгнать из города
сравнительно просто, как какого-нибудь герцога Афинского. Но зато
насколько эта жизнь была богаче впечатлениями! Насколько она
была содержательнее! Какой полной грудью дышали здесь люди,
и сколько было в них достоинства! Как они любили свой город и его
свободу! Как умели за эту свободу постоять! В Неаполе не было такой
буржуазии. Там были подданные, а не граждане.
Боккаччо едва ли осмыслил для себя все эти впечатления в
виде определенного политического миросозерцания, не похожего
на тот сентиментальный монархизм, который он вывез из Неаполя.
* Да и появляется она так, что нарушает самое вольное представление о
мифологических сюжетах: с Амуром на руках. Словно Боккаччо, конечно
прекрасно понимавший несоответствие такого образа мифологическому канону,
нарочно хотел отойти от античных видений и приблизить образ к реальной
тосканской сельской жизни.
Пастораль Боккаччо
199
Если бы это было так, иначе написалась бы приведенная выше
тирада из «Фьямметты». Но эти впечатления действовали несомненно.
И действовали через самый чувствительный аппарат его сознания:
через его поэтическое восприятие. Он отбросил все рыцарские
реминисценции, которыми были полны не только «Филострато»,
но еще и совсем недавняя «Тезеида». Он покончил со стилизацией
средневековых мотивов. Он отдавался свободному творчеству,
воспламененному античными влияниями и пропитанному здоровым
чувством действительности. Реализм «Ninfale» — начало
капитуляции неаполитанского придворного поэта перед духом свободной
буржуазной гражданственности Флоренции.
И Атлант появляется в конце поэмы недаром. Его появление —
тоже признак, что поэт сживается с Флоренцией. Ведь миф об
Атланте, который пришел в Европу, чтобы насадить в ней цивилизацию,
был куском поэтических преданий, озарявших утро флорентийской
истории. «Согласно гаданиям и советам Аполлона, своего астролога
и учителя», Атлант остановился на окружающих будущую
Флоренцию холмах, как на «самом здоровом и лучше всего расположенном»
месте во всей Европе, «тогда еще не населенном людьми», и основал
там город Фьезоле. Об этом давно уже было написано в «Хронике»,
которую вел флорентийский купец Джованни Вил лани, начавший ее
в 1300 году. Боккаччо мог и не знать Виллани. Но мотив Атлантова
прихода и его цивилизующей миссии, словно просивший
поэтической обработки, был широко известен. Он отлично вязался и с
пробуждавшимися у Боккаччо интересами к Флоренции, и с общим
его мировоззрением, которое именно во флорентийской обстановке
кристаллизовалось и крепло с каждым годом. Диана, аскетическая
богиня, наделала беды нелепым желанием убить в своих нимфах
человеческие чувства. Общество, живое организованное общество,
не может существовать но Дианиному уставу. Это будет монастырь,
а не общество, способное жить и развиваться. Атлант навел порядок:
повыдавал замуж всех нимф и покончил с аскетизмом. Чувства
да будут свободны! Это первый шаг протеста против средневековья,
первая фанфара новой культуры, культуры Возрождения, прелюдия
к той широкой и могучей симфонии во славу свободного чувства,
которая зазвучит в «Декамероне».
За пять лет острота любовного томления по Марии Аквино стала
остывать. Переживания не умерли, но они уже вступили в такое
успокоенное состояние, когда перестают причинять боль, но зато
формируют творчество: после «Нимф» будет написана «Фьям-
метта». По мере того как затягивались любовные раны, теряли
200
А. К. ДЖИВЕЛЕГОВ
привлекательность и все неаполитанские воспоминания вообще.
Новым впечатлениям легче было с ними бороться и их одолевать.
А новые впечатления все усложнялись.
До Боккаччо доносились уже песни Петрарки, которого он
почитал пока издали. Уже звучала противоаскетическая проповедь
соратников Петрарки, первенцев гуманизма: Нелли, Заноби да Страда
и других. Их становилось больше с каждым годом, и Боккаччо сам
оставил в Неаполе несколько друзей-гуманистов. Эпизод с Атлантом
был данью этим новым настроениям. Быть может, он не
понравился бы богомольному королю Роберту, и король Роберт посвятил бы
свою очередную проповедь защите аскетизма. Но его уже не было
в живых, а Флоренция была жива, полна звоном кипучей жизни,
и этот звон так великолепно прочищал сознание.
IV
«Фьямметта» и «Декамерон» будут следующими этапами
обращения Боккаччо. В «Фьямметте» будет дан первый Европе образец
реалистического романа, а несколько позднее он, как драгоценный
самоцветный камень, будет осыпан мелкими алмазами,
реалистическими боевыми новеллами «Декамерона». Боккаччо будет уже
бороться за новое мировоззрение, за новое реалистическое искусство.
Будет бороться, как представитель интеллигенции, выполняющий
заказ своей классовой группы. Ибо Боккаччо не только примет
городскую культуру Флоренции, не только станет защитником ее
республиканских учреждений и ярым противником монархической
идеи, но и найдет в крупной буржуазии свою социальную базу.
«Нимфы» были первым поворотом Боккаччо от неаполитанских
феодальных настроений к флорентийским буржуазным.
^^
IV
БОККАЧЧО
И НОВЕЛЛА
ИТАЛЬЯНСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ
^^
Α. A-BA
Итальянская новелла и «Декамерон»
В литературной жизни современной Европы заметно
чувствуется усилие найти новые пути художественной мысли, наиболее
удовлетворяющие поэтическим требованиям новых поколений.
Современные читатели привыкли искать в литературе не одной
утехи и забавы, не одного скоро-преходящего наслаждения красотою
поэзии, — они привыкли искать в ней строгую мысль и не только
верное отражение своих настроений и желаний, но и решение
многих мучительных вопросов дня. Заставляя поэзию служить самым
насущным интересам, самым глубоким задачам жизни, они требуют
от нее и той новой художественной формы, которая отвечала бы
широким запросам критической мысли, преобладающей у наших
поколений, и выражала бы в себе все стороны нашей сложной
цивилизации. От этих обширных требований, от этого искания новой
формы для более широкого содержания происходит и стремление
уничтожить те рамки, в которые теория словесности заключает
проявления творческой фантазии. Сколько замечательных
поэтических произведений возникает в наше время, которые столько же
заслуживают названия иногда психологического этюда, иногда
культурно-исторической картины, иногда этнографического бытового
очерка, сколько — художественного романа, рассказа или повести.
И это нарушение установленных разграниченных форм, и часто
даже полное отсутствие твердо-определенной поэтической формы
вызывает преобладание того рода словесности, который считается
в наше время наиболее популярным и распространенным.
Несомненно, что роман может соединить в себе многие элементы поэтической
мысли времени: тут встречаем и трагический конфликт сложных
страстей и характеров, и лирическое воплощение сердечных чувств
204
Α. ABA
и душевных страданий; тут в широком русле повествовательной
прозы слились все течения словесного искусства, которые в теории
так строго распределяются по разным родам и видам. От этого
роману, современному эпосу, принадлежит такая выдающаяся роль
в литературе нашего времени. Современная поэтическая мысль,
тяготясь узко-размеренными границами других родов поэзии,
заставляет по преимуществу роман служить своим обширным
целям и замыслам, так как он представляет собою наиболее для
того удобную форму. В самом деле, существуя, в том виде, как он
распространен у нас, каких-нибудь сто, полтораста лет, роман идет
постоянно вперед, постоянно меняет с каждою сменой поколения
как свое содержание, так и форму, подчиняясь новым условиям
умственной жизни у данного общества и в данную эпоху. Насколько
роман способен видоизменяться, будучи тесно связан с движениями
мысли у разных поколений одного и того же народа, можно видеть
на примере французской литературы, если сопоставить
декламаторскую напыщенность «Новой Элоизы»1, субтильное резонирование
мадам де Сталь и горячий лиризм первых произведений Жорж-
Сан д — с такими романами, как «Madame Bovary»2 Флобера и «Le
Nabab»3 Доде. Благодаря широте рамки, растяжимости внешней
формы, соответствующей самому разнородному содержанию, роман
занимает видное место в литературе, представляя собою самого
популярного выразителя всех стремлений, движений и направлений
нашей общественной и душевной жизни.
Но вместе с тем он и сам носит на себе следы того преобладания
научных и критических методов, которые отличают современную
мысль. Он вырождается в беспощадный анализ действительности,
в наследование внутренней и внешней жизни человека, каким мы
его видим у новых романистов реальной школы во Франции: он
обращается, по выражению Тэна, в складочное место наблюдений
над человеком, становится «une enquête sur l'homme»4, и оттого
не только беспредельно расширяет свою форму, но мало-помалу
совершенно упускает ее из виду. И это искание правды, путем
художественного наблюдения, в погоне за физиологическими
и психологическими открытиями, производится современными
романистами часто в ущерб художественной стороне предмета.
Возьмем, для примера, романы бр. Гонкур; несмотря на всю
точность, верность кисти в обрисовке характеров и положений,
несмотря на тонкость и неоспоримую правдивость наблюдения, романы
эти не производят художественного обаяния, как истинно
поэтические творения другого какого, быть может, и менее правдивого
Итальянская новелла и «Декамерон»
205
пера. Или вглядимся в деятельность хорошо известного и русской
публике писателя А. Доде. Какой роман по цельности,
законченности, пластичности формы может сравниться с его «Fromont jeune
et Risler aine»?5 A между тем в следующих за этим романах Доде
так увлекся широким полем изучения, которое представляло ему
парижское общество, что последний его роман, «le Nabab», вышел,
правда, произведением из ряду вон по мастерству и драматизму
отдельных картин, но в целом не представляет того сильного,
строго размеренного организма, каким является «Fromont». Что
тут следует винить: разнообразие ли и безотрадную путаницу той
жизни, которая окружает поэта, одаренного мягкою отзывчивою
душою, или ту школу ультра-реалистов, к которой он примкнул, —
вопрос мудреный. Несомненно только, что если в общем, по глубине
и жизненности выводимых типов, «Набоб» не менее замечателен,
чем «Fromont», то с внешней стороны, т. е. в ясности и простоте
плана, в сжатом драматизме рассказа, «Набоб» ниже «Fromont»;
несомненно, что форма художественного повествования
пострадала в последнем произведении Доде. А между тем пренебрежение
формой, в силу каких бы то ни было теорий и идей, в силу даже
научных стремлений во имя добра и истины, всегда вредно, всегда
грустно отзывается на поэтическом произведении. В самом деле,
пренебрегать формою в поэзии — не значит ли отрицать красоту
в искусстве? Заботиться о точности производимых поэтом
изысканий, не думая ни о фабуле, ни о живости действия, ни о его
постепенном ведении — не значит ли давать перевес содержанию
над формой? Не значит ли тем самым нарушать вечные законы
искусства?
При наших высоких требованиях от литературы, при
возникновении новых критических школ, литературных теорий, требующих
нового содержания, но не находящих для него истинной формы,
невольно чувствуется, что мы стоим посреди расходящихся дорог.
И невольно мысль обращается к прошлому, ища в нем такого
распутья, и с особенным вниманием останавливается на той эпохе,
когда художественная мысль избирает новые пути, когда в ответе
на новые требования возникают и новые виды литературных
произведений; когда, вырастая из потребностей самой жизни,
складываются новые формы поэзии, разделяемые впоследствии теориею
тесными рамками по разным родам и видам словесности. В наше
время особенно интересно проследить, как этот вновь созданный вид
литературной мысли достигает высокого неумирающего значения,
благодаря равновесию между внутренним содержанием и внешним
206
Α. ABA
построением; интересно посмотреть, как создавались памятники
искусства, примирявшие в себе служение общественным идеалам
с неподражаемою красотою формы. Такой интерес представляет
собою древняя «итальянская новелла».
Из темного многовекового брожения общеевропейской мысли,
Италия в средние века раньше других находит исход и раньше
других выступает на открытую дорогу художественного
совершенствования. Благодаря особым условиям своего исторического
положения, отчасти воспоминаниям античной культуры, которые
в ней не прерываются во все продолжение темного периода, Италия
раньше других вырабатывает себе орудие художественной мысли,
богатый поэтический язык, раньше других производит и великих
поэтов: Данте, Петрарку, Боккаччо, которые воплотили в
художественных образах всю мысль своей эпохи, указали новые пути
европейской литературе. Бессмертную славу Боккаччо заслужил
сборником фривольных новелл, назначенных для утешения и
развлечения влюбленных, сборником объединившим в изящном
рассказе разрозненные элементы всего средневекового повествования.
В «Декамероне» Боккаччо впервые общеевропейский
повествовательный материал одевает вполне законченною художественною
формою, воплощая в ней все то, что издревле тешило и занимало
фантазию новых народностей Европы. Он обрабатывает темы той
народной повести, которая бойко-насмешливым характером
защищала в средние века вольную мысль, а реалистическим
направлением представляла противовес отвлеченно-идеальному строю
рыцарских эпопей, и тем создает вполне самобытный, не вызванный
подражанием классикам, новый род поэзии. Он впервые вносит
художественный реализм в литературу новой Европы: лишенный
всякой условности искусственного повествования вроде
аллегории, пастушеских идиллий античной мифологии, «Декамерон»
воспроизводит перед нами пеструю массу лиц, сословий, типов,
характеров, взятых из живой действительности, внушенных
опытом личной и народной жизни. В художественной обработке тех
сюжетов, которыми исстари богата народная память, гениальный
рассказчик тонкими, правдивыми чертами воссоздает умственную
и нравственную физиономию всего человека: в беспритязательном
пересказе старинной сказки-анекдота он умеет найти неизменяемые
черты нашей природы, указать в будничных явлениях те мотивы
и импульсы человеческой жизни, которые никогда не перестанут
управлять и руководить нами. Эта искренность и правдивость
наблюдателя-художника сказывается необыкновенною жизненностью
Итальянская новелла и «Декамерон»
207
его созданий, на расстоянии стольких веков действующих всем
обаянием высокого реализма. А близость новеллы к жизни
современного ей общества, народное происхождение ее тем и сюжетов
были причинами огромной популярности «Декамерона»: он скоро
стал любимым народным чтением, и распространился в переводах
и переделках по всей Европе. Новеллы эти встречаются и в русских
старинных повестях и народных сказках. Боккаччо открывает
собою длинный ряд новеллистов-подражателей: их насчитывают
до 250, и все они подобно ему обрабатывают эпический материал,
живущий в памяти народа, подобно ему держатся искреннего
реализма, воссоздавая в ярких, привлекательных образах, в легких
и доступных сюжетах, близкую им действительность. И с течением
времени они так удачно обработали свой реалистический материал,
что накопили множество общечеловеческих самых разнообразных
и благодарных тем, мотивов, ситуаций; а художественная форма
из изящного рассказа, образцом которого служил «Декамерон»,
привлекала к ним массы читателей и популяризировала их на далеком
Севере. Вот почему и Шекспир сюжеты не только комедий, но и
«Отел ло», «Ромео и Юлии», «Венецианского купца», заимствовал
из итальянских новелл, точно так же, как пользовался ими Мольер
и другие французские и английские драматурги. Можно сказать, что
в продолжении многих столетий Европа учится у итальянцев, как
пользоваться богатством народных вымыслов, одевая их в формы
не шутливой новеллы-анекдота, а в формы драмы и комедии, как
более сродные их северным умам.
Но тот же реализм, внесение которого в литературу составляет
бессмертную заслугу Боккачиева «Декамерона», обусловливает
до некоторой степени и те темные стороны новеллы,
возникающие в нашем представлении при одном названии сборника.
Применяясь к воспроизведению той области жизни, где при грубости
общественных и семейных отношений преобладает неустойчивость
и шаткость нравственных понятий, где огромную роль играет
физическая сила, животный инстинкт, — искренность реализма
сказывается грубостью сюжетов, совершенно невозможных в
развитой литературе. Правдивость и тщательность описания,
воссоздающего всякую ситуацию с полнотою жизненного явления, тонкое
и меткое определение всех скрытых мотивов действия, — все эти
качества наблюдателя-рассказчика обращаются против него; его
манера переходит в самый возмутительный цинизм, когда
прилагается к обработке сюжетов, хотя и созданных народною фантазиею,
но недостойных художественного пересказа; писателя-юмориста
208
Α. ABA
привлекают, к тому же, темы преимущественно комические, а
комизм на низкой степени общественного и литературного развития
большею частью грязно-цинического свойства. Пользуясь
примером Боккаччо, делая распущенность и вольность веселого рассказа
основными чертами новеллы, многочисленные последователи его
довели эти недостатки до крайних пределов, и превратили
изящную сказку-анекдот в род далеко неизящной литературы. Поэтому
Боккаччо совершенно заслуженно пользуется репутацией
скабрезного писателя, и многое в нем способно оттолкнуть современного
читателя и затруднить знакомство с его великим произведением.
Но не следует упускать из виду, что эта неудобная сторона
«Декамерона» — влияние эпохи, и зависит от особых условий поэзии
и быта далекого прошлого. К тому же история литературы указывает
нам не мало таких отделов, где приходится на время отказываться
от наших нравов и художественных вкусов, чтобы не оскорбляться
грубостью и цинизмом многих замечательных произведений, чтоб
видеть их высокие достоинства за темными чертами, присущими
отчасти и таким великим памятникам всемирной литературы, как
творения Сервантеса и Шекспира.
Если откинем из «Декамерона» те новеллы его, с которыми
никак не мирится наше нравственное чувство, то мы найдем в нем
интересный пример того, как создается наиболее близкая к жизни,
наиболее популярная форма поэзии. По времени он не настолько
отдален от нас, чтоб мы не знали ни его источников, ни той
жизни, той исторической обстановки, которая вызвала его, а между
тем на него можно смотреть, как на образец вполне классический:
давно отжили те интересы, идеалы, защитником которых являлся
новеллист, устарело самое содержание рассказа, — неумирающим
осталось одно его художественное значение, изящная законченность
его формы. На этой форме эпоса, по внешнему виду наиболее близкой
нашему роману, на реалистическом характере новеллы интересно
наблюдать те законы, которые управляют воспроизведением жизни
в искусстве, и которые лежат в основе всякого повествования, как
бы широко ни было его содержание, какими бы широкими
замыслами оно ни задавалось.
Имея в виду эту эстетическую сторону итальянской новеллы,
поневоле придется оставить несколько в стороне ее историческое,
общественное значение. Что оно в новелле существовало —
несомненно: во всяком истинно высоком произведении искусства,
даже когда оно задается, по-видимому, самыми
незначительными фривольными целями, форма неотделима от содержания;
Итальянская новелла и «Декамерон»
209
и гениальный писатель, воплощая в художественных образах все,
что живет в мыслях его эпохи, воссоздавая с редкой полнотою
и ясностью многие и темные ее стороны, хотя бы для потехи и
развлечения публики, всегда будет иметь сатирически-обличительное
значение. Да и самый народ, который узнает в художественной
переработке своего писателя темы и сюжеты, издревле близкие
его фантазии, и разносит их в разные концы света, ценит в
новелле не одну ее форму, не одну художественную законченность
рассказа: насмешливая веселая новелла была близка народу всем
своим содержанием, как произведение национального духа,
отразивши в себе все настроения общества, все интересы и идеалы,
вытекавшие из коренных основ его духовной жизни. Даже можно
сказать, что эту излюбленную народом форму словесности вызвали
и обусловили идеалы известного быта и исторического положения.
Поэтому тесная зависимость легкого и второстепенного жанра,
каким представляется теперь фривольная итальянская повесть,
от исторической жизни, ее создавшей, поражает нас на каждой
странице «Декамерона»; и поэтому-то, несмотря на то, что мы имеем
в виду только художественное значение новеллы, — нет
возможности в пределах журнальной статьи сделать более полный разбор
знаменитого памятника — нам придется касаться, хотя и бегло,
той культуры, которая вызвала к жизни такую именно, а не иную
форму национальной литературы.
Литературная мысль средних веков в эпоху брожения умственных
сил народа породила огромные запасы повествовательного
материала, составлявшая общее достояние всей Европы. Долгое время
материал этот живет в памяти и фантазии народа, пока не распределится
усилиями многих поколений и поэтическим творчеством отдельных
лиц по разным отделам устной и письменной литературы. В этом
необработанном и хаотическом материале лежат семена многих
будущих произведений, и к нему принуждена обращаться история
литературы, отыскивая первообразы тех типов и сюжетов, которые
в позднейшие времена составляют славу бессмертных памятников
в национальных европейских литературах. Из этого материала
создалась и итальянская новелла, и прототипы ее сюжетов и
мотивов легче найти в нем, чем источники других произведений, более
сложных по форме и более отдаленных по времени.
При открытии новой литературной деятельности, сменившей
античную образованность, юной, неокрепшей еще фантазии
европейских народов приходилось усваивать и перерабатывать самые
разнородные и разнохарактерные элементы поэзии. Из народной
210
Α. ABA
памяти не могли скоро изгладиться образы древних героев,
созданные развитой мифологией германских племен и жившие еще в
песнях и преданиях воинственных, принявших крещение, варваров.
К этим воспоминаниям присоединялись не менее живучие остатки
античного язычества, так сильно своею богатою цивилизациею
импонировавшего северным народам: классические воспоминания
живут в самой глубине темного периода и имена троянских героев,
Александра Македонского, Виргилия и Аристотеля входят в круг
баснословных героев и украшаются множеством вымыслов и
сказаний. Языческих — германских и классических — воспоминаний
не могло вытеснить и христианство: новая религия вносила в мысль
Европы не одни только нравственные и догматические истины,
но и пеструю массу притч, преданий и легенд, поэтических
представлений, проникнутых восточною образностью, порожденных
плодовитой фантазией восточных народов; новая религия смешала
свои верования с тем, что жило уже в фантазии народа и, порождая
литературу двоеверия, одевала языческие верования поэтическою
формою апокрифов, легенд, суеверий и поверий двойственного,
смешанного характера.
Из этой разнообразной смеси поэтических элементов
образовалась и повествовательная литература средневековой Европы.
Литература эта течет двумя широкими руслами, совершенно
несходными ни по направлению, ни по форме, хотя оба исходят
из одного источника. Народы, отвоевавшие себе место в Европе
и занятые устройством своих внешних отношений, своего
государственного феодального быта, требовали высокого рода поэзии,
требовали того повествования, которое отражало бы идеалы их
воинственной деятельности, воплощало образы их еще мифологией
завещанных героев, и воспевало подвиги и битвы, сохраняя для
потомства славу их вождей и воинов. Из воинственной кантилены
образовалась та французская «Chanson de gestes», распадавшаяся
на несколько циклов, из которой позже выросла рыцарская
поэма, искусственный рыцарский роман, проникнутые интересами
феодалов, и проводившие в жизнь свой особый кодекс идеальных,
нравственных и религиозных понятий. В новом мире этих
образов и сюжетов, в разных циклах этих героических «Деяний»
сказывалась та присущая всякому народу потребность
эпического творчества, которая вызвала как «Одиссею» и «Илиаду»,
так и германскую сагу и русскую былину. Если мифическая
поэзия выражает собою стремление пытливого ума найти разгадку
и объяснение явлениям природы, то и родственное ей эпическое
Итальянская новелла и «Декамерон»
211
творчество вытекает из не менее глубоких и коренных стремлений
человеческого ума ко всему идеально-высокому, героическому,
возбуждающему силы на подвиг, напоминающему о высоких целях
и задачах существования.
Но в тех же мифических образах и преданиях, из которых
развивается героическая поэма, зарождается животный эпос и та
народная сказка, приемы и мотивы которой так же общи у всех
народов, как общи у них приемы и мотивы героического эпоса.
Любовь к занимательному рассказу из жизни людей и животных
вытекает не из потребности высоких идеальных образов в поэзии,
но из не менее сильной склонности народного ума тешиться
смешною, забавною стороною жизни. Народное воображение в
животном эпосе создает и размножает в изобилии те темы и сюжеты,
где выставляются не темные силы нашей природы, но мелкое зло
существования, не высокие подвиги, но мелкие будничные черты
человеческих характеров и отношений. У народов, богатых
художественными силами, животный эпос вырастает в художественную
басню, циклы сказок о Лисе и Волке образуют сатирический Roman
de Renart6, и народная сказка завершается художественною
повестью. Поэтому как героические эпопеи средневековых народов
породили и размножили искусственные рыцарские романы и
поэмы, так и другая отрасль эпического повествования, первой
формой которого является сказка, имеет в средневековой литературе
множество разнообразных представителей. Вытекая из склонности
воображения к загадочно-остроумному, к потешному и забавному,
эта отрасль повествования вызвала особый род рассказов, которым
ученые присвоили название странствующих, потому что науке
удалось открыть и выяснить их переходы и странствования от одних
народов к другим, иногда, казалось бы, в лишенным литературного
общения. Это повествование не есть народная сказка, вращающаяся
в мире чудесного, описывающая нам, с известными эпическими
формами рассказа, похождения и приключения, в которых иногда
за множеством деталей теряется и главная нить, основной мотив;
это — не сложный сюжет, анекдотического характера, имеющий
предметом одно законченное действие, завершившееся событие,
одну строго-определенную тему. Сюжет этих мелких рассказов и
повестей имеет такую же широкую распространенность в народных
литературах, как основные мотивы героического и животного эпоса.
В средние века, в пору горячей деятельности народной мысли,
этот отдел повествования чрезвычайно богат; родиной большинства
этих сюжетов можно считать далекий Восток, богатую вымыслами
212
Α. ABA
Индию, откуда они в переводах и переделках перешли в персидскую
и арабскую литературу, а оттуда распространились на далекий
Запад; и хотя переводы таких сборников, как «Тысяча и одна ночь»,
«Панчатантра», «Калила» и «Димна», «Гитопадеза»7, небыли
известны в ранней письменности средних веков, тем не менее
их сказочно-анекдотические сюжеты могли являться в народную
фантазию как устные предания, проникавшие в Европу через
Византию и арабов. Собственно говоря, общение средневекового Запада
с Востоком было значительное, и восточное влияние в повествовании
новых народов играет такую же большую роль, как и во всей их
художественной деятельности. Любовь к аллегории, яркие образы,
хитросплетенное действие, остроумная загадка в основе сюжета,
тонко-проницательная разгадка и неожиданная развязка, — эти
основные черты восточного вымысла как нельзя более способны
были привиться к молодой литературной мысли и дать
рассказчикам обильный и благодарный материал. На Востоке, при особых
условиях литературы, эти вымыслы превратились в ту волшебную
арабскую сказку, которая неумеренным преобладанием
сверхъестественного, массою бесконечных эпизодов и деталей утомляет
воображение европейца. Средневековая «странствующая» повесть
с восточным содержанием не впадает в эту крайнюю фантастичность
и не отдаляется от действительной жизни, как, например, сказки
Шехерезады: она всегда остается верна реалистическим стремлениям
народного ума, из которых вытекла.
Общению Европы с Востоком содействовало в сильной степени
христианство, и отдел сказочно-анекдотического повествования
обогащался благодаря самым религиозным потребностям народа.
Церковное учение, овладевая европейскою мыслью, должно было
применяться к тому, что раньше его жило в народных умах,
мириться с остатками языческих понятий. Народная фантазия очень
скоро атрибуты языческих божеств перенесла на христианских
святых, а отцы Церкви, воспитанные на символизме восточного
мировоззрения, не имея сил бороться с живучими
воспоминаниями классических литератур, мирились с ними, стараясь
находить в них скрытый таинственный смысл, заставляя античные
предания и верования служить таким же прообразом новой веры,
каким Ветхий завет был для новозаветной истории. Если в
известной фреске римских катакомб удобно было изобразить Христа
под видом Орфея, привлекающего зверей музыкою, то тем указан
был путь примирения старых и новых требований: можно было
во всех классических мифах видеть не прямой их смысл, но особое,
Итальянская новелла и «Декамерон»
213
символическое значение; таким путем можно было фантазии
новых народов дать возможность пользоваться как тем, что издревле
жило в ней, так и тем, что заносилось в нее и с Востока. Допуская
при своем толковании классический миф, церковная литература
пользовалась для своих целей столько же баснями Эзопа и Федра,
сколько сказочной литературой Востока; стоило только к рассказу
прикрепить морализацию его, символическое объяснение, и самый
антихристианский сюжет принимал церковный характер
догматически нравственного поучения. Отсюда возникли такие латинские
сборники как «Disciplina Clericalis» крестившегося еврея Петра
Альфонси (странствующие космополиты-евреи служили живою
связью западных и восточных народов), как «Gesta Romanorum» —
неизвестного составителя, пестрое собрание разных повестей и
рассказов, «Деяний», приписываемых историческим и вымышленным
лицам древней и современной сборнику Европы. Эти богатые
материалом сборники одевали все смешанные элементы средневекового
повествования формою назидательных поучений, и под прикрытием
символического толкования узаконили в литературе совершенно
чуждые церковного духа сюжеты.
Но, кроме этого санкционирования посторонних влияний,
церковь и сама, собственным воздействием, обогатила
европейское повествование. Известно, как развита была в средние века
и на Западе, и на Руси, легендарно-апокрифическая литература,
какой богатый материал давался самим евангельским учением,
преподаваемым в притчах и подобиях; известно, какою роскошью
вымыслов, преданий, сказаний и легенд покрыты все факты
библейской истории; какую обильную пищу фантазии доставляли
хотя бы одни жития святых. Церковное учение в эту легендарную
литературу вносило не только восточные элементы поэтических
образов, но и тот монашески-аскетический дух, которым
проникнуты эти легенды. Монашество, родившееся на Востоке, создало
из местного материала массу поучительных примеров святости,
твердости духа в искушениях и т. п.; рассказы, которые вели свое
начало из буддийской Индии, создавались и не-христианскими
аскетами. Все те легенды, жития святых хранили в себе обильные
запасы тем и сюжетов, благодарных мотивов повествования,
которые, при перенесении на европейскую почву, оделись новыми
красками и стали служить новым целям и задачам народной мысли.
Знаменитая назидательная повесть Варлаама и Иосафата с ее
несомненно восточными, быть может, буддийскими мотивами,
пользовалась большою популярностью в Средние века, тому что главное
214
Α. ABA
зерно повести обставлено множеством отдельных рассказов, притч
и поучений, принявших впоследствии совершенно иные формы,
перешедших из монашеской легенды — в фривольную новеллу!
Тот дух церковного учения, дух сурового аскетизма, боявшегося
земных радостей и искушений, и со злобою глядевшего на здешний
греховный мир, распространил в массах сюжеты повестей, крайне
недоброжелательно относившихся к женщине. Падая на грубое
воображение только что вступавших в литературную жизнь народов,
сюжеты эти вызвали и крайне-циническое содержание тех
странствующих рассказов, той народной повести, которая вырастала
из смешанного источника классических воспоминаний, восточных
сказочных сборников и христианско-легендарной литературы.
Отсюда развился, например, целый цикл рассказов о женском
непостоянстве, о необузданности женских страстей, рассказов вроде
«Эфесской Матроны»8, которые, судя по изобилию и
распространенности их вариантов, находили благодарную почву в фантазии
средневекового человека. Мнение, что женщина, виновница
грехопадения, — не человек, было одинаково популярно, как у нас —
на Руси, так и на рыцарском Западе. Нравственная извращенность,
сила хитрости, лживости, увертливости, рисуют в народной повести
женщину скорее демоном, исчадием ада, чем воплощением всего
высокого и прекрасного, какою мы видим ее в героических
эпопеях, рыцарских романах. Впрочем, это направление народного ума,
вызвавшее большой, существенный отдел итальянской новеллы,
мы полнее увидим в «Декамероне», где религиозно-аскетические
цели первоначальных источников содействовали только грубости
и цинизму выросших из них повестей.
Таким образом, в средневековой народной мысли, рядом с
героической поэмой, которая постоянными видоизменениями
превращается в рыцарский роман, стоят не менее близкие народному уму
и не менее общие всему Западу мотивы анекдотически-сказочного
характера. Живя в устных преданиях народа, или в сборниках
восточного происхождения, как повесть «О семи мудрецах», конца
XII века, или в обширном кругу легендарных тем, проникая в виде
отдельных мотивов и в феодально-рыцарские эпопеи, не имея для
себя отдельной законной формы словесности, — этот литературный
материал представляет собою реалистически-комический элемент
художественной мысли народа, служит как бы противовесом тому
идеально-героическому образу мыслей, который торжествует в
рыцарской эпопее. На заре нового времени рыцарское повествование
завершается бессмертным произведением Сервантеса, описанием
Итальянская новелла и «Декамерон»
215
рыцарских похождений Дон-Кихота. В нем великий художник,
за печальным образом благородного идеалиста, нарисовал не
менее живо и верно природе реалистическое воплощение здравого
смысла, комический тип простолюдина — Санхо-Панча. В этих
двух, вечно живых типах воссозданы не только два основные
начала человеческой мысли, но и два направления всей той
повествовательной литературы, которую завершал Сервантес в «Дон-
Кихоте» . Если благородный рыцарь, сражавшийся за Бога и даму,
любил в повествовании подвиги и похождения из-за славы меча,
создавал идеал воинственно-христианских героев, защитников
слабых и угнетенных, то в других отделах национальной
литературы простолюдин, смотревший более трезво и реально на мир
Божий, мог высказывать и свой реалистически-насмешливый
взгляд на вещи. Поэтому в средние века те зародыши
повествования, тот необособившийся литературный материал, известный
под широким названием «Странствующих рассказов», носит
в себе и совершенно иные идеалы, чем рыцарская эпопея; если
там торжество на стороне великодушия, бескорыстия, щедрости
и других доблестей, то народная повесть преимущество отдает
хитрости, проницательности и изворотливости ума. Поэтому
материал этот только тогда выделится в известный род
словесности, только тогда достигнет и определенной, более или менее
художественной формы, когда и в общественной жизни, рядом
с рыцарски-феодальным бытом, вступит в свои права окрепший
городской элемент. Тогда реалистически настроенная повесть
найдет себе художественное завершение в итальянской новелле
XIV века. В общем характере итальянской новеллы вполне
выясняются основы средневекового повествования, из которого она
выросла, и тот новеллический материал, который присущ всякому
народному творчеству*. Во французской литературе этот материал
порождает сатирический фаблио, реалистический характер
которого сказывается крайне-непристойным содержанием. Фаблио —
Предмет средневековой обще-европейской повести, составляющий в настоящее
время один из наиболее интересных вопросов литературной истории в связи
с вопросом о странствовании сказочных сюжетов, чрезвычайно обширен
и занял бы слишком много места в очерке итальянской новеллы. Касаемся
его только вскользь, тем более, что в русской литературе он
разрабатывается учеными, посвятившими ему специальные исследования (Веселовский,
Кирпичников). Для интересных подробностей отсылаем читателя к
популярному труду Буслаева: «Странствующие повести и рассказы», см. «Русский
вестник», 1874 г., № 4 и 5.
216
A, ABA
небольшой (сравнительно с рыцарской эпопеей) рассказ в стихах
какого-нибудь смешного случая, необыкновенного приключения:
тут изобилуют скандальные похождения духовенства, образцовые
примеры ловкого воровства, женской неверности и т. п., сюжеты
невысокого содержания, сюжеты комические, осмеивающие все
стороны тогдашней общественности. Беззастенчиво вращаясь
в разных сферах жизни, фаблио, хотя и имеет самые далекие
источники, но своим сатирическим характером непосредственно
близок жизни того народа, который обрабатывает эти сюжеты,
и потому представляет любопытную картину нравов своей эпохи.
Он не имеет большого художественного значения: совершенства
формы, изящества рассказа подобные сюжеты достигают
только в Италии под пером Боккаччо. Хотя часто говорилось о том,
что в «Декамероне» много новелл заимствовано из французских
фаблио, известных в переделке северных труверов всей Европе,
но можно скорее думать, что они являлись в Декамероне из того же
источника, как и в фаблио, т. е. из повествовательного материала,
который у всей средневековой Европы жил в памяти народа.
Если, в противоположность рыцарской эпопее, этот отдел
народной литературы можно назвать порождением сатирически-
буржуазного духа, то понятно, почему именно в Италии такие
произведения получили широкое художественное развитие. Там,
где в государственной жизни не преобладала так исключительно
феодальная власть, не могло развиться и героических эпопей,
рыцарских романов; если они и существовали в книжной, искусственной
литературе, то не были коренными произведениями национального
духа, основывались на одном подражании, заносились внешними
иностранными влияниями. К тому же, Италия, наследуя латинскую
образованность, не умиравшую в ней во все продолжение средних
веков, наследовала и тот реалистический дух римской литературы,
который не дал в ней развиться самобытному эпическому
творчеству, идеально-героической эпопее. Поэтому, когда поднимается
городское сословие, когда в XIV веке процветают общины, сильные
богатством и свободою, когда уже создан богатый литературный
язык, — язык Данте и Петрарки, — то и те произведения, которые
по духу наиболее близки сатирическому настроению латинских
племен, образуют вполне самобытный род литературы, делаясь из
безыскусственных произведений младенческой оратории достоянием
наиболее в свое время образованного общества Европы. Новелла
возникает на родине Данте, — во Флоренции: тут, где из диалекта
образовался литературный язык, живой, предприимчивый дух
Итальянская новелла и «Декамерон»
217
торгового населения не только рано переработал богатые запасы
обще-европейских тем, но и создал новые, подобные им, из фактов
своей действительной жизни. Народу талантливых ремесленников,
торгашей, банкиров, ведших дела свои со всей Европой, — народу,
щедро от природы наделенному художественными способностями,
должны были приходиться по вкусу те древние восточные сказки
и повести, где на сцену выводится ловкость, хитрость
коммерческого человека, проницательность простолюдина, остроумная загадка,
решение спутанного процесса, или новый, особый вид плутовства,
обманы мужей женами, скандальные похождения монаха и т. д. Тут
дается пища не только сатирически-насмешливому уму, но и тем
дипломатическим способностям, которые в Италии развились очень
рано, в ущерб нравственным идеалам.
Поэтому мы видим в истории, что итальянская новелла,
созданная из того литературного материала, общего всей Европе, который
сильно оттенен восточным колоритом, вырастает среди городского
сословия, — что это сословие, преобладающее в Италии, способствуя
ее художественному развитию, налагает на нее и свой особый
буржуазный характер. Но новелла не может остаться и без влияния
рыцарских идеалов, господствующих в умственной жизни всей
Европы, не миновавших потому и Италию; их вносит сюда естественное
литературное общение народов между собою и поддерживает
искусственная литература, влияние провансальской поэзии. При этом, так
как циклы героических сказаний, породившие рыцарскую эпопею,
возникли очень рано и рано укоренились в народных
представлениях, то естественно, что чем древнее собрание итальянских повестей,
тем больше вносится в него рыцарских мотивов и тем меньше в нем
тех элементов повести, которые порождаются буржуазным духом,
т. е. тех комических примеров обмана, плутни, воровства, которыми
богаты фаблио.
Особенно ясно можно это видеть на том первом сборнике,
единственном, который известен в итальянской литературе до Боккаччо,
именно «Novellino» или «Cento Novelle antiche»9. Что автор его
неизвестен, это неудивительно, потому что в состав сборника вошли
памятники устной литературы, те сказки и анекдоты, которые живут
в народе и прилагаются — то к тем, то к иным историческим
деятелям. Собраны они около середины XIII века, — ив XIV-м, во время
Боккаччо, не были еще в полном составе, хотя флорентийский
новеллист и заимствовал оттуда некоторые сюжеты. Происхождение
их очень древнее; это доказывается не только архаическими
оборотами тосканского наречия, на котором они написаны, и не только
218
Α. ABA
очень незначительным числом сюжетов из городской жизни Италии,
которая в то время вполне резко определилась и в новелле находила
лучшее свое выражение, сколько самым характером этих рассказов,
и главное — их внешней формой. Ровный тон сжатого рассказа,
лишенного всякой отделки, всяких прикрас, сила, простота и
ясность наивного слога составляют поэтические достоинства этого
сборника, от которого так и веет беспритязательностью
первобытной поэзии, и который заслужил похвалы от критиков прошлого
столетия (Тирабоски, Женгене), не очень милостиво относившихся
к произведениям средневековой фантазии.
Если всмотреться в содержание этих новелл, то найдем в них
все почти элементы западного народного повествования этого
раннего периода. Г-н Буслаев указывает, как общеевропейские
или, правильнее, общечеловеческие темы странствующей повести
обработаны в нашем сборнике. Но сказочных «общих мест» можно
найти в нем гораздо больше; так, напр., в 3-й* новелле, о греческом
мудреце, встречаем известный мотив восточного происхождения
о проницательном судье или мудреце, который по некоторым, ему
одному видимым признакам, угадывает истину; вариации этого
мотива в народных сказках довольно распространенны. Содержание
49-й новеллы не менее общеизвестно: это рассказ о ремесленнике,
который работает по большим праздникам, и на вопрос царя,
почему он не соблюдает церковных постановлений, объясняет, что
дневной заработок он должен делить на 4 части: одна дается Богу,
другая идет в уплату долга, третья выбрасывается, четвертая
тратится на себя. Платить долг, по его мнению, значит кормить
отца, а бросать деньги — кормить жену, которая умеет только пить
да есть. Царю очень нравится ответ, но он не велит ремесленнику
никому объяснять его, пока он сто раз не увидит царского лица.
Затем он предлагает своим мудрецам разгадать ответ
ремесленника; конечно, те не умеют, дознаются, откуда царь узнал его,
и обращаются сами к ремесленнику; тот просит у них сто золотых
монет, пересматривает каждую монету и дает свое объяснение.
Мудрецы признаются царю, каким путем они нашли разгадку, царь
посылает за ремесленником и начинает укорять его, говоря, что он
под страхом строжайшего наказания не должен был говорить о том,
пока не увидит царского лица. Что же вычеканено было на монете,
как не царское лицо, которое в присутствии мудрецов
ремесленник видел сто раз? Понятно, царь ничего не имеет возразить и как
Привожу нумерацию Венецианского издания 1852 года.
Итальянская новелла и «Декамерон»
219
нельзя более доволен простолюдином, перехитрившим и царя,
и его мудрецов. Кажется, нечего указывать, как содержание
повести подходит к тону народных вымыслов, где часто торжествует
здравый ум крестьянина над ученостью мудрецов, и простолюдин
учит царя житейской мудрости. У русского народа существует
такой же рассказ (Рус. нар. сказки, Афанасьева, кн. III, стр. 181).
Только там крестьянин одну долю вносит в подать, другою кормит
отца, третьей сына, четвертой дочь — за окно кидает; кроме того,
первая половина сказки-загадки приводится и в былинах о Петре
Великом (Собр. Рыбникова); там загадка говорится опять иначе:
у крестьянина три статьи расхода: «в долг даю — 2-х сыновей
кормлю; — в воду мечу — дочерей кручу».
Не менее этого популярен у нас рассказ о коне, пришедшем к
колоколу просить правосудия на хозяина, который не хочет кормить
его в старости. Мотив животных, требующих людского суда или
царской защиты, тоже довольно распространенный, встречается
и в легендах о Карле Великом. Здесь (52-я новелла) конь является
невольным доносчиком; бродя по городу голодный, он щиплет траву,
обвившуюся вокруг веревки колокола, звонит и тем сзывает народ,
который в этом видит обличение неблагодарного хозяина.
Обильная вариантами тема о силе женской красоты нашла себе
выражение в коротенькой новелле, которую привожу в переводе
(Нов. 14): «У одного царя родился сын. Мудрецы астрологи велели
10 лет не показывать ему солнца, и царь растит его в темной
пещере. По истечении срока, его вывели на свет, показали ему много
красивых предметов и между прочим прекрасных девушек, все ему
назвали своими именами, а про девушек сказали, что они демоны,
и потом спросили его, что ему больше всего нравится? он отвечал:
Демоны! Тогда царь очень удивился и сказал: вот что значит
сила и красота женщины (Tirannia е bellora di donna)»! В легендах
об отшельниках, даже не христианских, рассказывают, что злой
дух искушает их обыкновенно под видом красивой женщины;
в наивном восклицании царя не слышится-ли тот же намек на
всемогущество любви и на боязнь искушения от тех злых демонов,
какими представлялись женщины разгоряченному воображению
средневекового аскета? Это же чувство вызвало такой большой цикл
сюжетов о женской хитрости, злобе, лжи, весьма распространенный
в средневековом повествовании. На эту тему, известный мотив
вероломной вдовы, вариант «Эфесской Матроны» здесь рассказан в 59-й
новелле: «о том, как вдова повешенного скоро утешилась в своем
горе». За тем, хитрость, с которой дурная женщина скрывает обман
220
Α. ABA
от мужа, рисуется в 65-й новелле о королеве Изотте и мессире
Тристане (известных героях рыцарской эпопеи). Когда жена видела,
что муж застал их свидание, она повела разговор, из которого муж
должен был убедиться в ее невинности.
К этому кругу обличающих женщину рассказов можно отнести
и тот, где на сцене является популярная в средние века личность
волшебника Мерлина и уличает жену, вызвавшую мужа на
беззаконное дело из-за того только, чтоб иметь новое платье и им
затмить других красавиц (Nov. 26, d'un borghese di Francia10).
Сюда же принадлежит и анекдот о Геркулесе (Нов. 70), который
терпеливо сносил обиды жены, потому что она сумела подчинить
себе того, кого даже и звери боялись. Эта новелла — не
единственное воспоминание классической древности: наряду с
назидательными поучениями о воспитании (Нов. 5, — на тему: блажен кто
с молоду был молод! рассказывает, как юноша, воспитанный без
детских игр между взрослыми, увлекается пустяками в зрелом
возрасте, и выводит педагогическое правило), об управлении
государством (Нов. 24, — на вопрос Фридриха II: может ли он
взять у одного подданного и дать другому без всякого права, или
должен действовать по законам? два мудреца отвечали различно
и обоих царь наградил: одного богато одарил, другому поручил
составить закон; надо решить, какая награда больше?), в новеллах
помещены и изречения Аристотеля (Нов. 68, как надо беречься
дурных дел в молодости, чтобы упрочилась привычка ко всему
хорошему), Катона, Сенеки; есть два рассказа о республиканских
добродетелях римлян; миф о Нарциссе; баснословное предание
о мудрости Александра Македонского — этого героя
средневековых романов, и знаменитый ответ ему Диогена. В некоторых
соблюдается историческая верность, в других же Сократ
является римским сенатором, принимающим посольство от греческого
султана. Про императора Траяна рассказывают тот пример его
справедливости, который описан Данте в 10-й песни Чистилища;
в Новеллино этот рассказ длиннее; тут повествуется, как, вскоре
после смерти императора, папа Григорий Святой11 откапывает
его тело; язык и кости его оказываются нетленными — награда
за правосудие; папа молится за него, и душа язычника
избавляется адских мучений и переходит в жизнь вечную. Вообще намеки
на то уважение, которым герои Греции и Рима не переставали
пользоваться на христианском Западе, встречаются в
средневековой литературе очень часто: лучшим доказательством того служит
благоговение Данте к Виргилию, в нашем же сборнике то, что
Итальянская новелла и «Декамерон»
221
из ста новелл пятнадцать с антическими сюжетами. Ветхозаветная
история, еще более классической древности вдохновлявшая
народное творчество, нашла также отголосок в Новеллино. Рассказ
(Нов. 6) о том, как Давид считал свой народ и был за то наказан,
в подробностях отступает от библейского текста. О любимце
народной фантазии, Соломоне, рассказывается (Нов. 7), как ангел
предсказал ему, что царство отнимется от его сына, как мудро царь
было распорядился, чтоб этого не случилось, и, несмотря на то,
10 колен Израилевых отложились от Ровоама. Приводится такэке
известный случай из жизни пророка Валаама (Нов. 36),
разговаривавшего с ослицею. Жизнь и учение Иисуса Христа,
породившие такую богатую легендарную литературу, дали в Новеллино
содержание одной только легенде (Нов. 83), а именно о том, как
однажды ученики нашли на дороге золото и Господь не
позволил им взять его, говоря, что большую часть душ человеческих
оно отвлекает от царства небесного. В том они убеждаются сами
на обратном пути: два спутника нашли это золото, разделили его,
а потом один дал другому отравленный хлеб, тот зарезал его, и оба
погибли из-за найденных денег. Схоластическая наука средних
веков и прямой здравый ум народа, насмешливо относящийся к ее
измышлениям, сказались некоторыми анекдотами Новеллино,
и служат также доказательством его народного происхождения.
Так, в 29-й новелле — рассказывается, как в Париже мудрецы-
астрологи распределяли, где небо Сатурна, Меркурия, а главного
высшего начала все-таки не умели указать и определить; при этом
краткое рассуждение о бесполезности исследования тайн, скрытых
от человека Божией премудростью. Впрочем, эта одна из очень
немногих новелл, к которым прибавляется мораль или
поучение: обыкновенно рассказ ведется кратко без всяких выводов,
комментариев и т. п. Новелла 35-ая характеризует упрямство
ученого, настаивающего на научной теории вопреки ее очевидному
опровержению на практике. Новелла 38-ая осмеивает астролога,
заглядевшегося на небо и угодившего в яму.
Но все эти и подобные им сюжеты указывают только на общение
итальянцев с остальной Европой и, доказывая древность сборника,
содержат, в сущности, очень мало национального, хотя действие
их происходит большею частью в Италии. Тут есть другой ряд
рассказов; те, хотя переносят нас иногда во Францию или Англию,
но характеризуют больше всего ранний период итальянской
литературы, и их следы встречаем и у Боккаччо, и в позднейшей новелле.
Это именно рыцарские сюжеты, которые были знакомы Италии
222
Α. ABA
через посредство провансальской поэзии, имевшей такое громадное
влияние на юге и западе Европы.
Не иначе, как через Францию и Прованс, шли в Италию те
отрывки и намеки на рыцарские эпопеи, которыми так богат наш
сборник. В самом деле, нигде воинственный характер новых
народов, семена христианских идей, падшие на их нетронутую
почву, близость арабской цивилизации, богатая природа края,
материальное благосостояние населения, не содействовали в
такой степени процветанию поэзии, как в Провансе. Тут светлые
стороны рыцарства, его восторженные идеалы нравственного
совершенства, вызванные христианством в восприимчивой природе
обновленного человечества, его уважение к женщине, принявшее
от близости востока оттенок страстности, а с другой стороны,
знакомство с богатой красками поэзией арабов вдохновили трубадуров,
которые, если не внесли сами ничего великого в общеевропейскую
литературу, зато вызвали к деятельности итальянских лирических
поэтов. Через трубадуров проникали в народную литературу и те
отголоски северных сказаний о сподвижниках Карла
Великого, о героях Круглого Стола, которые одинаково знакомы были
всему рыцарскому миру. Воинственные и любовные похождения
Ланселота и Жиневры, Тристана и Изотты вдохновляли певцов,
как в Англии и Германии, так и во Франции и Италии. Понятно,
что если итальянский ум ценит красоту любовной лирики
провансальцев, нашедшей в Италии многочисленных подражателей,
то он не мог оставаться равнодушным и к тому художественному
блеску, которым одето было рыцарство и который на севере
породил такую богатую повествовательную поэзию; не удивительно
потому, что в его поэтическом творчестве встречается так много
рыцарских сюжетов. От этого и Новеллино так полно сюжетами
из рыцарской жизни, французское происхождение которых
несомненно; мало того, что самый язык изобилует французскими
оборотами речи и провансальскими именами, но в нем встречаются
целые фразы и (в Nov. 64) целое стихотворение на
провансальском языке. Большинство новелл нашего сборника рассказывает
в форме коротеньких, незатейливых анекдотов отдельные случаи
из придворной жизни, благородные поступки, остроумные ответы
и всякие выражения рыцарских доблестей; приводится множество
примеров великодушия, щедрости, «courtoisie» разных государей.
Собственно двоим приписывается особенно много этих добродетелей:
король английский «II re giovane»12 (предполагают, что так прозван
в народных преданиях Генрих III, коронованный при жизни отца)
Итальянская новелла и «Декамерон»
223
прославляется в некоторых рассказах за самую неумеренную
щедрость (Nov. 19, 20: délia grande liberalità e cortesia del re giovane)
и за любовь к трубадурам и труверам. Этим же покровительством
певцам и художникам памятен народу и император Фридрих II
(1194-1250), который вообще имел больше влияния на итальянскую
литературу, и которого народное воображение делало героем и
баснословным разрешителем всяких мудреных процессов. Крестовые
походы, приключения крестоносцев не могли не дать материала
повествовательной литературе своего времени: на Новеллино они
отозвались анекдотом о кипрском короле (Nov. 51),
послужившем темой хорошенькой новеллы в «Декамероне», и рассказом
(Nov. 67) о Ричарде Львиное Сердце, которого от хитрых козней
Саладина спасла его проницательность; а сам Саладин, не мало
достоинствами своего характера поражавший народную фантазию,
служит героем одного рассказа (Nov. 25), в котором восхваляется
его щедрость и уловка, употребленная им, чтоб видеть
христианские обычаи, а потом уличить врагов в неуважении к кресту,
символу их веры. В другом месте (Nov. 77) рассказывается, как
он был посвящен в рыцари Гугоном Табарийским, и объясняется
весь символизм этого обряда. Предание это, вероятно, очень
популярное на Западе и характеристическое, как для мусульманского
героя, так и для христианских рыцарей, служит так же сюжетом
одного северного фаблио. Но наряду с воинственными, и
романические, т. е. любовные похождения рыцарей, эти всюду и всегда
интересные темы повествований, не должны были оставаться без
влияния на итальянскую повесть; на нашем сборнике они не только
сказались в сюжетах и именах действующих лиц, но уже по тону
самых рассказов видно, что они исходили не из городской
жизни, обезобразившей позднейшую новеллу таким избытком грязи
и цинизма, а из рыцарских эпопей. Хотя и у Боккаччо chronique
scandaleuse13 рыцарской жизни давала обильное содержание крайне
непристойным рассказам, тем не менее никакому иному, как
именно рыцарскому влиянию можно приписать ту идеалистическую
подкладку в некоторых новеллах «Декамерона», которая резко
контрастировала с грубостью самых сюжетов. Новел лино содержит
в себе один образец отрывка из рыцарских сказаний. Вот перевод
этой 82-й новеллы — «Qui conta come la damigella di Scalot mori
per amore di Lancilotta di Lac», т. е., здесь рассказывается, как
девица Скалот умерла от любви к Ланчильото ди-Лак14. Дочь одного
знатного вассала влюбилась без меры в Ланчильото; но он не хотел
ей дать своей любви, потому что уже отдал ее королеве Жиневре:
224
Α. ABA
«И так сильно полюбила она Ланчильото, что была при смерти
и отдала приказание, чтоб, когда душа ее расстанется с телом,
снаряжена была богатая лодка, покрытая вся красным; чтоб
внутри ее было ложе с богатыми и дорогими шелковыми
покрывалами, украшенное богатыми драгоценными камнями. И тело
ее положить на это ложе и одеть самыми дорогими одеяниями
и надеть на голову самую лучшую корону, богатую золотом и
драгоценными камнями, и опоясать богатым поясом и положить
кошелек. А в этом кошельке было письмо следующего содержания.
Но скажем прежде, что было до письма. Девица умерла от любви
и все было сделано, как она хотела. Лодка без паруса была пущена
в море. Море принесло ее в Камалоту и оставило у берега. Слух
о том разнесся при дворе. Рыцари и бароны вышли из дворцов,
пришел и благородный король Артур и очень удивился, что в лодке
никого не было. Король вошел в нее, увидал девицу и убранство,
и велел открыть кошелек. Тут нашли письмо и в нем прочли:
Всем рыцарям Круглого Стола шлет поклон эта девица Скалот,
как лучшим изо всех людей на свете. И если хотите знать,
почему я скончалась, то это по вине самого лучшего на свете рыцаря
и вместе самого дурного, господина Ланчильото ди-Лак, любви
которого я не умела просить так, чтоб он сжалился надо мною. Так
я в горе и умерла за то, что сильно любила, как вы это видите».
Наивный, бесхитростный отрывок из рыцарской эпопеи написан
и тем небогатым, беспритязательным, но трогательным языком,
которым отличается большинство этих Cento Novelle, и который
придает им столько юности и свежести.
Мне кажется, сказанного достаточно, чтоб определить
содержание Новеллино: сказочные, библейские, античные и рыцарские
сюжеты придают ему характер вполне средневекового памятника
общеевропейской повествовательной литературы; а тосканское
наречие, хотя испещренное провансальскими галлицизмами,
указывает на то, что принялись и пустили корни эти семена, зародыши
повести, лучше всего в той среде, где раньше других пробуждается
поэзия и образование, т. е. на родине Боккаччо, во Флоренции.
Духом промышленного люда веет и от двух-трех анекдотов
Новеллино, в которых рассказывается про насмешки и проделки одного
торговца над скупостью и глупостью другого; анекдоты эти
проникнуты уже вполне теми интересами рынка и площади, которые
составят существенную черту художественной новеллы во
Флоренции. Но прежде, чем перейти к флорентийской новелле, посмотрим,
нет ли уже в самом Новеллино каких указаний на то, как из этого
Итальянская новелла и «Декамерон»
225
безыскусственного анекдота может развиться тот род повествования,
который создаст Боккаччо, и который по своей художественной
законченности никогда не перестанет служить образцом изящного
рассказа. Посмотрим прежде всего, как объясняется в сборнике
самый термин: «Новелла».
В предисловии его читаем, что здесь собраны цветы
красноречия, «alquanti fiori di parlare, di belle cortesie e di be' risposi e di
belle valentie e doni», так сказать перлы всего прекрасного:
поступков, ответов, доблестей славных людей прошлого времени;
цветы или перлы, которые могут поясняться, рассказываться
на пользу и удовольствие потомства. Следовательно, они дают
только тему рассказа, все значение их в содержании, потому что
они предлагают факты для повествования, как бы сырой материал.
Отсюда и простота их формы: анекдот, острота рассказывается
без всякого эффекта, как факт, который впоследствии может
служить благодарной основой более подробного рассказа. Отсюда
и то впечатление сухого résumé или конспекта, которое
производит даже сложные рассказы и сказки этого сборника, хотя в них
и не чувствуется недостатка деталей и подробностей; впечатление
это усиливается еще безыскусственным слогом, не взвешивающим
отдельных слов и выражений, а стремящимся к точной передаче
дела так, как оно есть. Тут нет и речи о соблюдении гармонии
в подборе и расположении рассказов довольно разнообразного,
как мы видели, содержания: рядом с описанием рыцарских
обрядов при посвящении Саладина в рыцари, следующая за тем
новелла, озаглавливается: «di certe pronte risposte e detti di valenti
uomini»15, и приводит без всякой связи несколько метких ответов,
острот и замечаний. Уже из этого видно, что такая новелла (№ 78)
не может представлять собою то, что мы разумеем под именем
повести; а что в то время называлось собственно новеллою, лучше
всего указывают те пять-шесть номеров нашего сборника, где
термин этот попадается в заглавии.
Надо сказать, что обыкновенно заглавия рассказов бывают
такого рода: как ангел говорил с Соломоном и сказал, что Бог отнимет
царство у сына его за грехи его; как император Фридрих сделал
вопрос мудрецам и наградил их; как два рыцаря любили друг друга.
Или: здесь рассказывается, как ломбардский рыцарь растратил свое
состояние; здесь рассказывается, как один умер от неожиданной
радости. Или: о вопросе, предложенном одному богатому человеку,
и т. д. Но вот особое заглавие: «Qui conta una novella di messer Imberal
di Balzo»16. Что значит Novella, поясняется самым содержанием:
226
Α. ABA
мессер этот был знатный провансалец, который занимался
астрологией и верил в разные гаданья по птицам, их движениям, полету
и т. п. Однажды, выехав со своей свитой, он встретил на дороге
женщину и спросил ее, не видала ли она сегодня утром галок,
сорок или ворон? Оказывается, что на ивовом пне она видела ворону.
В какую сторону была обращена хвостом? Женщина отвечала, что
птица держала хвост к заду. Мессер испугался такого
предзнаменования и дальше не поехал. И часто потом рассказывалась новелла
в Провансе, как наивный ответ (per novissima risposta), который,
не думая, дала эта женщина. Итак, новеллой здесь называется
не рассказ, а сама глупость суеверия, и вместе с тем и наивность
неожиданного ответа. Потому что пиоио, как значится в
объяснении устарелых и непонятных слов, приложенных к Новеллино,
употребляется в смысле «веселого, смешного своей глупостью или
экстравагантностью, piacevale per simplicità о stravaganza». В таком
смысле употребляет его и Боккаччо: новые — веселые рассказы,
новый — глупый человек. «Отсюда и сказки, и смешные рассказы,
были новеллами». Таким образом «una novella di messer Imberal del
Balzo» можно перевести: глупость, наивность, простота господина
такого-то17; a novissima risposta будет значить и удачный, наивный
ответ, и вместе с тем забавный, смешной.
Вот перевод другого рассказа, где заглавие такое: «55. Qui conta
d'una novella di un uomo di corte ehe avea nome Marco (здесь
рассказывается про "новеллу" одного придворного, по имени Марко): Марко
Ломбардского, ученейшего из всех ученых, спросил однажды один
почтенный и веселый человек, который секретно принимал от людей
деньги, но не брал вещами, был большой насмешник и назывался
Паолино. Он сделал Марко вопрос такого рода, думая, что на него
он не сумеет ответить: — Марко, сказал он, ты самый мудрый
человек во всей Италии, но ты беден и презираешь подаяния; почему
ты не устроишься так, чтобы быть богатым и не просить помощи
других? Марко посмотрел вокруг себя и сказал: — Никто теперь нас
не видит и не слышит. Как сам ты устроился? (Е tu come hai f atto?) —
Насмешник отвечал: я устроился так, что я беден. Марко ответил:
ты скрываешь это от меня, а я от тебя!» Помимо того, что здесь
хорошо видно, как неумело и многословно рассказан анекдот, вся сила
которого в сути одной заключительной фразы, но здесь говорится
прямо про «новеллу» этого Марко, т. е. про удачный, ловкий ответ
его, которым он отделывается от насмешника. Здесь новое значит
не столько наивное, сколько необыкновенное не по своей глупости,
а по редкости, по уму и находчивости.
Итальянская новелла и «Декамерон»
227
Такое же значение этого выражения находим мы и в Nov. 74: Qui
conta una novella d'un f edel e d'un signore18, где рассказывается, как
крестьянин выпутался из беды, благодаря смешному замечанию:
«Барин, сказано, велел наградить его, per la nuova cosa19, которую
он сказал». Новинка, новое опять в смысле не только красного
словца, но и слова кстати. Вообще это выражение может
применяться в очень широком значении. Как оно употреблено в Nov. 64
под заглавием: «D'una novella ch'avvenne in Provenza, alla corte del
Po» (о новелле, случившейся в Провансе при дворе По), — видно
из следующего содержания рассказа: после описания рыцарской
жизни при дворе, говорится как один рыцарь любил свою даму,
но кто она была, никто не знал. Желая открыть этот секрет, другие
рыцари сговорились на пиру хвалиться своими дамами; скрытный
рыцарь не утерпел и выдал свою тайну, за что дама сердца отказала
ему в своей любви, а он ушел в лес и сделался отшельником.
Спустя несколько времени, общество придворных дам и кавалеров
заблудилось на охоте; встретившись с отшельником, они рассказали
ему, как их двор потерял лучшего своего рыцаря, который пропал
неизвестно куда; но вот в скором времени назначается большой
турнир и, если пропавший герой сохранит свои доблести, он
вероятно явится, где бы ни находился. Конечно, отшельник
возвращается, принимает участие в торжестве, получает пальму первенства
и просит прощения у своей дамы, которая соглашается простить
его только в том случае, если сто баронов и сто рыцарей, сто дам
и сто девиц разом попросят за него. Рыцарь отправляется на
богомолье в монастырь, куда собирается двор и множество баронов, поет
чувствительную песню (приведенную на провансальском наречии)
о помиловании, в заключение которой все тронутые слушатели
просят за него прощение. Дама не могла не умилосердиться, и все
пошло по старому. — Такая «новелла» случилась; следовательно,
тут новелла — нечто необыкновенное, выходящее из ряду вон, —
новое, т. е. своеобразное приключение, сила которого в том, что
человек распутывает затруднительные обстоятельства путем умной,
новой (в смысле оригинального) уловки. Почти такое же значение
имеет этот термин и в Nov. 99, — рассказе, который мог бы служить
богатой темой повести и комедии, столько в нем затронуто разных
положений и житейских отношений, так много в нем действия,
интересного, живого и вместе вполне правдоподобного.
Но, кажется, достаточно уже приведенных примеров, чтоб
видеть, что в Новеллино, этом сборнике назидательных сказок,
поучительных, иногда очень тонких и глубоких изречений, остроумных
228
Α. ABA
ответов, занимательных приключений, новеллой в тесном смысле
слова называется такой сюжет, весь интерес которого в
неожиданной, новой развязке, вся соль или в осмеиваемой глупости, или
в находчивости ума, или в стечении обстоятельств, «ново»,
оригинально складывающихся. Такие сказки, рассказы про веселые
и необыкновенные случаи у итальянцев назывались «новинками».
Если эти темы, которыми издревле богата и фантазия народа, и его
жизненный опыт попадают на почву широкой общественной
жизни, в городе дипломатов, насмешников, которые сумеют обратить
их в бичевание всего смешного и глупого, то при быстром развитии
литературы они сделаются наиболее художественным и изящным
видом повествовательной прозы. Так это и было во Флоренции.
Боккаччо воспользовался всеми теми элементами повести, которые
мы видим в Новеллино, и которые жили уже в
анекдотически-сказочном материале общеевропейского народного повествования.
Особенно сильно развил он те стороны этих — и восточно-сказочных,
и рыцарских — тем, которые лежат в значении самого термина
новелла; поэтому он очень много места уделил прекрасным ответам,
bel risposi, составляющим по предисловию к Новеллино, наряду
с примерами доблести, с великодушными поступками, украшение
речи, цвет рассказа, fiori di parlare. Но тон и направление
«Декамерона» зависят столько же от общих основ средневековой повести,
от первого источника этих сюжетов, сколько от влияния
современной новеллисту итальянской городской жизни. В чем то влияние
заключалось, как сказывалась на новелле флорентийская жизнь,
яснее всего видно на произведениях, хотя и вызванных
«Декамероном», но более резво и исключительно отражающих в себе эту
жизнь, имеющих потому менее широкое значение, чем
«Декамерон», — на произведениях новеллистов-современников Боккаччо.
У одного из них, Саккетти, мы видим, что новелла все содержание
свое черпает из окружающей действительности и усиливает особенно
насмешливый тон в рассказе разных «новых», т. е. оригинальных
или глупых событий и происшествий. Повести эти, хотя вызванные
подражанием «Декамерону», литературного, эстетического значения
имеют мало; но они чрезвычайно характерны для времени и для
той стороны умственной жизни, которая вызвала в свет новеллу,
которая не находит себе выражения в высоких родах литературы
и играет тем не менее существенную роль в поэтической
деятельности человека. Эта легкая, шутливая поэзия, назначенная для
забавы, не претендует на высокое значение в исторической жизни
нации, но, достигая художественного совершенства, имеет более
Итальянская новелла и «Декамерон»
229
права на внимание историка литературы, чем иное произведение,
рассчитанное на поучение потомства. Поэтому флорентийские
новеллы Саккетти, представляя собою не более как пересказ разных
необыкновенных, смешных, забавных случаев жизни, имеют для
нас огромный интерес: они указывают на те потребности народного
ума, из которых вытекает этот род повествования и которые находят
свое художественное выражение в Боккаччиевой новелле, а главным
образом они указывают на тот строй жизни во Флоренции, который
обусловил данное развитие новеллы.
Франко Саккетти (1385-1400) стоит на ряду самых
образованных людей своего времени; занимая видное место в республике, он
пользовался уважением сограждан, много путешествовал по делам
правительства, имел огромные знакомства по Италии, вел дружбу
как с князьями, так и с учеными; кроме общественной деятельности
жизнь его наполнена разными перипетиями: он потерял состояние,
родные его были замешаны в политических смутах; но ни высокое
положение в республике, ни серьезный и строгий характер не
помешали веселости его флорентийского ума и бойкости, вольности
и бесцеремонности пера. Страстный поклонник Петрарки, в
многочисленных стихотворениях своих он является подражателем его
любовной поэзии; сам он в продолжение 26 лет любил одну особу,
имя которой осталось потомству неизвестным. Но это рыцарское
поклонение женщине, эта высокая любовь, предмет несметного
множества канцон и сонетов, слишком глубоко не затрагивала жизни
и образа мыслей поэтов того времени. Чувства эти были навеяны
извне, были модой, и тот Саккетти, который в сонетах воспевал
идеалы Петрарки, в новеллах своих сходится с народными взглядами,
выразившимися в средневековой повести на женщину и женскую
добродетель: если в его рассказе на сцене женщина, то можно
наверно сказать, что тут не обойдется дело без неприличной, грязной
выходки. Поэтому в защитнике того мнения, что примерные жены
воспитываются побоями мужей (Nov. 84-86), в наше время трудно
узнать приверженца Петрарки и поклонника высокой чистой
любви; но тогда эти резкие контрасты уживались очень легко. Вообще
двойственный характер этого писателя представляет чрезвычайно
характеристичное явление для этой довольно ранней эпохи
европейского образования: так, если в канцонах, сонетах, проповедях
на церковные темы виден человек вполне образованный и
воспитанный на той лирике, которую провансальское влияние внесло
в итальянскую литературу, то в новеллах, главном его
произведении и единственном, которое было напечатано, этого характера нет
230
Α. ABA
и следа. «Trecento Novelle»20 — порождение исключительно местной,
городской жизни Италии. Человек остроумный, наблюдательный,
знакомый со всеми слоями общества — в те времена, когда не
существует большой розни понятий между отдельными классами, когда
приоры республики забавляются так же грубо и плоско, как любые
площадные торговцы, Саккетти исподволь записывает все, что ему
доводится слышать и видеть смешного, оригинального, остроумного,
«cose nuove», будь то старинный анекдот, находчивость посланника
перед папой, острота придворного шута, крепкое словцо краснобая
трактирщика, проделка шулера, ловкое мошенничество лавочника,
хитрость паразита, пообедавшего на чужой счет, — и таким путем
составляется целый сборник, чрезвычайно популярный в свое время.
Здесь мы не найдем тех элементов повествования, которые так
сильны в Novellino; здесь нет отголосков рыцарских эпопей, античных
библейских сказаний, за то не мало общеевропейских сказочных
сюжетов, без которых не мог обойтись сборник, вращающийся почти
исключительно в области народного житейского опыта.
Я не стану приводить содержания этих анекдотов и сцен из
народной жизни, потому что много родственного и похожего с этими
рассказами мы найдем в новеллах Боккаччо; к тому же и острота их,
вся соль до того грубого свойства, что в наше время то, что
заставляло действующих лиц хохотать, держась за бока, у нас вызывает
не смех, а скорее отвращение, — так оно грязно, плоско и
незамысловато. Но публика нашего автора не так была требовательна: напр.,
рассказывается (Nov. 70), как одному не хотелось платить деньги,
чтоб зарезать свинью, и он режет ее сам; как свинья вырывается
из-под ножа, бросается и пачкает все, попадает в колодец и т. д.,
рядом убытков наказывая хозяина за скупость; и описывается все
с такими подробностями, что очевидно, как наслаждается и
рассказчик, и слушатели. Вообще случаи, в которых кошки, свиньи,
ослы играют главную и редко благопристойную роль, дают темы
рассказам весьма первобытного комизма.
Так как автор рассказывает постоянно случаи из действительной
жизни, то и про исторических лиц эпохи тут встречаем много
анекдотов, быть может и вымышленных, но рисующих их с одной только
будничной, мелкой стороны. Про какого-нибудь Висконти,
известного тирана своего времени21, узнаем (Nov. 82), как он потешался
в Милане, заставляя напиваться двух придворных, чтоб увериться,
кто кого перепьет. Про Данте рассказывается (Nov. 8) una piacevole
risposta, шутливый ответ, весьма грязный и плоский, который мог
дать всякий другой флорентинец, и непонятно, почему он вложен
Итальянская новелла и «Декамерон»
231
в уста великого поэта. Другие два анекдота про него интересны тем,
что доказывают, как близка была народу «Божественная комедия»:
ее распевали ремесленники, погонщики ослов и т. п. (Nov. 114
и 115). Идя за ослами и распевая, мужик прибавляет от себя
лишнее слово; поэт слышит это и поправляет его; тот высовывает ему
язык, на что Данте отвечает шуткой, un piacevol motto22: «одного
своего (языка) не отдам за сто твоих». Не менее близка была народу
и деятельность его художников, выходивших, как свидетельствует
история итальянского искусства, из лавок мастеровых.
Популярность знаменитого Джотто, которого особенно ценили за бойкость
и веселость характера, выразилась и в новеллах Саккетти и Бок-
каччо, и дала повод рассказать в «Декамероне» некоторые его
похождения и проделки, считавшиеся очень остроумными.
Хотя Саккетти все, что рассказывает, выдает за истину, приводит
всегда полное имя действующего лица, город, время и политические
обстоятельства, при которых совершается то или иное событие,
говорится та или другая острота, — но, конечно, верить ему на слово
трудно, потому что он записывает рассказы, которые живут в народе
и искажаются, применяясь к разным лицам, так, напр., анекдот
о том, как поэт отнимает у ремесленника его инструменты за то,
что он коверкает его стихи, — анекдот, который Саккетти
приписывает Данте, потом прилагался к другим поэтам Италии. Тем
не менее новеллы эти дают самый обильный материал историку того
времени, особенно историку культуры, — такой яркий свет
проливают они на общественные, семейные и нравственные отношения
современного общества; особенно семейный быт разоблачается тут
с той беззастенчивой откровенностью, которая немыслима в наше
время, а, возможно, была в XIV веке и притом же на юге, где страсти
высказываются сильнее и бесцеремоннее.
Саккетти невольно, желая только развлекать и смешить,
характеризует нам быт своего народа и рисует его лучше, чем наши
сочинители народных сцен и жанровых картинок в литературе, потому
что не имеет целью ни обличения, ни ознакомления образованного
меньшинства с младшей братией, а просто списывает с натуры, что
поражает его. Тут мы встречаем и князей, и приоров Флоренции,
и генералов, и солдат, и шутов, и художников, и купцов, и
ремесленников, и игроков, и шулеров, и ростовщиков, и домоправителей,
не говоря, разумеется, про духовенство, которое, как известно,
доставляло самые обильные сюжеты средневековой насмешке;
а у Саккетти оно занимает своими похождениями и
злоупотреблениями самое видное место. Тут историк найдет разбросанные
232
Α. ABA
черты всей городской жизни Италии: никакое сословие, никакая
сторона общественных отношений не осталась незатронутой; все
они нашли себе обличение в этих беспритязательных новеллах —
анекдотах. И тут особенно характерно не столько самое содержание
их, не столько то, что тут узнаем про известных исторических лиц,
сколько самый тон этих рассказов: в них собственно
обличительного, карательного направления искать не следует, потому что для
итальянского новеллиста важен никак не смысл, не результат,
не общественное значение осмеиваемого события, а сам факт, сама
насмешка, то наслаждение, которое испытывает умный человек
при виде хорошо сыгранной «штуки» — тот смех, который всегда
вызывается сопоставлением двух противоречивых представлений.
Поэтому, говоря про сатирический дух новеллы, надо помнить, что
эта сатира не наша, не обличение во имя какого-нибудь принципа
или идеала, а смех для смеха, для забавы. Это интересная черта
литературы, которую мы встретим и у Боккаччо, и которая зависит
от самой эпохи. Потому, не останавливаясь на других исторических
чертах нашего сборника, мы укажем только на эту сторону его, как
объясняющую отчасти и многое в «Декамероне», и очень важную
для самой формы художественной новеллы.
В предисловии автор говорит, что его труд вызван подражанием
Боккаччо; но между его сборником и «Декамероном» — огромное
расстояние; большая разница уже в самой форме: Саккетти от
своего лица, просто одно за другим, без всякого подбора рассказывает
все те приключения, остроты, которые он сам видел или слышал
от других, между тем как повести Боккаччо вставлены в очень
искусную рамку и составляют части одного закругленного целого;
содержание «Декамерона» гораздо шире, а у Саккетти, несмотря
на то, что так велик круг действующих лиц, оно чрезвычайно
однообразно и сводится почти все к одной мысли, вполне
местного и современного характера. Старинная итальянская повесть
не озаглавляется одним словом или одним именем; обыкновенно
в заглавии рассказывается в двух-трех строках весь сюжет ее;
у Саккетти стоит просмотреть только оглавление, чтоб увидать,
в чем содержание и главный интерес его новелл. В редком из этих
заглавий мы не найдем выражения: un piacevol motto (un mot
plaisant), una piacevole risposta, un bel detto, una notabile parole23,
или una beffa (проделка, насмешка на словах или на деле), una
malizia, una sottile astuzia24, un bello inganno (прекрасный обман);
все эти остроты, находчивые ответы, лукавые увертки, хитрости
показывают, что Саккетти термин «Novella» употребляет почти
Итальянская новелла и «Декамерон»
233
исключительно в том тесном смысле, в каком он иногда употреблен
и в «Novellino», т. е. в смысле необыкновенной, так сказать «новой»
хитрости или догадливости, которая составляет весь интерес
рассказа, приводя к развязке его действие и, в большинстве случаев,
выручая человека из какого-нибудь затруднения.
Nuovo иначе и не встречается у Саккетти, как в этом смысле
чудачества или оригинальной глупости; примеры слишком
обильны, чтоб приводить их; достаточно будет указать на Nov. 6, где
повествуется, как один трактирщик, Basso délia Penna, про
которого здесь собрано множество анекдотов, шутник и балагур,
желая исполнить волю господина, просившего у него
какой-нибудь новой необыкновенной птицы, сам сел в клетку и велел
принести себя к барину, говоря, что новее этой птицы никакой
не нашел (considerando chi io sono e quanto novo sono25). Эта
игра слов объясняет значение человека нового, как забавника,
весельчака; в других новеллах, напр., у Боккаччо, оно означает
просто глупенького простачка, а у Саккетти — чудака, оригинала
по своему уму или по большой глупости. Поэтому «Novella» у
него — рассказ о разных шутках, часто крайне возмутительных.
Ничто не смешит и не радует так Саккетти, как если герои его
с помощью ловкого ответа умеют вывернуться из беды или
одурачить других; поэтому он с одинаковой любовью рассказывает как
о находчивости послов, забывших данное им дипломатическое
поручение, о насилии и деспотизме тиранов, так и о воровстве-
мошенничестве горожанина, об остроумии ребенка,
перехитрившего привилегированного шута, и о нечистых проделках шулера;
иногда просто перебранка между мужем и женою дает содержание
целой новелле, вся соль которой в крайней грубости и цинизме
выражений, нелишенных, пожалуй, своего рода остроумия.
Вообще его однообразное содержание поражает в наше время
столько же ловкостью, умом действующих лиц, сколько нравственным
индифферентизмом автора. В самом деле, для него ложь, обман,
самая безбожная насмешка, возмутительное преступление,
насилие над беззащитным, злоупотребление сильного — интересны,
поучительны и забавны, как проявления ловкости, как искусство
пользоваться силой, умом, случаем. Правда, после каждого
анекдота он не выводит, а привязывает к нему какую-нибудь мораль,
поучение или заключение, но тон рассказа до того противоречит
тону этой морали, что тут невольно чувствуется двойственность
писателя: как образованный и набожный человек, он разводит
мораль, чувствуя, быть может, что ум не искупает зла, но, как
234
Α. ABA
дитя своего века и своего народа, не может не радоваться успеху
сказанной остроты или сыгранной шутки.
И этот двойственный характер Саккетти не удивит нас, если
вспомним, что он произведение флорентийской жизни. А
Флоренция в то время так же славилась своим остроумием, как в
древности Афины, насмешливостью столько же, сколько остроумием,
вообще изощрением, тонкостью диалектических и критических
способностей. Народ предприимчивый, торговый, флорентийцы
раньше других усилили свою городскую общину, выработали себе
политическую самостоятельность, а демократическая свобода,
уравнивая все сословия, рано породила у них и независимый дух
критики. Жизнь плутов-менял и банкиров воспитывала в них
изворотливость ума и ту подвижность характера, общую у них
с афинянами, которая так жестоко осмеяна Данте, и которая
у человека часто зависит от духа критики. Принимая участие
в делах правления, народ, то защищая добытые права, то
добиваясь новых, постоянно менял свое государственное устройство и,
перекраивая его то на тот, то на другой образец, создавая новые
законы, новые ограждения своей свободы, он научался различать
в борьбе партий разные причины и поводы человеческих
действий*, изощрял до тонкости аналитические способности ума,
но свободы удержать не умел. Страсть к политическим делам
проявилась у флорентийцев очень рано, и вот почему балагуры,
краснобаи, торгаши доставляли из среды себя, как придворных
шутов, «счетчиков и цифирников»27, по злому выражению Яго
в характеристике флорентийца Кассио («Отелло», д. 1 сц. 1), так
и посланников, хитроумных дипломатов. Италия всегда
представляла самое широкое поприще для политических интриг:
разделенная вся на множество мелких враждующих государств
с противоречивыми интересами и самыми разнообразными
правительствами, начиная с республики и кончая клерикальным
Римом или монархическим Неаполем, Италия уже в средние века
дает большой простор единичным талантам, отдельной личности,
и рано вырабатывает тип ловкого дипломата, который в XVI веке
находит себе гениальнейшего представители в лице Макиавелли.
И как умом глубоким он умеет
Всех дел людских причины постигать!26 —
говорит (3 д. 3 сц.) Отелло про Яго, и в самом деле, для того, чтоб затянуть
адскую сеть, построить интригу этой трагедии, взятой из итальянской
новеллы, нужен был если не глубокий ум, то, во всяком случае, недюжинные
диалектические и дипломатические таланты.
Итальянская новелла и «Декамерон»
235
С именем великого политика непременно связывается понятие
о крайней безнравственности, полнейшей деморализации
общества, — это и на деле самая яркая черта эпохи возрождения;
но тогда, в XVI веке, явление это так поразительно, потому что
в судьбах полуострова заинтересована почти вся Европа, и потому
что Италия достигла высшей степени своего умственного и
художественного развития, а в сущности деморализация эта началась
гораздо раньше, и «Принц» Макиавелли28 подготовлялся
целыми веками флорентийской жизни, целым строем политического
и умственного быта Италии. Ставя тонкость ума выше всех других
способностей, флорентийцы рано научились ловкую интригу,
проведенную во всех мельчайших подробностях, требующую
глубокого знания людей и обстоятельств, ценить выше всех
законов нравственности. Для них понятие о добре и зле заменялось
понятием об успехе и неуспехе, удаче и неудаче. Да и откуда им
было выработать нравственный идеал? На религию их
нравственность опираться не могла: церковь, носительница всех высших
стремлений общества, представляла из себя тот развращенный
папский двор, на пороки которого поэты привыкли изливать свое
негодование, и который религиозное значение имел только для
отдаленного севера, а для Италии стал рано синонимом
испорченности. Папа точно так же не мог противодействовать общему
разложению нравственных понятий, как не мог дать политического
единства Италии: отсутствие одной сильной власти, давая простор
личным стремлениям и интересам отдельных талантов, выдвинуло
в Италии силу личности, силу индивидуальности в то время, как
в остальной Европе господствует еще масса, корпорация, целое
общество; а это раннее развитие индивидуальности вызывает новое
направление и в умственной жизни Европы, гуманизм, двигает
вперед и искусство, а в политической жизни страна дает перевес
деспотизму мелких тиранов над городскими республиканскими,
аристократическими учреждениями. При слабости нравственных
понятий ничто не сдерживает стремлений личного произвола,
и тот блестящий век возрождения, который производит ряд
гениальных личностей, есть в то же время век самой полной, самой
глубокой деморализации: если общество поощряет проявления
таланта у человека, оно не обуздывает и злоупотребления
силами, не сдерживает разгула страстей, которым дается воля, как
выражение силы и характера. В этом крайнем индивидуализме
коренится как все зло политического быта и деморализации этого
общества, так и единственное в истории процветание искусства
236
Α. ABA
и науки, обаяние которых мирит со многими грустными
явлениями этой жизни*.
Такая деморализация не могла не отозваться и на литературе,
не могла не сказаться в самом популярном, в самом близком народу
произведении, созданном его жизнью и его фантазией, в новелле. Как
много злобного смеха (Hohn30) накопилось в анекдотах Саккетти —
поражает историка итальянской культуры (J. Burckhardt: Die Kultur
der Renaissance in Italien31. I, p. 181); в самом деле, насмешливым
характером своих новелл он лучше всего доказывает, как за ум,
ловкость, уменье солгать и извернуться, прощается всякое зло,
всякое беззаконие. Насмешка не щадит никого и ничего: священник,
ради красного словца, рад подшутить и над таинством, которое он
совершает, каламбуров не останавливает и смерть, человек «новый»
умирает с игрою слов на губах. А между тем за всяким рассказом
следует непременно мораль, которою автор как будто прикрывает
всю возмутительную грязь, всю беспощадную злобу своих «веселых»
рассказов; на деле он и не замечает, что описываемая проделка —
преступление, что обман и воровство для большинства человечества
не есть доказательство только ума и тонкости. Просматривая такие
новеллы, невольно удивляешься выносливости и терпимости их
читателей: если их забавляли такие похождения, если они за хитрую,
умную шутку, за безжалостное одурачение простоватого человека,
мирились со всякой несправедливостью, часто забывая, что проделка
граничит с преступлением, — то надо сознаться, Флоренция ценила
ум слишком высоко. Впрочем, кроме ума она ценила еще — и за это
многое простится ей — художество. Эти мошенники-плуты были
не только злыми насмешниками, бессовестными остроумниками:
народ торгашей и ремесленников был, в то же время, наиболее
художественно одаренным народом всего полуострова; их искусство,
которому у них потом учатся целые века, было достоянием масс,
а не привилегированного сословия; их художники выходили из
народа, учились в мастерских каменщиков, литейщиков, ювелиров
и никогда не теряли связи с народом (63-я новелла Саккетти о том,
как мужик-мастеровой является с заказом к Джотто); ряд великих
архитекторов, скульпторов, живописцев, которыми гордится
Флоренция XV и XVI века, мог выдвинуться только при поддержке целого
* Факты, подтверждающие эту мысль, рассеяны в интересном труде Symonds
«Renaissance in Italy»29, в первом томе которого, Age of despots, очень
наглядно характеризован политический и нравственный строй этого общества
и преобладание в нем личного произвола.
Итальянская новелла и «Декамерон»
237
общества, мог воспитаться только уменьем самого народа ценить свои
таланты. И не одно только образовательное искусство обязано этому
народу своим движением вперед, — вспомним только, что три
великие светила общественной литературы: Данте, Петрарка, Боккаччо,
родились во Флоренции, что их творения читались и понимались
массою, всем обществом от ученого до мастерового, что эта поэзия,
первая в Европе, была отголоском народного творчества, — и у нас
несколько сгладится безотрадное впечатление новелл Саккетти. Нам
станет понятно, что народ, деморализованный неустойчивостью своей
государственной жизни, в это господство деспотизма под разными
видами, народ, в котором из всех высших стремлений человечества
прежде всего и громче всего говорило эстетическое чувство, ценил
в новелле веселость насмешки, а главным образом un bello inganno,
«прекрасный обман», т. е. тонкое ведение хитро задуманного
плана, — хотя бы он вел за собою преступление, — ловкость проделки,
силу остроумного, хотя бы и грубого ответа; ценил успех шутки, как
понимал мастерство, ловкий прием художника, технику и эффект
художественного создания, решительно помимо всякого нравственного
значения описываемого факта. От этого новеллист останавливается
на всех деталях рассказа, с любовью рисует каждую мелочь: для
него содержание, эта хитрость сыгранной штуки, «beffa», есть своего
рода произведение искусства, к которому рассказ его относится как
рамка к картине, и то, что нас возмущает, как безнаказанность
произвола, для него есть признак силы, есть художественность жизни.
К тому же сам быт художников давал материал для новеллы: если
«новелла» — «новое», значили для итальянцев преимущественно
нечто чудное, небывалое, то жизнь редкого художника не давала
тем для новеллы. Ведь даже и у нас право чудить и
оригинальничать признается за «вольными» художниками, а там, где ничто
не стесняло проявлений личного характера, капризов фантазии,
художники пользовались этим правом с большей свободой, чем в
наше время, когда и высокому таланту жизнь ставит определенные
условия и ограниченные рамки. А тут, если большинство одарено
художественным чутьем и фантазией, склонной к некоторой
оригинальности, то понятно, что у веселого народа не будет конца разным
выдумкам, выходкам, которые отразятся в литературе, в содержании
и форме излюбленной народом новеллы. Вот почему в том рассказе,
который отталкивает нас своим индифферентизмом к добру и злу,
художественная фантазия народа умела усмотреть артистическое
проявление ума, та сказать, chef d'œuvre32— красоту человеческой
хитрости.
238
Α. ABA
Вот почему и гениальное произведение несравненного
художника-рассказчика Боккаччо так изобилует описаниями разных
случаев плутовства, насмешничества и т. п., которые были бы
непонятны, если б не вытекали из исторических условий итальянской
жизни того времени, из преобладания в ней эстетических идеалов
над нравственными; истое дитя своего века, Боккаччо собрал в одно
целое все, что издавна наполняло художественную фантазию его
народа, будь то скандальное похождение монаха, ловкая
увертка жены, обманывающей мужа, или нежное чувство рыцарской
любви, находчивый ответ придворной дамы. Вот почему, одевши
это всему народу понятное содержание в не менее доступную ему
форму, Боккаччо упрочил громадный успех своего «Декамерона»
на целые ряды последующих поколений. Как гениальный писатель,
он воспользовался всеми источниками поэтического вымысла,
которые были в распоряжении его нации, чтоб открыть новую дорогу
европейской повествовательной поэзии.
^а^
^^
И. M. ФРАДКИН, A. Л. ШТЕЙН
«Декамерон» Боккаччо
и проблема новеллы раннего Возрождения
Раннее итальянское Возрождение представляет для нас особый
интерес, ибо ни одна страна в Европе не знала такого пышного
расцвета вольных городов, «этой красы и гордости средневековья»
(Маркс), как Италия.
Творчество Боккаччо, крупнейшего итальянского реалиста
Раннего Возрождения, заключает в себе, с одной стороны, черты,
характерные для Ренессанса высокого, а с другой, несет еще на себе
груз средневековья.
Выявить основные черты, отличающие «Декамерон» от собственно-
средневекового творчества — фабльо, и показать своеобразие
Боккаччо, как представителя раннего этапа движения, а также наметить
основные литературные проблемы Раннего Возрождения, связанные
с «Декамероном», — таковы задачи этой статьи, не претендующей,
конечно, на раскрытие всего многообразия творчества этого
крупного художника.
I
Патриархально-готический город создал фабльо, как наиболее
типичное выражение своего понимания мира. В нем заключены уже
некоторые черты, характерные для всей буржуазной литературы,
вплоть до XVIII века, но в нем же особенно чувствуется
ограниченность средневекового бюргерства. Подобно тому, как сама буржуазия
срывает идеальные покровы и обнажает грубую сторону реальных
отношений, так и фабльо трезво и цинично показывает жизнь.
Героями фабльо движут очень простые мотивы — желания
кого-нибудь надуть, достать денег, отвоевать место под солнцем.
240
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
Из всех героев фабльо наибольшей симпатией автора пользуется
клирик, ловкий, хитрый и неотразимый. Его лукавство и
изворотливость помогают ему выходить победителем из любой борьбы.
Другие герои тоже непрочь сплутовать, но это им удается не часто. Мы
находим в фабльо целый ряд персонажей — «социальных масок»,
имеющих постоянные характерные черты. Это рыцарь, жестокий
и ищущий способа выгодно жениться, это крестьянин — глупый
увалень, которого часто одурачивают, но который не лишен
известной изворотливости.
Фабльо не задевает представителей высшего дворянства и
государства. Бюргерство было еще настолько ограничено, что своей
большой преобразовательной программы не имело, хотя и
критиковало враждебные ему явления. Юмористическое, в основном,
отношение к миру приобретает сатирическое негодование при
обрисовке попов и монахов. Фабльо с удовольствием описывает, как
их сжигают в печи, бросают в помойную яму и убивают. С огромной
и неизменной ненавистью говорят рассказчики об этом враждебном
городам сословии1. «Ересь городов — а она является официальной
ересью средневековья — была направлена, главным образом,
против попов, на богатство и политическое положение которых она
нападала» (Энгельс).
Ограниченный средневековый бюргер презирает женщин. Фабльо
разворачивает бесконечную серию женских хитростей; целый ряд
рассказов специально посвящен женам, обманывающим своих
мужей. Но, смеясь над глупым мужем, рассказчик не восхищается
женами, а скорее предостерегает против них. Женщина развращена,
упряма, способна холодно мстить и испытывает нездоровый интерес
к злу. Для фабльо не существует любви, как этической и
принципиальной проблемы. Существуют ловкие, забавные и довольно
грязные проделки жен и любовников, в которых именно и заключено
интересующее рассказчика комическое зерно.
Как характерную черту фабльо, нужно отметить еще трезвое
отношение к священным для средневекового человека вещам:
рассказчик без стеснения говорит о делах святого Петра, о рае и т. д.
Литературу города с момента ее появления характеризует
интерес к быту, прикованность к вещам, тенденция к натурализму.
Вместе с тем фабльо не интересуется психологией своих персонажей.
Рассказчика занимают похождения и обманы, ловкие выдумки
и хитроумные проделки. Круг ого интересов очень невелик.
Отсюда — значительная упрощенность и примитивность фабльо, этого
первоначального жанра буржуазной литературы, вырастающего
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 241
из анекдота. Авторы их не претендуют на литературное мастерство,
они примитивно и непретенциозно рассказывают. Бедье отмечает
чрезвычайную небрежность формы фабльо. Очень часто в начале
фабльо мы находим ссылку на подлинность происшествия («я
слышал на прошлой неделе»), которая сводит функцию автора просто
к обязанностям рассказчика.
Боккаччо часто обращается к сюжетам фабльо и разрабатывает
ряд мотивов средневековой повествовательной литературы.
Однако принципиальное отличие его мировоззрения от мировоззрения
средневекового бюргера выступает при самом поверхностном
сопоставлении фабльо и «Декамерона».
Ряд новелл «Декамерона» посвящен женщинам, и Боккаччо
высказывает свое отношение к ним.
Во вступлении к IV дню молодой отшельник, проведший свое
детство в пустыне, впервые видит женщин и сразу решает, что это
лучшие в мире создания2. Рассказав эту притчу, Боккаччо
произносит восторженный панегирик женщинам: их привлекательной
красоте, их прелестной миловидности, «сладости их объятий».
Традиционная тема фабльо — проделки неверной жены —
получает у Боккаччо совершенно неожиданное освещение. Благородная
дама выступает в суде и остроумно защищает свое право на измены
мужу (VI, 7). Сама природа требует, чтобы красивая и
благовоспитанная жена изменяла глупому, уродливому и невежественному
мужу — эта мысль проходит через многие новеллы (III, 3; II, 10).
Женщина совсем не то хитрое и опасное существо, какой
изображает ее фабльо, она прекрасна и достойна поклонения. В
соответствии с этим и любовь, представленная в фабльо как низкая
страстишка, облагорожена и возвышена в «Декамероне». В фабльо
«La bourgeoise d'Orléans» горожанка находится в связи с неким
жирным клириком. Конечно, ничего возвышенного в этой любви
нет. В 7 новелле VII дня, которая является вариантом этого фабльо,
клирик заменен благородным юношей Лодовико, пламенно
влюбленным в даму. Своей красотой и преданностью он покоряет ее сердце
и добивается того, чего другие не могли достигнуть ни подарками,
ни своим положением в свете.
Вместе с тем жены, изменяющие мужу за деньги или из других
корыстных побуждений, неизменно осмеиваются в «Декамероне»
(VIII, I). Боккаччо очищает благородное чувство любви от всего
низменного и корыстного. В отличие от фабльо, смотревшего на любовь
узко практически, Боккаччо обладает широким гуманистическим
взглядом на любовь, как на прекрасное человеческое чувство.
242
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕИН
Известным образом трансформируется и отношение к
духовенству. С одной стороны, выступления Боккаччо против попов и
монахов есть продолжение и завершение «ереси» городов, боровшихся
с развратной и роскошной жизнью клириков. В гневных филиппи-
ках он бичует тучных и изнеженных монахов. Они услаждают свое
чрево изысканной пищей и греческими винами, они имеют по четыре
суконных рясы каждый, им противопоставляется подвижническая
жизнь святого Франциска (VII, 3). Эти соблазнители лицемерно
говорят о воздержании. Боккаччо радуется, когда ханже,
проповедующему аскетизм, влетает за его тайное сластолюбие (IV, 2).
Энгельс указывает на типичность нападок Боккаччо на безбрачие
духовенства, — здесь продолжается линия борьбы за «дешевую
церковь».
С другой стороны, мы находим существенную разницу между
фабльо и «Декамероном». Боккаччо обращает усиленное внимание
именно на этическую сторону вопроса. Монах бичуется не за страсть
к наслаждениям, а за ханжество. Интересную перестановку
ударений делает Боккаччо в новелле о брате Альберте (IV, 2). На первый
взгляд перед нами типичная ситуация фабльо: монах-любовник
пойман на месте преступления, обмазан медом, обсыпан пухом и отдан
на растерзание толпе. Боккаччо считает эту кару законной. Однако
вина монаха не в том, что он завел любовницу, в этом нет ничего
неестественного. Вина его в том, что он притворялся, что ведет
суровую жизнь и проповедывал воздержание. За обман и ханжество
он получил хороший урок. То, что монахи хотят наслаждаться, это
совсем не удивляет Боккаччо. Совсем наоборот. Ведь они такие же
люди, как все остальные. «Мадонна, когда я скину с плеч эту рясу,
а я снимаю ее очень легко, я покажусь вам таким же мужчиной,
как и все другие, а не монахом» — говорит герой одной новеллы
(VII, 2). Ряса вовсе не лишает человека естественных человеческих
желаний, поэтому отношение Боккаччо к любви монаха такое же,
как и к любви других людей.
Традиционная схема фабльо снова оборачивается совершенно
неожиданно в 4 новелле III дня. Монах дон-Феличе любит жену
горожанина Пучьи. Все симпатии автора на стороне молодого
и красивого монаха. Неотесанный и слабоумный муж, все дни
проводящий в постах и молитвах, вызывает насмешки Боккаччо. Монах
ведет себя не по-монашески и поэтому достоин уважения, убогий
муж заслуживает только презрения. Тут отразилась общая мысль
Боккаччо о средневековых догматах, враждебных естественному
и прекрасному человеку.
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 243
Вера Боккаччо в человека приводила его к идеализации и
облагораживанию его страстей и желаний, в отличие от фабльо.
Именно по этой линии контраста грубого цинизма и благородной
идеализации различал Гегель фабльо и «Декамерон», когда писал,
что «fabliaux и contes»3, которые преимущественно черпали свой
материал из повседневной действительности и рассказывали о
рыцарях, духовных лицах и городских бюргерах первым долгом истории
о любовных прелюбодеяниях, частью в комическом, частью в
трагическом тоне, то в прозе, то в стихах, это жанр, который Боккаччо
усовершенствовал (zur Vollendung brachte) более просвещенным
умом в гораздо более чистой манере».
Как мы видим, самый беглый сравнительный анализ фабльо
и «Декамерона» убеждает нас в качественной разнице выражаемых
ими мировоззрений. Обратимся же к характеристике идейных основ
«Декамерона».
Человек, находившийся в центре внимания великих
гуманистов Возрождения, занимает уже главное место и в «Декамероне».
Боккаччо полон искренней веры в силу заложенных в человеке
способностей. Оптимистический взгляд на человека, еще не
поколебленная вера в его возможности, находит свое яркое выражение
в знаменитой новелле о Чимоне (М, I).
Чимоне красив лицом и телом, но никто не смог обучить его
азбуке и правам. Любовь к Ефигении чудесно преображает его и
раскрывает заложенные в нем силы. В четыре года Чимоне обучился
грамоте, стал достойнейшим из философов, усвоил изысканные
нравы и отличился в верховой езде и военном деле. Он выдержал
борьбу за любимую девушку, и любовь помогла ему преодолеть все
препятствия и добиться желаемой цели.
Фигура Чимоне проникнута большими устремлениями эпохи.
Бурно вырастают его силы, и из грубой скотины он становится
человеком. В этом образе есть кое-что уже от того титанизма, который
поражает нас в героях Раблэ и Шекспира.
Вера в человека и его прекрасные качества облекается у Боккаччо
в стройную систему представлений о естественной и гармонично-
развитой личности. Такой гармоничной личностью, одинаково
развитой умственно и физически, создает человека природа. Все
калечащее и уродующее людей имеет своим происхождением проклятые
феодальные отношения. Идеал гармоничного человека, который мы
находим у Боккаччо, совпадает, в общих чертах, с представлениями
других гуманистов. Ум и остроумие, знания и благовоспитанность
такие же обязательные черты этого человека, как и красота, сила,
244
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
ловкость. Чимоне, несмотря на то, что он был физически прекрасен,
оставался скотиной до тех пор, пока не проснулся его разум, пока
он не обучился наукам и вежеству.
При этом ум и остроумие — обязательные качества не только
мужчины, но и женщины: не говоря уже о многочисленных
насмешках над глупыми женщинами (например, над Ческой из 8-й
новеллы VI дня), мы наталкиваемся на гневную отповедь тем
женщинам, которые навьючивают на себя украшений больше чем
ослы, а сами настолько глупы, что не могут сказать ни слова, хотя
именно женщине приличествует краткая и тонкая острота (1, 10).
Вместе с тем, идеальный человек должен быть красив и силен.
С каким презрением говорит Боккаччо о худом, поджаром и вялом
Ричьярдо ди Кинзика (II, 10)! Вспомним рассуждения Боккаччо
об уродстве Форезе и Джото и то, как он удивляется, что в столь
неприглядные тела фортуна вложила ум и таланты (VI, 5).
Герои «Декамерона» характеризуются обыкновенно с
физической и умственной стороны. Боккаччо обладает рядом эпитетов,
дающих эту краткую характеристику персонажей. «Красивая
и образованная», «красивый и приятный», «красивая и приятная
в обращении» — вот постоянные эпитеты. Человек создан природой
прекрасным и совершенным, создан не из дерева и не из алмаза,
а из плоти и крови, и никакие средневековые догмы не могут
помешать ему пользоваться жизнью. И Боккаччо протестует против
феодальных пут, против уродующей человека средневековой морали
и религиозного мировоззрения.
Прекрасный человек должен пользоваться здешней земной
жизнью, он должен наслаждаться земной любовью, пить прекрасные
вина, спать на роскошных постелях. Нужно отбросить все, что
стесняет его и уродует. Эта мысль оформлена Боккаччо в своеобразную
философию наслаждения.
На страницах «Декамерона» проходят юноши и девушки,
старики и почтенные дамы, охваченные стремлением любить и
наслаждаться. С неизменным благожелательством говорят Боккаччо
и его рассказчики о многочисленных любовниках «Декамерона»
и восхваляют радостное завершение их любви, как проявление
здорового и свободного человеческого чувства.
Гуманистическая апология естественных чувств заводит
Боккаччо достаточно далеко в вопросе о семье и браке. Как известно,
моногамная семья имела в своей основе «не естественные, а
экономические условия» (Энгельс). Несколько ниже Энгельс добавляет, что
заключение брака всегда оставалось сделкой, которую устраивали
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 245
родители, не считаясь с чувствами брачущихся. «Такая же
практика установилась и у цеховых граждан средневековых городов»
(Энгельс). В эпоху Возрождения апология свободного человека
должна была расшатать старые представления о браке.
«И на бумаге, в нравственной теории, и в поэтических описаниях,
ничто не признавалось столь незыблемо прочным, как
безнравственность всякого брака, не покоющегося на взаимной половой любви
и действительном согласии супругов. Одним словом брак по любви
был провозглашен правом человека и не только droit de l'homme
в данном случае, но также droit de la femme4».
Впервые в мировой литературе эти идеи выступили в
«Декамероне» Боккаччо. Нет ничего странного, что взгляды Боккаччо на семью
носили, в основном, негативный характер. Прежде всего надо было
разрушить старую семью, и Боккаччо выступает как критик.
В ряде новелл, ссылаться на которые ввиду их большого
количества не имеет смысла, Боккаччо выступает против авторитарных
прав мужчины в защиту «droit de ia femme»: если женщина
разлюбила мужа, если ее выдали за нелюбимого, если муж тиранит ее
из ревности и т. д., то жена во имя восстановления естественных
прав может изменить мужу. Чувства — единственный закон.
В своем отрицании искусственных норм, налагаемых на
человеческую природу, Боккаччо доходит до признания какой угодно
семейной ситуации, если она естественно возникла и сложилась.
Такова юмористическая история о двух друзьях Спинелочьо и Ценно,
которые условились иметь общих жен и живут в полном согласии
и удовольствии (VIII, 8), и Боккаччо совсем не удивлен, а скорее
восхищен этой мыслью.
Но особенно рельефно гуманистическая позиция Боккаччо
выступает при рассмотрении его отношения к вырвавшемуся
из феодальных пут и свободному человеку, который неоднократно
выступает в «Декамероне». Такова великолепная фигура брата
Чиполы. У нас обыкновенно замечают в этом персонаже только
сатиру на монашество, однако это вместе с тем и типичный человек
переходного периода (VI, 10). Ему в высокой степени присущ тот
антирелигиозный реализм, который характерен для последышей
распадающегося феодального мира. С большим спокойствием
выдает он перо попугая за перо архангела Гавриила и в критический
момент заменяет это перо углями, на которых был изжарен святой
Лаврентий. Цинично рассказывает он о любовных шашнях Гучьо
Имбрата и сочиняет бесконечные поговорки. Любитель вкусно
поесть и хорошо выпить, этот озорник пользуется явной симпатией
246
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕИН
Бокаччио, который восхищен его проделками и изворотливостью.
Образ брата Чиполы, как и ряд других образов, может быть
рассмотрен в двухстороннем аспекте — как продукт распада старого
средневекового мира и одновременно фермент нового мира,
капиталистического. Боккаччо приемлет его так же, как Раблэ своего
брата Жана.
С симпатией относится Боккаччо и к веселым художникам
Бруно и Буффальмакко, проделывающим нескончаемые шутки
над простаком Каландрино и надутым доктором Симоне. Над Ка-
ландрино можно смеяться потому, что он глуп, а глупые достойны
осмеяния. Друзья убеждают Каландрино в том, что он
неотразимый мужчина, и подают ему полезные советы в том, как стать
невидимым. Почтенного мессера Симоне они обещают принять
в корсарское общество, а пока едят его роскошные обеды и
пользуются его благами (VIII, 9). В необузданности их проделок и
неистощимости их выдумок сказывается свобода человека, только
что вырвавшегося из пут средневековья и празднующего свое
освобождение. Боккаччо, как истинный гуманист, проповедует
эту свободу, и позиции его законны и исторически оправданы. Он
верит в природное благородство человека и восхищается любыми
проявлениями силы и страсти.
Отсюда не следует, что у Боккаччо отсутствует нравственный
критерий, но он лишь мыслится столь же естественным и
внутренне-присущим человеку, как и сама страсть. Он нечто иное, как
внутренняя природная мера. Гармония «естественного человека»
Боккаччо в том, что его желания ограничены не внешними преградами
(государство, церковь), а внутренним нравственным чувством. Если
Боккаччо и замечал порой проявления «дурных сторон естественной
свободы», то в ней же, а не вне ее, он видел залог их подавления.
Именно эта идея нашла свое выражение в 3, 4, 5, 6 новеллах X дня,
в которых герои, подчиняясь своим нравственным побуждениям,
великодушно отказываются от своих дурных побуждений.
Проповедуя свободу человеческой личности и свободу
удовлетворения потребностей, Боккаччо рисует образы прекрасных людей,
реальное воплощение идей гуманистов. Перед нами проходят
купцы и дамы, рыцари и монахи, служанки и корсары, проникнутые
жаждой жизни и отстаивающие права на эту жизнь. Каждый имеет
право на счастье, и каждый должен бороться за счастье. Все люди
созданы природой с одинаковым совершенством, и в этом смысле
все люди равны между собой, и фортуна часто грешит, возвышая
недостойных. «У всех у нас плоть из одного и того же плотского
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 247
вещества, и все души созданы одним творцом и одинаковыми
силами, одинаковыми свойствами, одинаковыми качествами» (IV, I).
Мысль о том, что все люди равны и достоин называться знатным
только тот, кто благороден по своим поступкам, Боккаччо развивает
неоднократно. Конюх, влюбленный в королеву, человек высокий,
красивый и умный, вызывает симпатии Боккаччо (Ш, 2). Он
ничем не отличается от короля, и оба они охарактеризованы одними
и теми же словами. Сильный и умный человек, борющийся за свое
счастье, из какого бы класса общества он ни происходил, всегда
вызывает сочувствие Боккаччо. Это особенно заметно в новелле
о прекрасной Джиллете Нарбонской (III, 9).
Девушка низкого происхождения влюблена в дворянина и
добивается его любви. Она спасает жизнь короля своим искусством
врачевать, добивается руки своего возлюбленного и, пройдя через
ряд препятствий, побеждает. В целом ряде других новелл любовь
торжествует над родовыми связями и опрокидывает все
препятствия. Говоря о том, что люди равны, что каждый человек имеет
право на наслаждения, и защищая этого человека от тяжелого
ярма средневековья, Боккаччо выражает интересы народных низов,
жаждущих освободиться от феодального гнета.
Однако необходимо указать, что форма, в которой представляют
себе Боккаччо и другие гуманисты появление свободного и
гармоничного человека, «аристократична».
Это заметно хотя бы в обрамлении. Следуя традиции
средневековой повествовательной литературы, Боккаччо дает своим новеллам
обрамление. Это описание чумы во Флоренции и компании
рассказчиков, собравшихся вдали от города, чтобы спасти свою жизнь
и повеселиться. Чума охватила город, и сразу началось безумие.
Повержены все божеские и человеческие законы: родители бросают
своих детей, братья сестер, жены мужей. Одни скрываются в домах,
чтобы отгородиться от смерти и гниения, другие, наоборот, бродят
среди трупов с песнями и шутками. Все бегут от смерти, но смерть
неминуемо настигает и губит граждан славного города. Паника,
преступления, анархия, распад старых общественных связей — это
символическая картина агонии феодального мира.
Этому распаду, этой деградации противостоит группа молодых
людей и девушек, — небольшой остров среди целого моря старого.
Веселое общество поет и танцует, острит и веселится,— это люди
итальянского Ренессанса, тесный кружок гуманистов. Их
немного, и в этом сказывается слабость гуманистического движения.
Но в этом узком кругу отражается большая действительность, в этих
248
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕИН
людях, как в капле воды, находят выражение волнения огромного
народного моря. Несмотря на узкую «аристократическую» форму,
в которой выступает у Боккаччо идеал гармоничного человека,
творчество его (по своему содержанию) косвенно служило
защитой интересов широких масс. Именно это придало творчеству
Боккаччо большое историческое значение и определило то место,
которое он занял в истории мировой литературы.
Мы разобрали черты, роднящие Боккаччо со всеми гуманистами.
Однако мы находим известное отличие его от представителей
Высокого Возрождения, отличие, являющееся результатом своеобразия
этапа движения, который он представляет. Боккаччо выступает
перед нами, как типичный представитель Раннего Возрождения.
Дело в том, что итальянское Возрождение было подготовлено
сравнительно длительным развитием городов и растянулось почти на три
века, приобретая только к концу стремительный и
катастрофический характер, в отличие, скажем, от французского Возрождения,
сжатого в небольшой исторический отрезок времени от Вийона
до Монтеня.
Боккаччо отразил черты раннего этапа движения, когда оно
еще не вышло за стены вольного города. Процесс ломки
социальных отношений, который начался во Флоренции, не подорвал еще
окончательно устойчивых отношений города. Боккаччо чувствует
себя не только представителем народных низов, но и бюргером. Как
представитель бюргерской оппозиции, Боккаччо явный противник
дворянской партии и феодального своеволия. Он неоднократно
высказывает свое отрицательное отношение к феодальному интригану
герцогу Афинскому5 и магнатам, которые его поддерживают. Он
хвалит флорентийскую республику за то, что она «подчинила
народному закону непостоянную кичливость грандов, этих
высокородных волков».
Вместе с тем он отрицательно относится и к патрицианской
верхушке этой «аристократии от лопатки каменщика и сохи»,
которая стала у власти и поддерживает свою именитость презрением
к прежним сверстникам и прежнему положению.
Характерно, что цех судей и нотариусов, связанный с дворян-
ско-патрицианскими элементами, неоднократно подвергается
насмешкам в «Декамероне». Вспомним веселые шутки над судьей,
которые проделывают Мазо и его товарищи (VIII, 5). Сер Чапелето
был нотариусом и составлял фальшивые акты, лжесвидетельствовал
и убивал. Осмеянный Ричьярдо да Кинзика — третий, но не
последний представитель судейского сословия. Ненависть Боккаччо
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 249
к судьям, имеющая, правда, более глубокие корни в его
мировоззрении, ибо она свидетельствует, насколько чужд ему дух легизма
сложившегося буржуазного общества, вместе с тем, говорит о его
враждебности к дворянско-патрицианским кругам.
Однако мы должны отметить известную ограниченность
Боккаччо, вытекающую из его положения представителя бюргерской
оппозиции. Раннее Возрождение было культурой вольного
города. Этим объясняется городская узость горизонта Боккаччо. Еще
не назрела эпоха всеобщих сдвигов, и для старого мира феодальных
отношений еще не наступил решительный кризис, знаменующий
начало нового. Когда, спустя век с лишним, он наступил, то все
пришло в брожение. Горожане богатели и обедали за одним
столом с королями, а простолюдин Панург стал советником короля
Пантагрюэля. Герцоги разорялись и становились разбойниками.
Социальные отношения изменились. Сословные границы
потеряли свое реальное значение, и в этом хаосе, заключавшем в себе
характеристику эпохи и источники демократизма ее идеологов,
рождалось новое общество.
Боккаччо не лишен бюргерской ограниченности, от которой
освободились гении Высокого Ренессанса. Эта ограниченность его
по сравнению с Раблэ и Шекспиром сказывается хотя бы в
составе гуманистического кружка. Сопоставим Телемское аббатство
и кружок шекспировских героев с рассказчиками «Декамерона».
Не говоря уже о том, что у королей и герцогов Раблэ и Шекспира
их значительно демократическая сущность выступает много резче,
чем у рассказчиков «Декамерона», достаточно взять хотя бы фон
того и другого общества, чтобы стала заметна разница.
Ведь Телемское аббатство организовано братом Жаном, а среди
дам и кавалеров шекспировских комедий всегда присутствуют шуты,
выражающие настроения народных масс, то время как у Боккаччо
слуги изолированы и не принимают участия в жизни рассказчиков.
Единственное вторжение слуг — буффонада 6 дня, где горничная
Личиска спорит со слугой Тиндаром о невинности, буффонада, столь
напоминающая разговоры плебейских персонажей Шекспира, —
прерывается королевой. Личиске приказано замолчать, если она
не желает быть битой. Это деление на господ и слуг, эта устойчивость
сословных отношений проходит и через многие новеллы.
Однако не нужно преувеличивать отмеченную ограниченность.
Флорентийское бюргерство XIV века ни в какой мере не может быть
поставлено в сравнение с кальвинизмом XVI века или пуританизмом
XVII века. Оно не было еще буржуазией в современном смысле этого
250
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
слова, и нам кажется просто неприемлемым употреблять это слово
в применении к XIV веку.
Прежде всего идеология пуританизма и накопительства чужда
флорентийскому горожанину XIV века. Наоборот, для него
характерна известная щедрость, базирующаяся на патриархальном
довольстве и изобилии. Об этом ярко говорят новеллы о скупых
и скупости.
Находчивый и красноречивый рассказчик Бергамино разоблачает
«минутную скупость» Кане делла Скала (1, 7). О том же повествует
история об Эрмино Гримальди (1, 6). В 3 новелле IX дня щедрость
возводится прямо в величайшую из добродетелей, она становится
предметом состязания. Перед нами патриархальное радушие
«веселой старой Флоренции», гордой своей независимостью от сеньоров
и хранящей спокойное достоинство вольного города.
На страницах «Декаморона» мелькают имена реально живших
людей, рассказываются местные анекдоты, повторяются остроты
местных весельчаков. В полнокровных образах художников Калан-
дрино и Бруно, медика маэстро Симоне, хлебника Чисти, именитого
горожанина Джери Спина, в новеллах, повествующих о нравах
и быте славной Флоренции, перед нами встает яркая картина
патриархального города. Духу его чужд аскетизм, высоко чтятся в нем
грубоватые шутки, разбитное демократическое веселье. Но нет в нем
и анархической необузданности, ибо свято соблюдается разумная
мера. Чрезмерная скупость презирается так же, как и чрезмерная
расточительность. Люди полны спокойствия и достоинства и знают
свое место в иерархически-сословной городской системе, но в этой
системе еще не произошла резкая поляризация, хотя начатки ее
и намечались.
Вместе с тем, в «Декамероне» в известной степени находит свое
отражение и динамическая, героическая сторона становления
буржуазного общества, значительное расширение взглядов горожанина.
«То было время странствующего рыцарства буржуазии: она
переживала также свою романтику и свои любовные мечтания,
но по-буржуазному, и в конечном счете, преследуя буржуазные
цели» (Энгельс). Горизонты итальянского горожанина были
достаточно широкими. Крестовые походы уже в ΧΙ-ΧΙΙ веках открыли
необозримые пространства на востоке. Последующие века дают ряд
путешествий от Вениамина Туддельского, еще в XII веке
добравшегося до Цейлона и Константинополя, до Рубруквиса и Марко Поло,
объездивших дальний восток. Круг деятельности флорентийского
купца был очень широк. «В всех крупных городах основывали
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 251
флорентийские банки свои филиалы. Перуцци имели в XIV веке
16 контор от Лондона до Китая». Вместе с тем, сам облик купца был
иным, чем в последующие эпохи.
Маркс указывает, что всюду, где торговый капитал играет
преобладающую роль, он представляет из себя «систему грабежа».
Боккаччо изобразил нам такого купца, бороздившего Средиземное
море на утлом кораблике и спокойно грабившего там, где нельзя
было торговать. Таков Ландольфо Руффоло, герой 4 новеллы 11 дня.
Разорившись на неудачной торговой комбинации, он, не думая
ни минуты, становится корсаром и начинает отнимать чужое добро.
Взятый в плен, он после кораблекрушения спасается на ящике с
брильянтами. Путешествия под страхом вечной опасности выработали
его характер, его похождения овеяны авантюризмом. Боккаччо
описывает, как Руффоло присваивает чужие товары, но он
облагораживает своего героя по сравнению с аналогичными персонажами
фабльо. Руффало по-рыцарски награждает женщину, которая спасла
его, и оплачивает расходы всех принимавших в нем участие.
Но даже в описаниях путешествий и похождений, где сильны
черты авантюризма, Боккаччо не хватает большого размаха. Он
усиленно подчеркивает количество денег, полученных героем,
сколько у него украли и сколько он выманил обратно. Это особенно
заметно при сопоставлении с великолепным Панургом, имевшим
63 способа достать деньги и 214 — их истратить и не знавшим меры
в своей расточительности.
Как мы видим, «Декамерон» уже окрашен в ренессансные тона,
но еще несет в себе черты своеобразия раннего этапа движения.
Противоречие между бюргерской ограниченностью и исторической
тенденцией развития гуманизма — таково
конкретно-историческое противоречие Раннего Возрождения, нашедшее отражение
в «Декамероне».
II
В реализме Боккаччо мы находим то же столкновение собствен-
но-ренессансных элементов и черт ограниченности, явившихся
следствием своеобразия Раннего Возрождения.
Эстетические взгляды Боккаччо редко высказываются в
«Декамероне» , но отдельные намеки на них мы находим. Очень выразительно
в этом смысле описание живописи Джотто, являющееся вместе с тем
и характеристикой идеального, с точки зрения Боккаччо, искусства.
«Не было ничего, что в вечном вращении небес производит природа,
252
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
мать и устроительница всего сущего, чтобы он карандашом, либо
пером и кистью не написал так сходно с нею, что казалось, это
не сходство, а скорее сам предмет (подчеркнуто нами, Ф. и Ш.),
почему нередко вводил в заблуждение чувство зрения людей,
принимавших за действительность то, что было написано» (IV, 5). На эту
фразу обратил еще в свое время внимание Гегель.
Главное достоинство изображения, таким образом, Боккаччо
видит в том, что оно неотделимо от действительности.
Стремление к мелочной доподлинности и правдоподобию деталей, столь
характерное для фабльо, еще присутствует и у Боккаччо, и
выражается в желании передать внешнее сходство при описании людей
и событий, нарисовать все буквально так, как оно есть на самом
деле. Правда, в своей практической работе этот крупный реалист
не всегда следует своим собственным установкам, давая тот элемент
обобщения, который делает его искусство подлинным и отделяет
его от собственно-средневекового творчества. Но натурализм,
составляющий одну из особенностей искусства Раннего Ренессанса,
также чувствуется и в «Декамероне».
Рассказывая новеллы, Боккаччо часто ссылается на достоверность
излагаемых в них событий. «Если бы я захотела, — говорит одна
рассказчица, — и прежде и теперь отдалиться от действительного
факта, я сумела бы и смогла сочинить и рассказать его под другими
именами, но так как в рассказе удаление от истины происшествия
сильно умаляет удовольствие слушателей, я расскажу вам ее,
опираясь на выраженные выше доводы, в ее настоящем виде» (IX, 5).
Иногда автор сообщает, от кого новелла услышана (V, 9), и указывает
место действия, причем большей частью это или Флоренция, пли
другой Тосканский город. В ряде случаев фактическую доподлин-
ность происшествия Боккаччо подчеркивает особым приемом: он
вводит в рассказ уточнения и варианты, ссылаясь на противоречивые
на этот счет слухи (VII, 1).
Установка Боккаччо на изображение внешней видимости
действительности и правдоподобных происшествий указывает на его связь
с фабльо и на расстояние, отделяющее его от Высокого Возрождения,
создавшего реализм фантастический по форме, но глубоко и правдиво
отражающий действительность. Реализм Боккаччо еще ограничен
в своем размахе, еще не несет в себе такой широты обобщений, как,
скажем, образы Шекспира и Сервантеса. Отсюда гораздо меньшая
ценность бытового и во многом «правдоподобного» реализма
«Декамерона» по сравнению с монументальными героическими образами
«Гаргантюа и Пантагрюэля», «Дон-Кихота» или «Гамлета».
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 253
Но реализм Боккаччо уже содержит в себе черты того
исследовательского, пытливого устремления, тон жажды реального познания,
которая так характерна для гуманизма и в такой слабой степени
присутствовала в средневековой литературе. Боккаччо дает
многочисленные подробности медицинского, социального и исторического
характера. Местами «Декамерон» достигает достоверности научного
и исторического документа. Таково, например, знаменитое описание
чумы, где Боккаччо излагает симптомы болезни, ее исход, способы
ее распространения. BIO новелле VIII дня Боккаччо дает тщательное
описание таможенного и складского хозяйства в портовых городах
Средиземного моря. Между прочим, и в этих описаниях — сила
реализма Боккаччо и его познавательная ценность.
Очень знаменательна для Боккаччо манера описания человека,
вытекающая из его гуманистических идеалов. Для Боккаччо
характерно отождествление физической красоты с пропорциональностью
и гармонией телесных форм. В первой новелле пятого дня дано
типичное изображение красоты: Чимоне рассматривает девушку,
лежащую на земле, и автор рассказывает, что он видел «ее волосы,
которые почитал золотыми, ее лоб, нос, рот, шею и руки, особливо
грудь, еще мало приподнятую». Мы здесь, в сущности, не находим
описания, как такового, есть лишь перечисления частей тела с
указанием на отступление от общей нормы («грудь еще мало
приподнятая»). Ту же сдержанность в описании человеческой красоты мы
встречаем и в шестой новелле десятого дня, где дан лишь, в виде
указания на мокрую одежду, прилипшую к телу, намек,
долженствующий послужить отправным пунктом для фантазии читателя. Это
отсутствие у Боккаччо индивидуализированного и выразительного
внешнего облика красивого человека органически вытекает из его
представлений о красоте, как о пропорциональности, не
нуждающейся в описаниях, ибо она в общем константна.
Зато уродство — вещь индивидуальная, поскольку отступления
от нормы, пропорциональности и гармонии могут осуществляться
в бесчисленном количестве вариантов. Поэтому портретные описания
уродов, вроде служанок Нуты (VI, 10) или Чутаццы (VIII, 4), даны
в «Декамероне» с углубленной детализацией, причем их уродство
заключается в резкой диспропорциональности: кривой рот, одна
нога короче другой и т. п.
Целую галерею уродов выводит Боккаччо в шуточной новелле
о Барончи, которые, очевидно, были созданы тогда, когда
природа была еще плохим живописцем (VI, 6). Уродливость Барончи
также ощущается, как отступление от общей нормы, как явная
254
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
дисгармония форм; у одних лица слишком длинные и узкие, у
других очень длинный нос, у третьих один глаз больше другого и т. д.
Боккаччо в высокой степени обладает чувством прекрасного,
и его интерес к человеческой красоте и отвращение к уродству
тесно связаны с его гуманистической мечтой о гармонически
развитой личности. Это же внимание к человеку, перенесение центра
тяжести на человека позволили Боккаччо дать психологию своих
персонажей в отличие от фабльо. Это относится в первую очередь
к комическим, бытовым новеллам.
Удачно дан анализ психологии в новелле о любви Каландрино
(IX, 3). Каландрино увидел красивую женщину и вообразил, что
он неотразим. Бруно подзадоривает его, уверяя, что Никколоза
«тает от его взгляда, как лед на солнце». Слушая подобные
разговоры, Каландрино еще больше воспламеняется и чувствует себя
как на иголках. Боккаччо описывает возбужденное состояние,
в котором находится глупый художник: он совершенно не может
работать, все время выбегает во двор и выглядывает в окно, чтобы
только увидеть свою красавицу. Здесь дан анализ психологического
состояния, — вещь совершенно невиданная в фабльо.
В новелле о коварной вдове и школяре, сюжет которой очень
типичен для фабльо, школяр задумывается, прежде чем мстить
жестокой женщине. «Он ощущал в душе и удовольствие, и жалость,
удовольствие мести, которой он желал более всего другого, тогда
когда его человечность побуждала его соболезновать несчастной»
(VIII, 7). Мы видим, что школяр новеллы погружен в размышление,
в психологическую «борьбу мотивов», в то время как школяр фабльо
не стал бы терзаться никакими сомнениями.
Элемент психологизма отделяет «Декамерон» от фабльо. Этот
психологизм дает качественно иную структуру образа.
В фабльо фигурировали персонажи, которые мы лишь с известной
оговоркой можем назвать социальными типами. Они были
чрезвычайно мало «типичны» в собственном смысле этого слова, в том
смысле, в каком типичны герои Бальзака. Широта обобщения была
незначительна. Персонажи фабльо — эмпиричны и схематичны, это
скорее не типы, & маски, социальные стандарты, очень не глубокие
по своему содержанию. Таковы рыцарь, клирик и т. д. Никаких
индивидуальных психологических черт фабльо в этом персонаже
не давало.
Рост индивидуальности сказался в появлении ряда
индивидуальных качеств у героев «Декамерона». Это прорастание
индивидуальных черт мы можем увидеть в целом ряде образов. Оно говорит
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 255
о принципиально новой основе образотворчества, в которой идет
не только обогащение персонажа личной индивидуальной
характеристикой, но и углубление обобщающих сторон типа. Здесь уже есть
и тип и личность («этот») в отличие от схематического «типа» фабльо.
В «Декамероне» фигурируют монахи, неверные жены, рыцари,
крестьяне — все персонажи фабльо. Однако каждый тип имеет свою
индивидуальную психологическую характеристику. Монах фабльо
всегда бывал только глупым и бездарным любовником.
В «Декамероне» развернута целая галерея монахов совершенно
различных по своим индивидуальным проявлениям. Это и умный,
красивый и щеголеватый брат Ринальдо, это и ханжа и обманщик
брат Альберт и веселый Чипола. Так же индивидуализированы
образы женщин. Например, вдова, которой справедливо мстит
школяр, охарактеризована совершенно индивидуально: она тщеславна,
хитра, вероломна, но это ее личные, лишь ей присущие черты.
Это усложнение и углубление характеристики человека, стоящее
в тесной связи с гуманистическим характером воззрений Боккаччо,
все еще примитивно. То «жизнерадостное свободомыслие» (Энгельс),
то яркое и чувственное восприятие жизни, которое мы уже находим
в «Декамероне», еще не очень глубоко. Его реализм приземлен.
Герои фабльо, правда, идеализированные и облагороженные,
попадают в его новеллы и здесь становятся средством утверждения
прав человека и отрицания средневекового мира. Эта
решительная оппозиция Боккаччо средневековым отношениям, эта защита
красочной и яркой человеческой личности, составляющая пафос
его творчества, ощущалась всеми исследователями «Декамерона».
Но его мир еще ограничен: любовь и изобилие, шутки и
патриархальное гостеприимство, — все, что не выходит за стены города,
составляет содержание интересов героев Боккаччо.
Это не значит, что у Боккаччо не было стремления вырваться
из городской ограниченности выразить более широкие цели
движения. Это стремление находит четкое выражение в литературном
плане «Декамерона» и в тяготении к куртуазным сюжетам.
Чем объяснить длительную привязанность Боккаччо к
куртуазной культуре, которая сказывалась на его раннем творчестве
и перешла в «Декамерон»? Ведь известно, что сюжет «Филострато»
заимствован из «Roman de Troie» французского трувера Benoît de
Sainte More, a в «Филоколо» Боккаччо подражал старофранцузскому
роману «Floire et Blancheflor». Целый ряд новелл «Декамерона»
(например, рассказ о Гвильельмо Гвардастаньо, IV, 9) имеет своими
источниками куртуазную литературу.
256
Я. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
Боккаччо связывало с куртуазной литературой то, что в этой
литературе, правда, в очень противоречивой форме, происходило
освобождение индивидуальности, обращение к человеку,
которое характеризовало и собственно Ренессанс. Несмотря на то что
служение женщине принимало форму религиозного поклонения,
конкретно-чувственное содержание этого поклонения не может
быть отброшено. Церковь не случайно преследовала куртуазную
литературу, которая, хотя и была болезненным явлением, но
явлением все же подготовляющим Ренессанс.
В «Декамероне» наиболее яркое и совершенное выражение эта
линия находит в знаменитой новелле о Федериго дельи Альбериги (V, 9).
История благородного любовника, добывавшего себе пропитание
при помощи сокола и не поколебавшегося убить этого сокола, чтобы
накормить свою даму, — типичный сюжет куртуазной литературы.
Но старая история несчастного любовника претерпела известное
изменение, показывающее глубокий сдвиг, который произошел
в судьбе человеческой личности. Появилась поправка, которую мог
внести только представитель молодого класса. Новелла кончается
оптимистически. Федериго женится на даме и в радости и веселье
проводит с ней остаток дней. Побеждает земная, чувственная любовь.
Куртуазные сюжеты помогли Боккаччо в своем творчестве
выдвинуть на первый план тему человека и его возможностей. Между
прочим, и сама «аристократическая» форма идеалов Боккаччо
отчасти вытекала из идеализации человека, из таких возвышенных
представлений о нем, которые исключали неизменную «грубость»
неаристократа. Это стремление облагородить человека, вызванное
гуманистической верой в его прекрасные качества, нуждалось
в форме. Отсюда обращение Боккаччо к античным и куртуазным
сюжетам.
В целом ряде новелл Боккаччо разрабатывает героические и
трагические сюжеты, в которых на первый план выступают
благородные, высокие стороны человеческой натуры. Характерно, что
в большинстве таких новелл действие происходит не во Флоренции.
Весь X день посвящен великодушным поступкам и завершается
лицемерной новеллой о Гризельде, где мотив великодушия и
верности и благородные стороны человеческой натуры даны в предельно
идеализированном виде.
Интересно, что именно эту новеллу Петрарка перевел на
латинский язык и тем самым ввел в большую литературу. Но в латинском
переводе он тщательно убрал все бытовые реалистические моменты
и подчеркнул черты искусственной идеализации Гризельды.
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 257
Наиболее ярко мотив человеческого благородства
демонстрируется в «Декамероне» в новелле о великодушии Тита и Джизиппо
(X, 8). Действие происходит в Афинах и в Риме в царствование
Октавиана Цезаря — выбор темы самый гуманистический.
Содержание новеллы — великое братство и великодушие двух друзей.
Джизиппо великодушно отдает свою невесту Титу, Тит благородно
спасает жизнь Джизиппо, рискуя своей жизнью; разбойник Публий
Амбуст, тронутый великодушием Тита, отдает себя в руки
правосудия, а благородный Октавиан освобождает всех троих. Таких новелл,
построенных на благородстве, сравнительно много в «Декамероне»,
но как раз героические, монументальные и трагические новеллы
и являются наиболее слабыми.
Боккаччо плохо передает трагические и глубоко-психологические
переживания человека. Это легко заметить хотя бы в знаменитой
новелле о Гисмонде (IV, 1). Боккаччо не изображает переживаний
любящей женщины, узнавшей об опасности, постигшей любимого
человека, а заставляет ее произносить риторическую речь, в
которой дана борьба мотивов гордости и печали. Когда отец укоряет ее,
она дает холодный ответ, в котором по пунктам перечисляет
причины своей любви к Гвискардо. Известие о смерти любимого она
встречает призывом к глазам плакать. Элементарность описаний
психологических переживаний, слабость трагического
элемента — характерная черта «Декамерона».
В эпоху Боккаччо гуманизм переживал еще свое счастливое
детство, вера в человека не была сломлена, трагические элементы
движения еще не выступали, и Боккаччо именно и оформляет это
оптимистическое мироощущение Раннего Ренессанса. Этим
объясняется слабость трагических новелл.
То, что главное внимание Боккаччо направлено на человека,
выразилось и в описании природы. Прежде всего обращает на себя
внимание тот факт, что количественно пейзажные описания очень
немногочисленны, несмотря на то, что действие развертывается
на фоне сельского ландшафта. На протяжении всего произведения
мы встречаемся лишь с двумя развернутыми пейзажами.
(Вступление к III дню, конец VI дня — «Долина дам»). Это невнимание
к пейзажу характеризует и другие произведения Боккаччо, и его
переписку. Мюльгейссер, разбиравшая в соответствующем плане
переписку Боккаччо, утверждает, что в его письмах «описания
природы почти абсолютно отсутствуют».
Очень интересна сама природа, описываемая в «Декамероне».
Это не природа в собственном смысле слова, а искусственная
258
Я. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
рациональная симметрия. Она предстает перед нами, как
совокупность предметов, которые Боккаччо называет один за другим,
но которые никак не связаны друг с другом. Вместе с тем, строгие
формы, в которые природа облачена у него, никак не передают ее
свободного многообразия.
Таково описание «Долины дам» (конец VI дня). Она такая
круглая, как будто обведена циркулем, по краям ее находятся шесть
гор. Боккаччо перечисляет деревья, которые насажены в этой
долине, полной елей, кипарисов, лавров и сосен, «расположенных так
хорошо, как будто их насадил лучший художник». Это описание
искусственной мертвой природы показывает, как слабы были
представления о ней у Боккаччо.
Отношение Боккаччо к форме и любование формой есть уже
черта чисто гуманистическая. Фабльо не знало интереса к форме, это
относится равно и к форме человеческого тела и вещей, и к форме
выражения. Этот здоровый интерес к прекрасному и отвращение
к уродливому проходит через весь «Декамерон». Боккаччо радуют
красивые вещи, окружающие его героев, роскошные платья,
покрывала, расшитые золотом, бархат, парча и крупный жемчуг.
И неизменное отвращение вызывают у него неопрятная и грязная
одежда, уродливые и безобразные вещи. В 5 новелле VII дня герои
выступают не только против отвратительного судейского сословия,
но и против отвратительного костюма, сидящего криво на
безобразном теле. Боккаччо с отвращением описывает и засаленную рясу
Гучьо Имбрата, его дырявые чулки и драные башмаки (VI, 10).
Красивое и прекрасное — вот родная стихия Боккаччо, уродливое
и грязное, отвратительное и неестественное встречает его веселую
насмешку.
Это же относится к стилю Боккаччо в узком смысле этого слова.
Для фабльо с его грубоватыми и нечистыми на руку героями
характерна и грубоватая форма: небрежность языка и версификации,
отсутствие интереса к тому, как рассказывается, затененное
интересом к тому, что рассказывается. Иное дело Боккаччо. Перед нами
стилист, любующийся формой, находящий особый вкус в слове.
Стиль «Декамерона» построен по классическим образцам.
Сознательное подражание фразе и периоду Цицерона и Тита Ливия,
риторические обороты, поставленные в соответствии с формулами
классиков, антитезы, патетические восклицания, латинский
синтаксис, изобилующий инверсиями, причастными формами,
сложно-подчиненными предложениями, и вообще полный уверенный стиль — вот
что характерно для «Декамерона».
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 259
Боккаччо строит даже ряд новелл по принципу ораторской речи
(например X, 8). Этот стиль и строй речи «Декамерона», — та же
стилизация и идеализация действительности, облагораживание
и придание ей идеальных форм, что и обращение к античным и
куртуазным сюжетам. Эта идеальная форма поднимает персонажей
над приземленной жизнью патриархального города.
Любование формой отразилось и в высказываниях Боккаччо: «как
в ясную ночь звезды украшают небо, так приятную беседу красят
острые слова». Если в фабльо острота интересует только как
проявление хитрости, то здесь острота — украшение и должна причинять
«такой укус, какой причиняет овца, а не такой, как собака» (VI, 3).
Любование формой у Боккаччо — черта его оптимистического
и жизнерадостного мироощущения, оно не имеет ничего общего
с уродливым формализмом современной буржуазной литературы.
Великая литература, сложившаяся на закате средневекового
мира и осветившая своим блеском рождение нового общества,
развивалась от эмпирического правдоподобия фабльо к героическим
монументальным образам и обобщениям Шекспира и Сервантеса,
Боккаччо находится где-то посередине. Он уже шагнул вперед
от средневекового искусства, но еще не поднялся до огромных
фигур, созданных Рабле, Шекспиром и Сервантесом.
III
Одна из важнейших проблем, встающих перед нами при
рассмотрении «Декамерона», это проблема новеллы, как жанра. Попытки
дать определение этому жанру делались за последние годы почти
исключительно формалистами.
Несостоятельность этих попыток была предрешена обычными
для формалистов методологическими пороками: полным
игнорированием содержания и стремлением, минуя его, найти некие
внеисторические и внешне-обязательные для новеллы сюжетные
схемы, которые служили бы определяющим жанр признаком.
Это желание втиснуть содержание новеллы в каноны внешне
формальных, константных приемов порой вырождалось в магию
цифр, алгебраических знаков и статистических подсчетов. Но даже
в тех случаях, когда тенденции формализма не достигали таких
уродливых крайностей, самодовлеющий прием стоял в центре
при определении жанра.
«Новелла, — пишет Эйхенбаум, — должна строиться на основе
какого-нибудь противоречия, несовпадения, ошибки, контраста
260
И. M. ФРАДКИН, А, Л. ШТЕЙН
и т. д. Но этого мало. По самому своему существу новелла, как
и анекдот, накопляет весь свой вес к концу». Другой формалист
Петровский видит принципиальный признак новеллы в том, что
в ней преобладает центростремительная сила, которая тянет ее
к анекдоту, в отличие от романа, тяготеющего к хронике вследствие
заложенной в нем центробежной силы.
Итак, вправе заключить мы, формалисты принимали за основу
вторичные формальные признаки, не носящие к тому же, как
показывают многие историко-литературные факты, универсального,
обязательного характера.
Рецидивы этой формалистической схоластики живы и
поныне в некоторых писательских кругах. Еще недавно на дискуссии
о новелле, организованной редакцией журнала «Знамя»,
высказывались мнения, что если новелла берет «частный случай», то,
следовательно, персонажи новеллы «не могут быть типическими
характерами», что «новелла никак не является ни продуктом
распада романа, ни процессом, предшествующим появлению романа»,
что «новелла, — это жанр, который возникает уже на почве очень
освоенного материала» и т. д.
Последние два утверждения прямо противоречат тому
историческому этапу в развитии новеллы, который и служит предметом
нашей статьи. Впрочем все приведенные мнения поражают своей
голословностью, полной оторванностью от фактов и подменой
их диллетантскими домыслами.
В поисках авторитетного подтверждения своих точек зрения
исследователи-формалисты очень часто апеллируют к высказываниям
о новелле самих новеллистов. Однако это, само по себе вполне
закономерное, обращение к мастерам новеллы носит односторонний
и явно тенденциозный характер. «Авторитеты» формалистов — это
исключительно одни романтики или немецкие мещанские
реалисты: Ф. Шлегель, Тик, ранний Геббель, По, Гейзе, Шпильгаген
и другие. Их высказывания (остановиться на изложении их мы
не имеем возможности) приносят формалистам легкий, по мало
убедительный триумф.
Зато мысли о новелле представителей классического буржуазного
реализма и эстетики, которые являются подлинными вершинами
культурного наследства, формалистами или намеренно
игнорируются (Гегель, Белинский), или искажаются и фальсифицируются
(Гете).
Гете определил в свое время новеллу, как «новое невиданное
происшествие». В дальнейшем он многократно повторял это
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 261
определение в прямой или косвенной форме. Развязку новеллы он
сравнивал с цветком, увенчивающим стебель растения — «цветок
есть нечто неожиданное, он изумляет, но он должен появиться».
Говоря с Эккерманом о своей «Новелле», Гете подчеркнул, что она
была бы плоха, если бы можно было предвидеть ее развязку.
Подобные же мысли о новелле развивал Гете и в «Беседах немецких
эмигрантов» (очень характерно и то, что у самих итальянских
новеллистов XIV века термин «новелла» употребляется в
значении рассказа, трактующего о необычайном случае с «новой», т. е.
неожиданной развязкой).
Формалисты с радостью поспешили истолковать высказывания
Гете в том смысле, что основное в новелле — неожиданность в
построении сюжетной схемы, нисколько от содержания не
зависящая. Выступившие на борьбу с формалистами критики, вследствие
странной доверчивости, оказались на поводу у тех же формалистов.
В результате полемика приняла характер дилеммы: 1) или
формалисты интерпретируют точку зрения Гете вполне правильно и тогда
она должна быть выброшена за борт наравне с писаниями
формалистов; 2) или для того, чтобы спасти Гете от дискредитирующего
его союза с формалистами, нужно каким угодно способом, вопреки
очевидности доказать, что ни о какой «необычайности» и
«неожиданности» Гете никогда не говорил или, во всяком случае, не думал.
На второй путь стал автор единственной интересной и во многом
правильной марксистской статьи о новелле, тов. Гоффешнефер.
Между тем в высказываниях Гете заключена очень глубокая
и правильная мысль. Только отмеченные им черты необычайности
и неожиданности, в той или иной форме действительно присущие
новеллистическому жанру, нужно рассматривать не
формалистически, как искусственный прием, а как момент, оформляющий
специфическое для новеллы содержание. К этому содержанию,
лежащему в основе жанра, нам и надлежит обратиться.
Один из буржуазных эстетиков, гегельянец Фишер, писал
в 40-х годах прошлого столетия, т. е. еще до своего
позитивистского «грехопадения»: «Новелла так относится к роману, как луч
к сплошному свету (zu einer Lichtmasse). Она дает не
исчерпывающую картину состояния мира, а отрывок из нее, который с
интенсивной, мгновенной силой указывает в перспективе на огромное
целое, не полное развитие личности, а кусок человеческой жизни,
имеющий напряжение и кризис и показывающий нам подчеркнуто
(mit scharfem Akzente) через духовную перемену и поворот в судьбе,
что из себя представляет человеческая жизнь вообще».
262
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕИН
Фишер, таким образом, подошел к характеристике жанра, как
определенной меры и способа отражения действительности. Это
содержание и определяет все дальнейшие признаки жанра.
Итак новелла изображает ограниченный участок
действительности (отрывок из нее — одно, допустим, событие). Но чтобы иметь
право на существование, она должна своим ограниченным
материалом передать существенное для всей действительности («огромное
целое»). Необходимость же дать общее в ограниченном пространстве
осуществима лишь в форме исключительной и, следовательно,
внешне-необычайной и неожиданной концентрации явлений
действительности («напряжение и кризис»).
Такое определение создает диалектическое единство:
исключительное служит естественной формой выражения типического,
типическое заключает в себе познавательную ценность новеллы,
несмотря на не ограниченный охват действительности.
Мы, разумеется, далеки от утверждения, что новелла —
статичный, не подверженный историческим изменениям жанр.
Но в равной степени нам чужд и релятивистский отказ от теории
новеллы под лозунгом «теорией является для нас история
новеллы». В разные эпохи различны как идейно-классовое содержание
новеллы, так и ее формальные приемы, но, пока мы покрываем
определенный круг литературных явлений жанровым термином
«новелла», мы должны себе отдавать отчет в том, какое понятие
мы в этот термин вкладываем, должны знать его общие признаки,
ибо жанр не только историчен, но и определенен. И Боккаччо,
и Мопассан писали произведения, которые, при всем их различии,
являются новеллами и, следовательно, содержат в себе общие,
определяющие признаки.
Так, например, неожиданность, необычайность, всегда
присутствуя в новелле, может принимать разные формы. Она может
выступать, как внешне-авантюрная неожиданность (напр., у Эдгара
По), и может принять скрыто-психологический характер, при
кажущемся ординарным и лишенным необычайности повествовании
(напр., у Мопассана или Чехова). Во втором случае сама
обыденность, переданная в сгущенных красках, перерастает в
необычайность, в гротеск.
Но, впрочем, такое деление неожиданности на внешнюю и
психологическую имеет лишь условное значение, и для нас гораздо
существенней то обстоятельство, что оба эти начала не только друг
друга взаимно не исключают, но, наоборот, друг друга
обусловливают. Внешняя неожиданность воспринимается, как таковая,
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 263
лишь вследствие ложной психологической подготовки (лишенной
в большинстве случаев со стороны автора преднамеренности и
искусственной нарочитости), а психологическая необычайность
находит свое выражение во внешней неожиданности. Следовательно,
психологизм в той или иной форме, в большей или меньшей степени,
присущ любой разновидности («авантюрная», «психологическая»)
новеллы.
Указанные черты новеллы проливают свет на ее исторический
генезис. Процесс, который характеризовал Возрождение в
культурной и духовной области и был выражен в известной формуле
«открытие мира и человека», вызвал к жизни этот жанр, и Боккаччо
был первым новеллистом в мировой литературе.
Это была эпоха, когда люди освобождались от бремени
средневековых авторитетов, и человек, порывая с догмами аскетического
самоотречения, начинал понимать, что здание нового мировоззрения
должно быть построено на новом месте. «Оказалось, что то место,
на котором он должен был остановиться, это — он сам, его
внутренняя жизнь и внешняя природа». Этот двусторонний интерес
возрожденной индивидуальности впервые создал предпосылки для
возникновения новеллы.
С одной стороны, интерес к «внутренней жизни», о
существовании которой христианское средневековье и не подозревало, усиление
«элемента личной рефлексии», который, по мнению А. Веселовского,
«отделяет новеллу "Декамерона" от средневекового фабльо,
общество Renaissance от средневекового», и вообще психологизм, который
отныне стал существенным фактором общественного сознания. Так
происходило «открытиечеловека».
С другой стороны, интерес к «внешней природе» во всех ее
деталях и проявлениях и связанный с ним культ тщательных
описаний (вещей, людей и т. п.), жажда познания через разрозненные,
эмпирические факты и явления сущности действительности в ее
внутренних закономерностях, стремление овладеть миром во всей
его «прекрасной ясности» — так происходило «открытие мира».
Таким образом постепенно вызревали существенные
предпосылки новеллы: психологизм и обобщающий типизм. Их, как и самой
новеллы, не могло быть и не было в эпоху средневековья.
В средневековой литературе существовали мелкие
повествовательные жанры, внешне, быть может, и напоминающие новеллу,
но принципиально от нее отличные. В общих чертах они распадались
на две группы: на христианские и рыцарские легенды и притчи,
и на бюргерские фабльо и шванки.
264
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
Легенды и притчи обладали обычно малой художественной
самостоятельностью и преследовали исключительно дидактические
цели. Они объединялись в сборники, идейно-поучительный центр
которых заключался в обрамлении. По такому принципу были
составлены «Disciplina clericalis»6, «Dolopathos»7, сборники Жана де
Витри, Винсента из Бове8, многочисленные византийские патерики9,
вроде «Лимонаря»10, и т. д. Обрамление в этих сборниках содержало
не сюжетный рассказ, а богословские рассуждения и поучения,
причем притчи (их называли также exempla) играли лишь
иллюстративно-доказательную роль: они приводились как пример, аргумент,
имеющий смысл в контексте данной проповеди, но не имеющий
никакого самостоятельного значения. Вполне естественно, что
эти легенды и притчи характеризовались крайним ирреализмом,
оторванностью от внешнего мира, презрением к духовной жизни
человека за пределами его узко религиозных интересов. Образы
этих притч были лишены жизненного полнокровия и представляли
из себя абстрактные схемы аскетических добродетелей или адских
пороков и выполняли ту же функцию, что и не обладающие
индивидуальностью условные фигурки в шахматной игре. В развитии
сюжета этих притч не соблюдалось никакой внутренней
органичности, развязка всегда зависела от извне навязанной морали или
от вмешательства провидения.
Фабльо и шванки — антиподы религиозных легенд и притч,
но при всем том имеют с ними много общих черт, будучи также
продуктами средневекового общества. Тот же антипсихологизм,
деловая фактичность и схематизм изложения, не затрагивающего
ни природы, ни портретных описаний, ни интерьера, ни различного
рода деталей и побочных обстоятельств, и, наконец, образ,
представляющий из себя социальный стандарт. Но, с другой стороны,
фабльо противопоставляет бесплотной абстрактности церковных
легенд эмпиризм, правда, эмпиризм бескрылый, неспособный
подняться до плодотворных обобщений.
Антиновеллистичность обеих групп охарактеризованных нами
повествовательных жанров очевидна, ибо, «чтоб написать новеллу
(а именно это нас и интересует) предстояла следующая задача: нужно
было из бесконечного изобилия мыслимых событий взять (ins Auge
fassen) одно и выбрать его с таким существенным расчетом, чтобы
оно выражало в качестве представителя бесконечное изобилие».
При средневековом аскетизме, равнодушном к частностям,
к индивидуальной психологии, и при одновременной
эмпирической раздробленности и ограниченности сознания, неспособного
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 265
к типическим обобщениям, это требование показа общего через
единичное не могло быть и, как мы убедились на разборе притч
и фабльо, не было осуществлено.
Итак появление жанра новеллы стало возможным только в
эпоху Ренессанса. К этому остается лишь прибавить, что новелла, как
это следует из вышеприведенных рассуждений, будучи рождена
Ренессансом, является жанром буржуазного общества, общества,
в котором на началах конкуренции предоставлена свобода, стихии
«частного интереса». В результате в новелле, как и в романе (см.
ниже), в центре стоит личность, отъединенная от коллектива.
(Отсюда еще одна, существенная черта новеллы, ее индивидуализм.
И здесь опять приходится вспомнить, что этому индивидуализму,
этой отъединенности от общества было положено начало эпохой
Возрождения.)
Однако это положение нуждается в некотором уточнении,
поскольку расцвет новеллы приходится именно на Раннее
Возрождение. «Декамерон» Боккаччо, «Пекороне» Сера Джованни,
«Вилла Альберти» и многие другие в Италии, «Сто новых новелл» —
во Франции, «Вальтер и Гризельда» — в Германии, «Кентербе-
рийские рассказы» Чоусера — в Англии и т. п. — таковы ведущие
в отношении жанра произведения этой эпохи. Позднее в эпоху
Высокого Возрождения и, наконец, его кризиса новелла оттесняется
на второй план, и преобладающее положение в собственно-ренес-
сансной, гуманистической литературе начинает занимать роман,
призванный наиболее полно отобразить слагающиеся противоречия
буржуазного общества. «Гаргантюа и Пантагрюэль» Раблэ,
«Приключения барона Фенеста» Обинье во Франции, романы Викрама
и «Исторический вздор» Фишарта — в Германии, «Злополучный
странствователь» Нэша и романы Делоне — в Англии, «Дон-Кихот»
Сервантеса — в Испании и т. п. утверждают господство романа
в литературе нового времени.
Приведенные факты заставляют нас остановиться на вопросе
об историко-генетическом соотношении новеллы и романа, т. е.
о том, почему именно новелла, а не роман, оказалась основным
жанром в литературе Раннего Возрождения.
Прежде всего необходимо указать на то, что новелла и роман —
жанры единого стиля, отражающие частную жизнь и отношения
индивида и коллектива в буржуазном обществе. Гегель, называвший
роман «буржуазной эпопеей», подчеркивал, что распространение
и его, и новеллы вызвано однородными причинами, «современной
национальной и социальной жизни».
266
И. M. ФРАДКИН, А Л. ШТЕЙН
Подобные же мысли развивал Белинский в статье: «О русской
повести и повестях Гоголя». «Форма и условия романа, —
говорит Белинский, — удобнее для поэтического представления
человека, рассматриваемого в отношении к общественной жизни...
Когда-то и где-то было прекрасно сказано, что "повесть есть эпизод
из беспредельной поэмы судеб человеческих". Это очень верно: да,
повесть — распавшийся на части, на тысячи частей роман, глава,
вырванная из романа... Есть события, есть случай, которых, так
сказать, не хватило бы на драму, не стало бы на роман, по которые
глубоки, которые в одном мгновении сосредоточивают столько
жизни, сколько не изжить ее и в века: повесть ловит их и заключает
в свои тесные рамки».
В этих словах мы вновь встречаем подтверждение уже
цитированных и весьма интересных воззрений Фишера на новеллу,
те же указания на более ограниченный по материалу в сравнении
с романом показ действительности, на широкий типизм (целое)
этого ограниченного (единичное материала «в одном мгновении
сосредоточивают столько жизни») и пр. И в то же время как Гегель,
так и Белинский указывают на общественно-историческую
однородность новеллы и романа. Но факт остается фактом — возникли они
не одновременно, что объясняется следующими двумя причинами.
Во-первых, в эпоху Раннего Возрождения не только новые
буржуазные общественные отношения, служащие почвой для романа
и его внутренних конфликтов («человек в отношении к общественной
жизни») еще не созрели, но даже не развернулись еще во всей своей
хаотической и великолепной широте противоречия, характерные
для Ренессанса, как для переходной эпохи.
Раннее Возрождение — это культура вольных городов. Ее
проявления были спорадичны и ограничены городскими стенами. Эти
разрозненные, единичные и еще не разгоревшиеся полным пламенем
очаги капиталистической формации в недрах феодального мира
призвана была отразить именно новелла, а не роман. Но подобно тому,
как по осторожному появлению разведчика судят о наступлении
армии, так и новелла предвещала продвижение нового
литературного стиля и его жанров во главе с романом.
Из этой незрелости, спорадичности и городской замкнутости
проявлений нового общества вытекали и половинчатость, и порой
примитивная ограниченность мировоззрения ранних гуманистов,
вследствие чего они не в силах бывали охватить обширные пласты
действительности, без чего невозможен роман. Если горизонт новелл
«Декамерона» несравненно шире горизонта фабльо, то в такой же
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 267
степени горизонт Сервантеса шире горизонта Боккаччо. (Нетрудно
заметить, что становление романа шло от фабльо через новеллу.)
Таким образом, мы видим, что незрелость общественных
отношений, питающих роман, и являющаяся отсюда следствием
незрелость мировоззрения, неспособность охватить широкий круг
действительности (эти две стороны взаимообусловлены) привели
к тому, что именно новелла, как жанр, оказалась в центре
литературы Раннего Ренессанса. Такова первая причина.
Во-вторых, новелла была приемлемей для ранних гуманистов,
нежели роман, который в существовавшей уже форме имел долгие
феодальные традиции и был в известной степени одиозным жанром.
Не случайно позднее, в эпоху Высокого Ренессанса, когда на
принципиально иной основе возникал гуманистический роман, то его
истоком была новелла, а не рыцарский роман. Более того — новый
роман рождался в борьбе со старым, отрицая и пародируя его. Этот
элемент пародийности, значение которого, впрочем, часто
преувеличивается, налицо у Раблэ, Фишарта и Сервантеса. Новелла же
не несла с собой этих осложняющих моментов: вырастая
непосредственно из фабльо, она была жанром вполне демократическим и,
следовательно, созвучным запросам Раннего Ренессанса. Такова
вторая причина.
Ведущая роль новеллы сказалась не только во всей литературе
Раннего Возрождения, но и, в частности, в творчестве такого
характерного раннего гуманиста, как Боккаччо. «Декамерон» занимает
в его творчестве совершенно исключительное место, как бы являясь
притягательным центром всей системы.
Смысл остальных произведений прежде всего в том, что они
подготовляли собой «Декамерон», ибо в каждом из них, ломая оковы
искусственно выбранного жанра, прорывалась на поверхность
новеллистическая стихия.
Первое произведение Боккаччо — «Филоколо» было попыткой
создания героического эпоса. Но, в сущности, «Филоколо» — это
любовно-приключенческая новелла со счастливым концом, а вся
мифологическая аппаратура — лишь ненужный довесок к ней.
Особенно характерен в «Филоколо» эпизод, в котором изображено
общество мужчин и женщин, галантно беседующих в тенистом саду
на любовные темы, причем задаются вопросы, а ответы
разрастаются в 13 новелл. Этот эпизод предвосхищает как жанр, так и общую
композицию «Декамерона».
«Филострато» также не имел сознательной установки на но-
веллистичность, а между тем «Эта история о любовных интригах,
268
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
обольщении, измене и ревности была истинной новеллой, несмотря
на классические имена».
«Амето» — идиллия в прозе, полная символико-теологических
приемов. Но в то же время она подготавливает как общую сюжетную
ситуацию, так и идейный мотив новеллы о Чимоне (V, 1). Кроме
того, она содержит эпизод, сходный с уже отмеченным эпизодом
в «Филоколо» и воспроизводящий композицию «Декамерона» —
рассказы — новеллы семи нимф в саду. Повествованием руководит
Амето, как король или королева в «Декамероне». Начинаются
новеллы смущенными извинениями рассказчиц, а завершаются гимнами,
подобными канцонам, заключающим каждый день «Декамерона».
«Тезеида» — вторая неудачная попытка после «Филоколо» в
области героического эпоса. Этому произведению также не удалось
выйти за пределы новеллы. «Боккаччо наивно заявляет — пишет
А. Веселовский, — что будет петь о делах Марса, тогда как в основе
лежит новелла о двух друзьях, влюбленных в одну и ту же
женщину, и все дело вертится на конфликте между чувством дружбы
и любовью. К подобному сюжету Боккаччо вернется в одной новелле
«Декамерона» (X, 8).
«Фьезоланские нимфы» совмещают в себе, по крайней мере,
в первой своей части, до прихода Атланта, элементы поэмы с
типичной ситуацией пасторализированной новеллы, со
специфически новеллистическими приемами — переодеванием, эротической
символикой и т. п.
Наконец, «Фьяметта» вряд ли может быть признана романом.
Изображенная в ней действительность скудна и ограничена
(переживания любовной измены — сплошная иеремиада). В ней почти
нет событий, она лишена действия, и эта ее сюжетная статичность
способствует психологической углубленности. Но психологизм в ней
крайне экстенсивен. Скорей всего, это, непомерно разросшаяся
по объему и потому довольно скучная, психологическая новелла.
Дайте в ученых латинских трактатах, чуждых по самой своей
природе не только новелле, но и всякому жанру художественной
литературы, даже в них дает себя чувствовать это неотвратимое
тяготение, к новелле. «То, что в ней (книге. — И. Ф., А Ш.)
излагается, — пишет Фойгт о трактате «О знаменитых женщинах»,— как бы
в поучение насчет добродетелей и пороков, является некоторым
образом маской для шуточных и нескромных рассказов, служащих
к увеселению друзей».
Итак даже поверхностный взгляд на творчество Боккаччо
показывает, что, при всем кажущемся многообразии его жанров,
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 269
исторические условия неудержимо влекли его к новелле, к
гениальному «Декамерону», в котором в особой конкретно-исторической
форме сказались общие признаки жанра.
IV
В отличие от фантастико-реалистического стиля литературы
высокого Возрождения, Боккаччо чужда фантастика. Всего лишь
в двух наиболее слабых своих новеллах (X, 5 и X, 9) он к ней
прибегает, распутывая интригу посредством волшебства, но эти элементы
фантастики наименее характерны для Ренессанса, а скорей являются
еще атавизмом средневековой повествовательной традиции. Вообще
для «Декамерона» нередко характерен бытовизм и внешнее
правдоподобие не только деталей, но и всей фабулы. Это правдоподобие
имеет постоянное тяготение к обыденной фактичности и доподлин-
ности. В этом проявилась, обусловленная историческим этапом,
городская узость горизонта Боккаччо. О нем нельзя сказать, как
о гуманистах Высокого Возрождения, что он не был «буражуазно
ограниченным», хотя его ограниченность не заключала в себе еще
пороков того буржуазного сознания, которое заново сложилось
позднее в эпоху «первоначального накопления». Если родина
Сервантеса — мир, то родина Боккаччо — всего лишь город, и даже тогда,
когда действие новелл выносится за городские стены, то и вне города
герои «Декамерона» по своему мировоззрению, по своим интересам
и поступкам остаются типичными пополанами. Итак, бытовизм —
принципиально очень важный общий признак «Декамерона».
Но было бы слепотой не замечать тех новых факторов, которые
не могли не повлиять на стиль и композицию новелл «Декамерона»,
тем самым подчеркивая их качественное отличие от фабльо.
Важнейший из этих факторов — тот мировой масштаб, который
приобрела торговля средиземноморских городов к середине XIV века.
Опасные заморские плавания, проторение новых морских путей,
борьба со стихиями на море и на суше и постоянная угроза встречи
с корсарами, пиратами, флибустьерами, каперами и бьюканьера-
ми — все это ставило личность под влияние стихийных сил и нашло
свое частное выражение в стиле и композиции «Декамерона».
В новелле (тем более в новелле Раннего Возрождения) всегда
заложена потенциальная возможность перерастания ее в роман, основной
жанр стиля буржуазной эпохи. Еще приглушенные, но уже дававшие
о себе знать авантюрные черты Раннего Ренессанса способствуют
наглядному обнаружению этих потенциальных возможностей новеллы.
270
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
Так, например, в идущем от фольклора гротесковом балагурстве
и комическом словотворчестве Бруно и Буффальмако (VIII, 9),
в завиральных рассказах брата Чипола (VI, 10) и Мазо дель Сад-
жио (VIII, 3) о своих путешествиях по всяким небывалым странам,
населенным столь же невероятными жителями, уже проступают
туманные контуры некоторых приемов
гротесково-фантастического реализма Рабле: абракадабра, в шутовских речах некоторых
персонажей, географический фон странствий Пантагрюэля и т. п.
Аналогичная тенденция перерастания в роман заключена
и в композиции некоторых новелл «Декамерона». При этом нужно
помнить, что по XVIII век включительно композиция романа
сохраняла черты чисто внешней конструктивности, при которой
композиционно-организующим стержнем, объединяющим отдельные
эпизоды, был образ героя. Такой роман мог быть легко расчленен
на эпизоды. Если же мы возьмем новеллу о похождениях Алатиэль
(II, 7), то увидим, что она путем количественного накопления
эпизодов приближается к авантюрному роману (не становясь все же им).
Приключения Алатиэль принципиально сходны с приключениями,
скажем, вольтеровского Кандида со стороны композиции, а с
приключениями Кунигунды — даже с фактической стороны.
Элементы авантюризма в Раннем Возрождении, усугубленные
буйным своеволием еще непокоренной человеком природы и
слепыми стихиями феодальной анархии, сказались как в содержательном,
так и композиционном плане «Декамерона» в гипертрофии роли
случая и даже легком налете фатализма. Все беседы П-го дня
заполнены рассуждениями о капризном непостоянстве Фортуны,
о превратностях судьбы, о роковой власти и бессилии человека, и
новеллы этого дня, как и пятого и некоторых других дней, трактуют
те же самые темы, причем случай становится в них композиционно-
образующим принципом.
Новеллы эти — исключительно приключенческие, судьба героев
претерпевает в них бесчисленные падения и взлеты, действие
представляет из себя сплошную систему неожиданностей, разбивающих
все человеческие намерения и тем как бы подчеркивающих власть
фатума. Стихия случайного своевольно владеет беспомощным
человеком подобно морским волнам, выносящим полубесчувственного
Ландольфо Руффоло к берегу: там где Ландольфо (II, 4), Андреуччио
(II, 5), граф Леверскин (II, 8), Констанца (V, 2), Джьяни (V, 6) и др.
предполагают найти, они неизменно теряют, а когда они считают
свою игру окончательно проигранной, счастье неожиданно
приходит к ним. Если бы мы захотели изобразить движение сюжета
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 271
этих новелл в виде кривой, то она состояла бы из крутых скачков
вниз и вверх. Каждый последующий эпизод представляет из себя
антитезу по отношению к предыдущему: от радости встречи с
«сестрой» Андреуччио переходит к отчаянию после падения в яму
с нечистотами и потери денег, затем снова к радости по поводу того,
что остался жив и имеет шансы вернуть потерянное, затем опять
к ужасу при мысли о неизбежной смерти на трупе архиепископа,
и, наконец, к счастью благополучного исхода приключения и
обладания перстнем (II, 5). Так как герой в своих удачах и
поражениях творческого участия не принимает, то его сознательная воля
заслонена фатумом.
Указанные идеи осуществляются в «Декамероне» не только через
общую авантюрную композицию, но и через тщательно продуманное
смысловое насыщение каждой сюжетной детали. Так, например,
в четвертой новелле второго дня потерпевший кораблекрушение
Ландольфо носится на доске по морю. К нему навстречу плывет
ящик, и «всякий раз, когда он подплывал близко, он отдалял его,
насколько мог рукой, как ни мало было у него сил». Впоследствии
оказалось, что в этом ящике, который Ландольфо отталкивал
с таким безрассудством, был спрятан ключ к счастливой развязке
новеллы — драгоценные камни, сделавшие Ландольфо богатым.
Как слеп человек перед лицом судьбы, и как всесильна судьба,
делающая человека против его желания богачом!
Однако если бы Боккаччо стал на точку зрения
последовательного фатализма, то это привело бы его к отказу от гуманистической
веры в человека, в его познавательные возможности и творческие
силы. И, действительно, фатализм Боккаччо носит относительный
характер, как отражение не абсолютного, а исторического и
преходящего несовершенства эпохи.
Прежде всего Боккаччо устами Пампинеи отказывается от
средневековых представлений о слепоте фортуны: «Я наверно прокляла бы
одинаково и природу, и судьбу, если бы не знала, что природа мудра,
а у фортуны тысяча глаз, хотя глупцы и изображают ее слепой»
(VI, 2). Отсюда следует, что, во-первых, утверждается мудрость
и справедливость природы, а, во-вторых, признается наличие
закономерностей во всех ее проявлениях, и если порой они кажутся
необъяснимыми и непреоборимыми случайностями, то лишь потому,
что человек еще не познал законов действительности, а вовсе не
потому, что миром управляет произвол некоего, вне его находящегося
провидения, выражаясь христианской терминологией, или фортуны,
выражаясь терминологией языческой. Познать законы мира, его
272
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
«прекрасную ясность» — таково прогрессивное гуманистическое
стремление Боккаччо.
Философы гуманизма в первую очередь устремлялись по линии
изучения каузальных связей явлений действительности. Именно
во вскрытии отношений причины и следствия видели гуманисты
познание основных законов материального мира. В этом смысле
Бэкон Веруламский подводил итог всей философской мысли эпохи,
когда присоединялся к тем, кто думал, «что истинное знание есть
знание посредством причин».
Только каузальность способствует выработке синтетического
мировоззрения, целостной картины мира, поэтому Боккаччо стремится
изобразить мир, как совокупность явлений, сплетенных воедино
мельчайшими причинными связями. Выражением этой концепции
в композиции новелл «Декамерона» является тщательная
система мотиваций, порой явно гипертрофированная в тех ее частях,
которые не вызваны сюжетной необходимостью и могли бы быть
легко опущены у других писателей.
Законовед Форезе поехал в свое поместье, и, хотя это совсем
по сюжету не требуется, Боккаччо объясняет причину: летом суды
не действуют (VI, 5). Кондотьер Гульфардо для достижения
любовных целей одалживает у своего друга, купца Гаспарруоло, деньги;
для обоснования этого факта Боккаччо страницей выше, как бы
невзначай, упоминает, что Гульфардо был весьма аккуратен в долгах
и поэтому его очень охотно ссужали деньгами (VIII, 1). Таких
примеров можно привести бесчисленное количество, т. к. во всех
новеллах изложение носит последовательно-прагматический характер.
Проследим эту прагматическую взаимообусловленность эпизодов
на сюжете новеллы о купце Ринальдо д'Асти (И, 2). Ринальдо с
неосмотрительной откровенностью говорят о своих деньгах —
следствие: его спутники решают его ограбить. Ринальдо со спутниками
достигает уединенного места — следствие: разбойники находят
момент подходящим для осуществления своих замыслов.
Ограбленный Ринальдо не может найти пристанища — причина: местность
опустошена войной. Вдова, у которой Ринальдо находит убежище,
склоняет своего гостя к любви — причина: «ожидание маркиза
на ночлег возбудило в ней похотливое чувство» и т. д.
Стремление к логической закругленности подчеркивается порой
несколько нарочитыми приемами. Оканчивая 4 новеллу III дня
словами, повторяющими предварительно изложенную мысль новеллы,
Боккаччо мотивирует это повторение: «дабы последние слова
рассказа не разногласили с первыми». Возьмем другой любопытный
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 273
пример. Новеллы шестого дня очень коротки, и Боккаччо ни на
минуту не упускает этого из виду. Этим обстоятельством мотивирует
Дионео свое намерение рассказать длинную новеллу. Кроме того
это сказывается на дневном распределении времени, сильно
отличающемся от других дней. По окончании всех новелл «солнце было
еще очень высоко», и мужчины и дамы успели совершить прогулку
в Долину Дам.
Эта причинная мотивированность каждой детали, отражая
новое, гуманистическое в «Декамероне», существенно отличает
его от фабльо, которое, по словам Ауэрбаха, «без усилий стать
господином эмпирической действительности хватает какую-нибудь
поразительную ситуацию и нимало не заботится о ее причинной
слаженности». Мало имеет общего Боккаччо и с литературой
христианского средневековья. Если он иногда и не находит
рациональной связи явлений, то во всяком случае, ссылаясь на
относительную непознанность человеком судьбы, он никогда не идет
в поисках причинности по религиозно-теологическому пути.
Идейный и сюжетный стержень новеллы Боккаччо находится
в ней самой, в изображаемой ею материальной действительности,
в отличие от религиозной притчи, ибо «работа раннего новеллиста
состояла прежде всего в том, чтобы придать свой собственный
центр рассказу, чтобы он мог развиваться без провидения и морали
(см. главу III), т. е. самостоятельно приводить события в
определенную каузальную связь». Боккаччо это удалось, и поэтому его
прагматическая концепция материалистична и заострена против
теологии.
Из сказанного, однако, не следует, что Боккаччо шел
последовательно по пути познания всемирных связей. Дело не только в том,
что многие явления Боккаччо считал для себя невыясненными,
но также и в том, что историческая ограниченность Боккаччо делала
его понимание закономерностей действительности упрощенным.
Познание каузальности означало для Боккаччо, как и для других
гуманистов, истинное познание, между тем как в действительности
каузальность выражает «всесторонность и всеобъемлющий характер
мировой связи лишь односторонне, отрывочно и неполно».
Несколько примитивное и излишне трезвое понимание мотивов
человеческого поведения, примитивность психологии, подменяемой иногда
логикой и риторикой и т. д.,— все это помимо других причин было
связано и с тем, что «человеческое понятие причины и следствия, —
по словам Ленина, — всегда несколько упрощает объективную связь
явлений природы, лишь приблизительно отражая ее, искусственно
274
Я. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
изолируя те или иные стороны одного единого мирового процесса».
Однако стремление раздвинуть ограниченно-эмпирические,
средневековые рамки представлений о мире, стремление к обобщающему
мировоззрению, независимо от объективной односторонности этих
стремлений, выступали в «Декамероне», как положительные
факторы. С ними связано то обобщение, которое кристаллизовалось
в форме типической исключительности в сюжете и в форме
неожиданности (или иногда, как мы уже убедились, целой системы
неожиданностей) в композиции.
О неожиданности, заключенной в содержании новелл, уже
заранее говорят темы некоторых дней. Так, например, темой второго
дня являются рассказы «о тех, кто после разных превратностей
и сверх всякого ожидания (подчеркнуто нами. — И, Ф., А. Ш.) достиг
благополучной цели». Та же неожиданность, хотя и в менее прямой
форме, предусмотрена и темой пятого дня, во время которого
«рассуждают о том, как после разных печальных и несчастных
происшествий влюбленным приключилось счастье». Вперед заданная
тема — бедствие, увенчивающееся счастливой развязкой, —
предвещает сюжетные неожиданности, без которых она неосуществима.
Появившись в теме дня, неожиданность переходит в
типичный для «Декамерона» развернутый заголовок каждой новеллы.
Но при этом нужно подчеркнуть, что эта неожиданность не
имеет ничего общего с формалистическим пониманием заголовка
Шкловским, как искусственного приема заинтриговывания
и маскировки неожиданности путем «недосказывания». Совсем
напротив: парадоксальность или недоговоренность заголовка
является естественным выражением неожиданности, заключенной
в самом содержании новеллы. Эта неожиданность особенно остро
выступает в предельно-сжатом, как бы спрессованном содержании,
т. е. в заголовке, ибо в самой новелле неожиданность смягчается
мотивировками, пояснениями, сюжетными связями и пр., чего
нет в заголовке.
Заголовок второй новеллы первого дня гласит: «Еврей Авраам,
вследствие увещаний Джианотто ди Чивиньи, отправляется к
римскому двору и, увидя там развращенность служителей церкви,
возвращается в Париж, где и становится христианином».
Парадоксальность этого заголовка в несоответствии посылки («развращенность
служителей церкви») следствию («становится христианином»).
В самой новелле неожиданность, конечно, не исчезает, но,
сопровождаясь объяснениями, теряет свою резкость. Вся ситуация
в целом — принятие религии потому лишь, что ее рекомендует
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 275
безнравственность ее служителей — исключительна, но в тоже
время полна обобщающего смысла.
В ряде других заголовков неожиданность, хотя и не достигает
размеров парадокса, но выступает все же довольно отчетливо:
многое не объясняется, недоговаривается, если упоминаются
приключения, то не говорится какие и т. д. Что касается содержания
самих новелл, трактующих о бедствиях со счастливым исходом,
о необыкновенной находчивости и ловких ответах, о проделках жен
над мужьями и мужей над женами и т. д., то исключительные, хотя
и не фантастические, ситуации и неожиданные развязки неизменно
означают в них способ выражения типической сущности жизни.
Однако неожиданность в новеллах «Декамерона» ни в коем
случае не переходит в немотивированную произвольность.
Присутствуя в новелле лишь как момент, оформляющий специфическое
для новеллы содержание, лишь как средство, а не как цель (ср.
с формалистами), неожиданность не становится самодовлеющей.
Она допущена на известных условиях и, следовательно, носит
ограниченный и относительный характер. Прежде всего тема дня
и заголовок новеллы, хотя они сами содержат в себе неожиданность,
в то же время уменьшают ее в самой новелле, ибо в общих чертах
предрешают развязку. «Только внутри этих рамок, — говорит Ау-
эрбах, — Боккаччо свободен, и только в них эта свобода возможна».
Последнее замечание — очень существенно. Оно означает, что,
если бы этих ограничительных условий не было, то неожиданность
могла бы стать самодовлеющей, свобода привела бы к произволу,
и в результате новелла выродилась бы в анекдот.
В «Декамероне» содержится группа новелл, анекдотичных
по своей композиционной структуре. Но характерно, что большая
их часть обнаруживает тенденцию к нарушению канонов
анекдотического жанра.
Для анекдота характерна своего рода «безыдейность», вся соль
его — во внешней забавности ситуации, в самодовлеющей
занимательности ловкого ответа или остроумного диалога, т. е. в
неожиданности, вызывающей комический эффект. Фабльо вырастали
непосредственно из анекдотов и зачастую анекдотами оставались.
Забавное балагурство, смешное само по себе происшествие — прямая цель
фабльо. Вот сюжет одного из них: буржуа было поручено отнести
сундук умершего Онта английскому королю. Комизм основан на игре
слов — «сундук Онта» означает «позор и болезнь» (male honte). Все
фабльо сводится к примитивному каламбуру. Отсюда, разумеется,
не следует, что фабльо лишено идеологического содержания, оно
276
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
наличествует в самом материале фабльо, но в косном состоянии. Оно
специально не разрабатывалось. Ловкость, хитрость, находчивость,
пронырливость — идеи средневекового бюргера — находили свое
достаточное выражение в анекдоте.
Новеллы «Декамерона», даже обладающие внешней
анекдотичностью композиции, в большинстве случаев уже отличны от
анекдота. Комизм неожиданности, каламбур и т. п. перестает быть
их целью, их главным содержанием, а становится лишь формой
выражения идей гуманизма. Их основа — идейность. Только одни
формалисты, упрямо третирующие содержание и фетишизирующие
абстрактные «сюжетные схемы», могут безоговорочно называть
все новеллы VI дня анекдотами и видеть весь смысл «Декамерона»
в «рассказывании ради рассказывания.
Новеллы о мадонне Филиппе (VI, 7), о легкомысленном
горожанине и инквизиторе (I, 6), о брате Чиполле (V, 10), о Гвидо Кавальканти
(VI, 9) и ряд других новелл Vl-ro и 1-го дней анекдотичны по своему
сюжету, по композиции, но основное в них не комические эффекты,
а идеи, и притом идеи нового гуманистического качества: проповедь
прав человека на осуществление своих естественных потребностей,
критика алчности и лицемерия духовенства, прославление науки,
искусства, веротерпимости и т. д. Эта тенденция преодоления
канонов анекдота поднимает «Декамерон» над средневековым узким
мирком фабльо.
Несоизмеримо более широкий по сравнению с фабльо духовный
горизонт «Декамерона» сказался и на ряде других его особенностей
и приемов.
Как мы уже указывали (см. главу III), обобщение, т. е. такой
показ частного, который давал бы проекцию общего, есть
необходимый элемент новеллистического жанра. Боккаччо даже часто
не довольствуется той типичностью, которая заложена в самом
повествовательном материале новеллы, той обобщенностью, которая
заключена в самой исключительности излагаемого происшествия,
и прибегает к особым приемам, не являющимся органическими
составными элементами новеллы и имеющим своей специальной
целью то частное, о котором рассказывает новелла, перенести в план
общего. Эти приемы обычно обозначаются немецкими терминами
«Vorgeschichte» и «Nachgeschichte»11. «Nachgeschichte» может
выступать в форме поясняющего и обобщающего вывода, как,
например, в новелле о несчастной любви Джироламо и Сильвестры
(«кого любовь не смогла соединить при жизни, тех в неразрывном
союзе соединила смерть» — IV, 8). Иногда в ней заключено поучение
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 277
(например, предостережение от школяров — V, 7). Но чаще всего она
носит информационный характер, сообщая читателю о дальнейшей
судьбе героев и тем самым вводя частное в поток общего.
Типичный пример такой Nachgeschichte дает новелла о соколе («получив
в жены такую женщину, которую он так любил, став, кроме того,
богачом и лучшим, чем прежде, хозяином, он в радости и веселии
провел с ней остаток своих дней» — V, 9). Приблизительно ту же
функцию выполняет и Vorgeschichte с той лишь разницей, что она
чаще носит морализирующий, дидактический характер, не будучи
непосредственно связана с повествованием.
Сущность этих приемов в историческом плане двойственна. С
одной стороны, в них уже даны в эмбриональном состоянии пролог
и эпилог романа, а с другой стороны, в этих приемах есть и
пережитки того, не входящего в состав самого рассказа, морализирования,
которое было характерно для средневековых притч. Правда, как
справедливо заметил Гоффеншефер, дидактизм этих Vorgeschichte
и Nachgeschichte полярно противоположен идеям притч, являя
собой яркий пример переосмысления старого приема.
Вообще, анализируя различие приемов новеллы и
средневековых повествовательных жанров (фабльо, притча) и устанавливая
социально-историческую подоплеку этого различия, мы, однако,
не считаем его обязательным, основным и определяющим. В ряде
случаев и старый прием, и старая «сюжетная схема», как
благоговейно выражались формалисты, заново переосмысляются в новом
содержании, как бы подвергаются идейной перелицовке.
Такова, например, новелла о Настаджио дель Онести (V, 8),
оставляющая в неприкосновенности «сюжетную схему» старой
аскетической легенды о каре за прелюбодеяние, но явно пародирующая
ее содержание и проповедующая как логикой своих образов, так
и своей Nachgeschichte, как раз обратное — любовь и наслаждение.
Заканчивая наш анализ новеллистической архитектоники
«Декамерона», мы должны еще остановиться на том принципиальном
значении, какое имела для Боккаччо проблема композиционного
мастерства, ибо лишь в эпоху Возрождения вопросы формы могли
встать, как таковые (см. главу II).
Авторы фабльо не ставили перед собой никаких формальных
задач и на мастерство почти не обращали внимания. Как мы уже
указывали, фабльо сплошь и рядом начинались с признания
собственного несовершенства, причем в виде извиняющего
обстоятельства выдвигалось отсутствие у рассказчика других претензий,
кроме скромного желания потешить народ. И действительно,
278
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
фабльо почти лишены композиции, как продукта сознательного
мастерства. Если же при этом иметь в виду, что фабльо дошли до нас
исправленными, в списках XVI века, то следует предположить,
что в своем первородном виде они были еще хаотичней. Поэтому
Боккаччо при использовании мотивов фабльо неизменно подвергает
их сюжетному усложнению.
Жебар передает, например, содержание одного фабльо. Жена
прячет от внезапно вернувшегося мужа своего
любовника-клирика в бочку, принадлежащую соседке. Ничего не подозревающий
муж располагается на этой бочке пировать со своими друзьями.
В это время соседка присылает служанку за бочкой, но жена дает
неясный ответ, из которого соседка догадывается, в чем дело,
и, повинуясь зову женской солидарности, решает придти на
помощь. Она нанимает босяка, чтобы тот бегал по улице и кричал:
«Пожар». Начинается паника, мужчины бросаются врассыпную,
жена и ее любовник выручены. Здесь комическая компликация
элементарна и скудна: клирик в действие не втянут, муж
обманут, но не смешон, бочка не становится тем центром, в котором
скрещиваются интриги конфликтующих персонажей. Все эти
неиспользованные внутренние сюжетные ресурсы Боккаччо
реализирует во второй новелле седьмого дня: любовник сам
принимает участие в обмане мужа, муж видит любовника в бочке,
но не догадывается ни о чем, наконец, сама бочка обыгрывается
более умело и последовательно.
Показателем формальных преимуществ «Декамерона» перед
примитивной техникой фабльо может послужить синтетическая
множественность композиции его новелл. Их множественность —
в легкой членимости их на эпизоды, каждый из которых мог бы
послужить для средневекового рассказчика темой самостоятельного
рассказа. Их синтетичность — в той единой теме и общей идее,
которые объединяют все эпизоды и вытекают лишь из их
совокупности, не будучи связаны ни с одним из них в отдельности.
В более или менее явной форме этот композиционный принцип
присущ всем новеллам «Декамерона», но классическим примером
его является новелла об Алатиэль (II, 7). Отправленная к своему
жениху, Алатиэль попадает поочередно в руки девяти мужчин.
Каждый любовник — это самостоятельный эпизод в авантюрной
цепи. После всего пережитого Алатиэль доставлена, наконец,
к жениху в качестве девственницы. Обобщающая идея новеллы
дана в форме Pointe: «уста от поцелуев не умаляются, а, как
месяц, обновляются». Этот вывод представляет из себя как бы фокус,
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 279
в котором сходятся лучи, идущие от каждого эпизода, фокус,
образуемый не одним лучом, а представляющий из себя концентрацию
их множества.
Синтетическая множественность, выражая гуманистические
стремления к обобщению, противостоит фабльо с его
ограниченным и, так сказать, «штучным» эмпиризмом. Фабльо чаще всего
говорит об одном примитивном эпизоде. Если и встречаются иногда
множественные фабльо, то, не имея в большинстве случаев
обобщающего стержня, они распадаются на друг с другом не
связанные эпизоды. И лишь очень редко, например, в известном фабльо
о жонглере и английском короле, мы встретим обобщающую идею.
Но и в данном случае обобщение неорганично, ибо идея не
вытекает из всех эпизодов, а легко может быть выведена из каждого
в отдельности, из любого вопроса короля и соответствующего
ответа жонглера. Здесь нет синтеза, а есть лишь механическое
соединение простейших, «штучных» фабльо на тему ловкости
и находчивости.
Интерес Боккаччо к форме и мастерству новеллистического
сказа нашел свое любопытное выражение в новелле о Мадонне
Оретте и неумелом рассказчике (VI, 1). В этой новелле путем
критики отрицательного образца Боккаччо дает свой идеал рассказа:
не должно быть повторений, исправлений и возвращений к
рассказанному, нельзя путать имена в изложении, нужно брать «в расчет
качества действующих лиц и события, какие приключались» и т. д.
Это — целая система отчетливых представлений об архитектонике
новеллы: последовательность, естественность, мотивированность,
прекрасная ясность, пропорциональность и гармония форм,— вот
что составляет красоту повествования.
Эта гуманистическая направленность борется в архитектонике
и стиле «Декамерона» с элементами средневековой узости, морали-
зованьем, фатализмом, стремлением передать внешнюю видимость
во всех деталях и подробностях, идущих в разрез с логикой сюжета
и разбивающих идейную и композиционную целостность.
Подводя итоги главе, мы считаем нужным сделать одну оговорку:
показывая те конкретно-исторические и социально-обусловленные
формы, в которых выступают в «Декамероне» общие признаки
новеллы, мы в этих формах видим ведущие тенденции, отражающие
содержание и идейные проблемы Раннего Возрождения, а не до
мелочей обязательные черты. Возможны исключения, подтверждающие
правило, ибо ведущие тенденции выводятся из частных случаев,
как типическое, а не универсальное.
280
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
V
Треченто содержало в себе элементы новых общественных
отношений еще лишь в очень незначительной степени. Средневековье
преобладало как в социально-экономической, так и в духовной
жизни Италии, и это соотношение старого и нового, помимо
прочего, сказывалось на литературных жанрах эпохи.
До Боккаччо собственно новеллы, этого жанра, вызванного
к жизни Возрождением, в Италии вообще не было, хотя некоторые
исследователи и пытаются с теми или иными оговорками причислить
к новелле отдельные произведения первой половины XIV в. Больше
того, в продолжении нескольких десятилетий после «Декамерона»
новелла носила в идейном и стилевом отношении примитивный
характер, почти не подымаясь над уровнем фабльо.
В этом убеждает самый беглый обзор повествовательной
литературы треченто.
Начнем, как и принято, со сборника «Novellino», иначе
называемого «Cento novelle antiche» (сто старинных новелл»). Он
приблизительно датируется первыми годами 14 века и содержит
66 рассказов: легенд, притч и т. п. (остальные 34 до нас не дошли).
Автор «Novellino» неизвестен; его по всей вероятности и не было.
Был составитель, включивший в сборник самые различные образцы
малых эпических жанров, которыми изобиловало средневековье.
В предисловии к «Novellino» он писал: «Мы связали в один букет
несколько цветов изящной речи, отменной куртуазии, остроумных
ответов, великих подвигов, большой щедрости и чудных повестей
любви».
Вполне естественно, что «Novellino» в высшей степени
эклектичен но своему составу: здесь и религиозно-мистическая фантастика,
и христианизированная античность, и восточно-экзотические
сюжеты, и рассказы о ловких бюргерских проделках в духе фабльо,
и церковно-дидактические притчи, и куртуазно-рыцарские легенды
и т. п. Все это — обычный ассортимент средневековых эпических
жанров, и «Novellino» ни на шаг не выходит из круга готических
идей и сюжетов. Принадлежат ли они к церковно-дворянскому
лагерю, или к бюргерскому, но над ними в равной степени
довлеет затхлая атмосфера средневековья, им в равной степени далеко
до ренессансного, гуманистического мировоззрения.
Злобное отношение к женщине, проклятия ее чарам в одних
рассказах исходят из уст аскета, боящегося бесовского наваждения
(22), а в других из уст цинично-трезвого бюргера. Наука и учение
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 281
подвергаются осмеянию (35, 38), и им противопоставляется
бюргерская хитрость или средневековая казуистическая «мудрость»
судей (7) и магов (17). Примитивная религиозная дидактика,
сумбурная фантастика и ирреализм — все это весьма характерно для
«Novellino». Нивелированность феодального коллектива привела
к полному отсутствию индивидуальностей.
В стиле «Novellino» преобладает или готическая бесплотность,
или натуралистическая «буквальность» и историческая доподлин-
ность фактов (67 и др.)· Композиция лишена идейности и стоит
на уровне анекдота, ибо «весь сюжет, — по словам Жебера, —
построен на остром словце или пикантном ответе».
Таким образом рассказы «Novellino» имели мало общего с
новеллой, как жанром, и в идейном, и в стилевом отношении. Это
понимал и сам Боккаччо. Во вступлении к 4 дню он почти дословно
пересказал 14-ю притчу из «Novellino», предварив ее словами, что
это не новелла, а лишь «отрывок новеллы», и приводится он для
того, чтобы его «недостаток» доказал его отличия от подлинной
новеллы самого «Декамерона».
Еще меньше общего с новеллой имеют написанные в 30-х годах
14 столетия «Фиоретти ди Сан Франческо» («Цветочки св.
Франциска Ассизского»), хотя отдельные главы из этого произведения
Муратов включил в свой свод новелл Итальянского Возрождения.
Это обыкновенное «Житье», украшенное поучительными примерами
благочестивых подвигов и чудодейственной святости и изобилующее
обязательными в агиографической литературе фантастическими
эпизодами, вроде умиротворения хищного зверя12, обращения
блудницы и т. п.
Наконец, последнее из изъявлений повествовательной
литературы до Боккаччо, заслуживающее быть отмеченным, это рассказы
флорентийского нотариуса Франческо да Берберино, бывшего
старшим современником гениального родоначальника новеллы и
умершего в чуму 1348 года, описанную в «Декамероне». В 30-40 годы
он написал две книги: «Советы любви» и «О воспитании и нравах
женщин», в которых приводил с иллюстративно-доказательной
целью ряд легенд и притч, так же как и в первых двух случаях
далеких от новеллистического жанра.
Франческо да Берберино — педантичный и неискусный
рассказчик церковно-моралистического толка. Он выступает в роли
хмурого проповедника в духе католического «домостроя». Он
учит женщин, как им подобает себя вести во всех случаях жизни,
чтобы соблюсти добродетель и избежать греха. Он дает бытовые,
282
И. M. ФРАДКИН, А Л. ШТЕЙН
хозяйственные и прочие житейские советы. Эти скучные
рассказы не только не изобличают в нем талантов новеллиста, но даже
и талантов религиозного проповедника. Достаточно сравнить его
наивно-тенденциозную легенду об отшельнице, которая с помощью
добродетели победила искушавшего ее беса и отогнала дьявольское
наваждение, с известной новеллой Боккаччо о юной отшельнице
Алибек (III, 10), чья борьба с дьяволом приняла несколько иной
оборот, чтобы стала очевидной пропасть, отделяющая аскета и
автора художественно-беспомощных притч Франческо да Берберино
от гуманиста и мастера новеллы Боккаччо.
На рубеже 40-х и 50-х годов XIV века был написан «Декамерон»
и родилась новелла, как жанр. Однако «Декамерон» не закрывал
путей назад.
Некоторые новеллисты конца треченто своим творчеством
показали еще недостаточную социально-историческую закрепленность
завоеванных позиций, и сами не только не продвинулись вперед,
но даже снова отступили к фабльо. Это относится прежде всего
к Саккетти и Серкамби.
Саккетти написал 223 новеллы, но в ряде случаев они не
поднимаются над уровнем фабльо. «Саккетти не был ни ученым, ни
гуманистом, ни поэтом». Это буржуа, и буржуа достаточно ограниченный.
Его взгляд на людей поражает своим цинизмом и грубостью. Свое
отношение к любви и женщинам он выразил в афоризме: «женятся
так же, как покупают лошадь». Полный презрения к науке и
ученым, Саккетти проникнут почтением к ловким плутам и шутам
(Дольчибене, Горпелла и др.). Наряду с людьми в его рассказах,
согласно древней традиции бюргерской литературы, действуют
животные (кони, ослы, свиньи). Преобладающая тематика его новелл:
комическая буффонада базарного характера, городские скандалы,
драки, переполохи и пр. (CLXXVI, ССП и др.).
Саккетти в стилевом отношении почти не продвинулся вперед
от техники фабльо. Его герои слабо индивидуализированы.
Композиция его новелл очень скудна, они лишены обрамления, их сюжеты
или примитивно анекдотичны, или наивно дидактичны. Бесспорно
правильную характеристику этих новелл дает немецкий
исследователь Ландау: «Они написаны в простом, неприкрашенном, часто
довольно небрежном стиле, с частым употреблением провинциа-
лизмов и в большинстве — очень коротко, так что мы можем их,
пожалуй, назвать анекдотами. Иногда так выглядит, как будто
Саккетти только для того и написал новеллу, чтоб вывести свою
доморощенную мораль и свои трюизмы».
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 283
Многие новеллы Саккетти отличаются крайним натурализмом
и фактичностью. И в этом смысле очень характерно единодушное
мнение всех исследователей, находящих в творчестве Саккетти лишь
историко-культурные ценности, правдивые рассказы об истинных
исторических происшествиях, деятелях, политических событиях
и пр. (V, CXXVI).
На еще более низком уровне стоят новеллы Серкамби, несмотря
на рабское подражание «Декамерону» и в обрамлении (чумной
фон), и в сюжетах (до 20 заимствований). Они отличаются
циническим взглядом в рифмованных морализированиях, проникнутых
аскетизмом.
Если новеллы Саккетти и Серкамби свидетельствовали о еще
непреодоленной косной силе средневековья, то «Пекороне» Сера
Джованни и «Вилла Альберти» — в конце треченто и новеллы
флорентийских анонимов, Сермини, Илличини и Маззуччо,
относящиеся уже к кватроченто, являли собой расцвет новеллистики
Раннего Возрождения.
Не останавливаясь на характеристике всех указанных новелл,
мы считаем лишь необходимым мотивировать включение в их число
«Виллы Альберти». Это произведение, относящееся к 1389 году,
проникнуто основными ренессансными настроениями. Споры
о естественных правах человека, апология женщины,
классическая эрудиция, риторические ссылки на древних, радостный
эпикуреизм — таковы идеи и чувства «Виллы Альберти». В числе
действующих лиц мы встречаем крупнейших гуманистов эпохи:
Луиджи Марсили, Колуччо Салу тати и др. Но не только
идеологически, а также в отношении стиля и жанра это произведение
продолжает линию «Декамерона». Оно отличается лишь меньшим
количеством новелл и значительно большей объемностью и
развернутостью обрамления. Но обрамление принципиально остается
тем же: фон — обстановка роскошной виллы, нет в обрамлении
центрирующего действия, нет самостоятельного сюжета. Зерно
повествования заключено в новеллах, поочереди рассказываемых
членами блестящего общества, «Вилла Альберти» —это типичный
для Раннего Ренессанса сборник новелл, правда с несколько
нарушенной композиционной пропорциональностью и внутренним
соотношением частей.
В течение двух веков после «Декамерона» в художественной
литературе итальянского Ренессанса новелла становится — во всяком
случае в смысле количественного преобладания — господствующим
жанром. Если сравнение с фабльо и другими малыми эпическими
284
И. M. ФРАДКИН, А. Л, ШТЕИН
жанрами средневековья помогло нам установить уже ренессансную
специфику «Декамерона», то сравнение с дальнейшим развитием
итальянской новеллы чинквеченто должно показывать нам и его
еще раннеренессансную специфику.
«Декамерон» остался непревзойденной вершиной итальянской
новеллистики. Эта вершина отбрасывает свою тень на весь
дальнейший путь новеллы: влияние «Декамерона» или борьба за его
преодоление составляет содержание последующего развития.
Это вершинное положение «Декамерона» вполне понятно, ибо
до Раннего Возрождения новелла была наиболее органичным
жанром. И, наоборот, в литературе чинквеченто, т. е. в эпоху
Высокого Возрождения, новелла переживает агонию. Процесс распада
содержания и формы направлялся по двум руслам: 1) по руслу
измельчания, деградации и качественного вырождения (огромное
большинство новелл XVI века) и 2) по руслу, так сказать,
«выхода новеллы из самой себя», т. е. ее внутренне-идеологического
и структурного перерождения в роман. Нас больше интересует
вторая сторона процесса, не вырождение, а перерождение, и поэтому
остановимся на ней хотя бы коротко, тезисо-образно.
Прежде всего приходится отметить, что, насколько медленно
шел в Италии процесс развития Раннего Ренессанса, настолько
ускорились в XVI веке темпы перехода от Высокого Возрождения
к Барокко. Поэтому в новелле чинквеченто, наряду с собственно-
ренессансными чертами, мы видим уже бледные отблески кризиса
гуманизма и начавшейся феодально-католической реакции.
Это сказалось у ряда новеллистов в испуге перед «естественным
человеком», долгожданная свобода которого породила цепь
кровавых потрясений в политической жизни итальянских тираний.
Такие новеллисты, как Мольца, Банделло, Дони, Малеспини и др.,
поминутно обнаруживали «дурные стороны» свободы, хотя бы
на примере своих собственных биографий, полных вольных и
невольных преступлений, интриг и головокружительных поворотов
судьбы.
Это частичное осознание «дурных сторон» свободы вело
новеллистов по пути реалистического показа и сурового осуждения
всяческих жестокосердечных мужчин (Дони — «Месть») и инфернальных
женщин (Банделло I, 4), их «разнузданных желаний» и
«неслыханных жестокостей». Свобода оказалась связанной с извращениями,
и даже свобода такого естественного чувства, как любовь.
Однако в соответствии с особенностями социальной жизни и
политической раздробленности Италии этот кризис гуманизма приводил
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 285
иногда не к вынужденному признанию смиряющего абсолютизма,
как это случилось в Англии (Шекспир), а к иной разновидности
того же вынужденного смирения — к религии. Если крупнейшему
поэту Барокко Торквато Тассо приходилось впоследствии выступать
певцом католицизма и святейшей инквизиции, то и некоторым
новеллистам чинквеченто, обогащенным горьким опытом краха
гуманистических иллюзий, пришлось возродить идею
«религиозного смирения». Дони, например, в новелле «Светильник жизни»,
апеллируя к религиозным образам, призывает к смиренной,
благочестивой жизни, Страпаролла в новелле «Поиски смерти» осуждает
безмерные дерзания человеческого разума, прославляет
христианскую умеренность и т. д.
Таковы, изредка дававшие о себе знать, специальные примеси
к тем основным идеологическим чертам, которые были внесены
в новеллу Высоким Возрождением и которые заранее ясны. Из них
желательно остановиться лишь на одной.
В то время, как у ранних гуманистов и у Боккаччо, в частности,
индивид еще не вполне выделился из феодального коллектива,
не вполне обособился от старых общественных связей, Высокий
Ренессанс уже окончательно освободил личность, провозгласил
индивидуализм основой общественной жизни.
Параллельно с изменениями в социальной обстановке в новелле
XVI века происходили внутренние стилевые и композиционные
сдвиги, намечался внутренний переход к стилю фантастического
реализма.
Не обязательно этот фантастический реализм, широко
свойственный Высокому Ренессансу, должен был принимать форму
сказочного неправдоподобия или выходящих за пределы жизни
вымыслов, как у Раблэ (великаны и пр.). (По этой линии пошли
в большинстве своих новелл Дони и Страпаролла.) Он мог найти
свое выражение и в шекспировском (по складу, а не по
масштабу) гиперболизме и титанизме. Недаром в новеллах Джиральди
Шекспир нашел готовые сюжеты трех своих трагедий («Отелло»,
«Цимбелин», «Мера за меру»). Избыток экспрессии, колоссальные
страсти, высокий трагический накал, — вот черты этого реализма.
Правда, страсти героев новеллы чинквеченто несоизмеримо мельче
страстей шекспировских героев, тема Ромео и Джульетта (Банделло,
II, 4) трактуется не в плане титаническом, а скорей сентиментально,
точно так же, как и тема Отелло и Дездемоны (Джиральди III, 10),
но в зачаточном состоянии уже и здесь дан стиль нового, по
сравнению с Боккаччо, качества.
286
И. M. ФРАДКИН, А. Л. ШТЕЙН
Усложнение обстановки и назревание кризиса гуманизма
сказывается в несоизмеримом возрастании интереса к внутренней жизни
индивида и, соответственно, в мастерстве психологического анализа.
Не удовлетворяясь изображением внешних психологических
проявлений, новеллисты (Джиральди и особенно Бергальи) тщательно
анализируют духовные процессы, еще недавно считавшиеся
скрытыми и таинственными. С подлинным мастерством, например, дана
внутренняя борьба в душе Лавинеллы, и, недаром, психологический
конфликт этой новеллы был использован Бальзаком в одном из его
романов (Бергальи — «Любовь под маской»).
Эти стилевые новообразования (фантастический реализм,
углубленный психологизм) были тесно связаны с большим охватом
действительности и, следовательно, толкали новеллу к
внутреннему ее перерастанию в роман не только в отношении содержания,
но и в композиционно-структурном отношении. В ряде новелл чинк-
веченто (Банделло, II, 41, Бергальи — 5 и др.) мы встречаемся с
количественным возрастанием эпизодов, с расширением количества
персонажей, данных в психологической динамике, с усложнением
их связей и взаимодействий и т. д., т. е. с теми признаками, которые
ставят уже эти новеллы на грань с романом. Более того: новеллист
Грацини в предисловии к своим «Вечерам» уже различал «три вида
рассказа» — «маленький, средний и большой» и весь третий вечер
посвятил «большим» рассказам, представляющим из себя уже
в сущности конспекты романов.
Таков итог, увенчивающий эволюцию новеллы Итальянского
Возрождения и уточняющий историческое соотношение двух основных
жанров прозы буржуазного времени — новеллы и романа, их связь
их преемственность и место, занимаемое среди них «Декамероном».
Творчество Боккаччо, как и вся деятельность великих
гуманистов Ренессанса, была первым штурмом твердынь средневековья.
Однако требования гуманистов не были и не могли быть вполне
удовлетворены в ходе развития буржуазного общества. Более того,
капиталистическое общество не только не уничтожило деградации
человека, но возродило ее в еще более губительной форме;
гуманистическая мечта Боккаччо о прекрасном человеке в реальной
исторической действительности воплотилась или в сытом обличий
буржуа, или в образе изможденного труженика.
Боккаччо исторически был поставлен в положение
непримиримого врага буржуазного сознания уже с конца эпохи так
наз. «первоначального накопления», когда на человека, подобно
смирительной рубашке, была надета аскетическая пуританская
«Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего Возрождения 287
власяница добродетелей нового буржуазного мира — «умеренности,
трудолюбия и бережливости». Гуманизм автора «Декамерона» стоял
перед вершителями судеб буржуазного общества, как вечный укор,
и это определило их отношение к нему на различных исторических
этапах этого общества. То «Декамерон» подвергался открытому
преследованию (инквизиция), то он лицемерно и ханжески предавался
анафеме за «извращенность», «лживость», «грубую чувственность»,
«скабрезность», «моральную испорченность» и т. п., то он
фальсифицировался и грубо приспосабливался к вкусам эротоманов,
антиобщественных гедонистов и эстетов, то, наконец, отвергался
за гуманизм или, наоборот, «унифицировался» современными
фашистами. Во всех этих случаях буржуазия продемонстрировала
свое неумение и нежелание признать «Декамерон» таким, какой
он есть на самом деле. Признать «Декамерон» смог только
пролетариат, которому чужда ханжеская стыдливость и недооценка
красоты человеческой природы. Проблема равенства, проблема
морали, проблема человеческих возможностей и многие другие,
впервые поднятые Боккаччо в несколько наивной форме, а затем
развитые и углубленные Раблэ, Сервантесом и Шекспиром, — все
эти проблемы вполне разрешимы только в нашей стране, где
создается такое общество, «где личность, свободная от забот о куске
хлеба и необходимости подлаживаться к "сильным мира'\ станет
действительно свободной».
^^
^55^
В. Б. ШКЛОВСКИЙ
О новелле
Можно сказать, что Волгой называется река, протекающая мимо
городов Ярославля, Костромы, Кинешмы и Горького; определение
это не содержит в себе лжи или ошибки.
Волга действительно не только протекает мимо этих городов,
но и никакая другая река этого не делает.
Но если мы будем характеризовать Волгу по тому участку, в
котором мы ее только что определили, то будем описывать водяной
поток, не похожий ни на верхнее течение, ни на нижнее.
Точно так же, если сказать, что Волгой называется река,
протекающая мимо Волгограда и Астрахани, то ширину этой реки,
характер ее берегов тоже нельзя распространить на характеристику
Волги в целом.
Так же случается в исторических определениях.
Определяют значение слова «реализм».
Сперва возникает сомнение вполне законное. Слово «реализм»
позднее. Имеем ли право мы применять этот термин к тем эпохам,
когда он еще не существовал? Возникает даже сомнение: термин
не существует и в эпоху Белинского.
Но надо быть последовательным: мы вообще анализируем
явление, историю не в тех терминах, которые существовали
одновременно с явлениями, — например, никто в Египте или в Риме
не называл свои государства «рабовладельческими обществами»1.
Мы можем про историческое явление знать и часто знаем на самом
деле больше, чем его современники. Поэтому отказаться начисто
от употребления термина «греческий роман», или шире, «античный
роман», мы не можем, хотя это термин поздний и употреблять его
О новелле
289
надо с осторожностью, для того чтобы вместе с термином не
перенести более позднее представление на ранние явления.
Литература не математика, и термины литературоведения
никогда не приобретут точности математических определений. Мы здесь
имеем термины для текущих процессов и для явлений, которые
никогда целиком не совпадают.
Теперь перейдем к определению жанра «новелла».
Слово это позднее; понятие изменяется.
Оно изменялось до появления термина и после появления.
Определений много, и все они соответствуют разным этапам и видам
одного художественного явления.
Тут дело осложняется еще тем, что на Волгу можно поехать
и проверить, что это действительно единая река.
Волга — это физическое единство, в данном случае
географическая непрерывность.
Новелла — понятие стилистическое, нами созданное, зависящее
от целого ряда явлений, которые ее создают и как бы подменивают.
Обычно, стремясь понять непрерывность, начинают следить
за неизменяющимся моментом, за тем, что именуют, например,
в развитой прозе так называемыми бродячими сюжетами.
Действительно, кое-что в литературной непрерывности
сохраняется. Но сама непрерывность как бы неизменно осуществляется
или мыслится продолжающейся не благодаря присутствию этих
будто бы неизменяющихся элементов.
У Апулея в романе «Золотой осел» есть вставная новелла о
ремесленнике2, который ушел из дома, оставив жену одну. Жена
пригласила любовника, муж вернулся внезапно, женщина спрятала любовника
в бочку. Муж сообщил, что у него удача — он продал бочку за пять
динариев. Жена не растерялась и ответила: « — Вот муженек-то
достался мне, так муженек! Бойкий торговец: вещь, которую я, баба,
дома сидя, когда еще за семь динариев продала, за пять спустил!»
Обрадованный муж спросил, кто покупатель и где он. Женщина
отвечает, что покупатель сидит в бочке, смотрит, крепкая ли она.
Любовник слышит этот разговор, вылезает из бочки и просит мужа
почистить ее. Ремесленник залезает в бочку, жена светит ему,
согнувшись, а любовник над спиной мужа овладел его женой.
Эта история перешла от Апулея к Боккаччо, в день VII, в новеллу
вторую.
Перед нами редкий случай перехода неизменного анекдота. Он
неизменен потому, что поразителен и заключает в себе элемент
эротического озорства.
290
Б. Б. ШКЛОВСКИЙ
К этой изумительной истории подходит определение Гёте,
который определял новеллу как «одно необычайное происшествие»3.
В другом месте Гёте говорил, что она рассказывает о новом, не
повседневном, но не фантастическом4.
Новелла о бочке перешла к Боккаччо совершенно неизмененной.
Рассказ об обманутом муже перешел из одного быта в другой, ничем
не обогащенный.
Но другая новелла, о том, как женщина спрятала любовника,
а муж его нашел, изменилась в своей направленности.
У Апулея муж, гомосексуалист, овладевает любовником, потом
приказывает рабочим его избить.
Апулей считает, что муж прав, а жена негодяйка. Боккаччо
не изменяет новеллу, но считает, что муж, который не жил со своей
женой, но требовал от нее верности и использовал положение
застигнутого любовника, — негодяй.
Женщина защищает свои права, и автор на ее стороне.
Новелла развилась, изменила свое значение.
Первая новелла сохранилась благодаря своей курьезности и
осталась неизмененной. Нужно сказать, что таких новелл сравнительно
мало и не они развивают искусство человечества.
У Апулея она вставлена как услышанный анекдот, и у Боккаччо
она рассказана Дионео как дерзкий анекдот, который слишком
хорошо был понят дамами.
Не все то, что сохраняется, ценно.
Шлегель сближал новеллу с анекдотом, то есть с еще не
записанным сообщением о занимательном происшествии: «Новелла есть
анекдот, незнакомая еще история, которая интересна только сама
по себе... которая дает основание для иронии при самом появлении
на свет».
Ирония здесь дается как ощущение превосходства художника
над действительностью, как элемент свободного рассматривания
предмета.
Новелла типа рассказа Апулея сперва начинается как рассказ
о чем-то повседневном и потом дает неожиданные соотношения
героев: застигнутая на месте преступления женщина не только
обманывает мужа, но и удовлетворяет свое желание в его присутствии.
Но одновременно существовали новеллы-анекдоты, не
включающие в себя элемент нового, но использующие противоречия
в самом предмете.
Герой романа Апулея купил рыбу на базаре. Он встретил
своего друга Пифия, который стал диктатором над базаром. Друг
О новелле
291
возмутился тем, что рыба куплена слишком дорого. В припадке
негодования он вырвал покупку из рук Луция, бросил рыбу на
землю, обругал продавца, а своему помощнику велел растоптать рыбу.
Рыба оплачена. Убыток несет Луций.
Противоречие между намерениями базарного законодателя
и последствиями этих намерений при всей обыденности создает
коллизию анекдота.
Поразительные новеллы лучше всего сохраняются, новеллы
бытовые разрушались и восстанавливались снова.
Поразительные новеллы, рассказы о необыкновенных случаях,
вероятно, характерны, хотя и тут они не исключительны для
начала истории новеллы.
Шпильгаген отделял новеллу от романа, считая, что она имеет
дело с готовыми характерами.
Это определение, так сказать, относится к среднему течению
новелл. Ранние новеллы, например у Апулея, вообще не
выявляют характеров героев. Это случаи из жизни людей, а не раскрытие
характеров этих людей через случай.
В новеллах Чехова люди разочаровываются, озлобляются,
иногда смягчаются.
Некоторые исследователи новеллы утверждали, что новелла
требует особого, специфически сжатого, интенсивного сюжета. Это
повествование об одном событии.
Такое определение подходит к новеллам О. Генри, так как оно
и построено на материале его новелл. Но такое определение, как
мы увидим дальше, не подошло бы к новеллам Чехова, который
не стремился к «интенсивности сюжета».
Чехов также не всегда в новелле повествует об одном событии.
В его новелле отсутствует вводная часть, но часто в нее включена
предыстория: это повествование о нескольких событиях.
Ситуации у Чехова всегда взяты из его времени. Конфликты
основаны на поисках места, на бедноте, на замкнутости жизни,
на непонимании ее.
Новеллы чаще построены для открытия нового в известном,
а не для обострения старых, традиционных конфликтов на новом
бытовом материале.
Такая новелла явно появилась заново, ниоткуда не заимствована.
Не отвергая факта, что существуют так называемые бродячие
сюжеты, мы должны помнить, что совпадающие по сюжетному
построению рассказы не всегда связаны происхождением и могут
иметь разное смысловое значение.
292
В. Б, ШКЛОВСКИЙ
В книге Апулея легковерный человек обращается к
предсказателю Халдею для того, чтобы узнать у него день, благоприятный для
отплытия в море. «Тот ему уже день указал, уже кошелек появился
на сцену, уже денежки высыпали...»
В это время к предсказателю подходит знакомый. Халдей
жалуется приятелю на свою судьбу: его только что ограбили в море.
Услышав жалобу, клиент прячет свои деньги.
Басня говорит о человеке, который другим предсказывает, а сам
своей беды не знает. Она носит комический характер.
Может быть другой случай: сталкиваются мировоззрения, —
например, христианин опровергает веру волхва. В русских летописях
есть рассказ о волхве.
К волхву, взяв потихоньку топор, вышел князь Глеб и спросил
у предсказателя: «Знаешь ли, что будет завтра утром или
вечером?» — «Все знаю», — отвечал волхв. «А знаешь ли, — спросил
опять Глеб, — что будет нынче?» — «Нынче, — отвечал волхв, —
я сделаю большие чудеса». Тут Глеб вынул топор и разрубил
кудесника».
Князь не верит тому, чему верят смерды, и опровергает их веру
прямым насилием.
Сходство новелл в том, что предсказание тут же опровергается,
в том, что предсказатель не знает своей судьбы.
Вторая новелла — трагическая; она записана в летописи с
определенной датой и явно не зависит от рассказа Апулея.
Для новелл берутся случаи и предметы, которые могут быть
растолкованы и раскрыты по-разному. Вторая новелла, с князем
Глебом, основана на необычайном происшествии, первая — на
раскрытии нового смысла в обычной базарной сцене: предсказатель
дает предсказание клиенту.
Строение новеллы основано на существующих в жизни
противоречиях, которые при помощи событий иного ряда или сопоставлений
событийных рядов, дающих разное отношение к одному и тому же
явлению, обнаруживаются в повествовании.
Общность определения, которое я сейчас даю, объясняется его
широтой.
Несколько эмпирических замечаний
о способах соединения новелл
Раз созданные новеллы могут существовать в беглом разговоре,
приводиться к случаю. Но их можно и соединять.
О новелле
293
Соединены они могут быть по темам.
Подборы такие встречаются неоднократно, например, в книге
«Калила и Димна». Целая глава называется «Глава о расследовании
дела Димны, или Глава о том, кто хотел пользы себе, причиняя вред
другому, и чем кончилось это дело».
Калила говорит о вреде подозрительности.
Оправдывающийся шакал приводит притчи. Рядом приводятся
приметы злых и вероломных людей. Примеры объединены
тематически, так, как ключи нанизываются на кольца.
Иногда систематизация новелл проводится путем спора
притчами. Например, один из спорящих говорит о вреде терпения к злу,
а другой приводит пример ненужной торопливости.
Разные способы систематизации новелл могут существовать
одновременно. Новеллы «Декамерона» все объединены тем, что они
рассказываются обществом молодых людей, убежавших из города
от чумы. Отдельные дни соединены тематически.
Большую, охватывающую новеллу, соединяющую набор сюжетов,
называют обрамлением.
Обрамление обычно задерживает действие, и новеллы как бы
происходят в паузах основного действия.
Коротко анализируем строение сборника «Тысяча и одной ночи».
Был царь, был у него старший брат Шахрияр. Царь хотел
навестить своего брата, случайно вернулся домой и увидал, что жена его
ему изменяет с черным рабом. Печальный приехал царь к своему
брату.
Он худел и желтел от горя, но однажды он увидел, что жена его
брата и его невольницы изменяют своему повелителю с рабами.
Царь развеселился: «Прежние краски вернулись к нему, и лицо
его зарумянилось».
И стал он есть. Но брат рассказал своему брату об обоих
несчастьях. Второй брат сказал первому: «Уйдем тотчас же, не нужно нам
царства, пока мы не увидим кого-нибудь, с кем случилось то же,
что с нами».
Обманутые братья странствовали недолго; они увидели ифрита —
злого духа, который носил с собой женщину в запертом сундуке,
чтобы она ему не изменяла.
Ифрит заснул, и женщина изменила ему с обоими братьями.
Царь Шахрияр решил, что он будет каждый день брать в жены
девственницу, а утром ее убивать.
Таким образом, в начале «Тысяча и одной ночи» мы видим три
новеллы, соединенные по сходству. Дальше рассказывается, что
294
В.Б.ШКЛОВСКИЙ
у царского везиря были две дочери, одну из них звали Шахразада,
она сама пожелала стать женой царя-убийцы. Отец спорил с ней
и приводил сказки о том, как приводят женщин к повиновению.
Шахразада ему сказкой не ответила, но настояла на своем.
Дальше идет знаменитая история, как Шахразада, рассказывая
бесконечные сказки, отдаляла день своей казни.
Начальные сказки Шахразады, содержащиеся в первых двух
ночах, имеют темой выкуп крови провинившегося ценою рассказа
занимательной сказки.
Рассказывание как способ отсрочки гибели широко используется
в обрамлении.
Существует свод «Семь везирей».
Царевич оклеветан, отец его хочет казнить. Царевич сам говорить
не может, везири рассказывают сказки, задерживающие казнь.
В сборнике монгольских сказок буддийского происхождения Ар-
джи — Бурджи деревянные статуи, составляющие ступени, сказками
удерживают царя от восхождения на трон. В индийских «Сказках
попугая» попугай сказками задерживает женщину, которая хочет
уйти и изменить мужу.
Каждая сказка — новый совет о том, как хитрить и обманывать,
но все вместе они задерживают исполнение желания женщины,
и каждая сказка кончается словами, что об остальном женщина
узнает завтра, если останется дома.
Существуют своды не новелл, а вопросов.
Так построена в «Эддах» песнь об Альвиссе5.
Вопросами, как называются разные вещи у богов, альфов, турсов
и карлов, Тор затягивает время до восхода солнца. Когда солнце
поднялось в небо, Альвисс превратился в камень.
Долог спор о происхождении романа.
А. Веселовский в статье «Греческий роман», опираясь на мнение
исследователя Э. Роде6, утверждал, что роман и новелла имеют
разное происхождение. Веселовский пишет: «Мне очень приятно было
встретить у Роде подтверждение моего собственного мнения, — что
между греческим романом и новеллой нельзя предположить никаких
генетических отношений; я только расхожусь с ним в некоторых
дальнейших выводах. Новелла, — говорит Роде, —
преимущественно реальна; роман отличается крайне идеальным характером; это
как бы два полюса; с новеллой можно поставить на один уровень
разве новую буржуазную комедию»*.
* А. Н. Веселовский. Избранные статьи. Л., ГИХЛ., 1939, с. 25.
О новелле
295
На мнения А. Веселовского и Э. Роде опирался покойный Б. В. То-
машевский, отстаивая самостоятельное происхождение романа.
Эти мнения очень любопытны, но я уже говорил, что Апулей
начал свою книгу «Золотой осел», которую сам он называл
«Метаморфозы» , словами: «Вот я сплету тебе на милетский манер разные
басни».
Тут ясно, что басни уже существуют, если они сплетаются.
Сплетаются здесь они реже методом обрамления; таким методом
введены рассказы о колдунье и знаменитый рассказ об Амуре и Психее,
который рассказывается в пещере разбойников героине старухой,
утешающей пленницу, но основной метод сплетения — это
нанизывание происшествий на судьбу жадного к чудесному юноши.
Я занимаюсь сейчас не историей литературы, а ее теорией,
и исторические примеры служат мне примерами, на которых я хочу
показать изменения некоторых закономерностей. Поэтому решусь
продолжить свой короткий анализ.
В четвертой и пятой книгах «Золотого осла» Апулея описывается
пребывание Луция в пещере разбойников.
Начало служит также мотивировкой торможения. Набег
разбойников объясняет, почему Луций не смог сразу освободиться от чар:
для превращения в человека ему достаточно было пожевать розу.
Человек, превращенный в осла, увидал розу, но это была ядовитая
лавровая роза, из тех, «вкушение которых смертельно для всякого
животного».
В результате осел-Луций попадает в пещеру разбойников, видит
старуху служанку, после этого прибывают разбойники и идет
нанизывание рассказов об их неудачах.
Все эти неудачи редкостны.
Один грабитель просунул руку в отверстие двери, для того чтобы
отодвинуть засов, а хитрая старуха, заметив грабителя, прибила его
руку гвоздем к дверной доске.
Другой грабитель был выброшен из окна чердака старухой,
пожитки которой он грабил.
Третий разбойник, для того чтобы проникнуть в богатый дом,
велел зашить себя в медвежью шкуру и был затравлен собаками.
Все рассказы объединены темой неудачи преступления. После
того как рассказы все выслушаны, прибывает новая партия
разбойников, с прекрасной пленницей, похищенной от мужа в день
свадьбы. Разбойники уходят из пещеры. Утешая пленницу, старуха
рассказывает ей сказку, которая прославилась в веках, — «Амур
и Психея». Сказка занимает около сорока страниц. Вставлена она
296
В. Б. ШКЛОВСКИЙ
по способу обрамления. Способ рассказывания и образ старухи,
служанки разбойников, не связаны.
Сказка фольклорная, с «немощными» зверями (муравьи, орел),
помогающими выполнить трудные задачи, и с элементами
сказочной троичности.
После того как сказка рассказана, восстанавливается движение
самого романа. Девушка пытается бежать из вертепа на осле — Лу-
ции. Пленница захвачена. Неудача разбойников и гибель их атамана
заставляют их избрать атаманом пришельца — мнимого разбойника,
который оказывается женихом пленницы.
Роман сплетен из новелл; в нем двадцать вставных новелл и сотни
новелл нанизанных. Появление новелл мотивировано
любопытством Луция, который жадно собирает разные сведения в качестве
молодого человека и, превратившись в осла, в горе утешается тем,
что у него теперь длинные уши и он хорошо слышит.
Новеллы анекдотичны и пестры. Вызывает возражение
утверждение Веселовского, что греческий роман носит идеальный характер.
Вероятно, здесь утверждается, что роман отвлечен, не содержит
в себе отражений черт действительности.
Я сам когда-то был такого же мнения, основываясь на
бесчисленных приключениях, повторяющихся и переходящих из одного
произведения в другое.
Но если недавно французский врач, переплывший в надувной
лодке через Атлантический океан, утверждал, что и в наше время
каждый год на морях и океанах гибнет более двухсот тысяч
человек, то, говоря сравнительно, в античные времена, при плаваниях
на деревянных судах, без компаса, с примитивным управлением
парусами, количество кораблекрушений должно было быть
чрезвычайным.
Конечно, греческий роман никогда не представлял собой сколок
с действительности.
Так опыт, который мы производим в лаборатории, выявляя
нам законы природы, сам осуществляется в некоторых идеальных
условиях, выделенных из общеприродных условий, искусственно
обособленных, но то, что происходит в колбах и приборах, реально,
хотя и отвлеченно.
Что создало греческий роман?
Старый замкнутый город, в котором все знают не только соседей,
но и всех их предков, заменен непознанным миром — вселенной.
Торговые связи трещинами перерезали известную тогда землю,
трещины караванных дорог уходили все дальше и дальше, и по ним
О новелле
297
просачивался в неведомое одинокий, лишенный своего обычного
окружения человек.
Замкнутый мир погибал, распадался, трещины расширялись,
и через них были видны новые дали.
Распад старого мира, трудности и страхи новой, огромной
вселенной, обширных океанов, неведомых народов, чужих обычаев
были реальностью греческого романа.
Реальность эта изменилась, оставшись в романе.
В Индии, в зарослях джунглей, за болотами, мрамором белеют
города, которые я помню по детским книгам.
Лианы зеленым дымом струятся из окон брошенных дворцов
и уходят, извиваясь, как струи дыма, в лес.
Дворец стал «чистой архитектурой». Старая реальность дома —
связь помещений, логика покоев, логика расположения комнат —
потеряна.
Обезьяны бегают по лестницам и думают, что это всего только
ступенчатое построение; они воспринимают лестницу как чистую
форму.
Но в доме прежде жили, хотя и не по-нашему. Реальность
дальних стран так же достоверна, как реальность тихого перекрестка
маленького, нам хорошо известного города.
И романы и сборники новелл — это были поиски нового
художественного единства, порожденные новыми производственными
отношениями, новым сознанием. Отрывки знаний, выдумок, острот,
находясь вместе, под влиянием магнитного поля нового бытия
преображались и входили в новые сцепления.
О разных смыслах понятия «характер»
в применении к произведениям литератур разных эпох
Прекрасный исследователь русского стиха, Л. И. Тимофеев в
«Очерках теории и истории русского стиха» определяет роман и рассказ
с точки зрения широты изображения характеров: «Роман,
сравнительно с рассказом, представляет собой изображение характера в ряде
ситуаций, в процессе, тогда как рассказ дает характер в определенном
моменте его развития, в одном основном событии. В зависимости
от того, каким хочет писатель изобразить характер, он и обращается
к тому или иному жанру как средству раскрытия характера»*.
* Л. Тимофеев. Очерки теории и истории русского стиха. М., Гослитиздат,
1958, с. 14.
298
В. Б. ШКЛОВСКИЙ
На такой точке зрения стоял и я, анализируя в одной из своих
последних книг значение характера в прозе русских классиков
XIX века.
Но это утверждение, данное вне истории, неправильно.
В книге «Калила и Димна», представляющей собою арабский
перевод индусской системы рассказов, восходящий к VI веку, много
сюжетных столкновений, дидактических рассуждений,
риторического членения событий на разновидности, но нет того, что мы
в нашей литературе называем характерами.
То, что беседующие друзья одного из циклов этого сборника
шакалы, не использовано.
У шакалов есть друзья — леопарды, царь — лев, интрига ведется
против быка, но все эти свойства зверей используются только тогда,
когда они нужны для данной сцены.
Повадка льва перед нападением, поза быка, ожидающего
нападения, использованы. Клеветник шакал сообщает эти повадки
мнимым врагам, для того чтобы усилить их подозрительность друг
к другу.
Но на этом кончается специфичность материала. Обвиненного
шакала не только заковывают, но и отправляют в тюрьму. Он и
шакал и как бы человек. Суд происходит по всем правилам тогдашней
юриспруденции, с записью показаний.
Еще показательнее другая деталь. Димна разговаривал с Калилой
в своем жилье. В это время «леопард подошел к их жилью, чтобы
взять головню и развести себе огонь; были они приятелями.
И услышал леопард у них разговор и молча прослушал всю
их беседу».
Наружность героя и его возможности — то, что у леопарда лапы,
а не руки, и он не может взять головню, и огонь ему не нужен, —
не учитываются потому, что задача лежит вне поэтики этого
времени.
В этом сборнике притч и басен учитываются только те черты
героя, которые нужны для использования в данной конкретной
ситуации. Все же остальное лежит вне фиксации.
Способ подслушивания, причем подслушивания
непреднамеренного, такого, которое не изменяет нашего отношения к
подслушивающему, взят из быта, а быт считается единым для всех.
Внимание художника не останавливается на том, что столкновения
происходят между зверями.
Медленно изменяется отношение искусства к характеру,
взаимоотношение между действием и характером.
О новелле
299
В волшебных сказках «Тысяча и одной ночи» герои часто
обладают талисманами, но редко характерами. Они испытывают
приключения, но не переживают их. Сюжет передвигает готовых
героев.
Телесные выражения эмоций и поз героев однообразны.
Люди падают в обморок, у них от ужаса дрожат поджилки, стучат
зубы и высыхает слюна; смеются они так, что видны клыки.
Редки конкретные индивидуализированные определения; они
встречаются, но не становятся методом точного видения.
Так же организована событийная последовательность, в которой
нет взаимодействия частей.
Эпизоды и целые новеллы нанизываются по способу
рассказывания, причем та обстановка, в которой происходит рассказывание,
не учитывается: у человека на голове вертится колесо, а он
рассказывает.
Даже разгневанные духи в сказках оказываются терпеливыми
слушателями.
Можно запутаться в лабиринте вставленных друг в друга
рассказов. Помещения этого лабиринта не рассчитаны на соотнесение
их друг с другом, характеры иногда намечены, но только в
некоторых новеллах. Нет даже постоянства отношения к героям, события
над всем преобладают.
Составители свода «Тысяча и одной ночи», кроме авторов
плутовских новелл, мало считаются с характерами своих героев. Злодей
маг — злодей, потому что он огнепоклонник. Приняв под угрозой
казни магометанство, он становится человеком без лица.
В одной системе сказок «Рассказе об Аджибе и Гарибе» (ночи
624-680) герой, странствуя, встречается со многими чудищами.
В одной из сказок он побеждает Садана — горного гуля. Садан —
людоед. Гариб побеждает его и его детей и заявляет: «Я хочу...
чтобы вы приняли мою веру, то есть веру ислама, и объявили
единым владыку всеведущего, создателя света и мрака и создателя
всякой вещи...»
Садан принимает ислам и становится спутником героя. До этого
у Садана была скверная привычка жарить на вертеле своих врагов
и съедать их. Так как у гуля нет других черт, кроме силы и
людоедства, то составителю сборника нужно или удалить гуля из сказки,
или оставить его в старой роли.
Гариб встречается со своими врагами — амалекитянами. Садан
разбивает череп великана-амалекитянина, и тот падает, как высокая
пальма. «И Садан закричал своим рабам: "Тащите этого жирного
300
Б. Б. ШКЛОВСКИЙ
теленка и жарьте его скорее!" — и рабы поспешно содрали с ама-
лекитянина кожу, и зажарили его, и подали Садану-гулю, и тот
съел его и обглодал его кости. И когда увидели нечестивые, что
Садан сделал с их товарищем, волосы поднялись на коже их тела,
и состояние их изменилось, и цвет их сделался другим, и они стали
говорить друг другу: "Всякого, кто выйдет к этому гулю, он съест
и обглодает его кости и лишит его дыхания земной жизни". И они
воздержались от боя, испугавшись гуля и его сыновей, и
повернулись, убегая и направляясь к своему городу».
Действие гуля и новая его характеристика как воина за ислам
не сведены.
Это не объясняется тем, будто сказочник думает, что борец за
единобожие якобы может оставаться людоедом.
Сказочник не сводит черты героев в «характер».
Это черта не только арабских сказок. Появление характера
обыкновенно оформляется как противоречие между событиями
и героем.
Герой — удачливый дурак или портной, победитель великанов,
или женщина, которая побеждает мужчин, или мальчик, который
оказывается мудрее мудрецов, — здесь в ощущении различия
начинает создаваться характер.
Я даже попытаюсь сформулировать так: вероятно, характер
в нашем понимании в сказке появляется в результате
противопоставления простого человека «герою». Именно простого человека
пришлось описать в его обыкновенности.
Учета времени действия в «Тысяча и одной ночи» нет.
Есть понятие «вдруг», но оно используется главным образом
в концах сюжетных циклов, когда начинают прибывать и
встречаться прежде разобщенные герои.
Вообще же рассказчик спокойно оставляет своего героя, очень
часто в затруднительном для него положении, и переходит на
новую линию, причем при возвращении к герою его застают в том же
положении.
Это утверждение не надо принимать как абсолютное — сборник
объединяет сказки, созданные в разное время.
В самом сборнике «Тысяча и одна ночь» происходит любопытное
явление осознания характеров.
25-34 ночи сборника посвящены истории с трупом одного
горбуна, служившего шутом при дворе халифа. Шут подавился
рыбой в доме портного, куда его пригласили. Труп начали
подкидывать к воротам разных домов. Он подкинут к дому еврея и к дому
О новелле
301
христианина. Каждый из хозяев дома бьет труп и каждый потом
считает себя убийцей.
Христианин, которого задержали в тот момент, когда он избивал
труп, осужден и уже приведен к виселице. Является надсмотрщик,
который восклицает: «Недостаточно мне убить мусульманина, чтобы
я еще убил христианина! Не вешай никого, кроме меня!»
Начинают вешать надсмотрщика, но является врач-еврей:
«...прошел сквозь толпу и закричал людям и палачу: "Не надо! Это я один
убил его вчера вечером!"»
Начинают вешать еврея. Является портной: «...прошел сквозь
толпу и крикнул: "Не надо! Его убил не кто иной, как я!"»
Каждый из предполагаемых убийц рассказывает свою версию
преступления.
Горбун был шутом царя; царю сообщают, что в качестве
убийцы объявились четверо — христианин, надсмотрщик, врач-еврей,
портной.
Владыка требует всех обвиняемых к себе и говорит: «Слышали ли
вы что-нибудь более удивительное, чем история этого горбуна?»
Начинаются рассказы обвиняемых; каждый из обвиняемых
рассказывает не о себе, а о людях, которых он случайно видел и которые
ему рассказывали изумительные истории. Истории эти механически
связаны концами приключений. Христианин — каирский копт —
рассказывает про щедрого однорукого богача. Богач когда-то
потерял руку, украв деньги для того, чтобы подарить их любимой.
Надсмотрщик рассказывает о человеке, у которого отрезаны
большие пальцы рук и ног, еврей рассказывает тоже об искалеченном
человеке — о юноше, у которого отрублена рука.
Все эти истории изумительны, но царь не освобождает
обвиняемых, говоря, что история четырежды убитого горбуна все же
удивительнее.
Перед нами соединение новелл, которые встречаются в первом
томе «Тысяча и одной ночи». Кровь как возмездие за совершение
случайного преступления выкупается рассказом про происшествие
еще более изумительное.
Таким образом, само преступление рассматривается как
необычайное происшествие, как новелла, получает эстетическую
оценку.
История хромого юноши в результате выкупает всех обвиняемых.
Ее удивительность здесь состоит и в том, что перипетии судьбы
любовника зависят от болтуна, который не только нанизывает
новеллы, но и сам имеет то, что можно назвать характером.
302
В. Б. ШКЛОВСКИЙ
Казалось бы, что цирюльник, введенный как второстепенный
герой, должен оцениваться составителем сборника так же, как
и остальные герои.
Рассказ о цирюльнике дается только в пересказе портного,
но новелла о цирюльнике разрастается, причем время, идущее на ее
рассказывание, время болтовни цирюльника, учитывается: он
досаждает слушателям.
Цирюльник брил молодого человека, спешившего на любовное
свидание. Рассказы тянутся бесконечно, варьируясь и повторяясь.
Нетерпение, которое вызывает эта болтовня, все время
подчеркивается.
В то же время цирюльник — это первый характер, появляющийся
в сборнике.
Болтливость цирюльника, его вмешательство с нравоучениями
и рассказами «кстати» не только тормозят действие, но и вызывают
катастрофы.
Приключения, которые он рассказывает, не только эротичны
и занимательны, но они происходят с героями — его братьями,
которые не подходят к роли прекрасных любовников.
Рассказы ироничны при намечающихся характерах героев.
То, что лежало прежде просто рядом, теперь уже учитывается как
новое явление в искусстве. Можно сказать, что в истории сюжета
произошло открытие.
Так как цирюльник сверх всего и астроном, то он производит
некоторые астрономические наблюдения, определяя время для
пуска крови. Обыкновенно по этим данным пытаются датировать
все произведение, то есть определить время создания «Тысяча
йодной ночи».
Но вероятнее было бы полагать, что багдадский цирюльник
как характер был создан в результате опыта всего цикла «Тысяча
и одной ночи» — и прежде всего в результате нового понимания
значения характера.
Отметим, что вычисления цирюльника оказались ошибочными:
он неверно определил положение звезд. Об этом не сразу
догадались комментаторы-европейцы, которые сперва наивно поверили
болтуну.
Прежде чем приступить к бритью, цирюльник поставил
астролябию и начал вычисление, после этого он заявляет: «Знай, что
от начала сегодняшнего дня, то есть дня пятницы — пятницы
десятого сафара, года шестьсот шестьдесят третьего от переселения
пророка (наилучшие молитвы и привет над ним!) и семь тысяч триста
О новелле
303
двадцатого от времени Александра, — прошло восемь градусов
и шесть минут, а в восхождении в сегодняшний день, согласно
правилам науки счисления, Марс, и случилось так, что ему противостоит
Меркурий, а это указывает на то, что брить сейчас волосы хорошо... »
Дается точная астрономическая дата. Пытались на основании
этого установить время, когда происходит событие.
Но мы никогда не узнаем, когда подавился горбун. Дело в том,
что цирюльник, по прозвищу Молчаливый, был плохим
астрономом и десятое сафара 663 (1255) года приходилось на понедельник,
а не на пятницу.
Вероятнее всего, вся система рассказов о горбуне была
художественно оформлена ко времени окончания сборника и представляет
собой уже переосмысливание, с некоторыми элементами пародий
старой системы сведения сюжетных кусков.
Царь вызывает цирюльника из тюрьмы на суд.
Появляется глубокий старик, с белой бородой, с отрубленными
ушами. При взгляде на него видно, что «...в душе его — глупость».
Цирюльник рассказывал о своих шести братьях — в переводе
имена их Болтун, Крикун, Говорун, Кувшин (в смысле пьяница),
Брехун, Пустомеля.
Новеллы эротичны и пародийны. В них в качестве неудачливых
и обманутых в последний момент любовников выступают наглые
уроды.
Глупый и болтливый старик смотрит на труп горбуна и внезапно
говорит: «О царь времени, клянусь твоей милостью, в лгуне-горбуне
есть дух».
Он вытаскивает при помощи крючков рыбью кость из горла
горбуна. Горбун чихает и восклицает: «Свидетельствую, что нет бога,
кроме аллаха, и что Мухаммед — посланник аллаха...»
Наглый болтун цирюльник внезапно оказывается искусным
хирургом, и вся характеристика вздорного, всем мешающего болтуна,
хвастающегося своей мнимой ученостью, разрушается.
Придя к элементам нового единства, составитель сборника не
использовал своей находки и пожертвовал характером для эффектной
развязки.
Отношение к авторству менялось, становясь все более
ощутимым. Может быть, авторство закреплялось в лирике тем, что
стихотворение оценивалось как жалоба определенного человека, как
запись судьбы. Поэты средневековья на Востоке закрепляют свое
авторство, вводя разноообразными способами в стихотворение свое
имя и дату написания.
304
В. Б. ШКЛОВСКИЙ
Авторы-прозаики и в античное время и в средневековье широко
пользовались контаминациями, и, таким образом, в одном и том же
своде появлялись совпадающие рассказы.
Составители сборника «Тысяча и одна ночь» более сводили
и украшали, чем сочиняли. Сводились не только отдельные сказки,
но и соединялись уже осуществленные своды.
При появлении новых сводов, вероятно, наибольшей обработке
подвергалось начало.
Основное обрамление — рассказы Шахразады — сохранилось
неизменным в силу своей драматичности, в силу того, что оно
позволяло рассказчику прерывать рассказ на любом месте.
Я думаю, что история о цирюльнике и его братьях в том виде,
в каком мы ее читаем, — одна из поздних сказок «Тысяча и одной
ночи». Это результат нового понимания законов сцепления:
начинает появляться характер.
Об истинном единстве
художественных произведений вообще и о единстве
«Декамерона»
Толстой писал в 1894 году, в предисловии к сочинениям Ги де
Мопассана: «Люди, мало чуткие к искусству, думают часто, что
художественное произведение составляет одно целое, потому что
в нем действуют одни и те же лица, потому что все построено на
одной завязке или описывается жизнь одного человека. Это
несправедливо. Это только так кажется поверхностному наблюдателю:
цемент, который связывает всякое художественное произведение
в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть
не единство лиц и положений, а единство самобытного
нравственного отношения автора к предмету»*.
Возьмем слово «нравственное» не как абсолютное определение:
нравственности в течение веков и культур сменяются и
опровергаются, их столкновения часто освещаются искусством.
Перескажем мысль Толстого так: единство художественного
произведения состоит не в том, что в произведении говорится об одних
и тех же героях, а в том, что в произведении к героям одного или
разных событийных рядов писатель относится на основании своего
мировоззрения так, что его анализ объединяет их в единое целое.
* Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 30. М., Гослитиздат, 1951, с. 18-19. Далее
по этому изданию.
О новелле
305
Можно говорить не только об единстве двух сюжетных линий
«Невского проспекта» Гоголя, но и о единстве «Арабесок».
Гоголь решает в «статьях» этого сборника и вопросы истории
искусства. Статьи находятся с повестями в определенном сцеплении.
Это не показалось убедительным составителям последнего
академического издания Гоголя, и они, сняв заголовок «Арабески»,
отнесли статьи этого сборника к другим статьям Гоголя, создав
свое условное жанровое единство, обосновав это тем, что повести
печатались так в первом собрании сочинений.
Можно говорить о единстве сборников А. Блока, который
тщательно подбирал, располагал и, вероятно, дописывал стихи для
определенной книги. Впоследствии Блок пытался разрушить
циклы, дав стихам новое единство — последовательность лирической
исповеди.
Сказки «Тысяча и одной цочи», вероятно, распадаются на
несколько художественно объединенных единиц.
Объединения эти не всегда имеют свое обрамление.
Всякое единство в основе своей восходит к единству
мировоззрения.
Для художественного анализа жизни мы приводим ее восприятие
к определенному единству.
Нам важен не только круг восприятия, но и определенный
характер восприятия — жанр. Мы иначе воспринимаем события комедии,
драмы, элегии или оды.
Именно поэтому мы пользуемся «сцепленными» «переходными»
жанрами, создающими сложную ориентацию при восприятии.
Жанровое восприятие может само создавать новые ощущения
различий при единстве задания.
Художественное произведение всегда сознательно отобрано,
изменено, оно является усилием передать действительность так,
как хочет данный писатель. Оно имеет определенного носителя —
сочинителя.
Мы говорим по телефону и в первый момент часто не понимаем
того, что слышим, но вот человек назвал свое имя — и прежде
непонятное становится понятным. Мы начали понимать, поместив слова
в определенную систему, узнав способы говорения и примерную
тему высказывания.
Вот этот вопрос ориентации играет в искусстве очень большую
роль. Мы мало что понимаем, пока не ориентируемся, пока мы
не положили план данного случая на карту и не определили, где
север и где юг.
306
В. Б. ШКЛОВСКИЙ
Понимание — это уже «сочинение», отнесение восприятия к ряду
других. По «Словарю Академии Российской»: «Чин — Порядок,
устав, обряд».
«Сочинять — ...Произведение ума своего, мыслей своих
приводить в порядок, в устройство, на письме; слагатель».
«Сочиненный — Сложенный, составленный»*. Смысл термина
сохранился в грамматическом понятии: «Сочинение — ...соединение
нескольких простых предложений в одно сложное»**.
Выражение «сочинение» так же, как и слово «сочинитель»,
устарев, приняло иронический оттенок, вероятно, уже в первой
четверти XIX века.
Может быть, поэтому Толстой создал термин «сцепление».
Художественное сочинение — это соединение нескольких рядов-
чинов в новое соотнесение. «Сочинение», повторяю, — это
соединение, сцепление рядов по какому-то признаку отобранных явлений.
Вне данного сочинения явления в своей художественной сущности
не могут быть оценены или анализированы, потому что соединение
отдельных частей произведения создает разностные ощущения.
Толстой обновил термин «сочинение», который получил уже
несколько иронический тембр, заменив его понятием «сцепление».
Понятие о «сцеплении» важно. В ранней молодости, в одной
из первых своих книг, в порядке предположения, я написал, что
основная форма «Евгения Онегина» будто бы определяется тем,
что сперва Онегин отказывает Татьяне, а потом Татьяна отказывает
Онегину.
Я сравнивал это построение с построением романов Ариосто,
в которых такое несовпадение отношений объяснялось чудом:
существовал источник, свойство воды которого было превращение
любого чувства в противоположное; утолив свою жажду, мужчина
и женщина переменяли свои отношения.
При таком толковании выкидывается весь аппарат сцепления,
то есть игнорируется сама форма произведения, ощущение
обновления обновленного восприятия.
Законы одного рода сцеплений переносились на все остальные.
Все можно со всем сравнивать и можно даже досравняться.
У меня сравнивалась история, происшедшая между Татьяной
Лариной и Онегиным, с историей неудачного сватовства цапли
* «Словарь Академии Российской», ч. VI. СПб., 1822, с. 413, 412.
г* «Словарь русского языка», составитель С. И. Ожегов, изд. 3-е. М., 1953,
с. 696.
О новелле
307
и журавля. Так я когда-то шутил, но шутку нельзя подавать на стол
в разогретом виде.
У Ариосто построение во многом определяется пародийностью
произведения. У Пушкина бралась при таком анализе только событийная
часть «Евгения Онегина», между тем в романе герои освещены тем,
что мы можем назвать фоном романа, и через них мы входим в мир.
Герои освещены отсветом окружающего. Если говорить
терминами живописи, то так называемые тени в этом произведении
цветные, а в той схеме, которую я предложил, есть только контур
и грубая тушевка.
Форма романа состоит в показе одинокого Онегина среди его
собственного окружения и одинокой Татьяны.
Онегин действует в ссоре с Ленским не по своим внутренним
законам, а по законам света.
Он одинок, но не свободен, и Татьяна одинока, но не свободна.
Вырезать Татьяну из того, что условно назовем пейзажем, нельзя.
Татьяна Ларина без Лариных не существует.
Онегин без его книг, без споров с Ленским не существует.
Таким образом, форма романа «Евгений Онегин» обусловлена
многими смысловыми и ритмическими сцеплениями.
Рифма и строфическое строение — тоже часть смыслового
строения.
Каждая форма непонятна сама по себе, а понятна в сцеплении.
Например, Пушкин, употребив слово «морозы», шутит, что читатель
ждет рифмы «розы». Поэт ее как будто и представляет. На самом деле
он рифмует, употребляя сложную рифму: созвучие «морозы» и «...мы
розы», — и традиционная рифма, которая будто бы предложена,
тут же опровергнута. Старая форма существует в ее разрушении.
Сцепление смысловых положений очень сложное и никак не
может быть сведено к двум, так сказать, дуэтам — Онегина с Татьяной
и Татьяны с Онегиным.
Я должен принести извинения перед профессорами многих
западных университетов в том, что я им подсказал неверную трактовку
произведения, и одновременно принести им благодарность за то,
что они, повторяя мою мысль через тридцать пять лет, на меня
не ссылаются.
Для понимания «Евгения Онегина» надо отнести голос Пушкина
в систему художественного мировоззрения того времени, выяснить
способы художественного анализа мира и его будущего, которые
осуществляет поэт. Для понимания нужны знания; для этого
недостаточно только увидеть или услышать, вырвав деталь из целого.
308
В.Б.ШКЛОВСКИЙ
Дарвин в своей автобиографии мельком говорит, что он раз
в молодости побывал как натуралист в долине ледникового
происхождения, но этой ее особенности не увидел, потому что он не знал,
что такие долины есть.
Для видения надо иметь способ рассматривания, который дается
условиями общественной жизни, определенными культурными
навыками и все время изменяется.
Я не стану заниматься подробным анализом всей книги Боккач-
чо, тем более что за шестьсот лет созданы исследования, в которых
прослежены всевозможные связи ее с мировой литературой.
Может быть, стоит еще раз напомнить о том источнике, на
который сослался сам Боккаччо в «Заключении». Рядом с высоким
искусством, со строго регламентированным укладом жизни
существовали обычаи, которые считались грешными, но даже проповеди
монахов были наполнены бытовым содержанием и не менее
греховодны. Как говорил Боккаччо, проповеди «...по большей части
наполнены ныне острыми словами, прибаутками и потешными
выходками...»7.
Мораль церкви саморазрушалась этими проповедниками, которые
обновляли старые риторические хрии.
Напоминаю, что пишу о «Декамероне» не как специалист,
а просто как писатель, который взял книгу в руки и, ориентируясь
в общих вопросах поэтики, пытается выяснить не то, откуда взяты
новеллы, а то, как и для чего привлечены материалы жизни и
использованы навыки старого искусства.
Хочется понять, почему в «Декамероне» строение сюжета
основано на столкновении психологии и жизнеотношений, исключающих
друг друга.
Почему мужья и отцы запрещают женщинам любить, а те любят
свободно, страстно и защищают свою любовь, или шутя, или
героически принимая смерть?
Почему произошел этот переучет всех связей и основ, которыми
держался мир?
Почему эта веселая книга начинается рассказом о чуме?
Что случилось после чумы 1348 года?
Когда-то в осажденных Афинах произошла чума; историк Фу-
кидид превосходно о ней рассказал8.
Академик В. Шишмарев писал в предисловии к переводу
«Декамерона» : « ...в описании чумы сквозят воспоминания из Макробия,
О новелле
309
выписывавшего Лукреция». В примечании уточняется:
«пересказывавшего, в свою очередь, виденное Фукидидом».
Но ведь была сама чума, от нее умер отец Боккаччо. Почему
писателю понадобилось для изображения пережитого — прочитанное?
Прочитанное помогло развить, что было увидено в 1348 году
во Флоренции. Описание чумы стало одним из главных мест
сборника, — описанием восхищался Петрарка.
Поведение людей, распад общества, небрежность погребения,
ужас и легкомыслие зачумленного города — все это было отмечено
Фукидидом, через третьи руки пришло к Боккаччо и помогло ему
в видении и рассказывании.
Так кровавые описания «Иудейской войны» Иосифа Флавия
стали образцом для русских писателей-летописцев, которые сами
видели многие сражения, приступы и разграбления городов,
взятых на щит.
А. Веселовский в книге «Боккаччо, его среда и сверстники»
приводит слова свидетеля чумы Маттео Виллани: «Сладострастие
не знало узды, явились невиданные, странные костюмы, нечестные
обычаи, даже утварь преобразили на новый лад. Простой народ,
вследствие общего изобилия, не хотел отдаваться обычным
занятиям, притязал лишь на изысканную пищу; браки устраивались
по желанию, служанки и женщины из черни рядились в роскошные
и дорогие платья именитых дам, унесенных смертью. Так почти
весь наш город (Флоренция) неудержно увлекся к безнравственной
жизни; в других городах и областях мира было и того хуже»*.
Так писал современник о времени, изображенном в «Декамероне».
На одни носилки, рассказывает Боккаччо, клали по два и три
трупа. «Бывало также не раз, что за двумя священниками,
шествовавшими с крестом перед покойником, увяжутся двое или трое
носилок с их носильщиками, следом за первыми, так что
священникам, думавшим хоронить одного, приходилось хоронить шесть
или восемь покойников, а иногда и более»**.
Религия ослабела, богатство было брошено, стыд отодвинут.
Чума развязала обычные связи, законы, семьи, разобщила
общество. Люди бежали из города, в котором умерло столько, что
по числу умерших, удивляясь, узнали живые, как многолюдна
Флоренция.
* См.: А. Н. Веселовский. Собр. соч., т. V. Пг., 1915, с. 452.
* Это описание похоже на фукидидовское, у которого на один костер кладут
несколько трупов.
310
В.Б.ШКЛОВСКИЙ
Итак, одна из самых пестрых книг в мире, в которой так
подробно развернуты шутки, так стремительно переданы людские
горести, начинается с подробного описания чумы. Это
художественно осмыслено. Автор говорил: «Я не хочу этим отвратить вас
от дальнейшего чтения, как будто и далее вам предстоит идти среди
стенаний и слез: ужасное начало будет вам тем же, чем для
путников неприступная, крутая гора, за которой лежит прекрасная,
чудная поляна, тем более нравящаяся им, чем более было труда
при восхождении и спуске».
Это предупреждение предшествует описанию.
Сама чума — это не разросшийся эпиграф, который
предопределяет строй восприятия последующих новелл, — это объяснение
строя мыслей людей.
Люди бегут из города, ища себе убежище и развлечение. В
первой же брошенной вилле они накрыли столы, усеяли их цветами
терновника; пережидая время, пока спадет жара, слушая цикад,
которые кричали на оливковых деревьях, молодежь решила
провести время не в играх, а в рассказах.
В жизни существует разное и существует разновременное.
Ростки будущего в скрытом виде, подавленные, существуют
в настоящем неосознанные.
Так семь женщин встретились с тремя мужчинами по именам
Памфило, Филострато и Дионео. Все три имени — псевдонимы Бок-
каччо: это имена, которыми писатель называл сам себя в прежних
произведениях.
В книге три Боккаччо и семь женщин с именами тех, в которых
он был когда-то влюблен и забыл не прочно.
Сущность сюжетного противопоставления, так сказать,
смыслового сдвига, определяющего построение «Декамерона» в целом, —
это чума, которая позволила быстрее кристаллизоваться новым
отношениям.
Все изменилось и обострилось от страха и желания жить.
Боккаччо в заключение говорит, что книга задумана «...в такую
пору, когда для самых почтенных людей не было неприличным
ходить со штанами на голове во свое спасение».
Чума сняла запреты, чума развязала остроумие, она позволила
высказать в смехе новое отношение к старому.
В «Декамероне» почти все сюжеты старые, во многом стар
и способ рассказывания, но ново отношение к рассказываемому,
ново вскрытие противоречий; поэтому частично изменен и стиль
повествований, но еще не везде и не до конца.
О новелле
311
Мы должны понимать, что единство самобытного нравственного
отношения к предмету описания для разных эпох разное, как
отличается для разных эпох сама нравственность.
В «Декамероне», в его отношении к миру, мир как бы населен
другими людьми сравнительно с населением мира феодального.
Есть люди старого мира, но их жизнь, их страсти представлены
со стороны. Мир купцов и ремесленников, представителей новой
учености и монахов взят как бы изнутри.
Боккаччо начал свою вещь как человек, пересказывающий
новеллы. Новеллы его почти все существовали до него как рассказы
или «анекдоты».
А. Веселовский показывает, что даже новеллы с точным приуро-
чиванием к историческим именам людей, современных Боккаччо,
часто оказываются существующими в традиции.
Сам Боккаччо не сразу узнал, какой силы произведения им
созданы.
Начало IV дня содержит в себе как бы второе предисловие
составителя новелл. Только треть труда совершена, но автор, который
«полагал, что бурный и пожирающий вихрь зависти9 должен поражать
лишь высокие башни и более выдающиеся вершины деревьев...»,
видит, что он обманулся.
Боккаччо теперь почувствовал себя высоким деревом: «...тот
ветер не переставал жестоко потрясать меня, почти вырывать
с корнем...»
Именно там, где не проходила дорога старой канонической
литературы, выросло высокое дерево новой литературы, которое
по-новому прочесало ветвями бегущие в небе облака.
Будем следить не только за сменой форм, но и за сменой
отношений к этим формам. То и другое является способом выразить новую
действительность, которая не может высказать себя, не используя
предыдущих моментов сознания.
Но приходит и новое видение, появляется, всплывает в сознании
то, что не было осознано.
Иногда определенная социальная группа, связанная с большой
литературой, видит и не видит и, вернее, видит и не хочет видеть;
у нее отрицательная галлюцинация, которую можно преодолеть
только великими потрясениями, а иногда ничем нельзя
преодолеть.
Жил в России замечательный прозаик Иван Бунин; он лучше
других умел описать, как цветет яблоня, как поспевает плод, как
хрустит разламываемая антоновка.
312
В, Б. ШКЛОВСКИЙ
Есть у Бунина рассказ: сердобольный барин нанял бедного,
многодетного мужика рассказывать ему сказки. Мужик
рассказывал-рассказывал, устал и, так сказать, исписался. И вот Бунин описывает,
как мужик сам сочинял неумелую, небывалую, стыдную «по своей
неумелости» сказку о том, как мужик трижды избивал барина.
Вещь И. Бунина называется «Сказка». Герой «Сказки» —
сумрачный мужик Никифор, сказочник с голоду. «Пришлось
вспоминать всякую чепуху, порою выдумывать что попало, порою врать
на себя всякую небылицу. Притворяться балагуром, сказочником
неловко, но неловко и сознаться, что нечего рассказывать. Да и как
упустить заработок?»
Сказки у него не получаются — не выдумываются. Никифор
рассказывает про то, как, мстя барину, мужик трижды избил его: он
бьет его, зажав в расщелину бревна, потом в бане, потом в барском
доме. Кончилась сказка.
« — Однако ты не изобретателен! — говорит барин.
Никифор и сам чувствует, что конец сказки, несмотря на все
его раздражение, вышел слаб, и, краснея от стыда, спешит
вывернуться».
Молчит от неловкости за него барин. Никифор это чувствует
и пытается «убожество своей выдумки» оправдать нравоучением:
«— Да и верно, — говорит он, глядя в сторону. — Не наказывай
зря. Вы вот еще молоды, а я этих побасок мальчишкой конца-
краю нету сколько наслушался. Значит, в старину-то тоже не мед
был...»
Прав Никифор, а не барин.
У Афанасьева эта сказка напечатана в III томе (стр. 288-289,
№ 497), записана она была в Новгородской области, но имела много
вариантов в других местах.
В первом издании, вып. V, № 2, в последующих изданиях, № 249
и № 223 у Ончукова*, собиратель сообщает: «Рассказ все время
сопровождался возгласами одобрения, восхищения, иногда даже
восторга слушателей».
Барин Бунина не сумел прочесть книгу его судьбы, которая перед
ним случайно открылась.
А сам Бунин не узнал народа в народной сказке. Он отступил
от будущего, отрицая его как ошибку.
Отношение «этого» мужика к «этому» барину, который съедает
«эту» яичницу, нужную голодным мужиковым детям, Бунин видит.
* H. Е. Ончуков. Северные сказки. СПб., 1909.
О новелле
313
Но ненависти всех мужиков ко всем барам, классовой сущности
этой ненависти и презрения, выраженных в фольклоре, писатель
не видит.
Плод этого познания для него запрещен.
Это ему не антоновка.
Этот плод он вкусит уже после своего изгнания из русского рая.
Пока он воспринимает закономерность как случайность.
Это — слепота великого по своему таланту человека,
представителя обреченного класса. Потом ему придется писать, обострив
восприятие, но не видением нового, а жалостью потери старого.
Но того старого, которое, по его мнению, существовало только
в виде красивого запустения в домах одних и одичания в других
домах, — не было. Старое содержало в себе ненависть, и ненависть
определяла будущее. Вот этого будущего Бунин не видит и не
слышит.
Видеть и не увидать, слышать и не услыхать — обычная судьба
людей, стоящих в конце своих эпох. Тут не помогут глаза и слух,
потому что все закрыто запретностью, неприятием хода истории.
Боккаччо был человеком нового времени, поэтому великое
потрясение черной смерти стало для него дверьми в великое
будущее.
О трех новеллах
Боккаччо увидел новые связи мира не разрозненно. На доске
нравов все было на мгновение стерто.
Чума, которая опустошила Флоренцию, способствовала
убыстрению переосмысливапия того нового, которое уже лежало в старом
еще не узнанным, а теперь говорилось, но тогда, когда опустели
улицы.
Боккаччо после чумы хотел сохранить голоса.
Не все равноценно в «Декамероне» : самое пустое и
повторяющееся — это введения к «дням».
Но уже первая новелла «Декамерона» вводит нас в мир, полный
борьбы, иронии и противоречий. Содержание новеллы определено
заглавием. Боккаччо писал: «Сер Чаппеллетто обманывает лживой
исповедью благочестивого монаха и умирает; негодяй при жизни,
по смерти признан святым и назван San Ciappelletto».
Время и вся обстановка рассказа оговорены очень точно.
Говорится, что некий Мушьятто Францези, собираясь в Тоскану вместе
с Карлом Безземельным, братом французского короля, увидел, что
314
Б. Б. ШКЛОВСКИЙ
его дела сильно запутаны, и отправил в Бургундию взыскивать долги
с бургундцев некоего Чеппарелло из Прато.
Господин Францези — человек из торговой знати. Сведения,
которые о нем сообщаются, придают новелле достоверность делового
сообщения.
Чаппеллетто — человек небольшого роста, чистенько
одевающийся, по ремеслу нотариус, по натуре лжесвидетель, содомист,
обжора, пьяница, шулер, интриган.
Едет он в Бургундию и останавливается там у двух
флорентийских ростовщиков.
Братья не просто ростовщики, они представители новой
профессии — банкиры. Таких людей звали, по месту их происхождения,
ломбардцами. Это, так сказать, фундаторы того банковского дела,
которое сейчас так процветает во многих странах.
Господа ломбардцы и сэр Чаппеллетто — люди нового времени,
это не патриархальные купцы: в их руках денежные операции уже
начинают принимать отвлеченный, как бы алгебраический характер;
прием залогов, то, что сейчас делается ломбардами, у них, вероятно,
практиковалось давно, но само банковское дело начало
оформляться недавно. Первое упоминание о банках встречается в генуэзских
нотариальных записях XIII-XIV веков. Такие банковские
предприятия существовали в Италии также во Флоренции и Милане.
Дела производились без большой огласки; бухгалтерские книги
банка Медичи, относящиеся к 1397-1450 годам, были найдены
и обнародованы только в 1950 году.
Ломбардцы первой новеллы «Декамерона» жили в окружении
ненависти.
Ломбардцы «Декамерона» еще сознают себя злодеями. У них в
доме должен умереть один из совершеннейших негодяев мира. После
исповеди священник явно откажет ему в причастии и не даст места
для погребения тела на кладбище. Позор гостя еще более увеличит
ненависть к ломбардцам. Дать умереть гостю без исповеди —
невозможно: это тоже опозорит хозяев. Такова ситуация. Но старый
негодяй утешает своих хозяев: «Я не желаю, чтобы вы беспокоились
по моему поводу и боялись потерпеть из-за меня».
Сэр Чаппеллетто добровольно готовится к величайшему
надувательству: для него последний разговор в жизни должен стать
обманом — он осмеивает монаха-исповедника, исповедуясь в пустяковых
грехах и страстно каясь в них.
Монах благоговейно принимает исповедь и после смерти негодяя
объявляет его святым. Таков конфликт.
О новелле
315
Теперь посмотрим композицию новеллы.
Вся обманная исповедь и история последующей канонизации
Чаппеллетто рассказываются Памфило способом, который
применялся при описании жития святого.
Новелла начата благочестивым рассуждением: «За какое бы
дело ни принимался человек, ему достоит начинать его во чудесное
и святое имя того, кто был создателем всего сущего».
Правда, к этому зачину прибавлено несколько неожиданное
обращение: «Милые дамы». Дальше Памфило продолжает: «Потому
и я, на которого первого выпала очередь открыть наши беседы, хочу
рассказать об одном из чудных его начинаний, дабы, услышав о нем,
наша надежда на него утвердилась, как на незыблемой почве, и его
имя восхвалено было нами во все дни».
Итак, «Декамерон» начинается с обращения к господу богу
и с указания необходимости непременного его славословия.
На следующей странице развивается рассуждение о том, что все
существующее смертно. Дальше объяснено, что милость господня
нисходит к нам не за наши заслуги, а по заступничеству святых,
которые были смертными людьми, но, выполняя веление бога, стали
вечными заступниками молящихся.
Все рассуждение как будто ведет нас к рассказу о святых.
Дальше идет некоторое отступление, религиозно обоснованное.
Сам священник может быть неправедной жизни, но таинства, им
совершенные, по учению церкви, все равно действительны, потому что
на нем лежит благодать, переданная ему церковью через помазание.
Боккаччо как бы продолжает и усугубляет эту мысль, доведя ее
до абсурда: «Тем большее мы признаем его милосердие к нам, что...
нередко случается, что, введенные в заблуждение молвой, такого
мы избираем перед его величием заступника, который навеки им
осужден...»
Вывод, предложенный рассказчиком, как бы состоит в том, что
бог, не обращая внимания на невежество молящегося, внимает
молитвам, не обращая внимания на содержащиеся в них ошибки,
и не только священник, но и святой могут быть людьми
безнравственными и даже преступными.
Рассказ о необыкновенном негодяе, обманувшем людей перед
смертью, ведется в тоне повествования о житии святого.
После торжественного введения следует краткая характеристика
истинного существа усопшего, о чем мы уже говорили.
То, что рассказ о негодяе дается в форме жития святого,
обновляет ощущение различия, вводит сомнение в самое возможность
316
Б. Б. ШКЛОВСКИЙ
достоверности и других «житий», а через это сопоставление рассказа
о негодяе и «жития святых» опровергается, несмотря на
благочестивый разговор, сама идея заступничества святого за грешников.
За остроумием следует попытка вскрытия существа суеверия.
Оговорки делаются, но и они при всей краткости не выходят
из тона житийного повествования.
Сюжетная напряженность поддерживается ощущением того, что
рассказчик может все время проговориться и хочет сказать нечто
совершенно недозволенное, но, подойдя к границе недозволенного,
опять иронически разрешает его в терминологии официальной
религии. Говорится, например, что ростовщик мог ведь раскаяться
в последний момент: «Я не отрицаю возможности, что он
сподобился блаженства перед лицом господа, потому что хотя его жизнь
и была преступной и порочной, он мог под конец принести такое
покаяние, что, быть может, господь смиловался над ним и принял
его в царствие свое».
Но перед этим было рассказано, что Чаппеллетто не только
исповедался, но и причастился, а после этого соборовался и вскоре
после вечерни скончался.
Хотя дальше говорится о мгновенном покаянии, но время в
новелле все занято.
Памфило заканчивает новеллу словами: «Потому, дабы его
благость сохранила нас в этом веселом обществе целыми и здоровыми
среди настоящих бедствий, восхвалим того, во имя которого мы
собрались, вознесем ему почитания и поручим ему наши нужды,
в твердой уверенности, что он нас услышит... »
Предлагается как бы писать письма к богу, но предварительно
показано, что почтовый ящик, в который бросаются эти письма,
безнадежен.
Святой — обманщик, и чудеса его совершаются по ошибке или
по снисходительности бога. Рим и римская церковь развратны
и торгуют верой так, как в Париже не торгуют даже сукном.
Товар очень сомнителен: сукна могут быть разного сорта, а вера
может быть для верующего или одна, или никакая.
Только сняв тремя новеллами обычные религиозные
представления, Боккаччо начинает рассказывать о жизни итальянцев, об
истинных основах их нравственности, о преступлениях духовенства;
он в общем их считает забавными и обычно дает благополучные
решения.
Законы разума, риторически обоснованные, для Боккаччо
логичны, неопровержимы и обязательны.
О новелле
317
Часто они переданы в новеллах для нас наивно и скучно, но были
для читателя того времени смелыми по неожиданности приложения.
Законы религиозной морали опровергнуты. Остаются правила
новой бытовой мудрости, которые риторически подробно
обосновываются.
Сюжетное построение в своем задании обычно основано на
смысловом противопоставлении, на разнопонимании одного и того же
явления; ощущение разнопонимания иногда осуществлено тем, что
произведение разрешено как бы в не соответствующем ему стиле
и жанре.
Вступительная новелла с религиозной тематикой не одинока.
За ней идет вторая, в которой рассказывается, как некий богатый
еврей Авраам, купец и большой знаток иудейского закона, под
влиянием своего друга, христианина, склонился к принятию христианства,
но перед этим решил поехать в Рим «...дабы там увидать того, кого
ты называешь наместником бога на земле, увидать его нравы и образ
жизни, а также его братьев кардиналов; если они представятся мне
таковыми, что по ним и из твоих слов я убеждусь в преимуществе
твоей веры над моею, как это ты старался мне доказать, то я
поступлю, как тебе сказал; коли нет, я как был, так и останусь евреем».
Друг-христианин был крайне опечален, зная, что представляет
собой Рим.
Еврей едет в Рим и видит развратный город, продажу таинств
и вообще продажу всего, чем можно торговать, видит обжорство,
сладострастие, лицемерие, симонию и «все это, вместе со многим
другим, о чем следует умолчать...».
О преступлениях римской курии Боккаччо говорит общо, как
о чем-то само собой разумеющемся.
Новелла как художественное произведение держится на
неожиданном, каламбурно-парадоксальном разрешении.
Авраам, увидя все это распутство, внезапно решает принять
христианство.
Основания у него следующие: «...Рим представился мне местом
скорее дьявольских, чем божьих начинаний».
Но идет рассуждение о том, что если все эти дьявольские пороки
не прекратили христианства и христианская религия продолжает
существовать и шириться, то «...становится ясно, что дух святой
составляет ее основу и опору... ».
Новелла как бы успокаивает религиозную цензуру. На самом деле
новелла, утверждая, отрицает, притворяясь, что она утверждает
при помощи отрицания.
318
Б. Б. ШКЛОВСКИЙ
Рим преступен и погряз в торговле святынями, а христианство
продолжает процветать, между тем оно должно погибнуть. То, что
оно существует даже при таком положении, может быть объяснено
только чудом.
Это звучит благочестиво, если принять, что «христианство»
действительно существует, но доказательством приводится только
то, что оно «ширится».
Такая сюжетная «фигура», по терминологиям риторики, могла
быть названа только иронией.
Третья новелла — знаменитый рассказ о трех кольцах. Султан
Саладин, желая взять деньги у еврея Мельхиседека, решил спросить
его о том, какая из трех вер — мусульманская, христианская или
иудейская — истинна. Но человек, к которому обратились с
искушающим вопросом, был очень опытен.
Мусульманство, христианство и иудаизм составляли
традиционный комплекс религий, «имеющих Писания».
Мусульманство считалось мусульманами религией истинной,
иудаизм же и христианство — религиями терпимыми, связанными
с Кораном происхождением.
Три кольца и выбор их — исторически обоснованы. Новелла
существует давно, но бытовала в среде слабых: она была попыткой
иноверцев защитить перед лицом представителей господствующих
религий свое право на другой культ.
В то же время эта новелла выражает своеобразную, так сказать,
торгово-дипломатическую терпимость к чужой вере. Такая
терпимость встречалась не только в купеческих республиках Италии.
Коронованный в церкви царской короной Иоанн IV, он же Иван
Грозный, умел при случае проявлять своеобразный религиозный
либерализм.
Он в 1562 году писал в ответ на послание ногайского хана,
отговариваясь от необходимости помочь ему войсками: «Так чтоб
в других землях не стали говорить: вера вере недруг, и для того
христианский государь мусульман изводит. А у нас в книгах
христианских писано, не велено силою приводить к нашей вере. Бог
судит в будущем веке, кто верует право или не право, а людям того
судить не дано»*.
Первые три, так сказать, религиозные новеллы сознательно
поставлены впереди всей книги, опровергая религию как норму,
«История России с древнейших времен», сочинение С. М. Соловьева, книга
вторая, т. VI-X, 2-е изд. СПб., 1896, с. 99.
О новелле
319
дающую людям определенные нравственные устои и правила
поведения.
Старая вера сжигается, как сжигали во время чумы тряпки
в целях дезинфекции.
Новое и старое в «Декамероне»
Хотя в самом слове «новелла» заключается указание на новое
сообщение, однако новеллы «Декамерона» в событийном своем
содержании обычно традиционны.
Но отношение к событиям, так сказать, нравственность новеллы,
изменяется — иногда до отрицания прежнего толкования.
Не только изменение предмета повествования, но и изменение
отношения к повествованию должно интересовать исследователей.
Боккаччо сам не называл себя создателем новелл и специально
оговаривал это.
Девятую новеллу VI дня рассказчица начинает словами:
«Прелестные дамы, хотя сегодня вы предвосхитили у меня более двух
новелл, из которых я намеревалась рассказать вам какую-нибудь,
тем не менее у меня осталась для сообщения одна... » Но старые
новеллы в «Декамероне» обновлены.
Человек обладает определенной ценностью, тем большей
ценностью обладает великий человек, но в то же время человек состоит
из мяса, которое может быть съедено зверем.
Есть буддийская легенда о том, что Будда, встретив голодную
тигрицу, отдал себя ей на съедение10.
Этим он показал «совершенство дара», то есть отдал ценное как
ничтожное.
С этой легендой, по мнению многих (очень ученых)
исследователей, связана, а по мнению других (более благоразумных), не связана
девятая новелла V дня «Декамерона». Вот ее содержание: «Федериго
дельи Альбериги любит, но не любим, расточает на ухаживание все
свое состояние, и у него остается всего один сокол, которого, за
неимением ничего иного, он подает на обед своей даме, пришедшей
его навестить; узнав об этом, она изменяет свои чувства к нему,
выходит за него замуж и делает его богатым человеком».
Охотничий сокол был большой ценностью: Марко Поло в своем
путешествии как драгоценности страны упоминает не только ее
самоцветы и ткани, но и ловчих птиц.
Соколами платили дань сюзерену; в то же время сокол — птица,
которую можно съесть.
320
В. Б. ШКЛОВСКИЙ
Новелла описывает рыцаря, влюбленного, как мы уже сказали,
в даму. Дама для своего больного сына захотела получить сокола
Федериго.
Сокол не только последняя радость бедного рыцаря — рыцарь
питается тем, что добывает на охоте соколов.
Надо оправдать настойчивость дамы.
Ценность сокола для дамы состоит в том, что она хочет подарить
его больному ребенку, но она знает, что этот сокол «лучший из всех,
когда-либо летавших».
Но она надеется, что рыцарь подарит или продаст ей свою
драгоценность, зная, как велика его любовь.
Дама едет к бедному рыцарю, милостиво говоря, что она решила
пообедать у него по-домашнему.
Рыцарь беден, ему нечем накормить даму. Он мечется туда и сюда,
но не находит ни провизии, ни денег. Наконец ему бросился в глаза
его драгоценный сокол. Он осмотрел его. Птица была жирна.
Тогда он свернул соколу шею, велел его изжарить и с веселым лицом
пришел к даме.
Так дама, Федериго и спутница дамы втроем съели прекрасного
сокола.
После обеда дама сказала, извиняясь за свою самонадеянность,
длинную речь с риторическим анализом, почему она обращается
с такой просьбой. Она просит рыцаря «не во имя любви, которую
ты ко мне питаешь и которая ни к чему тебя не обязывает, а во имя
твоего благородства, которое ты своею щедростью проявил более,
чем кто-либо другой, подарить его (сокола. — Б. iff.) мне, дабы
я могла сказать, что этим даром я сохранила жизнь своему сыну
и тем обязана тебе навеки».
Рыцарь заплакал, смущенная дама чуть не отказалась от
своей просьбы, но сокол был ей нужен, и она дала мужчине отпла-
каться.
Федериго после слез и довольно длинного риторического
анализа объясняет, что он не может принести этого «небольшого дара»:
«—...сегодня утром он (сокол. — Б. Iff.) был подан вам изжаренным
на блюде...»
Дама надеялась, что влюбленный в нее человек мог подарить ей
свою драгоценность как драгоценность. На самом деле для рыцаря
перед лицом любви все было ничтожно, и он подарил драгоценность
так, что это даже не могло быть замеченным.
Пораженная дама восхваляет рыцаря за великодушие и в
результате выходит замуж за рыцаря.
О новелле
321
Противопоставление превратилось в сложную новеллу, связанную
с определенными бытовыми отношениями. Человеческое сердце —
источник жизни человека. Когда появилось понятие любви, сердце
стало символом любви, его обиталищем; тут же сердце начало
искать свободы.
Одновременно сердце — кусок мяса. Резкое противоречие,
лежащее в самой сущности вещи, стало основанием для ряда
конфликтов.
В девятой новелле IV дня «Мессер Гвильельмо Россильоне»
обманутый муж, убив своего соперника, вырывает из него сердце и говорит
своему повару: «Возьми это кабанье сердце и постарайся приготовить
из него кушаньице как сумеешь лучше и приятнее на вкус, и когда
я буду за столом, пошли его мне на серебряном блюде».
Женщина съедает сердце и хвалит кушанье; муж говорит, что
это сердце его соперника.
Женщина отвечает: «Вы сделали то, что подобает нечестному
и коварному рыцарю; если я... сделала его владыкой моей любви...
не ему, а мне следовало понести за то наказание».
Женщина кончает самоубийством, выбросившись спиной из
окна, муж спасается бегством от гнева и презрения окружающих.
Любовники похоронены с великой печалью и плачем.
Женщина заговорила, она опровергает право угнетать ее.
И в новелле о съеденном соколе, и в новеллах о съеденных
сердцах дело идет об отношении человека к среде, то есть исследуется
его сознание.
Новеллы, связанные с положением гуманиста в обществе,
и новеллы, исследующие новое отношение к старому
при помощи переосмысливания бытующих метафор
Приведу краткое содержание девятой новеллы VI дня для того,
чтобы показать пример появления новой темы для повествования.
Тема эта событийно не развернута, но изречение связано с местом,
в котором оно произносится, что и должно было обострить
высказывание. Новелла посвящена истории Гвидо Кавальканти, ученого
человека, который был «из лучших логиков» и «отличный знаток
естественной философии».
Боккаччо тут же добавляет в скобках: «...до чего обществу мало
было дела...»
Ученый любит гулять в одиночестве. Группа молодых дворян,
которые любили ездить большой компанией по городу, однажды
322
В. Б, ШКЛОВСКИЙ
застала Гвидо на кладбище, и, пришпорив коней, почти наскочив
на ученого, они заговорили с ним так: «Гвидо, ты отказываешься
быть в нашем обществе; но скажи, когда ты откроешь, что бога нет,
то что же из этого будет? »
Гуманист ответил: «Господа, вы можете говорить мне у себя дома
все, что вам угодно».
Долго обсуждала компания дворянской молодежи, что им сказал
Гвидо, и наконец один дворянин догадался, что гуманист назвал
людей, не причастных к новой науке, как бы мертвыми: они были
дома у себя на кладбище.
Гуманист считает только себя и людей своего развития живыми
среди мертвых. Гуманистов воскресило новое мировоззрение — все
окружающее мертво или презренно.
Таковы новеллы, действительно содержащие в себе новость.
Обычно даже те новеллы (например, новеллы VI дня), которые
содержат удачные ответы флорентийцев, существование которых
может быть доказано, не записаны и даже не сочинены, а только
приписаны этим людям.
Больше новелл травестированных, перевернутых. Много новелл
представляет собой драматическое развертывание обычного
выражения. Поговорка-присловье, то, что говорилось между прочим,
бытующие эротические метафоры, задержанные, обставленные
бытовыми подробностями, превращаются в новеллу.
Метафора становится только развязкой новеллы. Обычно сама
метафора бытовала и раньше и была известна до новеллы, но новая
ее реализация иронически заостривает бытовое описание.
В «Заключении от автора» Боккаччо в свою защиту говорит
о новеллах «Декамерона»: «...мне не менее пристало написать их,
чем мужчинам и женщинам вообще говорить ежедневно о дыре
и затычке, ступе и песте, сосиске и колбасе и тому подобных
вещах» , — но он говорит не всю правду.
Это все шепталось или говорилось вполголоса. Все это жило,
но не утверждалось. Теперь то, что было вольным разговором, стало
предметом искусства.
Бытовой разговор, как бы ни сталкивался с церковной ученостью,
всегда уступал ей дорогу.
О телесности человека приходилось напоминать, споря.
Боккаччо оправдывается в заключении тем, что художники,
изображая распятого Христа, прибивают его ноги «не одним, а двумя
гвоздями». Но Боккаччо не просто констатирует телесность
человека, он подчеркивает ее при помощи сюжетного анализа.
О новелле
323
Анализ обычно сделан так, что эротическая и эвфемическая
загадки одновременно служат способом нападения на церковный
аскетизм.
Некоторые новеллы содержат указания на присловие-поговорку
или кончаются таким присловием.
Событийный ряд десятой новеллы III дня таков: некая девушка
Алибек, не будучи сама христианкой, много слыхала о том, как
хвалят христианство; она уходит к одному из пустынников Фиваиды.
Казалось бы, пойдет дальше дело об обращении прекрасной
язычницы.
Женщина действительно отыскивает пустынника и на вопрос
его, чего ищет, отвечает «...что, вдохновленная богом, идет искать,
как послужить ему, и кого-нибудь, кто бы наставил ее, как
подобает ему служить».
Новелла довольно большая и хорошо известна. Содержание ее
сводится к тому, что пустынник, человек набожный и добрый,
впал в соблазн и начал учить девушку, как служить богу удобным,
но странным способом.
Новелла развивается со всеми свойственными Боккаччо
подробностями. Любопытна развязка: девушка богата, знатна, ее скоро
возвращает в город один промотавшийся юноша, пожелавший
сделать богатую наследницу своей женой.
В разговоре с женщинами девушка жалуется, что она совершает
грехопадение, потому что прежде служила богу в пустыне, помогая
загонять дьявола в ад. После некоторых объяснений подруги ее
понимают и утешают тем, что в городе люди занимаются тем же
самым.
Одна из женщин, с которой разговаривала простушка
«...рассказала о том другой по городу, свели это к народной поговорке:
что самая приятная богу услуга, какую можно совершить, — это
загонять дьявола в ад; и эта поговорка, перешедшая сюда из-за моря,
и теперь еще держится».
Таким образом, в развязке новеллы есть указание на народное
присловье.
Метафора, изображающая определенное действие, получает
в новелле мотивировку; подбираются для ее воплощения герои,
объясняющие и обновляющие эту метафору.
При развертывании метафоры-анекдота в новеллу она становится
не эротическим озорством, а широко построенным рассказом, в
котором определенное положение обыгрывается много раз, не существуя
рядом с другим мировоззрением, а опровергая его.
324
В. Б. ШКЛОВСКИЙ
Здесь все приводит к пародированию «религиозного подвига».
Боккаччо всегда на стороне умелых и хитрых, против слабых и
обманутых. Во второй новелле VIII дня приходский священник спит
с крестьянкой, оставляет в залог свой плащ и, взяв у нее на время
ступку, отсылает ее с просьбой вернуть плащ, оставленный в залог
за ступку. Плащ возвращается с бранью.
Священник обманул крестьянку, отняв плащ; плащ этот при торге
подробно описывается. Вообще эта новелла отличается от остальных
изобилием бытовых подробностей и пейзажных деталей.
В ругани женщины, недовольно возвращающей плащ,
заработанный любовью, осуществляется начало шутки; в ответе
священника метафора получает свое завершение. В конце новеллы она
повторяется уже как данная от самого автора, который этим если
и не солидаризируется с обманщиком, то, во всяком случае, смеется
вместе с ним.
Священник новеллы — хитрый малый, хороший огородник,
он малообразован, но толков; он крестьянин среди крестьян и сам
не является предметом сатиры.
Он человек, откровенно желающий недозволенного, но
естественного.
Вообще удачное нарушение нравов находит сторонников для
себя у Боккаччо.
Строение эротических новелл «Декамерона» обычно основано
на соединении двух элементов: один — развертывание анекдота,
превращение его в маленькую бытовую историю; второй — введение
оценочного нравственного отношения к материалу.
В новеллах Боккаччо, в традиционности их сюжетов не стоит
искать примеров бродячих сюжетов и утверждения теории
заимствования.
В эту эпоху бытовая, исчезающая и снова появляющаяся, как бы
фольклорная литература сделала вылазку, для того чтобы захватить
хотя бы предмостное укрепление враждебной церковной морали.
Гуманист сознательно руководил нападением.
В V дне любопытна четвертая новелла.
В ней рассказывается, как молодая девушка, которую сильно
охраняли от мужчин ее родители, желая встретиться с молодым
человеком, сказала матери, что ей дома жарко, попросив
разрешения спать в саду, слушая соловьев.
Отец, человек старый и упрямый, ответил жене на
переданную просьбу: «Что это за соловей, под песни которого она желает
спать?»
О новелле
325
Мать заступается за девушку, в результате та идет в сад. К ней
приходит любовник, и они проводят вместе утомительную ночь.
Спящих любовников застает отец. Он вызывает мать и говорит:
«Скорее, жена, встань и пойди погляди: твоей-то дочке так
понравился соловей, что она поймала его и держит в руке».
Перед нами как будто типичная эротическая шутка.
Но Боккаччо вначале рассказал, что у состоятельных родителей
девушки была мечта породниться через дочку с большими людьми.
Развязка новеллы — не то, что родители застали любовников, а то,
что они заставили знатного любовника жениться на своей дочери.
Таким образом, Риччьярдо оказался тем самым соловьем,
которого поймали. Он сам превращен в метафору.
В других новеллах, как, например, в десятой новелле II дня,
шутка над старым, бессильным мужем, который отговаривается
от жены церковными праздниками, во время которых надо
соблюдать целомудрие, обращается в спор с правом требовать верности.
Жена похищена, попадает к молодому пирату, она довольна своим
положением. Новелла заканчивается речью женщины: «О моей
чести пусть никто не заботится (да теперь и нечего) более меня самой;
пусть бы заботились о ней мои родители, когда отдавали меня за вас;
если они не позаботились тогда о моей чести, я не намерена нынче
сделать того относительно их; коли я теперь обретаюсь в смертном
грехе, то когда-нибудь попаду в живую переделку; вам нечего ради
этого тревожиться из-за меня».
Сюжетные сцепления «Декамерона» состоят в новеллах этого
рода не только в развертывании ситуации пословиц при помощи
подстановки героев и развертывания действия в многоступенчатые
коллизии новеллы, но и в создании сцепления коллизий.
Об обновлении старого, о том, как положения,
включенные в новые сцепления, приобретают,
как слова в новых предложениях, иное значение
Для того чтобы дать себе и читателю отдых, устроить площадку
на лестнице, по которой подымаюсь, остановлюсь и вспомню о
любимом крае.
Около Кутаиси, среди мягких, округленных зеленых холмов,
бежит желто-пенистая река, взволнованная воспоминаниями
о горных кручах.
В реку вбегают говорливые, веселые ручьи, похожие на детей,
скатившихся по перилам школы на улицу.
326
Б. Б. ШКЛОВСКИЙ
То место сейчас называется город Маяковский.
Прежде оно называлось село Багдади.
Около одноэтажных домов того села безмолвно лежали, расставив
короткие лапы, безголовые бурдюки с вином.
Бурдюк похож, если его поставить, на неуклюжего и безголового
человека.
В старом романе Апулея «Метаморфозы», коротко названном
также «Осел», но украшенном уважением времени
прилагательным «золотой», — в «Золотом осле» Апулея рассказана следующая
история. Некая колдунья хотела привлечь к себе одного
прекрасного молодого человека. Любовное колдовство должно было быть
совершено над волосами. Служанка была послана в цирюльню
за волосами прекрасного молодого человека. Люди, зная о злой
колдунье, обыскали служанку и отобрали волосы. Тогда она взяла
волосы с козьих мехов.
Юноша, любовник служанки, при свете факела пьяным
возвращался домой. Ветер загасил факел, человек увидел, что трое людей
ломятся в двери дома, в котором он остановился.
Человек выхватывает меч и поражает злодеев. Утром его
вызывают в суд и обвиняют в убийстве: на помосте лежат тела, скрытые
покровом. Юноша сознается в убийстве, но у него спрашивают
о подробностях, угрожая пыткой. Потом срывают покров с мертвых
тел и весь город хохочет: «Трупы убитых людей оказались тремя
надутыми бурдюками».
Ирония вещи — здесь можно говорить о ней — состоит в
подмене предмета для колдовства, а тем самым в пародийности успеха
действия колдуньи: вместо любовника к дверям ее дома чары
привлекли мехи с вином.
Черты этой истории использованы в знаменитой 35-й главе
первой части «Дон Кихота».
Дон Кихот ночью в трактире сражался с бурдюками красного
вина; мотивировка ошибки — безумие Дон Кихота и его сонный
бред.
Сервантес при помощи простодушной реплики Санчо Пансы
усиливает комичность эпизода. Санчо Панса говорит: «Я видел,
как лилась кровь и как отлетела в сторону его (великана. — В. Ш.)
отрубленная голова, здоровенная, что твой бурдюк с вином».
Санчо Панса видит, что у бурдюка нет головы, и даже видит, что
это бурдюк, но, находясь под влиянием иллюзий хозяина, считает,
что видел великана, у которого отскочила отрубленная голова,
похожая на бурдюк.
О новелле
327
Не колдовство здесь превращает вещи, а традиционная фантазия
и авторитет господина владеют мозгом крестьянина и обманывают
его восприятие.
Старое живет упорно, после смерти оно лежит на дорогах нового
так, как кости лошадей и верблюдов лежали на караванных дорогах
Востока.
Когда я был маленьким, мыли меня губкой. Губки продавались
под сводами Гостиного двора; они висели нанизанными на длинных
бечевках.
Купленную губку приносили в дом, варили, и она становилась
мягкой. Губка считалась нами, детьми, растением, а она была живая
по-иному. На подводных скалах жило животное, как бы прячущееся
в многодырчатый эластичный скелет.
Вот этот скелет мы и считали губкой.
Так в комментариях, и в сравнениях, и в бесчисленных
сопоставлениях теряли то живое, что существует в литературе, обращая
внимание на скелет, в котором держалось живое содержание.
Новеллы Боккаччо иногда содержат в себе прямые ссылки на
старые греческие истории (романы).
В Неаполе, где при дворе короля жил Боккаччо, на перепутье
международных течений, в стране, где сильны были греческие
влияния, но которая была так близко к окраинам Европы, что в
династических спорах на нее набегали венгры, — в Неаполе собирал
Боккаччо свои истории. Он говорит в первой новелле V дня: «Итак,
как-то мы читали когда-то в древних историях киприйцев...» —
но дает пересказанному греческому роману иное начало, пытаясь
показать, как вошел простой, сильный, рослый человек в поток
приключений из-за обиды и любви.
Не только там, где называется определенный адрес, мы видим
след греческого романа, его строение.
Новелл, повторяющих выработанные приемы греческого
романа, в «Декамероне» много: это рассказы о невинно оклеветанных
женах, о потерянных детях, об их узнавании по приметам,
причем узнавание происходит в последний момент, когда героя уже
привязывают к колу, для того чтобы сжечь, или ведут на казнь
под ударами плетей, — в этот самый момент героя не только
милуют, но и женят на той женщине, которую он соблазнил: давно
этот брак был мечтой родителей, но они потеряли из виду своих
помолвленных детей.
Больше всего таких новелл в «Декамероне» во II дне. Сама тема
II дня как бы формулирует основной принцип греческого романа:
328
В. Б. ШКЛОВСКИЙ
в этот день рассказывается о тех, кто «послеразных превратностей
и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели».
Тут особенно характерно выражение «сверх всякого ожидания»,
которое подчеркивает традиционную неожиданность романной
развязки.
К разряду новелл, содержащих отзвуки греческого романа
(скажу для тех, которые захотят сами перелистать «Декамерон»),
принадлежат во II дне новеллы четвертая, пятая, шестая, седьмая,
восьмая и девятая.
Новелла пятая, которую я уже упоминал, содержит в себе
традиционную историю о приключениях героя, попавшего в чужую
гробницу. Герой — гуляка, обманутый проституткой, в гробницу
он попадает как грабитель, но спасается, получив в результате
приключений драгоценный рубин.
Много новелл с отзвуками греческого романа в дне V — это
новеллы первая, вторая, третья, пятая, шестая, седьмая.
Но в этот строй новелл-воспоминаний вставлена
легкомысленная новелла с ловлей соловья, тем самым и они находятся в новом
сцеплении.
Мы можем проследить источники многих новелл. Более
образованные люди могут, вероятно, проследить источники всех новелл,
но и при таких поисках обычно происходят огрехи.
Отзвуки прошлого, то, что называется заимствованием, входя
в новые сцепления, переосмысливаются. При работе историка
литературы он часто следил только за повторением одного и того же
в разном, но не всегда отмечал, что явление не повторяется, а
переосмысливается .
То, что в греческом романе объяснялось гневом богов, у Боккаччо
объясняется жаждой наживы.
Изменились берега и цели, а потому и изменились приключе-.
ния, хотя это как будто те же самые рассказы о кораблекрушениях
и разбойниках.
В греческом романе Гелиодора «Эфиопика» мир только что
увиден, но не освоен. Грек, попадая к эфиопам, побеждает великана,
но магия и быт варваров, их религия для него привлекательны,
жизнь их его поражает.
Перед нами первый черновой набросок ощущений общности
человечества11.
В «Декамероне» цели жизненней, герой не обременен
историческими аналогиями и предрассудками, хотя появляется среди
событийных повторений, имеющих тысячелетнюю давность, в результате
О новелле
329
появляется сознание новых целей, нового представления о доблести
и нравственности.
Во II дне Памфило рассказывает новеллу (седьмую), содержание
которой дано самим Боккаччо в следующих словах: «Султан
Вавилонии отправляет свою дочь в замужество к королю дель Гарбо;
вследствие разных случайностей она в течение четырех лет попадает
в разных местах в руки к девяти мужчинам; наконец, возвращенная
отцу как девственница, отправляется, как и прежде намеревалась,
в жены к королю дель Гарбо».
Интерес греческих историков к тому, как похищается
попавшая под гнев какого-нибудь бога, часто завистливой Венеры,
какая-нибудь красавица, как попадает она то к одному, то к другому
претенденту, всегда основан на том, что девица остается невинной.
Эта вежливость рабовладельцев и разбойников сохранилась даже
в современных кинофильмах с пиратами.
В новелле, содержание которой мы только что упомянули,
прекрасная Алатиэль тоже терпит кораблекрушение и попадает в
результате в руки родовитого человека, который добивается ее
любви, — девушка не очень противится. Дальше красавица переходит
к брату рыцаря, бежит с ним, отбита от своего нового любовника
корабельщиками. Новеллист едва успевает назвать имена
любовников, яростно сменяющих друг друга; красавица всем отвечает
согласием, вынужденным, но для нее мало горестным.
Новелла довольно велика, это целая конспективно переданная
повесть.
В результате женщину узнают люди, когда-то служившие ее
отцу, и привозят ее к нему.
А. Веселовского интересовало происхождение этой новеллы. Ища
источники, он указал на одну из сказок «Тысяча и одной ночи»,
но там героиня все время оставалась целомудренной. Исследователь
удивляется, говоря: «Надо было сильно переработать тип невинной
красавицы, преследуемой рядом злополучий, чтобы прийти к
такому радикальному его превращению, но очень вероятно, что
Боккаччо имел в виду не рассказы этого рода, а какой-нибудь другой,
в котором роковое нецеломудрие было основной ситуацией»*, —
и он предлагает в качестве источника индусскую историю одной
женщины, которая слишком чванилась своей красотой. За это она
в следующем перевоплощении никогда не была счастлива в
супружестве. Повесть, по мнению Веселовского, могла дойти до Боккаччо
* А. Н. Веселовский. Собр. соч., т. V. Пг., 1915, с. 495.
330
В. Б. ШКЛОВСКИЙ
через мусульманский пересказ. Вряд ли это произошло. Дело в том,
что прекрасная героиня не только многолюбива, она, кроме того,
и озорна и, наслаждаясь любовью во многих браках, иронизирует
над верностью.
Вернувшись к отцу, прекрасная пленница рассказывает, что
сразу после похищения она была отбита от разбойников добрыми
людьми, которые повезли ее в женский монастырь.
Описание служб в этом монастыре принадлежит к числу
дерзких эротических обиняков, мусульманкой Алатиэль
пародируется христианское поклонение святым и самые имена святых. Сам
Боккаччо, говоря от лица рассказчика, повествуя о том, чем была
утешена женщина при своем втором похищении из дома Перикона,
использует ту же христианскую фразеологию, и тоже пародийно.
Чувственность не скрывается.
Дело идет не о похищениях, а о наслаждении со многими.
Новое отношение, другая нравственность и представляют собой
новое единство сборника новелл.
Утверждение, что девушка, похищенная много раз, все время
остается девственницей, было обычным в греческом романе.
Оно сохранилось в галантном французском романе; над этим
иронизировал Буало в пародии «Герои из романов», оформленной как
подражание диалогам Лукиана, происходящим в царстве мертвых.
Диоген рассказывает о принцессе Мандану, которую похитили
восемь раз. Минос заявляет: «— Видно, красотка прошла через
много рук!»
Диоген возражает: «— Вы правы. Но ее похитители были добро-
детельнейшими в мире негодяями. Они не посмели прикоснуться
к ней».
Традиция неприкосновенности героини держалась в романах
тысячелетиями. На заре нового века Дионео весело и убедительно
нарушил ее, вызвав завистливые вздохи дам.
Старые новеллы рассказываются в «Декамероне» для того, чтобы
быть опровергнутыми новым переосмыслением.
Посмотрим другой пример появления нового в старом.
Здесь перед нами уже не отзвуки греческого романа, а переделка
благочестивой легенды.
В восьмой новелле V дня рассказывается традиционная история,
которая была уже давно записана. Жил некий бедный,
богобоязненный угольщик, который в лесу видел видение: всадник на вороном
коне скакал за женщиной, он нагнал женщину у ямы угольщика,
зарезал ее и бросил в угли, потом вытащил оттуда обгорелой. Это
О новелле
331
видение повторилось четыре раза. В результате оказывается, что
таким образом наказываются двое прелюбодеев, которые мучаются
в чистилище, пылая внутри и сгорая в угольной яме.
Таким образом совершается их очищение.
Любопытно, что здесь адский огонь реализован как угольная яма
и бедным осужденным приходится каждый раз добираться к месту
своей казни довольно далеко.
Боккаччо переносит действие в Равенну. К адским мучениям
женщины прибавлены два огромных пса, которые ее терзают.
Видит это все не угольщик, а отвергнутый любовник; он пытается
защитить женщину. Всадник на вороном коне сообщает, что
женщина осуждена за то, что она отказывала ему в любви в силу своей
надменности и жестокости, и он заколол себя шпагой. Каждую
пятницу он терзает ее собаками, а в остальные дни он преследует
ее по тем местам, где они прежде встречались, где дама отказывала
в любви, где жестоко мыслила о бедном влюбленном, наслаждаясь
своей добродетелью.
Новелла «списана» для того, чтобы показать ее переосмысленной.
Разница всего яснее при сходстве, при частичном несовпадении.
Изменение традиционной новеллы, показывающей наказание
за преступную любовь, придание ей нового смысла, при котором
наказывается отказ в любви, — все это объясняется тем, что в
«Декамероне» художественно последовательно проведено новое единство
произведения, основанное на новой нравственности.
В пародированном виде сохранилась поэтому и нравоучительная
концовка: « ...дамы так напугались, что с тех пор стали снисходить
к желаниям мужчин гораздо более прежнего».
Надо сказать, однако, что переосмысливание всего материала
в «Декамероне» не всегда докончено, традиционны главным образом
«длинные новеллы», которые иногда представляют собой как бы
сокращение записи старых, традиционных приключенческих
произведений.
Новый хозяин подносит вино ко рту
Есть люди, которым сочувствует новеллист, и о них он
рассказывает иначе: любовно, подробно, с деталями, которые мы могли бы
назвать реалистическими.
Вторая новелла VI дня рассказывает о том, как «хлебник Чисти
вразумляет одним словом Джери Спино, обратившегося к нему
с нескромной просьбой».
332
В. Б, ШКЛОВСКИЙ
Дело произошло во Флоренции. В Риме на папском престоле сидел
папа Бонифаций, мессер Джери Спино был у этого папы в большой
силе. Папа послал во Флоренцию именитых послов, и они
остановились в доме у Джери Спино.
Высокопоставленность дворянина этим была еще более
подтверждена. Послы и дворянин каждый день ходили пешком мимо
дома хлебника Чисти — человека богатого, который имел много
хороших вещей и лучшие белые и красные вина.
Стояло жаркое время. Дворяне ходили мимо пекарни, смотрели,
как пьет вино пекарь, им хотелось вина, но они по знатности своей
не могли обратиться к человеку, который столь отличался от них
своим положением.
Пил Чисти очень аппетитно. Передача его способа наливать себе
вино является одним из самых детальных описаний «Декамерона».
Все детали подобраны так, что они выделяют качество вина и
внимательное отношение к нему. Чисти не только держит хорошее вино,
но и умеет его пить. Он как бы дразнит дворян: «В белоснежной
куртке, всегда в чисто выстиранном переднике, дававшем ему вид
скорее мельника, чем пекаря, каждое утро, в час, когда, по его
соображениям, должен был проходить мессер Джери с посланниками,
он приказывал ставить перед дверью новенькое луженое ведро с
холодной водою, небольшой болонский кувшин своего хорошего белого
вина и два стакана, казавшиеся серебряными, так они блестели;
усевшись, когда они проходили, и сплюнув раз или два, он
принимался пить свое вино, да так вкусно, что у мертвых возбудил бы
к нему охоту. Увидев это раз и два утром, мессер Джери спросил
на третье: «Ну, каково оно, Чисти, хорошо ли?» Чисти, тотчас же
встав, ответил: «Да, мессере, но насколько, этого я не могу дать вам
понять, если вы сами не отведаете».
Вино очень понравилось дворянину. Когда папские послы
уезжали из Флоренции, дворянин пригласил пекаря на пир. Чисти
отказался. Тогда мессер Джери приказал одному из слуг пойти
к пекарю за вином, чтобы за первым блюдом каждому гостю дать
по полстакана этого прекрасного, доброго вина, которое удивило
даже папских послов.
Слуга взял большую бутыль и пошел к пекарю. Чисти, увидав
величину сосуда, заметил: «Сын мой, мессер Джери не ко мне
послал тебя».
Слуга вернулся. Джери его послал опять, сказавши, что адрес
правильный. Чисти ответил снова, что слуга, очевидно, пришел
не к нему, а к реке Арно. Услышав этот ответ, дворянин велел
О новелле
333
показать бутыль и сказал: «Правду говорит Чисти», — и велел
послать небольшую бутылку.
Вино было дано, и шутка кончилась тем, что вежливый дворянин
получил в подарок целый бочонок превосходного вина.
Величина сосуда здесь — способ анализа не качества вина, а
характера людей.
Боккаччо из своеобразной вежливости предписывает ошибку
дворянина его слуге, но сам вельможа явно не понимает ценности
вещей. Истинными, но бережливыми ценителями вещей у Боккаччо
являются люди нового мировоззрения, удачливые представители
торговли и ремесел.
В этой истории подчеркивается умение жить флорентийского
гражданина. Он не только пользуется хорошими вещами, но и
пользуется ими по-новому, зная им цену.
Он более бережлив, чем тороват, Боккаччо эта бережливость
нравится.
История о хорошем вине служит своеобразным аргументом,
что новые люди являются носителями утонченного вкуса и
остроумия.
Подымается класс, который уже себя видит.
Боккаччо тянулся к старой знати, говоря, что любовь к женщине,
которая выше по положению, возвышает человека, но сам он уже
с другими людьми и про жизнь, несчастья и удачи феодальной знати
говорит короче, суммарнее и сюжеты для ее действий предоставляет
с меньшей изобретательностью: он там более цитирует.
Чаще всего он берет старое как жестокое и несправедливое;
опровергает старую мораль сюжетным и риторическим анализом.
Новый хозяин дома был суров. Старое сохранялось в
неприкосновенности, если оно не противоречило интересам хозяина и его
хозяйства.
Не нужно представлять, что положение женщины в это время
хотя бы в книгах гуманистов равноправно. Сам Боккаччо пишет
для женщин, они его музы, он считает себя их утешителем, жалеет,
что жизнь их так замкнута, что она часто проходит втуне, в неволе,
но в то же время одна из рассказчиц — Эмилия в девятой новелле IX
дня — рассуждает так: « ...у мужчин есть такая поговорка: доброму
коню и ленивому коню надо погонялку, хорошей женщине и дурной
женщине надо палку... »
Дальше идет рассказ о женщине, которую бьют, как мула,
«толстой палкой из молодого дуба», так что «у жены не осталось ни кости
и ни одного местечка на спине, которая не была бы помята».
334
В. Б. ШКЛОВСКИЙ
Побив жену, муж моет руки и садится с приятелем, ему не
мешавшим, ужинать.
Правда, эта новелла вызывала некоторый ропот у дам. Отдельные
части «Декамерона» как бы не приведены к единству, не
согласованы. То, что рассказчиков несколько, как бы оправдывает
несогласованность, основная причина которой состоит в том, что полное
единство и не задано самим художественным построением вещи.
Вещь подчеркнуто собранна, а так как у собирателя нет ясной идеи
об изменении жизни, то у него аккуратные пекари, злые рыцари,
прогоревшие ростовщики, становящиеся мужьями английских
принцесс и даже шотландскими королями, некроманты-колдуны,
переносящие человека на его кровати из Палестины в Италию
за одну ночь или в тот же срок выращивающие сад зимой на голом
месте, — все существует вместе, как бы друг другу не противореча.
Единство художественного произведения возникает как результат
единого отношения автора к предмету повествования, но это
отношение (мировоззрение) для самого автора уточняется в процессе
создания произведения, иногда же автор, как и его время, не может
понять те противоречия, которые явно находятся в повествовании,
и не может привести в согласование элементы нового сознания
с пережитками старого.
Новое обосновывалось прежде всего в речах: его защищала и
логически оправдывала риторика.
О риторике еще несколько слов
Как птица хохлится на морозе и ветру, стремясь сохранить
в себе свое тепло, ограждая себя от температуры окружающего,
так при крушении старого рода отъединенный человек стремился
обосновать свое право, противопоставлять себя и свои интересы
окружающему, осознавая себя в том, что впоследствии получит
название риторики.
Боккаччо не только последователь риторики, пришедшей к нему
от Цицерона, он новый отъединенный человек нового итальянского
общества, со своим взглядом на мир, с противопоставлением себя
и своего старому.
Противопоставление это часто делается средствами риторики.
Исследователи удивлялись тому, как неожиданны рассуждения
героев «Декамерона».
Женщина защищает себя по правилам риторики перед
разгневанным отцом. То, что ее любимый только что убит, не мешает ей
О новелле
335
развернуть цепь доказательств. Женщина, по правилам риторики
расчленяя свою речь и анализируя преступление, защищает свои
права перед судом и обманутым мужем.
Чем труднее возможность доказать какое-нибудь положение, тем
охотнее идет на развертывание доказательств новеллист.
Риторика для него универсальное оружие, остроту ее он, все
время торжествуя, проверяет.
Он искренне убежден, что люди, нравы всегда были одни и те же,
причем если были какие-то оттенки несходства, то это несходство
вызвано ошибками людей, их непониманием сущности жизни,
которую можно исправить риторикой, философией, как будто заново
созданной итальянцем XIV века.
Человек начала новой эпохи, Боккаччо считал свою эпоху
единственной, достигшей правильного понимания существования.
В начале своей литературной работы он пренебрегал прошлым,
и для него время было остановлено именно тем, что новое сменило
старое.
Для многих моих современников, как представителей конца
буржуазного периода развития человечества, и для многих
современных мне зарубежных литераторов время тоже остановлено,
но оно остановлено не новым периодом, который сменил старый,
а тем, что старое, вопреки очевидности, утверждается как вечное.
Некоторое ограничение исторического мировоззрения есть
у Боккаччо, который считал понятия своего времени всегдашними,
что приводило даже к наивности. У Боккаччо не хватает внимания
к прошлому.
Возьмем восьмую новеллу X дня — новелла начинается с
точного указания на время ее действия: «...В то время, когда Октавьян
Цезарь, еще не прозванный Августом, правил Римской империей
в должности, называемой триумвиратом, жил в Риме родовитый
человек по имени Публий Квинций Фульв, который, имея одного
сына, Тита Квинция Фульва, одаренного удивительными
способностями, отправил его в Афины изучать философию...»
Точность эта, конечно, мистификаторская. Тит Квинций Фульв,
попав в Афины, дружит с человеком по имени Джизиппо; Джизип-
по — христианское имя, но это не беспокоит Боккаччо. Он, конечно,
мог бы подобрать другое имя, но для Боккаччо нет вопроса о том, что
мы называем местным колоритом. У него в эпоху сарацин и турок
существует Вавилон, в котором правит султан. Нравы и у турок,
и у сарацин, и у итальянцев, и у вавилонян одни и те же: это нравы
Италии, взятые точно или идеализированно.
336
В.Б.ШКЛОВСКИЙ
Современность для Боккаччо — всегдашность.
Необычайное положение, в которое попадают герои новеллы,
затем анализируется с нарочитыми подробностями.
Джизиппо заметил, что Тит любит его невесту. Тогда,
повенчавшись с женщиной, он во имя дружбы передал ее другу-римлянину.
Женщина пожаловалась родным и согражданам. Тогда Тит собрал
афинян в одном из храмов и произнес им речь ритора. Речь занимает
шесть страниц. В ней доказывается, что Тит и Джцзиппо философы,
оба они богаты, обоим нравится женщина, поэтому подмена
справедлива. Кроме того, быть римлянином лучше, чем быть афинянином;
кроме того, если отцы могут выдавать своих дочерей замуж, то
почему не может этого делать муж: «Если Джизиппо удачно выдал
замуж Софронию, то жаловаться на него и на тот способ, каким он
это сделал, излишняя глупость».
Ритор Боккаччо наслаждается затруднительностью случая,
потому что за парадоксальностью спроса стоит упрямая уверенность
в новой, будто бы римской логике, торжествующей над любыми
старыми нравами и эмоциями.
Ритор все может доказать, презирая как устаревшую самое
очевидность.
Со страстным высокомерием ритор Боккаччо больше всего любит
обосновывать такое положение, которое обосновать невозможно.
Ученый и неученый, женщина и мужчина, купцы и дворяне,
люди, существовавшие во время Боккаччо или во время Римской
империи, — все любят долго доказывать свою правоту. Риторические
анализы занимают иногда по нескольку страниц; они не только с
аппетитом внесены автором, но, очевидно, предполагалось, что их будут
внимательно читать. Мы останавливаемся дальше на одном из таких
анализов, разбирая рассказ о школяре, наказавшем коварную вдову.
Тут говорят долго, наслаждаясь логикой. Нам кажется такой
анализ, выпадающий из времени действия, не соответствующий
даже возможности говорящих, художественно неправильным.
Но разные эпохи имеют каждая свою поэтику, которая все же
нами может быть понята при условии, если мы учтем, что то, что
нам кажется в произведении второстепенным, для иного автора,
иной эпохи является основным.
«Древнее» используется как предлог для анализа-опровержения.
Римские имена, упоминание Рима и Афин создают иллюзию древней
традиции для новой морали.
Новое притворяется древним, споря со вчерашним, еще не
умершим днем.
О новелле
337
Само новое, несмотря на риторику, иногда оказывается старым;
за ритором-гуманистом виден ритор-схоласт.
Для нас, например, взаимодействие событий романа и характера
героя романа кажется вечно существующим и само собой
разумеющимся.
В седьмой новелле VIII дня рассказывается, как молодой школяр,
долго учившийся в Париже, вернувшись во Флоренцию, влюбился
во вдову, которая его осмеяла и обманула. Он, под предлогом
проведения магического обряда, посоветовал женщине летом залезть
на каменную крышу башни, а сам убрал лестницу. Солнце сжигало
обманщицу. Школяр то читал снизу наставления, то уходил
отдохнуть.
Напоминаю, что сам он молод.
Речь школяра построена по всем правилам риторики и старается
целиком охватить и исчерпать предложенную тему. Речь
занимает больше семи страниц печатного текста: чем речь длиннее, тем
страшней наказание. Правда, в этом случае продолжительность
речи имеет свою мотивировку — дама голой жарится на солнце,
попав вследствие обмана школяра на каменную площадку башни.
Чем дольше речь, тем тяжелее плата.
Приведу из речи один удивительный отрывок: «Вы занимаетесь
тем, что влюбляетесь в молодых людей и желаете их любви...
Действительно, я признаю, что они с большей силой выколачивают
мех, но люди более зрелые, как опытные, лучше знают, где водятся
блохи...»
Дальше идут упреки юношам и похвалы зрелым людям.
Тут говорит не школяр, а старик.
Связь между содержанием речи и тем, кто говорит, потеряна. Это
объясняется не просто ошибкой автора. Для Боккаччо содержание
речи мыслится вне характеристики школяра. То, что он школяр,
важно только для обоснования ученой риторичности речи.
Возрастная характеристика пропала.
Боккаччо перешел на нанизывание примеров безумия женщин,
вводя пример и из личной жизни.
Первоначальная характеристика героя забыта, потому что
ситуация воспринимается здесь как предлог к речи и обоснование
озлобления.
Развитие характера в полном его виде и появление его связи
с действием мы можем отнести к эпохе позднего Возрождения.
То, что называли «психологическим анализом», начало заменять
риторику.
338
В. Б. ШКЛОВСКИЙ
О старости вообще и о том,
как писатель Джованни Боккаччо
почувствовал себя стариком
Он начал жаловаться на старость, как только у него засеребрились
виски и появились в бороде первые седые нити.
Боккаччо кончал «Декамерона» и начал писать маленькую книгу
«Ворон», вероятно, когда ему было сорок лет. Но сколько жалоб
в этих книгах на возраст, сколько слов сказано уже в «Декамероне»
в защиту того, что составитель книги все еще интересуется не только
музами, обитающими на Парнасе, но и знакомыми дамами, которые
живут поблизости.
Молодость любит менять традицию.
Скоро выпиваешь молодость, и трудно в этом признаться.
Труднее всего отказ от создания нового, от этого трудно бежать,
не находишь себе оправдания.
Молодость умеет удивляться, но удивлением утомляет не менее,
чем женщины.
Боккаччо утверждал, что пишет для женщин.
Он оправдывался: «Иные, показывая, что они хотят говорить
более обдуманно, выразились, что в мои лета уже неприлично
увлекаться такими вещами, то есть беседовать о женщинах или
стараться угодить им».
Но голова седела.
Боккаччо говорил в десятой новелле I дня от лица одного седого
ученого, что «...хотя у стариков естественно недостает сил,
потребных для упражнения в любви, вместе с тем не отнято у них ни
желание, ни понимание того, что значит быть любимым... ».
Дальше следует место очень жалобное. Старик уверяет, что
существуют женщины, которые, взяв в руки лук, едят не луковицу,
а перо. Он рассчитывает на такую же причуду вкуса.
В жизни женщина, несмотря на остроты Боккаччо, однако, редко
путает корешки с вершками.
Проходила молодость, и как бы отступала книга, начатая
человеком, которого омолодило великое несчастье.
Волна набегает на берег, по законам тяжести она должна
вернуться вспять.
Срок жизни волны на крутизне берега меньше мгновения.
Все время на берег набегают седые волны и не могут вцепиться
пеной в гравий; они, шурша и пенясь, возвращаются обратно.
Порывами живет вдохновение.
О новелле
339
Боккаччо вернулся скоро к тому, что для него было уже прошлым,
к тому, из чего он вышел, к тому, что его родило, отрицая в нем себя.
Вот это, а не годы только были его старостью.
Старость пришла рано. Женщины стали больше говорить о
нарядах, чем целовать и слушать ласковые слова и озорные речи.
Дети и юноши часто бывают более похожими на будущее
человечество, чем взрослый человек. В старости отлагаются соли прошлого.
Сорокалетний старик Боккаччо вернулся к словарям,
классификациям, комментариям, генеалогиям богов.
По-новому он увидел теперь, когда притупилось зрение, женщин.
Он написал книгу «Ворон».
Этот ворон каркал по-старому.
Книга не имела сюжета-исследования. Она — диалог самого
старика Боккаччо с каким-то мертвецом, который в «Очарованной
долине», называемой также «Хлевом Венеры», говорит о женщинах
под стоны и восклицания автора.
Произведение трагично тем, что, притупив зрение, старик тоже
видит: у Боккаччо в старости сказалась ограниченность его класса.
Его герои упрекают женщину, завидуя ее гербам, ее родовитости.
Он упрекает ее в чувственности и чревоугодии. Он вспоминает
не только измены женщины, но и свои расходы на ее прокорм.
«Вообразила она себе, что особая красота женщины в полных,
румяных щеках и развитых, выпяченных ягодицах... пока я
постился, в видах сбережения, она питалась каплунами,
макаронами с пармезаном, которые пожирала, как свинья, не с блюда,
а в миске... Ей требовались молочные телята, серые куропатки,
фазаны, жирные дрозды, голуби, ломбардские похлебки,
макароны с начинкой...»*.
Перечисление продолжается долго.
Так писал счет за съеденное прозаик, воспевший рыцаря,
сжарившего прекрасного сокола на закуску любимой.
То время, которое начало осознавать себя в Боккаччо, в нем же
показывало то, что потом будет осмеяно Мольером, то, что уже
завядает и осыпается.
Попытаемся не мерять, не учитывать времени, ведь мы его
столько уже отсчитали; не будем верить только ему, человек не одинок.
Возьмем не свой возраст дня, а возраст своего понимания
искусства. Волна истории, которая подымала нас, опыт старика помогают
понять, что видишь.
* А. Н. Веселовский. Собр. соч., т. VI. Пг., 1919, с. 30.
340
Б. Б. ШКЛОВСКИЙ
Волна истории подняла Боккаччо, как волна моря когда-то
подняла Одиссея, но волна бедствия, не все смыв, ушла.
Не время ушло — ушел сам молодой Боккаччо, только отметив
на берегу уровень своего понимания так, как волны отмечают
высоту прибоя на камне.
Поговорим о времени, об опыте, об уроках истории, о жизни,
которая учит слагать прозу и стихи.
Будем прошлогодним снегом, растаем, прошумев в реках,
вернемся дождем и волной.
Постараемся же понять, что искусство — это также явление
жизни и новое ее познание. Оплачем мертвых, если они перенесли
старость в свои последние книги.
Великий писатель умер в 1375 году, уплатив все долги. На
надгробии вырезан его портрет и эпитафия, им сочиненная: «Под этим
камнем лежат прах и кости Иоанна, душа его предстоит богу,
украшенная трудами земной жизни. Отцом его был Боккаччо, родиной —
Черта л ьд о, занятием — священная поэзия».
Все это изложено стихами.
Под стихами Боккаччо идут другие, принадлежащие его другу
Салутати. В стихах перечисляются книги писателя: эклоги,
Географический словарь, книги о великих мужах и женщинах,
Генеалогия богов.
На доске высечен герб старика: лестница из четырех перекладин
косо уходит вверх.
Ни в первой, ни во второй эпитафии «Декамерон» не назван.
Человек ушел косо вверх.
Труд его жизни не попал ни в могилу, ни в намогильную надпись.
^5^
ν
ДЕКАМЕРОН
^5^
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Художественные
и этические задачи «Декамерона»
ι
Когда художник «Фьямметты» возьмется за рассказы,
которыми потешал встарь неаполитанские кружки, он отнесется к ним
с приемами изощренного психологического анализа, с знакомым
нам вкусом к витиеватости и тем тонким чутьем к разнообразию
жизненных типов, которое до сих пор заслонялось от нас
исключительностью его литературных сюжетов. В их центре стояла Фьям-
метта, разрабатывались лишь две темы, упоения и отчаяния, но уже
в характере Гризеиды, с ее сдержанной страстностью и наивным
лукавством отказом и обещаний, многое подмечено объективно, вне
сферы личных воспоминаний, а своеобразный тип Пандара может
потягаться с лучшими в «Декамероне». И тот и другой располагают
вас к смеху, которого не слышно было в следующих произведениях
Боккаччо, написанных в мании удрученности и дантовских
увлечений; когда он освободится от них, смех раздается снова, здоровый
смех, забирающий всего человека, не завзятый ни предубеждением,
ни злобой; сатира типов и общественных порядков получалась, как
вывод, не навязанный автором; это не точка отправления
«Декамерона», как не было ее и в целях старофранцузских фаблио: их
назначение — развлечь и потешить:
Nés a ceux qui plein d'ire
Si lor fait il grand alegance
Et oublier duel et pesance
Et mauvaistié et pensement*.
* Даже тем, кто полны тоски, / Он доставляет большое утешение, / Помогая им
забыть печаль и уныние, / Грустные мысли и сердечную печаль (старофранц.).
344
А. Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Боккаччо также желает доставить своим слушательницам
утешение и удовольствие, но вместе и совет, чего следует избегать
и к чему стремиться. Странно сказать, но именно эта учительная
сторона дела и явилась роковой для его репутации.
Все эти качества психолога-наблюдателя, веселого рассказчика
и сознательного стилиста сказались в ста новеллах «Декамерона»
далеко не равномерно: это точно салон художника, где прелестные
жанры чередуются с набросками, и этюды с натуры стоят рядом
с торжественными академическими полотнами, оконченными
до зализанности. Рамка рассказов уже знакома нам из «Филоко-
ло» и «Амето»: общество мужчин и дам, сошедшееся для веселых,
но и серьезных бесед в роскошных неаполитанских садах, либо в
тосканской кампанье; только в «Декамероне» оно помещено вблизи
зараженного чумой города, где люди умирают сотнями, где страх
и отчаяние и судорожная любовь к жизни разнуздали среди здоровых
все силы эгоизма: больные и умирающие заброшены, живые бегут
от заразы, неминуемость смерти порождает панику; сколько
здоровых людей еще «утром обедали с родными, товарищами и друзьями,
а на следующий вечер ужинали со своими предками на том свете».
Мессер Чино и его жена заболели в своем пригородном поместье,
рассказывает Донато Веллути; решили отправиться в город, ее
несли на носилках, он поехал верхом; здесь братья жены побудили его
написать духовную. Я был у них, когда они уехали, пошел в Borgo
San Sepolcro посетить могилу Бернардо Марсили, скончавшегося
в должности приора в здании думы. Возвращаюсь, когда у входа
в переулок со мной повстречалось двое. Мадонна Лиза умерла,
говорит один; Чино скончался в Olmo da San Gaggio, возвращаясь
верхом, говорит другой. Я велел их похоронить.
С паникой явились суеверные «страхи и фантазии»; Боккаччо
не было во Флоренции в 1348 году, но ему рассказывали, что многие
из пораженных язвой, кончаясь, называли по имени одного или
нескольких приятелей: «Приди такой-то и такой-то!» — и те умирали
в том самом порядке, в каком были названы. — Здоровые, которым
не удалось бежать, предаются разгулу, хотят забыться, вырвать
у жизни все, что она еще может дать; иные запираются от всех
и живут кружками, употребляя с большой умеренностью
изысканнейшую пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, проводя
время среди музыки и удовольствий; были и такие, которые считали
за лучшее вести умеренную жизнь и не запираться, а гулять, держа
в руках, кто цветы, кто пахучие травы, кто какое другое душистое
вещество, которое часто обоняли, полагая полезным освежать мозг
Художественные, и этические задачи «Декамерона» 345
такими ароматами. Эти профилактические меры указывают на
бессилие медицины; недаром встречались врачи, которые,
разуверившись в своем искусстве, возвращали по смерти больного полученные
ими деньги. Два анонимных итальянских сонета ограничиваются
практическими указаниями: избегать излишеств, не есть, когда
нет охоты, хорошо прожевывать пищу и лишь хорошо сваренную,
пить часто, но понемногу, не спать в полдень, сторониться толпы,
беречься меланхолии, душевного расстройства и усталости.
Советы против чумы, рекомендованные, по предложению Филиппа
Валуа, парижским медицинским факультетом, отличаются тем же
предохранительным характером: чистый воздух, удаление от болот,
низких мест и кладбищ, окуривание, опрыскивание жилья водой
и уксусом; изысканная, сочная пища: молодые кролики, каплуны,
куропатки, фазаны, кушанья, приправленные ароматическими
пряностями, нежная удобоваримая рыба и плоды с приятной кислотой.
Надо остерегаться крепких вин, полезны частые кровопускания,
банки, слабительные; необходимо избегать сильных ощущений
радости, печали, надежды, любви; если при всем этом принимать
драгоценную микстуру, составленную из самых тонких и редких
снадобий, то можно ручаться за здоровье богатых людей; что до
бедных, то им рекомендуется молиться Богу, да спасет он их от смерти
и напасти, как и у Боккаччо деревенские жители оказываются
обездоленнее горожан.
Среди общего смятения раздавались голоса, взывавшие к
покаянию, как Петрарка1, к спокойствию и самообладанию, как Пуччи
в своем Sermintese. От смерти не уйти, устройте душу, говорил он,
возвратите неправедно отнятое, примиритесь друг с другом — вот
лучшее средство, чтобы престал божий гнев; искусственные снадобья
бесполезны. Что же делают флорентийцы? В былое время
больного посещали любовно, и многим было от того лучше, теперь брат
оставляет брата, отец — сына из боязни заразы, и многие умирают
от недостатка совета и помощи; ведь не следовало бы покидать даже
сарацин, евреев, отверженных. Вы, медики, священники,
монахи, навещайте сострадательно тех, кто о том вас просит; взирайте
на свою душу, не на барыш; вы же, родные, соседи, товарищи, не
бойтесь ободрить сетующего, может быть, и спасете его или утешите
при смерти; а он, чай, отчаивается, не получая утешения. А
выходит так, что сосед говорит: он не навестил меня, когда мне было
тяжело, не пойду и я; так и покидают друга. Глупо бояться заразы,
ибо по Божию изволению она явится, если бы больной и не дохнул
на тебя. И серминтеза кончается увещанием: позаботиться вовремя
346
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
о духовной, ведь смерть посетила и Цезаря и других великих людей;
не забыть о бедных, напутствовать к могиле усопших и покаяться.
Рассказчики и рассказчицы «Декамерона» следуют примеру
многих, выселяясь из пораженного чумою города, и Боккаччо
начинает свою книгу классическими по своей картинности и
размеренной торжественности описанием Черной смерти. Было
выражено мнение, что он вдохновился в этом случае аналогическим
описанием другого мора — у Лукреция, который, подобно Дание-
лю Дефо2, не видел его лично, а пересказал виденное Фукидидом.
Ни Боккаччо, ни Петрарка не знали Лукреция, но им известно было
его описание чумы из выписок у Макробия. Может быть, и следует
допустить для Боккаччо влияние известного литературного образца,
но влияние свободное, не стеснявшее его наблюдательности,
точность которой в описании признаков болезни и ее влияния на
нравственную растерянность общества подтверждается современными
ему памятниками: летописями двух Виллани, Буччьо да Раналло,
«сетованием» Антонио Пуччи и др. О том, что страх болезни,
сообщавшейся от одного прикосновения, заставлял забывать самые
естественные чувства и семейные узы, что родители бегали от
зараженных детей и наоборот, о том рассказывает Маттео Виллани;
он же говорит и о безнравственности, как следствии
прекратившегося мора, тогда как память о Божьей каре должна была бы
развить в людях добродетель и милосердие. Вышло наоборот: людей
осталось мало в живых, они разбогатели наследствами и, забыв все
прошлое, точно его и не было, предались самой развратной и
беспорядочной жизни, тунеядству и чревоугодию, пирам, таверне
и игре. Сладострастие не знало узды, явились невиданные, странные
костюмы, нечестные обычаи, даже утварь преобразили на новый
лад. Простой народ, вследствие общего изобилия, не хотел
отдаваться обычным занятиям, притязал лишь на изысканную пищу;
браки устраивались по желанию, служанки и женщины из черни
рядились в роскошные и дорогие платья именитых дам, унесенных
смертью. Так почти весь наш город (Флоренция) неудержно увлекся
к безнравственной жизни, в других городах и областях мира было
и того хуже3.
Рассказ Буччьо да Раналло о чуме в Аквиле дополняет новыми
чертами флорентийские. Когда смертность объявилась, все
пустились писать духовные, у нотариусов и судей от народа не было
отбоя, и они бесстыдно поднимали цену; наемные свидетели
спрашивали, не входя, готово ли завещание; когда им говорили, что
еще нет, они поспешно удалялись, если да, то подписывали его,
Художественные и этические задачи «Декамерона»
347
боясь заглянуть в двери. Случалось, что завещания, составленные
дня три тому назад, оказывались уже недействительными, общее
ожидание смерти не побуждало родственников влиять на волю
завещателя, отчего впоследствии пошли жалобы и дрязги. Все, что
имело какое-нибудь отношение к недугу, быстро возросло в цене:
лекарства, куры — пища больных; сиделки требовали три золотых
за сутки; воск настолько вздорожал, что пришлось запретить
провожать покойников из бедных с восковыми свечами, как вообще
сокращена была похоронная обрядность: по умершим перестали
звонить, чтобы не нагонять страха, способствовавшего
заболеванию; в былое время на похороны приглашали жителей местности,
покойника несли в церковь, совершали торжественное служение;
теперь обо всем этом забыли. Боккаччо отметил эту подробность.
Когда миновала чума, унесшая, как говорят, две трети
населения, началась пора расточительности. Богатства, накопленные
случайно, не ценились, продавали за треть стоимости; много
пришлось тогда на долю церквей и монастырей. Чувственность, долго
сдержанная страхом, не знала теперь удержа: женились повально,
старые и молодые, монахи и инокини, в любое время, не дожидаясь
положенного для благословения брачующихся воскресенья;
девяностолетний старик брал за себя девочку. Жилось напропалую,
о цене не спрашивали, рынок был переполнен всякой живностью,
поднялся спрос на предметы роскоши, как прежде на лекарства.
Народу поубавилось, зато возросло любостяжание: стали жениться
на деньгах, насильно увозя богатых невест.
Таковы впечатления местных летописцев; Боккаччо стоило
только раскрыть глаза, чтобы увидеть то же самое, и большее, потому
что его психологический такт был шире. Вил лани и Буччьо
противополагают страх смерти и обуявшее всех отчаяние жизнерадостной
чувственности, разыгравшейся по прекращении чумы; у Боккаччо
они являются выражением одного и того же психологического
момента, что совершенно в природе вещей. Напомним лишь
рассказ отца Пафнутия о Черной смерти на Руси: одни предавались
покаянию, уходили в монастыри, другие забывались в неистовом
пьянстве, ибо меду покинуто было много, ризы и всякое богатство
лежало без призрения. Случалось, что один из пьющих умирал, его
запихивали под лавку и продолжали пить. Близость смерти
поднимает в здоровом организме силу жизненности, героизм воли или
животный инстинкт, смотря по настроению. Чем мрачнее выступают
образы разрушения, тем ярче освещаются крайности: веселая,
иногда гривуазная новелла ближе к жизни, чем степенная, учительская
348
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
повесть. Так извиняет Боккаччо содержание своих рассказов: они
вызваны временем, впоследствии и слушатели и рассказчики
устыдились бы их, «ибо границы дозволенных удовольствий ныне более
стеснены, чем в ту пору, когда в силу указанных причин они были
свободнейшими». Дионео хочет забыться: он оставил свои мысли
за воротами города и приглашает своих спутников веселиться,
хохотать и петь вместе с ним, либо дать ему вернуться к его мыслям,
в постигнутый бедствиями город. Когда в конце VI дня в обществе
послышались голоса против предложенного им, несколько
свободного сюжета бесед, он горячится: «Время у нас такое, говорит он,
что если только мужчины и женщины будут сторониться от
бесчестных деяний, всякие беседы им дозволены. Разве вы не знаете,
что по злополучию этого времени судьи покинули свои суды,
законы, как божеские, так и человеческие, безмолвствуют, и каждому
предоставлен широкий произвол в целях сохранения жизни?
Поэтому, если в беседах ваша честность очутится в несколько более
свободных границах, то не затем, чтобы воспоследовало от того
что-либо непристойное в поступках, а дабы доставить удовольствие
вам и другим». И он сам потешает всех, хохочет и юродствует, пусть
полюбят его, каков он есть, заводит песни, которые нельзя допеть,
и вершает комический, в своей откровенности, спор между Личиской
и Пандаром4, ибо он — ему по нраву. Его просьба — предоставить
ему быть последним в числе рассказчиков каждого дня, тотчас же
уважена, потому что он добивается того «единственно с целью
развеселить общество, если б оно устало от рассуждений, какой-нибудь
смехотворной новеллой». Его звонкий смех, венчающий день, — это
страстный Memento vitae*, перчатка, брошенная Memento mori**.
Только в десятом дне Дионео изменяет себе: впрочем и весь день
посвящен серьезным подвигам великодушия и самоотверженности, нет
ни одной новеллы нескромного содержания, и сам Дионео выводит
перед нами образ страдалицы Гризельды. Это не в его вкусах, они
принесены в жертву художественному плану «Декамерона»: как
он начался среди ужасов чумы, так пестрая волна его рассказов,
с их горем и радостями и жизненною борьбой и непорешенными
вопросами доли вбегает в мирную пристань, и комедия жизни
разрешается торжественно-смиряющейся мелодией долга. Но Дионео
и тут верен себе, испытания Гризельды вызывают у него нелестное
пожелание ее мужу: он стоит того, чтобы напасть на такую женщину,
* Помни о жизни {лат.).
** Помни о смерти (лат.).
Художественные и этические задачи «Декамерона»
349
которая, будучи выгнана им из дома в одной сорочке, проучила бы
его, заработав себе на хорошее платье!
При оценке «Декамерона» нельзя не подчеркнуть особо
художественной стороны его плана. Боккаччо схватил живую,
психологически верную черту явлений чумы, страсти жизни у порога смерти.
Его «Декамерон» — это «пир во время чумы», точно иллюстрация
к известной фреске пизанского Camposanto*5: путники верхом,
отворачиваются от трупов, разлагающихся в гробах, тогда как
на заднем плане пейзажа, под сенью деревьев, общество молодых
людей и дам пирует беззаботно, осененное незримым крылом ангела
смерти. Нам слышится веселый говор Дионео: «там слышно пение
птичек, виднеются зеленеющие холмы и долины, поля, на которых
жатва волнуется, что море, тысячи пород деревьев и небо более
открытое, которое хотя и гневается на нас, тем не менее не скрывает
от нас своей вечной красы; все это гораздо более прекрасно на вид,
чем пустые стены нашего города». Этот психический момент,
подсказанный жизнью массы, Боккаччо развил сознательно, как
художественную противоположность: он знает, что его читательницы
найдут тягостным и грустным его вступление к «Декамерону», «ибо
таким именно является, начертанное на челе его, печальное
воспоминание о прошлой чумной смертности, скорбной для всех, кто ее
видел или иначе познал. Я не хочу этим отвратить вас от
дальнейшего чтения, как будто и далее вам предстоит идти среди стенаний
и слез: ужасное начало будет вам тем же, чем для путников
неприступная, крутая гора, за которой лежит прекрасная, чудная поляна,
тем более нравящаяся им, чем более было труда при восхождении
и спуске. Как за крайнею радостью следует печаль, так бедствия
кончаются с наступлением веселья: за краткой грустью (говорю:
краткой, ибо она содержится в немногих словах) последуют вскоре
утеха и удовольствие, которые я вам наперед обещал, и которых,
после такого начала, никто бы и не ожидал, если бы его не
предупредили. Сказать правду: если бы я мог достойным образом повести
вас к желаемой мною цели иным путем, а не столь крутой тропою,
я охотно так бы и сделал; но так как нельзя было, не касаясь того
воспоминания, объяснить причину, почему именно приключились
события, о которых вы прочтете далее, я принимаюсь писать, как бы
побуждаемый необходимостью ».
Разумеется, необходимость, навеянная художественными
требованиями, ибо в воле Боккаччо было указать и другую причину,
* Кладбище (um.).
350
А. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
по которой приключились те события, т. е. собралось для бесед
общество «Декамерона». Если даже допустить, что Боккаччо мог
иметь в виду кружок людей, действительно бежавших от чумы
и коротавших время в какой-нибудь вилле в окрестностях
Флоренции, то и в таком случае художественный замысел автора остается
в силе: он не удалил факта, а подчеркнул его, не заботясь о
нравственной стороне дела и, очевидно, не предвидя упреков, которые
и явились. Противоположность смерти и разгула могла быть
подсказана жизнью, говорили иные, но во власти художника было
помирить их вопиющие противоречия проявлением гуманности,
поднимающей человека над животным оберегом своего я. Другими
словами, от рассказчиков Боккаччо ожидали самоотреченья,
которое обратило бы «Декамерон» в синодик. Но Боккаччо и не думает
изображать героев альтруизма: его рассказчики и рассказчицы
одни из многих, они не бросились бы в объятия прокаженного, как
св. Франциск; они эгоистично-гуманны, полны симпатий ко всему
хорошему, любят жизнь; по-своему они даже героичны; их
настроение — жизнерадостное ожидание смерти: Пампинея увлекает всех
предложением удалиться из города, чтобы на стороне поискать
развлечений, пока выяснится, какой оборот примет чума, — «если
только смерть не настигнет нас ранее», прибавляет она спокойно. Кто
повстречался бы с ними, когда они гуляют, увенчанные дубовыми
листьями, с цветами и пахучими травами в руках, сказал бы, «что
смерть их не победит, либо сразит их веселыми».
И вот^ сговорившись между собой при случайной встрече в Санта-
Мария-Новелла6, рассказчики «Декамерона» отправляются в путь.
Их десятеро; в течение десяти дней, с перерывами, они потешаются
беседой, причем каждый рассказывает по новелле: оттуда греческое,
неправильное в фонетическом смысле, название «Декамерон» (мы
ожидали бы: Дехимерон), с значением Десятидневника.
Самая затея бесед взята из жизни: рассказы были обычной
принадлежностью итальянских посиделок. Соберутся вечером, писал
в XVI веке Андрей Кальмо, играют в разные игры, а затем
рассказывают: кто народные сказки, кто посмышленее — книжные
истории: об Отинелло и Джулии, о Гвискардо и Гисмонде, о прении
Поста с Масленицей и т. д.
Оставалось создать общество «Декамерона». В обществе семь дам,
от 18-летнего возраста, и трое мужчин, из которых самому юному
не меньше 25-ти лет. Имена первых — вымышленные: Боккаччо
не хочет называть их настоящими, потому что характер
некоторых рассказов, объясняемый обстоятельствами, мог бы дать повод
Художественные и этические задачи «Декамерона» 351
к нареканию. Очень вероятно, что какие-нибудь флорентийские
красавицы дали ему черты для изображения некоторых собеседниц;
так в «Ameto» и «Amorosa Visione» флорентийские дамы являлись
под покровом аллюзий и аллегорий. Прием не новый, и мы не прочь
поверить Боккаччо, когда дело идет о Филомене и Лауретте, Неифи-
ле и Элизе; но Фьямметта и Пампинея принадлежат неаполитанским
воспоминаниям, Эмилия — фантасмагории «Амето», «Тезеиде»
и, может быть, также сердечной биографии поэта, — а между тем
оказывается, что все участницы бесед связаны друг с другом
дружбой и соседством, либо родством. Боккаччо, очевидно, отводит нам
глаза, как и уверением, что назовет своих рассказчиц «именами,
отвечающими всецело или отчасти их качествам». Что бы
означала Лауретта? Пампинея, может быть, не что иное, как параллель
к Памфило: южноитальянское Pampino. Относительно мужчин нет
замечания, что и здесь мы имеем дело с кличками: имена
Памфило, Филострато, Дионео слишком хорошо известны; это прозвища
самого Боккаччо, показатели его разновременных настроений. Это
их отличие удержано и в «Декамероне», по крайней мере, во второй
его части, и мы не можем дать особого, реального значения тому
заявлению, что некоторые из юношей оказываются в родстве с тою
или другою из рассказчиц, либо пылают к одной из них.
Все эти соображения указывают на границы, в которых должна
держаться всякая попытка раздельно характеризовать собеседников
«Декамерона»: биографический элемент смешан в них с
типическим, первый либо разбит, как в трех рассказчиках, или неуследим,
как в Пампинее, второй производит впечатление хорошеньких
силуэтов, серых по серому фону. Если вспомнить пестрое общество,
собравшееся в гостинице the Tabard в прологе к «Кентерберийским
рассказам» Чосера, контраст получится полный: там все ярко,
краски режут глаза, нет рассказчика, который не был бы оригиналом,
все лица выступают с рельефом карикатуры. Они — представители
разных сословий и социальных положений, случайно
встретившиеся на большой дороге; собеседники Боккаччо принадлежат
одному и тому же обществу, равны по образовательному цензу,
атмосфера салона провожает их и в деревню. Они — культурные
люди и природой любуются, как горожане; Нери дельи Уберти ищет
уединения на своей вилле в Кастелламаре, но это уединение
культурное: король Карл, явившись к нему отдохнуть, ужинает у него
попросту, но роскошно, любуется дочерями хозяина, когда,
полуобнаженные, они ловят рыбу, — и восхищен уединенным местом.
Прогулка в долину Дам в конце VI-го дня «Декамерона» показывает,
352
А. Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ
что и настроение его рассказчиков того же рода; и в поэзии у них
изощренные вкусы: они любят романтические темы, предоставляя
народную песню Дионео и народным героиням новелл.
Характеризовать отдельные особи из такой равной по развитию среды
нельзя было резкими чертами Чосера; к собеседникам Боккаччо
надо приглядеться, иначе получится тусклое, сбивчивое
впечатление. Выбор новелл, которые рассказывает то или другое лицо,
почти не служит к их характеристике; все рассказывают разное,
один лишь Дионео последовательнее других; то же можно заметить
о лирических пьесах, которые поются одним из участников бесед
в заключение каждого дня; и вместе с тем повсюду рассеяны тонкие
черты, слагающиеся, если и не всегда, в определенные психические
образы. С рассказчиками и их автобиографическим содержанием
мы знакомы. Они помогли нам разобраться в хронологии
«Декамерона» ; нам остается досказать о них несколько слов, чтобы дать
им место в ряду других портретов.
Ярче всех вышел Дионео: он естественнее других, в нем больше
природы и темперамента. Его жизнерадостность и видимо легкое
отношение к жизни не исключает серьезности; он прост и без
претензий, ломает из себя простака сознательно и не без иронии; он
любит гривуазный анекдот, от которого краснеют дамы, над которым
хохочут, поняв его более, чем, будто бы, желал того рассказчик;
играет на лютне, знает много песен, фривольных и трогательных,
и способен влюбиться и страдать. В нем есть черты Пандара,
чувственно-веселого Боккаччо первой неаполитанской поры, которым
могла увлечься Фьямметта, которого Адиона хотела преобразить
в умеренного и порядочного человека. Мы знаем, как он
впоследствии преобразился: Филострато-Троил юношеского романа,
ревнующий и тоскующий, очутился собеседником «Декамерона»,
где в конце третьей книги он несколько позирует в роли
безнадежно влюбленного, сурово настроенного к одним лишь печальным
впечатлениям, меланхолического Джека7. Памфило — последняя
формация Боккаччо: он и старше и рассудочнее своих сверстников,
полон изящной важности и учительности и, хотя сбивается нередко
на нескромный рассказ, любит спокойно и несколько отвлеченно.
Ему принадлежит новелла о Чимоне и воспитательной силе любви,
«которую многие осуждали и поносят крайне несправедливо, сами
не зная, что говорят». Если Боккаччо-Дионео затеял потешные
беседы «Декамерона», то Боккаччо-Памфило наложил на него ту
печать серьезности и вдумчивости, которую слишком часто
забывают при его оценке.
Художественные и этические задачи «Декамерона» 353
Фьямметта «Декамерона» получает значение лишь на почве
биографии поэта, в отношении к его представителям: Дионео,
Филострато, Памфило. Первого она видимо балует, снисходит к его
повесничанью и поет с ним о мессере Гвильельмо и о даме дель Верд-
жьу, песню о трагической любви, навеянную хорошенькой
французской поэмой о «Chatelaine de Vergi»8; либо об Арчите и Палемоне.
Печальный Филострато вызывает ее первую на грустную новеллу
о Гисмонде; он же венчает ее на царство, ибо она вознаградит
общество за горестные впечатления возбужденных им рассказов, — и она
велит рассказывать о любви, полной препятствий, но увенчанной
счастьем, и первому на очереди бесед быть — Памфило. Все эти
сочетания показались бы нам случайными, если бы биография и
сочинения Боккаччо не вносили в них живой смысл. В той и в других
находят себе объяснения и некоторые другие подробности: как
в «Филоколо» Фьямметта решала, что из двух женщин, одинаково
нравящихся мужчине, следует предпочесть ту, которая выше его
по роду и состоянию, так и в «Декамероне» большим
благоразумием является в мужчине «всегда искать любви женщины более
родовитой, чем он». Рассказывая потешную новеллу о Каландрино,
Фьямметта откровенно входит в интересы общества, собравшегося
с тем, чтоб веселиться, и вместе с тем она любит пораздуматься и по-
разобраться в вопросах, но в меру. «Прекрасные дамы, — говорит
она, приступая к одному рассказу, — я всегда была того мнения,
что в таких обществах, как наше, следует рассказывать
пространно, дабы излишняя краткость не подавала другим повода к спорам
о значении рассказанного. Это дело более приличное в школах,
среди учащихся, чем между нами, которых едва хватает на прялку
и веретено». Мы встретили ту же точку зрения в «Филоколо», где
Фьямметта обещает вершать любовные вопросы легко, не углубляясь
в их суть и прося избегать тонкостей, потому что, утруждая ум, они
не приносят удовольствия.
Другие собеседницы Фьямметты характеризованы двумя-тре-
мя случайными чертами, но более обще; правда, биография поэта
не подсказывает здесь ничего реального, что бы наполнило кровью
их бледные образы; случайное указание на одну из собеседниц,
как гибеллинку, равнодушно отнесшуюся к содержанию новеллы
X, 6 (ел. введение в X, 7), не дает нам никаких откровений. Пам-
пинея старше всех и рассудительнее; ей принадлежит замысел
удалиться из чумного города, приобщив себе в спутники Дионео,
Филострато и Памфило, и проводить время не в игре и других
забавах, а в беседах, в которых ее, очевидно, привлекает элемент
354
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
учительности и размышления: она охотно впадает в общие места,
часто увлекается в сторону, наставляет. Филомена — красивая,
разумная девушка: она первая догадывается, что им без сопутствия
мужчин не обойтись, и когда Неифила выражает опасение, как бы
о том не заговорили криво, смело отвечает: «Лишь бы жить честно,
и не было у меня угрызений совести, а там пусть говорят
противное. Господь и правда возьмут за меня оружие». Тем не менее она
смущена, когда ее выбрали королевой, но тотчас же входит в роль,
припомнив рассказ Пампинеи о добродетельных проститутках,
не умеющих связать слова: она не хочет показаться простушкой
и станет вести дело, следуя не только своему мнению, но и мнению
всего общества. В сравнении с ними Неифила — девочка, робкая
и вместе бойкая на словах, может быть, потому, что не знает всей
их силы и бодрится. Узнав, кто из мужчин будет им сопутствовать,
она зарделась: она боится нареканий, потому что в числе тех юношей
есть влюбленные в одну из них. Избранная королевой, она стоит,
покраснев, окруженная хвалебным ропотом; ее лицо, что свежая
роза в апреле или мае, на рассвете дня, прелестные, несколько
опущенные, глазки блестят, как утренняя звезда. И вместе с тем
вольная выходка Филострато по поводу новеллы об Алибек
вызывает у нее отповедь не по летам, показывающую, что она сумела
разобраться и в нескромных похождениях Мазетто. Имя Эмилии
возвращает нас к биографическим воспоминаниям прежнего типа.
Эмилия «Тезеиды» создана для любви, ей нравится быть любимой;
характерна для нее именно эта потребность сердца, не случайный
выбор любимого человека. В сущности, это настроение Эмилии
«Декамерона»; пока она очарована лишь своей красотой:
Я от красоты моей в таком очарованье,
Что мне другой любви не нужно никогда,
И вряд ли явится найти ее желанье.
Но это лишь самообольщение, она чает чего-то другого, потому
что, продолжает она, чем более я покою взгляды на благе моей
красоты, тем более
Я отдаюсь ему душою всей моей,
Вкушая уж теперь высокие услады,
Что мне сулит оно, — ив будущем отрады
Еще я большей жду.
Вот почему, быть может, она иногда задумывается, уносясь
в мыслях куда-то: Филострато кончил новеллу, все смеются, велят
Художественные и этические задачи «Декамерона»
355
продолжать Эмилии, и она начинает, глубоко переводя дух, точно
недавно проснулась: продолжительное раздумье усиленно и долго
держало ее вдали отсюда; она не была здесь духом. Но затем она
рассказывает смело и охотно, ободряя других своим примером:
Боккаччо дважды подчеркнул эту черту, психический противовес
сосредоточенности.
Элиза, названная так «не без причины» (Вступление),
несколько насмешливая, резкая, не по злорадству, а по старой привычке,
и довольно неопределенная Лауретта завершают собою кружок
«Декамерона»; грациозные фигурки, слегка брошенные на фон
игривого, но культурного тосканского пейзажа; кто захочет теней
и красок и ярких пятен — найдет их там, где они у места — в
рассказах «Декамерона».
II
Кто хоть немного начитан в средневековой повествовательной
и вообще сказочной литературе, тот встретит в них множество
знакомых мотивов, черты международного бродячего предания
и — группу местных или исторических повестей, лишенных
традиционного значения, рассказов об остроумных выходках
и шутках, одним словом — «новостей дня»; это и могло быть
основным значением провансальских novas, итальянской новеллы.
В неаполитанских рассказах Фьямметты о приключениях Андре-
уччьо и хитрости, которой Риччьярдо добился обладания любимой
женщиной, в новелле Дионео о салернском враче Маццео делла
Монтанья нет ничего, что бы говорило за вымысел, хотя иные
подробности и могли быть навеяны мотивами сходных повестей.
На уголовный факт, легший в основу первой новеллы, уже было
указано; местные анекдоты и предания дали материал для
рассказов о короле Карле и несколько загадочном Нери дельи Уберти,
о короле Петре и влюбленной Лизе, для которой Мико из Сиены
сложил канцону: Боккаччо приводит ее, она встретилась в одной
рукописи отдельно и в более архаистической форме; о Фридрихе
Сицилийском, о красавце Джербино и известном разбойнике Гино
ди Такко; содержание одной новеллы взято из старой летописи
Фаенцы. Особенно разнообразен областной элемент в том, что
приурочено к Флоренции и Тоскане. Перед нами целый ряд имен,
еще теперь уследимых по памятникам и близким по времени
упоминаниям: Чаппеллетто и флорентийский инквизитор, Гви-
льельмо Борсьера и буффоны Стекки и Мартеллино, Риччьярдо
356
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
Манарди и Лицио да Вальбона, Джери Спина и его жена Оретта,
действующие лица новеллы VI, 3, Форезе да Рабатта и Джьотто,
Гвидо Кавальканти, поэт Чекко Анджольери и его товарищ Чекко
ди Фортарриго, Чакко и Филиппо Ардженти; может быть, Цеппа
ди Мино. Рядом с этими более или менее известными именами
другие, может быть, не выходившие в черту казовой истории:
святоша Пуччьо да Риньери и простофиля Джьянни Лоттерин-
ги, влюбленный священник и Варлунго и судья в Пизе, великий
учетчик праздничных дней на супружеском ложе, — и
сентиментальная парочка Симоны и Пасквино, Джироламо и Саль-
вестра, — Сильвия Альфреда де Мюссэ9. В сущности рассказы
о них не менее историчны, чем являющиеся под прикрытием
известных фамилий, ибо исторические фамилии не всегда страхуют
достоверность рассказа, порой они просто показатели времени,
не смущаются в обстановке невероятной легенды, когда, напр.,
о флорентийце Алессандро ди мессер Тедальдо деи Ламберта или
дельи Аголанти рассказывается, что он стал королем Шотландии.
Иной раз известное имя могло подсказаться Боккаччо просто
потому, что подходило по смыслу и звуку, как, напр., имя нотариуса
Bonaccorri di Geri da Ginistreto, или в новелле о брате Чиполла,
имя его потешно веселого спутника Гуччьо: в 1324-1325 г.
упоминается, в должности больничника при госпитале св. Филиппа
во Флоренции, брат Guccius Aghinette, vocatus frater Porcellana.
Боккаччо втайне намекнул на это прозвище, назвав своего
монаха Guccio Porco и заставив брата Чиполлу искать привилегий del
Parcellana, Поросяти.
Весь шестой день посвящен острым словам и находчивым
ответам, и герои дня, по преимуществу флорентийцы, между ними
Джьотто и Гвидо Кавалькани; Петрарка, называющий вместо
последнего какого-то Дино из Флоренции, отвел в своих «De rebus
memorabilibus»10 место остротам и метким изречениям, этим
признакам культурного, бойкого на слово итальянца. Разумеется,
многие из этих летучих слов далеко не новы, вроде предложения
рыцаря мадонне Оретте — повезти ее на коне (она πι л а пешком), т. е.
скоротать ей путь рассказом; или того, например, что у журавля
всего одна нога, или рассказанной в другом месте ловкой увертки
маркизы Монферраттской: что все женщины так же сходны между
собой, как кушанья, с виду разные, но оказавшиеся
изготовленными из одних кур. В русских легендах о Февронии и Ольге это
выражено поэтичнее: Феврония велит человеку, посмотревшему
на нее с греховной мыслью, почерпнуть воды с той и другой стороны
Художественные и этические задачи «Декамерона» 357
лодки и отведать; она оказалась одинакового вкуса: так одинаково
и естество женское.
Среди исторических, унаследованных острот иные отличаются
колоритом среды, ароматом почвы; такова отповедь Гвильельмо Бор-
сьере, маэстро Альберто из Болоньи и Гвидо Кавальканти, который
привел в смущение веселую компанию, приставшую к нему у
гробниц Сан-Джьованни, сказав, что у себя дома они вольны говорить,
что им угодно. Вы чувствуете себя в среде, где умственное развитие
дало лишек производства и, вместе, сознание силы, которая требует
упражнения, исхода, и находит выражение в культе блестящей
шутки, виртуозного слова, забавной проделки; в них мерка —
превосходство над тем, что отстало; есть что-то лихорадочное, юное,
бесцельное в этой потребности расправить мускулы, расходиться.
Поминаются старые потешные люди, тонкие, благовоспитанные,
как Примас, Бергамино, флорентиец Гвильельмо Борсьере, как
те cavalieri di corte, иначе гистрионы, которых обязанностей было
честным образом развеселять усталых от дела синьоров-правителей,
не те грубоватые и неразборчивые, которые побираются у жалких
и безнравственных вельмож, кормясь своим злословьем, как
флорентийцы Чакко и Бьонделло; у них шутка обратилась в ремесло,
как у Дольчибене, Гонеллы и боккаччевского буффона Риби; в
обществе она возделывается свободно, как естественный избыток
умственного и телесного здоровья. Был в нашем городе юноша,
по имени Микеле Скальца, самый приятный и потешный человек
в свете, у которого наготове были самые невероятные рассказы,
почему молодым флорентинцам было очень приятно залучать его
к себе, когда они собирались обществом; был о ту пору во
Флоренции молодой человек, удивительный забавник во всем, за что бы
ни принялся, находчивый и приятный, по имени Мазо дель Сад-
жио: действительное лицо, по профессии маклер, лавка которого
была обычным притоном веселых художников, как в лице другого,
столь же исторического типа, ростовщика и откупщика Чалпеллет-
то (Чеппарелло) из Прато, Боккаччо казнил тех итальянцев или,
как их называли, ломбардцев, которые по всей Европе занимались
лихвой, навлекая на себя общую ненависть.
Главными носителями шутки, часто непереводимой в своем
местном колорите, и шумного, несколько животного веселья,
являются художники. Изобилие юмора — признак
талантливости: новеллы Саккетти, потешный рассказ о дровянике Грассо,
приписываемый Манетти, биографии Вазари полны
художнических анекдотов; Джьотто пишет мистических мадонн и отпускает
358
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
не совсем благочестивую остроту насчет изображения св. Иосифа;
король Роберт, потешавшийся проделками шута Гоннеллы, любил
беседовать с Джьотто за его работой, ибо у него всегда бывало
припасено какое-нибудь словцо или остроумный ответ. У Боккаччо
потешниками являются живописцы Буффальмакко, Бруно и Нел л о
ди Дино. О школьничествах Буффальмакко рассказывает Саккетти,
позднее — Вазари, между прочим, что однажды он написал по
заказу мадонну с Спасителем на руках, и когда заказчик не захотел
платить, принудил его к тому тем, что заменил Спасителя —
медвежонком. В «Декамероне» похождения его и его товарищей
слагаются в целый цикл; предметом острот и издевок — два оригинала:
художник Каландрино, недалекий, живущий в страхе своей
жены, способный поверить всякой небылице, — и болонский доктор
Симоне, такой же, как и он, простак, только ученый. Что у них
общее — это легко воспламеняющееся самомнение; потешники
любуются ими, бережно подходят к объекту анализа, поставят вопрос,
поддакнут, где надо, и тайные помыслы Каландрино и Симоне
расцветают перед ними во всей их откровенности: Каландрино считает
себя неотразимым для женщин, Симоне млеет в сознании своей
учености, обаяния и привлекательности. В старые годы авторы
фабльо и еще во второй половине XIV века итальянец Матазоне-
потешались над бесправным вилланом, грубым и придурковатым,
грязным и себе на уме; такова точка зрения на обездоленные классы
общества и в итальянских Sacre Rappresentazioni11; у Боккаччо
еще остались следы этого понимания в типах Ферондо, Бентиве-
нья дель Маццо; Пьетро ди Тресанти; в простаках-крестьянах,
разевающих рты, слушая о чудесных хождениях брата Чиполлы;
но в общем требования поднялись: смех и сатиру вызывает уже
не бесправная простота, а бесправное самомнение. Культурного
флорентийца коробит самозванный судья-баран, которого привез
с собою по дешевой цене подеста, и они в общем присутствии
стаскивают с него штаны; в докторе Симоне они, не школьные, но
развитые люди, потешаются над патентованным в Болонье ученым
худоумием. Потешаются жестоко, как герои фабльо; умственное
развитие не обуздало животных инстинктов, а сделало их только
ценнее, смех дешев, вызывается балаганной выходкой, как,
например, часто в новеллах Саккетти; сознание превосходства не знает
меры, шутка получает нередко характер истязания, бесцельного
злорадства: это Ренар, издевающийся над глупым волком.
Бедный маэстро Симоне угодил в помойную яму, проделка мадонны
Беатриче кажется «крайне злохитростной» даже собеседницам
Художественные и этические задачи «Декамерона» 359
«Декамерона», издевки Лидии над мужем, извиняемые страстью,
столь же жестоки. Правда, содержание двух последних новелл
принадлежит международной бродячей сказке, но их настроение
то же, что и в шутках местного происхождения. Еще хуже, когда
проказа задумана с целью отместки: удары сыпятся на бедняка
Бьонделло, а злостный школяр Риньери тешится местью, заманив
обманувшую его красавицу на башню, где она день-деньской стоит
голая, на солнце, искусанная мухами и слепнями, а он методически
отчитывает ее в стиле нареканий на злых жен. Если в новелле о
Риньери отразилось действительное озлобление автора против вдовы,
которую он казнил в своем «Корбаччьо», то перед нами интересный
образчик рассказа, в котором биографические, местные элементы
выразились в мотивах пришлой повести: именно такая повесть
известна; каким бы путем ни зашла она в Италию и до Боккаччо, она
встретила здесь сходный уровень общественного чувства и личного
настроения и в том и другом отношении дает материал для анализа,
независимо от своей захожей схемы.
Рядом с расходившейся животной личностью Симоне — тонкий
культ сердца у «благовоспитанного» мессера Федериго Альбериги,
жертвующего на угощение своей непреклонной дамы единственным
сокровищем, любимым соколом. В этом сюжете, который не раз
пересказывали по Боккаччо, и в котором Гете хотел выразить свои
отношения к Лили и Карлотте фон Штейн, едва ли есть что-либо
буддийское, много средневекового рыцарского, и вместе с тем нечто
более изящное и культурное. Те же люди, которые способны были
к плотскому смеху и мальчишески-зверской шалости, понимали
и поэзию самоотречения; там и здесь самосознание личности
находило цели наслаждения. Федериго Альбериги был флорентиец,
анекдот о нем идет от почтенного Коппо ди Боргезе Доменики,
одного из немногих, к сожалению, исторически засвидетельствованных
лиц, которые были живыми источниками Боккаччо. В Неаполе
старики Марин Булгаро и Константин Рокка рассказывали ему
о Филиппе Катанской; от первого идет, быть может, драматическая
повесть об Иоанне из Прочиды, но всего милее был Боккаччо старик
Коппо, человек древнего дантовского пошиба, знаток
флорентийской старины, живой носитель городских памятей, любивший
«рассказывать своим соседям и другим о прошлых делах; а делал
он это лучше и связнее и с большой памятью и красноречием, чем
то удавалось кому другому», говорит Боккаччо, записавший с его
слов новеллу об Альбериги и анекдот о Гвальдраде. Он дорожил
дружбой к нему человека, которого зовет в своей записной книжке
360
А Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ
ревностнейшим гражданином и блюстителем нравов. Рассказанная
им легенда о Гвальдраде его характеризует, еще более — новелла
Саккетти: будто бы Коппо читал однажды Тита Ливия и дочитался
до того места, как римские женщины бросились на Капитолий,
требуя отмены закона, ограничивавшего их моды. Коппо, хотя человек
и мудрый, но вспыльчивый и со странностями, вышел из себя, точно
все это случилось у него на глазах; бьет книгой по столу, плещет
руками: «Как-то потерпите это вы, римляне, вы, которые не
выносили ни царей, ни императоров?» В это время пришли за расчетом
работавшие в его доме каменщики. «Убирайтесь вы с богом, во имя
дьявола! кричит он, лучше бы мне не родиться, чем знать, что эти
бесстыжие распутницы, негодницы побежали на Капитолий
отстаивать свои наряды! Что будет с римлянами, когда вот я, Коппо,
не могу с этим примириться!» — Рабочие дались диву: что это с ним
сталось? Слышат они что-то про Капитолий и забавно коверкают
это название, чтобы выжать из него какой-нибудь смысл. У^ке
не пошалила ли его жена? Он что-то все говорит о распутницах. —
На другой день пыл у Коппо прошел, и он рассчитался, как следует.
Интересно в этом анекдоте тесное сплетение классических
воспоминаний с злобой дня: оно возможно было лишь в Италии.
III
Мы старались обособить в «Декамероне» новеллы местного,
итальянского происхождения, те, достоверность которых автор счел
нужным защитить от нападок лиц, тщившихся доказать, что все,
им рассказанное, было не так, как сообщил он. Их он и вызывает
представить «подлинные рассказы»: «если бы они разногласили
с тем, что я пишу, я признал бы их упрек справедливым и
постарался бы исправиться; но пока ничто не предъявляется, кроме слов,
я оставлю их при их мнении и буду следовать своему». Ту же заботу
о достоверности обнаруживает и Фьямметта: приступая к новелле
о Каландрино, она спешит оговориться: «если бы я захотела и прежде
и теперь отдалиться от действительного факта, я сумела бы и смогла
сочинить и рассказать (его) под другими именами».
Все это может относиться лишь к новеллам-анекдотам, новеллам-
былям, которые рассказывались о действительном лице, хотя бы
самые элементы рассказа и принадлежали к числу бродячих. С такими
чертами международной сказки нам уже приходилось считаться,
но ей же принадлежат и схемы особой группы повестей
«Декамерона» : параллели к ним нетрудно указать, несмотря на итальянское
Художественные и этические задачи «Декамерона» 361
приурочение многих из них: из ста новелл восемьдесят семь
помещены в Италии, в итальянские исторические отношения. Это первая
степень народного усвоения, и виновником его не всегда был Бок-
каччо. Таким образом, притча о женщинах-гусынях, восходящая,
в своем первоисточнике, к повести о Варлааме и Иосафате,
рассказана у него о сыне флорентинца Филиппо Бальдуччи,
удалившегося для созерцательной жизни на гору Азинайо; сюжет, знакомый
по «Цимбелину» Шекспира, разработанный в старофранцузском
романе «De la Violette», существующий и в других литературных
и сказочных отражениях, — очутился приуроченным к Генуе;
повесть о Торелло — сплетение старых легенд о Саладине с схемой
о нежданном возвращении мужа — приводит нас в Павию; новелла
о Джилетте из Нарбонны (Дек. III, 9) восходит к какому-то
утраченному французскому источнику, который знаком был автору Magus
saga12; Сиена и Флоренция введены в ее кругозор, вероятно, автором
«Декамерона»; рассказ о настоятеле в Фьезоле напоминает фабльо
о священнике и Alison, другой, с местом действия в Тоскане, фабльо
о мельнике и двух клерках, тогда как новелла о Ламбертуччьо
принадлежит международной сказочной схеме, известной во
французской переделке и итальянском пересказе одного анонимного сиенца
XIII века, приурочившего его содержание к Ферраре. Мы переведем
последнюю повесть дословно, чтобы дать понятие о стиле
итальянской добоккаччиевской новеллы.
«Был в Ферраре благородный рыцарь, и была у него очень
красивая и родовитая жена, в которую влюбился некий именитый юноша
того города. Не находя никакого предлога поговорить с дамой, он
залучил к себе одного умного человека, краснобая, пообещав ему
много денег, если он сумеет устроить это дело. Предлог он показал
такой, что его коню не было места в конюшне, ибо он велел ее
перестроить; он и попросил рыцаря поставить коня в свою. Тот краснобай
был конюшим; так как он был из других мест, и его здесь не знали,
он прикинулся большим простаком. Когда он хорошо освоился в
доме у рыцаря, и его считали столь простым, что он получил
возможность всюду ходить и бывать с дамой, без всякого подозрения, он,
улучив время, стал говорить с ней серьезно, устраивая дело; и так
много наговорил он ей в разное время, что уладил все то, для чего
там и проживал. Долгое время общаясь с юношей, дама влюбилась
одинаково и в слугу за его красные речи, так что однажды, будучи
с ним в своей комнате, открыла ему свое желание, и они
наслаждались друг с другом, когда молодой человек, проведав, что рыцарь
уехал в город, сам отправился к даме и постучался в дверь. Услышав
362
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
его, дама спрятала слугу за занавес, а сама осталась с молодым
человеком. Пока они пребывали таким образом, внезапно вернулся
и рыцарь, подошел к комнате и постучался в дверь. Дама мигом
сказала молодому человеку: «Обнажи свой нож, отвори комнату
будто насильно, и, ни с кем ни говоря ни слова, обнаружь гнев и
говори, угрожая: "Пусть меня убьют, если я не убью тебя!" — Как она
сказала, так молодой человек и сделал: вышел из комнаты, рыцарь
перепугался, а он, все время угрожая, удалился по своим делам,
ничего не ответив на вопросы рыцаря. Когда тот вступил в горницу,
жена кликнула слугу, бывшего за занавесом, и говорит рыцарю,
что тот молодой человек, найдя свою лошадь стреноженной, хотел
было за это убить слугу, а он спрятался в ее комнате, и она с трудом
его защитила. Так-то она выручила себя по отношению к молодому
человеку и слуге и не направила молодого человека за занавес, ибо
не желала, чтобы он застал там слугу, так что молодой человек
ничего не узнал о слуге, а слуга выгородил молодого человека».
Новелла Боккаччо перенесла все это действие во Флоренцию,
обставила его именами и лишь несущественно изменила отношения
действующих лиц: Леонетто, отвечающий краснобаю-конюшему
старого рассказа, любит самостоятельно и не играет роли посредника;
рыцарь назван Ламбертуччьо, он человек влиятельный, и Изабелла
отдается ему против воли, когда он пригрозил ей, что иначе учинит
ей позор. Таким образом, казалось бы, удалена непривлекательная
подробность, что красавица одновременно дозволяет двоим любить
себя, а вместе с тем, в конце новеллы именно эта черта подчеркнута
еще резче: когда Леонетто спасся, как конюший старой повести,
он «следуя наставлению дамы», в тот же вечер тайно переговорил
со своим соперником и так с ним уладился, «что, хотя впоследствии
много о том говорили, рыцарь никогда не догадался о шутке,
которую сыграла с ним жена».
Принадлежат ли эти изменения Боккаччо, или он уже нашел
их в своем источнике, какой-нибудь повести, сходной с новеллой
безымянного сиенца? Вот вопрос, который поневоле обобщается,
потому что и художественное значение Боккаччо и его
нравственная ответственность могут быть вполне оценены лишь при условии
точного сравнения того, что им сделано, с тем, что он застал и чем
воспользовался. Вопрос об источниках «Декамерона»
представляется настоятельным, не праздным любопытством ученого, ибо
дело не в повторении готовых повествовательных схем, а в их
комбинациях, если они отвечают эстетическим целям, в новом
освещении, в материалах анализа, в том почине, который заставляет
Художественные и этические задачи «Декамерона»
363
нас говорить о Боккаччо, как об одном из родоначальников
художественного реализма.
Мы уже знаем, что в неаполитанских кружках, где влюбленный
Боккаччо рассказывал своей милой о Панфило и Фьямметте,
повести были любимым развлечением салона и посиделок. Фьямметта
читает французские романы, просит Боккаччо пересказать для нее
«Floire et Blancheflor»; иная из новелл «Декамерона», например,
повесть о страданиях мадонны Беритолы, каткется разработкой
романического мотива о разлучениях и спознаниях, рассчитанная
на мирные слезы; таков и рассказ о графе Анверском, навеянный,
быть может, романом Арно Видаля из Castelnaudary о Guilhem
de la Barra13. В обществе Фьямметты, где так много было
французского и провансальского, целям смеха могли отвечать фабльо
и провансальские novas: новелла Дек., VII, 7 напоминает мотивы
первых, и, вместе, «Castiagilos» Раймона Видаля из Besaulun14;
плачевный рассказ о мессере Гвильельмо Гвардастаньо ведет свое
начало из какой-нибудь провансальской повести, лишь позже при-
урочившейся, по созвучию имен, к трубадуру Cabestaing, тогда как
Дек., IV, 1 восходит к утраченному источнику романа о Châtelain
de Couci15. Эпический материал Прованса успел не только перейти
в Италию, но и получить здесь литературное отражение у Фран-
ческо да Барберино в его утраченных «Fiore di Novelle», в его же
«Documenti d'Amore» и «Reggimento délie donne»; явились и
зародыши итальянской новеллы в рассказах, рассеянных в «Fiore di
Filosofi», «Fior di Virtù», в таких сборниках, как «Conti di antichi
Cavalieri», собранных из французских источников и из «Liber
historiarum romanorum», и «Novellino»10: коротенькие повести,
скорее сказать, схемы повестей, которые предоставлено развить
рассказчику с сюжетами, взятыми отовсюду, из классического,
легендарного и романического предания и местной были, как у
Барберино, и в «Novellino» с его Фридрихом II и Эццелино,
провансальскими мотивами и гибеллинскими симпатиями ХШ-го века. Заодно
с повестями, меткие изречения, motti, удачные слова, цветы слов,
fiori di parlare. Схема и положения и характеры едва намечены:
точно контуры commedia dell'arte, ожидающие художника и
дыхания жизни. Автор «Avventuroso Ciciliano»17 уже пытается быть
стилистом, в новеллах, которыми он разнообразит свою странную,
полуромантическую хронику; художником явится Боккаччо.
Таковы были литературные материалы рассказа, обступившие
его в обществе; к этому присоединилось и собственное чтение:
легенды и хроники, классические сюжеты, навеявшие его «Тезеиду»
364
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
и новеллы о бочке и о Пьетро ди Винчьоло, взятые напрокат у
Апулея. Но, может быть, более чем момент чтения, играли роль
устный рассказ и усвоение слышанного: сказка, не знающая родства,
и веселые присказки бродили промеж народа и проникали в
кружок Фьямметты; если Коппо ди Боргезе Доменики повествовал
про флорентийские были, то народная повесть, до сих пор
существующая в разнообразных европейских отражениях, могла дать
Боккаччо сюжет для его новеллы о Гризельде. Именно в Неаполе,
на перепутье международных течений, сказка должна была
отличаться разнообразием мотивов, сплетением Востока и Запада:
сказывали провансальцы и греко-итальянцы из Кипра, Боккаччо
говорит о «киприйских историях», очертания греческого романа,
встречающиеся в его новеллах, объясняются посредством устной
передачи, которая познакомила его и с восточными сюжетами
(Соломон в IX, 9) и таковыми же, хотя искаженными, именами
Алибек, Алатиэль, Массамутино (в «Филоколо»). В иных случаях
лишь имя действующего лица ведет к предположению восточного
источника повести. В житии Иоанна Милостивого есть эпизод18,
перенесенный в повестях Пафнутия Боровского на Иоанна Калиту:
однажды какой-то богатый иностранец захотел испытать доброту
архиепископа и, когда Иоанн собирался посетить больницу, подошел
к нему, одетый в рубище, и попросил милостыню. Ему подали пять
золотых; через три дня он явился в другой одежде и снова просит;
Иоанн снова велел дать ему шесть золотых; когда нищий удалился,
казначей шепнул архиепископу, что тот человек уже во второй раз
получил милостыню; а Иоанн как будто и не слышит. В третий раз
подошел тот же нищий, казначей кивнул архиепископу, давая ему
понять, что это — все тот же; а тот говорит: «Подай ему двенадцать
золотых, дабы он не был мне Христом и не ввел меня в
искушение». Такой именно эпизод встречается, хотя в ином приурочении,
в новелле о Митридане, которому не дает покоя щедрость Натана;
чувствуя свое бессилие превзойти его, он решается его убить, чтобы
его слава ему не мешала; Натан, не привыкший отказывать в чем бы
то ни было, превосходит самого себя в великодушии, предоставляя
свою жизнь смущенному сопернику. Имена действующих лиц
указывают на какой-то, не то персидский (Митридан), не то еврейский
Восток, место действия — Китай, источник повести — рассказы
генуэзцев и других людей, бывших в тех странах. До Боккаччо мог
дойти какой-нибудь извод арабской повести о Хатиме или
персидской о Хатим Тайите и короле Йемена (у Саади), о нем же и
великодушной женщине; в последней переодетый Хатим отправляется
Художественные и этические задачи «Декамерона»
365
в Китай, чтобы поглядеть на женщину, о которой шла молва, что
она щедрее его самого. Она говорит ему, что завидует славе Хатима,
и просит незнакомца убить его. Хатим кладет перед нею свой меч
и говорит: Я — сам Хатим, и моя голова в твоей власти. Женщина
тронута его благородством и выходит за него замуж, как у Боккаччо
Митридан и Натан становятся друзьями.
На восточную апокрифическую повесть указывает Дек., IX, 9;
источника Боккаччо мы не знаем; в сербской сказке у Караджича
какой-то человек обращается к Соломону за советом, кого ему
выбрать в жены: девушку, вдову или разведенную жену. Соломон
отвечает загадочно: коли возьмешь девушку — ты знаешь (т. е. он
будет главой семьи), коли вдову — она знает (т.е. будет управлять
мужем), а коли разведенную, то берегись моего коня (т. е. убежит
от него, как и от первого мужа). Соломон представляется
мальчиком, ездящим верхом на палочке-коне (ел. мои «Слав. Сказания
о Соломоне и Китоврасе». С. 115). Следующая легенда, недавно
записанная в Малороссии, объединяет этот рассказ с данными бок-
каччиевской новеллы, указывая, быть может, на общий источник:
к мальчику Соломону, который также ездит на палочке, являются
трое: один — вдовец, хочет жениться; ответ Соломона — вариант
к соответствующему ответу сербской сказки; второй — доктор,
много учился, никому не отказывает в помощи, насколько может,
а сам с семьей голодает. Как ему быть? Соломон отвечает: «Думай
о себе» (т. е. цени выше свой труд). Наконец, третий — молодожен,
с первого дня женитьбы ему нет покоя от капризов супруги. Совет
Соломона такой: «Посмотри в мельницу, где пшено!» — к чему
и объяснение: в мельнице просо сколачивают в ступах толчеями;
так и ты потолки хорошенько свою молодую жену. У Боккаччо
в совете Соломона к Джозефо толчея заменена палкой; может быть,
и доктор и Мелиссо отразили один общий тип: один всем помогает
и голоден, другой щедр, и никто его не любит. Только у Боккаччо
ответ Соломона другой: «Полюби».
Изменения, внесенные Боккаччо в традиционные сюжеты,
могли бы дать нам меру его таланта и направления, если бы везде
был ясен его источник. К сожалению, мы добираемся до него лишь
в редких случаях, в других — принуждены обойтись неведением.
У Гелинанда есть легенда-видение, пересказанная в XIV веке
Пассаванти19: в графстве Неверском жил бедный, богобоязненный
угольщик; однажды, сидя в своей избушке и сторожа зажженную
угольную яму, он услышал около полуночи страшные крики. Выйдя
посмотреть, в чем дело, он увидел, что обнаженная, простоволосая
366
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
женщина бежит, с криками, на яму, а за нею поспешает на вороном
коне всадник, с ножом в руке; пламя пылает изо рта и глаз всадника
и лошади. У самой ямы всадник нагнал женщину, которая
продолжала вопить, схватил ее за косы и поразил ножом в самую грудь;
затем, подобрав ее, окровавленную, с земли, бросил в зажженную
яму, вытащил ее оттуда, обгорелую, и перекинув через коня,
умчался по пути, откуда явился. Трижды повторяется это видение;
на четвертый раз граф Неверский заклинает всадника провещиться:
«Я — твой рыцарь Джьуффреди, воспитанный при твоем дворе,
отвечает он, а эта женщина, с которой я так свиреп и жесток, — жена
рыцаря Берлингьери, который был так мил тебе. Увлеченные друг
другом к нечестной страсти, мы с общего согласия впали в грех,
который довел ее до убийства мужа, дабы свободнее было творить
худое. Так пребывали мы во грехе до смертного недуга, но оба успели
покаяться и исповедать свой проступок, и Господь взыскал нас своим
милосердием, заменив нам вечные муки ада временным мучением
чистилища. Знай, что мы осуждены и таким, как ты видел, образом
совершаем свое очищение».
Эта чистилищная легенда перенесена у Боккаччо в Равенну,
на новые лица, и освещение другое: всадник, преследующий
красавицу, был когда-то влюблен в нее, но, презренный ею, решился
на самоубийство, а она, скончавшись без покаяния, «ибо считала,
что не только тем не погрешила, но и поступила, как следует,
осуждена была на адские муки». Не только мотивы наказания другие,
но и самое видение служит неожиданным целям: Настаджьо дельи
Онести показывает его неприступной красавице, за которою он
ухаживал, для того, чтобы нагнать на нее страх. И он не только
добился своей цели, но и «все другие жестокосердные равеннские
дамы так напугались, что с тех пор стали снисходить к желаниям
мужчин гораздо более прежнего». Так обошелся Боккаччо с сюжетом
загробной легенды, вынося из нее не угрызения совести, а призыв
к любви. Так и в новелле о двух сиенцах, построенной на таких же
легендарных мотивах, Тингоччьо, умерший ранее своего товарища
Меуччьо, явившись к нему, по уговору, из чистилища, приносит
веселые вести: он любил куму и боялся за то кары, а в чистилище,
оказывается, «кумы не берутся в расчет», — и Меуччьо издевается
над собой, что стольких кум пощадил на своем веку, и, простившись
с своим невежеством, отныне стал мудрее.
Обе легенды прошли в новеллу одним и тем же путем: остались
схема и образы, но то и другое раскрылось для нового понимания.
Принадлежит ли оно Боккаччо, или он выбрал из готовых уже
Художественные и этические задачи «Декамерона»
367
обработок сюжета то, что пришлось ему по вкусу? Изменения
в новелле о Настаджьо могли быть навеяны чисто светскими
представлениями, отразившимися в «Lai de trot»20, у Андрея
Капеллана и в каталонском «Salut d'amour»: о плачевной участи тех, кто
при жизни не внял голосу любви. В таком случае характерен был бы
выбор, не художнический прием.
С последним мы знакомимся, обратившись к источнику пятой
новеллы пятого дня. Старый летописец Фаенцы рассказывает о
взятии и разграблении города: один красильщик спасается бегством
в Кремону с женой и двумя сыновьями, позабыв дочку двух или
трех лет. Двое братьев названных, fratres jurati, разграбили его
дом, один из них, родом из Пармы, захватил с собой девочку; по его
смерти его товарищ воспитывает ее; в Кремоне, куда он вернулся,
все считают ее его дочерью. Здесь в нее влюбились молодой кре-
монский дворянин и ее собственный брат; между ними происходит
ссора, привлекшая, в числе прочих, и приемного отца. Признание
совершается внезапно и не мотивированно: приемный отец девушки
неожиданно спрашивает ее брата, кто он, и что привело его в
Кремону; шрам, оказавшийся за ухом красавицы, помогает разъяснить
дело, и рассказ кончается ее браком с кремонским дворянином.
Боккаччо отнесся к этому сюжету с тактом настоящего
рассказчика: до второй половины новеллы мы остаемся в убеждении, что
девушка — дочь одного из двух ломбардцев, отвечающих
безымянным солдатам летописи; мы не ожидаем развязки, тем она
интереснее. Умирая, Гвидотто оставляет своему приятелю Джьякомино
«девочку лет, может быть, десяти». Джьякомино поселяется с нею
в Фаенце, где за ней ухаживают Джьянноле и Мингино. Из
приятелей они становятся врагами; оба присватались бы к ней, если б было
на то согласие родителей, и вот каждый из них задумал овладеть
ею тем способом, который будет ему удобнее. Боккаччо отдалил,
таким образом, мотив ссоры, чтобы вставить эпизод, раскрывающий
перед нами итальянский intérieur* Джьякомино, со старой, досужей
служанкой и потешным, добродушным слугой Кривелло; их
вмешательство напоминает помощную роль паразитов в любовных
интригах римской комедии. Влюбленные молодые люди обращаются
к их помощи, один — к слуге, второй — к служанке, и те обещают
провести их к девушке, когда отца не будет дома. Настал урочный
час, Джьянноле и Мингино настороже, ждут условленного знака,
а между тем Кривелло и служанка стараются услать друг друга:
Домашний обиход (франц.).
368
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
«Зачем не пойдешь ты теперь спать, зачем путаешься по дому?» —
«А ты зачем не идешь за своим хозяином, чего ждешь, коли уже
поужинал?» — Когда Джьянноле проник к девушке и готовился увезти
ее, Мингино явился на ее крик, и происходит свалка; виновники
посажены в тюрьму. На другой день, когда родственники молодых
людей пришли к Джьякомино просить за них, он изъявляет свою
готовность, тем более, что и оскорбленная девушка — фаентинка,
«хотя ни я, ни тот, кто поручил мне ее, никогда не доведались, чья
она дочь», — и он рассказывает тот эпизод о разгроме Фаенцы,
с которого летописец начал свой рассказ: девушка оказывается
приемышем Гвидотто и взята из дома, ограбленного им в
Кремоне. «Был там в числе прочих некий Гвильельмино да Медичина,
участвовавший с Гвидото в том деле и отлично знавший, чей дом
ограбил Гвидотто». Увидев в толпе его хозяина, он окликнул его:
«Слышь, Бернабуччьо, что говорит Джьякомино?» Тому
вспоминается его потерянная дочка; это наверно она и есть, подсказывает
Гвильельмино; не помнишь ли у ней какой-нибудь приметы? — У нее
был шрам, в виде крестика, над левым ухом. — Признание спешит
к концу: Бернабуччьо просит показать ему девушку, поражен ее
сходством с матерью, нашелся и шрам. «Это, братец, дочь моя!» —
обращается он к Джьякомино, и девушка, движимая тайной силой,
не противится его объятиям и плачет вместе с ним.
В конце новеллы Боккаччо, по обыкновению, всех устраивает:
является жена Бернабуччьо, родственники, заключенные
выпущены, даже Мингино укенят. Это, может быть, лишнее, но в общем
получилась, вместо сухого рассказа, живая картина с бытовыми
подробностями, не рассказ третьего лица, начинающего с начала,
потому что он успел все узнать и расположить в
последовательности, а яркий факт, как он захватывает вас в действительности,
последовательно, иногда нечаянно раскрываясь в своих причинах
и следствиях. Концентрация действия, начало рассказа из
средины — житейское наблюдение и вместе художественный прием: чем
реже прибегает к нему Боккаччо, тем любопытнее его отметить.
Другие, не художественные соображения вызывает знаменитая
новелла о трех кольцах, прототип «Натана Мудрого» Лессинга. Она
раскроет нам другие интересы, связанные с вопросом об источниках
«Декамерона».
В еврейской среде сложился рассказ, который Соломон бен Верга
(XV в.) приурочил к аррагонскому королю Дон Петро Старшему
(1094-1104). Король задает одному еврею вопрос: какая из двух
религий лучше, христианская или еврейская? Тот сначала отвечает
Художественные и этические задачи «Декамерона» 369
уклончиво, затем, попросив трехдневной отсрочки, является
рассерженный и рассказывает следующее: «Месяц тому назад уехал
мой сосед, оставив двум своим сыновьям два драгоценных камня.
Придя ко мне, они попросили меня объяснить им свойства и
особенности камней, и когда я ответил, что никто не в состоянии лучше это
сделать, как отец-ювелир, они выбранили меня и побили». Король
говорит, что братья поступили дурно и заслуживают наказания,
а еврей применяет свою притчу к Исаву и Иакову и отцу небесному,
великому ювелиру, который один лишь знает отличие камней.
Третий камень, или перстень в какой-нибудь разновидности этого
рассказа, распространил сравнение: вопрос касался уже не двух,
а трех религий. В «Римских Деяниях» и в старофранцузской притче
он стал решаться в откровенно христианском смысле: некто, умирая,
оставляет своим трем сыновьям по перстню; перстни похожи друг
на друга, но между ними настоящий, драгоценный, лишь один.
По смерти отца поднимается между братьями спор, ибо каждый
стоял за подлинность своего перстня. Происходит испытание: только
один из перстней проявляет над больными свою целительную силу,
другие — бездейственны. Толкование притчи такое: отец — господь
наш Иисус Христос, три сына — иудеи, сарацины и христиане; лишь
последние владеют чудодейственным перстнем.
Ближе к настроению еврейской легенды две итальянские, до-
боккаччиевские; как там, вопрос о преимуществе одного из трех
камней, перстней, религий оставлен открытым; рассказывает и
толкует притчу еврей, его совопросник — Саладин, тип
рыцарственного, свободомыслящего, великодушного властителя, перешедший
из Средних веков в рассказы «Novellino» и к Боккаччо. Предание
о нем, внесенное в хронику Ененкеля, объясняет его роль в
следующих новеллах: рассказывается, что, умирая, Саладин задумал
обеспечить посмертную участь своей души, велев расколоть на три
части драгоценный, доставшийся от предков, стол из сапфира и
завещав по части верховному существу, которого почитала каждая
из трех господствующих религий. Эта объективная точка зрения
уступила христианской в двух повестях, одинаково приуроченных
к смерти Саладина: в Chronique d'Outremer (XIII в.) он вызывает
на спор багдадского калифа, иерусалимского патриарха и еврейских
мудрецов: ему хочется узнать, какой из трех законов лучше. Спор его
не убедил, но, распределяя между тремя религиями свое достояние,
он все же завещает лучшую часть христианам. В одном латинском
сборнике XIII века говорится о таком же прении. Моя вера лучше,
утверждает еврей, если б мне пришлось ее оставить, я избрал бы
370
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
христианскую, пошедшую от нее. Таков и ответ мусульманина,
один лишь христианин заявляет, что от своей веры он ни за что
не отступится — и это действует на Саладина: христианство выше
других религий, говорит он, я избираю его.
Итальянские легенды соединяют имя Саладина с
схемой трех перстней, но христианского освещения в них нет.
«Novellino»рассказывает: когда однажды Саладин был в
денежной нужде, ему посоветовали обойти одного богатого еврея и затем
обобрать его. Саладин задает ему вопрос, какая вера лучше,
полагая, что если он укажет на еврейскую, его уличат в принижении
мусульманства, если предпочтет его, можно будет его спросить,
почему же он держится еврейской веры? Еврей отвечает притчей
об отце и трех сыновьях и драгоценном перстне: каждый из сыновей
пристает к отцу с просьбой завещать ему этот перстень; тогда отец
заказывает золотых дел мастеру сделать еще два, совершенно
схожих с настоящим, и, умирая, каждому из сыновей дарит наедине
по перстню. У кого из них настоящий, про то знает лишь их отец.
Так и религий три, отец наш ведает, какая из них истинная, а мы,
его дети, полагаем, что истинная вера именно та, которую каждый
из нас держит.
В «Avventuroso Ciciliano» место действия в Вавилонии, имя
еврея — Ансалон; Саладин, которому необходимы были деньги
для войны с христианами, ставит ему коварный вопрос — о трех
религиях; ответ и толкование те же: один лишь из трех перстней
настоящий, одна из трех вер истинная; какая — я не знаю: отец отдал
настоящий перстень тому, кого пожелал иметь своим наследником.
Новелла Боккаччо — лишь стилистическое развитие схемы
итальянских. Действующие лица — Саладин, султан Вавилона
или Вавилонии, растративший свою казну в различных войнах
и больших расходах, — и александрийский еврей Мельхиседек. Три
перстня применены к трем законам, «которые Бог-отец дал трем
народам...; каждый народ полагает, что он владеет наследством и
истинным законом, веления которого обязан исполнить; но который
из них им владеет — это такой же вопрос, как и о трех перстнях».
К новому освещению вопроса, скрытого под аллегорией трех
перстней, новелла Боккаччо ничего не принесла; к характеристике его
религиозного миросозерцания она могла бы послужить лишь в том
случае, если б дозволено было предположить с его стороны выбор
между ортодоксальной версией «Римских Деяний» и итальянскими,
оставляющими решение открытым. Боккаччо мог просто
воспользоваться последними, потому что они были под рукою, ходили
Художественные и этические задачи «Декамерона»
371
в обществе, как и теперь еще рассказ о трех кольцах известен в
Сицилии и Умбрии. Если он несколько раз обрабатывался в
итальянской литературе XIII-XIV века, то заключать из того о началах
религиозной терпимости в общественной среде надо лишь осторожно.
Повесть носит на себе печать своего происхождения, недаром ее
рассказывает еврей: такой аполог мог быть сложен лишь иноверцем,
поставленным в необходимость считаться с тиранией
господствующей или торжествующей церкви, не противореча — и не сдаваясь,
робко заявляя и свое право на искание истины; «не одним лишь
путем можно дойти до познания столь важной тайны», говорит
Симмах21, защищая веру предков от победоносного христианства.
Таково и настроение аполога: он мыслим в религиозных отношениях
Испании и южной Италии арабско-норманнской поры; в основе это
аполог страха, не свободной мысли, он мог ответить ее чаяниям,
насколько вообще сожительство разных религиозных толков ведет
к уступкам и ослаблению одностороннего гнета, но лишь у Лессинга
рамки старой притчи раскрылись для более широкого и человечного
положения. Между наивным рассказом «Novellino» и «Натаном
Мудрым» прошли века развития, как между эпизодом одной
грузинской, очевидно, христианской легенды и сценой в «Cymbalum
Mundi» Bonaventure Des Périers22.
В легенде рассказывается о бедном старике, который ропщет
на судьбу и которого ангел переносил сонного в рай. Здесь ему
представляется ряд аллегорических видений; одно из них такое:
люди тянут огромный камень в разные стороны и не могут сдвинуть
с места; камень означает бога, те, кто тащит его, одни — грузины,
другие — русские, третьи — татары; каждый старается захватить
его, каждый хвалит свою веру, а о том никто не подумает, что бог —
один для всех, и что отдельно он никому не принадлежит.
Des Periers переносит нас в Афины, в навечерии вакханалий;
Меркурий гуляет с приятелем по городу, заходит в цирк, где три
человека бродят, отыскивая в песке осколков философского
камня — откровенной истины; имена искателей: Cubercus (Bucerus),
Rhetulus (Lutherus), Drarig (Gérard Roussel)23 говорят сами за себя;
а философский камень раздробил сам Меркурий. «Неблагоразумны
вы, говорит он ищущим, что так трудитесь и стараетесь, выискивая
в песке кусочка камня, обращенного в порошок; вы только время
тратите даром на то, чего нельзя найти, чего, быть может, там и нет.
Скажите, однако, вы ведь говорите, что сам Меркурий раздробил
камень и разбросал по цирку? — Да, Меркурий. — Бедные вы
люди, верите Меркурию, великому вчинителю всех злоупотреблений
372
А Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
и обманов! Разве не знаете вы, что он своими доводами и
убеждениями заставит вас принять пузыри за фонари и медные
сковороды — за облака? Неужели же у вас не явилось сомнение, что он мог
дать вам какой-нибудь булыжник с поля, или песку, уверив, что
это и есть философский камень, дабы посмеяться над вами и
потешиться над вашими усилиями, гневом и распрями, пока вы чаете
отыскать то, чего нет?»
На новелле о трех кольцах следовало остановиться: на ней
основывали, как известно, мнения о религиозной терпимости Бок-
каччо; мы искали в ней отражения его личного понимания старого
унаследованного сюжета — и не нашли его новатором. Иначе в
повести о ларцах, где фатализм народной сказки испарился в ее
назидательном применении. Непосредственного источника новеллы,
к которому восходит, вероятно, и Гауэр24 мы не знаем.
Флорентийский рыцарь Руджьери служит у испанского короля Альфонса,
видит, что он дарит щедро, но не по заслугам, а его самого обходит.
Полагая, что это служит к умалению его славы, он решился
покинуть двор, и король отпускает его, подарив ему мула и наказав
одному своему приближенному присоединиться к рыцарю, как бы
ненароком, замечать все, что он станет говорить, а на другое утро
вернуть его ко двору. По дороге они остановились, чтобы дать
помочиться лошадям, но конь Руджьери сделал это не в показанном
месте, а среди реки, где они остановились поить. «Бог тебя убей,
тварь ты этакая, совсем, как твой хозяин!» — Ближний человек
заметил эти слова, и когда на другой день они вернулись ко двору,
король попросил Руджьери объяснить ему свое обращение к мулу.
«Я сравнил вас с ним, отвечает Руджьери, потому, что как вы
дарите, кому не следует, и не даете, где надо, так и он не помочился, где
надо было, а там, где не подобало». — Не моя в том вина, а в твоей
доле, не дозволявшей мне одарить тебя. Что это так, я докажу тебе
на деле, говорит король и ведет его в обширный покой, где по его
приказанию поставили два больших запертых ларца: в одном из них
царский венец и скипетр, держава и всякие драгоценности, другой
полон земли: выбери, какой хочешь, и посмотри, я ли несправедлив
к твоим доблестям, или твоя доля. Выбор Руджьери падает на
ларец с землею, но король решается воспротивиться усилиям судьбы
и, подарив Руджьери ларец, которого она его лишила, отпускает
его домой.
Мотив двух или трех ларцов, всегда связанный с идеей судьбы,
несколько поднятый в своем значении в «Венецианском купце»
Шекспира, встречается в разных сказочных приурочениях. Для
Художественные и этические задачи «Декамерона» 373
источника Боккаччо ваэкна более определенная схема: служилого
человека, отпущенного без награды, потому что такова его судьба.
В «Avventuroso Ciciliano» некий рыцарь служит у английского
короля и также считает себя обойденным его милостью, тогда как
другие одарены без разбора. Следует эпизод с мулом, которого
рыцарь убивает: так отомстил бы он его хозяину! Король
прослышал об этом и, узнав, в чем дело, богато одаряет рыцаря. Эпизода
с ларцами нет, он скорее выпал в оригинале повести, несколько
скомканной, чем был введен Боккаччо. Подобная же схема могла
быть известна автору немецкого «Руодлиба»25 и лишь разбиться
в его изложении: Руодлиб служит верой и правдой нескольким
господам, но ничего не заслужил у них; тогда он решается поискать
счастья на чужбине, у «большого рыцаря», который, отпуская его
от себя, предлагает ему на выбор: одарить его казной, либо
мудрыми изречениями. Руодлиб выбирает последнее, но царь дает ему еще
два серебряные, снаружи обмазанные тестом, коровая,
наполненные золотом и разными драгоценностями, содержимого которых
он не знает, но которые он должен вскрыть в присутствии матери
и невесты. Короваи отвечают ларцам и, быть может, стояли
прежде в связи с мотивом, что Руодлиб удалился, ничего не заслужив.
Идея «доли», затушеванная в «Avventuroso Ciciliano» и «Руод-
либе», выступает ярко в повести «Katha-Сарит-Сагара»26: в городе
Лакшапуре жил царь Лакшадатта, всех щедро одарявший, и был
у него слуга, по имени Labghadatta, день и ночь стоявший у ворот,
с полосой кожи на бедрах, вместо одеяния, но царь ничего не давал
ему, хотя видел его храбрость на охоте и в битве. На шестой год
он ощутил к нему жалость: «Почему бы не дать ему чего-нибудь,
но скрытно, чтобы испытать, искуплена ли его вина, и обратит ли
на него свой лик счастливая доля или нет?» В присутствии всех он
дружелюбно подозвал его к себе и велит ему произнести какое-либо
свое изречение. Тот говорит: «Счастье всегда нисходит на человека
состоятельного, как реки наполняют море, а бедняку не
показывается и на глаза». В награду за это царь дает ему лимон, наполненный
драгоценностями, о чем присутствующие сожалеют, полагая, что
то — простой лимон. Какой-то нищий выпрашивает его у слуги, в
обмен платья, и подносит царю, который удивлен и опечален, что вина
бездольного еще не стерта. На следующий день повторяется та же
сцена дара и обмена; так и в третий раз; на четвертый бездольный
роняет лимон, драгоценности из него выкатились, а царь говорит:
«Этой хитростью я хотел дознаться, взглянет ли на него счастье,
или нет; теперь его вина стерта». И он одаряет и возвышает бедняка.
374
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Если в индийской повести выбор из нескольких ларцов заменен
рядом неудач с одним и тем же даром, то русская сказка
возвращает нас к сцене Боккаччо, но с иным разрешением: Данило служит
у царя, но ему ни в чем не везет, и дело у него не спорится. Взял
царь, насыпал три бочки, одну — золотом, другую — углем, третью
песком, и говорит Даниле: «Коли выберешь золото, быть тебе царем,
коли уголь — ковалем, а если песок, то взаправду ты несчастный:
бери себе коня и сбрую и уходи из моего царства». Данило выбрал
себе бочку с песком.
Подобный народный рассказ мог быть источником новеллы
Боккаччо; он не изменил его сути, но ее фаталистическое
содержание служит ему примером щедрости или великодушия
испанского короля, как в другом случае та же идея неизбежности судьбы
получила у него своеобразное освещение: судьбы, обусловленной
роковой красотою.
Мы имеем в виду прелестную новеллу об Алатиэль; ее имена
и место действия указывают, может быть, на арабский Восток;
приключения напоминают отчасти канву романа Ксенофонта Эфесского
и одну сказку «1001-й ночи», там и здесь с сюжетом красавицы,
Антии или Сирийки, подвергающейся на далеких путях и среди
тысячи случайностей опасности потерять свою честь — и
остающейся целомудренной. У Боккаччо остается лишь внешний вид,
заверение целомудрия, видимость идет за суть, все дело в вере;
и почему бы нет, по пословице, уста от поцелуя не умаляются,
а как месяц обновляются? Это героическая повесть наизнанку,
торжествует не добродетель, а нечто другое, чего мы не назовем
порочностью: в нем слишком много наивного, бессознательного,
невменяемого. Надо было сильно переработать тип невинной
красавицы, преследуемой рядом злополучий, чтобы придти к такому
радикальному его превращению, но очень вероятно, что Боккаччо
имел в виду не рассказы этого рода, а какой-нибудь другой, в
котором роковое нецеломудрие было основной ситуацией. Такова
повесть «Katha-Сарит-Сагара», которая могла дойти до Боккаччо
в отражении какого-нибудь мусульманского пересказа. Самара,
король видьядгаров, проклял свою дочь Анангапрабгу за то, что
в самомнении своей красоты и юности она отказывалась от брака:
она сойдет на землю, станет человеческим существом и никогда
не будет счастлива в супружестве. Она родится под именем Ананга-
рати, как дочь короля Магаварахи, и также обнаруживает неохоту
к браку, чванясь своей красотой: ее мужем должен быть человек
красивый, храбрый, обладающий каким-нибудь диковинным
Художественные и этические задачи «Декамерона» 375
умением. Являются четыре соискателя: один — судра, чудесный
ткач, второй — ваисья, понимающий язык всех зверей и птиц,
третий — кшатрия, всех превосходящий умением владеть мечом,
четвертый — брахман Дживадатта, некрасивый собою вследствие
тяготеющего на нем проклятия (он полюбил дочь одного
отшельника), поклонник богини Дурги, силой которой он оживляет
мертвецов. Никто из них не нравится красавице, да и астролог объявляет,
что она — видьядгара, проклятие которой кончится через три
месяца, и ее брак совершится на небе. В означенный срок девушка
действительно обмирает, и Дживадатта в отчаянии, что не в силах
ее оживить, готов убить себя, когда является Дурга,
останавливает его, вещает о доле Анангапрабги и дает ему меч, с помощью
которого он станет переноситься по воздуху и будет непобедим.
Дживадатта летит в царство отца Анагапрабги, побеждает его в бою
и понуждает выдать за него дочь. Некоторое время он живет с ней
счастливо, но затем ему захотелось вернуться на землю, в смертный
мир, на что дальновидная жена соглашается лишь неохотно. По ее
просьбе они останавливаются отдохнуть на горе; здесь начинаются
любовные приключения Анангапрабги. Первое напоминает мотив,
знакомый средневековой повести и народной, напр., сербской
песне: влекомый роком, Дживадатта просит жену спеть что-нибудь;
сам он заснул, а песня привлекает внимание короля Гаривары,
охотившегося там и искавшего, где бы напиться. Он увлечен
красавицей, она безумно влюбилась в него, сама открывается ему,
велит взять волшебный меч мужа и побуждает к бегству, пока тот
не проснулся. У нее явилась было мысль схватить своего милого
и улететь с ним на небо, но ее предательство лишило ее знания,
вспомнилось и проклятие отца, и она опечалилась. Король утешает
ее: от судьбы не уйти, как от своей собственной тени. Она уезжает
с ним, а муж, проснувшись, хватился ее и меча, загоревал, ищет
на горе и в лесах, но напрасно. В одной деревне он встретил брах-
манку; она — вещая, потому что даже во сне ей не видится никто,
кроме мужа, все мужчины ей братья, и она не отпускает ни одного
гостя, не учествовав его. Она-то и говорит Дживадатте, что его
жена увезена: такова ее судьба, что она покинет и короля и будет
жить с другими. Эти слова вразумили Дживадатту: он оставил
мысль о жене, начинает странствовать по святым местам и вести
жизнь отшельника. Между тем Анангапрабга убегает от
Гаривары с учителем танцев, которого оставляет для молодого игрока,
а у него ее отбивает его приятель, богатый купец Гираньягупта.
Услышал о ее несравненной красоте царь Вирабаху, но не похитил
376
А. Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ
ее, а остался в пределах честности. Когда Гираньягупта прожился,
поехал торговать, чтобы поправить свои дела; в одном городе он
знакомится с рыбацким атаманом Сагараварой и с ним и с женой
садится на корабль: буря разбивает его, Гираньягупту приняло
купеческое судно, а рыбак посадил Анангапрабгу на доски,
связанные веревкой, и доплыл с ней до своего города, где она и стала
его женой. Но она уходит от него с одним кшатрией, а затем
отдается королю Сарагаварману. Тут кончилось и проклятие, бывшее
причиной того, что она, погнушавшаяся одним мужем, проявила
такую страстность ко многим мужьям: она успокоилась с своим
супругом, как на лоне моря успокаиваются реки.
В новелле Боккаччо нет вступительного эпизода с проклятием,
объясняющим роковую долю красавицы, но идея судьбы
выражена ясно: Памфило желает доказать своим рассказом, что ни одно
человеческое желание не застраховано от случайностей судьбы,
и говорит о «роковой красоте одной сарацинки, которой, по причине
ее красоты, пришлось в какие-нибудь четыре года сыграть свадьбу
до девяти раз». Алатиэль отправлена отцом, султаном Вавилонии,
в замужество к королю дель Гарбо, но ее корабль разбит бурей,
и она поочередно попадает в руки Периконе де Висальго, его брата,
генуэзских корабельщиков, морейского принца, афинского герцога,
сына константинопольского императора, султана Осбека, его
приближенного Антигона, купца из Кипра — и наконец своего нареченного
жениха, которого она заверила в своей девственности и с которым
долгое время жила в веселии. На меня это ироническое заключение
с следующей затем легкомысленной выходкой — об устах, не
умаляющихся от поцелуя, — действует, как сознательный диссонанс,
неожиданно разрешающий мелодию фатализма. Он наполняет
новеллу об Алатиэль; нет проклятия отца, его заменила идея
красоты, культ которой обновился с обновлением гуманистических
интересов. Она — неотразима: Фьямметта, покинутая Панфило,
видит в ней свое несчастье, Алатиэль — свой рок. Кто бы ни увидел
ее, не может не влюбиться, не пожелать овладеть ею. Когда в конце
рассказа, готовясь открыться служителю своего отца, Антигону,
она говорит ему, что желала бы скорее умереть, чем вести жизнь,
какую вела, она несомненно говорит от сердца, в полном сознании,
что пережитое ею было и бедствием и позором. А между тем
переживала она его как-то бессознательно, горюя и отдаваясь, чередуя
слезы и примирения с судьбой. Ее любовник Периконе убит своим
братом, Маратом, с целью овладеть ею; она много сетовала о том,
а затем, привыкнув к Марату, забыла о Периконе, и ей начинает
Художественные и этические задачи «Декамерона» 377
казаться, что все обстоит благополучно; сын
константинопольского императора, Константин, похитил ее у афинского герцога; она
оплакивает свое несчастье, но «затем, утешенная Константином,
она, по примеру прошлого, начала находить удовольствие в том,
что уготовила ей судьба». Она может показаться ветреной,
живущей моментами наслаждения и короткими приливами неглубокого
горя, но лишь так психологически понятая она и могла явиться
безотчетной игрушкой судьбы, прирожденной ей с красотою,
и фаталистический тип народной сказки — стать живым образом,
симпатичным в своей человеческой слабости.
Это «очеловечение» типа мы склонны приписать
художническому почину Боккаччо; именно желание определить характер этого
почина и побудило нас сопоставить несколько новелл Боккаччо
с другими, которые могли быть его источниками, но в большей
части случаев служат лишь свидетельством, что схемы его новелл
существовали в более ранних литературных и народных пересказах.
Это лишает нас возможности усчитать значение его личного вклада,
сознательного выбора и тех изменений, которые он счел нужным
предпринять в содержании унаследованных сюжетов.
IV
Попробуем подойти к тому же вопросу с другой стороны: со
стороны стиля.
Уже одно сравнение новеллы Боккаччо с предшествовавшим
ему литературным рассказом обличает большую разницу: там все
схематично, зачаточно в фразе и плане, здесь все развито,
чувствуется стремление к полноте, нередко переходящей в излишество.
Боккаччо видимо и сознательно выписывает новеллу, внося в ее
обработку не только свой психологический опыт, но и неистощимый
запас формул и оборотов, вычитанных у классиков. Можно
сомневаться в состоятельности этого сочетания: иной раз цицероновский
период, общее место софизма кажется не в ладу с содержанием
и положениями рассказа; речь излишне расчленяется и изобилует
риторическим повторением вопроса, антитезами; эпитет утомляет
своей обязательностью, преобладанием превосходной степени над
положительной: красивейший, величайший и т. д. Мы уже знаем,
что эта несоразмерность стиля и содержания у Боккаччо древняя,
начиная с «Филострато» и «Филоколо». Цель искупала средства:
надо было поднять прозу новеллы до прав литературного рода,
а где было найти для этого внешний стилистический материал, как
378
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
не у классиков? Они были образцами изящного, на них воспитался
культ «украшенного» слова, их приемы обязывали писателя, из них
брали огульно, неразборчиво, закупленные поэзией звучной речи;
они и полонили своей фразой и риторикой и воспитывали вкус
к более свободному творчеству.
Защита ораторского и риторского искусства у Боккаччо в его
«De Casibus»27, вызванная панегириком Цицерону, переходит
в похвалу нарядного, мерного слова (moderata) вообще. Дар
слова — это то, что отличает нас от животных, орган человеческой
мысли, науки, говорит он; но есть два рода речи: та, которой мы
научаемся у кормилицы, простая, грубая, общая всем, и другая,
которую бессознательно усваивают немногие уже в летах,
украшенная, цветистая, связанная известными правилами. Какой же
неразумный не предпочтет последнюю и не потщится очистить
и сделать изящным орудие, служащее столь высоким целям?
Не всегда же мы обращаемся лишь к слугам, чтобы они подали
нам пищу, не все беседуем с крестьянином о сельских нуждах;
обращаться с такою же речью к Творцу неприлично, да и в иных
случаях неумелая речь приводила к нежеланной плачевной
развязке, ибо говорящий не владел искусством слова, смотря по
обстоятельствам, то сурового и колкого, то умиротворяющего,
изящного и красивого или полного наставительности, поддержанного
соответствующей дикцией — когда, например, надо умилостивить
разгневанного властителя, развеселить печального, ободрить
коснеющего, поддержать погрязшего в лени и сладострастии. Вот
почему надлежит прилагать всякое старание к украшению речи; это
не только требование необходимости, но и простого приличия: мы
ведь не ограничиваемся тем, что защищаемся от холода и солнца
крышей и стенами из дерна и тростника, а поручаем устройство
наших жилищ ученым мастерам; ту же заботу обнаруживаем мы
и в одежде, утвари, пище. Как же пренебречь нам речью, если
только найдутся учителя? Она, прельщая слух, увлекает волю
и услаждает ум. Как согласное созвучие струн, овладевая нашим
духом, на первых порах как бы растворяет его своею сладостью,
а затем собирается в один аккорд, так украшенная речь,
воспринятая душою, вначале нежно бередит ее и затем захватывает
всецело, и слушающие стоят изумленные, неподвижные, готовые
отдаться говорящему.
Это, в сущности, похвалы ораторской риторике, но стилисты
ранней поры Возрождения неразборчивы в своих литературных
образцах, и проза «Декамерона», тщательно выработанная, указывает
Художественные и этические задачи «Декамерона»
379
на такое смешение. Именно ее стилизация является одной из
главных заслуг Боккаччо — хотя он видимо ее отрицается: защищая свои
рассказы в введении к 4-му дню, он говорит, что писал их «не только
народным флорентийским языком, в прозе и без заглавия, но и,
насколько возможно, скромным и простым стилем». «Без заглавия»
передает «senza titolo»; это точно, но требует объяснения, ибо не
выражает того, что имеет в виду.
«Декамерон», т. е. десятидневник, не заглавие, выражающее
содержание труда, во всяком случае ничего не обещающее,
скромное; это и хотел, по-видимому, сказать Боккаччо, играя двояким
значением латинского titulus: слава, известность — и заглавие.
Когда-то Фьямметта превозносила его стихи con sommo titolo
(предисловие к «Тезеиде»), т. е. давала им высокую цену; о себе
Боккаччо говорит в одном из юношеских писем, что он живет sine titulo,
т. е. без славы, невидно; наоборот, выражение Фьямметты о своей
книжке, что она обойдется без «красивых миниатюр или пышных
заглавий», передает овидиевское «Nee titulus minio... notetur».
Изгнанный из Рима отчасти за свою «Ars Amatoria», Овидий
посылает туда свой труд: он печален, как его автор, не расписан; в этом
смысле о нем и говорится далее: у тебя нет (расписного) титула,
но тебя узнают по цвету; кто тебя отринет, тому скажи: Взгляни
на мое заглавие, я не наставник любви; когда вступишь в мой дом,
увидишь своих братьев: одни открыто показывают свои заглавия,
три другие прячутся в темном углу. Они только скрывают свои
заглавия, будто стыдятся. Средневековые переписчики поняли sine
titulo как заглавие, надписывая им три книги Amorum; так
обозначает их и Боккаччо в комментарии к «Божественной Комедии» :
их можно так назвать, говорит он, потому что у них не один, цельный
сюжет, от которого можно было бы отвлечь заглавие, а множество
меняющихся от одного стиха к другому. В этом смысле и
«Декамерон» был бы книгой sine titulo.
Но это не все. Когда Боккаччо впервые выступил на защиту своего
труда, он, очевидно, еще не стыдился его содержания, а заявлял
лишь то, что говорил о себе Овидий: что на великие сюжеты он
неспособен, пашет крохотное поле; в таком случае выражение senza titolo
означало бы, что «Декамерон» написан «без претензий», не про тех,
кто учился в Афинах, Болонье или Париже, не для изощривших
свой ум в науках, а на потеху молодух, для которых «было бы глупо
выискивать и стараться изобретать вещи очень изящные и полагать
большие заботы на слишком размеренную речь»; надо было
рассказывать пространно, имея в виду не учащихся, а тех, «которых
380
А Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
едва хватает на прялку и веретено». И вместе с тем в «заключении»
«Декамерона» Боккаччо нашел нужным оговорить именно свой
стиль, изложение; он, стало быть, дорожил тем и другим, и мы
вправе сомневаться в его искренности. Нам знакома его скромность,
всегда подбитая сознанием, что у него есть право на зависть. Он
писал без претензии, а «бурный и пожирающий вихрь зависти»,
долженствующий «поражать лишь высокие башни и более
выдающиеся вершины деревьев», поразил и его, всегда старавшегося «идти
не то что полями, но и глубокими долинами». Но «одна лишь
посредственность не знает зависти», и «потому да умолкнут хулители»,
оставив его при своем. Так говорят лишь о том, чему дают известную
цену; цену относительную: «Декамерон» дописывался в ту пору,
когда Боккаччо обуяла исключительная любовь к классической,
латинской поэзии, и его итальянские произведения казались ему
чем-то ребяческим и жалким. В этом, может быть, другое, на этот
раз искреннее объяснение его собственной оценки «Декамерона»:
без претензии; все вместе могли быть вызваны критикой, которую
встретила его книга при своем появлении.
Как старательно трудился Боккаччо над стилем и композицией
«Декамерона», иное развивая, иное выключая, в этом легко
убедиться, сравнив, например, типы стариков в «Амето» и «Декамероне»,
II, 6, и две новеллы, дважды обработанные автором на расстоянии
каких-нибудь десяти лет: в «Филоколо», кн. V, в эпизоде любовных
бесед, которыми руководит Фьямметта, и в десятом дне
«Декамерона», в новеллах 4-й и 5-й. Содержание первой пары рассказов,
мотивы которых попали, вероятно, из какого-нибудь еврейского
источника и в нашу «Палею», следующее: некий рыцарь тщетно
ухаживает за женой другого; чтобы отвязаться от него, она ставит ему,
как условие своей любви, требование, исполнение которого кажется
ей невозможным: доставить ей в январе цветущий сад. Рыцарь
исполняет это с помощью некроманта, и красавица смущена; выведав
от нее причину ее печали, муж настаивает на том, чтоб она сдержала
свое слово, и она идет; когда рыцарь узнает, что она явилась к
нему лишь по желанию мужа, он, пораженный его великодушием,
отказывается от своих прав, а некромант, в борьбе того же
чувства, — от платы, выговоренной за его услугу. Кто из троих проявил
более великодушия: муж, рыцарь или волшебник? Об этом долго
рассуждают собеседники в «Филоколо»; в «Декамероне», где этому
рассказу отвечает 5-я новелла 10-го дня, этот вопрос едва намечен.
«Филоколо» помещает место действия в Испании; в «Декамероне»
география другая: Фриули, и именно Удине; все действующие лица,
Художественные и этические задачи «Декамерона»
381
кроме некроманта, названы по именам, в «Филоколо» только двое,
и имена другие: рыцарь Тарольфо и некромант Тебано. Одно новое
лицо введено в новеллу «Декамерона»: женщина, которая служит
рыцарю для посылок к его даме и передает ему о ее желании — иметь
чудесный сад; но это мелочная подробность, ничуть не обогащающая
действия. Важнее выключение целого эпизода из новеллы в
«Филоколо», занимающего почти ее половину. В «Декамероне» рыцарь
посылает по всем краям света искать кого-нибудь, кто бы устроил
ему требуемую диковинку; является волшебник и своими чарами
создает сад. Все это рассказано в нескольких строках. В «Филоколо»
сам рыцарь отправляется на поиски, объехал весь запад, очутился
в Фессалии; однажды на заре он идет по полю, когда-то обагренному
римскою кровью (фарсальское); пошел один, чтобы свободнее было
предаваться грустным мыслям и видит маленького, сухопарого,
бедно одетого человека, собирающего травы. Между ними
завязывается разговор. «Разве ты не знаешь, где ты? — спрашивает
Тарольфа незнакомец: — яростные духи могут здесь учинить тебе
зло». — «Моя жизнь и честь в руках господа, да и смерть была бы
мне мила». — «Почему так?» —допрашивает незнакомец. — «К
чему говорить?» — нехотя отвечает рыцарь, не ожидая себе помощи,
тем не менее он рассказывает, в чем дело, и слышит упрек, что
по платью о людях не судят, что под рубищем скрываются порой
сокровища знания. Незнакомец оказывается некромантом из Фив;
согласившись с рыцарем за половину его состояния устроить ему сад,
он едет с ним, — и мы присутствуем при сцене заклинаний и чар.
Разоблачившись, босой, с волосами, распущенными по плечам,
некромант выходит из города ночью; птицы и звери и люди спят,
на деревьях не шелохнутся не успевшие еще опасть листья,
влажный воздух дремлет, блестят одни лишь звезды, когда он приносит
жертвы и творит молитвы Гекате, Церере, всем тем богам и силам,
с помощью которых он совершил столько чудес, заставлял луну
достигать полноты, чего другие добивались, ударяя в звонкие тазы,
и т. д. Внезапно перед ним явилась колесница, влекомая двумя
драконами: сев в нее, он мчится по всему свету: Африка и Крит, Пелий,
Отрис, Осса и Монтеперо, Апеннины и Кавказ, берега Роны, Сены,
Арно и царственного Тибра, Танаиса и Дуная мелькают перед нами,
всюду он собирает злаки, коренья и камни; когда на третий день он
вернулся назад, от аромата его чудодейственных зелий драконы
помолодели, сбросив старую шкуру. Затем начинается волхвование:
в котле, наполненном кровью, молоком и водою, варятся
принесенные снадобья, всевозможные семена и злаки, иней, собранный
382
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
в прошлые ночи, мясо страшных ведьм, оконечности жирного козла,
щит черепахи, печень и мозги старого оленя. Чародей мешает все
это веткой оливы, и она зазеленела, расцвела и покрылась черными
ягодами; тогда он орошает чудесной жидкостью место, назначенное
для сада, и посаженные там сухие тычины оделись зеленью,
земля — травой и цветами. Чары исполнились.
Весь эпизод заклинания воспроизводит рассказ Овидия о чарах,
которыми Медея возвращает юность старику Эзону; это почти
перевод, кое-где с обмолвками, мотивами из Вергилия и Лукана и
распространениями: подновлена география, вместо Tellus28 названа
Церера, самое чудо с садом подсказано той подробностью чар, где
от капель, упавших на землю, она зазеленела и покрылась цветами.
Автор «Декамерона» вышел из периода центона, сумел
освободиться от игры в эрудицию, пожертвовав ею для экономии рассказа,
в котором проделки некроманта грозили заслонить основной мотив.
Мотив остался тот же, что и в «Фи л около»: борьба великодушия,
хотя нельзя сказать, чтобы преимущество психологической
обоснованности было на стороне нового пересказа. В «Филоколо»,
когда дама убедилась в появлении сада и рыцарь напомнил ей о ее
обещании, она, не зная, как быть, говорит ему, лишь бы отделаться
на первый раз, чтоб он подождал, пока муж выедет куда-нибудь
из города; затем она открывается мужу, и тот, не пожурив ее, ибо
знал ее чистоту, по долгом размышлении велит ей пойти и
исполнить,, что обещала. Тарольф естественно изумляется не тому, что
она явилась к нему не одна, а тому, что муж, по-видимому, никуда
не уезжал; оттого он и спрашивает ее: как могла она прийти к нему,
не повздорив с мужем? В «Декамероне» многие из этих подробностей
затушеваны не к ясности дела и психологической мотивировки:
исчезла та растерянность, которая заставила красавицу сослаться
на возможный отъезд мужа, и рыцарь дивится лишь тому, что она
пришла не одна. Когда она покаялась мужу, тот, убежденный в ее
невинности, держит ей речь: как опасно внимать любовным
посланиям, ибо сила слов, воспринимаемых слухом и проникающих
в сердце, могущественнее, чем предполагают обыкновенно, и делает
для любовников все возможным. Затем он велит ей идти, но его
великодушие не цельное, оно умаляется софизмом и соображением,
не имеющим ничего общего с жертвой: пойди, постарайся
сохранить свою честь, а коли нет, отдайся телом, не душой; он не
скрывает даже того, что его побуждает к его решению, между прочим,
страх, как бы рыцарь, обманутый в своих ожиданиях, не побудил
некроманта учинить с ними что-нибудь худое! Очевидно, лишь
Художественные и этические задачи «Декамерона»
383
склонность к изобилованию подробностями, к внешнему развитию
повела Боккаччо к такому ухудшению типа.
Образчиком риторического распространения может служить
4-я новелла десятого дня в сравнении с 13-м вопросом V-й
книги «Филоколо». Содержание напоминает флорентийскую быль
о Джиневре дельи Альмьери, воспетую каким-то народным певцом
XV века. В «Филоколо» имен нет, в «Декамероне» рассказ
обставлен именами и итальянской географией. Один рыцарь любит жену
другого, но без взаимности; пока он уезжает на службу в другой
город, его милая обмирает в родах, не разрешившись от бремени,
и похоронена, как умершая. Проведав об этом, решившись взять
с нее, хотя и мертвой, поцелуй, он тайно возвращается, проникает
в склеп и, обнимая покойницу, чувствует в ней признаки жизни.
Тогда он извлек ее из гробницы и ведет к своей матери; их
попечениями она возвращена к жизни и родит сына. По желанию рыцаря,
она остается у его матери, пока он не приедет, отбыв срок своей
службы; вернувшись, он задает богатый пир, на котором
присутствует и муж мнимой покойницы; ему-то рыцарь торжественно
передает жену и сына.
В «Филоколо» эта повесть о великодушии рассказана довольно
бедно. На пиру даму выводят в том самом платье и тех же
украшениях, в которых она была похоронена; она сидит рядом с мужем
и молчит, тогда как тот приглядывается к ней и наконец спрашивает
рыцаря, кто она. Не знаю, отвечает он, я вывел ее из очень скорбного
места; и дама подтверждает это иносказательно: он привел меня
сюда, неведомым путем, из всем желанной, блаженной жизни. Лишь
после пира рыцарь ведет всех в комнату, где показывает ребенка,
и совершается признание.
В новелле «Декамерона» все внимание обращено на сцену пира:
получается театральный эффект, потому не производящий особого
впечатления, что он сознательно предусмотрен и рассчитан главным
действующим лицом. Собрав гостей, рыцарь говорит им, что
намерен соблюсти в Болонье персидский обычай: там, кто хочет особо
учествовать друга, приглашает его к себе и показывает, что у него
есть самого дорогого, уверяя, что еще бы охотнее показал ему свое
сердце. Но прежде чем соблюсти это, рыцарь просит разрешить одно
его сомнение: если кто-нибудь, не дождавшись кончины верного
слуги, выбросит его на улицу, а другой его подберет и излечит,
вправе ли первый хозяин слуги сетовать, если второй откажется
возвратить его? Когда все ответили, что не вправе, рыцарь велит
позвать на пир даму, которая и является с ребенком на руках: «Вот
384
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
что у меня наиболее дорого», — говорит он. Все смотрят на нее,
особенно муж: ее начинают расспрашивать, она молчит по уговору.
«Да она у вас немая, говорят рыцарю; кто же она такая?» — «Это
тот верный слуга, которым не дорожили ближние, а я извлек из
объятий смерти». — И он рассказывает, как было дело.
Предложенный нами анализ новелл в их последовательной
обработке приготовил нас к общему вопросу: о Боккаччо как стилисте.
Приступая к нему, не следует упускать из виду исторической точки
зрения, не увлекаться, вместе с недавними беззаветными
поклонниками Боккаччо, всякой его фразой, как пробным золотом; надо
помнить, с другой стороны, что критического текста «Декамерона»
мы до сих пор не имеем, и что многое неладное и шероховатое в его
изложении может оказаться наследием переписчика. Тем не менее
многое иное, столь же шероховатое, остается и в критическом тексте:
наследие борьбы с латинским периодом, отчасти доказательство
того, что, несмотря на несколько лет труда, «Декамерон» все тке
не получил окончательной отделки. На это указывают мелкие
противоречия в подробностях новелл, обратившие внимание уже
одного из древних переписчиков «Декамерона», Маннелли. Оттуда
ничем не объяснимое повторение одного и того же слова в
нескольких строках, на что уже в начале XVII века указывал Paolo Béni
(Anticrusca, 1612 г.): так в новелле 10-й шестого дня слово aperta
(открыв, открытой) стоит трижды почти подряд, в начале VII, 4
четыре раза fu (был, была) в тех же отношениях, в VIII, 3
столько жс раз поражает глагол сегсаге (искать), в новелле о Гризельде
злоупотребление словом опог и глаголом mandare (mandato, mando,
mandato) . Но есть повторения и другого рода. Десятая новелла
1-го дня начинается так: «Достойные девушки, как в ясные ночи
звезды — украшение неба, а весною цветы — краса зеленых полей,
так добрые нравы и веселую беседу красят острые слова» и т. д. Это
введение почти дословно воспроизведено в 1-й новелле VI-го дня;
так первые строки I, 5 совпадают с началом VI, 7, две новеллы
подряд кончаются одинаковым пожеланием: да пошлет Господь и нам
насладиться нашей любовью.
Не все в этих повторениях следует, быть может, объяснить
недосмотром: у Боккаччо есть любимые образы, афоризмы, обороты,
которые снуют в его памяти и просятся под перо. Примеры тому
мы не раз встречали до «Декамерона»: девушки бродят в воде;
молодой человек наблюдает из потаенного места за любовной или
другой сценой; огонь охватывает сухие предметы; сорвать розу,
не уколовшись шипами; бык валится, сраженный смертельным
Художественные и этические задачи «Декамерона»
385
ударом; человек жаждет того, чего у него нет, ему нравится чужое;
культура развивается поступательно; сны бывают вещие и т. п.
Брат Чиполла морочит своих наивных слушателей такими же
рассказами о небывалых странах, как Мазо дель Саджио — простака
Каландрино; когда случилось что-либо необычное в хорошем или
дурном смысле, рассказчик так обращается к слушателям: «Как все
было — это вы можете себе вообразить» — и т. д. Такие общие места
можно встретить у каждого поэта, иные навеяны чтением,
повторяются по косности, другие характерны для тона миросозерцания.
Есть еще род повторений, объясняемых самым планом
«Декамерона» и свойственной Боккаччо крохотливой обстоятельственно-
стью. Десять раз встает день над обществом рассказчиков, и всякий
раз нам говорят, что они поднялись, погуляли, собрались для беседы,
спели несколько песенок и пошли спать по усмотрению короля или
королевы. Это, вероятно, так и было, но в пересказе утомительно;
Боккаччо не ищет разнообразия, или находит его в мелочах; только
введение в IV-й день разнообразится спором Тиндаро с Личиской,
конец — прогулкой в Долину Дам, да в заключении V-ro дня есть
бойкая сцена с Дионео, наивно напрашивающимся на песни.
Самое чередование рассказов, иногда совершенно случайное,
отвечающее случайностям беседы, вызывало одни и те же положения,
которые и воспроизводятся в точности: когда новелла кончилась,
и ее обсудили или по поводу ее посмеялись, королева или король
велит продолжать другому. Рассказчик или рассказчица начинают
с общего, по большей части нравоучительного введения, иногда
в связи с предыдущей новеллой; начало рассказов типическое,
напоминающее свободные приемы сказочника: жил недавно тому назад;
итак, скажу; много прошло времени; немного лет прошло; итак,
вы должны знать; был когда-то, и т. п. Заключения представляют
больше оттенков; смотря по содержанию новеллы это либо общее
место (долго и добродетельно прожили; подобру-поздорову), либо
пожелание (да устроит, пошлет бог), прибаутка (уста от поцелуя
не умаляются), или утверждение, что так-то было: «таким-то
образом наставляют уму-разуму тех, кто не вынес его из Болоньи».
Перейдем с той же стилистической точки зрения к внутренней
разработке самих новелл. Что нередко поражает в их композиции,
это преобладание эпизода, разработка частностей, невнимательная
к условиям общего плана, который они застят, как бы ни были они
интересны сами по себе. Уже в «Фи л около» и «Тезеиде», в «Ninfale
Fiesolano» и «Фьямметте», мы встречали целые главы и песни,
перераставшие целое; для «Декамерона» образцом может служить
386
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
известная новелла о Чимоне: она и памятна нам исключительно
одной своей частью, рассказом о том, как любовь преобразила
грубого, неотесанного юношу; но с содержанием самой новеллы он
вовсе не вяжется необходимо, им не обусловлен: и не просвещенный
любовью, как «Амето», Чимоне мог бы увезти Ефигению, попасть
в тюрьму и снова увлечь свою милую. Но такова особенность Бок-
каччо, что он отдается именно эпизоду, не минует ни одной мелочи,
не оглядев ее со всех сторон, не исчерпав до дна, не взяв от нее всего,
что она может дать, точно лакомка, медленно смакующий каждую
крошку. Эта особенность его таланта, выражающаяся и в его стиле,
изобильном и не суггестивном, и делала его поочередно, смотря
по качеству материала, то чутким аналитиком, внимательно
взвешивающим всякий факт жизни, черту характера, то диалектиком,
извлекающим из данного тезиса все, что лежит в нем самом
абстрактно, логически. Это то же сочетание видимо противоположных
качеств, как в таланте Овидия; у гуманистов оно объясняется любовью
к звучной фразе, к общему месту, апофтегме; что в таких случаях
ритор нередко перечил психологу, понятно само собою. Недаром
флорентийские аристархи упрекали Петрарку, что предсмертная
речь Магона в его «Африке» не отвечает ни моменту, ни годам его
героя. Петрарка защищается в письме к Боккаччо, допуская, что
красноречие, не идущее к лицу и делу, не спасает; в этой ошибке
он будто бы неповинен, — ив том же письме он сам противоречит
себе, рассуждая по поводу лихорадочной зависти критиков — о
лихорадке, которой одержимы лев и коза, с ссылками на классиков
и этимологиями. Когда в новелле Боккаччо Танкред открыл
любовную связь своей дочери Гисмонды с худородным Гвискардо, она
защищает себя мужественно, не смущаясь, но ее речь в оправдание
законов юности, равноправности людей и бессословной любви —
защитительная речь, долженствующая показать величие ее духа,
слишком размерена для уличенной девушки и переживаемого ею
настроения. Так у Овидия, готовясь умереть, Канака29 сама себя
изображает сидящей, с пером в правой руке, обнаженным мечом
в левой и хартией, лежащей на ее лоне. Так объясняется странная
незастенчивость Гризеиды и Бьянчифьоре у Боккаччо, Миранды —
в шекспировской «Буре». Здесь ритор подсказывал психологу.
Разумеется, следует принять в расчет, что, изображая Гисмон-
ду, Боккаччо имел в виду один из тех героических типов, которые
жизнь являла редко, и которые невольно принимали статуарный
характер антика. Классические увлечения принесли свои
плоды: герои и героини не могут не быть величественны, они стоят
Художественные и этические задачи «Декамерона» 387
на котурнах, их речь спокойна и торжественна даже ввиду смерти,
как у Гисмонды или у Митридана; сами они слишком сдержанны
среди испытаний, как Джиневра, Джилетта или Гризельда. Если
в подобных случаях известная деланность подсказана средой,
искавшей в древности идеалов казового величия, и риторизм понятен,
как средство, в других он сам себе служит целью. Маэстро Альбер-
то, защищающий перед мадонной Мальгеридой свое старческое
увлечение, жены, логически оправдывающие свое падение, еще
не выходят из правды жизненного типа, но когда Зима, объясняясь
с своей дамой, обязанной молчанием, держит ей речь от себя и от нее,
когда Тедальдо, вернувшись к своей милой, неузнанный, подробно
развивает перед ней, что ее холодность к нему была татьбой и
непристойным делом, ибо она отняла у него — его собственность; когда
Джизиппо, уступая свою невесту другу Титу, уверяет его, что, отдав
ее лучшему, он сам не теряет ее, и оба долго рассуждают на тему
о дружбе, — все это выходит из границ психического момента, точно
он выделен из действительности, и над ним орудуют отвлечениями,
не гнушаясь крайним софизмом. Всего ярче обнаруживается этот
прием в новелле о школяре, которого провела вдова, а он отомстил
ей, заманив ее, обнаженную, на башню, и, стоя внизу, глумится
над ней; большая часть новеллы проходит в обвинительных речах
школяра и защитительных речах дамы; те и другие более
рассудочны, чем страстны, не забыт ни один аргумент, ни одно положение
за и против, ибо не следует «издеваться над учеными», знающими,
по большей части, «где у черта хвост». Боккаччо забыл критическое
положение своих героев и, войдя в роль школяра, в самом деле,
переносит нас в средневековую школу.
Такой же обстоятельностью отличаются и другие части
«Декамерона», где только был повод проявить качества стилиста. Начну
с элемента описаний. У Боккаччо к ним издавна слабость: в «Фило-
коло» есть подробные до мелочи описания дворцов, убранства, сцен
битвы; «Фьямметта» дала нам картинку байского берега, в «Амето»
и «Ninfale Fiesolano» есть несколько пейзажей, вещие сны в «Фило-
коло» раскрывают симпатии непочатой, дикой природы с
элегическим настроением человека, хотя вообще-то сентиментальное чувство
природы, которое почему-то ведут от Петрарки, как позднее вели
от Руссо, у Боккаччо не развито. Именно о Петрарке он говорит,
что его приковывала к Воклюзу «прелесть уединения», манившего
к себе поэтов и святых отшельников, потому что в лесах нет ничего
искусственного, прикрашенного, вредного для ума. «Все
созданное природой просто: там высящиеся к небу буки и другие деревья
388
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
простирают густую тень молодой листвы, там земля покрыта
зеленою травою и испещрена разными цветами, прозрачные источники
и серебристые потоки спускаются из плодоносного недра гор; там
поют пестрые птички, ветви звучат от веяния мягкого ветерка,
резвятся звери; там стада и пастуший дом, либо бедная лачужка; все
исполнено покоя и тишины и не только ласкает пресыщенные глаза
и слух, но и заставляет ум сосредоточиться, обновляя его усталые
силы, возбуждая к размышлению о возвышенных предметах» —
и к творчеству. В XI веке Петр Дамиани также воспевал блаженное
уединение своей кельи, где для него горели розы любви, цвели
в снежной белизне лилии целомудрия, мирт самоистязания, тимьян
непрестанной молитвы, где человек снова восходил к Божьему
образу, и в борьбе духа и плоти побеждал дух. У Боккаччо центр тяжести
переместился: уединение воспитывает поэта, оно необходимо для
него, твердит Петрарка, противореча на этот раз Квинтиллиану30
и Овидию. Идеализация природы была лишь следствием
потребности культурного человека уйти в себя, обособиться для себя; в
такой природе он был один и естественно переносил на нее то чувство
одиночества, которого искал, которое находил и среди молчаливых
памятников прошлого. У Боккаччо была археологическая жилка,
но не ею одной объясняется, почему одиночество природы так часто
совпадает у него с культом старины, почему у его Фьямметты
панегирик сельской жизни и первобытной простоты сливается с грустным
чувством антика, «нового» для современных умов.
Но такое настроение держится у Боккаччо недолго; что ему
нравится — это природа ласковая, смеющаяся, побежденная
человеком, устроенная для житья, пейзаж, привольно раскинувшийся
на отлогих холмах, сады, расположенные по геометрическому
плану, с дорожками, прямыми, как стрелы, и стадами прирученных
диких зверей, которых итальянцы держали в своих садах,
французы XIV века выставляли в виде декорации при торжественных
въездах своих королей. Таков пейзаж в вступлении к Ш-му дню,
таково в конце VI-го описание Долины Дам; ее поверхность «была
такая круглая, точно она обведена циркулем, хотя видно было, что
это создание природы, а не рук человека; она была в окружности
не более полумили, окружена шестью не особенно высокими
горами, а на вершине каждой из них виднелось по дворцу, построенному
наподобие красивого замка. Откосы этих пригорков спускались
к долине уступами, какие мы видим в театрах, где ступени
последовательно располагаются от верха к низу, постепенно суживая
свой круг. Уступы эти, поскольку они обращены были к полуденной
Художественные и этические задачи «Декамерона»
389
стороне, были все в виноградниках, оливковых, миндальных,
вишневых, фиговых и многих других плодоносных деревьях, так что
и пяди не оставалось пустой. Те, что обращены были к Северной
колеснице, были все в рощах из дубов, ясеней и других ярко-зеленых,
стройных, как только можно себе представить, деревьев, тогда как
долина, без иного входа, кроме того, которым прошли дамы, была
полна елей, кипарисов, лавров и нескольких пиний, так хорошо
расположенных и распределенных, как будто их насадил лучший
художник этого дела». Небольшой поток, «вытекавший из одной
долины, которая разделяла две из тех гор», падая по скалистым
уступам, производил приятный шум, «а его брызги казались
ртутью, которую, нажимая, выгоняют из чего-нибудь мелкими
струйками». Среди долины он образовал «озерко, какие
устраивают иногда в своих садах, в виде питомника, горожане, когда есть
к тому возможность». Оно так прозрачно, что можно пересчитать
на дне его камни, следить за юрканьем рыбы; воду, оказывавшуюся
в нем лишней, «воспринимал другой поток, которым она выходила
из долины, стекая в более низменные места».
Как далеки мы от непочатой угрюмой природы, питающей
думы поэтов и отшельников! Здесь все прилажено, точно по компасу,
рукой художника, озерко, что городской пруд; пейзаж стилизован
до мелочей, нет ни одного не освещенного уголка, все предусмотрено
и досказано. Так же обстоятельны и говорливы у Боккаччо описания
костюма и женской красоты, не только в «Амето», где они изобилуют,
но и в «Декамероне»: припомним там и здесь портрет Фьямметты,
костюмы нимф в «Амето», сцену рыбной ловли в 4-й новелле Х-го
дня: «две девушки вошли в сад, лет, может быть, пятнадцати, с
золотисто-белокурыми, вьющимися, распущенными волосами и легкими
венками из барвинка <...> на них были одежды из тончайшего, белого,
как снег, полотна, плотно облегавшие тело сверху до пояса, а затем
широкие, как палатка, и длинные до ног. Та, что шла впереди, несла
на плече пару сетей, которые поддерживала левой рукой, в правой —
длинный шест; та же, которая шла за нею, — на своем левом плече
сковороду, под мышкой небольшую вязанку хворосту и таган, в
другой руке она держала кувшин с елеем и зажженный факел ».
Если в любви Боккаччо к известным картинам культурной
природы сказался итальянский горожанин, то его костюмы и типы
красоты обличают культ пластики и прекрасного тела; то и другое
навеяно новым настроением вкусов и сказывается в литературе, как
чаяние, которое оправдывают несколько позже образовательные
искусства.
390
А H. ВЕСЕЛОВСКИИ
Средневековая лирика додантовской поры знала красавицу —
формулу, несколько реальную: кровь с молоком, слоновая кость
с розой, рубин с кристаллом; этих красавиц видели, но в их
изображении нет личного момента, наблюдение заслонено типом.
У школьно-латинских поэтов можно встретить более пластичные
изображения красоты, напоминающие антик — но это
литературные перепевы. В живописи держится старый условный тип:
овальный склад лица, выпуклый лоб, продолговатые, впалые
глаза, полузакрытые и опущенные; неподвижная шея, узкие
плечи, тощие члены и плоская грудь; удается лишь выражение
спокойствия и экстаза, нестрастных движений лица и тела;
однообразно ломающиеся грузные складки костюма, отсутствие
светотени и индивидуализации в выражении лица показывают, что
художник еще не приучился писать с натуры. Он пишет святых,
и небо дает ему тоны, тот «цвет перла», который царит у Данте
и поэтов его направления. У Боккаччо все это было перед глазами:
и красавица-формула, и мадонны Джьотто, и античные образцы,
не только литературные, но и статуарные, которые начинают
ценить, — и явилась любовь к индивидуальному в пластике и жизни,
большая раздельность наблюдений, как, например, из его
современников у Фацио дельи Уберти. У его красавицы лоб открытый
и ровный, глаза широко разрезаны, смотрят серьезно или бегают
плутовски; шея поднимается, как «колонна», широкие плечи и
развитая грудь; при этом маленькая ножка и белая ручка, красиво
выделяющаяся на фоне пурпурного платья. Все это ново, как и вкус
к складкам и драпировке там, где можно было забыться в мире
нимф, пренебрегая костюмом современной горожанки. Нимфы
Амето одеты, как римские статуи, еще преобладают широкие волны
ткани, но уже платье открыто с боков и держится от шеи до пояса
на пряжках; рукава так же откровенны; концы мантии
перекидываются из-под одного плеча на другое, падают двойной складкой
на колени, длинной полосой развеваются по ветру, тогда как
крохотная черная сандалия едва держится на концах пальцев, отчего
ножка кажется еще белее. Встречается и дантовское color di perla31
(Vita Nuova, canz. 1: Color di perla quasi informa, quale — conviene
a donna aver, non fuor misura), удержан и дантовский оборот речи,
но в каком новом освещении! У одной из красавиц в «Амето» щеки,
что молоко, в которое капнула кровь; когда удалился этот теплый
колорит, навеянный жаром, красавица очутилась бледной, как
восточный перл (d'orientalperla), не в меру, как пристало женщине
(quale a donna non fuori di misura si chiede).
Художественные и этические задачи «Декамерона»
391
Подобные описания оттеняются другими: туалет молодящейся
вдовы в «Corbaccio», наружность уродливой Чуты или служка Гуч-
чьо Имбратта, которому на кухне милее, чем соловью на зеленых
ветках, любитель женского пола, оборванный и сальный и сорящий
обещаниями, точно он сир Кастильонский — все это написано с
такими же подробностями, подробностями шаржа. Иной раз, впрочем,
одной черты достаточно, чтобы обрисовать целый характер:
отъявленный плут Чаппеллетто, лицемер, не верящий ни в бога, ни в
черта, должен быть именно небольшого роста и одеваться чистенько.
В деятельности Боккаччо, несомненно, много манеры,
стилистической отделки, классического клише, но в основе лежит
тонкая наблюдательность человека, рассеявшего в своей книге «De
Montibus»32 столько археологических, естественнонаучных, даже
климатических заметок; чувство особи, чутье к человеческому,
реальному в его соответствии с миром психики и знакомое нам
свойство глаза схватывать в предмете не общее, а массу подробностей,
которые художник заносит на полотно, одну за одной, в расчете, что
их совокупность произведет впечатление целой жизни. В Боккаччо
художник дополняет фотографа; как Петрарка, он видимо любит
живопись, требуя для своего пера широкого права кисти, недаром
восторгаясь Джьотто; не было ничего, говорит он о нем, «что в вечном
вращении небес производит природа, мать и устроительница всего
сущего, что бы он карандашом, либо пером и кистью не написал так
сходно с нею, что, казалось, это не сходство, а скорее сам предмет».
Это почти та же характеристика, что у Ф. Виллани; начитанный
в историях Джьотто явился соревнователем поэтов, изображая то,
что те воображали. Заметка интересная для начала натурализма
в литературе и искусстве: в конце XIV-го и начале XV века Якопо
Аванци и Мазолино подготовляют его в живописи, переходя от
условности старого художественного предания к принципу портрета,
к натуре; у Боккаччо реализм наблюдения — такой же признак
времени, как и любовь к диалектическому развитию, отвечавшему
условным требованиям классически украшенного стиля. Они идут
к одной и той же цели, анализу, но еще не спелись, не помогают друг
другу. Оттуда своеобразное, не лишенное прелести, впечатление,
какое производит на нас проза «Декамерона»; оттуда не
предусмотренный часто контраст прозаического положения и торжественной
фразы, вызывающий улыбку, точно человек желает рассмешить,
а сам не смеется; но оттуда же и излишняя полнота, выписанность:
недостает дали, я сказал бы, музыкального элемента, того, что
заставляет нас перечувствовать, досоздавать едва намеченный
392
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
контур дантовского пейзажа. Всякая шутка отчеканена, смех
раздается свежий и ровный, нет полусвета и полутеней, из которых
неожиданно сверкнет юмор. Все досказано, и мы знаем, как
подробно. И не только в описаниях, но и в характеристиках: они также
собираются из мелочей, из массы положенных рядом штрихов.
Немного таких новелл, как 2-я новелла VIII-го дня, где бы впечатление
достигалось сразу, без приготовления.
Жил в Варлунго священник, «молодец и здоровенный в
услужении женщинам»; хотя он и не особенно был силен в грамоте,
тем не менее многими хорошими и святыми словечками наставлял
своих прихожан в воскресенье под ольхой, а когда они куда-нибудь
уходили, посещал их жен усерднее, чем какой-либо из бывших
до него священников, принося им порой на дом образки, святой
воды и огарки свеч и наделяя своим благословением. Случилось ему
влюбиться в одну крестьянку, по имени монна Бельколоре; «она
в самом деле была хорошенькая, свежая крестьяночка,
смугленькая и плотная, более всякой другой годная на мельничное дело.
Сверх того, она лучше всех умела играть на цимбалах и петь
"Вода бежит к оврагу", и когда, случалось, выступала в пляске, вела
ридду и балланкио33, с красивым, тонким платком в руке, лучше
всякой своей соседки. Вследствие всего этого священник так сильно
в нее влюбился, что был как бешеный и весь день шлялся, лишь бы
увидать ее. Утром в воскресенье, когда он знал, что она в церкви,
он, произнося "Господи помилуй" и "Святый боже", старался
показать себя столь великим мастером пения, что, казалось, кричит
осел, тогда как, не видя ее, обходился без этого очень легко». Чтобы
сблизиться с Бельколоре, он делает ей порою подарки: «то пошлет
пучок свежего чесноку, — а был он у него из лучших в деревне, —
из своего саду, который он обрабатывал своими руками, то корзинку
гороха в стручках, то связку майского лука или шарлоток; а
иногда, улучив время, посмотрит на нее искоса и любовно огрызнется;
она же, несколько дичась и притворившись, что ничего не замечает,
проходила мимо со сдержанным видом, почему отец священник
и не мог добиться от нее толку». И вот однажды в самый полдень
он плутает зря по деревне, когда ему встретился муж Бельколоре,
ехавший в город; он дает ему поручение, а сам, пользуясь его
отсутствием, хочет попытать счастья; добрался до дома Бельколоре,
вошел, спрашивает: «Господи благослови, кто же тут?» — «Добро
пожаловать, батюшка, — отвечает с чердака Бельколоре, — что
это вы болтаетесь по такой жаре?» Священник отвечал: «Помилуй
бог, я пришел побыть с тобою некоторое время, ибо встретил твоего
Художественные и этические задачи «Декамерона»
393
мужа, шедшего в город». Бельколоре, спустившись, села и
принялась чистить капустное семя, которое недавно перед тем смолотил
ее муж. Священник начал говорить: «Что же, Бельколоре, ты так
и будешь вечно морить меня таким образом?» Бельколоре,
засмеявшись, спросила: «Что же я-то вам делаю?» Священник отвечал:
«Ты-то мне ничего не делаешь, но не даешь мне сделать, чего я хочу,
и что сам бог повелел». Говорит Бельколоре: «Убирайтесь,
убирайтесь! Да разве священники такие вещи делают?» и т. д.
Мы можем не знать, как разыграется новелла; это дело случая,
анекдота, но нас закупают особи действующих лиц, очерченные
свежо и прозрачно: вы почти угадываете, что Бельколоре может
сдаться, а священник, не знающий в полдень, куда деться от любви,
пойдет на всякую сделку.
Рядом с этими набросками характера другие отличаются
обычным у Боккаччо детальным анализом. В новелле Ш-го дня простак
Ферондо весь рисуется в разговоре с монахом; иной раз этот прием
развит до утомительности. Нам уже приходилось говорить о цикле
новелл, героями которых являются Каландрино и доктор Симоне;
они служат предметом насмешек и злых шуток, их подзадоривают,
играя на их слабых струнах, и заставляют высказываться
постепенно, по мелочам. В первой новелле 1-го дня эта детальность
подавляет: ростовщик Чаппеллетто, умирая в доме двух ростовщиков-
флорентинцев, не желает навлечь на них позор и гонение, если бы
на исповеди он оказался таким неисправимым грешником, каким
был на самом деле; и вот он решился разыграть святого и притом
наивно убежденного в своей греховности. Его исповедь развивает
подробно эту тему, поминаются грехи один маловажнее другого,
а мнимый святой все больше плачется, что они смертные, и духовник
приходит в умиление от его детской чистоты. Не столько
вырисовывается характер, сколько разбирается по хриям, с риторическим
поднятием и падением, известное положение. Таково отношение
Боккаччо и к характерам героического, поднятого типа: взять
какой-нибудь торжественный момент, действующий на слезовую
железу, и анализ сосредоточивается вокруг него. Иное дело средние
типы, с которыми Боккаччо приходилось встречаться, которых он
любил, или над которыми ему случалось потешаться: их он знал,
стилистическому анализу почти не было места, на сцену выходили
живые лица, диалог становился бойчее, сбрасывая латинские узы,
типы старых рассказов, если они попадались под руку, становились
характерами. Ибо в смысле типов у Боккаччо немного найдется
такого, что бы не встречалось в старофранцузских потешных рассказах,
394
А. Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ
вероятно, и в итальянских народных повестях того же содержания:
те же жены, водящие за нос ревнивых мужей, монахи и
священники, тревожимые плотью и любостяжанием; женщины свободного
поведения, как Herselot, Mabile, Richeut и услужливые посредницы
любви, знакомые по фабльо; простаки и скоморохи и сам Martin
Happart, такой же реалист и неверующий, обирало и сутяга, как
Чаппеллетто. Все это уже было, были и зачатки характера, случайно
брошенные в рамки типа, но только Боккаччо явился сознательным
стилистом и психологом новеллы, поднявшим ее своим живым
пониманием личного в реальном. Я разумею реальность итальянскую:
резкие контрасты настроений, мужчины, пускающиеся в слезы,
падающие замертво — все это психические черты южной страстной
расы, самого Боккаччо, и они естественны.
V
Не забудем Боккаччо-дидактика: «Декамерон» рассчитан на дам,
которые найдут в нем не только удовольствие, но и «полезный
совет» ; последняя фраза «Декамерона» прямо говорит о пользе: «А вы,
милые дамы, пребывайте, по Божьей милости, в мире, поминая
меня, если, быть может, какой-нибудь из вас послужило на пользу
это чтение». Что наставительному элементу своей книги Боккаччо
придавал не последнее значение — в этом нельзя сомневаться.
Рассказы каждого дня отвечают известным рубрикам, обобщающим
их содержание, как бы ввиду вопросов, которые может поднять
не их фабула, а их жизненная сущность: «о тех, кто после разных
превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной
цели», «о тех, чья любовь имела несчастный исход», «о том, как
после разных печальных и несчастных происшествий влюбленным
приключилось счастье», «о великодушии». У такого дидактика,
как Франческо да Барберино в его «Del Reggimento е dei costumi
délie donne», в латинском комментарии к «Documenti d'Amore» и,
вероятно, в утраченных «Fiori di novelle» соображения
учительного свойства предшествовали рассказам, которые являлись как бы
наглядным прикладом общего места; в «Декамероне» оно едва
намечено в теме, избранной для рассказов каждого дня, и более
вытекает из них, чем их приготовляет. Для этого Боккаччо пользуется
всяким удобным случаем: не только речи его героев, иногда развитые
в целях риторизма, полны назиданий и общих суждений, но сами
собеседники морализуют по поводу рассказываемого ими, обсуждают
чужие повести, начинают свои новеллы постановкой какой-нибудь
Художественные и этические задачи «Декамерона»
395
житейской истины, сетуют или смеются над приключениями, хвалят
или порицают, и эти суждения определяют настроение следующего
рассказчика, между новеллами протягивается, несмотря на их
иногда случайный подбор, живая идеальная связь. Темы
представляются разнообразные: в введении и заключении 1-й новеллы 1-го
дня Памфило говорит о «тайнах божественных помыслов»,
попускающих грешника быть орудием спасения, — и о спасительности
веры, во 2-й — Неифила рассуждает о благости божьей, терпящей
недостатки служителей церкви и тем паче свидетельствующей
о своей непреложности, что и иллюстрируется отрицательными
впечатлениями жизни при римской курии, вынесенными евреем
Авраамом, как в «Avventuroso Ciciliano» — Саладином. Вопрос
о нравственной распущенности духовенства в сравнении с
идеалами пастырского и монашеского жития не только дает содержание
целому ряду новелл, но вызывает и обсуждения и нарекания, как
у Биндо Боники, Пуччи и других. Филострато говорит, по поводу
новеллы о флорентийском инквизиторе, «о греховной и грязной
жизни клериков», Пампинея — о глупости монахов, соединенной
с самомнением, об их ханжестве и попрошайничестве, Филострато
сопоставляет их изнеженность с обетами нищеты и целомудрия,
и подобные лее обличения вложены в уста одного из героев 7-й
новеллы Ш-го дня. Великодушный поступок духовных лиц
возбуждает удивление, их «крестовый поход» на семью — и смех и ропот:
древнее противоречие идеала и практики, над которым издавна
задумывались наблюдатели церковной жизни и издевались
средневековые фаблио, разрешая противоречия то смехом, то карой. Так
и у Боккаччо: мы хохочем над успехами Мазетто в женском
монастыре, над любовной стратегией попов и наивной страдой Алибек,
над молитвенными заклинаниями Джьянни Лоттеринги и святоши
Пуччьо. Надо всем этим смеялись и до Боккаччо: в одной баллате
XIV века монахини некой обители являются к службе с тем же
непоказанным головным убором, с каким аббатисса Узимбальда,
и заключение то же, что и в новелле: пусть все пользуются жизнью,
говорит настоятельница; но в восьмой новелле Ш-го дня
торжествует тот же порок, который позорно наказан в новеллах IV, 2 и VIII,
4. Принципиального разрешения нет: рассказчики «Декамерона»
не индифферентны, а по-своему религиозны, часто и благоговейно
поминают имя Божие, блюдут пятницу и субботу, ходят в церковь.
Их религиозность не обрядовая только, она пошла несколько далее
эпидермы, но сомнения ее не волнуют: новелла о брате Чипол-
ле — не протест против культа мощей, брат Чиполла — заведомо
396
А. Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ
веселый обманщик; сомнение может возбудить разве освещение,
в котором являются чудеса св. Арриго в новелле II, 1, или свеча,
поставленная перед статуей св. Амвросия, — «не того, что в
Милане»; это, быть может, St. Arnould Rutabuef'a34, зато чудесная
помощь св. Юлиана и вести из чистилища стоят совершенно на точке
зрения средневековой шутки, развязно вторгавшейся в известные
моменты культа, как фаллофоры в процессии Диониса. В XI веке
Христофор Митиленский пишет гимны в честь святых, вошедшие
в наши Минеи, и вместе потешается над культом мощей и их
почитателями. Такие противоречия в Византии не редкость. Такова была
религиозность самого Боккаччо: он смеется и громит, но свято чтит
богородицу, собирает мощи, сознательно умалчивает в «De Claris
mulieribus»35 о христианских святых, в трактате об именитых людях
сторожится говорить о папах, и флорентийский архиепископ зовет
его человеком благочестивым. Его религиозность — итальянская,
реально-пластичная, способная в минуты нравственных сомнений
к бешеным страхам, к покаянному исступлению флагеллантов, без
того насыщенного любовью мистицизма, которым озарена
Катерина Сиенская36, без степенно-рассудочного благочестия, который
напоминает в Петрарке не столько средневекового аскета, сколько
искусственно-благие лики Дольче37.
Другие новеллы дают повод к другим обобщениям: Лауретта
рассуждает, как потешные люди старого времени высоко понимали
свое общественное призвание, и как низко оно упало; либо говорится
о значении снов, о красоте острого слова, о том, как мудрые
правители уловляют сердца своих подданных, о благородстве, обусловленном
не родом, а доблестью, потому что природа и судьба, прислужницы
света, часто «скрывают свои наиболее дорогие предметы под сенью
ремесел, почитаемых самыми низкими, дабы тем ярче проявлялся
их блеск, когда они извлекут их оттуда, когда нужно». Так должна
была ободрять себя поднимавшаяся к самосознанию личность; мы
знаем, как рано эта мысль тревожила Боккаччо, и в каких
отношениях она развилась.
Но природа и судьба и личная доблесть, которую они таят и
лелеют в человеке — это видимое целое, называемое жизнью,
раскрывается, как ряд трагических или потешных противоречий. Большая
часть новелл «Декамерона» построена на контрасте судьбы, слепого
случая, житейских обстоятельств и личности сильной и страстной,
либо отдающейся и выносливой. Порой судьба выносит их к
берегу, как Алессандро, мадонну Беритолу или Алатиэль, такими же
неисповедимыми путями, какими запутала в превратностях; мы
Художественные и этические задачи «Декамерона» 397
настроены благодушно, как после пронесшейся бури; либо личность
заявляет себя, борясь и протестуя и погибая в борьбе, как в
некоторых из трагических новелл IV-ro дня; либо выпутываясь из беды
и достигая своих целей изворотливостью, сноровкой, острым словом,
удачей: это главный источник смеха Боккаччо. Он тем здоровее, если
не чище, чем неравномернее права на жизнь у одураченного и того,
кто одурачил; мессер Риччьярдо да Кинзика, брат Пуччьо и Фран-
ческо Верджеллези сами заслужили свою участь; вот почему
слушательницы смеются так, «что не было никого, у кого не болели бы
скулы». Вопрос о нравственной вменяемости не поднимается, так
все заливаются смехом над наивной проделкой, интрига интересует
сама по себе, шутка исчерпывается целью забавы, комического
эффекта, а там на помощь могут прийти и неотразимые силы — Амура.
Потому что сила Амура властвует в «Декамероне», как властвует
в природе и в жизни, и хотя он «охотнее обитает в веселых дворцах
и роскошных покоях, тем не менее не оставляет проявлять порой
свои силы и среди густых лесов, суровых гор и пустынных пещер,
из чего можно усмотреть, что все подвержено его власти». Так
начинается простодушно-физиологическая новелла об Алибек, и то же
повторяется в введении к сентиментальному рассказу о любви
Симоны и Пасквино, прерванной внезапной смертью. Ибо любовь
понимается в самом широком смысле, обнимающем и небо и землю,
физиологию и отвлечения платонизма. Многие «вполне уверены,
что лопата и заступ и грубая пища и труд земледельца лишают
всяких похотливых вожделений», говорит в одном месте
Боккаччо, сводя все к вопросу о пище и тунеядстве. Это взгляд реалиста,
который он проводит не раз. Венера покоится на ложе, около нее
Вакх и Церера и Богатство на страже ее покоя. Говоря о прелестях
Байского берега, Фьямметта указывает на изысканные яства и
старые вина, способные не только возбудить заглохшее вожделение,
но воскресить и умершее; позже так же объяснится ранняя,
ребяческая страсть Данте к Беатриче: согласием темпераментов и нравов,
влиянием светил, весельем празднества, изысканностью кушаний
и вин. Весной все влечется к любви, и животные, и женщины, и —
юноши; не будь законов, они доходили бы до неистовства. В конце
Х-го дня Дионео выражал свое удовольствие, что их общество вело
себя прилично и честно, хотя рассказывали «новеллы веселые и,
может быть, увлекавшие к вожделению», и они «хорошо ели и пили,
играли и пели, что вообще возбуждает слабых духом к поступкам,
менее чем честным». Так и жена французского королевича
объясняет свою внезапную страсть к графу Анверскому: «кто станет
398
А. #. ВЕСЕЛОВСКИЙ
отрицать, что более заслуживает порицания бедняк или бедная
женщина, которым приходится трудом снискивать потребное для
жизни, если они отдадутся и последуют побуждениям любви, чем
богатая, незанятая женщина, которой нет недостатка ни в чем,
что отвечает ее желаниям». Эта низменно-физиологическая точка
зрения на любовь, отрицательная у Гвиттоне и Данте да Маяно,
или у Биндо Боники, советовавших бороться с нею
очистительными средствами, бичеваньем и холодными ваннами, — заявляется,
как положительная, в народных песнях о «неудачливой в браке»
и в «Декамероне». Она-то объясняет откровенные речи жены
мессера Риччьярдо да Кинзика к ее хилому супругу, излишне
награждавшему ее праздными днями, и притязания супруги Пье-
тро ди Винчьоло, и боязнь английской королевы, что ее выдадут
за старика, и она может «совершить по своей юношеской слабости
что-либо противное божеским законам и чести королевской крови
ее отца», почему она сама выбирает себе супруга, как несчастная
Гисмонда — любовника. Иначе приходится лицемерить, выдавая
приличие за соблюдение долга, ибо «скрытый грех наполовину
прощен», ущерб чести — ни в чем другом, как в том, что выходит
наружу, как говорил когда-то и Овидий; Гисмонда откровеннее: ее
речь отцу — защита естественных вожделений, требование любви
по склонностит и выбору, не стесняющемуся соображениями рода
и богатства. Этот протест против делового брака, как
защитительная речь Филиппы перед судом требует отмены законов, карающих
женское нецеломудрие, ибо их установили одни мужчины; они,
позволяющие себе отдаваться всем своим желаниям, воображают, что
для женщин писан другой закон; им поделом, если их также
проводят, если неуместная ревность доводила их до позора, и не поделом
было Гвальтьери, что безумные испытания, которым он подверг
свою жену, кончились для него так, а не иначе.
Любовь царит невозбранно: «О Амур! каковы и сколь велики твои
силы? Каковы твои советы и измышления? Какой философ, какой
художник был когда-либо в состоянии или может изобрести те по-
хватки, те выдумки, те сноровки, которые ты внезапно являешь
идущим по следам твоим». Он заставляет влюбленных презирать
всякие опасности и смерть, карает за жестокость к любящим, питает
романтическую страсть Джербино и тунисской королевы, никогда
не видавших друг друга, воспитывает Чимоне, изощряет куртуазию
Федериго дельи Альбериги, виртуозный культ красоты у старого
маэстро Альберто и безнадежно сентиментальное чувство бедной
Лизы; доводит до смерти или схимы. Он не знает монашеских обетов,
Художественные и этические задачи «Декамерона»
399
и немалый подвиг совершает тот, кто успел побороть его
великодушием, или заставил поступиться перед дружбой. Разнообразие
женских типов «Декамерона» отвечает бесконечным оттенкам
одного и того же победного чувства.
Таково в «Декамероне» учение о всевластной любви. Видимо,
оно ни в чем не изменилось с тех пор, как в неаполитанских садах
Галеоне-Боккаччо спорил с Фьямметтой. В основе это — овидиев-
ский взгляд на физиологическую любовь, как на принцип мирового
согласия и устроения, на любовь, как искусство и виртуозность,
объектом которой являлись у Овидия либерты, женщины
свободных нравов, нецеломудренные жены, стоящие в законестрогие
блюстительницы очага и семейных распрей; к свободным жрицам
любви, изящным и художественно воспитанным, не применялись
обычные требования долга, нравственности, им место в семье, но
понимание любви, как непререкаемой силы, естественно переносилось
и на целомудренных жен: всякое женское естество склонно к
сладострастию, говорил Овидий, обобщая примеры античных героинь;
нет женщины недоступной. В средневековом обществе, не знавшем
института либерт и читавшем любовные трактаты Овидия, его
учение могло быть применено лишь к нелегальным отношениям; оно
попадало в течение фабльо или сурового обличения, но нашло и
развитие — благодаря софизму рыцарской любви, поднявшему
значение Амура до мнимого забвения плоти. В его освещении женщина
представлялась уже не бесправным виртуозом физиологической
страсти, а носительницей идеала; и для нее нет обычного критерия
нравственности, как для древней либерты, но потому что она
подсудна одному лишь одухотворенному Амуру. Чувство искупало
само себя вне обязательности долга и обычая, освящая мимоходом
и естественные требования чувственности.
Между тем с долгом и обычаем приходилось считаться:
житейская практика и житейские сюжеты «Декамерона» указывали на
известные ограничения. Когда в « Амето» нимфы рассказывали о своих
привязанностях, отвлеченный характер среды смягчал отношения,
не поднимая вопросов о противоречиях любви и долга; но уже Фьям-
метта, оставленная Панфило, плачется, что ради него она презрела
закон, попрала святость брака, и вот в «Декамероне» Неифила
доказывает, что «женщине подобает особенно быть честной, соблюдая,
как жизнь, свое целомудрие»; если они не в состоянии соблюсти
его в «полноте» и подчинятся могучим силам любви — они найдут
«в глазах не слишком строгого судьи» снисхождение к своей
слабости, ибо они нежнее и подвижнее мужчин, доступнее гневу, вместе
400
А H. ВЕСЕЛОВСКИЙ
с тем упрямы, подозрительны, малодушны и страшливы и не могут
обойтись без руководителей. Так говорит Пампинея; естественный
руководитель женщины — мужчина, «самое благородное животное
из всех смертных, созданных богом», вторит Филомена, а Эмилия
подтверждает это практическим советом. «Если здраво взвесить
порядок вещей, говорит она, — легко убедиться, что большая часть
женщин вообще природой, нравами и законами подчинена
мужчинам и должна быть управляема и руководима по их
благоусмотрению; потому всякой из них, желающей обрести мир, утеху и покой
у тех мужчин, к которым она близка, подобает быть смиренной,
терпеливой и послушной, и прежде всего честной; в этом высшее
и преимущественное сокровище всякой разумной женщины. Если б
нас не научали тому и законы, во всем имеющие в виду общее благо,
обычаи или, если хотите, нравы, сила которых так велика и
достойна уважения, то на то указывает нам очень ясно сама природа,
сотворившая нам тело нежное и хрупкое, дух боязливый и робкий,
давшая нам лишь слабые телесные силы, приятный голос и мягкие
движения членов: все вещи, свидетельствующие, что мы нуждаемся
в руководстве другого... А кто наши правители и помощники, если
не мужчины? Итак, мы обязаны подчиняться мужчинам и высоко
уважать их: кто от этого отдаляется, ту я считаю достойной не
только строгого порицания, но и сурового наказания...» Есть у мужчин
такая поговорка: «доброму коню и ленивому коню надо погонялку,
хорошей женщине и дурной женщине надо палку... Все женщины
по природе слабы и падки, потому для исправления злостности тех
из них, которые дозволяют себе излишне переходить за положенные
им границы, требуется палка, которая бы их покарала; а чтобы
поддержать добродетель тех, которые не дают увлечь себя через меру,
необходима палка, которая бы поддержала их и внушила страх».
Хуже, если их ветренность и неразумие вызовет жестокую кару,
вроде кары школяра над поглумившейся вдовой.
Итак, с одной стороны, победные силы Амура, с другой —
законы, обычаи и нравы; спрос естественного чувства — и целомудрие;
Беатриче и Лидия, артистически обманывающие своих мужей —
и честные жены: маркиза Монферратская, спокойно-разумно
укрощающая вожделение французского короля, жена Барнабо,
торжествующая над злостным наветом, которому поверил ее муж,
Джилетта из Нарбонны, энергически добивающаяся прав супруги,
Гризельда, добродетельная жена, фиктивно лишенная этих прав
самодурством мужа. Рядом с откровенным требованием свободы
выбора и свободы чувства у Гисмонды и английской королевы — похвала
Художественные и этические задачи «Декамерона» 401
великодушию Джентиле, что отказался от своих внешних прав
на женщину, которая его не любила, или дружба Джизиппо,
уступившего Титу свою невесту, причем один не предупредил ее, другой
обманул, а она, «как женщина умная, обратив необходимость в долг,
быстро перенесла свою любовь на другого».
Как объяснить эти противоречия идеалов любви и долга?
Протоколизм ли художника, останавливающегося на каждом жизненном
явлении в отдельности, оценивающего его в нем самом и им самим
и из него же извлекающего его философию? Но противоречие
лежит, очевидно, не в качествах художественного приема, а в самом
миросозерцании «Декамерона». В пору страстных увлечений и
«неупорядоченных желаний» Боккаччо мог верить в решающую,
обязательную силу любви, не знающей счетов с какими бы то ни было
законами, исходящими из другого источника. Тогда он был влюблен,
и сомнения Фьямметты его не убедили. Но период страстности
прошел, и такому вдумчивому и чуткому наблюдателю жизни, как
Боккаччо, нельзя было удержаться при прежнем обобщении; на это
был способен лишь такой педант и моралист, нотариус и поэт, как
Франческо да Барберино, наивно соединивший в своем женском
Домострое обрядовый уклад итальянской семьи с вынесенными
из Прованса выспренними наставлениями Амура. Но это не Амур
юного Боккаччо, а благо вообще, или, еще скучнее и отвлеченнее:
«начало, посредствующее между двумя крайностями, в силу
которого они держатся вместе»; любовь божественная, любовь мирская,
в которой аллегория силится раскрыть отношения к божественной,
но во всяком случае любовь законная, не та, которая, не
заслуживая этого названия, не что иное, как бешенство. Так объясняет сам
автор в комментарии к своим «Documenti»; такова и точка зрения
его Домостроя, «Reggimento», писанного о женщинах, не для них,
ибо мессер Франческо не одобряет, чтобы девушку среднего класса
учили читать и писать: женщина и без того не расположена к
добру, а писание дает ей повод и к злу. Его идеал, подсказанный ему
каким-то провансальским дидактиком, вспомнившим, быть может,
известную эпитафию римской матроны, — это женщина, сидящая
за прялкой, прядущая без узлов, не роняющая веретена. Наставляя
дам в «вопросах любви», он, вместе с тем, запрещает любовные
беседы и не советует сажать влюбленных рядом.
В год смерти мессера Франческо (ум. 1348) Боккаччо
воображает себе в флорентийской подгорной вилле общество молодых
дам в беседах, которые заставили бы призадуматься почтенного
нотариуса флорентийского епископа. Бойкие, смышленые, они
402
Α Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
хохочут над чинными, разряженными простухами,
представительницами обрядового этикета, не умеющими «вести беседу
в обществе женщин и достойных мужчин». Они из тех, которые
не удовлетворяются иглой, веретеном и мотовилом, хотя и
говорят о себе противное. Жена Бернабо отличается почти мужским
образованием; мы знаем, что читала Фьямметта; Боккаччо
посвящает ей свои произведения, Андреине Аччьяйоли — свою
книгу об «Именитых женщинах»; Филиппо Чеффи38 переводит,
по просьбе мадонны Лизы Перуцци, «Героиды» Овидия, «книгу
о женщинах», как ее называли. У собеседниц «Декамерона» было
о чем рассказать, и они рассказывают, поднимают общие вопросы,
смеются над ловкой проделкой, порой краснеют при излишней
откровенности собеседника, приводя его к порядку, иногда
обходясь смехом; шаловливо откровенные, не так педантично, как
дамы капеллана Андрея, они умеют сорвать розу, минуя шипы,
и в общем становятся выше того, что скажут; «лишь бы жить
честно, и не было у меня угрызений совести, а там пусть говорят
противное», ободряет себя Филомена. И Боккаччо рассказывает
им не одни лишь назидательные повести, и не об отвлеченном
Амуре мессера Франческо, а о любви, как она есть, о всех ее
проявлениях, о долге, как он понимается и как доходит до героизма.
Не он изобрел скоромную новеллу, она существовала ранее, в грубо
откровенных формах фабльо и блюстителям конфессиональной
нравственности следовало бы обратить свои громы на все Средние
века; она была откровеннее нашего, но откровенность не
предполагает необходимо цинизм настроения: monna Bombacaia из Пизы,
графиня di Montescudaio (XIII в.) была женщина добродетельная
и целомудренная по свидетельству Sercambi39, а ее ныне
утраченные «Detti d'Amore» отличались далеко не скромным характером.
Не Боккаччо принадлежит почин реабилитации плоти, но он
недаром вчитался в Овидия: плоть стала у него изящнее, красота идет
выше вожделения, софизмы капеллана Андрея приводят к
серьезной постановке вопроса: о правах свободного чувства. Нападения
на упадок церковной жизни, на нравственную распущенность
клериков тоже не новшество: вспомним нарекания Дамиани, для
Византии — обличения Евстафия Солунского и Феодора Продрома.
И здесь, как в проповеди любви, за откровениями фабльо остается
преимущество давности, но Боккаччо первый внес все эти сюжеты
в беседы культурного кружка: и россказни о шашнях злых жен,
о проделках монахов, и серьезную инвективу на нравы римской
курии; и не только перенес все это в салон, но и облек в изысканную
Художественные и этические задачи «Декамерона»
403
форму то, что до него туго проникало в изящную литературу: он
создал новеллу в «удовольствие» читающим дамам.
Это было новшество, и оно встретило противоречия, на которые
Боккаччо ответил; но они заставили его самого задуматься. В начале
IV-ro дня он устраняет некоторые сомнения, вызванные
рассказами первых трех дней. Они исходили, очевидно, из литературных
кружков; говорили серьезные люди, пуристы, люди
благочестивого закала со схоластической жилкой, вроде Франческо да Бар-
берино. Одним казалось неприличным, что человек на четвертом
десятке болтает о женщинах и любви и старается угодить дамам.
Боккаччо ответил им примерами Гвидо Кавальканти, Данте, Чино
из Пистойи — и ссылкой на прелестную новеллу о старике маэстро
Альберто: все они, уже зрелые, находили в культе женщин и честь
и удовольствие. Другие утверждали, что автор поступил бы умнее,
если б оставался «с музами на Парнасе», а не занимался бы такой
болтовней, баснями, не приносящими заработка. Так говорили
люди, видимо, соболезновавшие о моей славе, — иронически замечает
Боккаччо и отшучивается: «с музами хорошо быть, но не всегда
возможно, в таких случаях полезно бывает общество им подобных,
ибо музы — женщины». «Не говоря уже о том, что женщины
были мне поводом сочинить тысячу стихов, тогда как музы никогда
не дали мне повода и для одного. Правда, они хорошо помогали мне,
показав, как сочинить эту тысячу и, может быть, и для написания
этих рассказов, хотя и скромнейших, они несколько раз явились,
чтобы побыть со мною, почему, сочиняя эти рассказы, я не удаляюсь
ни от Парнаса, ни от муз».
Музы и Парнас — это, очевидно, требование серьезной поэзии,
латинской или итальянской, дидактической или любовной, но
высокого стиля, к которому приучили поэты тосканской школы.
Боккаччо отстраняет от себя эти требования: он не затевал ничего
серьезного, его рассказы «скромнейшие», написаны не только
народным флорентийским языком, в прозе и без претензии, но и,
насколько возможно, скромным и простым стилем. В этом оправдании
есть и самоуничижение, порой посещавшее Боккаччо, и сознание
несоразмерности непритязательного литературного рода, который
он создавал, с другими, упроченными в предании; на эти мотивы
указано было выше; чувствуется и ловкий полемический прием и,
может быть, некоторая доля сомнения — в праве своего новшества.
Но сомнения проходили, и Боккаччо поднимался во весь рост: он
говорил тогда о бурном вихре зависти и считал себя — поэтом;
многие поэты, «занимаясь своими баснями, прославили свой век, тогда
404
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
как, наоборот, многие, искавшие хлеба более, чем им было нужно,
погибли». Потому «да умолкнут хулители»; он будет продолжать
свой «Декамерон».
Таков его ответ серьезным людям, литераторам; в конце книги
другой — читателям, или, скорее, читательницам, потому что
«Декамерон» написан для них, но за ними стоят, несомненно, те же
серьезные люди и правят их взгляды. Боккаччо предупреждает
их «молчаливые вопросы» и дает на них ответ: иным не нравится
та или другая новелла — но совершенство дано только богу; есть
рассказы слишком длинные, но он писал лишь для тех, у кого есть
досуг; его упрекают за пристрастие к острым словам и прибауткам —
он благодарит за замечание, но ссылается на монахов, которые
уснащают таким образом свои проповеди, и иронически устраняет
укор, будто у него язык злой и ядовитый, потому что ему случается
говорить о монахах — правду. Но в центре «молчаливых вопросов»
стоит один, на котором Боккаччо останавливается особенно
подробно, с которого и начинает свою защиту: вопрос о пристойности.
«Может быть, иные из вас скажут, говорит он, что, сочиняя эти
новеллы, я допустил слишком большую свободу, например,
заставив женщин иногда рассказывать и очень часто выслушивать вещи,
которые честным женщинам неприлично ни сказывать, ни
выслушивать» . Это возражение Боккаччо предусмотрел уже в вступлении
в «Декамерон»: он не называет своих рассказчиц их настоящими
именами, потому что, говорит он, «я не желаю, чтобы в будущем
кто-нибудь из них устыдился за следующие повести, рассказанные,
либо слышанные ими, ибо границы дозволенных удовольствий
ныне более стеснены, чем в ту пору, когда в силу указанных причин
они были свободнейшими не только по отношению к их возрасту,
но и к гораздо более зрелому; я не хочу также, чтобы завистники,
всегда готовые укорить человека похвальной жизни, получили
повод умалить в чем бы то ни было честное имя достойных женщин
своими непристойными речами». Удалив таким образом
возможность личных нападок, он на всем протяжении «Декамерона» не счел
нужным сузить границы «дозволенного» и не раз предупреждает
о том от лица Дионео, ссылаясь на условия времени; если
рассказы несколько свободны, то не затем, чтобы воспоследовало от того
что-либо непристойное в поступках, а дабы доставить удовольствие
вам и другим... Кроме того, ваше общество вело себя с первого дня
и по сейчас достойнейшим образом, о чем бы там ни рассказывали,
и, мне кажется, никаким действием себя не запятнало и не запятнит
с помощью божьей». В другом месте Дионео допускает, что среди
Художественные и этические задачи «Декамерона» 405
них рассказывались «новеллы веселые и, может быть, увлекавшие
к вожделению», но они опасны лишь для «слабых духом», не для
них. В заключении «Декамерона» Боккаччо еще раз возвращается
к мотиву чумы, напоминая, что беседы велись «не в церкви, о делах
которой следует говорить в чистейших помыслах и словах (хотя в ее
истории встречаются во множестве рассказы куда как отличные
от написанных мною), и не в школах философии <...> а в садах,
в увеселительном месте, среди молодых женщин, хотя уже зрелых
и неподатливых на россказни, и в такую пору, когда для самых
почтенных людей было неприличным ходить со штанами на голове
во свое спасение».
Но исторический мотив чумы был недостаточен, нарекания в
непристойности требовали другого ответа, и Боккаччо дает его.
«Рассказы эти, — говорит он, — каковы бы они ни были, могут вредить
и быть полезными, как то может все другое, смотря по слушателю».
Кто не знает, что вино, огонь, оружие приносят и пользу и вред?
«Ни один испорченный ум никогда не понял здраво ни одного
слова, и как приличные слова ему не в пользу, так слова и не особенно
приличные не могут загрязнить благоустроенный ум, разве так,
как грязь марает солнечные лучи, и заемные нечистоты —
красоты неба... Всякая вещь сама по себе годна для чего-нибудь, а дурно
употребленная может быть вредна многим; то же говорю я о моих
новеллах. Кто пожелал бы извлечь из них худой совет и худое дело,
они никому того не воспрепятствуют, если случайно что худое в них
обретется, и их станут выжимать и тянуть, чтобы извлечь его; а кто
пожелает от них пользы и плода, они в том не откажут, и не будет
того никогда, чтоб их не сочли и не признали полезными и
приличными, если их станут читать в такое время и таким лицам, ввиду
которых и для которых они и были рассказаны».
Это почти выражения, которыми Овидий защищает свою «Ars
Amandi» : он также не совращал к греху; нет такой книги, из
которой женщина, настроенная порочно, не почерпнула бы новой для
себя пищи. Раскроет она анналы: они расскажут ей, как Илия стала
матерью, как произошла Венера. Из этого не выходит, однако ж, что
все книги вредны. Что полезнее огня? Но он служит орудием
поджигателям; врачебное искусство и губит и лечит, научая распознавать
как полезные, так и вредные травы; и разбойник и осмотрительный
путник одинаково опоясываются мечом, красноречие может
защитить виновного и обрушиться на невинного; так и мое творение,
если читать его, как следует, никому не может повредить, а кто
выносит из него вредное, тот его не понял. Потому не грех слагать
406
А H. ВЕСЕЛОВСКИИ
шаловливые стихи: целомудренным достоит читать о многом,
чего не подобает творить; а испорченные умы способны от всего
совратиться. Иначе пришлось бы закрыть цирк и храмы, запретить
мимы, сказать об «Илиаде», что это повесть прелюбодеяния, что
«Одиссея» — рассказ о жене, любви которой, в отсутствие мужа,
добивались многие; ведь и серьезнейший из литературных родов,
трагедия, полна самых порочных проявлений любви.
Итак: для чистого сердцем все чисто, говорит Овидий, утверждает
и Боккаччо, тем спокойнее, что он принял к тому и кое-какие меры:
«нет столь неприличного рассказа, уверяет он нас, который, если
передать его в подобающих выражениях, не был бы под стать
всякому; и мне кажется, я исполнил это, как следует». Нет сомнения, что
он никогда не усиливает известных соблазнительных положений,
что образованные флорентийцы XIV века смотрели на многие вещи
проще, чем смотрим мы, не знали той vaine superstition de paroles*,
которую Монтень предоставляет женщинам; тем не менее сам
автор допускает, что в иных новеллах встречается «кое-что такое»,
то есть нечто опасное не для одних «слабых духом». Интересно его
оправдание: если соблазнительное осталось, «то того требовало
качество рассказов, на которые если взглянуть рассудительным оком
человека понимающего, то станет очень ясно, что иначе их и нельзя
было рассказать, если бы я не пожелал отвлечь их от подходящей им
формы». Он мог их не рассказывать, и если рассказал, то в утешение
«прелестным дамам»: замкнутые в своих покоях, связанные волею
близких, они часто питают в своей груди любовное пламя, тая его
от страха и стыда, желая и не желая вместе. Новеллы о разных
случайностях любви не только попадали в их настроение, но и очищали
страстность сочувствием или смехом; так отводил душу молодой
Боккаччо, так утешалась Фьямметта, вычитывая в книгах все, что
напоминало ей о ее отношениях к Панфило; учительный элемент
привходил в новеллы, как естественный результат успокоенного
размышлением чувства.
Так мог уверять себя Боккаччо; но не все ему верили. Уже в
древнейшем дошедшем до нас списке «Декамерона» (1384 года) он носит
и другой титул, данный ему, очевидно, не автором: начинается
книга, называемая «Декамерон», прозванная Principe Galeotto. Всем
известен рассказ Франчески из Римини, как она и Паоло читали
однажды о Ланцелоте и обуявшей его любви; они не раз встречались
глазами, бледнели, но один момент их победил: когда они дошли
Пустое предубеждение против слов (франц).
Художественные и этические задачи «Декамерона»
407
до того места, где Ланцелот поцеловал свою желанную, Паоло
запечатлел дрожащий поцелуй на устах Франчески. В тот день они
больше не читали; «Галеотто звалась та книга, и кто писал ее, был
для нас Галеотто». Галеотто — это Gallehaut старофранцузского
романа о Ланцелоте: он первый подметил тайную страсть
Ланцелота к Джиневре и помог обоюдному признанию. В этом смысле
Франческа могла сказать, что роман, сблизивший ее с Паоло, был
для них Галеотто, и такое прозвище, данное «Декамерону», не
имеет другого значения: его новеллы возбуждали нечестивые мысли,
потакали страсти. Обвинение в непристойности уже готовилось
перейти к укору в безнравственности.
Но раздавались и другие голоса, голоса идеальных читателей
«Декамерона», каких желал себе Боккаччо. Вот что писал один
из безыменных его современников в виде предисловия к выборке
бесед учительного содержания и канцон «Декамерона»:
«Великой славы заслуживает имя того, кто находит
удовольствие в упражнениях, ведущих к утешению прелестнейших дам,
ибо похвальное дело увеселять тех, от кого мир состоит в веселии.
У кого больше умения и знания, тот должен положить на это дело
и больше старания: мудрые поэты, слагая занимательные книги,
изобилующие нравоучением, дабы, читая их, либо слушая их
чтение, они получили удовольствие и пользу; музыканты, сочиняя
бал латы и мадригалы, дабы, распевая их, либо слушая их пение,
они восприняли любовное наслаждение; и так постепенно каждый,
совершая то, что по его понятию может особенно понравиться
их нежным умам. Таким образом, оправдывается то, чему научают
нас многие мудрые люди: что веселая жизнь поддерживает долгую
молодость. Какое дело похвальнее того, которое блюдет прекрасную
женщину веселой в ее юности? Не буду излишне распространяться,
доказывая вам, что прелестных дам следует нарочито почитать,
ибо доблестные мужи прошлых времен дали тому явный пример:
глубокие ученые предоставили к их услугам свое знание и опытом
показали, что они достойны высочайшего почета; то же делали
храбрейшие воины, из любви к даме насмерть сражаясь на турнирах;
иные поэты сравнивали дам с ангельскими ликами. Какой праздник
бывает хорош, если не скрашивает его множество привлекательных,
красивых женщин? В каком доме весело, если в нем нет веселой
женщины? Разумеется, все это должно быть ясно для всякого,
ибо не только миряне, но и духовные лица тайно держатся того же
мнения. Смею сказать по правде: нет столь строгого проповедника,
порицающего красоту и наряды женщин, который застоялся бы
408
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
на кафедре, если б не видел кругом себя вдовых и замужних дам;
порой он вставляет в проповедь, рядом с евангельскими рассказами,
какую-нибудь новеллу, лишь бы рассмешить их; только доверься
им, так от смеха не далеко было бы и до кое-чего другого. Иной раз
в церкви какой-нибудь охочий магистр или бакалавр толкует
четырем или шести сидящим у ног его дамам о житиях святых, порой
внушая им, сколь полезно частое посещение монастырской церкви,
то есть живущих там монахов; и о многом другом еще говорит он,
согласно с их желанием; если бы келарь позвонил тогда к трапезе,
он не поднялся бы с места, забыл бы о пище и питье, лишь бы
продлить беседу. Одной дает сшить себе сорочку, другой — скапулярий
и говорит: "Эти портные портят нам все платья, шить не умеют, а вот
дамы, так те работают хорошо: мелкими стежками строчат, точно
бисером нижут, штопка у них двойная, все-то у них ладится!" Так,
порицая их с амвона и тайно похваливая, они чают от них услуг,
но господь да накажет ту, которая послужит кому-нибудь из них
иным, чем шитьем, ибо это было бы знаком низкого, преступного
духа, и да приключится с нею, что случилось с одной моей соседкой:
была она в белом платье, но когда обнялась с монахом и потерлась
об его черные одежды, юбка у ней спереди стала вся серая, так что
когда она вышла из комнаты, куда удалилась с монахом под
предлогом исповеди, родственницы той дамы сказали ему: «На здоровье
вам новая ряса, честный отец, очень уж она красива, да так хорошо
выкрашена, что своею тенью окрашивает чужое платье!» Как
заметил это монах, застыдился, спустился по лестнице и никогда более
не посмел возвращаться туда. Довольно будет монахам — монахинь
и святош, ибо, по словам учителя, монахини — их духовные
жены... Да покарает их Господь, ибо они более падки на мирское, чем
на духовное, так что, согласно с пророчеством, надо полагать, что
Антихрист народится, либо уже народился».
«Но, достойнейшие дамы, не станем говорить более, из уважения
к священному сану, о похвальных делах духовных лиц, ибо о том
пришлось бы толковать слишком много, а обратимся к похвале
тех, которые, из уважения к вам, приложили труд к изобретению
некоторых прекрасных и приятных творений. В числе прочих, о
которых я теперь припоминаю, особой похвалы и славы заслуживает
мессер Джьованни ди Боккаччо, которому да пошлет господь долгую
и счастливую жизнь по его желанию. Он в короткое время написал
много прекрасных и потешных книг, в прозе и стихах, в честь
прелестных дам, великодушные помыслы которых обращены на все
приятное, ведущее к добродетели; читая те книги и прекрасные
Художественные и этические задачи «Декамерона» 409
рассказы, или слушая их, находят в том высокое удовольствие
и развлечение, отчего ему прибывает хвалы, а вам утешения. Между
прочим сочинил он отличную и занимательную книгу под заглавием
"Декамерон"». Анонимный автор предполагает, что дамам его уже
читали, и потому кончает свое введение перечнем его рассказчиков
и рассказчиц.
Таковы были суждения, вызванные первым появлением
«Декамерона»: одни хвалили его назидательность, элемент вдумчивых
бесед, другие называли его «Галеотто», очевидно, еще без того
зловещего значения, какое придали ему впоследствии, когда падение
нравственности усилило требования пристойности, и анекдоты
о монахах получили значение не только религиозного протеста,
но и опасного или подозрительного вольнодумства. В конце
«Декамерона» Боккаччо отделался шуткой от упрека, что у него язык
злой и ядовитый, ибо он пишет правду — о монахах; позднее эти
нарекания подействовали на него серьезнее: в письме к Магинарду
деи Кавальканти он стыдится «Декамерона», как греха юности;
это было в 1373 году; между тем, в последней книге «Генеалогий
богов», законченных почти одновременно, чувствуется еще как бы
отголосок протеста, слабое «eppur si muove»40. Защищая против
хулителей поэзии род рассказов, повестей, fabellae, Боккаччо
повторяет знакомые нам аргументы, что новеллы развлекают, отводя
грустные мысли, очищая вожделение, заставляя переживать его
в уме. Рассказы нередко освежали усталый дух именитых людей,
занятых важными делами, что доказывается не одними лишь
примерами древности, ибо мы видим, что правители, покончив
с серьезными государственными вопросами, призывают к себе,
точно по природному внушению, людей, которые веселыми
рассказами ободрили бы их дух и павшие силы. Нередко рассказы
доставляли утешение людям, отягченным судьбой, как у Луция
Апулея благородная дева Харита, оплакивавшая свою долю в плену
у разбойников, несколько развлеклась повестью о Психее, которую
рассказала ей старуха. «Иной раз басни поднимали коснеющий ум:
не буду говорить о людях мелких, ибо мне, — продолжает Боккаччо,
приводя со слов Якова да Сан Северино анекдот его отца о короле
Роберте, — как ему, в молодости не давалась грамотность, пока
ловкий педагог не развил в нем охоты к знанию, — баснями Эзопа.
Так вот каковы басни: неученых они прельщают внешней канвой,
ученых — скрытым в них смыслом; кто хулит их, высокомерно
осуждая поэтов, пусть сначала очистится от собственных
мерзостей, оглянется на себя, к каким непристойностям сам он нередко
410
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
прибегает, чтобы потешить дам, и тогда пусть попытается очистить
чужие рассказы, поминая слова спасителя — о блуднице».
Были еще средние, настоящие читатели «Декамерона»: им он
нравился пестрым разнообразием своих типов, своей веселостью
и разлитой повсюду поэзией любви; полушкольная, полународная
легенда, привязавшаяся к Чертальдо, служит тому выражением.
Неаполитанские поверья сделали Вергилия — магом; в преданиях
Сульмоны Овидий является мудрецом, волшебником,
проповедником, но не забыт и поэт: у него была будто бы вилла в Fonte d'Amore,
где он до сих пор стоит на страже своих сокровищ; папа Целестин
узнал о них из книг Овидия и, раскопав клад, построил аббатство
San Spirito в окрестностях Сульмоны. На этой-то вилле жил Овидий
в обществе своей любовницы-феи. В Чертальдо такая же легенда
о феях окружила другого певца любви. Она пристроилась к
подземному ходу, открывающемуся у нижнего этажа башни, где жил
Боккаччо, и выходящему в сталактитовую пещеру внутри холма,
расположенного в недалеком расстоянии к северу. Здесь, говорят,
обитали влюбленные в Боккаччо феи, устроили под землей
чудесный дворец, а с вершины башни на вершину холма перекинули
хрустальный мост, по которому поэт и ходил к ним на беседу о
любви. Мы этих фей знаем: это Фьямметта, рассказчицы и героини
«Декамерона», Алатиэль и Джилетта, крестьянка из Варлунго
и Гризельда. Мы забыли, что они когда-то были назидательны или
вольны, для нас они — феи, спускавшиеся к магу Боккаччо по
радужному мосту поэзии, и для них-то он соорудил свой чудесный
дворец— «Декамерон».
Боккаччо и Овидий — это такая же параллель, как Петрарка
и бл. Августин; Петрарка, глубоко волнуемый самоанализом и
вместе с тем интересующийся как-то объективно его процессом,
носящийся с ним, выносящий его напоказ, как бл. Августин накануне
крещенья ведет на вилле под Миланом философские беседы, которые
записывает призванный стенограф. Именно в эпоху гуманизма
получают свой психологический raison d'être бывшие когда-то в моде
«параллели» великих людей и поэтов: сходство настроения,
стремлений, темпераментов поддерживалось чтением, каждый находил
родственного себе мыслителя, вчитывался в него поневоле, как
в эпоху легенд верующий вдумывался в тип излюбленного святого,
повторяя его житие, личным подвигом переживая его легенду.
Говорить о литературном влиянии «Декамерона» было бы здесь
не у места: его печать лежит на всем развитии позднейшей
художественной повести. Укажу лишь на Чосера. Он мог ничего не знать
Художественные и этические задачи «Декамерона» 411
о «Декамероне», кроме новеллы о Гризельде в переводе Петрарки,
но он прочел у Боккаччо многое, что приготовило «Декамерон»:
«Филострато» и «Тезеиду», особенно «Филострато», эту
новеллу в формах рыцарского романа. Он подражает им и переводит
(«Troilus and Cressida», «The knight's Tale»41), орудует стансами
«Тезеиды», внося их в свой «Parliament of Fowls», «Troilus and
Cressida», в неоконченную поэму об «Anelida and Arcite». Так он
вживался в новый стиль: его «Кентерберийские рассказы» — это
Декамерон, усвоенный поэтом-реалистом северной буржуазии,
фабльо, прошедший итальянскую школу. Исчезли кое-где тонкие
штрихи, торжественно-классическая степенность, типы поняты
резче и ярче, психологически сложный образ молодого blasé* Пан-
дара уступил место более рельефному и понятному, но едва ли более
симпатичному цинику «Троила и Крессиды», самодовлеющий
эстетический анализ — энергически-односторонней характеристике.
Боккаччо и Чосер — это не только две среды, но в известной мере
и два преобразования.
И далее мы встретим в обороте всемирной литературы типы
Боккаччо и сюжеты международной повести, которым его личное
понимание впервые придало художественный интерес.
Car il féconde tout, ce charmant inventeur**.
(Alfred de Musset, Sylvia), — встретим y Лопе де Вега и в
английской новелле XVI века, у Шекспира и La Fontaine'a, у Лессинга,
Мюссэ, у Anatole^ France и Catulle Mendès, всякий раз в новом
освещении. Если одним из критериев действительной поэзии является
ее способность питать новые образы и иллюзии, то «Декамерон»
широко ответил этой задаче.
е^э
Пресыщенный жизнью (франц.).
Так как он во все вносит жизнь, этот очаровательный выдумщик (франц.).
^^^
Α. A-BA
Новеллы десятого дня «Декамерона»
Тою же жизнью, тем же духом вполне средневековым веет
и от новелл десятого дня «Декамерона». Но здесь мы встречаемся
с мотивами рассказа, которых нам не приходилось еще указывать
у Боккаччо: темой рассказчиком даются здесь примеры
щедрости и великодушия «в делах любви и других» (si ragiona di chi
liberalmente, ovverro magnif icamente alcuna cosa opérasse intorno
a'fatti cTamore о d'altra cosa). Очевидно, что такая тема поведет
за собою рассказы в ином несколько духе, чем описания разных
ответов, насмешек и проделок, и что сообразно с этой темой,
перевес здесь должен быть на стороне не хитрого «мещанского» ума,
а рыцарского благородства; выше ловкости и остроумия здесь станет
идеал бескорыстия, принцип рыцарской чести; от этого
представителями высоких чувств и добродетелей здесь явятся короли, рыцари,
волшебники и идеальные отвлеченные личности баснословных
сказаний. Но, несмотря на то что повести эти защищают, казалось бы,
идеалы, противоположные идеалам флорентийской повести, они,
все-таки, не изменяют основному характеру новеллы: напротив, они
представляют нам новые доказательства того, как близко,
благодаря своему происхождению, стояла новелла к жизни народа и как
верно отражала она в себе все течения его мысли. Мы видели, как
гениальный рассказчик писал с натуры, одевая яркими красками
действительности тот материал, который жил в памяти и фантазии
его эпохи. Мы видели, как, задаваясь целью воспроизводить все
новое, т. е. не только комическое, но все выдающееся, необычайное,
доходившее даже до трагизма, новелла пользовалась теми мотивами
народного творчества, которые защищают земные интересы против
религиозно-аскетического учения. Но это «новое», как главный
Новеллы десятого дня «Декамерона»
413
предмет новеллы, обусловившей в ней и цели, и характер
рассказа, — это «новое» могло касаться не одних ее комически-грязных
сторон, а затрагивать те высокие интересы и стремления, носителем
которых является в эту эпоху рыцарство. В Италии, где рано
поднялся практически-буржуазный дух общества, идеи, воплощенные
в рыцарстве, не имели того значения, как на севере; но тем не менее
и тут, не только литература искусственная, исходившая из при-
дворно-рыцарских кругов Сицилии и Неаполя, но и литература
народная не могли остаться чужды рыцарского образа мыслей, общего
всему Западу. Заметим, впрочем, что термин «рыцарский» здесь
вполне условный: еще в те смутные, воинственные времена, когда
рыцарство не составляет сословия, преследующего определенные
задачи в жизни, когда литературная мысль только что
пробуждается в неустановившемся обществе Европы, — уже тогда в народе
зарождаются те т. н. рыцарские идеалы, которые его нравственное
чувство выставляют оплотом против грубого произвола собственных
страстей. Впоследствии эти идеалы бескорыстия, великодушия,
самопожертвования, нравственного совершенствования воплощены
поэзиею в возвышенных образах героев, «рыцарей без страха и
упрека» ; но прежде всего они находят себе место в том общем всей Европе
хаотически-богатом повествовательном материале, из которого
впоследствии вырастает произведение национальной литературы.
Проникая и в chanson de geste1, и в придворно-рыцарскую поэму,
в роман, и в народную сказку германских, славянских племен,
и в фаблио северного трувера, и в бойкий анекдот новеллиста,
материал этот составляет основу всего «Декамерона», не исключая
и 10-го дня новелл. Его рыцарственные сюжеты исходят из одного
источника с новеллами, хотя бы на тему женских обманов; а
потому, хотя по общей мысли, по более идеалистическому настроению,
они противоположны предыдущим рассказам, но точно так же, как
и те, представляют собою продукт средневековой народной мысли,
освещают некоторую сторону умственной жизни эпохи: к тому же,
вводя новый элемент повествования, они открывают новые черты
повести, какие нам не случалось еще указывать у Боккаччо: здесь
новеллист во имя идеала сходит с той реальной почвы, на которой
до сих пор держался, и рассказ не в силах воплотить его идеала в
таком же ярком и полном образе, как воплотились в нем проявления
буржуазного городского духа.
Первая новелла этого дня, хотя отчасти мотивирована, как
полагают, из длинного скучного романа «Бузоне да Губбио» (Busone
da Gubbio 1300-1350), описывающего приключения сицилийских
414
Α. ABA
рыцарей, тем не менее носит такой же анекдотический характер,
как и те рассказы предыдущих дней, где вся сила — в остроумии
отдельного замечания, в находчивости сравнения и т. п. Тут
рассказывается, как один итальянский дворянин Руджери Фидоковани,
ища подвигов и славы, приезжает служить ко двору испанского
короля Альфонса. Видя ко всем большую щедрость короля, рыцарь
находит, что его недостаточно отличают от других и не награждают
по заслугам, а потому собирается вернуться на родину. На прощанье
король дарит ему мула для дороги и затем посылает вместе с ним
одного из своих приближенных, чтобы тот незаметно наблюдал,
что будет Руджери говорить про короля и его подарок. Но рыцарь
всю дорогу отзывался о короле с большою похвалою. Только раз,
когда мул, не останавливавшийся, где останавливались другие,
остановился посреди реки, рыцарь крикнул на него, говоря, что он
похож на своего прежнего господина, короля Альфонса; тогда
спутник Руджери тотчас же передал ему приказание короля вернуться
назад. Король потребовал у него объяснения этого оскорбительного
для него сравнения, и рыцарь отвечал, что мул останавливался, где
не следует, так и король был щедр где не подобало: мало награждал
того, кто заслуживал большего. Но в этом, по мнению короля, надо
винить не его, а злую судьбу самого Руджери: и в доказательство
несправедливости к нему фортуны, он велит принести два одинаковых
ящичка, а рыцарю — выбрать который-нибудь из них: в одном
хранятся разные драгоценности испанской короны, в другом насыпана
земля. Когда выбор Руджери оказался неудачным, король объявил,
что он желает исправить ошибку рока, вознаградить достойного
по заслугам, и потому за его рыцарскую службу дарит ему ящик
с драгоценностями.
Этот прием испытания судьбы выбором ящиков — мотив в разных
видах и вариантах, очень распространен в европейских литературах:
им воспользовался и Шекспир в «Венецианском купце», а первый
его прототип ученые находят и в аскетической, повсеместно
разошедшейся, древней повести «Варлаама и Иосафата», и в
средневековом сборнике поучительных рассказов о «Римских Деяниях»,
Gesta Romanorum. Если такие заимствования или совпадения
подтверждают народное происхождение «Декамерона», то не
менее ясно сказывается оно и в следующей новелле вполне местного
типа: мы раньше уже видели, что многие лица, памятные народу
какими-нибудь особенностями жизни и характера увековечены
как в «Декамероне», так и в «Божеств, комедии». В этом дне мы
встречаемся с личностью, также известной по Данте. Гино-ди-Такко,
Новеллы десятого дня «Декамерона»
415
искупающий в Чистилище свирепость нрава (Purg. VI, 13),
прославился в эпоху феодальной неурядицы в Италии жестокостью
и разбоями. Впрочем, некоторые историки и комментаторы Данте
рисуют его разбойником-рыцарем, грабившим не ради наживы,
а для того, чтоб иметь средства делать добро и помогать бедным.
Рыцарским характером отмечен он и у Боккаччо. Изгнанный
из Сиены — рассказывается во И-ой новелле — он возмутился
против папского двора, задерживал и грабил проезжавших вблизи
его владений. Случилось, что один из самых богатых прелатов,
настоятель клюнийского аббатства, заболел при папском дворе
и ехал лечиться в Сиену. Гино-ди-Такко забрал его в плен со всей
его блестящей свитой и, узнав, что он страдает желудком и едет
лечиться, запер его одного в комнату и посадил на строжайшую
диету; когда, в очень короткое время, прелат совсем выздоровел и ему
дозволили быть со свитой, он узнал, что только его одного держали
в таком заключении, между тем, как приближенные его
пользовались всеми удобствами жизни. Гино-ди-Такко, угостивши прелата
богатым обедом, выпустил его из плена: он не только его вылечил,
но и предложил ему взять назад все добро, захваченное шайкой.
Великодушие, данное темой рассказа, заключается не в одном этом
поступке благородного разбойника: и прелат сумел, достойным
образом отблагодарить своего врача; он оставил ему лошадей и все, что
у него было с собою, а возвратившись в Рим, рассказал папе, кому
обязан своим выздоровлением, и выхлопотал феодалу прощение.
Общий тон рассказа в обеих новеллах мало чем отличается
от обыкновенной манеры Боккаччо: тут та же живость в ведении
дела, та же точность и определенность описания, та же тщательность
и подробность в мотивировании действия: да и по самому
содержанию обе новеллы, хотя на тему рыцарских чувств, — такие же
анекдоты, как рассказы предыдущих дней: в одной новое, остроумное,
в оригинальном сравнении и в необыкновенной развязке события,
а в другой — «новое», не столько в приключении, сколько в щедрости
и благодарности прелата, — качества поразительные потому, что
духовенство, по понятию времени, было с ними вовсе незнакомо.
Но хотя в обоих сюжетах так чувствуется время, их создавшее, мы
не встречаем тут того мировоззрения, тех чувств и помышлений,
в которые нам трудно вжиться и вдуматься. Другое дело,
остальные новеллы этого дня. Там мы сталкиваемся с нравственными
идеалами времени, и нам снова приходится убеждаться, как
значительно сменяется с веками нравственная точка зрения, и как мало
рыцарская добродетель соответствует нравственным потребностям
416
Α. ABA
позднейших времен. Мы видим тут, напр., в IV-й новелле, что
великодушие, благородство сказываются поступками, которые в наше
время не возбуждают никакого восторга и умиления: у Боккаччо
слушатели не находят слов и сравнений, чтоб возвеличить заслуги
благородного героя, а мы в них видим проявление самого простого
элементарного чувства честности.
Эта четвертая новелла 10-го дня повествует о том, как в Болонье
один прекрасный, благородный кавалер Джентель Каризенди
влюбился в жену Никколуччо Каччьянилино и, не добившись от нее
ответа на свою страсть, уехал из города. Она в его отсутствие заболела,
умерла и была погребена в фамильном склепе. Когда это печальное
известие дошло до ее обожателя, то он вернулся в Болонью, чтобы
еще раз взглянуть на нее и поцеловать ее хотя бы мертвую;
пробравшись тихонько в склеп, она нашел в мнимом трупе признаки
жизни, взял его к себе в дом, где мать его разными средствами
привела заживо похороненную в чувство. Когда та, очнувшись, хотела
тотчас же вернуться к мужу, рыцарь упросил ее, чтобы она в
благодарность за спасение исполнила бы одно его желание, а именно:
пожила бы некоторое время с его матерью в его доме; он ручался,
что она не увидит у него ничего оскорбительного для своей чести,
потому что он желает торжественным образом возвратить ее мужу.
Она согласилась, и рыцарь на время уехал из Болоньи. Тут у ней
родился сын. Через некоторое время рыцарь вернулся домой и
приготовил большой пир, на который созвал лучших граждан города,
в том числе и мужа спасенной им дамы. На пиру он произносит
речь: — В Персии, — говорит он, — существует обычай, по
которому гостеприимный хозяин, угощая друзей своих, показывает
им то, что для него выше и дороже всего на свете, будь то хороший
друг, жена или дитя, в знак того, что он рад бы раскрыть перед
друзьями свое сердце точно так же, как он им теперь показывает
предмет своей привязанности. Этот обычай рыцарь желает ввести
и у себя, показавши гостям женщину, которая ему дороже всего
на свете. Но прежде он просит их разрешить ему следующий вопрос:
у хозяина заболел слуга и был им без помощи выкинут на улицу;
другой поднял его, ходил за ним, вылечил его, и оставил служить
у себя. Имеет ли первый хозяин право требовать, чтоб слуга был
ему возвращен? Обсуждая вопрос, гости поручили ответить
Никколуччо Каччьянилино, который и решил, что хозяин на покинутого
им слугу не может иметь никакого права. Тогда рыцарь показал
им красавицу, жену Никколуччо, которую никто не узнал, так
как считали ее умершею, и объяснил, что это тот слуга, которого
Новеллы десятого дня «Декамерона»
417
выкинули на улицу, как ненужную вещь, он возвратил ее к жизни,
следовательно, она должна, по их решению, принадлежать ему.
Затем он подробно рассказал, каким образом он ее спас, как горячо
ее любит, и объявит, что не желает воспользоваться своим правом
и возвращает ее и ребенка, своего крестника, мужу. В заключение,
слезы радости, благодарности, а со стороны рассказчика — умиление
перед великодушием героя.
Навряд ли в наше время подобное великодушное
самоотвержение — если даже допустить возможность такого приключения —
заслужит названия высокой добродетели: можно ли в поступке
рыцаря, поборовшего свою страсть к женщине, притом же его
не любившей, видеть что иное, как самое естественное уважение
человека к жене другого? Но иначе смотрел на вещи век рыцарства:
если женщина приравнивалась к слуге, к рабу, к вещи, брошенной
одним и поднятой другим, то понятно, что и то чувство, в силу
которого человек отказывается от удовлетворения страсти, является
высоким, из ряду вон выдающимся великодушием. А уважение
к женщине, как к человеку, признание за нею человеческого
достоинства не существует в веке рыцарского поклонения и служения
дамам: высокое, отчасти символическое обожание женской
добродетели вырастает на той же почве, как и шаткость семейных основ,
неурядица семейного быта, так ярко сказавшаяся в цинизме
средневековой повести. То грубое отношение к женщине в первобытном
обществе, которое указывает на низкий уровень его нравственного
развития, не может не поражать нас во всех почти рассказах этого
дня, защищающих рыцарские идеалы. Возьмем следующую, 5-ю
новеллу у где рассказчик предлагает образцы щедрости и
великодушия, еще более поразительные, чем предыдущие.
В мадонну Дианору влюблен богатый барон Ансальдо; сколько
ни старается он заслужить любовь своей дамы, сколько ни надоедает
ей посланиями и увещаниями, она не подкупается ничем. Наконец,
на его новую попытку она велит ответить ему, что поверит его любви
и согласится на все его желания только тогда, когда в январе месяце
он даст ей сад такой же зеленый и цветной, как в мае. Услыхав такое
требование, мессир Ансальдо, хотя и считал его невыполнимым,
приложил, тем не менее, все старания и разыскал волшебника,
который взялся за огромные деньги исполнить невозможное. И вот,
в половине января в Удино2, среди льдов и снегов, расцветает
прекрасный сад, и м. Ансальдо, нарвавши в нем плодов и цветов,
посылает их мадонне Дианоре, приглашая ее придти полюбоваться
на исполнение ее желания. Совестно и обидно было ей вспомнить
418
Α. ABA
об обещании, которое теперь приходилось выполнить; со слезами
рассказала она обо всем мужу; тот сперва заметил ей, что честная
женщина не выслушивает никаких подобных посланий и не идет
ни на какие условия; но затем решил, что она обязана исполнить
обещание, и он дозволяет ей то, на что бы не согласился ни один
муж, — имея отчасти в виду, что м. Ансальдо, при помощи своего
волшебника, может жестоко отмстить им. Она должна идти к месс.
Ансальдо и, как бы то ни было, отделаться от своего обещания.
Как ни плакала мадонна, а надо было повиноваться. И вот утром,
в сопровождении двух слуг, является она к м. Ансальдо; он очень
почтительно принимает ее — и крайне удивлен, когда она объясняет
ему, что не любовь и не верность данному слову приводят ее к нему,
а приказание мужа, который сжалился над постоянством и любовью
ее обожателя. За такое самопожертвование месс. Ансальдо не желает
платить бесчестьем и просит ее вернуться к мужу и передать ему его
уважение. Они делаются друзьями, а волшебник, видя, что рыцари
превосходят один другого великодушием, отказывается от платы,
назначенной за сад.
Оба эти сюжета, о заживо похороненной жене и о волшебном
саде, обработаны были у Боккаччо раньше, в «Filocopo», где они
также приводятся как примеры рыцарского благородства; от этого
и в форме рассказа у них много общего: в обеих новеллах действия
меньше, чем в предыдущих днях рассказов; в обеих много места
отдается речам, описанию чувств и т. п.; даже в новелле о волшебном
саде у автора как будто и не хватило средств естественным путем
развязать узел интриги: ему пришлось прибегнуть к анти-худо-
жественному элементу волшебства, которого мы еще не встречали
в «Декамероне».
Но, несмотря на то что оба сюжета по происхождению могли бы
относиться к искусственной рыцарской литературе, общее
направление и содержание их мало расходится с духом тех отделов сборника,
которые посвящены женской злобе и всяческим проделкам и
обманам; и тут, в новелле на тему рыцарских чувств, мы встречаемся, как
и там, с грубою любовью человека, который ищет ответа на свое
чувство путем подарков, подкупа и лести; и тут чувствуется та же среда,
на которой процветает грубая грязно-комическая «beffa»3: собственно
нравственное содержание этих новелл совершенно одного уровня
с 7-м днем рассказов; тут, при данной постановке сюжета, так же как
и там, могла бы разыграться наглая проделка жены. Существенное
различие их в одной развязке: там торжествует грубый инстинкт,
в связи с более или менее остроумною ложью, — здесь на первый план
Новеллы десятого дня «Декамерона»
419
выдвигаются чувства, отвлеченные понятия добродетели. Но от этого
там более жизненной правды, более реализма: цель автора — верная
передача осязательного факта, с его настоящими причинами и
побуждениями, лежащими в характере действующих лиц, — потому
и рассказ его идет живо и бойко, не задерживаясь никакими
отступлениями: мотивы действия, выхваченные из жизни, не сложны,
легко понятны, не требуют длинных пояснений; даже, если главный
предмет рассказа — чувство, как в повестях о любовных
приключениях, то оно, как скрытая пружина действия, остается позади тех
реальных событий, которые составляют главный предмет описания.
Здесь же, в теме рыцарской добродетели, совершенно наоборот: цель
не в факте, ради его самого, а в тех побуждениях, которыми он
вызывается; поэтому действие вяло, интрига даже не развязывается сама
собою; да и не интрига интересует вовсе рассказчика: тут требуется
восхвалить, превознести известный образ мыслей; нарисовать
прежде всего известный идеал. От этого рассказ удаляется от искреннего
воспроизведения жизни, он теряет свою художественную
беспритязательность: новеллист задался тенденцией, целями, лежащими
за пределами его рассказа. Раньше, в трагических рассказах о
несчастной любви, мы также видели на первом плане чувство; но там
сильная искренняя страсть, выражавшаяся ударами ножа, приемами
яда, зависела от характера молодого существа, не щадившего для нее
жизни; понятно, что то чувство не требовало объяснительной речи,
вроде рассказа о персидском обычае гостеприимства. А здесь, в 10-м
дне, перевес не на стороне страсти, доводящей героя рядом строго
последовательных проявлений до трагического конца; здесь коллизия
чувств разрешается в область душевного мира: страсть побеждается
добродетелью, над желанием берет верх рассудительное
великодушие. А эти похвальные чувства не вытекают из сильных движений
сердца, их главным двигателем является более или менее холодное
сознание рыцарской чести, весь тот кодекс нравственных понятий,
который выработался известными историческими условиями и
называется рыцарским идеализмом. Стимулы эти, преимущественно
отвлеченно-рассудочного свойства, не способны глубоко затронуть
симпатии читателя, а потому, чтобы дать понять всю их
возвышенность, рассказчику надо выдвинуть их наперед, ввести подробно
их анализирующие речи и красноречивые отступления, которые, как
ни стилизованы, составят все-таки длинноты и не искупят скудости
действия.
Яркое доказательство тому находим мы в 6-й новелле этого дня,
самое краткое резюме которой уже указывает на бедность интриги
420
Α. ABA
и на изобилие красноречия. Король Карл I, будучи уже очень не
молод, посещает в Кастелламаре знатного флорентинца-гибеллина,
Нери-дельи-Уберти, у которого принят с большим почетом; видит
у него двух хорошеньких дочерей его, влюбляется и хочет отнять
их у отца. Только убедительные речи его советника, графа Гвидо
Монфордского, заставляют его отказаться от этого желания и выдать
их замуж, наградивши богатым приданым. Правда, и в этой новелле
сказывается — например, в описании приема у богатого рыцаря —
великий мастер, не жалеющий кисти в тонкости и подробности
воспроизведения, но очевидно, что цель и интерес рассказа в торжестве
того рассудительного благоразумия, которое говорит устами
советника и побуждает короля к великодушному самоотвержению.
Понятно, что такая цель не способна породить сильного, драматического
действия: победа холодного рассудка, действующего под влиянием
убедительной речи, не выливается в цельном, живом образе: она
вызывает только красноречие защитительных и оправдательных речей,
которые и поставят ее на пьедестал высокого геройства. На этот же
пьедестал воздвигается и то естественное уважение человека к жене
другого, которое мы видели в 4-й новелле этого дня. Оно и не могло
быть иначе. В те времена, когда общество знает так мало препятствий
в удовлетворении страстей, всякая победа над ними ценится очень
высоко. Их произволу и разуму в народных массах то время могло
противопоставить, кроме религиозно-церковного учения, еще тот
кодекс рыцарской нравственности, который проникает собою быт
и литературу средних веков. Рыцарственность, вместе с религиею,
служит охраною всех чистых и высоких движений человеческой
души и живет в сознании народа, как выражение его нравственных
идеалов. Но если эти идеалы возвышенны и грандиозны, они, вместе
с тем, туманны и неясны и не находят себе настоящего легального
применения в жизни. В борьбе с грубостью века они сказываются
утонченностью чувства, отвлеченностью и бесцельностью
стремлений, а потому так же легко мирятся с самыми необузданными
проявлениями физического темперамента, как легко уживался
с распущенностью нравов и с цинизмом литературы суровый
аскетизм христианского востока.
Оттого обе новеллы, взятые автором из «Filocopo», хотя
преследуют рыцарские цели, но на почве той грубой чувственности,
на которой возникают и фривольные рассказы предыдущих дней.
Вообще неприменимость к жизни рыцарского идеализма
сказывается в этом дне таким противоречивым явлением, как полное
игнорирование человеческого достоинства женщины — с одной
Новеллы десятого дня «Декамерона»
421
стороны, а с другой — высокое обожание ее красоты и добродетели.
От этого и два противоположных рода любви, которые рисуются
в литературе Средних веков. Или она, как в области городских
сюжетов «Декамерона», не поднимается выше грубо-животной страсти
и сказывается комическою стороною обмана и насилия, или она,
как в рыцарской лирике того же времени, принимает вид
загадочного чувства, при котором герои проявляют самую неестественную
утонченность в чувствованиях и поступках, страдают болезненной
сентиментальностью. Это не значит, конечно, чтобы тогда не знали
вовсе искренне-здоровой страсти, одинаково удаленной от обеих
крайностей. Когда Боккаччо в трагически-любовных новеллах
стоял на почве реального рассказа, он воспроизводил тот мир
души, который не исключал и великодушия, и самопожертвования,
и героизма, но так же далеко стоял от цинизма грязных проделок,
как и от сантиментальной извращенности головного увлечения. Мы
видели, в каких поэтических образах запечатлена молодая страсть,
так разрушительно действующая на юные организмы в борьбе с
разными препятствиями; мы видели, как близко там любовь
соприкасалась с смертью, как один, не задумываясь, жертвовал жизнью
для другого... В отделе рыцарских сюжетов мы тоже видим любовь,
от которой заболевает и чуть не умирает девушка; но это чувство
навеяно тем отвлеченным идеализмом, который накладывает свою
печать на все проявления нравственной жизни тех веков.
Вот что в новелле 7-й этого дня рассказывается про любовь Лизы,
дочери бедного аптекаря, к королю Сицилии Петру Арагонскому.
Король вел в Палермо блестящий образ жизни с своими баронами.
Случилось, что на одном турнире видела его Лиза, дочь
флорентийского аптекаря, и так влюбилась в своего короля, что ни о чем ином
и не могла думать, как о своей высокой любви, magnifico et alto
amore4, и о своем низком происхождении, не подававшем ей
никаких надежд на счастье любви. Она впала в меланхолию, скрывала
ото всех свои мысли, и кончилось тем, что заболела и стала таять,
как снег на солнце; ничто не помогало ей, и в отчаянии она желала
умереть, но желала еще, чтоб король узнал о ее любви к нему. Она
придумала пригласить к себе Минуччо д'Ареццо, певца и
музыканта (cantatore е sonatore), любимого королем, чтоб насладиться его
искусством. Отец, ни в чем ей не отказывавший, исполнил и это ее
желание. Музыка растрогала ее, вызвала обильные слезы;
оставшись с певцом наедине, она доверила ему тайну своей любви и своей
болезни, прося помочь ей в исполнении единственного и последнего
ее желания. Певец обещал свое содействие и тотчас же обратился
422
Α. ABA
к одному поэту, dicitore in rima, который должен был написать
канцону и воспеть в ней положение и чувства больной девушки. Канцона
была написана и пропета с успехом в присутствии короля, который,
как и ожидалось, весьма заинтересовался ее содержанием. Певец
наедине объяснил ему о положении и о желании бедной девушки,
своею красотою известной и при дворе; король сжалился и обещал
навестить ее; об этом тотчас же сообщено было больной, которая
тут же почувствовала облегчение. Король в тот же вечер пришел
к аптекарю, полюбопытствовал видеть его сад, а там расспросил его
и про красавицу дочь. Услыхав о ее болезни, он выразил желание
ее видеть, вошел к ней в комнату и, взявши ее за руку, сказал ей
несколько ласковых слов, советовал ей скорее оправиться. Девушка
застыдилась, но почувствовала такую радость, как будто попала
в рай и обещала собраться с силами и выздороветь. Утешивши ее
своим разговором, король уехал и не мог не пожалеть, что такая
красавица — дочь аптекаря. А девушка, осчастливленная посещением
предмета своей высокой привязанности, стала быстро оправляться
и хорошела больше, чем когда-либо. Король между тем обсудил это
дело с королевой и решил, что девушку за ее высокие чувства надо
вознаградить как следует; и вот королевская чета торжественно
с большою свитою является к аптекарю, и король объявляет Лизе,
что хочет удостоить ее большой чести, в награду за ее любовь к
нему: с разрешения королевы он целует ее и представляет ей
жениха, которого для нее выбрал, не богатого, но благородного юношу
и просит позволения навсегда считаться ее рыцарем. Из любви
к нему девушка рада исполнить всякое его желание; отец и мать
в восторге, жених также, а король иначе и не выезжает на турниры,
как под знаменем своей дамы.
Что за чувство дает содержание новелле, лишенной всякого
драматического действия, но исполненной закругленных красивых
фраз? Безнадежная любовь, от которой так страдает девушка, что
сперва решается умереть, потом удовлетворяется несколькими
ласковыми словами; но любовь ли это, если отчаяние переходит
в готовность исполнить волю обожаемого, т. е. выйти замуж за
рекомендованного им жениха? Теперь подобное чувство назвали бы
увлечением молодой, горячей головы, живущей воображением
и мечтами, головною, легко испаряющеюся страстью. Но для того
века это было особое высокое чувство — magnifico е alto amore,
на которое смотрели очень серьезно; оно заслуживало похвалы
и награды, оно составляло отличие высшего общества — король
не мог не пожалеть, что такою возвышенностью помыслов наделена
Новеллы десятого дня «Декамерона»
423
девушка невысокого происхождения. След., тут опять
специально-рыцарская точка зрения, особая нравственная мерка. Новелла
эта — отголосок придворно-рыцарскои сферы — переносит нас в ту
искусственную среду, где женщина является в сиянии божества; где
процветает любовная лирика провансальских поэтов, с их
постоянным обращением к Амуру и описанием утрированных чувств; где
король под знаменем своей дамы, которую он целует с разрешения
королевы, носит девизом: Mon Dieu et ma dame!5 Эта среда
выработала тот кодекс рыцарской нравственности, по которому рассудочное
великодушие, или великодушное благоразумие ставилось на степень
высокого геройства: неудивительно, если и болезненное чувство
платонического обожания — головное увлечение только что
проснувшейся молодости — возводится на степень высоко-идеального
стремления; оно должно вполне соответствовать тому настроению,
которое возводит в идеал все, что только идет вразрез с грубостью
и эгоизмом неразвитого человечества.
Поэтому в рыцарском идеализме большую роль играла и
щедрость. Эта добродетель не была, как у нас, одною
противоположностью скупости, это та особенная liberalitä, которая свидетельствует
о величии души, чуждается всякого мелочного чувства,
проявляется всяким великодушным поступком; эта liberalità должна была
нравиться рыцарству как противодействие грубо-эгоистическим
стремлениям; и с нею мы встречались уже в Новеллино, где столько
примеров королевской и рыцарской расточительности; в
«Декамероне» она выражается в обычаях гостеприимства, которые
прославляются в двух новеллах, в 9-й о мессире Торелло и Саладине, и в 3-й
о Натане и Митриданесе. Кроме одинаковой идеи добродетели, оба
эти рассказа имеют еще то общее, что оба переносят нас на Восток:
один разыгрывается наполовину в Александрии, при дворе Саладина
в эпоху крестовых походов; другой — в баснословной стране в
глубине Азии. Раньше, отмечая в «Декамероне» тему «путешествий
и приключений на суше и на море», мы имели случай заметить,
какую важную роль далекий Восток играл в народной фантазии.
Очевидно, что влияние Востока, так сильно сказавшееся в
первобытной повествовательной поэзии Европы, должно было усилиться
с тем стремительным передвижением целых масс, которое
вызвано было крестовыми походами. «Вероятно и та цивилизация,
с которою европейские народы столкнулись в Азии, была не без
влияния на образование рыцарских идеалов: собственно говоря
и в Азии существовало рыцарство; недаром же личность Саладина
так импонировала своим воинственно-благородным характером,
424
Α. ABA
что создалось целое сказание о посвящении его в христианские
рыцари (в Новеллино — фаблио о Гугоне Табарийском); и в среде
образованных султанских дворов рыцарские идеалы могли находить
себе воплощение: тут могла процветать и утонченность вежливости
и высоко-ценимая courtoisie6, и та безграничная щедрость —
гостеприимство мы привыкли считать качеством преимущественно
восточных народов, — щедрость, принимавшая грандиозные
размеры, благодаря роскоши подарков, тех баснословных богатств,
камней, тканей и т. п., которые фантазия рассказчиков могла найти
только на Востоке. Понятно, что перенесение рыцарских идеалов
с Запада на Восток не только не уменьшало, но еще более усиливало
их характер отвлеченности, неопределенности и неприменимости.
Такими именно чертами отмечен и дух гостеприимства,
составляющий основную идею в новелле о Мессире Торелло и Саладине. Вот
в чем ее содержание:
Саладину вздумалось посмотреть на приготовления христиан
к походу против него (3-й крест, поход 1189 года). Переодевшись
купцом, с небольшою свитою, выезжает он из Египта и,
путешествуя по европейским землям, попадает в Ломбардию; тут, недоез-
жая Павии, встречает он однажды благородного мессира Торелло,
который с своими прислужниками, с соколами и собаками
направляется в одно из прекрасных поместий на Тессинском озере.
Завидя иностранцев, мессир Торелло вздумал принять их у себя.
Для рыцарского гостеприимства существует и особый термин, —
onorare значит особенно радушно принимать гостей, оказывая им
внимание и всякие почести, исполняя все их желания и награждая
их подарками. На вопрос Саладина о том, попадут ли они до ночи
в Павию, рыцарь поспешил ответить отрицательно; а на вопрос
о ночлеге, предложил им в провожатые одного из своих
прислужников, который может указать им дорогу. Отозвавши слугу в сторону,
он сделал ему свои распоряжения, а сам поехал в поместье и
приготовил все для самого роскошного приема иностранцев; слуга же,
проплутавши с гостями по окрестности, вскоре явился с ними
к мессиру Торелло. Саладин не мог не понять всей утонченности этой
любезности: пригласи их сам мессир Торелло к себе, они имели бы
право отказаться, а теперь он хитростью заставляет их принять его
угощение. На тонко-вежливое извинение Саладина, мессир Торелло
отвечает не менее утонченным изъявлением рыцарской courtoisie,
и, видя с первых слов, с кем имеет дело, не только угощает их
ужином и оказывает им всякие почести, но посылает в Павию сказать
жене, чтоб и там приготовлен был гостям такой же прием. На утро
Новеллы десятого дня «Декамерона»
425
он показывает им свою соколиную охоту, сам едет с ними в Павию,
где принимает их еще роскошнее; знакомит их с женою, которая
оказывается не менее любезна, чем он; окружает их таким
вниманием, что совершенно их очаровывает; а на прощанье он и жена
делают им роскошные подарки. Саладин, назвавшийся сирийским
купцом, едущим в Париж, выражая свою благодарность хозяину,
желал только иметь когда-нибудь возможность отплатить и ему
подобным же приемом. Собравши в Европе нужные ему сведения, он
вернулся в Александрию и приготовился к войне, а мессир Торелло,
невзирая на просьбы и слезы жены, стал собираться в крестовый
поход. Уезжая, он просил жену об одном: если от него не будет
известий, не выходить замуж раньше, чем исполнится один год, один
месяц и один день со дня его отъезда. Жена обещалась и дала ему
кольцо, глядя на которое он должен был вспоминать о ней. На
войне мессир Торелло попал в плен и отведен был в Александрию; тут
на досуге он стал заниматься приручением птиц, слух о чем скоро
дошел до Саладина, и тот сделал его своим сокольничим. Из плена
ему удалось послать письмо на родину с генуэзцами, которые
приезжали выкупать своих пленных, и дать жене знать, что, будучи
жив и здоров, он надеется к ней вернуться. Между тем однажды
на охоте Саладин, вглядываясь в своего сокольничего, по улыбке
и одному движению рта вспомнил о своем гостеприимном хозяине
в Павии, узнал его и, убедившись из расспросов, что не ошибся,
велел показать ему платье, полученное от него в подарок и открыл
пленнику, что он был у него в гостях. С этих пор положение мессира
Торелло совершенно изменилось: султан велел одеть его по-царски,
оказывать ему такое же уважение и почет, как его собственной
особе; вообще всячески старался отплатить ему за его
гостеприимство. Мессир Торелло при дворе Саладина зажил так пышно, что
и не думал о родине; а память о жене мало его беспокоила, так как
он был уверен, что, получивши его письмо, она будет знать, где он,
и замуж не выйдет. Случилось однако иначе: в христианском войске
умер один рыцарь также по имени Торелло, и все думали, что это
был хорошо всем известный мессир Торелло, уроженец Павии; слух
о его смерти быстро распространился, и нашлись даже очевидцы,
которые уверили его жену, что видели его мертвым. Когда первое
горе мнимой вдовы улеглось, к ней стали приставать родные,
уговаривая ее выйти замуж; сколько ни отказывалась она, наконец,
вынуждена была дать слово одному жениху с условием только
выждать время до срока, назначенного ей мессиром Торелло. Между
тем муж ее встретился в Александрии с одним из спутников тех
426
Α. ABA
генуэзцев, которым он поручил письмо на родину, и узнал от
него, что никто из генуэзцев до Италии не доехал, потому что судно
их было разбито бурею. Рассчитавши, что скоро кончается срок,
назначенный им жене, Торелло впал в такое отчаяние, что заболел,
лег в постель и решился умереть.
Саладин, как только узнал о причине его горя, обещал
приложить все старания, чтоб к данному сроку рыцарь посцел в Павию.
Он поручил устроить это одному опытному волшебнику; тот
прежде всего усыпил его волшебным питьем, а Саладин велел сонного
рыцаря перенесть на роскошное ложе, одеть его богатым платьем
и обложить оружием и разными подарками для него и для жены;
в ту же ночь мессир Торелло силою волшебства был в одно мгновение
перенесен из Египта в Италию, и очутился, как он сам того желал,
в монастыре, где его дядя был аббатом. Это было в день свадьбы его
жены, последний день срока, данного ей мужем. В качестве
иностранца отправляется мессир Торелло на свадебный пир; в
иноземной одежде, с длинною бородою, наблюдает он за поведением жены,
остается очень доволен, видя что она сильно горюет; он посылает
ей в чаше вина кольцо, данное ею на память при его отъезде, она
узнает кольцо, пристально вглядывается в мнимого иностранца
и — бросается в его объятия.
Вся эта новелла, и особенно последние сцены возвращения на
родину, — испуг монахов, нашедших в церкви рано утром богатое
ложе с спящим на нем чужестранцем, и свидание с женою, —
написаны со всею живостью и увлекательностью Боккачиева
рассказа. И не удивительно: хотя главная мысль повести — рыцарская
добродетель гостеприимства, но она тесно связывается здесь с
элементами приключений, разных случайностей, поэтому принимает
тот реалистический характер, который мы видели в первых днях
«Декамерона». Тут так же, как и там, — особенно во второй, более
живой половине рассказа, — нас увлекает интерес чисто
сказочный — приключение пленного рыцаря при дворе того знаменитого
султана, которого народная фантазия любила украшать своими
вымыслами. От этого тут те же достоинства
реалистически-художественного рассказа: та же рельефность, ясность очертаний,
та же мелочность наблюдения, то же уменье двумя-тремя чертами
обрисовать ситуацию и тот же тон спокойно-оживленного рассказа,
воссоздающего предметы и лица во всей их жизненной полноте.
Но все-таки рыцарская основа сюжета не могла остаться без влияния
на ход повести: в первой половине, где преобладает добродетель,
чувствуется сравнительная бедность действия, а в конце — неуменье
Новеллы десятого дня «Декамерона»
427
справиться с интригою; как и в новелле о мадонне Дианоре развязка
приводится вмешательством волшебства.
Присутствие чудесного весьма распространено в
повествовательной, современной Боккаччо, литературе: оно встречается и в
рыцарских поэмах, и в фаблио, и в народных сказках и указывает
на молодость литературной мысли, на бедность литературного
таланта у рассказчиков: в самом деле, как удобнее вывести героя
из затруднительного положения, как не помощью чудесного
явления, неожиданным участием сверхъестественного? Этими
средствами эффекта с успехом пользуются даже многие последователи
Боккаччо; но сам гениальный рассказчик прибегает к ним только
в двух новеллах всего сборника. Обыкновенно его новелла
представляет собою строго мотивированное, последовательное действие,
где один факт вытекает из другого, или из внутренних побуждений,
из общего характера лица, от этого новелла его — тонко-веденная,
законченная драма вполне реального характера.
Но раз, как и в этом 10-м дне, он задается воспроизведением
высоких идеалов, повесть его не ограничивается одним
художественным воссозданием естественных побуждений нашей природы;
рассказчика интересует не определенный жизненный факт, а те
отвлеченные идеалы, которые лежат в основе рыцарского
мировоззрения. Особенно цельно выражается эта отвлеченность идеальной
добродетели в 3-й новелле о Натане и Митриданесе. Тут мы видим
самое неумеренное пользование убедительностью красноречия:
недаром же эта повесть в редкой хрестоматии не приводится
образцом Боккачиева слога, и недаром достоинства подобных рассказов
утвердили за ним славу красноречивейшего писателя, у которого
советовали учиться проповедникам. Если в новелле «Мессир Торел-
ло» современный читатель не может не подивиться бесцельности
и бесполезности рыцарского гостеприимства, которое так было
оценено Саладином, то еще более неограниченную
расточительность видим мы в повести о Натане: тут гостеприимство поставлено
на высоту недосягаемого идеала; от того место действия — крайне
неопределенно, а действующие лица страдают бесцветностью, как
воплощения необычайно высоких качеств души. И если в новелле
о мессире Торелло мы могли видеть, как близко сходились идеалы
Востока и Запада (Саладин рисуется рыцарем; в нем так много
общего с европейцем, что мессир Торелло тотчас же признает в нем
равного себе: та же вежливость, деликатность обхождения, та же
утонченность внешней манеры), то эту же близость можно указать
и в новелле о Натане. Здесь олицетворение рыцарской щедрости
428
Α. ABA
прямо относится в ту туманно-баснословную страну, где сходятся
пути Востока и Запада.
В Каттайо — так называлась в те времена северная часть
Китая — жил человек по имени Натан. Он был знатного
происхождения, имел несметное богатство и жил на той дороге, по которой
больше всего сообщения между Востоком и Западом. Желая на деле
выказать величие и щедрость своей души, он выстроил себе один
из богатейших и роскошнейших дворцов в мире, в котором все было
приспособлено к тому, чтоб с большим вниманием и почетом
принимать благородных гостей (gentili uomini ricevere et onorare). Он
не замедлил вскоре так прославиться своею щедростью и
великолепием, что стал известен не только на востоке, но и на западе. Молва
о нем дошла до одного молодого человека, по имени Митриданес;
тот, зная, что он не беднее Натана, и завидуя его славе и
добродетели, решил, во что бы то ни стало, превзойти или затмить его: он
построил себе дворец, подобный Натанову, и завел в нем такое же
широкое гостеприимство, отчего вскоре и стал известен. Но вот
однажды женщина попросила милостыню у одних дверей дворца,
получила, подошла к другим, там получила, затем к третьим — и так
возвращалась и получала до 12 раз; когда она подошла в 13-й,
Митриданес, видевший это со двора, заметил ей: «добрая женщина! ты
просишь-таки довольно усердно!» — «О, щедрость Натана,
воскликнула на это старуха, изумительна! У 32-х ворот его дворца подавали
мне, а он не показал и виду, что признал меня; здесь же я попросила
только в 13-й раз, как меня узнали и выбранили!» С этим она ушла
и не возвращалась. Митриданес, слыша ее сравнение, совсем
расстроился, и, не умея даже в мелочах сравниться с Натаном, отчаялся
когда-либо превзойти его: слава этого старика, думал он, только
тогда не будет вредить его известности, когда его не будет в живых;
он решился убить его, тотчас же пустился в путь и на третий день
прибыл к месту жительства Натана. Подъезжая совершенно один
ко дворцу, он встретил самого хозяина, который в простом скромном
одеянии шел пешком; Митриданес, не зная его, обратился к нему
с просьбой показать, где живет Натан, а когда тот взялся
проводить его, объяснил старику, что желает остаться по возможности
неизвестным Натану. Поэтому, когда они подошли к дворцу, Натан
шепнул своим слугам, чтоб они и виду не подавали, кто тут хозяин,
и не говорили бы о том Митриданесу. Затем он поместил гостя в
отличной комнате, приставил к нему слуг и сам долго беседовал с ним:
про себя он сказал что принадлежит к числу незначительных слуг
в доме и вовсе не может согласиться с теми похвалами, которыми
Новеллы десятого дня «Декамерона»
429
молва осыпает старика. Беседа его очень понравилась юноше, и он
несколько дней прожил во дворце, пользуясь всеми удобствами
жизни и интересным обществом хозяина; а тот так сумел расположить
его к себе, что он наконец открыл ему цель своего посещения. Натан
взволновался, но тотчас же оправился и твердо, не изменившись
даже в лице, обещал юноше свое содействие; он похвалил его за это
благородное намерение: если бы на свете было больше такой зависти
(точнее — соревнования), свет был бы лучше! Затем он указал ему
лесок, в котором удобно будет совершить убийство, так как Натан
пойдет туда на следующее утро. Митриданес, во всем следуя его
советам, на другой день явился в лесок, издали завидел Натана,
и прежде чем покончить с ним, вдруг вздумал послушать хотя бы
один раз речей знаменитого старика. Он кинулся на него и каково же
было его удивление, когда он узнал в нем того самого собеседника,
который так ласково обходился с ним и так хорошо его принимал!
Гнев обратился в стыд: он пал к ногам своей жертвы и со слезами
просил прощения; тут только он увидел всю щедрость старика,
дарившего даже жизнь свою гостю! и тут только открылись глаза
его, ослепленные завистью! он сознал свое заблуждение и просил
наказать его как того заслуживал. Натан поднял юношу, поцеловал
его и сказал, что намерение его не требует оправданий, потому что
он хотел убить его не из вражды и ненависти, а из желания славы.
«Будь уверен, говорил он, что никто тебя не любит больше меня,
потому что я вижу величие твоей души, стремящейся не копить
добро, как мелкие люди, — i miseri, говорит Боккаччо, так сказать,
"мизерные" души — но тратить накопленное: не стыдись, что ради
славы хотел убить меня, и не думай, что я тому удивляюсь.
Императоры и короли убивают не одного человека, как ты, и разоряют
целые страны и жгут города для того только, чтоб увеличить свое
владение, а следовательно и свою славу».
Митриданес, хоть и не желал нисколько защищать свой
злодейский умысел, не мог однако не подивиться, как благородно сумел
оправдать его Натан, и, продолжая беседу, выразил удивление,
как мог сам Натан способствовать выполнению его плана: на это
Натан возразил, что у него есть правило не выпускать из дому
гостя, не сделавши для него все ему желательное и приятное. «Ты
пришел с целью взять мою жизнь; чтоб ты не был единственным
вышедшим отсюда неудовлетворенным, я решил тебе отдать ее.
Потому еще раз говорю тебе: возьми ее; не знаю, как могу ее лучше
употребить: я столько лет прожил на свете, что мне еще не много
остается прожить, и оттого предпочитаю теперь добровольно отдать
430
Α. ABA
жизнь, чем ждать, пока природа ее у меня отнимет. Чем дольше
я буду жить, тем меньше цены будет иметь моя жизнь: потому
прошу тебя, возьми ее, пока мне есть еще что давать. Найдется ли еще
другой, кто пожелает взять ее?» Митриданесу было стыдно, и он
сказал, что он не только не желает сокращать его жизни, но просит
Бога продлить ее и дополнить ее летами его собственной молодой
жизни. На это Натан быстро возразил: — Ты желаешь продлить
мою жизнь, желаешь, чтоб я принял от тебя то, чего никто не
принимал от другого? — Да, отвечал Митриданес. — В таком случае,
сказал Натан, ты молод, останься у меня, живи под моим именем
и продолжишь мою жизнь, а я отправлюсь к тебе и буду называться
Митриданесом. — Если б я умел так жить и действовать, как ты,
я бы принял твое предложение; но я знаю, что мои дела будут только
уменьшать славу Натана, потому и не намерен отнимать у другого
то, чего сам не умел для себя достигнуть (т. е. славы). После этих
и подобных им рассуждений Натан с Митриданесом возвратились
во дворец, где юноша несколько дней пользовался почетным
гостеприимством; Натан своим умом и познаниями укрепил в душе
юноши высокие и великие помыслы и отпустил его с убеждением,
что ему не превзойти щедрости знаменитого старика.
Мне кажется, и в сокращенном изложении новеллы должна
просвечивать диалектика всех рассуждений, утрированная тонкость
чувств и мыслей, которые тут заменяют живость действия и
интерес интриги. И это искусственное описание невозможной ситуации
принадлежит тому же перу, из-под которого так цельно и полно
вылилась исповедь с. Чапеллето, насмешка над глупым Каландрино,
проповедь остроумного балагура, фрате Чиполла! Но тут нельзя
искать того яркого колорита, той правды и искренности, которые
производят художественное обаяние реалистических новелл
«Декамерона» . Здесь автор в живом в цельном образе не увековечивает
частицы современной ему действительности; бесхитростным
анекдотом чисто местного происхождения он не переносит нас в далекую
чуждую нам жизнь итальянца; здесь перед нами не бойкий
рассказчик, необузданно-дерзкая насмешка которого не останавливается
ни перед какими святыми и нравственными интересами
человечества; здесь перо в руках поэта-рыцаря по духу и воспитанию. Здесь
он не довольствуется тем, что дает ему непосредственное его знание
жизни. В поисках за идеальными сторонами существования его
мысль уходит в ту безграничную сферу фантастичности, которую
нравственные потребности его времени противопоставляют
эгоизму и грубости действительной жизни. Отпором корыстолюбию
Новеллы десятого дня «Декамерона»
431
в преобладанию личных интересов мало развитой общественности,
мысль века возводит щедрость на высоту особенно важной
добродетели; но не есть ли этот идеал, воплощенный в личности Натана,
не более как одна несбыточная мечта, — мечта народа, ищущего
в вымысле величия, широты и простора, которым нет места в
общественной жизни? В самом деле, чем объяснить как не заоблачной
идеальностью ту безумную и бесполезную щедрость, которая, мало
того, что по тридцати раз подает милостыню и ставит целью жизни
тратить добро, но даже жертвует самою жизнью ради того только,
чтоб, по долгу гостеприимства, исполнить всякое желание гостя?
Какая высокая цель и какая польза человечеству от такого
самопожертвования? Правда, комментаторы этой новеллы всегда пояснят,
что Натан рассуждает как язычник, и Боккаччо будто бы умел тут
стать на точку зрения не-христианской добродетели. Не вернее ли
предположить, что, развивая известный идеал безо всякого
отношения его к действительности, автор развил его отвлеченными
рассуждениями до таких крайних пределов, что перешел даже за
границы христианского мировоззрения. Эта крайность и бесцельность
рыцарской добродетели не могла, конечно, и в поэзии сказаться
определенными ясно-очерченными образами; оттого те поэмы, в
которых воплощались возвышенные проявления рыцарского духа,
не пережили своей эпохи; а их беспочвенный идеализм сказался
и в новеллах большею растянутостью формы, длиннотами в виде
выспренних рассуждений, диалектических разглагольствований
о самых утонченных ощущениях. Что поэт тут был человеком вполне
своего века, выразителем современных стремлений и направлений
мысли, видно не только из тщательности и изящества в отделке этих
повестей, но и из огромной их популярности. В этом отношении
особенно замечательна 8-я новелла; в ней мы найдем такое же, как
и в Натане, изобилие риторики и диалектики, вызываемое высокими
и тонкими чувствами, а также и яркое доказательство того, как легко
это невозможное величие души мирилось с грубостью неудержимой
страсти и с бесцеремонным отношением к семье. Эта новелла — одна
из наиболее знаменитых в «Декамероне»: она переделывалась,
переводилась на многие языки, пользовалась, очевидно, необыкновенной
симпатией и читателей, и критиков, высоко, превозносивших ее
стилистические достоинства. Она имеет предметом любовь и
самопожертвование двух друзей, и точно так же, как и повесть о Натане,
переносит все действие в далекий, нехристианский мир, потому что
и в ней идеалы добродетели — дружбы — доведены до такой
крайности, что переходят меру христианских обязанностей. Поэтому
432
A, ABA
Боккаччо одел героев новеллы в классический костюм и заставил
их рассуждать и действовать сообразно не с христианской, всегда
применимой моралью, а сообразно с строго-логичным, но вполне
отвлеченным идеализмом.
Действие происходит в античном мире, в правление Августа,
бывшего еще триумвиром. Один знатный римлянин посылает сына
своего, Тито Квинцио Фульво, дополнить в Афинах философское
образование, и помещает его там в доме старинного своего приятеля,
у которого есть также взрослый сын Джизиппо. Между молодыми
людьми, преданными науке, завязывается горячая дружба.
Проходит года три, умирает отец Джизиппо; и оба друга оплакивают
его с одинаковою горестью; вскоре после этого Джизиппо, по совету
друзей, собирается жениться на пятнадцатилетней красавице Со-
фронии. Незадолго до свадьбы знакомит он с нею своего друга, и тот
влюбляется в нее со всем пылом страсти. Долго борется он с собою,
но чем больше уговаривает он себя, тем больше в нем разгорается
любовь, так что, наконец, он заболевает с горя. Его состояние не
может укрыться от друга, и на расспросы его Тито откровенно
признается в страсти, которую он из любви к другу решался преодолеть,
во что бы то ни стало; но друг не допускает подобной жертвы: он так
его любит, что жизнь его дороже ему невесты, потому он ее и
уступает Тито. Борьба с самим собою, тонкое взвешивание противоречивых
чувств и борьба великодушия между друзьями ведется такими же
последовательными логическими доводами, с теми же приемами
периодических речей, как и в повести Натана. Спор возвышенных
душ решается тем, что один, Джизиппо, сыграет свадьбу, а затем
тайным образом будет заменен другим. Ни невесте, ни ее родным
о том ничего не должно быть известно, потому что они могут не
только не согласиться на подмен, но оскорбиться и отказать жениху.
Обман удается как нельзя лучше. Затем вскоре в Риме умирает
отец Тито, и Тито должен возвратиться на родину; конечно, обман
должен обнаружиться, так как фиктивная жена Джизиппо должна
сопровождать своего настоящего мужа римлянина. Узнав, чья она
жена, она тотчас рассказывает это своим родственникам, которые
оскорблены обманом не менее ее; афиняне страшно возмущены
и грозят Тито преследованием и наказанием. Джизиппо извинялся
было тем, что считал друга своего более себя достойным Софронии,
но Тито, соединяя мужество римлянина с умом афинянина, решил
торжественно оправдать его — для того собрал в храме друзей
и родных Софронии и произнес перед ними длинную речь. В ней
он сперва ссылается на волю богов, допустивших подмен, затем
Новеллы десятого дня «Декамерона»
433
оправдывается большою в нему дружбою и любовью Джизиппо:
замена одного приятеля другим тем более извинительна, что они
занимают совершенно одинаковое положение в обществе, и тут Тито
напоминает слушателям о своем богатстве, о знатности, древности
своего рода в Риме, и намекает на то, что римляне народ свободный,
а афиняне — покоренный; следовательно, он, как жених Софронии,
ничем не ниже Джизиппо. Правда, можно возразить, что не самая
замена оскорбительна, а тот образ действия, к которому прибегли
друзья, обманувши и Софронию, и родных ее. Но каких путей не
избирает судьба? «Вы негодуете на Джизиппо за то, что он выдал ее
за меня, но какое бы наказание вы придумали для него, если б он
отдал ее за какого-нибудь негодяя? а он мог и это сделать». Словом,
силою цицероновского красноречия, убедительностью пространных,
изворотливых софизмов Тито уверил афинян в справедливости
и законности своего поступка, и вполне примиренный с родными
и друзьями Софронии, увез ее в Рим. Джизиппо, оставшись один
в Афинах, был через некоторое время силою политических
обстоятельств изгнан из города и лишился при этом всего состояния.
Кое-как, нищим, добрался он до Рима; направился прямо к дому
Тито и стал на дороге так, чтоб мог попасть ему на глаза. Но Тито
прошел мимо и не узнал его, а Джизиппо показалось, что он просто
не хотел узнать друга, гнушаясь его положением. Не зная, где ночью
приклонить голову и вспоминая, как много он сделал для своего
друга, он нашел в глухой части города какую-то пещеру, лег в ней
и горько плакал, пока не заснул. В эту же пещеру ночью пришло двое
воров, которые заспорили о чем-то, один убил другого и скрылся,
а Джизиппо, желая покончить с жизнью, остался при трупе и
объявил себя убийцею. Его привели к претору и осудили на крестную
смерть; но случилось, что Тито вошел в преторию, тотчас же узнал
осужденного и решился спасти его: он взял убийство на себя,
выставляя на вид то обстоятельство, что обвиненный — иностранец
и был найден при трупе без всякого оружия. Претор стал
допрашивать Джизиппо, но тот, видя великодушие Тито, настаивал на своей
вине. Претор в крайнем изумлении хотел было оправдать обоих, как
явился настоящий убийца и, тронутый невинностью двух
великодушных обвиняемых, сознался в преступлении. Октавиан Август,
услышав про то, призвал всех трех подсудимых к себе и,
разобравши в чем дело, решил освободить не только ни в чем неповинных
друзей, но ради их дружбы помиловал и виноватого.
Итак, главная цель автора — превознесение высокого чувства
дружбы, все достоинства которой рассказчик подробно анализирует
434
Α. ABA
в заключение своего повествования; но, несмотря на это, новелла
не страдает такою отвлеченностью, как повесть о Натане, потому
что исторический костюм тут пришелся как нельзя более кстати:
действующим лицам эпохи Августа очень к лицу красноречие
софизмов и рассудительность возвышенных чувств. Хотя критика
особенно восхваляет в этой новелле уменье Боккаччо соблюдать
историческую верность, местный колорит рассказа, но
неудивительно, что писатель, открывавший поколение гуманистов, хорошо
был знаком с приемами классической речи и сумел лиц, одетых
в античный костюм, заставить говорить по правилам риторики.
Тут его увлекало подражание античным образцам красноречия,
преимущественно латинской литературы, и повесть его проникнута
идеализмом уже не рыцарским, а гуманистическим, основанным
на изучении произведений отживших, вполне оторванных от
реальной почвы. Понятно поэтому, что достоинств повествования
Боккаччо здесь следует искать не в том обаянии художественной
правды, которым так привлекательны его новеллы — анекдоты,
а в том преобладании риторического таланта, которое так высоко
ценилось начинавшимся в Италии веком возрождения. Боккаччо
во всех новеллах этого дня, а особенно в повести о Тито и Джизиппо,
является строго логическим проповедником, неуклонно
стремящимся доказать, защитить свою идею. Уже по самому содержанию
«Натана» можно видеть, что действующие лица не могут вести тут
того оживленного натурального диалога, какой рассказчик с таким
неподражаемым комизмом воспроизводит в новеллах другого отдела.
Здесь разговор ведется по пунктам: один довод защищается одним,
опровергается другим; здесь идут обсуждения известного вопроса,
с доказательствами за и против него, со всеми диалектическими
ухищрениями рассудочной работы: это, конечно, не вносит ни
теплоты, ни естественности в рассказ; за то всякая мысль раскрывается
с возможною полнотой. Правда, манеру эту можно указать в
«Декамероне» почти всюду, где речь не идет о будничных предметах;
большей частью чувства выражаются у Боккаччо закругленными
благозвучными периодами. Но это влияние гуманизма
сказывается только во внешней форме речи, в ее монотонной периодичности
и тут, где красноречие выдвигается в защиту известного идеала, эти
приемы риторики не только применяются в самых неограниченных
размерах, но занимают первое место в повести. Недаром Боккаччо
считается образцовым оратором и критики рекомендуют сравнение
этой новеллы с сочинением Цицерона о дружбе7. В самом деле,
гибкость его мысли и изложения замечательна: он с неподражаемым
Новеллы десятого дня «Декамерона»
435
мастерством умеет обставить свою главную мысль доводами и
доказательствами, выводами и заключениями, которые развиваются
в целые цепи разветвленных предложений, а затем выразить эту
мысль в цельной, законченной речи, лучшим образцом которой
служит оправдательная речь Тито. Разумеется, красноречие идеальной
тенденции не заменяет реализма действия, и повесть, так высоко
ценимая современниками, не может теперь не казаться длинною
и скучною. Притом же и идеализм ее глубоко не затрагивал, не
проникал собою действительной жизни. Мы видели в повести о Натане,
что рыцарские идеалы возникали в мире фантазии, отвечали
порывам человеческой мысли, убегавшей в область невыполнимой мечты
от грустной действительности. Тот же обеспочвенный идеализм,
вместе с влиянием пробуждающегося гуманизма, с его риторической
выправкой ума, встречаем мы и в новелле о Тито. Наполняя рассказ
рассуждениями о нравственных вопросах, рассказчик за
тенденциозным резонированием как будто не видит, что он стоит на той грубой
почве всяких «женских» проделок, как и в новеллах исключительно
комического направления. Основа интриги, великодушная хитрость
друга, не есть ли в сущности самая грубая «beffа», наглая проделка
над женщиной, которою друзья распорядились как вещью? В самом
деле, откинем подкладку самопожертвования, высокой дружбы,
все те софистические измышления в роде обвинения фортуны,
которыми оправдывается оратор, — и перед вами голый факт лжи
и обмана, полного неуважения к женщине, к семье. Под идеалами
благородства и величия души скрывается такая же грубость
необузданной страсти, как и в флорентийской повести, а
следовательно, и такое же, как и там, отсутствие крепкого семейного начала,
полное игнорирование человеческого достоинства женщины. Если
утонченная сентиментальность рыцарства, его платоническое
обожание не внушали к женщине уважения и легко мирились с грубым
взглядом на нее средневековых повествователей, то понятно, что
и писатель-гуманист, который так тонко анализирует душевную
борьбу своих героев, такое значение придает всем высоким чувствам,
в свое время стоит вполне на общем уровне развития, когда в основу
знаменитой новеллы кладет мысль, что во имя высоко-идеальной
дружбы женщиною как вещью хозяин распоряжается по произволу.
Эту зависимость гениального поэта от создавшей его эпохи еще
яснее можно видеть в последней новелле «Декамерона», в 10-м
рассказе 10-го дня. Это — повесть о «кроткой Гризельде», быстро
распространившаяся в европейских литературах и почерпнутая
автором из обще-европейского повествовательного материала. Что
436
Α. ABA
век гуманизма не оскорблялся содержанием рассказа, в котором
унижалась женщина во имя деспотической власти мужа, видно
из того, что «певец Лауры» Петрарка, этот всемирный
литературный авторитет своего времени, перевел повесть на латинский язык,
чтобы доставить ей большую известность. Правда, он высоко ценил
художественную форму, живой и увлекательный рассказ,
достоинства слога и изложения, точно так же, как он высоко ставил в этом
отношении описание чумы, которым открывается «Декамерон»; но,
во всяком случае, повесть, благодаря одним внешним достоинствам,
не достигла бы такой популярности, если бы не соответствовала
господствующему воззрению на семью и женщину.
Давно тому назад, из маркизов Салуццких старшим в роде был
один молодой человек, по имени Гвальтьери. Он не имел ни жены,
ни детей и проводил все время на охоте, нисколько не заботясь
о продолжении своего рода. Вассалы его, между тем, очень о том
беспокоились и упрашивали его жениться, но он не хотел, говоря,
что очень трудно найти жену с характером, ему подходящим, а без
этого нет счастья в семье. Наконец, чтоб никого не винить в случае
неудачного выбора, он объявил, что выберет себе жену по вкусу,
с тем только, чтоб ее почитали как подобает маркизе, кто бы она
ни была. Вассалы на все согласились, лишь бы только он
женился. Гвальтьери нравилась одна молодая девушка, из соседних
крестьянок, и, чтоб не искать дальше, он решил жениться на ней;
поговоривши с ее отцом, он просил вассалов быть чрез несколько
дней готовыми к свадьбе, так как он нашел себе невесту по
сердцу. Затем он заказал роскошный пир, созвал множество гостей,
приготовил большое приданое и в назначенный для свадьбы день,
в сопровождении всех гостей, направился к невесте. Подъехавши
в деревне к дому избранной девушки, все увидали, что она ходила
за водой и спешила идти смотреть на свадебный поезд. Гвальтьери
один вошел в дом, и в присутствии отца спросил девушку, будет ли
она, если выйдет за него замуж, стараться во всем угождать ему,
во всем слушаться его, не обижаться, что бы он ни говорил и ни
делал, и т. п.; на все девушка отвечала согласием. Тогда Гвальтьери
вывел ее к своим провожатым, велел тут же раздеть и затем во все
новое одеть ее с ног до головы, на непричесанные волосы надеть
его корону, и объявил удивленной публике, что она его невеста.
Отпраздновав такую богатую свадьбу, как будто женился на
дочери французского короля, Гвальтьери зажил очень счастливо;
Гризельда изменилась вместе с своим положением: она стала так
приветлива, любезна и умна, как будто родилась дочерью самого
Новеллы десятого дня «Декамерона»
437
высокопоставленного лица; по отношению к мужу она была как
нельзя более услужлива и послушна, а к вассалам так милостива
и добра, что они не могли нахвалиться выбором своего
господина, которым сперва были так поражены. У Гризельды родилась
дочь. Гвальтьери был очень рад, только вздумал теперь испытать
терпение жены. Он стал прикидываться сердитым и говорил,
что подданные его очень негодуют на его брак и на то, что у ней
родилась дочь. Гризельда, не меняясь ни в лице, ни в обращении
с ним, отвечала, что будет довольна, как бы он ни поступил с нею,
потому что помнит, что не заслужила такой чести, которою он ее
удостоил. Через некоторое время к ней вошел слуга от мужа и
объявил, что ему приказано отнять у ней ребенка и — дальше он не мог
ничего сказать. Видя его опечаленное лицо и вспоминая слова
мужа, Гризельда догадалась, что дочку ее хотят убить, вынула ее
из колыбели, поцеловала, благословила ее и отдала слуге,
сказавши только, несмотря на все горе, которое испытывала: «возьми,
делай, что велел тебе мой и твой господин, только не оставляй ее
на растерзание зверям и птицам — если он этого не приказывал!»
Муж не мог надивиться такому послушанию, отослал ребенка
к родственнице в Болонью, велел хорошенько воспитать ее, никому
не говоря, кто она и откуда. У Гризельды родился сын. Муж опять
ссылается на ропот подданных, недовольных теперь будто тем, что
над ними будет властвовать внук крестьянина, — опять отнимает
ребенка и отсылает в Болонью. Жена переносит это испытание
так же твердо, как и первое. Гвальтьери, зная, как горячо любит
она детей, не может надивиться ее терпению, тем более, что все
негодуют на него, думая, что он убил детей, а она одна защищает его,
говоря, что он имеет полное право распоряжаться с детьми по
произволу. Прошло много лет с рождения детей: Гвальтьери подумал,
наконец, что настало время сделать окончательное испытание. Он
объявляет всем, что сожалеет о своем браке с простой крестьянкой:
тогда он поступил опрометчиво, теперь он раскаивается, просит
у папы развода и позволения жениться на другой. Когда
Гризельда услыхала, что ей придется вернуться в дом отца и опять пасти
овец, а другая женщина заменит ее при нежно любимом муже, —
она сильно опечалилась, но решила выдержать и это горе так же
мужественно, как разлуку с детьми. Потому, когда Гвальтьери
показал ей поддельную бумагу о разводе и сказал, что он хочет
выбрать жену равную себе, а она может взять приданое, которое
принесла, и вернуться к отцу, Гризельда сдержала слезы и
отвечала, что всегда помнила свое происхождение, знала, что муж дал
438
Α. ABA
ей положение в обществе, — он же волен и отнять его. Она уходит
из дому мужа безо всякой одежды, так как в приданое она ничего
не принесла с собой, и только выпрашивает у Гвальтьери, как мать
его детей, одну рубашку, чтоб дойти до дому отца. Но и этого
испытания было мало. Когда Гризельда вернулась к своей прежней
жизни, Гвальтьери велел ей придти к нему и приготовить в доме
все нужное для свадьбы; она должна была позвать гостей и, как
хозяйка, принять невесту. Горько было бедной женщине, но она
тщательно все исполнила и любезно принимала гостей в своем
крестьянском наряде, — Гвальтьери не дозволил ей и на этот раз
надеть его платье. А между тем привезли из Болоньи детей
Гризельды; девочке-красавице было лет 12, а мальчику лет 7. Гвальтьери
дочь свою выдавал за знатную, ожидаемую им невесту и она
торжественно была введена в его дом. Гризельда ласково приняла ее,
все любовались красотой невесты, а Гризельда хвалила ее больше
всех. Тут только вполне убедился Гвальтьери в покорности жены
и нашел, что настало время вознаградить ее за все испытания.
Подозвавши ее, он спросил, как ей нравится его невеста. Она
отвечала, что очень нравится, и просила его не подвергать ее тем
оскорблениям, которые испытывала первая жена, потому что эта
еще очень молода и воспитана иначе, чем та, которая смолоду
привыкла ко всяким лишениям. Гвальтьери, видя, что обман его
хорошо сыгран, посадил ее рядом с собою, объяснил ей, как он
доволен ее поведением, примерным для всех жен, и представил ей
детей, которых она считала погибшими. С этой поры они зажили
в полном счастье и довольстве.
К чему же, спрашивается, надо автору описывать это
возмутительное систематическое терзание женского сердца? эти
страдания, вызываемые одним капризом и в сущности ничем не
вознаграждаемые? Рассказчик сам называет образ действия Гвальтьери
matta bestialità8 — безумным зверством; но он имеет тут целью
создать идеал примерной жены, идеал всепрощающей кротости,
и при этом невольно сказывается, что муж — властелин над женою,
как над безответной рабой. И здесь, следовательно, из-за
высокого идеала добродетели глядит грубый реализм тогдашней жизни.
Обрабатывая сюжет, уже живший в народной фантазии, Боккаччо
и образ женщины рисовал вполне соответствовавший
современному мировоззрению; а образованная Европа, умиляясь перед
идеалом и наслаждаясь латинским пересказом изящной повести,
как-бы не видала той унизительной роли, какую в ней играла жена
и мать семьи; гуманисты, в лице самого Петрарки, соглашались
Новеллы десятого дня «Декамерона»
439
с тем взглядом на женщину, который выработался в эпоху
малоразвитой общественности. Неудивительно, если и Боккаччо,
посвящая женщинам свой сборник фривольных рассказов, стоял
вполне на точке зрения того народа, из первобытного творчества
которого он черпал эти рассказы. Как близок «Декамерон» к
этому источнику, мы уже видели на 7-м дне, на теме женской злобы
и хитрости; в повести о Гризельде Боккаччо имел дело с сюжетом
также издавна близким народу. Критики «Декамерона», указывая
на спутанность свидетельств о происхождении этой новеллы,
предполагают, что в основе ее лежит истинное событие, сохраненное
народными преданиями; в французских фаблио существует точно
такой же рассказ о «Griselidis», но его первый источник
неизвестен; затем наша известная сказка — «Дочь пастуха» (Афанасьева,
«Русск. народн. сказки», III, 206) описывает — в совращенной
форме, но во всех перипетиях сходную с Гризельдой — судьбу
крестьянки замужем за царем. Наконец, Петрарка писал
Боккаччо, по прочтении этой новеллы, что он раньше слыхал о Гризельде
и ее судьбе; очевидно, что это — сюжет давно знакомый
народному уму: если тема невинно угнетаемой женщины — падчерицы,
оклеветанной жены — породила множество сюжетов в народной
литературе, начиная с легенд о Женевьеве9 и кончая волшебной
сказкой о Сандрильоне10, то нельзя ли к этому циклу сказаний
о женской кротости и терпеливости, — сказаний, ведущих свое
начало из древних источников космогонического мифа, отнести
происхождение и этого сюжета Боккаччиевой новеллы? Иначе
трудно объяснить его огромную распространенность: трудно
предположить, чтоб он стал известен во всей Европе, благодаря
Боккаччиевой обработке; новелла должна была вызывать давно
жившее в памяти народа представление кроткой, безропотной
жены, настолько же близкой ему, насколько известен в народных
сказках идеал злой жены, жены упрямой спорщицы. Не
удивительно потому, что новелла быстро приобрела популярность: уже
в XIV веке во Франции насчитывают до 20 редакций этого
рассказа; затем она появилась и на французской сцене, и в 1548 году
была напечатана, под заглавием: «Mystère de Griselidis». В Англии
Чосер перевел ее в своих «Кантерберийских сказках»11, в рассказе
Клерка, оксфордского студента. В Италии она шесть раз
переделывалась на драмы.
Таким образом, в последнем дне рассказов, Боккаччо хотя и
проводит идеалы, чуждые действительного быта, но остается верен
первоначальным основам того повествования, которое породило
440
Α. ABA
итальянскую новеллу. Несмотря на искусственный идеализм, он
и тут должен пользоваться тем отделом обще-европейского
средневекового материала, который определяется самым термином «nuovo»,
«novella», и ему он придает образцовую художественную форму.
В непередаваемой гармонии внутреннего содержания и внешней
формы заключается неумирающее значение всякого
истинно-высокого произведения искусства, заключается и значение сборника
фривольных сказок, «Декамерона», одевающего разнообразные
проявления современной ему мысли формою изящного рассказа.
^5^
^^
В. Φ. ШИШМАРЕВ
Джованни Боккаччо
Сто новелл, рассказанных семью рассказчицами и тремя
рассказчиками, и бесконечная смена «одежд и лиц, племен, наречий,
состояний»: короли и пираты, феодальные синьоры и крестьяне,
купцы и монахи, ростовщики и ремесленники, слуги и артисты,
врачи и представители «дна», священники, некроманты и
куртизанки, гасконцы и арабы, евреи и сицилийцы, генуэзцы и французы,
флорентийцы и лангобарды, неаполитанцы и жители Корфу и
Вавилонии. Но итальянцы прежде всего. И вся эта пестрая вереница
фигур и групп, заполнившая сцену, яркая, красочная, которая
живет и движется, ликует и страдает, любит и ненавидит, терпит
поражение и побеждает, — все это образцы, написанные с редким
искусством и знанием человека. Памятник исключительного
мастерства — вот первое впечатление от «Декамерона», и недаром один
из лучших исследователей его А. Н. Веселовский, в монографии
своей, посвященной его автору, определил момент создания книги
термином: «навысоте».
Этой кульминационной точке, отмеченной, кроме «Декамерона»,
«Элегией мадонны Фьямметты», повестью, которая биографически
заканчивает историю любви ее автора к Марии д'Аквино, а
историко-литературно является одним из истоков психологического
романа в европейской литературе, предшествовал долгий подъем,
связанный с созданием ряда крупных произведений. Это были своего
рода школьные годы поэта, гуманиста и человека.
Незаконный сын флорентийского купца Боккаччо ди Келлинс
и одной француженки, Джьованни Боккаччо (р. в 1313 г.), после
тяжелого детства, проведенного в доме отца и мачехи,
десятилетним мальчиком попал в Неаполь, в котором ему пришлось пробыть
442
В. Φ. Ш И ШМАР ЕВ
целых семнадцать лет. Южно-итальянская культурная обстановка,
в которой своеобразно скрещивались отголоски греческой и
римской античности, двор короля Роберта Анжуйского, блестящий,
образованный, увлекавшийся искусством, поэзией, но морально
неустойчивый и легкомысленный, сформировали его темперамент
и определили призвание. Возвращение во Флоренцию, к
семейному очагу, от которого он отвык и подле которого и теперь не было
ничего отрадного, возвращение в республику деловых людей,
купцов, и предпринимателей, с особой силой будило образы
недавнего прошлого. Единственным положительным результатом
переезда в Тоскану было обращение к Данте, под влиянием
которого сложились пасторальные иносказания «Амето» и терцины
«Любовного Видения». Поездки в различные места Италии (между
прочим, и в Неаполь) во второй половине 40-х гг. являлись
некоторым отдыхом от флорентийских впечатлений, но смерть отца,
вынудившая вернуться домой, возвратила Боккаччо им вновь;
и даже больше: пришлось заняться и приведением в порядок
наследства, и делами младшего брата, которого Джьованни был
назначен опекуном. Но это не прервало литературной работы,
ставшей уже потребностью: за прошлые годы (кроме «Амето»
и «Видения») были написаны ряд лирических пьес, опыты
романа, мифологической идиллии, эпопеи, позволяющие установить
основные этапы постепенного роста таланта. Чума, унесшая
в могилу отца, подсказала рамки «Декамерона», написанного
между 1350 и 1353 годом и вместе с «Фьяметтой» знаменующего
расцвет. Последующие годы, вплоть до смерти Боккаччо (1375),
характеризуются попытками новой ориентации его деятельности.
Общение с Петраркой, возраст, эпоха, являвшаяся «переломом»,
и прежде всего особый душевный и физический склад,
сказывающийся в мнительности, боязни смерти и заставлявший особенно
болезненно переживать всевозможные колебания и сомнения,
приводили к мыслям об обращении, об отречении от прежней
деятельности и о необходимости заняться спасением души. В эту
пору написан «Ворон», полный нападок на женщин, тех самых
женщин, которым было посвящено столько сил и таланта; в эту
пору Боккаччо чуть не сжег своих сочинений. Но работа над
латинскими произведениями, над учеными трактатами и толкованием
Данте продолжалась, и попытка отречения не привела к отказу
от намеченной программы целиком.
Таков был создатель той грандиозной «Человеческой комедии»,
которая называется «Декамероном». Вглядываясь в персонажей,
Джованни Боккаччо
443
заполнивших сцену, и в ситуации, мы открываем в них немало
старых знакомых. Исследования ряда ученых вскрыли широкий
круг параллелей и источников, показывающих, что Боккаччо
пользовался и письменным, и устным материалом.
В «Декамерон» вошли и отголоски восточной поэзии, и мотивы
из Апулея, из греческих романистов и различных средневековых
латинских сборников*, темы итальянского «Новеллино»,
«Рассказов о древних рыцарях», но также и реальные лица, к
которым привязались мотивы странствующего характера. Многое
было вычитано из книг, хотя это и не всегда легко установить**,
еще больше, вероятно, подслушано в народе и в неаполитанских
салонах, где охотно забавлялись рассказом повестушек.
Неаполитанская среда в этом отношении представляла особый интерес:
благодаря контаминации культур провансальской, кипрской,
греко-итальянской, французской и итальянской живое
воображение поэта находило себе здесь обильную и самую разнообразную
пищу. Не к поре ли пребывания Боккаччо в Неаполе относятся
поэтому наброски некоторых новелл или даже, может быть, затея
сборника? В окончательной своей редакции он связан с 1348 г.: он
запечатлел те десятидневные беседы***, в которых коротали время
флорентийские красавицы и молодые люди, покинувшие
полуопустевшую и зараженную Флоренцию и устроившиеся на одной
из подгородных вилл в местности, которую мы теперь можем
установить с точностью. Но небезынтересно ответить, что новеллы
X, 4 и 5 отвечают 13-му и 4-му «вопросам любви» в романе
Боккаччо «Филоколо», относящемуся к гораздо более ранней эпохе.
Да и трудно себе представить, чтобы все сто новелл могли быть
написаны сразу. Материал копился и обрабатывался постепенно,
а позднее выносился частично и на суд читателя, хотя
первоначально, вероятно, с разбором.
Такой генезис и источники одного из наиболее значительных
и выразительных произведений Боккаччо. Учесть вклад поэта в
материальную сторону его «Комедии» крайне трудно, так как в
огромном большинстве случаев мы не можем установить с точностью
* Вроде «Дисциплины» Петра Альфонси, «Золотой легенды», «Римских
деяний», «Зерцала» Винценция из Бове, «Семи мудрецов» и др.
** Ср., однако, например, новеллу VII, 9 и собственной рукой Боккаччо
переписанную «Comoedia Lydiae».
:** Откуда и заглавие «Декамерон» (вм. «Decahemeron» или «Dechemeron»),
нескладный вокализм которого напоминает средневековый «Hexameron».
444
Б. Φ. ШИШМАРЕВ
содержание его оригиналов. Но если сопоставление с родственной
литературой оказывается бессильным пролить свет на эту сторону
работы, то оно дает очень много для оценки общей позиции, занятой
писателем в отношении использованного им традиционного
материала. В «Декамероне» кульминирует творчество Боккаччо, как в нем
самом (и в Петрарке), по выражению Веселовского, кульминирует
впервые тот процесс, который мы называем Возрождением. Мы
в средоточии нового круга культурных проблем и литературных
исканий; «Человеческая комедия» пришла на смену
«Божественной». Пути Данте и Боккаччо, во вторую половину своей жизни
в особенности усердного истолкователя и глубокого почитателя
великого флорентийца, различны.
Всмотримся внимательнее в аналогичные «Декамерону»
сборники средневековья, и мы без труда подметим огромную перемену.
Итальянский «Новеллино», увидевший свет полувеком раньше
«Декамерона», французские фабло1 робки и бледны, схематичны
и нелитературны; они на уровне забавного анекдота, развлечения
для невзыскательного бесхитростного слушателя или читателя.
Позабавить мужчин и, в особенности, женщин ставит себе целью
и Боккаччо (Введение). Впоследствии он просил о снисхождении
к «Декамерону», ссылаясь на то, что, когда писал его, он был
молод и исполнял приказание старшего*. Было время, когда он даже
отрекался от своих новелл. Но эта оценка пришла позднее, в
связи с раздумьем и тревогами, которые овладели им, когда он стал
оглядываться на пройденный путь, а в его защите «Декамерона»
и ответах критике, во вступлении к сборнику, к 4-му дню и
заключении, чувствуется иное, иная оценка труда. Он не подвергся,
по-видимому, окончательной отделке, как о том свидетельствуют
повторения, нескладные выражения (напр., нач. 1,10 и VI, 1; нач.
1, 5 и VI, 7 и др.)**; но на эту забаву положено несколько лет труда
(см. Заключение), а стиль ее выдает на каждом шагу огромную
заботу о слове и фразе.
Пусть то, что делается на сцене в его «Комедии» не ново, пусть
там «знакомые все лица», но все это поднято до уровня искусства.
Отсюда и проза «Декамерона», проза итальянца, увлеченного
классиками, с ее уклоном к периодизации, к латинской расстановке слов,
к классической насыщенности фразы. Гисмонда держит речь перед
* «Lettere», изд. F. Corazzini, Флор., 1877, стр. 287.
г* Мы не имеем критического текста памятника, но едва ли наличие его
смогло бы устранить упрек в недоделанности.
Джованни Боккаччо
445
Танкредом (IV, 1), школяр — перед своей дамой в VIII, 7, как герои
Тита Ливия; в описании чумы сквозят воспоминания из Макробия,
выписывавшего Лукреция2 («De nature deorum», кн. 6)*;
цицероновская фраза дает себя чувствовать на каждом шагу. Кто писал так
и рассчитывал на понимание, имел в виду читателей, способных
реагировать на такой тон забавы. Новелла из анекдота и пустячка
превращалась в серьезное литературное произведение, и все эти
классические реминисценции, ставшие чужими и ненужными,
после того, как они сделали свое дело, — попытка обоснования жанра.
Но сопоставление с аналогиями недавнего прошлого вскрывает
и другие черты.
Пути Данте и Боккаччо различны, сказали мы выше. Это не
значит, что Боккаччо отвергает путь творца великой «Комедии»,
не значит, что мир Боккаччо абсолютно новый, но жизнь
становится у него по-новому привлекательной. В земной обстановке
раскрываются возможности более высокого порядка, чем
условности быта, полу-феодального, полу-городского, и элементарные
утехи. Талант, индивидуальная творческая одаренность,
образование, эстетическая чуткость, ценившаяся и раньше,
подмечавшиеся и средневековой литературой, становятся силой, которая
расшатывает старую оценку человека, ограниченную пределами
традиционных общественных перегородок, заставляет поверить
в «человеческий разум и сообщает новую цену жизни». Только
на такой благоприятной почве могла развиться яркая и сочная
реалистическая манера Боккаччо: позиция, занятая новыми
людьми, увлекала и воображение, которое претворяло новое
восприятие жизни в новое искусство. В тонких и наблюдательных
людях: не было недостатка и раньше, но средневековая поэзия
не смогла выдвинуть соответствующих артистов. Ее сатирические
памятники грубы и тяжеловесны; повествовательная литература
элементарна и однообразна; идеализация либо сословна, либо
религиозна. Жизнерадостность — характерная черта нового
восприятия жизни; лучшей же радостью последней является любовь
«не унижающая чести». Мадонна Филиппа (VI, 7), подвергшаяся
обвинению в нарушении верности мужу, вернулась домой,
покрытая славой; против любви, естественного влечения, бессильны все
препятствия — таков аргумент Гисмонды (IV, 1). Любовь и
красота — страшная сила, играющая человеком, как это испытала
Алатиель (II, 7); она ведет на вершину блаженства, но ввергает
Пересказывавшего, в свою очередь, виденное Фукидидом.
446
Б. Φ. ШИШМАРЕВ
и в пропасть трагедии: припомним судьбу Изабетты (IV, 5) или
Симоны (IV, 7). Такова земная «философия» «Декамерона».
Сверхъестественное устраняется, насколько возможно: в центре внимания
художника — осязаемая реальность. Его образы и описания четки,
конкретны; персонажи (за вычетом рассказчиков, очерченных
несколько условно и бледно) становятся почти видимыми. Особенно
характерна яркость эпизодических мелких фигур. Интересно, что
художник часто увлекается подробностью даже в ущерб целому:
это встречается у Боккаччо и в более ранних работах. В
«Декамероне» с этой стороны любопытна новелла о Чимоне (V, 1): она
сосредоточивает внимание читателя на повести о том, как любовь
преобразила грубого человека; но повесть эта не вытекает с
необходимостью из содержания новеллы.
Отсюда же и мастерство в создании карикатурных фигур, никогда
не переходящих в грубый шарж. Фантазия карикатуриста
обращается особенно охотно к представителям той среды, которая стояла
как будто поверх жизни, но которая в конечном итоге оказывается
ушедшей в нее целиком. Я разумею духовенство и монашество.
Фигура брата Чиполлы (VI, 10), лишившегося пера архангела
Гавриила, но сохранившего свою находчивость, которая в критическую
минуту позволила ему превратить подсунутые ему в ларец угли
в угли св. Лаврентия3,— одно из незабываемых созданий фантазии
Боккаччо, и подобных ему образов рассыпано не мало на страницах
«Декамерона». Любопытно, между прочим, что собратья Чиполлы
всегда почти дурачат окружающих и редко остаются в дураках
сами. Насмешки над духовенством тем красочнее, чем бледнее были
их практические последствия: церковь еще стояла прочно, и сами
представители ее были не прочь позабавиться на счет своей братии.
Насмешка стала ядовитее, когда наступил момент борьбы, которая
требовала особой остроты экспрессии.
Реализм изображения достигает иногда откровенности, которая
может показаться чрезмерной. Так и бывало. Отсюда нападки на
безнравственность повестей Боккаччо. Но подобный вывод не имеет
под собой оснований. Будучи откровенным, художник никогда
не акцентирует откровенных деталей. Наоборот, у него заметно
стремление стилистически обойти скользкие моменты. Боккаччо
человек здоровый, поэтому ему чужды намерения настаивать на
некоторых подробностях, а тем более преподносить их в
полуприкрытом виде, делающем только заметнее наготу. Мы напрасно будем
искать в нем экзотической эротики. Но он, конечно, не создан для
чтения в школе или слишком восприимчивыми людьми. Боккаччо
Джованни Боккаччо
447
сам говорил, оправдываясь от упреков в дурных намерениях, что
рассказы его «могут вредить и быть полезными, как то может все
другое, смотря по слушателю» (Заключение). Весь вопрос не в них,
а в подходе к ним. Уже в эпоху современную «Декамерону» в оценке
его расходились. Одни называли его «отличной и занимательной
книгой»; другим он представлялся таким же пособником страсти
как Галеотто (Gallehaut) старо-французского романа о Ланселоте,
содействовавший сближению Жиневры и Ланселота. «Галеотто»,
говорит Данте, «звалась и та книга, и кто писал ее», книга,
которую читали Франческа и Паоло в момент, когда любовь победила
их («Ад», V, 127 ел.). Галеотто называли иные и «Декамерон»:
«начинается книга, именуемая "Декамерон", прозванная Principe
Galeotto». Упадок нравов (позднее) придал этому подзаголовку
резко отрицательный смысл и превратил книгу в продукт какой-то
разнузданной фантазии.
Боккаччо был далек от эротизма этой эпохи. В центре его
внимания, прежде всего, художественное выражение данного мотива.
Мораль не его сфера, как и некоторые большие вопросы, к которым
он как будто подходит и которые, в сущности, интересуют его
как литературная проблема. Известная новелла о трех кольцах
(I, 3) — просто искусный ответ Мельхиседека, и только у Лессинга
(«Натан Мудрый») мотив поднимается на высоту принципиальной
проблемы.
«Декамерон», как мы уже сказали, является одной из
центральных точек совершенно особого круга культуры и искусства,
который принято обозначать термином Возрождения или Ренессанса.
Каждый такой круг в прошлом, в сущности, более или менее далек
от нас, а потому до конца непонятен, что не мешает нам, однако,
подходить к ним по-своему и наслаждаться содержащимися в них
художественными произведениями. Грани есть, но они не всегда
абсолютно непреодолимы. Есть круги более близкие нам, между
которыми и нами больше связующих нитей. К числу таких кругов
принадлежит и Возрождение. Жизнерадостная настроенность,
любовь к жизни в ее малейших и простейших проявлениях, вера
в человеческий разум, в значение таланта, высокая оценка
искусства — все это дает возможность нам понять лучше времена Боккаччо
и устремления его совопросников.
Но есть и еще одна подробность, которая позволяет реагировать
на них живее. Я разумею огромную выразительную силу Боккаччо,
которая заставляла увлекаться им таких различных людей и
представителей различных эпох, как Чосер, Лопе де Вега, Шекспир, Ла
448
В. Φ. ШИШМАРЕВ
Фонтен, Лессинг или Мюссе. Я называю только наиболее крупные
имена.
В русской литературе Боккаччо поздний гость, и
непосредственное влияние его невелико. Несколько новелл его переведено или
пересказано в конце XVII и в XVIII в. Только с К. Н. Батюшкова
начинаются попытки понять художественное значение
«Декамерона», «угадать манеру» Боккаччо*. Но Батюшков оставил нам
перевод всего двух повестей: рассказ о моровой язве (I, Вступление)
и новеллы о Гризельде (X, 10). И лишь воспроизводимый ниже
перевод Веселовского** развертывает перед русским читателем весь
мир боккаччьевских образов и знакомит его надлежащим образом
с манерой итальянского мастера.
Веселовский был не только замечательным исследователем
литературных памятников, но когда хотел, и тонким стилистом,
владевшим превосходно русским языком и располагавшим
богатейшим словарем. Эту черту без труда уловит каждый, кто внимательно
ознакомится с его переводом; в этом окончательно убедится всякий,
кто попытается сличить перевод с подлинником или с некоторыми
современными переводами. Последние легко могут ввести
неискушенного в литературных вопросах читателя в заблуждение
относительно их ценности. Они сделаны гладко, языком, к которому
мы более привыкли. Но они оставляют желать лучшего в смысле
точности и передачи своеобразного стиля Боккаччо, ритма его речи,
его стремления к классическому периоду и некоторой вычурности
фразы. Только Веселовскому, глубокому знатоку эпохи, писателя
и итальянского языка, удалось с поразительным искусством дать
в русском переводе иллюзию подлинника одного из крупнейших
памятников мировой литературы.
Боккаччо был одним из излюбленных писателей Веселовского,
которым он занимался много лет и внимательно и которого
чувствовал особенно хорошо. Плодом его долгого общения с одним из «трех
флорентийских венцов»4 явилась обширная двухтомная
монография о Боккаччо, одна из лучших обобщающих работ, посвященных
в европейской литературе нашему писателю. Говоря о ней, нельзя
не вспомнить, между прочим, тех замечательных пересказов,
забытых и полузабытых, и во всяком случае мало доступных,
произведений Боккаччо, латинских и итальянских, которым отведено
* К. Н. Батюшков. «Сочинения», III, письма № 203-205 и примечания.
** Первое издание в 2-х томах. Москва. 1891, Т-ва И Я. Кушнерев и К-ов
книжного магазина П. К. Прянишникова.
Джованни Боккаччо
449
значительное место в монографии. Едва ли можно было разрешить
лучше задачу полноты, точности и стильности передачи, искусно
минуя некоторые длинноты и опуская ненужные подробности.
Вместе с переводом «Декамерона» они принадлежат к числу
наиболее блестящих в литературном отношении страниц, вышедших
из-под пера покойного мастера.
■в5^
€^
P. и.хлодовский
«Декамерон»: великая книга о большой любви
...и поймете, сколь святы,
могучи и каким благом исполнены силы
любви, которую многие осуждают
и поносят крайне несправедливо,
сами не зная, что говорят.
Джованни Боккаччо. «Декамерон»
История зачастую бывает несправедлива. За «Декамероном»
прочно закрепилась репутация неприличной книги. Но
справедливо ли это? Эротика в «Декамероне» присутствует, однако она не идет
ни в какое сравнение с грандиозными эротическими метафорами
предшествовавших «Декамерону» средневековых комических
поэтов. Между тем гораздо более рискованные сонеты Рустико ди
Филиппо и Чекко Анджольери современников Боккаччо нисколько
не шокировали. Не смущали их и сексуальные откровенности
некоторых новелл благонравнейшего Франко Саккетти, именно по
причине этой откровенности на русский язык пока что не переведенные1.
А вот «Декамерон» возмущал даже первых читателей. Боккаччо
приходилось оправдываться. В «Заключении автора» к
«Декамерону» он писал: «Может быть, иные из вас скажут, что, сочиняя
эти новеллы, я допустил слишком большую свободу, например,
заставив женщин иногда рассказывать и очень часто выслушивать
вещи, которые честным женщинам неприлично ни сказывать, ни
выслушивать. Это я отрицаю, ибо нет столь неприличного рассказа,
который, если передать его в подобающих выражениях, не был бы
под стать всякому; и мне кажется, я исполнил это как следует». Тут
обо всем сказано правильно. Самомнением Боккаччо не отличался.
«Декамерон» — одна из самых великих и самых поэтичных книг
в мировой литературе. В итальянской культуре Боккаччо стоит подле
Петрарки и Данте. Потомки называли их «тремя флорентийскими
венцами» и не без некоторого основания считали время, в которое
они творили, золотым веком итальянской словесности.
«Декамерон»: великая книга о большой любви
451
Боккаччо часто и много писал о любви. Однако не о той, которая
привела обожаемого им Данте к лицезрению Бога и даже не о той,
сладостными муками которой упивался его добрый приятель
Петрарка. Замечательный историк итальянской литературы Франческо
де Санктис как-то сказал: «Открывая "Декамерон" впервые, едва
прочитав первую новеллу, пораженный как громом с ясного неба,
восклицаешь вместе с Петраркой: "Как я попал сюда и когда?" 2
Это уже не эволюционное изменение, а катастрофа, революция... »
Революция, у самого начала которой стоит «Декамерон», вовсе
не отменила Средние века. Культура Возрождения долгое время
не просто соседствовала с культурой средневековой, а тесно
переплеталась с ней. Великая книга Боккаччо построена из
средневекового материала, и населяют ее по преимуществу средневековые
люди. Одна из самых «неприличных» новелл «Декамерона» (день
третий, новелла десятая) не более, нежели изящно реализованная
метафора, которая была в ходу и у современников Боккаччо, и у его
далеких предшественников3. Но средневековые фабулы в
«Декамероне» радикально переосмыслены. Средневековая культура более
программно аскетична и ориентирована на потусторонние,
трансцендентные ценности. Величайший поэт Средневековья Данте
Алигьери решал мучающие человечество проблемы, путешествуя
по загробному миру. Ради открытия путей человека к Богу Средние
века готовы были жертвовать земной природой человека и учили
его не столько жить, сколько умирать.
Первый из рассказчиков общества «Декамерона» начинает свою
новеллу словами: «Милые дамы! За какое бы дело ни принимался
человек, ему предстоит начинать его во чудесное и святое имя Того,
кто был Создателем всего сущего». Однако сам Боккаччо открыл
«Декамерон» словами: «Umana cosa è...», «Человеку свойственно...».
Петрарка и Боккаччо стали первыми гуманистами эпохи
Возрождения. Гуманисты, как правило, не были безбожниками, но
средневековый аскетизм ими отвергался. Они учили человека сознавать
свое величие и наслаждаться красотой созданного Богом земного
мира. Суть духовной революции, осуществленной Возрождением,
состояла не в реабилитации плоти, а, как говорил Бенедетто Кро-
че, в переходе от мысли трансцендентной к мысли имманентной.
Но для того чтобы осуществить этот культурообразующий переход,
требовалось время.
Подобно «Божественной комедии» Данте, «Декамерон» был
создан на середине жизненного пути его автора. Джованни Боккаччо
любил давать своим произведениям эллинизированные заглавия.
452
Р. И. ХЛОДОВСКИЙ
Вероятно, прав замечательный итальянский ученый Витторе Бран-
ка, предположивший, что Боккаччо назвал свою главную книгу
«Декамерон», вспомнив о «Гексамероне» св. Амвросия. В
древнерусской литературе такие книги тоже существовали. Их называли
«Шестодневами». Чаще всего они бывали полемичны.
Рассказывалось в них о сотворении Богом мира за шесть дней. «Декамерон»
тоже книга о сотворении мира. Но творится мир в «Декамероне»
не Богом, а человеческим обществом, — правда, не за шесть, а за
десять дней. Полемика в «Декамероне» тоже ведется, но направлена
она не против религии и попов, как в стародавние времена хотелось
думать некоторым советским критикам, а главным образом против
господствующих во времена Боккаччо представлений о человеке, его
природе, его правах и обязанностях. Но больше всего в «Декамероне»
Боккаччо спорит с тем, кто обвинял его книгу в непристойности.
«Декамерон» иногда называли обрамленной книгой. Это не
совсем точно. Да, в «Декамероне» имеется «Введение» и «Заключение
автора». Книга обрамлена авторским художественным сознанием.
Но этим, по сути дела, роль так называемой рамы и
ограничивается. Новеллы в «Декамероне» рассказывают десять каждодневно
меняющихся рассказчиков. Автор в их рассказы не вмешивается,
но и от рассказанного ими не отрекается. Некоторые из
рассказчиков носят имена героев его прежних книг: Филоколо, Филострато,
Фьямметта. Этим подчеркивается единомыслие автора и
рассказчиков. Новелл в «Декамероне» сто. К ним добавлена притча,
рассказанная уже самим автором, дабы пристыдить его ханжествующих
недоброжелателей.
Мощный толчок к созданию «Декамерона» дала чума. Она
пришла с Востока. В 1348 году чума ворвалась во Флоренцию, а затем
прокатилась по всей Европе, захлестнув даже островную Англию.
В Средние века «черная смерть» была явлением обычным, однако
эпидемия 1348 года поразила даже ко всему привыкших
итальянских и французских летописцев. Это было колоссальное
общественное бедствие. Во Флоренции «черная смерть» унесла две трети
населения. У Боккаччо умерли отец и дочь, у Петрарки — Лаура.
В чуме видели проявление Божьего гнева и снова, как на рубеже
X и XI веков, обезумевшие от страха люди ждали конца света. Всех
охватила паника. Даже Петрарка призывал в это время к
религиозному покаянию.
Боккаччо, несмотря на свойственную ему эмоциональность
и внутреннюю неуравновешенность, оказался гораздо спокойнее.
Панике он не поддался, хотя в 1348 году находился во Флоренции
«Декамерон»: великая книга о большой любви
453
и видел «черную смерть» собственными глазами. Об этом прямо
сказано в «Декамероне», и это хорошо чувствуется в реалистичности
боккаччиевского описания зачумленного города. Оно предшествует
новеллам первого дня.
До Боккаччо чуму описывали Фукидид, Лукреций, Тит Ливии,
Овидий, Сенека-трагик, Лукан, Макробий и Павел Диакон в
«Истории лангобардов». Со многими из этих описаний Боккаччо был
знаком. Они оказали на него определенное влияние. Прочитанное
не просто отложилось в торжественной приподнятости первых
страниц «Декамерона», но и позволило Боккаччо по-новому увидеть
современную ему общественную жизнь. Риторики в «Декамероне»
довольно много, и роль у нее самая разная. В данном случае
риторика помогла Боккаччо преодолеть внутреннее смятение перед лицом
огромного и еще не отошедшего в прошлое общенародного бедствия,
а также дала ему ту емкую поэтическую форму, которая при всей ее
литературной условности позволила произвести художественный
анализ общественного состояния зачумленной Флоренции как
естественноисторического явления, вне господствующих в XIV
веке идеологических схем, — спокойно, беспристрастно, правдиво,
с почти научной строгостью и объективностью, составляющей одну
из главных особенностей творческого метода этого произведения.
Однако объективность автора «Декамерона» вовсе не бесстрастие
ученого. Боккаччо изобразил флорентийскую чуму 1348 года не как
историк, а как первый великий прозаик Нового времени. Чума — это
не только пролог к рассказам «Декамерона», но и в известном смысле
их эстетическое обоснование. Художественные связи здесь настолько
бросаются в глаза, что многие историки и теоретики литературы,
ослепленные столь, казалось бы, однозначной очевидностью, а также
лукаво провоцируемые Боккаччо, смело именовали «Декамерон»
пиром во время чумы. На шутливые провокации Боккаччо поддался
не только Виктор Шкловский, но даже M. М. Бахтин. «Чума,
обрамляющая "Декамерон", — утверждал он, — должна создать искомые
условия для откровенности и неофициальности речи и образов...
Кроме того, чума, как сгущенный образ смерти, — необходимый
ингредиент всей системы образов "Декамерона", где обновляющий
материально-телесный низ играет ведущую роль. "Декамерон" —
итальянское завершение карнавального, гротескного реализма,
но в его более бедных и мелких формах».
Последнее уточнение примечательно. Оно разрушает концепцию.
Художественные — языковые и стилевые — формы «Декамерона»
не бедные и не мелкие. В выстроенный Бахтиным карнавальный ряд
454
Р. И. ХЛОДОВСКИЙ
они не помещаются. Вряд ли всегда так уж необходимо приписывать
материально-телесному низу ведущую роль в том великом
обновлении европейской культуры, с которым связана замечательная
книга Джованни Боккаччо.
О пирах во время чумы в прологе к «Декамерону» рассказывается.
Но даже в прологе они не главное. Главное в нем художественный
и вместе с тем почти что социологический анализ средневекового
общества, оказавшегося во власти чумы. Описывая результаты
триумфа «черной смерти», автор пролога пишет: «При таком
удрученном и бедственном состоянии нашего города почтенный авторитет
как Божеских, так и человеческих законов почти упал и исчез,
потому что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли,
либо хворали, либо у них осталось так мало служилого люда, что
они не могли отправлять никакой обязанности; почему всякому
позволено было делать все, что заблагорассудится».
Однако это вовсе не означало торжества свободы. Чума развязала
в средневековой Флоренции не пиршественные вольности карнавала,
а разнузданность самой дикой анархии. Описывая чумные
вакханалии, автор не упускает случая отметить, что их пьяный разгул
нередко заканчивается попранием права частной собственности
и установлением в зачумленном городе своего рода примитивного
коммунизма. Казалось бы, анархия поломала все.
Нарисованная в прологе картина безрадостна и бесперспективна. Выхода,
по-видимому, не было.
Но именно социальная безвыходность вызывает к жизни
общество «Декамерона». Первый шаг к нему был сделан в церкви. В книге
Боккаччо об этом сказано так: « ...во вторник утром в досточтимом
храме Санта Мария Новелла, когда там почти никого не было, семь
молодых дам, одетых, как было прилично по временам, в печальные
одежды, простояв божественную службу, сошлись вместе; все они
были связаны друг с другом дружбой или соседством, либо родством;
ни одна не перешла двадцативосьмилетнего возраста, и ни одной
не было меньше восемнадцати лет; все разумные и родовитые,
красивые, добрых нравов и сдержанно-приветливые» (I, Вступление).
Через некоторое время в той же церкви Санта Мария Новелла
к семи дамам присоединились «трое молодых людей, из которых
самому юному было, однако, не менее двадцати пяти лет и в которых
ни бедствия времени, ни утраты друзей и родных, ни боязнь за самих
себя не только не погасили, но и не охладили любовного пламени.
Из них одного звали Памфило, второго — Филострато, третьего —
Дионео; все они были веселые и образованные люди, а теперь искали,
«Декамерон»: великая книга о большой любви
455
как высшего утешения в такой общей смуте, повидать своих дам,
которые, случайно, нашлись в числе упомянутых семи, тогда как
из остальных иные оказались в родстве с некоторыми из юношей».
Собравшаяся в церкви Санта Мария Новелла компания необычна
и привилегированна. Ее привилегию составляет не социальное или
имущественное положение, а не попранная чумой человечность.
Террор, охвативший средневековое флорентийское общество,
оказался бессильным задушить в зашедших в церковь молодых людях
чувство любви и родственные привязанности. Предположить, что
«добронравные» дамы и «образованные» молодые люди могли бы
быть вовлечены в вакханалии так называемых пиров во время чумы
просто-напросто невозможно. Этого не допускает характеризующая
их лексика.
Церковь, в которой собралась молодая и в высшей мере
добропорядочная компания, тоже не совсем обычная. Несмотря на
свирепствующую вокруг чуму, в церкви царит благостный покой, и ничто
не указывает, что кто-нибудь или что-нибудь могло бы помешать
молодым дамам благочинно отстоять божественную службу. На
изображенную в прологе церковь Санта Мария Новелла распространяются
привилегии зарождающегося в ней общества «Декамерона». Она
оказывается как бы вне зачумленной Флоренции и располагается
на том идеальном пространстве, на котором протекает жизнь этого
привилегированного общества. Предлагая своим приятельницам
и приятелям покинуть Флоренцию и отправиться в загородные
поместья, «каких у каждой из нас множество», старшая из дам
рисует картину прекрасной и вместе с тем — что для нового сознания
рассказчицы весьма характерно — окультуренной природы: «Там
слышно пение птичек, виднеются зеленеющие холмы и долины,
поля, на которых жатва волнуется, что море, тысячи пород деревьев
и небо, более открытое, которое хотя и гневается на нас, тем не менее
не скрывает от нас своей вечной красы».
Последние слова Пампинеи заставляют нас думать, что вечная
краса неба (выражение почти что пушкинское) как-то плохо вяжется
с Божьим гневом, который, обрушившись на Флоренцию, привел
к общественной катастрофе. Тут возникает какое-то противоречие.
Оно еще больше усиливается при сравнении загородной благодати,
на лоно которой Пампинея приглашает своих товарок, с
картиной, нарисованной автором пролога, повествующим о бедствиях,
постигших сельское окружение охваченного эпидемией города.
Похоже, Пампинея не знает, куда она зовет молодую компанию
и на что ее обрекает. С точки зрения автора пролога, ее предложение
456
Р. И. ХЛОДОВСКИИ
по меньшей мере бессмысленно. Попытки спастись от чумы,
покинув Флоренцию, не единожды предпринимались, но все они
бывали заведомо обречены на неудачу: «...не заботясь ни о чем, кроме
себя, множество мужчин и женщин покинули родной город, свои
дома и жилья, родственников и имущества и направились за город,
в чужие или свои поместья, как будто гнев Божий, каравший
неправедных людей этой чумой, не взыщет их, где бы они ни были...»
Если Бог действительно решил покарать человека, тому, разумеется,
укрыться от Божьего гнева негде.
Однако Пампинея приглашает своих друзей отправиться в
загородные имения вовсе не потому, что она считает их большими
праведниками, чем всех прочих флорентийцев, а только оттого,
что на взаимоотношения между человеческой жизнью и Богом
она смотрит не совсем так, как смотрит на них во многом еще
по-средневековому мыслящий автор пролога.
Глубинный, магистральный сюжет «Декамерона» составляет
превращение молодой компании флорентийцев в принципиально
новое, внутренне гармоничное, гуманистическое общество.
Выйдя за пределы средневекового города, возглавляемая Пампинеей
молодая компания не утративших природной человечности
флорентийцев немедленно восстанавливает «почетный авторитет как
божеских, так и человеческих законов» и именно поэтому создает
общество, обладающее не только четкой социальной иерархией,
полностью разрушенной в зачумленной Флоренции, но и
определенной формой государственного устройства. И вовсе не оттого,
что молодые люди — убежденные государственники. В данном
случае ими движет не политическая амбициозность, а то чувство
меры, которое оказалось полностью утраченным в оставленной ими
средневековой Флоренции, но которое станет в дальнейшем одной
из существенных характеристик и художественной, и политической
мысли европейского Возрождения.
Общество, созданное в «Декамероне», — это своего рода
президентская республика, ибо управляется она ежедневно
сменяющимися королями. Короли эти — особенные. После того как первой
королевой общества «Декамерона» была единогласно избрана Пампинея,
«Филомена, часто слышавшая в разговорах, как почетны листья
лавра и сколько чести они доставляют достойно увенчанным ими,
быстро подбежала к лавровому дереву и, сорвав несколько веток,
сделала прекрасный, красивый венок и возложила его на Пампи-
нею. С тех пор, пока держалось их общество, венок был для всякого
другого знаком королевской власти и старшинства».
«Декамерон»: великая книга о большой любви
457
Незадолго до написания «Декамерона» в покинутом папами
и пришедшем в полный упадок Риме произошло событие, имевшее
огромное всеевропейское значение. К. Маркс занес его в свои
«Хронологические выписки» : «В апреле 1341 года Петрарка был коронован
в Капитолии в Риме как король всех образованных людей и поэтов:
в присутствии большой толпы народа сенатор республики увенчал
его лавровым венком». Петрарка вошел в Капитолий в королевской
мантии, которую ему специально для этого случая подарил со своего
плеча король Роберт Анжуйский. Впервые в истории Европы поэту
было сказано: «Ты царь...» С тех пор поэзия, литература, искусство
надолго становятся в Европе силой, с которой вынуждены считаться
даже самые кровавые самодержцы.
Филомена, венчая Пампинею на президентство лаврами,
конечно же, помнила о капитолийском триумфе Петрарки. Общество
«Декамерона» — не просто президентская республика: это
республика поэтов, музыкантов и литераторов, хорошо разбирающихся
как в средневековой, так и в античной литературе, великолепно
владеющих словом и слагающих канцоны, в .художественном
отношении уступающие разве что стихам Данте и Петрарки. Прав
человека республика «Декамерона» не ущемляет. Согласно ее
конституции, «каждый может доставить себе удовольствие, какое
ему более по нраву».
Жизнь общества «Декамерона» проходит на благоустроенных
виллах и в благоуханных садах, в полном согласии с той
окультуренной человеком природой, которую потом, когда в Европу опять
вернется Феокрит, станут звать идиллической. Почти все новеллы
«Декамерона» рассказываются под веселый аккомпанемент
соловьиных трелей. Пампинея друзей своих не обманула. В начале
третьего дня читаем: «Вид этого сада, прекрасное расположение
его, растения и фонтан с исходившими из него ручейками — все
это так понравилось всем дамам и трем юношам, что они принялись
утверждать, что если бы можно было устроить рай на земле, они
не знают, какой бы иной образ ему дать, как не форму этого сада... »
В дантовский «земной рай» Боккаччо верил, возможно, не
слишком крепко. Но о рае на земле он все-таки мечтал.
Начиная с XV века исследователи и просто почитатели
творчества Джованни Боккаччо упорно пытались установить, в
каком именно месте были рассказаны записанные в «Декамероне»
новеллы. Ни к какому определенному выводу они так и не
пришли. И это более чем понятно. Географического местоположения
декамероновская республика поэтов не имеет. «Декамерон»,
458
Р. И. ХЛОДОВСКИЙ
вероятно, можно было бы назвать первой европейской утопией,
если бы не одно немаловажное обстоятельство. В отличие от всех
прочих европейских социальных утопий общественный проект
Пампинеи был блистательно осуществлен. Та идиллическая
природа, в гармонии с которой живет общество рассказчиков
«Декамерона», только потому так резко отличается от
сельских окраин зачумленной Флоренции, что, выйдя за пределы
города, Пампинея и ее жизнерадостные друзья переместились
не β пространстве, а во времени. Они, так сказать, приподнялись
над средневековой Тосканой и попали в принципиально новую
эру, в так называемую эпоху Возрождения, которая, конечно же,
была идеальна, но которая вместе с тем оказалась исторически
абсолютно реальной, ибо до сегодняшнего дня остаются жизненно
реальными созданные ею величайшие духовные, художественные
и культурные ценности.
О переходе веселой компании молодых флорентийцев,
собравшихся в церкви Санта Мария Новелла, на принципиально новую
временную, а главное, историко-культурную плоскость
свидетельствует прежде всего религиозная мысль создаваемого ими общества.
Общество «Декамерона», как и подобает всякому нормальному
человеческому обществу, начинает свою жизнь с того, что вспоминает
о Боге и определяет к нему свое отношение. Отношение человека
к Богу было в ту пору главной проблемой времени. Приступая к
рассказам «Декамерона», Памфило говорит: «Потому и я, на которого
первого выпала очередь открыть наши беседы, хочу рассказать
об одном из чудных Его начинаний, дабы, услышав о Нем, наша
надежда на Него утвердилась, как на незыблемой почве, и Его имя
восхвалено было во все наши дни».
Памфило, однако, относится к трансцендентному Богу совсем
не так, как относился к Нему странствующий по загробному миру
Данте. За, казалось бы, традиционно благочестивым зачином
следует по-революционному новаторская и едва ли не лучшая в
«Декамероне» новелла (I, 1), в которой появляется герой Возрождения,
человек-артист, изображаемый, правда, чисто негативно. Это
знаменитая новелла о мерзопакостном нотариусе Сан-Чаппеллетто,
клятвопреступнике, воре, убийце, шулере, содомите, который,
однако, благодаря артистически построенной предсмертной исповеди
оказался после смерти причисленным к лику святых. «Прозвали его
и зовут San Ciappelletto, — говорит Памфило, — и утверждают, что
Господь ради него много чудес проявил и еще ежедневно проявляет
тем, кто с благоговением прибегает к нему».
«Декамерон»: великая книга о большой любви
459
Памфило выражается осторожно: «утверждают». Сам он
свидетелем чудес не был. В его рассказе о том, как доверчиво принял
«деревенский люд» сообщение благочестивого исповедника о
святости отъявленного негодяя, проглядывает усмешка человека,
интеллектуально и духовно стоящего выше суеверной деревенщины.
Однако ни то ни другое, разумеется, ни в какой мере не
свидетельствует о каком-либо протовольтерьянском скептицизме. Памфило
не скептик. Однако в отличие от создателя «Божественной комедии»
он не верит в возможность для человека при жизни перешагнуть
порог посюстороннего мира, войти в мир трансцендентных
абсолютов и, воочию узрев Бога, приобщиться к непреложным решениям
его суда. Столь характерное для средневекового сознания желание
заглянуть на «тот свет» в обществе «Декамерона» высмеивается —
порой добродушно, а иногда почти пародийно. Тем не менее это
никак не умаляет искренности веры рассказчиков в Бога. Меняется
их понимание взаимоотношений между Богом и человеком, смысла
человеческой жизни, а также сути и задач литературы, что,
разумеется, существенно влияет на поэтику и методы новеллистического
повествования. Сознавая принципиальную невозможность
«проникнуть смертным оком в тайны Божественных помыслов», Памфило
рассказывает новеллу о сэре Чаппеллетто так, чтобы в ней, как он
говорит, было все «ясно с точки зрения человеческого понимания».
На смену средневековому аллегоризму приходит эстетический
рационализм, способный обернуться если не агностицизмом, то,
во всяком случае, сознательной установкой на реалистическую
достоверность рассказа. Завершая свою историю о великом грешнике,
Памфило говорит: «Я не отрицаю возможности, что он
сподобился блаженства перед лицом Господа, потому что, хотя его жизнь
и была преступной и порочной, он мог под конец принести такое
покаяние, что, может быть, Господь смиловался над ним и принял
его в Царствие Свое. Но для нас это тайна; рассуждая же о том, что
нам видимо, я утверждаю, что ему скорее бы быть осужденным
и в когтях диявола, чем в раю».
Однако это свое утверждение Памфило не выдает за истину
в последней инстанции, и его «может быть» не ставит под
сомнение высшие, последние тайны. Все в руках Божьих. Вот почему
чудеса, творимые на могиле грешного нотариуса, или — как,
видимо, склонен считать Памфило — то, что почитается чудесами
невежественной бургундской чернью, вызывает у Памфило не
скептическую усмешку, а на редкость благочестивые выводы. Счесть
восхваление Бога, громко прозвучавшее в заключении первой же
460
Ρ, И. хлодовскии
новеллы «Декамерона», хитрой уловкой, призванной усыпить
бдительность церковных властей, значило бы ничего не понять
ни в великой книге Джованни Боккаччо, ни в той эпохе, которую
она блистательно начала.
Впрочем, Боккаччо, видимо, не слишком доверял нашей
сообразительности, и потому проблема отношения общества «Декамерона»
к Богу еще раз решается им в следующей новелле о несколько
парадоксальном обращении в христианство еврея Авраама, человека
умного и к тому же «большого знатока иудейского закона». Только
после этого основная проблема времени представляется обществу
исчерпанной. Приступая к третьей новелле «Декамерона», Фило-
мена говорит: «...так как о Боге и об истине нашей веры уже было
прекрасно говорено, и не покажется неприличным, если мы
снизойдем теперь к человеческим событиям и действиям». Вслед за этим
рассказывается новелла о том, как «еврей Мельхиседек рассказом
о трех перстнях устранил большую опасность, уготованную ему
Саладином».
В Средние века, да и в значительно более поздние времена, притча
о тех кольцах считалась рассказом проблемно религиозным. Лессинг
использовал ее для доказательства желательности веротерпимости.
Ту же самую цель ставил, по-видимому, неизвестный нам автор
средневекового «Новеллино». В обществе «Декамерона» вопрос
о веротерпимости давным-давно разрешен, и даже антисемитизм
ему неведом. Филомена рассказывает старую и хорошо всем
известную притчу о трех кольцах вовсе не для того, чтобы доказать,
будто заповеди Моисея ничем не хуже заповедей Магомета, а для
выявления высокой гуманности ее главных героев. После того как
Саладин увидел, как умно Мельхиседек избежал уготованной ему
западни, он отказался от мысли учинить над евреем «насилие,
прикрашенное неким видом разумности». Саладину хорошо известно,
что ростовщик Мельхиседек «был скуп». Но гуманность по логике
общества «Декамерона» возрождает в человеке его исконную
человечность. «Еврей с готовностью услужил Саладину такой суммой,
какая требовалась, а Саладин впоследствии возвратил ее сполна,
да кроме того дал ему великие дары и всегда держал с ним дружбу».
Такое разрешение конфликта для книги Боккаччо в высшей мере
характерно. В ней человеческий ум всегда побеждает глупость,
косность и предрассудки. Но когда, как в третьей новелле, сталкиваются
умные люди, торжествует еще и благородство (cortesia), и щедрость,
широта души (libéralité) — две, с точки зрения Боккаччо, высшие
добродетели, которыми он наделяет своих самых любимых героев.
«Декамерон»: великая книга о большой любви
461
Принято считать, что основы нового миропонимания общества
«Декамерона» закладываются в трех первых новеллах. Это не
совсем так: четвертая новелла первого дня тоже основополагающая
и программная. В ней рассказывается: «Один монах, впав в грех,
достойный тяжкой кары, искусно уличив своего аббата в таком же
поступке, избегает наказания». Новелла эта, разумеется,
эротическая. Боккаччо был первым европейским писателем, который
широко и очень объективно изобразил огромную и естественную
роль эроса в жизни нормального человека. Это было большим
художественным открытием Нового времени и приуменьшать его
было бы нелепым ханжеством.
И если в целом общество «Декамерона» не жалует монахов,
то вместе с тем оно относится к ним гораздо терпимее и
снисходительнее, нежели авторы средневековых фаблио или проповедники,
связанные с городскими ересями. И это, в частности, потому, что
представление о грехе против плоти претерпевает у Боккаччо
радикальное изменение. Грехом писатель считает уже не плотский
грех, а вынужденное целомудрие. Это, по мнению общества
«Декамерона», одно из величайших зол, какое только может выпасть
на долю человека. Поэтому, когда монаху или монахине удается
его избежать, общество «Декамерона» не усматривает в этом ничего
зазорного. В таких случаях рассказчики смеются, но в их веселом
смехе звучит скорее сочувствие к человеческой природе монаха,
чем гневный укор или ригористическое негодование. Именно таков
смех четвертой новеллы первого дня, в которой согрешивший монах
избегает наказания, на деле доказав своему аббату, что ничто
человеческое тому не чуждо. Аналогична и вторая новелла девятого дня.
В четвертой новелле первого дня говорится не о любви, но о
«сексе» . Впрочем, любви чисто платонической в «Декамероне» « каэкется«
не бывает. О любви в обществе «Декамерона» говорят часто, и
изображается она по-разному. Примечательна также программная для
Боккаччо первая новелла пятого дня. В ней сказано, что у именитого
жителя Кипра Аристиппа был сын, доставлявший ему большие
огорчения. «Его настоящее имя было Галезо, но так как ни
усилиями учителя, ни ласками и побоями отца, ни чьей-либо другой
какой сноровкой невозможно было вбить ему в голову ни азбуки,
ни нравов, и он отличался грубым и неблагозвучным голосом и
манерами, более приличными скоту, чем человеку, то все звали его
как бы на смех Чимоне, что на их языке значило то же, что у нас
скотина». В конце концов Аристипп приказал сыну «отправиться
в деревню и жить там с его рабочими». Но вот однажды Чимоне
462
Р. И. ХЛОДОВСКИЙ
«увидел спавшую на зеленой поляне красавицу в столь прозрачной
одежде, что она почти не скрывала ее белого тела. <...> Он с
величайшим восхищением принялся смотреть на нее. И он почувствовал, что
в его грубой душе, куда не входило до тех пор, несмотря на тысячи
наставлений, никакое впечатление облагороженных ощущений,
просыпается мысль, подсказывающая его грубому и материальному
уму, что то — прекраснейшее создание, которое когда-либо видел
смертный». Телесность обнаженной женщины Боккаччо
намеренно подчеркивается. Однако прекрасное женское тело не вызывает
у Чимоне похоти, а пробуждает в нем чувство, которое, видимо,
должен испытывать всякий нормальный мужчина, созерцающий
«Спящую Венеру» Джорджоне: Чимоне «внезапно стал из пахаря
судьей красоты». Красота преображает Чимоне, который «...к
величайшему изумлению всех, в короткое время не только обучился
грамоте, но и стал наидостойнейшим среди философствующих.
Затем, и все по причине любви, не только изменил свой грубый
деревенский голос в изящный и приличный горожанину, но и стал
знатоком пения и музыки, опытнейшим и отважным в верховой езде
и в военном деле, как в морском, так и в сухопутном».
Подлинная влюбленность изображается в обществе
«Декамерона» как необыкновенно красивое чувство. Вот, к примеру, как
рисуется любовь простого конюха к королеве. «...И хотя он жил без
всякой надежды когда-либо понравиться ей, он все-таки гордился,
что направил высоко свою мысль, и как человек, всецело
горевший любовным пламенем, более чем кто-либо из его товарищей,
с тщанием делал все, что, по его мнению, должно было понравиться
королеве» (III, 2).
Эротика в рассказах общества «Декамерона» становится не только
гуманистической, но и по-настоящему поэтичной. Примеры
тому — новелла о Катерине и соловье (V, 4), в которой еще сохранена
инерция народной песни, и новелла о Джилетте из Нарбонны (III, 9),
вдохновившая Шекспира4. Порой на долю эротики выпадает
большая идейная нагрузка. В восьмой новелле второго дня приводится,
например, любопытное рассуждение жены французского
королевича, пытающейся соблазнить графа Анверского и доказывающей
ему, что она имеет больше прав на прелюбодеяние, чем плебейка или
крестьянка. Королевна из этой новеллы рассуждает как человек,
для которого феодальная мораль сословного неравенства является
чем-то само собой разумеющимся, незыблемым и естественным.
Она глубоко убеждена, что «...перед лицом праведного судьи один
и тот же поступок, смотря по разным качествам лица, не получит
«Декамерон»: великая книга о большой любви
463
одинаковое наказание». Однако общество «Декамерона» судит уже
совсем по-другому. Феодальные софизмы жены французского
королевича не производят в новелле впечатления даже на графа Анвер-
ского и специально опровергаются в первой новелле третьего дня.
«Есть... много и таких, — говорит Филострато, — которые вполне
уверены, что лопата, и заступ, и грубая пища, и труд, и нужда
лишают земледельцев всяких похотливых вожделений, делая грубыми
их ум и понятливость. Насколько все, так думающие, заблуждаются,
это я и желаю разъяснить всем небольшой новеллой». А вслед за тем
следует знаменитая новелла о Мазетто, эротика которой вопреки
мнению некоторых современных исследователей должна показать
не столько скотскую сущность тосканского крестьянина, сколько
то, что перед голосом природы простая монахиня и королевна
совершенно равны.
Пройдут сутки, и в начале четвертого дня, когда по желанию
меланхоличного Филострато в обществе «Декамерона» будут
обсуждаться судьбы тех, «чья любовь имела несчастный исход»,
Фьямметта расскажет трагическую новеллу о Гисмонде и Гвискар-
до, в которой голос чувственной любви приобретет патетические
интонации декларации прав земного человека. Обращаясь к
своему отцу Танкреду, принцу Салернскому, собирающемуся убить
ее худородного любовника, Гисмонда скажет: «...Взгляни немного
на сущность вещей; ты увидишь, что у всех нас плоть от одного
и того же плотского вещества, и все души созданы одним творцом
с одинаковыми силами, одинаковыми свойствами, одинаковыми
качествами. Лишь добродетель впервые различила нас,
рождавшихся и рождающихся одинаковыми».
Почти все писавшие о первой новелле четвертого дня говорили о ее
риторичности, неестественности, а иногда даже утверждали, будто
огромный успех этой новеллы в литературе Возрождения
объясняется главным образом тем, «что чернь лучше понимает риторику, чем
поэзию» (Л. Руссо). Все это не совсем справедливо, хотя ораторская
риторика в речи Гисмонды не только присутствует, но и играет
важнейшую роль. Кажется, что в первой новелле четвертого дня от
поэзии любовной страсти обособляется не просто риторика, а риторика
социальная и в какой-то мере даже политическая. За спиной героини
вдруг вырастает сам молодой Боккаччо. Поэтому содержание речи
Гисмонды словно обособляется от ее характера, от обстоятельств
времени и места новеллы и начинает жить самостоятельной жизнью.
В «Декамероне» появляется публицистика. В новелле о Гисмонде
и Гвискардо нова была не тема — о чувственной любви, ломающей
464
Р. И. ХЛОДОВСКИЙ
феодальные преграды, рассказывалось еще в романе о Тристане
и Изольде, — а именно ораторская логика ее обоснования,
предвосхитившая риторику речей в парижском Конвенте.
Из всего этого, впрочем, отнюдь не следует, будто в
«Декамероне» нет чисто эротических новелл, имеющих мало общего
с подлинной любовью. Их, как правило, рассказывает Дионео
в конце каждого дня. Но не только он. Рассказываются они,
однако, не ради возбуждения эротических чувств. Примечательно,
что в «Декамероне» содержится намек, что среди молодых людей
и дам, образующих общество рассказчиков, имеются влюбленные,
но любовь их нигде и никак не реализуется, хотя обстоятельства,
в которых рассказываются новеллы, казалось бы, к этому
располагают. Чисто эротические новеллы рассказываются в
«Декамероне» главным образом для того, чтобы развеселить просвещенное
общество и утвердить в нем жизнерадостное свободомыслие,
способное противостоять хаосу и террору чумы, бушующей в
средневековой Флоренции.
Замечательный, но, пожалуй, чересчур демократически
настроенный историк итальянской литературы Франческо Де Санктис
как-то сказал, что рассказчиками «Декамерона» «ставится только
одна цель: приятно провести время». Это очень несправедливо. Ведь
за две недели общество «Декамерона», приятно развлекаясь,
проделало на самом деле колоссальную работу. Рассказывая веселые,
а порой и трагические истории, оно сформировало принципиально
новое миропонимание, создав язык и стиль не просто классической
ренессансной новеллистики, а той исторически новой европейской
культуры, которую мы теперь, понимая всю ее самоценность, или, как
говорил Пушкин, самостояние, привыкли называть гуманистической.
В процессе этой созидательной и удивительно плодотворной
работы изменилось само общество рассказчиков. Покидая Флоренцию,
рассказчики «Декамерона» говорили о «черной смерти» со страхом.
В начале девятого дня о них еще сообщалось: «Они увенчали себя
дубовыми листьями, руки были полны пахучих трав и цветов; кто
повстречался бы с ними, не сказал бы ничего иного, как только то,
что смерть их не победит, либо сразит веселыми». В конце
«Декамерона» свободное общество веселых и жизнелюбивых
рассказчиков утверждает уже те новые идеалы, которые с его точки зрения
способны обеспечить вечную жизнь как отдельному человеку, так
и всему человечеству.
Сконструировав в рассказах «Декамерона» мир новой культуры,
молодые люди и дамы бесстрашно возвращаются в средневековую
«Декамерон»: великая книга о большой любви
465
Флоренцию с твердой уверенностью, что выработанные в их обществе
идеи и идеалы способны одолеть нравственный и социальный хаос
чумы. Общество «Декамерона» заканчивает свое существование
на том же самом месте, где оно возникло, — в церкви Санта Мария
Новелла.
•к "к "к
В «Декамероне» Боккаччо обогнал век и, кажется, даже самого
себя. С гениальными поэтами такое случается. Начатый, видимо,
в 1348 году, «Декамерон» был закончен то ли в 1351, то ли в 1353 году.
Ничего хотя бы отдаленно напоминающего его главную книгу
Боккаччо после 1353 года не создал. Иногда это объясняли его духовным
и даже религиозным кризисом. Но дело было не в кризисе, хотя
Боккаччо действительно быстро старел и порою испытывал мучительный
страх перед адом, который ему неустанно пророчили религиозные
проповедники. Дело было в другом: «Декамерон» не получил
поддержки у тех читателей, на которых он был рассчитан. Книгу жадно
читали средневековые купцы, выискивая в ней сальности, но она
оставила равнодушной зарождающуюся в Италии интеллигенцию,
презирающую народный язык и твердо убежденную в том, что языком
новой культуры должна стать возрождаемая Петраркой классическая
латынь.
После 1353 года Боккаччо сблизился и даже подружился с
Петраркой. «Декамерон» Петрарка прочитал и, с некоторыми
оговорками, одобрил. Ему понравилось описание чумы и полемика Боккаччо
с недоброжелателями, обвиняющими книгу в непристойностях.
Но очень заинтересовавшую его новеллу о Гризельде Петрарка счел
все-таки нужным перевести на латинский язык.
Судьба «Декамерона» в кругах почитателей и последователей
Петрарки научила Боккаччо тому, что новое общество, в котором
жили рассказчики «Декамерона», еще предстоит создать и что это
невозможно сделать, опираясь только на опыт народно-городской
культуры позднего Средневековья. В 50-е годы Боккаччо вступает
на петрарковский путь построения новой культуры и вместе с
Петраркой, опираясь на древность, закладывает основы тех studia
humanitatis*, которые станут необходимой идейной предпосылкой
расцвета ренессансной литературы на народном языке, получившей
распространение в конце XV — начале XVI века уже не только в
одной Флоренции, но и во всей Италии.
Наука о человеке (лат.).
466
Р. И. хлодовскии
Некогда принято было думать, что в старости Боккаччо
отрекся от «Декамерона». Это не так. Теперь доказано, что незадолго
до смерти Боккаччо собственноручно и очень старательно
переписал свою главную книгу, видимо, собираясь подарить манускрипт
Франческо Петрарке5.
^^
VI
УЧЕНЫЕ СОЧИНЕНИЯ
БОККЛЧЧО
^5^
M. С. КОРЕЛИН
<Научные произведения Боккаччо>
Между многочисленными сочинениями Боккаччо
значительное место занимают его труды, написанные на латинском языке.
Самый обширный из них по объему и самый важный по
содержанию — это трактат «О генеалогии языческих богов». Боккаччо,
придававший этому трактату особое значение, предпринял его
по заказу Гуго Лузиньяна, короля Иерусалима и Кипра, но
выпустил его в свет только после смерти этого мецената, да и то без
окончательной отделки*. В предисловии к Генеалогии,
написанном в форме разговора автора с Доннино да Парма, который
передал ему королевское поручение, Боккаччо излагает свою задачу
и указывает трудности ее исполнения. Гуго желает изложения
преданий о происхождении богов и героев и объяснения
аллегорического смысла этих рассказов. Боккаччо рекомендует для этого
Петрарку, потому что материал очень обширен и трудно собрать
нужную для этого литературу, но в конце концов согласился
исполнить волю короля и написал большой том, разделенный
на 15 книг.
Боккаччо понимает свою задачу двояким образом: во-первых,
собрать сведения о богах и, во-вторых, объяснить смысл
относящихся сюда преданий. «Имена и поколения богов и их
потомков блуждают в мире (vagantur per orbem), рассеянные здесь
* Сочинение было написано вполне между 1350 и 1359 годами; Боккаччо
говорит в предисловии: cujus (Petrarcae) jam diu ago adjutor sum1; их знакомство
относится к 1350 году, а через 9 лет умер Гуго, до смерти которого, как видно
из предисловия, было написано все сочинение, но без окончательной
редакции, как это говорит сам Боккаччо в письме к Pietro di Montefiore от 1373 г.
Окончательную редакцию Бальделли относит к 1373 году.
470
M. С. КОР ЕЛИ H
и там, говорит Бокаччио. Кое-что содержит в себе одна книга,
кое-что другая. Кто, спрашивается, пожелает себе задаром (pro
munere), или по крайней мере с трудом мало плодотворным (parum
fructuose) исследовать это, перелистать (volvere) и прочитать
столько томов и извлечь оттуда весьма немногое». Боккаччо
предпринял этот огромный труд и написал 13 книг мифологии.
Обширный материал, извлеченный из предшествующей
литературы, он расположил в генеалогическом порядке, предпосылая
каждой книге родословное древо*. Начитанность Боккаччо
чрезвычайно обширна: он пользуется не только древними
писателями, но и теми средневековыми, не только письменными
источниками, но и теми сведениями, которые сообщал ему
Л. Пилат и Варлаам. Его отношение к источникам очень просто:
встречая разногласие в сообщаемом ими мифе, он ставит рядом
два рассказа, при чем не заходит даже и речи о сравнительном
авторитете цитируемых авторов**. Вообще его книга по отношению
к фактическому содержанию мифа совершенно чужда критики,
так что Боккаччо считает возможным, например, приводить
хронологию похищения Зевсом Европы. Вследствие этого, генеалогия
богов представляет собою только компендиум мифологических
сведений, довольно обстоятельный для своего времени. Но
Боккаччо не ограничивается пересказом мифа, а старается также
истолковать значение. Миф, как думал Боккаччо вместе с своими
современниками, не просто бессмысленная басня, но или
исторический факт, или аллегорическое изображение явления природы
или нравственного правила, а в иных мифах соединены самые
различные значения. «Следует знать главным образом то, —
говорит он, что в этих фикциях не один только смысл, наоборот,
можно сказать, что в них polysemum, т. е. много значений. Первое
значение заключается в самой фабуле (habetur per corticem) и это
* 1-я книга содержит мифы о Демогоргоне и его детях и внуках; 2-я — потомство
Эфира, сына Эреба и Ночи, детей Демогоргона, от его сына Зевса; 3-я; 4-я,
5-я — потомство Целия, сына Эфира и Дня; 6-я — потомство Дардана, сына
второго Зевса, родившегося от Целия; 7-я — потомство Океана, сына Целия
и Весты; 8-я — Сатурна, сына Целия; 9-я — Юноны, 8-й дочери Сатурна;
10-я — Нептуна, сына Сатурна; 11-я, 12-я и 13-я — третьего Зевса, сына
Сатурна.
* Напр., Eusebius in libro temporum dicit Apim, qui postea rex Argivorum, filium
faisse Iovis et Niobee, filiae Phoronei... Leontius autem dixit hunc Phoronei
et Niobee, sororis et conjugis suae fuisse filium eique in regnum Sicyoniorum
haeredem successisse...2.
<Научные произведения Боккаччо>
471
смысл буквальный, другие — в том, что фабула обозначает (per
signif icata per corticem) и эти значения называются
аллегорическими. Чтобы легче понять, что я хочу сказать, приведем пример.
Персей, сын Юпитера, по поэтическому вымыслу, убил Горгону
и победителем улетел в эфир. Читая это буквально, получим смысл
исторический. Если же искать в написанном морального смысла,
то в нем обнаружится победа мудрого над пороком и возвышение
к добродетели. Если же мы пожелаем понять это аллегорически,
то миф обозначает возвышение к небу благочестивого разума (piae
mentis), презревшего мирские удовольствия. Сверх того, баснею
может анагогически (anagogice) выражаться изображение
вознесения к Отцу Христа, победившего князя мира. Эти значения,
хотя и называются различными именами, могут быть, однако, все
названы аллегорическими, как это обыкновенно и бывает, потому
что аллегория происходит от άλλο, что по-латыни значит чужое
или отличное (diversum); поэтому все отличное от исторического
или буквального смысла, как сказано, может быть справедливо
названо аллегорическим. Но я не имею намерения истолковывать
следующие басни по всем значениям, так как я считаю
достаточным из многих объяснить одно, хотя иногда, может быть, будут
присоединены и многие другие». При этом перечислении
различных приемов истолкования мифа Боккаччо опускает
этимологическое объяснение, к которому он прибегает довольно часто. Так,
напр., парки получили, по его мнению, свое название потому, что
они никого не щадят (nemini parcant). Самый любимый прием
Боккаччо при объяснении мифа — это отыскать в нем прямой
или скрытый исторический факт. Так, изложив миф о Фетиды,
он замечает, что «в нем следует видеть аллегорический смысл, так
как здесь нет ничего исторического». В другом месте, по поводу
борьбы Зевса с титанами, он ограничивает свои объяснения ввиду
ясного исторического смысла мифа. Вследствие этого Боккаччо
охотно принимает объяснение Эвгемера3, которого иногда прямо
цитирует и которому сам подражает. Исторический факт, по его
мнению, и любовь Борея к Ориции, и низвержение Сатурна
Юпитером, и похождения самого Зевса. Наряду с историческим
объяснением Боккаччо толкует мифы и с точки зрения натурализма.
Так, по поводу мифа «о Ночи, первой дочери Земли», он говорит:
«что она была любима пастухом Фанетом, это должно понимать,
я думаю, следующим образом. Фанет — солнце, по моему
мнению, назван пастухом потому, что его старанием насыщается все
живущее; что он любит ночь — это, я думаю, придумали потому,
472
M. С. КОР ЕЛИ H
что он быстрым движением следует за ней, как бы за любимой
женщиной, стремясь ее увидеть, и, по-видимому, желает с нею
соединиться (copulari). Она же отвергает его и убегает не менее
быстро, чем он ее преследует, потому что у нее противоположный
характер (mores adversos): он светит, она же производит мрак,
и не по пустому говорит она, что умрет, если соединится с ним,
так как солнце своим светом рассеивает всякий мрак и таким
образом становится ее врагом. Наконец, она соединяется с Эре-
бом, т. е., подземным царством, где она быстро приобретает силу
и живет в безопасности, потому что туда никогда не проникают
солнечные лучи. В другом месте, говоря об Ахиллесе, Боккаччо
замечает: «что его пятка не была погружена (в воды Стикса), это
скрывает физическую тайну. Физики говорят (volunt), что вены,
находящиеся в пятке, имеют отношение (pertineant rationem) ad
renum et foemorum4 и мужским органам. Поэтому пяткою, не
погруженною в Стикс, хотели обозначить непобежденную страсть
в Ахилле, которая не была уничтожена и другими трудами, так
что достаточно ясно, что вследствие страсти попал он в руки
врагов и был ими убит. Примеров такого чисто натуралистического
объяснения мифов у Боккаччо весьма много.
Весьма часто Боккаччо усматривает в мифах аллегорию
нравственных доктрин. Так, в главе «о Коварстве (Dolus), шестом сыне
Эреба», он говорит, что древние «понимали под Эребом глубокий
тайник (intimum recessum) человеческого сердца, потому что там
местопребывание всех размышлений. Поэтому, если вследствие
пренебрежения добродетелью болен дух, то для достижения
желаемого при недостатке сил он направляет ум к уловкам. Таким
образом от ночи, т. е. от духовной слепоты... создается и
порождается коварство». Таким же образом Боккаччо объясняет
рассказы об аде, о музах, о любви Нарциса и Эхо и многие другие.
Хотя Боккаччо имел в виду ограничиться выяснением одного
только смысла в каждом мифе, но весьма часто он увлекается
и приводит несколько толкований. Для примера можно указать
его объяснение рассказа о рождении Афины. «Утверждают, —
говорит он, что Минерва, т. е. мудрость, родилась, из мозга Юпитера,
т. е. бога. Физики утверждают, что все интеллектуальные силы
заключаются в мозгу, как бы в крепости (in arce) тела. Отсюда
рассказывают, что Минерва, т. е. мудрость родилась из мозга бога,
чтобы мы понимали, что из глубокого тайника (arcbano)
божественной мудрости вложен в нас всякий интеллект, всякая мудрость,
дать которую Юнона, т. е. земля, в этом отношении бесплодная,
<Научные произведения Боккаччо>
473
не могла и не может. По свидетельству Священного Писания,
всякая мудрость от Господа Бога, и Сам Он говорит там же: Я
вышел из уст Всевышнего5. Таким образом действительно искусно
придумали, что мудрость родилась не так, как мы рождаемся,
но из мозга Юпитера, чтобы показать ее особенное благородство,
что она удалена от всякой земной нечистоты и грязи. Поэтому ей
приписывается постоянная девственность, следовательно
бесплодность, чтобы дать понять, что мудрость никогда не ослабляется
каким-нибудь соприкосновением со смертным, наоборот, всегда
чиста, всегда светла, всегда безупречна и совершенна и по отношению
к временному бесплодна, потому что плоды мудрости вечны... Она
покрыта тремя одеждами, чтобы дать понять, что слова мудрецов
и в особенности поэтов (fingentium) имеют много значений, а что
у нее священный расшитый пеплум, чтобы мы понимали, что речи
мудрецов стройны, цветисты, изящны и украшены высочайшей
красотой. Ночные атрибуты ей приписываются для того, чтобы
показать, что мудрец размышлением познает скрытое во мраке
и видит то, что бывает ночью во тьме. Минервой она называется,
как говорит Альберик, от mi, что значит не, и nerva — смертный,
так что выходит, что мудрость бессмертна. Тритония она
называется от места или от озера, где она впервые появилась, каковым
считается Тритон в Африке. Итак, изложивши эти вымыслы,
следует перейти к истории и узнать, что Минерва была некая
девица, происхождение которой неизвестно. Обладая огромным
умом, она впервые появилась в царствование в Аргосе Форонея,
как говорит Евсевий, около озера или болота Тритона в Африке,
и никто не знал, из каких мест она пришла. Такое одновременное
приложение различных объяснений к одному мифу встречается
и еще несколько раз.
Толкования мифов, составляющие большую часть книги, более
всего занимают Боккаччо. Не довольствуясь
господствовавшими до него методами, он присоединяет к ним и такой, который
при более систематическом и последовательном приложении мог
дать научные выводы. «Следует знать, говорит он, что у древних
был обычай для возвышения знатности происхождения
причислять к богам известными нечестивыми церемониями и почитать
храмами и жертвами основателей их государств, а точно так же
и родителей государей и их самих за какое-нибудь их благодеяние,
чтобы выразить свою благодарность и желанием столь блестящей
славы воодушевить других к благодеяниям». Оставаясь
простым компилятором, когда дело идет о фабуле, Боккаччо при ее
474
M. С. КОРЕЛИН
толковании становится критиком и возражает своим источникам,
за которыми он так послушно следует в других случах. Но эти
критические экскурсии и вообще редкие проблески нового
научного духа не изменяют общего характера книги.
Позднейшие исследователи не одинаково относятся к главному
латинскому трактату Боккаччо. В XIV столетии «Генеалогия»
пользовалась большим успехом. Ф. Виллани своим отзывом
объясняет причину ее популярности. «Это сочинение, говорит он,
весьма приятное, полезное и чрезвычайно удобное для желающих
познать вымыслы поэтов (figmenta cognoscere); без него трудно
было бы и понять поэтов, и заниматься поэтическим искусством
(vacare poeticae disciplinae). Оно с удивительною остротою ума
выводило наружу и как бы в руки давало тайны (mysteria)
поэтов и аллегорический смысл, который скрывался или в
вымышленной истории или в баснословном изложении». Совершенно
в том же смысле говорит о «Генеалогии» К. Салютати*. Но эта
популярность не удержалась в следующем столетии, по крайней
мере, среди передовых гуманистов. Тесная связь книги с
средневековыми учеными и в особенности ее стиль подорвали ее цену,
и уже Кортезе и П. Джовио отрицают за ней всякое значение.
В XVIII столетии отношение к Генеалогии меняется. Манни
совершенно верно выставляет на вид ее важность для того
«несчастного» для науки времени**, а Бальделли впадает даже в
дифирамбический тон, восхваляя «удивительную ясность» книги,
и «тщательность и критику» ее автора. Г. Фогт вернулся к точке
зрения Кортезе и Джовио и осудил книгу, как бессвязный свод
разных заметок***. Этот приговор, несправедливый сам по себе,
произнесен, кроме того, без внимания ко времени появления
труда Боккаччо. Иначе отнесся к Генеалогии Ландау. Он высоко
* В неизданном сочинении De laborious Herculis он говорит: «legant admirable
opus divini illius viri et compatriotae mei Ioannis Boccatii De genealogia deorum,
qui omnium antiquorum super hac materia traditiones mirabiliter superavit»6.
Из приведенной там же выдержки из письма Салютати видно, что и он,
подобно Виллани, придавал главное значение истолкованию мифов. На
популярность сочинения указывают и многочисленные его рукописи, переда л ки
и издания.
** Приведя отзывы Джовио, Манни говорит: chiunque con sano giudicio
risguardandoli, si pone davanti la malagevolezza, ehe vi avea in quel tempo,
diro cosi, infelice, di apprendere le cognizioni vastissime della cronologia, della
geografia e sopra tutto della mitologia, darà sentenza diversamente7.
*** Ein wüstes und gedankenloses Notizenmagazin8.
<Научные произведения Боккаччо>
475
ставит «чудовищную начитанность» автора и удивительное для
того времени понимание древних авторов: «недостатки его
книги принадлежат его времени; достоинства — ему самому». Это
мнение разделяют Кертинг и Гейгер*.
К этим оговоркам можно прибавить еще специальную
трудность мифологических исследований и в особенности
истолкования мифов, так как эта область служит до настоящего времени
объектом для самых экстравагантных гипотез. Тем не менее
следует признать, что «Генеалогия богов» Боккаччо не имеет
самостоятельного значения. Прежде всего она не была
оригинальна по идее; Боккаччо имел несколько предшественников:
Франческино дельи Альбицци, Форезе деи Донати и Паоло-да-
Перуджиа. Хотя он цитирует только последнего автора, но оба
сочинения находятся в Zibaldone и их порядок изложения
сохранен у Боккаччо**. Вся его работа заключается в дополнениях
как фактического содержания, так в особенности толкований.
Но как исторический источник для эпохи и для биографии
автора мифологическое сочинение Боккаччо имеет значительную
цену. Прежде всего в нем отразились симпатии автора, который
по натуре беллетрист-рассказчик, хотя и старается показать
себя критиком. Кроме того, в нем чувствуется еще сильная связь
начального гуманизма с предшествующей эпохой. Боккаччо
не только цитирует средневековых писателей, но и относится
к ним с уважением. В особенности это заметно по отношению
к астрологии. Говоря о богах, давших название планетам,
Боккаччо подробно без малейших следов критики описывает их
физические и духовные свойства, ссылаясь на Альбумазара и своего
«достопочтенного (venerabilis) учителя», Андалона. Далее, манера
Боккаччо ссылаться на некоторых из своих современников и
называть в отдельных случаях источники дает обильный материал
для их характеристики. Так, в Генеалогии находится много
данных для биографии первых греков Ренессанса — Варлаама
и в особенности Леонтия Пилата. Наконец, в книге Боккаччо
встречается много автобиографического материала; особенно
* Man darf das Buch ein für die damalige Zeit hochbedeutendes nennen .
* Перуджино говорит quia dicturi sumus de geneologia tarn hominum quam deorum
et quia dii sunt digniores hominibus ergo opusculum a digniori parte summet
exordium. Et quia tarnen Demogorgon primus et summus omnium deorum f uerat
de eo primum est agendum10. У Альбицци и Донати сочинение начинается:
Demogorgon primus omnium deorum genuit Cloton etc.11
476
M. С. КОРЕЛИН
важны в этом отношении 14-я и 15-я книги Генеалогии, которые
по своему содержанию не имеют ничего общего с темой.
В 14-й книге «автор нападает на врагов поэзии (poëtici nominis),
отвечая на их обвинения». Боккаччо предвидит возражения
на свою книгу и на всю свою деятельность с разных сторон и
заранее отвечает на возможные нападки. С людьми
невежественными, которые с пренебрежением относятся ко всяким научным
занятиям, он не желает спорить и ограничивается презрительною
бранью. С таким же презрением относится он к тем, которые,
«не будучи мудрецами, желают ими казаться». Настоящая
полемика направлена против юристов и главным образом против
теологов и монахов, при чем Боккаччо держится такой системы,
что прежде сам нападает на врагов, а потом определяет поэзию
и выясняет ее цену. Он не отвергает важности юристов в
государстве и обществе. «Если они справедливо отправляют правосудие
(exerceantur jura), то они сдерживают дурные нравы людей,
возвышают невинность и каждому обращающемуся к ним дают то,
что ему следует. Ими не только поддерживается в своих силах
нерв государства, но увеличивается и улучшается вечная
справедливость». Сущность обвинений Боккаччо против юристов
заключается, во-первых, в том, что они слишком корыстолюбивы,
что «считают достойным похвалы только то, что блестит золотом»,
и вследствие этого злоупотребляют законом. Из этого же
личного недостатка вытекает их презрительное отношение к поэзии,
которая не приносит выгоды, и чрезмерное преклонение перед
юриспруденцией, потому что она доставляет богатства. Между
тем изучение законов не наука, потому что оно требует только
памяти, а не ума и таланта. Кроме того, юриспруденция ниже
поэзии и в других отношениях: поэзия вечна, а законы «стареют
и умирают»; поэзия трактует о возвышенных материях, а
юриспруденция трактует вопросы вроде того, «может ли пылкая
женщина быть разведена с холодным мужем» и т. п....
С такою же резкостью нападает Боккаччо на схоластиков
и монахов* и выставляет против них сделавшееся обычным
среди гуманистов обвинение в лицемерии «Exterminant faciès suae,
ut appareant vigilantes; они выступают с опущенными в землю
* Боккаччо озаглавил эту главу (V) так: qui sint et quam multa poctis quidam
apponant12; но его издатель сделал такое примечание к этому заглавию: In
monachos et magistros nostros, quos puto aperte inscribere propter aetatis suae
tyrannidem veritus est13.
<Научные произведения Боккаччо>
477
глазами, чтобы казаться всегда погруженными в размышления,
ходят медленным шагом, чтобы их считали подавленными под
излишней тяжестью возвышенных спекуляций. Они одеваются
в почетное платье не потому, что у них почтенный ум, но чтобы
обманывать других мнимою святостью» и т. д., словом, дает такое
их изображение, которое может служить введением к некоторым
новеллам Декамерона. Изложив далее обвинения, которые
возводятся на поэзию представителями старой науки и старого
благочестия, Боккаччо излагает свою точку зрения. Поэзия, по его
мнению, «знание», «наука», которая под покровом вымысла
поучает добродетели. Исходя из этого положения, Боккаччо
опровергает своих противников, иллюстрируя иногда примерами
из современности и их нападки, и благотворное действие поэзии.
Последняя книга Генеалогии представляет собою защиту
автором самого себя, которая распадается на две части. В первой
Боккаччо выясняет пользу и значение своей книги, оправдывает
распределение в ней материала, его обработку и пользование
источниками. Как особенную заслугу выставляет он тот факт, что
«все фабулы или истории заимствованы исключительно из
комментарий древних» и что если он пользуется новыми авторами,
то лишь весьма немногими, которые выдаются своей ученостью.
Во второй части Боккаччо оправдывает свой выбор темы. В
замечательной по автобиографическим данным десятой главе он
доказывает, что необходимо выбирать такие занятия, к которым
чувствуешь склонность. Не отрицая значения других наук и даже
ремесел, Боккаччо рассказывает свою автобиографию в
доказательство того, что он родился поэтом. Затем он оправдывается
с религиозной точки зрения. В двух главах доказывает он, что
христианин может заниматься языческой поэзией и мифологией
и формулирует свой строго-католический символ веры. Наконец,
он считает даже необходимым оправдаться от наивного
обвинения, что не следует обнаруживать недостатки древних и вообще
умерших.
Как исторический источник, 14-я и 15-я книги Генеалогии
богов имеют весьма важное значение. Независимо от
фактических данных для биографии Боккаччо и современной ему эпохи,
в этих книгах мы находим отражение почти всего миросозерцания
одного из первых гуманистов: его взгляд на поэзию и
религиозные воззрения, отношение к разным наукам и их средневековым
представителям, его понимание человеческой природы и
моральных вопросов. Аттилио Гортис в своем образцовом исследовании
478 M. С. КОР ЕЛ И H
о латинских сочинениях Боккаччо идет еще далее и склонен
приписать этим книгам всемирно-историческое значение. Без труда
доказавши, что обвинения против поэзии, о которых говорится
в них, вполне реальны, а не придуманы автором, Гортис
доказывает, что идеи, которыми Боккаччо защищает поэзию, вполне
оригинальны и что он первый «провозгласил свободу искусства
и поэзии»*. Но ни одно из этих положений не оправдывается
фактами. Гортис признает, что «по понятию Боккаччо, поэзия
не что иное, как союзница морали, и союзница второстепенного
значения (di minor levatura)», но что это «только щит против ее
порицателей». «Боккаччо, — говорит он, доказывая, что поэт
служит богословию и морали, хотя и другими путями, чем
теологи и моралисты, — полагает первое основание освобождению
поэта от тех и от других. В Декамероне он на факте
эмансипировал искусство; в двух последних книгах Генеалогии богов он
приготовился провозгласить новый статут, статут умеренный
по форме, но радикальный по существу». Вместо доказательства,
Гортис сравнивает Боккаччо с Абеляром15, который при всем
своем свободомыслии отрицал языческих поэтов, и с Иоанном
Салисбёрийским16, который, допуская античную науку, видел
в поэзии разврат, и делает следующий вывод: «Боккаччо,
который хотел, чтобы поэзия служила морали, не дошел до
провозглашения свободного слова: искусство для искусства, и, пустив
в ход этот принцип на деле, он предоставил заботу провозгласить
его потомкам, детям более свободного времени. Но пока в теории
он сделал огромный шаг к свободе, осмелившись утверждать
против порицателей поэтов, которых оскорбительно называли
"обезьянами философов", что поэзия есть наука, независимая
от философии»**. Прежде всего, этот вывод не совпадает с по-
* Qui incomincia la originalité del Boccaccio; egli primo proclama la liberté dell'arte
e délia poema, avvicioandosi all'idee degli antichi14.
'* Впрочем Боккаччо говорит не о независимости поэтов от философов,
а об их родстве при несущественных различиях. Si satis intelligerent
(detractores) poetarum carmina, adverterent omnes non simias, sed ex ipso
philosophorum numéro computandos, cum ab eis nil praeter philosophiae
consonum juxta veterum opiniones fabuloso tegatur velamine... Nam
esto a philosophicis non devient conclusionibus, non tarnen in eas eodem
tramite tendunt: philosophus, ut satis patet, syllogizzando, reprobat,
quod minus verum existimat et eodem modo apropobat quod intendit et hoc
apertissime prout potest poëta, quod meditando concepit sub velamento
fictionis, syllogismis omnino amotis, quanto artificiosius potest, abscondit.
Philosophus stilo prosaico, ut saepius et ejus fere parvipendens ornatum
<Научные произведения Боккаччо>
479
ложением, что Боккаччо первый провозгласил свободу поэзии.
Кроме того, теория, которую он развивает в своей книге, если
и представляет шаг вперед, то только потому, что с церковной
точки зрения оправдывает raison d'être поэзии и несколько
расширяет ее объект, выводя ее за тесные пределы церковной
легенды и религиозного гимна. Но по самому своему
содержанию она совершенно не выдерживает никакой критики:
Боккаччо в романах и Петрарка в Rime стоят в непримиримом с нею
противоречии, в которое неизбежно станет и всякое истинно
поэтическое произведение. Эта теория явилась только, как жалкий
результат неудачной попытки примирить новые потребности
с средневековым аскетизмом. Наконец, неверно утверждение,
будто Боккаччо «оригинален» в своей защите поэзии. Его
теория целиком заимствована у Петрарки, которого он не только
цитирует, но иногда прямо пересказывает.
Из двух исторических сочинений Боккаччо более раннее
посвящено женщине. Это пестрое собрание анекдотических заметок
о женщинах, мифических и реальных, всех времен и народов,
начиная с праматери Евы и кончая королевой Иоанной
Неаполитанской. Боккаччо посвятил книгу сестре Н. Аччайуоли, Андреине,
графине Альтавилла, и в адресованном к ней письме излагает
цель своего сочинения — похвалить женский пол и доставить
удовольствие друзьям. Этою целью обусловливается отчасти и
содержание книги: Боккаччо исключает из нее библейских и
христианских знаменитостей, потому что их подвиги облегчались
божественной помощью и их жизнь обстоятельно описана. Кроме
Евы, которая, согласно с средневековыми привычками начинает
книгу, большинство знаменитых женщин заимствовано из
древнего мира, причем наряду со смертными фигурируют почти все
богини и такие легендарные существа, как Медея, Иокаста, Ни-
оба и проч. Обилие таких биографий не препятствует Боккаччо
считать свою книгу сочинением историческим, потому что он
нимало не сомневается в реальном существовании поэтических
образов, как Пенелопа, Кассандра, амазонки и т. п. При
толковании мифов Боккаччо более последовательно, чем в Генеалогии,
держится эвгемеризма, вследствие чего богини представляются
scribere consuevit; pocta-metrice, summa cum cura, exquisito décore
conspicuo. Philosophorum insuper est in gymnastis disputare, poctarum in
solitudinibus canere17.
480
M. С. КОР ЕЛ И H
ему просто знаменитыми женщинами*. Биографические сведения
об исторических женщинах древнего мира не представлют
никакого интереса ни по содержанию, ни по его обработке: Боккаччо
переписывает из древних писателей то, что имеет анекдотический
интерес. Историческая критика почти совершенно отсутствует:
автор даже плохо разбирает свои источники, смешивает, напр.,
Веронику с Лаодикой. Средневековые женщины занимают весьма
скромное место в книге Боккаччо: из 105 биографий им отведено
только 7, притом биографии Брунегильды и византийской
императрицы Ирины не имеют значения, рассказы о Энгельтруде
из Флоренции и Камиоле из Сьены представляют собою
нехарактерные анекдоты; некоторый интерес имеют только
жизнеописания Констанции, матери Фридриха II, папессы Иоанны и ее
тезки неаполитанской королевы.
Биография Констанции может служить образцом
несовершенства исторических приемов Боккаччо: в ней обнаруживается
и его невнимательность к фактической точности, и непонимание
общего положения тогдашних дел, и излишнее стремление к
занимательности в ущерб исторической достоверности, и
пристрастная окраска лиц и событий. В его рассказе Констанция — дочь
Вильгельма И, о браке которой с Генрихом VI заботится папа.
В основу биографии положено пророчество одного аббата, что
Констанция будет причиною бедствий для Сицилии, вследствие
чего отец заключил ее в монастырь, где она оставалась до старости.
Вышедши замуж с нарушением иноческого обета, она на 55
году родила Фридриха II, который «потом сделался чудовищным
человеком, чумою не только для Сицилии, но и всей Италии».
Биография папессы Иоанны представляет интерес как
исторический источник, потому что Боккаччо в своем рассказе следует
не интерполированному Мартину из Польши, а непосредственным
народным преданиям, и его изложение составляет новый вариант
Для характеристики приемов Боккаччо достаточно привести его рассуждения
о Венере. Hanc esse duobus nupsisse viris creditum est. Primo nupserit non satis
certum, nupsit ergo (ut placet aliquibus) ante Vulcanum Lemnorum régi et Ιο vis
Creteneis filio; quo sublato, nupsit Adoni, filio Cynyrae atque Myrrhae regis
Cypriorum, quod verisimilius mihi videtur, quam si primum virum Adonem
dixerimus, eo quod seu complexionis suae vitio, seu regionis inflectione in qua
plurimam videtur posse lascivia, seu mentis corruptae malicia factum sit, Adone
jam mortuo, hi tarn grandem luxuriae pruritum lapsa est, ut omnem decoris sui
claritatem crebris fornicationibus maculasse videretur, cum jam adjaecentibus
regionibus notum foret etc18.
<Научные произведения Боккаччо>
481
этой легенды. Наконец, отношение к королеве Иоанне имеет
биографический интерес для самого автора. Боккаччо,
бичевавший в эклогах знаменитую преступницу, осыпает ее похвалами
в посвящении и заканчивает книгу напыщенным панегириком.
Новейшие исследователи резко расходятся в оценке книге
«О знаменитых женщинах» с современниками ее автора и
ближайшим к нему потомством: Фогт называет книгу «деревянной»,
Кёртинг — совершенно незначительной. Ландау отрицает в ней
всякую этическую и историческую цену, тогда как Ф. Виллани
предпочитал ее древним авторам*, а монах Филиппо да Бергамо
в XV веке совершил литературную кражу, включив целиком
книгу Боккаччо в свое сочинение «О знаменитых и избранных
женщинах». Не подлежит сомнению, что по фактическому
содержанию книга Боккаччо не имеет теперь почти никакой цены,
но по настроению и взглядам автора она принадлежит к числу
наиболее интересных памятников гуманистической
литературы. Прежде всего весьма характерен самый факт ее появления.
Боккаччо, первый историк женщины, любил предмет своего
исследования со всеми ее слабостями и был большим знатоком
ее красоты, как это видно из его романов и преимущественно
из Декамерона. Правда, Ландау утверждает, что между этой
книгой и Декамероном нет ничего общего. «Какой-нибудь
благочестивый монах, никогда не покидавший своей кельи, мог бы
написать эту книгу так же хорошо, или вернее, так же плохо,
как и Боккаччо». De claris mulieribus, по его мнению, —
результат раскаяния автора веселых новелл. «Боккаччо слишком
восхвалял в Декамероне прекрасные, а иногда и гнусные слабости
женского характера, а здесь, как бы желая наказать себя за это,
впал в противоположную крайность». С этими положениями
никоим образом нельзя согласиться. Прежде всего, книга
Боккаччо не только чужда монашеского духа, но и проникнута ан-
ти-аскетическим настроением. Допуская, что женщина слабее
мужчины и духом, и телом, автор тем не менее написал свою
книгу «в особенную похвалу женского пола», заслуги которого тем
выше, что ему приходится преодолевать свои слабости. Это
прославление женщины вытекает таким образом из общего взгляда
на благородство и могущество человеческой природы, который
с особенной ясностью обнаруживается в объяснении Боккаччо,
* По словам Вилани, в книге Боккаччо tanta facundia et gravitate, ut priscorum
altissima ingénia ea in re dicatur merito superasse19.
482
M. С. КОРЕЛИН
почему он исключил из своей книги святых и ограничился одними
язычницами. «Первые, — говорит он, ради вечной и истинной
славы, весьма часто принуждали себя к терпению, почти
противному человеческой природе (sese fere in adversam persaepe
humanitatis tolerantiam coegere), подражая святым
предписаниям и примерам наставников, тогда как последние под влиянием
(percitae) или некоего дара природы, или инстинкта, или чаще
страсти к здешнему мимолетному блеску, однако не без могучей
силы ума достигали славы или переносили весьма часто самые
тяжелые удары гнетущей судьбы». Совсем не по-монашески
относится Боккаччо и к славе. Он решительно заявляет в
предисловии, что не думает отождествлять славу с добродетелью, и вносит
в свою книгу, написанную в «похвалу женского пола» всех его
представительниц, которые чем бы то ни было достигли
известности. Вследствие этого между знаменитыми женщинами наряду
с Лукрецией и Корнелией фигурируют Венера и папесса Иоанна.
Едва ли можно отрицать, что такая точка зрения не далеко ушла
от Декамерона. Преклонный возраст Боккаччо обнаруживается
главным образом в том, что убеждение в несовершенстве
женской природы сравнительно с мужской красной нитью проходит
чрез все сочинение и что вообще взгляд его на семью и семейную
нравственность сделался несколько строже. В конце биографии
Камиллы, царицы вольсков, он развивает теорию воспитания
девушек, в которой требует усмирять трудом дурные желания,
избегать всяческих удовольствий, которые могут повести к
соблазну, и более всего заботиться о сохранении целомудрия. В другой
биографии он дает такое определение этой добродетели, под
которым может подписаться самый строгий моралист; и подобные
нравственные назидания так часто перерывают изложение, что
придают всей книге дидактический характер. Но, превратившись
в проповедника женской добродетели, Боккаччо тем не менее
весьма далек от монашеских идеалов. Так, о законной любви он
говорит с большим сочувствием. «Воспламененная огнем разума,
она не жжет до безумия, но согревает симпатию (in complacentiam
calef acit) и соединяет сердца такою приязнью (charitate), что у них
всегда одинаковые желания; привыкши к мирному единению,
она ничего не упускает, с жаром и усердием делает все для
своего продолжения. Если судьба неблагоприятна, она добровольно
берет на себя труды и опасности, в высшей степени заботливо
измышляет планы и находит средства для спасения, измышляет
даже обман, если этого требует необходимость».
<Научные произведения Боккаччо>
483
Тесная связь сочинения «О знаменитых женщинах» с
итальянской прозой Боккаччо обнаруживается не только в основном
сходстве настроения, но и в форме изложения, и даже в фактическом
содержании. Желая быть ученым, Боккаччо тем не менее остается
рассказчиком и в этой книге более, чем где-нибудь. На первом
плане у него всегда занимательная фабула, анекдот, который
по содержанию своему иногда совершенно совпадает с новеллой.
Таков рассказ о римлянке Паулине, почти тождественный с 2-й
новеллой 4-го дня, только монах Декамерона заменен здесь
юношей Мундусом, а архангел Гавриил — богом Анубисом.
Наконец, книга Боккаччо представляет большой интерес для
характеристики отношения автора к классическим писателям
и к Петрарке. Боккаччо далек от рабского преклонения перед
своими образцами: он не желает исключать из своей книги
средневековых знаменитостей; отсутствие подобного сочинения
в известной ему древней литературе и у Петрарки не только не
отнимает у него желания написать историю женщин, а наоборот,
только возбуждает охоту пополнить этот пробел. Он действует
самостоятельно, критически относится к предшественникам,
удивляется их непоследовательности, потому что они не
желают похвалить женщин за то, за что хвалят мужчин. Причина
молчания о женщинах такого их ненавистника, каким является
Петрарка в своих латинских сочинениях, вероятно, «хорошо
была известна Боккаччо, но это не помешало ему похвалить то,
что с таким жаром порицал его учитель: в своей литературной
деятельности он следовал личному настроению, которое в данном
случае более решительно примыкало к Ренессансу, чем вечное
самопротиворечие певца Лауры.
Второе сочинение исторического содержания — «О
несчастиях знаменитых людей», точно так же насквозь пропитано
дидактизмом. В предисловии к книге Боккаччо так формулирует
свою главную задачу: «что может быть лучше, как напрячь все
силы, чтобы вернуть заблуждающихся к лучшей честной жизни
(ad frugem melioris vitae), стряхнуть пагубный сон с нерадивых
и сонливых, чтобы подавить пороки и возвысить добродетели».
Биографии служат таким образом только фактической
иллюстрацией к проповеди, причем автор берет примеры из жизни
знаменитых людей и главным образом правителей для того, чтобы
подействовать преимущественно на исправление этих последних
и чрез это принести пользу государству. Дидактическая цель
Боккаччо сказалась не только на выборе материала, но и на его
484
M. С. КОРЕЛИН
расположении и обработке. Обыкновенно за каждой биографией
следует нравоучение в форме проповеди против того порока,
который обнаружился в только что рассказанном факте. Так, глава
1-я первой книги трактует «об Адаме и Еве, наших прародителях»,
а вторая озаглавлена: «Против неповиновения»; после биографии
Немврода, глава «Против гордых»; после Тезея — «Против
излишнего и неосмотрительного легковерия» и т. д. Для большей
убедительности за главным примером после нравоучения следуют
часто еще несколько фактов под общим заглавием: «Собрание
плачущих», «Жалобы некоторых» и т. п. С этой же целью, вероятно,
исторические факты изложены иногда в форме видения автора,
который ведет разговор с некоторыми несчастными
знаменитостями. Самые примеры Боккаччо заимствует главным образом
из истории древнего востока и античного мира; только в двух
последних книгах появляются тени средневековых несчастливцев
и некоторых современников, которые играют ту же самую роль,
как и древние знаменитости.
«Несчастия знаменитых людей» пользовались огромной
популярностью в XV и XVI столетиях; на одних действовали самые
рассказы, на других — моральный вывод, третьим была симпатична
политическая тенденция. Циглер, аугсбургский издатель этой книги
в XVI столетии, божится, что ни одно сочинение не доставляло ему
такого удовольствия, как это собрание разнообразных «историй»
различных авторов. Джиованни Понтано вполне удовлетворен
назидательным моральным выводом, который научает человека
довольствоваться своим положением. Нравственная польза книги Боккаччо
побудила некоего Monradus Moltherus Augustanus написать к ней
обширные глоссы и исправить некоторые фактические ошибки.
Доминиканец Жан Пети (Ioannes Parvus) ссылается на «знаменитого
морального философа Иоанна Боккаччо» и черпает из его книги
многочисленные аргументы для своего сочинения «Оправдание
герцога Бургундского за убийство герцога Орлеанского», которую
он написал для Констанцского собора. Даже в начале нынешнего
столетия Бальделли находил эту книгу «более поучительной, чем
курс этической философии». Совершенно иначе относятся к этому
сочинению Боккаччо современные исследователи: Фогт посвящает
несколько строк книге, которая представляется ему подражанием
Петрарке, Ландау вынес из нее только тяжелое впечатление*.
* Landau находит, dass man mit einem freudigen Gefühle der Erlösung das Buch
aus der Hand legt, um es nicht wieder aufzuschlagen20.
<Научные произведения Боккаччо>
485
Несколько снисходительнее Гортис, который находит в книге
драматический интерес и признает за ее автором уменье верно
воспроизводить характеры действующих лиц*. Но и Гортис весьма низко
ставит Боккаччо, как историка; по его мнению, дидактическая цель
автора лишила исторической цены его книгу. Действительно,
большинство биографий с исторической точки зрения не имеют никакого
значения; даже те из них, для которых Боккаччо мог пользоваться
непосредственными источниками, как в рассказе о судьбе Молэ
и герцога Афинского, не дают почти ничего нового. Только казнь
Филиппы Катанской описана с живостью очевидца, и в этой главе
есть несколько подробностей, не лишенных исторической и
автобиографической цены. Тем не менее книга Боккаччо занимает видное
место в гуманистической литературе и представляет собою
исторический источник, весьма интересный во многих отношениях. Прежде
всего в сочинении встречаются автобиографические сведения. Так,
Боккаччо сообщает, что его отец присутствовал при казни Молэ, что
сам он вращался при дворе Роберта Неаполитанского, мимоходом
изображает свои отношения к Андалоне и весьма обстоятельно
влияние на свои занятия Петрарки; много говорит о своем
поэтическом призвании и практических стремлениях — к уединению
и обеспеченному досугу. Философское миросозерцание Боккаччо,
о котором мы имеем сравнительно скудные сведения, всего
нагляднее обнаруживается в этом сочинении. Самая его тема требовала
решения основного вопроса, к чему должен стремиться человек,
и откуда происходят его бедствия. С этой точки зрения лирические
отступления и дидактические комментарии имеют гораздо более
значения, чем исторические примеры. Боккаччо без малейшего
колебания заявляет, что цель всех человеческих стремлений счастье
и что людские несчастья происходят по большей части от
непонимания людьми своей пользы и от их неуменья пользоваться своим
положением. Исходя из этого положения, он далек от ученой и
литературной исключительности и признает и одобряет всякое занятие,
если только оно ведет к цели, т. е. к счастью. Если он восстает против
юристов, то имеет в виду не самое занятие правом и не практическую
их деятельность, а только их личные недостатки. Древние юристы
заслуживают полного уважения, а современные невежественны,
презирают философию и крайне порочны. Если Боккаччо
выдвигает красноречие, то исключительно потому, что на него нападают
Leggendo il libro del Boccaccio ti sembra talvolta essere spettatore di una dramma;
e a più di un atto vorresti applaudire per la verità nella pittura de' caratteri21.
486
M. С. КОР ЕЛ И H
представители средневекового знания, и эта защита представляет
собою восторженный, чисто гуманистический гимн человеческой
природе и главным образом могуществу человеческого слова.
Посвященная этому вопросу глава имеет вследствие этого особенный
интерес, как наиболее характерное проявление гуманистического
элемента в сочинениях Боккаччо. Признавая божественное
происхождение человека и благородство его природы, Боккаччо
свободен от слепого преклонения перед древностью. Как и в других
сочинениях, он черпает материал из средневековых источников
и среди античных биографий вставляет с большим сочувствием
рассказ своего учителя-схоластика. Более того, сравнивая
поведение последних храмовников с подвигами древних, он решительно
отдает предпочтение современникам. Признавая возвышенность
стремлений, присущую человеческой природе, Боккаччо страстно
вооружается против соблазнов, которые совращают человека с
истинного пути и приводят его к гибели, против тирании, женщин
и богатства. Но в красноречивом панегирике бедности он далек
от монашеского к ней отношения и прославляет ее только как
школу для человека, устраняющую соблазны, дающую счастье в этом
мире и развивающую самодеятельность. Не менее страстно нападает
Боккаччо и на женщин. Автор сочинения, написанного «в похвалу
женского пола», и ранее чувствовал к нему симпатию вопреки своим
теоретическим воззрениям. Теперь в старости и после неудачной
попытки жениться отрицательное отношение обострилось, и
Боккаччо советует «довольствоваться холостою жизнью и презирать
всех женщин», потому что «женский пол надменен, неверен,
непостоянен, лжив и всегда распален ненасытимою страстью». В главе,
специально написанной против женщин, он выражается еще резче,
называет женщину «гибельным злом» не только для отдельного
человека, но и для общества, и готов осудить ее на изгнание,
причем в целых 2 главах приводит многочисленные примеры ее
губительного влияния на правителей и государственные дела, хотя
и продолжает признавать за ней способность к добродетели в виде
крайне редкого исключения. Обожатель Фиамметты под старость
пришел к тому же самому отношению к женщине, как и певец
Лауры, и написал отдельную главу против красоты и любви, которым
служил в молодости.
Но самый главный интерес книги «О несчастиях знаменитых
людей» заключается в том, что она является важнейшим
источником для политических воззрений Боккаччо и для его отношения
к современным ему политическим силам. Уже в эпистолярном
<Научные произведения Боккаччо>
487
посвящении книги Майнардо деи Кавальканти он формулирует
отчасти свою точку зрения на современных пап, императоров
и государей, которых он не находит достойными того, чтобы им
посвятить свою книгу. Современных пап он порицает за их
стремление к светской власти и чисто светский образ жизни; но он
не противник папства, и в единственной биографии,
посвященной римским епископам, он излагает теорию его происхождения
от Христа чрез апостола Петра и только порицает крайнее
властолюбие, которое создал, по его мнению; «яд» Константинова
дара. Менее определенно, хотя несомненно враждебно,
относится Боккаччо к императорам. Карла IV он упрекает за пьянство
и в самых резких выражениях порицает Гогенштауфенов,
начиная с Фридриха I, так что его гвельфские симпатии не
подлежат никакому сомнению. Еще с большею резкостью относится
Боккаччо к третьей политической силе, к современным ему
монархам. Он не теоретический противник монархии, но таких
государей, которые сколько-нибудь приближаются к идеалу
монарха, в современном ему обществе нет; современные правители
«разукрашенные ослы» и тираны. В этом же сочинении развил
Боккаччо свою знаменитую теорию о законности и даже святости
убийства тирана.
Но относясь с величайшим недоверием к монархической
власти, Боккаччо далеко не безусловный поклонник
народовластия. Современных граждан он рисует в самых мрачных красках
сравнительно с древними героями гражданской доблести. Не
находят пощады у Боккаччо и отдельные слои современного ему
гражданства: к черни он относится не мягче, чем Петрарка; новая
аристократия из разбогатевших купцов возбуждает в нем
насмешки и презрение; за старым дворянством, наконец, он не признает
никаких привилегий, потому что истинное благородство
заключается в личных свойствах и главным образом в добродетели.
Боккаччо — демократ в том же смысле как и Петрарка. Марий
для него «образец истинной знатности» и кормилица Филиппа
Катанская фигурирует в его книге наряду с царственными
несчастливцами. Что касается до широких политических мечтаний,
к которым так склонен был Петрарка, то в книге «О несчастиях
знаменитостей» не замечается никаких их следов. Боккаччо
не чужд национального патриотизма, когда говорит о других
народах, но совершенно молчит о желательности объединения
Италии; он описывает печальное положение современного Рима
и припоминает о его прежнем величии, но не только не указывает
488
M. С. КОРЕЛИН
средств для восстановления его прежнего блеска, а даже не
выражает такого желания. И в этой книге, как в других сочинениях,
Боккаччо остается флорентийским гвельфом, совершенно чуждым
более широких политических идеалов.
Сочинение Боккаччо «О горах, лесах, источниках, озерах,
реках, болотах и названиях моря» — представляет собою
географический словарь, разделенный на семь частей соответственно
заглавию и в каждой рубрике расположенный в алфавитном
порядке. Боккаччо смотрел на эту работу только как на отдых
от другого более важного труда и предназначал его для людей мало
образованных, вследствие чего он не делал особенно тщательных
изысканий. Распределение материала в книге Боккаччо поставил
в зависимость от взаимного отношения описываемых им
предметов в природе. «На горах, говорит он, растут леса, оттуда вытекают
источники и реки, которые образуют озера и болота; поэтому мне
казалось разумным начать с гор». В основу своей книги Боккаччо
положил аналогическое сочинение некоего Вабиуса Секвестера,
которое он дополнил сведениями, заимствованными из других,
главным образом древних, писателей. Его метод весьма не сложен.
Встречая несколько мнений по поводу одного и того же предмета,
он обыкновенно сообщает их все без указания авторов. (Вообще
Боккаччо в этом сочинении не указывает своих источников, как
в «Генеалогии богов».) Если же он встречает противоречие между
Секвестером или другим позднейшим писателем и древними, то он
отдает преимущество последним, авторитету которых, по его
собственному выражению, он «верит более, чем своим глазам». Тем
не менее, когда известия древних сталкиваются с показаниями
очевидцев, Боккаччо не решается высказаться в пользу первых
и предоставляет окончательный вывод другим исследователям.
Географическое сочинение Боккаччо резко осуждалось
позднейшими исследователями. Сначала его обвиняли в плагиате, так
как он переписал всю книгу Секвестера, кроме ее
этнографической части. Это обвинение произошло вследствие незнакомства
с тогдашними литературными обычаями, которые
продолжались даже в XVIII веке. Боккаччо так дополнил и исправил
своего предшественника, что его так же мало можно упрекнуть
в плагиате, как, напр., Апостоло Дзено, комментировавшего
Фоссиуса. Если он не назвал Секвестера, то только потому, что
обычай цитировать источники только что входил в употребление
и к нему относились еще подозрительно. Вследствие этого
обвинение в плагиате было опровергнуто еще Ландау, и его аргументы
<Научные произведения Боккаччо>
489
с большею обстоятельностью были повторены Гортисом. Но сам
Ландау относится к книге довольно поверхностно и односторонне.
По его мнению, «она негодна уже более 300 лет, хотя в свое время
и еще два столетия позже ею много пользовались и она лучше,
чем можно было ожидать при скудных сведениях в географии,
какими обладало XIV столетие». Еще резче относится к ней
новейший биограф Боккаччо Кёртинг. Он отрицает в ней всякое
научное значение и видит только «дилетантскую, чуждую
всякой критики компиляцию». Приведя цитированные нами слова
Боккаччо по поводу известий о Каспийском море, он замечает:
«видно из этого, к какой бессмыслице (Widersinne) должны были
приводить гуманистическая односторонность и некритичность».
В противоречие с этим Кёртинг признает эту книгу «весьма
почтенной (versdienstliche) для своего времени работой, годным
и полезным пособием для молодой гуманистической науки».
Не подлежит, конечно, сомнению, что научная цена
географического сочинения XIV века не может быть высокой после массы
открытий нового времени; но Ландау и Кёртинг игнорируют его
историческое значение, выяснение которого составляет важную
заслугу Аттилио Гортиса. Гортис посвятил отдельное сочинение
естественно-историческим сведениям Боккаччо и в своих
«Этюдах» подробно и обстоятельно рассматривает его
космографические и географические воззрения, поскольку они выразились в его
географическом словаре, который и помимо того имеет важное
значение, как исторический источник для эпохи Ренессанса.
Самое появление словаря и методологические приемы автора служат
проявлением двух характерных сторон эпохи — страсти к
путешествиям и любви к древним. Кроме показаний древних, Боккаччо
руководствуется и многочисленными собственными
наблюдениями, которые составляют для него весьма важный источник.
В связи с этим он сообщает и автобиографические подробности:
маленькая Эльза, на которой стоит родной автору Чертальдо,
вошла в словарь, и Боккаччо, как истый представитель раннего,
наивного индивидуализма, сообщает при этом совсем некстати
некоторые сведения и о своих родителях. Точно так же относится
он к тем местам, с которыми связано имя Петрарки. Так, ручеек
Соргу, орошавший Воклюз, он не только вносит в свое описание,
но и перечисляет все сочинения, которые написал на его берегах
первый гуманист. Кроме того, Боккаччо в конце книги сообщает
интересное сведение, неизвестное из других источников, что
Петрарка так же писал географическое сочинение, и изображает свое
490
M. С. КОР ЕЛ И H
отношение к своему другу и руководителю. Что касается до
отношения к древности, то Боккаччо, по-видимому, более преклонялся
перед ее авторитетом, чем Петрарка. Упреки в некритичности
со стороны новых исследователей вызваны главным образом тем,
что он повторяет разные басни древних, авторитету которых,
по его собственным словам, он доверял более, чем своим глазам.
Но, несмотря на несомненную искренность этого заявления,
новая критика пробивается сквозь старую привычку к авторитету
и ставит Боккаччо в противоречие с его собственными словами.
Мы видели, что он воздерживается от вывода там, где показания
древних сталкиваются с свидетельством очевидцев, а кроме того,
он весьма часто сопровождает их замечаниями вроде следующих:
«я этому не верю», «я считаю это невозможным», «это, по моему,
басня», «я нахожу это смешным» и т. п. Точно так же преклонение
перед древностью не убило в Боккаччо интереса к средневековой
истории и к современной жизни. Описывая гору, реку и т. п., он
имеет обыкновение сообщать связанные с ними исторические
воспоминания, причем наряду с событиями из древнего мира
упоминает об Альбоине, о борьбе Гогенштауфенов с Анжуйским
домом, указывает святыни средневековой церкви и сообщает
иногда связанные с ними легенды. Так же мало вяжется с
исключительным и слепым почитанием античного мира живой
интерес к современной действительности, столь характерный
для начинающейся новой эпохи. Наряду с древними
названиями Боккаччо приводит и современные, извиняясь, что не может
сделать этого всякий раз. Кроме того, он с особенным
вниманием останавливается на современном состоянии описываемых
им предметов и сравнивает его с тем, в котором они находились
в древнее время, причем совершенно неожиданно в
географическом сочинении Боккаччо сообщает читателям свои
политические симпатии. Гражданин могущественной континентальной
республики не любит владычицы морей Венеции и упрекает ее
жителей в хитрости и надменности.
Оправдываясь в конце книги перед читателем в возможных
пропусках и ошибках, Боккаччо подробно описывает
тогдашнее состояние рукописей, для исправления которых нужны
«божественные» способности. Тон этого описания дает ясное
представление о том, почему так высоко ценились заслуги лиц,
посвящавших себя исправлению текста, и почему именно с этого
начали флорентийские последователи первых гуманистов.
<Научные произведения Боккаччо>
491
Научные работы Боккаччо подверглись в новое время более
тщательному изучению, чем то, какое выпало на долю
аналогичным произведениям Петрарки. Еще в 1874 году Шюк в
цитированной выше статье определил некоторые источники Боккаччо
в его исторических сочинениях. Затем последовали детальные
работы Гортиса, которые он объединил в огромной книге о всех
латинских произведениях автора Декамерона. Кроме
обстоятельного разбора отдельных сочинений, Гортис дал здесь большую
главу об источниках Боккаччо и библиографический указатель
его изданий и переводов. Со стороны обстоятельности книга
не оставляет желать ничего лучшего, но ей недостает
систематических выводов, которые вполне формулировали бы историческое
значение Боккаччо.
^Э-
€^^
Α. Φ. ЛОСЕВ
Боккаччо о Прометее
Накануне Нового времени мы встречаемся с латинским трактатом
знаменитого Боккаччо «Генеалогия богов» (1373). Боккаччо
излагает античную мифологию с разными вымыслами и домыслами,
которые ни в коей мере не характерны для античной мифологии.
Но для истории Прометея как символа этот труд Боккаччо имеет
значение, поскольку в нем не только излагаются все основные
мотивы мифа о Прометее, но и довольно ясно проводится то понимание
этого символа, которое характерно именно для Нового времени.
Сначала просмотрим подробно то, что Боккаччо говорит о
Прометее, а потом дадим оценку этого Прометея Боккаччо с точки зрения
истории символики Прометея.
Боккаччо излагает известные ему источники по греческой и
римской мифологии.
Прометей, сын Япета и Азии, отличался острым умом и был
первым, кто изготовил статую глиняного человека, которого Юпитер
превратил, однако, в обезьяну. Прометея Овидий также называет
первым вылепившим человека из глины1. Сервий и Фульгенций
добавляют, что этот вылепленный из глины человек был лишен
дыхания2 и Прометей одухотворил его, похитив при помощи Минервы
с колесницы Феба небесный огонь. Прометей был за это прикован
к скале на Кавказе, а на людей, как говорят Сапфо и Гесиод, боги
послали беды: болезни, печали и женщину3, а по словам Горация —
только бледность и лихорадку4.
Боккаччо считает необходимым истолковать эту совокупность
мифов, однако находит задачу чрезвычайно трудной. Прометей,
по его мнению, двойствен, как двойствен и сам человек: это —
всемогущий Бог, произведший человека из земли; с другой стороны — это
Боккаччо о Прометее
493
человек Прометей, о котором Теодонций якобы читал где-то, что этот
Прометей в молодости, будучи увлечен жаждой ученых занятий,
оставил на своего брата Эпиметея жену и дочерей, уехал учиться
мудрости в Ассирию, а после удалился на вершину горы Кавказ,
где усовершенствовался в созерцании и астрономии. Вернувшись
затем к людям, он научил их астрологии и нравам и таким образом
как бы сотворил их заново. Точно так же двойствен и сам человек:
в своем природном состоянии он груб и невежествен и нуждается
в воспитании со стороны ученого, который, дивясь такому созданию
природы, как человек, и видя его несовершенство, как бы с небес
наделяет его мудростью. Одиночество Прометея на Кавказе
означает, по Боккаччо, необходимость уединения для приобретения
мудрости. Солнце, от которого Прометей берет огонь, означает
единого истинного Бога, просвещающего всякого человека,
грядущего в мир. Наконец, пламя, одухотворяющее человека, — это
свет учения в груди глиняного человека. Ту часть мифа, где
Прометея насильно отводят на Кавказ и приковывают там, Боккаччо
считает неистинной ввиду чисто человеческого заблуждения, будто
боги могут сердиться на кого бы то ни было из людей. Прометей
отправился на Кавказ по своей воле, ведомый мудрым посланцем
богов Гермесом. Орел соответствует высоким помыслам Прометея,
тревожащим его, а восстановление его тела после укусов орла —
внутреннему удовлетворению мудреца по нахождении истины.
Итак, Прометей во втором смысле был человек, учитель мудрости.
Если давать общую оценку толкованию мифа о Прометее у
Боккаччо, то мы прежде всего убедимся в том, что Боккаччо избегает
слишком суровых и слишком жестоких моментов этого мотива.
А в связи с этим получает особое знание и сама личность
Прометея. В то время как у Эсхила Прометей является по крайней мере
двоюродным братом Зевса, если не прямо его дядей5, то у Боккаччо
Прометей вовсе не бог, а самый обыкновенный человек. Во всяком
случае божественного в нем нисколько не больше, чем
обыкновенного человеческого. Но человек этот — мудрый, ученый, много
знающий. Он хочет научить этой мудрости и всех других людей.
О том, что он похитил огонь с колесницы Аполлона, во-первых, этот
огонь и свет принадлежат единому и истинному Богу, а во-вторых,
никто не находит в этом никакого преступления. И никто Прометея
не наказывает. А если он проводит известное время на Кавказе,
то только потому, что Прометей сам искал уединения, необходимого
для того, чтобы углубить свою мудрость. По Боккаччо, выходит
также и то, что никакой орел вовсе и не терзал печени Прометея.
494
Α. Φ. ЛОСЕВ
Орел — это только те высокие помыслы, которые терзают всякого
мыслящего человека, ушедшего в уединение для большей глубины
своей мудрости.
Согласно Боккаччо, Прометей двойствен в такой же мере, в
какой двойствен и всякий человек. И сейчас, в перспективе шестисот
лет, мы прекрасно понимаем, почему Боккаччо, один из предна-
чинателей новоевропейского мировоззрения, заговорил именно
о двойственности и человека вообще и его прообраза — Прометея.
Человек Нового времени настолько сильно ощущал свою личность,
свой субъект и свое творчество, что всегда готов был отождествить
себя с абсолютным существом, то есть с богом. А с другой стороны,
Прометей, как прообраз самого обыкновенного человека, поехал
учиться в ученую страну, оставил свою семью и даже предавался
уединению на Кавказе. При этом само творение людей Прометеем
Боккаччо, по-видимому, совсем не принимает всерьез. А всерьез
он принимает обучение людей наукам, которые как бы и творят
бывших жалких невежественных и неученых людей совершенно
заново. Насколько можно судить, по Боккаччо, это и есть подлинное
творение человека, а не то творение из глины и земли, о котором
говорят античные мифы.
Другими словами, Прометей как символ получает у Боккаччо
совершенно новое толкование, а именно характерное для Новой
Европы. Прометей здесь — символ науки и мудрости, которые
требуют от человека многих усилий и многих лишений, заставляют
часто страдать, уединяться и создавать науки. При помощи них
человечество в дальнейшем будет только воскресать и как бы
твориться заново. Нам думается, что для XIV в. Боккаччо достаточно
глубоко и ясно очертил символику Прометея уже не в античном
и не в средневековом смысле, а именно в новоевропейском смысле,
то есть в смысле созидания, развития (часто мучительного) и
преподавания наук для целей личного обучения людей и для целей
всеобщего исторического прогресса.
^^а
VII
ЛИРИКА, «КОРБАЧЧО»,
ПИСЬМА
^^
M. С. КОРЕЛИН
<Переписка и эклоги Боккаччо>
К числу латинских произведений Боккаччо следует отнести и его
переписку, так как итальянские письма находятся там в
меньшинстве. Но его латинские письма ни по количеству, ни по качеству
далеко не имеют того значения, как переписка Петрарки. Боккаччо
писал много, но из его сочинений не видно, чтобы он собирал свою
переписку, и большая часть ее или совсем пропала или, по крайней
мере, до сих пор не найдена. Потеряны даже его донесения
Флоренции, которая не раз отправляла его с дипломатическими
поручениями. Вследствие этого Кораццини насчитывает только 33 его письма:
23 латинских и 10 итальянских; но и это скромное число подлежит
еще значительному сокращению, потому что некоторые из этих
писем сомнительны, а другие несомненные апокрифы. Кроме того,
в переписку включены такие письма, которые собственно
составляют посвящение или даже предисловие к его сочинениям. Наконец,
большинство остальных писем пользовалось столь незначительной
известностью, что увидело свет только во второй половине XIX века.
Тем не менее письма, бесспорно принадлежащие Боккаччо, имеют
весьма важное значение для истории Ренессанса вообще и для
биографии их автора в частности. Таковы, во-первых, письма к Петрарке,
и прежде всего то из них, где Боккаччо порицает своего адресата за
поступление на службу к Висконти. Горячая привязанность и глубокое
уважение Боккаччо к тому, кого он называл своим учителем и
осыпал похвалами почти в каждом письме, не помешали ему осыпать
Петрарку резкими и даже несправедливыми упреками за его связь
с тираном, и письмо является одним из важнейших источников
для политических воззрений и вообще для характеристики автора.
Позже написанное второе письмо по тому же адресу, где Боккаччо
498
M. С. КОРЕЛИН
описывает свое путешествие в Венецию для свидания с Петраркой,
которого он там не застал, показывает, что старая дружба не
порвалась, и вообще выгодно рисует взаимные отношения первых
гуманистов. Еще важнее третье письмо, где Боккаччо рассказывает о своих
поисках жизни Петра Дамиана, которая была нужна Петрарке для
его сочинения De vita solitaria. Поправляя ошибку своего «учителя»,
смешавшего двух Петров из Равенны, и жестоко порицая жителей
Равенны и в особенности тамошних монахов за отсутствие у них
интереса к родной святыне, Боккаччо знакомит и с своей исторической
критикой, и с своим отношением к средневековой истории. Менее
интереса представляет стихотворное послание Боккаччо, с которым он
препроводил Петрарке «Божественную комедию» Данте и в котором
выражает свое отношение к обоим поэтам. Для характеристики
отношения Боккаччо к Петрарке важно его письмо к зятю последнего,
в котором он, оплакивая смерть первого гуманиста, сообщает также
некоторые автобиографические данные. Для фактической истории
эпохи имеют значение письма Боккаччо к падуанскому профессору
Пьетро да Мулю или ди Риторика и к одному юноше Маттео де Ам-
брозио или Амбразио. В первом, превознося похвалами знаменитого
преподавателя, он рекомендует ему двух учеников, а во втором
благодарит юного почитателя за восторженное письмо. Гораздо важнее
в этом отношении письмо к Джакопо Пицинге. Превознося похвалами
адресата за его интерес к науке и покровительство ученым, Боккаччо
оправдывает меценатство античными примерами и подробно отмечает
признаки наступающего лучшего времени. «Я начинаю надеяться
и веровать, пишет он, что Бог смилостивился над итальянцами,
так как вижу, что он из лона своей щедрости изливает в сердца
итальянцев дух, не отличный от древних» и в доказательство приводит
Данте, Петрарку и Дзаноби да Страда, указывая — в то же время
на бедственное политическое положение своей родины.
Только автобиографическое значение имеют письма к Николо
да Монтефальконе и к Николо Орсини. Первое, в котором Боккаччо
порицает адресата за то, что он, пригласил его к себе в гости, а сам
ушел из дому, не важно. Гораздо более цены имеет второе, в
котором он изображает между прочим свое состояние под старость. Как
комментарий к сочинениям Боккаччо, весьма важны два его
письма. Первое, весьма интересное и в других отношениях, адресовано
к Пьетро ди Монтефорте. Благодаря своего корреспондента за
лестный отзыв о Генеалогии, Боккаччо сообщает некоторые сведения
об этой книге, развивает свой взгляд на священное писание и горячо
защищает своего «учителя» Петрарку, что он не издал до сих пор
<Переписка и эклоги Боккаччо>
499
своей Африки и написал трактат De ignorantia. Эта последняя часть
письма имеет важное значение и для биографии Петрарки. Второе
письмо, адресованное к монаху Мартино да Синья, представляет
собою превосходнейшй комментарий Боккаччо к его собственным
эклогам. Существенную важность во многих отношениях имеют
письма к Майнардо деи Кавальканти. В первом из них Боккаччо живо,
с бытовыми подробностями описывает свою болезнь и формулирует
свой взгляд на медицину; второе, кроме биографических данных,
заключает в себе взгляд автора на его латинские сочинения и, что
особенно важно, его отношение к Декамерону.
Подлинность остальных латинских писем Боккаччо или
отрицается или заподозривается, причем в тесной связи с этим стоит вопрос
о знаменитом Zibaldone. В флорентийской библиотеке Magliabecchiana
(теперь она вошла в состав Biblioteca Nazionale) находится один кодекс
самого разнообразного содержания. Там есть отрывки из speculum
Paulini Veneti, обработка истории армянина Гайтона, извлечение
из хроники Мартина из Троппау (Martinus Polonus), письмо об
открытии Канарских островов, моральные сентенции Сенеки, выдержка
из Естественной истории Плиния и Катилины Саллюстия; письмо
к Дзаноби да Страда и его речь, список знаменитых современников
и упомянутые выше генеалогии богов Перуджино, Альбицци и До-
нати и проч. Этот манускрипт представляет собою записную тетрадь,
в которую ее ученый обладатель вносил разные excerpta (для таких
тетрадей в итальянском языке существует специальный термин
il zibaldone). В 1827 году профессор Себастиано Чампи издал часть
этого кодекса и объявил его памятной книжкой Дж. Боккаччо. Ему
без труда удалось доказать, что манускрипт относится к XIV столетию
и что он принадлежал лицу, хорошо знакомому с флорентийскими
делами; гораздо менее решительны его аргументы за принадлежность
этой тетради Боккаччо. Они сводятся к следующему: 1) «что лицо,
писавшее кодекс, обладало обширным знанием и еще большей
критическою основательностью (più gran criterio) — это ясно, во-первых,
из содержания, во-вторых, из плана автора создать хронологическую
и критико-рациональную (critica-ragionata) всемирную историю
в связи с географией всех народов с древнейших времен до наших дней
и, в-третьих, из критического анализа авторов, отрывки из которых
он списывал для своего предполагаемого труда». В XIVвеке было
только два таких ученых: Петрарка и Боккаччо; первый не мог быть
обладателем кодекса, потому что его имя внесено в находящийся там
индекс знаменитостей; следовательно, эти выписки принадлежат
Боккаччо. 2) В zibaldone есть сочинения, принадлежащие Боккаччо.
500
М.С.КОРЕЛИН
Так, там есть коротенькое вычисление продолжительности земной
жизни Христа и письмо к Дзаноби, подписанные Iohannes de Certaldo.
Правда, подпись выскоблена, но не вполне, так что буквы можно
легко различить. 3) В индексе знаменитостей Паолино прибавлено
несколько имен из современников, между прочим Петрарка и
Дзаноби, но нет Боккаччо. Этот пробел нельзя объяснить ни завистью
или враждою обладателя манускрипта, потому что он внес письмо
Боккаччо к Дзаноби, ни забывчивостью, потому что имя Петрарки
должно было напомнить о его друге. Единственное объяснение
возможно при том предположении, что список составлял сам
Боккаччо. 4) Между внесеннными в список знаменитостями с особенной
похвалой упоминаются Альдобрандино дельи Оттобони и Коппо
ди Боргезе Доминики, о которых Боккаччо говорит и в других
сочинениях: о первом в письме к Росси, о втором в 9 новелле 5-го дня
Декамерона. 5) Составитель кодекса хорошо знаком с положением
дел во Флоренции, как это видно из глоссы к известию о Канарских
островах. 6) Содержание кодекса (генеалогии, географические
заметки, сентенции Сенеки) вполне соответствуют занятиям и интересам
Боккаччо. 7) Боккаччо необходимо было делать извлечения из книг,
потому что он не мог их покупать вследствие бедности, как утверждает
его биограф XV века Манетти. Все эти доказательства в совокупности
казались настолько убедительными, что первый рецензент издателя
Рипетти, а за ним и другие, согласились с основным положением
Чампи. Но спустя полвека этот взгляд встретил резких противников
в лице Ландау и потом Кёртинга.
Ландау возражает, во-первых, против одного из самых сильных,
шестого аргумента тем, что в кодексе есть исследование о дне смерти
Христа и о Канарских островах, что, по его мнению, не подходит к
интересам Боккаччо. Но при несомненном благочестии автора
географического словаря это возражение не может иметь никакой силы. Затем
он приводит целый ряд возражений против 3-го аргумента. Пропуск
имени Боккаччо, по его мнению, ничего не доказывает. Во-первых,
там пропущены и другие тогдашние знаменитости (Andalo, Паоло
Перуджино и т. д.); во-вторых, индекс может относиться к 1341 году,
когда Боккаччо был еще совершенно неизвестен; в-третьих, он мог
быть сделан врагом Боккаччо, а подлинность письма к Страде еще
не доказана, если бы и была доказана, то враждебный Боккаччо
составитель списка мог увлечься формой письма и потому выскоблил
имя автора. Нельзя сказать, чтобы эти гипотетические возражения
подрывали основное положение Чампи или даже превосходили своей
убедительностью его третий аргумент. Оставляя без возражения другие
<Переписка и эклоги Боккаччо>
501
главные доказательства Чампи, Ландау останавливается на одном
второстепенном: Чампи приводит между прочим то соображение
в пользу принадлежности тетради Боккаччо, что она находилась
некогда в библиотеке Строцци, где было найдено и его завещание.
Ландау устраняет этот аргумент тем, что сам Чампи в конце книги
сомневается в подлинности самого завещания. Отрицая
доказательность аргументов Чампи, Ландау приводит собственные соображения
в доказательство противоположного мнения. Во-первых, почерк
zibaldone отличен от тех рукописей, которые до сих пор считались
автографами Боккаччо, но тут же прибавляет, что в пользу подлинности
этих последних автографов нет никаких доказательств. Во-вторых,
тетрадь начата в 1341 году и продолжалась до 1370, невероятно
чтобы Боккаччо таскал ее с собою целых 30 лет. В-третьих, известие
о Канарских островах, которое Чампи относит к 1341 году, записано
на 133 листе рукописи, а письмо к Дзаноби 1353 г. — на 104; «ужели
Боккаччо начал писать в средине своей тетради?» — спрашивает
Ландау. В-четвертых, наконец, zibaldone написан двумя почерками,
что заставляет предполагать, что бедняк Боккаччо имел секретаря.
Нельзя отрицать, что доказательства Чампи отличаются чисто
гипотетическим характером; но аргументы немецкого биографа
Боккаччо совсем не ослабили их первоначальной убедительности.
Гораздо победоноснее Ландау в полемике против выводов, которые
сделаны были Чампи из подлинности zibaldone. С увлечением,
свойственным виновнику всякого открытия, Чампи преувеличивает цену
и значение нового манускрипта. Так, он считает интерполяцией места
в De claris mulieribus и De casibus virorum, где говорится о папессе
Иоанне, на том основании, что их нет у внесенного в тетрадь Мартина
из Троппау. Ландау вполне основательно опровергает этот вывод и
доказывает ненаучность метода, посредством которого он был сделан.
Ввиду таких в общем неопределенных результатов полемики Гортис
счел нужным подвергнуть этот вопрос новому исследованию.
Гортис начинает с указания целого ряда противоречий между
zibaldone и несомненными сочинениями Боккаччо. В тетради он
считает автором De bello gallico и De bello civili Светония Транквилла,
который был прадедом автора биографий XII цезарей; а в
Генеалогии он приписывает эти книги знаменитому в Средние века Юлию
Цельзу1. Или в тетради он называет Констанцию, жену Генриха VI,
дочерью Роджера, а в книге De claris mulieribus — ошибочно дочерью
Вильгельма. Паолино из Венеции он называет в zibaldone insipidus2,
а цитируя его единственный раз в Генеалогии, объявляет его
«величайшим исследователем истории», хотя и упрекает его в болтливости.
502
M. С. КОР ЕЛ И H
Но эти противоречия не имеют в глазах Гортиса никакого значения,
потому что встречаются во всех записных книгах, не
предназначенных для публики. «Я рад, говорит он, что эти противоречия впервые
замечены мною, который считает zibaldone magliabecchiano
собственным автографом Боккаччо». Положительные доказательства Гортиса
сводятся к четырем аргументам. Во-первых, в индексе знаменитых
людей первое место занимают флорентийцы. Во-вторых, он приводит
целый ряд мест, из которых следует с несомненною ясностью, что
фактически материал и моральные сентенции выписок в zibaldone
в большом количестве и иногда буквально вошли в состав сочинений
Боккаччо. В-третьих, составитель тетради мог перевести нетрудные
фразы с греческого языка и чувствовал к нему большой интерес;
а кроме Боккаччо, в эту эпоху никто не обладал ни такими знаниями,
ни такими интересами. В-четвертых, наконец, Боккаччо написал
Дзаноби: «я читал и перечитывал твою речь и потом снял с нее
копию» , и эта копия находится в zibaldone. Этот последний факт служит
в глазах Гортиса главным доказательством, что тетрадь не только
принадлежала Боккаччо, но и была его автографом.
Аргументы Гортиса, основанные на детальном изучении сочинений
Боккаччо, делают гипотезу Чампи в высшей степени вероятной. Тем
не менее его новейший биограф Кёртинг возвращается к взгляду
Ландау и старается подкрепить его новыми аргументами. Кёртинг не мог
или не желал рассмотреть положительные доказательства Гортиса
и возражает только против общих соображений Чампи, вследствие
чего вся его аргументация лишена всякой объективности и более
гипотетична, чем у его противника. Так, первый аргумент Чампи,
несмотря на веское подтверждение Гортиса, кажется ему наивным,
и он считает возможным приписать тетрадь Лапо ди Кастильонкио,
Виллани или Нелли, которые совсем не знали греческого языка.
Отсутствие в индексе имени Боккаччо он объясняет тем, что только
Петрарка и Дзаноби были лауреатами. Против второго аргумента
Чампи Кёртинг возражает, во-первых, что Боккаччо никогда не
подписывался Ioannes de Certaldo и что следовательно эти сочинения
или принадлежат другому Джиованни из Чертальдо или подпись
сделана не самим Боккаччо. При этом он весьма смешно старается
осмеять предположение, что Боккаччо подписывался под своими
произведениями в своей записной книжке. Собственные аргументы
Кёртинга против мнения Чампи сводятся, во-первых, к повторению
утверждения Ландау, что Боккаччо было неудобно носить с собою
в путешествиях такой обширный манускрипт. Кроме того, ему
кажется невероятным, чтобы в записной книжке Боккаччо не было
<Переписка и эклоги Боккаччо>
503
ни одного стишка в честь Фиамметты. Наконец, Кёртинг находит,
что заметка о дне смерти Христа не подходит к Боккаччо, который
не занимался богословскими вопросами, а выписки, хотя и
соответствуют его занятиям, но географическими и мифологическими
вопросами интересовались и другие ученые.
Независимо от Кёртинга и Гортиса Симонсфельд пришел к выводам
совершенно тождественным с заключениями итальянского ученого.
Тем не менее Макри-Леоне счел необходимым вновь пересмотреть
этот вопрос и пришел к тому же самому заключению. Но его доводы,
не заключая в себе никаких новых и решительных доказательств,
только углубили аргументацию Чампи и Гортиса. Тем не менее
вопрос о записной тетради и теперь еще не решен окончательно, хотя
гипотеза Чампи, благодаря главным образом методическим приемам
Гортиса, представляется наиболее вероятною. В ее пользу говорит
и следующее обстоятельство. Zibaldone — один из характернейших
памятников начинающегося Ренессанса. Знание греческого языка
еще слабо, но интерес к нему весьма значителен: обладатель тетради
может перевести фразу εσται πάντα καλώς3, но он копирует также
греческую надпись из Плиния, хотя и не может ее понять. Из латинских
авторов он выписывает не только факты, но и сентенции — черпает
все, что ему нравится, что он считает подходящим для своих вкусов
и интересов. Из заметки об открытии Канарских островов видно,
с каким вниманием относится новый ученый к географическим
открытиям; список знаменитостей показывает преобладающий интерес
ко всякой выдающейся личности, чем бы она ни выдавалась, причем
в него заносятся и люди старой школы. Вообще полного отрицания
средневековой науки нет; обладатель тетради вносит в нее выписки
из предшествующих писателей, но на них преимущественно он и
пробует свой критицизм, проявляющийся иногда в крайне резкой форме.
Вследствие этого zibaldone был бы более важным и интересным
источником для истории эпохи, если бы он не принадлежал Боккаччо,
о котором мы имеем и другие сведения.
В тетради находится между прочим письмо Боккаччо к Дзаноби,
которое имеет, во-первых, автобиографическое значение, во-вторых,
представляет некоторые данные о гуманисте адресате. Боккаччо
горько жалуется на отношение к себе Аччайуоли, изображает свое
настроение, описывает похороны сына своего бывшего
покровителя и жалуется на флорентийцев по поводу стихотворения против
них Дзаноби да Страда. Кёртинг заподозрил подлинность этого
письма на основании хронологических затруднений, не имеющих
однако, по его собственному признанию, решающего значения,
504
М.С.КОРЕЛИН
так что обратное мнение Чампи, Кораццини и Гортиса сохраняет
полную силу.
Более сомнительным характером отличаются последние пять
латинских писем Боккаччо, которые были найдены во Флоренции
Чампи и напечатаны им во втором издании zibaldone. Самое важное
из них адресовано к Дзаноби и содержит несколько
автобиографических указаний и известие о речи адресата. И по форме, и по
содержанию это письмо, по всей вероятности, принадлежит Боккаччо. Мало
интереса представляют два письма к неизвестному адресату. В одном
из них рассказывается о встрече с любимою особою, другое — могло бы
иметь значение для биографии адресата, если бы он был известен.
Язык этих писем, неправильный, напыщенный и туманный мало
напоминает Боккаччо. Два последние письма почти совершенно
непонятны. Воообще 4 последних письма почти ничего не дают ни для
Боккаччо, ни для эпохи, так что вопрос об их подлинности не имеет
никакого значения.
Менее важное значение имеет итальянская переписка Боккаччо.
Из 9 писем 3 составляют введение в итальянские произведения,
одно несомненный апокриф и подлинность двух заподозрена. Самое
важное из них — обширное послание к Пино де'Росси. Боккаччо
утешает его в изгнании и доказывает, что истинное счастье заключается
в науке и добродетели, подкрепляя свое положение массой примеров
из античного мира. Это единственный моральный трактат Боккаччо,
интересный не столько по нравственным учениям, которые не
отличаются особенною глубиною, сколько по отношению к Флоренции.
Боккаччо видит недостатки своей родины, и его письмо представляет
собою переход к политическим воззрениям позднейшего поколения
гуманистов. Два письма, адресованные Алессандро де'Барди и
несомненно принадлежащие Боккаччо, не имеют никакого значения.
Гораздо интересней льстивое письмо к Аччайуоли, подлинность
которого безо всякого основания заподозрил Кёртинг. Дополнением
к этому письму может служить обширное послание к Франческо
Нелли, содержание которого сходно со вторым латинским письмом
к Дзаноби. Боккаччо горько жалуется в нем на обращение Аччайуоли
и в самых резких чертах изображает недостатки несправедливого
мецената. Письмо является настоящей инвективой, живо рисует
довольно важный эпизод биографии автора и составляет характерный
источник для истории меценатства. Оно показывает, каким оружием
пользовались гуманисты, чтобы создать себе спокойное и почетное
положение в свите меценатов. Письмо, засвидетельствованное семью
рукописями, имеет очень длинную литературную историю. Бишиони
<Переписка и эклоги Боккаччо>
505
издал его еще в прошлом веке; в начале нынешнего оно было
переиздано Гамбой и тогда его подлинность впервые была заподозрена Чампи
и резко отвергнута Тодескини, что не помешало Мутье и Кораццини
внести его в свои собрания. В 1877 году одновременно Караццини
и Ландау высказали противоположные воззрения относительно его
подлинности; в 1879 году Гортис в своих этюдах вернулся к точке
зрения Тодескини и Ландау, но Кёртинг стал на этот раз на сторону
Кораццини и, рассмотревши всю полемику, с несомненностью
доказал подлинность заподозренного письма. Несомненно подложное
письмо к Чино да Пистойа интересно, как весьма характерный подлог:
позднейший гуманист заставляет Боккаччо защищать новые занятия
перед представителем старого направления. Для фактической
биографии Боккаччо имеет некоторое значение его духовное завещание,
сохранившееся в двух списках — на итальянском и на латинском
языках.
Латинские стихотворения Боккаччо при незначительности их
литературной и эстетической цены имеют весьма важное значение,
как исторический источник. Первое место между ними занимают
Эклоги. «Лучше всякого биографа раскрывают собственную жизнь
Петрарка в своих диалогах "О презрении мира" и Боккаччо в своих
"Эклогах"», говорит Гортис. Несмотря на некоторое преувеличение
этой оценки, нельзя отрицать, что в Эклогах Боккаччо заключается
весьма ценный автобиографический и исторический материал; только
пользование им весьма затруднено аллегорией и было бы совсем
невозможно, если бы сам автор не оставил комментрия в письме к
Мартину да Синья. Ввиду незначительности данных для характеристики
политических воззрений Боккаччо особенную цену имеют те эклоги,
в которых аллегорически изображается современная политическая
действительность. Из 16 эклог к этой категории относятся 7 (III, IV,
V, VI, VII, IX, X). Третья, четвертая, пятая и шестая представляют
собою аллегорическое изображение событий в Неаполе после смерти
короля Роберта. Первая из них озаглавлена Фавн. В письме к
Мартину да Синья Боккаччо объяснил только, что под Фавном он разумеет
Франческо Орделаффи, тирана Фор ли; но аллегория настолько
прозрачна, что нетрудно угадать и все содержание эклоги. В ее первой
части говорится о борьбе Орделаффи с римской церковью, скрытою
под именем Thestylis; затем смерть Роберта, убиение Андрея
Венгерского и поход его брата, в котором принимает участие и Орделаффи.
Сочувствие Боккаччо на стороне тирана — мецената ученых и поэтов,
хотя он и находится в борьбе с церковью. С таким же сочувствием
относится он и к Роберту, хотя раньше называл его жадным Мидасом:
506
M. С. КОРЕЛИН
смуты, наступившие после его смерти, заставили забыть недостатки
короля, умевшего создать прочный порядок в своих владениях. Далее
Боккаччо резко обвиняет в убийстве Иоанну, которую называет
«беременной волчицей», хотя ему известны слухи и о других убийцах,
и с сочувствием относится к «справедливому оружию» Людовика
Венгерского. Четвертая эклога, озаглавленная Dorus, изображает
следующий акт драмы — бегство Людовика Тарентского и заслуги
по отношению к нему Аччайуоли, который представлен образцовым
другом и руководителем молодого государя. Сочувствие автора
теперь целиком на стороне Людовика Тарентского и вообще его точка
зрения на действующие лица изменилась: причиной смерти Андрея
он выставляет теперь его собственную жестокость, его брата он
называет Полифемом, обагряющем кровью Италию; жестокая волчица
получила название «прекрасной Lycoris». Боккаччо сам чувствует
противоречие и старается его смягчить, называя Андрея «несчастным
Алексисом» и объявляя жестокость его брата справедливой.
Пятая эклога, озаглавленная «Лес в упадке» (Silva cadens),
изображает печальное состояние Неаполя после бегства Людовика
Тарентского. Гортис метко называет эту эклогу «настоящей элегией».
Действительно, стихотворение проникнуто лиризмом; характерно
однако, что народные бедствия, трогают Боккаччо, но не уничтожают
его симпатий к их виновникам, хотя он называет бегство правителей
постыдным. Более того, шестая эклога Альцест представляет собою
настоящий панегирик Людовику Тарентскому. Ее значение весьма
ограничено: льстивый тон производит крайне неприятное
впечатление, которое смягчается отчасти тем, что Боккаччо, по-видимому,
не имел при этом в виду никакой практической цели.
За эклоги о неаполитанских делах Боккаччо получил от одного
из наиболее строгих своих критиков название «политического
поэта». Но его политическая мысль здесь обнаруживает крайнюю
неустойчивость. Боккаччо руководится при оценке лиц и событий
непосредственным впечатлением иногда даже чисто личного
характера. Особенно интересна в этом отношении VIII эклога, которая имеет
автобиографическое значение, и может служить хорошим
комментарием отношений Боккаччо к неаполитанским делам. Она озаглавлена
Мидас; в письме к Мартино да Синья Боккаччо не истолковывает
действующих лиц; но аллегория настолько прозрачна, что тождество
Мидаса с Питиасом IV эклоги остается вне всякого сомнения. В ней
говорится, что Мидас вызвал к своему двору Питиаса, под которым
здесь понимается уже сам Боккаччо, но обманул его ожидания.
Собеседник Питиаса Дамон рисует образ Мидаса совершенно другими
<Переписка и эклоги Боккаччо>
507
чертами, нежели в IV эклоге: недовольный Аччайуоли, Боккаччо
написал на него настоящую сатиру, которая является дополнением
к рассмотренным выше письмам к Дзаноби и Нелли. Благородный
друг и опытный руководитель молодого государя является здесь
коварным похитителем власти; сочувствие автора снова возвращается
к убитому Андрею, и он называет Аччайуоли соучастником
безнаказанного преступления. Ясно, что у Боккаччо не было определенного
критерия для оценки неаполитанских дел. Несколько определеннее
его политические желания по отношению к родному городу, делам
которого он посвятил 2 эклоги. Первая из них (VII) изображает
попытку Карла IV подчинить себе Флоренцию. Точка зрения Боккаччо
на это дело вполне ясна и определенна: как республиканец, он
дорожит свободой Флоренции, как итальянский патриот, он презирает
«сармата», пытающегося овладеть Италией; как человек нового
времени, он с пренебрежением смеется над захудавшей средневековой
империей. В тесной связи с этой эклогой стоит девятая, озаглавленная
Libis. Она носит элегический характер: Боккаччо оплакивает
жалкие нравы потомков великих предков, и порицает «невежественную
мать» Рим, короновавший варвара Цирция (Карла IV), что заставило
подчиниться и Флоренцию. Последняя эклога политического
содержания (X), озаглавленная Мрачная Долина (Vallis ораса), отличается
весьма темной аллегорией, которая нисколько не разъяснена самим
автором. В письме к Мартино да Синья Боккаччо отмечает только
ее общий тон: «под Лицидом (Lyzidas) я разумею некоего прежнего
тирана (quendam olim tyrannum) и называю его Лицидом от λύκος, что
по-латыни значит lupus — волк: как волк самое хищное животное,
так и тираны самые хищные люди».
Не лишены значения 2 эклоги религиозного содержания. Одна
из них (XI) называется Пантеон и под языческими именами
изображает библейскую историю. Эта эклога представляет собою одно из
наиболее ранних проявлений формального паганизма. В комментарии
к ней Боккаччо говорит, что под одним собеседником Миртилисом
(Mirtilis), он разумеет христианскую церковь, под другим —
Главком — ап. Петра. «Главк был рыбак; попробовавши какой-то травы,
он внезапно бросился в море и сделался одним из морских богов. Точно
так же и Петр был рыбак, и он, попробовавши Христова учения,
добровольно бросился в волны, т. е. в козни и преследования врагов
христианского имени, проповедуя учение Христа, вследствие чего сделался
Богом, т. е. святым, одним из друзей Небесного Бога». Сообразно
с этим Боккаччо называет Ревекку Софронидой, Иакова — Стиль-
боном, Моисея — Форонеем, Христа — юным Ликургом, который
508
M. С. КОРЕЛИН
превратил Фетиду в Бромия (чудо в Канне) и т. д. При несомненном
благочестии автора, который заставляет ап. Петра жаловаться на
Авиньон и прелатов, эти намеки и сопоставления остаются пока довольно
невинной забавой. Пятнадцатая эклога — Филостропос отличается
субъективным характером. Боккаччо объясняет ее заглавие тем,
что «в ней идет речь об отвращении духа от земной соблазнительной
любви к любви небесной». «Собеседников два: Филостропос и Тифлос,
продолжает он; под первым я разумею моего славного наставника
Франческо Петрарку, который весьма часто своими советами убеждал
меня направить мысль к вечному, оставивши наслаждение земным,
и таким образом если и не вполне, то все-таки в достаточной мере
направил к лучшему мои симпатии». Тифлос — скромное обозначение
самого автора. В этой беседе Боккаччо обнаруживает полную
готовность стремиться во владения Теоскира (Θεός κούρος), но боится своих
прегрешений против его служителей. Петрарка успокаивает своего
друга и внушает ему надежду на милость Божию.
В тесной связи с этой эклогой по настроению, а отчасти и по
содержанию, находится XII, Сафо, одна из двух, в которых трактуется
о поэзии. Боккаччо в форме разговора с Каллиопой (bona sonoritas —
изящная речь), служанкой Сафо (истинная, высокая поэзия)
изображает свое стремление к настоящей поэзии. Кроме автобиографических
черт, иногда несколько туманных, эклога определяет поэтический
идеал Боккаччо: по словам Каллиопы, единственный человек,
который теперь может довести до Сафо — это Сильван — Петрарка.
Следующая эклога (XIII), озаглавленная Laurea, содержит в себе
спор между поэтом и купцом о сравнительном достоинстве их
занятий. Сюжет, очень интересный для Боккаччо и не раз затронутый
им в других сочинениях. Эклога не дает ничего нового, кроме тона:
к удивлению он гораздо спокойнее, чем в прозе, и самый спор
остается не решенным, так как Критис, третий собеседник, одинаково
восхваляет оба занятия.
Остальные эклоги имеют чисто автобиографическое значение.
В первой (Florentini) Боккаччо оплакивает обманутую любовь к Галле,
во второй (Pampinea) — безнадежную любовь к Пампинее. В письме
к Мартино да Синья сам автор объявляет их недостойными внимания
и ничтожными, и в действительности они ничего не прибавляют к его
биографии. Более интереса представляет последняя (XVI) эклога
Angelos, в которой автор аллегорически просит Донато да Альбан-
цани вместе с Петраркою исправить его 15 эклог. Самая интересная
в ней черта — это отношение к Петрарке. Несмотря на всю дружбу
к своему «руводителю», Боккаччо не решается явиться перед ним
<П ере писка и эклоги Боккаччо>
509
«неумытым», послать эклоги на исправление непосредственно к
Петрарке, а прибегает к содействию их общего друга. Автор говорит
в эклоге, что наученный горьким опытом с Аччайуоли, он боится
встретить такой же прием и у Петрарки. Наконец, в четырнадцатой
эклоге (Olympias), высокое художественное достоинство которой
признают все критики, Боккаччо изображает свои родительские
чувства. Во сне ему является его умершая дочка Виоланта (в
эклоге Олимпия) и ведет с ним беседу, в которой изображает райское
блаженство и пути к нему. Этот разговор, проникнутый искренним
чувством, живо и привлекательно рисует любящую и гуманную душу
автора Декамерона и указывает на то, что вражда к семье у первых
гуманистов была явлением случайным и наносным.
Биографы Боккаччо XIV и XV столетия упоминают о других его
латинских стихотворениях; но до 1879 года было издано только два
его стихотворных послания; Гортис открыл еще четыре, из которых
только одно несомненно принадлежит автору Эклог. Некоторый
интерес для характеристики отношения Боккаччо к Данте и Петрарке
представляет стихотворное письмо, отправленное им своему
руководителю вместе с кодексом Божественной Комедии. Письмо очень
льстиво; но Кёртинг видит в этом образцовую дипломатическую
уловку с целью приобретения расположения Петрарки к его великому
предшественнику. Более важное значение имеет обширное
стихотворение (в 180 гекзаметров), посвященное поэме Петрарки — Африка.
Написанное тотчас после смерти первого гуманиста и адресованное его
зятю Франческо да Броссано, оно обнаруживает не только искреннюю
и горячую любовь автора к покойному, но и огромный интерес к его
поэме, содержание которой оставалось тогда никому неизвестным.
Ходили слухи, что Петрарка сжег «Африку», и стихотворение
Боккаччо показывает, какое важное значение придавали ей друзья поэта
и как многого они от нее ожидали. Не лишено интереса и впервые
напечатанное Гортисом пастушеское стихотворение Боккаччо,
которое он адресовал Чекко да Милето. Оно написано около 1346 года
и живо рисует тогдашнее настроение автора: в Италии войны, которые
мешают всякому серьезному занятию, поэтому он хочет только
воспевать свою любовь к Галатее и предоставить важные дела Петрарке.
<...> Если сравнить латинские трактаты и письма Боккаччо
с аналогичными произведениями первого гуманиста, то по
самостоятельной литературной и научной цене первые значительно ниже
последних. Автору Декамерона нечего противопоставить
знаменитой автобиографии Петрарки; философских трактатов у него точно
так же нет; его исторические произведения и мифологический трактат
510
M. С. КОР ЕЛ И H
по приемам исследования, по тщательности работы и по критике
источников не могут идти в сравнение не только с De viris illustribus
Петрарки, но даже с его Res memorandae. Еще менее выгодно для
Боккаччо сравнение между перепискою обоих гуманистов. Тем
не менее по исторической цене произведения Боккаччо едва ли
уступают сочинениям его друга и руководителя. Правда, отсутствие
философских трактатов лишает нас весьма важного источника по
существенному вопросу в истории гуманизма; но этическими
отступлениями преисполнены исторические трактаты Боккаччо, а особенно
De casibus virorum, и этот этический элемент тем поучительнее, что
автор Декамерона не обладал философскими наклонностями и даже
значительными теоретическими интересами. С другой стороны, идеи
Боккаччо далеко не всегда оригинальны: в весьма многих отношениях
он повторяет Петрарку; но из его сочинений видно, что это сходство
не результат слепого подчинения более крупной интеллектуальной
силе, не следствие рабского подражания непонятому учителю.
Боккаччо умеет относиться критически ко всяким авторитетам и так же
преклоняется перед Петраркой, как и перед классиками, т. е.
поскольку идеи и воззрения первого гуманиста соответствовали его
собственным стремлениям. Он следует за своим учителем, защищая
поэзию, нападая на монахов и юристов, морализируя в исторических
трактатах, относясь с глубоким уважением к древности, восставая
против знати, обнаруживая любовь к природе и т. д. Но он держится
астрологии, хотя Петрарка ратовал против нее, и вообще менее порвал
с сред невековою мудростью, чем его учитель. Там, где Петрарка ему
непонятен, как, например, в политике, Боккаччо не только не
разделяет его стремлений, но даже резко и несправедливо его порицает.
Несмотря на сильную привязанность и глубокое уважение к Петрарке,
Боккаччо сохраняет полную самостоятельность мысли, и если в
некоторых пунктах он ближе к прошлому, чем его учитель, то по
отношению к женщине и к человеческой природе он более гуманист, чем
родоначальник Возрождения. Впрочем эта последняя черта сильнее
выразилась в его итальянских произведениях.
^а
^^
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
<«Корбаччо», эклоги>
I
Равновесие любви и долга в повестях Декамерона не говорит
за внутреннюю уравновешенность его автора. В последнем дне
нет прежнего смеха, настроение серьезно-великодушно: уже
зарождаются, быть может, в душе Боккаччо те сомнения, которые
позже заставят его отречься от своих новелл; сомнения, навеянные
не критиками-ригористами, а опытом жизни. Декамерон кончен
в 1353-4 годах, Боккаччо было лет сорок, и как у людей, страстно
поживших, у него явилось раннее сознание старости, обострившееся
до отчаяния, что жизнь прошла бесцельно, даром, в плотских
утехах, в вожделениях, от которых не спасла его и та, которая впервые
их возбудила, Фьямметта. Надо опомниться, подумать о тихой
гавани спасения. К какому времени относятся сонеты Боккаччо на эту
тему — решить трудно, но один из них написан в 1348 году, когда
начат был Декамерон, или вскоре после того: Боккаччо говорит,
что перешел за половину отмеренного человеку возраста, ему было,
стало быть, 35 лет, согласно с его толкованием известного дантов-
ского стиха: Nel mezzo del cammin di nostra vita1. «Когда я
оглядываюсь назад и вижу, что я миновал, что, может быть, утратил, чем
злоупотребил, потворствуя какому-нибудь влечению — я печалюсь
и гневаюсь на себя, понимая, что то, что дается нам однажды,
умчалось, я сам отогнал его от себя, а теперь сетую напрасно — ибо мне
не суждено восстановить новым счастьем мои утраты в этой бренной,
жалкой жизни: дуга моих лет уже перекинулась на другую сторону,
мне не вернуться к первому дню, и я вижу, близится и последний».
Фьямметта воспитала его любовь, годы разлуки и
самонаблюдения над неулегшимся еще чувством очистили его, дантовские
512
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
влияния раскрыли ему перспективы идеализма, в которые он вжился
воображением, которые перечувствовал художнически. В цикле
сонетов на смерть Фьямметты ее апотеоз укладывается в формы,
навеянные Данте в Чино из Пистойи, как у Петрарки и Франческо
да Барберино, но в них есть искренние, сердечные ноты:
благодарность, доносящаяся с земли. Сонет LXVII повторяет мотив одного
поэтического видения в садах Филоколо, только там это дух любви,
здесь ангел, предвестник смерти: огонек спустился на золотистые
волосы Фьямметты, увенчанные алыми цветами, огонек становится
светлым облачком, в нем ангел, окутанный в золото и восточный
сапфир, точно жемчужина в оправе золотого перстня; ангел
уносится в небо один, в сиянии. Я тогда возрадовался, чая великое,
говорит поэт, а мне надо было бы знать, что то Господь зовет к себе
мадонну. — И она умерла: ночью по звездному небу поднимается
огонек, чтобы занять свое место в числе звезд, и слышится голос:
кто хочет быть со мною, тому надлежит быть благим и смиренным.
Это Фьямметта: с собой она унесла его сердце; ее бесподобной
красоты не описать, кто хочет увидеть ее, пусть вознесется на крыльях
добродетели к высотам, где она пребывает, откуда она спускается
к поэту: Чего ищешь ты, неразумный, чего смотришь кругом? В прах
обратилось то тело, которое было когда-то предметом твоей страсти;
почему не возведешь ты свои очи к небу, где мое чело сияет краше
прежнего, полное желаний? — И поэт стремится к ней, ему
опостылела печальная юдоль жизни; он не будет петь про свое горе, чтобы
не порадовать тех, которых печалило его счастье. Он хочет умереть;
Данте, поет он, если ты пребываешь в сфере Любви, созерцая
Беатриче, увлекшую тебя за собою, и если любовь не забывается и там,
исполни мою просьбу: я знаю, что Фьямметта среди блаженных душ
третьего неба, она видит, как я тоскую, пусть смилуется надо мною
и вымолит для меня скорое соединение с нею. — Много лет спустя
в сонете на смерть Петрарки те же образы и те же мысли посетили
его еще раз. Часто ему кажется, что он уже совлек с себя тяжесть
плоти и несется птицей к той, которая в этой жизни обуздывала его
своей горделивой сдержанностью; если бы огонь (fiamma) очей, ныне
блаженных, бывших мне когда-то стрелами и цепями, утишил мои
страдания и осушил слезы, я внимал бы теперь ангельскому пению
и не заблуждался бы по стезям земных надежд; но она, ныне
бессмертная, презирает нашу бренность и смеется над суетной мыслью,
увлекающею меня туда, где она еще более разжигается — и я боюсь,
что мои крылья никогда не оперятся и не поднимут меня от суеты
света в обитель мира. — Однажды это сбылось в сновидении: он
<«Корбаччо», эклоги>
513
вознесся к небу, видит ее радостную, пламенеющую, она протягивает
к нему руку; если бы она взяла его тогда, он никогда бы не вернулся
на землю.
Если в этих сонетах риторика не прикрасила правды чувства,
то в №№ LXXIII, LXXXI и LXXXVII мы находим откровенное
признание того, чем была в аффектах Боккаччо Фьямметта. Признание
для нас не новое: Фьямметта обуздывала его своею сдержанностью,
своей «благородною любовью», но не спасла от «излишней
горячности духа, воспитанной неупорядоченным желанием». Он продолжал
увлекаться, будучи уже человеком зрелым и степенным, принимая
любовное «пламя в свою матерую грудь», как маэстро Альберто,
как Гвидо Кавальканти, Данте и Чино, но одна чувственность уже
не поднимала его на высоту, на которой она прежде одухотворялась
силами платонического Амура. Вместе с Фьямметтой поблекли
и лучи идеала, когда-то просветлявшие житейскую грязь: Боккаччо
ощутил себя прежним Дионео, и эта мысль гнетет его своею
неизбежностью; он ухаживает по мелочам и не находит в этой любви
того удовлетворения, которое доставляло ему когда-то сознание ее
присущей ей самой законности.
К этому времени следует отнести его связь с безыменной матерью
его рано умерших детей, его малолетней дочери Виол анты,
которую он так любовно вспоминает в письме к Петрарке от 1367 года
и в XIV эклоге, где она прилетает к нему из райских селений в
просветленном образе Олимпии. Ей было пять с половиною лет, когда
он видел ее в последний раз перед поездкою в Неаполь, очевидно
в ноябре 1361 года; она родилась, стало быть, в мае 1355 года.
Овидий не помогает; Боккаччо приучается смотреть на него как
на doctor adulterii2 — такова точка зрения Генеалогий богов и
толкований к Божественной Комедии; видит в любви лишь
физиологический акт, неразумное вожделение, вредное и беспорядочное,
которого должны остерегаться все, дорожащие своим достоинством.
Когда Фьямметта проводила этот взгляд в беседах Филоколо,
Боккаччо протестовал, теперь он сам склоняется к щепетильной
нравственности, к оберегу семейного начала. Ему было 54 года,
когда приехав в 1367 году в Венецию и не застав там Петрарки,
он не решился остановиться у его дочери, мужа которой не было
в то время дома, ибо, пишет он другу, «в этом, как и во многом
другом, ты знаешь чистоту моих отношений ко всему, что тебя касается,
но другие того не знают, и хотя моя седая голова и возраст и тело,
беспомощное от излишней тучности, должны были бы удалить
всякие подозрения», тем не менее могли бы найтись люди, которые
514
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
стали бы искать следов там, где моей ноги никогда и не было. —
Мы далеки не только от Овидия, но и от понятия одухотворяющей
любви; слышатся другие речи:
Der Teufel, den man Venus nennt,
Er ist der schlimmste von allen
(Heine. Die Götter im Exil)3;
ригоризм, обращенный на самого себя, к воспоминаниям,
кончится сокрушением, страхом за принесенный вред — и известным
отрицанием Декамерона в письме к Магинарду деи Кавальканти.
Торжествовал старый нравственный критерий, к которому так
беззаботно относились многие рассказы Декамерона, и Боккаччо
также страстно и нервно отдавался сознанию своей греховности,
как прежде верил в решающую силу чувства. Тогда его нормировала
Фьямметта, теперь он искал успокоения в руководстве Петрарки.
Все это обошлось не без борьбы, признаки которой можно
уследить во второй части Декамерона. Прежде сознания греховности
явились уколы самолюбия: пора оставить любовь, ты начинаешь
седеть, пожалей себя, говорит себе Боккаччо; он увлекался и бывал
обманут; серьезные люди говорили ему, что ему место на Парнассе
и любовь не по возрасту; он забывал одно и помнил другое: он человек
ученый, школяр — и над ним-то наглумились! В 7-й новелле VlII-ro
дня школяр завлек на башню проведшую его вдову и, заставляя ее
печься на солнце, тешится вслух своей местью над «дрянной и
преступной» бабой, из-за которой едва не умер «порядочный человек»,
чья жизнь может в один день принести свету более пользы, чем
жизнь ста тысяч ей подобных. Теперь он научит ее, «что значит
издеваться над людьми, у которых есть какое-либо понимание, что
значит издеваться над учеными». Если способ мести подвернулся ему
случайный, то из этого не выходит, чтоб он не располагал другими:
«если б у меня не было ни одного пути, у меня все-таки оставалось бы
перо, которым я написал бы о тебе такое и так, что если б ты узнала
о том, — а ты узнала бы наверное — тысячу раз пожелала бы не
родиться на свет. Могущество пера гораздо больше, чем полагают те,
которые не познали его на опыте. Клянусь Богом... я написал бы
о тебе такое, что, устыдившись не только других, но и самой себя,
ты, лишь бы не видеть себя, вырвала бы себе глаза; потому не
упрекай море, что небольшой ручеек умножил его воды».
Угрозы школяра привел в исполнение автор Корбаччо; краски
Декамерона, сатирические выходки Гвидо Кавальканти (Guata,
Manetto, quella scrignatuzza4) и Чекко Анджольери (Deh! guata,
<«Корбаччо», эклоги>
515
Ciampol, ben questa vecchiuzza5) бледнеют перед завзятым реализмом,
полным шаржа и гнева и ювеналовских мотивов; до такой яркости
сатиры, личной и вместе житейской, Боккаччо поднялся разве еще
раз в письме к Нелли, но уже в одном из его юношеских посланий
к какому-то анониму встречаются те же приливы страстного
негодования и угроз: он сошелся с каким-то молодым человеком, который
обманул его дружбу, выдав кому то доверенную ему тайну, окружив
себя обществом, которое запятнало имя Боккаччо — и он величает
его Дионеем, Эбионом, Кассилидом, громит в письме, накопляя все
ужасы риторики, и заставит испытать еще большую кару, о которой
тому и не снилось.
Corbaccio — ворон, грающий недоброе: это сторона сатиры; второе
заглавие подсказывает мораль: Labirin to d'amore6.
Hune mundum typice labyrinthus dénotât iste
Intranti largus, redeunti sed nimis artus7
гласит подпись под мозаичным изображением лабиринта, Х-го
века, на полу церкви S. Savino в Пьяченце. Лабиринт — это жизнь,
погрязшая в грехах любви, откуда трудно выбраться без Виргилия,
говорит Боккаччо; кто вступит в этот гибельный лабиринт, толкует
он в De Casibus, либо бывает извержен из него после долгих
обманчивых блужданий, либо погибает от усилий и расставленных ков.
Божественная Комедия подсказала в Корбаччо образы для
страстной инвективы против Амура, как определила аллегорический
стиль Любовного Видения. Корбаччо его прямое отрицание: круг
развития завершился.
Страстность Корбаччо несомненно отражает личный факт:
Боккаччо увлекся какой-то вдовой и нашел соперника. Сохранился его
игривый сонет к Антонио Пуччи: ему нравятся вдова и девушка,
равные по красам и добродетелям; обеих любить невозможно; какую
предпочесть? Пуччи отвечает, раскланиваясь: твои нежные, идущие
от сердца стихи так запали мне в сердце, что я весь к твоим услугам,
и хотя сознаю себя во всех отношениях недостойнее тебя, отвечу,
как сумею: кто влюбился в девушку, никогда не уверен в том, что
получит; потому говорю тебе, как отец сыну: ради вдовушки оставь
лилию,
Che per la viduetta lasci il giglio.
Относится-ли это поэтическое прение к факту Корбаччо — мы
не знаем; ясной кажется связь последнего с новеллой о школяре:
там и здесь положение тоже, месть «пером», которую сулит новелла,
516
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
исполнена в сатире; таковы могли быть и их хронологические
отношения. Рассказ о школяре является в 8-м дне Декамерона,
оконченного, как думают (без точных, впрочем, оснований), около
1353 года; в Корбаччо говорится об авторе, что он уже сорок лет,
как вышел из пеленок, и лет двадцать пять, как познал обычаи
света. На пеленки полагают два года, что дает с сорока годами —
сорок два; это отнесло бы нас к 1355 году. Мне кажется, что вопрос
о пеленках здесь лишний и что из общего места нельзя извлечь
хронологии: Боккаччо было лет сорок — вот все, что можно добыть
из указаний сатиры; это было в 1353 году, и именно в конце года или
начале 1354, по флорентийскому летосчислению, начинавшемуся
с 25 марта. Легко представить себе, что один и тот же пережитый
поэтом урок отложился у него в новеллу, кстати, пристроившуюся
к схеме захожей повести, и в обличение Корбаччо; их мизогиниче-
ское настроение одно и тоже.
II
Новеллы Декамерона написаны в «благодарность» людям,
которые когда-то соболезновали автору в его любовных невзгодах;
Корбаччо также написан в порыве признательности за милость,
ниспосланную не по заслугам, а по благости Той, которые вымолила
ее у пожелавшего того же, что и Она, то есть спасения заблудшего.
Корбаччо — дань благодарности, отчего автор призывает помощь
Господа, дабы его писание было во славу и похвалу его святейшего
имени и на пользу и утешение читающим.
Недавно сидел я одиноко в своей комнате, погруженный в
раздумье о неудачах моей плотской любви, так начинает свой рассказ
Боккаччо; мысль о том, что женщина, которую я неразумно избрал
своей дамой, обращается со мною жестоко без вины с моей стороны,
заставила меня сетовать и вздыхать и проливать слезы негодования
и желать смерти, как выхода. Я уже решился на то, когда меня
объяли страх худшей участи и сострадание к самому себе. Еще раз
вернулись слезы и новое желание смерти, а затем и
размышление, посланное, думается мне, свыше: Неразумный! Неужели ты
не видишь, что ты сам ожесточился на себя, не кто другой? Разве
она принуждала тебя любить себя? Ты скажешь: она знает, что
я ее люблю, и потому должна бы полюбить меня. Но, может быть,
ты ей не нравишься; вини себя, что твой выбор был плох. Но
посмотрим, что выйдет, если ты ожесточишься против себя,
продолжает испытующая мысль: все, что делает человек, совершает либо
<«Корбаччо», эклоги>
517
в удовольствие себе, либо в угоду другому, либо себе и другим, или
наоборот. — По этим рубрикам разбирается положение поэта;
заключение одно: надо отогнать от себя вожделение смерти, не лишать
себя того, чего не приобрел; не радуй своей смертью тех, кто тебя
не любит, полюби жизнь и постарайся продлить ее. Кто знает: может
быть, ты еще порадуешься участи той, которая, по твоему мнению,
так обижает тебя; не поживешь, не увидишь и мести. И так: живи
и своей жизнью досади ей.
Чудно действует божественное утешение на человеческие умы!
говорит Боккаччо; мои глаза точно прозрели, я понял свое
заблуждение и плакал от стыда, порицая себя и придя к сознанию,
что я далеко хуже того, чем себя считал. Осушив слезы, я решился
оставить уединение, вредное для всякого, болеющего духом, и
вышел с лицом спокойным, насколько позволило испытанное мною
волнение духа. Я искал общества и нашел таковое, полезное в
моем настроении. Оно собралось в уютном месте, и мы, по старому
обычаю, принялись беседовать о капризной изменчивости судьбы,
о неразумии полагающихся на нее. Затем перешли к вопросу о
неизменчивости природы, о чудесном и достойном хвалы порядке
ее явлений, не возбуждающем нашего удивления потому только,
что мы к нему присмотрелись, как к чему-то обычному; а далее
зашла речь о предметах божественных, которые лишь крайними
частицами доступны самым выспренним умам, так они
превышают понимание смертных. Беседы кончились с наступлением ночи,
и я вернулся в свою комнату, ободренный; поев умеренно, я долгое
время с наслаждением передумывал содержание бывших между
нами речей, пока не обуял меня крепкий сон. Но враждебная мне
судьба умудрилась досадить мне и во сне, вызвав перед
недремлющей фантазией различные образы.
Мне казалось, что я иду по прекрасной тропе; место было мне
незнакомое, но я как будто и не желал узнать, где оно; мне было
приятно, и чем далее, тем приятнее, точно в конце пути меня
ждала неизреченная радость. Так страстно было желание добраться
до цели, что я бежал, казалось, у меня отросли крылья, и я летел.
А между тем виды по пути стали другие: вместо зеленой травы
и цветов появились камни, крапива, волчец и репейник; темная
мгла тумана гналась за мной, и обступив внезапно, остановила
мой полет. Я не знал, где я, надежды пали; когда туман поредел,
я увидал, в наступившем уже мраке ночи, что я в пустынном
месте, полном колючих растений и пней, без тропы и дорог, кругом
суровые горы, достигавшие, казалось, неба. Как я забрался сюда
518
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
и как отсюда выйду — этого я не ведал; до меня доносились рев
и мычанье диких зверей. Печаль и страх обуяли меня, я чаял себе
смерти и тихо сетовал, призывая Божью помощь, когда увидел мужа,
медленно приближавшегося ко мне с восточной стороны. Он был
высокого роста, смуглый, волосы черные с проседью, лет
шестидесяти или более, сухой и жилистый, не особенно красивый; на нем
была длинная, широкая одежда красного цвета, более яркого, чем
в какой красят ткани наши мастера. Его вид нагнал на меня и страх
и надежду: быть может, он хозяин в этой местности и накажет меня
за мое вторжение, напустив на меня диких зверей; с другой стороны,
он показался мне полным благости: я как будто видел его, только
не здесь; если в нем есть искра сострадания, он покажет мне, как
отсюда выбраться. Когда он подошел ближе, я припомнил, где его
видел, искал лишь в памяти, как его звать, когда, окликнув меня
моим именем, он спросил ласково: Какая злая судьба, какая лихая
доля завела тебя в эту пустыню? Куда делось твое благоразумие?
Если ты так же рассудителен, каким бывал, ты должен был бы
знать, что это — юдоль телесной смерти, хуже того — гибель
души. — Услышав эти слова, отзывавшиеся состраданием ко мне,
я заплакал, а затем, собравшись с духом, отвечал, не без стыда,
прерывающимся голосом: Ложное увлечение бренностью привело меня
сюда, как я полагаю; многих, более мудрых, чем я, оно доводило
до не меньшей гибели; но если ты явился сюда по божественному
милосердию, не по моим заслугам, молю тебя во имя общей родины,
именем Бога, сжалься надо мною и скажи, как мне выйти из этого
места, полного такого трепета. — Казалось, он улыбнулся на мои
речи и отвечал: Твое присутствие здесь, твои слова показывают ясно
(если б я не знал того иным путем), что ты в самом деле лишился
ума, и еще находишься в живых. Если бы ты ведал, чьи очи навели
тебя на этот путь, не осмелился бы просить меня о своем спасении,
ибо будь я еще тем, чем был, я не подал бы тебе помощи, а нанес бы
позор и ущерб. Но с тех пор, как я расстался с той жизнью, мой гнев
сменился на милость. — При этих словах холод пробежал по моим
членам, волосы стали дыбом и отнялся голос; так часто бывает
во сне, что хочется бежать от опасности, и не можешь, точно
оцепенели ноги; как я тогда не проснулся, не знаю. А призрак сказал
мне, смеясь: Не бойся, я явился сюда не затем, чтоб учинить тебе
зло, а чтобы извлечь тебя отсюда. — Я стал молить его сделать это
поскорее. — На это нужно время, отвечал он, ибо если доступ сюда
свободен всякому, руководимому любострастием и неразумием,
выйти отсюда не так-то легко, на это надо рассудительность и твердость
<«Корбаччо», эклоги>
519
и помощь Того, по чьей воле ты вступил сюда. — Так как у нас есть
время для беседы, я хотел бы предложить тебе два вопроса,
одинаково напрашивающихся на первую очередь: что это за место, дано ли
оно тебе в обитель и может ли всякий сюда вошедший, выйти
отсюда сам собою? Кто послал тебя мне на помощь? — Место это зовут
разно, но одинаково удачно, отвечал призрак: одни Лабиринтом
Любви, другие Очарованной долиной, Хлевом Венеры, Юдолью
вздохов и печали. Оно не дано мне в обитель, смерть лишила меня
возможности вступить в нее; моя обитель не менее сурова, но в ней
менее опасности, а кто по своему неразумию забредет в эту, не
выйдет из нее без божественного просвещения. — Да поможет тебе Тот,
кто все может; но объясни мне, где ты обретаешься? — Я нахожусь
в области, где чаю себе несомненного спасения, продолжал он в
ответ на мой вопрос: в ней опасности меньше, ибо нет возможности
грешить, но страдания настолько больше, что нас поддерживает
лишь надежда на лучшую жизнь, иначе, кажется, бессмертные
духи умерли бы. А чтобы дать тебе понять это отчасти, знай, что моя
одежда, цвет которой, по вашему мнению, пристал лишь лицам,
отличенным особым почетом, не из рукотворной ткани, а сделана
божественным искусством из огня, столь палящего, что, в сравнении
с ним, ваш огонь — холодный лед. Он сосет мои соки с такой силой,
что все ваши реки не утолили бы моей жажды. Это мне кара за мое
ненасытное любостяжание и недостойную терпеливость, с которой
я переносил преступные и нечестные нравы той, которую лучше
было бы тебе никогда не видеть, как ты сам говоришь. Отвечая на твой
второй вопрос, скажу, что явился я по воле и велению бесконечного
Бога, Творца всего сущего, которым все живет, который печется
о нашем покое и спасении более, чем мы сами.
При этих словах мною овладело глубокое смирение перед
величием, всемогуществом и благостью Господа, и вместе сознание моей
низости, бренности, неблагодарности и великих прегрешений. Так
сильно было мое раскаяние, что не только глаза увлажились слезами,
но, казалось, самое сердце таяло, как снег на солнце. Чувствуя свою
неспособность воздать благодарность за такие милости, я молчал,
и призрак, должно быть, понял, какая тому причина. Знаю я,
блаженный дух, начал я по некотором времени, и моя совесть говорит
мне, что все сказанное тобой — истина; но я еще меряю
божественную благость земною меркой, и чудно мне, что я так много оскорбил
Его, а Он приходит мне на помощь. — Ты говоришь, как человек,
не знающий, какова божественная благость, полагая, что
действует она, как действуете вы, не находящие покоя, пока не воздадите
520
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
за всякую малейшую обиду. Но, я вижу, тебя посетило раскаяние
и ты стал доступнее и послушнее грядущим наставлениям, потому
я открою тебе одну из причин, побудивших божественную благость
послать меня тебе на помощь: не человеческий, а ангельский глас
поведал мне, что, какова бы впрочем ни была твоя жизнь, ты всегда
особо чтил и благоговейно памятовал Ту, которая носила во чреве
своем наше Спасение, Живой Источник Милосердия, Матерь
благости и сострадания, и на нее возлагал свою твердую надежду. Увидев
тебя заблудшим в этой долине, Она, не ожидая твоей просьбы,
умолила Сына своего о твоем спасении — и я явился по Его воле и уйду
не ранее, как освободив тебя.
Твои ответы меня удовлетворили, сказал я духу, и хотя возмездие
Господа состоит в том, чтобы вновь сделать тебя прекрасным Ему
в угоду, я все же сострадаю тебе и желал бы, по возможности,
облегчить твою участь. Я рад, что ты не низвергнут в ад, а готовишься,
отбыв покаяние, воззойти в царство славы. Я знаю, каковы благость
и милость Божий, испытал их во многих опасных случаях, хотя
продолжал коснеть в неблагодарности, но я усердно молю Его,
могущего соделать все, что пожелает, дабы Он, не раз спасавший меня
от вечной смерти, направил и укрепил мои шаги на стезе вечной
жизни. Но скажи мне: кто здесь обитает? Не те ли, которых Амур
сослал сюда, изгнав из своего двора, или одни звери, рев которых
я слышал в течение всей ночи? — Вижу я, что свет истины еще
не осенил тебя, и ты еще почитаешь высшим блаженством
наибольшее бедствие, полагая, что в вашей плотской любви есть нечто
благое. Но прислушайся к моим словам:
Эта печальная долина и есть Двор Амура, как ты его называешь,
те звери — несчастные, подобно тебе попавшие в его сети; их-то
голоса, когда они толкуют о любви, и звучат, как рев в ушах
разумных людей. Я назвал эту долину Лабиринтом и удивляюсь, почему
ты об том спрашиваешь, ибо, сколько мне известно, сам ты бывал
здесь не раз, хотя и не в такой тяготе, как теперь. — Я познал, что
он говорил правду, и точно каясь в своей вине и придя в сознание,
отвечал: Да, я действительно часто бывал здесь, и с большой удачей,
как казалось отягченному плотью уму; помню, что выбирался я
отсюда разными способами, не столько собственным умом, сколько
по милости других, но печаль и страх отбили у меня память, точно
я здесь никогда и не бывал. Теперь я понимаю, что делает людей
зверями, что означает дикость этой долины и ее названия и
отсутствие дорог и тропинок. — Так как твой умственный мрак начинает
рассеиваться pi удаляется былой страх, я хочу побеседовать с тобою,
< «Корбаччо», эклоги>
521
стоя, ибо сесть негде, сказал дух. Я знаю, да то доказывают и твои
слова и твое пребывание здесь, что ты глубоко завяз в когтях Амура;
от меня не скрыто, кто тому причиной: помнишь, что я сказал о той,
которую лучше было бы тебе не видеть? Но поведай мне, как попал
ты в ее сети, расскажи, не стыдись, как будто бы я был ей чужим
человеком, хотя когда-то она была мне дороже, чем следовало.
Отогнав стыд я отвечал: Твоя просьба побуждает меня поведать
тебе то, что я открыл одному лишь верному товарищу, и ей самой
в письмах. Да и без твоего ободрения мне нечего было бы стыдиться,
а тебе гневаться, потому что по твоей кончине она и по
каноническим законам стала не твоей, а свободной. Несколько месяцев тому
назад случилось мне, на мое несчастье, беседовать с твоим соседом
и родственником, которого нечего называть. Переходя от одного
предмета к другому, дошли мы и до вопроса о красивых женщинах,
начиная от древних и до современных, из которых пришлось
похвалить немногих; тем не менее, перечисляя некоторых из наших
горожанок, мой товарищ упомянул и ту, которая когда-то была
твоей и которую я дотоле не знал, и рассказал о ней чудеса: у нее
великодушие и щедрость Александра, природным умом она
превосходит всех женщин, красноречива, как любой изысканный,
изощрившийся ритор, к тому же прелестна и мила и полна всех
качеств, приличествующих благородной даме. — Сознаюсь, что
слушая его рассказ, я почитал счастливцем того, кому она достанется
в удел и, почти решившись попытать своего счастья, расспросил
об ее имени и роде и где она живет — не там, где ты ее оставил.
Расставшись с приятелем и не мешкая долго, я отправился в одно
место, где мог рассчитывать увидеть ее, и так благоприятствовала
мне судьба, милостивая ко мне во всем мне неполезном, что мое
желание осуществилось. Удивительное дело: я знал одно, что она
одета в черном, но лишь только увидел ее, как догадался, что это
она. Так как я всегда был убежден, что открытая любовь либо полна
невзгод, либо не доведет до желанной цели, я решился не
открываться никому (лишь впоследствии своему другу) и не осмеливался
спросить — она ли это. Но и здесь помогла судьба: какая-то дама
сзади меня сказала другой: Посмотри-ка, как идут к такой-то
белые повязки на черном платье; я услышал и ее имя. Я не солгу,
что разглядев ее, я нашел, что рассказанное о ней не только верно,
но и ниже действительности, и как огонь, охватив маслянистую
поверхность, спускается затем во внутренность предмета, так мое
лицо зарделось, а когда прошли внешние знаки смущения, я
почувствовал любовное пламя в сердце.
522
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Дух внимал этому рассказу, казалось, не без удовольствия. Ты
поведал мне, как ты сам наложил себе цепи на шею, продолжал
он; но скажи же мне: открылся ли ты ей в любви, подала-ли она
тебе какую-нибудь надежду? — Я решился написать ей: или она
склонится к моей любви, думалось мне, и ответит, или она оценит
ее, но не склонясь, благоразумно устранит мои надежды. На это
письмо я получил записочку, очень неумело написанную, точно
в стихах, только одна стопа была длиннее другой. Спрашивали,
кто я такой, обнаруживали знакомство с одним философским, хотя
и ложным учением, вынесенным, наверно, из проповеди, не из книги
и не из школы: будто душа одного человека переходит в другого;
говорилось, что ей нравятся мужчины, соединяющие ум с
мужеством, услужливость и обходительность с благородством. Из всего
этого я понял, что говоривший мне о ней либо сам обманулся на счет
ее природного ума, либо меня хотел обмануть. Несмотря на это моя
любовь не утолилась, мне показалось даже, что и письмо
написано, чтобы ободрить меня к дальнейшим посланиям, обнадежить
и поощрить к работе над собой, чтоб ей понравиться. И я решился
на это, хотя никаких требуемых качеств за мной не было. Я
написал ей еще раз, но никакого ответа не получил. — Что же побудило
тебя вчера плакать и желать смерти? спросил меня дух. — Об этом
лучше было бы умолчать; во-первых, сознание, что я стал
неразумным животным и, потратив большую часть жизни на то, чтобы
чему-нибудь научиться, в минуту нужды оказался неучем; во-вторых
ее старание разгласить всюду о моей любви к ней. В первом
отношении я не могу себе простить, что так легко доверился
россказням о высоких качествах женщины и неосмотрительно позволил
себе угодить в сети любви, поступившись свободой и разумом. Что
до второго, то здесь она виновна во многом, ибо влюбившись в
некоего господина, которого соседи зовут Авессаломом, чем он себя
и считает, не будучи таковым, она, желая привязать его к себе,
показала ему мое письмо, и оба глумились надо мной, а он сделал
меня посмешищем, рассказывая обо мне, что ему вздумается; он же
внушил и ее письмо ко мне. Сам я видел собственными глазами, как
она, хихикая, показывала на меня другим, вероятно, приговаривая:
Посмотрите-ка, каков дурак? Это мой ухаживатель, как мне не быть
счастливой! Так говорила она некоторым женщинам, про честность
которых я, да и другие кое-что знаем. Что за непристойное и
постыдное дело, что на человека, не скажу благородного, ибо таковым
я себя не считаю, но выросшего среди достойных людей, постоянно
водившегося с ними, довольно также, если и не в совершенстве,
<«Корбаччо», эклоги>
523
знающего свет — на этого-то человека женщина указывает взглядом
и пальцем, точно на какого-то сумасшедшего! Признаюсь, это
привело меня в такое негодование, что несколько раз у меня являлась
мысль прибегнуть к словам, которые были не к ее чести, но искорка
разума, оставшаяся во мне, доказывала, что это было бы большим
позором мне, чем ей; я воздержался и пришел в порыве гнева к
знакомому тебе неистовому решению.
Выслушав меня, дух что-то говорил про себя, как бы размышляя.
Хочется мне потолковать с тобою обстоятельнее, начал он снова,
на пользу твою и других, во-первых о тебе самом, во-вторых о ней,
а наконец и о причинах, доведших тебя до такого отчаяния. Начну
с тебя. Тебя следует попрекнуть за многое, но я коснусь только
твоих лет и занятий. Если не обманывают меня твои побелевшие
виски и седая борода, ты лет сорок, как вышел из пеленок, и
двадцать пять, как познал свет. Если долгий любовный искус юношеских
лет не научил тебя, то приближающаяся старость, умеряющая пыл,
должна была бы открыть тебе глаза, куда может повергнуть тебя
эта неразумная страсть и хватит ли у тебя сил подняться. Ты
понял бы, что в делах любви женщины предпочитают молодых людей
тем, кто клонится к старости, и что даже юношам не пристало
то глупое ухаживание, которое женщинам так нравится.
Прилично ли тебе теперь плясать и петь и выходить на турниры, бегать
по ночам, переодеваться и прятаться, когда и где захочет твоя милая,
может быть, с той лишь целью, чтобы похвастаться, что она
увлекла человека зрелого? Все это тебе не по летам, тебе подобало бы
не поддаваться страстям, а подавлять их, наставляя юношей
благими делами, которые увеличили бы твою славу. — Но перейду
к вопросу о твоих занятиях: сколько мне известно, ты никогда
не учился ремеслу, всегда ненавидел торговое дело, и даже
хвалился этим, принимая в расчет свои дарования и малую склонность
к занятиям, в которых иные стареются, юнея умом. С малых лет
ты отдался, более, чем желал того отец, священной философии,
особенно поэзии, в которой, быть может, ты проявил более
страстного желания, чем высоты понимания. Она-то и должна была бы
научить тебя, что такое любовь и женщины, что такое ты сам и что
тебе прилично. Любовь — это страсть, ослепляющая ум, сбивающая
дарование (ingegno) с пути, ослабляющая память, расточающая
достаток, истощающая телесные силы, враг юности и старости,
родоначальница пороков, обитающая в пустых сердцах; нечто
неразумное, непорядочное и непостоянное, что поражает нездоровые
умы и лишает человека свободы. Перебери древние повести
524
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
и современность, и ты увидишь, сколько зла произошло от того,
кого ты вместе с другими называешь богом, величая его, оскорбляя
тем Господа, нанося вред своим занятиям и себе самому. Если бы
твоя философия не показывала тебе всего этого, должен был бы
показать собственный опыт — и древнее изображение крылатого,
обнаженного Амура-стрелка, с повязкою на глазах. Но твои занятия
могли научить тебя, кроме того, что такое женщина: женщина —
это несовершенное животное, исполненное тысячью отвратительных
страстей; если бы мужчины были разумны, они приближались бы
к ним не иначе, как к совершению некоторых неизбежных
природных отправлений, отбыв которые, человек спешит удалиться;
в этом отношении звери разумнее его. Нет животного более
грязного; это они сами отлично знают, считая скотом всякого, питающего
к ним вожделение. Но говорить об этом подробно не хватило бы
года — а мы накануне нового. Полные лукавства, они стараются
всеми силами выйти из своего низменного положения и стать
набольшими, уловляя нашу свободу в сети своей красоты, которую
умножают различными способами, притираньями и красками,
порой обращая действием серы, искусственных вод и солнечных
лучей черные волосы в золотистые, то заплетая их в косу, то
распуская по плечам, то собирая на голове, лишь бы к лицу; прельщая
то пеньем, то пляскою. Таким-то образом они становятся женами
многих и любовницами еще большего числа, и, возмечтав,
начинают стремиться к власти, хотя знают, что рождены рабынями.
Притворяясь кроткими и ласковыми, они выпрашивают у мужей платья
и украшения, и те сами дают им в руки орудие против себя. Став
из рабынь подругами, они всеми способами силятся захватить
власть, рассчитывая, что если им спустят то, чего не дозволят
слугам, они в самом деле — хозяйки. И вот они начинают рядиться;
нет той нескромной моды, введенной к нам публичными
женщинами, которую бы они не переняли. В доме от них нет житья, как
то знают все, то испытавшие: точно голодные волчицы, зияющие
на мужнино добро, они постоянно бранятся с прислугой и родней,
будто охраняя то, что в сущности расточают. Ночью те же распри,
на супружеском ложе никогда не спится. Вижу я, ты меня не
любишь, говорит одна, другая у тебя на сердце; я не слепая, у меня
лучшие разведчики, чем ты полагаешь. Бедная я! Сколько времени
я с тобой, а не разу еще не слышала, когда ложусь, чтоб ты сказал:
Добро пожаловать, моя радость! Но клянусь Богом, я еще устрою
тебе то же, что ты строишь мне. Разве я уж так подурнела, не
красива, как такая-то? Знаешь-ли что? Кто двоих целует, тому одна
< «Корбачно», эклоги>
525
наверно опротивела. Пойди прочь, меня ты не коснешься, ступай
к той, кому ты ровня, потому что меня ты не достоин. Посмотри-ка,
на что ты сам похож! Надо это прикончить. Не из грязи же ты меня
поднял; сколько было таких, которые взяли бы меня и без
приданого, и я была бы хозяйкой, а тебе я принесла столько-то сот
флоринов и стаканом воды не могла располагать без ворчанья твоих
братьев и слуг. Пусть отсохнет нога у того, кто связал меня с
тобой! — Так мучают они бедняков; кто прогонит из-за них отца или
сына, кто отделится от братьев. Добившись своего, они всю заботу
обращают на своден и любовников. Самая целомудренная из них
предпочла бы остаться скорее при одном глазе, чем при одном
любовнике. Их сладострастие не знает меры и выбора: слуга,
крестьянин, мельник или эфиоп — все равно; бывали такие, что
возвращались усталые, не удовлетворенные, из публичного дома. Они
представляются робкими, боязливыми, когда приходится исполнять
благовидные требования мужа, на высоте у них кружится голова,
моря они не выносят, ночью боятся привидений; шорох крысы, стук
окна, падение камня заставляет их сомлеть; но когда дело идет
об их нечестных делах, они храбры духом: пробираются к своим
милым по крышам, прячут их в сундуках, принимают на ложе
при мужьях, что хуже, забавляются с любовником в присутствии
супруга. А сколько бывает выкидышей, покинутых детей, сколько
их убивают? — Как все, обыкшие творить злое, ожидают того же
и от других, женщины подозрительны, потому они и водятся с
звездочетами, некромантами, знахарками и вещуньями, которые
кормят их баснями; не удовлетворенные ими, они начинают приставать
за разъяснениями к мужьям, но редко им верят и приходят в
неописанный гнев. Тигры, львы и змеи человечнее их, нет пощады ни
другу, ни брату, ни отцу, ни мужу, и яд и поджог и меч тотчас же идут
в ход. Нет большего чуда, как то, что Господь их терпит! — К тому же
все это отродье страшно любостяжательно: они обирают мужей,
своих собственных детей, которых опекают, любовников, к которым
равнодушны, и не задумаются выйти за богатого старика,
слюнявого, разбитого, беззубого, в надежде скоро овдоветь. Если годы
позволят ему иметь потомство, тем лучше, иначе дети явятся,
хотя бы и подставные, чтобы вдове можно было благодетельствовать
на счет опекаемого. — Ветренные и непостоянные во всем, кроме
сладострастия, полные самомнения, они упрямы и непокорны.
Если богатая женщина невыносима, то нет ничего неприятнее
бедной, когда она строптива. Они послушны лишь тогда, когда
добиваются нарядов и объятий, во всех других случаях вменяют
526
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
послушание в знак рабства. — Болтливы они до надоедливости;
бедные ученые претерпевают холод и голод, проводят бессонные
ночи и убеждаются после многих лет, что мало чему научились;
женщинам стоит простоять в церкви обедню, и они уже знают как
вращается твердь, сколько и каких звезд на небе, как происходит
гром и молния и град, что делается в Индии или Испании, откуда
выходит Нил; с кем спала ее соседка, от кого другая беременна,
и сколько той курица несет в год яиц. Одним словом, им ведомо все,
что когда-либо совершали троянцы, греки и римляне, и, если не
найдется других слушателей, они болтают о том с служанкой,
булочницей или прачкой. Такую же мудрость преподают они и дочкам:
как грабить мужей, получать любовные записочки, притворяться
больной; откуда только являются у них слезы, по первому
требованию, про то Бог знает! А как покорно они выслушивают замечания
на счет какой-либо прорухи, особенно, если кто увидит ее
собственными глазами! Это было не так! говорят они тогда, либо: Ты
отъявленно лжешь, у тебя в глазах двоится, мозги в починке, пей меньше;
в уме ли ты? Ты бредишь наяву! Если они станут утверждать, что
видели летающего осла, придется согласиться, чтобы не навлечь
на себя смертельной вражды, ибо они надменны, и если кто
вздумает принижать их ум, говорят: Разве сивиллы не были мудрыми?
Точно каждая из них считает себя одиннадцатой сивиллой. Но вот
что дивно, что в течение стольких тысяч лет нашлось всего десять
мудрых женщин. Они идут и далее, утверждая, что все хорошее —
женского рода: звезды, планеты, музы, добродетели,
неблагоразумно отдавая себя под защиту Пресвятой Девы и других святых,
таких же женщин, как они. Но Пресвятая Дева, чистая и полная
благости, так далека от плотския скверны, что, в сравнении с
другими, создана почти не из природного естества, а из какой-то пятой
стихии, как будущий сосуд и обитель Сына Божия; святые же
восхотели подражать ей, пренебрегли светом, бежали его, презирая
земную красоту в чаянии небесной. Если б позволено было обвинить
природу, устроительницу всего сущего, я сказал бы что она сильно
проступилась, вселив столь великие и мужественные умы в столь
презренные тела, как женские. Потому да умолкнет этот род,
порочный и развратный, и да не украшает себя чужими
добродетелями! Если между ними объявится порой женщина, заслуживающая
уважения, то ее следует хвалить более, чем мужчину, потому что
ее победа была труднее; но в этих похвалах не было необходимости
нашим прадедам, не доживут до них и наши потомки: скорее
лебеди почернеют, вороны станут белыми, чем обратятся на правый путь
<«Корбаччо», эклоги>
527
наши женщины, затыкающие уши от нравоучений, как аспид
от трубного звука заклинателя.
Я не сказал тебе еще, как это отродье жадно, упрямо, строптиво,
тщеславно и завистливо, нерадиво, полно гнева и сумасбродно —
и уверен, что если б дошли до них мои обличения, они, вместо того
чтоб познать себя и исправиться, обвинили бы меня в том, что я
говорю неправду, ибо при жизни я любил, будто бы, не их, а кое-что
другое. Дал бы Бог, чтоб они никогда мне не нравились! Теперь мне
было бы меньше муки.
Но перейду к твоим занятиям. Они-то по крайней мере, если
не собственное сознание, должны были бы пояснить тебе, что ты —
мужчина, созданный по подобию Божию, совершеннейшее
животное, назначенное властвовать, не повиноваться. Это объявилось
на нашем прародителе, известно с древности и теперь еще ведется
у всех народов, что мужчинам, а не женщинам, предоставлена
власть и руководство, чем ясно показывается преимущество первых
над последними. Самый простой и незначащий человек, если только
он не лишен здравого смысла, превосходит женщину, считаемую
за доблестнейшую своего времени, тем более человек, выделившийся
из ремесленной толпы благодаря занятиям священными науками
и философией. К числу таковых принадлежишь и ты: трудом и
талантом, при помощи Божией, в которой нет отказа достойному,
если он помолит о ней, ты удостоился приобщиться к набольшим.
Почему же унижаешь ты себя, подчиняясь дрянной женщине? Сам
ты знаешь, что тебе не подобает посещать храмы и общественные
места, полные народа, а жить в уединении, изощряя ум в работе
и поэзии, чтобы стать лучше и по мере сил, более словом, чем делом,
умножить твою славу, конечную цель твоих стремлений — после
надежды на вечную жизнь. В лесах и уединении тебя никогда
не покинут касталийские нимфы, которым хотят уподобить себя
эти порочные; их красота — небесная, никогда они не пренебрегут
тобой, не наглумятся, не затеют с тобою разговора о том, какой
лен тоньше, из Витербо или романьольский, или что булочница
истопила слишком жарко, а у служанки не поднялось тесто; они
не расскажут тебе, что делала в прошлую ночь такая-то соседка,
сколько Отче Наш прочитала за проповедью другая, и надо или нет
переменить на платье галуны. Они ангельским голосом поведают
тебе о том, что было от начала света и поныне, и покоясь с тобою
в тени на траве у потока, последних волн которого никто не видел,
объяснят тебе причины, почему сменяются времена года, вращаются
солнце и луна; какая тайная сила питает растения и укрощает диких
528
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
животных; откуда спускаются к нам души, какими ступенями
восходят к бесконечному божественному благу, и по каким стремнинам
свергаются в бездны. Затем, пропев тебе стихи Гомера, Виргилия
и других древних поэтов, они, коли захочешь, споют тебе и твои
собственные. Такое общество всегда тебе открыто, а для кого ты
его оставляешь? Праведно поступили бы они, если б изгнали тебя
из своего прелестного сонма, когда, отдавшись животной страсти,
не стыдясь, грязный и запятнанный, ты снова возвращаешься
к ним. И это так и будет, если ты не перестанешь, они также умеют
негодовать; а какой стыд будет для тебя, если это случится!
Но знаешь ли ты, под чье иго ты подставил свою выю? Я расскажу
тебе о ней, кичащейся своим всеведением, дабы ты не подумал, что
она отличается от других. Эту женщину, вернее дракона, я почти
не знал, когда по желанию друзей и родных женился на ней по
смерти первой жены, которая была гораздо ее сноснее. Она была вдова
и уже знакома с искусством обмана. В дом она вошла голубкой,
но затем стала змеей, и я сознаюсь, что мое излишнее благодушие
было причиной всех моих бед. Я пытался было обуздать ее, но зло
так укоренилось, что его пришлось переносить, а не врачевать;
и я склонил выю, чтобы не подливать масла в огонь. Она то и делала,
что кричала и бранилась и била прислугу, и хотя принесла с собой
незначительное приданое, держала высокомерные речи, точно
я из крестьян, а она из швабского дома, и ее род мне не известен.
Им она кичилась, не зная о нем ничего, разве когда, пересчитывая
вывешенные в церкви фамильные гербовые щиты, по их количеству
и древности судила о своем благородстве. Но если бы на десять
недостойных мужчин ее рода, более удачливых своим плодородием,
чем доблестью, повесить один герб, и снять взамен его один из тех,
которым отличены были между ними получившие рыцарское звание
(хотя к ним оно шло, как седло к свинье), я убежден что рыцарских
гербов не оказалось бы ни одного, а негодных целые сотни. Невежды
полагают рыцарское звание в платье, подбитом беличьим мехом,
в мече и позолоченных шпорах, которыми мог бы обзавестись
любой ремесленник и крестьянин, в куске ткани и каком-нибудь
гербе, который можно было бы повесить в церкви по смерти. Таковы
нынешние рыцари; насколько они далеки от настоящих, то ведает
Господь.
Так величалась она и кичилась, а я, сложив по трусости оружие,
ожидал, что она опомнится, пока не увидел, что принес к себе не мир
и покой, а распрю и пламя и недолю. Я начал избегать своего
дома и возвращался в него к ночи, как в тюрьму. Став хозяйкой, она
<«Корбаччо», эклоги>
529
во всем завела свои порядки: носила платья, какие ей хотелось, не те,
какие я ей делал, проверяла счеты моих доходов, распоряжаясь
деньгами по своему усмотрению и уличая меня в недоверии, если
я медлил передать ей что-либо оставшееся у меня на руках. Так она
добилась своего, слагая оружие лишь после победы, тогда как я,
по неразумию своему обнаруживал все большую слабость, желая
избегнуть неприятностей; за эту-то слабость я и горю теперь в этой
огненной одежде. Теперь-то она и начала проявлять все те доблести,
о которых так торжественно докладывал тебе твой друг. Мне они
хорошо известны. Нет в нашем городе женщины суетнее ее.
Вообразила она себе, что особая красота женщины в полных, румяных
щеках и развитых, выпяченных Лгодицах; это, слышно, нравится
в Александрии. И она добилась того: пока я постился, в видах
сбережения, она питалась каплунами, макаронами с пармезаном, который
пожирала, как свинья, не с блюда, а в миске, словно недавно вышла
из «Голодной башни». Ей требовались молочные телята, серые
куропатки, фазаны, жирные дрозды, голуби, ломбардские похлебки,
макароны с начинкой, оладьи с бузиной, крупичатые торты и рагу,
которые она глотала, как крестьянин фиги, черешни или дыни,
когда он до них доберется. Кислого и едкого, что сушит тело, она
избегала, как врага, зато знала толк в хороших винах и попивала
усердно, в чем ты сам мог бы убедиться, пока я был в живых, если б
обратил внимание на ее щеки и болтливость. Не знаю, похудела ли
она с поста, который наложила на себя в мое спасение; если б даже
она держала его при тебе и мне пришлось в том расписаться, я все же
не поверил бы тому.
При этих словах, несмотря на печальное настроение духа и
раскаяние, я не мог удержаться от смеха. А дух продолжал, не смущаясь:
И вот твоя дама, настоящая чертова прелестница, не
удовольствовалась тем, чтобы стать плотнее, а пожелала, чтоб тело у нее было
нежное и блестящее. Стала она готовить разные притирания, перегонять
воду; понадобилась ей кровь разных животных, всякие травы; мой
дом наполнился горнами, кубами, горшечками, склянками; не было
во Флоренции аптекаря, огородника или булочника, который бы
не работал на нее. Всем этим она притиралась и красилась так, что
когда мне случалось поцеловать ее, я увязал губами. Ты не
поверишь, какими сортами золы она мыла свою златокудрую головку
и с каким торжеством совершалось хождение в баню, из которой
она приходила более испачканной, чем отправляясь туда. При ней
всегда были две или три женщины из тех, которые ходят лощить
стеклом кожу дам на лице и шее, вырывая ненужные волоски, а с этим
530
Α Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
полезным ремеслом соединяют и другое: посредниц любви. Но мне
не хватило бы недели, если б я хотел рассказать, как приобреталась
и охранялась эта искусственная красота, скорее безобразие. Всего-то
она боялась: солнца и воздуха, пыли и ветра; муха, севшая на лицо,
была для нее таким несчастьем, что в сравнении с ним потеря Акры
христианами показалась бы пустяком. Случилось однажды, что муха
пристала к ней, а она только что притерлась каким-то новым зельем;
как она ни отгоняла ее, та назойливо возвращалась; тогда схватив
метлу, она стала метаться за ней по всему дому, и не попадись она
ей под руку, я уверен, она лопнула бы от злости. Как ты думаешь:
если бы о ту пору ей попался какой-нибудь щит или золоченый меч
ее родичей-рыцарей, ведь она наверно вступила бы с мухой в бой?
Ночью жужжание комара приводило ее в неистовство, весь дом
поднимался на ноги, и она не ранее успокаивалась, как когда ей
подносили преступника, осмеливавшегося досаждать ей и грозившего
испортить ее прелестное личико. Но всего потешнее было видеть,
как она убирала себе голову. Когда она была помоложе (ближе к
сорока, чем к тридцати годам, хотя, будучи дурной счетчицей, она
давала себе двадцать восемь лет), она всегда запасалась, в какую бы
то ни было пору года, зеленью и цветами шести сортов, из которых
плела гирлянды. Встав спозаранку, омыв своими снадобьями лицо
и шею, она садилась у зеркала или и у двух, чтобы видеть себя со всех
сторон, какое зеркало ей более польстит. Окруженная склянками
и всякими зельями, она приказывала причесать себя, на волосы
клала какую-то повязку из пеньки, которую зовут косами;
пришпилив ее тонкой шелковой сеткой, она начинала накалывать цветы,
убирая голову, словно павлиний хвост, и все смотрясь в зеркало.
С годами, когда в волосах показалась седина, хотя ее ежедневно
удаляли, вместо зелени и цветов явились шпильки и вуали. И здесь
та же возня: Этот вуаль слишком мало поджелтили, говорит она
служанке, этот слишком свесился; тот спусти, этот подтяни на лбу;
переколи пониже шпильку да возьми стеклышко и соскобли волосок
под левым ухом. Случалось, что служанка не угождала, и она гнала
ее, разражаясь бранью: Пойди прочь, тебе бы только кастрюли
чистить! Позови ко мне такую-то. И работа начиналась снова; затем,
помуслив палец, она, точно кошка лапкой, принималась
приглаживать тот или другой волосок, и не только гляделась в зеркало,
но приказывала и служанке оглядеть себя, все ли у нее в порядке,
точно дело шло о ее чести, а когда выходила к поджидавшим ее
подругам, беседа шла о том же. Я хорошо знаю, что все это не новость,
ведь другие женщины делают тоже самое; тем скорее ты поймешь,
<«Корбаччо», эклоги>
531
что из всего этого выходило. Когда ее спрашивали, для кого она
так рядится, она отвечала, что для меня, чтоб мне понравиться,
а я будто волочусь за служанками и пропащими женщинами. Она
отъявленно лгала, а я так не раз замечал, как она бодрилась, словно
сокол, с которого сняли клобучок, когда проходил какой-нибудь
молодой человек; а в каком она бывала восторге, когда ее хвалили,
и как готова была убить своими собственными руками того, кто
отозвался о ней нелестно! Такою-то суетностью и прелестями и
откровенностью взглядов и слов, неприличных порядочной женщине,
она привлекала к себе любовников, из которых многие добились
цели, не утолив ее пламени. Я не пускаюсь в подробности, это
было бы плохим средством к твоему уврачеванию, ибо я знаю, что
мужчины, желающие сближения с женщиной, тем сильнее пылают,
чем страстнее она оказывается. Скажу только, что жив еще некий
рыцарь, когда-то более храбрый, чем удачливый, которому она
отдалась еще при моей жизни, что я подозревал, а теперь знаю. Здесь
она проявила свою щедрость, о которой говорил твой друг, одаряя
его не своим, а моим добром, когда вещами, когда деньгами. Был
у меня еще сосед, которого я более любил, чем он соблюдал мою
честь; ему и еще одному своему родственнику она также не отказала
в своих объятиях.
Мне надо было бы по порядку рассказать о любезности,
услужливости, которая, по ее словам, так ей по сердцу. Разумеется,
по сердцу: пока она была молода, она никогда не отказывала в
услугах, и теперь ожидает, что и ей не будет отказа. Дивлюсь я, как
тебя она обошла; должно быть, Бог тебя хранит. Нравятся ей еще
мудрые люди; она, в самом деле, мудрейшая; но тебе известно, что
мудрость бывает разная. Одних славят за то, что они отлично
понимают священное писание и умеют истолковать его, другие,
сведущие в законах, дают полезные советы; иные, испытанные в делах
правления, знают чего избегать, чему следовать; многих считают
умными, потому что они хорошо ведут торговлю, занимаются
ремеслом, домашними делами. Но есть еще род мудрых людей, о которых
ты еще не слышал в школе между философами. Как последователи
Сократа и Платона носят их имена, так есть еще одна секта,
принявшая имя некой достойной женщины, о которой ты, чай, не раз
слыхал: мадонны Чангеллы. По ее предложению, после долгого
и серьезного спора на соборе женщин положено было за правило:
всех женщин, обладающих смелостью и отважностью и уменьем
отдаваться скольким бы мужчинам им ни пожелалось — считать
мудрыми, всех же других за сопливых дур. В этой-то мудрости она
532
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
превзошла всякую сивиллу, и не раз говорили, уж не ей ли достоит
занять место покойной Чангеллы и ее наследницы, монны Дианы.
Ты, стало быть, ошибся, иначе поняв ее мудрость и требование
ею — мужества. Ей нужны не бранные подвиги и не пролитие крови,
а другое; любой сарацин с площади будет ей Ланцелотом,
Тристаном, Оливьером, коли знает свое дело8; если годы не отняли у тебя
прежней силы, тебе нечего было отчаиваться — в заблуждении, что
от тебя ожидают храбрости Амарольда Ирландского9.
Она говорит, что любит людей благородных; в благородстве она
ничего не смыслит, и если сказала так, то лишь затем, чтобы и тебе
показаться дамой древнего рода, ибо она считает свой род старше
королевского баварского или французского. Что она благородна
и — дама, этого она никогда не докажет, а что она древняя — в этом
вскоре убедит ее лицо. Пишет она тебе, что любит людей, умеющих
красно говорить; верно то, что она бесконечно болтлива и одна своей
болтовней помогла бы луне в ее превращениях гораздо более, чем
все тазы древних. То она хвастается в кругу женщин: моя родня,
мои предки! и млеет от восторга, когда ее слушают или титулуют.
Ей известно, что творится во Франции, что приказал английский
король, будет ли в Сицилии урожай, привезут ли генуэзцы или
венецианцы пряности с востока, спала ли прошлую ночь королева
Джованна с мужем и что затевают у себя флорентийцы, — хотя
разузнать об этом ей было бы не трудно, стоило только повидаться
с кем-нибудь из наших правителей, они держат тайну так же, как
корзина или решето воду. Если правду говорят естествоведы, что
у животного тот член вкуснее, который наиболее упражняется,
у нее всего вкуснее язык; и во сне он болтает. Кто, не зная ее,
послушал бы, что она говорит о себе, счел бы ее за святую, высокородную;
знающего оно тошнит. А попробуй-ка не поверить ее россказням,
она готова подраться, ибо мнит себя храбрее Галеотто с Дальних
островов, либо Фебуса: не раз она говорила, что, будь она
мужчиной, то превзошла бы не только Марка красавца, но и Герардина,
бившегося с медведицей.
Но перейду к некоторым сокровенным предметам, которых ты
не мог ведать, да и я был бы счастлив, если б их не познал. Сначала
устраню твое сомнение: ты скажешь, что не след говорить о
подобных вещах, что они и не приличны в устах такого человека, как
я, направившего свои стопы к вечной славе. На это я тебе отвечу:
не всякому недугу разумный врач полагает ароматическое
средство, иная болезнь требует и вонючего. Таковым недугом является
твоя страсть; крепкое, грязное слово действует здесь быстрее, чем
< « Корба ччо»,э кл оги>
533
дружественные и пристойные убеждения. Времени у нас
немного, а твое неупорядоченное желание требует скорого врачевания.
Выслушай-ка терпеливо, не обвиняя медика. Ты и многие другие
любовались на цвет ее лица, похожий на утреннюю розу, и принимали
его за естественный. Посмотрел бы ты на нее утром, когда она встает
с постели, с лицом зелено-желтым, прыщавая, точно птица в мы·
тях, морщинистая и облезлая; как, сидя на корточках, она греется
у огня, напялив на голову чепец, с шарфом на шее, в теплом капоте,
и кашляет и отплевывает шлепки, вытаращив глаза с синеватыми
подтеками. Ты говоришь, что при виде ее красоты страсть забирала
тебя, как огонь маслянистые предметы; тогда она показалась бы
тебе грудой грязи или навоза, и ты обратился бы в бегство. Но ты
знаешь, что и задымленную стену и лицо можно выбелить, и что
тесто поднимается, если его бьют. Так и ее красота — искусственная:
и стройный стан, и грудь и все другое — не то, чем тебе кажется.
Все вы принимаете кукушку за ястреба, так и ты, хотя тебе, более,
чем другим, подобало бы внимать истине, не тому, что кажется.
Что касается до отчаяния, в которое ты впал вчера по твоему
неразумию, то я начну рассказ несколько издалека: и тебе будет
от того польза, да и я облегчу хоть немного свое негодование. До того
довела меня эта мерзкая женщина, что от печали, которую я таил,
кровь воспалилась и, внезапно наполнив сердце, была причиной
мгновенной смерти. Как только душа моя отрешилась от бренного
тела, я познал, что то была за женщина; она же, несказанно
довольная, тайком припрятала многое из моих вещей и деньги, наследье
моих детей, которые я безрассудно ей вверил, а на людях проливала
притворные слезы, громко сетуя и проклиная судьбу и объявляя
о своем намерении — поселиться в какой-нибудь келейке при церкви
или монастыре и здесь проводить время в молитве. Она так ловко
притворялась, что все ей поверили; и она устроилась поблизости
того монастыря, где ты ее видел, ибо здесь она была не на виду, и ей
легче было отдаваться своим желаниям, потому что, если б не
достало других любовников, монахи всегда налицо: они люди святые
и сострадательны к вдовам. И вот она выходила в церковь, с черным
покрывалом на лице, спущенным глубоко на глаза, точно собралась
строить буку; то откинет его, то запахнет, то выставит руку, на
черном она выходит еще красивее. Так она охотится на молодых людей,
не довольствуясь однообразной пищей; так и ты попался в ее сети.
Бесконечно перебирая четки, она и не помышляет о молитвах; ей
не до того: надо перекинуться словом с соседкой, той шепнуть, эту
выслушать. Ты скажешь, что все это она возмещает в своей келье,
534
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
но за меня она не молится, это я ощутил бы, молитва за усопших
утишила бы мои жгучие страдания, как холодная вода ожоги;
может быть, она молилась за другого: недавно у вас умер некто, и это
так ее опечалило, что целую неделю она не прикасалась к яйцам
и макаронам. Ее обычные молитвы — французские романы и
латинские песни, песня о «Загадке» (Indovinello) и повесть о Флорио
и Бьянчифьоре; она млеет, читая о любовных свиданиях Ланцелота
и Тристана с их милыми, а в промежутке забавляется, точно девочка,
с ручными зверьками. В числе многих ее приятелей состоит и
упомянутый мною второй Авессалом, которым она не особенно довольна;
пошел он на это дело, презрев то, что сделал для него Господь, хотя
и многие другие законные причины должны были бы воздержать
его. Он за это и поплатится: есть у него сын, такой же ему родной,
как Христос Иосифу, тот за меня отомстит; не миновать ему, что
говорится в пословице: как осел лягнет в стену, так и ему отдастся,
кто орет в чужом поле, вызывает на то же.
Таковы-то похвальные нравы той женщины, и нечего было тебе
так принимать к сердцу обиду. Но расскажу тебе, как и что я узнал
о твоем письме. До нас доходят вести с того света, и нам бывает порой
дозволено являться сюда. Случилось, что в ночь того дня, когда ты
писал ей, явился и я, влекомый каким-то чувством сострадания,
побуждающим нас любить не только друзей, но и недругов. Я
вошел в ее спальню, и все осмотрев, уже хотел было удалиться, когда
при свете лампады, теплившейся перед ликом Мадонны, увидел ее
на ложе, и не одну. Они чему-то смеялись; не прошло много
времени, как она поднялась по просьбе своего милого, зажгла светоч,
и достав из сундука твое письмо, вернулась. Стали они читать,
и я слышал, как они глумились, поминая твое имя: и простак-то,
и дубина; должно быть, писал в просонках, принял одно за другое;
а как ты думаешь: хватило ли бы его? А еще считает себя умным!
Чем бегать за благородными дамами, лучше бы пошел полоть свои
луковицы. Палки ему нужно, отхлестать бы его по щекам телячьим
желудком, пока хватило бы того и другого! Досталось там и твоим
дорогим музам, Аристотелю и Туллию, Виргилию и Титу Ливию,
которых ты считаешь своими друзьями и ближними. Их смешивали
с грязью, на счет их кичились и насмехались, должно быть, поели
они и выпили в излишестве. Тут они условились и насчет ответа тебе,
и если б не опасения любовника, боявшегося ее тщеславия и
ветрености, ты получил бы и еще несколько посланий. Что бы сказал ты,
если бы все это сам услышал? Наверно бы повесился! Но если б ты
был в здравом уме, не говоря уже о том, что могла раскрыть тебе твоя
<«Корбаччо», эклоги>
535
наука, тебе следовало бы посмеяться, ибо твоя милая ничем не
разнится от женщин вообще. Сам ты не раз говорил, что им в высшей
степени нравится, когда их считают красивыми, и что более, чем
на зеркало, они полагаются на число ухаживателей. Вот почему
и ей были приятны твои взгляды, и она показывала на тебя: она,
стало быть, еще может нравиться, если увлекся ею ты, известный
знаток женских форм. Иной объяснит это пожалуй иначе: она
исправилась, обратилась на правый путь, а ты приставал к ней; она
и показывала на тебя: Посмотрите-ка на врага Божия, не дает мне
спастись! Может быть, делала она это не с той и не с другой целью,
а просто, чтобы пошутить и поболтать. Какая-бы тому ни была
причина, ты должен был знать, что нет женщины разумной, что все они
жестоки, низки и ужасны.
Но оставим это; допустим, что все, что твой друг рассказывал о ее
доблестях, верно; ведь эти добродетели были несовместны с твоим
посланием, ты должен был понимать это, и если увлекся, то, очевидно,
не ими, а ее красотой. И ты не разглядел, что она стара и противна,
и готов был умереть! Неужели ты считаешь себя ни во что, так
малодушен, неотесан, худороден? Ты надеялся овладеть ее дряблыми
прелестями, но если бы ты знал, что это такое, твое желание было бы
менее страстно. Коли ты рассчитывал разжиться от нее, то ошибся:
она была щедра моим добром, а теперь ей приходится жаться. Годов
тебе она не могла бы ни прибавить, не убавить, ни научить, разве
дурному, ни доставить блаженства, ибо ей знакомо лишь
блаженство плоти, чем она сама себя осудила на вечные муки. Может быть,
она могла сделать тебя приором, чего теперь у вас так добиваются;
но я знаю, что сенаторы вашего Капитолия не склоняют ныне слуха
к хищным высокородным волкам, от которых и она произошла, для
этого надо было бы, чтобы она так же приглянулась всем
избирателям, как приглянулась тебе; но едва ли такие безумцы найдутся.
А сколько именитых, благородных мужей я мог бы назвать,
имена которых ты припомнишь теперь к своему вреду, когда мог бы
вспомнить о них с пользой для себя! Тебе стоило только захотеть,
и ты был бы им дорог, но вследствие излишней и непохвальной
гордости ты не сходишься с ними, а если с кем сойдешься, не
выносишь, если он не потворствует твоим нравам и не потакает, тогда
как все это подобало бы делать тебе. Они могли бы возвысить тебя,
она лишь принизит, а ты склонился перед нею, ветхой,
задыхающейся старухой, которой следовало бы не показываться в людях,
а сторожить золу в комельке. Не говоря о том, что по милости Бо-
жией ты приобрел своими занятиями, а лишь о том, чем одарила
536
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
тебя природа, тебе надо было бы стыдиться — а ведь ты горд — что
тебя, как коршуна, подманила падаль. Природа оказала тебе
благодеяние, сотворив тебя мужчиной; я уже объяснил тебе, насколько
он выше женщины. Если она показалась тебе высокой и стройной
и красивой, то ведь и ты не малого роста, не хуже ее сложен и среди
мужчин не менее красив, чем она между женщинами, хотя она
притирается, тогда как ты редко, если когда-нибудь, моешься простой
водой; я скажу даже, что ты красивее ее, хотя и не занимаешься
собой, что мужчине и неприлично; одно только, борода у тебя сильно
поседела и побелели виски, а у нее нет, хотя она и гораздо старше
тебя. И все же ей бы подобало скорее искать твоей любви, не тебе
ее добиваться. Одно, по твоему мнению, за ней преимущество: что
она благородна; но из-за этого она не отринула бы тебя: что такое ее
Авессалом? Ты заблуждаешься, если держишься народного мнения
о благородстве. Неужто ты не знаешь, что истинное благородство
и что ложное? Нет мальчика в философских школах, который бы
не знал, что по отцу и матери мы все равны, созданы одним
Творцом, одарены свободной волей, и что, кто поступал добродетельно,
того звали благородным, кто же отдавался порокам, то наоборот.
Каково же благородство ее родичей и предков? Род их был
многочисленный, ибо они плодились — но это дар природы, не доблесть;
сильные числом, они разбогатели разбоем и грабежом и, возмнив
о себе, осмелились возложить на себя рыцарское звание, подобно
благородным. А что достойного и похвального совершили они для
государства или для частных людей? А если б кто и совершил, то при
чем тут она? Благородство ведь нельзя передать в наследье; у тебя его
больше, хотя и нет фамильных гербов, но любя ее, ты запятнал бы
его, если б даже за тобой стоял весь род короля Банда Бенуакского.
Дух умолк, выжидая моего ответа. Я слушал его все время,
опустив голову, как человек, сознающий свой проступок. Благодатный
дух, начал я, ты научил меня, что прилично моему возрасту и
занятиям, раскрыл низость той, которую я избрал дамой своего сердца,
показал, насколько мужчина по природе благороднее женщины,
и что такое — я. Сам я стал совсем другим, но тем яснее
представляется мне моя греховность; это убьет меня, и хотя велико милосердие
Той, которая послала тебя в мое спасение, я отчаяваюсь в нем. —
Не бойся, отвечал он, божественная благость прощает и тяжелые
грехи, если в них принесено истинное раскаяние. — Господь знает,
что я раскаялся; но что мне делать? наставь меня. — Ты должен
возненавидеть, что любил, возненавидеть ее красоту и полюбить благо
твоей души. Затем ты должен отомстить ей. Ты знаешь, что ученые
<«Корбаччо», эклоги>
537
так умеют возвеличить, хотя бы и не заслуженно и ложно, тех, кого
захотят прославить, что кто бы ни послушал их, поверит, что те
люди по своим заслугам и доблестям превыше неба; наоборот: того,
кто возбудит ваш гнев, будь он добродетелен и полон достоинств,
вы низвергаете в глубину ада речами, внушающими доверие. Ты
хотел ее возвысить; умали ее; ты скажешь правду и, может быть,
это будет ей во спасение. — Если Господь сподобит меня выйти
из этого лабиринта, я постараюся удовлетворить тебя; мне не надо
будет особых побуждений, чтобы облегчить душу, никому другому
я не предоставлю отмстить за оскорбление, лишь бы мне хватило
жизни написать о ней в стихах или прозе; а настоящую месть,
которую люди видят в одном лишь оружии, я предоставляю Богу. Я ей
покажу, что не над всеми мужчинами можно глумиться одинаково,
и расскажу о ней такое, что она еще посетует, зачем я попался ей
на глаза, как я скорблю, что ее увидел. Лишь бы не изменилось
у меня настроение, а то у нас в городе долго будут петь про ее
низости и гадости, и я потщусь сохранить это для будущего в более
долговечных стихах.
Он молчал, и я начал снова: Скажи мне на милость: почему
на тебя, а не на кого другого, выпала доля явиться сюда на мое
спасение? Я не помню, чтобы на том свете мы вели с тобой любовь
или дружбу. — Здесь нет ни друзей, ни родных, отвечал он, все мы
горим любовью, всякий из нас был бы на это готов и годнее меня;
если выбрали меня, то потому, что та женщина была моею, меня
ты должен был устыдиться более, чем всякого другого, да и всякий
устыдился бы рассказать, что рассказал я; потому, наконец, что мне
ты поверил бы, как человеку, который был в состоянии все знать. —
Какие бы тому не были причины, я тебе верю и благодарен; но скажи
мне во имя того успокоения, которого ты чаешь, чем мне воздать
тебе, что сделать для облегчения твоей муки? — Моя негодная
жена забыла меня, у нее другие заботы, дети слишком малы, родные
лучше бы заботились о другом, чем об обирании опекаемых. Подай
по мою душу милостыню и вели отслужить обедню. Но час твоего
освобождения приблизился; посмотри на восток!
Над горами показался свет, будто перед восходом солнца, луч
пробился до нас, как бывает, когда солнце проглянет из-за туч,
намечая на земле светлую стезю. Чувство раскаяния, сознание греха
овладело мною сильнее, точно какая-то тяжесть свалилась с плеч,
и я ощутил себя легким и проворным. Ступай по этой стезе, сказал
мне дух, да не сбивайся, иначе ты запутаешься в кустарнике, и
неизвестно, удалось ли бы тебе снова дождаться помощи. — Он направил
538
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
шаги к высоким горам, увлекая меня за собою не без большого
усилия. На вершинах мне открылось чистое, светлое небо, воздух
был мягкий, все зеленело и цвело, так что я забыл об испытанных
невзгодах; оглянувшись назад, я увидел не долину, а что-то глубокое,
спускавшееся до преисподней, полное ночного мрака и сетований.
Ты свободен, сказал мне дух, — и такова была моя радость, что
я хотел броситься на колени перед моим благодетелем — и^проснул-
ся, в поту, точно в самом деле совершил восхождение. Я стал
размышлять о видении и почел его правдивым, а о чем дотоле не знал,
то подтвердили впоследствии расспросы. — Солнце уже поднялось,
когда, отправившись к друзьям, с которыми привык отводить душу,
я рассказал им мой сон; точно вдохновленный Богом, я решился
выйти из плачевной долины, и не прошло несколько дней, как я снова
располагал собою, как, бывало, прежде. А ее я еще накажу моим
писанием: перестанет она показывать своим любовникам письма
и будет поминать меня с печалью и стыдом!
Но надо дать отдохнуть руке; ты кончена, малая моя книжка,
будь полезна, особенно молодым людям, а негодным женщинам
не показывайся на глаза, ни той, которая вызвала тебя. От нее тебе
будет худой привет, да она стоит и большей кары, чем та, которую
ты несешь с собой. Она и дождется ее вскоре, по попущению Господа,
подателя всяких милостей.
III
Данте и Ювенал, новелла, полная самого откровенного, иногда
грубого шаржа, и мотивы чистилищной легенды — вот впечатление,
которое выносит из Корбаччо читатель, преследующий не
психологические, а стилистические цели. С такого именно чтения полезно
начать, чтобы тотчас же разобраться в некоторых вопросах. Ювенал
дал несколько штрихов и красок для реальной картинки нравов,
в которой все верно, до цинизма, и все преувеличено в свете завзятой
страстности. Это бьет в глаза и так поглощает внимание, что за
массой беспощадной житейской грязи мы невольно забываем, где мы,
забываем рамку рассказа, где все полно дантовских воспоминаний,
не только в стиле, но и в мотивах: жизнь, отданная плотской любви,
аллегорически изображена как чистилище, с перспективой ада в
глубине; мрачная, суровая долина, отвечающая дикому лесу, в котором
заблудился Данте; как он зашел туда, он не знает, так и Боккаччо;
того и другого выводят из юдоли плача чудесные руководители,
посланные Пресвятой Девой, обоих освещает аллегорическое солнце
<«Корбаччо», эклоги>
539
истины, сознания, и оба, выбравшись на правый путь, готовы
броситься на колени перед своими спасителями.
Таковы дантовские элементы Корбаччо, но мы их забываем
за колоритным образом злой жены, он становится для нас целью,
и мы ни разу не настраиваемся благоговейно к идеям спасения
и нравственного улучшения. Данте также бывает реален и резок,
но все это исчезает в общем тоне поэмы, и мы не сбиваемся с светлой
стези; у Боккаччо эти противоречия не примирены; он сам
чувствует несообразность грязных откровений в устах духа, кающегося
и наставляющего к тому другого — и спасается софизмом, что
некоторые болезни требуют сильных средств. Дело в том, что здесь,
как нередко, дантовские мотивы явились для него чем-то внешним,
поэтической формулой; они попали в тон, когда он переживал то
настроение духа, которое выразилось в его Амето и Любовном Видении,
но ему не доставало мистической веры Данте, его религиозность
несколько внешняя: он особо чтил Богородицу, славословил ее, верил
в спасительную силу молитв за усопших, в действие заупокойной
обедни и милостыни по душу, но мирские мысли не покидают ни его,
ни его руководителя, от которого мы ожидали бы совершенно иного
настроения. Между тем именно он все еще полон плотского гнева
и в рассказах о мерзостях жены ищет средства успокоиться, отвести
душу. Он и обновляет в Боккаччо жажду мести: она будет ему
искуплением, искуплением и ей; так говорит дух чистилища, где все
одинаково горят — любовью. И Боккаччо страстно отдается этой
идее: он отомстит жестоко, всенародно, но этого мало, и он призывает
еще кару Господа, Бога любви, как в самом начале памфлета идея
мести представляется небесным утешением, ниспосланным свыше.
Корбаччо — песнь беспощадной мести, за оскорбленное
самолюбие мужчины, сказать точнее: физиологическое самолюбие. Эта
непривлекательная сторона памфлета бьет в глаза, ее не удалишь,
как впечатление восьмой горациевской эноды, но она получает
несколько другое освещение, если спросить себя; кто настоящий
объект памфлета? Не женщина, обманувшая Боккаччо, а он сам,
старый Дионео, знаток женщин плотски-страстный, сознающий
себя рабом своего темперамента, в самой борьбе с ним призывающий
образы плоти. Образы отрицательные, пугающие своей мерзостью;
этот шарж — признак слабости: человека плоти надо было побить
ею же, надо было вдуматься в обратную сторону медали, заставить
себя возненавидеть то, что прежде пленяло. И Боккаччо негодует
на себя, старается запугать воображение, вживаясь в понимание
любви как греха и недуга, раскрывая самые грязные ее подробности,
540
А H. ВЕСЕЛОВСКИЙ
упиваясь их безобразием, приучая себя к ненависти, как
созерцание трупа приучало аскета к идее смерти; может быть, торжествуя
сарказмом над бессилием. За эту внутреннюю борьбу темперамента
и сознания поплатилась — женщина; женщины вообще. Мизоги-
нические течения средневекового общества, как-то мирившиеся
с идеалистическими, слишком хорошо известны: они питались
изречениями Сираха, Секунда и Морольфа10, отражались в фаблио
и сюжетах захожей восточной сказки, взлелеяли и свою
теоретическую литературу — от популярного трактата Теофраста, которым
пользовался дьякон Лотарий (Иннокентий III) и Roman de la Rose,
до Валерия, Андрея Капеллана и Матеола11. Этими и подобными
статьями, соединенными в один том, зачитывался Оксфордский
клерик у Чосера12; читал и хохотал к великому смущению Батской
вдовы: примеров о злых женах он знал больше, чем сказаний о
добродетельных женах Библии; да разве клерик может сказать что-либо
доброе о женщинах, коли не о святых?
Боккаччо впадает в это настроение под влиянием жизненного
момента; к Теофрасту он не раз обратится впоследствии; теперь он
прислушался к Ювеналу. От характеристики женской слабости
и требования мужского руководства, о чем говорится в иных
новеллах Декамерона, он сразу переходит к завзятому ригористическому
взгляду на женщину, как неспособную к добру, как на создание
низшего разбора; в свете правят мужчины: самый презренный из них
лучше всякой женщины, которую почитают достойнейшею. А он
допустил себя унижаться перед развратной, молодящейся старухой,
подбодряет себя Боккаччо; чего искал он в ней? Ведь не наживы же,
говорит он, обрушая на себя ненужное подозрение. Одним разве она
выше его, что она дворянка; но тут перед ним восставал болевой
вопрос, издавна тревоживший его в его отношениях к Фьямметте.
Ему больно было его социальное неравенство; порой он утешал себя
уверением, что его мать из хорошего рода, он пошел в нее, но затем
в нем проснулось самосознание, гордость, это «intime avènement des
gueux qui sont rois»13. Не сословный протест, как у Baca, Рютбёфа
и Jean de Meung14, не учение о нивелирующей силе любви, как
у Андрея Капеллана, побудили его теперь открыто поставить вопрос
о благородстве, как личной доблести, бросив перчатку родовой знати.
В Италии это решение не ново: мы встречаем его у Генриха из Сет-
тимелло, Данте, Биндо Боники, Петрарки, Заноби (в венчальной
речи) и др.; у Боккаччо в предисловии к переводу 4-й декады Ливия,
в Декамероне, позднее в De Claris Mulieribus, в De Casibus по поводу
Астиага, выдавшего свою дочь за простого мещанина, дабы в их сыне
<«Корбаччо», эклоги>
541
(Кире) неблагородная кровь отца умерила прирожденное от матери
величие духа. Точно у нас души от родителей, говорит Боккаччо,
Сократ пошел в отца-мраморщика и мать повитуху, а Еврипид и
Демосфен вынесли свой пафос и красноречие из материнской утробы?
Иной раз проскользнет и старый взгляд на родовитость, когда напр.
выражается недоверие, чтобы философски-образованная гетера
Леонциум вышла из плебса, ибо из такой грязи редко выдаются
великие таланты, а если и посылаются небом, то их блеск бывает
омрачен низменной долей. В Корбаччо этих колебаний не
заметно: у Боккаччо нет фамильных гербов, он из крестьян Чертальдо,
славной своими луковицами, куда иронически и отсылает его дама,
а между тем, он благороднее ее: его ум, его занятия выдвинули его
из толпы; он не кое-кто: не будь его горделивая неподатливость, его
superbia, он был бы своим человеком у людей, которые могли бы его
возвысить. Его слово — сила: он сам может и возвеличить и
принизить; у него есть слава, которую он обязан умножить и лелеять.
Так говорил Памфило, приготовляя свое общество к назидательным
рассказам последнего дня Декамерона: беседуя о делах великодушия
«и совершая их, вы несомненно воспылаете духом... к доблестным
поступкам, и наша жизнь, которая в смертном теле может быть лишь
кратковременной, продлится в славной молве о нас, а этого должен
не только желать, но всеми силами добиваться и оправдывать делом
всякий, кто не служит лишь своей утробе, как то делают звери».
«Почему не тщимся мы доблестными поступками распространить
нашу славу и тем продолжить наши краткие дни?» — спрашивал
Боккаччо в одном сонете; «вот, что нам приносит, что сохраняет
нашу честь, снимая с нас пелену годов, украшая долголетием». До тех
пор тому мешали женщины и любовь; касталийские музы, то есть
наука, были забыты, и они гневаются; скорее же к нимфам, в тихий
лес, где они вещают о тайнах естества и божественной благости,
где поют стихи Гомера и Виргилия, быть может, и твои, говорит
за Боккаччо его руководитель. Музы не покинут, они не женщины.
«Музы — женщины», — писал Боккаччо в защиту первых трех
дней Декамерона, и хотя женщины «и не стоят того, чего стоят
музы» , тем не менее они «были мне поводом сочинить тысячу стихов,
тогда как музы никогда не дали мне повода и для одного» ; Ты мой
Аполлон, ты моя муза, пел когда-то Боккаччо Фьямметте. Теперь
фронт переменился: музы не женщины, а нечто серьезное,
целомудренное и назидательное, что не всякому доступно и граничит
с наукой и философией. Они требуют иного служения и иной поэзии;
когда я был молод, я писал, что подсказывала мне любовь, звучные
542
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
стихи шли навстречу той, которая воспламенила мое сердце; с тех
пор как смерть смежила очи, где я почерпал свою силу, стихи мне
опостылели; я направил стопы вслед ей, а годы сделали мою рифму
хриплой. Так говорил Боккаччо по смерти Фьямметты: нет еще
отрицания поэзии любви, нет только ее мотива; но годы
проходили, и вместе с ними литературные требования к себе становились
строже. «Я надеялся воззойти на ту и другую вершину Парнаса,
отведать касталийского источника, украсить голову венком, столь
любезным Аполлону; скромный наследник старых певцов, я
предался песням, хотя не глубоким, но легким и игривым. Но суровый,
тернистый путь жизни и усталые, седые годы отняли у меня надежду
добраться до цели, и я бросил стихи и рифмы и утомленные думы,
и теперь уж не напишу, как писал бывало». Я даром потратил время
и труд, всему виною слабость моего дарования, не способного
подняться на такую высоту, досказывал он в другом сонете. Это то же
болезненное самосознание, которое заставило его сжечь часть своих
юношеских итальянских стихотворений, когда он убедился, что ему
не сравниться с лирическими красотами Петрарки.
Итальянские, то есть, главным образом, любовные
стихотворения; оставалась строгая латинская поэзия. Она манила его издавна,
еще у гробницы Виргилия; ее, очевидно, он имеет в виду, когда
оплакивает упадок древней доблести, делавшей Италию царицей
мира, и касталийских муз, забытых обществом, преданным
любостяжанию. Он сам боится потеряться в нем и молит Феба о
помощи, о лавре для своей седеющей головы. Поэзия — это Саффо
ХИ-й эклоги, обитающая в лавровой роще, в сонме девяти муз,
между ними последняя и главная та, которая в сущности и делает
поэзию — поэзией: Каллиопа, благозвучная.
В этот заповедный лес зашел молодой Аристей-Боккаччо и срывает
ветки лавра. Что ты делаешь, безумец? останавливает его Каллиопа;
разве не знаешь, что эти ветви суждены тем, кто их заслужил по
праву? — Вот преступление! Я сорвал всего три небольших,
прельщенный их ароматом; нимфа ли ты, или богиня, пойди-ка, потряси те
дубы и подбери желуди — я не мешаю. — Ты возбуждаешь во мне
смех, сравнивая дуб с лавром; разве не знаешь ты, неразумный, что
желуди — пища свиней, лавровый венок назначен поэтам, которых
Аполлон поставил над своею рощею и священным источником,
над Каменами, кифарами и плектрами. — Так я в священной роще
Аполлона, куда так стремился! Как увидать мне славный сонм
поэтов, воспетый Мопсом (Петраркой), и нимф, и Саффо? — Какое
дело тебе до Саффо, тебе, мальчишке, свинопасу? — Я пылаю к ней,
<«Корбаччо», эклоги>
543
я всех для нее оставил и жажду ее объятий; хочу увидать ее,
невиданную; зачем — не спрашивай. — Ты жаждешь объятий Саффо!
Но это немыслимо; помнится, еще недавно ты чистил стойла,
готовил постилку свиньям, грязный и паршивый, а теперь полюбил
Саффо! Уж не ожидает ли тебя Паллада? — То была не Паллада,
а Аргус (= король Роберт); но почему бы не любить мне Саффо? Меня
долгое время любила Галатея, любила Филлида, но теперь мягкая
волна уже покрыла мои ланиты. Мудрый Пан вручил мне свирель,
научил когда-то и песням. Я не из толпы: моя мать — Кирена,
фессалийская нимфа, мне имя Аристей, я собираю мед и желуди
древнего аркадийского леса; казалось бы, знаю тебя! — Да это ты?;
как же это я тебя не признала! Ты ведь великий Орфей, судья богинь!
Не тебя ли я видела прежде, как ты пел на площадях народные
песни, при одобрении глупой толпы? — Да, это я, сознаюсь, но ведь
вкусы меняются, мальчику нравилась народная песня, ее я оставил
хромому Вулкану, с годами явилась и новая любовь. — Давно-ли
Батт не умел связать двух слов, а теперь, став Аристеем,
стремится к высотам Парнаса, охваченный страстью к ее богиням? Чего
только не делает Олимп? Ты воображаешь себе, что это Филлида
или Луписка, которых вы яблоком подманиваете в лесах — но ведь
то великая богиня, которую познали немногие. — Если меонийский
пастырь (Парис) видел супругу громовержца и обнаженных богинь,
почему же мне не увидеть Саффо? — Но как узнал ты о ней? — Вчера
Сильван (Петрарка) сошелся с Виргилием (Minciadem) там, где Copra,
выбившись из скалы, бежит по замкнутой долине. В тени древнего
дуба они пели взапуски, а я слушал, притаившись в кустах, как
они вохваляли до небес Саффо; восхищенный, я позабыл Филлиду,
и новая любовь обуяла меня; я ищу Саффо — не ты ли это? И по виду
и по речам ты богиня. — Нет, я ей слуга; что бы сказал ты, если б
увидел ее! Но много труда предстоит тебе, слишком высоко ты
поставил свою любовь! — Но кто же ты, прелестная? — Меня звать
Каллиопой, я дщерь Юпитера, страж касталийского леса и
священного источника. — Помню, так пели о тебе великий Виргилий
и великий Сильван: ты оглашаешь леса, вещая высокие замыслы
Саффо. Но где пребывает она? — На высоте Низы, у горгонейского
источника; лавровый венок скрывает ее светлые очи, покрывало
девственное лицо; немногие видели ее встарь; мы сестры-пиэриды у нее
в услужении, для нее поет Аполлон. — Зачем же таится она, к чему
чуждается города? — Она сидит, погруженная в думы, и то
переносится в обитель Плутона, к стонам его мрачного леса, то открывает
таинства моря; перед ней проходят сонмы дочерей Форка и Напей,
544
Α Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
веселые, цветущие долины Елизия, слышится пение птиц и сияют
светила неба. Все виденное она обнимает своим чудесным плектром
и хранит в записи под зеленой корой дерева. Неужели, думаешь ты,
все это допустила бы неразумная толпа, занятая стрижкой ослов,
крикливо загоняющая козлиное стадо? Весной мы безжалостно
ступаем по цветам, которых напрасно ищет потом игривая девушка;
вот почему скрывается Саффо. — Да это так: Сократ принужден был
испить цикуты, победитель пунийских львов (Сципион) осужден
на изгнание. Всему дивятся лишь однажды, святыня теряет от
частого употребления. — К тому же нашлись люди, которые стали
угрожать Саффо, невинной, стараясь запятнать ее чистое чело;
говорили, что она лжива, полна блуда, растлевает нравственность,
другие, осуждавшие древний котурн, указывали на то, что она, как
мим, водится на театре, и полагали, что ее следует изгнать за то, что
она воспевает любовные похождения богов и под вымышленными
образами представляет деяния древних. Изгнать из отечества —
точно она царит в городах! Иные, не понимающие и не желающие
понять ее печали, зовут ее сиреной, жадной до наживы. Вот еще что
взволновало богиню, вот почему она не покидает своих вершин. —
Но кто же те люди? Может быть, их одолело вино, ведь здравый
человек не дойдет до такого безумства? — Старые люди звали их эри-
колами (стяжателями). — Не понимаю я этого: ты говоришь ведь
не с Платоном и не с Ликургом; я простак и во многом не сведущ. —
Это те, что вырывают из пасти волка похищенных им животных,
торгуя широковещательными словами; те, которые говорят о себе,
что знают толк в болезнях скота, в источниках и врачебных травах,
влияя будто бы на ход природы; те наконец, которые самоуверенно
описывают обители богов, говорят, что им открыто их провидение,
причины, почему напр. молния падает на лес, и читают
умилостивительные молитвы. — Но что же понимает крестьянин в деле
пастуха? Что между ними общего? Никому-то Еринния не позволяет
удовлетвориться своей судьбой! Но покажи же мне путь на Парнас,
как легче туда добраться, чтобы послушать Саффо? — Путь заглох,
заполонили его старые сучьи, камни, замела пыль; тому виною
жажда золота; уже многие возвращались вспять, увидев, что
дорога изрыта ямами. — Это меня не пугает, часто я восходил на скалы
снежного Ликея; все превозмогает неослабный труд. — Талант
выше труда: даром потрудился железный Арпинат, хотя у него было
сильное перо и звучный голос, но не то было дарование, не было
поэтического огня. Мы родимся с разными призваниями. Но если
тебе так страстно хочется увидеть Саффо, послушайся моего совета:
<«Корбаччо», эклоги>
545
один лишь Сильван недавно воззошел к ней, нет нам милее его
после Виргилия, не милее и Лукан. Ступай к нему, он поведает тебе,
какими путями он сам взобрался на желанные высоты. — Пойду
я к нему, понесу двух поросят, быть может, и умолю его подарком.
Для характеристики литературного перелома, совершившегося
в Боккаччо в связи с его нравственными колебаниями, ХИ-я эклога
чрезвычайно интересна; сравните ее с Ш-й эклогой Петрарки,
которой она видимо подражает, и получится характеристика человека.
Пастух Ступей (Петрарка) увидел на пустынном берегу лучезарную
Дафне, не поэзию, а символ поэтической славы; он увлечен ею,
хочет с ней объясниться, она бежит. Многим я нравилась, говорит
она, нравилась и златовласому Фебу, ты кто такой? — Сам я знаю,
отвечает поэт, что желающему жить в мире не следует сближаться
с теми, кто выше его и кто ему ровня, а искать верной дружбы в
сердце меньшего: там лишь он обретет и неослабную снисходительность
и скромные обоюдные ласки и милую боязливость. Все это я знал,
но любовь, побеждавшая богов, победила и меня. — Какая •ке на-
дежда питает тебя? спрашивает Дафне. — Сколько бессонных ночей
провел я в течение пятнадцати лет, сколько вздохов подавил в
сердце, покоренном любовью — об этом лучше бы умолчать. Я пытался
прибегнуть к искусству музыки, в надежде, что звукам и Каменам ты
более доступна, чем блеску золота, но мои песни казались мне
самому неблагозвучными, хотя я слышал, как расхваливали их фавны
и дриады; часто козы, перестав глодать ветки, уставлялись на меня,
изумленные, пчелы забывали ракитник, умолкали цикады. Я
радовался, но уверенность явилась лишь когда к песням меня побудил
Аргус (король Роберт). — У него одного было право повелеть, ибо он
один разумел это, говорит Дафне; но скажи же, каковы твои новые
начинания. — Ты мой покой, моя забота и наслаждение, твердит
ей поэт, ты моя единственная властительница; тебя любит Юпитер,
любил Аполлон, теперь к тебе пылает бедный пастух; если ты
одобришь его песни, он будет богачом. — И он рассказывает ей о своей
встрече с сонмом муз, как одна из них ободрила его, подала ему ветку
лавра: пойди к Дафне, она смилуется. — Она смягчилась, ведет его
на свой холм, рассказывает о его былой славе, о поэтах, которые
здесь венчались лавром, о Виргилии. Подай мне свою ветвь; хотя
и под другим созвездием, я сплету и для тебя венок из того же лавра.
Покинь все другие заботы и будь моим. — Мои бдения увенчались
успехом, кончает поэт, сладко теперь вспомнить о былых трудах.
Спокойная самоуверенность Петрарки ярко оттеняет
боязливую скромность Боккаччьевской эклоги. Оба начали с легкой
546
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
итальянской лирики, но одной заслушивались фавны и дриады,
другой ее стыдится, как греха юности, как площадной поэзии, забыв
о венке, который сулили ему музы Тезеиды. Там и здесь упоминание
короля Роберта, но какая разница в освещении! Один торжественно
проходил в царство не только поэзии, но и славы, другой только
стремится к ней, робко и страстно, чувствуя свою слабость,
готовый работать и учиться у Петрарки и Виргилия, а Саффо толкует
ему, что дарование выше труда, как и Петрарка говорил в своей
венчальной речи, что поэты родятся и смешны те, которые даром
потратили на это всю жизнь. — Это не остановит рвения Боккаччо;
поэзия представляется ему каким-то волшебным царством, полном
глубоких поучений, обнимающих тайны всего сущего; практики
жизни ее не понимают, юристы, врачи, богословы преследуют ее,
как вредную: это те, которые в ХП-й эклоге являются под именем
ericolae. Люди наживы не видят в ней никакой пользы: на эту тему
спорят в ХШ-й эклоге Стильбон, какой-то генуэзский купец, с Даф-
нисом-Боккаччо. Слепая любовь заставляет вас следовать музам,
которых по внушению Дионы (Венеры) вы предпочитаете другим
богам, говорит Стильбон; но с этим всегда соединяется худшее
из зол — бедность. — Богатство непостоянно, отвечает Дафнис, мы
довольствуемся немногим и счастливы тем, что венчаемся лавром.
Стильбон поет хвалы Хризеиде-богатству, Дафнис Саффо — поэзии;
тот говорит о торговых предприятиях на кораблях, покоряющих
волны, о мене товаров между отдаленными частями света, о
желаниях, удовлетворяемых золотом; Дафнис о власти песен над морскими
богами, о мудрости Паллады, вещающей тайны религии и мирового
устроения; о звонкой песне поэтов, доносящей до калабрийца вести
о неведанных им индах и вызывающей в памяти живущих тени Ор-
ка. — ХП-я эклога подчеркивает особо этот элемент воображения:
Саффо сидит, погруженная в думы, а ей видится и обитель
Плутона и поля Елизия и сияние неба. Поэзия — это отражение жизни,
схваченной в ее сущности, далекой от суеты и расчета и
вожделений, расцвеченная фантазией. Это ли не дело, не удовлетворение!
Теоретическое обоснование этого взгляда явится в жизнеописании
Данте, в Генеалогиях Богов, в комментариях на Божественную
Комедию; там мы встретим и средневековую теорию аллегории,
знакомую и Муссато и Данте с Петраркой. «Вымышленные образы»
ХП-й эклоги не разумеют ничего другого; собрание эклог Боккаччо
дает о ней понятие, вместе с тем это и образчик его строгой манеры.
Они написаны были в разное время: одни относятся ко второй
половине 40-х годов, другие к началу 60-х. Уже на старости лет
<«Корбаччо», эклоги>
547
Боккаччо посвятил их грамматику Донату дельи Альбанцани,
который просил его о том. Альбанцани был значительно моложе
Петрарки и Боккаччо, преданный и любящий их поклонник; они
отвечали ему выражениями дружбы: Петрарка посвятил ему свое
рассуждение «De sui ipsius et aliorum ignorantia»15, сообщал
поправки к своим эклогам, и Альбанцани комментирует их, переводит
жизнеописания великих людей Петрарки и De Claris mulieribus
Боккаччо. Последний познакомился с ним в Равенне, вероятно, в 1350-м
году, при дворе Бернардина да Полента, сына известного нам Остад-
жио. Помнится мне, говорит Аппенигена (= Донат) XVI-й эклоги,
видел я старика (Боккаччо), когда он жил в пещере у равеннского
циклопа, как порой, устав от обычных трудов, он гулял по
болотистым лесам. Позднее они виделись в Венеции. XVI-я эклога служит
как бы напутствием остальным: старый, бедный пастух Церретий
(Боккаччо) посылает Аппеннигене пятнадцать больных, хромых
овец (= пятнадцать эклог); на них кости да кожа, и немудрено: им
нечем кормиться на пастбищах горы Cerretum, где они щиплют
богородичную траву, проросшую сквозь допотопные раковины.
Пусть друг не гнушается малым подарком; послать его Сильвану
(= Петрарке) Церретий не решился: для него он слишком
незначителен. — Раковины Чертальдо не раз обращали на себя внимание
Боккаччо; пятнадцать овец-эклог напоминают образы дантовской
эклоги и ответного послания Giovanni di Virgilio: и там Титир (Данте)
обещает послать Мопсу (Giovanni di Virgilio) десять сосудов молока
от своей любимой коровы (= десять песен Рая), а Мопс отвечает ему
таким-же символом, и так же выражает сомнение: приличен ли
подобный дар такому пастырю.
Данте был из первых, обновивших в Италии предание виргили-
евской эклоги; Боккаччо знал его поэтическую корреспонденцию
с Giovanni di Virgilio, потому что упоминает о ней в своем
жизнеописании Данте и она нашлась в одном из принадлежавших ему
сборников; между тем в послании к Мартину да Синья, в котором он
поясняет скрытый смысл своих эклог, он не называет Данте в числе
предшественников. Первым изобретателем буколического стиля
был Феокрит, говорит он в начале письма, но он ничего не таил
под личиною своих слов; Виргилий вложил в них некий
иносказательный смысл, хотя и не всем именам своих действующих лиц
желал придать такое именно значение; за Виргилием следовали
другие поэты, не стоящие внимания, лишь мой славный учитель
Петрарка несколько поднял стиль эклоги, и все лица носят у него
знаменательные имена. Сам Боккаччо следовал приему Виргилия.
548
А Я. ВЕСЕЛОВСКИИ
Если он не назвал Данте, то потому, быть может, что иносказание
его эклоги была ему не внятно, либо не отвечало его требованиям
аллегоризма. Именно виргилиевская эклога открывала к тому
широкий простор. Виргилий внес в свой несколько лощеный
пастушеский мирок ряд личных и политических аллюзий; его толкователи,
вроде Доната, Макробия и Фульгенция, вложили в него всю ту массу
мудрости и вещего звания, которую они раскрывали в любимом
поэте. Средние века усвоили и усилили этот взгляд: в виргилиевской
буколике вычитывали аллегорию созерцательной жизни. Такая
широта толкования, перенесенная на род эклоги вообще,
достигалась путем насильственных уравнений, делающих чтение иной,
напр. боккаччьевской, эклоги, равносильным чтению иероглифов.
Ограниченный инвентарь пастушеской среды плохо отвечал тому
содержанию, которое пытались выразить его средствами: пастухи,
разумеется, пасли стада, влюблялись в Фи л л ид и Галатей, плели
венки, жаловались на бедность и насилие, пели взапуски; все это
понималось иносказательно: под лесом, напр., разумелся город,
овцы — эклоги, пастух, поющий, сидя на холме, своему стаду, — это
Кола ди Риенцо, дающий народу благие законы, или король Роберт.
При таком искусственном отношении формы к содержанию
впечатление реальной пастушеской жизни или идиллическое настроение
могли быть достигнуты либо таким оригинальным талантом, как
дантовский, либо достигались случайно и эпизодически. Поэзия
умолкала перед главною задачей: выразить возможно большое
содержание в формах, не допускавших разнообразия.
Из XVI-ти эклог Боккаччо лишь первые две говорят о любви,
и притом несчастной. В первой пастух Дамон спрашивает Тиндара,
что побудило его покинуть поля Везувия для бесплодной долины
Арно? Несчастная судьба, отвечает тот и в свою очередь спрашивает
Дамона, почему он так грустен. Галла покинула меня для Памфи-
ла, отвечает Дамон; он жаждет смерти, но хотел бы насладиться
лицезрением своей милой, когда она станет старухой и все ее
забросят. — Так плачется во 2-й эклоге Палемон, сидя на берегах Арно:
Пампинея покинула его для Главка, и он зовет ее, томимый любовью;
он был бы ей спутником на охоте, ухаживал бы за ней, развлекал.
Теперь он умрет, и его Тестилис всю жизнь будет плакать по нем.
В письме к Мартину да Синья Боккаччо отказывается
объяснить содержание двух первых эклог: не стоит, они говорят о моих
юношеских увлечениях. Мотивы могли быть подсказаны
воспоминаниями, вспомнились Неаполь и Пампинея, но навстречу
явились VIII и X эклоги Виргилия, целый ряд образов и выражений
<«Корбаччо», эклоги>
549
из других виргилиевских эклог — и обе пьесы Боккаччо очутились
центоном. — Эклоги III-VI касаются отношений поэта к анжуйцам:
Роберту, Андрею и Джованне, Людовику Тарентскому, VII и IX —
притязаний имперской власти на самостоятельность Флоренции;
VIII и X — выражают настроение Боккаччо, когда не сбылись его
надежды устроиться под сенью Аччьяйоли; XII и XIII — поднимают
общие вопросы поэзии — и жизненной практики, XV — раскрывает
противоречия земных страстей и добродетелей, ведущих к небу.
В XI эклоге (Pantheon), напоминающей мотивы виргилиевских
VI и IV, Главк — ап. Петр воспевает, по просьбе Миртилис — церкви,
ее судьбы от мироздания до последнего явления Кодра-Христа, когда
земля погибнет в пламени. С деланным аллегоризмом этой эклоги
стоит в контрасте XIV, может быть, лучшая из всего собрания.
И в ней христианское содержание борется с иносказанием и
образами буколики, но в вводной сцене есть реалистические черты и
искренний тон в просыпающемся чувстве отца. Не спится печальному
Сильвио (Боккаччо) ночью: кажется ему, что развеселились боги,
лес наполнился птичьим кликом, пес Ликос как-то ласково ворчит
и дружелюбно машет хвостом. Что это он видит? Подите, слуги,
посмотрите; уже настало утро. — Вставай, старик, докладывает ему
Терапон, весь лес горит, пламя победило мрак ночи! Сильвий спешит
и дается диву: еще ночь, сияют звезды, а в лесу светло, и деревья
не тронуты пламенем. Какой-то чудесный аромат разлит повсюду,
слышно пение; должно быть, боги спустились на землю, святят
поля. «Здравствуй моя отрада, отец мой! Не бойся, я твоя дочь»,
говорит ему, спустившись с высоты Елизия, Олимпия (= Виоланта),
я пришла осушить твои слезы. — О мое утешение, моя единственная
надежда! Смерть унесла тебя, когда я уехал на раздольные пастбища
Везувия, и я искал тебя, печальный, по горам и долам. Где ты была?
Как ты выросла! Кто это с тобой? — Неужели не узнаешь ты своих
Мария и Юлия и милых моих сестер? Ведь мы — твои дети! —
Сильвий бросается к ним, обнимает, хочет, чтобы все в доме веселились
и пели. — Если у тебя такая охота веселиться и петь, то у нас есть
свои песни, незнакомые здешним лесам. — И Олимпия поет гимн
в похвалу Христу и Богородице, первый стих которого повторяется
потом как припев: Мы живем вечно заслугами и божественной
силой Кодра! — Что за мелодия, дивится Сильвий, что за песни! такой
не певала ни Каллиопа, ни Титир (Виргилий), ни Мопс (Гомер). Он
хочет одарить певцов; пусть твои дары останутся при тебе, говорит
Олимпия: я уж не та, какой ты знал меня маленькой (parvula), и
ничто смертное не проникает в обитель, где я обретаюсь. И по просьбе
550
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
отца она описывает ему христианский Елизий на дальнем востоке,
где на вершине горы высится благоуханный лес; там дивные цветы,
серебряные источники, яблоки и птицы и звери — все золотое,
золотое солнце и серебристая луна; там вечная весна и вечный день,
нет печали и смерти, там исполнение всякого желания. Всем правит
великий Архезилай, его образ неизреченный; на его лоне покоится
белый агнец, нам в благодатную пищу и во спасение; от обоих
исходит пламя, утешающее печальных, просвещающее умственные
очи, подающее совет и силы бедствующим, вселяющее любовь.
Кругом вечные сонмы сатиров (святых), облеченных в
пурпуровые, белые, желтые одежды, они славословят агнца; между ними
я видела Азилу (Asylas). — Разве наш Азила сподобился взойти
на гору? он был такой благодушный, образец старинной верности.
Узнал он тебя? — Узнал и обнял, и поцеловав в лоб, спросил: Ты ли
это, дорогая дочь нашего Сильвия? И он повел меня и заставил
преклонить колена перед Девой (Parthenos), которая приобщила меня
к своим ликам. — И Олимпия объясняет, по просьбе отца, что такое
Партенос, восседающая одесную Сына, окруженного стаями белых
лебедей (ангелов). — Кто даст мне крылья Дедала, чтобы взлететь
туда! восклицает Сильвий. — Питай голодного брата, напой молоком
усталого, помогай заключенным, прикрой нагого, подними
павшего — вот что даст тебе орлиные крылья, говорит Олимпия, исчезая
в воздухе. — Сильвий опечален, грустная будет у него старость —
и мы внезапно возвращаемся к стилю эклоги, о которой забыли:
«Выгоняйте, молодцы, телят в поле, уже встает солнце!»
Эклоги Боккаччо невольно вызывают сравнение с буколикой
Петрарки, которую они имели в виду. Сравнение не может
касаться эстетической оценки, ибо к ней нет повода. Дело идет об
искусственном роде, исключавшем поэзию; можно сказать, что
Петрарка движется в нем ровнее и спокойнее, он больший художник
латинского стиха, но я не сказал бы, чтобы он явился большим
поэтом. Ему удаются лирические места, лирические положения,
вроде знаменитого в VIII эклоге, где с вершины Альпов Амикл
открывает панораму Италии и в самом себе — любовь к далекой
родине. Боккаччо, по натуре, эпик, оттого ему удалась бытовая
картина в начале XIV эклоги, но в общем условия жанра должны
были связывать его реализм; он грузен и менее владеет формой.
Ему не уйти за Сильваном; Саффо была права: талант выше труда,
говорила она, а он все хочет превозмочь трудом. Его программа того
требовала: он обратится к науке; когда-то она питала его поэзию
любви, «неупорядоченного желания», теперь он будет искать в ней
<«Корбаччо», эклоги>
551
упорядоченного миросозерцания и в нем обретет основы новой,
возвышенной поэзии. Но поэзии не вышло, потому что не получилось
цельного миросозерцания; и в погоне за ним Боккаччо перестает
быть поэтом, чтобы очутиться эрудитом — гуманистом.
Так совершилось «обращение» Боккаччо, задолго до того
времени, когда в 1361 году вещания монаха фанатика навели на него
суеверный страх за свою душу. Это был лишь случайный момент
в развитии, главные стадии которого уже были пройдены; Боккаччо
привели к нему годы и эротические недочеты и окрепшее сознание
своей жизненной задачи. Тогда ему представилось, какие уроки
могут извлечь из его Декамерона, и он задумался. Так неудача Федры
и дело маркизы de Brinvilliers раскрыли Расину глаза на гибельные
следствия тех страстей, которые так очаровывали в поэзии его
трагедий — и он оставил на время поэзию и ударился в религиозность16.
Боккаччо ушел в науку.
^^
^^
Α. Α. ТИХОНОВ
Старость и смерть Боккаччо
Хотя в то время, когда Чиани явился со своей проповедью
покаяния, Боккаччо было только 48 лет, но он уже начинал
стареть более, чем это обыкновенно бывает с людьми его возраста;
причиной этому была, конечно, его довольно бурно проведенная
молодость в связи с напряженными занятиями литературой.
Теперь же, после своего «обращения», он окончательно потерял
охоту к прежним развлечениям и к поэзии и, занимаясь
серьезными и религиозными предметами, думал о спасении души.
По-видимому, вскоре после посещения Чиани, а может быть,
именно вследствие оказанного этим посещением влияния на
настроение духа Боккаччо, Никколо Аччайуоли, вероятно, желая
предоставить Боккаччо возможность развлечься переменой места,
пригласил его к себе в Неаполь. Боккаччо охотно принял это
приглашение и в ноябре месяце отправился туда в сопровождении
брата своего Якопо. Он, конечно, ожидал встретить у
могущественного, богатого, щедрого, дружески к нему расположенного
великого сенешаля почетный прием и надеялся провести у него
приятно время, вспоминая прожитые в Неаполе дни молодости.
Но вышло иначе. Аччайуоли был очень недоволен Боккаччо за то,
что тот отказался от сделанного ему вместе с приглашением
приехать предложения написать хвалебную биографию Аччайуоли,
а все-таки приехал. Боккаччо был принят не только весьма
холодно, но оказанное ему невнимание граничило с полным
пренебрежением; по крайней мере таким описывает его сам Боккаччо
в письме к своему другу Франческо Нелли, бывшему у Аччайуоли
чем-то вроде гофмейстера. Если верить всему, что пишет Боккаччо
к Нелли тотчас по отъезде из Неаполя, то его поместили в грязном,
Старость и смерть Боккаччо
553
холодном чулане, который он, по размерам и грязи, сравнивает
с отхожим местом на корабле; кормили его объедками за одним
столом с оборванными, грязными, голодными и больными
конюхами, поварами, мальчишками и другой челядью; не дали ему даже
подушки на грязную вонючую постель. Его брат Якопо удалился
в гостиницу, не желая оставаться в отведенном им помещении.
Через несколько времени Боккаччо перевели на дачу, но и там его
помещение и условия существования были нисколько не лучше.
Он не решался возобновить прежние знакомства, не имея
возможности принимать в конуре своих знакомых. Только участие
его друга Кавальканти и еще какого-то купца, которого
Боккаччо не называет, спасли его от того, что он не заболел и не умер.
Он не захотел оставаться долее в таком странном положении и,
переехав к купцу, прожил у него пятьдесят дней до самого своего
отъезда из Неаполя, а его меценат Аччайуоли даже не вспомнил
о нем за все это время. И Аччайуоли и Франческо Нелли видели
и знали все это, но не обращали никакого внимания.
Очевидно, здесь Аччайуоли выказал мелочную мстительность
за отказ Боккаччо быть его панегиристом и предоставил поэта
на произвол своей прислуги. Но еще непростительнее отношение
к Боккаччо его будто бы даже друга, Франческо Нелли, от
которого зависело дать Боккаччо такое помещение, чтобы он не имел
повода высказывать столь резких, хотя, быть может, и несколько
преувеличенных жалоб.
Но едва рассерженный Боккаччо покинул Неаполь, как
Аччайуоли почувствовал раскаяние и стыд за свое поведение в
отношении поэта, а может быть, и боязнь, что слух об этом
обстоятельстве подорвет его репутацию мецената, в особенности если
Боккаччо вздумает написать на него сатиру вроде «Corbaccio». Эта
боязнь заставила его тотчас же подумать о том, как бы загладить
неприятную историю, и он поручил Нелли написать Боккаччо
письмо в примирительном духе, приглашая его снова приехать
в Неаполь. Но Нелли исполнил это поручение весьма неудачно.
Он сделал вид, как будто ничего не знал, что Боккаччо не
пользовался никакими удобствами во время своего пребывания в
Неаполе, и упрекал его же за то, что он так внезапно уехал, называя
поэта непостоянным, неуживчивым и капризным. Боккаччо,
чувствовавший себя вполне правым, был еще более раздражен этим
письмом, и если в первом он еще несколько сдерживался
вследствие свойственного ему такта и мягкости характера, то теперь
ответил еще резче, предназначая свой ответ, конечно, не одному
554
A.A. ТИХОНОВ
только Нелли, а и его патрону. Прежде всего, он оправдывается
в сделанном ему упреке относительно его неуживчивости и
внезапности его отъезда. Он доказывает, что никто бы не прожил
и дня в том положении, в какое его поставили, а он прожил два
месяца; уехал же, простившись и с Аччайуоли и с Нелли за два
дня до отъезда; странно уверять его, что отъезду не верили, когда
никто не думал его удерживать. Затем он с ничем не удержимой
беспощадностью и резкостью развенчивает все прославленные
качества Аччайуоли: его щедрость, его таланты, ум, знания,
великодушие, стойкость в несчастии, способности полководца
и администратора, роскошь его жизни — ничто не позабыто и все,
более или менее доказательно, хотя и преувеличенно, осмеяно
и низведено до степени ничтожества. Он насмехается над
желанием Аччайуоли найти возможность производить свой род
от фригийских богов, как будто это может иметь какое-нибудь
значение и как будто не все люди равны при рождении,
отличаясь впоследствии только своим духовным и телесным
развитием. Он смеется над недоступностью Аччайуоли: легче добраться
до короля, чем до этого мецената, который, делая вид, что очень
занят, в сущности ловит в это время мух. Боккаччо называет его
не другом, а врагом муз и объясняет причину, почему с ним
обошлись так унизительно: его хотели заставить выдавать сказки
за историю и писать похвалы тому, что заслуживает порицания;
но он никогда не способен унизиться до этого, и Нелли сам, как
литератор, не должен удивляться, что он, Боккаччо, отказывается
от такой сомнительной чести. От вторичной поездки в Неаполь
Боккаччо наотрез отказался, говоря, что он скорее пойдет просить
милостыню от дома к дому, чем обратится к такому покровителю
даже в самой крайней нужде. В заключение Боккаччо просит
не обращаться к нему с упреками, потому что он сумеет ответить
на них лучше, чем они.
Замечательно, что насколько Боккаччо прежде преклонялся
перед Аччайуоли и удивлялся его талантам, настолько же он
теперь унижал его. Истина в отношении Аччайуоли находится,
вероятно, в середине. Но от чего зависела такая перемена
взглядов? Трудно допустить, чтоб одно только невнимание, которое
Боккаччо испытал как гость у Аччайуоли, могло побудить к
таким беспощадным и бесцеремонным нападкам на знаменитого
сенешаля, с какими мы встречаемся в этом письме-сатире. Трудно
также допустить, чтоб характер Боккаччо настолько изменился,
что то, что когда-то служило для него предметом поклонения,
Старость и смерть Боккаччо
555
стало теперь предметом отвращения; сохранились же отношения
Боккаччо к Петрарке неизменными до конца жизни. Но, вероятно,
к этим двум причинам примешивалось еще и общее
предубеждение, которое Боккаччо должен был питать к Аччайуоли, как
республиканец к придворному выскочке. В это время отношение
всех вообще флорентийцев к своему достигшему могущества
согражданину изменилось: во Флоренции стали относиться с
недоверием к Аччайуоли, стали подозревать его в стремлении к тирании,
и был даже издан особый, специально направленный против него
закон, по которому он навсегда лишался возможности сделаться
гофалоньером или приором Флорентийской республики. Это,
конечно, не могло оставаться без влияния и на Боккаччо,
который теперь смотрел уже на все трезвыми глазами зрелого мужа,
а не легкомысленного, увлекающегося и поэтически настроенного
юноши, каким он был в первый свой приезд в Неаполь.
Да изменился, конечно, в это время и сам Аччайуоли, тогда
бывший лишь простым купцом, а теперь могущественным
придворным и фактическим правителем Неаполя.
Таким образом, пробыв несколько месяцев в некогда столь
дорогом ему Неаполе, Боккаччо покинул его, огорченный и
настроенный еще хуже, чем он поехал туда из Флоренции. Но он
не вернулся сразу во Флоренцию, а заезжал, по-видимому,
в разные места, пока Петрарка, в это время тоже не имевший
определенного места жительства, не поселился в конце 1362 года
в Венеции. В мае следующего 1363 года Боккаччо приехал к
нему в гости и прожил у своего друга все лето. Так как в это время
во Флоренции снова свирепствовала чума, то и Леонтий Пилат
перебрался, по-видимому, из Флоренции в Венецию и перевод
Гомера, вероятно, продолжался и здесь1.
Осенью Боккаччо возвратился во Флоренцию, хотя Петрарка
уговаривал его остаться еще некоторое время в Венеции, потому
что чума во Флоренции еще не прекратилась.
О жизни Боккаччо в течение следующих двух лет не имеется
никаких биографических сведений. Вероятно, это время он
провел в своем родном Чертальдо за научными занятиями, потому
что жизнь во Флоренции не представляла ничего
привлекательного: с одной стороны, продолжалась чума и раздоры партий,
а с другой — банды наемных чужеземных солдат под
предводительством авантюристов-кондотьеров вели за Флоренцию войну
с Пизой и как вражеские, так и свои наемные войска одинаково
опустошали Тосканскую область.
556
A.A. ТИХОНОВ
В течение лета 1365 года на Боккаччо возлагается
дипломатическое поручение к папе в Авиньон. Мы не будем
распространяться о цели этого посольства. Обстоятельства, вызвавшие его,
незначительны и в политическом отношении, а для биографии
Боккаччо и совсем не имеют значения. Принят при папском дворе
он был очень хорошо, в особенности некоторыми оставшимися
там друзьями Петрарки. Между прочим, Филипп Кабассель,
престарелый натриарх Иерусалимский, публично, к немалому
удивлению присутствовавших папы и кардиналов, обнял и
расцеловал Боккаччо как старого дорогого друга.
В октябре того же года папа перенес свою резиденцию в Рим,
и Боккаччо вскоре был назначен вновь послом к папе, вероятно,
с целью принесения ему поздравления от флорентийцев по
случаю возвращения папы в город, где ему всегда следовало быть.
В послании, которое папа отправил к флорентийцам 1 декабря
1367 года, он, отзываясь с похвалой о Боккаччо, называет его
«своим любезным сыном».
Весной 1368 года Боккаччо предпринял поездку в Венецию
по делам; но какого рода были эти дела, определить по
имеющимся биографическим материалам нельзя. Письмо Боккаччо
к Петрарке, в котором он описывает эту поездку, особенно ярко
подтверждает те действительно дружеские отношения, которые
существовали между обоими поэтами, и то глубокое уважение,
которое Боккаччо питал к Петрарке, сознавая его
превосходство над собой. Между прочим, мы видим из него, что Боккаччо
в то время был уже настолько беден, что Франческо, муж дочери
Петрарки, узнав об этом, сделал ему щедрый денежный подарок.
Боккаччо, описывая эту сцену и с любовью отзываясь о молодом
Франческо, говорит, что, передавая ему деньги, Франческо
краснел, смущался, не мог говорить, а передав и пожелав Боккаччо
счастливого пути, — дело было перед самым отъездом Боккаччо
из Венеции,— тотчас скрылся из комнаты, оставив Боккаччо
одного. В заключение Боккаччо пишет Петрарке, что очень
дорожит его красноречивыми письмами и принялся переписывать
их все по порядку в особую тетрадь; но при этом оказывается, что
многие из писем, посланных Петраркой, никогда не были
получены Боккаччо, и он просит своего друга прислать с них копии
для того, чтобы он мог составить себе полный том их, ибо в этих
письмах заключалось много философского и научного материала.
В начале 1371 года Боккаччо оказывается снова в Неаполе,
но неизвестно по какой причине и с каких пор. Мы видим только,
Старость и смерть Боккаччо
557
что в это время он посещал монастыри и их библиотеки,
отыскивая в них интересовавшие его старинные книги. Вероятно,
к этому же времени относится любопытный рассказ ученика
Боккаччо, Бенвенуто да Имола, о том, как Боккаччо посетил
монастырь Монте-Казино в Апулии, славившийся своей библиотекой
и ученой деятельностью тамошних монахов. Желая видеть эту
прославленную библиотеку, о которой он так много сдыхал ранее,
Боккаччо скромно и любезно попросил одного из монахов отпереть
ему дверь комнаты, где было книгохранилище. Монах же ответил
ему довольно резко и коротко: «Она отперта, полезай вон туда» —
и указал при этом на высокую лестницу. Боккаччо с радостью
взобрался по лестнице, стремясь увидать эту сокровищницу, но,
к удивлению своему, заметил, что помещение не имело никаких
запоров, окна его заросли травой и мхом, и все книги и полки,
на которых они хранились, были покрыты толстым слоем пыли.
Он начал перелистывать фолианты и нашел там много редких
книг самого разнообразного содержания, из которых множество
страниц было вырвано, другие оказались с отрезанными
переплетами и вообще так или иначе обезображенными. Боккаччо
был страшно огорчен, что столько произведений знаменитых
ученых находятся в руках таких бессовестных людей, и со слезами
на глазах вышел из этой «библиотеки». Встретив затем в
монастыре одного из монахов, он спросил его, отчего многие из этих
драгоценных книг подверглись такому варварскому обращению
с ними. Тот ответил, что некоторые монахи, чтоб заработать
иногда несколько сольди, счищают с пергаментных листов старые
рукописи и на стертом пишут молитвенники, которые продают
детям, а из ободков вырезают амулеты для женщин. «Вот и ломай
голову, ученый человек, и пиши книги!» — с горьким юмором
заканчивает Бенвенуто Имола свой рассказ.
В Неаполе Боккаччо был принят очень хорошо старыми
друзьями, которые и старались удержать его теперь там. В особенности
хлопотал об этом граф Гуго Сансеверино, старавшийся вызвать
участие к Боккаччо в королеве Иоанне. Быть может, Боккаччо,
который в это время успел совершенно обеднеть, и решился бы
остаться в Неаполе в качестве пенсионера графа или королевы,
но, вероятно, боязнь попасть в зависимое положение, неудобства
которого он уже испытал однажды у Аччайуоли, да тоска по
родной Флоренции, которую он, несмотря на разные неприятности,
все-таки любил, тоска по родному Чертальдо и по собранной
долгими трудами библиотеке, перевести которую в Неаполь он,
558
А. А. ТИХОНОВ
по-видимому, боялся,— взяли верх, и Боккаччо снова вернулся
во Флоренцию и Чертальдо.
Вскоре по возвращении, летом 1372 года, его постигла ужасная
болезнь сложного характера. Боккаччо был уже старик, в своей
жизни ему пришлось много ездить, вынести много лишений,
неприятностей, забот и трудов, и в то же время сделать большой
глоток из чаши наслаждений, а в последние годы он постоянно
страдал от тучности. Теперь, вероятно, трудный при тогдашних
путях сообщения переезд из Флоренции в Неаполь и обратно
отозвался сильным расстройством всего организма, и болезнь
проявилась в жестокой форме. Всего лучше он описывает ее сам
в письме к своему другу Магинардо Кавальканти. Письмо это
сравнительно небольшое, писано в течение 18 дней в то время,
когда Боккаччо начал уже настолько поправляться, что мог
взяться за перо.
«Больше всего страдал я,— пишет Боккаччо,— постоянным
жжением в теле и сухой чесоткой в такой сильной степени, что
день и ночь царапал ногтями засохшую сыпь и коросты. Кроме
того, меня мучили завалы, боль в почках, вздутие селезенки,
воспаление мочевого пузыря, удушливый кашель, хрипота,
тупая головная боль и другие болезни. Если перечислить все мои
болезни, то ты сказал бы, что все органы моего тела расстроились
и все соки испортились. Вследствие этого жизнь мне в тягость,
тело мое для меня тяжкое бремя, походка моя неустойчива, руки
дрожат, лицо мертвенно-бледно, всякий аппетит пропал, и все
меня раздражает. Самое занятие науками стало мне противно,
и книги, еще недавно так горячо любимые, стали для меня теперь
предметом отвращения; умственные способности совершенно
ослабели, память почти совсем пропала, способность думать
притупилась, и все мои мысли направлены к смерти и гробу. Что
прежде служило для меня прекраснейшим и действительнейшим
утешением, теперь у меня отнято, Музы, небесное пение которых
меня радовало, теперь для меня онемели».
Далее Боккаччо описывает ужасную лихорадку, озноб и жар,
не дававшие ему покоя, и рассказывает, как он думал, что пришел
уже его последний час. При нем находится только одна женщина-
прислуга, живущая у него в доме уже много лет, а в Чертальдо,
где он лежал больной, нет ни докторов, ни аптеки. Боккаччо,
впрочем, во всю свою жизнь не признавал докторов,
предоставляя самой натуре излечивать случайно постигавшие его
недомогания. Но после ночи, проведенной в таком внутреннем жару,
Старость и смерть Боккаччо
559
что ему казалось, будто тело его должно превратиться в пепел,
Боккаччо, по совету навестивших его утром соседей-крестьян,
решается подвергнуться лечению простого деревенского доктора
или знахаря, «впрочем, весьма толкового человека». Этот врач,
осмотрев его и найдя огненное пятно на теле против того места,
где расположена печень, заявляет, что необходимо быстрое
лечение, состоящее в удалении из тела лишних и вредных соков.
Если это сделать, больной будет спасен, иначе он через четыре дня
умрет. Боккаччо соглашается, и тогда его подвергают настоящей
пытке в виде многочисленных кровопусканий и прижиганий его
язв раскаленным железом. Но зато в ту же ночь он в первый раз
уснул спокойно, а затем начал и поправляться.
Через две недели после того, как Боккаччо написал к
Кавальканти это письмо, он получил от него ответ. По тогдашним
условиям почтового сообщения это было очень скоро. Кавальканти
прислал ему при этом письме щедрый подарок: золотой сосуд,
наполненный червонцами. Обрадованный этой присылкой,
Боккаччо написал тотчас же Кавальканти письмо, в котором
горячо благодарил его. Затем, отвечая на один из пунктов письма
Кавальканти, где тот сообщал, что хочет дать прочесть дамам,
составляющим его семью, сочинения Боккаччо и, разумеется,
в том числе и «Декамерон»,— Боккаччо убедительно просил его
не делать этого, ибо он сам от всего сердца раскаивается, что
некогда, по приказу свыше (вероятно, королевы Иоанны), написал
такие безнравственные книги, и вовсе не желает, чтобы дамы
семьи Кавальканти составили о нем понятие, как о человеке
развратном.
Не один Кавальканти желал обеспечить Боккаччо спокойное,
беззаботное существование в его старости. Еще до своей болезни
Боккаччо получил подтверждение искреннего дружеского
расположения к нему от Николая Орсини, который приглашал его поселиться
у него в имении. Но Боккаччо отклонил это предложение, написав,
что пока еще ему хватает на проживание того, что он получает с
маленького унаследованного от отца имущества, а жить ему осталось
во всяком случае немного; но он обещает, если ему когда-нибудь
придет мысль переменить место жительства, отдать предложению
Орсини предпочтение перед всеми другими, хотя его приглашали
уже и Сан-Северино, и Петрарка, и король Яков Майоркский (третий
муж королевы Иоанны Неаполитанской). Таким образом, мы видим,
что Боккаччо в старости не был забыт своими друзьями, и это, без
сомнения, должно было служить ему утешением.
560
A.A. ТИХОНОВ
Боккаччо, конечно, благодаря не столько коновальскому
лечению деревенского врача, сколько последним усилиям его натуры,
наконец поправился после своей тяжелой болезни; но это
восстановление здоровья, понятно, не могло быть прочно и устойчиво.
Он продолжал постоянно прихварывать до самой своей смерти.
Тем удивительнее его литературная деятельность последнего
предсмертного периода. Кроме нескольких мелких вещей, он
написал в это время свои комментарии к «Божественной
комедии» Данте, произведение настолько же объемистое, насколько
глубокое и полное благородного вдохновения.
Обстоятельства, вызвавшие появление этих комментариев,
были следующие: флорентийские граждане, с одной стороны,
вероятно, раскаиваясь в своем поведении относительно Данте,
а с другой, быть может, желая оказать материальную
поддержку Боккаччо, обратились к своему правительству с петицией
устроить ряд публичных чтений «для объяснения поучительной
книги, известной под вульгарным названием "Данте"», поручив
это дело какому-либо человеку, вполне сведущему в науке
поэзии, и назначив за эти чтения вознаграждение в сто золотых
гульденов.
Эту петицию синьория приняла большинством 186 голосов
против 18, и Боккаччо, хак человек наиболее подходящий для
этого дела и написавший уже ранее биографию Данте, был избран
лектором, а местом чтений была назначена церковь Св. Стефана2.
Боккаччо следует считать даже главным виновником
возбуждения такого интереса к Данте среди флорентийцев: «Жизнь
Данте» («Vita di Dante»), написанная Боккаччо, представляет
не столько беспристрастное жизнеописание великого
флорентийского поэта, изгнанного своими согражданами, сколько его
апологию и панегирик ему.
Сколько именно лекций было им прочитано — неизвестно,
но в его тетради найдено всего 60 написанных отдельных
лекций, тщательно обработанных, хотя различных по объему. К
сожалению, эти чтения не были доведены до конца. Последняя
лекция, очевидно, и не прочитанная, обрывается на полуфразе
семнадцатой песни «Ада»; но и в этом неоконченном виде книга
свидетельствует о большой учености и таланте ее автора.
Почти ровно через год после начала этих чтений, 19 октября
1374 года, Боккаччо получил от Франческо да Броссано, зятя
Петрарки, печальное известие, что Петрарка скончался. Это
известие глубоко потрясло Боккаччо. Скорбь его понятна: в Петрарке
Старость и смерть Боккаччо
561
он потерял близкого друга, учителя и любимого поэта, и притом
в такое время, когда ему самому угрожала в близком будущем
смерть. Это ожидание собственной смерти сказывается и в письме,
которое Боккаччо написал тотчас же к Франческо в ответ на его
извещение о смерти Петрарки. «Он не ушел от нас,— пишет
Боккаччо,— а только ушел раньше нас туда, куда и мы вскоре
последуем за ним».
Из этого письма Боккаччо мы узнаем, что он должен был
прервать свои чтения о Данте вследствие новой болезни, на этот раз
менее опасной, но не менее докучной и мучительной, и, по
настоянию своих друзей, удалиться в Чертальдо. Там он пребывал
в вынужденном бездействии, мучимый постоянной лихорадкой,
в борьбе между жизнью и смертью. «Прежде я был толст,— пишет
он,— теперь же я совсем сморщился, цвет лица изменился, глаза
потускнели, колени подгибаются, руки дрожат».
Значительная часть этого письма наполнена довольно
напыщенными риторическими утешениями и размышлениями по
поводу смерти Петрарки. Между прочим, Боккаччо высказывает,
что как флорентиец завидует Аркве, приютившей священный
прах Петрарки3, и упрекает флорентийцев за то, что они не
сумели привлечь в свое время на родину прославленного поэта,
оправдав старинное изречение, что никто не бывает пророком
в своем отечестве. Потом он выражает благодарность покойному
и за его гостеприимство, и за то, что тот не забыл его даже в своем
завещании, отказав ему значительную часть имущества. Но здесь
Боккаччо уже чересчур преувеличивает: Петрарка завещал ему
всего 50 золотых гульденов «на приобретение теплого зимнего
платья», которое Франческо тогда же и препроводил ему.
В заключение Боккаччо выражает беспокойство, что
станется с библиотекой Петрарки и с его рукописями. До него дошел
слух, что составилась уже какая-то комиссия для рассмотрения
сочинений Петрарки и решения вопроса о том, которые из них
достойны сохранения, и Боккаччо возмущается, что это дело
может быть поручено каким-нибудь юристам, считающим себя
компетентными в решении всяких вопросов. Он призывает Бога
охранить создания поэта от суда этих лиц. Затем Боккаччо
просит Франческо прислать ему копию с одного из писем Петрарки
и копию сделанного Петраркой перевода на латинский язык
последней новеллы из «Декамерона» (Гризельда), которая так
нравилась Петрарке, что он считал нужным распространить ее
в латинском переводе.
562
A.A. ТИХОНОВ
Выразив свои чувства по поводу смерти Петрарки в этом
письме, которое он, как видно из заключительных слов его, писал
три дня, Боккаччо написал также сонет, в котором, обращаясь
к Петрарке, говорит, что он ушел туда, куда надеется вознестись
всякая избранная Богом душа, туда, где находятся Лаура, Фья-
метта, Данте, и просит Петрарку скорее призвать и его к себе для
того, чтобы он мог увидать снова ту, которая некогда
воспламенила в нем любовь.
Ко времени его последнего пребывания в Чертальдо относится
отдельная новелла «Urbano», написанная им (как видно из
вступления к ней), чтобы рассеять мрачные мысли, вызванные в поэте
его болезнью и смертью Петрарки. Полагают, что, почувствовав
улучшение в своей болезни, Боккаччо возвращался на короткое
время во Флоренцию для возобновления лекций о Данте, но
вскоре опять заболел и удалился окончательно в Чертальдо, где умер
21 декабря 1375 года. Согласно его завещанию, он и погребен
в Чертальдо же, в церкви Св. Иакова4.
Его могила была покрыта каменной плитой с поясным
изображением поэта и герба его рода, а на стене над этой плитой вырезана
написанная им самим эпитафия, четырехстишие на латинском
языке. В 1783 году, вследствие неправильно понятого закона
о погребениях в церквах, плита эта была сломана и обломки ее,
как не имеющие ценности, затеряны. Были вынуты при этом
также и кости Боккаччо, насколько они еще сохранились тогда,
а вместе с костями найден в могиле металлический цилиндр
с несколькими свитками рукописей на пергаменте. Куда
девались эти реликвии — неизвестно. Вероятно, ими воспользовался
тогдашний священник прихода Св. Иакова Франческо Контри,
но после смерти Контри от них не осталось и следа. В 1825 году
были предприняты в Чертальдо официальные розыски останков
Боккаччо, но ничего не найдено, и только одна остававшаяся
в живых старуха экономка покойного священника Контри
сообщила, что ее господин хранил у себя череп Боккаччо и показывал
его своим друзьям.
В 1503 году подеста Чертальдо, Латтанцио Тедальди, воздвиг
в церкви Св. Иакова бюст Боккаччо, изображающий поэта
прижавшим обеими руками к груди книгу с надписью Decameron,
изображение, свидетельствующее об отсутствии у автора этого
бюста, по меньшей мере, вкуса.
Так как изображение Боккаччо, бывшее на могильной плите,
потеряно, то надо полагать, что все последующие многочисленные
Старость и смерть Боккаччо
563
портреты его — плод фантазии рисовавших их художников.
Наибольшую достоверность признают за двумя: один
находится при «Filostrato», хранящемся в национальной библиотеке
во Флоренции, другой при рукописи 1379 года (Bibl. Laurenz.
49, Pluteo 34).
После Боккаччо не осталось потомства. Его побочные дети,
неизвестно когда и с кем прижитые, но упоминаемые им под
вымышленными именами в 14-й эклоге, умерли раньше его. Как
видно из одного письма к Петрарке, у Боккаччо была дочка
Виоланта, которую он очень любил и которая умерла на шестом
году. Наследники же Боккаччо, дети его брата Якопо, не
представляют для нас интереса.
Мы видели, что Боккаччо жаловался на бедность и считался
за бедняка даже его друзьями. Однако эта бедность была весьма
условная и выражалась, вероятно, главным образом в отсутствии
свободных наличных денег, которые поэт тратил на приобретение
книг и на путешествия, может быть, в больших размерах, чем
позволяли ему его доходы. Из духовного завещания Боккаччо,
составленного у нотариуса Тинелло Бонасере во Флоренции 28
августа 1374 года, видно, что у него было разнообразное имущество,
хотя имелись и кой-какие долги, на покрытие которых поэт
завещал продать дом его в Чертальдо, если на расплату не хватит
наличных средств. Он еще ранее (в 1361 году) подарил своему
брату Якопо дом во Флоренции, а теперь назначил главными
наследниками своего имущества двух сыновей этого брата, с тем
что они воспользуются имуществом лишь по достижении ими
30-летнего возраста, а до тех пор оно должно быть в пользовании
их отца, который, вместе с несколькими другими лицами, был
назначен исполнителем завещания, душеприказчиком Боккаччо.
Назначив незначительные суммы на разные благотворительные
дела, Боккаччо завещал свою библиотеку августинскому монаху,
профессору богословия Мартино да Синья, под условием, чтобы
тот молился о спасении его души; по смерти же Мартина да Синья
она должна перейти в монастырь Св. Духа, храниться там в особом
шкафу, и всем монахам должно быть предоставлено
беспрепятственное пользование ею. Это было исполнено, но в 1471 году
монастырь Св. Духа сгорел, причем погибла и вся библиотека
Боккаччо, и мы не имеем никаких сведений ни о размерах ее,
ни о книгах, из которых она состояла.
В заключение еще несколько слов о литературном значении
Боккаччо. Слишком скромный в признании своих заслуг, он,
564
A.A. ТИХОНОВ
сопоставляя свою деятельность с деятельностью Данте и
Петрарки, считал себя гораздо ниже их. По его словам, он «с большой
смелостью вступил на путь, проторенный Петраркой, но лишь
издали видел возвышающиеся до небес вершины и, оробев, потерял
силы идти далее; никогда не был он поэтом, хотя и напрягал все
свои силы сделаться им».
Эта его характеристика самого себя не есть фарисейское
самоуничижение, которое бывает паче гордости, а результат
ошибочных взглядов на литературу, которые были в то время не у одного
Боккаччо. Он слишком много придавал значения своим научным
занятиям, в которых все-таки остался с современной точки зрения
только дилетантом, компилятором и коллекционером,— и
слишком мало ценил прозаическую форму своих лучших произведений
сравнительно со стихотворной. Между тем, его смело можно
считать основателем того рода литературы, который в наше время
приобрел наибольшую популярность,— именно беллетристики
всех родов. «Декамерон» послужил образцом для новеллистов
и рассказчиков позднейших времен. Но если для этого
произведения самому Боккаччо могли служить хотя отчасти матерьялом
и образцами французские fabliaux и восточные сказки, если идея
соединить в одну общую рамку несколько рассказов принадлежит
также Востоку (кроме известной Шехерезады есть и другие
произведения подобного рода), зато вполне оригинальным является
его роман «Фьяметта», сделавшийся прототипом современного
романа. Эта история страданий любящего сердца, эта глубокая
психология мук покинутой женщины, рассказанных ею самою,
представляет вполне современный роман, написанный более
пятисот лет тому назад.
Боккаччо не придавал этим произведениям того значения,
какое они имеют в действительности. Как человек своего времени,
он считал высшим родом литературы аллегорию, и большинство
его произведений написаны в аллегорической форме. «Ameto»,
«Filicopo», «Amorosa visione», его эклоги, многие сонеты — все
это аллегории, и притом не только малоинтересные для нашего
времени, но и малопонятные без комментарий. Даже в «Тезеиде»,
«Филострате» и «Ninfale Fiesolano» надо искать аллегорических
намеков. А кому же в наше время придет охота рыться в
мифологических и исторических изысканиях, чтобы уразуметь, что хотел
сказать поэт в своем произведении. Этот род литературы теперь
безвозвратно осужден на забвение. Относительная же польза этих
произведений Боккаччо для своего времени заключалась в том,
Старость и смерть Боккаччо
565
что они знакомили читателей на итальянском языке с
древними мифами и духом той античной культуры, которой Петрарка
и Боккаччо являлись пророками.
Но, признавая аллегорию, и притом в стихах, наиболее
достойной, почти единственной достойной формой поэтических
произведений, Боккаччо бессознательно сделался
родоначальником романистов-прозаиков. Точно так же, создавая
итальянский литературный язык, он считал наиболее достойным поэта
язык латинский. Он высказывал сожаление, что «Божественная
комедия» написана Данте по-итальянски, находя, что она
много выиграла бы, если бы была написана по-латыни. Аллегория
в латинских стихах — вот идеал литературного произведения
по Боккаччо. И в этом опять-таки чувствуется влияние
Петрарки, который предпочитал писать по-латыни. Петрарка втайне
завидовал Данте и боялся прослыть его подражателем;
поэтому он до тех пор даже и не читал Данте, пока совсем не бросил
писать итальянские стихи и не отдался ученой и философской
деятельности. Он находил даже нужным оправдываться в том,
что он будто бы завидует Данте, и говорил, что он не может
дорожить славой между ткачами и трактирщиками (намекая этим
на итальянский — volgare — язык «Божественной комедии»)
и предпочитает делить славу с Вергилием, Овидием и Цицероном.
Вслед за Петраркой это предпочтение к латинскому языку
отразилось впоследствии и у всех гуманистов и было одной из дурных
сторон нового движения. Вызванное у Петрарки более всего его
личным славолюбием и боязнью упрека в подражании Данте,
у последователей Петрарки оно было естественным влиянием
их учителя и образца.
Но, по счастию, судьба толкнула Боккаччо своевременно
на другой путь, и он бессознательно и даже как бы вопреки этим
своим взглядам сделался основателем изящной беллетристики
вместо аллегории и отцом итальянского прозаического языка,
вытеснившего латинский. Да и самое содержание его аллегорических
произведений носит на себе печать двух культур: средневековой
и античной. Петрарке хотелось бы восстановить античную жизнь
вполне, со всеми ее особенностями, оторваться окончательно
от средневековой культуры, поставив из всего современного ему
лишь одно христианство среди всех других общественных и
духовных сторон античной жизни. Но, разумеется, один человек
не мог пересоздать того, что создавалось поколениями и веками,
и попытка прямолинейного в этом отношении Петрарки должна
566
А. А. ТИХОНОВ
была остаться мертворожденной, Боккаччо же, более уступчивый
посторонним влияниям, примирил и в своей личности, и в своих
произведениях средневековый романтизм с духом античного
мира, сразу встав, таким образом, на тот путь, по которому позднее
пошли все народы Европы. И хотя это примирение и единение
двух культур и дало впоследствии немало гнилых плодов, но оно
во всяком случае вырвало Европу из средневекового невежества
и мрака.
€^
VIII
ПЕТРАРКА И ДАНТЕ
В ВОСПРИЯТИИ
БОККАЧЧО
^5^
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
<Боккаччо и Петрарка>
Период Корбаччо и последних дней Декамерона особенно важен
для внутренней биографии их автора; вместе с тем он позволяет нам
поставить несколько общих вопросов о характере того умственного
движения, которое мы называем гуманистическим.
В своей биографии Данте Леонардо Бруни характеризует два
рода поэзии: одна поэзия вдохновения, наития, другая, основанная
на науке и изучении, соединяющая рассудочность с воображением.
Таковой представляется ему поэзия Данте. В основе ее целая
энциклопедия средневекового знания, церковно-философского и того,
которое гуманисты отвели себе в собственный удел; но все это
объединено одной идеей, наука смиряется перед откровением, и не она
одна выводит к свету заблудившегося в лесу личных и общественных
прегрешений.
Мы не сравниваем Божественную Комедию с пародией
Корбаччо, но любопытно, как поставлены в последней отношения науки
и религии: из чистилища плотской любви никто не может выйти
без верховной помощи, говорит Боккаччо посланный свыше
руководитель, но он же указывает ему на «его филосефию», на его
«науку»: они должны были бы научить тебя многому, наставляет
он его и снова отсылает его — к музам.
Синтез Божественной Комедии видимо нарушен: светская мысль
не растворяется, как прежде, в религиозной, а заявляется рядом
с нею. Авторитет церкви не нарушен: Петрарка религиозен, Боккаччо
даже суеверен, но развитие новых общественных форм, при
разрозненности старых, и поднятый интерес к личной жизни постепенно
выдвигают вопросы, на которые чаще слышатся ответы,
заимствованные не из сферы освященного церковью научного и этического
570
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
предания: вопросы личной нравственности и житейской практики.
Жизнь ставит их, светская литература классиков помогает их
формулировать; встреча опыта и откровений древности ведет к
некоторым обобщениям, пускает в оборот массу новых идей, закупающих
своим старым классическим чеканом; критическая мысль крепнет,
не приводя еще к новому метафизическому синтезу: на это
отвечала христианская догма. Оттуда у Петрарки и Боккаччо и ранних
гуманистов бессознательная раздвоенность: средневековой разлад
духа и плоти, неба и «Mipa», обострился для них по мере того, как
плоть объединялась с понятием античной красоты, «MÎp» становился
силой; классики по вкусам и инстинктам, христиане сердцем, они
вдумываются в Цицерона, мечтают с Платоном, отождествляют
Фортуну с промыслом, называют Христа Кодром, но их религиозный
синкретизм останавливается на полу-пути между поэтической игрой
и чаянием, воззрения Цицерона поверяются учениями церкви, и в
делах веры простец-христианин знает больше Марка Туллия. У этих
людей нечего искать какой-либо ясной философской системы; что
их интересует — это вопросы этики, психологии, политики: о
доблести и благородстве, о фатуме и свободе, о задачах поэзии и лучшей
форме правления. В этой области анализ мог идти далеко, видимо
не вызывая догматических противоречий и, вместе, обостряя личный
критерий — при упадке общественного, традиционного.
Обновляется античный культ дружбы, свободно и разумно выбирающий
сочувствия, тогда как семья связывает свободу, а в любви плотская
страсть заглушает человечность. В нареканиях против женщин
и брака у Петрарки и Боккаччо, у веронского гуманиста XIV—V вв.
маэстро Марцагайа и еще у Л. Б. Альберти сказывается не столько
старческий поворот к мизогиническому настроению средневековых
ригористов, сколько болезненный культ ушедшей в себя
индивидуальности, самодовольно повторявшей за Горацием: Nil ait esse
prius, melius nil caelibe vita1; храбрый ты человек (cordatissimum),
пишет Заноби какому-то анониму, что, женившись в молодых летах,
надеешься, что тебя хватит и на науку и на жену. Гуманист ищет
уединения, любит безмолвные красоты природы — не для общения
с небом, как у подвижников христианства, нередко почерпавших
в этом искусе новые силы для служения обществу, любовь к людям
ради неба. Гуманисты не альтруистичны: в природу они проектируют
самих себя, вынося из уединения обостренное сознание своего «я»,
своего нравственного и умственного преуспеяния, своего
благородства, не унаследованного, а приобретенного подвигом мысли. Об этом
они громко заявляют, Петрарка и Боккаччо откровенничают своими
<Боккаччо и Петрарка>
571
признаниями, как позже Руссо; безродный Боккаччо и учитель
Сент-Прё любят женщин выше себя по положению, права любви
поддерживаются в них преимуществами духовного развития,
выдвинувшими их из толпы.
Это открывает нам другую, темную сторону вопроса. Как и в
эпоху Августа, «odi profanum vulgus et arceo» стало теперь лозунгом
эгоистической интеллигенции: она по призванию аристократична,
несмотря на частые восхваления народной свободы, высокомерно
гадлива к толпе. В сущности равнодушная к вопросам политики,
она невольно тянет к той другой форме индивидуализма, которая
выразилась в культурной тирании, но в этой связи гуманист лишь
редко находил обеспечение личной свободы: приходилось
поступаться человеческим достоинством, и самосознание гражданина
невольно бледнело перед культом личной славы,
Sanza la quai chi sua vita consuma
Cotai vestigio in terra di se lascia
Quai fammo in aère od in acqua la schiuma2.
Она вдохновляет венчальные речи Петрарки и Заноби да
Страда, ею грезит Боккаччо; лавр окружен новым культом, это живой
символ, в котором у Петрарки растворяется и любовь. Венчание
литературных произведений (как было с Ars dictandi Буонкомпаньо)
и поэтов становится модой: в 1215 году Муссато удостоился за свою
Eccerinis лаврового венка и поднесения козлиной шкуры —
символа трагедии; Петрарка увенчан на Капитолии; Карл IV венчает
Заноби да Страда — и всемилостивейше присваивает потешнику
Дольчибене титул «короля итальянских буффонов и гистрионов».
«Великие люди» на очереди, о них пишут Петрарка, Боккаччо,
Гульельмо Пастренго, Филиппо Виллани, Доменико Бандино. Это
влияет на историографию — едва ли в смысле прогресса: вместо
внешней хронологической связи летописного рассказа с его
провиденциальным прагматизмом — является ряд казовых биографий,
прагматизм выражается в морализации, в рассуждениях о форме
и славе; личный этический критерий переносится и на историю:
народы падают, когда развиваются роскошь, гордыня и зависть,
говорит Петрарка в письме к генуэзскому дому; такова точка
зрения и учительных трудов Боккаччо. Слава возбуждает восторги,
соревнование, риторические похвалы и резкие проявления
самолюбия и ложной скромности, среди постоянных жалоб на зависть
и наивных заявлений, что слава, бессмертие в руках поэта, который
может их дать.
572
Α Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
Дружба, слава, зависть — вот общие места гуманистических
размышлений; особенно Фортуна. Ее все ищут, жажда знания
принимается нередко за сознание необъятных сил, а это создавало новые
права на жизнь, требовало новых путей и нового выражения. Оттуда
беспокойное искание, жажда передвижения, напр. у Петрарки;
молодой равеннец, ученик Донато дельи Альбанцани, поступает
в 1360-м году к Петрарке, приводит в порядок его Familiäres, за что
безуспешно брались другие; служит ему переписчиком и учится;
серьезный, как старик, необычайно талантливый, с громадной
памятью, он в одиннадцать дней усвоил Буколику своего наставника
и сам успешно подражает классикам. Петрарка, в восторге, пророчит
ему блестящую будущность, а ученика уже тяготит его скромная
доля: у него еще не отросли крылья, а он мечтает о Риме и Неаполе,
о Калабрии и Константинополе, где он научится греческому языку;
об Авиньоне. Дважды покидает он Петрарку в поисках за счастьем
и теряется из виду настолько, что мы до сих пор не в состоянии
отождествить его с кем либо из гуманистов нарастающего
поколения. — Для иных искание кончалось если не искательством, то тихой
пристанью хотя бы в хлебной должности секретаря папской курии;
и там явился спрос на гуманистов, классиков нового пошиба.
Особое увлечение материалом классического знания совпало
для Италии с той исторической чередой, когда разложение старых
систем, папства и империи, вызвало повсюду сознание
национализма, политического и культурного. В Италии политическое единство
не удалось, но чем резче била в глаза неурядица общественного
строя, тем яснее выступало сознание культурного единства с
старым Римом, как народным прошлым, которое понимается и живее
и цельнее, потому что мысль освободилась от наивного синкретизма
средневекового с античным, а эрудиция заглядывает во все уголки
древности, проникается ее мировоззрением, интересуется ее
бытом и искусством, и не одними лишь легендами, но и реальными
памятниками Рима. Для знатока истории Италия выше того, чем
представляет ее себе современное поколение, говорит в своей
венчальной речи Заноби да Страда; под историей разумеется, очевидно,
римская, ибо что такое история, если не слава, хвала Рима? В его
славном прошлом, где золотой век империи уживался с доблестями
республики, культурному человеку жилось привольнее, и он охотно
уходил туда воображением; это приучало его в древности искать
идеалов, которыми измерялась современность, чутье
действительности слабело перед героизмом Сципионов и на почве практического
индифферентизма возникали теоретические обобщения, наука
<Боккаччо и Петрарка>
573
политики, результат не столько опыта, сколько классических
чтений. Оттуда беспочвенность иных политических взглядов; оттуда
частые заявления Петрарки о римлянах, как «предках», и его стыд
поведать Цицерону об упадке современной Италии; оттуда
сознательное предпочтение латинской речи итальянской, и элегическое
чувство антика, и огульное осуждение своих же средних веков, как
веков насилия и крови, когда люди забыли — поэзию.
Поэзия — это показатель вообще умственного, идеального
содержания классической древности; ее откровение — человечность,
гуманизм; чем выше она ценится, тем презрительнее отношение
к хлебным, неидейным занятиям, как у романтиков, в mechanicae
artes3, имеющих в виду одно лишь тело, тогда как свободные
искусства питают душу. Буржуа ненавидят литературу (Флобер):
это эриколы, стяжатели Боккаччо; церковные люди видят в
поэзии один соблазн — и гуманисты гурьбой восстают на ее защиту.
Практике жизни они противополагают удаление от дел, потому что
поэзия — тоже дело, серьезная задача жизни, в ней вычитывают
небывалый, таинственный смысл, чтобы поставить ее в уровень
с своими внутренними требованиями. Здесь гуманисты двоятся:
они ищут в поэзии иносказания (то есть чего-то существенно не
поэтического), и вместе с тем ее античные образцы воспитывают в них
новый художественный критерий, чуткость к изяществу линий
и психологического анализа, и они вторят ее образам и выражентям,
нередко и мишурному блеску фразы. Аллегористы старого,
средневекового пошиба, антично-юные своим восторженным риторизмом,
они воображают себя латинскими поэтами, но поэзия, о какой они
мечтают, требует успокоенного жизненного синтеза, хотя бы
архаического, как у Данте. Вот почему так бедна их латинская Сапфо;
сонеты Петрарки, Декамерон Боккаччо многим обязаны их
классическим чтениям, но вдохновение этих произведений стоит вне той
обострившейся гуманистической программы, которая побуждала
Петрарку рисоваться пренебрежением к своей итальянской музе,
а старика Боккаччо видеть в Петрарке-латинисте восстановителя
истинной поэзии. Она заглохла в Италии со времени великих
классиков, говорит он, в средние века ее искра таилась в нескольких
ничтожных латинских поэтах (из которых не все принадлежат
Италии): Катоне (вероятно, Дионисии, авторе Dictamina), Проспере
(аквитанском), Памфиле и Арригетто (да Сеттимелло, авторе De
Diversita te Fortunae4). Боккаччо забыл — всю итальянскую поэзию
до Данте: Данте будто бы первый отважился вкусить от медоточивых
струй, забытых в течение веков, хотя шел он и не путем древних,
574
A. H. ВЕСЕЛОВСКИЙ
а необычной околицей; снова побудил он дремотствовавших муз
и Феба к песням на родном языке, не плебейском и простонародном,
как полагали иные, ибо он искусно углубил смысл его речений.
Подразумевается аллегоризм Данте, он один и спасает его итальянскую
речь от обвинения в простонародности; лишь Петрарка вступил
на древний, настоящий путь, восстановил Аполлона на его престоле,
вернул пиэридам их прежнюю красу. Очевидно, не автор Canzoniere,
а поэт Африки. Так мечтал о себе и Петрарка.
Таково миросозерцание раннего итальянского гуманизма,
кульминирующего в Петрарке и Боккаччо; оно было выражением
национально-культурной идеи при политической слабости и
росте личного сознания. Многое в его типах и общих местах, если
не стремлениях, напоминает латинских поэтов западных, главным
образом, французских школ ХП-ХШ веков: та же
исключительность литературных вкусов, то же увлечение классической поэзией;
аллегоризм, играющий отождествлениями Юпитера с христианским
Богом, и кокетливое подражание приемам древней риторики в
декламациях, описаниях; те же идеи славы, боязнь зависти,
нарекания на Фортуну — и болезненность самосознания, уединяющегося
от толпы в пессимизм, который питает сатиру. Все это навеяно
выборками из чтений, отзывается затхлостью школьного кружка,
его расходившимися самолюбиями и наивным представлением, что
поэзия прежде всего — труд; труд грамматика, центониста. Еще
у Боккаччо слышно это представление, но он же подсказал и
возражение Петрарки: что выше труда — талант, вдохновение. Чего
недостает тем школьным поэтам — это не столько вдохновения,
сколько широкой подкладки, заставляющей нас ощущать
явление итальянского гуманизма как народное, навеянное не школой,
а условиями культуры. Его родословной надо искать на
итальянской же почве, в типах и течениях, уследить которые дело будущего
историка. В эпоху от учеников Сенеки старшего до Симмаха он
встретит на почве Рима такой же болезненный культ литературной
профессии и то же чванное самосознание литератора при
ослаблении других социальных интересов. Грамматики светской школы,
от готской эпохи до Ансельма Перипатетика продолжают этот тип
в противоречии с общим течением средневековой мысли. Блюстители
классического предания, проникнутые светскими интересами, они
идут в уровень тех культурных слоев, которые участвовали в па-
ганиях короля Гуго, проникались чисто-языческим настроением
такой пьесы, как: О admirabile Veneris idolum!5 (не позже VII
века), а в VIII-X веках вызывали упреки ревнителей в нравственной
<Боккаччо и Петрарка>
575
распущенности, гражданском безразличии, слабости религиозных
интересов — темной стороне индивидуализма, не сдержанного
авторитетом сильной власти и глубокого верования; тех слоев и
настроений, которых не сломила реформа XI века, потому что она была
церковная, не общественно-религиозная.
Это уже то движение, которое мы назовем гуманистическим,
когда в нем явится сознание критерия и материал классической
мысли и идеалов будет служить целям не грубого переживания
или грамматической забавы, а личного обновления. Обновления
на почве родной старины, как в программе романтиков. Северно-
европейский романтизм сбросил с себя века преданий и фижм,
чтобы обновиться в природе, в свободной народной старине, или
в том, что казалось народностью, со включением католичества.
Гуманизм, в период своей сознательности — это романтизм самой
чистой романской расы, перед которой открылась обетованная
земля и забытые народные основы. «Ужасное начало», «неприступная
гора», казалось, миновали, за ними очутились «прекрасная, чудная
поляна», и путники любуются ею тем более, «чем более было труда
при восхождении и спуске».
Такой именно вековой процесс мы вправе предположить, он
совершался постепенно, ускользая от глаз; вот почему яркие образы
Петрарки и Боккаччо поражают нас, являясь в конце неосвещенной
перспективы.
В нее мы не заглянем; нашей ближайшей целью было бы узнать,
кто были сверстники этих деятелей, близко стоявшие к ним по
возрасту, прошедшие школу не у них и тем не менее приготовившие
себя к их влиянию. Такая постановка вопроса выяснила бы нам
в общем движении долю массы, спрос времени и меру личных
воздействий.
Разумеется, мы не ожидаем великих откровений: забытое
историей обыкновенно забыто по праву, но оно должно быть поставлено
в счет именам, удержавшимся в исторической памяти. К
сожалению, для ответа недостает материалов, генезис скрывается за
результатами, на которые вожди уже наложили свою печать.
Движение широко обняло всю Италию, коснулось разных профессий;
немногочисленные письма Боккаччо скупы указаниями. В числе
его неаполитанских учителей и покровителей мы видели людей
старой школы, вроде Дионисия из Борго Сан Сеполькро и короля
Роберта, эрудитов в стиле Паоло из Перуджии, но они не яркие
представители того увлечения латинскою древностью и литературой,
которое становится впоследствии казовым признаком гуманизма.
576
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
В поколении до Петрарки их нужно искать в Конвеневоле из Пра-
то, его учителе, в аретинском грамматике Бандино (f 1348), судя
по восторженным отзывам о нем его сына, Доменико; в университете
с Джьованни ди Вирджилио, автором эклог и аллегорических
толкований на Овидиевы Метаморфозы, сетовавшим на то, что Данте
не предпочел написать свою Божественную Комедию по латыни;
в ученом нотариате, игравшем такую роль в культурном развитии
Италии — с падуанским юристом и поэтом Ловато Ловати, которого
так высоко ставил Петрарка, с его младшим современником Альбер-
тино Муссато, автором первой известной нам трагедии сенековского
типа, Eccerinis, с племянником Ловато, эпиграфистом Роландом
да Пьяццола. Отметим для Виченцы поэта и историка Феррето деи
Феррети и юрисконсульта Джери из Ареццо.
К ним-то примыкают молодые гуманистические кружки; мы
познакомились с одним из них, неаполитанским, и его представителем
Барбато; его характеристика может быть вменена всему движению.
Тому же движению принадлежат, вероятно, и Чекко деи Росси
из Форли, и Пьетро де Мульо или де Реторика, приятель Петрарки
и Боккаччо, частный преподаватель риторики в Болонье в половине
40-х годов, позднее, около 1360-го, известный профессор в Падуе.
Боккаччо поздравлял его с этим переходом, направляя к нему двух
учеников, жаждавших его наставлений: один из них, Джьованни
из Сиэны, молодой учитель грамматики в флорентийских
школах, человек бедный, которому Боккаччо просил оказать помощь,
приискав ему занятие репетитора; другой — приор из Чертальдо,
Актеон, обратившийся в оленя, шутит Боккаччо; он и направил его
от собак и ястреба в школу к тому же Джьованни; еще не многому
научился Актеон, но уже стыдится возможного неуспеха и потому
последовал за своим учителем; пусть и на него Пьетро обратит свое
внимание во имя дружбы к пишущему и к достославному Франческо
Петрарке, их общему наставнику.
Более материала для характеристики гуманистического
движения, совместного с Боккаччо и Петраркой, представляет обширная
переписка последнего; но это материал внешний,
свидетельствующий о широте, не о содержании движения. Перечисление имен
было бы недоказательно; мы выберем немногие. В Парме живет,
в доме Корреджи, нотариус Моджьо деи Моджи, в качестве секретаря
и воспитателя молодых Джиберто и Аццо; Петрарка переписывается
с ним, у них общие литературные друзья: Нери Моранди из Форлй,
Габрюле Заморео, автор трактата de Virtutibus6, Ринальдо да Вил-
лафранка, венецианский канцлер Бенинтенди, с которым Петрарка
<Боккаччо и Петрарка>
577
сблизился со времени своего посольства в Венецию в 1353 году.
О бергамском грамматике Кроте, доставившем Петрарке список
Тускулан, шла молва, что лучше его во всей Италии никто не знает
Цицерона; с веронским нотариусом, Гульельмо Пастренго, автором
De viris illustribus, Петрарка знаком с Авиньона и нередко
пользуется сокровищами его библиотеки. Во Флоренции возлагали большие
надежды на Бруно Казини: он был мастером в искусстве риторики,
но его унесла ранняя смерть (f 1348); Петрарка был с ним в
переписке, но во Флоренции его поджидала группа других, более ярких
гуманистов, с которыми мы встретимся впоследствии.
Увлечение классиками становилось манией, над которой
Петрарка иронизирует: юрисконсульты, медики, забыли Юстиньяна
и Эскулапа, их ошеломили имена Гомера и Виргилия; плотники,
валяльщики, крестьяне бросили свое дело и толкуют о музах
и Аполлоне. Однажды, по дороге в Виченцу, Петрарку задержали
его друзья для беседы о Цицероне, причем какой-то старик стал
упрекать поэта, что он слишком мало ценит великого оратора.
Цицерон — и домашняя, средневековая латынь Бенвенуто из Имолы,
свежая и оригинальная в своем laisser aller7; схематическая Ars
dictandi или notaria, отзывающаяся еще у Нелли — и блестящий
при всей своей неровности стиль Петрарки и его письма,
создавшие гуманистическую эпистолографию по типу Сенеки и посланий
Цицерона, — вот контрасты, из которых выходили к требованию
стилистического пуризма. У таких мечтателей, как Кола ди Риенцо,
полного иоахимитских идей и веры в пророчества Мерлина и Теле-
сфора из Козенцы, мания древности переходила в фантастическую
практику; гуманистов она заражала поэтическими восторгами:
они поют взапуски, как Боккаччо и Чекко деи Росси, как Моджьо,
вызвавший укор канцлера Бенинтенди: Ты, слышу я, все слагаешь
стихи и песни, день-деньской взвешиваешь слова и слоги, только
и занимаешься, что словами и речениями. Что за детские шалости!
Все бросились писать эклоги, послания, но всем мерещится нечто
большее, откровение эпоса, героическая латинская поэма с
римским сюжетом. Посчастливилось Сципиону: Боккаччо представил
его в беседе с Аннибалом, переложив в сонеты соответствующий
текст Ливия, Петрарка сделал его героем поэмы, с которой носился
в течение всей жизни, Заноби да Страда также намеревался воспеть
его, но оставил, как и Пьетро да Мульо бросил затею поэмы — о
приключениях Анны по смерти ее сестры Дидоны. Не даром
Каллиопа, торжественная муза эпоса, является представительницей
поэзии вообще, со включением драмы, хотя для нее именно не было
578
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
возрождения: предание античной сцены давно заглохло, и это
привело в средние века к тем странным взглядам на значение трагедии
и комедии, которые отзываются в названии Дантовской поэмы,
повторяются и у Боккаччо; к представлению, что драма назначена
для чтения, как у Муссато; к смешению с другими поэтическими
родами, комических поэтов с Овидием и т. д. Когда противники
гуманистической поэзии, обобщая или не понимая Боэция,
приводили его отзыв о музах, как сценических прелюбодейницах (scenicae
meritriculae), гуманисты чувствовали право защиты, но терялись
в средствах. Тем ожесточеннее их нападки на сценическую поэзию:
они отождествляли ее с проделками площадных потешников,
наследников старых мимов, спустивших значение драматического
действа до того уровня, который так откровенно выразила
старонемецкая глосса: tragoedia — hurehaus8. Таким отождествлением
думали спасти поэзию героическую, ученую. Рядом уже развивался
народно-духовный театр laudesi, но Каллиопа проходила мимо него
безучастно9.
Все это лихорадочное возрождение светской латинской
литературы предполагает не только усиленное чтение классиков, но и новое
к ним отношение. Это возвращает нас к Боккаччо: в его
образовательной программе много личного, но в общем она характеризует
путь, по которому люди его поколения выходили из средневекового
энциклопедизма к гуманизму.
Кто в наши дни хочет быть философом (odierno filosofo), тому
нет нужды обладать всеми науками тривия и квадривия,
выразился однажды Боккаччо, достаточно владеть одной, в других
ограничиться энциклопедическим образованием. Особенности
последнего объясняются в нем случайностями воспитания. В Неаполе
он пристрастился к астрономии и астрологии, под руководством
Андалоне и его арабских источников, которые он нередко цитует;
он прошел юридическую школу, и следы его подневольных занятий
остались; в связи с его астрономическими интересами стоит, быть
может, его любовь к географии, засвидетельствованная книгой De
Montibus. Или это интерес времени, как и у Петрарки? Ведь и он
готовит большой географический труд, ссылается на древние карты,
составил вместе с королем Робертом первую карту Италии — и
пишет (вероятно, до 1363 года, может быть, в 1361 году), по просьбе
некоего Джьованни ди Манделло, сбиравшегося к святым местам,
свой Itinerarium Syriacum10.
К этому присоединились и другие чтения: Collectanea Паоло
из Перуджии раскрыли перед Боккаччо богатство классического
<Боккаччо и Петрарка>
579
мифа, он увлечен римскими поэтами, их «священными стихами»,
достославными памятями древности»; классические воспоминания
заполонили его, а вместе с тем он чуток к поэзии рыцарского
романа, бродячей сказки, дантовского видения; эта ранняя черезполо-
сица характерна как для него, так и для его публики. У Петрарки
не встретишь того пестрого смешения романтических и
классических сюжетов, как в Филоколо, народной шутки, заговора и песни
в оправе цицероновского периода, как в Декамероне. Боккаччо
освобождается от этого синкретизма по мере того, как критик-эрудит
брал в нем перевес над поэтом. Не раз рассказывал он легенды о
началах Флоренции и Фьезоле, колеблясь, вместе с хрониками и
старыми комментаторами Данте, между именами Аттилы и Тотилы;
в биографии Данте Аттила назван царем вандалов; в комментариях
к Божественной Комедии сделан шаг вперед: Боккаччо справился
в Historia miscella, которую цитует под именем Павла Дьякона11,
и различает Аттилу от Тотилы, но первый все еще царь готов и
разрушитель Флоренции. Впрочем все это поставлено на ответственности
легенды, с сомнениями: так утверждают. Герои карловингского
эпоса и Круглого стола являлись в Любовном Видении, но в De Casibus
легенда об Артуре рассказана хотя с симпатией, но с замечанием,
что о нем нет достоверных свидетельств; троянское происхождение
французской королевской династии вызывает в Генеалогиях богов
ироническое замечание: что-то не верится, хотя я и не решаюсь это
отрицать; но подобное же притязание бретонцев кажется неверным
и невероятным. Французские романы содержат много прекрасного
и похвального, но в них более фантазии, чем правды, и вот,
передавая предание о Вильгельме Оранском и о том, как в одну ночь
чудесным образом явились на поле битвы гробницы для павших
христиан, Боккаччо заявляет прямо, что не верит тому, что то
были, по всей вероятности, гробницы, которые местные жители
приготовили для себя, как то часто бывает. Отрицание средневековой
легенды переходило к критике легенды вообще.
Собственно средневековая литература занимает в чтениях
Боккаччо невидное место, его интерес к ее содержанию настолько
слаб, что он ищет у ее писателей, Беды, Гервасия Тильберийского,
Исидора Севильского и др., главным образом сведений о римских
древностях, мифологических подробностей; у Рабана Мавра, Угуч-
чьоне, Папия — этимологии; энциклопедии привлекают его, как
сборники фактов, история своей эпической канвой, биографией;
в средневековой латинской поэзии он не начитан. Слабее всего
представлены богословие и схоластическая философия: Боккаччо цитует
580
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Св. писание и Отцов церкви, пользуется Августином и Иеронимом,
но к изучению богословия (sacra volamina) он обратился лишь
в зрелые годы и оставил, потому что не чувствовал в себе таланта
(tenuitas ingenii); в богословские вопросы он пускается лишь по
необходимости, напр. в толкованиях на Божественную комедию, чаще
устраняется от них; к вопросам философии он видимо равнодушен,
оттого так редки ссылки на схоластиков. У Петрарки с половины
50-х годов этот интерес сильнее, но он сходится с Боккаччо в том,
что ни у того, ни у другого богословие и схоластика не являются
в роли, какую они играли в средневековой энциклопедии: точкой
отправления, моментом цельности, объединявшим всю систему
знания. Этой цельности тот и другой ищут по-своему, в их научных
работах преобладает момент вопросов, личных или
принципиальных, которые они ставят себе в целях самоопределения. У Петрарки
получаются трактаты на общие темы, в которых фактически
материал подчиняется общей философской идее, она и иллюстрируется
выборками из классиков; у Боккаччо этот материал бьет в глаза, он
видимо интересует сам по себе, элемент поучения часто навязан,
но он обязателен; автор Декамерона сказывается не только в
дидактике, но и в эрудите, собирателе биографических данных и мифов.
В том и другом случае главным источником были классики. В
начале 50-х годов — мы в эпохе Корбаччо — и Петрарка и Боккаччо
интересовались греческой древностью издалека, платонически;
у Варлаама они мало чему научились, второй наставник Боккаччо,
Леонтий Пилат, еще не являлся на сцену с откровениями Гомера.
Оттого сведения Боккаччо о греческих писателях оказываются
почерпнутыми из латинских переводов (Аристотель, Иосиф Флавий,
платоновский Тимей), либо взяты из вторых рук, зато латинские
знакомы ему почти во всем доступном тогда объеме, хотя и здесь
встречаются ссылки на чужие указания и — понятные недочеты.
Боккаччо не знает, напр., Плиния старшего, которым пользуется
Петрарка, зато в его библиотеке есть Тацит и Колумелла, которых
Петрарка не цитует. Из поэтов ему известны: Плавт и Теренций,
Виргилий с его комментаторами Сервием, Макробием и Фульген-
цием; Овидий, Гораций, Лукан, более историк в стихах, чем поэт;
Стаций с объяснениями Лактанция Плацида, Персии, Ювенал и др.;
из прозаиков Цицерон и Сенека; историю представляет Юлий
Цезарь, «комментарии» которого Петрарка и Боккаччо приписывали
Юлию Цельзу, Ливии (кроме 33-й книги, оставшейся неизвестной
и Петрарке), Тацит, Саллюстий, Светоний, Флор, которого Петрарка
считал образцом исторического стиля, Юстин, De Viris Illustribus
<Боккаччо и Петрарка>
581
Псевдо-Плиния, которые Петрарка знал под этим именем; как
и у него, Квинт Курций, Дарет и Диктис еще идут за историков.
Географические и естественно-исторические сведения
почерпаются из Помпония Мелы, Вибия Секвестра, Солина; не забудем
анекдотистов Валерия Максима и Авла Геллия; Апулея, в котором
Боккаччо ценил не только рассказчика, но и аллегориста-фило-
софа; мифологические сведения и их иносказательные
толкования шли из комментаторов, из Фульгенция, из так называемого
третьего ватиканского мифографа, которого Боккаччо и Петрарка
цитуют над именем Альберика, наконец из загадочного Теодиция,
которого Боккаччо читал, в целом или частями, в списке Паоло
из Перуджии. С Лактанцием, Боэцием, Орозием мы уже вступаем
в область христианско-латинской литературы, и далее в средние
века; из новейших писателей выделены Брунетто Латини, особенно
Данте; Франческо да Барберино и Виллани; Леонтий Пилат, как
посредник с греческой древностью, и Петрарка, как вступивший
на древний путь «латинской образованности».
Таков был объем начитанности Боккаччо, над источниками
которой так много потрудился Hortis; мы не входили в подробности.
Классики преобладают, но нового материала прибыло не на столько,
чтобы характер гуманистического направления молено было
определить этим именно приращением. Все дело в том, что начинают
читать иначе; ведь и сокровища эллинизма покоились в
южноитальянских греческих монастырях непочатые и не вскрытые,
пока на них не явился спрос. Цицероновский культ Петрарки,
доходивший до крайностей у людей, стоявших вне его кружка,
указывает на то, что из классиков перестали только вычитывать,
а что в них вчитытываются, вживаются, что они становятся ценными
не только по сведениям, которые можно из них добыть, но и сами
по себе, как живые, близкие лица, которых любят и желают
понять, но с которыми и судятся. Письма Петрарки к великим людям
древности, Цицерону и Виргилию, Горацию и Гомеру внушены
не только риторическими целями, но и потребностью высказать свой
личный взгляд, восторги и осуждение, и интимные вкусы, которые
сообщаются на ушко приятелю. Для Петрарки Виргилий, в самом
деле, «наш» Виргилий, общество древних мыслителей ему милее
беседы с людьми, воображающими, что они живут потому только,
что на холоде они ртом испускают пар; Цицерон ему современник,
он любуется им, проникается его взглядами, то спорит, то журит.
Критика чередуется нередко с наивным пафосом, связана,
особенно у Боккаччо, типическими определениями, принятыми на веру,
582
А Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ
завещанными школой. Он повторяет за Валерием Максимом, что,
по мнению афинян, Цицерон превзошел не только Пизистрата и Пе-
рикла, но и Платона, Эсхила и Демосфена; его Виргилий, которого
и по знакомстве с Гомером он считает не ниже его, носит печать
поздних комментаторов и еще более средневекового предания: это
легендарный девственник, маг и философ, скрывший под личиной
своих стихов глубокие тайны. Боккаччо не верит в Виргилия —
провозвестника Христа; Петрарка отрекся не только от этого взгляда,
но и от Виргилия мага. Боккаччо верит в христианство Боэция,
аллегориста Фульгенция и Сенеки — на этот раз в противоречии
с Петраркой; различая двух Сенек, трагика и моралиста, он
разделяет общее мнение того времени, что Клавдиан был родом из
Флоренции12; смешивает, вместе с Петраркой и Нелли, Стация поэта
с соименным ритором из Тулузы, путает двух Лактанциев13, как
Петрарка Викторина ритора с мучеником и Варрона поэта с историком.
Это не недостаток критики, а недочет фактических подспорий;
именно в Петрарке и Боккаччо увлечение классиками шло об руку
с развитием критического инстинкта, выразившегося в стремлении
выделить любимых авторов из всего того, ненужного, чем
наделили их средние века. В этом им помогало связное, обильное чтение
текстов, чутье стиля, большее знакомство с историей и бытовыми
отношениями древности, особенно критика рукописных текстов.
Во всех этих отношениях Петрарка был если не начинателем
(вспомним в каролингскую пору хотя бы Сервата Лупа), то пропагандистом.
Первый в Италии он указал на анахронизм, соединивший Энея
с Дидоной, он сам хвалится этим открытием, и Боккаччо постепенно
увлечен к новой вере: в своих юношеских произведениях он не раз
пел про любовь Дидоны к Энею, но поэзия сюжета не спасла его;
еще в De Claris Mulieribus есть попытка помирить поэзию с
историей: Д и дона будто бы убила себя в присутствии невиданного дотоле
Энея, чтобы сохранить верность покойному мужу; позже оставлена
и эта комбинация: Дидона не могла и видеть Энея, ибо не была его
современницей. Преимущество отдается достоверному
историческому факту, Титу Ливию и Юстину перед Виргилием; из Юстина
черпаются сведения об Амазонках — и Тезеида забыта.
Это уже победа критицизма, хотя в силу вещей критерий нередко
оставался произвольным, рационалистическим, наивно
удовлетворяясь фразой, когда, напр., Боккаччо пристает к мнению тех,
которые отождествляли Артемизию с Артемидорой, ибо одно ли
это лицо или нет, во всяком случае дело идет о женщине14. Так,
надгробная надпись будто бы Ливия, открытая в Падуе в 1318-24 годах,
<Боккаччо и Петрарка>
583
не вызывает в нем большого доверия, и в то же время он пользуется,
хотя и не откровенно, отражениями Псевдокаллисфенова романа15,
цитует Диктиса16; его вера в аллегорические бредни Фульгенция
чередуется с замечаниями, трезвыми в своей рассудочности: что
Фульгенций часто переходит через край, всюду открывая
возвышенный, таинственный смысл, тогда как история говорит — то-то;
но эти замечания не умаляют «должного уважения» к автору. То же
смешение критики и умиления перед авторитетом по отношению
к Августину, к Беде. С позднейшими писателями, вроде Гервасия
Тильберийского, можно было обращаться не так церемонно, им
противопоставляют «более достоверные источники», Папию —
авторитет Исидора Севильского; зато, когда на сцену являлись такие
загадочные писатели, как Теодонций, с цитатами из неизвестных
авторов, такие живые носители древнего знания, как Варлаам и
Леонтий Пилат, критика смущалась и перевес брали восторги перед
неизвестной величиной. В таких случаях Боккаччо не прочь был
согласиться с Теодонцием против Цицерона и Исидора, но и
колебался и недоумевал, предоставляя людям более мудрым согласить
противоречия.
Этим сомнениям, тормозившим рост критического такта, вторила
уверенность, что из сокровищ классической литературы многое,
ныне утраченное, неизвестное, еще может объявиться. Петрарка
с грустью перечисляет в послании к Цицерону его сочинения,
потерянные для потомства; но каждый день мог принести и приносил
новые открытия в пыли монастырских библиотек. Все деятельно
ищут рукописей, Петрарка выслеживает их не только в Италии,
но и во Франции и Германии, Англии и Испании, даже в Греции.
Боккаччо рассказывал Бенвенуто из Имолы о своем посещении
Монте Кассино: он попросил монаха указать ему, где их
книгохранилище; тот показал на лестницу: полезай, оно отперто. Наверху
оказался покой, дверей не было, окна обросли травой, на книгах
и полках груды пыли. Полный удивления Боккаччо стал
перелистывать старые, редкие рукописи; в иных не доставало тетради, у других
обрезаны поля. Он удалился, опечаленный мыслью, что творения
стольких высоких умов попали в руки таких невежд; в монастыре
ему объяснили, что монахи вырывали из рукописей листы, чтобы
писать на них дешевые псалтыри для мальчиков и амулеты (brevia)
для женщин. Ломай себе голову, ученый муж, и пиши после того
книги! заканчивает свой рассказ Бенвенуто.
Рукописи попадали наконец в руки интересующихся, но прежде
чем пойти в оборот, новый классический текст ставил тотчас же
584
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
и новые задачи для критики. Он часто был неисправен, остроумие
Петрарки помогало ему, оттого такой спрос на тексты, им сверенные;
Нелли от них в восторге. Часто неточное заглавие, поставленное
переписчиком, сводило с торного пути: Петрарка долгое время мнил
себя владельцем Цицеронова Гортензия, пока не открыл, что это
часть Академик. Списывание рукописей вызывало теперь усиленное
требование дипломатической точности: толковых переписчиков
мало, пишет Петрарка к Лапо ди Кастильонкио, наука от этого
страдает, ибо благодаря неисправным копиям произведения, сами
по себе трудные для понимания, стали совсем непонятными, ими
начали пренебрегать и они затерялись. Все жалуются на писцов,
в Италии эти жалобы стары; иные из ошибок и — измышлений Бок-
каччо прямо объясняются плохим состоянием его текстов: оттуда,
напр., смешение Berenice с Laodice17, портрет Калипсо — когда дело
шло о художнице этого имени, небывалая Марция, дочь Варрона18 —
и целый ряд других ошибок, объяснимых описками. Вот почему
сам Петрарка усталой рукою берется за перо, чтобы переписать
цицироновские речи, доставленные ему приятелем: никакой другой
автор не дождался от него подобной чести. Но Петрарка был человек
состоятельный, Боккаччо стеснялся средствами, и ему приходилось
самому удовлетворять своему литературному спросу: такова была
у него потребность к чтению, что он списывал для себя все, что
только мог найти из римских поэтов, ораторов и историков. Мы знаем,
что уже в Неаполе он обзавелся Фиваидой Стация; в письме к Заноби
от 1348 года он говорит о списках Дионисия и Варрона, которых
ожидает; Петрарке он посылает в 1355 году великолепный
экземпляр бл. Августина и некоторые сочинения Варрона и Цицерона,
собственноручно переписанные; ему же в 1359 году Божественную
Комедию при посвятительном письме, позже копию гомеровских
поэм в переводе Леонтия Пилата. Может быть, собственноручный
список Тацита имел в виду Боккаччо, когда в письме к аббату di
Montefalcone от 1371 года просил его о возвращении одной тетради,
дабы не испортить его труда и еще более не обезобразить книгу.
Так составилась у Боккаччо целая библиотека, которой он,
видимо, дорожил, потому что в своем духовном завещании выключил
ее из того имущества, которое могло бы быть продано для покрытия
его долгов. Библиотеку он завещал монаху августинского ордена,
монастыря San Spirito, магистру богословия Мартину из Синьи,
тому самому, к которому обращено послание с аллегорическим
объяснением его эклог; пусть брат Мартин пожизненно пользуется
его книгами, дает пользоваться и другим, а за его душу молится,
<Боккаччо и Петрарка>
585
по своей же смерти передаст те книги в монастырь San Spirito, где
они должны храниться в особом шкапу (armario), на чтение и занятие
инокам, и им надлежит составить инвентарь. Вступив в наследие,
брат Мартин жил среди книг, с гордостью показывая их своим
друзьям; после его смерти (1387, 10 июля), сложенные в шкапы
и ящики в монастыре San Spirito, они долго лежали без особого
призора и, очевидно, расхищались, пока Никколо Никколи, с целью
оградить их от дальнейших утрат, не устроил для них в монастыре
особого помещения, которое и называли впоследствии
«библиотекой Боккаччо». Часть рукописей, ему принадлежавших, вошла
в инвентарь монастырского книгохранилища 1451 года; пометки
против некоторых его нумеров указывают, что хищения
продолжались, но еще в конце XV века библиотека Боккаччо существовала,
пока с закрытием монастыря в пору французской оккупации и его
книги не разбрелись по рукам вместе с другими монастырскими.
Так, приписываемый руке Боккаччо экземпляр Теренция, с
анекдотом о Гомере и греческой эпиграммой о городах, считавшихся
его родиной, принадлежал несомненно к коллекции San Spirito,
может быть, и автограф Боэциева De Consolatione; в амвросианской
библиотеке есть экземпляр латинского перевода Этики Аристотеля
с комментариями Фомы Аквинского и отметкой, что переписчиком
был Иоанн из Чертальдо; им же переписаны были эклоги Кальпур-
ния; в инвентаре библиотеки Лоренцо деи Медичи помечено: Книга
сонетов и канцон Петрарки на пергаменте, писано рукой Боккаччо.
Интереснее два сборника, вероятно, принадлежавших Боккаччо:
один из них содержит, между прочим, поэтическую
корреспонденцию Данте с Джьованни ди Вирджилио и несколько стихотворений
последнего; подложное (уже в XIV веке) письмо брата Илария
к Угуччьоне делла Фаджьуола; послания Данте к кардиналам, к
изгнаннику из Пистойи и флорентийскому другу; «dissuasiones Valerii
ad Ruffinum ne ducat uxorem»19 и отрывок Теофрастова περί γάμου
в латинском переводе бл. Иеронима, которым Боккаччо
воспользовался в своей биографии Данте и который перевел в комментариях
на Божественную Комедию; несколько латинских стихотворений
Петрарки, между прочим на смерть Дионисия из Борго Сан Се-
полькро; его письмо (1347 года) к Барбату, с эпиграммой о Лелии,
и эклогу Argus; два стихотворения Чекко да Милето, из них одно
в ответ на помещенное вслед за ним послание Боккаччо. С ним мы
вступаем в область личного творчества: рядом с первым наброском
Ш-й эклоги (Faunus, 1347-8 г.) — опыты юношеской поры, вроде
стихотворения к усопшей девушке или аллегорического рассказа
586
Α Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
о Фаэтонте. Может быть, к той же поре относится и биографический
очерк Петрарки, предпосланный его пьесам: в нем есть
хронологические недосмотры, заметка составлена по слухам, о Петрарке
сказано, что он доныне написал Африку, диалог в прозе и другое;
биография Петрарки, заведомо написанная Боккаччо в 1348-9-х
годах и также заглазно, отличается большею точностью. Вместе с этим
пестрым литературным материалом, обличающим любовь к Данте
и Петрарке, двумя астрономическими трактатами Андалоне ди
Негро, учителя Боккаччо, и заметкой о мнимой эпитафии Ливия,
открытой в Падуе — несколько юношеских писем поэта: к За-
ноби да Страда, к Карлу, герцогу Дураццо (1339-го года), к двум
анонимам, к какому-то военному человеку, также не названному.
В заголовке или заключении писем, как и в конце
аллегорического рассказа, можно еще прочесть выскобленное имя: Iohannes de
Certaldo; очень вероятно, что имя было уничтожено позднейшим
владельцем рукописи, каноником Антонио Петреи, когда при папе
Павле IV Декамерон попал в список запрещенных книг. Весь
характер сборника указывает на литературные вкусы и отношения
Боккаччо, два греческих алфавита и копия с одной греческой
надписи напоминают эпиграмму в списке Теренция: первые неловкие
шаги в область незнакомых языка и грамоты.
Если в Теренции Лауренцианы и описанном нами сборнике
(с л. 44 об.) признать руку самого Боккаччо, то следующий был
писан не им, но для него и под его руководством. Это его ученый
carnet20, то, что итальянцы зовут zibaldone. Сохранились такие
zibaldoni Саккетти, Антонио Пуччи и друг.; они позволяют нам
заглянуть в рабочую их авторов-составителей, разъяснить, что и как
они читали и что отмечали себе на память. В этом главный интерес
черновой тетради Боккаччо. Писана она по большей части одной
рукой; вторая является кое-где в промежутках, может быть, под
руководством первой; наконец, есть следы и третьей, позднейшей.
Первых листов до 20-го в рукописи недостает, но, вероятно, и они
заняты были компендием всеобщей истории, продолжающимся
на следующих листах: компендием несколько внешним, собранным
из разных источников, в извлечениях и пересказах, с попытками
критики и отметками на полях, исправляющими текст; черновая
работа человека, желающего сознательно усвоить и упорядочить
для себя материал доступных ему исторических сведений. С 20-го
листа идут извлечения из книг Цезаря De bello civili и из De bello
gallico, приписанной Ирцию; под влиянием Орозия Боккаччо
приписывает ту и другую Светонию, но не автору жизнеописаний
<Боккаччо и Петрарка>
587
Цезарей, а, вероятно, его прадеду, рассчитывает он21. Далее
следуют, в порядке хронологии, биографии Цезарей по действительному
Светонию, но и здесь и там к основным текстам присоединяются
справки из Лукана, Флора, Евтропия, Орозия и Иосифа Флавия,
их показания сравниваются и делается выбор. «Светоний (т. е.
предполагаемый) и Лукан мне подозрительны, говорится в одной
глоссе, ибо порой они молчат о том, о чем следовало бы сказать,
и преувеличивают маловажное»; либо отвергается рассказ
Евтропия, потому что Светоний (настоящий) ему противоречит. Когда
кончился этот источник, составитель ведет рассказ по Евтропию,
Орозию и Евсевию; иссяк Евтропий, «истории которого я
подражал», рассказ следует Павлу Диакону, Орозию и, наконец,
Мартину Полону — до л. 92 об., где остановилась рука первого
переписчика, предоставив другому продолжать извлечения. Но он
не рассчитал необходимого для этого числа листов; по мере того,
как являлся новый материал чтения, он вносил заметки в разные
места своей книги, оставляя чистые листы для продолжения, иные
не записывая вполне с той же целью. Так его рукой уже написаны
были листы 98-124-й, когда вторая рука, продолжавшая с 92-го
листа извлечения из Мартина Полона, дойдя до 97-го,
принуждена была остановиться за недостатком места и отнести читателя
к 125-му листу, где мы и найдем окончание чернового
исторического компендия. Этой второй рукой написано, быть может,
несколько строк на л. 162 об. и, в конце сборника, письмо Петрарки
к Аччьяйоли; все остальное принадлежит первой руке. На л. 98
лиц. помещено хронологическое исчисление, долженствующее
доказать, что Христос родился 25 марта в пятницу и лет его
жизни было 33 года и три месяца. Эта статья подписана: Iohannes de
Certaldo; мы узнаем старые астрономические и хронологические
вкусы Боккаччо; но статья перечеркнута накрест и имя
выскоблено, хотя его еще можно прочесть; может быть, своей выкладкой
Боккаччо остался недоволен, и это тем вероятнее, что на 100-м
листе помещен отрывок из Мартина Полона по тому-же вопросу.
Следует речь Заноби да Страда, о которой Боккаччо писал автору
в письме от 1348 года, что он не только читал ее, но и списал для
себя. Разумеется, вероятно, копия, внесенная в разбираемую вами
записную тетрадь. Далее: письмо Боккаччо к Заноби (1353 года),
подписанное: Iohannes de Certaldo Zenobio da Strata; на л. 118 лиц.
отрывок другого письма, очевидно к тому же лицу. На следующих
листах мы встречаем выписки из Фульгенция, Саллюстия,
Плиния Секунда, Сенеки, Овидия. Из Саллюстия приведена греческая
588
А Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ
надпись, бывшая в Дельфах и затем перенесенная в Рим, как и
ранее того в извлечениях из Светония скопированы греческие слова:
Cor nix in Capitolio locuta est εσται πάντα καλώς22. Занятия с Варлаа-
мом оставили свои следы. Характерна выборка афоризмов из
Сенеки, распределенная по рубрикам: о бедности и т. д.; писано в два
столбца и столбцы не заполнены — ожидались новые приращения;
так составлялись флорилегии, выборки общих мест из классиков,
которыми гуманисты расцвечивали излюбленные ими этические
темы. Две статьи указывают на мифологические штудии Боккаччо
к его Генеалогиям богов; это генеалогия людей и богов по Павлу
из Перуджии — не извлечение из его Collectanea, а
принадлежащий ему же компендий — и родословная богов по Франческо дельи
Альбицци и Форезе Донати. На л. 123 след. выписана реляция
флорентийских купцов из Севильи об открытии в 1341-м году
Канарских островов; на полях пометка той же рукой: что начальствовал
кораблями флорентинец Теггья деи Корбицци. Эта статья отвечала
географическим интересам Боккаччо, как и рассказ о
странствованиях Гайтона Армянина. С листа 164 лиц. начинается выборка
из хроники венецианца Паолино, епископа Пуццольского, с такой
его характеристической: какой-то венецианец, монах орденов эре-
митов, пуццольский епископ при короле Иерусалима и Сицилии,
Роберте, затеял написать — конкорданцию ли мировых царств
и царей, либо скорее лабиринт аннал, путая все, часто выдавая
ложное за истинное, а иногда сообщая кое-что, заимствованное
из неизвестных мне авторов, может быть, и достоверное. Если мне
придется брать у него сведения, не встретившиеся мне в других
источниках, я буду цитовать его, как венецианца, venetus. Эта
характеристика поражает откровенностью недоверия, и критик
проявляет его на каждом шагу, глумясь над бедным венетом,
иронизируя и бранясь: он у него и беспамятный, и дурак, и маратель;
его не поймешь, будь он проклят; или: на этот раз венет приложил
к рассказу все свои старания; или: Боже мой, как нескладно и
неладно говорит этот пакостник венет! Извлечения из него вызывали
добавления: так по поводу родословной французских королей
сказано, что Филипп VII, вероятно, отец нынешнего короля Иоанна,
с пометкой 1356-го года; царствующим королем Неаполя назван
Людовик (1352-1362), а список замечательных людей умножен
указанием на ближайших по времени и современников: Данте,
Муссато, Чино из Пистойи, Петрарку, Заноби де Страда, Павла
Геометра, Джьованни Виллани, Джьотто, Дино дель Гарбо, юриста
Дино де Розоно, скульптора Джьованни из Пизы, Альдобрандино
<Боккаччо и Петрарка>
589
Оттобони — второго Фабриция, Коппо Боргези Доменики,
флорентийца, преданная республике и блюстителя нравственности и др.
Мы познакомились с содержанием рабочей тетради Боккаччо.
Она составлялась разновременно и врозь: послание Заноби могло
быть внесено в нее в 1348-м году; вскоре после того мифологические
трактаты Паоло, Альбицци и Донати, помещенные через несколько
листов; если они записаны были, как материалы для Генеалогий,
то последние начаты были, вероятно, в 1350-м году. К 1351-му
относит нас следующее: на л. 49 лиц. говорится о Тите Ливии, «cui
in scribendo ystoriam nemo conferri potuit»23 — и о мнимой его
эпитафии, открытой в Падуе, в монастыре св. Юстины; те же
сведения занесены, как отдельная заметка, в описанный выше
сборник Лауренцианы, где приведена и самая эпитафия; понятно, что
Боккаччо не повторил ее в своей рабочей тетради, но воспроизвел
в дошедшей до нас коротенькой биографии Ливия, причем
встречается в характеристике последнего та же фраза, что и в тетради:
пес quemquam ео scribente secum conferre potuisse24. Ясно, что
биография и соответствующее место исторической компиляции стоят
в связи; 1351-й год, как хронологическая точка отправления,
получается из заметки рабочей тетради на л. 70 лиц.: что св. Лаврентий
пострадал не при Деции, как писал Евтропий, а при Галиэне, «как
я нашел в пассионалах святых в Падуе, в монастыре св. Юстины»25.
В 1351-мгоду Боккаччо провел несколько дней в Падуе, в гостях
у Петрарки; тогда же он мог видеть в монастыре св. Юстины и
мнимую эпитафию Ливия.
Упоминание короля Иоанна с 1356-м годом не мешает
предположению, что в записной книге Боккаччо отдельные заметки могли
быть вносимы и после этого года, но их хронологию трудно уследить.
На л. 194 лиц. и 207 об. говорится, что Констанция была дочерью
Руджьера, что исторически верно; это повторено в De Casibus, с
замечанием, что, по мнению иных, Констанция была дочерью
Вильгельма II; ясно, что соответствующее место в De Claris mulieribus,
где приводится лишь последнее сведение, написано раньше заметки
в zibaldone, и остается объяснить забывчивостью Боккаччо, если он
не исправил в последнем труде, составленном в 1357-63-х годах, что
исправлено в De Casibus (от 1356 — до 1363-4-го года), писанном
почти одновременно.
Но мы можем ограничиться и теми хронологическими
данными, которые сообщает zibaldone: от 1348-го года (речь Заноби)
до 1356-го (упоминание царствующего французского короля),
в течение восьми лет, если не более, они раскрывают нам ученый
590
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
intérieur Боккаччо, знакомят с вопросами, которые его
интересовали, с приемами его работы, работы ощупью, без руководства,
где часто инстинкт заменял критику. Вспомним, что это годы
перелома, когда дописывался Декамерон, поднимались
против него голоса серьезных людей, и сам автор переживал эпоху
Корбаччо. От амурной поэзии он переходил к науке, собирает
материал для своих латинских трактатов; Генеалогии Богов уже
заказаны ему королем Гуго; некоторые сведения, записанные
в zibaldone, повторяются не только в них, с такими же
нелестными эпитетами по адресу «венета», но и в De Claris Mulieribus, в De
Casibus и в комментариях на Божественную Комедию, с
поправками, уже сделанными на полях записной книги. Так, анекдот,
рассказанный «венетом» о Диогене, вызвал исправление, что он
относится к Гомеру, Тотила у Мартина Полона — замечание, что
это имя ошибочно вместо Аттилы; в комментариях все это
принято во внимание.
<Боккаччо и Данте>
ι
Несколько флорентийских граждан, желая для своей
собственной пользы и на пользу других, стремящихся к добродетели,
равно как и своих детей и потомков, научиться в книге Данте (ибо
и людей неученых она может наставить, как избегать пороков
и преуспеть в добродетелях, и изощрить в красноречии),
обращаются к приорам цехов и гонфалоньеру флорентийского народа
и общины с почтительной просьбой: позаботиться и постановить,
чтобы избран был достойный и ученый муж, основательно
знакомый с наукой поэзии, который в течение известного времени,
не более года, прочел бы во Флоренции для всех желающих ряд
лекций по непраздничным дням о книге, обычно называемой
«Данте» — за вознаграждение, какое вы положите, впрочем
не свыше ста золотых флоринов в год, и при условиях, какие
вы найдете нужными. Казначеи означенной общины... выдадут
избранному следуемый гонорар из городской казны в два срока
или две части, первую в конце декабря, вторую в конце апреля,
без всяких вычетов.
<Боккаччо иДанте>
591
Просьбу эту обсуждали означенные господа приоры и гонфа-
лоньер вкупе с комиссиями цеховых гонфалоньеров^ и
двенадцати «сведущих людей» флорентийской коммуны, и собравшись
в достаточном числе в ее палате (думе), тайной подачей голосов
9 августа 1373-го года от воплощения Господа нашего, индикта
XI, решили: принять означенную просьбу и все, в ней показанное,
исполнить в точности.
Таков документ, которым учреждалась первая в Италии
кафедра для толкования «Божественной Комедии». Из числа
подававших голоса 186 человек положили черные шары, то есть
говорили за; протестующих было всего 18. Чтецом был приглашен
25 августа — Боккаччо, едва оправившийся от болезни; место
чтений — небольшая церковь св. Стефана. Боккаччо вступил
в должность 18 октября; 31 декабря 1373-го года ему выплачена
первая доля его гонорара, пятьдесят флоринов; в январе 1374-го
года внезапно прервались его чтения: он прочел всего 59-ть
лекций, 60-я прекращается на полуслове, на объяснении Inf. XVII,
v. 17: non fer mai drappi Tartari ne Turchi. Он начал толковать:
Татары... — и на этом остановился. В письме к зятю Петрарки,
Франческо да Броссано, от 3 ноября 1374-го года, он говорит, что
прошел уже десятый месяц с тех пор, как его, читавшего тогда
о Божественной Комедии, посетила болезнь, затяжная и
докучливая, хотя и не опасная.
Выбор Боккаччо на должность истолкователя Божественной
Комедии не удивителен: он давно был ее глашатаем, его «книжка»
о Данте известна. Вместе с тем и избрание и самая затея кафедры
вызывают ряд вопросов, тесно связанных с флорентийскими
отношениями Боккаччо и судьбами флорентийского гуманизма
в 60-70-х годах XIV-го столетия. Божественная Комедия уже
успела найти толкователей непосредственно по смерти Данте: с 1321-го
по 1341-й год являются попытки комментариев, начиная с Якопо
Алигьери и ser Graziolo до Якопо делла Лана и второго сына Данте,
Пьетро. Трудность текста, загадочность его аллегоризма,
богатство иносказаний — все это требовало объяснения; но от частных
комментариев, удовлетворявших любознательности относительно
немногих, до публичных чтений на пользу всех желающих —
большой шаг. Он предполагает в интеллигентных сферах, на
него решившихся, известное настроение в смысле дантофильства,
которое является вместе с тем показателем умственных течений.
Мы знаем, что дантовская партия существует, обособленная
односторонним движением гуманизма, что Данте начинают
592
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
противополагать Петрарке. Гуманизм в своей латинской
одежде и с своими античными вкусами, сторонится от толпы, Данте
спустился на площадь и в таверны, и его этическое содержание,
истолкованное умным человеком, доступно и для нелатинников.
Так разделились в литературе аристократическое и
демократическое течения, с различной общественной и религиозной окраской.
Гуманисты слишком серьезно увлекались содержанием язычества,
чтобы не возбудить сомнений; Боккаччо пришлось отбиваться
от них, и легко предположить, что он нашел себе противников
во Флоренции; флорентийцы были и те зоилы, которые злостно
разобрали отрывок Африки, нападая на Петрарку его же оружием.
Многое говорит за то, что для чистокровного гуманиста Флоренция
не представляла тогда удобной почвы. Ее поэты, современники
последней боккаччьевской поры, соединяют культ Данте, Петрарки
и Боккаччо с средневековой учительностью, как у Торини, петрар-
кизуют, как Чино Ринуччини, или развивают в свой собственный
стиль, стиль здорового буржуазного реализма, на котором лежит
печать новеллы и патриотической завзятости; таковы Пуччи,
Саккетти, Орканья. Они, в сущности, показатели своеобразного,
местного литературного развития, отвечавшего внутреннему росту
флорентийской коммуны; они слишком местны, провинциальны
и настолько далеки от отвлеченных задач гуманизма. В такой среде
ему собственно негде развиться; молодые гуманисты выезжают,
живут или жили вне Флоренции: Заноби, Нелли, Франческо Бру-
ни, Салутати; говоря (после 1361-го года) о Петрарке и Заноби,
Маттео Виллани выражается об их творениях, что их приятно
послушать, но что с точки зрения богословской мудрые люди
не ставят их ни во что. Это освещает положение. К университету,
куда когда-то желали привлечь Петрарку, горожане относились
неряшливо, как денежной обузе, так что правительство должно
было напомнить им (в 1357 году), что он честь и украшение города.
На классической кафедре чередуются случайные или неизвестные
имена: в 1360-м году читает риторику Франческо Бруни, вскоре
удалившийся на службу при папской курии; в 1366-7-м —
флорентийский нотариус ser Michèle de Lora; в 1368-м — магистр
Джьованни Конверсино из Равенны, в 1368-9-м — флорентийский
гражданин, профессор риторического искусства, Варфоломей, сын
Якова. Как раз в эти годы Боккаччо, за исключением некоторых
деловых поездок, находился во Флоренции; не звали его на
гуманистическую кафедру, или он сам устранился от нее, или считал
себя изолированным? Его покровители — неаполитанцы, дома
<Боккаччо иДанте>
593
о нем вспомнили не как о гуманисте, а когда затеяли публичные
толкования — Божественной Комедии.
Он взялся за дело рьяно. У него была любовь к предмету, под
руками материалы дантовской биографии, уменье вращаться в
аллегорических тонкостях, громадный запас сведений, необходимых
для комментариев, был наготове в Генеалогиях Богов, в книгах
о великих женщинах и мужах, в Географическом словаре. Все это
переселилось в его чтения; часто он начинает рассказ и обрывает
его пометкой: и так далее; он мог досказать его по готовым текстам.
Его чтения, в сущности, концепт, разработанный неравномерно,
но по строго продуманному плану: он наперед распределил
материал толкований; встречаясь с известным сюжетом, их
вызывавшим, он замечает напр., что поговорит о нем подробно в другом
месте, по поводу такой-то песни. Такие ссылки вперед встречаются
и у других комментаторов; у Боккаччо нередко и на такие части
Божественной Комедии, которые ему не удалось более истолковать.
Вступительная лекция начинается молением о Божьей
помощи и комплиментом флорентинцам: это было своего рода
captatio benevolentiae, которую заглушают впоследствии громы
откровенных обличений. Боккаччо сознает трудность затеи: он
непонятлив и скудоумен, память у него слабая, он знает, что
берет на себя непосильный труд: объяснить хитроумный текст,
множество рассказов и высокий смысл, скрытый под поэтическим
покровом Комедии нашего Данте — и притом истолковать людям
столь глубокого понимания и удивительного остроумия, какими
обладаете вы, господа флорентийцы. Боккаччо не надеется на свои
силы и потому взывает словами Виргилия:
Iupiter omnipotens, precibus si flecteris ullis,
Aspice nos; hoc tantum; et si pietate meremur,
Da deinde auxilium, pater1.
Прежде чем обратиться к разбору поэмы, Боккаччо хочет
выяснить несколько общих вопросов, ее касающихся, каковы: 1)
предмет поэмы, 2) ее заглавие, 3) ее философия. То, что мы
обозначили словом «предметы», лишь отчасти отвечает выражению
cause, которые с своей стороны подразделяются по категориям
сюжета, формы, автора и цели. Сюжет двоякий, ибо соединяет
дословное значение с иносказательным. С точки зрения первого
поэма изображает посмертную участь душ, с точки зрения
аллегории она представляет, каким образом человек, в силу своей
свободной воли возвышаясь или падая, повинен возмездию награды
594
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
или наказания. Вопрос о форме касается внешнего деления поэмы
на три кантики, песни, терцины — и поэтического стиля; автор —
Данте, конечная цель поэмы: побудить людей выйти из
бедственного состояния к состоянию блаженства.
Переходя ко второй из поставленных им рубрик, заглавию
поэмы, Боккаччо разбирает понятие cantica с точки зрения ее
музыкального понимания и устраняет сомнения тех, которым
название комедии казалось не подходящим. Они говорили, что
содержанием комедии, по смыслу самого слова, являются низменные
лица и отношения, чему поэма не отвечает; что и стиль комедии
такой же низменный, чего тоже нет, потому что хотя Данте писал
и на народном языке, на котором говорят бабенки, но писал
высоким стилем. Я не отрицаю, прибавляет от себя Боккаччо, что
если бы то же содержание выражено было в латинских стихах, оно
явилось бы более художественным и возвышенным, ибо и
латинская речь художественнее современной народной. Интересно, как
поставлен в последнем труде Боккаччо вопрос об отношениях обоих
языков, столь существенный в литературной истории гуманизма.
В известном послании к Петрарке Боккаччо говорил, что если
Данте предпочел народные метры, то не по незнанию латинской речи;
в биографии Данте избрание им итальянского языка объясняется
тем, что гуманистический интерес и знание латыни находились
в упадке у людей власть имущих, меценатов — и этот аргумент
повторяется и в комментарии; в той же биографии итальянский
язык назван, по сравнению с латинским, некрасивым,
неизящным — как и в комментарии читаем, что блестящие достоинства
Данте тускнели во мраке народной речи, а знаменитые versi strani2
толкуются, как итальянские, ибо до Данте никому не
приходило в голову писать о подобных материях иначе, как по латыни.
Вспомним еще выражение Генеалогий Богов: о Божественной
Комедии, написанной художественно, — хотя и на народном
языке. Данте прославляется постоянно, как великий художник
итальянского слова, но это не умаляет преимуществ латинского,
а только возвышает славу того, кто с меньшими средствами достиг
великого. Для народной речи просят лишь одного: снисхождения;
Беатриче обращается к мантуанцу Виргилию на своем языке,
то есть, на флорентийском, поучая нас таким образом, что без
особой необходимости не следует оставлять родного языка для
какого-нибудь другого.
Были и другие замечания насчет неуместного обозначения дан-
товской поэмы комедией: в поэме не проведен принцип диалога,
<Боккаччо иДанте>
595
много вводных рассказов, содержание действия не
вымышленное, ибо кара грешников и награда праведных отвечают учению
церкви; нет деления на сцены. Боккаччо защищает название тем,
что как комедия, бурная и шумливая в начале, кончается миром
и покоем, так и поэма Данте начинается с печали и страданий,
чтобы умиротвориться с праведниками в вечной славе.
К вопросу о заглавии примыкает характеристика Данте. Это
краткий очерк, с ссылкой на «биографию», без новых данных;
только Брунетто Латини назван учителем Данте, о чем
биография умалчивает; как и в ней, имя поэта оказывается данным
свыше: недаром называют его по имени; Беатриче = теология
и первозданный Адам. Эти сведения пополняются эпизодически
в течение комментария: так, Боккаччо говорит со слов мессера
Джьярдино из Равенны, что Данте умер на 57-м году жизни;
сообщает сведения о Беатриче Портинари, повторяет знакомый нам
рассказ о том, как найдены были первые семь песен Ада. На этот
раз он называет свои источники: у Данте был племянник, сын его
сестры, Андрей Поджи, человек необразованный, но разумный
и порядочный, и лицом и всей фигурой напоминавший дядю,
даже горбившийся, как, говорят, горбился он. Этот-то Поджи
и рассказывал Боккаччо, что в находке действующим лицом
был он; с другой стороны, старый приятель Данте, Дино Пери-
ни, утверждал, что утраченные песни найдены были им самим.
Кому из них поверить, не знаю, говорит Боккаччо, но выражает
и веские сомнения в достоверности и вероятности самой легенды;
в биографии он еще принимал ее на веру.
Остался еще третий общий вопрос, поставленный в начале
введения: к какого рода философии относится Божественная
Комедия. Боккаччо отвечает, что к этической.
Все это введение не что иное, как разработка и переделка
положений приписываемого Данте послания к Сап Grande délia Scala
с посвящением Рая. Иные выражения переведены дословно, тот же
схематизм, лишь несколько измененный. В послании общих
вопросов поставлено шесть: 1) сюжет, 2) автор (agens), 3) форма, 4) цель,
5) заглавие, 6) род философии. У Боккаччо первые четыре рубрики
сведены в одну под заглавием cause, может быть, под влиянием
какого-нибудь средневекового комментария. Так Тревет разбирал
Сенекова Hercules furens по категориям causa efficiens (автор),
materialis (сюжет), formalis (форма драмы) и finalis (увеселение
народа или цели нравственного исправления)3. Дальнейший
анализ частностей повторяет послание: та же двойственность сюжета
596
А. Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ
и то же, буквально, определение иносказательного содержания
поэмы; тот же разбор формы, та же защита названия «комедии»,
та же цель в род философии.
Оказывается, Боккаччо парафразировал послание Данте не
называя его, как парафразировал его в введении к своему
комментарию Якопо делла Лана (между 1323-м и 1323-м гг.), сократив
шесть делений в четыре и также не назвав автора; в
комментарии Пьетро Алигьери (1340-41 г.) тот же материал послания
к Cane délia Scala распределяется уже совсем по боккаччьевским
рубрикам: cause, заглавие, философия. Вопрос о подлинности
дантовского письма, еще недавно вызывавшей сомнения, нас
здесь не касается; вероятно одно, что если ни Якопо делла Лана,
ни Боккаччо не упомянули его, то потому, что они пользовались
им в особом виде, без имени и посвящения, которое позволило бы
угадать автора. Как бы то ни было, именно послание дало те общие
точки зрения, которые легли в основу последующих толкований
Божественной Комедии, как безыменных глосс к ее тексту, так
и комментариев, обнимавших ее целиком или частями. На такие
толкования ссылается и Боккаччо, ни разу не обозначая их точнее:
у него, как нередко и у других комментаторов, это просто «другие»,
которым он часто не верит, предпочитая свое понимание, но
отмечая и несочувственные. Незнакомство с прямыми источниками
его дантовской экзегезы не всегда позволяет судить об
оригинальности его собственной. Уже сыновья Данте, Якопо и Пьетро,
в своих комментариях, первый и в своем Dottrinale, установили ту
точку зрения, что под аллегорией загробных мук и наград Данте
имел в виду изобразить троякое состояние людей в этой жизни:
грешников, погрязших в адском мраке пороков и неведения,
покаявшихся и добродетельных; их участь и возмездие —
естественное следствие их жизненного делания; их судья, Минос, —
их собственная совесть. Мы встретим этот взгляд и у Боккаччо,
в соединении с другим, оставляющим за дантовской трилогией
ее христианско-легендарное значение, видящим в Данте личного
грешника, которого примеры божественного правосудия
приводят к сознанию и направляют к добродетели. Таково понимание
в комментариях Ser Graziolo4 и в анонимном толковании, изданном
Сельми. К этим принципиальным совпадениям присоединяются
и мелкие: Боккаччо усматривает, напр., сознательный
параллелизм в том, что в каждом круге Ада Данте поместил особого
демона, назначенного застращать пришельцев; но подобное замечание
сделано было уже Якопо ди Данте. Приступая к разбору каждой
<Боккаччо иДанте>
597
песни, Боккаччо наперед распределяет ее содержание на несколько
отделов, о которых и говорит последовательно; это тот же прием,
что у Якопо делла Лана и Пьетро Алигьери. Аллегория Veltro,
будущего освободителя Италии, оставляет Боккаччо в недоумении,
он не делает окончательного выбора из разных мнений и
решительно отрицает отождествление Veltro с И. Христом, приводя,
как наиболее правдоподобное, мнение тех, которые представляли
себе Veltro безвестным, безродным бедняком, имеющим изгнать
из мира любостяжание.
Обращаясь к толкованию первой части Божественной Комедии,
Боккаччо еще раз оговаривается: он слаб умом и памятью, и если
ему случится сказать что-либо несогласное с учением церкви, он
наперед отдает себя под ее суд. Божественная Комедия ставила
богословские вопросы; первым является вопрос об — аде; Боккаччо
развивает здесь положения, выраженные им в Генеалогиях Богов,
на этот раз с ссылкой на Священное Писание, различающее три
ада: верхний, средний, или лимб, и низший, или ад в обычном
употреблении слова. Для его аллегорической системы важнее
понимание верхнего ада: это — жизнь, полная страданий и
греховности; ад — в сердце человека, с Цербером — ненасытными
желаниями, судьями — судом совести и т. д. Следуют вопросы:
о положении нижнего ада, о чем существуют разные мнения;
о его названиях. Первая песнь дантовского Ада выделяется, как
вводная к остальным, и начинается толкование. Методичность
и знакомая нам обстоятельственность Боккаччо сказались в
точном обособлении дословного толкования от аллегорического; это
было нововведение: дословное толкование всегда имеет в виду
следующее за ним аллегорическое, ссылается на него вперед; что
распределение материала является при этом несколько
искусственным, понятно само собой. Только при 10-й и 11-й песни нет
объяснения иносказаний, ибо они не представляли ничего
нового; в 8-й этот отдел ограничивается несколькими строками; так
и в 16-й, с ссылкой на будущее толкование; 15-я песнь отсылает
слушателя к аллегориям 17-й, комментарий которой остановился,
как мы видели, на полуфразе.
Займемся сначала отделом дословного толкования. Оно двоякое,
стилистическо-грамматическое и реальное. Первое не дает
понятия об образовательном цензе слушателей, собравшихся вокруг
Боккаччо в стенах Сан-Стефано: в нем есть пища для всех. Иные
стихи Данте разбираются синтаксически, то есть восстановляет-
ся прозаический порядок речи, комментарий становится почти
598
А. Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ
школьным, несколько раз возвращаясь к частям одного и того же
предложения, повторяя и резюмируя; с другой стороны, даются
указания на разночтения в тексте Данте, приводятся этимологии,
объясняется поэтическое словоупотребление, значение слов,
синонимы; флорентинизмы, ломбардизмы, романьолизмы; в слове
orranza (вместо onoranza) отмечена синкопа, в других случаях
сравнения, тропы и фигуры, заимствована из Виргилия, иной
раз к выгоде Данте.
Грамматическое толкование приготовляло комментарий по
содержанию. Источниками Боккаччо могли быть здесь те «другие»,
с мнениями которых он считается, не называя их; для реальной
части комментария его собственные ученые труды, с теми же
ссылками на Пронапида, Теодонция, Леонтия Пилата, на
классиков; с набегами в область французских романов, баснословных
рассказов об Александре Великом и городских легенд Фьезоле
и Флоренции, с неравномерными порывами критики,
колеблющейся между сомнением и доверчивостью (напр. в легенде о Дидоне),
возбраняющей себе вопросы в делах веры: не слыхал я и не читал,
чтобы Христос сошел в лимб с знамением победы, замечает Бод-
каччо к дантовскому стиху. Принадлежность одной пьесы Сенеки
возбуждает в нем доверие по существу и сомнение по отношению
к стилю. Павлова Видения он, кажется, не знал5, Теофрастово
De Nuptiis, текстом которого он пользовался в биографии Данте,
переведено теперь целиком6.
Такое массовое чтение объясняет подробность историко-ре-
ального комментария, особенно в его классическом отделе:
пересказываются мифы с их толкованием, сообщаются сведения
об играх у древних, биографии деятелей мифа и истории, героев,
поэтов и философов: Виргилия и Камиллы, Платона и «грешного»
Овидия; Минос увлекает к воспоминанию о Дедале в Байях, имя
Париса — к легенде о нем.
От воспоминаний древности текст Данте переносил Боккаччо
к средним векам, итальянским и чужим; явились статьи о лонго-
бардах о Фридрихе II и Пьеро делле Винье, об Эццелине и
Франческе из Римини, в падение которой Боккаччо отказывается верить:
оно было возможно, но Данте не мог знать о нем, это — вымысел,
основанный на вероятности. Ряд исторических и биографических
сведений об итальянских и флорентийских деятелях, о
политических отношениях Флоренции приводит нас к другим источникам,
хроникам (Виллани), прежним комментаторам, рассказам
стариков и сведущих людей. Многое принадлежит сообщениям Коппо
<Боккаччо иДанте>
599
ди Боргезе Доменики; известно, как чтил Боккаччо этого живого
свидетеля доброй старины: с его слов записан анекдот о Гвальдра-
де, рассказана новелла Декамерона о Федериго Альбериги, от него
идут сведения о Филиппе Ардженти, действующем лице другой
новеллы, герой которой, Чакко, также встречается в
комментариях в связи с характеристикой партий, на которые распались
флорентийские гвельфы: Белые (Bianchi) с родом Черки во главе,
и Черные (Neri), руководимые семьей Донати. Мы знаем, как
поверхностно было у Боккаччо понимание старых флорентийских
отношений, и знаем тому причины. Вскоре после 1302-го года,
особенно после итальянского похода Генриха VII, Bianchi и Neri
исчезают, как название гвельфских партий; первые сливаются
с гибеллинами, вторые означают гвельфов вообще; между тем,
комментируя (Inf. VI, 70) пророчества Чакко, что Черные еще долго
будут воздымать чело, то есть верховодить, Боккаччо замечает
в 1373-м году, что это время еще не прошло. Говоря о Черных, он,
очевидно, разумеет просто гвельфов, как анонимный комментатор
Ада (м. 1321 и 1337 годом) — не флорентинец. В Vita отсутствуют
самые названия Bianchi и Neri, а о гвельфах и гибеллинах сказано,
что откуда пошли эти клички — неизвестно; с тех пор
достопочтенный муж Луиджи Джьянфильяцци рассказал Боккаччо, что
слышал об их происхождении от Карла IV: анекдот о графине
Матильде и двух совопросниках, Гвельфе и Гибеллине, который
и пересказывается без сомнений, без сознания принципиальной
обусловленности гибеллинских и гвельфских партий широкими
идеями папства и империи.
Энциклопедическое содержание Божественной Комедии шло
навстречу энциклопедизму самого Боккаччо. Автор De Montibus
сказывается в статьях географического характера; о замке, который
затевали построить у водопада Аквакеты, он сам слышал от аббата
соседнего монастыря. Разъясняются вопросы
естественно-исторические, физиологические, метеорологические, не без примеси
баснословия и наивного суеверия, когда, напр., об осах говорится,
что они зарождаются из гнилых внутренностей осла, хотя, напр.,
в Генеалогиях зарождение палочной травы из человеческой
крови вызывает сомнение; или что люди, косоглазые от рождения,
по мнению физиологистов, бывают хитры и коварны, а у
умирающих является дар прозорливости. В иных случаях Боккаччо
помогли его старые юридические занятия: отвечая на сомнения
людей, соблазнявшихся тем, что в Дантовском лимбе
подвергаются одинаковой каре дети, умершие до крещения, и языческие
600
А. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
мудрецы и поэты, которым следовало бы положить более тяжкое
наказание, Боккаччо подробно различает понятия: неведения
закона и неведения факта; последнее служит к извинению и
облегчению участи тех язычников, которые жили до Христа и не имели
возможности познать истинного Бога, те же, которые жили в пору
«закона», не могут защищаться его незнанием. Боккаччо строже
Данте: он исключил бы из его лимба не только Авиценну, Галена
и Аверроэса, но и Овидия, Лука'на и других; таково его мнение,
которое он готов подчинить решению церкви и мнениям более
мудрых людей. Подобной, несколько искусственной
юридической формулой, различением репа illativa и репа privativa7, он
пытается спасти Данте от обвинения в разногласии с церковью,
учащей, что по воскресении все души соединятся с своими
телами (дело идет об Inf. XIII, 91 след., возбуждавшем сомнения уже
древних комментаторов), тогда как тела дантовских самоубийц
окажутся повешенными на тех самых деревьях, в которых они
заключены в аду.
Знакомое нам пристрастие Боккаччо к астрологии и
хронологическим выкладкам вызвало два астрономических экскурса:
вычисление, сколько времени провел Данте в своем воображаемом
хождении; то же пристрастие побудило комментатора еще раз
высказаться по вопросам, издавна его занимавшим: о влиянии светил
на человека, о значении астрологии, о судьбе. Вечным вращением
и различными сочетаниями светил, этих орудий божественного
всемогущества, производящих существа низшего порядка,
объясняется в людях различие их по внешности, темпераменту,
призванию; всякий родится на что-нибудь, и хотя Господь
одарил наши души разумом и свободной волей, кажется (pare), что
люди следуют не выбору, а тому, на что каждый рожден. Вопрос
о Фортуне, поставленный Данте, приводит Боккаччо к тем же
точкам зрения: Фортуну встарь считали богиней, поэты
изображали ее женщиной, с повязанными глазами, вращающей колесо;
но под ней разумеется не что иное, как различные вращения небес,
движимых божественным разумом к известной цели — оттого
неуместна повязка на глазах Фортуны. Движением небес
объясняются непонятные нам перемены в судьбе людей и царств; у
Боккаччо на памяти примеры из De Casibus; так в наши дни величие
французов перешло на англичан, о когда-то именитых в нашем
городе семьях Черки, Донати, Тозинги едва теперь поминают,
их слава перешла на других, о которых тогда не знали.
Врожденность увлекает нас, но если бы мы захотели быть благоразумными
<Боккаччо иДанте>
601
и последовать внушениям свободной воли ибо наши души созданы
Богом и вне влияния Фортуны, мы воспротивились бы ей,
попрали бы ее, неисповедимую — ибо человеческому пониманию
не обнять тайны неба, что доказывают постоянные, чаще всего
напрасные старания астрологов, хотя сама по себе астрология,
как наука, имеет основание. Если в другом месте верование, что
какое-нибудь созвездие может роковым образом влиять на
людские умы, осуждается, как неразумие и даже ересь, если о Данте
говорится, что его дарования не от звезд, хотя Господь и одарил
их многими силами, а от милости Божией — то это ставит нас
в кажущееся только противоречие с взглядами Дантовской
биографии, с заявлениями Генеалогий, с общей постановкой этого
вопроса в комментариях. Эта постановка ясна: старческий résumé
жизненных взглядов, колебаний, отстоявшихся в видимом
покое. De Casibus еще отражает период колебаний, борьбы
личности в противоречиях судьбы и призвания. Там Фортуна — Бог,
но языческого типа; она непререкаема, ее побеждает доблесть,
но побежденная; ее можно избежать, ограничив желания; в эту
двойственность неотразимо вторгались моменты призвания,
сознания силы, прирожденного таланта, который не знает границ
и невольно идет навстречу судьбе. В комментариях эти
противоречия помирены: талант, призвание от звезд, от вращения небес,
но то и другое в руках Бога; понятия прирожденности, Фортуны
сливается с представлением Божества, вместе с тем доблесть,
ограничение желаний уходит в понятие свободной воли. Если бы мы
были разумны, мы чаще бы подчинялись ей, но, кажется, народы
чаще следуют не ее разумным указаниям, а своим наклонностям.
Боккаччо не написал бы теперь своего панегирика Алкивиаду;
его воззрения смиренно подошли к церковной норме; как в
соответствующих частях Генеалогий, его христианство боязливое,
несколько суровое: мы видели, что он исключает критику в делах
веры, предоставляя свои суждения на суд богословов; если
говорит о Юпитере, как о боге-отце, то старательно отмечает и другое
его, языческое значение; он не верит, чтобы душу можно было
вызвать из ада: вместо нее являлся демон; демоны наполняют
воздух, вздымают бури, соблазняют людей; иные, менее разумные,
объясняют их влиянием явления парализии. Я сказал о суровом
христианстве Боккаччо: некрещеных детей в лимбе он одаряет
сознанием, но оно им не в утешение, а на муку; грешники лишены
всякого утешения: если Франческо говорит, что Паоло и теперь
ее не покидает, то Данте следовал здесь Виргилию, не учению
602
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
христианства. Однажды, казалось бы, Боккаччо готов подойти
случайно, хотя «предмет того и не требовал», к вопросу о
существовании в природе вредного, неполезного, напр. пустынь; но он
не обобщает его, а решает благодушно, в связи с фактом: пустыня
освободилась из-под моря, которое служило целям плавания.
Зло явилось в мире с историей: она начинается с золотого века
и кончается разложением; если в Амето, в Фьямметте это — общее
место, в комментариях оно выражает старческое настроение. Все
идет на склон, и нравы, и самые костюмы; простые в старину, они
стали теперь бесстыжими; в старину красавец Спуринна исказил
свое лицо, ибо оно возбуждало соблазн и вожделение, современные
молодые люди идут навстречу тому и другому. То, что говорится
о них, напоминает указ короля Роберта и туалетные подробности
Корбаччо и De Casibus. Модное кротополие, платье в обтяжку
возбуждают негодование, тем более, что эти люди защищают
себя примером англичан и немцев, французов и провансальцев.
Что за срам! восклицает Боккаччо в порыве национального
самосознания: в былое время, когда мы еще не страдали
изнеженностью, мы давали всему свету и законы, и моды, и нравы; в этом
было наше благородство, наше преимущество и сила; теперь,
заимствуя у варваров, у наших бывших рабов и данников, то,
что они у нас переняли, мы тем самым заявляем, что мы рабы,
они выше нас и благороднее и образованнее. Неужели эти люди
не поймут, как унизительно для итальянца следовать обычаям
таких народов! Римским обычаем нельзя защититься: я не могу
доказать письменными памятниками, что римляне не носили
короткого платья, но тому доказательством статуи — а я их много
видел. Но у Боккаччо есть и другой аргумент против новой моды:
это ее соблазн, вожделение, которое она, своею откровенностью,
может возбуждать в женщинах. Ибо в женщинах вожделение
и без того не знает границ, они красятся, рядятся, поют, играют
глазами с единственной целью увлечь мужчин; те идут им
навстречу и впадают в сладострастие; это — смерть юношам, утеха
женщин, мать лжи, враг чести, нарушение верности, опора
пороков, вместилище скверны, соблазнительное зло, позор стариков;
именно для ограждения от ее излишеств Господь и установил
брак, ограничений мужа одной женою; все иные связи
подлежат осуждению — и Боккаччо переходит к перечислению видов
преступной страстности, доходя до содомии. Правда, любовная
страсть карается слабее других пороков, как бы менее оскорбляет
Господа, ибо она врождена нам небесами, и мы находили бы в том
<Боккаччо иДанте>
603
извинение, если б у нас не было свободной воли, возможности
уберечь себя от соблазнов и возбуждений — ибо «без Цереры и Вакха
хладеет любовь»8.
Все это сказано по поводу грешников, караемых за любострастие
во втором адском круге, и сводится к объяснению поэтического
эпизода о Франческо и Паоло! Боккаччо внимательно следит
за соответствием проступка и наказания: вихрь, в котором
несутся любовники, — холодный вихрь, как противоположность
горячности вожделения.
Старый, реально-физиологический взгляд Боккаччо на любовь
не удивит нас в том его произведении, на котором ярче должна
была лечь печать лет и боязливых старческих счетов с совестью.
Его ригоризм обострился, общие места поучения, нажитые
взгляды еще раз являются на перекличку: те же укоры женщинам,
которые красятся и притираются, тогда как красота — дар небес,
почти всегда соединяющийся с другими преимуществами,
невольно вызывающий почет, не передаваемый никакой кистью;
та же похвала целомудрым матронам — и злая инвектива против
брака по следам Теофраста; осуждение плотской страсти,
знакомое определение любви с классификацией ее по Аристотелю
и почтительным замечанием к известному дантовскому стиху:
о любви, вызывающей любовь — что это может относиться только
к добродетельному чувству. То, что говорится о молве — fama,
поэзии и поэтах, о тиранах, об идеале короля и служителя
правосудия — повторяет знакомые тирады De Casibus и Генеалогий.
Пороки, караемые в дантовском Аду, явились темой обстоятельных
рассуждений о гордыни, зависти и любостяжании; чревоугодие
дает повод к характеристике застольных излишеств, в которых
повинны итальянцы, особенно тосканцы: описывается их
бесконечное столованье, с певцами и скоморохами и беседами обо всем,
начиная от пятен на луне до вопроса о достоинстве тех или других
вин. Не делается ни одного общественного или частного дела,
чтобы не поесть и не попить; роскошь дошла до того, что иные стали
золотить мясо; и подобное делают не только небольшие правители,
но и мелкий люд; за такими-то трапезами вершаются серьезные
дела, вино и обильные яства помогают обвинению или оправданию,
они — адвокаты, заступники; Бог знает, к чему все это ведет!
Общие рассуждения о том или другом этическом вопросе
оживают и действуют сильнее, когда за ними чувствуется
наблюдение над действительностью, преимущественно
флорентийской, либо отзвуки лично пережитого. Говоря о любостяжании
604
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
и расточительности, Боккаччо метит на клириков, как в другом
случае недоумевает о смирении современных пап, но когда он
нападает на людей, расточительных к льстецам, скоморохам,
заблудшим женщинам, и неумеющих почтить достойного человека,
невольно вспоминается его прием у Аччьяйоли; это, может быть,
такое же личное воспоминание, как и указание на зависть, царящую
при дворах. Нравы флорентинцев давали материал для нареканий:
их обвинили в чревоугодии, вопрос о гневе и нравственной косности
вызывает рассуждение о вендетте, которой пятнают себя тосканцы,
особенно флорентинцы; с них писан портрет вечно тревожного,
озабоченного случайностями купца. Данте зовет флорентинцев
неблагодарными, слепыми; в прошлом они действительно были
неблагодарны к людям, которые делали им добро, а о прозвище
слепых идет такой рассказ: когда пизанцы отправились в поход
на Майорку, упросили флорентинцев быть на страже их города,
а в награду обещали поделиться с ними добычей. Они привезли с
собой резные деревянные врата и две колонны из красного порфира,
которые обшили сукном; выбор был предоставлен флорентинцам,
они выбрали колонны, которые оказались сломанными. Оттуда,
будто бы, прозвище слепых; Боккаччо не верит в это объяснение,
а другого не находит; он забыл свое собственное, в Географическом
словаре. И далее Боккаччо следует за Данте, называющего
флорентинцев стяжательными, завистливыми, надменными; развивая эти
нарекания, автор включает в них и себя: это риторический прием,
притуплявший жало: всем нам прирождена стяжательность, мы
завистливы паче других, и т. д. Но эта отрицательная оценка
взвешивается положительной; идеальный поклонник старого Рима,
Боккаччо позволяет себе противоречить Данте заявлением, что
уже со времен императоров Рим был наполнен всяким народным
отребьем, но сам он проникнут тосканским самосознанием: мы
должны благодарить Бога, что принадлежим к этой, а не к
другой нации, если только слава страны сообщается и ее жителям;
а Флоренция выше всех тосканских городов, как голова
благороднее других членов тела. Это — самосознание ли Данте или новый
комплимент флорентинцам?
За толкованием Божественной Комедии по содержанию
оставался не меньший труд: объяснение ее иносказательного смысла.
Общий путь указан Данте, комментаторам оставалось развить
подробности. Здесь Боккаччо неистощим, как всегда методичен,
нередко доходя до наивности в своей акрибии. Он пристально
присматривается к всякой мелочи любимого текста, ставит вопросы,
<Боккаччо иДанте>
605
недоумевает и старается выйти из недоумения, помирить
кажущиеся противоречия: почему, напр., Лукреция попала в число
добродетельных язычников лимба, когда она убила себя, а самоубийцам
уготовано в аду другое место? почему в аду Сенека, тогда как,
по убеждению Боккаччо, он был христианин? почему Минотавр,
тип яростного гнева, не карается вместе с гневными? Порой
толкователь остается при своем недоумении: Данте говорит, что
обитатели лимба не ощущают иных страданий, кроме вздохов, между
тем в одном месте сказано (очевидно, метафорически) о пламени;
или Виргилий говорит Данте, что вскоре удовлетворено будет его
тайное желание; комментаторы пытались определить его,
Боккаччо заявляет откровенно, что оно ему неясно. Сам он пытается
пролить свет там, где все ясно, если не искать сокровенного
смысла во всяком риторическом обороте, в поэтическом образе. А он
всюду ищет аллегории и находит ее, тем легче, что по его теории,
скрепленной примерами Св. Писания, разделявшейся и другими
толкователями, каждый образ может иметь несколько значений:
Цербер, напр., означает в дантовском Аду и любостяжание и
чревоугодие. И вот бесконечно-напрасные усилия Данаид не что иное,
как аллегория женщин, которые хорошатся и рядятся, часто
не достигая цели; подробно разбирается, применительно к пороку,
наказание чревоугодников; у расточителей волоса острижены,
ибо, по мнению ученых, в волосах нет влаги и ничего полезного
здоровью тела, почему они и выражают иносказательно — мирские
блага, не приносящие никакой пользы нашим душам. Гневные
истязают себя сами, бьются головой, грудью и т. д.; голова — это
мысли, намерения, решения гневного человека, грудь означает
жизненные силы питания и т. д. Наконец — хвост Миноса,
которым он опоясывает себя столько раз, сколько кругов следует
пройти грешнику, чтобы достигнуть назначенного ему места;
и этот реалистический образ находит неожиданное толкование:
хвост, крайняя часть тела, означает последнюю часть нашей
жизни, нравственное содержание которой и определяет решение
Божьего суда, ибо Минос — Божие правосудие.
Важнее частных аллегорических толкований и хитроумных
сближений было проникнуть в общий план дантовского
иносказания, проникнуться его духом. Автор старается подойти к тому
двумя путями. С одной стороны, он выясняет себе систему адских
мук, представлявшую некоторые трудности. В XI-й песне Ада
Данте дает несколько сбивчивые указания: до седьмого круга,
говорит он, караются грехи невоздержности; далее злоба, malizia.
606
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
достигающая своих целей насилием или обманом. Это
распределение следует помирить с другим, аристотелевским:
невоздержность, злоба или коварство — malizia, и неразумное зверство — 1а
matta bestialitade. Bestialità отвечает насилию первой схемы,
malizia ее обману; если внести в нее эти определения, то
получится распорядок Боккаччо: incontinenza, bestialità, malizia9.
С этой точки зрения насильники относятся ко второй категории,
bestiale; и это было бы ясно, если бы при другом случае Боккаччо
не припомнил первого дантовского деления, относящего насилие
к проявлениям malizia. Но это внешний недочет, объясняемый
излишним вниманием к слову дантовской системы. Любопытно, как
расширил Боккаччо понятие bestialità: у Данте положение ереси
Вчлествице грехов не определено, может быть, сознательно не
выяснено; он мог колебаться в приурочении, но, поместив ересиархов
непосредственно за невоздержными, невольно вызывает вопрос:
не относил ли он ересь к категории невоздержности; мы
подскажем: невоздержности мысли. Ею еретики погрешили, не желая
оскорбить Бога, напротив, полагая, думая услужить ему. С этим
согласен и Боккаччо; тем не менее его вывод не стоит на уровне
дантовской гуманности: ересь отнесена у него к зверству или
скотоподобию; разве не скотоподобны, напр., еретики, утверждавшие,
что после Целестина не было настоящего папы? Из них недавно
сожгли более шестисот, и поделом, за их упрямство. Упрямство —
вот формула, при помощи которой аллегорически объясняются
устройство и аксессуары «града Дита», где казнятся дантовские
еретики: и самый город, и образы Горгоны и Медузы — символы
упрямства, умственного коснения; фурии — душевные волнения,
отвечающие этому состоянию духа. Боккаччо не написал бы теперь
своей сатиры на «инквизитора нечестивой ереси».
Другой путь, которым он подходит к выяснению внутреннего
смысла Божественной Комедии, намечен его пониманием ада.
Хождение по трем загробным царствам только оболочка, весь
процесс понимается психологически, как совершающийся в
человеческом микрокосме: это тревожная повесть человека,
выходящего из ада пороков и заблуждений, путем познания и помощью
благодати, к постепенному очищению и прозрению высшего
блага. Пороки — это звери, заступившие путь Данте в начале его
аллегорического хождения; Виргилий — это разум или благодать
содействующая; donna gentile — молитва, Лучия — божественное
милосердие, Беатриче, которая в начале труда отождествлялась
с теологией, является теперь спасающею благодатью. Все образы
<Боккаччо иДанте>
607
пристраиваются к этому психологическому процессу, не без
обильных натяжек; не только Ахерон понят, как аллегория бедственной
человеческой жизни, но и челнок Харона означает наши
вожделения, его весло — ваши тревожные заботы и т. д.
Весь анализ предполагает греховного человека вообще, но в
особенности самого Данте. На этот путь личного объяснения вступил
уже сэр Грациоло; Боккаччо приготовлен был к нему со времени
дантовской биографии, когда вменил поэту порок сладострастия;
комментарий давал к тому повод, когда Боккаччо защищает
самосознание Данте, называющего себя шестым в сонме великих поэтов
древности, или говорит о его благородном негодовании, или
сообщает мнение, что под двумя праведными людьми во Флоренции
Данте разумел себя и своего друга Кавальканти. Но обыкновенно
сострадание, pietà Данте к грешникам вызывает оценку его
личности, обнаруживая вместе с тем христианский ригоризм
толкователя. Общая точка зрения та, что к грешникам грешно сострадать;
если поэт обнаруживает жалость, то к самому себе, в сознании,
что и он повинен в тех пороках, которые предстали ему в образе
аллегорических зверей. И вот он сам заподозрен в сладострастии,
в том, что порой чревоугодничал, склонен был к любостяжанию,
гневу; грешен ли он был в содомии — об этом автор предоставляет
судить другим, хотя Данте и сжалился над содомитами, как
разжалобился, слушая речи Пьеро делле Винье — в предчувствии,
что и сам он станет жертвой зависти.
Толкуя пророчество Брунетто Латини, Боккаччо говорит о
неувядающей славе Данте; он сам глубоко проникнут этим
убеждением, но образ поэта и человека выходит у него тусклее прежнего, нет
графической определенности того идеала, который он изобразил
в своей биографии. Он расплывается в мелочах, и тому причиной
не одна лишь разбросанность комментария, и притом комментария
недосказанного. Если бы он был дописан, он достиг бы
грандиозных размеров, но мы едва ли бы от того выиграли: это старческий
труд, любовно словоохотливый, педантски обстоятельный; свод
чтений и житейских взглядов, окрашенный болезненным
ригоризмом, — ибо страх смерти редко позволяет нам логически доска-
заться до конца нашего интеллектуального развития и незаметно
сводит его к покаянному настроению; а мы знаем, что у Боккаччо
этот поворот намечен был с половины 50-х годов. Кроме того,
комментарий был, очевидно, и не выработан окончательно:
остались двадцать четыре тетради и четырнадцать тетрадок — может
быть, заметок и выдержек. Эти подробности раскрываются нам
608
Α Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
из ссудного дела, начавшегося между наследниками Боккаччо
20 февраля 1376-го и решенного 18 апреля следующего года.
Мы знаем, что он завещал свою библиотеку брату Мартину
из Синьи; комментарии были в работе и могли не считаться в
составе библиотеки; так понимали дело некоторые из исполнителей
духовной, между прочим брат Боккаччо, Яков, тогда как брат
Мартин показывал, что те тетради принадлежат ему, как
ведающему книгохранилищем. Ввиду этого разногласия Яков передал
те тетради, с согласия брата Мартина, одному из исполнителей
завещания, Франческо ди Лапо ди Бонамики, с тем, чтобы он и два
другие исполнителя, Бардуччьо ди Керикини и Аньоло Торини,
порушили между ними спорный вопрос; но брат Мартин не
пожелал подвергнуться их решению, ибо им не доверял; вследствие
этого Яков обратился к суду с просьбой вернуть ему те тетради,
стоимость которых он оценил в восемнадцать флоринов золотом,
или и более. Спрошенный на суде, ответчик показал, что
действительно те тетради переданы ему на хранение, но что отдать
их он не может, пока не порешено будет, кому они принадлежат;
в случае же решения просил, чтобы каждому из исполнителей
завещания предоставлено было снять с них копию. Так как из пяти
человек двое были на стороне Якова, суд решил дело в его пользу.
Более, чем эта внешняя история боккаччьевских чтений, нас
интересует впечатление, произведенное ими на слушателей.
В числе их находился, по его собственному показанию, Бенвенуто
Рамбальди из Имолы (род. м. 1336-40-м гг., 11390), из младших
гуманистов первого поколения, хотя и с значительной
средневековой подкладкой, автор двух компилятивных трудов по римской
истории, комментатор Виргилия и трагедии Сенеки, Фарсалий
Лукана и Валерия Максима, Петрарковых эклог и Божественной
Комедии, которую в 1375-м году он публично толковал в Болонье.
Влияния боккаччьевских чтений на его комментарий свеже,
хотя неравномерно: он повторяет, следом за Боккаччьевскои Vita
di Dante, легенду о нахождении первых семи песен Ада — без
позднейшей оговорки автора; ссылается на De Montibus и
объясняет, согласно с ним, прозвище флорентийцев «слепыми» в связи
с историей Аннибала, и тотчас же дает другое объяснение, то самое,
которое мы находим и в комментариях Боккаччо, но без ссылки
на него. Он, может быть, не все записал, или Боккаччо мог
впоследствии кое-что изменить в тексте своих речений. Иногда
Бенвенуто разногласит с своим учителем, не верит в Виргилия мага
и чудесного строителя, но, напр., в объяснении мифа о рождении
<Боккаччо иДанте>
609
Аполлона и Дианы на Делосе он дает иносказание Генеалогий;
оттуда или из комментария идет, вероятно, и упоминание Пронапи-
да. Он не только знает все латинские труды Боккаччо, но и цитует
их и пользуется ими, из итальянских особенно жизнеописанием
Данте и Декамероном: он пересказывает несколько новелл,
ссылается на их типы; когда он говорит о «сладости болонской
крови» — это напоминает восклицание Боккаччо: О чудесная сладость
болонской крови! У него самого очевидно пристрастие к забавным
россказням, недаром он называет Боккаччо ревностным
собирателем всяких потешных историй. От него он слышал многое,
не нашедшее места в боккаччьевских чтениях: объяснение фло-
рентинизмов, сведения о местных нравах, анекдоты о библиотеке
Monte Cassino. Флорентинцы, напр., зовут lonza = рысь — пардом;
однажды, когда вели парда по улицам, мальчишки заголосили:
Посмотри-ка, какой пард! Либо Боккаччо слышал от стариков, что
когда мальчишка бросал камнем или грязью в статую Марса, ему
грозили: Ты плохо кончишь! И в самом деле, вторит Бенвенуто,
я знал таких двоих: один утонул, другого повесили. Когда
Бенвенуто приходится истолковать, что такое Marzucco в Purg. VI,
18, он предпочитает из двух объяснений — объяснение Боккаччо,
ибо ему он больше верит, называет его (и Петрарку), говоря о
чревоугодии флорентинцев, о Джьотто; ссылаясь на мнение лучших
флорентинцев о мстительности их сограждан, вторит укорам
Боккаччо, вживается в его отрицательное миросозерцание,
когда громит флорентийскую роскошь, ведущую к сладострастию.
Их женщины живут в царских покоях, страсть к нарядам,
против которой бессильны все городские постановления, развилась
в целое искусство — и Бенвенуто парафразирует обличения De
Casibus, упоминая сатиру Geri d'Arezzo, написанную в стиле
Апулея, и обличая флорентинцев, что они едят и пьют, прежде
чем отправиться в церковь или на свадьбу. Как Боккаччо, он
нападает на кротополие мужчин, на их пристрастие к иностранным
модам, и также проникается итальянским самосознанием:
заимствуют не только моды, но и французский язык, утверждая, что
нет его краше; а ведь он ублюдок латинского; не умея произносить
cavaliero, signor, они произнося chevalier, sir; вместо того, чтобы
сказать: говорить по народному, vulgariter, они выражаются:
говорить по романски, romanice, и произведения на этом языке
зовут romancia. Весь этот бред иностранным явился с тех пор,
как флорентинцы разбрелись по свету, но это не мешает, однако,
сознаться, что именно эти люди, заменив нелепые идиотизмы
610
Α Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
более приличными выражениями, говорят лучше и чище, чем те,
которые засиделись дома.
Во всех этих общих местах чувствуется печать флорентийского
руководителя — Боккаччо. Боккаччо — это не только слава Чер-
тальдо, но и слава Флоренции, как всегда неблагодарной к своим
великим сынам: Данте, Петрарке, к нему. Боккаччо, жертва
неблагодарности, это Боккаччо, заброшенный в Чертальдо, больной,
необеспеченный старик; таким узнал его Бенвенуто; он зовет
его своим учителем, достопочтенным, мудрым, сладкоречивым,
не Боккацием, a bucca aurea10, устами, источающими сладость;
но мы отметим другие, более сердечные эпитеты, подсказанные
не литератором, а человеком: милейший, прекраснейший,
добрейший из людей, добрый.
Таково впечатление одного из слушателей Боккаччо. Когда он
умер, Саккетти помянул добром его дантовские чтения: Как нам
надеяться, что восстанет Данте, когда нет никого, кто был бы в
состоянии истолковать его, а Джьованни читал нам о нем?
Между тем, его чтения не всех удовлетворили; явились
зоилы или зоил; из какого лагеря — сказать трудно; может быть,
из лагеря крайних дантофилов, которым казалось святотатством
раскрывать глубокие тайны дантовской поэмы людям, того
недостойным. Уже в XIV веке существовало не только увлечение,
но и самое имя дантиста; были и богословы, всенародно
заявлявшие, к великому смеху Бенвенуто, что Беатриче Божественной
Комедии — просто женщина, спрашивавшие: к чему мне следовать
учению этой книги, когда в ней так мало — теологии? Другие
могли устранять толпу, как позднее Анжело Торини, по-видимому,
приятель Боккаччо, упрекал Марсили, что тот принимает у себя
людей непосвященных в науку, даже женщин, и беседует с ними
о высоких предметах. Так или иначе, но на Боккаччо ополчились,
его язвили стихами; уже его старая болезнь, чесотка, заставила его
прекратить чтения, когда он, больной, схватился за перо в свою
защиту, скорее в извинение. Да он, пожалуй, виновен, друзья
увлекли его к неразумному шагу, побудила к нему бедность, но он
жестоко наказан; он страдает и почти просит пощады. «Если я
позорно предал муз на поругание презренного люда и неразумно
обличил перед чернью их сокровенные прелести — то упрекать меня
за эти проступки излишне, ибо Аполлон так сурово наказал меня
за то в моем теле, что нет члена, в котором бы не отзывалась боль.
Я обратился в мех, но он наполнен не ветром, а тяжелым
свинцом; я едва движусь; так всецело овладел мной недуг, что у меня
<Боккаччо иДанте>
611
нет надежды на выздоровление, хотя я знаю, что Господь может
уврачевать меня». Следующий сонет еще раз пересказывает те же
идеи: «Если Данте, где бы он ни пребывал, опечален тем, что его
высокие замыслы открыты были недостойной толпе, как ты
выражаешься о моих чтениях — я скорблю и никогда не перестану
негодовать на себя, хотя кое-что меня и поддерживает — ибо не мне
принадлежит неразумная затея, а другим: обманчивая надежда
и действительная бедность и заблуждение друзей и их просьбы —
вот что побудило меня к тому. Но не на пользу пойдет ученая
(духовная) пища тем неблагодарным ремесленникам, враждебным
ко всякому прекрасному, благому начинанию».
Когда нападки продолжались, Боккаччо снова пишет
безыменному хулителю: «Утомили меня и притупили твои стихи,
направленные в мое посрамление; хотя в моем жалком положении
у меня едва хватает времени на то, чтобы утолить мой чес, тем
не менее, побуждаемый твоими стихами, я порой отвечал на то,
на что метит твое перо; не в Болонье оно было очинено, если ты
припомнишь, как суровы твои речи! Довольно я твердил, что
сожалею о своем неблагоразумном поступке, но дела не вернешь;
потому перестань и пощади меня, ибо даю слово, что никто более
не побудит меня к столь ложному шагу». Если следующий
сонет обращен к тому же критику, то Боккаччо выходил иногда
из терпения, в нем вновь била жилка памфлетиста, и он грозил,
как в былое время Нелли: «Ты меня язвишь, а я ведь не из стали,
и если твои уколы заставят меня заговорить, я так проберу тебя
по швам, точно ты потревожил осиное гнездо. Мера переполнилась;
довольно с тебя, Бога ради! Не заставляй меня поведать в стихах
о твоих мерзостях, ибо я окажусь другим, чем тебе кажется; а раз
слово вылетало, его не вернешь, поздно будет говорить: А я думал...
Если у тебя чешется рука, безрассудная любовь, фортуна дадут
тебе богатый материал, пусть твое остроумие ими и тешится».
И затем у Боккаччо являлись моменты самосознания, как в
защите Декамерона, безыменный хулитель отождествлялся для него
со всей ремесленной толпой, которая не в состоянии была понять
его, не признала; он даже счастлив мыслью, что прервал свои
чтения, оставил своих слушателей на полупути без нравственного
руководства, ибо такой именно цели должны были служить его
лекции; они его недостойны. «Я посадил неблагодарную толпу
на корабль, без сухарей и кормчего, и покинул в море, ей
неведомом, хотя она и считает себя сведущей и знающей. Я еще надеюсь,
что слабое, непрочное судно станет вверх дном и что все потерпят
612
Α Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
крушение, даже умеющие плавать; а я буду смеяться, стоя на
высоте, это будет мне утешением за понесенные обиду и обман; стану
упрекать их за стяжательность, за обманные лавры, умножая тем
их скорбь и тяготу».
В таком-то расположении духа, больной и раздраженный,
Боккаччо уехал в Чертальдо. Частный неуспех, голоса из толпы
поразили его, и начались обычные колебания самоанализа. Он
полон сомнений: он в самом деле проституировал Данте; как мог
он на то решиться? Ему припоминаются уговоры друзей. И затем
он обрушивается на непонятливую грубую толпу, занятую
стяжанием, далекую от идеальных стремлений, полную зависти; они
завидовали его лаврам; не к ним ли стремились обманчивые
надежды, о которых говорится в последнем сонете? Друзья, надежды,
бедность — вот что на первых порах он приводит в свое извинение.
Бедность «действительная», говорит он; мы знаем, на сколько
в этом заявлении шаржа, поддержанного постоянными мечтами
о независимой обеспеченности поэта, ученого. Об этой бедности
говорит одно из последних его писем, если не последнее письмо
к Петрарке, относящееся ко времени, когда он еще не выступал
чтецом Божественной Комедии. О содержании послания мы можем
заключить лишь из ответа Петрарки: это было письмо больного
старика, ворчливо-любовное, назойливо-откровенное; я обездолен,
стеснен, забыт, говорил он о себе; пусть так; ты обеспечен,
славен — а все еще заботишься о славе, зарабатываешься не в меру,
держишь посты; побереги себя — хоть для меня. Петрарка знал
дружбу к нему Боккаччо, ревнивую, навязывавшуюся с советами,
полную болезненных оберегов; он привык к его нытью, к общим,
непорешенным вопросам о меценатстве и свободе; понимал и его
настроение в глухом захолустье Чертальдо. Тем не менее письмо
подействовало неприятно. Сначала он не хотел отвечать на него,
а вздумал послать Боккаччо свой перевод последней новеллы
Декамерона, Гризельды; но затем он взялся за перо и обстоятельно
ответил; письмо подписано 28-м апрелем 1373-го года; и письмо
и новелла, помеченная (в окончательном виде) 4-м июля,
залежались у него, по обыкновению, и лишь два месяца спустя он
отправил их с коротеньким посланием, вместо введения, где
обозначен был и порядок, в котором письма следовало читать. Этого
порядка придержимся и мы.
Я решился не отвечать на твое письмо, ибо хотя в нем было
много полезных мыслей, подсказанных дружбой, наши точки
зрения во многом расходились. Затем у меня явилась мысль
<Боккаччо иДанте>
613
написать тебе о другом сюжете (перевод Гризельды); в оригинале
много было поправок, и я взялся было за переписку, когда мне,
почти постоянно больному, явился на помощь приятель. Пока он
писал, я подумал: Что то скажет обо мне мой друг Джьованни?
Что диктую тому человеку ненужное, а на нужное не отвечаю!
Тогда, более по увлечению, чем по зрелом размышлении, я снова
взялся за перо и ответил на твое послание. Оба письма
пролежали у меня более двух месяцев, потому что не находилось гонца.
Прочти сначала собственноручное, потом то, что писано другой
рукою. Дочтя его до конца, ты скажешь, усталый: Так вот каков
мой друг, больной, занятый старик? Уж не писал ли кто-нибудь
другой, здоровый, молодой, не знающий, что ему делать? А между
тем это я сам, и я сам дивлюсь на себя.
Следует собственноручное письмо Петрарки. Он был глубоко
поражен тем, что рассказывал ему о себе Боккаччо, хотя издавна
привык к подобного рода вестям. Надо признаться, плохо ты
наделен дарами Фортуны, которые философы не считают благами,
хотя для жизни они — поддержка. Это печалит меня, и я
вознегодовал бы на судьбу, если б все, чтоб ни случалось, не зависело
от высшей воли. Господь дал тебе более, чем другим смертным,
поставил тебя выше многих современников, а в виде восполнения,
может быть, праведного, хотя грустного, сделал тебя Лактанцием
или Плавтом нашего времени, послав тебе, вместе с умом и
красноречием, и бедность. Петрарка приглашает друга вдуматься в свое
положение и решить, захотел ли бы он поменяться с людьми,
обеспеченными мирскими благами. На его долю выпало нечто
более драгоценное, он может сказать с Горацием: Вокруг тебя
мычат сотни стад, сицилийские телки, ржут кобылицы, годные
в упряжь; твоя одежда дважды окрашена в африканский пурпур;
что до меня, то Парка, не знающая обмана, судила мне крохотное
поле, дух греческой музы и презрение к завидующей толпе.
Добродетельному человеку нет причины жаловаться на отсутствие
временных благ, заключает Петрарка, переходя ко второй части
письма Боккаччо, которая поднимала личный вопрос. Петрарке
не раз приходилось отвечать на него. Ты даешь мне понять, пишет
он, что моя судьба сложилась для меня счастливо и богато; если
так, то и твоя не так бедственна. Пойми это раз на всегда, это верно;
замени эпитет: богатый другим: средственный, вместо
счастливого поставь свободный от забот, и ты ближе подойдешь к истине.
Как бы то ни было, я несколько раз говорил тебе, чего теперь
не стоило бы повторять: будь у меня кусок хлеба, я разделил бы его
614
А. Я. ВЕСЕЛОВСКИИ
с тобою поровну. Тебя тревожат мои недуги, пишешь ты; меня это
не удивляет: никто из нас не может быть здоровым, когда болеет
другой. Ты говоришь, что причина тому старость, и напоминаешь
мне мои лета; я их не скрываю, жалею только, что не употребил
их на лучшее, и стараюсь в вечерний час исправить не сделанное
в течение дня; исправить и в жизни и в писаниях. А ты убеждаешь
меня отдохнуть, успокоиться, хочешь уверить, что я не только
много пожил, но и много поработал — и могу остановиться на пути!
Но у меня совсем другое намерение: я, напротив, хочу удвоить
шаги. Меня удивляет такой совет, исходящий от человека, который
сам ему не следует. Так верные советники не поступают. При этом
ты действуешь очень тонко и искусно; если бы ты не любил меня,
не был бы моим вторым я, я сказал бы, что ты шутишь; но тебя
ослепляет твоя дружба. Ты говоришь, что моя слава
распространилась от востока до запада, что еще смешнее — среди эфиопов
и гиперборейцев; удивляюсь, как могли тебя в этом уверить; я так
думаю, что и в Италии меня едва ли хорошо знают, и сомневаюсь,
чтобы был на свете человек с меньшим о себе мнением, чем я. А ты
хочешь обмануть меня, вселить самомнение; к чему это? Я был
убежден, что никто лучше тебя меня не знает, и охотнее поверю
всему, чем заподозрить твою дружбу.
Но, положим, я известен, и даже далеко известен; ведь это
только лишнее побуждение трудиться. Я не отказываюсь от твоей
похвалы, что в Италии, а может быть, и вне ее, я возбудил многих
к нашим занятиям, запущенным в течение столетий. Я старейший
из работников в этой области, но я не понимаю твоего заключения,
что мне следует остановиться, дать место юным талантам, дабы
обо мне не сказали, будто я все желал написать сам. У нас одни
и те же стремления, но как разны наши взгляды! Много остается
еще сделать, писал Сенека Луцилию, много останется, и через
тысячу лет никто из наших потомков не будет лишен возможности
еще прибавить к тому, что сделано.
Не знаю, каким образом Боккаччо переходил далее к вопросу
о меценатстве; он у него наболел издавна; Петрарка защищался,
как всегда. Ты говоришь, что большую часть жизни я провел
в услужении правителям. Дабы ты не заблуждался, вот
истинное положение дела: видимо я жил с ними, на самом деле они
жили со мною. Я присутствовал порой на их совещаниях, редко
на их пиршествах; никогда я не мог бы принять условий, которые
чем бы то ни было стеснили бы мою свободу и занятия. Когда все
шли во дворец, я направлялся в лес, либо отдыхал у себя с моими
<Боккаччо иДанте>
615
книгами. Если бы я стал утверждать, что не потерял ни одного
дня, я сказал бы неправду: много я их потерял (не дай Бог сказать,
что потерял все), то по лени, то по болезни и душевным тревогам.
Петрарка высчитывает, сколько времени, у него ушло
собственно на служебные обязанности; счет верный, всего семь месяцев,
но в него не входят годы пребывания при дворах, а лишь —
деловые посольства. Так он обошел главный вопрос, тревоживший
его друга; но он был свободен.
Письмо продолжает устранять другие аргументы Боккаччо:
тот убеждал Петрарку умерить работу; если прежде бывали
примеры такой выдержки, то это объясняется долголетием древних,
у которых нынешние старики считались молодыми. Петрарка
опровергает его воззрение: продолжительность человеческой
жизни осталась та же, говорит он; еще недавно знаменитый анахорет,
Ромуальд из Равенны, достиг 120-летнего возраста, несмотря
на посты и бдения, от которых ты меня всячески удерживаешь.
Не думай, чтобы наши предки, кроме разве патриархов, жили
дольше нашего; они были только деятельнее, а недеятельная
жизнь — бесполезно потерянное время.
Но у тебя есть и другие доводы, которыми ты обходишь
затруднения. Дело будто бы не в летах, а в разности темперамента,
климата, питания. Я согласен со всем, кроме — вывода: ты
советуешь мне, говоря буквально, удовольствоваться тем, что в стихах
я сравнялся с Виргилием, с Цицероном в прозе; ссылаешься на мое
венчание в Капитолии. Относительно этого иные другого мнения,
и я с ними: тот лавр был преждевременным, осенил не зрелое
разумом чело; будь я старше, я не пожелал бы той чести: одни юноши
любят блеск, не прозревая, к чему он ведет. Венец не сделал меня
ни ученее, ни красноречивее, он возбудил ко мне зависть, лишил
спокойствия, дал с известностью и тревоги; я многое мог бы
порассказать тебе о том, чему бы ты подивился.
Твой последний довод — это желание, чтобы я подольше пожил
на радость моим друзьям, на утеху твоей старости; ты хочешь,
чтобы я пережил тебя; того желал и наш друг Симонид (Нелли),
желаешь и ты, брат мой, и некоторые друзья; я же хотел бы
умереть раньше вас, чтобы жить в вашей памяти, беседе, молитве. Мне
противно было бы существовать в обществе, где нравы так упали,
забыты отеческие предания, и итальянцы рядятся и коверкают
язык, стараясь прослыть варварами.
Ты просишь меня извинить тебя, что ты обратился ко мне с
советами. Я не извиняю, а благодарю; твоя дружба сделала тебя
616
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
врачом для меня — не для себя самого. Тебя я не послушаюсь,
а попрошу послушаться меня: если бы я последовал твоему
совету, я бы вскоре погиб. Работа, занятия — пища для моей души;
перестать работать значило бы отказаться от жизни. Свои силы
я знаю; нет на земле большего наслаждения, более благородного,
постоянного, приятного, верного, как занятия литературой.
Прости меня, брат мой; во всем я поверю тебе, только не в этом.
Как бы ты ни возвеличивал меня, я не могу не стремиться — стать
чем-нибудь; если я чего-нибудь стою, то возвыситься; если бы
я был великим человеком, чего нет, то сделаться еще более
великим, величайшим. Мне сдается иногда, что бы вы там ни думали,
что я еще начинающий; хотелось бы, чтобы смерть застала меня
юным, а так как это немыслимо, то по крайней мере среди занятий
или слезных молитв. Будь здоров, думай обо мне, будь счастлив
и мужайся.
Письмо Петрарки полно энергии, жизнерадостности, несмотря
на видимое пренебрежение к жизни, идеальной любви к труду,
несмотря на лета. Боккаччо удерживает его пыл, как отец стращает
ребенка, любуясь его головоломными шалостями — и сам не верен
себе дважды, ведь и сам он продолжает работать. При разности
практических воззрений и сноровки, у обоих были одни и те же
стремления; Петрарка это верно заметил: они были идеалисты,
жили в царстве мысли, открывали ее и насаждали. Это сознание
в них крепко; но из их кружка остались они вдвоем, они берегут
друг друга, следят друг за другом с любовью и болью, один в Падуе,
другой в Чертальдо. Кругом выросло новое поколение; их
отрицательное отношение к нему, сквозящее в словах Петрарки,
подсказано не одной старческой брезгливостью, а и высотой их идеальных
требований. Но отзвуки нашлись: дальнейшее развитие
итальянского сознания примыкает к именам Петрарки и Боккаччо.
Петрарка не устает работать; но как явилась у него идея
пересказать риторической латынью новеллу о Гризельде? Был ли это
случайный выбор, как он дает то понять, или случай совпал с
целями личного внушения? Боккаччо жаловался на свою горькую
участь; Гризельда учила терпению.
Каким-то образом попалась мне в руки книга, написанная
тобою на отечественном языке, вероятно, в юности, так начинает
Петрарка. Не скажу, чтобы я прочел ее, это было бы неверно;
труд обширный, написан в прозе, для народа; к тому же я был
страшно занят, тревожили и военные события; я пробежал книгу,
как странник, спешно, не останавливаясь, оглядывающий путь.
<Боккаччо иДанте>
617
Заметил я, что на твою книгу напали собаки, но что ты накричал
на них и отбился палкой; твой талант я знаю, знаю по опыту и тех
людей, назойливых и праздных, которые хают все, чего сами
не хотят или не в состоянии сделать.
Твою книгу я перелистывал с удовольствием; иные несколько
вольные места объясняются возрастом, в котором ты ее писал,
стилем, языком, легкостью сюжета и соответствующим
настроением читателей, которых ты имел в виду. Как всегда бывает в
подобных случаях, Петрарка внимательнее прочел начало и конец
Декамерона, он хвалит описание чумы, но особенно прельстил его
последний рассказ, ни в чем не похожий на предшествующее. Он
так им заинтересовался, что, не смотря на массу забот, запомнил
его, чтобы иметь возможность пересказать его, при случае,
приятелям. Случай вскоре представился, и все были в восторге. Тогда,
продолжает Петрарка, у меня явилась идея, что такой прелестный
рассказ мог бы заинтересовать и людей, не знающих нашего языка;
вот уже сколько лет, как он продолжает мне нравиться, да и ты
счел его достойным своего стиля и поместил в заключении своего
труда, где риторика повелевает помещать лучшее, — и вот в один
прекрасный день, когда по обычаю я предавался своим мыслям,
не довольный ни ими, ни собою, я вдруг все бросил, и, взявшись
за перо, принялся пересказывать твою новеллу; полагаю, это
доставит тебе удовольствие; ни для кого другого я того бы не сделал.
Следуя указанию Горация, я переводил не рабски, кое-где изменял
и прибавлял и думаю, что ты не только позволишь это, но и
одобришь. Тебе посвящены эти страницы, новелла возвращается,
откуда пришла: ей знаком судья, и дом, и путь; кто прочтет ее,
будет знать, что за нее отвечаешь ты, а не я. Если меня спросят,
действительное ли это происшествие или сказка, я отвечу с Сал-
люстием: ответственность падает на автора, то есть на моего друга
Джьованни. После этих объяснений я начинаю.
Переделка, которой Петрарка подверг новеллу Боккаччо,
характерна для риторики гуманистов, с ее речами и описаниями,
общими местами, не всегда идущими к делу, и благообразным
декорумом в ущерб реализму. «Давно тому назад в роде маркизов
Салуццо был старшим в доме молодой человек, по имени Гваль-
тьери» — так начинается новелла Декамерона. Посмотрим, как
начинает свой рассказ Петрарка. «На западе Италии из хребта
Апеннин поднимается высокая гора Визо, вершина которой,
прорывая облака, купается в прозрачном эфире. Славная сама по себе,
эта гора еще более знаменита источником По, который, выйдя
618
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
из ее склонов малым ручейком, направляется на восход солнца и,
увеличенный множеством притоков, становится, после
непродолжительного бега, не только значительной рекой, но царем рек, как
сказал Виргилий. В своем быстром течении он рассекает на двое
Лигурию, отделяет Эмилию, Фламинию, Венетию и, наконец,
разбившись на множество огромных ветвей, впадает в Адриатику.
Страна, о которой идет речь, представляет прелестную, открытую
солнцу равнину, перерезанную и окруженную холмами и горами;
вследствие положения у подножья горы ее в назвали Пьемонтом.
Там города и прекрасные крепости, в числе прочих, у подошвы
Визо, в область Салуццо, усеянная селами и замками, подвластная
родовитым маркизам. Первым из всех и самым могущественным
был, говорят, некий Гвальтьери, глава рода в области».
Петрарка ничего не изменил в рассказе Боккаччо, позволив
себе лишь мелочные перестановки, кое-где больше
определенности ввиду исторического колорита. О детях, которых Гвальтьери
отдал на сторону, говорится, когда они вернулись, что дочке было
двенадцать лет, мальчику шесть; так у Боккаччо; Петрарка вносит
точную хронологию: между рождением дочери и сына прошло
четыре года; два года от рождения мальчика до той поры, когда отец
отнял его у матери; счет оказывается верным. Новыми явились
речи: у Боккаччо подданные Гвальтьери просят его жениться,
у Петрарки их выборный произносит витиеватое слово; говорят
Гвальтьери и Гризельда. Когда у нее отняли первого ребенка,
Боккаччо рисует ее смирение, во второй раз он ограничивается
указанием, что повторилось то же; Петрарка сознательно
повторяет и сцену, ибо так подсказывала ему его риторика. И у Боккаччо
действующие лица несколько подняты над уровнем обычных
человеческих ощущений, предполагают героические нервы;
Петрарка изобилует. Гвальтьери суров, но степенно мудр: он избрал
себе жену не в любострастном настроении юноши, но с мудростью
старика. Гризельда прежде всего благопристойна: когда,
посватавшись за нее, Гвальтьери велит ее одеть, как подобает ее будущему
сану, ее волосы растрепаны под брачным венком; Гвальтьери
спрашивает ее перед всеми: Гризельда, хочешь ли ты меня мужем
себе? На что она ответила: Да, Господин мой! Петрарка удалил
и всклокоченные волосы и реализм народного обряда. Его вкус
требовал классического спокойствия и классически-односторонних
характеров: Гризельда таит в своей груди мужественное сердце,
полное мудрости; в ней нет колебаний, нет «ножей в сердце»,
когда у Боккаччо, смиряя себя, она отвечает Гвальтьери, любовь
<Боккаччо иДанте>
619
к которому она не в силах подавить в себе. У Петрарки человечное
чувство любви ушло без остатка в статуарное чувство долга.
Пересказывая эту историю, говорит Петрарка, я имел в виду
не женщин, для которых пример Гризельды недосягаем, а мужчин:
пусть поучатся на нем и терпеливо, как Гризельда, переносят
испытания, посылаемые им Господом; я назову их героями.
Моя дружба к тебе побудила меня, старика, к делу, на
которое в юности я бы не решился. Быль это или сказка, я не знаю;
говорят, что сказка, потому только, что ты ее написал. Петрарка
рассказывает о различном впечатлении, которое она произвела
на двух общих знакомых: один, падуанец, человек замечательного
ума и знания, несколько раз прерывал чтение, так его душили
слезы; другой, из Вероны, не обнаружил никакого волнения: эта
сказка, Гризельда с ее безответным терпением и пониманием
супружеского долга казалась ему немыслимой. Петрарка не желал
обострить приятельскую беседу, иначе у него были бы под руками
примеры древности: Курий и Кодр, Порция, Ипсикратея, Алцест.
В числе многих, которых влекла в Падую слава Петрарки
и которых он занимал назидательной повестью о Гризельде, был
и какой-то английский клерк. Так говорит Чосер в прологе к
повести о Гризельде, пересказанной им по латинской парафразе
Петрарки с стилистическими мотивами, заимствованными из
других источников. «Я расскажу вам историю, так начинает клерк,
историю, которую я слышал от одного достойного ученого мужа,
прославившего себя словами и делами. Его уж нет, он заколочен
в гробу, и я молю Господа успокоить его душу. Звали того клерка
Франциском Петраркой; был он лавровенчанный поэт, которого
сладкозвучная риторика осияла поэзией всю Италию».
Позволено ли отождествить клерка с Чосером — вот вопрос. Чосер был
в Италии с английским посольством в 1372-м и по декабрь
следующего года, был в Генуе и Флоренции; Боккаччо читал тогда
свои лекции о Божественной Комедии и еще не знал, что Петрарка
готовится одарить его латинской Гризельдой; а Падуи английское
посольство не коснулось. Всего вероятнее предположить, что
фигура клерка навеяна письмом Петрарки, где он говорит, что любил
рассказывать знакомым именно новеллу о Гризельде. Это может
отчасти объяснить, в пересказе Чосера, умолчание имени автора
Декамерона; в других случаях такое умолчание кажется
странным: Чосер, так много обязанный Боккаччо, не знает, что он автор
Филострато и Тезеиды, пользуется его De Claris Mulieribus, De
Casibus, Генеалогиями и ни разу не цитует по имени. Пересказывая
620
Α Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
в своем Троиле в Крессиде поэму о Филострато, он называет своим
источником какого-то Лоллия, который является в House of Fame
одним из авторов, писавших о Троянских деяниях; в том же Троиле
в Крессиде переводит, с именем Лоллия, 88-й сонет Петрарки, —
которого дважды называет в Кентерберйских рассказах. Именно
смешение Петрарки и Боккаччо в имении Лоллия показывает,
что в данном случае Чосер следовал наивному приему
средневековых поэтов, маскируя свои источники воображаемым, древним,
иногда фантастическим именем. Легко предположить, что
поэтические труды Боккаччо могли дойти до него анонимными, ведь
ни Петрарка ни Боккаччо не ожидали себе от них особой славы,
а в рукописях имя могло выпасть. Остаются латинские труды,
к которым гуманисты привязывали свою репутацию, которых
собственность они ревниво оберегали. В этом случае умолчание
имени Ёоккаччо характерно: его мало знали, тогда как Петрарка
заставил говорить о себе.
IX
БОККАЧЧО В РОССИИ
^s^
В. П. НАУМЕНКО
Новелла Боккаччо
в южно-русском стихотворном пересказе
XVII-XVIII ст.
Южно-русская письменность XVII-XVIII в., довольно богатая
содержанием по вопросам, так сказать, имеющим специальное
значение, очень бедна памятниками чисто литературного характера,
и причина этого кроется прежде всего в общем ходе политической
судьбы южно-русского народа.
Следы самобытной южно-русской письменности, отличной от
чисто народной устной литературы, проявившейся в былинах, думах,
песнях и сказках, мы находим весьма рано. Еще в XI и XII вв.,
когда на юге России начиналась духовно-нравственная
литература и зарождалась история в форме летописей, лучшие люди того
времени любили уноситься мыслию от реальной действительности,
от житейской прозы, в иной мир, мир поэзии. В этом отношении
довольно указать на того туманом покрытого Бояна, который,
по словам Буслаева, «был достойный современник Нестору и если
сам заимствовал свои песни из исторических рассказов, то без
сомнения, мог и передавать летописцу в звучных песнях предания
русской старины*, или вспомнить о певце Игоревом, чтобы сказать,
повторяя слова Максимовича, что хотя «может быть и не было у вас
периода письменной поэзии, но песнопения письменные были»**.
Объясняется существование этой старины — нашей самобытной
искусственной поэзии тем согласием и той близостью, которые
существовали тогда между отдельными поэтами-писателями и
поэтом-народом.
* Летоп. русск. лит. изд. Тихонравовым, т. I, стр. 31.
г* Собрание сочинений, т. 3, стр. 488.
624
В. П. HАУМЕН КО
Но столь счастливое начало нашей письменности отнюдь не
соответствует ее продолжению. Уже с XII в. начинаются тяжелые дни
в жизни южно-русского народа, тянувшиеся в течение многих
столетий и задержавшие правильное развитие его жизни и вместе самой
письменности. Трудно определить даже, как и на чем оборвалось
развитие старинной поэзии, но на расстоянии трех веков мы
встречаем почти пустые страницы в истории литературы южной Руси.
И между тем вся историческая жизнь южной Руси за этот период
сложилась так, что, когда вновь возродилась в ней наука и началась
литературная деятельность, произошло полное отделение
представителей письменности от народа. И наука и литература, вызванные
к жизни в конце XVI века усиленными стремлениями южно-руссов
поднять слабые стороны своего духовного развития для борьбы с
католицизмом, попали в оковы царившей тогда в Польше и на всем
Западе схоластики. Нельзя отрицать, что и с таким характером
литература того времени стояла в тесной связи с народной жизнью,
защищая его интересы; но что касается поэзии, то ничего общего
с народным песнотворчеством в ней не видно. Мы имеем от того
времени массу произведений богословских, полемических,
поучительных, исторических, филологических, но все это составляет тот
отдел прозы, который удовлетворяет лишь научным, политическим,
общественным интересам и остается в стороне от потребностей души,
стремящейся, помимо всего, еще и к эстетическому наслаждению
в форме словесных поэтических произведений. Правда, и такого
рода произведений не мало в южно-русской литературе XVII и
особенно XVIII ст.; но под влиянием продолжавшейся религиозной
борьбы и схоластического образования и они были запечатлены
тем же характером, как и другие литературные произведения того
времени. Если бы писателями этой эпохи преемственно
унаследован был прием старинных поэтов брать сюжеты из жизни родной,
близкой, чаще всего из исторических событий, если бы при том
осталось прежнее единение поэтов-художников с поэтом-народом,
если бы современный поэт воспитался в своем поэтическом
вдохновении на началах народного песнотворчества, то сюжетов таких
для художественной разработки можно было найти бесконечное
множество в истории Украины XVI и XVII вв., а поэтическое
вдохновение и образы в бесконечности могли черпаться из народных
дум и песен козацкой эпохи. Но оторванная от народной поэзии
литература XVII и XVIII ст., вместо всего этого, вырабатывает в
читающей публике иные вкусы, давая ей стихотворные (виршевые)
произведения с сюжетами богословского характера. Для примера
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 625
довольно назвать «Перло многоценное» Кирилла Транквиллиона,
где большую половину книги составляют стихотворения в похвалу
Троицы, Богородицы и т. д., или вспомнить, что известный Иоанн
Максимович издал весьма объемистую книгу на тему «Богородице
Дево, радуйся» в стихах, которых количество доходит до 25 тысяч.
Не больше жизненности представляли собою духовные драмы,
почти все время остававшиеся принадлежностью школы. Некоторые
проблески народности начали было обнаруживаться в интермедиях,
но им не суждено было развиться вполне и облечься в
художественную форму, хотя бы на подобие английских интерлюдий Гейвуда.
Вообще южно-русская книжная поэзия XVII-XVIII в., подчиняясь
всецело латино-польским образцам, ничего самобытного
представить не могла.
Такие обстоятельства развития и существования нашей
письменности приводили к мысли о заимствовании недостающего из
литератур других народов, — мысли, которая сознательно развилась
в XVII и усилилась в XVIII в., и в ряду заимствований этого времени
едва ли не первое место по качеству и по своей распространенности
занимают зашедшие в южную Русь старинные повести,
преимущественно западных редакций. Старинная повесть, по словам Пыпина,
«имеет право на внимание историка литературы, как популярное
чтение старого времени, очень любимое и распространенное; в своем
отношении к читателю она не имела тех интересов, какие
соединялись с произведениями историческими и чисто-назидательными,
при сильном господстве дидактических требований, она занимала
своим более или менее поэтическим содержанием и, следовательно,
отвечала только чисто литературным потребностям читателя*.
Заимствования вообще начались у нас весьма рано. В течение восьми
столетий, от Х-го до XVIII, наша письменность, в большей или меньшей
мере, пополнялась переводами и переделками тех сказаний, которые
распространены были в византийской и западно-европейской
литературах. Раньше всего, конечно, началось движение этих сказаний
из Византии через посредство южно-славянских литератур
(болгарской и сербской), благодаря если не единству, то во всяком случае
близости литературного языка последних с языком литературным
в России. При этом, нужно заметить, что многие из этих сказаний
настолько в переводах и переделках применялись к характеру
русской письменности, что становились как бы самобытными, и потому
теперь только метод сравнительного исследования может открыть
* Пыпин, Очерки лит. истор..., стр. 2 (Учен. зап. 2 отд. имп. ак. наук, кн. IV).
626
В.П.НАУМЕНКО
до известной степени их действительное происхождение и
определить как ближайшие посредствующие, так и более отдаленные пути,
которыми они доходили до нас. В ряду многочисленных повестей,
зашедших к нам из Византии, более других замечательны «История
Александра Македонского», приписываемая псевдо-Каллисфену,
и «Троянская война», впрочем гораздо менее первой
распространенная у нас, а из повестей этой группы, наиболее соприкасавшихся
с народною словесностью, можно указать «Слово о купце Басарге»1,
где фигурируют как бы исконные местные люди: киевский гость
Басарга и его сын Мудромысл.
Заимствование этим путем шло лишь до XIV ст., до тех пор пока
южно-славянские государства жили своей политической
независимостью; с падением же их и с подпадением самой Руси под иго
татарское, там и здесь приостановилось надолго литературное
развитие, и в течение трех столетий, от XIV до XVII, мы не можем
указать в нашей письменности ничего такого, что
свидетельствовало бы о новых литературных заимствованиях или каких-нибудь
новых вариантах прежде зашедших к нам повестей. Начиная
с XVII ст. повесть, ставшая, за отсутствием другой какой-либо
изящной литературы, любимым чтением публики, обогатилась
значительно новыми источниками: стало заметно переселение
к нам западно-европейских повестей через Польшу и, если не
исключительно, то в большинстве случаев, именно в южную Русь,
откуда они, видоизменяясь более или менее в языке, направлялись
и на север, в Великороссию. Существенным отличием этих новых
повестей служит то, что они никогда не сближались, подобно
некоторым старым, с народной поэзией, не принимали самобытного
отпечатка, а оставались со всеми признаками иноземного своего
происхождения.
Главнейшими из повестей, пришедших из запада, были:
«Римские Деяния»2, «Зерцало Великое»3 и некоторые рыцарские романы
(«Петр Золотые-Ключи»4, «Повесть о преславном римском кесаре
Оттоне»5, история Бовы Королевича6 и пр.). Все эти переводы
сделаны были с польского подлинника*, и тот лее польский
подлинник послужил материалом для перевода у нас некоторых новелл
(напр.: Повесть о семи мудрецах), рассказов полуисторических
и полуанекдотических (напр. Кратких, витиеватых и
нравоучительных повестей книги три — напечатаны в 1711 г., а
переведены еще в XVII в.), и западных фацеций7 (Смехотворные повести,
* Пыпин, Очерк лит. истор., стр. 251.
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 627
переведенные Новгород-Северцем)*. В эти смехотворные повести-
фацеции попали и некоторые новеллы Боккаччо.
Всех новелл Боккаччо, переведенных или переделанных в
старину на русский язык, по наследованию г. Пыпина, было пять,
из которых четыре помещены в «Смехотворных повестях», а
именно: 1) «О друзех, о Марке и Шпине лете» по Декамерону VIII, 8, где
друзья названы Zeppa и Spineloccio; 2) «О жене и госте», новелла
Декамерона VII, 2; повесть русская не следует тексту Декамерона
и не имеет картинного окончания итальянской новеллы; 3) «Повесть
о господине Петре и о прекрасной Кассандре и о слуге Николае» есть
очень близкая редакция новеллы Декамерона VII, 7 и 4) «О укене«
обольстившей мужа, якобы ввержеся в кладезь», новелла
Декамерона VII, 4.
Но тот же исследователь замечает, что была переведена еще
одна из прекраснейших новелл Боккаччо (Декамер. II, 9), именно
«Повесть утешая о купце, который заложился с другим о
добродетели жены своея»**. Теперь счастливый случай доставил мне
в руки новый, совершенно неизвестный пересказ одной из новелл
Боккаччо***, своим языком и другими приметами удостоверяющий
несомненно свое южнорусское происхождение и принадлежащий
концу XVII или началу XVIII в. Сказав, что было необходимо для
определения места и времени этого нового памятника южнорусской
письменности в общем ходе ее развития, я перейду теперь к передаче
его содержания и указанию тех особенностей, какие представляет
пересказ сравнительно с подлинником по приемам изложения,
языку и т. под., а равно значения его для южнорусского общества
данного времени.
Начну с оригинального заглавия этого памятника: «Историчные
верши». Иначе как вершами неизвестный переводчик не мог назвать
передаваемой новеллы Боккаччо, избрав для передачи ее
излюбленную тогда у нас силлабическо-стихотворную форму. Исторического
в перелагаемой повести слишком мало и название «историчные»
придано «вершам» по простому недоразумению: переводчик, или
лучше сказать, перескащик ее, найдя в действующем лице
историческую личность, порешил, что весь рассказ есть исторический
факт. Стоит, впрочем, знать, каково было у нас тогда понимание
* Ibid., стр. 265.
** Ibid., стр. 276-277.
** Рукопись дана мне для пользования г. Длуским, за что приношу ему
искреннюю благодарность.
628
В. Я. НАУМЕНКО
истории, стоит вспомнить только, какие баснословия попадали
из западных хроник в наши тогдашние сборники по всемирной
истории — хронографы, чтобы вполне оправдать автора перевода
за данное им название повести.
Рассказ новеллы Боккаччо приурочен к Танкреду (Tancredi
prenze Salerno, как сказано в новелле), именуемому «де Отвилль»,
отцу двенадцати доблестных сыновей, из которых один, Вильгельм
«Железная рука», предводительствуя норманскими удальцами,
по просьбе греческого наместника в нижней Италии, явился для
борьбы с арабами. Брат Вильгельма, Роберт Гвискард, впоследствии
овладел, благодаря отваге и хитрости, большею частью нижней
Италии (в 1060 г.). Сюжет новеллы можно относить именно к этому
Танкреду; с именем его связывается и имя Гвискарда, его сына, —
имя, встречающееся и в новелле, хотя отнесено оно здесь
совершенно к другому лицу. Правда, в новелле совершенно не упоминается
о 12 сыновьях Танкреда, напротив того сказано, что у него была
единственная дочь, которую он безмерно любил, но построение
таких рассказов, в которых фигурируют отец и любимая им дочь,
было весьма распространено, особенно в средневековых
сказаниях. В известном сборнике «Gesta Romanorum» встречается более
10 рассказов, завязкой которых служат отношения между отцом
и единственной любимой дочерью*.
Сюжет новеллы состоит в следующем:
У Танкреда, принца салернского, была единственная дочь
Сигизмунда, которую он так сильно любил, что, из желания подольше
не расставаться с нею, не решался долгое время выдавать ее замуж.
Однако, когда Сигизмунда достигла уже вполне возмужалого
возраста, отец в конце концов отдал ее за сына принца капуанского.
Вскоре Сигизмунда овдовела и опять возвратилась в дом отца.
При положении вдовства, Сигизмунде не чужда была потребность
в любви; но считая неприличным заявить об этом отцу, она
обратила свою любовь на одного из придворных отца, некоего Гвискарда,
молодого человека с благородными чувствами, но низкого
происхождения. При встрече с ним, она стала оказывать ему явное свое
расположение, и Гвискард, не будучи новичком в этом деле, сразу
заметил это расположение к нему принцессы и отвечал ей тем же,
так что в конце концов они страстно полюбили друг друга. Чтобы
сохранить эти отношения в тайне, Сигизмунда написала записку
* Gesta Romanorum, herausgegeben von Hermann Oesterley. Berlin 1872 r. cap.
1,27, 60, 61, 63 и др. стр.
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 629
своему возлюбленному с указанием места свидания и записку эту
передала ему в выдолбленной снизу палке. Свидания их происходили
в комнате Сигизмунды, куда Гвискард пробирался через запущенный,
старый погреб, сообщавшийся с помещением принцессы посредством
потайной лестницы. На первых порах свидания проходили
благополучно для влюбленных; но однажды Танкред оказался свидетелем
их свидания, сам, впрочем, оставшись незамеченным ими. На
следующую ночь Танкред поставил стражу, и Гвискард был схвачен
и приведен к принцу. На все упреки и обвинения он оправдывался
только тем, что могущество любви не признает владык. Принц
приказал заключить его в одну из комнат дворца и не упускать из виду,
а сам отправился к дочери и обратился к ней с такими же упреками,
между прочим называл проступок ее тем более прискорбным, что
она избрала предметом любви Гвискарда, происхождение которого
очень темно, а не остановила своего выбора на ком-нибудь из более
знатных придворных. Сигизмунда, увидав, что ее интриги
обнаружены и что помилования Гвискарду ожидать нельзя, порешила и себе
не испрашивать милости, а только защитить свою честь. В длинной
речи, обращенной к отцу, она, не отрицая своей страстной
привязанности к Гвискарду, объяснила пробуждение ее исключительным
положением своим и сказала, что, заметив свое бессилие устоять
против обуревавшей ее страсти, она употребила все
предосторожности, чтобы согласовать любовь с честью, вследствие чего заботилась
о сохранении полнейшей тайны. Больше же всего в ответе своем она
обратила внимания на упрек в том, как могла она отдаться человеку
такого низкого происхождения, и в исполненных чувства и силы
выражениях высказала, что не знатность рода, но добродетель и
нравственность делают человека благородным, а эти именно качества она
вполне видит в Гвискарде. В заключение она заявила, что решилась
твердо разделить участь, назначенную Гвискарду, а потому просила
отца предоставить ей с Гвискардом умереть вместе, если только он
признает, что они достойны смерти. Хотя Танкред в обращенных
к нему словах дочери усмотрел ее мужество и твердость характера,
но все-таки не считал ее способной привести в исполнение свою угрозу
и потому приказал казнить Гвискарда, вынуть его сердце, положить
на золотое блюдо и отнести к дочери. Сигизмунда, предвидя исход
дела, заранее запаслась ядом, и когда увидала Гвискардово сердце,
в длинной патетической речи излила свою скорбь, перемешивая ее
с упреками отцу, и выпила приготовленную отраву. Придворные
дамы, заметив, что ей дурно, тотчас же дали знать отцу; но было
уже поздно. Сигизмунда в предсмертной агонии обратилась к отцу
630
ß. Я. НАУМЕНКО
с последней просьбой — похоронить ее вместе с Гвискардом. Через
минуту она скончалась. Никогда еще старый Танкред не испытывал
подобного горя; он раскаялся в своей жестокости и велел похоронить
с парадом в одном гробу обоих влюбленных, сопровождаемых
сожалением всех салернитанцев (II Decamerone. Giornata 4, novel. I).
Нет надобности говорить о том, насколько вообще романические
сюжеты были любимы в старину, как в позднейшей классической
литературе, так особенно в средневековой, и как много являлось
впоследствии подражаний и переделок их. Известно также, какое
громадное количество новелл Боккаччо посвящено всяким
эротическим и романическим приключениям. Но ни одна из них, кажется,
не удостоилась стольких переводов, переделок и подражаний, как
только что приведенная, действительно являющаяся едва-ли не
самой лучшей из новелл четвертого дня, предназначенного у Боккаччо
для рассказов о любовных приключениях с трагической развязкой.
Из таких переделок и подражаний Дёнлоп8 в своем знаменитом
исследовании History of fiction указывает следующие*: Леонард
Аретино пересказал ее латинской прозой, Филлипп Бероальд
латинскими стихами, Аннибал Гуаско итальянскими октавами; она
послужила сюжетом пяти итальянских трагедий, из которых одна
«La Ghismonda»9 приобрела громкую известность, потому что
обманным образом приписана была Торквато Тассо. Одна английская
драма, сюжет которой заимствован из этой новеллы, была сыграна
в 1568 г. в присутствии королевы Елизаветы. Развит также этот
сюжет Жаном Флери10 во французских стихах и Вильямом
Вальтером11 — в английских октавах. Но Англия более всего
познакомилась с этим сюжетом по драме Драйдена «Сигизмунда и Гвискард ».
Равным образом, эта новелла послужила материалом для картины,
приписываемой Корреджио, где Сигизмунда представлена
рыдающей над сердцем своего возлюбленного. Гогарт пытался подражать
этой картине, но подражание его, по замечанию Горация Вальполя,
вышло вполне неудачно. Конечно, перечисленными у Дёнлопа
подражаниями и переделками далеко не исчерпывается все их количество.
Можно указать еще, например, на балладу Бюргера «Lenardo und
Blandine», в которой находится много общего с новеллой Боккаччо**.
* lohn Dunlop's Geschichte der Prosadichtungen. Aus dem englischen übertragen
von Felix Liebrecht. Berlin 1851 г., стр. 231.
* В сочинении Вильмара (Vorlesung über die Geschichte der deutsch. National-
Literat. Leipzig. 1847 г., стр. 616) сказано, что сюжет заимствован Бюргером
из Декамерона Боккаччо.
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 631
А если сделать более смелое предположение, то можно сказать, что
в поэме Лермонтова «Боярин Орша» до известной степени замечается
отголосок этого же сюжета.
Тем более, можно сказать теперь, любопытен тот факт, что
и в нашей, сравнительно очень бедной, поэтической литературе
XVII в. оказался пересказ, да еще и стихотворный, этой прекрасной
новеллы.
Каким же путем могла попасть эта новелла в южную Русь? В
ответ на этот вопрос, за неимением положительных указаний,
приходится ограничиться лишь догадкой, которая, конечно, потребует
еще проверки.
Если принять во внимание разницу между имеющимся у нас
пересказом новеллы и подлинником оной, сообразить отсутствие
каких-либо указаний на то, чтобы наши южно-русские писатели
непосредственно пользовались подлинниками новелл вообще,
то останется предположить, что наш пересказ повести Боккаччо
не составлен по подлиннику, а представляет перевод с польского
языка. Впрочем, каким бы путем ни пришла к нам эта новелла,
за ней остается все-таки право на внимание, как за
произведением, дававшим тогдашней читающей публике интересный сюжет,
не лишенный и некоторой идейности.
Сличение подлинника новеллы с нашим стихотворным
пересказом прежде всего показывает, что в пересказе некоторые места
повести сокращены, а иные совсем опущены. Очевидно отсюда,
что слагатель «Историчных верш» отнесся к самому сюжету
повести вполне серьезно и, видя такую трагическую развязку,
не рискнул поместить тех острот и сатирических штрихов,
которыми, как известно, так искусно перенизывает свои рассказы
Боккаччо. Особенно резко бросается это в глаза в тех случаях,
когда итальянский новеллист, по поводу Сигизмунды, делает
свои вылазки против женщин. Мы знаем, что в нашей старинной
литературе не только не избегали подобных нападок на женщин,
но даже очень охотно варьировали их на разные лады, что и
сказалось в тех шуточных сборниках-фацециях, которые перешли
к нам из польской литературы. Но другое дело — шуточные
сборники, и совсем иное — серьезные, трагические сюжеты, подобные
данному. Этим, вероятно, и надо объяснить, что в южно-русском
пересказе повести о Сигизмунде совершенно отсутствуют
следующие выражения Боккаччо:
1) Характеризуя Сигизмунду, Боккаччо прибавляет как бы
вскользь: «принцесса эта... была замечательно умна, больше, чем
632
Б. П. HАУМЕН КО
можно было бы потребовать от природы для женщины»*. В нашем
пересказе Сигизмунда характеризуется несколько иначе.
А была красотою и умом так славна,
Что во области не бе ей ни едина равна.
Нелзя было не думать и не удивляться,
Смотря тол ко на нея и не услаждаться,
Насквозь та проникала сердца зраком вдатным
И к себе привлекала словом всеприятным.
2) Когда Сигизмунда очутилась с глазу на глаз с отцом,
упрекавшим ее за ее поступок, она, по тексту подлинника новеллы, «была
уже несколько раз близка к тому, чтобы обнаружить это с криком
и слезами, как большею частью это делают женщины»**. В нашем
пересказе это место передано так:
Печална-ж Зигисмунда буд (учи) в том часе,
Стала безответна вдруг в немалому страсе,
Не так себе жалея, як друга своего
Звездарда***, мысля в себе: ах не щастия моего!
Что се нам случилося? тяжко воздыхала
И скорбное слезами лице обливала.
Видя тое, что уже тайны их открыты,
Стали и вси любве той знаки явны быти,
От жалости несносной ни едина слова
Не могла проговорить до отца сурова.
Однак пред ним мужеско сердцем поступала,
Прибирая разума, что-бы отказала,
А в мысли своей твердо тое закрепила,
Что с Звездардом и смерть ей будет в свете мила.
Равным образом отсутствуют в южно-русском пересказе и
многие подробности в описании любовных свиданий Гвискарда
Кажется, я точно передаю фразу Боккаччо: saviapin ehe a donna per avventura
non si richiedea (II Decamerone. Paris 1861 г.). Французский переводчик Са-
батье де Кастр придал еще больший оттенок остроты:... (d'un esprit supérieur
et peut-être trop pour une femme (Contes de Boccace. Paris, 1857).
...e a mostrarlo con romore e con lagrime, come ilpiu le femmine fanno, fu assai
volte vicina. У Сабатье де Кастра и тут переиначено: Sigismonde... pensa vingt
fois faire éclater sa douleur par ses larmes: faible ressouyee, mais fort ordinaire
aux personnes de son sexe.
Каким образом Гвискард переименовался к Звездарда, не совсем ясно;
вернее всего, это чисто русская переделка по созвучию, с желанием дать в то же
время свой, понятный корень.
Новелла Боккаччо в южнорусском стихотворном пересказе XVII-XVIII cm, 633
с Сигизмундой, и та реальность в изображении отдельных
моментов любовных сцен, которая встречается у Боккаччо. Опущена,
например, та подробность, что Гвискард, отправляясь на свиданье
через узкую отдушину погреба, надевал кожаный костюм, чтобы
не оцарапать себя колючками терновника, разросшегося около
погреба; и опущено это конечно потому, что имеет несколько веселый
характер. Если мы и встречаем в нашей редакции некоторые
выражения, могущие вызвать улыбку, то это явилось не результатом
желания автора, а результатом несовершенства стиля. Например:
А о то стыдно было у отца прохати,
Не пригожо бо даме жениха искати.
Или:
Починает умышлять, каким бы то видом
Снестися могла в любовь с изрядным купедом».
Или еще:
Хотел князь обозватись, а потом раздумал
Не обличать дочери, только тайно румал.
Несовершенство стиля южно-русского пересказа более всего
замечается в тех речах, которые произносит Сигизмунда. У Боккаччо
ее речи исполнены не столько чувства, сколько размышления,
напоминающего в многих местах философский трактат; в русском же
переложении далеко не та сила мысли, но зато перескащик старается
придать больше силы чувству и прибегает нередко к патетическим
украшенииям. Особенно характерно в этом отношении то место
повести, где изображается состояние души Танкреда,
извещенного об отравлении дочери. У Боккаччо просто говорится, что он,
«не будучи в силах видеть ее в таком печальном положении, не мог
воздержаться, чтобы не пролить слез, исполненных нежности и
раскаяния». Наш пересказчик обнаруживает явное желание более
оттенить и опоэтизировать горестное состояние Танкреда, и рисует
оное такими чертами:
Видя-ж отец смерть явну дщери своей милой,
Не плакал, но рыдал по той втесе целой,
На себе и на дочерь свою нарекая
И день тот свой нещастный горко проклиная.
Аки при Меандровых брегах лебедь белый,
Так жалостно над дщерью плакал отец милый.
Лебедь гласом плачевным кричит воздыхая
И крылами быстрыя воды разбивая,
634
В. П. НАУМЕНКО
Поет песнь печалну гласом умиленным,
Равно пел и старушек сердцем сокрушенным,
Жалея по дочере, румал неутешно
И себе умреть желал...
Несмотря однако на такие прибавки и прикрасы, игривая
новелла Боккаччо много теряла от той внешней формы, какая придана
была ей южно-русским пересказчиком: язык или стиль пересказа,
облеченный в неуклюжий силлабический стих, оказывается далеко
неудовлетворяющим той легкости и той задушевности, которые
необходимо связываются с подобными сюжетами. Особенным же
препятствием легкости изложения является, по моему мнению, та
пестрота речи, которая в каждой строке дает себя чувствовать.
Несомненно, что основную канву языка в данном памятнике составляет
церковно-славянский элемент, и по этой канве разбросаны в разных
местах слова малорусские, русские и немногие польские.
Присутствие малорусского элемента прежде всего проверяется рифмами,
тем камнем преткновения для наших старинных малорусских
писателей, который всегда обнаруживал их местное происхождение.
Вспомним, например, что Феофан Прокопович и Стефан Яворский,
желавшие совсем отрешиться от местного говора, — когда являлись
со своими стихотворениями, прежде всего оказывались уроженцами
юга в рифмах (у Феофана, например, в стихотворении, обращенном
к Кантемиру, читаем: зритель — добродетель; лики — веки;
дружины — перемены, или у Стефана Яворского в стихотворении «In
vituperium Masepae»: ах тяжку горесть терплю мати бедна, утробу
мою снедает ехидна; кто ми даст слезы, яко-же Рахили? заплачу
горко в своем смутном деле). Совершенно аналогичные факты
встречаем и в пересказе новеллы Боккаччо. Например:
Когда-бо пришла в возраст Зигизмунда дева,
Добронравна над звычай и красна до дива.
Или:
Многие-ж от велможных господ ю хотели
Поять себе за жену и отца нудили.
Или еще:
Не видела и света за слезами теми,
Лице зараз вменила печалми такими.
Но еще более этот малорусский элемент обнаруживается в
отдельных словах, раскиданных в разных местах повести.
Отмечаю некоторые из них, хотя этим далеко не исчерпывается все
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 63 5
их количество (над звычай, израда, заграла, прохати, догожий,
певный, сведомый, закохатысь, з очей, зверитись, никому, отисла-
ла, сишлись (зиишлись), знароку, неякиесь, намет, побавившись
и т. п.). И все это стоит наряду с такими русскими словами, как:
удивляться, действительно, стыдно, молодец, тотчас, препятствие
и др. Присутствие последних слов между прочим заставляет нас
относить нашу рукопись не раньше, как концу XVII или началу
XVIII в., когда у южно-русских писателей стал заметно прорываться
великорусский элемент в языке.
Заканчивая мои замечания о новонайденном памятнике
южнорусской переводной литературы, остановлюсь на вопросе, какое
значение можно придавать этому произведению, как материалу
для чтения нашей публики конца XVII или начала XVIII столетия?
Г. Пыпин в статье «Очерки из старинной русской литературы»
по поводу новелл Боккаччо в нашей письменности говорит так:
«новелла Боккаччо и русская письменность XVII столетия
производят вместе какое-то странное впечатление; старинный борзописец,
переписывающий новеллу Боккаччо, для многих может
показаться мифом, невозможным на деле, потому что трудно представить
игривую, остроумную и не весьма скромную новеллу под пером
старинного грамотея, подъячего или посадского человека,
привыкшего списывать и наслаждаться словами о злых женах, сказаниями
о воеводе Дракуле и царе Агее, и другими «вельми дивными» и «зело
душеполезными» повестями. Новелла Боккаччо в старинной русской
одежде принадлежит к числу тех ненормальных явлений, какими
всегда сопровождаются первые шаги начинающей литературы,
не управляемой одною идеею и действующей бессознательно»*.
Очевидно из этого, что г. Пыпин, считая самый факт
существования переводов новелл Боккаччо в XVII в. ненормальным явлением,
не может признать положительного значения их для наших
старинных грамотников; поэтому в заключительных словах указанной
статьи его читаем:
«Какой смысл имели для наших читателей и грамотеев новеллы
Боккаччо, трудно сказать определительно; но судя по неловкому,
тяжелому языку, которыми выражались они в этом случае,
подобные вещи были непривычны и дики для них. Нескладная передача
легкой фразы Боккаччо, без сомнения, много отнимала у новеллы,
даже и вовсе искажала ее, потому что ложный тон, в который
необходимо впадали наши переводчики, совершенно противоречил ее
* Отеч. зап. 1857 г., № 2, стр. 458.
636
Б. Я. НАУМЕНКО
характеру. Виноваты здесь не фривольный взгляд на вещи и не
нескромность описаний, которыми иные могут кольнуть здесь Боккач-
чо — потому что и древняя наша словесность имеет нечто в подобном
роде — а только незначительность литературного развития. Перевод
Боккаччо был вещью случайною и преждевременною, и хотя он
по-видимому вызван был известными потребностями и вкусами
читателей, но в сущности оказался явлением несостоятельным,
которое только обнаружило недостаточные средства тогдашней
нашей письменности и образования»*.
Соглашаясь с замечанием уважаемого нашего ученого,
поскольку оно относится к новеллам Боккаччо, известным по шуточным
сборникам, я не считаю возможным сделать того же
относительно новеллы о Сигизмунде и Гвискарде. Бесспорно литературный
стиль служил громадным препятствием для передачи всей силы
содержания новелл Боккаччо, на что и было указано мною выше;
но, помимо стиля вообще, литературной формы, существует еще
известное содержание, проводящее какой-нибудь принцип. Вот
со стороны этого последнего новелла, о переводе которой у нас речь,
стоит совершенно в стороне от тех шуточных рассказов, которые,
будучи лишены легкости в изложении, теряют от этого все свое
значение. Что сами переводчики и составители таких веселых
рассказов относились к ним поверхностно, не серьезно, по крайней
мере в XVIII в., унаследовавшем их от XVII-ro, это видно из того
объяснения, которое находится в одной рукописи XVIII века:
Хотя не для исторического чтения,
Сочиненны некоторым человеком для увеселения,
Самые забавные жарты, —
Охотно читать, как играть в карты**.
Но совсем иное дело такой сюжет, какой мы встречаем в
данной повести, — сюжет, исполненный трагизма, производящий
сильное впечатление и проникнутый идеей, очевидно берущей
перевес над самой романической завязкой, что и обнаруживается
в прекрасной речи Сигизмунды на тему об истинном благородстве.
Едва-ли можно сказать, что чтение произведений, проникнутых
такими идеями, было преждевременно и самые произведения
не имели значения. Ведь трактат об истинном благородстве,
который в большей или меньшей степени удачно проведен и в нашем
* Ibid., стр. 465.
** Пыпин, Очерк, лит. погор., стр. 292.
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 637
пересказе, есть ничто иное, как такой же трактат во 2-й сатире
Кантемира, вложенный в уста Филарету. Если мы признаем
значение этой сатиры Кантемира для современников, помимо ее
сатирической формы, то и явившийся раньше несколькими
десятками лет перевод новеллы Боккаччо должны признать
равносильным по своему значению для воспитания здравых понятий
в современниках.
Помимо того, самая личность Сигизмунды, послужившая
поводом, как мы видели, к составлению многих переделок и
подражаний в разных литературах, не могла не производить впечатления
и на наших предков и тем способствовать выработке литературных
вкусов. Что такое увлечение было в действительности, видно
отчасти из того, что наш переводчик, очевидно увлекшийся типом этой
мужественной личности, попробовал выразить свое впечатление,
нужно думать, в самостоятельных коротких стихах, помещенных
в конце повести под заглавием «Лямент Зигисмунды». Стихи,
положим, не блистательные, но во всяком случае свидетельствующие
о силе впечатления, полученного автором.
Несщасливи годи и лета нещасливи,
И потехи зрадливи света все плачливы!
На что мене нещастну так долго держали,
Когда мене так тяжким смутном карать мали?
Чему мене первее червь не стлела в гробе,
Или мать не растлила во своей утробе?
Итак, скажу в заключение, если нашей поэзии суждено было
уклониться от нормального пути в своем развитии и, после
значительного перерыва, обратиться к произведениям иноземным,
то для XVII века едва-ли не одним из самых отрадных
литературных фактов является перевод новеллы Боккаччо о Сигизмунде
и Гвискарде. Не предлагаю ни подлинного текста этой новеллы,
ни перевода ее на современный нам язык, хотя это и помогло бы
читателю ознакомиться с тем, как справился наш старинный
переводчик с произведением первоклассного итальянского писателя.
Последняя цель достигается отчасти нашими указаниями, а
ознакомление с подлинником этого произведения вовсе выступает
из пределов программы нашего издания. Иное дело южнорусский
пересказ той же повести; мы приводим целиком его текст по
найденной рукописи, как памятник языка, местами самостоятельной
литературной работы и как памятник литературной потребности
и вкуса прежнего времени.
638
В. П. НАУМЕНКО
Историчные верши*.
1. Князь Танкред, по имени Салернетанск бывий,
Долгие пожил лета в той власти щасливий;
Умре без наследия, толко дщерь едину
Имел он Зигисмунду, и ту любя вину,
Любя сердцем безъмерно, як зеницу ока,
Хранил, хотя оную видети без порока.
И так тем люблением привел к тому тую,
Что аж безвременную смерть принесл оной злую:
Когда бо пришла в возраст Зигисмунда дева,
10. Добронравна надзвичай** и красна до дива
Виденна была, коей задивяся мнози,
Не быть бо ся краснейшу судили и бози;
Многие ж от велможних господ ю хотели
Поять себе за жену и отца нудили,
Но отец любовию был к ней обдержимий,
Отказал акт веселний деве той любимой,
Не хотя лишится радости всецелой
И отдалить от себя Зигисмунди милой.
Потом и не с волею принужден отдати
20. За княжича едина в светлие полати,
Которому не долго Бог дал с нею жити,
Благоволил жизнь его смертию скратити.
Завдовевши ж, прекрасна Зигисмунда млада
Узнала, что за прелесть в свете и израда***;
Кривавие**** от очес***** своих лила слези,
Как росою кропила свои ходя стези;
Не видела и света за слезами теми,
Лице зараз зменила печалми такими.
А была красотою и умом так славна,
30. Что во области не бе ей ни едина равна.
Нелзя было не думать и не удивлятся,
* Удерживаю правописание подлинника, кроме надстрочных букв; знаки
препинания, совершенно почти отсутствующие в подлиннике, расставляю
по смыслу.
** Чрезвычайно.
*** Предательство.
**** Кровавые.
***** Из глаз.
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 639
Смотря то л ко на нея и не услаждатся;
Насквозь та проникала сердца зраком вдатним*
И к себе привлекала словом всеприятним**.
Была-ж в дому отческом не мал час вдовою,
В дому славном, роскошном, в великом покою.
Но понеже всякому долго скорбь прикучить,
Затем стала приходить в чувство, что ю мучить,
Стала о том забывать, роскошми нудима***,
40. Спомянула**** жизнь брачну, как она любима.
Кровь млада девственная в теле ей заграла
И жар в ней, как бурний ветр, всегда разжигала.
Толко о том и думает, кто имеет тело,
Чтоб в свете аггелское***** было его дело;
Разве был-би адамант6* тот непобедимий,
Даби молотом биен бил ненарушимий.
Но кровь сия козлия и камень тот крушить,
А отрада и роскошь ее не утушить7*;
Для чего горкой скорби по мужу забила
50. И горячку силную в теле ощутила.
Искала ж средств удобних и лекарства певна8*,
Как бы могла лечити болезнь ту плачевна.
А о то стидно было у отца прохати9*,
Не пригожо бо даме жениха искати.
Что-ж чинит10* Зигисмунда, искрей потаенних
Не могучи угасить, внутрь ее разженних?
Починает умишлять11*, каким бы то видом
Снестися могла в любовь с изрядним купедом12*,
Кой бы желаниям ее был догожий13*
*
**
***
****
*****
6*
7*
8*
9*
10*
11*
12*
13*
Необыкновенным взором.
Очень приятным.
Тосковала по наслаждению.
Вспоминала.
Ангельское.
Алмаз.
Погасить.
Сильные.
Просить.
Делает.
Придумывать.
Любовником.
Подходящий.
640
В. Я. НАУМЕНКО
60. И в той ее секретно сокривать могл дрожи.
Сискала* способ латвий** в отеческому дому,
Врачбу*** так на боль певну**** к здравию сведому*****.
Так между протчими лучша всех слугами,
Так красна, как и умна и крепка силами,
По имена избравши Звездарда едина
И все тем закохалась6* (о любве кручина)!
Красоту и приятство7* и умние справи8*,
Паче за куриозность9* стался быть друг правий10*;
А вродою хотяй-же он и бил сравненний,
70. Со другими-ж честию не был соединенний,
Кого Зигисмунда так уже сподобала11*,
Что з очей сердца и мисли всегда не спускала12*.
Молодецъ-же разумен Звезд ар д узнал тое,
Что сердце Зигисмунди есть к нему прямое,
Стал ходить вслед ее мисями13* и очима
И так тую уловил в любовь между сима.
Как-же б дале поступить, мислить14* о том стала
И чтоб делом искусить, кого закохала15*.
Се-ж уже когда любовь в них жить стала равна16*,
80. Тогда расти вещь к делу стала в них исправна;
Однак она, не хотя зверитись17* никому,
Опасался изради18* от слуг своих в дому,
*
**
***
****
*****
б*
7*
8*
9*
10*
11*
12*
13*
14*
15*
16*
17*
18*
Нашла.
Удобный.
Лекарство.
Сильную.
Видимому.
Влюбилась.
Приятность.
Вести себя.
Интересность, веселость.
Истинный.
Заметила.
Отпускала.
Мыслями.
Думать.
Полюбила.
Одинаковая.
Довериться.
Предательства.
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 641
Сискала таков способъ: картку* написала,
В трость тайно вложивши, к нему отислала,
Молодец-же разумен тотчас догадался,
Что недармо** дар к нему от нея прислался,
Так хитро умисленний***, да еще чрез деву;
На мног час чудяся**** тому ее делу,
Взяв тую, роспечатав и прочитав скрито*****,
90. И стал любить чрез тое ее ненасито;
Растопился от сладости и развеселился,
Что о часе и месте, где быть, извести лея.
И так сишлися в едино, волю учинили
И конец желания любве улучили6*;
Покой бо бил далече Зигисмунди в боку,
Для утехи ей самой деланний знароку7*,
При котором и лиох8* бил уже запалий9*
И сметтем10* нанесенний, толко поостали
Неякиесь там места секретние к входу,
100. Правящие в покою сенми охолоду,
Где и намет Зигисмунди над вся был любимий
И нарочно для потех собственних держимий.
В том намете при лиоху железние двери,
И стална была засов с железними пери11*.
Тот лиох з давних времен был вже запустелий,
И домашние о нем веема позабили;
Но любовь бысть раззорна12*, проходя сквозь всюди,
Усмотрела место то угодно, где труди
Облегчении бывают, и соединила
110. И тугу13* сердечную оним там разбила.
*
**
***
****
*****
6*
7*
8*
9*
10*
11*
12*
13*
Записку.
Не напрасно.
Придуманный.
Удивляясь.
Тайно.
Утолили.
Специально.
Погреб.
Запущенный.
Грязью.
Пружинами.
Горячая.
Желание.
642
В. П. НАУМ EH КО
Зигисмунда бо, в помощь не прося никого,
Сама двери отверзла, трудяся в том много,
Упустила Звездарда к своему покою*
И там утешилися обои меж собою.
Сие-ж часто бывало, а единой ночи,
Желанию своему не имея мочи,
За препятствием слуг своих, оних розослала,
Умисливши сказать то, что еще не спала,
И пошедши к покою, там сладко уснула
120. С Звездардом в прохладе, а як ночь минула,
Обоими обявши своима руками,
Звездарда целовала все уди устнами**;
И долго побавились еще в той утесе,
Як пташечки играя в красном яком лесе.
По игре-же той Звездард у дом возвратился
И пришедши, где медлел, в дому не звинился.
Зигисмунда, замкнувши ***двери, тож вступила,
Как-би от сна себе толко обудила;
Взявши шубку на себе, пришла между слуги
130. И, с ними в речь вдавшися, била как лук тугий,
Не дала ни мала по себе в том знаку,
Сахарним розговором прикрила желчь смаку****,
И смеяся с паннами, шутливо сказала:
«Як я долгое время в покою том спала!»
Они-ж в ответ, ей сказали: доволно и много
Изволили спать, госпоже. Она-ж им до того
Сказала, что приятным сном бе отягощенна
И сладким от чувствия велми вспокоенна*****.
Потом едини в шати6* другие вбирали,
140. Другие-же вечеру вкусну готовали7*.
А Звездард всегда певен8* было посещает
* Комнате.
** Конечности губами.
*** Закрыв.
**** Вкуса.
***** Весьма удовлетворена.
6* Платья.
7* Готовили.
8* Точно.
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII cm, 643
И печално ее сердце в тузе* утешает.
Но противна фортуна щирости** той верной
Не могла укротити завести безмерной,
Кая всем тем потехам конец даровала
Печалний и обоих смертию карала.
Обикл*** бо Танкред оний, князь Салернетанскии,
Часто ходить к покою, в намет**** тот панянский*****,
Хотя часом утешить дщерь вдову печалну
150. И ей отгнать тугу6* от сердца нахалну7*.
А временем обикл бил ходить до покою,
И там было розговор имеють з собою.
И так часу едного, в полудней године,
Ходя он по покою сам тол ко единий,
Когда дщерь Зигисмунда с паннами играла
В городку и цветками себе забавляла
Маиовими8*, як звичай9*, — тогда он в покою
По многой уснул утесе, утружден собою;
Уснул он у тихости вкупе наедине,
160. И окна бо заперти были у той сени.
Зигисмунда-ж не зная, что делалось тамо,
Пожелавши Звездарда, идет в покой прямо,
Где и Звездард надойшол10*, тешились вспаняло11*
По желанию сердец; когда-ж позднейш стало,
Обудився з она, Танкред видит, что дщерь деет12*,
Ничего не говорит, от жалю13* ввесь млеет;
Хотел к ним обозватись, а потом раздумал
Не обличать дочери, только тайно румал14*,
*
**
***
****
*****
6*
7*
8*
9*
10*
п*
12*
13*
14*
В желании.
Душевной близости.
Привык.
Покои.
Женские.
Желание.
Легкомысленную.
Майскими.
Обычно.
Пришел.
Свободно.
Делает.
От печали.
Плакал.
644
В. П. НАУМЕНКО
Румал горко и ревно, уста притиская*
170. К подушки, на кой лежал, глас утаевая;
Не двинулся, аж доколь ростались обое,
Окончивши забаву, не мисля** на тое,
Что вже (з) рада*** с ними есть. Ах израда скрита****,
Кую любовь деет слепа и не сита*****;
Та бо их расстопила так, как воск и масло,
И в той они целуясь, паки6* дали гасло7*.
Звездард обыкновенно отойшол с покою;
Зигисмунда-ж в надежном бывши слова строю,
Пойшла в дом между панни и там жартовала8*,
180. Посреде их, играя с ними, розмовляла9*.
А Танкред нечаянним видом пораненний,
Вишол тайно с покою, сердцем болезненний,
И утвердил над лиохом тем стражи опасни,
Где в третий день пойман стал Звездард той
нещасний.
Между тем, звязав его, дали князю знати
Скрито10* о нем, что уже дал им Бог поймати.
Князь-же, не хотя того и видеть очима,
Приказал вложить в тюрму, как вора злозрима11*.
И то все тайно делал; казал, чтоб не знала
190. Зигисмунда о тому и тужить не стала,
Что свого рачителя уже упустила
И своим сношением его погубила;
Приказал говорити — с несмом отпущенна12*,
И надежно с ответом скоро возвращена.
Потом, время избравши, пойшол сам в темницу
*
**
***
****
*****
6*
7*
8*
9*
10*
11*
12*
Стискивая губы.
Не думая.
Измена.
Измена тайная.
Ненасытна.
Снова.
Зарок.
Шутила.
Беседовала.
Тайно.
Злонамеренного.
Без возможности прощения.
Новелла Воккаччо в южнорусском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 645
И гневную на его обратил зеницу*,
Хотя слишать от него, чтоби он зрадливий
По совести сказать могл**. Питал***, как плачливий:
О злодей безъсовестний! сами те доброти
200. Мол тебе отвесть могли б от срамоти,
Даби дому моему и слави такой
Не делал и сердцу болезни тяжкой;
Кое дело сам видел очима моима
И покрил то горкими слезами моима.
На что в ответ отказал то Звездард Танкреду:
Согрешил, господин мой, ставлю грех на среду,
Но что буде, то буде; правду сказать, знаю,
Что любовь болшу силу, ниж ти и я маю,
Оной я слушать мусил****, тебе позабивши
210. И воле тоя себе всего поручивши.
Князь-же Танкред ридая вийшол болезненний,
Приказал, чтоб Звездард был крепчае замкненний*****.
Зигисмунда-ж частенко з окна виглядала,
На всяк час и минуту Звездарда чекала6*
И мисля, что з писмами теми забарился7*,
Воздихала горко, что не знает, где по делся.
Отец, час усмотревши пойде до покою,
Як обикл8* был; аж дочерь сама там собою
Лежить скорбне, в намете9*. Когда его взрела10*,
220. Ставши пред ним, как должно, отца сесть просила.
Он же седши зачалп*речь свою к ней ту править,
Что до смерти за жену, как она лукавить,
Ручитися не хотел-би, тое всяк дознает,
Здравие-бо и славу та от часу терает.
«А-
**
Jfkit
****
Λ·*&*·Α*
6*
7*
8*
9*
10*
11*
Взор.
Мог.
Спрашивал.
Должен.
Заточенный.
Ждала.
Припозднился.
Как обычно.
Помещении.
Увидела.
Начал.
646
В.П.НАУМЕНКО
О дщи моя едина! скорбен я до зела*,
Ибо твоя мне в очи сваволя** вступила,
Чего когда б очима своими не видел,
Никогда бы, кто казал, тому-б я не верил,
А то видел и плакал, в слезах утопая;
230. Говорить аж он не могл, с жалю умирая.
С таким то щастием бедний умирать я мушу***
И так в горкой печали злей зверну**** душу.
Грех твой мене тот мучить и света лишает,
Твоя любовь з Звездардом мене погубляет.
О дщи***** моя, дщи злая! что се ти зробила6*?
Кости моя и мене жива в гроб вложила,
Смешеваешь з землею, жалем7* покриваешь
И так сердце бедное насквозь пробиваешь.
О бедная Зигисмундо, вдовице неправа8*,
240. На что далась безделнику звестися лукава9*?
Для той своей свободи могла б изобрати
3 нобилетов10* изрядна, нежели так каляти11*
Славу свою, и себе худу учинила.
Когда вже желания в том не преломила,
Много дворян у мене лучших избрать можно,
Если вже захотела так жити безбожно.
Не знаю, что в том сердце твое возлюбило,
На кого и смотреть другим есть не мило.
Сего бо млада еще взявши я нагаго
250. От отца, вместо сила зделал таковаго,
Приоденул нагаго и сделал як сина,
Хотя его за верна слугу меть12* едина;
Се же он мне наградил за тия доброти,
*
**
***
****
*****
б*
7*
8*
9*
10*
11*
12*
Очень.
Своевольность.
Могу.
Сломлю.
Дочь.
Сделала.
Грустью.
Фальшивая.
Обманом.
Благородных.
Пачкать.
Иметь.
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 64 7
Нанес в тяжкой старости моей месть клопоти*.
О сердце старости! что ти так нещасно,
Что от сего терпишь ти так тяжко, напрасно.
Однак уже, как ни есть и как тое стало,
О нещастие велико так мене попало,
Что сам я не знаю, что чинити з собою;
260. Прийдется в горести умреть в неспокою.
Поступлю я с Звездардом, как с таемним** вором,
Убию безъсовестна во времени скором;
А с тобою не знаю, что делать имею,
Прибрать мисли не могу, сердцем тя жалею,
Любовь бо природная делать воспящает,
Хоть на тое суд правий мя и поущает,
Чтоб тя казнить за грех твой и сущие сии злии
Пометят*** тя сами нехай деда твои тии.
А я поколь умишлю, хощу в тебе бути,
270. Чтоби ти мне сказала, як би избегнути
Могла еси казни злой и прощенна быти;
Лучше бо тя мне мертву, неж безъчестну зрети.
Печална-ж Зигисмунда буд (учи) в том часе,
Стала безъответна вдруг в немалому страсе,
Не так себе жалея, як друга своего,
Звездарда, мисля в себе: ах нещастия моего!
Что со нам случалося? тяжко воздихала
И скорбное слезами лице обливала.
Видя тое, что уже тайни их открити
280. Стали и вси любве той знаки явни быти,
От жалости несносной ниедина слова
Не могла проговорить до отца сурова;
Однак пред ним мужеско сердцем поступала,
Прибирая**** разума, что би отказала;
А в мисли своей твердо тое закрепила,
Что с Звездардом и смерть ей будет в свете мила
И быть-би вже готовой, еслиби згубити*****
Звездарда отец имел, там же положити
* Неприятности.
** Тайным.
*** Отомстят.
**** Прибавляя.
***** Погубить.
648
В.П.НАУМЕНКО
И свой живот с ним купно*; и так учинила,
290. Что по смерти вже своей его в гроб вложила;
Мужественно стояла до смерти и верно
Не просила ни о чом отца, толко мирно,
Без гнева, со слезами тое говорила:
Что ти де, отче, винен, не я учинила,
Отец мой, государь! ти сам в том причина,
Что я так согрешила, тебе дщерь едина.
Грех мой исповедую и вини не крию
И о милость просити тебе не имею;
Готова все терпети, чтоб имело быти,
300. С Звездардом совокупно хощу и умрети.
Не тая-же и сего, что его любила
И так, как с мужем своим, я с ним жизнь имела
И поколь жива буду, хочь то и немного,
Не престану любити от сердца прямого;
И по смерти, когда би власть кости имели,
Желала б, чтоб и в гробе Звездарда любили,
Не так моя хоть к тому я любовь его же,
Мне твоя сила роскошь сделать возможе:
Могл би еси в младости моей то вчинити,
310. Даби мене другому мужу обручити,
Тоб я сиеи свеволе так худой не знала
И всегда б з своим мужем в сладости играла.
Не помислил ти на то, что и сам телесний,
В теле своем имаши** тот же дух прелестний,
И мене не каменну родил ти ж такову,
И для того и нравом знай быть еднакову.
Могл би еси и тое еще разсуждати,
Как в младих летах наших кров звикла*** играти
А и сама младость есть ко греху всесклонна,
320. Найпаче****-ж праздна; а любовь законна
Всего сего не знает, но живеть нелестно.
Брак честен, как сказують, и ложе всечестно:
Як-же мне, жене, бывшей в отраде доволной,
Младой, к тому и праздной, не быть своеволной?
* Вместе.
** Имея.
*** Привыкла.
**** Более всего.
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 649
Сии твои и-к сему мене понудили,
Что все уди Звездарда мои так любили;
Бывши бо я за первым супругом законним,
Хочь не долго з ним жила, однак браком полным,
Узнала, что то есть брак и что в нем за сила,
330. Всяких тайн сердечних сладости вкусила;
Когда-ж в той горячести самой завдовела,
Над меру в младой крове огнем разгорела,
Каким во дни и в нощи палая сердечно,
Принужденна промишлять о то всеконечно,
Як би пламень природний могла утолити
И кровь, во мне горящу, хоть мало залити.
Однак с прилежанием и о то старалась,
Как-би найсекретнее в той вещи справлялась,
И искала способов таемних до того.
340. Чтоби подозрения избегнути злого.
Тебе ради, не себе, тайно так чинила,
Даби когда подзором не обезъславила*.
И до тих пор щасливо текло тое дело,
Покамисть твое око отче не узрело.
Когда-ж тебе досадно паче всего тое,
Что не з равним любилась, се резон на тое:
Той бо мне полюбился и я ему равно,
Любовь не перебирает, все делает травно**.
Но что очесам людским кажется в придачу.
350. Любве приятно, то нам есть в удачу.
Мниши-ли грех тот быти менший меж грехами,
Которий бя имела делать з шляхтичами?
Слеп твой в том разум, отче! мисль маеш неправу***,
Не Звездард, но щастие отнимает славу.
За щастием все течет: то славит безъславних,
То убогих, богатих, то и князей славних
Возносит и смиряет, — то делает само.
Слово-ж твое, отче мой, и Богу упрямо;
Всем бо нам един отец, една земля мати,
360. Вси от нея создании, от нея зачати,
И достоинство наше от земли-же взято.
* Обесславила.
** Естественно.
*** У тебя неправильные мысли.
650
В. П. НАУМЕНКО
Вси земля, прах и пепел, толко едно свято
Племя и род, коего добродетель славить:
Та сама славу родить, та богатих ставить,
Та ворота к шляхетству и ключ к славе златий,
Тая шляхтов делаеть — не отец, ни мати.
Присмотрись толко, отче, своей шляхти нравам
И всем их делам добрим и делам исправним;
Положи на мириле* Звездардови справи,
370. Добрий нрав и красоту — как болшой суть слави,
Так увидишь всю правду, чего он достойний,
Как тех стома крати лучший есть и стройний,
Зачим я изверилась, як верному другу
И хотела-би ему быти за супругу.
Болше-ж сего еще то я в нем усмотрела,
Что он горяч любитись, — за то я влюбила,
И что болш (есть шляхтич), хоть убог да правий,
Доброти в нем несть подобной, красна имать нрави.
Обманулся ти, отче, что так мужа умна
380. Чрез долгий час не узнал быть нелегкоумна,
И за служби верние по сей час заплати**
Не наградил достойной з своей благодати.
Несть сие ново и дивно: часто бо бывает
Господин убогим, убогий-же его провишает;
Много тих, что у себе ничего не мал и,
Щастие-же им дало, господами стали.
Многие-ж хоть и мали, да щастие побрало,
Много мавши, послежди ничего не стало.
В заключении-же речи сие утверждаю:
390. Что хочешь, дей со мною, — умреть с ним желаю;
Если згубишь Звездарда, — чего не дай Боже. —
Узришь мертву и мене, что будет негоже.
Мене карай, мене мучь, — я то во всем винна:
Сама его извела, сама в том безчинна***;
Сама смерти я годна, — пусть-же пойду з света,
Не дасть он пред Богом безъвинний ответа.
Да дасть Господь Бог ему, ему лета многи
И вся свишше благая без всякой тривоги.
* Весы.
** Заплатить.
*** Виновна.
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 651
Если-ж из света, отче мой, Звездарда мне истратишь,
400. Смертию вже моею ти лютость уплатишь;
Лучше нас обоих згубить, нежель розлучити.
Дружно бо хощу с Звездардом и в гробе жити.
Положи нас в единой труне* нерозлучно,
Пусть едину не будет жити в свете скучно;
Погреби кости наша в единой яскяне,
Пусть лежать в памятку любве верной ныне.
Смотря-ж Танкред на ее так речь ту статечну**,
Не знал, чим-би устрашить оную беспечно;
Умыслил он тот пламень, внутре ей розгорелий,
410. Кровю залить, Звездарда живот отяв*** милий.
Хотя все тайно зделать для своей неслави,
Казал**** в ночь глубокую лишить его глави
И сердце его к себе принести неживо,
И положив на златом блюде то на диво,
Послал к дщере на покой с таковими слови:
Отец ти про память прислал ее суровий,
Даби тем и по смерти себе потешала,
Которому за жизни любовь даровала.
Се имашь сердце его; кой отял доброти,
420. Тем закрий свою нечесть, знак вечной срамоти;
Теперь ему присмотрися, есть-ли что в нем мило,
И испросися, любить-ли, как прежде любило.
Зигисмунда-ж, будучи в лее на смерть готова,
Не говорить в ответ ни едина слова;
Держа в руце напиток из ядом смешенний,
Силною отравою бывий растворенний,
Ожидает, что будет с Зведардом чинится,
Аж видит, что их секрет явно всем вже зрится.
Взявши сердце оное от златого блюда,
430. Воздохнула плачевна о причине студа*****,
И очи в небо поднесла и благодарила
Отцу за тот дар драгий, которий узрела.
И зараз узнала, что то Звездардово
* Могиле.
** Смелую.
*** Отняв.
**** Приказал.
***** Стыда.
652
ß. Я. НАУМЕНКО
Сердце было, которое отец дал сурово,
И спустивши вниз очи, плакала ревниво*.
Потом к послу сказала те слова плачливо:
Достойно и по истинне золотого блюда
Сердце сие и его любовна утроба,
Кая ему труна и быть надлежала,
440. В чом я теперь отческу милость вже узнала.
Достойно Звездард лежит по смерти на злате,
Положил-бо любови моей то в заплате,
Сердце-же его, кое в руках пестовала
И своими сердечно усти целовала.
Сказуя то, прирекла: о моя утехо!
Ти теперь в небе еси радостно и тихо.
Потом, обратившись (к) панянтам**, сказала:
Всегда я отческую милость узнавала,
Но тепера наипаче*** тую узнаваю
450. И за такий дар ему воздать чим не маю;
Вместо всего самую пусть он будет знати,
Дая сиу жизнь мою и покой мой златий.
И к сердцу обратившись, так горко слезила,
Что от жалю и плача зелно**** обомлела,
Сказуя так до сердца: о сладкий покою
Всех моих потех! тайно добро мне с тобою.
О радостний доме мой, любве пребезмерний,
Постоянний и верний и нелицемерний!
Ти замок тайн сих всех! Где-ж тебе подели?
460. В тебе-ли суть, иль в небо з душею вступили?
Богдай-же тот не дождал века, вже своего,
Кто живота не щадеть нриказал твоего!
Доволно в тебе, сердце, было мне спокою,
Когда-ж умреть наперед ти зволил собою,
Быть тому так: для мене ти князя лишился,
От его-же и на тот свет итить поспешился.
Когда-ж еще до места не дойшол своего,
Я гонюся за Звездардом, свет бо мне без него
Не милий. Дал тебе гроб неприятель злобний,
* Горестно.
** Девушкам.
*** Более всего.
**** Сильно.
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 653
470. О сердце любимое, твой сход мне удобний (?);
Болш ти слави и погребу вже не доставало,
Толко-б еси в слезах моих омокало,
Каких я не жалею, и ти бо однако
Не жалел своей крови и живота тако.
И кого-ж-би сердце то днесь не засмутило
И воздохнуть от сердца внутрь не понудило?
Мне было еднаково в землю пойти прямо
И з сухими очима и без слез бить тамо.
Но фортуно изменна! от тебе се цвети
480. Понуждении ввязнут и у смертнии сети:
Души-ж наши, мню, будуть совокупно обе,
Когда купно положать телеса во гробе.
Еще бо, надеюся, дух твой во покою
Моем здесь пребывает, летая собою,
Смотря на плачь и жаль, так тяжко ревнивий,
Ожидает, поколь дух мой вийдет з мя плачливий,
Не желаеть дружества остатися верна,
И нине любя его, как нелицемерна.
Но уже душа моя мене оставляеть
500. И тело от немощи тяжкой умираеть.
Сказуя, глас в себе таила плачевний,
А в сердце дихание и жаль вел ми ревний;
Слези-ж лия на сердце тое без престани,
На мертвость смотря его и смертнии рани.
Жени тамо и панни, тож видя, слезили
И на слезний тот позор вси тамо смотрели,
А она плакавшись очи утирала,
На сердце Звездардово смутно поглядала.
Потом всем вслух сказала: плакать уже годе,
510. Но не годе з Звездардом быть мне при отходе.
То говоря, взем чашу, смертна яда полну,
Испила и упала, жизнь оставя долну*;
Там на ложе, як труп, тотчас побледнела,
Сердце-же Звездардово к себе прихилила**,
Целовала и скорой смерти ожидала.
Тем бо своим случаем всех жен понужала:
Что-бо она испила, того не узрели,
* Земную.
г* Прижала.
654
В. П. НАУМ EH KO
Толко знать, что яд смертний, мислми доходили.
Тотчас, толко пала, лице изменила,
520. Вся стала нечувственна и вся омертвела.
Дали о том отцу знать, что дочерь болеет;
Услишавши-ж то, отец тотчас к ней приспеет,
Спрашивает, что се есть? Она-ж вже канает.
Крикнет отец: ах, беда! дочерь умирает!
Пособити не знал, пройшло-бо то время,
А яд лют непослабно налагал вже бремя.
Видя-ж отец смерть явну дщери своей милой,
Не плакал, но рыдал по той втесе милой,
На себе и на дочерь свою нарекая
530. И день тот свой нещастний горко проклная.
Аки при Меандрових брегах лебедь белий,
Тако жалостно над дщерю плакал отец милий;
Лебедь гласом плачевним кричить, воздихая
И крилами бистрие води розбивая,
Поет песнь печалну гласом умиленним, —
Равно пел и старушек сердцем сокрушенним:
Жалея по дочере, румал неутешно
И себе умреть желал за тоею спешно.
Дочерь отцу слезну каная говорить:
540. Мне вже тех слез не треба, и Звездард не спорить
Сокрий тия на славу нас умерших нине;
Идем з света через тебе в сей горкой кручине.
Напрасно ти жалеешь, сего ти хотелось,
Тешся с того, о чем вже тебе и ходил ось;
Ти сего рачително желал, — Бог с тобою!
Бог судия ти буди, что нам жить з собою
Не допустил ти в любви; дай-же хоч по смерти
Кости наши яме едной вже пожерти;
Даруй сию благодать дочери единой,
550. Буди в тебе любовь есть к мне, отче, безвинной.
Яви отчу милость к нам, сделай вконец тое,
Даби в гробе едином положились двое.
Тело мое з Звездардом пусть вже почивает,
И по смерти бо своей быть с ним желает.
Надеюся, отче мой, что мне подаруешь*,
В едном гробе наши кости замуруешь.
* Подаришь.
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе XVII-XVIII ст. 655
Тогда Танкред, будучи жалем* ураненний,
Не могл слова отказать, крича изумленний.
А Зигисмунда, видя смерть уже пред очима,
560. С отцем попрощалась и з всеми своими,
Сердце-же пестуючи усти целовала
И тяжко воздохнувши, в том и жизнь скончала.
По том всем князь печалий стал осиротелий,
Зделал погреб обоим и гроб един целий,
Схоронил их преславно. Пусть-же почивають
И так в вечной любве купно пребивають!
Танкред пожил в печали, скоро преселился**,
И так живот Танкредов и тех окончился.
Лямент Зигисмунды
Нещасливи годи и лета нещасливи,
И потехи зрадливи света все плачливи!
На что мене нещастну так долго держали,
Когда мене так тяжким смутком*** карать мали?
Чему мене первее червь не стлила в гробе,
Или мать не растлила во своей утробе!
Θ^
* Печалью.
** Преставился.
*** Печалью.
^^
К. H. БАТЮШКОВ
Гризельда: Повесть из Боккаччо
В давние времена старшим в роде маркизов Салуцких оставался,
по смерти родственников своих, молодый Гвальтиери. Целые дни
он проводил на псовой и соколиной охоте, был не женат, бездетен
и вовсе не помышлял о супружестве. Впрочем, он был довольно
благоразумен и особенно слыл таковым у женщин. Но это
благоразумие не нравилось его подданным: они часто упрашивали
его вступить в союз брачный. «Вам нужен наследник, а нам
господин», — говорили добрые люди. Многие из них вызывались
сыскать невесту от честного отца и матери, невесту, которая
подавала бы о себе лестную надежду и со временем сделала его
счастливейшим супругом. «Друзья мои, — отвечал им
Гвальтиери, — вы принуждаете меня приступить к тому, что мне никогда
не нравилось, на что я никогда не хотел решиться. Я знаю, как
трудно сыскать женщину нам по сердцу и нравами и душою; знаю,
что худой выбор делает несчастие целой жизни. Вы говорите, что
можно положиться на доброту родителей и по нраву их судить
о нраве дочери; вы заблуждаетесь, друзья мои! Как узнать
совершенно отца? Как узнать тайные поступки матери? И, если бы отец
и мать были люди совершенно честные, то кто, скажите мне,
поручится, что дети их будут на них похожи? Если же хотите, чтобы
я непременно носил узы брачные и был доволен моим состоянием
(по крайней мере на себя одного жаловался в случае неудачи),
то предоставьте мне самому сделать выбор. Если супруга моя
будет достойна вашей любви и уважения, я почту себя совершенно
счастливым, что уступил просьбам вашим». Подданные отвечали,
что на все согласны; только бы он не замедлил вступить в
желанное ими супружество.
Гризельда: Повесть из Боккаччо
657
С давнего времени маркизу нравилась девушка, очень бедная.
Она жила в соседстве его замка, в совершенном уединении; была
довольно миловидна, и странному маркизу показалось, что он
найдет с нею счастие. Отложа все поиски и расспросы, он решился
без дальних размышлений предложить ей свою руку. Призвал отца
ее — беднейшего из бедняков — и с ним ударил по рукам. Все дело
приведено к концу, и Гвальтиери, созвав приятелей своих и
подданных, сказал им: «Друзья! Вы желали, чтобы я женился; исполняю
желание ваше, более в угождение вам, нежели себе. Вы обещали
почитать супругу мою, каков бы ни был мой выбор: я сдержал мое
слово — сдержите ваше. Объявляю вам, что здесь, в соседстве,
нашел я себе невесту, обручусь с нею немедленно и введу ее в мой
замок. Вы, с своей стороны, приготовьте богатый пир свадебный;
придумайте, как лучше и достойнее принять супругу вашего
владельца: одним словом, устройте все так, чтобы я был доволен вами,
как вы моим выбором». Все в один голос отвечали, что выбор его
будет им по сердцу, что они будут любить и уважать его супругу,
какого бы она ни была происхождения. И весь дом засуетился:
начали приготовлять великолепный пир свадебный. Гвальтиери
пригласил множество приятелей, соседей и родственников: у богатых
за друзьями дела не станет. Наконец призывает к себе горнишную
девушку, росту одинакого с будущею невестою, и велит кроить по ней
платье пышное и уборы великолепные. Кроме того приготовлено
всякой всячины; множество поясов богатых, колец изумрудных,
серег яхонтовых и венец брачный: одним словом, все, что нужно
для молодой. Настал условный день, и маркиз, приведя все дела
в порядок, сел на коня и сказал приближенным: «Государи мои,
пора нам отправиться за невестою». И все поскакали веселою
вереницею в то селение, где жил отец нареченной. Она стояла у колодца
и спешила вытаскивать ведра, надеясь с подругами идти навстречу
маркизовой свадьбе, которая приближалась ближе и ближе к селу.
Гвальтиери называет ее по имени, Гризельдою, потом спрашивает:
«Где отец твой?» — «Дома», — отвечала она и закраснелась, как
алый мак. Гвальтиери слезает с коня, приказывает толпе ожидать
себя на улице, а сам идет прямо в низкую хижину бедного Жиану-
кола. «Я приехал за Гризельдою, но, прежде всего, хочу поговорить
с нею в твоем присутствии. Нравлюсь ли я? Если так, то будет ли
она во всю жизнь угождать мужу своему, никогда не огорчаться
поступками его и повиноваться малейшей воле его?» Гризельда, потупя
глаза, отвечала: «Буду, без сомнения!» Гвальтиери, довольный
ответом, берет ее за руку и при всей толпе провожатых и челяди своей
658
К. Я. БАТЮШКОВ
раздевает и наряжает в великолепные брачные одежды, а на волосы,
которые одна природа до сих пор убирала, торжественно надевает
венец брачный. Все удивились. «Друзья, — отвечал он, — вот та
девица, которую желаю иметь супругою, та, которая согласна жить
и умереть со мною». Потом, оборотясь к Гризельде (а она от стыда
и радости света божия не видела): «Правду ли я говорю, Гризель-
да? Желаешь ли ты быть моею женою?» — «Желаю, государь».
Дело сделано, и обряд к концу. По выходе из церкви посадили ее
на богатого коня и с великою честию проводили в замок. Пир был
истинно великолепный, как будто маркиз сочетался с дочерью
короля французского; а новобрачная, к удивлению всех, с нарядом
переменила нрав, поступь и душу. Мы сказали уже, что она была
статного росту, пригожа и миловидна; а наряды еще более придали
блеску красоте ее. Она так умела пленить каждого обхождением,
учтивостию, сердечною добротою, что все забыли в ней дочь
убогого Жианукола, пастушку овечек, и считали за дочь какого-нибудь
знатного принца. Все, ее знавшие в первобытном состоянии, не
могли надивиться. Кротость ангельская, послушание чудесное делали
мужа ее счастливейшим из всех мужей.
Одним словом, с подчиненными и подданными она обходилась
так ласково, тихо, милостиво и приветливо, что каждый полюбил
ее, как душу. Все говорили заодно, даже и те, которые сей выбор
сперва охуждали, что Гвальтиери поступил очень благоразумно, что
он самый проницательный человек; ибо мог открыть под сельским,
бедным рубищем столько доброты, столько прелестных качеств!
И не только в маркизстве Салуцком, но повсюду Гризельда умом
и поведением оправдала странный поступок мужа своего. В течение
первого года она обрадовала его рождением прелестной дочери.
В замке по этому случаю был праздник великолепный.
Но маркизу вздумалось испытать ангельский нрав и терпение
супруги труднейшими, жесточайшими опытами. Сперва начал
он оскорблять ее речами, потом, приняв на себя вид печальный
и смущенный, сказал ей однажды, будто подданные его начинают
роптать за то, что он избрал в супруги бедную девушку низкого
состояния — а более еще потому, что она родила дочь, а не сына.
Не изменясь нимало ни в лице, ни в голосе: «Делай что хочешь,
государь. — отвечала оскорбленная, — делай то, чего требует честь,
польза и слава имени твоего. Я всем буду довольна; ибо не забываю,
что была последнею из слуг твоих; не забываю того, что ты для
меня сделал — для меня, бедной девушки!» Такой ответ очень
понравился маркизу. Но, несколько дней спустя, он объявил ей снова,
Гризельда: Повесть из Боккаччо
659
что подданные его не могут более терпеть его дочери... и удалился.
Вскоре является один из вернейших слуг его и с слезами на глазах
начинает говорить: «Простите, государыня... но я под смертным
страхом должен исполнить то, что мне приказал супруг ваш... Он
велел мне взять младенца вашего, и...»
И не мог сказать более. Несчастная мать, услыша сии несвязные
речи, соображая их с тем, что говорил маркиз, вмиг на мрачном
лице служителя прочитала участь невинного младенца; бросилась
к колыбели, поцаловала дочь свою, благословила с сердцем,
исполненным жесточайшей горести, и, не изменяясь нимало в лице,
вручила ее служителю. «Исполняй то, что предписал тебе господин
Hani; но, умоляю тебя, не отдавай ее на жертву диким зверям...
если тебе это не предписано!» Служитель взял младенца на руки
и скрылся. Гвальтиери, сведав от него, каким образом Гризельда
исполнила строгое приказание, удивился ее твердости, но намерения
своего не отложил. С верным служителем он немедленно отправил
дочь свою в Болонию, к ближайшей родственнице своей, которую
умолял дать ей воспитание отличное, но никому ни под каким видом
не объявлять о ее рождении.
В скором времени Гризельда снова сделалась матерью и
даровала жизнь прекрасному мальчику. Отец, принимая на руки
новорожденного, был вне себя от радости: но не довольствуясь
первым опытом, снова жесточайшим терзанием решился
испытать сердце несчастной супруги своей. «Подданные мои, — сказал
он однажды, — еще более оскорблены с тех пор, как ты утешила
меня сыном; они с ужасом помышляют о том, что внук бедного
пастуха — отца твоего — будет их господином. Если я не удалю
тебя и не возьму другой жены, то они выгонят меня из областей
моих». С терпением и покорностию Гризельда выслушала слова
супруга своего. «Устройте все ко благу вашему; обо мне же не
заботьтесь нимало, государь! В вашем счастии заключается мое
благополучие». Через несколько дней Гвальтиери послал за
новорожденным и велел сказать матери, что ему готовится одинакая
участь с прежним младенцем; а сам тайно отправил его в Болонию
к прежней родственнице. Великодушная Гризельда перенесла эту
потерю с прежнею твердостию, без слез и роптания, и в глубине
сердца своего утаила несказанную горесть матери. Гвальтиери
удивился. «Нет! — повторял он сам себе, — ни одна женщина
не может сравниться с нею!»
Подданные думали, что маркиз велел умертвить детей своих: все
охуждали его поступок, называли его жестоким отцом и без жалости
660
К. H. БАТЮШКОВ
не могли смотреть на бедную мать. Женщины, ее окружавшие,
часто плакали и сокрушались при ней об участи невинных малюток,
и она всегда говорила им: «Не плачьте, милые подруги; вспомните,
что так угодно было отцу их».
Прошло несколько годов со времени рождения дочери. Маркиз
задумал сделать последний опыт и объявил своим приближенным,
что не хочет иметь супругою Гризельду, что он по молодости лет
обручился с нею; наконец, признался, что поступил очень безрассудно,
а чтобы загладить проступок свой, решается просить папу о разводе
и позволении обручиться с другою. Все осуждали намерение
маркиза, но он был непоколебим. Гризельда вскоре об этом услышала.
Возвратиться в бедный дом отца своего, снова сделаться пастушкою
овец, видеть супруга своего, до сих пор страстно обожаемого, в
объятиях другой жены... Все это терзало, раздирало ее душу. Но она
решилась перенести последние удары судьбы с прежнею твердостию,
с прежним великодушием. Вскоре прибыло из Рима разрешение
папы (оно было подложное), и маркиз его обнародовал. Призывают
Гризельду, и в присутствии многочисленной толпы жестокосердый
Гвальтиери говорит ей: «Вот разрешение папы на другой брак. Я
должен отвергнуть тебя. Ты знаешь, что многие из подданных моих
дворян — знатные и сильные владельцы; они сами имеют своих
подданных; а твои родители всегда были землепашцами... Тебе нельзя
быть супругою маркиза Салуцкого! Возвращаю тебе приданое твое
и тебя — отцу твоему: я избрал себе другую в супруги».
Гризельда превозмогла всю горесть оскорбленной женщины и,
силясь удержать слезы и рыдания, сказала голосом довольно
твердым: «Я помню мое низкое происхождение, неприличное вашему
знатному роду; помню, что по милости бога и вашей, государь, я
была возведена на столь высокую степень, и что все мое счастие было
временное! Мое дело повиноваться слепо воле господина моего. Вот
обручальное кольцо: возьмите его; но позвольте мне возвратиться
к отцу моему в той одежде, в которой прибыла я в замок. Вам нечего
возвращать мне: ни золота, ни серебра, никаких сокровищ я не
принесла в приданое; вы взяли меня нагую, и, если мать детей ваших
должна нагая возвратиться к престарелому отцу своему, — то она
исполнит волю вашу. Но именем любви и непорочности заклинаю
вас, государь, дайте, ах! дайте мне хотя одно покрывало... последнюю
защиту стыдливости». Гвальтиери, почти тронутый до слез, старался
сохранить суровый и строгий вид. «Согласен на покрывало, —
сказал он, — но... более ничего!» Все приближенные умоляли его дать
ей по крайней мере одно платье. «Как? — говорили они, — супруга
Гризельда: Повесть из Боккаччо
661
маркиза Салуцкого, наша старая госпожа, явится полуобнаженною
посреди улицы, как нищая, как преступница, как самая последняя
из женщин!..» Напрасные просьбы! Полуобнаженная, без обуви, без
покрова на голове, с распущенными волосами, заливаясь горькими
слезами, она вышла из замка и, сопровождаемая рыданиями слуг
и женщин, с зардевшимися от слез глазами явилась к несчастному
отцу. Жиануколо никогда не хотел верить, что дочь его останется
маркизою; он с трепетом ожидал судьбы, ее постигшей, и свято
сохранил рубища, оставленные ею в бедном быту его. С слезами
возвращает их дочери. Она, великодушная до конца, презирая судьбу,
несправедливую и жестокую, спокойно принимается за прежние
труды сельские, в дому отеческом.
Между тем маркиз немедленно объявляет, что сватает за себя дочь
славного графа Панагского, приготовляет великое торжество и
посылает за Гризельдою. «Скоро будет в замок моя невеста, — говорит
ей Гвальтиери, — я желаю принять ее с великими почестями. Ты
знаешь, что в замке ни одна женщина, кроме тебя, не умеет убирать
покоев и учреждать порядка, для великого торжества
приличного. На тебя возлагаю эту обязанность. Учреждай, повелевай всем:
пригласи заблаговременно женщин, каких тебе угодно; угощай,
принимай их как хозяйка и потом — можешь возвратиться в свою
хижину». Каждое слово, как острая игла, кололо чувствительное
сердце Гризельды; ибо она не преставала обожать неблагодарного
супруга. «Я на все готова», — отвечала страдалица; и, в сельском
рубище, прежняя повелительница замка начала убирать покои,
расставлять по залам креслы, расстилать ковры узорчатые,
приготовлять стол и все, что было потребно, — как будто бы она была простая
служанка или ключница. Одним словом, она рук не опускала, пока
все не было кончено и распоряжено от важной вещи до последней
безделки. Гости приглашены, все готово в ожидании веселого пира.
И вот настает день свадебный. Гризельда в рубище, но с лицем
веселым и приветливым угощает наехавших жен и девиц боярских, как
добрая, домовитая хозяйк.а. Гвальтиери тайно посылает в Болонию
к супругу родственницы своей графини Панагской, у которого в доме
воспитывались его дети; приглашает его в замок свой с тем, чтобы
он и графиня привезли с собою детей его и множество гостей
почетных, но никому не объявляли о его намерении. Дочери маркизовой
минуло двенадцать лет: она была красоты чудесной, а шестилетний
брат ее походил на нее совершенно.
Граф Панагский, окруженный бесчисленною толпою гостей
почетных, с сими прелестными детьми пустился в путь и через
662
К. H. БАТЮШКОВ
несколько дней прибыл благополучно в Салуццо, где собрались все
жители деревень, сел и городов соседних: все ожидали с нетерпением
нареченной невесты.
Приемная зала открылась, и невесту встретили с
чрезвычайными почестями и церемониями. Гризельда вышла навстречу и,
поклонясь ей низко, примолвила: «Добро пожаловать, государыня!»
Все барыни и девицы, идя к столу, упрашивали маркиза удалить
прежнюю жену, или, по крайней мере, дать ей приличное платье.
Маркиз не согласился.
В столовой взоры всех обратились на невесту: все превозносили
ее до небес, а иные шептали друг другу: «Маркиз наш сделал
выгодный обмен!» Сама Гризельда стояла, как очарованная, и невольно
дивилась красоте девушки и малолетнего брата.
Наконец желания маркизовы были удовлетворены в полной
мере. Он испытал всю силу терпения Гризельды; он уверился,
что ничто, никакое испытание не может поколебать сей твердой
души; что вперед может положить на нее всю надежду свою. Он
решился облегчить свинцовое бремя печали, которую она силилась
таить во глубине сердца своего. Но проницательный супруг легко
угадывал ее грусть на лице, в самом голосе. При всем собрании
гостей велит он ей приближиться и с колкою улыбкою повторяет:
«Понравилась ли тебе моя невеста?» «Ах, как не понравиться, —
отвечала Гризельда, — и если она столько же благоразумна, сколько
пригожа, то вы будете счастливейшим супругом! Но... умоляю вас,
государь, не терзайте ее, как прежнюю жену: она не перенесет таких
мучений. Прежняя супруга ваша от самой юности была знакома
с горем и трудами, а эта, вы сами видите, как еще молода и как
нежно воспитана».
Гвальтиери с радостью заметил, что Гризельда находилась в
обмане и нимало не изменялась в доброте сердечной, подвинул стул
и посадил ее возле себя. Она затрепетала.
«Гризельда, — сказал маркиз по некотором молчании, — пора
тебе собрать плоды терпения твоего; пора открыть глаза тем, которые
полагали, что я жесток и неправосуден. Я достиг моей цели; я научил
тебя нести тяжелый крест супружества и быть во всем примерною
женою; подданных научил уважать твои редкие качества и вперед
не нарушать нашего покоя. Вот вся цель моих испытаний. В награду
за любовь твою, которую ты мне доказала и словом и делом,
бесценная Гризельда! в награду за счастье мое, которого ты была и будешь
единственною виновницею, я отдаю все, что похитил у тебя, и все
раны сердца одним словом исцеляю навеки. Вручаю ту, которую
Гризельда: Повесть из Боккаччо
663
ты называла моею невестою, вручаю брата ее... они твои — они дети
наши, а я снова твой супруг, счастливейший из смертных!»
Маркиз, обняв ее с восхищением, цаловал с необыкновенною неж-
ностию и, растроганную, утопающую в слезах, повел к удивленной
дочери: все были в удивлении неописанном. Женщины в радости
подхватили Гризельду под руки и повели в особенную комнату,
сняли рубище, надели великолепное платье и торжественно
проводили в залу.
Начался пир веселый. Все были в радости. Каждый выхвалял
маркиза, называл его мудрым, проницательным, а Гризельду до
небес превозносили. Наконец и гости разъехались. Послали за бедным
Жиануколом. Он был принят в замке с почестями и уважением,
как тесть богатого владельца, и в объятиях дочери своей кончил
счастливую старость. Маркиз не переставал обожать свою
Гризельду и был, конечно, счастливейший супруг и отец во всей Италии.
Теперь вы согласитесь со мною, друзья мои, что в хижине мы
чаще встречаем небесные дарования, то есть добродетель,
честность и терпение, нежели в палатах и теремах великолепных. Часто
в лачуге таится тот, кто бы достоин был сиять в короне и
повелевать людьми; а в палатах... но оставим это! Спрашиваю только, кто
сравняется в терпении с Гризельдою? Кто, подобно ей, перенесет
с лицем спокойным, даже веселым, жесточайшие, неслыханные
испытания, каким подвергнул ее Гвальтиери?..
€4^
^^
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
«Гризельда» Боккаччо и русская сказка
(Пер. К. С. Ланда)
В своей истории «Декамерона» Манни рассматривает случай,
описанный Боккаччо в десятой новелле десятого дня, как реальный
факт, и утверждает даже, что Гризельда якобы жила около 1025
года. То же думала и Маргарита Наваррская касательно тридцать
второй новеллы своего «Гептамерона»; и, однако, исследования
Бенфея ясно показали, что так называемый исторический факт —
это характерный сюжет новелл, который можно обнаружить даже
в брахминских рассказах «Панчатантры». Ведет ли данный сюжет
свое начало именно оттуда или вообще из некоего восточного
источника, это отдельный вопрос, и Бенфей ответил на него
утвердительно; был ли он прав, это еще один вопрос.
Происходит ли в «Гризельде» то же, что и в новелле
«Гептамерона»? Мы, во всяком случае, всегда видели в новелле Боккаччо
определенный тип легенд: под исторической маской мы все же
узнаем известную «девушку из леса», которая столь часто
встречается в европейских историях; она покинута всеми, ее находит
принц во время охоты и берет ее в жены; она остается любящей
и преданной, невзирая на множество преследований, каковым ее
подвергают; у нее похищают детей; благодаря помощникам, в
основном волшебного свойства, дети спасаются от смерти и, со своей
стороны, помогают спасти честь матери. В роли преследовательницы
выступает обычно злая свекровь, в роли преследователя — черт.
То, что у Боккаччо на месте свекрови или дьявола оказывается сам
супруг, объясняется общим тяготением его новелл к историчности.
Здесь мы хотели бы только рассмотреть одну русскую сказку,
которая столь близка к новелле Боккаччо, что вполне допустима
мысль о возможном литературном влиянии. Такое заключение
«Гризелъда» Боккаччо и русская сказка
665
подсказано, прежде всего, тем фактом, что из всех новелл Боккаччо
на русский переводилась именно «Гризельда», начиная с первого же
десятилетия нашего века. Она могла разойтись в народе, благодаря
школам и книгам для чтения*. То, что особым образом привлекло
нас в народной обработке этой новеллы, — это способ, которым народ
расширил воспринятый материал и некоторым образом овладел им,
изменив имена и чужие отношения и сохранив лишь общую суть.
Сказка находится в большом критическом сборнике русских сказок
А. Афанасьева, по большей части основанном на материалах,
предоставленных Русским Географическим Обществом. Большинство
сказок повторяется несколько раз на разных диалектах; в сборник
включено даже несколько малороссийских сказок. Необычно, что
от внимания издателя ускользнуло это сходство русской сказки
с новеллой Боккаччо, хотя он и сопоставляет многие из них с
европейскими сборниками сказок и использует их в комментариях.
Поэтому мы обратимся к сказке, которая называется «Дочь
пастуха» (Афанасьев, народные русские сказки, в 8 томах, Москва; наша
сказка — двадцать девятая в пятом томе).
«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь;
наскучило ему ходить холостому и задумал жениться; долго
приглядывался, долго присматривался, и никак не мог найти
себе невесты по сердцу. В одно время поехал он на охоту и увидал
на поле: пасет скотину крестьянская дочь — такая красавица, что
ни в сказке сказать, ни пером написать, а другой такой во всем свете
не сыскать. Подъехал царь к ней и говорит ласково: «Здравствуй,
красная девица!» — «Здравствуй, государь!» — «Которого отца ты
дочь?» — «Мой отец — пастух, недалече живет». Царь расспросил
про все подробно: как зовут ее отца и как слывет их деревня,
распрощался и поехал прочь. Немного погодя, день или два, приезжает
царь к пастуху в дом: «Здравствуй, добрый человек! Я хочу на твоей
дочери жениться». — «Твоя воля, государь!» — «А ты, красная
девица, пойдешь за меня?» — «Пойду!» — говорит. «Только я беру
тебя с тем уговором, чтоб ни одним словом мне не поперечила; а коли
скажешь супротив хоть единое словечко — то мой меч, твоя голова
с плеч!» Она согласилась. Царь приказал ей готовиться к свадьбе,
а сам разослал по всем окрестным государствам послов, чтоб
съезжались к нему короли и королевичи на пир на веселье. Собрались
гости; царь вывел к ним свою невесту в простом деревенском платье:
* Ср. русскую сказку о царе Пирасе (Пиррусе), а также Шефнера (Бенфей.
Панчатантра. С. 483-484).
666
А. Я. ВЕСЕЛОВСКИЙ
«Что, любезные гости, нравится ли вам моя невеста?» — «Ваше
величество, — сказали гости, — коли тебе нравится, а нам и
подавно». Тогда велел ей нарядиться в царские уборы, и поехали
к венцу. (Далее идет описание торжества в коротких эпических
формулах, часто встречающихся в русских сказках.) Отпировали,
и зачал царь жить с своей молодой царицею в любви и согласии.
Через год времени родила царица сына, и говорит ей царь грозное
слово: «Твоего сына убить надо, а то соседние короли смеяться
будут, что всем моим царством завладеет после меня мужицкий
сын!» — «Твоя воля! Не могу тебе поперечить», — отвечает бедная
царица. Царь взял ребенка, унес от матери и тайно велел отвезти
его к своей сестре: пусть у ней растет до поры до времени. Прошел
еще год — царица родила ему дочь; царь опять говорит ей грозное
слово: «Надобно изгубить твою дочь, а то соседние короли смеяться
будут, что она не царевна, а мужицкая дочь!» — «Твоя воля! Делай
что знаешь, не могу тебе поперечить». Царь взял девочку, унес
от бедной матери и отослал к своей сестре. Много лет прошло, много
воды утекло (традиционная эпическая формула), царевич с
царевною выросли: он хорош, она еще лучше — другой такой красавицы
нигде не найти! Царь собрал своих думных людей, призвал жену
и стал говорить: «Не хочу с тобой больше жить; ты — мужичка,
а я — царь! Снимай царские уборы, надевай крестьянское платье
и ступай к своему отцу». Ни слова не сказала царица, сняла с себя
богатые уборы, надела старое крестьянское платье, воротилась
к отцу и по-прежнему начала в поле скотину гонять. А царь
задумал на иной жениться; отдал приказ, чтобы все было к свадьбе
готово, и, призвав свою прежнюю жену, говорит ей: «Хорошенько
прибери у меня в комнатах; я сегодня невесту привезу». Она убрала
комнаты, стоит — дожидается. Вот привез царь невесту, за ним
следом наехало гостей видимо-невидимо; сели за стол, стали есть-
пить, веселиться. «Что, хороша ли моя невеста?» — спрашивает
царь у прежней жены. Отвечает она: «Если тебе хороша, так мне
и подавно!» — «Ну, — сказал ей царь, — надевай опять царские
уборы и садись со мной рядом; была ты и будешь моей женою. А эта
невеста — дочь твоя, а это — сын твой!» С этих пор начал царь жить
с своею царицею без всякой хитрости, перестал ее испытывать
и до конца своей жизни верил ей во всяком слове». Мы говорили
выше о возможном литературном влиянии. В таком случае,
возникает вопрос, послужил ли основанием этой сказки также перевод
новеллы Боккаччо. Но мог ли сам Боккаччо создать свою «Гри-
зельду» на основе народной сказки, как Макиавелли создал своего
«Гризельда» Боккаччо и русская сказка
667
Бельфегора?* О происхождении новеллы, по-видимому, говорит
и ее феодальный характер, определяющий целое повествование; он
не до конца исчезает из народной версии, но почти не проявляется
в русской сказке. Вопрос остается открытым.
Переход итальянских сказаний, особенно из эпико-легендарного
цикла «Короли Франции»**, в русские сказки, возможно, через
западнославянские обработки, — довольно известное явление. Буово
ди Антона стал одним из любимых персонажей русской сказки,
разумеется, в народном переосмыслении этого образа. Он
превратился в сына Бовы-короля, а Друзиана — в княгиню Дружевну,
и ее имя, таким образом, обрело определенное значение (корень
слова — «друг», то есть ее имя означает приблизительно «подруга»).
Лукаферро ди Бульдрас стал Лукопером (дословно: «натягивающий
лук»). Необычной была метаморфоза Пуликана; согласно
«Королевскому эпосу Франции», он был рожден от женщины и пса***: «он
бегает проворней оленя и лани, у него хороший нюх, и он
превосходно натягивает лук». В других местах повествуется, что жена
герцога Каноро хотела бы увидеть Пуликана: «Ибо неясной была
речь стражника, говорившего, что он получеловек-полусобака»****.
Описание на том и заканчивалось, и Пуликан оставался человеком,
хотя и страшного вида (ибо они слышали от тех, кто сбежал, о росте
Пуликана, там же, с. 294-295). Если же мы обратимся к русской
сказке, то двойственная природа Пуликана (Полкана) выразилась
в ней в наивном символе: он стал гибридом, своего рода мифическим
кентавром, получеловеком-полулошадью. Это важно для истории
той формы развития мифа, многочисленные примеры которой
приводит Маури в своем «Исследовании благочестивых сказаний
средневековья»: непонятый символ, неудачно выраженный
переносный смысл слова быстро становится мифом у народа, творческая
фантазия которого еще привязана к древним мифическим образам.
Так возникла легенда о том, что святой Христофор действительно
носил на руках младенца Христа, так как его имя было понято
буквально*****. Здесь тоже русская фантазия пошла еще дальше: как из-
* Ср. Бенфей. Панчатантра 5212: «Рассказ встречается и у русских».
** «Короли Франции» («Irealidi Francia») — рыцарская поэма Андреа да Барбе-
рино, написанная в XIV в.; в ней рассказывается о сказочном происхождении
французской королевской династии {примеч. пер.).
*** Ср. Li Rali di Francia, ed. GambaVenezia 1821, с. 281.
**** Там же с. 290.
***** Cd. Max Müller: Lectures on the science of the language, second series, pp. 552-554.
668
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
вестно, о нем рассказывают, что он был родом из Ханаана, высокого
роста и ужасного вида*. В наивном изображении древнерусского
живописца выделена эта последняя черта, и святой, державший
на руках Христа, превращен в ужасное чудище. Поэтому на
старинных иконах его рисовали с собачьей или лошадиной головой**,
возможно, в соответствии с ремеслом кормчего, которым он
занимался долгое время на берегах Красного Моря:
О Святой Христофор,
Сюда ты перевез Иисуса Христа
По красному морю.
<Декамерон, VIII, 3>
Каландрино, Бруно и Буффальмакко идут вниз по Мунъоне
искать гелиотропию. Каландрино воображает, что нашел ее,
и возвращается домой, нагруженный камнями; жена бранит его;
разгневанный, он ее колотит, а своим товарищам рассказывает
о том, что они сами лучше его знают.
Когда кончилась новелла Памфило, над которой дамы так
смеялись, что смеются еще и теперь, королева велела продолжать
Елизе, которая и начала, еще смеясь: — Не знаю, прелестные дамы,
удастся ли мне моей новеллой, не менее правдивой, чем потешной,
так рассмешить вас, как заставил Памфило своею; но я постараюсь.
В нашем городе, где всегда были в изобилии и различные обычаи
и странные люди, жил еще недавно живописец, по имени
Каландрино, человек недалекий и необычных нравов, водившийся большую
часть времени с двумя другими живописцами, из которых одного
звали Бруно, другого Буффальмакко, большими потешниками,
впрочем, людьми рассудительными и умными, общавшимися с
Каландрино потому, что его обычаи и придурковатость часто доставляли
* Ср. Aus ed. Graesse cap. 95, «Christoforus gente Cananaeus, procerrimae
staturae, vultuque terribile erat».
** Там же. Итальянская традиция рассказов об Аттиле, Thierry Histoire d'Attila,
2 т., с. 269; «Attila flagellum Dei», поэма в октавах. Pisa, 1864 introd. p. XVII,
XXV, XXXIX, XLI, II.
<Декамерон, VIII, 3>
669
им великую забаву. Был также о ту пору во Флоренции молодой
человек, удивительный забавник во всем, за что бы ни принялся,
находчивый и приятный, по имени Мазо дель Саджио, который,
прослышав кое-что о глупости Каландрино, вознамерился
потешиться над ним, проделав с ним какую-либо штуку, либо уверив его
в чем-нибудь небывалом. Встретив его однажды случайно в церкви
Сан Джьованни и увидев, что он внимательно рассматривает
живопись и резьбу на доске, которую незадолго перед тем поставили
над алтарем названной церкви, он нашел место и время удобными
для своей цели, предупредив одного своего товарища относительно
того, что затевал сделать, и оба, подойдя к тому месту, где
Каландрино сидел один, притворяясь, что не видят его, стали рассуждать
о свойствах различных камней, о которых Мазо говорил так
основательно, как будто он был известный и большой знаток камней.
Каландрино насторожил уши на эту беседу и, встав по некотором
времени, видя, что разговор не тайный, подошел к ним. Мазо, очень
довольный этим, продолжал свой разговор, когда Каландрино
спросил его, где находятся столь чудесные камни, Мазо ответил,
что большею частью они встречаются в Берлинцоне, в стране
басков, в области, называемой Живи-лакомо, где виноградные лозы
подвязывают сосисками, гусь идет за копейку, да еще с гусенком
впридачу; есть там гора вся из тертого пармезана, на которой живут
люди и нич*ем другим не занимаются, как только готовят макароны
и клецки, варят их в отваре из каплунов и бросают вниз; кто больше
поймает, у того больше и бывает; а поблизости течет поток из Вернач-
чьо, лучшего вина еще никто не пивал, и нет в нем ни капли воды.
«01 — сказал Каландрино. — Вот так славный край! Но скажите мне,
куда идут каплуны, которых те отваривают?» Мазо отвечал: «Всех
съедают баски». Тогда Каландрино спросил: «Был ты там
когда-нибудь?» На это Мазо ответил: «Ты говоришь, был ли я? Да, я был там
раз, все одно, что тысячу». — «А сколько туда миль?» — спросил
тогда Каландрино. Мазо отвечал: «Да будет тысячу и более, ночь
пропеть, не долее». Говорит Каландрино: «Так, это будет подальше
Абруцц?» — «Разумеется, — ответил Мазо, — и еще подальше».
Простак Каландрино, видя, что Мазо говорит это с спокойным
лицом и не смеясь, поверил тому, как верят самой наглядной
истине, и, считая это за действительное, сказал:
«Для меня это слишком далеко, а если бы поближе было, я,
наверно, побывал бы там разок с тобою, хотя бы для того, чтобы
посмотреть, как варятся те макароны, и наесться всласть. Но скажи
мне, — да пошлет тебе господь бог радости! — не встречается ли
670
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИИ
в наших странах какого-нибудь из этих столь чудесных камней?»
На это Мазо отвечал: «Да, встречаются два рода камней
удивительной силы: один — это гранитные камни Сеттиньяно и Монтиши,
силой которых, когда их обратить в жернова, делается мука; почему
и говорится в тех краях, что от бога милости, а из Монтиши
жернова, а этих жерновов такое количество, что у нас их мало ценят, как
у них изумруды, из которых там горы выше горы Морелло, и так
они светятся в полночь, что, боже упаси. И знай: если бы кто обил
кольцами готовые жернова, прежде чем их пробуравить, и понес
их султану, получил бы от него все, что ни пожелает. Другой есть
камень, который мы, знатоки, зовем гелиотропией, камень великой
силы, ибо кто носит его на себе, пока он при нем, никому не бывает
видим — там, где его нет». Тогда Каландрино сказал: «Великие это
силы; а этот другой камень где встречается?» На это Мазо ответил,
что его находят в Муньоне. Говорит Каландрино: «Какой величины
этот камень? И каков он цветом?» Мазо отвечал: «Он бывает
разной величины, какой больше, какой меньше, но все цветом как бы
черные».
Заметив себе все это, Каландрино под предлогом, что у него есть
другое дело, расстался с Мазо, намереваясь пойти за тем камнем,
но решившись не делать того без ведома Бруно и Буффальмакко,
которых особенно любил. И вот он пошел их разыскивать, дабы
немедленно и раньше всех других отправиться на поиски; всю
остальную часть утра он проходил за ними. Наконец, когда уже
прошел девятый час, он вспомнил, что они работают в монастыре
фаэнтинских монахинь, и, хотя жар был сильный, бросив все другие
свои дела, направился к ним почти бегом. Кликнув их, он сказал
так: «Товарищи, если вы захотите поверить мне, мы с вами можем
сделаться богатейшими во Флоренции людьми, ибо я слышал от
одного человека, достойного веры, что в Муньоне встречается камень:
кто носит его при себе, тот никому не видим; потому, я полагаю, нам
следовало бы немедленно пойти поискать его, прежде чем пойдет
туда кто-нибудь другой. Мы, наверно, найдем его, потому что я его
знаю, а как найдем его, что нам иного и делать, как, положив его
в карман, отправиться к столам менял, всегда, как вы знаете,
нагруженным грошами и флоринами, и захватить, сколько нам будет
угодно. Никто нас не увидит; так мы можем внезапно разбогатеть,
не будучи принуждены день-деньской расписывать стены
каракулями, точно улитки».
Когда Бруно и Буффальмакко услышали его, засмеялись
про себя и, переглянувшись друг с другом, представляясь крайне
<Декамерон, VIII, 3>
671
удивленными, похвалили совет Каландрино, а Буффальмакко
спросил, как зовется этот камень. У Каландрино, человека топорной
выделки, название уже успело выйти из памяти, потому он и ответил:
«Что нам до названия, когда мы знаем его свойства? Мне к анкете я ·
нам бы теперь пойти, не засиживаясь». — «Ну хорошо, — сказал
Бруно, — а каков он с виду?» Каландрино сказал: «Есть всякого
вида, но все почти черного цвета; потому, думается мне, нам следует
собирать все черные камни, какие увидим, пока не попадем на тот;
потому не будем терять время, пойдем». На это Бруно заметил:
«Погоди еще, — и, обратившись к Буффальмакко, сказал: — Мне
кажется, Каландрино дело говорит, но я полагаю, что теперь не время,
потому что солнце высоко, светит прямо на Муньоне и осушило все
камни, вследствие чего иные из находящихся там камней кажутся
теперь белыми, а утром, прежде чем солнце их высушит, черными;
к тому же сегодня на Муньоне много народу по разному делу, так
как сегодня день рабочий; увидя нас, они могут догадаться, что это
мы делаем, и, того гляди, сделают то же; камень может попасть
к ним в руки, а мы променяем прыть на езду шагом. Мне думается,
если только вы того же мнения, что такое дело надо сделать утром,
когда легче различать черные камни от белых, и в праздничный
день, когда там не будет никого, кто бы нас увидел». Буффальмакко
одобрил совет Бруно, Каландрино согласился с ним, и они решили
в следующее воскресенье утром всем троим пойти поискать этого
камня; а Каландрино просил их паче всего никому в свете о том
не рассказывать, потому что и ему сообщили это втайне. Рассказав
об этом, он передал им еще, что слышал о стране Живи-лакомо,
и клятвенно утверждал, что это так.
Когда Каландрино ушел от них, они условились между собою, что
им в этом случае надлежало делать. Полный желания, Каландрино
ожидал утра воскресенья; когда оно настало, он поднялся с
рассветом, позвал товарищей, и, выйдя из ворот Сан Галло и спустившись
к Муньоне, они принялись бродить туда и сюда, ища камня.
Каландрино, как наиболее охочий, шел впереди, быстро перескакивая
с одного места на другое, и где ни увидит черный камень, бросится
поднимать его и кладет за пазуху. Товарищи шли сзади, иногда
подбирая тот или другой. Недалеко прошел Каландрино, как у него
пазуха была вся полна; потому, приподняв полы платья, сшитого
не на геннегауский манер, он устроил из них широкий мешок,
хорошенько заткнув их со всех сторон за ременной кушак, вскоре
наполнил и его, а по некотором времени сделал мешок и из плаща,
который также насыпал камнями.
672
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Когда Буффальмакко и Бруно увидели, что Каландрино нагружен
и что пришло время закусить, Бруно и говорит, как было между
ними условлено, Буффальмакко: «А где Каландрино?»
Буффальмакко, который видел его недалеко от себя, обернулся и, поглядев там
и здесь, ответил: «Не знаю, недавно он был впереди от нас». Бруно
сказал: «Хотя он был тут и недавно, я почти уверен, что он теперь
дома обедает, а нас оставил здесь дурачиться в поисках за
черными камнями вниз по Муньоне». — «Ловко он сделал, — сказал тут
Буффальмакко, — что поглумился над нами, оставил нас здесь,
а мы-то, дураки, и поверили ему! Послушай, кто, кроме нас, был бы
настолько глуп, что поверил бы, будто в Муньоне встречается камень
такой чудесной силы?» Слушая эти речи, Каландрино вообразил,
что тот камень попал ему в руки и что благодаря его свойству они
и не видят его, присутствовавшего. Чрезвычайно довольный этой
удачей, он, не говоря им ни слова, замыслил вернуться домой и,
направив шаги назад, принялся идти. Увидев это, Буффальмакко
сказал Бруно: «А мы что станем делать? Почему и нам не уйти?»
На это Бруно отвечал: «Пойдем, но, клянусь богом, Каландрино
никогда более не проведет меня; будь я вблизи его, как был все
утро, я так бы угодил этим булыжником ему в пятки, что он месяц,
поди, поминал бы эту шутку». Сказать это, размахнуться и ударить
Каландрино по ноге было делом мгновения. Каландрино, ощутив
боль, высоко поднял ногу, стал отдуваться, но промолчал и пошел
дальше. А Буффальмакко, схватив один из собранных им
камешков, сказал Бруно: «Ишь какой красивый камешек, угодить бы им
в спину Каландрино», — и, пустив его, сильно ударил им в его спину.
Одним словом, приговаривая таким образом то одно, то другое,
они кидали в него камнями вдоль по Муньоне до ворот Сан Галло.
Затем, побросав собранные камни, остановились немного поговорить
с таможенными, которые, предупрежденные ими и притворившись,
будто ничего не видят, дали Каландрино пройти, смеясь напропалую.
А тот, не останавливаясь, добрался до своего дома, который находился
у Канто алла Мачина, и так способствовала судьба этой шутке, что,
пока Каландрино шел по реке, а далее и по городу, никто не заговорил
с ним, хотя и повстречал-то он немногих, ибо почти все были за обедом.
Так, нагруженный, он и вступил в свой дом. Случилось, что
жена его, по имени монна Тесса, красивая и достойная женщина,
была на верху лестницы; несколько рассерженная его долгим
отсутствием, она, видя, что он идет, стала бранить его: «Ну, братец,
наконец-то черт принес тебя! Все люди пообедали, а ты только
возвращаешься к обеду!» Когда Каландрино услышал это и догадался,
<Декамерон, VIII, 3>
673
что его увидали, исполнившись досады и печали, принялся говорить:
«Ах ты негодная женщина, зачем ты здесь! Ты меня погубила, но,
клянусь богом, я расплачусь с тобой за это». Войдя в небольшой
покой и свалив множество принесенных им камней, он с
остервенением подбежал к жене, схватил ее за косы и, повалив ее себе
под ноги, насколько хватило рук и ног, принялся угощать ее
кулаками и пинками, так что у ней не осталось не тронутым ни волоса
на голове, ни кости во всем теле, как ни молила она его о пощаде,
скрестив руки.
Буффальмакко и Бруно, похохотав немного со сторожами у ворот,
тихим шагом последовали издали за Каландрино. Подойдя к порогу
его дома, они услышали страшную потасовку, которую он задавал
своей жене, и, прикинувшись, что они только что пришли, окликнули
его. Каландрино подошел к окну весь в поту, красный и
запыхавшийся, и попросил их взойти наверх. Притворяясь, что они делают это
неохотно, они взошли, увидели комнату, полную камней, в одном
углу горько плачет растрепанная, растерзанная жена, с синим
побитым лицом, а с другой стороны сидит Каландрино, распоясанный
и задыхаясь, как бы от усталости. Посмотрев на это некоторое время,
они сказали: «Что это, Каландрино? Ты строиться, что ли, хочешь,
что у тебя здесь столько камней? — А к этому прибавили: — А что
такое с монной Тессой? Ты, каткется « побил ее? Что это за новости?»
Каландрино, измученный от тяжести камней, от ярости, с которой бил
свою жену, и от горя по счастью, которое, казалось ему, он утратил,
не мог собраться с духом, чтобы связать целое слово в ответ. Потому,
обождав, Буффальмакко снова начал: «Каландрино, если у тебя был
другой повод к гневу, тебе не следовало бы мучить нас, как ты это
сделал, потому что, поведя нас искать вместе с тобою драгоценный
камень, ты, не сказав нам ни "с богом!", ни "к черту!", оставил нас,
словно двух баранов, на Муньоне и ушел, что нам крайне обидно;
но поистине это будет в последний раз, что ты нас провел!»
При этих словах Каландрино принатужился и сказал:
«Товарищи, не сердитесь, дело было не так, как вы думаете. Несчастный
я! Я ведь нашел камень — хотите послушать, правду ли я говорю?
Когда, во-первых, вы стали спрашивать обо мне один у другого,
я был от вас менее, чем в десяти локтях; видя, что вы идете и меня
не видите, я обогнал вас и все время шел немного впереди». Так,
начав с одного конца, он рассказал до другого, все, что они делали
и говорили, показав им спину и пятки, как их отделали камни, а
затем продолжал: «Скажу вам, когда я входил в ворота со всеми этими
камнями за пазухой, какие здесь видите, мне не сказали ни слова,
674
Α. Η. ВЕСЕЛОВСКИЙ
а вы знаете, как неприятны и надоедливы эти сторожа, желающие
все досмотреть; далее я встретил по пути многих моих кумов и
приятелей, которые всегда заговаривают со мной и приглашают на
выпивку, и не было никого, кто бы сказал мне слово или полслова,
потому что они меня не видели. Когда, наконец, я прибыл домой, эта
чертовка, проклятая женщина, вышла мне навстречу и увидела меня,
ибо, вы знаете, женщины заставляют всякую вещь утрачивать свою
силу. Так-то я, который мог почесть себя счастливейшим человеком
во Флоренции, остался самым несчастным, потому я и побил ее,
насколько хватило рук, и я не знаю, что меня удерживает пустить ей
кровь. Проклят да будет час, когда я впервые увидел ее и когда она
вступила в этот дом!» И, вновь воспламенившись гневом, он хотел
подняться и снова приняться бить ее. Услышав это, Буффальмакко
и Бруно представились очень удивленными и часто поддакивали
тому, что говорил Каландрино, а самих разбирал такой смех, что
чуть не лопались; но когда они увидели, что он, разъярившись,
поднимается, чтобы вторично поколотить жену, подступили к
нему и удержали, говоря, что во всем этом виновата не жена, а он,
знавший, что женщины заставляют все предметы утрачивать свою
силу, и не сказавший ей, чтобы она остереглась показываться ему
в тот день; эту предусмотрительность господь и отнял у него либо
потому, что то была не его доля, либо потому, что он намеревался
обмануть своих товарищей, которым, как только заметил, что нашел
камень, он обязан был объявить о том. После многих пререканий они
с большим трудом помирили с ним огорченную жену и удалились,
оставив его сетовать в доме, полном камней.
^^^
Н.М.ЛЮБИМОВ
<Декамерон, VII, 2>
Муж Перонеллы возвращается домой, и Перонелла прячет
своего возлюбленного в винную бочку; муж запродал бочку, а жена
уверяет, будто она уже продала ее одному человеку и тот в нее
влез, чтобы удостовериться, сколь она прочна; возлюбленный
Перонеллы вылезает из бочки, велит мужу очистить ее, а затем
уносит бочку к себе домой.
Слушатели то и дело прерывали рассказ Эмилии взрывами хохота,
заклинанье же признали полезным и чудодейственным. Затем король
приказал рассказывать Филострато, и тот начал так:
— Милейшие дамы! Мужчины, особливо — мужья, вытворяют с
вами такие штуки, что когда какой-нибудь жене в кой-то веки
посчастливится одурачить мужа, вы должны радоваться, что это произошло,
что вам это стало известно, что вы от кого-нибудь об этом услышали,
но не только радоваться, — вы должны, в свою очередь, всем
рассказывать о случившемся, чтобы мужчины наконец уразумели, что если
они на все горазды, то и женщины им не уступят. Нам это может быть
только полезно: когда одному известно про другого, что и тот — не
промах, он еще подумает, прежде чем решиться провести его. Не подлежит
сомнению, что когда нынешние наши рассказы дойдут до сведения
мужчин, они, приняв в рассуждение, что и вы при желании можете
сыграть с ними шутку, станут куда осторожнее. С этою целью я и хочу
рассказать, что ради собственного спасения в мгновение ока проделала
с мужем одна молодая, низкого состояния, женщина.
В Неаполе не так давно один бедняк женился на красивой,
прелестной девушке по имени Перонелла; он был каменщик, она — пряха,
и на скудный свой заработок они кое-как сводили концы с концами.
Случилось, однако ж, так, что некий юный вертопрах увидел однажды
676
Н.М.ЛЮБИМОВ
Перонеллу, пришел от нее в восторг, воспылал к ней страстью, стал
усиленно домогаться ее расположения — и добился своего. Касательно
свиданий они уговорились так: ее муж вставал спозаранку и уходил
либо на работу, либо искать работу, а молодой человек должен был в это
время находиться поблизости и поглядывать, ушел ли муж, а так как
улица Аворио была ненаселенная, то молодому человеку не составляло
труда тотчас после ухода мужа неприметно прошмыгнуть к нему в дом.
И так они проделывали многократно.
Но вот в одно прекрасное утро почтенный супруг удалился, а Джан-
нелло Скриньярио, — так звали молодого человека, — прошмыгнул
к нему в дом и остался наедине с Перонеллой, а немного погодя муж,
уходивший обыкновенно на целый день, вернулся и толкнул дверь, —
она оказалась запертой изнутри, тогда он постучался, а постучавшись,
подумал: «Благодарю тебя, господи! Богатством ты меня не наделил,
но зато в утешение послал мне хорошую, честную женку! Ведь это
что: только я за порог, а она скорей дверь на запор, чтобы никто к ней
не забрался и как-нибудь ее не изобидел!»
Перонелла по стуку догадалась, что это муж. «Беда, ненаглядный
мой Джаннелло! — сказала она. — Не жить мне теперь на свете! Это же
мой муж, пропади он пропадом! И что это ему вздумалось нынче так
скоро вернуться? Может, он видел, как ты входил? Ну, была не была!
Полезай, бога ради, вот в эту бочку, а я пойду отворять. Сейчас узнаем,
что это его так скоро принесло».
Джаннелло без дальних размышлений полез в бочку, а
Перонелла встретила мужа неласково. «Это еще что за новости? — сказала
она. — Что это ты так скоро вернулся? Да еще и со всем своим
инструментом? Видно, ты себе нынче праздник задумал устроить.
А на что мы жить будем? Где хлеба возьмем? Уж не воображаешь ли
ты, что я тебе позволю заложить мою юбчонку или же еще что-нибудь
из тряпья? Я день и ночь пряду, из сил выбиваюсь, чтобы хоть
на гарное масло заработать, а ты что? Эх, муженек, муженек! Все
соседки-то диву даются и на смех меня поднимают, что я тружусь
не покладая рук, а ты ничего еще не успел наработать — и уже
домой!» Тут Перонелла заплакала. «Бедная я, несчастная,
горемычная! — продолжала она. — Не в добрый час я на свет появилась,
не в добрый час у него в дому поселилась! Мне бы выйти за хорошего
парня, так нет же: угораздило пойти за него, а он меня нисколечко
не ценит! Другие с любовниками весело время проводят, у иной
их два, у иной целых три, и они с любовниками развлекаются, а
мужей за нос проводят. За что же мне такое наказанье? Я женщина
честная, ничего худого себе не позволяю, а уж как же мне не везет,
<Декамерон, VII, 2>
677
какая у меня горькая доля! И то сказать: отчего бы и мне не завести
любовника? Было бы тебе известно, муженек: если б я захотела
согрешить, то уж нашла бы с кем — я стольким красавчикам головы
вскружила, и они ко мне подъезжают, через доверенных людей
сулят мне деньги, а коли, мол, захочу, так будут у меня и новые
платья, и драгоценные вещи, да я-то не такая, мне совесть этого
не позволяет, а ты, вместо того чтобы работать, идешь домой!»
«Полно, жена, не печалься! — сказал муж. — Поверь мне, что
я знаю, какая ты у меня хорошая, я только сейчас в этом
лишний раз убедился. А ведь я пошел на работу, но только ни ты,
ни я не знали, что нынче день святого Галионе, и все отдыхают, —
потому-то я и вернулся так скоро домой. Но хлеба нам с тобой на
целый месяц хватит — об этом-то я как раз подумал и позаботился.
Со мной человек пришел, видишь? Я ему бочку продал, — бочка-то,
как тебе известно, давным-давно пустая у нас стоит, только место
зря занимает, а он мне дает за нее пять флоринов».
«Час от часу не легче! — вскричала тут Перонелла. — Ты
как-никак мужчина, везде бываешь, должен бы, кажется,
понатореть в житейских делах, а бочку продал всего за пять флоринов,
я же — глупая баба, за порог, можно сказать, ни ногой, а вот
попалась мне на глаза ненужная бочка — я и продала ее одному
почтенному человеку, да не за пять, а за семь флоринов, и он как раз
сейчас влез в нее — проверяет, прочная ли она».
Муж очень обрадовался и сказал тому, кто с ним пришел:
«Ступай себе с богом, почтеннейший! Ты слышал? Жена продала бочку
за семь флоринов, а ты говорил, что красная цена ей пять».
«Дело ваше», — сказал покупатель и ушел.
«Раз уж ты вернулся, — сказала мужу Перонелла, — так иди
туда и покончи с ним».
У Джаннелло ушки были на макушке: он старался понять из
разговора, что ему грозит и что тут можно предпринять; когда же
до него донеслись последние слова Перонеллы, он мигом выскочил
из бочки и, как будто не слыхал о том, что вернулся муж, крикнул:
«Хозяюшка! Где же ты?»
Но тут вошел муж и сказал: «Я за нее! Тебе что?»
«А ты кто таков? — спросил Джаннелло. — Мне эту бочку
продала женщина — я ее и зову».
«Ты с таким же успехом можешь кончить это дело и со мной —
я ее муж», — отвечал почтенный супруг.
«Бочка прочная, я проверял, — сказал ему на это Джаннелло, —
но у вас тут, по всей видимости, была гуща, и она так пристала
678
Я. M. ЛЮБИМОВ
и присохла, что я ногтем не мог ее отколупнуть. Отчистите бочку —
тогда я ее у вас возьму».
«За этим дело не станет, — вмешалась Перонелла, — сейчас мой
муж хорошенько ее отчистит».
«Конечно, отчищу», — сказал муж, положил свой инструмент,
снял куртку, велел зажечь свечу и подать скребок, влез в бочку и давай
скрести. Бочка же была не очень широкая; Перонелла сунула в нее
голову, будто ей хочется посмотреть, как работает муж, да еще и руку
по самое плечо, и начала приговаривать: «Поскобли вот здесь, вот здесь,
а теперь вон там, вот тут еще немножко осталось».
Так она стояла, указывая мужу, где еще требуется почистить,
а Джаннелло из-за его прихода не успел получить полное
удовольствие, и теперь он, убедившись, что, как бы он хотел, так ему нынче
все равно не удастся, решился утолить свою страсть как придется.
Того ради он приблизился к Перонелле, которая прикрывала собой
всю бочку, и, обойдясь с нею так, как поступали в широких полях
разнузданные горячие жеребцы, бросавшиеся на парфянских кобылиц,
наконец-то юный свой пыл остудил; отскочил он от бочки в то самое
мгновенье, когда Перонелла высунула голову, а супруг вылез наружу.
И тут Перонелла сказала: «Возьми свечу, милый человек, и
погляди: как там теперь, на твой взгляд, чисто?» Джаннелло заглянул
и сказал, что вот теперь, мол, чисто, теперь он доволен. Затем вручил
мужу семь флоринов и велел отнести бочку к себе домой.
э^
КОММЕНТАРИИ
I
БОККАЧЧО В КУЛЬТУРЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
П. М. Бицилли
Très coronae
Впервые: Бицилли П. М. Место Ренессанса в истории культуры.
София, 1933 (Годишник на Софийский университет. Философски факультет.
Т. XXIX. № 1). Печатается по: Бицилли П. М. Место Ренессанса в истории
культуры / Сост., предисловие и комментарии Б. С. Кагановича. СПб.: Миф-
рил, 1996. Гл. 1. С. 7-14. Комментарии Б. С. Кагановича из этого издания.
Бицилли Петр Михаилович (1879-1953) — русский историк и
литературовед, один из наиболее значительных отечественных исследователей
средневековой культуры (особенно следует отметить монографию «Элементы
средневековой культуры», 1919). Тонкий исследователь проблем культуры
Италии эпохи Возрождения, Бицилли посвятил Боккаччо несколько страниц
в работе «Место Ренессанса в истории культуры», вышедшей крошечным
тиражом в Болгарии в 1933 г.
1 Три венца (лат.); три вершины флорентийской литературы — Данте,
Петрарка и Боккаччо. Термин «tre corone florentine» впервые употребляется
Джованни Герарди да Прато (II Paradiso degli Alberti, 1) и восходит, возможно,
к Пруденцию (Peristephanon, IV).
2 Vulgäre (также volgare) — народный язык (в противоположность
латинскому).
3 Latinitas — в узком смысле «правильная латинская речь» («Риторика для
Геренния», IV, 12), в более широком — «классическая латинская культура».
4 Отрывки из работ А. Н. Веселовского и М. С. Корелина, посвященных
Боккаччо, приведены в настоящей антологии. Георг Фойгт (1827-1891)
уделяет Боккаччо значительное внимание в своей классической работе
«Возрождение классической древности» (1859).
5 Имеется в виду «Сумма теологии» Фомы Аквинского.
680
Комментарии
6 «Сокровище» (старофр.) — энциклопедическое сочинение Брунетто
Латини, написанное в 1260-х гг.
7 Lingua d'oïl — группа северных диалектов старофранцузского языка (в
противоположность южнофранцузским, традиционно обозначающихся термином
«langue d'oc). Разделение романских языков по тому, как в языке звучит слово
«да» (ос — Испания (Каталония?) и юг Франции, oïl — Франция, si — Италия)
часто приписывается Данте («О народном красноречии», I, 8, 5), но сам Данте
говорит о нем скорее как об известном факте, чем о своем личном открытии.
8 «Высокое Возрождение» (нем.), 1500-1530 гг.
9 «Но поскольку людям порою так нравится укорять, что они пеняют даже
за то, что не стоит попреков, то некоторым, порицающим меня за то, что я не
подражал Боккаччо... не удержусь заметить, что хотя Боккаччо, сей благородный
ум своего времени, писал в иных случаях обдуманно и старательно, тем не менее
он писал много лучше, когда следовал лишь предводительству ума и своего
природного вдохновения и вовсе не помышлял и не заботился об отделке своих
писаний, нежели когда он, прилагая труды и усердие, силился добиться большего
изящества и совершенства» (um.) («Придворный», II, пер. О. Ф. Кудрявцева).
10 «Письмо к потомкам» (после 1370) — трактат Петрарки.
11 «О невежестве своем собственном и многих других» (1370) — трактат
Петрарки.
12 Возрождение, обновление, новая жизнь, рождаться заново (лат.).
13 «Калабрийского аббата Иоахима, наделенного пророческим духом»;
в переводе М. Л. Лозинского: «Вещий Иоахим, который был в Калабрии
аббатом» (Рай, XII, 140). Речь идет об Иоахиме Флорском.
14 «Тысяча пятьсот пятнадцать» (um.; Чистилище, XXIII, 43). Это
намеренно загадочное («enigma forte», v. 50) место у Данте с несомненными
апокалиптическими аллюзиями (ср. Откр. 13). Записанное римскими
цифрами, это число (DXV) представляет собой анаграмму слова dux, 'вождь', с чем
согласуется и образность в w. 37-38.
15 «Прорицание Кирилла» (лат.), написанное ок. 1298 г. на греческом
языке и приписывавшееся Кириллу Константинопольскому
апокалиптическое сочинение, направленное прежде всего против папы Бонифация VIII.
16 «Моя Италия» (um.) — знаменитая канцона Петрарки.
17 «Всеобщее согласие» (лат.).
А. Ф. Лосев
Боккаччо
Впервые: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978. С. 226-
229. Печатается по этому изданию.
Лосев Алексей Федорович (1893-1988) — русский философ и историк
культуры. Монография «Эстетика Возрождения» продолжает монументальную
Комментарии
681
работу Лосева «История античной эстетики» (1964-1975). Об интересе Лосева
к проблемам итальянского Ренессанса см., напр., статью Е. А. Тахо-Годи
«Данте в трудах, лекциях и прозе А. Ф. Лосева» (Дантовские чтения. 2001.
С. 63-76; Данте Алигьери: pro et contra. СПб.: РХГА, 2011. С. 629-646).
1 Он всецело отрицает изучение латинских авторов (новая вспышка
интереса к которым заметна у него уже во время работы над последними
книгами «Декамерона» )... — Мысль А. Ф. Лосева здесь не вполне ясна. От
изучения латинских авторов Боккаччо не отказывался никогда.
II
ЖИЗНЬ БОККАЧЧО
С. С. Мокульский
Боккаччо
Впервые (в сокращении): Алексеев М. П., Жирмунский В. М.,
Мокульский С. С, Смирнов А. А. История западноевропейской литературы: раннее
средневековье и возрождение / Под общ. ред. В. Жирмунского. М.:
Учпедгиз, 1947. Печатается по: Мокульский С. С. Итальянская литература.
Возрождение и просвещение. М.: Высшая школа, 1966. С. 67-93.
Мокульский Стефан Стефанович (1896-1960) — русский литературовед
и театровед, историк итальянской литературы эпохи Возрождения и
французской литературы эпохи Просвещения. Профессор истории зарубежной
литературы и театра филологического факультета Ленинградского
университета. Автор «Истории западноевропейского театра» (1939-1939).
1 Он был не вождем европейского гуманизма, а всего лишь
талантливейшим итальянским писателем... — Тем не менее нельзя недооценивать вклад
Боккаччо в открытии заново и популяризации как классической (Гомер,
Апулей и др.), так и современной ему (Данте) литературы.
2 ...куртуазные споры на любовные темы... — В «Трактате о честной
любви» Андрея Капеллана (1185) упоминаются т. н. «суды любви», проходившие
при дворе Марии, графини Шампани, хотя в современной науке существует
и мнение, что они являются литературной фантазией.
3 ...грандиозного восстания «чомпи»... — Имеется в виду восстание
цеха чесальщиков шерсти во Флоренции в 1378 г. Восставшие требовали
для себя политических прав и повышения заработной платы. Захватив
власть во Флоренции и удерживая ее в течение месяца, чомпи не смогли
договориться ни со своими противниками — «жирными» пополанами,
ни с другими ремесленниками, в результате чего 31 августа 1378 г.
восстание было подавлено.
4 ...переходил на разговорный флорентийский язык, которым владел в
совершенстве. — Или на неаполитанский диалект, как в новелле о Перонелле.
О языке Боккаччо см.: Бранка В. Боккаччо средневековый. М.: Радуга, 1983.
682
Комментарии
А. А. Смирнов
Джованни Боккаччо
Статья о Боккаччо была впервые напечатана в 1968 г. по рукописи
статьи, «написанной почти два десятилетия назад» (с. 6 приведенного
издания), т. е., вероятно, для «Истории зарубежной литературы:
раннее средневековье и возрождение» (1947, под ред. В. М. Жирмунского).
Существует ряд совпадений текста (в разделах 4-6) со статьей С. С. Мо-
кульского в указанном томе (и расширенном варианте этой статьи,
приведенной в настоящей антологии). В издании 1968 г., однако, отмечено,
что последние части статьи напечатаны с сокращениями. Печатается
по: Боккаччо Дж. Фьяметта. Фьезоланские нимфы. М.: Наука, 1968.
С.261-288.
Смирнов Александр Александрович (1883-1962) — российский и советский
литературовед и переводчик, филолог-романист.
1 ...латинский перевод поэм Гомера был, несомненно, литературно
проредактирован самим Боккаччо. — Перевод Леонтия Пилата отличается
отсутствием литературной обработки и общей ходульностью; полноценное
участие Боккаччо в нем представляется маловероятным.
2 ...борьба между светлым, гуманистическим началом его мышления
и приглушенной верой средневекового человека... — Даже советская
идеологическая цензура не могла отрицать глубокую религиозность ключевых
деятелей итальянского Ренессанса.
3 Боккаччо первый в европейской поэзии выразил... ту сладость... даже
в том случае, когда к наслаждениям примешиваются неизбежные в любви
мучения. — До Боккаччо образ сладостной любовной муки встречается у
поэтов «сладостного нового стиля», трубадуров, в сицилийской школе поэзии;
характерное для римских элегиков и неотериков («Ненавижу и люблю»
Катулла), оно восходит к греческой лирике (Сапфо).
4 Stranibotti, rispetti — метрические формы, одиннадцатисложники
вида AABBCCDD и ABABCCDD. Страмботто — комическое любовное
стихотворение — появляется в XIV-XV в. в сицилийской и в тосканской поэзии,
в XV в. в тосканской поэзии развивается в более изысканное по содержанию
и форме риспетто.
Т. В. Дзюба
Джованни Боккаччо (1313-1375)
Впервые: Джованни Боккаччо. Био-библиографический указатель.
М.: Издательство всесоюзной книжной палаты, 1961. С. 5-21. Печатается
по этому изданию.
Дзюба Татьяна Васильевна — советский исследователь, автор
библиографических указателей по творчеству Дж. Боккаччо и К. Гольдони.
Комментарии
683
1 ...перефразируя произнесенные пять веков спустя слова Флобера: «Фья-
метта — это я»... — Произносил ли в действительности Гюстав Флобер
приписывающуюся ему фразу «Mme Bovary, c'est moi! — D'après moi!» (впервые —
в книге P. Дешарма «Флобер. Его жизнь, характер и идеи до 1857 г.» (1909);
Дешарм ссылается на устное сообщение неизвестного человека, близко знавшего
корреспондентку Флобера Амели Боске), доподлинно неизвестно. Фраза
допускает несколько переводов, из которых предпочтительным кажется «Госпожа
Бовари — это я, [она сотворена] по моему подобию!». Речь в этой фразе, если
Флобер действительно произносил ее, может идти и о героине, и о романе в целом.
2 ...перевел вместе с калабирйским греком Леонтием Пилатом рукопись
Гомера. — Предполагать полноценное участие Боккаччо в переводе «Илиады»
и «Одиссеи» вряд ли реалистично.
3 ...ужаснуться «безумию» своих былых языческих идей... — Определение
Боккаччо как «язычника» может быть объяснено лишь советскими
идеологическими установками.
4 ...Нет жертвы более угодной богу, чем кровь тирана... — О падении
знаменитых мужей, И, 5. Доктрины праведного тираноубийства были широко
распространены в Средние века (Иоанн Солсберийский и др.): в частности,
наказание, которому Данте подвергает Брута и Кассия, критикуется в
сочинении «О тиране» Колюччо Салютати.
Ill
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
М. С. Корелин
<Литературные произведения Боккаччо>
Раздел из сочинения М. С. Корелина «Ранний итальянский гуманизм
и его историография» печатается по: Корелин М. С. Ранний итальянский
гуманизм и его историография. М.: Типография М. М. Стасюлевича,
1892. С. 476-516. Заголовок дан составителями настоящей антологии.
По техническим соображениям из текста М. С. Корелина выпущен ряд
сносок (в основном — библиографических).
Корелин Михаил Сергеевич (1855-1899) — русский историк, один из
выдающихся исследователей итальянского гуманизма.
1 ...и даже приводит рассказы о волшебстве Виргилия. — Крайне
распространенные в Средние века (особенно в любимом Боккаччо Неаполе) легенды
о Вергилии — черном маге рассмотрены в классической работе Д. Компаретти:
Comparetti D. Vergilio nel medioevo. Livorno: Vigo, 1872.
2 Он не только перевел его с французского на итальянский, но и со средне-
веково-рыцарского на антично-языческий (нем.).
3 Мешанина христианства и язычества, кажущаяся довольно
экстравагантной (um.).
684
Комментарии
4 В «Филокопо» слышен голос не Гомера или Вергилия, и даже не Лукана
или Стация, а ученика Паоло из Перуджи и Леонтия Пилата, почитателя
педантичного короля Роберта Неаполитанского (нем.).
5 Первый итальянский эпос и первое итальянское произведение,
написанное октавой (нем.).
6 Была найдена древнейшая история, или большинству людей
неизвестная (um.).
7 «Филострато» означает «побежденный и поверженный любовью» (um.).
8 Непостижимо, как такая жемчужина в высшей степени достойной
поэзии, как «Филострато» Боккаччо, могла оказаться забыта (нем.).
9 Действительно, кажется, что для этого портрета позировала худшая
из кокеток двора королевы Иоанны (нем.).
10 Будучи рассмотрена с этой точки зрения, «Филострато» приобретает
значительный, пусть и малоучительный, культурно-исторический интерес
(нем.).
11 Насквозь аморальным и фривольным (нем.).
12 Элегия мадонны Фьямметта, посланная ею влюбленным женщинам
(U /71.).
13 Боккаччо прославляет апофеоз естественного аппетита таланта, что
клеймилось как грех аскетическим христианством (англ.).
14 Облагораживание грубой юной силы любовью (нем.).
15 «Отче наш» и «Богородице дево, радуйся» (um.).
16 Добродетельный муж (um.).
17 И когда ей хотелось спать, а может быть, и позабавиться с ним, он
рассказывал ей про жизнь Христа, или проповеди брата Настаджио, или о плаче
Магдалины и другие подобные вещи (um.).
18 Аббат Клюни (um.).
19 Святейшие и добродетельные мужи (um.).
20 «О трех самозванцах» (лат.) — атеистический трактат, отрицающий
святость всех трех авраамических религий («самозванцы» — Моисей, Христос
и Мухаммад). Папа Григорий IX приписывал сочинение под таким названием
Фридриху И.
21 Жирные пополаны (um.).
22 Мастерская и площадь (um.).
23 В любом случае, из этого мы понимаем, насколько бесконечно наивным
было восприятие истории поэтом и насколько равнодушно он относился
к критике источников (нем.).
24 Большинство современных исследователей считают Боккаччо
автором стихотворной новеллы «Джета и Бирриа», не представляющей
интереса переделки латинской поэмы — роета de Amp hitтуone et Alcmena
Виталия Блуасского, который в свою очередь заимствовал сюжет из Плав-
това Амфитриона. — В настоящее время автором «Геты и Биррии» считают
Доменико да Прато.
Комментарии
685
А. А. Тихонов
Боккаччо и Фьямметта
Впервые: Тихонов А, А, Д. Боккаччо: Его жизнь и литературная
деятельность: биографический очерк. СПб.: Тип. т-ва «Общественная
польза», 1891. Печатается по: Данте, Бомарше, Золя. Боккаччо. Бомарше.
Биографические очерки. Жизнь замечательных людей. Библиографическая
библиотека Ф. Павленкова. СПб.: Редактор, 1994. С. 59-122.
Тихонов Алексей Алексеевич (1853-1914) — русский писатель,
прославившийся в 1890-х гг. своей беллетристикой (напечатанной под псевдонимом
«Луговой»).
1 ...наконец он воочию увидал свой идеал в церкви Св. Лаврентия в
Страстную субботу, 12 апреля 1338 года — Эта дата устанавливается по
астрономическим свидетельствам, которые оставил сам Боккаччо (прежде всего —
в «Филоколо»); скорее всего, речь идет о 30 марта 1336 г.
А. Н. Веселовский
<Любовь к Фьямметте>
Впервые: Веселовский А. Н. Боккаччо, его среда и сверстники. Т. 1.
СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1893. Печатается
по этому изданию. Гл. III. С. 111-127. Заголовок дан составителями
настоящей антологии.
Веселовский Александр Николаевич (1838-1906) — русский историк
литературы, профессор Петербургского университета (с 1870), академик (с 1877),
брат литературоведа и академика Алексея Николаевича Веселовского.
1 ...Типом красавицы для рыцарских поэтов и поэтов старой
итальянской школы была блондинка... — На юге Средиземноморья, где жители
преимущественно темноволосы, с античности (Овидий восхваляет искусственно
осветленные волосы, Авзоний — цвет волос германской рабыни) и до наших
дней прослеживается культ необычной красоты, «прекрасной блондинки»
(цвет этот на протяжении столетий понимался довольно широко, в спектре
«каштанового, рыжеватого, цвета хны, морковно-рыжего, пергидролевого
и так вплоть до платинового» — Р. Сторрз). Источник этого повсеместно
распространенного в куртуазной поэзии образа неясен: светлые волосы Изольды
объясняются ее британским происхождением; возможно, именно ее
описание влияет на формирование куртуазного идеала внешности. В литературе
Британии, Германии и Скандинавии можно проследить, напротив, подобное
отношение к темным волосам («Темная дама» сонетов Шекспира и т. п.).
2 ...dame Oyseuse в Roman de la Rose, изображение которой напоминает
Емилию в Тезеиде Боккаччо, одета так же. —ί Дама Праздность, привратница
волшебного сада в первой части «Романа о Розе» Гийома де Лорриса, одета
686
Комментарии
в платье из «зеленой гентской ткани» (562). Сходства в описании Гийома де
Лорриса и Боккаччо сводятся к общим местам куртуазной риторики.
3 ...из анонимной поэмы XII века, De атоге или De arte amandi... —
Имеется в виду более известная в настоящее время драматическая поэма под
названием «Pamphilus», которая пользовалась очень большой популярностью
в Средние века; помимо Боккаччо, отсылки к ней прослеживаются у Жана
де Мёна и Чосера.
4 Говорят — и я признаю, что она родилась от более благородных, чем я,
Поэтому я страшусь сказать ей о своих желаниях.
Говорят, и это правда, что она богаче меня,
А богатства часто требуют славного имени и качеств.
Нет у меня ни имени, ни качеств, ни великих богатств,
Все, что сумел я приобрести, стяжал я своим трудом (лат.).
5 «Огромный труд побеждает все» (лат.) (Вергилий, Георгики, I, 145).
6 «Во многих вещах помогает умение и настойчивость» (лат.).
7 «В том, о чем ты, умоляя, просишь, сперва она сурово откажет» (лат.).
8 «Но то, что она желает иметь — то, в чем она больше всего отказывает»
(лат.).
9 «Сладостное красноречие возбуждает и питает любовь» (лат.).
10 Андрей Капеллан употребляет это выражение в «Трактате об искусстве
честной любви» (I, 6).
11 «De Vetula» (лат. «Старуха») — псевдоовидианская поэма XIII в.
(вероятный автор — Ришар де Фурниваль). Якобы «найденная в могиле Овидия»
поэма с несколькими длинными предисловиями рассказывает историю от
имени самого поэта, влюбленного в прекрасную девушку, в чем ему помогает
старая сводница. Однако, когда поэт уже готов удовлетворить свою страсть,
он с ужасом обнаруживает, что коварная старуха подменила возлюбленную
собой. Возлюбленная поэта выходит замуж, через двадцать лет он снова
встречает ее, уже овдовевшей и утратившей былую красоту (используются
термины из известного стихотворения Гильдеберта Лаварденского об упадке
Рима). Все еще влюбленный поэт снова добивается возлюбленной, но теперь
его интересы склоняются в сторону философии и теологии.
12 «Долго любила меня Галатея, однажды — Фи л ли да» (лат.).
13 «Не насмехалась ли Галатея над крепким силою?» (лат.).
14 «Нет лишь огня моего...» (Овидий, Любовные элегии II, 16, 11 в пер.
С. В. Шервинского).
15 «Прекрасная дама, дама желанная, благородная» (um.).
16 «Благородный дух» (um.).
17 «Дама щита» (um.) — имя двух дам, вниманием к которым герой «Новой
жизни» Данте пытается скрыть от чужих глаз любовь к Беатриче.
18 «Как одинок [многолюдный] город...» (Иер 1:1).
Комментарии
687
H. Б. Томашевский
<Предисловие к «Малым произведениям» Боккаччо>
Впервые: Боккаччо Дж. Малые произведения. М.: Художественная
литература, 1975. С. 3-17. Печатается по этому изданию.
Томашевский Николай Борисович (1924-1993) — советский литературовед
и переводчик (Лопе де Вега, Кальдерона, Макиавелли, Пиранделло, Моравиа
и др.), театровед.
1 «Земной круг» (лат.),
2 ...знаменитым диалогом Петрарки с Августином Блаженным... — Речь
идет о «Secretum» («Моя тайна», 1347-1353) Петрарки, написанном в формате
диалога с Августином.
3 ...что Боккаччо писал в XIVглаве «De Genealogiis»... — Имеется в виду
предмет двух последних глав «Генеалогии богов» — защита поэзии.
А. Д. Михайлов
К творческой истории «Фьямметты»
и «Фьезоланских нимф»
Впервые: Михайлов А. Д. К творческой истории «Фьямметты» и
«Фьезоланских нимф» // Боккаччо Дж. Фьяметта. Фьезоланские нимфы. М.:
Наука, 19G8. Печатается по этому изданию. С. 289-298.
Михайлов Андрей Дмитриевич (1929-2009) — российский литературовед,
доктор филологических наук (1978), член-корреспондент РАН (1994). Автор
ряда глубоких исследований по литературе Средних веков и французской
литературе.
1 Эпизод наказания провинившейся нимфы встречается в романе
древнегреческого писателя II в. н. э. Ахилла Татия Александрийского «Левкиппа
и Клитофонт», но знакомство с ним Боккаччо может быть взято под
сомнение. — Имеется в виду латинские переводы «Левкиппы и Клитофонта»
появились только в середине XVI в.
А. К. Дживелегов
Пастораль Боккаччо
Впервые: Боккаччо Дж. Фьезоланские нимфы. M.: Academia, 1934.
Печатается по этому изданию. С. 9-18.
Дживелегов Алексей Карпович (1875-1952) — историк и искусствовед,
автор ряда важных работ, посвященных итальянскому Возрождению и книг
в серии ЖЗЛ о Данте Алигьери, Леонардо да Винчи и Микеланджело.
688
Комментарии
1 Он тосковал по ласковой волне Тирренского моря в Байях. — Имеется
в виду город Байи на берегу Неаполитанского залива, который еще с
античности славился прекрасным климатом и полезными для здоровья источниками.
2 Кастальский источник — легендарный родник на горе Парнас,
посвященный Аполлону. В римской традиции (напр., Овидий, «Любовные элегии»,
I, 15, 35) появляется как источник, дающий поэтическое вдохновение.
IV
БОККАЧЧО
И НОВЕЛЛА ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
А. А-ва
Итальянская новелла и «Декамерон»
Впервые: А. А-ва. Итальянская новелла и Декамерон.
Историко-литературные очерки // Вестник Европы. 1880. № 1. С. 568-605. Печатается
по этому изданию.
А. А-ва (Казина Александра Никандровна; 1837-1918) — русская
писательница, автор ряда талантливых очерков, романов, педагогических этюдов.
1 «Юлия, или Новая Элоиза» (1757-1760) — роман в письмах Жан-Жака
Руссо.
2 «Госпожа Бовари» (1856) — роман Гюстава Флобера.
3 «Набоб» (1877) — роман Альфонса Доде.
4 «Исследование человека» (φρ.).
5 «Фромон младший и Рислер старший» (1874) — роман, прославивший
Альфонса Доде.
6 «Роман о Лисе» (φρ.).
7 ...«Тысяча и одна ночь», «Пантачатра» [«Панчатантра»], «Калила
и Димна», «Гитопадева» [«Хитопадеша»] — сборники арабских (персидских)
и индийских сказок.
8 «Эфесская матрона» — популярный в античности, Средневековье и
Новое время фольклорный сюжет о неверной вдове; называется так по рассказу
в «Сатириконе» Петрония. Лежит в основе новеллы III, 8 в «Декамероне».
9 «Новеллино» или «Сто древних новелл» (um.).
10 «О французском горожанине» (um.).
11 Григорий Великий, папа римский с 590 по 604 г.
12 «Молодой король» (um.). Генрих (1155-1183), второй сын короля
Англии Генриха II, был коронован в 1170 г., при жизни отца, но не пережил
его. Не особенно интересовавшийся политикой, Генрих прославился как
покровитель рыцарских турниров и куртуазного кодекса поведения.
13 «Скандальная хроника» (φρ.).
Комментарии
689
14 Имеется в виду Ланселот Озерный, персонаж романов (прежде всего
«Рыцарь телеги» Кретьена де Труа) о рыцарях Круглого Стола.
15 «О некоторых метких ответах и изречениях выдающихся мужей» (um.).
16 «Здесь рассказывается новелла о мессере Имберале из Бальцо» (um.).
17 Таким образом, «una novella...» можно перевести: глупость,
наивность... — Это соображение автора является фантазией.
18 «Здесь рассказывается новелла о вассале и сеньоре» (um.).
19 «За то новое» (um.).
20 «Триста новелл» (um.).
21 Про какого-нибудь Висконти, известного тирана своего времени... —
Героем 82 новеллы Саккетти является Бернабо Висконти, правитель
Милана в 1354-1385 гг. Его деспотичное правление вызывало недовольство
миланцев, что позволило племяннику Бернабо Джан Галеаццо Висконти
свергнуть дядю.
22 «Остроумным словом» (um.).
23 «Остроумное слово (um., φρ.), остроумный ответ, славное изречение,
замечательное слово» (um.).
24 «Коварство, тонкая хитрость» (um.).
25 «Принимая во внимание, кто я таков и сколь я необыкновенен» (um.).
26 И как умом глубоким он умеет / Всех дел людских причины
постигать! — And knows all qualities, with a learned spirit, / Of human dealings («Вот
человек необычайно честный / и превосходно знающий людей» — в переводе
М. Л. Лозинского).
27 ...счетчиков и цифирников... — «Арифметик» («arithmetician») и
«счетовод» («counter-caster») в переводе М. Л. Лозинского.
28 «Принц Макиавелли» — трактат Никколо Макиавелли «II Principe»
(ит. «Князь») известен в России под названием «Государь».
29 «Symonds: Renaissance in Italy» — книга английского поэта и критика
Дж. Саймондса «Ренессанс в Италии».
30 «Издевка, усмешка» (нем.).
31 Известнейшая книга Якоба Буркхардта «Культура Ренессанса в
Италии».
32 «Шедевр» (φρ.).
И. М. Фрадкин, А. Л. Штейн
«Декамерон» Боккаччо
и проблема новеллы раннего Возрождения
Впервые: «Декамерон» Боккаччо и проблема новеллы раннего
Возрождения // Ученые записки кафедры истории всеобщей литературы.
Выпуск И. Реализм эпохи Возрождения. М.: Издание МШУ им. А. С.
Бубнова, 1937. С. 34-94. Печатается по этому изданию.
690
Комментарии
Фрадкин Илья Моисеевич (1914-1993) — советский литературовед и
литературный критик.
Штейн Абрам Львович (1915-2004) — российский литературовед, историк
литературы и театра.
1 Из всех героев фабльо наибольшей симпатией автора пользуется
клирик... Фабльо с удовольствием описывает, как [попов и монахов] сжигают
в печи, бросают в помойную яму и убивают. С огромной и неизменной
ненавистью говорят рассказчики об этом враждебном городам сословии. — Только
год публикации этой статьи объясняет подобные странные (и
терминологически алогичные) фантазии.
2 ...Молодой отшельник, проведший свое детство в пустыне, впервые
видит женщин и сразу решает, что это лучшие в мире создания. — Ср.
«Новеллино», 14.
3 «Фаблио, сказки» (φρ.).
4 ...droit de l'homme... droit de la femme. — «Право мужчины... право
женщины» (φρ.).
5 ...отрицательное отношение к феодальному интригану герцогу
Афинскому... — Речь идет о Вальтере (Готье) де Бриенн, герцоге Афинском (1311-1356).
6 «Disciplina clericalis» — собрание рассказов Петра Альфонси (XII в.).
7 О вариантах «Легенды о семи мудрецах» («Dolopathos sive de rege et
septem sapientibus») см., напр., работу Α. Η. Пыпина в настоящей антологии.
8 ...сборники Жана де Витри, Винсента из Бове... — Имеются в виду
проповеди Жана де Витри, «примеры» из которых издаются, как правило,
отдельным томом; и третья часть «Зерцала» Винцентия из Бовэ, в которой
цитируются или пересказываются деяния и изречения знаменитых мужей
прошлого.
9 Патерик — греч. πατερικόν, «отеческая книга», рассказ о деяниях или
изречениях благочестивых отцов.
10 «Лимонарь» — от греч. Λειμωνάριον, «лужок»; также «Луг духовный»
и «Синайский патерик» — сочинение Иоанна Мосха (с дополнениями Софро-
ния Иерусалимского): сборник повестей о подвижниках и один из важных
образцов агиографической литературы; крайне популярный в России с XVII в.
11 «Vorgeschichte»... «Nachgeschichte» — «Предыстория»...
«Послесловие» (нем.).
12 ... умиротворения хищного зверя... — То есть знаменитого волка из Губбио.
В. Б. Шкловский
О новелле
Печатается по: Шкловский В. Художественная проза. Размышления
и разборы. М.: Советский писатель, 1959. С. 139-197.
Шкловский Виктор Борисович (1893-1984) — советский писатель,
литературовед, критик и теоретик литературы.
Комментарии
691
1 ...например, никто в Египте или в Риме не называл свои государства
«рабовладельческими обществами». — Этот термин был узаконен в советской
марксистской литературе только в 30-х гг. XX в.
2 У Апулея в романе «Золотой осел» есть вставная новелла о
ремесленнике... — См. приведенную в настоящем томе новеллу Боккаччо о Перонелле
(VII, 2) (с. 671-674).
3 ...Гёте, который определял новеллу как «одно необычайное
происшествие». — Вернее, «свершившееся неслыханное событие» (Разговоры
с Эккерманом, 25 января 1827 г.)
4 В другом месте Гёте говорил, что она рассказывает о новом, не
повседневном, но не фантастическом. — В этом ключе обсуждают жанр новеллы
герои «Разговоров немецких беженцев».
5 Так построена в «Эддах» песнь обАльвиссе. — В «Песне об Альвиссе»
(«Всезнающем») сюжет, в котором Тор в несвойственной для себя плутовской
манере долго расспрашивает своего гостя-карлика об устройстве мира, пока
рассвет не обращает того в камень, обрамляет характерный для средневековой
германской поэзии жанр энциклопедических вопросов-ответов.
6 ...мнение исследователя Э. Роде... — ставшее классическим сочинение
Эрвина Роде «Греческий роман и его предшественники» (1876).
7 ...проповеди... наполнены острыми словами... — Боккаччо имеет в виду
традицию т. н. exempla («примеров»). Зачастую эксплуатировавшие бытовые
сюжеты проповеди (самые яркие принадлежат Жаку де Витри) и сборники
exempla (характерна «Беседа о чудесах» Цезария Гейстербахского) близки
по структуре сборникам новелл, но значительно отличаются от них по тону
и интерпретации.
8 Когда-то в осажденных Афинах произошла чума... — Речь идет об
эпидемии чумы во второй год Пелопоннесской войны (430 г. до н. э.), описанной
во II книге «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида.
9 ...бурный и пожирающий вихрь зависти... — реминисценция из Овидия
(Rem. am. 369).
10 ...Будда, встретив голодную тигрицу, отдал себя ей на съедение. — Здесь
пересказывается содержание джатаки (истории о предыдущем воплощении
Будды), в которой царевич Махасаттва убивает себя, чтобы накормить и спасти
умирающую от голода тигрицу.
11 Перед нами первый черновой набросок ощущений общности
человечества. — Преклонение греков перед наполненной магией жизнью египтян
(в Египте происходит большая часть действия «Эфиопики») — общее место
для греческой культуры.
692
Комментарии
V
ДЕКАМЕРОН
А. Н. Веселовский
Художественные и этические задачи «Декамерона»
Впервые: Веселовский А. Боккаччо, его среда и сверстники. СПб., 1893.
Т. 1. Т. 2. СПб., 1894. Печатается по: Веселовский А. Н. Избранные
статьи. М., 1939. С. 284-358. Комментарии М. П. Алексеева из указанного
издания. Примечания А. Н. Веселовского опущены в настоящей
републикации.
1 Имеется в виду «Сетование» по поводу чумы 1348 г., напечатанное
в сборнике: «La pestilenza del 1348. Rime antiche», Firenze, 1884.
Флорентийский поэт Антонио Пуччи, корреспондент Боккаччо и друг Саккетти,
исполнявший обязанности городского глашатая, охотно пользовался для
своих произведений формой так называемых «серминтез» («sermintese», или
«serventese»), в которых нередко касался различных событий флорентийской
жизни: наводнения, дороговизны 1346 г., чумы и т. д.
2 В книге «Journal of the Plague Year» («Дневник чумного года») (1722),
как нередко в своих романах, Д. Дефо придает повествованию форму
документального свидетельства, рассказывая в данном случае о событии,
случившемся до его рождения, — в 1665 году: «Писано жителем города, все это время
не покидавшим Лондон» (Дефо Д. Дневник чумного года / Изд. подготовила
К. Н.Атарова. М.,1997).
3 В «Хронике» Маттео Виллани (ум. 1363) (дополняющей хронику его
старшего брата — Джованни, 1280-1348) пролог к первой книге посвящен
«неслыханному моровому бедствию». Среди его разделов: «О том, что люди
стали хуже», «Об ожидании изобилия и росте дороговизны» (Виллани Дж.
Новая хроника, или История Флоренции / Пер., стат., примеч. М. М. Юсима.
М.,1997. С. 451-456).
4 «Личиска и Пандар» — слуг, заспоривших о женской нравственности
в прологе к шестому дню, в действительности зовут Личиска и Тиндаро (так
и в переводе Весе л овского). Так же они будут названы ниже.
5 Эта живописная параллель и сама идея, что Боккаччо в
«Декамероне» дал свой вариант «пира во время чумы», впоследствии стали поводом
к полемике: «Та параллель с изобразительным искусством, которую провел
А. Н. Веселовский, в данном случае демонстративно показательна.
Созданный в 60-е годы XIV в. каким-то неизвестным мастером пизанский
"Триумф Смерти" — действительно одно из ярчайших произведений живописи
Треченто, но это аллегорическое произведение средневекового, готического
стиля, сменившего в середине века проторенессанс Джотто. Знаменитые
фрески на пизанском кладбище никакого отношения к гуманистическим
концепциям человека не имели, хотя, видимо, действительно были связаны
с изображенным в "Декамероне" чумным поветрием. Их вызвала к
жизни широкая волна религиозно-аскетических настроений, затронувшая
Комментарии
693
глубинные слои итальянского народа и прокатившаяся во второй половине
XIV столетия по всему Апеннинскому полуострову... Во вступлении к
Первому дню пиры во время чумы описаны и даже изображены разные варианты.
Однако настроения отчаяния для книги Боккаччо совсем не характерны.
Приподнято-риторический слог, которым автор описывает ужасы эпидемии,
меньше всего свидетельствует о паническом страхе перед смертью. Паника
не коснулась и общества "Декамерона"...» (Хлодовский Р. И. «Декамерон».
Поэтика и стиль. М., 1982. С. 171-172).
6 Санта-М ария-Новелла — монастырь и церковь при нем в центре
Флоренции (Алексеев, 1939).
7 Меланхолического Джека — имеется в виду герой шекспировской
комедии «Как вам это понравится» Жак (Jacques) Меланхолик.
8 «Chatelaine de Vergi» — «Хозяйка замка Вержи», французская
куртуазная поэма (ок. 1250), пользовавшаяся большой популярностью. В конце
третьего дня «Декамерона», когда каждый развлекается в соответствии с его
желаниями, « Дионео и Фьямметта стали петь о мессере Гвильельмо и о даме
дель Верджьу» (пер. А. П. Веселовского).
9 Имеется в виду стихотворение А. де Мюссе «Sylvia» («Сильвия») (1839),
в основе которого лежит новелла «Декамерона» (IV, 8).
10 «De rebus memorabilibus» (лат.) — записная книжка Петрарки «О делах,
достойных памяти ».
11 Sacre Rappresentazioni (um.) — так назывались в Италии в XV в.
религиозные драмы, аналогичные мистериям.
12 «Магус-сага» — скандинавская сага, сохранившаяся в исландской
редакции второй половины XIII в., источники которой ищут во французской
или немецкой литературе.
13 Арно Видаль из Castelnaudary (Кастельну д'Ари) — трубадур, автор
куртуазного повествования «Гильем де л а Барра» (1316).
14 Раимон Видаль из Besaulun (Besalu) (ок. 1196 — ок. 1252) — Рамон
Видаль де Безалю, каталонский трубадур, автор куртуазной новеллы в
стихах «Наказание ревнивцам» — о муже, ревновавшем свою жену без всяких
к тому оснований.
15 Châtelain de Couci — Шателен (Кастелян) из Куси — знаменитый трувер
конца XII века.
16 Веселовский перечисляет средневековые сборники рассказов,
традиционно называемые «Цвет (цветы) философии, добродели...». Нередко они
соединяли представление о куртуазных дородетелях с античной историей:
«Рассказы об античных рыцарях». Наиболее известным был «Новеллино» —
сборник из ста новелл на итальянском языке, собранный в конце XIII века.
См.: Новеллино / Изд. подгот. М. Л. Андреев, И. А. Соколова. М., 1984.
17 «Avventuroso Ciciliano» — итальянский дидактический роман-хроника
XIV в., принадлежащий неизвестному автору (долгое время безосновательно
его приписывали Бозоне да Губбио). Большой интерес представляют анекдоты
и новеллы, которые автор сообщает в примечаниях к своему произведению;
среди них имеются и рассказы, близкие по сюжетам к новеллам «Декамерона»;
694
Комментарии
таков, например, рассказ о Саладине (№ CXI), который сопоставляют с
новеллой «Декамерона» (1,3).
18 Этого эпизода о милостыне, спрошенной неоднократно, Веселовский
касался несколько раз. См. его «Разыскания в области русского духовного
стиха» (Сборник Отд. русск. яз. и слов. Академии наук. 1881. Т. XXVIII. Вып.
IV. С. 132; с новеллой «Декамерона» он подробнее сопоставлен в особой статье
Веселовского («К "Декамерону"», I, 3» // Живая старина. 1890. Ч. 1. Вып. 1.
С. 128-129; то же в Его же. Собр. соч. Т. IV. Вып. 1. С. 395-397). В рукописных
дополнениях к указанному месту печатаемой статьи Веселовский указывает
еще на эпизод о Кандаке в абиссинской Александрии и на курдское сказание
в записи Халатьянца (Его же. Собр. соч. Т. V. С. 620).
19 Гелинанд (Элинанд, Элинан) из Фруамона (Hélinand of Froidmont, ок.
1160 — после 1229) — французский поэт, хронист, церковный писатель.
Наиболее известна его латинская всемирная хроника.
«Это сопоставление легенды Гелинанда, приведенной в трактате
доминиканского монаха Джакопо Пассаванти Lo specchio della vera penitenza
(Зерцало истинного покаяния, 1334), с новеллой "Декамерона" сделано было
Веселовским еще в 1866 г. (Собр. соч. Т. III. С. 75, 84); там же Веселовский
указывал, что в Средние века "понятие загробного очищения" любили
соединять "с эпическим мотивом охоты и преследования"».
20 « Лэ о рысце» пересказано Андреем, «капелланом французского короля»,
в его латинском трактате о любви начала XIII века. «Salut d'amour» —
«любовное послание», одна из поэтических форм, излюбленных провансальскими
трубадурами; в данном случае речь идет о каталонском подражании ей.
21 Симмах Квинт Аврелий (ок. 345-403) — префект Рима, консул, оратор,
глава партии, боровшейся за восстановление в христианском Риме прежней
веры в языческих богов.
22 «Cymbalum Mundi» — «Кимвал мира, содержащий четыре диалога,
очень старинных, веселых и забавных», сборник новелл французского
гуманиста Жана Бонавантюра Деперье (Desperiers, 1510-1544). Власти усмотрели
в этом сатирическом сборнике, полном зашифрованных намеков, настолько
острые выпады против христианства, что издатель был выслан, книгопродавец
казнен, автор скрылся бегством, а книга была осуждена на сожжение в 1538 г.
23 Bucerus — от имени Мартина Буцера, который в событиях начавшейся
Реформации пытался сгладить противоречия между Лютером (Lutherus)
и Цвингли. Жерар Руссель (Drarig) — французский мистик, последователь
Эразма Роттердамского, вступившего в открытую полемику с Лютером с
позиции христианского гуманизма.
24 Тауэр Джон (Gower; 1330-1408) — английский поэт, писавший в тради-
ци куртуазности и морального аллегоризма; в свое время репутация Гауэра
не уступала славе его современника и друга Дж. Чосера, а влияние было
чрезвычайно значительным. Веселовский ссылается на самое известное и
популярное произведение Гауэра — «Confessio amantis» («Исповедь влюбленного»),
в котором Гений, священнослужитель Венеры, на примерах любовных историй
Комментарии
695
наставляет поэта Аманса в искусстве куртуазной и христианской любви.
В своем большинстве рассказы имеют античные и средневековые источники.
25 «Руодлиб» — латинское произведение, написанное гекзаметрами,
созданное в середине XI в. в Германии. Оно имеет репутацию «первого
романа» в средневековой литературе. Первая часть — авантюрного содержания:
герой, чье имя носит роман, отправляется путешествовать в дальние страны
(условно названные Африкой). Вторая часть составлена из новелл. Веселов-
ский не раз упоминал «Руодлиб» и посвятил ему отдельную статью (ЖМНП.
1883. Ч. 228. Июль. С. 112-123).
26 «Katha-Capum-Сагара» — «Катха-Саритсагара» (океан из потоков
историй), сборник индийских легенд и сказок, созданный в XI в.
27 «De casibus» — «О несчастиях знаменитых людей» (De casibus virorum
illustrium), сборник из 54 биографий, написанных Боккаччо на латыни.
28 Tellus (лат. — земля) — древнеримское божество, Мать-земля, тесно
связанное с богиней плодородия Церерой.
29 Канака — мифологический персонаж, героиня одиннадцатой «Герои-
ды» Овидия «Канака — Макарею». Дочь бога ветров Эола, Канака совершила
прелюбодеяние со своим братом Макарем, после чего закололась.
30 Квинтиллиан Марк Фабий (ок. 35 — ок. 96) — римский ритор и теоретик
ораторского искусства, чей авторитет был чрезвычайно высок в эпоху Возрождения.
31 «Цвет перла» (жемчуга), т. е. бледность, которую Данте в первой
канцоне «Новой жизни» считал «пристойным иметь женщине». Сл. эти стихи
в переводе М. И. Ливеровской: «Как жемчугом, нежнейшей белизною / Ей
бледность легкая лицо покрыла». О типе красавицы у поэтов старой
итальянской школы в связи с книгой Тоггасса Веселовский писал в ЖМНП. Ч. CCXIV.
Отд. 2. С. 189-191; сл. еще Он же. Собр. соч., т. V, стр. 115.
32 «De Montibus» — топографическое сочинение Боккаччо «De Montibus,
Sylvis, Fontibus» («О горах, лесах, источниках»), дополняющее его работы
по классической мифологии в качестве справочника.
33 Ридда и баланкио — крестьянские хороводные танцы, сопровождаемые
песней.
34 Имеется в виду Dit ( «сказ») французского поэта Рютбефа (середина XIII в.)
о «даме, которая трижды обошла кругом монастырь» (Алексеев, 1939, 553).
35 «De Claris mulieribus» — «О знаменитых женщинах» (Веселовский
по-русски называет его «Об именитых женщинах»): латинское сочинение
Боккаччо, включающее более ста биографий (начато в 1361).
36 Катерина (Екатерина) Сиенская (1347-1380) — в Италии более
известная по месту своего рождения как Катерина ди Бенинкаса. Одна из самых
почитаемых католической церковью женщин: причислена к лику святых,
принадлежит к числу трех женщин — Учителей Церкви; первая женщина,
которая получила разрешение проповедовать в церкви.
37 Карло Дольче, или Дольчи (Dolci, 1616-1686) — итальянский художник,
чье «условное и легкое благочестие» сделало его популярным у современников,
а Веселовскому дало повод сравнить его с Петраркой.
696 Комментарии
38 Филиппо Чеффи (Ceffi) — флорентиец; более всего известен своим
переводом с латыни на итальянский книги Гвидо Колонне «История Трои» (1324),
излагающей сюжет Троила и Крессиды, и «Героид» Овидия.
39 Sercambi — Джьованни Серкамби из Лукки, итальянский новеллист
(1347-1424).
40 «Eppur si muove» (um.) — знаменитая фраза, якобы произнесенная
Галилеем в 1633 г., когда он был вынужден подписать отречение от
геоцентрического учения о Вселенной: «И все-таки она вертится».
41 «The knight*s Tale» — «Рассказ рыцаря», открывающий «Кентербе-
рийские рассказы»; сюжет об Арчите и Палемоне заимствован Чосером
из «Тезеиды» Боккаччо.
А. А-ва
Новеллы десятого дня «Декамерона»
Впервые: А-ва А. Итальянская новелла и Декамерон.
Историко-литературные очерки // Вестник Европы. 1880. № 3. С. 575-605. Печатается
по этому изданию.
1 «Песнь о деяниях» (фр.) — жанр французской эпической средневековой
поэзии; самый известный пример — «Песнь о Роланде».
2 Удино — современный город Удине в провинции Фриули. Боккаччо
мог быть там в 1351 г. с посольством Флорентийской республики к Людвигу
Баварскому или знать о нем понаслышке.
3 «Насмешка», «шутка» (ит.)у распространенный прием в итальянской
комической литературе.
4 «Великолепной и высокой любви» (um.).
5 «Мой Бог и моя дама» (φρ.).
6 « Куртуазность» (φρ.).
7 ...с сочинением Цицерона о дружбе. — трактат М. Туллия Цицерона
«Лелий, или о дружбе» (написанный в 44 г. до н. э.), формулирующий
идеальную модель дружбы и характеристики друга, является ключевым для
средневековой трактовки этого понятия.
8 Matta bestialità — отсылка к Данте: Ад, XI, 82-83 («буйное скотство»
в переводе М. Л. Лозинского).
9 Речь идет о Женевьеве Брабантской, которая, по средневековой легенде,
была обвинена в нарушении супружеской верности и приговорена к смерти.
Спасенная слугой, она прожила шесть лет в пещере, после чего была
возвращена домой.
10 ...волшебной сказкой о Сандрильоне... — Речь идет о Золушке (фр.
Cendrillon); под этим названием («Золушка, или Стеклянная туфелька»)
сказка издана Шарлем Перро в 1697 г.
1 1 «Кентерберийские рассказы » (конец XIV в.) Дж. Чосера имеют ряд общих
сюжетов с «Декамероном» (и другими сочинениями Боккаччо), но в науке до сих
пор нет единого мнения о том, в какой степени Чосер был знаком с «Декамероном».
Комментарии
697
В. Φ. Шишмарев
Джованни Боккаччо
Впервые: Боккаччо Дж. Декамерон. M.: Academia, 1931. С. XV-XXIV.
Печатается по этому изданию.
Шишмарев Владимир Федорович (1875-1957) — филолог-романист,
лингвист, ученик академика А. Н. Веселовского, представитель
петербургской филологической школы, заведующий кафедрой романской филологии
филологического факультета и декан филологического факультета ЛГУ.
Автор основополагающих трудов по истории романских языков и диалектов,
а также романских литературы.
1 Фаблд — фаблио (фр. fabliau) — распространенные во Франции со второй
половины XII в. небольшие юмористические рассказы.
2 ...в описании чумы сквозят воспоминания из Макробия, выписывавшего
Лукреция... —Лукреций был неизвестен итальянскому Ренессансу вплоть
до Поджо Браччолини, и все ссылки, которые есть на Лукреция у
Боккаччо и Петрарки, взяты из текста Макробия. См.: P. de Nolhac, Pétrarque et
l'humanisme. T. 1. Paris: Champion, 1907. P. 159-160.
3 ...угли Св. Лаврентия... — Св. Лаврентий, римский архидиакон,
10 августа 258 г. принял мученичество: был заживо изжарен на решетке.
Культ Св. Лаврентия был чрезвычайно популярен в народе, и в ряде мест
в южной Италии в период праздника святого традиционно искали в земле
угли, якобы обладавшие целительными свойствами.
4 ...с одним из «трех флорентийских венцов»... — См. коммент. 1. к «Très
coronae» П. M. Бицилли.
Р. И. Хлодовский
«Декамерон»: великая книга о большой любви
Печатается по: Хлодовский Р. И. «Декамерон»: великая книга о
большой любви // Боккаччо Дж. Декамерон. М.: ACT, 2007. С. 5-22.
Хлодовский Руф Игоревич (1923-2004) — советский филолог,
литературовед, переводчик. Автор книг: Франческо Петрарка. Поэзия
гуманизма (1974); Декамерон. Поэтика и стиль (1983); Итальянская литература
зрелого и позднего Возрождения (совместно с М. Л. Андреевым; 1988);
Анна Ахматова и Данте (1993), а также многих работ по истории русской
литературы.
1 ...сексуальные откровенности некоторых новелл благонравнейшего
Франко Саккетти, именно по причине этой откровенности на русский
язык пока что не переведенные. — В русском переводе «Трехсот новелл»,
сделанном В. Ф. Шишмаревым, отсутствуют новеллы 1, 43-47, 49, 55-59,
69, 72, 93-98, 105-107, 124, 135, 138-139, 145, 155,157-159, 164, 167,
698
Комментарии
169,171-173,175-178,180-186,190,191,197, 200, 201, 203, 205, 207, 208,
210-214, 217-221,225-253,256.
2 ...восклицаешь вместе с Петраркой: «Как я попал сюда и когда?». —
«Qui come venn'io, о quando?», строка из 126 канцоны Петрарки.
3 Одна из самых «неприличных» новелл «Декамерона» (день третий,
новелла десятая) не более, нежели изящно реализованная метафора,
которая была в ходу и у современников Боккаччо... — Источники новеллы о том,
как монах Рустико учит девицу Алибек «загонять дьявола в ад», неизвестны.
4 ...новелла о Джилетте из Нарбонны (III, 9), вдохновившая
Шекспира... — Имеется в виду комедия У. Шекспира «Все хорошо, что хорошо
кончается».
5 Теперь доказано, что незадолго до смерти Боккаччо
собственноручно и очень старательно переписал свою главную книгу, видимо, собираясь
подарить манускрипт Франческо Петрарке. — Автографа «Декамерона»
не существует.
VI
УЧЕНЫЕ СОЧИНЕНИЯ БОККАЧЧО
М. С. Корелин
<Научные произведения Боккаччо>
Раздел из сочинения М. С. Корелина «Ранний итальянский гуманизм
и его историография» печатается по: Корелин М. С. Ранний итальянский
гуманизм и его историография. М.: Типография M. М. Стасюлевича, 1892.
С. 417-449. Заголовок дан составителями настоящей антологии. По
соображениям технического характера из текста М. С. Корелина выпущены
сноски (в основном — библиографические).
1 «Которого (Петрарки) я уже в течение долгого времени ученик» (лат.).
2 «Евсевий в своей хронике говорит, что Апис, который впоследствии
стал царем аргивян, был сыном Юпитера и Ниобы, дочери Форонея...
Леонтий же говорит, что он был сыном Форонея и Ниобы, его жены и сестры, и что
унаследовал от Форонея царство в Сикионе» (лат.).
3 Эвгемер (ок. 340 до н. э. — ок. 260 до н. э.) считал, что вера в богов
возникла из культа великих людей, которые после смерти стали почитаться
как божества.
4 Ad renum et foemorum — «к пояснице и бедрам» (лат.).
5 По свидетельству Священного Писания, всякая мудрость от Господа
Бога, и Сам Он говорит там же: Я вышел из уст Всевышнего. — Сирах. 24:3.
6 «Читают достойное восхищение сочинение божественного мужа, моего
соотечественника Иоанна Боккаччо о генеалогии богов, который чудесным
образом превзошел все сочинения древних на этот предмет» (лат.).
7 «Кто взглянет на [эту книгу] со здравым суждением, имея в виду
трудности, существовавшие в то, скажем так, несчастливое время, с которыми можно
Комментарии
699
было получить широчайшие познания в хронологии, географии и в первую
очередь в мифологии, вынесет приговор иначе» (um.).
8 «Путаный, бездумный набор заметок» (нем.).
9 «Можно назвать эту книгу значительной для того времени» (нем.).
10 «Поскольку будем мы говорить о генеалогии как богов, так и людей,
и поскольку боги достойнее людей, то начнем мы это сочиненьице с более
достойной части. И поскольку Демогоргон был первым и величайшим из всех
богов, о нем и пойдет первым речь» (лат.).
11 «Демогоргон первой из всех богов породил Клото...» (лат.).
12 «Кто суть те, кто обвиняет поэтов и сколько их» (лат.).
13 «Против наших монахов и магистров, которых, полагаю открыто он
не решился назвать, боясь притеснений в своем возрасте» (лат.).
14 «Здесь начинается оригинальность Боккаччо: он первым провозглашает
свободу искусства и поэзии, приближаясь тем самым к идеям древних» (um.).
15 ...Гортис сравнивает Боккаччо с Абеляром» который при всем своем
свободомыслии отрицал языческих поэтов... — Аргументы Абеляра близки
к Августину: измышления поэтов отвлекают от изучения Священного Писания
(Introd. ad theol. И). Цицерон не использовал примеры красноречия из поэтов,
а Платон рекомендовал изгнать их из города — нужно ли принимать их в граде
Божием? (Theol. ehr. И.). Это не мешает Абеляру цитировать Горация, Овидия
и Лукана в своей автобиографии и самому писать гимны и поэмы.
16 Позиция Иоанна Солсберийского несколько иная: отрицая поэзию как
отдельное искусство, он видит в ней украшение для грамматики и философии
(Met. I, 22-24).
17 «Но если бы [противники] хорошо поняли стихи поэтов, обнаружили бы
они, что те — вовсе не обезьяны, а должны считаться в числе философов,
поскольку, по мнению древних, под покровом басни не спрятано ничего, что
не было бы созвучно с философией... [Поэты] не отклоняются от заключений
философов, а идут с ними по одной тропе. Философ, как хорошо известно,
силлогизмами отвергает то, что полагает неверным и таким же образом
доказывает то, что считает верным — все это настолько открыто, насколько он
может. Поэт же прячет под покровом вымысла то, что сочинил в раздумьях, без
всяких силлогизмом, настолько искусно, насколько может. Философ пишет
чаще всего прозаическим стилем, как бы лишая его всяческих украшений,
поэт — стилем метрическим, с высочайшей заботой, утонченной и заметной
красотой. Таким образом, философам подобает выступать в собраниях,
поэтам — сочинять стихи в тишине» (лат.).
18 «Считается, что было у нее два мужа. За кого из них вышла она сперва,
неясно; итак, сперва стала она женой (как считают некоторые) Вулкана, царя
Лемноса, сына критского царя Юпитера; после же его смерти вышла за
Адониса, царя Кипра, сына Кинира и Мирры. Это кажется мне более правоподобным,
чем если бы мы назвали первым Адониса, поскольку после смерти Адониса либо
по порочности собственной натуры, либо по предрасположенности этой области,
в которой, как представляется, весьма распространено распутство, либо же
по злому умыслу извращенного ума пустилась она в такое удовлетворение зуда
700
Комментарии
похоти, что очевидно запятнала непрестанными совокуплениями всю славу
своей красоты, что стало известно и в соседних областях...» (лат.).
19 «Столько красноречия и серьезности, что с полным основанием можно
сказать, что превзошел он здесь высочайшую образованность древних» (лат.).
20 «С радостным чувством избавления ты откладываешь книгу, чтобы
никогда больше не раскрыть ее вновь» (нем.).
21 «Когда читаешь книгу Боккаччо, кажется иногда, что ты — зритель
драмы, и неоднократно хочется поаплодировать автору за правдоподобность
в изображении характеров» (um.).
А. Ф. Лосев
Боккаччо о Прометее
Впервые: Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство.
М.: Искусство, 1976. Печатается по: Лосев А. Ф. Проблема символа и
реалистическое искусство. М.: Искусство, 1995. С. 213-215.
1 Прометея Овидий также называет первым вылепившим человека
из глины. — Метаморфозы, I, 82.
2 Сервий и Фульгенций добавляют, что этот вылепленный из глины
человек был лишен дыхания... — Сервий, Комм, к VI эклоге, 42; Фульгенций, II, 6.
3 ...как говорят Сапфо и Гесиод, боги послали беды: болезни, печали
и женщину. — Сапфо, фр. 207; Гесиод, Труды и дни, 45-100.
4 ...по словам Горация — только бледность и лихорадку... — Вероятно,
речь идет о XVI оде Горация.
5 ...у Эсхила Прометей является по крайней мере двоюродным братом
Зевса, если не прямо его дядей... — Эсхил делает Прометея сыном Геи, т. е.
дядей Зевса (Эсхил, Прометей прикованный, 311-313).
VII
ЛИРИКА, «КОРБАЧЧО», ПИСЬМА
М. С. Корелин
<Переписка и эклоги Боккаччо>
Раздел из сочинения М. С. Корелина «Ранний итальянский гуманизм
и его историография» печатается по: Корелин М. С. Ранний итальянский
гуманизм и его историография. М.: Типография M. М. Стасюлевича, 1892.
С. 417-449. Заголовок дан составителями настоящей антологии. По
соображениям технического характера из текста М. С. Корелина выпущены
сноски (в основном — библиографические).
1 В тетради он считает автором De hello gallico и De hello civili Свето-
ния Транквилла, который был прадедом автора биографий XII цезарей;
Комментарии
701
а в Генеалогии он приписывает эти книги знаменитому в средние века
Юлию Целъзу. — Тот факт, что Цезарь написал свои «Записки» о галльской
и гражданской войнах в третьем лице, для Средневековья служил аргументом
в пользу того, что автором повествования было другое лицо. Автором
«Записок» считали и Светония (благодаря прекрасной оставленной им биографии
Цезаря), и некоего Юлия (Юлиана) Цельса (появившееся в результате ошибки
переписчика имя плотно вошло в традицию).
2 «Безвкусный» (лат.),
3 «Все будет хорошо» (греч.)у Светоний, Домициан, 23.
А. Н. Веселовский
<«Корбаччо», эклоги>
Впервые: Веселовский А. Н. Боккаччо, его среда и сверстники. Т. 2.
СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1894. Печатается
по этому изданию. Гл. VII. С. 3-67. Заголовок дан составителями
настоящей антологии.
1 Первая строка «Божественной комедии» «Земную жизнь пройдя до
половины» в переводе М. Л. Лозинского.
2 «Учитель прелюбодеяния» (лат.). «Сложнее, чем интерес Средних веков
к "Метаморфозам", объяснить невероятную популярность "Науки любви".
Этот циничный, иронический этюд по искусству соблазнения должен был бы,
по всем нормальным стандартам, быть немеделенно преданным анафеме и
исключенным из всех списков для чтения. Но существует масса свидетельств,
согласно которым "Наука любви" была прекрасно известна, и к XII в. ее
автор считался величайшим любовником и учителем тех, кто хотел преуспеть
в этой науке» (У. Джексон).
3 «Тот бес, что Венерою люди зовут, / Опасней всех прочих по силе»
(«Тангейзер» Г. Гейне, пер. Н. Вержейской).
4 «Смотри, Манетто, какая горбунья» (um. с тосканизмами) — начало
пародийного сонета Гвидо Кавальканти, предположительно посвященного
Манетто ди Фолько Портинари, брату Беатриче.
5 «Посмотри, Чампол, на эту старуху» (um.) — ответное стихотворение
менее известного поэта XIII в. — Никкола Мушья (ранее считалось
принадлежащим Чекко Анджольери).
6 «Лабиринт любви» (um.).
7 «Этот лабиринт весьма точно описывает сей мир: он широк для
входящего, для выходящего — очень узок» (лат.) — надпись на утерянной ныне
мозаике в церкви Св. Савина в Пьяченце (XII в.).
8 ...любой сарацин с площади будет ей Ланцелотом» Тристаном, Оливье-
ром, коли знает свое дело... — общее место для мизогинистической
литературы. Для раннего примера ср. «Жизнь блудницы» Примаса Орлеанского.
702
Комментарии
9 Морольд Ирландский — исполинский воин, персонаж «Тристана
и Изольды».
10 ...они питались изречениями Сираха, Секунда и Моролъфа... — имеются
в виду «Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова» (II в. до н. э.), «Жизнь
Секунда» (о кинике Секунде, жившем во II в. н. э.; переведена на латынь
в XII в.), «Соломон и Морольф» (складывается после XII в.). Во всех
перечисленных сочинениях можно найти известную толику мизогинистической
риторики.
11 ...от популярного трактата Теофраста, которым пользовался дьякон
Лотарий (Иннокентий III) и Roman de la Rose, до Валерия, Андрея Капеллана
и Матеола... — Имеются в виду извлечения из трактата Теофраста «О браке»,
который приводит у себя Иероним; сочинение «О презрении к миру, или О
ничтожестве человеческого состояния» папы Иннокентия III, «Роман о Розе»
Гийома де Лорриса и Жана де Мёна (хотя энциклопедический спектр второй
части «Романа» безусловно шире, Жан де Мён уделяет внимание слабости,
второсортности и порочности (villainie) женской природы). Под авторством
«Валерия» было известно «Письмо против брака», в действительности
написанное Уолтером Мапом. Третья книга трактата «Об искусстве честной
любви» Андрея Капеллана содержит краткое, но емкое описание женщин
как отвратительных существ, тогда как автор-эпоним «Жалоб Матеолуса»
подробно, со знанием дела человека, против своей воли оказавшимся
двоеженцем, обрушивается на все проявления женского характера.
12 Этими и подобными статьями, соединенными в один том, зачитывался
Оксфордский клерик у Чосера... — Имеется в виду «пролог Батской ткачихи»
из «Кентерберийских рассказов». Зафиксированы схожие по составу
манускрипты с извлечениями из мизогинистических трактатов.
13 «Сокровенное восшествие нищих, рожденных королями» (фр.) — строчка
из стихотворения «Arma virumque» Эдмона Арокура (речь идет о гордыне).
14 Вас — норманский поэт, автор «Романа о Бруте» (ок. 1155); Рютбеф
(ок. 1230-1285) — наиболее значительный французский поэт XIII в,; Жан де
Мён (ум. 1305) — автор второй части «Романа о Розе».
15 «О невежестве своем собственном и многих других» (лат.),
16 Так неудача Федры и дело маркизы de Brinvilliers раскрыли Расину
глаза.,, и он,,, ударился β религиозность. — Мари Мадлен Дрё д'Обре, маркиза
де Бренвилье, была казнена в 1676 г. по обвинению в многочисленных
хладнокровных отравлениях (именно этот способ смерти выбирает расиновская
Федра). Громкий «процесс ядов», интриги врагов и прохладное принятие
публикой «Федры» (1677) окончательно убедили Расина встать на путь веры
(янсенизма) и перестать писать трагедии.
Комментарии
703
А. А. Тихонов
Старость и смерть Боккаччо
Впервые: Тихонов А. А. Д. Боккаччо: Его жизнь и литературная
деятельность: биографический очерк. СПб.: Тип. т-ва «Общественная
польза», 1891. Печатается по: Данте, Бомарше, Золя. Боккаччо. Бомарше.
Биографические очерки. Жизнь замечательных людей. Библиографическая
библиотека Ф. Павленкова. СПб.: Редактор, 1994. С. 59-122.
1 .„Леонтий Пилат перебрался, по-видимому, из Флоренции в Венецию
и перевод Гомера, вероятно, продолжался и здесь. — Перевод «Илиады»
и «Одиссеи» Леонтия Пилата, скорее всего, был уже окончен к 1362 г. Осенью
1363 г. Пилат отбыл из Венеции в Константинополь.
2 ...церковь Св. Стефана. — Имеется в виду романская церковь Санто-
Стефано-аль-Понте во Флоренции, находящаяся неподалеку от Понте-Веккьо.
3 ...Боккаччо высказывает, что как флорентиец завидует Аркве,
приютившей священный прах Петрарки... — Петрарка умер и был похоронен
в небольшой деревушке Арква близ Падуи (совр. Арква-Петрарка).
4 ...в церкви Св. Иакова. — Имеется в виду церковь Санти-Джакопо-
э-Филиппо в Чертальдо.
VIII
ПЕТРАРКА И ДАНТЕ
В ВОСПРИЯТИИ БОККАЧЧО
А. Н. Веселовский
<Боккаччо и Петрарка>
Впервые: Веселовский А. Н. Боккаччо, его среда и сверстники. Т. 2.
СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1894. Печатается
по этому изданию. Гл. VIII. С. 71-105. Заголовок дан составителями
настоящей антологии.
1 «Ничего нет приятней, чем жизнь холостая» (лат.) (Гораций, Сатиры,
I, I, 88; пер. Н. С. Гинцбурга).
2 «Кто без нее [славы] готов быть взят кончиной, / Такой же в мире
оставляет след, / Как в ветре дым и пена над пучиной» (лат.) (Данте, Ад, XXIV,
49-51; пер. М. Л. Лозинского».
3 «Механические занятия» (лат.).
4 «О превратностях судьбы» (лат.).
5 «О восхитительная статуя Венеры» (лат.) — анонимное латинское
стихотворение, написанное около 900 г. Поэт (вероятно, ученый клирик)
просит разные божества защитить от превратностей судьбы жестокого юношу,
покинувшего влюбленного в него поэта.
704
Комментарии
6 «О добродетелях» (лат.).
7 «Пустить на самотек» (φρ.).
8 «Трагедия — публичный дом» (лат.-ср.-верхненем.).
9 Рядом уже развивался народно-духовный театр laudesi, но Каллиопа
проходила мимо него безучастно. — Драматизм театра общин laudesi
(распространенных преимущественно в Умбрии и Центральной Италии с ХШ в.) имел
исключительно религиозный характер и никак не использовал эпическую поэзию.
10 «Путешествие в Сирию» (лат.), написанное Петраркой в 1358 г.
11 ...Historia miscella, которую цитует под именем Павла Дьякона... —
Имеется в виду «История римлян» Павла Диакона, расширенная версия
«Бревиария» Бвтропия.
12 Боккаччо... разделяет общее мнение того времени, что Клавдиан был
родом из Флоренции... — Место рождения Клавдиана доподлинно неизвестно;
вероятно, это была Александрия.
13 ...путает двух Лактанциев... — Лактанций Фирмиан, оратор и
христианский апологет (ок. 250 - ок. 320) и Лактанций Плацид, комментатор
«Фиваиды» Стация (V в.?).
14 ...когда, напр., Боккаччо пристает к мнению тех, которые
отождествляли Артемизию с Артемидорой, ибо одно ли это лицо или нет, во всяком
случае дело идет о женщине. — То есть к Юстину (XII, 23) и Орозию (II, 9,10).
У Боккаччо не совсем так: «Одно это было лицо или два, поступали обе
по-женски» («opus fuit femineum unumquodque»; О славных женщинах, 57).
16 ... он пользуется, хотя и не откровенно, отражениями Псевдокаллис-
фенова романа... — «История Александра Великого», псевдоисторический
роман (II—I в. до н. э.), сохранивший ряд исторических свидетельств о походе
Александра Великого в Персию, но при этом содержащий огромное
количество фольклорных преданий, которые только умножаются при последующих
переработках романа. «Роман», приписывавшийся историку Каллисфену
(который был казнен Александром в 328 г. до н. э. и, таким образом, не мог
описать ни индийский поход, ни смерть македонского царя) и его переработки
были чрезвычайно популярны в Средние века как на Западе, так и на Востоке.
16 ...цитует Диктиса... — «Дневник Троянской войны»,
приписывавшийся некоему Диктису Критскому (известна только латинская версия, которая
датируется IV в. н. э.) — «Дневник», наряду с «Повестью о разрушении
Трои», также вымышленного Дарета Фригийского, — главные источники
для средневекового Запада о Троянской войне.
17 ...смешение Berenice с Laodice... — В «Славных женщинах», 72 Боккаччо
смешивает: Беренику, дочь Птолемея Филадельфа и вторую жену Антиоха II
(ок. 286-246 до н. э.; Юстин, XXVII, 1), убитую вместе с ребенком по
наущению Лаодики, первой жены Антиоха II; Лаодику, сестру и жену Митридата
Евпатора (120-63 до н. э.; Юстин, XXXVII, 3, 6-7); Лаодику, сестру
предыдущей Лаодики и Митридата Евпатора, жену царя Каппадокии Ариарата VI
Эпифана (конец II в. до н. э.), после смерти последнего — регент Каппадокии,
затем — жена царя Вифинии НикомедаШ (Юстин, XXXVIII, 1, 1-2); Нису
(известную Лаодика), мать Ариарата VI, отравившую пять своих
Комментарии
705
детей и казненную сыном (Юстин, XXXVII, 1,1-4). К сведениям из Юстина
Боккаччо присоединил анекдот Валерия Максима (IX, 10).
18 ...небывалая Марция, дочь Варрона... — В «Естественной истории»
Плиния (XXXV, 147) упоминается художница Иайя из Кизика, которая
работала в Риме во время юности Марка Варрона (M. Varronis iuventa).
Прочитав iu venta как inventa, Боккаччо решил, что рассказ Плиния относится
к некоей Марции, дочери Варрона (De mul. cl. 66).
19 ...dissuasiones Valerii ad Ruffinum ne ducat uxorem» и отрывок Теофра-
cmoea περί γάμου в латинском переводе бл. Иеронима... — См. комментарии
к «Корбаччо» А. Н. Веселовского.
20 «Записная книжка» (φρ.).
21 ...извлечения из книг Цезаря De hello civili и из De hello gallico,
приписанной Ирцию; под влиянием Орозия Боккаччо приписывает ту и другую
Светонию, но не автору жизнеописаний Цезарей, а, вероятно, его прадеду,
рассчитывает он. — См. комментарии к «Переписке и эклогам Боккаччо»
Корелина в наст, антологии.
22 «Ворон прокричал на Капитолии: "все будет хорошо"» ; см. комментарии
к «Переписке и эклогам Боккаччо» Корелина в наст, антологии.
23 «С кем в написании истории никто не мог сравниться» (лат.).
24 «В том, как писать, никто не мог с ним сравниться» (лат.).
25 ...св. Лаврентий пострадал не приДеции, как писал Евтропий, а при Га-
лиэне, «как я нашел в пассионалах святых в Падуе, в монастыре св. Юсти-
ны». — Мученичество Св. Лаврентия состоялось 10 августа 258 г., во время
гонения императора Валериана (253-259).
<Боккаччо и Данте>
Впервые: Веселовский А. Н. Боккаччо, его среда и сверстники. Т. 2.
СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1894. Печатается
по этому изданию. Гл. XII. С. 556-603. Заголовок дан составителями
настоящей антологии.
1 Энеида, II, 689-691. В переводе С. Ошерова: «Если к мольбам
склоняешься ты, всемогущий Юпитер, / Взгляд обрати к нам, коль мы благочестьем
того заслужили, / Знаменье дай нам, Отец...»
2 «Странные (загадочные) стихи» (um.).
3 «Движущая, материальная, формальная, целевая» (лат.) — четыре
типа причин по Аристотелю (Физика, II, 3; Метафизика, V, 2).
4 Сер Грациоло де Бамбальоли (ок. 1291-1340) — канцлер Болоньи, один
из первых комментаторов «Божественной комедии».
5 Павлова Видения он, кажется, не знал... — «Видение Павла» (IV в.),
новозаветный апокриф с апокалиптическими сценами (в том числе яркими
картинами наказания грешников в аду).
6 ...Теофрастово De Nuptiis... — Сочинение «О браке» известно только
по цитате св. Иеронима, который включил (скорее всего, в собственном
706
Комментарии
переводе) размышления Теофраста о браке в свой памфлет «Против Иови-
ниана»: «Говорят, что на вес золота книга Теофраста о браке, в которой он
задается вопросом, должен ли разумный муж жениться». Тезисы Теофраста
в пересказе Иеронима таковы: женитьба препятствует занятиям философией,
на подарки жене нужно тратить много средств, ее нрав и ничтожные проблемы
отнимают силы и время; пытаясь сохранить целомудрие жены, получишь
упреки в недоверии; бедную жену тяжело поддерживать, богатую невозможно
терпеть; вокруг красивой жены будут вечно вертеться ухажеры, некрасивая
будет сама их искать; вместо жены гораздо лучше иметь слуг и друзей.
Книги «О браке» нет в списке сочинений Теофраста, который приводит Диоген
Лаэрций, из чего обычно заключают, что сочинение о браке могло входить
в более крупное, например, «О жизни» (Περί βίων).
7 «Кара наносимая» (лат.) (по объяснению Боккаччо, наносится самому
преступнику — например, лишение его какого-либо члена или жизни) и «кара
лишающая» (лат.) (лишение его почестей, свободы и т. п.).
8 ...без Цереры и Вакха хладеет любовь. — Точнее, «без Цереры и Либера
хладеет Венера» (цитата из «Евнуха» Теренция (732)).
9 «Невоздержанность, скотство, злоба» (um.).
10 «Золотые уста» (ср.-лат.).
IX
БОККАЧЧО В РОССИИ
В. П. Науменко
Новелла Боккаччо
в южно-русском стихотворном пересказе XVII—XVIII ст.
Впервые: Киевская старина. 1885. № 12. С. 273-306. Печатается
по этому изданию. Комментарии Ч. Бой ль ди Путифигари.
Науменко Владимир Павлович (1852-1919) — украинский педагог,
ученый-филолог, специалист по истории украинской литературы и украинского
фольклора, журналист, общественный деятель. Автор 115 журнальных
публикаций. В 1893-1906 — главный редактор ежемесячного историко-эт-
нографического и литературного журнала «Киевская старина».
1 Сказку «Слово о купце Басарге» А. Пыпин считает оригинальной
русской. По мнению других исследователей, она, как и многие другие,
заимствована из Византии. Содержание: Басарга с семилетним сыном Борзосмыслом,
или Мудросмыслом, прибыл в царство, где правил языческий царь Несмеян
Гордеевич, который задает им три загадки, угрожая смертью в случае, если
они не разгадают их. Басаргу спасает мудрость сына, который убивает царя
и сам восходит на трон.
2 «Римские деяния» (Gesta Romanorum, Historiae moralisatae) —
составленный примерно в конце XIII — начале XIV в. средневековый сборник
Комментарии
707
легенд на латинском языке, почерпнутых из жизни римских правителей
и снабженных нравоучительными рассуждениями.
3 «Зерцало Великое» (Speculum majus) — средневековая энциклопедия,
составленная Винцентием из Бове. Легло в основу дидактических поэм XIV
и XV вв. и «Божественной комедии» Данте.
4 «История о храбром рыцаре Петре Златых Ключей и о прекрасной
королевне неаполитанской Магилене» возникла не позднее середины XV в.
на основе провансальской поэмы XII в. Сюжет романа — история
разлученных судьбой любовников. Французская «Книга о прекрасной Магелоне»
(«Romant de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne de Naples») легла
в основу многочисленных переводов романа на западноевропейские языки
(немецкий, итальянский, испанский, польский, чешский и др.), переработок
в прозе и стихами.
Польский перевод этого произведения («Historya о Magielone krolewnie
Neapolitanskiey») был в 1680 г. переведен на русский язык.
5 «Повесть о преславном римском кесаре Оттоне» — перевод с польского
на русский язык повести об Октавиане (1677).
6 Вова Королевич — герой русского фольклора, богатырской повести
и лубочных произведений XVI в. Повесть является аналогом средневекового
французского романа о подвигах рыцаря Бово д'Антона, известного с XVI в.
в лубочных изданиях итальянских поэтических и прозаических произведений.
7 Фацеция (лат. facetia) — шутка, небольшой шуточный рассказ,
анекдот, в котором идет речь о каком-нибудь забавном приключении, смешной
выходке или приводятся остроумные ответы.
8 В книге шотландского историка Джона Данлопа (1785-1842) «История
повествовательной литературы» (1814) литературные памятники впервые
поставлены во взаимную связь и зависимость в широких масштабах.
9 Произведение итальянского драматурга Сильвано Рацци (1527-1611).
10 Французский перевод истории о Гвискарде и Сигизмунде Жана Флери
(«Traité très plaisant et récréatif de l'amour parfaite de Guisgardus et Sigismunde,
fille de Tancredus») вышел в Париже в 1493 г.
11 Поэма Уильяма Уолтера «Guystarde and Sygysmonde» (сомнительных
достоинств) была напечатана в 1532 г.
К. Н. Батюшков
Гризельда: Повесть из Боккаччо
Впервые: Опыты в стихах и прозе. СПб., 1817. 276-296. Печатается по:
Батюшков К Н. Гризельда: Повесть из Боккаччо // Батюшков К. Н. Опыты
в стихах и прозе / АН СССР; Изд. подгот. И. М. Семенко. М.: Наука, 1977.
(Лит. памятники). С. 165-175. Комментарии Ч. Бой ль ди Путифигари.
Батюшков Константин Николаевич (1787-1855) — русский поэт,
предшественник Пушкина.
708
Комментарии
Написано в конце 1816 — начале (до марта) 1817 г. Перевод повести
Дж. Боккаччо из «Декамерона» (последняя новелла десятого дня). Еще
незадолго до выхода «Опытов» Батюшков собирался скорее опубликовать
статью о Данте, чем издавать какие-либо свои переводы (см.: Пильщиков И. А.
Батюшков и литература Италии: Филологические разыскания / Под ред.
М. И. Шапира. М.: Языки слав, культуры, 2003), но впоследствии все же
переменил решение.
Перевод Батюшкова передает лишь суть рассказа Боккаччо. Он упрощает
сложный синтаксис исходного текста, зачастую сокращая рассказ Боккаччо,
лишая его двусмысленных и неясных мест. Перевод Батюшкова особенно
подчеркивает дидактическую сторону текста.
Батюшков не переводит название новеллы, в котором дается краткое
изложение сюжета, и начинает непосредственно с рассказа. Не включено в текст
и заключение, которым рассказчик, Дионео, завершает свою речь, и которое
è тексте Боккаччо возвращает слушателей из измерения героизма и святости
к более земным чувствам.
Несмотря на скрупулезные исследования, которые сюжета этой новеллы,
не обнаружено связей с реально существовавшими историческими
персонажами. Также у этой новеллы нет и прямых источников, хотя присутствуют
параллели с древнеиндийскими и буддийскими текстами (см. статью А.
Весе л овского «Новелла о Гризельде и русская сказка» в настоящем сборнике).
Тема преследуемой женщины и ее любви к супругу, подвергаемой самым
тяжелым испытаниям, присутствует в библейской традиции и имеет
определенное распространение в Средневековье.
А. Н. Веселовский
«Гризельда» Боккаччо и русская сказка
Переведено для настоящего издания К. С. Ланда по: Wesselofsky A. La Gri-
selda е la novella russa // Civiltà italiana. I. 1865.
<Декамерон,\/111,3>
Впервые: Боккаччо Дж. Декамерон. Пер. Александра Веселовского. М.:
Т-во И. Н. Кушнерев и К° и книжный магазин П. К. Прянишникова, 1892.
Печатается по: Боккаччо Дж. Декамерон / Пер. с ит. А. Н. Веселовского.
М.: ГИХЛ., 1955. С. 402-405.
Новелла не имеет непосредственного литературного источника; все ее герои
(Каландрино, Бруно, Буффальмако, Мазо дель Саджо) принадлежат к
флорентийской художественной среде; вероятно, еще при жизни большинство
из них стали персонажами анекдотических историй. Каландрино (Джованоццо
ди Пьерино) — второстепенный художник, упоминаемый Вазари, но больше
всего известный именно как герой трех новелл «Декамерона». Самый
значительный живописец из героев новеллы — Буффальмакко (Буонамико ди
Комментарии
709
Кристофано, ум. после 1340), автор знаменитых фресок Кампосанто в Пизе,
заслужил отдельное жизнеописание у Вазари («Жизнеописание Буонами-
ко Буффальмакко, флорентийского живописца»), в котором — возможно,
с оглядкой на Боккаччо — акцент делается в большей степени на остроумии
и комических ситуациях с участием Буффальмакко, чем на собственно
художественном таланте. Об остальных персонажах известно немного.
Шутник Мазо дель Саджо дает простаку Каландрино подслушать историю
о волшебной области Берлинцоне в стране басков, «в области, называемой
Живи-лакомо, где виноградные лозы подвязывают сосисками, гусь идет
за копейку, да еще с гусенком впридачу; есть там гора вся из тертого
пармезана, на которой живут люди и ничем другим не занимаются, как только
готовят макароны и клецки, варят их в отваре из каплунов и бросают вниз;
кто больше поймает, у того больше и бывает; а поблизости течет поток
из Верначчьо, лучшего вина еще никто не пивал, и нет в нем ни капли воды».
С XIII в. в поэзии вагантов появляется образ «сказочной страны» («Кукана»,
во Франции — «Кокень», в Италии — «Кокканья»), в которой комически
нарушено большинство социальных порядков (еда дается за лень, а если
будешь работать, останешься голодным; старуху-жену можно обменять на
красавицу и получить за это доплату и т. п.). Боккаччо локализует эту область
(Berlinzone — вероятно, от berlingare 'болтать', berlingaio 'обжора') в стране
басков, то есть на краю света (ср. VI, 10; VIII, 9); цена на гуся в одно денайо
(1/240 лиры, 0.05 г чистого серебра) примерно в 200 раз ниже лондонских цен
на гуся середины XIV в. (8 пенсов по 1.4 г серебра); верначча — изысканное
белое сухое вино (ср. VIII, 6; X, 2), поклонниками которого являлись Бруно
и Буффальмако (Флорентийский аноним), производится и сейчас в
окрестностях Сан-Джиминьяно.
Перспективу обрести экономические возможности, сравнимые с жизнью
в Берлинцоне, Каландрино видит в поисках гелиотропа, полудрагоценного
камня зеленого цвета с красными вкраплениями, делающие его носителя
невидимым (что, разумеется, дает ряд неоспоримых преимуществ, когда
речь идет о деньгах). Магические свойства этого камня (иногда
смешивающиеся со свойствами одноименного растения: «Этимологии», XVII, 9, 37; ср.
«Письмо правителям и народам Италии» Данте) неоднократно упоминаются
в античной, средневековой латинской и итальянской литературе. Плиний,
Марбод Реймсский и Альберт Великий приписывают гелиотропу магическое
свойство придавать лучам солнца кровавый оттенок, когда камень опущен
в воду. Уже Марбод наделяет гелиотроп способностью делать невидимым
(при соединении с растением гелиотропом), а также защищать от яда. Первое
свойство также упоминается в итальянской поэзии (Mare amoroso), а у Данте
два этих свойства камня смешиваются в яркой сцене «Ада» (XXIV, 91-93),
когда в надежде на гелиотроп отказано ворам (гелиотроп, конечно, является
предметом желаний для любого вора) в «змеином рве». В античности самый
известный случай камня, делающего его носителя невидимым — драконтит,
камень в перстне лидийского царя Гига («Жизнь Аполлония Тианского»
Филострата, III, 8; Геродот, I, 8-14; «Государство» Платона, 359d-360). Как
и в случае с Каландрино, в одной из версий легенды о Гиге (Птолемей Хенн),
710
Комментарии
заклятие невидимости разрушается в присутствии женщины; способность
женщины разрушать заклятия — распространенный фольклорный мотив
(С181.1-12 по Томпсону).
Новелла Боккаччо прибавляет популярности сюжету о камне, делающем
невидимым: так, у Саккетти (новелла 67) персонажи спорят о самом
драгоценном из камней, наряду с алмазом и рубином называется «каландринский
гелиотроп». Как и в ряде других новелл «Декамерона», в новелле о поисках
гелиотропа органично сочетаются общее комическое настроение и ученый
интерес Боккаччо к магии и народным поверьям.
Каландрино — один из самых популярных персонажей «Декамерона»;
после Боккаччо он становится персонажем многочисленных новелл, пьес
и опер, а его черты становятся характерными для образа простака в
классической итальянской («Грассо-резчик» Л. Пиранделло и др.) и французской
(герои А. Доде, «Весельчак Буффальмакко» А. Франса и т. п.) литературе.
H. М. Любимов
<Декамерон, VII, 2>
Впервые: Боккаччо Дж. Декамерон. М.: Художественная литература,
1970. Печатается по: Боккаччо Дж. Декамерон // Библиотека всемирной
литературы. М.: Эксмо, 2005. С. 548-552.
Любимов Николай Михайлович (1912-1992) — русский переводчик,
преимущественно с французского (Рабле, Мольер, Стендаль, Пруст и др.)
и испанского («Дон Кихот Ламанчский») языков.
Текст новеллы позаимствован Боккаччо из «Метаморфоз» («Золотого осла»)
Апулея (середина II в. н. э.). Текст романа Апулея был очень близко известен
Боккаччо (именно итальянскому гуманисту принадлежит честь открытия Апулея
для культуры Ренессанса): другой из вставных рассказов «Метаморфоз»
Боккаччо использует как источник для десятой новеллы V дня «Декамерона», а самый
известный эпизод латинского романа, сказка об Амуре и Психее, подробно
трактуется Боккаччо в «Генеалогии богов». Более важна структурная зависимость
«Декамерона» от «Золотого осла» : Апулей определяет свое произведение с самого
начала как собрание «милетских побасенок», имея в виду специфический жанр
фривольных, зачастую сальных рассказов (название дано по «Милетским
рассказам» Аристида Милетского, II в. до н. э. ; на латинский язык они были переведены
веком позже Л. Корнелием Сисенной); в «Золотом осле», как и в «Декамероне»,
за этой неглубокой формой скрывается тщательно продуманная композиция.
Применительно к конкретной новелле, впрочем, очевидна разница в
понимании этого жанра у античного и средневекового автора. Приведем
соответствующий текст Апулея (IX, 5-7) в замечательном переводе М. А. Кузмина:
«Жил один ремесленник в крайней бедности, снискивая пропитание
скудным своим заработком. Была у него женка, у которой тоже за душой ничего
не было, но которая пользовалась, однако, известностью за крайнее свое
распутство. В один прекрасный день, только что выходит он утром на свою работу,
Комментарии
711
как é дом к нему потихоньку пробирается дерзкий любовник. И пока они
беззаботно предаются битвам Венеры, неожиданно возвращается муж, ничего
не знавший о таких делах, даже не подозревавший ничего подобного. Найдя
вход закрытым и запертым, он еще похвалил осторожность своей жены, стучит
в дверь и даже свистит, чтобы дать знать о своем присутствии. Тут продувная
баба, очень ловкая в таких проделках, выпустив любовника из своих крепких
объятий, незаметно прячет его в бочку, которая стояла в углу, наполовину
зарытая в землю, но совсем пустая. Потом она отворяет дверь, и не поспел муж
переступить порог, как она набрасывается на него с руганью:
— Чего же ты у меня праздно слоняешься попусту, сложивши руки? Чего
не идешь, как обычно, на работу? О жизни нашей не радеешь? О пропитании не
заботишься? А я, несчастная, день и ночь силы свои надрываю за пряжей, чтобы
хоть лампа в нашей конуре светила! Насколько счастливее меня соседка Дафна,
которая с утра, наевшись досыта и напившись допьяна, с любовниками валяется!
Муж, сбитый с толку подобным приемом, отвечает:
— В чем дело? Хозяин, у которого мы работаем, занят в суде и нас
распустил; но все-таки, как нам пообедать сегодня, я промыслил. Видишь эту
бочку? Всегда она пустая, только место даром занимает, и пользы от нее, право,
никакой нет, только что в доме от нее теснота. Ну, вот я и продал ее за пять
денариев одному человеку, он уже здесь, расплатится сейчас и свою
собственность унесет. Так что ты подоткнись и немного помоги мне — надо вытащить
ее из земли, чтобы отдать покупателю.
Услышав это, обманщица, сразу сообразив, как воспользоваться подобным
обстоятельством, с дерзким смехом отвечает:
— Вот муженек-то достался мне так муженек! Бойкий торговец: вещь,
которую я, баба, дома сидя, когда еще за семь денариев продала, за пять спустил!
Обрадовавшись надбавке, муж спрашивает:
— Кто это тебе столько дал?
Она отвечает:
— Да он, дурак ты этакий, давно уже в бочку залез посмотреть
хорошенько, крепкая ли она.
Любовник не пропустил мимо ушей слов женщины и, быстро
высунувшись, говорит:
— Хочешь ты правду знать, хозяйка? Бочка у тебя чересчур стара и много
трещин дала, — затем, обратясь к мужу и как будто не узнавая его, добавляет:
— Дай-ка мне сюда, любезный, кто б ты там ни был, поскорей лампу, чтобы
я, соскоблив грязь внутри, мог видеть, годится ли она на что-нибудь — ведь
деньги-то у меня не краденые, как, по-твоему?
Недолго думая и ничего не подозревая, усердный и примерный супруг этот
зажег лампу и говорит:
— Вылезай-ка, брат, и постой себе спокойно, покуда я тебе сам ее хорошенько
вычищу. — С этими словами, скинув платье и забрав с собою светильник,
принимается он отскребать многолетнюю корку грязи с гнилой посудины. А любовник,
молодчик распрекрасный, нагнул жену его к бочке и, пристроившись сверху,
безмятежно обрабатывал. Да к тому же распутная эта пройдоха просунула
голову в бочку и, издеваясь над мужем, пальцем ему указывает, где скрести,
712
Комментарии
в том месте да в этом месте, да опять в том, да опять в этом, пока не пришли оба
дела к концу, и, получив свои семь денариев, злополучный ремесленник
принужден был на своей же спине тащить бочку на дом к любовнику своей жены».
Даже русский перевод позволяет видеть ряд практически дословных
соответствий текста Боккаччо своему источнику. Целиком сохраняя структуру
этой новеллы, автор «Декамерона», однако, кардинально меняет ее
стилистику и настроение. Новелла Апулея, как и в целом содержание VII-X книг
«Метаморфоз», пессимистична, концентрируется на бедности и человеческих
пороках; беспросветная картина лежащего во зле мира и невиданных
злодейств (особенно X, 23-28) подготавливает спасение Луция из облика осла
и его обращение в мистерии Исиды (XI). Боккаччо избавляется от апулеев-
ского «смешения зверства и мистицизма» (Флобер), его новелла читается
совершенно иначе: передавая богатую ритмику и лексику текста Апулея,
Боккаччо делает больший акцент на драматической структуре новеллы,
заменяет в ряде случаев косвенную речь Апулея колоритными диалогами,
меняя позицию сурового наблюдателя-моралиста на человеческую
симпатию к своим героям. Даже ключевая для мотива продажи бочки атмосфера
бедности не превращает новеллу Боккаччо в социальный комментарий, а ее
персонажей — в плоскую иллюстрацию нравов.
Действие рассказа Апулея подчеркнуто лишено деталей; локализуя
новеллу в Неаполе, Боккаччо делает историю более конкретной, а ее героев — более
живыми. Так, Перонелла — популярное имя французского происхождения;
«Охота Дианы» упоминает неаполитанскую красавицу Перонеллу д'Арко.
Семейство Скриньяри, владевшее в начале XIV в. имуществом в районе
площади Портанове, также упоминается в «Охоте Дианы» (отметим, что
именно Боккаччо дает любовнику имя и реплики). «Улица... называемая
Аворио» — не сохранившаяся улица или площадь в Неаполе (совр. район
Орефичи). «Святой Галеон» — по-видимому, локальный неаполитанский
святой; Св. Эвкалиону (Св. Галеону) была посвящена часовня, находившаяся
неподалеку от указанного в новелле места. «Флорины», за которые продается
бочка, — в оригинале «gigliati», «украшенные лилиями» (um.) —
серебряный грош (3.73 г чистого серебра). Чеканку джильято в Неаполе начал Карл
Анжуйский в 1303 г.; лилия на реверсе — символ французской короны
(флорентийские золотые флорины также имели лилию, символ Флоренции,
на реверсе, из-за чего так же могли называться «джильято»; это и привело,
вероятно, к ошибке переводчика). Боккаччо старается быть точным во всем:
даже в описании сцены Перонеллы и Джанелло над бочкой дается ученая
характеристика с аллюзией на Овидия («Наука любви», III, 785-786).
Фабула новеллы не принадлежит автору «Декамерона», но характер и
настроение текста — его собственные и ясно говорят о его литературном
мастерстве: «Изменения, которые делает Боккаччо [по сравнению с текстом Апулея],
немногочисленны, но все они — тончайшие» (Л. ди Франча). Из Боккаччо
новеллу о бочке заимствуют итальянские новеллисты (Серкамби), затем — Ла-
фонтен. Старофранцузские «Сказ о лохани» (Diet du Cuvier) и «Фарс о лохани»
(Farce du Cuvier) не имеют с новеллой Боккаччо ничего общего.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*
Абеляр Петр (1080-1143) —
французский философ и богослов 478, 699
Аванци Якопо (ум. 1416) —
итальянский художник эпохи Возрождения
391
Август Октавиан (63 до н. э. — 14 н. э.) —
римский политический деятель,
основатель Римской империи,
император с 27 г. до н. э. 117, 257, 335,
432-434, 571, 707
Августин бл. (354-430) — христианский
философов и богословов, отец
Церкви, епископ Гиппонский 6,180,410,
580, 583, 584, 687, 699
Аверроэс (Ибн Рушд; 1136-1198) —
арабский философ 124, 600
Авиценна (Ибн Сина; 980-1037) —
персидский ученый, философ и врач
124,600
Авл Геллий (ок. 130 — ок. 170) —
римский антиквар, автор «Аттических
ночей» 581
Александр Великий (356-323) —
македонский царь, выдающийся
полководец 210, 220, 598, 626, 704
Алигьери Данте — см. Данте Алигьери
Алигьери Пьетро (1300-1364) — сын
Данте Алигьери, литератор 592,
596,597
* Указатель составили: В. В.
Алигьери Якопо (1289-1348) —
итальянский поэт, сын Данте
Алигьери и автор комментария к первой
кантике «Божественной комедии»
592,597
Алкивиад (450-404 до н. э.) — афинский
политический деятель времен
Пелопоннесской войны 144, 601
Альбанцани Донато (ум. после 1411) —
итальянский гуманист 547, 572
Альберти Леон Баттиста (1404-1472) —
итальянский художник, архитектор,
поэт и философ 570
Альбоин (526-572/573) — первый
правитель итальянского королевства
лангобардов 490
Альбумазар (Абу Машар аль-Балхи;
787-886) — персидский математик
и астроном 475
Альфонс X (1221-1284) — король
Кастилии и Леона (с 1252), король
Германии в 1257-1273 гг. 49, 372, 414
Амвросий Медиоланский (ок. 340-
397) — епископ Милана, латинский
учитель Церкви 396, 452
Андалоне дель Негро (ок.1270 — после
1342) — итальянский астролог,
автор «Введения в юдициарную
астрологию». Боккаччо характеризует
[, Е. А. Булучевская, Е. А. Золотайкина.
714
Указатель имен
Андалоне как своего «учителя в
движениях звёзд» 60, 475, 485, 578, 586
Анджольери Чекко (ок. 1260-1312) —
итальянский поэт, современник
Данте, которому он посвятил три сонета
356,450,514,701
Андрей Венгерский (1327-1345) —
первый муж неаполитанской королевы
Иоанны; после конфликта за власть
с собственной супругой был задушен
ее сторонниками 62, 152, 153, 505,
506,549
Андрей Капеллан — автор
трактата «Об искусстве честной любви»
(XII в.) 70, 159, 367, 402, 540, 681,
686, 702
Ансельм Перипатетик (Ансельм Бесат-
ский, XI в.) — логик, автор
сочинения «Риторимахия» 574
Ариосто Лодовико (1474-1533) —
итальянский поэт и драматург эпохи
Возрождения. Знаменит поэмой
«Неистовый Роланд» 12, 197, 306-307
Аристотель (384-322) — греческий
философ 24, 124, 210, 220, 534, 580,
585, 603, 705
Арриго да Сеттимелло — итальянский
поэт XII в., автор крупной латинской
поэмы о ничтожестве человеческого
существования 540, 573
Артур — легендарный король бриттов
(V-VI вв.), персонаж
многочисленных рыцарских романов — 224, 579
Астиаг — мидийский царь (585-550),
дед Кира Великого 540
Аттила (ум. 453) — вождь племени
гуннов 579,590
Ауэрбах Эрих (1892-1957) — немецкий
филолог-романист 273, 275
Афанасьев Александр Николаевич
(1826-1871) — русский собиратель
фольклор 219,312,439, 665
Ахилл Татий (II в.) — греческий
писатель, автор романа « Левкиппа и Кли-
тофонт» 191, ££7
Аччайуоли Никколо(1310-1365) —
представитель рода банкиров,
великий сенешаль Неаполитанского
королевства, меценат, покровитель
искусств (в частности, Петрарки
и Боккаччо) 62, 65, 151-153, 169,
402, 479, 503-504, 506, 507, 509,
552-555, 557, 587, 604
Бальделли Бони Джованни Баттиста
(1766-1831) — итальянский
историк литературы, автор биографии
Боккаччо 114, 474, 484
Бальдуино Армандо (1937) —
итальянский литературный критик,
филолог, писатель 192
Бальзак Оноре де (1799-1850) —
французский писатель-реалист 254, 28
Банд ел ло Маттео (1485-1561) — видный
итальянский новеллист 11-12, 55,
284-286
Бандино Доменико (ум. 1418) —
итальянский гуманист 571, 576
Барсов Николай Иванович (1839-
1903) — российский богослов,
публицист, профессор гомилетики 17
Бартоли Адольфо (1833-1894) —
итальянский педагог и публицист 101,
103,118
Баткин Леонид Михайлович (р. 1932) —
российский историк, литературовед,
культуролог 19
Батюшков Константин Николаевич
(1787-1885) — русский поэт 9, 12,
109, 448, 707, 708
Бахтин Михаил Михайлович (1895-
1975) — русский философ,
культуролог, теоретик европейской культуры
и искусства 453
Беатриче (Биче Портинари; 1366/1267-
1289) — тайная возлюбленная Данте
Алигьери 36, 40,44,61, 77, 91,115,
148, 165, 170, 397, 400, 512, 595,
596, 607, 610, 686, 701
Указатель имен
715
Беда Достопочтенный (672/673-735) —
бенедиктинский монах, автор одной
из первых историй Англии 579, 583
Белинский Григорьевич Белинский
(1811-1848) — русский мыслитель,
писатель, литературный критик,
публицист, философ-западник 260,
266,288
Бенвенуто да Имола (1336-1390) —
итальянский гуманист, комментатор
Петрарки и Данте 557, 577, 583,
608-610
Бенуа де Сент-Мор (ум. 1173) —
французский поэт, автор «Романа о Трое»
37-38,70-71
Бергальи Джироламо (1504-1586) —
итальянский писатель-новеллист,
поэт, драматург 286
Бернардино да Полента (ум. 1359) —
правитель Равенны, представитель
гвельфской партии 547
Бернард о ди Джунти (1487-1551) —
итальянский издатель 167, 186
Бероальд де Вервиль (1556-1626) —
французский писатель, автор
сатирического сочинения «Le Moyen de
Parvenir» 630
Бизе Жорж (1838-1875) — французский
композитор периода романтизма,
автор оперы «Кармен» 9
Бицилли Петр Михайлович (1879-
1953) — русский историк,
литературовед и философ 16
Бишьони Антонио Мария (1674-1756) —
флорентийский издатель 504, 679,
697
Блок Александр Александрович (1880-
1921) — русский поэт 305
Боккаччино ди Келлино (ум.
1349/1350) — купец, отец Джованни
Боккаччо 168
Боккаччо Якопо (ум. после 1376) — брат
Джованни Боккаччо 153, 552, 553,
563,608
Боники Биндо (1260-1317) — сиенский
поэт 395, 398,540
Бонифаций VIII — папа римский (1294-
1303), чьи политические интриги
привели к изгнанию из Флоренции
белых гвельфов (в том числе Данте)
и открытому конфликту с
французским королем Филиппом Красивым,
в котором Бонифаций потерпел
поражение 332,680
Бортнянский Дмитрий Степанович
(1751-1825) — российский
композитор и дирижер 9
Боэций (ум. 524) — римский философ
и государственный деятель, автор
«Утешения философией» 124, 578,
581,582,585
Бранка Витторе (1913-2004) —
итальянский филолог и литературный
критик, крупнейший современный
специалист по Боккаччо 186, 452,
681
Брунгильда (ум. 613) — королева
франков, супруга Сигиберта 1480
Брунетто Латини (ок. 1220-1294) —
флорентийский поэт, ученый,
государственный деятель, учитель
молодого Данте. Составитель
обширной энциклопедии на французском
языке «Сокровище», автор
аллегорической поэмы на итальянском
языке «Малое сокровище» 24, 581,
595, 607, 680
Бруни Леонардо(1370/74-1444) —
итальянский гуманист, писатель,
историк, знаменитый ученый эпохи
Возрождения 114, 569, 630
Бруни Франческо (1315? — 1385?) —
итальянский политик, секретарь
Урбана V, Григория XI и Урбана VI,
друг и корреспондент Петрарки,
Боккаччо и Салютати 593
Буало Никола (1636-1711) —
французский поэт, критик, теоретик
классицизма 330
Будда (Сиддхартха Гаутама; 563/623-
483/ 543 гг. до н. э.) — центральная
фигура буддизма 319, 691
716
Указатель имен
Бунин Иван Алексеевич (1870-1953) —
русский писатель и поэт, первый
отечественный лауреат Нобелевской
премии по литературе (1933) 16,
311-313
Буонамико Буффальмакко (ум. после
1341) — итальянский художник,
персонаж нескольких новелл
«Декамерона» 358, 708, 709
Буонкомпаньо да Синья (ум. после
1240) — итальянский эрудит,
историк, философ 571
Бурдах Конрад (1859-1936) —
немецкий лингвист, литературовед 25
Буркхардт Якоб (1818-1897) —
швейцарский историк культуры 236, 689
Буслаев Фёдор Иванович (1818-1898) —
русский языковед, фольклорист,
историк литературы и искусства,
глава русской мифологической
школы 218,623
Буччьо ди Раналло (1294-1363) —
итальянский писатель 346, 347
Бэкон Фрэнсис (1561-1626) —
английский философ, историк, политик,
основоположник эмпиризма 272
Бюргер Готфрид Август (1747-1794) —
немецкий поэт, автор баллад 630
Вазари Джорджо (1511-1574) —
итальянский живописец, архитектор
и биограф 357, 358, 708, 709
Валерий Максим (I в.) — популярный
в Средние века римский писатель
периода правления императора Ти-
берия 540, 581, 582, 609, 702, 705
Валла Бруно — итальянский типограф
192
Валла Лоренцо (1407-1457) —
итальянский гуманист, родоначальник
историко-филологической критики 124
Варлаам Калабрийский (1290-1348) —
византийский философ, астроном
и математик 470, 475, 580, 583, 588
Варрон Марк Теренций (116-27 гг.
до н. э.) — римский
ученый-энциклопедист и писатель 582, 584, 705
Вас — нормандский поэт XII в., автор
«Романа о Бруте» 540
Вениамин Тудельский (ум. 1173) —
средневековый еврейский
путешественник 250
Вергилий (Публий Вергилий Марон,
70-19 до н. э.) — римский
эпический поэт 25, 73, 76, 95, 118, 171,
191, 210, 221, 382, 410, 515, 528,
534, 541-543, 545-549, 565, 577,
580-582, 594, 598-599, 602, 605,
607, 609, 615, 618, 683,684,686
Верховский Юрий Никандрович (1878-
1456) — поэт, переводчик, историк
литературы 18,168,194
Веселовский Александр Николаевич
(1838-1906) — русский историк
литературы, специалист по
литературе эпохи Возрождения, академик
(с 1877) 8,13-15,17,18, 23, 28-31,
42, 44, 48, 89, 92,110,183,189, 191,
263, 268, 294, 295, 309, 311, 329,
441, 444, 448, 679, 685, 692-695,
697, 701, 703, 705, 708
Вибий Секвестр (IV/V в.) — римский
писатель, автор географического
лексикона 488, 581
Вивальди Антонио (1778-1841) —
итальянский композитор 9
Видаль Арно — окситанский трубадур
XIV в. 363, 693
Вийон Франсуа (ум. после 1463) —
французский поэт позднего
Средневековья 248
Викрам Йорг (ок. 1505 — ок. 1562) —
немецкий мейстерзингер 265
Виллани Джованни (ум. 1348) —
флорентийский хронист, историк,
государственный деятель, дипломат,
автор «Новой Хроники» 191, 199,
346,502,588,599,692
Указатель имен
717
Виллани Маттео — флорентийский
хронист, брат Джованни Виллани 309,
347, 593, 692
Виллани Филиппо — флорентийский
хронист, продолжатель «Новой
Хроники», сын Маттео Виллани 149,
346,391,474,481,571,581
Вильгельм I «Железная рука» (ок.
1010-1046), граф Апулии (с 1042)
628
Вильгельм II (1155-1189) — король
Сицилии с 1166 г. 480, 589
Вильям Вальтер — английский поэт
XVI в., автор поэмы на мотив
сюжета о Гвискардо и Гисмонде (1532) 630
Винцентий из Бове (ок. 1190 — ок.
1264), монах-доминиканец,
просветитель, автор энциклопедии
«Великое зерцало» 264, 690, 707
Висконти Бернабо (1323-1385) —
правитель Милана с 1354 по 1385 г. 145,
230, 497, 689
Виталий из Блуа (XII в.), средневековый
латинский комедиограф 144, 684
Вольтер (1694-1778) — французский
философ-просветитель, поэт,
прозаик и сатирик 176, 270
Гайтон (Хетум Патмич; середина
1240 — χ — 1310 — е) — армянский
государственный деятель и историк
588
Га лен (ум. после 200) — римский медик
и мыслитель 600
Галлиен — римский император (253-
268)589
Ганс Сакс (1494-1576) — немецкий
поэт, мейстерзингер, драматург 9,109
Гаспари Адольфо Роберт (1849-1892) —
немецкий филолог-романист 79,123
Гауптман Герхарт (1862-1946) —
немецкий драматург, лауреат Нобелевской
премии по литературе (1912) 109
Гауэр Джон (1330-1408) — английский
поэт, писавший в традиций куртуаз-
ности и морального аллегоризма 372
Гвидо делле Колонна (1210-1287) —
итальянский писатель, поэт
сицилийской школы 37, 71
Гвиттоне д'Ареццо (1230-1294) —
итальянский поэт и церковный деятель
398
Геббель Кристиан Фридрих (1813-
1863) — немецкий драматург 260
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-
1831) — немецкий философ,
представитель немецкой классической
философии 243, 252, 260, 265, 266
Гейвуд Джон (1497-1580?) —
английский поэт и драматург 625
Гейгер Людвиг (1848-1919) — немецкий
историк и литературовед 475
Гейзе Карл (1797-1855) — немецкий
филолог-классик 260
Гелинанд из Фруамона (ок. 1160 —
после 1229) — французский поэт,
хронист, церковный писатель. Наиболее
известна его латинская всемирная
хроника 365, 694
Гелиодор — греческий писатель III—
IV вв., автор романа «Эфиопика» 328
Генрих VI (1165-1197) — король
Германии (с 1169), Италии (с 1186),
Сицилии (с 1194), император Священной
Римской Империи (с 1191) 480, 501
Генрих II (1133-1189) — первый король
Англии из династии Плантагене-
тов, один из самых могущественных
монархов XII в, владения которого
простирались от Пиренеев до
Шотландии 688
Генрих VII (ок. 1275-1313) — граф
Люксембурга (с 1288), король Германии
(с 1308), император Священной
Римской империи (с 1312) 599
Генрих Молодой Король (1155-1183) —
сын Генриха II, номинальный
король Англии (1170-1183)222, 688
Гервасий Тильберийский (ум.
1228/1235) — англо-латинский
писатель, автор сочинения
«Императорские досуги» 579,583
718
Указатель имен
Гесиод (VIII-VII вв. до н. э.) —
греческий поэт, представитель
дидактического эпоса 492, 700
Гете Иоганн Вольфганг (1749-1832) —
немецкий поэт 109, 260, 261, 290,
359,691
Гирций Авл (90-43 до н. э.) — римский
политик, консул в 43 г. до н. э.,
автор VIII книги «Записок о галльской
войне» Цезаря 586
Гитлер Адольф (1889-1945) —
рейхсканцлер, вождь (фюрер) Германии
16
Гоголь Николай Васильевич (1809-
1852) — русский прозаик,
драматург, поэт, критик, публицист 11,
167,175,266,305
Голенищев-Кутузов Илья Николаевич
(1904-1969) — русский и советский
филолог, поэт, переводчик 16,19, 20
Гольдони Карло (1707-1793) —
венецианский драматург 9, 682
Гомер (VIII в. до н. э.) — легендарный
греческий поэт-сказитель, автор
«Илиады» и «Одиссеи» 64, 99, 528,
541, 549, 555, 577, 580-582, 585,
590,681-684,703
Гонкур Жюль (1830-1870) —
французский писатель-натуралист 204
Гонкур Эдмон (1822-1896) —
французский писатель-натуралист 204
Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65-8
до н. э.) — древнеримский поэт
золотого века римской литературы
492, 570, 580, 581, 613, 617, 700, 70S
Горбов Михаил Акимович (1826-
1894) — российский переводчик 168
Гортис Аттилио (1850-1926) —
итальянский филолог и историк литературы,
автор ряда сочинений о Боккаччо
478, 485, 489, 491, 501-506, 509,
699
Гоффеншефер Вениамин Цезаревич
(1905-1966) — советский
литературный критик 261, 277
Грацини Антонио-Франческо (1503-
1583) — итальянский поэт,
основатель и президент
«Флорентийской академии» и «Академии делла
Круска». Автор юмористических
стихов, сатир, романов 286
Григорий Великий — римский папа
(590-604), автор ряда чрезвычайно
популярных в христианском мире
толкований и проповедей 220, 688
Гуардати Мазуччо (Томмазо; 1410-
1475) — итальянский писатель,
автор сборника итальянских новелл
«Новеллино» 11, 55, 283
Гуаско Аннибале (1640-1619) —
итальянский поэт 630
Гугон IV Лузиньян (ум. 1359) — король
Кипра и титулярный король
Иерусалима (с 1324), адресат «Генеалогии
богов» Боккаччо 469, 574, 590
Гугон Сансеверино (1330-1403) — граф
Потенцы 557
Гульельмо Пастренго (1290-1362) —
юрист, энциклопедист, друг
Петрарки 571, 577
Д'Обинье Теодор Агриппа (1552-1630) —
французский писатель и поэт эпохи
Возрождения 265
Данлоп Джон Колин (1785-1842) —
шотландский историк 630, 707
Данте Алигьери (1265-1321) —
итальянский поэт, кумир Боккаччо 7,
11,12,16, 23, 24, 26, 28, 31, 35, 40,
41, 44-45, 56, 58, 60, 61, 64, 66-67,
69, 74-79, 88, 91, 93, 96, 100, 101,
103, 113-117, 125, 142, 144, 148,
164, 165, 168, 169, 171, 180, 181,
184, 191, 196, 206, 216, 220, 221,
230, 231, 234, 237, 390, 397, 403,
414, 415, 442, 444, 445, 447, 450,
451, 457, 458, 498, 509, 512, 513,
538-540, 546-548, 560-562, 564,
565, 569, 573, 574, 576, 578, 579,
581, 585, 586, 588, 591, 593-602,
604-607,609-612
Указатель имен
719
Данте да Майано — флорентийский
поэт XIII в., автор сонетов на
итальянском и окситанском языках,
старший современник Данте Али-
гъери 398
Дарвин Чарлз (1809-1882) — танглий-
ский естествоиспытатель, создатель
дарвинизма 308
Дарет Фригийский — вымышленный
автор «Повести о разрушении Трои»
581, 704
Делоне Томас (ум. 1600) — английский
романист 265
Демосфен (384-322 до н. э.) —
знаменитый греческий оратор 541, 582
Дефо Даниэль (1660/ 1661-1731) —
английский писатель и публицист
346,692
Деций — римский император (249-251),
гонитель христиан 589, 705
Джери д'Ареццо (1270-1339) —
итальянский писатель и юрист 576, 610
Дживелегов Алексей Карпович (1875-
1952) — историк, искусствовед,
переводчик 19, 110, 194, 687
Джиральди Чинтио (1504-1573) —
итальянский ученый — гуманист,
теоретик литературы, писатель 285, 286
Джованни ди Вирджилио (ум. после
1327) — литератор и грамматик,
преподаватель латинской поэзии
576,585
Джованни из Пизы — итальянский
художник XIV в. 588
Джовио Паоло (1484-1552) —
итальянский историк, врач 474
Джорджоне (1477-1510) —
венецианский художник 20, 462
Джотто (1267-1337) — итальянский
художник и архитектор эпохи
Проторенессанса. Одна из ключевых
фигур в истории западного искусства
231, 236, 356-358, 390, 391, 588,
609,692
Джунти Бернардо (ум. 1550/1551) —
флорентийский и венецианский
издатель 187, 188
Джунти Филиппо (1450-1517) —
флорентийский и венецианский
издатель 187,188
Дзаноби да Страда (ум. 1363) —
неаполитанский гуманист,
приближенный неаполитанского двора.
Находился в дружественных отношениях
с Петраркой и Боккаччо 62, 200,
498, 499, 500-504, 507, 540, 571,
572, 577, 584, 586-589, 593
Дзено Апостоло (1668-1750) —
венецианский поэт, драматург и либреттист
488
Дзумбини Бонавентура (1836-1816) —
итальянский литературный критик
123,190
Диктис — легендарный автор
«Дневника троянской войны» 581, 583, 704
Дино дель Гарбо (1270-1327) —
итальянский философ и врач, автор
комментариев к сочинениям
Авиценны и толкований к сочинениям
Гиппократа 588
Диоген (ум. 323 до н. э.) — греческий
философ, представитель школы
киников 220,590
Дионисий Ареопагит (ум. 96) —
христианский афинский мыслитель,
под чьим именем в V-VI вв. были
написаны т. н. «Ареопагитики» 584
Диоген Лаэрций — позднеантичный
историк философии 706
Дионисий из Борго Сан Сеполькро (Ди-
онисио Роберти; 1300-1342) —
итальянский богослов, епископ,
духовник Петрарки, учитель Боккаччо
575, 585
Доде Альфонс (1840-1897) —
французский романист, автор серии романов
о Тартарене из Тараскона 204-205,
688, 710
Дольчи Карло (1616-1686) —
итальянский художник, чье «условное
720
Указатель имен
и легкое благочестие» сделало его
популярным у современников, а Ве-
селовскому дало повод сравнить его
с Петраркой 396, 695
Донат Элий (середина IV в.) — римский
грамматик, учитель риторики 548
Донати Форезе (XIII в.) — приятель
Данте и родственник его жены Джеммы
475,588,589, 599, 601
Донато дельи Альбанцани (1328-
1411) — итальянский гуманист,
филолог, ритор 508, 572
Дони Антон-Франческо (1513-1574)—
писатель, новеллист, пилигрим 284,
285
Доротея ди Гонзага (1449-1467) — дочь
Лудовико III Гонзага 187
Драйден Джон (1631-1700) —
английский поэт-классицист 630
Еврипид (ум. 406 до н. э.) —
древнегреческий драматург, представитель
классической афинской трагедии
541
Евсевий (ум. 340) — римский историк,
автор «Церковной истории» 473,
587, 698
Евстафий Солунский (ок. 1115—1195) —
византийский историк, комментатор
Гомера, архиепископ Фессалони-
кийский 402
Евтропий — римский историк IV в.,
автор «Бревиария от основания
города» 587, 589, 704
Елизавета I (1533-1603) — королева
Англии и Ирландии с 1558 г. 630
Жак де Витри (ум. 1240) —
французский проповедник, кардинал
(с 1229) 264
Жак де Моле (1244-1314) — последний
великий магистр ордена тамплиеров
485
Жан де Мён (ум. 1305) — французский
поэт и переводчик, автор второй
части «Романа о Розе» 540
Жебар Эмиль (1839-1908) —
французский историк и литератор 278, 281
Жорж Санд (1804-1876) — французская
писательница 204
Иаков (Израиль) — библейский
персонаж, прародитель еврейского народа
369, 507
Иванов Вячеслав Иванович (1866-
1949) — русский поэт-символист,
философ, переводчик, драматург,
литературный критик, идеолог ди-
онисийства 178
Иероним (342-419/420) — церковный
писатель, создатель канонического
латинского перевода Библии
(«Вульгаты») 580, 7021 705. 706
Иероним Скфарцафико (XV в.) —
венецианский издатель 186
Иисус Христос (ум. ок. 33) —
центральная фигура христианского учения
212, 221, 322, 364, 369, 471, 487,
500, 507, 534, 549, 570, 582, 587,
597, 599, 600
Илличевский Алексей Демьянович
(1798-1837) — русский поэт 19
Илличини Бернардо — итальянский
новеллист 283
Иннокентий III (1161-1216) — папа
римский с 1198 по 1216 г. 540, 702
Иоанн IV (1530-1584) — первый царь
всея Руси (с 1547 г.). 318
Иоанн Калита (1288-1340) — князь
Московский с 1325 г., Великий князь
Владимирский, Князь Новгородский
с 1328 по 1337 г. 364
Иоанн Максимович (1651-1715) —
епископ Православной российской
церкви 623, 625
Иоанн Милостивый (ум. 610) —
александрийский патриарх 364
Иоанн Солсберийскии (1115/1120-
1180) — англо-французский бого-
Указатель имен
721
слов, схоластик, писатель, педагог,
епископ Шартра (1176—1180) 478
Иоанна (папесса) — легендарная
женщина, якобы занимавшая папский
престол в 850-х гг. 480, 482, 501
Иоанна I Неаполитанская (1326-
1382) — герцогиня Прованская,
королева Неаполитанская с 1343 г.
45, 62, 64, 152, 153, 479, 481, 506,
532, 549, 557, 559
Иоахим Флорский (около 1132-1202) —
монах цистерцианского ордена,
итальянский мыслитель, мистик-
прорицатель, один из главных
представителей средневекового хилиазма
25, 680
Иосиф Флавий (37-100) — римский
историк еврейского
происхождения, автор «Иудейской войны) 309,
580, 587
Ипсикратея (I в. до н. э.) — понтийская
царица 619
Ирина (ок. 752-803) — византийская
императрица 480
Исидор Севильский (560-636) —
архиепископ Севильи в вестготской
Испании, автор «Этимологии»,
важнейшей средневековой
энциклопедии 579,583
Кавальканти Гвидо (1255-1300) —
итальянский философ и поэт 321, 322,
356, 357, 403, 513, 514, 701
Кавальканти Майнардо (ум. 1379) —
знатный флорентинец, маршал
королевы Иоанны, друг Боккаччо 25,
31,100,141,409, 487,499, 514, 553,
558, 559, 607
Каллисфен (360-328 до н. э.) —
греческий историк, оставивший описание
персидского похода Александра
Великого 583, 626, 704
Кальвин Жан (1509-1564) —
французский протестантский богослов,
основатель кальвинизма 249
Кальмо Андреа (ум. 1571) —
итальянский драматург 350
Кальпурний (I в.) — римский поэт 585
Камоэнс Луис (1524-1580) —
португальский поэт, автор поэмы «Лу-
зиады» 69
Камю Альбер (1913-1960) —
французский писатель-экзистенциалист,
лауреат Нобелевской премии (1957),
автор романа «Чума» 8
Кантемир Антиох Дмитриевич (1708-
1744) — русский поэт-сатирик,
дипломат, деятель раннего русского
Просвещения 634, 637
Каплинский Василий Яковлевич
(1892-1938) — латинист,
заведующий кафедрой всеобщей
литературы Саратовского университета
в 1918-1930 гг. 19
Каппеллетти Ликурго (1842-1921) —
итальянский историк 140
Караджич Вук (1787-1864) — сербский
лингвист 365
Кардуччи Джозуэ (1835-1907) —
итальянский поэт XIX в., лауреат
нобелевской премии по литературе
(1906)104, 175,191
Карл (1323-1348) — неаполитанский
дворянин, граф Гравины, герцог
Дураццо 586
Карл I Анжуйский (1227-1285) —
король Сицилии в 1266-1282 гг.,
король Неаполя в 1282-1285 гг. 49,
120
Карл IV (1316-1378) — король
Богемии (с 1346), император Священной
Римской империи (1355) 487, 507,
571,600
Карл Безземельный (1270-1325) — граф
де Валуа с 1286 г., титулярный
император Латинской империи,
титулярный король Арагона 313
Карл Великий (742/747 или 748-814) —
король франков с 768 г., король
лангобардов с 774 г., герцог Баварии
722
Указатель имен
с 788 г., император Запада с 800 г.
124, 219,222
Кастильоне Бальтассаре (1478-1529) —
итальянский писатель-гуманист,
автор сочинения «О придворном» 24
Катерина Сиенская (1347-1380) —
сподвижница Франциска Ассизского,
основательница монашеского ордена
кларисс 396, 695
Катон Дионисий (III/IV в.) — античный
поэт 573
Катон Марк Порций (234-149 до н. э.) —
римский политик и писатель, борец
против излишней роскоши 220
Квальо Антонио Энцо — итальянский
историк литературы XX в. 185-
186 гг., 188
Квинтиллиан Марк Фабий (ок. 35 — ок.
96) — знаменитый римский оратор,
автор «Наставлений оратору» 388
Кёртинг Густав (1845-1913) —
немецкий филолог, специалист по
романской и английской литературе, автор
книги «Жизнь и творчество Боккач-
чо» (1880) 115, 119, 121, 123, 128,
130, 141, 190, 475, 481, 489, 500,
502-505,509
Кир — персидский царь (559-530
до н. э.), основатель династии Ахе-
менидов 541
Кирилл Транквиллион (ум. 1646) —
восточнославянский богослов, философ,
проповедник 625
Коган Петр Семенович (1872-1932) —
российский историк литературы,
литературный критик,
литературовед, переводчик 104
Козимо Ручеллаи (1495-1520) —
флорентийский меценат, друг
Макиавелли 186
Колумелла Луций Юний Модерат (4-
70) — римский писатель, автор
трактата «О сельском хозяйстве» 580
Конверсини Джованни (1343-1408) —
итальянский гуманист 593
Конрадин (1252-1268) — Король
Сицилии из рода Гогенштауфенов,
правивший в 1254-1258 гг. Внук
сицилийского императора
Фридриха И, сын Конрада IV, последний
законный отпрыск династии
Гогенштауфенов 124
Констанция (1154-1198) — королева
Сицилии (1194-1198) 501
Коппо ди Боргезе Доменики (XIII в.) —
итальянский гуманист, современник
Боккаччо 359, 360364, 500, 589, 599
Кораццини Франческо (1832 — ок.
1912) — итальянский историк
литературы, исследователь техники
и морского дела 497, 504-505
Корнфельд Михаил Германович (1884-
1978) — издатель знаменитого
журнала «Сатирикон» 188
Корреджо (1489-1534) — итальянский
живописец 630
Крешини Винченцо (1857-1932) —
итальянский филолог-романист 184,
189
Кроче Бенедетто (1866-1952) —
итальянский интеллектуал, философ,
критик 451
Ксенофонт (430-354 до н. э.) —
афинский историк и военный деятель 374
Кузмин Михаил Алексеевич (1872-
1936) — русский поэт Серебряного
века 17, 109, 168,188,189, 710
Курий Марий Дентат (ум. 270 до н. э.) —
римский консул 619
Курций Руф Квинт (возможно, I в.
н. э.) — римский историк, автор
«Истории Александра
Македонского».
Лаврентий (ум. 258) — римский диакон,
мученик, один из наиболее
почитаемых католических святых 51, 148,
245, 446, 589, 697, 705
Лактанций Плацид (ок. 350 — ок.
400) — вероятный автор
комментария к поэме Стация «Фиваида» 580
Указатель имен
723
Лактанций Луций Цецилий Фирмиан
(ок. 250 — ок. 325) —
раннехристианский автор, оратор,
систематизатор христианской мысли 581, 582,
613, 704
Ландау Маркус (1837-1918) —
австрийский историк литературы, автор
ряда значимых работ о Боккаччо
114, 115, 140, 141, 144, 282, 475,
481, 484, 489, 500-502, 505
Лапо ди Кастильонкьо (1316? —
1381) — друг и корреспондент
Петрарки 502,584
Лаура (возможно, Лаура де Нов; 1308-
1348) — возлюбленная Петрарки
12, 36, 61, 142, 148, 170, 178, 436,
452, 483, 562
Лафонтен Жан (1621-1695) —
знаменитый французский баснописец 9,
109, 447, 448
Ленин Владимир Ильич (наст,
фамилия — Ульянов; 1870-1924) —
российский революционер, советский
политический и государственный
деятель, один из главных
организаторов и руководителей Октябрьской
революции 1917 г. в России 273
Леонтий Пилат (ум. ок. 1365) — грек
из Калабрии, один из пионеров
греческого языка в Италии в эпоху
Возрождения, учитель Боккаччо и один
из источников его сведений по греч.
мифологии и литературе 45, 64, 99,
470, 475, 555, 580, 581, 583, 584,
598, 682, 684, 703
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-
1841) — русский поэт и прозаик 631
Лессинг 8, 49, 109, 136, 368, 411, 447,
448,460
Ликург (IX в. до н. э.?) — легендарный
спартанский законодатель 544
Ловато Ловати (1240-1309) —
итальянский поэт, ученый, юрист 576
Лонгфелло Генри Уодсворт (1807-
1882) — американский поэт 9,109
Лопе де Вега (1562-1635) — испанский
драматург и поэт 9, 109, 411, 447,
687
Лукан Марк Анней (39-65) — римский
поэт Серебряного века, автор «Фар-
салии» 117, 382, 453, 545, 580, 587,
600, 609, 684, 699
Лукиан (И в. н. э.) — греческий сатирик
римской эпохи 330
Лукреций Кар Тит (99-55 до н. э.) —
римский философ-материалист 309,
346, 445, 453, 697
Людовик Баварский (1315-1361) —
Людвиг V, герцог Баварии с 1347 г.,
маркграф Бранденбурга в 1323-
1351 гг., граф Тироля с 1342 г. 63
Людовик Венгерский (1326-1382) —
Лайош I Великий (Людовик I
Великий), король Венгрии с 1342 г.,
король Польши с 1370 г. 506
Людовик Тарентский (1320-1362) —
король Неаполя с 1346 г. 152, 506,
549,588
Лютер Мартин (1483-1546) —
христианский богослов, инициатор
Реформации, ведущий переводчик Библии
на немецкий язык 138, 694
Мазолино да Паникале (Томмазо да Кри-
стофоро-Фини; 1383-1447) —
итальянский живописец 391
Макиавелли Никколо (1469-1527) —
итальянский мыслитель, философ,
писатель, политический деятель
235, 687, 689
Макри-Леоне Франческо —
итальянский историк литературы конца
XIX в. 503
Макробий Амвросий Феодосии (V в.) —
римский писатель, филолог,
философ-неоплатоник, автор
«Сатурналий» 308, 346, 445, 453, 548, 580,
697
Малеспини Челио (1531-1609) —
итальянский авантюрист, новеллист
284
724
Указатель имен
Манетти Джанноццо (1396-1459) —
известный флорентийский гуманист,
государственный деятель и оратор,
представитель Возрождения.
Написал жизнеописания Данте, Петрарки
и Боккаччо 114, 357, 500
Манни Доменико Мария (1690-1788) —
итальянский филолог, издатель,
историк 129, 474
Маргарита Наваррская (1492-1549) —
французская принцесса, сестра
Франциска I, автор «Гептамерона»,
одна из первых
женщин-писательниц во Франции 11
Мария д'Аквино —
незаконнорожденная дочь короля Роберта, предмет
увлечения и страстной любви
Боккаччо. Ей посвящены первые
поэтические произведения, где она
появляется под псевдонимом Фьямметты
36, 61, 68, 70, 73, 79, 95, 143, 149,
150, 154, 170, 172, 173, 182, 183,
189, 195, 199, 441
Марко Поло (1254-1324) —
итальянский купец и путешественник 250,
319
Маркс Карл (1818-1883) — немецкий
философ, социолог, экономист,
писатель, общественный деятель 251,
261,457
Марсили Луиджи (1342-1394) —
ученый монах августианского ордена,
богослов 283, 610
Мартин Опавский (ум. 1279) —
средневековый хронист, архиепископ
Гнезненский (с 1278) 480, 499, 501,
587, 590
Мартино да Синья — августинский
монах, друг Боккаччо, которому тот
оставил свою библиотеку 499, 505-
508, 547, 548, 584, 585, 608, 563
Марцагайа Антонио — итальянский
гуманист конца XIV — первой
половины XV в. 570
Массера Альдо (1883-1928) —
итальянский литературный критик 193
Массне Жюль (1842-1912) —
французский композитор 9
Матеолус — французский поэт XIII в.,
автор латинских «Жалоб Матеолу-
са» 540, 702
Медичи Лоренцо (1449-1492) —
правитель Флоренции в эпоху
Возрождения, покровитель наук и искусств
314,585
Мендес Катюль (1841-1909) —
французский поэт — парнасец 411
Мериме Проспер (1803-1870) —
французский новеллист 189
Михайлов Андрей Дмитриевич (1929-
2009) — российский литературовед,
специалист по средневековой
литературе, член-корреспондент РАН
(с 1994) 20, 687
Михайловский Николай
Константинович (1842-1904) — русский
публицист и литературовед 15
Моисей (XIII в. до н. э.) — пророк,
законодатель еврейского народа 460,
507, 684
Мольер (Жан-Батист Поклен; 1622-
1673) — французский комедиограф
109, 207, 339, 710
Мольца Тарквиния (1542-1617) —
певица, поэтесса, изучала астрономию,
математику, поэзию,
изобразительное искусство и языки. Тассо
посвятил ей несколько сонетов, воспевая
ее поэтический стиль 284
Монтень Мишель (1533-1592) —
французский писатель и философ, автор
книги «Опыты» 248, 406
Мопассан Ги (1850-1893) —
знаменитый французский писатель 262, 304
Муратов Павел Павлович (1881-
1950) — русский писатель и
искусствовед, автор знаменитых «Образов
Италии» 14,109
Муссато Альбертино (1261-1329) —
итальянский гуманист, поэт и историк
546, 571, 576, 578, 588.
Указатель имен
725
Мухаммад (571-632) — арабский
проповедник, основатель ислама 303,
460, 684
Мюссе Альфред (1810-1857) —
французский поэт-романтик 109, 356,
411,448,003
Нелли Франческо (ум. 1363) —
религиозный деятель, нотариус
флорентийской епископской курии, секретарь
Никколо Аччайуоли, друг Петрарки
и Боккаччо 200, 502, 504, 507, 515,
552-554, 577, 582, 584, 593, 611,
615
Нерон (37-68) — римский император
(с 54) 184
Нестор (ум. 1114) — древнерусский
летописец, один из авторов «Повести
временных лет» 623
Никколи Никколо (1364-1437) —
флорентийский гуманист, страстный
собиратель книг и памятников
древности 585
Никколо да Монтефальконе —
корреспондент Боккаччо 498
Никколо ди Бартоло дель Буоно (ум.
1360) — флорентиец, участник
провалившегося заговора 123
Нэш Томас (1561 — ок. 1601) —
английский прозаик елизаветинской
эпохи 265
О. Генри (Уильям Сидни Портер; 1862-
1910) — классик американского
рассказа 291
Оветт Анри (1865-1935) — французский
филолог-романист 190
Овидий (Публий Овидий Назон; 43
до н. э. — 18 н. э.) — римский поэт
золотого века 39, 41, 60, 76, 80, 81,
83, 84,119, 128, 159,160,171,173,
184, 190, 197, 379, 382, 386, 388,
398, 399, 402, 405, 406, 410, 453,
492, 514, 565, 576, 578, 580, 587,
599, 600, 685, 686,688, 691, 695,
696,699, 712
Ончуков Николай Евгеньевич (1872-
1942) — отечественный
фольклорист, географ 312
Орделаффи Франческо (1310-1373) —
знатный синьор города Форли, у
которого гостил Боккаччо в 1347 г. 505
Орканья Андреа (1308-1368) —
итальянский художник, скульптор
и архитектор, одна из крупнейших
фигур итальянского искусства
второй половины XIV в. 593
Орозий Павел (ок. 385-420) —
христианский историк и богослов, автор
«Истории против язычников» 581,
586-587, 704
Оттобони Альдобрандино — член совета
старейшин флорентийской
республики 500,588-589
Павел IV (1476-1559) — римский папа
(с 1555) эпохи Контрреформации,
основатель папской инквизиции 586
Павел Диакон (ок. 720 — ок. 799) —
бенедиктинский монах, церковный
писатель и поэт, автор «Истории
лангобардов» 453, 579, 587
Павсаний — греческий географ II в.,
автор «Описания Эллады» 191
Пазолини Пьер Паоло (1922-1975) —
итальянский кинорежиссер, поэт,
прозаик 10
Паолино Минорит (1270-1344) —
итальянский политик и писатель,
епископ Поццуоли с 1324 г. Боккаччо
подвергает критике его
исторические сочинения 500-501, 588
Паоло из Перуджи (ум. 1348) —
итальянский гуманист, протеже
Роберта Анжуйского 60, 475, 500, 575,
578,581, 588-589,684
Парфений Никейский (ум. ок. 14) —
греческий грамматик, поэт 191
726
Указатель имен
Пассаванти Якопо (ум. 1357) —
итальянский историк и архитектор 365,
694
Пафнутий Боровский (1394-1477) —
православный монах и святой 347,
364
Педро I — король Арагона и Памплоны
(1094-1104)368
Перикл (ум. 429 до н. э.) — афинский
государственный деятель 582
Перини Дино — флорентийский нота-
рий, друг Данте 596
Перро Шарль (1628-1703) —
французский литератор эпохи классицизма,
известный преимущественно как
автор сказок 9,109, 696
Персии (Авл Персии Флакк; 34-62) —
римский поэт-сатирик 580
Петр Альфонси (ум. ок. 1140) —
крещеный иудей, врач и писатель, автор
собрания «примеров» «Disciplina
clericalism 213, 690
Петр Великий (1672-1725) — царь
(с 1682) и император Всероссийский
(с 1721) 219
Петр Дамиани (1007-1072) —
католический святой, учитель церкви,
богослов 388, 402, 498
Петрарка Франческо (1304-1374) —
итальянский поэт, один из
ключевых деятелей итальянского
Возрождения, друг и учитель Боккаччо 7,
9, 10, 12, 23-26, 28, 31, 35, 36, 45,
46, 50, 58-61, 63-65, 74, 75, 79, 80,
92, 96, 98, 100, 101, 116, 120, 121,
124, 125, 140-143,145-148, 167,
170, 171, 177, 178, 180, 181, 200,
206, 216, 229, 237, 256, 309, 345,
346, 356, 386-388, 391, 396, 410,
411, 436, 439, 442, 444, 450-452,
457, 465, 466, 469, 479, 483-485,
487, 489-491, 497-500, 502, 505,
508-510, 512-514, 540, 542-543,
545-548, 550, 554-556, 559-566,
569-575, 576-589, 592, 593, 595,
609,610, 612-620,679,680,687,693,
695,697,698, 703, 704
Петреи Антонио (1498-1570) —
каноник флорентийской базилики
Сан-Лоренцо, владелец рукописи
Zibaldone 586
Пино де* Росси —
изгнанник-флорентиец, адресат утешительного письма
Боккаччо 66, 504
Писистрат (ум. 527 до н.э.) —
знаменитый афинский тиран 582
Пиццинге Джакопо — логофет
Фридриха II, адресат Боккаччо 159, 498
Плавт Тит Макций (254-184 до н. э.) —
римский комедиограф 144, 580, 613
Платон (428/427-348/347 до н. э.) —
греческий философ 15, 24,124, 531,
544, 570, 580, 582, 599, 699, 709
Плиний Младший (ок. 61-113) —
римский политический деятель,
литератор, племянник Плиния Старшего
587
Плиний Старший (ум. 79) — римский
писатель-эрудит, автор
энциклопедического сочинения «Естественная
история» 499, 503, 580, 581
По Эдгар Аллан (1809-1849) —
американский писатель, поэт,
литературный критик 8, 260, 262
Полициано Анджело (1454-1494) —
итальянский гуманист и поэт,
придворный поэт друг и Лоренцо
Медичи, профессор греческой и
латинской литературы
флорентийского университета. Автор поэмы
«Стансы на турнир» и пьесы
«Сказания об Орфее» 197
Помпоний Мела (15-60) — римский
географ 581
Понтано Джованни (1429-1503) — поэт,
гуманист, политический деятель,
классик латинской поэзии
Ренессанса 484
Поччанти Микеле (1536-1576) —
флорентийский историк и
преподаватель 144
Указатель имен
727
Пронапид — греческий мифограф 598,
609
Проспер Аквитанский (ок. 390-460) —
богослов и историк, автор
знаменитой «Хроники» 73
Пуччи Антонио (1310-1388) —
итальянский поэт 345, 346, 395, 515,
586,593,692
Пушкин Александр Сергеевич (1799-
1837) — русский поэт 7, 167, 307,
464, 707
Пыпин Александр Николаевич (1833-
1904) — русский литературовед,
этнограф 13, 625, 627, 635, 690, 706
Пьеро делла Винья (ок. 1190-1249) —
итальянский юрист, дипломат,
канцлер и логофет Фридриха П. По
обвинению в оскорблении величества
или взяточничестве был, вероятно,
ослеплен и заточен в темницу, где
покончил с собой. Персонаж XIII
песни «Ада» Данте 599, 607
Пьетро Аретино (1492-1556) —
итальянский писатель Позднего
Ренессанса, сатирик, публицист, драмма-
тург 179
Пьетро Петрони (1311-1361) —
сиенский монах картезианского ордена
64,99,145
Рабан Мавр (ок. 780-856) — немецкий
богослов и писатель, один из
ключевых деятелей каролингского
возрождения 579
Рабле Франсуа (ум. 1533) — один
из наиболее значительных
французских писателей эпохи Ренессанса
243, 246, 249, 259, 270, 265, 267,
285, 287, 710
Раймон Видаль — провансальский
поэт-грамматик конца XIII в. 363, 693
Риенци Кола ди (1313-1354) —
итальянский политический деятель,
нотариус, блестящий оратор,
уроженец Рима. Разделял
гуманистические взгляды Петрарки, мечтая
о восстановлении былого величия
Рима. В 1347 году возглавил
антифеодальное восстание пополанов,
провозгласив себя народным
трибуном 25-26,548, 577
Ринальдо да Виллафранка (1391-
1362) — итальянский поэт,
гуманист 576
Ричард Львиное Сердце (1157-1199),
король Англии (с 1189) 223
Роберт Анжуйский (1277-1343) —
король Неаполя и граф Прованса,
третий сын Карла II и Марии
Венгерской. Боккаччо и Петрарка высоко
ценили короля Роберта как
высокообразованного монарха и
покровителя искусств 36, 45, 60-62, 94, 124,
149, 152, 154, 169, 195, 200, 358,
409, 442, 457, 485, 505, 543, 545,
546, 548, 549, 575, 578, 588,602
Роберт Гвискард (1016-1085) — герцог
Апулии (с 1059), завершил
нормандское завоевание Южной Италии 628,
707
Роде Эрвин (1845-1898) — немецкий
филолог-классик, автор знаменитой
книги «Греческий роман и его
предшественники» 294-295
Розанов Василий Васильевич (1856-
1919) — русский религиозный
философ, писатель, публицист 17
Рубруквис(Гильом де Рубрук; ок.
1220 — ок. 1293) — фламандский
монах-францисканец,
путешественник 250
Руссо Жан-Жак (1712-1778) —
французский мыслитель и писатель 387,
463,571,655
Рустико ди Филиппо (ок. 1230-1300) —
флорентийский поэт, создатель
итальянской комико-реалистической
поэзии в Италии 450, 698
Рютбёф — французский трувер XIII в.,
автор фаблио, один из первых
поэтов, писавших на французском
языке 540, 695, 702
728
Указатель имен
Саади (1210-1291) — персидский поэт-
моралист 364
Саймондс Джон Эддингтон (1840-
1893) — английский поэт и
литературный критик 131,139, 689
Саккетти Франко (1332-1370) —
итальянский новеллист 11,54-55,228-
234, 236-237, 292-283, 357-358,
360,450, 586, 593,610,689,692, 710
Саладин (Салах ад-Дин Юсуф ибн Ай-
юб, 1138-1193) — султан Египта
и Сирии (с 1174), один из наиболее
значительных мусульманских
вождей Средних веков, персонаж
многочисленных легенд 223, 225, 361,
369-370,423-427, 460, 694
Саллюстий (Гай Саллюстий Крисп, ок.
86-35 до н. э.) — римский историк,
автор сочинений «О заговоре Кати-
лины» и «Югуртинская война» 499,
580,587,617
Салютати Коллюччо (1331-1406) —
итальянский гуманист, канцлер
Флорентийской республики (1375-1405)
283,593,474, 683
Санктис Франческо де (1817-1883) —
литературный критик и теоретик
итальянского языка и литературы
XIX века 115, 116, 122, 123, 175,
451,464
Сапфо (VI в. до н. э.) — античная
поэтесса 492, 573, 682, 700
Св. Петр (ум. ок. 67) — апостол,
основатель римской церкви 240, 487,
507, 508, 549
Светоний (Гай Светоний Транквилл, ок.
70 — после 122) — римский историк,
наиболее известный сборником
биографий «Жизнь двенадцати
цезарей» 501, 580, 587, 701, 705
Сенека Луций Анней (4 до н. э. — 65
н. э.) — римский философ-стоик,
поэт, государственный деятель 173,
184, 220, 453, 499, 500, 574, 577,
580, 582, 587, 588, 596, 599, 605,
609,614
Сер Грациоло де Бамбальоли (1291? —
1340?) — итальянский писатель 592,
597, 705
Сер Джованни Фьорентино —
итальянский писатель-новеллист XIV в. 265,
283
Сервантес (Мигель де Сервантес Сааве-
дра; 1547-1616) — испанский
писатель, поэт и драматург 11,167, 208,
214, 215, 252, 259, 265, 267, 269, 287
Серват Луп (ок. 805-862) —
просветитель, деятель периода
Каролингского возрождения 582
Сервий (Мавр Сервий Гонорат) —
грамматик IV-V вв., автор комментариев
к Вергилию 492, 580, 700
Сергий Радонежский (ум. 1392) —
монах русской Церкви, реформатор
монашества 12
Серкамби Джованни (1348-1424) —
итальянский писатель — новеллист
и политический деятель. Большую
известность приобрел благодаря
сборнику «Новеллы», написанного
в подражание «Декамерону» Бок-
каччо 282, 283
Симмах Квинт Аврелий (ок. 345-403) —
префект Рима, консул, оратор, глава
партии, боровшейся за
восстановление в христианском Риме язычества
371,574,004
Симонсфельд Генри (1852-1913) —
немецкий историк, специалист
по истории Венеции 503
Скарлатти Доменико (1685-1757) —
итальянский композитор и клаве-
синист 9
Сократ (ум. 399 до н. э.) — греческий
философ 220, 531, 541, 544
Солин Гай Юлий (ум. 400) — римский
писатель и географ 581
Соломон (1011-931 гг. до н. э.) — третий
Царь единого Израильского царства
(965-928 гг. до н. э.) 51, 221, 225,
364, 365
Указатель имен
729
Соломон бен Верга (1460-1554) —
испанский историк 368
Сталин (Джугашвили) Иосиф
Виссарионович (1878-1953) — руководитель
СССР с начала 1930-х гг. 16
Сталь Жермена (1766-1817) —
французская писательница, один из
ключевых деятелей французского
романтизма 204
Стаций (Публий Папиний Стаций, ум.
96) — римский поэт, автор
эпических поэм «Фиваида» и «Ахи л л
вида» 73, 191, 580, 582, 584, 684, 714
Стаций Луций Урсул — римский ритор
времен Нерона 582
Стефан Яворский (1658-1722) —
церковный деятель, писатель, епископ
Русской православной церкви 634
Страпаролла Джованни Франческо
(1480-1557) — итальянский
писатель 285
Строцци Карло (1587-1671) —
итальянский сенатор и историк 501
Сципион (Публий Корнелий Сципион
Африканский, 235-183 до н. э.) —
римский полководец времен
Второй Пунической войны, победитель
Ганнибала в битве при Заме (202 г.
дон. э.) 544, 572, 577
Тарле Евгений Викторович (1874-
1955) — советский историк 17
Тассо Торквато (1544-1595) —
итальянский поэт, автор поэмы
«Освобожденный Иерусалим» 12, 69, 197,
285,630
Тацит (ум. ок. 120) — римский историк
580,584
Телесфор (ум. 136/137 г.) — папа
Римский (125-136) 577
Теннисон Альфред (1809-1892) —
английский поэт 9
Теодонций — автор утерянного в
настоящее время труда по античной
мифологии; Боккаччо знает его
по пересказу Паоло из Перуджи 493,
581, 583, 598
Теофраст (ум. между 288 и 285
до н. э.) — греческий философ,
естествоиспытатель, глава школы
перипатетиков после смерти Аристотеля
540, 599, 603, 702, 705, 706
Теренций (Публий Теренций Афр; ум.
159 до н. э.) — римский комедиограф
580, 585, 586, 706
Тик Людвиг Иоганн (1773-1853) —
немецкий поэт, писатель, переводчик,
драматург 260
Тимофеев Леонид Иванович (1904-
1984) — советский литературовед
и переводчик 297
Тирабоски Джеронимо (1731-1784) —
автор знаменитой истории
итальянской литературы 114, 218
Тирсо де Молина (1579-1648) —
испанский драматург, доктор богословия,
монах 9
Тит Ливии (59 до н. э. — 17 н. э.) —
римский историк, автор «Истории
от основания города» 145, 258, 360,
445, 453, 534, 540, 577, 580, 582,
586,589
Тиццоне Гаэтано (? — 1529) —
итальянский гуманист, издатель 187, 188
Тиццоне Гаэтано (ум. около 1530) —
итальянский гуманист, филолог 187
Тодескини Джузеппе (1795-1869) —
итальянский историк, специалист
по римскому и феодальному праву
505
Толстой Лев Николаевич (1828-1910) —
русский писатель 15, 304, 306
Торини Анджело — итальянский
гуманист XIV в. 593, 610
Тотила (ум. 552) — король остготов
с 541 г. 579, 590
Траян — римский император (98-117)
220
Тревет Николас (1257-1334) —
английский хроникер, историк,
комментатор 596
730
Указатель имен
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) —
русский писатель, поэт, публицист,
драматург, переводчик 9
Тэн Ипполит (1828-1893) —
французский философ-позитивист, эстетик,
писатель, историк, создатель
культурно-исторической школы в
искусствознании 204
Угуччоне дела Фаджуола (1250-1319) —
синьор и правитель городов Ареццо,
Пизы, Лукки 579, 585
Уолпол Хорас (1717-1797) —
английский писатель, основатель жанра
готического романа 630
Фабриций Иероним (1537-1619) —
итальянский анатом и хирург 589
Фанфани Пьетро (1815-1879) —
итальянский писатель 188
Фацио дельи Уберти (ум. после 1367) —
флорентийский поэт 390
Федр (15 до н. э. — 50 н. э.) — римский
баснописец 213
Феодор Продром (ок. 1100 — ок.
1170) — византийский писатель 402
Феокрит (ум. 260 г. до н. э.) — греческий
поэт, автор идиллий 457, 547
Феофан Прокопович (1681-1736) —
епископ Русской Православной
Церкви, архиепископ Новгородский
(с 1725 г.) 634
Фердинанд I (1423-1494) — король
Неаполя с 1458 г. 55
Феррето деи Феррети (12977 — 1337) —
итальянский писатель 576
Филипп VI Валуа (1293-1350) — король
Франции с 1328 г. 345, 588
Филипп де Кабассоль (1305-1372) —
епископ Кавайонский (с 1333), друг
и покровитель Петрарки 556
Филиппа Катанская (ум. 1346) —
кормилица Карла Калабрийского,
приближенная Иоанны
Неаполитанской; умерла в тюрьме по
подозрению в участии в убийстве Андрея
Венгерского 359, 485, 487
Филиппо да Бергамо (1434-1520) —
августинский монах 481
Филиппо ди Джунти (ум. 1517) —
итальянский издатель 186,187
Фишарт Иоганн (1546/547-1591) —
немецкий поэт и сатирик эпохи
Реформации 265,267
Фишер Куно (1824-1907) — немецкий
историк философии 261, 262, 266
Флобер Гюстав (1821-1880) —
французский романист 97, 204, 573, 683,
688, 712
Флор Луций Анней (70? — 140?) —
римский историк 580, 587
Фойгт Георг (1827-1891) — немецкий
историк, автор книги «Возрождение
классической древности» (Берлин,
1859) 23, 268, 474, 481, 484
Фома Аквинский (1225-1274) —
средневековый богослов, систематизатор
схоластики, автор «Суммы
теологии» 585, 679
Фоссиус Герард (1577-1649) —
нидерландский филолог и историк 488
Франс Анатоль (1844-1924) —
французский писатель и литературный
критик 411, 712
Франциск I (1494-1547) — король
Франции (с 1515), покровитель
искусств 11
Франциск Ассизский (1181-1226) —
католический святой, основатель
ордена францисканцев 134, 242,
281, 350
Франческа да Римини (1255? —
1285?) — дочь Гвидо да Полента,
убитая собственным мужем, Джо-
ванни Малатеста, за измену с его
братом Паоло; героиня знаменитого
эпизода «Божественной комедии»
407, 599
Франческино дельи Альбицци (ум.
1358) — итальянский поэт 475
Указатель имен
731
Франческо да Барберино (1264-1348) —
итальянский поэт и нотариус 281,
282,363,394,401, 403, 512
Франческо да Броссано — муж младшей
дочери Петрарки, его имя
указывается в завещании поэта как
основного наследника, в частности,
его огромной библиотеки 509, 556,
560,561,592
Фридрих I — герцог Швабии (1079-
1105), основатель династии Штау-
фенов 487
Фридрих II (1194-1250) — король
Германии с 1221, император Священной
Римской империи (с 1220), король
Сицилии (1197-121,1217-1250)47,
117, 124, 220, 223, 225, 354, 363,
480,599
Фридрих Барбаросса (1122-1190) —
король Германии (с 1152),
император Священной Римской империи
(с 1155) 143
Фриче Владимир Максимович (1870-
1929) — российский литературовед,
академик АН СССР 17
Фукидид (ок. 460 — ок. 400 до н. э.) —
греческий историк 8,129, 308, 309,
346,453
Фульгенций Фабий Планциад —
историк и грамматик конца V — начала
VI в., толкователь Вергилия 492,
548, 580-583, 587, 700
Фьорентино Джованни — итальянский
новеллист XIV в. 12, 54
Хогард Уильям (1697-1764) —
английский художник 630
Христофор Митиленский (ок. 1000-
1050) — византийский поэт 396
Цезарь Гай Юлий (100-44 до н. э.) —
римский государственный деятель,
полководец 346, 501, 580, 587, 701
Целестин V — папа римский с 5
июля 1294 г., отрекся от Св. Престола
13 декабря («il gran rifiuto»), умер
в 1296 г. в заточении.
Канонизирован в 1313 г. 606
Цицерон Марк Туллий (106-43
до н. э.) — римский оратор и
мыслитель 36, 45,124, 258, 378, 434, 445,
534, 565, 570, 573, 577, 580-584,
615,696,699
Чампи Себастьяно (1769-1847) —
итальянский филолог-славист, издатель
Zibaldone Боккаччо 499-505
Чани Джоакино — монах-картузианец,
в 1362 г. убедивший Боккаччо
отречься от «Декамерона» 57, 64, 92,
99,552
Чекко Анджольери (ок. 1260-1312) —
итальянский поэт, современник
Данте, которому он посвятил три
сонета 450, 514, 701
Чекко да Милето (Чекко деи Росси,
ок.1320) — друг Петрарки и
Боккаччо нотариус и канцлер синьора
Форли Франческо де Орделаффи,
у которого Боккаччо некоторое
время гостил 160, 576, 577, 509, 585
Чеффи Филиппо (ум. ок. 1330) —
итальянский переводчик 402, 696
Чехов Антон Павлович (1860-1904) —
русский писатель 262, 291
Чино да Пистойя (1270-1336) —
итальянский поэт и ученый. Данте
очень ценил поэтический язык
Чино и упоминал его в своем трактате
«О народном красноречии» 403, 505,
512,513,588
Чинтио Джиральди (1504-1573) —
итальянский ученый-гуманист,
теоретик литературы и писатель-
новеллист. Профессор риторики
в Ферраре 12
Чосер Джеффри (ум. 1400) —
английский поэт, автор «Кентерберийских
рассказов» 9, 10, 12, 265, 351, 352,
411, 439, 447, 540, 619, 620
732
Указатель имен
Шаховская Зинаида Алексеевна (1906-
2001) — русская писательница,
поэтесса, переводчица, мемуаристка 16
Шекспир Уильям (ум. 1616) —
английский поэт и драматург 10,12, 38, 56,
90,103,109, 207, 208, 243, 249, 252,
259, 285, 287, 361, 373, 386, 411,
414, 447, 462, 685,698
Шлегель Август Вильгель (1767-
1845) — немецкий критик и историк
литературы 260, 290
Шпильгаген Фридрих (1829-1911) —
немецкий писатель 260, 291
Шюк Хенрик (1855-1947) — шведский
литературовед 491
Эвгемер из Мессены (ок. 340 — ок. 260
до н. э.) — греческий философ,
основатель эвгемеризма 471, 698
Эзоп — легендарный греческий
баснописец 410
Эйхенбаум Борис Михайлович (1886-
1959) — русский литературовед,
один из ключевых деятелей
«формальной школы», толстовед 259
Эккерман Иоганн Петер (1792-1854) —
немецкий литератор, поэт 261, 691
Энгельс Фридрих (1820-1895) —
немецкий философ, один из
основоположников марксизма 167, 240, 242,
244,245,250, 255
Эппель Асар Исаевич (1935-2012) —
русский писатель и переводчик 168
Эсхил (535-456 до н. э.) — греческий
драматург 493, 582, 700
Эццелино III да Романо (1194-1259) —
итальянский политический деятель,
один из предводителей гибеллинов
363,599
Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок.
127) — римский поэт-сатирик;
особенно популярна VI сатира,
обличающая нравы женщин 56, 91, 538,
540,580
Юлиан Странноприимец —
католический святой, покровитель путников
132,396
Юстин Марк Юниан — римский историк
III в., автор извлечений из не
дошедшего до нас труда историка I в.
Помпея Трога 580, 582, 704, 705
Юстиниан (483-565) — византийский
император (с 527), сумевший за свое
правление вернуть большинство
земель Западной Римской империи
и провести правовую реформу 577
Яков (Хайме) IV (ум. 1375) —
титулярный король Мальорки и князь
Ахеи 559
Якопо делла Лана (1290-1365) —
автор первого комментария ко всем
кантикам «Божественной комедии»
592, 596, 597
СОДЕРЖАНИЕ
От издателя 5
М. С. Самарина, И, Ю. Шауб. Боккаччо в России 7
I
БОККАЧЧО
В КУЛЬТУРЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
П. М. Бицилли
Très coronae 23
Α. Φ. Лосев
Боккаччо 28
II
ЖИЗНЬ БОККАЧЧО
С. С. Мокульский
Боккаччо 35
А. А. Смирнов
Джованни Боккаччо 59
Т.В.Дзюба
Джованни Боккаччо (1313-1375) 94
III
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
М. С. Корелин
<Литературные произведения Боккаччо> 113
734
Содержание
А. А. Тихонов
Боккаччо и Фьямметта 148
А. Я. Веселовский
<Любовь к Фьямметте> 154
Я. Б. Томашевский
<Предисловие к «Малым произведениям» Боккаччо> 167
А. Д. Михайлов
К творческой истории «Фьямметты» и «Фьезоланских нимф» 182
А К.Дживелегов
Пастораль Боккаччо 195
IV
БОККАЧЧО
И НОВЕЛЛА ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
A. А-ва
Итальянская новелла и «Декамерон» 203
Я. М. Фрадкин, А. Л, Штейн
«Декамерон» Боккаччо
и проблема новеллы раннего Возрождения 239
B. Б. Шкловский
О новелле 288
V
ДЕКАМЕРОН
А. Я. Веселовский
Художественные и этические задачи «Декамерона» 343
A. А-ва
Новеллы десятого дня «Декамерона» 412
B. Ф. Шишмарев
Джованни Боккаччо 441
Р. Я. Хлодовский
«Декамерон»: великая книга о большой любви 450
VI
УЧЕНЫЕ СОЧИНЕНИЯ БОККАЧЧО
М. С. Корелин
<Научные произведения Боккаччо> 469
А. Ф. Лосев
Боккаччо о Прометее 492
Содержание
735
VII
ЛИРИКА, «КОРБАЧЧО», ПИСЬМА
М. С, Корелин
<Переписка и эклоги Боккаччо> 497
А. Н. Веселовский
<«Корбаччо», эклоги> 511
А. А. Тихонов
Старость и смерть Боккаччо 552
VIII
ПЕТРАРКА И ДАНТЕ
В ВОСПРИЯТИИ БОККАЧЧО
A. Н. Веселовский
<Боккаччо и Петрарка> 569
<Боккаччо и Данте> 590
IX
БОККАЧЧО В РОССИИ
B. П. Науменко
Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе
XVII-XVIII ст 623
К. Н. Батюшков
Гризельда: Повесть из Боккаччо 656
А. Н. Веселовский
«Гризельда» Боккаччо и русская сказка
(Пер. К. С. Ланда) .664
<Декамерон, VIII, 3> 668
H. М. Любимов
<Декамерон, VII, 2> 675
Комментарии 679
Указатель имен 713
Научное издание
ДЖ. БОККАЧЧО:
PRO ET CONTRA
Личность и творчество Боккаччо
в оценке отечественных исследователей
Антология
Составители:
Марина Сергеевна Самарина,
Игорь Юрьевич Шауб
Директор издательства Р. В. Светлов
Заведующий редакцией Б. Н. Подгорбунских
Корректоры: И. П. Ткаченко, Н. Э. Тимофеева
Верстка О. М. Кукушкиной
Подписано в печать 13.05.2015. Формат 60 χ 90 Vie
Бум. офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 46,00. Зак. № 1048
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15,
Издательство Русской христианской гуманитарной академии.
Тел.: (812) 310-79-29; факс: (812) 571-30-75;
email: editor@rhga.ru. URL: http://www.rhga.ru
Отпечатано в типографии «Контраст»
192029, Санкт- Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 38