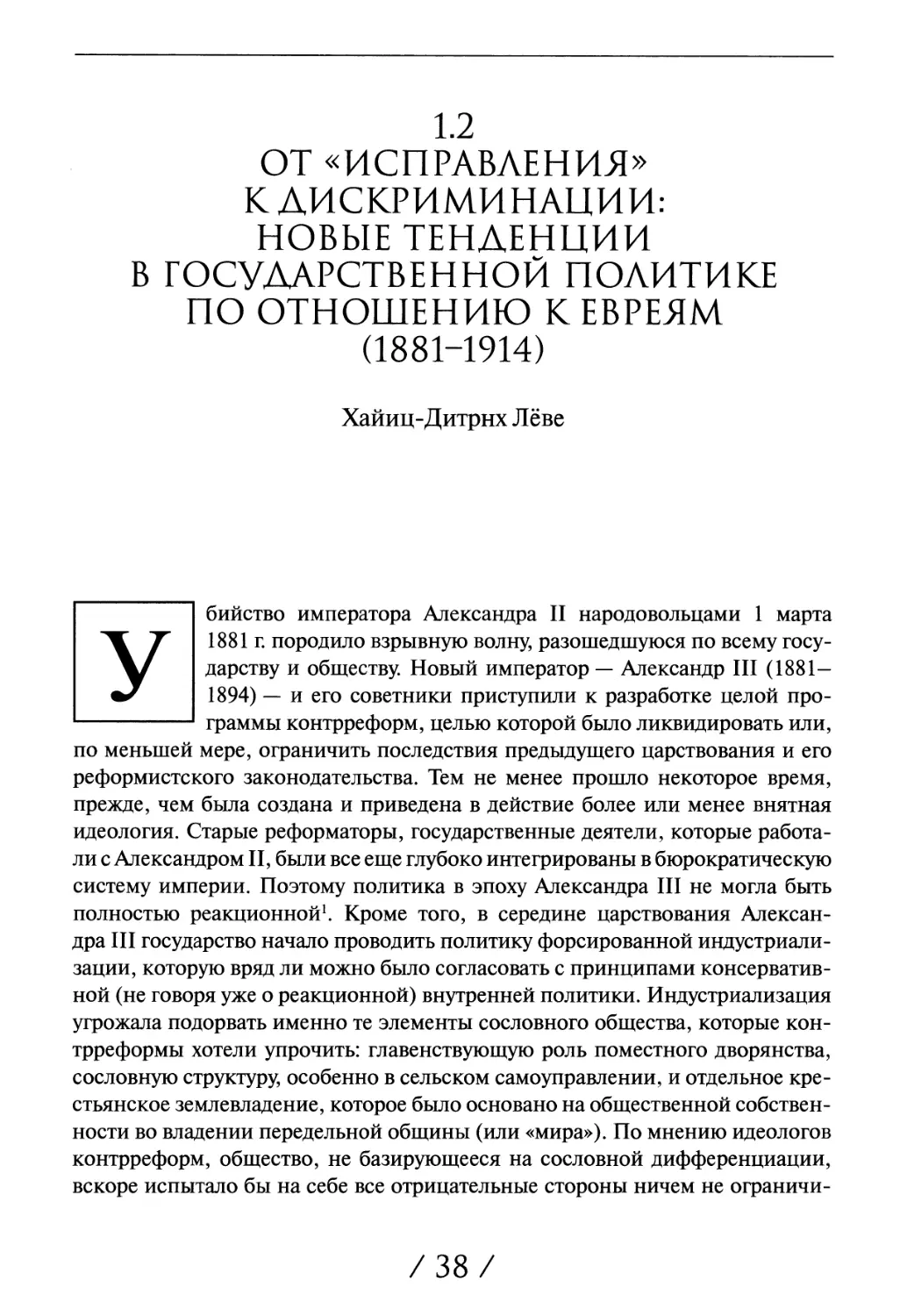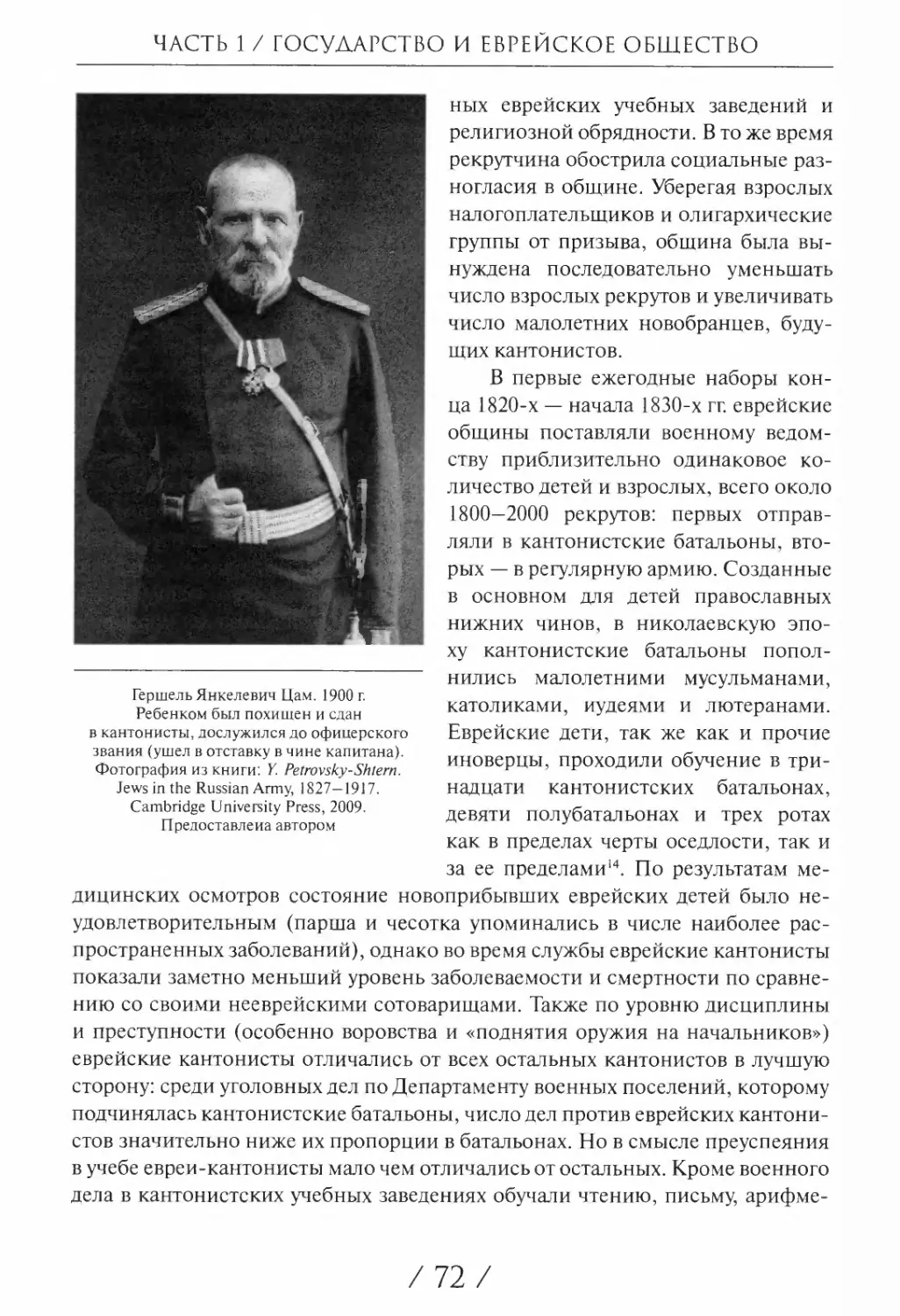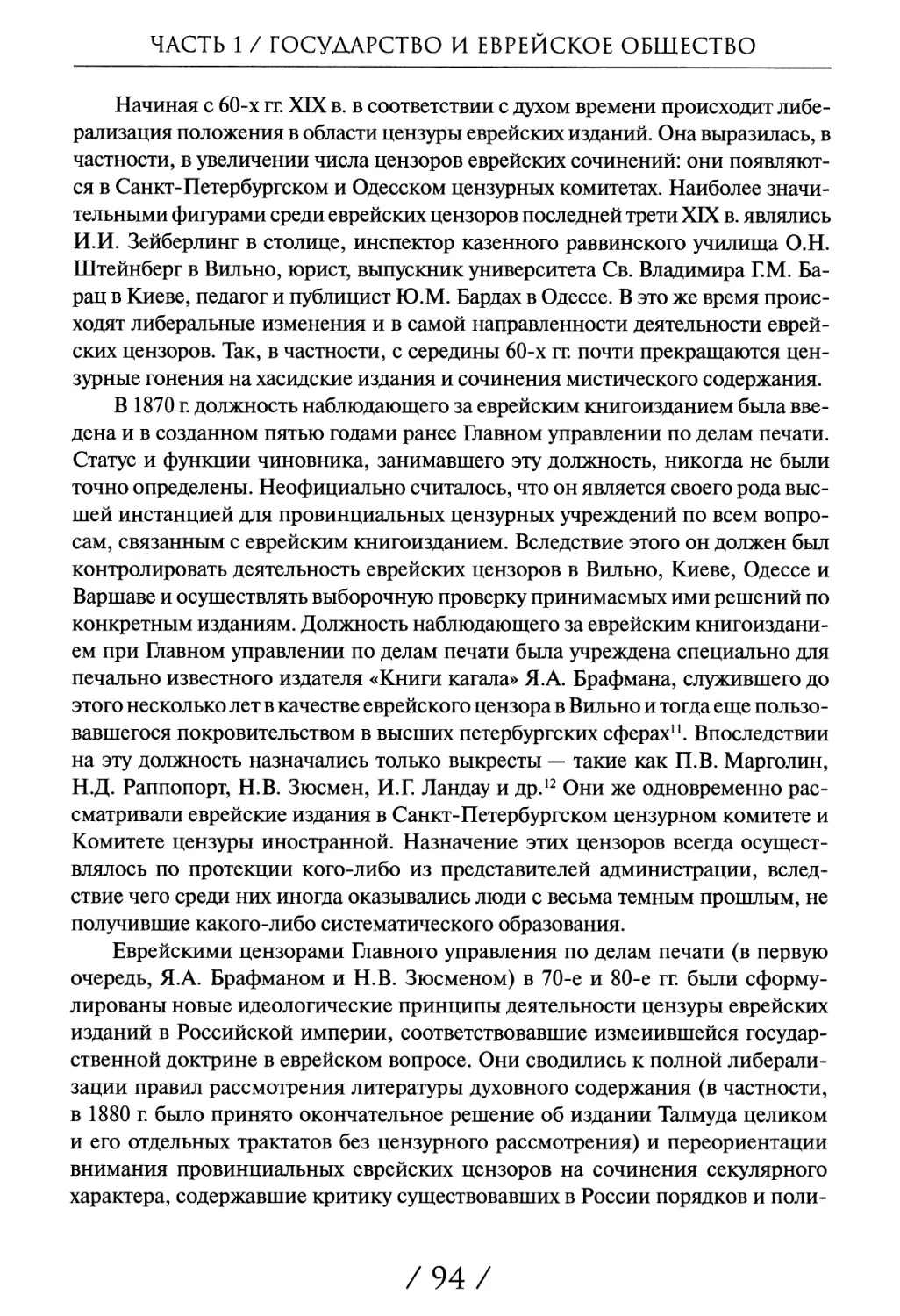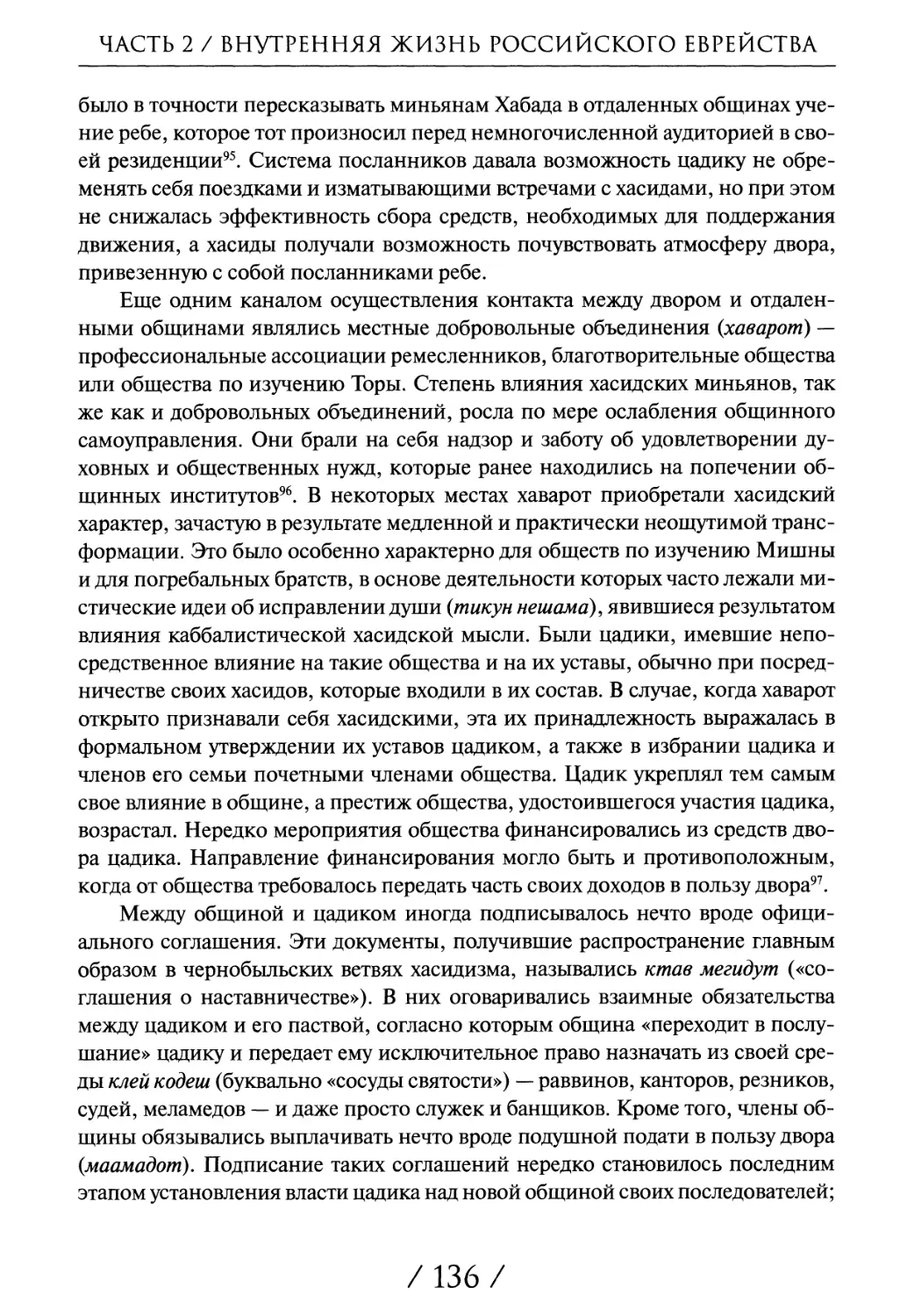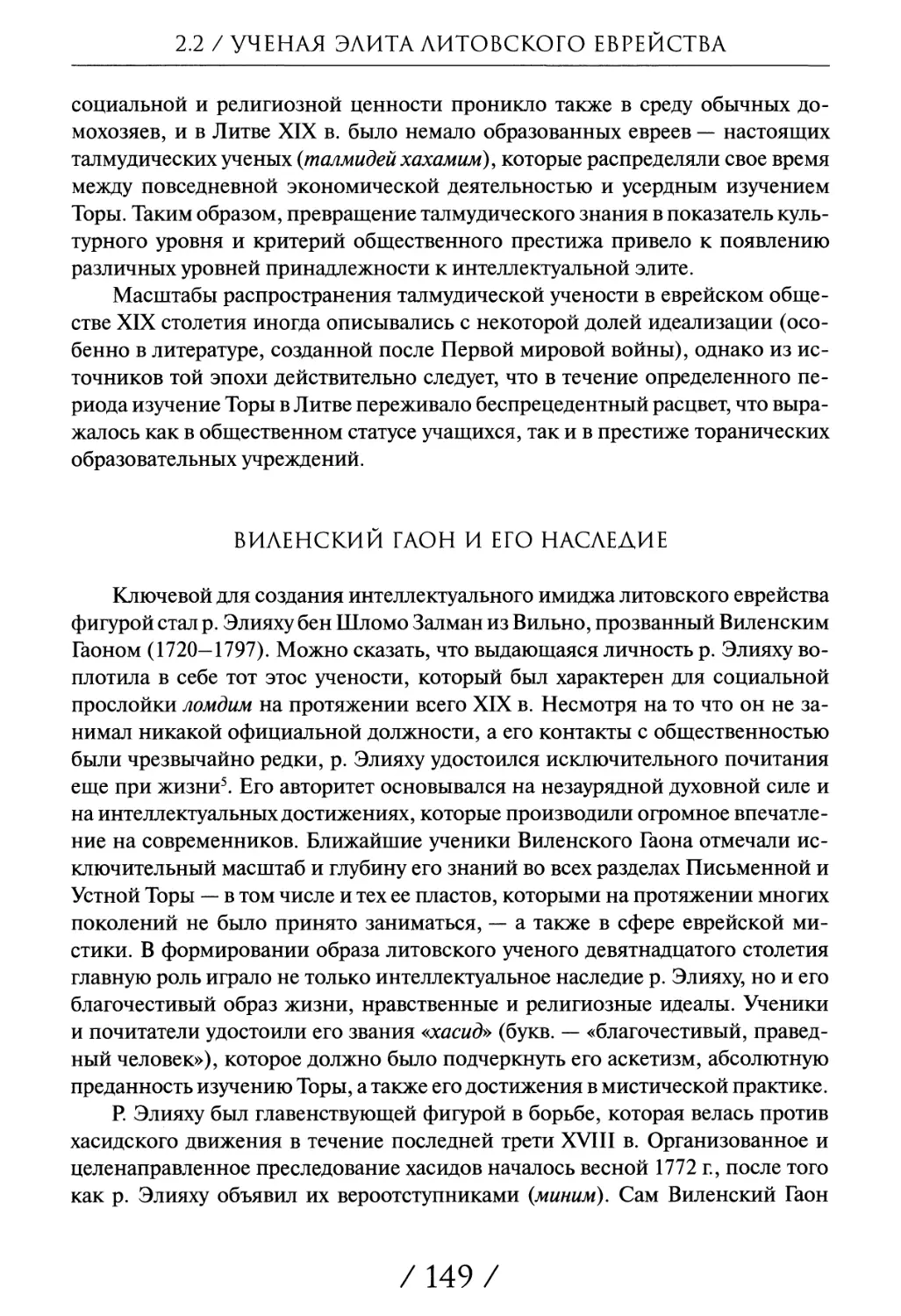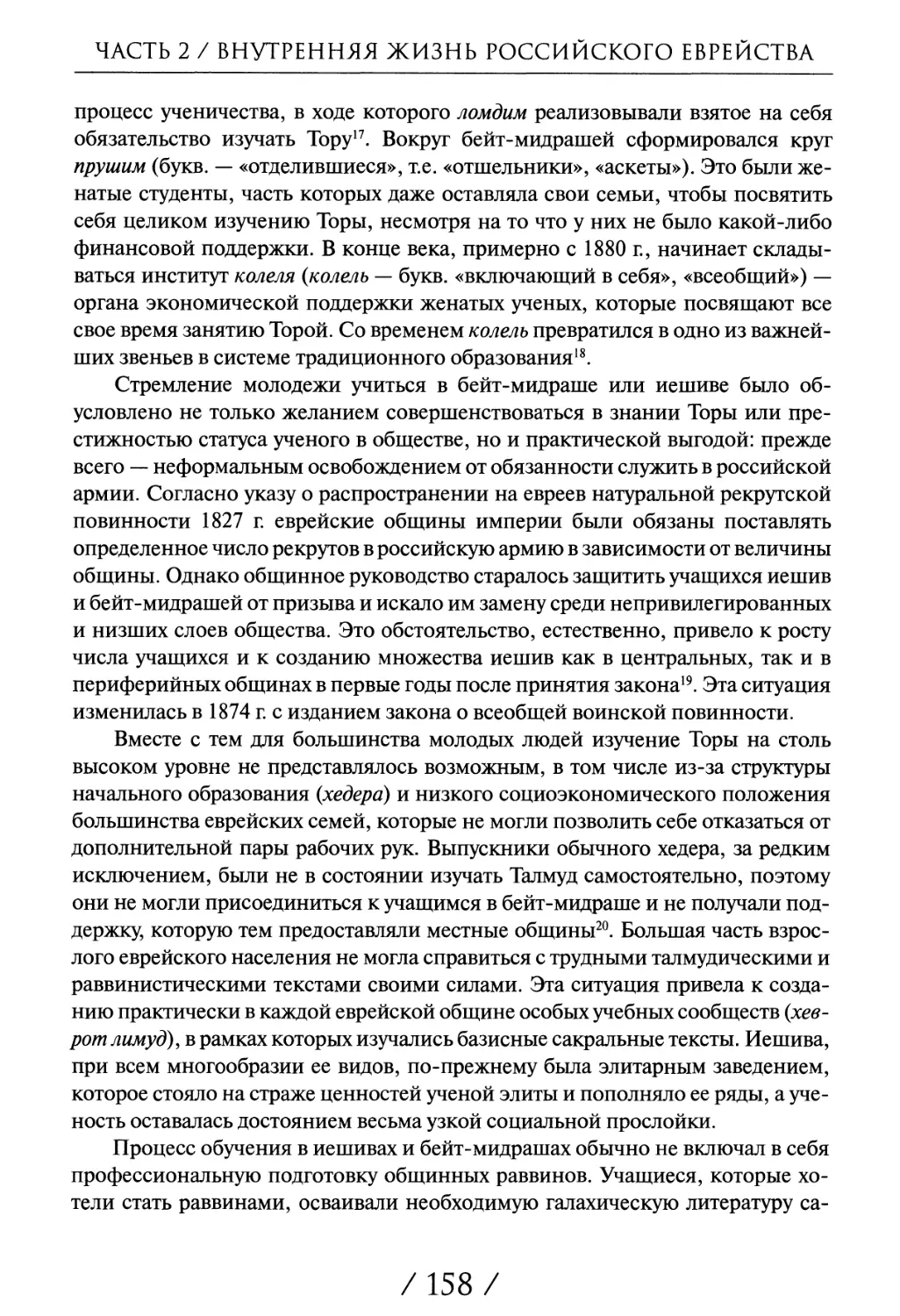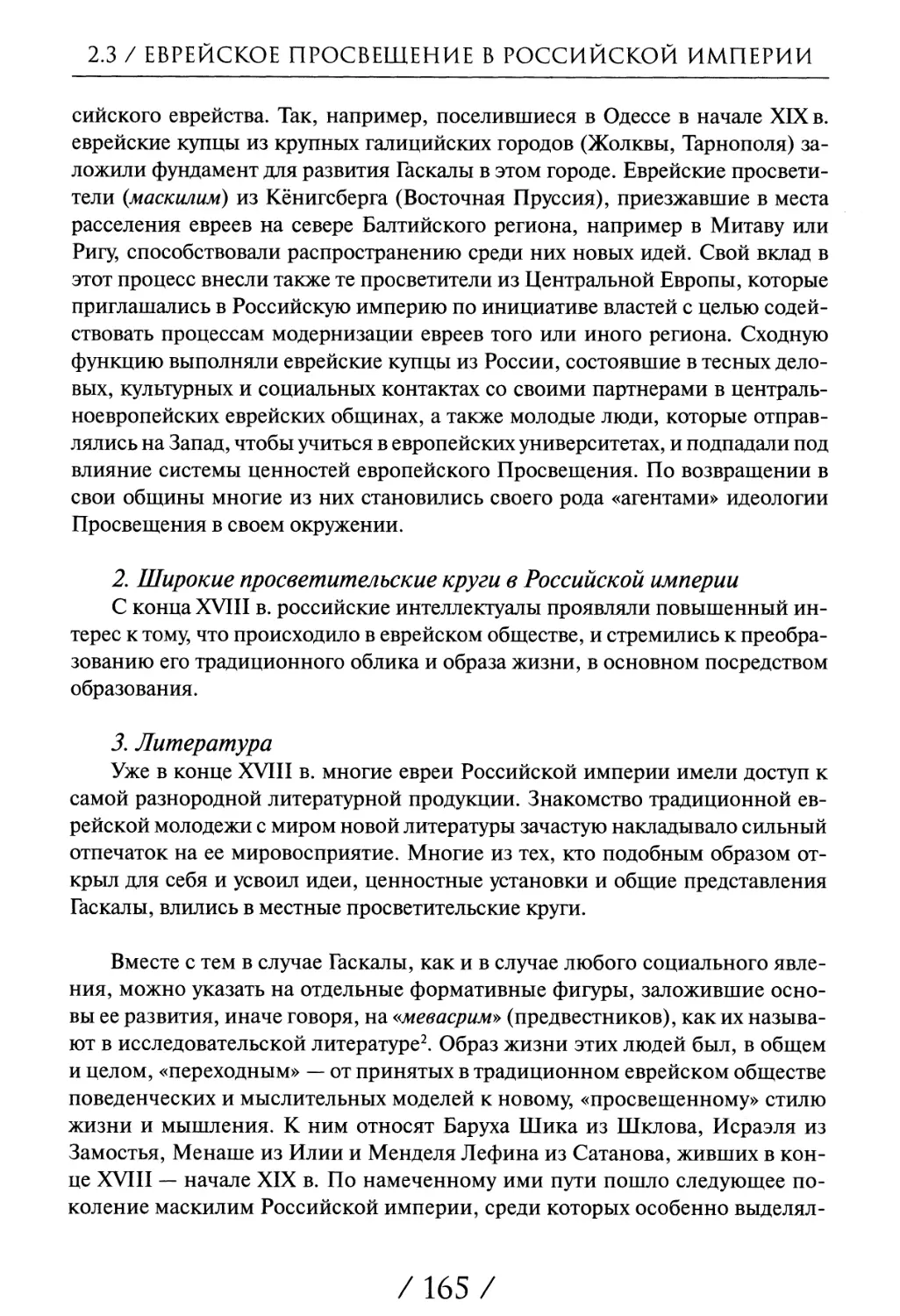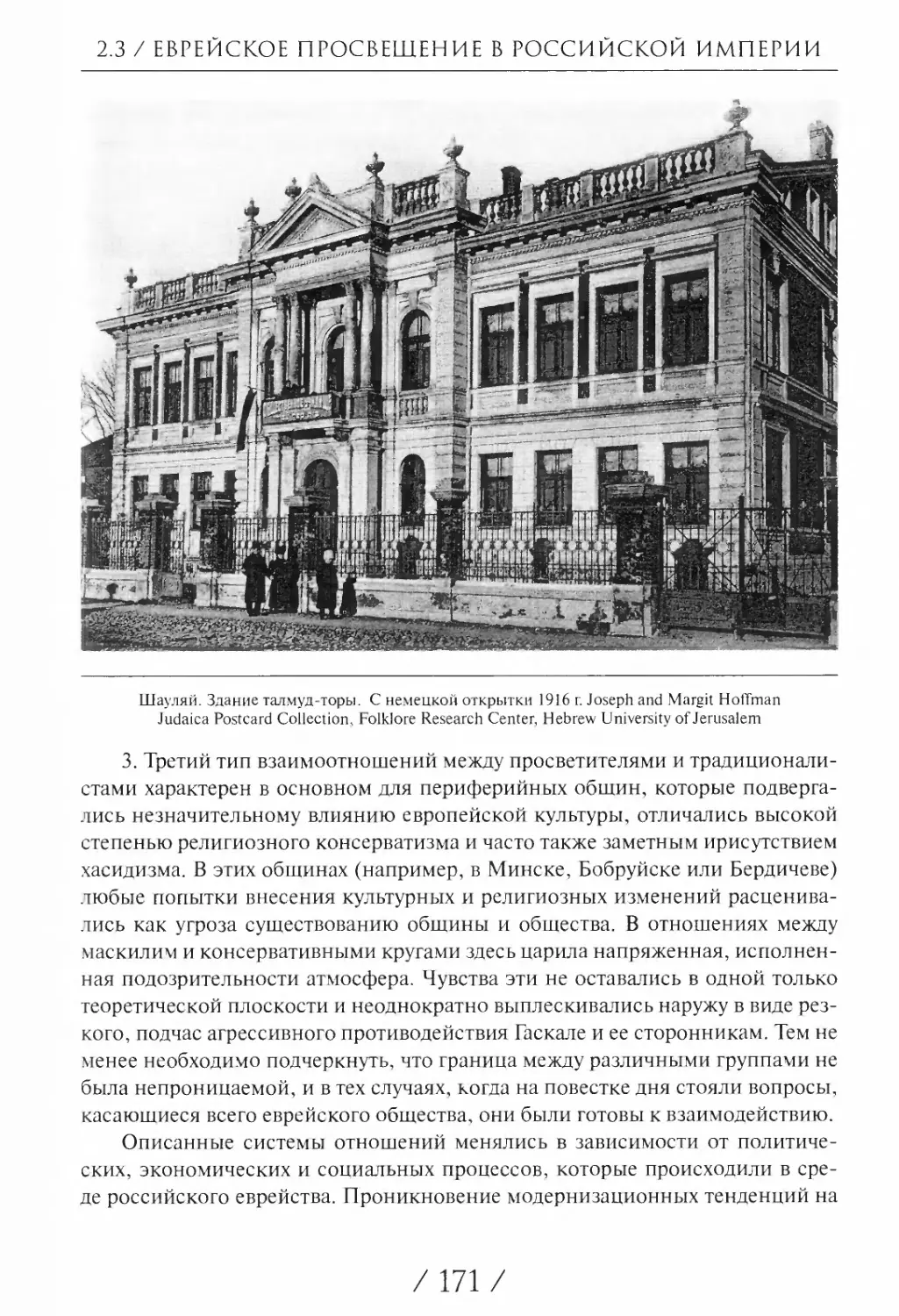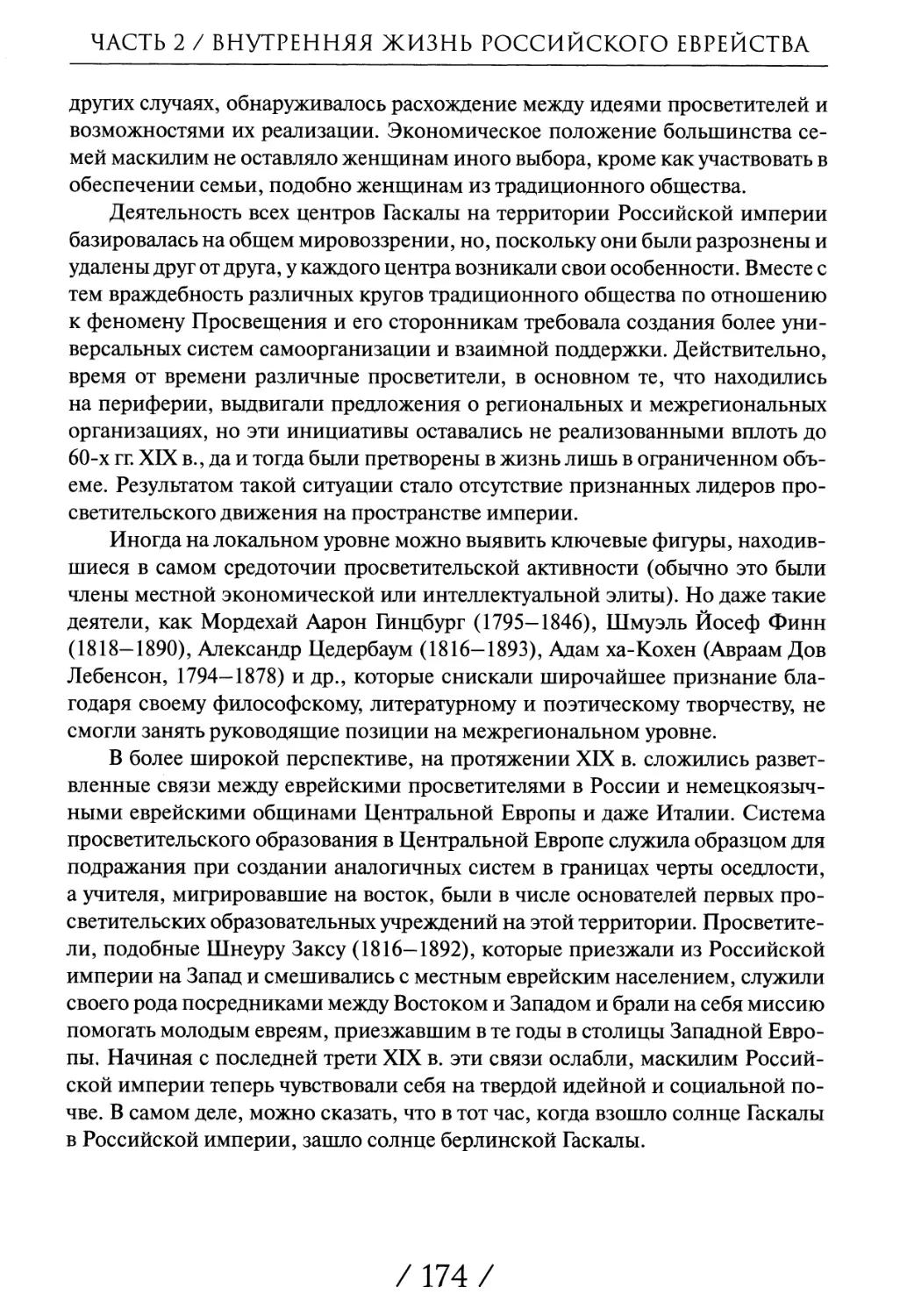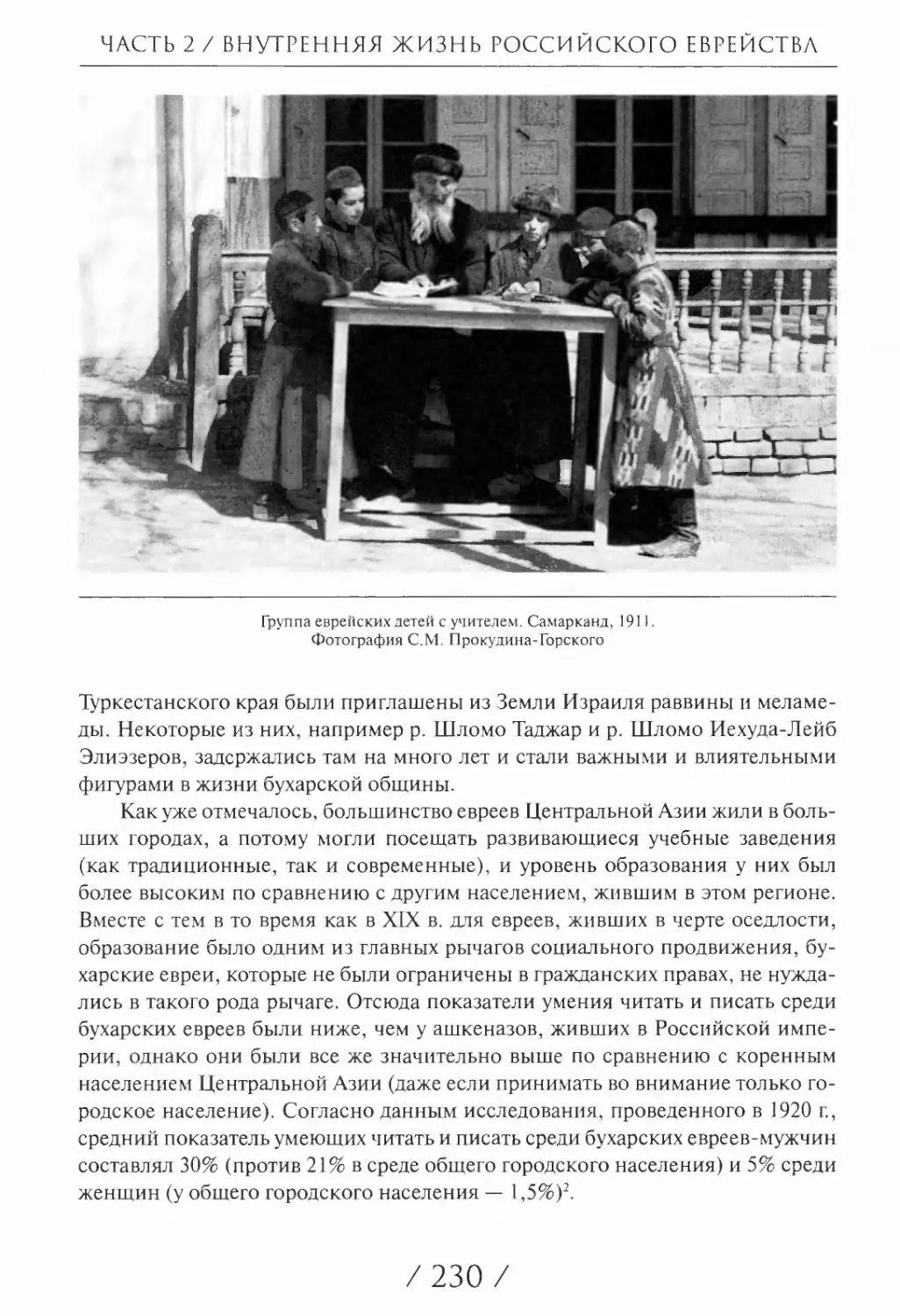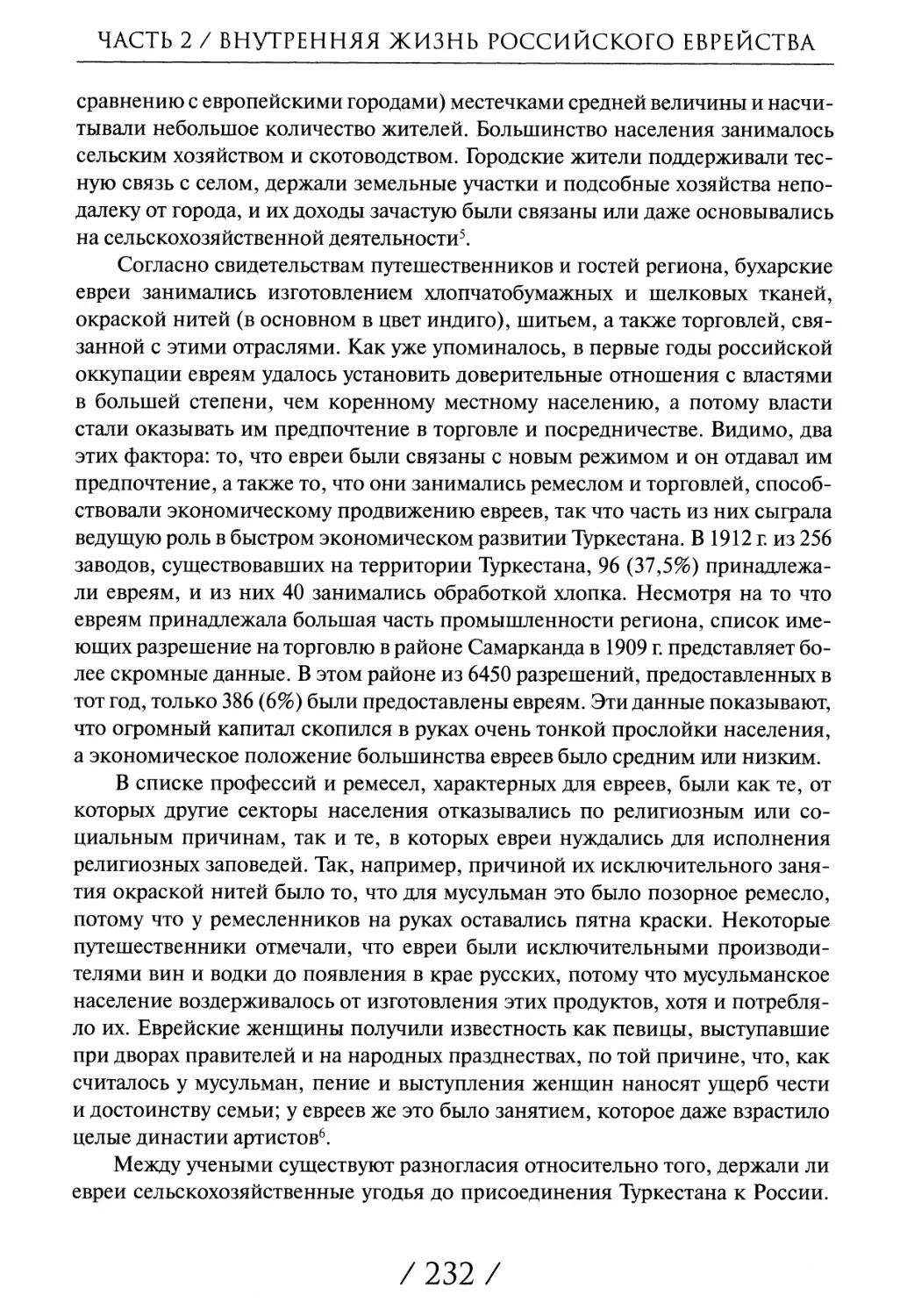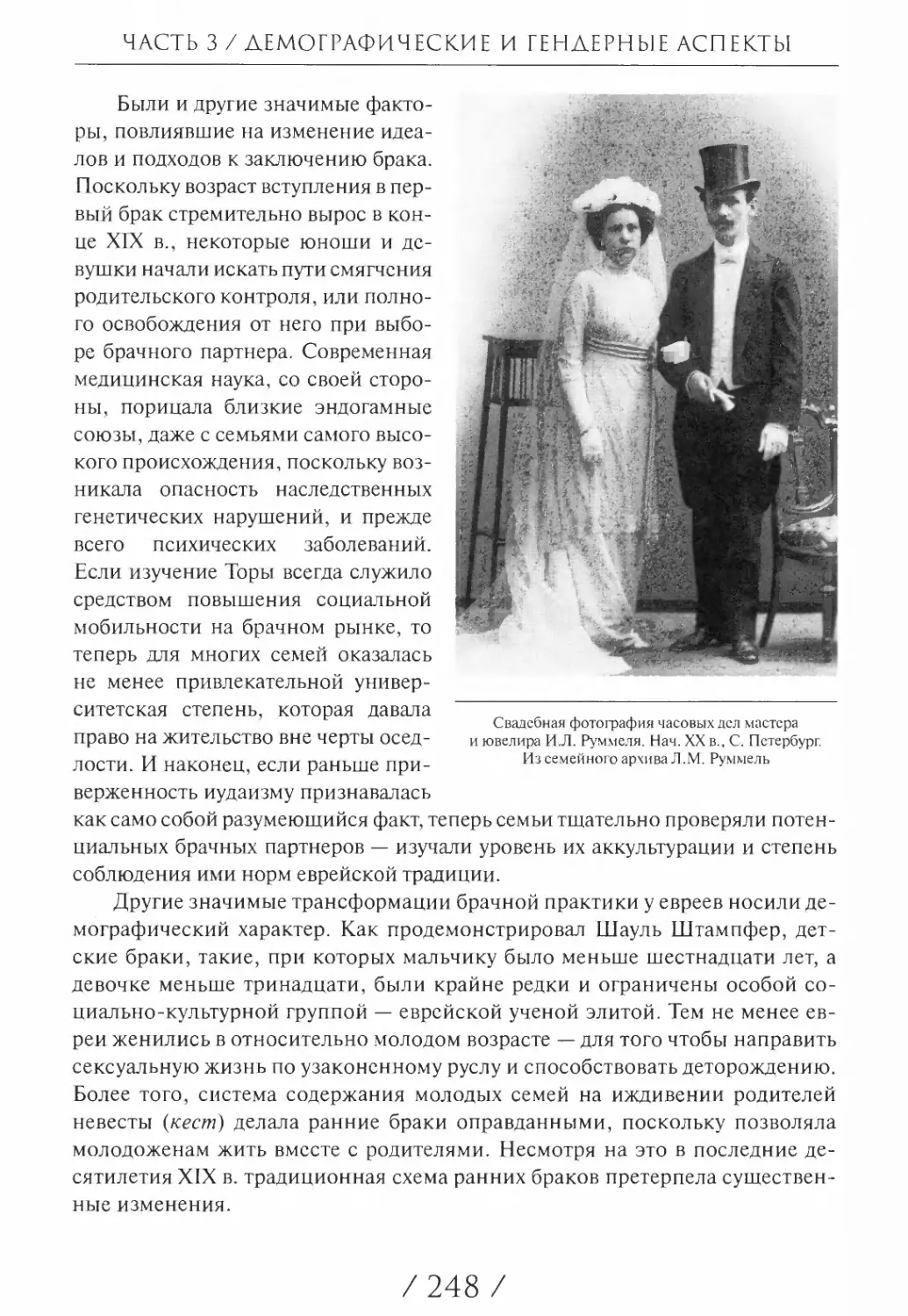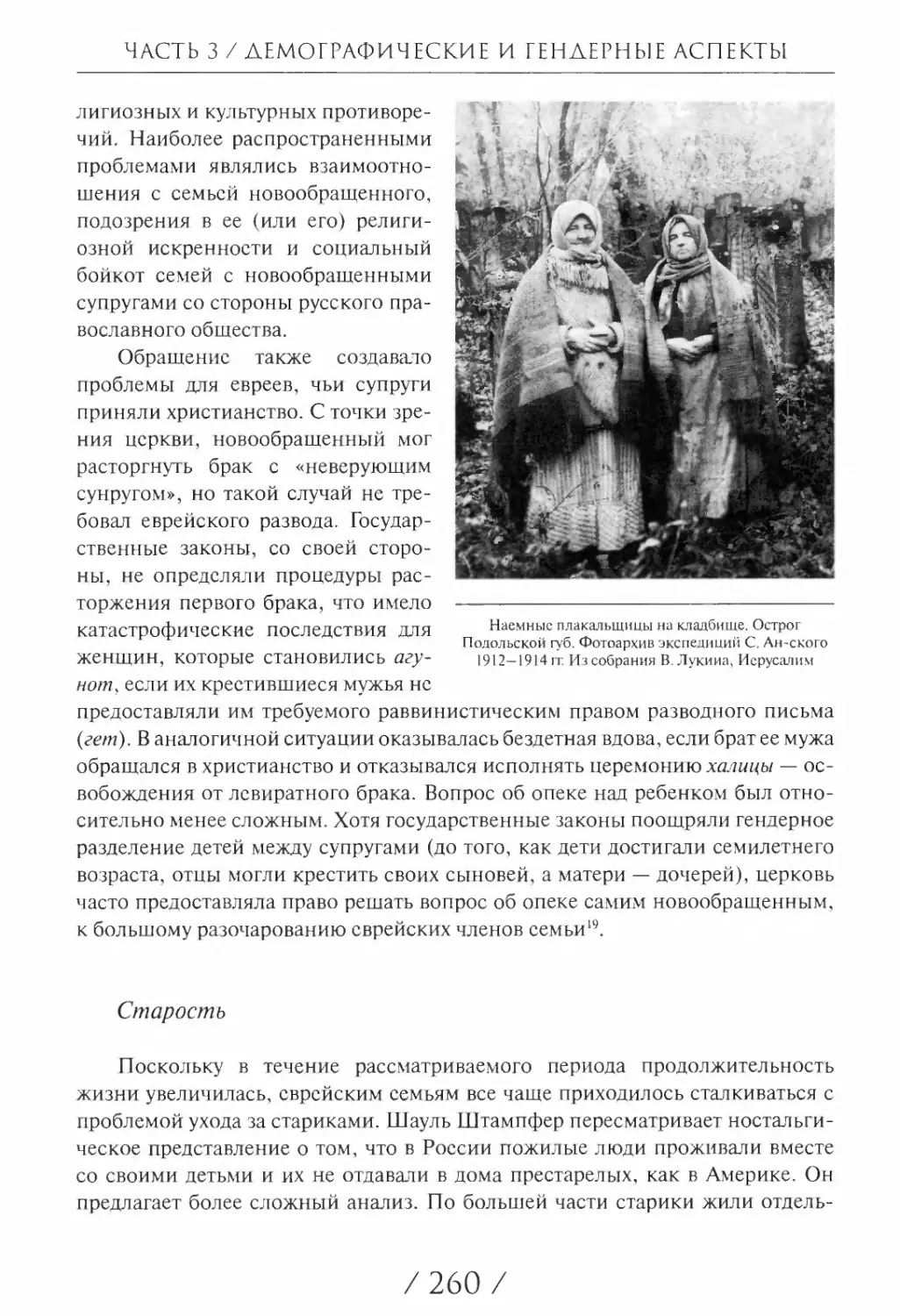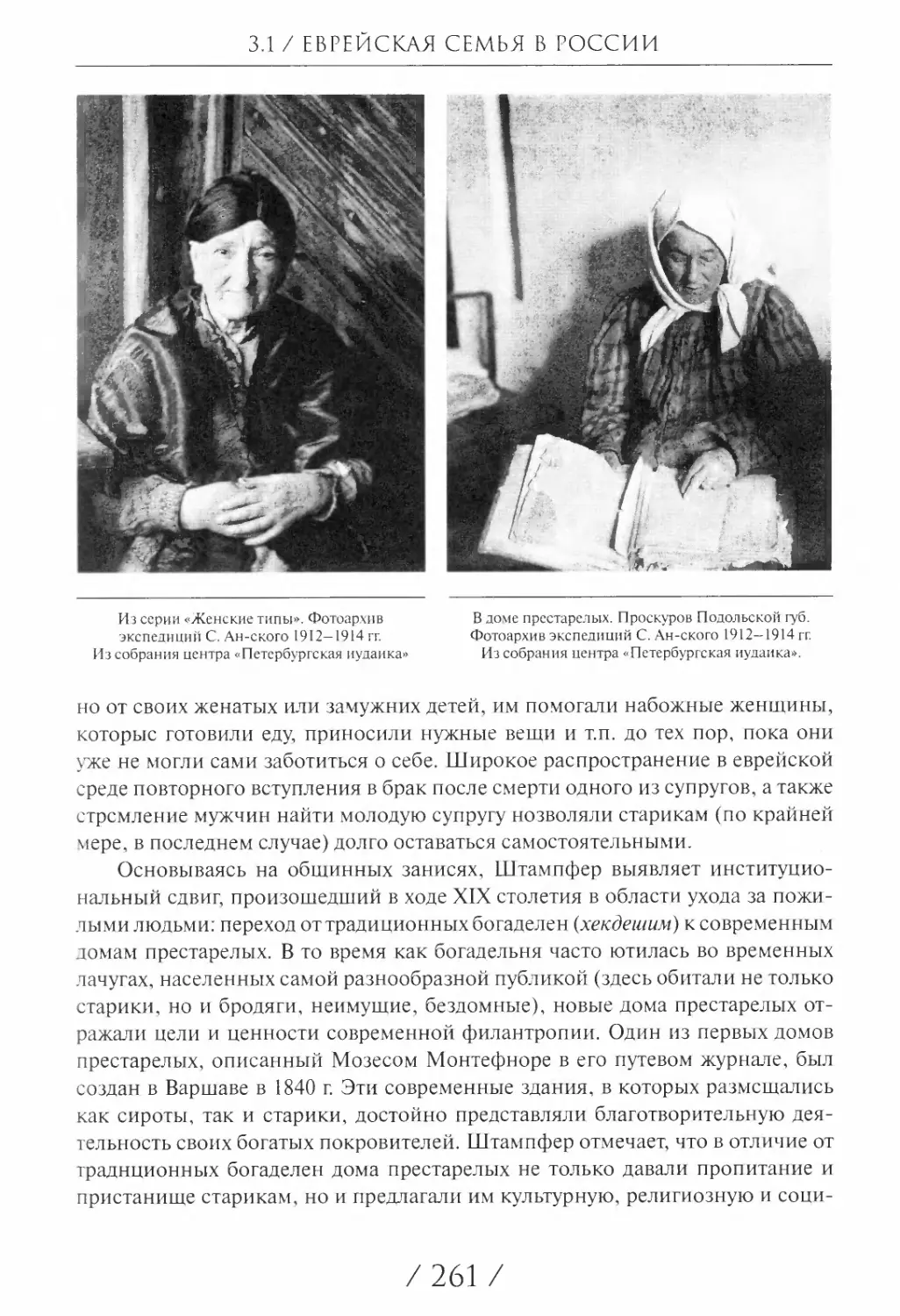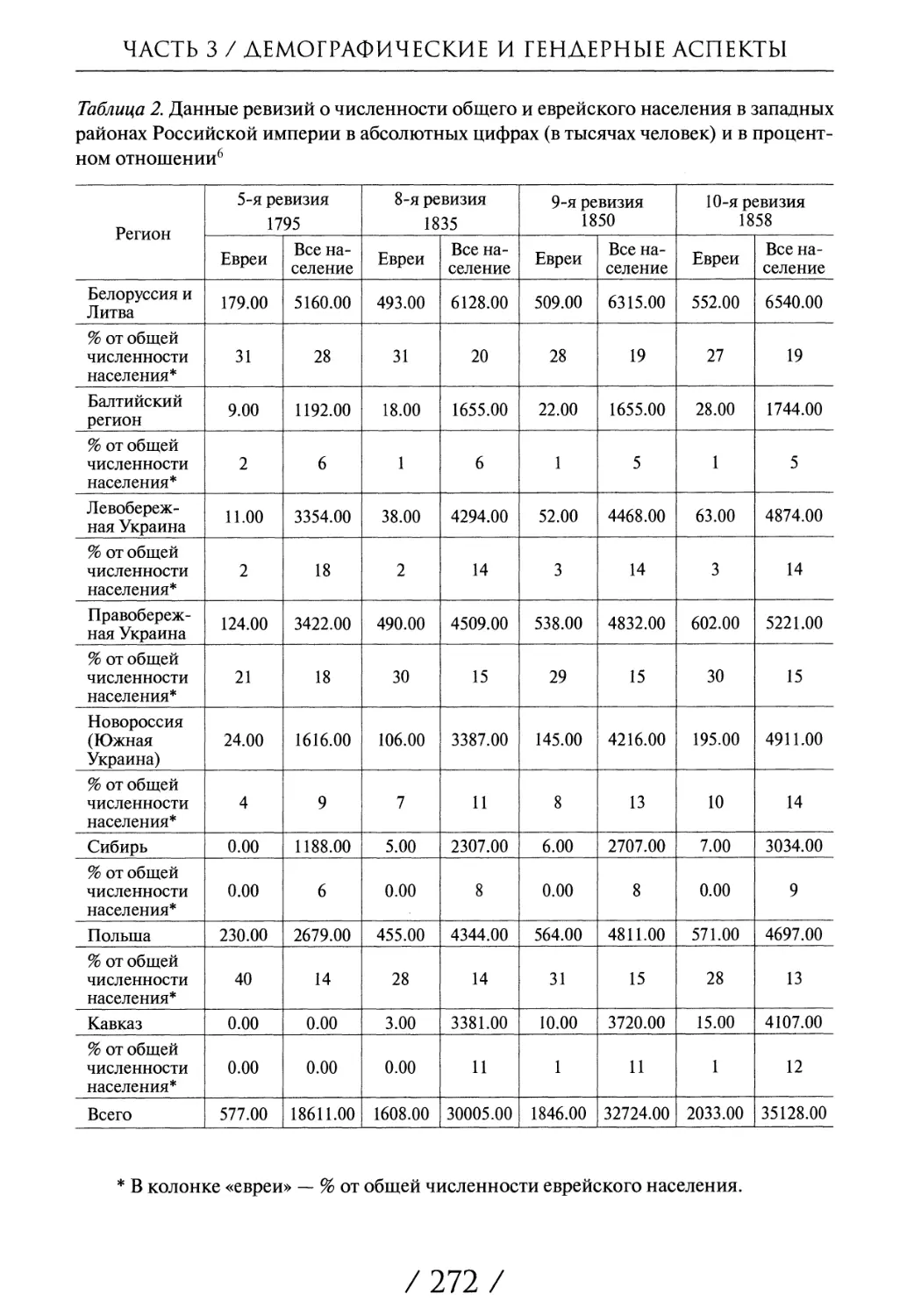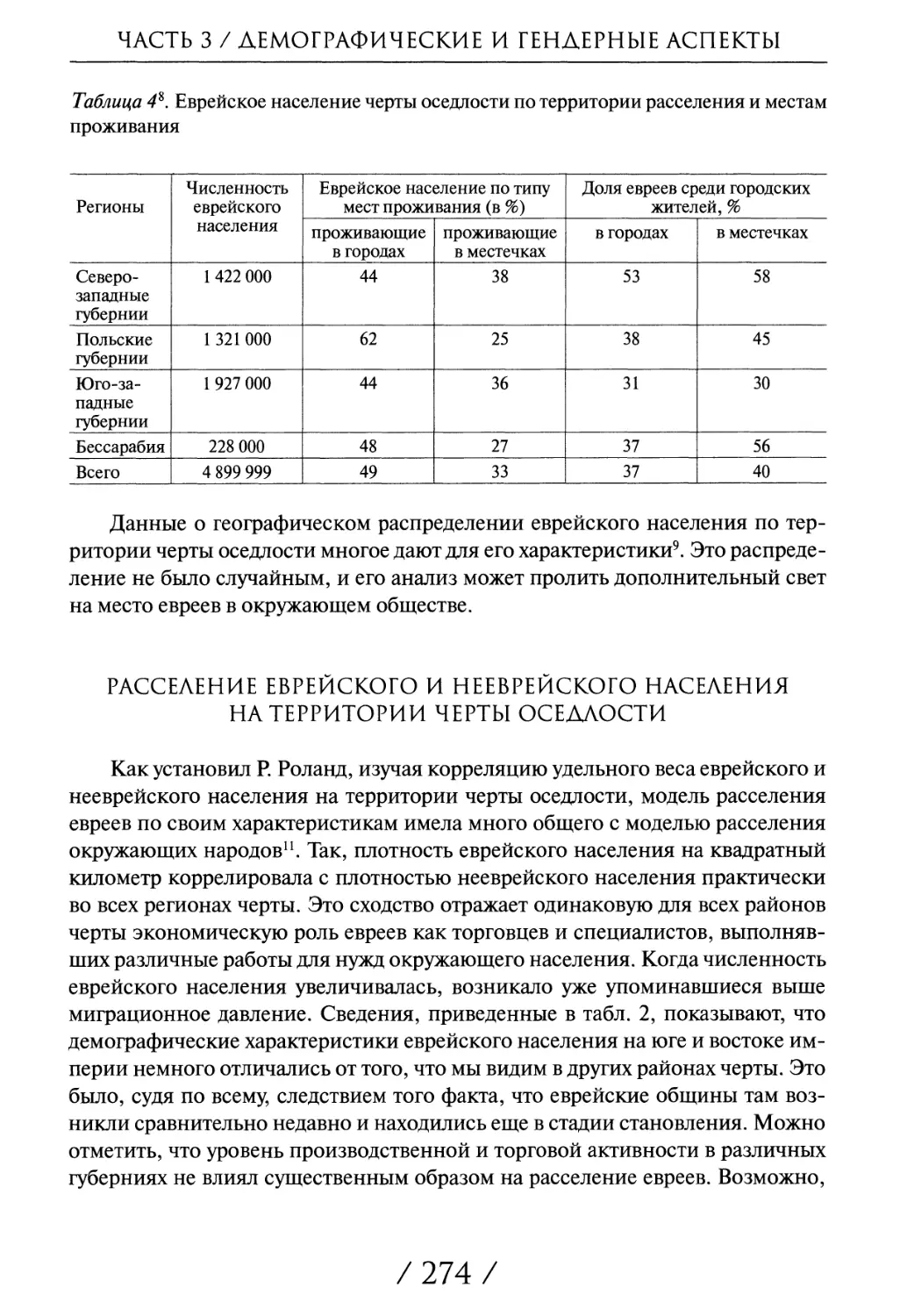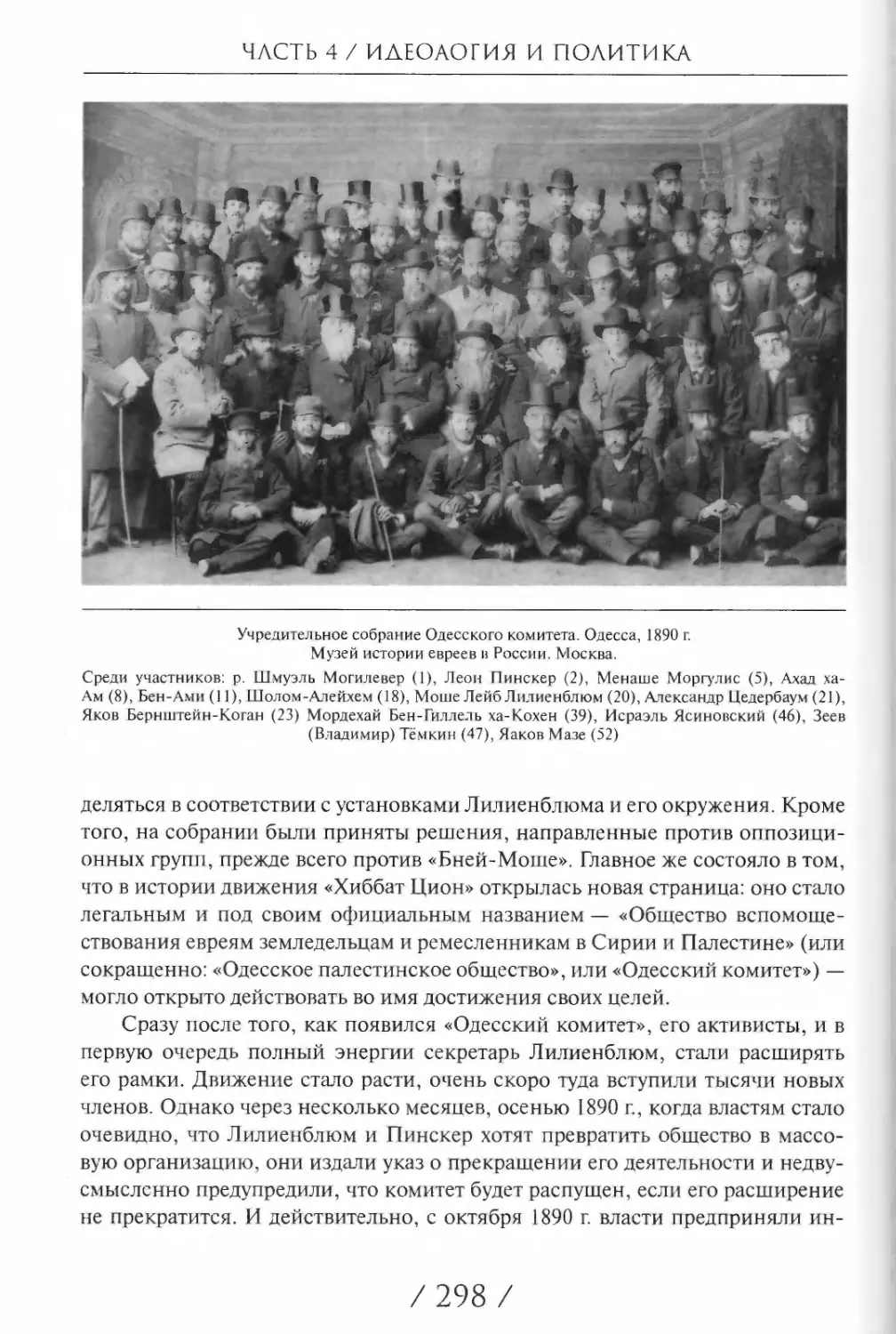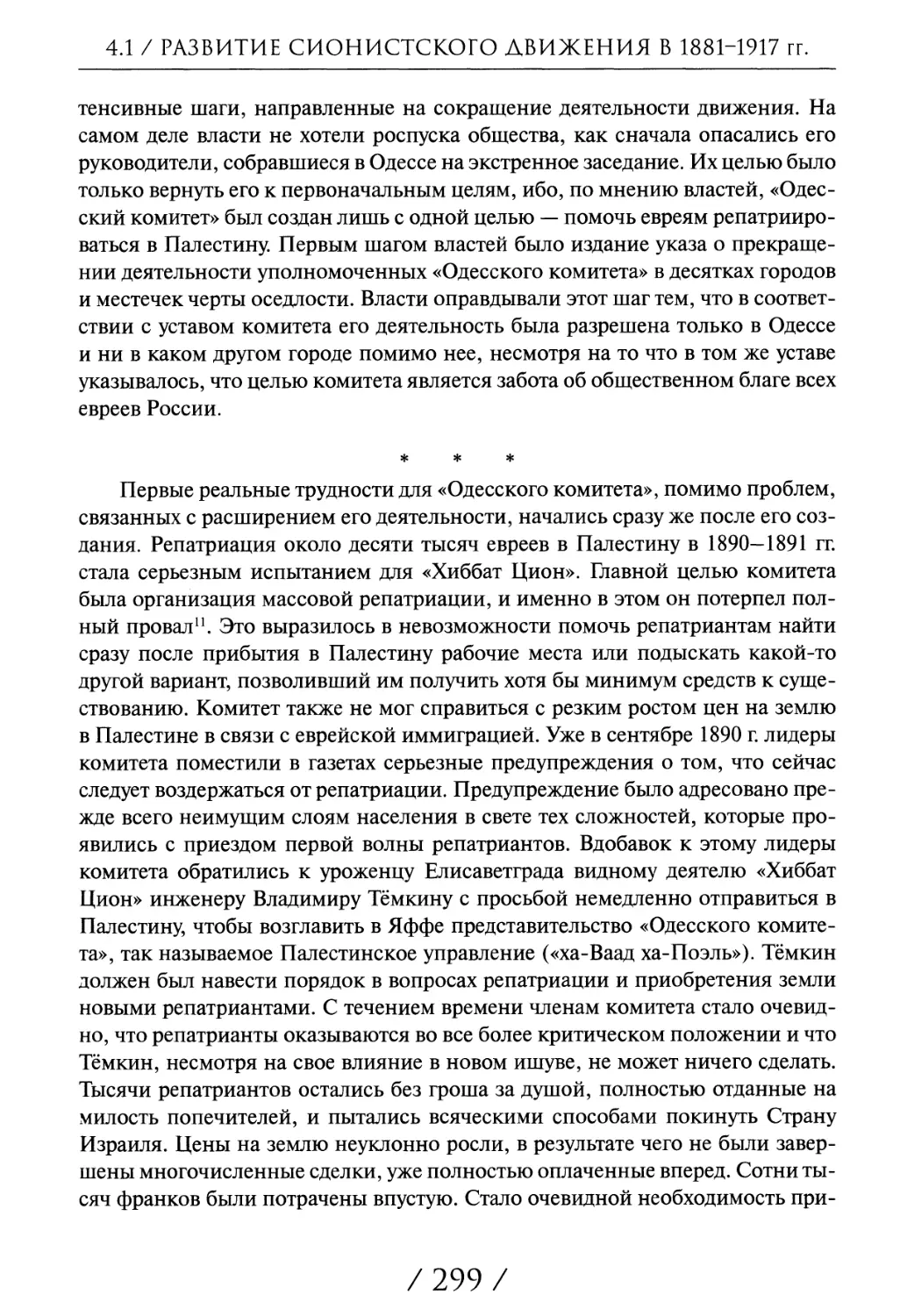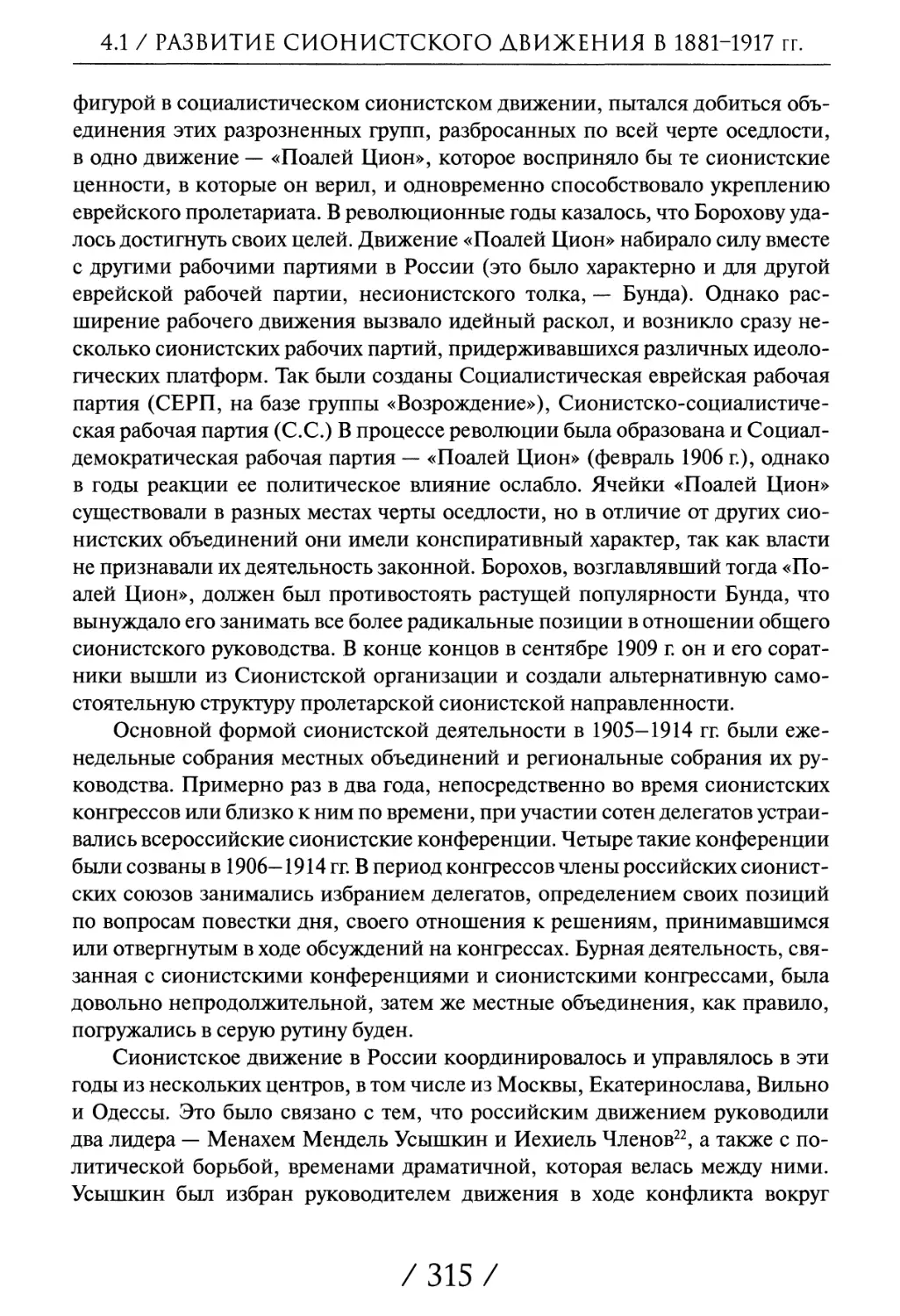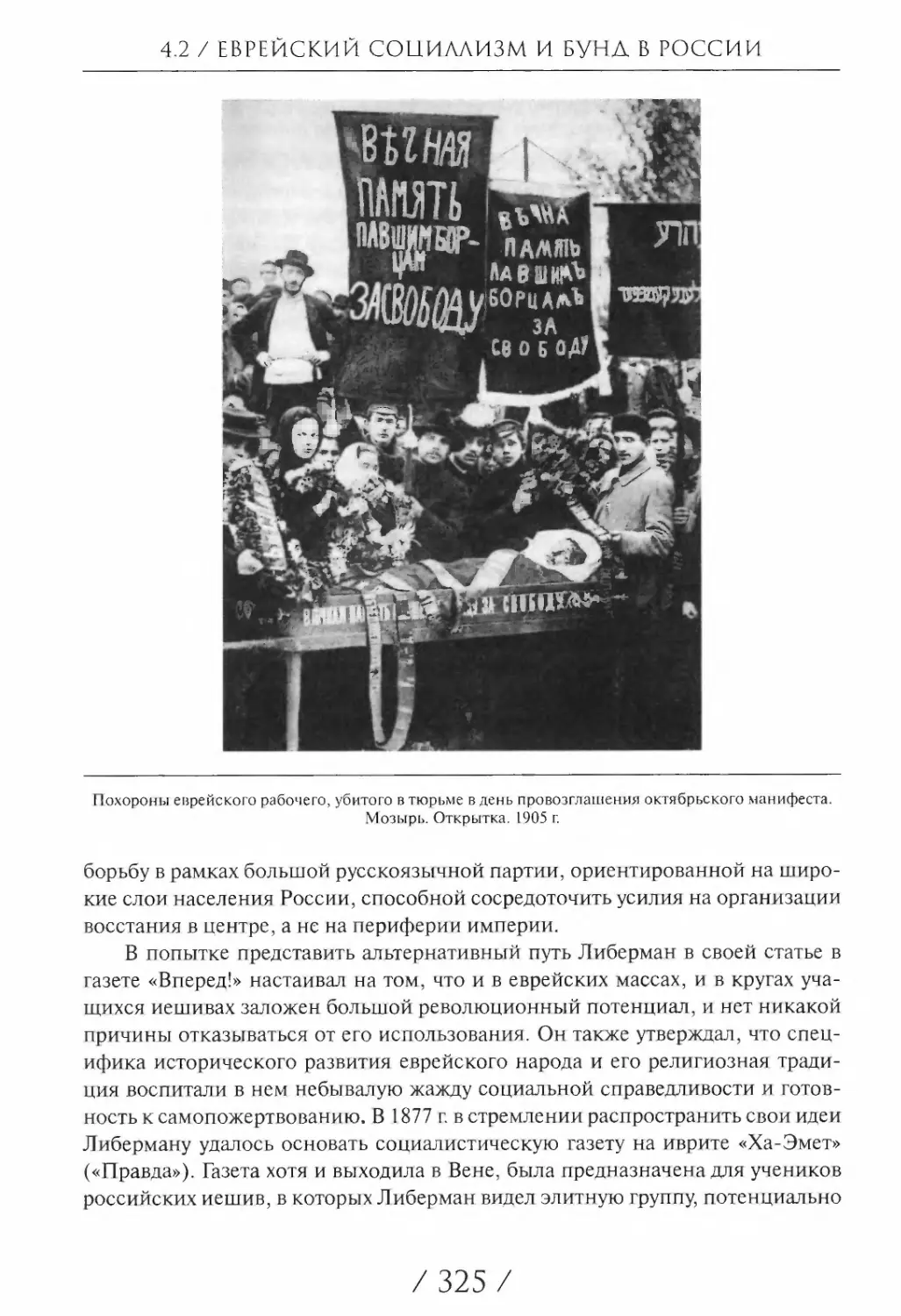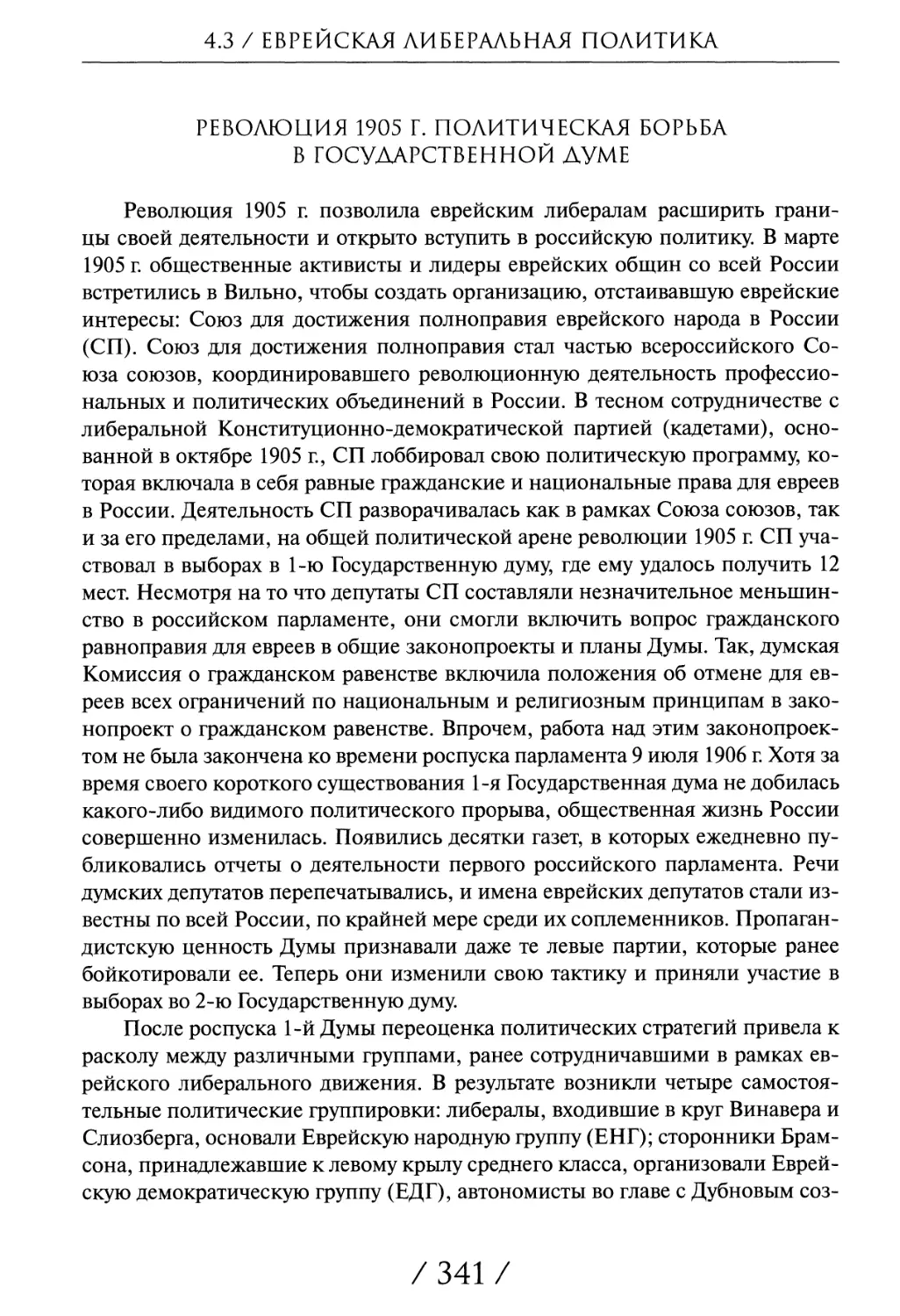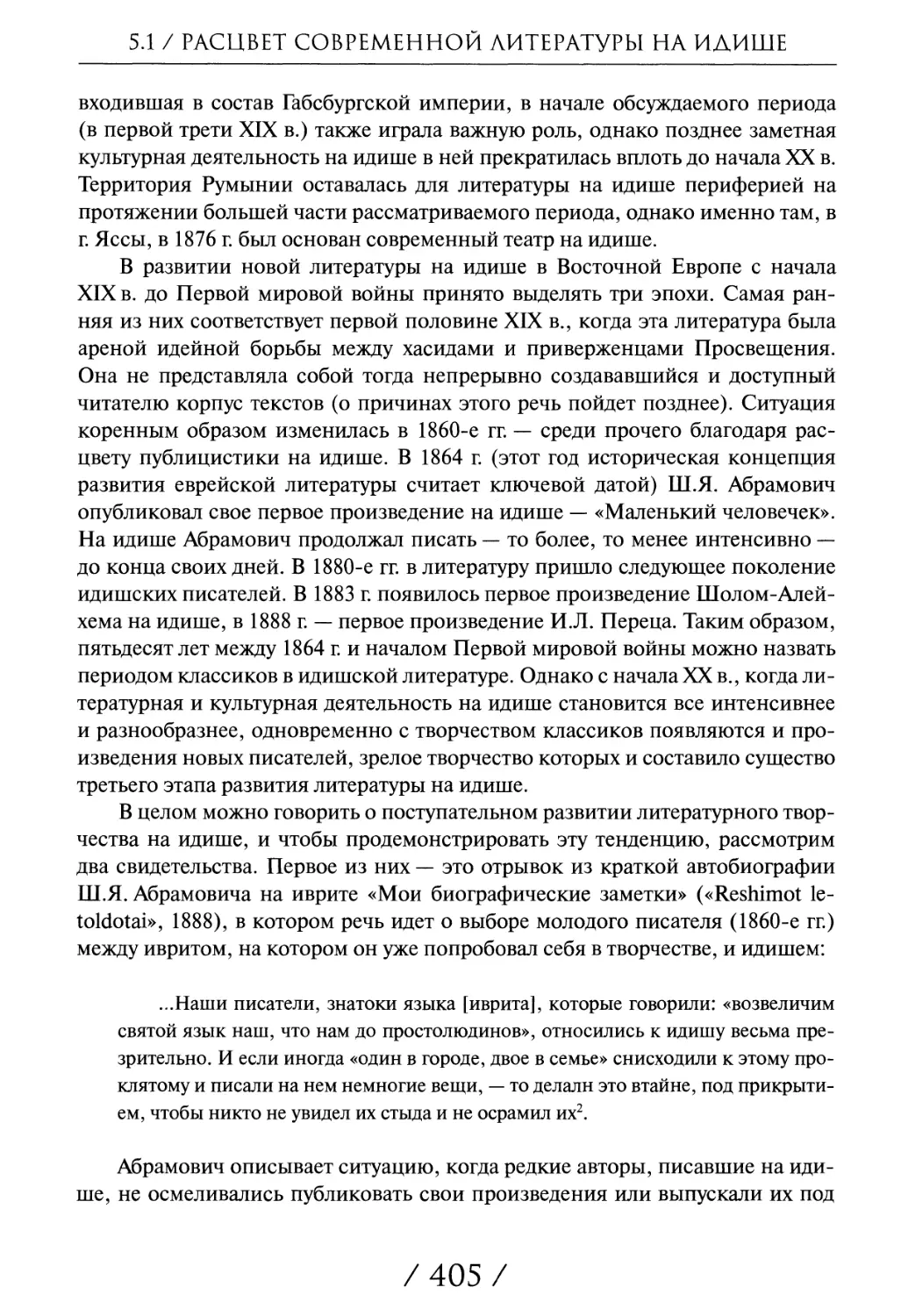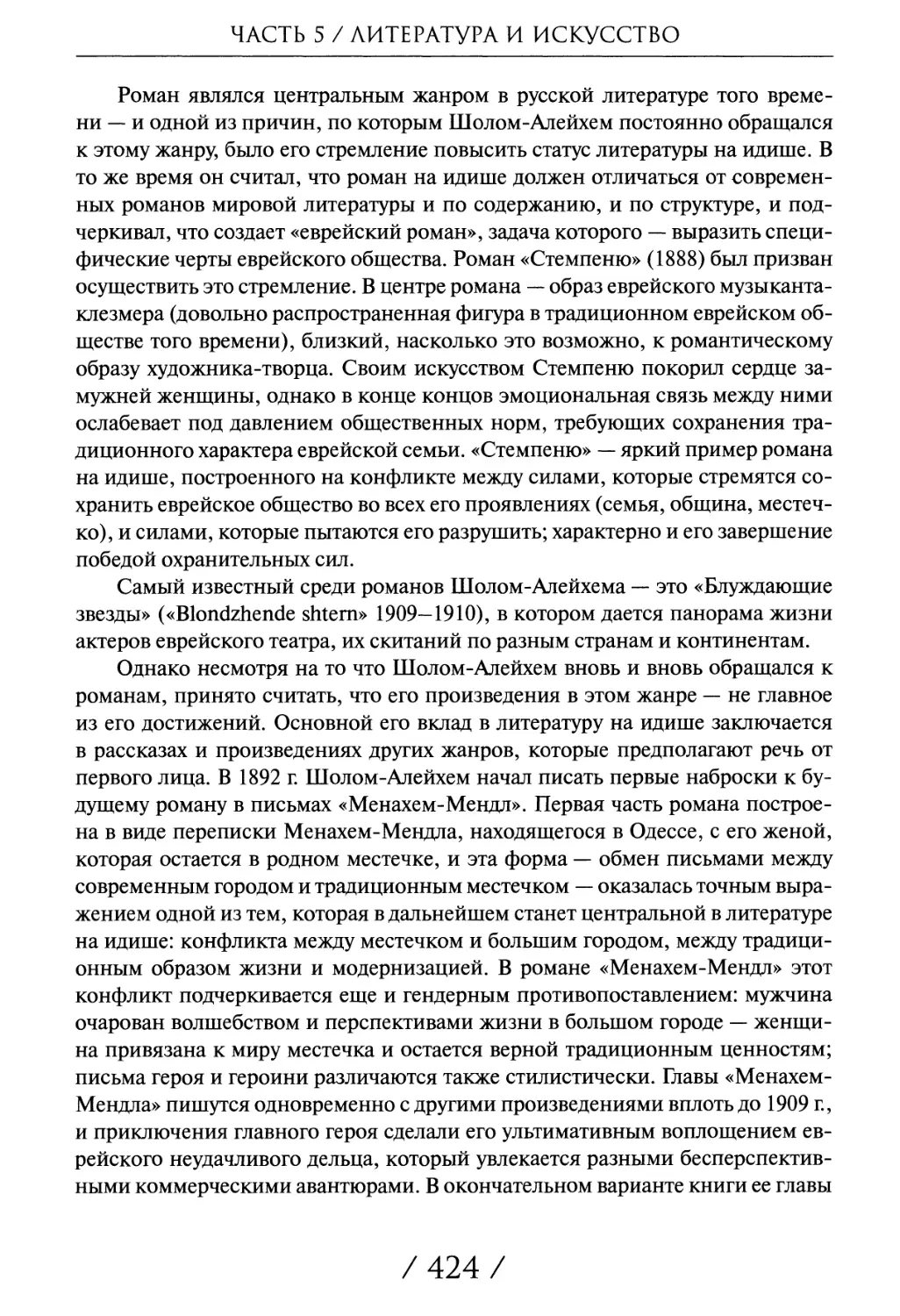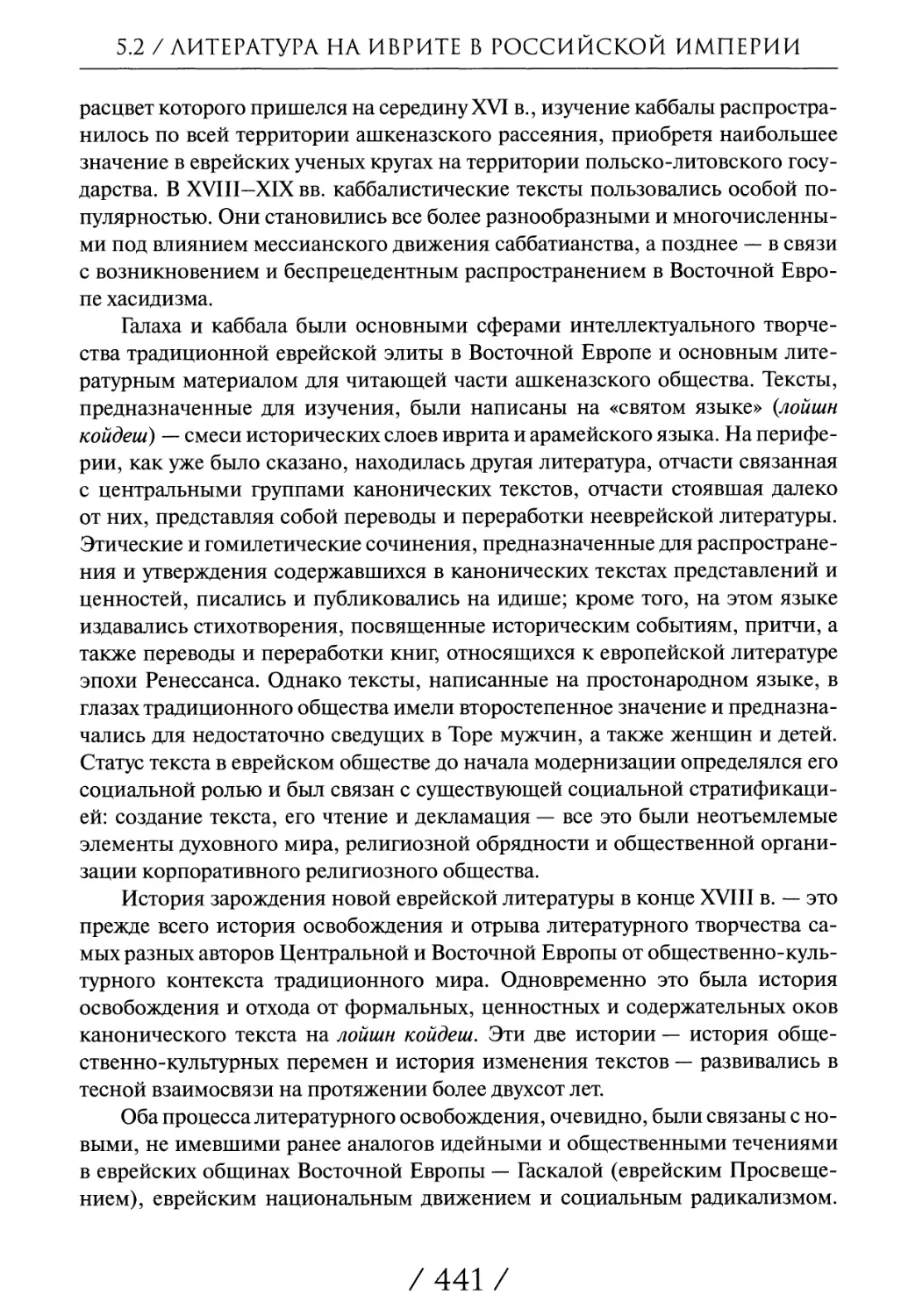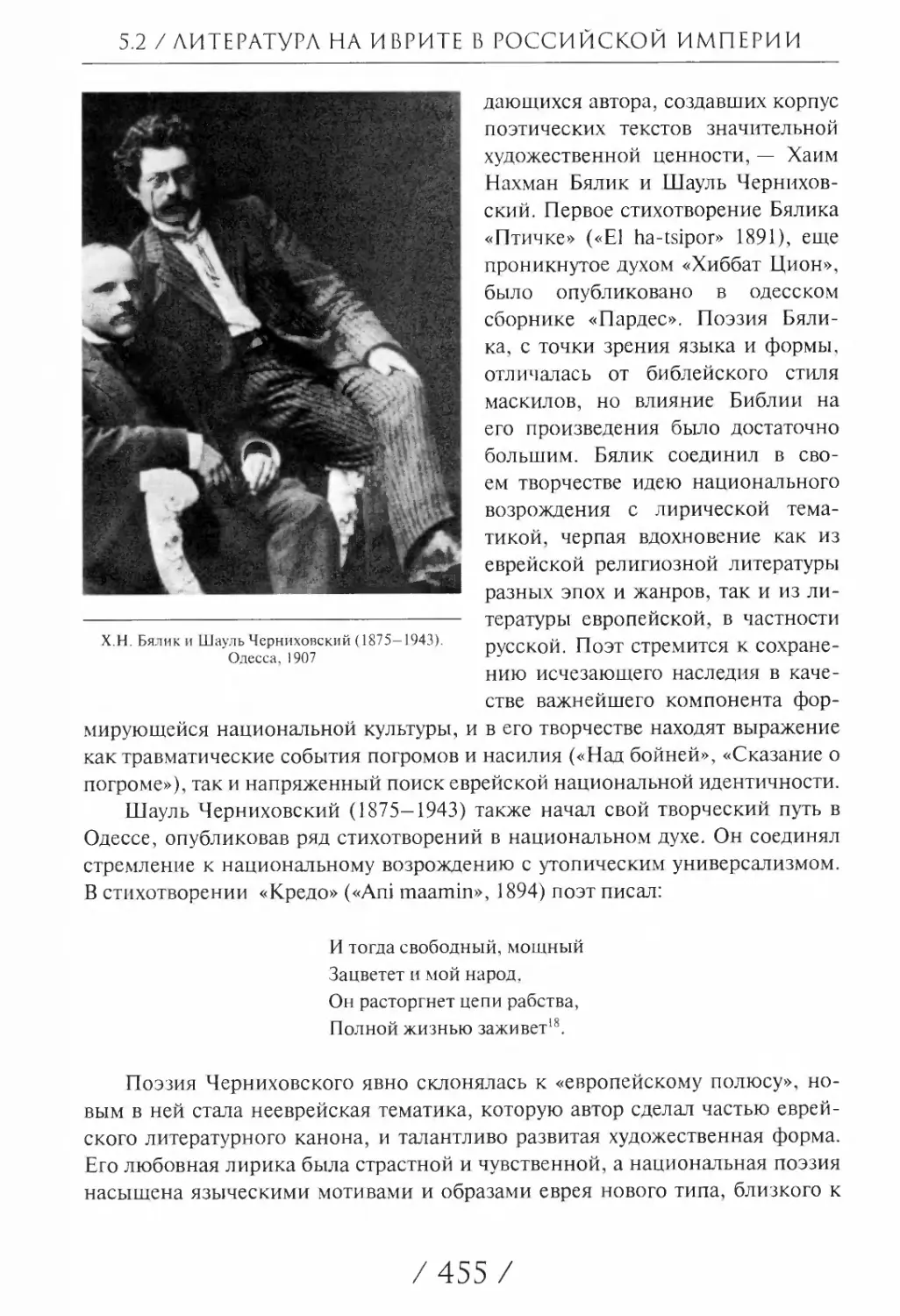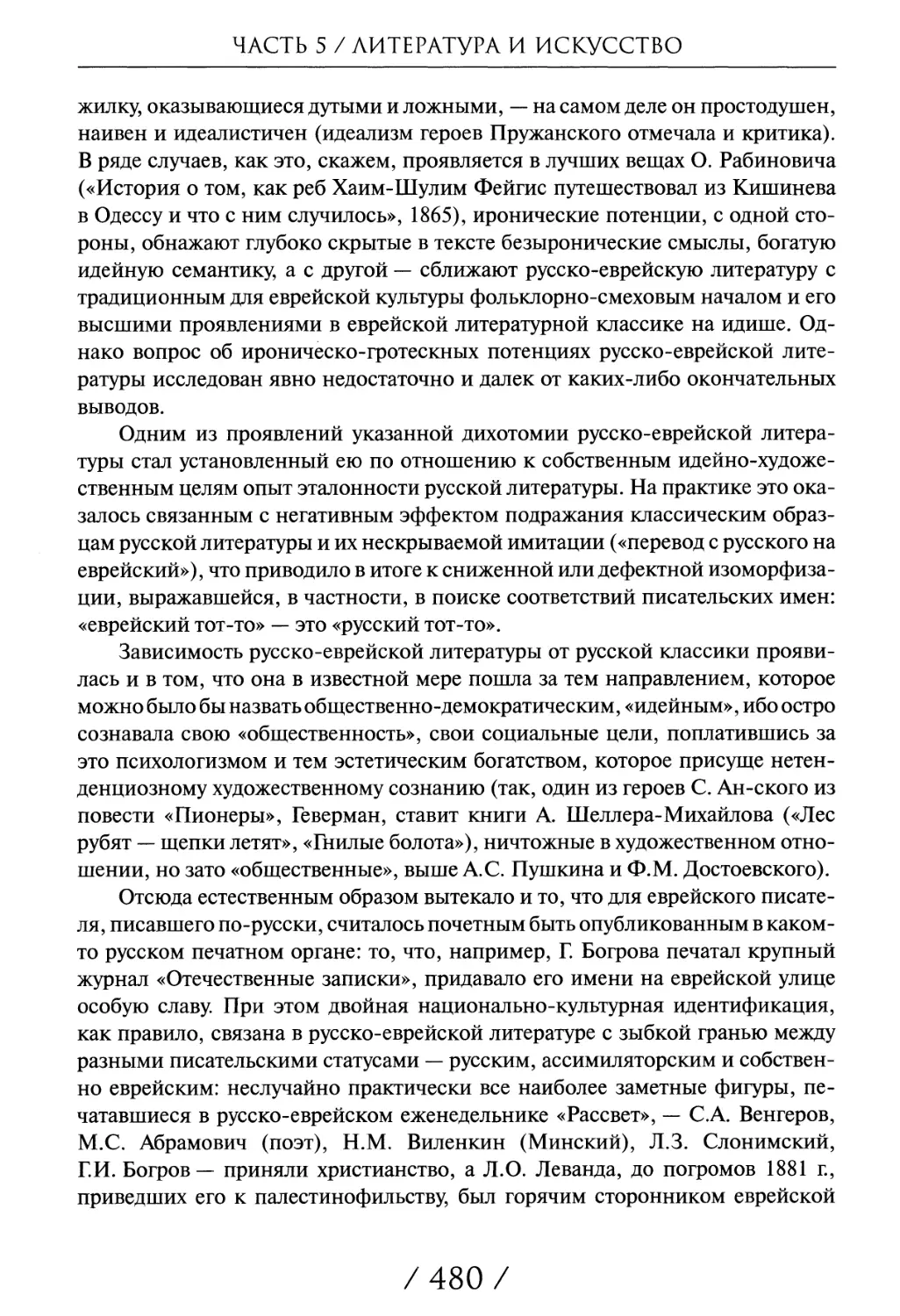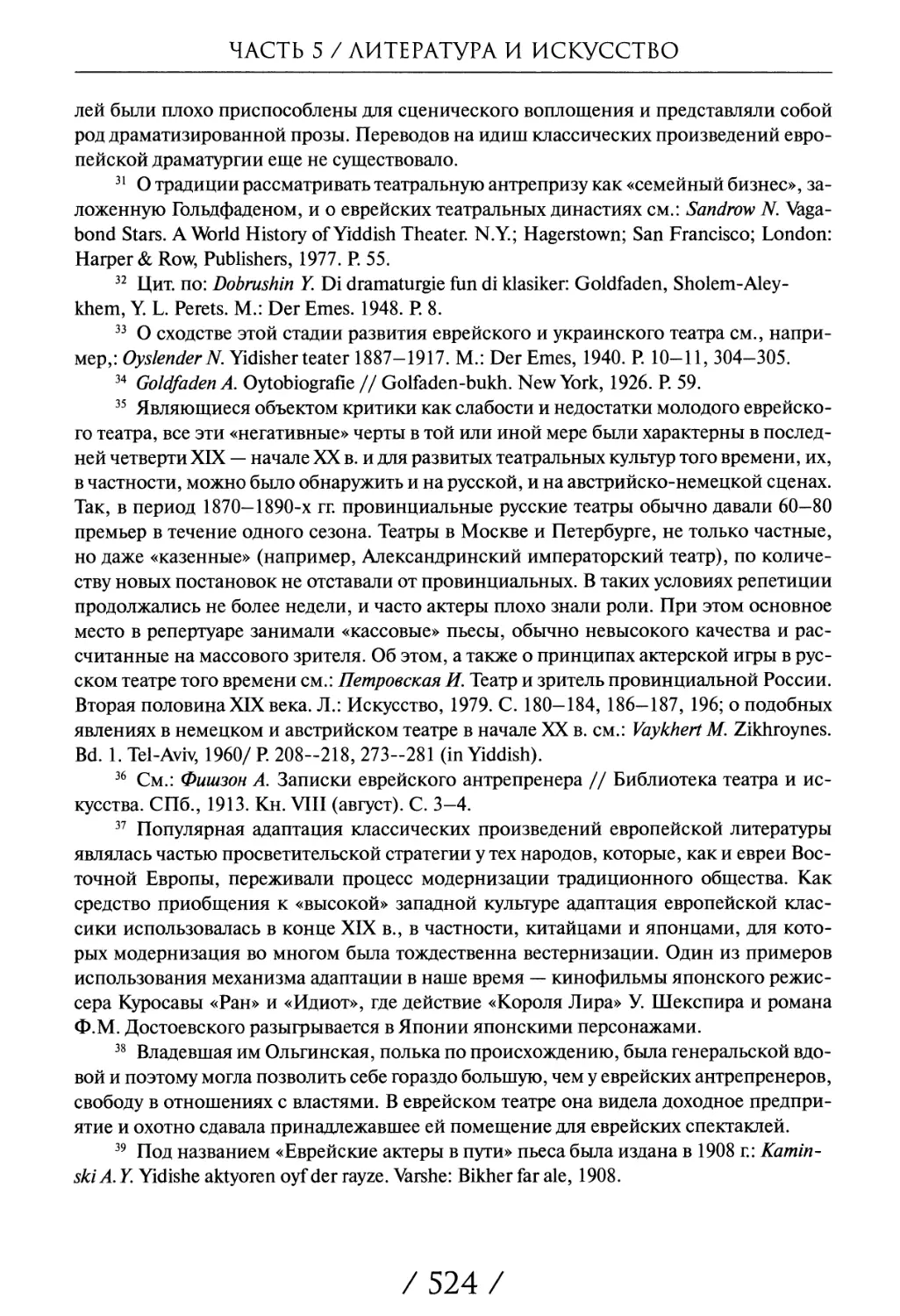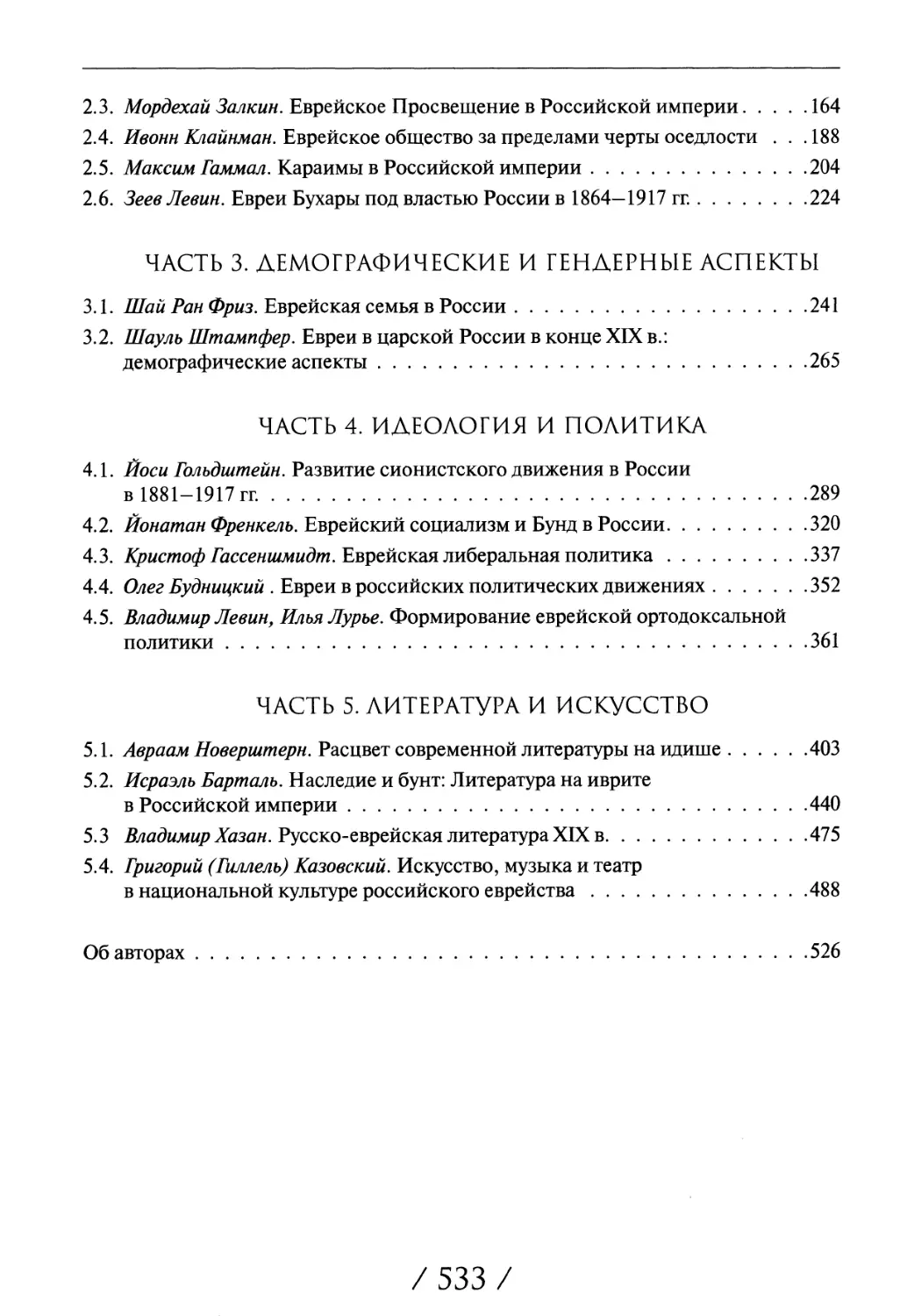Текст
АССОЦИАЦИЯ «ГИШРЕЙ ТАРБУТ /
МОСТЫ КУЛЬТУРЫ»
עמותת גשרי תרבות
ASSOCIATION FOR RESEARCH
AND PUBLISHING «GESHREI TARBUT»
ЦЕНТР ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
ИМ. ЗАЛМАНА ШАЗАРА
מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
THE ZALMAN SHAZAR CENTER
FOR JEWISH HISTORY
ЦЕНТР ЧЕЙЗА,
ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В ИЕРУСАЛИМЕ
מרכז צ“ייס, האוניברסיטה העברית בירושלים
CHAIS CENTER
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
ИСТОРИЯ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
В РОССИИ
ПОЛ ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
ИСРАЭЛЯ БАРТАЛЯ
ТОМ
ОТ РАЗДЕЛОВ
ПОЛЬШИ
ДО ПАДЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
1772-1917
ПОЛ РЕДАКЦИЕЙ
ИЛЬИ ЛУРЬЕ«Гешарим», Иерусалим
«Мосты культуры», Москва
HISTORY OF THE JEWS
IN RUSSIA
EDITED BY
ISRAEL BARTAL
FROM THE PARTITIONS
OF POLAND
TO THE FALL
OF THE RUSSIAN EMPIRE,
1772-1917
EDITED BY
ILIA LURIE
תולדות יהודי רוסיה I בעריכת ישראל ברטל
מחלוקות פולין עד לנפילת הקיסרות הרוסית / בעריכת איליה לוריא
История еврейского народа в России
Под редакцией Исраэля Барталя
History of the Jews in Russia
Edited by Israel Bartal
В оформлении обложки использованы: титульный лист актовой книги похоронного
братства (хевра-кадиша) в Каменце-Подольском (Конец XVIII в. Из собрания Нацио¬
нальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского, Киев); Синагога Бродского в
Киеве (С открытки нач. XX в. Joseph and Margit Hoffman Judaica Postcard Collection,
Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem).
История еврейского народа в России. От разделов Польши до
падения Российской империи / Под ред. И. Лурье. Том 2. — М.:
Мосты культуры / Гешарим, 2017. — 534 с.
ISBN 978-5-93273-467-4
Новая монография, подготовленная израильскими, российскими, американ¬
скими и немецкими исследователями, посвящена различным аспектам жизни
евреев в Российской империи. Она является второй частью серии «История
еврейского народа в России» и охватывает период с первого раздела Польши в
1772 г. и до Февральской революции 1917 г. В этом издании, подводящем итог
многолетних исследований, нашло отражение многообразие современных
подходов к истории и культурному наследию российского еврейства. Среди
основных тем, представленных в пяти разделах книги, — история государ¬
ственного законодательства о евреях, еврейские общественные, религиозные
и политические движения, демографические процессы, развитие новой еврей¬
ской литературы на трех языках — иврите, идише и русском и возникновение
различных форм национальной культуры на территории империи.
©Мосты культуры / Гешарим, 2017
© Центр Чейза по развитию иудаики на русском
языке. Еврейский университет в Иерусалиме, 2012
ISBN 978-5-93273-467-4 ©Центр еврейской истории им. Залмана Шазара, 2012
ПРЕДИСЛОВИЕ
ереход значительной части польского еврейства под власть
Российской империи в результате разделов Польши 1772, 1793
и 1795 г. стал не только важнейшим событием в еврейской
истории Нового времени, но и — в длительной перспективе —
значимым фактором развития российской культуры и обще¬
ства в целом.
Евреи — выходцы из городов Священной Римской империи, поселивши¬
еся на землях Польши и Литвы в раннее Средневековье, за несколько столетий
сумели создать высокоразвитую самобытную культуру, которая в значитель¬
ной степени обогатила ашкеназскую религиозную и социальную традицию,
сформировавшуюся в средневековых германских общинах. В условиях Речи
Посполитой система еврейского общинного самоуправления достигла свое¬
го наивысшего развития, органично вписавшись в корпоративную структуру
феодального государства. Еврейское население, по существу, образовывало
отдельную средневековую корпорацию, в экономическом и социальном от¬
ношении являвшуюся неразрывной частью польского общества. Ее экономи¬
ческие права, особый юридический статус и система взаимоотношений с цен¬
тральной властью определялись специальными законодательными актами —
грамотами о привилегиях, регулярно возобновляемыми польскими королями.
Распространение российского подданства на огромную массу польских
евреев (по некоторым оценкам, их общее число на присоединенных к России
польских землях составляло около 800 000 чел.) означало наступление новой
эпохи, знаменовавшейся поэтапным демонтажем еврейской автономии и рас¬
падом еврейского традиционного общества. Собственно, с этого момента, в
/5/
ПРЕДИСЛОВИЕ
новых условиях имперской власти, начинается процесс формирования осо¬
бой еврейской этнокультурной общности — российского еврейства.
Предлагаемая читателю монография, созданная израильскими, россий¬
скими, американскими и немецкими исследователями, посвящена различ¬
ным аспектам жизни евреев в Российской империи. Она является второй ча¬
стью трехтомной серии «История еврейского народа в России» и охватывает
период с первого раздела Польши в 1772 г. и до Февральской революции 1917 г.
Монография начинается с раздела, посвященного формированию и разви¬
тию имперской политики по отношению к евреям («Российское государство и
еврейское общество»). Наряду с общим обзором еврейской политики россий¬
ских властей (в главах, написанных Джоном Клиером и Хайнцем-Дитрихом
Лёве) отдельно обсуждаются вопросы, имевшие особое влияние на еврейское
общество. Это главы о службе евреев в российской армии (Йоханана Петров¬
ского-Штерна) и о цензуре еврейских изданий (Дмитрия Эльяшевича).
Во втором разделе («Внутренняя жизнь российского еврейства») пред¬
ставлено многообразие форм социальной и духовной жизни евреев в России.
Еврейское общество империи не было однородным ни в идейном, ни в этно¬
культурном отношении. Три основных течения определили его облик в девят¬
надцатом столетии: хасидизм (этому движению посвящена глава, написанная
совместно Давидом Асафом и Гади Сагивом), движение митнагдим, ориенти¬
рующееся на традиционные идеалы талмудической учености (оно рассматри¬
вается в статье Уриэля Гельмана) и движение еврейского Просвещения — Га¬
скала (ему посвящена глава, написанная Мордехаем Залкином). Во второй по¬
ловине XIX в., с ослаблением ограничительного законодательства, евреи начи¬
нают селиться за пределами черты оседлости. Созданные ими общины во вну¬
тренних областях империи — и прежде всего в двух ее столицах — во многом
отличались от общин черты оседлости по своему облику и жизненному укладу.
Им посвящена глава, написанная Ивонн Кляйнманн. Отдельным еврейским
религиозно-этническим группам, населявшим территорию Российской импе¬
рии, посвящены статьи Максима Гаммала («Караимы в Российской империи»)
и Зеева Левина («Евреи Бухары под властью России в 1864—1917 гг.»).
Анализу доступных нам статистических данных, позволяющих получить
общее представление о структуре еврейского общества в России, посвящена
глава, написанная Шаулем Штампфером, а вопросы семьи и статуса еврей¬
ской женщины обсуждаются в исследовании Шай Ран Фриз. Две эти главы
формируют третий раздел книги («Демографические и гендерные аспекты»),
С начала 80-х гг. XIX в. наблюдается оживление общественно-политичес¬
кой жизни российских евреев: начинают формироваться первые еврейские
политические движения и партии, становится заметным участие евреев в об¬
щей политической жизни страны. Многообразию идеологий и политических
программ на еврейской улице в этот период посвящен четвертый раздел кни¬
/6/
ПРЕДИСЛОВИЕ
ги («Идеология и политика»). Такие центральные общественно-политические
течения, как сионизм, еврейское социалистическое движение, автономизм и
еврейский либерализм, рассматриваются в главах, написанных соответствен¬
но Йоси Гольдштейном, Йонатаном Френкелем, Кристофом Гассеншмидтом.
К этому же разделу относится глава Олега Будницкого об участии евреев в
общероссийских политических партиях и глава, написанная совместно Вла¬
димиром Левином и Ильей Лурье, посвященная общественно-политической
деятельности ортодоксальных кругов российского еврейства.
Заключительный, пятый раздел книги посвящен богатейшему культур¬
ному наследию российских евреев. Литературное творчество евреев на трех
языках — идише, иврите и русском — обсуждается в главах, написанных со¬
ответственно Авраамом Новерштерном, Исраэлем Барталем и Владимиром
Хазаном. Обширное исследование Григория (Гиллеля) Казовского посвящено
истории еврейского искусства, музыки и театра и их роли в формировании на¬
циональной культуры евреев на территории Российской империи.
В заключение отметим, что все главы книги (за исключением статьи Йо¬
натана Френкеля) написаны специально для настоящего издания, в них нашли
отражение различные подходы к истории и культурному наследию российско¬
го еврейства и подводится итог многолетних исследований по этой теме.
Представленные на страницах этого тома иллюстрации дают редкую воз¬
можность непосредственного знакомства с героями исторических исследова¬
ний: торговцами и ремесленниками, раввинами и писателями, мужчинами,
женщинами и детьми, запечатленными в разные моменты своей жизни со¬
временниками — фотографами и художниками. Этот уникальный материал
позволяет сократить дистанцию, отделяющую нас от ушедшего мира россий¬
ского еврейства, и я особенно благодарен коллегам, оказавшим мне помощь в
подборе иллюстраций: Валерию Дымшицу и Алле Соколовой (Центр «Петер¬
бургская иудаика» Европейского университета в Санкт-Петербурге), Вениа¬
мину Лукину (Центральный архив истории еврейского народа в Иерусалиме),
Мики Йоэльсон (Центр исследования фольклора Еврейского университета в
Иерусалиме), Йоханану Петровскому-Штерну (Северо-Западный универси¬
тет, Чикаго), Максиму Гаммалу (Кафедра иудаики ИСАА МГУ), Илье Двор¬
кину (Центр Чейза Еврейского университета в Иерусалиме), Григорию Казов¬
скому (Иерусалим) и, конечно же, главе издательского дома «Мосты культу¬
ры / Гешарим» Михаилу Гринбергу.
Илья Лурье,
Иерусалим 2011
МЕЖДУ ИМПЕРСКОЙ
ИСТОРИЕЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИСТОРИОГРАФИЕЙ
Исраэль Барталь
аписание работы, призванной охватить более двух тысяч лет
истории евреев в России, в начале третьего тысячелетия по хри¬
стианскому летосчислению выглядит предприятием отчаянно
смелым, если не лишенным исторической логики. «Россия» не
существовала в древнее время ни как политическое явление, ни
как территория, где господствовала бы «русская» культурно-религиозная общ¬
ность. Пространство, где развивались сюжеты еврейской истории, стало «рус¬
ским» и является им до сих пор прежде всего в результате военной экспансии
сравнительно молодой славянской державы на территории, расположенные к
югу, востоку и западу от нее. В 2000 г., спустя почти десятилетие после распада
Советской империи, британский историк Питер Невилл в предисловии к своей
работе писал о России: «Россия имеет особые географические характеристики.
Одна из них — это отсутствие значительных природных барьеров <...> — явле¬
ние, открывавшее центр страны для вторжений кочевников с востока»1.
Нет сомнений, что это отсутствие четких физических границ существен¬
но не только для истории России в целом — оно также определило место ев¬
рейской истории в контексте истории русской. «Россия» приходила к евреям,
и евреи приходили в «Россию», но на протяжении долгого времени те, кто од¬
нажды стали считаться русскими евреями, селились за пределами этого госу¬
дарства.
Последним историком, пытавшимся охватить в одной работе всю историю
евреев на пространстве Российской империи (если не брать в расчет труды,
которые не были закончены, и произведения, в которых описываются лишь
некоторые исторические эпохи 2), был Семен Дубнов. Его сочинение, создан¬
/9/
ВВЕДЕНИЕ
ное накануне Первой мировой войны — в период, когда территория Россий¬
ского государства достигла максимальных размеров, — вышло в США в 1916 г.
под названием «History of the Jews in Russia and Poland». Исраэль Фридлендер,
осуществивший перевод книги на английский язык с русского оригинала (ко¬
торый так никогда и не увидел свет), писал о ней: «Настоящая работа может в
полной мере считаться первым всеобъемлющим и систематическим исследо¬
ванием по истории русско-польского еврейства 3».
Верный своей историографической системе, Дубнов разделил этот труд
(в котором он в значительной степени опирался на части своей трехтомной
«Истории евреев») на разделы, посвященные трем эпохам: 1) 26-странич¬
ный (!) раздел, начинающийся описанием истории евреев в Северном При¬
черноморье в эллинистическую эпоху и заканчивающийся историей евреев в
Московском государстве начала XVI в. 4; 2) главы, посвященные истории евре¬
ев в Польско-Литовском государстве, начиная со времени Крестовых походов
и до первого раздела Польши в 1772 г.5; 3) история евреев в Российской им¬
перии 1772—1914 гг. 6 Часть первого тома, а также второй и третий тома книги
посвящены тому, что произошло с евреями на территории, находившейся под
властью царской России, со времени разделов Польши во второй половине
XVIII в. и до Первой мировой войны. Прошло уже более 90 лет с того момента,
когда работа большого русско-еврейского историка увидела свет на англий¬
ском языке 7.
После выхода трехтомника Дубнова работы, охватывающие все периоды
истории евреев России, больше не издавались. Три тома настоящего издания,
первый том которого был полностью посвящен истории евреев с древнего
времени до первого раздела Польши в 1772 г. и увидел свет в 2009 г., пред¬
ставляют читателям совершенно иной вариант изложения, нежели Дубнов.
Итоговая монография по истории российского еврейства, выходящая в свет
в XXI столетии, должна отличаться от новаторского для своего времени сочи¬
нения Дубнова в трех аспектах. Во-первых, к истории евреев России добави¬
лись две эпохи: советское время (1918—1991) и почти двадцатилетний период
после распада Советского Союза. Оба этих исторических периода — принци¬
пиально отличающиеся от дореволюционной эпохи — требуют исследования,
описания и анализа как в контексте русско-еврейской истории вообще, так
и с учетом особых характерных для них историко-политических реалий 8. Во-
вторых, за годы, прошедшие с того момента, когда Дубнов писал свои исто¬
рические работы (а основа значительной части его сочинений, по сути, за¬
кладывалась еще в начале 90-х годов XIX в.), и в особенности в постсоветское
время коренным образом изменилось положение исторической науки: архео¬
логические находки, обнаруженные и исследованные еще в советскую эпоху,
стали существенным дополнением к относительно немногочисленным ис¬
точникам сведений о ранних еврейских общинах в Северном Причерноморье,
/10/
МЕЖДУ ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИЕЙ...
известным Дубнову; архивные материалы, закрытые для историков с 20-х гг.
предыдущего столетия, были открыты для изучения; увидели свет многочис¬
ленные новые исследования; и, возможно, самое важное: изменились акцен¬
ты в еврейской историографии, начали задаваться новые вопросы, совершен¬
но отсутствовавшие в исторических работах Дубнова и его современников 9.
В-третьих, центры научной иудаики постепенно сместились со своих старых
мест в Европе, а историография евреев Восточной Европы расцвела в странах,
расположенных по ту сторону океана. Начало перемещения этих центров с
территории Российской империи в большие города Западной Европы и США
можно было наблюдать еще в конце XIX в. В годы перед Первой мировой во¬
йной этот процесс ускоряется: из Варшавы, Санкт-Петербурга 10 и Берлина
исследовательские центры перемещаются в Лондон, Нью-Йорк и Иерусалим
(и появление книги Дубнова на английском языке в Филадельфии может слу¬
жить ярким тому примером). Вторая мировая война и ее последствия стали
смертельным ударом для исследований, проводившихся в странах Восточной
Европы. Перемещение центров науки привело к изменению направлений ис¬
следования. Изменился не только язык научного творчества — поменялись
политические условия, в контексте которых создавались исторические труды,
другими стали взгляды исследователей, их мировоззрение.
Исторические исследования синтетического характера, которые созда¬
вались на русском языке в рамках культурного, политического и идеологи¬
ческого дискурса русско-еврейской интеллигенции, не походили на то, что
писалось годы спустя в среде еврейско-американского академического со¬
общества 11. В центре внимания Дубнова и современных ему историков в пред¬
революционные годы были напряженные отношения евреев с авторитарным
государством, борьба за эмансипацию, новый подъем антисемитизма. Под
влиянием этого дискурса находилась в значительной степени группа иеруса¬
лимских историков, которая образовывала так называемую «иерусалимскую
школу» 12. По их убеждению, подъем еврейской политической активности и
еврейского национализма неминуемо вел к сионизму. История евреев в Вос¬
точной Европе была центральным мотивом творчества ряда историков «иеру¬
салимской школы». Их сочинения отличались сочетанием живой связи с ев¬
рейской или польско-еврейской культурой и приверженности радикальным
национальным и социальным идеям 13.
Главы новой монографии, частью которой является этот том, написаны
большой группой исследователей из Российской Федерации, Западной Ев¬
ропы, Соединенных Штатов и Израиля. Это коллективный труд, созданный
людьми, представляющими различные научные школы, выражающие точки
зрения, значительно отличающиеся друг от друга. Особенностью этой работы
является участие в ней авторов, проживающих на территории бывшего Со¬
ветского Союза. Они представляют результаты исследований, возродившихся
/11/
ВВЕДЕНИЕ
после долгих лет молчания в советский период. Центры еврейской истори¬
ографии, переживавшей пору расцвета в России в конце дореволюционного
периода и в первые послереволюционные годы, переместились, как было ска¬
зано выше, из городов империи на Запад и в Страну Израиля 14. Историогра¬
фия восточноевропейского еврейства сменила язык, она была насильственно
оторвана от архивов и библиотек и осуждена на отрывочное и случайное ис¬
пользование исторических документов, которые были опубликованы до на¬
чала советского времени или увидели свет в рамках того, что было разрешено
в Советском Союзе. В 1920-е гг. на территории СССР еще продолжалась дея¬
тельность старых («буржуазных») еврейских научных институций, выходили
исторические журналы, были даже опубликованы некоторые важные работы
историков, принадлежавших еще к предыдущему поколению. Наряду с этим в
СССР процветали исторические школы, признанные новой властью и суще¬
ствовавшие при ее поддержке, велись исследования, которые приспосабли¬
вались к идеологическому диктату и меняющимся политическим обстоятель¬
ствам 15. С начала 1930-х гг. более не разрешалась публикация исторических
исследований, созданных в «буржуазном» духе, и даже «официальная» исто¬
риография подвергалась жесточайшему контролю, заметно уменьшилась ее
источниковая база, ухудшилось и качество самих работ. В 1931—1948 гг. резко
сократилось число публикаций по истории евреев в Восточной Европе. На¬
пример, на русском языке в этот период вышло всего девять (!) работ, так или
иначе имевших отношение к еврейской истории, большинство из них было
посвящено второстепенным темам 16. Ликвидация еврейских культурных и
научных учреждений в последние годы правления Сталина положила конец
остаткам «официальной» еврейской историографии. В эпоху десталинизации
в журнале «Советиш Геймланд» увидели свет несколько работ по истории ев¬
реев, в 1980-е гг. также были сделаны попытки возобновить легальную дея¬
тельность в области исторических исследований. После падения советского
режима в конце предыдущего столетия увеличилось число исследований по
еврейской тематике, начали появляться новые журналы, посвященные ака¬
демической иудаике, были написаны научные работы по истории евреев в
России на русском языке, возобновились связи с сообществом историков в
странах Запада и в Израиле, были созданы академические институции, объ¬
единяющие исследователей, связанных с еврейскими дисциплинами, и изда¬
тельские проекты 17. Многие публикации по истории евреев в России, увидев¬
шие свет в постсоветскую эпоху, опирались на обилие документов, использо¬
вание которых стало возможным после открытия архивов для историков. В
результате радикальных изменений в странах Восточной Европы был устра¬
нен идеологический диктат и сняты политические перегородки, ограничивав¬
шие возможности исследователей в советский период. Темы, которых почти
не касались в научных работах начиная с 30-х гг. предыдущего столетия (среди
/12/
МЕЖДУ ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИЕЙ...
них — политика советского режима по отношению к евреям), удостоились в
настоящее время критического исследования 18.
* * *
Есть ли что-нибудь общее между приверженцами Закона Моисеева, жив¬
шими в греческих поселениях на северном берегу Черного моря в эллинистиче¬
скую эпоху, и еврейскими общинами в Великом княжестве Литовском в XVI в.?
И что связывает еврейские поселения в южных районах, находившихся под
властью татар, и в северных, бывших под властью поляков, с этнокультурной
общностью, сформировавшейся под русской царской властью и получившей
название «русское еврейство»? Россия как государственное образование с опре¬
деленными границами, управлявшееся единой имперской администрацией,
обладавшее официальным языком, общей культурой и общим самосознанием,
возникла позднее упомянутых выше еврейских центров и располагалась до¬
статочно далеко от них. Попытка написания истории еврейских общин, суще¬
ствовавших в районах, которые вошли в состав Российской империи только в
XVIII в., общин, часть которых перестала существовать задолго до того, как на
землю, где они когда-то располагались, ступила нога русского солдата, занима¬
ет особое, хотя и не исключительное место в еврейской историографии. Суще¬
ствуют и другие случаи, когда переход территории от одной державы к другой
порождал новое написание истории евреев в соответствии с геополитическими
изменениями. С тех пор как в Новое время начали создаваться «национальные»
исторические нарративы, которые формировались вокруг той или иной гео¬
политической оси, еврейские историки следовали в фарватере историографии
своих стран, и из-под их пера выходили параллельные еврейские версии фран¬
цузской, английской, немецкой или польской истории. Эти еврейские нарра¬
тивы — заглавия которых имеют геополитическую привязку: «История евреев
в такой-то стране» или «История евреев такой-то страны» — должны были ре¬
шить сложные вопросы самоидентификации, своеобразия, правового положе¬
ния, но главным образом — легитимации. Евреи как предмет исторического
исследования должны были стать частью «нации» в соответствии с одним из
определений этого понятия в XIX в., но в то же время они воспринимались и
как обособленная группа, сохраняющая связь с общинами своих единоверцев
за границей. Еврейские историки, пытавшиеся создать исторический нарра¬
тив, общий для государства, в котором они жили, и своей этнической группы,
апеллировали к древности пребывания еврейских общин на территории госу¬
дарства, делали акцент на проявлениях патриотизма, на том вкладе, который
внесли евреи в развитие общества, на их связях с господствующей культурой (во
многих случаях это была имперская культура). В условиях этнической пестроты
еврейского окружения вопросы лояльности, вклада в общее дело и культурных
связей часто имели острое политическое звучание. Связь с определенной стра¬
/13/
ВВЕДЕНИЕ
ной и самоидентификация с ее прошлым могли привести (как это действитель¬
но не раз случалось в XIX—XX вв.) к обвинениям евреев в том, что они являются
агентами имперской власти (российской, австро-венгерской или германской).
В результате распада многонациональных империй в конце Первой мировой
войны и образования на их руинах новых национальных государств многие
мультикультурные тенденции были вытеснены одной из национальных вер¬
сий исторического нарратива, среди которых была и еврейская национальная
версия (не обладавшая, в свою очередь, ни уникальностью, ни единством), или
заменены имперской версией нового типа, как это случилось с еврейской исто¬
риографией, развивавшейся в орбите СССР. Иногда различные версии истории
евреев в определенных регионах перекрывались одна другой, так как на протя¬
жении поколений территории расселения еврейских общин в Центральной или
Восточной Европе переходили из рук в руки. Более того, еврейские историки,
которые в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, писали историю
евреев в Восточной Европе, могли принадлежать к русской имперской культу¬
ре, чувствовать себя как дома в культуре польской, принимать активное участие
в создании немецкоязычного культурного пространства, одновременно публи¬
куясь в журналах и газетах на иврите и идише. После Первой мировой войны
возникли новые, дополнительные направления аккультурации, породившие
еврейские историографии в контексте истории наций, которые получили го¬
сударственную независимость или хотя бы международное признание их наци¬
ональной культуры. Исследователи еврейской истории в Восточной Европе в
большинстве своем были многоязычны, так же как писатели, поэты, юристы,
составлявшие еврейскую интеллигенцию в этой части мира. Так, например,
в Польше уже начиная с середины XIX в. расцвела еврейская историография
на польском языке, сочетавшая восприятие культуры польского окружения
и отождествление с ней с научным исследованием истории еврейских общин
на территории Польско-Литовского государства. Историки, среди которых —
Меир Балабан (1877—1942), Эмануэль Рингельблюм (1900—1944), Моше Шор
(1874—1941) и Ицхак Шиппер (1884—1943), совмещали принадлежность поль¬
скому историографическому дискурсу, в котором они прекрасно ориентирова¬
лись благодаря академической подготовке, полученной в университетах Львова
и Варшавы, с еврейским национальным мировоззрением в его различных по¬
литических вариантах 19. Речь может идти, таким образом, о «еврейско-поль¬
ском» историческом сознании, возникшем одновременно с началом процесса
распространения польской культуры среди представителей еврейской интелли¬
генции. Сходство между «еврейско-польским» и параллельным «еврейско-рус¬
ским» историческим сознанием хорошо знакомо тем, кто занимается историей
евреев в Восточной Европе.
«Премодернистский» этап истории евреев в этой части мира был связан,
по крайней мере на исходе Средневековья и в начале Нового времени, с вос¬
/14/
МЕЖДУ ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИЕЙ...
точной частью еврейско-ашкеназской диаспоры. Хотя нет никаких сомнений,
что первоначальный демографический пласт еврейского населения Восточ¬
ной Европы составили группы, связанные с регионами Востока — Византии,
Ближнего Востока, Кавказа, уже начиная с XVI в. можно говорить о языко¬
вом, религиозном и культурном доминировании иммигрантов из Германии.
Ашкеназские еврейские общины характеризовались общими религиозными
и языковыми чертами и сходной общинной организацией на всей террито¬
рии от Эльзаса на западе до Литвы на востоке 20. Еврейско-ашкеназское са¬
мосознание, объединявшее еврейские общины Польско-Литовского государ¬
ства с общинами Германии, Богемии, Моравии, Голландии и северо-востока
Франции, ослабевало по мере формирования альтернативного исторического
сознания, такого как польское или русское, в Новое время. В определенном
смысле сегодня можно говорить о «еврейско-русской» истории как об исто¬
рии «ашкеназской» религиозно-этнической группы, где «русская» составля¬
ющая вытеснила «ашкеназскую». Эта группа колебалась между «имперской»
идентичностью, оформившейся в конце эпохи самодержавия и в годы совет¬
ской власти, и более ранней этнической идентичностью, переродившейся в
современную многослойную национальную общность.
Когда возникает «еврейско-русское» историческое сознание? Нет сомне¬
ний, что, как и в случае польско-еврейского исторического сознания, оно
могло появиться только в том слое русско-еврейской интеллигенции, кото¬
рый отождествлял себя в той или иной степени с Российской империей или,
по меньшей мере, с имперской культурой 21. Такого культурно-социального
слоя не было до второй половины XIX в. Начало внутренней культурной борь¬
бы в среде российского еврейства связано с появлением Гаскалы (еврейско¬
го Просвещения) в период царствования императора Николая I (1825—1855).
Вследствие реформ, проводившихся в стране в начале правления императора
Александра II, темпы еврейской аккультурации ускорились. Стали выходить
еврейские газеты на русском языке, появились русскоязычные литературные
произведения и исторические исследования 22. Только ближе к концу XIX в.,
парадоксальным образом как раз в тот период, когда в образованных слоях
еврейского общества укоренилось подозрительное отношение к российскому
правительству и его политике, еврейско-русское самосознание превратилось
в относительно широкое культурное явление. На протяжении XX в. оно при¬
обрело советский облик, когда к имперскому историческому сознанию доба¬
вились определенные политические и социальные компоненты, связанные с
новым режимом. «Еврейско-русское» историческое сознание в своем совет¬
ском варианте наложило свой отпечаток на отношение к еврейской истории,
предшествовавшей 1772 г. С одной стороны, еврейская историография (глав¬
ным образом это относится к историографии евреев в Польско-Литовском
государстве) на протяжении нескольких поколений приспосабливалась к рус¬
/15/
ВВЕДЕНИЕ
скому имперскому дискурсу, как это произошло, например, в изучении ев¬
рейского самоуправления или в исследовании хасидизма и Гаскалы; с другой
стороны, специалисты, занимающиеся историей евреев Восточной Европы,
боролись, и борются до сих пор, за освобождение историографии от старых
условностей, от идеологических схем и политических обязательств, возник¬
ших еще в эпоху самодержавия и при советской власти 23. Так, в последние де¬
сятилетия значительные изменения произошли в оценке роли радикальных
и консервативных течений в истории евреев Восточной Европы, иначе пред¬
ставляется теперь и роль еврейской «буржуазии» в социально-политической
жизни общества.
Завершилась ли русско-еврейская история вместе с волнами эмиграции
на Запад и в Израиль в 80—90-е гг. прошлого века? Думается, что история ев¬
реев России в XXI в. будет историей международных диаспор, находящихся
в процессе постоянных демографических, языковых и культурных измене¬
ний. Евреи, живущие сегодня в России, являются одновременно частью осо¬
бой российской истории и частью истории еврейской диаспоры, восходящей
к еврейским общинам Российской империи. Это следствие и продолжение
процессов, которые начались с эмиграции XIX в. Список авторов трех томов
«Истории еврейского народа в России», так же как и многообразие предлагае¬
мых ими историографических концепций, является результатом этих истори¬
ческих процессов — процессов, изменивших и продолжающих менять лицо
крупнейшей еврейской общины в Восточной Европе.
1 Neville Р. Russia: The USSR, the CIS and the Independent States — A Complete His¬
tory in One Volume. Gloucestershire, 2000. P. 1.
2 Можно упомянуть сочинения, созданные в разное время и в различном идеоло¬
гическом контексте: Гейликман Т. История общественного движения евреев в Польше
и России. М.; Л., 1930 (на идише сокращенный вариант этой работы был издан в Мо¬
скве в 1926 г.); Baron S. The Russian Jew under Tsars and Soviets. N. Y., 1976; Greenberg L.
The Jews in Russia: The Struggle for Emancipation. N. Y., 1976. В рамках монументального
издания (так и не вышедшего полностью) The World History of the Jewish People под
ред. Бецалеля (Сесила) Рота увидел свет том, частично посвященный истории евреев в
Восточной Европе в Средние века: The Dark Ages. N. Brunswick, 1966. Два других тома,
посвященных истории евреев Восточной Европы в Польско-Литовском государстве и
в царской России (их редактировали Шмуэль Эттингер и автор этих строк), так и не
были изданы. Статьи Эттингера, написанные специально для тома о царской России,
были опубликованы после его смерти в 1989 г. в работе Ettinger S. Mi-Polin le-Rusiya (Из
Польши в Россию). Иерусалим, 1995. С. 257—325.
3 Dubnow S.M. History of the Jews in Russia and Poland. Vol. I. Philadelphia, 1916. P. 4.
4 Ibid. P. 13-38.
5 Ibid. P. 39-306.
6 Ibid. P. 307—413, также см. 2-й том этой работы, изданный в 1918 г. (Р. 13—429) и
/16/
МЕЖДУ ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИЕЙ...
3-й том, изданный в 1920 г. (Р. 7—169).
7 О сочинении Дубнова, а также о причинах публикации его книги на англ. яз.
см.: Grinbaum A. Peraqim be-historiografiya shel yahadut Russia (Главы историографии ев¬
реев России). Иерусалим, 2007. С. 36-56. О политических воззрениях Дубнова и его
взглядах на историю см.: Frankel J. Crisis, Revolution, and Russian Jews. Cambridge, 2009.
P. 239-275; Bartal I. «Tahlif le-memshala, le-medina u-le-ezrahut»: Shimon Dubnov ve-ha¬
shilton ha-atsmi ha-yehudi («Замена правительству, государству и гражданству»: Шимон
Дубнов и еврейское самоуправление) // Bartal I. (ed.). Ha-shilton ha-atsmi ha-yehudi le-
dorotav (Собрание Израиля: История еврейского самоуправления»). Иерусалим, 2004.
С. 223-232.
8 См. обобщающую работу по истории этого периода: Pinkus В. Yehudei Russia u-
vrit ha-moatsot: Toledot miut leumi (Евреи России и Советского Союза: История нацио¬
нального меньшинства). Сде Бокер, 1986
9 О еврейско-русской историографии в предреволюционную эпоху см.: Гринбаум
А. (см. прим. 7); Nathans В. On Russian-Jewish Historiography// Sanders T. (ed.). Histori¬
ography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State.
N. Y.; London, 1999. P. 397—432. (См. также русский вариант этой статьи: Натанс Б.
Об историографии российского еврейства // Вестник Еврейского университета. 2001.
№ 6. С. 163-206.)
10 Об истории центра академической иудаики в Санкт-Петербурге с предреволю¬
ционного периода и до времени его заката в 1930-х гг. см.: Бейзер М. Евреи Ленинграда:
Национальная жизнь и советизация. М.; Иерусалим, 1999. С. 307—325.
11 Примером серьезной трансформации историографии евреев России — осво¬
бождения от радикально-либерально-национального подхода, перенесенного из Рос¬
сии в Израиль и США, — является монография Натанса: Nathans В. Beyond the Pale:
The Jewish Encounter with Late Imperial Russia. Berkeley; Los Angeles; London, 2002. Ав¬
тор анализирует эти изменения на с. 1—20 (см. также рус. пер. кн.: Натанс Б. За чертой:
Евреи встречаются с позднеимперской Россией. М., 2007). См. также Frankel J. Op. cit.
(прим. 7). Р. 276—310 (первая версия этой работы увидела свет под названием: Assimila¬
tion and the Jews in Nineteenth Century Europe: Towards a New Historiography // Frankel J
& Zipperstein St. J [eds.]. Assimilation and Community. Cambridge, 1992. P. 1-37). См. так¬
же: Zipperstein St.J. Imagining Russian Jewry, Memory, History, Identitiy. Seattle; London,
1999. P. 3-14; Bartal I. The Jews of Eastern Europe, 1772-1881. Philadelphia, 2005. P. 1-13
(рус. пер. этой кн.: Барталь И. От общины к нации: Евреи Восточной Европы в 1772—
1881 гг. М.; Иерусалим, 2007. С. 7-22).
12 Наиболее яркое выражение эта тенденция получила в юбилейной статье Бен-
Циона Динура о Семене Дубнове, написанной к 75-летию историка (1935 г.). См.:
Dinur В. -Z. Shimon Dubnov, в его книге Dorot u-reshumot: mehqarim ve-iyunim ba-histo-
riografiya ha-israelit (Поколения и записи: Исследования по израильской историогра¬
фии). Иерусалим, 1978. С. 231—261.
13 Об основных направлениях «иерусалимской школы» и ее продолжателей в ис¬
следовании истории евреев Восточной Европы см.: Динур Б.-Ц. Указ. соч. (см. прим.
12). С. 193-228; Ettinger S. Ben-Zion Dinur: ha-ish u-foalo ha-histori (Бен-Цион Динур:
его личность и деятельность в исторической науке) // Ibid. Ha-historiya ve-ha-histori-
yonim (История и историки). Иерусалим, 1993. С. 117-128. Bartal I., Frenkel J. Historiya
/17/
ВВЕДЕНИЕ
u-shelihut: Shmuel Ettinger, hoqer yahadut mizrah Eiropa (История и миссия: Шмуэль
Этингер, исследователь еврейства Восточной Европы) // Ettinger S. Mi-Polin le-Russiya
(см. прим. 2). С. 11-23.
14 Семен Дубнов переехал в Берлин, позднее осел в Риге (Латвия); Шауль Гинц¬
бург поселился в Соединенных Штатах, Бен-Цион Динур (Динабург) репатриировал¬
ся в Палестину.
15 О еврейской историографии в советскую эпоху см.: Гринбаум А. Там же.
С. 66-77, его же работы: Еврейская наука и научные учреждения в Советском Союзе,
1918—1953 // Евреи в России: Историографические очерки: 2-я половина XIX века —
XX век. М.; Иерусалим, 1994. С. 6—180; Jewish Scholarship and Scholarly Institutions in
Soviet Russia, 1918-1953. Jerusalem, 1978; Ha-mehqar ha-yehudi bi-vrit ha-moatzot (Ев¬
рейские исследования в Советском Союзе) // Behinot. № 6. 1975. С. 52—65. Список
работ, которые увидели свет в виде отдельных книг в СССР в первые четыре десятиле¬
тия советской власти опубликован в кн.: Shmeruk Н. (ed.) Pirsumim yehudiim bi-vrit ha-
moatsot (Еврейские публикации в Советском Союзе). Иерусалим, 1961. С. 84—97, 408;
Altshuller M. (ed.) Pirsumim rusiim bi-vrit ha-moatsot al yehudim ve-yahadut (Публикации
на русском языке в Советском Союзе о евреях и иудаизме). Иерусалим, 1970. С. 83—96;
Литература о евреях на русском языке, 1890—1947: Книги, брошюры, оттиски статей,
органы периодической печати: Библ. ук. СПб., 1995. С. 223—325.
16 Альтшуллер М. Указ. соч. С. 61—66.
17 Прекрасным примером международного взаимодействия в области публика¬
ций по истории евреев Восточной Европы является журнал по иудаике на русском
языке «Вестник Еврейского университета», издающийся в Москве с 1992 г., а с 1998 г.
и по настоящее время выходящий при участии Центра Чейза Еврейского университета
в Иерусалиме. В этом журнале среди прочего публикуются исследования по истории,
архивные документы и переводы на русский язык лучших научных работ, вышедших
на иврите.
18 В этом отношении характерно высказывание Мордехая Альтшуллера, крупно¬
го исследователя еврейского населения СССР, на тему, которой он посвятил отдель¬
ную книгу, — место религии в жизни евреев Советского Союза: «Значительная часть
исследования, которому я посвятил более десяти лет, основана на материале из со¬
ветских архивов, доступ к которым стал возможен только после крушения режима.
При анализе тысяч документов как из центральных, так из местных советских органов
власти открылась многоплановая и противоречивая картина еврейской религиозной
деятельности, ранее не удостаивавшаяся исследования и публикации» [Altshuller М.
Yahadut ba-mahbesh ha-sovieti: ben dat la-zehut ha-yehudit bi-vrit ha-moatsot, 1941—1964
(Иудаизм под советским прессом: Религия и еврейская идентичность в Советском Со¬
юзе, 1941—1964). Иерусалим, 2008. С. 13].
19 Достаточно полное описание исследований по истории евреев Польши начи¬
ная с середины XIX в. содержится в работе: Eisenbach A. Ha-historiografiya ha-yehudit
be-Polin ben shtei milhamot ha-olam (Еврейская историография в Польше между двумя
мировыми войнами) // Bartal I., Gutman I. (eds). Qiyum ve-shever. Yehudei Polin le-doro-
teihem (Евреи Польши на протяжении поколений). Т. 2. Иерусалим, 2001. С. 669—696.
Английскую версию этой статьи см.: Eisenbach A. Jewish Historiography in Interwar Po¬
land / Yisrael Gutman et. al. [eds.] // The Jews of Poland between Two World Wars. Hanover;
/18/
МЕЖДУ ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИЕЙ...
London, 1989. Р. 453-494.
20 Heilperin I. Yehudim ve-yahadut be-mizrah Eiropa (Евреи и иудаизм в Восточной
Европе). Иерусалим, 1969. С. 9-33. Барталь И. От общины к нации. С. 25-36.
21 Slutski Y Tsmihata shel ha-inteligentsiya ha-yehudit-rusit (Формирование еврей¬
ско-русской интеллигенции) // Zion. № 25.1960. С. 212-237; Барталь И. От общины к
нации. С. 157—170; Nathans В. Beyond the Pale. Р. 83—122 (о Санкт-Петербурге).
22 Slutski Y На-itonut ha-yehudit-rusit ba-mea ha-19 (Еврейско-русская журнали¬
стика в XIX в.). Иерусалим, 1971.
23 Барталь И. От общины к нации. С. 7-22; Frankel J. Op. cit. Р. 276-310; Nathans
В. Beyond the Pale. P. 1—20.
РОССИЙСКОЕ
ГОСУДАРСТВО
И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
1.1
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ЕВРЕЯХ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
(1772-1881)
Джон Клиер
1772-1801 гг.
огда после разделов Польши 1772, 1793 и 1795 гг. польские евреи
стали российскими подданными, законодатели столкнулись с
правовой terra incognita, поскольку согласно декрету 1744 г. ев¬
реям было запрещено даже временное пребывание в Россий¬
ской империи. Правительство Екатерины II (1729—1796, импе¬
ратрица с 1762) не только установило принципы толерантности по отноше¬
нию к евреям, но и подтвердило законные привилегии, которыми обладали
евреи в Польско-Литовском государстве. Наиболее важным для евреев яви¬
лось сохранение системы их самоуправления — кагала. Решение Екатерины
было прагматичным и мотивировалось представлением о том, что евреи как
городское социальное сословие могли бы способствовать экономическому
развитию городов Российской империи. Мало кто понимал, что не все евреи
были заняты торговлей и ремеслами в городской среде. Лишь постепенно
российские чиновники осознали, что множество евреев проживали в де¬
ревнях, где они занимались мелкой торговлей, а также арендовали у поль¬
ских помещиков целый ряд монополий, например мукомольную. Наиболее
важной сферой деятельности еврейских арендаторов были производство и
продажа спиртных напитков. Царствование Екатерины II было отмечено
постоянным противоречием между усилиями государства по расширению
прав евреев в тех сферах экономики, где, как считалось, это было полезно, и
ограничительными мерами там, где это признавалось непродуктивным или
экономически вредным.
/23/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Самой важной экономической привилегией, которую получили евреи,
было включение их в «Грамоту на права и выгоды городам Российской им¬
перии» («Жалованную грамоту городам») Екатерины II (1785 г.), которая раз¬
решила городам Российской империи иметь органы самоуправления (город¬
ские думы). Постановлением российского Сената — проводника имперских
законов — от 1786 г. евреям особо было разрешено иметь право голоса в этих
учреждениях и право состоять в них на службе. Евреи воспользовались этими
правами, что встревожило их религиозных лидеров, опасавшихся, что «евреи
сближаются с неевреями», и нееврейское городское население, которое смо¬
трело на евреев как на серьезных экономических соперников. Тем не менее
несмотря на некоторые специальные ограничения со стороны местных губер¬
наторов, например сокращение доли евреев в городском представительстве до
одной трети, евреи продолжали участвовать в городском самоуправлении.
Разделы Польши открыли для польских евреев новые рынки, и богатые
еврейские купцы из Белоруссии поспешили воспользоваться новыми эконо-
/24 /
Синагога в Лунно Гродненской губ.
С открытки нач. XX в.
1.1 / РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772-1881)
Деревянная синагога в г. Могилеве, Белоруссия (XVIII в.).
Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг. Из собрания центра «Петербургская иудаика»
мическими возможностями, записываясь в купеческие гильдии Москвы. Это
вызвало протест со стороны авторитетных московских купцов, обвинивших
евреев в финансовых злоупотреблениях и контрабанде. После длительного
расследования правительство постановило, что евреи на территории империи
автоматически получали права, предоставленные им в 1772 г., только в тех об¬
ластях, которые были аннексированы у Польши, или в регионах, специально
«открытых» для евреев, таких как недавно колонизованные земли Новорос¬
сии — степного региона в Северном Причерноморье. Этот принцип, согласно
которому права евреев существовали, только если они были особым образом
оговорены, положил начало ограничениям по месту жительства, получившим
известность как «черта оседлости».
При Екатерине евреи пользовались полной свободой передвижения в
пределах черты оседлости. Даже еврейским представителям мещанского со¬
словия было позволено передвигаться свободно, в то время как мещане-не-
евреи были лишены такой возможности.
/25 /
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Исследователи по-разному объясняют происхождение ограничительно¬
го законодательства в отношении евреев, например указа о двойном нало¬
гообложении 1794 г. (он было отменен после 1812 г.); возможно, это было
мерой поддержания военных расходов, которые влекла за собой имперская
экспансионистская внешняя политика. Другая денежная повинность, воз¬
ложенная на евреев, была более популярной: законы от 1794 и 1796 г. осво¬
бождали всех евреев, включая мещан, от несения личной военной службы в
обмен на значительную плату в размере 500 рублей, вносимую общиной за
каждого освобождаемого рекрута. Такой возможностью мещане-неевреи не
обладали.
В целом в Российской империи по отношению к евреям существовала до¬
статочная религиозная терпимость, несмотря на постоянные попытки скло¬
нить их к принятию христианства — посредством денежного вознаграждения
или облегчения уголовного наказания для нарушителей-евреев. Иерархи Рус¬
ской православной церкви были более озабочены тем, что взаимодействие с
евреями может способствовать распространению иудаизма среди крестьян,
нежели кампаниями по обращению иноверцев.
Некоторая двусмысленность всегда сопровождала официальное опре¬
деление «еврея». Иногда закон рассматривал евреев как сословие, иногда
как этническую группу (племя) или даже как находящихся под покрови¬
тельством государства «чужаков» (инородцы). Однако в любом случае по¬
нятие религии стояло на первом месте. До конца всего рассматриваемого
периода любой еврей, перешедший в христианство, переставал быть евре¬
ем в глазах закона 1.
При наследнике Екатерины Павле I (1754—1801, император с 1796) Рос¬
сийское государство открыло для себя «еврейский вопрос», Это произошло
под влиянием общественных дебатов о евреях в Европе в эпоху Просвещения
и в результате первого близкого знакомства с реалиями еврейской жизни в
черте оседлости, особенно с ролью евреев в сельской экономике. «Еврейский
вопрос» в России базировался на двух посылках — «еврейском фанатизме» и
«еврейской эксплуатации». Понятие «еврейского фанатизма» предполагало,
что столетия гонений и учение Талмуда сформировали среди евреев особый
замкнутый склад ума — менталитет гетто, который вместе с религиозно уси¬
ленным чувством превосходства над «гоями» делал невозможным для евреев
стать лояльными гражданами государства. Основой «еврейской эксплуата¬
ции» была склонность евреев жить, используя труд своих христианских со¬
седей, особенно крестьян. Решение следовало искать в разрушении барьеров
посредством аккультурации (которая определялась то как сближение, то как
слияние) и в превращении евреев в более «полезных» подданных, в частно¬
сти, наделяя их землей. Эти идеи получили особое распространение благо¬
даря влиятельным докладам литовского губернатора И.Г. Фризеля и поэта и
/26/
1.1 / РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772-1881)
Интерьер синагоги в г. Кременец Волынской губернии (нач. XIX в.).
Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг. Из собрания центра «Петербургская иудаика».
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
сенатора Г.Р. Державина. Оба они отразили влияние идей Гаскалы в Германии
в сочетании со стремлением просвещенного абсолютизма к осуществлению
социальных реформ посредством reglement 2.
1801-1825 гг.
Первые годы правления Александра I (1777-1825, император с 1801) были
отмечены попытками внутренних преобразований, такими как модернизация
государственных учреждений и усилия по смягчению тягот крепостного пра¬
ва. Побуждение к реформам, в конечном счете, подчинялось борьбе с напо¬
леоновской Францией. Растущая осведомленность в «еврейском вопросе» и
неопределенность прав евреев на вновь присоединенных землях Польши по¬
служили толчком для попыток законодательного реформирования еврейства.
Комитет высокопоставленных должностных лиц разработал первый система¬
тический кодекс законов для евреев — Положение о евреях 1804 г. В соответ¬
ствии с либеральными позициями начала царствования Александра I евреям
было позволено поступать в любое российское образовательное учреждение,
что должно было способствовать их аккультурации и «просвещению». В то же
время система кагалов, которая многими расценивалась как ось еврейского
сепаратизма, сохранялась, поскольку у государства не было иного средства
для управления евреями. В неприкосновенности остались также особые ев¬
рейские общинные налоги и раввинский суд (bet-din). С целью повышения
продуктивности евреев для них были введены новые экономические катего¬
рии. Желавшим заниматься сельскохозяйственной колонизацией предлага¬
лась земля и освобождение от налогов. Еврейским предпринимателям, от¬
крывавшим фабрики, были обещаны субсидии и государственные заказы.
Черта оседлости была заново определена и расширена, охватив недавно при¬
соединенные земли Новороссии.
Положение 1804 г. включало и репрессивные меры, нацеленные на огра¬
ничение широко распространившейся еврейской виноторговли посредством
массового выселения евреев из сел Белоруссии. Эта кампания привела к ши¬
рокомасштабному перемещению еврейского населения и его обнищанию, но
своих конечных целей она не достигла и была впоследствии прекращена.
Еврейские общины Польско-Литовского королевства имели право на¬
значать своих представителей (shtadlanim), чтобы отстаивать интересы евреев
в государственных учреждениях. Поскольку российские власти были слабо
осведомлены о еврейской жизни в империи, они разрешили продолжить эту
деятельность. В 1785 г. еврейские депутаты добивались в Сенате, чтобы ев¬
реи упоминались в параграфах «Жалованной грамоты городам», а избранные
в общинах делегаты служили консультантами при подготовке Положения
/28/
1.1 / РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772-1881)
1804 г. В 1812 г. Александр I создал систему выборных официальных пред¬
ставителей от еврейских общин, известных как «депутаты еврейского наро¬
да». Предполагалось, что депутаты будут советниками правительства по во¬
просам, связанным с положением евреев. Эта инициатива принесла евреям
определенную пользу (например, в борьбе против кровавого навета), но в ко¬
нечном счете она провалилась из-за политической апатии новых еврейских
общин таких городов, как Одесса и Киев, где не существовало традиции по¬
добной деятельности 3.
1825-1855 гг.
На годы царствования Николая I (1796—1855, император с 1825) при¬
шлась наиболее продолжительная кампания по «исправлению» еврейского
«религиозного фанатизма» и «экономической эксплуатации». Многие цар¬
ские инициативы, направленные на обеспечение аккультурации и продуктив¬
ности еврейского населения, например обязательная военная служба и новые
прогрессивные школы, напоминали меры, принятые в Австрийской империи
во времена Иосифа II (1780—1790). Однако в России эти меры носили кон¬
сервативный характер и вводились принудительно, что было характерно для
царствования Николая в целом.
В 1827 г. было отменено освобождение от воинской службы за уплату спе¬
циального налога, и на еврейские общины была возложена коллективная от¬
ветственность за своевременную поставку рекрутов. Введение рекрутчины и
вопиющие должностные преступления, совершаемые кагалами при наборе
рекрутов, в значительной степени способствовали подрыву морального авто¬
ритета кагальной системы в глазах еврейского общества 4.
Новое Положение о евреях 1835 г. должно было исправить некоторые из
замеченных несоответствий в законодательстве 1804 г. Оно подтвердило су¬
ществование черты оседлости и право евреев принимать участие в городском
самоуправлении, но в то же время сохранило определенную неясность в отно¬
шении регулирования внутренней жизни еврейского общества. В результате в
1840 г. был утвержден новый Еврейский комитет («Комитет для определения
мер коренного преобразования евреев в России») под председательством та¬
лантливого государственного деятеля графа П.Д. Киселева. Этот комитет раз¬
работал и осуществил множество реформ, которые включали ограничения на
ношение традиционной еврейской одежды и обязательные выборы в каждой
общине «просвещенного раввина», в обязанности которого входило ведение
общинных метрик. Принятые комитетом новые цензурные правила имели
целью воспрепятствовать обращению «вредных» книг на идише и иврите в
еврейской среде. Была сделана попытка — в полной мере так и не осущест¬
/29/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Витебск. Большая синагога. С открытки нач. XX в. Joseph and Margit Hoffman Judaica Postcard
Collection, Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem
вленная — провести «разбор» (разделение) всех евреев на «полезных» и «бес¬
полезных», с более высоким уровнем налогообложения и рекрутской нормы
для последних.
Главным новшеством, предложенным комитетом П.Д. Киселева и осу¬
ществленным министром образования С.С. Уваровым при содействии немец¬
кого еврея д-ра Макса Лилиенталя, стало создание государственной системы
еврейских школ. Были созданы начальные школы для обучения основам гра¬
мотности и средние школы для овладения более сложными предметами. Вер¬
шиной этой системы стали два раввинских училища в Житомире и Вильно,
которые должны были готовить учителей для еврейских школ и просвещен¬
ных раввинов для общин. Хотя набор в эти учебные заведения никогда не был
высоким, они стали основным средством еврейской аккультурации. Едва ли
можно найти светского еврейского интеллектуала или общественного лидера
второй половины XIX в., который не был бы связан с системой государствен¬
ных еврейских школ; таким образом, влияние этой системы далеко выходило
за рамки, определяемые общим количеством ее учеников и преподавателей.
1.1 / РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772-1881)
Немаловажен и тот факт, что выпускники раввинских училищ могли продол¬
жить свое образование в российских университетах 5.
Комитет Киселева был убежден в необходимости отмены кагальной си¬
стемы еврейского общинного самоуправления, что и произошло в 1844 г.
Историки полемизируют относительно последствий «упразднения кагала».
Центральные институты еврейской общинной жизни — такие как раввинские
суды, система начального образования (хедеры) и сеть благотворительных
братств (hevrot) — продолжали существовать. В неприкосновенности оста¬
лись особые еврейские налоги на кошерное мясо и субботние свечи, так же
как и коллективная ответственность общины за уплату налогов и поставку
рекрутов. Сборщики налогов по-прежнему избирались общиной, хотя теперь
формально они были подотчетны правительству, а не общинной администра¬
ции. Именно неопределенность вокруг отмены кагальной системы позволила
еврейскому ренегату Якову Брафману завоевать широкую известность своей
юдофобской кампанией против кагала — мнимого государства в государстве,
тайной «муниципальной талмудической республики» 6.
1855-1881 гг.
Поражение России в Крымской войне (1853—1856) стало началом перио¬
да внутригосударственных изменений и политического обновления, эры Ве¬
ликих реформ Александра II (1818—1881, император с 1855). Самым главным
результатом Великих реформ стало освобождение крестьянства от крепостной
зависимости, что неизбежно повлекло за собой многочисленные дополни¬
тельные реформы, направленные на создание гражданского общества взамен
прежнего феодального уклада. Преобразования включали создание системы
местного самоуправления (земства), новой судебной системы, принявшей за
основу английскую модель, и военную реформу, сократившую срок службы с
25 до 7 лет. Участие евреев в новых общественных институтах не было ограни¬
чено, хотя земская система не распространялась на многие губернии Царства
Польского и черты оседлости из-за опасения польского влияния. Была смяг¬
чена цензура, что стимулировало появление газет и толстых журналов, вклю¬
чая еврейскую печать на иврите, идише, русском и польском языках. Профес¬
сия журналиста привлекала все большее число аккультурированных евреев.
Атмосфера реформ благотворно сказалась на евреях. В противополож¬
ность тенценции наказывать «плохих евреев», характерной для царствования
Николая I, режим Александра пытался поощрять «хороших евреев» — этот
процесс историки описывали как «гомеопатическую эмансипацию» (С. Дуб¬
нов), «избирательную интеграцию» (Б. Натанс) или «мини-эмансипацию»
(X. Роггер) 7. Еврейские купцы первой гильдии, евреи с высшим образованием
/31/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
и ветераны дореформенной армии получили право повсеместного прожива¬
ния за пределами черты оседлости (соответственно в 1859, 1861, 1867 г.). Осо¬
бое значение имел декрет 1865 г., предоставивший еврейским мастерам-ре¬
месленникам право селиться вне черты оседлости. Впрочем, многочисленные
бюрократические формальности, установленные законом, не давали боль¬
шинству еврейских ремесленников воспользоваться этим правом. Соответ¬
ственно постоянно росло число нарушений правил о месте жительства, не в
последнюю очередь со стороны евреев, обосновавшихся в столицах — Санкт-
Петербурге и Москве.
Многие улучшения юридического статуса евреев в период царствования
Александра II стали результатом усилий группы еврейских банкиров и про¬
мышленников Санкт-Петербурга, объединившихся вокруг баронов Гинцбур¬
гов — Евзеля и Горация. Круг Гинцбургов продолжал выступать в защиту ин¬
тересов евреев вплоть до падения царского режима 8.
Трагический опыт рекрутчины в эпоху Николая I придавал особую важ¬
ность в глазах евреев военной реформе. Светские еврейские лидеры надея¬
лись, что военная служба даст евреям твердые моральные основания требо¬
вать полного гражданского равенства. Поначалу в воинском наборе и на служ¬
бе дискриминации евреев не было, за исключением практической невозмож¬
ности для них получить офицерское звание. Однако убежденность в том, что
евреи хронически уклоняются от призыва, привела к введению более строгих
мер воинского набора для евреев, вплоть до применения репрессивных мер
против семей уклонистов.
Польский вопрос, занимавший высшее российское чиновничество на
протяжении всего периода реформ, оказал определенное влияние и на евре¬
ев. В составе населения многих губерний черты оседлости было представле¬
но польское меньшинство, экономическое и социальное влияние которого
было непропорционально велико. Последствием Польского восстания 1863 г.
(Январское восстание) стало введение Российским государством ряда анти-
польских политических мер в черте оседлости, получивших название поли¬
тики «русификации». Среди российских государственных деятелей не было
ни согласованности, ни даже единого мнения о проведении этой политики в
жизнь, но она имела для евреев серьезные последствия. Российские политики
признавали важную роль евреев черты оседлости в качестве экономических
агентов и партнеров польских помещиков (в частности, как одного из немно¬
гих источников кредитования помещичьего хозяйства). Некоторые государ¬
ственные деятели настаивали, что политика властей в Польше и Западном
крае должна ориентироваться на привлечение евреев на сторону России. Эта
позиция нашла отражение в декрете 1862 г., разрешавшем евреям покупать и
арендовать земельную собственность в пределах черты оседлости. Однако в
результате Польского восстания широкое распространение получило пред¬
/32/
1.1 / РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772-1881)
ставление о том, что в экономической сфере евреи слишком тесно связаны
с польскими землевладельцами, вследствие чего — как часть ограничений,
направленных против поляков, — было введено множество запретов относи¬
тельно еврейского землевладения и землепользования 9.
«Еврейский вопрос» оставался предметом интенсивных общественных
дискуссий в течение всего периода реформ. Особенную остроту он приобрел,
когда рост национальных и политических разногласий привел русских кон¬
серваторов к убеждению о необходимости более узкого определения границ
реформ. Растущее число евреев в системе среднего и высшего образования вы¬
звало требование установить нормы для евреев в государственных учебных за¬
ведениях. В высших бюрократических инстанциях и на страницах российской
прессы продолжалась полемика о более широкой эмансипации евреев, прежде
всего — об отмене черты оседлости. В конце царствования Александра II рос¬
сийская еврейская политика в целом была широко обсуждаемым вопросом, но
изменения в этой сфере обещали быть медленными и постепенными.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЕВРЕЯХ
В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ
Несмотря на постоянное желание российских чиновников согласовать
законодательство о евреях в черте оседлости и в Царстве Польском, это никог¬
да не было достигнуто. Поэтому статус евреев на польских землях Российской
империи должен быть рассмотрен отдельно.
Царство Польское, или так называемое Конгрессовое королевство («Кон¬
грессувка»), было создано по решению Венского конгресса как автономное
государственное образование в составе Российской империи. Оно было обра¬
зовано на основе своеобразного конституционного соглашения: самодержав¬
ный русский царь одновременно являлся конституционным монархом Поль¬
ши. Царство Польское имело свой парламент и правительство, независимый
суд, национальную армию и школы. Аристократы-землевладельцы (могуще¬
ственные магнаты и мелкая шляхта) оставались главенствующим социальным
и политическим сословием, но права городского населения были значительно
расширены. Такая административная структура просуществовала только до
1830 г. После подавления Польского ноябрьского восстания 1830 г. эти кон¬
ституционные соглашения были аннулированы, и в Польше было введено во¬
енное положение.
В статье 11-й конституции Царства Польского оговаривалось, что толь¬
ко христиане могут пользоваться гражданскими и политическими правами.
Таким образом, евреи исключались из участия в любой сфере политической
деятельности и не могли занимать посты на государственной службе. В от¬
/33/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
личие от евреев черты оседлости евреи Царства Польского не имели права
муниципального гражданства. Существовали дискриминационные ограниче¬
ния в отношении прав евреев на собственность, участия в определенных видах
экономической деятельности, перемены места жительства. Евреи были обре¬
менены большим количеством дискриминационных налогов. В 1822 г. прави¬
тельство Царства Польского упразднило кагалы, вместо них были образованы
«божничьи дозоры», которые представляли собой попытку правительства —
по большей части неудачную — более пристально следить за деятельностью
еврейских общин. На декларативном уровне политика польских властей от¬
ражала стремление российского правительства способствовать аккультурации
евреев и их сближению с христианским населением империи. Однако практи¬
ческие законодательные меры были направлены на сохранение польского ев¬
рейства в качестве отличного от других обособленного социального сословия.
Накануне 1861 г. юридический статус евреев в черте оседлости был выше, чем
в Царстве Польском.
Необходимость поддерживать порядок в империи в период осуществле¬
ния сложных задач по проведению Великих реформ заставила российское
правительство ослабить жесткий контроль над Польшей в начале 1860-х гг.
Под руководством главы гражданской администрации Царства Польского
маркиза Александра Велепольского были восстановлены некоторые польские
учреждения, и к Польше вернулась малая толика автономии. Велепольский
был одним из немногих российских имперских чиновников, кто видел в евре¬
ях производительную экономическую силу, которая могла быть использована
для развития среднего класса на польских землях. Он также надеялся отдалить
евреев от радикального польского патриотического движения. А. Велеполь¬
ский содействовал целому ряду реформ, которые значительно улучшили по¬
ложение евреев в Польше, и действительно, проведенные им преобразования
часто рассматривают как форму эмансипации евреев. Закон, обнародованный
в мае 1862 г., отменял ограничения по месту жительства и особые налоги для
евреев. Евреям разрешалось давать свидетельские показания в суде без при¬
несения особой оскорбительной присяги. Евреи могли теперь покупать сель¬
скохозяйственные угодья, так же как и недвижимость в городах. В качестве
«поощрения» еврейской аккультурации было запрещено использовать иврит
и идиш при заключении контрактов и коммерческих соглашений.
Уступки Российского государства не смогли остановить польское патрио¬
тическое движение, и в январе 1863 г. началось новое вооруженное восстание,
вновь подавленное российской военной мощью. После восстания все рефор¬
мы Велепольского были отменены, за исключением еврейской эмансипации.
Для российских властей оставались в силе все те мотивы, которыми руковод¬
ствовался Велепольский в этой области: поощрять экономическую деятель¬
ность евреев, способствовать их аккультурации и стремиться к отчуждению
/34/
1.1 / РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772-1881)
Вверху — Польские евреи на Старом рынке в Риге в 1848 г. Открытка с гравюры XIX в.
Joseph and Margit Hoffman Judaica Postcard Collection, Folklore Research Center,
Hebrew University of Jerusalem
Внизу — Литовская биржа. Гравюра из книги: Leon Hollaenderski. Les Israelites de Pologne. Paris, 1846
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
евреев от польского националистического радикализма. После 1863 г. право¬
вое положение евреев в империи изменилось: польские евреи оказались в бо¬
лее выгодном положении, чем их единоверцы в пределах черты оседлости 10.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пока не разразился погромный кризис 1881—1882 гг., российская поли¬
тика по отношению к евреям была в высшей степени последовательной. «Ев¬
рейский вопрос», сформировавшийся в России к концу XVIII в., сводился к
«еврейскому фанатизму» и «еврейской эксплуатации». Предполагалось, что
он может быть решен с помощью политики «сближения» и «слияния». «Пре¬
образованные» евреи могли бы стать лояльными и полезными подданными,
как это произошло в Западной Европе. Позиция официальных властей раз¬
нилась в представлениях о том, какими методами должны быть достигнуты
эти цели — постепенно («сколь можно менее запрещения, сколь можно более
свободы», как это сформулировали авторы Положения 1804 г.11) или посред¬
ством агрессивного вмешательства в еврейскую общинную жизнь, как это де¬
лали чиновники Николая I. При Александре II процесс аккультурации евреев
заметно усилился, но вместе с тем возросло и противодействие интеграции
евреев в русское общество.
Перевод с английского Ольги Ковалевой
1 О евреях в царствование Екатерины II см.: Клиер Дж. Россия собирает своих
евреев. М.; Иерусалим, 2000. С. 95—145.
2 (Упорядочение — фр.). Там же. С. 146—194; Эттингер Ш. Положение о евреях
1804 г. // Эттингер Ш. Россия и евреи. Иерусалим, 1993. С. 195-216.
3 Там же. С. 195—314.
4 Stanislawski М. Tsar Nicholas I and the Jews: The Transformation of Jewish Society in
Russia, 1825-1855. Philadelphia, 1983. P. 13-34.
5 Stanislavski M. Tsar Nicholas I and the Jews... P. 97-122. См. также: Klier J.D. Impe¬
rial Russia’s Jewish Question, 1885—1881. Cambridge, England, 1995. P. 222—244.
6 Cm.: Klier J.D. The Kahal in the Russian Empire: Life, Death and Afterlife of a Jewish
Institution, 1772-1882//Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts. Gottingen, 2006. S. 33-50.
7 Dubnov S.M. History of the Jews in Russia and Poland. Philadelphia, 1918. Vol. II.
P.157; Nathans B. Beyond the Pale. Berkeley and Los Angeles, 2002. P. 45-79; Rogger H.
Reforming Jews — Reforming Russians // Hostages of Modernisations: Studies on Modem
Antisemitism 1870-1933/39 / Herbert A. Strauss, ed. Berlin and New York, 1993. Vol. II. P.
1208-1229.
8 См.: Клиер Дж. Круг Гинцбургов и политика штадланута в императорской Рос¬
сии // Вестник Еврейского университета в Москве. 1999. № 3(10). С. 38—55; Klier J.D.
Imperial Russia’s Jewish Question... P. 22-25.
/36/
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЯХ (1772—1881)
9 Klier J.D. Imperial Russia’s Jewish Question... P. 145—158.
10 О положении евреев в Польше см.: Eisenbach A. The Emancipation of the Jews in
Poland, 1780-1870. Oxford, 1991. P. 433-475.
11 Клиер Дж. Россия собирает своих евреев. С. 219.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Барталь И. От общины к нации. Евреи Восточной Европы в 1772-1881 гг. М.,
Иерусалим, 2007.
Гессен Ю.И. История еврейского народа в России. Иерусалим, 1993.
Клиер Дж. Россия собирает своих евреев. М.; Иерусалим, 2000.
Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии. 1827—1914. М., 2003.
Эттингер Ш. Россия и евреи. Иерусалим, 1993.
Dubnow S.M. History of the Jews in Russia and Poland. Jewish Publication Society of
America; Philadelphia, 1916—1920. 3 vols.
Eisenbach A. The Emancipation of the Jews in Poland, 1780-1870. Basil Blackwell; Ox¬
ford, 1991.
Klier J.D. Imperial Russia’s Jewish Question, 1885—1881. Cambridge, England: Cam¬
bridge University Press, 1995.
Lederhendler E. The Road to Modem Jewish Politics: Political Tradition and Political
Reconstruction in the Jewish Community of Tsarist Russia. Oxford University Press; New
York and Oxford, 1989.
Lowe H.-D. The Tsars and the Jews: Reform, Reaction and Antisemitism in Imperial
Russia, 1772-1917. Harwood Academic Publishers; Chur, Switzerland, 1993.
Rogger H. Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Macmillan; Bas¬
ingstoke, 1986.
Stanislawski M. Tsar Nicholas I and the Jews: The Transformation of Jewish Society in
Russia, 1825-1855. Jewish Publication Society of America; Philadelphia, 1983.
1.2
ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ»
К ДИСКРИМИНАЦИИ:
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРЕЯМ
(1881—1914)
Хайнц-Дитрих Лёве
бийство императора Александра II народовольцами 1 марта
1881 г. породило взрывную волну, разошедшуюся по всему госу¬
дарству и обществу. Новый император — Александр III (1881—
1894) — и его советники приступили к разработке целой про¬
граммы контрреформ, целью которой было ликвидировать или,
по меньшей мере, ограничить последствия предыдущего царствования и его
реформистского законодательства. Тем не менее прошло некоторое время,
прежде, чем была создана и приведена в действие более или менее внятная
идеология. Старые реформаторы, государственные деятели, которые работа¬
ли с Александром II, были все еще глубоко интегрированы в бюрократическую
систему империи. Поэтому политика в эпоху Александра III не могла быть
полностью реакционной 1. Кроме того, в середине царствования Алексан¬
дра III государство начало проводить политику форсированной индустриали¬
зации, которую вряд ли можно было согласовать с принципами консерватив¬
ной (не говоря уже о реакционной) внутренней политики. Индустриализация
угрожала подорвать именно те элементы сословного общества, которые кон¬
трреформы хотели упрочить: главенствующую роль поместного дворянства,
сословную структуру, особенно в сельском самоуправлении, и отдельное кре¬
стьянское землевладение, которое было основано на общественной собствен¬
ности во владении передельной общины (или «мира»). По мнению идеологов
контрреформ, общество, не базирующееся на сословной дифференциации,
вскоре испытало бы на себе все отрицательные стороны ничем не ограничи¬
/38/
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ
ваемой конкуренции. Жадность и
желание обогатиться приведут к по¬
явлению третьего сословия, буржуа¬
зия, сосредоточив в своих руках все
богатства страны, потребует полити¬
ческих прав и создаст нечто худшее,
чем крепостное рабство. Классовая
борьба станет обычным делом. В ре¬
зультате быстрого роста меняющего
своих владельцев (в противополож¬
ность владению землей) богатства
силовой центр в стране сместится на
биржу, то есть в руки евреев 2.
Эта странная идеология ис¬
пользовалась в трех различных на¬
правлениях: как беспристрастный
социальный анализ дворянского
общества, как грубое орудие мас¬
совой агитации против «еврейской
эксплуатации», и, наконец, она мог¬
ла оправдывать антиеврейские меры
как средство замедлении развития
Проповедник. Летичев Подольской губ.
Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг.
Из собрания центра «Петербургская иудаики»
капитализма 3. Соответствующие ев¬
рейские стереотипы уже сформиро¬
вались в эпоху Александра II, хотя
некоторые из них поначалу носили
позитивный характер. Чиновники,
ратовавшие за эмансипацию евреев, утверждали, что она будет способство¬
вать индустриализации и более быстрому экономическому росту. Другие же,
отрицая и то и другое, заявляли, что только когда промышленность и сельское
хозяйство придут в равновесие, крестьяне смогут избежать подчинения сво¬
их земель и труда еврейскому капиталу. Еврейская политика при Александре
II все еще стремилась переделать еврейский социальный характер, руковод¬
ствуясь идеями продуктивности, интеграции и образования евреев. Поэто¬
му уравнение в правах, то есть эмансипация, должно было быть заработано,
оно могло совершаться лишь постепенно и было связано со вступлением в
определенное сословие или корпорацию. Такая эмансипация была по своей
сути избирательной: она служила наградой за личные достижения и никогда
и ни для кого не была полной, так как определенные ограничения оставались
в силе даже для самых «привилегированных» евреев. При Александре III и в
какой-то мере и позднее еврейская политика стала в большей степени обо-
/39/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Винница. Главная синагога. С открытки нач. XX в.
ронительной. Гораздо более сильный акцент на корпоратизме и некоторые
специальные меры серьезно ограничивали «избирательную эмансипацию» 4,
но не отменяли ее совсем.
По всей видимости, частью общих представлений о так называемом ев¬
рейском вопросе являлось убеждение в том, что все уже было перепробовано,
но ничего не подошло. Это усиливало глубоко укоренившийся пессимизм, и
неохотное признание сравнительной отсталости имперской политической и
социальной системы превращалось в черное отчаяние. Сами русские рассма¬
тривались как народ, не обладающий некоторыми фундаментальными спо¬
собностями, среди них — способностью к государственному строительству
и созданию главенствующей культуры, которая могла бы интегрировать и
ассимилировать другие этнические группы. Свидетельствуя об этом, Нико¬
лай Ильминский, главный архитектор имперской политики по отношению к
восточным народам, писал К.П. Победоносцеву о евреях и татарах в импе¬
рии так: «Нужно помнить, что мы, русские, не умеем владеть теми орудиями
культурными и сливающими народности, которыми так успешно действуют
западные народы, — у нас эти орудия обращаются нам же во вред» 5. Это ощу¬
щение беспомощности только усиливалось из-за того, что евреи отказывались
/40 /
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
Похороны в Лиде Гродненской губ. С немецкой открытки 1916-1917 гг.
трансформироваться по универсальным рецептам имперских законодателей
или же, что было бы еще лучше, полностью слиться с народными массами.
Невозможность интегрировать сельских евреев в органы крестьянского само¬
управления или эффективно контролировать еврейские благотворительные
организации и организации самопомощи, а также продолжающееся суще¬
ствование элементов катального самоуправления рождали даже среди сравни¬
тельно трезвомыслящих российских государственных деятелей веру в главен¬
ствующую роль еврейского международного кагала под предводительством
французского Alliance Israelite и в различные теории заговора, наиболее ярко
отразившиеся позднее в фальшивке «Протоколы сионских мудрецов». И хуже
того, в последние годы царствования Александра II пресса принялась распро¬
странять слухи о кровавом навете 6.
Все это — убийство Александра II, многочисленные статьи в прессе, об¬
суждающие эмансипацию евреев и их роль в революционном движении, —
внесло свой вклад в создание атмосферы, вызвавшей волну погромов, глав¬
ным образом на Украине. Погромы начались 12 апреля 1881 г. в Елисаветгра¬
де, а подавить их смогли только в середине 1882 г.7 Но даже в 1883 г. насилие
не были полностью остановлено — последний жестокий погром произошел
/41 /
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
в 1884 г. в Нижнем Новгороде. Он был, среди всего прочего, спровоцирован
распространенной в народной среде верой в кровавый навет 8.
Правительство и новый император не потворствовали погромам. Новый
министр внутренних дел, Н.П. Игнатьев, выпустил циркуляр, призывавший
губернаторов делать все возможное, чтобы предотвратить их. Александр III
потребовал сурового наказания для погромщиков, хотя он и сожалел, что пра¬
вительство должно защищать евреев от русского населения. Он писал, что в
душе всегда радуется, когда евреев бьют, но добавлял, что подобное поведение
нельзя терпеть. Вместе с тем император отказался публично выступить с осуж¬
дением погромов, как это предлагали еврейские представители. Император
считал причиной погромов эксплуататорскую деятельность евреев.
Новый министр внутренних дел еще до того как убедился, что беспоряд¬
ки не были делом рук революционеров (как первоначально думали многие
министры), уведомил местные комиссии в западных губерниях, созданные в
1881 г. для обсуждения отношений между евреями и неевреями и связанного
с этим законодательства, о «племенной замкнутости и религиозном фана¬
тизме» евреев и дал им указание искать пути обуздания вредной экономиче¬
ской деятельности евреев, направленной исключительно на эксплуатацию
коренного населения 9. Поэтому дальнейшее обсуждение еврейского вопро¬
са в губернских комиссиях в основном отражало мнение министра. И все же
многие предложения комиссий были по-прежнему сформулированы в духе
более либеральной эпохи Александра II и в терминах политики, направлен¬
ной на интеграцию: получение более качественного — светского — образо¬
вания, уменьшение роли еврейской общины, правительственный контроль
за религиозной жизнью и т. д. Некоторые комиссии требовали мер, напоми¬
навших рыночные установления позднего Средневековья или начала Ново¬
го времени, которые должны были защитить интересы потребителя. Среди
них были такие, как объявление вне закона больших торговых фирм и скуп¬
ки товаров с целью повышения цен; предлагалось также вновь ввести пра¬
вила, позволяющие оптовым торговцам закупать на местных рынках товары
только после того, как потребители удовлетворили свои запросы. Иногда во
всех этих требованиях евреи даже не упоминались. Таким образом, комис¬
сии ходатайствовали о реставрации старой «нравственной экономики», ко¬
торая могла быть обращена против евреев или тех новых экономических сил,
которые угрожали старым торговым и производящим классам. Требования
комиссий также отражали желание возродить старую корпоративную струк¬
туру; для ремесленников предлагалось обязательное членство в гильдии,
чтобы ограничить или исключить еврейских соперников. Очевидно, что у
антикапиталистического патернализма высших эшелонов власти, обернув¬
шегося в царствование Александра III против евреев, были свои сторонники
в провинциальном обществе 10.
/42/
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
Еще до того, как местные комиссии смогли прийти к какому-либо за¬
ключению, Игнатьев создал специальный Комитет о евреях для того, чтобы
«обсудить еврейский вопрос во всей его совокупности». Председатель коми¬
тета, товарищ министра внутренних дел Д.В. Готовцев, подготовил почву для
ее работы: «Недавние прискорбные столкновения коренного населения с ев¬
реями ... вынуждают [нас] обратиться за указаниями к старине, когда разные
новшества еще не проникли ни в чужеземное, ни в наше законодательство и
не успели еще принести с собой тех печальных последствий, которые обыкно¬
венно наступают, когда <...> применяются начала, противные духу народно¬
му». Затем Готовцев изложил проект программы, более радикальной по сво¬
ему антиеврейскому характеру, чем все законодательные меры в отношении
евреев, принятые до 1917 г. Любое переселение из черты оседлости во вну¬
тренние губернии должно было быть остановлено; в будущем ни один еврей
не имел права поселяться в сельской местности в черте оседлости, покупать,
арендовать или использовать земельную собственность где-либо за предела¬
ми городов и местечек; евреям полностью запрещалось торговать спиртны¬
ми напитками в деревнях, и допускалась лишь розничная продажа алкоголя
в городах и местечках; крестьянские общины получали право изгнать любого
еврея, поселившегося по соседству, а городские власти — право выселения
еврейских ростовщиков; в сельской местности евреям разрешалось торговать
только теми продуктами, которые они сами же произвели; местные власти
должны следить за тем, чтобы продукты питания, которые евреи покупают у
местных производителей, не продавались потом по более высокой цене; ре¬
месленники за пределами черты оседлости могут проживать только в городах;
дела, возбужденные евреями против крестьян за неуплату долга, следует на
определенных условиях приостановить; евреям нельзя разрешать торговать по
воскресеньям и церковным праздникам; процентные нормы должны ограни¬
чивать количество евреев в органах земского и городского самоуправления, а
также в начальных школах; следует закрыть Общество для распространения
просвещения между евреями в России, так как оно якобы представляет собой
отделение международной еврейской организации «Alliance Israelite».
Этот проект, исполненный предрассудков, патернализма и примитивного
антикапитализма 11, был встречен жесткой оппозицией в Комитете министров.
Однако министр внутренних дел сумел добиться издания законодательно¬
го акта, запрещающего евреям впредь селиться в сельской местности внутри
черты оседлости и покупать или арендовать там землю. Известный как «Вре¬
менные правила о евреях от 3 мая 1882 года» или просто «Майские правила»,
этот закон стал тяжелым бременем для евреев. Комитет министров, в свою
очередь, распустил Комитет Готовцева и учредил «Высшую комиссию для пе¬
ресмотра действующих о евреях в империи законов» под началом маститого
чиновника Константина Палена. Эта комиссия должна была обработать ма¬
/43/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
териалы местных комиссий и предложить новый проект реформы еврейского
законодательства. Комиссия Палена работала пять лет (1883—1888)12. Прове¬
денный ею детальный анализ показал несостоятельность большинства анти¬
семитских мифов. В частности, комиссия пришла к выводу, что еврейская
экономическая деятельность вовсе не имеет эксплуататорского характера;
напротив, она приносит пользу нижним общественным слоям, так как евреи
довольствуются сравнительно низкими размерами прибылей. Комиссия ре¬
комендовала постепенно отказаться от антиеврейского дискриминационного
законодательства и перенести центр тяжести борьбы против нежелательного
еврейского влияния с государства на общество. Но здесь-то и лежала одна из
главных проблем царской политики: эмансипация общества от государства
казалась опасной преобладающему большинству российских государствен¬
ных деятелей.
В любом случае государственная политика приняла иное направление.
Был утвержден целый ряд дискриминационных предписаний, зачастую в об¬
ход обычных законодательных процедур. Обоснование для такой политики,
скорее всего, было дано Победоносцевым. Убежденный одновременно в не¬
обходимости и в чрезвычайной опасности экономического развития, он на¬
стаивал на том, чтобы государство контролировало и направляло экономиче¬
ские силы, иначе они подорвут основы старого порядка. В этом отношении
особенно важно было не допускать, чтобы купцы, евреи или кулаки (кото¬
рые, — по словам другого бюрократа из высших эшелонов власти — «нрав¬
ственно суть те же евреи» 13) скупали землю (особенно у крестьян) или приоб¬
ретали слишком большой вес в экономике 14.
Показательным для своего времени событием стало закрытие в 1884 г.
единственного в империи ремесленного училища для евреев, так как, по ут¬
верждению чиновников, «специальное еврейское ремесленное училище, при
отсутствии подобных училищ у христиан, является лишним орудием в руках
евреев для эксплуатации коренного населения» 15. Таким образом, отсталость
имперского общества в очередной раз послужила причиной новых ограни¬
чений. Евреи были исключены из местного сельского управления (1889 г.), в
городских советах внутри черты оседлости разрешено было заседать только
двум еврейским представителям (1892 г.), что составляло менее 10% от общего
числа членов совета, хотя процент евреев в городском населении был обычно
значительно выше; процентная норма для евреев — присяжных поверенных,
применявшаяся ранее к 9 губерниям в черте оседлости, была распростране¬
на на все 15; в 1889 г. Министерство юстиции прекратило принимать в чис¬
ло присяжных и частных поверенных евреев и мусульман 16. После погромов
местные власти начали в массовом порядке выселять евреев из крупных горо¬
дов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Харьков, Киев, и из сельских райо¬
нов Полтавской и Черниговской губерний. Таганрог и Ростов-на-Дону были
/44/
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
Интерьер синагоги в г. Паволочь Волынской губ. Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг.
Из собрания центра «Петербургская иудаика».
/45 /
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
для них закрыты, и многие маленькие местечки внутри черты оседлости были
объявлены деревнями, в которых евреи не могли проживать. В 1887 г. Сенат —
высший законодательный орган империи — еще больше ограничил права
проживания евреев, распространив «Майские правила» и на переезд из од¬
ной деревни в черте оседлости в другую. Самовольные изгнания из сельской
местности внутри черты оседлости отменялись Сенатом, но когда изгнанные
евреи пытались вернуться в свои бывшие дома, тот же самый Сенат объяв¬
лял это «новым» местом жительства, запрещенным «Майскими правилами».
Выселение достигло драматических размеров в 1890—1892 гг. Из Москвы и
Московской губернии было выселено 25-30 тысяч евреев-ремесленников, то
же самое произошло в Санкт-Петербурге и других городах за пределами чер¬
ты оседлости. Согласно закону 1864 г. у ремесленников было лишь условное
право жить за пределами черты оседлости, зависящее от того, состоят ли они в
гильдии внутри [sic!] черты. В свою очередь, членство в гильдии было доволь¬
но сложно получить — отчасти потому, что во многих городах гильдии пере¬
стали существовать, — и оно легко могло быть аннулировано. Когда ремес¬
ленник переставал заниматься своим делом или же торговал тем, что произвел
не он сам, то он подлежал выселению, так же как и его дети по достижении
ими зрелости. Все эти ограничения теперь строго выполнялись. То же относи-
/46/
Синагога в Шепетовке Волынской губ. (конец XVIII — нач. XIX в.).
Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг. Из собрания центра «Петербургская иудаика»
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
лось и к другим группам — евреям-мастеровым, пивоварам, винокурам и др.
Даже купцам 1-й гильдии стало сложнее переезжать в Москву и Московскую
губернию и оставаться там жить 17.
Только у окончивших высшие учебные заведения было безусловное право
(с 1879 г.) жить за пределами черты оседлости. Но в том же самом году глава
Одесского учебного округа предложил ограничить число еврейских детей в
гимназиях. Некоторые учреждения так и сделали. Несмотря на это Комитет
министров не торопился с решением. Для министра просвещения И.Д. Деля¬
нова проблема была в другом — в большом количестве учащихся из низших
классов, которых образование приводит «к пренебрежению своих родителей,
к недовольству своим бытом, к озлоблению против существующего и неиз¬
бежного в самой природе вещей неравенства имущественных положений» 18.
В соответствии с этим были приняты меры к сокращению числа учащихся из
низших классов. Таким образом, дискуссия о мерах по ограничению числа
евреев в высшей школе и в университетах оказалась связана со стремлением
властей контролировать общие социальные изменения. Царские чиновники в
целом отрицательно относились к еврейским плодам русского просвещения.
Как представители государства, которое намеренно избегало секуляризации,
но при этом в определенной степени навязывало ее евреям, они не доверяли
/47/
Екатеринослав. Синагога. С открытки нач. XX в. Joseph and Margit Hoffman Judaica Postcard
Collection, Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
«еврейскому рационалисту», «продажному, безликому еврейскому космопо¬
литу». В конечном итоге, в 1887 г. Министерство просвещения ввело процент¬
ные нормы для приема евреев в гимназии и высшие учебные заведения: 10 %
в пределах черты оседлости, 5 % в остальной части России, 3 % в столицах. В
течение последующих 5—6 лет количество еврейских учащихся сократилось в
абсолютных числах на 42 % 19.
Следующие радикально-дискриминационные меры были запланированы
в начале 1890-х гг. товарищем министра внутренних дел В.К. Плеве. Но его оп¬
понент, министр финансов И.А. Вышнеградский, рискуя вызвать недоволь¬
ство императора, выступил с меморандумом о том, как принятые меры могут
негативно сказаться на российских финансах.
В начале 1890-х гг. российское правительство взяло курс на ускоренную
индустриализацию. По ходу того, как новый министр финансов С.Ю. Витте,
развивая и углубляя эту политику, шаг за шагом освобождался от владевших
им ранее славянофильских предубеждений и защищал даже самые радикаль¬
ные реформы, оппозиция большинству аспектов его политики становилась все
более яростной. Витте провел денежную реформу и ввел золотое обращение,
реформировал экономическое законодательство, боролся за либерализацию
правил создания акционерных обществ, чтобы привлечь зарубежный и еврей¬
ский капитал, и пытался узаконить профсоюзы. Он подготовил крестьянскую
реформу, включавшую в себя отказ от общинного землевладения — этого крае¬
угольного камня реакционной политики и идеологии 20. Кроме того, Витте
время от времени объяснял императору и своим коллегам-чиновникам, что
имперская антиеврейская политика не имеет смысла и только вредит интере¬
сам России за границей. В ходе дебатов — на страницах прессы и на съездах
землевладельцев — о введении золотого стандарта и других аспектах эконо¬
мической политики часто использовались антисемитские аргументы, направ¬
ленные против «международного еврейского капитала» и особенно против
министра финансов, якобы состоящего у него на службе. Консервативное и
реакционное дворянство и его сторонники в среде бюрократии утверждали,
что именно политика быстрой индустриализации, проводимая Витте, угрожа¬
ет разрушить дворянство — опору Русского государства. В 1890-х гг. у многих
высших чиновников антисемитизм превратился в настоящее мировоззрение и
стал для них панацеей спасения старого мира. Политические антисемиты ве¬
рили, что целью евреев было свергнуть монархию в России и уничтожить кре¬
стьянскую общину и дворянство, приведя для этого в движение те экономи¬
ческие и политические силы, которые были в их распоряжении. В правитель¬
ственных кругах существовало две тенденции: одна была представлена Мини¬
стерством внутренних дел — хранителем консервативных ценностей, а другая
Министерством финансов — двигателем реформ в стране. Но не нашлось по¬
литического учреждения или личности, которая смогла бы выработать единую
/48/
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
государственную политику. Должности премьер-министра не существовало, а
император не мог и не хотел взять на себя эту роль. Этот конфликт и вызванная
им политическая нерешительность стали одним из важных факторов, которые
привели к началу первой русской революции в 1905 году 21.
Когда в 1902 г. министром внутренних дел стал В.К. Плеве, два министер¬
ства открыто противостояли друг другу по целому ряду вопросов внутренней
политики — от крестьянской политики, рабочего вопроса, отношений со сту¬
дентами и интеллигенцией до национального, и особенно «еврейского вопро¬
са». Плеве, как и большинство антисемитов, полагал, что развитие буржуазии
разрушительно потому, что она является социальной группой «еврейского
характера» или по самой своей природе подготавливает путь для прихода ев¬
реев к власти — подталкивая, среди прочего, к введению конституционного
правительства. Плеве был убежден, что еврейская буржуазия более опасна,
чем евреи-рабочие или представители низших классов. В этом он расходился
с давно установившейся политикой, которая была направлена на интеграцию
и ассимиляцию наиболее состоятельных и образованных евреев. Плеве твердо
придерживался мнения, что все евреи принадлежат к классу эксплуататоров,
и поэтому им в принципе нельзя позволять жить в сельской местности. Он
попытался остановить развитие сионистского движения в России, как только
почувствовал, что сионисты не только работают на эмиграцию, но и пытают¬
ся создать общую национальную платформу для всего российского еврейства.
Была запрещена пропаганда сионизма в публичных местах и на собраниях
общественного характера, а за еврейской системой частных школ осущест¬
влялось наблюдение, призванное предотвратить проникновение в них сио¬
нистских тенденций. Плеве запретил владение земельной собственностью в
сельской местности внутри черты оседлости даже купцам 1-й гильдии — не¬
смотря на сопротивление Витте, который вновь подверг критике официаль¬
ную еврейскую политику и предложил, чтобы реформа еврейского законо¬
дательства началась с либерализации права проживания. С другой стороны,
под влиянием Русско-японской войны и растущего беспокойства в империи
Плеве предпринял некоторые смягчающие меры. 158 местечек, в которых ра¬
нее евреям запрещено было селиться, были для них открыты, а злосчастная
50-верстная пограничная зона, закрытая для проживания евреев еще со вре¬
мен Николая I, была уничтожена. Плеве также приостановил выселение евре¬
ев из тех мест, где они проживали нелегально. Он побудил министра юстиции
принять — впервые за пятнадцать лет — пятерых (!) еврейских юристов в чис¬
ло присяжных поверенных. Министр внутренних дел полагал, что евреи — это
самый революционный элемент, и этими маленькими уступками он надеялся
обезвредить революционную ситуацию.
В этой борьбе между двумя министерствами были свои неожиданные по¬
вороты и проявления искусного маневрирования. Так, например, когда еврей¬
/49/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ская организация взаимопомощи просила позволения устроить работный дом
для бедных в Вильно, Плеве выступил за то, чтобы дать разрешение в дан¬
ном конкретном случае. При этом он повторял, что дискриминационное за¬
конодательство в целом по-прежнему необходимо. Со своей стороны, Витте
вновь выступил против дискриминационного законодательства: как министр
финансов, он хорошо знал о той положительной роли, которую играют евреи
в сфере торговли и промышленности. Однако, признав, что даровать разреше¬
ние на создание работного дома в данном случае было бы полезно, он указал
на связанную с таким решением опасность: центральные государственные уч¬
реждения могут оказаться заваленными подобными запросами от других ев¬
рейских благотворительных организаций.
В этом частном примере раскрываются два принципиально расходящихся
подхода — не только к «еврейскому вопросу», но и к государственной полити¬
ке в целом. Витте и Министерство финансов хотели прекратить государствен¬
ное регулирование экономики и благотворительной деятельности — не важно,
еврейской или нет. В 1895 г. Министерство финансов уже упростило учрежде¬
ние кредитных товариществ. По этой модели в 1897 г. был создан образцовый
статут Общества вспомоществования бедным евреям, который значительно
упростил еврейскую благотворительную деятельность. С 1902 г., под влияни¬
ем Плеве, выступавшего за строгий контроль со стороны государства за всеми
секторами общества, вновь возобладала тенденция к большей регуляции. Вит¬
те, далекий от этого изменения курса, попытался расширить сферы деятель¬
ности обществ — как еврейских, так и нееврейских, — разрешив учреждать их
явочным порядком. Здесь ясно видны как фундаментальные различия в по¬
литическом мировоззрении Витте и Плеве, так и тот факт, что для них обоих
«еврейский вопрос» был производной проблемой, а не sui generis 22.
Плеве, как министра внутренних дел, обвиняли в разжигании печаль¬
но известного Кишиневского погрома (6—8 апреля 1903 г.), который принес
евреям в столице Бессарабии смерть и разрушение — было убито 47 евреев,
пострадали сотни 23. Это обвинение не подтверждается никакими твердыми
свидетельствами. Тем не менее министр, будучи хорошо проинформирован
о происходящем в Бессарабской губернии, не сделал ничего, чтобы прекра¬
тить антисемитскую кампанию в местной прессе и подстрекательскую дея¬
тельность некоторых представителей правого крыла и высокопоставленных
чиновников, таких как вице-губернатор. Это создало атмосферу, в которой
погром стал возможен и даже вероятен. Собственно, и слух о мнимом риту¬
альном убийстве, который сыграл важную роль в разжигании страстей в Ки¬
шиневе, был пущен и поддерживался Министерством юстиции. Возможно,
погром не был полностью нежелателен в Санкт-Петербурге. Может быть и
так, что Плеве, который, видимо, желал маленькой победной войны с Япо¬
нией, задумал также провести и показательный погром, чтобы преподать урок
/50/
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
евреям и революционерам. Когда погром начался, то свою лепту в произо¬
шедшую трагедию внесли обычное смятение, нерешительность и нежелание
взять на себя ответственность. Многие полицейские, солдаты и даже офицеры
симпатизировали простому люду, неистовствовавшему в домах евреев, а чи¬
новники позднее выражали свое удовлетворение произошедшим. Тем не ме¬
нее Плеве проследил за тем, чтобы взрыв насилия 1903 г. больше в Кишиневе
не повторился.
Следующий погром разразился в Гомеле 1 сентября 1904 г. , и на это раз
были видны четкие следы организации. Местный полицмейстер предпринял
искреннюю попытку подавить беспорядки, однако военные подразделения,
призванные восстановить порядок, вышли из повиновения и стали защищать
погромщиков от еврейских отрядов самообороны. Среди убитых были как ев¬
реи, так и неевреи, многие были ранены, в целом был нанесен значительный
ущерб. В этот раз власти хорошо подготовились к последующему судебному
процессу — в противоположность тому, что имело место после кишиневского
погрома — и попытались превратить его в орудие пропаганды против евреев и
революционеров. Они постарались переложить ответственность на самих ев¬
реев — и те были обвинены в «русском погроме». Честный и простой (бело)
русский люд — как утверждали прокурор и судьи — всего лишь хотел защи¬
тить себя от евреев, виновных в попытках присвоения власти в России 22.
Летом 1904 г. Плеве был убит. После долгих размышлений вновь назна¬
ченный П.Д. Святополк-Мирский, казалось, обозначил смену курса. Это
возбудило большие надежды на внутренние реформы, которые вскоре раз¬
веялись, так как император отказался даже от включения в Государственный
совет выборных представителей от земств и городских дум, что составляло
краеугольный камень планов реформ нового министра. Святополк-Мирский
также показал свою неспособность сделать что-нибудь для предотвращения
мелких погромов, и в том, что касается «еврейского вопроса» в целом, ника¬
кого значительного прогресса не было. Для евреев открылось еще несколько
деревень, еще несколько евреев были приняты в число присяжных поверен¬
ных 25, а некоторые университеты перестали обращать внимание на процент¬
ные нормы для евреев. Святополк-Мирский оставался верным старинной
панацее просвещенного абсолютизма — только в его глазах «преобразование
евреев» уже достигло значительного успеха. Главную опасность министр видел
в растущем национальном движении среди евреев и в их участии в револю¬
ционном движении. Чтобы противостоять этим тенденциям, он предложил
избавиться от всех специальных школ для евреев (в особенности от тех, где
преподавание велось на идише или иврите) и свести все обучение в хедере к
религиозному. С другой стороны, он предложил поднять процентную норму
евреев в высших учебных заведениях до 14% и легализовать еврейские бла¬
готворительные учреждения и организации самопомощи, чтобы разделить
/51/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Вильно. Еврейский квартал. С немецкой открытки 1918 г. Joseph and Margit Hoffman Judaica Postcard
Collection, Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
революционные и нереволюционные элементы. Но император непреклонно
противостоял любым переменам.
Подстегиваемое противоречивыми сигналами сверху, революционное
движение достигло небывалой прежде силы. Кровавое воскресенье 9 января
1905 г. возвестило о начале революции; в октябре — декабре того же года рево¬
люция достигла своего пика и продолжалась вплоть до 1907 г. Революционная
встряска оказалась необходима для режима, чтобы сделать еврейский вопрос
частью дебатов об общей реформе.
В начале революции еврейский вопрос не стоял на повестке дня. Он
служил лишь общим контекстом критики действующего законодательства,
которое, по мнению таких деятелей, как Витте, было причиной участия ев¬
реев в революционном движении. Возможно, Витте был единственной важ¬
ной политической фигурой в окружении императора, которая отстаивала
предоставление равноправия евреям империи — но только шаг за шагом, как
он объяснял в дискуссии с видными представителями американского еврей¬
ства. Именно благодаря Витте и его преемнику на посту министра финансов,
В.Н. Коковцову, летом 1905 г. было принято решение не исключать евреев из
числа избирателей — активных и пассивных — на выборах в Государственную
думу. Но как бы то ни было, в освободительном движении интеллигенции,
которое главенствовало в первой фазе революции, «еврейский вопрос» играл
важную роль. Еврейская интеллигенция разных убеждений — от сторонников
неортодоксального социализма до либералов — объединилась в Союз для до¬
стижения полноправия еврейского народа, который присоединился к освобо¬
дительному русскому движению. Активное участие членов Союза в различных
организациях русской интеллигенции позволило им добиться включения тре¬
бования полноправия для евреев (в том числе и права на национально-куль¬
турную автономию) в платформы всех основных организаций, вошедших в
революционный Союз союзов. Предоставление евреям равных прав стало, та¬
ким образом, частью проекта общей реформы, направленной на ликвидацию
российского абсолютизма 26.
В октябре 1905 г. вопрос о равноправии евреев оказался на повестке дня
официальной имперской политики. Когда всеобщая стачка, поддержанная
почти всеми слоями общества, поставила старый режим на край пропасти,
бывший министр финансов Витте предложил императору только две возмож¬
ные альтернативы: или подавление революции путем военной диктатуры ве¬
ликого князя Николая Николаевича, дяди императора и ярого антисемита,
или конституционализация империи с Витте в качестве премьер-министра и
стабилизация страны с помощью реформ. Только когда Николай Николаевич
отказался стать диктатором, император Николай II неохотно согласился на
программу реформ Витте. Но и тогда он попытался ограничить избиратель¬
ные права при выборах в Думу и отказаться от предоставления равных прав
/53/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
для всех граждан (то есть и для евреев). Генерал Д.Ф. Трепов, доверенный со¬
ветник Николая, рекомендовал ему не давать равных прав всем националь¬
ностям, прибегая к антикапиталистическому подтексту, с которым данный
вопрос был связан в умах российских монархистов: «Этот вопрос касается по
преимуществу евреев. Несомненно, что к этому делу идет, и в будущем они
должны быть и будут равноправны, но теперь, сейчас же дать им все права
было бы политической ошибкой. К этому надо идти постепенно, в связи с ро¬
стом самосознания коренного русского населения, дабы оно могло давать от¬
пор евреям и не быть ими закабаленным» 27. Потребовался ультиматум Витте,
чтобы император принял программу целиком. Возможно, Витте был вдохнов¬
лен идеей общества, основанного на образовании и частной собственности,
которое должно будет включать в себя и евреев. Но он также понимал, что для
того чтобы разрядить революционную ситуацию, необходимо было пойти на
значительные уступки евреям 28. В этом его могла убедить пропагандистская
кампания Союза для достижения полноправия еврейского народа и различ¬
ных организаций российской интеллигенции.
Кроме обещания равных прав, пребывание Витте на посту премьер-ми¬
нистра 29 принесло мало улучшений. Указ от 24 ноября 1905 г. сделал 100 ма¬
леньких городков на юге открытыми для еврейского поселения. Акционерные
компании с большинством еврейских пайщиков или с евреями на руководя¬
щих позициях получили почти неограниченные права на покупку земли за
пределами черты оседлости. Витте удалось предотвратить выселение «неле¬
гальных» евреев из Киева. В университетах больше не применялась процент¬
ная квота, но решение формально отказаться от нее было отвергнуто импера¬
тором, который фактически запретил министрам вновь касаться «еврейского
вопроса». Казалось, что эта тема продолжала время от времени беспокоить
Витте, но этот человек (вероятно, самый современный из всех царских ми¬
нистров), по крайней мере в своих заявлениях ad hoc, продолжал мыслить в
категориях привилегий, которые нужно было заработать, а не в соответствии
с концепцией неотчуждаемых прав. Возможно, он верил, что во власти еврей¬
ских банкиров или их представителей было остановить еврейских революци¬
онеров. Витте фактически не осмеливался более предлагать значительные из¬
менения в антиеврейском законодательстве. Обсуждая в апреле 1906 г. проект
Основных государственных законов, он даже защищал статью, сохранявшую
в силе существовавшие ограничения на право жительства.
Одной из причин осторожности Витте была волна кровавых погромов,
спровоцированная Октябрьским манифестом. Они не были организованы
центральной властью или ее ветвями — ничто не могло бы быть более против¬
но интересам Витте и его расположенного к реформам кабинета. Известно,
что среди зачинщиков погромов были отдельные местные чиновники и поли¬
цейские, а начальники полиции и армейские офицеры часто смотрели сквозь
/54/
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
пальцы на происходящее; немало было и таких, которые позволяли или даже
приказывали своим подчиненным принять сторону погромщиков, особенно
в тех районах, где силы безопасности были деморализованы революционным
терроризмом, который привел к многочисленным жертвам в их рядах. Од¬
нако многие другие чиновники и офицеры всерьез пытались остановить по¬
громы. То же происходило и в среде христианского духовенства: некоторые
священники поощряли погромщиков, но все же часто, хотя и безрезультатно,
они пытались успокоить свою паству. Простые обыватели или местные обще¬
ственные фигуры, взявшие на себя роль агитаторов, зачастую интерпретиро¬
вали Манифест — среди прочего — не как дарование равных прав евреям, но
как наступление эры их правления. Как и в Западной Европе 2—3 поколения
назад, антиеврейские чувства вылились в погромы тогда, когда принятие рав¬
ных прав для евреев казалось неизбежным. В большинстве случаев погромы,
начавшиеся сразу же после объявления Манифеста, происходили вслед за
столкновениями между революционными демонстрациями и верноподдани¬
ческими контрдемонстрациями. Таким образом, погромы были проявлением
той фазы революции, когда общественное противостояние иногда переходит
в гражданскую войну 30. Нет сомнения и в том, что с обеих сторон действова¬
ли провокаторы. Это быта крайне тяжелая ситуация для правительства, почти
потерявшего контроль над своими подданными.
В организации погромов на местах могли сыграть определенную роль
некоторые группировки, принадлежавшие правому крылу, например «Союз
русского народа», но на тот момент не существовало никакой всероссийской
организации, которая координировала бы деятельность такого рода, и даже
многие местные группировки совершенно не соответствовали той конспира¬
тивной роли, которую им часто приписывали 31. Их влияние на события ок¬
тября 1905 г. не было решающим, и скорее всего именно грубая сила, про¬
явившаяся в погромах, способствовала формированию организаций право¬
го толка, а не наоборот. Правда, М.С. Комиссаров, чиновник Министерства
внутренних дел, печатал листовки, призывавшие к погрому, и распространял
их при помощи правых группировок. Но это было уже после погромов, и к
тому же эти листовки призывали также и к убийству «подручного евреев»
Витте. Когда об этой деятельности стало известно премьер-министру, он не¬
медленно положил ей конец, хотя и не смог довести дело до суда, так как в
глубине души император приветствовал погромы. «Масса преданных людей
воспряла», — писал он матери 32. Витте все же сумел провести расследование
наиболее крупных погромов. Полученные сведения просочились в прессу и
вызвали огромный скандал, но наказать виновных оказалось крайне трудно.
Когда Витте уже оставил пост премьер-министра, император помиловал всех
тех, кто не выполнил свой долг по прекращению погромов, и даже тех, кто
был осужден за прямое участие в них.
/55/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Рынок в Ковеле Волынской губ. С немецкой открытки 1916—1918 гг. Joseph and Margit Hoffman
Judaica Postcard Collection, Folklore Research Center, H ebrew University of Jerusalem
При таких обстоятельствах ни Витте, ни Столыпин (министр внутренних
дел после отставки Витте в апреле 1906 г. и премьер-министр с осени того же
года ) не могли ничего сделать, чтобы предотвратить сравнительно немного¬
численные погромы, произошедшие в апреле 1906 — конце 1907 г. Некоторые
из этих погромов были чрезвычайно кровавыми, так как в них в полной мере
оказались вовлечены войска и полиция, — как это произошло, например, в
Белостоке уже во время министерства Столыпина. Правые круги, особенно
«Союз русского народа», пользовались при дворе исключительной симпати¬
ей. Император поддерживал местных радикальных лидеров правого крыла,
часто людей весьма сомнительной репутации, посылая им фотографии с соб¬
ственноручной подписью, и вокруг этих изображений развился настоящий
культ 33. Отмеченные монаршей благосклонностью лидеры были практически
неприкосновенны. Даже могущественный премьер-министр не всегда мог за¬
щитить своих чиновников, когда те, выполняя его распоряжения, возбужда¬
ли недовольство монарха и его клики. В одном из своих интервью Столыпин
определил эту ситуацию как «государство в государстве».
1-я и 2-я Государственные думы не много могли сделать для успокоения
страны — и, конечно, ничего не могли противопоставить опасности погро¬
мов. Обе они были вскоре распущены императором, так как тот считал их че¬
ресчур радикальными. Открытие, сделанное 1-й Думой, что погромные ли-
/56/
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
Улица в Олыке Волынской губ. Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912-1914 гг.
Из собрания центра «Петербургская иудаика»
стовки были напечатаны Министерством внутренних дел, вызвало широкий
общественный резонанс; обвинения, прозвучавшие в адрес правительства
и — косвенно — монарха, сыграли значительную роль в дискредитации обо¬
их. Погром в Белостоке также стал предметом расследования членами Думы,
и его результаты были оглашены на пленуме 34. И 1-я, и 2-я Думы потратили на
«еврейский вопрос» больше времени, чем на какой-либо другой предмет. Вы¬
несенный на парламентское обсуждение законопроект, который предоставлял
евреям равные права, мог пройти в любой из двух Дум, если бы на это отвели
требуемое время. Но именно этот факт и ускорил их роспуск 35. К несчастью,
консервативные и реакционные круги оказались достаточно сильны для того,
чтобы торпедировать деятельность Думы и воздействовать на глобальное из¬
менение внутреннего политического баланса: 3 июня 1907 г. была распущена
2-я Дума и объявлен новый закон о выборах, значительно уменьшивший пред¬
ставительство низших классов (особенно рабочего класса) и нерусских наци¬
ональностей и заметно увеличивший выборный вес русского меньшинства на
этнически нерусских территориях. Государственный переворот 3 июня 1907 г.
был попыткой нового премьер-министра спасти конституционный порядок
и от правых, и от левых. Но и 3-я и 4-я Государственные думы принадлежали
скорее правому крылу; они становились не просто националистическими, но
даже шовинистическими по своему характеру. После политического кризиса
/57/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
1909 г., возникшего из-за разногласий по поводу границ думских полномо¬
чий и прерогатив императора, не прошел ни один важный реформаторский
закон, который не включал бы в себя серьезную меру дискриминации нерус¬
ских национальностей 36. В результате реформы периода октября 1905—1907 гг.
не принесли ощутимых перемен для евреев. И все же новые свободы в отно¬
шении организаций позволили развиться весьма успешной системе еврейских
товариществ и способствовали процветанию разных видов еврейских обществ
самопомощи 37.
Вместе с тем П.А. Столыпин пытался отменить некоторые наиболее
тягостные элементы дискриминационного законодательства в отноше¬
нии евреев. Когда он обратился за политической поддержкой во 2-ю Думу,
А.И. Гучков, лидер октябристов, посоветовал ему упразднить черту оседло¬
сти. Хотя император объявил это предложение неприемлемым, так как оно
будет расценено как слабость и повлечет за собой погромы, Совет министров
предложил ряд конкретных мер по облегчению положения евреев: «Майские
правила» следует объявить недействительными; «привилегированным» ев¬
реям, включая ремесленников, следует разрешить проживать в Киеве, Ялте
и некоторых других ранее закрытых городах; евреям-ремесленникам и дру¬
гим привилегированным категориям, поселившимся за пределами черты
оседлости, по прошествии некоторого времени следует давать безусловное
право жительства, даже если они оставили свою первоначальную профес¬
сию; коллективная ответственность еврейских семей за тех, кто уклоняет¬
ся от призыва, должна быть отменена, а процесс аренды земли еврейскими
акционерными товариществами или предприятиями должен быть либера¬
лизован. Как позднее Столыпин объяснял императору, он хотел дать Думе
возможность вообще не касаться больше «еврейского вопроса». Эти планы
повлекли за собой потоки резолюций и телеграмм к императору от правых
организаций, прежде всего от одной из самых влиятельных реакционных
групп — «Объединенного дворянства». Составители этих обращений объ¬
являли евреев главными виновников недавней «анархии» и утверждали, что
их главной целью является не равенство, а власть. Император, находивший
поддержку своему усиливавшемуся мистическому настрою в библейском
стихе «Сердце царя — в руке Господа», отклонил предложения Столыпина.
Тем не менее непосредственно перед роспуском 2-й Думы Столыпин издал
циркуляр, который запрещал выселять евреев, незаконно поселившихся за
пределами черты оседлости, если до августа 1906 г. они обзавелись там до¬
машним хозяйством, не подрывают общественный порядок и не вызывают
неудовольствия населения. Этот циркуляр встретил враждебную реакцию со
стороны правого крыла Думы в 1908 и 1910 г.38
Общая перестановка сил в Государственной думе в 1909 г., связанная с
созданием Русской национальной фракции (к чему, вероятно, приложил руку
/58/
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
Столыпин), привела к дальнейшему смещению центра тяжести вправо. Прав¬
да, на первых порах Столыпин продолжал думать о том, чтобы вернуть евреям
право голоса на городских выборах, и он не дал своим коллегам ввести новые
антиеврейские меры. Закон об управлении городов в Царстве Польском (1911)
был дискриминационным, но он давал евреям право голоса, которым они не
владели в других частях империи. Столыпин пытался подавить открытую по¬
громную агитацию и слишком яростную антиеврейскую пропаганду, кто бы
ни занимался ею — правые партии или сумасбродные церковники. Един¬
ственная новая дискриминационная мера в отношении евреев в этот период
была принята министром образования: в 1911 г. процентная норма была рас¬
пространена на так называемых экстернов. Так как возможностью окончить
курс гимназии экстерном пользовались почти исключительно евреи, введе¬
ние процентной нормы практически закрывало для них этот путь в высшие
учебные заведения империи.
Впрочем, в одном отношении Столыпин оставался непримирим: евреи не
должны были играть важную роль в сельских районах. Все новые проекты ре¬
форм, касавшиеся деревни, подразумевали, что евреи не смогут пользоваться
их плодами. В 1911 г., представляя законопроект о земствах в западных губер¬
ниях, который вводил сельское самоуправление в этот регион, Столыпин объ¬
явил исключение из него евреев актом самозащиты русского народа. Впро¬
чем, это было лишь продолжением давно установившейся политики, которая
была усилена страхом перед последствиями столыпинских аграрных реформ.
Радикальные правые силы, особенно в составе «Союза русского народа», от¬
вергали эти реформы, так как опасались кулаков, рассматривавшихся ими в
качестве еврейского социального типа и оплота внушавшего им ужас консти¬
туционализма и буржуазного порядка. А потому, с их точки зрения, евреев и
некрестьян (особенно юристов, судей и интеллигентов) и близко нельзя было
подпускать к деревне.
Возможно, превращение крестьянства в экономически сильный класс
фермеров лишило бы дискриминационное законодательство в отношении
евреев всякого оправдания. Новый фермерский класс мог бы стать главной
опорой той России, которую представлял себе Столыпин. Но как раз такая
перспектива встретила жесткую оппозицию в лице крайне правых: они пони¬
мали, что это приведет к экономической маргинализации владевших землей
дворян и сделает их существование ненужным. Россия после 3 июня 1907 г. не
способна была разрешить это противоречие. Потому не могло быть ни после¬
довательно модернистской, ни последовательно реакционной и антисемит¬
ской политики.
После смерти Столыпина правительственные органы с удвоенной силой
заработали в ином направлении. Отдельные министры и губернаторы счита¬
ли возможным свободно проявлять свои антисемитские предрассудки. Пра¬
/59/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
вые организации, особенно «Союз русского народа», называли обсуждение
Думой вопроса об отмене черты оседлости провокацией (этот вопрос вскоре
был похоронен в Комиссии о неприкосновенности личности). Министерство
внутренних дел и Министерство юстиции поддерживали радикально правые
организации как финансово, так и другими способами (император делал это
тайно), и они усилили свою антиеврейскую агитацию. На 7-м съезде «Объ¬
единенного дворянства» правый политик Н.Е. Марков объявил, что Россия
находится в состоянии войны с евреями и что отмена черты оседлости равно¬
значна объявлению второй русской революции, так как каждый еврей — рево¬
люционер. В этом контексте лидеры правого крыла превратили простое дело
об убийстве в криминальном квартале в Киеве в кровавый навет. В этом они
пользовались активной поддержкой Министерства внутренних дел и Мини¬
стерства юстиции с печально известным Иваном Щегловитовым во главе.
Судебный процесс по обвинению киевского приказчика Менахема Бей¬
лиса в ритуальном убийстве состоялся в Киеве в сентябре 1913 г. Мотивы это¬
го средневекового фарса лучше всего можно уяснить себе из речи прокурора,
который, вероятно, хорошо знал цели Щегловитова:
...действительно, выступать против евреев — значит вызвать упрек, что вы
или черносотенец, или мракобес, или реакционер, не верящий в прогресс, и т. д.
Евреи до такой степени уверены, что захватили в свои руки главный рычаг обще¬
ственности — прессу, что думают, что никто уже не посмеет возбудить против них
такое обвинение... И до некоторой степени они правы: в их руках, главным об¬
разом, капитал, и хотя юридически они бесправны, но фактически они владеют
нашим миром.... И поэтому, когда Бейлис был привлечен, они были изумлены:
что такое сделали с Бейлисом, как смели судить ритуального преступника в ту
эпоху, когда существует Государственная Дума, когда начнутся разговоры и когда
могут привлечь к ответственности ряд правительственных лиц. Но правительство
посмело, и Бейлис был привлечен.
Вероятно, министр юстиции не верил в обвинение в ритуальном убий¬
стве. Для него процесс был делом принципа, последней попыткой найти об¬
щую идею, которая поможет сплотить рады монархистов. Он и его правые
соратники смотрели в будущее с малой надеждой на лучшее; у них не было
надежного, универсального исторического подхода, который обещал бы успех
их планам. Антисемитизм и представление о всемирном зле, главными носи¬
телями которого являются евреи, были для них единственными средствами
объяснения окружающего мира, недоступного их пониманию и контролю.
Дело Бейлиса был одновременно проверкой того, как далеко может увести
антисемитский миф, и актом самоутверждения 39. В обоих этих отношениях
оно стало провалом правых сил.
/60/
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
Сам император, охваченный религиозным мистицизмом, был глух к ра¬
циональным доводам; он верил вердикту суда, что ритуальное убийство дей¬
ствительно имело место, хотя и приветствовал оправдание Бейлиса. От него
нельзя было ожидать какого-либо противодействия махинациям министра
юстиции. Премьер-министр В.Н. Коковцов не мог и не хотел что-либо пред¬
принять против действий своего могущественного коллеги; впрочем, его раз¬
ногласия с членами правительства были настолько велики, что после его от¬
ставки острый на язык журналист смог написать, что он по большинству во¬
просов находился в оппозиции к своему собственному кабинету.
Этот период принес евреям много несчастий, и двусмысленный вердикт
присяжных по делу Бейлиса принес лишь небольшое облегчение. Тысячи
людей были выселены из районов за пределами черты оседлости, хотя боль¬
шинство из них имело право проживать там. Для того чтобы обеспечить еще
более правый состав следующей (4-й) Государственной думы, правящие круги
под различными предлогами лишили права голоса многочисленные группы
евреев внутри и за пределами черты оседлости. Еврейская экономическая де¬
ятельность была вновь ограничена бесчисленными деспотическими мерами,
принимавшимися на местах, и ужесточавшимися новыми декретами — среди
них был запрет на владение или аренду земли евреями и их акционерными
товариществами. Это было выражением совершенно новой экономической
политики, которая якобы должна была поддержать простых людей и ограни¬
чить влияние банков и дельцов большого бизнеса, то есть еврейских экономи¬
ческих учреждений. На еврейские школы оказывалось невероятное давление.
Многие были закрыты по подозрению в сионизме — часто с подачи ортодок¬
сальных раввинов. Правые радикалы 4-й Думы внесли законодательное пред¬
ложение о запрете шхиты (ритуального убоя скота). Целью этой инициативы
объявлялось предотвращение жестокости по отношению к животным, но, как
становится совершенно ясно из письменного пояснения, предлагаемый закон
должен был подорвать основы еврейской общины и разрушить ее финансо¬
вый базис.
Процесс Бейлиса, отставка премьер-министра Коковцова, введение но¬
вой экономической политики, направленной на уменьшение влияния евреев
и экономических структур «еврейского типа», — все это было частью общей
политики, проводившейся силами правого крыла в правительстве и Государ¬
ственной думе, которые хотели аннулировать главные достижения октября
1905 г. и восстановить прежнюю самодержавную роль императора. Более того,
во время процесса Бейлиса новый министр внутренних дел Н.А. Маклаков,
вероятно следуя пожеланиям Николая И, попытался превратить Думу, зако¬
нодательную палату, без чьего согласия нельзя было принять ни один закон,
в простой совещательный орган. Это был бы фактически государственный
переворот сверху. Но на сей раз даже самые консервативные министры от-
/61/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
казались вступить на этот опасный путь40. Нелегкая патовая ситуация в от¬
ношениях между различными политическими силами, проявившаяся в ходе
дела Бейлиса и политических интриг вокруг него, разрешилась Февральской
революцией, которая принесла евреям равные права.
Перевод с английского Дильшат Харман
1 Это продемонстрировано с проведением детального анализа законодательных
процессов в книге: Whelan Heide С.. Alexander III and the State Council: Bureaucracy and
Counter-Reform in late Imperial Russia. 1982; характеристику правящего режима см. в
книге: Zaionchkovskii Р. A. The Russian Autocracy under Alexander III. Gulf Breeze Fl.,
1976.
2 Так говорится, правда без связи с евреями, в: Пазухин Д.А. Современное состо¬
яние России и сословный вопрос // Русский вестник. 1885. № 1. С. 8, 16, 52; отд. из¬
дание — М., 1886. Для большинства российских консерваторов такую связь не нужно
было проводить — она подразумевалась сама собой.
3 О развитии этой формы антикапиталистического и антимодернизационного
антисемитизма см. Löwe H.-D. The Tsars and the Jews. Reform, Reaction and Anti-Semi¬
tism in Imperial Russia 1772-1817. Chur, 1993.
4 Термин был введен Бенджамином Натансом (Nathans Benjamin. Beyond the Pale.
The Jewish Encounter with Late Imperial Russia. Berkeley Cal., 2002). Эта избирательная
интеграция в основном касалась выпускников университетов и купцов 1-й гильдии, то
есть самых образованных и богатых слоев населения.
5 Написано во второй половине 1870-х гг., см. в: Письма Н.И. Ильминского к
обер-прокурору Синода К.Р. Победоносцеву. Казань, 1895. С. 263.
6 Джон Клиер определил эти представления как «оккультная юдофобия», см.:
Klier John. Imperial Russia’s Jewish Question 1855-1881. Cambridge University Press, 1995.
P. 41-449.
7 Современные историки не считают, что здесь имел место какой-либо заранее
спланированный заговор, тем более идущий сверху; напротив, погромы носили ярко
выраженный спонтанный характер. Об этом см.: Aronson I. М. Troubled Waters. The Ori¬
gins of the 1881 Anti-Jewish Pogroms in Russia. Pittsburgh Pa., 1990; Idem, The anti-Jewish
pogroms of 1881—1884 // Klier John D., Lambroza Shmuel (eds.). Pogroms. Anti-Jewish Vio¬
lence in Modem Russian History. Cambridge University Press, 1992. P. 44—61; интерпре¬
тации и краткий обзор можно найти также в: Löwe. The Tsars and the Jews. P. 55-62.
Первым тезис предумышленного заговора отверг Ханс Роггер (Rogger Hans. The Jewish
Policy of Late Tsarism: A Reappraisal // Wiener Library Bulletin. 3. 1973, воспроизведено:
Idem, Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Basingstoke, London, 1986.
P. 25ff.).
8 Пудалов Б.М. Евреи в Нижнем Новгороде. Н. Новгород, 1998. С. 49—59.
9 Эта инструкция опубликована в: Гессен Ю. Граф Н.П. Игнатьев и «временные
правила» о евреях 3 мая 1882 года // Право. 1908. № 31, 32.
10 Об этих комитетах см.: Löwe. The Tsars and the Jews. P. 67-70; также Aronson I.
M. Russian Commissions on the Jewish Question in the 1880s // East European Quarterly.
/62/
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
14. 1980; социальные изменения, принесенные новыми формами капиталистической
торговли и производства, возможно, были одной из причин погромов 1880-х гг. (см.
Löwe H.-D. Pogroms in Russia: Explanations, Comparisons, Suggestions // Jewish Social
Studies 11. 2004. No. 1. P. 16-23).
11 По выражению Ханса Роггера (Rogger Hans. Russian Ministers and the Jewish
Question. P. 20, воспроизведено в: Jewish policies. P. 61; см. также P. 59-62; также Löwe.
The Tsars and the Jews. P. 63-66).
12 Разыскания этой комиссии были опубликованы только для внутреннего поль¬
зования. Копия находится в Бодлеанской библиотеке Оксфорда. См. «Общая записка
высшей комиссии для пересмотра действующих о евреях в империи законах (1883—
1888), СПб., 1888». Для справки см. также: Aronson I.M. The Attitude of Russian Officials
in the 1880s toward Jewish assimilation and Emigration // Slavic Review 34. 1975. P. 1—18.
13 Дневник E.A. Перетца (1880-1883). M.; Л., 1927. С. 133.
14 О Победоносцеве см.: Byrnes R. Pobedonostsev. His Life and Thought. Blooming¬
ton. London, 1968. P. 205f., 301f., 331; также Rogger. Russian Ministers and the Jewish Ques¬
tion. P. 67f.
15 Доклад Л.М. Брамсона «Еврейское профессиональное образование в прошлом
и настоящем». Б.м. Б.д. С. 67.
16 Мусульман вскоре стали принимать снова, но для евреев это постановление
оставалось в силе вплоть до 1904 г. Впрочем, после пяти лет работы в качестве помощ¬
ников присяжных поверенных евреи тоже получали право вести дела самостоятельно.
См. Kucherov S. Jews in the Russian Bar // B. Frumkin (ed.). Russian Jewry 1860-1917. New
York, 1966; по вопросам фона и дальнейшего развития см. Nathans. Beyond the Pale, p.
340ff; Baberowsky J. Juden und Antisemiten in der russischen Rechtsanwaltschaft 1869—1917
// Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas. 43. 1995. P. 493- 518.
17 Подробности см.: Rogger. Russian Ministers and the Jewish Question. P. 68—70;
Löwe. The Tsars and the Jews. P. 70-76; Купцы // Еврейская энциклопедия. СПб., 1909-.
Т. 9. Кл. 919—922; право жить за пределами черты оседлости было первые десять лет
условным даже для них. Если по каким-либо причинам им приходилось выйти из 1-й
купеческой гильдии до истечения десятилетнего срока, то они должны были вернуть¬
ся в черту оседлости. После 10 лет они могли жить лишь там, где зарегистрировались.
18 Познер С.В. Евреи в общей школе: К истории законодательства и правитель¬
ственной политики в области еврейскаго вопроса. СПб., 1912 — цитата из циркуляра
И.Д. Делянова на с. 51.
19 Alston Р. Education and the State in Tsarist Russia. Stanford, 1969. P. 121-123; John¬
son P. M. I. D. Delianov and Russian Educational Policy. PhD dissertation. Emory University,
1977. P. 133—136, 187-191; Hausmann G. Der Numerus clausus fur jüdische Studenten im
Zarenreich // Jbb. für Geschichte Osteuropas. 4L 1993; Löwe. The Tsars and the Jews. P.
74-76.
20 О так называемой системе Витте см. Löwe Н. D. Von der Industrialisierung zur er¬
sten Revolution, 1890-1904 // Schramm G. a.o. (eds.). Handbuch der Geschichte Rußlands.
Stuttgart, 1981. P. 213ff.
21 Впервые эта идея получила развитие в: Löwe. Antisemitismus und reaktionäre
Utopie. P. 17ff, 40ff.; cf. Idem. The Tsars and the Jews, p. 103ff.
22 Löwe. The Tsars and the Jews. P. 112—128.
/63/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
23 См. об этом погроме: Judge Е.Н. Easter in Kishinev: Anatomy of a Pogrom. N. Y.,
1992.
24 О погромах в Кишиневе и Гомеле и их политическом контексте см: Löwe. The
Tsars and the Jews, 147-159; о погромах как таковых см. Lambroza Sh. The pogroms of
1903-1906 // Klier, Lambroza (eds.). Pogroms. P. 195ff.
25 В 1904 г. в их число по всей империи было принято 45 евреев, в 1905 — 189, в
1906 - 109, в 1907 - 62, в 1908 - 55, в 1909 - 45 (Nathans. Beyond the Pale. P. 361).
26 Gassenschmidt C. Jewish Liberal Politics in Tsarist Russia, 1900—1914. Basingstoke;
London, 1995; Кельнер С. Союз для достижения полноправия еврейского народа в Рос¬
сии // Из глубины времен. 7. 1996. С. 3-14; о роли русской интеллигенции в револю¬
ции 1905 г. см: Löwe Н. D. Die Rolle der Intelligenz in der ersten russischen Revolution //
Forschungen zur Geschichte Osteuropas. 32. 1983. P. 229—255.
27 К истории Манифеста 17 октября 1906 г. //Былое. 1919. №14. С. 110—111.
28 Löwe. The Tsar and the Jews. P. 199-202.
29 О пребывании Витте на посту премьер-министра см.: Mehlinger Н. D., Thomp¬
son J.M. Count Witte and the Tsarist Government in the 1905 Revolution. Bloomington; Lon¬
don, 1972.
30 Cm.: Löwe. The Tsars and the Jews. P. 206—221; Lambroza. The Pogroms of 1903—
1906 // Klier, Lambroza (eds.). Pogroms. P. 226-242; Weinberg R. The pogrom of 1905 in
Odessa: A Case Study // Ibidem P. 248ff.; Idem. The Revolution 1905 in Odessa: Blood on the
Steps. Bloomington, 1993.
31 Rogger Hans. The Formation of the Russia Right // Idem, Jewish Policies. P 188f;
Rawson D. C. Russian Rightists and the revolution of 1905. Cambridge, 1995.
32 Переписка Николая II и Марии Федоровны // Красный архив. 1927. Т. 3. С. 169.
33 См. об этом: Löwe H.-D.. Symbols and Rituals of the Radical Russian Right, 1900-
1917 // Slavic and East European Review. 76.1998. P 441—466; Harcave. S. The Jewish Ques¬
tion in the First Russian Duma // Jewish Social Studies. 6. 1944. P. 155—176.
34 Harcave S. The Jewish Question in the First Russian Duma // Jewish Social Studies.
6. 1944. P. 155-176.
35 Galai Sh. The Jewish Question as a Russian Problem: The Debates in the First State
Duma // Revolutionary Russia. 17. 2004. No. 1. P. 31—38.
36 Hosking G. The Russian Constitutional Experiment, 1907—1914. Cambridge, 1973.
37 Löwe H.-D. From Charity to Social Policy: The Emergence of Jewish Self-Help Or¬
ganizations, 1800—1917 // East European Jewish Affairs. 27. 1997. No. 2. P. 53—76; Gassen¬
schmidt. Jewish Liberal Politics.
38 Подробно о непоследовательности Столыпина см.: Löwe. The Tsars and the Jews.
P. 251—258; Rogger. Russian Ministers. P. 91-96.
39 Здесь мы в основном следуем замечательной статье Ханса Роггера: Rogger Hans.
The Beilis Case: Anti-Semitism and Politics in the Reign of Nicholas II // Idem, Jewish Pol¬
cies, особенно p. 51 и далее; о политическом фоне во время процесса см.: Löwe. The
Tsar and the Jews. P. 284 и далее; другую интерпретацию процесса и его политического
контекста можно узнать из книги, предлагающей массу интересного материала, но не¬
сколько устаревшей: Тагер А.С. Царская Россия и дело Бейлиса: К истории антисеми¬
тизма. М., 1933 (перепечатка: изд. Гешарим: М., Иерусалим, 1995).
40 См. об этом Löwe. The Tsars and the Jews. P. 290-302.
/64/
1.2 / ОТ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ДИСКРИМИНАЦИИ...
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Барталь И. От общины к нации. Евреи Восточной Европы в 1772-1881 гг. М.,
Иерусалим, 2007.
Гессен Ю. Граф Н.П. Игнатьев и «временные правила» о евреях 3 мая 1882 г. //
Право. № 31, 32. 1908.
Книга о русском еврействе. От 1860-х годов до революции 1917 г. Нью-Йорк, 1960.
(Перепечатано: М., Иерусалим: изд-во Гешарим, 2002).
Натанс Б. За чертой. Евреи встречаются с позднеимперской Россией. М., 2007.
Познер С.В. Евреи в общей школе: К истории законодательства и правительствен¬
ной политики в области еврейскаго вопроса. СПб., 1912.
Тагер А.С. Царская Россия и дело Бейлиса. К истории антисемитизма. М., 1933.
(Перепечатано: М., Иерусалим: изд-во Гешарим, 1995).
Aronson I.M. Russian Commissions on the Jewish Question in the 1880s // East Euro¬
pean Quarterly. 1980. 14.
Aronson I.M. Troubled Waters. The Origins of the 1881 Anti-Jewish Pogroms in Russia.
Pittsburgh, 1990.
Aronson I.M. The Attitude of Russian Officials in the 1880s toward Jewish assimilation
and Emigration// Slavic Review. 1975. 34. P. 1-18.
Baberowsky J. Juden und Antisemiten in der russischen Rechtsanwaltschaft 1869—1917
//Jahrbücher fur die Geschichte Osteuropas. 1995. 43. P. 493-518.
Berk, Stephen: Year of Crisis, Year of Hope: Russian Jews and the Pogroms of 1881-82.
Westport, Conn. 1985.
Galai Sh. The Jewish Question as a Russian Problem: The Debates in the First State
Duma // Revolutionary Russia 17, 2004. No. 1. P. 31-38.
Hausmann G. Der Numerus clausus fur jüdische Studenten im Zarenreich // Jbb. für
Geschichte Osteuropas. 1993. 41. P. 509-531.
Judge E.H. Easter in Kishinev: Anatomy of a Pogrom. New York, 1992.
Pogroms. Anti-Jewish Violence in Modem Russian History / Klier J.D., Lambroza Sh.
(eds.). Cambridge, 1992.
Löwe H.-D. Poles, Jews and Tartars. Religion, Ethnicity, and Social Structure in Tsarist
Nationality Policies, in: Jewish Social Studies, n. s. 6, 2000, no. 3, p. 52—96.
Löwe H.-D. The Tsars and the Jews. Reform, Reaction and Anti-Semitism in Imperial
Russia 1772-1817, Chur 1993.
Rogger H. Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Basingstoke; Lon¬
don, 1986.
Samuel M. Blood Accusation. The Strange History of the Beilis Case. London, 1967.
1.3
ЕВРЕИ И АРМИЯ:
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ1
Йоханан Петровский-Штерн
огда в 1790-е гг. с революционной трибуны Национального со¬
брания Франции аббат Грегуар (1750—1831) призывал ввести
полное равноправие для евреев и привлечь их, в библейском
прошлом — бесстрашных воинов, на воинскую службу, он опи¬
рался на аргументы, высказанные десятью годами ранее не¬
мецким политическим мыслителем Христианом Вильгельмом фон Домом
(1751—1820)2. Дом считал, что евреи, ростовщики и торговцы, — «испорчен¬
ный» народ, но «испортили» их своей нетерпимостью христиане, превратив
евреев в общественных изгоев. Просветительские идеалы, по мнению Дома,
требуют от христиан трансформировать евреев в «полезных» субъектов обще¬
ства, предоставив им равные со всеми права и возложив на них равные со все¬
ми обязанности 3. То, что интеграция евреев и предоставление им равнопра¬
вия связаны с исполнением ими «полезного» воинского долга, было очевидно
уже австрийскому императору Иосифу II (1741—1790, император Священной
Римской империи с 1765, австрийский эрцгерцог с 1780), который в 1782 г.
начал решительную образовательную, бюрократическую и лингвистическую
реформу евреев Габсбургской империи, а в 1788 г. лично распорядился призы¬
вать евреев в армию — в транспортную службу и в пехоту. В 1808 г., через 17 лет
после эмансипации евреев во Франции, император Наполеон I установил для
них обязательную воинскую повинность, которая в скором времени переста¬
ла быть тягостным бременем и превратилась в осознанный патриотический
долг. В Пруссии Фридрих Вильгельм III (1770—1840, король с 1797 г.) указом
от 1813 г. также распространил на евреев воинскую повинность — как одно из
обязательных условий их постепенной интеграции в прусское общество. Та¬
/66/
1.3 / ЕВРЕИ И АРМИЯ
ким образом, призыв евреев на военную службу в Пруссии, Австрии и Фран¬
ции, а впоследствии и в Италии сопровождался уравниванием их в правах с
остальным населением 4.
Начиная с Екатерины II в России, сохранявшей до конца XIX в. статус
сословной империи, еврейская политика строилась на интеграционной (а не
на эмансипационной) модели. В полном соответствии с европейским (точ¬
нее, прусско-австрийским) «просвещенным абсолютизмом» на захваченных у
Польши территориях было легализовано еврейское присутствие, евреи были
интегрированы в городские сословия (мещанское и купеческое), им было по¬
зволено заселять ранее для них закрытые территории (Новороссийский край),
при этом за ними сохранялись общинные привилегии 5. Интеграция была важ¬
ным шагом на пути к равноправию, и даже российские маскилы, много более
консервативные, чем их берлинские единомышленники, полагали, что служ¬
ба в армии — важная веха на этом пути 6.
В отличие от своих европейских коллег Николай I считал, что равнопра¬
вие и исполнение воинского долга — понятия не только не взаимосвязанные,
но, быть может, даже противоположные. Первое, французского происхож¬
дения, с николаевской точки зрения, было чревато декабристским бунтом,
страх перед которым преследовал Николая в течение всего его царствования.
Второе, особенно в его прусско-австрийском изводе, представлялось Ни¬
колаю занятием вполне «полезным». Действительно, Николай I, как свиде¬
тельствуют его биографы, не отличался широтой мышления и терпеть не мог
«философствования»: Просвещение для него было бранным словом, точно
так же как и равноправие (знаменательно, что он называл его «бесполезной ил¬
люзией»). Зато, отличный тактик и практик, он ухватил главную, как ему по¬
казалось, мысль, заложенную в «еврейском» законодательстве просвещенных
монархов и политиков: евреи — народ «испорченный», но их можно и нужно
превратить в «полезных» подданных. В некотором смысле Николай в гораздо
большей степени продолжал дело своих прусских духовных наставников, чем
своего предшественника на российском троне, — тем более, что с его точки
зрения республиканские «иллюзии», царившие в обществе и приведшие к ка¬
тастрофе 14 декабря 1825 г., были прямым результатом неумелого царствова¬
ния Александра I. Восторженный поклонник прусских военачальников — та¬
ких реформаторов военного дела, как Герхардт фон Шарнхорст (1755—1813),
считавший армию воплощением Nützlichkeit (полезности), все возникавшие
в империи проблемы, как, например, искоренение «бесполезных иллюзий»
либо приобщение евреев к «полезной» деятельности, Николай решал через
армию, «полезный» во всех отношениях государственный институт 7. 26 авгу¬
ста 1827 г. Николай решил приступить к преобразованию империи с помощью
этого института. Он уволил предыдущего военного министра, назначил ново¬
го, принял решение о первом за три года наборе в армию, ввел новую уни¬
/67/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
форму для сотрудников министерств и надел униформу на евреев — подписал
устав рекрутской повинности 8. И хотя эти меры, утвержденные в течение не¬
скольких часов, были не обязательно связаны между собой, они органично
вписывались в идеологию николаевского утилитаризма, государственной
«полезности», впоследствии названной «казарменным просвещением».
Распространив на евреев воинскую повинность, Николай перешел от ле¬
гализации еврейского присутствия в империи и интеграции евреев в город¬
ские сословия к решительному огосударствлению евреев путем превращения
их в «полезных» подданных Его Императорского Величества. Таким образом,
военная служба оказалась первой последовательной формой еврейской инте¬
грации в России, одним из проявлений процесса, который Бенджамин Натанс
на более позднем материале назвал «избирательной интеграцией» 9. Николай
был уверен, что в армии «паразитические» евреи черты оседлости приобретут
полезные навыки, научатся ремеслу и станут его послушными подданными. И
если во всей остальной Европе служба в армии вводилась после отмены сред¬
невековых ограничительных еврейских законов и одновременно с повышени¬
ем социального статуса еврейского населения, в России рекрутчина оказалась
едва ли не первым и на долгие годы единственным проявлением еврейской
модернизации. Государственные русские школы для евреев возникли позже и
не имели такого общественного резонанса, как служба в армии. Начавшись не
через эмансипацию евреев, как во Франции; и не путем их социально-эконо¬
мической интеграции, как в Англии; и не через их институциональную, обра¬
зовательную и языковую интеграцию, как в Австрии, но через «казарменное»
просвещение, насильная интеграция евреев под контролем военного ведом¬
ства обусловила весь последующий ход аккультурации евреев в российское
общество. Примат еврейских «обязанностей» перед их «правами» оставался
доминирующим моментом всего процесса модернизации российских евре¬
ев — вплоть до 1917 г.
Сообщение о грядущей рекрутской повинности застало евреев черты
оседлости врасплох. Рекрутчина, представлявшаяся Николаю «преобразова¬
нием» (или, еще точнее, «полезным преобразованием») евреев в духе прусско¬
го просвещенного абсолютизма, с еврейской точки зрения была жестокой не¬
справедливостью. Действительно, на евреев Российской империи возлагалась
самая тяжкая в государстве повинность, но взамен им не предлагалось реши¬
тельно никаких прав и привилегий. Рекрутчина отменяла «денежную» повин¬
ность, до сих пор позволявшую общинам вносить в казну 500 рублей вместо
рекрута, и вводила обязательную «натуральную» повинность — то есть тре¬
бование поставлять рекрутов «натурою», живьем. Лишившись возможности
откупаться от службы, евреи, свободное податное сословие Российской им¬
перии, вдруг оказались на уровне бесправных крепостных крестьян. Неудиви¬
тельно, поэтому, что евреи воспринимали службу в армии как кару Господню,
/68/
1.3 / ЕВРЕИ И АРМИЯ
И. Пэн. Солдат старой армии. Холст, масло.
1900-е гг. Национальный художественный
музей Республики Беларусь
посланную им за неведомо какие грехи.
В ашкеназском пиетизме, особенно в
его восточноевропейском варианте,
реакция на эту «кару» принимала ха¬
рактерный теургический оборот: нака¬
зание Господне можно и нужно «иску¬
пить», вынудив Всевышнего отменить
первоначальное решение. Накануне
введения рекрутчины общинные лиде¬
ры прибегли к посредничеству хасид¬
ских цадиков, умоляя их вступиться за
евреев перед Всевышним и просить Его
об отмене «гзейры» — жестокого и, как
они считали, антиеврейского закона.
В некоторых общинах Подольской и
Киевской губерний был объявлен осо¬
бый пост, во время которого следовало
читать молитвы раскаяния (тешува),
посещать могилы ближних и трубить в
шофар. Чтобы подкупить чиновников
Еврейского комитета и отменить закон
о еврейской воинской повинности, ев¬
рейские общины тайно собирали день¬
ги по всей черте оседлости, полагая, что
либо взятка «поможет», либо пожерт¬
вование «спасет» 10.
Попытки «теургического» воздей¬
ствия на ход истории не принесли ре¬
зультата: чудо не произошло, указ был
подписан. Как отреагировали евреи на указ? Раввинские проповеди 1820-х гг.,
посвященные евреям и российской армии (сохранилось всего несколько
текстов), свидетельствуют, что еврейские общинные лидеры воспринимали
рекрутчину по-разному: для одних еврей-рекрут приравнивался к «шавуй»,
пленнику; спасение его от армии путем нанесения телесных увечий рассма¬
тривалось как «пикуах нефеш», спасение еврейской души. Для других рекру¬
ты приравнивались к «анусим», нарушающим запреты Торы под давлением
обстоятельств. Для третьих они представляли собой честных и порядочных
евреев, которых община бросила на произвол судьбы 11. В любом случае, сразу
после объявления о наборе евреев в армию, еврейские штадланы (ходатаи) са¬
мых разных губерний принялись обивать пороги военного ведомства с прось¬
бой разрешить еврейским рекрутам хоть какую-то иудейскую обрядность. Из
/69/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
этого следует, кроме всего прочего, что для общин вопрос о сохранении еврей¬
скими рекрутами своей религиозной идентичности имел первостепенное зна¬
чение. Многочисленные ходатайства возымели успех, и уже в 1829 г. Николай
подписал распоряжение об «обрядах веры», позволяющее еврейским рекру¬
там отмечать праздники и полупраздники, пользоваться услугами раввинов
и — впоследствии — иметь свои синагоги 12.
Однако в 1830-е гг. растущие рекрутские недоимки и увеличивающиеся
квоты вынуждают еврейские общины озаботиться в первую очередь самосо¬
хранением: вопрос о помощи своим единоверцам в армии отходит на третий
план. Так же как и православное население, в николаевскую эпоху евреи вос¬
принимают воинскую службу как двадцатипятилетнюю каторгу. Страх рекрут¬
чины достигает апогея накануне и во время Крымской войны, когда военное
ведомство проводит три — четыре набора в год со всей территории империи.
Именно в этот период, с 1853 по 1856 г., дабы выполнить немыслимую кво¬
ту, кагалы нанимают «хаперов» — физически крепких еврейских «ловчиков»,
которым вменяется в обязанность ловить и поставлять рекрутским участкам
еврейских новобранцев. Впоследствии в еврейской национальной памяти
впечатление о трехлетием периоде «ловчиков» наложилось едва ли не на всю
историю взаимоотношений евреев и армии в николаевский период. Вместе с
тем, чтобы понять негативное отношение евреев к исполнению воинской по¬
винности, следует рассмотреть его в общеимперском контексте — тогда ока¬
жется, что уклонение от службы, членовредительство и ненависть к армии ха¬
рактеризуют все население империи в целом, а не только евреев. Кроме того,
злоупотребления катальных старост, пренебрежение семейными льготами, а
также система отлова и насильной сдачи рекрутов (неугодных, беззащитных,
беспаспортных, бродяг и проч.) также явления, характерные для империи в
целом, а не только для еврейских общин. «Заплачки» о несправедливости ре¬
крутской службы — такой же жанр украинского фольклора, как и еврейского.
В каком-то смысле Николай «успешно» аккультурировал евреев, восприняв¬
ших рекрутскую повинность с таким же страхом и трагизмом, с каким ее вос¬
принимали и другие социоэтнические группы Российской империи.
Согласно букве Указа 1827 г., евреи были приравнены в отношении ре¬
крутской повинности к сословиям православного населения: они обязаны
были поставлять к каждому рекрутскому набору четырех человек с тысячи, в
то время как общинные раввины (но не хасидские цадики), гильдейские куп¬
цы и ремесленники пользовались такими же льготами, как и их православные
коллеги, — прежде всего правом откупаться от службы. И евреи, и христиане
должны были служить 25 лет, но за выслугу лет и беспорочную службу могли
увольняться после 18 лет службы. Для кантонистов, евреев и православных,
двадцатипятилетний срок начинался в возрасте 18 лет после распределения в
армию из кантонистских батальонов. Тем не менее, если у православных при-
/70/
1.3 / ЕВРЕИ И АРМИЯ
Памятник солдатам, погибшим при обороне
Севастополя. Воздвигнут в 1864 г.
Из собрания автора статьи
зывной возраст составлял 18—35 лет, с
евреев рекрутов брали в возрасте от 12
до 25 лет. Никакого «антисемитского»
или же «миссионерского» умысла в
этом не было. Наоборот, это различие
выявило как раз утилитарные цели Ни¬
колая: забирать в армию наиболее по¬
датливых к внешнему воздействию и
обучению, способных к адаптации и,
пользуясь языком той эпохи, к «исправ¬
лению». Кроме того, военное ведом¬
ство не предъявляло никаких дополни¬
тельных требований к распределению
по возрасту: опираясь на решение мест¬
ных кагалов («рекрутских сказок», то
есть призывных списков, у евреев тогда
еще не было), общины черты оседлости
обязаны были выполнить квоту по каж¬
дому призыву. Современные еврейские
историки (прежде всего Майкл Станис¬
лавский) вполне резонно оспаривают
расхожее мнение, согласно которому
антисемитски настроенный Николай I,
этот «русский Гаман», решил забрать у
евреев их детей, чтобы в армии всех их
окрестить 13. Евреи-«кантонисты», дети
восьми — пятнадцати лет, оказались в кантонистских учебных заведениях со¬
всем не по прихоти злобного русского царя. Устав о рекрутской службе по¬
ставил еврейские кагалы перед неразрешимой дилеммой: отправлять в армию
трудоспособных юношей и взрослых налогоплательщиков, взваливая на себя
заботу об оставленных ими семьях, либо, опираясь на букву закона, отдавать
в рекруты малолеток — без экономического ущерба для общины. В конце
1820-х — начале 1830-х гг. возобладал второй подход. Кроме того, готовя ре¬
крутские сказки, кагал намеренно включал в списки людей порочного пове¬
дения, бродяг, неимущих, сирот, всех тех, кто не мог платить налоги и был
обузой для общины. По-видимому, в списки подлежавших рекрутскому на¬
бору попадали и те, кто возмущался самоуправством кагальных старост. В то
же время финансово-экономическая и духовная элита общины, «с чада и до¬
мочадцы», успешно оберегала своих детей от рекрутского набора. В каком-
то смысле николаевская рекрутчина способствовала укреплению общинной
власти, традиционных институтов еврейского самоуправления, традицион-
/71/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Гершель Янкелевич Цам. 1900 г.
Ребенком был похищен и сдан
в кантонисты, дослужился до офицерского
звания (ушел в отставку в чине капитана).
Фотография из книги: Y. Petrovsky-Shtern.
Jews in the Russian Army, 1827-1917.
Cambridge University Press, 2009.
Предоставлена автором
ных еврейских учебных заведений и
религиозной обрядности. В то же время
рекрутчина обострила социальные раз¬
ногласия в общине. Уберегая взрослых
налогоплательщиков и олигархические
группы от призыва, община была вы¬
нуждена последовательно уменьшать
число взрослых рекрутов и увеличивать
число малолетних новобранцев, буду¬
щих кантонистов.
В первые ежегодные наборы кон¬
ца 1820-х — начала 1830-х гг. еврейские
общины поставляли военному ведом¬
ству приблизительно одинаковое ко¬
личество детей и взрослых, всего около
1800—2000 рекрутов: первых отправ¬
ляли в кантонистские батальоны, вто¬
рых — в регулярную армию. Созданные
в основном для детей православных
нижних чинов, в николаевскую эпо¬
ху кантонистские батальоны попол¬
нились малолетними мусульманами,
католиками, иудеями и лютеранами.
Еврейские дети, так же как и прочие
иноверцы, проходили обучение в три¬
надцати кантонистских батальонах,
девяти полубатальонах и трех ротах
как в пределах черты оседлости, так и
за ее пределами 14. По результатам ме¬
дицинских осмотров состояние новоприбывших еврейских детей было не¬
удовлетворительным (парша и чесотка упоминались в числе наиболее рас¬
пространенных заболеваний), однако во время службы еврейские кантонисты
показали заметно меньший уровень заболеваемости и смертности по сравне¬
нию со своими нееврейскими сотоварищами. Также по уровню дисциплины
и преступности (особенно воровства и «поднятия оружия на начальников»)
еврейские кантонисты отличались от всех остальных кантонистов в лучшую
сторону: среди уголовных дел по Департаменту военных поселений, которому
подчинялась кантонистские батальоны, число дел против еврейских кантони¬
стов значительно ниже их пропорции в батальонах. Но в смысле преуспеяния
в учебе евреи-кантонисты мало чем отличались от остальных. Кроме военного
дела в кантонистских учебных заведениях обучали чтению, письму, арифме¬
/72/
1.3 / ЕВРЕИ И АРМИЯ
тике, а также ремеслам. Согласно «выпускной» статистике — отчетам о рас¬
пределении 18—19-летних кантонистов в войска, — так же как и их православ¬
ные собратья, еврейские кантонисты выпускались «малообучеными» (73%
выпускников), иными словами, весьма средних знаний по основным дис¬
циплинам. Большинство из них, независимо от того, приняли они крещение
или нет, направлялись в пехотные полки, в мастеровые команды, резервные
дивизии и на оружейные заводы. Единственное отличие — некрещеных кан¬
тонистов чаще распределяли среди военных поселян и отправляли во флот,
вероятно, для дальнейшего «исправления» 15.
В научной, мемуарной и художественной литературе закрепилось пред¬
ставление о николаевской рекрутчине как о мероприятии, целью которого
было поголовное крещение еврейских рекрутов, прежде всего детей в канто¬
нистских батальонах. Донесения батальонных командиров Николаю, а также
результаты его собственных инспекционных поездок (например, зимой 1828 г.
в Кронштадт) свидетельствуют, что рекрутчина вряд ли была изначально заду¬
мана как способ массового обращения евреев в христианство. «Христианиза¬
ция» путем рекрутского набора — чрезвычайно хлопотный и дорогостоящий
способ ведения миссионерской деятельности. Николай отвергал любые доро¬
гостоящие проекты, поскольку он послушно следовал советам своего мини¬
стра финансов Егора Канкрина (1874—1845), озабоченного сведением к ми¬
нимуму дефицита государственного бюджета, свертыванием «дотационных»
аракчеевских военных поселений и увеличением доходов казны от внутрен¬
ней торговли. Скорее всего, крещение кантонистов-евреев возникло не как
спущенное «сверху» решение, а как вялая инициатива на местах, связанная с
тем, что местному батальонному начальству было удобней иметь дело с канто¬
нистами одной веры. Как следует из архивных источников, отвечая на жалобы
еврейских родителей, батальонные начальники утверждали, что по букве за¬
кона еврейские кантонисты проходят службу «наравне со всеми остальными».
«Наравне» они понимали в духе русского казарменного просвещения: как тре¬
бование обеспечить еврейским кантонистам равные условия отбывания служ¬
бы и не предоставлять им никаких привилегий вероисповедного характера,
например (как просили родители), особой «кошерной» кормежки на Песах
1828 г.16 Благодаря запросам и циркулярным письмам Николая мы знаем, что
за первые два года после введения рекрутчины выкрестилось около 7% канто¬
нистов, причем в их число попали перекрещенные в православие лютеране и
католики, которых усердное батальонное начальство также считало иновер¬
цами. Пущенное на самотек до 1840-х гг. крещение «малолетних кантонистов
из евреев» шло неравномерно, двигалось одними амбициями батальонных
начальников, подкреплялось победными рапортами императору, который са¬
молично — на полях документов — пересчитывал цифры и сердито указывал,
что они раздуты.
/73/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
В 1839 г. Николай запросил обобщенные данные о крещении среди евреев
и обнаружил, что между 1827 и 1839 г. из 15050 евреев, прошедших обучение
в кантонистских батальонах, крещение приняло около трети еврейских кан¬
тонистов (5328), в то время как две трети (9722) остались евреями. Если учи¬
тывать сложившееся в исторической и мемуарной литературе мнение о том,
что еврейских кантонистов крестили всех поголовно, а тех, кто сопротивлял¬
ся, заставляли принимать православие мерами физического воздействия, то
две трети «упорствующих» или «оставшихся» в своей вере — так называли не¬
удобных иудеев в батальонах — цифра весьма значительная. Любопытно, что
подробный анализ предоставленных императору данных показывает, кроме
всего прочего, что еврейские кантонисты в сибирских батальонах — которых
народная молва считала замордованными мучениками, оторванными от иуда¬
изма, — демонстрировали неслыханную стойкость: выкресты среди них были
большой редкостью. Кроме всего прочего, две трети еврейских кантонистов
из пятнадцати тысяч означают, что христианизация шла в батальонах из рук
вон плохо, что ею никто не руководил и что целенаправленной миссионер¬
ской кампании в эти годы не велось. Кампания началась только в середине
1840-х гг., и ее результаты отличались от цифр 1839 г.
Крещение еврейских кантонистов оформилось в «высочайшее» решение
пятнадцать лет спустя после начала призыва причем это решение принималось
в иной ситуации и было связано с новыми замыслами Николая в отношении
евреев, а не с Указом о рекрутской повинности 1827 г. Как известно, Нико¬
лай приветствовал переход в православие любых иноверцев, включая евреев.
С его точки зрения, исправление «вредных» этнических или социальных групп
необходимо оканчивалось признанием преимущества христианской религии
над всеми остальными. В этом смысле Николай отличался от просвещенных
монархов и политических мыслителей вроде фон Дома только одним — уве¬
ренностью, что православие есть высшая и наиболее полезная из форм христи¬
анства. «Христианизация» вполне соответствовала николаевским утилитарно¬
просветительским взглядам. Тем не менее ни в 1820-е, ни в 1830-е гг. никаких
особых мер к интенсификации миссионерской деятельности Николай не при¬
нимал. Но в начале 1840-х гг. он решительно взялся за бюрократическое пре¬
образование окраин империи, русификацию населявших ее этнических групп
и воплощение лозунга его министра просвещения С.С. Уварова (1786—1855)
«Самодержавие, православие, народность». Именно к этому времени отно¬
сятся такие его преобразовательные меры, как введение воинской повинности
для евреев Царства Польского, учреждение государственных школ для евреев
черты оседлости, утверждение должности «ученого еврея» (просвещенного ев¬
рейского бюрократа на государственной службе) при губернаторах, создание
(несколько позже) институтов казенных раввинов и поощрение широкомас¬
штабной миссионерской кампании в кантонистских батальонах.
/74/
1.3 / ЕВРЕИ И АРМИЯ
Группа еврейских солдат. Г. Троицкосавск Иркутской губ. 1887 г.
Фотография из книги: Y. Petrovsky-Shtern. Jews in the Russian Army, 1827—1917.
Cambridge University Press, 2009. Предоставлена автором
Миссионерской кампании положил начал о сам Николай I, когда в 1843 г. в
законодательном порядке специальным циркуляром порекомендовал, «не ис¬
прашивая» согласия родственников, «приводить кантонистов в православие»,
которое он считал неотъемлемой частью «полезного» социального опыта.
Николай лично контролировал и даже пытался подстегнуть миссионерскую
деятельность. Он ввел особую форму отчетности и требовал ежемесячных до¬
несений с мест, но косность бюрократической системы препятствовала тому,
чтобы батальонные начальники мгновенно осознали и приступили к испол¬
нению монаршей воли. Так, Николай регулярно получал отчеты с подробны¬
ми данными о кантонистах-евреях и красноречивым прочерком в графе «при¬
нявшие православие». Поэтому даже при очевидном намерении Николая обе¬
спечить стопроцентную христианизацию кантонистских заведений в резуль¬
тате противодействия местного военного и церковного начальства, которое
в большинстве случаев с неохотой занималось христианизацией кантонистов
«из нехристей», а также сопротивления самих кантонистов, миссионерская
/75/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
кампания шла медленно и неравномерно. Например, в начале 1850-х гг. в Ка¬
занском и Киевском батальонах удалось окрестить до трех четвертей евреев,
тогда как в сибирских батальонах не удавалось привести в православие и пя¬
тую часть. В 1854 г., на самом пике миссионерской кампании, из 5991 канто¬
ниста-еврея, находившегося в то время в батальонах, 4565 приняли крещение
(то есть три четверти), причем в Астраханском, Омском, Псковском, Ревель¬
ском, Смоленском, и Тобольском батальонах, в каждом из которых служило
около 150 евреев, крещение приняли менее 10% кантонистов. Миссионер¬
скую кампанию подстегивали настойчивые запросы Николая, хотя он сам по¬
нимал, что массовое крещение носит поверхностный характер, и с 1848 г. стал
требовать «качественной» подготовки к принятию православия. Но военное
начальство не имело для этого ни ресурсов, ни желания.
С воцарением Александра II и отменой рекрутчины сотни кантонистов
при переводе их из батальонов в войска воспротивились навязанному им
православию и отказались от своих христианских имен и своей новой хри¬
стианской «идентичности» 17. Скандалы в Департаменте военных поселений
(которым подчинялись батальоны кантонистов до Александра И), а затем и
в Управлении училищами военного ведомства, связанные с «религиозным
бунтом» в войсках, — важный эпизод взаимоотношений российских евреев и
армии. Хотя военное ведомство принудило большинство из «бунтовщиков»
«остаться в православии», попытки «отпадения от православия» бывших ев¬
реев-кантонистов продолжались уже в индивидуальном порядке вплоть до на¬
чала 1900-х гг. Любопытно, что в отличие от кантонистских батальонов мис¬
сионерская кампания в полках армии не имела практически никакого успе¬
ха, что противоречит сложившемуся в «культурной памяти» представлению
о николаевских рекрутах из евреев. За весь николаевский период крещение
приняло не более 3% нижних чинов из евреев. Объясняется это прежде всего
тем, что взрослые евреи пользовались привилегиями, позволявшими им «от¬
правлять обряды веры», они поддерживали тесные отношения с еврейскими
общинами, организовывали солдатские молельные группы, имели свой соб¬
ственный религиозный инвентарь, получали субсидии военного ведомства на
содержание солдатских молельных домов и учреждали добровольные религи¬
озные братства 18.
Александровские Великие реформы способствовали формированию
русского общественного сознания и впервые позволили открыто обсуждать
воинскую повинность в связи с еврейским равноправием. Впервые такое об¬
суждение началось на страницах ежедневного «Русского инвалида», газеты
военного ведомства, — едва ли не самого передового периодического издания
конца 1850-х — начала 1860-х гг., с которым активно сотрудничал выдающий¬
ся еврейский просветитель-публицист Осип Рабинович (1818—1869)19. Кро¬
ме того, со страниц еврейской прессы прозвучали на трех языках пламенные
/76/
1.3 / ЕВРЕИ И АРМИЯ
призывы литераторов маскильской ориентации (таких как Менделе Мойхер
Сфорим и Моше Лейб Лилиенблюм) к тому, чтобы переосмыслить отношение
евреев к военной службе, отнестись к ней как к патриотическому долгу рос¬
сийского гражданина и доказать русскому обществу, что евреи — настоящие
патриоты, готовые верой и правдой служить царю и отечеству. Подобные при¬
зывы стали все чаще раздаваться во время проповедей из уст казенных равви¬
нов, а в конце XIX в. к ним присоединились многие раввинистические лиде¬
ры традиционного толка. В своей галахической карманной книжечке «Маха¬
не Исраэль» (1881), написанной специально для еврейских новобранцев и не
имеющей европейских аналогов, Хафец Хаим (рабби Исраэль Меир ха-Кохен
Пупко, 1838—1933) обратился к своему читателю-солдату и как к соблюда¬
ющему иудею, и как к подданному императора, исполняющему долг перед
светской властью. Во время Балканской кампании 1877—1878 гг. российские
евреи с симпатией отнеслись к «войне за освобождение славян». В местах дис¬
локации войск духовные раввины выступали с проповедями перед армией и
организовывали праздничное благословение вина (кидуш) для полков, в ко¬
торых служили еврейские солдаты. Общенациональный патриотический по¬
рыв передался еврейской общине, а от нее — еврейским новобранцам, причем
некоторые из них отличились при обороне Шипки, а другие оказались в числе
героев Плевны. Русско-еврейская пресса публиковала подробные реляции с
фронта и особенное внимание уделяла еврейским солдатам, отличившимся в
боях. В последнюю четверть XIX в., стремясь продемонстрировать армии свой
патриотизм, а еврейским солдатам — общинную о них заботу, еврейские об¬
щины выступили инициаторами передачи свитков Торы в дар пехотным пол¬
кам, где проходили службу еврейские солдаты. Однако местная инициатива
полковых командиров и лидеров еврейских общин была враждебно встречена
высшим военным командованием 20.
Задуманная Дмитрием Милютиным (1816—1912, в 1861—1881 военный
министр) военная реформа — одна из важнейших в ряду Великих реформ
эпохи императора Александра II — затрагивала устройство, вооружение и
обеспечение войск. Прежде всего Милютин решил создать систему резервных
войск, чтобы с их помощью сократить срок службы в армии, создать запас и
резко увеличить численность войск за счет призыва запасных в случае моби¬
лизации. Затем он перешел к выработке главного пункта реформы — Закона о
всесословной воинской повинности, принятого в 1874 г. после ожесточенных
споров между сторонниками и противниками реформы. На основании нового
либерального закона был выработан Устав о воинской повинности, согласно
которому евреи уравнивались в правах с неевреями — по призыву, условиям
несения службы и льготам. Они исполняли воинскую повинность наравне со
всеми остальными подданными империи: призывались по жеребьевке, нахо¬
дились шесть лет в войсках и девять в запасе и проходили службу недалеко
/77/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Вольноопределяющийся Ш.М. Штерн
(Петровский). 1916 г., Одесса.
Из собрания автора статьи
Еврейский военнослужащий, фотография
1909—1911 гг, Екатеринослав.
Из собрания центра «Петербургская иудаика»
от места жительства 21. Однако со временем антиеврейские предубеждения чи¬
новников из Министерства внутренних дел взяли верх над более либераль¬
ными взглядами соперничавшего с ним Военного министерства, в результате
чего равноправие евреев по призыву и службе обставили таким количеством
уточнений, дополнений и поправок, что оно фактически осталось на бума¬
ге. Только некоторые евреи (семь человек) из богатейших семей смогли вос¬
пользоваться привилегией производства в офицерский чин, причем никто из
них не собирался связывать свою судьбу с военной карьерой. По букве закона
путь евреям в юнкерские и военные училища, а значит, и к офицерским долж¬
ностям был открыт, но фактически их туда не пускали, а затем ужесточили и
формулировку закона, чтобы не пускать евреев в офицеры. Двойственность
милютинской реформы прослеживалась на всех уровнях. С одной стороны,
реформа упростила и сделала более открытой процедуру призыва в армию.
С другой — призывные списки были переданы под ответственность государ¬
ственных чиновников, незнакомых с проблемами транслитерации еврейских
имен, что спровоцировало неслыханную сумятицу при наборе. Объективными
сложностями в своих идеологических целях воспользовалась консервативная
российская пресса (прежде всего газета «Киевлянин»), которая, как считали
/78/
1.3 / ЕВРЕИ И АРМИЯ
русские еврейские просветители, «специализировалась» на теме массового
уклонения евреев от воинской службы, убеждая читателей, что евреи — ник¬
чемные патриоты, плохие солдаты, не заслуживающие равноправия 22.
Положение еврейского солдата значительно ухудшилось во время потряс¬
шей военное ведомство контрреформы (после убийства императора Алексан¬
дра II в 1881 г.), когда место либерально настроенного Милютина занял кон¬
сервативно настроенный Петр Ванновский (1822—1904). В середине 1880-х гг.
Ванновский отменил важнейшую льготу, позволявшую ушедшим в запас ев¬
рейским солдатам селиться по месту несения службы за чертой оседлости.
Он ввел коллективную ответственность еврейских семей и общин за уклоне¬
ние еврейского призывника от службы, запретил евреям служить в крепост¬
ных гарнизонах и инженерных войсках, военврачами — в западных округах,
а также фельдшерами, машинистами, полковыми писарями и мастеровыми.
Ванновский создал своеобразную «черту оседлости» в армии, окончательно
сведя на нет представление о том, что военная служба может быть шагом к
еврейскому равноправию. Его многочисленные нововведения, отменявшие
букву реформы 1874 г., были закреплены в Уставе 1912 г., по которому евреи
проходили службу в армии вплоть до Февральской революции 1917 г.23 Спра¬
ведливости ради следует заметить, что драконовские меры Ванновского дей¬
ствовали далеко не всегда: местное военное начальство нередко игнорировало
запреты и пользовалось всевозможными бюрократическими механизмами,
чтобы оставить евреев на должностях, запрещенных им буквой закона.
Во второй половине XIX — начале XX в. евреев в российской армии было
непропорционально много: евреи насчитывали 5% нижних чинов российской
армии, в то время как они составляли 4% мужского населения империи. Мно¬
гочисленные статистические отчеты Военного министерства красноречиво
свидетельствуют в пользу того, что евреи не уклонялись от военной службы
и что скандальные публикации в русской прессе на эту тему — едва ли не са¬
мую частую тему русской ксенофобской публицистики той эпохи — не вы¬
держивают критики. Распределение евреев по родам войск совпадает с общей
картиной несения службы солдатами-иноверцами. Абсолютное большинство
евреев несли службу в полках черты оседлости либо непосредственно у ее гра¬
ниц, в так называемых внутренних губерниях империи. На рубеже XIX—XX вв.
в некоторых пехотных полках Виленского, Киевского и Петербургского во¬
енных округов евреи составляли 15—20% нижних чинов. В целом по армии
большинство евреев проходили службу в пехотных полках (80—90%), артил¬
лерии (5—20%), кавалерии (5—8%), инженерных частях (1—3%). Подавляющее
большинство евреев, служивших в пехоте (96—97%), несли службу на строе¬
вых должностях. Из них 5—7% служили горнистами, музыкантами и барабан¬
щиками. На нестроевых должностях несли службу не более 2—3% евреев, чаще
всего в качестве полковых портных, шапочников и закройщиков 24. Согласно
/79/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
медицинской статистике, при наборе евреев в армию полковые врачи жало¬
вались на их слабые физические данные и низкую индивидуальную гигиену,
но в армии евреи имели наименьший уровень заболеваемости и смертности,
причем они были фактически единственной этнической группой, у которой
смертность была вдвое ниже заболеваемости (у других смертность была чуть
ниже заболеваемости). В пореформенной армии еврейские солдаты демон¬
стрировали более высокую дисциплину и непропорционально низкий уро¬
вень преступности по сравнению со своими нееврейскими сослуживцами 25.
Резкое увеличение числа евреев-солдат, осужденных за дисциплинарные про¬
ступки во время и сразу после первой русской революции 1905 г., было вызва¬
но не столько их непосредственным участием в революционной деятельности
в войсках армии или «революционным» непослушанием, сколько внешними
обстоятельствами: усилением нетерпимости ко всем «инородцам» в войсках
армии, ужесточившимся антиинородческим законодательством (прежде все¬
го антиеврейскими и антипольскими секретными циркулярами) и разнуздан¬
ной антиеврейской кампанией в русской патриотической и военной прессе 26.
На рубеже веков контрреформа Александра III, Русско-японская война
1904—1905 гг., участие запасных солдат в погромах 1905 г. и последовавшие за
первой русской революцией новые ограничительные законы, касавшиеся не¬
сения евреями военной службы, существенно остудили патриотический пыл
еврейских общин и значительно осложнили положение еврейского солдата.
После 1907 г. русские националистические партии и консервативная пресса
развернули агитацию в армии и обществе, целью которой было запретить ев¬
реям несение воинской повинности, поскольку евреи, дескать, бесполезные
солдаты, от которых армии один только вред 27. Накануне появления ново¬
го Устава воинской службы 1912 г. историки, социологи и литераторы (как
еврейские, так и нееврейские) пытались противодействовать этой агитации.
В своей книге «Отечественная война 1812 года и русские евреи» Саул Гинз¬
бург оспорил отсутствие патриотизма у российских евреев и привел множе¬
ство примеров помощи еврейских общин российской армии задолго до вве¬
дения для евреев воинской службы. Анонимный автор книги «Война и евреи»
на материале тщательно изученной военной статистики доказал, что евреи —
дисциплинированные солдаты, мало чем отличающиеся от своих православ¬
ных сослуживцев. М. Усов (Тривус), автор книги «Евреи в армии», оспорил
антиеврейские представления о неприязненном отношении евреев к испол¬
нению важнейшего патриотического долга, а также привел убедительные
примеры, демонстрировавшие еврейский героизм во время Крымской, Рус¬
ско-турецкой и Русско-японской кампаний. В начале Первой мировой во¬
йны еврейские лидеры инициировали издание иллюстрированного журнала
«Война и евреи» (1914—1915), публикации которого свидетельствовали, что
антисемитизм среди высшего штабного начальства не повлиял на патриоти¬
/80/
1.3 / ЕВРЕИ И АРМИЯ
ческий порыв еврейских новобранцев и что еврейский солдат — надежный
защитник отечества.
Поскольку интеграция евреев в русское общество началась с армии, вся¬
кий раз, когда в русской литературе ставился вопрос об отношении евреев к
России и русским, тема еврея в российской армии выходила на первый план.
Для еврейских литераторов армия была прежде всего той средой, которая
свидетельствовала либо в пользу еврейской эмансипации, либо против нее.
Поэтому большинство произведений на военную тему следует рассматривать
не как литературную реакцию на исторические события (рекрутчину, эпоху
«хаперов» или Русско-японскую войну), а как художественно оформленные
социально-политические манифесты, призывавшие отменить черту осед¬
лости и ограничительное еврейское законодательство («Штрафной» и «На¬
следственный подсвечник» Осипа Рабиновича), раз и навсегда покончить с
«закабаляющей» религиозной традицией («Записки еврея» Григория Богро¬
ва), оправдать уход от еврейства («Век прожить — не поле перейти» Викто¬
ра Никитина), решительно осудить катальных «хаперов» и всю кагальную
организацию традиционного еврейства («Бен-Юхид» Бен-Ами), признать
еврея-гуманиста или еврея-труса несовместимыми с армейской действи¬
тельностью («Жид» Георгия Мачтета и «Исайка» Константина Станюкови¬
ча) или же представить верующего иудея честным и добрым русским «служи¬
вым» («Рассказ старого солдата» Меира Меримзона). От Осипа Рабиновича
до Исаака Бабеля (и далее — до Василия Гроссмана) в русской литературе
появляется целая галерея еврейских образов — солдат российской армии,
для которых военная служба — это та самая среда, в которой происходит
становление и проверка их русско-еврейского самосознания. Трагическая
судьба русско-еврейского солдата в произведениях художественной лите¬
ратуры свидетельствует не столько о несовместимости рядового из иудеев,
самоотверженного и бескорыстного патриота, с казарменными порядками
и бытовым офицерским антисемитизмом, сколько о неготовности русского
общества к модернизации, к отмене черты оседлости, к эмансипации евреев
России и к терпимому восприятию иноверцев.
За сто без малого лет, с 1827 по 1917 г., российская армия как минимум
дважды трансформировалась сама и трансформировала проходящих военную
службу евреев. Армия оказалась в числе первых российских бюрократических
институций, способствовавших уничтожению черты оседлости и появлению
еврейских общин на всей территории империи — от Твери, Москвы, Санкт-
Петербурга и Нижнего Новгорода до Омска, Томска и Иркутска (сохранив¬
шихся до 1917 г.). Прошедшие службу в николаевской армии и поселившиеся
за чертой оседлости евреи мало что меняли в своем обиходе, но значительно
интенсивней интегрировались в русскую среду и оказывались в более выгод¬
ной экономической ситуации по сравнению со своими единоверцами в черте
/81/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Синагога в Иркутске, построенная совместными усилиями солдатской и купеческой общин
города в 1881 г. С открытки нач. XX в. Joseph and Margit Hoffman Judaica Postcard Collection,
Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem
оседлости. Как это ни парадоксально звучит, но для многих евреев, не вла¬
девших никаким другим языком, кроме идиша, армия, ассоциировавшаяся
у российской городской интеллигенции с безмозглым фельдфебелем и без¬
грамотным унтером, оказалась важнейшей «обучающей» русской языковой
средой. Поскольку российская армия по своему социальному составу была
на 80% крестьянской, по крайней мере полтора миллиона еврейских солдат
прошли за время военной службы школу живого русского языка; именно бла¬
годаря этой школе постаревшие евреи, бывшие николаевские солдаты и кан¬
тонисты, сумели записать свои мемуары, опубликованные «Еврейской стари¬
ной» в 1900—1910-х гг.28 Кроме того, армейские уставы и российское законо¬
дательство впервые познакомили еврейского солдата с законами империи в
их военном изводе, поэтому евреи, прошедшие службу в российской армии,
уходили в запас скорей «законниками», чем революционерами. Участие ев¬
рейских солдат в русских военных кампаниях способствовало экстерритори¬
зации (или дегеттоизации) восточноевропейского еврейского самосознания,
которое впервые представило себе воображаемую карту империи с турками на
юго-западе, немцами на западе, японцами и китайцами на востоке, прочно
вошедшими в коллективную еврейскую память. Армия пыталась воспитать —
и вполне успешно воспитала — «имперского» еврея, патриота своего отече¬
/82/
1.3 / ЕВРЕИ И АРМИЯ
ства, человека не только устоявшихся этнических, но и определенных поли¬
тических симпатий. Армия во многом изменила внешний облик еврея: по
многочисленным устным свидетельствам, противоречившим образу хилого и
запуганного еврейского солдатика, оплаканного в идишистской литературе,
бывшие николаевские солдаты отличались грубой физической силой, домо¬
строевскими предрассудками и повелительно-приказной речью. Разумеется,
это не совсем та интеграция, о которой говорилось в берлинских просвещен¬
ных салонах 1780-х гг., но в российском контексте она существенно дополня¬
ла интеграцию российских евреев в интеллигентские среды Москвы и Петер¬
бурга. Армия выполнила свою функцию по модернизации евреев, превратив
их из евреев штетла в евреев империи. Другое дело, что Военное министерство
так и не выполнило одной из существеннейших своих задач: уравнять евре¬
ев с неевреями не только в обязанностях, но и в правах. Италия, Германия,
Австро-Венгрия, Франция, не говоря уже о США, насчитывали сотни стар¬
ших офицеров и десятки генералов еврейского происхождения, но в России
в войсках армии не было ни одного офицера-еврея (не считая Гершеля Цама
и военврачей, среди которых встречались евреи — офицеры высокого ранга).
Именно поэтому после 1917 г. евреи были непропорционально представлены
в офицерском составе вооруженных сил Красной армии, в то время как вос¬
точноевропейские евреи, преимущественно русского происхождения, оказа¬
лись в числе создателей еврейской Хаганы, прообраза вооруженных сил Госу¬
дарства Израиль 29. Евреи России, по сути, попытались компенсировать то, что
им было недоступно в царской армии: выслуга по службе, военная карьера.
Милитаризация еврейского, особенно израильского дискурса в XX в. — также
результат компенсаторного восприятия армии уже вполне модернизирован¬
ным еврейским национальным сознанием.
1 Более подробно эта тема рассмотрена в кн.: Петровский-Штерн Й. Евреи в рус¬
ской армии, 1827-1914. М.: Новое литературное обозрение, 2003 (сер. Historia Ros¬
sica).
2 О позиции Грегуара в связи с привлечением евреев на воинскую службу см.
Schechter R. Obstinate Hebrews: Representation of Jews in France, 1715-1815. Berkeley:
University of California Press, 2003. P. 92.
3 См. репринтное воспроизведение его главного труда Über die bürgerlische Ver¬
besserung der Juden. Hildesheim: Olms, 1972, а также наиболее убедительное исследо¬
вание парадоксальности его просветительской позиции: Hess J. Germans, Jews, and the
claims of modernity. New Haven: Yale University Press, 2002.
4 Deak I. Jewish soldiers in Austro-Hungarian society: Leo Baeck Memorial Lecture. №
34. N.Y: Leo Baeck Institute, 1990; Silber M. From Tolerated Aliens to Citizen-Soldiers. Jew¬
ish Military Service in the Era of Joseph II // Judson P.M., Rozenblit M.L. (eds.). Construct¬
ing Nationalities in East Central Europe [Austrian and Habsburg Studies 6]. Oxford; N.Y:
Berghahn Books, 2004. P. 19—36; Hyman P. The Jews of Modem France. Berkeley: University
/83/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
of California Press, 1998. Р. 44—45, 94; Meyer М. (ed). German-Jewish History in Modern
Times. In 4 vols. N.Y.: Columbia University Press, 1997. P. 259—261; Simonson S. Teguvot
ahadot shel yehudey Italiya al ‘ha-emantsipatsiya ha-rishona’ // Italia Judaica: gli ebrei in Ita¬
lia dalla segregazione alia prima emancipazione: atti del III convegno intemazionale, Tel Aviv,
15—20 giugno 1986. Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, 1989. P. 47—68, 57—58.
5 Более подробно о роли «просвещенного абсолютизма» в российской государ¬
ственной политике в отношении евреев см.: Bartal I. The Jews of Eastern Europe, 1772—
1881. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005. P. 58-63.
6 О двойственном отношении русских маскилов к идее военной службы и прак¬
тике русской рекрутчины см. Zalkin М. Ba-alot ha-shakhar: ha-haskalah ha-yehudit ba-
imperyah ha-rusit ba-meah ha-tesha-esreh. Jerusalem: Magness, 2000. S. 134.
7 Lincoln B. Nicholas I: Emperor and Autocrat of all the Russians. London, 1978. P. 50-
68; Riasanovsky N. Nicholas I and Official Nationality in Russia, 1825—1855. Berkeley: Uni¬
versity of California Press, 1985, P. 43; Stanislawski M. Tsar Nicholas I and the Jews: The
Transformation of Jewish Society in Russia. 1825—1855. Philadelphia: Jewish Publication So¬
ciety of America, 1983. P. 14-15, и особенно Dyke C.V. Russian Imperial Military Doctrine
and Education, 1832-1914. N.Y: Greenwood Press 1990. P. xiv.
8 ПСЗ. Собр. II. T. 2. № 1329-1334.
9 Натанс Б. За чертой: Евреи встречаются с позднеимперской Россией. М.: РОС-
СПЭН, 2007.
10 Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 109. СА.
Оп.З.Д. 196, 2314.
11 Liberman Н. Ohal Rakhe”l. 3 vols. N.Y: Empire Press, 1984. 3: 5—6; David of No¬
vardek R. “Gezerah hi milifanai,” published by Israel Mendlovitz, in Kovets Yeshurun, Aviv,
5763. 2003; ГАРФ. Ф. 109. 1 экспедиция. Д. 383.
12 ПСЗ. Собр. II. T. 2. № 1330.
13 Традиционное представление о рекрутчине, в той или иной степени игнори¬
рующее российский имперский контекст и рассматривающее Указ 1827 г. как нача¬
ло миссионерской кампании, представлено в следующих работах: Dubnow Sh. History
of the Jews in Russia and Poland. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America,
1916-1920). V. 2. P. 28-29; Greenberg L. The Jews in Russia (New Haven: Yale University
Press, 1944). V.2. P. 51; Baron W.S. The Russian Jew under Tsars and Soviets. N.Y: MacMil¬
lan, 1962). P. 35-38; Domnitch L. The cantonists: the Jewish children’s army of the Czar.
Jerusalem: Devora Publ., 2004.
14 Кантонистские учебные заведения находились в Архангельске, Верхнеураль¬
ске, Витебске, Воронеже, Иркутске, Казани, Киеве, Красноярске, Омске, Оренбурге,
Перми, Петербурге, Пскове, Ревеле, Саратове, Симбирске, Смоленске, Тобольске,
Томске и Троицке.
15 Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА).
Ф. 324. Оп. 1. Д. 413; Ф. 405. Оп. 2. Д. 4619, 4738, 4551; Оп. 5. Д. 4662, 1723, 2701, 2703,
2704, 2706, 4463, 7015.
16 ГАРФ. Ф. 109. 1 экспедиция. Д. 330. Л. 16—20, 23—24, 27—29, 38—38 об.
17 Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 821. Оп.
8. Д. 200-202. Российский государственный архив Военно-морского-флота (далее —
РГАВМФ), Ф. 33. Оп. 1. Д. 1042; Ф. 627. Оп. 1. Д. 43; РГВИА, Ф. 324. Оп. 1. Д. 117; Д.
122; Д. 1108; Ф. 405. Оп. 2. Д. 1662; Оп. 5. Д. 3771; Д. 4468; Оп. 9. Д. 3143.
/84/
1.3 / ЕВРЕИ И АРМИЯ
18 Petrovsky-Shtern Y The Guardians of Faith, or Jewish Self-Governing Societies in the
Russian Army: the case of Briansk 35th regiment // The Military and Society in Russia, 1450 to
1917 / Edited by Eric Lohr and Marshall Poe. Leiden: Brill, 2002. P. 413-434.
19 См. о нем подробнее в кн.: Zipperstein S. The Jews of Odessa: A Cultural history,
1794-1881. Stanford, СА: Stanford University Press, 1986. P. 96-107.
20 Ha-Melits. 1878. No. 17. P. 336; Русский еврей. 1979. 5. С. 153-154; РГВИА. Ф.
400. Оп. 15. Д. 1711,2053,3521.
21 См.: Устав о воинской повинности, со всеми дополнениями и разъяснениями,
последовавшими со времен обнародования его (СПб.: Гогенфельден, 1875), а также
последующее расширенное издание с поправками: Устав о воинской повинности: в
4-х т. (СПб.: Государственная типография. 1885).
22 См. главу “The Dead Souls” в кн.: Klier J. Imperial Russia’s Jewish Question. Cam¬
bridge: Cambridge University Press, 1996.
23 РГВИА. Ф. 400. Оп. 5. Д. 870, 1265, 1438, 1488, 1650; оп. 6. Д. 1072; Rogger H.
Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Berkeley: University of California
Press, 1986. P. 56—112,154,180. Зайончковский П. Российское самодержавие в конце XIX
столетия: Политическая реакция 80-х — начала 90-х гг. М.: Мысль, 1970. С. 136—137.
24 РГВИА. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1351, 1361, 1428, 1468, 1477,1529,1538,1579,1588. Оп.
6. Д. 960. Л. 62-64, 124-128, 173-174.
25 РГВИА. Ф. 801. Оп. 64/5. Ст. 2. Д. 5; Оп. 66. Отд. 1. Ст. 1Д. 28; Оп. 67. Отд. 1. Ст.
1. Д. 16. Ф. 400. Оп. 15. Д. 744-758, 840-848.
26 РГВИА. Ф. 400. Оп. 5. Д. 1153; Ф. 400. Оп. 15. Д. 2696; 3521; Государственная
дума: Стенографические отчеты: Сессия И, заседание 29 (секретное), 17 апреля 1907 г.
СПб.: Государственная типография, 1907. С. 2177-2183.
27 Подробнее об этом см.: Petrovsky-Shtern Y. The Jewish Policy of the War Ministry in
Late Imperial Russia: the Impact of the Russian Right // KRITIKA: Explorations in Russian
and Eurasian History. No. 2. 2002. P. 217—254.
28 Бейлин С. Воспоминания о последних годах рекрутчины // Еврейская старина.
1909. № 2. С. 115—120; № 3—4. С. 158—164; Ицкович И. Воспоминания архангельского
кантониста // Там же. 1912. № 1. С. 54-65; Шпигель М. Из записок кантониста // Там
же. 1911. № 1. С. 249—259. Меримзон М. Рассказ старого солдата // Там же. 1912. № 3.
С. 290-301. № 4. С. 406-422. 1913. № 6. С. 86-95. № 11. С. 221-232.
29 Ruppin A. The Jews in the Modem World. London: McMillan, 1934. P. 224; Сверд¬
лов Ф.Д. Евреи-генералы Вооруженных сил СССР: Краткие биографии. М., 1993;
Schiff Z. A History of the Israeli Army. N.Y.: MacMillan Publishing Comp., 1985. P. 3-7.
1.4
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЦЕНЗУРА
ЕВРЕЙСКИХ ИЗДАНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Дмитрий Эльяшевич
а протяжении более века одним из важных инструментов иде¬
ологического воздействия официальных властей на еврейское
население Российской империи была правительственная цен¬
зура еврейских изданий. Она являлась составной частью госу¬
дарственной политической программы в еврейском вопросе —
сперва программы «исправления» евреев и их сближения с окружающим на¬
селением, а затем сдерживания и подавления еврейского национального воз¬
рождения и еврейской общественно-политической, социальной и культурной
активности.
Правительственная цензура еврейских изданий вплоть до последней чет¬
верти XIX в. выступала одновременно и в качестве мощного фактора форми¬
рования самой этой политической программы, поскольку еврейские цензоры
многие десятилетия были практически единственными евреями, приближен¬
ными к власти. Благодаря своему положению и относительному авторитету
они выступали в качестве ее главных информаторов и советчиков по еврей¬
ским делам. Зачастую записки и рапорты цензоров еврейских сочинений, но¬
сившие, чаще всего, весьма субъективный характер, становились стимулом и
отправной точкой для начала разработки масштабных реформ, затрагивавших
все еврейское население империи. При этом многие цензоры-евреи, верные
идеалам Хаскалы, пытались, как могли, защищать еврейскую традиционную
культуру от излишне радикальных нападок правительства. В целом, цензоры
внесли достаточно весомый вклад в процесс модернизации еврейского обще¬
ства в России.
/86/
1.4 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЦЕНЗУРА ЕВРЕЙСКИХ ИЗДАНИЙ
Периодизация истории цензуры еврейских изданий с точки зрения ор¬
ганизационно-правовых форм ее существования совпадает с периодизацией
истории цензуры общерусской 1. Однако в плане содержания и направленно¬
сти деятельности между ними были существенные отличия. Задачи, стоявшие
перед еврейской цензурой, диктовались особенностями правительственной
идеологии в еврейском вопросе. Вплоть до 80-х гг. XIX в. она следовала постула¬
там «казенного Просвещения». В силу этого цензоры-евреи, в противополож¬
ность своим русским коллегам, должны были бороться не с прогрессивными
идеями, а, наоборот, искоренять в книгах «отсталые мысли» и способствовать
тем самым «исправлению» евреев. Поскольку на протяжении большей части
XIX в. предметом рассмотрения еврейской цензуры была почти исключитель¬
но литература религиозного содержания, то попытки ее цензурной «санации»
сводились в основном к запрету хасидских и каббалистических сочинений и
попыткам «очищения» Талмуда и основных галахических кодексов от всего
того, что, по мнению цензоров, препятствовало секуляризации и духовному
обновлению еврейского населения.
В последней трети XIX в., в связи с отказом российского правительства от
политики «исправления» евреев, предметом основных забот цензоров-евреев
становится светская еврейская литература либеральной и леворадикальной
направленности. Религиозные издания, в том числе и хасидские, перестают в
это время страдать от цензорского карандаша. Тем самым особая специфика
еврейской цензуры, отличавшая ее от неизменно имевшей консервативно-ох¬
ранительный характер цензуры общерусской, практически исчезла.
Еврейская читательская аудитория в России всегда относилась к цензуре
резко отрицательно, видя в ней один из способов репрессивного воздействия
государства. Ортодоксы упрекали ее в кощунственном посягательстве на
священные или традиционные тексты, а либеральная интеллигенция конца
XIX — начала XX в. — в попытках не допустить критику политики государ¬
ственного антисемитизма и задушить зачатки свободы слова.
Эффективность правительственной цензуры еврейских изданий всегда
была достаточно низкой. Она так и не смогла до конца выполнить ни одну из
поставленных перед ней задач. Цензура сначала не искоренила полностью
хасидскую и позднегалахическую литературу, а потом не «защитила» россий¬
ское еврейство от распространения либеральных и леворадикальных идей.
Несколько факторов предопределили такую ее низкую эффективность. Во-
первых, действия еврейской цензуры отличались непоследовательностью,
которая, в свою очередь, была детерминирована внутренней противоречи¬
востью государственной политики в еврейском вопросе в целом. Во-вторых,
правительство, вынужденное, в силу языковой специфики еврейской ли¬
тературы, нанимать для выполнения цензорских обязанностей маскилов
или выкрестов, никогда им полностью не доверяло, так как любой еврей
/87/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Титульный лист моралистического сочинения
р. Бахьи ибн Пакуды (1050—1120)
«Обязанности сердец».
Судилков, 1819
Титульный лист комментария «Храм Царя»
к книге «Зогар», написанного марокканским
каббалистом XVIII в. р. Шломо Бузагло.
Копысь, 1810
или даже христианский неофит из евреев вызывал у него априорное подо¬
зрение в тайных симпатиях к своим нынешним или бывшим единоверцам.
Наконец, в-третьих, неэффективности еврейской цензуры способствовали
уникальный характер самой еврейской книжности и совершенно особое
отношение к ней еврейского населения. На протяжении двух тысячелетий
именно книжность, записанное слово были основой существования евре¬
ев как нации. Вследствие этого цензура еврейских сочинений, в отличие от
цензуры сочинений русских, украинских и любых других, представляла со¬
бой не только и не столько цензуру конкретных текстов, сколько цензуру
самого национального бытия евреев.
* * *
Правительственная цензура еврейских изданий в России возникла на 25
лет позже принятия евреев в российское подданство. В период с 1772 по 1797 г.
книги на еврейских языках издавались в России (а также ввозились в ее преде¬
лы из-за границы) беспрепятственно, поскольку распоряжение Екатерины II
о цензуре импортируемых изданий на еврейские книги не распространялось,
а сотрудники управ благочиния, которые, в соответствии с «Указом о вольных
типографиях» 1783 г., должны были наблюдать за содержанием изданий, вы-
/88/
1.4 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЦЕНЗУРА ЕВРЕЙСКИХ ИЗДАНИЙ
Титульный лист молитвенника
на праздничные дни. Вильно, типография
М. Ромма и 3. Типографа, 1842
Титульный лист каббалистического
трактата «Священное служение»
р. Меира ибн Габая (1480—1540).
Славута, типография Шапиро, 1827
ходивших в свет внутри империи, не могли рассматривать еврейские книги
ввиду незнания языков.
Первые государственные цензоры еврейских сочинений были назначены
30 декабря 1797 г. (все даты приводятся по старому стилю), спустя год после на¬
чала общего процесса упорядочивания цензурного дела в империи. Ими стали
жители Риги купцы Мозес Гезекиль и Езекиль Давид Леви. Месяцем позже
к ним присоединился один из первых маскилов на территории Российской
империи Леон Элкан, окончивший курс в Берлинском университете и под¬
держивавший личные контакты с М. Мендельсоном. Они составили так назы¬
ваемую Еврейскую экспедицию Рижского цензурного комитета. Служебное
положение еврейских цензоров было неопределенным. В большинстве офи¬
циальных документов они именовались евреями, рассматривающими «по на¬
ставлениям цензоров книги на языке еврейском» 2. Такая формальная несамо¬
стоятельность цензоров еврейских сочинений просуществовала впоследствии
вплоть до начала XX в.
На первых порах цензоры Еврейской экспедиции занимались просмо¬
тром еврейских сочинений, ввозившихся из-за границы. Однако очень скоро
они попытались наладить цензурный надзор и за еврейскими типографиями,
действовавшими внутри империи. С этой целью в 1800 г. ими была разрабо¬
/89/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
тана «Инструкция еврейским типографщикам», в соответствии с которой все
еврейские книги, печатавшиеся в России, должны были получать предвари¬
тельное одобрение Рижского цензурного комитета 3. Практических результа¬
тов эти попытки тогда не принесли.
В своей цензорской деятельности Леон Элкан, Мозес Гезекиль и Езекиль
Давид Леви стояли на антихасидских и маскильских позициях и боролись, в
первую очередь, с еврейским «религиозным фанатизмом» и «мракобесием».
Чаще всего они, естественно, преследовали хасидские издания, считая тако¬
вые наиболее вредными 4. Их вклад в борьбу с распространением хасидизма вы¬
разился, в частности, и в том, что арестованный по доносу своих противников
лидер белорусских хасидов р. Шнеур Залман из Ляд на допросе в Петербурге
в 1798 г. вынужден был отвечать, среди прочего, и по пунктам записки, пред¬
ставленной Еврейской экспедицией Рижского цензурного комитета 5.
С февраля 1802 г. по конец 1804 г. государственная цензура еврейских из¬
даний в России отсутствовала. Она возобновила свою деятельность при Ви¬
ленском университете после принятия Устава о цензуре и печати 1804 г., но
носила мало упорядоченный характер. Формально ее осуществляли Вилен¬
ские университетские профессора древнееврейского языка, в основном, по¬
ляки; на практике они чаще всего перепоручали свои цензорские обязанно¬
сти евреям — студентам Виленской медико-хирургической академии. В этот
период, продолжавшийся больше двадцати лет, еврейские издания выходили
в Российской империи почти беспрепятственно.
Ситуация изменилась после утверждения в 1826 г. нового Устава о цен¬
зуре и печати. В нем впервые появился раздел, специально посвященный
еврейским изданиям. Основной вклад в его разработку внес видный деятель
Православной церкви архиепископ Филарет (В.М. Дроздов), впоследствии
митрополит Московский и Коломенский. Использовав имевшиеся к тому
времени записки по еврейской цензуре петербургского выкреста М.П. По¬
зена и консультанта ЕР. Державина доктора И. Франка, а также материалы,
подготовленные высокопоставленным чиновником консервативных взглядов
М.Л. Магницким, он включил в текст устава положения о запрете тех еврей¬
ских изданий, которые даже в косвенной форме критикуют христианство и
содержат «правила, противные нравственности и общественному благо¬
устройству» 6.
В 1827 г. в заново учрежденный Виленский цензурный комитет рассма¬
тривающим издания на еврейских языках был назначен маскил, выпускник
университета в Бреслау В.И. Тугендгольд, игравший впоследствии видную
роль как в формировании принципов государственной цензуры еврейских из¬
даний, так и в выработке правительственной политики в еврейском вопросе
в целом. Его родной брат, Я.И. Тугендгольд, несколько десятилетий являлся
цензором еврейских сочинений в Варшаве.
/90/
1.4 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЦЕНЗУРА ЕВРЕЙСКИХ ИЗДАНИЙ
Титульный лист
талмудического трактата Бава Батра,
Вильно, типография Р.М. Ромма, 1862
Личность и деятельность В.И. Ту¬
гендгольда на много лет вперед, вплоть
до конца XIX в., определили тот тип
цензора еврейских сочинений, которо¬
му правительство неизменно отдавало
предпочтение при назначении на эту
должность. Как правило, это должен
был быть совершенно нетипичный для
своего времени еврей со светским, же¬
лательно высшим образованием, не ха¬
сид, известный местному начальству (на
губернском уровне или уровне учебного
округа) своими умеренными взглядами,
добропорядочностью и приверженно¬
стью идеям Гаскалы. Вследствие этого
даже в 70-90-е гг. большинство еврей¬
ских цензоров еще так или иначе име¬
ли отношение к раввинским училищам
(учительским институтам) в Вильно и
Житомире; они были или их преподава¬
телями и инспекторами, или выпускни¬
ками. Одновременно некоторые из них
параллельно со службой в цензурных
комитетах выполняли также и обязан¬
ности ученых евреев при губернаторах
и попечителях учебных округов. Лишь в
начале XX в, когда характер цензуры ев¬
рейских изданий принципиально изме¬
нился, к подбору евреев-цензоров власти стали относиться менее строго. В это
время ими становились подчас совершенно случайные люди, единственными
служебными достоинствами которых было владение еврейскими языками и
согласие трудиться за весьма низкую плату.
Наряду с маскилами на протяжении всего XIX в. должности цензоров ев¬
рейских сочинений иногда занимали и выкресты. Однако, несмотря на то, что
они постоянно старались продемонстрировать свое усердие и верноподдан¬
нические чувства, особого доверия и уважения власти к ним не испытывали.
Объяснялось это, вероятно, тем, что таковые цензоры, как правило, не обла¬
дали хорошим образованием и не могли сравниться со своими некрещеными
коллегами в познаниях в области еврейской литературы, а их конформизм и
корыстолюбие зачастую вызывали чувство брезгливости у крупных государ¬
ственных деятелей.
/91/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Служба В.И. Тугендгольда в Виленском цензурном комитете продолжа¬
лась без малого тридцать семь лет и вместила в себя несколько эпох в истории
цензуры, в том числе и период крайней реакции конца 40-х — первой поло¬
вины 50-х гг. Однако все это время В.И. Тугендгольду удавалось удерживать в
своей деятельности тонкую грань между соблюдением закрепленных в зако¬
нодательстве государственных интересов и заботой о сохранении еврейской
литературы в России. Исповедуя идеи Гаскалы, В.И. Тугендгольд преследо¬
вал, в первую очередь, кабалистические сочинения, а также издания хасид¬
ской ориентации. Его полное неприятие хасидизма выразилось, в частности,
в том, что в 1831 г. он подготовил и представил начальству обширный «Рапорт
о еврейских сочинениях секты хассиденов», в котором не только подверг со¬
крушительной критике идейные основы хасидизма и наиболее распростра¬
ненные произведения хасидских авторов (в том числе р. Шнеура Залмана из
Ляд, р. Дова Бера из Межерича, р. Нахмана из Брацлава и др.), но и предложил
программу «оздоровления» еврейского населения, заключавшуюся, в первую
очередь, в учреждении еврейских училищ и подготовке хорошо образованных
еврейских учителей 7. «Рапорт» В.И. Тугендгольда в течение нескольких деся¬
тилетий использовался правительством в качестве одного из основных источ¬
ников информации по еврейскому вопросу. Попав на стол к Николаю I, он
инициировал новый подъем интереса властей к еврейскому населению, выра¬
зившийся в принятии в 1835 г. «Положения о евреях» и масштабных реформах
последующего десятилетия.
27 ноября 1836 г. был опубликовано высочайше утвержденное положе¬
ние Комитета министров, в соответствии с которым подлежали закрытию
все существовавшие на тот момент еврейские типографии и вместо них уч¬
реждались две новые, в Вильно и Киеве, а большая часть находившихся у на¬
селения еврейских книг обрекалась на повторное цензурное рассмотрение 8.
Хотя основной причиной этого разгрома еврейского типографского дела по¬
служило так называемое «Славутское дело» (обвинение известных хасидских
типографов братьев Шапиро в убийстве работника их типографии Л. Прота¬
гайна) и связанные с ним доносы авантюриста Якова Липса 9, в нем, вопреки
собственной воле, были косвенно повинны В.И. Тугендгольд (его «Рапорт»
содержал предложение о цензурном пересмотре всех еврейских книг, на¬
ходящихся в обращении), а также один из наиболее выдающихся деятелей
Гаскалы в России И. Б. Левинзон, в 1833 г. представивший проект закрытия
всех существовавших тогда еврейских типографий и учреждения вместо них
трех новых 10. После 1837 г. цензурное рассмотрение еврейских изданий было
учреждено, помимо Вильно, в открытом тогда же Киевском цензурном коми¬
тете. Оно было поручено выпускнику Медико-хирургической академии при
Виленском университете, удачливому предпринимателю И.И. Зейберлингу
(впоследствии служил в Санкт-Петербургском цензурном комитете; в начале
/92/
1.4 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЦЕНЗУРА ЕВРЕЙСКИХ ИЗДАНИЙ
20-х гг. И.И. Зейберлинг уже имел опыт цензорской деятельности: он являлся
помощником одного из цензоров — профессоров Виленского университета),
а после его увольнения — закончившему полный курс обучения в каменецкой
гимназии выкресту В.В. Федорову (Ц.Г. Гринбауму; в молодости состоял в дру¬
жеской переписке с И.Б. Левинзоном и А.Б. Готлобером, в 70-е гг. служил цен¬
зором еврейских изданий в Варшаве и был известен как переводчик с древне¬
еврейского языка). В соответствии с «Положением о еврейских типографиях»
(1845 г.) в 60-е гг. цензура еврейских изданий осуществлялась и в Житомире
при типографии семьи Шапиро. Здесь цензором был известный журналист и
ученый-математик Х.З. Слонимский, удостоенный за изобретение арифмо¬
метра Демидовской премии.
Хотя de jure общее руководство цензурным делом в Российской империи
осуществляло Главное управление цензуры, существовавшее при Министер¬
стве народного просвещения, в 50—60-е гг. XIX в. координирующим центром в
сфере цензуры еврейских изданий de facto являлся образованный при этом же
министерстве в 1851 г. особый Комитет рассмотрения еврейских учебных руко¬
водств, стоявший на традиционных позициях «исправления» евреев. Наиболее
известным его председателем был блестяще образованный герой Отечествен¬
ной войны 1812 г. А.С. Норов, среди сотрудников комитета выделялись кре¬
щеный еврей немецкого происхождения В.А. Левисон, служивший тогда про¬
фессором древнееврейского языка Санкт-Петербургской духовной академии,
и И.И. Зейберлинг. Одной из важнейших задач этого учреждения, помимо раз¬
работки и обсуждения «исправленных» и «очищенных от мракобесия» учеб¬
ников для казенных еврейских училищ, была защита еврейской книжности
и самих еврейских цензоров от нападок со стороны Комитета 2 апреля 1848 г.
(существовал в 1848—1855 гг. и известен также в литературе как Бутурлинский
комитет — по имени одного из своих председателей, гр. Д.П. Бутурлина; за¬
дачей этого тайного комитета, созданного по личному повелению Николая I,
был контроль за деятельностью цензуры с целью максимального ограждения
русской читательской аудитории от влияния идей западного либерализма).
В Бутурлинском комитете рассмотрением еврейских изданий занимался со¬
вершенно невежественный авантюрист В.В. Розен, крестившийся при помо¬
щи кн. П.А. Ширинского-Шихматова, в 1848 г. сменившего на посту министра
народного просвещения гр. С.С. Уварова.
В 50-е гг. в Комитете рассмотрения еврейских учебных руководств под
председательством А.С. Норова действовала специальная комиссия по подго¬
товке «Наставления еврейским цензорам» (оно так и не было принято) и рас¬
сматривалась возможность учреждения в Петербурге Главного комитета ев¬
рейской цензуры. Обсуждение этих вопросов, в котором принимали участие и
провинциальные цензоры, способствовало усилению интереса правительства
к еврейскому книгопечатанию.
/93/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Начиная с 60-х гг. XIX в. в соответствии с духом времени происходит либе¬
рализация положения в области цензуры еврейских изданий. Она выразилась, в
частности, в увеличении числа цензоров еврейских сочинений: они появляют¬
ся в Санкт-Петербургском и Одесском цензурных комитетах. Наиболее значи¬
тельными фигурами среди еврейских цензоров последней трети XIX в. являлись
И.И. Зейберлинг в столице, инспектор казенного раввинского училища О.Н.
Штейнберг в Вильно, юрист, выпускник университета Св. Владимира Г.М. Ба¬
рац в Киеве, педагог и публицист Ю.М. Бардах в Одессе. В это же время проис¬
ходят либеральные изменения и в самой направленности деятельности еврей¬
ских цензоров. Так, в частности, с середины 60-х гг. почти прекращаются цен¬
зурные гонения на хасидские издания и сочинения мистического содержания.
В 1870 г. должность наблюдающего за еврейским книгоизданием была вве¬
дена и в созданном пятью годами ранее Главном управлении по делам печати.
Статус и функции чиновника, занимавшего эту должность, никогда не были
точно определены. Неофициально считалось, что он является своего рода выс¬
шей инстанцией для провинциальных цензурных учреждений по всем вопро¬
сам, связанным с еврейским книгоизданием. Вследствие этого он должен был
контролировать деятельность еврейских цензоров в Вильно, Киеве, Одессе и
Варшаве и осуществлять выборочную проверку принимаемых ими решений по
конкретным изданиям. Должность наблюдающего за еврейским книгоиздани¬
ем при Главном управлении по делам печати была учреждена специально для
печально известного издателя «Книги кагала» Я.А. Брафмана, служившего до
этого несколько лет в качестве еврейского цензора в Вильно и тогда еще пользо¬
вавшегося покровительством в высших петербургских сферах 11. Впоследствии
на эту должность назначались только выкресты — такие как П.В. Марголин,
Н.Д. Раппопорт, Н.В. Зюсмен, И.Г. Ландау и др.12 Они же одновременно рас¬
сматривали еврейские издания в Санкт-Петербургском цензурном комитете и
Комитете цензуры иностранной. Назначение этих цензоров всегда осущест¬
влялось по протекции кого-либо из представителей администрации, вслед¬
ствие чего среди них иногда оказывались люди с весьма темным прошлым, не
получившие какого-либо систематического образования.
Еврейскими цензорами Главного управления по делам печати (в первую
очередь, Я.А. Брафманом и Н.В. Зюсменом) в 70-е и 80-е гг. были сформу¬
лированы новые идеологические принципы деятельности цензуры еврейских
изданий в Российской империи, соответствовавшие изменившейся государ¬
ственной доктрине в еврейском вопросе. Они сводились к полной либерали¬
зации правил рассмотрения литературы духовного содержания (в частности,
в 1880 г. было принято окончательное решение об издании Талмуда целиком
и его отдельных трактатов без цензурного рассмотрения) и переориентации
внимания провинциальных еврейских цензоров на сочинения секулярного
характера, содержавшие критику существовавших в России порядков и поли¬
/94/
1.4 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЦЕНЗУРА ЕВРЕЙСКИХ ИЗДАНИЙ
тики в отношении евреев. В рамках этих новых принципов был подтвержден
принятый еще в 1868 г. по инициативе Я.А. Брафмана негласный запрет на вы¬
пуск периодики на языке идиш, который ассоциировался у властей с идеями
левого радикализма, а также, в силу недоразумения, на несколько десятиле¬
тий запрещена деятельность еврейского профессионального театра.
На рубеже 80-х гг. XIX в., в связи с появлением одновременно нескольких
еврейских периодических изданий на русском языке («Русский еврей», второй
«Рассвет», позже — «Восход»), возникла необходимость в их цензурном про¬
смотре. Однако он был поручен не еврейским цензорам, а русским сотрудни¬
кам Петербургского цензурного комитета. Они же осуществляли цензурирование
и непериодических русско-еврейских изданий, которых с каждым годом ста¬
новилось все больше и больше. Среди столичных цензоров русско-еврейской
печати наибольшей активностью выделялся А.А. Елагин, с 1889 г. бывший по¬
стоянным цензором журнала «Восход» и его приложения «Недельная хроника
“Восхода”». В провинциальных цензурных комитетах за просмотр русско-ев¬
рейских изданий в начале XX в. также отвечали нееврейские цензоры.
Цензура русско-еврейской печати отличалась чрезвычайной строгостью
и придирчивостью. Основные ее усилия были направлены на борьбу с крити¬
кой усиливавшегося год от года государственного антисемитизма, а потом и
с революционизацией еврейских газет и журналов на русском языке. Вместе
с тем, однако, русско-еврейская печать, в сравнении с изданиями на языках
иврит и идиш, представлялась цензурному ведомству более предпочтительной
и рассматривалась в качестве контролируемой трибуны для русско-еврейской
интеллигенции. Как отмечал в 1891 г. начальник Главного управления по де¬
лам печати Е.М. Феоктистов, «еврейские органы на русском языке, каково
бы ни было их направление, представляют полную возможность для самого
внимательного за ними цензурного наблюдения и могут быть, по мере надоб¬
ности, сдерживаемы», в то время как нерусскоязычные еврейские газеты и
журналы «в действительности находятся вне всякого наблюдения»13.
Помимо борьбы с либеральной критикой политики правительства в ев¬
рейском вопросе, характерной для всей русско-еврейской печати, еще одной
важной заботой цензуры на рубеже XIX-XX вв. было искоренение идишист¬
ской печати Бунда, которая рассматривалась Главным управлением по делам
печати как вдвойне вредная — революционная и еврейская, а также сдержива¬
ние книгоиздания и периодики сионистской направленности. Правда, в этом
вопросе цензурная практика отличалась чрезвычайной непоследовательно¬
стью, соответствовавшей противоречивому отношению российских властей к
политическому сионизму в целом 14.
Из-за изменения условий существования печати и цензуры после Ма¬
нифеста 17 октября 1905 г. коренным образом изменилась и роль цензоров
еврейских сочинений. Они полностью потеряли свое былое влияние на ад¬
/95/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
министрацию и еврейских типографов и превратились, по преимуществу, в
составителей справок о характере и направленности печати на языках иврит
и идиш; справки эти предназначались для местных властей, пристально от¬
слеживавших и анализировавших общественно-политические настроения в
еврейском обществе. Наибольшее количество таких справок и обзоров пери¬
одики подготовил петербургский еврейский цензор А.Л. Грейс — известный
журналист, несколько лет бывший одним из ведущих сотрудников газеты
«ha-Meliz». А.Л. Грейс являлся также первым и последним еврейским теа¬
тральным цензором; в его обязанности входил просмотр написанных на язы¬
ке идиш пьес, в большом количестве присылавшихся после 1905 г. в столицу
из провинции 15. В 1914—1915 гг. А.Л. Грейс осуществлял цензурный надзор за
журналом «Еврейская старина». Здесь он, в силу условий военного времени,
проявлял чрезвычайную строгость и, по словам С.М. Дубнова, зачастую бук¬
вально опустошал многие публикации 16.
Заметной фигурой последних лет существования цензуры еврейских из¬
даний в России был священник А.А. Глаголев, назначенный на должность
цензора еврейских сочинений в Киевский цензурный комитет в октябре
1909 г. Известность ему принесли не столько цензорская деятельность и ра¬
бота в качестве профессора по кафедре древнееврейского языка и библейской
археологии Киевской духовной академии, сколько активная общественно-
политическая и нравственная позиция. А.А. Глаголев последовательно борол¬
ся с распространением антиеврейской погромной пропаганды и выступил в
качестве эксперта на процессе по делу М. Бейлиса, приняв сторону защиты.
А.А. Глаголев был близок к семье М.А. Булгакова и является прототипом отца
Александра в романе «Белая гвардия». В советское время А.А. Глаголев был
репрессирован и погиб в Лукьяновской тюрьме в 1937 г.17
В годы Первой мировой войны все цензоры еврейских сочинений были
переведены на должности военных цензоров. Однако из-за запрета печати
еврейским шрифтом, инициированного начальником Генерального штаба
русской армии генералом Н.Н. Янушкевичем (запрет распространялся на
местности, находившиеся на театре военных действий: Украина, белорусские
и прибалтийские губернии, Петрограде) 18, в действительности в это время ра¬
ботал лишь один еврейский цензор — А.Б. Эренберг. Свою деятельность он
осуществлял в ранее не знавшей ни еврейской печати, ни еврейской цензуры
Москве, куда он был эвакуирован из Варшавы. В его служебные обязанности
входил просмотр выходившей здесь с осени 1916 г. газеты «ha-Ат».
Правительственная цензура еврейских изданий прекратила свое суще¬
ствование вместе со всей цензурной системой царской России весной 1917 г.
Распоряжения Временного правительства от 6 марта и 27 апреля 1917 г. о лик¬
видации Главного управления по делам печати и местных цензурных учрежде¬
ний старого режима положили конец ее 120-летней истории. В последующие
/96/
1.4 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЦЕНЗУРА ЕВРЕЙСКИХ ИЗДАНИЙ
несколько месяцев, вплоть до зимы 1918 г., еврейское книгоиздание и перио¬
дическая печать существовали в России без всяких цензурных ограничений.
1 По истории цензуры в Российской империи см. общие работы: Исторические
сведения о цензуре в России. СПб., 1862; Лемке М.К. Очерки по истории русской цен¬
зуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904; Скабичевский А.М. Очерки истории
русской цензуры (1700-1863). СПб., 1892; Жирков Г.В. История цензуры в России,
XIX-XX вв. М., 2001.
2 Эльяшевич Д.А. Правительственная политика и еврейская печать в России,
1797—1917. Очерки истории цензуры. СПб.; Иерусалим, 1999. С. 73.
3 Текст инструкции приведен в: Эльяшевич Д.А. Указ. соч. С. 539—542.
4 О цензуре еврейских изданий в Риге в конце XVIII — начале XIX в. см.: Гессен
Ю.И. Евреи в России. Очерки общественной, правовой и экономической жизни рус¬
ских евреев. СПб., 1906. С. 409—430; Эльяшевич Д.А. Указ. соч. С. 59-92.
5 Дубнов С.М. Религиозная борьба среди русских евреев в конце XVIII в. //Восход.
1893. № 1.С. 87.
6 Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломен¬
ского, по учебным и церковно-государственным вопросам. СПб., 1885. Т. 2. С. 70.
7 О «Рапорте» В.И. Тугендгольда см.: Цензура в царствование императора Ни¬
колая I. Ч. X. Цензура еврейских книг //Русская старина. 1903. Т. 114. С. 658 — 659;
Lederhendler Eli. The Road to Modern Jewish Politics. Political Tradition and Political Re¬
construction in the Jewish Community of Tsarist Russia. N.Y. — Oxford, 1989. P. 95 — 96;
Эльяшевич Д.А. Указ. соч. С. 148 — 156.
8 ПСЗ II. Т. XI. № 9649. В Киеве, где запрещалось проживание евреев, типогра¬
фия так и не была создана. Вместо нее в 1846 г. братьями Шапиро была основана ти¬
пография в Житомире.
9 О «Славутском деле» см.: Ginsburg S.M. The Drama of Slavuta. Lanham; N.Y; L.,
1991.
10 Цинберг С.Л. Исаак Бер Левинзон и его время. СПб., [1911]. С. 15.
11 О цензорской деятельности Я.А. Брафмана см.: Эльяшевич Д.А. Указ. соч.
С. 289-300.
12 Интересные свидетельства о деятельности некоторых еврейских цензоров
Главного управления по делам печати см. в: Kaz В. Le-toldot ha-zenzura shel ha-sifrut
ha-yisraelit. (Reshumim ve-zikhronot) //Ha-Toren. 1923. Vol. 10. P. 44 — 47; Ginsburg S.M.
Amolike Peterburg. N.Y, 1944. S. 222-224.
13 РГИА Ф. 776. Оп. 5 (1873 г.). Ед. хр. 92. Л. 157 об.
14 Об отношении российского правительства к политическому сионизму см.:
Локшин А.Е. Формирование политики. (Царская администрация и сионизм в России в
конце XIX — начале XX в.) // Вестник Еврейского университета в Москве. 1992. № 1.
15 Об истории цензуры еврейских драматических сочинений в России см.: Элья¬
шевич Д.А. Указ. соч. С. 473 — 480.
16 Дубнов С.М. Книга жизни. Т. 2. Рига, 1935. С. 189.
17 Об А.А. Глаголеве см.: Записки священника Сергей Сидорова. М., 1999; Элья¬
шевич Д.А. Указ. соч. С. 370.
/97/
ЧАСТЬ 1 / ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
18 Kaz В. Op. cit. Vol. 12. Р. 57; Найдич И.А. О.О. Грузенберг и русское еврейство //
Грузенберг О.О. Очерки и речи. Нью-Йорк, 1944. С. 39.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Эльяшевич Д.А. Правительственная политика и еврейская печать в России, 1797—
1917. Очерки истории цензуры. СПб.; Иерусалим, 1999.
Эльяшевич Д.А. Еврейская печать, политика и цензура в России, 1797—1917. К по¬
становке вопроса // Евреи в России. История и культура. СПб., 1998. Вып. 5.
Kaz В. Le-toldoth ha-zensura shel ha-safruth ha-Israelith. Reshimim ve-zikhronoth //
Ha-Toren. 1923. Vol. 9, 10, 12.
Klier J. 1855-1894 Censorship of the Press in Russian and the Jewish Question //Jewish
Social Studies. 1986. Vol. XLVIII. No. 3/4.
Carmilly-Weiberger M. Censorship and Freedom of Expression in Jewish History. N.Y.,
1977.
Censorship. A World Encyclopedia. L.; Chicago, 2001. Vol. 1-4.
ВНУТРЕННЯЯ
ЖИЗНЬ
РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
2.1
ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ
Давид Асаф и Гади Сагив
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ
асидизм как религиозное и историческое явление предшество¬
вал разделу Польши, в России же до первого раздела Польши
(1772) еврейское население практически отсутствовало. Поэто¬
му речь идет не столько о распространении хасидизма в пределах
царской России, сколько о подчинении Российской империей
территорий, входивших в сферу влияния хасидизма. Опыт изучения истории
хасидизма, его развития в определенной геополитической сфере во времени
и пространстве порождает, таким образом, принципиальные проблемы, для
которых в настоящее время не существует адекватного решения и которые,
по-видимому, останутся открытыми и в дальнейших исследованиях хасидиз¬
ма. Перечислим некоторые из них.
География хасидизма
Наиболее существенной чертой хасидизма является то, что он представ¬
ляет собой движение религиозного обновления, обладающее в той или иной
степени общими надгосударственными и надобщинными социальными ха¬
рактеристиками, свойственными всем его направлениям. Влияние хасидских
лидеров — цадиков — выходило за границы мест их проживания, а нередко и
за границы государств. Несмотря на то, что связь хасида с тем или иным ца¬
/101/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
диком обычно определялась географической близостью и удобством доступа
к его резиденции, нередки были случаи, когда хасиды пересекали значитель¬
ные расстояния и даже политические границы для того, чтобы добраться до
своего ребе. С другой стороны, некоторые цадики оказывали покровительство
хасидам, проживавшим в других странах и регионах, даже если те не принад¬
лежали к их пастве. Тем не менее дальнейшее обсуждение будет ограниче¬
но территориями, вошедшими в черту оседлости, а Царство Польское, где в
рассматриваемый период также сформировались важные хасидские центры,
останется за рамками настоящей статьи.
Демография хасидизма
Отсутствие систематических статистических и демографических данных
обессмысливает использование количественных понятий, как, например,
«крупное» или «малочисленное» течение в хасидизме. Более того, сами эти
понятия не всегда однозначны. Что подразумевается под «крупным» (значи¬
тельным) течением в хасидизме? То, что число его сторонников велико, или
что оно присутствует во многих общинах, или, может быть, речь идет о развет¬
вленном хасидском течении, к которому относятся многие цадики?
Царская власть обычно относилась к евреям как к единому сообществу.
Когда происходили трения между хасидами и их противниками, представи¬
тели властей не всегда могли провести различия между евреями, принадле¬
жавшими к разным течениям, — отчасти по невежеству, отчасти вследствие
незаинтересованности. Так, например, в последней четверти XVIII в., в пери¬
од борьбы хасидов и их противников — миснагедов (митнагдим), в государ¬
ственных документах все хасиды назывались «каролинами», хотя этот термин
относился только к одной хасидской группе, сформировавшейся вокруг цади¬
ков из Карлина. Аналогичным образом на протяжении XIX в. не проводились
различия между хасидскими течениями в демографических записях. Более
того, самоидентификация хасидов также не всегда была столь уж однознач¬
ной. Так, например, в различных поселениях были евреи, симпатизировав¬
шие хасидизму или молившиеся в хасидских миньянах, но не считавшие себя
«официальными» хасидами определенного цадика. Были и такие, которые со¬
храняли связь одновременно с несколькими хасидскими дворами.
При отсутствии достаточных внешних данных исследование опирается
на внутренние еврейские источники, лишь немногие из которых (общинные
книги записей, письма, газетные заметки) относятся к рассматриваемому пе¬
риоду, тогда как большинство (хасидские истории, мемуарная литература, ме¬
мориальные сборники, беллетристика) достаточно поздние. Эти источники
/102/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
не всегда достоверны как в силу своей неполноты (многие из них были созда¬
ны в значительном временном или пространственном удалении от описыва¬
емых событий и основывались на впечатлениях и ощущениях, а не на точном
анализе), так и ввиду тенденциозности (критика хасидизма со стороны его
противников или апология хасидизма со стороны его приверженцев). Вслед¬
ствие недостатка информации сложно воссоздать реальную картину хасид¬
ского присутствия в определенной общине, разделения жителей общины на
хасидов и нехасидов или внутреннего размежевания между хасидами разных
течений. Разумеется, невозможно установить и общее количество хасидов в
царской России, поэтому исследователям приходится довольствоваться при¬
близительными оценками, основывающимися на общих соображениях 1.
Цадики и хасиды
Исследование хасидизма до сих пор представляет собой в значительной
мере изучение династий цадиков, то есть высшего слоя, являвшегося главным
резервом руководства хасидскими общинами. Этот факт связан в основном с
традиционной сферой интересов исследователей, предпочитающих сосредо¬
точиться прежде всего на творческой прослойке. В неменьшей степени такая
избирательность вызвана состоянием источников (как хасидских, так и не¬
хасидских), в которых доминирует общая тенденция восприятия хасидского
общества как однородной пассивной массы, лишенной каких-либо специфи¬
ческих качеств.
Предварительные установки
Пионеры критического исследования хасидизма (Семен Дубнов, Шмуэль
Абба Городецкий, Гершом Шолем, Рафаэль Малер) разделяли некоторые об¬
щие историографические установки и ценностные суждения в отношении ха¬
сидизма. Эти представления, собранные воедино, в значительной мере опре¬
делили расхожий образ движения, несмотря на то что они нигде не получили
достаточного обоснования. Это прежде всего: а) типологическое разделение
«духовного» и «практического» руководства как двух противоположных типов
отношения цадиков к своей пастве; б) региональное разделение на «северный»
хасидизм (Литва и Белоруссия), которому присущ «духовный» элитарно-уче¬
ный характер, и «южный» (Украина и Бессарабия), имеющий «практическую»
народно-вульгарную природу 2; в) периодическое разделение на «ранний», воз¬
вышенный хасидизм, развивающийся под руководством избранных харизма¬
/103/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
тических лидеров, и на «поздний», вырождающийся хасидизм, для которого
характерно династийное руководство цадиков. Сюда относится также первая
дихотомия: для раннего хасидизма характерна «духовность», но с течением
времени истощились источники новизны и идейного радикализма, и на сме¬
ну духовности пришло консервативное «практическое» руководство цадиков.
Несмотря на то что мы не разделяем эти положения, допускающие не¬
обоснованные выводы и обобщения в отношении сложных и самобытных
явлений, развивавшихся на протяжении длительного времени, мы считаем
осмысленным заложенный в них географический и хронологический под¬
ход. Это оправдано не только удобством систематизации исторических све¬
дений, но и тем фактом, что многие ответвления хасидизма действительно
развивались преимущественно в определенных районах и практически не
выходили за их пределы. Кроме того, происходившие в тот или иной период
изменения внешних условий (экономическое положение, политика властей,
перемены в нехасидской части еврейского общества) в равной степени вли¬
яли на все ветви хасидизма, что обеспечивает возможность обобщающей и
в то же время сбалансированной периодизации. Вместе с тем мы считаем
неоправданным использование понятия «российский хасидизм» (равно как
и «польский», «галицийский» и др.) и предпочитаем пользоваться словосо¬
четанием «хасидизм в России» 3.
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Развитие хасидского движения в царской России можно разделить на три
основных периода, соотносящихся со сменой императорской власти. Каждый
такой период мы проанализируем в трех аспектах (не всегда в указанном по¬
рядке): а) основные структурные характеристики хасидизма; б) взаимоотно¬
шения между хасидами и нехасидами в еврейском обществе; в) взаимоотноше¬
ния хасидов с властями.
От Екатерины II до Александра I, 1772—1825 гг.
В результате первого раздела Польши (1772) к России оказались присо¬
единены еврейские общины со значительным хасидским присутствием, осо¬
бенно в Минской и Витебской губерниях. В целом российские власти были
сравнительно терпимы в отношении хасидов. Это было особенно заметно во
всем, что касалось их вмешательства в борьбу хасидов и митнагдим, в кото¬
рой хасидидское движение проявило себя как влиятельный общественный
/104/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Хасид и его жена. Литография из книги:
Leon Hollaenderski. Les Israelites de Pologne. Paris, 1846
фактор. История сопротивления хасидизму описывается обычно в виде по¬
следовательности событий, происходивших в три основных этапа (1772—1780,
1780—1784, 1796—1801 )4. Хотя на каждом из этих этапов действовали различ¬
ные движущие силы конфликта и последствия их также были различны, они,
тем не менее, являлись частью широкой, организованной и систематической
борьбы против хасидского движения при действенной поддержке Виленского
Гаона. Борьба с хасидизмом в таких общинах, как Шклов и Вильно, началась
еще до присоединения их к России и продолжалась непрерывно, с одинако¬
вой силой, невзирая на смену властей и режимов, по-видимому не оказывав¬
/ 105 /
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
ших влияния на остроту конфликта. Вместе с тем следует различать борьбу
на надобщинном уровне, которая носила принципиальный характер и осно¬
вывалась на представлении о хасидизме как опасном еретическом движении,
и конфликты на местах, связанные с противостоянием различных силовых
групп в общине. Кроме того, если на двух первых этапах борьбы вмешатель¬
ство российских властей почти не ощущалось, на третьем этапе оно было
очень заметным.
Важным фактором, способствовавшим усилению вмешательства властей,
было присоединение в 1795 г. Вильно, центра сопротивления хасидизму, к
России. Можно предположить, что централизованная российская власть была
значительно более чувствительна к внутренним волнениям, чем распадаю¬
щийся польский режим. Представители новой власти, опасавшиеся главным
образом заговорщицкой деятельности или тайных сект, отклоняющихся от
признанных религий, более внимательно относились к внутренним доносам.
И действительно, в этот период конфликтующие стороны чаще, чем раньше,
по собственной инициативе обращались к властям с тем, чтобы получить от
них поддержку в своей борьбе. Эта новая общественная тактика (традицион¬
но обозначаемая в еврейских источниках как «доносительство») может быть
лучше понята в контексте административных изменений в правовом статусе
евреев. Разочарование, охватившее митнагдим, которые начали осознавать,
что они не в силах остановить распространение хасидизма, только усилилось,
когда в 1795 г. Екатериной II был издан указ, запрещающий еврейской общин¬
ной администрации применять отлучение от общины («херем») и телесные
наказания 5. Этот запрет ударил по традиционным способам ведения внутрен¬
ней борьбы и, само собой, ослабил возможность преследования хасидов при
помощи херема. В таких условиях обращение к властям становилось наиболее
действенным шагом, несмотря на все его негативные аспекты. Да и сами хаси¬
ды, ободренные ростом своего влияния и ослаблением противника, использо¬
вали ту же тактику в борьбе с митнагдим.
На самом деле российские власти еще раньше стали вмешиваться в ло¬
кальные конфликты. Характерным примером этого является история с на¬
значениями и смещениями раввинов в Пинске при переходе города к Рос¬
сии (Пинск был присоединен к России во время второго раздела Польши в
1793 г.). В 1785 г., под сильным давлением митнагдим, был смещен местный
раввин, видный хасидский лидер р. Леви Ицхак бен Меир (он был вынуж¬
ден переехать в Бердичев), а вместо него назначен раввин-митнагед Авигдор
бен Хаим, заплативший за свое назначение круглую сумму кагалу и польско¬
му городскому управляющему. В ходе аннексии Пинска Россией хасиды, ко¬
торые составляли большинство в общине, сумели взять в свои руки власть в
кагале. Изоляция Пинска от важнейших центров митнагдим (Вильно, Гродно
/106/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
и Брест), оставшихся под властью Польши, привела к ослаблению влияния
митнагедского раввина, который сам по себе не пользовался особой симпа¬
тией в городе. Смещение раввина Авигдора произошло вскоре после аннек¬
сии и, по-видимому, было осуществлено демократическим путем, хотя и при
поддержке российской власти, о вмешательстве которой просили хасиды. Во¬
йна рабби Авигдора против хасидов продолжалась до конца XVIII в., и в нее
были вплетены как его частные интересы (защита своих экономических прав
в Пинске), так и его антихасидское мировоззрение, характерное для учеников
Виленского Гаона, к которым причислял себя Авигдор 6.
Воссоединение общин Белоруссии и Литвы под российской властью в
ходе третьего раздела Польши (1795) и распространение ложных слухов о том,
что Виленский Гаон отказался от своей антихасидской позиции, привели к
новому витку кампании против хасидов 7. Центр ее находился в Вильно и не¬
которых других литовских общинах; своего апогея она достигла после кончи¬
ны Виленского Гаона (1797). Проявления насилия с обеих сторон привели к
тому, что в Вильно был создан специальный комитет для борьбы с хасидами,
и заявления властям об их преступных деяниях, реальных или вымышленных,
рассматривались как легитимное средство в этой борьбе 8.
Обращения к властям приводили, помимо прочего, к допросам и арестам
цадиков и хасидов, среди которых был и основатель хасидского движения
Хабад р. Шнеур Залман из Лиозно (позднее — из Ляд). Первый раз р. Шне¬
ур Залман был арестован в сентябре 1798 г. по обвинению в заговорщицкой
деятельности на основании ложного доноса, составленного неким Гиршем
Давидовичем из Вильно. С ним было арестовано еще несколько цадиков, в
том числе (по хасидским источникам) р. Шмуэль из Индуры и р. Мордехай из
Ляховичей. Арестованные были освобождены спустя непродолжительное вре¬
мя, а р. Шнеур Залман доставлен под арестом в Санкт-Петербург. В ходе дли¬
тельных допросов он объяснял следователям основы хасидизма и в конечном
итоге был оправдан и освобожден в ноябре 1798 г. Кроме того, власти заявили
о непричастности всех «каролинов» к какой-либо подрывной деятельности 9.
Можно было ожидать, что после этого противостояние хасидов и их про¬
тивников ослабнет, однако произошло обратное. Местные конфликты про¬
должились и даже усилились, по-видимому, оттого, что хасиды ощущали себя
теперь более уверенно в отношениях с властями. В начале 1799 г. хасиды Виль¬
но донесли властям о непорядках в кагальной администрации, что привело к
ее замене ставленниками хасидов. Вильно — город Виленского Гаона и глав¬
ный оплот митнагдим — стал на какое-то время хасидской общиной 10.
В Пинске отстраненный от должности раввина Авигдор бен Хаим продол¬
жал борьбу. Разочарованный неудачей, он решил развернуть широкую кампа¬
нию против хасидского движения. Весной 1800 г. он составил и передал властям
/107/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
доклад с многочисленными жалобами на хасидов с р. Шнеуром Залманом во
главе. Авигдор обвинял хасидов, главным образом, в отступничестве от рели¬
гиозной традиции и отчасти в нарушении законов государства, в частности, в
передаче денежных сумм в Палестину, которая была тогда под властью враж¬
дебной России Османской империи. В результате этого навета р. Шнеур Залман
был арестован повторно (в ноябре 1800 г.), и с ним несколько его соратников-ха¬
сидов. Как и в прошлый раз, после трех недель следствия р. Шнеур Залман был
оправдан и освобожден, но при условии, что он останется в Санкт-Петербурге.
В марте 1801 г., по всей видимости, вследствие смены власти (убийства импе¬
ратора Павла I и восшествия на престол Александра I) это ограничение было
снято, и Шнеуру Залману было разрешено вернуться домой.
В это же время высшие российские чиновники занимались разработкой
законодательства в отношении евреев, которые после разделов Польши стали
подданными России. Поворотным пунктом в этом длительном процессе ста¬
ло Положение о евреях 1804 г., в котором среди прочего признавалось право
различных религиозных групп в еврейской общине строить свои синагоги и
назначать своих духовных лидеров. Этот параграф фактически легализовывал
хасидское движение и затруднял административную борьбу с ним.
Вместе с тем некоторые параграфы Положения воспринимались еврей¬
ской общественностью, и в том числе хасидами, как тяжелые административ¬
ные меры, с которым надо бороться. Речь идет прежде всего об ограничении
еврейской арендной деятельности и о выселении евреев из деревень. В ре¬
акции лидеров хасидизма трудно выявить какие-либо исключительные дей¬
ствия; наряду с другими представителями еврейского общества они участвова¬
ли в акциях, направленных на отмену или смягчение закона. Два направления
характеризовали деятельность хасидских лидеров: с одной стороны — тради¬
ционное ходатайствование и попытки общественной мобилизации, а с дру¬
гой — использование религиозных и магических практик.
Примером общественной активности цадиков является деятельность
р. Шнеура Залмана, организовавшего кампанию по сбору средств в пользу
евреев, выселенных из деревень 11, равно как и совещание нескольких вид¬
ных хасидских лидеров, созванное р. Леви Ицхаком в Бердичеве, в котором
участвовали также Барух бен Иехиель из Меджибожа и Арье Лейб («Дед») из
Шполы 12. С другой стороны, р. Нахман из Брацлава пытался отвести беду осо¬
быми мистическими ритуалами 13. Несмотря на это некоторые инициативы
властей, направленные на продуктивизацию еврейского общества, находили
определенную поддержку у хасидских лидеров.
Так, глава любавичских хасидов р. Дов Бер и его преемник р. Менахем
Мендель в отдельных случаях поощряли своих хасидов осесть на земле и об¬
ратиться к сельскохозяйственной деятельности 14.
/108/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Другой фактор, способствовавший терпимому отношению властей к ха¬
сидам, связан с наполеоновскими войнами. В 1812 г., когда французские вой¬
ска продвигались вглубь России, р. Шнеур Залман присоединился к отступав¬
шей на восток российской армии и призвал хасидов поддержать императора
Александра I. Открытая враждебность Шнеура Залмана к наполеоновской
Франции, его опасение, что эмансипация подорвет целостность еврейской
традиции, и готовность российской власти защищать его и членов его семьи 15
определили лояльную позицию лидеров Хабада по отношению к российским
властям и в последующих поколениях 16.
К концу рассматриваемого периода начались существенные изменения в
самом еврейском обществе. После смерти Виленского Гаона сопротивление
хасидизму в значительной мере утратило свой религиозный накал. Вместе с
тем существование двух раздельных общественных групп в традиционном
еврейском обществе — с одной стороны хасидов, с другой митнагдим — ста¬
ло фактом. На протяжении всего XIX столетия продолжались столкновения
между этими группами, но большую их часть можно охарактеризовать как ло¬
кально-общинные конфликты (назначения и смещения раввинов в общинах,
денежные конфликты и т.п.) 17. Они не носили систематического, организо¬
ванного или надобщинного характера, который был свойствен хасидско-мит¬
нагедской борьбе в XVIII в. В религиозном мировоззрении и общественной
деятельности ближайшего ученика Виленского Гаона и основателя Воложин¬
ской иешивы р. Хаима из Воложина нашел выражение новый подход, отли¬
чающийся более сдержанным отношением к хасидской проблеме и предлага¬
ющий различные каналы религиозного самовыражения для тех, кто отвергал
хасидизм 18. У хасидов и митнагдим начался длительный опыт совместного су¬
ществования — не в конфликте друг с другом, а бок о бок. Место митнагедов
в ожесточенной идейно-религиозной полемике с хасидами с этих пор заняли
еврейские просветители — маскилим.
С точки зрения внутреннего развития хасидского движения, этот пери¬
од характеризуется трансформацией руководства: место избранных лидеров,
возглавляющих небольшие кружки единомышленников, занимает династий¬
ное руководство, которое ведет за собой широкие массы.
Цадики, действовавшие в последней четверти XVIII в., как правило, не
становились во главе упорядоченного хасидского двора, а некоторые из них
даже не имели наследников. Вместе с тем их влияние было значительным
как в силу того, что с ними были связаны легендарные представления о глу¬
бокой богобоязненности, высокой духовности, отзывчивости к нуждам на¬
рода, так и потому, что они были авторами основополагающих сочинений,
в которых формулировалось учение хасидизма. Эти лидеры считали себя
принадлежащими к книжно-каббалистической элите и при этом действова¬
/109/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
ли силой своей личной харизмы и духовного творчества. Продолжатели их
дела, в основном потомки учеников р. Дов Бера из Межеричей, фактически
создали основные хасидские династии, действовавшие на протяжении всего
XIX — начала XX в.
Смягчение ожесточенной борьбы митнагедов с хасидами, а также переход
к династическому руководству, в результате которого получили развитие фор¬
мальные механизмы обращения к массам и абсорбции новых приверженцев
хасидского движения, дали возможность быстрого распространения и расши¬
рения границ хасидизма на его исторической родине, находившейся теперь
под властью российского престола. Государственные структуры, со своей сто¬
роны, проявляли сравнительную терпимость в отношении хасидов и не усма¬
тривали в поведении цадиков реальной угрозы общественному порядку.
От Николая I до Александра II, 1825—1881 гг.
Сравнительный либерализм властей прекратился с воцарением импера¬
тора Николая I. Быстрое распространение хасидизма и общественная актив¬
ность цадиков стали постоянной темой доносов и разбирательств. И действи¬
тельно, уже в 1825 г. был допрошен и арестован лидер любавичских хасидов
р. Дов Бер, сын р. Шнеура Залмана, по доносу (в данном случае исходившему
от одного из членов его семьи!) о том, что деятельность цадиков противоречит
Положению 1804 г., они корыстолюбиво наживают огромные суммы денег,
пользуются наивностью молодежи и захватывают власть в общинах. После
следствия, длившегося около полутора лет, с любавичского цадика были сня¬
ты все обвинения 19.
В своем стремлении к «исправлению» евреев власти нашли союзников в
лице маскилим, влияние которых в еврейском обществе в тот период возрас¬
тало. Большинство маскилим воспринимали хасидизм как наследие каббалы
и иррациональной традиции в иудаизме, а посему — как негативное явление,
угрожающее светлому будущему еврейской религии и общества. Критика ха¬
сидизма просветителями сосредотачивалась не только на мистико-духовных
аспектах этого учения, но и в не меньшей степени — на его общественных
проявлениях, и в частности на культе цадиков, которые изображались невеж¬
дами и мошенниками, вводящими в заблуждение еврейские массы и жажду¬
щими власти. Хасиды, в свою очередь, усматривали в маскилим и в их духов¬
ном мире реальную угрозу для целостности традиции, что требовало, с одной
стороны, принятия защитных мер, а с другой стороны — ведения ожесточен¬
ной борьбы с ними. Столкновения хасидов и маскилим происходили как в об¬
ласти литературного творчества и образования, так и в сфере общественной.
/110/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Они включали в себя доносы и сотрудничество с властями в попытках пере¬
тянуть их на свою сторону. С этой точки зрения, не было заметной разницы в
треугольнике отношений между хасидами, маскилим и властями в черте осед¬
лости, Царстве Польском или даже Галиции 20.
С начала царствования Николая I и до конца 1830-х гг. власти не выделяли
хасидизм как особое отрицательное явление в еврейской жизни, которое тре¬
бует дифференцированного подхода. Д.Н. Блудов, российский министр вну¬
тренних дел, выразил, по-видимому, общую позицию властей, когда писал в
1834 г., что с религиозной точки зрения нет принципиальной разницы между
хасидами и митнагдим. По его мнению, еврейская религия вообще, особен¬
но в ее талмудических аспектах, причиняет общественный и экономический
вред тем, что поощряет ненависть к чужим и препятствует интеграции евреев в
российское общество. Усилия по «исправлению» должны быть направлены на
все еврейское общество в целом, а следовательно, необходимо избегать враж¬
дебности по отношению к какой-либо одной группе, так как другая группа
может из этого сделать вывод, что ее позиция легитимна 21. Кроме того, не ис¬
ключено, что хасидизм рассматривался как позитивный фактор, способный
помочь власти в ее усилиях по ослаблению традиционного кагала, который
был окончательно упразднен в 1844 г.
Эта позиция властей нашла характерное выражение в мерах по ограни¬
чению еврейского книгопечатания, принятых с подачи маскилим, которые
стремились воспрепятствовать распространению книг по каббале и хасидиз¬
му. Указ 1836 г. о закрытии всех еврейских типографий в России за исключени¬
ем двух — в Вильно и Житомире (еще одна еврейская типография продолжала
функционировать в Варшаве, в Царстве Польском) ударил в равной мере по
всем группам еврейского общества 22.
Начиная с 1830-х гг. можно заметить изменение в отношении властей к
хасидам. Событием, повлиявшим на это, стало убийство (в 1836 г.) двух еврей¬
ских доносчиков в местечке Новая Ушица в Подолии. В ходе расследования
этого дела цадик р. Исраэль из Ружина был обвинен в том, что он дал свое
согласие на убийство. Несмотря на его высокое положение в хасидском обще¬
стве, он был арестован и находился под следствием около трех с половиной
лет, в течение которых власти осознали, насколько велико влияние цадиков,
как социальное, так и экономическое. В конце концов с р. Исраэля были
сняты все обвинения, но из-за установленного за ним полицейского надзора
и угрозы изгнания за пределы черты оседлости он решил покинуть Россию.
В 1841 г. после долгих мучений р. Исраэль обосновался в местечке Садагора,
расположенном в австрийской Буковине, и там воссоздал свой двор. Неодно¬
кратные настойчивые требования российских властей предать в их руки сбе¬
жавшего цадика были отклонены австрийцами 23.
/111/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Расследование событий в Новой Ушице было, по-видимому, первым слу¬
чаем, когда судебное дело против хасидского цадика было начато по собствен¬
ной инициативе властей, а не в качестве реакции на донос. С этих пор цадики
часто попадали под подозрение: слежка за цадиками, их аресты, следствие над
ними стали распространенным явлением. Из ушицкого дела власти сделали
определенные выводы: с одной стороны, усилилась тенденция к отмене ка¬
гала, который воспринимался как автономное полулегальное образование,
набравшее слишком большую силу, с другой стороны, укрепилось представ¬
ление о цадиках как о влиятельной надобщинной силе, более авторитетной,
чем кагал, который во многих местах находился в их власти. Почитание и под¬
держка, которых удостоился р. Исраэль в период своего заключения, вызвали
у власти сомнения в целесообразности репрессивных мер, направленных про¬
тив цадиков.
В ушицком деле проявился неоднозначный характер отношений между
маскилим и хасидами, зачастую обладающий надрегиональными измерения¬
ми. С одной стороны, маскил Иосеф Перл из галицийского Тернополя пере¬
дал австрийским властям информацию об убийцах, бежавших в Австрию, и о
сборе пожертвований в пользу Исраэля из Ружина, проводившемся в хасид¬
ских общинах Галиции. Эта информация, переданная также российским вла¬
стям, представляла для цадика реальную опасность. С другой стороны, были
маскилим, как, например, Бецалель Штерн из Одессы, которые всеми силами
помогали ему освободиться из тюрьмы и бежать из России. Сам р. Исраэль
состоял в родстве с авторитетным маскилом Ицхаком Бером Левинзоном, и
благодаря этому родству, а возможно, также и сравнительно умеренной по¬
зиции цадика в отношении процессов модернизации он оказал финансовую
поддержку изданию нескольких книг этого автора, которого в еврейских про¬
свещенных кругах называли «российским Мендельсоном» 24.
Несмотря на трения между хасидами и митнагдим, окончательно так и
не прекратившиеся, хасидизм был признан легитимным религиозным движе¬
нием всеми секторами еврейского традиционного общества. Это признание
привело к более интенсивному сотрудничеству и даже взаимовлиянию между
различными лагерями, в результате чего сформировалось общественное дви¬
жение, для которого были характерны сходные ментальные и поведенческие
модели в отношении к Гаскале и модернирзационным процессам в еврейском
обществе. Это движение, определяемое как «ортодоксия», проявилось в обще¬
ственно-политической сфере начиная с 1840-х гг. на фоне борьбы привержен¬
цев традиции с попытками власти и маскилим провести обширные реформы
в сфере еврейского образования и традиционной одежды.
В мае 1843 г. в Санкт-Петербурге собралась специальная комиссия для об¬
суждения плана реформирования системы еврейского образования (Комис-
/112/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
сия для образования евреев в России).
В ее состав вошли четверо делегатов,
представлявших различные секторы
еврейского общества в черте оседлости.
Любавичский цадик Менахем Мендель
Шнеерсон (Цемах Цедек) представлял
интересы хасидов, и его избрание сви¬
детельствовало о его статусе в глазах
властей. За два года до этого за ним
был установлен полицейский надзор:
Третье отделение собирало информа¬
цию о нем в течение нескольких лет
(до 1847 г.), но не обнаружило никаких
признаков подрывной деятельности 25.
В ходе работы комиссии представите¬
ли традиционного лагеря, среди ко¬
торых был и лидер митнагедов, глава
Воложинской иешивы р. Ицхак, объ¬
единились, стараясь противодейство¬
вать предложениям правительства или
хотя бы смягчить их. На всем протяже¬
нии дискуссий Цемах Цедек придер¬
живался прагматического подхода, до¬
пускавшего определенную степень сотрудничества с властями в проведении
реформы. Он понимал, что позиция власти непоколебима и открытое сопро¬
тивление здесь не имеет смысла. Вместо этого следует направить усилия на
достижение компромисса по принципу наименьшего зла 26.
Прагматическая позиция цадиков в России была заметна также и в от¬
ношении попыток властей провести реформы, касающиеся внешнего вида
евреев. Указ, предписывавший заменить традиционную еврейскую одежду на
платье европейского покроя, был издан в 1845 г. и должен был вступить в силу
в конце 1850 г. сначала в России, а затем в Царстве Польском. Хасиды, в осо¬
бенной степени приверженные традиционной форме одежды, должны были
более других пострадать от этого указа. Однако лидеры хасидского движения
в России склонялись к тому, чтобы подчиниться решению правительства, они
не считали оправданным жесткое противостояние указу со стороны некото¬
рых польских цадиков и, таким образом, демонстрировали толерантный и
сравнительно открытый характер хасидской ортодоксии в России по сравне¬
нию с более закрытым и консервативным ее характером в Польше, Галиции
и Венгрии. Тем не менее надрегиональный характер хасидизма был наглядно
/ 113 /
Р. Менахем Мендель Шнеерсон
из Любавичей (1789—1866).
Портрет работы неизвестного художника втор.
пол. XIX в. Из частного собрания, Москва
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
продемонстрирован в ходе кампании в защиту традиционной еврейской одеж¬
ды, приуроченной к визиту английского филантропа Мозеса (Моше) Монте-
фиоре в Россию в 1845 г. и его встрече с императором. Эта акция, в которой
участвовали видные цадики из Польши и Австрии (среди них — р. Исраэль из
Ружина, тогда уже живший в Садагоре, и р. Ицхак из Варки), свидетельство¬
вала о ростках хасидской ортодоксальной политики нового типа. Эта полити¬
ка предполагала отказ от традиционного ходатайства и использование вполне
современных моделей общественной деятельности, выходящей за пределы
государственных границ. Цадики из разных государств предпринимали со¬
вместные шаги для того, чтобы добиться объединения различных еврейских
кругов, стоящих на разных идеологических позициях, а также обратиться за
помощью к еврейству Западной Европы 27.
Хасидизм в России был связан с происходящим за пределами империи
не только в политических аспектах. Каббалистическая и хасидская литерату¬
ра распространялась по всей восточноевропейской диаспоре, а деятельность
цадиков по сбору средств в пользу хасидов, живших в Стране Израиля, не раз
пересекала государственные границы. Бывшие «российские» цадики, такие
как р. Исраэль из Ружина и его потомки, поселились в австрийской Букови¬
не, но многие хасиды остались в России; в свою очередь, семьи украинских
цадиков, особенно из Чернобыльской династии, вступали в брачные связи с
хасидскими династиями Галиции.
Несмотря на прагматический и компромиссный характер отношений
российских цадиков к властям, в идейном отношении они вставали обычно
в авангарде борцов со всем «новым», особенно с просвещенческими и се¬
куляризационными тенденциями. В хасидских сочинениях 1840—1850-х гг.
чувствуется активное противодействие идеям и литературе Просвещения.
Р. Натан из Немирова (1780—1845), лидер брацлавских хасидов после смерти
р. Нахмана, писал острые памфлеты, в которых парадоксальным образом об¬
наруживалось глубокое знакомство с текстами маскилим 28, а цадик р. Давид
Тверский из Тального (1808-1882) выступал в своих проповедях против Про¬
свещения и маскилим, а также против казенных еврейских училищ 29. О его
брате, Ицхаке из Сквиры (1812—1885), тем не менее известно, что он как раз
поддерживал казенное училище в своем городе 30. Враждебности хасидских ли¬
деров к Просвещению способствовала также сатирическая антихасидская ли¬
тература: произведения таких известных писателей-маскилим, как Мендель
Лефин, Йосеф Перл, Ицхак Бер Левинзон, Ицхак Эртер и другие.
Официальная отмена кагала в 1844 г. привела к неожиданным для вла¬
стей результатам. Существовавшие в еврейском обществе волюнтарные
структуры взяли на себя ряд функций старых институтов самоуправления.
Хасидские общины во главе с цадиком, обладающим огромным религиоз¬
/114/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
ным и духовным авторитетом, также взяли на себя ответственность за те
сферы общественной жизни, которые теперь, после отмены кагала, остались
без руководства 31. Организационная сила хасидского двора и спонтанно-во¬
люнтарный характер отношения хасидов к своим лидерам привели к укре¬
плению хасидизма как раз в тот период, когда создавались внешние условия
для его ослабления.
Смерть Николая I (1855), считавшегося «притеснителем евреев», и вос¬
шествие на престол императора Александра II сопровождались многочис¬
ленными надеждами, однако положение хасидов не изменилось к лучшему.
Маскилим, чье влияние в административных кругах росло, усмотрели в либе¬
ральных заявлениях нового императора новые перспективы для воплощения
своих планов и продолжали изображать хасидов как группировку, ведущую
подрывную работу против интеграции евреев в российское общество. Одна¬
ко многим представителям власти, особенно на местах, была известна лояль¬
ность хасидов в отношении государства, а также значительный экономиче¬
ский потенциал цадиков, и они во многих случаях предпочитали не нарушать
сложившееся равновесие сил. Так, например, в 1857 г. Министерство народ¬
ного просвещения отказалось разрешить издание антихасидского сочинения
Авраама Many. Аргументом стало то, что проводимое автором сравнение хаси¬
дов с саббатианцами «несправедливо и может возбудить сильный ропот и не¬
годование значительной части еврейского населения, составляющей по соб¬
ственному отзыву учителя Many 1/2 целого еврейского населения в России» 32.
Тем временем некоторые хасидские лидеры стремились к усилению сво¬
его политического влияния на выработку государственной политики по от¬
ношению к евреям. В этом отношении особенно заметна была деятельность
любавичских хасидов во главе с р. Менахемом Менделем Шнеерсоном 33.
Несмотря на это 1850—1860-е гг. проходили под знаком дальнейшего ухуд¬
шения отношения властей к хасидам, и причиной тому служило как опасение
неконтролируемого усиления цадиков, так и возрастающее влияние маски¬
лим. Указ, изданный императором в 1854 г., предписывал губернаторам черты
оседлости усилить надзор за цадиками и не допускать религиозных хасидских
сборищ без получения на то разрешения властей 34. Этим указом впервые была
документально засвидетельствована официальная политика в отношении ха¬
сидов, и представители власти действовали в согласии с ней по меньшей мере
до конца 80-х гг. XIX в.
Частью этой политики стало усиление полицейского надзора за деятель¬
ностью цадиков и обсуждение целесообразности их изгнания за пределы чер¬
ты оседлости (в большинстве случаев никогда не доходившее до принятия
практических шагов) 35. Ограничительные меры против хасидских лидеров
предпринимались в основном в южной части черты оседлости, где действо¬
/115/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
вали цадики чернобыльской династии, для которых был характерен доми¬
нантный стиль руководства, сопровождавшийся публичной демонстраци¬
ей своего влияния и агрессивным поведением по отношению к митнагдим.
Наибольшую известность получил р. Давид Тверский из Тального, который
часто разъезжал по городам и местечкам Украины. Эти визиты, целью ко¬
торых обычно был сбор средств на нужды цадика, сеяли большое смятение
как среди его паствы, так и в стане его противников. Сообщения о случаях
насилия, в которых были замешаны хасиды р. Давида, привели власти к вы¬
воду, что следует ограничить движение цадиков вообще и деятельность Дави¬
да Тверского в частности. В июне 1865 г., после одной из поездок р. Давида
за пожертвованиями, которая сопровождалась особенно тяжелыми случаями
насилия, генерал-губернатор юго-западных губерний издал постановление,
запрещавшее цадикам выезжать за пределы их местожительства без разре¬
шения губернских властей. От цадиков даже потребовали собственноручно
подписать свое согласие с этим постановлением. Инициатива генерал-губер¬
натора нанесла тяжелый удар по деятельности цадиков, но с точки зрения
властей она представляла собой альтернативу применению более суровых
мер — таких как аресты, возбуждение судебных преследований или изгнание
за черту оседлости 36. В отдельных случаях были действительно выпущены по¬
становления об изгнании цадиков. Так, например, в 1867 г. был издано рас¬
поряжение высылке Гедалии Аарона Рабиновича из Соколовки (Ильинецкая
династия), который отказывался подписать обязательство о невыезде. Цадик
упредил удар и по собственному почину бежал в Румынию. Его сыну, Ицхаку
Иоэлю, не повезло, и в 1869 г. он был арестован и выслан 37. Его внук, цадик
Иехошеа Гешель Рабинович, рассказывал, что и его лишили свободы переме¬
щения в конце 80-х гг., когда он переехал из Кантакузово Херсонской губер¬
нии в Монастырище Киевской губернии 38.
Несмотря на эффективность постановления властей, его можно было
обойти, и время от времени цадики получали разрешения на выезд, либо за
взятку, либо по медицинским обстоятельствам 39. Как следствие, их деятель¬
ность не была абсолютно прекращена. Власти понимали, что нельзя полно¬
стью избежать хасидской активности и что крайние меры не только безна¬
дежны, но и противоречат другим интересам властей, таким как сохранение
порядка и стабильности или экономическое развитие края, которому немало
способствовали хасидские дворы. Ограничение свободы перемещения цади¬
ков было, без сомнения, сдерживающим фактором в развитии хасидизма в
Юго-Западном крае в последней четверти XIX в. Оно действовало в течение
тридцати лет и было официально отменено лишь в 1896 г.40
/116/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
От Александра III до Николая II, 1881—1917 гг.
Погромы на юге России в 1881—1882 гг. всколыхнули все слои еврейско¬
го общества, привели к пробуждению общественного и национального само¬
сознания и к переменам почти во всех областях, и в том числе — к волнам
внутренней миграции (из деревни в большой город) и эмиграции (в страны
Запада и особенно в Америку). Эти перемены вызвали подъем популярности
новых идейных течений и в значительной мере повлияли на хасидизм. Мно¬
гие десятки цадиков действовали в этот период в черте оседлости, а хасидские
миньяны (в основном хабадские) — также и в различных городах за ее предела¬
ми, таких как Москва, Харьков и Киев 41.
Если в предыдущие периоды основными противниками хасидизма были
митнагдим и Гаскала, то теперь главным врагом стала секуляризация, усили¬
ваемая подъемом национального и социалистического движений в среде со¬
временного еврейства. Процессы русификации и аккультурации, снижение
статуса старого традиционного образования и его идеалов, упадок еврейских
местечек, традиционная жизнь в которых стала в большей степени ассоции¬
роваться с вырождением и консерватизмом, ускоренная индустриализация и
урбанизация, сопровождаемая обнищанием и социальным расслоением, —
все эти факторы создавали новый духовный и общественный климат, благо¬
приятствовавший революционным сдвигам и ломке устоявшихся представ¬
лений. Новая литература и журналистика на иврите и идише стала не только
средством эстетического самовыражения, но также основным инструментом
общественного диалога и формирования новых идей в еврейском обществе.
Представители ортодоксальных течений, и в том числе хасидизма, не
принимали заметного участия в этом диалоге, однако они не были глухи к
происходящему и предпринимали различные действия в организационно¬
политической и духовно-воспитательной сферах, пытаясь замедлить про¬
цесс разрушения. Борьба хасидских лидеров с «новыми веяниями» обостри¬
ла присущую им тенденцию к закрытости и подозрительности и придала их
руководству элементы консерватизма и фанатизма, однако в России такая
реакция хасидских лидеров была менее выражена, чем в Польше, Галиции и
Венгрии.
Решительное противоборство модернистским течениям действитель¬
но привело большую часть российских цадиков к неприятию сионистского
движения, активисты которого воспринимались большей частью как «пре¬
ступившие Закон», с которыми нельзя сотрудничать 42. Пятый лидер движе¬
ния Хабад, Шалом Дов Бер Шнеерсон из Любавичей дал этому публичное
идейное обоснование. Его взгляды основывались не только на противобор¬
стве мессианскому активизму, характерному, по его мнению, для сионизма,
/117/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
но и на политической неприемлемости сионистской идеи и ее ярко выра¬
женного светского характера 43. Другие белорусские цадики (в Карлине и
Ляховичах) также получили известность в качестве борцов с сионизмом; с
другой стороны, адморам южной части черты оседлости и в Румынии (ди¬
настии Чернобыля, Ружина и Бендер) были ближе национальные идеи, и
они даже открыто высказывали их и жертвовали деньги отделениям движе¬
ния «Хиббат Цион» и филиалам Сионистской организации 44. Вместе с тем
можно утверждать, что в начале XX в. ни один видный хасидский лидер не
поддерживал сионизм открыто 45. Лидеры хасидизма отвергали также соци¬
алистические и революционные настроения, истолковывавшиеся как выра¬
жение бунта против традиции и отрицание Бога, но в этом вопросе не было
заметного публичного и систематического сопротивления. Этот факт сви¬
детельствует не только о неспособности рабочего движения пустить корни
среди хасидской молодежи, но и о том, что сионистское движение, апел¬
лировавшее к некотором традиционным ценностям, было популярно и в
религиозных кругах и поэтому воспринималось как более опасное. Борьба
с сионизмом, в которой принимали участие цадики наравне с видными ли¬
товскими раввинами, очертила контуры ортодоксального лагеря, в рамках
которого бывшие недруги могли действовать совместно перед лицом общего
врага. Однако до создания «Агудат Исраэль» как политической организации
(1912), представлявшей интересы всей еврейской религиозной общины, в
том числе и хасидизма, в царской России ортодоксия не сумела добиться за¬
метного влияния на общественно-политической арене.
Хасидские лидеры не высказывали определенного мнения и по поводу
эмиграции. Неприятие сионизма делало невозможным для них открытое одо¬
брение массовой репатриации в Страну Израиля; Америка же, основное на¬
правление эмиграции множества евреев из России, воспринималась обычно
как «трэйфэне медина» (некошерное государство) — неизведанная страна, в
которой неясно до какой степени можно будет соблюдать еврейскую тради¬
цию и хасидский образ жизни 46.
Хасидизм, таким образом, не предлагал новых решений для основных во¬
просов, встававших перед еврейским обществом. Его лидеры, по сути, были
сторонниками сохранения существовавшего порядка вещей, считая галут яв¬
лением необходимым и в целом положительным, обладающим определенным
духовным измерением. Они были убеждены, что только приверженность ста¬
рой традиции и вере в цадиков принесет долгожданное спасение 47.
Сохранение хасидизмом своего влияния в еврейском обществе в зна¬
чительной мере зависело от стабильности традиционной системы образо¬
вания. Настоящим переворотом в этой области стало создание больших ха¬
сидских иешив. Местные, как правило, небольшие иешивы существовали во
/118/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
многих общинах Восточной Европы, но иешива как надобщинный институт
и пестуемый ей идеал «знатока Торы» или «ученого» связывались в те вре¬
мена в основном с литовским митнагедским обществом. Хасидские лиде¬
ры с подозрением относились к большим иешивам нового типа и поощряли
самостоятельную учебу в общинных бейт-мидрашах и клойзах 48. Принятие
новой литовской модели хасидами связано не столько с возвратом к тради¬
ционному культу талмудической учености, сколько с пониманием того, что
институализованное обучение в иешиве может стать достойным ответом на
проблему секуляризации. Хасидские надобщинные иешивы были созданы
в начале 1880-х гг. в Галиции и Царстве Польском, но в Россию это явление
пришло сравнительно поздно 49. Первая хасидская иешива, созданная в Рос¬
сии по литовскому образцу, была основана в 1888 г. тальненскими хасидами
в городе Умань Киевской губернии 50. Однако наиболее влиятельной иеши¬
вой, в которой традиционное изучение Талмуда сочеталось с формировани¬
ем особого хасидского этоса учености, стала хабадская иешива «Томхей тми¬
мим», основанная в Любавичах в 1897 г.51
Другим важным процессом, характерным для хасидского движения в рас¬
сматриваемый период, стал экономический крах многих хасидских дворов.
Усиливавшееся обнищание и снижение привлекательности двора приводили
к уменьшению количества пожертвований и ослаблению его влияния. Этот
процесс, достигший пика в годы Первой мировой войны, приводил к переезду
целых хасидских дворов из небольших местечек в крупные города. Такое пере¬
мещение диктовалось не только силой обстоятельств, требовавших вхождения
в новую урбанистическую структуру, где жили сотни тысяч евреев, но и ре¬
альным бедственным экономическим положением, так как в своем прежнем
местечковом формате двор то и дело оказывался на грани банкротства. Пер¬
вая мировая война, революция и Гражданская война на Украине обострили
обнищание хасидских дворов, но еще более катастрофическое влияние эти
события оказали на ощущение физической безопасности среди евреев. Гра¬
беж и насилие в отношении еврейского населения как следствие подозрений
в поддержке им одной из враждующих сторон не миновали и дворы цадиков.
Наоборот, дворы в небольших местечках воспринимались как инструменты
давления и шантажа в отношении евреев и как центры сосредоточения богат¬
ства. Следствием военных и революционных катаклизмов стало прекращение
деятельности многих дворов: семьи цадиков снимались с насиженных мест,
оставив свое имущество и свою паству. Часть цадиков эмигрировали в боль¬
шие города, некоторые бежали в США 52.
/119/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Белоруссия, Полесье и Литва
Процессы укоренения и распространения хасидизма в северных губерни¬
ях черты оседлости характеризуются двумя основными чертами: пониманием
цадиками, действовавшими в этих районах, своей региональной самобытно¬
сти и трудностями, с которыми сталкивалось хасидское движение при распро¬
странении с востока на запад, из Белоруссии в Литву.
В Белоруссии (Витебская, Могилевская и Минская губернии) до 1777 г.
особенно заметное влияние оказывали два хасидских лидера, ученики р. Дова
Бера («Великого Магида») из Межеричей: р. Менахем Мендель из Витебска
(1730—1788), ставший предводителем минских хасидов еще при жизни своего
учителя, и р. Авраам из Калиска (1741—1810). В 1777 г. они возглавили группу
репатриантов в Страну Израиля. Мотивы этой репатриации, в которой хасиды
составляли меньшинство, совершенно неясны; вероятно, имели место надежды
избавиться от преследований митнагдим, мессианские мотивы, желание рас¬
пространить хасидизм в Стране Израиля и, разумеется, традиционные духов¬
ные мотивы, усматривающие в Святой земле лучшее место для служения Богу 53.
Репатриация лидеров хасидизма в Страну Израиля обострила необходи¬
мость упорядочить структуру руководства в среде оставшихся в Белоруссии
хасидов. Поначалу оба репатриировавшихся цадика стремились сохранить за
собой руководящие функции. Они пытались поддерживать живой контакт
со своими хасидами посредством пастырских посланий из Земли Израиля,
но этот опыт не удался 54. Многие хасиды, нуждавшиеся в живом контакте с
цадиком, отправились к другим хасидским лидерам, большей частью на Во¬
лынь, которая была тогда еще частью Польского королевства. Менахем Мен¬
дель и Авраам из Калиска выступили против инициативы некоторых своих
хасидов обратиться за руководством и наставничеством к «внешнему» цадику
(по-видимому, р. Шломо из Карлина) 55; не исключено, что в этом они усма¬
тривали угрозу своей власти. Вместо этого они предложили своим хасидам со¬
ветоваться с другими хасидскими лидерами, действовавшими в Белоруссии,
во главе с р. Шнеуром Залманом, жившим тогда в Лиозно. Поскольку поездки
к цадикам в Польшу не прекратились, р. Менахем Мендель пришел к выво¬
ду, что ему следует отказаться от лидерства, и попросил р. Шнеура Залмана
(по-видимому, в 1786 г.) взять на себя руководство хасидами. После долгого
сопротивления и колебаний р. Шнеур Залман согласился на это предложение,
но прошло еще три года, прежде чем он стал лидером большинства хасидов в
России, после первого раздела Польши установившей свою власть еще толь-
/120/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
ко над землями Витебской, Могилевской и Минской губерний 56. С этих пор
история хасидизма в трех белорусских губерниях в значительной степени свя¬
зана с хасидизмом Хабад.
После кончины р. Шнеура Залмана (1812) вспыхнул конфликт между его
наследниками — сыном, Дов Бером (1773-1827), и учеником, Аароном ха-
Леви Горовицем (1766—1828), завершившийся расколом. Часть хасидов оста¬
лась на стороне р. Дов Бера, создавшего свой двор в местечке Любавичи, а
другие последовали за р. Аароном, который был главой хасидов в Староселье
Могилевской губернии. Другой конфликт произошел после смерти третьего
любавичского цадика, Менахема Менделя бен Шломо Шахна Шнеерсона (Це-
мах Цедек, 1789—1866), внука р. Шнеура Залмана и зятя Дов Бера. Его млад¬
ший сын, Шмуэль (1834—1882), стал наследником Любавичской династии, а
его старшие братья основали отдельные дворы в Копысе, Лядах и Нежине 57.
На исторической территории Полесья, то есть в Гродненской губернии и
западной части Минской губернии, в последней четверти XVIII в. распростра¬
нение хасидизма было затруднено. Об этом свидетельствует судьба ряда уче¬
ников Магида из Межеричей: Леви Ицхак из Бердичева 58, например, в 70-е гг.
был назначен председателем суда и главой иешивы в Пинске, но летом 1785 г.
был смещен, вероятно, под давлением митнагдим, и перебрался в Бердичев
Волынской губернии. Хаим Хайкел из Индуры (скончался в 1787 г.) просла¬
вился энергичной пропагандой хасидизма, но сам он и его двор (основанный,
вероятно, после смерти Магида в 1772 г.) регулярно подвергались острой кри¬
тике проповедника Давида из Макова. Шмуэль, сын Хаима Хайкела, унасле¬
довал место отца, но его сыновья не пошли по его стопам, и Индурская ди¬
настия прервалась всего через два поколения, под нажимом митнагдим или,
возможно, вследствие неспособности наследников р. Хаима встать во главе
хасидского движения в регионе 59.
Самым заметным очагом хасидизма в Полесье был Карлин-Столин, но
даже там распространение хасидизма столкнулось с серьезными трудностями.
Хотя основатель династии, Аарон бен Яаков («Великий») из Карлина (1736—
1772), был предводителем хасидов еще в дни Магида из Межеричей, однако
его ученик и наследник Шломо бен Меир из Карлина (1738—1792) не смог
продолжить дело своего учителя. Под давлением митнагдим Пинска он вы¬
нужден был покинуть город (по-видимому, в 1786 г.) и поселиться во Влади¬
мире-Волынском 60. В 1792 г. он погиб, и лишь спустя много лет его ученики
вернулись в Полесье руководить хасидами. Это были: Ашер Перлов из Сто¬
лина (1765—1826), сын Аарона «Великого», изгнанный во Владимир-Волын¬
ский, он переехал в польский Желихов и в конце концов вернулся в Столин
и возродил карлинский хасидизм; Мордехай из Ляховичей (1742—1810), все
это время остававшийся в Полесье и основавший независимую династию, из
/121/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
которой со временем выросло еще несколько династических ветвей: Кайдано¬
во, Кобрин и Слоним. Все они действовали в Полесье и считали себя частью
Карлинской династии 61.
В литовских губерниях (Виленской и Ковенской) хасидизм стал заметным
явлением лишь в восточной части, в основном в городах Вильне, Вилкомире
и Ковно. Хасиды пришли в эти губернии уже в конце XVIII в., но до первой
трети XIX в. их присутствие там было незначительным, что, несомненно, свя¬
зано с доминированием митнагдим и преобладанием атмосферы враждебно¬
сти по отношению к хасидам 62. Здесь не было цадиков, и вся хасидская дея¬
тельность на протяжении XIX в. ограничивалась маленькими «миньянами».
Большинство хасидов в Литве были связаны с Хабадом просто в силу близости
к Витебской губернии, центру этой ветви хасидизма. Остальные относились к
ляховичской ветви.
В западной части литовских губерний присутствие хасидов почти не
ощущалось. Этот факт был вызван, по-видимому, не влиянием митнагдим, а
скорее мощным воздействием немецкой культуры в районах, прилегающих к
Курляндии и Восточной Пруссии. Можно даже сказать, что именно западно¬
европейская Гаскала, а не митнагдим, затормозила распространение хасидиз¬
ма в Литве 63.
Украина
Земли юго-западных губерний (Киевской, Волынской и Подольской)
были присоединены к России лишь во время второго раздела Польши (1793).
В этих районах, на исторической родине хасидизма, было множество хасидов
и цадиков. Хасидское движение пользовалось здесь успехом с самого начала
и почти не встречало систематического и организованного сопротивления.
Естественное приятие хасидизма создало основу для развития различных мо¬
делей хасидского руководства. Наряду с большими потомственными дворами
действовали также отдельные лидеры, которые не создавали династий и не
возглавляли обычный хасидский двор, но были известны уже при жизни сво¬
ей особой святостью, и их учения стали важной вехой развития хасидизма.
Среди них следует отметить учеников Магида из Межеричей р. Леви Ицхака
(около 1740—1809), автора книги «Кдушат Леви», который был весьма почита¬
емым раввином в Бердичеве, и р. Зеева Вольфа из Житомира (умер в 1798), ав¬
тора сборника проповедей и толкований «Ор ха-Меир». Моше Хаим Эфраим
из Судилкова [ 1740(?)—1800(?)], внук Бешта, также относился к этой группе
влиятельных хасидов. В своем сочинении «Дегель махане Эфраим», где из¬
ложены многие аспекты учения его деда, он предстает как человек, претенду¬
/122/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
ющий на роль лидера, однако остается совершенно неясным, удалось ли ему
это осуществить.
Его брат, р. Барух из Тульчина [1756(?)—1811], который со временем пе¬
реехал в Меджибож, поближе к могиле деда, представлял собой совершенно
иной тип хасидского лидера. Он прославился не своим творческим наследием,
а властным характером и тем, что одним из первых начал практиковать «цар¬
скую модель» хасидского руководства. Эта модель придавала особое значение
демонстрации роскоши, в которой жил цадик, и признавала «мирское служе¬
ние» (ха-авода бе-гашмиют) как высший путь служения Богу, доступный лишь
цадикам. Кроме того, р. Барух был известен своими многочисленными кон¬
фликтами с другими хасидскими лидерами, прежде всего с р. Шнеуром Залма¬
ном. Такая черта его характера проистекала, по-видимому, от осознания себя
наследником Бешта, не нашедшим признания у цадиков своего поколения 64.
В географическом аспекте можно выделить две основные модели хасид¬
ского руководства: «большие» династии, лидеры и последователи которых
были рассредоточены по всем трем юго-западным губерниям (а также в Бе¬
лоруссии, Царстве Польском, Галиции и Бессарабии), и «малые» династии
(Опатов, Саврань, Ильинцы, Брацлав, Бендеры), обосновавшиеся вместе со
своими хасидами в близко расположенных друг от друга местечках. Черно¬
быльская и ружинская ветви хасидизма были, без сомнения, наиболее значи¬
тельными движениями в этом регионе Их успех можно отнести на счет их ли¬
деров первой половины XIX в. — Мордехая Тверского и Исраэля Фридмана.
Мордехай Тверский (ок. 1770—1837), сын чернобыльского проповедника
р. Нахума, унаследовал статус цадика от своего отца в 1797 г. Он, как и р. Барух
из Меджибожа, жил в роскоши. От хасидов он требовал полного экономи¬
ческого участия в жизни двора и для этого ввел систему добровольного на¬
логообложения, включавшую постоянные налоги (маамадот) и нерегулярные
поборы (хаарахот), которыми облагались хасидские общины, помимо «ис¬
купительных» пожертвований (пидьонот), которые каждый хасид должен был
платить при встрече с цадиком. Восемь его сыновей также стали цадиками,
некоторые еще при его жизни, а большинство — после его смерти. Разделение
династии, как правило, предотвращало борьбу между наследниками. У каж¬
дого из них было достаточно хасидов, и чернобыльские дворы сравнительно
мирно сосуществовали бок о бок 65. Тенденция к раздроблению династий до¬
стигла апогея в конце XIX в., и во многих украинских местечках обосновались
дворы цадиков.
Исраэль Фридман (1796—1850), внук Магида из Межеричей, был осно¬
вателем Ружинско-Садагорской династии. В 1813 г., в 17-летнем возрасте он
унаследовал место своего брата в качестве лидера скромной хасидской общи¬
ны и по прошествии непродолжительного времени уже стоял во главе велико¬
/123/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
лепного двора в Ружине (Киевская губерния), горделиво демонстрируя свое
богатство, подобно польским шляхтичам. Он пользовался поддержкой боль¬
шинства цадиков своего времени, и его позиция еще более упрочились после
1825 г., когда большая часть цадиков предыдущего поколения ушла из жизни.
После того как р. Исраэль был обвинен в причастности к убийству еврейских
доносчиков в Ушице, попал под следствие и был арестован, он бежал из Рос¬
сии в Австрию и там заново отстроил роскошный двор в Садагоре. Это един¬
ственный в своем роде пример большого хасидского двора, полностью пере¬
местившегося из одной страны в другую, при том что большая часть хасидов
по-прежнему оставались в России и была вынуждены теперь тайно пересекать
границу, чтобы совершить паломничество ко двору своего ребе 66. После смер¬
ти р. Исраэля руководство созданным им движением также было поделено
между его сыновьями, которые основали самостоятельные дворы в Галиции,
Молдавии и Бессарабии. Единственным цадиком из Ружинской династии,
который вернулся на Украину, был Шалом Иосеф Фридман из Бухуши, кото¬
рый женился на дочке цадика из Чернобыльской династии и основал двор в
местечке своего тестя, Шпикове 67.
С переездом ружинского двора в Австрию Чернобыльская династия ста¬
ла единственной крупной ветвью хасидизма на Украине, в основном в силу
активности ее цадиков и их склонности посещать общины. Вместе с тем в
России остались многие ружинские хасиды, продолжавшие хранить верность
своим дворам, переместившимся за рубеж. В значительной мере Чернобыль¬
ская и Ружинская династии были очень похожи друг на друга, и не случайно
они постоянно переплетались брачными узами. Цадики двух этих ветвей ха¬
сидизма (ружинской в большей степени, чем чернобыльской) придержива¬
лись «царской модели» служения Богу; их отношение к современности было
прагматичным, то же касалось и их общественной деятельности. Обе дина¬
стии рассредоточились во втором поколении между дворами многочисленных
наследников, и для обеих династий были характерны большие и богатые дво¬
ры и развитая организационная структура.
Как уже было сказано, другие, «малые», династии концентрировались в
ограниченных районах.
В Подольской губернии выделялась Опатовская династия, основатель
которой, Авраам Иехошуа Гешель из Опатова (ок. 1748—1825), был известен
своими проповедями и толкованиями, собранными в книге «Охев Исраэль».
Он был раввином и цадиком в разных местах, в том числе в польском горо¬
де Опатове. В 1814 г. он переехал в Меджибож, где получил известность как
«старейший цадик» своего поколения. Р. Авраам Иехошуа назначал резников,
раввинов и проповедников в общинах, занимался сбором средств на благо¬
творительные цели и урегулированием внутренних конфликтов между хаси-
/124/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Портреты хасидских цадиков. Лубок. Бумага, олеография. Германия (?), конец 1910-х гг.
Музей истории евреев в России, Москва.
В верхнем ряду (слева направо) — сыновья р. Мордехая из Чернобыля: р. Авраам из Турийска (1806—
1889), р. Аарон из Чернобыля (1787-1872), р. Давид из Тального (1808-1882), р. Йоханан из Ротми¬
стровки (1816-1895); в нижнем ряду — р. Лаков Ицхак из Макарова (1842—1916, внук р. Мордехая из
Чернобыля), р. Шнеур Залман из Ляд (1745—1812), р. Ицхак из Несухоижей (Несхижа) (1790—1868)
дами. Его влияние не ограничивалось рамками хасидских общин региона, к
мнению опатовского цадика прислушивались по всей черте оседлости и даже
за пределами России 68. Наследники Авраама Иехошуа Гешеля не достигли по¬
добного уровня влияния, их деятельность сосредоточилась в основном вокруг
местечек, где они жили, — Меджибожа, Зенькова и Куриловцев.
Другая влиятельная династия была основана Моше Цви Гитерманом из
Саврани (ок. 1775—1838), который был раввином города и стал лидером хаси¬
дов в 1811 г. Его авторитет как цадика постепенно возрастал, он выдвинулся в
один ряд с р. Исраэлем из Ружина и р. Мордехаем из Чернобыля и, подобно
им, налаживал сбор средств в пользу хасидов в Стране Израиля, связанных с
колелем (землячеством) Волыни. Хасиды р. Моше Цви большей частью были
/ 125 /
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
сосредоточены в Подолье и частично в Бессарабии. Он приобрел репутацию
ученого и мудреца, который проявлял интерес к происходящему в окружа¬
ющем мире, и, возможно, благодаря этому его ценили маскилим. Стиль его
руководства отличался авторитарностью, в 1830-е гг. он вел жестокую борьбу
с брацлавскими хасидами. Как и наследники цадика из Опатова, наследни¬
ки р. Моше не достигли его уровня влияния. Его сын (Шимон Шломо) и два
внука (Моше и Давид) стали цадиками в Саврани и Чечельнике. Возвышение
внуков р. Моше Цви было связано с особым статусом чернобыльских цади¬
ков, так как после безвременной кончины отца они росли в доме р. Иохана¬
на из Ротмистровки, одного из выдающихся представителей Чернобыльской
династии, который усыновил их, позаботился об их образовании, выдал свою
дочь за р. Давида и устроил брак р. Моше с внучкой р. Аарона из Чернобыля 69.
Киевская губерния была крупнейшим центром ружинской ветви хаси¬
дизма, местом проживания нескольких влиятельных чернобыльских цади¬
ков (р. Аарона из Чернобыля, р. Давида из Тального, р. Ицхака из Сквиры), а
также небольшой Ильинецко-Соколовской династии. Эту династию основал
Гедалия Аарон Рабинович (ок. 1815—1878), внук Гедальи из Ильинцев (скон¬
чался в 1803 г.), автор сборника проповедей «Тшуот хен». Гедалия Аарон был
цадиком в городе Ильинцы, а с 1852 г. — в Соколовке. Как уже было сказа¬
но, в 1867 г. он бежал из-за доноса в Румынию, а один из его сыновей, Ицхак
Иоэль (1840—1885), был арестован и выслан за черту оседлости. После своего
освобождения (1874) р. Ицхак Иоэль обосновался в Кантакузово Херсонской
губернии и стал единственным цадиком, поселившимся в Новороссии.
Волынская губерния была главной ареной деятельности цадиков турий¬
ской (от м. Турийск) ветви Чернобыльской династии наряду с «малыми» ди¬
настиями, созданными потомками и учениками р. Иехиеля Михла, магида из
Злочева (1726—1781). Сыновья р. Иехиеля Михла основали дворы в Радивило¬
ве, Новгороде-Волынском и Кременце. Его зять, р. Давид (умер в 1809 г.), ос¬
новал династию в Степани, просуществовавшую до 30-х гг. XX в. Один из сы¬
новей р. Давида, Иехиель Михл Печник, был приглашен местным польским
шляхтичем поселиться в Березне и основал там свою собственную династию.
Двое видных учеников р. Иехиеля Михла также основали местные династии,
которые имели успех: Мордехай Шапиро (1748—1800) в местечке Несухойжи
и Гирш Лейб Ландау (умер в 1812 г.) в Олевске. Еще один видный хасид, дей¬
ствовавший на Волыни, — Яаков Йосиф Сфарад из Острога (умер в 1849 г.),
внук Яакова Иосефа бен Иехуды, одного из виднейших учеников Магида из
Межеричей.
Особое место занимал брацлавский хасидизм, последователи которого
были сосредоточены в основном в местечках Киевской и Подольской губер¬
ний (Брацлав, Умань, Теплик, Тульчин, Торговица, Чигирин), а также в во¬
/126/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
лынском Бердичеве. На протяжении всего XIX в. это было маленькое — по
количеству приверженцев и материальной базе — и гонимое ответвление ха¬
сидизма; однако оно сохраняло свою обособленность и являлось притчей во
языцех в еврейском обществе 70.
Р. Нахман (1772—1810), правнук Бешта, был, несомненно, исключитель¬
ной фигурой среди хасидских лидеров. Он заявлял о себе как об «истинном
цадике», единственном в своем поколении, и тем самым бросал вызов другим
лидерам хасидского движения (некоторых из них он назвал «известными лже¬
цами»), которые по большей части мирно сосуществовали друг с другом, не
требуя для себя предпочтения. Высокой самооценкой, подпитывавшейся так¬
же мессианскими притязаниями, р. Нахман навлек на себя гнев нескольких
цадиков, и среди них — своего дяди, р. Баруха из Меджибожа. Однако борьбу
против него возглавил р. Арье Лейб из Шполы, по прозвищу «Саба» («Шполь¬
ский Дед»), имевший большой авторитет у хасидов (с ним связано множество
легенд, но достоверных данных о нем очень мало). Точные мотивы конфликта
между двумя цадиками неизвестны. Некоторые считают, что «Саба» обвинил
р. Нахмана в саббатианской ереси, другие же расценивают это противостоя¬
ние как конфликт между двумя моделями хасидского руководства — народ¬
ный цадикизм, характерный для Шпольского Деда, и духовно-элитарный ца¬
дикизм р. Нахмана. Личные мотивы, связанные с определением сфер влияния
двух вождей хасидизма, по-видимому, усугубили конфликт.
Р. Нахман не оставил после себя потомства, и его хасиды не смогли прий¬
ти к соглашению касательно личности наследника. Брацлавский хасидизм
остался без духовного лидера, но не утратил своей жизненной силы. Главен¬
ствующую роль в движении занял после смерти р. Нахмана его ближайший
ученик Натан Штернгарц из Немирова. Беспримерная преданность делу со¬
хранения наследия р. Нахмана и литературные и организаторские способно¬
сти сделали р. Натана своего рода «исполняющим обязанности» цадика. Он
издал, еще при жизни своего учителя, книгу «Ликутей Мохаран» с изложе¬
нием главных аспектов учения р. Нахмана, а после его смерти — остальные
его произведения, включая обширный биографическо-агиографический ма¬
териал. Его труд, по сути, определил исторический облик брацлавского хаси¬
дизма и мифический образ р. Нахмана как цадика, чье влияние на «мертвых
хасидов» (презрительное прозвище, которое дали брацлавской общине другие
хасиды) было сильнее, чем влияние любого живого лидера. Борьба с брацлав¬
скими хасидами продолжалась внутри хасидского движения также и во време¬
на р. Натана, в 1835—1838 гг. ее вел р. Моше Цви из Саврани. Корни этого кон¬
фликта также неясны, по-видимому, он был вызван целой группой причин:
подозрения во франкистской и саббатианской ереси, недоверие к хасидизму,
существующему без цадика, а также определенные личные факторы 71.
/127/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
После смерти р. Натана у брацлавских хасидов не оказалось лидера под¬
ходящего масштаба. Постоянно растущий культ умершего ребе, достигавший
апогея в Страшные Дни, когда брацлавские хасиды совершали паломничество
к его могиле в Умани для «святого собрания», как они сами это называли, при¬
вел к третьей волне столкновений — в 60-е гг. XIX в. Эта борьба была вдохнов¬
лена чернобыльскими цадиками, и ее возглавили хасиды Тального и Сквиры.
Она выражалась, помимо всего прочего, в притеснениях и физическом наси¬
лии в отношении хасидов, прибывавших в Умань, в надругательстве над их
книгами и преследовании приверженцев брацлавского хасидизма, занимав¬
ших различные должности в общинах Украины 72.
Еще одним цадиком, последователи которого продолжили свое существо¬
вание в качестве отдельной хасидской общины, не назначая ему наследника,
был р. Рафаэль из Бершади (скончался в 1827 г.), ученик и преемник р. Пин¬
хаса из Корца. О его личности известно очень мало, но в памяти хасидов он
остался человеком невероятной скромности и честности 73. Общины хасидов
р. Рафаэля в Подольской губернии действовали спустя долгое время после
его смерти, известно также о конфликтах между ними и другими хасидами 74.
Общепринятым являлось представление о бершадских — так же как и о брац¬
лавских — хасидах как о бедняках, довольствующихся малым, однако вряд ли
эта характеристика в действительности отражала их особенности.
Новые губернии (Бессарабия и Новороссия)
и внутренние области России
В Бессарабии, присоединенной к России в 1812 г., хасидское движение
появилось еще в XVIII в., и под властью Российской империи оно продолжа¬
ло развиваться и крепнуть. Впрочем, эти районы всегда находились на окра¬
ине основных зон развития хасидизма, они испытывали влияние, но сами
его не оказывали. По всей видимости, первой значимой хасидской фигурой,
действовавшей в Бессарабии, был Хаим Тирер из Черновиц (умер в 1818 г.),
известный автор хасидских толкований («Беэр Маим Хаим», «Сидуро шель
Шаббат»), который занимал также пост раввина в Кишиневе. Он уехал в Стра¬
ну Израиля примерно в 1813 г., и основная часть его деятельности в Бессара¬
бии относилась к периоду до российского владычества.
В Бессарабии не возникло местных хасидских династий, обладавших
созданными на этой земле автохтонными дворами или представленных по¬
стоянно действующими цадиками. Лишь две династии были связаны с этими
районами: бендерская и рашковская ветви хасидизма, хотя Рашков находится
не в Бессарабии, а лишь примыкает к ее границе 75.
/128/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Рашковская ветвь хасидизма связывается хасидской традицией с р. Шаб¬
таем из Рашкова, учеником Бешта и автором известного молитвенника, одна¬
ко маловероятно, чтобы он или его сын Иосеф (умер в 1820 г.) возглавляли об¬
щину своих хасидов, и точно известно, что они не имели двора. В этом смысле
можно рассматривать сына р. Иосефа, Шломо Залмина Цукермана (умер в
1852 г.), как основателя хасидской ветви, которая просуществовала вплоть до
Второй мировой войны.
Бендерская ветвь хасидизма основана Арье Лейбом Вертхеймом (ок. 1772—
1854), братом р. Моше Цви из Саврани. Это течение в хасидизме начало дей¬
ствовать вскоре после приезда р. Арье Лейба в Бендеры в 1814 г. в качестве го¬
родского раввина и прекратила свое существование спустя четыре поколения.
После смерти последнего ребе Шимона Шломо Вертхейма (ок. 1865—1925) его
сын Иосеф (1881—1946) предпочел служить раввином и отказался взойти на
престол цадика 76.
Из-за окраинного положения Бессарабии на карте хасидизма и немного¬
численности местных династий там было весьма заметно влияние дальних ца¬
диков, особенно р. Моше Цви из Саврани и р. Исраэля из Ружина, который
провел некоторое время в Кишиневе после бегства из Ружина и даже соби¬
рался остаться там 77. В северных районах определенное влияние имел р. Меир
из Перемышля (умер в 1850 г), который прожил несколько лет в Липканах. В
Бессарабии были представлены также и хасиды Хабада, и куриловицкие хаси¬
ды — ответвление опатовского хасидизма.
Однако самое большое влияние, особенно во второй половине XIX в. име¬
ли здесь ружинско-садагорская и чернобыльская ветви хасидизма 78. Анализ
характера хасидских миньянов, созданных в Бессарабии, показывает, что в се¬
верных областях, рядом с австро-румынской границей, было заметно влияние
хасидских течений Галиции и Буковины, и прежде всего ружинского хасидиз¬
ма. С другой стороны, в южных областях доминировал украинский хасидизм,
особенно его чернобыльская ветвь. Это разделение не было однозначным, в
некоторых общинах действовали миньяны обеих династий, и многие хасиды
ощущали себя связанными с цадиками обоих домов одновременно. Присут¬
ствие ружинской и чернобыльской династий было ощутимо в Бессарабии до
падения царского режима, а после присоединения Бессарабии к Румынии
(1918) здесь поселились некоторые цадики этих династий, эмигрировавшие
из Советской России.
Информация о хасидизме в губерниях Новороссии и во внутренних рос¬
сийских губерниях чрезвычайно скудна, поскольку там также не сформиро¬
вались местные династии 79, и, вероятно, поэтому численность проживавших
там хасидов была невелика. Заселение евреями этих областей было в основ¬
ном результатом потоков внутренней миграции, особенно возросшей начиная
/129/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
с 1860-х гг. XIX в., в основном с севера черты оседлости. Хасиды были частью
этого потока и, разумеется, являлись представителями различных течений.
Вместе с тем самой большой хасидской общиной был Хабад 80, его влияние
было велико как в городах — Херсоне, Кременчуге, Чернигове, Полтаве, так
и в еврейских сельскохозяйственных поселениях, создававшихся в Херсон¬
ской губернии еще во времена императора Николая I. Да и в Одессе, ставшей
символом еврейского Просвещения, осуществлялась хасидская деятельность
и между цадиками, которые стремились укрепить свое влияние (как, напри¬
мер, р. Давид из Тального), и городскими маскилим вспыхивали конфликты 81.
Хасидское население во внутренних российских губерниях было невели¬
ко. Лишь начиная с 60-х гг. стали расшатываться исторические границы черты
оседлости, и началось постепенное расселение евреев в большие российские
города. Новыми поселенцами были большей частью крупные торговцы, вы¬
пускники университетов, врачи, обладатели востребованных профессий и де¬
мобилизованные солдаты. Разумеется, лишь очень немногие хасиды попадали
в эти категории. Но несмотря на это хасидские общины — особенно хасидов
Хабада — имелись в Харькове, Санкт-Петербурге и Москве 82.
ХАСИДИЗМ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:
СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ
Завершим настоящее исследование описанием некоторых характерных
черт хасидизма в царской России, которые не имели временных или террито¬
риальных границ и в ряде случаях были присущи хасидскому движению и за
пределами империи.
Модели наследования и передачи руководства
Принцип генетического наследования от отца к сыну, один из характер¬
ных признаков хасидизма вплоть до наших дней, достаточно рано укоренился
в хасидских течениях России. Династическая модель, то есть потомственное
семейное руководство, переходящее к кровным родственникам, а не к уче¬
никам, появилась уже в 80-е гг. XVIII в. (Жлочев и Индура), но стала общим
явлением лишь во втором десятилетии XIX в. Следует различать две основные
модели передачи руководства: централистско-линейная, предполагающая на¬
личие одного общепризнанного наследника; и разветвленная, при которой
руководство движением разделялось между несколькими наследниками. Эти
модели не всегда реализовывались в полной мере, но их использование помо¬
/130/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
гает проводить различие между династиями, а также, возможно, между разны¬
ми регионами распространения хасидизма.
Для первой модели характерно согласие общины на передачу лидерства
единственному потомку. Им становился, как правило, старший сын прежне¬
го лидера, но при отсутствии сыновей или в случае непригодности сына для
руководящей деятельности допускалось назначение лидером зятя или внука.
Хасидские ветви Хабада и Карлин-Столина являются яркими примерами этой
модели, и отступления от нее могли приводить к конфликтам и расколам.
Вторая модель, в рамках которой большинство потомков прежнего ли¬
дера наследуют его статус, характеризуется «плюралистическим» подходом и
положительным отношением к разделению контроля династии над хасидами.
Вместе с тем лишь один из наследников, как правило старший из них, брал
имя «изначальной» династии и занимал место своего отца, тогда как осталь¬
ные наследники разъезжались кто куда и основывали, по сути, новые, вто¬
ричные, династии в близлежащих местечках. Яркими примерами этой модели
являются Ружинско-Садагорская и Чернобыльская династии, разветвление
внутри которых было не просто результатом взаимного соглашения, но под¬
готавливалось еще при жизни отца-основателя и при его поощрении. В от¬
дельных случаях несколько наследников продолжали жить в одной общине, а
иногда даже в одном жилом комплексе, и каждый из них функционировал как
независимый цадик со своими собственными хасидами.
Эти модели в значительной мере предотвращали образование династий, в
которых отсутствовала семейная преемственность. И действительно, сложно
назвать в России XIX в. новые хасидские династии, которые не были бы свя¬
заны с лидерами хасидского движения конца XVIII в.83 Однако именно цен¬
тралистская модель иногда допускала возможность разделения руководства
между потомком и способным учеником. Такой способ передачи руководства,
до сравнительно позднего времени более характерный для хасидского движе¬
ния в Царстве Польском, можно обнаружить также и в России. Как уже упо¬
миналось, наследие р. Шнеура Залмана было поделено между его сыном р.
Дов Бером и учеником р. Аароном ха-Леви из Староселья 84. Также и большин¬
ство хасидов р. Моше из Кобрина (1783—1858) предпочли видеть лидером его
ученика р. Авраама из Слонима (1804—1883), а не внука Ноаха Нафтали (умер
в 1889 г.), и этот выбор привел к образованию слонимской ветви хасидизма,
затмившей предшествовавшую ей кобринскую ветвь 85.
Эти две модели наследования включали в себя дополнительный механизм
посредничества — так называемых «вторичных цадиков», выдвигавшихся из
среды хасидов при жизни учителя и с его благословения. Эти лидеры, облада¬
вшие религиозной харизмой, руководили хасидскими общинами, удаленны¬
ми от основного двора, но считали себя подчиненными «известных» цадиков.
/131/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Фигурами такого рода были р. Авраам Дов из Овруча (умер в 1840 г.) и магид
Исраэль Дов из Веледников (умер в 1850 г.) в чернобыльской ветви хасидиз¬
ма 86, а также р. Ицхак ха-Леви Эпштейн из Гомеля (умер в 1857 г.) и р. Гилель
из Паричей (умер в 1864 г.), выполнявшие аналогичную функцию в хасидизме
Хабада 87. Вероятно, так же воспринимали себя р. Мордехай (2-й) из Ляхови¬
чей по отношению к р. Аарону (2-му) из Карлина и р. Моше из Кобрина, ко¬
торый не имел родословной и стал «вторичным» цадиком своего учителя р.
Ноаха из Ляховичей еще при его жизни 88.
Иерархическая система «вторичных» цадиков, подчиненных «известно¬
му» цадику, была полезна со всех точек зрения. «Известный» цадик получал
полномочного и доверенного представителя в том местечке, где жил «вторич¬
ный» цадик, а хасиды получали возможность прямого и динамичного контак¬
та с живущим среди них харизматическим лидером. Расцвет такого локаль¬
ного руководства, не обладающего «аристократической» родословной, был
вызван не только значительным географическим рассеянием хасидов в пери¬
од распространения хасидизма, но также и борьбой за власть, которая велась
различными ветвями хасидизма. Следует полагать, что именно доминантные
цадики, возглавлявшие сильные династии и уверенные в своих силах, могли
позволить себе иметь таких промежуточных лидеров.
Хасидские династии обычно сохраняли традицию передачи руководства,
которая была заведена изначально, однако иногда установленный порядок
нарушался. Карлинско-столинская ветвь хасидизма соблюдала линейную
модель в течение всего XIX в., включая период, когда в 1873 г. цадиком стал
четырехлетний «янука», Исраэль Перлов из Столина, что вызвало вал крити¬
ки и насмешек 89. Разветвление этого хасидского течения произошло только в
1922 г., после смерти р. Исраэля. То же самое мы видим в хасидизме Хабад, где
оформилась линейная традиция передачи власти, но, как уже было сказано, в
течение XIX в. дважды в нем произошел раскол. Вместе с тем новые династии,
возникшие в результате этих разветвлений, — Староселье, Ляды, Нежин, Ко¬
пысь (и ее филиалы в Речице и Бобруйске) — обычно не сохранялись более
двух поколений. В конце концов большинство хасидов Хабада нашли приют
под сенью двора в Любавичах, и линейная традиция передачи лидерства была,
по сути, возобновлена.
Раннее укоренение династической передачи руководства и неукоснитель¬
ное соблюдение этой традиции на протяжении всего XIX в. не гарантировали
абсолютную сохранность династии — она в значительной мере зависела от
внешних меняющихся причин. Выше уже упоминалось, что индурская ветвь
хасидизма прекратила свое существование через два поколения, а бендерский
хасидизм перестал функционировать в начале XX в., когда избранный наслед¬
ник отказался принять на себя руководство хасидами. Р. Баруху из Меджибо-
/132/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
жа, цадику с развитым династическим сознанием, считавшему себя наследни¬
ком своего деда Бешта, не посчастливилось иметь потомков мужского пола, и
«династия Бешта» не была продолжена его внуками. Р. Нахману из Брацлава,
который, по всем признакам, возлагал большие надежды на своего младенца-
сына, также не повезло с продолжением династии, поскольку его сын умер
при жизни отца.
Династическое руководство стало основополагающим явлением, харак¬
терным для всего хасидского мира, но если в России эта модель была вос¬
принята на начальном этапе развития движения, то в Галиции и Польше — не
ранее середины XIX в. Этот факт можно интерпретировать как эволюцион¬
ное выражение географического распространения хасидизма: Украина была
колыбелью хасидского движения, здесь сформировался его исторический об¬
лик, так что начавшиеся здесь процессы стали со временем достоянием всех
хасидов.
Царственные дворы
«Царственность» — особый стиль жизни цадиков, для которого характерна
демонстративная роскошь и авторитарные методы руководства, — исключи¬
тельная черта, которую можно обнаружить лишь в российских хасидских тече¬
ниях. Впрочем, не все цадики, действовавшие в России 90, отличались подобным
образом жизни (так, например, он не был присущ движению Хабад), да и не
всегда он сохранялся в рамках одной династии в течение долгого времени.
Ярким проявлением царственного стиля хасидского руководства было
функционирование двора — целого комплекса зданий, отличавшегося своим
размером и великолепием. Двор располагался, как правило, на окраине ме¬
стечка, и в нем разворачивалась жизнь и деятельность цадика, его домочадцев
и приближенных. Двору сопутствовал также разветвленный логистический
механизм, и он был приспособлен к приему многих сотен посетителей, часть
которых (так называемые «зицерс», букв. «сидельцы») задерживались на дли¬
тельный срок 91. Такие дворы имелись в основном в крупных ветвях хасидизма
и в их филиалах: ружинская и чернобыльская ветви на Украине и карлинская
в Полесье. С переездом ружинского двора в Австрию и особенно во второй по¬
ловине XIX в. этот стиль укоренился также и в Буковине, Галиции и Румынии.
Тот факт, что царственный стиль руководства проявлялся только в «русских»
ветвях хасидизма, стал одной из причин острого конфликта, вспыхнувшего
в 1869 г. между хасидами цадика из Цанза (Nowy Sącz) и садагорской ветвью
хасидизма. В этом конфликте отразились также и глубокие различия между
адаптивным и консервативным подходами в отношении новых веяний.
/133/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Принято видеть в «царственности» идейно-организационную систему,
функционирующую в рамках треугольника «двор» — «династия» — «цар¬
ственность». Эти понятия действительно смыкались у некоторых выдающих¬
ся личностей, таких как р. Исраэль из Ружина, р. Давид из Тального и р. Аа¬
рон (2-й) из Карлина, однако у других цадиков осуществлялась лишь часть
этих характеристик. Так, например, р. Мордехай из Чернобыля, который
придерживался «царской модели» руководства и основал большую династию,
по-видимому, не создал стабильного «царственного» двора, во всяком случае,
об этом нет никаких свидетельств. Его сын р. Иоханан из Ротмистровки, на¬
оборот, превратил свою резиденцию в настоящий двор цадика, но при этом
не следовал «царской» модели руководства. С другой стороны, Барух из Мед¬
жибожа, который был известен «царственным» образом жизни и, вероятно,
держал хасидский двор, не сумел основать династию.
Таким образом, мы видим, что три упомянутые характеристики хасидско¬
го руководства не обязательно были связаны друг с другом. Представление об
их неразрывной взаимосвязи имеет, видимо, в своей основе созданный про¬
светителями враждебный образ лидеров украинского хасидизма как закрыто¬
го, авторитарного и коррумпированного олигархического сословия, цинично
эксплуатирующего наивность хасидов, вымогающего у них имущество и от¬
гораживающегося от них в повседневной жизни.
Цадик и община; центр и периферия
Отношения между цадиком и его хасидами достигали своей религиозной
и общественной кульминации во время визита хасида к своему ребе. С двором
цадика связывались образы и символы святого места, и поездка туда, особен¬
но если она совершалась издалека, становилась формативным и исполненным
высокого смысла переживанием, сходным с паломничеством. Эта поездка,
которая в большинстве случаев была коллективной, символизировала связь
хасидов с цадиком; ее можно рассматривать как своего рода обряд посвяще¬
ния (Rite de Passage) как для отдельного хасида, так и для группы в целом 92.
В условиях XVIII и XIX столетий, при отсутствии мощеных дорог и неразви¬
тости железнодорожного сообщения, поездка к цадику оказывалась сопряже¬
на со значительными трудностями. В лучшем случае она длилась несколько
дней, но чаще продолжалась гораздо дольше и включала проведение субботы
в придорожных гостиницах или в хасидских общинах, оказавшихся на пути
следования. Паломничество ко двору цадика, особенно во время праздни¬
ков, означало длительное выпадение хасида из семейной жизни, к тому же
оно являлось тяжелым финансовым бременем — по причине дорожных трат и
/134/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
расходов на жизнь, а также из-за потери заработка на период поездки и необ¬
ходимости позаботиться о пропитании оставленной семьи. Для большинства
хасидов, непривычных к смене мест и выходу за рамки привычного жизнен¬
ного уклада, такие поездки были чем-то из ряда вон выходящим, и поэтому
лишь немногие позволяли себе совершать их часто.
Личный контакт цадика с хасидом при дворе имел высокую духовную
значимость, но, как уже говорилось, происходил нечасто. С другой стороны,
повседневная хасидская деятельность большей частью велась в местах про¬
живания хасидов и продолжалась в течение всего года. Связь между центром
(двором) и периферийными хасидскими общинами осуществлялась, та¬
ким образом, через посредников: «вторичных» цадиков (о которых шла речь
выше), миньяны и местные благотворительные общества (братства). В Чер¬
нобыльских династиях связь с общинами фиксировалась также посредством
особых соглашений, которые назывались китвей мегидут («соглашения о на¬
ставничестве»).
Самым распространенным и общепринятым способом выражения связи
хасидов с тем или иным цадиком было участие в молитвах и разнообразной
религиозной и общественной деятельности по месту жительства. Рамками
такой локальной самоорганизации служил молитвенный дом, называвшийся
миньян, штибл или клойз с добавлением имени того хасидского двора, к ко¬
торому причисляли себя молящиеся. Образ жизни хасидов в периферийных
общинах соответствовал религиозным и социальным установкам соответству¬
ющей ветви хасидизма; они слушались указаний своего лидера и считали себя
представителями интересов цадика и его двора в своей общине и в округе.
Хасидские миньяны сохраняли живой контакт с центрами хасидизма, к
которым они относились. Цадики наведывались время от времени в разные
общины, и эти визиты использовались для укрепления духовной связи между
ребе и его хасидами и для осуществления религиозных и общественных целей
двора — благотворительности, сбора пожертвований для обеспечения двора
или в пользу хасидов, живших в Стране Израиля, и т.п.93 Были цадики — такие
как р. Исраэль из Ружина или р. Давид из Тального, которые много ездили;
другие, как, например, р. Шнеур Залман или р. Нахман из Брацлава, ездили
мало и даже старались сократить время, уделявшееся для встреч с хасидами,
приехавшими к их двору 94. Во многих случаях цадики предпочитали отправ¬
лять «посланников» от своего имени, а те передавали хасидам письменные и
устные поучения от цадика, собирали информацию о положении хасидов в
разных общинах и взимали деньги на различные цели. В хасидизме Хабад, где
придавалось большое значение проповедям цадика (их называли «слова живо¬
го Бога», в соответствии с книгой пророка Иеремии 23:36), даже назначались
специальные посланники — «хозрим» («повторяющие»), функцией которых
/135/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
было в точности пересказывать миньянам Хабада в отдаленных общинах уче¬
ние ребе, которое тот произносил перед немногочисленной аудиторией в сво¬
ей резиденции 95. Система посланников давала возможность цадику не обре¬
менять себя поездками и изматывающими встречами с хасидами, но при этом
не снижалась эффективность сбора средств, необходимых для поддержания
движения, а хасиды получали возможность почувствовать атмосферу двора,
привезенную с собой посланниками ребе.
Еще одним каналом осуществления контакта между двором и отдален¬
ными общинами являлись местные добровольные объединения (хаварот) —
профессиональные ассоциации ремесленников, благотворительные общества
или общества по изучению Торы. Степень влияния хасидских миньянов, так
же как и добровольных объединений, росла по мере ослабления общинного
самоуправления. Они брали на себя надзор и заботу об удовлетворении ду¬
ховных и общественных нужд, которые ранее находились на попечении об¬
щинных институтов 96. В некоторых местах хаварот приобретали хасидский
характер, зачастую в результате медленной и практически неощутимой транс¬
формации. Это было особенно характерно для обществ по изучению Мишны
и для погребальных братств, в основе деятельности которых часто лежали ми¬
стические идеи об исправлении души (тикун нешама), явившиеся результатом
влияния каббалистической хасидской мысли. Были цадики, имевшие непо¬
средственное влияние на такие общества и на их уставы, обычно при посред¬
ничестве своих хасидов, которые входили в их состав. В случае, когда хаварот
открыто признавали себя хасидскими, эта их принадлежность выражалась в
формальном утверждении их уставов цадиком, а также в избрании цадика и
членов его семьи почетными членами общества. Цадик укреплял тем самым
свое влияние в общине, а престиж общества, удостоившегося участия цадика,
возрастал. Нередко мероприятия общества финансировались из средств дво¬
ра цадика. Направление финансирования могло быть и противоположным,
когда от общества требовалось передать часть своих доходов в пользу двора 97.
Между общиной и цадиком иногда подписывалось нечто вроде офици¬
ального соглашения. Эти документы, получившие распространение главным
образом в чернобыльских ветвях хасидизма, назывались ктав мегидут («со¬
глашения о наставничестве»). В них оговаривались взаимные обязательства
между цадиком и его паствой, согласно которым община «переходит в послу¬
шание» цадику и передает ему исключительное право назначать из своей сре¬
ды клей кодеш (буквально «сосуды святости») — раввинов, канторов, резников,
судей, меламедов — и даже просто служек и банщиков. Кроме того, члены об¬
щины обязывались выплачивать нечто вроде подушной подати в пользу двора
(маамадот). Подписание таких соглашений нередко становилось последним
этапом установления власти цадика над новой общиной своих последователей;
/136/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
как уже отмечалось, это явление было особенно заметно на Украине 98. Такой
способ руководства и свойственные ему царственные параметры создавали
жесткую территориальную ориентацию, которая может служить объяснением
непрекращающихся конфликтов в борьбе за сферы влияния между граничны¬
ми ветвями хасидизма и цадиками, вторгавшимися в соседние области.
Письменное и устное творчество хасидов
Даже при самом общем рассмотрении творческого наследия хасидизма в
России обращает на себя внимание глубокое различие в литературной актив¬
ности между брацлавской и хабадской ветвями хасидизма с одной стороны и
остальными течениями — с другой.
В брацлавском хасидизме оригинальное творчество достигло своего апо¬
гея в первой половине XIX в. благодаря масштабной личности р. Натана из
Немирова, который не только сберег наследие своего учителя, но и приумно¬
жил его своими сочинениями. Однако после его смерти брацлавская творче¬
ская активность пошла на спад и ограничивалась подражанием тем жанрам,
которые ввел в литературный обиход р. Натан, а также краткими пересказами
и толкованиями сочинений р. Нахмана и р. Натана. С другой стороны, хаси¬
дами Хабад регулярно издавались многочисленные тома проповедей и учений
каждого из цадиков, а в некоторых случаях (р. Шнеур Залман и Цемах Цедек)
также и их галахические труды. Следует сказать, что ни одна другая хасидская
община, не только в России, но и вообще среди всех хасидских течений, не
занималась литературным творчеством в подобном объеме.
Оригинальное литературное наследие цадиков других династий, действо¬
вавших в России, было немногочисленным — особенно по сравнению с цади¬
ками XIX в. в Галиции или Царстве Польском. В большинстве ветвей хасидиз¬
ма канонический статус обычно получало одно сочинение, а иногда и этого не
было. В чернобыльской ветви хасидизма такой статус получила книга «Меор
эйнаим», в которой собраны проповеди и толкования р. Нахума из Чернобыля,
родоначальника династии чернобыльских цадиков; то же относится к книгам
«Охэв Исраэль» в опатовской династии, «Бейт Аарон» в карлинской династии
и «Йесод ха-Авода» в слонимской династии. С другой стороны, в ружинско-
садагорской ветви не было никакого оригинального сочинения, удостоивше¬
гося подобного отношения. Как правило, такое явление свидетельствовало о
намеренном уклонении российских цадиков от систематического произне¬
сения хасидских проповедей по субботам и праздникам. Эта тенденция ино¬
гда обосновывалась самими цадиками или их хасидами, но приводимые ими
объяснения зачастую противоречат друг другу. Некоторые объясняли это по¬
/137/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
ведение скромностью цадиков или тем, что, находясь на высшем духовном
уровне, они не могут втиснуть сокрытый в них духовный заряд в тесные рамки
произнесенного или напечатанного текста. Другие объяснения подчеркивали
низкий уровень хасидов, не позволяющий им воспринять божественные ис¬
тины, которые стремится донести до них цадик.
Маскилим, наблюдавшие это явление, были склонны презрительно счи¬
тать его следствием духовной неполноценности, однако следует помнить,
что традиционная проповедническая и экзегетическая литература никогда
не воспринималась в хасидизме как единственный способ харизматического
руководства, и даже изданная книга не служила критерием оценки духовной
деятельности 99. Более того, даже отцы-основатели хасидских течений, от¬
личавшихся особым интеллектуализмом, как, например, хасидизм Пшисхи
или Коцка в Польше, не оставили после себя полноценных экзегетических
сочинений и даже объясняли это принципиальными соображениями 100. Ко¬
роткие «диврей Тора» («слова Торы»), притчи и истории, импровизированные
афоризмы и даже светская беседа, приправленная хасидскими нравоучения¬
ми, — все эти жанры были характерны для хасидизма с самого раннего этапа
его развития, еще со времен Бешта. Это устное наследие, которое по самой
своей природе является разрозненным и несистематическим, было собрано
лишь позднее, в сочинениях учеников.
Отношение к современности
Как правило, хасидизм в России занимал более умеренную позицию по
отношению к современности и различным ее проявлениям, разумеется, по
сравнению с течениями хасидизма, развивавшимися в Галиции, Венгрии и
Польше, но объяснить причины этого сложно. Эта умеренность проявлялась
в более открытом отношении российских цадиков к Гаскале и маскилим, в
прагматической реакции на попытки власти реформировать еврейский стиль
одежды и систему образования, а позднее — в отношении к «Хиббат Цион» и к
сельскохозяйственному поселению в Стране Израиля. Сопротивление было,
иногда даже упорное и ожесточенное, но оно, как правило, не сопровожда¬
лось признаками враждебности и фанатизма.
Еще одной характерной чертой хасидского движения в России (за исклю¬
чением разве что хасидизма Хабад) была его отстраненность от общественной
и политической деятельности. Равнодушие цадиков к этой сфере — как в от¬
ношении внутриеврейской жизни, так и в деле общееврейского представи¬
тельства перед властями — было неудивительным, если учесть особые условия
жизни евреев в Российской империи. В отличие, к примеру, от Габсбургской
/138/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
империи, где в 1867 г. евреи получили равноправие, царские власти не допу¬
скали еврейской (как, впрочем, и никакой другой) политической деятель¬
ности. Кроме того, разрозненный и локальный характер хасидских центров
в России, особенно во второй половине XIX в. в значительной мере ослабил
надобщинный характер движения, которое уже не могло выступать как спло¬
ченное политическое образование. Сфера влияния большинства цадиков со¬
кратилась до вложенных концентрических окружностей, центром которых
был местечковый двор. За исключением Хабада в то время уже не осталось
масштабных и влиятельных хасидских лидеров, таких как в поколении р. Ис¬
раэля из Ружина, р. Мордехая из Чернобыля и р. Аарона (2-го) из Карлина.
На рубеже XIX—XX вв. лишь немногие из российских цадиков пользова¬
лись популярностью, выходящей за рамки их круга, и были хорошо финансово
обеспечены. Жизнь большинства из них была скудна, они довольствовались
тем влиянием, которое могли оказать на свою и соседние общины. Следует
подчеркнуть, что в Галиции и Польше все еще было много хасидских лиде¬
ров, имеющих высокий финансовый статус и общественный престиж, и сфера
их влияния была многократно шире. Такая пассивность свидетельствует не о
закате хасидизма в России, а о его прагматическом характере, свойственном
адаптивной ортодоксии, в отличие от фанатичного характера консервативной
ортодоксии, получившей развитие в Галиции и Венгрии 101.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Русско-еврейский писатель Исаак Бабель (1894-1940) в своем коротком
рассказе «Рабби» из книги «Конармия» изобразил знаменательную встречу со
старым хасидом, который привел его к «последнему рабби»:
- ...Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет
в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился
осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный
океан питает реки, рассекающие вселенную...
Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий
вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал:
— В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмер¬
тно, как душа матери... С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на пе¬
рекрестке ветров истории.
Так сказал Гедали, и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Мота¬
лэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии 102.
/139/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Духовный мир хасидизма в царской России и его поразительная обще¬
ственная стойкость, которую не одолели сердитые «ветры истории», не были
оторваны от той почвы, на которой он вырос, — от многообразного и дина¬
мичного мира российского еврейства в целом. В этом мире смешивались раз¬
личные религиозные и культурные течения, мощные общественные и поли¬
тические движения сотрясали его основы. Хасидизм, как показано выше, был
лишь одним из этих движений, он развивался в непрекращающемся контакте
с ними и с окружающим миром, влиял на них и сам испытывал их влияние.
Исследование хасидизма в царской России находится пока в начале пути,
но можно утверждать, что хасидизм для своих приверженцев являлся в зна¬
чительной мере чем-то вроде «амортизатора» социальных потрясений и по¬
этому стал, в отличие от других движений, стабильным стержнем, опорой для
традиционного еврейского общества в эпоху перемен и революций. Несмотря
на присущий ему консервативный характер, хасидизму и его лидерам обычно
удавалось справляться с самыми драматическими внутренними и внешними
переменами не путем решительного их отторжения, а при помощи диалек¬
тического сочетания отталкивания и принятия. Кризисы, вызванные втор¬
жением современности, и постоянная напряженность между консерваторами
и новаторами представляют собой, пожалуй, основные характерные черты
еврейской жизни Восточной Европы Нового времени и дают ключ к ее по¬
ниманию. Эти потрясения наложили свой отпечаток на все части еврейского
общества, и иногда то, что воспринималось как распад хасидизма или его от¬
ступление, оказывалось не чем иным, как отражением процессов, происхо¬
дящих во всем еврейском обществе на крутых поворотах истории. Вместе с
тем, несмотря на вышибленные «окна и двери в страстном здании хасидизма»,
невзирая на сердитые ветра и свирепые вихри, раскачивающие его лодку, факт
остается фактом: хасидское движение просуществовало до самого конца
имперского периода российской истории и в значительной степени сохраняет
свою жизненную силу и сегодня, в то время как другие движения и течения
создавались и разрушались, переживали расцвет и затем навсегда уходили с
исторической арены.
Перевод с иврита Юлии Тулайковой
1 Цифры, которые дошли до нас, явно преувеличены. В 1899 г. один из журнали¬
стов отмечал в газете «ха-Мелиц», что «в нашей стране насчитывается около 2,5 мил¬
лионов хасидов» (Вып. 67. С. 2), — и это из 4 млн 900 тыс. евреев, живших в черте
оседлости в 1897 г. В 1910 г. Семен Дубнов оценивал количество хасидов в 5 млн! (Mavo
le-toldot ha-hasidut // He-atid. № (3.1910-1911. С. 73; эта завышенная оценка опущена
во введении к его книге «Toldot ha-hasidut», Тель-Авив, 1931 [далее: Дубнов. История
хасидизма]). Об исследовании демографии хасидов и связанных с ним проблемах см.:
Wodzinski М. How Many Hasidim were there in Congress Poland? On the Demographics of
/140/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
the Hasidic Movement in Poland during the First Half of the Nineteenth Century // Gal-Ed.
№ 19. 2004. S. 13—49; Dynner G. How Many Hasidim were there really in Congress Poland? A
Response to Marcin Wodziński’// Ibid. № 20. 2006. S. 91—104; Wodziński M. How should We
Count Hasidim in Congress Poland? A Reply to Glenn Dynner // Ibid. S. 105-120.
2 Assaf David. Ha-hasidut be-hitpashtuta: dyokno shel rabbi Nehemiya Yahiel mi-Bi-
chava ben «ha-yehudi ha-qadosh» // Bartal I., Turnianski Ch., Mendelsohn E. (ed.), Ke-min-
hag ashkenaz ve-polin: sefer yovel le-Chone Shmeruk, kovetz mehkarim be-tarbut yehudit,
Yerushalaim, 1993, S. 269— 77.
3 Assaf D. «Hasidut Polin» o «ha-hasidut Ье-Polin»: le-beayat ha-geografia ha-hasidit //
Gal-Ed. № 14. 1995. S. 197- 206
4 Такое разделение первым предложил Дубнов в «Истории хасидизма» (С. 107—
169, 242—289), и оно получило общее признание исследователей.
5 Dubnow S. History of the Jews in Russia and Poland, Vol. I. Philadelphia, 1916. P. 319—
320.
6 Nadav M. Pinkas Patuah. Mehkarim le-toldot yehudey Polin ve-Lita. Tel Aviv, 2003.
S. 79-104.
7 О скепсисе, с которым были восприняты эти слухи, см.: Mondshein Y. (ed.).
Keřem Habad. № 4. 1992. S. 205-211
8 К вопросу о мотивах Виленского Гаона и его роли см. различные позиции Има¬
нуэля Эткеса и Иехошуа Мундшайна: Assaf D. (ed.). Zadik ve-eda: hebetim historiim be-
heker ha-hasidut. Yerushalaim, 2001. S. 273-331 (далее: Zadik ve-eda).
9 Дубнов. История хасидизма. С. 259-263; Керем Хабад. № 4. 5752. С. 21-23, 29-
76.
10 Kloizner I. Vilna, Yerushalaim de-Lita: dorot rishonim, 1495—1881. Tel Aviv, 1989.
P. 119-124.
11 Levin Sh.D. (ed.). Igrot qodesh meet admor ha-zaqen, Admor ha-emzai, admor ha-
«Zemah zedeq». Bruklin, 1987. S. 142— 151; об этой кампании p. Шнеура Залмана: Mond¬
shein Y. Bitaon Habad. № 32. 1971. S. 12-18.
12 Время проведения этого совещания неясно, см.: Hailperin I. Yehudim ve-yahadut
be-mizrah eropa: mehqarim be-toldoteihem. Yerushalaim, 1969. S. 343-347; Rapoport-Al¬
bert A. Ha-tenua ha-hasidit aharey shnat 1772: rezef mivni ve-tmura // Zadik ve-eda. S. 254-
255. Mondshein (Там же. С. 16, прим. 44) ставит под сомнение тот факт, что Леви Ицхак
из Бердичева принимал участие в этом совещании.
13 Hayey Moharan. Yerushalaim, 1976, sihot ha-shayakhim le-ha-torot, пометка 6:
maqom leidato ve-yeshivato, пометка 13.
14 Haim Meir Heilman. Beit rabi. Berdichev, 1902 (далее: Beit rabbi). 4. 2 S. 5—6;
Blau A. Geirush ha-kfarim be-Rusia bimey reshit ha-hasidut: yahasam u-foalam shel gdoley
ha-hasidut ligzeirat ha-geirush // Heikhal ha-Besht. № 13. 2006. S. 140- 54.
15 Подробности этого содержатся в письме, которое написал Дов Бер, сын Шнеу¬
ра Залмана, в конце 1813 г.: Igrot qodesh (см. прим. 12). S. 237—247.
16 Beit rabbi. Ч. S. 12; Lurie I. Eda u-medina: Hasidut Habad ba-imperia ha-rusit. 1828—
1883. Yerushalaim, 2006 (далее: Lurie'. Eda u-medina). S. 72.
17 Начиная с 60-х гг. XIX в. и позднее еврейская пресса заполнена описаниями
этих конфликтов. См., например,: Assaf D. Derekh ha-malkhut: R. Israel me-Ruzhin u-
meqomo be-toldot ha-hasidut. Yerushalaim, 1997 (далее: Assaf D. Derekh ha-malkhut). S.
/141/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
264—272; Idem. Neehaz ba-svakh: pirqey mashber u-mevukha be-toldot ha-hasidut. Yerush¬
alaim, 2006 (далее: Assaf. Neehaz ba-svakh). S. 248- 49.
18 Etkes I. Tguvato shel r. Haim mi-Volozhin la-hasidut // Idem, Yahid be-doro: ha-gaon
mi-Vilna — dmut ve-dimuy. Yerushalaim, 1998. S. 164- 222.
19 Levin Sh.D. Maasar u-geulat admor ha-emzai. N. Y, 1998.
20 Примеры этого «треугольника отношений» см.: Lurie L, Zeltser A. Moses Berlin
and the Lubavich Hasidim: A Landmark in the Conflict between Haskalah and Hasidism //
Shvut. № 21. 1997. P. 50— 57; Mahler R. Ha-hasidut ve-ha-haskala, Merhaviya. 1961. S. 92,
155- 86; Wodziński M. Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: A History of Con¬
flict. Oxford, 2005. P. 86- 94.
21 Ginsburg Sh. Ktavim historiím: me-hayey ha-yehudim be-Rusia be-memshelet ha-
zarim. Tel Aviv, 1944. S. 43, 166.
22 Ibid. S. 40- 44; Ginsburg, там же. С. 192- 94; Mahler R. Divrey yemey Israel: dorot
aharonim. V. 5. Tel Aviv, 1970. S. 92— 93.
23 Assaf. Derekh ha-malkhut. S. 163— 91.
24 Там же. С. 157- 62, 285- 90.
25 Ginsburg, Там же. С. 59- 65; Levin Sh.D. Hakhanot le-veidat Peterburg— 5603 //
Pardes Habad. № 4. 1998. S. 59-74.
26 О «казенном просвещении» см.: Etkes I. Parashat ha-haskala mi-taam ve-ha-temu-
rabe-maamadtenuatha-haskalabe-Russia // Zion. № 43.1978. S. 264—313; Stanisławski M.
Tsar Nicholas I and the Jews: The Transformation of Jewish Society in Russia, 1825—1855.
Philadelphia. 1983. P. 148—154; о совещании раввинов: Etkes. Ibid. S. 200—202; Lurie. Eda
u-medina. S. 65— 78.
27 Assaf D., Bartal I. Shtadlanut ve-ortodoksia: zadikey Polin ba-mifgash im ha-zmanim
ha-hadashim // Elior R., Bartal I., Shmeruk H. (eds.). Zadikim ve-anshei maase: mehqarim
be-hasidut Polin. Yerushalaim, 1994. S. 65— 90; см. также Blau A. Gdoley ha-hasidut u-gzei-
rat ha-malbushim // Hekhal ha-Besht. № 12. 2004. S. 96-124.
28 Fainer Sh. Be-emuna bilvad! Ha-pulmus shel r. Natan mi-Nemirov neged ha-ateizm
ve-ha-haskala // Etkes I., Assaf D., Dan Y. (eds.). Mehqarey Hasidut [mehqarey Yerushalaim
be-mahshevet Israel, 15]. Yerushalaim, 1999. S. 89-124.
29 Галант I. До icтoрii боротьби з цадикiзмом // Збiрник. Вып. II. 1929. С. 335.
30 Assaf Neehaz ba-svakh. S. 200.
31 Барталь И. От общины к нации: евреи Восточной Европы в 1772-1881. М.,
Иерусалим, 2007. С. 79-81.
32 ЛГИА, ф. 567, оп. 6, д. 188, л. 1-2.
33 Lurie. Eda u-medina. S. 65-78, 89-93; Freeze Sh.R.Y. Jewish Marriage and Divorce
in Imperial Russia. Hanover (NH), 2002. P. 83-95, 245-256.
34 Lurie, Zeltzer (см. примеч. 22), S. 51.
35 Так, например, в 1854 г. П.Н. Игнатьев, бывший тогда губернатором Смолен¬
ской, Витебской и Могилевской губерний, порекомендовал сослать в Сибирь Цемах
Цедека, но эта рекомендация не была исполнена (Там же. С. 44-45). Предложения
маскилим изгнать цадика Давида из Тального также были отвергнуты. См.:. Raden¬
sky P.I. Hasidism in the Age of Reform: A Biography of Rabbi Duvid Ben Mordkhe Twersky
of Tal’noye. Ph.D. Dissertation, Jewish Theological Seminary. 2001. P. 123-124.
36 Assaf. Neehaz ba-svakh. S. 189—199.
37 Assaf. Ibid. S. 279.
/142/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
38 Rabinovitsh Y.H. Hayyey Yehoshua // Horovitz Sh.L. (ed.), Sefer ha-yovel. N. Y,
1930. S. 56-57.
39 «И так случилось, что третий сын того цадика из Макарова получил разре¬
шение от властей выехать из своего города, чтобы проконсультироваться с врачами.
Проще говоря, собрать деньги...» («Ha-hafsaka» // Kol sipurey Mikha Yosef Ben-Gurion
[Berditshevsky]. Tel Aviv, 1951. S. 155). По словам Льва Гордона, чтобы обойти это по¬
становление, цадики должны были выдавать себя за раввинов или магидов, см. Zlohit
shel feleyton //ha-Melitz. 20 тамуза. 1890. S. 288 (Gordon Y.L. Proza. Tel Aviv, 1960. S. 188).
О взятке, которую дали хасиды Сквиры в 1885 г., чтобы Менахем Нахум Тверский мог
проехать в Шпиков, где собирался основать новый хасидский двор, см.: Globman М.
Ktavim. [Yerushalaim], 2005. S. 116-117.
40 Rishayon le-zadikim // ha-Zfira. 8 хешвана. 1896. S. 1046; Gadol ha-shalom // ha-
Melitz. 25 хешвана. 1896. S. 2.
41 О хасидизме в Киеве в 70-е гг. см.: Assaf D. (editor). Na va-Nad: Zikhronotav shel
Yekhezkel Kotik. V.2, Tel Aviv, 2005. S. 181—183; Petrovsky-Shtern Y. Hasidism, Havurot and
the Jewish Street // Jewish Social Studies. № 2,10.2004. P. 42; о хасидах в Москве в начале
80-х гг. см.: Na ve-Nad // Ibid. Р. 220-224; о хасидах Киева на рубеже XIX-XX вв.: Ba¬
con G. Ha-havarot le-limud u-gmilut hasadim be-mizrah eropa: Hevrat magidei tehilim shel
kiev, 1895-1916//Bar-Ilan. №24-25, 1989. S. 106.
42 Об отношении адморов к сионизму см.: Alfasi Y. ha-Hasidut. Tel Aviv, 1986; Luz E.
Makbilim Nifgashim: dat u-leumiyut ba-tenuah ha-Tsiyonit be-Mizrah-Eropah be-reshitah
(1882—1904). Tel Aviv, 1985. S. 158—161, 295—296; Ravizkiy A. Ha-kez ha-megule u-medinat
ha-yehudim: meshihiyut, ziyonut ve-radikalizm dati be-Israel. Tel Aviv, 1993. S. 27—35.
43 Salmon Y. Dat ve-Ziyonut: Imutim rishonim. Yerushalaim, 1990. S. 264-272, 284-
294; Ratzabi Sh. Anti-Tziyonut u-metah meshihi be-haguto shel rav Shalom Dober // ha-
Ziyonut. № 20. 1996. S. 77-101.
44 Об адморах, которые поддерживали сионизм, см.: Salmon Y (ed.), Slutzky A.Y.
Kovez maamarey gaoney ha-dor be-shevah yishuv Eretz-Israel. Yerushalaim, 1998; Alfasi. Ha-
hasidim ve-shivat Tziyon. S. 132-141. Интересные свидетельства тому, что некоторые
адморы Чернобыля и Ружина имели отношение к «Хиббат Цион», можно найти в ев¬
рейских газетах того времени. См., например: на-Melitz. 18 адара. 1896. S. 4; Там же. 20
нисана. 1896. С. 1-2; 27 тевета. 1897. С. 5.
45 Salmon Y. Hasidut, Erez Israel ve-ziyonut // Idem. Im tairu ve-im teoreru: ortodoksia
be-meizarey ha-leumiyut. Yerushalaim, 2006. S. 196.
46 Hertzberg A. “Treifene Medina”: Learned Opposition to Emigration to the United
States // Proceedings of the Eighth World Congress of Jewish Studies № 6. 1984. P. 1-30.
47 Piekarz M. Hasidut polin bein shtei ha-milhamot u-be-gzeirot 5700- 5705 (“Ha
shoa”). Yerushalaim, 1990. S. 205— 231; Idem. Ha-hanhaga ha-hasidit. Samkhut ve-emunat
zadikim be-aspaklariyat sifruta shel ha-hasidut. Yerushalaim, 1999. S. 155-159, 273- 280.
48 Vunder M. Ha-yeshivot be-Galitziya// Moria. №18. Pt. 207-208. 1992. S. 95-100;
Silber M.K. «Yeshivot eyn matzuy be-medinatenu mi-kama teamim nekhonim»: bein hasidim
le-mitnagdim be-hungaria // Etkes I. et al. (ed.), Be-maagaley hasidim: kovez mehqarim le-
zikhro shel professor Mordekhay Vilensky. Yerushalaim, 200. S. 93—97; Stampfer Sh. Yeshivot
hasidiyot be-Polin bein shtey milhamot ha-olam // Ibid. S. 354—356.
49 Stampfer // Ibid. S. 356- 61.
50 ha-Melitz. 17 ава. 1888. S. 1615.
/143/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
51 Brawer N. Yisuda shel yeshivat «Tomkhey tmimim» ve-hashpaata al tnuat Habad //
Etkes I. (ed.). Yeshivot u-vatey midrashot. Yerushalaim, 2007. S. 357—368. Lurie I. Khinukh
ve-ideologiya: reshit darka shel ha-yeshiva ha-habadit // Assaf D., Rapoport-Albert A. (eds.).
Yashan mi-pnei hadash, Yerushalaim, 2009. P. 185-222.
52 Assaf. Derekh ha-malkhut. S. 416—418.
53 Cm.: Assaf D. «She-yaza shmua she-ba mashiah ben David»: Or hadash al aliyat ha-
hasidim bi-shnat 5537 // Ziyon № 61. 1996. S. 319-322.
54 Другой ученик Магида из Межеричей, р. Зеев Вольф из Черного-Острова (ум. в
1823 г.), который из Подолии приехал в Эрец-Исраэль в 1798 г., также старался поддер¬
живать связи с хасидами похожим образом. См.: Hekhal ha-Besht. № 15. 2006. S. 69—71.
55 Rapoport-Albert. Ha-tnua ha-hasidit aharey shnat 1772 // Zadik ve-eda. S. 238;
Shor A.A. Hashpaato shel [...] rabbi Shlomo mi-Karlin [...] be-Rusia ha-Levana (Raisin) //
Beit Aharon ve-Israel. № 43-46. 1993, с продолжениями.
56 Etkes I. Aliyato shel r. Shneur Zalman mi-Lyadi le-emdat manhigut // Tarbitz № 54.
1985. S. 429-439.
57 О размежевании наследников p. Шнеура Залмана см.: Elior R. Ha-mahloket al
moreshet Habad // Tarbitz. № 49.1980. S. 166—186; Loewenthal N. Communicating the Infi¬
nite: The Emergence of the Habad School. Chicago; London, 1990. P. 100-138; о размеже¬
вании наследников Цемах Цедека в свете утверждений о подделке его завещания см.:
Lurie. Edau-medina. S. 94-110.
58 Rabinovitz. Ha-hasidut ha-litait. S. 29, 35- 37; Nadav. Pinkas Patuah (см. примеч.
6). S. 79- 82; Liberman H. «Ohel Rahel». V. 1. N. Y, 1980. S. 66-68. О его деятельности в
Бердичеве см.: Petrovsky-Shtern Y. The Drama of Berdichev: Levi Yitshak and his Town //
Polin. № 17.2004. P. 83- 95.
59 Rabinovitz. Op. cit. P. 91-110; Rubenstein A. Ha-kuntres zmirat am ha-aretz bi-khtav-
yad: Ha-hasidut be-aspaklaria shel mitnaged // Areshet: sefer ha-shana le-heqer ha-sefer ha-
ivri». № 3. 1961. S. 222—227; Piekarz M. Ha-maavak al megamat paneiha shel ha-hasidut
ba-mahatzit ha-shniyya shel ha-mea ha-18: lekahim raayoniim-historiim mi-kitvey r. Haim
Haike me-Amdor // Gal-Ed. № 18. 2002. S. 83-123; Shor A.A. Maran rabbi Aharon ha-gadol
[...] va-havurat ha-hasidim be-Karlin// Beit Aharon ve-Israel. N2 51. 1994. S. 151—168.
60 Shor A.A. Al harigato shel [...] rabbi Shlomo mi-Karlin // Beit Aharon ve-Israel. № 38.
1992. S. 174.
61 Rabinovitz. Ha-hasidut ha-litait. S. 111-143; Shor A.A. Al tkufat shehuto shel maran
ha-rosh ha-gadol mi-Stolin be-Zelihov // Beit Aharon ve-Israel. N2 10-13. 1987, с продол¬
жением. Трудности, связанные с проникновением хасидизма в эти районы, отражены
в воспоминаниях Иехезкеля Котика, который вырос в хасидской семье в городке Ка¬
менец-Литовский Гродненской губернии: Assaf D.(ed.). Ma she-raiti: Zikhronotav shel
Yekhezkel Kotik, [1]. Tel Aviv, 1999. S. 169-172, 266-274.
62 Hoker A. [Tovia Blau] Habad be-Lita // Bitaon Habad. 10 [29]. 1964. S. 12-19; Zal¬
kin M. «Mekomot she-lo mazaa adain ha-hasidut ken Iа klal»? Bein hasidim le-mitnagdim
be-lita ba-mea ha-19 // Be-maagaley hasidim (см. примеч. 53). S. 36-48.
63 Zalkin. Ibid. S. 48- 50.
64 Rapoport-Albert. Ha-tnua ha-hasidit aharey shnat 1772 // Zadik ve-eda. S. 243- 46;
Haran Rayya. Belil igrot ve-igeret: le-darkhey ha-haataka shel igrot hasidim // Zion. N2 56.
1991. S. 301-312.
/144/
2.1 / ХАСИДИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
65 Понятно, что были и конфликты. Особую известность получил конфликт меж¬
ду р. Лаковом Исраэлем из Горностополя (в тот момент проживавшим в Черкассах)
и остальными его братьями, сыновьями р. Мордехая из Чернобыля. См.: Horodetz¬
kiy Sh.A. Ha-hasidut ve-ha-hasidim. V. 3. Berlin, 1923. S. 91—97.
66 Assaf. Derekh-ha-malkhut. S. 204—236.
67 Assaf. Neehazba-svakh.S. 322.
68 Hailperin (см. примеч. 13). S. 348-54; Assaf Derekh-ha-malkhut. S. 327—328.
69 Assaf Neehaz ba-svakh. S. 280—281.
70 Систематический обзор исследовательской литературы о Брацлаве см.: Assaf D.
Bratslav: bibliografia Mueret. Yerushalaim, 2000.
71 Mark Z. Lama radaf ha-rav Moshe Tzvi mi-Savran et r. Natan mi-Nemirov ve-hasidey
Bratslav? // Zion. № 69. 2004. S. 487-500.
72 Assaf Neehaz bi-svakh. S. 179-234.
73 Goldberg R. (ed.), Gotlober А.В. Zikhronot u-masaot. Vol. 1. Yerushalaim, 1976.
S. 186—187, 281-288; Ish N. [Elimelekh Veksler]. Mi-tehom ha-neshia // Reshumot. № 1.
1918. S. 174- 175; Huberman N. Bershad: Be-tzel ayara. Yerushalaim, 1956. S. 23—39.
74 Assaf. Neehaz ba-svakh. S. 228— 30.
75 Geshuri M.Sh. Hasidut be-Besarabia // Entziklopedia shel galuyot. Vol. 11: Yehadut
Besarabiya. Yerushalaim, 1971. S. 857—868.
76 Toibman Y.L. Al Shoshelet ahat be-Besarabiyya // Shorer H. (ed.). Besarabiyya.
Kovetz; Tel Aviv, 5701. S. 90—96.
77 Assaf. Derekh-ha-malkhut. S. 196—198.
78 Feldman E. Toldot yehudey Besarabiyya ad sof ha-mea ha-19 // Entziklopediyya shel
galuyot (см. прим. 80). S. 24-26, 83-88.
79 Династия Ильинцев была единственной, имевшей центр в Новороссии, одна¬
ко, как говорилось выше, причиной тому стало изгнание в эти места адмора Ицхака
Иоэля Рабиновича, а не его собственное желание.
80 Grinbaum A. Hitpashtut ha-hasidut ba-mea ha-19: mabat sotzio-geographi rishoni //
Divrey ha-kongres ha-olami ha-asiri le-madaey-ha-yahadut. Pt. 2. Vol. 1. Yerushalaim, 1990.
S. 240.
81 Radensky (см. примеч. 39). S. 96-99, 105-113.
82 См. прим. 45.
83 С этой точки зрения заслуживают внимания усилия аппарата цадиков пода¬
вить попытки нарушить этот социальный порядок. См., например, о «Людомирской
деве» (Rapoport-Albert А. А1 ha-nashim be-hasidut: Sh.A. Horodetzkiy u-masoret ha-betula
ma-Ludomir // Tzadik ve-eda. S. 496— 527); Deutsch N. The Maiden of Ludmir // A Jewish
Holy Woman and Her World. Berkley, 2003) или о юноше из Миколаева (Assaf. Derekh-ha-
malkhut. S. 270-271).
84 См. прим. 62.
85 Rabinovitz. Ha-hasidut ha-litait. S. 139; Kotik. Ma she-raiti (см. примеч. 66). S. 266-
267.
86 Assaf D. Mi-Volyn le-Tzfat: Dyokno shel r. Avraam Dov me-Ovrutch ke-manhig hasidi
be-mahazit ha-rishona shel ha-mea ha-tsha-esre // Shalem: mehqarim be-toldot Eretz-Israel
ve-yeshuva ha-yehudi. № 6. 1992. S. 224—230.
87 Lurie. Edau-medina. S. 56—60.
/145/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
88 Rabinovitz. Ha-hasidut ha-litait. S. 119, 129.
89 Had Min Hevraya [Yahalal]. Hitgalut ha-Yanuka mi-Stolin // Ha-shahar. № 6. 1875.
S. 25- 44; Rabinovitz. Ibid. S. 84- 90; Ben E.A. Ha-Yanuka mi-Stolin (monographia). New-
York, 1951. О «януках» в других династиях см.: Polen N. Rebbetzins, Wonder-Children,
and the Emergence of the Dynastic Principle in Hasidism // Katz S. T. (ed.). The Shtetl: New
Evaluations. New York, 2007. P. 53- 84.
90 Assaf. Derekh-ha-malkhut. S. 303- 36.
91 Ibid. S. 363- 418.
92 Wertheim A. Halakhot ve-halikhot be-hasidut. Yerushalaim, 2003. S. 157-160; Assaf.
Ibid. S. 419-424.
93 См., например, описание посещения рабби из Слонима Каменца-Литовского:
Kotik. Na va-nad (см. примеч. 45), S. 43-49; или описание посещения двумя цадиками
из чернобыльской династии городка Терновка: Mark Z. Hasidut ve-hefkerut: tashtiyyot
historiyyot ve-otobiografiyyot la-sipur «Ha-hafsaka» M.Y. Berditzevsky // Zafon № 7. 2004.
S. 219-237.
94 Эти попытки p. Шнеура Залмана отражаются в «постановлениях Лиозны». См.:
Etkts I. Darko shel г. Shneur Zalman mi-Lyadi ke-manhig shel hasidim // Zion № 50. 1985.
S. 334-339. P. Нахман из Брацлава также пытался по-своему ограничить посещения
своих последователей тремя или шестью визитами в год (Hayey Moharan. Yerushalaim,
1986. Sihot ha-shayakhim le-ha-torot, siman 6; makom leidato ve-yeshivato, siman 23).
95 О каналах связи между двором Хабада и общинами периферии см.: Lurie. Eda u-
medina. S. 43-47; о посланниках ребе: Etkes. Ibid. S. 351—352; о «хозрим»: Levanon Y.D.
[Yehoshua Mondshein]. Motivim habadiim be-«Ha-nidah» le-Sh. Y. Agnon // Bikoret u-far-
shanut. № 16.1981. S. 137-139; Kuntres divrey yemey ha-hozrim. Bruklin, 2006.
96 Levitatz Y. Ha-havarot ha-yehudiyyot be-Rusia // Ha-avar. № 4. 5716. S. 95—103;
Hailperin (см. прим. 13). S. 313—332.
97 О различных моделях отношений цадиков и хаварот см.: Petrovsky-Shtern (см.
примеч. 41). S. 20—54. О том, что родственники Шнеура Залмана состояли в похо¬
ронном братстве в Лиозне, см.: Assaf. Neehaz ba-svakh. S. 63; о вмешательстве цадиков
Опатова в дела хаварот см.: Igrot ha- «Ohev Israel». Yerushalaim, 2000. S. 406, 56—576,
137—38, 160—64; о цадиках Карлина см.: Mi-pinkas hevrat mishnayyot bair «Anuva she-
leyad Pinsk» // Beit Aharon ve-Israel. № 3—4. 1986. S. 91.
98 Assaf. Derekh ha-malkhut. S. 409- 16; Idem. Neehaz ba-svakh. S. 197-198; Peulote-
hem shel zadikey Chemobil be-hanhagat ha-dor... // Kitra shel Tora, Shikun Skvira. New-
York, 2005. S. 169- 94.
99 Gries Z. Sefer, sofer ve-sipur be-reshit ha-hasidut. Tel Aviv, 1992. S. 64-65.
100 Kohen A. Raziti lehaber sefer... ve-ekra et shmo «Adam»»: hitmodedut im ktivat sifrey
drush be-veit Pshisha // Dimuy. № 28. 2006. S. 4— 18, 86.
101 Assaf Derekh ha-malkhut. S. 437—440; Silber M. Reshit zmihata shel ha-ultra-orto-
doksia: hamzaata shel masoret // Salmon Y, Rabinovitz A., Ferziger A. (ed.). Ortodoksia yehu-
dit: hebetim hadashim. Yerushalaim, 2006. S. 297-344.
102 Бабель И. Сочинения в 2-х тт. М., 1996. Т. 2. С. 38. О том, кем, возможно, был
этот рабби, который, конечно же, не являлся «последним из Чернобыльской дина¬
стии», см.: Assaf Neehaz ba-svakh. S. 331; см. примеч. 54.
/146/
2.2
УЧЕНАЯ ЭЛИТА
ЛИТОВСКОГО ЕВРЕЙСТВА:
ИДЕАЛЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Уриэль Гельман
врейская община Литвы в XIX в. прославилась главным образом
как центр религиозной учености. Истоки такого представления,
закрепившегося за литовско-еврейским культурным простран¬
ством 1, восходят к интеллектуальному наследию евреев Поль¬
ско-Литовского королевства, которое накапливалось в течение
сотен лет, предшествовавших разделам Польши 2. В рассматриваемый нами
период «литовская» еврейская идентичность оформилась как отдельное со¬
циально-культурное явление в среде восточноевропейского еврейства, и ее
идеальным воплощением считалась религиозная интеллектуальная элита. В
более широкой культурной перспективе следует отметить, что в этот же пе¬
риод литовское еврейство переживало необыкновенный творческий подъем,
выразившийся в развитии многочисленных движений и идеологий. Однако
при формировании расхожего образа литовского еврейства религиозная уче¬
ность, по-видимому, оттеснила другие интеллектуальные течения (например,
Гаскалу) на периферию исторического сознания.
В период заката Польско-Литовского государства раввинистическая и
ученая элита в значительной степени срослась с еврейской экономической
олигархией, причем обе эти группы составляли довольно узкий круг знатных
семей. Однако начиная с середины XIX в. традиционные общинные элиты по¬
степенно теряют свои доминантные позиции, прежде всего ввиду поэтапной
ликвидации государством структур общинной и надобщинной автономии 3. В
течение XIX в. в общественном строе еврейской элиты произошел раскол, в
/147/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
результате которого постепенно утвер¬
дился особый элитарный статус ученых
кругов. Именно они стали главным
фактором формирования социально¬
го и культурного самосознания евреев
Литвы, тогда как экономические элиты
в течение этого периода претерпевали
процесс секуляризации 4.
Талмудическая образованность яв¬
лялась в ученой среде признаком ста¬
туса и играла фундаментальную роль в
сохранении социальной стратифика¬
ции. Принадлежность к этому элитар¬
ному слою проявлялась в способности
демонстрировать талмудическую эру¬
дицию и в усвоении присущих ученым
кругам модели поведения, манеры оде¬
ваться, а также особенностей речи и
лексики.
Несмотря на то что интеллектуаль¬
ная элита как носительница доступной
немногим «высокой культуры» состо¬
яла из ограниченного числа «ученых»
(ломдим), она обладала влиянием,
которое выходило далеко за преде¬
лы собственно образованных кругов.
Феномен учености в силу самой своей
природы относился к частной сфере;
ученый, повышая свой уровень знаний
и добиваясь признания за ним обще¬
ством статуса знатока Торы, стремил¬
ся занять более высокое положение во
внутренней иерархии элиты. Вместе с
тем между элитой и народными мас¬
сами существовало культурное взаи¬
мовлияние, и в течение длительного
периода изучение Торы являлось обще¬
признанным идеалом для всего еврей¬
ского общества. Помимо круга ученых,
которые сделали Тору своим ремеслом,
признание за изучением Торы высшей
Литовский еврей с женой и дочерью.
Литография из книги: Leon Hollaenderski.
Les Israelites de Pologne. Paris, 1846
Рабби Элияху бен Шломо, Виленский Гаон
(1720-1797). С литографии 1825 г.
/148/
2.2 / УЧЕНАЯ ЭЛИТА ЛИТОВСКОГО ЕВРЕЙСТВА
социальной и религиозной ценности проникло также в среду обычных до¬
мохозяев, и в Литве XIX в. было немало образованных евреев — настоящих
талмудических ученых (талмидей хахамим), которые распределяли свое время
между повседневной экономической деятельностью и усердным изучением
Торы. Таким образом, превращение талмудического знания в показатель куль¬
турного уровня и критерий общественного престижа привело к появлению
различных уровней принадлежности к интеллектуальной элите.
Масштабы распространения талмудической учености в еврейском обще¬
стве XIX столетия иногда описывались с некоторой долей идеализации (осо¬
бенно в литературе, созданной после Первой мировой войны), однако из ис¬
точников той эпохи действительно следует, что в течение определенного пе¬
риода изучение Торы в Литве переживало беспрецедентный расцвет, что выра¬
жалось как в общественном статусе учащихся, так и в престиже торанических
образовательных учреждений.
ВИЛЕНСКИЙ ГАОН И ЕГО НАСЛЕДИЕ
Ключевой для создания интеллектуального имиджа литовского еврейства
фигурой стал р. Элияху бен Шломо Залман из Вильно, прозванный Виленским
Гаоном (1720—1797). Можно сказать, что выдающаяся личность р. Элияху во¬
плотила в себе тот этос учености, который был характерен для социальной
прослойки ломдим на протяжении всего XIX в. Несмотря на то что он не за¬
нимал никакой официальной должности, а его контакты с общественностью
были чрезвычайно редки, р. Элияху удостоился исключительного почитания
еще при жизни 5. Его авторитет основывался на незаурядной духовной силе и
на интеллектуальных достижениях, которые производили огромное впечатле¬
ние на современников. Ближайшие ученики Виленского Гаона отмечали ис¬
ключительный масштаб и глубину его знаний во всех разделах Письменной и
Устной Торы — в том числе и тех ее пластов, которыми на протяжении многих
поколений не было принято заниматься, — а также в сфере еврейской ми¬
стики. В формировании образа литовского ученого девятнадцатого столетия
главную роль играло не только интеллектуальное наследие р. Элияху, но и его
благочестивый образ жизни, нравственные и религиозные идеалы. Ученики
и почитатели удостоили его звания «хасид» (букв. — «благочестивый, правед¬
ный человек»), которое должно было подчеркнуть его аскетизм, абсолютную
преданность изучению Торы, а также его достижения в мистической практике.
Р. Элияху был главенствующей фигурой в борьбе, которая велась против
хасидского движения в течение последней трети XVIII в. Организованное и
целенаправленное преследование хасидов началось весной 1772 г., после того
как р. Элияху объявил их вероотступниками (миним). Сам Виленский Гаон
/149/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
был одним из наиболее непреклонных и бескомпромиссных лидеров этой
борьбы, а после его кончины в 1797 г.6 некоторые приближенные Гаона вместе
с виленской общинной верхушкой продолжили действовать против хасидов
от его имени и пользуясь его авторитетом. В ходе борьбы с хасидизмом уче¬
ники и последователи р. Элияху смогли прочертить собственные идеологиче¬
ские границы. Новые социальные и культурные концепции оформились как
реакция на хасидское движение и легли в основу этоса «митнагдим» 7.
Хотя метод изучения Торы р. Элияху был принят не всеми литовскими
учеными последующих поколений, его личность стала для них одновременно
источником вдохновения и символом высшей талмудической учености 8.
Р. ХАИМ ИЗ ВОЛОЖИ НА
И ОСНОВАНИЕ ЛИТОВСКОЙ ИЕШИВЫ
Со смертью р. Элияху видное место в кругах литовской ученой элиты за¬
нял его ученик р. Хаим из Воложина (1749—1821). Общественную деятель¬
ность р. Хаима можно рассматривать как реакцию на ощущение кризиса,
которое он лично испытывал из-за снижения уровня талмудического знания
в еврейском обществе. Это ощущение возникало вследствие упадка традици¬
онных иешив и распространения хасидского движения. По мнению р. Хаима,
установленный хасидами порядок приоритетов в религиозной жизни подры¬
вал устои традиционной системы изучения Торы.
В 1802 г. р. Хаим основал Воложинскую иешиву, которая стала первой
иешивой современного типа в Литве и в которой сформировались многие
компоненты новой образовательной модели — так называемой «литовской
иешивы». Польские иешивы XVI—XVII вв. были преимущественно общинны¬
ми учреждениями: иешива зависела от поддержки общины, главный раввин
общины был, как правило, также главой иешивы, а содержание учеников бра¬
ли на себя домохозяева — рядовые члены общины. Принципиальным ново¬
введением было отделение литовской иешивы от общины и создание новой
системы изучения Торы. Р. Хаим разработал инновационные модели органи¬
зации и финансирования, которые сделали иешиву независимой от локаль¬
ных институтов еврейского самоуправления и превратили ее в надобщинное
учреждение. Финансирование литовской иешивы велось не за счет фондов
местной общины, а посредством обращения к широкой еврейской обще¬
ственности по всей черте оседлости и даже за ее пределами. Люди были гото¬
вы поддержать иешиву, поскольку разделяли ее идейные ценности. Учащиеся
Воложинской иешивы получали содержание из ее бюджета и были избавлены
от необходимости искать пропитание у домохозяев. Более того, многие чле¬
ны общины, которые теперь предоставляли учащимся различные платные
/150/
2.2 / УЧЕНАЯ ЭЛИТА ЛИТОВСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Здание иешивы в Воложине. С открытки нач. XX в.
услуги (жилье, питание, одежду и т.п.), сами оказывались в экономической
зависимости от иешивы. Благодаря перевороту в организационной структуре
иешивы, совершенному р. Хаимом, Воложинская иешива приобрела особый
авторитет и стала играть значительную роль в еврейской общественной жизни
по всей империи 9.
Восприимчивость р. Хаима к веяниям времени сказалась также и в его
отношении к хасидизму, которое существенным образом отличалось от пози¬
ции его учителя, Виленского Гаона. Р. Хаим не принимал участия в гонениях
на хасидизм, он решил сразиться с ним на поле идеологии и образования. В
основном труде р. Хаима «Нефеш ха-хайим» («Душа жизни») читатель най¬
дет развернутую, острую критику идей хасидизма, в распространении кото¬
рых автор видел причину характерного для своего времени упадка в изучении
Торы. Вместе с тем нужно отметить умеренность его стиля и отсутствие грубой
хулы, которая часто встречается в антихасидских сочинениях митнагдим. Р.
Хаим разработал обширную концептуальную систему, которая противостоя¬
ла хасидизму в вопросах изучения Торы. Основываясь на каббалистических
представлениях, он помещает на вершину еврейской иерархии ценностей из¬
учение Торы «ради нее самой». Р. Хаим наделяет этот процесс мистическим
смыслом, рассматривая его как высшее выражение Божественной воли. В
его учении видна попытка достичь диалектического синтеза тех религиозных
/ 151 /
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Р. Нафтали Цви Берлин (1816—1893),
глава Воложинской иешивы с 1853 по 1893 г.
ценностей, к которым апеллировали
хасиды, с традиционными идеалами
учености. Можно предположить, что
позиция р. Хаима и сформулированное
им мировоззрение в конечном счете
способствовали снижению накала в от¬
ношениях между хасидами и митнаг¬
дим на протяжении XIX в.10
В Воложинской иешиве были вве¬
дены некоторые новые методы об¬
учения, базирующиеся на теориях р.
Хаима, однако наряду с этим в ней со¬
хранялись и многие особенности обу¬
чения в старом бейт-мидраше. Занятия
в Воложине продолжались на протя¬
жении всего года в любое время суток,
и учебная программа охватывала все
трактаты Талмуда. Иешива не ставила
перед собой задачу профессиональной
подготовки раввинов, ее целью было
изучение Торы «ради нее самой», хотя
первоначально учебная программа включала также штудирование галахиче¬
ских сочинений. В Воложине были два главы иешивы, и оба давали ежеднев¬
ный фронтальный урок, но по сравнению с самостоятельными занятиями
учащихся он имел второстепенное значение. Воложинская иешива занимала
центральное положение в ученых кругах литовского еврейства на протяжении
большей части XIX в. Позднее в ней началась внутренняя борьба за власть и
наследование руководства, и в 1892 г. по распоряжению властей она была за¬
крыта 11.
Успех Воложинской иешивы способствовал появлению в Литве новых
иешив, созданных по тому же образцу, однако за исключением иешивы в г.
Мир, основанной в 1815 г., все они в значительной степени сохраняли локаль¬
ный характер. Ситуация изменилась к концу XIX в., когда в среде литовского
еврейства стал заметен отход от религиозной традиции и от идеалов ученой
элиты, выразившийся, в частности, в трансформации традиционных общин¬
ных образовательных институтов. В этих условиях только изоляция иешивы
от местной общины и превращение ее в надобщинный институт могли сохра¬
нить пестуемый в ее стенах этос литовской учености. Парадоксальным обра¬
зом именно в то время, когда среди российских евреев набирали силу про¬
цессы модернизации, было основано несколько самых известных литовских
иешив, продолжавших традиции Воложина: в частности, в Радине, Тельзе
/ 152 /
2.2 / УЧЕНАЯ ЭЛИТА ЛИТОВСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Вильно. Еврейские типы. С немецкой открытки 1916 г. Joseph and Margit Hoffman Judaica
Postcard Collection, Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem
(Тельшае), Слободке (предместье Ковно), Новардоке (Новогрудке), Слуцке,
Поневеже, Лиде и др. Эти влиятельные учебные заведения отличались друг
от друга своей внутренней организацией, системой обучения и отношением к
новым движениям, сформировавшимся в Литве в то время, — в первую оче¬
редь к Гаскале и к движению «Мусар».
Р. ИСРАЭЛЬ САЛАНТЕР И ДВИЖЕНИЕ «МУСАР»
История литовских иешив тесно связана с движением «Мусар» (ивр.,
букв. — «мораль», «этика») и его нововведениями в сфере образования. Ос¬
новы этого движения заложил р. Исраэль Салантер (1810-1883) в середине
40-х гг. XIX в. Р. Исраэль был учеником р. Иосефа Зунделя из Саланта (1786—
1866) и последователем Виленского Гаона и р. Хаима из Воложина. Еще в
молодости он зарекомендовал себя как превосходный ученый, наделенный
множеством талантов, но слава пришла к нему в первую очередь благодаря
разработанному им подходу к вопросам образования и этики.
Деятельность р. Исраэля Салантера разворачивалась в 1840-х гг. на фоне
кампании российских властей, направленной на реформу традиционно¬
го еврейского образования. Эта кампания, получившая название «казен¬
/ 153 /
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
p. Натан Цви Финкель (1849-1927),
основатель и глава иешивы в Слободке
(фотография 1925-1927 г., Хеврон)
ное просвещение», была поддержана
литовскими маскилим (сторонника¬
ми Гаскалы), что оказало решающее
влияние на соотношение сил между
просветителями и традиционалиста¬
ми в еврейском обществе 12. Несмотря
на весьма ограниченные успехи «ка¬
зенного просвещения» традициона¬
листские круги чувствовали угрозу,
исходившую со стороны маскилим,
которые, как им представлялось, пре¬
вратились в союзников правительства.
По всей видимости, это ощущение со¬
провождало и р. Исраэля Салантера в
его общественной деятельности.
Истоки предложенного Саланте¬
ром моралистического подхода («Му-
сар») восходят к психологическим те¬
ориям, характерным для европейской
мысли XVIII—XIX вв. В его основе лежит
требование нравственного самоусовер¬
шенствования, обращенное к каждому
индивидууму. Главным нововведением
р. Исраэля в этической сфере по срав¬
нению с концепциями классической
еврейской нравоучительной литературы является перенос акцента с теологии
на психологию. Салантер указывал на глубокое несоответствие между рацио¬
нальным знанием и пониманием необходимости нравственного возвышения,
с одной стороны, и душевными движениями человека — с другой, а также меж¬
ду интеллектуальными достижениями ученых и их нравственно-религиозным
уровнем. По его мнению, человеком управляют вожделение и инстинкт (йе¬
цер), которые мешают ему следовать религиозным нормам. Лучшим средством
борьбы с вожделением является богобоязненность: страх перед последствиями
поступков, совершенных под влиянием инстинкта, помогает контролировать
иррациональную природу вожделения. Чтобы добиться необходимого уровня
богобоязненности, согласно системе «Мусар», следует институционализиро¬
вать изучение этической литературы. При этом процесс обучения не должен
быть чисто интеллектуальным, напротив, он должен сопровождаться эмоци¬
ональными переживанием духовного возрождения. «Вдохновенное», оживля¬
ющее чувства изучение моралистических текстов представляло собой повто¬
рение наиболее значимых отрывков нараспев, при этом использовались осо¬
/154/
2.2 / УЧЕНАЯ ЭЛИТА ЛИТОВСКОГО ЕВРЕЙСТВА
бые меланхолические мелодии, которые должны были пробудить в учащемся
самосознание и приучить его к внутренней дисциплине. С этой целью были
созданы особые институции — «батей мусар» (букв. «Дома этики»), в которых,
в отличие от традиционных бейт-мидрашей, изучались исключительно мора¬
листические тексты 13.
Несмотря на усилия р. Исраэля Салантера по распространению системы
«Мусар» среди литовских евреев влияние его идей в обществе было весьма
ограниченным. Интенсивные занятия моралистическими текстами вызыва¬
ли противодействие отдельных раввинов, которые усматривали в этом прене¬
брежение к традиционному изучению Талмуда и обвиняли движение «Мусар»
в изоляционизме. Большинство ученых не ответили на вызов, брошенный
р. Исраэлем 14. Одним из факторов, ответственных за равнодушие к системе
«Мусар» и даже ее отвержение, было, по-видимому, влияние учения р. Хаи¬
ма из Воложина, сохранявшее свою популярность на всем протяжении XIX в.
Процесс превращения системы «Мусар» в общественное движение занял дли¬
тельное время, и только по прошествии двадцати — тридцати лет, когда в жиз¬
ни евреев Российской империи произошли существенные перемены, стало
заметно его влияние на широкую еврейскую общественность. В этот период
сформировалась новая еврейская экономическая элита, которая по своим за¬
нятиям и ценностным ориентирам отличалась от традиционной ученой эли¬
ты. Вытеснение старой интеллектуальной элиты на периферию общественной
жизни привело к падению интереса к тем ценностям, которые она представ¬
ляла. Смена социальных ориентиров выражалась также в изменении привыч¬
ных для традиционного общества моделей образования и в увеличении числа
евреев, поступающих в русские учебные заведения. Чем сильнее становилось
ощущение кризиса в еврейской ортодоксальной среде, тем выше становилась
готовность общества к восприятию идей движения «Мусар».
В созданных учениками р. Исраэля Салантера и их последователями ие¬
шивах была предпринята попытка совместить этос учености, сложившийся
в литовских иешивах (например, в Воложинской), с образованием по систе¬
ме «Мусар». Перенос занятий этикой в иешивы означал, по существу, отказ
от первоначальных намерений основателя движения, р. Исраэля Салантера,
который обращался прежде всего не к ученой элите, а к простым домохо¬
зяевам. Р. Исраэль Салантер стремился сделать свое учение популярным в
широкой общественной среде, тогда как влияние иешив в этом отношении
сказывалось лишь на узкой прослойке интеллектуально одаренных людей.
Иешивы «Мусар» (самые известные из них — в Слободке, предместье Ков¬
но, и в Новогрудке) и филиалы, созданные их выпускниками, играли глав¬
ную роль в формировании образа ученых (ломдим) в Восточной Европе с
конца XIX в. и вплоть до Второй мировой войны. Эти институты отличались
высокой преданностью учащихся образовательным идеалам движения «Му-
/155/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
сар», в их стенах формировалось самобытное мировоззрение приверженцев
этого движения («мусарников»), и они выработали особые методы противо¬
стояния вызовам современности 15.
СООБЩЕСТВО УЧЕНЫХ И ЕГО ИНСТИТУТЫ
В воспоминаниях современников и в историографии литовского еврейства
большие литовские иешивы представлены как главный оплот Торы и запове¬
дей. Однако следует подчеркнуть, что на всем протяжении XIX в. надобщинные
иешивы занимали второстепенное положение в системе изучения Торы в Вос¬
точной Европе. Во многих местах вообще не было иешив того типа, и даже в
самой Литве по-прежнему процветали традиционные локальные институты из¬
учения Торы: клойзы, бейт-мидраши и небольшие общинные иешивы. Похоже,
что до конца девятнадцатого столетия лишь небольшая часть молодых людей,
решивших сделать Тору своим ремеслом, уезжали учиться в Воложин или в дру¬
гие иешивы воложинского типа. Большинство же по-прежнему занимались в
одном из бейт-мидрашей, имевшихся в каждой общине. Кроме того, многие из¬
вестные ученые и раввины того времени предпочитали именно местные обра¬
зовательные учреждения 16. Вместе с тем новаторская деятельность надобщин¬
ной иешивы, ее высокая репутация и широкая поддержка, которую ей оказыва¬
ла еврейская общественность, без сомнения, наложили глубокий отпечаток на
формирование элитарной культуры литовских евреев. Все это способствовало
интенсификации изучения Торы, росту престижа традиционных образователь¬
ных учреждений, а также формированию особых интеллектуальных и социаль¬
ных норм, характерных для сообщества ученых (хеврат ломдим).
Бейт-мидраши и иешивы были частью культурного этоса общин, они су¬
ществовали под патронажем общины в целом либо учреждались по инициати¬
ве группы или отдельных членов общины. Эти институты являлись средото¬
чием интеллектуальной жизни общины, центром притяжения для ученых из
других городов и местечек, они служили источником заработка для местных
ученых и преподавателей и ярмаркой женихов для местных невест.
Учащиеся в бейт-мидрашах были практически полностью независимы:
они учились самостоятельно и не должны были ни перед кем отчитываться.
В условиях отсутствия каких-либо установок на учебное единообразие они
сами выбирали материал для изучения и определяли для себя метод и сроки
его усвоения, что способствовало развитию таланта и творческих способно¬
стей учащихся. Все, что от них требовалось, — это посвящать свое время уче¬
бе, а взамен те из них, кто приехал из других общин, получали довольство от
местных домохозяев. Такая система не требовала особых затрат и была удобна
как самим учащимся, так и членам общины. Она подразумевала длительный
/156/
2.2 / УЧЕНАЯ ЭЛИТА ЛИТОВСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Вверху — синагога в Ивье Виленской губ. С открытки нач. XX в. Joseph and Margit Hoffman
Judaica Postcard Collection, Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem
Внизу — синагога в Новогрудке. С немецкой открытки 1916 г. Joseph and Margit Hoffman
Judaica Postcard Collection, Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
процесс ученичества, в ходе которого ломдим реализовывали взятое на себя
обязательство изучать Тору 17. Вокруг бейт-мидрашей сформировался круг
прушим (букв. — «отделившиеся», т.е. «отшельники», «аскеты»). Это были же¬
натые студенты, часть которых даже оставляла свои семьи, чтобы посвятить
себя целиком изучению Торы, несмотря на то что у них не было какой-либо
финансовой поддержки. В конце века, примерно с 1880 г., начинает склады¬
ваться институт колеля (колель — букв. «включающий в себя», «всеобщий») —
органа экономической поддержки женатых ученых, которые посвящают все
свое время занятию Торой. Со временем колель превратился в одно из важней¬
ших звеньев в системе традиционного образования 18.
Стремление молодежи учиться в бейт-мидраше или иешиве было об¬
условлено не только желанием совершенствоваться в знании Торы или пре¬
стижностью статуса ученого в обществе, но и практической выгодой: прежде
всего — неформальным освобождением от обязанности служить в российской
армии. Согласно указу о распространении на евреев натуральной рекрутской
повинности 1827 г. еврейские общины империи были обязаны поставлять
определенное число рекрутов в российскую армию в зависимости от величины
общины. Однако общинное руководство старалось защитить учащихся иешив
и бейт-мидрашей от призыва и искало им замену среди непривилегированных
и низших слоев общества. Это обстоятельство, естественно, привело к росту
числа учащихся и к созданию множества иешив как в центральных, так и в
периферийных общинах в первые годы после принятия закона 19. Эта ситуация
изменилась в 1874 г. с изданием закона о всеобщей воинской повинности.
Вместе с тем для большинства молодых людей изучение Торы на столь
высоком уровне не представлялось возможным, в том числе из-за структуры
начального образования (хедера) и низкого социоэкономического положения
большинства еврейских семей, которые не могли позволить себе отказаться от
дополнительной пары рабочих рук. Выпускники обычного хедера, за редким
исключением, были не в состоянии изучать Талмуд самостоятельно, поэтому
они не могли присоединиться к учащимся в бейт-мидраше и не получали под¬
держку, которую тем предоставляли местные общины 20. Большая часть взрос¬
лого еврейского населения не могла справиться с трудными талмудическими и
раввинистическими текстами своими силами. Эта ситуация привела к созда¬
нию практически в каждой еврейской общине особых учебных сообществ (хев¬
рот лимуд), в рамках которых изучались базисные сакральные тексты. Иешива,
при всем многообразии ее видов, по-прежнему была элитарным заведением,
которое стояло на страже ценностей ученой элиты и пополняло ее ряды, а уче¬
ность оставалась достоянием весьма узкой социальной прослойки.
Процесс обучения в иешивах и бейт-мидрашах обычно не включал в себя
профессиональную подготовку общинных раввинов. Учащиеся, которые хо¬
тели стать раввинами, осваивали необходимую галахическую литературу са¬
/158/
2.2 / УЧЕНАЯ ЭЛИТА ЛИТОВСКОГО ЕВРЕЙСТВА
мостоятельно. Некоторые из них, конечно, могли обратиться к главе иешивы
с просьбой об аттестации на звание раввина, но это происходило только по
их личной инициативе, и само звание присваивалось им от имени главы ие¬
шивы как выдающегося знатока Торы, а не от имени собственно иешивы как
образовательного учреждения. Многие учащиеся обращались за получением
раввинского звания также и к другим известным общинным раввинам, по¬
скольку это могло увеличить их шансы на получение более почетной раввин¬
ской должности. В целом, однако, в ученых кругах Литвы XIX в. было распро¬
странено мнение, что учеба с целью получить звание раввина и подготовка к
исполнению раввинских обязанностей не равноценны изучению Торы «ради
нее самой», и даже выдающиеся ученые зачастую отказывались от раввинской
карьеры. Эта позиция основывалось на теориях Виленского Гаона и р. Хаима
из Воложина, однако можно предположить, что она также была своего рода
реакцией на воззрения маскилим. Еврейские просветители настаивали на не¬
обходимости профессионального талмудического образования исключитель¬
но для тех, кто намерен посвятить себя раввинату, и в соответствии с этим
поддерживали создание раввинских семинарий в рамках государственной ре¬
формы еврейского образования 21.
Развитие института литовской иешивы и основание в последней трети
XIX в. нескольких крупных иешив, в которых одновременно обучалось боль¬
шое количество учеников, привели к заметному росту числа ученых, ищущих
источники заработка. У выпускников иешив имелось несколько возможно¬
стей. Во-первых, они могли оставить «мир Торы», стать частью существую¬
щей социоэкономической системы и смириться с тем, что их новое занятие
имеет не столь престижный статус, как тот, к которому они привыкли в сте¬
нах иешивы. Во-вторых, они могли использовать полученные знания, чтобы
добывать средства к существованию. С этим выбором, однако, были связаны
определенные трудности. Количество раввинских вакансий постоянно со¬
кращалось, особенно к концу XIX в., в том числе из-за ускорения процессов
урбанизации и сокращения числа общин. Лишь немногие из тех, кто приоб¬
рел глубокие познания в Торе, могли позволить себе подобную карьеру. Боль¬
шинство же оказывались «на вторых ролях» в маленьких и периферийных
общинах, исполняли обязанности морей цедек (букв. — «учителя справедли¬
вости») — консультантов по вопросам галахи, проповедников (магидим), пре¬
подавателей Талмуда для юношей и т.п. Это касалось в первую очередь вы¬
ходцев из низших и непривилегированных слоев и тех, кто не смог повысить
свой статус и подняться на более высокую общественную и экономическую
ступень за счет женитьбы на девушке из состоятельной семьи или благодаря
своим выдающимся учебным успехам. Членов этой группы можно обозначить
термином «второразрядная интеллигенция»; они не оставили особого следа в
историографии литовского еврейства 22.
/159/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
По свидетельству современников, заработная плата раввинов была чрез¬
вычайно скудной, и часть из них пребывала в нужде и бедности. Тяжелое
экономическое положение раввинов обуславливалось не только конкурен¬
цией, но и тем фактом, что многие ученые происходили из семей, изначаль¬
но стесненных в средствах. Все это приводило к частой смене общинных
раввинов и их скитаниям с места на место в надежде улучшить свое мате¬
риальное положение. Кризисная ситуация усугублялась неопределенно¬
стью юридического статуса традиционных общинных раввинов, вызванной
развитием института «казенного раввината»: на официальные раввинские
должности, признаваемые властями, назначались только те кандидаты, ко¬
торые отвечали определенному общеобразовательному цензу, что крайне за¬
трудняло продвижение выпускников иешив и бейт-мидрашей 23. Создание
надобщинных иешив, как это ни парадоксально, также способствовало де¬
вальвации статуса литовских раввинов. Несмотря на то почитание, которое
широкие слои еврейского общества выказывали по отношению к раввинам
и ученым людям, фигура главы иешивы, облеченного особым престижем и
авторитетом благодаря репутации возглавляемого им института, подчас зат¬
мевала образы тех, кто нес обычную для общинных раввинов службу. Глава
литовской иешивы не зависел от домохозяев и общинной администрации,
он был свободен от необходимости ежедневно выносить практические гала¬
хические решения, а также являлся фактически единовластным правителем
в стенах своей иешивы. Все это наделяло его особыми преимуществами по
сравнению с раввином в небольшой общине, особенно если принять во вни¬
мание, что некоторые ведущие иешивы на протяжении XIX в. превратились
в надобщинные общественные организации и пользовались огромным авто¬
ритетом в пределах всей черты оседлости 24.
Если молодой человек решал присоединиться к сообществу ученых в Лит¬
ве XIX в., то его решение неизбежно сказывалось на всем его семейном укладе.
Члены семьи и непосредственное окружение учащегося признавали ценность
его выбора и мобилизовывали все имевшиеся средства, чтобы помочь ему ре¬
ализовать свои устремления. Институт сватовства и брака также приспосо¬
бился к существованию группы молодых людей, которые первые годы после
свадьбы проводили за изучением Торы. При заключении брака родители неве¬
сты, как правило, обязывались взять молодую семью на определенный период
на полное обеспечение (кест). Только по завершении этого периода (если ро¬
дители действительно держали свое слово) семья ученого должна была начать
добывать средства к существованию собственными силами. Экономические
условия жизни евреев в Российской империи в этот период вынуждали ра¬
ботать обоих супругов, однако приверженность мужа идеалам изучения Торы
привела к возникновению особой социальной модели «семьи ученого», в ко¬
торой забота о семейном пропитании ложилась на плечи жены, иногда даже
/160/
2.2 / УЧЕНАЯ ЭЛИТА ЛИТОВСКОГО ЕВРЕЙСТВА
в тех случаях, когда муж получал звание раввина и в конце концов занимал
раввинскую должность 25.
В настоящем обзоре мы сосредоточились исключительно на облике опре¬
деленного слоя интеллектуальной и общественной элиты, однако следует
помнить, что еврейское общество в Литве состояло из множества социальных
групп и в нем были представлены самые разные мировоззрения. Несмотря на
то что идеалы талмудической учености оказали огромное влияние на форми¬
рование своеобразного культурного облика литовского еврейства XIX в. и ста¬
ли центральным компонентом его исторического образа, не следует видеть в
фигуре ученого единственный тип литовского еврея.
Анализ процессов формирования и упрочения различных элит в литов¬
ско-еврейском обществе на протяжении всего девятнадцатого столетия по¬
зволяет нам выявить социальные и культурные трансформации, которые про¬
исходили в нем под влиянием современности. Возвышение и упадок доми¬
нантных общественных групп свидетельствуют о том, как то или иное обще¬
ство противостоит кризисам своего времени, вырабатывая альтернативные
пути решения возникающих перед ним проблем. Поэтому именно ученая
элита, при всем многообразии ее форм и течений, становится носительницей
базовых принципов охранительного мировоззрения еврейской ортодоксии,
противостоящей вызовам нового времени.
Перевод с иврита Софьи Копелян
1 Под этим термином я подразумеваю конкретный культурный феномен, связан¬
ный не столько с меняющимися политическими границами, сколько с характерными
чертами культуры евреев региона, который включал в себя северные территории Вели¬
кого княжества Литовского еще до его объединения с Польским королевством в 1569 г.
2 См.: Shulwas М.А. Ha-Tora ve-limudah be-Polin-Lita // Bartal I., Gutman Y. (eds.)
Qiyum ve-shever: yehudei Polin le-doroteihem. Jerusalem, 2001. Vol. 2. P. 33-68.
3 Cm.: Shohet A. Ha-hanhagabi-qehilot Rusiya imbitul ha-“kahal” // Zion. № 42.1976.
P. 142— 233; Levitats Isaac. The Jewish community in Russia, 1772— 1844. New York, 1970.
4 О различных сословиях в еврейском обществе Восточной Европы см.: Somogyi
Т. Die Schejnen und die Prosten. Berlin, 1982.
5 О метаморфозах образа Виленского Гаона на протяжении девятнадцатого столе¬
тия, см.: Stampfer S. On the Creation and the Perpetuation of the Image of the Gaon of Vilna
// Ha-Gra u-veyt midrasho. Ramat-Gan, 2002. English section. P. 39—69.
6 Etkes I. Ha-Gra ve-reshit ha-maavaq ba-hasidut // Etkes L Yahid be-doro, ha-gaon
mi-Vilna— demut ve-dimui. Jerusalem, 1998. P. 84-108; противоположное мнение см.:
Mondsheyn Y. Ha-Gra ve-hilqo be-milhamta shel Vilna ba-hasidut // Asaf D. (ed.) Zadik ve-
eda. Jerusalem, 2001. P. 297-331.
7 Происхождение термина «митнагед» (ивр., буквально: «противник») как опре¬
деления антихасидской элиты неясно. Он появляется впервые в полемических хасид¬
ских источниках начала XIX в., а затем и в сочинениях маскилим. Естественно пред¬
/161/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
положить, что понятие «митнагед» сформировалось в хасидских кругах и лишь позд¬
нее стало использоваться самими митнагдим.
8 Об идеологических принципах митнагдим см.: Nadler A. The faith of the Mithnag¬
dim: rabbinic responses to Hasidic rapture. Baltimore, 1997.
9 Etkes L A Shtetl with a Yeshiva: The Case of Volozhin // Katz S.T. (ed.). The Shtetl:
New Evaluations. New York, 2007. P. 39—52.
10 Cm.: Etkes (см. прим. 6). P. 164—222.
11 Об истории Воложинской иешивы вплоть до ее закрытия см.: Stampfer Sh. На-
yeshiva ha-litait be-hithavutah. Mahadura murhevet u-metuqenet. Jerusalem, 2004. P. 29—
266.
12 См. Об этом: Etkes I. Parashat «ha-haskala mitaam» ve-ha-temura be-maamad ten-
uat ha-haskala be-Rusiya // Zion. 1978. № 43. P. 264—313; Stanislavski M. Tsar Nicholas I
and the Jews: the transformation of Jewish society in Russia, 1825-1855. Philadelphia, 1983.
P. 49—96; Zalkin M. «Ortodoksey ha-ir»? Li-sheelat qiyuma shel ortodoqsiya be-Lita ba-mea
ha-tesha-esre // Salmon Y., Ravitski A., Ferziger A. feds.) Ortodoqsiyah yehudit: hebetim ha¬
dashim. Jerusalem, 2006. P. 431—435.
13 Etkes I. R. Israel Salanter ve-reshitah shel tenuat ha-musar. Jerusalem, 1982; о движе¬
нии «Мусар» в целом см.: Kats D. Tenuat ha-musar: toldoteha, isheha ve-shitoteha. Vol. I—V
Tel-Aviv, 1945-1963.
14 Cm.: Kats D. Pulmus ha-musar. Tel Aviv, 1972.
15 См., напр.: Fishman D.E. Musar and Modernity: The case of Novaredok // Modem
Judaism. 1988. № 8. P. 41-64.
16 Cm.: Zalkin M. «Ir shel Тога» — Tora ve-limuda ba-merhav ha-ironi ha-litai ba-mea
ha-tesha-esre // Etkes T. (ed.). Yeshivot ve-batey midrashot. Jerusalem, 2006. P. 131-161.
В количественном отношении число учеников надобщинных иешив в течение первых
двух третей XIX в. оценивается в несколько сотен, однако к концу этого столетия чис¬
ло учащихся в известных иешивах Литвы достигало уже нескольких тысяч. Например,
в первые годы существования Воложинской иешивы в ней обучалось примерно 150
чел., а на пике ее популярности их число достигло четырех сотен. См.: Shtampfer (см.
прим. 10). Р. 65-66.
17 См.: Stampfer S. Heder Study, Knowledge of Torah and the Maintenance of Social
Stratification in Traditional East European Jewish Society // Studies in Jewish Education.
1988. № 3. P. 271-89; о клойзе, который существовал за счет частного финансирования,
см.: Reiner Е. Hon, maamad hevrati ve-talmud tora: ha-qloyzba-hevraha-yehuditbe-mizrah
Eiropa ba-meot ha-17— 18 // Zion. 1993. № 58. P. 287—328.
18 Stampfer (см. прим. 10). P. 360—83.
19 Cm.: Shohat A. Ha-«reqrutchina» b-imey Niqolai ha-rishon ve-ribui ha-yeshivot
be-yahadut Rusiya // Historya yehudit. \ Vol. I. 1986. P. 33—38; Stanislavski (см. прим. 11).
P. 13-34; Zalkin M. Beyn «beney elohim» li-«veney adam»: rabbanim, bahurey yeshivot ve-
ha-giyyus la-tsava ha-rusi ba-mea ha-tesha-esre // Bar-LevavA. (ed.) Shalom u-milhama ba-
tarbut ha-yehudit. Jerusalem, 2006. P. 165—222.
20 Анализ роли хедера в сохранении социальной стратификации в еврейском об¬
ществе и того, как эта ситуация сказывалась на различных аспектах изучения Торы,
см.: Stampfer (см. прим. 16).
21 Etkes I. Beyn lamdanut le-rabanut be-yahadut Lita // Zion. 1988. № 43. P. 385-403.
/162/
2.2 / УЧЕНАЯ ЭЛИТА ЛИТОВСКОГО ЕВРЕЙСТВА
22 См.: Zalkin М. Issakhar u-Zevulun — li-demuto shel lamdan litai ba-mea ha-19 //
Gilad. 2002. № 18. P. 125-54.
23 Shohat A. Mosad «ha-rabanut mitaam» be-Rusiya. Haifa, 1976.
24 Подробное реалистичное описание положения раввинов в Литве см. в авто¬
биографическом сочинении р. Элияху Давида Рабиновича-Теумим (акроним Адерет,
1842—1905): Seder Eliyahu. Jerusalem, 1984.
25 См.: Etkes I. Mishpaha ve-limmud Tora ba-hugim ha-«lomdim» be-Lita ba-mea ha-
19 // Zion. 1986. № 51. P. 87-106.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Etkes I. The Gaon of Vilna: the man and his image. Berkeley, 2002.
Etkes I. Rabbi Israel Salanter and the mussar movement: seeking the Torah of truth. Phil¬
adelphia; Jerusalem, 1993.
Nadler A. The faith of the Mithnagdim: rabbinic responses to Hasidic rapture. Baltimore,
1997.
Stampfer Sh. Lithuanian Yeshivas of the Nineteenth Century. Creating a Tradition of
Learning. Oxford, 2011.
Stampfer Sh. Ha-yeshiva ha-litait be-hithavutah (Формирование литовской иешивы).
Jerusalem, 2004.
Etkes I. Beyn lamdanut le-rabanut be-yahadut Lita (Раввинат и ученость в среде ли¬
товского еврейства) // Zion. № 43. 1988. Р. 385-403.
Kats D. Pulmus ha-musar (Диспут о Мусаре). Tel Aviv, 1972.
Zalkin М. Issakhar u-Zevulun — li-demuto shel lamdan litai ba-mea ha-19 (Иссахар и
Зевулун — образ литовского ученого в XIX в.)// Gilad. № 18. 2002. 3. 125-54.
Zalkin М. “Ir shel Tora” — Tora ve-limuda ba-merhav ha-ironi ha-litai ba-mea ha-tesha-
esre («Город Торы» — Тора и ее изучение в городском пространстве XIX в.) // Etkes I.
(ed.). Yeshivot u-vatey midrashot. Jerusalem, 2006. P. 131—161.
2.3
ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Мордехай Залкин
еномен еврейского Просвещения (Гаскалы), зародившись в Цен¬
тральной Европе во второй половине XVIII в., получил распро¬
странение в Российской империи уже в конце этого столетия и
в особенности с началом XIX в.1 Проникновение Гаскалы в Вос¬
точную Европу привело к столкновению этого мировоззрения,
выступавшего за фундаментальные изменения в культурном, общественном и
политическом устройстве еврейского социума, с консервативным обществом,
с подозрением относившимся к любой инициативе, которая, по его представ¬
лению, не была укоренена в еврейской традиции. Несмотря на это движение
Гаскалы затронуло все еврейские общины на территории Российской импе¬
рии, и медленная, но неуклонная рецепция его идей подготовила почву для
разнообразных идеологических течений, получивших распространение среди
евреев во второй половине XIX в. (например, для социализма и национализ¬
ма).
Еврейское Просвещение в Российской империи формировалось под воз¬
действием трех факторов.
1. Центры движения Гаскалы в Центральной Европе
Система многолетних и разветвленных связей между центрами еврейско¬
го Просвещения в Российской империи и в Центральной Европе послужила
основой для распространения просветительского мировоззрения в среде рос-
/164/
2.3 / ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
сийского еврейства. Так, например, поселившиеся в Одессе в начале XIX в.
еврейские купцы из крупных галицийских городов (Жолквы, Тарнополя) за¬
ложили фундамент для развития Гаскалы в этом городе. Еврейские просвети¬
тели (маскилим) из Кёнигсберга (Восточная Пруссия), приезжавшие в места
расселения евреев на севере Балтийского региона, например в Митаву или
Ригу, способствовали распространению среди них новых идей. Свой вклад в
этот процесс внесли также те просветители из Центральной Европы, которые
приглашались в Российскую империю по инициативе властей с целью содей¬
ствовать процессам модернизации евреев того или иного региона. Сходную
функцию выполняли еврейские купцы из России, состоявшие в тесных дело¬
вых, культурных и социальных контактах со своими партнерами в централь¬
ноевропейских еврейских общинах, а также молодые люди, которые отправ¬
лялись на Запад, чтобы учиться в европейских университетах, и подпадали под
влияние системы ценностей европейского Просвещения. По возвращении в
свои общины многие из них становились своего рода «агентами» идеологии
Просвещения в своем окружении.
2. Широкие просветительские круги в Российской империи
С конца XVIII в. российские интеллектуалы проявляли повышенный ин¬
терес к тому, что происходило в еврейском обществе, и стремились к преобра¬
зованию его традиционного облика и образа жизни, в основном посредством
образования.
3. Литература
Уже в конце XVIII в. многие евреи Российской империи имели доступ к
самой разнородной литературной продукции. Знакомство традиционной ев¬
рейской молодежи с миром новой литературы зачастую накладывало сильный
отпечаток на ее мировосприятие. Многие из тех, кто подобным образом от¬
крыл для себя и усвоил идеи, ценностные установки и общие представления
Гаскалы, влились в местные просветительские круги.
Вместе с тем в случае Гаскалы, как и в случае любого социального явле¬
ния, можно указать на отдельные формативные фигуры, заложившие осно¬
вы ее развития, иначе говоря, на «мевасрим» (предвестников), как их называ¬
ют в исследовательской литературе 2. Образ жизни этих людей был, в общем
и целом, «переходным» — от принятых в традиционном еврейском обществе
поведенческих и мыслительных моделей к новому, «просвещенному» стилю
жизни и мышления. К ним относят Баруха Шика из Шклова, Исраэля из
Замостья, Менаше из Илии и Менделя Лефина из Сатанова, живших в кон¬
це XVIII — начале XIX в. По намеченному ими пути пошло следующее по¬
коление маскилим Российской империи, среди которых особенно выделял-
/165/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Ицхак Бер Левинзон (Рибал, 1788—1860)
ся Ицхак Бер Левинзон (акроним
Рибал, 1788—1860), чьи сочинения
стали идеологической базой ев¬
рейского Просвещения в России 3.
Маскилим — современники Левин-
зона положили начало просвети¬
тельским системам образования, а
также дали примеры всеохватной
деятельности в таких областях, как
литература, язык, науки, истори¬
ография и география. Важнее всего
то, что вследствие их активности
Гаскала стала достоянием многих, а
не просто еще одного узкого круга
интеллектуалов, ведущего беседу с
самим собой, превратилась в широ¬
кое интеллектуальное и обществен¬
ное течение, сторонники которого
происходили из всех слоев обще¬
ства и из всех районов расселения
евреев в границах черты оседлости
и на территории Царства Польского. На этом общественно-историческом
фоне и разворачивается наше дальнейшее описание.
С началом XIX в. идеи Просвещения получили распространение в ев¬
рейских общинах Восточной Европы, однако процессы их проникновения в
местное еврейское общество, пути усвоения и интерпретации — все это раз¬
нилось от одного еврейского центра к другому. В результате сформировались
различные типы Гаскалы. Деление проходило главным образом по географи¬
ческому принципу. В общинах Восточной Галиции, например в Бродах, Льво¬
ве (Лемберге), Тарнополе и Жолкве, развитие Просвещения находилось под
влиянием еврейских общин немецкоязычного региона — в силу его географи¬
ческой и культурной близости. В этом контексте оно получало поддержку все
более широких общественных кругов уже с самого начала XIX в., и поэтому
еврейское Просвещение в Восточной Галиции в определенной мере можно
рассматривать как юго-восточный «филиал» берлинской Гаскалы.
Изучение социокультурных процессов, протекавших в еврейских общи¬
нах Польши в первой половине XIX в., показывает, что в Познани и Бело¬
стоке, Замостье и Радоме, Петрокове-Трибунальском и Кутно, Влоцлавеке
и Плоцке и, конечно, в самой Варшаве в эту эпоху появлялись и активно
функционировали значительные группы еврейских просветителей. Однако
в Польше Гаскала столкнулась с жестоким и сильным противником, кото¬
/166/
2.3 / ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
рый сдерживал ее развитие, — с хасидизмом 4. Здесь сложнее, чем в любом
другом регионе Восточной Европы, дать общую характеристику Просве¬
щению и его сторонникам. Сильное немецкое влияние, заметное в еврей¬
ских общинах Познани и Влоцлавека, привело к тому, что местная модель
«просветительской идентичности» наиболее походила на «берлинскую».
С другой стороны, географическая близость Сувалк и Белостока к Литве и
литовскому еврейству оказала весьма значительное влияние на развитие Га¬
скалы в этих общинах. Собственно в Варшаве, где процессы радикальной
аккультурации среди еврейской элиты протекали относительно быстро, су¬
ществовала обширная периферия, состоявшая из еврейских просветителей.
В те же годы появились немногочисленные группы маскилим в еврейских
общинах южных губерний Российской империи — Таврической, Екатери¬
нославской и Херсонской. Они возникли благодаря купцам из Османской
империи, империи Габсбургов, а также из северных российских губерний,
которые поселились в этом регионе. В течение короткого времени они стали
самой важной социоэкономической силой в городах Новороссии и создали
либеральный, динамично развивающийся просветительский центр в Одес¬
се 5, а также аналогичные центры в общинах Умани и Кишинева, Екатери¬
нослава и Херсона.
Несколько иная картина распространения Гаскалы возникает в еврейских
общинах Подольской, Киевской, Полтавской, Волынской и Черниговской
губерний. Они были относительно больше и старше своих южных сестер, и
в них (например, в Могилеве-Подольском, Дубно, Бердичеве и Житомире)
сохранялся консервативный в религиозном и культурном отношении жизнен¬
ный уклад. Несмотря на это веяния Гаскалы проникли также и на их терри¬
торию, в результате чего возникла особая модель Просвещения, которая от¬
личалась терпимостью и готовностью сотрудничать с другими культурными
и религиозными течениями. Сформировавшаяся здесь прослойка маскилим
стала демографической базой для деятельности различных просветительских
образовательных учреждений и раввинского училища, основанного в конце
40-х гг. в г. Житомире 6.
Самый большой и деятельный центр Гаскалы в Российской империи на¬
ходился с начала XIX в. в Виленской, Минской, Гродненской и Могилевской
губерниях. В этих районах, куда Просвещение проникло главным образом из
Берлина через Кёнигсберг в Восточной Пруссии, очаги Гаскалы, как и везде,
возникали в относительно крупных городских центрах — Шклове, Минске,
Гродно и конечно же Вильно. Именно в виленской общине, славившейся сво¬
ими древними культурными и религиозными традициями, на излете XVIII
столетия впервые наметились тенденции просветительских преобразований в
общественной, педагогической и литературной сферах. Несмотря на противо¬
речие между модернизационными целями и широтой взглядов просветителей,
/167/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
с одной стороны, и консервативным характером литовского еврейства — с дру¬
гой, можно выделить нечто общее для обеих сторон, что сделало возможным
и, вероятно, даже ускорило развитие и распространение Гаскалы в Вильно и по
всей территории Северо-западного края. Интеллектуальный мир литовского
еврея и система обучения в литовских иешивах отличались особым рационализ¬
мом, который одновременно являлся одним из опорных столпов просветитель¬
ского мышления. Именно поэтому проникновение Гаскалы в данный регион
было относительно легким. Кроме того, господство рационалистического об¬
раза мысли было одним из главных факторов, затруднявших проникновение в
Литву хасидизма и радикальной ортодоксии. Как следствие этого в борьбе за
облик литовского еврейства, которая велась в постоянно меняющихся услови¬
ях XIX столетия, можно фактически различить только две стороны (в отличие,
например, от ситуации, сложившейся в этот период в Польше и на Волыни):
Просвещение и традиционное, консервативное мировоззрение. Успех Гаскалы
в Литве можно дополнительно отнести на счет стремления к сбалансирован¬
ности и гармонизации, которое отличало здесь это движение. Такое стремление
выражалось, в частности, в постепенных, неспешных шагах, снижавших уро¬
вень сопротивления традиционалистов. Еврейские просветители в Литве, как
правило, не прибегали к тактике открытой борьбы или конфронтации, а, на-
/ 168 /
Одесса. Бродская синагога. С открытки нач. XX в. Joseph and Margit Hoffman Judaica
Postcard Collection, Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem
2.3 / ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
против, ориентировались на те общие идейные аспекты, которые объединяли
мир традиции с миром Гаскалы.
В самой северной части черты оседлости, в Ковенской, Курляндской и
Лифляндской губерниях в 30—40-х гг. XIX в. формируется еще один центр ев¬
рейского Просвещения, похожий по своему характеру и образу деятельности
на одесский. Фоном для его развития послужило сильное влияние немецкой
культуры на облик городского населения данного региона, в особенности та¬
ких больших городов, как Мемель, Митава, Либава (Либау) и Рига. Рижские
маскилим, как и виленские, сохраняли основные верования и взгляды тра¬
диционного еврейского общества, но в то же время перенимали некоторые
элементы самоидентификации из внешнего мира и окружавшей их культуры
(например, меняя традиционное платье на современное и т.д.) 7.
Как уже было сказано, консервативно настроенные круги в еврейских
общинах Российской империи встретили Гаскалу с большим недоверием.
В идейном отношении просветительские ценности казались противоречащи¬
ми базовым ценностям традиционного еврейского общества. Наряду с этим
различные общественные группы опасались, что распространение идей Про¬
свещения нанесет ущерб их экономическому, социальному и политическому
положению. Призыв сменить традиционные хедеры на современные школы
/169/
Херсон. Главная Николаевская синагога. С открытки нач. XX в. Joseph and Margit Hoffman
Judaica Postcard Collection, Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Вильно. Хоральная синагога. С открытки нач. XX в.
Joseph and Margit Hoffman Judaica
Postcard Collection, Folklore Research Center,
Hebrew University of Jerusalem
вызвал негодование у широкого
слоя «меламдим» (учителей в хеде¬
ре), которые увидели в нем угрозу
источнику своего существования.
Идея создания раввинских училищ
вызвала страх среди представителей
раввинской элиты за свое эконо¬
мическое будущее и общественное
положение. Связи просветителей с
правительственными кругами вос¬
принимались еврейской экономи¬
ческой и политической элитой как
инструмент создания новой соци¬
ально-политической элиты, которая
займет место традиционной. Вместе
с тем отношения между маскилим
и традиционалистами в российских
еврейских общинах невозможно
свести к какой-то одной универ¬
сальной схеме. Подход традицион¬
ных кругов к Гаскале разнился от
готовности примириться с ее суще¬
ствованием до полного отторжения
и враждебности, со множеством
промежуточных вариантов между
этими двумя крайностями. В самом
общем виде можно выделить три основных типа отношений:
1. Первый тип сформировался в городской среде в зоне культурного вли¬
яния Центральной Европы. В одесской, варшавской или рижской общинах
Просвещение получило распространение среди большей части еврейского на¬
селения за довольно короткий отрезок времени и стало господствующей куль¬
турной силой. Консервативные элементы были оттеснены на периферийные
позиции, а их влияние было сильно ограничено.
2. Вторая модель отношений типична главным образом для польско-ли¬
товского региона, для таких городов, как, например, Вильно или Белосток.
Умеренный характер Просвещения в этих общинах непосредственно сказался
на построении отношений между маскилим и консерваторами. Из-за предан¬
ности местных просветителей традиции и традиционным ценностям они не
воспринимались как опасная угроза общепринятому мировоззрению и образу
жизни. Поэтому возникла сбалансированная система отношений, которая от¬
ражала действительную расстановку сил между двумя лагерями.
/ 170 /
2.3 / ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
3. Третий тип взаимоотношений между просветителями и традиционали¬
стами характерен в основном для периферийных общин, которые подверга¬
лись незначительному влиянию европейской культуры, отличались высокой
степенью религиозного консерватизма и часто также заметным присутствием
хасидизма. В этих общинах (например, в Минске, Бобруйске или Бердичеве)
любые попытки внесения культурных и религиозных изменений расценива¬
лись как угроза существованию общины и общества. В отношениях между
маскилим и консервативными кругами здесь царила напряженная, исполнен¬
ная подозрительности атмосфера. Чувства эти не оставались в одной только
теоретической плоскости и неоднократно выплескивались наружу в виде рез¬
кого, подчас агрессивного противодействия Гаскале и ее сторонникам. Тем не
менее необходимо подчеркнуть, что граница между различными группами не
была непроницаемой, и в тех случаях, когда на повестке дня стояли вопросы,
касающиеся всего еврейского общества, они были готовы к взаимодействию.
Описанные системы отношений менялись в зависимости от политиче¬
ских, экономических и социальных процессов, которые происходили в сре¬
де российского еврейства. Проникновение модернизационных тенденций на
/ 171 /
Шяуляй. Здание талмуд-торы. С немецкой открытки 1916 г. Joseph and Margit Hoffman
Judaica Postcard Collection, Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
территорию Российской империи в начале 60-х гг. и политические реформы
императора Александра II способствовали переменам в настроении все более
широкой части еврейского общества в Восточной Европе. В результате прои¬
зошло существенное расширение поля деятельности и географических границ
Гаскалы одновременно с радикализацией различных групп маскилим. Эти пе¬
ремены повлекли за собой трансформацию баланса отношений, очерченного
выше. Во многих общинах просветители, долгие годы находившиеся в поло¬
жении отверженных, получили легитимацию, а в других, напротив, возникли
новые поводы для трений и конфликтов 8.
С начала XIX в. сложилась разветвленная система связей между еврейски¬
ми просветителями и органами власти. И те и другие верили в необходимость
серьезным образом снизить различия и уровень отчуждения между еврейским
социумом и его окружением и пытались решить эту задачу путем реформи¬
рования еврейской общинной организации, системы еврейского образования
и некоторых внешних выражений этих различий, таких как традиционная
еврейская одежда. Это взаимодействие включало поступление маскилим на
государственную службу — в качестве учителей, цензоров, врачей и чиновни¬
ков, а также представление властям разнообразных проектов реформ еврей¬
ской жизни в Российском государстве. Некоторые исследователи, ссылаясь
на эти обстоятельства, говорили об интенсивном сотрудничестве и полной
солидарности маскилим и властных кругов, например, по вопросу о призы¬
ве евреев в армию 9. Однако это не так. Политические и экономические связи
просветителей с официальными кругами, а также владение русским языком
давали им возможность познакомиться вблизи со структурой власти и ее при¬
оритетами. Анализ позиции просветителей в отношении вопросов, находив¬
шихся в центре общественного внимания (например, призыв евреев в армию,
запрет на традиционную одежду и модернизация образования), выявляет ско¬
рее их прагматизм, основанный на восприятии властей как орудия, способно¬
го им помочь. Кроме того, просветители никогда не шли на сотрудничество
с властями ценой отказа от того, что представлялось им основой существо¬
вания еврейского общества, как, например, в вопросе об обязательной воин¬
ской службе евреев в российской армии 10. Конечно, были маскилим, которые
пересекали красную черту и предоставляли себя целиком и полностью к ус¬
лугам властей, но они были немногочисленны и являлись скорее исключе¬
нием, чем правилом. Заметим, что такой феномен встречался и в традицион¬
ном обществе: еще до эпохи Гаскалы случалось, что евреи служили польским
и российским политическим и властным структурам, однако они шли на это
исключительно ради стяжания власти и богатства. Попытки представить про¬
светителей как послушных исполнителей приказов властей были, по большо¬
му счету, оружием традиционалистов в их борьбе за облик еврейского обще¬
ства в Российской империи.
/172/
2.3 / ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ОБЩЕСТВО
Помимо теоретических инноваций Гаскала принесла с собой перемены
в модели поведения, в манере одеваться, в приоритетах в сфере занятости,
в отношении к непосредственному окружению и в восприятии внешнего
мира. Как при всяком переходном процессе, окружающее общество сле¬
дило за сторонниками Просвещения со страхом и подозрением, тем более
что речь шла о консервативной религиозной среде. Реакции были самы¬
ми разнообразными. Одни семьи относились к переменам с пониманием,
смешанным с тревогой, другие видели в них выход за рамки дозволенного
в еврейском сообществе и реагировали со всей суровостью, вплоть до от¬
лучения и изгнания из общины. Такого рода реакции ускоряли разрыв юных
просветителей со своим окружением и вынуждали искать ему альтернативы.
Из-за сопутствующих социальных и личных проблем некоторые решали от¬
казаться от мечты о Просвещении и вернуться в лоно традиционного обще¬
ства. Другие скрывали свои просветительские пристрастия, пытаясь жить в
двух мирах одновременно. Лишь немногим удавалось мобилизовать все не¬
обходимые душевные силы, чтобы полностью реализовать потенциал, зало¬
женный в новом мировоззрении. Третьим путем был безвозвратный уход из
общины. Этот выбор влек за собой болезненный разрыв с домом и семьей,
родителями и детьми, женой и друзьями, с местами, в которых прошло дет¬
ство, и с привычной окружающей обстановкой. Поэтому подобное решение
было самым трудным. В качестве альтернативного окружения сформирова¬
лись просветительские сообщества, в которых маскилим могли найти удов¬
летворение своим социальным и интеллектуальным потребностям. Эти об¬
щества усиливали чувство единения у просветителей, в особенности в разгар
борьбы с консервативными кругами.
Одним из вопросов, волновавших просветителей в Российской империи,
был вопрос о месте женщины в еврейском обществе. Постановка этой про¬
блемы определялась гуманистическим характером философии европейского
Просвещения, в которой наивысшей ценностью почитался человек, его сча¬
стье и благополучие. Несмотря на это женщины, как правило, не принимали
сколько-нибудь значимого участия в деятельности просветительских кружков
в Российской империи, и до конца XIX в. сообщество маскилим сохраня¬
ло «чистоту пола». Вопрос о месте женщины в обществе имел практические
аспекты. Тяжелое экономическое положение вынуждало женщин принимать
активное участие в содержании семьи, работая, как правило, в сфере мелкой
торговли. В просветительских кругах женская занятость рассматривалась как
отрицательное явление, главным образом из-за характерного для них буржу¬
азного этоса, в котором идеальная женщина — это жена и мать. Здесь, как и в
/173/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
других случаях, обнаруживалось расхождение между идеями просветителей и
возможностями их реализации. Экономическое положение большинства се¬
мей маскилим не оставляло женщинам иного выбора, кроме как участвовать в
обеспечении семьи, подобно женщинам из традиционного общества.
Деятельность всех центров Гаскалы на территории Российской империи
базировалась на общем мировоззрении, но, поскольку они были разрознены и
удалены друг от друга, у каждого центра возникали свои особенности. Вместе с
тем враждебность различных кругов традиционного общества по отношению
к феномену Просвещения и его сторонникам требовала создания более уни¬
версальных систем самоорганизации и взаимной поддержки. Действительно,
время от времени различные просветители, в основном те, что находились
на периферии, выдвигали предложения о региональных и межрегиональных
организациях, но эти инициативы оставались не реализованными вплоть до
60-х гг. XIX в., да и тогда были претворены в жизнь лишь в ограниченном объ¬
еме. Результатом такой ситуации стало отсутствие признанных лидеров про¬
светительского движения на пространстве империи.
Иногда на локальном уровне можно выявить ключевые фигуры, находив¬
шиеся в самом средоточии просветительской активности (обычно это были
члены местной экономической или интеллектуальной элиты). Но даже такие
деятели, как Мордехай Аарон Гинцбург (1795—1846), Шмуэль Йосеф Финн
(1818—1890), Александр Цедербаум (1816—1893), Адам ха-Кохен (Авраам Дов
Лебенсон, 1794—1878) и др., которые снискали широчайшее признание бла¬
годаря своему философскому, литературному и поэтическому творчеству, не
смогли занять руководящие позиции на межрегиональном уровне.
В более широкой перспективе, на протяжении XIX в. сложились развет¬
вленные связи между еврейскими просветителями в России и немецкоязыч¬
ными еврейскими общинами Центральной Европы и даже Италии. Система
просветительского образования в Центральной Европе служила образцом для
подражания при создании аналогичных систем в границах черты оседлости,
а учителя, мигрировавшие на восток, были в числе основателей первых про¬
светительских образовательных учреждений на этой территории. Просветите¬
ли, подобные Шнеуру Заксу (1816—1892), которые приезжали из Российской
империи на Запад и смешивались с местным еврейским населением, служили
своего рода посредниками между Востоком и Западом и брали на себя миссию
помогать молодым евреям, приезжавшим в те годы в столицы Западной Евро¬
пы. Начиная с последней трети XIX в. эти связи ослабли, маскилим Россий¬
ской империи теперь чувствовали себя на твердой идейной и социальной по¬
чве. В самом деле, можно сказать, что в тот час, когда взошло солнце Гаскалы
в Российской империи, зашло солнце берлинской Гаскалы.
/174/
2.3 / ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Александр Цедербаум (1816-1893),
основатель и редактор газеты
«Ха-Мелиц»
Шмуэль Йосеф Финн (1818-1891),
виленский общественный деятель,
издатель и литератор
ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования с ее ценностями, учебными заведениями и метода¬
ми работы считалась у просветителей главным фактором, определяющим об¬
лик всего общества. Поэтому в создании системы образования, построенной
на принципах Просвещения, они видели необходимое условие формирования
«нового общества». Эта идея нашла выражение как в теоретической, так и в
практической деятельности российских маскилим в данной сфере. Рибал, на¬
пример, предложил широкую реформу системы образования, главными по¬
ложениями которой было расширение спектра изучаемых предметов (наряду
с изучением классических текстов) и использование таких дидактических и
методических приемов, которых не знала традиционная система образования.
Неудивительно, что образование стало одной из первых социальных сфер,
где в начале XIX в проявилась активность маскилим, как самостоятельная, так
и в сотрудничестве с властями. Уже в 1808 г. открылись первые просветитель¬
ские школы для еврейских детей в Варшаве и Вильно, причем в создании ви¬
ленской школы участвовали представители местных университетских кругов.
С начала второго десятилетия XIX в. активность просветителей в этой сфере
значительно возросла, и новые школы открылись в Варшаве, Вильно и других
/ 175 /
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
городах. Отдельные образовательные заведения просветительского толка, в
основном на территории Польши, работали под официальным покровитель¬
ством государства, тогда как в черте оседлости они в большинстве своем были
частными. В Умани и Одессе, Кишиневе и Митаве, Риге и Вильно эта систе¬
ма школ развивалась очень быстро, одновременно с ростом числа юношей и
девушек, которые предпочитали ее традиционной системе. Образовательные
программы включали в себя изучение языков (польского, русского, немецко¬
го), естественных наук, истории и географии, а также еврейских предметов на
разных уровнях. В большинстве заведений обучалось несколько десятков уча¬
щихся, но существовали и более крупные учреждения, например школы для
мальчиков и девочек в Одессе, в каждой из которых в начале 40-х гг. получали
образование несколько сотен учащихся 11.
Создание частных просветительских школ следует рассматривать как ре¬
шающую стадию в эволюции еврейского Просвещения на территории Рос¬
сийской империи. Несмотря на трудности, с которыми сталкивались эти за¬
ведения, их непрерывное функционирование свидетельствовало о том, что
Гаскала — это не просто еще одно недолговечное периферийное течение, но
идейно-общественное движение, влияние которого на еврейское население
только возрастает. Кроме того, плоды просветительского образования сказы¬
вались на всех сферах жизни, и в первую очередь на распространении Гаскалы
за рамки узкого круга интеллектуалов, писателей и поэтов 12. Выпускники но¬
вых учебных заведений владели ивритом и европейскими языками, что при¬
вело к заметному росту количества читающих и, как следствие, к повышению
спроса на книги и журналы. Выпускники, поступавшие в высшие учебные за¬
ведения, расширяли сферу занятости евреев, и возникали новые сферы для
развития взаимоотношений между евреями и неевреями. Наличие школ для
девочек внесло значительный вклад в изменение — медленное, но неуклон¬
ное — положения женщины в еврейском обществе. Многие выпускницы вы¬
бирали себе профессии, которые ранее не были приняты среди женщин (как,
например, преподавание или медицина), а впоследствии некоторые из них
присоединялись к новым общественным и политическим движениям.
Одновременно с развитием частного просветительского образования
российские власти стали рассматривать возможности повсеместной рефор¬
мы еврейского образования путем создания системы государственных школ
для евреев. Идея, фигурировавшая еще в «Положении о евреях» 1804 г.,
согласно которой необходимо интегрировать еврейских детей в уже суще¬
ствующую всеобщую систему образования, очень скоро показала свою не¬
состоятельность. Поэтому в начале 1830-х гг. государственные власти раз¬
вили интенсивную деятельность в ином направлении. Руководил процессом
министр народного просвещения Сергей Уваров, который рассматривал
изменение системы образования как промежуточный этап на пути ассими¬
/176/
2.3 / ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ляции евреев Российской империи и растворения их в окружающем обще¬
стве. В еврейских просветителях он видел потенциальных партнеров, а те, в
свою очередь, расценивали готовность власти к сотрудничеству в сфере об¬
разования как признание своей правоты. Для реализации программы Ува¬
ров пригласил молодого немецкого раввина реформистского направления
Макса Лилиенталя, который должен был стать исполнителем задуманной
министром образовательной реформы. Лилиенталь посетил различные об¬
щины империи, где встречался с традиционным общинным и религиозным
руководством, которое в целом не согласилось с планом реформы, однако
было вынуждено сотрудничать с ним.
В середине 1840-х гг. был издан указ «Об учреждении особых училищ для
образования еврейского юношества», в котором излагались детали программы
по созданию для евреев особых школ, педагогических и раввинских училищ, а
также регламентировалась работа традиционных образовательных заведений.
Исполнение этого указа началось в 1847 г., и к середине 1850-х гг. было образо¬
вано свыше семидесяти государственных еврейских училищ и два раввинских
училища, в Вильно и Житомире 13. В то же время продолжали функциониро¬
вать отдельные частные школы, и кроме того, все больше еврейских юношей
и девушек обучались в системе общего образования. Несмотря на то что по¬
началу новые школы вызвали серьезное противодействие, главным образом
со стороны консервативных кругов еврейского общества, по прошествии не¬
которого времени эта тенденция изменилась. Евреи стали ценить то, что из¬
учавшиеся в школах предметы, в особенности языки и науки, позволяли им
продолжить образование в гимназии и даже в высших учебных заведениях.
Вместе с созданием казенных еврейских училищ были открыты два рав¬
винских училища в Вильно и Житомире. Они должны были готовить как
учителей для просветительских школ, так и «казенных раввинов» 14. Лучшие
учителя из просветительских кругов получили место в этих училищах наряду
с учителями-неевреями, которым было доверено преподавание языков, наук
и общеобразовательных предметов. В учебном плане были представлены раз¬
ные отрасли знания: еврейские дисциплины (Тора, Мишна, Талмуд, литера¬
тура Гаскалы, этическая литература); языки (иврит, арамейский, русский, не¬
мецкий); науки (математика, геометрия, тригонометрия, физика) и общеоб¬
разовательные дисциплины (география, история, рисование, каллиграфия).
Обучение в этих заведениях пользовалось большим спросом, причем вме¬
сте с теми, кто действительно намеревался стать учителем или раввином, в них
поступали также и те, кто хотел получить освобождение от службы в армии,
которое давалось студентам училищ, или улучшить свои жизненные условия.
Контингент учащихся оказывал влияние на характер заведений, уровень
учеников и их религиозное поведение, и иногда вскрывались случаи прене¬
брежения религиозным образом жизни. Кроме того, студенты в большинстве
/177/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
своем отдавали явное предпочтение общеобразовательным предметам перед
еврейскими и вообще не собирались выполнять ту миссию, во имя которой
создавались данные заведения. В начале 1870-х гг. в стены раввинского учи¬
лища в Вильно проникли социалистические идеи и даже была раскрыта под¬
польная библиотека. На этом фоне в 1873 г. было принято решение закрыть
оба раввинских училища 15.
Уже с конца XVIII в. просветители поощряли вовлечение женщин в обра¬
зовательный процесс как в рамках отдельной системы образования для дево¬
чек, так и посредством обучения в российских общеобразовательных школах.
Выпускницы просветительских школ для девочек с годами сами становились
учительницами и даже директрисами таких школ. Невзирая на то что тради¬
ционное общество не одобряло участия женщин в публичной жизни, нельзя
было заглушить их голос, когда рупором им служило письменное слово. Одни
женщины отдавали предпочтение публицистике, другие — переводам и лите¬
ратурному творчеству, а кто-то писал мемуары 16.
/178/
Ученики талмуд-торы. Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг.
Из собрания центра «Петербургская иудаика»
2.3 / ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ЭКОНОМИКА
Одной из центральных тем, занимавших еврейских просветителей в Рос¬
сийской империи, были вопросы экономики. Согласно их воззрениям, кар¬
динальная обязанность каждого человека — принять априорную ответствен¬
ность за обеспечение своего существования таким способом, который позво¬
лит ему вести достойную жизнь и заслужить уважение в обществе. Ключевым
понятием в этом дискурсе была «продуктивизация», т.е. поощрение выбора
«продуктивной» сферы производства— сельского хозяйства, ремесла или
промышленности. В своей книге «Теуда бе-Исраэль» («Предназначение Изра¬
иля») Ицхак Бер Левинзон (Рибал) уделил немало внимания этому вопросу.
Ссылаясь на различные источники, Рибал утверждает, что «нам было запо¬
ведано обучать детей наших ремеслу» и что многие еврейские мудрецы за¬
рабатывали на жизнь трудом своих рук. Особые усилия предпринимал Рибал
для борьбы с негативным отношением еврейского общества к земледелию. То
значение, которое просветители придавали земледелию и физическому труду,
обуславливалось одновременно идеологическими, политическими и эконо¬
мическими причинами. В идеологическом аспекте занятия торговлей воспри¬
нимались как однозначно связанные с мошенничеством и обманом. Но еврей
«продуктивный», занятый созидательным трудом, самой своей деятельностью
свидетельствует о том, что еврейский народ — такой же народ, как любой дру¬
гой, и что, пользуясь словами Левинзона, «еврей способен выполнять такую
работу и сегодня, как любой другой человек».
В экономическом плане такие представления были характерны для шко¬
лы физиократов, которая пользовалась популярностью в широких кругах ев¬
ропейского общества и согласно которой земля является основным ресурсом,
а сельскохозяйственный труд лучше всего способствует экономическому про¬
грессу общества. В политическом плане взаимодействие с государственной
властью считалось весомым фактором, определявшим перспективы дальней¬
шей реализации просветительского проекта. Оно выражалось в одобрении
политики колонизации, проводимой российскими властями, которые поощ¬
ряли создание еврейских земледельческих колоний на юге империи.
Что касается собственно просветителей, они находили себе работу в са¬
мых разных сферах трудоустройства: торговля, преподавание, медицина, ка¬
зенный раввинат, судопроизводство, литературное и поэтическое творчество и
тому подобное — профессиональная занятость в этих сферах была характерна
для среднего слоя буржуазии в Центральной Европе. Несмотря на описанное
выше идеологическое неприятие торговли самой распространенной сферой
занятости маскилим была именно торговля во всех ее видах и проявлениях:
розничная и оптовая, местная, внутренняя и внешняя. Однако самым распро¬
/179/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
страненным видом была книготорговля. Причиной тому послужило особое
положение, которое в среде маскилим занимала книга как средство формиро¬
вания образа мышления и мировоззрения. Другим весьма популярным родом
занятий в кругах просветителей было преподавание. Овладев языками (рус¬
ским, польским, немецким и др.), математикой, географией и бухгалтерским
делом, они преподавали частным образом детям, чьи семьи принадлежали к
еврейской экономической элите. Открытие общественных и частных просве¬
тительских школ вселило в сердца многих из них надежду на расширение воз¬
можностей в этой сфере 17.
Медицина, наряду с преподаванием, была одной из самых востребован¬
ных сфер занятости в просветительской среде благодаря сочетанию различ¬
ных областей знания, общественного престижа и высокого уровня доходов.
Еще одной областью трудоустройства, в которой находили себе применение
маскилим, был казенный раввинат. В картинах будущего, которые рисовало
себе воображение просветителей, раввин представал как человек высоко¬
образованный, сведущий и в еврейских источниках, и в науках, владеющий
языком государства и разбирающийся в его законах, а также способный ру¬
ководить своей общиной, стремясь к созданию атмосферы открытости, тер¬
пимости и умеренности. По закону на должность казенного раввина мог быть
назначен лишь тот, кто получил образование в рамках просветительской или
государственной системы. В то же время должность казенного раввина гаран¬
тировала определенный уровень материального достатка. Несмотря на от¬
крытую враждебность традиционных кругов общества к тем, кто занимал эту
должность, спрос на нее среди просветителей был велик. Например, в ходе
выборов казенного раввина, состоявшихся в виленской общине в 1860 г., на
это место претендовало не менее пятнадцати кандидатов, и все они принад¬
лежали к просветительским кругам!
Интенсивная публицистическая, философская и художественная литера¬
турная деятельность, типичная для просветителей-интеллектуалов, была на¬
правлена на распространение идей Гаскалы среди как можно большего числа
людей, но были и те, кто усматривал в этом возможный источник заработка.
Шансы на успех, однако, зависели от степени популярности сочинения и от
готовности читателей его приобрести. Проблема заключалась в том, что доход
от продаж был очень низким, хотя отдельные просветительские сочинения
пользовались большим спросом («Теуда бе-Исраэль» Рибала, «Ширей сфат ко¬
деш» Адама ха-Кохена, рассказы для народа Айзика Меира Дика и др.) и даже
становились бестселлерами. Когда в конце 1840-х гг. были образованы казен¬
ные еврейские училища, некоторые просветители попытались зарабатывать
составлением учебников. Однако по причинам административного и эконо¬
мического характера (например, необходимость получать государственное
разрешение на использование тех или иных книг в образовательных учреж¬
/180/
2.3 / ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
дениях и относительная их дороговизна) на «рынке» учебников также было
чересчур тесно, и лишь немногие действительно зарабатывали этим на жизнь.
Похожие трудности возникали при попытках превратить журналистику в ос¬
новной источник доходов, и число просветителей, которым это удавалось,
было очень невелико.
Призыв просветителей к фундаментальному изменению экономической
системы еврейского общества прозвучал по всей территории черты оседло¬
сти, однако отклик на этот призыв был весьма слабым в силу практических,
идеологических и социальных обстоятельств. Вместе с тем, несмотря на со¬
противление, с течением лет происходили медленные, но заметные измене¬
ния в формах занятости евреев России, главным образом из-за политической
и экономической выгодности новых профессий. Во второй половине XIX в.
значительно возросло число евреев, работающих в промышленной сфере,
сфере услуг и в сельском хозяйстве. Данные перемены свидетельствуют о том,
что в долгосрочной перспективе еврейское общество в Восточной Европе ус¬
воило социоэкономические представления и взгляды на мир просветителей
того времени. Правда, это стало возможным только после политических, со¬
циальных и экономических реформ, проведенных в первые годы правления
императора Александра II.
Освобождение крепостных, переход к индустриализации, развитие сухо¬
путного транспорта (железных дорог), а главное, ускоренное развитие про¬
мышленности, которое привело к оттоку капитала и рабочей силы из сельского
хозяйства, ремесленного и мануфактурного производства, — все вместе созда¬
вало пространство для новых видов социальной и экономической активности,
в зону влияния которого попадали и местные евреи. Как представляется, этот
процесс указывает на одну из основных проблем маскилим в Российской им¬
перии XIX в. Они верно поняли тенденции развития европейского общества,
экономики и образования, но их попытки донести свое понимание до евреев
встречали упорное сопротивление, поскольку опережали свое время.
Готовность традиционного еврейского общества постепенно менять
структуру занятости свидетельствует о том, что в основе сопротивления этим
процессам в начале XIX в. лежали совсем не идеологические соображения,
а страх и недоверие к провозвестникам перемен — в данном случае к про¬
светителям. Только когда к власти пришел Александр II, который в первые
годы своего правления воспринимался как царь-благодетель, покровитель¬
ствующий людям просвещенным и занятым «полезным трудом», массы евре¬
ев в Российской империи пошли по тому пути развития, который маскилим
предлагали им задолго до этого. Так, профессии врача, фармацевта, юриста,
бухгалтера или сотрудника банка (и другие профессии из разряда «белых во¬
ротничков»), которые ранее ассоциировались с просветительским этосом, по¬
лучили легитимацию почти во всех сферах традиционного общества 18.
/ 181 /
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
КУЛЬТУРАСвязь между Гаскалой как идейным и общественным явлением и литера¬
турой Гаскалы в сознании современников была неразрывной. Как традицио¬
налисты, так и просветители считали просветительскую литературу одним из
главных способов выражения этого движения. Под понятие «просветитель¬
ская литература» подпадало все многообразие сочинений, которые не принад¬
лежали к канонической еврейской литературе: книги по философии, науке,
истории и географии, беллетристика, поэзия и т. п. Маскилим в Российской
империи страдали от постоянной нехватки литературы просветительского ха¬
рактера. До конца 20-х гг. XIX в., т.е. до выхода книги Ицхака Вера Левинзо¬
на «Теуда бе-Исраэль» (1828), на территории империи было издано ничтожно
малое количество просветительских книг.
С другой стороны, импорт просветительской литературы из Европы тре¬
бовал особого разрешения российской цензуры, а кроме того, облагался вы¬
соким налогом, что делало его нецелесообразным. Поэтому просветителям
приходилось довольствоваться еврейской философской литературой Средних
веков или небольшим числом просветительских сочинений, получивших цен¬
зорское одобрение, как, например, сочинения Моше (Мозеса) Мендельсона.
С течением времени содержимое «книжного шкафа» просветителя ста¬
новилось все более разнородным, и на его полках можно было обнаружить
книги по ивриту и естественно-математическим наукам, поэтические сбор¬
ники, сочинения по истории и географии, философские трактаты и миро¬
вую художественную литературу. Отдельно стоит отметить прозаическое и
поэтическое творчество маскилим, в особенности литовских. Речь идет о
сочинениях виленских просветителей Адама ха-Кохена Лебенсона (1794—
1878), его сына Михи Йосефа Лебенсона (псевдоним Михаль, 1828—1852) и
Калмана Шульмана (1818—1899), а также Авраама Мапу (1808—1867), Моше
Лейба Лилиенблюма (1843—1910), Иехуды Лейба Гордона (1830—1892), Шо-
лома Якова Абрамовича (Менделе Мойхер Сфорима, 1835—1917)), Переца
Смоленскина (1842—1885) и Реувена Ашера Браудеса (1851—1902). Наряду с
художественной литературой на иврите появилась художественная литера¬
тура на идише. Здесь можно упомянуть таких известных писателей, как Ай¬
зик Меир Дик (1814—1893), Ицхак Йоэль Линецкий (1839—1915) и Исраэль
Аксенфельд (1787—1866)19.
Приобрести просветительскую литературу, как местную, так и загранич¬
ную, было сложно, и маскилим постоянно сталкивались с этой проблемой.
Со временем было найдено два выхода из сложившейся ситуации: во-первых,
частные книжные собрания, а во-вторых, на более позднем этапе, публичные
библиотеки просветительского толка.
/182/
2.3 / ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Во многих домах состоятельных маскилим хранились собрания книг, в
которых можно было обнаружить как каноническую, так и просветительскую
литературу на разных языках. Однако увеличение численности просвещенных
евреев в 40-х гг. XIX в. вынуждало искать другое решение проблемы, которое
позволило бы удовлетворить запросы широкой общественности, и таким ре¬
шением стало создание публичных библиотек. До середины 50-х гг. XIX в. ре¬
ализовать эту идею было невозможно из-за характера режима и строгих цен¬
зурных ограничений, но с началом царствования императора Александра II в
этой, как и в других сферах, наметились серьезные преобразования. Во мно¬
гих центрах еврейской культуры были организованы публичные библиотеки,
клубы чтения, а также книжные магазины, в которых можно было приобрести
просветительскую литературу по доступным (почти для всех) ценам. Об осо¬
бой важности, которую представляли библиотеки для просветителей, говорит
тот факт, что в конце XIX в. в границах черты оседлости действовало около
1000 библиотек, предоставлявших широчайший выбор литературы на любые
темы на разных языках.
Высоким статусом в культуре Просвещения обладала не только книга, но
и журналистика, к развитию которой просветители прилагали заметные уси¬
лия. Журналистика рассматривалась, с одной стороны, как трибуна, с которой
можно было донести до широкой общественности просветительскую фило¬
софию, озвучить новые достижения гуманитарных и естественнонаучных ис¬
следований, а с другой — как эффективное оружие в борьбе за легитимацию
Гаскалы в еврейской среде. Кроме того, журналистика была средством связи
между еврейскими просветителями, разбросанными по всей территории чер¬
ты оседлости и даже за ее пределами. Примером для них могла послужить ев¬
рейская просветительская журналистика Центральной Европы («Ха-Меасеф»,
«Керем Хемед» и др.) или журналистика, которую создавала российская интел¬
лигенция. В первой половине XIX в. значимым фактором, сдерживавшим раз¬
витие журналистики, была цензура. По этой самой причине первое еврейское
просветительское периодическое издание в Российской империи — альманах
«Пирхей цафон» («Северные цветы») — вышло в свет только в 1841 г. и долго не
просуществовало. Ситуация изменилась только в начале царствования Алек¬
сандра II. В 1857 г. в городе Лык на границе Польши и Пруссии вышел первый
номер газеты «Ха-Магид» («Проповедник»); в 1860 г. начали выходить Вилен¬
ский «Ха-Кармель» и одесский «Ха-Мелиц» («Защитник»); с 1862 г. в Варша¬
ве под редакцией просветителя Хаима Зелига Слонимского издавалась газета
«Ха-Цфира» («Время»). Эти периодические издания очень скоро стали мно¬
готиражными и превратились в главное средство самовыражения еврейских
просветительских кругов Российской империи.
Одновременно стал развиваться еще один жанр — просветительская жур¬
налистика на языках, на которых говорило большинство окружающего насе-
/183/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
ления, то есть на русском и польском.
В 1860 г. в Одессе начали издавать еже¬
недельник «Рассвет», название которо¬
го через год было изменено на «Сион».
В Вильно стало выходить приложение
на русском языке к газете «Ха-Кармель»,
а в конце этого десятилетия в Одессе
появилась еще одна газета на русском
языке — «День». В Варшаве в 1861 г.
появилась газета радикального крыла
еврейских просветителей «Jutrzenka»
(«Утро»). С этих пор начался период
расцвета и распространения просве¬
тительской журналистики, в которой
было представлено все разнообразие
идеологических позиций, сфер интере¬
сов, читательских аудиторий и языков
издания 20.
Как можно заметить, язык и лите¬
ратура выполняли двойную функцию
в культуре еврейского Просвещения в
Восточной Европе. С одной стороны,
использование иврита и языков окру¬
жающего населения (немецкий, польский, русский) открывало перед ев¬
рейскими просветителями доселе неизведанные просторы знания и мысли,
оказывало исключительное воздействие на становление их собственной иден¬
тичности и во многом на определение новых идеологических и социальных
границ. С другой стороны , литература и журналистика на разных языках были
тем пространством, в котором заново складывались системы отношений как
внутри еврейского общества, так и между евреями и их окружением.
* * *
Картина, которую мы нарисовали, во многом является «усредненной»,
так как описывает процессы, происходившие в недрах движения Гаскалы, с
точки зрения «среднего просветителя». Однако несмотря на фундаментальное
идеологическое единство, различный культурный и религиозный контекст,
в котором происходило развитие Гаскалы, оказывал серьезное влияние на
характер, мировоззрение, идеи и образ жизни ее сторонников. Кроме того,
как всякое общественное явление, Гаскала была подвержена трансформаци¬
онным процессам, зависевшим от времени и места. Как было сказано выше,
существовало заметное различие между просветителями Одессы и их идейны¬
/ 184 /
Хаим Зелиг Слонимский (1810—1904),
основатель и редактор газеты «Ха-Цфира»
2.3 / ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ми собратьями из Вильно, а иногда и в пределах одного центра можно было
обнаружить различные и даже противоположные идеологические позиции.
Соответственно и политические и социальные перемены, произошед¬
шие в Российской империи в начале 60-х гг. XIX в., не миновали феномена
еврейского Просвещения и способствовали формированию нового поколе¬
ния маскилим. Знаменует ли собой это поколение, которое открыло новые
горизонты мысли, установило более прочные связи с окружающей культурой
и успешно интегрировалось в окружающее общество, переход от «умеренного
Просвещения» к «радикальному» 21? Или, быть может, выдающиеся предста¬
вители этого поколения, такие как Иехуда Лейб Гордон, Лев Леванда (1835—
1888), Авраам Ури Ковнер (1842-1909) и Шолом Яков Абрамович (Менделе
Мойхер-Сфорим), не принадлежали к какому-то особому течению Гаскалы,
а являлись представителями нового идейно-общественного движения? В лю¬
бом случае, еврейское Просвещение было, несомненно, явлением динамич¬
ным, живым, подверженным веяниям эпохи, которые приходили как извне,
так и изнутри еврейского общества, оно готово было принять вызов времени
и ответить на него.
Перевод с иврита Софьи Копелян
1 Подробное обсуждение вопроса о процессах культурной трансформации в
XVIII в. см. в кн.: Feiner Sh. Mahapekhat ha-neorut. Jerusalem, 2002.
2 Etkes I. Li-sheelat mevasrei ha-Haskala be-mizrah Eiropa // Tarbitz 57 (1988). P. 95-
114.
3 См. о нем: Etkes I. «Teuda be-Yisrael» — beyn temura le-masoret // Levinzon Y.-B.
Teuda be-Yisrael, Jerusalem, 1977.
4 Подробнее об этом см.: Wodzinski М. Haskalah and Hasidism in the Kingdom of
Poland. Oxford, 2005.
5 Подробнее об этом см.: Zipperstein S. Russian Maskilim and the city // Berger D.
(ed.) The Legacy of Jewish Migration. New York, 1983. P. 31—45.
6 Об этом учреждении см.: Dohrn V. The Rabbinical Schools as Institutions of Social¬
ization in Tsarist Russia, 1847—1873 // Polin. 2001. № 14. P. 83-104.
7 О просвещении в этих районах см.: Залкин М. От Реубена Вундербара до Исайи
Берлина: становление современного еврейского интеллектуала в северной части При¬
балтики // Евреи в меняющемся мире: III. Материалы 3-й международной конферен¬
ции. Рига, 25—27 октября 1999 / Ред. Г. Брановер, Р. Фербер. Рига, 2000. С. 227—233.
8 Об этом см.: Nardi Z. Temurot bi-tenuat ha-Haskala be-Rusiya bi-shenot ha-shishim
ve-ha-shivim shel ha-mea ha-19 // Etkes I. (ed.) Ha-dat ve-ha-hayim. Jerusalem, 1993. P.
300-327.
9 Tcherikover E. He-hamon ha-yehudi, ha-maskilim ve-ha-memshala b-imey Nikolai
ha-rishon // Zion. 1939. № 4. P. 150—169; Shohet A. Hitrofefut ha-tsipiyot ha-meshihiyot
etzel rishonei ha-maskilim be-Rusiya // Iyun va-maas. 1981. № 2. P. 205-226; Lederhendler
Eli. The Road to Modern Jewish Politics. Oxford, 1989.
/185/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
10 Zalkin М. Beyn «beney elohim» li-«veney adam»: rabbanim, bahurei yeshivot ve-ha-
giyus la-tzava ha-rusi ba-mea ha-tesha-esre // Bar-Levav A. (ed.) Shalom u-milhama ba-tar-
but ha-yehudit. Jerusalem, 2006. P. 165-222.
11 О просветительских школах для девочек см.: Adler E.R. Private Schools for Jewish
Girls in Tsarist Russia (Diss.). Brandeis University, 2003.
12 См. об этом: Zalkin M. Beyn «haskalat ha-periferiya» le-«haskala periferialit» //
Zur E. (ed.) Olam yashan adam hadash. Beer-Sheva, 2005. P. 185-213.
13 См. об этом: Etkes I. Parashat «ha-haskala mi-taam» ve-ha-temura be-maamad ten-
uat ha-Haskala be-Rusiya // Zion. 1978. № 43. P. 264-313.
14 Об этом институте см.: Shohet A. Mosad ‘ha-rabbanut mi-taam’ be-Rusiya. Haifa,
1976.
15 См. об этом: Slutski Y. Beyt ha-midrash le-rabbanim be-Vilna // He-avar. 1960. № 7.
P. 29-48.
16 См. об этом: Kohen T. Min ha-tehum ha-prati el ha-tehum ha-tsibburi: kitvei maski-
lot ivriyot ba-mea ha-tesha-esre // Asaf D. et al. (eds.) Mi-Vilna 1-Irushalayim. Jerusalem,
2002. P. 235-258.
17 См. об этом: Zaklin M. «Ve-ele yimaltu — he-harash ve-ha-masger»: ideya u-metsiut
be-olamam ha-kalkali shel maskiley Vilna ba-mahatsit ha-rishona shel ha-mea ha-tesha-esre
// Aharonson R., Stampfer Sh. (eds.) Yazamut yehudit ba-et ha-hadasha. Jerusalem, 2000.
P. 79-95.
18 Об этом процессе см.: Slutski Y. Tsemihata shel ha-inteligentsiya ha-yehudit-rusit //
Slutski Y. Ha-itonut ha-yehudit-rusit ba-mea ha-tesha-esre. Jerusalem, 1970. P. 13—36.
19 О месте литературы в мире Гаскалы см.: Verses Sh. Megamot ve-tsurot be-sifrut
ha-Haskala. Jerusalem, 1990.
20 О просветительской журналистике см.: Quts G. Maarikhim u-mikhtevei itim. Tel
Aviv, 1999.
21 Об этом см.: Feiner Sh. Ha-maavaq ha-haskala ha-mezuyefet u-gevuloteha shel ha-
modemizatziya ha-yehudit // Asaf D. et al. (eds.) Mi-Vilna 1-Irushalayim. Jerusalem, 2002.
C. 3-23.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯFishman D. Russia’s First Modem Jews. New York, 1995.
Lederhendler E. The Road to Modem Jewish Politics. Oxford, 1989.
Stampfer Sh. Gender Differentiation and Education of the Jewish Women in Nineteenth-
Century Eastern Europe // Polin. 1992. № 7. P. 63—87.
Stanislavski M. Tsar Nicholas I and the Jews. Philadelphia, 1983.
Zipperstein S. Haskala, Cultural Change and 19th Century Russian Jewry // Journal of
Jewish Studies. 1983. № 34. P. 191-207.
Bartal I. Teguvot la-modema be-mizrakh Eyropa: haskala, ortodoksiya, leumiyut // Al-
mogSh. et. al. (eds.) Tsiyyonut we-dat. Jerusalem, 1994.
Bartal I., Feiner Sh. (eds.) Ha-Haskala li-gvunaha. Jerusalem, 2005.
Etkes I. «Teuda be-Yisrael» — beyn temura le-masoret (mavo) // Levinzon Y.-B. Teuda
be-Yisrael. Yerushalayim, 1977.
Etkes I. (ed.) Ha-dat ve-ha-hayim. Jerusalem, 1993.
/186/
2.3 / ЕВРЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Feiner Sh. Ha-isha ha-yehudit ha-modemit: miqre mivhan be-yahasey ha-Haskala ve-
ha-modema // Zion. № 58. 1993. P. 453-499.
Feiner Sh. Me-haskala lohemet le-haskala meshameret — mivhar mi-kitvey R. Sh.-Y.
Fin. Jerusalem, 1993.
Feiner Sh. Haskala ve-historya. Jerusalem, 1995.
Levin M. Erkhey hevra ve-kalkala ba-ideologiya shel tequfat ha-Haskala. Jerusalem,
1975.
Parush I. Nashim qorot. Tel Aviv, 2001.
Shohet A. Mosad «ha-rabbanut mi-taam» be-Rusya. Haifa, 1976.
Slutski Y. Ha-itonut ha-yehudit-rusit ba-mea ha-tesha-esre. Jerusalem, 1970.
Werses Sh. Haskala ve-Shabbetaut. Yerushalayim, 1988.
Zalkin M. Beyt ha-midrash le-rabbanim be-Vilna — beyn dimmuy li-metsiut // Gal-Ed.
1995. № 14. P. 59-72.
Zalkin M. Qavim li-demut ha-more ba-Haskala ha-yehudit be-mizrah Eyropa be-reshit
ha-mea ha-tesha-esre // Ben-Amos A., Tamir Y. (eds.) На-more beyn shelihut le-miqtsoa.
Tel-Aviv, 1996.
Zalkin M. Ba-alot ha-shahar — ha-Haskala ha-yehudit ba-Imperya ha-Rusit ba-mea ha-
tesha-esre. Jerusalem, 2000.
2.4
ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
Ивонн Кляйнманн
ВВЕДЕНИЕ
играция евреев в так называемые «внутренние губернии», на¬
селенные преимущественно этническими русскими, — явление
сравнительно недавнее. Вплоть до конца XVIII в. по религиоз¬
ным соображениям поселение евреев на территории Российско¬
го государства запрещалось, в правовой практике этот запрет
выражался в регулярных изгнаниях 1. Ситуация кардинально изменилась по¬
сле разделов Польши в 1772, 1792 и 1795 гг., когда примерно 500 000 евреев
оказались русскими подданными. В этих обстоятельствах изгнание евреев —
традиционный инструмент царской политики — оказалось невозможным, бо¬
лее того, в новых условиях оно не соответствовало экономическим интересам
государства. Теперь представители еврейских общин обращали свои взоры
к Санкт-Петербургу как к центру государственной власти, еврейские купцы
стремились получить доступ к царскому двору и к центру коммерческой дея¬
тельности — Москве. Только законодательные меры могли ограничить спон¬
танную миграцию подданных-евреев, внушавшую беспокойство российскому
купечеству. Этими мерами и стало создание «черты оседлости» 2.
С 1804 г. евреи могли на определенное время покидать черту оседлости
для получения образования, с 1835 г. таким же правом пользовались еврейские
купцы для проведения торговых операций. С 1826 г. за пределами черты долгое
время могла находиться еще одна категория еврейского населения — рекруты
и кантонисты, которых посылали служить во внутреннюю Россию. Однако
для евреев в целом — за исключением приведенных выше случаев — продол-
/188/
2.4 / ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
Самара. Синагога. С открытки 1916 г.
Joseph and Margit Hoffman Judaica Postcard
Collection, Folklore Research Center,
Hebrew University of Jerusalem
жительное пребывание в централь¬
ных губерниях России оставалось
незаконным вплоть до 60-х гг. XIX в.3
Границы черты еврейской осед¬
лости определялись многочислен¬
ными постановлениями, последнее
из которых было принято в 1835 г.
В дополнение к Литве, Белоруссии
и Украине — историческому аре¬
алу расселения евреев — в черту
оседлости вошли и малозаселенные
территории Новороссии, только
что отвоеванные у Турции 4. В исто¬
риографии принято рассматривать
введение черты оседлости как дис¬
криминационную меру. Следует от¬
метить, однако, что вплоть до отме¬
ны крепостного права в 1861 г. все
подданные империи, жившие в ее
европейской части, за исключением
дворян, не имели свободы передви¬
жения, и в этом отношении статус
евреев выгодно отличался от статуса
их нееврейских соседей 5.
В еврейских воспоминаниях конца XIX в. и в исследовательской литера¬
туре черта оседлости часто связывается с культурной изоляцией и экономи¬
ческой отсталостью. Однако уже современники отмечали и обратное: с конца
XVIII в. еврейское общество в Литве, Белоруссии и на Украине было охвачено
процессами миграции и социально-культурного брожения 6. Причин этому
было несколько: кризис феодальной экономики и ее перестройка, влияние
еврейского Просвещения (Гаскалы) и укрепление царской власти на запад¬
ных окраинах империи. В пределах черты оседлости происходили внутренние
миграции еврейского населения, и интенсивность их вплоть до конца XIX в.
непрерывно росла. Как правило, евреи переселялись из индустриально нераз¬
витых и неплодородных сельских районов Литвы и Белоруссии в портовые и
промышленные города Украины и Новороссии 7.
Важную роль в этом процессе сыграла Одесса, история еврейского на¬
селения которой объясняет взаимосвязь между социально-экономическими
факторами, собственно миграциями и культурными сдвигами. С самого нача¬
ла существования Одессы (город основан в 1794 г.) ее население было этниче¬
ски пестрым, и определенную его часть составляли евреи. Они играли важную
/189/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
роль в развитии экономики города, полностью ориентированной на черно¬
морскую торговлю. Евреи занимались вывозом зерна из плодородных губер¬
ний, участвовали в городской мелкой торговле, среди них были и фабричные
рабочие, и поденщики. Еврейская община в новом городе не была единой: во-
первых, она была расколота на приверженцев Просвещения и последователей
традиционной раввинистической учености, во-вторых, она была разделена на
землячества 8.
Миграции способствовали не только экономическому развитию ев¬
рейской общины, но и культурным и религиозным изменениям. В молодых
еврейских общинах в южной части черты оседлости не было влиятельных
раввинистических авторитетов, которые могли бы противостоять отходу от
традиционных религиозных ценностей и характерной для больших городов
высокой степени еврейской аккультурации. Знание языков и освоение опре¬
деленных светских знаний были необходимы для экономического успеха.
Уже в 1826 г. просветители основали в Одессе школу нового типа, в програм¬
ме которой были как религиозные, так и светские предметы. Многие еврей¬
ские дети посещали государственные школы, с 1860 г. евреи учились и в новом
одесском Новороссийском университете 9. Формирование одесской общины
стало предвестием развития еврейских общин в обеих столицах — Петербурге
и Москве.
ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ЭЛИТАОдновременно с проводимыми правительством Николая I реформами
крестьянского общества, которые предоставили крестьянам несколько боль¬
шую мобильность, активизировалась борьба еврейских купцов и предприни¬
мателей за разрешение селиться на постоянной основе во внутренних губер¬
ниях, куда они часто наведывались по свои торговым делам, пользуясь времен¬
ными паспортами. С этой целью начиная с 1840-х гг. еврейские состоятельные
купцы обращались с прошениями и петициями к царскому правительству,
выступая, таким образом, одновременно в качестве самопровозглашенных
ходатаев (традиционных штадланов) и пионеров еврейского переселения в
центральнорусские губернии 10. Основную часть предпринимательской дея¬
тельности этих крупных торговцев составляли откупа государственных моно¬
полий (особенно производство и продажа алкоголя), а также производство
текстиля и сахара и строительство железных дорог. Находясь в тесном контак¬
те с русским окружением, они обычно отдалялись от традиционного еврей¬
ского образа жизни. Однако несмотря на свою сомнительную репутацию в ре¬
лигиозных ученых кругах, они быстро превратились в новую еврейскую элиту
с достаточно прочными общественными позициями 11, резко отличавшуюся от
/190/
2.4 / ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
Синагога в Санкт-Петербурге.
Фотография нач. XX в.
/191/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Синагога в Москве.
С открытки нач. XX в.
пассивного, оставленного на произ¬
вол царских чиновников еврейского
населения.
Адресатом еврейских купцов
в царском правительстве стал ос¬
нованный еще в 1840 г. Еврейский
комитет, в состав которого вошли
высшие государственные чиновни¬
ки. В полномочия комитета входили
разработка и ревизия особых зако¬
нов в отношении еврейского населе¬
ния. В 1856 г. его председатель П.Д.
Киселев убедил нового императо¬
ра, Александра И, в необходимости
смены политической стратегии. По¬
литика Николая I, которая состояла
в том, чтобы с помощью различных
санкций превратить российских ев¬
реев в «полезных» подданных и спо¬
собствовать их аккультурации среди
«коренного» населения, уступила
место тенденции к поэтапному ос¬
лаблению ограничительного зако¬
нодательства для достижения этой
же цели 12. Этому подходу соответ¬
ствовал проект реформы, который в
июле 1856 г. представила на рассмотрение императору группа крупных еврей¬
ских купцов во главе с потомственным почетным гражданином банкиром Ев¬
зелем Гинцбургом. В соответствии с официальной установкой на предоставле¬
ние привилегий наиболее достойным и заслуженным подданным из числа ев¬
реев проект требовал уравнять в правах еврейских почетных граждан, купцов
первой гильдии и отставных военных чинов с христианами, принадлежащими
к тем же сословиям. Проект также предлагал разрешить еврейским цеховым
ремесленникам и выпускникам технических институтов работать вне черты
оседлости 13.
Еврейский комитет обратился в несколько министерств с просьбой пред¬
ложить свои проекты реформы. Откликнулся только министр внутренних дел
С.С. Ланской. Его проект опирался на предложение либерального генерал-гу¬
бернатора Новороссии немедленно прекратить законодательную дискрими¬
нацию евреев, особенно запрет на расселение евреев по всей империи. Прочие
же члены комитета были сторонниками последовательной отмены законода¬
/ 192 /
2.4 / ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
Киев. Синагога Бродского. С открытки нач. XIX в. Joseph and Margit Hoffman Judaica
Postcard Collection, Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem
тельных ограничений, которая должна была осуществиться в 1860—1870-е гг.
Между 1859 и 1878 г. царское правительство из экономических соображений
предоставляло всем евреям, приносившим стране капитал, изобретения, во¬
енный или культурный престиж, личное право проживания в любой точке им¬
перии. К ним были отнесены купцы первой гильдии, отставные николаевские
солдаты, ученые, обладавшие академической степенью, цеховые ремесленни¬
ки и медики 14.
Еврейская торговая элита рассматривала частичную отмену ограничений
на проживание как важную веху на пути к правовой эмансипации еврейско¬
го населения. Для этого явления, которое резко отличалось от гражданской
эмансипации евреев в западноевропейских странах, Бенджамин Натанс в сво¬
ем известном исследовании «За чертой» предложил термин «избирательная
интеграция». Этот термин обозначает процесс, при помощи которого царское
правительство рассчитывало включить отдельных евреев и представителей
определенных профессиональных групп в российскую социальную иерар¬
/193/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
хию 15. Однако даже такая терминологическая дифференциация преувеличи¬
вает те возможности, которыми могли воспользоваться «привилегированные»
евреи в период с 1859 по 1878 г. Новой элите — торговцам и арендаторам го¬
сударственных монополий — действительно удалось благодаря своему эконо¬
мическому положению добиться определенного политического влияния и,
в частности, сделать вопрос о свободе переселения евреев предметом пере¬
говоров с правительством. Но в конечном итоге право жительства вне черты
оседлости даже для привилегированных категорий евреев (кроме выпускни¬
ков высших учебных заведений и отставных солдат) оставалось условным: оно
зависело от регулярной выплаты гильдейских взносов (для купцов) или от за¬
нятия заявленной ремесленной практикой. Женщины и дети в этом отноше¬
нии целиком зависели от главы семейства и его статуса. Таким образом, право
повсеместного жительства было предметом постоянных проверок и не пере¬
давалось по наследству. Возможности для социального роста у евреев во вну¬
тренних губерниях существовали только в рамках профессиональных групп,
на которые распространялась эта привилегия. При утрате права жительства
социальный статус еврея немедленно снижался.
ДЕМОГРАФИЯ
Еврейские мигранты, уезжавшие из черты оседлости, почти всегда стре¬
мились в крупные города европейской части России, привлекательные с эко¬
номической, политической и культурной точек зрения, прежде всего в Санкт-
Петербург и Москву. Пример обеих столиц представляет весьма характерную
картину еврейской миграции в центральные губернии.
Несмотря на появление новых возможностей для еврейской миграции,
в конце 1860-х гг. в Петербурге, по данным городской переписи населения,
проживали лишь 7000 евреев, в Москве — чуть менее 4000. Даже в 1880-е гг.,
на самом пике еврейской миграции в России, ни в одной из столиц числен¬
ность еврейского населения не превысила 30 000 человек (или 2% всех жите¬
лей города), хотя в целом прирост населения Петербурга и Москвы во второй
половине XIX в. происходил прежде всего за счет притока населения. Оценки,
основанные на еврейских метрических книгах, превышают численность на¬
селения, официально зарегистрированного государственными ведомствами,
как правило, не более чем вдвое. Кроме того, в 1891—1892 гг. еврейское насе¬
ление Москвы сильно снизилось из-за массовой высылки: многие евреи, пре¬
жде всего ремесленники и мелкие торговцы, должны были оставить город 16.
По сравнению с эмиграцией евреев из царской России в Америку, в ос¬
новном нелегальной, которая стала заметной уже в конце 1860-х гг., миграция
в русские столицы выглядела достаточно скромной. Особенно показательна
/194/
2.4 / ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
в этом отношении миграция еврейских ремесленников: несмотря на посто¬
янную нехватку ремесленников в Санкт-Петербурге и Москве, эмиграция
представителей этой профессиональной группы в Северную Америку была
несравнимо масштабнее их притока в русские столицы 17. Причиной этому
можно считать в первую очередь неопределенное правовое положение еврей¬
ских мигрантов: законодательство, определяющее право жительства, было не¬
упорядоченным, оно формировалось в течение десятилетий, и местные вла¬
сти могли толковать его в расширительном или ограничительном смысле по
своему произволу.
Развитие еврейских общин в Петербурге и Москве происходило по-
разному: приток евреев в Петербург осуществлялся из всех регионов чер¬
ты оседлости, в то время как еврейское население Москвы составляли пре¬
имущественно мигранты из территориально близких белорусских губерний.
Объяснение этому факту следует искать в различии между политическими и
экономическими функциями двух городов. В Петербурге еврейские предпри¬
ниматели могли получить как доходные государственные заказы, так и доступ
на еврейскую политическую арену. Еврейскую молодежь привлекала в Петер¬
бург возможность получить высшее образование: число институтов в столице
постоянно росло. Москва в этом отношении была гораздо менее привлека¬
тельна: она была важным торговым узлом и центром промышленного регио¬
на — но не более, высшее образование в Москве было гораздо менее значимо,
Московский университет и другие высшие учебные заведения получили ши¬
рокое признание только в конце XIX в.18
Первоначально среди евреев, поселившихся в русских столицах, прева¬
лировали мужчины, однако со временем статистическое соотношение полов
изменилось, поскольку еврейская миграция приняла семейный характер. Это
отличало еврейских мигрантов Москвы и Петербурга от мигрантов из крестьян¬
ской среды, для которых урбанизация означала социальное одиночество. Среди
религиозных общин обеих столиц еврейская была самой молодой по демогра¬
фическим показателям. Даже после 1890 г., когда из-за тяжелых условий жизни
и труда среднее количество детей в семьях мигрантов уменьшилось, молодые
люди до 20 лет составляли примерно половину петербургских евреев.
Евреи в Петербурге и Москве усваивали русский язык быстрее, чем пред¬
ставители других национальных и религиозных меньшинств, и причина этого
заключалась далеко не только в распространении идеологии Гаскалы. Евреи ру¬
ководствовались во многом куда более меркантильными соображениями. Рус¬
ский язык был нужен для получения образования, а светское образование для
еврея само по себе было залогом материального благополучия и давало право
проживания вне черты оседлости. Родители стремились к тому, чтобы их дети,
рожденные уже в Москве или Петербурге, получили личное право постоянно¬
го проживания в столицах, и поэтому старались дать детям такое образование,
/195/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Лазарь Поляков (1842-1914) - московский
банкир, филантроп и общинный лидер
которое гарантировало бы им это в буду¬
щем. Правовые ограничения на прожи¬
вание в столицах имели еще одно след¬
ствие: среди евреев не было фабричных
рабочих, и поэтому еврейское общество
осталось в стороне от процесса пролета¬
ризации и явлений, которые традицион¬
но сопутствовали индустриализации, —
алкоголизма, высокой детской смертно¬
сти и проституции 19.
Ни в Петербурге, ни в Москве не
возникло отдельного еврейского квар¬
тала, и даже концентрация еврейско¬
го населения в определенных районах
города была временным явлением, ха¬
рактерным только для первых лет посе¬
ления. Такие районы находились либо
вблизи старых торговых центров, либо
рядом с казармами, где начиная с конца
1820-х гг. служили еврейские солдаты.
Евреи, как и большинство москвичей
и петербуржцев, проживали недале¬
ко от места работы, поскольку цены на
общественный транспорт в столицах
были высокими. Еврейские мигранты
селились в основном в центре города.
Очевидно, структура занятости, складывавшаяся веками в среде польско-ли¬
товского еврейства, оставалась неизменной и в русских столицах. Вплоть до
рубежа XIX и XX вв. евреи Москвы и Петербурга были прежде всего заняты в
торговле, а также в ремесле и свободных профессиях. В этих сферах занято¬
сти процент этнических русских был сравнительно невелик. Таким образом,
разделение секторов экономики по этническому принципу, существовавшее в
черте оседлости, оказалось воспроизведено и в русских столицах.
Новым явлением было появление большого (выше среднестатистического
показателя) слоя евреев с высшим образованием: в Петербурге в конце XIX в.
они составляли 14% еврейского населения города, а в Москве к 1890 г. — до
7%. Мужчины, как правило, учились на врачей и адвокатов, женщины вы¬
бирали профессии акушерок и провизоров 20. На государственную службу ев¬
реи принимались лишь в исключительных случаях. В общественной жизни
российских столиц евреи не играли существенной роли, несмотря на относи¬
тельно высокий уровень благосостояния и образованности: их общественная
/196/
2.4 / ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
деятельность в основном ограничивалась участием (впрочем, весьма скром¬
ным) в городском самоуправлении (до исключения евреев из него в 1892 г.).
Объяснить этот факт просто: значение местного самоуправления в городе, где
находится царское правительство или генерал-губернатор, наделенный таки¬
ми полномочиями, какими пользовался московский, невелико. Влиятельные
еврейские предприниматели, ходатайствовавшие за еврейское меньшинство в
столицах, такие как Гинцбурги и Поляковы, обращались напрямую в различ¬
ные министерства и лично к отдельным членам правительства 21.
МЕЖДУ ИНТЕГРАЦИЕЙ И ОБОСОБЛЕННОСТЬЮ
Просветительский девиз 1840-х гг. — культурное «сближение» и «слия¬
ние» — так и не стал определяющим в формировании царской политики по
отношению к евреям. Противоречивость этой политики отразилась и на судь¬
бе евреев за чертой оседлости. Здесь интересы правительства сталкивались с
интересами местных властей, экономический прагматизм входил в конфликт
с националистической идеологией. Несмотря на ослабление ограничений на
право жительства, высшее чиновничество продолжало действовать в «еврей¬
ском вопросе» в соответствии с идеологией «христианского государства», рас¬
сматривающей евреев как опасных чужаков 22.
Правительственные инстанции относились к поселению еврейских под¬
данных в обеих русских столицах и их попыткам интегрироваться в местную
сословную и профессиональную среду с характерной для абсолютистского
режима подозрительностью. Несмотря на свою небольшую численность, ев¬
рейские иммигранты становились предметом пристального общественного
внимания. Они постоянно подвергались нападкам в дебатах по «еврейскому
вопросу», который играл важную роль в общественной жизни России в конце
XIX в. Вплоть до начала XX в. культурное и экономическое развитие евреев —
в гораздо большей степени, чем развитие других религиозных и националь¬
ных меньшинств, — находилось под постоянным контролем со стороны офи¬
циальных статистических служб. В документах, удостоверявших личность,
всегда указывалась религиозная принадлежность, а также имя и отчество в
оригинальной форме, по которым можно было легко узнать еврея.
Царское правительство не было готово пожертвовать административным
контролем над еврейским населением ради его социальной интеграции. При¬
чину следует искать в традиционных методах управления страной: во второй
половине XIX в. обязанности и повинности подданных по-прежнему не были
индивидуальными, они накладывались на сословные группы в целом. На ев¬
реев этот принцип распространялся в той же степени, что и на крестьянскую
общину или на мещанское сословие. Поэтому если возникала необходимость
/197/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
установить личность конкретных подданных-евреев — в особенности для
сбора налогов или призыва в рекруты, — власти обращались к метрическим
книгам, которые вели общественные раввины 23. Администрация обеих столиц
стремилась сохранить возможность легкой идентификации евреев; последо¬
вательная русификация евреев в цели правительства не входила.
Даже если такая политика не имела антисемитской мотивации, послед¬
ствия ее сказывались самым серьезным образом на повседневной жизни ев¬
реев. Личное имя, воспринимавшееся как еврейское, или отметка в докумен¬
тах о принадлежности к иудейскому вероисповеданию могли послужить ос¬
нованием для определенной дискриминации в профессиональной сфере и в
общении с официальными инстанциями 24. Вплоть до Первой мировой войны
выдача евреям разрешений на проживание вне черты оседлости строго кон¬
тролировалась, в ряде случаев выданное разрешение могло быть отобрано,
что, разумеется, делало жизнь легально проживающих в Центральной России
евреев небезопасной и неопределенной.
ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНАТрадиционная еврейская община в черте оседлости была одновременно
религиозной конгрегацией, административной единицей и корпоративной
группой, члены которой сообща несли налоговое и рекрутское бремя и другие
повинности 25. Еврейские общины, возникавшие в центральной части России,
заметно отличались от этого образца. Они формировались одновременно под
влиянием еврейской традиции, местных административных установок и за¬
падных моделей. Ни в Петербурге, ни в Москве еврейское население не обра¬
зовывало корпорации, оно состояло из отдельных групп и людей с различным
правовым статусом. Большинство ремесленников, живших в русских столи¬
цах, были включены в налоговых и призывных списках в состав тех общин,
откуда они происходили; для фискальных служб Петербурга и Москвы этих
людей не существовало. Остальные мигранты принадлежали, с точки зрения
Министерства внутренних дел, не к конкретной общине, а к тому или иному
сословию или профессиональной группе — купечеству, мещанству и т.д. Они
считались евреями исключительно в религиозном аспекте и в этом отноше¬
нии были такими же представителями религиозного меньшинства, как проте¬
станты или католики. Существование кагала как органа самоуправления евре¬
ев Петербурга или Москвы было для царского правительства неприемлемым.
Поэтому уже около 1860 г. правительство наложило запрет на создание в цен¬
тральнорусских губерниях общин, которые представляли бы интересы всего
местного еврейского населения. Гарантированная законом веротерпимость
распространялась на подданных-евреев по отдельности или на небольшие си¬
/198/
2.4 / ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
нагогальные конгрегации, но никак не на централизованную еврейскую об¬
щину или публичное отправление иудейских обрядов 26.
Несмотря на это, светская еврейская элита во главе с банкиром Горацием
Гинцбургом, состоявшая из богатых купцов и небольшой группы интеллекту¬
алов, в административном отношении ориентировалась на традиционную ав¬
тономную еврейскую общину. Представители петербургской элиты отстаивали
идеалы Просвещения, организовали реформистскую школу для мальчиков и
девочек, содержали роскошную хоральную синагогу, служба в которой велась
по «просвещенному» обряду, однако организационные рамки их деятельности
оставались традиционными: это была олигархическая община. Она должна
была включить в себя все еврейское население столицы и стать новым центром
еврейской политики в царской России. В подражание еврейским общинам Бер¬
лина и Парижа, новая еврейская элита Петербурга стремилась к официальному
признанию и к получению надежного юридического статуса. Обе хоральные
синагоги — петербургская и московская — помимо своих непосредственных
религиозных функций выполняли важную репрезентативную роль 27.
Однако поддержки, которую ожидала новая еврейская элита от царского
правительства, получить не удалось. В 1877 г. Министерство внутренних дел
отказалось признать петербургских активистов полномочными представите¬
лями всего российского еврейства и в дальнейшем, за исключением строи¬
тельства хоральной синагоги, препятствовало всякой централизации еврей¬
ской культовой, образовательной или благотворительной деятельности в сто¬
лице. Таким образом, еврейская община Петербурга, которая задумывалась
как образец для всех еврейских общин вне черты оседлости, не сумела полу¬
чить ни общественных полномочий, выходящих за чисто религиозные рамки,
ни официального статуса 28.
Впрочем, на уровне городской политики эти постановления нередко иг¬
норировались. При поддержке местных инстанций, которые из практических
соображений благоволили централизации еврейских культовых и филантро¬
пических организаций, новая элита получила контроль над всей еврейской
социально-благотворительной деятельностью. Благодаря своей финансовой
мощи она сумела, несмотря на отсутствие официального правового статуса,
создать все институты классической еврейской общины и наполнить их но¬
вым содержанием 29. Именно эти традиционные институты стали в Петербурге
и Москве проводниками секуляризации и инструментами «мягкой» интегра¬
ции евреев в новое русскоязычное окружение. Так, талмуд-тора — традици¬
онная начальная школа для бедных, которую обычно содержала община, — в
обеих столицах благодаря введенному там сочетанию светских и религиозных
предметов стала связующим звеном между еврейской традицией и столичной
жизнью. И хотя многие бедные ортодоксальные евреи поначалу отказывались
давать детям современное образование, со временем они стали пользоваться
/199/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
бесплатными услугами школ талмуд-тора, поскольку обучение в них гаранти¬
ровало социальный рост 30.
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ЕВРЕЕВ ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ
Вопреки представлениям о светском характере нового еврейского населе¬
ния в крупных русских городах — представлениям, укрепившимся в научной
литературе под влиянием воспоминаний современников, — сами мигранты
вовсе не считали, что перемена места жительства должна обязательно сказать¬
ся на их приверженности религиозной традиции. Родственные и дружествен¬
ные связи, как и общественные институты благотворительности и обеспече¬
ния ритуальных нужд, создавали в Москве и Петербурге традиционную ев¬
рейскую социальную инфраструктуру. Евреи — жители столиц в большинстве
своем были религиозны, однако о существовании единой культовой практики
не могло быть и речи. Помимо традиционного разделения на хасидов, мит¬
нагедов и маскилов, в составе каждого из этих движений возникали отдель¬
ные группы — в соответствии с географическим происхождением мигрантов.
Каждая такая группа следовала своим моделям религиозного служения, что
приводило к возникновению многочисленных молитвенных домов. Кроме
того, некоторые молитвенные сообщества образовывались и по профессио¬
нальному признаку. В повседневной жизни все эти группы мало соприкаса¬
лись между собой. Поэтому запрет властей на создание единой централизо¬
ванной общины не вызвал противодействия со стороны большей части еврей¬
ского населения Москвы и Петербурга, за исключением немногочисленной
элиты 31.
В целом свобода вероисповедания, которую гарантировала евреям еще
императрица Екатерина II, в столицах не ущемлялась. Правительство — осо¬
бенно в период роста революционных настроений в российском обществе —
было заинтересовано в поддержании еврейской богобоязненности и свя¬
занной с ней лояльности к царской власти. Однако вопрос о том, насколько
демонстративным может стать отправление еврейских религиозных обрядов,
был предметом постоянных споров. Чиновники в обеих столицах действовали
с позиций носителей государственной религии. Так, в дискуссии о строитель¬
стве кущей в публичных местах на праздник Суккот 1869 г. в Петербурге обер-
полицмейстер поддержал позицию Православной церкви и ограничил совер¬
шение этого обряда исключительно частной сферой 32. Этим же объясняется
волокита с постройкой хоральных синагог в обеих столицах: власти долго не
утверждали выбранные евреями Москвы и Петербурга престижные участки
для строительства. После того как все разрешения были получены, разгоре¬
лась дискуссия об архитектурном стиле, в котором должны быть выдержаны
/200/
2.4 / ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
синагоги. В этой дискуссии проявились различия между самовосприятием ев¬
реев за пределами черты оседлости и их обликом в глазах нееврейского окру¬
жения. Предмет спора заключался в следующем: следует ли евреям культи¬
вировать свою национальную самобытность, которая, среди прочего, найдет
выражение в строительстве синагоги в мавританском стиле, или же им следует
предпочесть классический стиль и тем самым позиционировать себя как часть
населения империи 33.
В стороне от всех этих вопросов находилась другая группа еврейского насе¬
ления — студенты и выпускники высших учебных заведений, которые оставили
религиозную обрядность при переселении в крупные города России. Стремясь
достичь интеграции в русское либеральное общество (пусть даже мнимой), они
относились к отказу от диетарных законов (кашрута) с той же легкостью, как
к смене повседневной одежды на учебную или чиновничью форму. Однако
это еще не означало, что образованной еврейской молодежи легко удавалось
стать интегральной частью «нейтрального» городского общества. Некоммер¬
ческие межэтнические контакты были для Москвы и Петербурга редкостью.
С 1860-х гг. стали возникать немногочисленные сообщества — научные объеди¬
нения, студенческие и артистические кружки, в которых религиозная и наци¬
ональная принадлежность была вытеснена идеалами либерального общества.
Параллельно в 1870-е гг. в среде еврейских студентов возникли организованные
по принципу землячеств кружки, которые собирались для дискуссий и литера¬
турных чтений и способствовали распространению протосионистских идей 34.
О неформальных межконфессиональных контактах в мультиэтнической
среде ремесленников и купцов нам ничего не известно. Общественно-куль¬
турная деятельность этнорелигиозных меньшинств, как правило, сосредото¬
чивалась вокруг культовых центров и связанных с ними образовательных и
благотворительных учреждений 35.
КРИЗИС 1881—1882 гг.
В начале 1881 г. еврейское население крупных украинских промышлен¬
ных городов пережило серию погромов невиданного до тех пор размаха. На¬
падения поденных рабочих, ремесленников и крестьян были в первую очередь
направлены на имущество евреев, но зачастую грабеж сопровождался побо¬
ями, изнасилованиями и убийствами. В течение последующего года погро¬
мы происходили прежде всего вдоль линий железной дороги, рек и больших
торговых путей, в местечках и деревнях южной части черты оседлости 36. По¬
громы нанесли тяжелую травму всему еврейскому населению России, лишив
его чувства безопасности в отношении самых базисных прав — свободы веро¬
исповедания и неприкосновенности жизни и имущества. Тысячи пострадав¬
/201/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
ших, лишившиеся крова, пытались бежать из России на Запад 37.
В Петербурге и Москве массового физического насилия по отношению к
евреям не было — по всей вероятности, благодаря жесткому полицейскому и
военному контролю за общественной ситуацией в столицах, но упорные слу¬
хи о возможных погромах ходили и здесь. Официальные и неофициальные
еврейские представители в обеих столицах развернули широкую деятельность
по борьбе с погромами и их последствиями. Кризис 1881-1882 гг. и особенно
вопрос эмиграции из России стал ключевым моментом во взаимоотношени¬
ях между столичной еврейской элитой нового типа и еврейским населением
черты оседлости. Сотни прошений о помощи из областей, пострадавших от
погромов, которые получал барон Гинцбург и его окружение с апреля 1881г.,
свидетельствуют о высоком престиже петербургского еврейства в глазах на¬
селения черты оседлости 38. Правда, далеко не всегда евреи Петербурга оправ¬
дывали эти ожидания.
Между маем 1881 и апрелем 1882 г. в Петербурге состоялись три собрания,
посвященные погромам и насущным проблемам еврейской жизни в России:
неформальная встреча верхушки столичного еврейства во главе с бароном
Гинцбургом и два съезда представителей еврейских общин. Во всех трех собра¬
ниях задавали тон предприниматели, столичная интеллигенция и маскилы из
черты оседлости. Делегаты в большинстве своем высказались против органи¬
зованной эмиграции из России, чем вызвали недовольство как евреев черты
оседлости, так и петербургской еврейской прессы, которая писала о неотвра¬
тимости массового исхода евреев 39. Поэтому в историографии закрепилось
представление о еврейской элите Петербурга как о безынициативной, равно¬
душной к страданиям народа и недостойной доверия 40.
Однако более пристальное рассмотрение дебатов об эмиграции позволяет
адекватно оценить сложность стоявшей перед петербургскими просветителя¬
ми дилеммы. Они считали Россию своей исторической родиной и старались
добиться предоставления гражданских прав российским евреям. Массовая и
к тому же нелегальная эмиграция сделала бы несостоятельным такой подход,
предполагавший наличие у евреев глубоких корней в империи. Именно по¬
этому круг Гинцбурга не был готов возглавить организацию выезда евреев на
Запад и ограничился тем, что потребовал от правительства защитить евреев от
погромов и прекратить их юридическую дискриминацию 41.
В это трудное время политические взгляды петербургской элиты не нахо¬
дили отклика в еврейских массах, в отличие от горячей поддержки идеи эми¬
грации со стороны еврейского студенчества и писателей 42. Правда, реальных
проектов по эвакуации трех миллионов человек эти круги предложить, ра¬
зумеется, не могли. Российские и зарубежные еврейские филантропические
организации тоже не были в состоянии осуществить подобный проект, и, та¬
ким образом, большинство евреев были вынуждены довольствоваться резуль¬
/202/
2.4 / ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
татами еврейской политики в пределах империи. Это привело к укреплению
позиций круга Гинцбурга, который придерживался традиционных стратегий
еврейской политики (таких как меморандумы, петиции и персональные хода¬
тайства) на политической арене. Ему удалось добиться включения еврейских
представителей в состав губернаторских комиссий, учрежденных в 1881 г. Ми¬
нистерством внутренних дел, и Паленской комиссии в 1883-1888 гг. Эти ко¬
миссии должны были разработать проект всеобъемлющей ревизии царского
еврейского законодательства. Особых успехов еврейские представители не до¬
стигли: они не обладали официальными полномочиями и не могли помешать
принятию дискриминационных мер, в т.ч. так называемых «Майских времен¬
ных правил» 1882 г. Однако можно предположить, что без их вмешательства
правовая дискриминация еврейских подданных была бы намного значитель¬
нее. В условиях самодержавного государства политика петербургской еврей¬
ской элиты во главе с бароном Гинцбургом в длительной перспективе могла
принести реальные плоды 43.
ПРОЯВЛЕНИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
И ВЫСЫЛКИ ЕВРЕЕВ
Начиная с 1880-х гг. еврейское население столиц оказалась напрямую за¬
тронуто усилением русского национализма и юдофобии: на фоне обострившей¬
ся экономической конкуренции купцы и ремесленники все чаще подвергались
националистическим нападкам со стороны своих русских коллег, которые пы¬
тались вытеснить их из купеческих гильдий и мещанского сословия. Адвока¬
ты и врачи исключались из профессиональных коллегий. На государственную
службу евреи с высшим образованием могли поступить только ценой крещения.
С 1887 г., после введения процентной нормы для еврейских студентов, лишь не¬
большая часть стремившихся к высшему образованию могла попасть в столич¬
ные университеты. Поэтому многие евреи, рожденные уже в столицах, не могли
получить личного вида на жительство по достижении ими совершеннолетия.
В Москве представители местной власти — во главе с генерал-губернато¬
ром великим князем Сергеем Александровичем — стали, по существу, про¬
водниками националистических идей. Они были убеждены, что поселение
евреев в первопрестольной столице несовместимо с ее православным харак¬
тером и наносит вред местной экономике. В соответствии с этими взглядами в
1891—1892 гг. московские власти осуществили массовую высылку еврейского
населения из столицы. Ни заступничество русских купцов за своих еврейских
партнеров, ни вызванный изгнанием евреев кризис сбыта не остановили на¬
сильственных мер. В результате еврейское население Москвы, составлявшее
около 30 ООО, за три года сократилось на три четверти. Изгнание не затронуло
/203/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
только обладателей высшего образования и купцов 1-й гильдии.
В петербургских политических кругах националистическая идеология и
антисемитские настроения были не менее распространены, чем в Москве. Од¬
нако в отличие от предпринятых московским начальством радикальных анти¬
еврейских мер, закрепленных специальным законодательным актом, высылка
евреев из столицы империи осуществлялась в меньшем объеме, в течение дли¬
тельного периода и безо всякой огласки. Такое различие обусловливалось в
первую очередь дипломатическими причинами: Петербург в гораздо большей
мере, чем Москва, находился в поле зрения европейской общественности,
кроме того, в 1891 г. царское Министерство финансов хлопотало о государ¬
ственном займе у парижского банка барона Ротшильда и старалось помешать
политике высылок, проводимой городской администрацией 44.
Политика сегрегации и репрессий, проводившаяся властями, находи¬
лась в полном противоречии с представлениями самих евреев, пострадав¬
ших от высылок. В обращениях к властям московские евреи заявляли о сво¬
ей верности идеям аккультурации и называли старую российскую столицу
своей родиной. Однако просвещенная модель еврейской интеграции более
не привлекала российские власти. Подтверждением тому может служить вы¬
сылка казенного раввина Москвы Залкинда Минора, явившаяся, безуслов¬
/204/
Залкинд Минор (1826-1900),
казенный раввин Москвы с 1869 по 1892 г.
Яаков Мазе (1859—1924),
казенный раввин Москвы с 1893 по 1924 г.
2.4 / ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
но, символическим актом. Эта дискриминационная мера была направлена
против одного из выдающихся представителей московских просветитель¬
ских кругов, который был заметен в общественной жизни Москвы еще с
1860-х гг. и позднее олицетворял идеал еврейского гражданина в порефор¬
менной России; в его лояльности по отношению к царской власти не могло
быть никакого сомнения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высылки 1891—1892 гг., как и введение в 1887 г. процентной нормы для
еврейских студентов, затронули уже второе поколение еврейских жителей Пе¬
тербурга и Москвы. Это были особые формы коллективной дискриминации,
пришедшей на смену политике поощрения определенных категорий еврей¬
ского населения путем предоставления им, начиная с 1859 г., права прожи¬
вания на всей территории империи. Новый политический курс сказался на
отношении многих евреев — жителей столиц к русскому государству. Об этом
может свидетельствовать, в частности, избрание в 1893 г. казенным раввином
Москвы Яакова Мазе, горячего сторонника палестинофильского движения 45.
Более того, московское изгнание сразу же стало интегральной частью истори¬
ческого нарратива о преследовании евреев, который создавали первые исто¬
рики российского еврейства 46.
В условиях жизни в русском окружении, несмотря на высокую степень
языковой интеграции и сильного влияния со стороны институтов царской
власти, с одной стороны, и либеральных и революционных кругов — с другой,
евреи Москвы и Петербурга продолжали сохранять выраженную еврейскую
самоидентификацию. Традиционный критерий религиозной принадлежно¬
сти дополнялся, а иногда и заменялся критерием этническим. Несмотря на
ориентацию на западные модели эмансипации, в которых права предостав¬
лялись отдельному гражданину, в Петербурге и Москве, так же как и в чер¬
те оседлости, основные силы еврейской политики сосредоточивались на до¬
стижении коллективных прав для евреев. В центрах еврейского поселения за
пределами черты возникли новые формы общественной жизни, сочетавшие
давние социальные традиции с новейшими практиками политической и куль¬
турной жизни.
Перевод с немецкого Александры Полян
1 Клиер Дж. Россия собирает своих евреев. М.; Иерусалим, 2000. С. 49-59.
2 Fishman D. Russia’s First Modern Jews. The Jews of Shklov. N. Y., 1995. P. 53-54,
81—82, 91; Kleinmann Y. Neue Orte — neue Menschen. Jüdische Lebensformen in St. Peters¬
burg und Moskau im 19. Jahrhundert. Göttingen, 2006. S. 62—63, 70-77.
/205 /
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
3 Rest М. Die russische Judengesetzgebung von der ersten polnischen Teilung bis zum
“Polozenie dlja evreev” (1804). Wiesbaden, 1975. S. 230; Stanislawski M. Tsar Nicholas I and
the Jews. The Transformation of Jewish Society in Russia, 1825-1855. Philadelphia, 1983.
P. 37; Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии; 1827—1914. М., 2003. С. 87—89.
4 Полищук М. Евреи Одессы и Новоросии. Социально-политическая история ев¬
реев Одессы и других городов Новороссии 1881-1904. Иерусалим; Москва, 2002. С.
15—20; Stanislawski. Op. cit. Р. 36.
5 Hildermeier М. Die jüdische Frage im Zarenreich. Zum Problem der unterbliebenen
Emanzipation // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. № 32. 1984. Vol. 3. S. 321—357,
зд. — cc. 330-331.
6 Kleinmann. Op. cit. S. 92-98.
7 Stampfer S. Patterns of Internal Jewish Migration in the Russian Empire // Roi Y. (ed.).
Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union. Ilford, 1995. P. 28—47, в первую оче¬
редь — P. 30, 34-37; Rowland R. Geographical Patterns of the Jewish Population in the Pale
of Settlement in Late Nineteenth Century Russia // JSS. 1986. 3/4. № 48. P. 207—234.
8 Herlihy P. Odessa. A History, 1794-1914. Cambridge / Mass. 1986. P. 26-27, 124-125;
Полищук M. Цит. соч. C. 55.
9 Ципперштейн С. Евреи Одессы. История культуры 1794-1881. М., Иерусалим.
1995; Hausmann G. Universität und städtische Gesellschaft in Odessa, 1865-1917. Soziale
und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreichs. Stuttgart, 1998. S. 152—
156, 440-443, 449-450.
10 Kleinmann. Op. cit. S. 68—69.
11 Fishman. Op. cit. P. 53—57; Kahan A. Notes on Jewish Entrepreneurship in Tsarist
Russia // Guroff G., Carstensen F. (eds.) Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet
Union. Princeton, 1983. P. 104-124.
12 Stanislawski. Op. cit. P. 156-160; Klier J. Imperial Russia’s Jewish Question, 1855—
1881. Cambridge, 1995. P. 76-79.
13 Натанс Б. За чертой. Евреи встречаются с позднеимперской Россией. М., 2007.
С. 66—70; Kleinmann. Op. cit. S. 113—114.
14 Kleinmann Y. Op. cit. S. 115-125; Натанс, там же. С. 75-83.
15 Натанс, там же. С. 95—99.
16 Kleinmann Y. Op. cit. S. 136-139, 153-155.
17 Klier J. Emigration Mania in Late-Imperial Russia: Legend and Reality// Newman A.,
Massil S. W. (eds.) Patterns of Migration, 1850-1914. London, 1996. P. 21-29; Gartner L. The
Great Jewish Migration — Its East European Background // Tel Aviver Jahrbuch für deutsche
Geschichte. N 27. 1998. P. 107-133.
18 Bater J. St Petersburg. Industrialization and Change. London, 1976. P. 60—62; Brad¬
ley J. Moscow. From Big Village to Metropolis // Hamm Michael F. (ed.) The City in Late
Imperial Russia. Bloomington, 1986. P. 9-41, cm. cc. 24-29, 32-34.
19 Kleinmann. Op. cit. S. 141, 143, 147-150, 155-156, 159-160.
20 Ibid. S. 145-147, 150-153, 158-161, 170-171.
21 Kleinmann Y. An zwei Meeren und doch an Land — Eine vergleichende Skizze des
soziokulturellen Profils der jüdischen Befölkerung St. Peterburgs und Odessas im 19. Jahr¬
hundert // Nordost-Archiv. № 12. 2003. S. 135—166, в особенности см. С. 149—150; Idem.
Neue Orte — neue Menschen. S. 290-302.
/206/
2.4 / ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
22 Барталь И. От общины к нации: Евреи Восточной Европы в 1772—1881 гг. М.;
Иерусалим, 2007. С. 209—211; Kleinmann Y. Op. cit. S. 239—240, 323—326, 340—344.
23 Avrutin E. A legible People: Identification Politics and Accomodation in Tsarist Russia.
PhD Dissertation, University of Michigan, 2004. P. 64-69, 99-101.
24 Натанс, там же. С. 279—280; Kleinmann. Op. cit. S. 164, 167-169.
25 Hundert G. Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth Century. A Genealogy of Mo¬
dernity. Berkeley; Los Angeles, 2004. P. 79—95, 118; Levitats I. The Jewish Community in
Russia, 1772-1844. New York, 1943. P. 42-43.
26 Kleinmann. Op. cit. S. 174—175.
27 Ibid. S. 188-189, 200-201, 214-219, 248-250.
28 Натанс, там же. С. 179—181; Kleinmann. Op. cit. S. 202—204, 217—219.
29 Гессен В.К). К истории Санкт-Петербургской еврейской религиозной общины.
От первых евреев до XX века. СПб., 2000. С. 69—73, 156—193; Kleinmann. Op. cit. S. 198.
30 Kleinmann. Op. cit. S. 256—258.
31 Натанс, там же. С. 167—175; Kleinmann. Op. cit. S. 221—231, 265-266, 289.
32 Kleinmann. Op. cit. S. 239—240.
33 Натанс, там же, С. 181-190; Kleinmann. Op. cit. S. 317-325, 340-344; Levin V.
The St. Petersburg Jewish Community and the Capital of the Russian Empire: An Architec¬
tural Dialogue // Aliza Cohen-Mushlin and Härmen H. Thies (eds.). Jewish Architecture in
Europe. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2010. P. 197—217.
34 Натанс, там же. С. 273—291; Kleinmann. Op. cit. S. 247, 267-268, 381—382.
35 Kleinmann. Op. cit. S. 276—278.
36 Aronson M. The Anti-Jewish Pogroms in Russia in 1881 // Klier John D., Lambroza
Shlomo (eds.). Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modem Russian History. Cambridge, 1992.
P. 44-61.
37 Frankel J. The Crisis of 1881—82 as a Turning Point in Modem Jewish History // Berg¬
er D. (ed.). The Legacy of Jewish Migration: 1881 and its Impact. New York, 1983. P. 9-29,
зд. — c. 10; Idem. Френкель Й. Пророчество и политика. Социализм, национализм и
русское еврейство, 1860—1917. М., Иерусалим. С. 74—108; Gartner L. The Great Jewish
Migration. P. 110—112.
38 Слиозберг Г.Б. Барон Г.О. Гинцбург. Его жизнь и деятельность. Париж, 1933.
С. 93; Klier J. Southern Storms. The Russian Empire and the Anti-Jewish Pogroms of 1881—
1882 (Typoskript), Cap. 9.
39 Kleinmann. Op. cit. P. 290-302. Sluzki Y. Ha-itonut ha-yehudit-rusit ba-mea ha-te-
sha-esre. Jerusalem, 1970. P. 122-127.
40 Dubnow S. History of the Jews in Russia and Poland. From the Earliest Times until
the Present Day. Bd. 2. Philadelphia, 1918. P. 304-305. Критику позиции Дубнова см. в:
Klier J. Emigration Mania... Р. 21, 26—27.
41 См. Протокол заседания съезда представителей еврейских общин // Недельная
хроника «Восхода». 1882. № 33. С. 899-900. Наиболее артикулированными были вы¬
сказывания Е.Б. Бланка (там же, с. 905), И.И. Бакста (там же, с. 904) и А.А. Кауфмана
(там же, №34, с. 927). Сходным образом высказывался и московский казенный раввин
Залкинд Минор, который в проповедях и в опубликованном в 1882 г. полемическом
сочинении назвал русских евреев коренным населением империи: Минор 3. Слово,
произнесенное 25 января в молитвенном доме, что на Солянке, при совершения мо¬
/207/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
лебствия об охранении Богом русских евреев от дальнейших бедствий. М., 1882. С. IV.
Минор 3. После погромов, или Три главы о еврейском вопросе. Глава первая (сторона
политико-экономическая, составленная 3. Минором, московским общественным
раввином). М., 1882. С. 5.
42 Френкель. Пророчество и политика. С. 86-95.
43 Klier. Southern Storms... Cap. 10.
44 Kleinmann. Op. cit. S. 348—358.
45 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 69. Л. 158—160. Вермель С. Евреи в Москве // Советиш
Геймланд. Приложение. М., 1991, №10. С. 90—91. Туркинец М. Сионистская деятель¬
ность раввина Якова Мазе в Москве // Параллели: русско-еврейский историко-лите¬
ратурный и библиографический альманах. М., 2002. №1. С. 79-88.
46 Каценельсон А. Из мартиролога московской общины (Московская синагога в
1891—1906 гг.). СПб., 1909. Вермель С. Московское изгнание (1891—1892 гг.). Впечатле¬
ния, воспоминания. М., 1924. С. 4, 43.
2.5
КАРАИМЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Максим Гаммал
а территории Восточной Европы караимы проживали в Крыму
(с конца XIII в.) и в Польско-Литовском королевстве (с кон¬
ца XIV в.). Основными местами их проживания в Крыму были
Чуфут-Кале, Гезлев (Евпатория), Каффа (Феодосия) и Ман¬
гуп-Кале; в Польше-Литве — Тракай, Поневеж, Луцк, Галич и
Кокизов. Несмотря на то что географически вся эта территория относится к
Восточной Европе, политический, экономический и культурный контекст, в
котором жили караимы в XV — XVIII вв., был различен для Крыма и Поль¬
ши—Литвы. Крымское ханство было вассалом Османской империи, а такие
важные города, как Мангуп и Каффа, являлись ее интегральной частью. Это
означало, что в широкой исторической перспективе общины Крыма мало чем
отличались по своему образу жизни от еврейских общин центральной части
Османской империи. В это же время караимы Польши—Литвы существовали
в реалиях Речи Посполитой, во многом разделяя историческую судьбу ашке¬
назского еврейства этого государства 1. Разделы Польши (1772, 1793 и 1795 гг.)
и аннексия Крыма в 1783 г. Российской империей определили судьбу караим¬
ских общин Восточной Европы в Новое время. Так, с конца XVIII в. основ¬
ные общины караимов в Восточной Европе оказались на территории одного
государства — Российской империи, и теперь основные события «внешней»
истории караимов определялись политикой российских властей. Более того,
многие процессы во внутренней жизни караимской общины были обусловле¬
ны социально-политическими реалиями Российской империи. С этой точки
/209/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
зрения, история восточноевропейских караимов в Новое время обладает вну¬
тренней связностью и своей логикой развития 2.
Какова была структура караимских общин и как строились отношения
между общиной и государством на момент присоединения Крыма к России?
Главенствующее положение в караимском обществе Крыма занимала община
Чуфут-Кале, которая благодаря географической близости к столице ханства
Бахчисараю процветала как экономически, так и политически. Глава общи¬
ны Чуфут-Кале — Биньямин бен Шмуэль Ага — носил титул ха-сар ха-нееман.
Сам этот титул, как и его караимский перевод «Ага», ставший именем соб¬
ственным, свидетельствует о том, что он занимал совершенно особое положе¬
ние светского лидера всех общин ханства. В его функции входили представи¬
тельство караимов перед крымским ханом и сбор налогов с караимов. Следует
отметить, что и Биньямин, и его отец Шмуэль Ага были придворными банки¬
рами ханов и занимались чеканкой монет для ханского двора. Вторым (после
Биньямина бен Шмуэля Ага) в общинной иерархии стоял Ицхак бен Шломо,
хаззан (раввин) и ав бет-дин (глава суда) общины Чуфут-Кале. Он являлся
ведущим религиозным авторитетом для караимов Крыма. Такая двойствен¬
ная (светско-религиозная) структура лидерства была характерна для Крыма
вплоть до начала XX столетия, хотя содержание ее менялось.
Присоединение к России, которое не было одномоментным актом, со¬
провождалось бедствиями для населения региона и напрямую коснулось двух
караимских общин, входивших непосредственно в Османскую империю и
ставших ареной военных действий. Одна из них (Мангуп) была полностью
разрушена, а другая (Каффа) серьезно пострадала. Города Крымского ханства
(Евпатория и Чуфут-Кале) пострадали меньше. Тем не менее старая практика
службы владыкам была повторена в новой ситуации. В 1795 г. cap ха-нееман
Биньямин бен-Шмуэль Ага и хаззан Чуфут-Кале Ицхак бен Шломо отправля¬
ются в Петербург и при посредничестве генерал-губернатора Новороссии гра¬
фа Платона Зубова добиваются отмены для караимов двойного налогообло¬
жения, введенного для евреев в 1792 г. Тем самым они выполняют при новой
власти ту же представительскую функцию, которую выполняли при крым¬
ском хане. Новым было то, что российские власти (в отличие от татарских)
готовы были делать различие между караимами и евреями-раввинистами.
Произошло и еще одно серьезное изменение. Вместе со старыми лидерами
в Петербург отправился крупный торговец, светский лидер караимской об¬
щины Гезлева (Евпатории) Шломо бен Нахаму Бабович. Включение его в со¬
став делегации свидетельствовало о возраставшей роли евпаторийской общи¬
ны в структуре караимских общин Крыма, где лидерство определялось двумя
факторами: способностью руководства общины защищать интересы общин
региона перед властью и брать на себя большую часть расходов по финанси¬
рованию общинной благотворительности и представительских функций. Оба
/210/
2.5 / КАРАИМЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
фактора, вполне очевидно, были сопряжены с материальным благополучием
той или иной общины. И если в первом община Евпатории пока еще уступает
Чуфут-Кале, то в плане благосостояния уже выгодно выделяется среди осталь¬
ных караимских общин. Явным признаком, свидетельствовавшим о расцвете
евпаторийской общины, была постройка двух синагог в 1807 и в 1815 г. соот¬
ветственно. В этом можно также усмотреть заявку на лидерство в духовной
сфере, тем более что для этого появились определенные основания: именно в
начале XIX в. Евпатория стала местом пребывания ряда выдающихся караим¬
ских интеллектуалов.
В 1803 г. в Евпатории появляется Йосеф Шломо Луцкий (акроним —
Яшар), караим из Луцка, что на Волыни, приглашенный Соломоном Бабови¬
чем учить его сыновей. Он был не первым гостем из Луцка в Крыму. В 40-х гг.
XVIII в. в Чуфут-Кале прибыл Симха Ицхак Луцкий. Крым не был конечной
точкой его путешествия, так как он намеревался изучать караимские древно¬
сти, сохранившиеся в караимских общинах Османской империи. Но, работая
над рукописями в Крыму, он здесь задержался и в конечном итоге занял пост
хаззана в Чуфут-Кале, став религиозным лидером крымских караимов. Йосеф
Шломо подчеркивал свое родство с Симхой Ицхаком, но принадлежал к ино¬
му типу мигрантов. Внутри одной империи переезды из Луцка в Крым пере-
/211/
Группа крымских караимов в национальных нарядах. Фотография начала XX в.
Из личного архива Т.С. Бабаджан-Ельяшевич
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
стали быть единичными фактами: караимская община Луцка вступила в поло¬
су кризиса в начале XIX в., что и вызвало миграцию луцких караимов в Крым.
При этом мигрировал довольно специфический тип людей — находившиеся
друг с другом в близком или отдаленном родстве интеллектуалы, которые вы¬
росли в среде восточноевропейского еврейства и испытали определенное вли¬
яние раввинистического окружения. На первых порах Йосеф Шломо служил
меламедом (учителем) и переписчиком рукописей в Евпатории — должности,
не совсем соответствовавшие его амбициям. Однако благодаря близости к
семье Бабовичей его карьера складывается вполне удачно. В 20-х гг. Йосеф
Шломо уже ав бейт-дин (председатель суда) в Евпатории и de facto второй че¬
ловек в общине. К этому времени из Луцка в Крым уже переезжают Давид Ко-
кизов, Мордехай Султанский и Авраам Фиркович. Очевидно, что Евпатория
не могла вместить всех выходцев из Луцка, это приводит к весьма острой кон¬
курентной борьбе в среде луцких интеллектуалов. На первых порах им, как и
Йосефу Шломо Луцкому в свое время, приходится довольствоваться весьма
скромными должностями в различных караимских общинах, которые не со¬
ответствовали их самооценке и, более того, не соответствовали тем возмож¬
ностям, которые предоставляла им жизнь в Крыму. Однако в последующие
годы именно с этими людьми будут связаны все основные изменения в жизни
караимских общин Крыма.
Во второй половине 1820-х гг. все очевидней становится, что на первый
план среди караимских общин выходит община Евпатории. После смерти Бе¬
ньямина бен Шмуэля Ага в 1824 г. на должность сара ха-неемана уже претенду¬
ет Симха бен Шломо Бабович, богатый купец и светский глава евпаторийской
общины, сменивший на этом посту своего отца Шломо Бабовича и имевший
хорошие связи с высшими сановниками империи. Однако перемещение центра
караимской жизни из Чуфут-Кале в Евпаторию окончательно произошло толь¬
ко в 1827 г. в контексте серьезных перемен во всем строе караимских общин.
Именно Симха Бабович становится во главе посольства в Петербург зи¬
мой 1827/1828 г. Цель посольства — освобождение караимов Крыма от ре¬
крутской повинности, которая была введена для еврейского населения им¬
перии в 1827 г. Сразу отметим, что посольству удалось выполнить свою за¬
дачу — крымские караимы, а вслед за ними и польско-литовские получили
отсрочку в исполнении закона — отсрочку, которая вскоре приобрела по¬
стоянный характер. В Российской империи, в отличие от Османской, власти
проводили различие между караимами и евреями-раввинистами, и сами кара¬
имы начинают эксплуатировать это различие. Караимы, отвергавшие Талмуд,
представлялись царским чиновникам не вполне евреями или даже совсем не
евреями, поскольку именно Талмуд считался корнем зла в иудаизме. Более
того, «ориентальный» облик караимов добавлял благожелательности властям,
приближая караимов к «азиатам», далеким от отталкивающего облика еврея-
/212/
2.5 / КАРАИМЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ашкеназа. К тому же в разоренном войной Крыму, большую часть населения
которого составляли крымские татары, чья лояльность империи была весьма
сомнительной, купцы-караимы представляли собой ценный демографиче¬
ский компонент, и его следовало беречь.
Кроме выполнения своей прямой задачи — освобождения караимов от
рекрутской повинности, посольство 1827 г. имело еще два важных послед¬
ствия. Во-первых, Симха Бабович завоевывает себе авторитет, который делает
его светским главой всех караимов Крыма. С приходом Бабовича роль, ко¬
торую играет главный светский лидер в жизни караимских общин, возраста¬
ет, и их автономия уходит в прошлое. Сар ха-нееман озабочен исключительно
материальным благополучием общин и их юридическим статусом в империи.
Что касается должности ав бет-дин (религиозного главы караимов Крыма),
то ее занимает (вероятно, не без участия Симхи Бабовича) его бывший учи¬
тель Йосеф Шломо Луцкий. Более того, во время кризиса 1827 г. лидеры ев¬
паторийской общины координировали усилия как крымских, так и польско-
литовских общин, показав, таким образом, способность защищать интересы
всех караимских общин Российской империи. И несмотря на формальную
автономию польско-литовских общин, сохранявшуюся вплоть до середины
XIX в., после событий 1827 г. они также предпочитают в той или иной степени
координировать свои действия с караимами Крыма. Во многом этому способ¬
ствовало и то обстоятельство, что выходцы из Луцка входили в руководство
караимской общины Евпатории.
Во-вторых, именно во время посольства 1827 г. проходят первые перего¬
воры по правовому положению караимского духовенства в сравнении с му¬
сульманским духовенством Крыма — переговоры, которые дадут результат
лишь через десять лет.
В 1837 г. российские власти впервые законодательно определяют структу¬
ру караимской общины Крыма. Издается Положение о Таврическом и Одес¬
ском караимском духовном правлении — закон, который будет определять
отношения властей и караимских общин в течение всего исследуемого пери¬
ода. Во главе духовного правления должен был стоять «гахам» — искаженное
еврейское хахам — должность, соответствовавшая сару ха-нееману (впрочем,
во внутренней караимской жизни старый титул продолжал иметь хождение).
«Гахаму» помогали два «газзана» (хаззана) — старший и младший. Управление
должно было находиться в Евпатории. Главами местных караимских общин
назначались местные хаззаны («газзаны»), и хотя их функции по-прежнему
были по преимуществу религиозными, они должны были вести метрические
книги общин и предоставлять соответствующие сведения местным властям.
В своих центральных пунктах это положение копировало российское зако¬
нодательство о мусульманском духовенстве. Собственно, новации в этом По¬
ложении минимальные. Да и введено в действие оно было не сразу — скорее
/213/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Руководство Таврического и Одесского караимского духовного правления. 1916 г.
Из личного архива Т.С. Бабаджан-Эльяшевич
Сидят (слева направо): Исаак Ормели (1882—1940) — хаззан в г. Симферополе, Борис Ельяшевич
(1881—1971) — хаззан в г. Евпатории, член Караимского духовного правления, Иосиф Султанский
(1851—1922) — хаззан в г. Киеве, Серая Шапшал (1873—1961) — гахам Караимского духовного правле¬
ния, Товия Леви-Бабович (1879—1956) — хаззан в г. Севастополе, Самуил Нейман (1844—1916) — член
Караимского духовного правления, Аарон Катык (1883-1942) — старший хаззан в г. Евпатории, член
Караимского духовного правления
важен сам факт узаконения, встраивавшего общинное руководство караимов
в общую бюрократическую машину Российской империи. Первым гахамом в
1839 г. был назначен Симха Бабович. В разработке и введении в силу этого за¬
кона проявилась черта, которая будет характерна для всей истории караимов
в Российской империи: лидерами в выстраивании отношений с властью явля¬
ются крымские общины, что же касается караимов западных губерний, то по
отношению к ним российское законодательство «запаздывает» и зачастую ду¬
блирует уже существующие на тот момент законодательные акты о крымских
караимах. Так, только в 1850 г. был определен юридический статус польско-
литовских караимов, они были причислены к ведомству Таврического кара¬
имского духовного правления.
В 1830-х гг. происходят изменения и в духовной жизни караимов Крыма.
Положение выходцев из Луцка заметно укрепляется. Эти люди по-прежнему
делают карьеру, характерную для интеллектуалов в традиционном обществе:
занимают посты хаззанов и учителей, но по своему образу жизни они несколь¬
ко отличаются от своих предшественников. О тех возможностях, которые
/214/
2.5 / КАРАИМЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
открылись перед луцкими караимами в Крыму, мы узнаём из их переписки
со своими родственниками, оставшимися в Луцке. При всем разнообразии
жизненных обстоятельств в этих письмах присутствуют два основных моти¬
ва: во-первых, более широкие возможности заниматься торговлей в Крыму и,
во-вторых, возможность делать карьеру в караимских общинах при поддерж¬
ке Симхи Бабовича и, занимая должность в общине, заводить знакомства с
высокопоставленными чиновниками. В свете этих обстоятельств вполне ло¬
гичной выглядела инициатива луцких караимов по открытию караимской
типографии в Евпатории. Предприятие такого рода, с одной стороны, было
коммерческим и должно было приносить прибыль его участникам; с другой
стороны, открыть типографию без поддержки руководства общины и россий¬
ских властей было невозможно. Поэтому на первых порах печатались в основ¬
ном те произведения, которые были необходимы для преподавания: таким об¬
разом гарантировались сбыт печатной продукции и заинтересованность кара¬
имских общин, причем не только Крыма, но и Польши—Литвы и даже Каира.
В период с 1834 по 1855 г. были изданы произведения, составляющие основу
караимского галахического корпуса, многие из них были напечатаны впервые
и с комментариями луцких караимов, которые утвердили таким образом свой
авторитет в глазах последующих поколений.
Традиционная карьера интеллектуала в общине была неизбежно сопряже¬
на с преподаванием. Основой традиционного образования в караимских общи¬
нах была религиозная школа — мидраш, которая зачастую располагалась или в
синагоге, или по соседству с ней. В крупных караимских общинах — таких, как
община Евпатории или община Чуфут-Кале, — могло быть несколько мидра¬
шей. В этом случае мидраши различались по уровню и составу преподаваемых
предметов. В части из них, возглавлявшихся профессиональными учителями —
меламедами, детей обучали молитвам и чтению Библии с переводом на разго¬
ворный язык, в других, которые возглавлял, как правило, хаззан или галахиче¬
ский авторитет (хахам), кроме вышеупомянутых предметов изучали грамматику
иврита и Галаху. Впрочем, четкого терминологического разделения между эти¬
ми институтами не было. В небольших караимских общинах был только один
мидраш, находившийся на содержании общины. Вот как описывает систему
традиционного образования в своих воспоминаниях Шмуэль Пигит: «В них
[мидрашах. — М.Г.] изучали Священное Писание и его перевод [на караимский
язык. — М. Г.]. И если отец ученика хотел, чтобы его сын выучил грамматику
[библейского иврита. — М.Г.], или ученик проявлял способности в учебе, в этом
случае его приводили к главному меламеду, т.е. к раввину общины, и он изучал с
ним грамматику и галахические корпусы, и книгу «Мивхар» Аарона Первого, и
все остальные предметы, которые преподавались в те времена» 3.
Занимая должность хаззана евпаторийской общины, Йосеф Шломо Луц¬
кий отвечал за уровень преподавания в пяти общинных мидрашах. Его сын
/215/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Авраам Луцкий, сделав состояние в торговле, основал на свои деньги мидраш,
из стен которого вышла большая часть караимских интеллектуалов второй по¬
ловины XIX в. В 30-е и 40-е гг. Авраам Фиркович занимал должность «главно¬
го караимского учителя» в Евпатории, как писали в официальных документах.
Что же нового привнесли луцкие караимы в систему преподавания? В первую
очередь надо отметить общую установку на самоценность изучения Закона,
которая царила в мидрашах луцких караимов, что, судя по всему, было не очень
характерно для мидрашей крымских караимов, где большая часть учеников по¬
кидала школу в возрасте 13—14 лет, получив лишь начальное образование. Из
переписки Мордехая Султанского и Авраама Фирковича мы узнаём, что часть
караимов была недовольна таким, на их взгляд, чересчур глубоким изучением
Галахи, что иногда приводило к критике луцких мигрантов со стороны кара¬
имской интеллектуальной элиты Крыма. Кроме этого, в учебную программу
вводится изучение ряда классических произведений еврейской мысли по эти¬
ке, логике и грамматике иврита, что также было шагом вперед по сравнению
с существовавшей прежде практикой преподавания. Йосеф Шломо Луцкий и
Мордехай Султанский создают свои учебники по грамматике иврита. Образо¬
вание, получаемое в мидрашах, руководимых луцкими хахамим, было более
систематическим, а успехи учеников более заметными.
Под влиянием политики российских властей в 1830—1840-х гг. предпри¬
нимаются попытки выстроить свою, отдельную от евреев, историческую тра¬
дицию караимов, проживавших на территории Российской империи. Стоит
заметить, что еще в XVII в. в среде польско-литовских караимов были созданы
произведения историографического характера, такие как «Дод Мордехай» и
«Левуш Малхут» Мордехая бен Нисана из Кокизова, в ответ на интерес, про¬
явленный к караимам со стороны европейских интеллектуалов. Основной
чертой этих произведений является то, что вся история караимов рассматри¬
вается в свете противостояния с раввинизмом, без инкорпорирования в эту
историческую схему каких-либо этнических элементов. При таком подходе
история караимов — это лишь манифестация идеологического раскола среди
евреев, ведущего свое начало с древнейших времен. На новом витке интереса
к караимам, теперь уже со стороны российских властей, появляются новые
исторические произведения. В 1838 г. Мордехай Султанский создает книгу
«Зехер Цаддиким», в которой он, повторяя основные моменты традицион¬
ной схемы религиозного раскола, особое внимание уделял современному для
него состоянию дел, причисляя к караимам различные экзотические еврей¬
ские группы (например, евреев, проживавших в Китае и Индии) и утверж¬
дая, таким образом, не только идеологическое, но и численное превосходство
караимов над раввинистами. В этих же рамках, судя по всему, начинается и
собирательская деятельность А.С. Фирковича. Инициаторами его миссии по
сбору караимских древностей в конце 30-х гг. были новороссийский генерал-
/216/
2.5 / КАРАИМЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Караимы Одессы.
Литография худ. Огюста Раффе (Raffet). 1837 г.
Из личного архива T.C. Бабаджан-Ельяшевич
губернатор князь М.С. Воронцов и ка¬
раимская община во главе с Симхой
Бабовичем. Цель миссии, как она была
понята в караимской общине, хорошо
иллюстрирует выдержка из обращения
С.С. Бабовича: «Надеюсь, что отныне
различные презренные мнения и не¬
лепые толки о караимах уничтожатся...
Есть надежда, что и наша история будет
цвесть подобно другим образованным
и множественным нациям. Отныне и
мы будем считаться отдельной сектой
и будем известны всему миру, тогда
как по сие время нигде не были извест¬
ны по причине малочисленности и не
существования Караимской истории.
Теперь за открытие и обнаружение на¬
ходящейся в вечно забытой и глубокой
теме и приведение в блестящее поло¬
жение всегда обязаны, за неусыпные
и неутомимые старания Г-ну Аврааму
Фирковичу...» 4
Концепция, сформулированная
Авраамом Фирковичем в результате его
собирательской деятельности, была во многом традиционной. Главным для
него было ответить на вопрос о том, когда караимы появились в Крыму, — от
ответа на этот вопрос во многом зависело юридическое положение караимов
в Российской империи. И он, отвечая требованиям времени, максимально
удревняет переселение караимов в Крым и снимает, таким образом, вопрос
об участии караимов в распятии Христа. В качестве доказательства этого по¬
ложения он привел примеры взаимных контактов караимов и хазар в Крыму
и даже «обнаружил» на караимском кладбище в Чуфут-Кале могилу Ицхака
Сангари, который, по преданию, обратил хазар в иудаизм. Такое «историче¬
ское» переплетение судеб караимов и хазар в рамках одной концепции пока
еще не вело к их отождествлению, но уже в конце XIX в. многие аргументы
Фирковича будут использованы в рамках доказательства «тюрко-хазарской»
концепции происхождения восточноевропейских караимов.
Вторая половина XIX в., на первый взгляд, не столь богата событиями в
жизни караимской общины. Однако процессы, проходившие в среде караим¬
ских общин в этот период, привели на рубеже веков к смене идентичности
восточноевропейских караимов.
/217/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Караимской общине, и в первую очередь ее руководителям, удается весь¬
ма успешно защищать свои интересы в Российской империи. Проявляется
это в дальнейшем улучшении юридического положения караимов. Так, в 1852
г. для караимов была отменена черта оседлости, а по указу от 8 апреля 1863 г.
караимы стали полноправными гражданами империи. В этот же год польско-
литовские караимы, которые до этого находились под юрисдикцией Тавриче¬
ского и Одесского караимского духовного правления, получили право рели¬
гиозно-административной автономии, было образовано Духовное правление
польско-литовских караимов с центром в Тракае.
Светский тип руководства становится еще более выраженным. После
смерти Симхи Бабовича в 1855 г. исполняющим обязанности гахама на корот¬
кий срок стал Шломо (Соломон) Бейм, ученик Мордехая Султанского, зани¬
мавший до этого пост хаззана в Чуфут-Кале. Однако два последующих гахама,
Нахаму Бабович (1799—1882) и Шмуэль (Самуил) Панпулов (1831—1911), до
избрания на пост гахама занимали пост городского головы в Евпатории. Свет¬
ская власть во многом подминает под себя духовную: старший хаззан в Евпа¬
тории, занимающий должность, номинально соответствовавшую должности
главы религиозного суда, все больше зависит от расположения гахама, в руках
которого находятся все действенные рычаги власти. О первенстве должности
гахама свидетельствует и тот факт, что последние тринадцать лет правления
С. Панпулова пост старшего газзана в Евпатории оставался вакантным.
Во второй половине XIX в., после Крымской войны (1853—1856), когда
многие крымские караимы были вынуждены покинуть прибрежные города
из-за боевых действий и переселиться вглубь полуострова и в близлежащие
губернии, а также благодаря послаблениям в российском законодательстве
начинается процесс расселения караимов во внутренние губернии империи. В
этот период мы находим процветающие караимские общины в Одессе, Киеве,
Харькове, Екатеринославе, Москве, Санкт-Петербурге. Общины небольшие,
но весьма богатые, так что их удельный вес во внутренней караимской по¬
литике с течением времени только возрастает. Именно в этих общинах появ¬
ляется слой предпринимателей-фабрикантов, занятых в основном в табачной
промышленности, а также представителей так называемых свободных про¬
фессий: врачей, журналистов, юристов. Можно говорить о том, что в караим¬
ской общине начинает образовываться современный средний класс. Степень
вовлеченности в жизнь окружавшего их общества в этих общинах была срав¬
нительно высока, и именно здесь впервые звучит критика традиционного об¬
раза жизни. Уже в 60-х гг. XIX в. в Одессе Илья Ильич Казас и Авраам Йехудо¬
вич Мичри объединили вокруг себя группу молодых караимов — сторонников
реформ традиционного образа жизни, известную как «карасакалы» («черно¬
бородые»), которые противопоставляли себя традиционалистам, «аксакалам»
(«белобородые»). Эта группа выпускала сатирический рукописный журнал на
/218/
2.5 / КАРАИМЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Киев. Караимская молельня «Кенеса». С открытки 1905 г.
Joseph and Margit Hoffman Judaica Postcard Collection, Folklore Research Center,
Hebrew University of Jerusalem
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
караимском языке «Давул» («Барабан») в духе Гаскалы. В это же время в пери¬
одической печати Одессы начали появляться анонимные статьи, в которых
критиковались традиционный образ жизни и руководство караимских общин.
Постепенно тюркский язык уступает место русскому, и за первым оста¬
ется лишь сфера домашнего общения. Именно такой сильно исковерканный
язык и традиционный быт становятся объектом насмешки в популярной
среди караимов в начале XX в. пьесе Аарона Леви «Ахыр Земан» («Потерян¬
ное время»). Несоответствие традиционного образа жизни и возможностей,
которые предлагает новое окружение, было также объектом сатиры Аарона
Катыка, который опубликовал ряд очерков из караимской жизни в журна¬
ле «Караимская жизнь». О растущих темпах аккультурации свидетельствует
появление караимских произведений, написанных на русском языке. Пер¬
вым сочинением подобного рода стала брошюра Соломона Бейма «Память
о Чуфут-Кале» (1862), цель которой была познакомить российскую публи¬
ку с караимами. Позднее появляется ряд исторических очерков, таких как
«История возникновения и развития караимизма» (1888) Исаака Синани
и «Караимы» (1908) Йехуды Кокизова, также на русском языке. В отличие
от брошюры С. Бейма эти произведения были написаны в первую очередь
для караимской аудитории, для которой русский является языком культу¬
ры. В начале XX в. появляется караимская периодическая печать на русском
языке (журналы «Караимская жизнь», 1911—1912, Москва, и «Караимское
слово», 1912-1913, Вильно) — явление абсолютно новое для караимской об¬
щины как в отношении самого характера периодического издания, так и в
отношении используемого языка.
Нельзя сказать, что руководство общин полностью игнорировало новую
реальность, в которой жили караимы Российской империи во второй по¬
ловине XIX — начале XX в. После долгого обсуждения и административных
проволочек во многом благодаря стараниям Ильи Казаса в 1895 г. в Евпато¬
рии было открыто Александровское караимское училище (известное также
как «Мидраш ле-хаззаним»), которое было призвано готовить хаззанов в духе
Просвещения. Кроме традиционных предметов в программу училища были
включены русский и немецкий языки, арифметика, изучалась «Этика» Поля
Жане в переводе И. Казаса. Вся учебная программа была рассчитана на семь
лет. Многие из выпускников училища продолжали свое образование в госу¬
дарственных учебных заведениях. Среди выпускников училища, которые ста¬
ли играть активную роль в жизни караимской общины уже в начале XX в.,
стоит отметить уже упоминавшегося Аарона Катыка, занимавшего должность
хаззана в Феодосии, и Берахья Ельяшевича, который был хаззаном в Симфе¬
рополе, а позднее в Евпатории. Однако о полномасштабной реформе образо¬
вания говорить не приходится, так как наряду с Александровским училищем
продолжали существовать многочисленные мидраши, преподавание в кото-
/220/
2.5 / КАРАИМЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
рых велось вполне традиционным способом. Уже в начале XX в. руководители
караимских общин отмечали, что мидраши посещают, как правило, дети бед¬
ных родителей, а богатые или со средним достатком караимы предпочитают
отдавать своих детей в гимназии.
Ответом на веянья времени со стороны руководства общины был и созыв
в ноябре 1910 г. в Евпатории съезда уполномоченных от караимских обществ.
Решения съезда, однако, не выходили за рамки традиционных интересов ка¬
раимской общины: отношения с властями, разрешение галахических вопро¬
сов, сбор налогов и финансирование духовного правления. Три заседания
съезда были посвящены реформе традиционного образования, однако ника¬
кого решения так и не было принято.
К середине XIX в. относится появление «тюркско-хазарской» теории про¬
исхождения восточноевропейских караимов. Впервые эта теория появилась в
статье русского востоковеда В.В. Григорьева «Еврейские религиозные секты в
России» в 1846 г. и поначалу не была замечена караимами. Однако караимские
интеллектуалы второй половины XIX в., безусловно, были уже хорошо зна¬
комы с основными положениями «тюркско-хазарской» теории. В своих со¬
чинениях они, не отказываясь от традиционного подхода, зачастую пытались
совместить его с теми или иными элементами новой теории. К сочинениям
подобного «гибридного» типа можно отнести уже упоминавшийся очерк «Ка¬
раимы» Йехуды Кокизова и статьи Ильи Казаса по истории и быту караимов
в журнале «Караимская жизнь». С явной симпатией к этой теории относился
и сын А. Фирковича, Заря (Зерах) Фиркович. В 1890 г. по его инициативе и,
как особо подчеркивалось, при одобрении Караимского духовного правления
был выпущен «Сборник узаконений Российской империи касательно русско-
подданных караимов». Сама книга была очередным звеном в традиционной
для караимского руководства политике, направленной на доказательство пра¬
вомерности юридического разделения караимов и евреев в законодательстве
Российской империи. «Сборник» открывался статьей профессора-тюрколо¬
га В.Д. Смирнова, которая представляла собой наиболее полное и логичное
изложение «тюркско-хазарской» теории происхождения караимов. К концу
XIX в. относятся и первые публикации по этому вопросу другого сторонника
теории тюркского происхождения караимов — Серая Марковича Шапшала.
Караимский национализм в условиях Российской империи, т.е. в условиях
идеологического и юридического размежевания с еврейской общиной, пол¬
ностью воспринял основные положения «тюркско-хазарской» теории. Глав¬
ным аргументом в ее пользу был тюркский язык восточноевропейских кара¬
имов, содержавший, с точки зрения сторонников теории, архаизмы, которые
могли быть объяснены лишь хазарским происхождением караимов. Отметим,
что, защищая языковое «первородство» караимов, сторонники этой теории
выражали свою позицию исключительно на русском языке, обращаясь, таким
/221/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Караимы Москвы. Фотография начала XX в. Из личного архива Т.С. Бабаджан-Ельяшевич
образом, к наиболее аккультурированной части караимской общины и разго¬
варивая с ней на языке современной европейской культуры.
Кризис в караимской общине наступает в 10-х гг. XX в., когда после смер¬
ти Самуила Пампулова и Ильи Казаса остаются вакантными места Тавриче¬
ского гахама и инспектора Александровского караимского училища и кара¬
имская община остается, по сути, без центрального руководства. Кандидаты
на пост гахама предпочитают быть преуспевающими промышленниками,
удачно делающими карьеру российскими чиновниками или адвокатами, чем
занимать пост главы караимской общины. После ряда отказов от поста и не¬
удачного съезда представителей караимских общин по выбору гахама в 1913
г. в 1915 г. на пост гахама удается избрать Серая Марковича Шапшала (1873—
1961), который к этому времени сделал успешную карьеру в Министерстве
иностранных дел. Надо сказать, что отношение к С.М. Шапшалу как внутри
караимской общины, так и в стране было весьма неоднозначным. Закончив
факультет восточных языков Петербургского университета, он провел восемь
лет (1901-1908) в Персии в ранге воспитателя сына шаха, а затем и советника
шаха. На страницах русской либеральной прессы во время персидской рево¬
люции 1908 г. он был представлен как один из реакционеров, противников
революции, что определило негативное отношение к его кандидатуре со сто¬
роны либерально настроенной части караимов.
/222 /
2.5 / КАРАИМЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Караимская община стояла на пороге реформ, и их характер во многом
зависел от руководства общины. В эпоху распада империи и усиления наци¬
оналистических настроений Серая Шапшал предложил простой принцип,
который должен был послужить новым идеологическим основанием для
успешного существования караимской общины, — принцип этнического са¬
моопределения караимов Восточной Европы. К началу реформ руководство
караимской общины подтолкнула Февральская революция. Уже в июне 1917 г.
было созвано совещание «караимского духовенства», т.е. руководителей ка¬
раимских общин. А в конце августа — начале сентября в Евпатории прошел
«общенациональный караимский съезд». Центральным вопросом съезда стал
вопрос о самоопределении. После долгих дебатов было принят тезис С. Шап¬
шала о том, что «караимы, являясь коренными обитателями Крыма, пред¬
ставляют собою объединенную общностью веры, крови, языка и обычаев
особую народность, издревле сохраняющую духовную связь со своими Кон¬
стантинопольскими, Ерусалимскими и Египетскими единоверцами» 5. Одна¬
ко Октябрьский переворот и последовавшие за ним события положили конец
караимской общине в том виде, в котором она существовала в Российской
империи почти полтора столетия, и принцип национального самоопределе¬
ния был применен уже в условиях новой, Советской России и независимых
национальных государств — Польши и Литвы.
1 Различным аспектам истории караимов Восточной Европы посвящен ряд статей
в сборнике: Polliack М. (ed.) Karaite Judaism. A Guide to its History and Literary Sources.
Leiden: E. J. Brill, 2003. Большая коллекция документов по истории восточноевропей¬
ских караимов и особенно по истории польско-литовских караимов представлена во
2-м томе монографии Джейкоба Манна: Mann J. Text and Studies in Jewish History and
Literature. Vol. II Karaitica. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1935.
2 Вопросу выработки политики по отношению к караимам со стороны Россий¬
ской империи посвящена монография Филипа Миллера: Miller Ph. Karaite separatism in
nineteenth-century Russia. Joseph Solomon Lutski’s Epistle of Israel’s Deliverance. Cincinnati:
Hebrew Union College Press, 1993.
3 Самуил Пигит. Иггерет Нидхе Шемуэль, т.е. собрание рассеянных проповедей,
песен и элегий Самуила. СПб., 1894. С. 10 (на иврите).
4 РНБ. Отдел рукописей и редких книг Ф. 946. Оп.1. Д. 33. Л. 1- 1об.
5 «Протоколы заседаний Общенационального Караимского Съезда» // Известия
Таврического и Одесского Караимского Духовного Правления. 5—6 (ноябрь 1917): 5.
2.6
ЕВРЕИ БУХАРЫ ПОД ВЛАСТЬЮ РОССИИ
В 1864-1917 гг.
Зеев Левин
ВВЕДЕНИЕ
бстоятельства появления первых евреев в Центральной Азии не
совсем ясны. Некоторые исследователи относят приход евреев в
этот регион к эпохе ассирийского и вавилонского плена, другие
видят в них потомков еврейских воинов, которые участвовали в
завоевательных походах на Восток войск Александра Македон¬
ского и там осели. Самое древнее археологическое свидетельство пребывания
евреев в этом районе обнаружено недалеко от г. Байрам-Али, находящегося
сейчас на территории Туркменистана. Здесь найдены саркофаги с вырезанны¬
ми еврейскими именами, датирующиеся первыми веками нашей эры. Допол¬
нительные свидетельства пребывания еврейской общины в этом регионе отно¬
сятся ко всему периоду Средневековья. Еврейские общины процветали и ис¬
чезали под влиянием волн внутренней миграции, которые происходили вслед¬
ствие гонений со стороны властей, экономических кризисов и завоевательных
походов. Одна из последних волн миграции в Центральную Азию произошла в
середине XVIII в., после того как евреи г. Мешхед (Персия) были принуждены
принять ислам, вследствие чего большая часть еврейского населения города
переехала в район Бухары. Там, как оказалось, отношение к евреям было луч¬
ше, и им даже дали возможность основывать свои новые кварталы.
К началу Туркестанской кампании российской армии (в 1864 г.) террито¬
рия Центральной Азии была поделена между тремя эмиратами: Бухарским,
/224/
2.6 / ЕВРЕИ БУХАРЫ ПОЛ ВЛАСТЬЮ РОССИИ В 1864-1917 гг.
Песах в доме богатого бухарского еврея. Фотография нач. XX в.
Из архива Еврейского музея в Самарканде (Самаркандский историко-архитектурный
музей-заповедник). Материалы экспедиций Петербургского института иудаики, 1992-1994 гг.
Кокандским и Хивинским. Бухарский эмират занимал главенствующее поло¬
жение как с точки зрения географической, так и в отношении численности
оседлого населения и наличия важных религиозных центров на его террито¬
рии. Завоевание Российской империей Центральной Азии положило конец
независимости Коканда, в то время как Бухарский и Хивинский эмираты
продолжали существовать на ограниченной территории под протекторатом
Российской империи. Завоеванная территория с административной точки
зрения определялась как Туркестанское генерал-губернаторство; центром ее
был установлен город Ташкент, а генерал-губернатором назначен командую¬
щий подразделениями царской армии, действовавшими в Центральной Азии,
генерал К.П. фон Кауфман (1818—1882).
За сотни лет своего пребывания в Центральной Азии евреи переняли
многие характерные черты образа жизни местного населения. Это нашло
выражение в их одежде, фольклоре, языке и обычаях, которые укоренились
/ 225 /
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
В синагоге. Самарканд, 1930-е гг.
Из архива Еврейского музея в Самарканде (Самаркандский историко-архитектурный музей-заповед¬
ник). Материалы экспедиций Петербургского института иудаики, 1992—1994 гг.
в повседневной жизни общины. Так, например, еврейские женщины на¬
девали чадру, когда выходили на улицу, среди евреев практиковались поли¬
гамные браки; в еврейские ритуалы траура и свадьбы вплелось немало эле¬
ментов местной традиции; евреи говорили на местном наречии, из которого
образовался еврейско-таджикский (персидский) диалект. Вместе с тем бла¬
годаря своей религиозной и социальной обособленности бухарские евреи
смогли сохраниться как отдельная община. Хотя евреи проживали в городах
со смешанным населением, они жили в отдельных кварталах, установив в
них что-то вроде административной и культурной автономии; ею управляли
религиозные авторитеты и главы общин — калонтар, представлявшие об¬
щину и перед властями. Обособленность евреев являлась также следствием
унизительных ограничений, установленных местными властями в соответ¬
ствии с мусульманским законом, определявшим положение евреев как тер¬
пимого религиозного меньшинства (зимми). Целью этих ограничений было
социальное размежевание между мусульманами и евреями. Существование
евреев в качестве меньшинства в чуждом окружении способствовало их об¬
щинной консолидации, подкрепляемой разветвленными семейными связя¬
ми, возникавшими между членами небольшой обособленной общины. Так с
течением времени создалась особенная идентичность еврейской диаспоры
Центральной Азии, в более поздний период получившая название «бухар-
/226 /
2.6 / ЕВРЕИ БУХАРЫ ПОД ВЛАСТЬЮ РОССИИ В 1864-1917 гг.
Представители экономической элиты общины Самарканда. Фотография 1911г.
Из архива Еврейского музея в Самарканде (Самаркандский историко-архитектурный музей-заповед¬
ник). Материалы экспедиций Петербургского института иудаики, 1992-1994 гг.
ское еврейство» — по названию эмирата, являвшегося его основным цен¬
тром.
Русская миссия, прибывшая в 1821 г., чтобы исследовать Бухарский эми¬
рат в рамках подготовки к захвату региона, докладывала о наличии 800 еврей¬
ских домов в Бухаре и примерно 30 домов в Самарканде, а общая численность
евреев в эмирате оценивалась примерно в 4000 чел. Кроме того, в докладе со¬
держалось предположение, что еврейское население, как и другие меньшин¬
ства, будет симпатизировать российским войскам из-за давления, которое на
них оказывают местные власти 1.
ЗАХВАТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ И ЕВРЕИ
Социальное и экономическое давление, оказывавшееся на еврейское
население Центральной Азии в первой половине XIX в., было относительно
небольшим по сравнению с тем, что ощущали на себе соседние еврейские
общины Афганистана и Ирана, однако достаточным, чтобы евреи надеялись
на смену власти и оказывали поддержку армии Российской империи, про¬
двигавшейся вглубь Центральной Азии. В 1865 г. был захвачен Ташкент, а
/227/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
1868 г. — Самарканд. Захват Коканда завершился к 1876 г., а между Бухарским
и Хивинским эмиратами (ханствами) и царскими властями были заключены
соглашения о протекторате, по которым управление внутренними делами
оставалось за эмирами, территория эмиратов формировалась заново, и на ней
основывались новые российские города. После завершения захвата обшир¬
ных территорий Центральной Азии царское правительство приняло все мест¬
ное население в российское подданство, ему были предоставлены равенство
прав и свобода вероисповедания. Таким образом, еврейское население было
уравнено в правах с мусульманским, что привело, с одной стороны, к значи¬
тельному улучшению положения евреев, а с другой — к подрыву привилегиро¬
ванного статуса, которым обладало мусульманское большинство как по дей¬
ствовавшему законодательству, так и по своему самоощущению. Вследствие
этого создалась ситуация, при которой у бухарских евреев, живших в городах,
оккупированных русскими, например Самарканде, Ташкенте и городах Фер¬
ганской долины, оказалось больше прав по сравнению с другими бухарскими
евреями — теми, которые остались под непосредственной властью эмира — в
Бухаре и в Шахрисабзе. Это произошло потому, что в силу соглашений между
царскими властями и эмиром гражданский статус подданных эмирата, про¬
живающих на его территории, оставался прежним. Бухарские евреи на окку¬
пированных Россией землях обладали большими правами и по сравнению с
евреями Российской империи, потому что в отношении них не существовало
тех ограничений, которые были установлены царским режимом для обычного
еврейского населения.
Демонстративное сотрудничество еврейской общины с русской админи¬
страцией, которое началось еще до завершения завоевания края и доходило до
непосредственного участия евреев в боевых действиях против мусульманской
армии, превратило еврейское население в союзников властей и посредников
между ними и местным населением, которое не симпатизировало новой вла¬
сти. Значительное улучшение в положении евреев на захваченных террито¬
риях привело к интенсивной миграции евреев с территорий, оставшихся под
властью эмира, и эта тенденция только усилилась вследствие быстрого эконо¬
мического развития районов, занятых русскими.
Массовое переселение евреев в оккупированные районы привело к изме¬
нению демографической структуры еврейской диаспоры Центральной Азии.
Так, например, численность еврейской общины Самарканда, которая в пер¬
вой половине XIX в. оценивалась лишь примерно в 30 домов, выросла за пол¬
века до 700 домов. Согласно переписи, проведенной российскими властями в
1897 г., численность евреев города составляла 4501 чел., а в 1901 г. она превос¬
ходила 6300 чел. (т.е. прирост еврейского населения составил 29% за десятиле¬
тие). Эта тенденция сохранялась до начала советского периода, и в 1920 г. в ев¬
рейском квартале Самарканда проживало уже больше 10 000 жителей. На тер¬
/228 /
2.6 / ЕВРЕИ БУХАРЫ ПОЛ ВЛАСТЬЮ РОССИИ В 1864-1917 гг.
риторию Туркестанского края мигрировало также много евреев, принявших
ислам, которые теперь благодаря законам о свободе вероисповедания могли
вернуться в иудаизм — дело неслыханное на территории эмирата. Еврейская
миграция вызвала возмущение и негодование со стороны мусульманского
большинства, которое чувствовало себя ущемленным из-за главенствующей
роли евреев в Самарканде, выравнивания их статуса со статусом мусульман
и того, что новые власти оказывали евреям предпочтение в делах торговли и
посредничества. Двор эмира также оказывал давление на российские власти, с
тем чтобы те поспособствовали возвращению евреев, миграция которых с тер¬
ритории эмирата привела к сокращению сбора налогов. Недовольство и воз¬
мущение мусульман не переросли (за исключением одного случая) в насилие
по отношению к еврейскому населению, однако стали повторяющейся темой
в письмах к российским властям от представителей местного мусульманского
населения. В результате российские власти (представленные зачастую чинов¬
никами-юдофобами) потребовали возвращения евреев, нелегально мигриро¬
вавших с территории эмирата. В соответствии с этим уже в 1887 г. были изда¬
ны указы, обязывавшие евреев, живущих на территории Туркестанского края,
доказать факт проживания в этом районе до его завоевания. Впрочем, высе¬
ление евреев, которые не могли доказать свое право жить на этой территории,
не приобрело массового характера, и, как уже отмечалось выше, численность
еврейского населения продолжала значительно расти и после опубликования
этих указов.
ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА И ЕЕ ИНСТИТУТЫ
ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ К РОССИИ
Российская оккупация не нарушила традиционной структуры еврейских
общин, более того — они приобрели определенную стабильность с точки зре¬
ния закона, поскольку власти сделали глав еврейских общин официальными
представителями в городских советах, где их положение стало равным поло¬
жению представителей мусульманского населения. Институт раввината также
получил официальный статус, и в каждом городе, где компактно проживали
евреи, был назначен «казенный раввин». Благодаря устойчивой общинной
структуре и внутренней системе налогообложения община бухарских евреев
смогла построить новые синагоги, что было невозможно до оккупации из-
за противодействия мусульманских властей. Кроме того, община содержала
важнейшие институты, обслуживавшие потребности еврейского населения,
как, например, школы — традиционные (хедеры) и новые, сочетавшие об¬
учение на русском языке с профессиональным обучением, детские дома,
столовые для бедных, бани и миквы. В рамках этой деятельности в общины
/229 /
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Группа еврейских детей с учителем. Самарканд, 1911.
Фотография С.М. Прокудина-Горского
Туркестанского края были приглашены из Земли Израиля раввины и меламе¬
ды. Некоторые из них, например р. Шломо Таджар и р. Шломо Иехуда-Лейб
Элиэзеров, задержались там на много лет и стали важными и влиятельными
фигурами в жизни бухарской общины.
Как уже отмечалось, большинство евреев Центральной Азии жили в боль¬
ших городах, а потому могли посещать развивающиеся учебные заведения
(как традиционные, так и современные), и уровень образования у них был
более высоким по сравнению с другим населением, жившим в этом регионе.
Вместе с тем в то время как в XIX в. для евреев, живших в черте оседлости,
образование было одним из главных рычагов социального продвижения, бу¬
харские евреи, которые не были ограничены в гражданских правах, не нужда¬
лись в такого рода рычаге. Отсюда показатели умения читать и писать среди
бухарских евреев были ниже, чем у ашкеназов, живших в Российской импе¬
рии, однако они были все же значительно выше по сравнению с коренным
населением Центральной Азии (даже если принимать во внимание только го¬
родское население). Согласно данным исследования, проведенного в 1920 г.,
средний показатель умеющих читать и писать среди бухарских евреев-мужчин
составлял 30% (против 21% в среде общего городского населения) и 5% среди
женщин (у общего городского населения — 1,5%) 2.
/230 /
2.6 / ЕВРЕИ БУХАРЫ ПОД ВЛАСТЬЮ РОССИИ В 1864-1917 гг.
В результате российской оккупации повысился уровень безопасности на
дорогах, увеличился торговый оборот, укрепились связи региона с Россией и
как следствие — в отдаленные еврейские общины стало приезжать все больше
посланцев из Земли Израиля, которые внесли значительный вклад в повыше¬
ние уровня грамотности среди членов общины. Возможно, под их влиянием
в конце XIX в. началось движение репатриации в Землю Израиля. В 1890 г.
репатрианты основали отдельный квартал за пределами стен Старого города в
Иерусалиме — Реховот (Бухарский квартал). Очень быстро он превратился в
духовный центр общины и основной источник печатаных изданий бухарских
евреев на их языке. Видимо, под влиянием ашкеназов, которые поселились
в Туркестане, в 1910 г. в г. Скобелеве (совр. Фергана) в Ферганской долине
начала выходить газета под названием «Рахамим» — первая газета на языке
бухарских евреев. Газета печаталась еврейскими буквами и издавалась по ини¬
циативе Рахамима Давидбаева, одного из богатых бухарских евреев, который
привез из Люблина все необходимое для выпуска газеты оборудование. В ос¬
новном в газете печатались новости со всего мира, переведенные из русских
газет, однако были и материалы на еврейские темы как общего, так и местного
значения. Газета выходила раз в неделю до 1916 г.3
Хотя местное население Центральной Азии получило российское под¬
данство, оно было освобождено от военной службы. Такое положение сохра¬
нялось до Первой мировой войны, когда в 1916 г. была объявлена мобили¬
зация во вспомогательные батальоны. Эта мобилизация вызвала возмущение
среди жителей Туркестана. Однако в отличии от мусульманского населения
бухарские евреи стремились вновь доказать свою верность российским вла¬
стям (особенно в свете попыток властей изгнать часть евреев обратно на тер¬
риторию эмирата) и осуществили хорошо организованную мобилизацию
200 солдат, как и было определено указом. Кандидаты в рекруты отбирались
общей жеребьевкой, в то время как состоятельные евреи предлагали большие
суммы денег, чтобы откупить своих сыновей. Кроме того, община обеспечила
рекрутов продуктами питания и снаряжением. Мобилизованные евреи были
отправлены на фабрики в Одессу, где они заменили рабочих, призванных в
действующие части 4.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Поскольку большинство еврейского населения Центральной Азии про¬
живало в городах, то и их профессии были больше связаны с ремеслом, про¬
изводством и торговлей и гораздо меньше — с сельским хозяйством. Здесь
уместно отметить, что «большие города» Центральной Азии, в которых было
сконцентрировано большинство еврейского населения, были в тот период (по
/231/
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
сравнению с европейскими городами) местечками средней величины и насчи¬
тывали небольшое количество жителей. Большинство населения занималось
сельским хозяйством и скотоводством. Городские жители поддерживали тес¬
ную связь с селом, держали земельные участки и подсобные хозяйства непо¬
далеку от города, и их доходы зачастую были связаны или даже основывались
на сельскохозяйственной деятельности 5.
Согласно свидетельствам путешественников и гостей региона, бухарские
евреи занимались изготовлением хлопчатобумажных и шелковых тканей,
окраской нитей (в основном в цвет индиго), шитьем, а также торговлей, свя¬
занной с этими отраслями. Как уже упоминалось, в первые годы российской
оккупации евреям удалось установить доверительные отношения с властями
в большей степени, чем коренному местному населению, а потому власти
стали оказывать им предпочтение в торговле и посредничестве. Видимо, два
этих фактора: то, что евреи были связаны с новым режимом и он отдавал им
предпочтение, а также то, что они занимались ремеслом и торговлей, способ¬
ствовали экономическому продвижению евреев, так что часть из них сыграла
ведущую роль в быстром экономическом развитии Туркестана. В 1912 г. из 256
заводов, существовавших на территории Туркестана, 96 (37,5%) принадлежа¬
ли евреям, и из них 40 занимались обработкой хлопка. Несмотря на то что
евреям принадлежала большая часть промышленности региона, список име¬
ющих разрешение на торговлю в районе Самарканда в 1909 г. представляет бо¬
лее скромные данные. В этом районе из 6450 разрешений, предоставленных в
тот год, только 386 (6%) были предоставлены евреям. Эти данные показывают,
что огромный капитал скопился в руках очень тонкой прослойки населения,
а экономическое положение большинства евреев было средним или низким.
В списке профессий и ремесел, характерных для евреев, были как те, от
которых другие секторы населения отказывались по религиозным или со¬
циальным причинам, так и те, в которых евреи нуждались для исполнения
религиозных заповедей. Так, например, причиной их исключительного заня¬
тия окраской нитей было то, что для мусульман это было позорное ремесло,
потому что у ремесленников на руках оставались пятна краски. Некоторые
путешественники отмечали, что евреи были исключительными производи¬
телями вин и водки до появления в крае русских, потому что мусульманское
население воздерживалось от изготовления этих продуктов, хотя и потребля¬
ло их. Еврейские женщины получили известность как певицы, выступавшие
при дворах правителей и на народных празднествах, по той причине, что, как
считалось у мусульман, пение и выступления женщин наносят ущерб чести
и достоинству семьи; у евреев же это было занятием, которое даже взрастило
целые династии артистов 6.
Между учеными существуют разногласия относительно того, держали ли
евреи сельскохозяйственные угодья до присоединения Туркестана к России.
/232 /
2.6 / ЕВРЕИ БУХАРЫ ПОД ВЛАСТЬЮ РОССИИ В 1864-1917 гг.
Однако ясно, что у евреев были земли в сельскохозяйственном секторе после
оккупации, и не только на присоединенных территориях, но и на территориях
самого Бухарского эмирата. Насколько известно, не существовало ни движе¬
ния сельскохозяйственного заселения, ни отдельных еврейских поселений,
однако существовали отдельные хозяйства, которые держали семьи, жившие
в городе, и основную работу на которых выполняли издольщики.
В конце XIX в., в свете усилий по ограничению еврейской миграции в
Туркменистан, вышел специальный указ, запрещавший продажу земли ев¬
реям, не являвшимся коренными жителями, однако несмотря на этот запрет
в 1909 г. в собственности евреев уже было около 4000 десятин сельскохозяй¬
ственной территории, которая находилась в собственности 338 владельцев (в
среднем ок. 12 десятин на каждого владельца). Средняя величина участка зем¬
ли на каждого собственника свидетельствует о том, что многие земли были
приобретены в результате инвестиций, а не находились в прямом владении
еврейских семей. После революции 1917 г. в самаркандском округе насчиты¬
валось 374 бухарских еврея и 55 ашкеназов, живших в сельской местности и
составлявших в целом 3% еврейского населения в данном регионе 7.
/ 233 /
Еврейские музыканты. Фотография 1930 г. Из архива Еврейского музея в Самарканде
(Самаркандский историко-архитектурный музей-заповедник). Материалы экспедиций
Петербургского института иудаики, 1992—1994 гг.
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
АШКЕНАЗСКИЕ ЕВРЕИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
Ашкеназские евреи прибыли в Центральную Азию после захвата ее Рос¬
сийской империей и учреждения Туркестанского генерал-губернаторства. Эта
область не входила в черту оседлости, где было дозволено проживать евреям
Российской империи, и поэтому только евреям, обладавшим особым разре¬
шением, позволялось переселение и проживание в этих регионах. В данную
категорию входили демобилизованные солдаты, получавшие право на про¬
живание в Туркестане, как правило, с предоставлением земли за исполнение
воинской повинности, а также специалисты в необходимых для развития
региона областях, переезжавшие сюда из черты оседлости. Ашкеназские ев¬
реи селились в административных и экономических центрах области, прежде
всего в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Вопрос об их праве на проживание
в Туркестанском крае мог быть пересмотрен представителями центральной
власти в каждом конкретном случае 8. Особая юридическая ситуация возник¬
ла после того, как ашкеназские евреи стали селиться именно на территории
Бухарского эмирата. В 1899 г. из 2500 жителей русского города Новая Бухара
(ныне г. Каган), основанного рядом с новой железнодорожной станцией, уже
насчитывалось 345 (14%) евреев. На территории эмирата ашкеназские евреи
пользовались неограниченной свободой, поскольку для эмира они являлись
чужими, российскими подданными. При этом сам эмират не находился под
прямой властью России, и поэтому ограничения в отношении черты оседло¬
сти не распространялись на проживавших там евреев. Таким образом возник¬
ла парадоксальная ситуация, при которой бухарские евреи стремились пере¬
селиться из эмирата на территории, находившиеся под непосредственным
контролем российских властей, в то время как ашкеназские евреи, прибывая
на территорию эмирата, не страдали от каких-либо ограничений, действовав¬
ших в других областях империи. Обе категории населения действовали, исхо¬
дя из одного и того же мотива: желания расширить свои гражданские права и,
как следствие из этого, улучшить свой экономический статус 9.
Большинство ашкеназских евреев, которым было разрешено поселиться
в Туркестанском крае, работали в производительной сфере и в области сво¬
бодных профессий. В частности, большая часть печатных фабрик в Туркеста¬
не принадлежала ашкеназским евреям, например, из двенадцати печатных
фабрик, существовавших на русской территории Ташкента, пять принад¬
лежали евреям. При этом евреи также владели книжными магазинами и би¬
блиотеками. Такие газеты, как «Русский Туркестан», «Туркестанский курьер»,
«Ташкентский курьер», «Работник» и несколько других газет, издававшихся в
городах края, принадлежали евреям. Первая русская типография, открывша¬
яся на территории бухарского эмирата в 1897 г., также находилась во владении
ашкеназских евреев 10.
/234/
2.6 / ЕВРЕИ БУХАРЫ ПОД ВЛАСТЬЮ РОССИИ В 1864-1917 гг.
Ашкеназские евреи, приехавшие в Центральную Азию, фактически жили
вне того окружения, в котором выросли, и вне своей «естественной» общи¬
ны. Во многих случаях это были люди, стремившиеся делать карьеру, отка¬
завшиеся от еврейской общинной жизни ради профессионального и делового
продвижения, а некоторые даже ради этого приняли христианство (зачастую
формально). Ашкеназские евреи не создавали себе отдельных районов для
проживания, а жили в «европейских» частях центральных городов, в которых
представляли меньшинство среди христианского окружения и вели «русский»
образ жизни. Те ашкеназы, которые хотели сохранить традиционную общин¬
ную структуру, не селились среди бухарских евреев, но основывали отдельную
религиозную и общинную структуру, которая включала синагоги, общества
взаимопомощи и некоторое количество школ (в основном это были русские
школы). Яркий пример той пропасти, которая существовала между различны¬
ми еврейскими группами, дан в рассказе Эфраима Неймарка, сообщавшего,
что до того как были построены отдельные синагоги, ашкеназы молились в
бухарских синагогах, стоя в ином направлении, чем это было принято у бухар¬
ских евреев; и когда они построили свою синагогу в Ташкенте, располагавшу¬
юся напротив бухарской, они демонстративно соблюдали свое традиционное
направление молитвы 11.
Участие ашкеназских евреев в деятельности местной администрации и
их оторванность от общины привели к быстрой русификации. Так, накану¬
не октябрьского переворота ашкеназское население Ташкента показало более
высокий уровень умения читать и писать на русском языке, чем другие нацио¬
нальные группы города, и даже выше, чем у самих русских (79% мужчин и 69%
женщин против 77% русских мужчин и 61 % русских женщин соответственно).
Вместе с тем ашкеназы продолжали поддерживать связь с еврейством и про¬
являли интерес к вопросам еврейской жизни. Так, например, на страницах га¬
зеты «Самарканд», которая была общим печатным органом на русском языке,
а ее редактор Наум Болотин был крещеным евреем, часто печатались статьи
на сионистские темы и хасидские истории 12.
ВЫВОДЫ
Как было отмечено в данном обзоре, после завоевания Россией Цен¬
тральной Азии произошли большие изменения экономического и социально¬
го характера, от которых значительно выиграло еврейское население региона.
В этот период сформировалось ядро ашкеназской еврейской общины в Цен¬
тральной Азии, а бухарские евреи удостоились равноправия и, как следствие,
улучшения своего экономического положения. Российская оккупация откры¬
ла перед бухарскими евреями новые горизонты развития, она привела к про¬
/235 /
ЧАСТЬ 2 / ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
никновению в местную еврейскую среду современных идеологий (таких как
Гаскала и сионизм), способствовала процессу модернизации евреев, а также
росту их социальной и географической мобильности. Эти процессы привели
к тому, что бухарские евреи стали селиться не только в центральных городах
Российской империи — Москве и Санкт-Петербурге, но и за ее пределами —
в Париже, Лондоне, Индии. Духовный и экономический расцвет бухарско¬
го еврейства привел к основанию в Иерусалиме отдельного квартала, очень
быстро превратившегося в культурный центр общины. Эти изменения не за¬
вершились в означенный период, они продолжались еще и в раннее совет¬
ское время, поскольку власти способствовали экономическому и культурному
продвижению национальных меньшинств, в то же время преследуя духовных
и общинных лидеров. Накануне большевистского переворота бухарские ев¬
реи были наиболее образованной и индустриализированной частью местного
населения, что помогло им интегрироваться в новую социально-экономиче¬
скую систему, созданную советским режимом.
Перевод с иврита Юлии Тулайковой
1 См.: Мейендорф Е. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 1975. С. 95-97, 106.
Также: Zand М. Yahadut Bukhara ve-kibush Asia ha-tikhona bidey ha-rusim // Peamim.
1988. № 35. P. 50-51.
2 См. Магидович И. Население г. Ташкента до переписи 1920 г.: Бюллетень Цен¬
трального статистического управления. № 23 (1.5 1922). С. 1.
3 См.: Yaari A. Sifrey yehudey Bukhara. Jerusalem, 1942; Batchaev M. Be-tokh saq ha-
even. Jerusalem, 1990. P. 86.
4 См.: Кастельская 3. Основные предпосылки восстания 1916 года в Узбекиста¬
не. М., 1972. С. 93—109. См. также у: Kaganovitch A. Yahas ha-shilton ha-tsari le-yihudim
bukharim u-maamadam ha-mishpati be-Turkmenistan ba-shanim 1867—1917. Доктор¬
ская диссертация. Еврейский университет в Иерусалиме, 2003. С. 236—241. По пово¬
ду мобилизации в еврейском квартале см.: Абрамов М. Бухарские евреи в Самарканде
(1843-1917). Самарканд, 1993. С. 18-20.
5 Самый большой восточный город в Центральной Азии, Самарканд, в 1922 г. на¬
считывал 82 тыс. жителей, из них 12 тыс. русских; см.: Зарубин И.И. Население Самар¬
кандской области. Л., 1926. С. 28.
6 О потреблении мусульманами спиртных напитков и их производстве евреями
см.: Schuyler Е. Turkistan. London, 1966. Р. 64. О традициях пения и музицирования в
еврейских бухарских семьях см.: Tilayov Sh. Shirat Shulamit. Tel Aviv, 1981. P. 22—23.
7 См. свидетельства о еврейской сельскохозяйственной деятельности в: Philos¬
oph Е. Teurei Emanuel. Tel Aviv, 1970. P. 49,125. В частности, он утверждает, что это были
те самые евреи, которые впоследствии первыми ввезут в Центральную Азию амери¬
канский сорт хлопка. См. также: Ashrov Sh. Mi-Samarkand ad Petakh Tikva. Tel Aviv, 1977.
P. 122. Перепись еврейского населения в самаркандском регионе см.: Зарубин И.И.
Список народностей Туркестанского края. Л., 1925. С. 24.
8 В первые годы оккупации не вводились ограничения на проживание в Турке¬
станском крае, однако к концу XIX в. они появились и там, см.: Рабич Р. Российские
/236 /
2.6 / ЕВРЕИ БУХАРЫ ПОД ВЛАСТЬЮ РОССИИ В 1864-1917 гг.
евреи в дореволюционном Туркестане // Дворкин И. (ред.). Евреи в Средней Азии:
прошлое и настоящее. СПб., 1995. С. 133-36.
9 О количестве евреев в Новой Бухаре см.: Наши колонии — Новая Бухара //
Нива. 1899. № 13.
10 См. Рабич Р. Указ. соч. С. 142-45. О вкладе евреев развитие Туркестанского
края см. также: Гитин С. Национальные меньшинства в Узбекистане. Т. 1. Тель-Авив,
2004. С. 322-368.
11 См. Neymak E. Ha-asif, 1889. Р. 74-75.
12 По поводу грамотности см.: Население г. Ташкента до переписи 1920 г. Бюлле¬
тень Центрального статистического управления, № 22 (1.4.1922). С. 1, 4—5; об ашке¬
назских школах в Ташкенте см. Vekselman М. Development of Jewish education in Central
Asia // Shvut. 1996. № 3. P. 34—40.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Абрамов M. Бухарские евреи в Самарканде (1843—1917). Самарканд, 1993.
Амитин-Шапиро 3. Очерк правового быта среднеазиатских евреев. Ташкент, 1931.
Он же. Очерки социалистического строительства среди среднеазиатских евреев.
Ташкент, 1933.
Дворкин И. (ред). Евреи в Средней Азии: прошлое и настоящее. СПб., 1995.
Колонтаров Я. Среднеазиатские евреи // Толстов С.П. (ред.). Народы Средней
Азии и Казахстана. Т. 2. М., 1963. С. 610—30.
Сухарева О. Бухара XIX — начала XX века. М., 1966.
Allworth Е. (ed.). Central Asia: 120 Years of Russian Rule. Durham, 1989.
Batchaev M. Be-tokh saq ha-even (В каменном мешке). Jerusalem, 1990.
Pozailov G. Mi-Bukhara le-Yerushalaim (Из Бухары в Иерусалим). Jerusalem, 1995.
Zand M. Yahadut Bukhara u-khibush Asia ha-tikhona bidey ha-rusim.// Peamim. 1988.
№35. P. 46- 83.
Yaari A. Sifrey yehudey Bukhara. Jerusalem, 1942.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
И ГЕНДЕРНЫЕ
АСПЕКТЫ
3.1
ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ
Шай Ран Фриз
своих мемуарах Шмарияху Левин (1867—1935) подробно
описывает, как страдала его мать из-за своего раннего бра¬
ка — она стала невестой в четырнадцать лет: «Часто моя
мать говорила о том, каким мучительным был первый год
ее замужества. И вовсе не потому, Боже упаси, что она не
любила своего супруга, но из-за того, что весь год она стыдилась загля¬
нуть моему отцу в глаза. Я не знаю, испытывал ли подобные страдания
отец» 1. Это тонкое наблюдение, касающееся самоощущения молодой
невесты, описание неловкости, которая ее охватывает в присутствии
мужа, не только дает нам редкую возможность проникнуть в интимный
мир женских переживаний, но и напоминает нам о том, как мало мы
знаем об истории повседневной жизни (Alltagsgeschichte) еврейской се¬
мьи в царской России.
В самом деле, в отличие от изобилия литературы о семье в Запад¬
ной Европе лишь небольшая часть исследований по русско-еврейской
историографии сосредоточивалась на данной тематике. В значительной
степени эта лакуна образовалась вследствие традиционной увлеченно¬
сти ученых политической и интеллектуальной историей, а также из-за
недоступности советских архивных источников до 1991 г.
В отсутствие научных исследований влияние сентиментальных
изображений русского еврейства оказалось практически неограничен¬
ным. Такие ностальгические образы пронизывают антропологическую
/241/
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Сестры. Фотоархив экспедиций С. Ан-ского
1912—1914 гг. Из собрания центра
«Петербургская иудаика»
Семья. Фотоархив экспедиций С. Ан-ского
1912—1914 гг. Из собрания центра
«Петербургская иудаика»
работу Марка Зборовского и Элизабет Херцог «Life is With People» (1952) и
бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше».
Тевье-молочник, который воплощал собой «патриархат в своем наиболее
привлекательном, гибком и прагматичном виде», стал самым устойчивым и
привлекательным символом того мира, который был утрачен. Как отметил
Стивен Зипперстайн, для провинциальной послевоенной Америки восточ¬
ноевропейское прошлое представляло собой «сцену всеобщего детства, когда
вера была непоколебимой, семьи были цельными и Бог любил свой народ» 2.
Парадокс заключается в том, что жившие в царской России очевидцы
и наблюдатели, которые допускали цельность и единство в далеком рекон¬
струируемом прошлом, обнаружили современную им еврейскую семью в
кризисе, она стала жертвой слишком стремительных процессов модерниза¬
ции в поздней имперской России. Так, например, в 1893 г. автор еврейской
еженедельной газеты «Недельная хроника “Восхода”» оплакивал «незакон¬
ные браки, порождающие, как мы видели, столько зла и деморализующие
семейные нравы, чистотой которых евреи издавна отличаются и не без ос¬
нования гордятся» 3. Даже выдающиеся раввинские авторитеты выступали в
защиту еврейской семьи. Рабби Моше Нахум Иерусалимский из Томашполя
(Подолия) писал: «За многие наши грехи появились те, которые нарушают
/242 /
3.1 / ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ
границы приличия... Они сворачивают с тропы, которую проложили в исто¬
рии их отцы и деды» 4.
В 1980-х гг. исследователи пришли к выводу, что ни ностальгические опи¬
сания, ни кризисная парадигма не являются адекватными средствами для по¬
нимания развития еврейской семьи в Российской империи. Несмотря на то
что историография еврейской семьи сейчас только зарождается, она уже может
представить некоторые предварительные результаты. Во-первых, «вопрос ев¬
рейской семьи» радикально отличается от аналогичного вопроса в российской
православной среде не только по обычаям и социальным традициям, но также
и по правовому статусу всей структуры контроля за браками и разводами. Во-
вторых, институт семьи был ареной конфликта конкурирующих интересов с
непрекращающимися дискуссиями о правах, социальных ролях и обязанно¬
стях. В-третьих, несмотря на то что традиционная семья противостояла вызо¬
вам современности, она была достаточно уязвима для новых идеологических
веяний и ценностей. Будучи результатом новых подходов к чтению, светского
образования и миграций в городские центры, они затронули все российское
общество. В то же время евреи обладали особыми демографическими характе¬
ристиками и культурными практиками, которые отражали уникальный опыт,
приобретенный ими в Российской империи. В-четвертых, семья служила сред¬
ством усиления или переоценки (зачастую непреднамеренно) принятой в ев¬
рейском обществе социальной и гендерной иерархии через социализацию и
образование детей. И наконец такие сложные проблемы, как сексуальность,
смена религии и обращение со стариками, породили жаркие дебаты в еврей¬
ском обществе и привели к некоторым поразительным результатам.
УПРАВЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬЕЙ
До своего свержения в 1917 г. царский режим предоставлял каждой ре¬
лигиозной конфессии право самостоятельно заключать браки и разводы, что
шло вразрез с практикой большинства европейских стран, где постепенно
браки попадали под контроль светских властей. В какой-то мере такая «не¬
современная» черта — неспособность государства сделать браки светским
институтом и установить над ним собственный контроль — отражала за¬
просы многоконфессиональной и многонациональной империи. Как гово¬
рилось в законе: «Каждому племени и народу, не выключая и язычников,
дозволяется вступать в брак по правилам их закона или по принятым обыча¬
ям, без участия в том гражданского начальства или христианского духовно¬
го правительства» 5. Вследствие этого семейные дела евреев рассматривали и
решали раввинские суды (батей дин), основываясь на еврейском законе (га¬
лахе). На протяжении всего существования империи раввинские авторите¬
/243 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
ты старались сохранить эту автономию и сопротивлялись государственному
вмешательству.
Стремление государства урегулировать частную семейную сферу было
естественным продолжением веры в то, что только государство может иско¬
ренять «темные обычаи», создавать новые нормы или модернизировать ста¬
рые. Практически царская политика была зеркальным отражением политики,
проводившейся в империи Габсбургов. Там, где Габсбурги ввели гражданские
браки (Ehepatent 1783 г.), но сохраняли религиозную свободу, разрешая евреям
проводить свои обряды и вести учетные записи, Российское государство со¬
хранило конфессиональные браки, но стремилось осуществить администра¬
тивную унификацию управления семьей путем введения некоторых граждан¬
ских процедур.
Это было достигнуто установлением государственного контроля за дея¬
тельностью раввинов и привело к формированию двойного раввината в се¬
редине XIX столетия. Казенный раввин, который был ответственен за веде¬
ние учетных записей и за проведение еврейских ритуалов (обрезания, свадеб,
разводов и похорон), часто был не более чем чиновником с ограниченным
знанием еврейского закона. Серьезные проблемы неизбежно возникали тог¬
да, когда некоторые казенные раввины делали вопиющие ошибки в сужде¬
ниях, неправильно понимая галаху. Настоящие религиозные лидеры — так
называемые «духовные раввины», обладавшие необходимыми для вынесения
галахических решений знаниями, не имели никакого официального статуса.
В 1853 г. государство внесло в закон судьбоносную поправку о том, что все
церемонии, заключенные кем бы то ни было, кроме казенного раввина и его
ассистентов, будут считаться недействительными. Другими словами, все ре¬
лигиозные обряды подпадали теперь под гражданскую юрисдикцию. Тем не
менее, несмотря на угрозы взысканий, тюрьмы и ссылки в Сибирь, духовные
раввины продолжали отстаивать свое право заниматься семейным законода¬
тельством.
Борьба за влияние на еврейскую семью имела ряд последствий: двойной
раввинат с его конкурирующими и противоречивыми вердиктами увеличил
напряжение и беспорядок в вопросах семейной жизни. Проблемой было не
столько наличие двойной власти, сколько систематическое безвластие, по¬
скольку государство лишило раввинский закон главного механизма, позво¬
лявшего ему функционировать, — системы принуждения. Раввинам не разре¬
шалось прибегать к принуждению ни при каких обстоятельствах. Они должны
были полагаться на «убеждение и увещевание» — такое положение отражало
законы Западной Европы, где монархи ограничивали юридическую и прину¬
дительную силу раввината. В результате еврейское семейное законодательство
становилось все более нефункциональным, особенно в вопросах, в которых
евреи были в меньшей степени настроены учитывать предписания раввинов 6.
/244/
3.1 / ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ
Типы еврейских женщин. Западная Белоруссия.
Нач. XX в. Из собрания В. Лукина, Иерусалим
В итоге к концу XIX в. еврей¬
ские ортодоксальные религиозные
авторитеты стали искать поддержки
своим претензиям на лидерство у
ослабленного и запуганного режима
самодержавия, предлагая ему свои
уверения в консерватизме и лояль¬
ности. Эти попытки заново утвер¬
дить традиционные ценности и ав¬
торитеты столкнулись с реформист¬
скими устремлениями прогрессивных
юристов в Сенате, которые стреми¬
лись интегрировать религиозные
меньшинства при помощи общей
системы законодательных кодексов
и административных структур. Не¬
смотря на свои амбициозные уси¬
лия, юристы были не в состоянии
вырвать контроль над браками и
разводами из рук традиционных ли¬
деров, частично из-за того, что ста¬
рый режим попросту утратил всякую
способность действовать в этой области — как посредством реформ, так и по¬
средством репрессий. Провал реформы семейного права произошел потому,
что в вопросах своего выживания государство все больше и больше делало
ставку на те самые силы, которые были наиболее враждебны модернизации
основных законов и ценностей. Действительно, должна была случиться рево¬
люция, чтобы изменить существующий порядок в старом семейном законо¬
дательстве.
СЕМЕЙНЫЕ ОБЫЧАИ И ПРАКТИКИ
Несмотря на стремление государства к стандартизации, еврейские семей¬
ные практики и обычаи сохраняли свое многообразие и отражали широкий
спектр коллективных представлений и индивидуальных склонностей. Тради¬
ционная семья по-прежнему следовала старинным ашкеназским правовым
нормам и обрядности, усваивая при этом и определенные новые социальные
формы.
/245 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Брак и гендерные роли в семье
Трансформация еврейских матримониальных практик в России особенно
явственно проявилась в критериях и в самом процессе выбора супруга (супру¬
ги). Традиционно родители и родственники подыскивали партию для своих
детей с помощью свата (шадхана). Для принятия семьей окончательного ре¬
шения первостепенное значение имели четыре основных фактора: 1) семей¬
ная родословная (ихес); 2) семейное благосостояние; 3) уровень учености же¬
ниха; 4) коммерческий талант невесты, ее способность вести хозяйство и ее
нравственное поведение.
Физическая привлекательность могла иметь определенный вес при за¬
ключении брачного договора, однако она никогда не была главным критери¬
ем. Для некоторых семей существенно было выбрать партнера из своей рели¬
гиозной среды (хасиды или их противники митнагеды).
Родители цепко держались за свою прерогативу в выборе супруга для сво¬
их детей, однако они не могли остановить неизбежную эрозию традиций и
обычаев. Ситуация, когда супруги впервые встречались друг с другом под сва¬
дебным балдахином (хупой), была достаточно распространенной, но начиная
с середины XIX в. некоторые пары имели возможность пользоваться опреде¬
ленными формами ухаживания посредством переписки или даже при встрече
(под присмотром третьего лица). В определенных кругах получили распро¬
странение и более современные типы неформального общения, особенно в
среде еврейских университетских студентов и революционеров, для которой
были характерны более интенсивные межличностные связи.
В основе этого процесса лежало новое представление о браке как о дру¬
жеском союзе, основанном на взаимном уважении, эмоциональной и ин¬
теллектуальной близости и на взаимных чувствах. Как показали исследова¬
ния, одной из причин перемен стало движение Гаскалы, которое стремилось
модернизировать еврейское общество путем фундаментального изменения
унаследованных ценностей и структур власти. Сложно сказать, были ли про¬
светители-маскилы инициаторами этих перемен или только поддерживали
уже идущую трансформацию, — в любом случае, они сыграли важную роль
в бунте против таких традиционных практик, как ранний брак, сватовство и
экономическая зависимость пары от родителей. Как показала недавно Ирис
Паруш, женщины, которые находились за пределами системы раввинско¬
го контроля, сыграли существенную роль в ниспровержении традиционной
семьи. «Привилегия маргинальности» не только облегчила женщинам до¬
ступ к светской литературе (романтические книжки на идише, переводы
европейской классики, ивритские романы), но и позволила им с большей
легкостью, чем мужчинам, усвоить и утвердить в семье современные идеалы.
/246/
3.1 / ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ
Свадьба. Полонное Волынской губ. Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912-1914 гг.
Из собрания центра «Петербургская иудаика»
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Свадебная фотография часовых дел мастера
и ювелира И.Л. Руммеля. Нач. XX в., С. Петербург.
Из семейного архива Л.М. Руммель
Были и другие значимые факто¬
ры, повлиявшие на изменение идеа¬
лов и подходов к заключению брака.
Поскольку возраст вступления в пер¬
вый брак стремительно вырос в кон¬
це XIX в., некоторые юноши и де¬
вушки начали искать пути смягчения
родительского контроля, или полно¬
го освобождения от него при выбо¬
ре брачного партнера. Современная
медицинская наука, со своей сторо¬
ны, порицала близкие эндогамные
союзы, даже с семьями самого высо¬
кого происхождения, поскольку воз¬
никала опасность наследственных
генетических нарушений, и прежде
всего психических заболеваний.
Если изучение Торы всегда служило
средством повышения социальной
мобильности на брачном рынке, то
теперь для многих семей оказалась
не менее привлекательной универ¬
ситетская степень, которая давала
право на жительство вне черты осед¬
лости. И наконец, если раньше при¬
верженность иудаизму признавалась
как само собой разумеющийся факт, теперь семьи тщательно проверяли потен¬
циальных брачных партнеров — изучали уровень их аккультурации и степень
соблюдения ими норм еврейской традиции.
Другие значимые трансформации брачной практики у евреев носили де¬
мографический характер. Как продемонстрировал Шауль Штампфер, дет¬
ские браки, такие, при которых мальчику было меньше шестнадцати лет, а
девочке меньше тринадцати, были крайне редки и ограничены особой со¬
циально-культурной группой — еврейской ученой элитой. Тем не менее ев¬
реи женились в относительно молодом возрасте — для того чтобы направить
сексуальную жизнь по узаконенному руслу и способствовать деторождению.
Более того, система содержания молодых семей на иждивении родителей
невесты (кест) делала ранние браки оправданными, поскольку позволяла
молодоженам жить вместе с родителями. Несмотря на это в последние де¬
сятилетия XIX в. традиционная схема ранних браков претерпела существен¬
ные изменения.
/248 /
3.1 / ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ
Хотя тенденция откладывать браки была характерна и для остального на¬
селения, особенно заметной она стала среди евреев. Как отметила Сара Раби¬
нович в 1910 г., «в настоящее время ни у одного вероисповедания в России не
замечается такого резкого и почти исключительного преобладания лиц зрелого
возраста, вступающих в брак. Еще в 1888—1892 гг. средний возраст еврейских
невест был у евреев ниже, чем у всех других вероисповеданий, кроме магометан,
в настоящее время он выше, чем у всех остальных вероисповеданий» 7.
Брачный возраст начал увеличиваться благодаря нескольким факторам.
Один из них — культурный: маскилы, многие из которых сами испытали травму
от ранней женитьбы, вели безжалостную борьбу против подростковых браков.
Их призыв нашел отклик в среде ортодоксальной элиты, которая стала счи¬
таться с медицинскими предупреждениями о пагубном влиянии ранних бра¬
ков на сексуальное здоровье и деторождение. Шауль Штампфер выявил увели¬
чение брачного возраста среди учащихся Воложинской ешивы на протяжении
XIX столетия с тринадцати лет до двадцати. Погоня за высшим образованием
стала еще одним фактором увеличения брачного возраста, поскольку студен¬
ты откладывали свадьбу до получения диплома. На другом конце социальной
страты сужение экономических возможностей и растущая нищета в черте осед¬
лости сделали невозможным для родителей содержание молодоженов (кест),
а молодые пары не могли устроить самостоятельное хозяйство. В итоге, хотя
еврейская семья была патриархальной по форме, гендерные роли, ответствен¬
ность и распределение власти в доме постоянно были предметом обсуждений.
Иммануэль Эткес утверждает, что митнагедский идеал, который предписывал
женщине содержать семью, чтобы позволить мужу заниматься Торой, был не
просто «литературным стереотипом», но и «широко распространенным явле¬
нием». Элитарное сообщество действительно преуспело в том, чтобы женщи¬
ны восприняли эту роль как престижную обязанность. Как заявлял ведущий
талмудический авторитет своего времени р. Элияху (Виленский Гаон), истин¬
ными героями были мужчины, которые «корпели над Торой дни и ночи, даже
если в их домах не было хлеба и одежды и их семьи рыдали» 8. Жены ученых,
являвшиеся единственными кормильцами семьи, были в меньшинстве, но
они служили идеалом, которому стремились подражать другие женщины. От
хасидских жен тоже ожидалось, что они будут содержать свои семьи, пока их
мужья совершают длительные паломничества к ребе или проводят время со
своими друзьями-хасидами в штибле (хасидской молельне).
Основываясь на письмах и мемуарах, Эткес показывает, что переговоры
о распределении ролей в семье продолжались и после того, как жена при¬
нимала свою роль как главного кормильца. Известен случай рабби Нафтали
Амстердама, жена которого согласилась покинуть Ковно и приехать к нему в
Хельсинки только при условии, что она сможет найти работу, которая «при¬
носит десять и пятнадцать серебряных рублей в неделю». Более того, несмо¬
/249/
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
тря на неофициальное соглашение о разделении труда, многие мужья, такие
как рабби Амстердам, разрывались между желанием посвятить себя изучению
Торы и необходимостью помогать своим женам содержать семью. Эта дилем¬
ма вскрывала глубокую противоречивость, присущую митнагедским идеалам,
даже если они были одобрены и поощряемы еврейской общественностью.
Исследование Эткеса, посвященное семье ученых евреев (ломдим), под¬
нимает ряд фундаментальных вопросов, которые постоянно обсуждаются в
научной литературе в последние годы. Как отразилась роль женщин в каче¬
стве главных кормильцев семьи на их статусе и взаимоотношениях в семье?
Выказывали ли они сопротивление, не восставали ли против тех культурных
идеалов, которые взваливали груз поиска заработка на их плечи?
По крайней мере, в глазах маскилов главенство женщин в экономической
сфере было перенесено также и на семейные отношения, в которых прева¬
лировал матриархат. Во второй половине XIX в. движение Гаскалы подверг¬
ло критике эту перевернутую структуру труда, которая послужила причиной
нежелательной смены гендерных ролей в семье. В сатирической литературе,
например в «Путешествии Вениамина Третьего» Менделя Мойхер-Сфорима
(1878), высмеивалась унизительная феминизация мужчин и моральная дегра¬
дация «мужеподобных» женщин. Давид Бяле предположил, что за этим мя¬
тежом против силы матриархальной власти, возможно, стоит враждебность
маскилов по отношению к своим тещам, которые главенствовали в их жизни
в первые годы после женитьбы. По мнению Шмуэля Файнера, маскилы вос¬
принимали появление еврейских женщин нового типа как угрозу и пытались
удержать их в рамках той модели, которую предоставляла семья немецких
бюргеров 9. Каковы бы ни были мотивы маскилов, но их видение структу¬
ры буржуазной семьи не только вступало в противоречие с зарождающимся
в России движением феминизма, согласно которому женщина должна была
иметь независимый источник дохода как первый шаг на пути к эмансипации,
но и не могло осуществиться из-за социоэкономических реалий. Зачастую те
самые еврейские просветители, которые провозглашали новые идеалы семей¬
ной жизни, нуждались в экономической поддержке своих жен, чтобы сводить
концы с концами.
Хотя исследователи не ставят под сомнение значимость той роли, кото¬
рую женщины играли в экономике, некоторые из них задаются вопросом о
том, в какой степени она могла сказаться на статусе и авторитете женщин в
еврейском обществе. Ирис Паруш, Паула Химан, Наоми Сайдан и другие ут¬
верждают, что в обществе, где знание Торы являлось мерой социального ста¬
туса, власть женщин не воспринималась как легитимное или значимое явле¬
ние. Это наиболее очевидно в сфере семейного законодательства, где никакая
сила, приобретенная женщиной, не могла соперничать с мужской гегемонией.
Тем не менее Сюзанна Гленн предположила, что гибкость гендерных ролей по
/250/
3.1 / ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ
Ю. Пэн. Развод (гет). 1907 (?). Холст, масло.
Национальный художественный музей Республики Беларусь
крайней мере способствовала «модификации патриархального главенства» 10.
В любом случае, для анализа сложных взаимосвязей между работой, гендером
и семьей необходимо провести дополнительные исследования.
Коротко говоря, несмотря на сопротивление традиционного общества,
под влиянием новых веяний изменились общие ожидания от брака, произо¬
шел значительный демографический сдвиг в брачном возрасте, а нормы ген¬
дерных отношений утратили свою непререкаемость.
Распад семьи и развод
Историческая динамика еврейских разводов в России весьма своеобраз¬
на по своим статистическим, юридическим и персональным параметрам. Со¬
гласно всероссийской переписи населения 1897 г., у евреев был один из самых
высоких показателей разводов среди всех религиозных групп в Российской
/251 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
империи (в этом отношении евреи уступали только горным народам Кавказа
и малым народностям Сибири). Тем не менее в начале XIX столетия этот по¬
казатель был значительно выше, что указывает на тенденцию, диаметрально
противоположную тому, что происходило в Европе, где количество разводов
стремительно увеличивалось. Это, впрочем, само по себе не означало, что по¬
высилась стабильность в семьях. Наоборот, существуют свидетельства расту¬
щего несоответствия между количеством распавшихся браков (которых по-
прежнему было очень много) и числом формальных разводов.
В определенной мере, необычайно высокий показатель разводов отражал
сравнительно либеральные условия расторжения брака в иудаизме. В отличие
от Русской православной церкви, которая относилась к браку как к «священ¬
ному таинству», что делало развод практически невозможным, еврейский за¬
кон позволял расторжение брака, если один или оба супруга не выполняли
своих обязанностей или нарушали условия брачного контракта. Этот закон
обладал ярко выраженным патриархальным характером: у мужа была еди¬
ноличная прерогатива развода, а в некоторых случаях развод мог быть осу¬
ществлен даже против желания жены. Легальными основаниями для развода
могли быть нарушения сексуального характера (прелюбодеяние, добрачные
сексуальные связи, отказ от половых отношений), бездетность, переход в дру¬
гую веру, скрытые до заключения брака дефекты и множество других поводов.
Теоретически женщина тоже могла потребовать развода на основании различ¬
ных факторов — например, если ее муж принял другую веру, не оказывал ей
материальную поддержку, был болен проказой, обладал невыносимым запа¬
хом изо рта или страдал импотенцией. Однако окончательное решение зави¬
село от согласия мужа.
Причины разрушения браков были многочисленны. В начале XIX в. в
метрических книгах Вильно упоминаются самые распространенные мотиви¬
ровки для развода: финансовое положение семьи (недостаток средств к суще¬
ствованию), взаимная ненависть, конфликты с детьми супруга (супруги) от
предыдущего брака или с его (ее) родителями, бездетность, болезни (включая
психические заболевания), порочный образ жизни и насилие в семье. Ин¬
дивидуальные случаи показывают, что, несмотря на то что многие разводы
были обусловлены повседневными проблемами в домашней жизни, были и
примеры, когда разводы совершались под давлением родителей или общины
(например, в случае бездетного брака). Кроме того, некоторые мужья давали
своим женам условный развод перед тем, как отправиться в длительное пу¬
тешествие или вступить в российскую армию, чтобы не оставить жен «соло¬
менными вдовами» (агунот) в случае своей смерти, которую не смогут под¬
твердить свидетели. Также и тяжелобольные мужья, которые были бездетны,
стремились защитить своих жен от сложностей левиратного брака и давали им
условный развод.
/252 /
3.1 / ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ
Начиная со времени Великих реформ 1860-х гг. еврейские разводы стали
отражать новую динамику. Во-первых, культурный разрыв между традициона¬
листскими и более аккультурированными партнерами приводил к конфлик¬
там по целому ряду фундаментальных вопросов, таких как воспитание детей
(религиозное или светское образование), соблюдение диетарных законов в
семье и даже внешний вид (парики, бороды, одежда). Напряженные отноше¬
ния также возникали в тех семьях, где супруги разделяли общие современные
ценности, но обладали разным уровнем образования. В образованных кругах
были распространены жалобы на неинтеллигентных и некультурных супру¬
гов. Кроме того, ожидание взаимного уважения и приязни приводило к тому,
что жены с меньшей толерантностью относились к супружеским изменам и
жестокому обращению. Начиная с 1884 г. женщины могли апеллировать к
Собственной Его Императорского Величества канцелярии по принятию про¬
шений, которая разрешала женщинам иметь отдельные паспорта в исключи¬
тельных случаях дурного обращения со стороны мужа. Это позволяло женщи¬
нам обходить государственные законы, отказывавшие им в праве проживать
отдельно от своих мужей или зарабатывать на пропитание без их разрешения.
Не удивительно, что большинство женщин, которые подавали такие проше¬
ния, были образованными и экономически самостоятельными жительницами
Санкт-Петербурга. И наконец, обращения в другую религию и ссылки в Си¬
бирь, которые значительно умножились в поздней имперской России, при¬
вели к увеличению числа разрушенных брачных союзов.
Уменьшение разводов стало отражением ряда факторов. Один из них —
резкое увеличение возраста тех, кто вступал в первый брак. К концу XIX в. иде¬
альный супруг представлялся более взрослым, экономически независимым,
эмоционально более зрелым и зачастую — более образованным. Вполне воз¬
можно, что отложенные браки снизили вероятность разводов. И в самом деле,
некоторые разведенные пары напрямую обвиняли свою молодость и наивность
в разрушении брака. Вторым фактором, изменившим динамику разводов, ста¬
ло появление дополнительных экономических, законодательных и социальных
препятствий, которые приходилось преодолевать для получения формального
развода. Хотя возврат приданого и выплаты по брачному договору (ктуба) всег¬
да были частью разводного процесса, мужья были вынуждены теперь бороться
с новой реформированной судебной системой, которая могла вмешиваться в
конфликт и отстаивать финансовые претензии их жен. Страх судебных тяжб яв¬
ственно отражается в соглашениях о разводе, заключенных в пореформенной
России. У женщин также были причины для предпочтения раздельного про¬
живания легальному разводу. Развод затрагивал проблемы их паспортов, соци¬
ального статуса, права на жительство — эти вопросы особенно остро стояли для
тех, кто жил за чертой оседлости или принадлежал к привилегированным со¬
циальным классам (почетные граждане и купцы 1-й гильдии).
/253 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Наконец, как уже упоминалось выше, снижение раввинского авторитета
также осложняло выполнение традиционной процедуры развода. Законода¬
тельные ограничения на использование мер принуждения (таких как теле¬
сные наказания или изгнание из общины) сделали практически невозмож¬
ным для раввинов добиться осуществления развода, который был иниции¬
рован женщиной, особенно если в качестве причин фигурировали избиение
жены, бедность или несовместимость супругов. Поэтому неудивительно, что
мы встречаем случаи открытого шантажа, когда упрямые мужья требуют за¬
облачную цену, чтобы освободить жен от семейных уз. Столкнувшись с неде¬
еспособностью раввината, женская сторона научилась использовать россий¬
ские суды и административную систему для решения своих частных семейных
проблем — как минимум для того, чтобы добиться выполнения постановле¬
ний раввинского суда.
В результате всех этих препятствий для развода некоторые евреи стали
прибегать к неформальным или незаконным методам расторжения брака:
они просто исчезали, начинали жить отдельно или брали вторую жену. И хотя
юридически ни один из этих способов не мог заменить формальный развод,
они тем не менее вели к прекращению сексуальных, а иногда и финансовых
обязательств в семье. Ситуация агуны, сама по себе не новая для еврейской
жизни, стала более сложным, распространенным и заметным явлением из-за
внутренних миграций, погромов, эмиграции и войн. Многочисленные браки,
находившиеся «в подвешенном состоянии», напрямую способствовали усиле¬
нию ощущения кризиса в позднеимперской России, подталкивая раввинов и
общественных лидеров призывать к возвращению «традиционных ценностей».
Детство
Одной из таких «традиционных ценностей» была забота о детском бла¬
гополучии — черта, за которую евреев весьма уважали в царской России. На
выставке, посвященной защите матери и ребенка, которая проходила в пред¬
революционной Москве, одна из открыток сопоставляла образ матери в трех
религиях: исламе, православии и иудаизме. Еврейская мать восхвалялась за
то, что у евреев самый низкий уровень детской смертности по всей империи.
В подписи под портретом еврейской матери, которая кормит грудью своего
ребенка, и нежно смотрит в глаза другого ухоженного ребенка, утверждалось,
что низкая детская смертность у евреев — результат длительного кормления
грудью, а также заботливого ухода за детьми 11. Однако несмотря на распро¬
странение подобных идиллических образов, практически нет ни одного ис¬
следования по еврейскому младенчеству и детству (за исключением довольно
разработанной темы еврейского образования).
/254/
3.1 / ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ
Семья портного. Нач. XX в. Из собрания В. Лукина, Иерусалим
Рождение ребенка считалось в еврейских семьях моментом смертельной
опасности для младенца со стороны нечистой силы. Родители полагались на
заговоры, амулеты и заклинания, которые отгоняют демонов (обычно Махлат
и Лилит) и препятствуют тому, чтобы нечистая сила похитила ребенка, под¬
ложив вместо него в колыбель соломенную куклу 12. По закону все дети на¬
ходились под материнской ответственностью до шестилетнего возраста. Отцы
были обязаны дать своим сыновьям (иногда с трехлетнего возраста) формаль¬
ное религиозное образование, которое начиналось в хедере; девочки находи¬
лись под присмотром своих матерей до тех пор, пока они не выйдут замуж.
Процессу образования и социализации детей в гендерном аспекте посвя¬
щен ряд важных исследований. Первым в этой области было исследование
Шауля Штампфера, который показал, что, хотя и мальчики и девочки полу¬
чали базовые знания, позволявшие им существовать в еврейском обществе,
гендерные и культурные черты такого образования служили для поддержки
определенной социальной стратификации и для укрепления мужских и жен¬
ских ролей. Для мальчиков основной целью было освоение иврита и арамей¬
ского в достаточном объеме, чтобы участвовать в общественных ритуалах и
в изучении сакральных текстов. Ожидалось, что наиболее способные учени¬
/ 255 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
ки продолжат обучение самостоятельно. Для женщин цель была другой. Они
должны были научиться «женским обычаям» с помощью религиозных и нра¬
воучительных книг, написанных на идише.
Штампфер предположил, что такая система ограниченного формально¬
го образования для девочек должна была способствовать бесконфликтному
принятию женщинами своей роли в семье и обществе 13. Ирис Паруш идет
еще дальше, полагая, что эта система, которая ограничивала доступ женщин
к еврейской (ивритской) грамотности, целенаправленно стремилась за¬
крепить подчиненное положение женщины в еврейском обществе. Многие
исследователи отмечают, что, несмотря на неформальный характер такого
начального образования, девушки, которые изучали идиш (не говоря уже о
тех, кто учился на русском и европейских языках), достигали достаточного
уровня образованности быстрее, чем их ровесники в хедере. Как показали
Паруш и Паула Химан, доступ женщин к светской литературе способствовал
их аккультурации. Это повлияло и на их социальное поведение в различных
аспектах: побеги из дома, чтобы избежать навязанного замужества, участие
в революционном движении, погоня за светским образованием, переход в
христианство.
Несмотря на единое мнение исследователей о том, что изучение Торы в хе¬
дере являлось источником особого культурного престижа в еврейском обще¬
стве, этот процесс не был таким гармоничным и упорядоченным, как принято
считать. Напротив, в хедере, располагавшемся, как правило, в доме учителя
(меламеда), дети сидели в тесных углах, проводя время в играх или домашней
работе, и лишь недолгое время занимались в маленьких группах. Маскилы
громогласно обличали насилие и унижения, которым подвергались мальчи¬
ки; пощечины, побои и щипки входили в курс обучения. Ицхак Бер Левинзон
говорил о хедерах как о «горницах смерти» 14. Неудивительно, что кампания
Гаскалы за реформу еврейского образования была направлена на замену тра¬
диционных меламедов профессионально подготовленными учителями.
Переход от детства к отрочеству пробуждал большую озабоченность в ев¬
рейском обществе, особенно по отношению к вопросам полового созревания
и сексуальности.
Сексуальность
Как и в большинстве традиционных обществ, у евреев придавалось боль¬
шое значение сексуальной чистоте и личной репутации. До конца XIX в. ре¬
шением проблемы подростковой сексуальности был относительно молодой
возраст вступления в брак. Родители были обеспокоены не только добрачным
сексом, но также и «грехами юности», такими как ночное семяизвержение
/256 /
3.1 / ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ
(кери) и мастурбация. С XVIII в. интенсивная озабоченность грехом кери уси¬
ливается в связи с широким распространением каббалы и магии. В отличие
от раввинистической литературы, которая была более озабочена ритуальной
нечистотой от случайного семяизвержения, Зогар и другие каббалистические
сочинения подчеркивают разрушительные последствия этого физиологи¬
ческого явления для человеческой души и для Божественного Присутствия
(Шхины).
В хасидских кругах борьба за сдерживание сексуальных импульсов при¬
няла удивительные формы. В то время как основатель хасидизма, Баал Шем
Тов признавал сексуальное влечение (проявляющееся, например, при созер¬
цании женской красоты) в качестве инструмента для достижения более тесно¬
го союза с Богом, некоторые из его последователей рассматривали сексуаль¬
ные желания как разрушительную силу, которая должна быть подавлена. По¬
жалуй, наиболее экстремальную позицию выражал рабби Нахман из Брацлава
(1772—1810), чья юность была исполнена глубокой тревоги и чувства вины по
поводу собственной сексуальности. Артур Грин утверждает, что целью рабби
Нахмана было не просто достижение «контроля над сексуальными страстя¬
ми... или отказ от недозволенных форм сексуальности, а именно предельное
подавление и искоренение этой самой фундаментальной из человеческих
страстей» 15. Несмотря на то что «страдающий наставник» родил по меньшей
мере семерых детей, он называл половой акт болезненным для истинного ца¬
дика — «страданием, подобным тому, что испытывает младенец в момент об¬
резания», и даже хуже. Грин указывает на то, что, несмотря на его заявления о
победе над дурным желанием, темы сексуальной вины и опасности продолжа¬
ли доминировать в размышлениях и сочинениях рабби Нахмана.
Давид Бяле также указывает на эту аскетическую тенденцию в хасидизме
на протяжении XVIII—XIX вв. Он утверждает, что ранние хасидские учителя
рассматривали сексуальное желание исключительно как средство прибли¬
жения к Богу. Например, Менахем Нахум из Чернобыля учил, что мужчины
должны совершать половой акт так же, как и исполнять любую другую запо¬
ведь, не ради физического удовольствия, а ради любви к Богу. Бяле утверждает,
что неестественность, присущая этой доктрине (то есть секс без эротическо¬
го удовольствия), привела к целибатным бракам — понятию, самому по себе
проблематичному для иудаизма. Эта дилемма создала сексуальную сублима¬
цию, перенос отношений из сферы человеческой (женщина) в сакральную
сферу (Бог). Так, например, хасидские источники (так же как и антихасид¬
ские полемисты) сравнивают раскачивающиеся движения в ходе молитвы с
актом совокупления со Шхиной (Божественным Присутствием). Моше Идель
не согласен с таким пониманием и указывает на то, что культ Шхины не обя¬
зательно приводил хасидских мужчин к полному отказу от телесной близости,
напротив, по его убеждению, они по-прежнему придерживались галахиче¬
/257/
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
«Эстер». Литография из книги: Leon Hollaenderski.
Les Israelites de Pologne. Paris, 1846
ских обязательств удовлетворять сек¬
суальные потребности жены 16. На са¬
мом деле долгое отсутствие хасидов во
время их паломничества к своему ребе
заставляет задаться вопросом о часто¬
те сексуальных отношений и в целом о
взаимоотношениях между хасидами и
их женами.
Еврейские просветители, не упу¬
скавшие возможности покритико¬
вать хасидские сексуальные практики
(в частности, отсутствие заботы о же¬
нах), вряд ли могли игнорировать свои
собственные тревоги и страхи в сфере
сексуальности. В своем исследова¬
нии, посвященном биографии маски¬
лов, Бяле показал, что, горюя о своей
потерянной молодости и оплакивая
болезненный опыт слишком рано на¬
чавшейся для них семейной жизни, маскилы направляли все свои силы на
искоренение практики ранних браков. Мордехай Аарон Гинцбург, на себе
испытавший унижение неудачной первой брачной ночи, утверждал, что пре¬
ждевременные браки не только травмируют детей, которые еще не достигли
половой зрелости, но и вносят вклад в формирование неестественных ген¬
дерных стереотипов: «Природа поменяла нас местами в день, когда она вы¬
вела нас на свет Божий. Моей жене она подарила дар мужчины, силу и мощь
и такую резвость, что ее любовный плод созрел до срока, а в тринадцать лет
она уже была телицей, обученной делать то, что от нее хочет мужчина. В то
же время сам я был награжден от природы медлительностью и нерешитель¬
ностью, поскольку даже в четырнадцать лет я был еще теленком, которому
только предстояло научиться возбуждать женщину через плотскую любовь.
Так мужеподобная женщина устыдила женоподобного мужчину в мирской
жизни» 17. По его мнению, лишь идеалы сдержанности, свойственные буржу¬
азной семейной жизни, могли заменить необузданную сексуальную актив¬
ность в традиционных семьях приличиями и скромностью.
По крайней мере по официальным статистическим данным, отношения
между полами у евреев в России отличались особой сдержанностью. Среди
евреев был один из самых низких в империи показателей количества детей,
рожденных вне брака, — в 1897 г. он составлял лишь 0,3 % по сравнению с
общенациональными 2,4 %. В конце XIX в., с ослаблением традиционных
норм, добрачные половые отношения (особенно после обещания женитьбы)
/ 258 /
3.1 / ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ
стали более частым явлением, но оно ни в коем случае не получило широко¬
го распространения. Важным фактором такого изменения стало резкое по¬
вышение возраста вступления в первый брак. Кроме того, опыт жизни вда¬
ли от дома — в связи с учебой, профессиональной деятельностью, участием
в революционном движении и т.п. — привел к более активному социальному
контакту между полами. Как и в большинстве обществ, женщины приняли на
себя основной удар социального осуждения добрачных беременностей и на¬
ходили мало сочувствия как в еврейской общине, так и в светских российских
судебных учреждениях 18.
Переход в другую религию и еврейская семья
В постоянно изменяющейся многоконфессиональной империи еврей¬
ским семьям пришлось также столкнуться с угрозой смены вероисповедания.
Архивные источники свидетельствуют о том, что крещение не расторгало се¬
мейные узы, несмотря на усилия со стороны части новообращенных дистан¬
цироваться от своих родственников. Хотя некоторые семьи и отказывались от
своих близких после их обращения, большинство еврейских семей испытыва¬
ли глубокие сомнения в искренности этого акта и надеялись на неизбежное
раскаяние. Это особенно верно в случае обращения молодых людей, которые
оставались под опекой родителей до тех пор, пока не достигали своего совер¬
шеннолетия. Но когда речь шла о взрослых детях, в случаях, если словесные
убеждения или физические угрозы не приносили результата, отчаявшиеся ро¬
дители обращались за помощью к государственным судам или к генерал-гу¬
бернаторам.
Согласно гендерным исследованиям, большинство евреев, которые пере¬
ходили в другую религию в интересах брака, были женщинами. Их особые пути
аккультурации, о которых говорилось выше, и более тесное взаимодействие с
неевреями, возможно, оказали влияние на их решение. У нас есть достаточно
оснований для того, чтобы оспорить сложившееся представление о том, что
обращение в христианство было последним средством для старых дев выйти
замуж. Архивные документы показывают, что средний возраст крестившихся,
чтобы выйти замуж за христиан, не был выше, а иногда даже был ниже, чем у
еврейских невест, вступавших в первый брак. Более того, личные источники
свидетельствуют о том, что некоторые новообращенные женщины отвергали
запланированные браки, чтобы выйти замуж за христианского поклонника по
своему выбору. Социальный класс, возможно, также сыграл свою роль: ме¬
нее привилегированные женщины, возможно, предпочитали холостого хри¬
стианина еврею-вдовцу или разведенному с детьми от предыдущего брака.
Смешанные браки, даже те, которые основывались на любви, были полны ре¬
/259 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
лигиозных и культурных противоре¬
чий. Наиболее распространенными
проблемами являлись взаимоотно¬
шения с семьей новообращенного,
подозрения в ее (или его) религи¬
озной искренности и социальный
бойкот семей с новообращенными
супругами со стороны русского пра¬
вославного общества.
Обращение также создавало
проблемы для евреев, чьи супруги
приняли христианство. С точки зре¬
ния церкви, новообращенный мог
расторгнуть брак с «неверующим
супругом», но такой случай не тре¬
бовал еврейского развода. Государ¬
ственные законы, со своей сторо¬
ны, не определяли процедуры рас¬
торжения первого брака, что имело
катастрофические последствия для
женщин, которые становились агу¬
нот, если их крестившиеся мужья не
предоставляли им требуемого раввинистическим правом разводного письма
(гет). В аналогичной ситуации оказывалась бездетная вдова, если брат ее мужа
обращался в христианство и отказывался исполнять церемонию халицы — ос¬
вобождения от левиратного брака. Вопрос об опеке над ребенком был отно¬
сительно менее сложным. Хотя государственные законы поощряли гендерное
разделение детей между супругами (до того, как дети достигали семилетнего
возраста, отцы могли крестить своих сыновей, а матери — дочерей), церковь
часто предоставляла право решать вопрос об опеке самим новообращенным,
к большому разочарованию еврейских членов семьи 19.
Наемные плакальщицы на кладбище. Острог
Подольской губ. Фотоархив экспедиций С. Ан-ского
1912-1914 гг. Из собрания В. Лукина, Иерусалим
Старость
Поскольку в течение рассматриваемого периода продолжительность
жизни увеличилась, еврейским семьям все чаще приходилось сталкиваться с
проблемой ухода за стариками. Шауль Штампфер пересматривает ностальги¬
ческое представление о том, что в России пожилые люди проживали вместе
со своими детьми и их не отдавали в дома престарелых, как в Америке. Он
предлагает более сложный анализ. По большей части старики жили отдель¬
/260 /
3.1 / ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ
Из серии «Женские типы». Фотоархив
экспедиций С. Ан-ского 1912-1914 гг.
Из собрания центра «Петербургская иудаика»
В доме престарелых. Проскуров Подольской губ.
Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг.
Из собрания центра «Петербургская иудаика».
но от своих женатых или замужних детей, им помогали набожные женщины,
которые готовили еду, приносили нужные вещи и т.п. до тех пор, пока они
уже не могли сами заботиться о себе. Широкое распространение в еврейской
среде повторного вступления в брак после смерти одного из супругов, а также
стремление мужчин найти молодую супругу позволяли старикам (по крайней
мере, в последнем случае) долго оставаться самостоятельными.
Основываясь на общинных записях, Штампфер выявляет институцио¬
нальный сдвиг, произошедший в ходе XIX столетия в области ухода за пожи¬
лыми людьми: переход от традиционных богаделен (хекдешим) к современным
домам престарелых. В то время как богадельня часто ютилась во временных
лачугах, населенных самой разнообразной публикой (здесь обитали не только
старики, но и бродяги, неимущие, бездомные), новые дома престарелых от¬
ражали цели и ценности современной филантропии. Один из первых домов
престарелых, описанный Мозесом Монтефиоре в его путевом журнале, был
создан в Варшаве в 1840 г. Эти современные здания, в которых размещались
как сироты, так и старики, достойно представляли благотворительную дея¬
тельность своих богатых покровителей. Штампфер отмечает, что в отличие от
традиционных богаделен дома престарелых не только давали пропитание и
пристанище старикам, но и предлагали им культурную, религиозную и соци¬
/261 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
альную деятельность. С ростом внутренней миграции и эмиграции за границу,
пожилые родители утрачивали связь с детьми, на которых они могли поло¬
житься, и все чаще прибегали к услугам этих учреждений 20.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Появившаяся в последние время историография еврейской семьи в цар¬
ской России, пусть и пребывающая еще в стадии становления, существенно
изменяет стереотип о том, как все были «очень-очень счастливы в Анатовке».
Даже такие мемуаристы, как Полина Венгерова, которая размышляет над сво¬
им прошлым со сладковато-горькой ностальгией, не может игнорировать бо¬
лезненные конфликты вокруг религиозных обрядов, светского образования и
обращения в христианство в ее собственной семье. Действительно, нет ника¬
ких сомнений в том, что русско-еврейская семья на протяжении истории Рос¬
сийской империи постоянно менялась. Драмы, разворачивавшиеся в детских
учреждениях, домах престарелых, в сиротских приютах и в неполных семьях,
до сих пор ждут всестороннего анализа.
Перевод с английского Марии Каспиной
1 Levin Sh. Yalduti. Tel Aviv: Dvir. 1961. P. 8—9.
2 Zipperstein S.J. Imagining Russian Jewry: Memory, History, Identity. Seattle, 1999.
P.20.
3 Богров Б. Наши браки и разводы // Недельная хроника «Восхода». 1893. № 27.
столб. 727.
4 Черновик открытого письма рабби Моше Нахума бен Биньямина Иерусалим¬
ского раввинам Запада. Цит. по: Lederhendler Е. Jewish Responses to Modernity: New
Voices in America and Eastern Europe. N. Y., 1994.
5 Полное собрание законов Российской империи. 1-я сер. Т. 45. СПб., 1830. 10,
90.
6 О двойном раввинате см.: Shochat A. Mosad “ha-rabanut mi-taam” be-Rusiya. Hai¬
fa: University of Haifa, 1976; Freeze Ch.R. Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia.
Hanover, 2002. P. 73-130, 243-279.
7 Рабинович С. К вопросу о начальном ремесленном образовании еврейских жен¬
щин // Новый Восход. 1910. № 5 (4 февр.). С. 10.
8 Etkes L Marriage and Torah Study Among the Lomdim in Lithuania in the Nineteenth
Century // Kraemer David (ed.) Jewish Family: Metaphor and Memory. Oxford, 1989. P. 154.
9 Biale D. Eros and the Jews: From Biblical Israel to Contemporary America. Berkeley:
University of California Press, 1997. P. 121—175; Feiner Sh. Ha-isha ha-yehudit ha-modemit:
Mikre-mivhan be-yahasei ha-haskalah ve-ha-modema // Zion. 1993. № 58. P. 453- 499
10 Glenn S. Daughters of the Shtetl: Life and Labor in the Immigrant Generation. Ithaca:
Cornell University Press, 1990. P. 14.
/262 /
3.1 / ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ
11 Открытка, отпечатанная тиражом 50000 экз., была нарисована художницей
А.С. Соборовой и выпущена Транспечатью в Москве. Даты на открытке нет. Я благо¬
дарю д-ра Елену Смит за копию этой открытки из ее частной коллекции.
12 Etkes I. Baal ha-shem: ha-Besht: magya, mistika, hanhaga. Jerusalem, 2000. P. 18.
13 Stampfer Sh. Gender Differentiation and the Education of the Jewish Woman in Nine¬
teenth-Century Eastern Europe // Polin. 1992. № 7. P. 74.
14 Levinzon Y. B. Teuda be-Israel. Vilna, Horodna, 1828. P 26
15 Грин А. Страдающий наставник. Жизнь и учение рабби Нахмана из Брацлава.
М.; Иерусалим. С. 215.
16 Biale D. Eros and the Jews: From Biblical Israel to Contemporary America. P. 121—
148; Idel Moshe. Kabbalah and Eros. New Haven: Yale University Press, 2005. P. 229-230.
17 Gintzburg Mordechai Aaron. Aviezer. Vil’na, 1864. P 90.
18 Freeze Ch.R.Y. Lilith’s Midwives: Newborn Child Murder in Nineteenth-Century
Vil’na (неопубликованная статья).
19 Idem. When Chava Left Home: Gender, Conversion, and the Jewish Family in Tsarist
Russia // Polin. Jewish Women in Eastern Europe. 2005. № 18. P. 153—188.
20 Stampfer Sh. What Happened to the Extended Jewish Family? Jewish Homes for the
Aged in Eastern Europe // Medding Peter Y. Coping with Life and Death: Jewish Families in
the Twentieth Century. Studies in Contemporary Jewry. 1998. № 14. P 128- 142.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Baker M. The Voices of the Deserted Jewish Woman, 1867—1870 // Jewish Social Stud¬
ies. 1995. № 2. P 98-123.
Biale D. Eros and the Jews: From Biblical Israel to Contemporary America. Berkeley:
University of California Press, 1997. P. 121-175.
Etkes I. Marriage and Torah Study Among the Lomdim in Lithuania in the Nineteenth
Century // Kraemer David, ed. Jewish Family: Metaphor and Memory. Oxford: Oxford Uni¬
versity Press, 1989. P. 153—178.
Freeze Ch.R.Y. Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia. Hanover: University
Press of New England, 2002.
Idem. When Chava Left Home: Gender, Conversion, and the Jewish Family in Tsarist
Russia // Polin. Jewish Women in Eastern Europe. 2005. № 18. P. 153-188.
Glenn S. Daughters of the Shtetl: Life and Labor in the Immigrant Generation. Ithaca:
Cornell University Press, 1990. P. 8—49.
Hyman P.E. Gender and Assimilation in Modem Jewish History: The Roles and Repre¬
sentation of Women. Seattle: University of Washington Press, 1995. P. 50—92.
Lerner A.L. Lost Childhood in Eastern European Hebrew Literature // The Jewish Fam¬
ily. Metaphor and Memory. P. 95-112.
Parush I. Reading Jewish Women; Marginality and Modernization in Nineteenth-Cen¬
tury Eastern European Jewish Society. Hanover: University Press of New England, 2004.
Ruthers M. Tewjes Tochter. Lebensentwurfe ostjudischer Frauen im 19. Jahrhundert. Co¬
logne: Bohlau, 1996.
Stampfer Sh. Gender Differentiation and the Education of the Jewish Woman in Nine¬
teenth-Century Eastern Europe // Polin. 1992. № 7. P. 63-85.
/263 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Idem. Remarriage Among Jews and Christians in Nineteenth-Century Eastern Europe //
Jewish History. 1988. 3.
Idem. What Happened to the Extended Jewish Family? Jewish Homes for the Aged in
Eastern Europe // Medding Peter Y. Coping with Life and Death: Jewish Families in the Twen¬
tieth Century // Studies in Contemporary Jewry. 1998. № 14. P. 128-142.
Weinberg S.S. World of Our Mothers. New York: Schocken Books, 1988. P. 3-81.
Wengeroff P. Rememberings; The World of a Russian-Jewish Woman in the Nineteenth
Century / ed. Bernard D. Cooperman. Potomac: University Press of Maryland, 2000.
Bartal I. ‘Onut va — ain-onut — bein masoret le-haskala // Bartal Israel and Gafni Isa¬
iah, eds. Eros, erusin ve-isurim: miniyut u-mishpahah ba-historya. Jerusalem: Merkaz Zal¬
man Shazar, 1998. P 225-237.
Feiner Sh. Ha-isha ha-yehudit ha-modemit: Mikre-mivhan be-yahasei ha-haskala ve-
hamodema//Zion. 1993. № 58. P. 453-499.
Zalkin M. Ha-mishpaha ha-maskilit ve-mekoma be-hitpathut tenuat ha-haskalah ha-
yehudit be-mizrah eiropah (Просвещенная семья и ее роль в развитии еврейского Про¬
свещения в Восточной Европе) // Bartal I. Gafni Y. (Editors). Eros, erusin ve-yisurim:
miniyut u-mishpaha be-historiyah. Jerusalem, 1998. P 239-251.
3.2
ЕВРЕИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В КОНЦЕ XIX в.:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Шауль Штампфер
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
емографические явления обычно не привлекают к себе доста¬
точного внимания, и несмотря на то что они оказывали и про¬
должают оказывать влияние на самые различные аспекты жизни
общества, лишь немногим понятно их значение. Иногда послед¬
ствия тех или иных демографических процессов очевидны, но
порой они могут быть выявлены только при внимательном анализе. Имен¬
но демографическое развитие являлось основой таких важнейших процессов
истории евреев Восточной Европы, как урбанизация и миграция, и оказало
влияние на формы семейной жизни у евреев. Более того, последствия де¬
мографических изменений можно обнаружить и в таких областях, где этого
меньше всего можно ожидать: в сфере идеологии, религии или культуры. На¬
пример, демографическое давление стало одной из причин урбанизации, а
известно, что отход евреев от религии был преимущественно городским явле¬
нием. В этой связи есть смысл уяснить, что мы знаем о демографическом по¬
ложении еврейского населения Российской империи в XIX в. и об основных
демографических процессах, происходивших в среде этого населения.
Как в любой области изучения прошлого еврейского народа, в демогра¬
фическом исследовании существует проблема формулировок и источников.
Хотя вопрос «кто является евреем» был менее сложным в XIX в., нежели сей¬
час, он все же существовал. Он занимал прежде всего власти, которые хоте¬
ли соблюсти порядок в официальных документах 1. Абсолютное большинство
/265 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
евреев Восточной Европы в XIX в. говорило на идише и определяло себя как
иудеев с точки зрения религиозной принадлежности. Многие из них носили
принятую только у евреев одежду, и их можно было идентифицировать также
по внешнему виду. Однако было и много исключений. К таковым относились
еврейские общины в Грузии, на Восточном Кавказе и в Центральной Азии,
которые не были ашкеназскими и, естественно, не владели идишем. На тер¬
ритории Украины, Польши и современной Литвы существовали караимские
общины. Они пытались акцентировать внимание на своем разрыве с иудаиз¬
мом, но при этом обладали разветвленными связями с евреями-раббанитами.
На протяжении XIX в. постоянно увеличивалось число евреев, поменявших
религию. В глазах многих христиан они тем не менее оставались евреями.
Часть из них и вправду продолжала активно участвовать в еврейской жизни.
Очевидно, что количество тех, кто считал себя евреем, но не был им с тради¬
ционной точки зрения, возрастало.
В этой статье речь пойдет прежде всего о евреях-ашкеназах на террито¬
рии Российской империи. Они составляли более 95% от общего числа евреев,
и большинство существующих исследований сосредоточивается на них. Но
всегда нужно помнить, что эта большая община не представляла собой все
еврейство империи.
Один из важнейших источников для представления о количественном со¬
ставе населения и его особенностях — переписи населения, но существенным
/266 /
Извозчики. Корец Волынской губ. Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг.
Из собрания центра «Петербургская иудаика»
3.2 / ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В КОНЦЕ XIX в.
условием для их использования является точность их результатов. Сегодня в
большинстве развитых стран переписи проводятся один раз в десятилетие, и
на основании их данных можно делать выводы о произошедших демографи¬
ческих изменениях и процессах. Не так было в Российской империи в XIX в.
Со времени разделов Польши в XVIII в. и до Первой мировой войны проводи¬
лась только одна всеобщая перепись населения — в 1897 г. Ее результаты очень
важны, но отсутствие других переписей затрудняет возможность проследить
демографические процессы, происходившие в обществе. Нам может помочь
то, что в 1764 г., накануне разделов, в Польско-Литовском королевстве состо¬
ялась достаточно точная перепись еврейского населения. Ввиду отсутствия
других данных мы вынуждены прибегнуть к менее качественным источника¬
ми. Среди них стоит отметить проводившиеся несколько раз за этот период
ревизии (подушные переписи) населения.
СТРУКТУРА РАССЕЛЕНИЯНа модель расселения евреев по территории Российской империи повли¬
яли два фактора, связанных с законодательством этой страны. Наиболее важ¬
ным фактором является запрет на поселение евреев в районах, находившихся
за пределами т. н. черты оседлости 2. Евреям, как правило, не разрешалось се-
/267/
Тельшай. Торговая площадь.
С открытки нач. XX в.
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
литься во внутренних районах России, что на практике увековечивало модель
их географического распространения, существовавшую до разделов Польши.
Вторым фактором был запрет на приобретение евреями земель сельскохо¬
зяйственного назначения, а также ограничения, вводившиеся на их поселение
в приграничных районах. Были, конечно, и исключения из этих правил и даже
попытки превратить евреев в земледельцев. Законодательные ограничения
были призваны сохранить положение, при котором евреи оставались главным
образом торговцами и ремесленниками, но нужно помнить также, что сельское
хозяйство в то время не было достаточно притягательной сферой экономики.
Экономические факторы влияли на демографию еврейского населения
Российской империи не меньше, чем факторы законодательные. В XIX в.,
особенно во второй его половине, произошли большие изменения в экономи¬
ческой жизни евреев. Распространение железных дорог изменило сложившу¬
юся при жизни нескольких поколений структуру рынка, а также способство¬
вало мобильности населения. Индустриализация привела к существенным
изменениям в системе производства и в структуре занятости евреев. Эти изме¬
нения дали толчок процессу урбанизации. В прошлом, в XVII—XVIII вв., имел
место процесс миграции в поисках заработка из центральных, крупных горо¬
дов в малые города и местечки. В XIX в. направление миграции изменилось,
и большинство мигрантов направлялись уже в центральные города. В Рос¬
сийской империи развивались большие города, такие как Одесса и Лодзь, в
прошлом не имевшие серьезного значения. Они быстро росли и привлекали
многих евреев. Были основаны общины в таких важных городах, как Варша¬
ва, в которых раньше евреям жить не разрешалось. Прибывавшие в города
люди считали, что там у них появятся хорошие перспективы найти заработок.
Но большинство переезжавших в города, а в дальнейшем и их дети с трудом
добывали средства к существованию и страдали в условиях антисанитарии и
низкого уровня медицинского обслуживания. Это, однако, не останавлива¬
ло процесс урбанизации еврейского населения. Проблемы поиска заработка
в местечках были столь неразрешимыми, что прибывавшие в большие города
евреи не отступали перед встречавшими их трудностями.
Развитие промышленности и урбанизация открывали большие возмож¬
ности для еврейской элиты, но не улучшали положение большинства еврей¬
ского населения. Евреям, как правило, не удавалось получить работу на новых
заводах и тем более в государственном аппарате. Развитие транспорта нанесло
ущерб многим торговцам и представителям такой еврейской профессии, как
извозчики. В городах, так же как и в местечках, основной заработок евреям
давали ремесло, торговля и работа в сфере обслуживания. Хотя мануфактуры
в городах были крупнее и число возможных покупателей больше, значитель¬
ная часть евреев жила в условиях все возраставшей нужды и становилась пита¬
тельной средой для миграции и радикальных политических идеологий.
/268 /
3.2 / ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В КОНЦЕ XIX в.
ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ
Уже с начала Нового времени численность еврейского населения на тер¬
ритории Восточной Европы увеличивалась быстрее, чем численность его
окружения. Таким образом, из поколения в поколение процент евреев в об¬
щем составе населения возрастал. Так как занятость евреев была ограничена
торговлей, ремеслом и сферой обслуживания, результатом демографического
роста стало ужесточение конкуренции между евреями, что подталкивало мно¬
гих из них к миграции и к переходу в другие отрасли экономики. Наиболее
простым решением всегда была миграция — переезд в район, где конкурен¬
ция в «еврейских» сферах экономики была менее острой. Именно этот фактор
являлся причиной постоянных перемещений евреев по Восточной Европе в
Новое время. До XVIII в. евреи находили в Польше и Литве достаточное чис¬
ло потребителей своих услуг. При необходимости торговцы и ремесленники
могли просто переехать из больших городов, где концентрировалось еврей¬
ское население, в местечки и новые города. Можно было отправиться также
на восток и юг, туда, где было меньше евреев-конкурентов. Но запрет на по¬
селение во внутренних областях Российской империи препятствовал продол¬
жению миграции на восток, что могло бы стать решением проблемы роста
еврейского населения. Другими словами, создание черты оседлости не повли¬
яло на расселение евреев, но ограничило процесс миграции. Его немедлен¬
ным результатом стали все увеличивавшиеся трудности с поиском средств к
существованию.
В XIX в. процесс роста населения стал более интенсивным, что увеличи¬
вало миграционное давление. В это время евреи переезжали в южные районы
Российской империи, включенные в ее состав в XVIII в., а с течением времени
они начали эмигрировать и за океан.
Устойчивость географического распространения еврейского населения в
XVIII в. и демографические сдвиги, происходившие в девятнадцатом столе¬
тии, могут быть проиллюстрированы с помощью недавно открытых источни¬
ков и новых методов анализа известных данных 3.
Иехудит Калик не так давно обнаружила собрание налоговых ведомостей
еврейских общин из разных районов Польши за 1717-1764 гг.4 Евреи тогда
платили подушный налог, и соответственно данные о налогах должны были
отражать численность еврейского населения, а изменения в этих данных —
изменение его численности. Выясняется, что представители общин не стре¬
мились точно указывать число евреев в своих отчетах. В размере налогообло¬
жения из года в год происходили очень серьезные изменения, и нельзя объ¬
яснить их только годичными изменениями в численности населения. Можно
предположить, что существовали также и иные, ныне неизвестные факторы,
/269 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
которые определяли уровень налогообложения. Но думается, что изменения,
происходившие на протяжении длительного времени, отражали и перемены в
относительной численности еврейского населения в различных районах, хотя
и невозможно установить точное число евреев, приезжавших или уезжавших
из тех или иных населенных пунктов.
В табл. 1 представлены данные об относительной доле различных реги¬
онов в выплате налогов в 1717-1764 гг. Можно отметить как значительные
колебания на протяжении короткого периода, так и некоторую среднюю ста¬
бильность, сохранявшуюся постоянно 5. Судя по всему, в эту эпоху были рас¬
пространены переезды на короткие расстояния, но не существовало заметной
миграции между регионами. Очевидно, что не было и сколько-нибудь об¬
ширной миграции из страны в страну. Иными словами, если бы в этот период
имела место значительная миграционная активность, было бы трудно понять,
почему общая картина уплаты налогов настолько стабильна. Ситуация, когда
миграция практически отсутствовала, объяснима. В эту эпоху не было боль¬
ших изменений в экономике, соответственно не было и факторов, привле¬
кавших мигрантов или, наоборот, побуждавших людей покидать насиженные
места. Кроме того, в эти годы ни в одном из регионов Польши не было таких
вспышек насилия, которые бы могли привести к бегству больших масс людей
на значительные расстояния.
Таблица 1. Распределение налогов по регионам, 1717-1764 гг. (на горизонтальной оси
года отмечены цифрами: 1 соответствует 1717 г., 47 — 1764 г.)
Мы не имеем точных данных о внутренней миграции населения Россий¬
ской империи в первой половине XIX в. Сведения, которые есть в нашем рас-
/270 /
3.2 / ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В КОНЦЕ XIX в.
Гомель. Синагога. Открытка нач. XX в. Joseph and Margit Hoffman Judaica Postcard Collection,
Folklore Research Center, Hebrew University of Jerusalem
поряжении, базируются исключительно на ревизиях, проводившихся в импе¬
рии, и дают лишь косвенную информацию. В ревизские сказки записывались
все жители, обязанные платить налоги, но они основывались на данных, по¬
ступивших от местного чиновничества, и были менее точными, чем сведения
настоящих переписей, потому что метрические книги, использовавшиеся чи¬
новниками, не содержали информации обо всех случаях смертей и рождений.
Кроме того, очевидно, в отдельных случаях чиновники получали определен¬
ную мзду, чтобы передавать намеренно заниженные сведения: ведь ревизские
сказки были основой для установления размера налогообложения. Вместе с
тем, учитывая, что уклонение от налогов было постоянно действующим фак¬
тором, по данным ревизий можно, с необходимой осторожностью, просле¬
дить изменения удельного веса населения в тех или иных районах. Анализ ре¬
визских сказок приводит нас к выводу о том, что миграционная активность в
тот период была довольно низкой.
Данные наиболее полных ревизий представлены в табл. 2.
/271 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Таблица 2. Данные ревизий о численности общего и еврейского населения в западных
районах Российской империи в абсолютных цифрах (в тысячах человек) и в процент¬
ном отношении 6
Регион
5-я ревизия
1795
8-я ревизия
1835
9-я ревизия
1850
10-я ревизия
1858
Евреи
Все на¬
селение
Евреи
Все на¬
селение
Евреи
Все на¬
селение
Евреи
Все на¬
селение
Белоруссия и
Литва
179.00
5160.00
493.00
6128.00
509.00
6315.00
552.00
6540.00
% от общей
численности
населения*
31
28
31
20
28
19
27
19
Балтийский
регион
9.00
1192.00
18.00
1655.00
22.00
1655.00
28.00
1744.00
% от общей
численности
населения*
2
6
1
6
1
5
1
5
Левобереж¬
ная Украина
11.00
3354.00
38.00
4294.00
52.00
4468.00
63.00
4874.00
% от общей
численности
населения*
2
18
2
14
3
14
3
14
Правобереж¬
ная Украина
124.00
3422.00
490.00
4509.00
538.00
4832.00
602.00
5221.00
% от общей
численности
населения*
21
18
30
15
29
15
30
15
Новороссия
(Южная
Украина)
24.00
1616.00
106.00
3387.00
145.00
4216.00
195.00
4911.00
% от общей
численности
населения*
4
9
7
11
8
13
10
14
Сибирь
0.00
1188.00
5.00
2307.00
6.00
2707.00
7.00
3034.00
% от общей
численности
населения*
0.00
6
0.00
8
0.00
8
0.00
9
Польша
230.00
2679.00
455.00
4344.00
564.00
4811.00
571.00
4697.00
% от общей
численности
населения*
40
14
28
14
31
15
28
13
Кавказ
0.00
0.00
3.00
3381.00
10.00
3720.00
15.00
4107.00
% от общей
численности
населения*
0.00
0.00
0.00
11
1
11
1
12
Всего
577.00
18611.00
1608.00
30005.00
1846.00
32724.00
2033.00
35128.00
* В колонке «евреи» — % от общей численности еврейского населения.
/272 /
3.2 / ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В КОНЦЕ XIX в.
Данные, содержащиеся в табл. 2, показывают, что до середины XIX в.
миграция еврейского населения, очевидно, не носила сколько-нибудь зна¬
чительного характера. Начиная с 1850 г. отмечается рост относительной
численности евреев Новороссии и Левобережной Украины. Это процесс
представляется особенно логичным в свете имеющихся сведений об эконо¬
мическом подъеме и интенсивном социальном развитии еврейских общин
Новороссии, в особенности Одессы. Однако ясность есть далеко не во всем.
Остается много вопросов о причинах изменения удельного веса евреев Цар¬
ства Польского на протяжении первой воловины XIX в. Можно предполо¬
жить, что данные ревизий были особенно недостоверны именно в случае
Польши, но, возможно, существуют и более вероятные объяснения, найти
которые пока не удается.
БАЗОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕМОГРАФИИ
ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В КОНЦЕ XIX в.
Как уже говорилось выше, в 1897 г. в Российской империи состоялась
единственная за ее историю всеобщая перепись населения. Для подготовки
этой переписи были предприняты значительные усилия, и, несмотря на ряд
неточностей и ошибок, а также неоднозначность некоторых данных, в целом
ее результаты можно признать достоверными. Согласно этой переписи, на
территории Российской империи проживало 5 215 805 евреев. Около 300 тыс.,
или 6% из них, жили за пределами черты оседлости.
Таблица 3 7. Евреи Российской империи за пределами черты оседлости
Курляндия и Лифляндия (ныне Латвия)
80 753
Санкт-Петербургская губ.
21 122
Харьковская и Смоленская губ.
24 808
Область войска Донского
15 978
Другие районы европейской части России (включая 8704 чел. в Москве и
Московской губ.)
68 500
Кавказ (включая Грузию)
56 783
Сибирь и Средняя Азия
48 474
В переписи 1897 г. приводятся не только данные об абсолютной числен¬
ности населения, но также сведения, характеризующие населенные пункты,
где оно было сосредоточено. Следующая таблица дает нам информацию о
числе евреев и о масштабах урбанизации еврейского населения. Исходя из
особенностей черты оседлости, мы разделили ее территорию на четыре услов¬
ных региона.
/273 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Таблица 4 8 Еврейское население черты оседлости по территории расселения и местам
проживания
Регионы
Численность
еврейского
населения
Еврейское население по типу
мест проживания (в %)
Доля евреев среди городских
жителей, %
проживающие
в городах
проживающие
в местечках
в городах
в местечках
Северо-
западные
губернии
1 422 000
44
38
53
58
Польские
губернии
1 321 000
62
25
38
45
Юго-за¬
падные
губернии
1 927 000
44
36
31
30
Бессарабия
228 000
48
27
37
56
Всего
4 899 999
49
33
37
40
Данные о географическом распределении еврейского населения по тер¬
ритории черты оседлости многое дают для его характеристики 9. Это распреде¬
ление не было случайным, и его анализ может пролить дополнительный свет
на место евреев в окружающем обществе.
РАССЕЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО И НЕЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
Как установил Р. Роланд, изучая корреляцию удельного веса еврейского и
нееврейского населения на территории черты оседлости, модель расселения
евреев по своим характеристикам имела много общего с моделью расселения
окружающих народов 11. Так, плотность еврейского населения на квадратный
километр коррелировала с плотностью нееврейского населения практически
во всех регионах черты. Это сходство отражает одинаковую для всех районов
черты экономическую роль евреев как торговцев и специалистов, выполняв¬
ших различные работы для нужд окружающего населения. Когда численность
еврейского населения увеличивалась, возникало уже упоминавшиеся выше
миграционное давление. Сведения, приведенные в табл. 2, показывают, что
демографические характеристики еврейского населения на юге и востоке им¬
перии немного отличались от того, что мы видим в других районах черты. Это
было, судя по всему, следствием того факта, что еврейские общины там воз¬
никли сравнительно недавно и находились еще в стадии становления. Можно
отметить, что уровень производственной и торговой активности в различных
губерниях не влиял существенным образом на расселение евреев. Возможно,
/274/
3.2 / ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В КОНЦЕ XIX в.
Резчик надгробных стел. Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг.
Из собрания центра «Петербургская иудаика»
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Таблица 5ю. Расселение еврейского и нееврейского населения по губерниям (1897 г.)
№
Губерния
Процент евреев (неевреев)
губернии во всем еврей¬
ском (нееврейском) насе¬
лении черты оседлости
Индекс различия удельного
веса еврейского и нееврей¬
ского населения губернии
среди всего еврейского и не¬
еврейского населения черты
оседлости (максимальная
корреляция — 0, минималь¬
ная — 100)
Евреи
Не евреи
1
Бессарабская
4.7
4.6
21.0
2
Виленская
4.2
3.7
18.2
3
Витебская
3.6
3.5
25.8
4
Волынская
8.1
6.9
7.2
5
Гродненская
5.7
3.5
15.5
6
Екатеринославская
2.1
5.4
32.8
7
Киевская
8.9
8.3
10.7
8
Ковенская
4.3
3.6
8.4
9
Минская
7.0
4.8
13.0
10
Могилевская
4.2
4.0
14.7
11
Подольская
7.6
7.1
5.3
12
Полтавская
2.3
7.1
27.1
13
Таврическая
1.2
3.7
19.6
14
Херсонская
7.0
6.4
24.6
15
Черниговская
2.3
5.8
12.2
16
Варшавская
7.2
4.2
28.6
17
Калишская
1.5
2.1
15.2
18
Кельцская
1.7
1.8
12.1
19
Ломжинская
1.9
1.3
8.1
20
Люблинская
3.2
2.7
12.6
21
Петроковская
4.5
3.2
22.9
22
Плоцкая
1.0
1.3
13.8
23
Радомская
2.3
1.9
9.1
24
Сувалкская
1.2
1.4
6.9
25
Седлецкая
2.5
1.7
9.0
Всего на территории чер¬
ты оседлости
100.2
100
это происходило из-за второстепенной роли евреев в развитии промышлен¬
ности и торговли в индустриальных центрах на территории черты оседлости
в конце XIX в.12
Как уже говорилось выше, процессы урбанизации, происходившие в
XIX в., изменили модель географического расселения еврейского населения
в Российской империи. До конца столетия около 50% евреев черты оседлости
/ 276 /
3.2 / ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В КОНЦЕ XIX в.
Процент евреев среди
всего населения гу¬
бернии
Плотность населения на
квадратный километр
Процент евреев, про¬
живавших в городских
центрах
Процент евреев
в городском на¬
селении
Евреи
Неевреи
11.8
5
37.4
48.0
37.4
12.9
4.9
33.0
42.8
44.4
11.8
4.0
29.9
64.8
52.7
13.2
5.5
36.1
30.1
51.0
17.5
7.3
34.3
52.9
58.3
4.8
1.6
31.7
63.4
26.7
12.2
8.5
61.5
33.5
31.6
13.8
5.3
33.1
29.3
43.5
16.1
3.8
19.8
38.7
59.4
12.1
4.2
30.9
37.9
52.6
12.3
8.8
63.2
27.8
46.4
4.0
2.2
53.5
73.1
29.6
4.2
1.0
23.0
64.7
13.6
12.5
4.8
33.7
71.1
30.8
5.0
2.2
41.7
47.9
26.2
18.2
20.1
90.5
81.5
33.9
8.5
6.3
67.8
60.9
37.6
10.9
8.3
67.2
43.3
51.3
15.8
8.7
46.3
38.4
46.9
13.5
9.3
59.7
47.2
45.8
15.9
18.2
95.8
73.5
32.0
9.3
5.4
53.2
60.0
35.0
13.8
9.1
56.9
45.2
50.6
10.2
4.8
42.5
49.8
40.0
15.7
8.4
45.5
52.2
53.7
11.6
5.3
39.9
48.9
31.7
проживали в городах. В то же время возрастала степень концентрации евреев
в нескольких городских центрах, среди которых выделялись Варшава, Одесса
и Лодзь. В настоящее время, после Холокоста, трудно представить себе вели¬
чину еврейских общин в этих городах. В Варшаве, например, накануне Вто¬
рой мировой войны проживало 370 тыс. евреев — почти столько же, сколько в
Марокко, Алжире и Тунисе, вместе взятых.
/ 277 /
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Сосредоточение евреев в больших городах имело целый ряд последствий.
Возникновение крупных общин дало толчок развитию новых политических
движений, привело к расцвету еврейской журналистики, появлению совре¬
менных культурных объединений, школ разных типов. С другой стороны, не¬
смотря на то что удельный вес еврейского населения в центральных городах
был достаточно велик, оно никогда не составляло в них большинства. Поэто¬
му, несмотря на сосредоточение в небольшом количестве мегаполисов, евреи
становились все более и более открытыми для окружающей их культуры. От¬
рыв от привычного окружения и анонимность городской жизни усиливали
влияние ранее неизвестных им идей и взглядов — как направленных на борь¬
бу с традицией, так и ориентированных на ее защиту.
Результаты урбанизации известны, сложнее проследить ход самого про¬
цесса возрастания численности еврейского населения в главных городах.
Таблица 6 13. Еврейское население крупных городов в XIX в.
Город
Конец XVIII в.
Середина XIX в.
Конец XIX в.
1910 г.
Одесса
250
17 000
139 000
152 000
Вильно
6900
23 000
64 000
72000
Екатеринослав
320
3400
40 000
69 000
Бердичев
2000
23000
42 000
56 000
Белосток
760
6700
42 000
52 000
Киев
200
3000
32 000
51000
Варшава
8000(1813)
41000
21 9000
278 000
Лодзь
2800
99 000
88 000
Люблин
8600
24 000
32 000
По данным, приведенным в табл. 6, хорошо видно, что, при склонности
евреев к миграции именно в крупные города 14, концентрировались они не
только там, но и в меньших по размеру городах 15. Структура урбанизации ев¬
рейского населения в конце XIX в. по своему характеру отличалась от модели
расселения неевреев. Около половины евреев проживало в населенных пун¬
ктах с населением более 7 тыс. жителей (это медианное значение), другая же
половина — в городах, местечках и селах с меньшим населением. Медианное
значение для нееврейского населения было значительно ниже. 50% неевреев
жили в населенных пунктах с населением не более 700 чел 16.
Хорошо знакомо представление о том, что евреи Восточной Европы про¬
живали главным образом в местечках, или «штетлах», где они находились в
изоляции от нееврейского мира. В действительности во все эпохи и в особен¬
ности в конце XIX в. реальность была другой. В 1897 г. лишь 40% евреев жили
в населенных пунктах, где они составляли большинство 17. Другими словами,
евреи, как правило, являлись меньшинством не только в уездах, где они про¬
/278/
3.2 / ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В КОНЦЕ XIX в.
живали, но и непосредственно в своих городах и местечках. Торговая актив¬
ность и ремесленная деятельность евреев были причинами постоянного кон¬
такта значительной их части с окружающим нееврейским населением. Поэто¬
му можно сделать вывод, что евреи всегда были открыты влиянию извне. Даже
если они концентрировались в большом количестве в еврейских кварталах го¬
родов со смешанным населением и создавали там своего рода «город внутри
города», это не защищало их от влияния со стороны нееврейского окружения.
С другой стороны, нужно обратить внимание на то, что большая часть не¬
еврейского населения не имела постоянной связи с евреями. Представители
других народов видели и встречали евреев, но они не жили вместе с ними. На
территории черты оседлости было много штетлов, хотя большинство евреев и
не жило в них. Даже если во многих городах и местечках процент евреев был
ближе к 50, чем к 100, это в любом случая свидетельствует о высокой степени
концентрации еврейского населения 18.
До сих пор мы говорили о характерных чертах еврейского населения на
территории черты оседлости в конце XIX в. Многие из этих черт были доста¬
точно новыми и не встречались в недавнем прошлом. Это можно показать,
сравнивая сложившуюся ситуацию с имевшей место в середине XVIII в. Как
говорилось выше, в 1765 г. в Польско-Литовском государстве была проведена
перепись еврейского населения. Ее результаты были достаточно точны, и на
них вполне можно полагаться 19. Так как административные границы в период
1765—1897 гг. существенно изменились, трудно провести точное сравнение, но
можно получить общую картину произошедших изменений: это прежде всего
резкий рост еврейского населения в этот период, а также изменения в его гео¬
графическом расселении.
Таблица 7. Распределение еврейского населения по районам черты оседлости в 1764 и
1897 г.20
Регион
Процент от всего еврейского населения
1764 г.
1897 г.
Литва и Белоруссия
40
29
Польша (Царство Польское)
39
27
Юг и юго-восток
21
44
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
Исследователи установили, что в Новое время различные группы на¬
селения часто проходили схожий процесс демографических изменений. На
первом этапе отмечался высокий уровень рождаемости в сочетании с низкой
продолжительностью жизни, но в конце концов происходил переход к мо¬
/279/
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Сапожник. Полонное Волынской губ.
Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912-1914 гг.
Из собрания центра «Петербургская иудаика»
дели низкой рождаемости при значи¬
тельно более высокой продолжитель¬
ности жизни. На промежуточном этапе
рождаемость оставалась достаточно
высокой, но при этом происходило
снижение смертности. На этом этапе
численность населения быстро возрас¬
тала, но, когда рождаемость снижалась,
баланс восстанавливался, и население
переставало расти. Этот процесс назы¬
вается «демографическим переходом».
Он происходил у различных групп на¬
селения в разные периоды. У евреев
Восточной Европы демографический
переход начался на заре Нового време¬
ни и достиг последнего этапа к концу
XIX в. — началу XX в. Еврейское насе¬
ление росло значительно быстрее, чем
в прошлом, и гораздо быстрее, чем уве¬
личивалась численность окружавших
его народов. Не так легко найти при¬
чины этого увеличения темпов роста,
произошедшего в начале Нового вре¬
мени. В это время не снижался возраст
вступления в брак, и процент браков у евреев не увеличился, поэтому нельзя
объяснить рост еврейского населения увеличением рождаемости. Логично
было бы предположить, что увеличение численности связано со снижением
детской смертности и, возможно, также с ростом продолжительности жизни
еврейского населения. Не исключено, что причинами этого было отсутствие
в XVIII—XIX вв. кровопролитных войн и снижение смертности от эпидемий.
Нельзя забывать и то, что в этот период произошло улучшение в структу¬
ре питания (например получил распространение картофель), которое само
по себе могло привести к снижению смертности. При всем том достаточно
сложно объяснить разницу в темпах роста численности евреев и неевреев,
проживавших в тех же самых местах. Важно иметь в виду, что большинство
неевреев были крестьянами, тогда как евреи занимались торговлей и ремес¬
лом. Можно предположить, что происходившие в окружающем мире пере¬
мены по-разному влияли на уровень смертности и имелась причинная связь
между сферой занятости и этим уровнем. Еврейские женщины, как правило,
позже отнимали от груди своих детей, чем нееврейки, возможно, это влияло
на разницу в уровне детской смертности.
/280 /
3.2 / ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В КОНЦЕ XIX в.
В конце XIX в. евреи снова опередили своих соседей, на это раз в процес¬
се замедления темпов роста населения. Этому был ряд причин. Естественный
рост еврейского населения в XIX в. создал «мальтузианскую» ситуацию, дру¬
гими словами, население росло быстрее, чем появлялись новые экономиче¬
ские возможности, это способствовало обнищанию еврейского общества — и,
как следствие, темпы роста еврейского населения снизились. Остается не до
конца ясным механизм, благодаря которому произошло снижение темпов ро¬
ста. Понятно, что повысился возраст вступления в брак, и это привело к сни¬
жению рождаемости. Судя по всему, многие использовали имевшиеся сред¬
ства контрацепции. Возможно, увеличившаяся миграция также достаточно
эффективно способствовала сокращению темпов роста населения. Миграция
могла порождать стремление отложить вступление в брак, нарушала равнове¬
сие между полами и снижала шансы найти для себя пару, она усиливала также
желание отказаться от беременности до тех пор, пока не удастся обосноваться
на новом месте 21.
ЭМИГРАЦИЯ
Традиционно евреи занимались прежде всего торговлей и ремеслом. Так,
как численность евреев увеличивалась значительно быстрее, чем численность
неевреев, борьба за источники заработка между евреями ужесточалась. Един¬
ственным выходом было найти место, где существовала потребность в ремес¬
ленниках и торговцах. Другими словами, переезд часто был единственным
средством выживания. В местечках евреи, особенно молодые, выбирали один
из трех имевшихся вариантов миграции.
Первым вариантом был переезд в большой город. Выше отмечалось, что
в 1900 г. наиболее крупные еврейские общины на территории Российской им¬
перии существовали в Одессе, Варшаве и Лодзи — городах, где еще столетием
ранее еврейских общин не было. Рост еврейского населения в этих и других
растущих городах был следствием миграции.
Вторым вариантом был переезд в местности, где раньше отсутствовало
еврейское население. Действительно, в 1900 г. в Новороссии (ныне юг Укра¬
ины) — регионе, где ранее почти не было евреев и который был открыт для
массовой еврейской миграции только в XIX в., — уже проживало около 10%
евреев Российской империи. В XIX в. там интенсивно развивались междуна¬
родная торговля и промышленность, кроме того, этот регион привлекал мно¬
гочисленных крестьян, искавших свободные земли. Экономическое развитие
Новороссии стало причиной переезда туда большого числа евреев, искавших
заработки, благодаря чему она стала новым центром еврейского расселения в
империи.
/281/
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Была также третья возможность. Некоторые евреи пришли к выводу, что
выход из тяжелой экономической ситуации можно найти лишь далеко за пре¬
делами империи, и приняли решение эмигрировать в Соединенные Штаты
или в другие страны. Именно это, а не погромы, было главной причиной волн
эмиграции за океан.
Процесс внутренней и внешней миграции стал особенно интенсивным во
второй половине XIX в. В этом можно убедиться, если сравнить результаты
переписи 1897 г. и данные ревизий. Ревизии давали информацию о численно¬
сти населения Российской империи, служившую основой для формирования
налогообложения. Данные ревизий базировались на отчетах местных чинов¬
ников, а не на обходе домов, как происходит при проведении переписи. Все¬
го в 1718—1858 гг. было проведено 10 ревизий. Как уже отмечалось, сведения,
содержащиеся в ревизских сказках, не были достаточно точны, потому что
многие люди уклонялись от учета или скрывались от проводивших ревизии
чиновников, с тем чтобы избежать налогообложения. Но так как уклонение
от учета было общим явлением, мы сочли возможным использовать данные
ревизий, для того чтобы проследить те или иные демографические процессы,
а также для того, чтобы установить, какой процент евреи составляли среди на¬
селения тех или иных местностей в первой половине XIX в. На основании ре¬
зультатов ревизий мы пришли к выводу, что процентная доля и относительная
численность евреев в различных регионах были устойчивы. Самым простым
объяснением этого факта является то, что в период проведения ревизий отсут¬
ствовала сколько-нибудь значительная миграция. Анализ результатов пере¬
писи 1897 г. свидетельствует о переменах, произошедших во второй половине
XIX в. Большое число евреев в «новых» регионах родилось в других районах
черты оседлости и, видимо, прибыло оттуда. Можно заключить также, что на
протяжении второй половины XIX в. массовая внутренняя миграция, в боль¬
шей или меньшей степени, происходила параллельно масштабной эмиграции
за границу 22.
Выше отмечалось, что демографическое давление было главной причи¬
ной массовой эмиграции евреев за океан. Хотя эмигранты, уезжавшие в США,
подчеркивали, что основным фактором, побудившим их покинуть Россию,
было стремление к свободе и безопасности, нужно признать, что именно тя¬
желое экономическое положение было главной причиной, вынудившей их
эмигрировать. Поэтому эмигранты прибывали в США чаще всего именно из
районов, где экономические проблемы еврейского населения носили наи¬
более острый характер. Были, конечно, и годы, когда в Российской империи
происходили особенно серьезные беспорядки и погромы. Но вспышки на¬
силия, как правило, не влияли на поток эмиграции, кроме того, эмигранты
отправлялись за границу не только в годы погромов. Большинство погромов
произошло на юге черты оседлости, но из этих районов прибыло сравни-
/282/
3.2 / ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В КОНЦЕ XIX в.
тельно немного иммигрантов, потому что, кроме насилия, там имело место
и экономическое развитие. В период беспорядков, естественно, были люди,
принимавшие решение уехать из-за отсутствия безопасности. Но эмиграция в
другие страны продолжалась из года в год, несмотря на то что люди, желавшие
покинуть Россию из-за вспышек насилия, принимали решение об отъезде сра¬
зу после самого погрома или спустя короткое время после завершения волны
беспорядков 22. Влияние антисемитизма следует искать не в самом решении об
эмиграции, а в ее форме. Евреи в большинстве своем эмигрировали вместе с
семьями, хотя, как правило, эмиграция не носит семейного характера. Мо¬
дель обычной эмиграции предполагает, что эмигранты едут за границу, чтобы
заработать денег и вернуться домой. Выбор модели семейной эмиграции гово¬
рит о страхе перед будущим. Уже говорилось, что большинство еврейских им¬
мигрантов прибыли из районов, где существовали серьезные экономические
трудности, и именно эти трудности вынуждали людей принять решение об
эмиграции. Уезжая для того, чтобы заработать денег, они также считали, что
для всей семьи будет лучше, если она поедет с ними. Другими словами, клю¬
/ 283 /
Семья Борисовских. Нач. XX в. Москва. Из семейного архива Ю.М. Балагулы
ЧАСТЬ 3 / ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
чевое решение люди принимали по экономико-демографическим причинам,
но в выборе семейной модели эмиграции играл роль, среди прочего, и фактор
страха перед антисемитизмом. В конце XIX в. около 1,9 млн евреев (37% от
всего еврейского населения) были внутренними мигрантами на территории
черты оседлости, и еще 420 тыс. евреев эмигрировали в Соединенные Штаты.
Это максимальный уровень миграции по корректно проведенным оценкам.
* * *
Можно рассматривать новую демографическую реальность, в которой ока¬
залось еврейское население в конце XIX в., как форму модернизации и отхода
от традиционных моделей, господствовавших в прошлом. С другой стороны,
на практике результатом упомянутых изменений стало возвращение к имевшей
место в прошлом модели медленного роста населения. В Средние века в Европе
еврейские семьи, судя по всему, были меньше, чем это было принято в начале
XIX в. Другими словами, семья, имевшая семь и более детей, каждый из кото¬
рых достигал совершеннолетия, была таким же следствием модернизации, как
Гаскала (еврейское Просвещение) и другие явления. Сокращение роста семьи,
характерное для XX в., и завершение демографического перехода были, с одной
стороны, совершенно новыми факторами, но с другой — хотя и не все сознают
это — являли собой возвращение к модели, типичной для еврейского мира до
начала Нового времени. Так или иначе, очевидно, что для евреев Восточной Ев¬
ропы XIX в. был эпохой значительных демографических изменений.
Перевод с иврита Юрия Снопова
1 Об этом см. важные исследования Ю. Аврутина: Avruti Е.М. The politics of Jewish
legibility: documentation practices and reform during the reign of Nicholas I // Jewish Social
Studies. 2005. № 11. P. 136-169; Idem. The power of documentation: vital statistics and Jew¬
ish accommodation in tsarist Russia // Ab Imperio. 2003. № 4. P. 271—300; Idem. Racial Cat¬
egories and the Politics of (Jewish) Difference in Late Imperial Russia // Kritika: Explorations
in Russian and Eurasian History. 2007. № 8. P. 13-40.
2 О создании черты оседлости см.: Клиер Дж. Д. Россия собирает своих евреев:
Истоки еврейского вопроса в России, 1772—1825 гг. М.; Иерусалим, 2000; то же на
англ, яз.: Klier J. Russia Gathers in Her Jews. The Origins of the ‘Jewish Question’ in Russia,
1772-1825. De Kalb (Ill.), 1986.
3 Я много говорил о процессе внутренней миграции в моей статье «Patterns of in¬
ternal Jewish migration in the Russian Empire» (Ro’i Y. (ed.), Jews and Jewish life in Russia
and the Soviet Union. London, 1995..P. 28—47). Но когда я писал эту статью, я не знал
об источниках, упомянутых в следующем примечании, а также не думал об изучении
ревизских сказок (см. далее).
4 См.: Калик И. Ха-оцер га-авод: Решимот мас ха-голголет ха-иехуди бе-меа йуд-
хет ше-ба-архион ха-цава ха-полани (Собрание потерь: Списки для выплаты евреями
подушного налога XVIII в., хранящиеся в архиве Войска Польского) // Цион. № 3 (69).
1995. С. 329-356 (на иврите). Табл. 1 и 2 созданы на основе данных, содержащихся в
/284/
3.2 / ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В КОНЦЕ XIX в.
этой статье И. Калик. Недавно свет увидела ее кн.: Kalik J. Scepter of Judah: The Jewish
Autonomy in the Eighteenth-Century Crown Poland. Leiden, 2009.
5 Можно отметить, что часто в годы, когда вырастала доля Великопольской и
Малопольской провинций и региона Волыни, снижался соответственно удельный вес
Русского воеводства, и наоборот. Судя по всему, причины этого носили внутренний
характер и не были связаны с миграционной активностью.
6 Данная таблица базируется на сведениях, опубликованных в кн.: Кабузан В.М.
Народы России в первой половине XIX в.: Численность и этнический состав. М., 1992.
7 Таблица взята из кн.: Leshinsky Y. Dos yidishe folk in tzifern (Еврейский народ в
цифрах). Берлин, 1922. С. 83.
8 Там же. Табл. П.С. 42.
9 См. очень важную статью Ричарда Роланда. В дальнейшем мы будем часто ос¬
новываться на результатах его анализа, представленных в этой статье: Rowland R. Geo¬
graphical Patterns of the Jewish Population in the Pale of Settlement of Late Nineteenth Cen¬
tury Russia // Jewish Social Studies. 1986. №48. P. 207—234.
10 Ibid. Табл. 1. P. 212.
11 Индекс различия (dissimilarity index) расселения еврейского и нееврейского
населения по губерниям черты оседлости был 15,5 из 100, а коэффициент ранговой
корреляции (rank correlation coefficient) — 651. Это говорит о значительном сходстве
уровня численности еврейского и нееврейского населения в губерниях черты оседло¬
сти. Подробнее об этом см.: Rowland R. Op cit. Р. 213.
12 Ibid. Р. 216.
13 Лещинский Я. Указ. соч. С. 71, 77.
14 Rowland R. Op cit. Р. 222 и др.
15 Ibid. Tabl. 2. Р. 214,
16 Ibid. Р. 224.
17 Rowland R. Op cit. P. 228
18 Можно вычислить разницу между моделями расселения евреев и неевреев при
помощи индекса различия (dissimilarity index), который на территории черты оседло¬
сти был близок к 70 и даже выше.
19 Интересно, что отсутствует аналогичная информация по населению Польши и
Литвы в целом. Удивительно, но статистические данные о еврейском населении в тот
период были намного качественней, чем демографические сведения о неевреях.
20 Таблица взята из кн.: Stampfer Sh. The 1764 census of Lithuanian Jewry and what it
can teach us // Papers in Jewish Demography 1993. Jerusalem. 1997. Tabl. 3.. P. 99,
21 О процессах демографического перехода см.: Bloch В. Vital events among the Jews
in European Russia towards the end of the 19th century // Papers in Jewish Demography 1977.
Jerusalem. 1980. P. 96-81; DellaPergola S. Some fundamentals of Jewish demographic history
// Papers in Jewish Demography 1997. Jerusalem. 2001. P. 11-33
22 Я об этом много пишу в своей статье о внутренней миграции, которая должна
быть опубликована в книге, выходящей в честь юбилея Йосефа Салмона.
23 Описание процесса эмиграции содержится в кн.: Alroi G. Ha-mahpekha ha-shke-
ta. Ha-hagira ha-yehudit me-ha-imperia ha-rusit 1875—1924 («Тихая революция»: Еврей¬
ская эмиграция из Российской империи в 1875—1924 гг.). Иерусалим, 2008.
ИДЕОЛОГИЯ
И ПОЛИТИКА
4.1
РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
В 1881-1917 гг.
Йоси Гольдштейн
начале 80-х гг. XIX в. в России возникло первое национальное
еврейское движение «Хиббат-Цион» («Любовь к Сиону», или,
как его называли в русскоязычных кругах, «палестинофильское
движение»), которое провозгласило своей главной целью воз¬
рождение еврейского национального очага в Стране Израиля —
Палестине 1. В 80-е и 90-е годы деятельность «Хиббат Цион» под руководством
Иехуды Лейба Пинскера, Моше Лейба Лилиенблюма и Авраама Гринберга
направлялась из Одессы, однако больших успехов на этом этапе добиться не
удалось. Когда летом 1897 г. на политическую арену в Центральной Европе
вышло новое движение еврейского национального возрождения — сионизм,
основанное венским журналистом Теодором Герцлем, «Хиббат Цион» стало
его органичной частью. Однако несмотря на то что центр нового движения
переместился в Вену, российское его отделение продолжало играть ключевую
роль и пользовалось огромным влиянием во Всемирной сионистской органи¬
зации. На сионистских конгрессах российские делегаты намного превосхо¬
дили численностью представителей других филиалов движения; пожертвова¬
ния, собранные в черте оседлости для финансирования сионистской деятель¬
ности, были порой значительнее, чем пожертвования из всех других регионов,
вместе взятых; а то, что Герцль и его соратники пытались найти политические
и дипломатические решения проблем российского еврейства, придавало еще
большую значимость российскому сионистскому движению, независимо от
его реальной силы.
/289 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
В годы руководства преемников Герцля — Давида Вольфсона и Отто Вар¬
бурга — российские сионисты стали играть еще большую роль, они факти¬
чески определяли деятельность всего движения, хотя его центр оставался в
Гамбурге. Идеология «практического сионизма», разработанная российскими
лидерами, являлась основным движущим фактором репатриации в Палести¬
ну. Начало Первой мировой войны стало предвестником конца сионистского
движения в России: его деятельность была парализована, а позднее запрещена
большевиками.
* * *
Хотя среди исследователей сионистского движения принято считать, что
первыми организациями сионистской направленности были кружки палести¬
нофилов, появившиеся в Российской империи в начале 80-х гг. XIX в., некото¬
рые ученые утверждают, что у сионистского движения были «предвестники»,
которые действовали в Европе на протяжении всего XIX столетия 2. Однако
анализ исторических фактов показывает несостоятельность такого подхода.
Деятельность «протосионистского» характера, которая предшествовала упо¬
мянутому периоду, следует связывать с религиозными или филантропически¬
ми мотивами (как, например, деятельность Мозеса Монтефиоре, Адольфа
Кремье и др.), с продуктивизацией еврейской общины в Палестине (ишува)
или с осознанием того, что евреи — это нация, а не только религиозная общ¬
ность, к которому пришли в 60-х гг. XIX в. некоторые еврейские интеллектуа¬
лы (Перец Смоленскин, Иехуда Лейб Гордон, Авраам Мапу и др.).
Что касается деятельности социалиста Мозеса Гесса, а также раввинов
Цви Гирша Калишера и Иехуды Алкалая, которых исследователи считают
первыми «предвестниками сионизма», нет сомнения, что они действительно
«хотели инициировать движение» «в собственно историческом смысле», как
определили это Яков Кац и Йосеф Салмон. Однако фактически их деятель¬
ность носила весьма ограниченный характер и прекратилась в 60-х гг. XIX в.
Определенные англиканские круги в Великобритании или немецкая сек¬
та темплеров, которые поддерживали поселение евреев в Палестине, а так¬
же филантропы, такие как Лоренс Олифант, или общественные деятели, как
Эммануэль Hoax, сделали не меньше. Поэтому собственно «предвестниками
сионизма» можно считать только основателей «Хиббат-Цион», которые дей¬
ствовали в Восточной Европе в начале 80-х гг. XIX в.
* * *
Одной из главных причин появления национального еврейского движе¬
ния в начале 80-х гг. стали погромы на юге России 1881—1882 гг., которые за¬
ставили многих евреев признать, что в России у них нет будущего. Значитель¬
ная часть еврейских интеллектуалов пришли к выводу, что с годами положение
/290/
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
евреев станет еще более тяжелым из-за
проявлений антисемитизма и един¬
ственным выходом избежать ненависти
станет эмиграция на Запад. Против та¬
кого заключения возражали широкие
влиятельные круги еврейской общины,
и среди них представители буржуазии,
которые боялись потерять свое положе¬
ние, а главное, накопленные капиталы;
раввины, особенно главы хасидских
дворов, опасавшиеся, что эмиграция
приведет к ослаблению религиозной
традиции; некоторые интеллектуалы, в
отличие от своих коллег не видевшие в
погромах доказательств того, что евреи
не смогут интегрироваться в россий¬
ское общество (сами они считали вол¬
ну антиеврейского насилия временным
явлением, которое пройдет и не оставит
по себе памяти). Однако все эти доводы
не изменили убеждения значительной
части российского еврейства, что эми¬
грация — единственное решение про¬
блемы. Как только эта идея была воспринята, встал вопрос, куда ехать. Сразу
после погромов было принято считать, что спасение для евреев — в Америке,
где они законным образом смогут создать новый национальный очаг. Осно¬
вание движения «Ам-Олам» («Вечный народ»), которое под лозунгами «засе¬
ления Америки» привлекло к себе немало интеллектуалов, студентов и пред¬
ставителей среднего класса, укрепило это убеждение 3. И все же на практике
оно оправдалось только частично. Трудности, с которыми столкнулись те, кто
пытались эмигрировать в Америку, стали одной из причин широкого обще¬
ственного резонанса, вызванного идеями одесского просветителя и публици¬
ста Моше Лейба Лилиенблюма. Он настаивал на эмиграции в Страну Израи¬
ля, потому что, по его убеждению, только создание независимого еврейского
государства на этой земле решит еврейский вопрос. Многим казалось, что эти
идеи отвечают сложной ситуации, сложившейся в России, и поэтому глав¬
ным становится вопрос об их практическом осуществлении. В августе 1881
г. в черте оседлости возникло несколько объединений, участники которых
предпочитали репатриацию в Палестину эмиграции в Америку. Параллельно
подобные организации создавались и за пределами России, главным образом
в Румынии. Все они назывались по-разному, но образованное ими движение
/291 /
Моше Лейб Лилиенблюм (1843—1910)
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
получило общее название «Хиббат Цион». Активисты этого движения — «хо¬
вевей-Цион» («ревнители Сиона», или «палестинофилы») не только говори¬
ли о репатриации в Палестину как об избавлении от бедственного положения
в России, но и рассматривали еврейское поселение в Палестине в качестве
решения задачи национального возрождения. Многие палестинофилы жили
в северо-западных городах черты оседлости, в Литве и Белоруссии, а также
в различных районах Украины. Социальный состав новых объединений был
также весьма разнообразен и включал в себя все слои еврейского населения:
от наиболее неимущей его части до представителей буржуазии и домохозяев.
Часть организаций «Хиббат Цион» были образованы в крупных городах, та¬
ких как Санкт-Петербург и Одесса, и даже в западноевропейских столицах —
Вене и Лондоне. Социальный состав движения в больших городах был более
гомогенным — здесь эти организации состояли главным образом из предста¬
вителей состоятельных кругов, интеллектуалов и студентов.
Особой активностью отличалась созданная в Харькове в начале 1882 г. ор¬
ганизация Билу (названа по аббревиатуре библейского стиха «Сыны Яакова,
придите и пойдем», Исайя 2:5). По своему составу Билу была похожа на ор¬
ганизации палестинофилов в крупных городах, но ее участники стремились
немедленно воплотить в жизнь свои идеи 4. С самого начала своей деятель¬
ности билуйцы поставили перед собой цель организовать эмиграцию в США
или Палестину и создать на новом месте усовершенствованное еврейское
общество, которое бы принципиально отличалось по своему образу жизни
от традиционного еврейства Восточной Европы. Для достижения этой цели
они планировали организовать единое движение по всей черте оседлости. В
различные города было командировано около двадцати посланцев для обра¬
зования там отделений Билу. И действительно, через некоторое время движе¬
ние насчитывало несколько сот человек, а в период расцвета, в мае 1882 г., в
семнадцати его союзах состояло уже около 3000 членов. Однако сведения об
ужесточении Османской империей политики в отношении иммиграции в Па¬
лестину в 1882 г. наложили свой отпечаток на деятельность «Хиббат Цион» и
в особенности его отделений в крупных городах. В палестинофильских кругах
стали заметны пессимистические настроения уже с середины июня. Активи¬
сты движения «Хиббат Цион» пришли к выводу, что репатриация в Палестину
также не является немедленным решением проблемы эмиграции, встал даже
вопрос о том, есть ли дальнейший смысл в существовании палестинофильских
организаций. В конце концов тем же летом союз Билу фактически распался.
В этот переломный момент стала заметна разница между организациями
в провинции и в крупных городах России. Отчаяние, овладевшее последни¬
ми и парализовавшее их деятельность, не коснулось членов провинциальных
объединений. В 1882 г. палестинофильские организации, созданные год на¬
зад в местечках и небольших городах на северо-западе черты оседлости и на
/292 /
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
Участники конференции в Катовицах (1884 г.).
В центре (сидят) р. Шмуэль Могилевер и Леон Пинскер
Украине, продолжали свою деятельность почти в обычном режиме. Объясня¬
ется это, по-видимому, тем, что социально-экономическое положение евреев
здесь было особенно тяжелым, и многим казалось, что единственной возмож¬
ностью изменить его кардинальным образом была репатриация.
В последующие годы (1883—1884) деятельность «Хиббат Цион» в черте осед¬
лости радикально сократилась: только горстка активистов репатриировалась в
Палестину и обосновалась в Иерусалиме, Яффе и нескольких поселениях. Одна
из причин этого — отсутствие координации в деятельности членов движения.
По мнению, многих средством укрепления палестинофильского движения
могло стать объединение всех ее организаций. И действительно, в некоторых
городах, и прежде всего в Одессе, группа активистов во главе с Лилиенблюмом,
а также видным деятелем еврейского Просвещения врачом Лейбом (Леоном)
Пинскером 5, который стал известен благодаря своей брошюре «Автоэмансипа¬
ция», призывавшей к созданию еврейского государства, работали над осущест¬
влением этой идеи. В конце концов, после изнурительных дискуссий между
главными активистами «Хиббат Цион» 6 ноября 1884 г. в городке Катовицы в
Силезии состоялся съезд по созданию единого движения, в котором принял
участие 31 делегат. Пинскер, избранный председателем Центрального комите¬
та движения, в своей заключительной речи на съезде выразил надежду, что на¬
чатое «замечательное предприятие... устоит на своих ногах» и достигнет своих
целей 6. Вместе с тем он высказал сомнения в том, что «слабый новорожденный,
/293 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Р. Шмуэль Могилевер (1824—1898)
вышедший сейчас на свет после тяже¬
лых родов, окажется жизнеспособным».
Пинскер считал, что еврейство в России
недостаточно сплоченно, чтобы орга¬
низовать общенациональное массовое
движение, и опасался негативной реак¬
ции властей. Однако у большинства его
соратников и у тысяч активистов, про¬
читавших о Катовицком съезде в газетах
или получивших подробный отчет о нем
от своих товарищей, которые вернулись
из Катовиц в полном воодушевлении,
было чувство, что наступают новые
времена. Эйфория, охватившая пале¬
стинофилов, проистекала прежде всего
из убеждения большинства участников
съезда в том, что в Катовицах действи¬
тельно возникло еврейское националь¬
ное движение, которое быстро приведет
к переменам в положении евреев.
Однако мрачное пророчество Пин¬
скера практически осуществилось. Движение действительно погрузилось в
болото бездействия, и прошло много лет, прежде чем оно смогло приступить к
осуществлению задач, поставленных делегатами съезда. Вместе с тем в более
широкой перспективе следует рассматривать Катовицкий съезд как важную
веху на пути развития сионистского движения. По убеждению участников
съезда и широких кругов еврейского общества в черте оседлости, в Катовицах
было создано организованное национальное движение со своим центральным
руководством и четко сформулированной программой. Существованию де¬
сятков организаций «Хиббат-Цион», каждая из которых ставила перед собой
свои цели и действовала в одиночку, пришел конец. Еще одним достижением
Катовицкого съезда стало то, что за один стол сели представители враждовав¬
ших лагерей, разделенных как по культурному, так и по религиозному при¬
знаку, представители различных слоев еврейского социума, которые до этого
отказывались взаимодействовать. Административная ось, сформированная
Пинскером и другим выдающимся лидером «Хиббат Цион», влиятельным
раввином Шмуэлем Могилевером из Белостока 7, стала символом сосуще¬
ствования просвещенного и традиционного лагерей в рамках национального
движения. Общая цель — создание национальной автономии в Стране Израи¬
ля — объединила представителей противоборствующих партий и способство¬
вала выработке нового статус-кво в среде российского еврейства.
/294 /
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
* * *
После Катовицкого съезда многим участникам палестинофильского дви¬
жения казалось, что надежда, о которой говорилось на съезде, легко осуще¬
ствима, особенно в отношении того, что связано с репатриацией в Палестину.
В течение короткого периода к 30 организациям «Хиббат Цион», действовав¬
шим до съезда, присоединились еще 22. За пределами черты оседлости также
чувствовалось пробуждение организационной деятельности, кружки «Хиббат
Цион» появились в Центральной и Западной Европе и даже в Америке. Од¬
нако несмотря на оптимизм, царивший среди лидеров «Хиббат Цион», дви¬
жение развивалось медленно. Миссия богатого предпринимателя Калонимуса
Высоцкого 9, который в 1885 г. был послан руководством движения в Палести¬
ну, чтобы организовать работу на местах, не оправдала ожиданий. В результате
движение вновь погрузилось в состояние застоя.
Одна из причин затяжного кризиса движения «Хиббат Цион» состояла в
непростых отношениях между двумя его социальными составляющими: ма¬
скилим, среди которых выделялись Пинскер и Лилиенблюм, и религиозными
ортодоксами во главе с раввинами Могилевером, Мордехаем Элиасбергом и
Цви Иехудой Берлином. С момента создания движения между этими двумя
течениями развилась сложная и хрупкая система взаимоотношений с посто¬
янно меняющимся балансом сил. Предметами противостояния были вопрос
о руководстве и социально-культурный облик движения. Ортодоксы, утверж¬
давшие, что они составляют большинство среди участников движения, требо¬
вали для себя руководящих позиций и настаивали на том, что облик «Хиббат
Цион» должен соответствовать их культурным принципам 9. Пинскер и Лили¬
енблюм, напротив, считали, что, если отдать руководство в руки религиозных
лидеров, движение распадется само собой. Напряженность между двумя лаге¬
рями проявилась в целом ряде конфликтов. Один из них был связан с осно¬
ванием членами Билу нового поселения Гедера. После ожесточенного спора
было установлено правило, что отныне новый ишув (поселение) в Палестине
будет формироваться только из евреев, соблюдающих заповеди. Тот факт, что
члены Билу согласились с этим правилом, хотя далеко не все из них соблюда¬
ли заповеди, свидетельствует о большом влиянии Могилевера и его соратни¬
ков, несмотря на то что ключевые позиции в движении занимали маскилим во
главе с Пинскером и Лилиенблюмом.
Второй съезд движения «Хиббат Цион», который открылся в местечке
Друскеники (Друскининкай, Литва) 28 июля 1887 г., прошел в борьбе маски¬
лим и ортодоксов за лидерство в движении и за его общий характер. Пинскер
был вновь избран председателем Центрального комитета, однако Могиле¬
вер и его соратники приобрели большее влияние на деятельность движения.
Противостояние между лагерями достигло особого накала в 1888 г. в связи с
вопросом о соблюдении заповедей «субботнего года». Для новых поселенцев
/ 295 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Ахад ха-Ам (Ашер Цви Гинцберг, 1856—1927)
в Палестине прекращение сельскохо¬
зяйственных работ на год, как того тре¬
бовала галаха, означало полное разо¬
рение. Под давлением просвещенных
кругов «Хиббат Цион» был достигнут
компромисс, что само по себе свиде¬
тельствовало о решающем влиянии ма¬
скилим в движении. Поселенцы — на
основании специального разрешения,
которое дал ковенский раввин Ицхак
Эльханан Спектор, — получили воз¬
можность (как того требовал их опекун,
барон Эдмон Ротшильд) обрабатывать
землю различными способами и в суб¬
ботний год (1888-1889). Однако это
решение было принято только после
вмешательства Шмуэля Могилевера и
еще нескольких раввинов. Все это сви¬
детельствовало о том, что даже после
съезда в Друскениках «Хиббат Цион»
не оправилась от глубокого кризиса.
Многие активисты движения прекра¬
тили свою работу, и даже влиятельные организации палестинофилов в Одессе
и Варшаве находились на грани распада. Провал деятельности «Хиббат Цион»
стал очевиден в ходе третьего съезда движения, который прошел в середине
августа 1887 г. в Вильно. Выяснилось, что религиозные лидеры превратились
в центральную и ведущую силу движения, и после уходы Пинскера его место
занял рав Могилевер. В то же время религиозным кругам не удалось полно¬
стью проигнорировать маскилим и их требования. Поэтому они согласились,
чтобы было создано нечто вроде коллективного руководства, в котором будут
представлены оба лагеря. Избрание нового руководства под началом Моги¬
левера воспринималось многими членами движения как признак стагнации.
Они были уверены, что от белостокского раввина не приходится ждать обнов¬
ления «Хиббат Цион».
* * *
Другим симптомом ослабления движения «Хиббат Цион» и воцарившего¬
ся в нем хаоса стал рост влияния писателя и публициста Ашера Цви Гинцберга
(Ахад ха-Ама) и его соратников, объединившихся в организацию масонского
типа «Бней-Моше» 10. Вскоре после того, как в апреле 1889 г. он опубликовал
в газете «Ха-Мелиц» свою статью «Не тем путем», многие активисты «Хиббат
/296 /
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
Цион» поддержали его идеи. Они утверждали, что палестинофильское дви¬
жение должно стремиться к пробуждению у евреев национального самосо¬
знания и к созданию духовно-культурного центра в Стране Израиля. Успех
Ахад ха-Ама и его приверженцев свидетельствовал о том, что в деятельности
движения и его методах назрели перемены. Вместе с тем такие лидеры, как
Лилиенблюм, решительно возражали против подобной идеологии и видели в
популярности идей Ахад ха-Ама угрозу всему палестинофильскому делу. По¬
жилой и больной Пинскер не мог еще долго оставаться на своем руководящем
посту, и поэтому Лилиенблюм и его товарищи опасались, что в отсутствие ха¬
ризматического лидера в руководстве движения произойдет переворот, кото¬
рый будет противоречить их интересам. Они видели в ордене «Бней-Моше»
наиболее опасных противников и в гораздо меньшей степени опасались того,
что Могилевер и его сторонники захватят лидерство в движении.
Однако неожиданное развитие событий в начале 90-х гг. XIX в., связанное
с признанием царскими властями движения «Хиббат Цион», привело к усиле¬
нию Лилиенблюма и других «ветеранов» и к ослаблению обеих оппозицион¬
ных групп: как ортодоксов под началом рава Могилевера, так и «Бней-Моше»
под началом Ахад ха-Ама. В политике, которую проводил император Алек¬
сандр III в последние пять лет своего правления, преобладал консервативный
подход, подразумевавший русификацию и отказ от европейских влияний и
отличавшийся ярко выраженным антисемитизмом. Вместе с тем в отноше¬
нии к еврейской эмиграции власти были вполне терпимы. В 80-х гг. ежегодно
эмигрировали в среднем более 20 тыс. евреев, а в следующем десятилетии уже
30 тыс., однако, что гораздо важнее, все, кто хотел выехать, могли это сде¬
лать. Одним из доказательств того, что официальное отношение к еврейской
эмиграции было положительным, стало признание властями в начале 1890 г.
движения «Хиббат Цион».
Деятельность, направленную на получение официального признания
«Хиббат Цион», координировал Александр Цедербаум, редактор газеты «Ха-
Мелиц», в тесном сотрудничестве с Лилиенблюмом. Оба они позаботились
также о том, чтобы официальную просьбу властям подписали их непосред¬
ственные соратники, близкие к маскильским кругам в руководстве движени¬
ем в Одессе. Таким образом, они смогли бы руководить собраниями, где пред¬
полагалось принять решения о создании нового, официально признанного
движения, которое должно было прийти на смену «Хиббат Цион». И действи¬
тельно, на «предварительном» и «учредительном» собраниях, состоявшихся в
апреле 1890 г., Лилиенблюм и его сторонники добились того, чтобы председа¬
телем вновь созданного руководства был избран Пинскер, несмотря на песси¬
мизм и неверие, которые больной лидер выказывал к своей способности к ру¬
ководству и, более того, — к будущему движения. Избрание Пинскера должно
было продемонстрировать, что отныне деятельность организации будет опре-
/297/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Учредительное собрание Одесского комитета. Одесса, 1890 г.
Музей истории евреев в России. Москва.
Среди участников: р. Шмуэль Могилевер (1), Леон Пинскер (2), Менаше Моргулис (5), Ахад ха-
Ам (8), Бен-Ами (11), Шолом-Алейхем (18), Моше Лейб Лилиенблюм (20), Александр Цедербаум (21),
Яков Бернштейн-Коган (23) Мордехай Бен-Гиллель ха-Кохен (39), Исраэль Ясиновский (46), Зеев
(Владимир) Тёмкин (47), Яаков Мазе (52)
деляться в соответствии с установками Лилиенблюма и его окружения. Кроме
того, на собрании были приняты решения, направленные против оппозици¬
онных групп, прежде всего против «Бней-Моше». Главное же состояло в том,
что в истории движения «Хиббат Цион» открылась новая страница: оно стало
легальным и под своим официальным названием — «Общество вспомоще¬
ствования евреям земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине» (или
сокращенно: «Одесское палестинское общество», или «Одесский комитет») —
могло открыто действовать во имя достижения своих целей.
Сразу после того, как появился «Одесский комитет», его активисты, и в
первую очередь полный энергии секретарь Лилиенблюм, стали расширять
его рамки. Движение стало расти, очень скоро туда вступили тысячи новых
членов. Однако через несколько месяцев, осенью 1890 г., когда властям стало
очевидно, что Лилиенблюм и Пинскер хотят превратить общество в массо¬
вую организацию, они издали указ о прекращении его деятельности и недву¬
смысленно предупредили, что комитет будет распущен, если его расширение
не прекратится. И действительно, с октября 1890 г. власти предприняли ин¬
/298 /
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
тенсивные шаги, направленные на сокращение деятельности движения. На
самом деле власти не хотели роспуска общества, как сначала опасались его
руководители, собравшиеся в Одессе на экстренное заседание. Их целью было
только вернуть его к первоначальным целям, ибо, по мнению властей, «Одес¬
ский комитет» был создан лишь с одной целью — помочь евреям репатрииро¬
ваться в Палестину. Первым шагом властей было издание указа о прекраще¬
нии деятельности уполномоченных «Одесского комитета» в десятках городов
и местечек черты оседлости. Власти оправдывали этот шаг тем, что в соответ¬
ствии с уставом комитета его деятельность была разрешена только в Одессе
и ни в каком другом городе помимо нее, несмотря на то что в том же уставе
указывалось, что целью комитета является забота об общественном благе всех
евреев России.
* * *
Первые реальные трудности для «Одесского комитета», помимо проблем,
связанных с расширением его деятельности, начались сразу же после его соз¬
дания. Репатриация около десяти тысяч евреев в Палестину в 1890—1891 гг.
стала серьезным испытанием для «Хиббат Цион». Главной целью комитета
была организация массовой репатриации, и именно в этом он потерпел пол¬
ный провал 11. Это выразилось в невозможности помочь репатриантам найти
сразу после прибытия в Палестину рабочие места или подыскать какой-то
другой вариант, позволивший им получить хотя бы минимум средств к суще¬
ствованию. Комитет также не мог справиться с резким ростом цен на землю
в Палестине в связи с еврейской иммиграцией. Уже в сентябре 1890 г. лидеры
комитета поместили в газетах серьезные предупреждения о том, что сейчас
следует воздержаться от репатриации. Предупреждение было адресовано пре¬
жде всего неимущим слоям населения в свете тех сложностей, которые про¬
явились с приездом первой волны репатриантов. Вдобавок к этому лидеры
комитета обратились к уроженцу Елисаветграда видному деятелю «Хиббат
Цион» инженеру Владимиру Тёмкину с просьбой немедленно отправиться в
Палестину, чтобы возглавить в Яффе представительство «Одесского комите¬
та», так называемое Палестинское управление («ха-Ваад ха-Поэль»). Тёмкин
должен был навести порядок в вопросах репатриации и приобретения земли
новыми репатриантами. С течением времени членам комитета стало очевид¬
но, что репатрианты оказываются во все более критическом положении и что
Тёмкин, несмотря на свое влияние в новом ишуве, не может ничего сделать.
Тысячи репатриантов остались без гроша за душой, полностью отданные на
милость попечителей, и пытались всяческими способами покинуть Страну
Израиля. Цены на землю неуклонно росли, в результате чего не были завер¬
шены многочисленные сделки, уже полностью оплаченные вперед. Сотни ты¬
сяч франков были потрачены впустую. Стало очевидной необходимость при¬
/299/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
нятия самых экстренных мер, вплоть до полного прекращения репатриации.
Не приходится удивляться тому, что ощущение полного провала охватило ли¬
деров «Одесского комитета» к концу 1890 г.
Прекращение властями деятельности «Одесского комитета», тяжелая
ситуация в Палестине и резкое падение численности репатриантов, а также
глубокое уныние, охватившее широкие круги российского еврейства в связи
с массовым изгнанием евреев из Москвы, произошедшим как раз в это же вре¬
мя, не оставили главе комитета Пинскеру другой альтернативы, кроме отстав¬
ки. Правда, Лилиенблюм и его коллеги обвиняли в провале репатриации ор¬
ганизацию «Бней-Моше», к которой принадлежало большинство представи¬
телей Палестинского управления, в том числе и Тёмкин. Но несмотря на это
осенью 1891 г. Пинскер решил подать в отставку, оправдываясь тем, что ухуд¬
шение состояние здоровья не позволяет ему продолжать активную деятель¬
ность. Лидерам «Одесского комитета» пришлось избрать нового главу движе¬
ния: им стал коммерсант Авраам Гринберг, умеренный маскил, который, как
и Пинскер, пользовался авторитетом у представителей всех слоев еврейского
общества, поддерживавших комитет. Кончина Пинскера, последовавшая че¬
рез месяц после его отставки, усугубила атмосферу глубокого кризиса и пол¬
ной безысходности, царившей в комитете. Таким образом, если еще полтора
года назад многим казалось, что для российского еврейства наступает новая
эра и воплощение мечты о возрождении Страны Израиля близко, теперь, по¬
сле провала репатриации, все надежды на будущее связывались с Еврейским
колонизационным обществом под руководством барона Мориса де Гирша,
целью которого была организация эмиграции евреев в Аргентину.
В этот кризисный период сформировалась новая общественно-полити¬
ческая сила, выступившая с критикой «Одесского комитета». Р. Шмуэль Мо¬
гилевер и его ортодоксальные сподвижники на северо-западе черты оседлости
осенью 1893 г. основали собственную организацию «Мизрахи» (аббревиатура
«Мерказ рухани» — «Духовный центр»), рассчитывая на то, что им удастся
предложить альтернативу «Одесскому комитету» во главе еврейского нацио¬
нального движения. «Мизрахи» представлял интересы религиозных участни¬
ков движения «Хиббат Цион», в большинстве своем митнагедов, уроженцев
Литвы и Белоруссии, и мог рассчитывать на большое количество последо¬
вателей. Но уже вскоре стало очевидно, что деятели новой организации не
могут по-настоящему заменить на общественной арене «Одесский комитет».
Их деятельность ограничилась рассылкой маловразумительных призывов и
финансированием нескольких проектов, как, например, создание этроговых
плантаций в Палестине.
Помимо спора, разгоревшегося вокруг деятельности «Одесского коми¬
тета», в те же годы (1892—1894) ужесточились конфликты по вопросам рели¬
гии, культуры и еврейской идентичности, которые велись, с одной стороны,
/ 300 /
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
Ахад ха-Амом и «Бней-Моше», а с другой — различными ортодоксальными
кругами в Иерусалиме и в черте оседлости. В этих конфликтах Лилиенблюм
и другие члены «Одесского комитета» придерживались тактики невмеша¬
тельства. Несмотря на то что Ахад ха-Ам с 1892 г. был членом «Одесского
комитета», а члены «Бней-Моше» активно участвовали в его деятельности,
лидеры комитета, и прежде всего Лилиенблюм, считали, что этот конфликт
их не касается. Подобная тактика принесла свои плоды: «Бней-Моше» стала
объектом беспрецедентных по своей остроте нападок со стороны лидеров
ортодоксального еврейства, в то время как сам комитет в целом оставался за
рамками конфликта.
Провальная политика «Одесского комитета», который, по сути, стал мел¬
кой организацией, предоставлявшей помощь нескольким поселениям в Па¬
лестине и небольшому количеству образовательных и культурных институтов,
как, например, мужской и женской школам в Яффе, продолжала вызывать
внутренние разногласия. Конфликты и ожесточенное противостояние между
членами комитета разрослись до невиданных масштабов, и было очевидно,
что необходимо прийти к определенному консенсусу, в противном случае ко¬
митет распадется сам собой. В конечном итоге победу одержал Ахад ха-Ам.
Выяснилось, что только он в состоянии решать спорные вопросы, и в даль¬
нейшем все решения «Одесского комитета» проходили через него.
Однако подчинение «Одесского комитета» Ахад ха-Аму и «Бней-Моше»
не привело к улучшению его функционирования. К тому же сама организация
«Бней-Моше» находилась на грани распада, а ее основатель собирался объ¬
явить ее «неудавшейся попыткой». В отчете, изданном «Одесским комитетом»
для внутреннего пользования, говорилось, что неудачное администрирование
Палестинского управления в Яффе, а также, что не менее важно, рост еврей¬
ской эмиграции в Аргентину и готовность барона Мориса де Гирша и Ев¬
рейского колонизационного общества обеспечить новым поселенцам самые
благоприятные условия стали основными причинами кризиса в деятельности
«Одесского комитета». Что должен поселенец искать в Стране Израиля, — во¬
прошали авторы отчета Лилиенблюм и Иехошуа Эпштейн, — если в то же са¬
мое время ему предлагаются гораздо лучшие условия в Аргентине?
Оглядываясь назад, можно указать и другие причины неудачи «Одесско¬
го комитета», помимо заселения Аргентины и ошибок Палестинского управ¬
ления в Яффе. Среди прочего это нарастающее сопротивление деятельности
«Одесского комитета» со стороны еврейской религиозной общественности,
недовольство интеллигенции, которая стремилась к интеграции в русское или
польское общество, самим фактом существования еврейского национального
движения и, разумеется, разочарование еврейской общественности в объеме
деятельности «Одесского комитета».
/301/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
* * *
К концу 1895 г. в Россию стали проникать первые слухи о политической
деятельности молодого журналиста, талантливого корреспондента известной
либеральной австрийской газеты «Neue Freie Presse» Теодора Герцля. Выска¬
зывавшиеся им идеи и попытки их осуществления быстро стали предметом
интенсивного обсуждения среди евреев черты оседлости. Руководство «Одес¬
ского комитета» решило поддержать сионистские инициативы Герцля и по¬
стараться установить с ним постоянный контакт. Однако, судя по реакции
самого Герцля, в 1896 г. он еще не видел, каким образом поддержка из России
может помочь ему в осуществлении его планов. Он все еще верил, что сумеет
заинтересовать крупных еврейских финансистов, таких как Эдмон Ротшильд
и Морис де Гирш, своими политическими проектами и добьется от них фи¬
нансовой поддержки. Даже после провала этого плана и обращения к новой
тактике, которая требовала отвести центральную роль евреям Восточной Ев¬
ропы, он пошел на контакт с «ост-юден» (восточноевропейскими евреями)
без особого энтузиазма. Ближайшие помощники Герцля первыми обратили
его внимание на огромную силу, скрытую в российском еврействе, и на то,
что от евреев Восточной Европы во многом зависит его успех. В то же время к
осени 1896 г. начала выстраиваться оппозиция по отношению к Герцлю среди
участников «Хиббат Цион», и прежде всего среди членов «Одесского комите¬
та». Палестинофилы высказывали скептическое отношение к программе Гер¬
цля еще с лета 1896 г., когда до них дошли слухи о его неудачных переговорах
в Константинополе и в Лондоне. Это отношение усилилось после известия о
провале переговоров Герцля с бароном Ротшильдом в Париже. Открытая кри¬
тика Герцлем системы покровительства Ротшильда в отношении еврейских
колоний в Палестине и то явное пренебрежение, с которым он говорил о дея¬
тельности «Хиббат Цион», вызвало жестокие публичные нападки со стороны
руководства «Одесского комитета».
Но даже после этого участники «Хиббат Цион» были готовы сотрудни¬
чать с Герцлем. Однако сам Герцль продолжал избегать лидеров «Одесского
комитета» даже тогда, когда принял решение обратиться с призывом о под¬
держке к еврейским массам в феврале—марте 1897 г. и созвать национальный
конгресс для претворения в жизнь его сионистской программы. В результате
в последующие месяцы оппозиция лидеров комитета по отношению к Гер¬
цлю и его планам неуклонно крепла 12. Вместе с тем лидеры «Одесского коми¬
тета» не хотели, чтобы их обвинили в торможении деятельности, напрямую
или косвенно связанной с репатриацией в Страну Израиля, и в первую оче¬
редь с организацией сионистского конгресса. Мало того, они признавали, что
идеи Герцля и сила его харизмы привлекли многих евреев, которые не знали
о существовании «Хиббат Цион», и, разумеется, у них не было ни малейшего
желания мешать этому процессу. На своих заседаниях лидеры движения при¬
/302/
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
няли решение не предпринимать никаких действий, которые могли бы вос¬
препятствовать осуществлению планов Герцля. В то же время они воздержи¬
вались от пропаганды его деятельности. Кризис в отношениях между Герцлем
и лидерами «Одесского комитета» был, как и следовало ожидать, связан с кар¬
динальным различием их идеологических позиций. Герцль критиковал поли¬
тику основателей первого сионистского движения. Он не видел в поселении,
развивавшемся под покровительством барона Ротшильда, решения занимав¬
ших его проблем. Герцль полагал, что все усилия должны быть направлены на
создание еврейского государства, а не на основание отдельных поселений в
Палестине.
Нет никаких сомнений в том, что проведение Первого сионистского
конгресса 29—31 августа 1897 г. в Базеле было одним из главных достиже¬
ний Герцля, а возможно, самым главным. Однако даже непосредственно
перед началом конгресса сама возможность его проведения была под со¬
мнением — прежде всего из-за позиции руководства «Одесского комитета» в
данном вопросе. Когда в Россию дошли сведения о планах Герцля провести
сионистский конгресс, многие лидеры комитета сомневались, стоит ли при¬
нимать в этом участие. За исключением немногих сторонников Герцля (как,
например, инженера Менахема Усышкина, одного из видных лидеров «Хиб¬
бат Цион» в России) большинство активистов выражали сомнения в способ¬
ности венского лидера сотрудничать с комитетом, его избранными предста¬
вителями и институтами. Были и такие, кто просто не верил в успех Герцля.
Многие также опасались отрицательной реакции со стороны российских
властей на их участие в конгрессе и возможного негативного отношения со
стороны турок, которое впоследствии могло отрицательно сказаться на по¬
селенцах в Палестине. Поэтому многие активисты «Одесского комитета» во¬
обще не участвовали в конгрессе. Другие, в том числе Лилиенблюм и Ахад
ха-Ам, полагали, что нельзя отказываться от такой идеи. Перед самым от¬
крытием конгресса российские участники провели отдельное собрание, что¬
бы выработать единую позицию в предстоящих дебатах. Среди российских
делегатов царила атмосфера напряженного ожидания и неопределенности.
Однако в завершающей части конгресса общее настроение резко изменилось
и выражалось теперь в одобрительной реакции и всеобщем воодушевлении.
Изменение отношения российских евреев к происходившему было вызвано
ходом прений, поведением Герцля и тем, как он выстроил свои отношения
с делегатами на конгрессе. Во время общения с российскими сионистами
Герцль старался выглядеть сдержанным и внимательным. Требования лиде¬
ров «Одесского комитета» не подвергать критике Ротшильда во время общих
дискуссий на конгрессе и не допускать неодобрительных или каких-либо
иных высказываний, которые могли бы быть расценены как критические
по отношению к российским властям, были полностью учтены Герцлем. Та¬
/ 303 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
ким образом, ему удалось отодвинуть на определенный срок критику в свой
адрес со стороны российских активистов. Последователи Ахад ха-Ама были
удовлетворены подходом Герцля, который нашел выражение в одном из те¬
зисов Базельской программы: «Сионизм есть возвращение к еврейству еще
до возвращения в еврейскую землю». Палестинофилы видели важную побе¬
ду в том, что в программу был добавлен пункт о развитии поселения в Пале¬
стине. И действительно, все те представители из России, которые прибыли
на конгресс охваченные сомнениями, поддались всеобщей эйфории. Герцлю
на этом этапе удалось развеять их опасения и внушить им уверенность в том,
что есть надежда на исправление тяжелого положения российских евреев.
* * *
В первые же годы своего существования (1897-1903) сионистскому дви¬
жению удалось укорениться в России. Успех движения был обусловлен со¬
циально-экономической и культурной ситуацией, которая сложилась в среде
восточноевропейского еврейства в конце XIX в., с одной стороны, и энергич¬
ностью, инициативностью и харизмой самого Герцля — с другой. Герцлю была
чужда идеология «Хиббат Цион». Однако его идея о создании еврейского го¬
сударства отвечала потребностям российского еврейства, оказавшегося в тяже¬
лой социально-политической и экономической ситуации. Следует помнить,
что сионистское движение в России появилось в период интенсивного роста
городов, модернизации и поиска новых источников существования. Одним
из побочных эффектов этих процессов стало стремительное обнищание части
еврейского населения, падение уровня жизни и заметный рост безработицы,
особенно в старых местечках Польши, Белоруссии и Литвы. Будущее евреев
казалось крайне туманным, особенно в свете того, что правительство не ис¬
кало решения их социальных и экономических проблем, вызванных продол¬
жительной дискриминацией евреев на законодательном уровне, а также из-за
глубоко укорененного в российском обществе антисемитизма. Характерная
для еврейского традиционного общества эмоциональная связь со Страной
Израиля способствовала восприятию сионистской программы как естествен¬
ного решения общенациональных проблем среди разных слоев еврейского
населения России.
К движению, возглавляемому Герцлем, присоединились многие активи¬
сты «Хиббат-Цион», которые не входили в руководство движения. Их увле¬
ченность личностью и идеями Герцля и сильное желание преуспеть именно
там, где потерпел неудачу «Одесский комитет», компенсировали отсутствие у
них опыта на общероссийской общественной арене.
На совещаниях между наиболее влиятельными активистами сионистского
движения в России, проводившихся во время Первого сионистского конгрес¬
са, в ходе съезда в Белостоке (ноябрь 1897 г.) и, наконец, на 1-м съезде россий¬
/304/
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
ских сионистов, нелегально проведен¬
ном в Варшаве (октябрь 1898 г.), было
решено выдвинуть четырех человек,
которые возглавят сионистское дви¬
жение в России. Ими стали рав Моги¬
левер из Белостока, врач-офтальмолог
Макс Мандельштам из Киева, адвокат
Исраэль Ясиновский из Варшавы и ки¬
шиневский врач Яков Бернштейн-Ко¬
ган. Все вместе они образовывали Си¬
онистский исполнительный комитет.
Ни один из членов четверки не обладал
статусом лидера движения, и хотя Мо¬
гилевер считался на первых этапах бо¬
лее опытным руководителем, у каждого
были свои функции. Мандельштаму
были поручены финансы, Бернштей¬
ну-Когану — координация общей де¬
ятельности, Ясиновскому и Могиле¬
веру — агитация. Каждый из четверых
лидеров был назначен «уполномочен¬
ным» в своем географическом регионе, и между ними велась скрытая борьба
за влияние на членов движения. В конечном итоге наиболее влиятельной фи¬
гурой в сионистском движении в России оказался Бернштейн-Коган. Причи¬
ной этого стала, с одной стороны, болезнь рава Могилевера, а с другой — ак¬
тивная деятельность кишиневского уполномоченного, направленная на коор¬
динацию усилий всех сионистских организаций в России. Бернштейн-Коган
возглавлял особый административный орган — «Лишкат ха-Доар» («Почтовое
бюро») и с течением времени взял на себя выполнение многих функций и обя¬
занностей, которые ранее были распределены между другими лидерами.
Так «Почтовое бюро» превратилось в организационный и идеологический
штаб движения, в связующее звено между сионистским Исполнительным ко¬
митетом в Вене и уполномоченными в России.
В 1899—1900 гг. еврейские ортодоксальные круги в России развернули ши¬
рокомасштабную кампанию против сионистского движения, считая, что оно
ускоряет процессы секуляризации. Но именно в этот период сионизм пере¬
живал свой расцвет. Он проник в самые широкие круги еврейского населения,
особенно в средний класс и даже в те слои интеллигенции, которые ранее не
были восприимчивы к национальной идее. То, что сионистское руководство
южных регионов во главе с Бернштейном-Коганом подчинило своему кон¬
тролю управление сионистским движением в России, привело к установле¬
/ 305 /
Яаков Бернштейн-Коган (1859—1929)
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
нию единой идеологии и единого направления деятельности. Оно состояло в
том, чтобы сделать акцент на «практической» деятельности в Стране Израиля
в духе идей «Хиббат Цион» и сочетать ее с некоторыми аспектами программы
Герцля, и в особенности — с установкой на легальную политическую деятель¬
ность. К этому добавлялась концепция Ахад ха-Ама, считавшего культурную
работу неотъемлемой частью повседневной деятельности членов движения.
Еще в самом начале сионистского движения в России выяснилось, что с
точки зрения властей оно так же легитимно, как и деятельность «Одесского
комитета». «Практический» подход русских сионистов на этом этапе вполне
устраивал власти, для которых проблемы еврейского населения оставались
тяжелым бременем. Сионистское движение, взявшееся за всеобъемлющее ре¬
шение еврейского вопроса и пытавшееся вовлечь в свою деятельность и левые
круги социал-демократов, и еврейско-русскую интеллигенцию, выполняло, с
точки зрения правящих кругов, полезную функцию. Имперские же службы
безопасности — охранка и полиция — рассматривали деятельность сиони¬
стов как продолжение «Хиббат Цион» 13. Характерные элементы деятельности
«Одесского комитета»: проведение сионистских мероприятий в синагогах,
посылка в общины специальных «проповедников», большинство которых
были ортодоксами, сбор средств на местах — стали неотъемлемой частью сио¬
нистского движения, практически не претерпев серьезных изменений.
В целом успех сионистского движения в России на первых порах удивил
даже его участников, а агенты охранки определили российский сионизм как
явление, «поражающее» своей мощью.
Однако к 1900 г., накануне Четвертого сионистского конгресса, лиде¬
ры движения столкнулись с проблемами, которые потребовали задуматься о
целом ряде трудных вопросов. Сможет ли сионистское движение сохранить
прежний темп развития? В какой степени угрожают функционированию
движения обнаружившиеся в нем трещины — напряженность в отношениях
между сионистами юга России и сионистами Польши и Литвы или идеоло¬
гические противоречия между Герцлем и российскими сионистами? Не при¬
ведут ли первые успехи к необдуманной политике малоопытных активистов,
которые, стремясь расширить и разнообразить свою деятельность, могут под¬
вергнуть опасности существование движения в целом?
По прошествии двух лет по-прежнему казалось, что дела идут успешно.
И это несмотря на разочарование в дипломатических усилиях Герцля и по¬
следовавшее обострение конфликта между сионистским руководством и его
поверенными в России, несмотря на внутренние организационные измене¬
ния — замену Бернштейна-Когана Виктором Якобсоном и децентрализацию
власти уполномоченных в России, и, главное, переориентацию движения на
нужды текущего момента. В соответствии с концепцией «текущей работы»
(Gegenwartsarbeit), доминировавшей среди русских сионистов, на данном эта¬
/306/
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
пе следует направить сионистскую деятельность в первую очередь на органи¬
зацию внутренней жизни общин и национального образования, а не на ре¬
шение вопроса о политическом статусе Страны Израиля. Все эти факторы не
только не повредили и даже не приостановили развитие сионистского движе¬
ния, но на первом этапе (1901-1902) даже способствовали его усилению. При¬
чина этого коренилась скорее в организационной структуре самого движения
в первые годы его существования, чем в тех изменениях, которые происходи¬
ли в нем во времена его расцвета. Разочарование в дипломатических усилиях
Герцля, наблюдавшееся среди лидеров российского сионизма с 1899 г., хотя и
привело к организационным изменениям, не повлияло на уровень мотивации
участников движения. Они продолжали распространять сионистские идеи
и активно взаимодействовать с различными слоями еврейского населения,
охватывая все большее количество людей. Вместо изначальной сионистской
установки в духе Герцля, которую многие считали недостижимой и чуть ли не
утопичной, лидеры сионистского движения в России предложили сосредото¬
читься на «текущей работе» среди еврейских масс. Это позволило сионистско¬
му движению благополучно развиваться и в дальнейшем.
* * *
В начале 1902 г. «Почтовое бюро» было распущено, Бернштейн-Коган
был смещен со своего поста, а на его место избран химик и известный си¬
онистский лидер Виктор Якобсон из Симферополя, возглавивший новый
орган — «Информационное бюро» («Лишкат ха-информация»). Этот шаг
был не просто перестановкой кадров или изменением названия и местопо¬
ложения административного центра движения. Он означал смену принципов
управления сионистским движением в России. Бернштейн-Коган выступал
за централизацию управления и пытался подчинить своему контролю всю
деятельность движения. Это привело к возникновению оппозиции, которой
удалось привлечь на свою сторону Герцля. На Пятом сионистском конгрессе
(26—30 декабря 1901 г., Базель) Бернштейн-Коган оказался в конфронтации с
лидером движения, в итоге утратил все свои полномочия и был заменен Якоб¬
соном. После создания «Информационного бюро» в Симферополе, начиная
с января 1902 г. российские уполномоченные, численность которых к тому
времени превышала 12 человек, руководили деятельностью подчиненных им
сионистских ячеек по своему усмотрению. Между уполномоченными практи¬
чески не было никакой координации, и в результате в течение последующих
двух лет (1902—1903) сионистское движение в России погрузилось в состояние
застоя и организационного хаоса. Одним из побочных эффектов этого кризи¬
са стал раскол движения на различные фракции, которые ориентировались
на иные, чем центральные сионистские органы, идеологические принципы и
даже требовали для себя организационных привилегий. Так возникли и разви¬
/307/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
вались в рамках сионистского движения демократическая фракция, движение
«Мизрахи» и рабочие социалистические группы.
Демократическая фракция была создана несколькими еврейскими сту¬
дентами из России, которые учились в университетах Центральной Евро¬
пы 14. Наиболее видными ее деятелями были Лейб Моцкин из Берлина и Хаим
Вейцман и Бертольд Файвель из Женевы. Они следовали учению Ахад ха-Ама
и так же, как он, полагали, что культурный вопрос является центральным во¬
просом развития сионизма в целом. К тому же, будучи молодыми лидерами
с ярко выраженными политическими амбициями, они жестко критиковали
деятельность Всемирной сионистской организации и самого Герцля. Весной
1901 г. они создали в ней свое отделение и приступили к формированию соб¬
ственных исполнительных и пропагандистских механизмов. Главным требо¬
ванием демократической фракции было признание культурной работы в каче¬
стве важнейшей составляющей общей сионистской деятельности. На Пятом
сионистском конгрессе казалось, что демократическая фракция представляет
собой реальную оппозиционную силу, хотя ее поддерживали лишь немногие
делегаты. Благодаря своему политическому чутью Герцль сумел найти пра¬
вильный подход к лидерам демократической фракции, в итоге их влияние на
следующем конгрессе было фактически нейтрализовано.
Демократическая фракция не смогла стать влиятельной политической си¬
лой внутри сионистского движения прежде всего потому, что ее лидеры не по¬
заботились о создании организационной или партийной структуры, которая бы
сплотила их сторонников. Ни Вейцман, ни Моцкин не были в то время хариз¬
матическими фигурами, за которыми могли бы пойти массы только благодаря
их личному обаянию. Вместе с тем члены демократической фракции оказали
большое влияние на формирование облика Всемирной сионистской организа¬
ции, особенно в том, что касается ее ярко выраженного светского характера.
Энергичная деятельность членов демократической фракции не на шут¬
ку встревожила религиозные круги в сионистском движении, которые опаса¬
лись победы демократов в объявленной ими культурной войне и превращения
сионизма в светское движение западноевропейского типа. Религиозные си¬
онисты давно вынашивали план создания собственной политической органи¬
зации, и учреждение демократической фракции стало последним толчком к
этому. По инициативе раввинов Яакова Райнеса 15 и Яакова Слуцкого в 1902 г.
в Вильно собрались около 72 активистов, которые провозгласили создание
нового движения — «Мизрахи» как религиозно-ортодоксальной фракции в
рамках Всемирной сионистской организации 16.
Райнес и его соратники стремились сохранить независимость ортодок¬
сальных кругов внутри сионистского движения, чтобы противостоять иници¬
ативам демократической фракции. Однако в отличие от группы Моцкина и
Вейцмана ортодоксам удалось создать всеохватывающую организацию, кото-
/308 /
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
рая объединила более трети участников сионистского движения и преврати¬
лась впоследствии в мощную политическую партию. Раввин Яаков Райнес,
избранный руководителем «Мизрахи», смог найти подход к самому Герцлю и
стал одним из его наиболее активных приверженцев. Одна из причин его успе¬
ха состояла в том, что он согласился с учреждением в рамках Сионистской
организации светских образовательных институтов, как того требовали члены
демократической фракции. Вместе с тем Райнес добивался, чтобы при каж¬
дом культурном институте светского толка, который будет создан по инициа¬
тиве демократов, был создан параллельный институт ортодоксального толка.
Таким образом, утверждал он, ни у одной из сторон не будет возможности на¬
вязать свой подход оппонентам.
Одновременно с развитием демократической фракции и партии «Мизра¬
хи» в черте оседлости появились сионистские союзы, которые переняли со¬
циалистическую и социал-демократическую платформу у различных рабочих
партий, которые росли, как грибы после дождя, на просторах Российской
империи. Несмотря на то что главы сионистского движения проявляли враж¬
дебное отношение к социализму — вплоть до полного его отторжения, в двух
регионах черты оседлости — Литве и Белоруссии и на юге России появились
сионистские объединения с социалистической идеологической платформой.
В течение трех лет (1898-1900) члены этих двух групп не помышляли о том,
чтобы объединиться или создать одну представительную структуру. Однако
/ 309 /
Участники учредительного собрания фракции «Мизрахи»
(в центре — р. И.Я. Райнес). Вильно, 1902 г.
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
учреждение сионистских партий и усиле¬
ние еврейской социал-демократической
партии — Бунда подтолкнули их к объ¬
единению. Одновременно с этим начала
выкристаллизовываться последовательная
идеология, пришедшая на смену той идей¬
ной разноголосице, которая царила в пер¬
вых сионистских социалистических объ¬
единениях. Выразителями этой идеологии
стали Нахман Сыркин 17, а затем Дов Бер
Борохов 18. Сыркин развивал эволюцио¬
нистскую концепцию установления соци¬
ализма, которая была принята в западноев¬
ропейских социалистических движениях.
Ворохов придерживался детерминистского
подхода, в соответствии с которым сио¬
нистское социалистическое государство
возникнет в Палестине в результате «сти¬
хийного» процесса 19.
В последующие годы сионистские со¬
циалистические объединения постепенно расширялись, и возникла потреб¬
ность определения их организационных и идейных рамок на общероссий¬
ском уровне. В ноябре 1901 г. в Минске был созван 1-й съезд «Поалей Цион»
(«Рабочие Сиона»), в котором приняли участие представители сионистских
социалистических организаций северо-западной части черты оседлости. Ос¬
новным успехом этого съезда стало определение так называемой минской
идеологической линии («минскер толк»), подчеркивавшей необходимость
создания сионистских рабочих организаций, целью которых было улучшение
«экономического и духовного состояния еврейских рабочих». Впоследствии
эти организации послужили фундаментом для образования социалистическо¬
го течения в сионизме, которое с 1905 г. стало ведущим в сионистском движе¬
нии в целом.
Тот факт, что с конца XIX в. в России стали появляться сионистские груп¬
пировки разного толка, как в рамках сионистского движения, так и за его пре¬
делами, было признаком раскола в среде российских сионистов и возникно¬
вения новых видов деятельности, связанной с «текущей работой» с массами.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что с 1901 г. сионизм стал восприни¬
маться не как единая организация, представляющая монолитную идеологию,
а как конгломерат различных структур, действовавших самостоятельно. Эта
ситуация привела в конце концов к глубокому и затяжному кризису сионист¬
ского движения в России и поставила под сомнение само его существование.
/ 310 /
Р. Ицхак Яаков Райнес (1839—1915)
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
Парадоксальным образом 2-й съезд российских сионистов, состоявшийся с
разрешения властей в августе 1902 г. в Минске при участии более 900 делегатов
и приглашенных, призванный, по мнению участников, продемонстрировать
расцвет сионистского движения в России, не отразил реального положения
дел, а лишь констатировал ситуацию двух-трехлетней давности. Движение пе¬
реживало функциональный и организационный кризис, который постепенно
парализовал его.
* * *
Историки связывают тяжелую ситуацию, создавшуюся в сионистском
движении в России начиная с 1903 г., с глубоким кризисом в отношениях
между российским руководством и Герцлем, апогеем которого стал «план
Уганды». Как мы уже отмечали, российское руководство было очень разо¬
чаровано деятельностью Герцля и его неспособностью добиться результатов
в решении тех политических задач, которые он поставил перед сионистским
движением еще на Первом конгрессе. Тот факт, что Герцль был готов к поис¬
ку альтернативных территориальных решений — на Кипре и в Эль-Арише, —
только усилил напряженность, существовавшую между ним и российским
руководством, которое выступало категорически против подобных идей. Не¬
удивительно, что, когда Герцль представил свою программу еврейского засе¬
ления Восточной Африки, эта напряженность достигла апогея. Герцль просил
членов Шестого сионистского конгресса летом 1903 г. утвердить программу,
которую он составил вместе с британским министром колоний: создать ев¬
рейские поселения неподалеку от озера Виктория в Африке и основать там
еврейское государство, отказавшись, таким образом, от поселения в Стране
Израиля 20. Часть сионистских лидеров России во главе с Менахемом Усыш¬
киным категорически отвергли это предложение, в то время как другие — и
среди них Мандельштам и Райнес — готовы были к компромиссу. В результате
среди российских сионистов возникло два противоборствующих лагеря, что
в значительной степени парализовало их дальнейшую деятельность. Были и
другие причины кризиса сионистского движения в России в 1903 г.: это и иде¬
ологические расхождения, и запрет властей на большую часть сионистской
деятельности весной 1903 г., а также Русско-японская война 1904—1905 гг.
Руководство Всемирной сионистской организации, находясь в Вене, не
придавало особого значения кризису, который охватил сионистское движение
в России на седьмом году его существования. Более того, именно после прова¬
ла «плана Уганды» Герцль и его соратники, стремясь избежать раскола, стали
еще в большей степени, чем раньше, относиться к сионистам России как к
центральной силе движения, без которой нельзя обойтись.
Таким образом, сионистское движение в России бросило вызов венскому
руководству. Усышкин и его соратники вместе с другими лидерами доказали Гер-
/311/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
цлю, что ситуация, характерная для пер¬
вых сионистских конгрессов, изменилась:
западное руководство в Вене больше не
может диктовать свои условия восточноев¬
ропейским евреям. Начиная с 1903 г. рос¬
сийские лидеры становятся центральной и
даже альтернативной силой, стремящейся
привести к изменениям в сионистской ор¬
ганизации. И это несмотря на глубокий
кризис, в котором пребывало сионистское
движение в России в то время.
Неожиданная смерть Герцля в июле
1904 г. и революция 1905 г. стали тяжелым
испытанием для сионистского движения
в России. Оно было практически парали¬
зовано в этот бурный период, что нашло
выражение в резком снижении его актив¬
ности на местах, а также в значительном
сокращении поступавших в его пользу
пожертвований. Вместе с тем революция
не помешала многочисленным полити¬
ческим деятелям из сионистских кругов
участвовать в различных общественных инициативах, направленных на реше¬
ние внутриеврейских и общероссийских проблем. Самой значительной из них
было создание Союза для достижения полноправия еврейского народа в Рос¬
сии, в работе которого приняли участие и ветераны сионистского движения во
главе с Усышкиным и Ахад ха-Амом. Многие сионистские активисты занима¬
лись организацией протеста против еврейских погромов, прокатившихся по
всей черте оседлости, от которых пострадали десятки тысяч евреев. Митинг
протеста против погромщиков и попустительства властей, организованный
по инициативе сионистов в Санкт-Петербурге в ноябре 1905 г. и собравший
тысячи участников, вызвал общественный резонанс как среди еврейского,
так и среди русского населения. Сионисты пытались также принять участие
в общих демократических процессах, которые только начали происходить в
России. Манифест об учреждении 1-й Государственной думы 6 августа и Ма¬
нифест 17 октября 1905 г., обнародованный премьер-министром Сергеем Вит¬
те, в котором провозглашался переход России к конституционной монархии,
подтолкнул некоторых сионистских деятелей выставить свои кандидатуры на
выборы в 1-ю и 2-ю Думы. Избранные в Думу сионистские делегаты активно
участвовали в работе российского парламента первого и второго созыва в те¬
чение нескольких месяцев их существования.
/ 312 /
Менахем Усышкин (1863—1941)
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
Несмотря на прекращение деятельности сионистского движения в Рос¬
сии в период первой русской революции, на исходе революционного броже¬
ния и в годы реакции, оно стало самым важным политическим и социальным
фактором на еврейской улице. Правда, конечная цель сионистов — создание
еврейского государства в Стране Израиля — казалась большинству евреев не¬
достижимой на этой стадии, и основным направлением еврейской эмиграции
из России оставались США. Однако идеи сионизма пустили глубокие корни
в сознании различных слоев еврейского населения, проживавшего в черте
оседлости, и предметом дискуссий оставались только пути их практического
осуществления.
В период реакции (1907-1914) важнейшим направлением деятельно¬
сти сионистского движения в России стала повседневная организационная
и культурно-просветительская работа в общинах. Этот курс был закреплен
решениями 3-й Всероссийской сионистской конференции, состоявшейся в
Гельсингфорсе (Хельсинки) в ноябре 1906 г. Власти, как правило, не чинили
препятствий деятельности сионистов на местах. Вопреки их отрицательному
отношению к большинству политических сил и движений в пореволюционной
России, царские чиновники склонны были рассматривать сионизм как пози¬
тивное явление. Впрочем, это отношение не являлось однозначным. Участие
некоторых членов сионистского движения в революции и ориентация движе¬
ния на «текущую работу» в массах привели к тому, что руководители тайной по¬
лиции вновь, как это было тремя годами раньше, рекомендовали властям лик¬
видировать движение. Они не были готовы допустить отклонение сионистов
от первоначально заявленной ими цели — организации еврейской репатри¬
ации и создания государственного образования в Палестине — и обращение
сионистских активистов к политической деятельности в общинах, которая,
по мнению органов безопасности, могла перерасти в антиправительственную.
Однако постепенный поворот сионистского движения начиная с 1907 г. в сто¬
рону практической деятельности, направленной на создание новых поселений
в Палестине, которую вдохновлял блок «Ционей Цион» («Сионисты Сиона»),
убедил власти занять благожелательную позицию по отношению к сионизму.
Члены сионистского движения получили возможность легальной и сво¬
бодной деятельности практически на всей территории черты оседлости. Сио¬
нистские объединения и кружки проводили собрания на постоянной основе;
газеты и журналы сионистской ориентации выходили почти свободно и были
доступны всем желающим; всякого рода пропагандистская литература систе¬
матически распространялась во всех регионах России и за ее пределами; сио¬
нистские конференции и съезды — местные и всероссийские, многие из ко¬
торых собирали большое количество участников, фактически стали рутиной.
Помимо предварительного согласования с властями для этих собраний теперь
не нужно было никакого специального разрешения. Вместе с тем сионистская
/313/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
деятельность в черте оседлости в период с начала революции и до ликвидации
движения в Советской России, за исключением нескольких месяцев во время
событий 1917 г., в значительной степени походила на деятельность органи¬
зации «Хиббат Цион» после Катовицкого съезда. Это выражалось в том, что
были переняты шаблоны рутинной деятельности, малоэффективные для пре¬
творения в жизнь сионистской идеи. Несмотря на то что выезд из России был
доступен всем желающим, а новый ишув в Палестине — благодаря деятель¬
ности первопроходцев второй алии 21, Всемирной сионистской организации
и других структур сионистского толка — постепенно становился сердцевиной
еврейского национального этоса, совершенно незаметно было, чтобы россий¬
ский сионизм был в достаточной мере готов к этой новой ситуации.
В этот период особенно выделялись своей активностью идеологические
по своему характеру объединения и секции. Временами казалось, что толь¬
ко они и действуют реально, а остальные сионистские группы с менее выра¬
женной идеологией вообще не существуют. Самым заметным из них был блок
«Ционей Цион», который был создан в январе 1905 г. под началом Менахема
Усышкина и стремился утвердить его идеологию практического сионизма.
Поначалу члены этого движения выступали как оппозиция остальным сио¬
нистским объединениям центристского толка. Они были решительно против
любой другой формы сионизма, кроме практического. Однако с течением
времени, когда идеи «практического сионизма» стали частью консенсуса в
Сионистской организации, «Ционей Цион» естественным образом превра¬
тился в неотделимую часть сионистского истеблишмента.
Другим течением, достигшим расцвета в этот период, было движение
«Мизрахи» во главе с раввином Яаковом Райнесом. Им были созданы тыся¬
чи национально-религиозных объединений в черте оседлости и за предела¬
ми России. На Десятом сионистском конгрессе (1911) его представители со¬
ставляли более трети делегатов. В 1911—1912 гг. движение «Мизрахи» охватил
тяжелый кризис в результате конфликта между его лидерами, причиной ко¬
торого послужила культурная деятельность сионистского движения. Предста¬
вители «Мизрахи» в Центральной и Западной Европе во главе с Яаковом Арье
Фойхтвангером требовали прекратить культурную деятельность светского
типа в сионистском движении, угрожая выйти из его состава, в то время как
умеренный Райнес ратовал, как и прежде, за возможность сосуществования
обоих видов деятельности — как религиозной, так и светской. В конце концов
«Мизрахи» раскололось. Центральноевропейская секция отделилась от Сио¬
нистской организации, и ее лидеры основали международное ортодоксальное
движение «Агудат Исраэль». Райнес и его соратники остались во главе движе¬
ния, хотя раскол сильно ослабил его.
Параллельно с «Мизрахи» развивались и рабочие сионистские организа¬
ции. Дов Бер Ворохов, который с течением времени стал наиболее значимой
/314/
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
фигурой в социалистическом сионистском движении, пытался добиться объ¬
единения этих разрозненных групп, разбросанных по всей черте оседлости,
в одно движение — «Поалей Цион», которое восприняло бы те сионистские
ценности, в которые он верил, и одновременно способствовало укреплению
еврейского пролетариата. В революционные годы казалось, что Борохову уда¬
лось достигнуть своих целей. Движение «Поалей Цион» набирало силу вместе
с другими рабочими партиями в России (это было характерно и для другой
еврейской рабочей партии, несионистского толка, — Бунда). Однако рас¬
ширение рабочего движения вызвало идейный раскол, и возникло сразу не¬
сколько сионистских рабочих партий, придерживавшихся различных идеоло¬
гических платформ. Так были созданы Социалистическая еврейская рабочая
партия (СЕРП, на базе группы «Возрождение»), Сионистско-социалистиче¬
ская рабочая партия (С.С.) В процессе революции была образована и Социал-
демократическая рабочая партия — «Поалей Цион» (февраль 1906 г.), однако
в годы реакции ее политическое влияние ослабло. Ячейки «Поалей Цион»
существовали в разных местах черты оседлости, но в отличие от других сио¬
нистских объединений они имели конспиративный характер, так как власти
не признавали их деятельность законной. Ворохов, возглавлявший тогда «По¬
алей Цион», должен был противостоять растущей популярности Бунда, что
вынуждало его занимать все более радикальные позиции в отношении общего
сионистского руководства. В конце концов в сентябре 1909 г. он и его сорат¬
ники вышли из Сионистской организации и создали альтернативную само¬
стоятельную структуру пролетарской сионистской направленности.
Основной формой сионистской деятельности в 1905—1914 гг. были еже¬
недельные собрания местных объединений и региональные собрания их ру¬
ководства. Примерно раз в два года, непосредственно во время сионистских
конгрессов или близко к ним по времени, при участии сотен делегатов устраи¬
вались всероссийские сионистские конференции. Четыре такие конференции
были созваны в 1906—1914 гг. В период конгрессов члены российских сионист¬
ских союзов занимались избранием делегатов, определением своих позиций
по вопросам повестки дня, своего отношения к решениям, принимавшимся
или отвергнутым в ходе обсуждений на конгрессах. Бурная деятельность, свя¬
занная с сионистскими конференциями и сионистскими конгрессами, была
довольно непродолжительной, затем же местные объединения, как правило,
погружались в серую рутину буден.
Сионистское движение в России координировалось и управлялось в эти
годы из нескольких центров, в том числе из Москвы, Екатеринослава, Вильно
и Одессы. Это было связано с тем, что российским движением руководили
два лидера — Менахем Мендель Усышкин и Иехиель Членов 22, а также с по¬
литической борьбой, временами драматичной, которая велась между ними.
Усышкин был избран руководителем движения в ходе конфликта вокруг
/315/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
«плана Уганды». Обладая личной харизмой и большим опытом общественной
деятельности, Усышкин был наиболее заметным лидером российских сиони¬
стов, выступивших с яростной критикой Герцля и его программы, и пользо¬
вался поддержкой большинства участников сионистского движения. В начале
1905 г. Усышкин создал новый политический блок «Ционей Цион», в рамках
которого он надеялся претворить в жизнь свою концепцию практического си¬
онизма. Эта концепция во многом противоречила принятым тогда во Всемир¬
ной сионистской организации установкам и была ориентирована главным об¬
разом на «текущую работу». И все же, несмотря на серьезные усилия и актив¬
ную деятельность нового лидера российского сионизма, у него было немало
врагов. В итоге спустя полтора года после его назначения, во время Седьмого
сионистского конгресса (лето 1905 г.), Усышкин был смещен со своего поста и
заменен московским врачом Иехиелем Членовым.
Новый лидер российского движения был человеком сдержанным и умным,
являвшим собой полную противоположность своему предшественнику. После
долгих сомнений он принял решение, что, будучи занят врачебной практикой
и являясь владельцем собственной частной клиники в Москве, он не сможет
осуществлять ежедневное руководство движением в черте оседлости, как того
требовал устав. Поэтому он возложил текущие административные обязанно¬
сти на лидеров виленских организаций во главе с Ицхаком Лейбом Гольдбер¬
гом, которые учредили для этого «Центральное бюро» («Лишка Мерказит»)
сионистского движения. В соответствии с этим в последующие два года руко¬
водство всеми организациями осуществлялось как из Москвы, так и из Литвы.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что администрирование было сум¬
бурным и противоречивым. В результате лидеры российского движения приш¬
ли к выводу, что необходимо руководство обоих лидеров — Усышкина и Чле¬
нова, несмотря на существовавший между ними длительный конфликт. Так, с
1907 г. сионистское движение в России развивалось в трех центрах: Одессе, где
жил перебравшийся из Екатеринослава Усышкин (он возглавлял также «Одес¬
ский комитет») в Москве, где жил Членов, и в Вильно, где функционировало
«Центральное бюро» под руководством Гольдберга. Неудивительно, что в по¬
следующие семь лет, вплоть до начала Первой мировой войны, сионистское
движение в России сталкивалось с большими трудностями из-за сложных вза¬
имоотношений между одесским и московским центрами.
То, что сионистское движение в России не функционировало так, как хо¬
телось его лидерам, не помешало ему стать ведущей составляющей Всемир¬
ной сионистской организации. По меньшей мере четверть участников сио¬
нистских конгрессов прибывали из черты оседлости, а многие другие были
уроженцами России. Треть членов Центрального сионистского комитета
вышли из рядов российского движения, и пожертвования, передававшиеся в
Сионистскую организацию из России, превосходили собранные сионистами
/316/
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
остального мира суммы. Более того, в отличие от предыдущих лет идеология
российских лидеров стала доминирующей во всемирном сионистском дви¬
жении. Когда Давид Вольфсон 23, преемник Герцля, попытался действовать в
соответствии с принципами герцлианского политического сионизма, россий¬
ские лидеры моментально отреагировали на это ожесточенной критикой, и
под их нажимом Всемирная сионистская организация все больше склонялась
к практическому сионизму. Создание в 1907 г. особого отделения Сионист¬
ской организации в Яффе — «Палестинского бюро для приобретения и ос¬
воения новых земель» («ха-Мисрад ха-Эрец-Исраэли») — стало поворотным
пунктом в истории сионизма. Эта структура во главе с ее директором Артуром
Рупином стала основным исполнительным органом Всемирной сионистской
организации. В течение нескольких лет работники бюро осуществили перевод
более трети средств из бюджета Сионистской организации для спонсирования
поселенческой деятельности в Палестине. Другим свидетельством изменения
расстановки сил внутри Сионистской организации и усиления роли россий¬
ских сионистов стало то, что с 1911 г., после смещения с поста Вольфсона на
Десятом сионистском конгрессе и замены его Отто Варбургом, представите¬
ли российской сионистской организации составили большинство среди пяти
членов малого Исполнительного комитета. Таким образом, они установили
политический контроль над всем сионистским движением.
* * *
С началом Первой мировой войны сионистское движение в России, как
и другие политические силы, вновь погрузилось в бездействие. Однако после
Февральской революции 1917 г. ситуация коренным образом переменилась.
Сионистская деятельность переживала бурный расцвет, какого не было уже
долгие годы. Полная свобода, воцарившаяся вследствие революции, граж¬
данское равноправие, полученное евреями, революционное брожение и даже
вера в то, что теперь удастся осуществить сионистские идеи, подпитывали эту
деятельность. Появились сотни новых сионистских организаций, издавалась
сионистская пресса и агитационная литература, сионистские активисты ак¬
тивно участвовали в многосторонней еврейской политической деятельности
и в общероссийском политическом процессе. Апофеозом этой деятельности
стала 7-я Всероссийская сионистская конференция (24-30 мая 1917 г., Петро¬
град), в которой участвовали 552 делегата, представлявшие 140 тыс. членов си¬
онистской организации из 680 населенных пунктов. Тот энтузиазм, которым
были охвачены присутствующие, доказывал, что сионизм пустил глубокие
корни в российской еврейской среде.
Вся эта многогранная деятельность была прекращена после большевист¬
ского переворота. В.И. Ленин и его соратники были категорическими против¬
никами сионизма и видели в нем неотъемлемую часть реакционной деятель-
/317/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
ности старого режима. Через год после переворота с подачи большевистской
Еврейской секции начались аресты активистов, которые нарушали декрет
советской власти, запрещавший деятельность сионистского движения, и оно
прекратило свое существование в России.
Перевод с иврита Юлии Тулайковой
1 Об организации «Хиббат Цион» см.: Klauzner I. Ha-tenua le-Tsion be-Russia. Vol.
1-3, Jerusalem, 1962-1965; Vital D. Ha-mahpekha ha-tsionit. Vol. 1, Tel-Aviv, 1977; Gold¬
stein Y. Bein Hibat-Tzion le «Vaad ha-Odesai»; toldot ha-tenua ha-leumit ha-yehudit ha-ris-
hona, 1881—1918, Jerusalem, 2006.
2 Исследования о «предвестниках сионизма» весьма обширны, и библиография
по этому вопросу велика. Ср., например: Klauzner I. Ha-rav Zvi Hirsh Kalisher ve-yishuv
Erets-Israel // Ha-ketavim ha-tsioniim shel ha-rav Zvi Kalisher, Jerusalem, 1947; Lifney heyot
ha-tsionut / ed. by Shmuel Almog. Jerusalem, 1981; Katz Y. Ha-tenua Ha-leumit ha-yehudit
// Tfutsot ha-gola. № 12, 1970. P. 9-19; Idem. Leumiyut yehudit. Masot u-mehqarim. Jeru¬
salem; 1979. Salmon Y. Aliyata shel ha-leumiyut ha-yehudit be-merqaz eropa u-ve-maarava//
Ha-Tsionut, 12 (1987), S. 7—22; Idem. Dat ve-tsiyonut: imutim rishonim, Jerusalem, 1990.
Кац Я. Еврейское национальное движение// Социальная жизнь и социальные ценно¬
сти еврейского народа. Иерусалим, 1977. С. 395-421.
3 Об «Ам-Олам» см.: Turtel Н. Tenuat «am Olam» // he-Avar. 1963. № 10. S. 124—143;
Menes A. The Am Oylom Movement // YIVO Annual of Jewish Social Science. Vol. IV. 1949.
S. 9-33.
4 О Билу см: Laskov S. Ha-Biluim. Jerusalem, 1979.
5 О Л. Пинскере см.: Druyanov A. Pinsker u-zmano. Jerusalem, 1953.
6 Протокол Катовицкого съезда 6—11.11.1884 // Центральный сионистский ар¬
хив, А9/5/2.
7 О Ш. Могилевере см.: Salmon Y. Ha-rav Shmuel Mohilever — rabam shel Hovevei
Tsion // Zion. 1991. № 56. P. 47- 78.
8 О поездке К. Высоцкого в Палестину см.: Vysotzky K.Z. Kvutsat ha-mikhtavim
she-nishlehu le-anshey shem be-inyan yishuv Erets-Israel / ed. by Israel Klauzner. Jerusalem,
1981.
9 О борьбе вокруг религии и национализма в сионистском движении см.: Salm¬
on Y. Emdata shel ha-hevra ha-yehudit be-Russia u-ve-Polin le-tsiyonut // Eshel Beer-She¬
va. 1976. № 1. P. 337—438; Goldstein Y. Dat ve-leumiyut ba-tenua ha-tsiyonit, 1881—1912.
Tel Aviv, 1982; Луз Э. Пересекающиеся параллели. Иерусалим, 1991; Salmon Y. Dat
ve-tsiyonut: imutim rishonim. Jerusalem, 1990; Idem. Tsiyonut ve-anti tsiyonut ba-yahadut
ha-masoratit be-mizrah Eropa // Almog S., Reinharz Y., Shapira A. (eds). Dat ve-tsionut.
Jerusalem, 1994. P. 33-54; Idem. Dat u-leumiyut ba-tnua ha-tsiyonit bereshita // Reinharz Y.
Shalmon Y., Shimoni G. (eds.). Leumiyut ve-politika yehudit: perspektivot hadashot. Jerusa¬
lem, 1997. P. 93-115.
10 Об Ахад ха-Аме см.: Goldstein Y. Ahad ha-Am. Biografiya. Jerusalem, 1992; Zipper¬
stein S. Elusive prophet: Ahad Ha’am and the origins of Zionism. Berkeley: University of Cali¬
fornia Press, 1993.
/318/
4.1 / РАЗВИТИЕ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1881-1917 гг.
11 О провале алии 1890-1891 гг. см.: Kark R. Rekhishat qarqaot ve-hityashvut haqlait
hadasha be-Eretz-Israel bi-tqufat Tiomkin, 1890-1892 // Ha-Tsiyonut. 1984. № 9. P. 182;
Goldstein Y. Le-toldot masao ha-rishon shel Ahad ha-Am: emet me-Eretz-Israel? Katedra. 46
(1988). P. 91-108.
12 Об отношениях «Одесского комитета» и Т. Герцля см.: Goldstein Y. Maarekhet ha-
yahasim bein ha-vaad ha-odesai le-vein ha-tenua ha-tsiyonit ha-rusit ve-Hertzl: maasei avot
simanle-banim? // Ha-Tsiyonut. 1985. № 10. P. 36-40.
13 По этому поводу cp. также: Tazkir Lopuhin: Duah ha-mishtara ha-hashait ha-rusit
al ha-tenua ha-tsionit (1897—1902) / ed. by Yosi Goldstein. Jerusalem, 1988.
14 О демократической фракции см.: Reinharz J. Chaim Weizmann: The Making of
a Zionist Leader. New York, 1985; cp. также: Yogev G. Weizmann ke-manhig siat opozitsia
(1901-1904) // Gorani Yosi, Gedalia Yogev (eds), Medinai be-itot mashber, darko shel Haim
Weizmann ba-tenua ha-tsiyonit, 1840-1900. Tel Aviv, 1977. P. 16-25.
15 О Яакове Райнесе см.: Shapira Y. Hagut ve-halakha bi-tefisato shel ha-rav Yitzhak
Raines. Jerusalem, 1997; Idem. Hagut, halakha ve-tsiyonut: al olamo ha-ruhani shel ha-rav
Yitzhak Yaakov Raines. Bnei Brak, 2002.
16 О дискуссиях вокруг религии и национального вопроса при Герцле см.: Луз Э.
Пересекающиеся параллели. Иерусалим, 1991. С. 264—297; Salmon Y. Dat ve-tsiyonut:
imutim rishonim. Jerusalem, 1990. P. 312—313; Goldstein Y. Dat ve-leumiyut ba-tenua ha-
tsiyonit, 1881—1912. Tel Aviv, 1982. P. 7—32, 77—301; Salmon Y. Emdata shel ha-hevra ha-
yehudit be-Rusia u-ve-Polin la-tsiyonut // Eshel Beer-Sheva. 1976. № 1. P. 337-438; Idem.
Dat u-leumiyut ba-tnua ha-tsiyonit bereshita // Reinharz Y., Salmon Y., Shimoni G. (eds).
Leumiyut ve-politika yehudit: perspektivot hadashot. Jerusalem, 1997. P. 93—115; Sefer ha-
tziyonut ha-datit, 1 (ed by Itzhak Raphael и Shelomo Zalman Shargai). Jerusalem, 1977.
17 О Нахмане Сыркине см.: Pilovsky W. Nahman Sirkin: Haguto ha-leumit ve-ha-
hevratit u-feiluto ha-tsiburit-medinit me-reshit darko ad ha-kongres ha-tsioni ha-sheni. Je¬
rusalem, 1974.
18 О Дов Бере Борохове см.: Mintz М. Вег Borohov: ha-maagal ha-rishon, 1900—1906.
Tel Aviv, 1976.
19 Подробнее о развитии социалистических течений в сионизме см.: Френкель Й.
Пророчество и политика. Социализм, национализм и русское еврейство, 1862—1917.
М.; Иерусалим, 2008.
20 О «плане Уганды» см.: Неутапп М. The Uganda Controversy. Vol. I—II.Tel Aviv,
1970, 1977; Haiman M. Hertzl ve-tsiyoney Rusia: mahloket ve-haskama // Ha-Tsiyonut.
1974. № 3. P. 36-99; Goldstein Y. Parashat Uganda, hebetim nosafim // Zion. 1983. № 48.
P. 407-425.
21 Cp.: Ha-aliya ha-shniya / Bartal I., Tzahor Z., Kaniel Y. (eds). VI. 1-3. Jerusalem,
1997.
22 Об Усышкине см.: Goldstein Y. Usyshkin, Biografia. Vol. 1—2. Jerusalem, 1999—2001.
О Иехиеле Членове см.: Dinur В.-Т. Yehiel Chlenov: derekh hayav u-dmut ishiyuto, pereq
le-toldoteha shel ha-tenua ha-tziyonit. Tel Aviv, 1937.
23 О Давиде Вольфсоне см.: Eliav М. David Volfson, ha-ish u-zemano. Jerusalem,
1977.
4.2
ЕВРЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ
И БУНД В РОССИИ 1
Йонатан Френкель
врейский социализм» — понятие, которому сложно дать четкое
и однозначное определение, но в самом широком и тривиаль¬
ном смысле его можно понимать как включающее все партии,
движения и организации, которые объявляли себя одновремен¬
но социалистическими и еврейскими. В этом смысле еврейский
социализм имел решающее значение в жизни евреев Восточной Европы на
протяжении около пятидесяти лет, с 1897 г. (основание движения Бунд) и до
1948 г., когда советский режим жестоко расправился с Еврейским антифа¬
шистским комитетом, положив тем самым конец существованию политиче¬
ских коммунистических еврейских организаций.
Еврейский социализм, перенесенный волнами массовой эмиграции из
Восточной Европы на Запад (особенно в США) и в Палестину, оказал огром¬
ное влияние на новейшую еврейскую историю. В одном из своих сионистских
воплощений, в образе Рабочей партии Страны Израиля (Мапай), он был до¬
минирующей политической силой в еврейском обществе Палестины и в Го¬
сударстве Израиль на протяжении более четырех десятилетий — с середины
1930-х гг. до 1977 г. , когда еврейский социализм в самой Восточной Европе
уже давно прекратил свое существование.
За всю свою историю социалистические еврейские партии только однаж¬
ды согласились объединить свои силы под общим руководством. Это произо¬
шло в самый трагический период еврейской истории — в Польше на исходе
1942 г., незадолго до начала восстания в варшавском гетто. На всех остальных
/320/
4.2 / ЕВРЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И БУНД В РОССИИ
этапах своего существования социалистические партии старательно подчер¬
кивали свои идеологические расхождения: анархисты и народники против
марксистов; сионисты против антисионистов; территориалисты против ра¬
детелей за переселение в Страну Израиля; революционеры против реформи¬
стов, выступавших за парламентскую демократию; сторонники коммунистов
против антикоммунистов.
Вместе с тем несмотря на глубокие идеологические расхождения все эти
партии имели определенные характерные черты, позволяющие объединить их
под общим знаменателем. Так, например, все они главным в своей полити¬
ческой деятельности считали постоянный анализ состояния «еврейской про¬
блемы» и поиск ее решения. Задаваясь извечным вопросом революционно¬
го движения в России «что делать?», эти партии не могли избежать участия в
нескончаемой полемике, которая касалась, кроме всего прочего, и будущего
евреев.
/ 321 /
Группа ткачей. Шепетовка Волынской губ. 1912 г. Фотоархив экспедиций С. Ан-ского.
Из собрания В. Лукина, Иерусалим
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Кузнецы. Полонное Волынской губ. 1912 г.
Фотоархив экспедиций С. Ан-ского.
Из собрания В. Лукина, Иерусалим
Паркетчики. Полонное Волынской губ.
Фотоархив экспедиций С. Ан-ского, 1912 г.
Из собрания В. Лукина, Иерусалим
Более того, в соответствии со своими социалистическими взглядами, они
разделяли общее убеждение, что пришло время радикальных перемен для ев¬
рейского народа и его образа жизни. В экономической сфере это означало,
что евреи, которые на тот момент в большинстве своем являлись представи¬
телями средних классов — буржуазного и мелкобуржуазного, станут работни¬
ками физического труда и индустриального производства, равноправными
членами общества, свободного от эксплуатации и неравенства. В культурном
и духовном отношении ожидалось становление общества, где религиозное
мировоззрение будет оттеснено на периферию (или даже изжито полностью),
и его место займет воинствующий антропоцентризм, основывающийся на на¬
учном, светском и рационалистическом подходе.
Таким образом, еврейский социализм в Восточной Европе можно рассма¬
тривать одновременно и как преемника основополагающих идей Гаскалы, и
как движение, которое довело эти идеи до их самого радикального выраже¬
ния. Неудивительно, что многие наблюдатели утверждали — как тогда, так и
/ 322 /
4.2 / ЕВРЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И БУНД В РОССИИ
сейчас, — что в основе этого радикализма, этого стремления к коренному пре¬
образованию еврейского народа (а по сути, и всего мира) лежит мессианский
атавизм, глубоко укорененный в коллективной памяти евреев.
Помимо общего для еврейских социалистических партий и организаций
представления об идеальном будущем, их объединяла ориентация на один из
двух еврейских языков Восточной Европы: иврит или идиш, значительно бо¬
лее распространенный в еврейской среде.
По причине того, что иврит как письменный язык был в полной мере до¬
ступен в основном выпускникам иешив, использовать его могли лишь те, кто
видел партийную организацию передовым отрядом, а не массовым движени¬
ем. Поэтому вполне закономерно, что иврит укоренился в среде пионеров-
социалистов, эмигрировавших в Палестину, и, в определенной мере, также
среди тех, кто планировал последовать за ними.
Напротив, идиш — язык, на котором говорило подавляющее большин¬
ство евреев в черте оседлости, в Царстве Польском и в Галиции, особенно
среди рабочих и бедноты, — был взят на вооружение еврейскими социали¬
стическими кружками уже на раннем этапе их становления. Политическая
мобилизация масс была, конечно же, важнейшей задачей социалистических
лидеров. Быстрый подъем идишистской литературы, ее растущий престиж
и, наконец, утверждение, что именно идиш является национальным языком
евреев, — все это имело место благодаря одновременному восхождению ев¬
рейского социализма.
НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (1875-1897)
Основание Бунда (1897) стало важной вехой в развитии еврейского соци¬
ализма. Но у этого события была долгая предыстория.
Приблизительно с 1875 по 1890 г. в печати появилось несколько публи¬
каций, которые призывали к созданию в Российской империи социалисти¬
ческого еврейского движения для участия в революционном походе против
царского режима. В то время эта идея не могла найти воплощения, но в 90-х гг.
XIX в. новая действительность уже позволяла заложить идеологический и ор¬
ганизационный базис, на котором и был основан Бунд.
В 70-80-х гг. XIX в. в русском революционном движении господствовали
народнические теории социализма. Поэтому логично, что время от времени
возникал вопрос, почему бы не направить часть усилий, затрачиваемых на
привлечение российского и украинского крестьянства, также и на мобилиза¬
цию еврейского пролетариата. Ведь самая значительная часть еврейского на¬
селения мира, вне всякого сомнения, сконцентрировалась в черте оседлости и
в Царстве Польском (более 5 млн чел. на момент переписи 1897 г.), и среди них
/ 323 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Демонстрация Бунда в Сморгони Виленской губ.
Май 1905 г.
было значительное количество рабочих. Почему нельзя считать этих евреев
частью народа, согласно народнической теории предназначенного для свер¬
шения революции с целью основания социалистического общества?
Первым публично поднял эту проблему Аарон Шмуэль Либерман в 1875—
1876 гг. в газете «Вперед!», издававшейся известным революционным идеоло¬
гом Петром Лавровым. В 1872 г. Либерман участвовал в создании революци¬
онной ячейки среди учеников Виленской раввинской семинарии. Некоторым
членам этой ячейки, и среди них Аарону Зунделевичу и Владимиру Иохельсо¬
ну, предстояло вскоре стать заметными членами русской революционной тер¬
рористической партии «Народная воля». Тем самым они создали прецедент
для широко распространившегося вскоре среди еврейской молодежи Россий¬
ской империи явления. Евреям-революционерам стали тесны рамки еврей¬
ского социалистического движения, поэтому они предпочитали вести свою
/ 324 /
4.2 / ЕВРЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И БУНД В РОССИИ
Похороны еврейского рабочего, убитого в тюрьме в день провозглашения октябрьского манифеста.
Мозырь. Открытка. 1905 г.
борьбу в рамках большой русскоязычной партии, ориентированной на широ¬
кие слои населения России, способной сосредоточить усилия на организации
восстания в центре, а не на периферии империи.
В попытке представить альтернативный путь Либерман в своей статье в
газете «Вперед!» настаивал на том, что и в еврейских массах, и в кругах уча¬
щихся иешивах заложен большой революционный потенциал, и нет никакой
причины отказываться от его использования. Он также утверждал, что спец¬
ифика исторического развития еврейского народа и его религиозная тради¬
ция воспитали в нем небывалую жажду социальной справедливости и готов¬
ность к самопожертвованию. В 1877 г. в стремлении распространить свои идеи
Либерману удалось основать социалистическую газету на иврите «Ха-Эмет»
(«Правда»). Газета хотя и выходила в Вене, была предназначена для учеников
российских иешив, в которых Либерман видел элитную группу, потенциально
/ 325 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
способную создать и возглавить движение, являющееся одновременно социа¬
листическим и еврейским.
В последующие годы аргументы Либермана многократно использовали
в различных формулировках другие революционеры-народники. Следует от¬
метить манифест «О задачах еврейско-социалистической интеллигенции»,
написанный в 1882 г. (но не опубликованный тогда) Павлом Аксельродом,
статью «Что делать евреям в России?» (1886) Ильи Рубановича 2 и брошюру
«Еврей к евреям» (1892) Хаима Житловского.
Совершенно иной подход получил выражение в статьях, которые после
волны погромов 1881—1882 гг. вышли из-под пера украинского либерального
мыслителя Михаила Драгоманова. «Россия, — писал он, — не Швейцария и
даже не Германия. В западной половине России, во всяком случае, живет бо¬
лее 3 млн евреев. Это целая нация» 3.
Драгоманов, несмотря на обратные утверждения многих либералов и
социалистов, полагал, что нация, имеющая собственный язык, не сможет
просто раствориться. Он был убежден в том, что стремление еврейских ре¬
волюционеров присоединиться к подпольным партиям в России объективно
играет на руку политике русификации, централизма и угнетения со стороны
царской автократии. Напротив, еврейская революционная организация, име¬
ющая своим языком идиш и укоренившаяся в массах, говорящих на идише,
сможет быть естественным союзником украинского и других национально-
освободительных движений.
Оглядываясь назад, следует отметить, что в позиции Драгоманова содер¬
жался глубокий смысл. Факт практически полного ограничения территории
расселения евреев в Российской империи районами, в которых проживало не¬
русское население (поляки, украинцы, белорусы, литовцы, латыши), означал,
что включение евреев в русскоязычное революционное движение должно было
вызвать острую критику среди означенных народов. Поэтому идея отдельного
идишеязычного направления в социалистическом движении нашла широкую
поддержку не только в еврейском мире, но также и за его пределами.
То обстоятельство, что эта идея оставалась теорией, не находившей свое¬
го воплощения столь долгое время, объясняется сочетанием различных фак¬
торов. Централизованный характер революционного движения в России на
протяжении 70-80-х гг. XIX в. практически не оставлял места рассуждениям
о политической деятельности на окраинах. Более того, пиетет, с которым на¬
родники относились к крестьянству, отвращал многих молодых евреев, при¬
влеченных революционной пропагандой, от мысли проводить работу среди
городских слоев, паразитировавших, как они считали, на теле крестьянства.
Возможно, еще важнее был тот факт, что, приняв социалистическую иде¬
ологию, эти молодые люди почувствовали себя участниками мощного интер¬
национального движения, которому суждено избавить от страданий все чело¬
/ 326 /
4.2 / ЕВРЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И БУНД В РОССИИ
вечество. Поэтому они полагали абсурдным концентрировать свои усилия на
еврейском пролетариате — маргинальной группе национального меньшин¬
ства, составлявшего незначительный процент населения Российской импе¬
рии.
Первый признак серьезного изменения ситуации появляется на исходе
80-х — в начале 90-х гг. XIX в. Существенно важным в этот период было то
обстоятельство, что марксизм постепенно начал замещать народничество как
доминирующую социалистическую идеологию среди революционной моло¬
дежи царской России. Необычайный успех социал-демократической партии в
Германии, основание 2-го Интернационала в 1889 г., а также беспрецедентно
высокие темпы индустриализации в России способствовали переориентации
на эту новую социалистическую теорию, альтернативную народничеству.
Понятно, что с приходом нового мировоззрения ослабло акцентирование
особой лидирующей роли крестьянства, которое определялось теперь скорее
пренебрежительно — как часть мелкой буржуазии. Отныне подчеркивалась
особая роль класса городских рабочих. И несмотря на то что с марксистской
точки зрения основным объектом, на котором необходимо было сосредото¬
чить внимание, являлся пролетариат больших индустриальных предприятий,
было абсолютно закономерно обратиться также к рабочим, в том числе еврей¬
ским, занятым в мелкой промышленности.
Немалое значение для перехода еврейского социализма от теории к прак¬
тике имели и изменения во внутренней жизни восточноевропейского еврей¬
ства. С начала 80-х гг. XIX в. происходил рост социалистического движения в
среде российских и галицийских еврейских эмигрантов, в первую очередь в
Нью-Йорке, но также в других американских городах и в Лондоне. Это эми¬
грантское социалистическое движение оказало большое влияние на револю¬
ционную интеллигенцию в черте оседлости.
Распространение марксистских и анархистских газет на идише («Дер ар¬
бетер фрайнд», «Дер арбетер цайтунг», «Дер фрайе арбетер штиме»), основа¬
ние в 1888 г. Союза еврейских профессиональных организаций в Нью-Йорке
и поездка делегации от еврейского пролетариата в Брюссель на конгресс 2-го
Интернационала в 1891 г. — все это должно было произвести глубокое впе¬
чатление на российских евреев, особенно после того, как пропагандистские
брошюры на идише начали просачиваться через западную границу.
То, что еврейский социализм за океаном, в отличие от анархизма, не от¬
клонялся ни на йоту от педантичного марксистского интернационализма,
подчеркивалось Эйбом Каханом, делегатом идишистского движения из Нью-
Йорка, в его речи на конгрессе 2-го Интернационала. По его словам, у моло¬
дого Союза еврейских профессиональных организаций «нет ничего общего с
религией или нацией», и название для него было выбрано «исключительно
из-за языка, на котором говорят его участники».
/ 327/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Однако несмотря на успешный пример социалистов-эмигрантов марк¬
систские революционеры, сосредоточившиеся в Вильно, долго медлили, пре¬
жде чем приняли решение активно действовать в направлении создания авто¬
номного еврейского социалистического движения. Это решение приведет через
несколько лет к появлению Бунда.
Первое время, в конце 80-х гг. XIX в., целью марксистского кружка в Виль¬
но была не более чем мобилизация небольшой группы еврейских рабочих для
ведения революционной работы в крупных индустриальных центрах импе¬
рии. Именно по этой причине в их подготовке делался упор на преподавание
русского языка 4. Поэтому принятие виленской марксистской группой в 1893
г. в качестве языка общения с рабочими идиша вместо русского языка было не
просто инструментальным новшеством. Прежде всего это изменение указы¬
вало на то, что целью становится уже не вербовка новых профессиональных
революционеров для работы за пределами черты оседлости, а создание марк¬
систской организации среди еврейских рабочих в самих западных губерниях
(даже если такая организация станет отделением, находящимся в подчинении
всероссийской революционной партии).
Подобный поворот вызвал острую критику в виленской группе среди тех
ее представителей, кто видел в новой политике ущемление интересов рабо¬
чих, стремившихся найти свое место в интернациональной межэтнической
партии — современной, европейской и русскоязычной. Аргумент против по¬
добных возражений был убедительно сформулирован Шмуэлем Гожанским и
Юлием Мартовым (Цедербаумом). Они заявляли, что даже после того, как па¬
дет царская автократия, нет никакой гарантии, что еврейский рабочий класс
как часть угнетенного народа сможет получить равноправие, если только не
организуется, чтобы бороться за свою свободу. Или, цитируя Гожанского из
его листовки «Пропагандистам» (1893 г.): «Мы, еврейские социал-демократы,
должны развивать политическую сознательность еврейского пролетариата,
<...> чтобы он был готов бороться за свои права и отстаивать их после того,
как они будут получены» 5.
Переход с русского на идиш и от «пропаганды» как просветительской ра¬
боты среди определенной группы рабочих к «агитации», то есть к привлече¬
нию масс на борьбу за простые требования (например, сокращение рабочего
дня или повышение заработной платы), обеспечивал марксистам в Вильно
надежную политическую базу.
Несмотря на невысокий уровень развития промышленности в Виленском
регионе, невзирая на гонения со стороны царской полиции, тюремные заклю¬
чения и высылки, которым были подвергнуты многие активисты, движение
росло количественно и качественно, приобретало преданных сторонников из
числа рабочих, мужчин и женщин, распространяясь и в других городах, таких
как Минск, Гродно, Белосток и Варшава.
/ 328 /
4.2 / ЕВРЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И БУНД В РОССИИ
Однако скорее всего даже тогда лидеры еврейского социалистического
движения не стали бы стремиться к созданию самостоятельной партии, если
бы не испытывали сильного давления извне.
Опора, которую обрели социал-демократы из Вильно в Царстве Поль¬
ском, в особенности в Варшаве, была прямым вызовом Польской социали¬
стической партии (ППС), требовавшей себе исключительного права органи¬
зации всех рабочих, живущих на польских землях, в том числе и еврейского
пролетариата. ППС, которая в своих приоритетах ставила на первое место
борьбу за независимость Польши, считала, что виленская группа, действовав¬
шая на территории Польши, выходит за рамки своих полномочий и поэтому
не имеет никакой легитимации.
Между тем в своем решении основать организацию, представляющую ев¬
рейский рабочий класс на всей территории черты оседлости и Царства Поль¬
ского, марксисты из Вильно недвусмысленно утверждали, что у пролетария,
говорящего на идише, есть свои национальные интересы, отличные от русских
и польских, и что у него есть право на автономию в рамках общего революци¬
онного движения во всей империи. На Учредительном съезде, который тайно
состоялся в Вильно в сентябре 1897 г., новой организации было дано название,
однозначно возвещающее его концепцию: всеобщее объединение («бунд» на
идише) еврейских рабочих в России и Польше. А в 1901 г. было принято допол¬
нительное географическое уточнение: «в Литве, Польше и России».
БУНД В ЦАРСКОЙ РОССИИ (1897-1914)
Первые годы существования Бунда были временем интенсивного идео¬
логического развития, в ходе которого он сформировался как многоплановое
политическое явление.
Принятый в этот период ряд весьма непростых решений должен был
определить смысл движения, являющегося одновременно и революционным
марксистским, и еврейским. На краткий миг возникло ощущение, что у Бунда
есть готовый ответы на вопрос о его назначении. В 1898 г. Бунд сыграл важную
роль в организации съезда в Минске, на котором предстояло основать новый
орган, объединяющий все революционные марксистские группы империи
вне зависимости от их этнического определения, — Российскую социал-де¬
мократическую рабочую партию (РСДРП), и тем самым достичь цели, к кото¬
рой марксистские революционеры стремились уже долгое время.
Термин, который был использован в названии партии, — российская, в от¬
личие от русская, — указывал на ее территориальную общеимперскую ориен¬
тацию, а не на узкую русскую этничность. На съезде также было решено, что
Бунд будет включен в партию как автономная организация, которая станет
/ 329 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Еврейские общества во время праздника революции. С открытки 1917 г.
4.2 / ЕВРЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И БУНД В РОССИИ
действовать самостоятельным образом только в вопросах, непосредственно
касающихся еврейского пролетариата.
Истинный смысл этого решения выяснился спустя год, на 3-м съезде Бун¬
да в Ковно, где было провозглашено, что «Бунд в числе своих политических
требований выставляет требование только гражданского, а не национального
равноправия» 6.
Эти два решения вместе ясно указывают на то, что Бунд предпочитал в тот
ранний период «ассимиляционное» решение «еврейского вопроса», полно¬
стью отвергая как еврейскую религию и традицию, так и «национальные пра¬
ва». В этой ситуации единственной возможной основой еврейского коллек¬
тивного существования после эмансипации должен был стать идиш. Однако
западный опыт показывал, что без масштабной идеологической и экономиче¬
ской поддержки у идиша крайне мало шансов устоять в открытом обществе.
Преимущество позиции, принятой на 3-м съезде, было в том, что она да¬
вала Бунду возможность оставаться в рамках ортодоксального марксизма и ре¬
волюционного интернационализма. Однако менее чем через два года от этой
минималистской позиции движение отказалось. На 4-м съезде, собравшемся
в Белостоке в 1901 г., Бунд полностью переменил прежние взгляды и провоз¬
гласил в исключительном порядке, что Россия «должна в будущем преобра¬
зоваться в федерацию национальностей с полной национальной автономией
каждой из них, независимо от обитаемой ею территории. Съезд признает, что
понятие «национальность» применимо и к еврейскому народу» 7.
Сложно определить, какие факторы привели к столь радикальному пово¬
роту в исходной позиции Бунда. Этот вопрос является предметом серьезных
историографических споров. Достаточно сказать, что, так как Бунд действовал
исключительно в районах с многонациональным населением, в которых наци¬
ональные движения быстро набирали силу, у него были все основания также
поддержать одну из форм национального самоопределения еврейского народа.
С того момента, как движение укрепилось в позиции культурного над¬
территориального национализма, оно могло провозгласить себя единствен¬
ным истинным борцом за права еврейского рабочего класса. Это утверждение
использовалось Бундом в его борьбе с другими концепциями: с сионистской
«националистической утопией» Теодора Герцля, с интернационализмом, или
«космополитизмом», «ортодоксального» марксизма или с радикальным «ас¬
симиляционистским» подходом, характерным для обобщенного национализ¬
ма Польской социалистической партии.
Объявив себя движением одновременно социального и национального
освобождения, Бунд призвал — следуя своей логике — к переустройству Рос¬
сийской социал-демократической рабочей партии из централистской органи¬
зации в федералистскую. Опираясь на пример австрийской социал-демокра¬
тии, Бунд, как единственный представитель еврейского пролетариата, требо¬
/331/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Бундист. Открытка. 1917 г.
вал включить его в качестве одной из
секций в партию, которая будет отныне
состоять из отделений, определяемых
по национальному принципу.
Эта радикальная идеологиче¬
ская позиция привела Бунд к лобово¬
му столкновению с группой русских
марксистов, называемых «ортодок¬
сальными», отстаивавших в это же
самое время противоположный прин¬
цип. Ортодоксальные марксисты во
главе с такими опытными револю¬
ционерами, как Георгий Плеханов и
Владимир Ульянов (Ленин), недавно
основали газету «Искра», в которой
ратовали за переорганизацию социал-
демократической всероссийской пар¬
тии рабочих на сугубо централистской
основе. Призывая к единству и пар¬
тийной дисциплине в ответ на пресле¬
дования со стороны царской власти,
«искровцы» сумели в течение двух лет
привести к изоляции Бунда.
На 2-м съезде РСДРП (1903) Бунд был подвергнут безжалостным напад¬
кам и обвинен как в еврейском национализме, так и в подрыве строгой пар¬
тийной дисциплины. В противоположность основополагающим убеждениям
Бунда, что еврейский народ в Восточной Европе является нацией и требова¬
ние защиты его национальных (культурных) прав является легитимным, по¬
давляющее большинство участников съезда утверждали, что за неимением
своей территории евреям в демократическую послереволюционную эпоху
придется слиться с окружающим населением.
Ряд партийных активистов еврейского происхождения, которые высту¬
пили на съезде (среди них — Л.Д. Троцкий и Ю.О. Мартов, изменивший свою
позицию со времен Вильно), состязались друг с другом, доказывая свою вер¬
ность принципам интернационализма, атакуя Бунд как еретическую и оп¬
портунистическую организацию. Троцкий заявил, что выбор только один:
«...Бунд как единственный представитель интересов еврейского пролетариата
в партии и перед партией — или Бунд как специальная организация партии
для агитации и пропаганды среди еврейского пролетариата» 8.
Потерпевшая поражение делегация Бунда предпочла покинуть съезд и
выйти из состава РСДРП. С этого времени Бунд, по существу, действовал как
/ 332 /
4.2 / ЕВРЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И БУНД В РОССИИ
самостоятельная во всех отношениях организация (даже если с формальной
точки зрения это не всегда выглядело так).
До 2-го съезда 1903 г. внутри самого Бунда существовала значительная оп¬
позиция произошедшему повороту в сторону национализма и федерализма.
Но после отдаления от РСДРП ряды Бунда сплотились. Описывая ситуацию
того года, генерал-губернатор Северо-Западного края заявил, что Бунд «дей¬
ствует с огромной энергией, ряды его быстро разрастаются, он создал <...>
боевую команду, ставшую почти всесильной. Прокламации <...> распростра¬
няются в тысячах экземпляров <...> организуются забастовки рабочих <...>
Забастовки, уличные демонстрации, с красными флагами, демонстрации в
театрах, сопротивление властям — все это имеет место главным образом <...>
[в таких центрах, как] Вильно, Ковно, Белосток, Брест, Сморгонь, Кринки и
другие» 9.
Так, определив свою политическую позицию, Бунд оказался на гребне ре¬
волюционной волны, захлестнувшей Россию в 1905 г. В годы революции чис¬
ленность движения выросла с нескольких тысяч в период подполья до 30 тыс.
Его влияние в городах и местечках черты оседлости и Царства Польского на
короткое время стало доминирующим. Помимо обычной партийной деятель¬
ности: привлечения новых членов и сторонников, создания профессиональ¬
ных организаций, распространения газет и прокламаций, инициирования
забастовок и демонстраций, агитации и пропаганды, — были созданы воору¬
женные отряды для защиты еврейского населения от погромов, которые на¬
чались в конце октября 1905 г.
Однако революция хотя и позволила Бунду ненадолго занять лидирующее
положение на еврейской улице, одновременно обнажила основную пробле¬
му партийной идеологии, сложившейся в 1901 г. С одной стороны, Бунд за¬
явил себя борцом за права еврейского народа и приверженцем идеи еврейской
культурной автономии в рамках будущей многонациональной демократиче¬
ской федерации. С другой стороны, он был связан марксистской доктриной
революционной классовой борьбы, из чего следовало признание раскола вну¬
три еврейского народа и стремление к политическому союзу исключительно
с пролетарскими революционными партиями других народов. Бунд отказался
от еврейского межклассового сотрудничества (вопреки традиционному прин¬
ципу «клаль Исраэль» — единства еврейского народа) и в 1906 г. предпочел
ухватиться за первую появившуюся возможность, чтобы восстановить свое
членство в РСДРП, несмотря на то что выставленные партией условия, по
крайней мере на бумаге, были весьма жесткими.
Необычайный успех Бунда на еврейской улице накануне и в процессе
революции 1905 г. побудил другие группы, придерживавшиеся враждебной
Бунду идеологии, воспользоваться его опытом, чтобы успешней с ним кон¬
курировать.
/ 333 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Комитет сионистского социалистического кружка в Двинске. Фотография 1904 г.
В короткий промежуток времени (конец 1904 — середина 1906 г.) в черте
оседлости возникли еще четыре еврейские революционные рабочие партии.
Все они выросли из шаткого конгломерата кружков, большей частью извест¬
ных как «Поалей Цион» («Рабочие Сиона»), в которые входили представители
еврейского рабочего класса и интеллигенции. Все эти партии в начале своей
истории были связаны с сионистским движением Теодора Герцля.
Новые партии объявили себя пролетарскими и отстаивали принцип клас¬
совой борьбы, как и Бунд, однако в национальном вопросе они осуждали
программу Бунда как неадекватную и бесперспективную. Две из этих пар¬
тий — Сионистская социалистическая рабочая партия (ССРП) и Еврейская
социал-демократическая рабочая партия «Поалей Цион» — видели решение
«еврейского вопроса» в реализации принципов территориализма. Еврейская
социал-демократическая рабочая партия «Поалей Цион» поддерживала соз¬
дание в будущем еврейского государства в Стране Израиля. Четвертая — Со¬
циалистическая еврейская рабочая партия (СЕРП) — сочетала поддержку ав¬
тономии на текущий момент с аргументами в пользу территориального реше¬
ния еврейской проблемы в долгосрочной перспективе.
Более того, под влиянием революции 1905 г. происходило формирование
схожих политических структур и за пределами российской территории, в габ¬
/ 334 /
4.2 / ЕВРЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И БУНД В РОССИИ
сбургской Галиции. Здесь сильную позицию заняли новые еврейские социа¬
листические партии, принявшие принципы территориализма, буддизма или
ориентированные на Палестину.
Поражение революции 1905 г., окончательный финал которой был обо¬
значен реакционным законом о выборах, принятым царским режимом
3 июня 1907 г., стало сокрушительным ударом для социалистических еврей¬
ских партий. Массовая эмиграция, принявшая тогда беспрецедентный мас¬
штаб, увлекла с собой многих партийных активистов и лидеров. Еврейские
социалистические движения за границей, в США и Палестине, получили, та¬
ким образом, значительную поддержку, однако «материнские» партии в цар¬
ской России, из которых черпались эти ресурсы, стали бледной тенью своего
прежнего величия. Лишь к 1914 г. начался трудный процесс их возрождения.
Перевод с иврита Ильи и Ирины Баркусских
1 Фрагмент статьи, опубликованной на иврите в кн. Zman yehudi hadash: tarbut
yehudit be-idan hiloni. 2007. V. 2. P. 18—25.
2 Ильяшевич [Рубанович] И. Что делать евреям в России? // Вестник Народной
воли (дек. 1886). № 5.
3 Драгоманов М. Из вопросов текущей жизни // Вольное слово (1882. 13/25 фев¬
раля). № 28. С. 4.
4 Среди руководителей этой группы был и Лео Йогихес, вдохновенный интер¬
националист, или космополит, который, как и его будущая соратница Роза Люксем¬
бург, был против национально-освободительного движения в Польше и который, как
и Роза Люксембург, был убит во время подавления германской революции в 1919 г.
5 Historishe shriftn/ Cherikover Е. et al. (eds). Vol. III. Warsaw-Vilna. 1939. P. 630—631.
6 Der yidisher arbeter. №9. 1900. P. 7.
7 Материалы к истории еврейского рабочего движения. СПб., 1906. С. 119—120.
8 Второй съезд РСДРП: Протоколы. М., 1959. С. 71.
9 Korzec Р. Three Documents of 1903-1906 an the Russian-Jewish Situation // Soviet
Jewish Affairs. 1972. № 2. P 92-93.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Френкель Й. Пророчество и политика. Социализм, национализм и русское еврей¬
ство. 1862-1917. М.; Иерусалим, 2008.
Essential papers on Jews and the Left / ed. by Ezra Mendelsohn N. Y., 1997.
Mishkinski M. Reshit tenuat ha-poalim ha-yehudit be-Russia: megamot yesod. Tel Aviv,
1981.
Mishkinski M. Iyunim ba-sotsializm ha-yehudi: asufat maamarim. Beer-Sheva, 2004.
/ 335 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Mendelsohn Е. Class struggle in the pale: the formative years of the Jewish workers’ move
ment in Tsarist Russia. Cambridge, 1970.
The Revolution of 1905 and Russia’s Jews / ed. by Stefani Hoffman and Ezra Men
delsohn. Philadelphia, 2000.
Tobias H. The Jewish Bund in Russia: from its origins to 1905. Stanford, 1972.
4.3
ЕВРЕЙСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Кристоф Гассеншмидт
врейское либеральное движение в России началось на заре XX в.,
около 1900 г., и стало заметным явлением на общественной арене
во время революции 1905 г. В противоположность социалистам
или сионистам еврейские либералы не обращались для решения
«еврейского вопроса» ни к революции, ни к эмиграции. Ориен¬
тируясь на деятельность внутри империи, еврейское либеральное движение
ратовало за сотрудничество с прогрессивными российскими политическими
партиями и группами в борьбе за достижение политических прав для еврей¬
ского населения России. В определенном смысле еврейских либералов можно
назвать интеграционистами. В процессе своего развития еврейское либераль¬
ное движение разделилось на четыре группы: наиболее консервативные круги
сосредоточились вокруг барона Горация Гинцбурга и адвоката Генриха Слиоз¬
берга; самым выдающимся представителем умеренных либералов стал Мак¬
сим Винавер; левые либералы объединились вокруг общественного деятеля,
будущего трудовика и депутата Государственной думы Леона Брамсона; наци¬
оналистическую же фракцию представлял историк Семен Дубнов. Таким об¬
разом, либеральное движение было движением политическим, не определив¬
шимся еще полностью в отношении своей программы. Ему еще предстояло
найти внутренние компромисы, которые предотвратили бы сползание в иде¬
ологический тупик. Тактика либералов была гибкой: в своих действиях они
пытались приспособиться к реальному политическому положению в России.
Так или иначе, все четыре группы внесли свой вклад в борьбу за эмансипацию
и модернизацию российского еврейства.
/ 337 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
По своему социальному составу еврейские либералы также не были одно¬
родной группой. Они представляли все слои еврейского общества: рабочих,
ремесленников, раввинов, учителей, адвокатов и докторов. Их поддерживали
банкир барон Гораций Гинцбург, «сахарный король» Лев Бродский и банкир
Элиэзер (Лазарь) Поляков. Объединяло их одно: они полагали, что будущее
российских евреев — в России.
Еврейское либеральное движение прошло в своем развитии три фазы: по¬
лутрадиционный подход — защита прав евреев путем правовой деятельности
и в судах; затем политическая борьба за равноправие в Государственной думе
во время революции 1905 г.; и наконец, после провала революции, когда по¬
стоянная политическая деятельность стала почти невозможной, еврейские
либералы сосредоточились на «органической работе». Ее целью было улуч¬
шение социальных и экономических условий еврейского народа в России
посредством самопомощи. Кроме того, активно участвуя в ритуальном про¬
цессе Бейлиса, еврейские либералы осваивали новую тактику политической
борьбы. Во время процесса они не только защищали Бейлиса в суде, но и ор¬
ганизовали масштабную пропагандистскую кампанию внутри страны и за ее
пределами, что нанесло серьезный ущерб репутации русского правительства.
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ:
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ
И ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Первая фаза еврейского либерального движения охватывает период от на¬
чала XX в. до революции 1905 г. В конце 1880-х гг. группа молодых еврейских
адвокатов — М.М. Винавер, Г.Б. Слиозберг, М.И. Кулишер, О.О. Грузенберг
и Л.М. Брамсон — под покровительством известного юриста А.Я. Пассовера
открыла для себя еврейское национальное наследие и обратилась к обществен¬
ной деятельности на благо еврейского народа. Они рассматривали антиеврей¬
ское законодательство как решающую причину отчаянного экономического и
социального положения евреев в России. К этой группе присоединились два
других правоведа: Л.М. Брамсон и Ю.Д. Бруцкус, оба из Москвы, археолог
С.М. Гольдштейн и историк М.Л. Вишницер. Тесные контакты с ними под¬
держивал историк Семен Дубнов, чей призыв создать систематическое собра¬
ние источников по русско-еврейской истории (1891 г.) побудил к образованию
Историко-этнографической комиссии в Санкт-Петербурге в 1892 г. (через
семь лет, в 1899 г., комиссия завершила свои изыскания, подготовив двух¬
томное издание по русско-еврейской истории «Регесты и надписи», изданное
Обществом для распространения просвещения между евреями в России). Все
участники группы родились в 1860-х— начале 1870-х гг., но происходили из
/ 338 /
4.3 / ЕВРЕЙСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Гораций Гинцбург (сидит) и Генрих Слиозберг.
Из собрания центра «Петербургская иудаика»
Максим Винавер
(1863-1926)
разных мест в черте оседлости и из семей, принадлежавших к разным слоям
еврейского общества. Между ними не было полного согласия ни в социальных
вопросах, ни в политических. С самого начала это было сообщество людей, у
которых не было ни отчетливой идеологии, ни общей концепции. Единствен¬
ное, что их объединяло, — это непосредственное участие в еврейских делах.
Многие из них к тому времени уже были активными членами таких еврейских
организаций, как Общество для распространения просвещения между евреями
в России (ОПЕ) или Общество ремесленного труда (ОРТ) в Санкт-Петербурге.
Будучи вовлеченными в деятельность этих организаций, они выработали ха¬
рактерное для интеллигенции стремление модернизировать жизнь еврейского
общества, преодолеть его отсталость, способствовать развитию современного
образования и религиозной реформы. Поскольку большинство крупных ев¬
рейских культурных и филантропических организаций было сосредоточено в
Санкт-Петербурге и их деятельность в значительной мере финансировалось
бароном Г.О. Гинцбургом, участники этой группы активистов пришли к выво¬
ду (ок. 1900 г.), что на данном этапе лучшее, что они могут сделать, это заняться
судебной защитой евреев 1. При финансовой поддержке барона Горация Гинц¬
/ 339 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
бурга они основали так называемое «Бюро защиты». Толчком к созданию та¬
кого рода организационных рамок для систематической защиты еврейских дел
в суде стал громкий процесс по обвинению Виленского аптекаря Д. Блондеса
в покушении на ритуальное убийство (1900—1902). Деятельность по оказанию
юридической помощи была дополнена вторым важным начинанием — ин¬
формационной кампанией в России, направленной на то, чтобы предоставить
русской публике корректную информацию о жизни евреев и противостоять
тем антиеврейским стереотипам и предрассудкам, которые циркулировали в
широких кругах российского общества. С этой целью члены бюро вступали в
контакты с деятелями русской культуры — такими, как Лев Толстой, Владимир
Соловьев, Владимир Короленко и Максим Горький, чтобы привлечь на свою
сторону популярные в российском обществе фигуры. Такой подход означал
отказ от традиционной политики «штадланута» — перед нами уже не закулис¬
ные интриги и заигрывания с могущественными придворными и чиновника¬
ми, но открытая кампания с участием видных общественных деятелей. С 1900
по 1903 г. бюро активно издавало памфлеты и информационные брошюры о
положении евреев в России 2. В Москве правовой защитой евреев занимались
такие хорошо известные представители еврейской общины, как В.О. Гаркави,
А.Ф. Фукс и общественный раввин Москвы Я.И. Мазе. По словам Г.Б. Слиоз¬
берга, в Киеве и Одессе созданию такого рода организации помешала сильная
оппозиция в лице сионистов и бундовцев 3.
В целом можно сказать, что деятельность Бюро защиты, являясь, несо¬
мненно, продуктом новой эпохи, все еще следовала традиционным методам и
направлениям борьбы за улучшение положения еврейского народа в России.
К тому же бюро ориентировалось на русскоговорящую публику, и издаваемые
им материалы печатались на русском языке; еврейские народные массы, го¬
ворившие на идише, не были основным адресатом его деятельности. Поэто¬
му представители бюро некоторое время оставались изолированной группой,
и потребовались из ряда вон выходящие события, чтобы они стали известны
широкой публике.
В предреволюционные годы, когда сионисты и бундовцы переживали
общий кризис, еврейские либералы использовали два судебных процесса,
состоявшихся после погромов в Кишиневе (1903) и Гомеле (1904), не только
для того, чтобы оказать правовую поддержку жертвам погромов, но и для
того, чтобы проинформировать российское общество о бедственном по¬
ложении евреев империи. Освещение этих судебных процессов в прессе и
общая политическая ситуация выдвинули еврейских либералов на полити¬
ческую авансцену 4.
/340/
4.3 / ЕВРЕЙСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
РЕВОЛЮЦИЯ 1905 Г. ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
Революция 1905 г. позволила еврейским либералам расширить грани¬
цы своей деятельности и открыто вступить в российскую политику. В марте
1905 г. общественные активисты и лидеры еврейских общин со всей России
встретились в Вильно, чтобы создать организацию, отстаивавшую еврейские
интересы: Союз для достижения полноправия еврейского народа в России
(СП). Союз для достижения полноправия стал частью всероссийского Со¬
юза союзов, координировавшего революционную деятельность профессио¬
нальных и политических объединений в России. В тесном сотрудничестве с
либеральной Конституционно-демократической партией (кадетами), осно¬
ванной в октябре 1905 г., СП лоббировал свою политическую программу, ко¬
торая включала в себя равные гражданские и национальные права для евреев
в России. Деятельность СП разворачивалась как в рамках Союза союзов, так
и за его пределами, на общей политической арене революции 1905 г. СП уча¬
ствовал в выборах в 1-ю Государственную думу, где ему удалось получить 12
мест. Несмотря на то что депутаты СП составляли незначительное меньшин¬
ство в российском парламенте, они смогли включить вопрос гражданского
равноправия для евреев в общие законопроекты и планы Думы. Так, думская
Комиссия о гражданском равенстве включила положения об отмене для ев¬
реев всех ограничений по национальным и религиозным принципам в зако¬
нопроект о гражданском равенстве. Впрочем, работа над этим законопроек¬
том не была закончена ко времени роспуска парламента 9 июля 1906 г. Хотя за
время своего короткого существования 1-я Государственная дума не добилась
какого-либо видимого политического прорыва, общественная жизнь России
совершенно изменилась. Появились десятки газет, в которых ежедневно пу¬
бликовались отчеты о деятельности первого российского парламента. Речи
думских депутатов перепечатывались, и имена еврейских депутатов стали из¬
вестны по всей России, по крайней мере среди их соплеменников. Пропаган¬
дистскую ценность Думы признавали даже те левые партии, которые ранее
бойкотировали ее. Теперь они изменили свою тактику и приняли участие в
выборах во 2-ю Государственную думу.
После роспуска 1-й Думы переоценка политических стратегий привела к
расколу между различными группами, ранее сотрудничавшими в рамках ев¬
рейского либерального движения. В результате возникли четыре самостоя¬
тельные политические группировки: либералы, входившие в круг Винавера и
Слиозберга, основали Еврейскую народную группу (ЕНГ); сторонники Брам¬
сона, принадлежавшие к левому крылу среднего класса, организовали Еврей¬
скую демократическую группу (ЕДГ), автономисты во главе с Дубновым соз¬
/341/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
дали Еврейскую народную партию (Фолкспартей), а сионисты выступали как
самостоятельная политическая сила.
В то время как либералы (ЕНГ), несмотря на провал, настаивали на своем
методе сотрудничества с кадетами (как в Думе, так и за ее пределами), чтобы
добиться равноправия евреев, в других группах доверие к русским партнерам
постепенно падало. В то время как Дубнов хотел усиления национального
аспекта в еврейской политике, Брамсон настаивал на демократическом под¬
ходе, охватывавшем все слои еврейского общества, а сионисты пропаганди¬
ровали свою программу эмиграции из России. Столь разнообразные полити¬
ческие позиции не могли не отразиться на результатах выборов во 2-ю Госу¬
дарственную думу. Яростное соревнование между различными еврейскими
партиями и группировками, в котором участвовала и самая крупная еврейская
рабочая партия Бунд, привело в итоге к тому, что во 2-ю Думу прошли лишь
четыре еврейских депутата. Максим Винавер, подписавший Выборгское воз¬
звание кадетов, призывавшее к гражданскому неповиновению в знак протеста
против роспуска 1 -й Думы, был лишен гражданских прав и приговорен к трем
месяцам тюремного заключения. В результате еврейские либералы в Думе ли¬
шились наиболее влиятельного своего лидера, который являлся для них важ¬
ным связующим звеном с российской политической элитой,
2-я Дума оказалась более радикальной, чем первая, и поэтому она разде¬
лила судьбу своей предшественницы. Вместе с роспуском Думы 3 июня 1907 г.
премьер-министр П.А. Столыпин выпустил новое Положение о выборах, ко¬
торое обеспечило более консервативный состав 3-й Государственной думы
(1907—1912). Еврейское население в 3-й Думе представляли всего лишь два
депутата: Л.Н. Нисселович и Н.М. Фридман, входившие в кадетскую фрак¬
цию. Стала очевидна необходимость переоценки еврейской политики. Между
«интеграционистами» и сторонниками эмиграции произошло окончательное
размежевание: в то время как ЕНГ, ЕДГ, автономисты Дубнова и социалисти¬
ческий Бунд пытались найти решение еврейского вопроса в России, сионисты
перестали верить в то, что у евреев в России есть будущее. Они с удвоенной
силой продвигали свое решение проблемы: покинуть Россию, чтобы обрести
настоящую Родину.
ОРГАНИЧЕСКАЯ РАБОТА:
САМОПОМОЩЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
После освобождения из тюрьмы Максим Винавер вместе с Семеном Дуб¬
новым, Леоном Брамсоном и другими еврейскими общественными активи¬
стами решили забыть на время о разногласиях, чтобы скооперировать свои
усилия и попытаться найти новые пути помощи российскому еврейству. Аре¬
/342/
4.3 / ЕВРЕЙСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ной их деятельности стали теперь еврейские общинные и общественные ин¬
ституты.
Первые шаги были сделаны на ниве образования, когда в январе 1908 г.
барон Давид Гинцбург открыл Высшие еврейские курсы востоковедения в
Санкт-Петербурге. Эти курсы должны были дать современное образование
еврейской молодежи и способствовать сохранению еврейской культуры и на¬
следия. В том же году усилиями общественных лидеров, принадлежавших к
различным либеральным кругам, были основаны Еврейское историко-этно¬
графическое общество и Еврейское литературное общество. В 1909 г. в Пе¬
тербурге начали выходить новые авторитетные периодические издания: ли¬
тературно-публицистический ежемесячник (позднее — еженедельник) «Ев¬
рейский мир» и орган Еврейского историко-этнографического общества на¬
учный ежеквартальный журнал «Еврейская старина».
В то время как историко-этнографическое общество являлось централи¬
зованной академической организацией, в которой доминировали петербург¬
ские ученые и общественные деятели, литературное общество базировалось в
большей степени на небольших дискуссионных группах, возникавших на волне
пробудившегося в широких кругах интересах к новой еврейской культуре. За
три года своего существования (1908—1911) Еврейское литературное общество
заметно увеличилось. Повсюду в черте оседлости появлялись его новые отделе¬
ния, и к ноябрю 1909 г. в нем состояли 700 членов из самых разных слоев еврей¬
ского общества в 40 провинциальных отделениях. Конечно, Еврейское литера¬
турное общество не оставалось в стороне от идеологических конфликтов между
различными политическими группами, но несмотря на все разногласия органи¬
зационные инициативы либеральных кругов, даже не приводившие к конкрет¬
ным социально-политическим результатам, с энтузиазмом воспринимались в
провинции. Более того, они зачастую служили образцом для подражания.
Так, в одном только 1908 г. в Киеве было организовано Общество вспомо¬
ществования еврейским учителям и меламедам города Киева и черты еврей¬
ской оседлости; в Риге — Общество распространения грамотности среди ев¬
реев города Риги; в Минске появилось Литературно-артистическое общество;
наконец, в Санкт-Петербурге возникли два общества: одно было посвящено
еврейскому искусству («Бецалель»), а второе — народной музыке (Общество
еврейской народной музыки).
Все эти организации стремились повысить еврейское национальное са¬
мосознание посредством популяризации светской культуры и литературы
(как на иврите, так и на идише). Не менее важной их задачей была модерни¬
зация еврейского образования: они выступали за введение светских и общих
предметов в программы всех еврейских образовательных институтов. Эти но¬
вые организации представляли собой социальную базу для глобальных обще¬
ственных перемен.
/ 343 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1908 г.
Деятельность еврейских либералов и общинных активистов не ограни¬
чивалась вопросами духовного возрождения. Значительная часть еврейского
населения России (особенно в черте оседлости) жила в условиях крайней ни¬
щеты. Поскольку в самих общинах появилась известная готовность к органи¬
зации системы взаимопомощи, казалось только логичным объединить силы,
чтобы улучшить общую экономическую ситуацию. Сберегательные и ссудные
товарищества, которые пользовались в то время в России огромной популяр¬
ностью, стали двигателем этой реформы. С их помощью планировалось мо¬
дернизировать мастерские и помочь еврейским ремесленникам выжить в усло¬
виях жесткой конкуренции. Примерно с 1907 г. процесс создания различного
рода товариществ переживал в России массовый подъем. По всей стране, как
грибы после дождя, появлялись сберегательные и ссудные ассоциации, кре¬
дитные товарищества, потребительские кооперативы и общества взаимного
кредитования. В этих обстоятельствах Винавер и Слиозберг созвали 8—9 марта
в Санкт-Петербурге Экономическую конференцию, на которой была выдви¬
нута идея использовать уже существующие кооперативы для снабжения еврей¬
ских ремесленников дешевыми инструментами и материалами, с тем чтобы
они смогли стать конкурентоспособными и улучшили свое финансовое поло¬
жение. Более того, семьдесят активистов, принявших участие в конференции,
создали торгово-промышленную организацию под названием «Труд», которая
была легализована в 1909 г. В это же время делегаты осознавали, что экономи¬
ческая реформа должна быть связана с реформой образовательной: панацеей
должно было стать объединение профессиональной подготовки с общим обра¬
зованием. Для этого либералы и другие активисты совместно с ОРТом органи¬
зовали в Вильно съезд директоров еврейских ремесленных училищ под пред¬
седательством Слиозберга. На съезде были определены основные направления
модернизации еврейского профессионального образования и создан специ¬
альный комитет, задачей которого было обеспечить выпускников ремесленных
училищ работой внутри черты оседлости и за ее пределами, однако этот проект
провалился ввиду непреодолимых правовых препятствий.
СЪЕЗД В КОВНО
Некоторые еврейские либералы по-прежнему верили, что Дума сможет
помочь делу еврейской эмансипации, пусть даже пока там не удалось добиться
особенных успехов. В 1908 — начале 1909 г. Винавер вел интенсивную закулис¬
ную деятельность, чтобы добиться в этом вопросе поддержки кадетской фрак¬
/344/
4.3 / ЕВРЕЙСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ции Думы. О его успехе может свидетельствовать тот факт, что такие кадетские
депутаты, как Ф.И. Родичев и В.Л. Маклаков, не только защищали российских
евреев от антисемитских нападок со стороны представителей правого крыла
Думы, но и встречались с еврейскими общинными лидерами, чтобы получить
более полную картину реального положения евреев в Российской империи.
Однако для того чтобы эффективно защищать общенациональные интере¬
сы евреев на парламентском уровне, необходимо было добиться более тесного
сотрудничества между разнообразными светскими и религиозными еврейски¬
ми группами, включая сионистов, бундовцев и ортодоксов. С этой целью ли¬
беральные круги выступили с инициативой по созыву всероссийского съезда
представителей еврейских общин, политических групп и общественных орга¬
низаций. Дополнительным толчком для этой инициативы стал внесенный в
Думу законопроект о реорганизации религиозных союзов и общин неправо¬
славного вероисповедания. Либералы сочли новый законопроект превосход¬
ной возможностью решить две главные стоящие перед ними задачи: наладить
сотрудничество и координацию в сфере органической работы и организовать
еврейскую общину на твердом правовом базисе, что позволило бы продви¬
нуться еще дальше в нормализации и демократизации жизни евреев в России.
Съезд состоялся в Ковно ноябре 1909 г. В нем приняли участие 120 делегатов,
принадлежавших к различным политическим группам и приехавших из раз¬
ных регионов России. Среди участников были и либерально настроенные ре¬
лигиозные лидеры: Шломо Аронсон (раввин Киева), Яков Мазе (казенный
раввин Москвы) и Ицхак Шнеерсон (казенный раввин Чернигова). На съезде
в Ковно разгорелась яростная полемика о том, каким должно быть будущее
еврейской общины и ее облик. В конце концов удалось достичь компромисса,
ориентированного на модернизацию и секуляризацию еврейской общины, в
случае если ее удастся легализовать. Делегаты решили, что будущая еврейская
община будет управляться советом, избираемым путем прямого голосования.
Совет выберет исполнительную и административную власть общины. Членом
общины считается каждый еврей от 18 лет и старше, который прожил в ней не
менее одного года. Обязательный прогрессивный подоходный налог должен
был заменить практикуемый в общинах косвенный налог на кошерное мясо —
так называемый коробочный сбор. Бедные евреи за чертой определенного
уровня доходов не должны были облагаться налогом. Представленная таким
образом еврейская община может рассматриваться как демократическая и мо¬
дернизированная организация, в которой позволено участвовать всем элемен¬
там еврейского общества. Последним, но важным решением было создание
консультативного комитета по поддержке еврейских депутатов Думы во всех
вопросах, касающихся российских евреев (Ковенский комитет) 5.
Вскоре после Ковенского съезда, весной 1910 г., по инициативе россий¬
ского Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге была созвана оче¬
/345/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
редная раввинская комиссия. Несмотря на консультативный характер этого
института и ограничение сферы его деятельности исключительно религиоз¬
ными вопросами подготовка к созыву комиссии вызвала широкий отклик в
разных слоях еврейского общества. В результате власти разрешили провести
в столице параллельно с раввинской комиссией съезд общественных пред¬
ставителей евреев, на котором должен был обсуждаться значительно более
широкий круг вопросов, в том числе и касающихся будущего общины. Среди
участников съезда и комиссии большинство составляли представители тради¬
ционных и ортодоксальных кругов, но и представительство либералов было
достаточно внушительным. И если для последних петербургский съезд обще¬
ственных представителей был важен как средство осуществления реформ,
разработанных на Ковенском съезде, то для вторых съезд был прежде всего
средством объединения ортодоксальных сил и укрепления статуса религиоз¬
ной традиции в еврейском обществе 6. В конце концов либералам удалось про¬
вести ряд предложений, принятых Ковенским съездом.
Как бы то ни было, оба съезда — в Ковно и в Санкт-Петербурге — имели
огромное влияние на развитие органической работы, так как все еврейские
политические группы, включая сионистов и бундовцев, должны были от¬
реагировать на эти события, а во многих случаях и принять в них непосред¬
ственное участие, если они не хотели потерять свое влияние внутри еврейской
общины. Так как с 1907 по 1914 г. политическая деятельность была почти не¬
возможна из-за репрессивного курса правительства, единственной надеждой
оставалась органическая работа, направленная на улучшение экономической,
социальной и образовательной ситуации евреев в России шаг за шагом.
Благодаря усилиям еврейских либералов все большее число евреев ока¬
зывалось вовлечено в деятельность ОРТ и ОПЕ. С 1909 по 1911 г. числен¬
ность этих организаций возросла с 1037 до 1556 человек (ОРТ) и с 4700 до
7000 (ОПЕ). Бундовцы не могли остаться в стороне от образовательной дея¬
тельности ОПЕ, ведь они пропагандировали идиш как национальный язык
российских евреев и конечно же не собирались предоставлять все поле де¬
ятельности либералам, которые предпочитали русский язык, или сиони¬
стам, которые ратовали за иврит. Этот вопрос горячо обсуждался на двух
совещаниях Комитета ОПЕ с провинциальными деятелями в 1910 и 1911 г.
На последнем обсуждался и проект реформы еврейской начальной школы.
Это было связано с тем, что в Государственной думе рассматривался про¬
ект о национальном образовании, и потому казалось, что создание светской
еврейской начальной школы вполне осуществимо. После бурных споров
между идишистами и сионистами был принято решение о создании модер¬
низированной еврейской школы с преподаванием на идише и программой,
включающей основные общие дисциплины, а также ивритскую и идишскую
литературу, еврейскую историю и Библию.
/346/
4.3 / ЕВРЕЙСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В экономической сфере либералы успешно лоббировали включение ев¬
рейских ремесленников в проекты реформ, которые разрабатывались на Вто¬
ром всероссийском съезде ремесленников, созванном Обществом для содей¬
ствия русской промышленности и торговли, с целью выработки новых ремес¬
ленных уставов: съезд утвердил принцип полного равенства для всех членов
всех ремесленных организаций, включая свободу выбора дня отдыха.
Лоббирование еврейских интересов стало чрезвычайно сложным в 3-й
Государственной думе ввиду усиливавшихся репрессивных и антисемитских
тенденций в российском обществе. Тем не менее депутаты Думы либералы
Л.Н. Нисселович и Н.М. Фридман использовали любую возможность для
этого. В 1909 г. они заручились поддержкой различных парламентских лиде¬
ров, чтобы представить законопроект об отмене черты оседлости. В результате
155 депутатов подписали этот законопроект, который был со временем про¬
веден в Думу, но затем отослан в Комиссию о неприкосновенности лично¬
сти и похоронен там. После убийства в 1911 г. П.А. Столыпина политика рос¬
сийского правительства значительно поправела. Дело Бейлиса и вызванный
им общественный резонанс вынудили либералов переключиться на борьбу
с кровавым наветом. Органическая работа осложнялась репрессивными ме¬
рами российского правительства, которое закрыло 1 июля 1911 г. Еврейское
литературное общество, имевшее к тому времени 122 отделения внутри и за
пределами черты оседлости и проявившее себя как наиболее успешное из всех
еврейских культурных учреждений.
МРАЧНЫЕ ГОДЫ:
1911-1914
Общественная деятельность еврейских активистов в предвоенные годы
превратилась, по существу, в борьбу с антисемитизмом, однако поиск пу¬
тей модернизации еврейского общества и улучшения положения евреев по-
прежнему стоял на повестке дня либералов. Еврейские лидеры пытались про¬
тивостоять усилению антисемитизма в России при помощи широкомасштаб¬
ной информационной кампании, развернутой ими как в самой империи, так
и за ее пределами. Кампания эта серьезно повредила репутации российского
правительства, и в то же время она давала российским евреям возможность
познакомиться с собственной историей, философией и культурой.
Различные организации, такие как Общество распространения правиль¬
ных сведений о евреях и еврействе, Еврейское историко-этнографическое
общество, Еврейское научно-литературное общество, Общество поощрения
еврейской науки, инициировались и управлялись одними и теми же активи¬
стами и использовались для защиты и поддержки российского еврейства.
/347/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
В защите Менделя Бейлиса, обвиненного в ритуальном убийстве, еврей¬
ские либералы задействовали все возможные средства. Как и в случае с делом
Дрейфуса во Франции, на поддержку Бейлиса мобилизовались все прогрес¬
сивные силы российского общества. Кроме всего прочего, это была прекрас¬
ная возможность показать отсталость российского правительства и россий¬
ской политической системы. Как и во Франции, российские интеллектуалы
осуждали антисемитизм, считая его позором для цивилизованной страны и
орудием реакции в борьбе с прогрессивными силами. Кампания протеста
против антисемитского курса российского правительства вышла на междуна¬
родный уровень. Коллективные обращения из Франции, Англии, Германии
и Австрии, подписанные видными европейскими общественными деятеля¬
ми, направлялись в Россию и публиковались в российской прессе. С 1912 по
1914 г. британская газета Jewish Chronicle выпускала специальное приложение
«Darkest Russia» («Темная Россия»), знакомившее читателей с положением
евреев в империи. Еврейские финансисты и общественные деятели США и
Западной Европы требовали обусловить предоставление России займов изме¬
нением ее антиеврейской политики 7.
В 1913 г. Мендель Бейлис был оправдан, хотя присяжные были убеждены,
что ритуальное убийство действительно имело место 8. Наряду с борьбой про¬
тив антисемитизма еврейские активисты по-прежнему сосредоточивали свои
усилия на политическом, социальном и образовательном уровнях.
Хотя выборы в 4-ю Государственную думу не внушали оптимизма, еврей¬
ские либералы не теряли веры в то, что и там можно будет лоббировать во¬
прос о еврейском равноправии. Несмотря на острую межпартийную борьбу
в еврейском обществе и манипуляции ультраправого крыла и антисемитских
группировок, три еврейских депутата — доктор М.Х. Бомаш (Лодзь), доктор
Э.Б. Гуревич (Курляндская губерния) и переизбранный Фридман (Ковно)
вошли в Думу. Однако 4-я Дума (1912—1917) оказалась слишком консерватив¬
ной и занятой общероссийскими проблемами, чтобы пытаться получить под¬
держку законопроекта об отмене черты оседлости. Поэтому еврейские депута¬
ты решили сконцентрировать свои усилия на защите евреев от антисемитских
выступлений в Думе.
На экономическом уровне шансы улучшить ситуацию были большими, так
как индустриализация и модернизация России создавали нишу, в которой ОРТ
могло продолжать свою деятельность и помогать русским евреям найти свое ме¬
сто в модернизированном российском обществе. Для этого ОРТ субсидировало
курсы профессионального образования, выдавало ссуды еврейским товарище¬
ствам, торговым домам и другим еврейским организациям, публиковало и рас¬
пространяло профессиональную литературу на русском языке и идише.
В 1912 и 1913 г. активисты ОРТа успешно лоббировали на двух всероссий¬
ских кооперативных съездах включение в их программу принципа равенства,
/ 348 /
4.3 / ЕВРЕЙСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
открывавшего для российских евреев широкие возможности для присоедине¬
ния к существующим кооперативам и создания новых. Под давлением ситу¬
ации, сложившейся с началом Первой мировой войны, правительство было
вынуждено несколько смягчить свои позиции, и потребительские и ссудные
товарищества, в том числе и еврейские, стали появляться по всей России. ОРТ
также занималось и сельским хозяйством, однако недостаток фондов, экспер¬
тов и антиеврейское законодательство не позволяли добиться значительных
успехов в этой области.
В сфере образования еврейские общественные активисты сосредоточили
свою деятельность на национализации и модернизации еврейского образо¬
вания путем повышения профессиональных стандартов еврейских учителей,
организации новых школ или реформы традиционных учебных заведений.
Евреи — студенты университетов получали финансовую поддержку. Реорга¬
низовывались и модернизировались еврейские библиотеки. Еврейские сбе¬
регательные и ссудные товарищества осуществляли финансовую поддержку
этой деятельности, частично реинвестируя свой доход в различные виды об¬
разовательных учреждений.
Поскольку образование было важнейшим фактором сохранения еврей¬
ского наследия и формирования новой еврейской идентичности, вокруг во¬
проса о языке, на котором оно должно вестись, возникли яростные споры:
идиш, иврит или русский? Либералы-автономисты, сионисты, социалисты и
умеренные либералы оказались на разных позициях в этом вопросе. Реформа
хедера также спровоцировала серьезные разногласия — одни рассматривали
хедер как часть еврейского культурного наследия, а другие (социалисты) как
старую, рудиментарную и реакционную форму школы, которая должна быть
уничтожена.
В соответствии со своим общим подходом — стремиться к интеграции ев¬
реев в общероссийские проекты реформ активисты ОПЕ успешно защищали
интересы евреев на 1-м Всероссийском съезде по вопросам народного образо¬
вания в конце 1913 г. Этот съезд одобрил права евреев в области образования
и подтвердил общую тенденцию российского общества (в противовес линии
правительства) к большей толерантности по отношению к меньшинствам.
Съезд принял резолюцию, в которой говорилось, что пора отказаться от всех
правовых ограничений для евреев, и подчеркнул, что подобные законы вред¬
ны как с общечеловеческой, так и с педагогической точки зрения и лишь
деморализуют евреев и христиан. Съезд также одобрил создание еврейских
школ, где преподавание велось бы на родном языке, субсидии для еврейских
школ от Министерства просвещения и подтвердил право вводить в них еврей¬
ские национальные предметы.
Осуществлению этих решений помешало начало Первой мировой во¬
йны. Органическая работа не привела к значительным результатам, так как
/ 349 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
правящий режим продолжал проявлять враждебное отношение ко всем ви¬
дам еврейской деятельности. Ограничительное законодательство блокиро¬
вало многие аспекты органической работы и оставалось, таким образом, не¬
преодолимым для нее препятствием. Тем не менее некоторые инициативы,
как, например, создание Еврейского университета 9, были реализованы после
падения царизма. Февральская революция 1917 г. принесла российским евре¬
ям гражданское равноправие, но многие созданные еврейскими либералами
организации и объединения продолжали свою деятельность. ОПЕ просуще¬
ствовало до конца 1920-х гг., еврейские сберегательные и ссудные ассоциации
получили дальнейшее развитие в Израиле, а ОРТ и ОЗЕ (Общество охранения
здоровья еврейского населения, основанное в 1912 г.) стали всемирными ор¬
ганизациями и существуют до сих пор.
Перевод с английского Дильшат Харман
1 О формировании легалистского подхода, характерного для этой группы, см. Na¬
thans В. Beyond the Pale. The Jewish Encounter with Late Imperial Russia. Berkeley; Los
Angeles; London, 2002. P. 324-334.
2 Значительным успехом в этой деятельности могла бы стать публикация четы¬
рехстраничной брошюры, написанной Львом Толстым, в которой он открыто выра¬
жал свой протест против режима. Однако она была конфискована охранкой во время
обыска в квартире Л. Брамсона в 1905 г. Подробно см.: Gassenschmidt Ch. Jewish Liberal
Politics in Tsarist Russia, 1900—1914. The Modernization of Russian Jewry. London, 1995.
P. 147-148.
3 Слиозберг Г.Б. Дела минувших дней. Записки русского еврея. Т. 3. Париж, 1934.
С. 168.
4 Детально вопрос рассматривается в: Gassenschmidt. Jewish Liberal Politics. P. 1-18.
5 См. Совещание еврейских общественных деятелей в г. Ковно. Стенографиче¬
ский отчет. СПб., 1910.
6 О ходе съезда и обсуждаемых на нем вопросах см.: Gassenschmidt. Jewish Liberal
Politics. P. 93—97.
7 См. Szajkouski Z. Paul Nathan, Lucien Wolf, Jacob H. Schiff and the Jewish Revolu¬
tionary Movement in Eastern Europe, 1903-1917 // Jewish Social Studies. 29 (1967). P. 3-26;
ярким примером того влияния, которое оказывала политика российских властей по
отношению к евреям на внешнеэкономические связи империи, может служить ре¬
шение американского правительства не продлевать многолетнее торговое соглаше¬
ние с Россией. Это решение было принято в декабре 1911 г. (еще до начала процесса
Бейлиса) в знак протеста против применения антиеврейских ограничений в России
к евреям — американским подданным, см. Naomi W.C. The Abrogation of the Russian-
American Treaty of 1832 // Jewish Social Studies. 25 (1963), P. 3-41.
8 Более подробно вопрос российских антисемитских и ультраправых организа¬
ций рассматривается в: Löwe H.-D. Antisemitismus und reaktionäre Utopie. Russischer
Konservatismus im Kampf gegen Wandel von Staat und Gesellschaft. Hamburg, 1978.
/ 350 /
4.3 / ЕВРЕЙСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
9 В царской России прием еврейских студентов в университеты регулировался
и ограничивался законом. Поэтому многие еврейские студенты или обращались в
христианство, или отправлялись учиться за границу. Около 1912 г. растущие анти¬
семитские тенденции в университетах Западной Европы, приведшие к ограничению
приема еврейских студентов, сделали необходимым создание Еврейского универ¬
ситета в России с целью обеспечения еврейским студентам возможности выхода из
этого бедственного положения. Ковенский комитет создал в 1912 г. Образователь¬
ный фонд помощи еврейским студентам. Диспуты (с сионистами) о местонахожде¬
нии университета и начало Первой мировой войны отложили выполнение этого про¬
екта. Только в 1919 г. в Ленинграде появился Институт высших еврейских знаний,
а в 1925-м открыл двери Еврейский университет в Иерусалиме. См.: Gassenschmidt.
Jewish Liberal Politics. P. 134.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Натанс Б. За чертой. Евреи встречаются с позднеимперской Россией. М., 2007.
Ципперштейн С. Евреи Одессы. История культуры, 1794-1881. М.; Иерусалим,
1995.
Gassenschmidt Ch. Jewish Liberal Politics in Tsarist Russia, 1900—1914: The Moderniza¬
tion of Russian Jewry. London; New York, 1995.
Janowsky O.I. The Jews and Minority Rights 1898-1919. Studies in History, Economics
and Public Law. New York, 1933 (Reprint 1966).
Lederhendler E. The Road to Modem Jewish Politics: Political Tradition and Political
Reconstruction in the Jewish Community of Tsarist Russia. New York, 1989.
Orbach A. The Jewish People’s Group and Jewish Politics, 1906-1914 // Modem Juda¬
ism. February 1990. Vol. X. P. 1-15.
4.4
ЕВРЕИ В РОССИЙСКИХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ
Олег Будницкий
1856 г. император Александр II приказал «пересмотреть все су¬
ществующие о евреях постановления для соглашения с общими
видами слияния сего народа с коренными жителями, посколь¬
ку нравственное состояние евреев может сие дозволить». Эпоха
Великих реформ Александра II создала возможность «прорыва»
евреев за пределы черты оседлости и положила начало в известном смысле
«русификации» части еврейства. Право жить за пределами черты получили,
по лакейскому выражению Евзеля Гинцбурга, «лучшие из евреев». Сначала
это были купцы 1-й гильдии, затем лица, имевшие ученые степени, врачи,
фельдшеры, повивальные бабки, дантисты, ремесленники, наконец, все, за¬
кончившие высшие учебные заведения, и некоторые другие профессионалы,
в услугах которых в наибольшей степени нуждалась империя 1. Процесс «вы¬
борочной интеграции», по выражению Бенджамина Натанса, дал наряду с
появлением евреев в деловой и профессиональной элите русского общества
и неожиданный для власти, хотя вполне предсказуемый результат: все более
активное участие евреев в российском революционном движении.
Заниматься «политикой» в европейском смысле этого слова в России
стало возможно лишь после императорского Манифеста 17 октября 1905 г.,
провозгласившего гражданские свободы и объявившего о предстоящих вы¬
борах в Государственную думу. До этого времени «политика» всегда означала
нелегальную или полулегальную деятельность, преимущественно участие в
освободительном движении. Особенностью России было то, что либеральное
/ 352 /
4.4 / ЕВРЕИ В РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ
крыло освободительного движения оформилось значительно позже револю¬
ционного. Заметную и все возрастающую роль в российском революционном
движении в последней трети XIX — начале XX в. играли евреи.
Вскоре после цареубийства 1 марта 1881 г. известный русский историк и
консервативный публицист Дмитрий Иловайский писал в «Петербургских
ведомостях»: «Теперь, когда тело Царя-мученика уже предано земле, теперь
на нас, Русских, прежде всего лежит священный долг доискаться до источни¬
ков той темной силы, которая отняла его у России...» Иловайский высказывал
убеждение, что русские «нигилисты и социалисты» — только «грубое, неред¬
ко бессознательное орудие», что их направляют на преступления «не столько
враги собственности и общественного порядка, сколько внутренние и внеш¬
ние враги Русского государства, Русской национальности».
Великороссы в «подпольной шайке», по мнению Иловайского, одним из
первых сформулировавшего тезис об инородческом характере русской рево¬
люции, являлись лишь панурговым стадом, они были единственным элемен¬
том, не имевшим национальных мотивов. Среди внутренних врагов России
Иловайский на первое место ставил поляков. «Второй элемент, — писал автор
выдержавших десятки изданий школьных учебников, — ясно выдающийся и
даже бьющий в глаза, это революционеры из евреев. В последних процессах,
убийствах, покушениях и университетских беспорядках они выступают едва
ли не самым деятельным элементом» 2.
Это не было частным мнением отдельного публициста. Министр внутрен¬
них дел Н.П. Игнатьев говорил в августе 1881 г., что «почву для тайной органи¬
зации нигилистов» составляют поляки и евреи 3. С одной стороны, особая роль
евреев в российском революционном движении подчеркивалась уже с начала
1880-х гг., с другой — им пока что отводилось «всего лишь» второе место.
Два десятилетия спустя ситуация разительно изменилась. В 1903 г. в беседе
с Теодором Герцлем председатель Комитета министров С.Ю. Витте указывал
ему на то, что евреи составляют около половины численности революцион¬
ных партий, хотя их всего 6 миллионов в 136-миллионном населении России 4.
Если Витте и преувеличил, то ненамного.
Статистически участие евреев в революционном движении выглядело
следующим образом. По подсчетам Э. Хаберера, с начала 1870-х до конца
1880-х гг. доля евреев среди участников революционного движения каждые
четыре-пять лет возрастала приблизительно на 5%, во всяком случае, среди
народников, привлеченных к дознанию по делам о политических преступле¬
ниях. Если в 1871—1873 гг., на заре народнического движения, доля евреев со¬
ставляла от 4 до 5%, т. е. была пропорциональна доле евреев в населении стра¬
ны, то в 1874—1876 гг. число евреев, арестованных за политические престу¬
пления, составило 6—7% от общего числа арестованных, в 1878—1879 — 9%,
в начале 1880-х — 14-15%. В 1886-1889 гг. евреи уже составляли от 25 до 30%
/ 353 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
участников революционного движения в России, становясь его «критической
массой» 5. Среди 1246 лиц, привлеченных к судебной ответственности за поли¬
тические преступления в 1866—1895 гг., известна национальность 1029. Среди
них было 664 русских, 162 украинца и 93 еврея (9%) 6.
Роль евреев в революционных организациях 1870—1880-х гг. по-разному
оценивалась исследователями. Л.Г. Дейч подчеркивал техническую, вспомо¬
гательную роль евреев в народническом движении, Э. Хаберер пишет о «ев¬
рейских генералах» революции 7. На наш взгляд, «генералы» еврейского про¬
исхождения были в народнический период революционного движения на¬
столько малочисленны, что говорить всерьез о некой особой организаторской
роли евреев не приходится. Так же как нельзя сводить роль евреев лишь к тех¬
ническим функциям — работе в типографиях, транспортировке литературы
и т.п. Несомненно, однако, что и численность евреев-революционеров, и их
удельный вес среди лидеров революционного движения непрерывно возрас¬
тали. Назовем таких крупных деятелей, которым и в дальнейшем было сужде¬
но играть видную роль в российской политике, как М.А. Натансон, П.Б. Ак¬
сельрод, Л.Г. Дейч. Двое последних стояли у истоков российской социал-де¬
мократии, войдя в состав группы «Освобождение труда» (1883 г.). Заметим
также, что многие евреи — участники русского революционного движения
отождествляли свои интересы с интересами русских крестьян и рабочих, а не¬
которые даже крестились (в том числе О.В. Аптекман, В.Г. Богораз [Н. Тан]),
полагая, что это облегчит им сближение с народом, которому они собирались
нести истины социализма.
Очевидные социально-экономические и политические факторы неиз¬
бежно должны были привести значительную часть еврейства в оппозицион¬
ный лагерь. Понятно, что еврейский народ не уполномочивал выражать свои
интересы российских революционеров еврейского происхождения, будь то
большевики, эсеры или члены других российских революционных партий. На
представительство интересов всего еврейского народа не могла претендовать
ни одна еврейская социалистическая партия, так же как, впрочем, никакая
другая политическая группа. Очевидно и другое — решение «еврейского во¬
проса», как казалось многим, было связано с успехом русской революции. На
наш взгляд, именно еврейство, неотвратимо связанное в России с неполно¬
правием, приводило отпрысков многих благополучных семей в ряды револю¬
ционеров. Или, во всяком случае, способствовало выбору именно этого пути.
Видными социал-демократами стали внуки издателя Александра Цедер¬
баума — Юлий Мартов, Сергей Ежов и Владимир Левицкий, а также внучка
Лидия (по второму мужу — Дан); внуки московского чайного короля Вольфа
Высоцкого Михаил и Абрам Гоцы и Илья Фондаминский (Бунаков) вошли
в число лидеров другой российской партии — социалистов-революционеров.
Сын главного раввина Москвы Осип Минор был народовольцем, затем эсе¬
/ 354 /
4.4 / ЕВРЕИ В РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ
ром 8 (а в 1917 г. — председателем Московской городской думы!). Большеви¬
ки — сын зажиточного колониста Лев Троцкий (Бронштейн) или владельца
молочной фермы Григорий Зиновьев (Радомысльский), сын инженера Лев
Каменев (Розенфельд) или врача Григорий Сокольников (Бриллиант) — име¬
ли весьма неплохие перспективы для любой карьеры, однако избрали «карье¬
ру» революционера.
Хотя некоторые из них категорически отрицали какую-либо связь своей
революционности с еврейским происхождением. «Национальный момент,
столь важный в жизни России, — утверждал Троцкий, — не играл в моей лич¬
ной жизни почти никакой роли. Уже в ранней молодости национальные при¬
страстия или предубеждения вызывали во мне рационалистическое недоуме¬
ние, переходившее в известных случаях в брезгливость, даже в нравственную
тошноту. Марксистское воспитание усугубило эти настроения, превратив их в
активный интернационализм» 9.
Самый урбанизированный и поголовно грамотный народ империи,
ограниченный в праве выбора места жительства, профессии, получении об¬
разования за то, что молился «не тому» Богу, с «естественноисторической»
неизбежностью должен был породить людей, которые сделают борьбу про¬
тив существующей власти целью своей жизни. Возрастание участия евреев в
российском революционном движении напрямую коррелирует со степенью
их интеграции в российское общество 10. Мальчики, выросшие нередко в тра¬
диционной еврейской среде, оказавшись в русской гимназии, а затем в рус¬
ском (иногда заграничном) университете, впитывали революционные идеи
быстрее, чем кто-либо другой. Они могли их воспринять не только на интел¬
лектуальном, но и на эмоциональном уровне. Еврейские юноши становились
русскими революционерами.
В 1901—1903 гг. среди лиц, арестованных за политические преступления,
евреи составляли около 29,1% (2269 человек) В период с марта 1903 по ноябрь
1904 г. более половины всех привлеченных по политическим делам составляли
евреи (53%). По-видимому, это объяснялось реакцией на кишиневский и го¬
мельский погромы. В 1905 г. евреи составляли 34% от всех политических аре¬
стантов, а среди сосланных в Сибирь — 37% 11. В более спокойное десятилетие
1892—1902 гг. евреи составляли 23,4% среди социал-демократов, привлекав¬
шихся к дознаниям, уступая русским (69,1%) и опережая поляков (16,9%). Ев¬
реи опережали русских среди «выявленных» розыскными органами социал-
демократов в Юго-Западном (49,4% и 41,8%) и Южном краях (51,3% и 44,2%
соответственно), составляли львиную долю среди привлеченных к дознанию
в Одессе — 75,1% (русских — 18,7%). В Петербурге и Москве картина была
обратная — 10,2% евреев и 82,8% русских в Северной столице и 4,6% евреев
при 90,1% русских в Первопрестольной 12. Несомненно, самую значительную
долю евреев, привлеченных за политические преступления, давал Бунд —
/ 355 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
наиболее многочисленная революционная партия в России. Так, летом 1904
г. Бунд насчитывал около 23 тыс. членов, в 1905—1907 гг. — около 34 тыс., в
1908—1910 гг., когда революционные настроения резко пошли на спад, — око¬
ло 2 тыс. Для сравнения — вся Российская социал-демократическая рабочая
партия в начале 1905 г. насчитывала приблизительно 8400 членов. На 5-м съез¬
де РСДРП (Лондон, 1907) около трети делегатов было евреями 13.
Евреи играли видную роль в становлении и деятельности российской со¬
циал-демократии. Среди девяти делегатов 1-го съезда РСДРП (март 1898 г.)
пятеро были евреями. В состав избранного на съезде ЦК из трех человек
вошли А. Кремер и Б. Эйдельман. В начале XX в. в редакцию «Искры» вхо¬
дили Ю.О. Мартов и П.Б. Аксельрод. В работе 2-го съезда РСДРП в 1903 г.
участвовала делегация Бунда (из-за разногласий по национальному вопро¬
су покинула съезд). В группе делегатов, оппонировавших В.И. Ленину и
позднее названных меньшевиками, были Мартов, Троцкий, В. Мандельберг
и др. Впрочем, были евреи и среди сторонников Ленина — С.И. Гусев (Я.Д.
Драбкин), прославившаяся впоследствии в эпоху красного террора Розалия
Землячка. Позднее верными «адъютантами» Ленина были Л.Б. Каменев и
Т.Е. Зиновьев. У истоков Партии социалистов-революционеров стоял Хаим
Житловский, «наставник» идеолога и признанного лидера партии В.М. Чер¬
нова. Среди организаторов и лидеров партии были М.Р. Гоц и Г.А. Гершуни. В
эпоху революции 1905 г. около 15% членов Партии социалистов-революци¬
онеров были евреями, а некоторые максималистские и анархистские терро¬
ристические группы почти полностью были еврейскими 14. В составе органи¬
заций эсеров-максималистов евреи составляли около 19% при 76% русских и
украинцев 15. Боевую организацию (БО) Партии социалистов-революционе¬
ров, пожалуй самую успешную террористическую группу в истории русского
революционного движения, создал и возглавил Гершуни, его заместителем,
а затем главой БО был Е.Ф. Азеф (одновременно служивший осведомителем
Департамента полиции). Заграничным представителем БО был М.Р. Гоц. За
все время существования БО (1901—1911) в ее состав входил 91 человек, в том
числе 60 русских, 24 еврея, четыре поляка, два украинца и один латыш. В то
же время среди 13 руководителей БО было шестеро русских, шестеро евреев
и один украинец 16.
Евреи играли также видную роль в Конституционно-демократической
партии, наиболее влиятельной и долговечной партии российских либералов.
Партия среди ее противников справа считалась «еврейской». В первом же
пункте программы партии говорилось: «Все российские граждане, без разли¬
чия пола, вероисповедания и национальности, равны перед законом. Всякие
сословные различия и всякие ограничения личных и имущественных прав по¬
ляков, евреев и всех без исключения других отдельных групп населения долж¬
ны быть отменены» 17.
/ 356 /
4.4 / ЕВРЕИ В РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ
Среди руководителей партии был М.М. Винавер, одновременно входив¬
ший в руководство ряда еврейских организаций; деятельность партии, в осо¬
бенности партийная печать, в значительной степени финансировалась пред¬
принимателями еврейского происхождения. Редактором центрального органа
партии — газеты «Речь» являлся крещеный еврей И.В. Гессен, в ЦК партии
в разное время входили публицист А.С. Изгоев (Ланде), адвокат М.Л. Ман¬
дельштам, юрист и финансист А.И. Каминка, юрист, депутат 2-й и 3-й Госу¬
дарственных дум и соавтор думского «Наказа» (регламента) И.Я. Пергамент,
врач, депутат 1-й Государственной думы З.Г. Френкель.
В то же время в отношении к «еврейскому вопросу» русские либералы да¬
леко не всегда и не во всем были едины; достаточно вспомнить период между
первой русской революцией и Первой мировой войной, когда отчетливо про¬
явилось нарастание интеллигентского антисемитизма и в известной полемике
по поводу «чириковского инцидента» 18 П.Б. Струве противопоставил немцев,
которые, оплодотворяя русскую культуру, без остатка в ней растворяются, ев¬
реям, играющим в русской культуре роль, несопоставимую с другими «ино¬
родцами», «оставаясь евреями» 19. Струве призвал русскую интеллигенцию не
«обесцвечивать» себя в российскую и, не стесняясь духовных притяжений и
отталкиваний, продемонстрировать свое национальное лицо. Он отделял «ду¬
ховные притяжения и отталкивания» от политической стороны «еврейского
вопроса», подчеркивая, что государственная справедливость требует «нацио¬
нального» безразличия» 20.
П.Н. Милюков, полемизируя со Струве, предостерегал, что «аполитизм
нашего интеллигента последней формации непосредственно ведет его по на¬
клонной плоскости эстетического национализма, быстро вырождающегося
в настоящий племенной шовинизм» 21. В.Е. Жаботинский указал на разви¬
вающийся в среде русской интеллигенции «асемитизм», т.е. «безукоризнен¬
но корректное по форме желание обходиться в своем кругу без нелюбимого
элемента»; он счел «асемитизм» предтечей антисемитизма и одной из форм
«жидоморства» 22. Рационалист Милюков полагал, что идет спор о том, «от¬
куда ведьмы — из русского Новгорода или из жидовского Киева». Он ирони¬
зировал по поводу того, что человеку, не верящему в ведьм, затруднительно
принимать участие в такого рода полемике 23. Жизнь, однако, вскоре показала,
что среди его высокообразованных однопартийцев оказалось немало людей,
допускавших существование «нечистой силы» 24.
Таким образом, накануне катастрофы 1917 г. евреи были широко пред¬
ставлены в российских политических партиях «от кадетов налево», входя в ру¬
ководство практически всех политических группировок, которым предстояло
сыграть ведущую роль в грядущих революционных событиях. Заметим, одна¬
ко, что участие евреев в российских политических партиях не было массовым.
В партии большевиков к началу 1917 г. насчитывалось около 1000 евреев 25 —
/ 357/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
4,3% от общей численности партии, составлявшей в январе 1917 г. 23 600 че¬
ловек. Мы не располагаем данными по другим массовым левым партиям, од¬
нако вряд ли доля евреев в них была существенно выше.
1 См. подробнее: Нахманович В. Прорыв за черту (История принятия закона о
праве повсеместного жительства евреев-купцов 1-й гильдии) // Вестник Еврейского
университета в Москве. 1994. № 2(6). С. 16-40; Nathans В. Beyond the Pale: The Jewish
Encounter with Late Imperial Russia. Berkely; Los Angeles; L., 2002.
2 Иловайский Д.И. Мелкие сочинения, статьи и письма. 1857—1887 гг. М., 1888.
С. 351-354.
3 Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М.,
1964. С. 380.
4 Schapiro L. The Role of the Jews in the Russian Revolutionary Movement // Slavonic
and East European Review. December 1961. Vol. 15. Numb. 94. P. 148.
5 Haberer E. Jews and Revolution in Nineteenth Century Russia. Cambridge, 1995.
P. 254-257.
6 Троицкий Н.А. Царизм под судом прогрессивной общественности. 1866—1895.
М., 1979. С. 283.
7 См. Дейч Л.Г. Роль евреев в русском революционном движении. Берлин, 1923;
Haberer Е. Op. cit. Р. 119-145.
8 Френкель Й. Пророчество и политика. Социализм, национализм и русское
еврейство, 1862-1917. М.; Иерусалим, 2008. С. 194.
9 Троцкий Л. Моя жизнь: Опыт автобиографии. Т. 2. М., 1990. С. 63.
10 О процессе интеграции евреев в российское общество во второй половине
XIX — начале XX в. см. Natans В. Beyond the Pale: The Jewish Encounter with Late Impe¬
rial Russia. Berkely; Los Angeles; L., 2002; Будницкий O.B. Российские евреи между крас¬
ными и белыми (1917-1920). М.: РОССПЭН, 2005. С. 22-50
11 Френкель Й. Там же. С. 194, 731, прим. 22; Lowe H.-D. The Tsars and the Jews:
Reform, Reaction and Anti-Semitism in Imperial Russia, 1772-1917. Chur (Switzerland),
1993. P. 171.
12 Ерофеев Н.Д. Численность и состав социал-демократов, привлекавшихся к до¬
знаниям в 1892—1902 гг. // Вопросы истории КПСС. 1990. № И. С. 126-127.
13 Schapiro L. Op. cit. Р. 160.; см. также: Отечественная история: с древнейших
времен до 1917 года: Энциклопедия. Т. 1. М., 1994. С. 480.
14 Naimark N. Terrorism and the Fall of Imperial Russia // Terrorism and Political Vio¬
lence. Summer 1990. Vol. 2. Numb. 2. P. 174.
15 Павлов Д.Б. Эсеры-максималисты в первой российской революции. М., 1989.
С. 197.
16 Городницкий Р.А. Боевая организация партии социалистов-революционеров в
1901-1911 гг. М., 1998. С. 235-236.
17 Программы политических партий России. Конец XIX—XX вв. М., 1995. С. 326—
327. Положения о том, что «все российские граждане, без различия пола, националь¬
ности и вероисповедания, равны перед законом», содержались в программах мало¬
/ 358 /
4.4 / ЕВРЕИ В РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ
влиятельных Партии демократических реформ и Партии мирного обновления. — Там
же. С. 351, 359. Партия правых либералов, «Союз 17 октября», ввиду антисемитских
настроений, свойственных многим ее членам, ограничилась на своем 2-м съезде (май
1907 г.) резолюцией, предлагавшей поэтапное решение «еврейского вопроса». В про¬
грамму партии соответствующий пункт включен не был. — Там же. С. 341.
18 См. Кельнер В. Два инцидента // Вестник Еврейского университета в Москве.
1995. № 3(10). С. 192-193.
19 Струве П. Интеллигенция и национальное лицо. — Цит. по: Национализм: По¬
лемика 1909-1917 / Сост. М.А. Колеров. М., 2000. С. 38.
20 Там же. С. 37.
21 Милюков П. Национализм против национализма. — Цит. по: Национализм.
С. 43.
22 Ж[аботинский] В. Асемитизм. — Цит. по: Национализм. С. 33-34.
23 Милюков П. Указ. соч. С. 41. См. подробнее: По вехам: Сб. статей об интелли¬
генции и «Национальном лице». М., 1909 (перепечатан в сб. Национализм. С. 15—140);
Аврех А.Я. Столыпин и Третья Дума. М., 1968. С. 38—41.
24 Об отношении русских либералов к еврейскому вопросу см. подробнее: Буд¬
ницкий О.В. В.А. Маклаков и «еврейский вопрос» // Вестник Еврейского университета.
История. Культура. Цивилизация. 1999. №1(19). С. 42—94; Он же. Русский либерализм
и еврейский вопрос (1917-1920) // Гражданская война в России: события, мнения,
оценки. Памяти Ю.И. Кораблева. М.: Раритет, 2002. С. 517-541; Он же. Российские
евреи между красными и белыми. С. 344—367.
25 В литературе приводятся цифры 958 (Gitelman Z. Jewish Nationality and Soviet
politics. Princeton, 1972. P. 105) и 964 человека (Шарапов Я.Ш. Национальные секции
РКП(б). Казань, 1967. С. 239).
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Аксельрод П.Б. Пережитое и передуманное. Берлин, 1923.
Аптекман О.В. Общество «Земля и воля» 70-х гг.: По личным воспоминаниям. Пг.,
1924.
Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология,
этика, психология. М., 2000.
М.М. Винавер и русская общественность начала XX в. Париж, 1937.
Дейч Л.Г. Роль евреев в русском революционном движении. Берлин, 1923.
Евреи и русская революции: Материалы и исследования / Ред.-сост. О.В. Будниц¬
кий. М.; Иерусалим, 1999.
Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. М., 1997.
Троицкий Н.А. «Народная воля» перед царским судом (1880-1894). Саратов, 1983.
Френкель Й. Пророчество и политика. Социализм, национализм и русское
еврейство, 1862-1917. М.; Иерусалим, 2008.
Ascher A. Pavel Axelrod and the Development of Menshevism. Cambridge, MA., 1972.
Brym R.J. The Jewish Intelligentsia and Russian Marxism. A Sociological Study of Intel¬
lectual Radicalism and Ideological Divergence. L., 1978.
/ 359 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Haberer E. Jews and Revolution in Nineteenth Century Russia. Cambridge, 1995.
Gassenschmidt Ch. Jewish Liberal Politics in Tsarist Russia, 1900-14: The Modernization
of Russian Jewry. Oxford, 1995.
Getzler I. Martov: A Political Biography of a Russian Social-Democrat. N. Y., 1968.
Schapiro L. The Role of the Jews in the Russian Revolutionary Movement // Slavonic
and East European Review. December 1961. Vol. 15. No. 94.
4.5
ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ
ОРТОДОКСАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Владимир Левин, Илья Лурье
ОБЩИЙ КОНТЕКСТ
о второй половине XIX в. в среде традиционного еврейства Цен¬
тральной Европы произошли глубокие идейные и организаци¬
онные сдвиги, которые привели к образованию новых форм
общественной жизни, основанных на ортодоксальном мировоз¬
зрении. Сходные процессы в еврейском обществе Российской
империи получили развитие только к концу XIX столетия. Наиболее очевид¬
ным объяснением такого отставания может служить отсутствие в условиях
царского режима выраженного модернизационного и эмансипационного
фактора, который бы подтолкнул традиционные еврейские круги к выработке
ортодоксальной идеологии, как это случилось в Германии и Габсбургской им¬
перии. Как отметил израильский историк Гершон Бакон 1, обращение тради¬
ционного общества к новым — ортодоксальным — организационным формам
носит реакционный характер и обусловлено целым рядом факторов:
1) распространение общего ощущения идейного и организационно¬
го кризиса традиционного общества, вынужденного противостоять совер¬
шенно незнакомым ему явлениям, угрожавшим многовековым основам его
существования. В общественном дискурсе рассматриваемого периода на¬
зывались самые разные причины этого кризиса, при этом каждая сторона
исходила из своих идеологических посылок. По всей видимости, следует
говорить о целом комплексе внешних и внутренних причин, таких как ра¬
стущее вмешательство централизованных абсолютистских режимов в дела
общин, ослабление институтов еврейской автономии и утрата традицион¬
/361/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
ными кругами контроля над ними, культурная и политическая деятельность
еврейских модернизированных кругов как внутри самой общины, так и за
ее пределами, отдаление от религиозного образа жизни, носящее все более
массовый характер, а также общие процессы модернизации. Все эти фор¬
мулировки являются частью современного научного дискурса: понятно, что
сами свидетели и участники событий могли трактовать происходящее ина¬
че, но несомненно и то, что они ощущали кардинальные перемены в облике
традиционной общины и в ее статусе;
2) ослабление характерной для представителей традиционного общества
уверенности в себе и в правильности своего образа жизни, которое было вы¬
звано в немалой степени влиянием новой системы идеалов и социальной кри¬
тикой со стороны прогрессивных кругов (как еврейских, так и нееврейских);
3) осознание различными секторами традиционного общества наличия
у них общих интересов и готовность объединиться для их достижения. При
этом наиболее эффективными формами общественной деятельности призна¬
вались модели, заимствованные у современных идеологических течений. Та¬
кой подход отличался от политики индивидуального закулисного лоббирова¬
ния (штадланута), практиковавшегося ранее органами еврейской автономии,
но не обязательно противоречил ей.
Демографический вес еврейского населения в России и его концентра¬
ция, а также непоследовательная политика властей в отношении интеграции
евреев в российском обществе замедляли процесс их модернизации и аккуль¬
турации. В результате российское еврейство сохраняло определенные черты
закрытой корпорации вплоть до падения царского режима 2. Это, в свою оче¬
редь, оказало влияние на процесс формирования указанных выше факторов,
который затянулся на долгие годы и так никогда и не привел к созданию це¬
лостного и социально ориентированного ортодоксального мировоззрения.
Израильский ученый Йосеф Салмон, анализируя характер еврейской ор¬
тодоксии в России, указывал на две ее составляющие: «идейно-теологичес¬
кую» (или «метагалахическую») и галахическую. Обе они сложились в 70-е гг.
XIX в. в ходе интенсивных общественных дебатов 3. Нам представляется, что к
этим составляющим следует добавить еще одну — социополитическую, кото¬
рая предшествовала формированию каких-либо идеологических установок и
продолжала оказывать влияние на облик и статус ортодоксии в среде россий¬
ского еврейства. В этом отношении анализ социополитических аспектов орто¬
доксии, которому посвящена настоящая статья, приобретает особое значение.
Первые признаки экзистенциального кризиса еврейского традиционного
общества проявились в эпоху реформ императора Николая I. Именно тогда
оформился союз (а точнее, взаимопонимание) между модернизированны¬
ми еврейскими кругами и абсолютистским режимом, стремившимся осуще¬
ствить всеобъемлющие реформы в жизни евреев. Из среды просвещенного
/ 362 /
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
еврейства вышла на общественную арену новая элита, считавшая себя вправе
выступать от имени всего еврейского общества в целом. Более того, эта груп¬
па получила (пусть и неформальное) признание властей в качестве вырази¬
теля интересов еврейского населения 4. Переломным моментом в этом про¬
цессе стала реформа еврейского образования, инициированная министром
народного просвещения С.С. Уваровым. Она поставила лидеров еврейского
традиционного общества перед сложным выбором и заставила их искать не¬
ординарные пути двойного противостояния: с одной стороны, просвещенно¬
му лагерю, бросившему вызов авторитету старой элиты, а с другой — абсолю¬
тистской власти, стремившейся к ликвидации механизмов еврейского само¬
управления 5. Политика традиционного еврейского руководства в этот период
была направлена главным образом на подрыв сотрудничества между властями
и просветителями и на возвращение под свой контроль представительских
функций перед центральной властью 6. Однако достичь этих целей оказалось
непросто. Прежде всего, российское чиновничество и русское общество в це¬
лом с недоверием относились к еврейской традиции и предпочитали иметь
дело с более близкими к ним по своей ментальности просвещенными кругами
еврейского общества. Более того, само традиционное еврейство выработало
определенную зависимость по отношению к этим кругам, в особенности в пе¬
риод Великих реформ Александра II, когда сформировалась новая еврейская
плутократия, обладавшая одновременно значительной экономической силой
и высокой степенью культурной интеграции в окружающее общество. Бли¬
зость этой новой элиты к властям и ее высокое социальное положение есте¬
ственным образом превратили ее в представителя всего еврейского народа в
России и в посредника между ним и правительственными институтами. В от¬
личие от представителей старой экономической элиты, которые действовали
на общественной арене в соответствии с указаниями традиционного еврей¬
ского руководства («теневого правительства», по выражению Э. Ледерхендле¬
ра), новая плутократия не допускала такого манипулятивного использования.
Она состояла в основном из людей, обладавших сформировавшимся социаль¬
ным мировоззрением и готовых взять на себя ответственность за настоящее и
будущее евреев в России.
В результате возможности традиционных кругов вести самостоятельную
политику оказались ограниченными, и они были вынуждены согласовывать
свои действия с еврейскими финансистами и предпринимателями Петербур¬
га 7. Таким образом, с 70-х гг. XIX в. еврейская политика в Российской империи
определялась одновременно двумя центрами: в Петербурге и Литве. При этом
если в столице империи решающее значение имела деятельность еврейских
банкиров во главе с Евзелем Гинцбургом, а позднее — с его сыном Гораци¬
ем, то в Литве бразды правления оставались в руках раввинистической элиты.
Однако формы и методы общественной деятельности этих традиционных ли¬
/ 363 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
деров коренным образом изменились. Наряду с традиционным штадланутом
литовские раввинистические круги обратились в своей деятельности к ярко
выраженным современным средствам: непосредственное участие в работе
официальных представительных органов (различных комиссий по еврейским
делам, созывавшихся время от времени властями), использование прессы и
формирование общественного мнения, пропаганда и мобилизация широкой
публики для протеста против опасных, с их точки зрения, инициатив прави¬
тельства или маскилим, организация международного давления на россий¬
ское правительство и т.п. В центре такого рода деятельности оказывались как
местные раввины и видные общественные фигуры, так и духовные лидеры,
обладавшие надобщинным авторитетом, — такие, как основатель движения
«Мусар» р. Исраэль Салантер, раввин Кретинги р. Элияху Левинзон, ковен¬
ский раввин р. Ицхак Эльханан Спектор и его сын р. Цви Гирш Рабинович,
занимавший пост раввина в Вильно и Митаве, и др. Мировоззрение этих ли¬
деров принципиально отличалось от взглядов петербургской элиты, и нередко
между ними возникало напряжение, доходившее даже до фронтального стол¬
кновения (как, например, в вопросах о хедерах или о раввинской семинарии),
однако в большинстве случаев им удавалось наладить тесное сотрудничество.
Литовские раввины рассматривали круг Гинцбургов как важный канал для
решения вопросов, связанных с отношениями между еврейским обществом
и государством, а петербургские активисты относились к литовским равви¬
нистическим кругам как к легитимному партнеру во всем, что касалось во¬
просов религии и религиозной традиции. Между двумя сторонами возникла
своего рода взаимозависимость, вызванная, в частности, низким и неустойчи¬
вым статусом всего еврейского общества в России. Взаимодействие двух этих
секторов еврейского общества носило вполне организованный характер: оно
основывалось не только на регулярной переписке (главным образом между
р. Ицхаком Эльхананом Спектором и бароном Горацием (Нафтали Герцем)
Гинцбургом или профессором Ноахом Бакстом, помощником другого петер¬
бургского мецената — Самуила Полякова), но и на функционировании посто¬
янного представительства ортодоксов в Петербурге. Создание такого предста¬
вительства по инициативе группы литовских раввинов отражало новый этап в
общественной деятельности традиционных еврейских кругов России. Он был
связан с глубоким кризисом в отношениях всех социальных секторов россий¬
ского еврейства с властями в результате погромов 1881—1882 гг. и основывался
на успешном опыте сотрудничества между ортодоксальными и просвещенны¬
ми кругами в эти критические годы. Петербургская плутократия поддержа¬
ла инициативу по созданию в столице особой лоббистской группы из черты
оседлости и выразила готовность сотрудничать с ней. Таким образом, основ¬
ными функциями этой группы стали согласование позиций и конкретных по¬
литических шагов между столицей и периферией, сбор информации о про¬
/364/
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
исходящем в различных государственных административных институтах и ее
передача кругу Гинцбурга 8. Размах и постоянный характер деятельности чле¬
нов петербургского представительства, а также логистическая и финансовая
поддержка, которую оно получало от раввинских кругов и от петербургских
лидеров, отличали их от традиционных штадланов, наведывавшихся ранее в
столицу по различным общественным нуждам. Эти новые общественные по¬
средники, по существу, способствовали политическому объединению идео¬
логически раздробленного российского еврейства, что само по себе являлось
беспрецедентным феноменом в истории евреев России.
Интересно отметить, что в политических и организационных инициати¬
вах формирующейся в России еврейской ортодоксии вплоть до конца XIX в.
практически не ощущалось участия хасидов. Исключение составляла разве
что политическая активность любавичского хасидизма, проявившаяся в кон¬
тексте реформ Уварова и закончившаяся со смертью влиятельного любавич¬
ского цадика р. Менахема Менделя в 1866 г. По всей видимости, это объясня¬
лось особой устойчивостью хасидского общества к социальным потрясениям
эпохи. Двор цадика и административные механизмы управления хасидской
общиной носили неформальный характер и базировались на безусловном
харизматическом авторитете самого цадика. Они не пострадали от ослабле¬
ния традиционных формальных институтов еврейской общины и, более того,
смогли стать им поддержкой или даже заменой. В результате непосредствен¬
ные социальные и религиозные рамки существования хасидов сохраняли свой
первоначальный облик и стабильность и тогда, когда в других секторах еврей¬
ского общества усиливалось ощущение растерянности и кризиса. Характер¬
ная для хасидского движения внутренняя уверенность в незыблемости своего
мира замедляла развитие ортодоксального сознания в среде хасидов, а их об¬
ращение к новым формам общественной жизни было спорадическим и непо¬
следовательным. Но когда в начале XX столетия хасидские лидеры воспри¬
няли основные идеи ортодоксии, их деятельность на общественно-политиче¬
ской арене стала особенно эффективна, так как они могли пользоваться на¬
лаженными иерархическими механизмами управления хасидской общиной.
Указанная расстановка сил между различными секторами еврейского
общества в России оказывала влияние на формирование политики раввини¬
стической ортодоксальной элиты в те моменты, когда она вынуждена была
противостоять позиции центральной власти по наиболее сложным и болез¬
ненным вопросам, касавшимся основ существования еврейского традицион¬
ного общества. Важнейшими среди них были вопросы о характере еврейско¬
го представительства перед органами центральной власти, о раввинате и его
полномочиях и о статусе еврейского конфессионального образования.
/ 365 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
ВОПРОС О ХАРАКТЕРЕ ЕВРЕЙСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
РАВВИНСКИЕ КОМИССИИ В ГОДЫ РЕФОРМ И РЕАКЦИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
В годы Великих реформ Александра II, в условиях отсутствия какого-либо
институализированного органа еврейского представительства перед централь¬
ной властью, особое значение в глазах еврейской общественности приобрела
т.н. Раввинская комиссия. Этот институт был основан по инициативе прави¬
тельства в 1848 г. как консультативный орган при Министерстве внутренних
дел. В его полномочия входило обсуждение вопросов, связанных с еврейским
религиозным законом, которые определялись самим министерством. Комис¬
сия не была постоянно действующим органом и собиралась время от времени
по решению министра. В соответствии с действовавшим законодательством
участники комиссии избирались представителями общин, и их кандидатуры
должны были получить утверждение министра 9. Создание Раввинской комис¬
сии в России было составной частью более широкой политики, направлен¬
ной на ликвидацию традиционных институтов еврейской автономии и в то же
время сохранение обособленного характера еврейского общества. Этот двой¬
ственный подход проявился в формировании особого еврейского законода¬
тельства и в деятельности различных специальных бюрократических учрежде¬
ний, таких как межминистерские еврейские комитеты, институт «ученых ев¬
реев» при министерствах и губернаторствах, комиссии по различным вопро¬
сам еврейской жизни и т.п. Бюрократический характер Раввинской комиссии
и ее полное подчинение Министерству внутренних дел привели к тому, что
она воспринималась с самого начала как средство давления на еврейское об¬
щество, а не как орган полномочного общественного представительства. За
редким исключением утверждавшиеся министром участники комиссии не
обладали собственным авторитетом в глазах еврейской общественности, и
их деятельность ограничивалась решением конкретных вопросов, вынесен¬
ных на обсуждение министерством. По всей видимости, главной целью не¬
многочисленных представителей традиционного лагеря, участвовавших в ко¬
миссиях в качестве делегатов или наблюдателей (среди них присутствовали
как отдельные раввины, так и представители экономической элиты), было
предотвращение вмешательства правительства во внутренние еврейские дела
и оповещение еврейского общества о готовящихся «бедствиях», а не ведение
полноценного диалога с властями о социальных преобразованиях.
Эта ситуация начала меняться в связи с созывом 4-й Раввинской ко¬
миссии в 1879 г. За годы, прошедшие со времени созыва в 1861 г. предыду¬
щей комиссии, еврейское общество претерпело значительные изменения: в
нем набирали силу процессы ассимиляции и модернизации, широкое рас¬
/366/
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
пространение получила еврейская периодическая печать, превратившаяся во
влиятельную социальную силу, появилась значительная группа еврейской ин¬
теллигенции, отождествлявшая себя с формирующимся российским граждан¬
ским обществом, а в столице империи возникла влиятельная просвещенная
еврейская община, готовая взять на себя руководящую роль по отношению ко
всему российскому еврейству. Эти процессы получили ускорение благодаря
политике реформ Александра II и порожденной ею атмосфере напряженно¬
го ожидания перемен в гражданском статусе евреев. Естественно, что в таких
обстоятельствах всякий диалог с властями приобретал особое значение в гла¬
зах новой элиты, стремившейся занять руководящие позиции в еврейском
обществе. Вместе с тем в этот же период происходили процессы сплочения и
идеологизации традиционного лагеря. Как указывалось выше, традиционные
еврейские лидеры обратились к новым формам общественной деятельности,
в Литве сформировалось влиятельное организационное ядро ортодоксально¬
го лагеря, во главе которого стоял популярный ковенский раввин р. Ицхак
Эльханан Спектор. В еврейской общественной жизни шел процесс идеоло¬
гической поляризации, и он явственно проявился во время выборов делега¬
тов Раввинской комиссии 1879 г. В этой предвыборной кампании, впервые
носившей публичный характер и широко освещавшейся еврейской прессой,
ортодоксальные круги добились внушительной победы. В литовских и бело¬
русских губерниях избиратели поддержали ортодоксальных кандидатов, что
свидетельствовало о политической активизации традиционного лагеря и о его
способности организовать широкомасштабную пропагандистскую кампанию
(особенно это было заметно в Литве, где ортодоксальное «ядро» пользовалось
большим влиянием) 10. Впрочем, местные власти, отвечавшие, в соответствии с
законодательством, за окончательное утверждение кандидатов, по-прежнему
придерживались политики «социального исправления» евреев, определен¬
ной еще в николаевскую эпоху и ориентированной на просвещенные круги.
Поэтому в конечном итоге избранные кандидаты не получили поддержки
властей, и в заключительном списке участников комиссии не оказалось ни
одного раввина. Такое развитие событий чрезвычайно обеспокоило лидеров
традиционного лагеря. Они конечно же не могли оспорить решение властей,
но продемонстрированные в предвыборной кампании сила и влияние откры¬
вали перед ними возможности давления на участников Раввинской комиссии.
Исходя из этого, р. Эльханан Спектор отправил личные послания каждому из
делегатов, и содержавшиеся в них декларации позволяют получить представ¬
ление о социально-политических взглядах литовской ортодоксии 11.
Прежде всего, р. Эльханан в своем послании ограничил сферу полномо¬
чий членов комиссии, однозначно исключив из нее все религиозные и этиче¬
ские вопросы. Эта сфера, по его убеждению, целиком и полностью находи¬
лась в компетенции раввинов, и обсуждение подобных вопросов избранными
/ 367/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Р. Ицхак Эльханан Спектор (1817—1896),
духовный раввин Ковны. Из коллекции
Центрального архива истории еврейского
народа, Иерусалим
депутатами без участия духовных лидеров
стало бы нарушением общенационально¬
го консенсуса и вызвало бы массовое не¬
довольство. Таким образом, уже в самом
начале своего обращения р. Эльханан
стремился подчинить членов комиссии
авторитету раввинов. Кроме того, р. Эль¬
ханан предложил особую повестку дня
комиссии, определив три важнейших для
традиционного общества вопроса, кото¬
рые должны быть подняты депутатами,
даже если Министерство внутренних дел
не инициирует их обсуждение: отмена
казенного раввината и официальное при¬
знание избранных еврейскими общества¬
ми духовных раввинов 12; обеспечение ев¬
рейских солдат кошерной пищей 13; отмена
всех ограничений в отношении еврейско¬
го конфессионального образования (хеде¬
ров).
Понятно, что с точки зрения делега¬
тов-маскилим эти вопросы вовсе не явля¬
лись главными: они были частью той борь¬
бы за облик еврейского общества, которую
вели традиционные лидеры с центральной
властью еще во времена реформ Николая I. Предложения р. Эльханана в от¬
ношении повестки дня комиссии были хорошо продуманным политическим
шагом: с одной стороны, ковенский раввин пытался таким образом подчинить
общественную деятельность новой элиты авторитету ортодоксальных лидеров
(используя при этом вполне современное понятие «общественное мнение»), а
с другой стороны — превратить раввинскую комиссию из бюрократического
механизма контроля над еврейским обществом в инструмент реального вли¬
яния еврейских лидеров на центральные власти. Его планы противоречили
намерениям просвещенных еврейских кругов, надеявшихся, что деятельность
этого органа будет способствовать прежде всего интеграции евреев в россий¬
ское общество и укрепит статус новой еврейской интеллигенции.
Решительная позиция Спектора свидетельствовала об уверенности и раз¬
витом политическом чутье формирующихся ортодоксальных кругов. И хотя им
не удалось полностью добиться своих целей, так как власти изначально не наме¬
ревались поднимать какие-либо общественные вопросы на заседаниях комис¬
сии и ограничились обсуждением конкретных бракоразводных дел, но делегаты
/ 368 /
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
были вынуждены пойти на уступки и создать специальную рабочую группу при
комиссии, в которую вошли авторитетные раввины из черты оседлости. На¬
метившееся еще во время подготовки комиссии идеологическое размежевание
в общественной сфере и одновременно с этим установление контактов между
представителями ортодоксии и петербургской просвещенной элиты получили
дальнейшее развитие в еврейской политике конца XIX столетия.
Стремление ортодоксального истеблишмента использовать Раввинскую
комиссию для утверждения своего статуса в еврейском обществе было осо¬
бенно заметно на Раввинской комиссии 1893 г. На этот раз в комиссию были
избраны три влиятельных раввина: р. Цви Гирш Рабинович (сын р. Эльханана
Спектора) от Виленской губернии (он был назначен председателем комис¬
сии), белостокский раввин р. Шмуэль Могилевер от Гродненской губернии
и Мстиславский раввин р. Гилель Милейковский от Могилевской губернии.
Делегат от Минской губернии — купец Шмуэль Симхович, — по всей види¬
мости, также был близок к ортодоксальному лагерю. Просвещенные еврей¬
ские круги были представлены всего тремя депутатами: от Киевской губер¬
нии — присяжный поверенный Герман Барац, от Волынской — купец Яков
Готтесман и от Бессарабской — кишиневский казенный раввин Авраам Кат¬
ловкер. Победа литовских ортодоксов на выборах в комиссию на этот раз была
связана не только с их организованностью, но и с изменением отношения
правительства к традиционному сектору еврейского общества. Рост револю¬
ционного движения в России в последние годы царствования Александра III
заставил царский режим искать поддержки в консервативных слоях населе¬
ния империи. В соответствии с этим власти пересмотрели свое отношение к
консервативным религиозным группам, которые ранее считались подозри¬
тельными или нелояльными, как, например, католики или старообрядцы 14.
Эта тенденция проявилась и в отношении властей к еврейской ортодоксии.
Петербургский адвокат и общественный деятель Генрих Слиозберг отмечал,
что «к концу царствования Александра III стали часто появляться заявления
губернаторов, а иногда и представителей Министерства внутренних дел о том,
что ортодоксальная часть еврейского общества, не приобщенная к русской
культуре, представляется политически более благонадежной, чем евреи-ин¬
теллигенты» 15. Столичные чиновники требовали от губернских властей про¬
следить, чтобы утверждаемые депутаты отличались богобоязненным поведе¬
нием и не были подвержены влиянию революционных идей 16.
Авторитетный состав комиссии определил и характер повестки дня. Деле¬
гаты обсуждали серьезные галахические и социальные проблемы, касавшиеся
вопросов семьи и брака, метрикации и статуса раввинов, цензуры галахиче¬
ских кодексов (прежде всего — «Шулхан Аруха»), похорон, ритуального забоя
скота и т.п. Стиль и содержание дискуссий и записок, составленных во время
работы комиссии, свидетельствуют о том, что делегаты (и прежде всего уча¬
/ 369 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
ствовавшие в работе комиссии раввины) предприняли немалые усилия, чтобы
устранить противоречия между российским законодательством и еврейскими
религиозными обычаями, стремясь при этом не затрагивать основы существо¬
вания традиционного общества.
Особое место в обсуждениях занял вопрос о двойном раввинате. Пози¬
ция представителей ортодоксального большинства на комиссии была одно¬
значна: они настаивали на официальном признании духовных раввинов и на
этих условиях выражали готовность к компромиссу в отношении общеобразо¬
вательного ценза, необходимого, в соответствии с действовавшим законода¬
тельством, для занятия раввинской должности. Закон требовал от кандидатов
в раввины среднего образования, делегаты же были готовы согласиться только
на начальное образование или знание русского языка, как это было принято
в польских губерниях, — и то лишь при назначении новых раввинов 17. Таким
образом, комиссия 1893 г. пыталась оказать влияние на правительство, по
крайней мере, в одном из общественных вопросов, предложенных р. Ицхаком
Эльхананом Спектором участникам предыдущей комиссии (другой вопрос —
о хедерах — был к тому времени уже разрешен самым благоприятным для ор¬
тодоксов образом; см. об этом ниже).
Еще один вопрос, интенсивно обсуждавшийся на заседаниях комиссии,
касался еврейской книги. Цензурное ведомство запросило у комиссии раз¬
решение на исключение из изданий галахического кодекса «Шулхан Арух» с
комментариями всех отрывков, содержавших, по его мнению, проповедь не¬
терпимости к иноверцам. В этом вопросе делегаты также предложили компро¬
мисс, который должен был позволить пойти навстречу пожеланиям властей,
не затрагивая при этом основ галахи: они отвергли цензурирование кодекса,
но приняли решение, что в новых его изданиях будут добавлены особые ком¬
ментарии, объясняющие точный смысл «сомнительных пассажей» 18.
В целом можно сказать, что комиссия 1893 г. стала демонстрацией силы
и влияния ортодоксального лагеря. Затронутые в ходе прений религиозные и
общественные вопросы решались в соответствии с галахической традицией и
идеологическими установками ортодоксальной элиты. Традиционные лидеры
по существу добились ставившейся ими перед собой с самого начала своей об¬
щественно-политической деятельности цели: получить от имперских властей
признание в качестве полномочных представителей всего российского еврей¬
ства и ослабить общественный статус маскилим. Вместе с тем нельзя сказать,
что просвещенные и либеральные еврейские круги сдали свои позиции и от¬
казались от участия в столь важном общественном институте 19. Представите¬
ли еврейской интеллигенции Петербурга были вовлечены в работу комиссии
1893 г. в качестве экспертов и юридических советников, а барон Гораций Гинц¬
бург, внимательно следивший за ходом заседаний комиссии, даже организо¬
вал торжественный прием для делегатов перед их отъездом из столицы. Более
/ 370 /
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
того, по инициативе Гинцбурга и при помощи видных петербургских адвока¬
тов участники комиссии подали министру финансов Н.Х. Бунге специальную
записку, содержавшую анализ тяжелого экономического и политического по¬
ложения евреев и опровержение расхожих обвинений против них 20. Учитывая
традиционно либеральное отношение Министерства финансов к еврейскому
вопросу, составители записки надеялись, что Бунге будет ходатайствовать пе¬
ред императором за смягчение антиеврейского законодательства.
Подача этого коллективного меморандума стала достойным завершени¬
ем работы 5-й Раввинской комиссии. Она свидетельствовала о превращении
этого бюрократического института в своеобразный орган коллективного ев¬
рейского представительства, опирающегося на два важнейших сектора еврей¬
ского общества — ортодоксальный, возглавлявшийся литовской раввинисти¬
ческой элитой, и либеральный, во главе с лидерами петербургского еврейства.
ПРОБЛЕМА ДВОЙНОГО РАВВИНАТА
Несмотря на разветвленную систему связей, которая сложилась в 80-х и
90-х гг. XIX в. между литовскими ортодоксальными кругами и петербургскими
лидерами просвещенного еврейства, сотрудничество двух этих лагерей имело
свои границы. Их позиции по целому ряду общественных вопросов, в особен¬
ности связанных с религией и образованием, были различны, а иногда даже
противоположны. Особенно явственно идеологическое напряжение между
двумя лагерями проявилось в одном из наиболее часто обсуждавшихся вопро¬
сов общественной жизни российского еврейства: о характере и статусе долж¬
ности раввина.
Главной проблемой в определении статуса раввина в общине было на¬
личие института двойного раввината в Российской империи. Наряду с офи¬
циально признанным раввином, отвечавшим, с точки зрения властей, за все
религиозные вопросы по месту службы, существовал и духовный раввин, ре¬
ально выполнявший все функции традиционного общинного раввина, но не
имевший на это никакого официального разрешения. При этом оба раввина
избирались членами общины 21.
Появление двойного раввината связано с абсолютистской политикой Ни¬
колая I, направленной на установление контроля центральных органов власти
над религиозными институтами и превращение их в инструмент социального
и политического контроля над населением империи. С этой целью в целом
ряде законодательных актов, выпущенных в 1835, 1855 и 1857 г., правитель¬
ство определило официальные функции раввина, а также правила и критерии
его назначения на должность. Среди прочего законом 1855 г. был установлен
и образовательный ценз: кандидат на должность общинного раввина должен
/371/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
был быть выпускником одной из двух раввинских семинарий, созданных в
1847 г. в рамках правительственных реформ системы еврейского образования,
либо обладать средним или высшим образованием.
Очевидно, что представления о социальных функциях и характере равви¬
ната, нашедшие выражение в российском законодательстве, принципиально
отличались от представлений еврейского традиционного общества. Возник¬
новение двух параллельных раввинских должностей стало результатом стрем¬
ления сохранить традиционный характер раввината в новых условиях. Соз¬
давшееся положение не удовлетворяло ни власти, ни еврейское общество в
целом. Казенный раввин превратился в мелкого чиновника, не обладавшего
достаточным влиянием, чтобы выполнить возложенные на него правитель¬
ством социальные функции. Он был очень далек и от идеалов просветите¬
лей, видевших в раввине просвещенного духовного пастыря, который пове¬
дет свою паству по пути социальных и культурных реформ. Среди казенных
раввинов встречались лишь единичные выпускники раввинских семинарий.
С другой стороны, отсутствие какого бы то ни было признания духовного рав¬
вина со стороны властей крайне затрудняло его деятельность и деятельность
других служителей культа (резников и моэлей), функции которых по закону
должен был выполнять казенный раввин. Нередко духовный раввин, открыто
исполнявший возложенные на него общиной полномочия, рисковал подвер¬
гнуться тяжелым судебным преследованиям.
После закрытия казенных раввинских училищ в 1873 г. и накануне созыва
Раввинской комиссии 1879 г. вопрос о раввинате стал обсуждаться с удвоенной
силой. В ходе общественной дискуссии, разгоревшейся на страницах еврей¬
ских газет в 70-е гг., оформились два подхода к решению проблемы двойного
раввината. В соответствии с одним из них (этот подход поддерживала главным
образом просвещенная общественность, однако среди его сторонников были и
отдельные ортодоксальные раввины) недостатки сложившейся ситуации мож¬
но исправить путем создания института для профессиональной подготовки
раввинов нового типа. Из стен этого учебного заведения выйдут современные,
просвещенные духовные лидеры, которые смогут взять на себя как религиоз¬
ное, так и общественное руководство 22. Вопрос о создании такой раввинской
семинарии естественным образом был включен в повестку дня петербургско¬
го «Общества для распространения просвещения между евреями в России»
(ОПЕ), возглавлявшегося бароном Горацием Гинцбургом. ОПЕ еще ранее вы¬
разило свою позицию по отношению к вопросу о раввинате тем, что учредило
стипендию для молодых российских евреев, которые поедут учиться в раввин¬
ские семинарии Европы. В 1879 г. правительство запретило выдачу таких сти¬
пендий, и, возможно, это повлияло на решение ОПЕ выступить с инициативой
создания раввинской семинарии в России 23. Однако первые же практические
шаги ОПЕ по реализации этой программы столкнулись с мощным сопротив¬
/ 372 /
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Р. Мордехай Розенблат, духовный раввин Ошмян
и Слонима. Фотография 1905 г. Из коллекции
Центрального архива истории еврейского народа,
Иерусалим
пением традиционных кругов. Во
главе кампании против инициати¬
вы ОПЕ встали две центральные
фигуры ортодоксального лагеря:
р. Исраэль Салантер и р. Ицхак
Эльханан Спектор. При помощи
ортодоксального публициста Яа¬
кова Липшица они мобилизовали
других раввинов и сумели создать
враждебное по отношению к се¬
минарии общественное мнение 24.
Кампания протеста носила слож¬
ный характер и продемонстриро¬
вала способность ортодоксии ис¬
пользовать современные социаль¬
но-политические методы борьбы.
Она началась в августе 1882 г. с
публичного обращения Спектора
к лидерам петербургской элиты,
в котором ковенский раввин обо¬
сновывал свое неприятие идеи
раввинской семинарии. Р. Ицхак
Эльханан подчеркивал опасность
раскола в среде российского ев¬
рейства как раз в то время, когда
особенно важно единство народа, и утверждал, что шансы выпускников семи¬
нарии получить поддержку общин и быть избранными на должность раввина
весьма слабы. Он указывал также на то, что уровень общего образования рав¬
винистической элиты теперь достаточно высок и не требует учреждения до¬
полнительного образовательного института, а также напоминал о провале дея¬
тельности казенных раввинских семинарий в Вильно и Житомире 25. Однако за
этими прагматическими доводами стояла выраженная общественная позиция,
однозначно утверждавшая статус р. Ицхака Эльханана как полномочного ли¬
дера всего российского еврейства. Ковенский раввин считал себя в праве об¬
ращаться к представителям петербургской элиты от имени еврейского народа
и требовать от них прислушаться к его чаяниям. Он выступал с позиции силы и
даже намекал на то, что верные традиции лидеры в состоянии самостоятельно
действовать против инициативы просветителей и пока не делают этого только
потому, что заботятся о единстве народа 26. После этого драматического шага
р. Ицхака Эльханана в течение всего 1883 г. главы ОПЕ получали многочислен¬
ные письма протеста от видных раввинов и общественных деятелей из черты
/ 373 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
оседлости. Отправка писем инициировалась и координировалась из Ковны,
и план ОПЕ представлялся в них как опасное и противоречившее воле наро¬
да новшество 27. Каналы связи между литовскими ортодоксальными кругами
и петербургской элитой, созданные во время Раввинской комиссии 1879 г. и
петербургских съездов представителей евреев после погромов 1881—1882 гг.,
использовались теперь для оказания давления со стороны ортодоксов на ли¬
деров прогрессивного лагеря. В общественной дискуссии, разгоревшейся во¬
круг инициативы ОПЕ по созданию раввинской семинарии, нашло выражение
усиление ортодоксального сознания в среде лидеров традиционного еврейско¬
го общества 28. Вместе с тем, несмотря на уверения Спектора, борьба с семи¬
нарией вышла за пределы еврейского общества: одновременно с развитием
кампании убеждения, адресованной ОПЕ, в правительственные органы стали
поступать многочисленные обращения от имени общин, в которых будущая
семинария квалифицировалась как рассадник революционной деятельности 29.
На этом этапе инициаторы создания раввинской семинарии уступили давле¬
нию ее противников, тем более что публикация антиеврейского законодатель¬
ства Н.П. Игнатьева («Временные правила о евреях», или «Майские правила»
1882 г.) и учреждение специальной комиссии по пересмотру действующих в
России законов о евреях (Комиссия Палена) направили деятельность еврей¬
ских общественных лидеров в иное русло 30.
Кампания против раввинской семинарии показала готовность литовской
раввинской элиты выйти на общественно-политическую арену в качестве ор¬
ганизованной группы и утвердила ее главенство в традиционном лагере. Од¬
нако ее непримиримая позиция в отношении любых изменений в системе
подготовки раввинов не помешала ряду ортодоксальных лидеров предложить
еще одно решение проблемы двойного раввината. Группа литовских равви¬
нов, отличавшихся определенной чуткостью и открытостью к «духу времени»
и внесших свой вклад в формирование ортодоксального сознания в России в
ходе идеологических баталий 1870-х гг., предложила оригинальный подход,
допускающий сосуществование двух раввинских должностей 31. Обязательным
условием этого должно было стать четкое разделение функций двух институтов
и признание властями духовного раввината. В таком случае эта группа готова
была даже принять требование минимального образовательного ценза для рав¬
винов — знание русского языка 32. Теперь основные усилия ортодоксов были
направлены на получение официального признания духовного раввината, а не
на борьбу против казенных раввинов, с раздельным существованием которых
они готовы были смириться. Эта цель была определена как приоритетная еще
в обращении р. Ицхака Эльханана Спектора к делегатам Раввинской комиссии
1879 г., обсуждавшемся выше, а к 1880-м гг. ортодоксальная верхушка открыто
выступала за разделение раввинских полномочий, которое позволило бы со¬
существование двух официальных должностей раввинов 33.
/374/
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Идея такого разделения должности общинного раввина между двумя
общественными секторами с различным мировоззрением, удовлетворяюще¬
го требования каждого из них к характеру раввината, нашла поддержку и в
прогрессивном лагере. В дискуссиях по раввинскому вопросу на страницах
просветительской еврейской прессы в 1880-х гг. подчеркивалась потребность
просвещенного общества в духовном лидере, наставнике и проповеднике,
который своей деятельностью будет способствовать укреплению новой ев¬
рейской идентичности. Естественным образом эти функции приписывались
казенному раввину 34. Следует отметить, что сама идея создания секторального
раввината, который будет заботиться о религиозных, культурных и социаль¬
ных нуждах только одного сектора еврейского общества, противоречила пер¬
воначальным планам просветителей, стремившихся к проведению широко¬
масштабных социальных реформ. Просветители первого поколения отводили
общинному раввину важное место в преобразовании российского еврейства.
Таким образом переход от универсальной системы взглядов на общество к
изоляционизму и партикуляризму характеризовал оба лагеря — и прогрессив¬
ный, и традиционный.
Эти новые позиции были представлены правительству на Раввинской ко¬
миссии 1893 г., среди участников которой ортодоксальные делегаты составля¬
ли большинство. В своем ответе на запрос министра внутренних дел о сущно¬
сти и функциях духовного раввината члены комиссии охарактеризовали ситу¬
ацию, в которой государственное законодательство игнорирует целую группу
общественных избранников, отвечающих за вопросы еврейской религиозной
жизни как неприемлемую. Они призвали правительство признать духовных
раввинов и выразили готовность к компромиссу в вопросе об образователь¬
ном цензе 35. Предлагаемый компромисс не мог удовлетворить ни просвещен¬
ную публику, которая нуждалась в просвещенном и современном типе рав¬
вина, ни власти, требовавшие от кандидатов на должность раввина среднего
образования. Для преодоления разногласий комиссия приняла идею разде¬
ленного раввината, уже завоевавшую поддержку в еврейском обществе в ходе
предшествовавших дискуссий. Если оба раввина будут действовать в разных
общественных сферах — каждый в своем секторе, — то и обращенные к ним
требования должны быть различны. Не следует требовать от духовного равви¬
на среднего образования — это совершенно лишнее и трудновыполнимое для
представителей традиционной ученой элиты требование. Для осуществления
своих функций ему будет вполне достаточно начального общего образования.
Казенный же раввин, в силу возлагаемой на него социокультурной миссии,
должен обладать более высоким уровнем образования 36. Так в обсуждении ко¬
миссией вопроса о раввинате нашла выражение общая тенденция, сложивша¬
яся во внутриеврейском дискурсе этого периода: разделить еврейскую общину
на две части, отличающиеся друг от друга своим образом жизни, мировоззре¬
/ 375 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
нием и культурными кодами. Речь ни в коей мере не шла о полном формаль¬
ном расколе общины, как это произошло в Германии и Венгрии. По всей ви¬
димости, социальной моделью, на которую ориентировались сторонники раз¬
деления, было добровольное размежевание хасидских и митнагедских групп,
которые пришли к мирному сосуществованию в рамках одной общины. Такая
модель позволяла ортодоксальным и прогрессивным кругам «размежеваться»
в наиболее острых религиозных вопросах, сохраняя при этом социально-по¬
литическое единство общины и единую позицию по отношению к властям.
Можно предположить, что этот подход, ставший одной из основ обществен¬
ных взглядов ортодоксальных кругов в России в конце XIX в., сформировался
в немалой степени благодаря особым отношениям, сложившимся между ли¬
дерами литовской ортодоксии и просвещенной петербургской элитой.
Инициатива по закреплению двойного раввината в российском законода¬
тельстве подтолкнула просветителей вернуться к идее раввинской семинарии.
Связь между этими двумя вопросами очевидна: если просвещенные круги, в
соответствии с наметившимся компромиссом, получают в свое распоряжение
должность казенного раввина как секторальный институт, они чувствуют себя
вправе оформить ее по своему усмотрению. В этих условиях создание раввин¬
ской семинарии приобретало особое значение для подготовки кандидатов на
должность раввина, отвечающих культурным критериям современного про¬
свещенного общества. Вместе с тем деятельность нового образовательного
института не должна была задеть чувства ортодоксальной публики, так как
его выпускники не имели намерений заменить духовных раввинов, также по¬
лучающих официальное признание. Органичная взаимосвязь между планами
создания раввинской семинарии и новыми партикуляристскими представле¬
ниями о казенном и духовном раввинате была обоснована просветителями в
рамках комиссии 1893 г.37, и эти представления стали главной линией защиты
прогрессивных кругов в ходе полемики о раввинской семинарии, вспыхнув¬
шей с новой силой в середине 90-х гг.38
Спустя два месяца после завершения работы Раввинской комиссии ОПЕ
подало в Министерство народного просвещения официальную просьбу об от¬
крытии «еврейского теологического института» для подготовки духовных ли¬
деров нового типа. Несмотря на усилия просветителей не вторгаться в сферу
духовного раввината и их уверения в том, что речь идет о секторальной инсти¬
туции, обслуживающей исключительно нужды прогрессивной публики, ини¬
циатива ОПЕ подверглась жестокой критике со стороны ортодоксов. Полеми¬
ка о раввинате, разгоревшаяся накануне созыва комиссии и продолжавшаяся
во время ее заседаний, вызвала широкий резонанс в ортодоксальных кругах и
привела к их активизации. Еще до начала работы комиссии в Министерство
народного просвещения стали поступать коллективные обращения от общин
черты оседлости с просьбой решить раз и навсегда вопрос о двойном раввина¬
/ 376/
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
те путем признания духовных раввинов. Одинаковое содержание этих писем
и согласованность их отправки (они начали приходить в министерство перед
созывом комиссии, прекратились на время ее работы и возобновились сразу
после ее закрытия) однозначно свидетельствуют о наличии централизованно¬
го руководства всей кампанией 39. И действительно, по свидетельству Яакова
Липшица, личного секретаря р. Ицхака Эльхана Спектора, ковенский рав¬
вин и на этот раз стоял во главе кампании протеста. Образец обращений был
составлен в Петербурге членом Ученого комитета Министерства народного
просвещения, доктором Адамом Гиршгорном, который был личным врачом
Моше Арье Лейба Фридланда — крупного столичного купца и известного ме¬
цената, близкого к ортодоксальным кругам. Ковенский центр сумел, таким
образом, создать свои связи с представителями еврейской экономической
элиты в столице, не входившими в круг Гинцбурга 40. Новая кампания являлась
частью общей деятельности ортодоксов, связанной с работой Раввинской ко¬
миссии, и, по всей видимости, должна была создать широкую общественную
базу для их требований (не случайно среди полученных в министерстве писем
есть и отдельное обращение двух ее участников — р. Цви Гирша Рабиновича и
р. Гилеля Милейковского) 41. Однако в своих обращениях к властям, которые
не предназначались для открытого обсуждения, традиционные лидеры выра¬
жали более враждебную по отношению к просветителям и казенному равви¬
нату позицию.
Составители коллективных обращений отличались необыкновенной по¬
литической проницательностью. Центральным мотивом этих обращений
было описание функций духовного раввина как наставника молодежи: только
он, являясь опорой традиции в еврейском обществе, может направить под¬
растающее поколение на путь религиозной веры, законопослушания и любви
к отечеству. Укрепление статуса духовного раввина, таким образом, приведет
к немедленным положительным результатам в общественно-политической
сфере: это не только покончит с опасной и постыдной практикой подполь¬
ного раввината, но и остановит распространение революционных и нигили¬
стических идей в среде еврейской молодежи 42. Эти доводы были рассчитаны
на понимание со стороны режима, который уже долгие годы пытался спра¬
виться с угрожавшим его стабильности революционным движением. Еще
большую убедительность они получали в контексте того, что в высших эше¬
лонах власти крепло убеждение в революционной опасности, исходящей от
еврейской молодежи. Стремление добиться поддержки центральной власти
на основе общих консервативных взглядов было характерно для еврейской
ортодоксальной политики с самых первых ее шагов 43, но на этот раз, когда в
самых высоких сферах российского общества набирала силу консервативная
идеология, появилась беспрецедентная возможность реального сотрудниче¬
ства ортодоксальных кругов и центральной власти. Эта перспектива, видимо,
/ 377 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
напугала активистов просвещенного лагеря: союз консерваторов с обеих сто¬
рон представлялся им серьезной опасностью для будущего еврейского наро¬
да в России и для их собственного статуса как общественных лидеров. Эти
опасения, казалось, получили наглядное подтверждение, когда длительная
борьба ортодоксов за сохранение традиционного характера еврейского кон¬
фессионального образования закончилась их полной победой: незадолго до
Раввинской комиссии 1893 г. вышел закон, освобождавший систему хедеров
от какого-либо государственного контроля. Еврейские прогрессивные кру¬
ги справедливо связывали наметившееся ужесточение позиции ортодоксов
по отношению к просветителям и их институтам с удачным завершением
их кампании в защиту хедеров 44. В этих обстоятельствах петербургские про¬
светители решили нанести ответный удар по р. Ицхаку Эльханану Спектору,
которого они справедливо считали движущей силой общественной кампании
ортодоксов. По утверждению Яакова Липшица, видные представители про¬
свещенной элиты пригрозили принять меры против деятельности Колеля
Ковны — пестуемого р. Ицхаком Эльхананом института, способствовавшего
укреплению идеалов традиционной учености среди еврейской молодежи. Ко¬
венский раввин вынужден был отступить. В своем апологетическом письме
барону Гинцбургу он утверждал, что борьба ортодоксов за изменение статуса
духовных раввинов вовсе не направлена ни против Просвещения, ни против
просвещенных кругов; более того, место просветителей в еврейском обществе
и их роль в качестве защитников и представителей еврейского народа перед
властями остаются предметом всеобщего уважения 45. В этом очередном раун¬
де многолетней борьбы за облик раввината проявился не только сложный и
хрупкий характер системы отношений между двумя идеологическими лагеря¬
ми в еврейском обществе, но и их готовность противостоять друг другу на рав¬
ных. В том же апологетическом письме Гинцбургу р. Ицхак Эльханан подверг
суровой критике лидеров петербургского еврейства за то, что они вернулись
к идее раввинской семинарии, однако на этот раз ортодоксальные круги не
пошли на фронтальное столкновение с просветителями. По-видимому, обо¬
ронительная позиция, которую вынужден был занять ковенский раввин, и
плохое состояние его здоровья (р. Ицхак Эльханан умер весной 1896 г.) не по¬
зволили развернуть новую кампанию.
В конце 90-х гг. XIX в. на еврейской улице росла уверенность в том, что
власти находятся на пороге принятия решения о будущем раввината. В ожи¬
дании этого события видные литовские раввины начали приготовления к ре¬
форме порядков аттестации (смиха) и назначения раввинов. В октябре 1898 г. в
Вильно прошло специальное собрание для обсуждения этого вопроса. На нем
были сформулированы некоторые общие положения, которые, как предпола¬
галось, станут основой упорядочения и унификации раввината после утверж¬
дения правительством и раввинскими авторитетами 46. Неготовность властей
/ 378 /
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
принять какое-либо решение по вопросу о раввинате и разногласия между
самими раввинами помешали реализации этой новаторской инициативы, но
само ее появление свидетельствовало о наличии авторитетного и активного
ортодоксального руководства и после смерти р. Ицхака Эльханана. Ведущую
роль в этой деятельности теперь играл сын и наследник Спектора — р. Цви
Гирш Рабинович.
Несмотря на беспрецедентную по своей активности деятельность лидеров
различных секторов еврейского общества, вопрос о раввинате так и не был
решен в ходе публичных дебатов 1880—1890-х гг. и еще долгие годы продол¬
жал будоражить общественность. Вместе с тем энергичные попытки широких
общественных кругов создать авторитетное религиозное руководство, кото¬
рое получило бы признание во всех стратах российского еврейства, немало
способствовали кристаллизации политических лагерей в еврейском обществе
и установлению баланса сил между ними.
НЕБЫВАЛЫЙ УСПЕХ:
БОРЬБА ЗА ХЕДЕРЫ В 1873-1893 гг.
Еврейское конфессиональное образование для детей — система хеде¬
ров — стало в рассматриваемый период еще одной общественной сферой, в
которой проявило свою политическую силу формирующееся ортодоксальное
руководство. Вопрос о будущем этого основополагающего традиционного
института стал предметом беспокойства российского еврейства еще в эпоху
абсолютистских реформ правительства Николая I, за которыми угадывалась
совершенно определенная тенденция установления жестких формальных
требований и критериев в отношении общинных институций, влияющих на
облик еврейского общества. В соответствии с этим общим курсом еврейские
образовательные институты — хедеры и иешивы — были переведены под кон¬
троль Министерства народного образования, которое установило правила
надзора за деятельностью учителей в хедерах — меламедов и их аттестации.
В 1855 г. вышел закон, дозволявший выполнять функции меламеда только
лицам, получившим высшее или среднее образование. Российские законо¬
датели, конечно, осознавали невыполнимость этих требований на момент
принятия закона и отложили его вступление в силу на 20 лет, но их намере¬
ния в отношении еврейского традиционного образования были очевидны 47.
В 1875 г., с приближением вступления закона в силу, отношение властей к ме¬
ламедам ужесточилось: возобновились проверки их лицензий и участились
случаи закрытия незарегистрированных хедеров. Все это еще больше усилило
опасения лидеров традиционного общества по поводу последствий реализа¬
ции закона 1855 г. и подтолкнуло их к принятию определенных политических
/ 379 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
шагов 48. В организации кампании в защиту меламедов приняли участие из¬
вестные литовские раввины, уже проявившие себя на общественном попри¬
ще: р. Ицхак Эльханан Спектор, виленский раввин Яаков Барит, р. Шмуэль
Могилевер, раввин Сувалок Элиэзер Симха Рабинович, раввин Россиен
(Расейняй) Александр Моше Лапидот, р. Элиэзер Гордон из Ковны и др. На
специальном собрании раввинов, созванном в Ковне в 1873 г., было решено
обратиться к барону Евзелю Гинцбургу, который мог бы использовать свою
близость к петербургским официальным кругам для продвижения кампании.
Однако довольно быстро выяснилось, что идеологические разногласия между
сторонами не оставляют места для сотрудничества в вопросе о традиционном
еврейском образовании. Раввины, еще не имевшие опыта противостояния од¬
новременно правительственным и маскильским кругам, по всей видимости,
не учли наличия у петербургской элиты своей идеологической программы.
Действительно, Гинцбург был готов к сотрудничеству с традиционалистами,
но взамен ожидал от них согласия на компромисс, который позволил бы про¬
вести оздоровительную реформу в системе традиционного образования. Он
потребовал от раввинов составить программу обучения в хедерах и талмуд-
торах и вызвал этим серьезные опасения у ревнителей старого порядка: об¬
суждение издревле устоявшейся практики преподавания в хедерах ни в коей
мере не стояло у них на повестке дня, и ответ Гинцбурга свидетельствовало
скорее о его поддержке реформы, нежели о готовности помочь борьбе с ней.
На опасность такой трансформации функций традиционного штадлана ука¬
зывали видные ортодоксальные деятели — р. Исраэль Салантер и р. Элияху
Левинзон из Кретинги, присоединившиеся к кампании несколько позднее.
Они боялись вступать в дискуссии с Гинцбургом и его окружением из ОПЕ
и предпочитали самостоятельно действовать проверенными средствами. По
инициативе этих лидеров и под их непосредственным руководством была
организована отправка в Министерство народного просвещения и в Мини¬
стерство внутренних дел коллективных прошений от имени различных об¬
щин черты оседлости. Под влиянием этих обращений было проведено новое
обсуждение вопроса на межминистерском уровне и принято компромиссное
решение: вступление в силу закона 1855 г. было отсрочено на два года, а затем
и еще на один год 49. Однако и после завершения этого срока правительство
не выработало окончательной позиции по отношению к хедерам, и вопрос об
образовательном цензе для меламедов и о путях реализации закона 1855 г. так
и остался открытым.
Ситуация законодательной неразберихи в сфере еврейского конфесси¬
онального образования побуждала представителей ортодоксального лагеря
постоянно возвращаться к этому вопросу. Борьба за традиционный облик
хедеров продолжалась до 1893 г. в самых разных формах. Эта тема стала по¬
стоянной составляющей контактов между лидерами ортодоксов и просвети-
/ 380/
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В хедере. Славута Волынской губ. Фотоархив экспедиций С. Ан-ского 1912—1914 гг.
Из собрания центра «Петербургская иудаика»
тельскими или правительственными кругами. Как отмечалось выше, р. Ицхак
Эльханан пытался включить вопрос о хедерах в повестку дня Раввинской ко¬
миссии 1879 г. Этот вопрос обсуждался на собрании раввинов, организован¬
ном петербургским предпринимателем Самуилом Поляковым в 1887 г.50, и в
письме обер-прокурору Синода К.П. Победоносцеву от группы обосновав¬
шихся в Лондоне еврейских эмигрантов из России, в котором затрагивались
наиболее серьезные проблемы жизни евреев в империи 51. Аргументы в защиту
хедеров — иногда весьма неожиданные — менялись в зависимости от взгля¬
дов адресатов и свидетельствовали как об усвоении традиционалистскими
кругами современного общественного дискурса, так и о понимании текущей
политической конъюнктуры. Так, в обращении к Победоносцеву, одной из
главных фигур в формировании идеологии русского консерватизма, особенно
/381/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
подчеркивалась роль меламедов в сохранении еврейской традиции, сдержи¬
вающей распространение атеизма и нигилизма в среде еврейской молодежи.
В то же время в письме раввинов к Полякову хедеры были представлены как
институт, способствующий усвоению еврейскими детьми важнейших учебных
навыков, которые будут им необходимы для получения общего образования.
Наряду с этим ковенские общественные и религиозные лидеры пользовались
и более традиционными методами: они посылали в столицу империи специ¬
альных эмиссаров, которые должны были действовать в правительственных
инстанциях. В вопросе о хедерах — так же как и в вопросе о раввинате — ор¬
тодоксальные лидеры не могли полагаться на Гинцбурга и его окружение, не¬
смотря на то что в 80-е и 90-е гг. между ковенским центром и петербургской
элитой наладились отношения взаимного сотрудничества. Но в этих трудных
условиях им удалось создать самостоятельный механизм лоббирования, опи¬
равшийся на влиятельные столичные общественные фигуры, не входившие в
круг Гинцбурга. Эти люди — Моше Арье Лейб Фридланд, отношения которого
с еврейскими просвещенными кругами в Петербурге были весьма напряжен¬
ными, доктор Адам Гиршгорн и даже известный востоковед Даниэль Хволь¬
сон, принявший православие, — не были частью ортодоксального лагеря, но
они не примыкали и к маскилам и вообще не являлись носителями какой-
либо единой идеологии. Их нейтральное положение способствовало уста¬
новлению личных связей, сотрудничеству и даже обмену идеями с лидерами
литовской ортодоксии, которые опирались на их помощь в своих контактах
с высокопоставленными правительственными чиновниками и в организации
кампаний общественного протеста. Такой тип отношений в значительной
степени походил на модели политической деятельности раввинистической
элиты в предшествующую эпоху, и это сходство давало ортодоксальным лиде¬
рам ощущение исторической преемственности и уверенности в правильности
своего пути 52. Вместе с тем определенную помощь ортодоксальным ходатаям -
штадланам оказывали и двое представителей петербургских просветителей:
секретарь и помощник Горация Гинцбурга адвокат Генрих Слиозберг и про¬
фессор Hoax Бакст, который ранее пытался убедить видных раввинов в не¬
обходимости реформы обучения в хедерах и иешивах. Их позиция в вопросе о
хедерах основывалась на общелиберальных взглядах, не допускавших вмеша¬
тельства властей в религиозные дела, несмотря на то что сами они критически
относились к традиционной системе образования 53.
В 1893 г., после 18 лет дискуссий и бюрократических проволочек, был
издан закон о хедерах, в котором полностью пересматривался подход пра¬
вительства к еврейскому конфессиональному образованию. Абсолютистская
политика социальных преобразований при помощи реформ еврейских обра¬
зовательных институтов была отвергнута. Все требования в отношении мела¬
медов, их аттестации и программ преподавания были отменены, и им вме¬
/ 382 /
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
нялось в обязанность только ежегодное возобновление лицензий, носившее
формальный характер 54.
Трудно сказать, в какой степени общественно-политическая кампания
ортодоксов повлияла на решение правительства. Однако поток коллектив¬
ных обращений от общин черты оседлости и контакты представителей орто¬
доксального лагеря и их помощников с правительственными чиновниками,
по всей видимости, помогли сторонникам нового закона в государственных
структурах обосновать свою позицию. Так или иначе, в глазах широкой еврей¬
ской общественности закон 1893 г. воспринимался как победа ортодоксально¬
го лагеря, который вел эту долгую войну и доказал свою способность к само¬
стоятельной деятельности на общественно-политической арене независимо
от просвещенных еврейских кругов и даже вопреки их желанию.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРТОДОКСОВ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1905 Г.
Одновременно с активизацией деятельности ортодоксальных лидеров в
сферах, касавшихся отношений между еврейским обществом и имперской
властью, в 1890-х гг. наблюдалось усиление социально-политической актив¬
ности традиционных кругов на внутренней еврейской общественной арене.
Эта тенденция была связана с растущим ощущением опасности, которая угро¬
жала ценностям традиционного общества с двух направлений: как со стороны
сионистского движения, так и со стороны социалистической идеологии, бы¬
стро набиравшей силу в среде еврейской молодежи.
Сионизм, как и всякое современное национальное движение, широко ис¬
пользовал в своей риторике, направленной на создание новой национальной
идентичности, образы и понятия, заимствованные им из мира традиции. С
распространением сионистского движения в разных его формах в среде рос¬
сийского еврейства возрастала опасность подмены религиозных ценностей
новым национальным этосом. Именно эта перспектива подтолкнула опре¬
деленные ортодоксальные круги выступить против сионистской идеологии.
Антисионистская деятельность координировалась в этот период группой
активистов в Ковне, получившей известность как «Лишка шхора» («Черное
бюро»). В работе «Черного бюро» приняли участие представители различных
направлений еврейской ортодоксии в России: видные литовские раввины,
члены движения «Мусар» и хасиды. Для борьбы с сионизмом был создан даже
ежемесячный ортодоксальный журнал «Ха-Пелес» (1901-1905) 55.
Социалистическое движение, наряду с открытой враждебностью царско¬
му режиму, призывало к слому всего старого общественного порядка и испо¬
ведовало воинствующий атеизм. Волна забастовок, организованных Бундом в
/ 383 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
черте оседлости на рубеже XIX и XX в., подрывала прежде всего традицион¬
ные патерналистские отношения между еврейским работодателем и его ра¬
бочими 56. В Вильно, центре еврейского рабочего движения в России, в 1901 и
в 1903 г. были опубликованы воззвания раввинов, обращенные против рево¬
люционеров и призывавшие евреев хранить верность режиму, а в документе,
подписанном раввинами и цадиками Польши в 1904 г., еврейское население
империи призывалось воспитывать детей «в верности своему царю и отече¬
ству» 57. На международном съезде раввинов в Кракове в 1903 г. было осуждено
участие евреев в революционных и анархических движениях (притом среди
участников съезда лишь немногие были российскими подданными) 58.
Начало активной общественной деятельности на внутренней арене по¬
требовало от ортодоксального лагеря обратиться к вопросу о формальных ор¬
ганизационных рамках, которые не только позволили бы более эффективно
бороться с сионистским и социалистическим движениями, но и облегчили
противостояние процессу ослабления статуса традиции в еврейском обществе.
В 1900 г. начались интенсивные контакты между ортодоксальными лидерами
с целью создания общероссийской организации «Махзикей ха-дат» («Ревни¬
тели религиозного закона»; название было заимствовано у организации ор¬
тодоксов в Галиции). К 1903 г. в общинах черты оседлости существовал уже
целый ряд местных объединений под этим названием. Однако создание со¬
временной по своему характеру организации, которая действовала бы на всей
территории черты оседлости и Царства Польского, было совершенно новым
и абсолютно незнакомым для ортодоксальных лидеров делом. Они погрязли
в спорах о характере и структуре этого института, и никаких реальных резуль¬
татов первоначальные организационные попытки не принесли. Планировав¬
шийся на 1903 г. съезд раввинов в Гродно по вопросу о «Махзикей ха-дат» так
и не состоялся, а отдельные филиалы организации, уже созданные в общинах
черты оседлости, не получили какого-либо общественно-политического веса.
Они сохраняли локальный характер, роднивший их с традиционными благо¬
творительными или учебными братствами (хаварот).
Первая русская революция 1905 г. застала ортодоксальный лагерь в еврей¬
ском обществе врасплох и привела к немалому смятению среди его лидеров.
Дух свободы, веявший над просторами империи, проникал в стены иешив и
нередко приводил к нарушению учебного процесса, присоединению учащих¬
ся к революционным группам и их уходу из мира традиции 59. Сами ортодок¬
сальные лидеры становились жертвами словесных нападок и даже физиче¬
ской агрессии со стороны еврейских социалистических организаций.
Главы ортодоксии не выработали своей позиции в революционной сумя¬
тице, охватившей еврейское общество, и не смогли внести свой вклад в пу¬
бличное обсуждение будущего евреев в России, которое велось в это время
в самых разных социальных кругах. Такая пассивность была связана с двой¬
/384/
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ственным отношением ортодоксальных кругов к еврейскому вопросу в импе¬
рии. С одной стороны, они поддерживали отмену всех законодательных огра¬
ничений, которые усугубляли тяжелое экономическое положение еврейской
массы, замкнутой в границах черты оседлости, и выступали за сокращение
вмешательства государства во внутренние религиозные дела евреев. С другой
стороны, они не могли однозначно высказаться в пользу какой-либо альтер¬
нативы старому режиму. Превращение России в либерально-демократическое
государство западного типа и развитие современного гражданского общества
могли привести к далеко идущим последствиям для целостности еврейской
традиции. Поэтому в 1906 г. среди ревнителей веры даже раздавались голоса
против предоставления евреям гражданского равноправия 60. По всей види¬
мости, сопротивление основополагающему либеральному принципу равно¬
правия было уделом маргинальных групп, однако враждебное отношение к
революционному радикализму являлось общей характеристикой всего еврей¬
ского ортодоксального лагеря. Не имея ни четкой политической позиции, ни
каких-либо организационных структур, многие ортодоксы голосовали на вы¬
борах в 1-ю Государственную думу за либеральных и сионистских еврейских
политиков.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОРТОДОКСАЛЬНЫХ КРУГОВ
В ЭПОХУ РЕАКЦИИ 1907-1910 гг.
Снижение революционной активности в конце 1906 г. и завершение рево¬
люции в июне 1907 г. создали условия для организации ортодоксальных сил.
Спад напряженности в еврейском обществе и ослабление революционного
радикализма освободили поле деятельности для умеренных и консервативных
кругов, а достигнутые в результате революции политические послабления —
облегчение регистрации новых общественных объединений и газет и отмена
предварительной цензуры, — способствовали формированию благоприятных
условий для развития общественных движений.
Целью деятельности ортодоксов, которая началась в 1907 г. в несколь¬
ких местах одновременно, было противостояние растущей секуляризации
еврейского общества, исправление ущерба, нанесенного миру еврейской
традиции в годы революции, и превращение ортодоксии в самостоятельную
политическую силу на еврейской улице. Для достижения этих целей различ¬
ные ортодоксальные круги обращались к разным формам общественной де¬
ятельности.
Группа раввинов из юго-западных областей империи, отождествлявших
себя главным образом с движением религиозных сионистов «Мизрахи», из¬
брала путь укрепления торанического образования в общинах. В начале 1907 г.
организация «Мефицей ха-талмуд» («Распространители Талмуда») во главе с
/ 385 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
р. Шимоном Шломо Вартгеймом из Бендер инициировала создание ряда
иешив и локальных обществ изучения Торы. Организация начала также вы¬
пуск «литературно-талмудического» ежемесячника «Ха-Йона» («Голубь») под
редакцией р. Иехуды Лейба Фишмана (Маймона). Эта деятельность совмеща¬
ла в себе как современные, так и традиционные социальные модели: представ¬
ления о центральной роли изучения Торы как основы существования еврей¬
ского общества нашли воплощение в работе надрегиональной общественной
организации, издании современного «теоретического» журнала и создании
иешив с преподаванием светских наук. По-видимому, основатели «Мефицей
ха-талмуд» ориентировались на пример лидера движения «Мизрахи» р. Яако¬
ва Райнеса, основавшего в 1905 г. в Лиде иешиву, в которой изучались, среди
прочего, и общие дисциплины 61.
Другим направлением являлась самоизоляция ревнителей традиции, пол¬
ное отделение их от еврейского общества, зараженного новыми идейными ве¬
яниями. Этот путь был характерен главным образом для хасидских лидеров,
проявлявших активность на общественной арене. Так, например, цадик из
Гуры Кальварии р. Авраам Мордехай Алтер, ставший главой гурских хасидов
в 1905 г., предпринял рад шагов, направленных на социальную изоляцию сво¬
ей паствы: в 1907 г. он основал при своем дворе хасидскую иешиву «Даркей
Ноам» («Пути приятные»), в которую не принимались молодые люди, разде¬
лявшие «современные» взгляды, в том же году он потребовал от своих после¬
дователей «отдалиться» от богатых хасидов, обучавших своих детей светским
предметам 62. Р. Авраам Мордехай основал также ортодоксальную газету «Ха-
Коль» («Голос»), которая начала выходить в марте 1907 г., но не получила рас¬
пространения в широких ортодоксальных кругах и закрылась по прошествии
восьми месяцев. Путь сегрегации избрал также любавичский двор, последо¬
вательно выступавший против любого проникновения современных взглядов
и подходов в жизнь традиционного общества. Любавичский цадик р. Шалом
Дов Бер Шнеерсон отвергал сотрудничество с неортодоксальными еврейски¬
ми кругами и в своей общественно-политической деятельности старался опи¬
раться на экономические и административные механизмы хасидского двора.
Третий путь принципиально отличался от двух предыдущих. Его сторон¬
ники стремились к организации ортодоксальной политической деятельности
нового типа: мобилизации масс для организованной и открытой партийной
работы на базе четко определенной идеологической программы с целью ока¬
зания влияния на общественное мнение и правительственные круги. Именно
этот путь был избран представителями литовской раввинистической элиты.
Так, в начале 1907 г. Меир Файвель Гец, ученый еврей Виленского учебного
округа и общественный деятель, известный своими консервативными взгля¬
дами, выпустил памфлет под заголовком: «Доколе будете безмолвствовать!».
В этом обращении он призывал ревнителей традиции объединиться в поли¬
/ 386 /
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
тическую партию, которая будет бороться против антисемитизма в русском
обществе и революционного социалистического движения среди евреев. В это
же время в Вильно была основана организация «Кнесет Исраэль» — первая
ортодоксальная политическая организация в Российской империи.
«Кнесет Исраэль» ведет свою историю с совещания в феврале 1907 г. трех
ключевых фигур литовских раввинистических кругов: р. Хаима Озера Грод¬
зенского из Вильно, р. Элиэзера Гордона из Тельшей (Тельшая) и р. Хаима
Соловейчика из Бреста. На этом совещании было решено опубликовать кол¬
лективное обращение с призывом о создании надрегионального комитета для
направления в общины специальных проповедников и учреждения иешив и
обществ изучения Торы на местах 63. Для организации комитета участники со¬
вещания предложили созвать представительное собрание раввинов, делегаты
которого будут выбраны духовными раввинами в общинах. Это обращение не
вызвало сколько-нибудь серьезной реакции, и в июле того же года Гордон и
Гродзенский составили новое письмо, свидетельствующее о принципиальном
изменении их подхода: вместо комитета с ограниченной сферой деятельно¬
сти, занимающегося локальными проблемами на местах, теперь предлагалось
создать массовую политическую организацию, при помощи которой каждый
еврей, «держащийся знамени Торы», сможет принять самостоятельное уча¬
стие в «созидании нации и Торы» 64. Устав новой организации, получившей
название «Кнесет Исраэль», был утвержден властями в декабре 1907 г.65
В своем открытом письме (январь 1908 г.) Гродзенский напрямую связы¬
вал необходимость создания новой политической организации с революци¬
ей и оживлением еврейской политической активности: «Великая революция
последнего времени... заставила лучших представителей нашего народа заду¬
маться о том, как можно улучшить положение народа Израильского. Народ
разделился на партии, все объединяются и организуются по своим убежде¬
ниям и взглядам. И только самая большая партия нашей нации — ревнители
израильской веры — еще не сделала никакого шага в этом направлении» 66.
Организация «Кнесет Исраэль» действительно стремилась стать совре¬
менным массовым демократическим движением, которое объединит «ревни¬
телей израильской веры», но при этом поставит перед собой общенациональ¬
ные цели: «материальное и духовное благо народа», достижение равноправия
и оказание экономической помощи нуждающимся. Только в конце списка
декларируемых в письме Гродзенского целей «Кнесет Исраэль» упоминались
вопросы традиции, галахи и образования. Не только цели новой организации
были сформулированы в духе эпохи, но и формы ее деятельности оказались
заимствованы из лексикона современной еврейской политики. Для борьбы
со своими противниками «Кнесет Исраэль» обращалась к их методам и для
защиты традиции готова была использовать современные социально-полити¬
ческие модели и подходы.
/ 387/
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Однако несмотря на заявления своих основателей «Кнесет Исраэль» так
никогда и не приступила к практическим шагам на общественной арене. Раз¬
ногласия и столкновения амбиций ортодоксальных лидеров сделали невоз¬
можным даже проведение предварительного раввинского съезда, который
проложил бы дорогу к планируемой широкомасштабной политической дея¬
тельности этой организации.
РАВВИНСКАЯ КОМИССИЯ 1910 г.
И СВЯЗАННАЯ С НЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРТОДОКСОВ
С начала XX в. центральное место во внутреннем дискурсе традициона¬
листских кругов занимает идея о созыве представительного собрания равви¬
нов. Это мероприятие рассматривалось как первейший шаг на пути изменения
соотношения сил в борьбе между традицией и разрушительными современ¬
ными тенденциями. Газета турских хасидов «Ха-Коль» призывала к организа¬
ции раввинского съезда в течение всего 1907 г., к этому же были направлены
усилия «Кнесет Исраэль». В феврале 1908 г. сторонники собрания раввинов
получили неожиданную поддержку из правительственных сфер: Министер¬
ство внутренних дел объявило о намерении созвать, после пятнадцатилетнего
перерыва, новую Раввинскую комиссию.
Вместе с объявлением о созыве комиссии министерство разослало губер¬
наторам черты оседлости и Царства Польского циркуляр, дозволявший «офи¬
циальным» раввинам провести совещания, на которых будут сформулирова¬
ны вопросы для обсуждения на Раввинской комиссии. Этот беспрецедентный
шаг правительства открывал широкие возможности перед ортодоксальными
лидерами польских губерний, где в силу местного законодательства разделе¬
ние между казенным и духовным раввинатом было выражено слабо. С апреля
по июль 1908 г. во всех десяти губерниях Царства Польского состоялись со¬
брания раввинов; между ортодоксальными лидерами региона велись интен¬
сивные контакты, и в конце декабря удалось собрать в Варшаве большой рав¬
винский съезд, который подвел итог всей этой деятельности.
Иная ситуация сложилась в черте оседлости, где разрешение министер¬
ства касалось только казенных раввинов. Правда, в совещаниях на местах
приняли участие и некоторые духовные раввины, но их влияние было не¬
значительным. На этом этапе в происходящее вмешался любавичский цадик
р. Шалом Дов Бер Шнеерсон: по всей видимости, именно по его инициативе
ученый еврей Министерства внутренних дел Моше Крепс разослал видным
духовным раввинам обращение с просьбой высказать свое мнение о повестке
дня готовящейся Раввинской комиссии. На основании этого письма люба¬
вичскому двору удалось добиться официального разрешения на проведение
/ 388 /
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Р. Шалом Дов Бер Шнеерсон (1860—1920),
любавичский цадик. Фотография 1920 г.
собрания духовных раввинов в Виль¬
но, которое состоялось в апреле 1909 г.
Р. Шалом Дов Бер не только взял на
себя руководящую роль в организации
и проведении собрания, но и сделал
практические шаги по согласованию
общих позиций ортодоксов. Его специ¬
альные представители приняли актив¬
ное участие в съезде польских раввинов
в Варшаве, а двое влиятельных лидеров
польских ортодоксов — цадики из Гуры
и Радзина — были приглашены на ви¬
ленское собрание.
Таким образом, собрание духовных
раввинов в Вильно стало тем предста¬
вительным раввинским форумом, ко¬
торый безуспешно пытались организо¬
вать на протяжении многих лет орто¬
доксальные круги в России. Как можно было предположить, судя по составу
этого форума, на нем одержали верх радикально-консервативные позиции
любавичского цадика, поддержанного р. Хаимом Соловейчиком и р. Исраэ¬
лем Меиром ха-Кохеном («Хафец Хаимом»). Гродзенский и сторонники более
умеренных взглядов остались в меньшинстве. Виленское собрание выработа¬
ло рад предложений, которые должны были, по мнению участников, укрепить
традиционный облик российского еврейства. Прежде всего, было предложе¬
но радикальное решение проблемы двойного раввината, по общему убежде¬
нию — главной причины снижения статуса раввинов в еврейском обществе.
Участники собрания потребовали ликвидации института казенного раввината
и официального признания полномочий духовных раввинов. Кроме того, со¬
брание предложило освободить еврейских детей от учебы в общих школах по
субботам и праздникам и создать новую ортодоксальную организацию, дея¬
тельность которой будет направлена на усиление роли религии в жизни рос¬
сийского еврейства (эта организация должна была заменить «Кнесет Исра¬
эль», чья программа, с точки зрения любавичского цадика, носила слишком
открытый и универсальный характер). Особое место в прениях занял вопрос
о противоречиях между галахой и некоторыми государственными законами.
Делегаты предложили внести в государственное законодательство изменения,
позволяющие евреям избежать нарушения галахических установлений, каса¬
ющихся соблюдения субботы и бракоразводных дел. Таким образом, вилен¬
ское собрание продолжило политическую линию, выработанную лидерами
ортодоксального лагеря на раввинских комиссиях, но на этот раз в более ре¬
/ 389 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
шительной и бескомпромиссной форме. Вместе с тем, несмотря на огромное
значение в глазах ортодоксальной публики собрания раввинов в Вильно, его
решения не имели практических последствий. Они были помещены в папку
вместе с еще более ста предложениями, присланными в министерство други¬
ми раввинскими совещаниями и служившими только подготовительным ма¬
териалом к Раввинской комиссии.
Циркуляр правительства о совещаниях раввинов был воспринят с энту¬
зиазмом в широких кругах еврейского общества. В Министерство внутрен¬
них дел пришло огромное количество предложений разного толка, и на их
базе чиновники министерства сформулировали 232 вопроса для обсуждения
на Раввинской комиссии. Было очевидно, что Раввинская комиссия в своем
обычном составе не в состоянии справиться с таким количеством материала,
и министерство приняло решение о ее расширении. В соответствии с действо¬
вавшим законодательством в каждой губернии избиралось два кандидата, и из
их общего числа министр выбирал семь делегатов в Раввинскую комиссию.
На этот раз П.А. Столыпин, занимавший одновременно пост министра вну¬
тренних дел и премьер-министра, решил, что параллельно с Раввинской ко¬
миссией в составе семи делегатов будут созваны все избранные кандидаты, а
также представители польских губерний, Петербурга и Москвы (всего 40 че¬
ловек) для обсуждения всего спектра вопросов, поднятых местными раввин¬
скими совещаниями. Так возникла дополнительная арена для политической
деятельности еврейской ортодоксии в России.
Выборы в Раввинскую комиссию и новый совещательный орган при ней,
официально именовавшийся «Съезд евреев по делам религиозного быта при
Раввинской комиссии» (а неофициально просто Раввинский съезд), состоя¬
лись в конце 1909 г. В Польше ортодоксальный лагерь одержал убедительную
победу: на большом собрании в Варшаве в качестве делегатов было избрано
пять раввинов. В черте оседлости ортодоксы также добились немалого успеха:
среди делегатов было 20 духовных раввинов (пятеро из них — любавичские
хасиды) и еще один делегат, не занимавший раввинского поста, был хасидом.
Вместе с пятью польскими делегатами ортодоксы составляли, таким образом,
большинство среди 40 участников съезда, проведенного в Петербурге в марте
1910 г., одновременно с Раввинской комиссией. Состав самой Раввинской ко¬
миссии, определенный министром из числа избранных делегатов, носил наи¬
более ортодоксальный характер за все годы ее существования: шесть видных
раввинов и только один представитель просвещенных кругов.
Победа на выборах вселяла в сердца лидеров ортодоксального лагеря ощу¬
щение силы и уверенность в поддержке народных масс. Этот настрой подпи¬
тывался уверенностью, что на этот раз и само российское правительство нахо¬
дится на их стороне. Ортодоксальная публицистика всячески подчеркивала,
что евреи, соблюдающие заповеди, являются наиболее верной властям частью
/ 390/
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Делегаты Раввинской комиссии и съезда 1910 г.
Сидят: справа налево — Шмуэль Поляков (2), Давид Гинцбург (4), Яаков Мазе (6),
р. Иехуда Лейб Цирельсон (7), р. Хаим Озер Гродзенский (11).
Стоят: справа налево — Владимир (Зеев) Тёмкин (1), Генрих Слиозберг (2), р. Менахем Хен (7),
р. Элиэзер Моше Мадиевский (11), р. Моше Нахум Иерусалимский (12).
еврейского общества и не имеют никакого отношения к светской революци¬
онной молодежи. Более того, религиозные круги стремятся оказать влияние
на молодое поколение и наставить его на путь истинный, а естественным
следствием выполнения заповедей является верность режиму. Но посколь¬
ку ортодоксальный лагерь ослаблен постоянной борьбой за свои идеалы, эта
цель трудно достижима без поддержки властей, которая могла бы выразить¬
ся как в укреплении статуса ортодоксов в еврейском обществе (прежде всего
при помощи легализации духовного раввината), так и в снятии противоречий
между галахой и государственным законодательством.
Действительно, имелись определенные основания для надежды на то, что
указанная аргументация будет наконец услышана в высших сферах. В 1906 г., в
начале своей деятельности на посту министра внутренних дел, Столыпин пред¬
принял ряд шагов, направленных на некоторое облегчение положения евреев,
с явной целью способствовать этим ослаблению революционных настроений
в их среде 67. Одновременно столыпинское правительство энергично добива¬
лось поддержки широкой общественности. Ставка Столыпина на праволибе¬
ральные общественные круги, заключение им союза с проправительственными
фракциями Государственной думы, его поддержка определенных обществен¬
ных организаций — все это давало основания предполагать, что он может быть
заинтересован также и в сотрудничестве с консервативным лагерем в еврей¬
ской среде. Развитие событий в 1907—1909 гг. — утверждение устава «Кнесет
Исраэль», официальное разрешение провести совещание духовных раввинов в
Вильно и созыв Раввинской комиссии и Раввинского съезда, где ортодоксы со¬
/ 391 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
ставляли большинство делегатов, — создавало впечатление, что столыпинское
правительство действительно стремится укрепить позиции ортодоксов.
Центральной темой дискуссий на Раввинском съезде стал вопрос о двой¬
ном раввинате. Прогрессивные делегаты поддерживали секторальное реше¬
ние (т.е. раздел полномочий раввинов), которое сформировалось еще в конце
XIX в. Ортодоксы же настаивали на ликвидации двойного раввината посред¬
ством отмены образовательного ценза, что позволило бы духовным раввинам
официально стать единственными обладателями раввинской должности в об¬
щине. Правда, здесь возникало дополнительное затруднение: в соответствии
с законом официальные раввины (как и служители культа других религий)
должны были отвечать за ведение метрификации своей паствы, с этим было
связано и требование знания ими русского языка на достаточном уровне. При
обсуждении этого требования к раввинам мнения ортодоксов разделились.
Р. Шалом Дов Бер Шнеерсон и еще семеро делегатов утверждали, что
нельзя предъявлять к раввинам каких-либо формальных требований в от¬
ношении знания русского языка: всякая аттестация в этом вопросе, даже на
самом низком уровне, откроет дорогу к овладению более глубокими и обшир¬
ными светскими знаниями и приведет к появлению религиозных лидеров но¬
вого, крайне опасного типа, совмещающих общее и тораническое образова¬
ние. Следствием этой непримиримой позиции была готовность любавичского
цадика отказаться от представительских функций раввина перед властями и
от ведения метрических книг (которое цадик предлагал возложить на специ¬
ально нанимаемое для этого должностное лицо из членов общины) 68. В от¬
личие от Шалом Дов Бера, большинство ортодоксальных делегатов считали,
что владение русским языком — неизбежное требование для кандидатов на
раввинскую должность. Они указывали на опыт польских губерний: там еще
с 1887 г. раввины должны были проходить аттестацию на знание ими русско¬
го языка, что ни в коей мере не помешало ортодоксам занимать должность
официального раввина. Делегаты съезда — раввины из Литвы, Польши и с
юга России — также не готовы были отказаться от представительских функ¬
ций раввина и его ответственности за метрификацию. Более того, они считали
повышение общественной роли раввина важнейшим фактором укрепления
общего статуса религии.
В голосовании по вопросу о раввинате победил умеренный блок, одна¬
ко это не привело ни к каким практическим результатам: решения съезда не
были осуществлены правительством и оказались погребены в архивах Ми¬
нистерства внутренних дел вместе со всеми предыдущими предложениями и
проектами по еврейскому вопросу. Вместе с тем идеологические расхождения
между различными ортодоксальными группами, выявившиеся на съезде, сви¬
детельствовали о появлении радикального ортодоксального крыла (ультра¬
ортодоксии), сложившегося вокруг любавичского цадика.
/ 392 /
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В рамках работы Раввинской комиссии и Раввинского съезда состоялась
встреча делегатов со Столыпиным, и вопреки ожиданиям ортодоксов она не
свидетельствовала о каких-либо положительных изменениях в отношении
правительства к евреям. К 1910 г. политика Столыпина приобрела ярко выра¬
женную националистическую окраску, что проявилось в том числе и в расши¬
рении антиеврейских ограничений. Свое недоверие и враждебность к евреям
министр открыто выразил на встрече с делегатами. На вопрос председателя
Раввинской комиссии р. Иехуды Лейба Цирельсона об улучшении законо¬
дательного положения евреев он ответил решительным отказом и повторил
старые обвинения в участии в революционной деятельности 69. Столыпин,
правда, отметил необходимость укрепления религиозного духа среди молоде¬
жи и продемонстрировал тем самым, что он не был глух к постоянным за¬
явлениям ортодоксальных лидеров 70, однако из выступления министра перед
делегатами вовсе не следовало, что он проводит какое-либо различие между
еврейскими политическими лагерями. По убеждению Столыпина, все еврей¬
ское население является революционным и дестабилизирующим фактором,
угрожающим безопасности государства.
Обращение Цирельсона — единственного среди участвовавших во встре¬
че с министром духовных раввинов, который свободно владел русским язы¬
ком, — интересно и в другом отношении. То, что именно он по согласованию
с другими раввинами затронул вопрос об общем положении евреев в России,
указывает на присвоение ортодоксальными лидерами новой роли — предста¬
вителей всего народа в общественно-политической сфере, находившейся ра¬
нее исключительно под контролем просвещенной элиты.
ПОЛИТИКА ОРТОДОКСАЛЬНОГО ЛАГЕРЯ В 1910-1914 гг.
Раввинский съезд 1910 г. способствовал укреплению общественного са¬
мосознания ортодоксального лагеря и расширению его деятельности. Лидеры
ортодоксии осознали свою силу и способность успешно противостоять мо¬
дернизированным кругам на общественно-политической арене. Несколько
месяцев спустя после завершения работы съезда начала выходить газета «Ха-
Модиа» («Вестник»), просуществовавшая до 1915 г. и сыгравшая важную роль
в консолидации еврейской ортодоксии в России и Польше. В 1912 г. вышел
в свет своеобразный справочник «Охалей Шем» («Шатры Сима»), содержав¬
ший имена, биографии и почтовые адреса более 2000 раввинов, — настоящий
путеводитель по раввинистическому миру, который не только способство¬
вал укреплению связей между раввинами, но и «поддержал дух праведных и
достойных, показав, что не обделен Израиль великими знатоками Торы» 71.
В марте 1911 г., по следам совещания раввинов и цадиков в Варшаве, была
/ 393 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
создана неофициальная общероссийская организация, целью которой стала
координация деятельности ортодоксов по предотвращению принятия закона,
запрещавшего торговлю по воскресеньям.
Неудивительно, что в этой атмосфере социальной активности, охватив¬
шей широкие ортодоксальные круги, была с энтузиазмом воспринята ини¬
циатива немецких ортодоксальных раввинов о создании международной
организации «Агудат Исраэль». В 1912 г., после того как было объявлено об
основании «Агудат Исраэль», на страницах ее печатного органа «Ха-Дерех»
(«Путь») появились многочисленные письма поддержки видных российских
раввинов и известия о создании филиалов организации в местечках черты
оседлости. Только один российский ортодоксальный лидер — р. Шалом Дов
Бер из Любавичей — не выразил готовности сотрудничать с новой организа¬
цией и пытался создать ей альтернативу. Р. Хаим Соловейчик после долгих со¬
мнений решил поддержать «Агудат Исраэль» на определенных условиях. Од¬
нако судьба этой организации в России повторила судьбу «Кнесет Исраэль».
Несмотря на все предпринятые усилия, ортодоксальным лидерам не удалось
получить разрешения властей на ее регистрацию, а разразившаяся война по¬
ложила конец всему этому проекту на территории России.
В отношении перспектив сотрудничества с властями ортодоксов также
ожидало глубокое разочарование 72. Ни одно из решений съезда 1910 г. не было
реализовано, и никакие меры по укреплению религиозности среди евреев
не получили поддержки властей. Поэтому известия о планах правительства
созвать в 1913 г. новую Раввинскую комиссию не вызвали того энтузиазма в
ортодоксальных кругах, который сопровождал подготовку к комиссии 1910 г.
Более того, российское правительство поддержало законодательные проек¬
ты, которые должны были нанести тяжелый удар по еврейской религиозной
традиции (запрещение торговли по воскресеньям и запрещение ритуального
забоя скота). В последние годы существования российской империи еврей¬
ская политика правительства формировалась под влиянием радикальных
антисемитских взглядов, получивших распространение в самых высоких го¬
сударственных сферах. Власти не искали союзников в еврейском обществе
и не принимали заверений ортодоксов о сохранении ими верности режиму
и осуждении революционной деятельности. Открытое выступление прави¬
тельственных кругов в поддержку кровавого навета во время судебного про¬
цесса по делу Бейлиса (1913) положило конец всем надеждам на сотрудниче¬
ство между еврейской ортодоксией и царским режимом. Р. Шалом Дов Бер из
Любавичей, более других ортодоксальных лидеров полагавшийся на добрую
волю властей, оказался среди подозреваемых по делу Бейлиса: в его доме был
проведен обыск, а его имя звучало на судебном процессе. В результате декла¬
рации лояльности властям постепенно ушли из ортодоксальной риторики, а
стремление к социально-политической самоорганизации только усилилось.
/394/
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Еврейская ортодоксальная политика в Российской империи оформилась
в конце XIX — начале XX в. как реакция на вмешательство государства во вну¬
треннюю жизнь евреев и попытки модернизированных кругов внедрить новые
системы взглядов в еврейское сознание. Поиск эффективных путей противо¬
стояния этим тенденциям, с которыми традиционному еврейскому обществу
не приходилось ранее сталкиваться, привел к появлению двух основных идео¬
логических подходов. Первый из них характеризовался определенной откры¬
тостью по отношению к новым идейным веяниям. Сторонники этого подхода
(главным образом раввины Литвы и юга России) допускали сочетание тра¬
диционных и современных социальных моделей в еврейской общественной
жизни. Они были готовы к компромиссам и сотрудничеству с более модерни¬
зированными кругами — будь то лидеры российского просвещенного еврей¬
ства или германские неоортодоксальные раввины — и обращались к новым
формам общественно-политической деятельности, заимствованным из мира
современной политики. Общая политическая атмосфера в России в период
между революцией 1905 г. и началом Первой мировой войны в целом благо¬
приятствовала такому подходу, хотя условия для его успеха так и не сложились.
Другого, более радикального подхода придерживались видные хасидские
лидеры (прежде всего р. Шалом Дов Бер Шнеерсон, а также польские цади¬
ки) и некоторые литовские раввины (р. Хаим Соловейчик, «Хафец Хаим» и
др.). Они крайне пессимистично оценивали положение традиции в совре¬
менном еврейском обществе и стремились вернуться к социальным моделям
прошлого. Они категорически возражали против сочетания традиционных
ценностей и современных форм общественной жизни (в том числе и про¬
тив новых форм политической активности самого ортодоксального лагеря)
и выступали за демонстративную самоизоляцию ортодоксального общества.
Типологически такой подход соответствовал ультраортодоксальному миро¬
воззрению, сформировавшемуся во второй половине XIX столетия в среде
венгерского еврейства 73.
В более широком политическом контексте лидеры ортодоксального ла¬
геря пытались представить себя верными союзниками царского режима. Они
постоянно подчеркивали огромное значение еврейской традиции как гаран¬
тии сохранения существующего общественного порядка и эффективного
средства сдерживания революционных настроений среди российских евреев.
Однако эта идеологическая близость не получила практического выражения.
Принципы «социального исправления», которые определяли политику рос¬
сийских властей по отношению к евреям в течение большей части XIX в., и
радикальные антисемитские взгляды, характерные для русского консерватиз¬
/ 395 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
ма, делали невозможным какое-либо сотрудничество между правительством
и еврейскими консерваторами. С другой стороны, еврейская ортодоксия, еще
не освоившая правил ведения политической игры, не была способна предста¬
вить свое общее консервативное мировоззрение в виде четкой политической
программы. Поэтому она так и осталась на периферии общественно-полити¬
ческого брожения, охватившего российское еврейство в последние два деся¬
тилетия существования империи.
1 См.: Bakon G. Ha-hevra ha-masoratit bi-temurat ha-itim: hebetim be-toldot ha-ya-
hadut ha-ortodoksit be-Polin u-ve-Rusiya, 1850—1939 // Bartal I., Gutman I. (eds). Qiyum
ve-shever. Yehudei Polin le-doroteihem. Jerusalem, 2001. Vol. 2. P. 460-469. О начале ев¬
рейской ортодоксальной реакции в России и ее особенностях см.: Zalkin М. ‘Orto-
doksei ha-‘ir?’. Li-sh’elat qiyuma shel ha-ortodoksiya be-Lita ba-mea ha-19 // Salmon
Y., Ravitzki A., Ferziger A. (ed). Ortodoksiya yehudit: hebetim hadashim. Jerusalem, 2006.
P. 427—446; Salmon Y. Ha-ortodoksiya ha-yehudit be-mizrakh Eiropa: qavim le-aliyata //
Ibid. P. 367-379.
2 См.: Барталь И. От общины к нации. М., Иерусалим. 2007.
3 Salmon Y. Im tairu ve-im teoreru. Ortodoksiya be-mitsere ha-leumiyut. Jerusalem,
2006. P. 6.
4 Cm.: Lederhendler E. The Road to Modem Jewish Politics. N.Y, 1989. P. 84—153.
5 Cm.: Etkes I. Parashat ha-haskala mi-taam u-temura be-maamad tenuat ha-haskala
be-rusiya // Zion. 1978. № 43. S. 264-313. Аналогичные процессы происходили в Габ¬
сбургской империи с конца XVIII в. и в особенности в 60-х гг. XIX в. См.: Katz Y. На-
kera she-lo nitaha. Jerusalem, 1995.
6 Анализ этих направлений см. в кн.: Lurie I. Eda u-medina: hasidut Habad ba-im-
periya ha-rusit, 1828-1883. Jerusalem, 2006.
7 О формировании петербургской еврейской элиты и начале ее общественной
деятельности см.: Nathans В. Beyond the Pale. The Jewish Encounter with Late Imperial
Russia. Berkeley, 2002. P. 165—198; Kleinmann Y. Neue Orte— neue Menschen: Judische
Lebensformen in St. Petersburg und Moskau im 19. Jahrhundert. Gottingen, 2006.
8 См. описание деятельности одного из участников этого представительства,
Шмуэля Быховского, в воспоминаниях Генриха Слиозберга {Слиозберг Г. Дела давно
минувших дней: Записки русского еврея. Париж, 1933. С. 292-294) и Яакова Липшица
{Lipshits Y. Zikhron Yaqov. Kovna, 1927. P. 95-97).
9 См. краткий обзор деятельности комиссий в кн.: Freeze С. Y. Jewish Marriage and
Divorce in Imperial Russia. Hanover, NH, 2002. P. 84—95, 245—256.
10 См. описание предвыборной кампании: Lipshits Y. Zikhron Yaqov. Vol. 2. P. 202-
209, Freeze. Op cit. P. 245—248.
11 До нас дошло только одно такое письмо, адресованное видному филологу и
историку Аврааму Гаркави. Оно опубликовано в кн. Lipshits Y. Sefer Toledot Yitshaq.
Warsaw, 1897. P. 91-92.
12 О духовных раввинах см. далее, гл. 3.
13 В этом пункте особенно явственно выражена современная общественная ри¬
торика, характерная для ортодоксального дискурса: по утверждению р. Эльханана,
/ 396 /
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
соблюдение кашрута в армии будет способствовать социальной интеграции евреев
(Lipshits. Op cit. Р. 94).
14 См. Зайончковский П. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 гг. М., 1964.
С. 102-103.
15 Слиозберг Г. Указ. соч. Т. 2. С. 254.
16 ГИАЛ. Ф. 567. Оп. 26. Д. 612. Л. 6.
17 См. протоколы Раввинской комиссии: РГИА. Ф. 821. Оп. 9. Д. 28. Л. 21, 164—
165.
18 Там же. Л. 180-189.
19 Так утверждает Ш. Фриз (Freeze. Op cit. Р. 249)
20 Текст записки приведен в воспоминаниях Слиозберга (Слиозберг Г. Указ. соч.
Т. 2. С. 121-129).
21 Подробный анализ института казенного раввината см. Shohet А. Mosad “ha-ra-
banut mi-taam” be-Rusiya. Haifa, 1976.
22 Shohat. Op cit. P. 61-98.
23 См. Чериковер И. История Общества для распространения просвещения между
евреями в России, 1863—1913. СПб., 1913. С. 159
24 О роли р. Исраэля Салантера в организации этой кампании см.: Etkes I. R. Israel
Salanter ve-reshita shel tenuat ha-musar. Jerusalem, 1984. P. 302—304.
25 Lipshits Y. Sefer Toledot Yitshaq. P. 103—104
26 Там же. С. 105. В личном письме барону Гинцбургу того же года (1882) Спек¬
тор говорил о том, что программа создания раввинской семинарии противоречит «на¬
родному духу» и «внутреннему религиозному чувству народа». Это письмо хранится в
архиве ИВО (Gunsburg #89. F. 755. Р. 63582).
27 См. Lipshits. Zikhron Yaqov. Р. 131. Среди раввинов, обратившихся с письмами
к барону Гинцбургу, были видные фигуры ортодоксального лагеря как относительно
умеренных взглядов — такие, как р. Шмуль Могилевер, р. Мордехай Гимпель Яффе
из Ружан, р. Йонатан Элиасберг из Мариуполя, — так и сторонники более неприми¬
римой позиции: р. Йосеф Дов Бер Соловейчик из Бреста, р. Элияху Хаим Майзель из
Лодзи и один из глав хасидизма Хабад, р. Шмарияху Hoax Шнеерсон из Бобруйска.
Их послания находятся в архиве ИВО в Нью-Йорке (Gunsburg #89. F. 755. Р. 63190-
63323). Липшиц утверждает, что для рассылки писем из общин был приготовлен стан¬
дартный текст (Lipshits. Zikhron Yaqov. Vol. 3. P. 131), но раввины, по всей видимости,
писали сами, хотя нет никакого сомнения в том, что они согласовывали свои действия
с Ковной: об этом свидетельствуют выбор момента для отправки писем и главные за¬
тронутые в них вопросы.
28 Барон Гинцбург пытался защитить идею семинарии в своих письмах к Спек¬
тору, но безуспешно. См. ответ р. Ицхака Эльханана барону (Gunsburg #89 F. 755.
Р. 63581-63582). В ходе кампании против семинарии р. Исраэль Салантер иницииро¬
вал публикацию пропагандистской брошюры, подготовленной Яаковом Липшицем,
«Слова мира и правды» (Divre shalom ve-emet. Warsha, 1884.). См. также: Lipshits. Op.
cit. P. 130.
29 Shohet. Op cit. P. 95-96; Lipshits. Toledot Yitshak. P. 103-105; Idem. Zikron Yaqov.
Vol. 3. P. 127-125; Etkes. Op cit. P. 301-304.
/ 397 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
30 Позднее в официальном обращении с просьбой об открытии раввинской семи¬
нарии в 1894 г. лидеры ОПЕ утверждали, что программа создания этого института была
готова еще в 80-х гг., но ее пришлось отложить в связи с созданием Комиссии Палена
(РГИА. Ф. 733. Оп. 190. Д. 520. Л. 7).
31 Речь идет о р. Мордехае Элиасберге, р. Александре Моше Лапидоте, Йехиэле
Михаэле Пинесе и р. Шмуэле Могилевере. Об их роли в формировании идейных ос¬
нов литовской ортодоксии см.: Salmon. Op cit. Р. 65—78.
32 Shohat. Op cit. Р. 71-73.
33 См. решение собрания еврейских представителей в Петербурге в 1881 г. в: Lip¬
shits. Toledot Yitshaq. Р. 108.
34 См., например, статью Гаркави (Lipshits. Divre shalom ve-emet. P. 9-10). Мнения
других участников дискуссии приведены у Шохата (Shohat. Op cit. Р. 134).
35 РГИА. Ф. 831. Оп. 8. Д. 291. Л. 156, 164, 165.
36 Там же. Л. 38.
37 Там же.
38 См. обзор публикаций по этому вопросу в еврейской прессе: Shohat. Op cit.
Р. 138.
39 Эти письма отложились в: РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 459.
40 Lipshits. Zikhron Yaqov. Vol. 3. P. 136. О Гиршгорне см.: Ibid. Vol. 2. P. 136; Недель¬
ная хроника Восхода. № 12. 1897.
41 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 459 Л. 111.
42 Там же. Л. 104.
43 См.: Lurie. ‘Edau-medina. Р. 83-93.
44 См. письмо активиста ОПЕ Иехуды Лейба Каценельсона Ахад-ха-Аму, отправ¬
ленное в конце января 1893 г. (Shuhtman В. Mi-arkhiono shel Ahad ha-am // Qiryat Sefer.
№ 7. 1930. P. 467-468. Это предположение подтверждается и некоторыми пассажами
из обращений ортодоксов в МНП. См., например: РГИА. Ф.821. Оп. 8. Д. 459. С. 34.
45 Lipshits. Zikhron Yaqov. Vol. 3. P. 136—138. О Колеле Ковны см.: Stampfer S. На-
yeshiva ha-lita’it be-hithavuta. Jerusalem, 2005. P. 360—382.
46 Takanot gedolot //Ha-Peles. N 1 (1901). S. 36-38, 122-123.
47 См. подробный обзор политики российских властей в отношении хедеров в се¬
рии статей С. Познера: Познер С. Меламед и закон // Восход. № 10. 1903. С. 77-94;
1903. № 11. С. 3-26; № 12. 1903. С. 97-114.
48 Предлагаемая далее реконструкция событий основывается на свидетельстве
Липшица (см.: Lipshits. Zikhron Yaqov. Vol. 2. P. 123-129.
49 Познер. Указ. соч. // Восход. 1903. № 11. С. 8-14.
50 Об обстоятельствах этого собрания см.: «Из истории ешиботов в России» //
Пережитое. 1910. № 2. С. 282—285.
51 Письмо опубликовано (на русском языке) в кн.: Lipshits. Zikhron Yaqov. Vol. 2.
P. 71-79.
52 О еврейской политике лоббирования в России первой пол. XIX в. см.: Leder-
hendler. Op cit. Р. 68-83.
53 См. Познер. Указ. соч. // Восход. 1903. № 12. С. 100—102; Слиозберг Г. Указ. соч.
Т. 2. С. 84-86.
54 Познер. Указ. соч. С. 109-111.
/ 398 /
4.5 / ЕВРЕЙСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
55 Об отношении различных религиозных кругов к сионизму см.: Salmon Y. Im
tairu ve-im teoreru; Idem. Dat ve-ziyonut: imutim rishonim. Jerusalem, 1990.
56 Об отношении раввинов к рабочему движению в 1890-х гг. см.: Mendelsohn Е.
Class Struggle in the Pale. Cambridge, 1970. P. 104-110.
57 Lederhendler E. Jewish Responses to Modernity. N.Y. 1994. P. 69—76; Havatselet.
14.10.1904. P. 23.
58 О Краковском съезде см.: Bacon G. The Rabbinical Conference in Krakow (1903)
and the Beginnings of Organized Orthodox Jewry // Assaf D., Rapoport-Albert A. (ed.). Yashan
bi-fnei hadash. Jerusalem, 2009. P. 199-226.
59 Cm. Stampfer. Op cit. P. 301, 345.
60 РГИА. Ф.1284. Оп. 224. 1906. Д. 131. Л. 145-167.
61 Об обществе «Мефицей ха-талмуд» см.: Ха-Йона. № 1. 1905; Письма р. Варт¬
гейма и р. Маймона в отделе рукописей израильской Национальной библиотеки, Vol.
696/242 и в кн. Igrot ha-rav Maimon. Jerusalem, 1979. Vol. 1. P. 96; Об иешиве в Лиде см.:
Salmon Y. The Yeshiva of Lida: A Unique Institution of Higher Learning // YIVO Annual of
Jewish Social Science. 1974. № 15. P. 106—125.
62 Stampfer S. Hasidic Yeshivot in Inter-War Poland // Polin. 1998. № 1. P. 8-9.
Alter A.M., Osef mikhtavim u-devarim. Warsaw. 1937. P. 9.
63 Текст обращения опубликован в кн.: Igrot Haim Ozer. N. Y. 2001. Vol. 1. P. 308.
Об обществе «Кнесет Исраэль» см. Levin V. “Kneset Israel”: ha-miflaga ha-politit ha-orto-
doksit ha-rishona ba-imperiya ha-rusit // Zion. 2011. № 86. P. 29-62.
64 Там же. P. 310-311.
65 Sefer ha-taqanot me-agudat Kneset Israel. Vilna. 1908. P. 1.
66 Igrot Haim Ozer. Vol. 1. P. 93—96.
67 Ascher A. P. A. Stolypin: The Search for Stability in Late Imperial Russi. Stanford,
2001. P. 164-170; Lowe H.-D. The Tsars and the Jews: Reform, Reaction and Anti-Semitism
in Imperial Russia, 1772-1917. Chur, 1993. P. 252-258.
68 Shneerson Sh.D. Heshbon qatsar me-ha-veida ha-rabanit ha-peterburgit she-al yad
asefat ha-rabanim shnat 1910. SPb., 1910.
69 Haint. № 65.1910; Der Fraind. № 65. 1910; Рассвет. 1910. № 12.
70 Igrot qodesh me-et k”q admo”r moharshab mi-Lubavich. N. Y., 1986. \bl. 2. P. 520.
71 Апробация p. Хаима Соловейчика: Gotlieb S. N. Ohale shem. Pinsk, 1912. C. 5.
72 О несостоявшемся сближении российской ортодоксии с правительством см.:
Levin V. Orthodox Jewry and the Russian Government: An Attempt at Rapprochement,
1907-1914 // East European Jewish Affairs. N2 39. August 2009. P. 187-204.
73 Cm.: Silber M. The Emergence of Ultra-Orthodoxy: the Invention of the Tradition //
J. Wertheimer (ed.). The Uses of Tradition. Cambridge, Mass.; London, 1992. P. 23—84.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Bakon G. Ha-hevra ha-masoratit bi-temurat ha-itim: hebetim be-toldot ha-yahadut ha-
ortodoksit be-Polin u-be-Rusiya, 1850—1939 (Традиционное общество в эпоху перемен:
некоторые аспекты истории ортодоксального иудаизма в Польше и России, 1850—
1939) // Bartal I., Gutman I. (ed.). Qiyum ve-shever. Yehudei Polin le-doroteihem (Разорван¬
ная цепь. История евреев Польши). Jerusalem, 2001. Vol. 2. Р. 460—469.
/ 399 /
ЧАСТЬ 4 / ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Salmon Y., Ravitzki A., Ferziger A. (ed). Ortodoksiya yehudit: hebetim hadashim (Еврей¬
ская ортодоксия: новые аспекты). Jerusalem, 2006.
Salmon Y. Im tairu ve-im teoreru. ortodoksiya be-metsare ha-leumiyut («Не будите и не
пробуждайте»: ортодоксия перед угрозой национализма). Jerusalem, 2006.
Shohet А. Mosad «ha-rabanut mi-taam» be-Rusiya (Институт казенного раввината в
России). Haifa, 1976.
Levin V. Orthodox Jewry and the Russian Government: An Attempt at Rapprochement,
1907—1914 // East European Jewish Affairs. № 39. August 2009. P. 187—204.
Lurie I. ‘Eda u-medina: hasidut Habad ba-imperiya ha-rusit, 1828-1883 (Община и
государство: хасидизм Хабад в Российской империи. 1828-1883). Jerusalem, 2006.
ЛИТЕРАТУРА
И ИСКУССТВО
5.1
РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИДИШЕ
Авраам Новерштерн
ВВЕДЕНИЕ
азвитие современной литературы на идише происходило в слож¬
ной и постоянно меняющейся культурной, духовной и языко¬
вой среде Восточной Европы. Краткое описание этого феноме¬
на, учитывающее историко-культурный контекст (именно такое
описание мы пытаемся предложить читателю в настоящей ста¬
тье), может создать впечатление, что разные его элементы логически связаны
между собой и расположены в строгой хронологической последовательности.
Следует сразу отметить, что такое впечатление является в немалой степени
иллюзорным.
Особые обстоятельства развития новой литературы на идише привели, в
частности, к тому, что многие писатели не были знакомы с творчеством сво¬
их предшественников, поэтому во многих случаях нельзя говорить о непо¬
средственной преемственности или о разных поколениях — тех, кто оказывал
влияние, и тех, кто его испытывал. Кругозор и литературные вкусы писателя,
избравшего языком своего творчества идиш, определялись многими фактора¬
ми: его отношением к традиционному еврейскому миру, степенью его знаком¬
ства с новой литературой на иврите и с европейской литературой — немецкой,
русской и польской, с современными ему публицистикой и идеологическими
течениями. Он находился под влиянием разных культур, и лишь отдельные их
стороны нашли отражение в текстах на идише. Эта уникальная ситуация чрез¬
вычайно затрудняет воссоздание общей картины развития новой литературы
на идише, но вместе с тем придает особое значение литературному творчеству
/403/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
на этом языке как отражению сложного культурного мира восточноевропей¬
ского еврейства.
Сказанное выше принципиально отличается от общепринятого представ¬
ления о литературе Нового времени на идише: как от того, что сложилось у
современников, так и от того, что укрепилось в последующей историографии.
Долгое время среди авторов и читателей литературы на идише было распро¬
странено представление о писателях как о членах некой воображаемой семьи,
связанных особыми отношениями. В основе этих представлений — образы
трех классиков литературы на идише. Первый из них — это Шолом Яаков
Абрамович, более известный под псевдонимом Менделе Мойхер-Сфорим
(между 1834 и 1836—1917), которого Шолом-Алейхем (1859—1916) назвал «де¬
душкой» («der zeyde») литературы на идише, желая создать ей репутацию ли¬
тературы с высоким культурным статусом и длительной историей. Сам Шо¬
лом-Алейхем называл себя «внуком» («eynikl»), а Ицхока Лейбуша Переца
(1851/1852-1915) - отцом («der tate») новой литературы на идише — в основ¬
ном благодаря его деятельности по подготовке нового поколения еврейских
писателей, продолжавшейся с начала XX в. до самой смерти мастера.
Образ трех классиков послужил основой формирования исторического со¬
знания современной идишской культуры, характерного для периода ее расцвета
после Первой мировой войны. Впоследствии эта концепция получила дальней¬
шее развитие: когда в 1925 г. М. Вайнрайх, тогда еще молодой исследователь
идиша и еврейской культуры, выпустил в свет первое собрание сочинений
Шломо Этингера (1803-1856) — писателя-просветителя, жившего в Замостье
(Польша), он назвал его во вступительной статье «прадедом («Elterzeyde») лите¬
ратуры на идише» 1. Это определение отражает распространенное среди крити¬
ков и литературоведов стремление подчеркнуть существование явных и скры¬
тых связей между еврейскими писателями, жившими в разные эпохи.
Выделение трех классиков современной литературы на идише — Ш.Я. Аб¬
рамовича, И.Л. Переца и Шолом-Алейхема — автоматически определяет и
географические рамки ее формирования. Абрамович родился в белорусском
местечке Копыль (Минской губернии), написал свои первые произведения в
Бердичеве, а с 1881 г. жил в Одессе. Шолом-Алейхем, уроженец города Пере¬
яславль (Полтавской губернии), с 1887 по 1905 г. жил в Киеве, затем после¬
довали долгие годы скитаний, продолжавшиеся до самой его смерти в Нью-
Йорке. Перец родился в Замостье (Люблинской губернии), но его литератур¬
ная биография связана прежде всего с еврейской Варшавой.
С точки зрения истории еврейской литературы черта оседлости и Царство
Польское представляли собой единый ареал, и на фоне этого единства ниве¬
лировались региональные различия, в том числе разница между диалектами
идиша. Южная и западная границы Российской империи являлись и грани¬
цами центра культуры и литературы на идише в Восточной Европе. Галиция,
/404/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
входившая в состав Габсбургской империи, в начале обсуждаемого периода
(в первой трети XIX в.) также играла важную роль, однако позднее заметная
культурная деятельность на идише в ней прекратилась вплоть до начала XX в.
Территория Румынии оставалась для литературы на идише периферией на
протяжении большей части рассматриваемого периода, однако именно там, в
г. Яссы, в 1876 г. был основан современный театр на идише.
В развитии новой литературы на идише в Восточной Европе с начала
XIX в. до Первой мировой войны принято выделять три эпохи. Самая ран¬
няя из них соответствует первой половине XIX в., когда эта литература была
ареной идейной борьбы между хасидами и приверженцами Просвещения.
Она не представляла собой тогда непрерывно создававшийся и доступный
читателю корпус текстов (о причинах этого речь пойдет позднее). Ситуация
коренным образом изменилась в 1860-е гг. — среди прочего благодаря рас¬
цвету публицистики на идише. В 1864 г. (этот год историческая концепция
развития еврейской литературы считает ключевой датой) Ш.Я. Абрамович
опубликовал свое первое произведение на идише — «Маленький человечек».
На идише Абрамович продолжал писать — то более, то менее интенсивно —
до конца своих дней. В 1880-е гг. в литературу пришло следующее поколение
идишских писателей. В 1883 г. появилось первое произведение Шолом-Алей¬
хема на идише, в 1888 г. — первое произведение И.Л. Переца. Таким образом,
пятьдесят лет между 1864 г. и началом Первой мировой войны можно назвать
периодом классиков в идишской литературе. Однако с начала XX в., когда ли¬
тературная и культурная деятельность на идише становится все интенсивнее
и разнообразнее, одновременно с творчеством классиков появляются и про¬
изведения новых писателей, зрелое творчество которых и составило существо
третьего этапа развития литературы на идише.
В целом можно говорить о поступательном развитии литературного твор¬
чества на идише, и чтобы продемонстрировать эту тенденцию, рассмотрим
два свидетельства. Первое из них — это отрывок из краткой автобиографии
Ш.Я. Абрамовича на иврите «Мои биографические заметки» («Reshimot le¬
toldotai», 1888), в котором речь идет о выборе молодого писателя (1860-е гг.)
между ивритом, на котором он уже попробовал себя в творчестве, и идишем:
...Наши писатели, знатоки языка [иврита], которые говорили: «возвеличим
святой язык наш, что нам до простолюдинов», относились к идишу весьма пре¬
зрительно. И если иногда «один в городе, двое в семье» снисходили к этому про¬
клятому и писали на нем немногие вещи, — то делали это втайне, под прикрыти¬
ем, чтобы никто не увидел их стыда и не осрамил их 2.
Абрамович описывает ситуацию, когда редкие авторы, писавшие на иди¬
ше, не осмеливались публиковать свои произведения или выпускали их под
/405/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
псевдонимом. Причина этому — низкий социальный и культурный статус
идиша. Для сравнения приведем выдержку из другого документа — вступле¬
ния к прокламации, написанной в 1908 г. для Черновицкой конференции по
языку идиш:
За последние десятилетия идиш прошел огромный путь. Литература на иди¬
ше поднялась до такого уровня, которого от нее никто не ожидал. Газеты на иди¬
ше, ежедневные и еженедельные, выходят в сотнях тысяч экземпляров, стихи на
идише передаются из уст в уста, народ читает прозу и спешит посмотреть новые
пьесы на идише 3.
Эта прокламация описывает развитие литературы на идише как часть раз¬
ветвленного и динамичного литературного процесса и подчеркивает суще¬
ствование прочной непосредственной связи между авторами и читательской
аудиторией. Действительно, можно говорить о явной тенденции развития и
расширения литературной деятельности на идише в рассматриваемый пери¬
од: от спорадических писательских опытов в первой половине XIX в. к творче¬
ству классиков и от них — к развитой и многообразной литературе накануне
Первой мировой войны. И именно поэтому при описании новой литературы
на идише важно соблюдать равновесие между двумя подходами: выявлением
скрытой и явной преемственности в ее развитии и анализом переломных мо¬
ментов и разрывов с предшествующей традицией.
РАЗГОВОРНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯЗЫКИ
В рассматриваемый период идиш был разговорным языком подавляюще¬
го большинства евреев Восточной Европы. По данным переписи населения
Российской империи 1897 г., 97% евреев назвали идиш своим родным язы¬
ком, оставшиеся 3% разделились примерно поровну: одни указали в качестве
родного языка русский, другие — польский. Эти статистические данные сви¬
детельствуют не только о преобладании идиша в качестве родного языка ев¬
реев, но и об апогее его популярности, за которым должен последовать спад:
уже тогда можно было обратить внимание, что процент указывающих идиш
был гораздо ниже в крупных городах, особенно тех, которые не входили в чер¬
ту оседлости. 97% — это прежде всего представители малых по численности
еврейских общин. Появление групп населения, в которых на смену идишу
пришли другие языки, не могло изменить картину в целом, однако оно ясно
фиксировало начало процесса, который активизировался в последующие
годы. Статистические данные и многочисленные литературные и публици¬
стические свидетельства указывают на то, что преобладание идиша как разго¬
/406/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
ворного языка постепенно, но неуклонно шло на убыль в крупных и средних
городах — прежде всего среди молодежи и тех евреев, которые получили свет¬
ское образование (это были главным образом представители экономической
элиты). К этому стоит добавить гендерное распределение: русским и поль¬
ским — наиболее престижными языками нееврейского окружения — лучше
всего владели женщины из средних и высших слоев общества, поскольку до¬
ступ к общему образованию был для них легче, чем для мужчин. Таким обра¬
зом, расцвет современной идишской литературы и культуры сопровождался
медленным снижением статуса идиша как разговорного языка, и внутреннее
напряжение между этими двумя процессами оставило след в самих литератур¬
ных текстах.
Развитию литературы на идише мешало еще одно обстоятельство: несоот¬
ветствие широкого распространения идиша как разговорного языка его ста¬
тусу как языка литературного творчества. В религиозных кругах роль практи¬
чески единственного письменного языка, о каком бы виде письменной про¬
дукции ни шла речь, выполнял иврит, создание текстов на разговорном языке
было явлением маргинальным и объяснялось только необходимостью удов¬
летворения потребностей тех слоев населения, которые не знали и не могли
знать иврит (в первую очередь простолюдины и женщины). Среди восточно¬
европейских просветителей (маскилим) сохранялась языковая стратифика¬
ция, предполагавшая разделение разговорного и письменного языков, при¬
чем она носила еще более сложный, чем в традиционном обществе, характер.
Просветители отрицательно относились к идишу, в котором видели не более
чем жаргон, и потому стремились использовать другие языки. Поначалу счи¬
талось, что разговорным языком просвещенного общества должен был стать
немецкий, а основным письменным — иврит. Через одно-два поколения ме¬
сто разговорного языка заняли русский и польский. Во второй половине XIX
в. развивается еврейская публицистика и литература на русском и — в мень¬
шей степени — на польском языках. Идиш, разговорный язык, не восприни¬
мался просветителями как легитимное и достойное средство для письменного
творчества. Эта сложная языковая ситуация послужила причиной того, что
новая литература на идише в Восточной Европе начала развиваться достаточ¬
но поздно. Идиш можно было бы сравнить с начинающей второстепенной
актрисой, которая поднялась на сцену современной восточноевропейской ев¬
рейской культуры нерешительно и с опозданием, уже после появления лите¬
ратуры на возрожденном иврите и даже после первых опытов русскоязычной
еврейской литературы и публицистики. Статус идиша был низким, что нашло
отражение в распространенных в то время оценочных сравнениях: иврит упо¬
добляли госпоже, идиш — служанке. Даже авторы, писавшие на идише, на
протяжении почти всего XIX в. относились к нему как к Volkssprache — народ¬
ному языку. Процесс расширения сферы употребления идиша и укрепления
/407/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
его позиций в роли языка культуры стал заметен только на рубеже веков и дал
первые результаты перед войной.
Выразительность идиша, его обаяние, возможности и ограничения, ко¬
торые он накладывал на писателя, будучи разговорным языком, — со всем
этим сталкивались авторы, которые выбирали его в качестве языка своего
литературного творчества. Само понятие выбора в данном контексте очень
значимо, поскольку большинству писателей, о которых пойдет речь (хотя и
не всем), действительно предстоял трудный выбор между языками. Идиш
был понятным и само собой разумеющимся решением лишь для немногих из
них — для тех, кто плохо владел ивритом (и тем более нееврейскими языка¬
ми). Большинство писателей рассматриваемой эпохи, обратившихся к идишу,
в определенный момент (в основном в начале карьеры) выбирали между ним
и ивритом. Многие из них оставили заметный след в литературе на обоих язы¬
ках. Самым ярким примером двуязычного писателя является Ш.Я. Абрамо¬
вич, который заложил основы современной прозы на идише и в то же время
удостоился прозвания «творца стиля» новой прозы на иврите (по выражению
Х.Н. Бялика). Шолом-Алейхем опубликовал свои первые сочинения на иди¬
ше (в 1883 г.), и свой талант он посвятил творчеству именно на этом языке,
однако он писал также и на иврите, а в течение нескольких лет печатался по-
/408 /
Шолом-Алейхем
(Шолом Рабинович, 1859—1916)
Менделе Мойхер-Сфорим
(Шолом Яаков Абрамович, 1835—1917)
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
русски. И.Л. Перец опубликовал поэму «Мониш», свое первое произведение
на идише, в 1888 г. — после более чем десяти лет писательской работы на ив¬
рите. Выявление соотношения двух языков в творчестве разных писателей —
это один из путей к пониманию статуса идишеязычной литературы в рассма¬
триваемый период.
Гораздо менее распространенное явление — сочетание творчества на иди¬
ше и на нееврейском языке. Первым ярким примером этого является Семен
(Шимон) Фруг (1860-1916), русскоязычная поэзия которого пользовалась
огромной популярностью среди еврейских читателей еще до того, как в 1888 г.
он стал писать на идише. Видным писателем следующего поколения, сочетав¬
шим в своей литературной деятельности идиш и русский, стал С.А. Ан-ский
(1863-1920): его родным языком был, конечно, идиш, но большую часть сво¬
их произведений он написал по-русски — под влиянием идей революционно¬
го движения в России. Именно русский был основным языком его творчества
в 1890-е гг. и в начале XX в. Однако позднее Ан-ский пережил своего рода
возвращение к культурным корням, выразившееся и в переосмыслении роли
идиша. В результате писатель перевел большую часть своих русскоязычных
произведений на идиш. Ан-ский писал в основном прозу, но свою литератур¬
ную славу он приобрел благодаря пьесе «Диббук», которая стала самой попу¬
лярной пьесой на идише и, более того, самой популярной пьесой еврейского
театра. Первый вариант пьесы (1914) Ан-ский написал по-русски, надеясь по¬
ставить ее на русской сцене, — однако эта надежда не оправдалась. Сразу по¬
сле этого он создал вариант на идише и продолжал его править до конца жиз¬
ни. Постановки своего произведения Ан-ский не увидел: премьера состоялась
в 1920 г. — почти через месяц после его кончины. Х.Н. Бялик перевел пьесу на
иврит с русского или идиша (а может быть, пользуясь обоими вариантами: те¬
перь это трудно установить). Этот перевод вышел в свет раньше оригинала на
идише, и его постановка в театре «Габима» в Москве в 1922 г. имела огромный
успех. Творческий путь Ан-ского — его колебания между русским языком и
идишем — и особое место, которое оказалось отведено переводу самого зна¬
менитого его произведения на иврит, являются особым примером взаимодей¬
ствия различных культурных контекстов, в которых развивалось литературное
творчество на идише.
Новая литература на идише в Восточной Европе формировалась в тени
литературы на иврите, которая была представлена гораздо более обширным
и разнообразным корпусом произведений. В силу этого обстоятельства автор,
писавший на идише, оказывался между двумя полюсами притяжения. Глав¬
ной особенностью идиша по сравнению с ивритом было то, что он являлся
разговорным языком. Эта особенность позволяла писателям разрабатывать в
своих произведениях стиль, действительно напоминавший разговорный язык
с его богатством, жизненностью, яркой фразеологией и народными присло¬
/409/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
вьями. Поэтому не случайно, что Ш.Я. Абрамович — первый великий писа¬
тель, сумевший использовать художественные возможности идиша, — обра¬
тился к нему после длительного опыта литературного творчества на иврите.
Безусловной его находкой является образ Менделе мойхер сфорим (Менделе-
книгоноши). Речь этого персонажа имитирует диалог, что создает ощущение
непосредственного общения с собеседником, которого в художественном
мире самого произведения может и не быть. Однако Абрамович понимал, что
иллюзия беглой разговорной речи главного героя — Менделе Мойхер-Сфо¬
рима — и остальных персонажей не может быть единственным компонентом
речевой характеристики героев. Поэтому был добавлен еще один прием: Мен¬
деле Мойхер-Сфорим, как и подобает ученому человеку, все время старает¬
ся привести подтверждение своим словам, произносимым на разговорном
языке, из письменных канонических источников, прежде всего из Библии
и мидрашей. Этот прием встречается и в творчестве следующего поколения
идишеязычных писателей: вспомним монологи, которые Шолом-Алейхем
вкладывает в уста Тевье-молочника. Тевье имитирует цитирование источни¬
ков (придумывает цитаты сам или произвольно толкует существующие) — и
эта виртуозная игра позволяет создать иллюзию разговорного языка, который
черпает силу из письменных священных текстов.
Одной из центральных задач, стоявших перед авторами новой еврейской
литературы на протяжении всего рассматриваемого периода, являлось созда¬
ние литературной стилистической нормы. Следует отметить, что эта задача не
была артикулирована: сами писатели редко делились своими размышления¬
ми на этот счет и в еще меньшей степени стремились сформулировать какую-
либо упорядоченную стилистическую концепцию. Процесс приближения
литературного восточноевропейского идиша к разговорному языку, в ходе
которого происходило превращение многочисленных славянских заимство¬
ваний, встречающихся в разговорной речи, в интегральную часть письменно¬
го языка, протекал медленно и трудно. Так, например, писатель-просветитель
Мендель Лефин (1749—1826) пытался переработать переводы книг Библии
на идиш, приблизив их к разговорной речи восточноевропейских евреев, но
вскоре оставил свои попытки: при жизни он выпустил в свет лишь перевод
книги Притч (1814), который был жестко раскритикован одним из его коллег-
просветителей. Переводы других библейских книг оставались в рукописях,
только одна из них — книга Экклезиаста — быта опубликована, но уже через
много лет после смерти Лефина. Вероятно, неудача Лефина удержала других
писателей от повторения этого опыта.
Ш.Я. Абрамовича проблема стиля занимала на протяжении всего его ли¬
тературного пути. В его произведениях 1860—1870-х гг. достаточно много сла¬
вянских заимствований, относящихся к простой народной речи. Позже, когда
Абрамович перерабатывал свои произведения, он заменял славянизмы слова-
/410/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
ми другого происхождения. Однако наличие славянского компонента было
далеко не единственной стилистической проблемой, с которой сталкивались
авторы, писавшие на идише. Не менее насущной была проблема соотношения
идиша с немецким языком, столь почитавшимся просветителями. Немецкая
лексика считалась подходящей для выражения «возвышенных» и «поэтиче¬
ских» понятий, но слишком интенсивное использование заимствований из
современного немецкого, которые не имели хождения в разговорном языке,
делало стиль писателя искусственным, чересчур далеким от аутентичной речи.
Подводя итог, можно сказать, что магистральным направлением развития
прозы на идише, реализовавшимся в творчестве Абрамовича и Шолом-Алей¬
хема, стала осторожная и взвешенная ориентация на разговорный язык. Вско¬
ре это явление стало языковой нормой, что позволило следующему поколе¬
нию писателей взбунтоваться против нее. Так, прозу Дер Нистера (1884—1950)
и Довида Бергельсона (1884—1952) с первых лет XX в. и позднее отличает от¬
ход от разговорного языка, частое обращение к стилизации. Их произведения
были адресованы еврейской интеллигенции, хотя в те годы значительная ее
часть уже предпочитала читать по-русски. В конце рассматриваемого периода
мы видим сосуществование двух стилистических стратегий: последние моно¬
логи Тевье-молочника, которые прекрасно стилизованы под народную речь,
появились одновременно с романом Бергельсона «После всего» («Nokh ale-
men», 1913, в русском переводе — «Миреле») — ярким образцом импрессио¬
нистического стиля, максимально отдаленного от разговорного языка. Сти¬
листических возможностей, которыми мог пользоваться еврейский писатель,
становилось все больше, они делались богаче по мере, того как язык осваивал
все новые сферы бытования.
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ В XIX в.
Между хасидизмом и Просвещением
Список книг на идише, имевших хождение в Восточной Европе в начале
XIX в., был достаточно беден и однообразен Это были в основном прозаиче¬
ские сочинения, в большинстве своем переводы или вольные переложения
произведений, написанных в оригинале на иврите, реже — переработанные
варианты произведений средневековой идишеязычной литературы. Наибо¬
лее популярным среди таких изданий было «Tsene-rene» — переложение от¬
дельных библейских книг, которое использовалось прежде всего как материал
для субботнего женского чтения. Активно издавались и другие произведения
средневековой литературы: прозаические переложения «Bove-bukh» — попу¬
лярного рыцарского романа, сборники молитв (tkhines), служивших для жен¬
/411/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
щин основным способом выражения своих религиозных чувств, и т.д. Все эти
сочинения отличались большим консерватизмом — как с точки зрения содер¬
жания, так и с точки зрения языка; среди них едва ли можно обнаружить хотя
бы одно, которое было бы задумано и написано именно в конце XVIII — на¬
чале XIX в.
Первые спорадические попытки создания художественной литературы
на идише, предпринимавшиеся в первой половине XIX в., были связаны с
борьбой между хасидизмом и еврейским Просвещением (Гаскалой), хотя ре¬
альный вклад этих движений в развитие литературы на идише различался
по своему масштабу и характеру. Хасидское движение широко использовало
идиш для устного распространения своего учения, более того, хасидские ли¬
деры проявляли симпатию к самому языку как к одному из символов обо¬
собленного еврейского существования. Однако с начала XIX в. до 1860-х гг.
вклад хасидизма в литературу на идише исчерпывался двумя сочинениями,
совершенно не похожими друг на друга. Первое из них — это идишеязычные
издания книги «Восхваления Бешта» («Shivkhe Besht»), главного агиографи¬
ческого текста хасидского движения, вышедшие в свет в 1815 г. (существова¬
ли три основные редакции этого текста). Второе произведение — «Истории»
(«Sipure mayses») р. Нахмана из Брацлава, двуязычная книга, опубликован¬
ная в том же году. Почти одновременное издание двух этих книг вызыва¬
ло в кругах противников хасидизма опасения, что хасидские сочинения на
идише захлестнут еврейский книжный рынок, но вскоре выяснилось, что
эти опасения были напрасны. Во всем обширном корпусе хасидской лите¬
ратуры, долгое время создававшейся исключительно на иврите, не нашлось
ни одного подражания двуязычной книге р. Нахмана. Что же касается жан¬
ра хасидской агиографии, основу для развития которого заложил сборник
«Shivkhe Besht», то его история вскоре после публикации сборника прерва¬
лась почти на 50 лет — до 1860-х гг.
«Истории» р. Нахмана из Брацлава представляют собой исключитель¬
ное явление и как хасидское сочинение, и как произведение восточноевро¬
пейской литературы на идише. Решение р. Нахмана обратиться в своем со¬
чинении к формам народного повествования противопоставило его всем
остальным хасидским лидерам. Структура текстов, персонажи и сюжетные
ходы были заимствованы р. Нахманом из фольклора, точнее — из волшебной
сказки, что позволило автору передать сложный комплекс идей и образов:
основополагающие каббалистические представления, напряженное ожида¬
ние прихода Мессии, внутреннее убеждение в том, что он сам должен сыграть
решающую роль в приближении мессианских времен, борьба между верой и
неверием, выбор между первичным неведением и путем познания и сомне¬
ния, который угрожает потерей веры. Р. Нахман рассказывал свои «истории»
на идише, после чего они были записаны его пламенным адептом и личным
/412/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
секретарем — Натаном Штернгарцем. Трудно однозначно определить, на ка¬
ком языке р. Натан записывал слова своего учителя, хотя по некоторым при¬
знакам можно утверждать, что запись на идише предшествовала ивритской
версии. Однако долгое время, начиная с самого первого издания, «Истории»
р. Нахмана печатались одновременно на двух языках: в верхней части страни¬
цы располагался текст на иврите (который, впрочем, содержит явные свиде¬
тельства долгой передачи на разговорном языке), в нижней — текст на идише.
Р. Натан стремился как можно точнее передать слова своего наставника, и
поэтому идишский вариант оказался очень близок к разговорному языку. По
сравнению с архаичным языком книг на идише того времени, большинство из
которых представляли собой переводы традиционной ивритоязычной литера¬
туры, это было смелым новаторством.
Первое издание «Историй» р. Нахмана вызвало у противников хасидиз¬
ма опасение, что книга быстро приобретет популярность и будет способ¬
ствовать распространению хасидского учения. Поэтому один из наиболее
активных борцов с хасидизмом — галицийский просветитель Йосеф Перл —
решил прибегнуть к изощренной мистификации: он сочинил историю, из¬
ложенную на двух языках, которая выглядела как один из рассказов р. На¬
хмана — но при этом с просветительским и антихасидским содержанием.
Этот литературный опыт так и остался в рукописях, и у нас нет указаний на
то, что его предполагалось когда бы то ни было опубликовать. Позднее, дви¬
жимый теми же мотивами, Перл переложил на идиш свое главное сочине¬
ние — сатиру «Открывающий сокрытое» («Megale tmirin»). Однако если ив¬
ритоязычный вариант этого произведения вышел в свет в 1819 г., идишская
версия оставалась в рукописях и была опубликована в 1937 г. уже в рамках
научного изучения литературы на идише.
Прошло всего несколько лет, и выяснилось, что опасения Йосефа Пер¬
ла и других просветителей были напрасны: популярность «Историй» р. На¬
хмана была в то время незначительной и ограничивалась кругом его верных
последователей. Сочинение р. Нахмана не стало значимым фактором и в
дальнейшем развитии литературы на идише: использование жанровых черт
волшебной сказки, безымянные герои, перемещающиеся в символическом
пространстве без примет времени и места, — все это было слишком далеко
от норм реализма, которые господствовали в прозе на идише на протяжении
всего рассматриваемого периода. Лишь в начале XX в., когда хасидизм стал
объектом внимания и благожелательного интереса со стороны еврейских пи¬
сателей, «Истории» были открыты заново. Таким образом, они получили при¬
знание и вызвали интерес в совершенно иных обстоятельствах, нежели те, в
которых были созданы.
В течение первой половины XIX в. просветительская литература на идише
была гораздо более развитой и разнообразной, чем хасидская, но большин¬
/413/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
ство ее произведений остались неизданными: во-первых, сами просветители
(маскилы) относились к идишу отрицательно, во-вторых, еврейские типогра¬
фии в царской России в рассматриваемый период отказывались печатать от¬
кровенно просветительские произведения. Многие авторы-маскилы писали
на идише «в стол»: даже если они надеялись опубликовать свои работы и пред¬
принимали для этого конкретные шаги, в большинстве случаев им не удава¬
лось осуществить свои планы. Исключение в этом ряду — умеренный маскил
Айзик Меир Дик, который начал печататься в Вильно в 1847 г. и публиковался
до самой смерти в 1893 г. За это время он выпустил около 200 книг на идише
(некоторые из них были опубликованы также и в переводе на иврит), при¬
надлежащих к разным литературным жанрам. Такая «плодовитость» сделала
А.М. Дика самым популярным идишеязычным писателем своего времени, а в
хронологическом отношении его творчество выходит далеко за границы пер¬
вого периода в развитии восточноевропейской идишеязычной литературы.
Творчество А.М. Дика весьма эклектично: он писал как реалистические
рассказы, в которых ярко изображается современный автору еврейский быт,
так и произведения романтического характера, в которых участвуют фанта¬
стические герои, а сюжет разворачивается в экзотических странах. Кроме
того, Дик создавал переложения сюжетов из мидрашей и средневековой ев¬
рейской литературы, научно-популярные сочинения, а также руководства
по галахе (прежде всего для женщин). Дик, очевидно, не проводил различия
между оригинальными и переводными произведениями — не являлось оно
принципиальным и для читателей.
Дик придерживался достаточно умеренной просветительской идеологии.
Он ратовал за то, чтобы евреи изучали европейские языки и овладевали свет¬
скими профессиями, чтобы добиться экономического процветания, заменили
традиционную одежду европейской и избавились от других внешних призна¬
ков еврейской обособленности, а также отказались от института сватовства и
перестали пользоваться денежными соображениями в выборе супруга. Борьба
с хасидизмом не была для него особенно актуальна: в Литве, где он жил, ха¬
сидское присутствие было незначительным.
Среди остальных еврейских писателей-просветителей не было единоду¬
шия в отношении к хасидизму: одни были настроены достаточно радикально,
другие проявляли определенную терпимость. Весьма умеренную позицию, на¬
сколько можно судить по его литературным произведениям, занимал Шломо
Этингер. Вероятно, это объясняется тем, что в его родном городе (Замостье)
хасидизм не был особенно популярен. Наибольшим радикализмом отличал¬
ся Исроэл Аксенфельд (1787-1866), детство которого прошло на Украине в
хасидской среде. Среди идишеязычных писателей Аксенфельд был, пожалуй,
самым плодовитым, однако большинство его произведений так и не вышли в
свет и были утрачены. Среди сохранившихся наиболее значим роман «Голов¬
/414/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
ной платок» («Dos Shterntikhl», 1861 или 1862) — единственный дошедший до
нас типично просветительский роман, написанный на идише. Путь, который
проходит главный герой романа Михл, начинается в его родном местечке и
заканчивается в Германии, где Михл достигает определенного экономическо¬
го успеха. Обширные пассажи книги посвящены обличению деятельности ха¬
сидских цадиков и их дворов, а также еврейского жизненного уклада в целом.
Судьба Михла сочетает в себе просветительские общественные идеалы,
о которых писали — с разной степенью художественной убедительности —
Дик, Этингер, Аксенфельд и другие. Эти писатели с симпатией изображали
зажиточного торговца, представителя зарождающегося класса буржуазии, се¬
крет успеха которого заключается в том, что он избавился от предрассудков
и суеверий, распространенных в традиционном еврейском обществе. Однако
проходит всего несколько лет, и центральное положение в сочинениях про¬
светителей занимает иной персонаж — «нувориш», заслуживающий осужде¬
ния за поверхностность своего образования. В произведениях наиболее ради¬
кальных идишеязычных писателей, прежде всего Аксенфельда, традиционное
общество предстает невежественным и отсталым с социальной и культурной
точек зрения. Дик в этом вопросе проявляет куда большую умеренность.
Небезынтересными оказываются связи — порой достаточно неочевид¬
ные — между идеологией и литературным стилем: радикальные авторы чаще
пользовались более «сочным» языком, насыщенным идиомами, поскольку та¬
кой язык считался характерной чертой старого быта, который они обличали.
В произведениях Дика, особенно в позднейших, напротив, заметно стремле¬
ние отдалиться от разговорного языка и выработать более изощренный стиль.
Художественные решения, связанные с литературным творчеством на идише,
были интегральной частью более широкой культурной и идеологической си¬
стемы.
Формирование основ новой литературы:
творчество Ш.Я. Абрамовича (Менделе Мойхер-Сфорима)
Первые произведения Ш.Я. Абрамовича, написанные на идише в 1860-х гг.,
поразили читателей ощущением реалистической полноты, прежде всего бла¬
годаря тому, что материалом для них служил жизненный опыт поколения
автора и его ближайшего окружения. Кроме того, Абрамович использовал
литературный прием, который в дальнейшем превратится в отличительный
признак его творчества, — образ рассказчика, Менделе мойхер сфорим (Мен¬
деле-книгоноши), появляющегося уже во введении к повести «Маленький
человечек». Менделе — бродячий книготорговец, занимающийся также и
издательским делом, но в большинстве произведений Абрамовича он не по¬
/415/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
дымается до уровня оригинального писателя в полном смысле этого слова.
Менделе, таким образом, одновременно плоть от плоти традиционного ев¬
рейского общества и сторонний наблюдатель, описывающий героев, которые
встречаются на его пути, с тонкой иронией, с определенной долей скрытого
и явного социального критицизма и в то же время с симпатией. Образ Мен¬
деле — одно из главных художественных средств в творчестве Абрамовича; он
как нельзя лучше выражает сложное личное и риторическое отношение авто¬
ра к описываемому миру.
Три основных произведения, написанных Абрамовичем на идише в
1860-е гг., — «Маленький человечек» («Dos kleine mentshele»,1864), «Завет¬
ное кольцо» («Dos vintshtingerl»,1866) и «Фишка-хромой» («Fishke der krum¬
er» 1869) — были небольшими по своему объему, однако со временим они под¬
верглись переработке и значительному расширению. Два из них были пере¬
ведены на иврит самим Абрамовичем или под его редакцией 4. «Маленький
человечек» — вымышленная исповедь местечкового богача, который невзи¬
рая на свою интеллектуальную ограниченность сумел подняться с самой низ¬
шей ступени социальной лестницы и, совершив ряд подлых и безнравствен¬
ных поступков, добился высокого социально-экономического положения
и власти над окружающими. Несмотря на расхожий сюжет и шероховатость
стиля, это произведение сыграло важнейшую роль в творчестве Абрамовича
в целом ряде аспектов: оно утвердило центральную роль жанра биографии и
автобиографии в еврейской литературе, продемонстрировало возможность
создания в одном произведении широкой галереи образов, выразило трезвую
критическую оценку просветительских идеалов. Поскольку детство главного
героя произведения прошло в бедности и нужде, он оказывается «жертвой» и
«злодеем» одновременно; таким образом, стирается четкая грань между поло¬
жительными и отрицательными персонажами — один из отличительных при¬
знаков просветительской литературы. В этом произведении появляется образ
маскила, который предстает перед нами исключительно положительным ге¬
роем, однако и в «Маленьком человечке», и в следующей книге Абрамовича,
написанной на идише, «Заветном кольце», ситуация складывается так, что он
оказывается неспособен исполнить свое предназначение и терпит неудачу. В
большинстве произведений Абрамовича 1860-х гг. мы видим, как вера в осу¬
ществление просветительской утопии уступает место трезвому реализму, ко¬
торый признает ограниченность любой идеологии.
Таким образом, в ранних сочинениях Абрамовича была создана слож¬
ная система выражения авторской позиции: с одной стороны, рассуждения
Менделе носят откровенно критический характер, подрывающий устои тра¬
диционного еврейского общества, с другой стороны, сам автор, стоящий за
литературным произведением в целом, представляется просветителем доста¬
точно умеренного толка. Так, например, в ранних текстах Абрамовича мож¬
/416/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
но встретить антихасидские выпады, однако
их структурная функция минимальна. Уже в
1860-е гг. писатель оказывается гораздо более
терпим к хасидизму, чем его предшественник
Аксенфельд и современник И.Й. Линецкий,
автор книги «Польский мальчик» («Dos poyl¬
ishe yingl», 1867), также написанной в форме
автобиографии, где немало место уделено
борьбе против хасидизма и традиционного
жизненного уклада. Однако и Линецкий со
временем отошел от радикальных антихасид¬
ских взглядов; таким образом, и в позиции,
которую изначально занял Абрамович, и в
тех изменениях, которые претерпели взгляды
Линецкого, проявляется одна из основных
черт, характерных для литературы на идише
начиная с 1860-х гг: идеологическое напря¬
жение отражено в ней гораздо слабее, нежели
в ивритоязычной литературе того же периода.
Сделав главным персонажем своего пер¬
вого произведения на идише героя, который
видит себя «маленьким человечком», Абрамович невольно определил направ¬
ление развития идишеязычной литературы в двух последующих поколениях:
главными ее героями стали народные персонажи, эмоциональный и интеллек¬
туальный мир которых был достаточно ограничен. С этой точки зрения осо¬
бенное значение имеет третье произведение Абрамовича, написанное на иди¬
ше, — роман «Фишка-хромой» («Fishke der krumer»), в котором перед читателем
предстает целая галерея человеческих судеб. Менделе-книгоноша сталкивается
с нищим по имени Фишка, и тот рассказывает ему всю историю своей жизни,
говорит о своей любви, об изменах, о жестокости и насилии, с которыми ему
пришлось столкнуться; его рассказ полон сентиментальных сцен и неожидан¬
ных поворотов. Менделе, герой проницательный и насмешливый, в конце кон¬
цов оказывается глубоко тронут силой этого рассказа — так утверждается в иди¬
шеязычной литературе сочувственный интерес к человеку из народа, даже если
тот принадлежит к самым низким и презираемым слоям общества.
Действие «Фишки-хромого» разворачивается по большей части в доро¬
ге — распространенный литературный прием, который позволяет ввести в
сюжет романа случайные встречи и приключения. Однако «свобода передви¬
жения», данная героям, не более чем условна. Большинство маршрутов — со¬
циальных и географических, которыми движутся герои Абрамовича, вполне
очевидны: местечко и город, которые он описывает, совершенно соприродны
/417/
Ицхак Йоэль Линецкий (1839—1915)
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
героям, они имеют карикатурный характер и говорящие названия: Кабцанск
(kabtsn — ‘нищий’), Тунеядовка и Глупск, который предстает то как большое
местечко, то как большой город. В отличие от них мегаполис Одесса симво¬
лизирует чужое, незнакомое пространство, в котором не находится места для
главных героев (в том числе для Фишки).
Мотив перемещения в пространстве, которое оборачивается вообража¬
емым движением, лежит и в основе «Путешествий Вениамина III» (1878) —
книги, считающейся наряду с «Фишкой» вершиной творчества Абрамовича.
Вениамин и Сендерл, его спутник, покидают свое родное местечко в надежде
найти потерянные десять колен, живущих за рекой Самбатион, но на самом
деле они отходят от своей Тунеядовки на очень незначительное расстояние, и
все их грандиозное начинание терпит неудачу. Так Абрамович вводит в про¬
изведение один из основных мотивов просветительской литературы — мотив
странствий. Просветители рассматривали этот мотив и как средство воспита¬
ния, которое позволяет читателю познакомиться с новыми странами и цивили¬
зациями, и как возможность ввести в произведение приключенческую линию.
Однако Вениамин и Сендерл отправляются в путь не затем, чтобы расширить
свой ограниченный кругозор, ими движет наивная вера в средневековые ле¬
генды, и в этом Абрамович следовал модели «Дон Кихота» Сервантеса. В на¬
чале книги оба героя представлены в комическом свете — они отправляются
в путь, вдохновленные устаревшей легендой. Однако в продолжении интона¬
ция автора становится все более серьезной и более сочувственной: Вениамин
и Сендерл похищаются злоумышленниками, которые их сдают в рекруты, и в
финале из комических антигероев они превращаются в жертв несправедливой
судьбы. Эта метаморфоза служит ключом к пониманию литературного мастер¬
ства Абрамовича. Не только путешествие Вениамина и Сендерла в простран¬
стве оказывается лишь воображаемым перемещением, но и сами герои произ¬
ведения не меняются, однако эта неподвижность компенсируется изменением
их роли: по мере развертывания сюжета герои оказывается все ближе и ближе
читателю — и в конце концов читатель отождествляет себя с ними.
Если бы Абрамович был последовательным приверженцем просветитель¬
ской идеологии, то в его художественном мире должны были действовать ак¬
тивные герои — хозяева своей судьбы, вольные сами ее изменить. Однако в
сочинениях писателя на идише сквозит сомнение в возможности таких из¬
менений. Очевидно, оно обусловлено определенными историческими обсто¬
ятельствами Российской империи в 1870—1880-х гг. Повесть «Кляча» (вышла
в 1873 г. в оригинальной версии на идише — «Di klyatshe», более поздний ва¬
риант на иврите носит название «Susati» — «Моя лошадь») представляет со¬
бой аллегорическое изображение положения евреев в современном россий¬
ском обществе и — более широко — историческую судьбу еврейского народа
среди других народов. Безграничный пессимизм автора находит выражение в
/418 /
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
описании душевного расстройства героя, завершающегося безумием. «Кляча»
может служить ранним свидетельством разочарования в идеалах Просвеще¬
ния: во-первых, потому, что она обличает отношение окружающих народов к
евреям, а во-вторых, потому, что указывает на власть иррациональных сил над
человеческим обществом и над человеческой душой.
Идеологическая позиция, сформулированная в «Кляче» в аллегориче¬
ском ключе, находит еще более явное выражение в последующих произведе¬
ниях Абрамовича. Переработанная версия «Заветного кольца», которая нача¬
ла печататься в 1888 г. (в ивритском переводе она названа «В юдоли плача»
(«Be-emek ha-bakha»)), представляет собой изложенную с эпическим размахом
биографию человека, проделавшего долгий путь от традиционной жизни в
местечке Кабциэл к воплощению просветительских идеалов. Однако это про¬
изведение заканчивается крушением иллюзий главного героя-просветителя
во время погромов 1880-х гг. «Заветное кольцо» — это роман воспитания, по¬
этому его действие разворачивается в течение значительного промежутка вре¬
мени, однако внимание автора сосредоточено не на формировании сознания
главного героя, а на подробном панорамном описании традиционного еврей¬
ского общества той эпохи. Описательный нарратив составляет основу и по¬
следнего значительного произведения Абрамовича — «Шлойме, сын реб Ха¬
има» («Shloyme reb Khayims», в версии на иврите «Ва-yamim ha-hem» — ‘В те
дни’), в котором описываются детство и отрочество писателя (повествование
идет в третьем лице) в эпоху, которая представляется завершенным историко-
культурным периодом.
Творчество Абрамовича определило основные направления развития
идишеязычной литературы в Восточной Европе в различных аспектах:
1. Предпочтение повествовательной прозы остальным литературным
жанрам характеризовало литературную деятельность на идише в Восточной
Европе вплоть до Второй мировой войны.
2. Творчество Абрамовича сосредоточено на жизни современного ему по¬
коления; в его произведениях нет исторической тематики (за исключением
единственной поэмы, которая имеет маргинальный статус в корпусе его про¬
изведений). В этом его принципиальное отличие от А.М. Дика, который часто
обращался к материалу еврейской истории и еврейского фольклора. Начиная
с Абрамовича этот материал был оттеснен на периферию литературного твор¬
чества на идише, и он нашел себе место только в пьесах Аврома Гольдфадена
(«Bar-Kokhba», «Shulamis») и в популярных романах Шомера и его эпигонов.
Лишь в начале XX в. в литературе на идише был востребован легендарный ма¬
териал, когда И.Л. Перец, писавший в то время в русле неоромантизма, создал
серию рассказов «Народные предания» («Folkstimlekhe geshikhtn»).
3. Наиболее популярным героем идишеязычной литературы становится
обыкновенный, ничем не примечательный человек, находящийся на том же
/419/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
социально-культурной уровне, что и читатель, или даже ниже него. В терми¬
нологическом аспекте можно напрямую связать повесть «Маленький челове¬
чек» с серией рассказов Шолом-Алейхема «Город маленьких людей» («Di shtot
fun di kleyne mentchelakh», 1901-1902), хотя сами персонажи этих двух произ¬
ведений принципиально отличаются друг от друга.
4. Тщательно продуманный баланс между элементами иронии, сатиры
и сочувствия в отношении к описываемому миру и его персонажам являет¬
ся выдающимся художественным достижением Абрамовича. Пропорции, в
которых выдержан этот баланс, претерпят изменение в творчестве Шолом-
Алейхема: юмор вытеснит иронию и сатиру. Отношение «внука» к описывае¬
мому им миру окажется более примирительным, чем у «дедушки».
5. То обстоятельство, что в образе Менделе-книгоноши сочетаются каче¬
ства простолюдина с интеллектуальным кругозором ученого-мудреца, оказа¬
ло влияние на стилистику творчества Абрамовича на идише в целом; писатель
использует разговорный язык и в то же время умеет поставить четкие границы
ассоциативной речи. Фраза «но я не об этом» («nisht dos bin ikh oysn») — люби¬
мая присказка Менделе и маркер конца тематической единицы — стала важ¬
ной вехой на пути стилистического развития литературы на идише.
6. В поздних произведениях Абрамовича, в особенности в романе «Шлой¬
ме, сын реб Хаима», ярко выражено острое ощущение всеобъемлющего куль¬
турного кризиса — следствия смены исторических эпох. Поэтому в самом
творчестве писателя происходит изменение роли, которая отводится лите¬
ратуре на идише: на нее теперь возлагается задача увековечивания уходящей
культуры. Это представление о предназначении идишеязычной литературы
получит дальнейшее развитие на более поздних стадиях ее истории.
МЕЖДУ ПРОЗОЙ И ПОЭЗИЕЙ
Как уже было сказано, основу творчества Ш.Я. Абрамовича составляла
проза. Хотя в обширный корпус его произведений входят две пьесы и большая
по объему аллегорическая поэма о еврейской истории, важно отметить, что
сам писатель ценил их невысоко и не переводил на иврит. Соотношение лите¬
ратурных жанров в творчестве Абрамовича, Шолом-Алейхема и И.Л. Переца
было различным: Шолом-Алейхем в последнее десятилетие своей жизни на¬
писал большое количество пьес в надежде поставить их на сцене еврейского
театра в Нью-Йорке, однако при его жизни этим планам не суждено было осу¬
ществиться. И.Л. Перец, как уже было замечено, начал свой путь в литерату¬
ре на идише с публикации поэмы, писать стихи он продолжал всю жизнь, а
также написал несколько пьес, которые занимают в его творчестве централь¬
ное место. Однако в целом и для Переца, и для Шолом-Алейхема основными
/420/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
являлись именно прозаические жанры. Поколение, которое пришло им на
смену, тоже писало в первую очередь прозу. Первым заметным писателем, в
творчестве которого соблюдалось равновесие между поэзией и прозой, был
Авром Рейзен (1876—1953), и этим он отличался от своих коллег.
В течение всего рассматриваемого периода положение поэзии в общем
литературном процессе на идише было вторичным, хотя отдельные поэты до¬
стигали огромной популярности, их стихи передавались из уст в уста — как,
например, стихи Эльйокума Цунзера (1835(?)—1913), видного представителя
«бадхенской» (шутовской) традиции, или стихи Аврома Гольдфадена (1840—
1908), которые являлись интегральной частью его пьес и всегда встречали
радушный отклик у публики. Однако эта поэзия, сочетавшая народную ме¬
лодику с мотивами национального возрождения, не отличалась особым твор¬
ческим размахом. Восторженная реакция на появление стихотворений Марка
Варшавского (1848—1907), воспевавших жизненный уклад прежних поколе¬
ний — будь это учеба в хедере или жизнь традиционной семьи, — свидетель¬
ствует о явной смене ценностей в мире идишской культуры в начале XX в. и о
формировании в ней неоромантических тенденций.
Центральное место прозы в литературе на идише в Восточной Европе до
Первой мировой войны отличает ее от ивритоязычной литературы того же пе¬
риода: на идише не было явления, аналогичного движению «Возрождение»
(«Тхия») в поэзии на иврите. Х.Н. Бялик, игравший ключевую роль в этом
движении, написал на идише несколько стихотворений и перевел свою поэму
«Сказание о погроме» («Ве-ir ha-hariga» на иврите и «In shkhite-shtot» на иди¬
ше). Авторитет Бялика в литературных кругах и в еврейском обществе в целом
придавал особое звучание его творчеству на идише, однако сам он не считал
себя идишеязычным поэтом. В поколении, которое пришло в литературу в
начале XX в., было несколько ярких двуязычных прозаиков: Г.Д. Номберг,
И.Д. Беркович (следует напомнить, что и Ш.Я. Абрамович, и И.Л. Перец так¬
же писали на обоих языках). Ивритоязычные писатели, получившие извест¬
ность и как прозаики и как поэты, если и обращались к идишу, то создавали на
нем в основном прозу, поэзия на идише были для них лишь дополнительным
направлением творческой деятельности, как, например, это было для Давида
Фришмана, Яакова Штейнберга и Залмана Шнеура. Некоторые писатели соз¬
давали самостоятельные произведения на каждом из двух языков и даже воз¬
водили в принцип четкую языковую дифференциацию литературного творче¬
ства (наиболее известен из них Миха Йосеф Бердичевский), но большинство
переводили свои произведения с идиша на иврит и наоборот, и во многих слу¬
чаях невозможно установить, на каком языке то или иное произведение было
написано изначально. Двуязычная повествовательная проза была достаточно
распространенным явлением в то время — в отличие от двуязычной поэзии,
которая оставалась крайне редким феноменом.
/421/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Тот факт, что в литературе рассматриваемого периода на иврите и на иди¬
ше соотношение поэзии и прозы разнится, позволяет сделать определенные
выводы о стилистических возможностях каждого языка, о статусе двух литера¬
тур, существовавших в одном обществе, и об их адресатах. И.Л. Перец в пись¬
ме к Шолом-Алейхему, в котором речь шла о публикации поэмы «Мониш» на
идише, сравнивает себя, автора поэтического произведения, и адресата — мо¬
лодого автора, писавшего в основном прозу:
...Я знаком с Вашим творчеством. Ваше желание, Ваша цель (насколько я
мог понять) — писать для публики, говорящей на жаргоне и только на жаргоне, —
а я пишу сам для себя, для собственного удовольствия, и если иногда я воображаю
себе своего читателя, то это человек, стоящий на высшей ступени общества, че¬
ловек, который получил образование и читает книги на живом языке [имеется в
виду не еврейский язык. — А.Н.] 5.
Очевидное предпочтение, которое писатели-идишисты отдавали про¬
зе, проистекает из распространенного в то время представления об идише-
язычной литературе как о простонародной, обращающейся к широкой на¬
родной массе, прежде всего к женщинам (еврейская интеллигенция конечно
же считалась адресатом литературы на иврите или на европейских языках).
«Простонародная» ее репутация получила подтверждение благодаря десят¬
кам или даже сотням книжек и популярных романов, которые печатались
начиная с 1870-х гг. (а их переиздания выходили вплоть до конца рассма¬
триваемого периода). Наиболее «плодовитым» писателем среди создателей
популярных романов был Шомер (акроним имени Нохем Меир Шайкевич;
1846(?)—1905), который до эмиграции в США (в 1889 г.) успел опубликовать
более 70 романов, повестей и новелл. С точки зрения его литературных про¬
тивников, к которым относился прежде всего Шолом-Алейхем, это была
«литература для прислуги», которую следовало искоренить; были и те, кто
ставил это категоричное утверждение под сомнение и отмечал отдельные за¬
слуги Шомера: например, то, что он подготовил целое поколение читателей
к чтению литературы на идише.
Другие писатели приобрели популярность благодаря сентиментальным
романам, которые предлагали обедненный набор ценностей идеологии Про¬
свещения. Сюжет таких романов составляла история влюбленных, которые
преодолевали препятствия, стоявшие на их пути. Так, например, мгновенно
приобрел популярность первый роман Яакова Динезона «Любимые и милые,
или Черный молодчик» («На-neehavim ve-ha-naimim oder der shvartzer yunger-
mantshik», 1877). Динезон пытался осуществить идеал «народного писателя»,
задачей которого является среди прочего пропаганда реформирования еврей¬
ского общества: например, его книга «Йоселе» (1899), в которой рассказы-
/422/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕвается о горькой судьбе мальчика-сироты, помогла привлечь общественное
внимание к судьбе еврейских детей и к проблеме хедера. Символом идише -
язычной литературы 1880-х гг. — времени отказа от просветительских идеалов
и «хождения в народ» — стало творчество Мордехая Спектора (1858-1925),
тематически весьма разнообразное. Наиболее зрелым произведением Спек¬
тора является роман «Реб Трейтл» (1889), сатирическое описание устройства
местечкового общества. Однако многие романы и рассказы Спектора отлича¬
ются большим структурным и тематическим разнообразием: в них сочетаются
приключенческие сюжеты и сентиментальные сцены, описания местечка и
большого города, ссылки на актуальные события, борьба между различными
идеологиями нового времени, выход молодого поколения за рамки традици¬
онной еврейской жизни и т.д. Многие из этих мотивов присутствуют и в рома¬
не «Еврейский крестьянин» («Der yidisher muzhik», 1884), который пользовал¬
ся при жизни автора наибольшей популярностью.
Одна из основных структурных и ценностных проблем, которую должны
были решить идишеязычная проза вообще и роман на идише в частности, —
выработка сюжетной линии, определяющей путь главного героя и в особен¬
ности его финал: должен ли герой отделиться от своего окружения, покинет
он в конце книги свою среду или будет по-прежнему связан с ней? Идишские
писатели были свидетелями распада традиционного еврейского общества и на
себе испытали результаты этого процесса, но в большинстве случаев в их про¬
изведениях не было примеров полного отрыва героя от его корней. В целом
проза на идише поддерживала сохранение традиционного еврейского общин¬
ного устройства. Почти все идишеязычные писатели разделяли веру в силу
преемственности у евреев и в психологическую закономерность, которая не
позволяет еврейскому индивиду полностью отказаться от своих корней. Этот
ценностный подход разделяло большинство еврейских прозаиков, начиная с
Менделе.
ГОЛОС НАРОДА И ЕГО ГЕРОИ:
ТВОРЧЕСТВО ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА
Обширный корпус произведений Шолом-Алейхема и их жанровое разно¬
образие позволяют судить о статусе литературы на идише и о ее возможностях.
В начале своей творческой биографии, в 1880-е гг., Шолом-Алейхем пробовал
себя в разных литературных жанрах, но среди тех направлений, в которых раз¬
вивалось творчество писателя на протяжении всей его жизни, наиболее за¬
метным является попеременное обращение к роману, где повествование идет
в третьем лице, и жанровым формам с речью от первого лица — монологу и
эпистолярному роману.
/423/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Роман являлся центральным жанром в русской литературе того време¬
ни — и одной из причин, по которым Шолом-Алейхем постоянно обращался
к этому жанру, было его стремление повысить статус литературы на идише. В
то же время он считал, что роман на идише должен отличаться от современ¬
ных романов мировой литературы и по содержанию, и по структуре, и под¬
черкивал, что создает «еврейский роман», задача которого — выразить специ¬
фические черты еврейского общества. Роман «Стемпеню» (1888) был призван
осуществить это стремление. В центре романа — образ еврейского музыканта-
клезмера (довольно распространенная фигура в традиционном еврейском об¬
ществе того времени), близкий, насколько это возможно, к романтическому
образу художника-творца. Своим искусством Стемпеню покорил сердце за¬
мужней женщины, однако в конце концов эмоциональная связь между ними
ослабевает под давлением общественных норм, требующих сохранения тра¬
диционного характера еврейской семьи. «Стемпеню» — яркий пример романа
на идише, построенного на конфликте между силами, которые стремятся со¬
хранить еврейское общество во всех его проявлениях (семья, община, местеч¬
ко), и силами, которые пытаются его разрушить; характерно и его завершение
победой охранительных сил.
Самый известный среди романов Шолом-Алейхема — это «Блуждающие
звезды» («Blondzhende shtern» 1909-1910), в котором дается панорама жизни
актеров еврейского театра, их скитаний по разным странам и континентам.
Однако несмотря на то что Шолом-Алейхем вновь и вновь обращался к
романам, принято считать, что его произведения в этом жанре — не главное
из его достижений. Основной его вклад в литературу на идише заключается
в рассказах и произведениях других жанров, которые предполагают речь от
первого лица. В 1892 г. Шолом-Алейхем начал писать первые наброски к бу¬
дущему роману в письмах «Менахем-Мендл». Первая часть романа построе¬
на в виде переписки Менахем-Мендла, находящегося в Одессе, с его женой,
которая остается в родном местечке, и эта форма — обмен письмами между
современным городом и традиционным местечком — оказалась точным выра¬
жением одной из тем, которая в дальнейшем станет центральной в литературе
на идише: конфликта между местечком и большим городом, между традици¬
онным образом жизни и модернизацией. В романе «Менахем-Мендл» этот
конфликт подчеркивается еще и гендерным противопоставлением: мужчина
очарован волшебством и перспективами жизни в большом городе — женщи¬
на привязана к миру местечка и остается верной традиционным ценностям;
письма героя и героини различаются также стилистически. Главы «Менахем-
Мендла» пишутся одновременно с другими произведениями вплоть до 1909 г.,
и приключения главного героя сделали его ультимативным воплощением ев¬
рейского неудачливого дельца, который увлекается разными бесперспектив¬
ными коммерческими авантюрами. В окончательном варианте книги ее главы
/424/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
образуют сложную структуру, которая в конце концов возвращает главного ге¬
роя в тот мир, из которого он стремился вырваться.
С точки зрения стиля одним из источников «Менахем-Мендла» могли
быть письмовники, которые были достаточно распространены среди евреев
Восточной Европы. Однако в те годы в творчестве Шолом-Алейхема уже на¬
чалось формирование новой литературной формы, которая не имела под со¬
бой продолжительной традиции, — это монолог, прозаическое произведение,
в котором персонаж сам рассказывает о своей жизни. В 1894 г. был написан
первый монолог «Тевье-молочника» («Tevye der milkhiker»), персонажа, ко¬
торый со временем станет наиболее известным из героев Шолом-Алейхема.
Тевье рассказывает адресату своего письма, т.е. самому Шолом-Алейхему, о
своей жизни — событие за событием. Тевье живет в деревне, а не в местеч¬
ке, что позволяет представить его в первых главах комическим персонажем в
соответствии с образом деревенского еврея в еврейском фольклоре. Однако
этот комизм постепенно исчезает и уступает место тонкой самоиронии, ос¬
новой которой становится особая речь Тевье. Одним из основных приемов,
вносящих юмористическую тональность в повествование, является заведо¬
мо неправильное использование героем цитат и отрывков из классических
текстов, в первую очередь из Библии и из молитв. При этом остается совер¬
шенно неясным что стоит за расхождением между оригинальным значением
того или иного фрагмента и толкованием, которое дает ему Тевье: намерен¬
ное искажение, непонимание оригинала или и то и другое сразу. В монологах
Тевье-молочника, которые Шолом-Алейхем продолжал писать параллельно
с другими произведениями вплоть до своей смерти, повествуется о судьбах
дочерей героя, о любви и замужестве каждой из них. Поступки дочерей пре¬
подносятся в изложении отца и с его точки зрения, выражающей ценности
еврейской традиции перед лицом современности. Чем более драматичное
решение принимает дочь, чем дальше оно уводит ее от традиционного ев¬
рейского мира, тем сильнее читатель сочувствует отцу. В конце концов Тевье
превращается в наиболее яркий во всем творчестве Шолом-Алейхема символ
того противостояния, о котором говорилось выше: символ борьбы между ох¬
ранительными силами и тем, что разрушает традиционный еврейский жиз¬
ненный уклад.
Это противостояние предстает в ином виде, когда о нем рассказывает ре¬
бенок: в романе «Мальчик Мотл» («Motl Peysi dem khazns») ребенок описывает
злоключения своей семьи, оставившей устоявшуюся жизнь в восточноевро¬
пейском местечке и оказавшейся на шумных улицах Нью-Йорка. В первой
части книги (1907-1908) семья уезжает из родного местечка Касриловка и до¬
бирается до Америки. Во второй части, над которой Шолом-Алейхем работал
до самой смерти, рассказывается о первых шагах героев в новой стране. Труд¬
ности беднеющей семьи, которая пытается бороться с нищетой и лишениями,
/425 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
становятся для ребенка постоянным источником приключений, о которых
рассказывается с чарующей непосредственностью и юмором.
Касриловка, родина Мотла и его семьи, во многих произведениях Шо¬
лом-Алейхема — символ еврейского местечка (правда, в нескольких книгах
Касриловкой назван современный город). Сравнение Касриловки Шолом-
Алейхема с вымышленными местечками и городами в произведениях Абра¬
мовича — Тунеядовкой, Глуповском и Кабциэлом — показывает, как в иди¬
шеязычной литературе за два поколения сместились акценты в изображении
традиционного еврейского быта: Шолом-Алейхем тоже прибегает иногда к
едкой иронии, но в большинстве случаев он показывает мир местечек с тон¬
ким юмором, который щадит недостатки описываемой действительности.
Беспрецедентное движение, в которое пришел в те годы еврейский мир, по¬
зволило Шолом-Алейхему создать весьма разнообразную галерею персона¬
жей в комических, юмористических и трагикомических ситуациях. Он писал
как отдельные рассказы, так и целые циклы: самые известные из них — это
«Город маленьких людей» (1901-1902) и «Железнодорожные рассказы» («Ai¬
zenban- geshikhtn», большая часть их написана в 1909—1910 гг.). В сочинениях
Шолом-Алейхема местечко переезжает в большой город, Касриловка — в же¬
лезнодорожном вагоне и на корабле — попадает в Нью-Йорк. Еврейское об¬
щество в Восточной Европе находится в состоянии постоянного движения, но
виртуозное использование разговорного языка позволяет писателю добиться
художественного единства в изображении этого меняющегося мира.
РЕАЛИЗМ, РОМАНТИКА И МОДЕРНИЗМ:
ТВОРЧЕСТВО И.А. ПЕРЕЦА
Первое же опубликованное на идише произведение И.Л. Переца — поэма
«Мониш» — наметило характер дальнейшего развития творчества писателя:
несмотря на то что Перец писал на народном языке, он считал, что обращает¬
ся в своих произведениях именно к интеллигенции, и поэтому разрабатывал
жанры, которые не были приняты в литературе на идише до тех пор. Перец
был единственным среди трех классиков, кто оставил целый корпус лириче¬
ской поэзии, хотя ее художественные достоинства и уступают достоинствам
его прозы. В последнее десятилетие своей жизни он писал стихотворные пье¬
сы и эссе — в этом жанре в идишеязычной литературе у него не было предше¬
ственников. В отличие от Абрамовича и Шолом-Алейхема Перец не пытался
создать роман или другую большую прозаическую форму. Он разрабатывал
малые литературные формы и особый, лаконичный и емкий, стиль. Его мно¬
гообразное творчество —- главным образом на идише, но также и на иврите —
отражало основные литературные течения эпохи: реализм с едкой социальной
/426/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕкритикой присутствует в его рассказах и очерках 1890-х гг., неоромантизм — в
прозе, стилизованной под фольклор, в первую очередь хасидский; в послед¬
нее десятилетие жизни Перец обратился к модернизму, прежде всего в своей
главной пьесе «Ночь на старом рынке» («Вау nakht oyfn alten mark»). Перец,
поэт, автор рассказов, драматург и эссеист, принадлежал к особому типу ев¬
рейских интеллектуалов, глубоко вовлеченных в общественную жизнь. Он
был признанным лидером и наставником писателей молодого поколения, ко¬
торые приходили в его дом в Варшаве, чтобы получить благословение мастера.
Сложный художественный мир писателя проявился уже в поэме «Мо¬
ниш», объединяющей совершенно противоположные тенденции. Ее вступле¬
ние обещает, казалось бы, морализаторское произведение в традиционном
вкусе, однако это, естественно, ложное обещание: в центре сюжета поэмы,
написанной ироничным и отточенным языком, — судьба талантливого юно¬
ши, живущего в маленьком польском местечке, многообещающего ученика
иешивы. Он оставляет религиозные штудии ради плотской любви, которая
таит в себе дьявольское искушение. Язык поэмы изобилует и выражениями с
явной традиционной коннотацией, и современной лексикой. Поэма, казалось
бы, предвещала целый рад новых поэтических произведений, но по разным
причинам поэтические жанры не получили у Переца достойного развития: с
начала 1890-х гг. он писал преимущественно рассказы.
Эти рассказы создавались в течение долгих лет, в разных литературных и
культурных обстоятельствах. В 1891 г. был опубликован первый цикл «Карти¬
ны путешествия по провинции» («Bilder fun der provints-rayze»), написанный
во время поездки по местечкам Польши, целью которой был сбор материа¬
ла об условиях жизни евреев в польской провинции. Рассказчик, желая при¬
близиться к местечковому миру, заходит в еврейские дома, и во время этих
визитов между ним и хозяевами происходит напряженный и неоднозначный
диалог. Местечковые евреи подозрительно относятся к намерениям этого
залетного гостя, далекого от них чужака. Рассказчик, со своей стороны, не
скрывает своего критического отношения к описываемому миру и изображает
его с немалой долей иронии, не лишенной, впрочем, проблесков сочувствия.
Тяготение Переца к реализму объясняется среди прочего внелитератур¬
ными причинами: в 1890-е гг. он сблизился с варшавскими социалистиче¬
скими кругами, из которых позднее выросло еврейское рабочее движение.
Именно в этом идеологическом контексте Перец начал писать рассказы о
еврейской бедности, о низком статусе женщины — и эти рассказы встречали
горячее одобрение публики.
Однако социалистические настроения не занимали главного места во
внутреннем духовном мире писателя. В рассказах Переца 1890-х гг. проявля¬
ется и его пристальный интерес к хасидизму и еврейской мистике. Отношение
Переца к этому миру неоднозначно: так, например, в рассказе «Каббалисты»
/427/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
(«Mekibulim», 1894) герои пережива¬
ют одновременно духовную деграда¬
цию и необыкновенный религиоз¬
ный подъем. На рубеже веков Перец
склоняется к неоромантизму, и в его
отношении к миру хасидизма начи¬
нают преобладать положительные
ноты. Большинство текстов, вклю¬
ченных в сборник «Хасидские рас¬
сказы» («Khsidish»), действительно
созвучны неохасидским настроени¬
ям, получившим распространение
в определенных кругах еврейской
интеллигенции того периода. В со¬
ответствии с этим подходом хаси¬
дизм, в особенности на раннем эта¬
пе своего развития, рассматривался
как движение религиозного обнов¬
ления, которое сочетало ощущение
причастности к общине с небыва¬
лыми возможностями внутреннего
духовного подъема.
Интерес Переца к образам про¬
шлого и связанное с этим увлечение
еврейским фольклором привели пи¬
сателя к созданию цикла «Народные предания» («Folkstimlekhe geshikhten»),
большая часть которого вышла в свет в 1904 г. Перец использует легендарный
и сказочный материал, к которому литература на идише давно не обращалась,
стилизуя рассказы под устные фольклорные нарративы.
Как указывалось, в прозаических произведениях Абрамовича и Шолом-
Алейхема описывалась жизнь современного им поколения — Перец в «На¬
родных преданиях» вышел далеко за пределы этих хронологических рамок.
Действие некоторых рассказов происходит в более ранние эпохи и за преде¬
лами Восточной Европы, однако в большинстве случаев речь идет о польских
местечках в Средние века, окутанных атмосферой волшебной сказки.
Хасидская тема нашла отражение в сочинениях Переца в различных кон¬
текстах. Он высоко ценил духовный потенциал хасидизма, но тем не менее
прислушивался и к тем, кто рассматривал это явление в исторической перспек¬
тиве и видел в поздних его разновидностях лишь деградацию первоначального
движения, а в современных цадиках, которые содержали свои дворы, — лишь
бледную тень прежних духовных лидеров. Наиболее интересно противоречивое
/428 /
Ицхок Лейбуш Перец (1851-1915)
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
отношение Переца к миру хасидизма выражено в его пьесе «Золотая цепь» («Di
goldene keyt»), которая выходила на идише в нескольких редакциях начиная с
1907 г. Высшего напряжения пьеса достигает уже в первом действии: кульми¬
нацией является сцена, в которой главный герой, хасидский цадик р. Шлойме,
рассказывает о своем мистическом видении грядущего конца времен (с этого
видения в идишеязычной литературе начинают развиваться апокалиптические
мотивы, которые получат особенное распространение в литературе следующего
поколения). Однако в последующих действиях пьесы речь идет об упадке хасид¬
ского двора и попытках возродить его, пьеса проникнута диалектикой веры и
неверия, отхода от традиционного мира и возвращения к нему.
Утопия, которой стремится достичь р. Шлойме, обещает установление
вечной Субботы, Святого дня, когда время остановится. Устремления глав¬
ного героя другой пьесы Переца «Ночь на старом рынке», безумного шута,
противоположны: он хочет остановить время в момент торжества нечисто¬
ты — среди ночи, когда мертвые встают из могил и на его глазах танцуют смер¬
тельный танец на рыночной площади обыкновенного еврейского местечка.
Сочетание элементов современной действительности и фольклорных моти¬
вов создают яркий фантасмагорический мир пьесы, ставшей наиболее значи¬
тельным вкладом Переца в развитие еврейского модернизма.
Жанровое разнообразие творчества Переца, его особое положение на
стыке нескольких литературных течений: реализма, неоромантизма и раннего
модернизма, а также увлечение писателя радикальными социальными идео¬
логиями — все это отражает сложный идейный и культурный контекст, в ко¬
тором развивалась литература на идише на рубеже веков.
ГЕОГРАФИЯ НОВОЙ ИДИШЕЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ:
ЦЕНТРЫ И ПЕРИФЕРИЯ
Рассмотрев основные тенденции в творчестве классиков литературы на
идише, обратимся теперь к обзору факторов, которые оказали влияние на рас¬
цвет центров этой литературы. В первую очередь речь пойдет о крупных горо¬
дах как о еврейских культурных центрах.
Большинство авторов, писавших на идише, были уроженцами местечек
или маленьких городков Восточной Европы, однако на определенном, чрез¬
вычайно значимом этапе своей биографии они переезжали в большие города.
Для классиков идишеязычной литературы, хотя они и принадлежали к двум
разным поколениям, этот решительный шаг произошел в одно и то же вре¬
мя — 1880-е гг.
Ш.Я. Абрамович, уроженец белорусского местечка, в 1881 г., после мно¬
гих лет жизни в украинских провинциальных городах, переехал в Одессу, где и
/429/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
жил до конца своих дней (за исключением одного, достаточно долгого, пере¬
рыва после погромов 1905 г.).
Шолом-Алейхем в 1887 г. переехал в Киев и сразу после этого занялся
редактурой и публикацией первого литературного альманаха «Еврейская на¬
родная библиотека» («Di yidishe folksbibliotek») (1889—1890), ставшего важной
вехой в развитии современной еврейской культуры. Однако это предприятие
было закрыто практически в самом начале из-за внезапного банкротства Шо¬
лом-Алейхема, и Киев, в котором существовали серьезные ограничения на
проживание евреев, в рассматриваемый период так и не стал существенным
центром еврейской культуры.
Перец переехал в Варшаву в 1889 или 1890 г., и хотя причины переезда не
были чисто литературными, этот шаг впоследствии оказался важным и для
его писательского пути. Другие авторы того же поколения также переезжали
в большие города начиная с 1880-х гг., в первую очередь в Одессу и Варшаву.
Передвижения «внука» — Шолом-Алейхема — были существенно слож¬
нее, чем передвижения «дедушки» — Абрамовича. После погрома в Киеве в
1905 г. Шолом-Алейхем навсегда покидает город и приезжает в Америку, од¬
нако его надежды закрепиться в Нью-Йорке, бурно развивавшемся центре
идишеязычной культуры, не оправдались. Шолом-Алейхем возвращается в
Европу, но не в Восточную, а в Западную, и вследствие своей болезни переез¬
жает с курорта на курорт. Первая мировая война заставила его вторично уехать
в США. В 1916 г. он скончался в Нью-Йорке.
Развитие новой еврейской культуры как на идише так и на иврите, не
было бы возможным, если бы в крупных городах царской России не сложи¬
лись большие еврейские общины. Однако важно помнить, что почти никто
из творцов этой культуры не был сам уроженцем большого города. Переезд
был обязательным шагом в духовном развитии идишеязычного писателя, и
многим этот шаг давался нелегко, поскольку он требовал отрыва от первона¬
чального окружения и огромных усилий: найти свое место в новом и чужом
культурном пространстве было нелегко.
Колыбелью прессы на идише была Одесса. Именно там в 1862—1873 гг.
выходил первый современный еженедельник на идише «Глас возвещающий»
(«Kol mevaser»), первоначально — в качестве приложения к ивритоязычной
еженедельной газете «ha-Melitz». Среди прочего там были опубликованы и
первое произведение Абрамовича на идише «Маленький человечек», и необы¬
чайно популярный в свое время первый роман Линецкого «Польский маль¬
чик». Однако несмотря на значительную роль в становлении еврейской прес¬
сы город не удержал своего статуса как одного из важнейших центров идише¬
язычной культуры. В 1890-е гг. и в начале XX в. Одесса привлекала писателей и
мыслителей, и начинающих, и тех, за плечами у которых был солидный опыт
литературной деятельности. Однако большинство из них посвятили свою де¬
/430/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
ятельность развитию новой ивритской культуры, и, хотя они посещали лите¬
ратурный салон «дедушки» Менделе, идиш их почти не интересовал. Пресса и
театр на идише не получили в Одессе особого развития ни в рассматриваемую
эпоху, ни позже, в советское время. Вторая в царской России еженедельная
газета на идише «Еврейский народный листок» («Yidishes folksblat») стала из¬
даваться в 1880-е гг. в Петербурге, и в ней впервые были опубликованы про¬
изведения Шолом-Алейхема, Мордехая Спектора и других. Однако еврейская
община тогдашней столицы, немногочисленная и ассимилированная в язы¬
ковом плане, не могла стать основой для формирования центра идишеязыч¬
ной культуры. Городом, который сыграл эту роль, стала Варшава.
Многообещающим событием был приезд в Варшаву Переца: как годом
ранее Шолом-Алейхем, Перец предпринял издание литературного альманаха
и дал ему похожее название — «Еврейская библиотека» («Di yidishe bibliotek»,
1891—1895). Еще раньше в Варшаве начал выходить журнал под названием
«Друг дома» («Der hoyz-fraynd», 1888—1896), издававшийся Мордехаем Спек¬
тором. Другой инициативой круга Переца было развитие социалистической
литературы на идише. Для этой цели в 1894—1895 гг. в Варшаве публиковались
брошюры под названием «Праздничные листки» («Yontef-bletlakh») — такой
формат позволял избежать трудностей, связанных с получением разрешения
на выпуск нового периодического издания на идише. Однако это были только
первые ростки культурной деятельности, не достигшие тогда поры расцвета.
Это произошло лишь около десятилетия спустя, во время и после революции
1905 г., когда еврейская общественная активность достигла небывалого подъ¬
ема, а получить разрешение на выпуск периодического издания или на ор¬
ганизацию театральных постановок на идише стало легче. И действительно,
прошло всего несколько лет — и Варшава стала столицей идишеязычной пе¬
риодики в Восточной Европе. В 1908—1910 гг. там начали выходить два боль¬
ших ежедневных издания «Сегодня» («Haynt») и «Момент» («Der moment»),
изменившие характер идишеязычной периодики. Теперь она превратилась в
продукт массового потребления, в том числе благодаря популярным романам
с продолжением — одной из характерных составляющих содержания боль¬
шинства газет на идише в Польше вплоть до Катастрофы.
Популярная пресса на идише заняла центральное место в еврейской об¬
щественной жизни Варшавы и создала городу славу динамичного культурного
центра, который ориентировался главным образом на потребности и вкусы
широкой публики. Этому же немало способствовало и создание театра на
идише, который стал заметным явлением в Варшаве после 1905 г., хотя его
уровень еще оставался достаточно низким. Городом, пытавшимся бросить вы¬
зов «массовому» характеру культурной деятельности в Варшаве, стал Вильно.
Здесь издавна существовала развитая еврейская культурная традиция: в связи
с литературой на идише достаточно упомянуть, что во второй половине XIX в.
/431/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
в течение десятков лет в Вильно жил и работал А.М. Дик. Виленская еврей¬
ская община была гораздо меньше варшавской, одесской или лодзинской, од¬
нако после революции 1905 г. культурная деятельность на идише достигла там
значительных высот. Именно в Вильно в 1908 г. была предпринята первая по¬
пытка издания ежемесячного журнала на идише, посвященного целиком ли¬
тературным и культурным вопросам, и хотя эта попытка не увенчалась успе¬
хом, она имела важные последствия. В 1912 г. в Петербурге начал издаваться
ежемесячник «Еврейский мир» («Di yidishe velt»), однако вскоре его издате¬
ли пришли к выводу, что естественным местом для этого предприятия должно
быть Вильно, и перевели издание туда. Выпуск ежемесячника осуществлялся
под эгидой издательства Б. Клецкина, которое было основано в 1911 г. и сразу
же заслужило высокую репутацию среди издательств, выпускавших книги на
идише, благодаря пристальному контролю над качеством публикуемой про¬
дукции. В последующие годы «Еврейский мир» стал центральной ареной ли¬
тературной и публицистической деятельности на идише.
Одесса, Варшава и Вильно привлекли многих авторов — уроженцев ме¬
стечек и маленьких городов, однако были и другие центры, через которые
проходили запутанные пути еврейских писателей. Начиная с 1880-х гг., на
волне большой еврейской эмиграции, многие литераторы, писавшие на иди¬
ше, перебираются в США. Авром Гольдфаден эмигрировал в 1887 г., после того
как постоянная театральная деятельность на идише в царской России была
запрещена. Шомер уехал в 1889-м, и есть основания полагать, что его подтол¬
кнула к этому шагу жесткая критика, которой подвергал его творчество Шо¬
лом-Алейхем. Популярность Элийокума Цунзера, бадхена, не удержала и его
от эмиграции. Новый еврейский литературный центр в Америке существовал
полностью за счет постоянного притока эмигрантов из Восточной Европы и
по прошествии еще долгого времени позиционировал себя как литературная
колония, имеющая вторичный статус по отношению к своей метрополии. Од¬
нако со временем впечатляющий культурный расцвет еврейского Нью-Йорка
и сопровождавшие его экономические возможности привлекли все больше
идишеязычных писателей — представителей разных поколений, от Шолом-
Алейхема до «молодых» — таких, как Шолом Аш и Авром Рейзен. С начала
XX в. взаимоотношения еврейства Восточной Европы и Америки уже не были
односторонними: например, пьесы Янкева Гордина, которые были написа¬
ны в Америке, вошли в репертуар еврейских театров по всему миру, включая
Восточную Европу, и во многом повлияли на дальнейшее развитие театра на
идише. Еврейская Варшава, столица еврейской культуры и город, в котором
жил Перец, перед Первой мировой войной могла относиться к Нью-Йорку с
пренебрежением, однако после войны, когда география идишеязычной куль¬
туры уже существенно расширилась, неоспоримой культурной гегемонии вос¬
точноевропейского еврейства пришел конец.
/432/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
РАСЦВЕТ И РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ:
ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА НА ИДИШЕ В НАЧАЛЕ XX в.
Развитие литературы на идише было тесно связано с развитием идишея¬
зычной периодики, поскольку эта литература была адресована широким народ¬
ным массам. Поэтому в 1890-х гг., когда не существовало постоянных перио¬
дических изданий, литература на идише переживала упадок, хотя именно в это
время были посеяны семена, которые дали свои всходы позднее: Шолом-Алей¬
хем написал первые главы «Тевье-молочника» и «Менахем-Мендла», а Перец
вел интенсивный поиск новых литературных форм и идеологии. Значительный
подъем в идишеязычной литературе происходит ближе к концу десятилетия, с
появлением еженедельника «Еврей» («Der yid», 1899—1902), ознаменовавшего
начало новой эпохи в истории еврейской периодики. Этот еженедельник был
основан кругами, близкими к сионизму, однако несмотря на отрицательное
или, по крайней мере, прохладное отношение сионистов к идишу именно «Der
yid» стал важной трибуной для авторов, писавших на этом языке, как класси¬
ков, так и представителей нового поколения: в нем печатались Ш. Ан-ский,
Шолом Аш, ЕД. Номберг, Мордехай Спектор, Авром Рейзен и др.
Издание «Der yid» прекратилось с появлением нового печатного органа:
в 1903 г. в Петербурге начала издаваться первая в царской России ежедневная
газета на идише «Друг» («Der fraynd»). Столь позднее появление ежедневной
газеты на идише — через 20 лет после первых ежедневных изданий на иври¬
те — объясняется не только огромными формальными трудностями, возни¬
кавшими при получении разрешения на публикацию подобного издания, но
и низким социальным статусом идиша. Однако выход первых номеров газеты
«Der fraynd» стал переломным моментом в истории идишеязычной периоди¬
ки. Революция 1905 г. привела не только к либерализации политики властей
по отношению к еврейской печати, но и к расширению еврейской обществен¬
ной и партийной деятельности и росту спроса на информацию о текущих со¬
бытиях. Все это способствовало развитию периодики на идише вплоть до на¬
чала Первой мировой войны.
Однако крах революции 1905 г. принес еще один неожиданный результат:
разочарование в политической деятельности заставило еврейскую интелли¬
генцию снова признать важность культурной работы. Первая конференция
культурных деятелей, посвященная идишу и состоявшаяся в 1908 г. в Черно¬
вцах (Буковина), провозгласила его одним из национальных языков еврей¬
ского народа — наряду с ивритом. Эта декларация обострила разногласия
по поводу статуса и функций идиша, однако в ней содержалось и признание
больших возможностей этого языка в качестве основного инструмента ев¬
рейского культурного строительства. В предвоенные годы были предприняты
/433 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
первые попытки по созданию школ, в которых преподавание велось на иди¬
ше, и по развитию идишеязычной детской литературы; за этими инициатива¬
ми, результаты которых должны были проявиться только после войны, стояли
главным образом представители автономистского движения и социалистиче¬
ская партия Бунд.
В начале века вырос и интерес к еврейскому фольклору, выразившийся
как в организации сбора фольклорного материала, так и в его осмыслении в
качестве важнейшего фактора развития еврейской литературы в целом и со¬
временной литературы на идише в частности. Первым значительным шагом
в это направлении стала публикация собрания песен на идише под редакци¬
ей Саула Гинзбурга и Пейсаха Марека (1901). Тексты, включенные в сбор¬
ник, оказали влияние на творчество И.Л. Переца и Х.Н. Бялика и побудили
других фольклористов продолжить работу по сбору и публикации народных
песен. Малые жанры фольклора были представлены в сборнике «Еврейские
пословицы и поговорки» («Yidishe shprikhverter un rednsartn»), выпущенном
Игнацем Бернштейном в 1908 г. Обращение к еврейским фольклорным ис¬
точникам наложило отпечаток на творчество Ан-ского в последнее десятиле¬
тие его жизни. Еврейская этнографическая экспедиция (1912—1914), которую
он возглавлял, собрала обширный и разнообразный фольклорный материал в
местечках черты оседлости, а пьеса Ан-ского «Диббук» стала ярким примером
оригинального литературного произведения, построенного на фольклорном
материале. Растущий интерес к еврейскому фольклору в начале XX в. был со¬
звучен неоромантическим течениям, которые доминировали в идишеязычной
литературе того времени, и обусловливал их развитие; это было, в сущности,
новой версией «хождения в народ» — культурного движения, следы которого
заметны на всем пути развития современной еврейской литературы.
Значительное развитие в идишеязычной литературе начала XX в. полу¬
чили и такие важнейшие составляющие любого литературного процесса, как
литературная критика и история литературы. Часто в обеих этих областях ра¬
ботали одни и те же авторы. В 1899 г. на страницах «Der yid» появились пер¬
вые критические эссе Баал-Махшовеса (псевдоним Исидора Эльяшева, 1873—
1924), который стал в начале XX в. центральной фигурой в области еврейской
литературной критики. Во введении к сборнику своих статей он выступил с
апологией языка идиш (который все еще называл «жаргоном»), где подчерки¬
вал его огромное культурное значение и определил новую его функцию в на¬
чале XX в.: «Литература на жаргоне сегодня не только средство просвещения
и воспитания народа, но и важнейшее средство воспитания нашей интелли¬
генции — того общественного слоя, который отдалился от простой еврейской
жизни и перестал ее понимать» 6.
После Баал-Махшовеса наиболее авторитетным критиком считался Шму¬
эль Нигер (псевдоним Ш. Чарного, 1883—1955). Этим особым литературным
/434/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
Шолом Аш (1880-1957). Фотография 1906 г.
статусом он был обязан своей из¬
дательской деятельности: Нигер
выпускал литературно-теорети¬
ческие журналы (как, например,
«Di yidishe velt» — «Еврейский
мир») и альманах «Der pinkos».
Это была наиболее значимая по¬
пытка за весь рассматриваемый
период представить общую кар¬
тину развития идишеязычной
культуры в прошлом и настоящем
и одновременно способствовать
осознанию ее исторической не¬
прерывности при помощи фунда¬
ментальных библиографических
работ, отрывков воспоминаний и
критических статей. В 1914 г. Зал-
мен Рейзен выпустил 1-е издание
«Лексикона литературы и прес¬
сы на идише» («Leksikon fun der
yidisher literatur un prese») — эта
работа подвела итог изменениям,
которые претерпел статус лите¬
ратуры на идише за последние
пятьдесят лет. В процитирован¬
ном выше отрывке из своих биографических заметок Ш.Я. Абрамович писал о
немногочисленности авторов, которые участвовали в литературном процессе
на идише в начале его творческого пути в 1860-е гг. 50 лет спустя насчиты¬
валось уже несколько сотен писателей и журналистов, писавших на идише,
которые были сочтены достойными войти в справочник, подводивший итог
их жизни и творчества.
Быстрый расцвет периодики на идише привлек к ней многих молодых
писателей, которые начинали свою литературную деятельность на иврите.
Этот процесс шел достаточно интенсивно, и после 1905 г. в сионистских кру¬
гах даже распространилось опасение, что «служанка» унаследует состояние
«госпожи» — литература на идише станет более развитой и популярной, чем
литература на иврите.
Тесная взаимосвязь между художественной литературой и периодикой на
идише выражалась в различных аспектах. Среди них можно указать на превос¬
ходство прозы как более доступного для массового читателя жанра над поэзи¬
ей или на популярность — как среди авторов, так и среди читателей — жанра
/ 435 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
фельетона, сочетающего в себе черты художественной литературы (отточен¬
ный и элегантный стиль, вкрапления нарративных и комических элементов)
и публицистики (возможность высказаться на злободневную тему). С другой
стороны, быстрое развитие театра на идише побудило многих писателей об¬
ратиться к драматургии: эта тенденция проявилась как у классиков (Шо¬
лом-Алейхема и И.Л. Переца), так и у представителей молодого поколения
(Шолома Аша, Переца Гиршбейна и других). Разочарование в надеждах на со¬
циальные преобразования, которое наступило после поражения революции
1905 г., усилило в идишеязычной литературе декадентские настроения и соз¬
дало атмосферу своего рода «возвращения» к ценностям и символам тради¬
ции. Эта тенденция характеризует элегическую сентиментальную поэзию До-
вида Эйнгорна (1886—1973) и пьесы А. Вайтера (1878/1879—1919), активиста
партии Бунд, который после 1905 г. решил всецело отдаться литературной и
культурной деятельности.
Тематика литературы на идише в начале XX в. становилась все более
многообразной. Ивритоязычная литература того времени избрала своим ос¬
новным героем «лишнего человека», интеллигента, который оторван от мира
традиционного еврейства и не может определиться в выборе своего пути и
своей принадлежности к тем или иным общественным и культурным рамкам.
Присутствие «лишнего человека» заметно и в литературе на идише, однако в
ней оно ощущается гораздо меньше. Не случайно, что единственный писа¬
тель, большинство героев которого принадлежали к этому типу, Г.Д. Номберг
(1876-1927), был двуязычным автором, издававшим рассказы и на идише, и
на иврите. В целом в эти годы литература на идише интересовалась судьбой
не отдельного человека, а общины, реальным и символическим воплощением
которой было еврейское местечко с действовавшими в нем охранительными
и разрушительными силами. В новелле Ш. Аша «Местечко» («А shtetl», 1904)
эти силы находятся в равновесии, и поэтому она отличается романтической и
сентиментальной тональностью. И.М. Вайсенберг (1881—1938) в своей поч¬
ти одноименной новелле («Dos shtetl») создал противоположную картину:
местечко становится в ней ареной классовой и идеологической борьбы в дни
революции 1905 г. Отображая процессы распада в еврейском обществе, ли¬
тература на идише не избегала элементов жесткого натурализма — описания
насилия, нравов преступного мира и т.п. Это направление представлено писа¬
телями, которые считались «реалистами», — прежде всего Вайсенбергом, но
также и Шоломом Ашем, творчество которого отличалось демонстративной
эклектичностью.
Еврейский мир по-прежнему изображался как культурный феномен,
оторванный от своего окружения: неевреи появляются в нем чаще всего как
маргинальные персонажи, носители стереотипных черт. Близкие отношения
между евреями и неевреями в большинстве случаев описываются неодобри¬
/436/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
тельно, тем более когда речь идет о любовной связи. Наиболее яркий тому
пример — история Хавы, дочери Тевье-молочника. Однако и в этом случае ев¬
рейская литература верит в жизненную силу местечка: героиня Шолом-Алей¬
хема, которая оставила своих родных, в конце концов возвращается к своему
народу и своей семье.
В эти годы в прозе на идише господствовал реализм, и его нормы накла¬
дывали отпечаток и на иные направления, такие как неоромантизм или нату¬
рализм. Однако среди писателей предвоенного поколения есть две выдающи¬
еся фигуры, которые оспорили господство реализма, каждый по-своему. Дер
Нистер (псевдоним Пинхоса Кагановича, 1884-1950) начинал с символист¬
ской прозы, насыщенной мистическими мотивами. В 1913 г. в его творчестве
произошел переворот: в 1910—1920-е гг. он стал писать фантастические рас¬
сказы, никак не связанные с реальностью того времени. Представитель того
же поколения Довид Бергельсон (1884-1952) пошел другим путем. Он писал
на те же темы, которые занимали его современников, но в его произведени¬
ях они оказались полностью переосмыслены. Непосредственное выражение
актуальных проблем повседневной жизни, красочные описания, внимание к
жизненному укладу общины и местечка, социальная критика, имитация раз¬
говорного языка — все эти литературные компоненты, которые были знакомы
Бергельсону по произведениям классиков и писателей его поколения, в его
собственном художественном мире оттесняются на периферию. Большинство
его героев — представителей еврейской интеллигенции — остро ощущают
экзистенциальную пустоту и одиночество. Роман Бергельсона «После всего»
(«Nokh alemen») стал наиболее значимым произведением в литературе этого
поколения, которое бросило вызов стилистическим и структурным нормам
романа на идише.
Первая мировая война стала своего рода рубежом в истории еврейской
литературы. В годы войны умерли все три классика, и вскоре после нее ушли
из жизни еще двое ярких представителей предыдущего литературного по¬
коления: Янкев Динезон (1919) и С.А. Ан-ский (1920). Кроме естественной
смены поколений, произошли и другие внелитературные события, которые
наложили отпечаток на еврейскую культурную деятельность в России. Цар¬
ские власти нанесли тяжелый удар по еврейской прессе: в 1915 г. был издан
указ, который запретил публикации на еврейских языках почти по всей черте
оседлости. Этот вынужденный перерыв в истории еврейской прессы прервал
и деятельность авторов, писавших на идише: им стало негде печататься. Од¬
нако сказать, что эти исторические события положили конец идишеязычной
литературе, было бы ошибкой. Пробуждение не замедлило прийти: русская
революция, окончание войны и провозглашение независимости Польши оз¬
наменовали начало новой эпохи в истории литературы на идише. На обломках
царской России выросли два центра еврейской культуры в Восточной Европе,
/437/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
которые развивались в совершенно разных исторических условиях и в отрыве
друг от друга: СССР по одну сторону границы и независимая Польша — по
другую. Однако в обоих этих центрах выработалось отношение преемствен¬
ности и живой связи с общим для них прошлым литературы на идише.
Перевод с иврита Александры Полян
1 Shloyme Etinger. Ale ksovim. В. 1. Wilne, 1925. S. XLVIL.
2 Kol kitve Mendele Mokher Sefarim. Tel-Aviv, 1947. P. 4.
3 Avraham Novershtern. Ha-sifrut ve-ha-khayyim: tzemihata shel sifrut yidish ha-hada-
sha. Tel Aviv, 2000. P. 106.
4 Х.Н. Бялик перевел на иврит первые главы «Фишки-хромого», и Абрамович от¬
редактировал его перевод. Версия на иврите, которая начала выходить в свет в 1901 г.,
носит название «Книга нищих» («Sefer ha-kabtzanim»).
5 Kol kiteve Y.L. Perets. V.10. P. 2. Tel Aviv, 1966. P. 212; письмо написано на иврите.
6 Bal-Makhshoves. Geklibene shriftn. V. 1. Vilne, 1910. S. 10-11.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Fishman D.E. The Rise of Modem Yiddish Culture. Pittsburgh, 2005. P. 5-61.
Krutikov M. Yiddish Fiction and the Crisis of Modernity, 1905—1914. Stanford, 2001.
Miron D. Sholom Aleykhem: massot meshulavot. Ramat-Gan, 1970.
Idem. A Traveler Disguised: The Rise of Modem Yiddish Fiction in the Nineteenth Cen¬
tury. Syracuse, 1996 (1-e изд.: N. Y., 1973).
Idem. Ben hazon le-emet: nitzane ha-roman ha-ivri ve-ha-yidi ba-mea ha-19. Jerusalem,
1979. P. 177-216, 335-411.
Idem. The Image of the Shtetl and Other Studies of Modem Jewish Literary Imagination.
Syracuse, 2000. P. 1—334.
Idem. Ha-tzad ha-afel bi-tzehoqo shel Sholom Aleykhem: massot al hashivuta shel ha-
retzinut be-yahas le-yidish u-le-sifruta. Tel Aviv, 2004. P. 17—116.
Niger Sh. Sholom Aleykhem: zayne vikhtigste verk, zayn humor un zayn ort in der idisher
literatur. N. Y., 1928.
Idem. Dertseylers un romanistn. N. Y., 1946. P. 15—189.
Idem. Y.L. Perets: zayn lebn, zayn fimdike perzenlekhkayt, zayne hebreishe un yidishe
shriftn, zayn virkung. Buenos-Aires, 1952.
Idem. Mendele Moykher-Sforim: zayn lebn, zayne gezelshaftlekhe un literarishe uftuun-
gen. N.Y, 1970.
Novershtern A. Ha-sifrut ve-ha-khayim: tzemikhata shel sifrut yidish ha-khadasha //
Lean? Zeramim khadashim be-qerev yehude Mizrakh-Eiropa. V.2. Tel Aviv, 2000.
Idem. Qesem ha-dimdumim: apoqalipsa umeshikhiyut be-sifrut yidish. Jerusalem, 2003.
P. 17-86.
Idem. Mi medaber yidish? — Horim, banim u-maamad ha-lashon bi-tzirato shel Sholom
Aleykhem // Khanan Khever (ed.). Rega shel huledet: mekhqarim be-sifrut ivrit u-ve-sifrut
yidish li-khvod Dan Miron. Jerusalem, 2007. P. 117—150.
Roskies D. El mul pene ha-re’a: teguvot la-puranut ba-tarbut ha-yehudit ha-khadasha.
Tel Aviv, 1993. P. 59-84, 114-200.
/438/
5.1 / РАСЦВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИДИШЕ
Idem. A Bridge of Longing: The Lost Art of Yiddish Storytelling. Cambridge, 1995.
P. 20-190.
Turnyanski Kh. (ed.). Di yidishe literatur in nayntsntn yorhundert: zamlung fun yidisher
literature-forshung un kritik in Ratn-farband. Jerusalem, 1993.
Shmeruk Kh. Sifrut yidish: peraqim le-toldoteha. Tel Aviv, 1978. P. 198—293.
Idem. Ayarot u-kherakhim: peraqim bi-tzirato shel Sholom-Aleykhem. Jerusalem, 2000.
Verses Sh. Biqoret ha-biqoret: haarakhot ve-gilgulotehen. Tel Aviv, 1982.
Idem. Mi-mendele ad hazaz: sugyot be-hitpatekhut ha-sipporet ha-ivrit. Jerusalem,
1987. P. 11-118.
Idem. Mi-lashon el lashon: yetsirot ve-gilgulotehen be-sifrutenu. Jerusalem, 1996.
Idem. «Haqitza ami»: sifrut ha-haskala be-idan ha-modemizatziya. Jerusalem, 2001.
P. 193-350.
Viner M. Tsu der geshixte fun der yidisher literatur in 19-tn yorhundert. V. 1—2. N. Y.,
1945-1946.
5.2
НАСЛЕДИЕ И БУНТ:
ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Исраэль Барталь
оявление новой литературы на двух еврейских языках, исполь¬
зовавшихся в европейском ашкеназском обществе, стало одним
из наиболее заметных проявлений процессов модернизации,
которые переживали евреи Центральной и Восточной Европы.
Разумеется, и до начала Нового времени на пространстве аш¬
кеназской культуры создавались, публиковались и читались прозаические и
поэтические произведения на иврите и на идише, но они находились на пери¬
ферии ашкеназского духовного мира.
До второй половины XVIII в. центр литературного творчества европей¬
ских евреев составляли две обширные группы текстов. Первая группа вклю¬
чала галахические тексты, которые являлись частью многовековой традиции:
они восходили к концу эпохи Древнего мира и были связаны с изучением и
толкованиями Талмуда, а также с поиском соответствий между ним и меня¬
ющейся жизненной реальностью. Вторую группу составляли произведения,
корни которых также уходили в прошлые эпохи, но их темой была еврейская
мистика. Эти тексты заняли заметное место в ашкеназской культуре лишь
в самом начале Нового времени. Превращение каббалы из тайного учения,
бывшего уделом немногих, в предмет исследования и осмысления широких
кругов еврейской ученой элиты стало одним из важных культурных процессов
раннего Нового времени. В значительной степени проникновение мистиче¬
ской литературы в самую сердцевину ашкеназского культурного канона было
обусловлено появлением книгопечатания. Из религиозного центра в Цфате,
/440/
НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В ДВУЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
расцвет которого пришелся на середину XVI в., изучение каббалы распростра¬
нилось по всей территории ашкеназского рассеяния, приобретя наибольшее
значение в еврейских ученых кругах на территории польско-литовского госу¬
дарства. В XVIII—XIX вв. каббалистические тексты пользовались особой по¬
пулярностью. Они становились все более разнообразными и многочисленны¬
ми под влиянием мессианского движения саббатианства, а позднее — в связи
с возникновением и беспрецедентным распространением в Восточной Евро¬
пе хасидизма.
Галаха и каббала были основными сферами интеллектуального творче¬
ства традиционной еврейской элиты в Восточной Европе и основным лите¬
ратурным материалом для читающей части ашкеназского общества. Тексты,
предназначенные для изучения, были написаны на «святом языке» (лойшн
койдеш) — смеси исторических слоев иврита и арамейского языка. На перифе¬
рии, как уже было сказано, находилась другая литература, отчасти связанная
с центральными группами канонических текстов, отчасти стоявшая далеко
от них, представляя собой переводы и переработки нееврейской литературы.
Этические и гомилетические сочинения, предназначенные для распростране¬
ния и утверждения содержавшихся в канонических текстах представлений и
ценностей, писались и публиковались на идише; кроме того, на этом языке
издавались стихотворения, посвященные историческим событиям, притчи, а
также переводы и переработки книг, относящихся к европейской литературе
эпохи Ренессанса. Однако тексты, написанные на простонародном языке, в
глазах традиционного общества имели второстепенное значение и предназна¬
чались для недостаточно сведущих в Торе мужчин, а также женщин и детей.
Статус текста в еврейском обществе до начала модернизации определялся его
социальной ролью и был связан с существующей социальной стратификаци¬
ей: создание текста, его чтение и декламация — все это были неотъемлемые
элементы духовного мира, религиозной обрядности и общественной органи¬
зации корпоративного религиозного общества.
История зарождения новой еврейской литературы в конце XVIII в. — это
прежде всего история освобождения и отрыва литературного творчества са¬
мых разных авторов Центральной и Восточной Европы от общественно-куль¬
турного контекста традиционного мира. Одновременно это была история
освобождения и отхода от формальных, ценностных и содержательных оков
канонического текста на лойшн койдеш. Эти две истории — история обще¬
ственно-культурных перемен и история изменения текстов — развивались в
тесной взаимосвязи на протяжении более двухсот лет.
Оба процесса литературного освобождения, очевидно, были связаны с но¬
выми, не имевшими ранее аналогов идейными и общественными течениями
в еврейских общинах Восточной Европы — Гаскалой (еврейским Просвеще¬
нием), еврейским национальным движением и социальным радикализмом.
/441/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Кульминационные главы в истории этих процессов писались на простран¬
стве Российской империи между 1772 и 1914 г. Время зарождения новой ли¬
тературы на иврите в России стало временем формирования новой ивритской
литературы как таковой. За сто лет до революции 1917 г. в царской России
сформировались новые жанры поэзии и прозы на иврите, сложился новый
литературный канон, возникли литературные центры и появилась читающая
публика, изменившая традиционным привычкам в чтении.
ИДЕОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА
Панорамный взгляд на историю новой ивритской литературы в Восточ¬
ной Европе с ее первых дней до начала Первой мировой войны позволяет по¬
нять, что это было социокультурное явление, не имеющее государственных
границ. В этом оно не отличалось от религиозных течений, а также от обще¬
ственных и политических движений, в первую очередь хасидизма и еврей¬
ского национального движения, распространившихся в Новое время среди
восточной части ашкеназской диаспоры и игнорировавших новые границы,
которые возникли после разделов Польши в конце XVIII в.
Было ли что-нибудь русское в новой ивритской литературе? Ответить на
этот вопрос не так уж просто. Литература на иврите была лишь частью мно¬
гоязычного еврейского литературного мира, существовавшего в XIX в. По
мнению израильского литературоведа Дова Садана, она развивалась наравне
с четырьмя другими важными литературными направлениями — раввини¬
стической миснагедской литературой, хасидской литературой, литературой
на идише и еврейской литературой на нееврейских языках 1. Этот литератур¬
ный мир поначалу объединял евреев Литвы, Белоруссии, Украины и Царства
Польского, входивших в состав Российской империи, евреев Западной Укра¬
ины (Галиции), находившейся под властью Австрии, и евреев западной части
ашкеназского рассеяния. С ростом эмиграции из Восточной Европы в другие
части света в конце XIX в. мир еврейской литературы расширился за счет За¬
падной Европы, Палестины и западного полушария. Накануне революции
1917 г. центры ивритского литературного творчества находились не только
в Одессе, Вильно, Киеве, Варшаве, Львове, но также в Яффо, Иерусалиме и
Нью-Йорке. У ивритской литературы были тесные контакты с русской ли¬
тературой; влияние русской мысли и русскоязычных произведений особен¬
но усилилось в последние годы перед Первой мировой войной. Так, писатель
Йосеф Хаим Бреннер находился под сильным влиянием русской критической
публицистики (прежде всего Белинского). Рафаэль Циркин-Садан точно оха¬
рактеризовал суть контактов между ивритским писателем-реалистом и рус¬
ской культурой:
/442/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Йосеф Хаим Бреннер (1881—1921),
Яффо, 1918
Совершенно очевидно, что про¬
цессы модернизации в еврейском
обществе сопровождались ослаблени¬
ем его аутентичных элементов и про¬
никновением элементов инородного
происхождения (язык, материальная
культура, литература, идеология) в
систему символов традиционного ев¬
рейского мира. Однако старые ком¬
поненты не только не исчезли вслед
за проникновением новых, но и по¬
родили в сочетании с ними динамич¬
ную и многостороннюю систему. Это
явление характерно для всех уровней
контактов между русской и еврейской
культурами, но особенно бросается в
глаза в идеологическом аспекте. При¬
мер Бреннера показывает, что по¬
ложительный отклик на ценностные
основы русского освободительного
движения, а также на повествователь¬
ные и аналитические модели, харак¬
терные для русской литературы, не обязательно приводил к полному слиянию
с русской культурой, но мог сосуществовать с определенной «подозрительно¬
стью» в отношении имперской культуры, которая представляла угрозу для на¬
циональной идентичности 2.
Литература на иврите в царской России находилась под одновременным
влиянием русской культуры и целого комплекса иных феноменов, никакого
отношения к России не имеющих. Иными словами, «русскость» ивритской
литературы в конце царской эпохи являлась лишь одним из проявлений (осо¬
бым — благодаря специфике еврейского населения и его статуса) влияния
доминирующей имперской культуры на культуру одной из этнических групп
многонациональной империи в эпоху подъема национальных движений.
Миграция была значительным фактором жизни и творчества еврейских
писателей. Многие из них скитались по дорогам черты оседлости; некоторые
переезжали в крупные российские города и в конце концов оставляли преде¬
лы Российской империи. Новая литература на иврите вообще и ее российская
ветвь в частности были исключительно городским явлением. Литературное
творчество на иврите, в большой степени связанное с новыми центрами в
крупных городах, развивалось в непосредственном взаимодействии с новыми
/443 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
средствами коммуникации и способами самоорганизации, не имевшими ана¬
логов в традиционном обществе.
В дополнение к растущим ощущениям кризиса эти городские центры также
давали начало совершенно новым формам коммуникации и коллективной орга¬
низации среди евреев и неевреев 3.
Хаим Нахман Бялик (1873—1934)
Жизнь в больших городах накладывала отпечаток на творчество иврит¬
ских писателей и поэтов. Новые поэзия и проза на иврите рождались в обста¬
новке открытости к идейному миру Европы, к ее эстетическим ценностям и
художественным вкусам. Европейская культура и городская реальность сли¬
лись в сознании писателей, судя по всему,
склонявшихся к идентификации всего
того, что относилось к «старому миру», с
местечком в черте оседлости — реальным
или воображаемым. Многие из ивритских
писателей родились в маленьких местеч¬
ках или деревнях, получили традицион¬
ное еврейское образование и переехали
в большой город, стремясь так или иначе
уйти от старого образа жизни. Прожив
несколько лет в провинциальном городе,
они в конце концов достигали одного из
мегаполисов и принимали участие в соз¬
дании центров ивритской литературы.
Шолом Яков Абрамович (Менделе Мой¬
хер-Сфорим, 1835—1917) родился в бело¬
русском местечке Копыль, долгое время
жил в Каменце-Подольском, Житомире
и Бердичеве на Украине и в конце концов
обосновался в большом городе — Одессе.
Поэт Хаим Нахман Бялик (1873-1934)
родился на украинском хуторе Рады, вы¬
рос в Житомире, жил в Одессе, откуда
после революции уехал в Берлин, и в итоге поселился в Тель-Авиве. Ицхок
Лейбуш Перец (1851-1915) родился в польском Замостье, но большую часть
жизни провел в Варшаве.
Переезд был, как может показаться, своего рода уходом, а иногда и бег¬
ством от социальных и культурных рамок традиционной общины, и этому
бегству придавалось идеологическое значение. В соответствии с одной из си¬
стем периодизации, до сих пор принятой в исследованиях по истории новой
/444/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ивритской литературы, этапы ее развития в Российской империи определя¬
ются по идеологическому принципу: эпоха литературы Гаскалы (до 1880 г.) и
эпоха литературы национального возрождения. Последнюю в значительной
мере (но не полностью) можно связать с еврейским национальным движени¬
ем, от возникновения течения «Хиббат Цион» в 1881 г. и до 1917 г. Ключевое
место, которое занимают в этой системе погромы 1881—1882 гг., вызывает спо¬
ры среди специалистов по истории восточноевропейских евреев, и сегодня не
все согласны считать волну погромов в южной части черты оседлости вехой,
полностью разграничивающей две эпохи в истории еврейского народа. При¬
мер ивритской литературы может служить одним из обоснований этого реви¬
зионистского подхода. Время перехода от литературы Гаскалы к литературе
периода национального возрождения не совпадает с годами погромов. Лите¬
ратуровед Гершон Шакед еще в 1976 г. писал:
Действительно, погромы и все с ними связанное <...> изменили течение жиз¬
ни, возможно, из-за того, что ощущение постоянного развития, характерное для
периода Гаскалы, — от тьмы к свету, от традиции к ассимиляции, от социально¬
го рабства к свободе — оказалось ложным. Эта перемена повлияла на возникно¬
вение национального движения и на отношение интеллигенции к культурному
будущему общины. Для самой культуры эти изменения не имели немедленных
результатов <...> Только в 1890-е гг. наметились общественные и художественные
перемены на «литературном рынке» 4.
Разделение двух литературных эпох по идеологическому принципу— иде¬
ология Гаскалы против идеологии национального возрождения — подчерки¬
вает контраст между ними. Однако многие аспекты, в том числе мотив исхода
из традиционного мира местечек в европейский мир большого города, свиде¬
тельствуют о внутренней связи между тем местом, которое в биографии писа¬
телей занимал опыт жизни в большом городе, и значением для их творчества
идеологии. Действительно, выбор, сделанный восточноевропейскими еврей¬
скими литераторами, которые начали писать и издавать на иврите тексты,
нетрадиционные как по форме, так и по содержанию, был связан со сменой
религиозной и культурной идентичности. В литературе Гаскалы этот процесс
носил позитивный характер: литературные герои выступали с оптимистиче¬
скими призывами к улучшению общественного устройства и нравственному
совершенствованию. Писатели Гаскалы стремились к политической эманси¬
пации (в ограниченном ее понимании, соответствующем духу реформ Алек¬
сандра II) и к преобразованию еврейского общества по европейской модели
(по словам поэта Иехуды Лейба Гордона (1830—1892), «быть человеком на
улице и евреем дома», «быть братом жителям своей страны и рабом своему
царю» 5). Разрыв со «вчерашним» миром местечка и усвоение городской куль¬
/445 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
туры воспринимались ими как высшее достижение самообразования и куль¬
минация их жизненного пути.
Этот оптимизм начал исчезать из произведений на иврите в 1870-е гг. и
был совсем забыт после 1881 г. В автобиографическом произведении Моше
Лейба Лилиенблюма «Грехи юности» («Hatot neurim», 1876), оказавшем зна¬
чительное влияние на ивритскую литературу, выражено глубокое разочаро¬
вание от встречи с миром большого города. Один из фрагментов этих вос¬
поминаний, написанных всего через несколько лет после того, как писатель
оставил родную Литву и поселился в Одессе — городе мечты молодых евреев,
становившихся на путь Гаскалы, показывает изменение отношения к этому
большому и страстно желанному причерноморскому городу:
...Фургон (здесь — вагон поезда. — И.Б.), на котором я ехал, привез меня в
город, который перевернул мою жизнь; в город, в котором мне предстояло жить
несколько лет в одиночестве; в город, в котором жизнь моя станет пуста; <...> в
город, заключавший в себе мою судьбу — на суд и на милость; <...> в город, кото¬
рый превратил мою зрелость в юность, тогда как мой отец превратил годы моей
юности в годы зрелости; <...> в город, который издалека казался мне источником
жизни; <...> в город, о котором я долго размышлял и бредил о нем наяву! 6
Оптимизм Гаскалы, питавший творчество приверженцев европейской
культуры, уступил место пессимизму и отчаянию, которые отчасти были ре¬
зультатом влияния русской литературы конца XIX в. Место воинствующего
маскила (просветителя), стремившегося исправить самого себя и воспитать
сынов своего народа, занял герой, порвавший со старым миром, но чувству¬
ющий себя отвергнутым миром новым. Этот литературный образ, получив¬
ший наименование талуш (отщепенец) — по названию рассказа Ицхака Дова
Берковича (1885—1967), — разрывался между отчужденностью в отношении
родного местечка и отторжением западной культуры. Взаимосвязь между
опытом жизни в большом городе и формированием центров литературного
творчества в Российской империи была обусловлена также экономическими
и социальными причинами, имевшими отношение к «коллективной биогра¬
фии» ивритских писателей. Создание литературных произведений на иврите,
не говоря уже об их издании, не приносило дохода, необходимого для суще¬
ствования их авторов, из-за очень небольшого читательского спроса. Тот, кто
хотел посвятить себя литературному творчеству на иврите, был вынужден за¬
рабатывать на хлеб в других сферах, полагаться на помощь меценатов или же,
что также имело место, самому быть настолько состоятельным, чтобы иметь
возможность полностью отдаться писательскому труду. Неслучайно среди ни¬
щих, описанных Менделе Мойхер-Сфоримом в книге «Нищие» (версия на
иврите — «Ha-kabtsanim»: 1909-1911), появляются те, кто занимался созда¬
/446/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
нием еврейских книг, в том числе «наши издатели, а также всякие “выпуска¬
ющие в свет” и редакторы, а также их сотрудники, наборщики, корректоры и
писатели разного рода» 7.
В дополнение к мизерному спросу на романы, рассказы и стихи на ив¬
рите, обусловленному недостатком интереса к новым литературным формам
или религиозным неприятием новых идей, имелся также дополнительный
фактор, в значительной степени сокращавший, по крайней мере до второй по¬
ловины XIX в., шансы писателей собрать надлежащий литературный урожай:
строгая государственная цензура книг на иврите, введенная в 1836 г. и смяг¬
ченная лишь в начале царствования императора Александра II. Этот контроль
на первый взгляд должен был способствовать ослаблению влияния хасидской
литературы и распространению идей Просвещения. В действительности это
привело лишь к тому, что до 1860-х гг. на территории Российской империи
произведения новой ивритской литературы можно было печатать лишь в двух
легальных типографиях, прежде всего в типографии Ромм в Вильне, где уви¬
дело свет множество произведений писателей Гаскалы, в том числе Мордехая
Аарона Гинцбурга (1795—1846) и Авраама Мапу (1808—1867). Издавать книги
можно было и за границей (главным образом в Германии) или в караимской
типографии в Крыму, но недостаточное финансирование и плохое состояние
транспортных коммуникаций препятствовали такого рода инициативам. Ма¬
лочисленность читателей и трудности с изданием книг, наряду с неприяти¬
ем большей частью еврейского общества произведений маскилов, привели к
тому, что заметная часть их сочинений оставалась лишь в рукописном вари¬
анте. Эти произведения (на иврите или на идише) передавались из рук в руки
в среде немногочисленных любителей такой литературы или читались на их
встречах в частных домах.
Серьезные изменения в распространении литературы на иврите произош¬
ли в период правления Александра II (1855—1881), когда был разрешен выпуск
журналов на этом языке. Были даны разрешения и на открытие типографий в
ряде городов. Разрослась фактически не существовавшая до 1860-х гг. публи¬
ка, читающая на иврите, причиной чему в немалой степени было появление в
империи ивритских газет. «Ха-Мелиц» (Одесса, затем Петербург; редактор —
Александр Цедербаум, 1816—1893), и «Ха-Цфира» (Варшава; редактор — Хаим
Зелиг Слонимский, 1810—1904) были, по словам Хаима Нахмана Бялика,
краеугольными камнями Гаскалы 8. С 1880-х гг. число газет и журналов на ив¬
рите резко возросло. Причины, вернувшие Ш.Я. Абрамовича (Менделе Мой¬
хер-Сфорима) к творчеству на иврите, — событие, имевшее важное значение
для перехода от литературы Гаскалы к литературе национального возрожде¬
ния, — указывают на прямую связь между историей еврейской журналистики
в Российской империи и ивритской литературой. Писатель, последнее иврит¬
ское произведение которого «Хе-авот ве-ха-баним» («Отцы и дети») увидело
/447/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
свет в Одессе в конце 1860-гг., в 1886 г.
опубликовал свой рассказ «Из среды
грома» («Be-seter raam») в первой еже¬
дневной российской газете на иври¬
те «Ха-Йом» (Петербург, 1886-1888).
Центры ивритской литературы начали
развиваться вокруг ивритских газет и
журналов и в контакте с типография¬
ми, владельцы которых были готовы
печатать светские произведения на ив¬
рите, с издателями и владельцами кни¬
готорговых компаний, которые были в
состоянии выпускать и распространять
книги, не рассчитывая на прибыль. В
конце XIX и в начале XX в. основные
центры ивритской литературы и изда¬
тельского дела находились в Вильно,
Варшаве, Одессе, а за пределами черты
оседлости — в Петербурге. Некоторые
писатели переезжали из одного цен¬
тра в другой. Рост числа выходивших
книг и расширение возможностей распространения литературы при помощи
издательских компаний, книготорговых сетей, газет и журналов увеличили
численность читающей публики. Накануне нового, XX в. уже была создана
информационная инфраструктура, ориентированная на «воображаемое со¬
общество» читателей, появившееся несмотря на постоянный рост количества
русскоязычных читателей и на резкое увеличение числа газет на идише.
Исполнилось литературное пророчество И.Л. Гордона о продолжении
творчества на иврите и о жизнеспособности ивритской читательской общи¬
ны, высказанное в 1883 г. во время подготовки юбилейного издания его стихов
в стихотворении «Благословение праведных» («Birkat yesharim») 9:
От звука моего вздоха взошли и пробудились
Одинокие и рассеянные колосья,
Они были собраны в снопы на гумно,
В одну вязанку были связаны.
Любовь к нашему народу подпоясывается ими...
Говорят они мне: «Дела твои — не как глас вопиющего в пустыне».
Филиалы этой общины появились в новых иммигрантских центрах в
крупных городах Запада и в Палестине. В начале XX в. в Яффо и в Иерусалиме
/448 /
Авраам Мапу (1808-1867)
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
уже жило немало российских авторов, пишущих на иврите. Среди них были
Йосеф Хаим Бреннер (1881—1921) и Симха Бен-Цион (Гутман, 1870—1932).
Литературное наследие Восточной Европы усваивалось активно развивав¬
шимся в Палестине новым ишувом. Читательская община росла и расширя¬
лась — благодаря тому, что в учебную программу образовательных учрежде¬
ний, где языком преподавания был иврит, были включены уроки ивритской
поэзии и прозы, а также и потому, что новая ивритская литература стала не¬
отъемлемой частью новой национальной культуры.
ТЕЧЕНИЯ И ЖАНРЫ
Перемены, принесенные новой литературой, касались не только круга
идей, волновавших писателей, и набора тем, открывшихся перед восточноев¬
ропейской читающей публикой. Новая литература также принесла в культур¬
ный мир восточноевропейских евреев новые формы письма, изменила стиль
и вкусы. Впрочем, и в период раннего Нового времени ашкеназское общество
не было полностью закрытым для европейского литературного влияния —
как на литературное содержание, так и на форму. Достаточно упомянуть по¬
пулярный рыцарский роман на идише «Бове-бух» (XVI в.), который испытал
значительное влияние итальянской литературы. Однако до возникновения
литературы Гаскалы европейские литературные образцы не предлагались ев¬
рейскому читателю в качестве примера лучшего, чем в еврейской среде, вку¬
са и стиля. Литературные жанры, усваивавшиеся по мере расширения куль¬
турных контактов с нееврейским окружением, заимствовались из немецкой,
французской и английской литератур, а на более позднем этапе также из рус¬
ской и польской. Европейское влияние совмещалось с внутренней еврейской
традицией, а их синтез осуществлялся на языке, изобилующем аллюзиями на
созданные в далеком прошлом священные тексты.
Для нового литературного творчества на традиционном священном язы¬
ке был характерен ряд противоречий. С одной стороны, в ивритской литера¬
туре постоянно существовало напряжение между дидактической тенденцией
воспитывать читателя в духе Просвещения (а позже в национальном духе или
в духе социального прогресса) и стремлением к художественному выраже¬
нию, обладающему эстетической ценностью. С другой стороны, имело ме¬
сто непреодолимое противоречие между отрицанием важных компонентов
традиционного еврейского прошлого (язык, обычаи, повседневные реалии,
убежденность в своей миссии) и идеализацией аналогичных компонентов в
нееврейском обществе. Наконец, комплекс традиционных еврейских текстов,
обладавших для евреев Восточной Европы вневременной и внеисторической
цельностью, как будто делился поэтами и писателями Гаскалы на две части,
/449/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
одна из которых наделялась большим значением, а другая считалась малоцен¬
ной. Литература Танаха и периода Второго Храма относилась к «престижной»
части, и произведения Гаскалы писались на библейском иврите, хотя и в фор¬
ме, заимствованной из европейской литературы. Основой для литературного
творчества в то время служили библейские эпические произведения. Литера¬
тура Гаскалы началась с «Песен славы» («Shirei tiferet») Нафтали Герца Вессели
(Вайзеля), затем последовали «Песни свершений: история древнего времени»
(«Shirei alila: korot yamim rishonim») Иехуды Лейба Гордона. Наряду с поэма¬
ми на библейские темы создавались лирические стихотворения о природе и
общечеловеческих ценностях (любовь, этика и вера), в которых, как правило,
отсутствовал личностный аспект. Среди их авторов выделялись житель Виль¬
но Авраам Дов Бер Лебенсон (Михалишкер, 1794—1787; писал под псевдони¬
мом Адам ха-Коэн, Адам — аббревиатура от «Авраам Дов Михалишкер») и его
сын Миха Йосеф Лебенсон (Михл, 1828—1852). В период Гаскалы появился
такой жанр, как басня, соединивший серьезное европейское литературное
наследие (Эзоп, Лафонтен, Лессинг, Крылов) с традицией ивритской притчи
в литературе талмудического периода и Средних веков 10. Параллельно, являя
контраст с идеалистическим и возвышенным характером сюжетов и героев,
а также с величественным поэтическим языком, развивалась другая поэзия,
носившая сатирико-дидактический характер. Ее отличительной чертой стало
обращение к социальным и экономическим реалиям с целью приобщения чи¬
тателя к европейским ценностям. Фанатизм раввинов, шарлатанство хасид¬
ских цадиков и суеверия евреев черты оседлости подвергались высмеиванию
и поношению через изображение «событий, происходящих каждый день, бе¬
рущих за душу, пронизывающих до глубины» 11. Таким образом авторы хотели
показать, как страдают евреи из-за неправильного устройства их жизни. И.Л.
Гордон писал о своей поэзии:
Развею всякое пустое учение, извлеку
Всех аспидов, которые есть в нем
И выставлю их на свет —
Посмотрят ужаленные и, возможно, излечатся,
Если есть еще лекарство, если есть еще в них жизнь 12.
Литература Гаскалы, развивавшаяся главным образом в Литве и Галиции,
по обе стороны русско-австрийской границы, чаще всего имела публицистиче¬
скую форму и дидактическую направленность. Она включала научно-популяр¬
ную литературу, философские сочинения и исследования по иудаике, написан¬
ные в духе Wissenschaft. Ш.Я. Абрамович в 1860-е гг. много сил и способностей
отдал публикации «Истории природы» («Толдот ха-тева») — ивритской пере¬
работки книги, вышедшей на немецком языке. Значительная часть этих сочи¬
/450/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Перец Смоленскин (1842—1885)
нений была опубликована в журналах, издавав¬
шихся сторонниками Гаскалы, от «Ха-Меасефа»
и «Бикурей ха-итим» до «Ха-Шахар» и «Ха-Бокер
ор». Прозаические произведения имели прежде
всего сатирическую антихасидскую направлен¬
ность и начали выходить в свет почти одновре¬
менно с появлением хасидской литературы в на¬
чале XIX в. Излюбленным (но не единственным)
сатирическим жанром писателей Гаскалы был ро¬
ман в письмах, что было обусловлено популярно¬
стью этого жанра в просветительской литературе
Франции и Германии. Еще одним новым жанром
прозы на иврите стала автобиография — рассказ
о жизни юного маскила, сочетавший черты евро¬
пейского романа воспитания с реалистическими
материалами коллективной биографии сторон¬
ников Гаскалы. Первая автобиография, написан¬
ная под влиянием «Исповеди» Руссо, была «Ави¬
эзер» Мордехая Аарона Гинцбурга; автор начал писать эту книгу в 1820-е гг., но
увидела свет она лишь в 1860-е гг. В этом произведении, оказавшем влияние на
автобиографию Лилиенблюма «Хатаот неурим», подвергались критике семей¬
ная жизнь и воспитание детей у евреев России.
Первые романы на иврите, относящиеся к литературе Гаскалы, также по¬
явились на территории Российской империи. Этот новый жанр развивался по
двум направлениям. Первым была библейская мелодрама — «Любовь к Сио¬
ну» («Ahavat Tsiyon», 1853), а затем «Вина Самарии» («Ashmat Shomron», 1865),
написанные жителем литовского Ковно Авраамом Мапу. Вторым была акту¬
альная сатира — «Ханжа» («Ayit tsavua», 1857) того же Мапу; «Учите хорошо»
(«Limdu heitev» Абрамовича. Авторы первых романов находились под влияни¬
ем современной им французской литературы. Один из виленских маскилов,
Калман Шульман (1819—1899), опубликовал перевод на иврит «Парижских
тайн» Эжена Сю — книги, уровень продаж которой был по меркам того време¬
ни выдающимся. Направление актуального романа было продолжено в про¬
изведениях Переца Смоленскина (1842—1885) «Блуждающий по путям жизни»
(«На toe be-darkei ha-hayim»), «Ослиное погребение» («Kvurat hamor»), «Возда¬
яние прямодушным» («Gmul yesharim»); Шауля Меира Шайкевича (Шомера,
1849—1905) «Отвергнутая» («Ha-nidahat», 1886—1887) и Реувена Ашера Брау¬
деса (1851—1902) «Вера и жизнь» («На-dat ve-ha-hayim», 1877), «Две крайно¬
сти» («Shtei ha-ktsavot», 1888). Проза на иврите получила особое развитие в
Литве — в числе прочего в рассказах И.Л. Гордона — и распространилась от¬
туда в другие литературные центры Восточной Европы.
/451/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Поворот, начавшийся в 1880—1890-е гг. с закатом литературы Гаскалы, за¬
тронул не только содержание, но и форму литературного процесса. Под его
влиянием произошли глубокие перемены в творчестве еврейских поэтов и
писателей, а некоторые из них сошли в эти годы с литературной сцены. Хотя
большинство поэтов и писателей Гаскалы поддерживали российскую власть и
полностью солидаризировались с ней, они были достаточно далеки от русской
литературы, а европейское литературное влияние достигало их, иногда круж¬
ным путем, через немецкие и французские источники. Именно в то время,
когда отношение ивритских писателей к властям охладело, началось их замет¬
ное сближение с русской (а в случае И.Л. Переца — с польской) литературой.
Литература на иврите связывалась в общественном сознании того вре¬
мени с новым национальным движением, но вместе с тем ивритские произ¬
ведения стали частью трехъязычной культурно-языковой системы, в которой
серьезную роль играл государственный язык. Некоторые исследователи ив¬
ритской литературы считают важной вехой возвращение в нее Ш.Я. Абрамо¬
вича (Менделе Мойхер-Сфорима). Его новые произведения на иврите уже во
время их выхода в свет воспринимались через призму идей национального
возрождения. Хаим Нахман Бялик назвал Абрамовича «создателем особого
стиля» и видел в его ивритских произведениях начиная с 1880-х гг. полное сли¬
яние литературы с духом народа:
Все, что писатель черпал полной горстью из кладовых народного творческо¬
го духа, он вернул туда по капле и семикратно очищенным 13.
В отличие от литературы Гаскалы, ограничившей связь с реальной жизнью
евреев сатирическим аспектом, литература на иврите «в стиле Менделе» в эпо¬
ху национального возрождения расширила средства изображения реальности,
стремясь к сближению писателя с «народом». Без сомнения, чуть запоздалое
влияние на нее оказало русское народничество 1860—1870-х гг. Реалистиче¬
ская проза, получившая распространение в рамках этого нового подхода, в
известной степени продолжила традицию литературы Гаскалы в изображении
повседневной жизни, впитывая, вместе с тем, влияние русской реалистиче¬
ской литературы. В то же время у некоторых авторов усилилось стремление к
отражению личного субъективного опыта — как за счет отказа от абстрактных
идеалов, доминировавших в творчестве писателей Гаскалы, так и за счет от¬
хода от изображения реальности «как она есть».
Одновременно с распространением художественных принципов, уста¬
новленных Абрамовичем, и в противоположность им четыре ивритских пи¬
сателя — Давид Фришман (1859—1922), Ицхок Лейбуш Перец, Миха Йосеф
Бердичевский (1865—1921) и Мордехай Зеев Файерберг (1874—1899) — обра¬
тились к наследию романтизма. Письмо Файерберга от 1898 г. к Ашеру Гинц¬
/452/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Давид Фришман (1859-1922)
Миха Йосеф Бердичевский (1865-1921),
фотография 1894 г.
бергу (Ахад-ха-Аму, 1856-1927), редактору журнала «Ха-Шилоах», явственно
демонстрирует разницу между создателями новой импрессионистско-роман¬
тической традиции (возникшей в прямой связи с литературным центром в
Варшаве) и продолжателями реалистического «стиля Менделе», сторонни¬
ками которого считались представители «одесского кружка». О литературе на
иврите Файерберг писал:
Выразить наш внутренний, собственный мир (выделено в источнике. — И.Б.)
со всей его скорбью и гневом, радостью и гордостью, возникающими в нашем
сердце во всякую минуту, при каждом проявлении жизни 14.
Накануне Первой мировой войны проза на иврите в Российской импе¬
рии находилась под влиянием соперничавших друг с другом реалистическо¬
го «стиля Менделе» и романтической традиции, стремившейся вырваться за
пределы реальности в мир воображения.
Ивритская поэзия в эпоху национального возрождения, подобно маятни¬
ку, постоянно колебалась между полюсами еврейского культурного наследия и
европейской культуры. Несмотря на очевидную связь с новым национальным
движением, среди поэтов периода национального возрождения развивался ху¬
дожественный стиль, не связанный с актуальными политическими задачами.
/ 453 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Процесс художественного освобождения был вызван разрывом с идейной тра¬
дицией Гаскалы, отказом от дидактики и пропаганды, на протяжении десятков
лет сопровождавших поэзию Гаскалы в Российской империи. Тематические из¬
менения в маскильской поэзии на иврите начались уже в период национального
пробуждения в начале 1880-х гг., однако в поэтическом творчестве этого времени
еще сохранялся дидактический и пропагандистский дух. Представитель палести¬
нофильского движения «Хиббат Цион» историк Исраэль Клаузнер писал:
Писатели, журналисты и поэты играли важную роль в создании идейной
базы движения и в его поддержке. <...> Поэты, в том числе народные «бадханы»,
пробуждали любовь к Стране Израиля и приближали идеи палестинофильства к
сердцу народа 15.
Некоторые поэты-маскилы, принадлежавшие к разным поколениям,
поддержали новые идеи и стали писать ностальгические стихи об Эрец-Ис¬
раэль (Стране Израиля), призывая к новому возвращению в Сион. С такими
призывами, например, выступал Иехуда Лейб Левин (Яхалаль, 1844-1925)
из Киева, до погромов 1881-1882 гг. бывший радикальным маскилом и счи¬
тавшийся одним из первых еврейских социалистов. В своем стихотворении
«Штей дмаот» («Две слезы», 1884) он писал:
На стенах Иерусалима строители встанут:
Посеют семена души, и она снова расцветет.
На стенах Иерусалима будут бодрствовать стражники:
Охраняй дорогу, препоясай чресла, собирайся с силами.
Это голос строителей твоих, голос сторожей твоих, вновь
отстроенный Иерусалим! 16
Менахем Мендель Долицкий из Белостока (1856—1931), один из основа¬
телей ячейки «Ховевей Цион» в своем городе, написал ностальгическое сти¬
хотворение, получившее широкую известность. Сион там сравнивается с лю¬
бимой женщиной:
Нет, я не забуду родины-царицы!
Ты моя надежда! Свет души моей!
И когда умру я и в могилу лягу —
Памятником вечным будешь ты над ней! 17
Только в 1890-е гг. в ивритской поэзии начался новый процесс. В недрах
сентиментальной поэзии в духе характерного для движения «Хиббат Цион»
национального романтизма, но на языке и в стиле Гаскалы появились два вы-
/454/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Х.Н. Бялик и Шауль Черниховский (1875—1943).
Одесса, 1907
дающихся автора, создавших корпус
поэтических текстов значительной
художественной ценности, — Хаим
Нахман Бялик и Шауль Чернихов¬
ский. Первое стихотворение Бялика
«Птичке» («El ha-tsipor» 1891), еще
проникнутое духом «Хиббат Цион»,
было опубликовано в одесском
сборнике «Пардес». Поэзия Бяли¬
ка, с точки зрения языка и формы,
отличалась от библейского стиля
маскилов, но влияние Библии на
его произведения было достаточно
большим. Бялик соединил в сво¬
ем творчестве идею национального
возрождения с лирической тема¬
тикой, черпая вдохновение как из
еврейской религиозной литературы
разных эпох и жанров, так и из ли¬
тературы европейской, в частности
русской. Поэт стремится к сохране¬
нию исчезающего наследия в каче¬
стве важнейшего компонента фор¬
мирующейся национальной культуры, и в его творчестве находят выражение
как травматические события погромов и насилия («Над бойней», «Сказание о
погроме»), так и напряженный поиск еврейской национальной идентичности.
Шауль Черниховский (1875-1943) также начал свой творческий путь в
Одессе, опубликовав ряд стихотворений в национальном духе. Он соединял
стремление к национальному возрождению с утопическим универсализмом.
В стихотворении «Кредо» («Ani maamin», 1894) поэт писал:
И тогда свободный, мощный
Зацветет и мой народ,
Он расторгнет цепи рабства,
Полной жизнью заживет 18.
Поэзия Черниховского явно склонялась к «европейскому полюсу», но¬
вым в ней стала нееврейская тематика, которую автор сделал частью еврей¬
ского литературного канона, и талантливо развитая художественная форма.
Его любовная лирика была страстной и чувственной, а национальная поэзия
насыщена языческими мотивами и образами еврея нового типа, близкого к
/ 455 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
природе и свободного от порожденных галутом слабости и бесплодной ду¬
ховности. Когда Черниховский обращался к современной еврейской жизни,
создаваемые им образы совершенно не соответствовали литературному сти¬
лю, утвержденному Менделем Мойхер-Сфоримом. Он рисовал совершенно
другие, идеальные картины: евреев, живших в деревнях на юге Украины, здо¬
ровых телом и сильных духом, связанных с природой, любящих жизнь и раду¬
ющихся ее проявлениям.
Бялик и Черниховский поражают своей способностью соединять редкое
владение пером с поэтическим новаторством. Оба по-новому использовали
наследие религиозной культуры и реалии современной еврейской жизни,
активно участвовали в национальном движении, но не подчиняли свое твор¬
чество его нуждам. В своих стихах они сохраняли тонкий баланс между общим
и частным, лирическим и эпическим, еврейским и общечеловеческим. Оба
поэта оставили Россию вскоре после установления советской власти, когда
стало ясно, что у ивритской поэзии, ее авторов и читателей больше нет га¬
рантированного будущего в этой стране. После нескольких лет, проведенных
в городах Европы, они поселились в Палестине, в желанной земле, которой
они посвятили свои первые стихотворения и которая стала для них, как и для
многих писателей, поэтов и представителей творческой интеллигенции из
Российской империи, новым местом жизни, творчества и публикации. Свои
впечатления от природы Страны Израиля и происходивших в ней событий
Черниховский сумел передать в своих поздних стихотворениях. Бялик, на¬
против, после отъезда из России почти перестал писать стихи и посвятил себя
главным образом задачам национального культурного строительства.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТАНАХУ
За последние двести лет национальным движениям в Европе и на Ближ¬
нем Востоке в значительной степени удалось добиться того, что люди стали
отождествлять нацию и язык. Это отождествление согласовывалось с чаяни¬
ями мыслителей-националистов, но не отвечало сложной культурной реаль¬
ности их времени. Более того, утверждение, что у каждой нации есть свой на¬
циональный язык, на котором создается национальная литература, во многом
является анахронизмом, так как оно проецирует современное понимание ме¬
ста языка в национальной культуре на период, предшествующий появлению
национализма.
Большинство национальных движений стремилось к созданию до того не
существовавшего литературного языка либо путем возрождения письменного
языка, которым пользовались клирики и писатели предшествующей эпохи,
либо взяв за основу один из диалектов, на которых говорили представители
/456/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
этнической группы, считавшейся частью исторической нации. Значительная
часть культурных и языковых проектов центрально- и восточноевропейской
интеллигенции была связана с отказом от создания текстов на языке импер¬
ских властей и с переходом к своему национальному языку. Например, писа¬
тели и представители интеллигенции, связанные с украинским национальным
движением, во второй половине XIX — начале XX в. боролись с культурной ге¬
гемонией (закрепленной также законодательно) русского и польского языков
в Российской империи и в бывшей тогда частью империи Габсбургов Галиции.
Евреи Восточной Европы в этом отношении не отличались от других этниче¬
ских групп, живших на территориях польско-литовского государства, которые
в конце XVIII в. отошли к России и Австрии. Еврейская культура была дву¬
язычной в значительно большей степени, чем культура соседних этнических
групп (у которых, тем не менее, язык религиозных текстов также отличался
от разговорного). Но при формировании литературы нового типа, на «нацио¬
нальном» языке, первые авторы (как писавшие на «святом языке», так и пред¬
почитавшие ему разговорный язык) были вынуждены создавать письменный
язык, выбирая между ивритом и одним из диалектов идиша. Хотя перед гла¬
зами этих авторов были тексты, написанные на смеси лойшн койдеш и идиша
(в первую очередь пинкасы — книги записей общин и сообществ, существовав¬
ших в каждом городе и местечке черты оседлости), они не восприняли ситуа¬
цию двуязычия как основу для формирования единого литературного языка, а
предпочли создать параллельно две литературы — на двух разных языках.
Литература Гаскалы, служившая одним из средств борьбы маскилов в об¬
щинах Центральной и Восточной Европы за изменение идеалов и ценностей
еврейского общества, стала той ареной, на которой шел процесс секуляриза¬
ции традиционной культуры. Парадоксальным образом критическую роль в
этом процессе сыграл важнейший религиозный текст — Танах. Первые маски¬
лы, начавшие свою литературную и воспитательную деятельность в Берлине
и Кёнигсберге в конце XVIII в., отвергали идиш, считая его выражением низ¬
кой культуры. Нафтали Герц Вессели (Вайзель, 1725-1805) в брошюре «Слова
мира и правды» («Divrei shalom ve-emet», 1782), адресованной руководителям
общины Триеста, говорил о необходимости писать стихи на языке Библии и с
презрением отзывался об идише:
Но мы привыкли отдавать наших детей учителям из Польши, говорящим на
ашкеназском языке, полном хаоса, и люди мудрые недовольны этим <...> что нам
сказать, если от нашего святого языка осталось нам только то немногое, что со¬
держится в 24 святых книгах (Танаха) 19.
Обращение к библейскому ивриту как к языку литературного творчества
являлось выбором языковой опции, наиболее далеко отстоящей от идиша в
/457/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
аспекте времени и пространства. Хотя Вессели искренне полагал, что гово¬
рит о «святом языке», на самом деле он выступал за более широкое использо¬
вание языка религии, который теперь — подобно немецкому литературному
языку — должен был служить созданию светской литературы. Новый подход
еврейских просветителей к изучению Танаха, а также Мишны, Талмуда, гала¬
хической литературы постталмудической эпохи и еврейской мистики разных
периодов обладал мощным потенциалом секуляризации. В отличие от хри¬
стианских критиков Талмуда, живших в Средние века и в начале Нового вре¬
мени, писатели эпохи Гаскалы не подходили к традиционному тексту «извне»,
но занимались его толкованием и обработкой «изнутри», используя язык, ар¬
гументы, аллюзии и ассоциации, которые были понятны читателям из их тра¬
диционного окружения. Маскилы требовали расширения сфер использова¬
ния иврита и создания на нем текстов на темы, которые до XVIII в. считались
совсем не еврейскими. Они пробовали свои силы в жанрах, которых прежде
не было в ивритской литературе или которые занимали там второстепенное,
незначительное место в сравнении с галахическими или каббалистическими
сочинениями. Они не отказывались от использования иврита ради одного из
государственных языков; наоборот, они пытались укрепить его положение и
превратить язык Библии в универсальный литературный медиум, позволяю¬
щий писать о всех тех вопросах, темах и теориях, которые были значимы для
их европейского окружения XVIII в. Язык Библии был для писателей Гаскалы
образцовым языком, на котором должна была создаваться новая еврейская
литература. Большинство маскилов в той или иной степени воздерживались
от использования более поздних слоев «святого языка». Они сочетали ис¬
креннюю любовь к языку Библии с идеями чистоты языка, используемого как
средство творческого самовыражения человеческого разума. Так были посея¬
ны семена революции, которые в течение XIX в. принесли плоды, очень дале¬
кие от еврейской традиции.
Парадоксальным образом, освобождение иврита от традиционного би¬
блейского контекста произошло благодаря возвращению к простому смыслу
стихов Танаха, которые в старом ашкеназском варианте чтения были окруже¬
ны многочисленными комментариями, основанными на мидрашах и мисти¬
ческих толкованиях. Изучавшие Тору представители традиционной общины
не рассматривали библейские стихи исходя из исторического контекста, а
использовали для их анализа многослойный талмудический Мидраш. Маски¬
лы же настаивали на возвращении библейского контекста в центр внимания
еврейского читателя, в том числе в лингвистическом аспекте. В возвращении
маскилов к Танаху был еще один аспект, подрывающий основы традиционного
мировоззрения: они сознательно и демонстративно ориентировались на хри¬
стианские вкусы и в определенной мере перенимали то отношение к Библии,
которое сформировалось в странах Центральной и Западной Европы под вли¬
/458 /
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
янием Реформации. В утверждении центрального положения Библии и в пред¬
почтении ее более поздним еврейским текстам чувствовалось влияние критики
Талмуда в европейской мысли. Выбор библейского иврита как литературного
языка и отказ от лойшн койдеш Мишны и Талмуда, прежде всего в поэтическом
творчестве, нарушали преемственность традиционного сознания.
Понимание Библии как литературного текста, имеющего исторические
основы, открывало дорогу отнюдь не традиционному варианту ее использова¬
ния. Нафтали Герц Вессели, по просьбе общины белорусского города Шкло¬
ва написавший хвалебную оду императрице Екатерине II на языке Библии,
дерзнул также создать большую поэму на библейские темы «Песни славы», о
которой мы упоминали выше. Поэт отошел от библейского стиля и предпо¬
чел эпические формы, свойственные современной ему немецкой литературе
(например, творчеству поэта Фридриха Готлиба Клопштока). Конечно, твор¬
чество поэта — выходца из религиозного и культурного мира ашкеназского
еврейства в значительной степени находилось под влиянием талмудических
мидрашей. Но само использование иных эстетических моделей и форм, а так¬
же новых социальных идей для описания библейских событий было таким
серьезным нововведением, что многие литературоведы склоняются к тому,
чтобы видеть в этой поэме начало новой литературы на иврите.
Влияние нового отношения к Библии и новых форм использования языка
Танаха в поэтическом творчестве распространилось из первоначальных цен¬
тров Гаскалы в Берлине и Кёнигсберге в новые центры в городах Восточной
Европы, проложив путь поэзии Гаскалы в Российской империи. Библейская
поэма Вессели, печатавшаяся частями с 1789 по 1811 г., повлияла на эпиче¬
скую поэзию на библейские сюжеты, возникшую в Вильно. Иехуда Лейб Гор¬
дон (1830-1892) начал свое поэтическое творчество с сочинения библейских
поэм, явившихся своего рода продолжением поэмы Вессели. Однако, в отли¬
чие от Вессели, Гордон отказался от религиозной мидрашистской формы вос¬
приятия Библии и предпочел ее историческое и психологическое прочтение.
Более того, поэт, резко критиковавший религиозную элиту своего времени и
желавший ограничить влияние раввинов, использовал библейский текст для
идеологических целей. Например, в его поэме 1879 г. о последнем царе Иудеи
Цидкияху (Седекии) спасшийся от рук вавилонян царь начинает борьбу про¬
тив клерикализма. В уста монарха Гордон вложил речь против пророка Иере¬
мии, изображенного религиозным фанатиком, не идущим ни на какие ком¬
промиссы — совсем как литовские раввины, ненавидевшие Гаскалу:
И вот еще — новый завет он выдумал для Иудеи:
Все люди этой земли от мала до велика
Будут изучать Тору;
Весь народ, от виноградарей до князей,
/459/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Все будут книжниками и сыновьями пророков.
Пахари оставят работу на земле. <...>
Каждый человек скажет:
«Не буду пахать, не буду молотить»,
Потому что я из царства священников и из народа святого». <...>
Будет ли такой народ под небесами?
И если будет, продержится он день или два?
Кто распашет его поле и кто даст ему хлеб?
Кто его защитит в день осады и стеснения?
Такой народ не сумеет создать себе правительство 20.
Слова Цидкияху, звучащие как речь радикального маскила времен прав¬
ления Александра II в России, переворачивают смысл священного текста. Би¬
блейский Цидкияху делал зло в глазах Господа и поэтому был жестоко наказан:
вавилоняне разрушили Иерусалим. Цидкияху-«маскил» пытался исправить
недостатки своего народа и проповедовал прогресс, производительный труд
и отделение религии от государства. Он потерпел поражение от клерикальных
сил, т.е. от пророков, во главе которых стоял Иеремия.
Ориентация на берлинских маскилов и выбор языка Библии в качестве
литературного языка были отчаянно дерзким шагом с точки зрения еврейской
интеллектуальной элиты Восточной Европы. Писатели и поэты стали ис¬
пользовать «святой язык» для новых целей, отказавшись от раввинистическо-
талмудического слоя, являвшегося составной частью ашкеназской культуры.
Неудивительно, что занятия грамматикой библейского иврита или изучение
Танаха как отдельного произведения стали восприниматься в местечках черты
оседлости как серьезная угроза общественным устоям.
Шолом Яков Абрамович в одной из глав уже упоминавшегося романа на
иврите «Отцы и дети» (1868 г., первая версия романа увидела свет под назва¬
нием «Limdu heitev» в 1862 г.) оставил сатирическое описание того, как отвер¬
галось считавшееся ересью изучение грамматики поэтических произведений
на библейском языке и даже самого Танаха! Отец и мать молодого маскила,
покинувшего родной город и предавшегося «дурной культуре», проводят
обыск в книжном шкафу сына, чтобы выявить корни зла. Отец объясняет
матери, как опознать чуждые произведения, и перечисляет признаки запре¬
щенных книг — главным образом сборников новой ивритской поэзии. По его
словам, такие книги печатались в Вильно, но не в Житомире. В них широкие
поля, короткие строки, много примечаний, огласовок и различных отметок;
поэтому всякая книга с огласовками, большими полями и короткими строка¬
ми — это очень плохо! Жена обнаруживает такую книгу: «Вильно, — говорит
она, — огласовки и строки». Отец велит бросить книгу под стол как негодную,
но оказывается, что это Книга Бытия с комментарием Биур (библейский ком-
/460/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Иехуда Лейб Гордон (1830—1892)
Авраам Дов Бер Готлобер (1811-1899)
ментарий, инициатором которого был еврейско-немецкий философ Моисей
Мендельсон; в глазах еврейских консервативных кругов этот текст носил ере¬
тический характер)!
Выбор библейского иврита в качестве литературного языка таил в себе
немало недостатков, самым большим из которых было то, что язык Танаха
был далек от социальной и экономической реальности Российской империи
XIX в. Более поздние исторические слои иврита — от языка Мишны до язы¬
ка раввинистической литературы Средних веков и начала Нового времени —
были гораздо богаче терминами, подходившими для литературного отраже¬
ния реальности, и ближе к разговорному языку евреев Восточной Европы.
С первых дней существования новой литературы на иврите наряду с сочи¬
нениями на библейском языке создавались произведения на языке Мишны и
поздних ашкеназских раввинистических текстов. Еще Мендель Лефин (1749—
1826), один из первых маскилов в Восточной Европе, писал книги на мишнаит¬
ском иврите. Авраам Дов Бер Готлобер (1811-1899) свидетельствовал о нем:
И для изучающих Тору, и для тех, кто сидит в бейт-мидраше, он нашел пра¬
вильный путь, чтобы побудить их к постижению мудрости, и сочинил «Igeret
hokhma» («Послание о мудрости»), «Heshbon ha-nefesh» («Испытание души»),
«Refuat ha-am» («Исцеление народа») на простом и ясном языке Мишны, Талмуда
/461/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
и мидраши, а также перевел на этот язык «Путеводитель растерянных» Маймони¬
да, чтобы сделать его доступным для тех учащихся, для которых слишком тяжел
перевод Ибн Тиббона. Лефин был первым, кто использовал этот язык, в наши дни
расширенный и дополненный моим другом, выдающимся мудрецом р. Элиэзером
Цви ха-Кохеном Цвейфелем, он принес много пользы и другими своими сочине¬
ниями, благодаря которым открылись глаза многих и умножилось знание 21.
Языком мудрецов пользовался и Мордехай Аарон Гинцбург; позднее на
нем писал свои рассказы И.Л. Гордон. Антихасидская сатира целиком создава¬
лась на языке, подражавшем ивриту, которым пользовались хасиды. Таким об¬
разом, «стиль Менделе», сменивший в 1880-е гг. библейский иврит, на котором
Абрамович написал роман «Отцы и дети», с точки зрения языка не был абсо¬
лютным новшеством. Отказ от библейского языка в литературе периода наци¬
онального возрождения в пользу более поздних слоев иврита в определенном
смысле замкнул круг: литература вернулась к тем пластам языка, которые она
отвергала в эпоху Гаскалы. Но наряду с возвращением к постбиблейскому язы¬
ку «в стиле Менделе» и с внедрением его в современный еврейский контекст
другое литературное течение вновь — на более глубоком уровне — обратилось
к библейскому ивриту: поэт Шауль Черниховский открыл для себя древних
евреев эпохи Танаха, предшествовавшей кодификации Устной Торы. Как и
писатель Миха Йосеф Бердичевский (1865—1921), он был одержим тоской по
библейскому Богу Израиля, «Богу завоевавших Ханаан подобно буре» 22, ко¬
торого более поздние поколения «связали ремешками тфилин» 23. Национа¬
лист-романтик, отвергший раввинистический иудаизм и чувствовавший от¬
вращение к слабости и трусости своих местечковых соплеменников из черты
оседлости, он обратился назад, ко дням, когда Израиль жил в своей стране.
Как ранее И.Л. Гордон в своей библейской поэзии, Черниховский критиковал
пророков за то, что они сделали жизнь евреев слишком духовной. Однако в
отличии от просветителя-антиклерикала, сторонника движения Гаскала, Чер¬
ниховского-романтика привлекали необузданность чувств, внутренняя сила
и связь с природой; источник жизненной мощи и вдохновения для возвра¬
щения в обновленный Сион он нашел в древнем еврейском язычестве. Свои
стихи поэт считал продолжением древней ивритской поэзии, подавленной
раввинистическим иудаизмом. Ивритская Библия была для него источником
антииудейского пыла. Неудивительно, что на склоне дней Черниховский по¬
святил свое творчество земле Израиля и ее природе: поэтическое возвращение
ко дням завоевания Ханаана связывалось им с национальным, светским воз¬
вращением на Родину в годы новой сионистской колонизации. В стихотворе¬
нии «Видение пророка Астарты» («Hazon nevi ha-Ashera», 1933) поэт вложил
в уста языческого жреца, выжившего после того, как пророк Элияху (Илия)
истребил жрецов Ваала, видение, в котором переплетаются ханаанейское язы¬
/462/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ческое служение Ваалу и создание первых современных еврейских поселений
в долине Изреэль:
Всякое место перепаханное и бороненое — жертвенник мой,
И все, что будет засеяно и засажено лесом, — капище мое 24.
В этом и в других похожих стихах можно видеть яркое выражение «ха¬
наанейства» восточноевропейского происхождения. Древний танахический
текст, на протяжении поколений воспринимавшийся через призму коммен¬
тариев и мидраша, был освобожден от этих оболочек, оказавшись в руках ма¬
скилов и националистов-романтиков. Он стал источником обновления языка
и средством восприятия европейского влияния; сеял страх в консервативных
кругах и позднее был воспринят романтиками радикально-националистиче¬
ского толка. Одним из наиболее интересных литературных феноменов, от¬
крывающихся при анализе различных форм возвращения к Танаху, является
глубокая связь между опытом жизни в Российской империи и его произво¬
дными в новой ивритской культуре Страны Израиля.
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ САТИРА
И ХАСИДСКАЯ АГИОГРАФИЯ
С историко-культурной точки зрения, литература восточноевропейской
Гаскалы на двух языках ашкеназского еврейства — иврите и идише — была
гибридом. С одной стороны, материалом, содержанием и литературной фор¬
мой она была связана с домодернистскими реалиями еврейской жизни, теми
реалиями, которые сторонники Гаскалы хотели изменить. С другой стороны,
к еврейскому литературному репертуару были привиты европейский дух, ев¬
ропейские литературные жанры и художественные вкусы. Творчество на ев¬
рейском языке (а не на одном из государственных языков — немецком, фран¬
цузском, польском или русском) превратило литературу Гаскалы в «двойного
агента»: она способствовала проникновению западно- и центральноевропей¬
ского культурного влияния во внутренний мир восточноевропейских евреев.
В то же время она обогатила существующий корпус литературных текстов и
добавила новые измерения в используемый ею культурный багаж традицион¬
ного еврейского общества.
В зависимости от времени и места этот литературный Янус являл свои
различные лики. На восточной периферии Европы еврейский просветитель¬
ский литературный текст, подобно своему создателю-маскилу, представлял
перед имперскими властями ценности «туземного» общества, к исправлению
и аккультурации которого стремились царские чиновники; одновременно он
/463/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
был агентом абсолютистского просвещенного государства среди «туземцев»,
далеких от европейской культуры. Во многих случаях суждение писателей
Гаскалы о современном им еврейском обществе основывалось на критериях,
заимствованных из культурного багажа Западной или Центральной Европы.
Важное место в новой литературе занимали обличение социальных недугов,
культурной отсталости и экономической несостоятельности еврейского об¬
щества в черте оседлости. Широкое использование оружия сатиры и пародии,
восходящего к сочинениям европейских просветителей, давало возможность
писателям Гаскалы расшатывать основы традиционного мира. Так, первые
литераторы-маскилы находились под влиянием писателя Кристофа Виланда,
яркого представителя немецкого реализма второй половины XVIII в.
Верования, убеждения, обычаи и образ жизни евреев Восточной Европы
представали в прозе и поэзии сторонников Гаскалы как жалкая и отталки¬
вающая противоположность ценностям, поведению и мыслям положитель¬
ных персонажей из нееврейской элиты. Йосеф Перл (1773—1839), которого
некоторые из исследователей современной еврейской литературы считают
отцом новой литературы на иврите, прославился своей острой сатирой на
хасидизм. В его язвительных произведениях на тему хасидского влияния
по обе стороны русско-австрийской границы обличение господствовав¬
ших в обществе традиционных ценностей приняло наиболее острую форму.
Этот наделенный необычайным пародийным даром писатель, житель горо¬
да Тернополя в Восточной Галиции (находившейся тогда под австрийской
властью), использовал принятые литературные формы для того, чтобы по¬
дорвать «изнутри» смысловую основу создававшихся и потреблявшихся ха¬
сидским обществом текстов. В двух сочинениях, построенных как перепи¬
ска между лидерами хасидизма и видными фигурами в хасидском обществе,
а также между маскилами, борющимися против хасидизма и сотрудничаю¬
щими с австрийскими властями в Галиции, внутренний мир хасидов и их
обычаи были выставлены на смех. Первое произведение Перла «Открыва¬
ющий тайны» («Sefer Megale tmirin») увидело свет в Вене в 1819 г., второе —
«Испытующий праведника» («Sefer Bohen Tsadik»), своего рода продолжение
первой книги, было опубликовано в Праге в 1838 г., за год до смерти Перла.
Сила сатиры Перла в этих двух эпистолярных произведениях коренилась в
пародийном использовании настоящей хасидской литературы. Он не только
цитировал сочинения выдающихся цадиков, но и давал точные ссылки на
них в сопровождении собственных объяснений, которые выглядели так, как
если бы их написали хасидские авторы. Перл словно давал традиционному
(в данном случае хасидскому) тексту возможность говорить самому за себя.
Критически настроенный читатель, уже находившийся под воздействием
нееврейских ценностей, не мог не заметить выявленных таким образом гро¬
тескных стороны хасидского движения.
/464/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Но наиболее действенным методом борьбы с традицией в сатире Перла
стала десакрализация религиозного текста. Главной мишенью писателя была
книга «Shivhei ha-Besht» ("Прославления Бешта") — сборник легенд об откро¬
вениях и чудесах основателя хасидизма Исраэля Баал Шем Това (известного
под акронимом Бешт), а также о деятельности его сподвижников и последо¬
вателей. Эта книга, увидевшая свет в конце 1814 г. в Белоруссии, прошла в со¬
чинении Перла многоступенчатый процесс десакрализации. Она была пред¬
ставлена как собрание противных здравому смыслу нелепиц, в которые могли
поверить только глупцы, легкомысленные женщины и дети. Святотатственное
глумление Перла достигает апогея в его описании веры хасидов в священные
реликвии — подобно тому как антиклерикализм европейского Просвещения
нашел яркое выражение в высмеивании веры в чудодейственную силу останков
христианских святых. В «Megale tmirin» мошенники, служащие посланниками
одного из хасидских цадиков, предлагают ребенку, неспособному мыслить кри¬
тически, целый список священных предметов, «заимствованных» из историй
«Shivhei ha-Besht». Истории о Беште, в которых упоминались эти мнимые объ¬
екты, представали перед читателем сатиры Перла как абсурдные и лишенные
всякой логики россказни. Так скептик-маскил подрывал хасидскую веру в чу¬
деса, которые творил почитаемый цадик, лишал священного ореола связанные
с ним реликвии и высмеивал веру в их мистические и магические свойства. В
списке священных предметов можно найти, например, «перышки из перины,
на которой спал Бешт со своей женой в то время, когда у него находился ученик
наставника нашего р. Гершона Кутовера». Перья из перины цадика, будто бы
ставшие святыней у глупого хасида, воспринимались критически мыслящим
читателем как предмет обыденный и грубый. Как можно было верить в святость
того, что носит такой материальный и приземленный характер?
Антихасидская сатира была призвана подорвать наивную веру просто¬
го хасида, при этом она имела и дидактическую направленность: «лечение»
традиционного общества от болезней, вызванных глупостью, невежеством и
простодушием. Писатели Гаскалы играли роль своего рода врачевателей со¬
циальных недугов. Профессия врача связывалась в их сознании с научным
подходом, рационалистическим мировоззрением и ориентацией на Запад, а
просветительское «лечение душ» виделось им как равное по своей ценности
профессиональному лечению телесных недугов. Мендель Лефин представил
литературную «систему лечения» в своей книге «Испытание души» («Heshbon
ha-nefesh». Львов, 1808), основой которой послужило сочинение американ¬
ского ученого и государственного деятеля Бенджамина Франклина:
И если слова убеждения не действуют на дурные инстинкты, которые нена¬
видят всякую мораль, нужно попробовать воздействовать на них занимательной
притчей, подобно тому как маленьким детям дают лекарство с медом 25.
/465 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Этот мотив скрытого лечения, называемого по-немецки Pillenformell
(«формула пилюли»), встречается и в словах Виланда о сатире римского пи¬
сателя Лукиана. Традиция антихасидской (а иногда и антитрадиционной) са¬
тиры, ставящей своей целью десакрализацию святынь и излечение невеже¬
ственных верующих от их заблуждений, продолжается в новой литературе на
иврите до второй половины XIX в. Сюжет рассказа «Завершение радости —
горе» («Aharit simha tuga»), увидевшего свет через несколько десятилетий по¬
сле выхода «Megale tmirin», , основан на событиях, произошедших в Пинске
в середине XIX в. Его автор И.Л. Гордон противопоставляет белорусских ха¬
сидов пинским маскилам. В изображении первых преобладает гротеск — они
представлены глупцами, которые верят в немыслимые вещи; повествование
о вторых ведется цветистым языком, они описываются как сторонники наук
и прогресса, образцовые подданные Российской империи, пытающиеся из¬
лечить своих темных братьев от недугов невежества и приблизить их к евро¬
пейской культуре.
Диалог ивритской литературы с хасидизмом привел к тому, что язык ха¬
сидов, их убеждения и обычаи — все то, над чем смеялись и что стремились
уничтожить писатели Гаскалы, — вошли в новый литературный дискурс, адап¬
тировались в нем и с течением времени стали неотъемлемой частью изображе¬
ния еврейской жизни по обе стороны границы между двумя многонациональ¬
ными империями Восточной Европы. Более того, проза на иврите намного
более преуспела в создании образов из ближайшего, знакомого окружения,
чем в попытке изобразить идеальных героев и нарисовать оптимистические
картины радужного будущего, обещанного Гаскалой. Хасидская община, под¬
вергнутая осмеянию в просветительской сатире, оказалась гораздо более до¬
стоверной, чем сообщество маскилов, которое писатели превозносили.
ИЗ МЕСТЕЧКА В БОЛЬШОЙ ГОРОД
Новая еврейская литература начала свой путь под знаком бунта против
традиционного образа жизни, который ассоциировался с бытом восточноев¬
ропейского еврейского местечка и воспринимался поколением писателей Га¬
скалы как ущербный и требующий исправления. В этом контексте сформи¬
ровался негативный образ еврейского города (местечка, штетла). Местечко
играло центральную роль в художественном отображении еврейской жизни
в произведениях на иврите и идише, в то же время являясь воплощением
«традиционного», старого, уходящего — всего того, что противостоит «совре¬
менному», новому и процветающему, которое олицетворял большой город за
пределами черты оседлости. Действительно, по своей географии, структуре и
атмосфере это воображаемое литературное местечко походило на типичный
/466/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
еврейский город в Российской или Австро-Венгерской империи XIX в. Но
писатели Гаскалы намеренно преувеличивали его негативные черты; образ
жизни, господствовавший в еврейском городе, резко контрастировал с цен¬
тральноевропейской городской культурой. Например, в бытовых описаниях
местечка бани и миквы — места, имевшие важнейшее значение для еврейской
религиозной жизни,— постоянно изображались грязными и неэстетичными.
Улицы были узкими, кривыми, заваленными мусором, с нищими лачугами,
уродливыми и лишенными какого-либо порядка. В рассказе «Из среды грома»
(1886) Шолом Яков Абрамович язвительно писал:
Еврейский город исполнен глупости во всех ее проявлениях. Он отверг стро¬
ительное искусство и не ходит по его законам; его дома не стоят прямо и не тянут¬
ся к небу, они сгорблены, а некоторые из них покосились и их крыши пригнуты к
земле. Он некрасив, не украшен и неухожен — ведь прелесть обманчива, красота
суетна и не стоит ломаного гроша. <...> Там не принято мостить камнем двор перед
домом; напротив, прямо перед входом обычно выливают помои, туда приходят
свиньи и погружаются по уши в грязь и нечистоты, как в сточную канаву, наслаж¬
даясь зловонием 26.
Значительная часть сюжетов просветительской прозы была сосредоточена
вокруг того, о чем говорилось в начале главы: их стержнем был выход из погру¬
женного в мир прошлого еврейского местечка и переселение в большой город.
Мотив переезда в город отражал один из важных процессов трансформации, че¬
рез которые проходили евреи Восточной Европы в середине XIX в., и был связан
с крахом феодального (крепостнического) хозяйства, на удовлетворении нужд
которого базировалась экономика местечка. Эмиграция из черты оседлости в
Российской империи или из австрийской Галиции в большие города, например
Варшаву, Одессу или Вену, воспринималась в литературе Гаскалы как ключевое
явление в желанном процессе общественного преобразования. Выход евреев в
большой мир связывался с разрушением традиционных общинных институтов
и с ослаблением авторитета старой религиозной элиты. Исход из местечка стал
еще одним компонентом процесса секуляризации, в котором принимала уча¬
стие и литература. Религиозный быт местечка был представлен во всем его про¬
винциальном убожестве, а религиозные тексты, на которых строился духовный
мир еврейской общины, подвергались осмеянию и поношению.
С отходом новой ивритской литературы от идеалов Гаскалы идеальный
город предыдущего периода также стал мишенью для критики. Эта переме¬
на произошла параллельно в литературе на иврите и в литературе на идише.
Классическое описание противоречий между религиозным бытом местечка,
где еще сохранились остатки общинных учреждений прошлого, и полным
соблазнов светским городом можно найти в эпистолярном романе Шолома
/467/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Рабиновича (Шолом-Алейхема, 1859—1916) «Менахем-Мендл». Это произ¬
ведение, являющееся одной из вершин классической идишской литературы,
печаталось частями в газетах на идише с 1890-х гг. и вошло в ивритский лите¬
ратурный канон благодаря образцовому, хотя и не всегда соответствующему
источнику переводу Ицхака Дова Берковича.
Менахем-Мендл, житель небольшого украинского местечка, переезжает
в Одессу, где становится биржевым спекулянтом, и переписывается оттуда
с оставшейся в местечке женой Шейне-Шейндл. Он рассказывает ей о сво¬
их делах и о жизни в большом городе, она отвечает ему с местечковой точки
зрения, высмеивая новый и опасный мир, частью которого пытается стать
Менахем-Мендл. Одесса, крупнейший в Российской империи черноморский
порт, считалась у евреев черты оседлости «столицей безбожников». Извест¬
ная пословица на идише, гласившая: «На семь миль от Одессы горит адское
пламя», перекликается с отрывком из романа Шолом-Алейхема, в котором
супруги обсуждают разницу между религиозной жизнью в малороссийском
местечке и обычаями большого и чуждого города. Менахем-Мендл пишет:
Не понимаю я здешних евреев, почему они не ходят молиться? И даже те, что
ходят, не молятся. Сидят, как намалеванные, в цилиндрах, с жирными холеными
рожами, в маленьких талесах и молчат. А если кому-нибудь захочется помолиться
чуть погромче, к нему подходит служка с пуговицами и говорит, чтоб тихо было 27.
Его жена, в которой описание модернистской синагоги в Одессе пробуж¬
дает религиозное рвение, в гневе отвечает:
Я уже понимаю, что это за торговля и что за город твоя Одесса, когда суббо¬
та — не суббота, и праздник — не праздник, и кантор ходит с бритой мордой, —
мои бы болячки на его голову! Мне кажется, из такого города и от таких людей
бежать надо, как от поганой ямы 28.
Шолом-Алейхем уже не стоит на стороне жителей большого города. Пе¬
ред своими читателями он выражает чувство сожаления от потери религиоз¬
ной целостности, сохранявшейся в местечке, и с раскаянием размышляет о
бесчувственном формализме богомоления в одесской хоральной синагоге.
И действительно, как только просветительский энтузиазм в отношении ус¬
воения имперских ценностей ослаб и усилилась неоромантическая тоска по
утерянной чистоте домодернистской эпохи, иным стало и место еврейской
религиозной традиции в восточноевропейской литературе. Резкое отрицание
сменилось идеализацией, но не из-за религиозной веры как таковой, а по при¬
чине тоски по целостности и непорочности «органичного» общества, которое
суд истории приговорил к уходу из этого мира. Неоромантическое отношение
/468/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
к местечку не было религиозным, и писатели, говоря о старой жизни, утверж¬
дали модернистские ценности — национализм, народничество или социаль¬
ный радикализм.
Ярким представителем этого направления в еврейской литературе на двух
языках был уроженец Польши Ицхок Лейбуш Перец. Его народные и хасид¬
ские рассказы изображали еврейскую массу и хасидов как источник исчезаю¬
щих моральных и социальных ценностей. Более того, Перец адаптировал на¬
ционально-романтическую историографическую модель: по его мнению, уход
из традиционного общества (местечка) и переход к современной европейской
реальности (большой город) знаменовали собой процессы упадка и вырож¬
дения, а не исправления и прогресса. В то же время в его хасидских рассказах
все еще можно было найти явные следы просветительской сатиры, казалось
бы, уже сошедшей с литературной сцены. Перец проводит «национализацию»
восточноевропейского еврейского фольклора и элементов религиозного мира
XIX в. Он соединяет традиционные еврейские тексты с европейскими лите¬
ратурными жанрами и вводит их в идеологический и политический дискурс
современного ему еврейского национального движения в Восточной Европе.
Неудивительно, что сборники его рассказов на идише «Хасидские рассказы»
(«Khsidish») и «Народные предания» («Folkstimlekhe geshikhtn») заняли цен¬
тральное место в круге чтения участников еврейских национальных и социа¬
листических молодежных движений. В первые годы существования Государ¬
ства Израиль, они стали важной частью программы обучения в сионистских
образовательных учреждениях: два поколения учеников светских израильских
школ вплоть до 1960-х гг. знакомились с хасидизмом через неоромантические
произведения Переца на иврите и идише.
ИЗ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ В ТЕЛЬ-АВИВ
По мере того как в Российской империи в конце XIX — начале XX в. уси¬
ливались процессы распада традиционного общества и снижения статуса аш¬
кеназской религиозной культуры, все большее число еврейских интеллекту¬
алов начинали опасаться, что мир еврейского прошлого близится к гибели.
Желание спасти культурное наследие традиционного общества и передать его
последующим поколениям сменило в сознании ивритских писателей и поэтов
характерный для Гаскалы пафос ниспровержения старых ценностей и замены
их западноевропейскими идеалами. Если в 1860—1870-е гг. некоторые ради¬
кальные маскилы, писавшие на иврите, рассматривали ивритскую литературу
как временное средство для распространения универсальных идей и выражали
надежду на скорое ее исчезновение, то в конце столетия творчество на иврите
оказалось жизненно важным для существования еврейского национального
/469/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
движения. В действительности сторонники охранительного подхода вовсе не
стремились к «консервации» прошлого. Они присоединились к национально¬
му проекту, который включал в себя избирательное и критическое сохранение
ценностей традиционной культуры в соответствии с духом времени и нужда¬
ми национального возрождения.
Как уже было сказано, значительная часть литературы Гаскалы обраща¬
лась к теме разрыва с традиционной еврейской общиной, и положительным
ее героем становился тот, кто сумел освободиться от оков консервативного об¬
щества и родиться заново как человек европейской культуры. Однако начиная
с 1880-х гг. главным мотивом творчества ивритских писателей становится воз¬
вращение из большого и чуждого города в распадающееся местечко. Впрочем,
неоромантическое обращение к прошлому, проявлявшееся в литературе на
иврите и служившее для писателя Ицхока Лейбуша Переца «инструментом
формирования мира его собственных мыслей и чувств»29, не имело отноше¬
ния к чаяниям еврейских ортодоксов. Для них Перец был носителем светских
идей, а его интерпретация старых текстов носила критический характер и в
ней отсутствовала вера в святость текста. Более того, еврейская художествен¬
ная литература Восточной Европы подпитывалась ярко выраженным нетра¬
диционным пониманием еврейской культуры в целом.
Наиболее выдающийся поэт движения национального возрождения,
Хаим Нахман Бялик, посвятил значительную часть своих научных и публи¬
цистических работ одесского периода «проекту собирания» («mifal ha-kinus»),
инициативе по сбору, обработке и научной публикации еврейских литератур¬
ных памятников. Вершиной деятельности Бялика на этой ниве стала публика¬
ция фундаментальной антологии «Книга Агады» («Sefer ha-agada»), созданной
в результате многолетнего совместного труда с Иехошуа Хоной Равницким
(1859—1944). В стихотворениях Бялика, посвященных теме разрыва с тради¬
ционной еврейской книжной культурой, проступает его тревога за будущее
сокровищницы еврейской литературы. Бялик воспринимал новую ивритскую
литературу, центры которой после Первой мировой войны переместились из
Европы в Палестину, как звено в непрерывной творческой цепи, восходящей
своими корнями к Библии и обновлявшейся из поколения в поколение вплоть
до Нового времени.
В лекции, которую Бялик прочел летом 1932 г. перед активистами Рабочей
партии Страны Израиля (Мапай) в молодом сельскохозяйственном поселе¬
нии Нахалаль (аудитория слушателей и место выступления подчеркивали ак¬
туальность и новизну темы), говорилось о будущем литературы на иврите:
Таким образом, мы должны обращаться с нашим древним наследием не как с
коллекцией, мы должны пропустить его через жизненный опыт нашего времени;
привести его в соответствие с требованиями современной науки и со всем, что на-
/470/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
полняет нас, внести это наследие в нашу жизнь, чтобы оживить его, чтобы извлечь
из него новые соки... Речь не идет об отборе, при котором проводится граница
между старой и новой литературой. Цель нашей собирательной деятельности —
устранить барьеры, обеспечить единство, старое соединится с новым и новое со
старым без всякого разделения между ними. Только единство может обеспечить
литературе нашего времени признание в глазах всей нации, а также признание
других народов, какое имела наша древняя литература, какое имел Талмуд, при¬
знанный всем нашим народом и ставший частью общечеловеческой культуры 30.
Эта концепция Бялика, привезенная из Одессы в Тель-Авив, противосто¬
яла возникшим в Палестине тенденциям к отделению новой ивритской куль¬
туры от религиозного и культурного наследия. Желание оторваться от насле¬
дия прошлого и создать что-то совершенно новое, «туземное», порожденное
природой и климатом новой страны (подобно тому, что нашло выражение в
поэзии Шауля Черниховского), овладело умами нового поколения ивритских
писателей, выросших в Палестине в 1930-1940-е гг.
Секуляризация иврита разделила сакральные и новые литературные
тексты, а происходившая одновременно с этим секуляризация идиша разо¬
рвала органическую связь литературного текста с религиозным опытом.
Превращение двух литератур на этих языках в часть европейского литератур¬
ного процесса сделало возможным восприятие стилевого и жанрового влия¬
ния извне. Сращивание еврейских литератур на двух языках с модернистски¬
ми идеологиями — от Просвещения до национализма и социализма — подры¬
вало их базовую связь с многовековым еврейским литературным наследием.
История новой литературы на иврите началась со стремления изменить место
священных текстов в еврейском мире и продолжилась привлечением этих
текстов к идеологической и политической борьбе различных течений в евро¬
пейском еврейском обществе. В последние годы царской России ивритская
литература поставила перед собой задачу создания альтернативных текстов,
обладающих национальным характером и претендующих на преемственную
связь нового толка с домодернистскими слоями еврейской культуры. В своем
наиболее радикальном развитии литература на иврите приобрела крайне секу¬
лярный и даже языческий характер. Разрыв с Божьими заповедями и религи¬
озными обязательствами достиг наиболее полной реализации в литературном
творчестве на иврите в Стране Израиля начиная с 1940-х гг. Процесс, кото¬
рый начался в Берлине, долгое время развивался на территории Российской
империи и накануне Первой мировой войны достиг Палестины, завершился.
Более того, разговорный иврит за считанные годы занял место письменного,
книжного языка. Местная тематика, связанная с ближневосточными реалия¬
ми, борьбой за создание Государства Израиль и войной 1948 г., с Катастрофой,
массовой иммиграцией или урбанистической культурой Тель-Авива, была да¬
/471/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
лека от аллюзий традиционного текста и от его «восточноевропейского» по¬
нимания. Эта литература, на первый взгляд свидетельствовавшая о грандиоз¬
ном успехе сионистского проекта, осознанно или нет оказалась вовлечена в
следующий проект — подрыв сионистского нарратива.
На вечере, посвященном выходу последнего тома серии «Ивритская про¬
за» («На-siporet ha-ivrit»), который состоялся в Иерусалиме в 1999 г., профес¬
сор Гершон Шакед сказал:
Неприятие «эпического сюжета», господствующего в большинстве произ¬
ведений писателей «поколения государства» (поколения литераторов, начавших
печататься в Израиле в 1950-е гг.), превратило литературу в оппозиционную и
подрывную силу, находившуюся в постоянном конфликте с политическим исте¬
блишментом и с традиционными ценностями отцов и старших братьев.
Сионистская культура, против которой восстают герои этой литературы,
является ничем иным, как бунтарской культурой отцов-основателей, направ¬
ленной против еврейской традиции и в значительной степени импортирован¬
ной из Российской империи. Следовательно, как минимум один из аспектов
нового, израильского бунта будет направлен против секулярных тенденций и
негативного отношения к галутному досионистскому опыту, господствовав¬
ших в ивритской литературе в 1930—1940-е гг. Это не означает, что процесс
секуляризации, запущенный новой литературой на иврите, двигался по кругу.
Между традиционным и современным литературными текстами по-прежнему
лежит пропасть. Новой израильской культуре, плоду идеологии национально¬
го движения, удалось оживить язык и поддерживать литературное творчество
на нем. Общество иммигрантов, оставившее свои синагоги за пределами стра¬
ны и присоединившееся к культурному строительству на новом, но претенду¬
ющем на древность языке, разорвало множество прежних связей, заменив их
альтернативными связями и контекстами. Но кое-где старые и новые тексты
соприкасаются. Эта связь, возможно, различима только для наиболее прони¬
цательных историков и литературоведов. Но они хорошо знают: то, что проис¬
ходит сегодня в литературе на иврите, повторяет уже имевшее место в Берлине
в конце XVIII в. и в Одессе в начале XX в.:
Вопросы определения и классификации, такие как современный или средне¬
вековый, прогрессивный или реакционный, революционность или преемствен¬
ность, эпоха расцвета или эпоха кризиса и упадка, задаются постоянно с конца
XVIII в. и с особой интенсивностью — в течение всего XX столетия 31.
До сих пор актуальным является напряженное противостояние между
религиозным текстом, авторитет которого сохраняется благодаря его вневре¬
/472/
5.2 / ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
менному обязывающему статусу «священного писания», его магической силе
или ритуальному значению, и между различными его светскими интерпрета¬
циями в современной литературе на иврите. В этом отношении традиционный
литературный текст не отличается от других исторических компонентов ев¬
рейской культуры, которые прошли процесс приспособления к современно¬
му меняющемуся миру. Легитимность нетрадиционных интерпретаций этих
компонентов всегда будет оставаться объектом нападения со стороны тради¬
ционалистов, подобно тому как это происходило со времен полемики между
хасидами и маскилами в начале XIX в. и до спора между глухими, который
вели радикальные националисты с традиционалистами в Восточной Европе
накануне Первой мировой войны по вопросам языка, литературы и общества.
Перевод с иврита Юрия Снопова
1 Laor D. Ha-maavaq al-ha-zikaron. Tel-Aviv, 2009. P. 329. Работа посвящена извест¬
ной статье Дова Садана о еврейской литературе.
2 Tsirkin-Sadan R. Mahshavto shel Yosef Hayim Brenner ve-zikato la-sifrut ha-rusit:
Докторская диссертация. Еврейский университет в Иерусалиме, 2009. С. 212.
3 Scott U. Urban Society, Popular Culture, Participatory Politics, On the Culture of
Modem Jewish Politics // Insiders and Outsiders: Dilemmas of East European Jewry / Ed. by
R.L. Cohen, J. Frankel, S. Hoffman. Oxford, 2010. P. 153.
4 Shaked G. Ha-sifrut ha-ivrit, 1880-1970. Tel-Aviv, 1976. V. 1. P. 25.
5 Hakitsa ami (1863) // Kitvei Y.L. Gordon. Shira / Tel-Aviv, 1950. P. 17.
6 Lilienblum M.L. Hatot neurim. Ktavim otobiografiyim Jerusalem, 1970. VI, p. 219 .
7 Sefer ha-kabtsanim //Kol kitvei Mendele Moykher Sforim. Tel-Aviv, 1954. P. 115
8 Bialik H.N. Ha-Melits, ha-Tsfira ve-tseva ha-nyar, le-yovla shel ha-Tsfira //Kitvei
H.N. Bialik, Tel-Aviv, 1933.P. 472.
9 Kitvei Y.L. Gordon. Shira. Tel-Aviv, 1950. P. 1.
10 Предисловие к «Притчам Иехуды» (Kitvei Y.L.Gordon, Shira. Tel-Aviv, 1950.
P. 175-179.
11 «Ве-alot ha-shahar» // Ibid, P. 129.
12 Там же.
13 Bialik H.N. «Yotser ha-nusah» // Kitvei Bialik, Tel-Aviv, 1933. P 409.
14 Lahover F. Toldot ha-sifrut ha-ivrit ha-hadasha. Tel-Aviv, 1927. V. 3, part 2. P. 145.
15 Klauzner I. Be-hitorer am: ha-aliya ha-rishona me-Russia. Jerusalem, 1962. P. 475.
16 Там же. С. 521. Стихотворение увидело свет в журнале «Ха-Асиф» в 1885 г.
17 Im eshkahekh // Kol Shirei М.М. Dolitski. New York, 1895. Перевод Павла Беркова
цит. по: Антология ивритской литературы. Еврейская литература XIX-XX вв. в рус¬
ских переводах. М., 1999. С. 164.
18 Перевод Л. Яффе. Черниховский Ш. Стихи и идиллии. Иерусалим, 1990. С. 35.
19 Weisel N. Н. Divrei shalom ve-emet. Berlin, 1782. Глава 7.
20 Kitvei Y.L. Gordon. Shira. Tel-Aviv, 1950. P. 99
21 Gotlober A. Zikhronot u-masaot. Jerusalem, 1976. P. 205.
22 Tchemihovski Sh. Le-nokhah pesel Apolo // Idem. Shirim. Tel-Aviv, 1950. P. 74.
23 Ibid.
/473 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
24 Ibid. Р. 504.
25 Sefer heshbon ha-nefesh. Lemberg, 1808. Р. 56.
26 Kol kitvei Mendele Moykher Sforim. Tel-Aviv, 1954. P. 377.
27 Шолом-Алейхем. Менахем-Мендл // Шолом-Алейхем. Собр. соч.: В 6 т. T. 4. М.,
1973. С. 20.
28 Там же. С. 21.
29 Niger S. Y.L. Perets, hayav ve-yetsirato. Tel-Aviv, 1961. P. 136.
30 Bialik H.N. Devarim she-be-al-pe. Tel-Aviv, 1935.
31 Fainer S. Hamtsaat ha-et ha-hadasha — pereq ba-retorika u-va-todaa ha-atsmit shel
ha-haskala // Dapim le-mihqar be-sifrut. №11 (1998). P. 25
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Miron D. Rediscovering Haskalah Poetry // Prooftext. Vol. 1. 1981. P. 292-305.
Stanislavski M. For Whom Do I Toil? Judah Leib Gordon and the Crisis of Russian Jew¬
ry. New York, 1988.
Taylor D. Joseph Perl’s Revealer of Secrets: The First Hebrew Novel. Colorado, 1997.
Werses S. Sipur ve-shorsho, iyunim be-hitpathut ha-proza ha-ivrit. Ramat-Gan, 1971.
Lahover F. Toldot ha-sifrut ha-ivrit ha-hadasha. 4 vols. Tel-Aviv, 1963.
Kurtsveil B. Sifrutenu ha-hadasha — hemshekh or mahapekha? Jerusalem, 1965.
Shaked G. Ha-siporet ha-ivrit, 1880-1970. Tel-Aviv, 2009.
5.3
РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX в.
Владимир Хазан
усско-еврейская литература с первых артефактов своего суще¬
ствования («Вопль дщери иудейской» (1803) И.Л. Неваховича,
«Стихотворения» (1840) Л. Мандельштама и др.) функциониро¬
вала как форма социального сознания евреев Российской импе¬
рии. В основе утверждения еврейской судьбы и еврейских цен¬
ностей лежала, как правило, сострадательная формула «еврей тоже человек».
С ней были связаны главные достижения этой литературы и одновременно ее
основные проблемы и недостатки.
Русско-еврейская литература как социальный и эстетический феномен
зеркально отражала проблему двойственной жизни еврея в Российской им¬
перии, которую афористически кратко сформулировал поэт И.Л. Гордон: будь
евреем дома и человеком на улице. Противоречивость этой жизни естествен¬
ным образом должна было облечься в форму адекватных художественных
рефлексий. В соответствии с этим процесс формирования еврейской лите¬
ратуры на русском языке происходил в тесном взаимодействии: с одной сто¬
роны, «дочернем» — с русской литературой, а с другой — «сестринском» — с
еврейской литературой на иврите и идише. Именно этим определяется осо¬
бая «посредническая» феноменология русско-еврейских социальных и эсте¬
тических синтезов, носящих двойственный характер: зачастую теряя своего
естественного национального читателя, русско-еврейская литература не при¬
обретала взамен читателя русского. В то же самое время исторический генезис
/475/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
и последующее бытование русско-еврейского литературного феномена в XIX
и XX в. убеждает в том, что он удовлетворял важные общественные потребно¬
сти, даже если его художественные достижения шли вразрез с превосходящи¬
ми их читательскими ожиданиями. Возникновение русско-еврейской лите¬
ратуры, безусловно, можно расценить как своеобразную форму «адаптации»,
«приспособления» еврейского национального сознания к господствующим
государственным формам русской культуры — от языка и системы прерогатив
и презумпций, доминирующих в определенном типе духовного производства
(например, нормы стихосложения), до формально-типовых литературных
канонов (жанровых, образных и пр.) и способов организации писательской,
литературно-критической и издательской деятельности. Наряду с этим невер¬
но было бы абсолютизировать «адаптационную» сторону русско-еврейской
литературы и отрывать ее от «источниковой» сферы еврейского гнозиса, на¬
циональной традиции, основополагающих интеллектуальных, моральных и
культурных кодов. В этом смысле русско-еврейская литература и как способ
познания, и как форма национальной идеологии и психологии, и как эстети¬
ческий нарратив (выражение/описание национальной жизни) теснейшим об¬
разом была связана со своими «ближайшими родственниками» — ивритской
и идишистской литературой.
Освоение русских ценностей взамен собственно еврейских становится не
только одним из важнейших проблемно-тематических ареалов русско-еврей¬
ской литературы (см., например, роман С. Ан-ского «Пионеры»), но и в своем
роде ее фундаментальным творческим credo. По существу это определяет ту
изначальную дихотомию, которая выражалась в ориентированности русско-
еврейского литературного творчества одновременно на русскую и еврейскую
читательскую рецепцию. Перефразируя формулу, родившуюся в ином соци¬
ально-историческом контексте, можно сказать, что русско-еврейская литера¬
тура была русской по форме и еврейской по содержанию 1.
Несмотря на «экспериментальные» факторы, породившие тот националь¬
но-социально-культурный синтез, что зовется русско-еврейской литературой,
она представляет явление совершенно «натуральное», в котором со временем
зрело проявилось консолидирующее духовное начало самосознания народа. При
всем том, что «общественность» русско-еврейской литературы не стоит, по
всей видимости, абсолютизировать (и даже есть известный повод говорить о
противоречивости и проблематичности ее общественного значения 2), в наи¬
более адекватном историческом виде она должна быть воспринята и описана
именно с точки зрения своих общественных функций — как один из важнейших
идейных центров светской национальной жизни. Дихотомия русско-еврей¬
ской литературы, ее «посредническая» роль между русским и еврейским имели
свои эстетические последствия. В особенности явно это проявилось в том, что
сам процесс творческого производства и потребления оказывался основанным
/476/
5.3 / РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX В.
здесь на неколебимой вере и писателя, и читателя в то, что литература призва¬
на исправлять нравы и, стало быть, служить поставщиком примеров, где добро
торжествует над злом. Ограничение социального пафоса художественного изо¬
бражения жизни сугубо прикладным воспитательно-педагогическим значени¬
ем являлось одним из неизбежных логических следствий русско-еврейской
литературы как прежде всего общественного института.
В повести Г. Богрова «Пойманник» (1873), в которой сюжет уложен в аван¬
тюрное повествование о победе светлых и посрамлении темных сил жизни,
элемент занимательности служит дидактическим целям. Идеи Гаскалы стано¬
вятся здесь как бы не только содержательным фоном сюжетных событий, но и
превращаются в их формальный фактор, основное эстетическое ядро текста.
Главный герой повести, посланец добра, умный и благородный Арон, выигры¬
вал схватку против подкупа, подлости, предательства и лицемерия, наказывал
злодеев Генеха и Шмуля Кнопов за их грехи и женился на бедной Сарре. Тем
самым еврей-победитель Богрова, как сказочный герой, сокрушал порок и вос¬
станавливал попранную справедливость. В финале повести основное место ее
действия — грязная и преступная корчма — преображалась в лучах этой идил¬
лии в светлое и уютное помещение, где торжествовали силы чести и добра.
Пронизанность русско-еврейской литературы общественно-воспитатель¬
ными идеями делает ее ветвью социальной борьбы еврейского народа и смы¬
кает с задачами публицистики. Ее подчеркнутую тенденциозность в ущерб
художественности: живого развивающегося характера, сложной и многопла¬
новой жизненной фактуры, подлинной психологической глубины, неодно¬
значной образности и пр. — не раз отмечала критика; достаточно привести,
к примеру, остро полемическое суждение Баал-Махшовеса (Исраэль Исидор
Эльяшев) о том, что «русско-еврейские писатели не художники в своих расска¬
зах, а какие-то мстители» (1916). К наиболее общим и типичным слабостям
русско-еврейской литературы следует отнести схематизм в обрисовке характе¬
ров, многословие, мелодраматизм, неумение строить художественный сюжет,
известную композиционную рыхлость, сосредоточенность на рассеянных де¬
талях. Отсутствие художественного мастерства в особенности проявилось в
поэзии: в течение многих десятилетий еврейская поэзия на русском языке не
дала ни одного значительного имени, и наиболее состоятельным можно на¬
звать лишь творчество С. Фруга (80-е гг. XIX — начало XX в.).
Впрочем, главная слабость русско-еврейской литературы парадоксаль¬
ным образом вытекала из ее общей силы и основной специфики: типизация
внутри самого еврейского мира и как бы изначальная приверженность наци¬
ональным масштабам в ущерб общечеловеческим. Неспроста собственно ев¬
рейская художественная критика постоянно указывала на эту ограниченность
и ликовала в случае появления у русско-еврейских писателей чего-то выхо¬
дящего за рамки пресловутой еврейской проблематики. В этом отношении
/477/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
характерен отзыв критика о рассказах С. Юшкевича, в котором отмечалось,
что «в первый раз в русско-еврейскую литературу страстно, с душой занесены
общие проблемы нашей социальной и духовной жизни, и не между прочим,
не с специфическим еврейским привкусом, а художественно, свободно» 3. По¬
добная оценка, при явном сужении аксиологической перспективы (Юшкевич
в целом не поднялся над ассимилированным бытописанием еврейства) всё
же справедливо схватывала общую тенденцию к национальной локализации
идейного содержания, что не исключает ряда явлений, ее нарушающих: ска¬
жем, творчество О. Рабиновича с его «вечной» проблематикой власти денег в
повести «Мориц Сефарди» (1850), прославлением витального чувства радости
жизни в «Путешествии Хаим-Шулима» (1865); иронико-травестийный обман
читательских ожиданий в повести Г. Богрова «Маниак» (1884) и др.
Другая сторона известной художественной слабости русско-еврейской
литературы — утопичность, выдавание желаемого за действительное, извест¬
ная идеализация прошлого — также являлась воплощением самосознания
высокой идейной миссии исправить мир с помощью литературного слова.
Отсюда наглядны литературные «швы» надуманной, сочиненной реально¬
сти. Еврейские писатели нередко обвиняли русскую литературу в незнании
еврейского мира, но и нарисованный ими самими мир нередко предстает как
недостоверный, с искажением общей перспективы. Это в особенности про¬
являлось в текстах, имевших тенденциозную склонность ретушировать еврей¬
ские типы и образы или придавать изображаемому мелодраматизм, а также
окрашивать его унылым дидактизмом.
В повести А. Шкляревского «Хайка» (1879) растущий в обстановке нена¬
висти к евреям русский мальчик Сережа Молотовский, решив поиздеваться
над голодным евреем, просившим у него подаяния, дает ему шмат свиного
сала, который тот не может отвергнуть и жадно съедает, «как голодный зверь».
И тут с героем случается перемена: он прозревает. «В груди его, — читаем в
повести, — шевельнулось теплое чувство к Саулу. Будучи в высшей степени
религиозен и смышлен от природы, мальчик понял, что заставлять еврея по¬
ступать против своего закона отвратительно».
К важнейшим концептуальным проявлениям русско-еврейской литера¬
туры как источника общественных идей и ценностей следует отнести пробле¬
му национальной идентификации, в той или иной форме становившуюся зача¬
стую ее тематической основой или в значительной мере определявшую выбор
проблематики, систему мотивов и образов. Так, для нее остро стоял вопрос о
том, как человеку, родившемуся в нееврейской национальной среде, культуре,
языке и т.п., оставаться евреем (об этом, например, размышляет героиня ро¬
мана Л. Леванды «Горячее время», который печатался в 1—3 т. «Еврейской би¬
блиотеки» (1871—1873) и повествовал о Польском восстании 1863 г. и участи,
постигшей в нем евреев).
/478 /
5.3 / РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX В.
Осип Рабинович (1817—1869),
редактор газеты «Рассвет»
Лев Леванда (1835—1888)
Явившись историческим продуктом идеологии Гаскалы, русско-еврей¬
ская литература всецело отражала ее основные тенденции и противоречия, и
прежде всего самое фундаментальное: на фоне борьбы и утверждения нацио¬
нальных еврейских приоритетов — сильная ассимиляторская инерция. Офор¬
мившаяся окончательно как социально-эстетическое явление в середине XIX
в. и будучи непосредственной частью просветительского движения, она стала
феноменом, теснейшим образом связанным с русско-еврейской периодиче¬
ской печатью. Одним из типологических средств художественной изобрази¬
тельности и выразительности в русско-еврейской литературе, вытекающим
из ее общего самоощущения как формы национальной гносеологии, являлась
ирония. Иронический взгляд на мир, и прежде всего на собственные нацио¬
нальные драмы и несчастья служит спасительной эстетической мерой, предо¬
храняющей от озлобления и отчаяния. Легкая насмешка как бы сглаживает
шероховатости жизни и не дает риторике стать доминирующей формой пи¬
сательской речи, нередко снимает то или иное интонационно-тематическое
однообразие — так, к примеру, написана повесть Л. Леванды «Яшка и Иошка»
(1881). Сама по себе авторская ирония нередко обнажала ощутимую разницу
между идеализмом еврейского характера и способами его изображения, как в
рассказе Н. Пружанского «Мой друг Абрам Шлезингер» (1903), в главном ге¬
рое которого автор иронически подчеркивает трезвомыслие и практическую
/479 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
жилку, оказывающиеся дутыми и ложными, — на самом деле он простодушен,
наивен и идеалистичен (идеализм героев Пружанского отмечала и критика).
В ряде случаев, как это, скажем, проявляется в лучших вещах О. Рабиновича
(«История о том, как реб Хаим-Шулим Фейгис путешествовал из Кишинева
в Одессу и что с ним случилось», 1865), иронические потенции, с одной сто¬
роны, обнажают глубоко скрытые в тексте безыронические смыслы, богатую
идейную семантику, а с другой — сближают русско-еврейскую литературу с
традиционным для еврейской культуры фольклорно-смеховым началом и его
высшими проявлениями в еврейской литературной классике на идише. Од¬
нако вопрос об ироническо-гротескных потенциях русско-еврейской лите¬
ратуры исследован явно недостаточно и далек от каких-либо окончательных
выводов.
Одним из проявлений указанной дихотомии русско-еврейской литера¬
туры стал установленный ею по отношению к собственным идейно-художе¬
ственным целям опыт эталонности русской литературы. На практике это ока¬
залось связанным с негативным эффектом подражания классическим образ¬
цам русской литературы и их нескрываемой имитации («перевод с русского на
еврейский»), что приводило в итоге к сниженной или дефектной изоморфиза¬
ции, выражавшейся, в частности, в поиске соответствий писательских имен:
«еврейский тот-то» — это «русский тот-то».
Зависимость русско-еврейской литературы от русской классики прояви¬
лась и в том, что она в известной мере пошла за тем направлением, которое
можно было бы назвать общественно-демократическим, «идейным», ибо остро
сознавала свою «общественность», свои социальные цели, поплатившись за
это психологизмом и тем эстетическим богатством, которое присуще нетен¬
денциозному художественному сознанию (так, один из героев С. Ан-ского из
повести «Пионеры», Геверман, ставит книги А. Шеллера-Михайлова («Лес
рубят — щепки летят», «Гнилые болота»), ничтожные в художественном отно¬
шении, но зато «общественные», выше А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского).
Отсюда естественным образом вытекало и то, что для еврейского писате¬
ля, писавшего по-русски, считалось почетным быть опубликованным в каком-
то русском печатном органе: то, что, например, Г. Богрова печатал крупный
журнал «Отечественные записки», придавало его имени на еврейской улице
особую славу. При этом двойная национально-культурная идентификация,
как правило, связана в русско-еврейской литературе с зыбкой гранью между
разными писательскими статусами — русским, ассимиляторским и собствен¬
но еврейским: неслучайно практически все наиболее заметные фигуры, пе¬
чатавшиеся в русско-еврейском еженедельнике «Рассвет», — С.А. Венгеров,
М.С. Абрамович (поэт), Н.М. Виленкин (Минский), Л.З. Слонимский,
Г.И. Богров — приняли христианство, а Л.О. Леванда, до погромов 1881 г.,
приведших его к палестинофильству, был горячим сторонником еврейской
/480/
5.3 / РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX В.
ассимиляции и создателем целой программы ее осуществления («перерожде¬
ние русского еврея в русского гражданина»).
В то же время в факте ученичества русско-еврейских писателей у своих
русских коллег следует, разумеется, видеть и положительную сторону, в осо¬
бенности в отношении формирования собственно литературной техники и в
целом художественного мастерства. Большое влияние на русско-еврейских
писателей и очеркистов имел М.Е. Салтыков-Щедрин, сатирическое письмо
которого (ирония, насмешливость, саркастический юмор, гротескные образы
и проч.) были активно взяты ими на вооружение, в первую очередь там, где на
передний план выступало описание нравов и требовалось запечатлеть сочный
колорит национальных типов и характеров (например «Из хроники местечка
Черашни» Б. Фербера, 1890). Под явным влиянием русского и европейского
социально-психологического романа в русско-еврейской литературе сложил¬
ся жанр неспешно-размеренного бытописания («Выходцы из Межеполя» С.
Ярошевского, 1891), а в конце XIX — начале XX в. большое влияние на рус¬
ско-еврейскую словесность оказала народническо-разночинная русская про¬
за: типичный пример — повесть Н. Когана «В еврейском местечке».
Соседство русской и русско-еврейской литератур было связано с любо¬
пытным феноменом открытия еврейского автора, в том числе, кстати, и для
собственно еврейского читателя, через русскую литературу. Так, в частности,
Ш. Аш пришел в еврейскую литературу через русскую.
«Двойное гражданство» русско-еврейской литературы оказалось связано
с серьезной проблемой недоверчивого отношения к ней еврейской критики,
пусть и на русском языке, но имевшей прописку в еврейской прессе. В ее гла¬
зах русско-еврейский литературный «кентавр» имел весьма опосредованное
отношение к подлинной еврейской жизни. В свою очередь русско-еврейские
авторы ревностно относились к обращению русских писателей к еврейской
теме: так, например, Г. Богров выступил с фельетоном «Талмуд и каббала по
“Русскому вестнику”», направленным против рассказа Н.С. Лескова «Раку¬
шанский меламед».
Проблемно-тематическая целостность русско-еврейской литературы пол¬
нее всего проявляется в типологической общности мотивов. Именно повто¬
ряемость сходных или однородных мотивов (своего рода проблемно-темати¬
ческих топосов) аттестует ее как идейно-эстетическую систему, а не случайное
идеологическое образование и одновременно позволяет установить наиболее
эффективные способы описания ее существа и специфических особенностей.
В известном смысле «мотивное поле» русско-еврейской литературы свиде¬
тельствует о ее вынужденной тематической «свернутости». Набор ее образных
нарраций ограничен, как правило, кругом скупого на радости бытия, изнуря¬
ющей и не приносящей ни прибыли, ни морального удовлетворения работой,
горестями, бедами и болезнями. За рядом немногих исключений, весьма огра¬
/481/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
ниченному объему данной проблематики соответствует некоторое однообра¬
зие эмоциональной палитры — в ней, как правило, отсутствует то богатство и
многообразие стилевых интонаций и настроений, которые присущи художе¬
ственному сознанию, развивающемуся в условиях подлинной социальной и
творческой свободы. По справедливому замечанию М. Гершензона, история
отняла у еврейства беспечность — «драгоценнейшее благо смертных, источ¬
ник духовной свободы, родник величия и красоты» 4.
Среди наиболее отчетливых и знаменательных мотивов русско-еврейской
литературы можно выделить следующие:
1. Изображение еврейского и русского: обособленность и соседство. Один из
ключевых аспектов проблематики произведений русско-еврейских авторов ка¬
сался осмысления «своего» и «чужого», что чаще всего находило выражение в
утверждении невозможности замкнуть и сделать непроницаемым от внешне¬
го вторжения и влияния традиционный национально-религиозный еврейский
мир. Отгороженность еврейского от русского прослеживается в жизни и лите¬
ратуре вплоть до конца XIX — начала XX в. Осмыслению этих процессов по¬
священы многочисленные произведения: дилогия С. Ярошевского «Разные те¬
чения» и «В водовороте» (1882—1883), «Мендель Турок» (1892) С. Ан-ского и др.
Однако несмотря на существование достаточно прочных патриархаль¬
ных устоев еврейской жизни, на ней неизбежно сказывалось то, что позднее
В. Жаботинский в романе «Пятеро» назовет «эпохой еврейского обрусения»
(и не только назовет, но и пластически зримо изобразит). При этом сама по
себе изолированность еврейского от русского и порождаемая этим их вза¬
имоконфликтность становились для русско-еврейских писателей основой
напряженного этико-социального исследования. Существовавшие пере¬
городки между «своим» и «чужим» служили благодатным изобразительным
материалом: в частности, повествованием о невозможности любви между
людьми, принадлежащими к разным национальностям и религиям, как, на¬
пример, в повести Н. Линовского (Пружанского) «На перепутье» (1883). Не
редкость, когда преодоление национально-религиозных установлений и за¬
претов приобретало в русско-еврейской литературе драматический накал и
приводило к трагическим последствиям (например в повести А. Чудновского
«Степняк-Соломон», 1881). В «Записках отщепенца» (1884) Г. Баданеса (наст.
фам. Г. Гуревич) обрусение маскила завершается двойной трагедией: отход от
«своих» и превращение в «истого русского» не приводит к приятию «чужи¬
ми», продолжающими относиться к герою как к «жиду», ср. сходную драму
Сендера в романе С. Ан-ского «В новом русле» (1906).
Вскрывая амбивалентность «своего» и «чужого» (с одной стороны, стрем¬
ление к сепаратизму, а с другой — неизбежная взаимосвязь и соседство), рус¬
ско-еврейская литература доводила до максимальной экспрессии мысль об
одинаковой погруженности обоих миров — еврейского и русского — в слож¬
/482/
5.3 / РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX В.
ные жизненные проблемы, общие для обоих. Эта параллельность и типоло¬
гичность разнонациональных судеб подчеркивалась чисто художественными
средствами, ср., напр., параллелизм как композиционный принцип постро¬
ения повести Л. Леванды «Яшка и Иошка» (1881), в которой два повество¬
вания — о еврейской и русской семьях — сплетаются в единый сюжет. Еще
более интересным в этом отношении является форма выражения дихотомии
еврейского и русского через дуализм единого сознания. Главный герой романа
Д. Миррина «История одного еврейского интеллигента» (1905), пережив мно¬
жество увлечений и превращений, приходит в финале к сионизму, совершив
эволюцию, как он сам говорит, от русского к еврейскому народничеству.
В некоторых случаях героем русско-еврейской литературы оказывается
не только еврей, но и русский: в рассказе А. Шкляревского «Хайка» воспи¬
танный в обстановке отвращения к евреям, русский учитель гимназии Сергей
Молотковский влюбляется в свою ученицу-еврейку и женится на ней. Чтобы
замирить противоречивую действительность, автор сочиняет искусственно¬
сентиментальный финал: их брак продолжается восемь месяцев, Эсфирь рожа¬
ет мертвого ребенка и сама умирает при родах. Молотковский сходит с ума.
2. Разрушение традиционно-религиозного еврейского мира, распад и разло¬
жение еврейской общины. Процесс ассимиляции и русификации еврейства,
начавшийся в середине XIX в., усилился в его последней трети и достиг куль¬
минации в начале XX в. О распаде еврейского национального мира в эпоху
конца 70-х гг. повествуется в представительном корпусе текстов русско-еврей¬
ской литературы. Так, например, в романе С. Ярошевского «На пути» (1885)
бунтующие герои Ярошевского не просто расшатывают нормы традиционно¬
го еврейского мира, но один из них, Радовер, после посещения Палестины
даже объявляет себя христианским миссионером. Пафос романа заключается,
однако, в утверждении невозможности устранить пропасть, отделяющую ев¬
рейский мир от русского. Последняя треть XIX в. эпично представлена в по¬
вести С. Ан-ского «Первая брешь» (1903) как эпоха, «когда просветительное
движение охватило широкие слои средней еврейской интеллигенции».
Проявление новых тенденций, среди прочего, сказывалось в таком явле¬
нии, как выделение из еврейской общины фигуры крупного дельца, изобра¬
жавшегося, как правило, мрачными красками или, по крайней мере, как лич¬
ность крайне малосимпатичная (роман Л. Леванды «Исповедь дельца», 1880);
мир еврейской коммерции воссоздан также в его романе «Большой Ремиз»
(1881). С коммерциализацией связана также тема национального оппорту¬
низма в еврейских семьях, пробившихся на вершину материального успеха
и благополучия и занявших высокое положение в обществе. По сюжету рас¬
сказа М. Варшавского «Приключение» (1892), где нарисована одна из таких
семей, происходит неожиданный и показательный случай: во время обеда в
доме евреев Бродовичей-Ваксенштейн русский мальчик-подросток, сын кня¬
/483 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
зя, нашептывает дочке хозяев, что в лежащую на столе мацу добавляют кровь
христианских младенцев. Разразившаяся детская истерика приводит родите¬
лей к решению вернуть ребенка в лоно национальной истории и культуры.
Своеобразной кульминации этот процесс достигает у русско-еврейских писа¬
телей эпохи fin de siecle, как, например, в пьесе С. Юшкевича «Король» (1908),
где расслоение еврейской среды — «еврей идет против еврея» — прямо связа¬
но с разлагающим влиянием денег.
3. Антисемитизм в его разнообразных формах и проявлениях. Русско-
еврейская литература явилась одной из форм борьбы с антисемитизмом.
Зоологическая ненависть русских к евреям изображена в большом количе¬
стве произведений русско-еврейской литературы. Так, новелла Г. Богрова
«Вампир (Из путевых воспоминаний)» построена на «криминальном казу¬
се» обвинения еврея в попытке убить христианского ребенка для ритуаль¬
ных целей; патологическое восприятие евреев русскими (все евреи поголов¬
но — воры, грабители, похитители, которых следует сторониться) изображено
в повести Н.О. Линовского (Пружанского) «На перепутье» (1883). В другом
его произведении, рассказе «Елка» (1883), толпа православных устраивает в
квартире еврея-купца Швейцера настоящий погром за то, что тот поставил
елку. Услышанное от русской девочки в детстве «Уходи! Ты жид!» отравляет
всю дальнейшую жизнь героя (рассказ «Неудачник» (1892) С.О. Грузенберга,
брата известного адвоката). Оскорбления, которым подвергает русский му¬
жик еврея-подростка Мотьку, приводят того к бурному, хотя и бессильному
протесту; однако когда под мужиком проламывается лед и он провалива¬
ется в полынью, Мотька спешит ему на помощь, и они оба уходят под воду
(«Враги» Д. Айзмана, 1905). Велижский кровавый навет лег в основу романа
М. Рывкина «Навет» (1903).
Особое место в русско-еврейской литературе занимает тема погрома: одно
из первых описаний погромных зверств дано в рассказе Богрова «Книжница»
(об одесском погроме 1871 г.), погром изображен также в его повести «Былое»,
повести Ярошевского «В водовороте» (1883) (здесь же появляется мотив под¬
готовки евреев к эмиграции из России), в рассказе «Сердце бытия» (1906) и
повести «Кровавый разлив» (1907) Айзмана, рассказе О. Дымова «Погром»
(1905) и его пьесе «Слушай, Израиль!» (1907).
4. Изображение нищеты, лишений, бесправия и униженности; бытописание
еврейства как безрадостного и беспросветного существования. Непроходимая
нищета, бедная на радости, бесправная жизнь, голод и болезни выступают в
русско-еврейской литературе неизменным фоном и образом еврейского бы¬
тия. Жизнь еврея как непрекращающееся однообразие рабочих будней под¬
черкнуто в ней самими названиями произведений, в которых отражен мир
«еврейских» профессий: «Сапожник» (1881) А. Чудновского, «Портной (Из ев¬
рейского быта)» (1897) С. Юшкевича, «Портной Хацкель» А. Свирского и т.п.
/484/
5.3 / РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX В.
Горькая участь быть рожденным евреем хотя и осмысливалась в категори¬
ях «безвинной вины», в эмоциональном отношении не вела далее привычных
писательских сетований на мировой неправопорядок. Русско-еврейские пи¬
сатели констатировали, что «комплекс еврея» — привычка к бесправию и под¬
чинению силам зла — внушался с детства и поддерживался изнутри самой ев¬
рейской общины всей системой социальной педагогики. Ужасающая нищета
еврейской массы — тема, которая станет сквозной в творчестве С. Юшкевича
(«Распад», 1895, опубл.. в 1902; «Ита Гайне», 1902; «Евреи», 1904; «Левка Гем»,
1906, и др.) и Кармена (наст. имя и фам. — Л.О. Корнман), была в русско-
еврейской литературе едва ли не впервые изображена в повести С. Ан-ского
«История одного семейства» (1884; первоначально написана на идише, но не
опубликована; при публикации в «Восходе» подписана: Псевдоним), а также
в его рассказе «Пасынки» (1881); к теме тяжелого добывания хлеба насущного
обращались С. Ярошевский (повесть «Суббота», 1884, хотя здесь писатель и
постарался сконструировать благостный финал), Д. Айзман («Об одном зло¬
деянии», «Саван»). Однако горше и страшнее всякой нищеты было в глазах
русско-еврейской литературы еврейское бесправие (одним из первых о нем
заговорил Г. Богров в «Записках еврея», 1860-е гг.).
Среди разнообразных поворотов этого проблемно-тематического русла
выделяется проблема еврейской проституции — девочки и молодые женщи¬
ны, выброшенные нищетой на улицу и вынужденные торговать собой, чтобы
не умереть с голоду (например, очерк Юшкевича «Жалость», 1903).
Большое место внутри данной рубрикации занимает тема рекрутчины,
принудительной воинской повинности (в более узком и специальном смыс¬
ле — кантонистов) 5. В русско-еврейской литературе широко отражена карти¬
на рекрутского набора евреев на 25-летнюю солдатскую службу, изображены
«ловцы» — те, кто осуществлял рекрутский набор, и «пойманники» — евреи,
которых ловили и забирали в солдаты.
Одно из наиболее известных произведений на эту тему — повесть О. Ра¬
биновича «Штрафной» (1859); позднее последовала другая его повесть, тема¬
тически ей близкая, «Наследственный подсвечник». Тема рекрутчины широ¬
ко представлена у Богрова (повесть «Пойманник» (1873), «Записки еврея»), а
также в серии очерков «Из быта кантонистов» В.Н. Никитина, в повести Бен-
Ами (1884) «Бен-Юхид», в рассказах «Заколдованный» (1884) П. Левинсона,
«Могильщик Абрам и казначей Николай Карпов» (1895) Л. Зайделя и др.
Отдельной рубрикации достойны:
5. Роман или повесть о воспитании. Описание детства, рост и формирова¬
ние молодого сознания, жизнь глазами ребенка показаны в «Записках еврея»
Г. Богрова, обширный мемуарно-повествовательный пласт содержат расска¬
зы, этюды и зарисовки Бен-Ами, которому принадлежит целое направление
изображения мира еврейского детства: «Пурим» (1883), «Детство», «Через
/485 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
границу» (1891); к этой же линии в более отдаленной временной перспективе
можно отнести еврейские страницы в автобиографическом «Шуме времени»
(1925) О. Мандельштама, «Историю моей жизни» (1929-1940) начинавшего
в конце XIX в. как русско-еврейский писатель и затем перешедшего в право¬
славие А. Свирского, «Повесть о детстве» (1938) М. Штительмана и др. Зача¬
стую тема детства изображается в русско-еврейской литературе не как самая
светлая пора человеческой жизни, а наоборот — как каторга: побои, ругань,
срывание старшими своей злости и недовольства жизнью на детях, причем
не только в бедняцких семьях, но и у относительно обеспеченных родителей
(Р. Хин «Макарка», 1889). Сюда же примешиваются систематические издева¬
тельства русской детворы над несчастным еврейским подростком, побои в хе¬
дере и прочее.
6. Тема женской судьбы. Выделяя образ еврейки в отдельную рубрику, сле¬
дует подчеркнуть особую важность женской судьбы (женской добродетели /
женского греха), изображение которой позволяет русско-еврейским писате¬
лям запечатлеть трагические стороны жизни.
В повести Я. Розенберга «Материнское горе» (1903) изображаются непро¬
стые отношения между матерью и дочерью, которая растет без отца. Другой
поворот материнско-женской темы — «мать-заместительница», кормящая чу¬
жих детей, а своих бросающая на произвол судьбы (С. Юшкевич «Ита Гайне»).
Еще более суровой семейной драмой оборачивался свободный выбор девуш¬
кой будущего жениха, как в начале повести С. Рабиновича «Роман моей ба¬
бушки» (1891): дочь, в обход принятых еврейских традиций и воли родителей,
объявляет отцу, что она любит своего учителя и жить без него не может. Это
вызывает в ее семье бурный семейный разлад.
Один из мотивных ареалов русско-еврейской литературы — женитьба в
раннем возрасте (как пишет в «Записках еврея» Богров, «на каждом шагу встре¬
чались пятнадцатилетние отцы семейств, обучавшиеся еще в еврейских шко¬
лах, и матери, игравшие в куклы»), на которую российское правительство нало¬
жило запрет. Это породило волну фальсификаций возраста еврейских отроков и
отроковиц в официальных документах за определенное вознаграждение.
Существовавший у евреев институт сводничества нередко приобретал в
русско-еврейской литературе сатирический характер, а деятельность сводни¬
ков подавалась как откровенное плутовство и «гешефтмахерство»: см., напри¬
мер, в повестях «Яшка и Иошка» (1881) Л. Леванды или «Около любви» (1892)
Б. Фербера.
* * *
Данный краткий обзор утверждает в мысли, что несмотря на отсутствие
крупных и значительных достижений идейно-художественный опыт, нако¬
пленный русско-еврейской литературой в XIX в., обладал известной концеп¬
/486/
5.3 / РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX В.
туальной перспективой и эволюционной динамикой. В дальнейшем он был
органично подхвачен и продолжен следующими поколениями русско-еврей¬
ских писателей — И. Бабелем, В. Жаботинским, А. Соболем, И. Эренбургом,
В. Гроссманом и др. Многие из отмеченных проблем — под воздействием но¬
вой реальности — трансформировались, однако целый ряд представленных
здесь позиций приобрел инерционный характер, определяя и экстенсивный
рост данного феномена, и его интенсивную, сугубо творческую, субстанцию.
1 Ср. с иным, хотя и аналогичным изводом этой мысли: еврейская литература,
«но на русском языке и по русским образцам» (Лазарев М. Задачи и значение русско-
еврейской беллетристики // Восход. 1885. № 4. II отд. С. 30).
2 См., к примеру, в письме Л.О. Леванды к классику еврейской литературы
Л.О. Гордону от 7 июня 1885 г., в котором он отказывается от празднования своего
юбилея и в качестве причины пишет о том, что чествование писателя, который ни¬
кому не нужен и никому не интересен, лишено всякого смысла; полагая, что для по¬
давляющего большинства еврейской публики русско-еврейская литература — «terra
incognita», он далее замечает, что «даже многие из наших интеллигентов считают ее
явлением случайным, ненормальным, преходящим и даже прискорбным» (Пережи¬
тое. Т. IV. С.-Петербург, 1913. С. 332); Л. Леванда намекал на упомянутую выше статью
М. Лазарева.
3 Мечтатель. Литературные заметки // Еврейская жизнь. 1905. № П.С. 153.
4 Еврейская антология: Сборник молодой еврейской поэзии / Под ред. В.Ф. Хо¬
дасевича и Л.Б. Яффе; предисл. М.О. Гершензона. М.: Сафрут, <1918>. С. VII.
5 Тема рекрутчины оказалась в центре внимания и литературы на идише, см., на¬
пример, драму И. Аксенфельда «Der ershter idisher rekrut» (1862; «Первый еврейский
рекрут»).
5.4
ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Григорий (Гиллель) Казовский
ервые профессиональные евреи-художники и музыканты (ком¬
позиторы и исполнители) заявили о себе в российской худо¬
жественной культуре в начале первой половины XIX в. Их по¬
явление было одним из симптомов модернизации российского
еврейства, в ходе которой евреи не только заняли новые для них
позиции в экономике и социальной структуре, но и интегрировались в раз¬
личных областях российской культуры и искусства. Если поначалу они были
представлены в этой сфере лишь отдельными личностями, то уже перед Пер¬
вой мировой войной представительство евреев в русской художественной жиз¬
ни значительно возросло. Евреи стали участниками практически всех художе¬
ственных группировок и течений русского искусства и музыки, в которых они
часто играли активную и влиятельную роль. Это, в частности, свидетельствует
о том, что у еврейских деятелей культуры отсутствовала единая эстетическая
программа. Не было у них и единой национально-культурной позиции.
В настоящей статье будет сделан обзор деятельности и идеологии только
тех художников и композиторов-евреев России, которые в процессе аккульту¬
рации не утратили свою национальную идентичность и считали необходимым
выразить ее в своем творчестве. Рассмотренные в этом контексте искусство,
музыка и театр на идише образуют важнейшие направления развития нацио¬
нальной культуры российского еврейства.
/488 /
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
ИСКУССТВО
Скульптор Илья Гинцбург в своей мастерской.
Фотография нач. XX в. Из собрания Г. Казовского,
Иерусалим
29 ноября 1915 г. в Петрограде
состоялось учредительное собрание
Еврейского общества поощрения
художеств. Один из его участни¬
ков, С. Ан-ский, оставил в своем
дневнике краткое описание раз¬
вернувшейся в ходе собрания дис¬
куссии о стоящих перед еврейскими
художниками особых задачах. Сам
С. Ан-ский требовал от них верно¬
сти «еврейской теме». Скульптор
Илья Гинцбург (1859-1939), воз¬
ражая ему, заявил, что еврейский
художник свободен в выборе тем
для своих произведений, но должен
сделать свой вклад в «универсаль¬
ную тему переживания еврейской
души». Натан Альтман (1889-1970),
молодой, но уже достаточно извест¬
ный в то время художник, говорил о
необходимости поиска формальных
средств выражения «национально¬
го» 1. Полтора месяца спустя, 11 ян¬
варя 1916 г., на одном из заседаний
общества Альтман вторично «выска¬
зал мысль, что дело не в художниках-евреях, а в том, работают ли они в наци¬
ональном духе, создают ли они национальные ценности» 2.
По этому вопросу существовало и другое мнение, которое явным или
скрытым образом обнаружило себя также в связи с учреждением Еврейско¬
го общества поощрения художеств. Хотя общество и видело одну из главных
своих задач в консолидации всех художников-евреев в России (независимо от
их возраста и принадлежности к разным течениям искусства) или хотя бы в
привлечении их к своей деятельности, однако далеко не все они были готовы
не только стать членами общества, но даже принимать участие в его меропри¬
ятиях. Например, художник Леонид Пастернак (1862—1945), близкий к среде
деятелей еврейской культуры и сионистского движения, поддерживавший от¬
ношения с С. Ан-ским, счел, тем не менее, нужным публично дистанциро¬
ваться от общества и «нашел для себя предосудительным участие на еврейской
выставке» 3, организованной обществом в 1917 г. в Москве. На протяжении
/489 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
всей своей жизни Пастернак неодно¬
кратно высказывал убеждение, что в
галуте у еврейских художников не мо¬
жет быть особых задач и что, несмотря
на их несомненный вклад в мировое
искусство, их творчество не несет на
себе оригинального отпечатка их наци¬
ональности. Объясняя свою позицию,
он писал: «С тех пор, как нам была да¬
рована возможность наслаждаться си¬
янием искусства (только в прошедшем
[XIX. — Г.К.] столетии — начиная с его
60—70-х гг.), некоторые евреи просла¬
вились своими творениями, и вместе с
ними — мы, еврейский народ, показа¬
ли, что более не отстаем от других наро¬
дов в восхождении на сцену пластиче¬
ских искусств. Однако сегодня все они
[еврейские художники. — Г.К.] творят
на универсальном языке искусства За¬
пада — но иначе и не может быть в чуж¬
дой среде, на чужбине. Национальное
искусство может появиться во всех своих чистых и явных формах только в на¬
циональной отчизне» 4.
Приведенные мнения Ан-ского, Гинцбурга, Альтмана и Пастернака пред¬
ставляют практически весь спектр взглядов на природу «еврейского искус¬
ства» и «еврейского художника», которые остаются актуальными и в наши
дни. Вместе с тем каждое из них отражает определенный этап эволюции ев¬
рейского сознания и развития национальной культуры и искусства.
Наиболее раннему из таких этапов соответствует позиция Ильи Гинцбурга
(1859—1939). Точнее, ученик и преданный апологет первого в России «еврей¬
ского художника», скульптора Марка Антокольского (1843-1902), Гинцбург
в очередной раз выступил здесь как последователь и интерпретатор творче¬
ства и идей своего учителя и кумира. Правда, первые произведения самого
Антокольского, принесшие ему известность в середине 1860-х гг, выполнены
именно на «еврейскую тему». Однако обращение к этой теме в творчестве Ан¬
токольского осталось всего лишь эпизодом первых лет пребывания молодого
скульптора в Петербурге и является результатом влияния той художествен¬
ной среды, в которую он попал, поступив в Академию художеств в 1862 г. Там
Антокольский сблизился с группой молодых художников, будущих «пере¬
движников», декларативно выступавших как «национальная школа» в рус-
/490 /
Марк Антокольский (1843-1902).
Фотография 1860-х гг.
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
ском искусстве. Признанный глава этого направления и его ведущий идеолог,
влиятельный художественный критик Владимир Стасов (1824-1906) видел в
«национальном русском искусстве» результат творчества не одних только рус¬
ских, но и всех других народов, населявших Российскую империю. Поэтому
он восторженно принял «еврейские» реалистические работы Антокольского,
справедливо оценив их не только как начало обновления русской скульптуры,
но и как знак прихода «еврейского племени» в искусство.
Тем не менее Антокольский довольно быстро ушел от «еврейской темы»,
невзирая на упреки Стасова, обратился к «универсальным» сюжетам и имен¬
но в них наиболее полно выразил свое творческое кредо и национальную
идентичность. В частности, в 1870-1880-е гг. он выполнил скульптуры Хри¬
ста, Сократа и Спинозы — «Друзей человечества», как сам их назвал. Создавая
образы этих личностей, он апеллировал к идеалам бескорыстного следования
истине, высоких нравственных принципов и борьбы со злом и насилием. Эти
идеалы составляли основу его мировоззрения, в котором сочетались и допол¬
няли друг друга фундаментальные идеи Гаскалы и демократического направ¬
ления в русской культуре 1860-х гг. с их верой в социальный и нравственный
прогресс, в котором важная роль отводилась искусству. Антокольский рассма¬
тривал свое творчество как служение этим идеалам и следовал в этом Стасо¬
ву («служение» — одно из ключевых слов в лексиконе Стасова). Вместе с тем
/491/
Слева — М. Антокольский. Еврей-портной, горельеф. 1864. С. Петербург, ГРМ.
Справа — М. Антокольский. Христос перед судом народа. 1874
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Антокольский как маскил видел свою
главную задачу в исполнении осо¬
бой — еврейской — миссии, имею¬
щей, по его убеждению, общечелове¬
ческое значение, а потому обращен¬
ной ко всем народам и выраженной
в понятиях универсальных истин.
Его «Христос перед судом народа»
(1873—1874) — первое в мировом
искусстве изображение Иисуса как
традиционного еврея — содержит
не только ответ скульптора на анти¬
еврейские эксцессы в России и на
антисемитскую критику в его адрес
в русской прессе 5, но и напоминание
о еврейском происхождении основа¬
теля христианства, а значит, и о той
роли, которую евреи сыграли в миро¬
вой истории и культуре 6.
Антокольский, несомненно,
внес значительный вклад в развитие русской скульптуры, обогатив ее реа¬
листическим психологизмом и историзмом. Для российской еврейской ин¬
теллигенции он стал символической личностью. По словам Ильи Гинцбурга,
«Антокольский — первый скульптор-еврей, который благодаря своему вы¬
дающемуся таланту приобрел громкую известность и всемирную славу. Его
дарование представляет исключительное явление в истории интеллектуаль¬
ной жизни евреев: он первый опроверг старую легенду о том, что евреи не
способны к скульптуре; вслед за ним появляется целая плеяда талантливых
евреев, которые стали заниматься скульптурой с таким же успехом, как и
другими искусствами» 7. Однако многие художники-евреи, пришедшие после
Антокольского в русское искусство, следовали иным, чем он, моделям на¬
циональной и культурной идентичности. Например, Исаак Левитан (1861—
1900) и Лев Бакст (1866-1924) практически полностью дистанцировались от
еврейства, органично интегрировались в русскую культуру и идентифициро¬
вались с русским искусством. В его истории они занимают прочные и видные
места — Левитан как один из крупнейших русских пейзажистов, «певец рус¬
ской природы» 8, а Бакст — как один из реформаторов русской сценографии,
художник «Русских сезонов», в немалой степени способствовавший мировой
славе русского балета. Сходной, хотя и менее однозначной, была позиция та¬
ких художников, как Леонид Пастернак и Борис Анисфельд (1878-1943). Со¬
храняя связи с еврейской средой, они прежде всего позиционировали себя
И. Пэн. Часовщик. 1914. Холст, масло.
Национальный художественный музей
Республики Беларусь
/492 /
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
М.Л. Маймон. Тайный седер в Испании времен инквизиции (Марраны). 1893-1894
как русские художники, и принадлежность к «высокой» русской культуре и
искусству представлялась им более важной, чем их еврейская идентичность.
Зато такие художники, как Моисей Маймон (1860-1924), Иегуда Пэн (1854—
1937) и Исаак Аскназий (1856-1902), в полной мере артикулировали имен¬
но свою еврейскую идентичность. Подобно Антокольскому, они испытали
на себе влияние идей Гаскалы, но в отличие от него осознали их анахронизм
после погромов начала 1880-х гг. и солидаризировались с той частью россий¬
ской еврейской интеллигенции, которая пыталась сформулировать принци¬
пы нового еврейского самосознания и начала создавать современные формы
еврейского национального движения.
В 1880—1890-е гг. те художники-евреи, которые сочувствовали нацио¬
нальным идеям, по-новому «услышали» и призывы Стасова с его требовани¬
ями «служения искусства народу». Этот императив для художников-евреев в
контексте исторических коллизий российского еврейства приобрел совер¬
шенно определенный смысл — «служения» своему собственному, еврейскому
народу. Представлялось, что свой долг перед народом художник может выпол¬
нить, создавая «национальное искусство», характеристики которого также за¬
давались параметрами эстетической системы Стасова. В этой системе «наци¬
ональным» считалось искусство, «правдиво» отображающее народную жизнь
в ее истории и повседневных проявлениях. Сюжеты еврейской истории, и
прежде всего библейской, становятся одним из важнейших источников про¬
изведений еврейских художников. При этом, используя сюжеты, имеющие
/493 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
давнюю традицию в мировом искусстве, они вкладывали в них свой особый
смысл: герои Библии — цари, воители и пророки — должны были пробуждать
национальную гордость, напоминая униженному народу о его великом про¬
шлом. Так, Аскназий придал персонажам своих картин «Моисей в пустыне»
(1885; за эту картину художник получил звание академика) и «Когелет» («Суе¬
та сует», 1900) черты величия и возвышенной духовности, а Маймон, изобра¬
жая «библейские типы» (альбомы «Мужи Библии» и «Библейские женщины»,
1897), создал «образы классической красоты древнего еврейского народа», как
писал об этих альбомах современный еврейский критик 9.
Обращаясь к еврейской истории, еврейские художники искали в ней от¬
веты на вопросы современной им действительности и придавали сюжетам
прошлого актуальное звучание. Например, одна из самых известных картин
Маймона — «Тайный седер в Испании времен инквизиции» (другое, более
распространенное название — «Марраны», 1892—1893), работу над которой
художник начал в год 400-летней годовщины изгнания евреев из Испании,
является откликом на депортацию в 1892 г. евреев из Москвы, сопровождав¬
шуюся полицейскими репрессиями и сохранившуюся в еврейской памяти как
«Московское изгнание». Как позднее писал сам Маймон об этой картине, он
решил «одеть персонажи в испанские костюмы и отодвинуть событие на че¬
тыреста лет назад»10. Антисемитские публицисты дезавуировали это намере¬
ние художника и обвинили его в политической неблагонадежности.
Подобно произведениям на исторические сюжеты, жанровая картина,
изображавшая повседневную еврейскую жизнь или события современной
истории, давала еврейскому художнику возможность выразить свое отноше¬
ние к различным национальным проблемам. Например, Иегуда Пэн написал
немало картин, изображающих еврейских ремесленников за их занятиями.
В этой своеобразной «галерее» можно видеть реакцию Пэна на обвинения ев¬
реев в «непродуктивности», в том, что они неспособны к производительному
труду и якобы паразитируют за счет окружающих их народов. Пэн же, с боль¬
шой симпатией изображая еврейских ремесленников, создает образ людей,
живущих трудом своих рук, и в целом — образ народа-труженика.
Совокупность исторических и жанровых произведений с «националь¬
ным» сюжетом, созданных еврейскими художниками этого поколения, проч¬
но ассоциируется с тем, что принято называть «еврейской темой» в искусстве.
В таких произведениях отсутствует критика «отрицательных» сторон еврей¬
ской жизни, которую можно обнаружить у последователей Гаскалы или у не¬
которых русских и польских художников, писавших картины на «еврейскую
тему». Напротив, эта «тема» у еврейских художников становится апологией (в
буквальном значении этого слова: самозащита, самооправдание) еврейского
народа, превращается в средство осмысления и решения его проблем. Имен¬
но в этом и состояла суть требования «верности еврейской теме» С. Ан-ского,
/494/
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
Вверху — Художник Исаак Аскназий в мастерской. Фотография конца XIX в.
Из собрания Г. Казовского, Иерусалим
Внизу — И. Аскназий. Еврейская свадьба. 1893. ГРМ, Санкт-Петербург
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
прошедшего путь от поклонника Гаскалы, затем русского народника и рево¬
люционера до собирателя еврейского фольклора и предметов народного ис¬
кусства, ставшего заметной фигурой в еврейском национальном движении.
Писатель и драматург, автор известной пьесы «Диббук», С. Ан-ский сам был
одним из еврейских «бытописателей» и того же требовал от еврейских худож¬
ников. Для него, как и для близких ему художников, верность «еврейской
теме» была также связана с их активной национальной и гражданской по¬
зицией, которая в условиях царской России требовала известного мужества,
так как нередко расценивалась как политическая нелояльность. Например, в
нарушение существующих правил о приобретении для Музея Академии ху¬
дожеств или Музея Александра III (ныне Государственный Русский музей)
тех работ, за которые их авторы удостаивались звания академика, комиссия
Академии художеств по указанию одного из членов царской фамилии после
антисемитской критики упомянутой выше картины Маймона «Марраны» от¬
менила решение о ее покупке как «произведения антихристианского». Карти¬
ны того же Маймона и Пинхаса Геллера (1862—1933) на тему погромов 1905 г.
были сняты цензурой с выставки, а их авторы оштрафованы.
Художники «еврейской темы» внесли важный вклад в формирование ев¬
рейской артистической среды в России и воспитали молодое поколение ев¬
рейских художников, многие из которых стали впоследствии крупнейшими
мастерами искусства XX в. Заметную роль в этом сыграл, в частности, Иегуда
Пэн, открывший в 1897 г. частную Школу рисования и живописи в Витебске,
просуществовавшую более двадцати лет. В течение этого времени в ней об¬
учалось несколько сотен юношей и девушек из Витебска и его окрестностей,
подавляющее большинство которых были евреями. Пэн обладал несомнен¬
ным педагогическим талантом, способностью обнаружить и развить любое,
даже самое скромное, дарование. Некоторые из его учеников — Марк Шагал
(1887—1985), Осип Цадкин (1890—1967) и Элиэзер (Эль) Лисицкий (1890—
1941) — добились позднее мировой известности и, как и другие художники,
учившиеся у Пэна, с благодарностью вспоминали своего первого учителя и
поддерживали с ним связь до конца его жизни.
На формирование молодого поколения российских еврейских художни¬
ков влияли также новые тенденции еврейской социально-культурной жизни,
отчетливо проявившиеся на рубеже XIX—XX в., в первую очередь еврейское
национальное движение. Его идейное и организационное многообразие, мас¬
совый характер, который оно приобрело в это время, способствовали стреми¬
тельному развитию еврейской культуры, литературы, театра и прессы. Этот
процесс мыслился как национальное возрождение и получил название «ев¬
рейского Ренессанса». В ходе этого процесса формируются и представления
о новой еврейской культуре, важное место в которой должно занять «совре¬
менное еврейское искусство». Один из путей создания такого искусства был
/496/
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
указан в контексте сионистской идеологии Мартином Бубером. В 1901 г., с
трибуны Пятого сионистского конгресса в Базеле, он заявил, что появление
«национального» еврейского искусства возможно не в диаспоре, но только
«на национальной почве», в Земле Израиля 11. Эта идея, подхваченная позд¬
нее Пастернаком, была практически реализована учеником Антокольского
скульптором Борисом Шацем (1866—1932), который в 1906 г. основал ремес¬
ленно-художественную школу «Бецалель» в Иерусалиме. Большинство пер¬
вых учеников школы были выходцами из России. «Бецалель» быстро превра¬
тился в одну из важнейших культурных институций нового ишува в Палести¬
не, однако не стал определяющим фактором развития искусства в еврейской
диаспоре. Художественный консерватизм Шаца, насаждавшийся им в соот¬
ветствии с его представлениями о еврейском искусстве пассеизм, основанный
почти исключительно на библейских сюжетах, не удовлетворяли даже многих
его учеников.
В 1912 г. два выпускника «Бецалеля», жившие в то время в «Ля Руш» в
Париже, — Лео Кениг (1889—1970) и Исаак Лихтенштейн (1888—1987), вме¬
сте с Иосифом Чайковым (1888—1986) и Мареком Шварцем (1892—1962) (все
они — уроженцы разных мест Российской империи) основали художествен¬
ную группу «Махмадим», для того чтобы создать «образцы новой еврейской
формы» и воплощения в них нового национального мировоззрения. «Махма¬
дим» просуществовала лишь несколько месяцев, успев выпустить несколько
одноименных альманахов, напечатанных на гектографе и содержавших гра¬
фические произведения членов группы. Несмотря на краткость и эфемер¬
ность ее существования, сам факт появления такой группы сигнализировал
об оформлении модернистских тенденций в среде еврейской художественной
молодежи. Неслучайно «Махмадим» появилась именно в Париже, который
перед Первой мировой войной превратился в центр интернациональной ху¬
дожественной богемы, притягивавший молодых художников со всего мира.
Заметную ее часть составляли и художники-евреи из России, и среди них
Натан Альтман, Давид Штеренберг (1881—1948), Марк Шагал и Хаим Сутин
(1893—1943), покоренные в Париже художественными открытиями авангарда
и сами вставшие на путь радикального новаторства.
Именно формальные проблемы, поиски «новой еврейской формы» при¬
обретают в то время первостепенное значение для многих еврейских худож¬
ников, так как в решении этих проблем видится способ создания особого
«еврейского стиля» и «современного еврейского искусства». При этом моло¬
дые еврейские художники стремились уйти от «еврейской темы» с ее, как им
казалось, поверхностным историзмом и бытописательством. Представлялось
также, что «современное еврейское искусство» должно появиться в результате
синтеза формальных достижений европейского авангарда и еврейской худо¬
жественной традиции. Истоки и образцы этой традиции искали и находили
/497/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
H. Альтман. Портрет молодого еврея.
Горельеф. 1914
в двух источниках. Один из них — ис¬
кусство Древнего Востока: Египта,
Ассирии и Вавилона, в соответствии с
представлениями о том, что евреи, как
древний семитский народ, чьи кор¬
ни — на Ближнем Востоке, являются
наследниками этих древних цивили¬
заций. На искусство Древнего Востока
ориентировался, например, Лисицкий
в оформлении сказочной повести в
стихах Мойше Бродерзона «Сихес Ху-
лин» (1917), в колофоне которой ука¬
зано, что задача художника состояла в
сочетании стиля иллюстраций с «асси¬
рийским стилем» еврейского письма.
В некоторых других графических ра¬
ботах этого времени Лисицкий стили¬
зует ассирийские рельефы и для боль¬
шей убедительности прибегает даже к
имитации резьбы по камню. Яркое во¬
площение эти идеи нашли в «Портрете
молодого еврея» («Автопортрет», 1914)
Натана Альтмана, в котором сочетают¬
ся стилизация древнеегипетской скуль¬
птуры (с акцентированием семитских
черт изображаемого персонажа) и ку¬
бистическая трактовка формы. Таким
образом, «Портрет молодого еврея» превращается в манифест еврейской mo¬
dernity, соединяющий в себе седую древность и актуальную современность.
Наряду с «ориенталистской» концепцией существовала и другая точка
зрения на происхождение и развитие еврейского народа, согласно которой
евреи именно в диаспоре, а не на Древнем Востоке стали народом со своей
особой культурой и искусством. Поэтому второй источник еврейской худо¬
жественной традиции виделся в еврейском народном искусстве Восточной
Европы — росписях синагог, ритуальных предметах, иллюстрированных ру¬
кописях, резных надгробиях. Писатель Ицхок Лейбуш Перец (1851-1915) од¬
ним из первых осознал необходимость актуализации творческого потенциала
наследия именно восточноевропейского еврейства и не только теоретически
обосновал свои идеи, но и воплотил их в собственных произведениях. В «Kha¬
sidish» («Хасидские истории», 1900) и «Folkstimlikhe geshikhtn» («Народные
предания», 1904-1909) он придал современную форму фольклору евреев Вос¬
/498 /
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
точной Европы. Собранные по большей части в юбилейном издании Переца
1901 г., эти произведения оказали революционное воздействие на еврейскую
интеллигенцию. Даже далекий в то время от еврейства С. Ан-ский, по его соб¬
ственному признанию, под впечатлением от рассказов Переца «вернулся» к
своему народу, начал писать на идише 12, стал собирателем и исследователем
еврейского фольклора и «еврейской художественной старины», а позднее —
основателем еврейского музея в Петрограде (1916).
/499/
Участники историко-этнографической экспедиции 1915 г. (слева направо)'.
С. Юдовин, Ю. Энгель, С. Ан-ский. Из собрания В. Лукина. Иерусалим
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Под влиянием Переца некоторые художники из его кружка в Варшаве, в
частности Мауриций Минковский (1882—1930) и Шимон Бер (Бернард) Кратко
(1884—1961), заинтересовались еврейским народным искусством и разъезжали
по местечкам Польши в поисках старинных ритуальных предметов и традици¬
онной одежды. Шимон Бер Кратко по совету Переца в 1910—1911 гг. даже орга¬
низовал небольшую экспедицию, во время которой копировал росписи синаго¬
ги в Янове и фотографировал резные надгробия на еврейских кладбищах.
Представительная коллекция произведений еврейского синагогально¬
го и народного искусства такого рода была собрана в ходе этнографических
экспедиций по черте оседлости под руководством С. Ан-ского в 1912—1914 гг.
В экспедициях принимали участие и некоторые художники, в частности уче¬
ник Пэна Соломон Юдовин (1892—1954). Лисицкий и Иссахар Бер Рыбак
(1897—1935) в 1916 г. совершили поездку по еврейским местечкам Украины и
Белоруссии, где копировали росписи деревянных синагог и зарисовывали их
интерьеры, в т.ч. синагоги XVII в. в Могилеве-на-Днепре, расписанной знаме¬
нитым мастером Хаимом Сегалом. Однако молодые еврейские художники не
ограничивались лишь копированием произведений народного искусства, но
интенсивно использовали его мотивы в своем оригинальном творчестве. Так,
Кратко использовал их в иллюстрациях к драмам Переца (1909) и тем самым
заложил основу модернистской еврейской книжной графики; Альтман, ско¬
пировавший в 1913 г. старинные еврейские надгробия на кладбищах в окрест¬
ностях Винницы, выполнил на их основе графическую серию «Еврейская гра¬
фика» (1914). Лисицкий не только стилизовал пластические и декоративные
приемы еврейского традиционного искусства, но по-новому интерпретировал
его религиозные мотивы и символы, наполняя их новым секулярным содер¬
жанием, соответствовавшим идеям новой еврейской культуры.
Интерес к древнему и народному искусству был естественным для модер¬
нистской и авангардной художественной среды, в которой формировались
молодые еврейские художники. В архаическом и народном искусстве мо¬
дернизм находил тот «примитив», с возвращением к которому можно было
обрести свободу от стереотипов академической школы, мешавших, с модер¬
нистской точки зрения, развитию нового искусства. Для еврейских же худож¬
ников обращение к национальной традиции, к еврейскому «примитиву» дик¬
товалось их национальной идентичностью, а также давало опору в их поисках
«новой еврейской формы», особого «еврейского стиля». Находки в этой сфере
получили свое применение в их творчестве следующего этапа, в 1920-е гг., ког¬
да осуществилась попытка синтеза «еврейского художественного примитива»
(по выражению теоретиков национального искусства) с открытиями европей¬
ского авангарда. Язык художественного авангарда позволял символически
отобразить исторические катаклизмы эпохи и рождение «нового мира», зна¬
ком которого стала русская революция. Оптимизм восприятия происходив¬
/500/
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
ших перемен, ощущение грандиозности их масштаба были фундаментальной
частью нового еврейского мировоззрения, в котором «еврейское» превраща¬
лось в «универсальное», имеющее общечеловеческое значение. В этом новом
мировоззрении с его радикальным мессианизмом еврейский народ предста¬
вал передовым отрядом всего человечества, несущим ему «благую весть» но¬
вой культуры и ведущим к обновлению. У еврейских художников-модерни¬
стов эти идеи, выраженные интернациональным языком авангардного искус¬
ства, приобретали универсальный смысл, но визуально утрачивали при этом
отчетливые национальные черты. Этот универсализм далеко ушел от универ¬
салистских идеалов «первого еврейского художника» в России Марка Анто¬
кольского, базировавшихся на наивной философии Гаскалы и воплощенных
средствами реалистического нарратива, граничившего с литературностью.
В течение всего этого периода — от Антокольского до еврейского аван¬
гарда — российское еврейство выдвинуло из своей среды немало выдающих¬
ся художников, которые стали интегральной частью не только русской, но и
международной артистической среды; в это время были созданы объединения
и группы художников, оставившие заметный след в истории национальной
культуры и искусства, а художественное творчество заняло легитимное место
в ряду других еврейских культурных ценностей.
МУЗЫКА
Братья Антон (1829-1894) и Николай (1835-1881) Рубинштейны были
первыми в России деятелями музыкальной культуры еврейского происхожде¬
ния. Хотя принято вести отсчет истории «ренессанса современной еврейской
музыки» от поколения музыкантов-евреев, начало самостоятельного творче¬
ского пути которых относится к первым годам XX в.13, тем не менее братья Ру¬
бинштейны сыграли свою роль в подготовке этого процесса. Они были ини¬
циаторами и создателями важнейших российских музыкальных учреждений:
в частности, Антон Рубинштейн был основателем и в разное время профессо¬
ром и директором Петербургской консерватории, открытой в 1862 г. вопреки
конфликтам с придворными кругами и противодействию ряда видных пред¬
ставителей русской музыкальной общественности 14. Николай Рубинштейн в
1866 г. основал консерваторию в Москве, стал ее первым директором и про¬
фессором. По настоянию Антона Рубинштейна в Петербургскую консерва¬
торию были приглашены в качестве преподавателей музыканты-евреи, в т.ч.,
например, великий скрипач Леопольд Ауэр (1845-1930). Он воспитал целую
плеяду выдающихся исполнителей, среди которых было немало евреев, и спо¬
собствовал формированию и расцвету русской скрипичной школы. Консер¬
ватории в Москве и Петербурге, куда принимали и студентов-евреев, открыли
/501/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
для них возможность получения профессионального музыкального образова¬
ния в России.
Несмотря на то что братья Рубинштейны в детстве были крещены по на¬
стоянию их деда, они сохранили еврейскую идентичность и даже принимали
участие в еврейской общественной жизни. Так, Антон Рубинштейн был чле¬
ном Общества для распространения просвещения между евреями в России
(ОПЕ), одним из первых русских композиторов в собственных сочинениях
использовал еврейские народные мелодии и синагогальные напевы, которые
он знал и любил с детства, а в зрелом возрасте специально изучал. Несмотря
на то что Антон Рубинштейн занимал ведущие позиции в русской музыкаль¬
ной жизни своего времени, был признанным композитором и выдающимся
пианистом, его личность и творчество нередко становились объектами тен¬
денциозной критики и юдофобских нападок. В еврейской же среде им горди¬
лись, и он пользовался уважением. Таким образом, подобно Антокольскому в
скульптуре, братья Рубинштейны (особенно старший из них — Антон) благо¬
даря своим профессиональным достижениям, принесшим им известность и
успех, и сохранению своей связи с еврейством стали вдохновляющим приме¬
ром для многих других талантливых российских евреев, вступивших вслед за
ними на музыкальное поприще. По словам известного музыкального критика
и историка русской музыки Леонида Сабанеева, «...тот факт, что русская му¬
зыкальная культура была в значительной мере обязана своим созданием Ру¬
бинштейну, по происхождению еврею —<...> как бы благословлял евреев на
музыкальное развитие именно в России» 15.
Действительно, уже к началу XX в. евреи — выпускники Московской и
Петербургской консерваторий представляли собой сравнительно многочис¬
ленную группу в российской музыкальной жизни, вносившую плодотворный
вклад в ее развитие. Получив консерваторское музыкальное образование, они
сформировались как профессиональные музыканты в русле традиций рус¬
ской и европейской классической музыки. Вместе с тем у некоторых из них
аккультурация и интегрированность в русскую музыкальную среду не заме¬
стили их еврейскую идентичность. Другие же вернулись к ней под влияни¬
ем новых национальных тенденций в еврейской общественной и культурной
жизни, подобно композитору и музыкальному критику Юлию (Йоэлю) Энге¬
лю (1868-1927), писавшему об этом так: «Главное — в процессе внутреннем,
в некоем повороте всего духовного стержня, в тяготении к еврейским корням
как истокам моего национального существования. <...> Раньше я говорил как
русский и был прав, ибо Россия — моя родина, и родина поистине любимая,
родной мой язык русский, родная культура — русская. Теперь все это осталось
как будто по-прежнему, но что-то новое прибавилось, важное и властное, на¬
поминающее мне во всем большом, что я еврей и что из этого должны быть
сделаны необходимые выводы» 16.
/502 /
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
Этот, по выражению Энгеля, «поворот к истокам национального суще¬
ствования» в среде музыкантов-евреев в России нашел свое выражение, в
частности, в интересе к еврейскому музыкальному фольклору, в котором они
видели не только манифестацию творческой энергии еврейского народа и сви¬
детельство его музыкальной одаренности, но также важнейший источник и
основу своего собственного оригинального творчества. Уже в конце 1890-х гг.
началось систематическое собирание и изучение еврейской народной музыки.
Одним из пионеров этого начинания был Энгель, который еще студентом Мо¬
сковской консерватории совершил ряд поездок по местечкам черты оседлости,
где записывал на фонограф еврейские народные мелодии и песни. Результаты
этих экспедиций Энгель представил на одном из заседаний Музыкального от¬
деления Императорского общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии, состоявшемся зимой 1900 г. в Политехническом музее в Москве.
На заседании сначала были заслушаны два доклада — Песаха Марека (одного
из составителей, вместе с Саулом Гинзбургом, сборника «Еврейские народные
песни в России», изданного в 1901 г.) о еврейском поэтическом фольклоре и
Энгеля о музыкальных особенностях еврейской народной песни. Затем были
исполнены некоторые из записанных Энгелем песен в его обработке.
Значение этого события заключается не только в том, что оно является
первой в России публичной демонстрацией образцов еврейской народной
музыки. Большую часть присутствовавших на заседании составляли неевреи,
высоко оценившие доклады и концерт. Таким образом, еврейский музыкаль¬
ный фольклор, к которому до этого относились предвзято и пренебрежитель¬
но, получил легитимацию как оригинальный художественный феномен, а
признание за еврейской народной музыкой несомненных эстетических до¬
стоинств уже не ограничивалось рамками одного лишь кружка еврейских эн¬
тузиастов.
Год спустя, в апреле 1901 г., Энгель повторил свой опыт в Малом зале Пе¬
тербургской консерватории. На этот раз его содокладчиком выступал исто¬
рик Саул Гинзбург. Энгель нашел здесь своих единомышленников, главным
образом в лице евреев — студентов консерватории, учеников Н.А. Римско¬
го-Корсакова. Для своих учеников-евреев выдающийся русский композитор
выступал в роли, подобной той, которую играл Стасов в среде еврейских ху¬
дожников. Один из представителей «ориентализма» в русской музыке, Рим¬
ский-Корсаков сам проявлял интерес к еврейской музыке, видя в ней реликт
древневосточного мелоса, и побуждал своих учеников-евреев опираться на
него как на основу их оригинального национального творчества.
Выступление Энгеля послужило важным импульсом их национальных
исканий и, вероятно, также и стимулом к их организационной консолидации.
В 1902 г. по инициативе молодых композиторов Эфраима Шкляра (1871—
1941?) и Соломона Розовского (1878—1962) были созданы музыкальный кру¬
/ 503 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
жок Kinor Zion и хор Ha-tikvo для исполнения «ориентальных» произведений
русских композиторов и собственных сочинений членов кружка. Они просу¬
ществовали почти два года, однако их деятельность, ограниченная стенами
консерватории и потому известная почти исключительно аудитории музы¬
кантов-специалистов, не получила широкого резонанса. В этой ситуации у
участников кружка созрела идея учреждения официальной музыкальной ор¬
ганизации с такими функциями и полномочиями, которые позволили бы ей
не только создать благоприятные условия для творчества ее членов, но также
играть активную и влиятельную роль в общественной и культурной жизни.
Эта идея воплотилась в Обществе еврейской народной музыки, офици¬
ально зарегистрированном в марте 1908 г. в Санкт-Петербурге 17. Его членами
в разное время были большинство российских деятелей музыкальной куль¬
туры еврейского происхождения: композиторы Михаил Гнесин (1883—1957),
Эфраим Шкляр, Юлий Энгель, Соломон Розовский, Лазарь Саминский
(1882-1959), Пинхас Львов (1880-1913), Александр (Авраам) Житомирский
(1881—1937), Исидор Ахрон (1892—1948), Моисей Мильнер (1886—1953), бра¬
тья Крейн — Григорий (1879—1955) и Александр (1883—1951), Юлия Вейсберг
(1880-1942), Любовь Штрейхер (1888—1958); известные вокалисты и музы¬
канты-исполнители, в частности певец Иосиф Томарс (1867—1934) и пианист
Лео Несвижский (которого из-за его сионистских убеждений Розовский в
шутку называл «а shtikl Herzl» [«маленький Герцль»] 18); общественные деятели
и ученые, как, например, фольклорист и педагог Зиновий (Зусман) Кисель¬
гоф (1878—1939). Таким образом, общество объединило практически всех тех,
кто стремился сохранить еврейское музыкальное наследие и верил в возмож¬
ность создания на его основе «современной еврейской музыки».
Обращение к еврейской музыкальной традиции и стремление к интегра¬
ции ее в современную музыкальную культуру определяли программу и харак¬
тер практической деятельности общества. Главную свою цель оно видело в
том, чтобы «содействовать изучению и развитию еврейской народной музыки
(духовной и светской) путем собирания образцов народного творчества, худо¬
жественной обработки их и распространения в обществе, а также оказанием
поддержки еврейским композиторам и другим музыкальным деятелям» 19. В
соответствии с этой программой члены общества организовали ряд экспеди¬
ций и поездок по местам компактного проживания еврейского населения, в
ходе которых вели планомерную работу по сбору и фиксации (в виде нотных
записей или же с помощью звукозаписывающей техники того времени) ев¬
рейского музыкального фольклора. В связи с этим особого упоминания заслу¬
живает деятельность 3. Кисельгофа, начавшего собирать образцы еврейской
народной музыки еще в 1907 г., а в 1912—1914 гг. принимавшего участие в эт¬
нографической экспедиции С. Ан-ского. В течение этого времени он записал
и систематизировал более 2000 народных песен и мелодий 20.
/504/
5.4 / ИСКУССТВО. МУЗЫКА И ТЕАТР
Особенно ценную часть еврейского музыкального наследия, с точки зре¬
ния некоторых членов общества, представляла собой не народная, а синаго¬
гальная музыка. Расхождения в оценках еврейской народной и религиозной
музыки вылились в 1915 г. в открытую полемику на страницах еврейской
прессы между Ю. Энгелем и Л. Саминским. По утверждению последнего,
еврейские народные и даже хасидские песни и мелодии несут на себе печать
внешнего влияния, а зачастую являются прямым заимствованием из музы¬
кальных культур других народов. Саминский видел в народной еврейской му¬
зыке «переплет чужих наслоений», в котором чрезвычайно трудно «выделить
чистейшие образцы» национальной музыкальной традиции. В то же время,
по его убеждению, только синагогальная музыка донесла до наших дней в не¬
искаженном виде аутентичные элементы древневосточного («библейского»)
еврейского мелоса: гомофоничность (в отличие от европейской полифонии),
особые мелодии-тропы (интонирование распевов при чтении священных тек¬
стов) и речитативный характер (кантилляция). Именно эти элементы, а не му¬
зыкальный фольклор восточноевропейских ашкеназов, по утверждению Са¬
минского, должны стать основой творчества современных еврейских компо¬
зиторов. Возражая Саминскому, Энгель указывал на национально-культурное
значение «еврейской народной песни», сохраняющей «свою собственную му¬
зыкальную физиономию» вопреки «явно чужим наслоениям», так как «даже
то, что еврейская песня заимствует у соседей, она переиначивает на свой лад,
объевреивает» 21. .
Важнейшим результатом этой дискуссии, отголоски которой можно об¬
наружить в еврейской музыковедческой науке вплоть до 1930-х гг., было рас¬
ширение представлений о разнообразии жанров и видов еврейской народной
и синагогальной музыки и углубление понимания их оригинальных особен¬
ностей. Эти особенности заключались, в частности, в своеобразии гармони¬
ческого и ладового строя, в характере интонирования, отличавшихся как от
европейской классической музыки, так и от фольклорных музыкальных тра¬
диций других народов. Однако уже первые опыты гармонизации еврейских
народных и религиозных мелодий в духе классической европейской музыки
обнаружили, что такая обработка нивелирует многие характерные черты ев¬
рейского мелоса. Поэтому стремление к сохранению и адекватному выраже¬
нию средствами современной музыки своеобразия еврейского музыкального
наследия усилило модернистские тенденции в творчестве еврейских компо¬
зиторов — членов Общества еврейской народной музыки, а некоторых из них
привело даже к радикальным авангардным экспериментам 22. Вместе с тем
еврейским композиторам в их оригинальных произведениях удалось достичь
органического и убедительного синтеза модернистских и традиционных ев¬
рейских музыкальных элементов (почерпнутых как из фольклорных, так и из
религиозных источников), благодаря чему их творчество, несмотря на широ¬
/ 505 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
кий диапазон индивидуальных черт, обладало общностью и зрелостью ориги¬
нального «направления» в современной музыке. Как писал Л. Сабанеев, «это
направление возникло на рубеже XX века и дало ощутительные результаты к
эпохе войны. Оно связано с именами Александра Крейна, Михаила Гнесина,
Иосифа Ахрона, М. Мильнера, Л. Саминского, С. Розовского, из более моло¬
дых — даровитого А. Веприка» 23.
Произведения еврейских композиторов и их обработки народной и синаго¬
гальной музыки исполнялись на регулярных концертах, которые были важней¬
шей формой деятельности Общества еврейской народной музыки с первых дней
его существования. Благодаря таким концертам и участию в них многих извест¬
ных исполнителей еврейская музыка в различных ее видах стала интегральным
элементом актуальной российской музыкальной жизни. До начала Первой ми¬
ровой войны общество провело более 150 концертов в разных городах России, а
его отделения были учреждены за это время в Москве, Киеве, Риге, Ростове-на-
Дону, Баку, Харькове, Одессе и других городах. Регулярно проводились также
музыкальные собрания в Петербурге, на которых с докладами и рефератами по
проблемам истории и развития еврейской музыки выступали композиторы и
деятели еврейской культуры. Кроме того, пропаганде и популяризации еврей¬
ской музыки служила издательская деятельность общества. До 1918 г. им было
издано более 50 сборников вокальных и инструментальных произведений, как
фольклорных, так и сочинений еврейских композиторов. Все это способствова¬
ло повышению престижа и статуса еврейской музыки и развитию музыкальной
культуры различных слоев еврейского общества.
Аналогичную роль в городах северо-западных и польских губерний Рос¬
сийской империи играло еврейское литературно-художественное общество
«ha-Zomir» 24. Оно было создано в 1906 г. на основе уже существовавших в раз¬
ных местах одноименных хоровых обществ, первое из которых было органи¬
зовано еще в 1899 г. в Лодзи местными сионистскими деятелями с целью раз¬
вития еврейской музыки как средства пропаганды национальных идей среди
ассимилированной интеллигенции 25. Первоначально выступления еврейских
певческих коллективов имели локальный и спорадический характер, а их ре¬
пертуар состоял в основном из современных произведений сионистской тема¬
тики на иврите. С возникновением централизованного общества «ha-Zomir»
в Варшаве, первым руководителем которого стал еврейский литератор, врач и
общественный деятель Гершн Левин (1868-1939), деятельность общества при¬
обрела более значительный масштаб, стала регулярной и систематической, а
в программах его концертов большое место заняли еврейские народные пес¬
ни на идише. В 1912 г. «ha-Zomir» возглавил Перец, усиливший фольклорную
идишистскую составляющую в концертных мероприятиях общества. В 1915 г.
при обществе был организован филармонический оркестр, в состав которого
вошли многие известные музыканты.
/506/
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
Общество еврейской народной музыки и «ha-Zomir» уже до начала Пер¬
вой мировой войны стали существенным фактором еврейской культурной
жизни и заложили прочные основы дальнейшего развития еврейской музыки
в СССР, Америке, Восточной Европе и Эрец Исраэль в межвоенный период 26.
Благодаря деятельности этих обществ музыка, подобно новой национальной
литературе и искусству, стала неотъемлемой частью современной еврейской
культуры.
ТЕАТР
Отсчет истории еврейского профессионального театра начинается с октя¬
бря 1876 г., когда довольно известный уже в то время поэт, писавший на иди¬
ше, Авром Гольдфаден (1840—1908) на эстраде городского сада в Яссах поста¬
вил свои комедии, специально сочиненные для этого случая. Сыгравшие их
два актера, Исроэл Гроднер (1841-1887) и Сухер Гольдштейн (ум. 1887), стали
ядром первой постоянной еврейской труппы. Привлеченные успехом этого
поначалу скромного начинания, многие будущие «звезды» еврейской сцены,
такие как Зелиг Могулеско (1858—1914), Янкев Спиваковский (1852—1919),
Роза Фридман и Янкев Адлер (1855—1926), сделали свои первые шаги на сце¬
не в труппе Гольдфадена. В 1879 г. по приглашению поклонников и мецена¬
тов Гольдфаден переехал в Одессу, надолго ставшую с этого времени столицей
еврейского театра. В одесской труппе Гольдфадена было уже 40 актеров и хор
под руководством хазана местной синагоги Гиршенфельда (деда знаменито¬
го советского композитора Исаака Дунаевского). Такой состав позволял соз¬
давать на сцене впечатляющие зрелищные эффекты: так, в поставленном в
1880 г. спектакле под названием «Памяти Плевны» («Der ondenkn fun Plevne»,
по пьесе Гольдфадена «Der podryadchik oder Russish-terkishe krig»; сатира на
подрядчиков времен Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.) важное место за¬
нимали поставленные с размахом массовые сцены.
Антреприза Гольдфадена приобрела известность далеко за пределами
Одессы. В 1880 г. его труппа гастролировала в Москве, где ее спектакли про¬
ходили с аншлагом. В частности, особенной популярностью пользовалась ко¬
медия Гольдфадена «Шмендрик» (полное название «Shmendrik oder di komishe
khasene»), название которой стало бытовым обозначением московских евре¬
ев 27. Театральный сезон 1881 г. труппа провела в Петербурге, где ее спектакли
также пользовались успехом у зрителей, среди которых были и неевреи. Сто¬
личная пресса в целом положительно оценила мастерство актеров и достоин¬
ства драматургии Гольдфадена.
В пьесах Гольдфадена нашли выражение важные для своего времени идеи,
затронуты существенные проблемы национальной жизни. Так, даже в коме-
/507/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
днях и водевилях, которым Гольдфаден отдавал предпочтение на раннем эта¬
пе своей театральной деятельности (таких, как «Оба Кунилемла» [«Der fanatik
oder Di beyde Kunilemel»], «Капцензон и Хунгерман» [«Kaptsnzon un Khunger¬
man oder Di kaprizne kale»] или упоминавшийся уже «Шмендрик»), отображе¬
ны конфликт поколений и идеологическая борьба между еврейской ортодок¬
сией и адептами Гаскалы (которая, разумеется, заканчивается посрамлением
религиозных «фанатиков-обскурантов» и апофеозом «прогрессивных» маски¬
лов). Нередко эти мотивы переплетались с социальной сатирой и критикой
«пороков» традиционного еврейского общества. Например, в одной из самых
известных пьес Гольдфадена «Колдунья» («Di kishufmakherin») негативная ха¬
рактеристика главного отрицательного персонажа пьесы Бобе-Яхне («колду¬
ньи») усилена тем, что она промышляет торговлей «живым товаром» 28. Она
коварно завлекает в свои сети сироту Мирьям и продает в Стамбул, откуда
ее освобождает «просвещенный» маскил Маркус. Исторические мелодрамы
Гольдфадена, особенно те, что были написаны после погромов 1881 г. в Рос¬
сии («Доктор Альмосадо» [«Doktor Almosado oder Di yidn in Palermo»] и «Бар-
Кохба» [«Bar Kokhba oder Di letste teg fun Yerusholaim»], были реакцией на ак¬
туальные события, и обращение к героическим образам еврейской истории
должно было пробуждать национальную гордость и мужество в эпоху притес¬
нений и унижений.
В целом, несмотря на шаблонность сюжетов и персонажей, однознач¬
ность их моральных характеристик и отсутствие психологической глубины,
драматургия Гольдфадена обладает несомненной сценичностью, благодаря
которой даже ее дидактическая тенденциозность получает убедительную те¬
атральную форму. Поэтому лучшие драматические произведения Гольдфаде¬
на вошли в «железный репертуар» (на идише «ayzemer repertuar») еврейского
театра, как именовались на профессиональном театральном жаргоне самые
любимые публикой и чаще других ставившиеся пьесы.
Вслед за Гольдфаденом в начале 1880-х гг. к театру и драматургии обрати¬
лись и другие еврейские литераторы, среди которых наибольшую известность
приобрели популярный романист Шомер (псевдоним Нохума Меира Шай¬
кевича, 1849—1905), перерабатывавший иногда в пьесы свои романы, Мойше
Гурвиц (Горвиц-Гурвич; 1844—1910) и Йосеф Латайнер (1853—1935). По жанру
и характеру их пьесы были близки гольдфаденовским, а часть ранних драма¬
тических опусов Латайнера, начинавшего суфлером в труппе Гольдфадена,
представляли собой вариации и обработки пьес последнего. Для еврейского
театра стал писать также литератор и публицист, работавший на идише, иври¬
те и русском, Йосеф Иехуда Лернер (1847—1907). Убежденный в том, что театр
является одним из важнейших инструментов культурного воспитания народа,
и потому недовольный «легкомысленностью», как ему казалось, Гольдфаде¬
на и его последователей, Лернер ставил своей задачей повышение эстетиче¬
/508 /
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
условиях часто недобросовестной конкуренции и слабо развитого авторско¬
го права в еврейской среде того времени привели к соединению функций
драматурга и антрепренера. Антрепренеры появились и среди актеров. Так,
актеры самого Гольдфадена — Могулеско, Гроднер, Спиваковский, тяготив¬
шиеся деспотизмом своего патрона и материальной зависимостью от него,
организовали собственные труппы, но и в них драматург занимал ведущее
положение (в частности, компаньоном Могулеско был Латайнер, а Лернер
заказывал пьесы Шайкевичу). Таким образом, уже в начале 1880-х гг. суще¬
ствовало несколько театральных коллективов, игравших в Одессе, в городах
юго-западных губерний России, а также за пределами империи — в Бессара¬
бии, Галиции и Румынии.
Гольдфаден еще при жизни был признан «отцом еврейского театра», а
первое десятилетие его истории принято называть «гольдфаденовской эпо¬
хой». Как антрепренер, наделенный творческой интуицией, он умел угады¬
вать и развивать особенности сценического дарования своих актеров. В то же
время, являясь расчетливым предпринимателем, который заботится прежде
всего о собственной выгоде и выгоде своей семьи (в его труппе были заняты
его жена и братья), Гольдфаден стал прототипом различных еврейских «теа-
ского и идейного уровня еврейского
театра. Для улучшения его репертуара
он перевел на идиш ряд пьес известных
европейских драматургов, в частности
«Жидовку» Огюстена Эжена Скриба и
«Уриэля Акосту» Карла Гуцкова (с рус¬
ского перевода П. Вейнберга). Успех
драмы К. Гуцкова в постановке Лернера
(1880) заставил и Гольдфадена выпол¬
нить собственную версию ее перевода и
сыграть ее на сцене (1883) 29.
Драматурги, как и Гольдфаден,
организовывали собственные труппы,
игравшие их пьесы. Практически пол¬
ное отсутствие еврейской драматурги¬
ческой литературы было одной из важ¬
нейших проблем, которые пришлось
решать еврейскому театру с самого
начала его существования 30. Необхо¬
димость создания и постоянного об¬
новления репертуара для привлечения
зрителей, стремление оградить новые
пьесы от посягательств других трупп в
/509/
Авром Гольдфаден (1840—1908)
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
тральных директоров» 31. Как драматург и режиссер с несомненным чувством
сцены, а часто в дополнение к этому — еще композитор и художник-сцено¬
граф (изредка выступавший и как актер), Гольдфаден утвердил такой стиль
сценического действа, который, со всеми его достоинствами и недостатками,
стал образцом для подражания и надолго определил направление развития ев¬
рейского театрального искусства.
Еврейский театр «гольдфаденовской эпохи» был тесно связан с народной
традицией. Самыми первыми актерами Гольдфадена были «народные певцы»
бродерзингеры, а многие актеры, вступившие позднее в его труппу, были до
этого мешойрерим (певчими в синагогальном хоре, как Могулеско) или бадхо¬
ним (шутами, веселившими публику на свадьбах и других торжествах песнями
и стихотворными импровизациями). Главное место в представлениях бродер-
зингеров занимали музыкальные номера: они распевали песни и куплеты,
нередко сочетая их исполнение с танцами. Стремясь выстроить логическую
конструкцию «спектакля» в соответствии с сюжетами песен, бродерзингеры
связывали музыкальные номера прозаическим, как правило импровизиро¬
ванным, текстом (начиная с «гольдфаденовской эпохи» любая роль, кроме
песен, исполнявшихся по ходу даже стихотворной пьесы, традиционно на¬
зывалась еврейскими актерами «прозой»). При этом нередко и прозаические
монологи произносились в форме мелодического речитатива. Сыгранные в
Яссах первые спектакли самого Гольдфадена также представляли собой инс¬
ценировку его собственных песен и по количеству музыкальных и хореогра¬
фических элементов еще мало чем отличались от выступлений бродерзинге¬
ров. Близко друживший с Гольдфаденом известный писатель Янкев (Яков)
Динезон (1856—1919) писал в своих воспоминаниях, что он «временами был
готов поверить в то, что не песенки появились на свет ради театра, а весь ев¬
рейский театр был создан ради песенок» 32. Песни обязательно присутствовали
не только в оригинальных еврейских пьесах, но и включались в переводивши¬
еся на идиш произведения европейской драматургии (как, например, в «Ури¬
эле Акосте», по версиям и Лернера, и Гольдфадена). Такой вид сценического
представления, стержнем которого являлись пение и танцы, с одной стороны,
использовал формы фольклорного театра и был характерен для раннего эта¬
па профессионального театра не только у евреев, но и у других народов 33. С
другой стороны, такой театр был близок оперетте, пользовавшейся в 1870-е
гг. огромной популярностью у массовой аудитории в Европе и России. Сам
Гольдфаден называл многие свои пьесы, как комедии, так и мелодрамы, опе¬
реттами. Этот жанр, утвердившийся в еврейском театре в первый период его
существования, сохранил свою популярность и в более позднее время, вплоть
до Второй мировой войны, особенно на еврейской сцене в Америке.
Спектакли еврейских трупп в «гольдфаденовскую эпоху» и некоторое
время спустя включали в себя не только показ определенной пьесы, но и ин¬
/510/
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
термедии (их обычно показывали в антракте, и в еврейском театре они на¬
зывались «дивертисментом»), во время которых с сольными номерами высту¬
пали комики, певцы или декламаторы. Нередко в «дивертисменте» игрался
одноактный водевиль. Необходимость постоянно поддерживать зрительский
интерес и обеспечивать доход труппы заставляла антрепренеров-драматургов
ежемесячно сочинять и ставить две-три новые пьесы. В таких условиях полно¬
ценной практики репетиций не существовало. Они ограничивались, как пра¬
вило, несколькими днями и обычно сводились к тому, что сам автор пьесы
рассказывал актерам содержание их ролей. Хотя Гольдфаден и Латайнер за¬
ранее разрабатывали мизансцены, актерам по ходу игры предоставлялась сво¬
бода импровизации. Сам Гольдфаден в «Автобиографии» писал о подготовке
своего первого спектакля: «Я им [актерам] рассказал, что они должны делать,
что — говорить. Не запомнят все в точности, пусть добавляют собственные
слова, которые придут на ум. Они должны были только знать, когда целовать¬
ся, когда обмениваться оплеухами, когда танцевать»34. В результате «проза»,
звучавшая со сцены, значительно отличалась от аутентичного текста пьесы.
Комедии и мелодрамы, составлявшие репертуар еврейского театра, выдвига¬
ли на первый план наиболее ходовые актерские амплуа — комика и первого
любовника, а распространенными приемами актерской игры были буффона¬
да и аффектированное исполнение роли 35.
В 1883 г. конфиденциальным циркуляром № 1746 МВД от 17 августа теа¬
тральные представления в Российской империи на идише, по не выясненным
до сих пор причинам, были запрещены. Два десятилетия действия этого цир¬
куляра (до начала 1905 г.) вошли в историю еврейского театра в России как
годы «театрального запрета». В это время многие еврейские актеры, антрепре¬
неры и драматурги покинули Россию и продолжили свою театральную карьеру
в Америке (Могулеско, Латайнер, Шомер, Я. Адлер) или перешли на русскую
сцену (Марк Мейерсон, 1860-1928). В России сохранились странствующие
театральные труппы, переезжавшие в поисках заработка с места на место. Для
получения разрешений на показ спектаклей они были вынуждены объявлять
себя «немецко-еврейскими», то есть играющими якобы на немецком языке,
а фактически — на исковерканном идише. Ужесточилась также цензура, что
негативно сказалось на диапазоне и качестве репертуара.
Большинство странствующих трупп в годы «театрального запрета» были
не в силах противостоять полицейским репрессиям и быстро распадались.
Самыми успешными и долговечными в это время были труппы Аврома Ал¬
тера Фишзона (1843\48—1922; известен также как актер и драматург), Спива¬
ковского, Довида Мойше Сабсая (ум. 1921) и Аббы Компанейца (1870—1946),
просуществовавшие до начала Первой мировой войны. Несколько лет про¬
держалась и была популярна также труппа Соломона Генфера (1874—1913),
выступавшая в городах и местечках Северо-Западного края.
/511/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
В условиях полицейского контроля в годы «театрального запрета» появил¬
ся особый тип еврейского антрепренера, чей успех во многом зависел от его
умения обходить запреты и «договариваться» с властями. Своей способностью
находить «общий язык» с чиновниками, цензорами и полицейскими с помо¬
щью щедрых взяток славился Авром Фишзон. Вульгарные и вызывающие чер¬
ты в манере его поведения, стиле одежды, цинизм и алчность в коммерческих
делах и взаимоотношениях с актерами, его высокая самооценка (в частности,
претендовал на то, что именно он, а не Гольдфаден является родоначальником
еврейского театра 36) послужили источником для формирования в еврейской
театральной истории и художественной литературе карикатурного образа «ха¬
рактерного» типа «театрального директора» времен «театрального запрета».
Действительно, условия существования еврейского театра в это время
способствовали усилению в нем негативных тенденций, обозначившихся уже
в «гольдфаденовскую эпоху». Так, семейственность стала одним из главных
принципов организации труппы. С одной стороны, это усиливало ее экономи¬
ческую стабильность, но с другой — ограничивало возможности и права при¬
глашенных актеров, так как самому антрепренеру и членам его семьи (жене и
детям, как в труппе Фишзона), независимо от уровня их актерских дарований,
доставались ведущие роли и, соответственно, основная часть кассового сбора.
Приглашенные актеры оплачивались по системе «марок», по которой они по¬
лучали определенные проценты от доходов от спектакля в зависимости от их
амплуа и занятости в этом спектакле, что давало возможность антрепренерам
манипулировать актерским гонораром.
Ориентация странствующих трупп на кассовый репертуар, использова¬
ние сценических приемов, рассчитанных на невзыскательный вкус массового
зрителя, приводили к снижению эстетических и идейных критериев еврей¬
ского театра. Странствующие труппы играли в основном водевили и мелодра¬
мы Шомера, Латайнера и их американских подражателей, сюжеты которых
строились на комических ситуациях или на любовной интриге с «сильными»
страстями и на невероятных приключениях героев в экзотических местах.
Нередко сами антрепренеры вносили косметические изменения в известные
пьесы (изменяли имена героев, добавляли дополнительные сцены и т.п.) и
ставили их как собственные сочинения.
Значительное место в репертуаре странствующих трупп занимала адапти¬
рованная для еврейского зрителя европейская и русская литературная и дра¬
матургическая классика. Адаптация заключалась в том, что сюжеты классиче¬
ских произведений переносились в еврейскую среду, а их нееврейские герои
превращались в евреев. При этом первоисточник после адаптации нередко
приобретал экстравагантное и даже вульгаризированное обличье. О характере
и методах такой обработки некоторое представление дают указания на афише
или в печатном издании, что то или иное произведение «аранжировано, улуч¬
/512/
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
шено и объевреено» (на идише: «aranzshirt, farbesert un faryidisht»)37. В кругах
еврейской интеллигенции театр и массовая литература такого рода были объ¬
ектом острой критики, заклеймившей их термином шунд («shund» — на иди¬
ше: хлам, мусор).
Однако несмотря на все недостатки и часто справедливую критику еврей¬
ский театр этого времени выполнял важную культурную миссию. Театральные
труппы, странствовавшие по всей черте оседлости, по сравнению с предыду¬
щим периодом значительно расширили ареал распространения еврейского
театра в России и зрительскую аудиторию, для которой театр стал устойчивой
культурной потребностью. Шунд-театр, сохранив связь с фольклорной теа¬
тральностью, приспосабливался к своим зрителям и поэтому был популярен
и любим, находился с ними в теснейшем контакте. Кроме того, в странству¬
ющих труппах было немало талантливых актеров, а отсутствие у большинства
из них профессионального образования восполнялось природным драматиче¬
ским дарованием и чувством сцены. В соответствии с характером репертуара
и запросами публики ведущее положение в странствующих труппах занимали
комики и певцы. Незаурядным комическим артистом был и Авром Фишзон,
и его талант признавался даже критически относившейся к нему прессой. В
его труппе начинали и приобрели известность как вокалисты Мордехай Ры¬
бальский (1870—1933), Герман Сероцкий (1881—?) и Эстер Нерославская, вы¬
ступавшая позднее в частной итальянской опере.
Начиная с 1890-х гг. одним из центров еврейского театра становится Вар¬
шава. Хотя и там еврейский театр был разрешен только как «еврейско-не¬
мецкий», тем не менее он существовал в более благоприятных условиях, чем
странствующие труппы, так как актеры имели в своем распоряжении стацио¬
нарную театральную площадку — театр «Эльдорадо»38. Там поставил несколь¬
ко спектаклей Юлий Оскар (Айзенбет), профессиональный актер, игравший
в польских и немецких театрах и пытавшийся перенести на еврейскую сцену
методы европейской режиссуры. Среди постановщиков в «Эльдорадо» были
также и актеры первых трупп Гольдфадена. В их спектаклях в 1893 г. начинала
свою артистическую карьеру Эстер Рохл Гальперн, которая год спустя вышла
замуж за актера того же театра Аврома Ицхока Каминского (1867—1918) и во¬
шла в историю еврейского театра под именем Эстер Рохл Каминской (1870—
1925) как величайшая драматическая актриса.
Вскоре после женитьбы Каминские создали собственную «еврейско-не¬
мецкую» труппу и около десяти лет странствовали по черте оседлости. Этот
опыт лег в основу комедии Аврома Каминского «Еврейские актеры в малень¬
ком местечке» («Yidishe aktyoren in kleyn shtetele», 1903) 39, в которой он вы¬
смеял нравы и порядки, царившие в еврейских странствующих труппах того
времени. Такая пьеса, появившаяся в самой актерской среде, была одним из
симптомов осознания того, что развитие еврейского театра зашло в тупик и
/513/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
что он находится в кризисе. Практическую попытку оздоровления внутренне¬
го состояния еврейского театра предпринял актер Сэм Адлер (ок. 1868—1925),
вернувшийся в 1900 г. в Россию из Америки 40. Некоторое время он играл ко¬
мические роли в объединенной труппе Спиваковского-Фишзона, но вскоре
создал собственную антрепризу, которая была организована по американско¬
му образцу на совершенно новой для российского еврейского театра эконо¬
мической основе. С. Адлер отказался от традиционной системы «марок» и
вместо этого ангажировал актеров на условиях фиксированного заработка. Он
также стремился утвердить полноценную практику репетиций и требовал точ¬
ного знания роли, добиваясь дисциплины и не допуская импровизированной
отсебятины на сцене.
С. Адлер придавал также большое значение зрелищности театрального
представления, достигнуть которой он старался главным образом с помощью
роскошных костюмов, эффектных декораций и «грандиозных» постановок.
Примером таких спектаклей служит поставленная им в 1909 г. в Екатери¬
нославе «Шуламис» Гольдфадена, где в массовых сценах было задействовано
одновременно около 100 участников в «исторических» костюмах, а также до¬
машние животные. Такого рода постановки пользовались громким успехом,
особенно в российской провинции.
Солидные экономические принципы, на которых была основана «аме¬
риканская фирма С. Адлера» (так его антреприза именовалась в театральных
анонсах), его щепетильная порядочность в отношениях с актерами и ответ¬
ственность в профессиональных вопросах выгодно отличали его от еврейских
антрепренеров старого типа. Именно поэтому Шолом-Алейхем, обративший¬
ся в то время к драматургии, увидел в С. Адлере подходящего партнера для
воплощения своих сочинений на театральной сцене. В 1905 г. Шолом-Алей¬
хем заключил договор с труппой Спиваковского—С. Адлера (он был не толь¬
ко компаньоном Спиваковского, но и «художественным руководителем» и
режиссером объединенной труппы), игравшей в то время в Одессе. Соглас¬
но договору труппа должна была ставить только пьесы Шолом-Алейхема или
рекомендованные и отредактированные им пьесы других авторов. Договор
также предусматривал, что результатом такого сотрудничества должно стать
создание Еврейского литературно-художественного театра (Yidish-literarisher
kunst-teater). Однако из-за интриг конкурентов эти планы не осуществились.
Впрочем, одних методов театрального реформирования по образцу С. Ад¬
лера оказалось недостаточно для достижения тех задач, которые ставили пе¬
ред еврейским театром развитие национальной культуры и общественно-по¬
литическая ситуация времени первой русской революции. Об этом свидетель¬
ствовал провал гастролей труппы Спиваковского—С. Адлера весной 1905 г. в
Петербурге. Кроме двух пьес Гольдфадена, тепло принятых публикой, труппа
играла американские оперетты, что и стало причиной ее неудачи. Внешние
/514/
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
Обложка пьесы «Шуламис» А. Гольдфадена , 1889
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
эффекты и богатые аксессуары, обеспечивавшие успех у массового зрителя в
провинции, с точки зрения столичной еврейской интеллигенции, не могли
компенсировать бессодержательности репертуара. Петербургская еврейская
публика не приняла развлекательных оперетт и многих традиционных прие¬
мов их постановки, от которых не могли еще полностью отказаться руководи¬
тели труппы. Этот эпизод указывает на появления еврейского зрителя нового
типа (не только в Петербурге, но и в городах черты оседлости), предъявлявше¬
го к театру новые эстетические и культурные требования. Политизированные
еврейские интеллигенты и полуинтеллигенты, практически игнорировавшие
до этого еврейский театр, обратились к нему в ожидании ответов на актуаль¬
ные вопросы современной жизни и художественного отображения реальных
национальных проблем.
Положительные тенденции, которые обозначились в еврейском театре
после фактической отмены «театрального запрета» в 1905 г.41, — улучшение
его правового статуса, признаки оздоровления атмосферы в еврейской ак¬
терской среде — пробудили также надежды деятелей еврейской культуры на
превращение театра в один из важнейших элементов новой национальной
культуры. В еврейской публицистике возникает новый жанр — театральная
критика, которой уделяют много сил и внимания такие литераторы, как Пе¬
рец, Шолом Аш и Баал-Махшовес, систематически публикующие в прессе
рецензии на спектакли и драматические произведения. Представлялось, что
содержательная драматургия, обладающая высокими литературными каче¬
ствами (пьесы такого рода получили название «литературный репертуар»),
является наиболее действенным средством для формирования новой модели
еврейского театра.
Самые ранние опыты внедрения «литературного репертуара» были осу¬
ществлены актерами, вернувшимися в начале XX в. из Америки и познако¬
мившими российский еврейский театр с новыми пьесами американских
еврейских драматургов — в первую очередь с отдельными пьесами Янкева
(Якова) Гордина (1853—1909). Драматургия Гордина значительно отличалась
от обычного репертуара шунд-театра своими сценическими достоинствами,
наличием элементов психологизма в изображении персонажей и отражением
важных для того времени общественно-политических и национальных идей.
Поэтому для многих еврейских актеров исполнение ролей в пьесах Гордина
стало отправным пунктом их освобождения от старых театральных штампов
и школой драматического мастерства. Именно роли сиротки Хаси и Миреле
Эфрос (в одноименных пьесах Гордина) прославили Эстер Рохл Каминскую: в
этих ролях она сумела раскрыть подлинное дарование великой драматической
актрисы и продолжала играть их на протяжении всей своей жизни 42.
Авторитет Гордина в среде российских еврейских актеров был необычай¬
но велик. По словам театрального критика и режиссера А. Мукдойни (псевдо¬
/516/
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
ним Александра Каппеля; 1878—1958), возник даже «культ Гордина» 43. Однако
некоторые деятели еврейской культуры, пытавшиеся реформировать нацио¬
нальный театр, относились к драматургии Гордина критически, справедливо
отмечая, что она содержит в себе еще немало мелодраматических элементов
старого типа. По мнению Переца, они не соответствовали высоким эстети¬
ческим требованиям, так как находились на грани «между искусством и шун¬
дом, между Шекспиром и Шомером» 44. Критика Перецом пьес Гордина, в це¬
лом справедливая и взвешенная, основывалась на совершенно иной модели
национального театра. А. Мукдойни, близкий к Перецу в то время и считавший
необходимым освободить еврейский театр от «гипноза Гордина» 45, писал об
этом: «Перец физически не выносил Гордина и был склонен полностью отри¬
цать его заслуги перед театром. Он утверждал, что прежде еврейский театр был
просто народным, вернее — примитивно-народным, но вырастал из самого
сердца, из глубины еврейской массы; Гордин же перенес в еврейский театр
русского Островского с русскими жизненными конфликтами, с русским дра¬
матизмом, только нарядив его в еврейскую капоту» 46.
Еще один важный аспект «проблемы Гордина» заключался в том, что
его пьесы в России некоторое время были практически единственными об¬
разцами еврейской «литературной» драматургии, что также выдвигало на
первый план задачу создания национального театрального репертуара но¬
вого типа. В связи с этим в 1905 г. Шолом-Алейхем обратился к еврейским
писателям с открытым письмом, в котором, говоря о низком уровне еврей¬
ского театра, писал: «Кто же виноват в этом? Мы, мы — еврейские лите¬
раторы, народные писатели! Если мы и вправду народные писатели, грех
нам стоять в стороне, слышать, видеть и молчать. Грех нам выставлять себя
знатоками театра, критиковать актеров, высмеивать пьесы и больше ниче¬
го не делать. Вместо того чтобы зубоскалить, упражняться в острословии,
подсчитывать ошибки, критиканствовать и сочинять длинные рефераты
об “искусстве”, лучше взяться за работу: пьесы писать, пьесы! Создать ре¬
пертуар, маленький репертуарчик, молоденький, может, еще незрелый, но
хоть что-то, что-нибудь должны же мы дать нашему народному театру! <...>
Братья-писатели! Засучите рукава, возьмитесь за перо, пишите пьесы для
еврейского театра, и да поможет вам Бог!» 47
В этом письме выражалась точка зрения и таких еврейских писателей,
как Перец, Ш. Аш, Перец Гиршбейн (1880-1948) и другие, которые, даже
не дожидаясь призыва Шолом-Алейхема, обратились к драматургии. Ряд их
драматических произведений знаменовал собой утверждение модернистских
тенденций в еврейской литературе, и тем самым содержавшиеся в них новые
общественные идеи приобретали более радикальную, чем прежде, форму. В
драматургии Переца 48, например, нашли свое выражение не только его худо¬
жественные эксперименты и представления о новом еврейском театре, но и
/517/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
его национально-культурное кредо в целом. Это в первую очередь относится к
драмам «Золотая цепь» («Di goldene keyt») и особенно «Ночь на старом рынке»
(«Вау nakht oyfn alten mark»), которую современные исследователи считают
самым значительным произведением Переца, его «высочайшим художествен¬
ным достижением, ключом ко всему его литературному наследию» 49. Правда,
при жизни Переца полноценные постановки этой пьесы оказались не по си¬
лам еврейскому театру того времени и были осуществлены лишь в 1920-е гг.
Однако его одноактные пьесы сразу же после их появления заняли прочное
место в «литературном репертуаре». Так, роль Леи в одноактной пьесе Переца
«Сестры» («Shvester»), сыгранная уже в 1905 г. Эстер Рохл Каминской, стала
важным этапом ее становления как драматической актрисы.
Еврейские «литературные пьесы» отвечали ожиданиям тех еврейских ак¬
теров (еще сравнительно немногочисленных), которые хотели уйти от шунда
и играть «литературный репертуар». С их помощью Э.Р. Каминская органи¬
зовала в 1907 г. труппу (хотя формально ее возглавлял Авром Каминский), в
соответствии со своей программой названную «Литературной» (Literarishe
trupe). В ее репертуаре были пьесы еврейских авторов — Переца, Гордина, До-
вида Пинского, а также европейских и русских драматургов («Нора» Г. Ибсена
и «На дне» М. Горького 50). Весной 1908 г. «Литературная труппа» с успехом
гастролировала в Петербурге. Столичная театральная критика высоко оцени¬
ла ее репертуар, качество ее постановок и слаженную игру всего актерского
ансамбля, признав, что еврейский театр в лице «Литературной труппы» при¬
близился к стандартам мирового сценического искусства. Особых похвал (в
частности, ведущих деятелей русского театра) удостоилась примадонна труп¬
пы Э.Р. Каминская 51.
После гастролей в Петербурге «Литературная труппа» в течение сезона
1908/1909 г. с тем же репертуаром, что был представлен в столице, соверши¬
ла турне по городам Северо-Западного края, встречая везде восторженный
прием. Однако несмотря на это труппа оказалась в тяжелой ситуации: обна¬
ружилось, что из-за нехватки «литературных пьес» невозможно обновлять и
пополнять репертуар; «литературные спектакли» по своим доходам пока еще
не могли соперничать с шунд-театром, и А. Каминский, даже не поставив в
известность «Литературную труппу», организовал «для заработка» в Варша¬
ве собственную антрепризу, игравшую оперетты; при этом он назвал ее «Вто¬
рая труппа Э.Р. Каминской», что дискредитировало ставшую уже знаменитой
актрису. Успех спровоцировал соперничество среди актеров «Литературной
труппы», подрывавшее ее единство. В такой ситуации Э.Р. Каминская под¬
писала контракт о гастролях в Америке и покинула труппу. Вслед за ней ушли
и несколько актеров, а оставшиеся в 1911 г. консолидировались под именем
«Объединенной труппы» (Fareynigte trupe), продолжившей попытки играть
«литературный репертуар» почти до начала Первой мировой войны.
/518/
5.4 / ИСКУССТВО. МУЗЫКА И ТЕАТР
В 1909 г., в Одессе образовался новый театральный ансамбль под назва¬
нием Еврейский художественный театр (Yidisher kunst-teater). В его создании
принимал участие Хаим Нахман Бялик, а возглавил Перец Гиршбейн (отсюда
его второе название — «Труппа Гиршбейна» [Hirshbeyn-trupe]). Ограничив с
самого начала, как и «Литературная труппа», свой репертуар только образца¬
ми художественной драматургии, Еврейский художественный театр в то же
время по своей эстетической программе (правда, противоречивой и эклек¬
тичной) выступал как альтернатива труппе Э.Р. Каминской. Так, Гиршбейн и
его единомышленники провозгласили принципиальный отказ от Гордина и
идущего от него натурализма в театральном действии и актерской игре, рас¬
тиражированного и вульгаризированного подражателями Э.Р. Каминской.
Образцами, на которые ориентировалась «Труппа Гиршбейна», были «анти¬
натуралистический» Московский Художественный театр и символистский
театр Польши и Западной Европы. Поэтому в репертуаре Еврейского художе¬
ственного театра символистские и мистические пьесы Гиршбейна и Ш. Аша
сочетались с реалистическими пьесами Шолом-Алейхема 52, С. Юшкевича и
Д. Пинского. Кроме того, в отличие от актеров, игравших с Э.Р. Каминской,
большинство участников «Труппы Гиршбейна» не были обременены грузом
традиций «старого» еврейского театра и представляли собой новый тип еврей¬
ского актера — это были мотивированные, национально настроенные и об¬
разованные молодые энтузиасты нового еврейского театра, актеры-любители
или выпускники русских театральных школ (что тоже было новшеством на ев¬
рейской сцене). Некоторые, как, например, актер и режиссер Яков Бен-Ами,
впоследствии стали выдающимися деятелями еврейского театра. В «Труппе
Гиршбейна» участвовал также Давид Херман (1876—1954), позднее, в Польше
между двумя мировыми войнами, один из крупнейших еврейских режиссе¬
ров-модернистов. Наконец, Еврейский художественный театр рассчитывал
обрести своего зрителя не в массовой аудитории, а среди еврейских интел¬
лигентов. Все перечисленные особенности «Труппы Гиршбейна», отличавшие
ее не только от традиционных еврейских антреприз, но и от «Литературной
труппы», сразу же привлекли внимание театральной публики и критики.
После первых успешных выступлений в Одессе и гастролей в Екатери¬
нославе «Труппа Гиршбейна» в 1909 г. получила приглашение от Варшавского
отделения Еврейского литературного общества, которое возглавлял Перец.
Сам он и его ближайшее окружение готовы были поверить, полагаясь на вос¬
торженные газетные рецензии, что в новой труппе воплотится их идеал ев¬
рейского театра. Спектакли одесской труппы были тепло встречены варшав¬
скими зрителями и положительно оценены прессой, хотя они и не оправдали
всех ожиданий Переца и близкого к нему театрального критика А. Мукдой¬
ни. С его точки зрения, молодым актерам не хватало сценического опыта и
умения играть в ансамбле, режиссерские решения ряда спектаклей были не¬
/519/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
зрелыми, и в них отсутствовало единство стиля 53. Тем не менее эта критика
(возможно, чрезмерно строгая) не отрицала наличия творческого потенциала
«Труппы Гиршбейна», и Перец начал с ней репетиции своей пьесы «Золотая
цепь». Однако ее постановка не состоялась, так как беззаботность Гиршбейна
по отношению к материальному положению труппы поставила ее на грань фи¬
нансовой катастрофы. Гастрольное турне по Северо-Западному краю, которое
срочно была вынуждена предпринять труппа, обернулось коммерческой не¬
удачей, и 7 июля 1910 г. в Двинске состоялся последний спектакль Еврейского
художественного театра.
Развитие «драматического», художественного направления в еврейском
театре продолжалось и в других формах. Росло число актеров, тяготевших к
«серьезному» репертуару и культивировавших новый стиль сценической игры.
Важную роль в этом сыграла первая еврейская театральная школа в Варшаве,
организованная в 1912 г. Д. Херманом совместно с Перецом и А. Мукдойни.
Из этой школы вышел целый ряд ярких актеров и режиссеров, которым ев¬
рейский театр позднейшего времени обязан многими значительными дости¬
жениями.
Укрепление позиций «литературного» направления на еврейской сцене
наряду с единолично господствовавшим на ней до этого шундом привело к
разнообразию моделей еврейского театра и дифференциации еврейской зри¬
тельской аудитории по признаку предпочтения той или иной модели. «Лите¬
ратурные» труппы нашли своих, новых зрителей, численность которых также
постепенно увеличивалась. Под влиянием всего этого повысился эстетиче¬
ский уровень традиционных жанров еврейского театра, комедий и оперетт, в
которых также оказалось возможным продемонстрировать новые стандарты
актерского и режиссерского мастерства.
Благодаря стремлению к совершенствованию и усвоению опыта мирово¬
го сценического искусства российский еврейский театр к началу Первой ми¬
ровой войны занял заметное место среди других национальных театров. Рос¬
сия не была единственным местом, где существовал и развивался еврейский
театр, но, безусловно, являлась одним из главнейших его центров. Эволюция
и достижения еврейского театра в России определили его блистательный рас¬
цвет в период между двумя мировыми войнами в других странах мира.
В процессе своего развития еврейский театр аккумулировал в себе мощ¬
ную творческую энергию и уже в «гольдфаденовскую эпоху» наряду с лите¬
ратурой стал краеугольным камнем новой еврейской культуры. Успех и стре¬
мительное распространение еврейского театра свидетельствуют о том, что
профессиональный театр отвечал насущным культурным и эстетическим
потребностям, созревшим к тому времени в еврейской среде. Популярность
еврейского театра объясняется еще и демократичностью его характера: он об¬
ращался к своей публике на ее разговорном языке, идише, который был также
/520/
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
важнейшим языком массовой еврейской культуры, а затем и «высокой» куль¬
туры еврейской интеллигенции. (Театр на иврите появился позже, и его под¬
линные успехи относятся ко времени, лежащему вне рамок рассматриваемого
периода. Но и тогда театр на иврите не мог конкурировать с театром на идише
по популярности и массовости аудитории.) Свои первые шаги еврейский про¬
фессиональный театр сделал, опираясь на элементы сценического искусства,
уже бытовавшие в самом еврейском обществе и уходящие корнями в тради¬
ционную культуру, и культивировал эти элементы на протяжении всей своей
истории. Благодаря всему этому в структуре секулярной еврейской культуры
еврейский театр занял особое место по сравнению с «элитарными» музыкой и
искусством. Как продукты русской и, шире, европейской культуры искусство
и музыку отделяла от основной массы российского еврейства значительная
культурная дистанция, а евреи, избравшие для себя эти виды художественного
творчества, были вынуждены адаптироваться к их нормам и формам и решать
проблему собственной национальной и культурной идентичности. Еврейский
же театр был тесно связан с аутентичной национальной средой, «вырастал из
самого ее сердца» (по выражению Переца), и эта связь, ослабевая или усили¬
ваясь, сохранялась на всех этапах его развития, даже в его элитарных модер¬
нистских модификациях.
1 Ан-ский С. Дневник // Российский государственный архив литературы и искус¬
ства (Москва) (далее — РГАЛИ). Ф. 2583. Оп. 1. Д. 6. Л. 19-20.
2 Л-инъ М. В «Еврейском обществе поощрения художеств» // Еврейская неделя.
1916. №4 (24.01.). С. 30.
3 См.: Каталог выставки картин и скульптуры художников-евреев. Еврейское об¬
щество поощрения художеств. М., 1917, предисловие, с. 2, без пагинации.
4 Ha-akademi L. Pasternak: “Ha-omanut he-ivrit (me-mikhtav la-rea)” // Tarbut
[Kiev]. 1918. N2 [28.08.]. P. 12..
5 Cm.: Amishai-Maisels Z. Origins of Jewish Jesus // Complex Identities: Jewish Con¬
sciousness and Modern Art / Ed. by Matthew Baigell and Milly Heyd. N. Jersey; London,
2001. P. 55-62.
6 О еврейском «универсализме» в связи с картинами из жизни Иисуса другого ху¬
дожника-еврея из Восточной Европы, современника Антокольского, Мауриция Гот¬
либа (1856—1879), см.: Mendelsohn Е. Painting a People: Maurycy Gottlieb and Jewish Art.
N.Y., 2002. P. 133-140.
7 Гинцбург И. Антокольский Марк Матвеевич // Еврейская энциклопедия. Т. 2.
СПб., [б/г]. С. 784.
8 В 1940 г., во время сноса еврейского Дорогомиловского кладбища в Москве, где
был похоронен Левитан, его прах по решению советского правительства был пере¬
несен и перезахоронен на православном кладбище Новодевичьего монастыря, где по¬
коятся крупнейшие деятели русской культуры. В советское время оно приобрело ста-
/521/
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
тус престижного некрополя, погребение в котором было одним из знаков признания
заслуг усопшего перед русской (советской) культурой или государством. Такова была
сила русской культурной мифологии (частично усвоенной и советской идеологией),
которая полностью апроприировала еврея Левитана как выдающегося русского худож¬
ника.
9 Подробнее см.: Kazovsky Н. Jewish Artists in Russia at the Turn of the Century: Is¬
sues of National Self-Identification in Art // Jewish Art (Jerusalem) \bl. 21/22/ 1995/96/
P. 24-30.
10 Маймон M. История одной картины // Еврейская летопись: Сб. 1. Пг.; М., 1923.
С. 107.
11 См.: Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des V. Zionistischen Kongress.
Wien, 1901. Его речь была также издана по-русски, в виде брошюры под названием
«Еврейское искусство» (Харьков, 1902).
12 An-sky Sh. Der yidisher folks-gayst un zayn shafn // Gezamlte shriftn. Vol. 15. Varshe:
Tsentral farlag, 1925. P. 15—16; Reyzen Z. Lexikon fun der yidisher literatur, presse un filologie.
Vol. 1. P. 131.
13 См., в частности: Weisser A. The Modem Renaissance of Jewish Music: Events and
Figures, Eastern Europe and America. N. Y., 1954. P. 25-68; Bronzaft M. Ha-askola ha-musi-
kalit ha-yehudit. Jerusalem, 1940. P. 11-16.
14 Конфликт с профессиональными русскими музыкантами был вызван, в част¬
ности, тем, что Антон Рубинштейн хотел пригласить иностранцев на должности пре¬
подавателей консерватории. В конце концов было принято компромиссное решение,
благодаря которому ряд противников Рубинштейна получили профессорские кафе¬
дры в создаваемом им учреждении. Среди них был и выдающийся русский компози¬
тор Н. Римский-Корсаков, чье имя было присвоено в 1944 г. Петербургской (тогда Ле¬
нинградской) консерватории.
15 Сабанеев Л. Еврейская национальная школа в музыке. М.: Издание Общества
еврейской музыки, 1924. С. 7.
16 Российский институт истории искусств. Ф. 8. Р. VII. № 636. Л. 1-2. Цит. по
кн.: Копытова Г. В. Общество еврейской народной музыки в Петербурге—Петрограде.
СПб., 1997. С. 8.
17 Как вспоминал один из учредителей общества, С. Розовский, первоначально
оно должно было называться Общество еврейской музыки. Однако на принятом впо¬
следствии названии настоял петербургский градоначальник генерал-майор Д.В. Дра¬
чевский (один из тех чиновников, от которых по закону зависело разрешение на ре¬
гистрацию общества). Его позиция основывалась на том, что ему не было известно о
существовании «еврейской музыки», а вот «еврейскую народную мелодию», как он за¬
явил, он «слышал на еврейской свадьбе в Одессе» (см.: Rosowsky S. The Society for Jew¬
ish Folk Music: Personal Reminiscences // The Jewish Music Forum Bulletin. N. Y, 1948,
December. Vol. IX. P. 9—10; Копытова Г.В. Указ. соч. С. 8—9).
18 Weisser A. The Modem Renaissance of Jewish Music: Events and Figures, Eastern
Europe and America. P. 44.
19 Устав Общества еврейской народной музыки (§ 1). СПб., 1910. С. 1.
20 Как утверждает биограф и исследовательница научного наследия 3. Кисельго¬
фа, «его материалы и коллекции составляют фундамент еврейской фольклористики в
/ 522 /
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
России» (см.: Шолохова Л. Коллекция Зиновия Кисельгофа как источник исследова¬
ний по еврейскому музыкальному фольклору // Из истории еврейской музыки в Рос¬
сии: Материалы научной конференции «90 лет Обществу еврейской народной музыки
в России». Санкт-Петербург, 27 октября 1998 года. СПб., 2001. С. 68-69.
21 Энгель Ю. Открытое письмо Л.И. Саминскому // Рассвет. 1915. № 7 (15.02.).
С. 17. Подробнее об этой дискуссии вместе с публикацией соответствующих текстов
см.: Гуральник Л. К истории полемики Ю. Энгеля и Л. Саминского // Из истории ев¬
рейской музыки в России: Материалы научной конференции «90 лет Обществу еврей¬
ской народной музыки в России». С. 119-164. Полемика в еврейской музыкальной
среде имела аналогию и в различиях взглядов на истоки — ближневосточные или вос¬
точноевропейские — «современного еврейского искусства».
22 В качестве примера радикального музыкального авангарда у еврейских компо¬
зиторов можно указать на атональные сочинения Юлии Вейсберг, наиболее ранние из
которых были написаны ею во время Первой мировой войны.
23 Сабанеев Л. Еврейская национальная школа в музыке. С. 20—21. (Сабанеев
перечисляет лишь ведущих композиторов — членов общества, чье творчество, с его
точки зрения, наиболее полно характеризовало «еврейскую национальную школу в
музыке»).
24 Наряду с музыкальными концертами общество «ha-Zomir» занималось органи¬
зацией публичных литературных чтений, драматических кружков и устраивало высту¬
пления писателей.
25 Еврейский хор в Лодзи возглавил начинающий тогда композитор Иосиф Рум¬
шинский (1881-1956), прославившийся впоследствии как один из создателей еврей¬
ской оперетты на идише в Америке.
26 Общество еврейской народной музыки в Петрограде существовало до 1918 г.
В том же году было создано Общество еврейской музыки в Москве, упраздненное в
1924 г. В его работе принимали участие многие из оставшихся в Советской России чле¬
нов Общества еврейской народной музыки. «ha-Zomir» продолжало функционировать
до 1939 г. в Польше, Литве и США.
27 Позднее, утратив свое этническое значение, слово прочно вошло в лексикон
русского языка как синоним ничтожества, недотепы.
28 Сатиру на этот род «бизнеса» в еврейской среде см. также в рассказе Шолом-
Алейхема «Человек из Буэнос-Айреса».
29 С этого времени «Уриэль Акоста» на долгие годы занял одно из центральных
мест в репертуаре еврейских театров. Образ свободомыслящего бунтаря, восставше¬
го против старых догм, соответствовал идеологии Гаскалы, а драматические достоин¬
ства пьесы, отсутствовавшие в массовой еврейской драматургической продукции того
времени, давали возможность актерам уйти от господствовавших на еврейской сцене
шаблонов и раскрыть свое дарование вне привычных рамок амплуа. Это отражено и
в «театральном романе» Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды», для главного героя
которого, Лео Рафалеско, роль Уриэля Акосты — важнейшая в его репертуаре.
30 Большая часть немногочисленных драматических произведений на идише,
созданных писателями-маскилами в первой половине XIX в., — комедии И. Аксен¬
фельда, А.Б. Готлобера, И.Б. Левинзона и Шл. Этингера — была еще не издана и кур¬
сировала в рукописном виде. Кроме того, за редким исключением, пьесы этих писате¬
/ 523 /
ЧАСТЬ 5 / ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
лей были плохо приспособлены для сценического воплощения и представляли собой
род драматизированной прозы. Переводов на идиш классических произведений евро¬
пейской драматургии еще не существовало.
31 О традиции рассматривать театральную антрепризу как «семейный бизнес», за¬
ложенную Гольдфаденом, и о еврейских театральных династиях см.: Sandrow N. Vaga¬
bond Stars. A World History of Yiddish Theater. N.Y; Hagerstown; San Francisco; London:
Harper & Row, Publishers, 1977. P. 55.
32 Цит. no: Dobrushin Y Di dramaturgic fun di klasiker: Goldfaden, Sholem-Aley¬
khem, Y. L. Perets. M.: Der Ernes. 1948. P. 8.
33 О сходстве этой стадии развития еврейского и украинского театра см., напри¬
мер,: Oyslender N. Yidisher teater 1887-1917. М.: Der Ernes, 1940. P. 10—11, 304—305.
34 Goldfaden A. Oytobiografie // Golfaden-bukh. New York, 1926. P. 59.
35 Являющиеся объектом критики как слабости и недостатки молодого еврейско¬
го театра, все эти «негативные» черты в той или иной мере были характерны в послед¬
ней четверти XIX — начале XX в. и для развитых театральных культур того времени, их,
в частности, можно было обнаружить и на русской, и на австрийско-немецкой сценах.
Так, в период 1870—1890-х гг. провинциальные русские театры обычно давали 60—80
премьер в течение одного сезона. Театры в Москве и Петербурге, не только частные,
но даже «казенные» (например, Александринский императорский театр), по количе¬
ству новых постановок не отставали от провинциальных. В таких условиях репетиции
продолжались не более недели, и часто актеры плохо знали роли. При этом основное
место в репертуаре занимали «кассовые» пьесы, обычно невысокого качества и рас¬
считанные на массового зрителя. Об этом, а также о принципах актерской игры в рус¬
ском театре того времени см.: Петровская И. Театр и зритель провинциальной России.
Вторая половина XIX века. Л.: Искусство, 1979. С. 180-184, 186—187, 196; о подобных
явлениях в немецком и австрийском театре в начале XX в. см.: Vaykhert М. Zikhroynes.
Bd. 1. Tel-Aviv, 1960/Р. 208-218, 273-281 (in Yiddish).
36 См.: Фишзон А. Записки еврейского антрепренера // Библиотека театра и ис¬
кусства. СПб., 1913. Кн. VIII (август). С. 3-4.
37 Популярная адаптация классических произведений европейской литературы
являлась частью просветительской стратегии у тех народов, которые, как и евреи Вос¬
точной Европы, переживали процесс модернизации традиционного общества. Как
средство приобщения к «высокой» западной культуре адаптация европейской клас¬
сики использовалась в конце XIX в., в частности, китайцами и японцами, для кото¬
рых модернизация во многом была тождественна вестернизации. Один из примеров
использования механизма адаптации в наше время — кинофильмы японского режис¬
сера Куросавы «Ран» и «Идиот», где действие «Короля Лира» У. Шекспира и романа
Ф.М. Достоевского разыгрывается в Японии японскими персонажами.
38 Владевшая им Ольгинская, полька по происхождению, была генеральской вдо¬
вой и поэтому могла позволить себе гораздо большую, чем у еврейских антрепренеров,
свободу в отношениях с властями. В еврейском театре она видела доходное предпри¬
ятие и охотно сдавала принадлежавшее ей помещение для еврейских спектаклей.
39 Под названием «Еврейские актеры в пути» пьеса была издана в 1908 г.: Kamin¬
ski A. Y. Yidishe aktyoren oyf der rayze. Varshe: Bikher far ale, 1908.
/524/
5.4 / ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ТЕАТР
40 В середине 1880-х гг. С. Адлер начинал в еврейских странствующих труппах в
России, затем переехал в Америку, в Нью-Йорк, где также сотрудничал с еврейски¬
ми театрами. С. Адлер был необычной личностью и выделялся даже в богатой экс¬
травагантными типами среде еврейских актеров. Залмен Зильберцвайг пишет о нем в
своем «Лексиконе еврейского театра»: «О его юности ничего не известно. Неизвестно
также, была ли фамилия Адлер его собственной или псевдонимом. Будучи по натуре
замкнутым человеком, он никому не рассказывал о своем прошлом или о своей семье.
Адлер ни с кем не был близок, чрезвычайно редко писал письма. Единственное, что
социально связывало его с миром, было его масонство. Его ближайшим другом была
его воспитанница, черепаха, с которой он почти никогда не расставался. <...> Адлер
едва умел писать на идише и только латинскими буквами» (Leksikon fun yidishn teater.
Bd. 1. N.Y., 1931. P. 30, 31. (in Yiddish)
41 Формально запрет так и не был ликвидирован, и после 1905 г. в течение ряда
лет разрешение на спектакли на идише зависело от доброй воли местных властей.
42 Дочь Э.Р. Каминской, Ида (1899-1980), с 1920-х гг. одна из ярчайших «звезд»
еврейского театра в Восточной Европе, как актриса также начинала в пьесах Гордина.
Одной из первых ее ролей был Шлоймеле в экранизированной версии «Миреле Эф¬
рос» (1912, реж. М. Товбин) с Э.Р. Каминской в главной роли. Эта роль позднее заняла
важное место и в репертуаре Иды Каминской.
43 «Пьесы других авторов игрались “под Гордина”», актеры между собой «обща¬
лись с помощью цитат из Гордина», «литература для них была — Гордин, театр — Гор¬
дин, все — Гордин» (Mukdoyni Dr. A. Yitskhok Leybush Perets un dos yidishe teater. N.Y:
YIKUF-farlag, 1949. P. 140, 141).
44 Perets Y.L. Khasye di yesoyme. A drame in fir aktn fun Yankev Gordin [1905] // Idem.
Ae verk. Bd. 7. N.Y.:TSIKO bikher-farlag. P. 181.
45 Mukdoyni A. Dr. Gordin un di yudishe bine // Yudish. 2ter bd. Varshe: Progres, 1910.
P. 63-78.
46 Idem. Yitskhok Leybush Perets un dos yidishe teater. P. 141.
47 Sholem-Aleykhem. «A briv tsu di yidishe shriftshteler mikoyekh teater un teater-shtik»
// Oyslender N. Yidisher teater 1887-1917. P. 308-309.
48 Драмы Переца были собраны в третьем томе его Собрания сочинений и изданы
в 1909 г. в Варшаве издательством «Progres».
49 Wisse R.S. I. L. Peretz and the Making of Modem Jewish Culture. Seattle; London:
University of Washington Press, 1991. P. 105; Shmeruk K. Peretses yiyesh-vizye. N.Y: YIVO,
1971. P.V. (in Yiddish).
50 В переводе на идиш А. Каминского пьеса М. Горького шла под названием «Oyfn
letstn shtapl».
51 На одном из банкетов в честь артистки с восторженными речами в ее адрес вы¬
ступали К.С. Станиславский, В.И. Качалов, И.М. Москвин и другие актеры Москов¬
ского Художественного театра.
52 Пьесы Шолом-Алейхема («Tsezeyt un tseshpreyt», «А doktor», «Mentshn») на ев¬
рейской сцене были впервые поставлены именно «Труппой Гиршбейна».
53 Mukdoyni A. Dr. Yitskhok Leybush Perets un dos yidishe teater. P. 169—173.
ОБ АВТОРАХ
ДАВИД АСАФ — профессор Тель-авивского университета, кафедра истории
еврейского народа. Область научных исследований — хасидизм, движение Га¬
скала, социальная и культурная история еврейского традиционного общества в
Восточной Европе. Автор многочисленных публикаций, в том числе трех моно¬
графий: Derekh ha-malchut. R' Israel mi-Ruzhin u-meqomo be-toldot ha-hasidut (Иеру¬
салим: Центр Залмана Шазара, 1997, английское издание — The Regal Way — The
Life and Times of Rabbi Israel of Ruzhin, Stanford University Press, California, 2002 );
Neehaz ba-svakh: pirqey mashber u-mevukha be-toldot ha-hasidut, (Иерусалим: Центр
Залмана Шазара, 2006, английское издание: Untold Tales of the Hasidim: Crisis
and Discontent in the history of Hasidism, Brandeis University Press, 2010); Breslav —
bibliographiya mueret («Брацлав: аннотированная библиография»), Иерусалим:
Центр Залмана Шазара, 2000.
ИСРАЭЛЬ БАРТАЛЬ — профессор Еврейского университета в Иерусалиме, кафе¬
дра истории еврейского народа. Сфера научных интересов — социальная и куль¬
турная история евреев в Восточной Европе в средние века и новое время, история
еврейской литературы, еврейские национальные движения, история еврейской
общины в Палестине, еврейская историография. Автор многочисленных пу¬
бликаций и трех книг: Poles and Jews: a Failed Brotherhood. Hanover, N.H.: Brandeis
University Press, 1992 (совместно с Магдаленой Опальской); Galut ba-arets: yishuv
erets-Israel be-terem tsiyonut («Изгнание в своей стране: еврейская община в Земле
Израиля до начала сионистского движения»), Иерусалим: Мосад Бялик, 1994; The
/ 526/
ОБ АВТОРАХ
Jews of Eastern Europe, 1772-1881, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005
(русское издание: От общины к нации: евреи восточной Европы в 1772—1881 гг. М.;
Иерусалим: Гешарим, 2007)
ОЛЕГ БУДНИЦКИЙ — доктор исторических наук, профессор и директор Цен¬
тра истории и социологии Второй мировой войны Национального исследователь¬
ского университета «Высшая школа экономики», ведущий научный сотрудник
Института российской истории Российской Академии наук, Москва, главный
редактор ежегодника “Архив еврейской истории”. Автор многочисленных науч¬
ных работ, включая монографии Терроризм в российском освободительном движе¬
нии: идеология, этика, психология (2000), Российские евреи между красными и белы¬
ми (1917-1920) (2005, английское издание — Russian Jews between the Reds and the
Whites, 1917—1920, University of Pennsylvania Press, 2011), Деньги русской эмиграции:
Колчаковское золото. 1917—1920 (2008).
МАКСИМ ГАММАЛ — преподаватель и научный сотрудник кафедры иудаики
Института Стран Азии и Африки Московского государственного университета.
Сфера научных интересов — история евреев в Новое время. Основные публика¬
ции посвящены истории караимских общин Российской империи.
КРИСТОФ ГАССЕНШМИДТ — доктор философии, историк, научный сотруд¬
ник Института истории и культуры немцев в России, Фрайбургский университет.
Автор книги Jewish Liberal Politics in Tsarist Russia: the Modernization of Russian Jewry.
1900—1914 (New York: New York University Press, 1995).
УРИЭЛЬ ГЕЛЬМАН — доктор философии (Еврейский университет в Иерусали¬
ме), сфера академических интересов — еврейская социальная и интеллектуальная
история в Восточной Европе в новое время.
ЙОСЕФ ГОЛЬДШТЕЙН — профессор в университетском центре Ариэль, пре¬
подавал на кафедре еврейской истории Хайфского университета и в Открытом
университете Израиля. Исследователь сионистского движения и истории евреев
в России в XIX-XX вв. Автор научных биографий видных лидеров сионистско¬
го движения и еврейского государства (Ахад ха-Ама, Менахема Усышкина, Леви
Эшколя, Ицхака Рабина).
МОРДЕХАЙ ЗАЛКИН — профессор современной истории евреев в Университете
Бен-Гурион, Беер-Шева, отделение истории еврейского народа. Сфера научных
интересов — социальная, культурная и экономическая история евреев Литвы и
история еврейского образования в Восточной Европе. Автор многочисленных пу¬
бликаций по истории движения Гаскала, по истории традиционного и современ¬
/ 527/
ОБ АВТОРАХ
ного еврейского образования и по другим вопросам еврейской жизни в Восточной
Европе. Среди его книг — Be-alot ha-shahar — ha-Haskala ha-yehudit ba-Imperya ha-
Rusit ba-mea ha-19 («На заре: движение еврейского Просвещения в Российской
империи в XIX столетии»), Иерусалим: Центр Залмана Шазара, 2000; El-heikhal
ha-Haskala: tahalikhei ha-modemizatsiya ba-hinukh ha-yehudi be-Mizrakh-Eiropa ba-
mea ha-19 (“К храму Просвещения”: процессы модернизации еврейского образо¬
вания в Восточной Европе в XIX в). Бней-Брак, 2008; Naujos Lietuvos zydy istorijos
perspektyvos (Vilnius, 2009).
ГРИГОРИЙ КАЗОВСКИЙ — историк, автор статей по истории еврейской книги,
еврейского искусства и театра, а также книг Художники Витебска: Иегуда Пэн и
его ученики (Москва), Художники Культур-Лиги (М., Иерусалим: Гешарим, 2003),
Книжная графика художников культур-лиги (Киев: Дух и литера, в печати).
ДЖОН Д. КЛИЕР (1944-2007) — Профессор и заведующий кафедрой иудаики
Университетского колледжа в Лондоне (UCL). Специалист по истории евреев в
Российской империи. Автор монографий Russia Gathers Her Jews. The Origins of the
“Jewish Question" in Russia 1772—1825 (Northern Illinois University Press, 1985; рас¬
ширенное русское издание — Россия собирает своих евреев. М.- Иерусалим: Геша¬
рим, 2000), Imperial Jewish Question (Cambridge and New York, Cambridge University
Press, 1995), Russians, Jews, and the Pogroms of 1881—1882 (Cambridge, Cambridge
University Press, 2011) и многочисленных статей об отношениях между евреями и
их окружением в России.
ИВОНН КЛЯЙНМАН — доктор философии (Кёльнский университет), глава
исследовательской группы «Pathways of Law in Ethno-Religiously Mixed Societies:
Resources of Experience in Poland-Lithuania and Its Successor States» в Институ¬
те славянских исследований Лейпцигского университета. Среди основных тем
ее исследований — история евреев в Восточной Европе в новое время, история
миграций, взаимодействие закона и религии в Польско-Литовском государстве
в раннее новое время. Автор книги Neue Orte — neue Menschen. Jüdische Lebens¬
formen in St. Petersburg und Moskau im 19. Jahrhundert, Göttingen (Vandenhoeck &
Ruprecht), 2006.
ХАЙНЦ-ДИТРИХ ЛЁВЕ — профессор восточноевропейской истории Гейдель¬
бергского университета. Сфера научных интересов: социальная и политическая
история России и СССР, история антисемитизма и российского еврейства. Ав¬
тор многочисленных статей в международных научных журналах и энциклопеди¬
ях, а также четырех монографий — Antisemitismus und reaktionäre Utopie. Russischer
Konservatismus im Kampf gegen den Wandel von Staat und Gesellschaft, 1890—1917
(Hamburg, 1978); Die Lage der Bauern in Rußland, 1880—1905. Wirtschaftliche und soziale
/ 528 /
ОБ АВТОРАХ
Veränderungen in der ländlichen Gesellschaft des Zarenreiches (St. Katharinen, 1987); The
Tsars and the Jews. Reform, Reaction and Anti-Semitism in Imperial Russia 1772—1917
(Chur, 1993); Stalin. Der entfesselte Revolutionär. (Göttingen, 2002 , русское издание —
Сталин. История сталинизма. Росспэн, 2009)
ВЛАДИМИР ЛЕВИН — доктор философии (Еврейский университет в Иеруса¬
лиме), историк, заместитель директора Центра еврейского искусства, Еврейский
университет в Иерусалиме. Автор публикаций по социальной и политической
истории евреев в России и истории еврейского искусства.
ЗЕЕВ ЛЕВИН — доктор философии, преподает на кафедре востоковедения Еврей¬
ского университета в Иерусалиме. Сфера научных интересов — история Средней
Азии в новое время, история бухарских евреев. Автор монографии Mafrikhei ha-
arava ha-raeva: ha-shilton ha-komunisti ve-yehudei Uzbekistan («Оросители голодной
степи: евреи Узбекистана и коммунистическая власть»), Иерусалим: Яд Бен Цви
(в печати).
ИЛЬЯ ЛУРЬЕ — доктор философии (Еврейский университет в Иерусалиме),
историк. Сфера научных интересов — социальная и культурная история евреев
в Российской империи, история хасидизма, еврейское традиционное общество в
Восточной Европе. Автор книги Eda u-medina: Hasidut Habad ba-imperia ha-rusit.
1828-1883 («Община и государство: хасидизм Хабад в Российской империи,
1828—1883»), Иерусалим: Изд-во им. И.Л. Магнеса, 2006.
АВРААМ НОBEРШТЕPH — профессор Еврейского университета в Иерусалиме,
кафедра ивритской литературы, идиша и фольклора. Директор Дома Шолом-
Алейхема (Тель-Авив). Специалист по языку идиш и идишской литературе и куль¬
туре. Автор монографии Kesem ha-dimdumim: Apokalipsa u-meshikhiyut be-sifrutyidish
(«Очарование сумерек: мессианство и апокалиптика в идишской литературе»),
Иерусалим: Изд-во им. И.Л. Магнеса, 2003.
ЙОХАНАН ПЕТРОВСКИЙ-ШТЕРН — доктор философии (Университет Бран¬
дайз, Бостон). Преподает новую историю и историю евреев в Восточной Евро¬
пе в Северо-Западном университете (Иллинойс). Автор статей и публикаций по
еврейской истории и литературоведению, в том числе трех книг — Евреи в рус¬
ской армии. 1827-1914 (М.: НЛО, 2003, переработанное английское издание —
Jews in the Russian Army, 1827—1917: Drafted into Modernity, Cambridge and New York:
Cambridge University Press, 2009); The Anti-Imperial Choice: the Making of the Ukrainian
Jew (New Haven: Yale University Press, 2009); Lenin's Jewish Question (New Haven: Yale
University Press, 2010).
/ 529 /
ОБ АВТОРАХ
ГАДИ САГИВ — доктор философии (Тель-авивский университет), историк, ис¬
следователь хасидского движения.
ЙОНАТАН ФРЕНКЕЛЬ (1935-2008) — профессор Еврейского университета в
Иерусалиме, Институт современного еврейства и кафедра русских и славянских
исследований. Главными сферами его научных интересов были процессы транс¬
формации еврейского общества в Российской империи во втор. пол. XIX — нач.
XX вв., формирование новой еврейской политики, еврейские социалистиче¬
ские и национальные движения. Автор многочисленных статей и публикаций,
среди них — две фундаментальные монографии: Prophecy and Politics: Socialism,
Nationalism, and the Russian Jews 1917—1862 (Cambridge: Cambridge University Press,
1981. Русский перевод: Пророчество и политика: социализм, национализм и русское
еврейство, 1862-1917. М.; Иерусалим: Гешарим, 2008); The Damascus Affair: «Ritual
Murder», Politics and the Jews in 1840 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
ШАЙ POH ФРИЗ — профессор отделения ближневосточных и еврейских иссле¬
дований Университета Брандайз, Бостон. Главной сферой ее научных интересов
является социальная и культурная история российского еврейства, еврейская
семья и гендерные исследования. Автор многочисленных научных публикаций,
среди них — монография Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia (Waltham:
Brandeis University Press, 2001)
ВЛАДИМИР XA3AH — доктор философии, литературовед и историк литературы,
преподаватель кафедры русских и германских исследований Еврейского универ¬
ситета в Иерусалиме; специалист по истории русской литературы и истории рос¬
сийского еврейства и его культуры; автор 20 книг на различные темы, связанные с
данной проблематикой, среди них — Особенный еврейско-русский воздух: К пробле¬
матике и поэтике русско-еврейского литературного диалога в XX веке (М.; Иеруса¬
лим: Гешарим, 2001); Пинхас Рутенберг: От террориста к сионисту. Опыт иденти¬
фикации человека, который делал историю: (в 2-х томах, М.; Иерусалим: Гешарим,
2008); Осип Дымов. Вспомнилось, захотелось рассказать... (в 2-х томах / Сост., общ.
ред., вступ. ст. и коммент. В. Хазана, Иерусалим, 2011).
ШАУЛЬ ШТАМПФЕР — профессор Еврейского университета в Иерусалиме,
глава кафедры еврейской истории. Специалист по истории и демографии евре¬
ев в Восточной Европе нового времени. Автор многочисленных публикаций по
истории еврейского образования, религиозной жизни, еврейской демографии и
гендерных аспектов еврейской истории. Выпустил в свет две монографии: На-
yeshiva ha-litait be-hithavuta (Формирование литовской иешивы), Иерусалим: Центр
Залмана Шазара, 1995 (расширенное издание — там же, 2005) и Families, Rabbis
and Education: Traditional Jewish Society in Eastern Europe, Oxford: Littman Library of
Jewish Civilization, 2010.
/530/
ОБ АВТОРАХ
ДМИТРИЙ ЭЛЬЯШЕВИЧ — доктор исторических наук, профессор, ректор Пе¬
тербургского института иудаики, заведующий кафедрой истории книжного дела
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Сфе¬
ра научных интересов — история книгоиздания и цензуры в России, история ев¬
реев в России в XIX — начале XX вв. Автор многочисленных научных, научно-
методических и справочно-библиографических трудов, среди них — монографии
Правительственная политика и еврейская печать в России (М.; Иерусалим: Геша¬
рим, 1999).
СОДЕРЖАНИЕ
Илья Лурье. Предисловие 5
Исраэль Барталь. Между имперской историей и национальной
историографией 9
ЧАСТЬ 1. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
И ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
1.1. Джон Клиер. Развитие законодательства о евреях в Российской империи
(1772-1881) 23
1.2. Хайнц-Дитрих Лёве. От «исправления» к дискриминации:
Новые тенденции в государственной политике по отношению к евреям
(1881-1914) 38
1.3. Йоханан Петровский-Штерн. Евреи и армия: социально-культурные
аспекты 66
1.4. Дмитрий Эльяшевич. Правительственная цензура еврейских изданий
в Российской империи 86
ЧАСТЬ 2. ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ
РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
2.1. Давид Асаф и Гади Сагив. Хасидизм в царской России: исторические
и социальные аспекты 101
2.2. Уриэль Гельман. Ученая элита литовского еврейства: идеалы и
действительность 147
/ 532 /
2.3. Мордехай Залкин. Еврейское Просвещение в Российской империи 164
2.4. Ивонн Клайнман. Еврейское общество за пределами черты оседлости . . .188
2.5. Максим Гаммал. Караимы в Российской империи 204
2.6. Зеев Левин. Евреи Бухары под властью России в 1864-1917 гг. 224
ЧАСТЬ 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
3.1. Шай Ран Фриз. Еврейская семья в России 241
3.2. Шауль Штампфер. Евреи в царской России в конце XIX в.:
демографические аспекты 265
ЧАСТЬ 4. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
4.1. Йоси Гольдштейн. Развитие сионистского движения в России
в 1881-1917 гг. 289
4.2. Йонатан Френкель. Еврейский социализм и Бунд в России 320
4.3. Кристоф Гассеншмидт. Еврейская либеральная политика 337
4.4. Олег Будницкий . Евреи в российских политических движениях 352
4.5. Владимир Левин, Илья Лурье. Формирование еврейской ортодоксальной
политики 361
ЧАСТЬ 5. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
5.1. Авраам Новерштерн. Расцвет современной литературы на идише 403
5.2. Исраэль Барталь. Наследие и бунт: Литература на иврите
в Российской империи 440
5.3 Владимир Хазан. Русско-еврейская литература XIX в 475
5.4. Григорий (Гиллель) Казовский. Искусство, музыка и театр
в национальной культуре российского еврейства 488
Об авторах 526
/ 533 /
ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В РОССИИ
От разделов Польши до падения империи
Под ред. И. Лурье
Том 2
Знак информационной продукции 16+
Издатель М. Гринберг
Зав. редакцией И. Аблина
Редактор И. Ряховская
Художественное оформление П. Адамова
Компьютерная верстка И. Пичугин
Корректор А. Коссовская
Мосты культуры, Москва
Тел./факс: (495)989-87-34
e-mail: office@gesharim-msk.ru
Gesharim, Jerusalem
Tel: (972)544-993-116
e-mail: greenbergO@bezeqint.net
www.gesharim.org
Издательство «Мосты культуры»
ЛР№ 030851 от 08.09.98
Формат 70 х 100 /16
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ.л. 33,5.
Подписано в печать 15.02.2017. Заказ № 2792.
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14