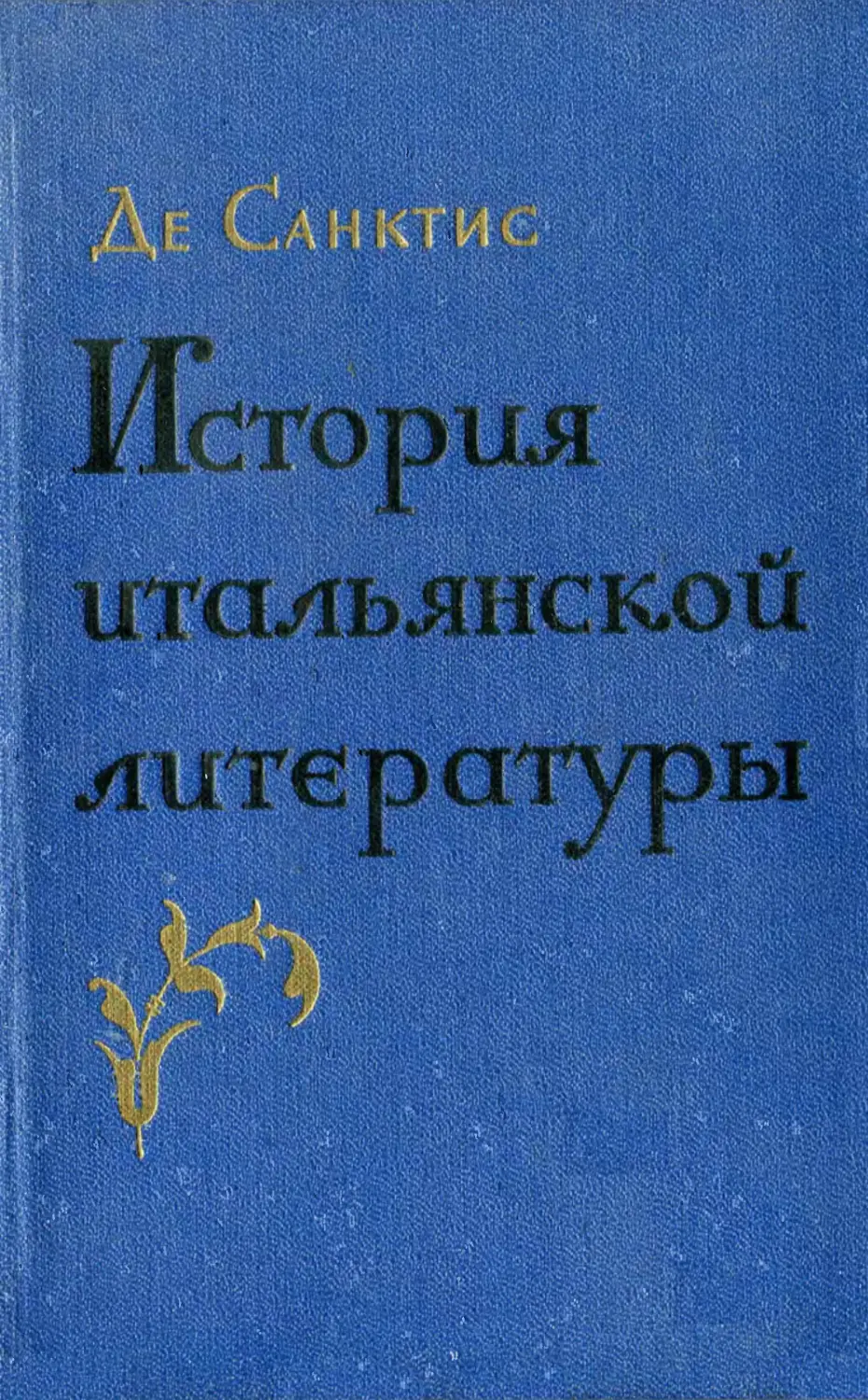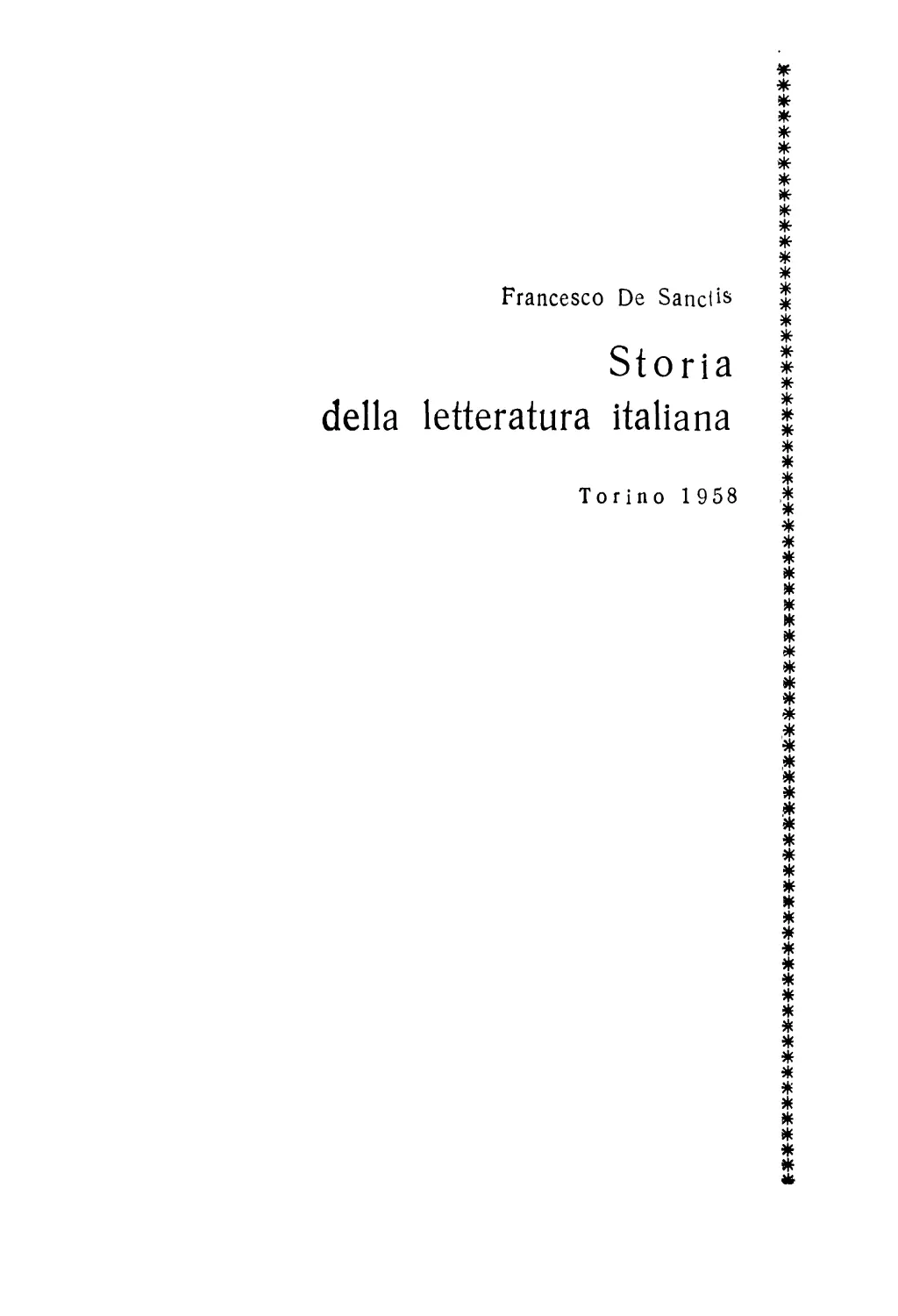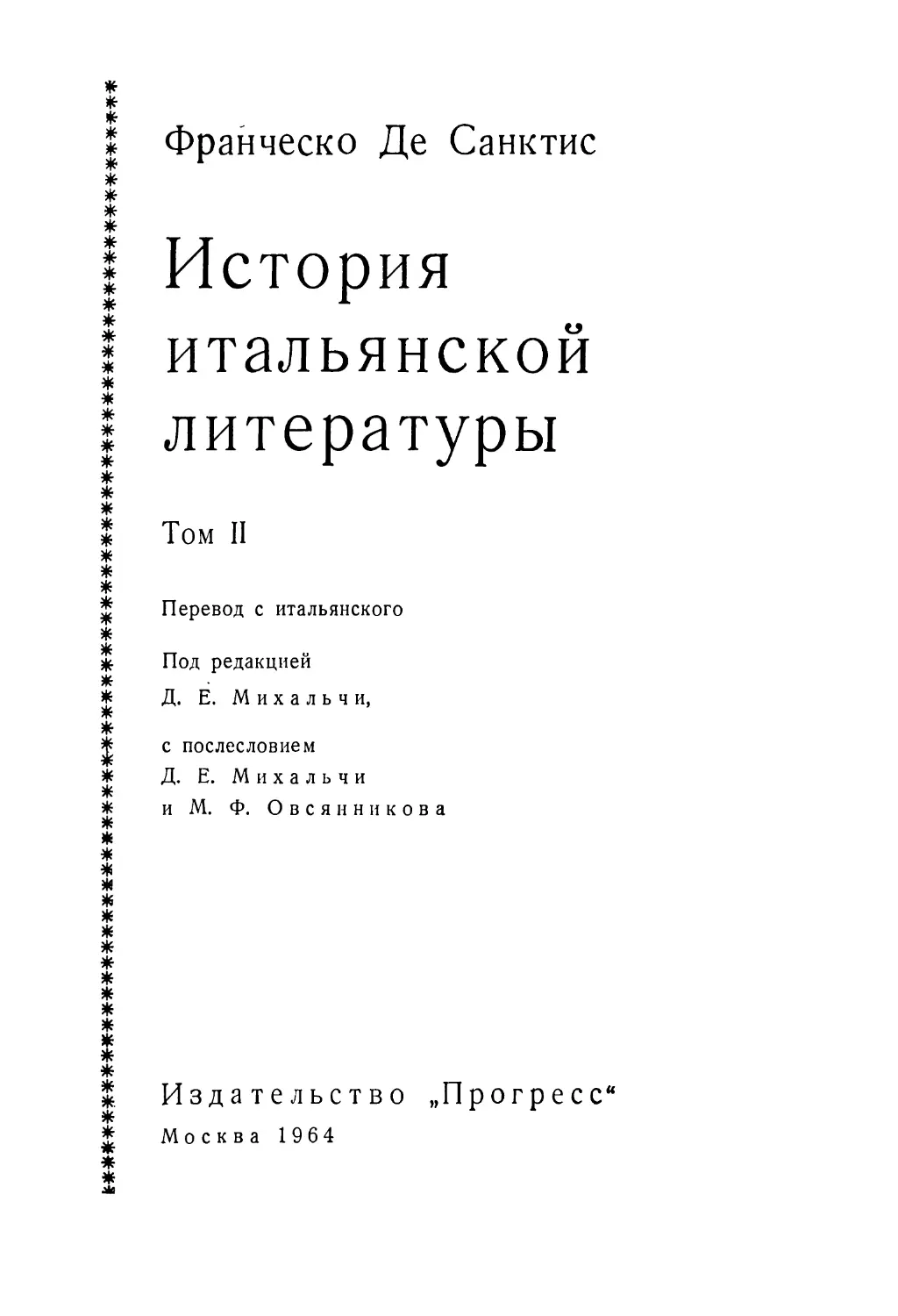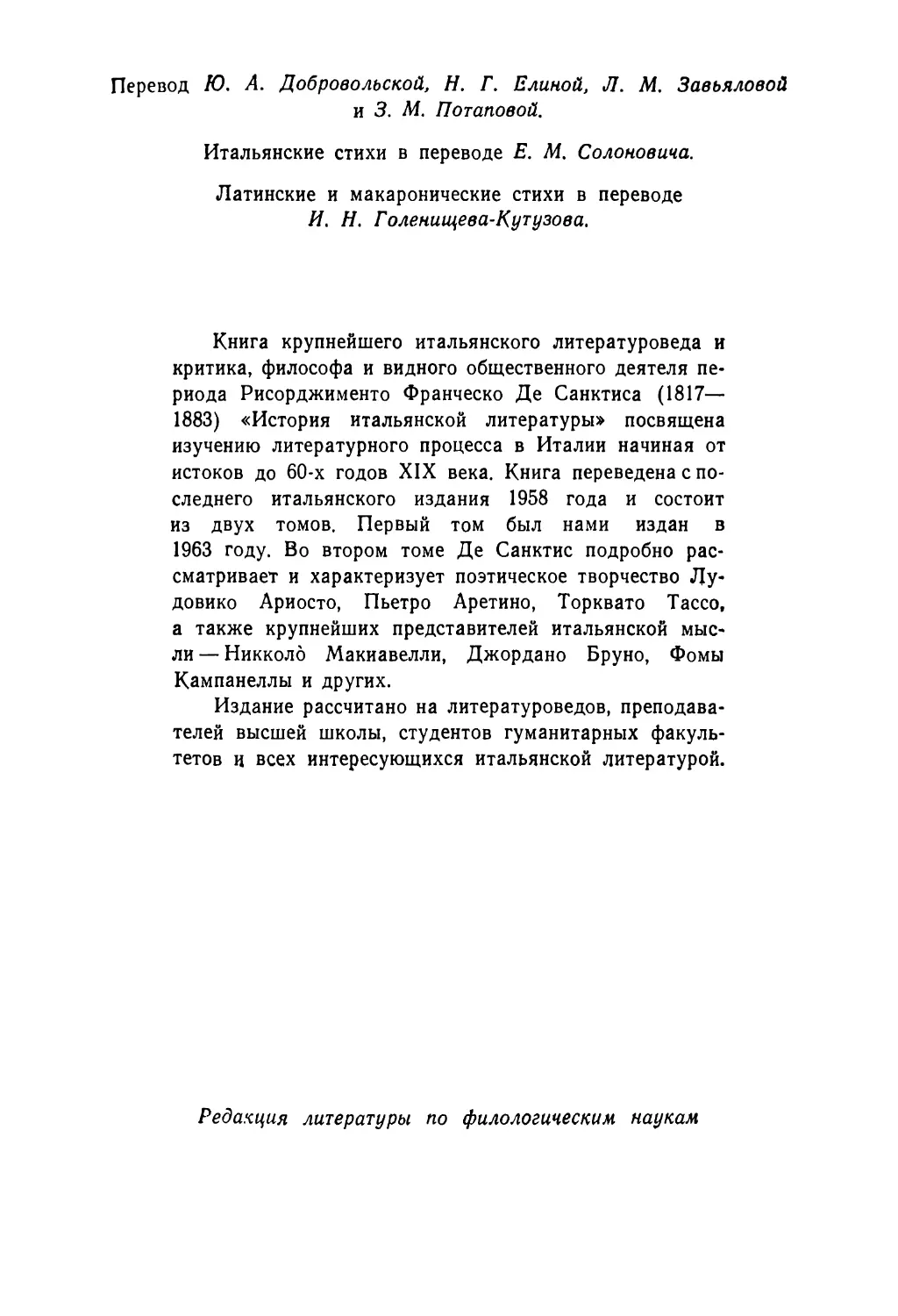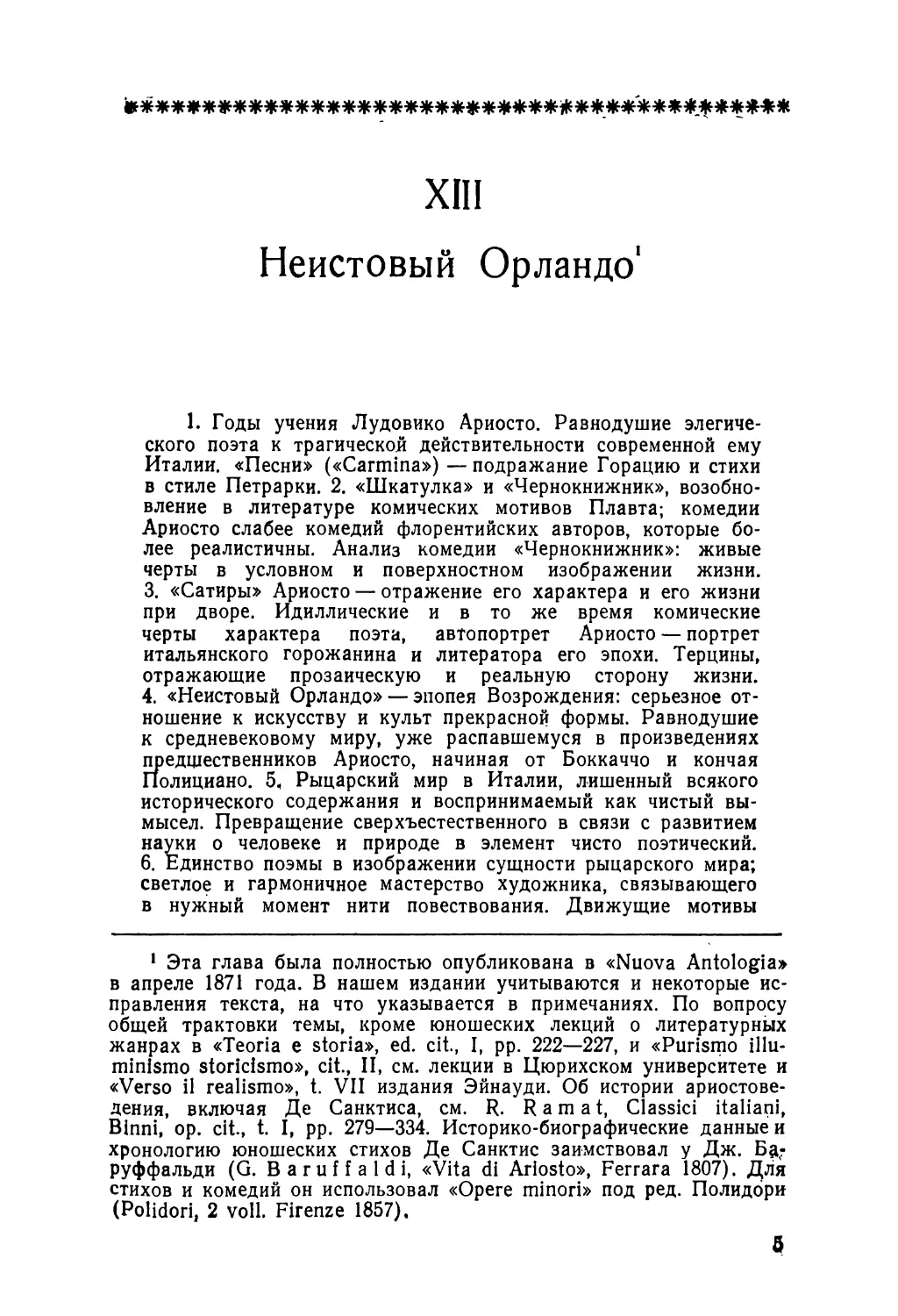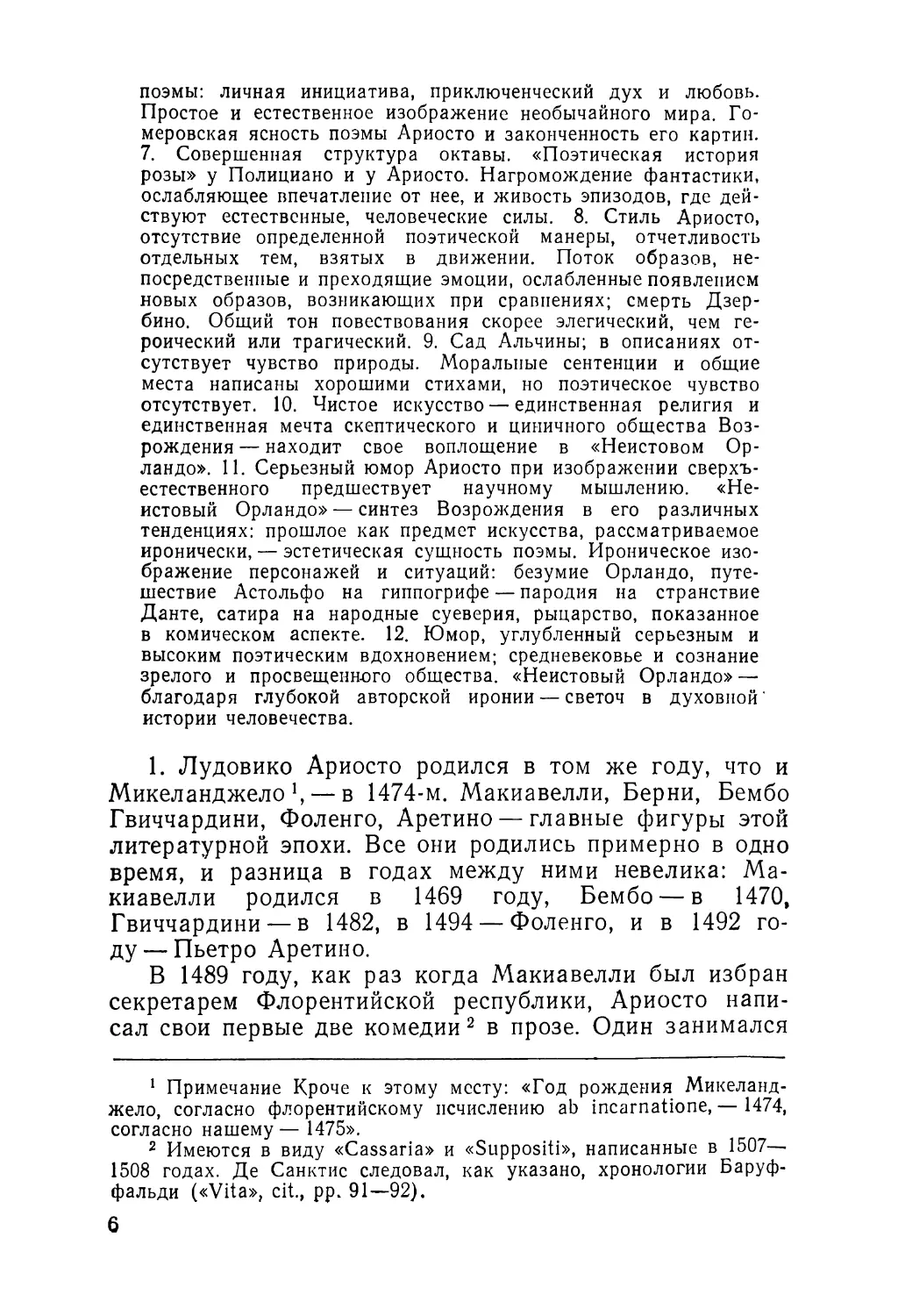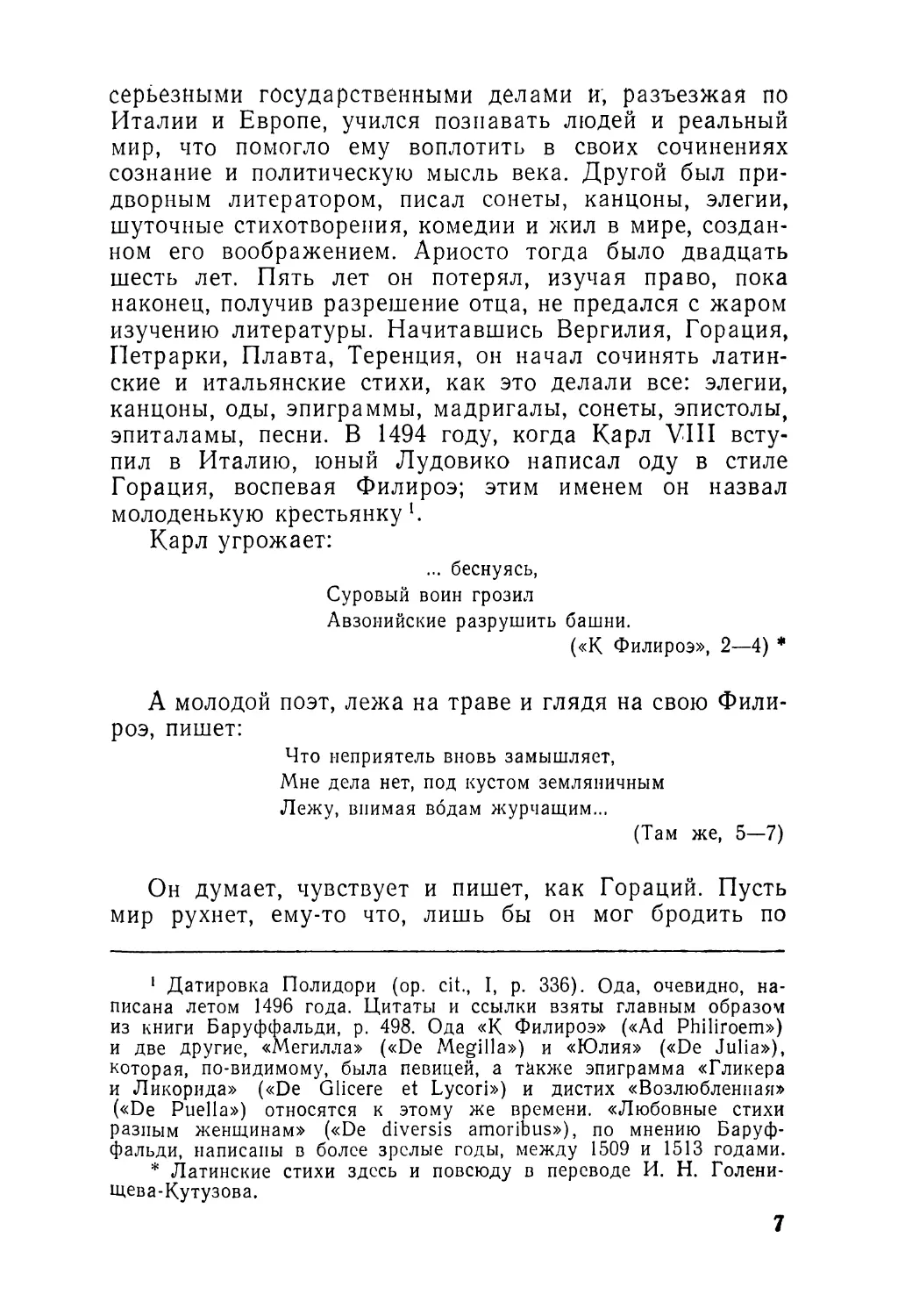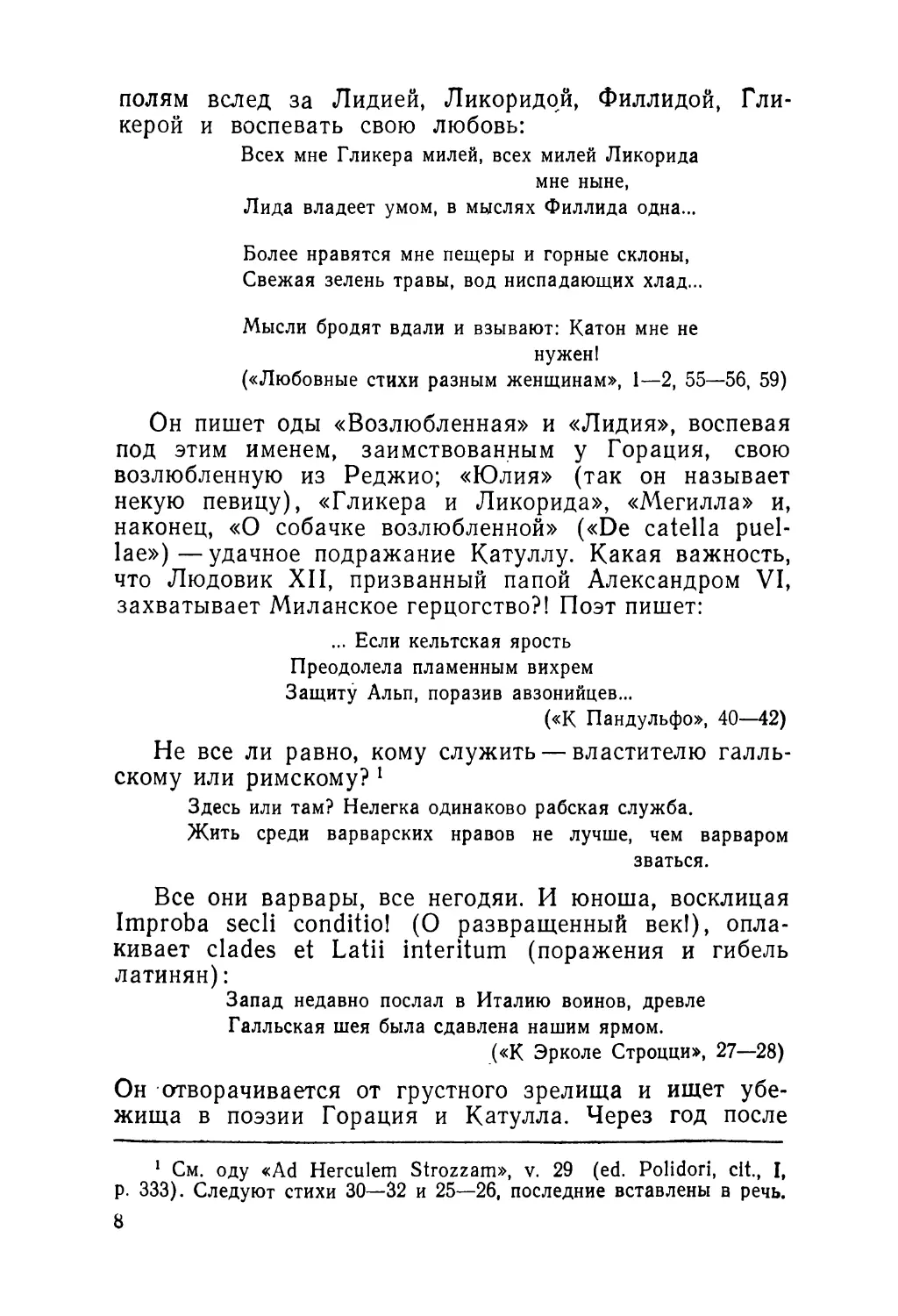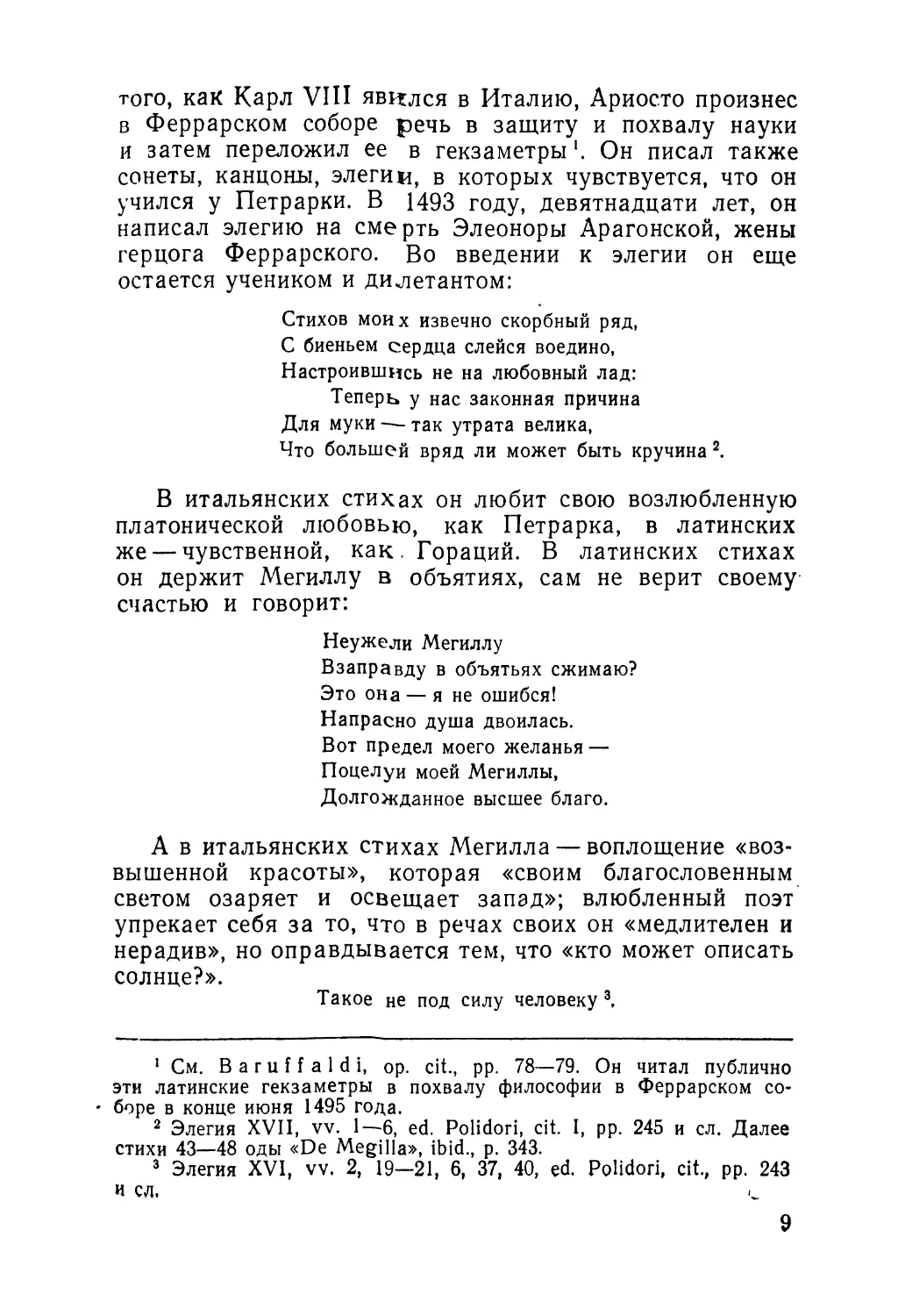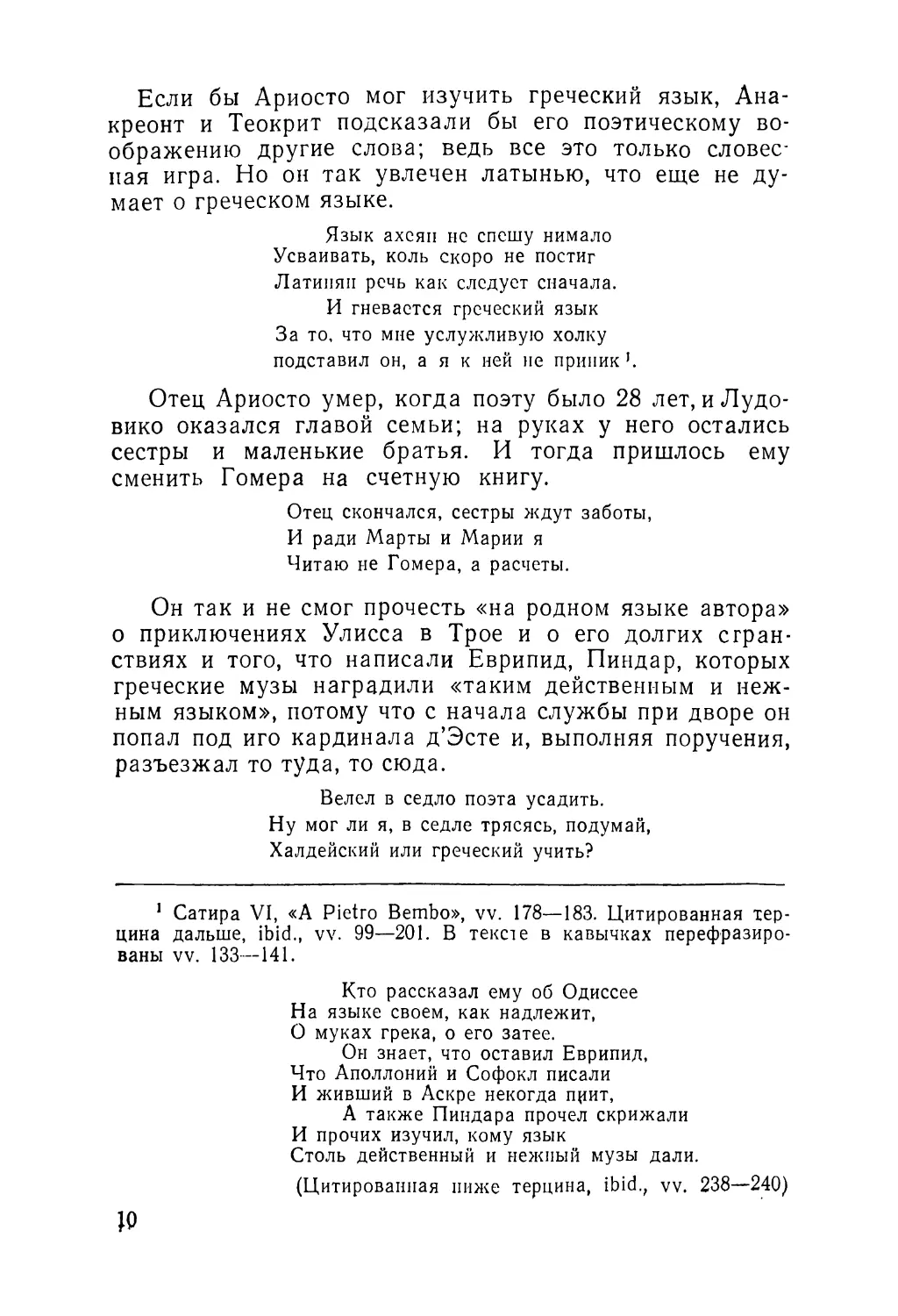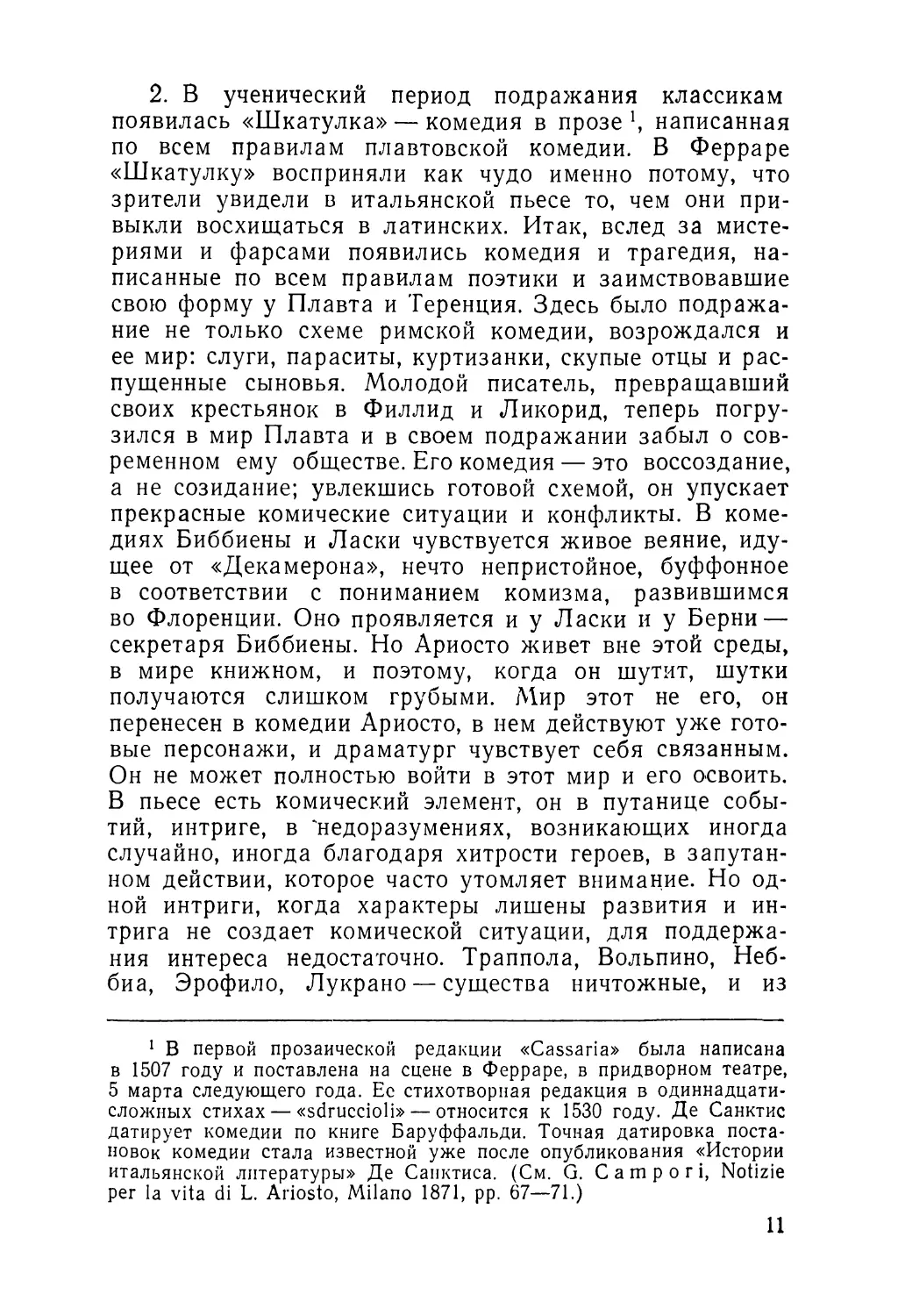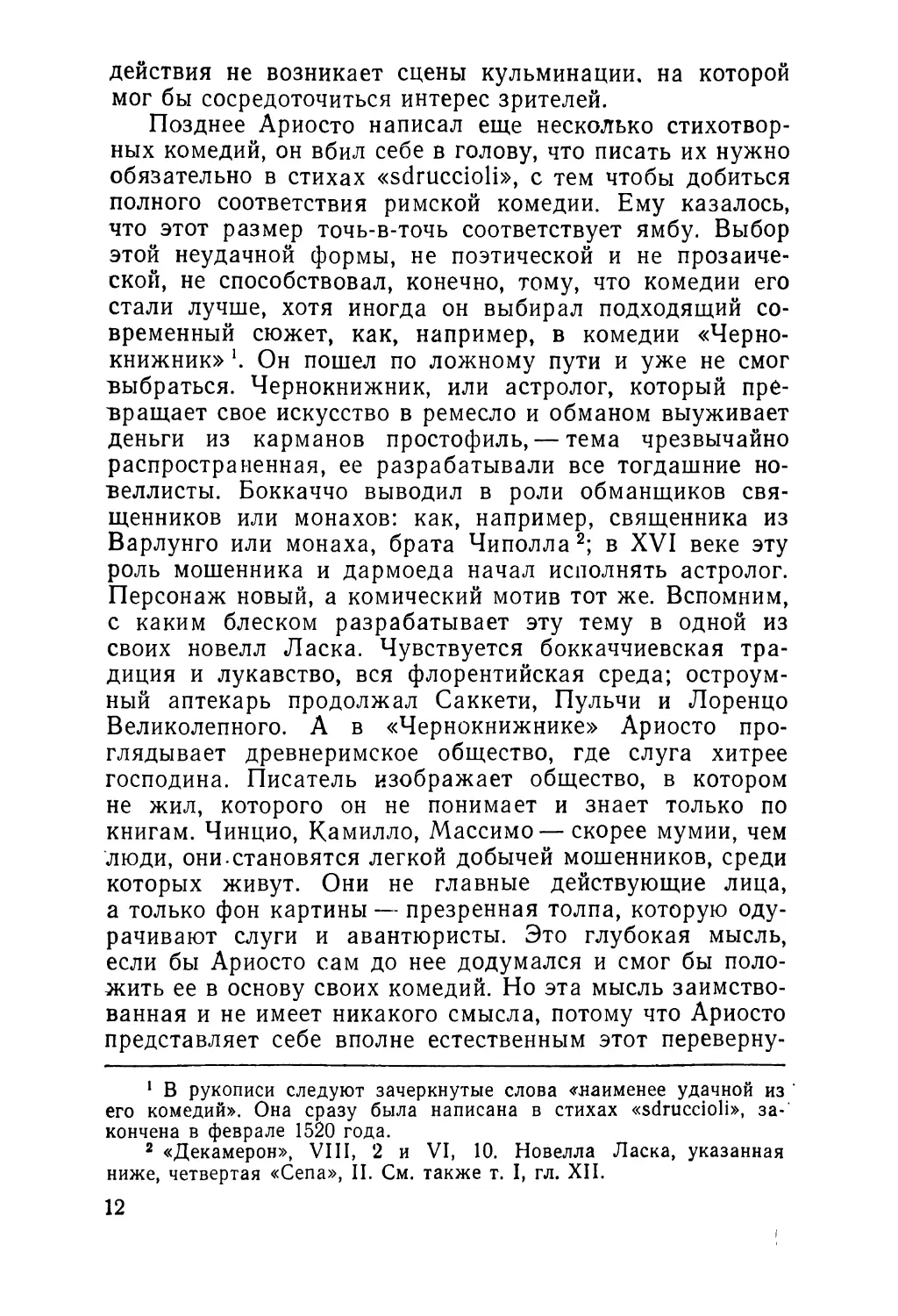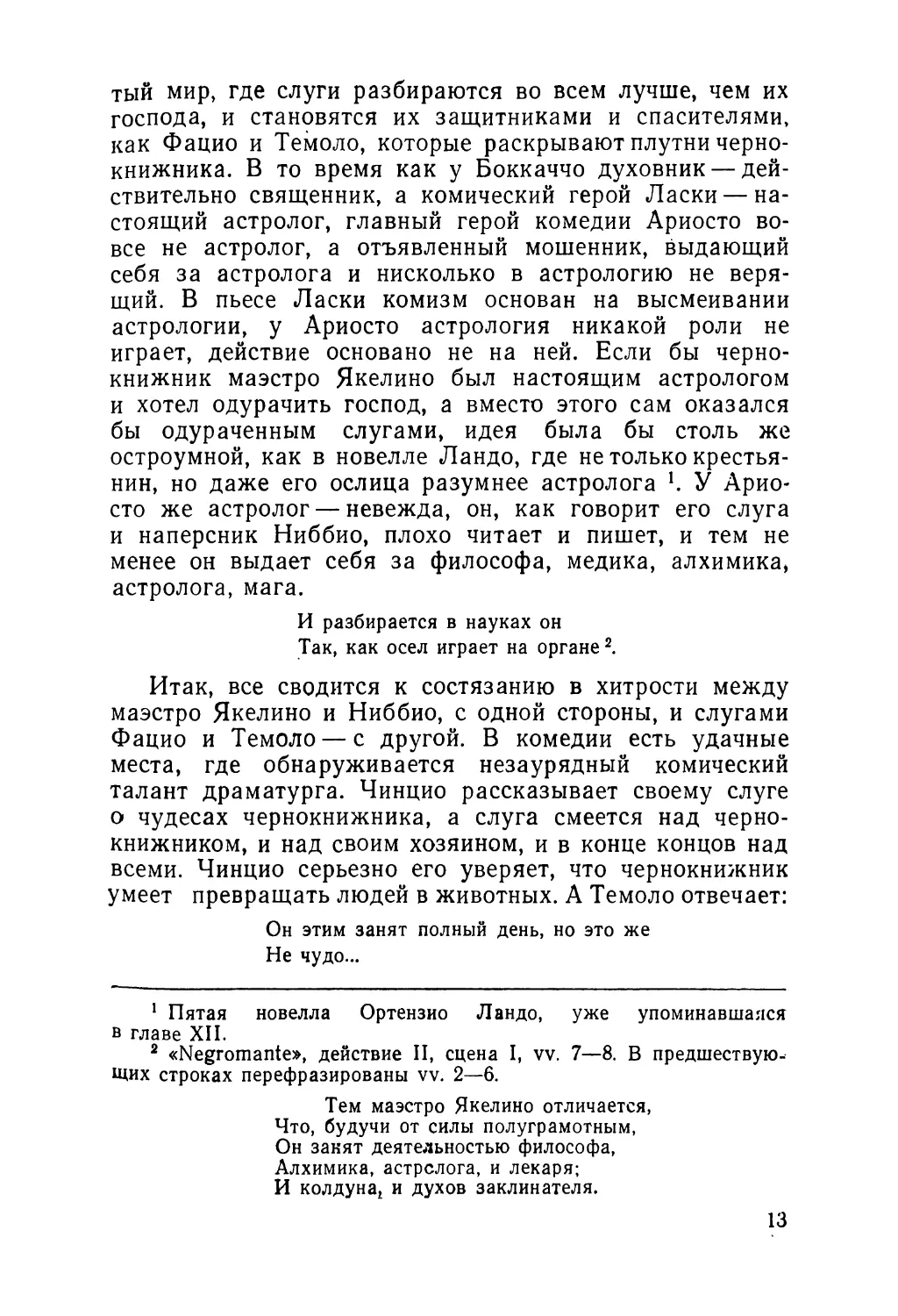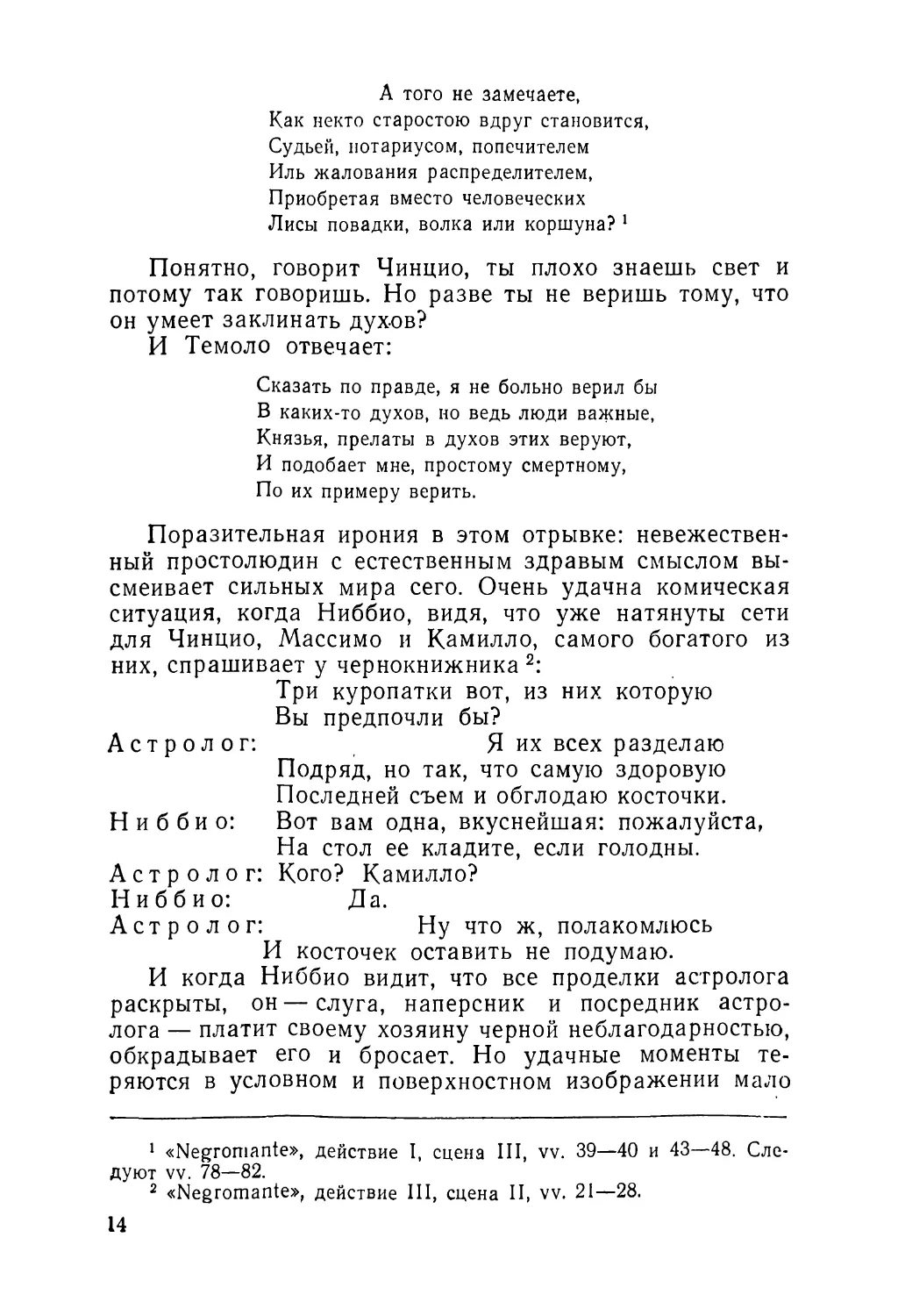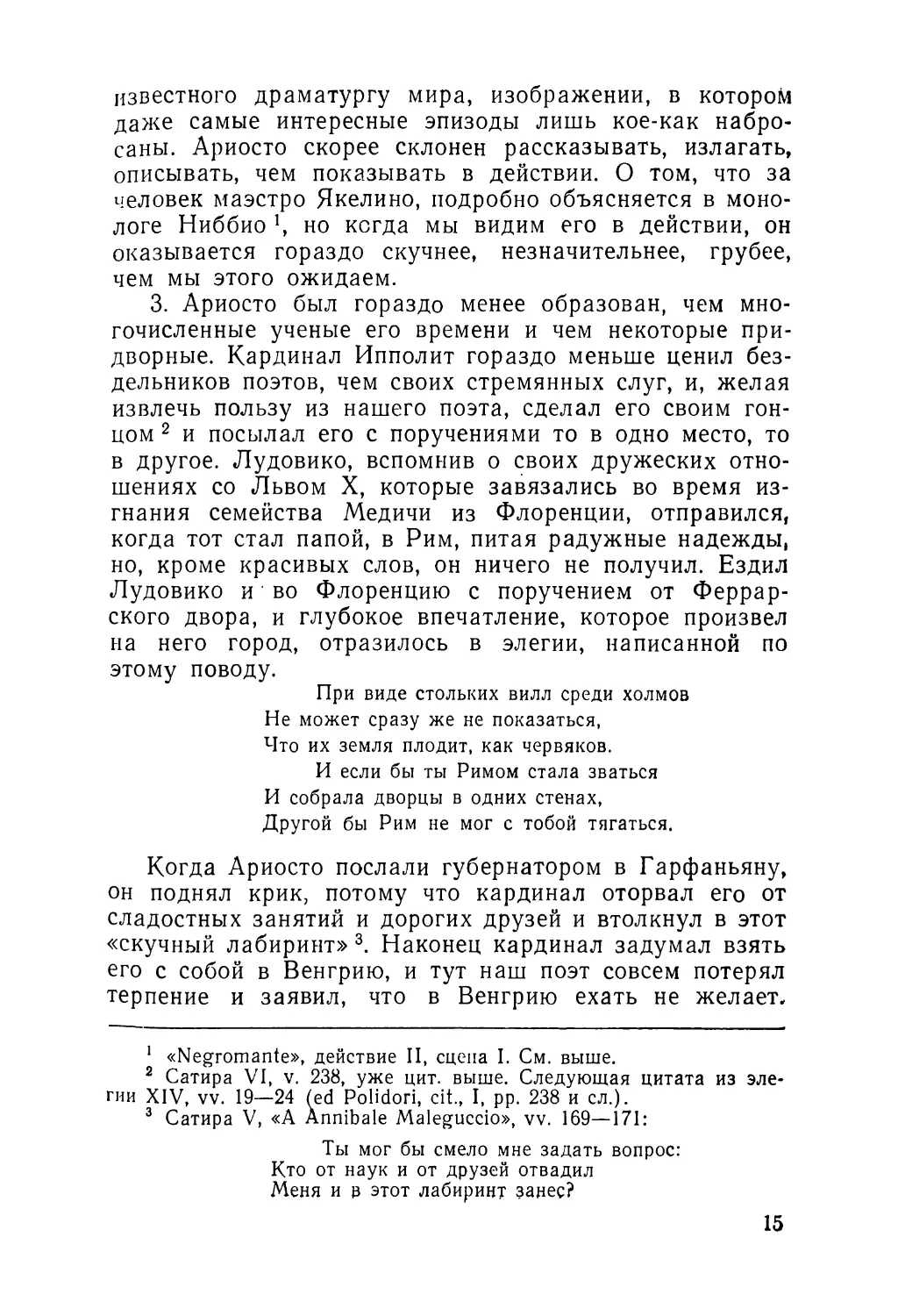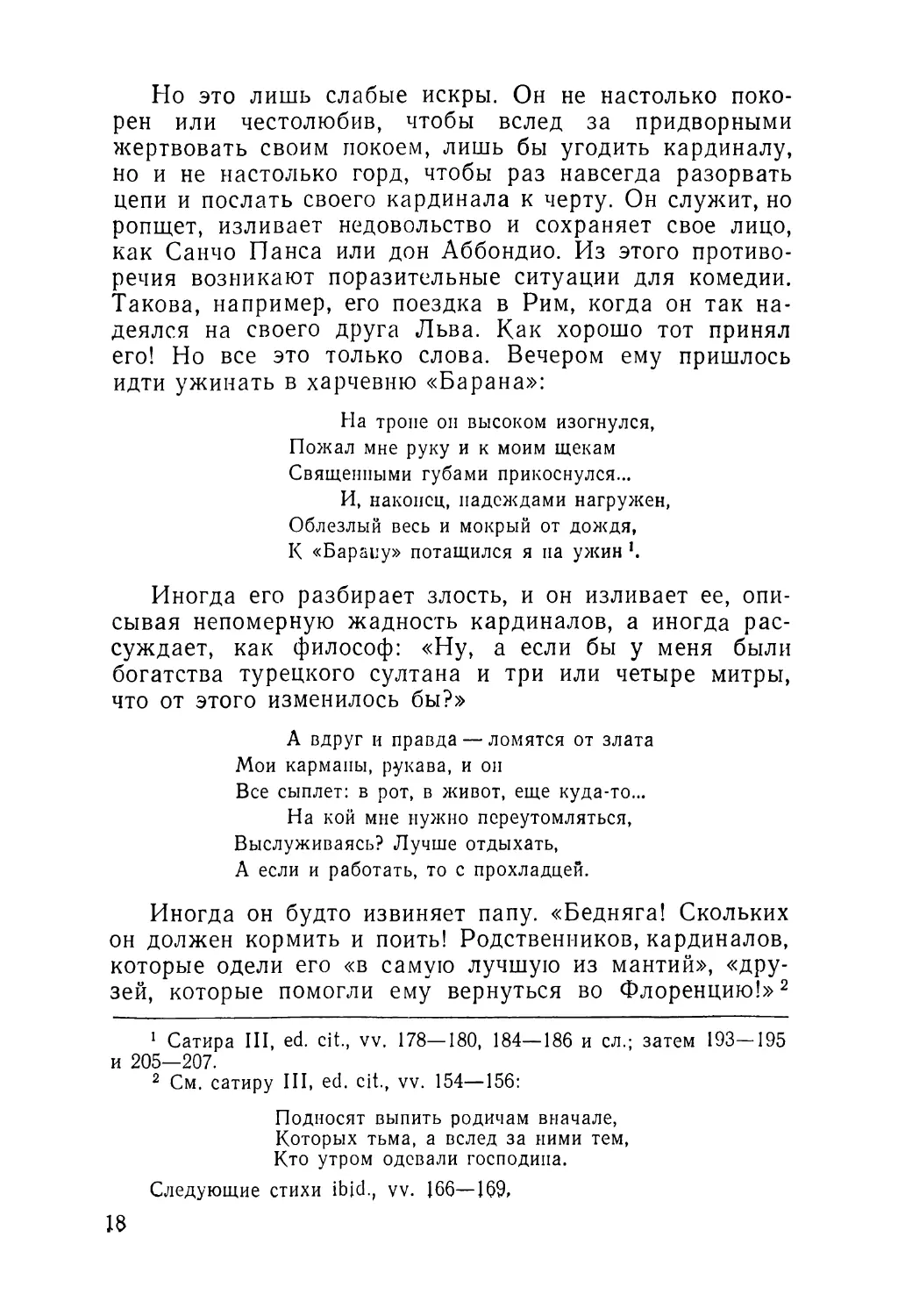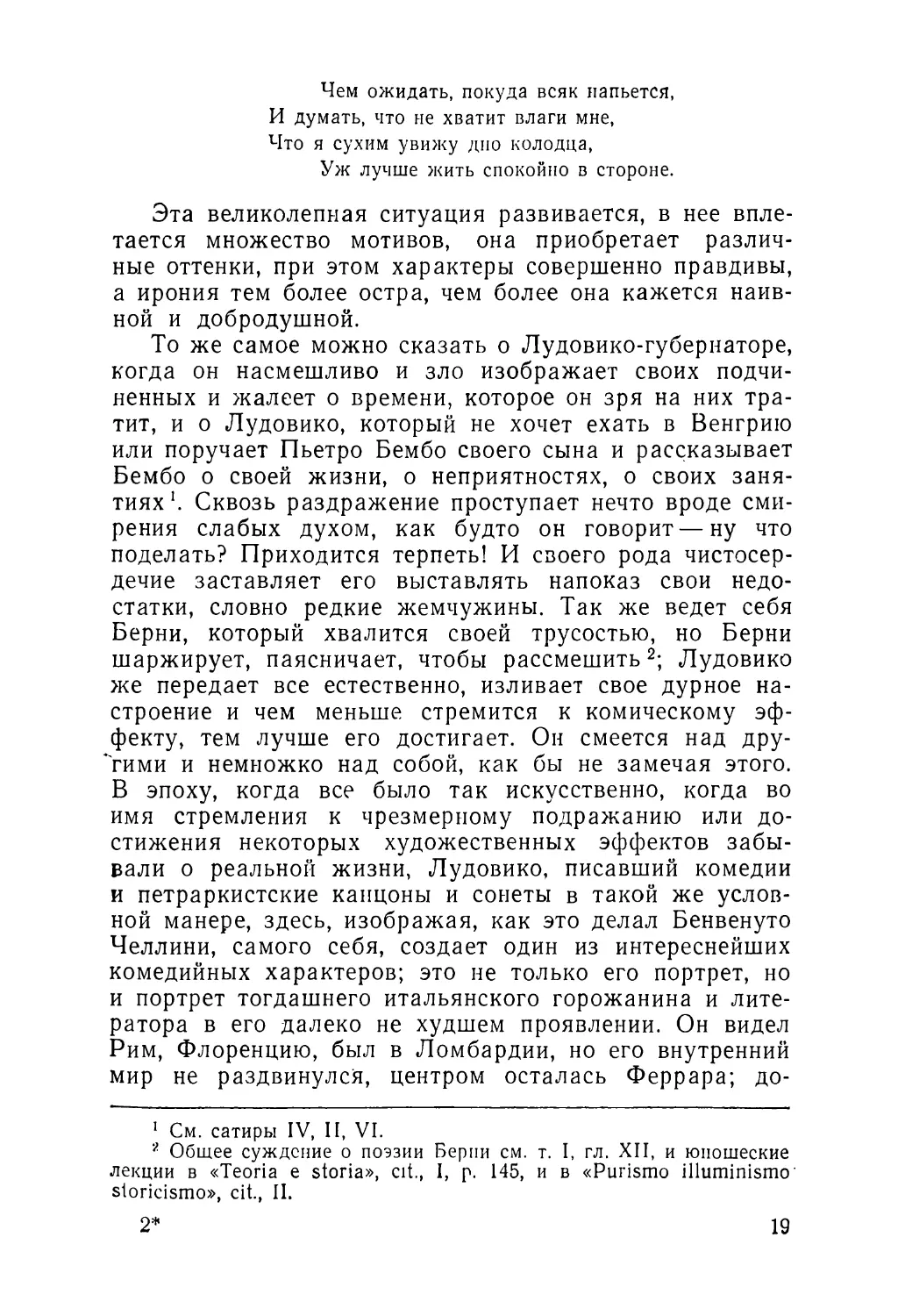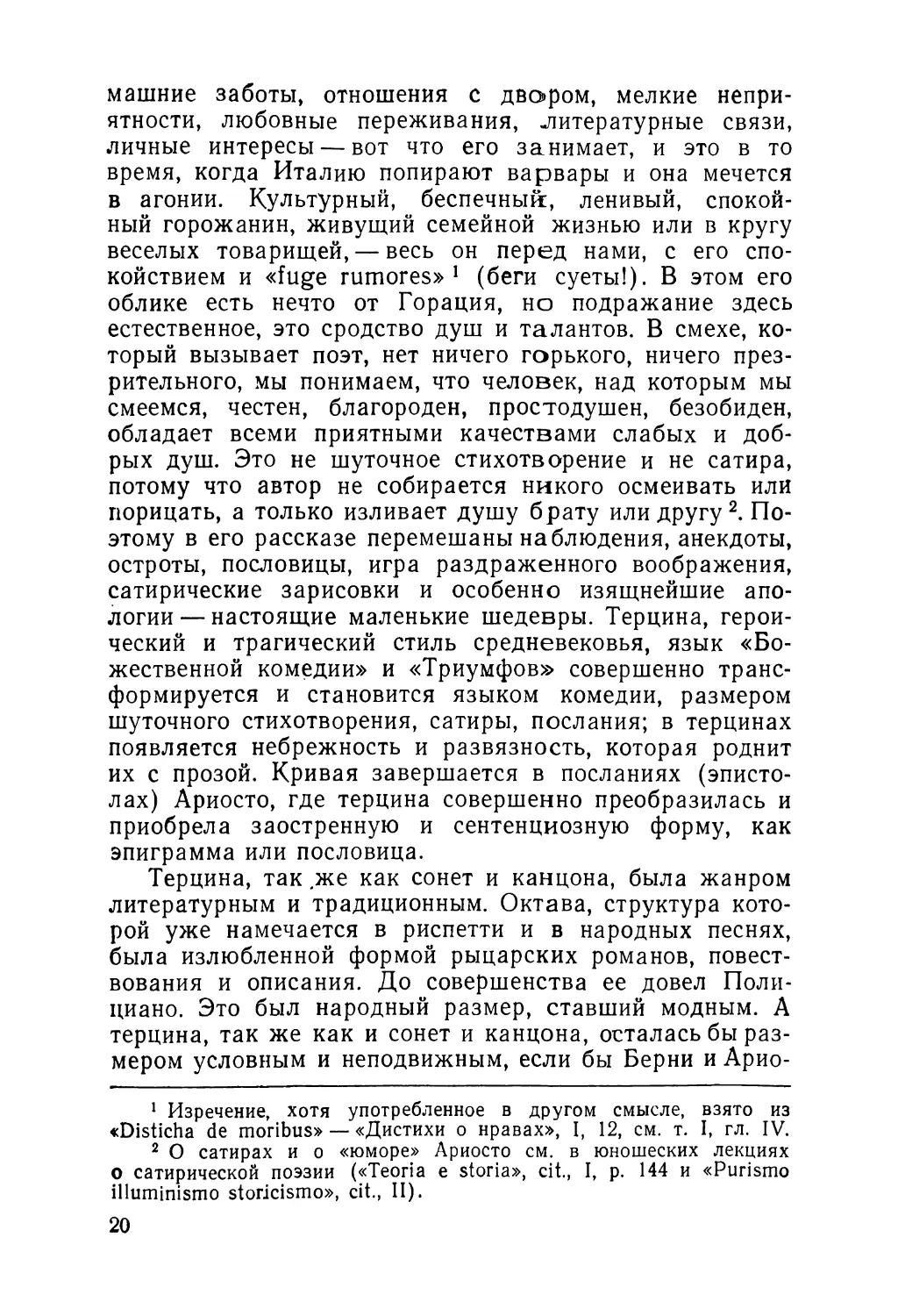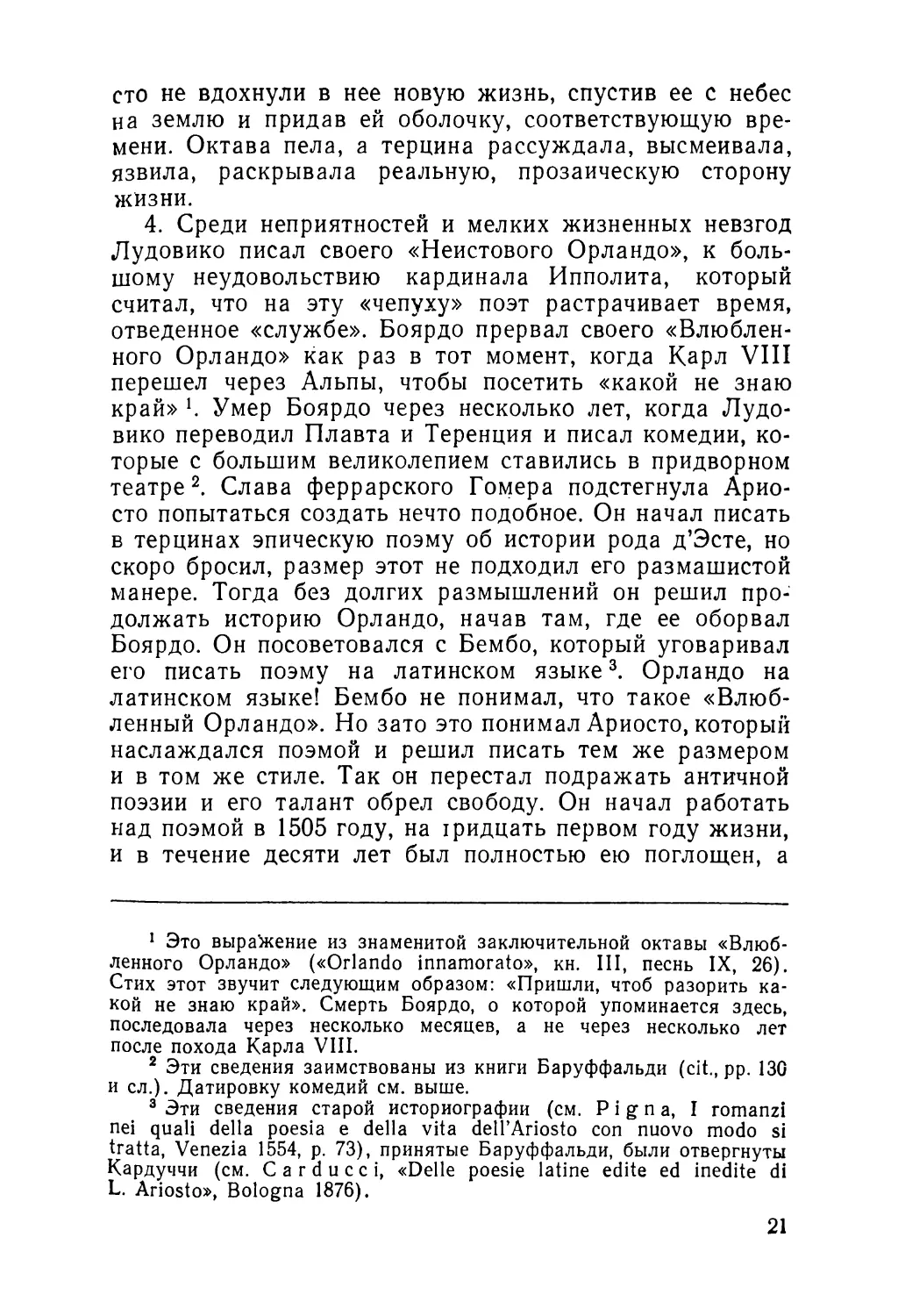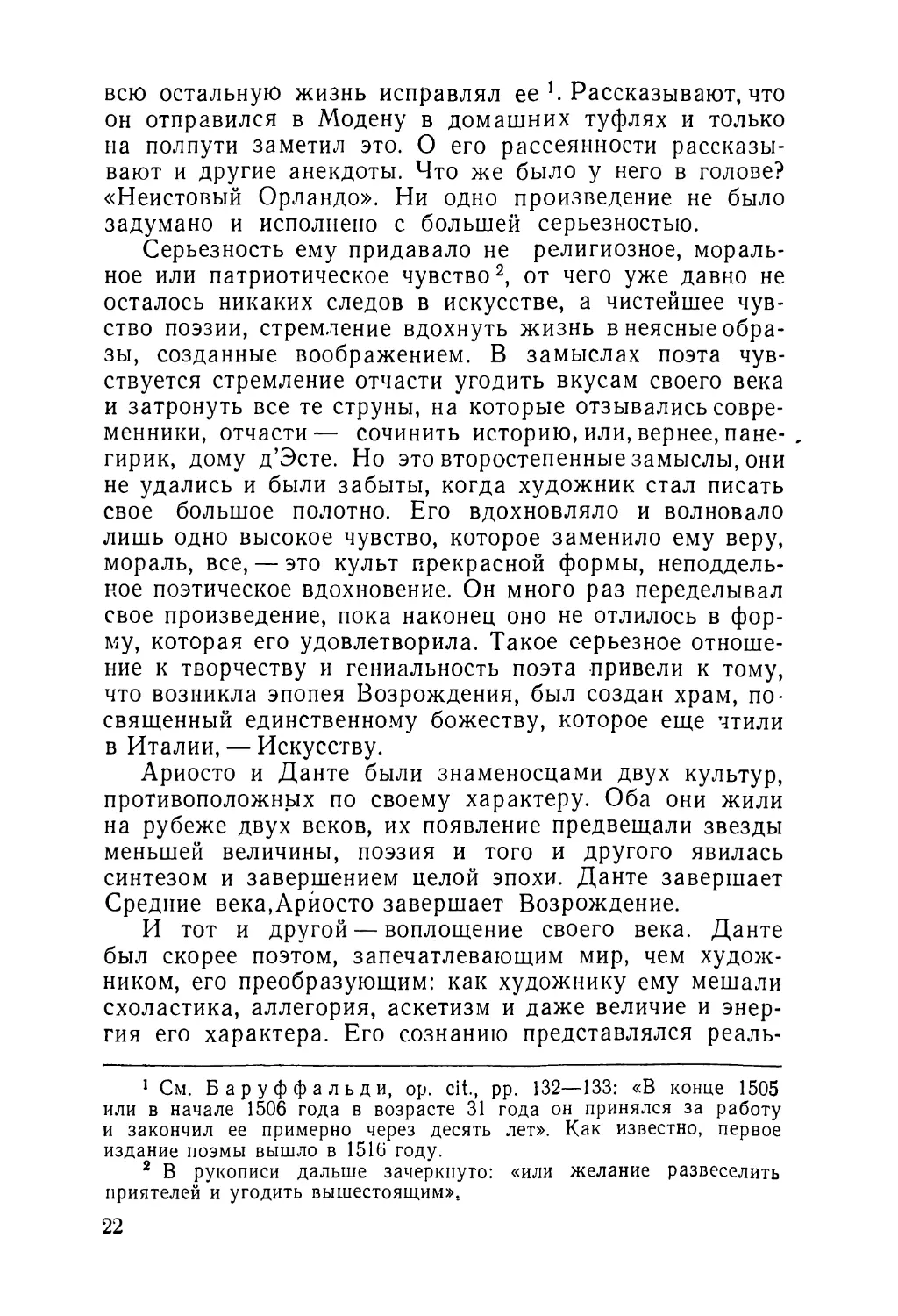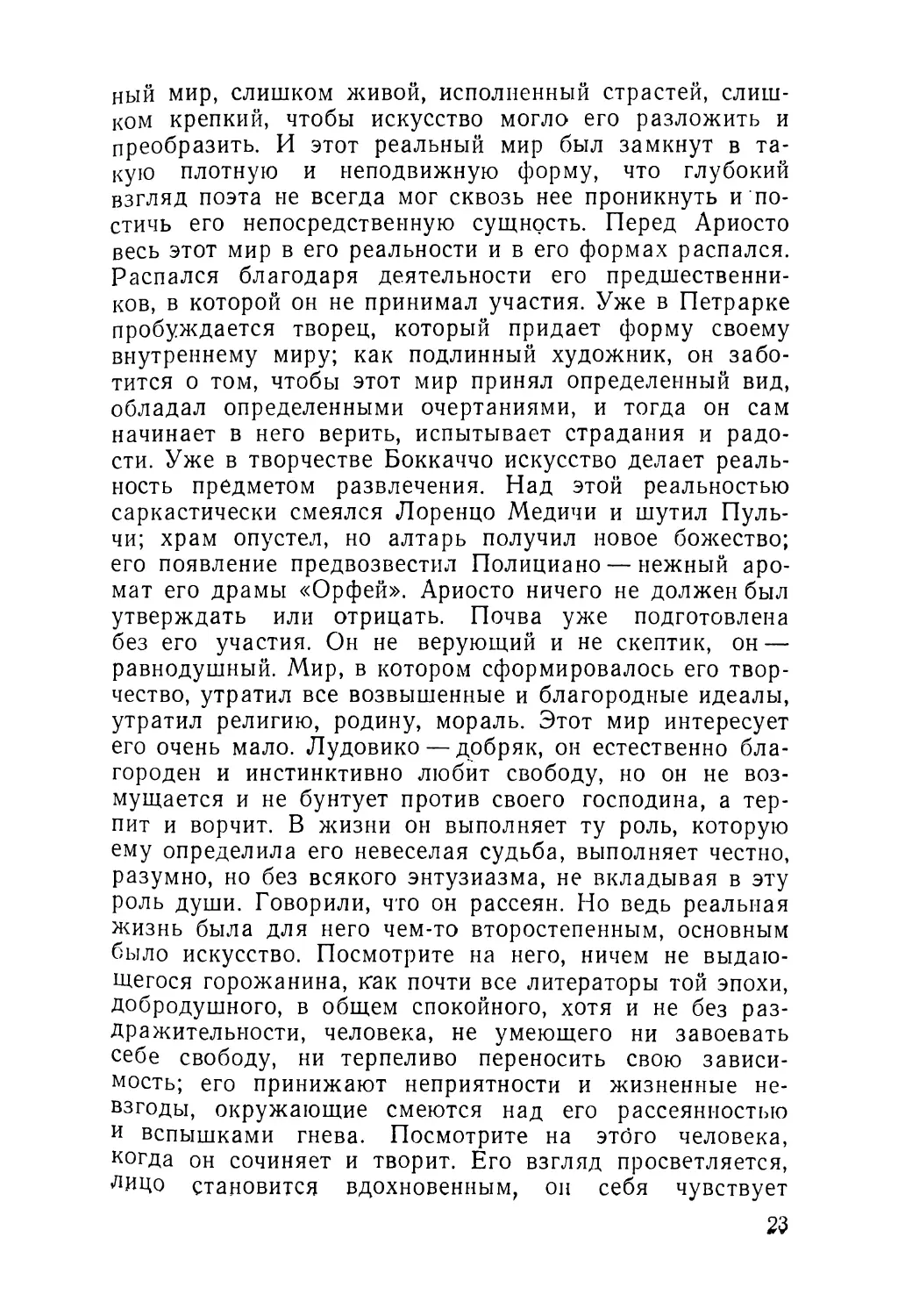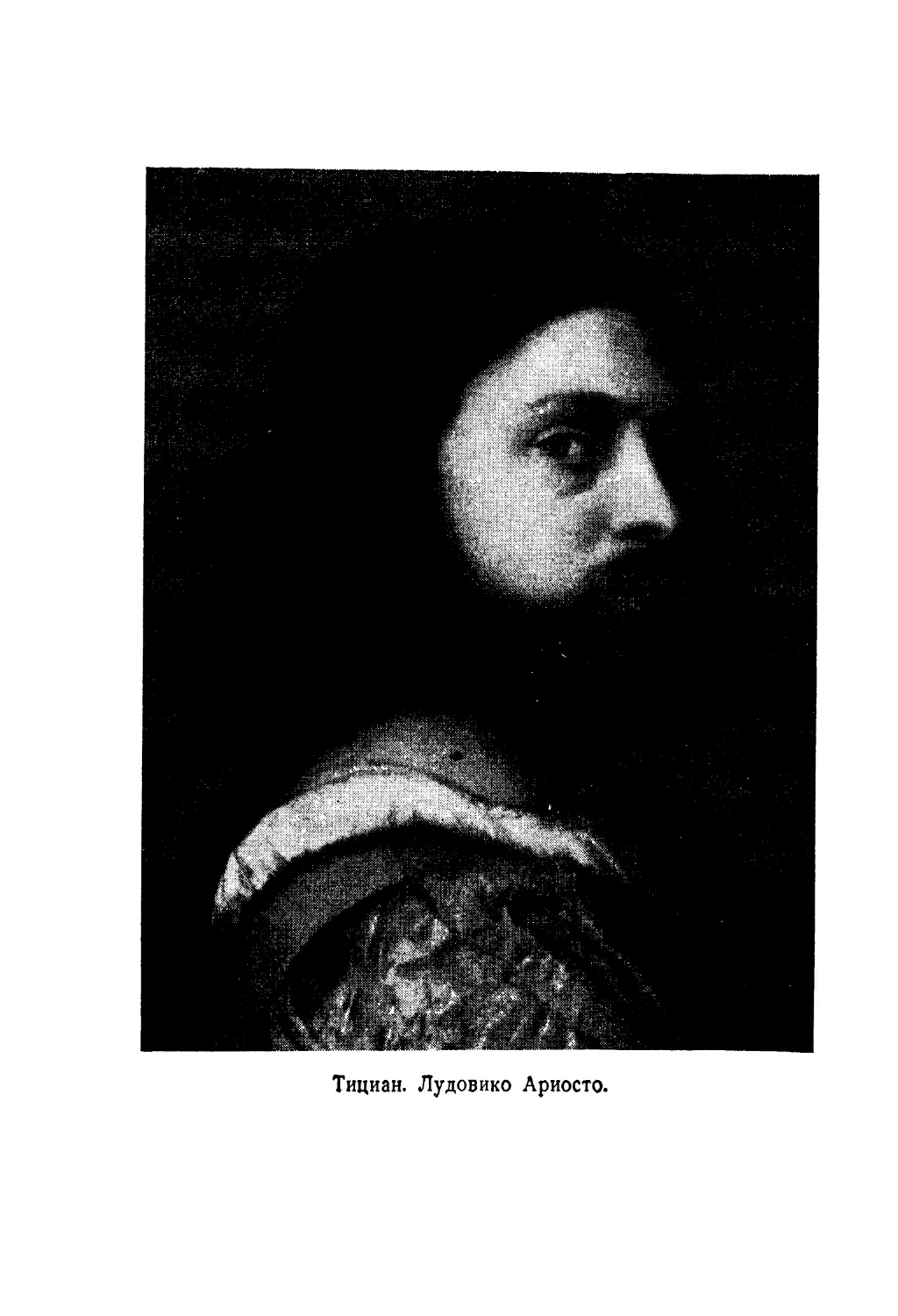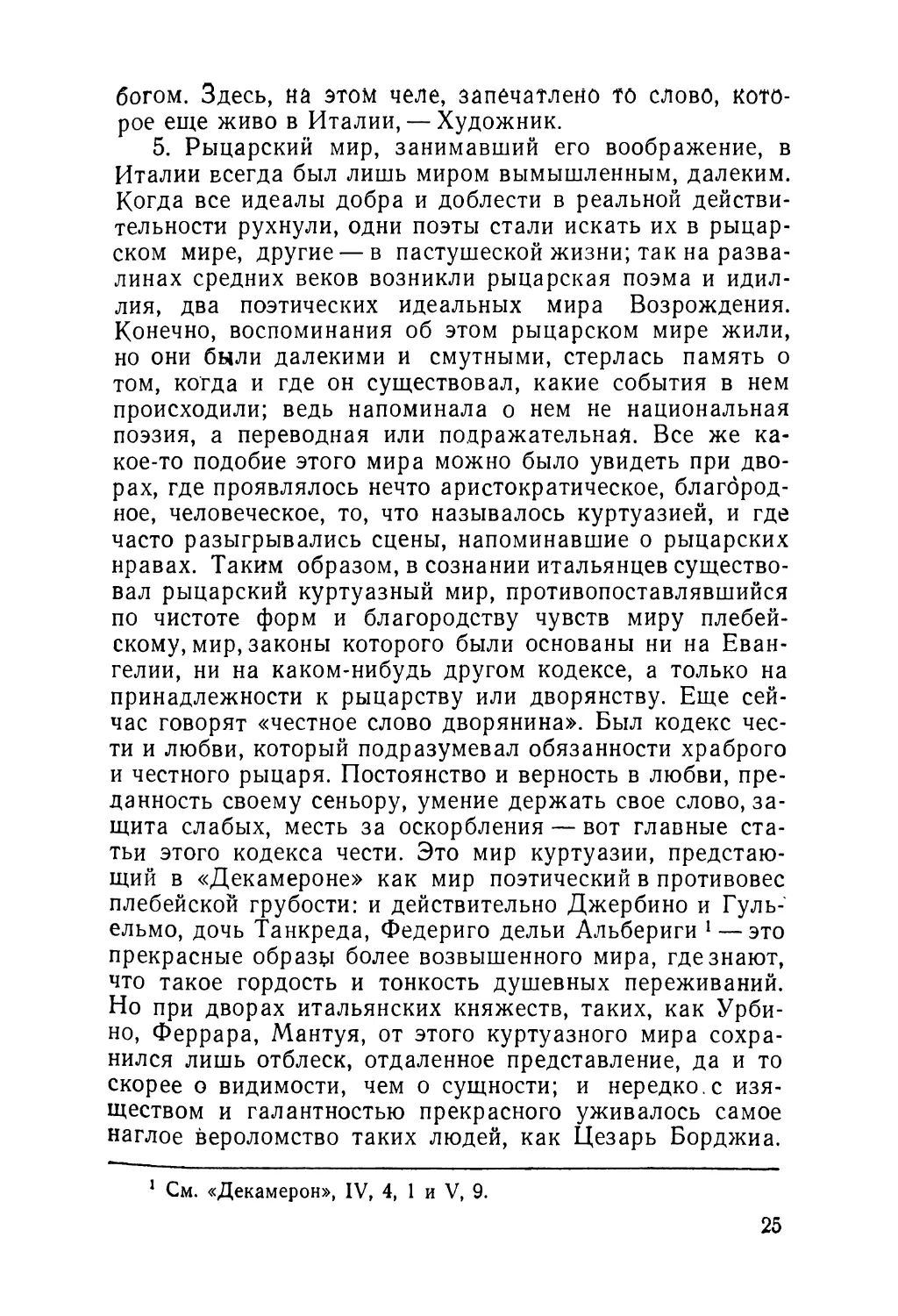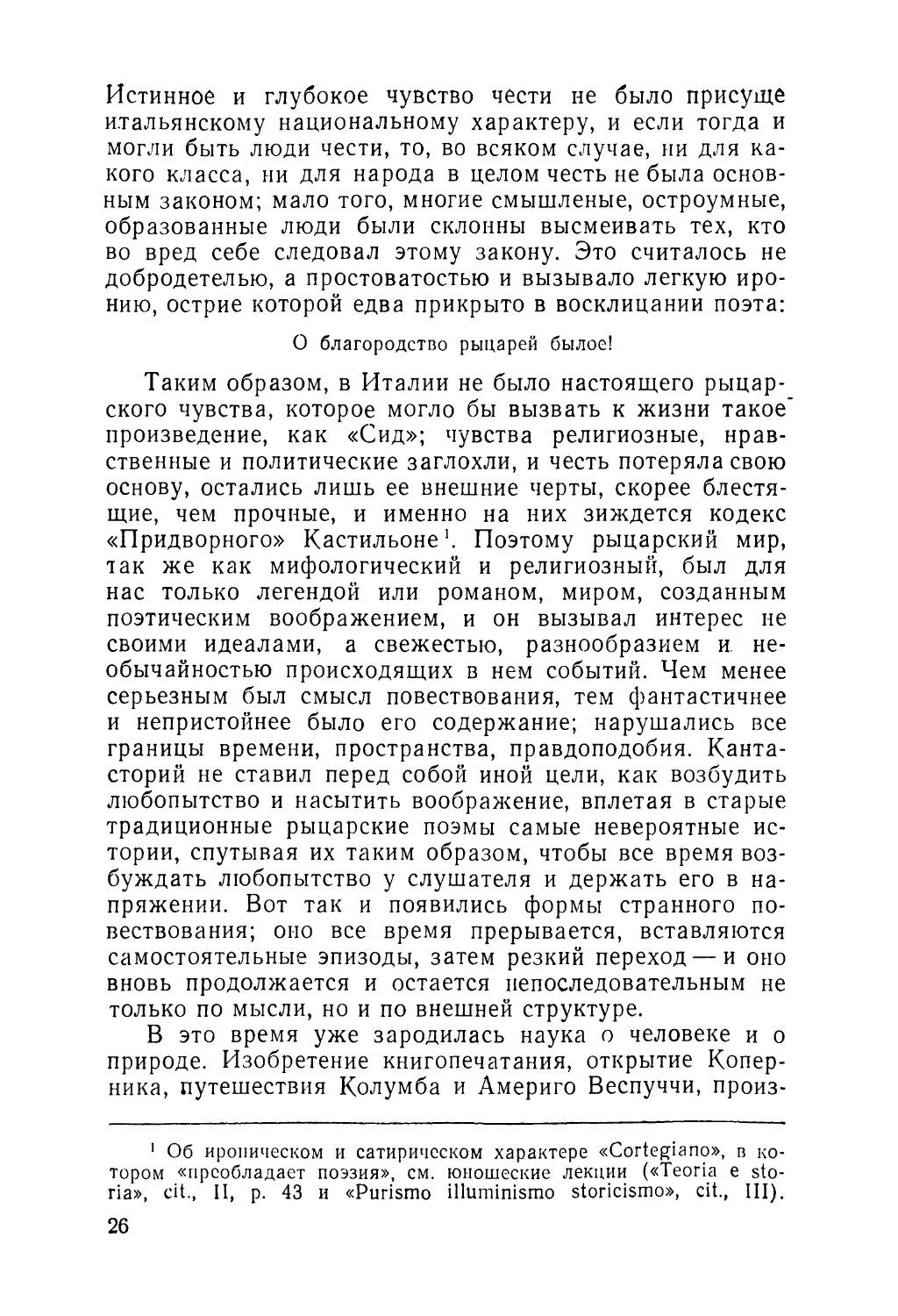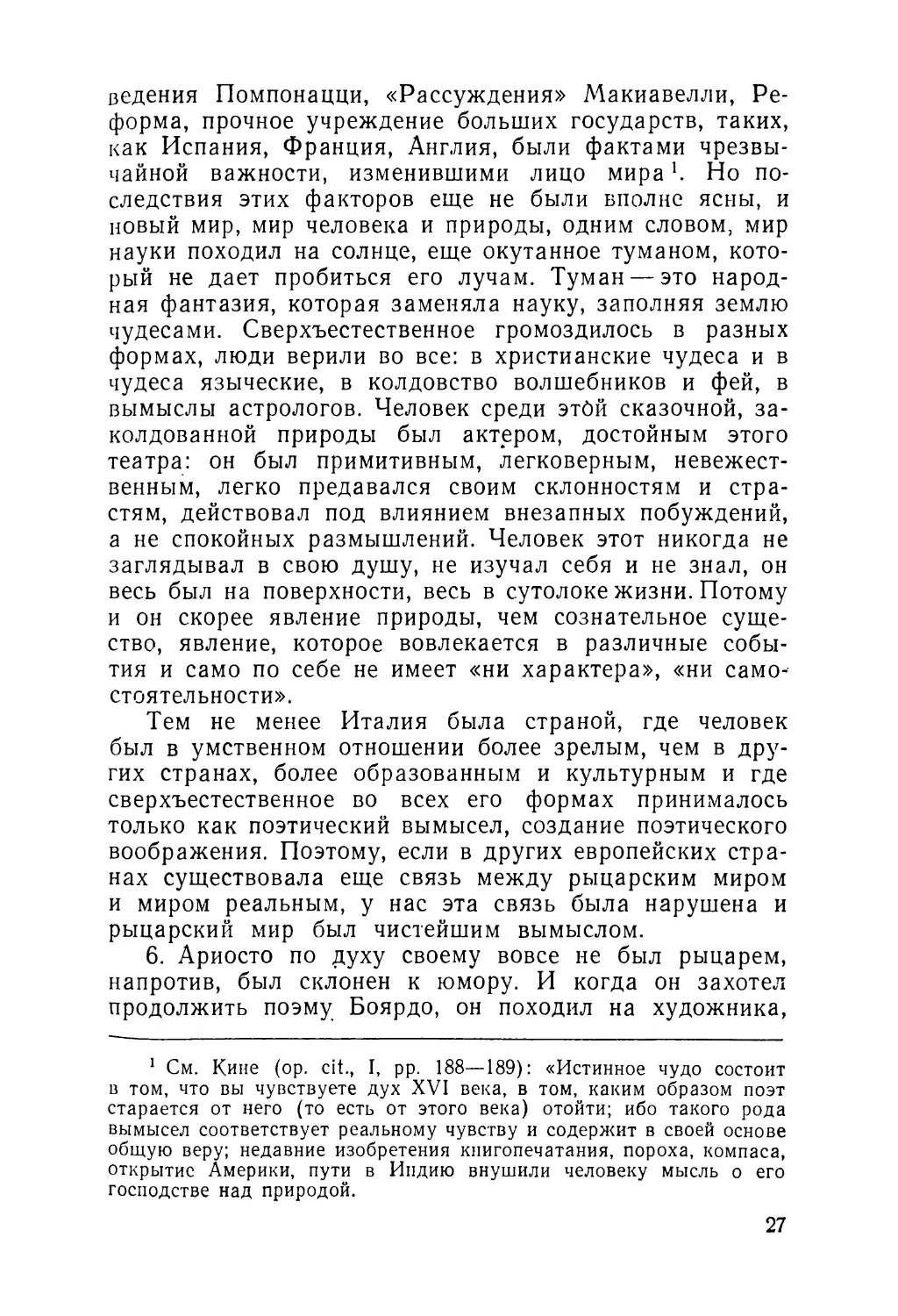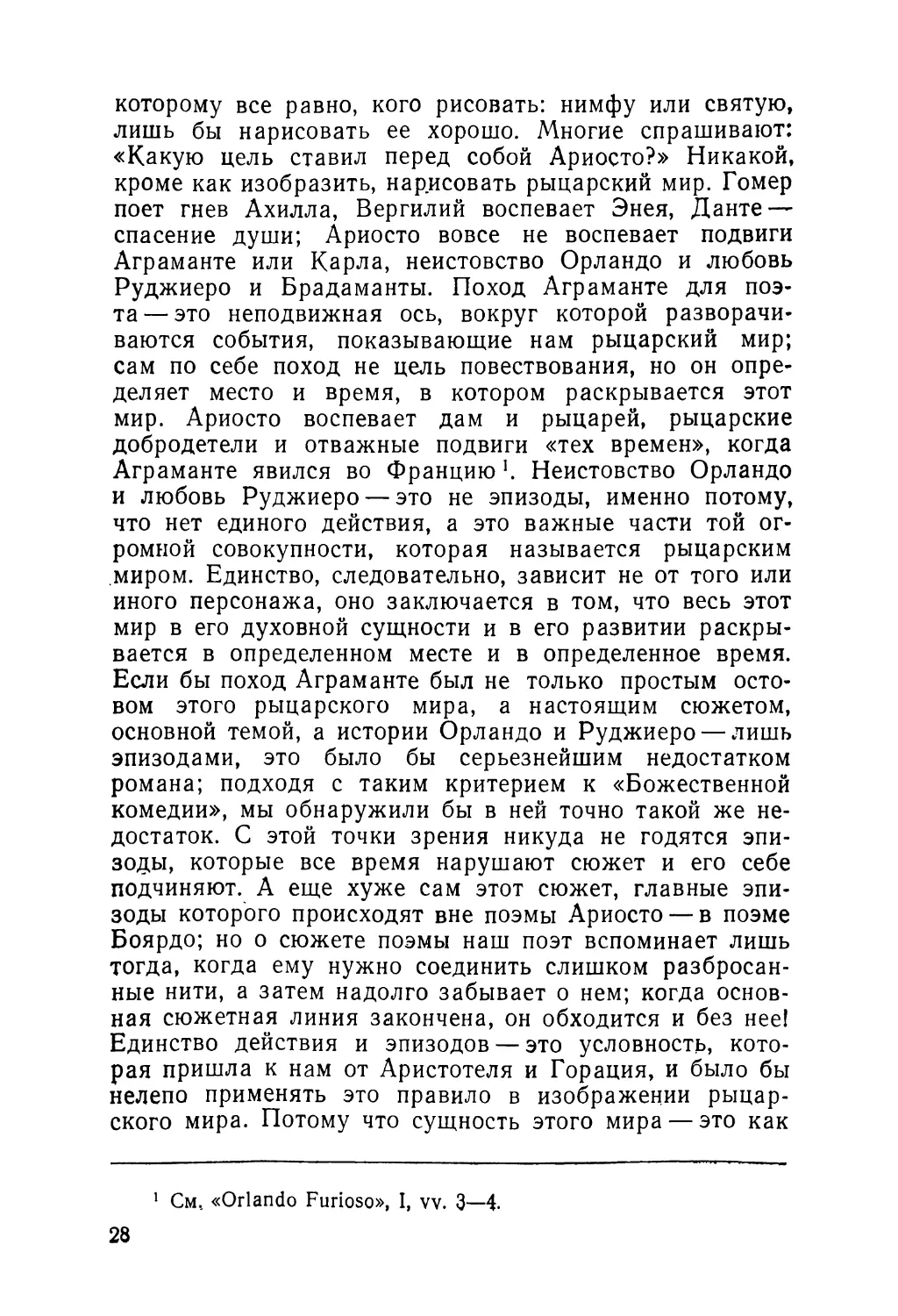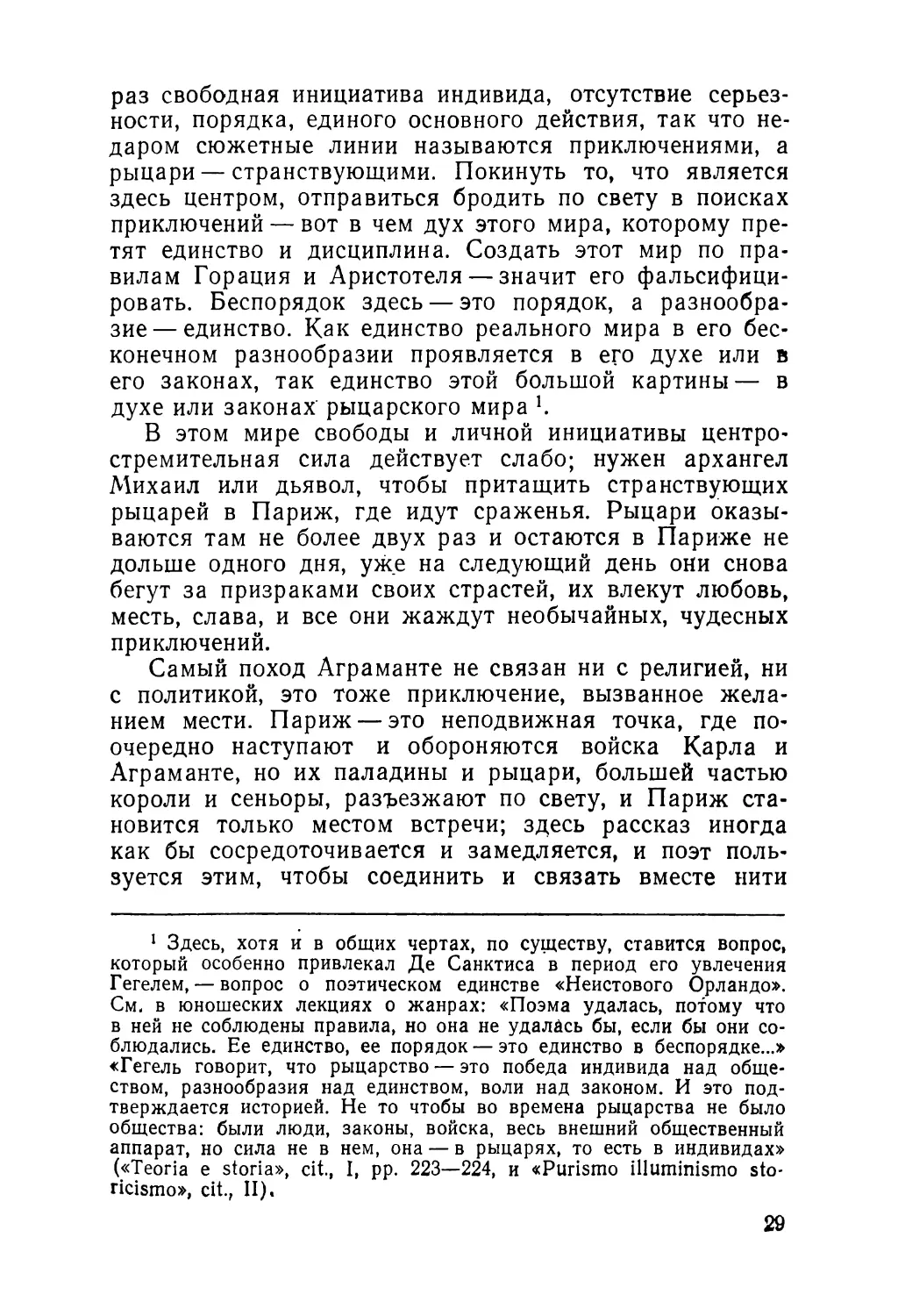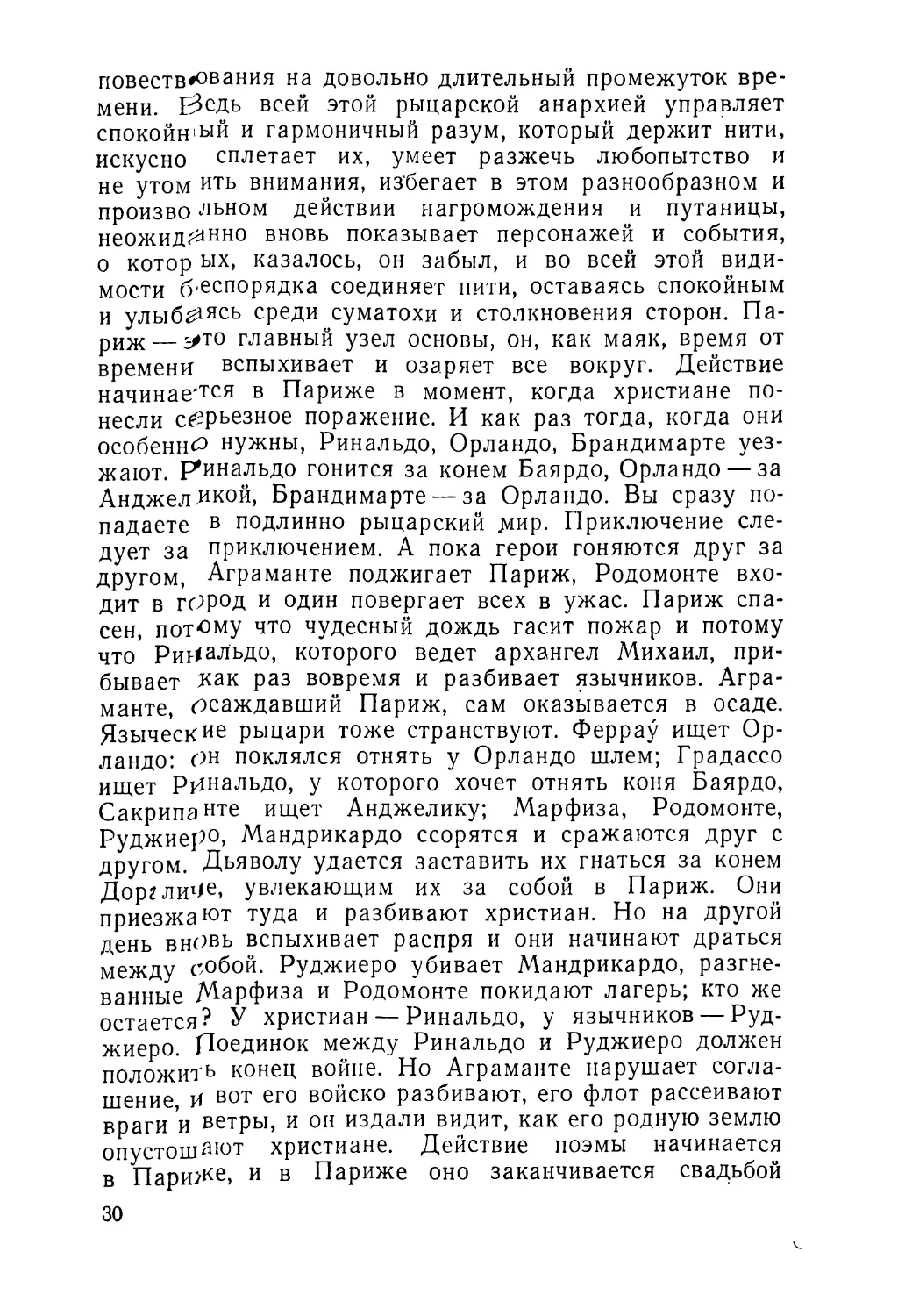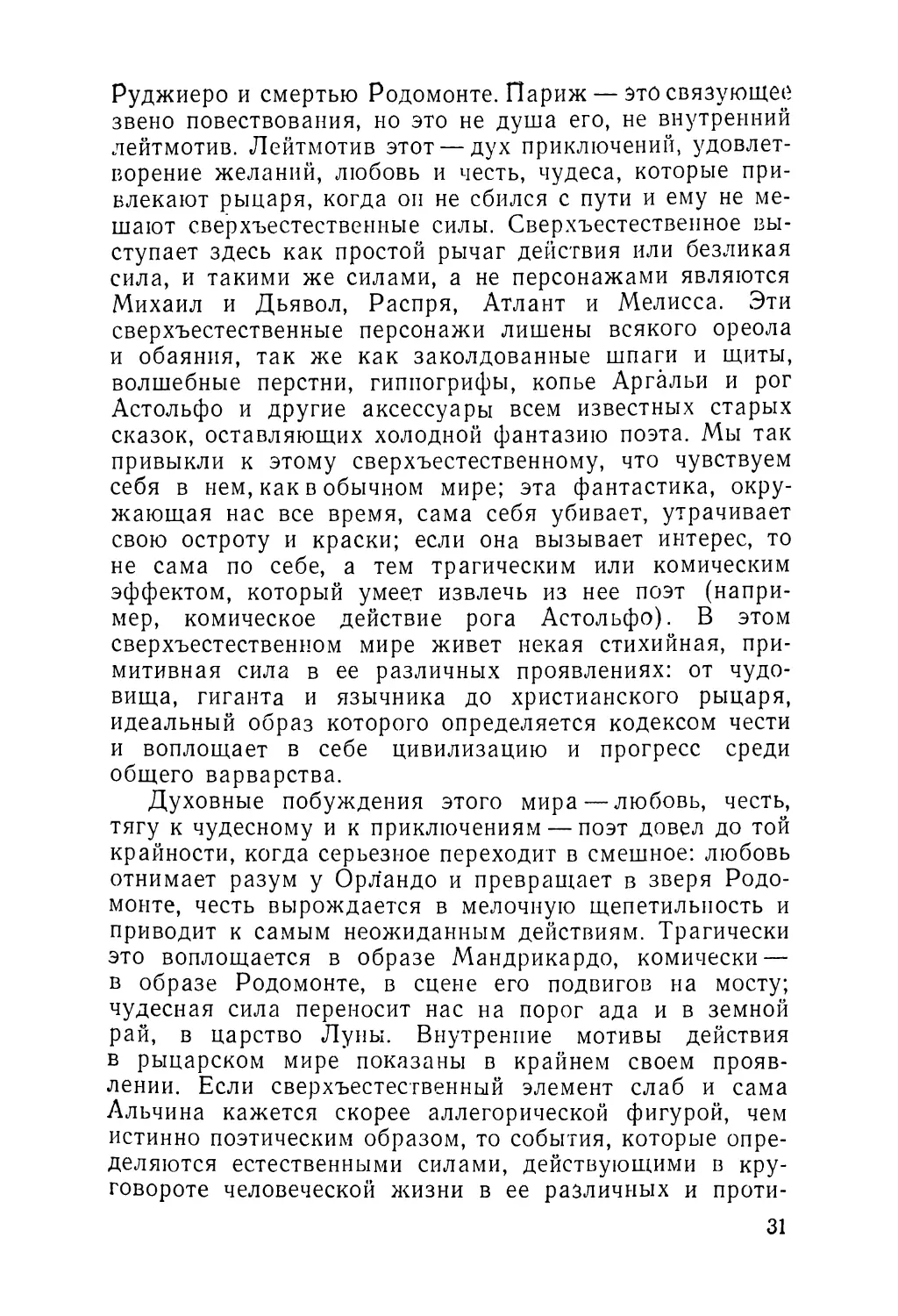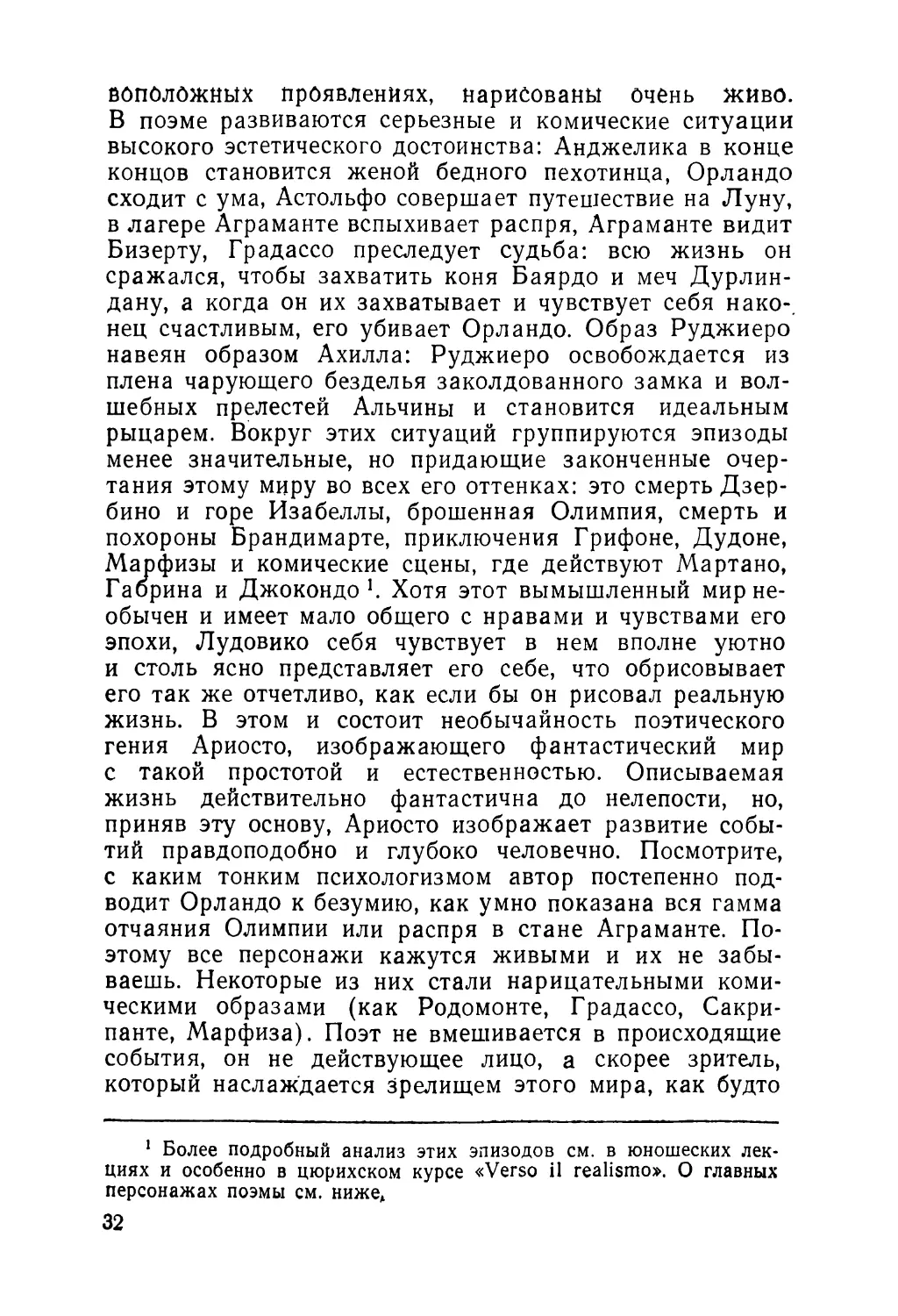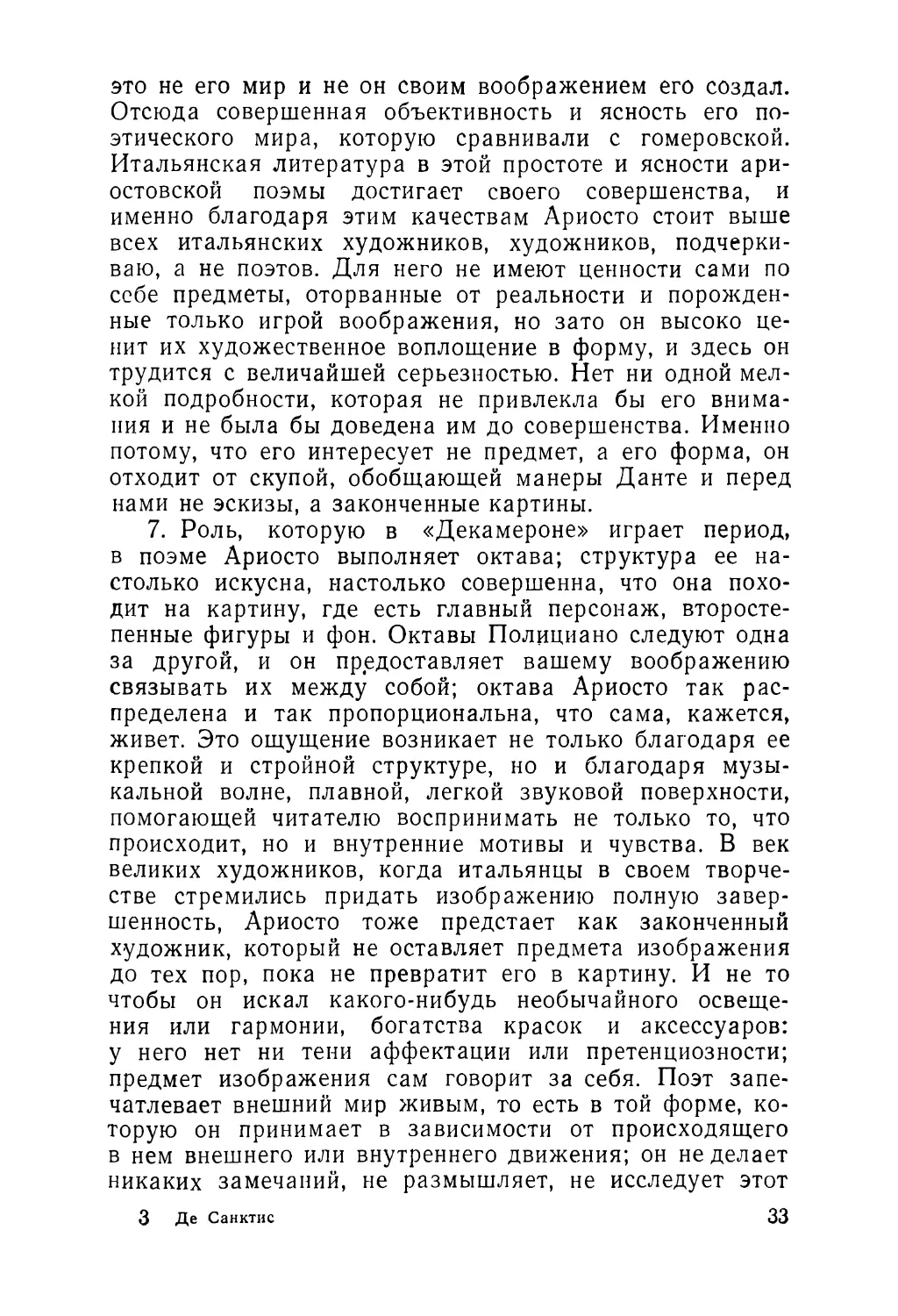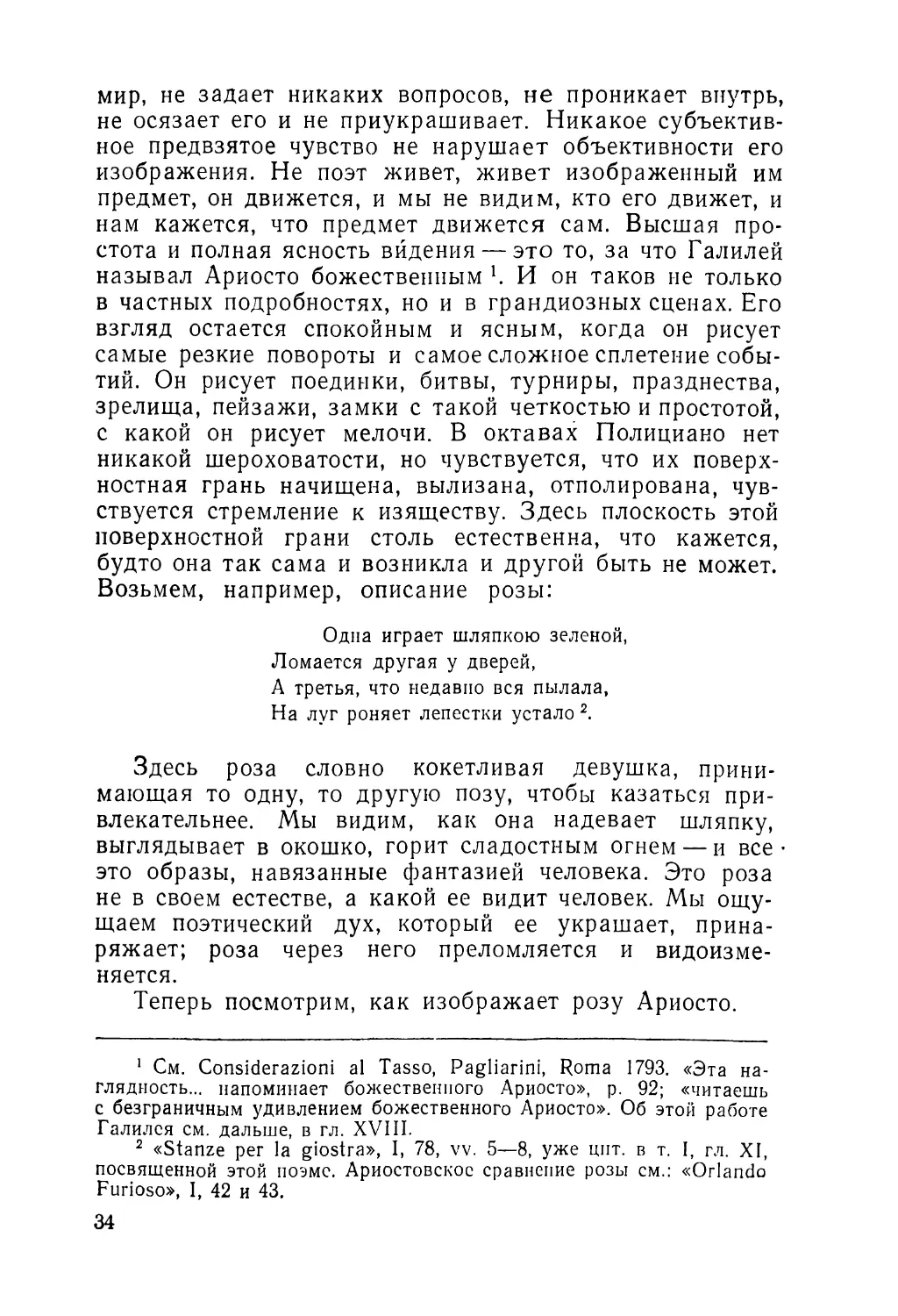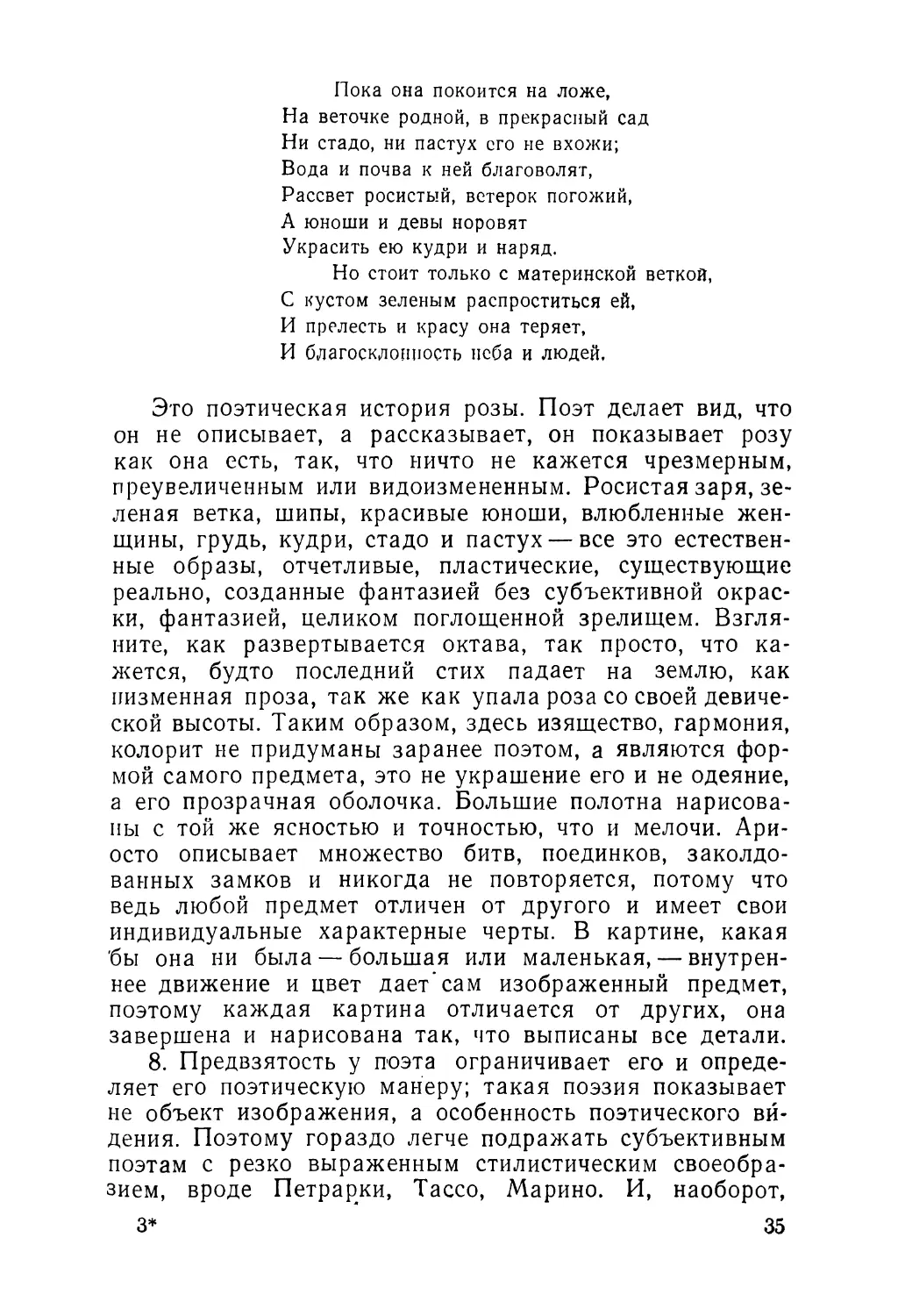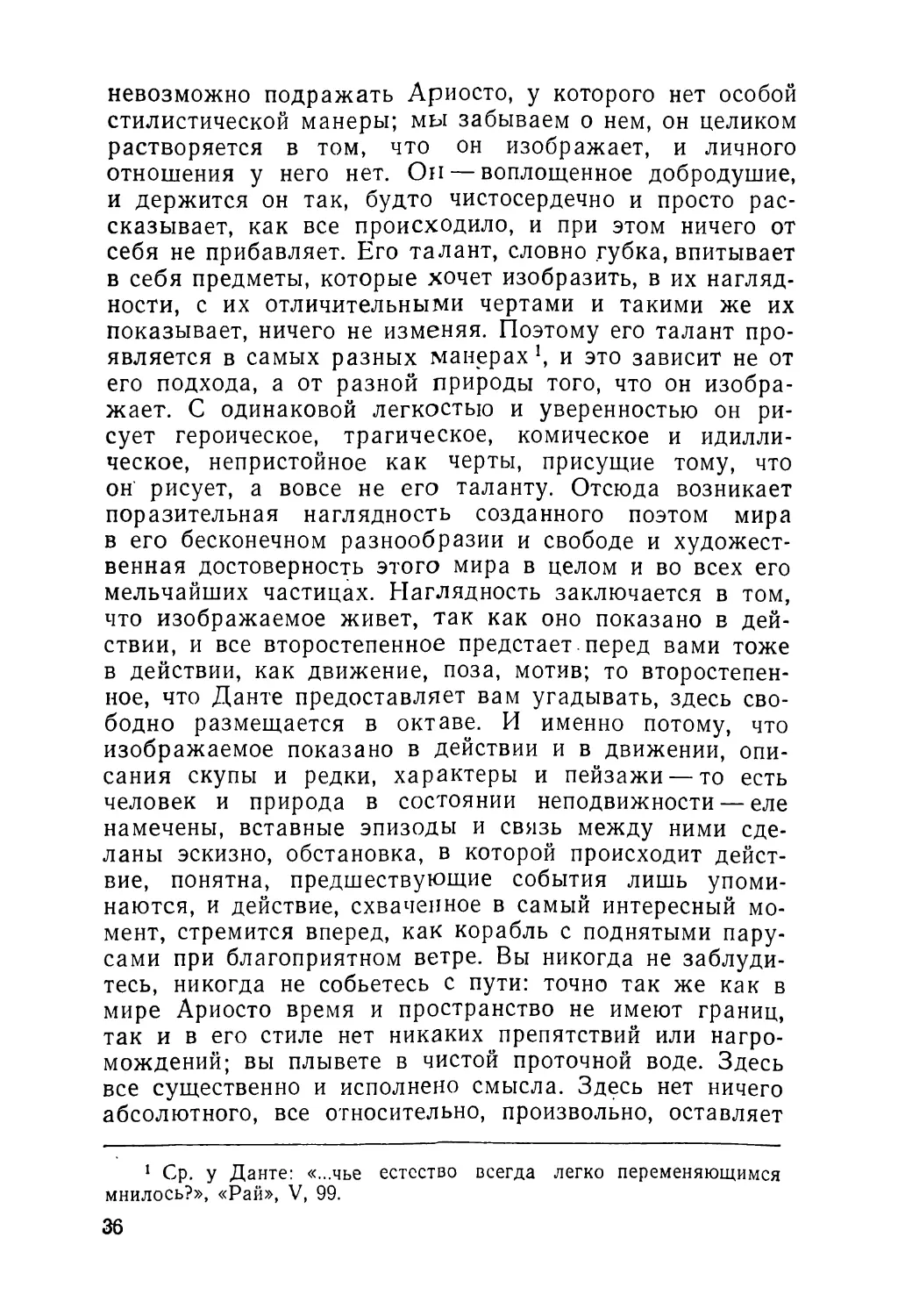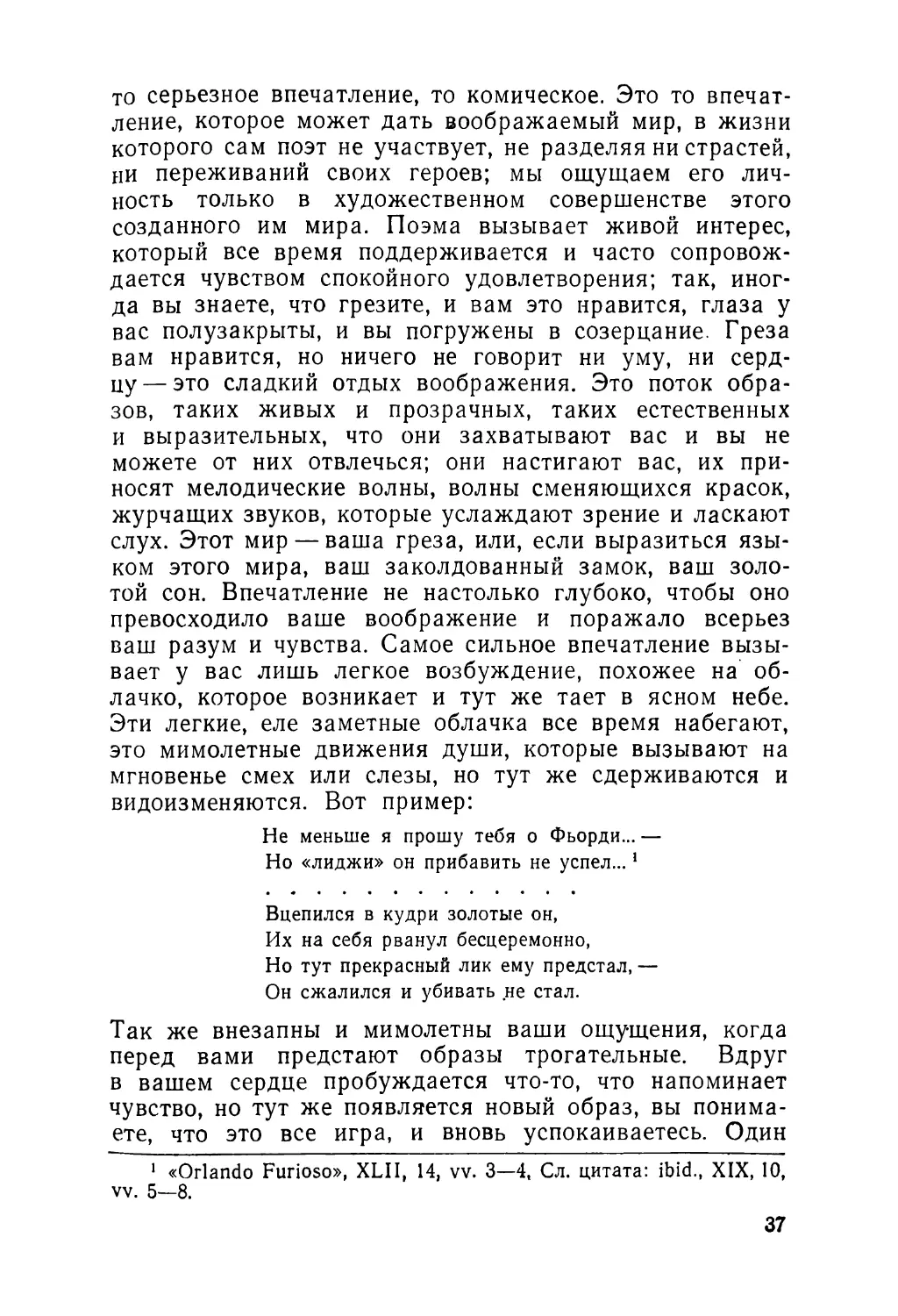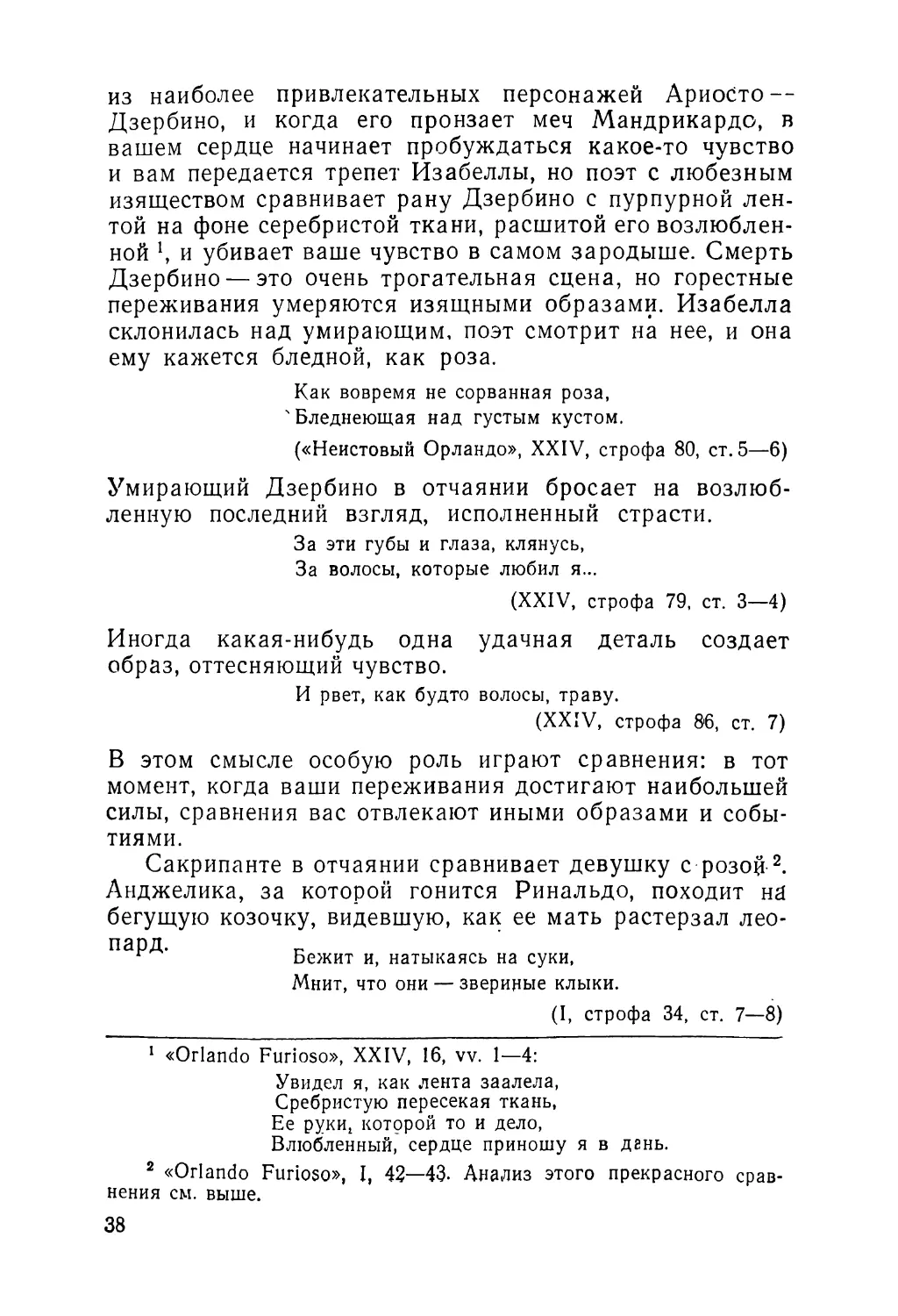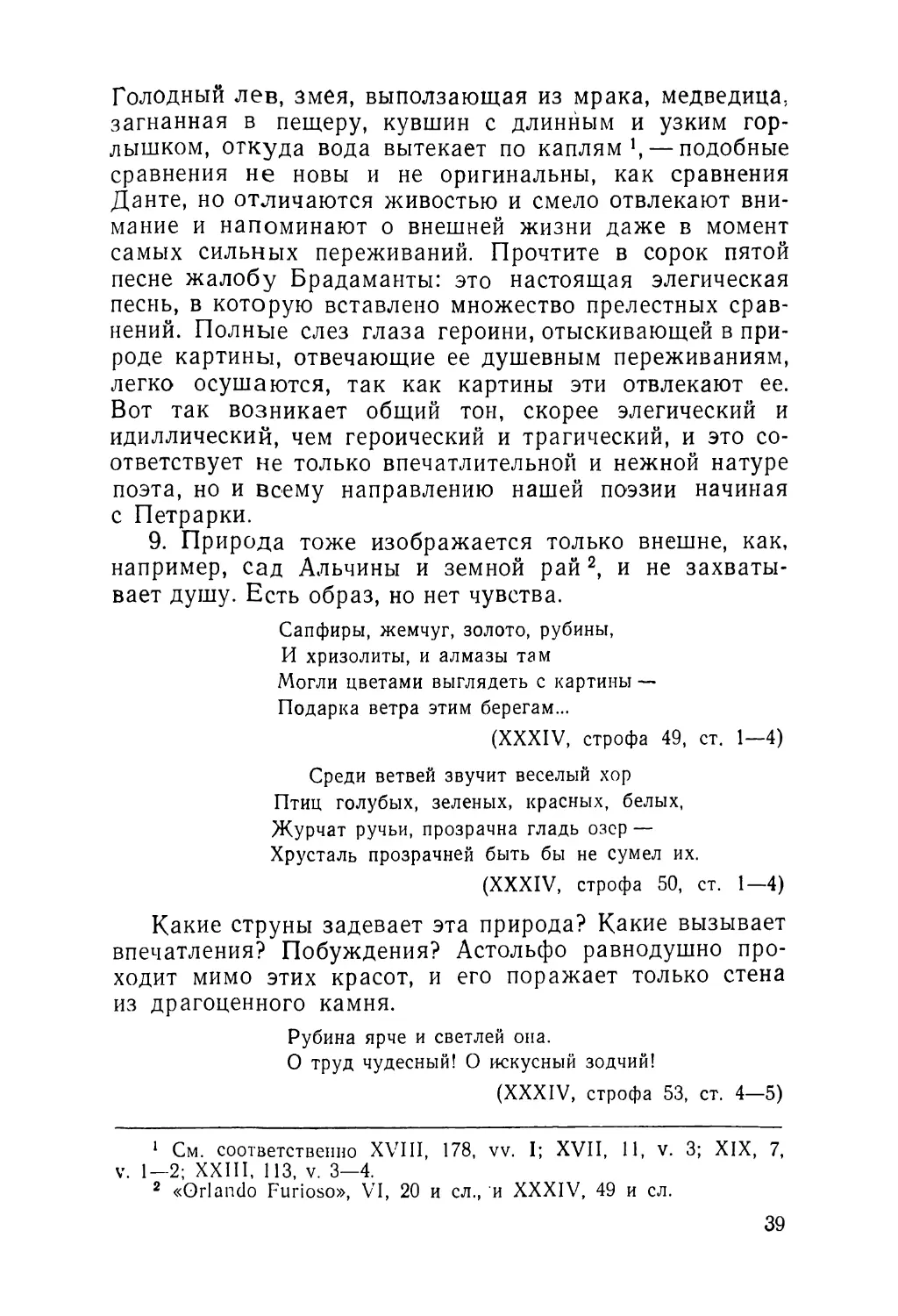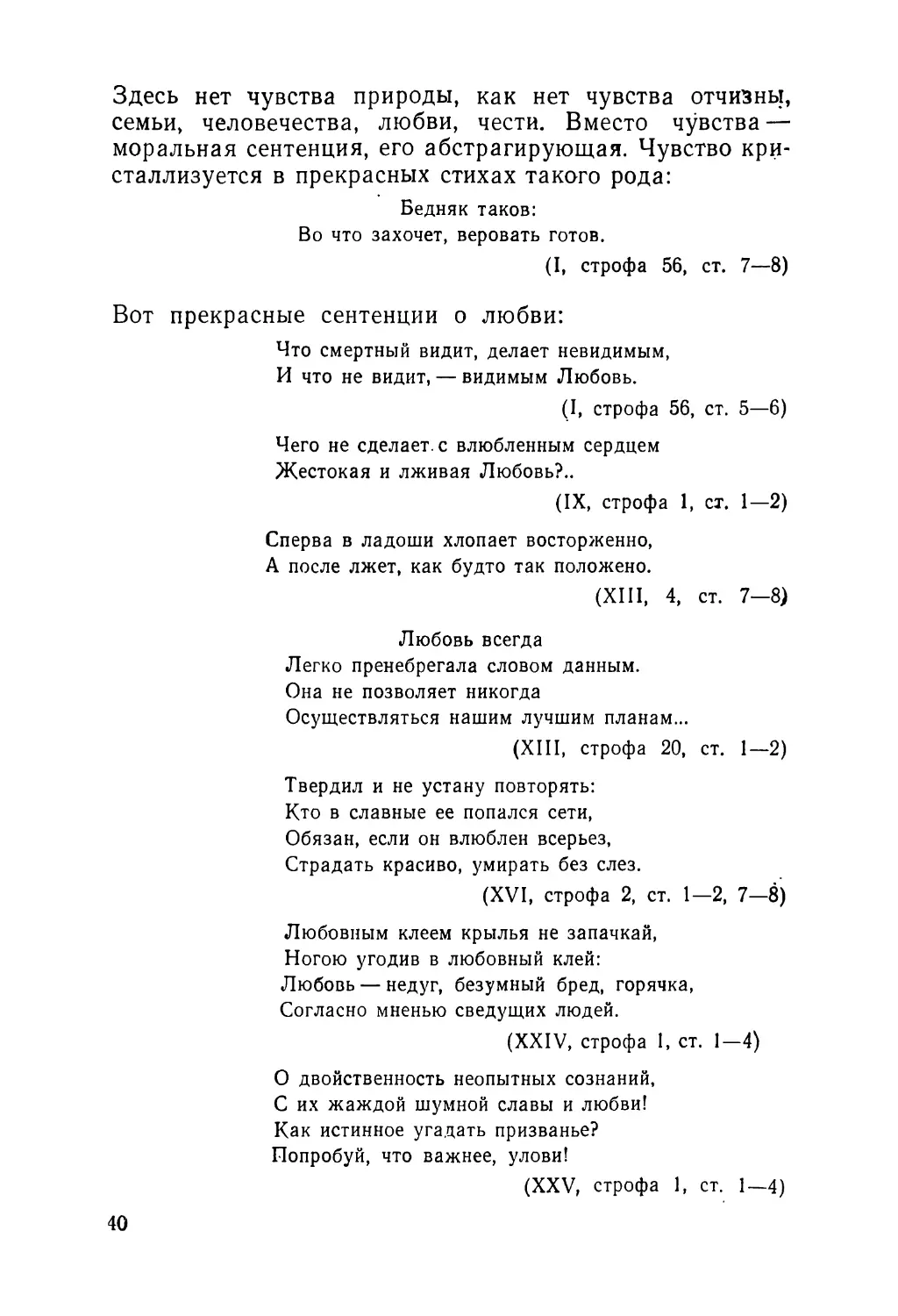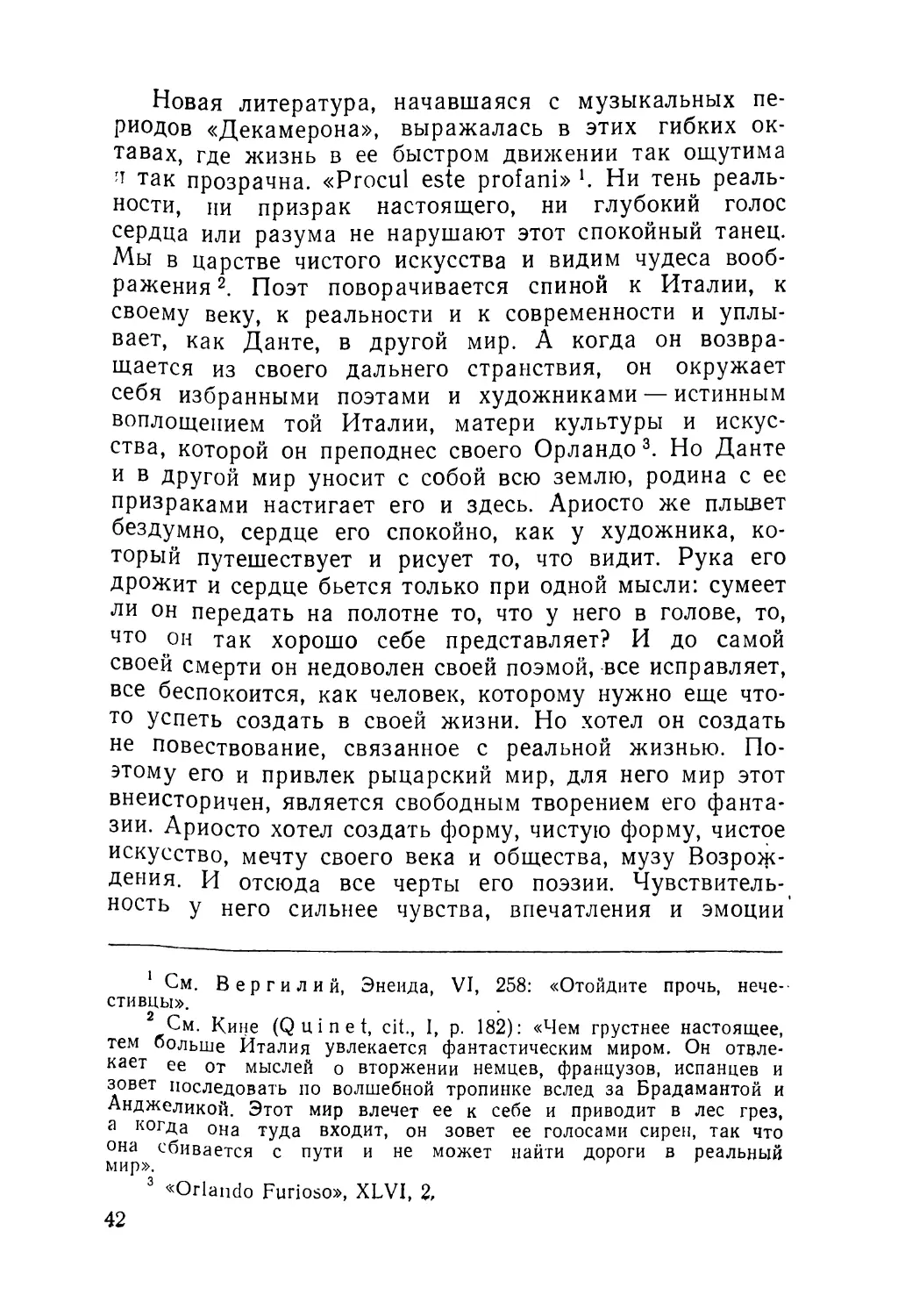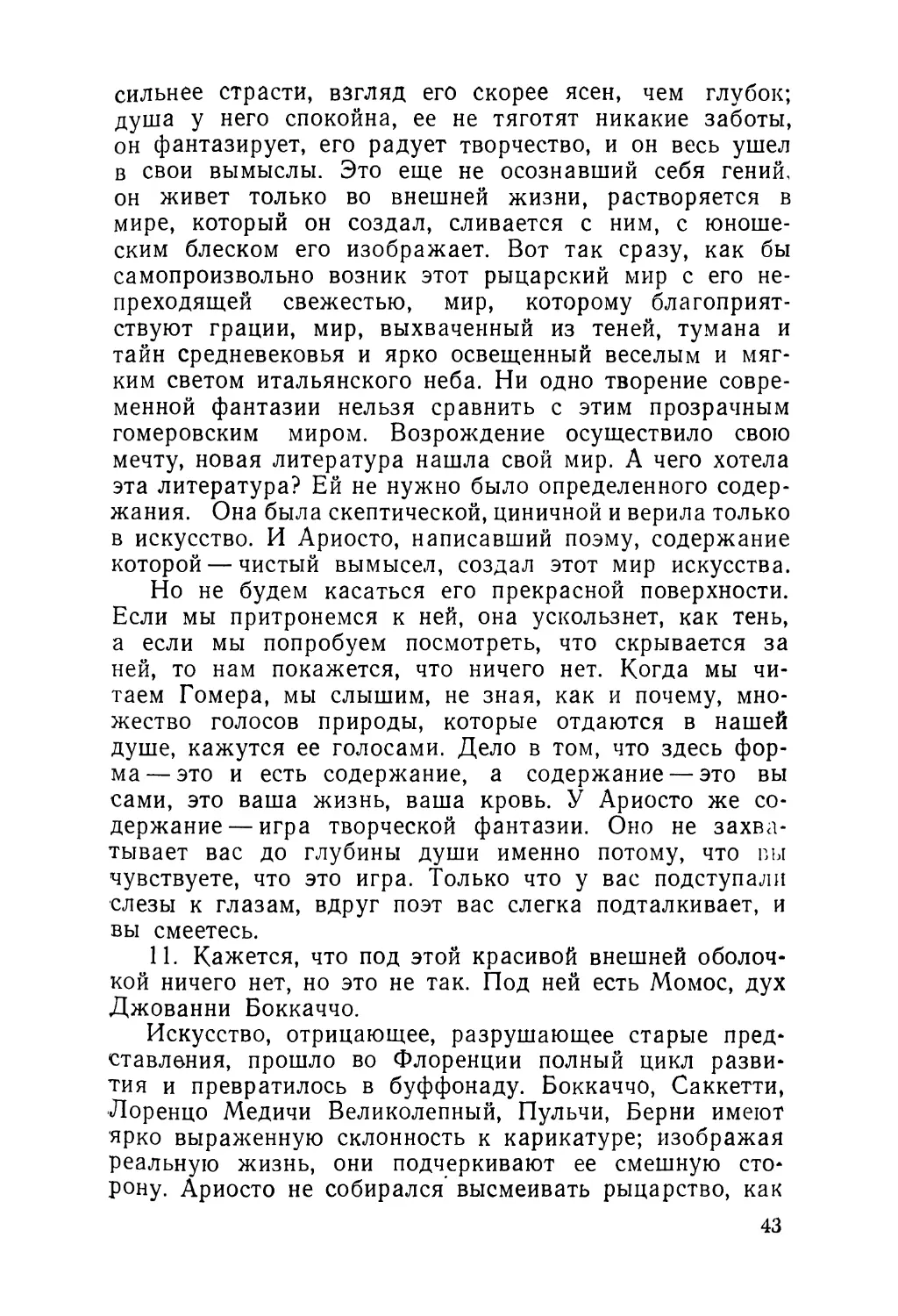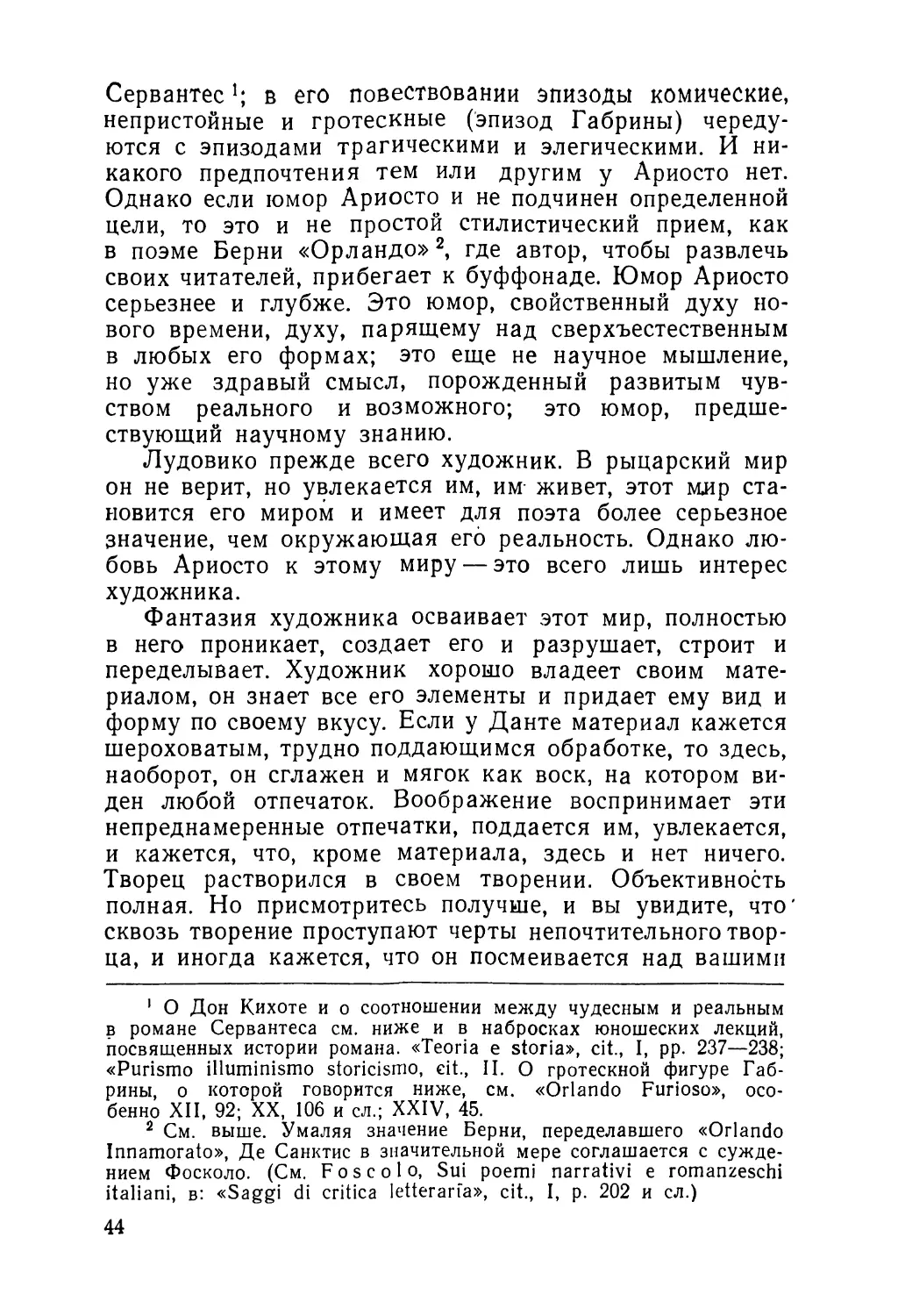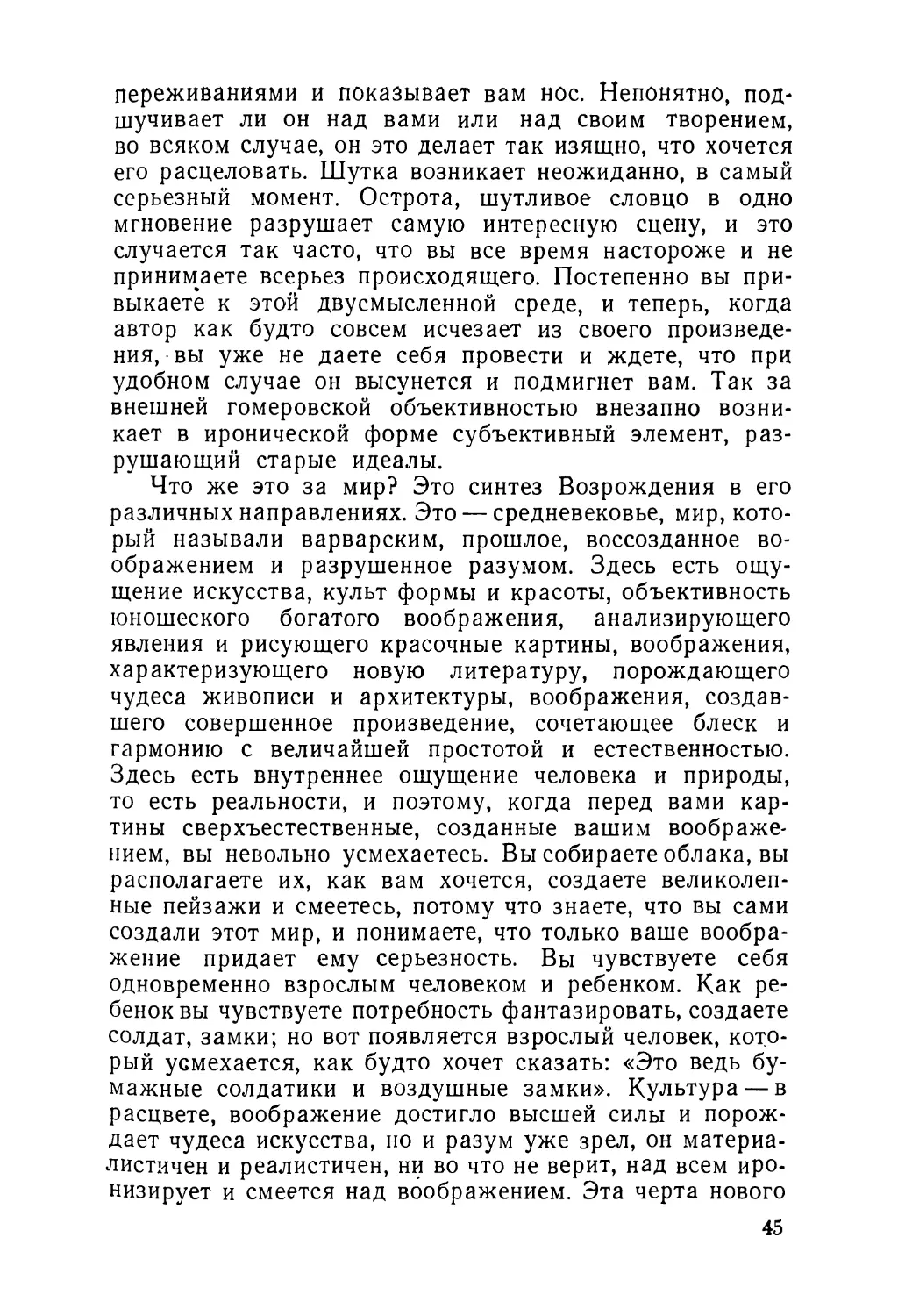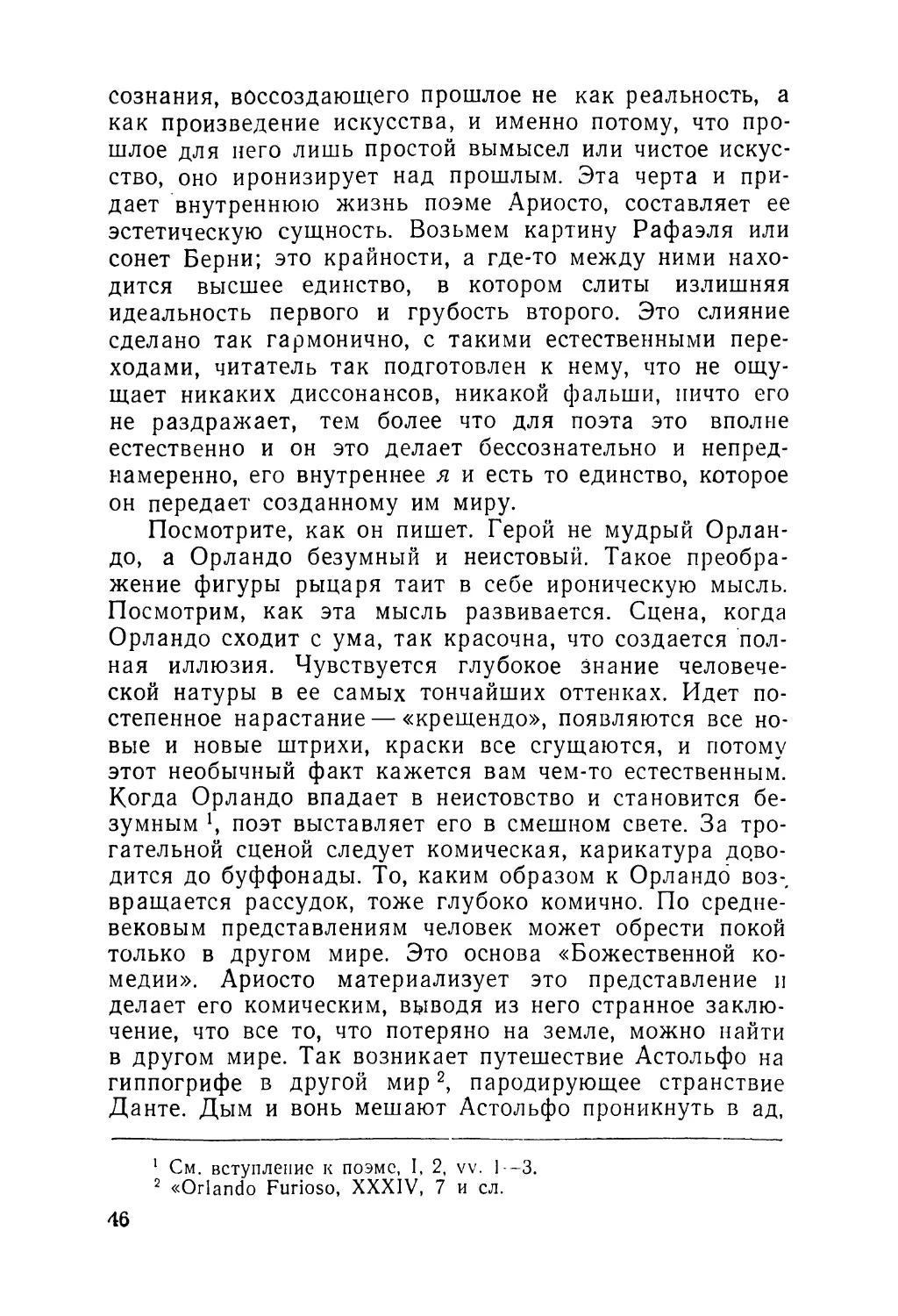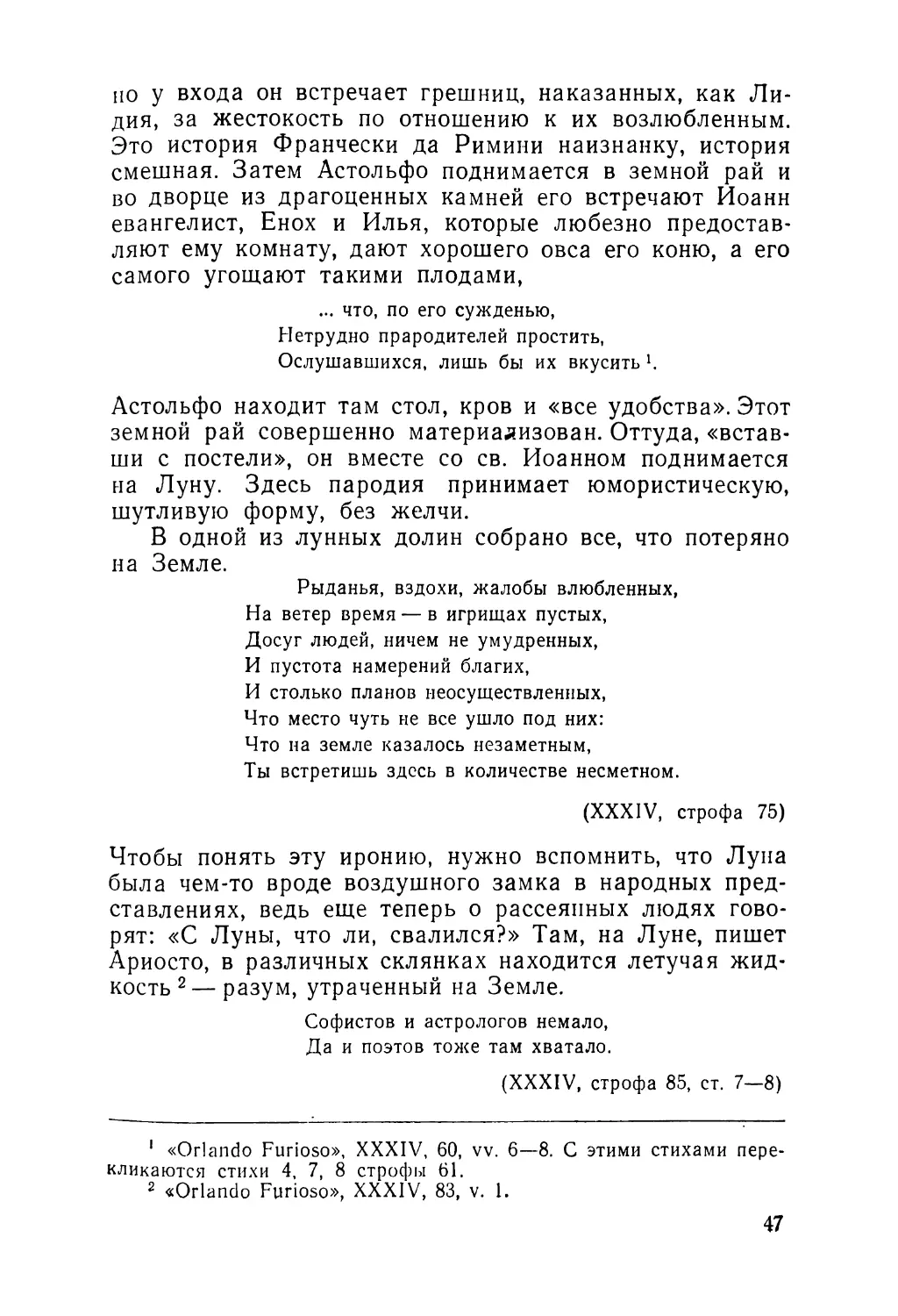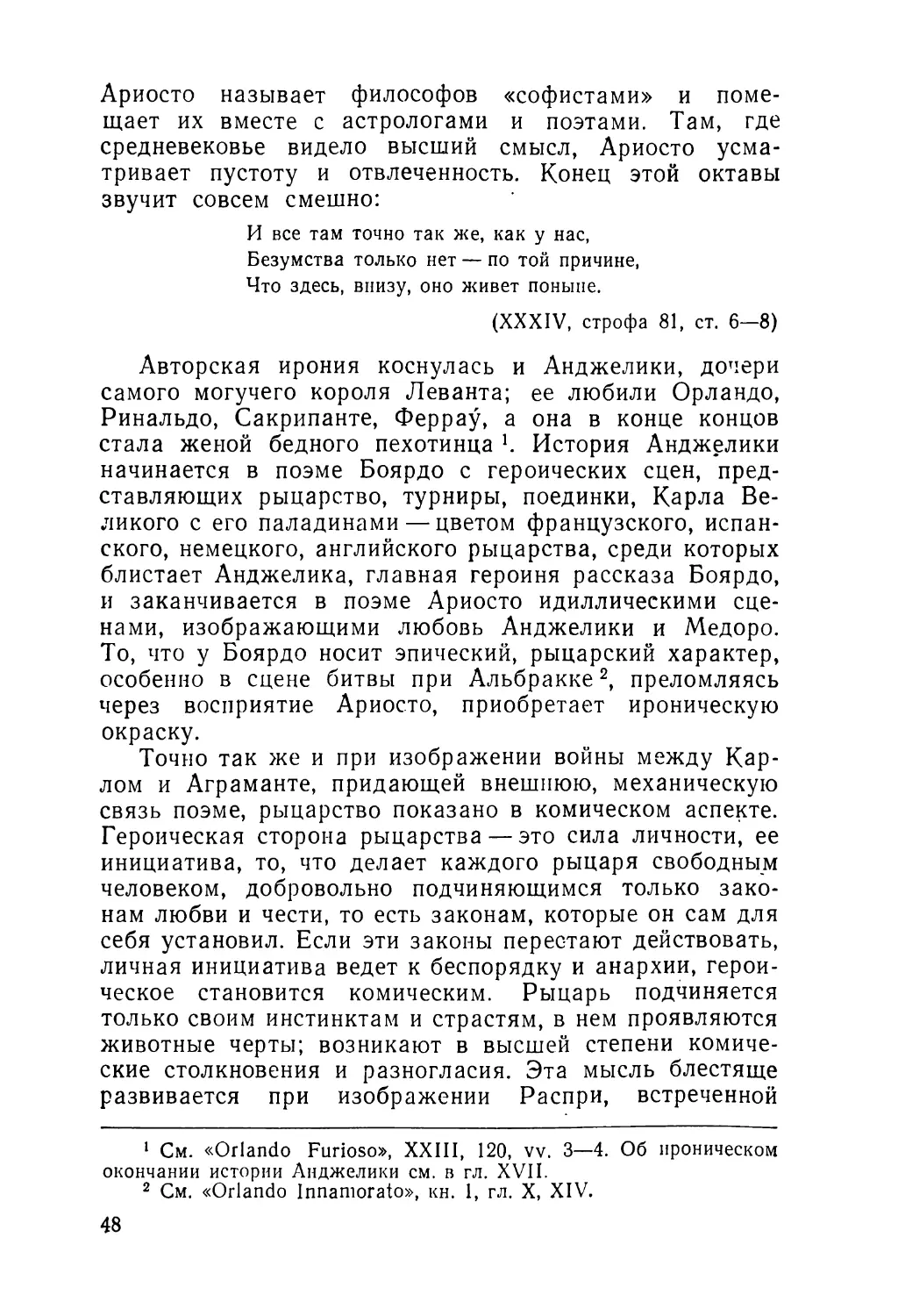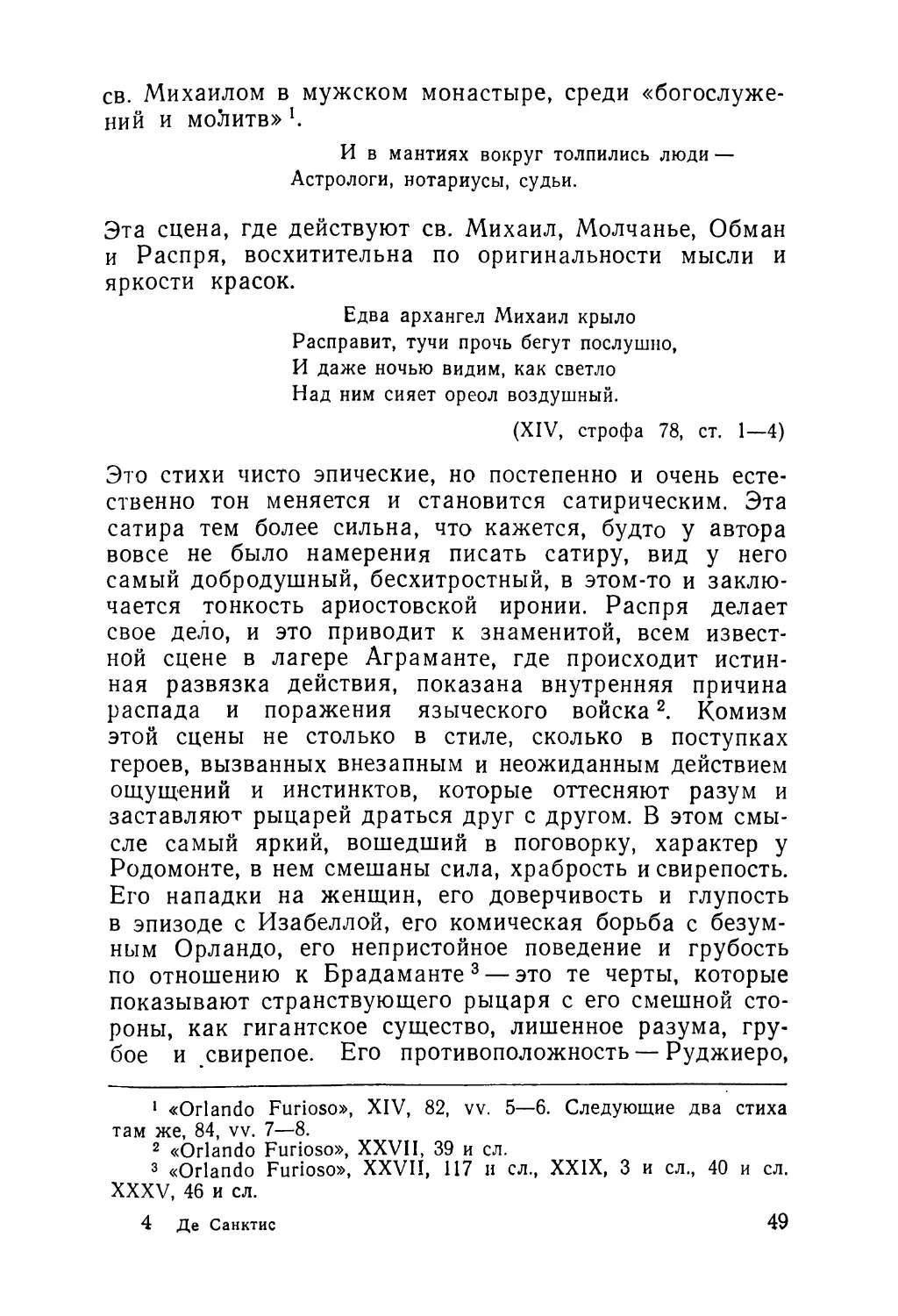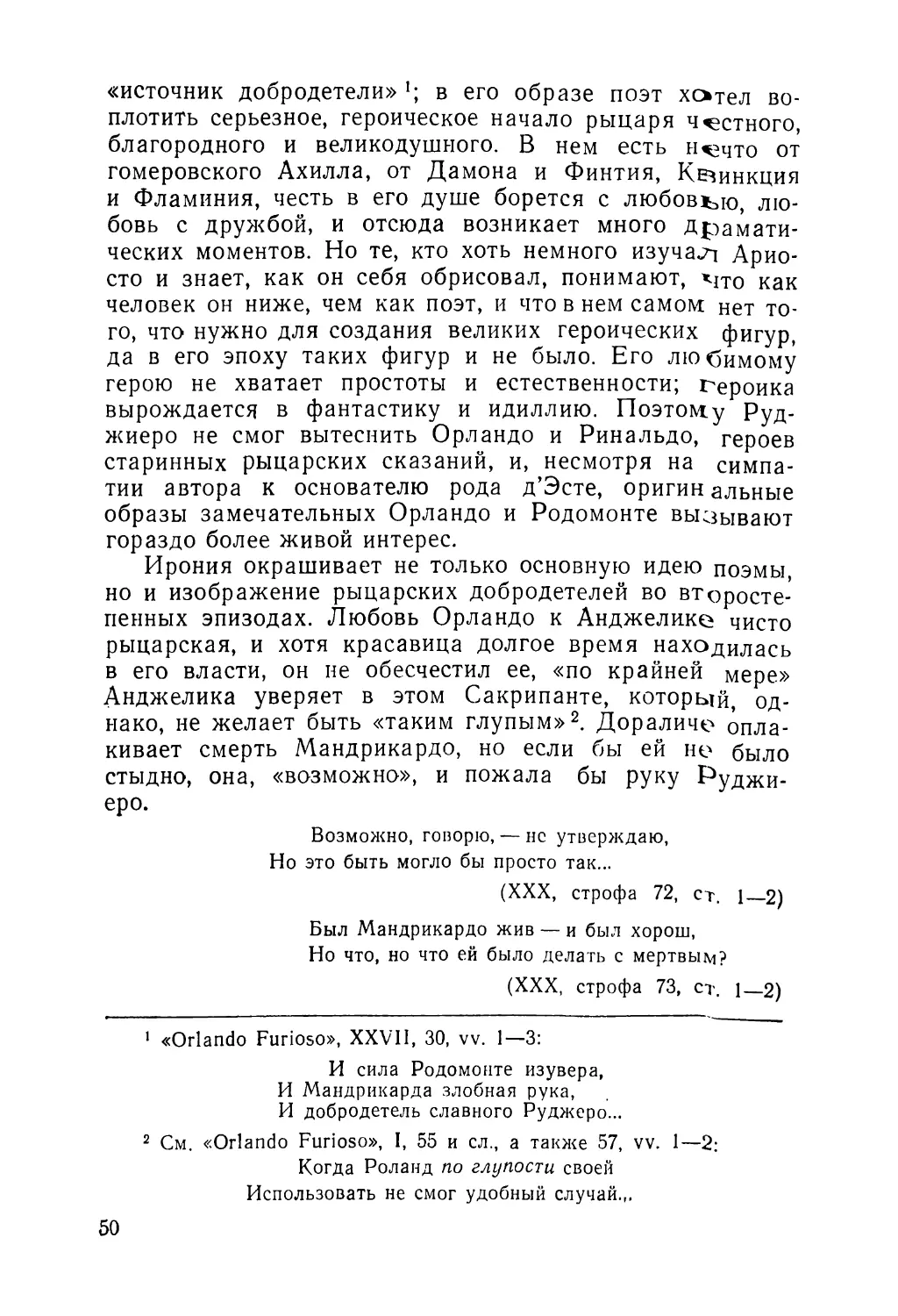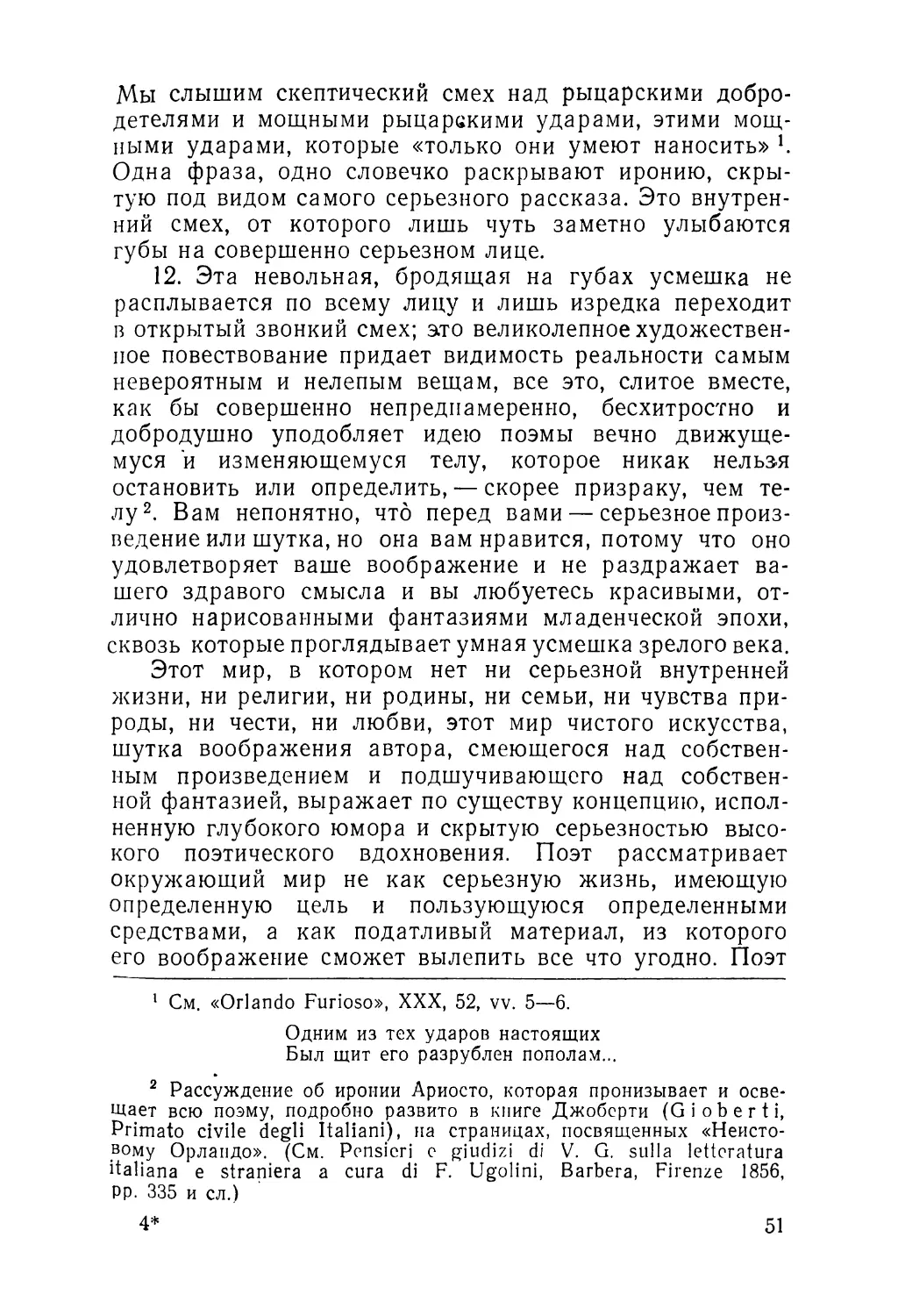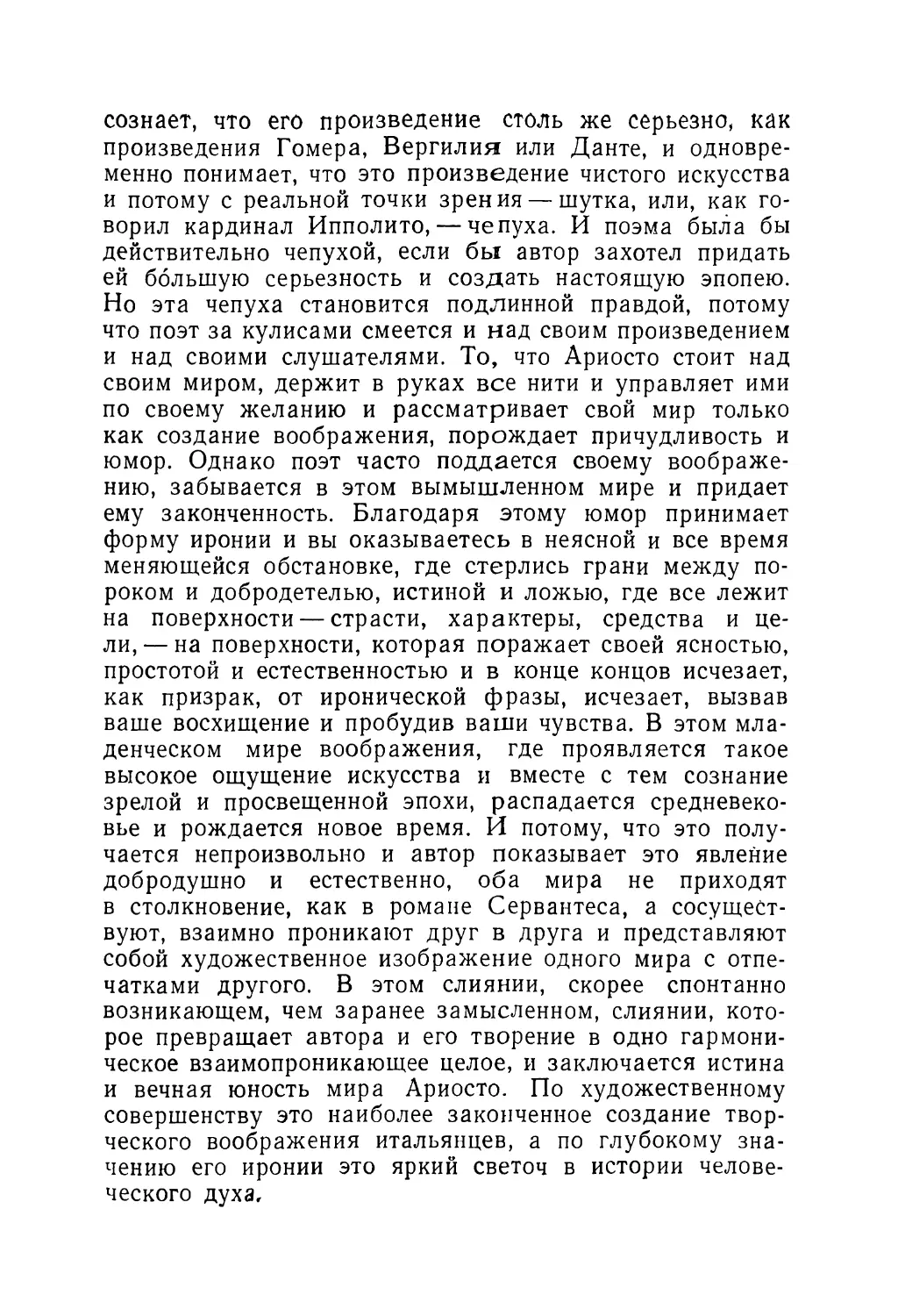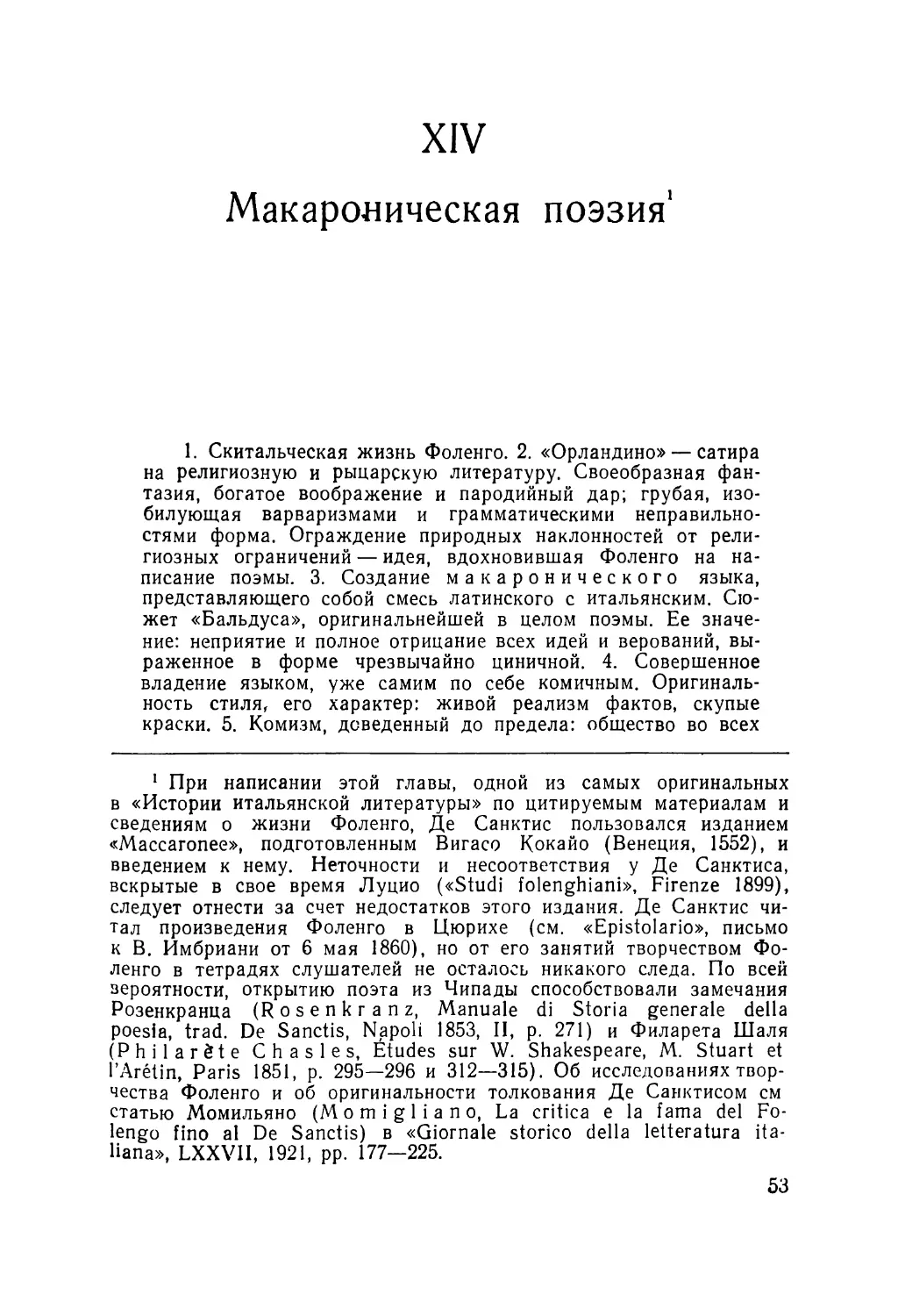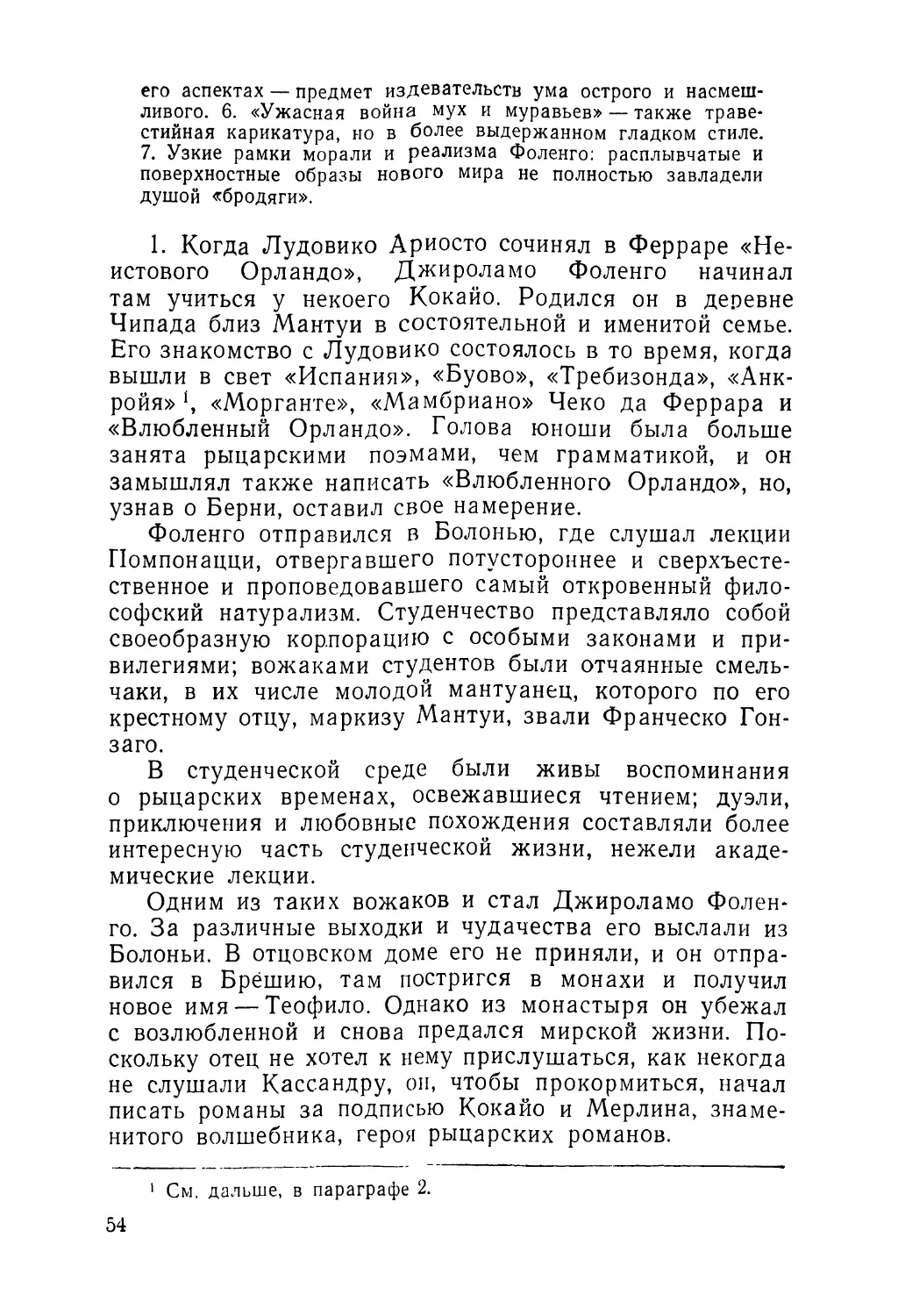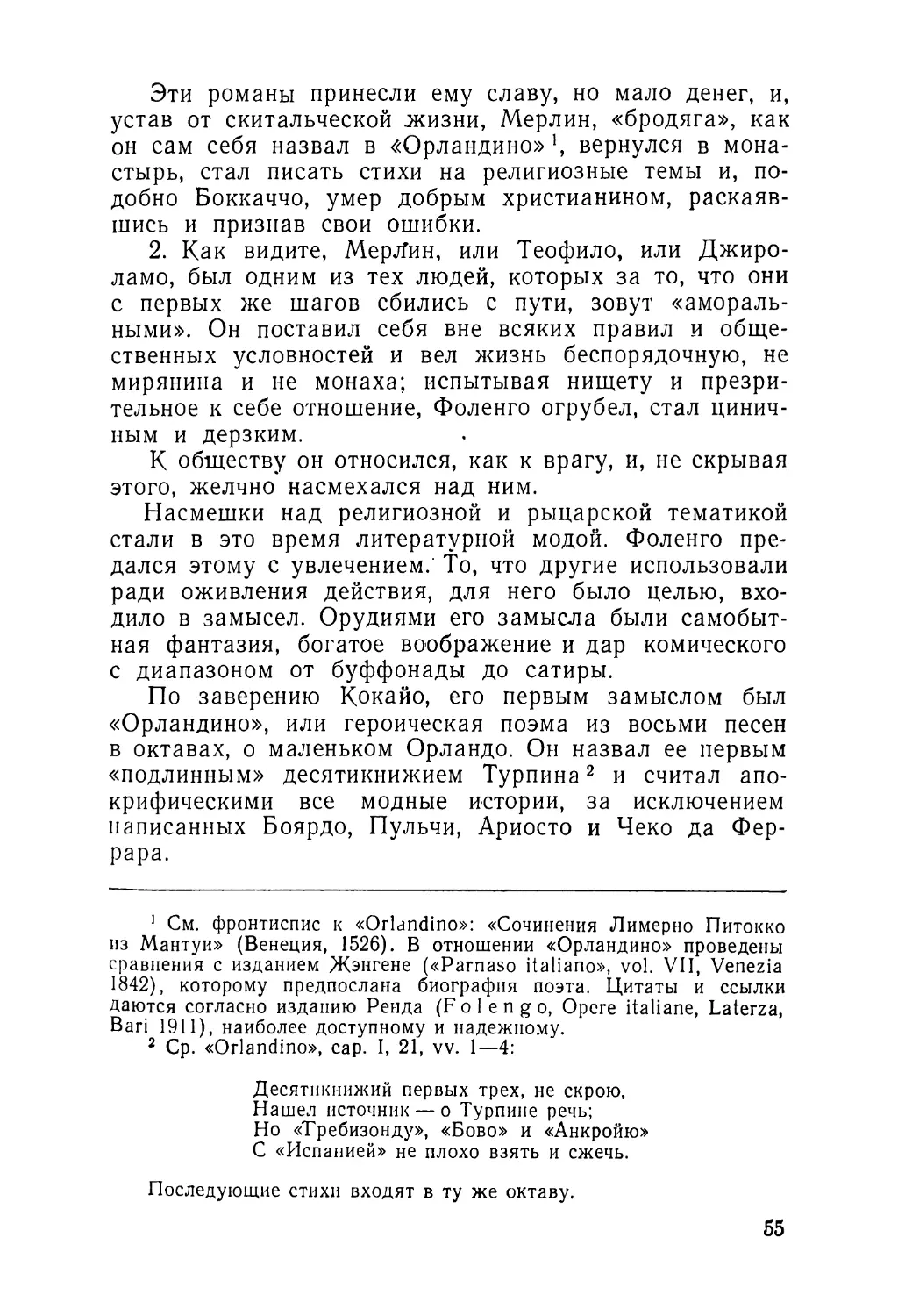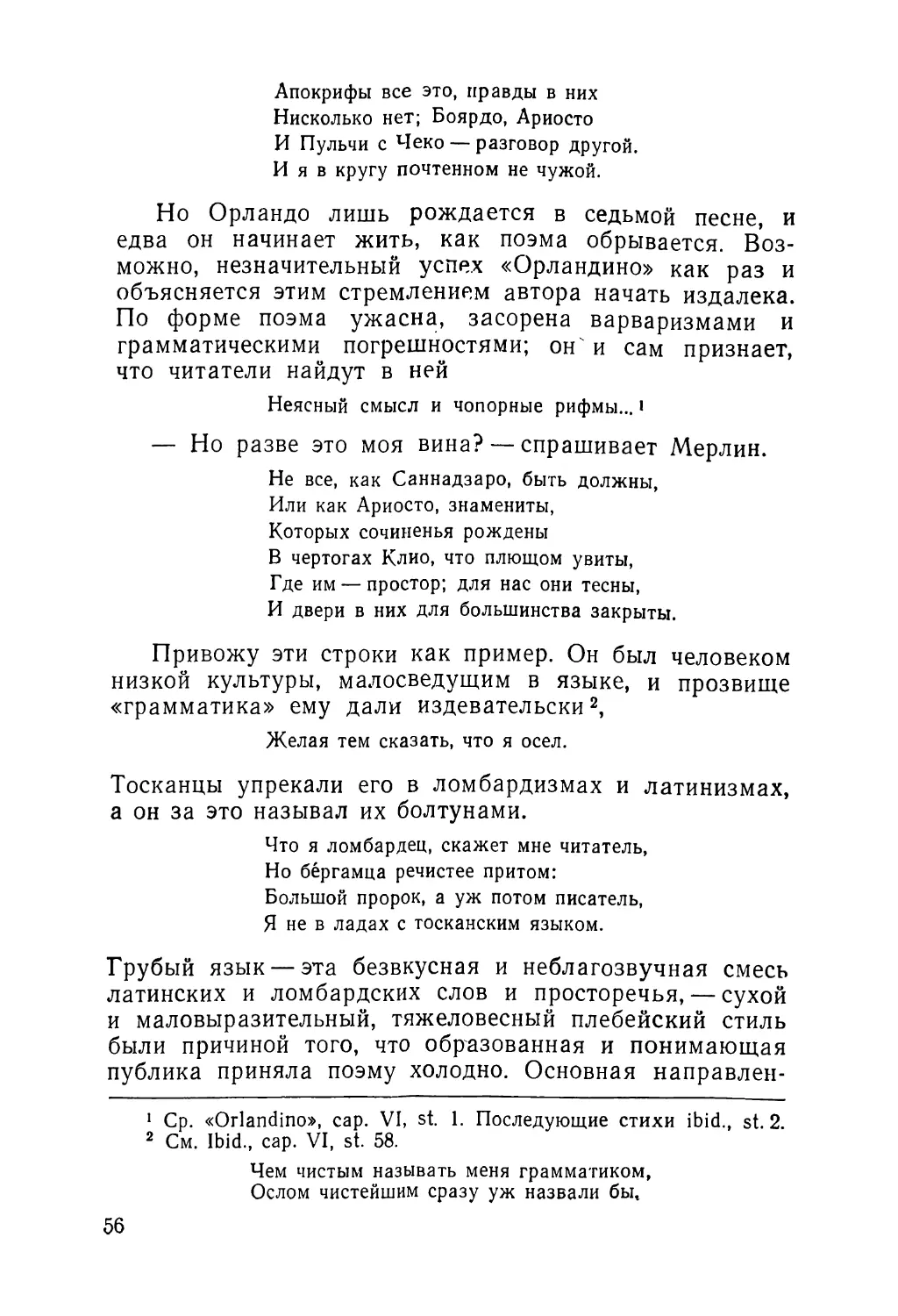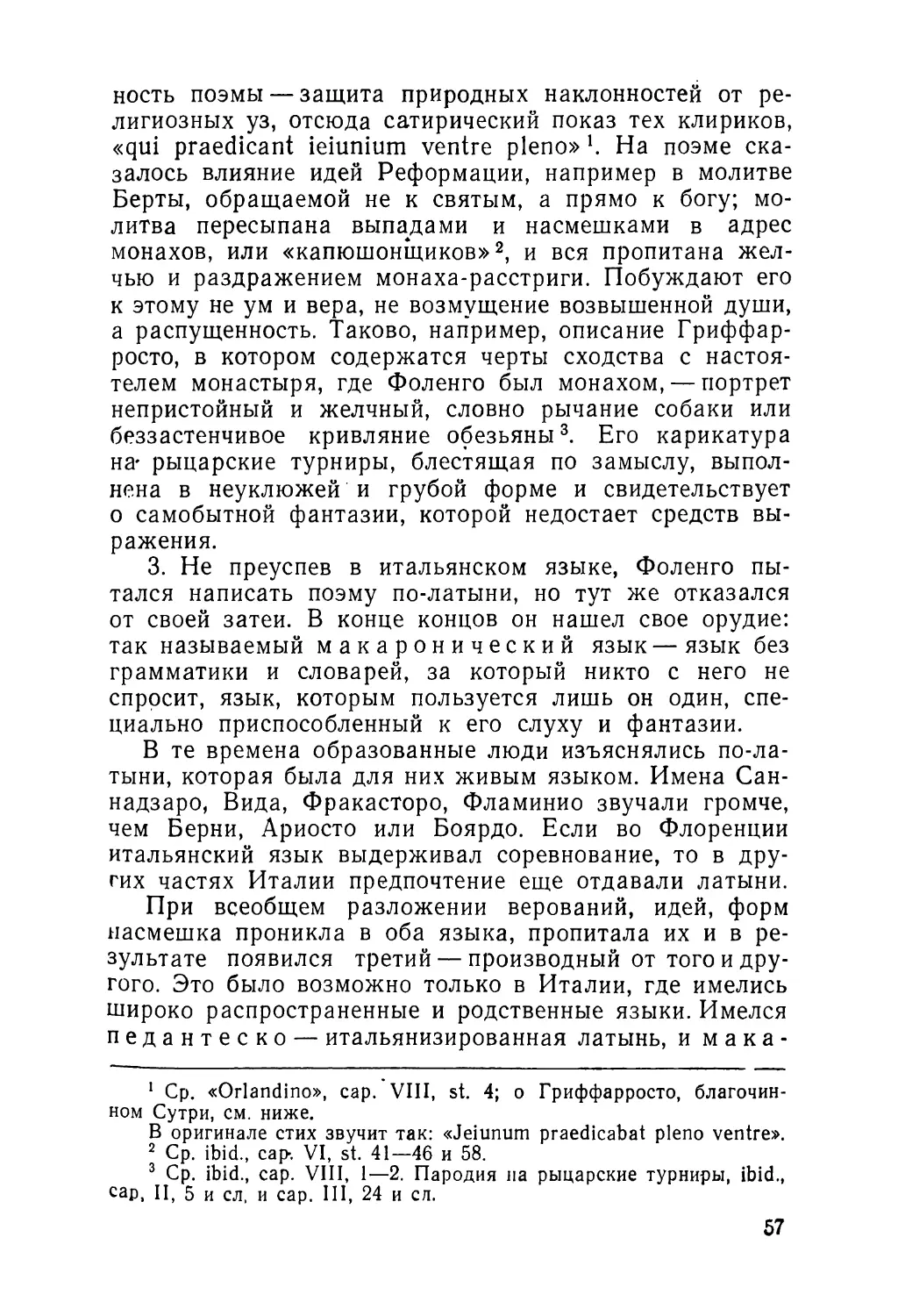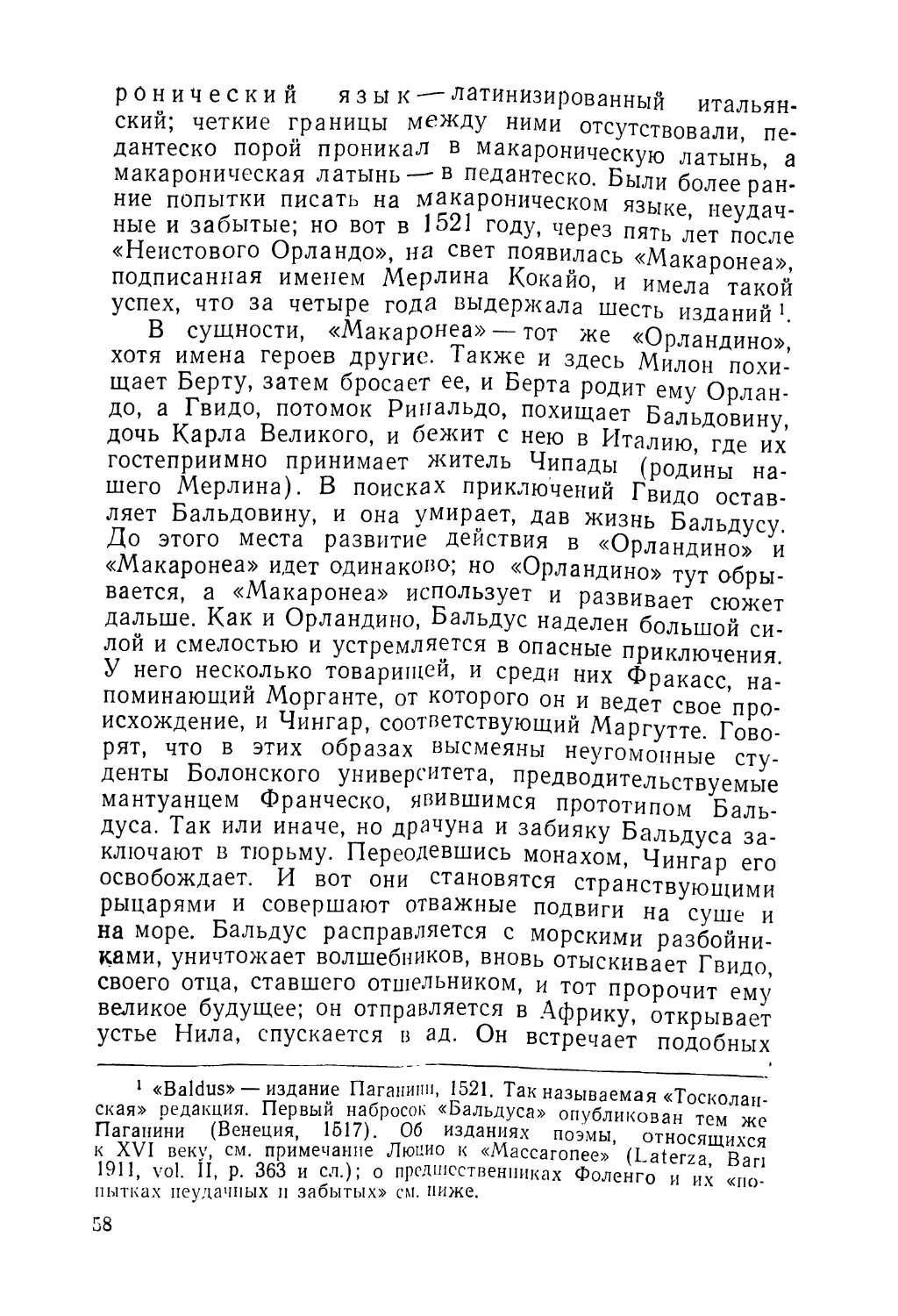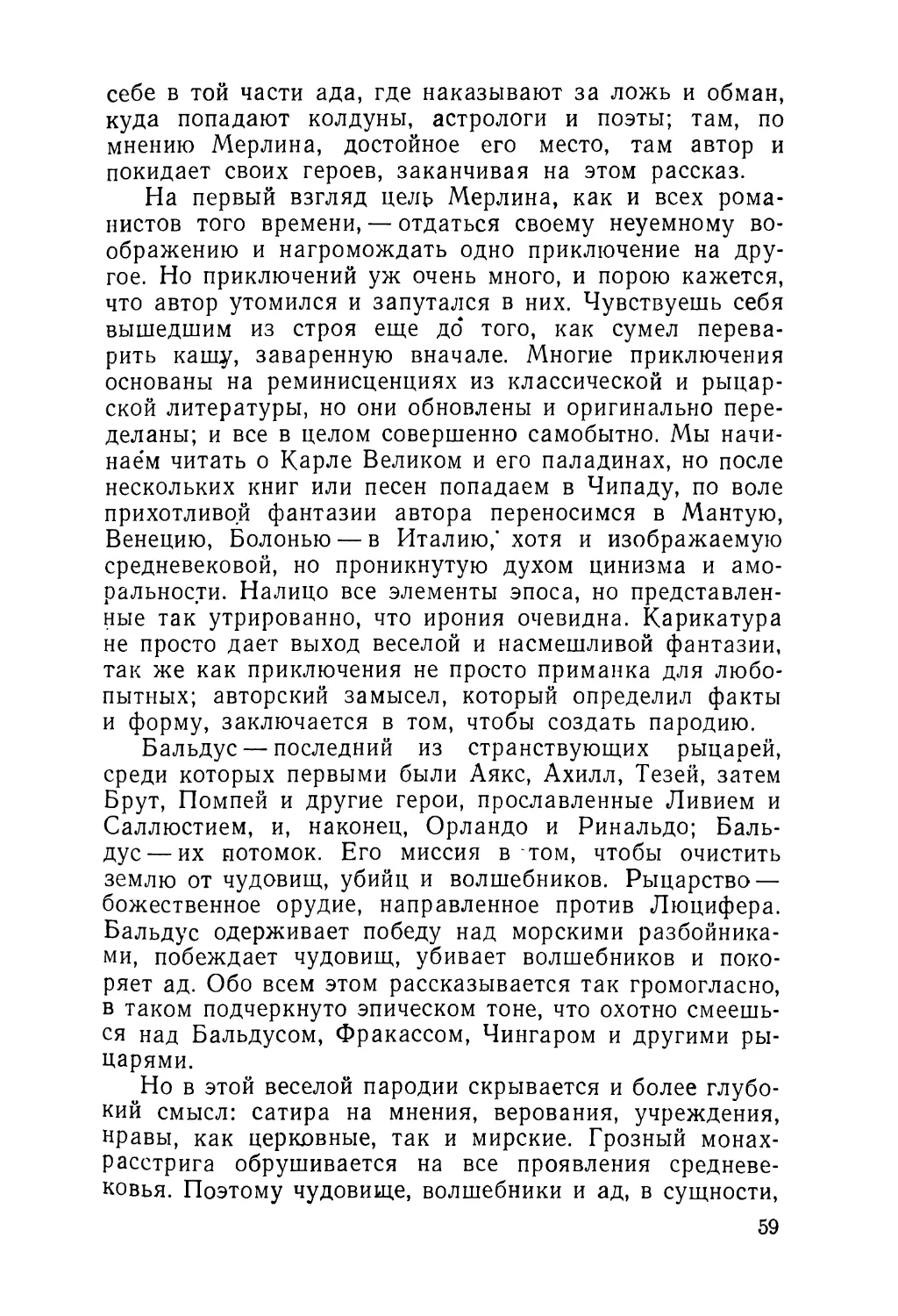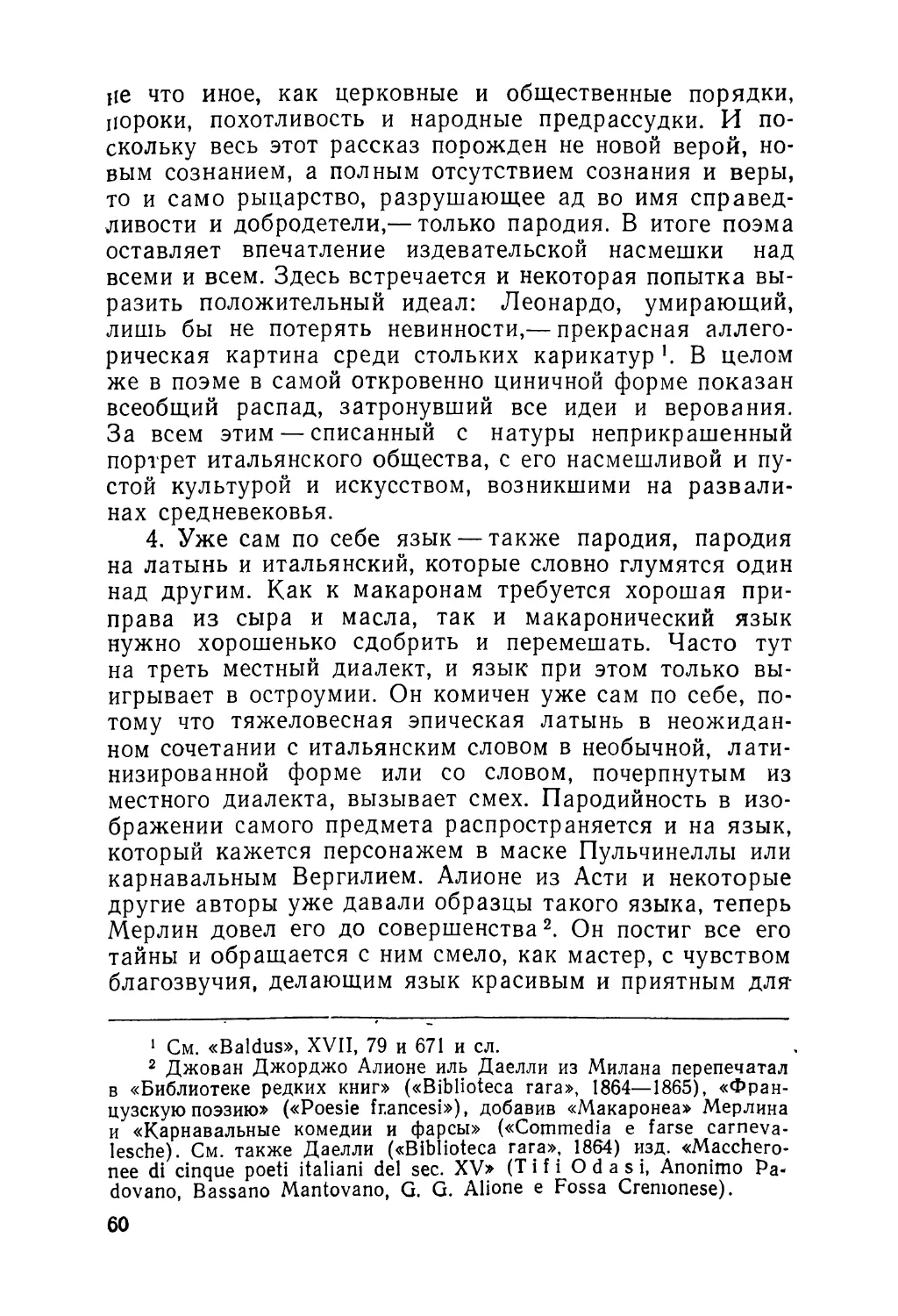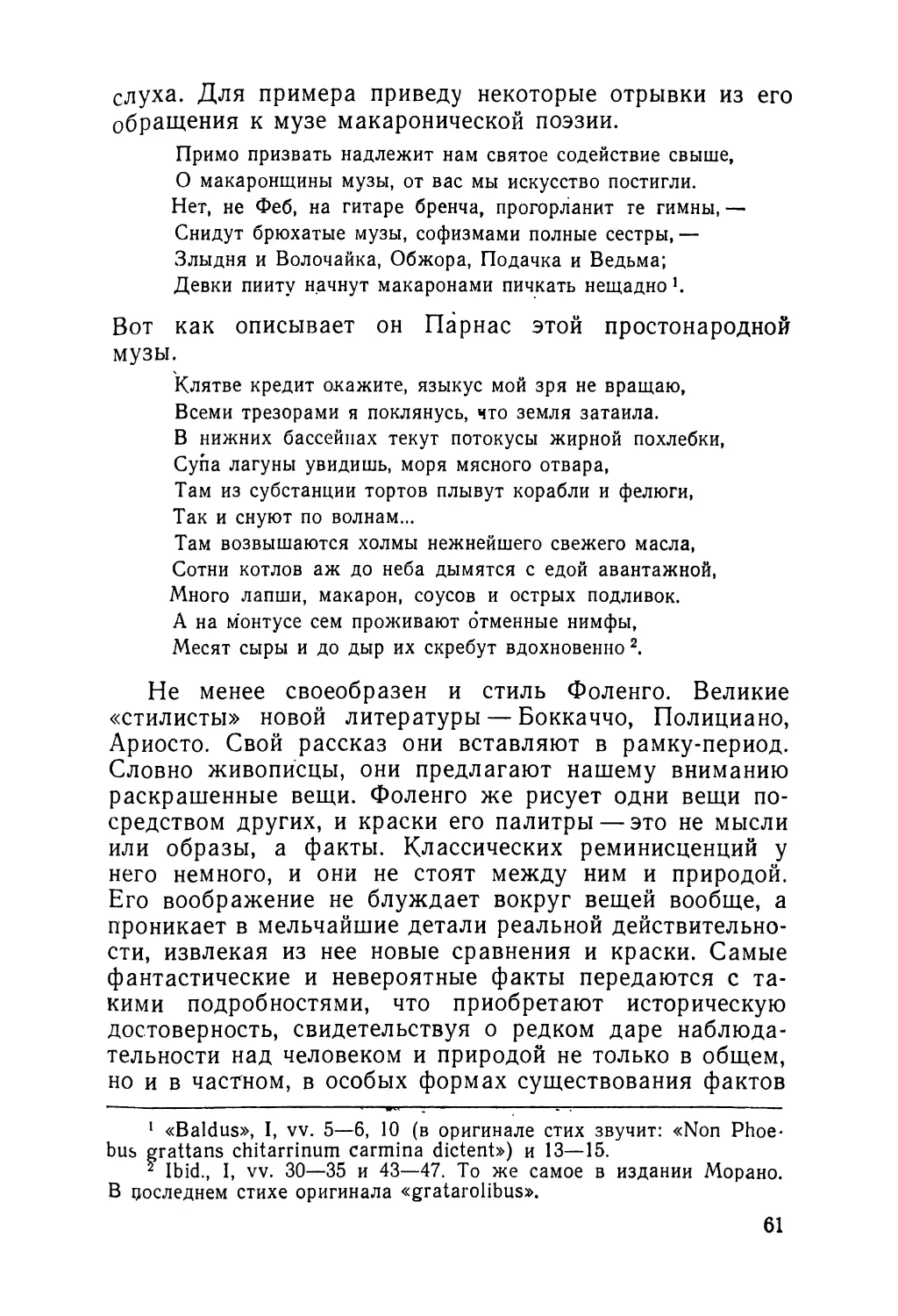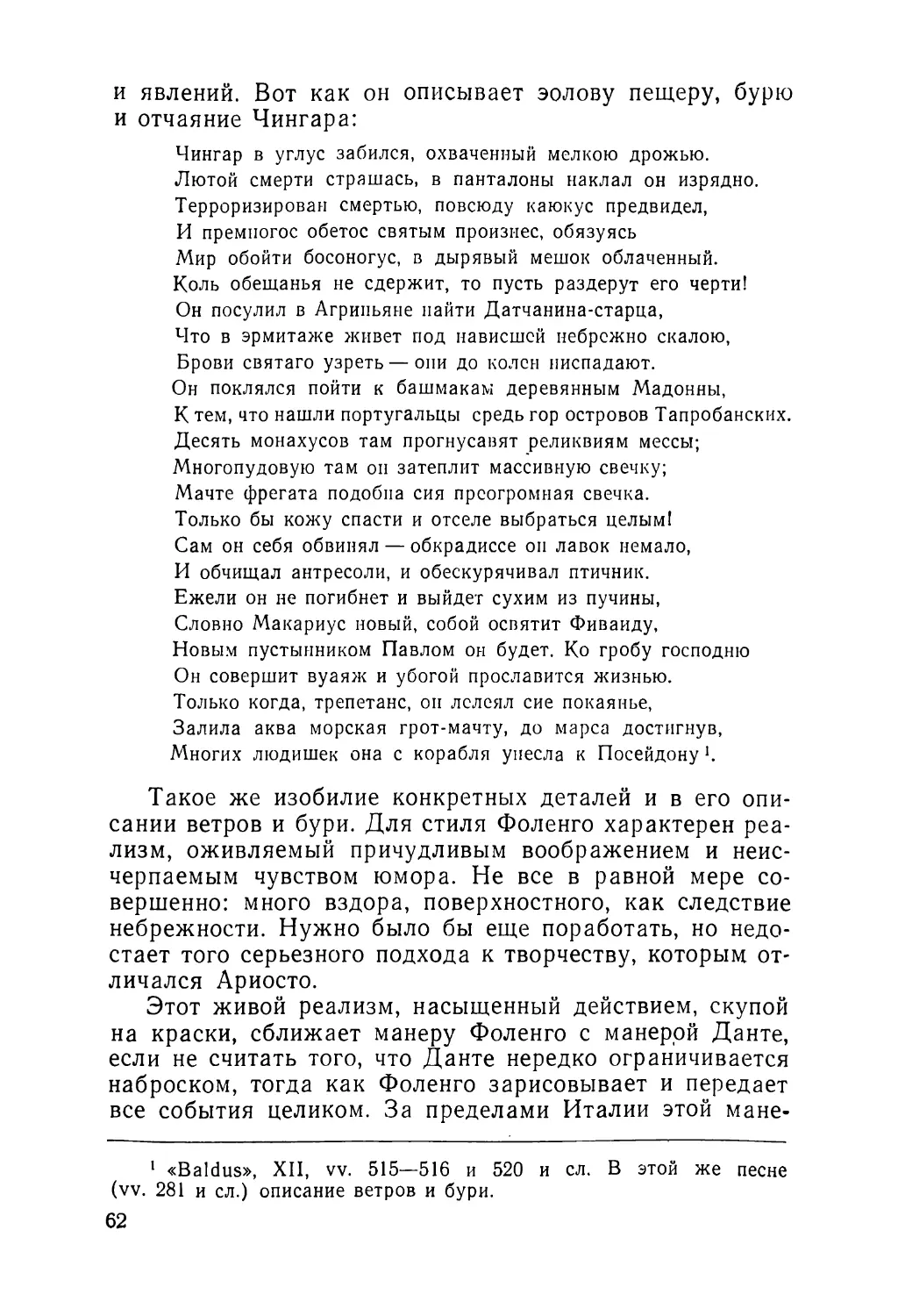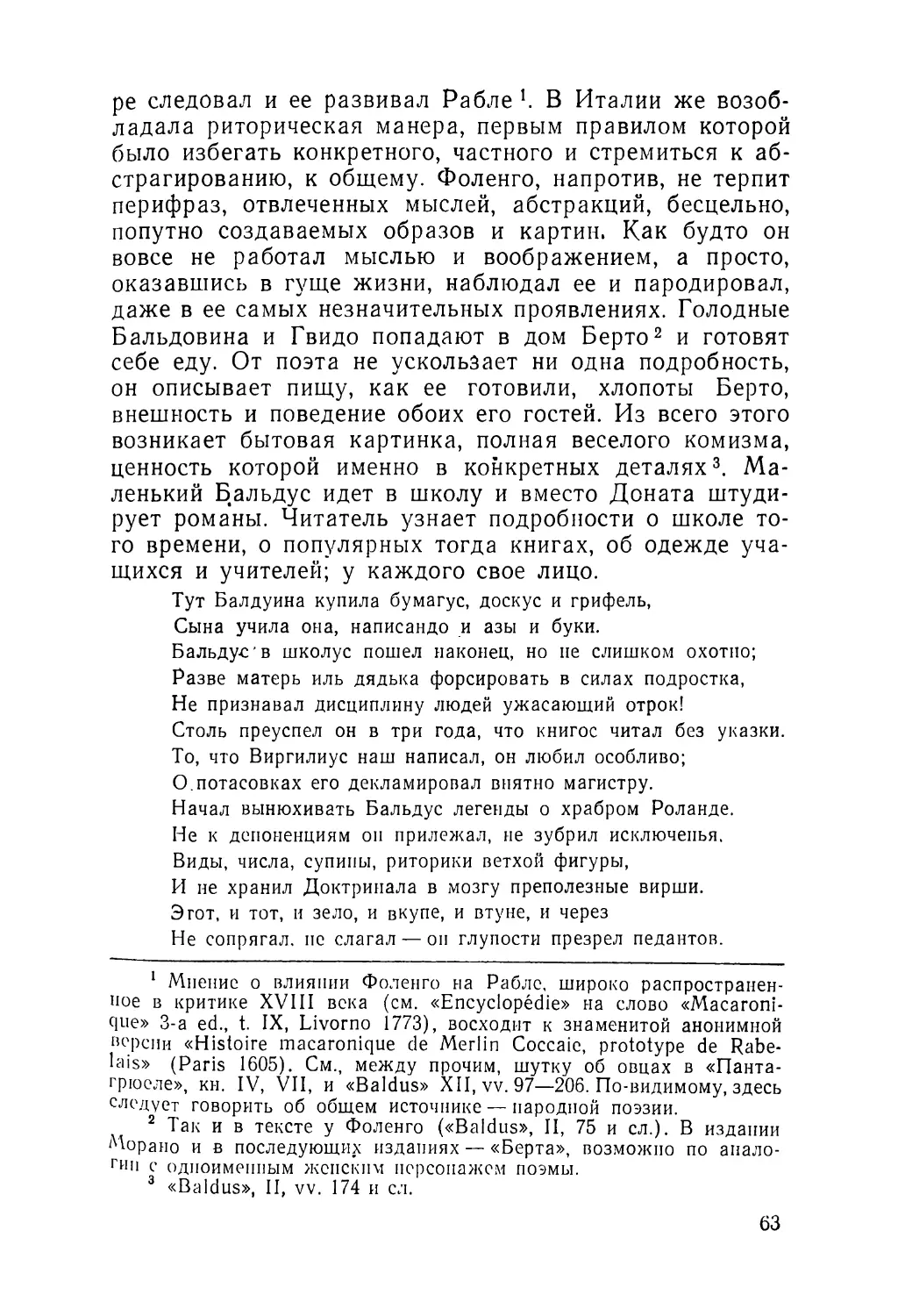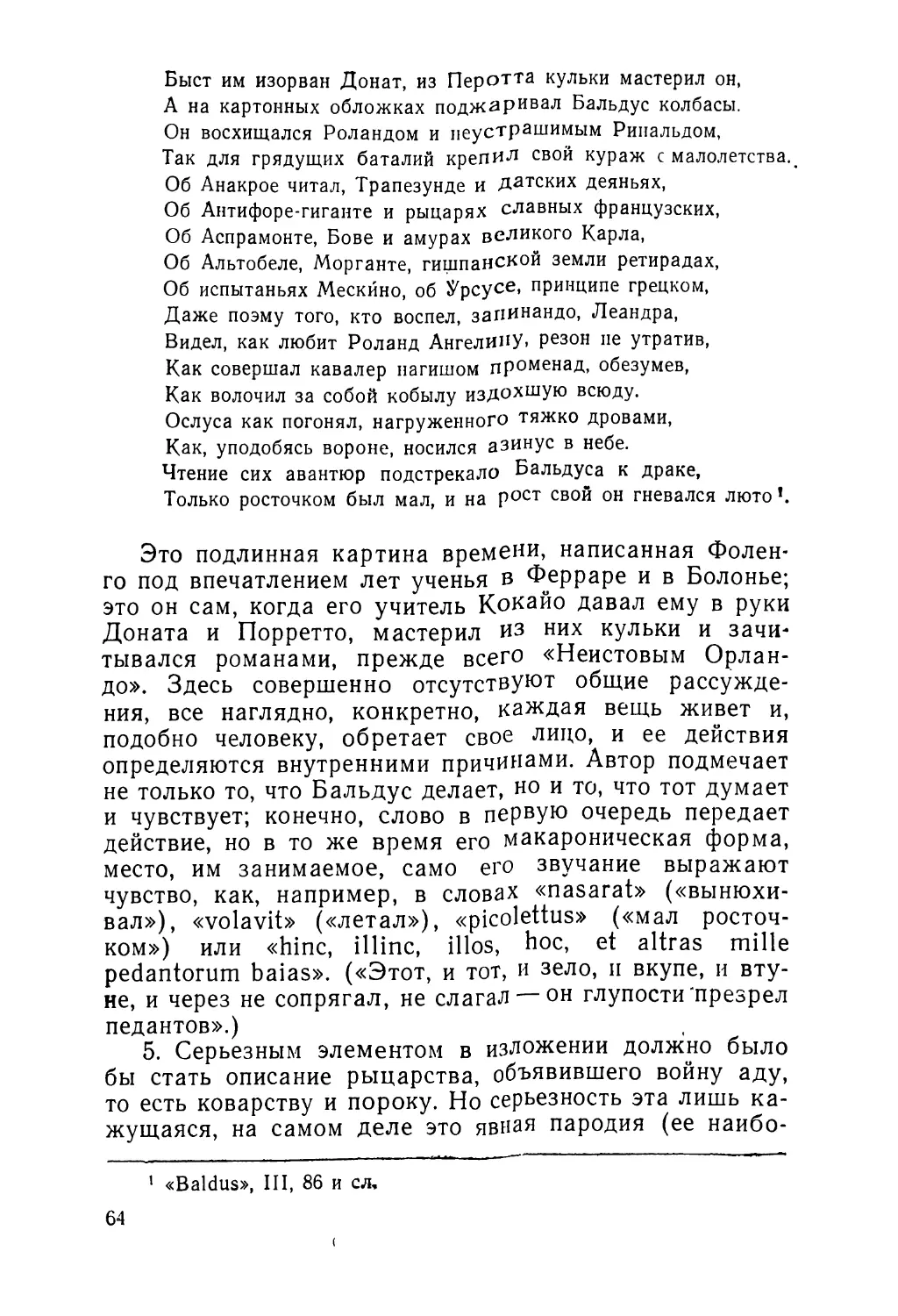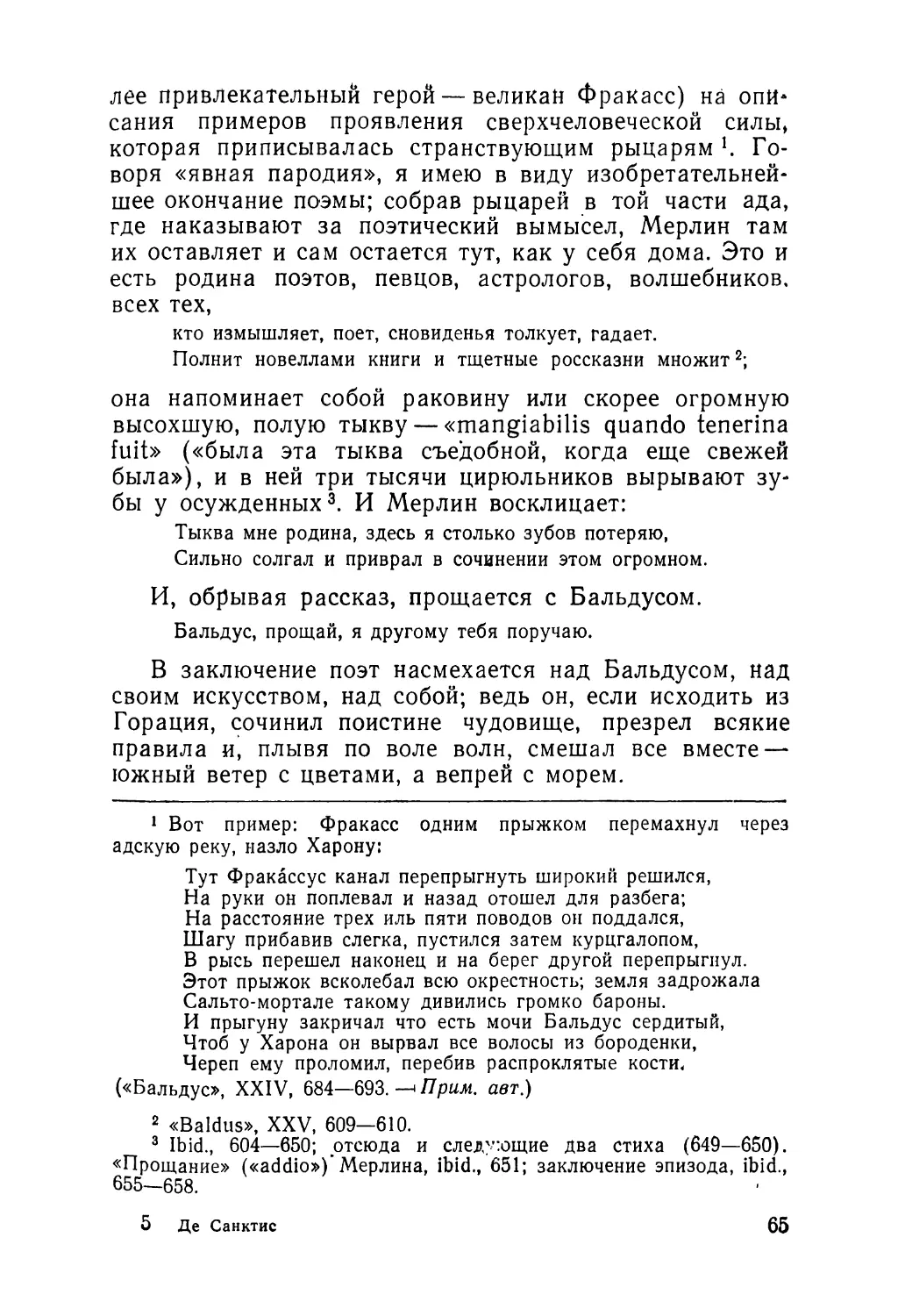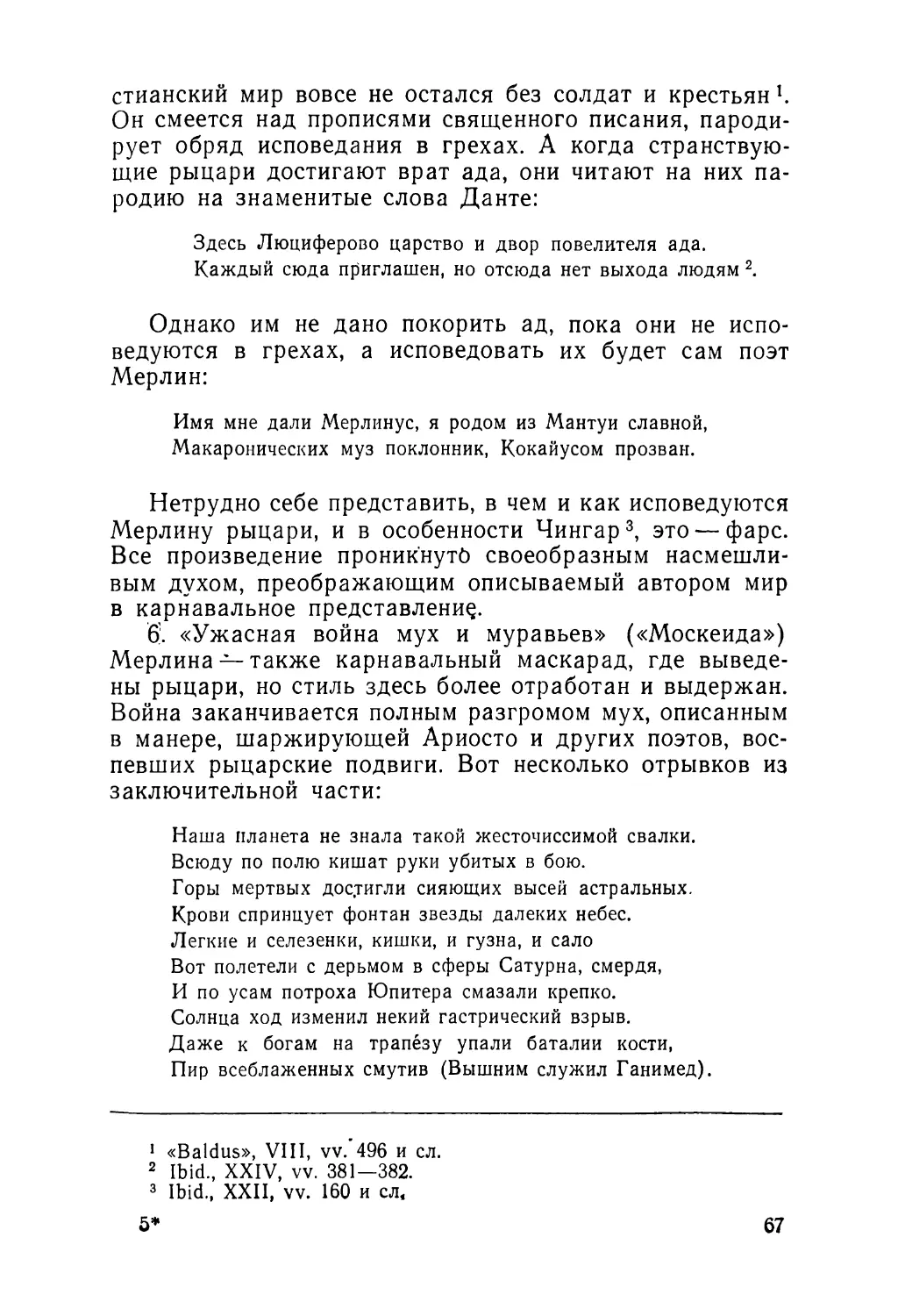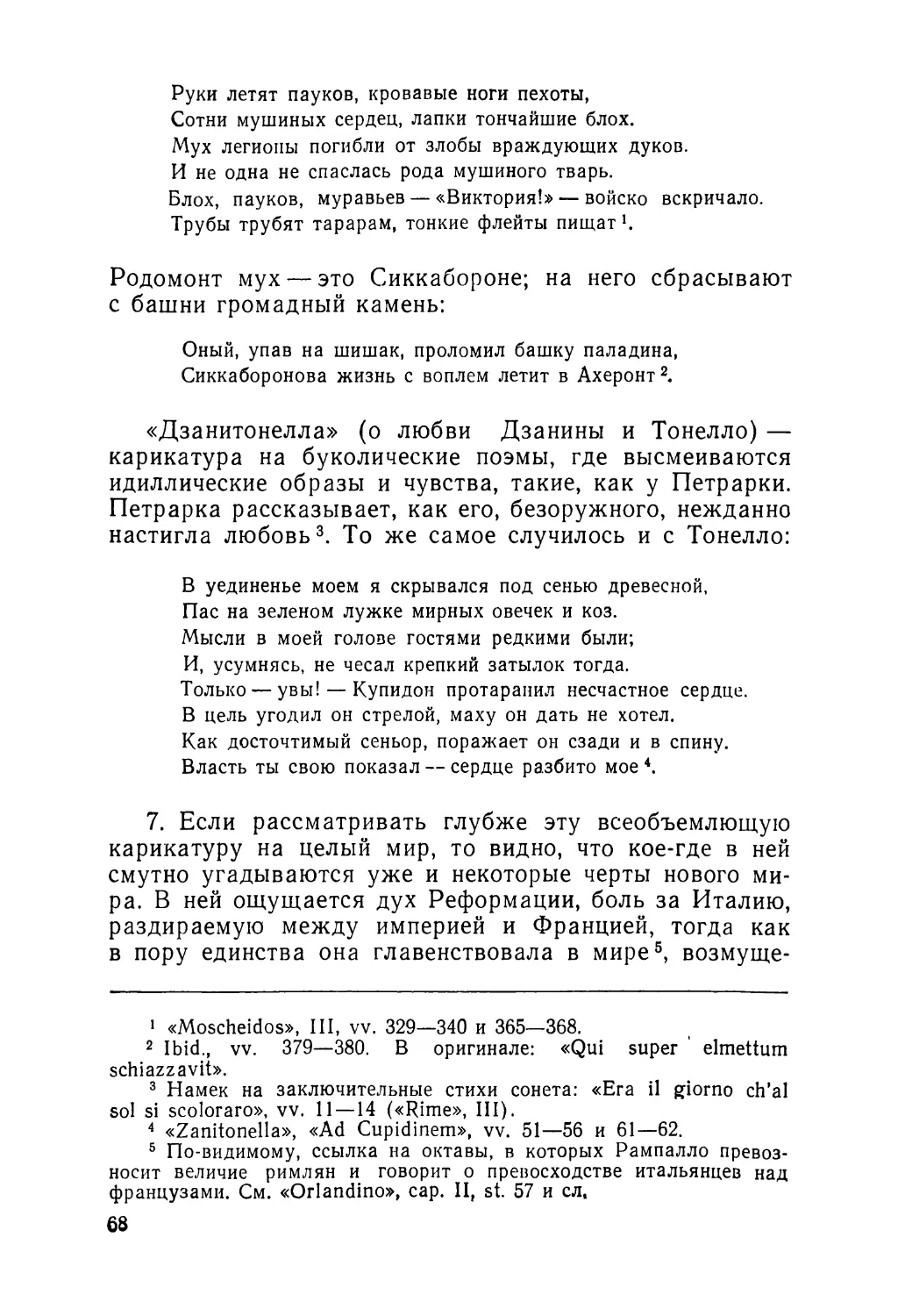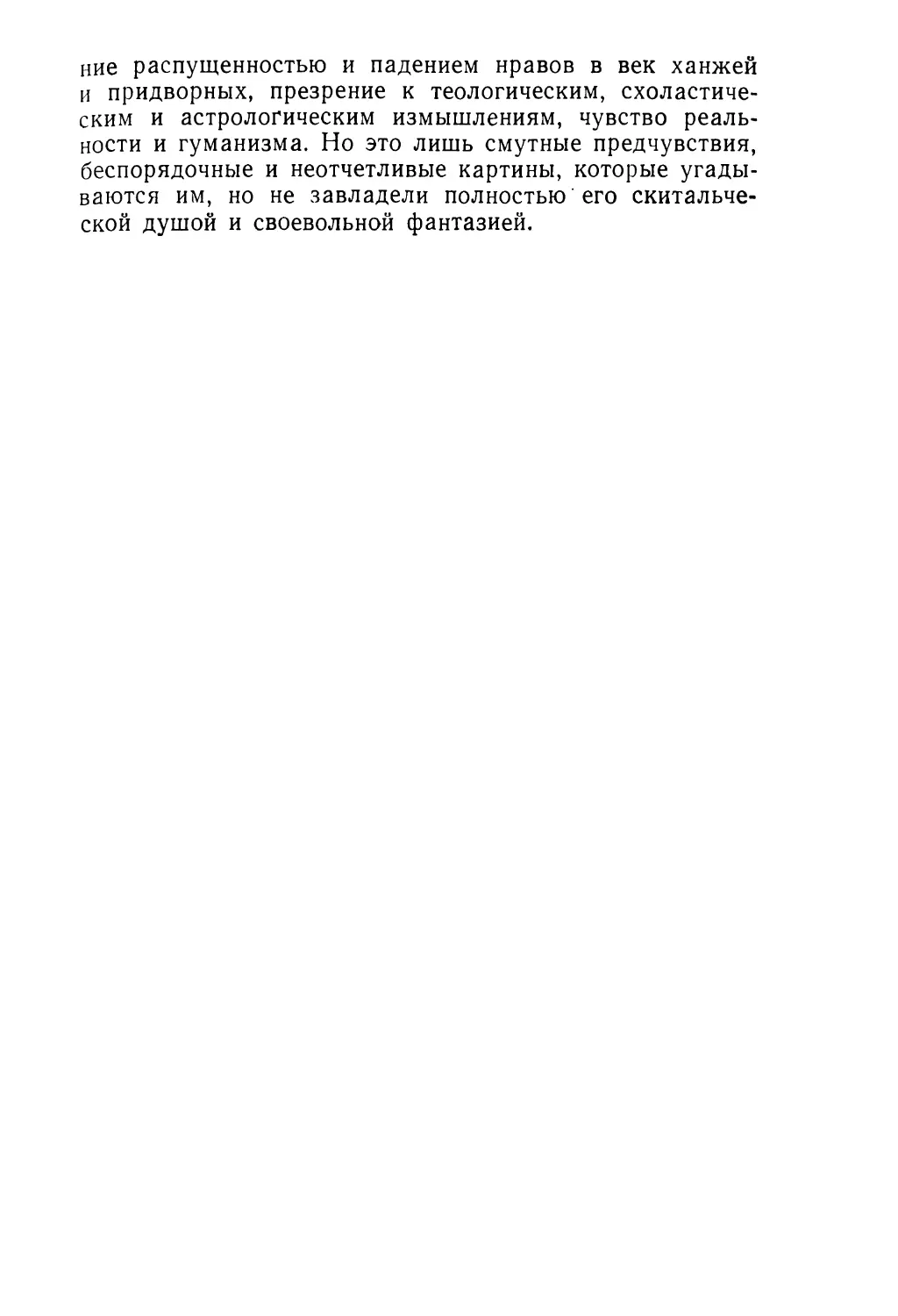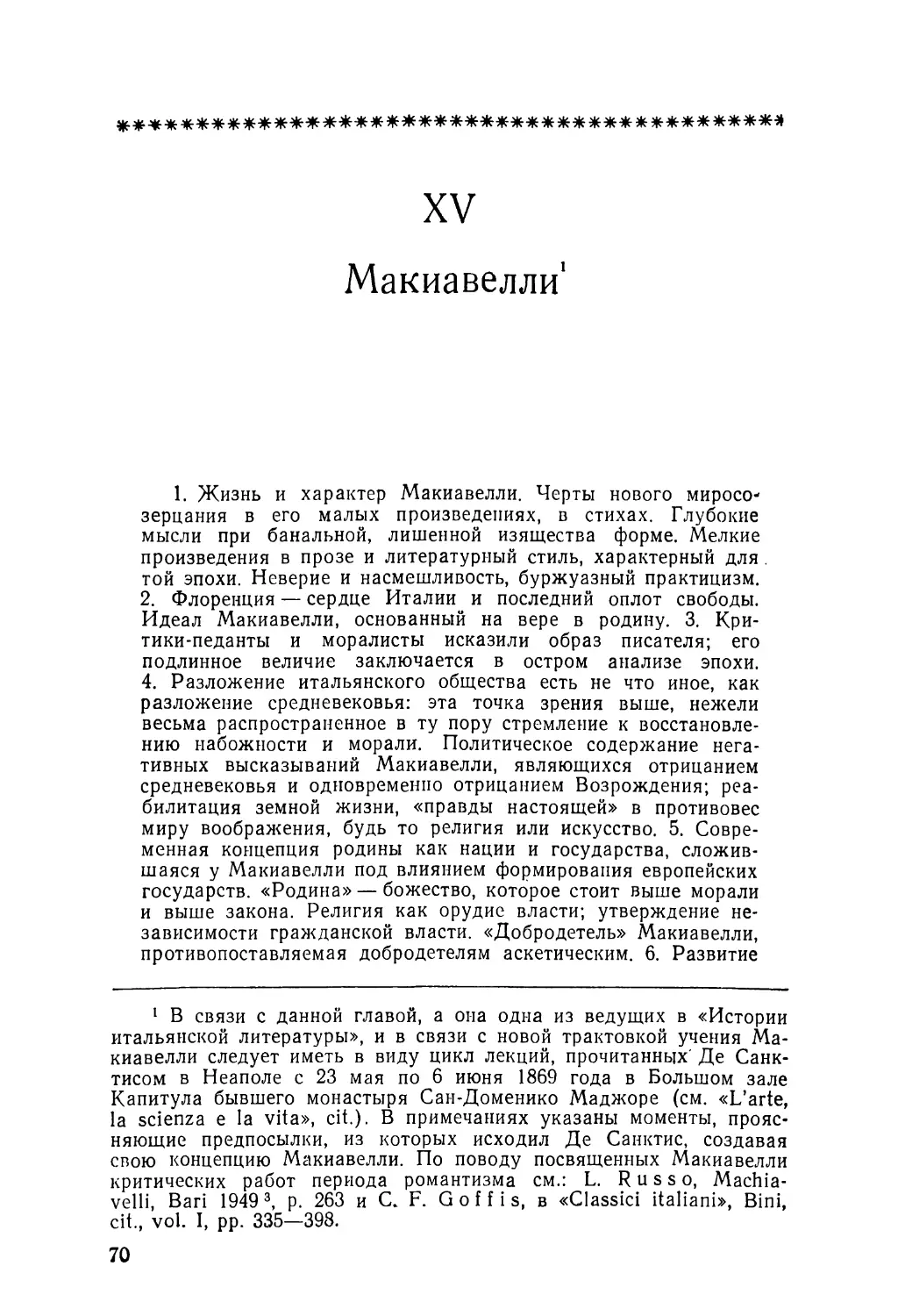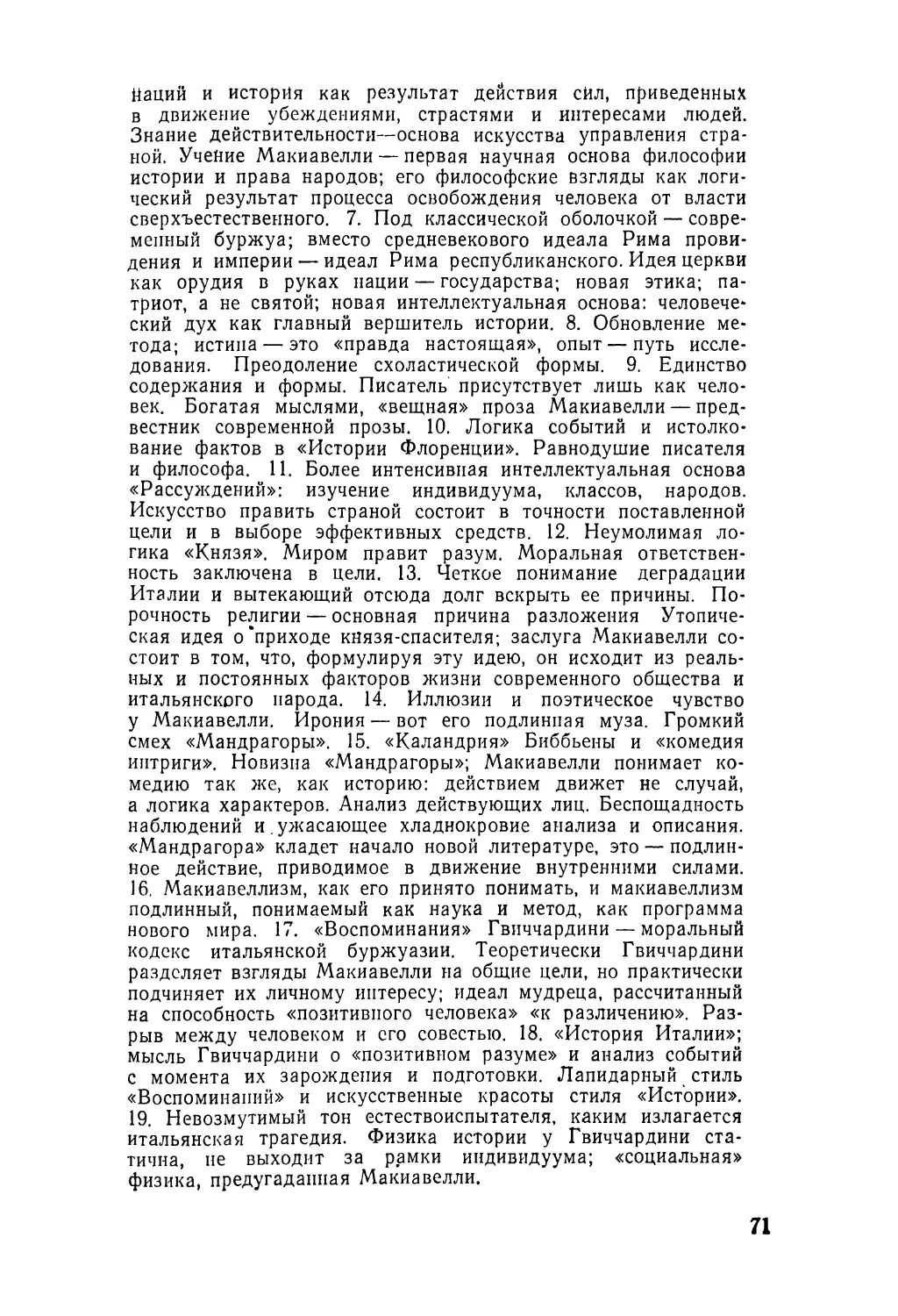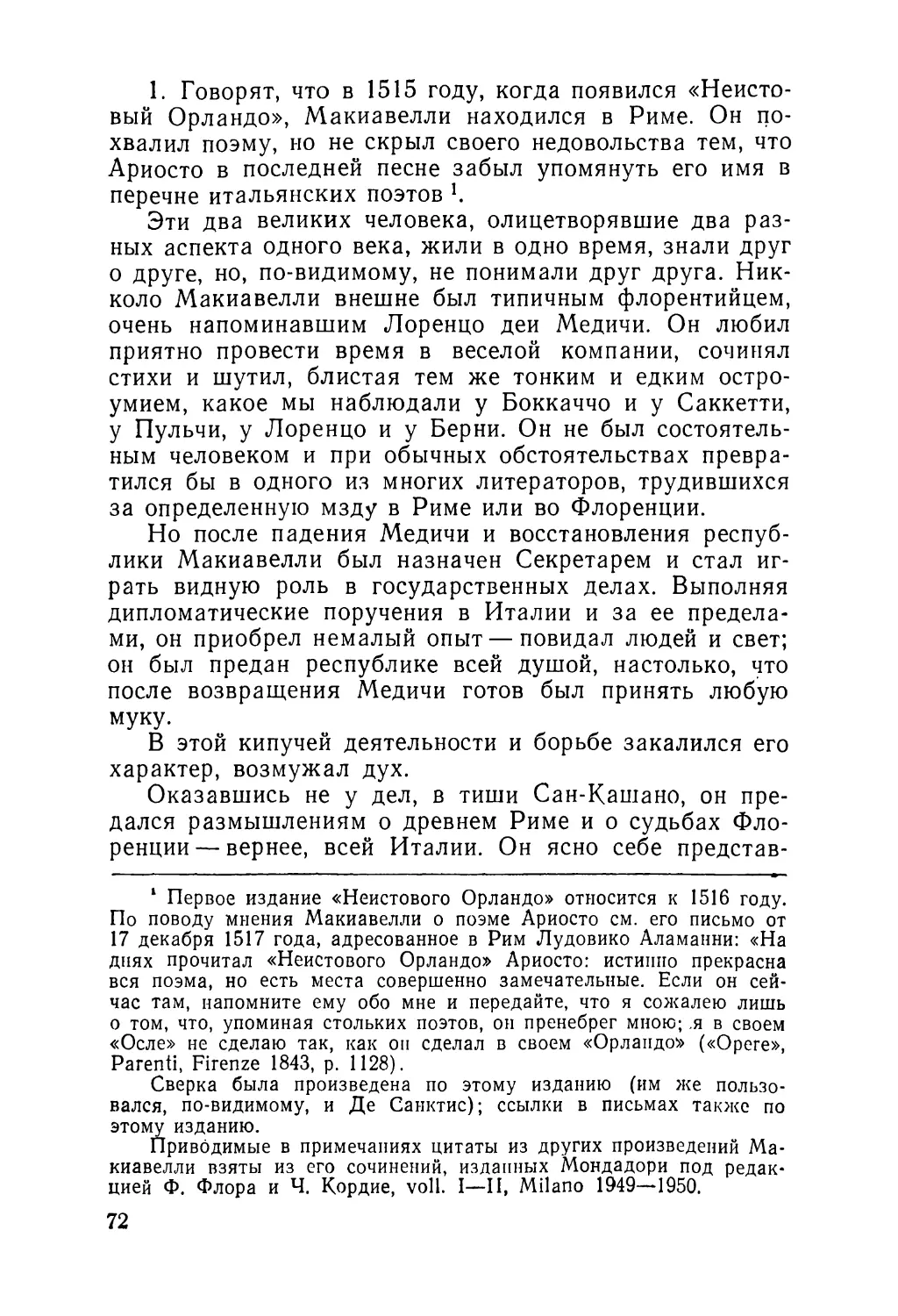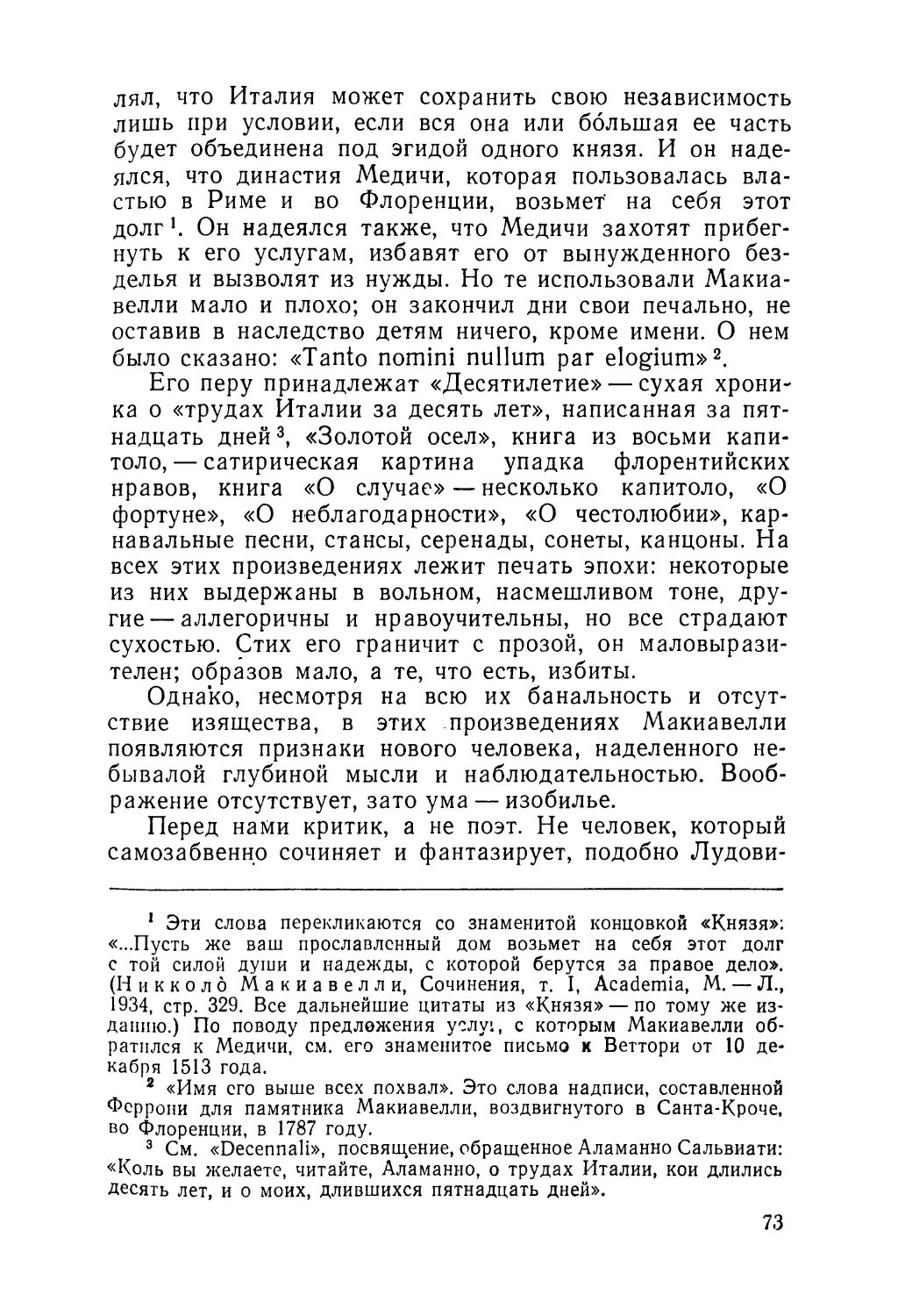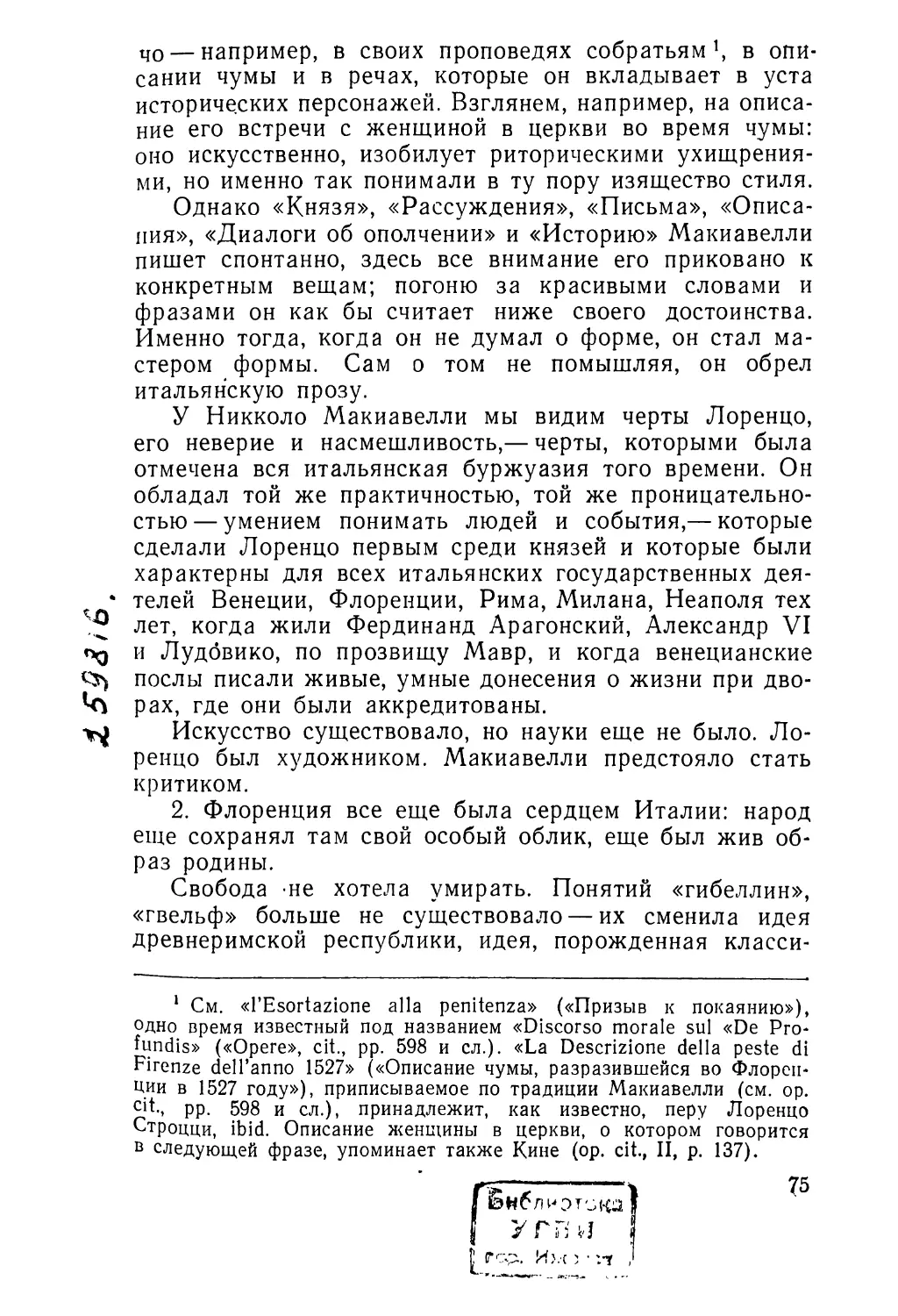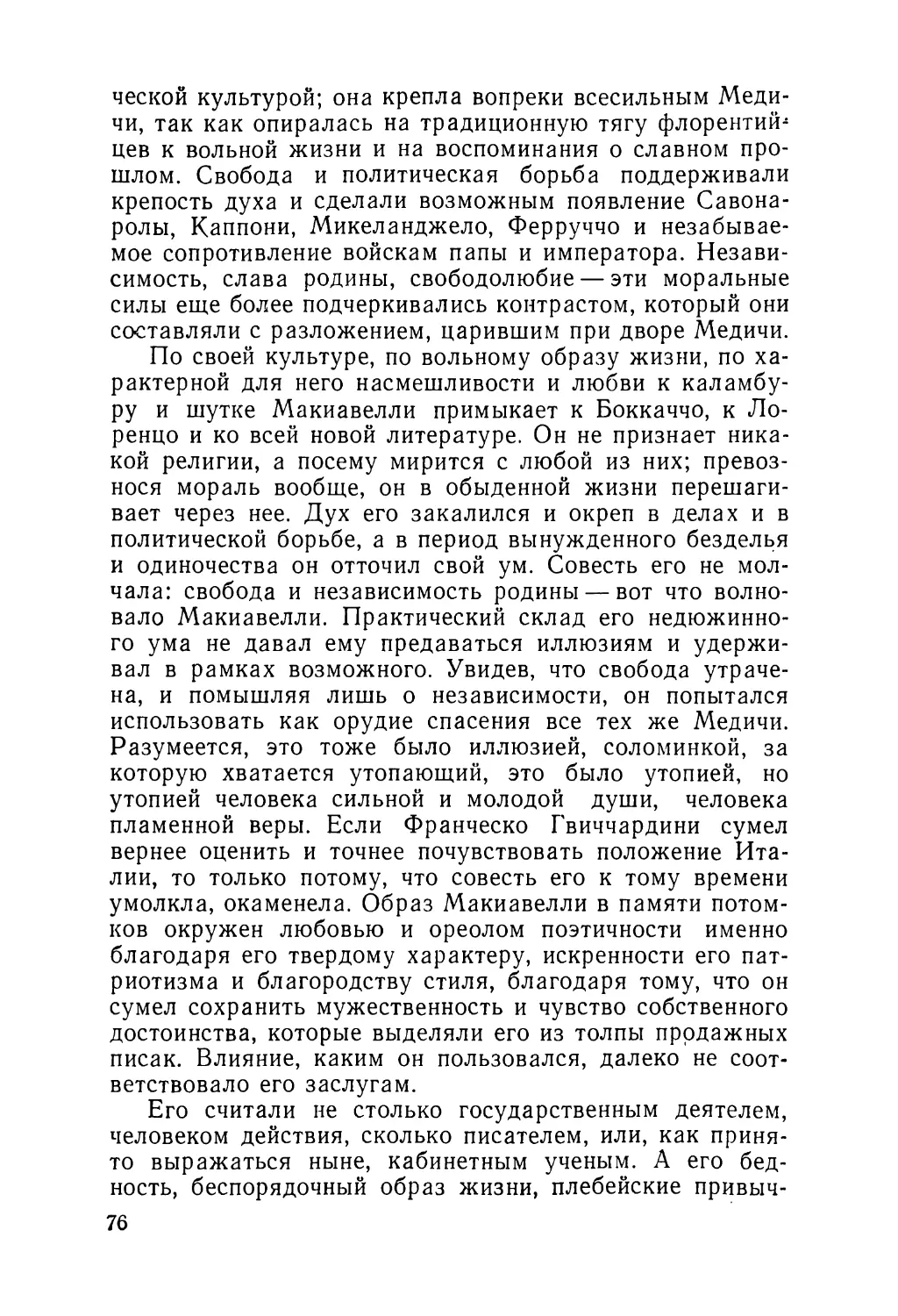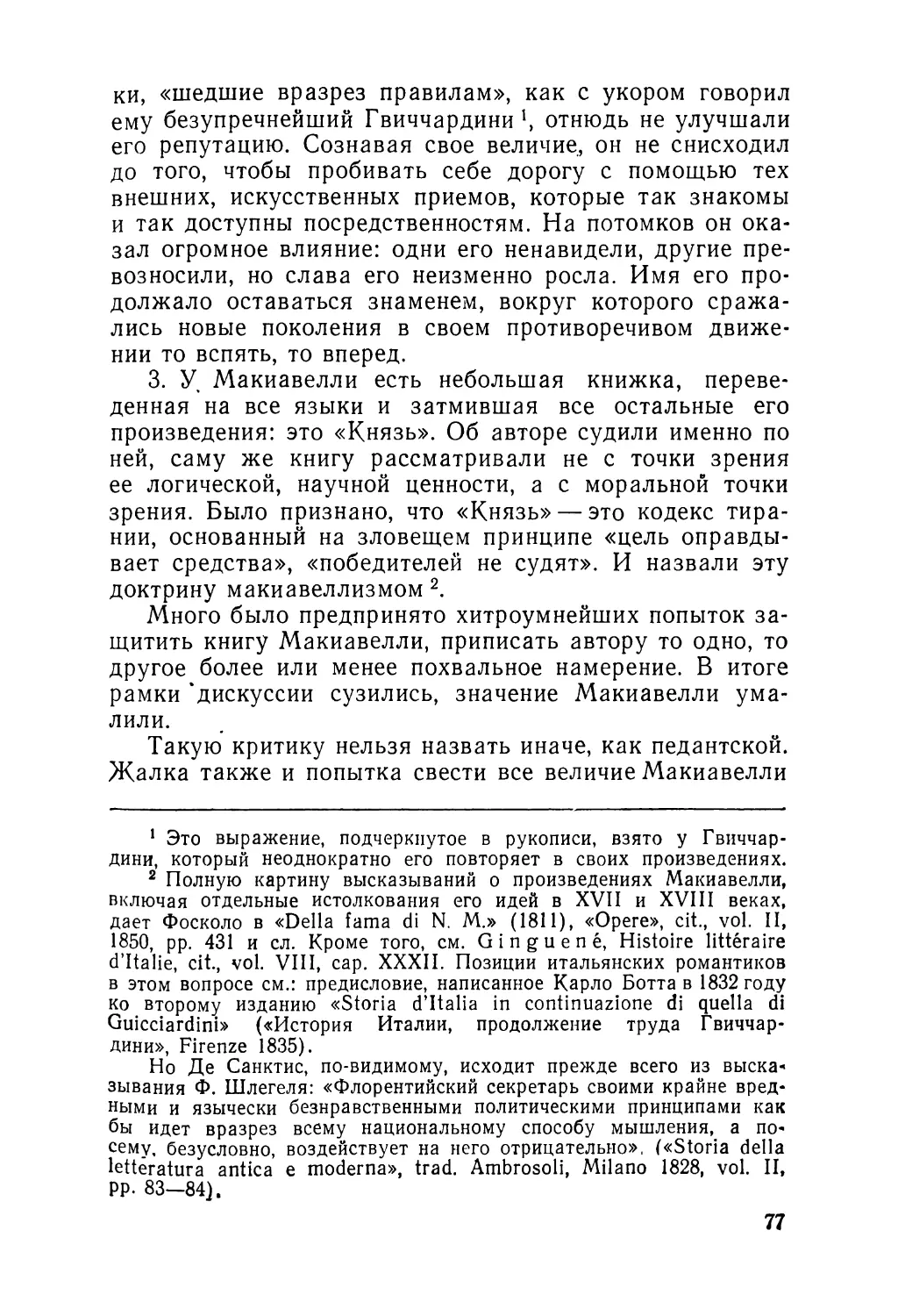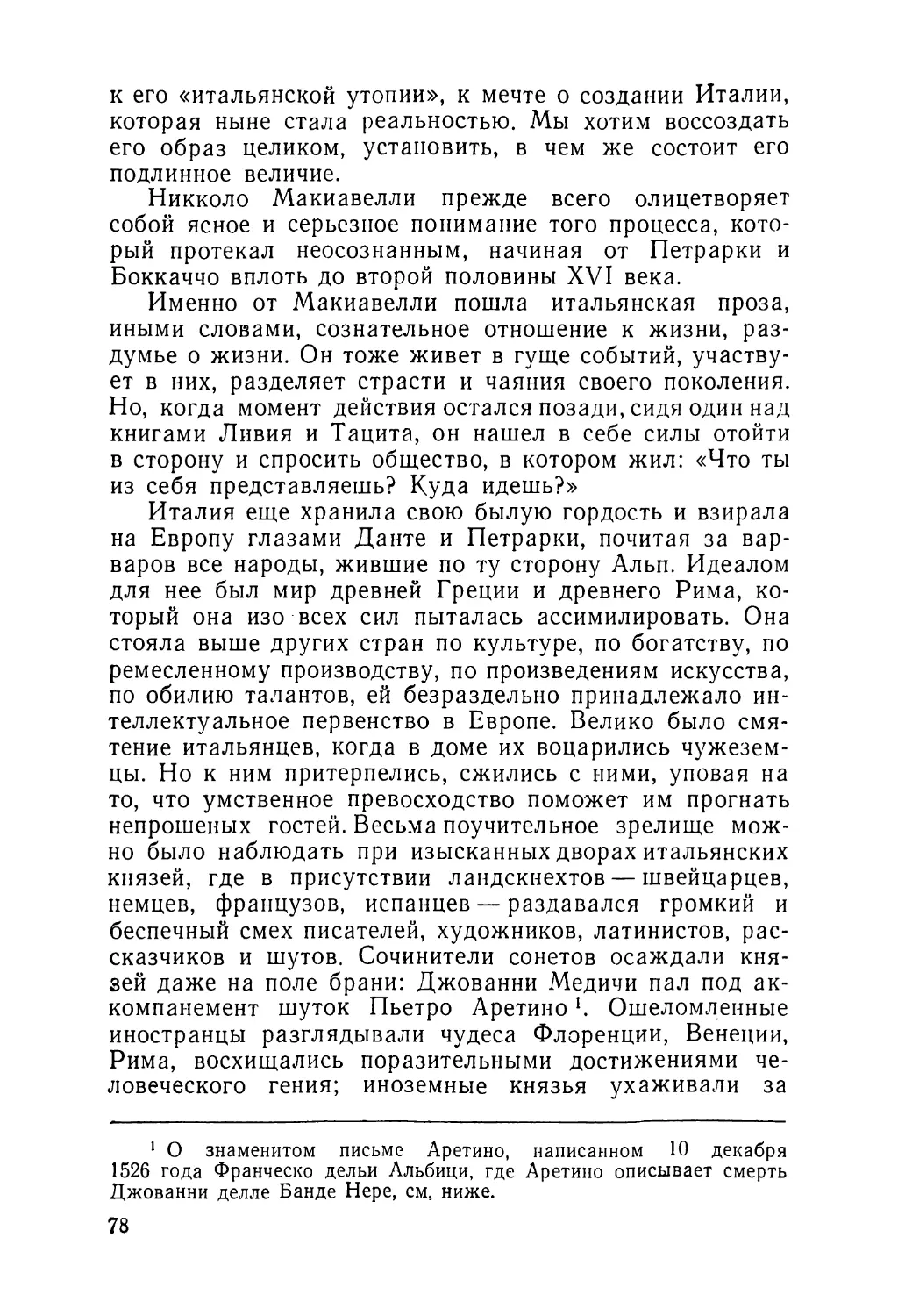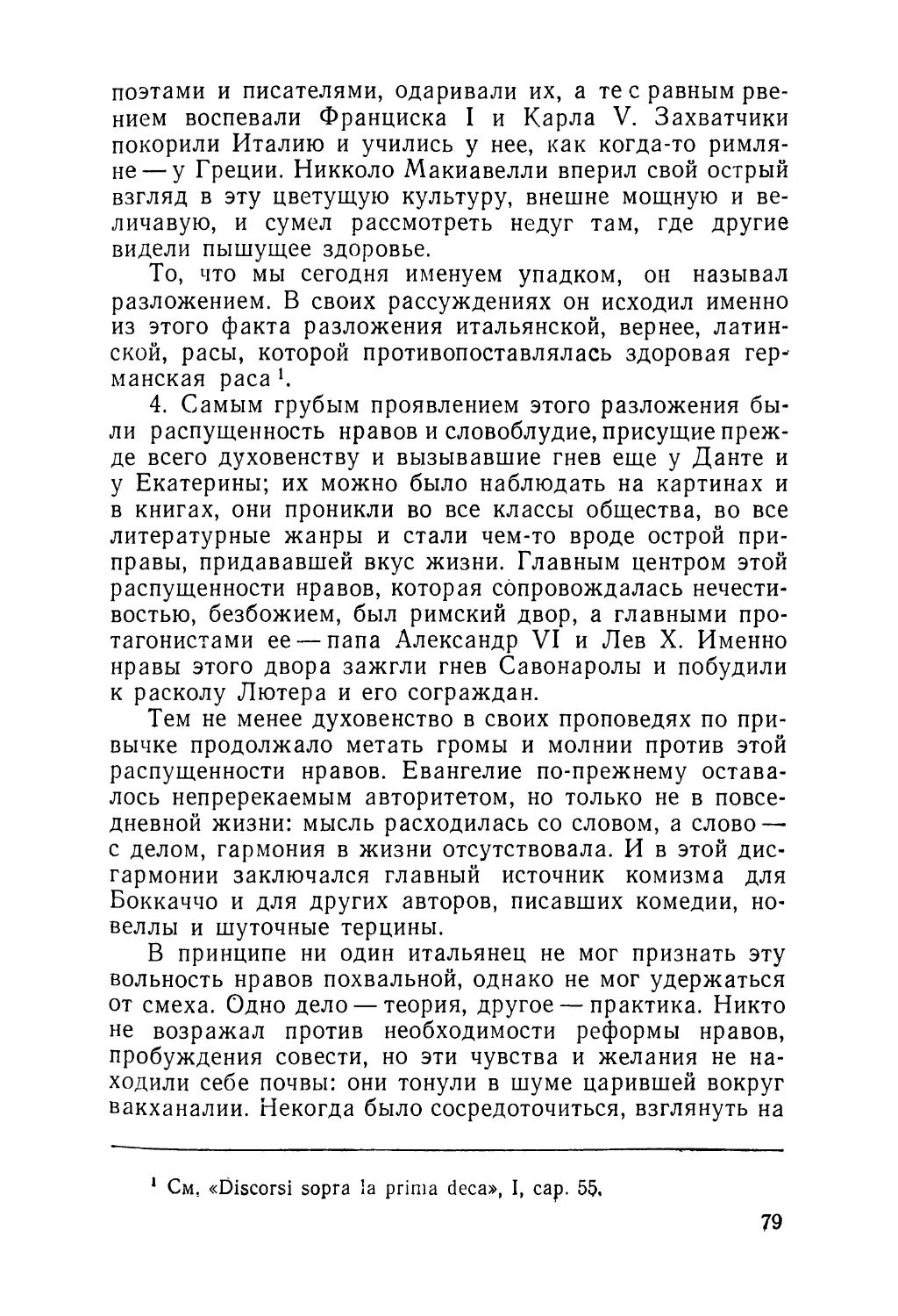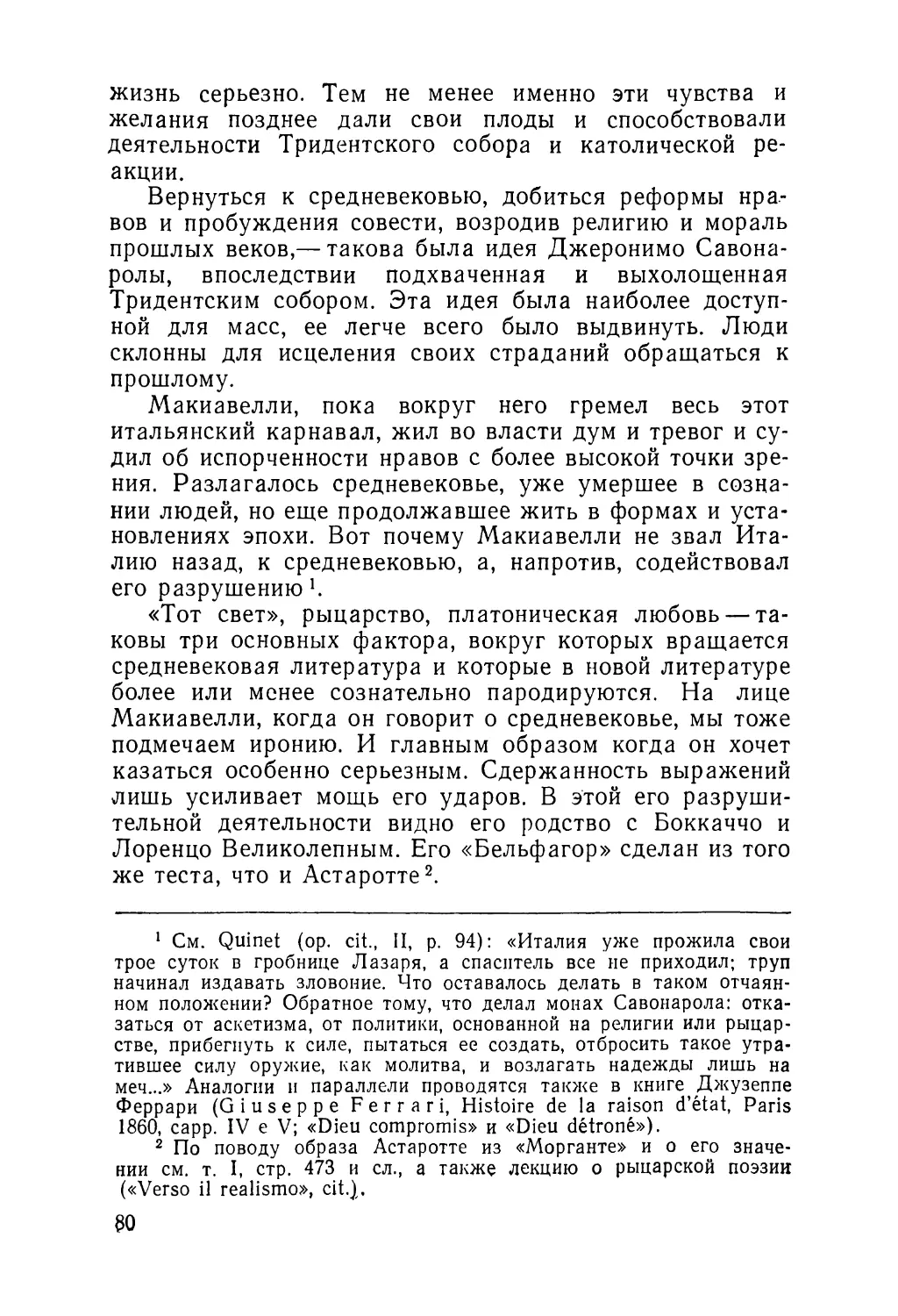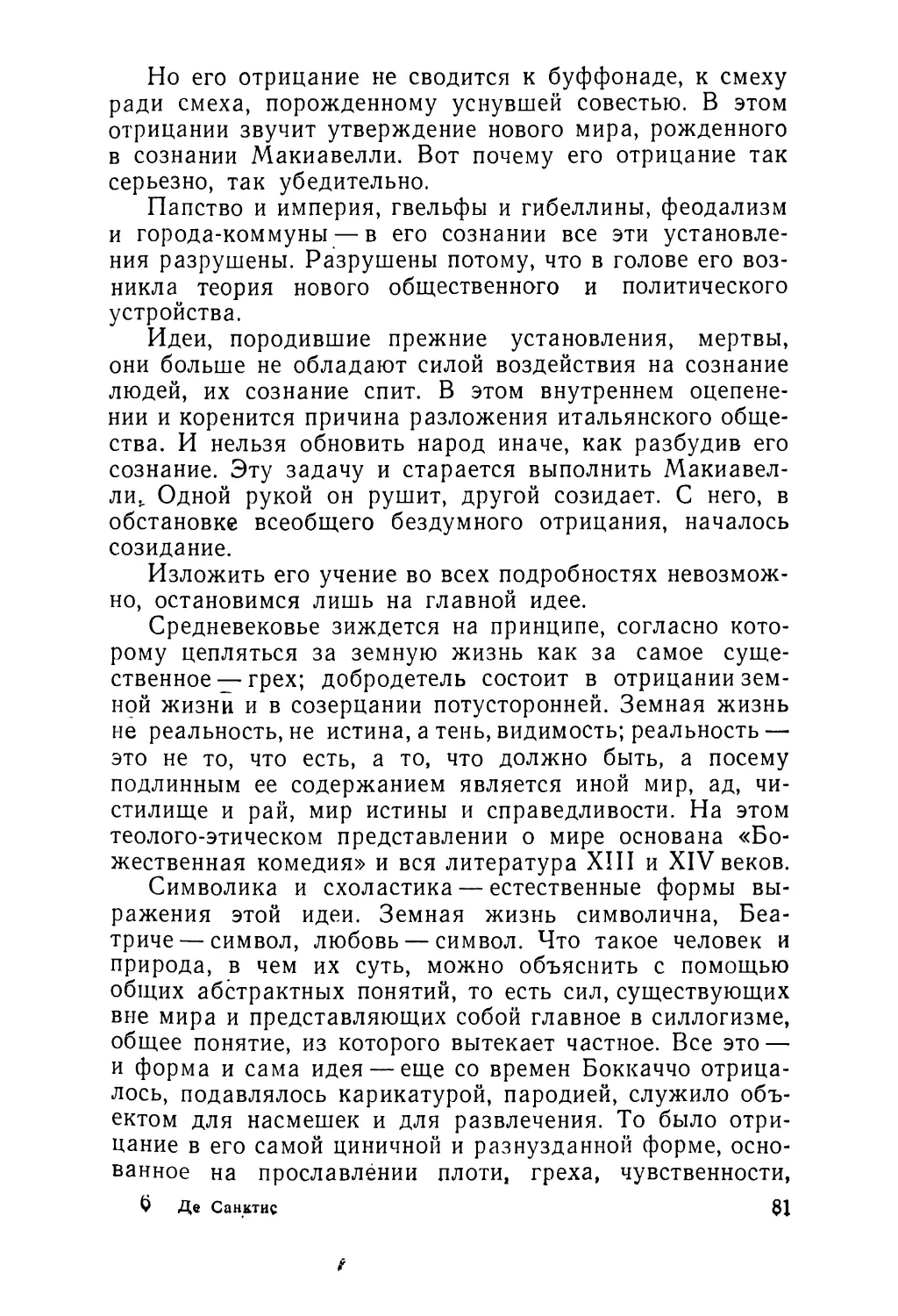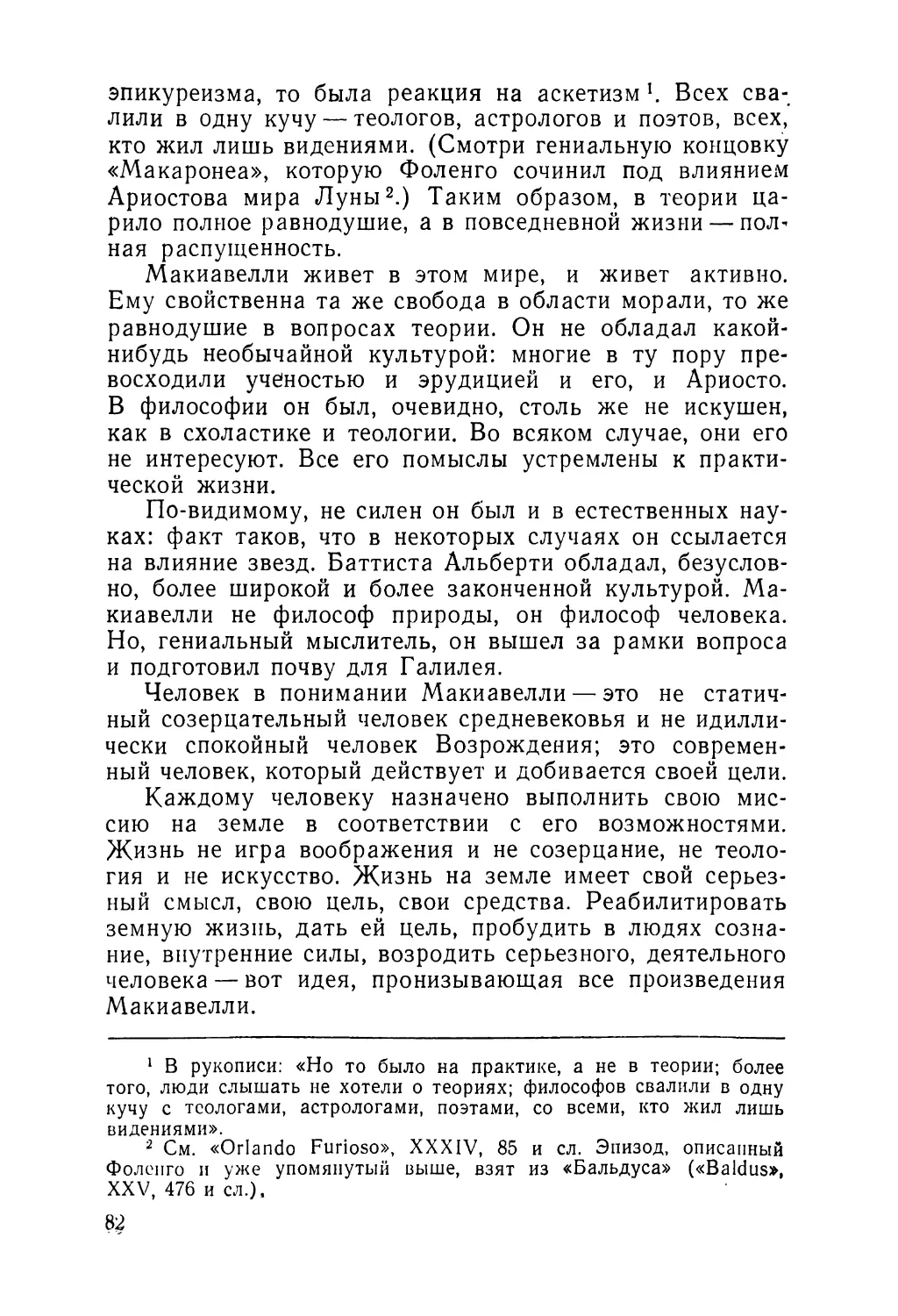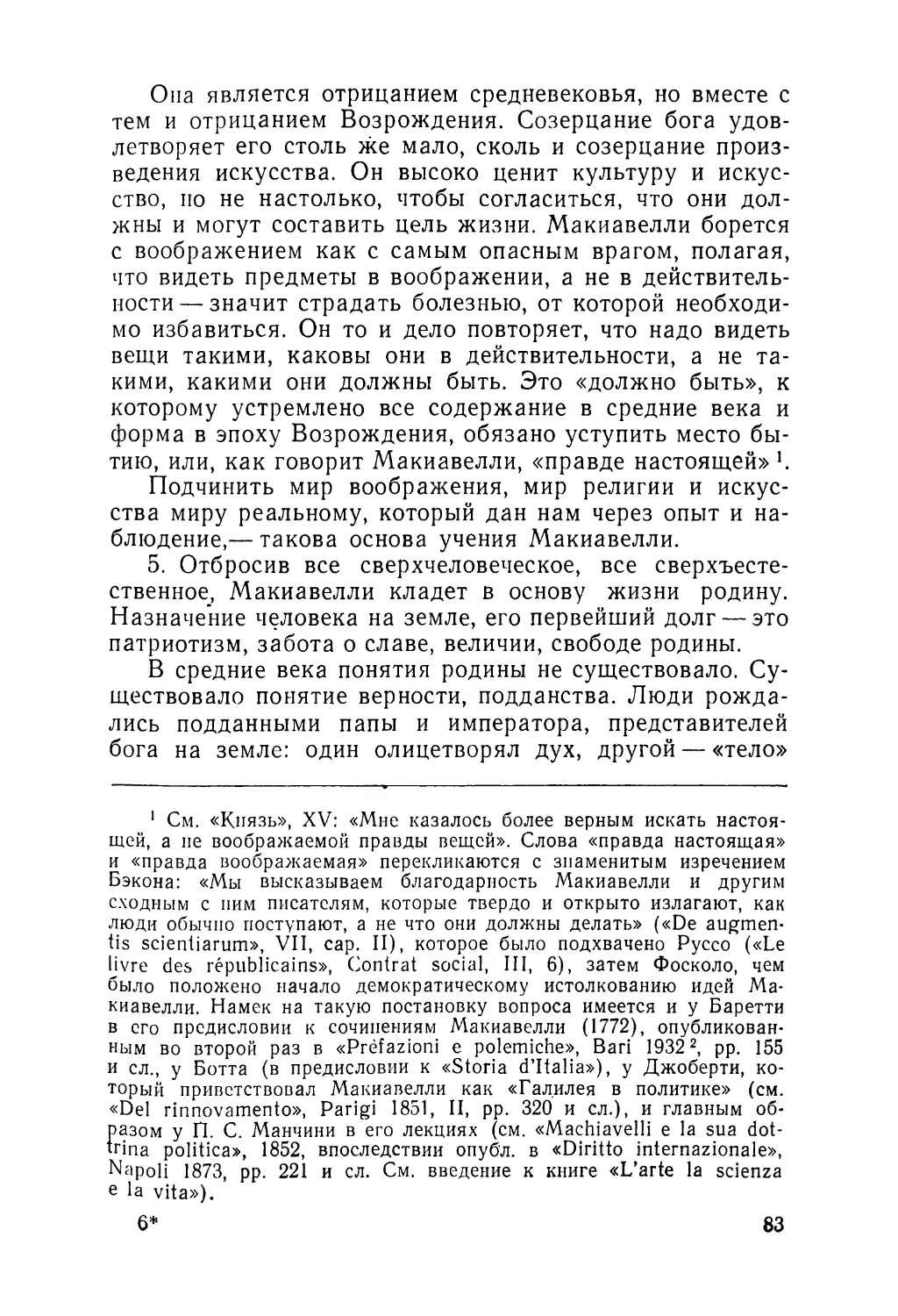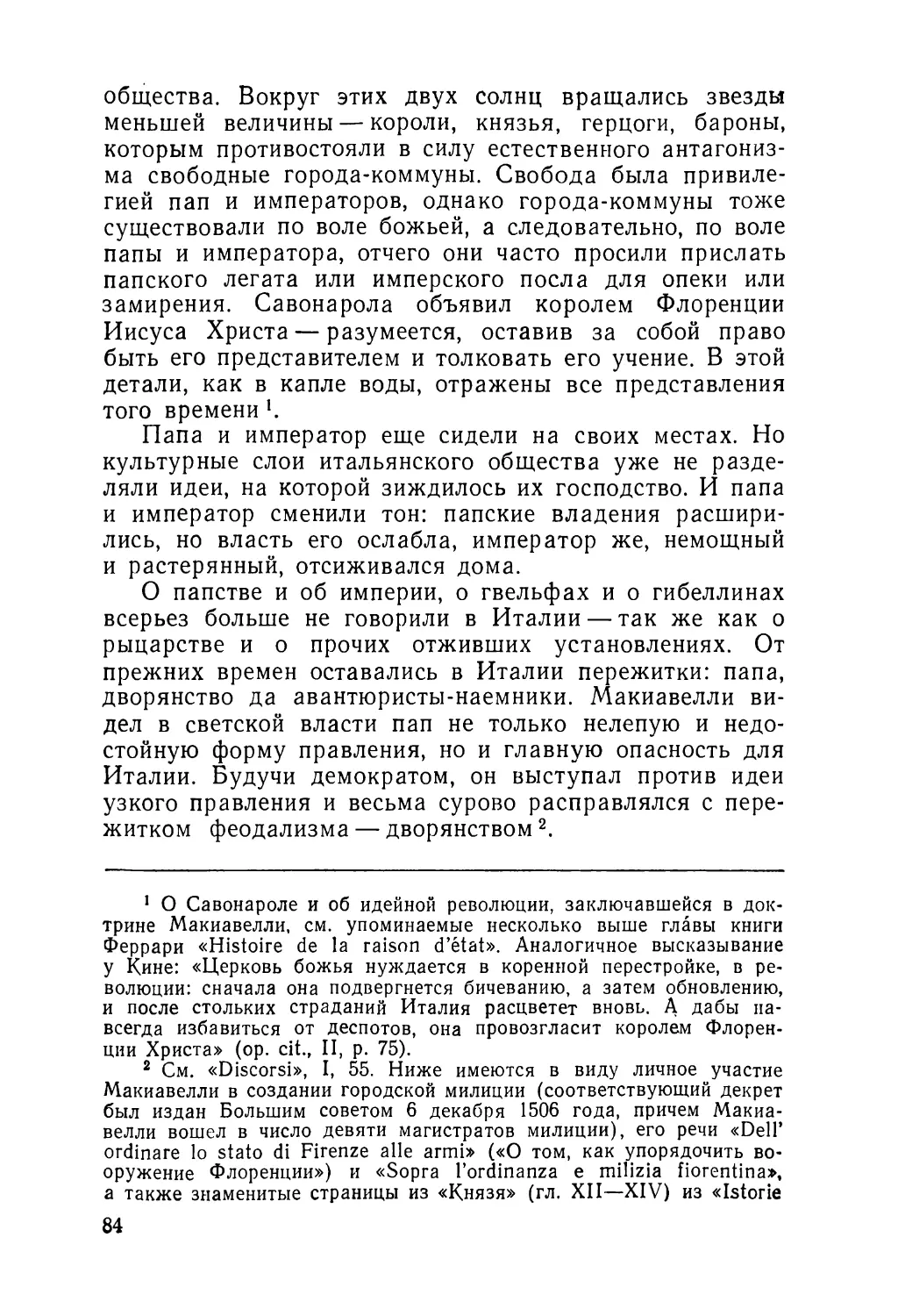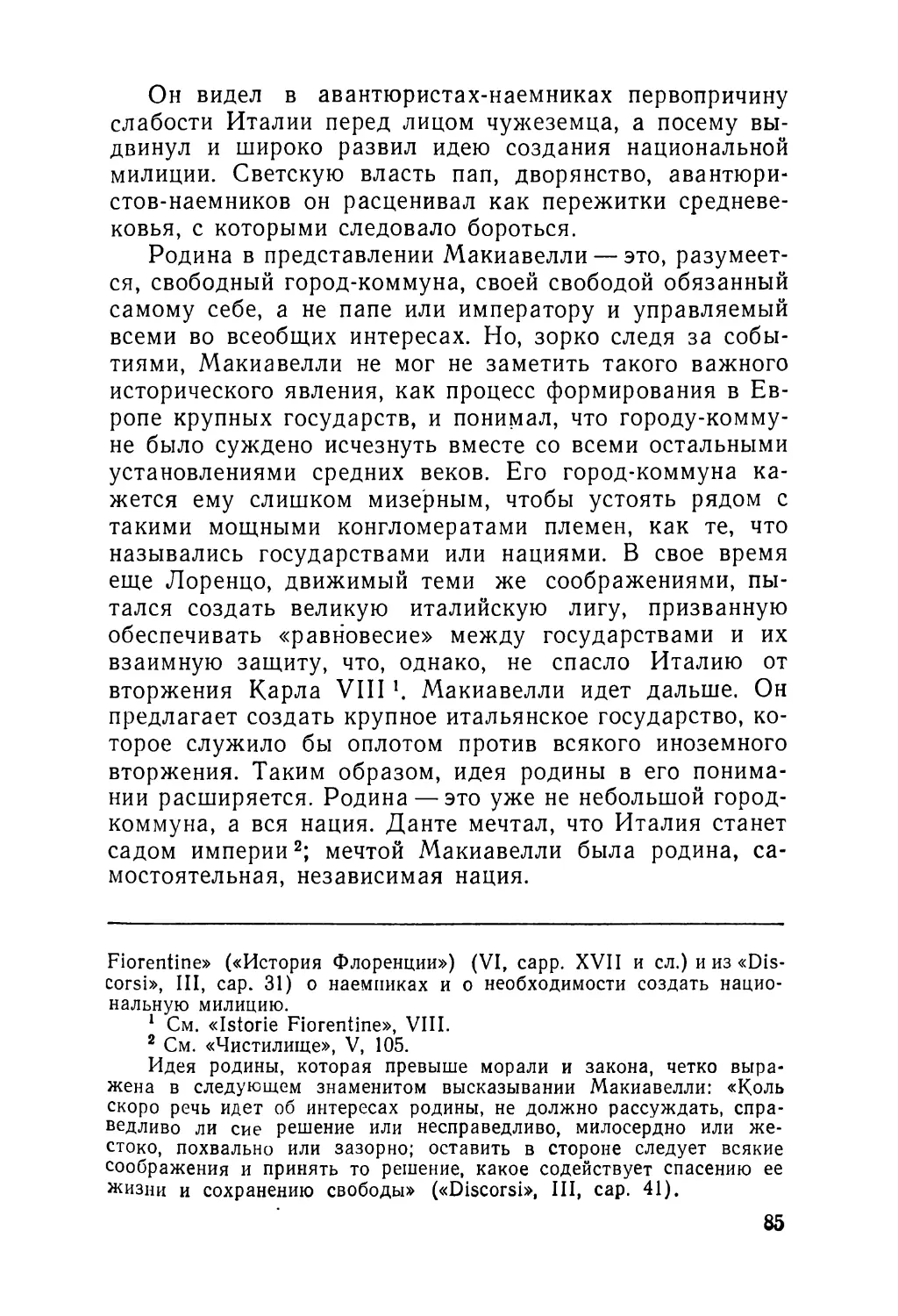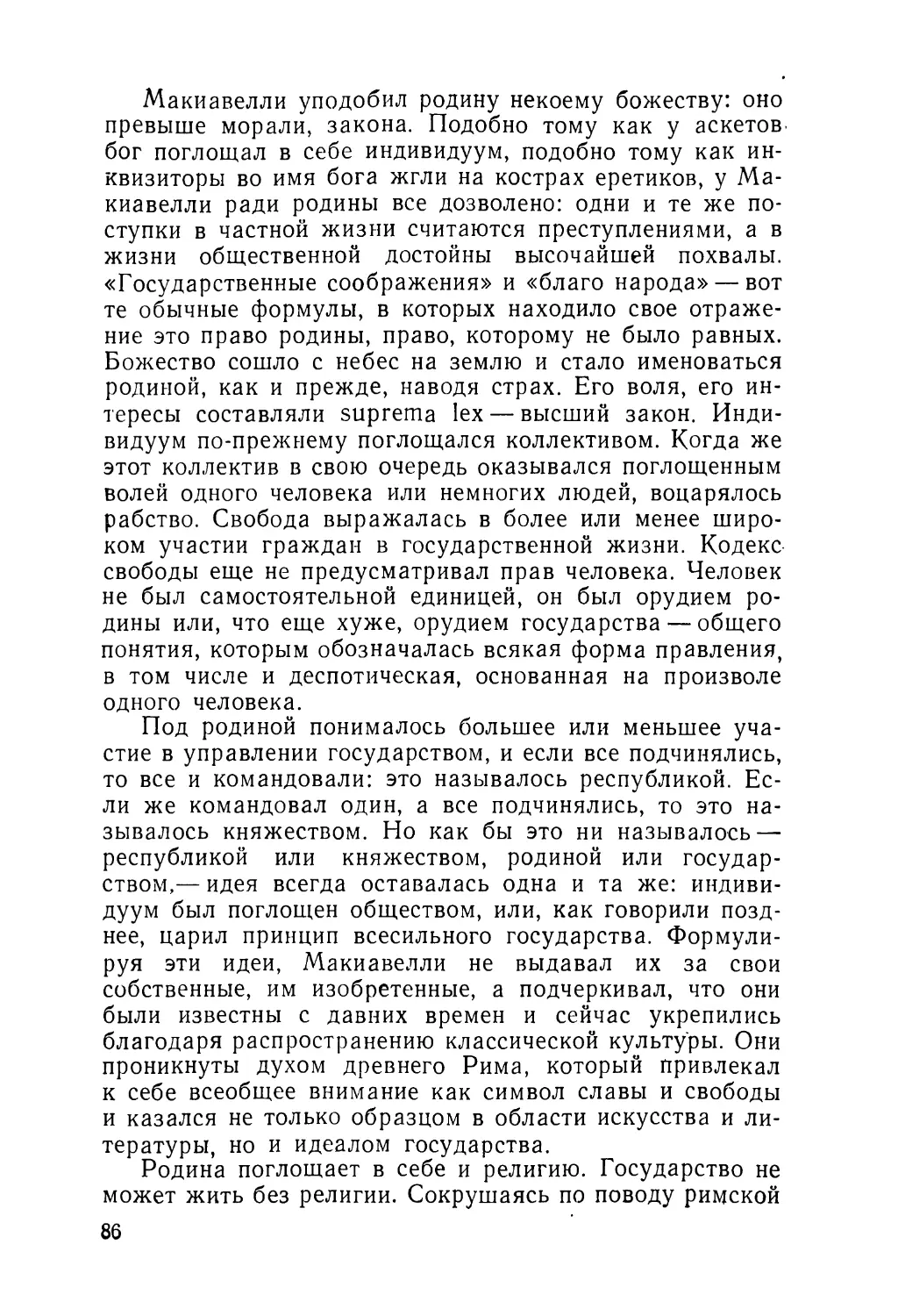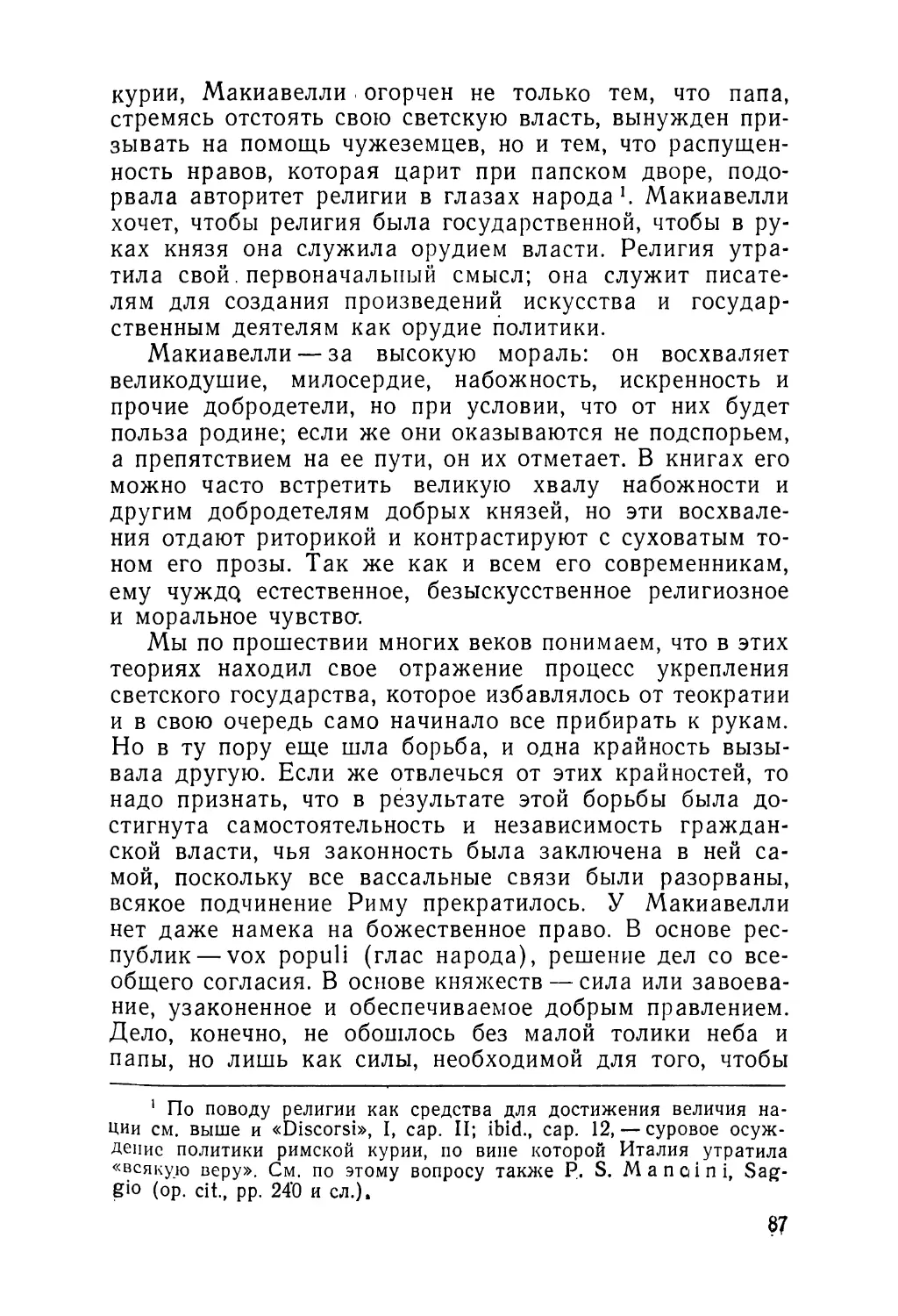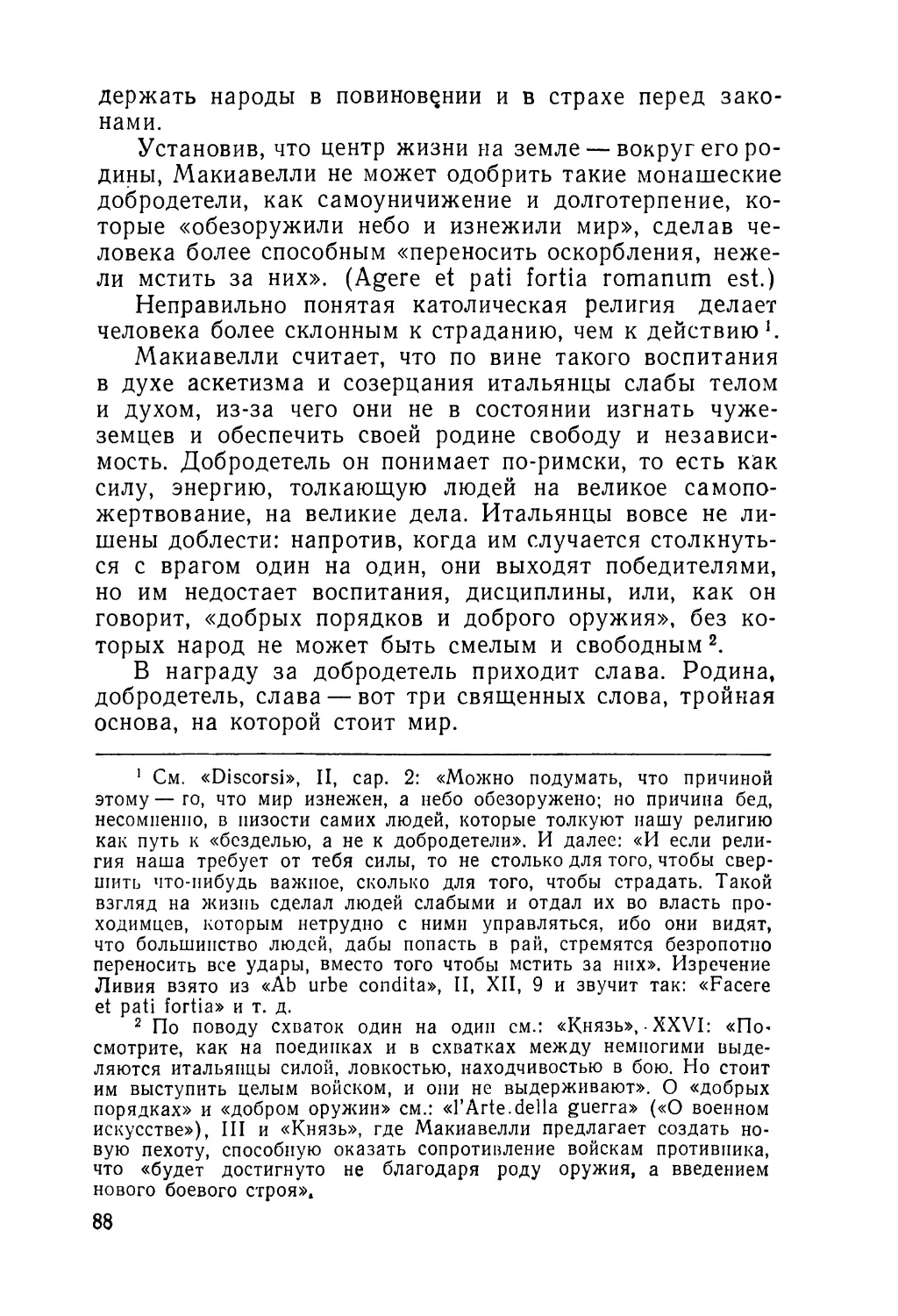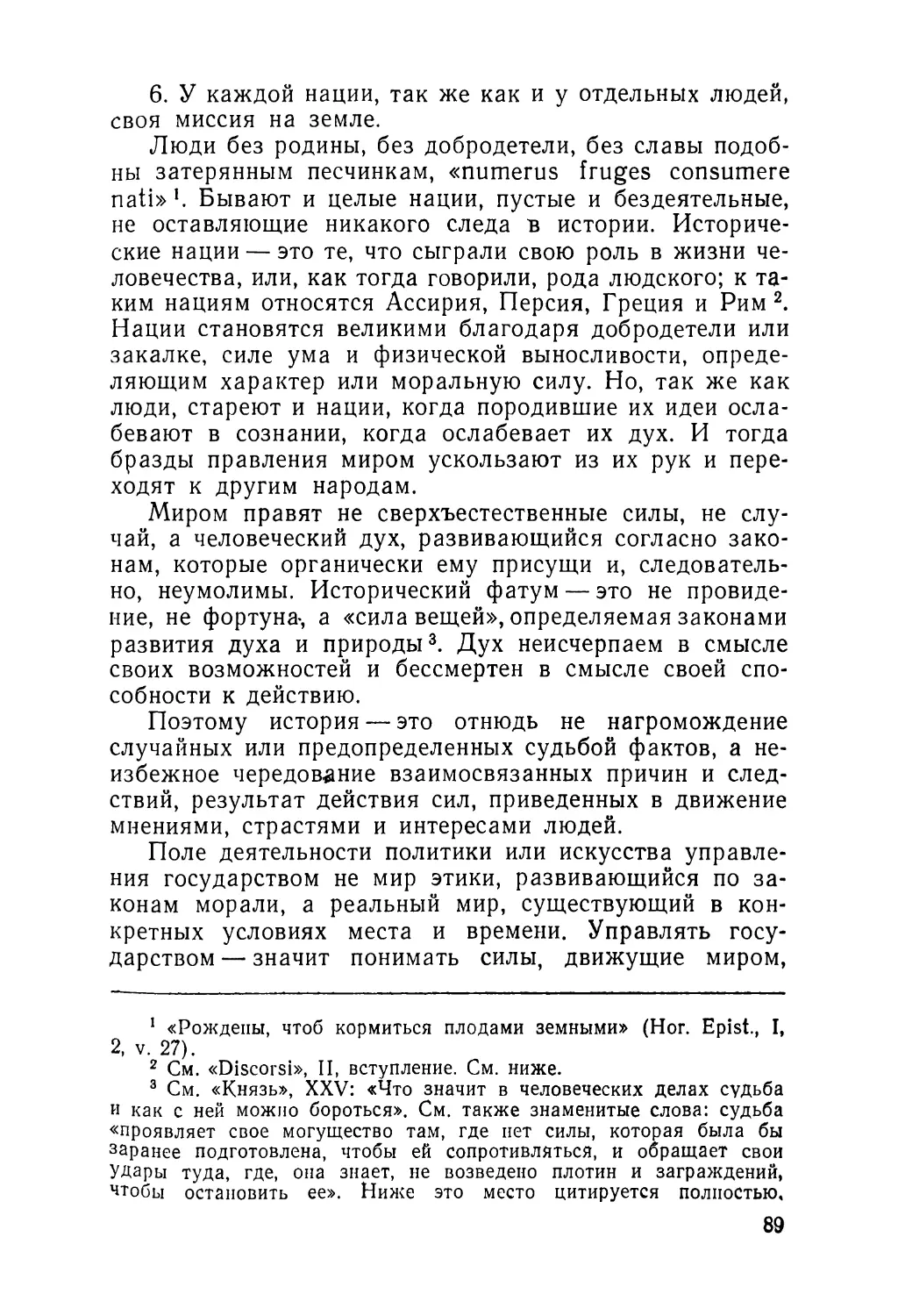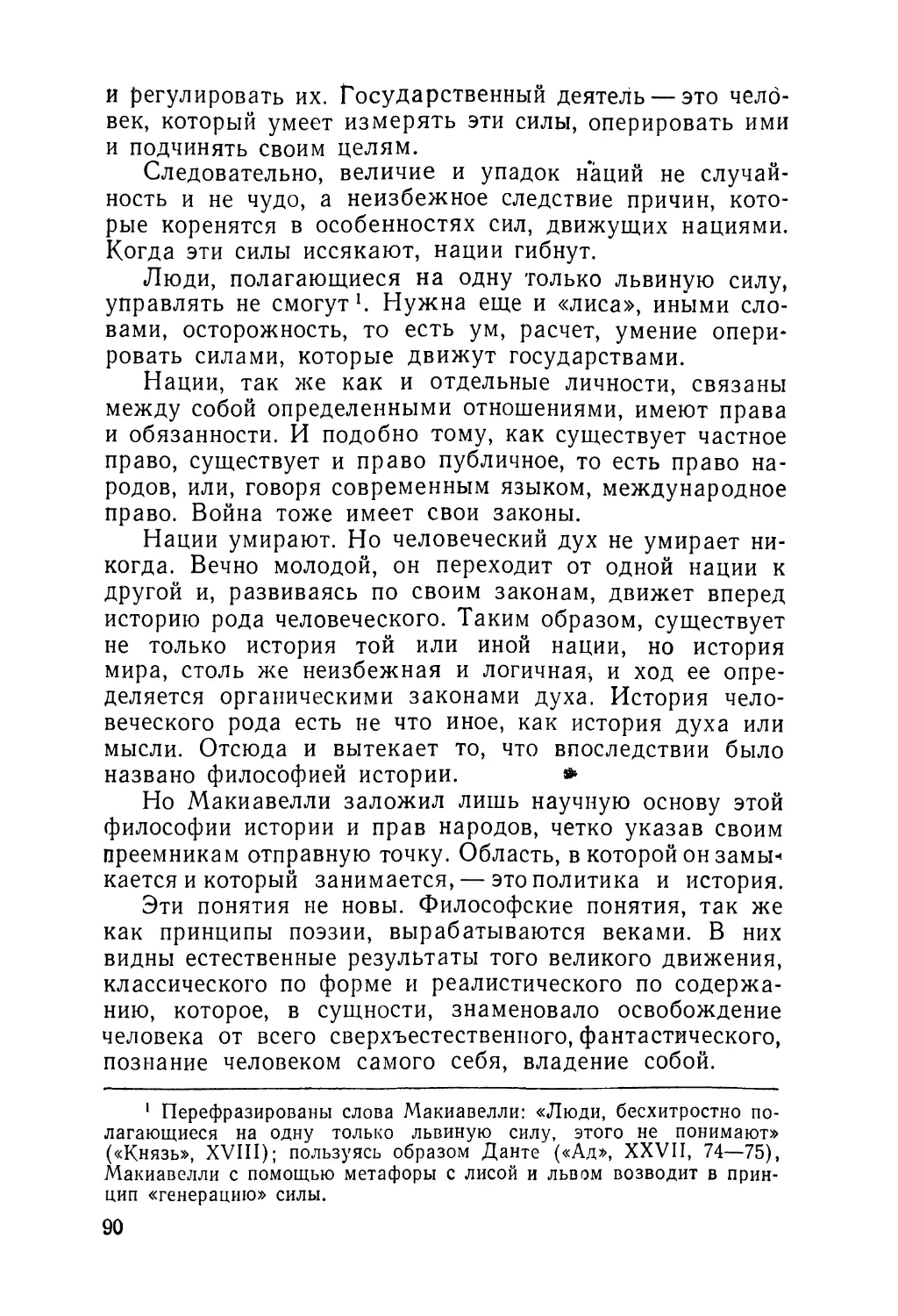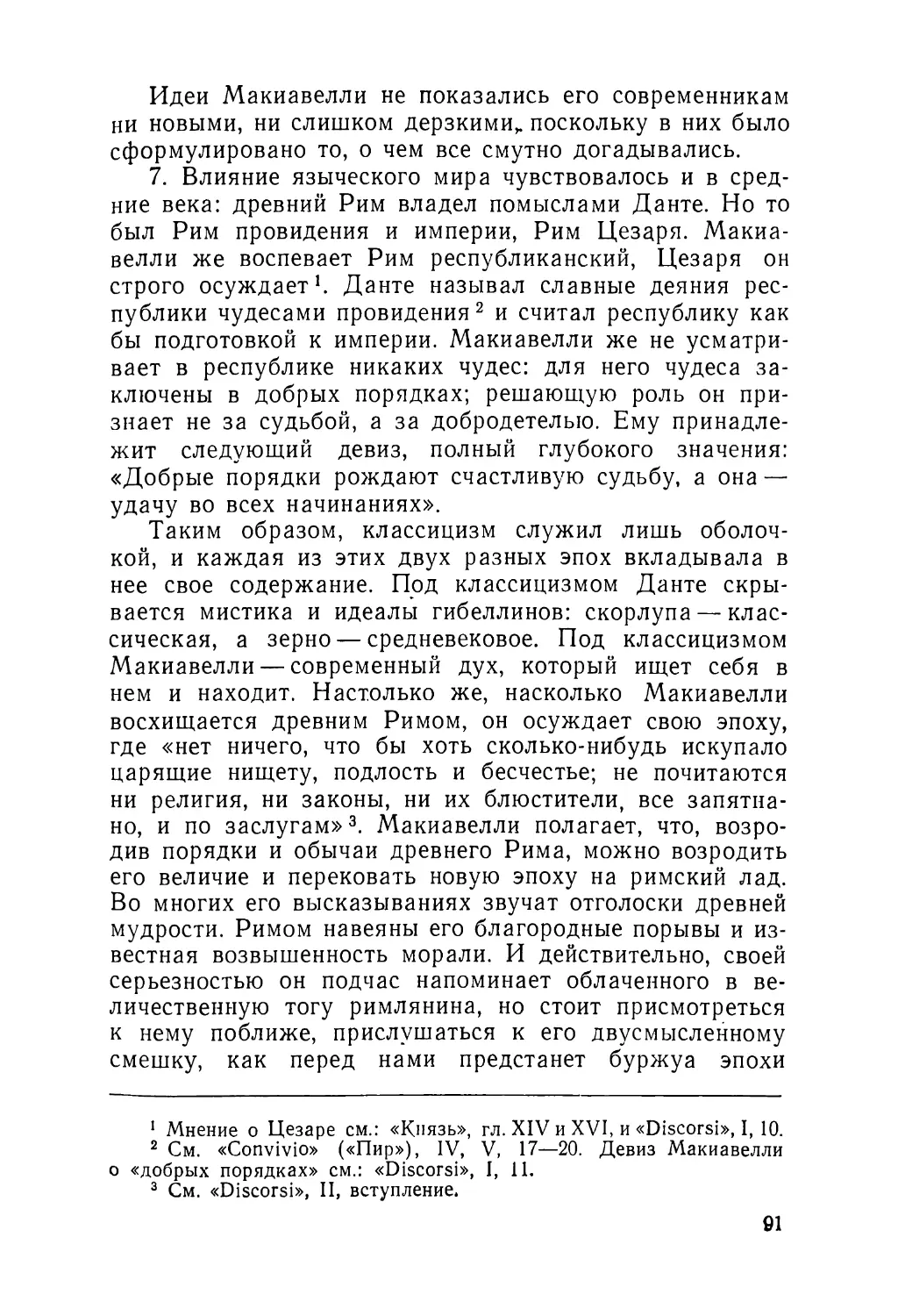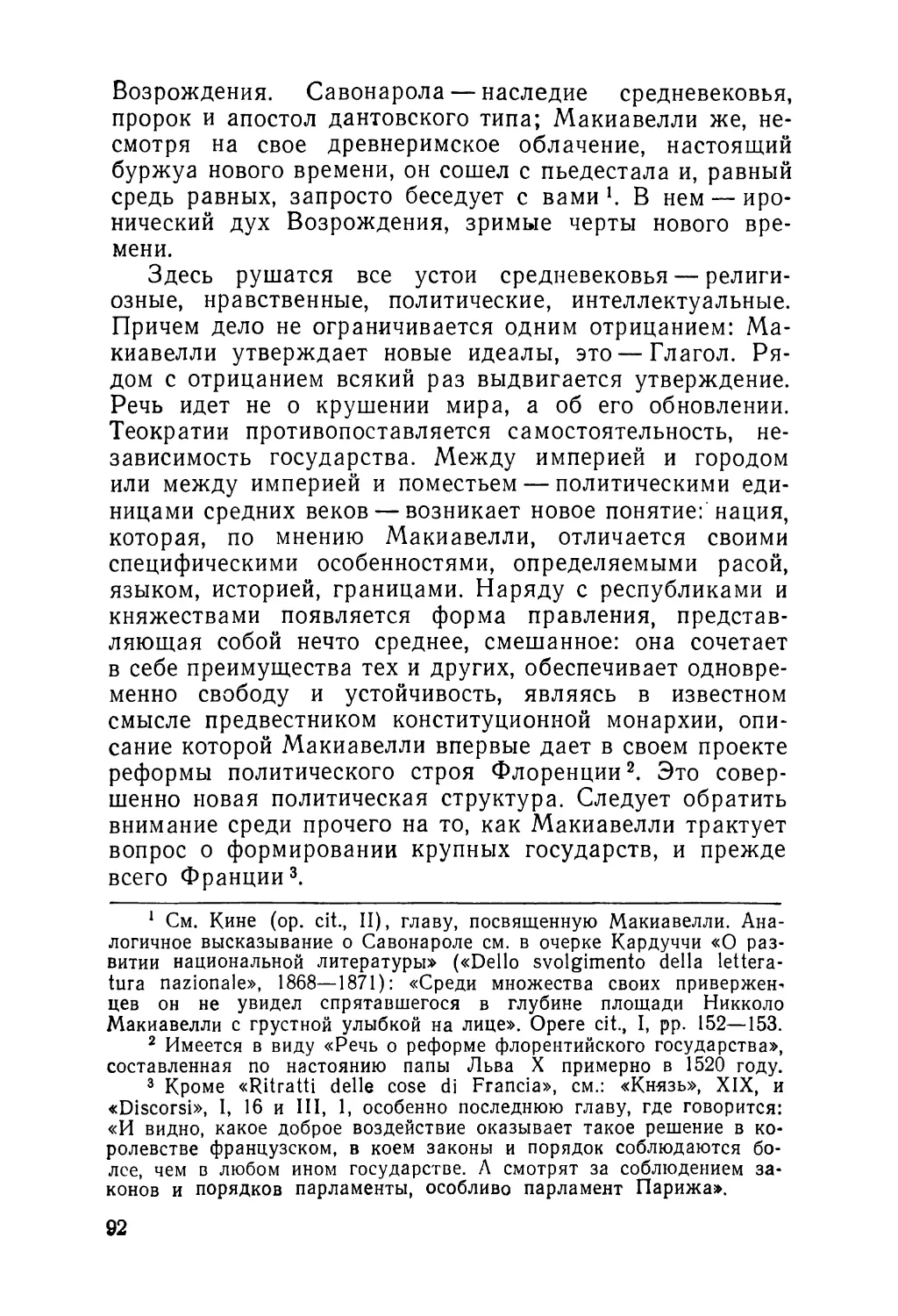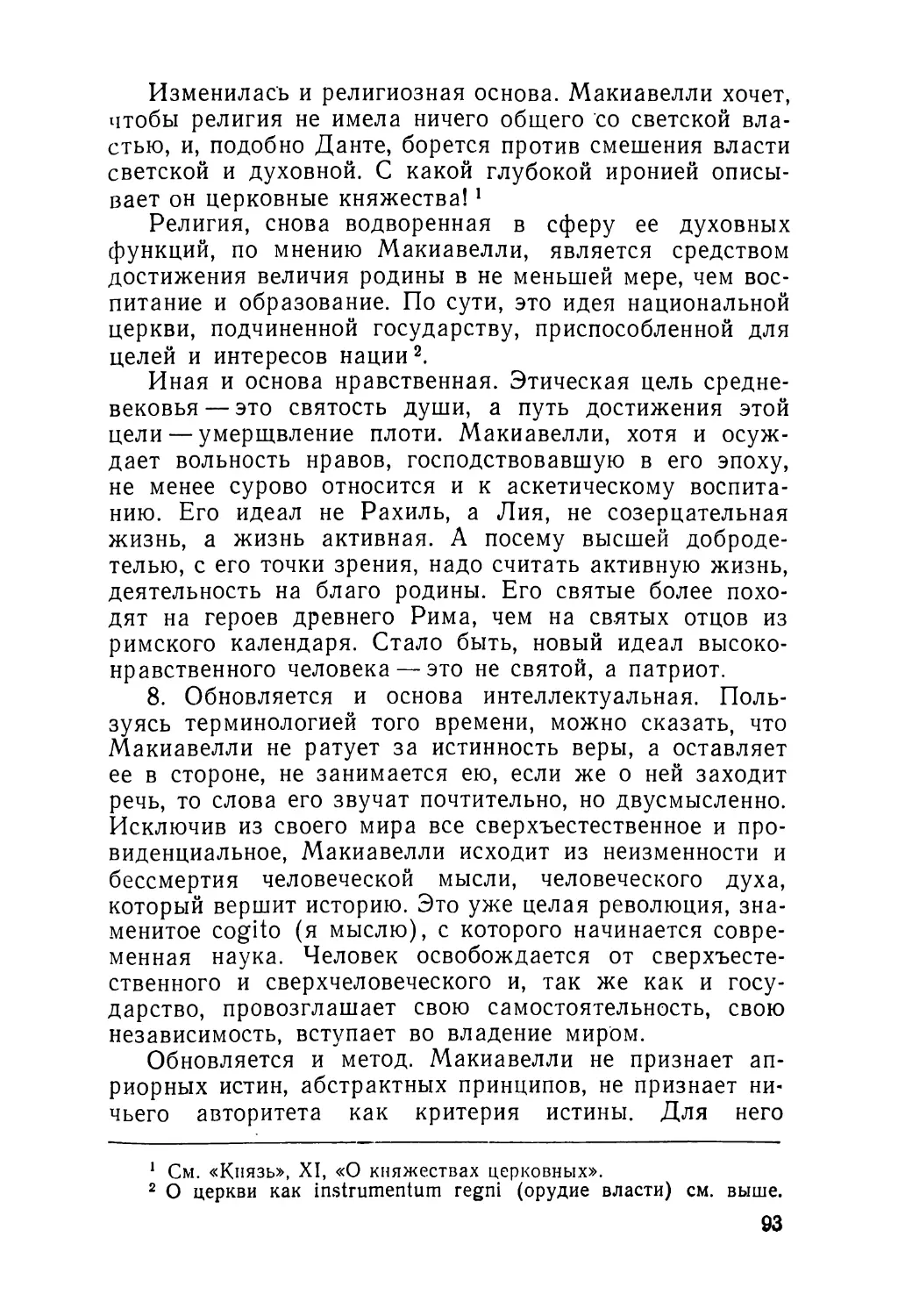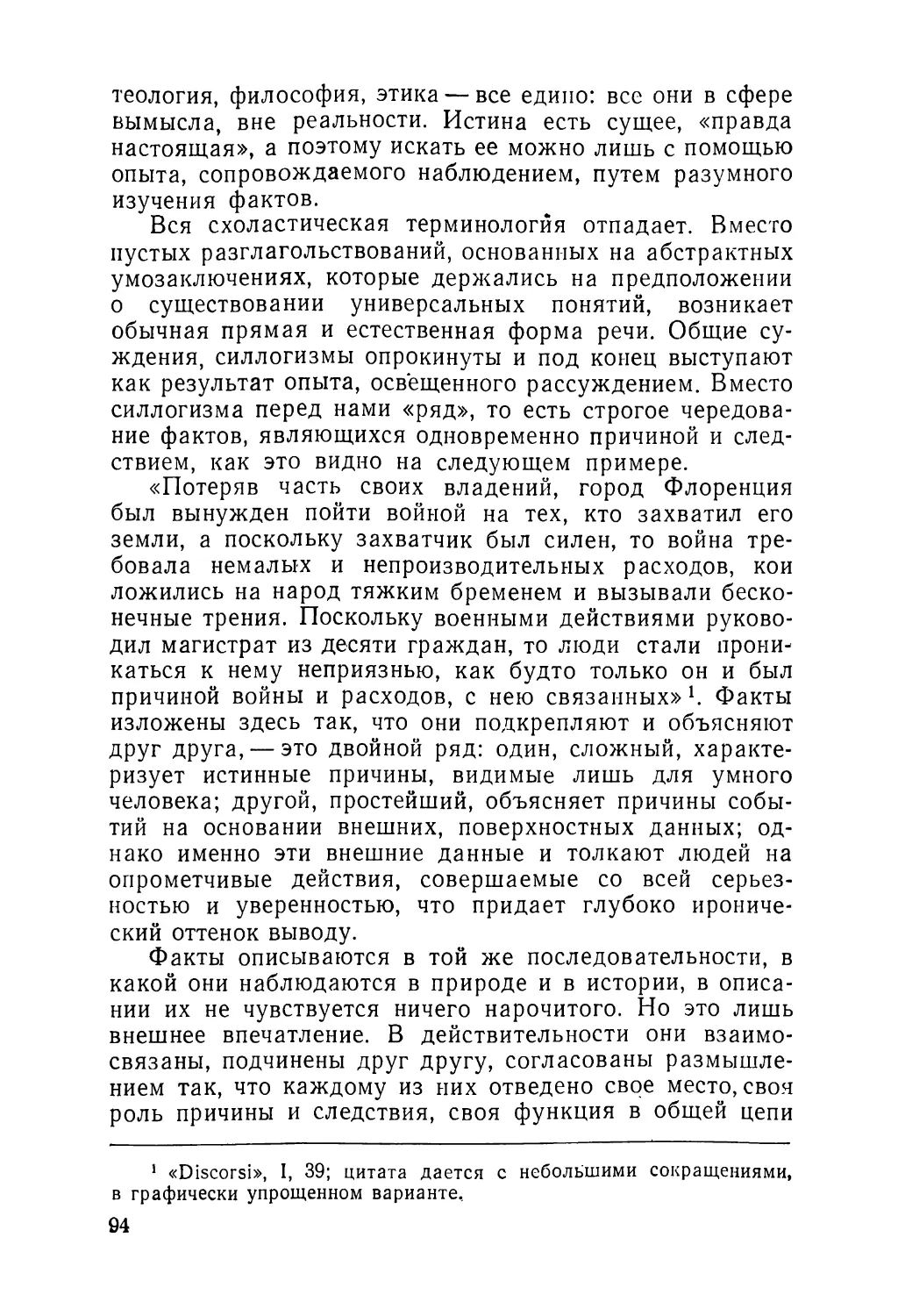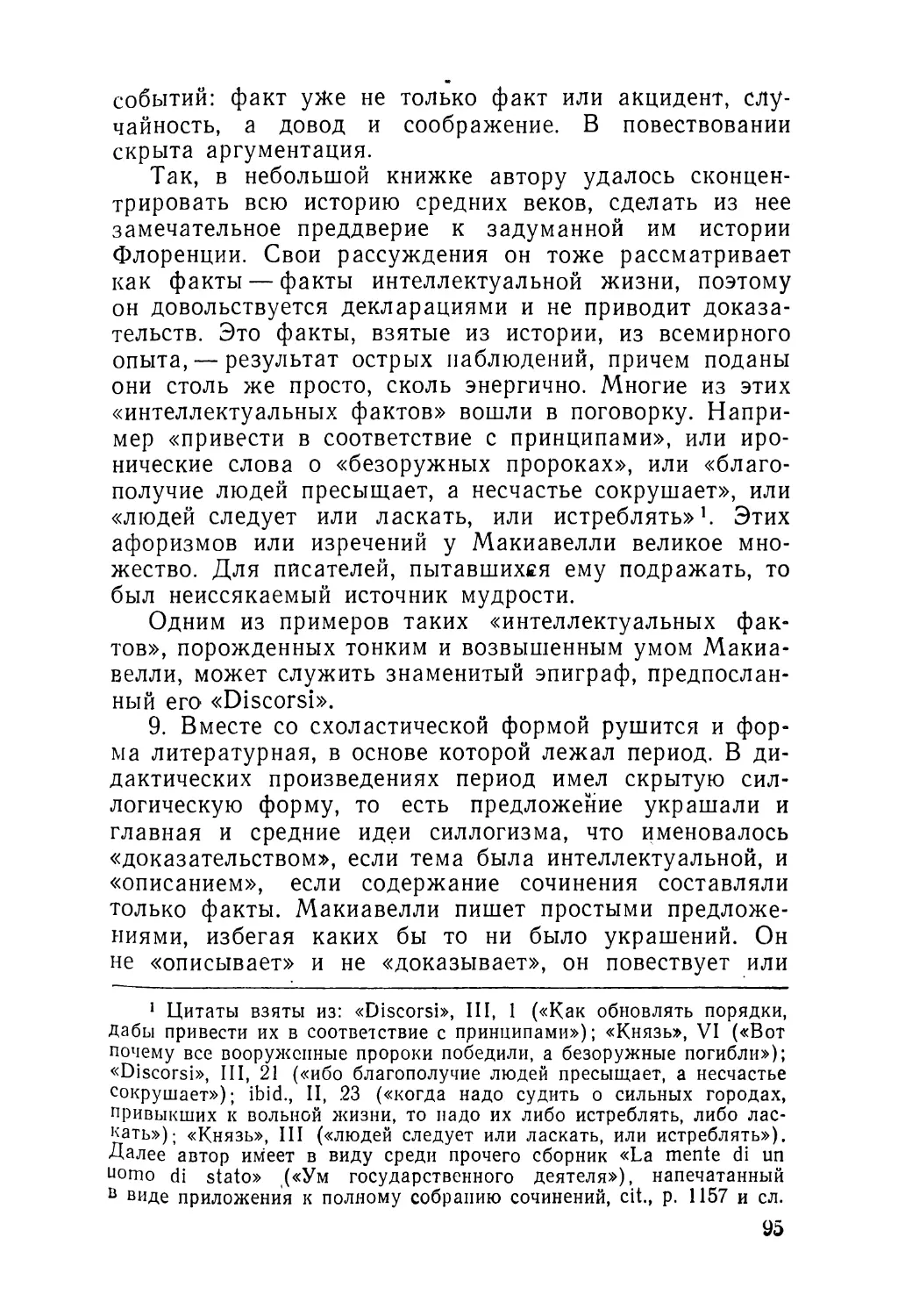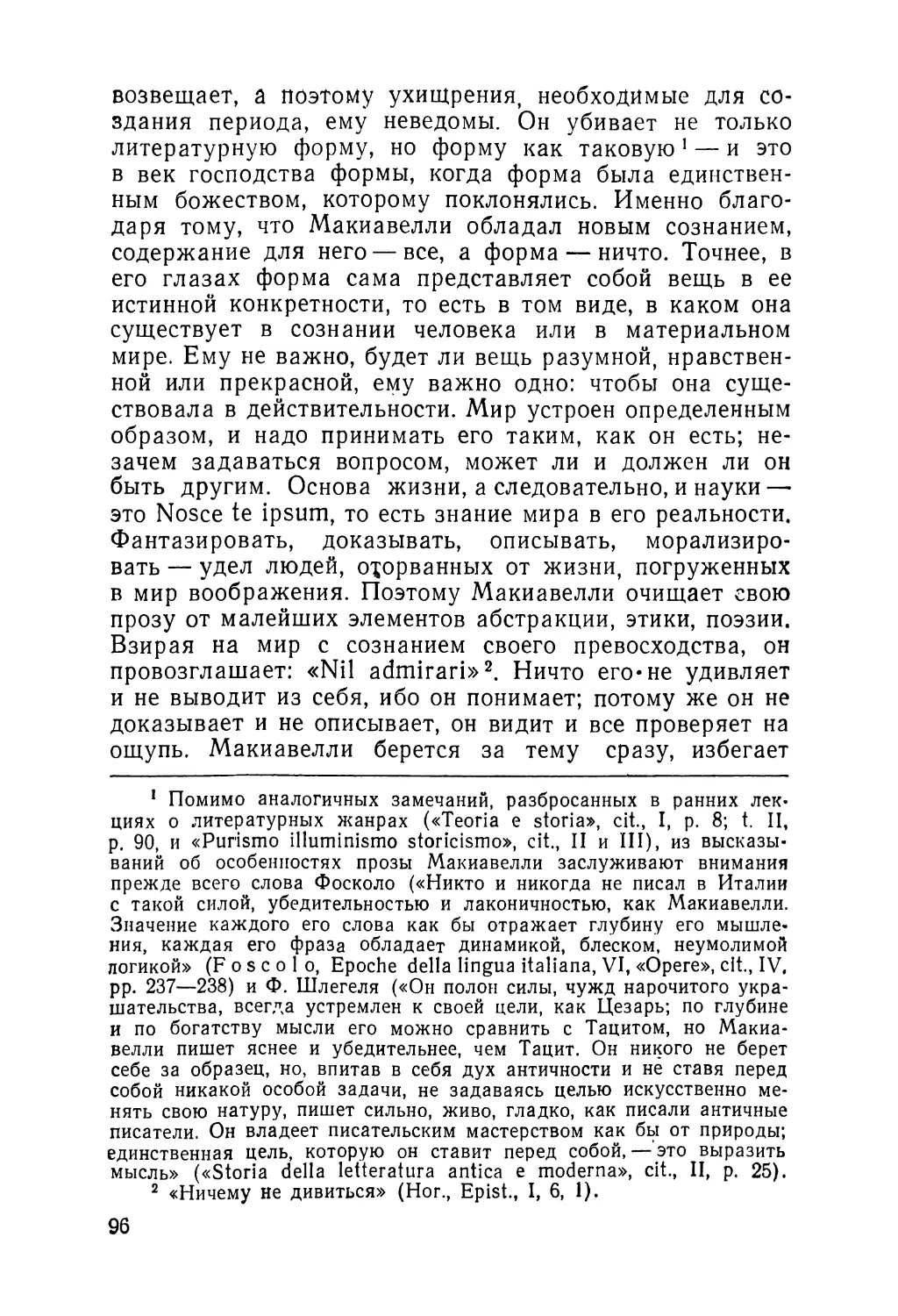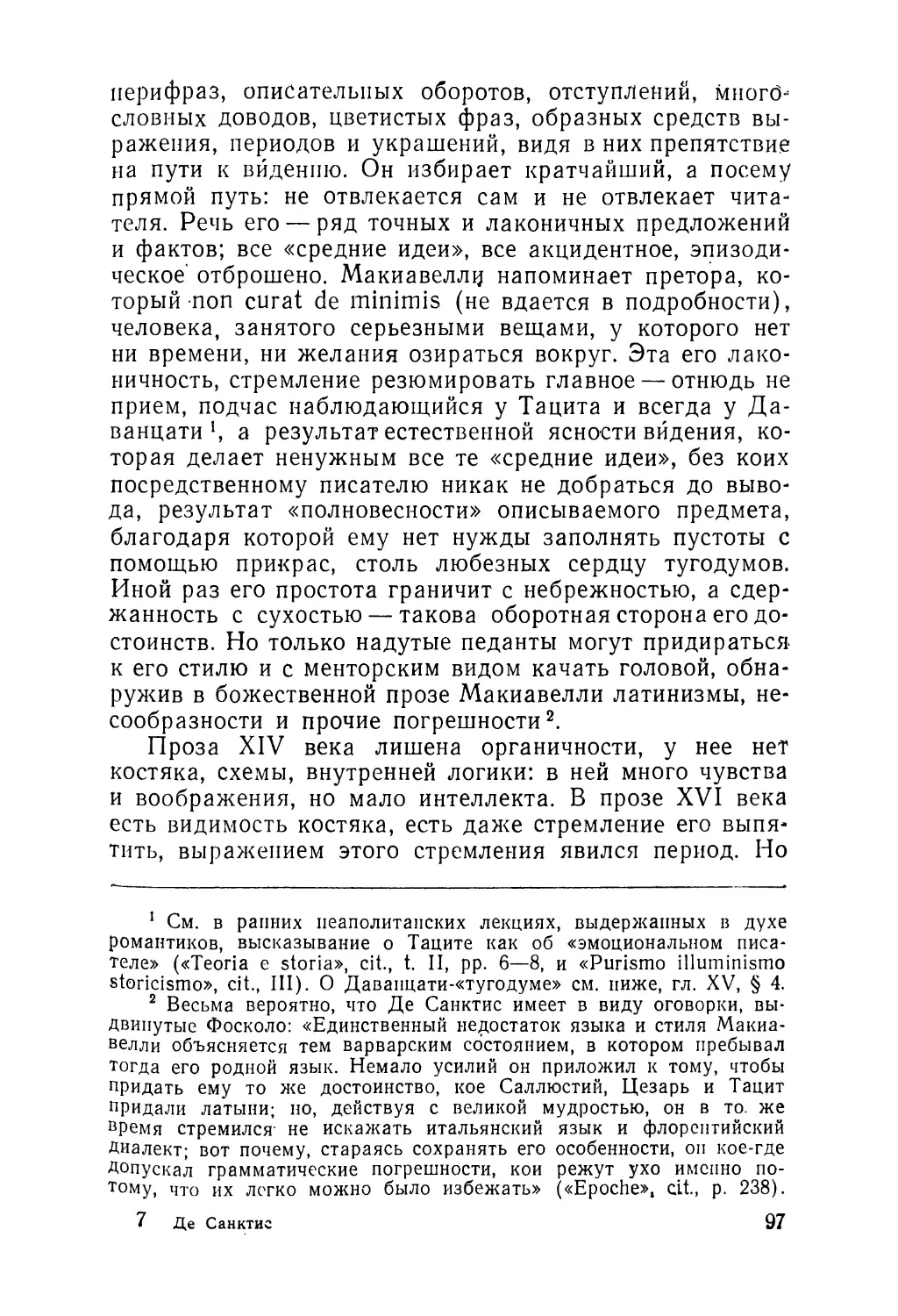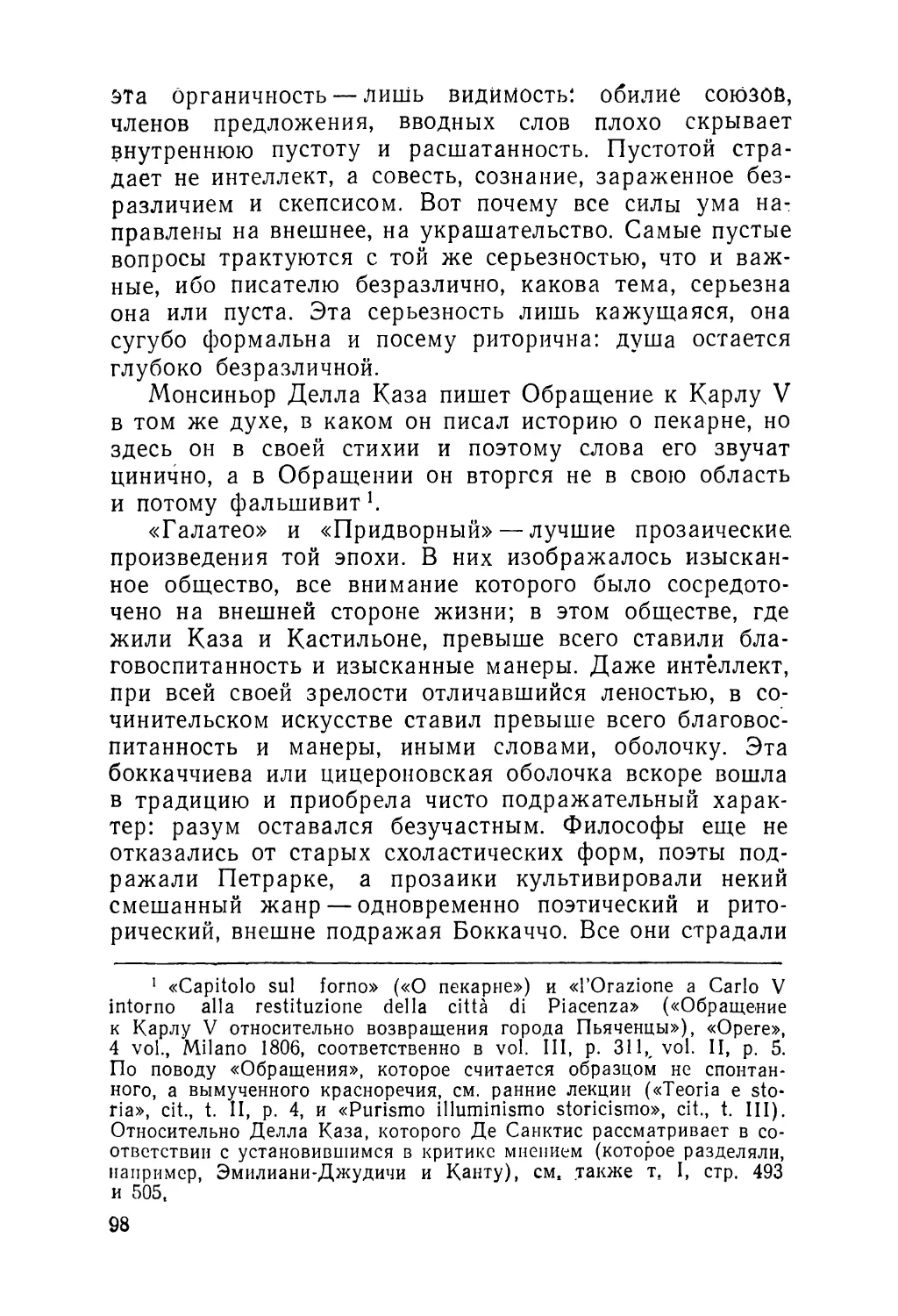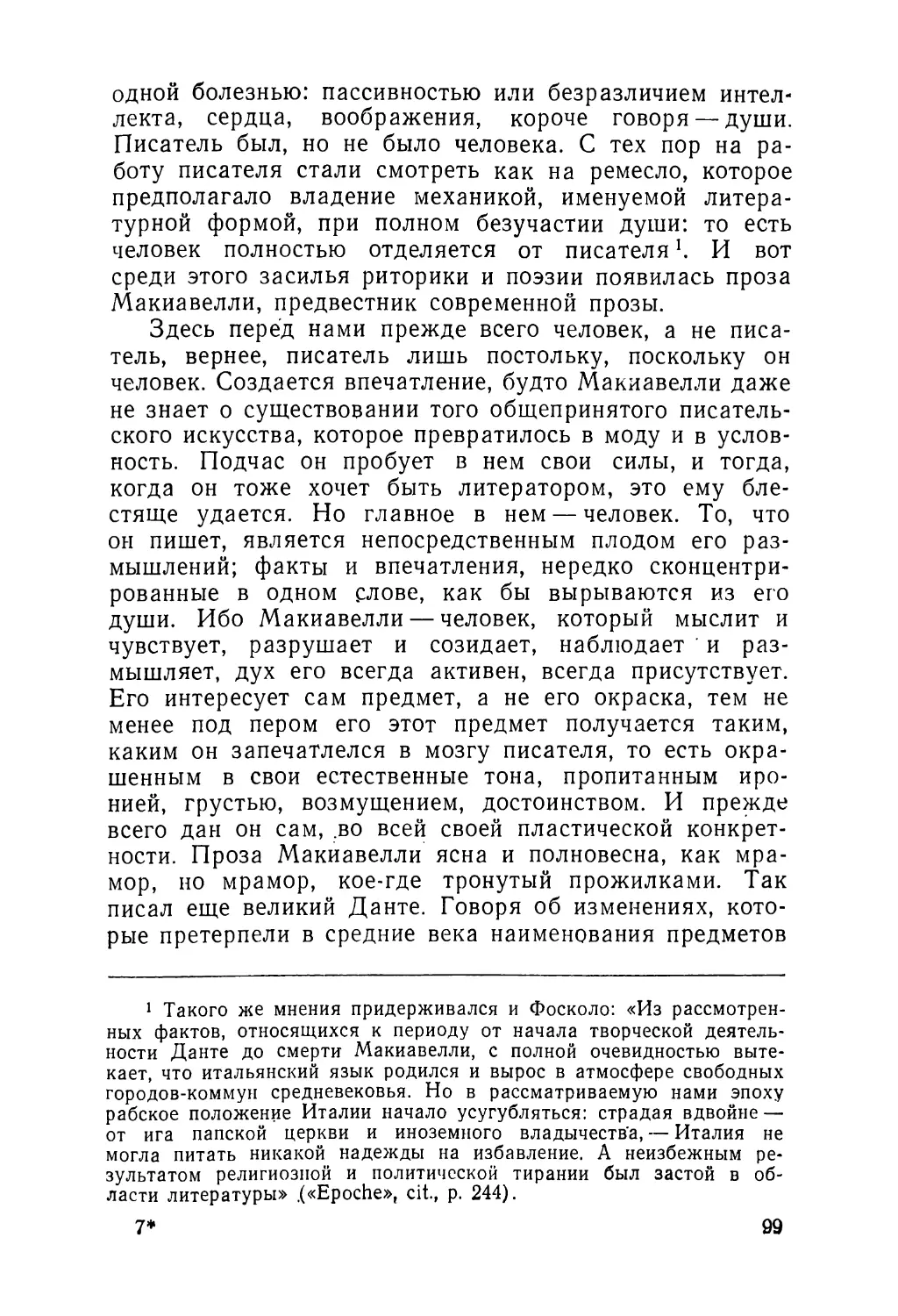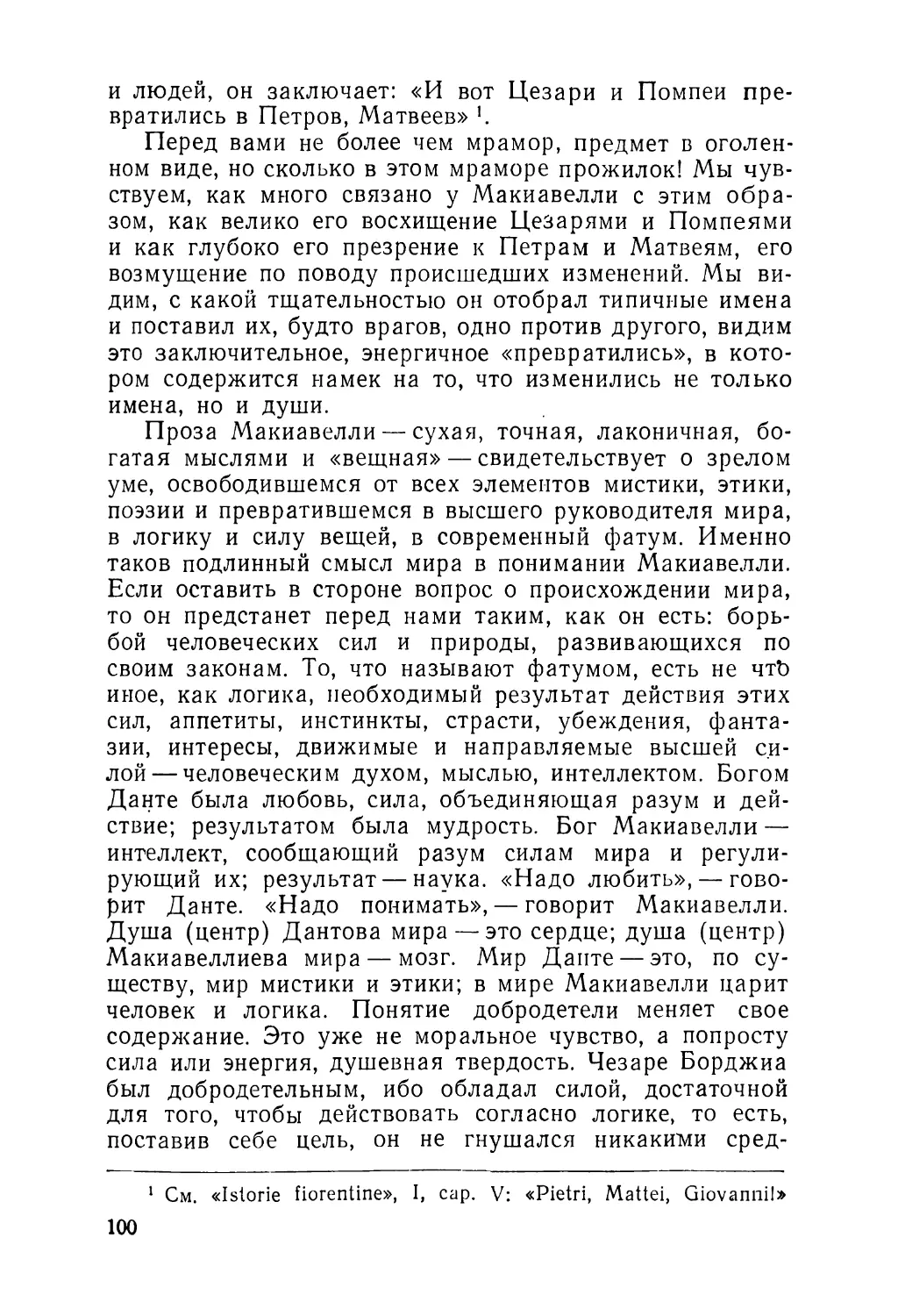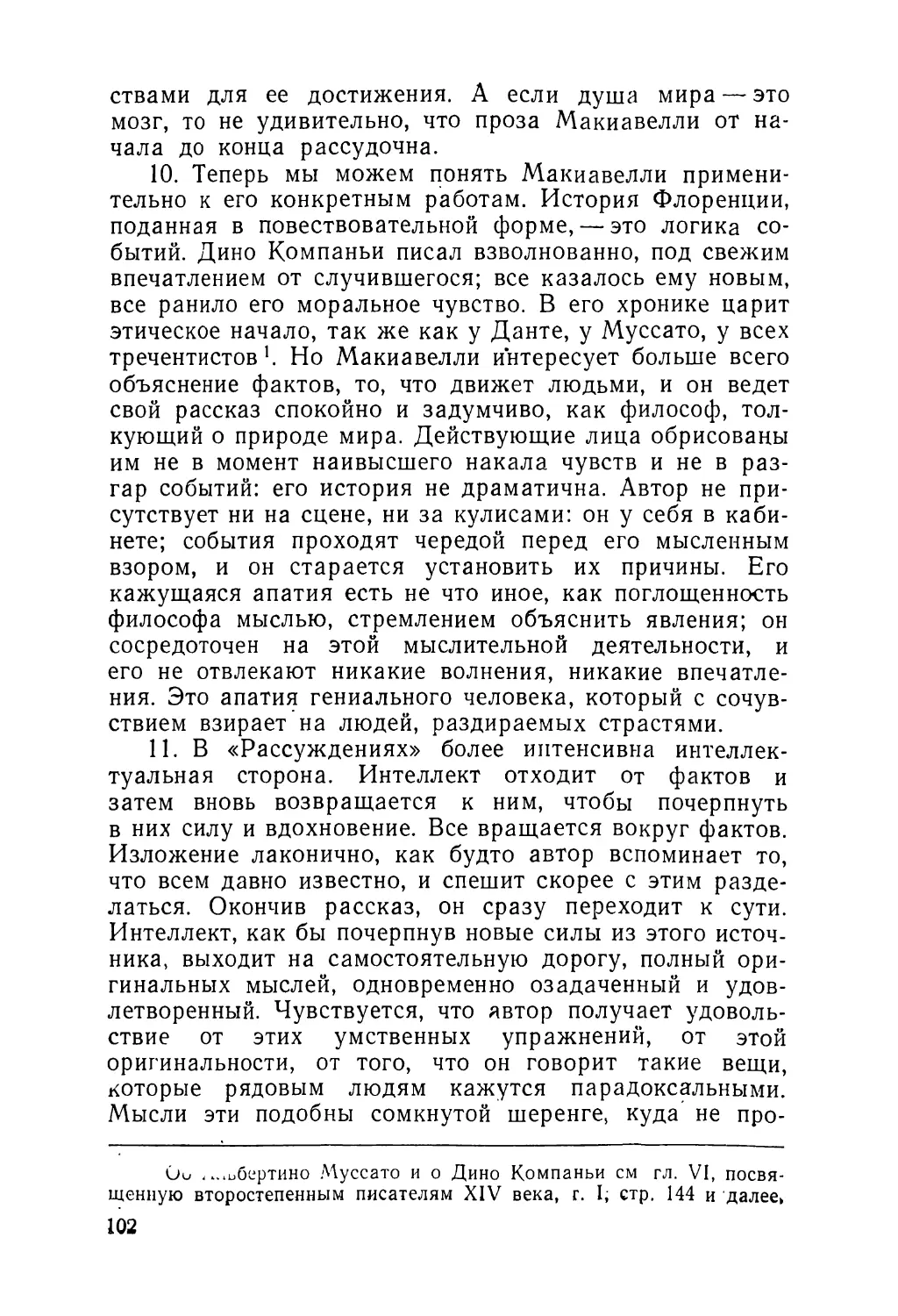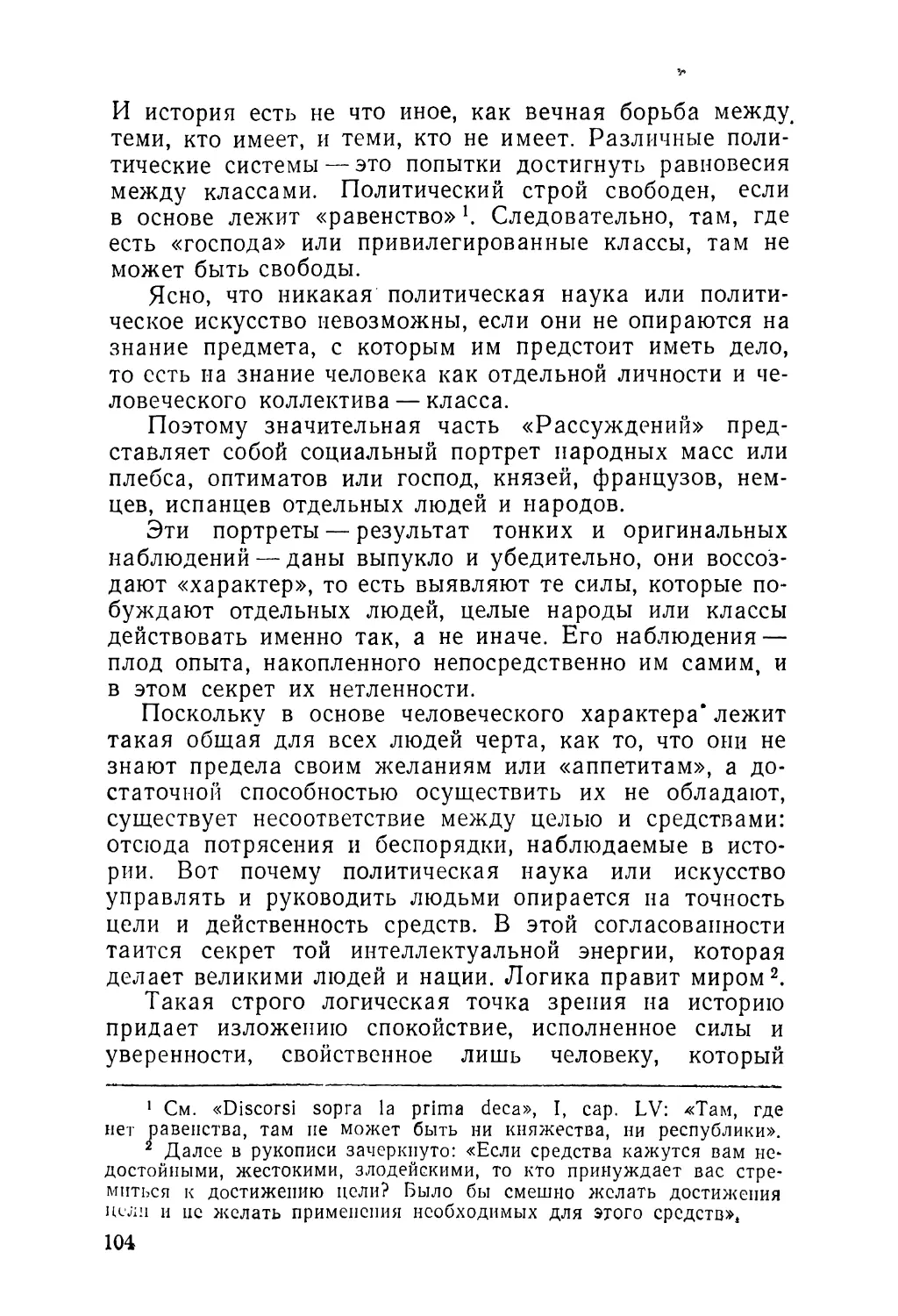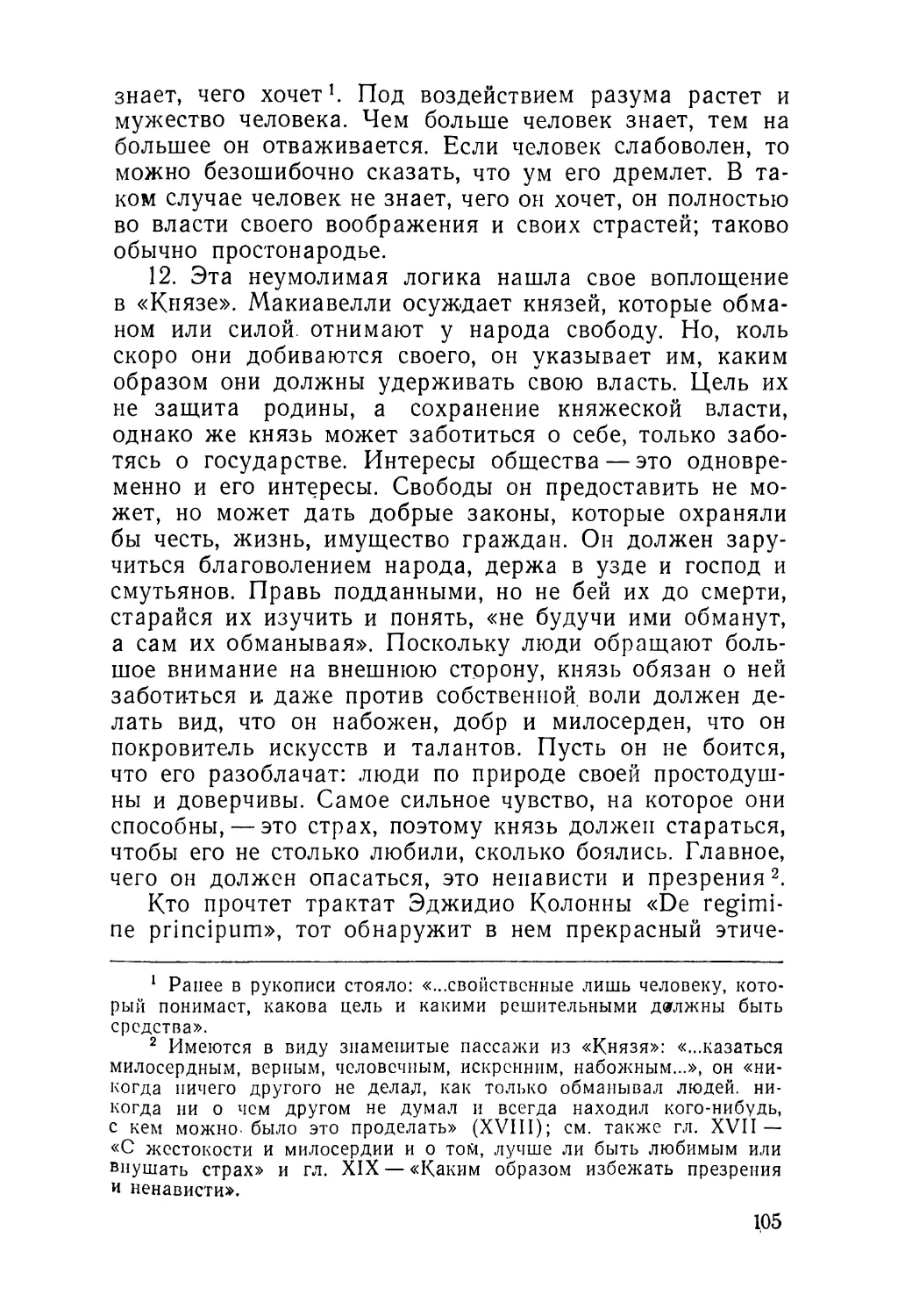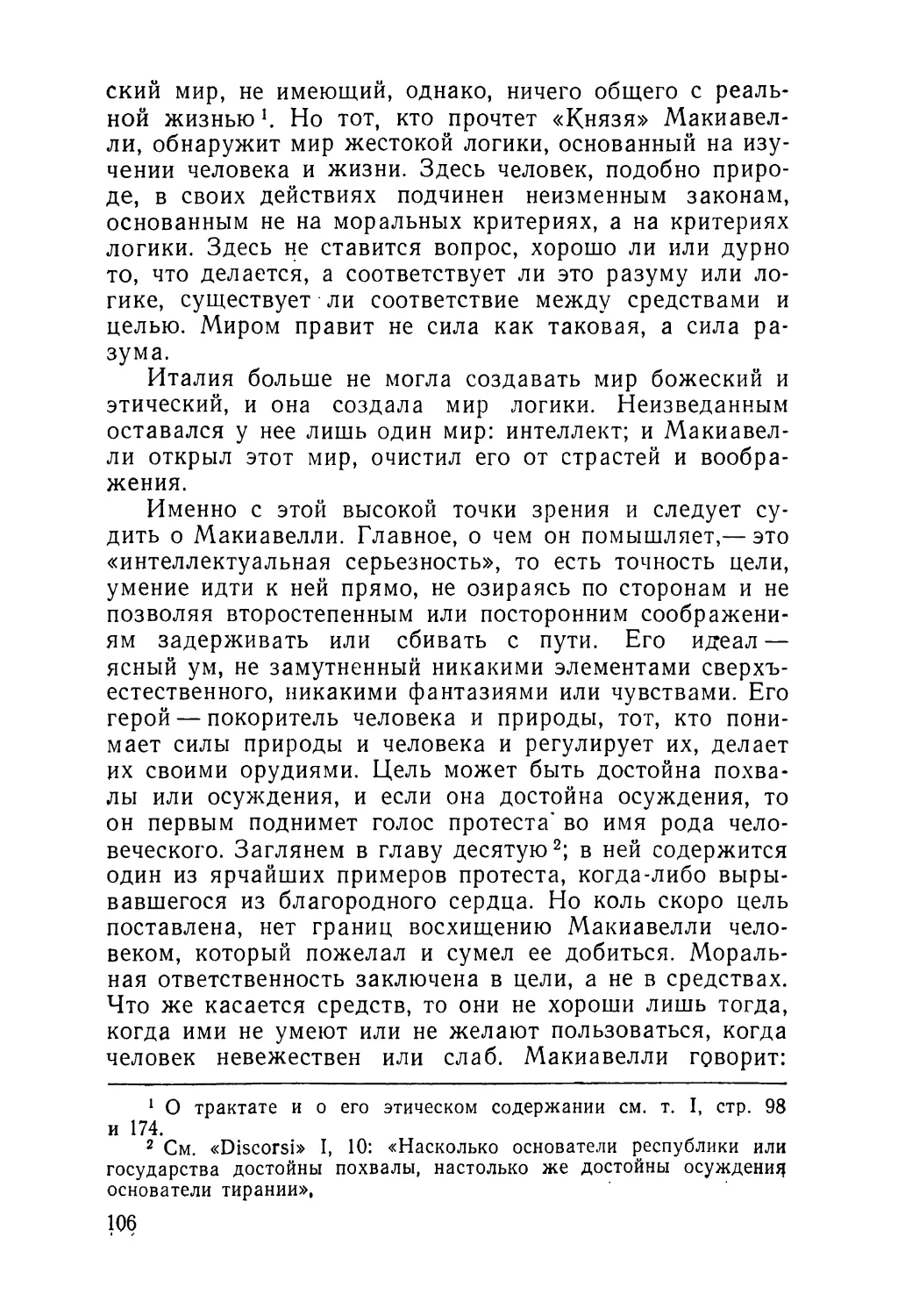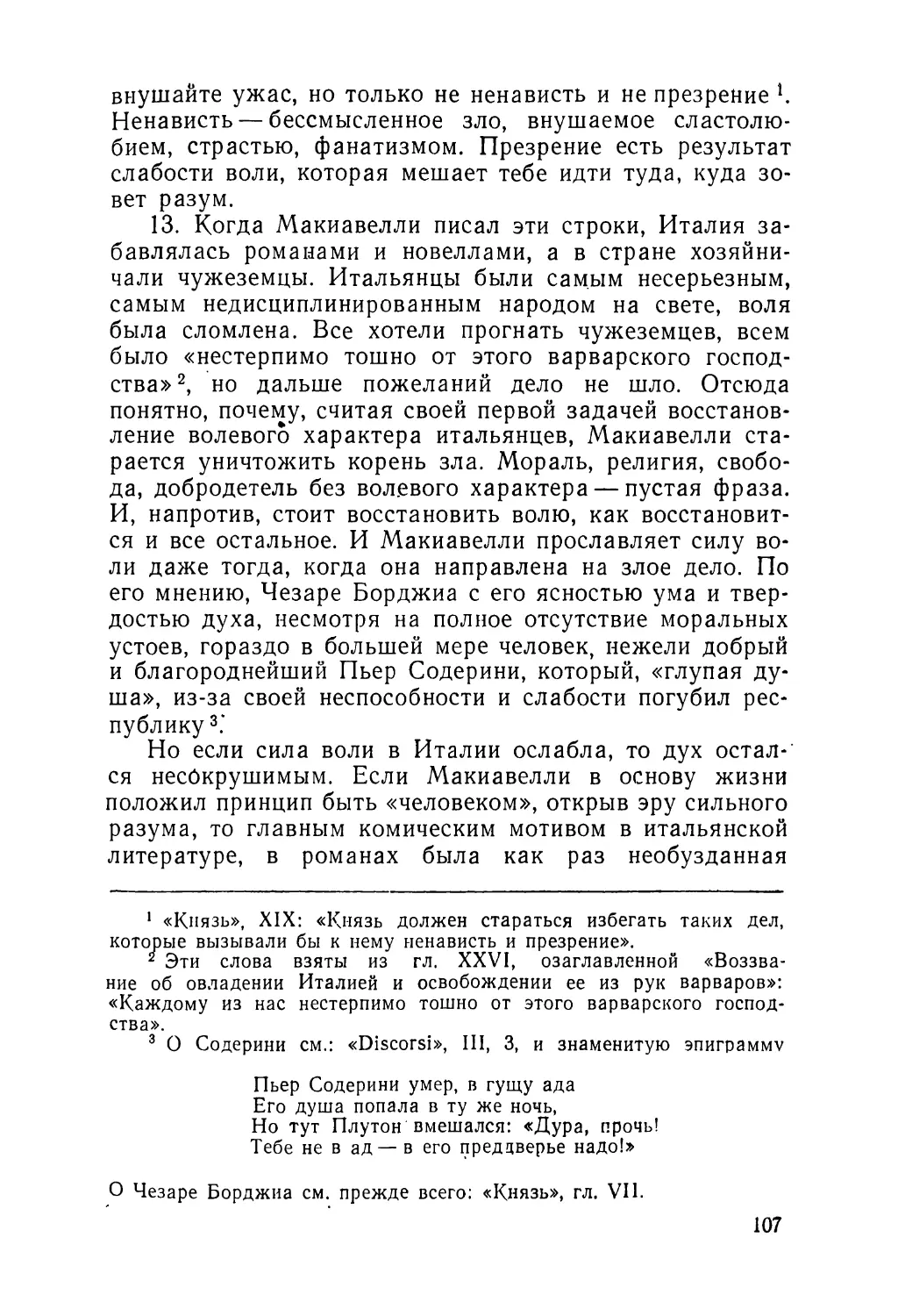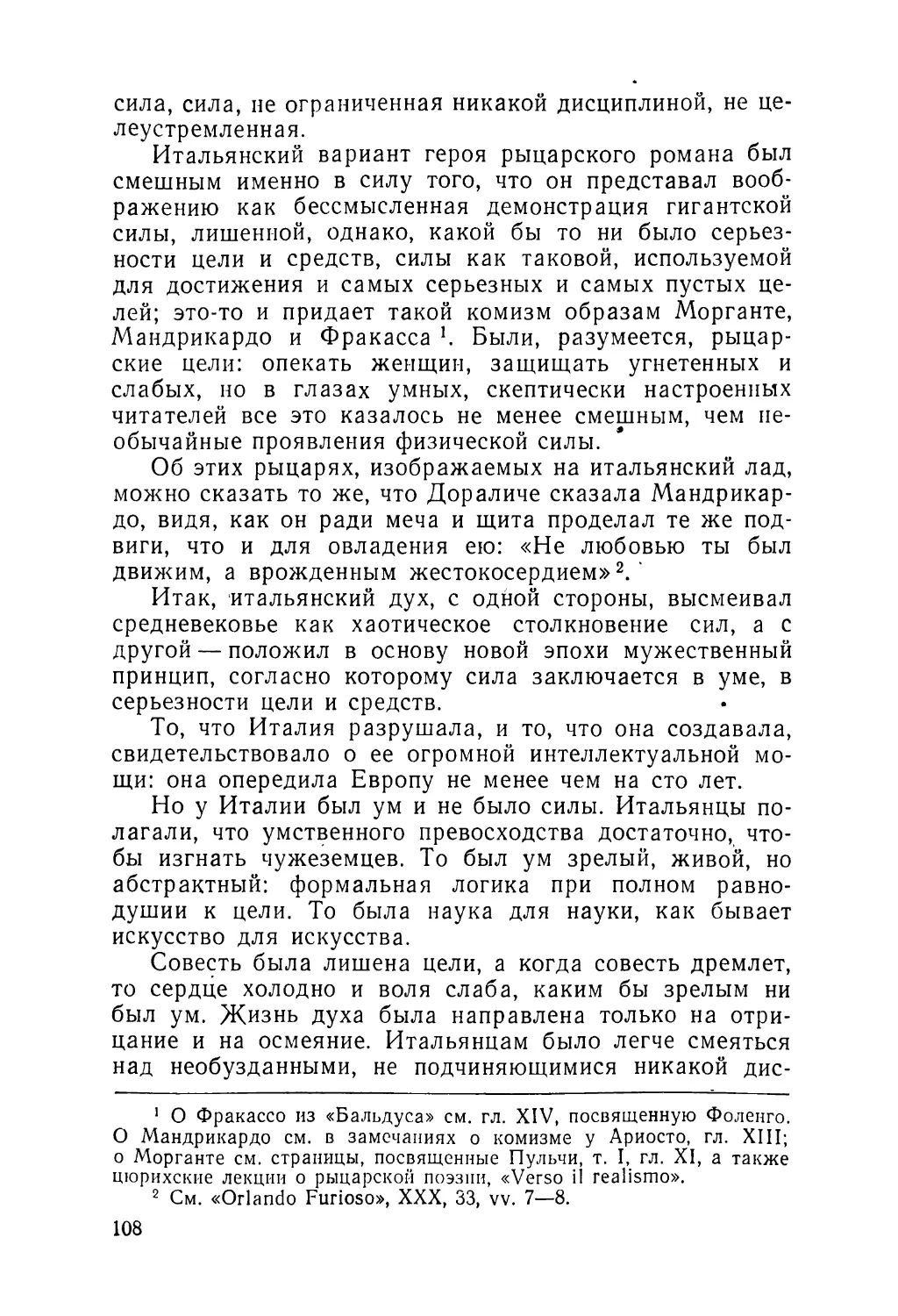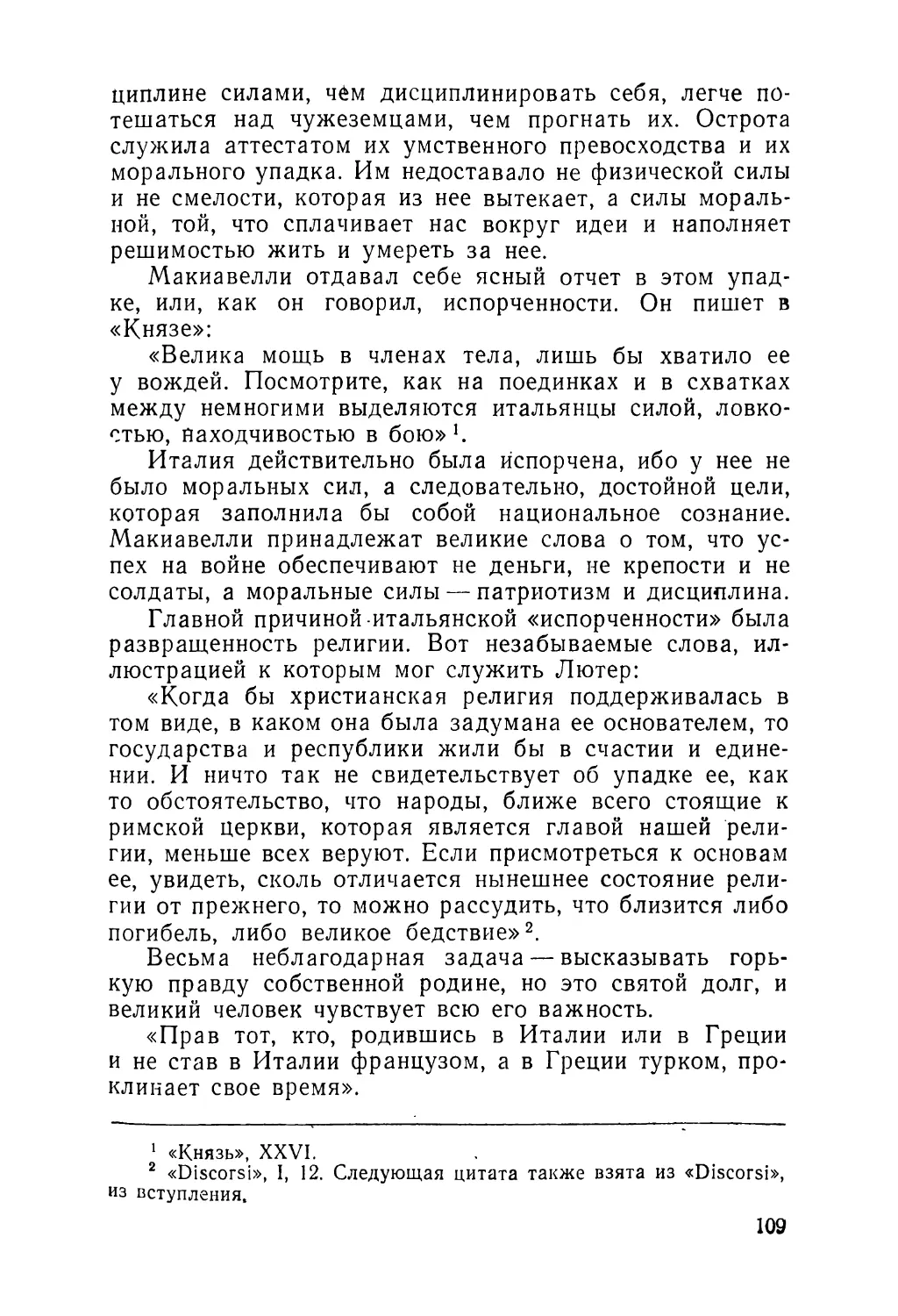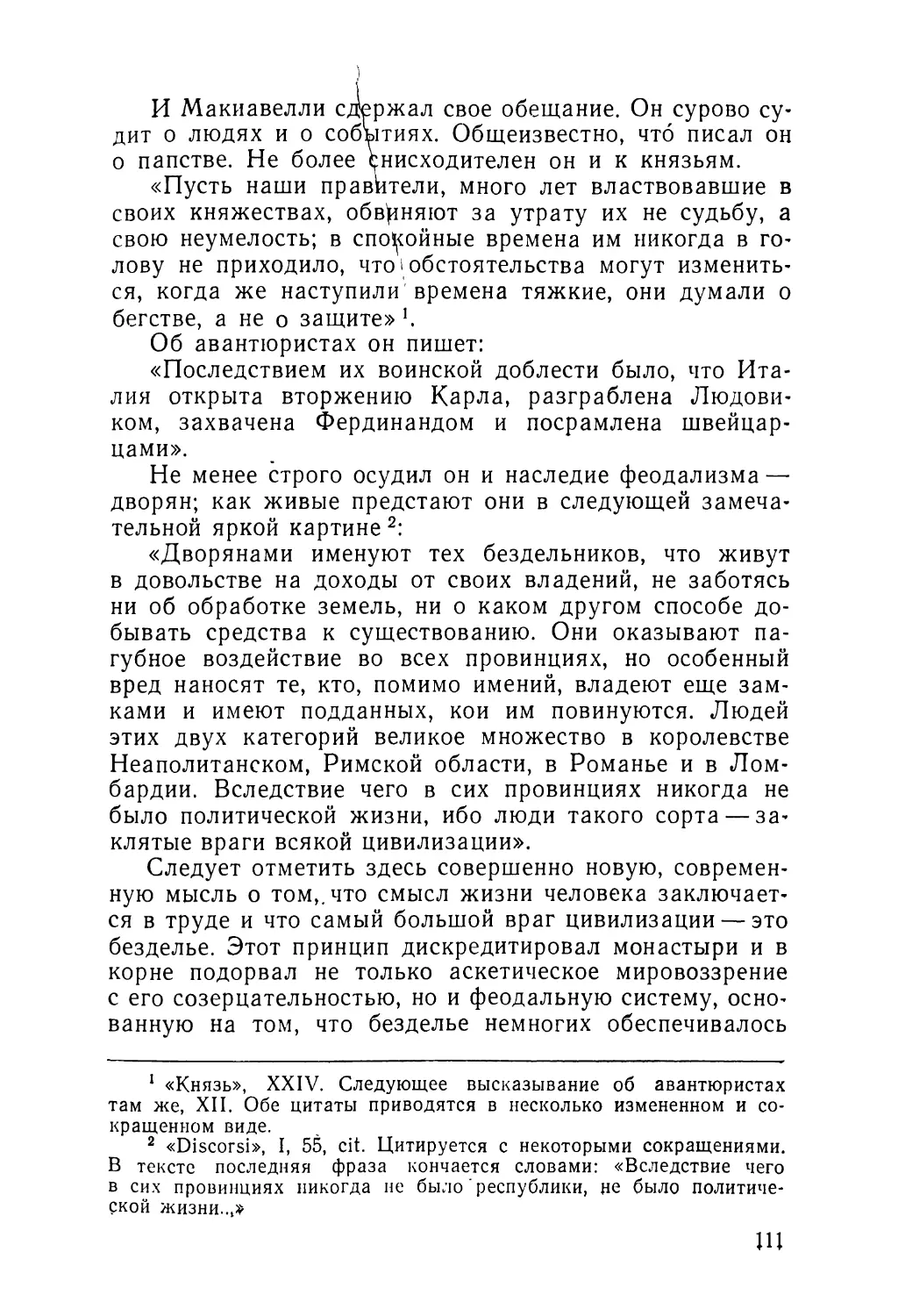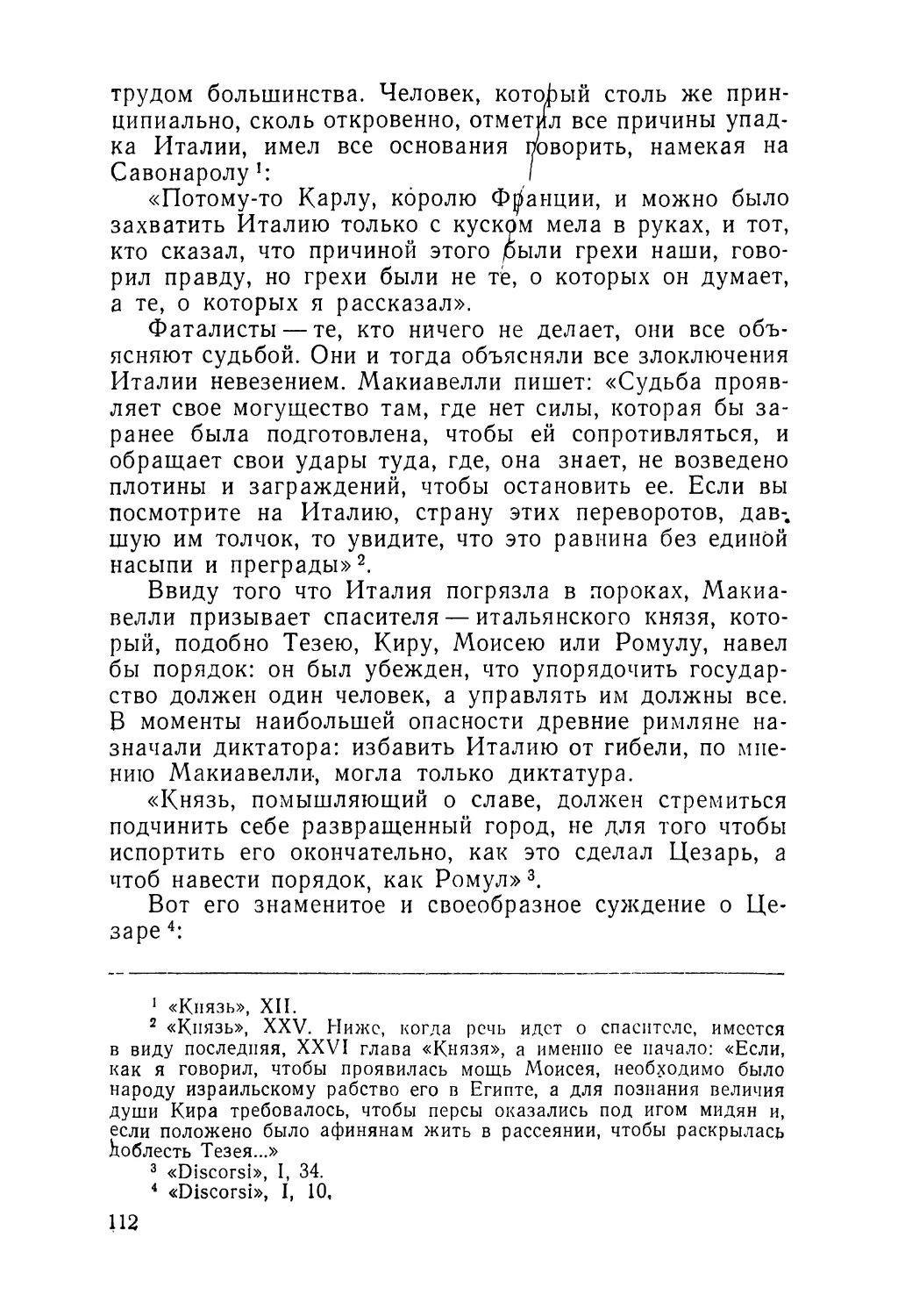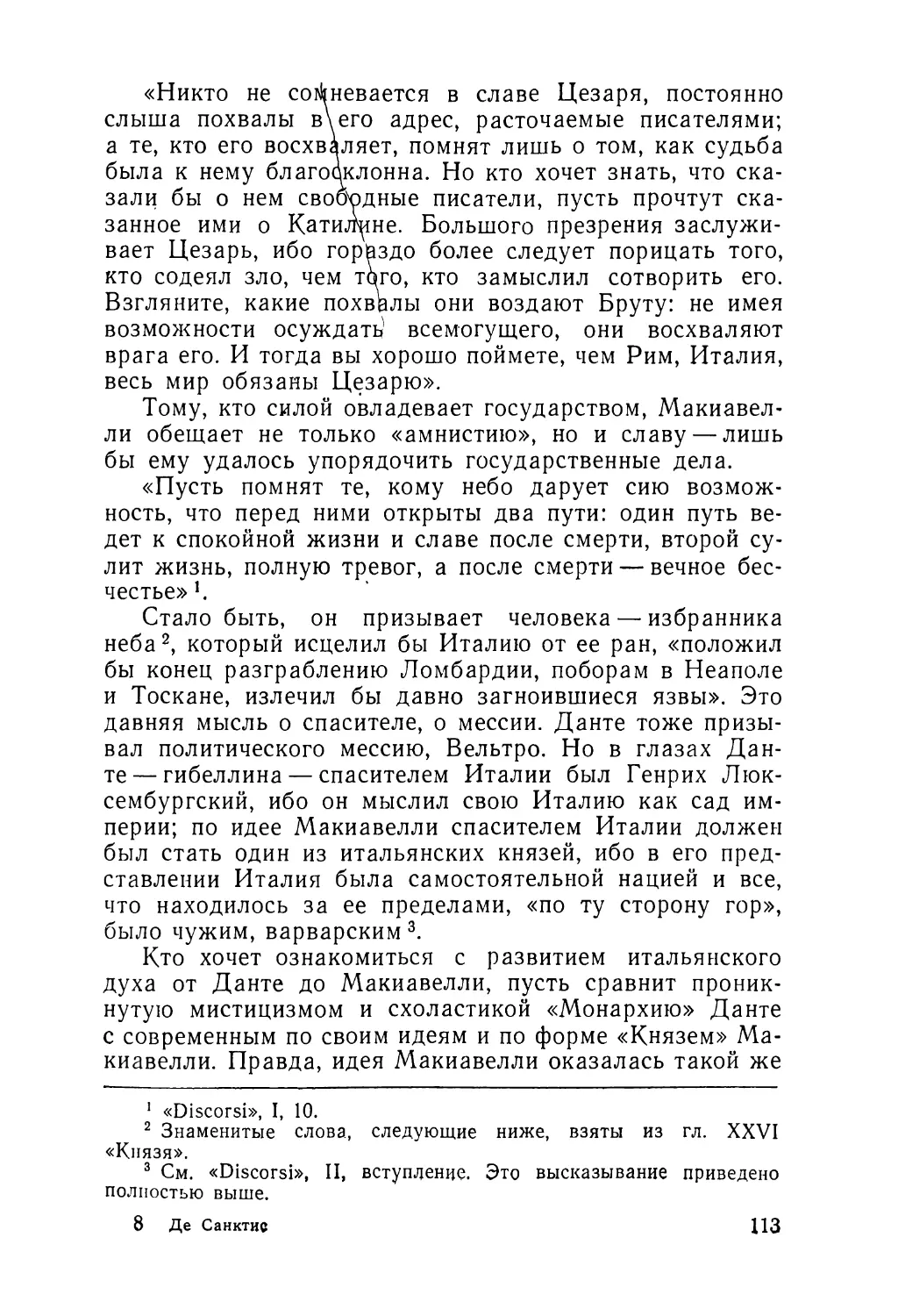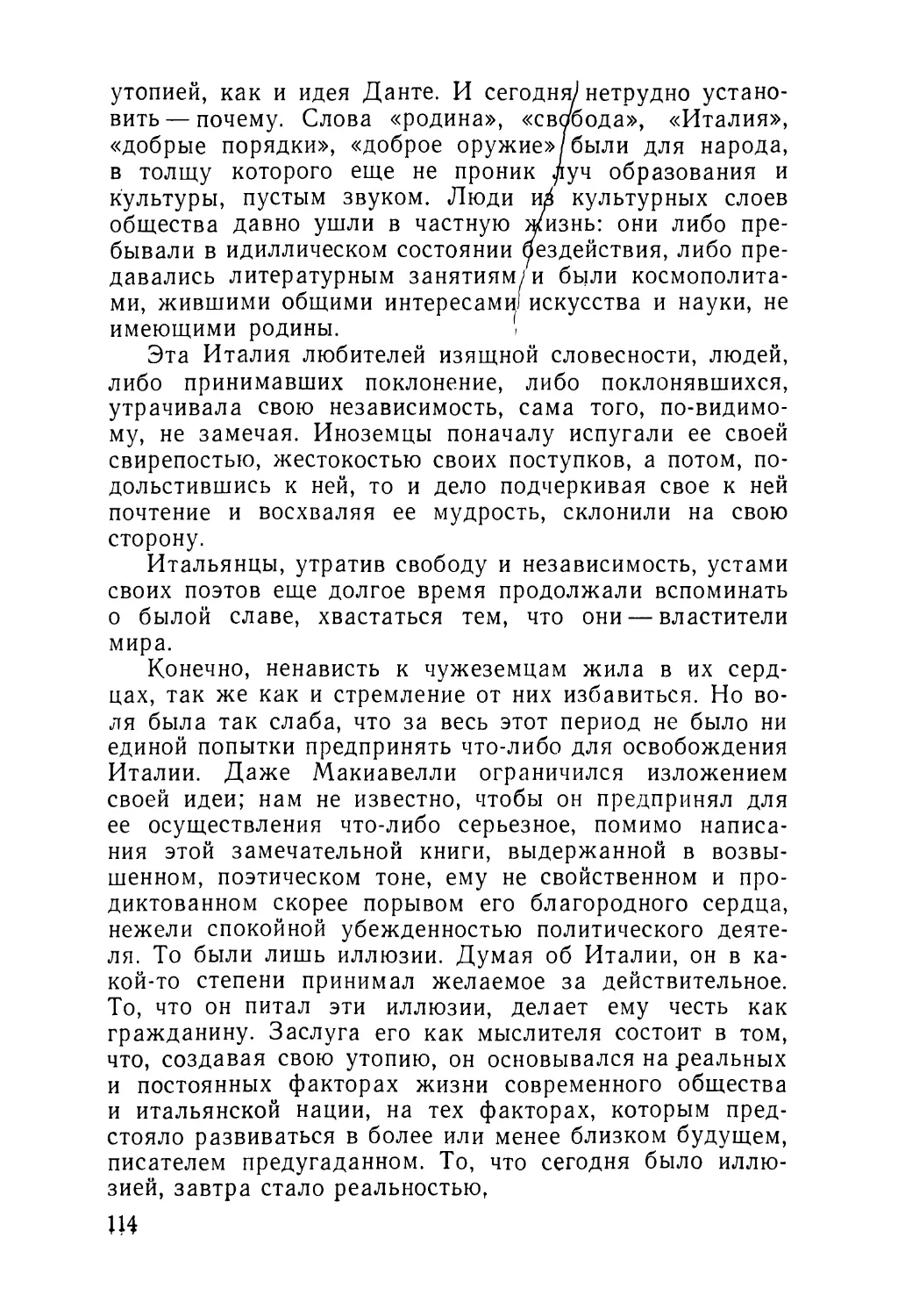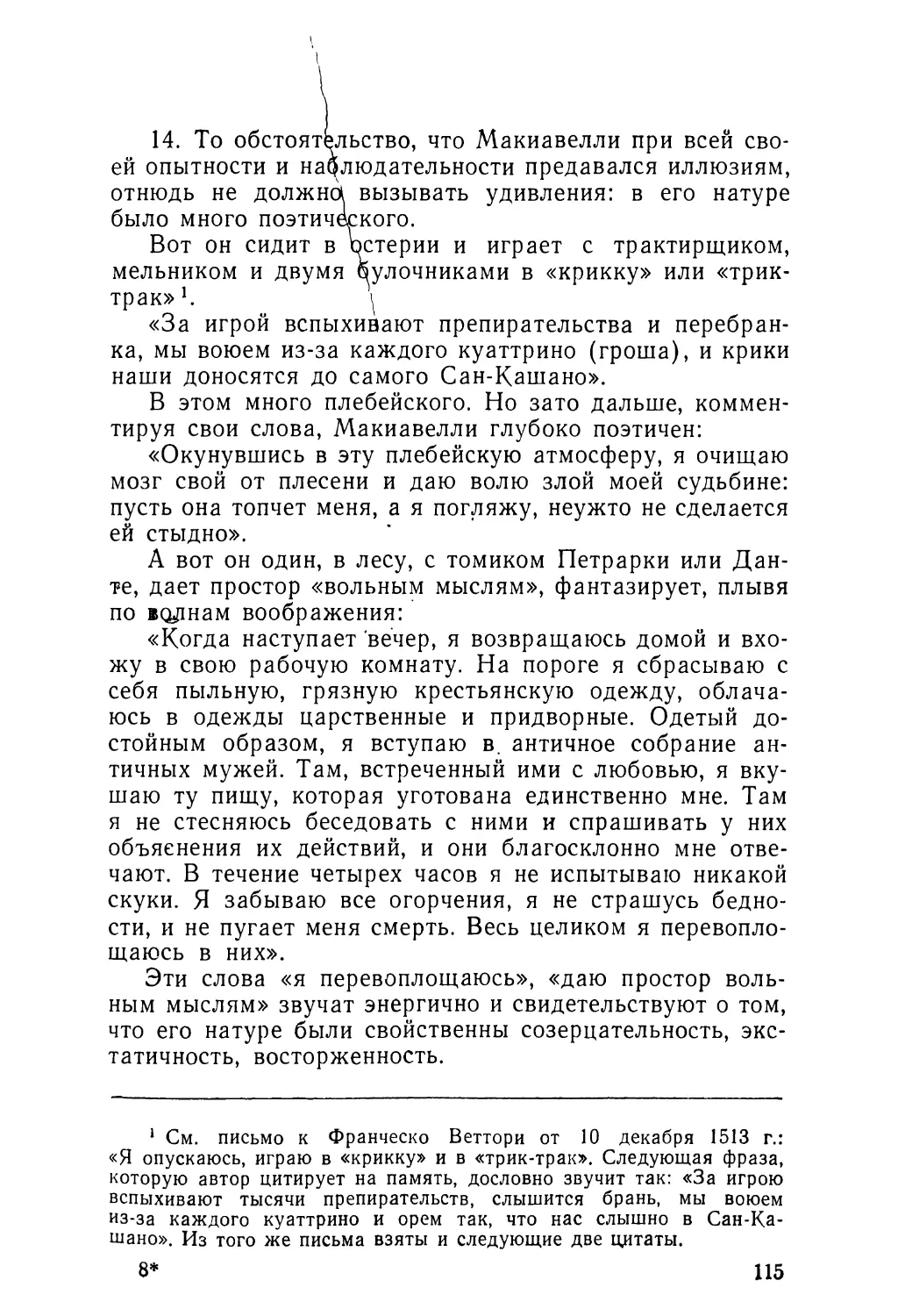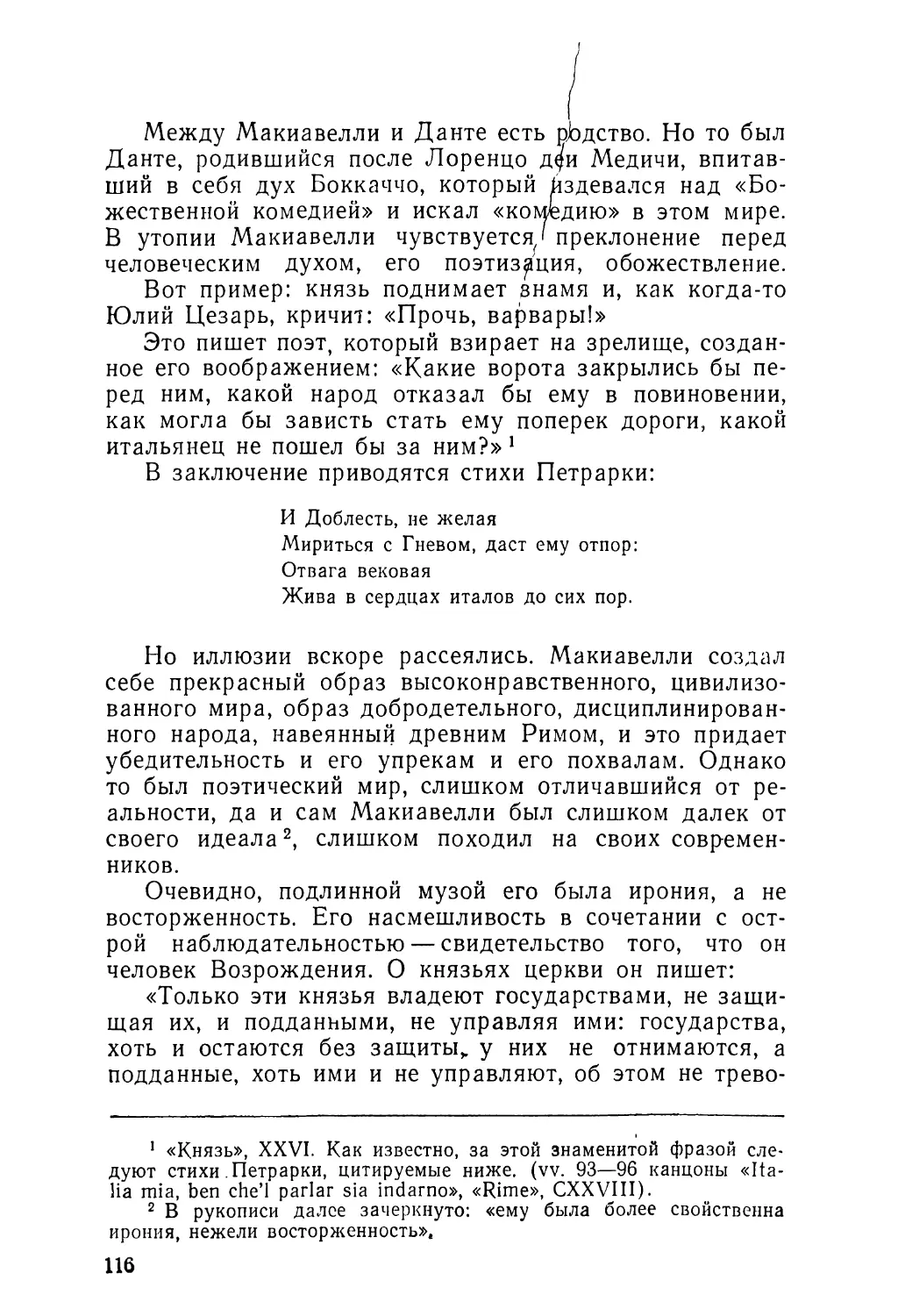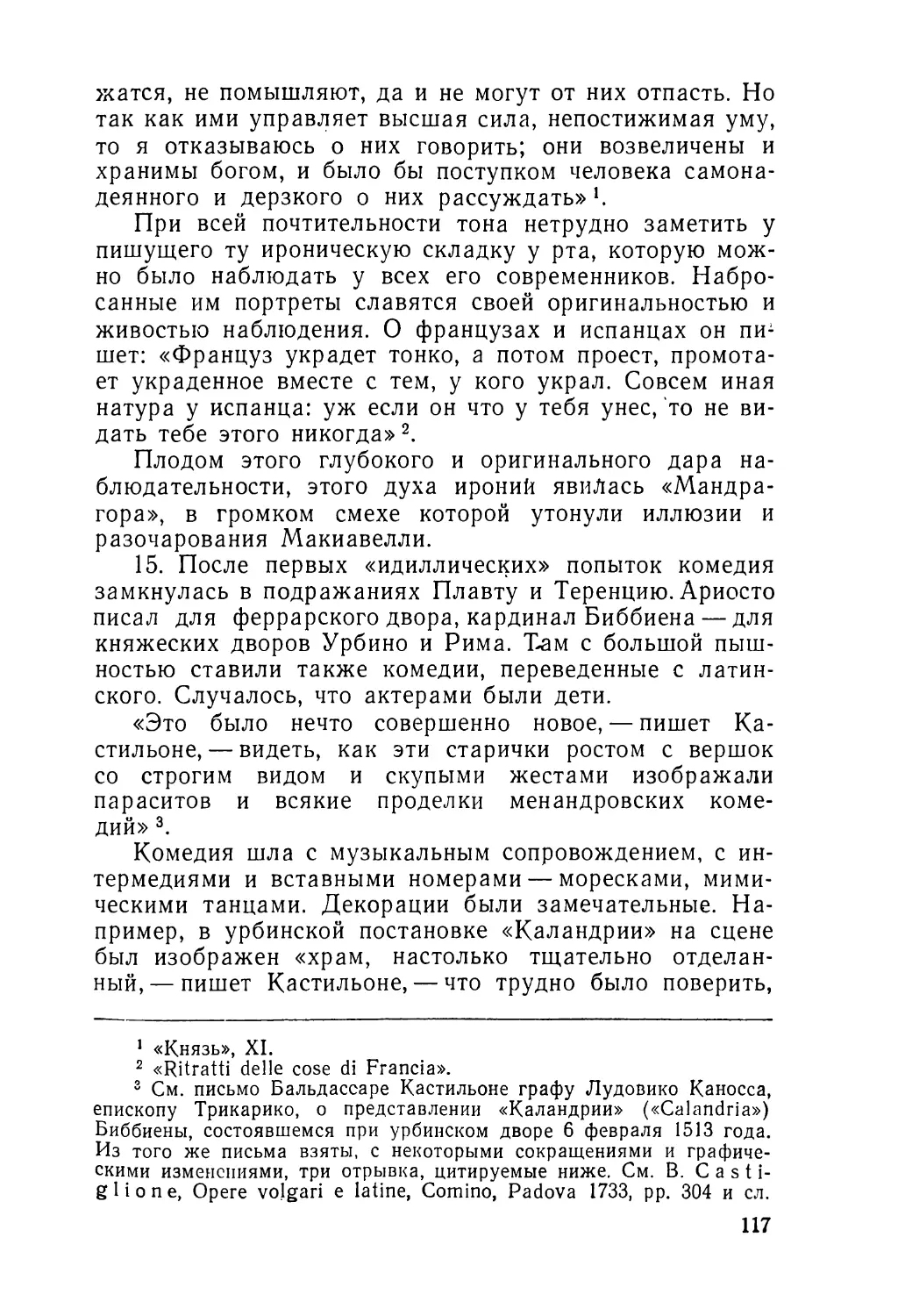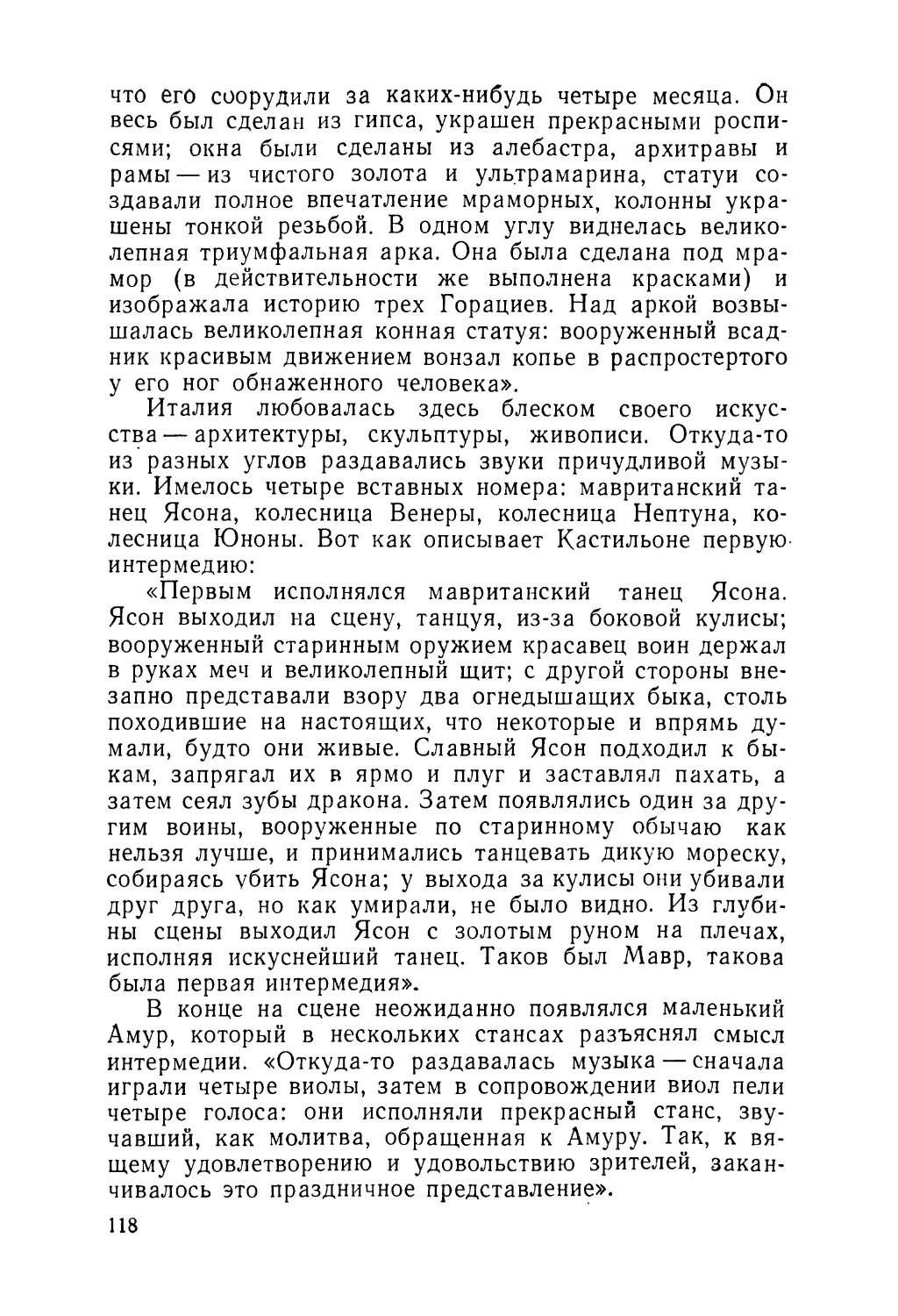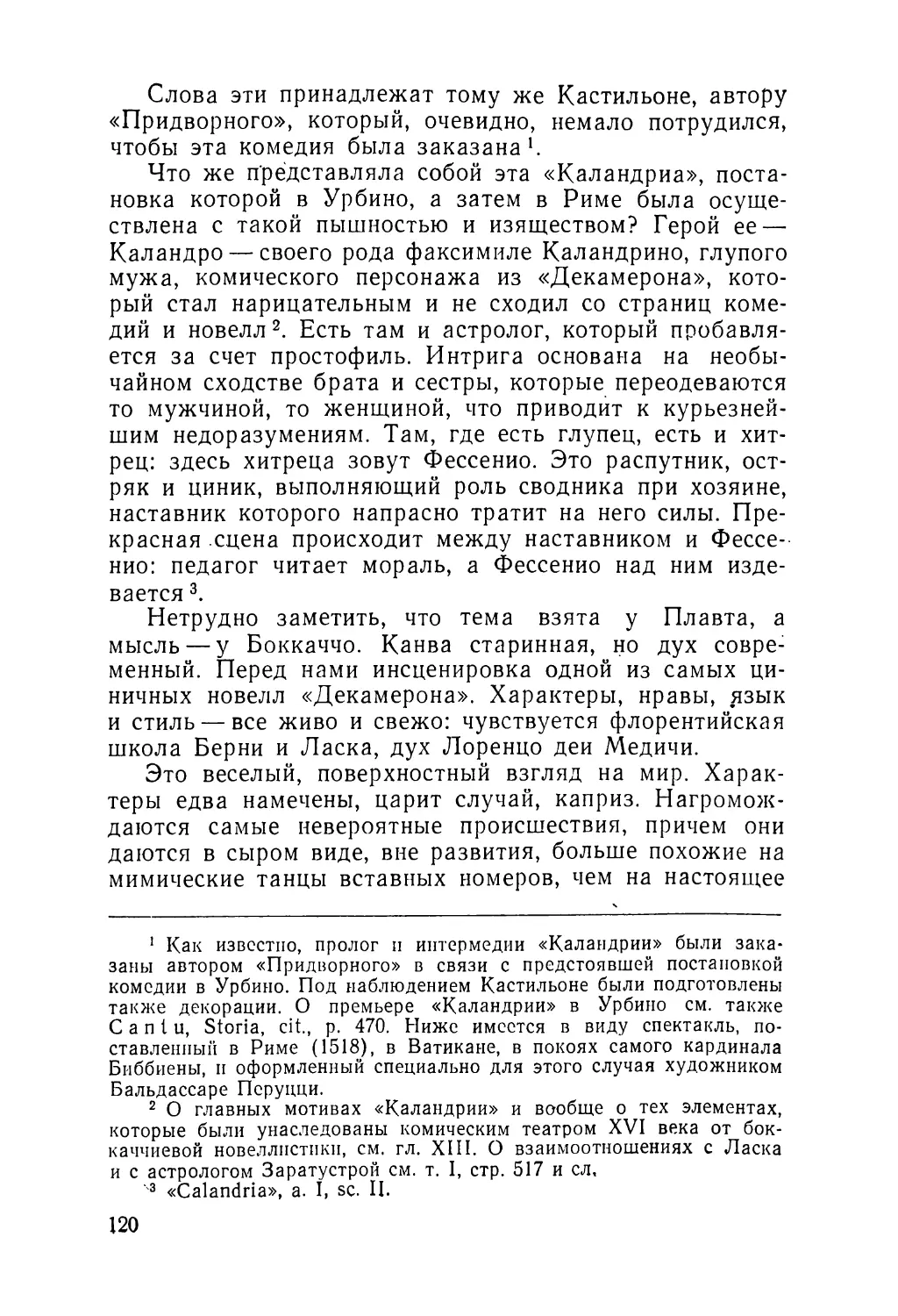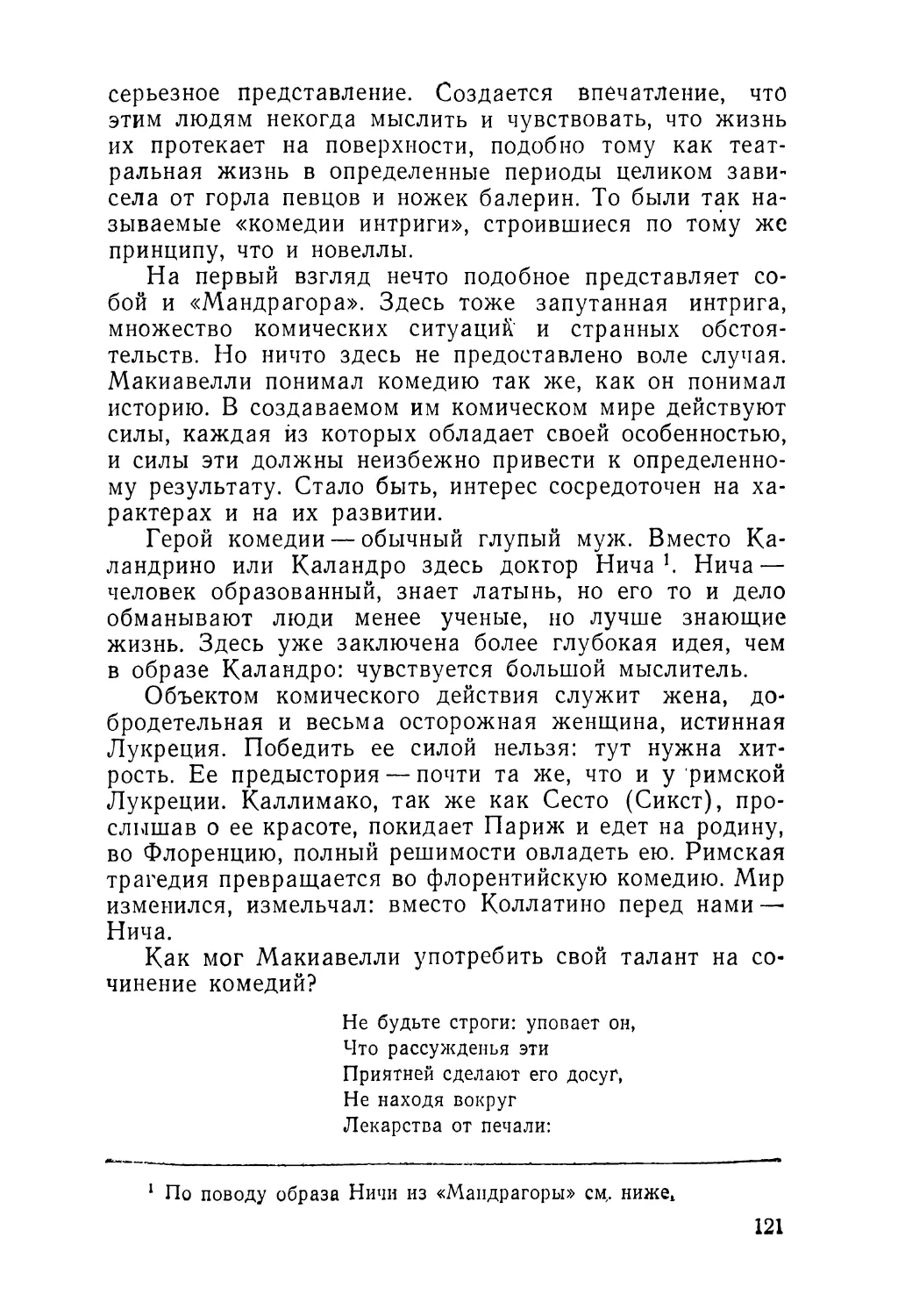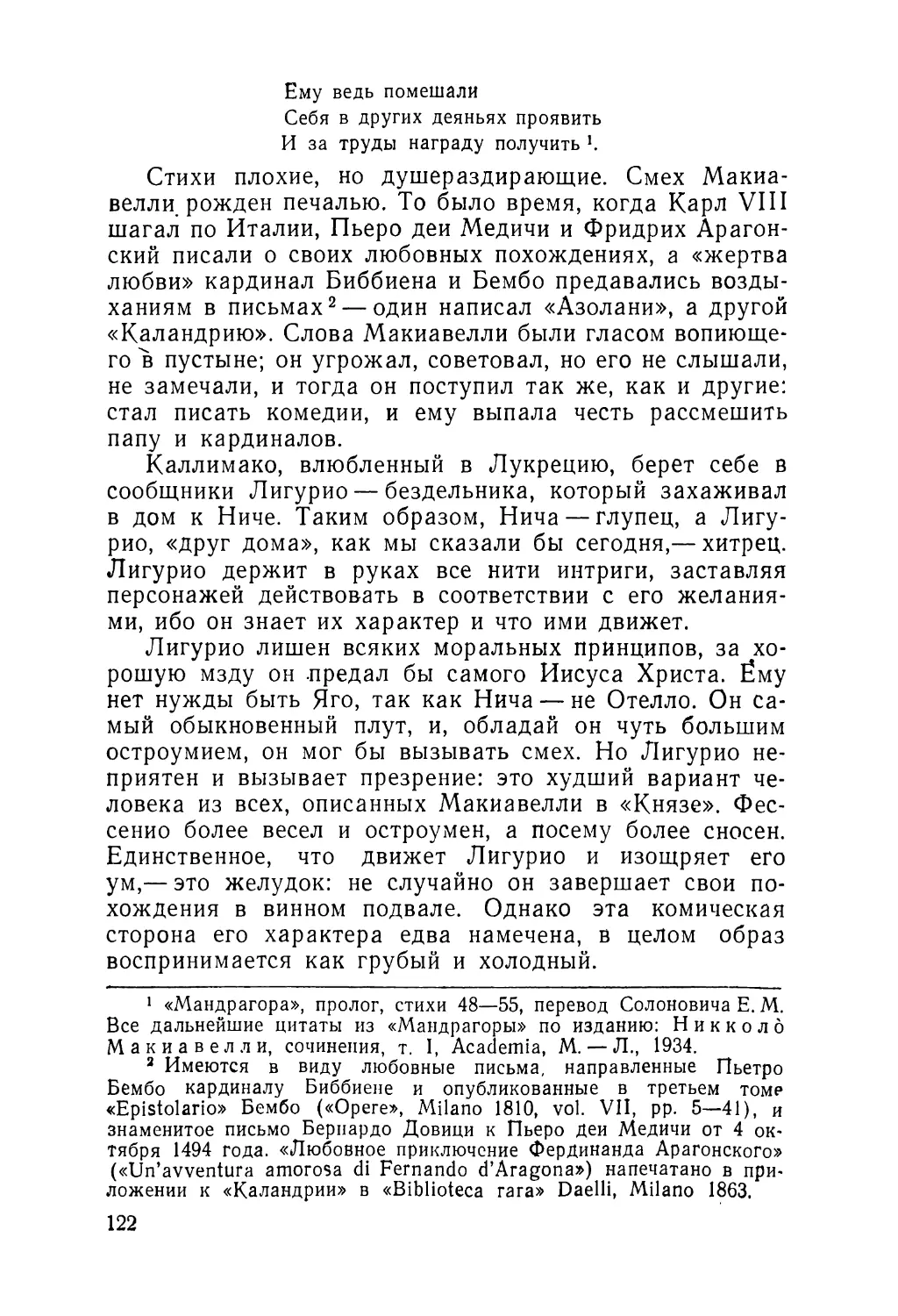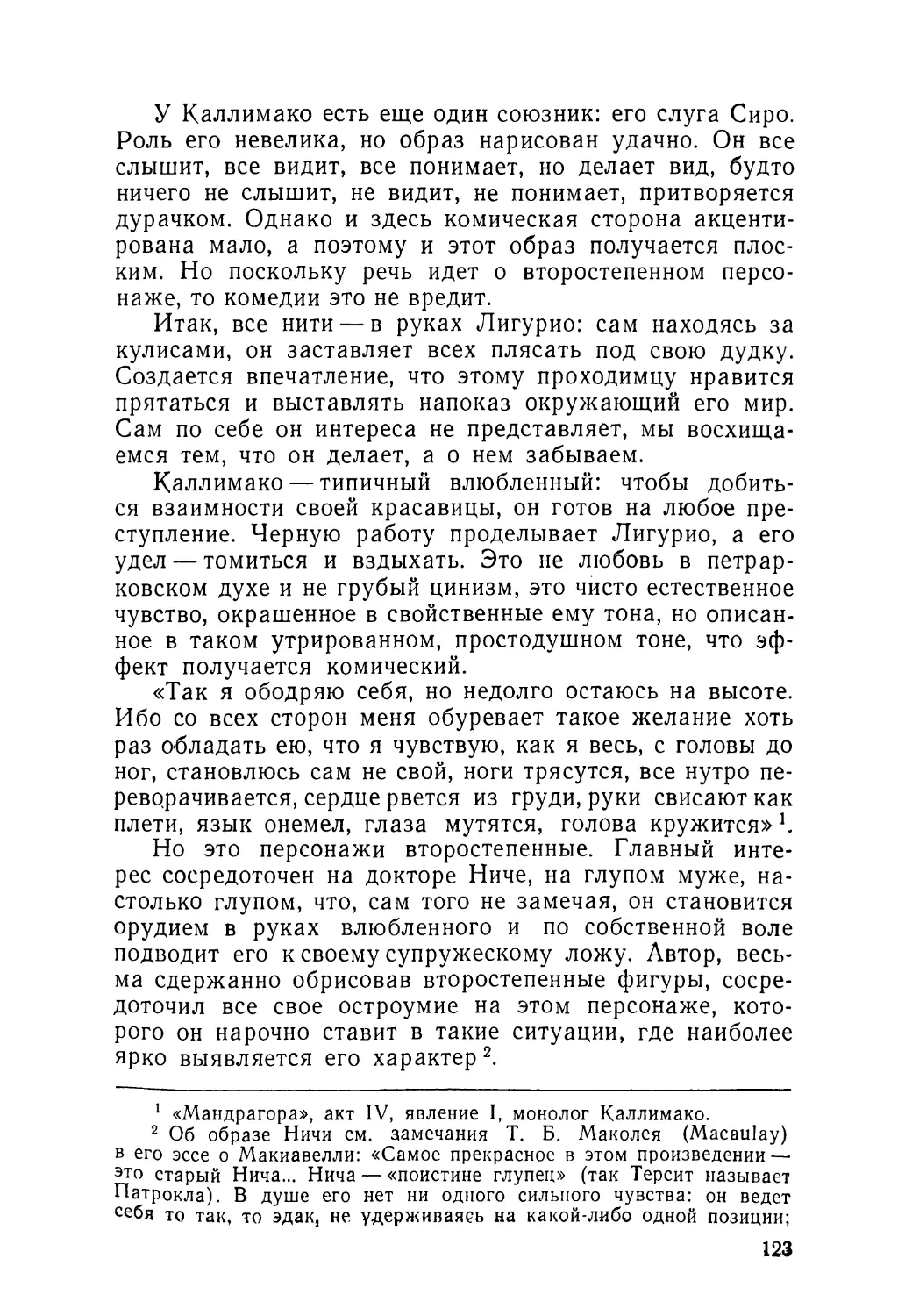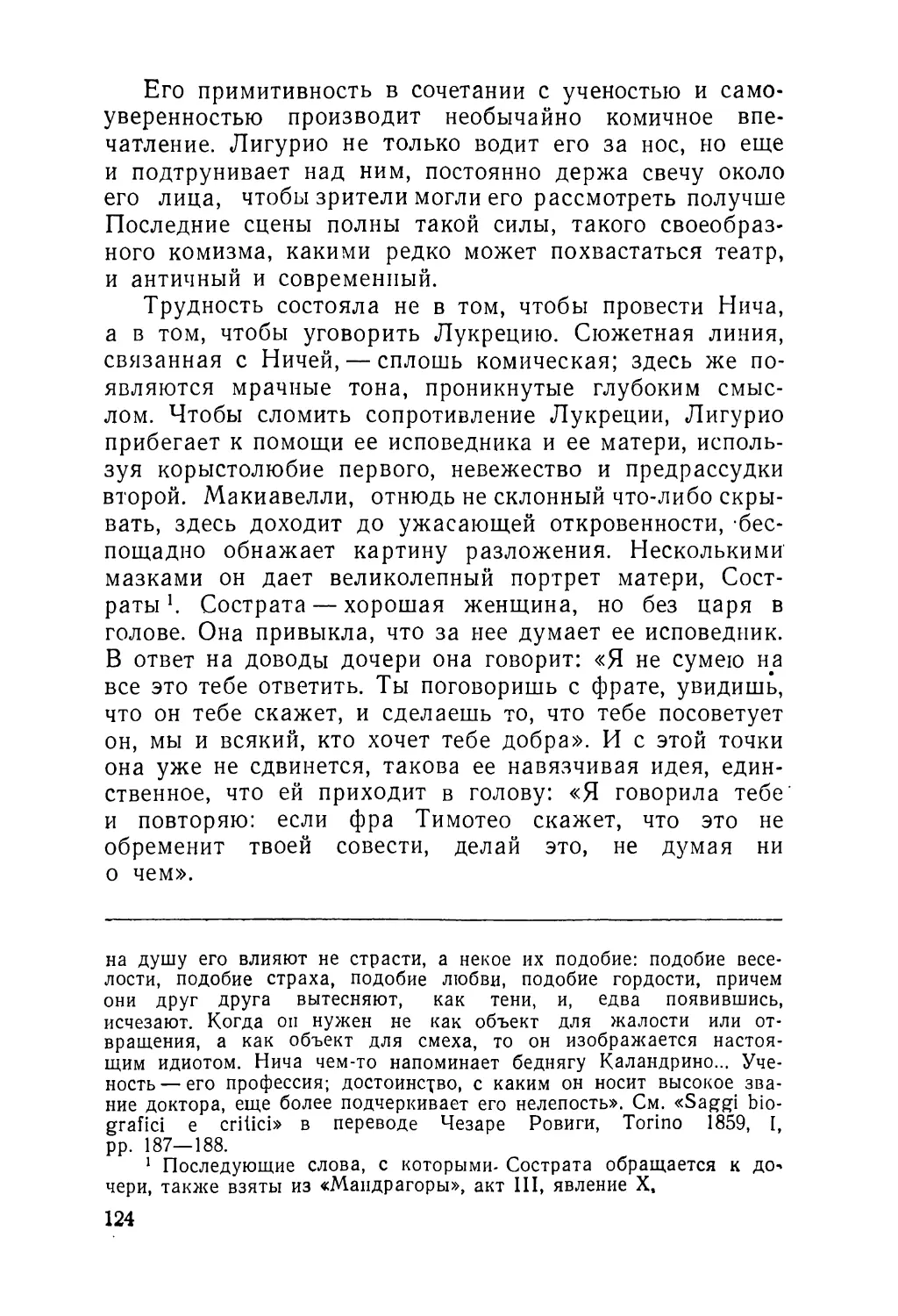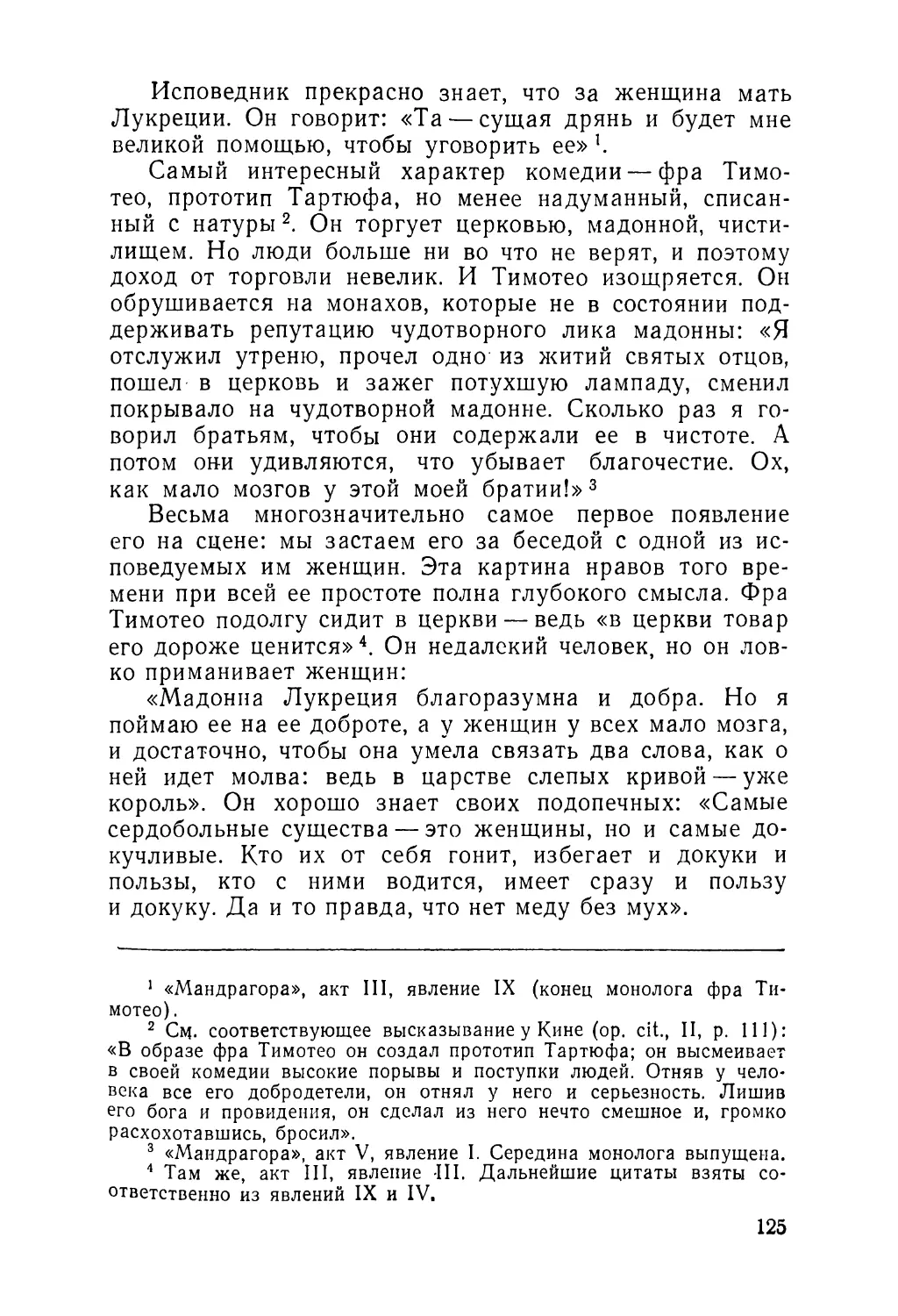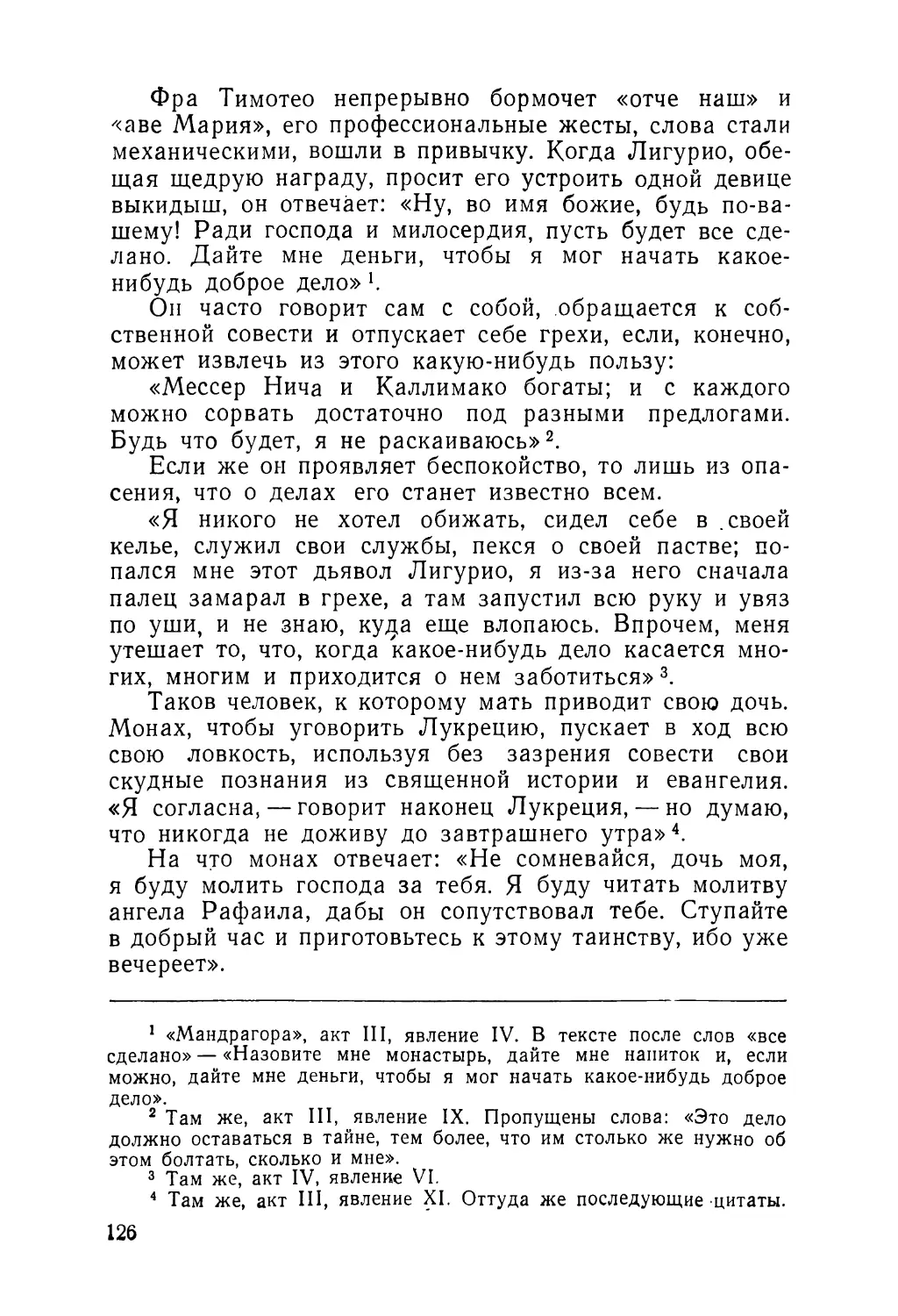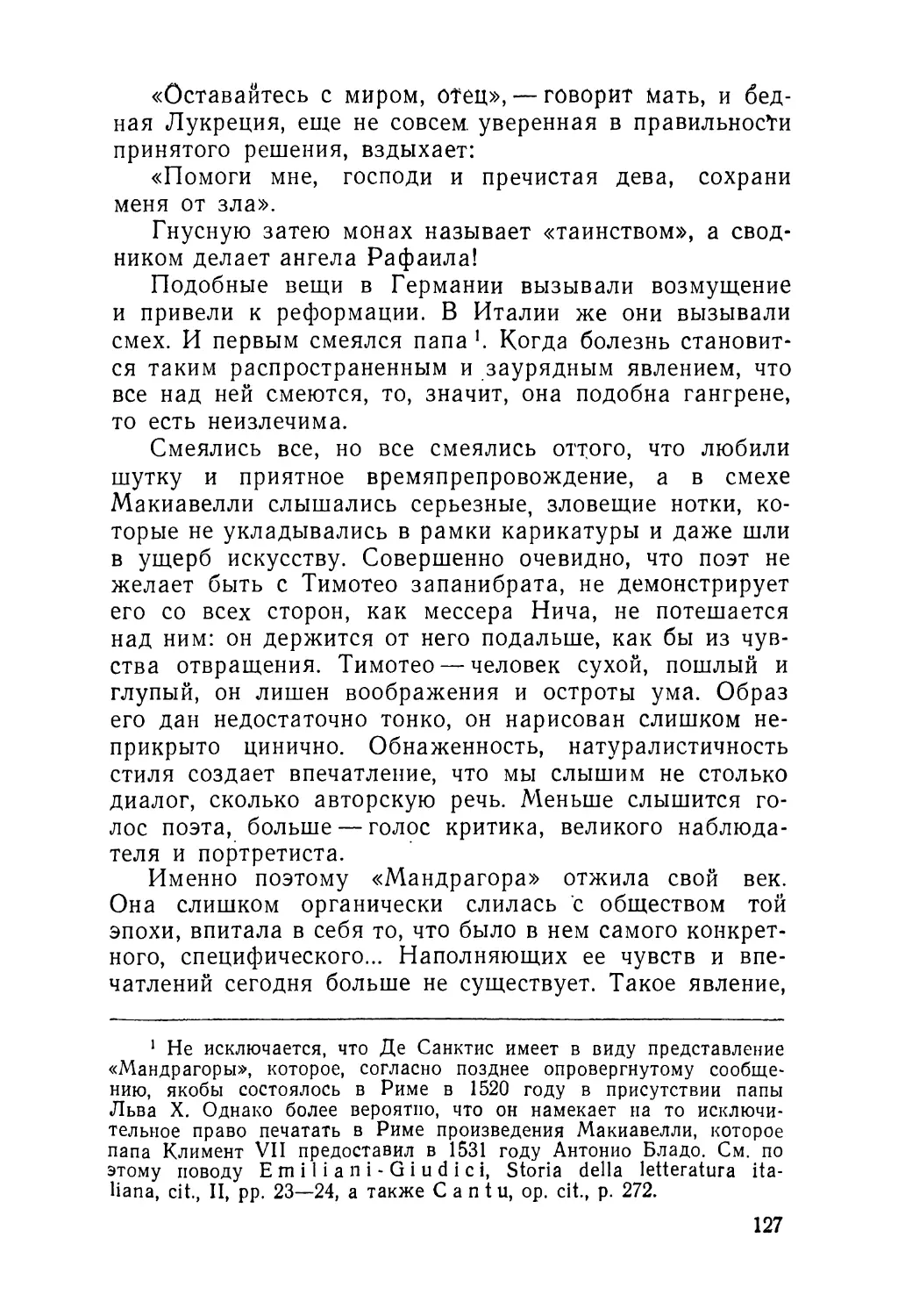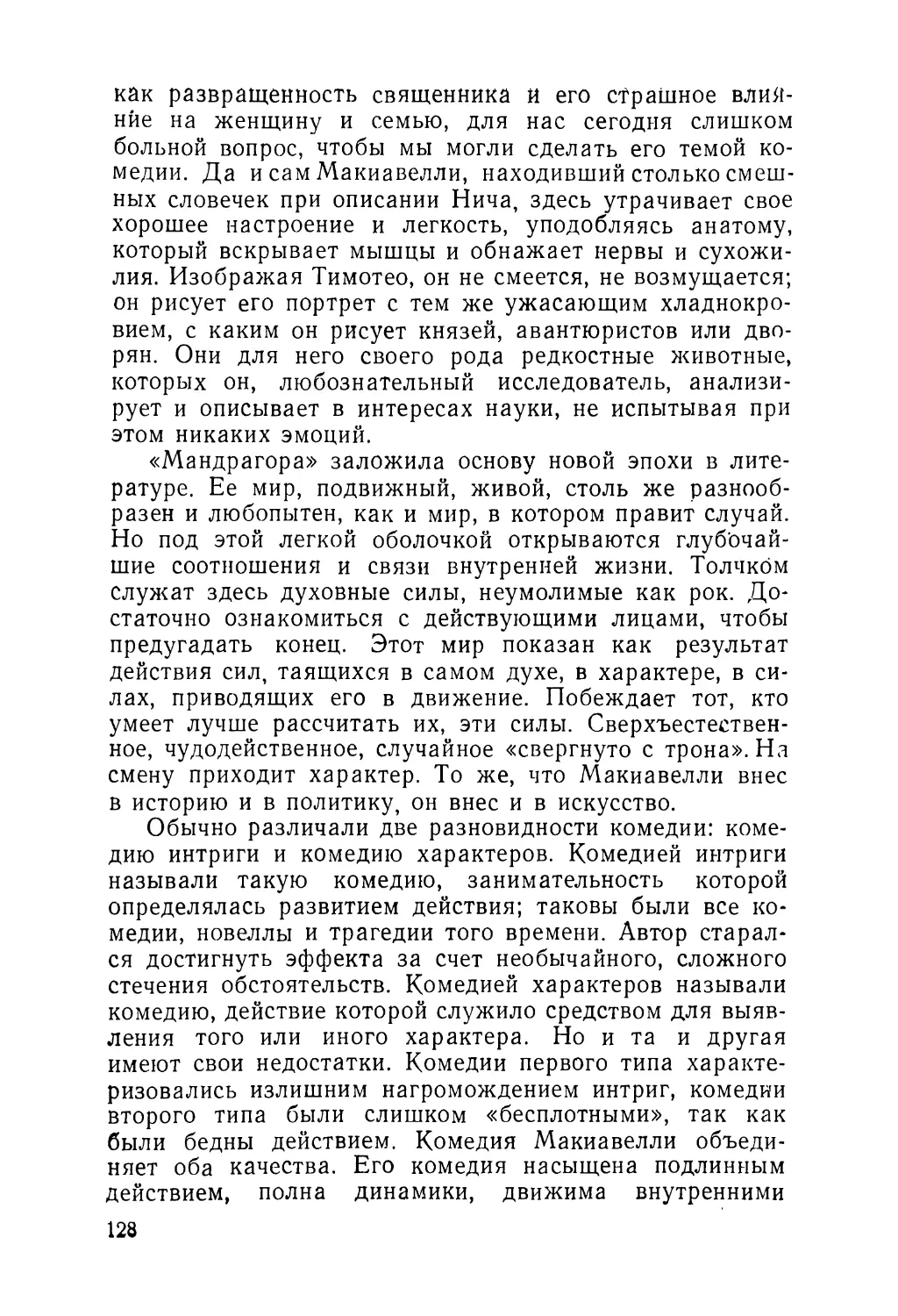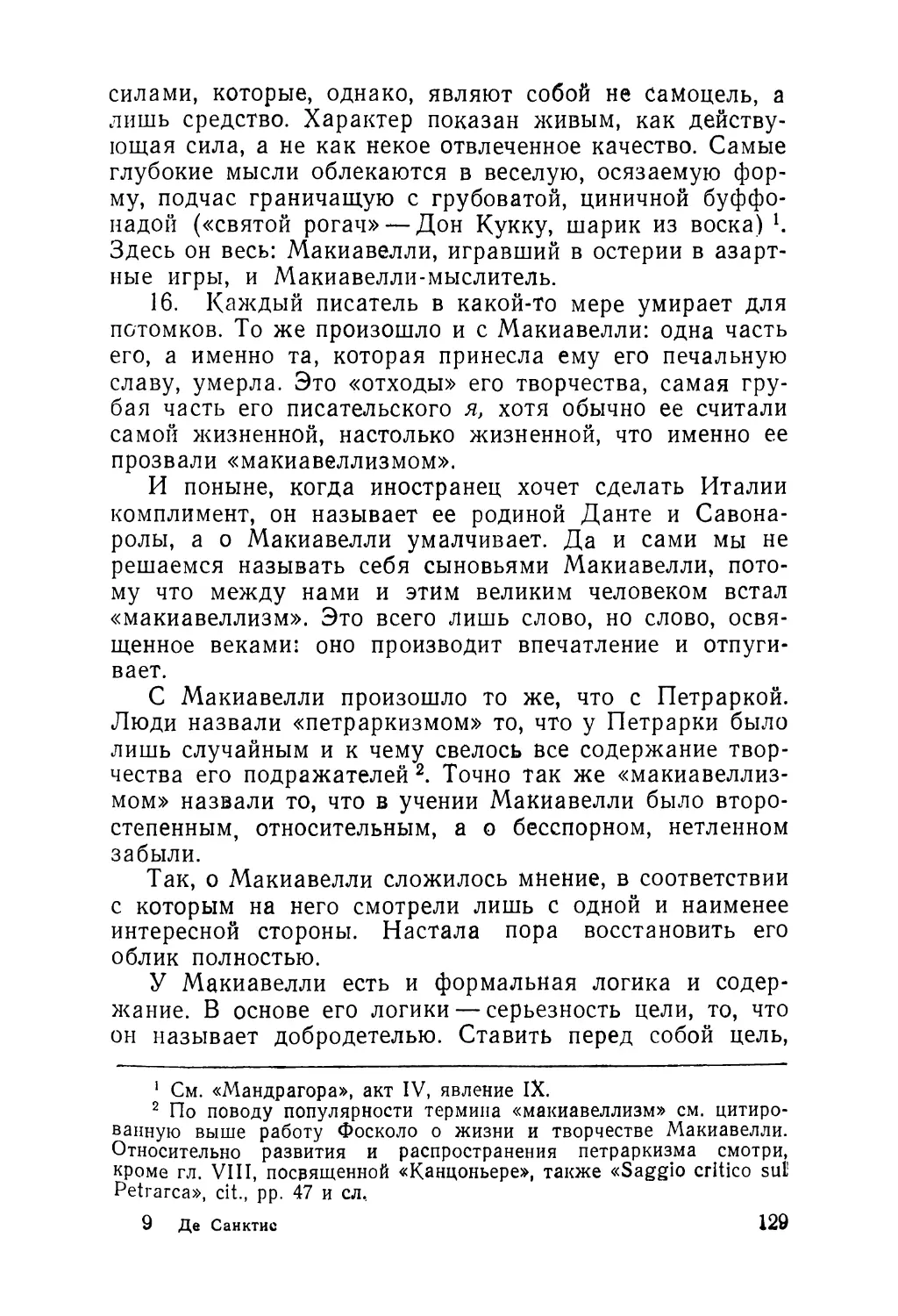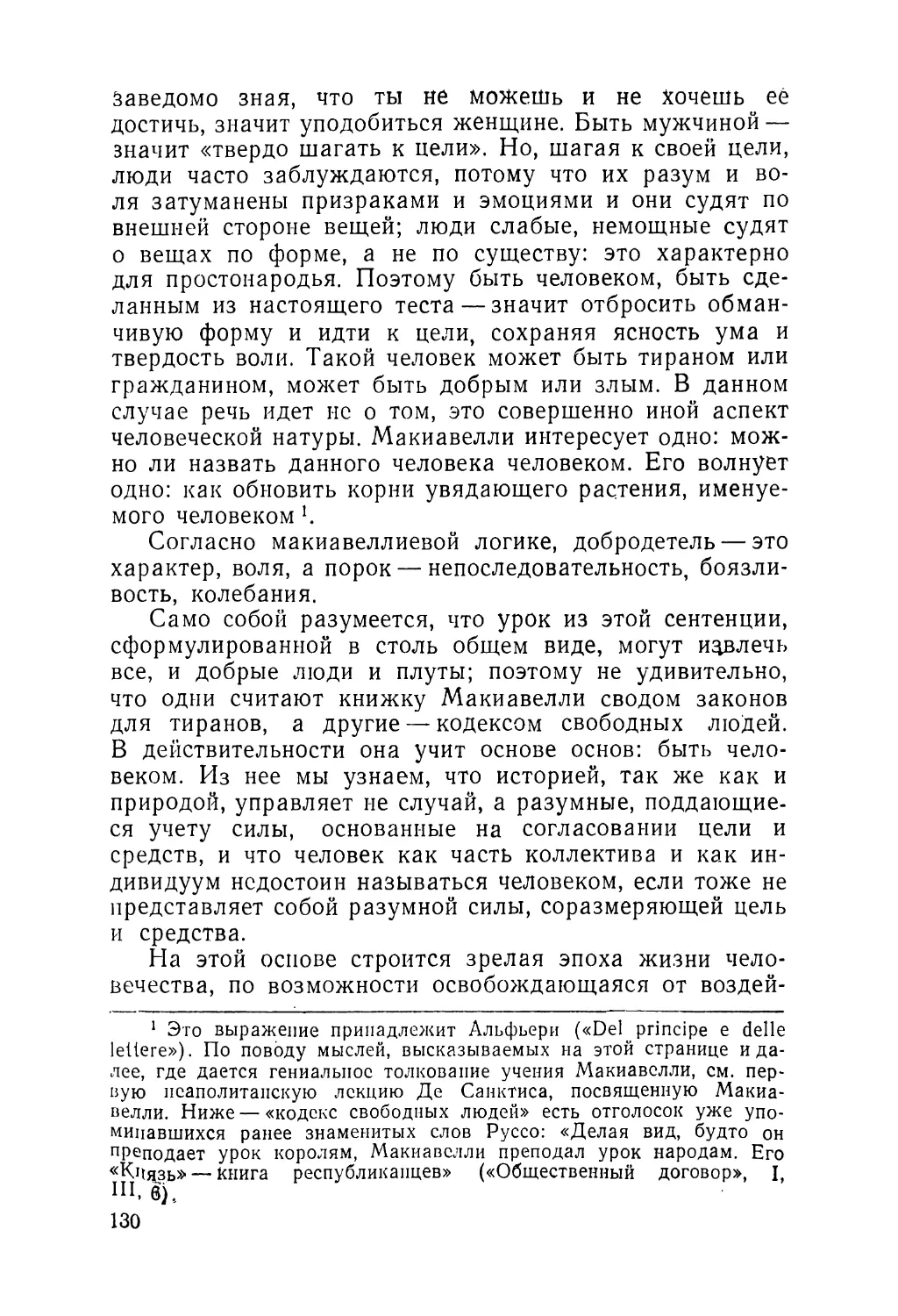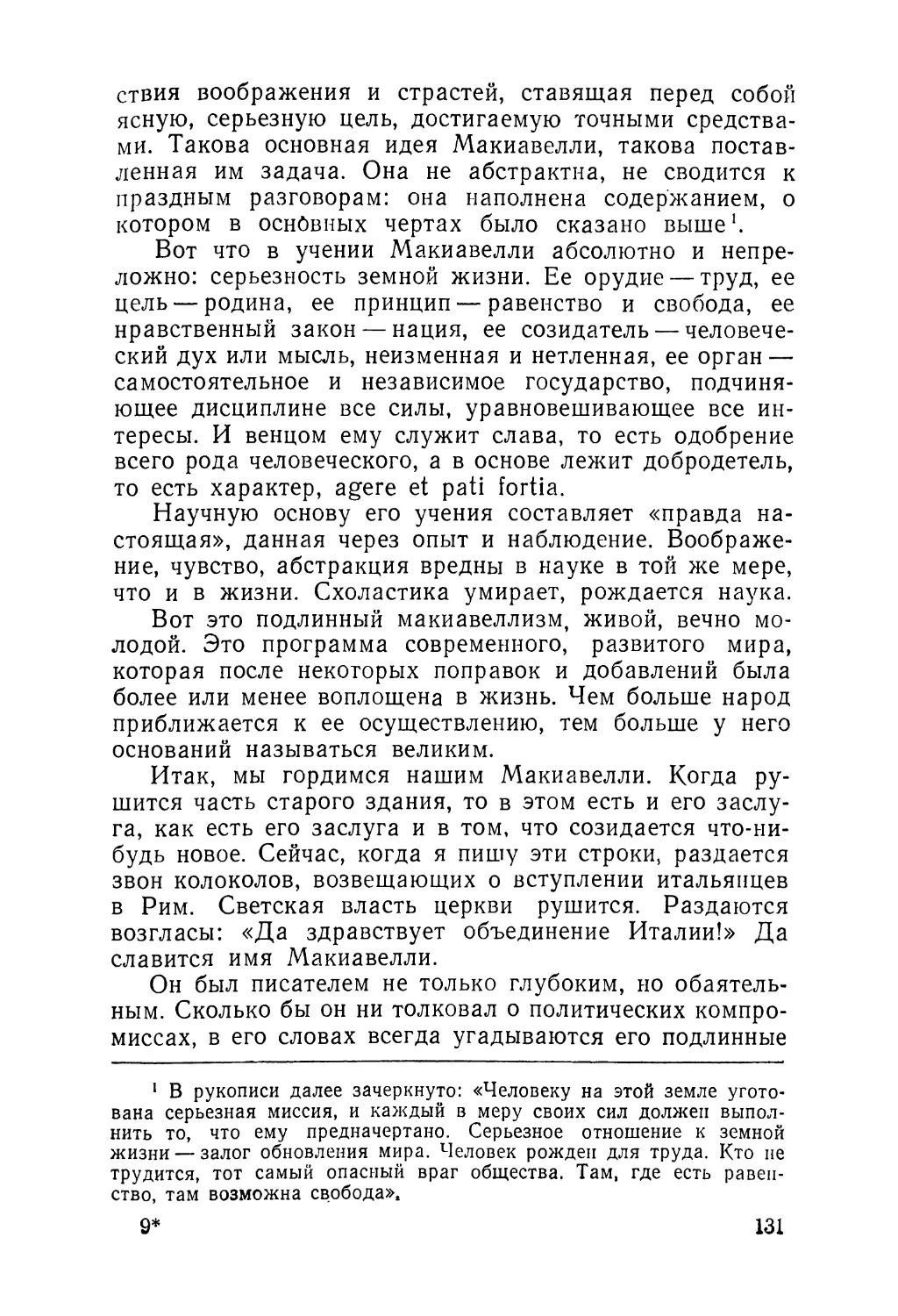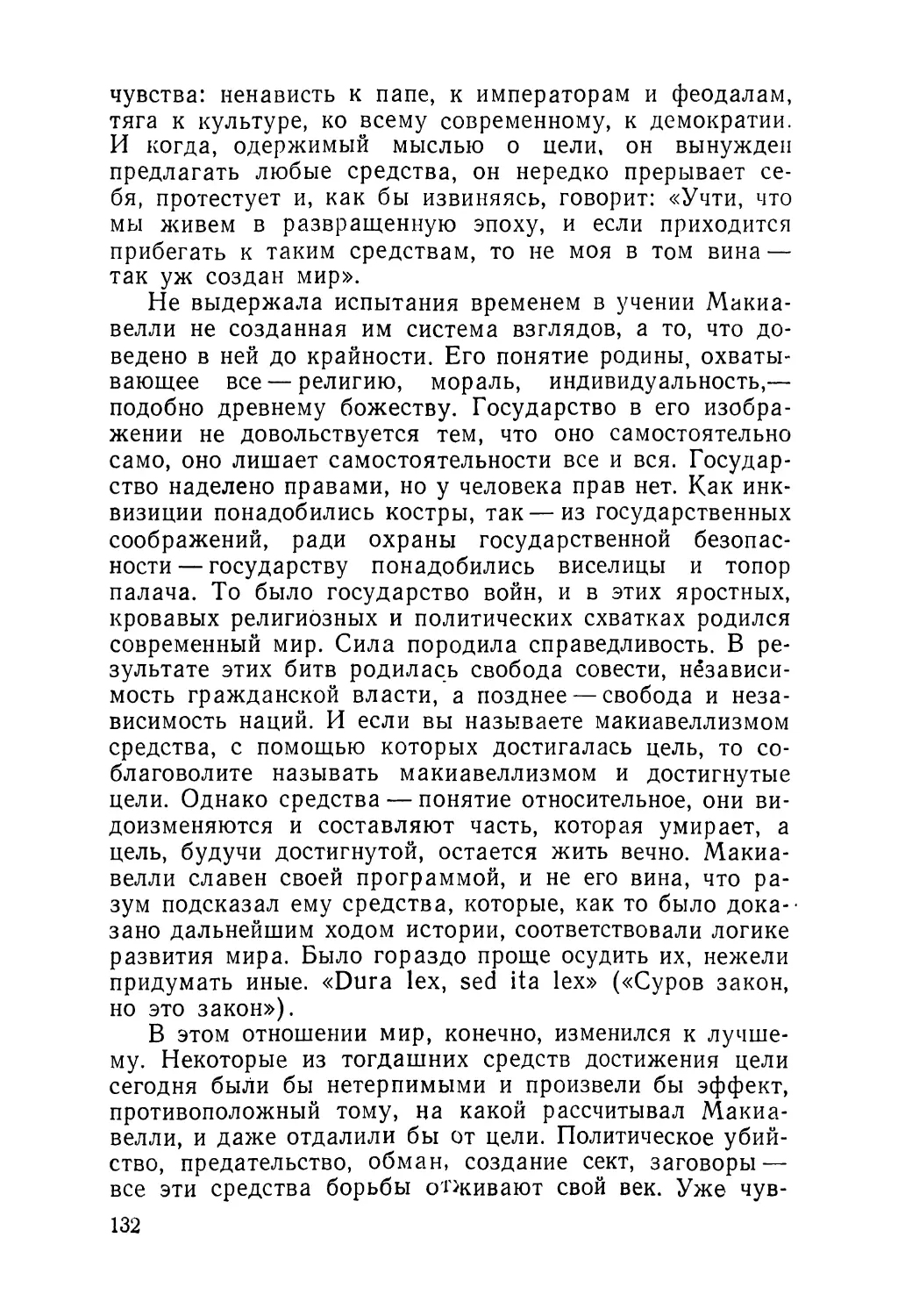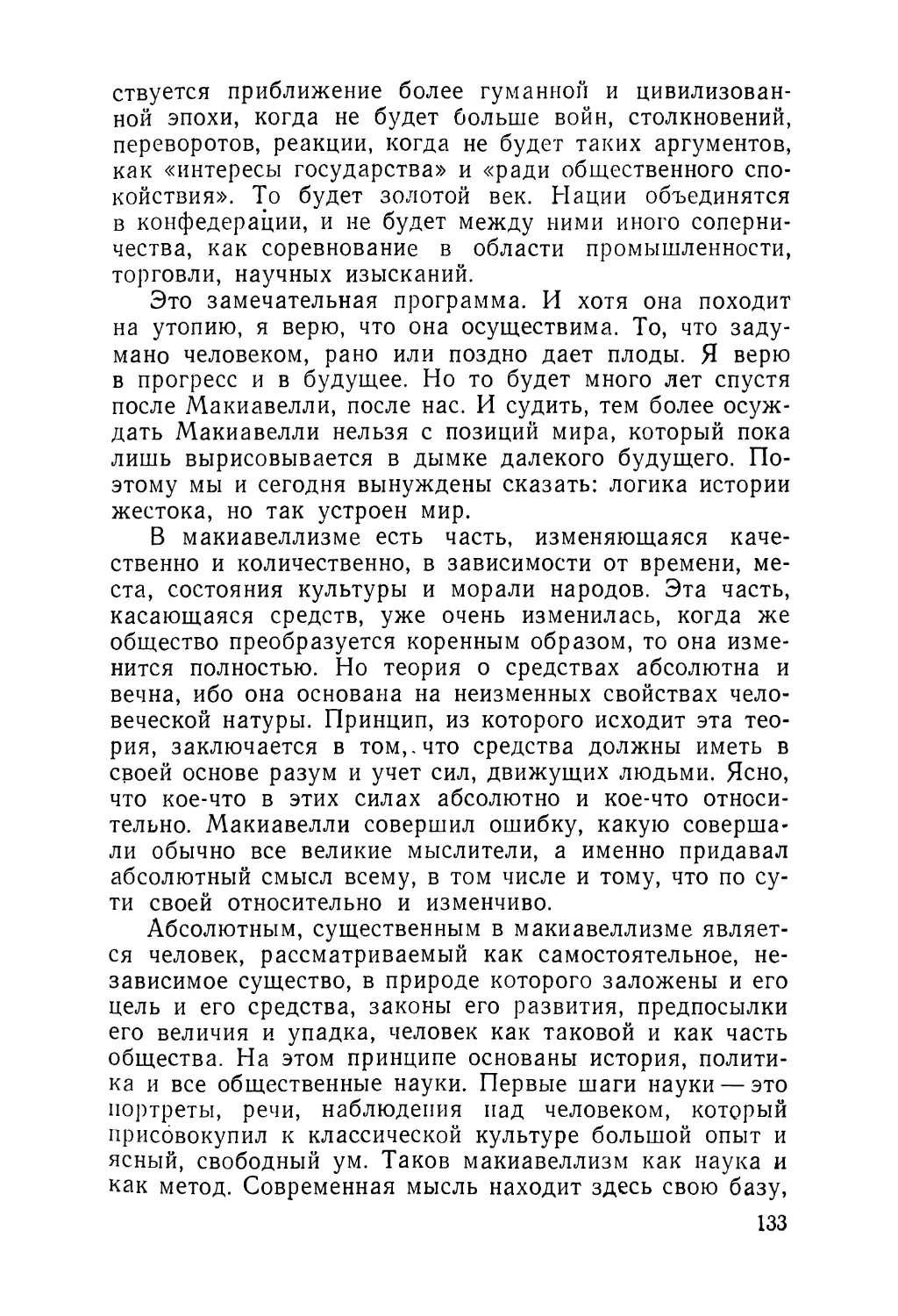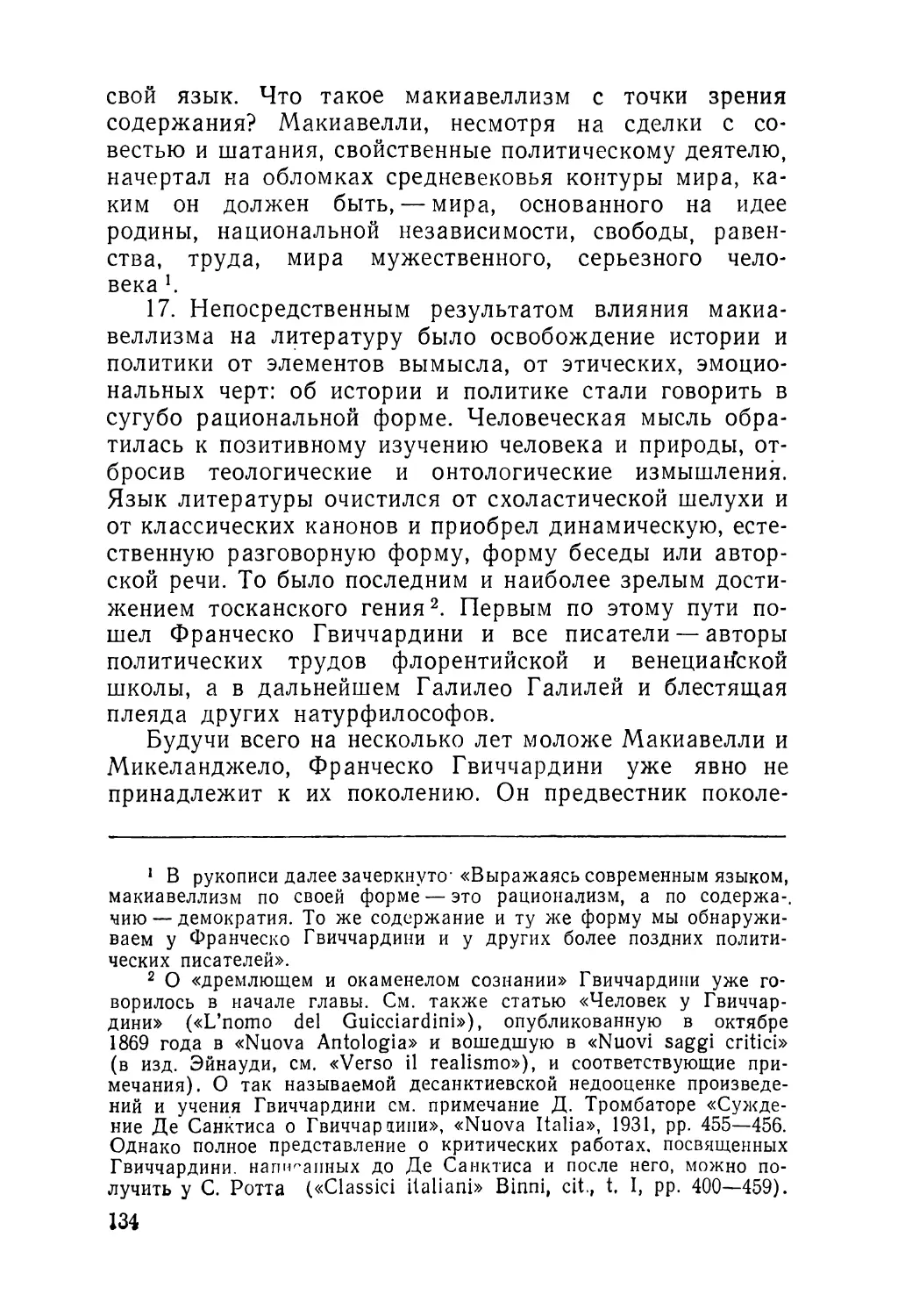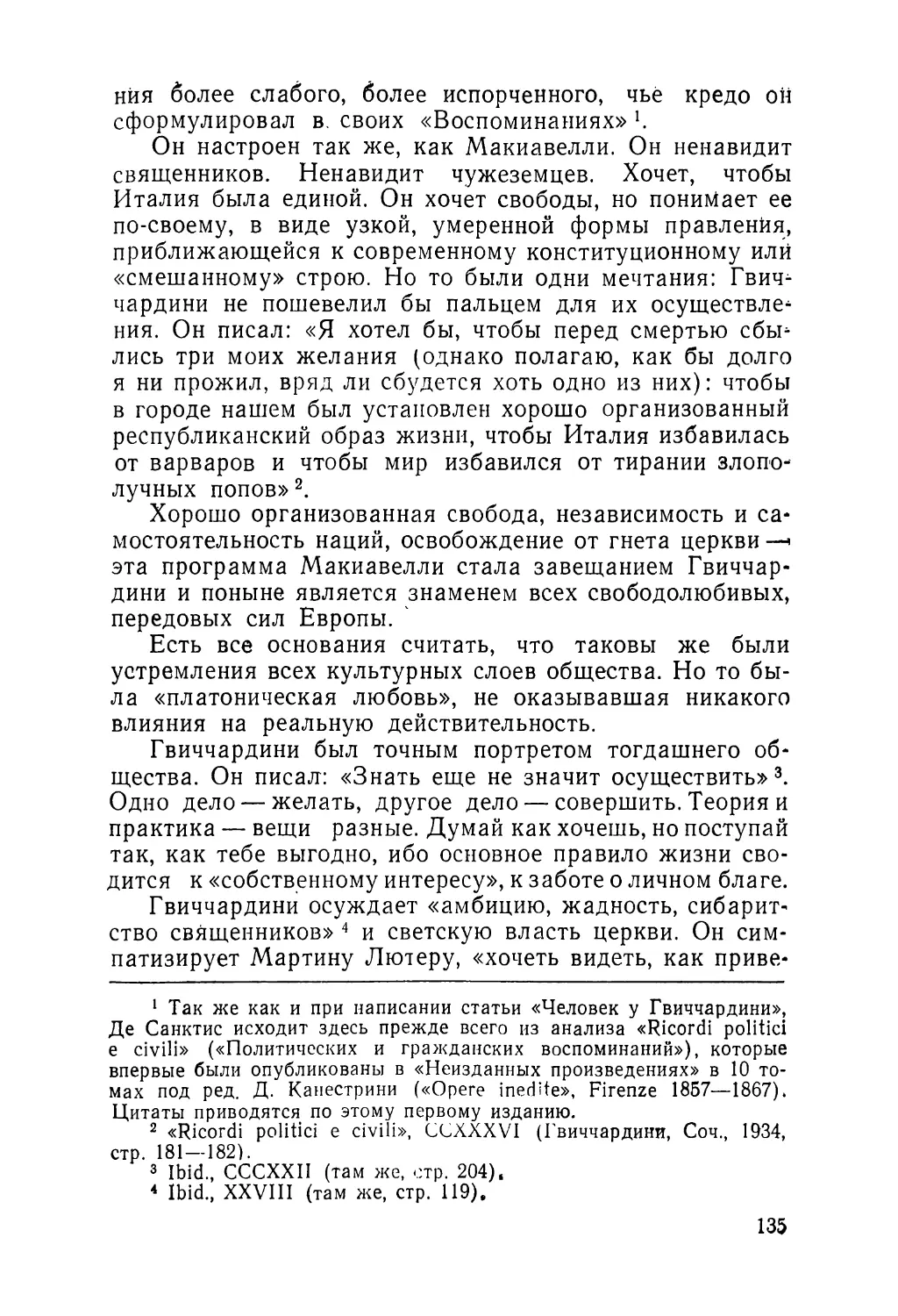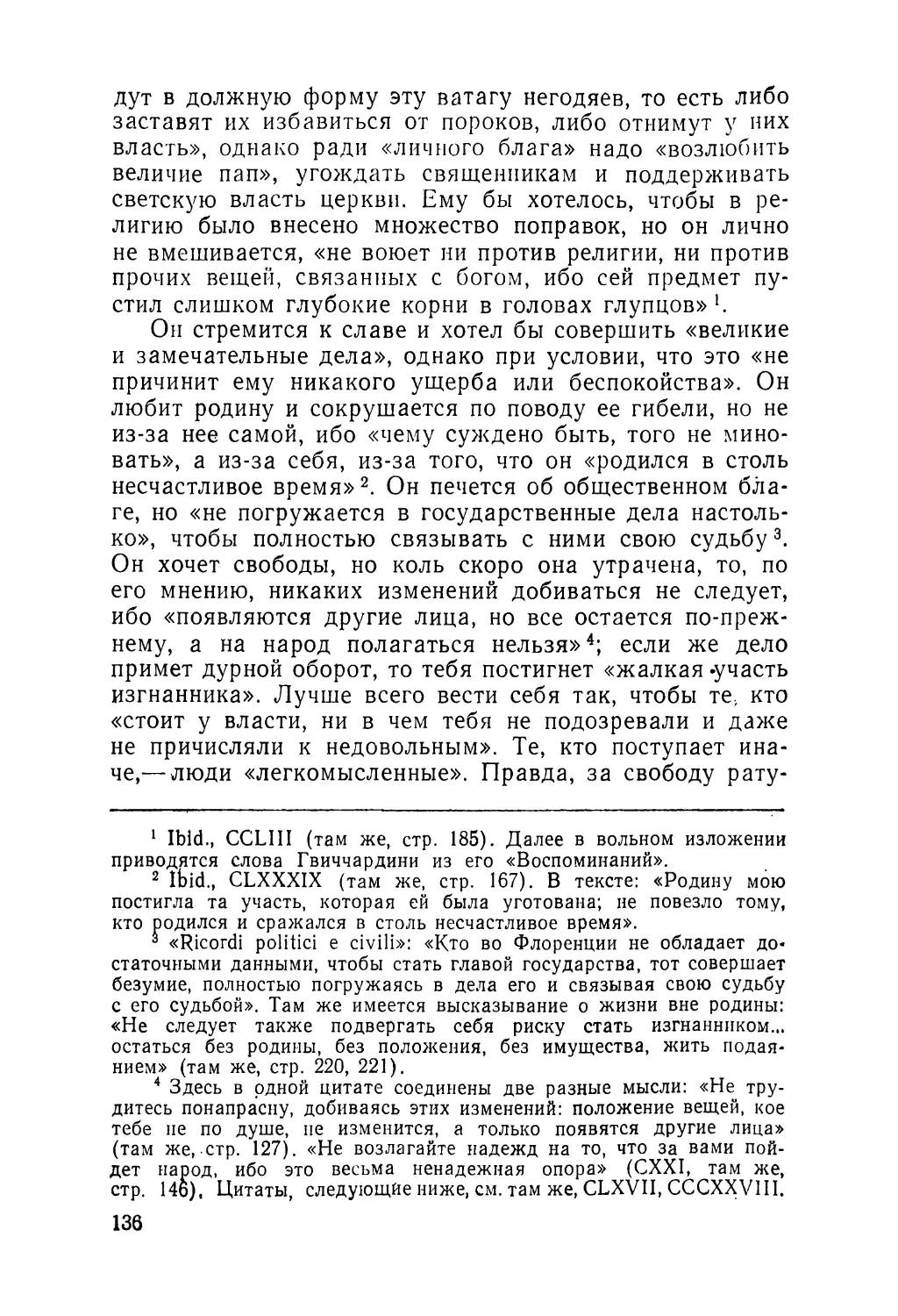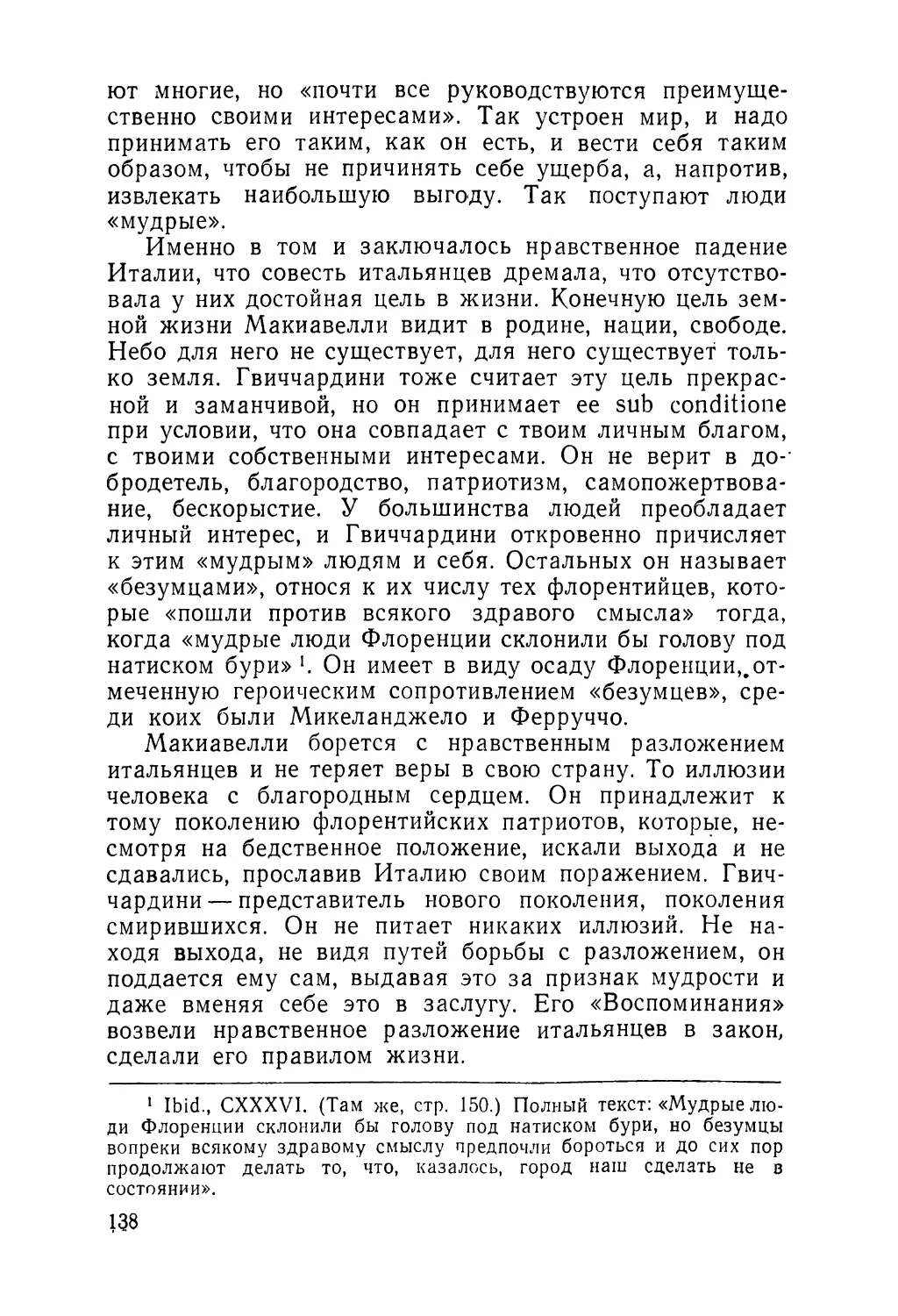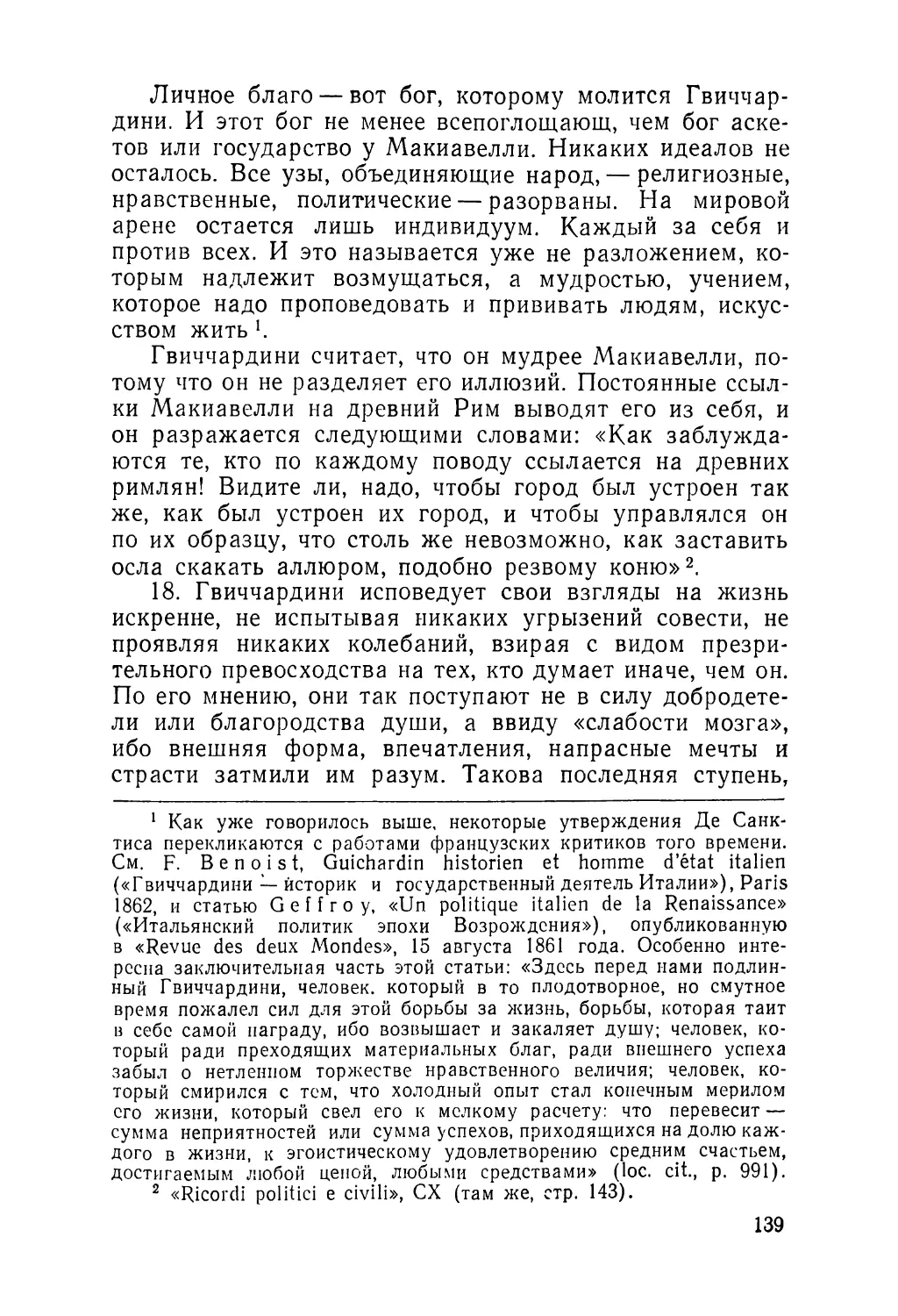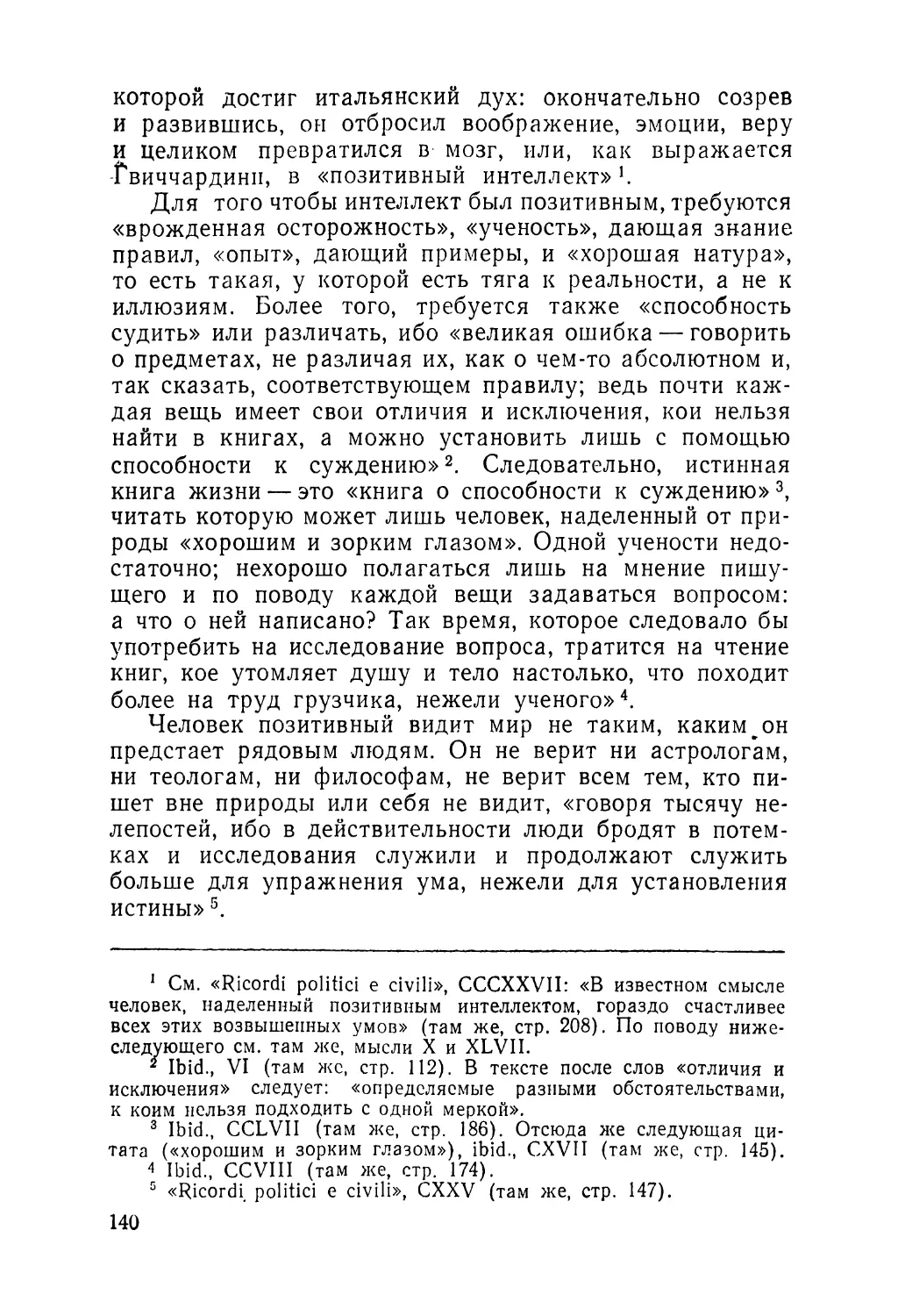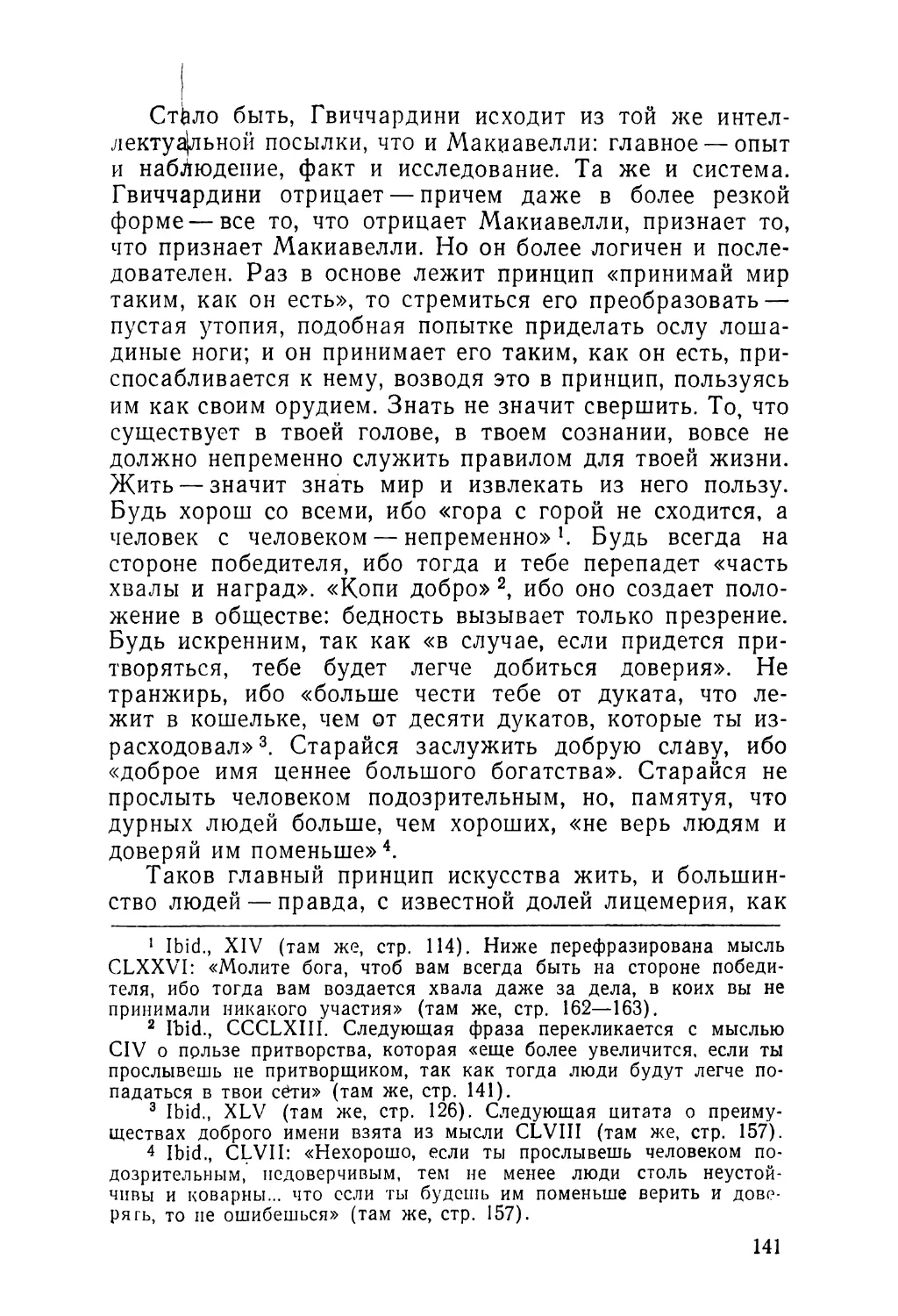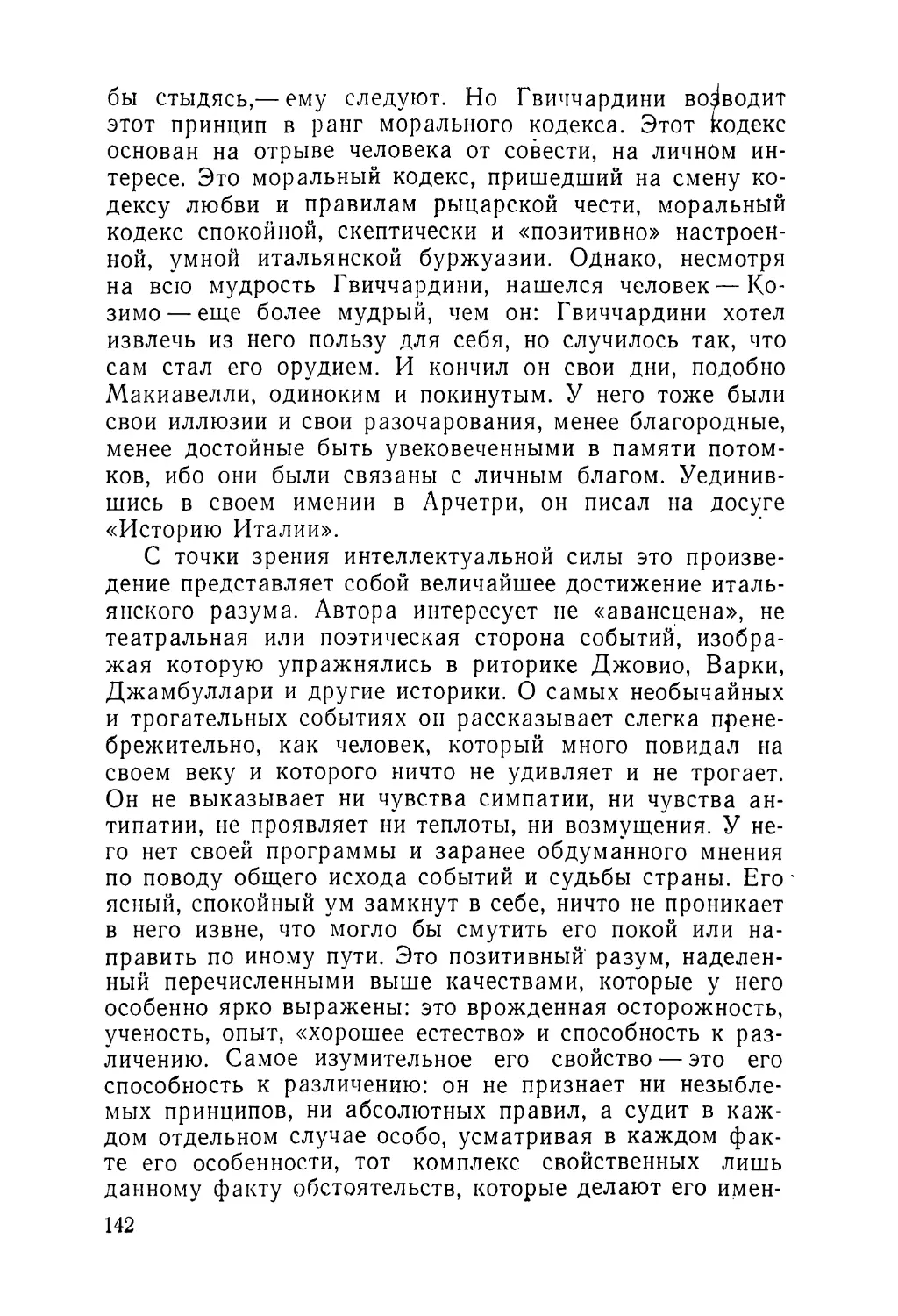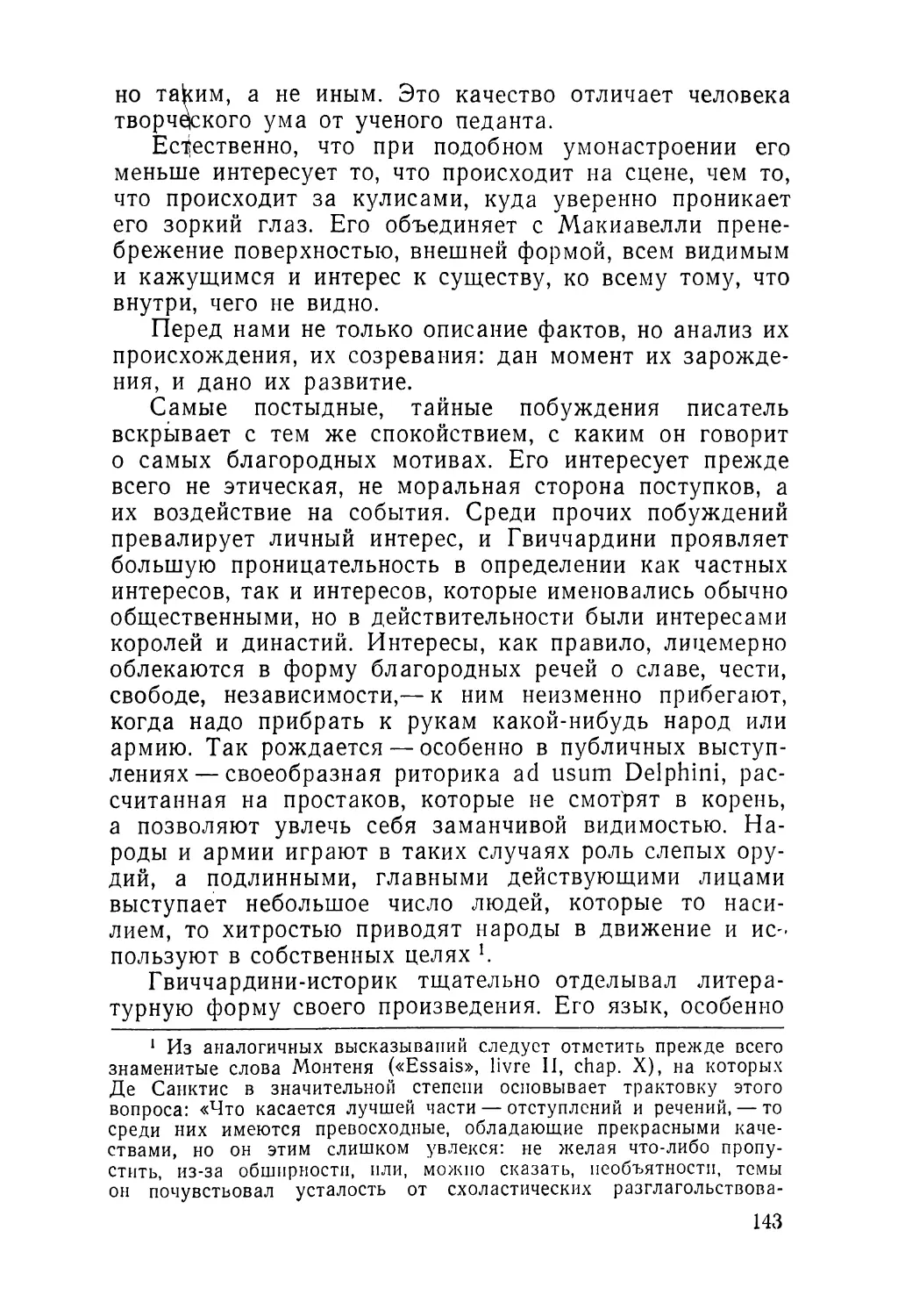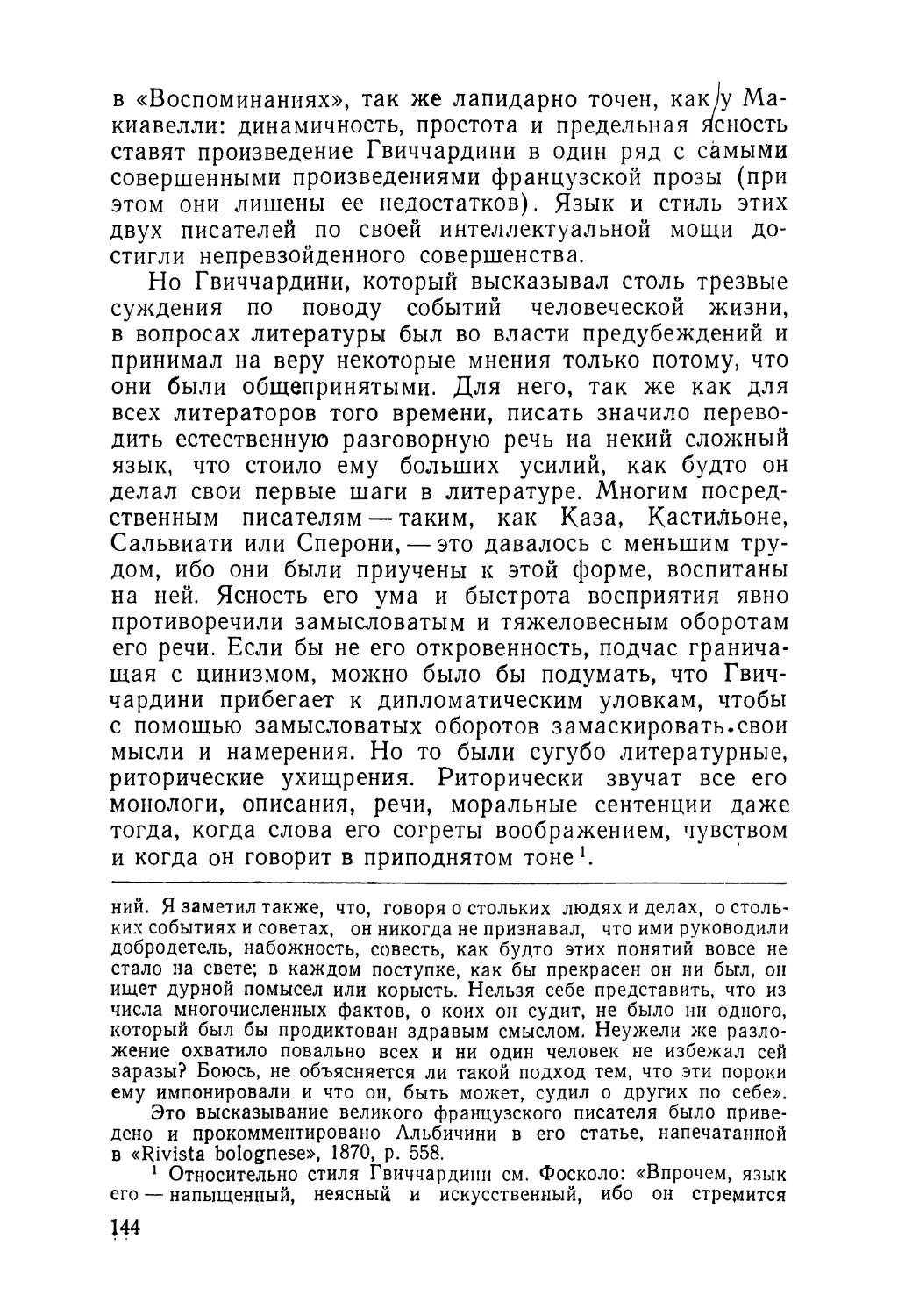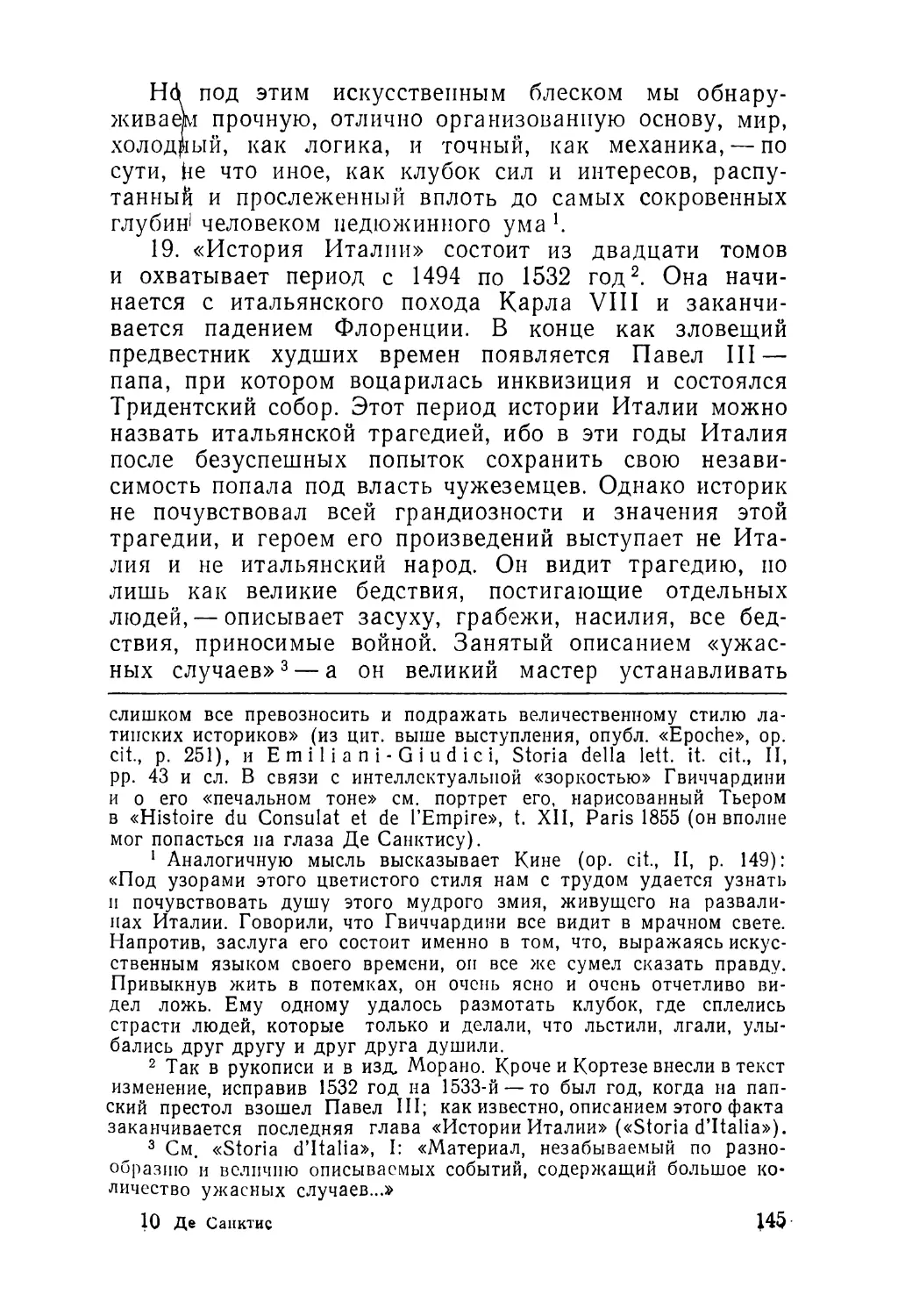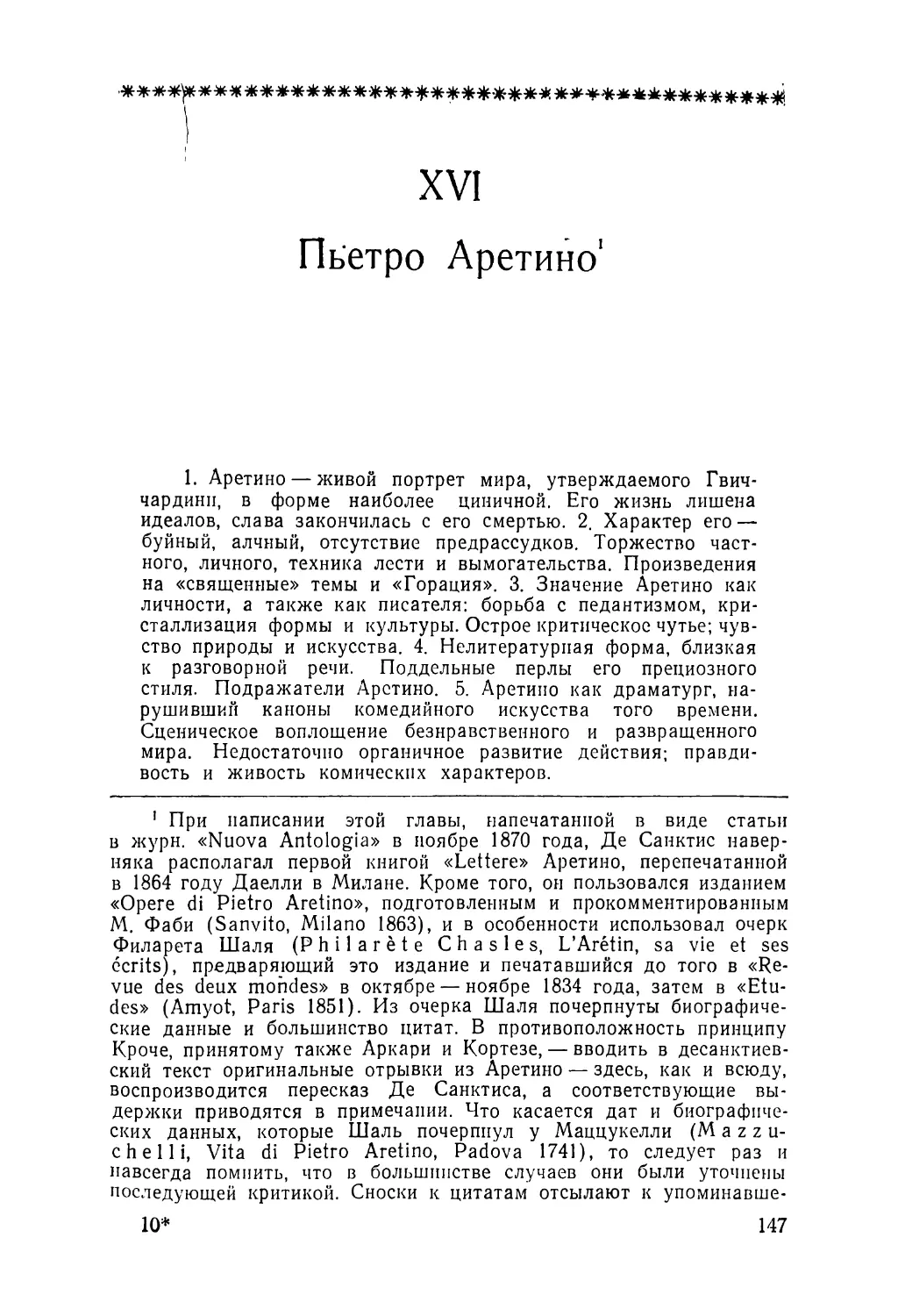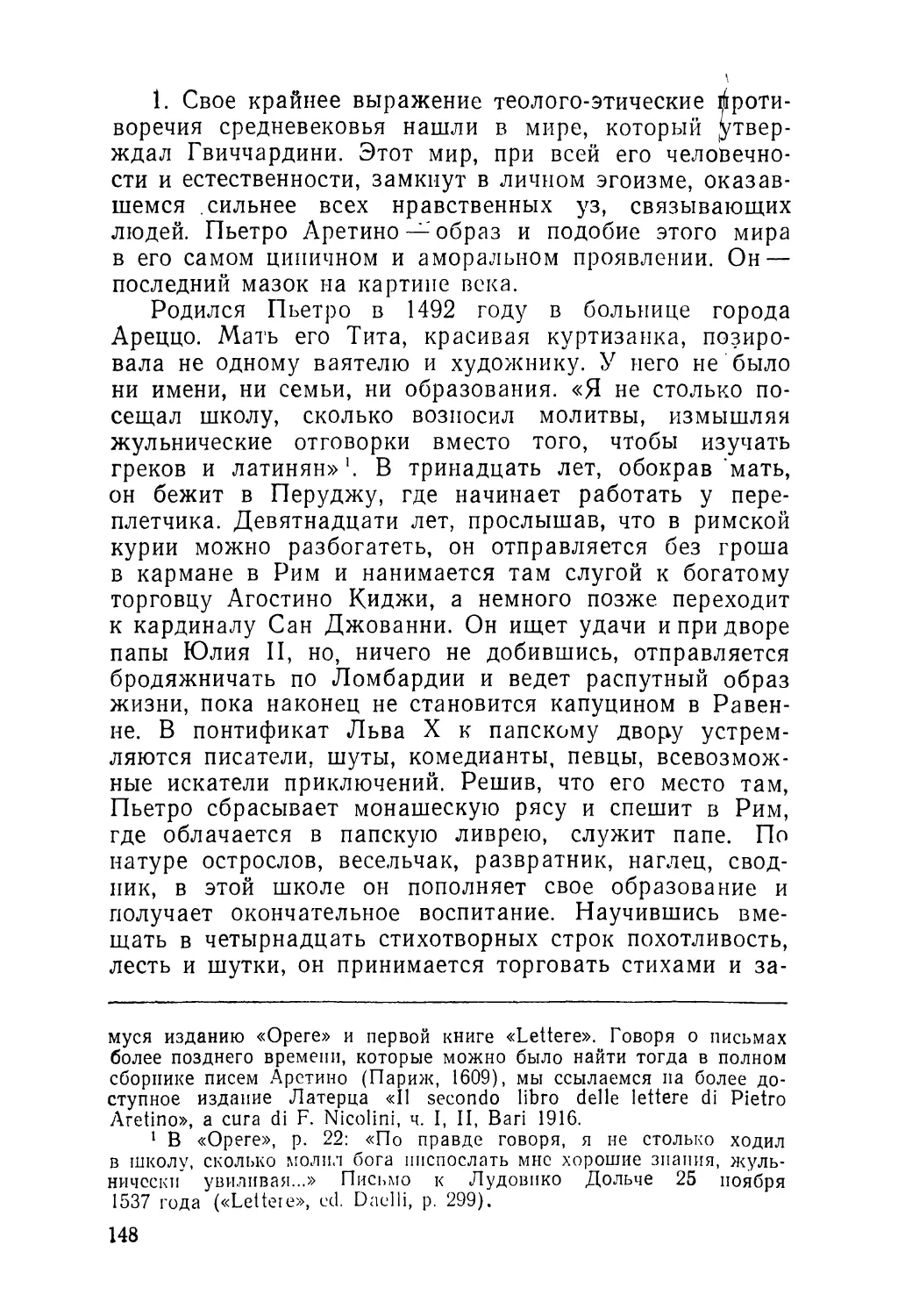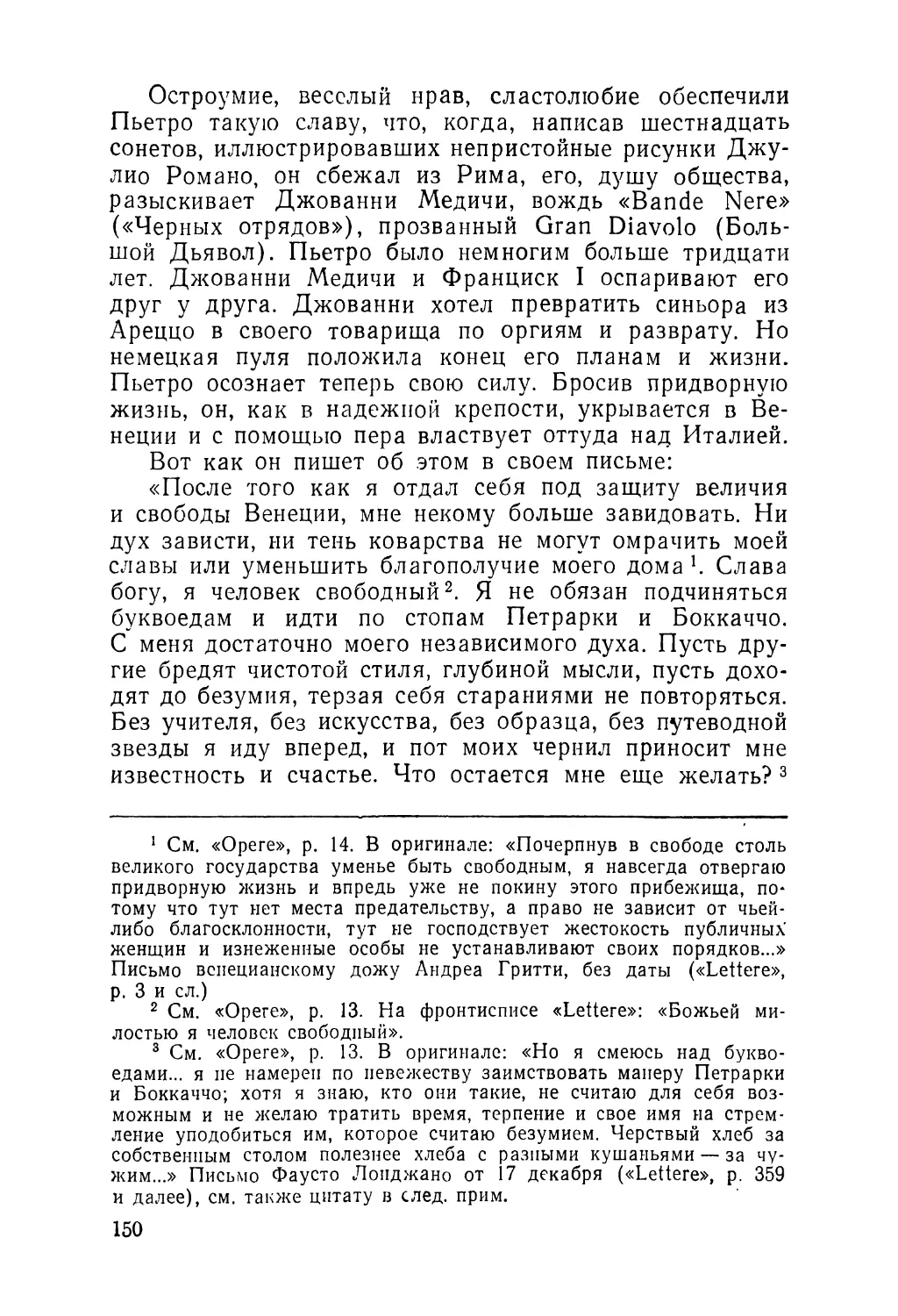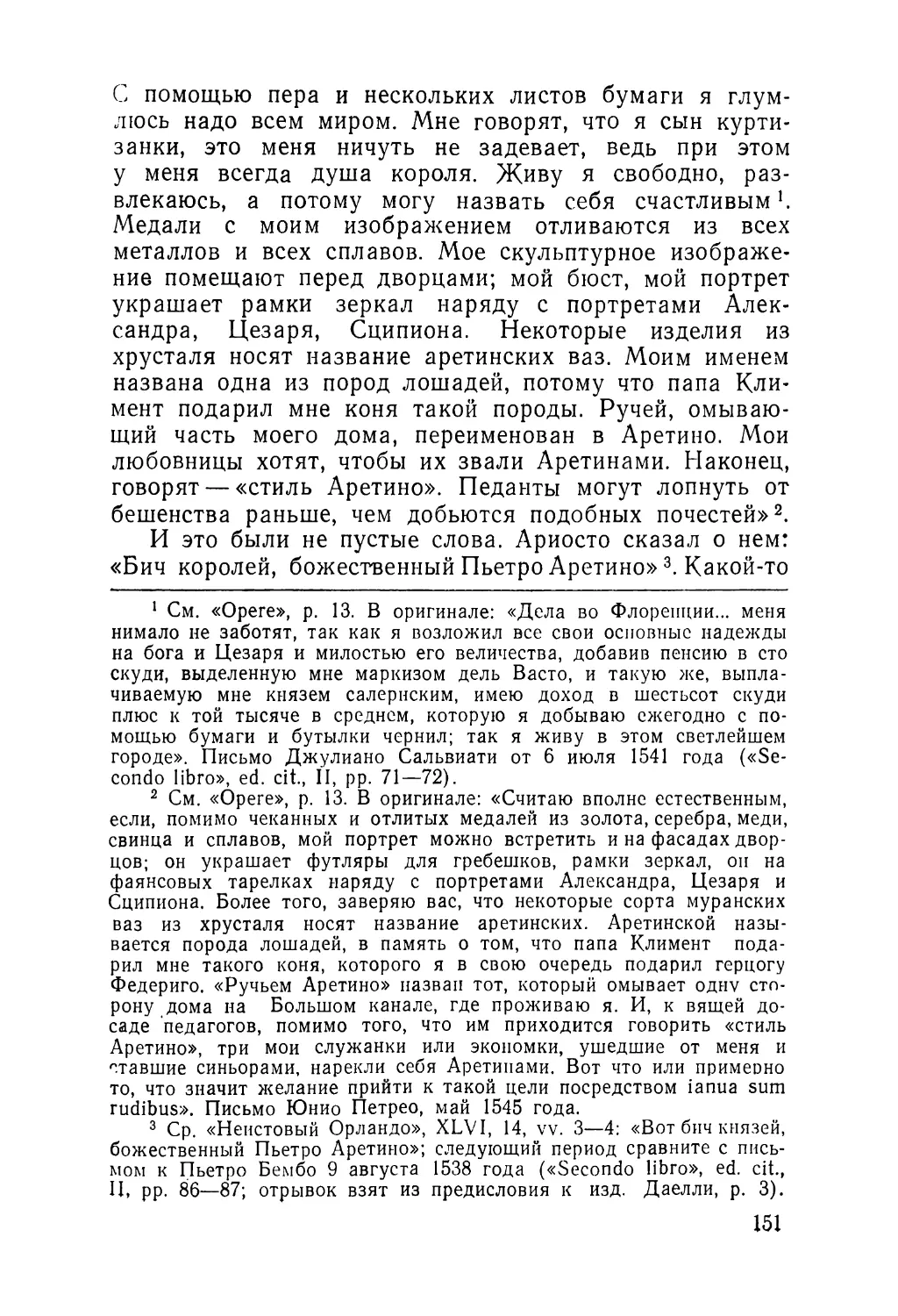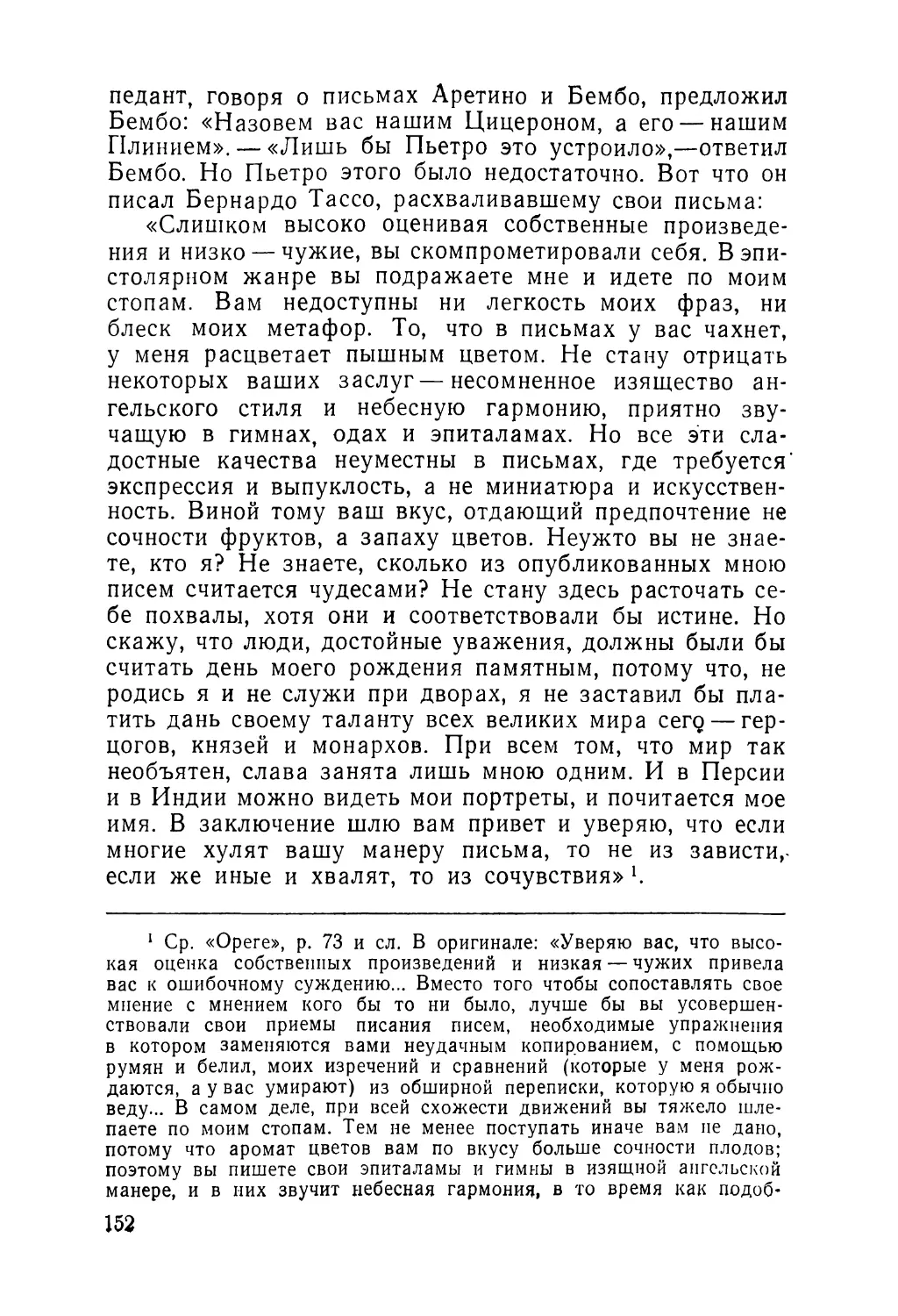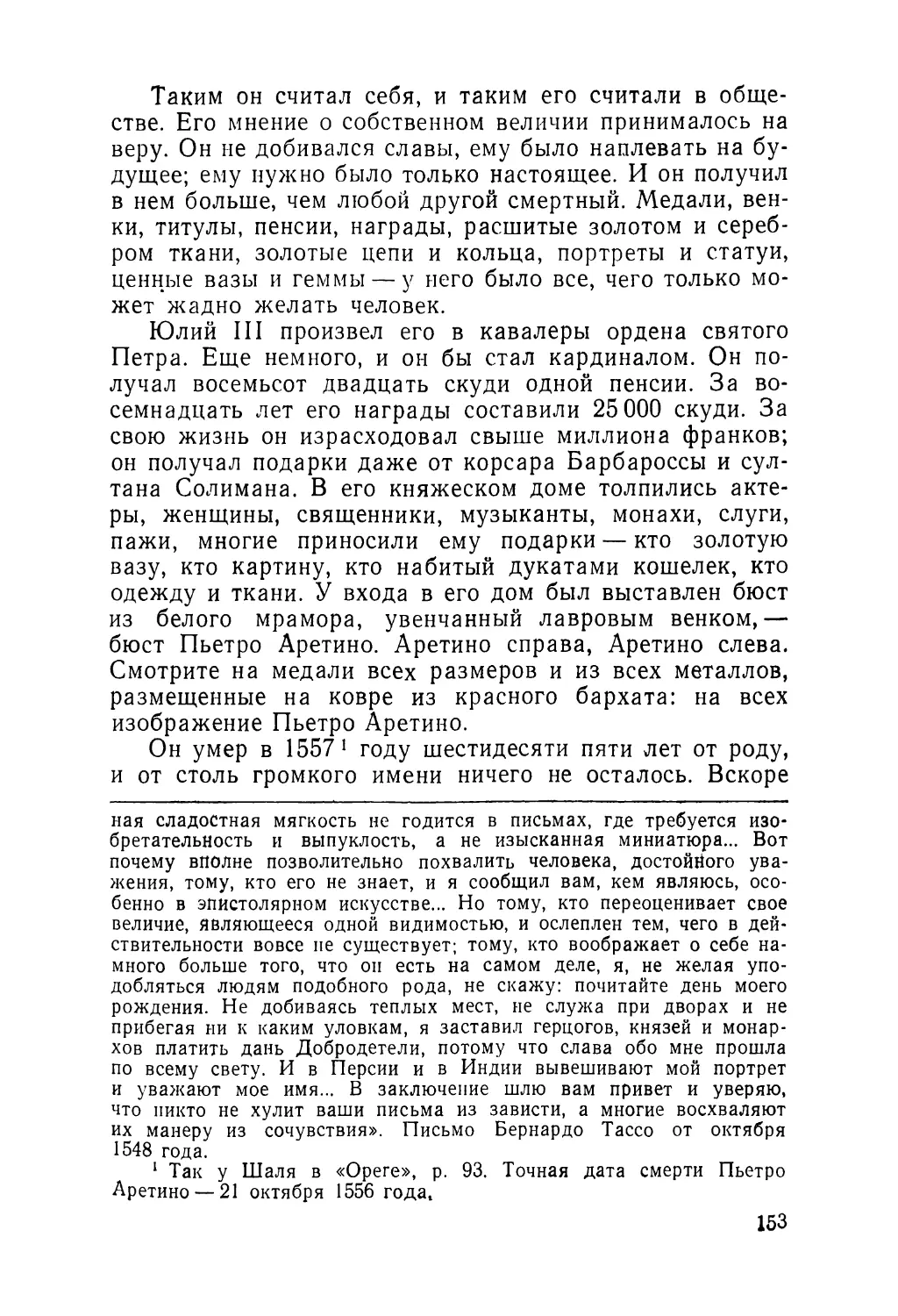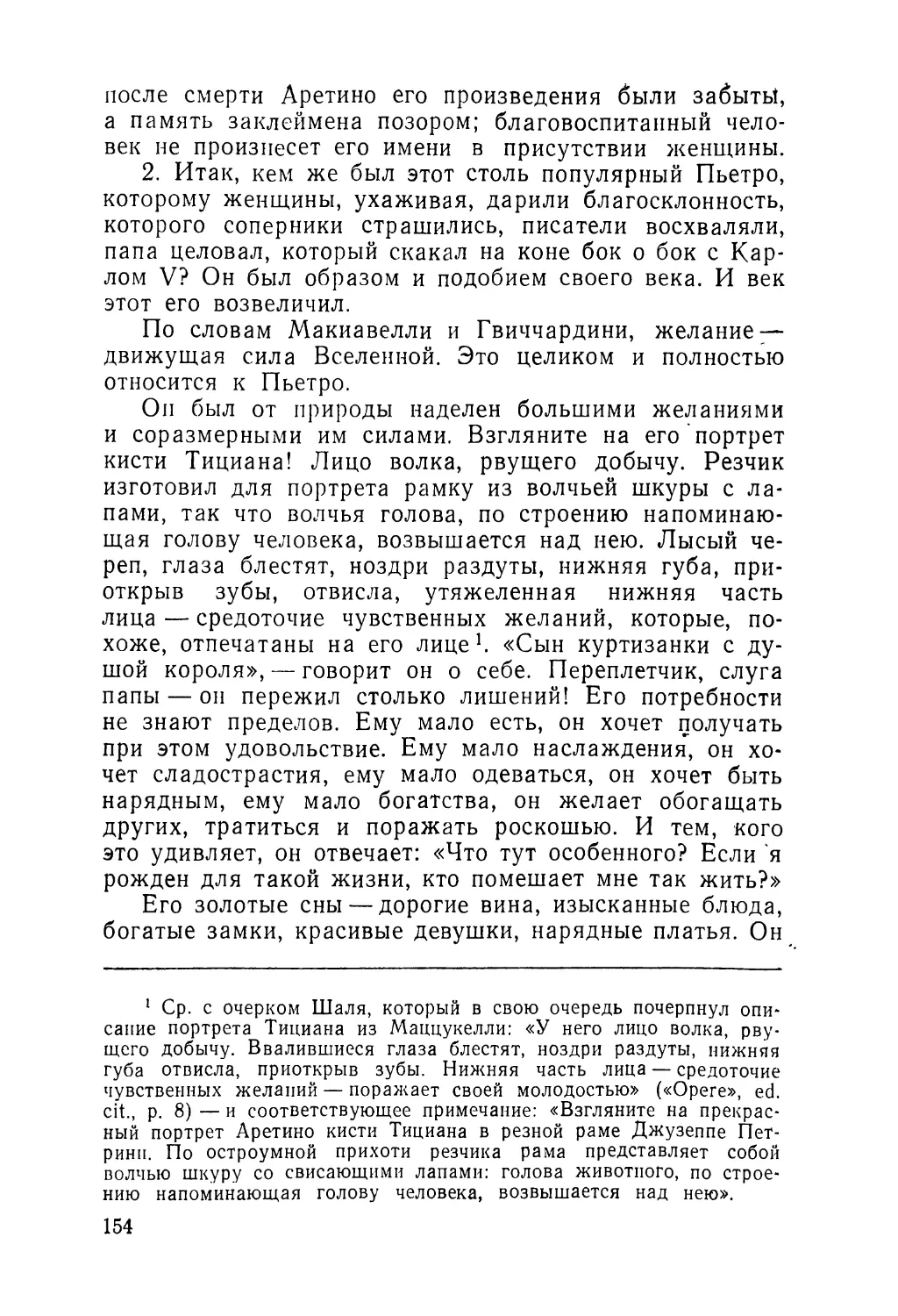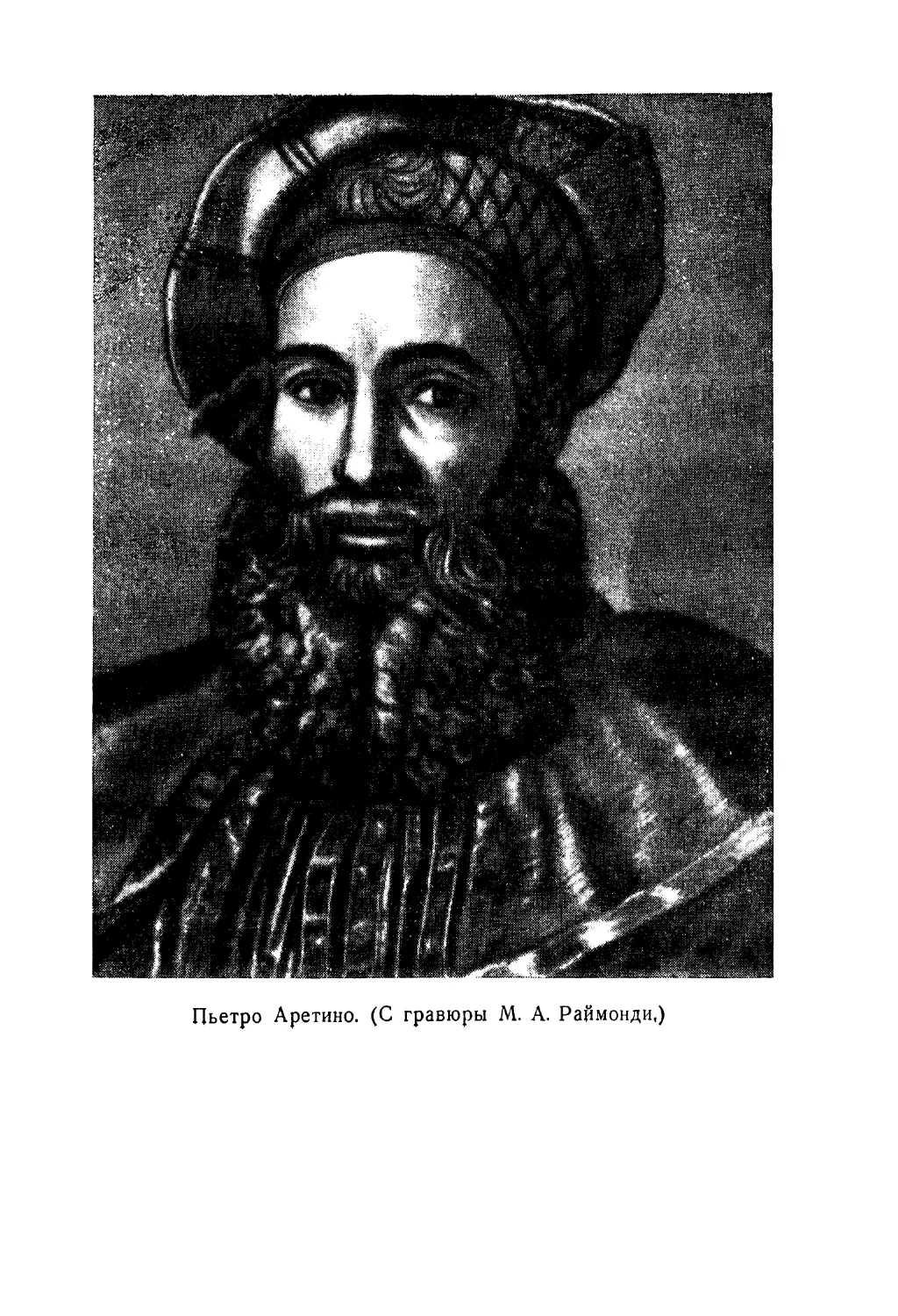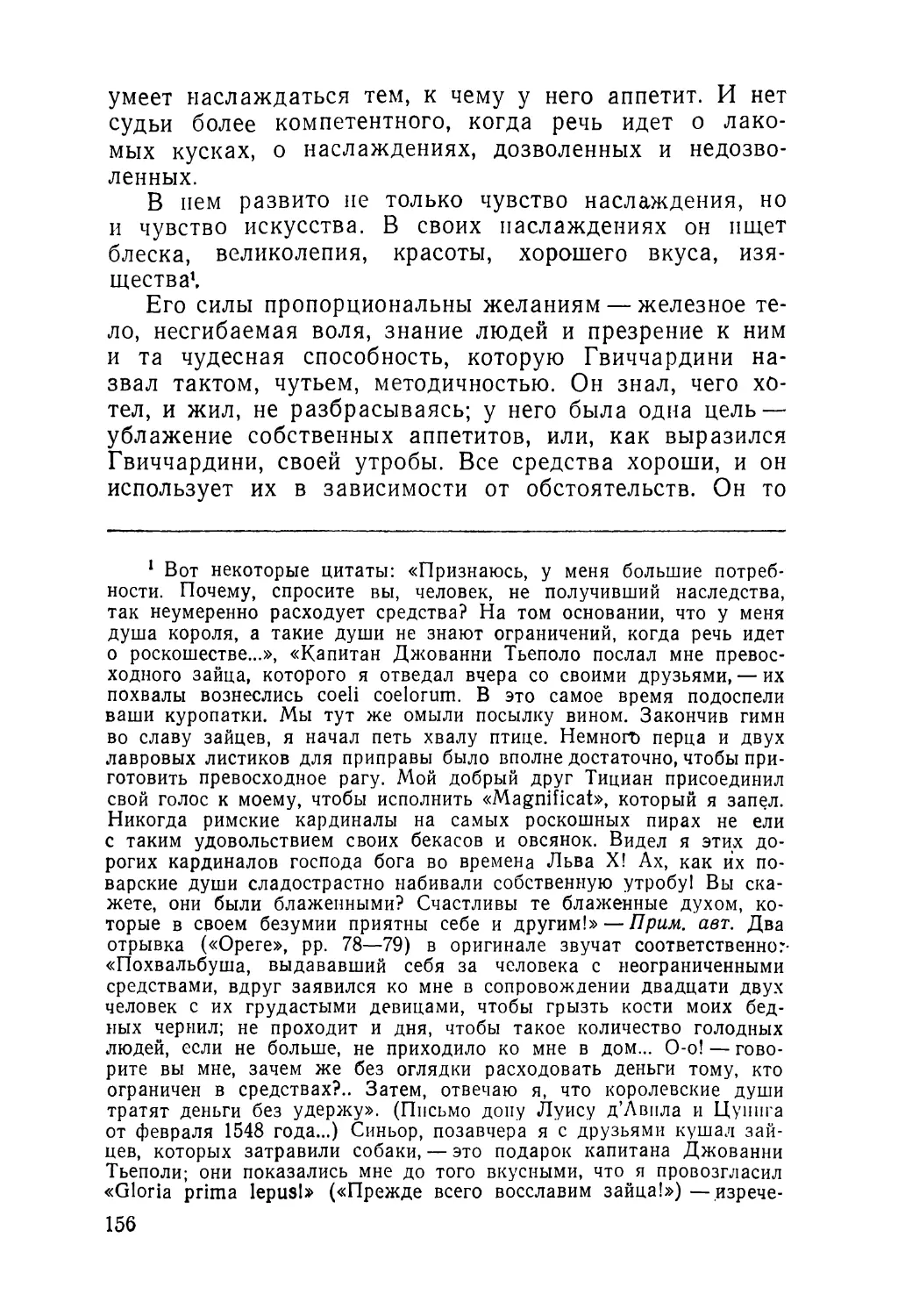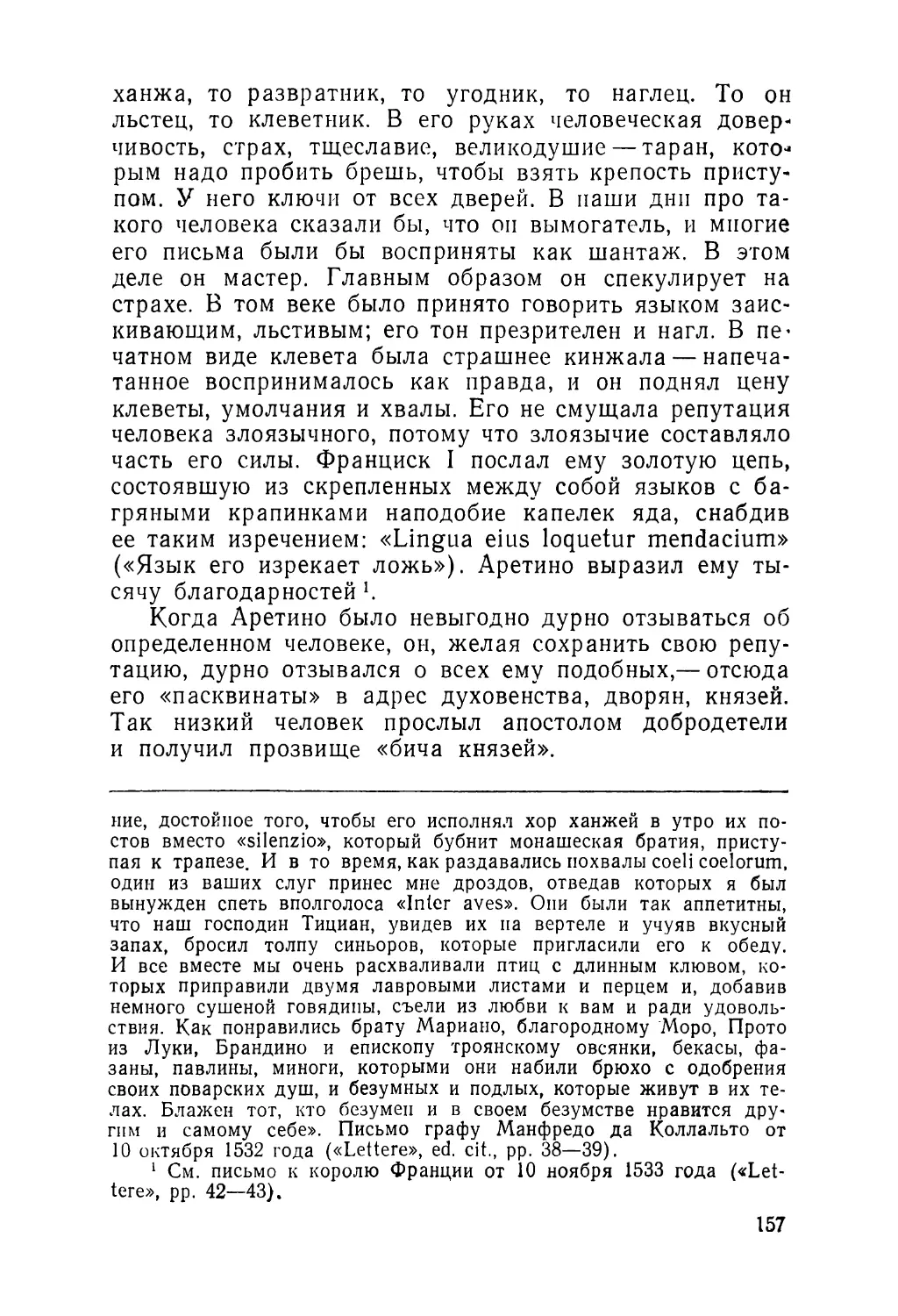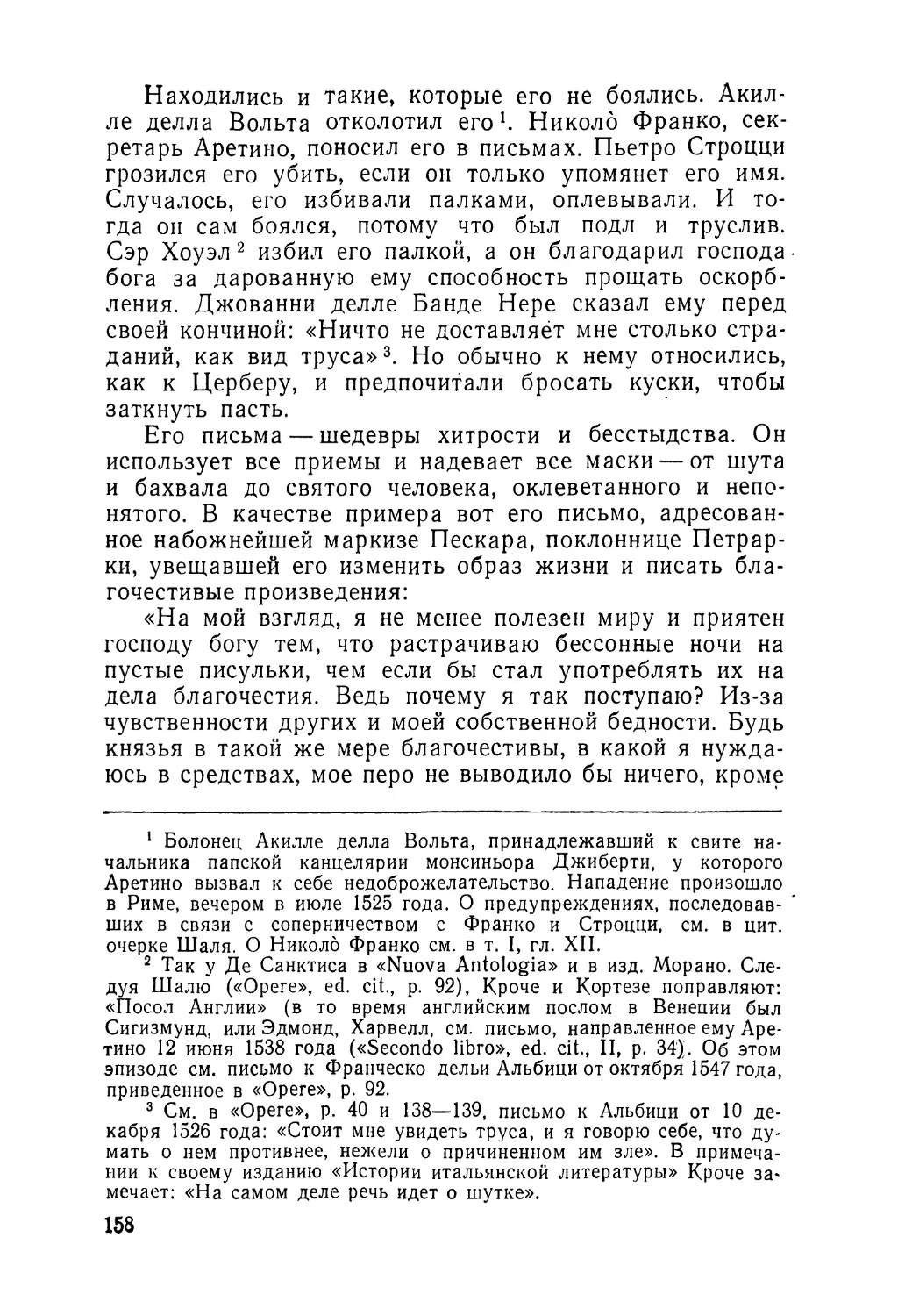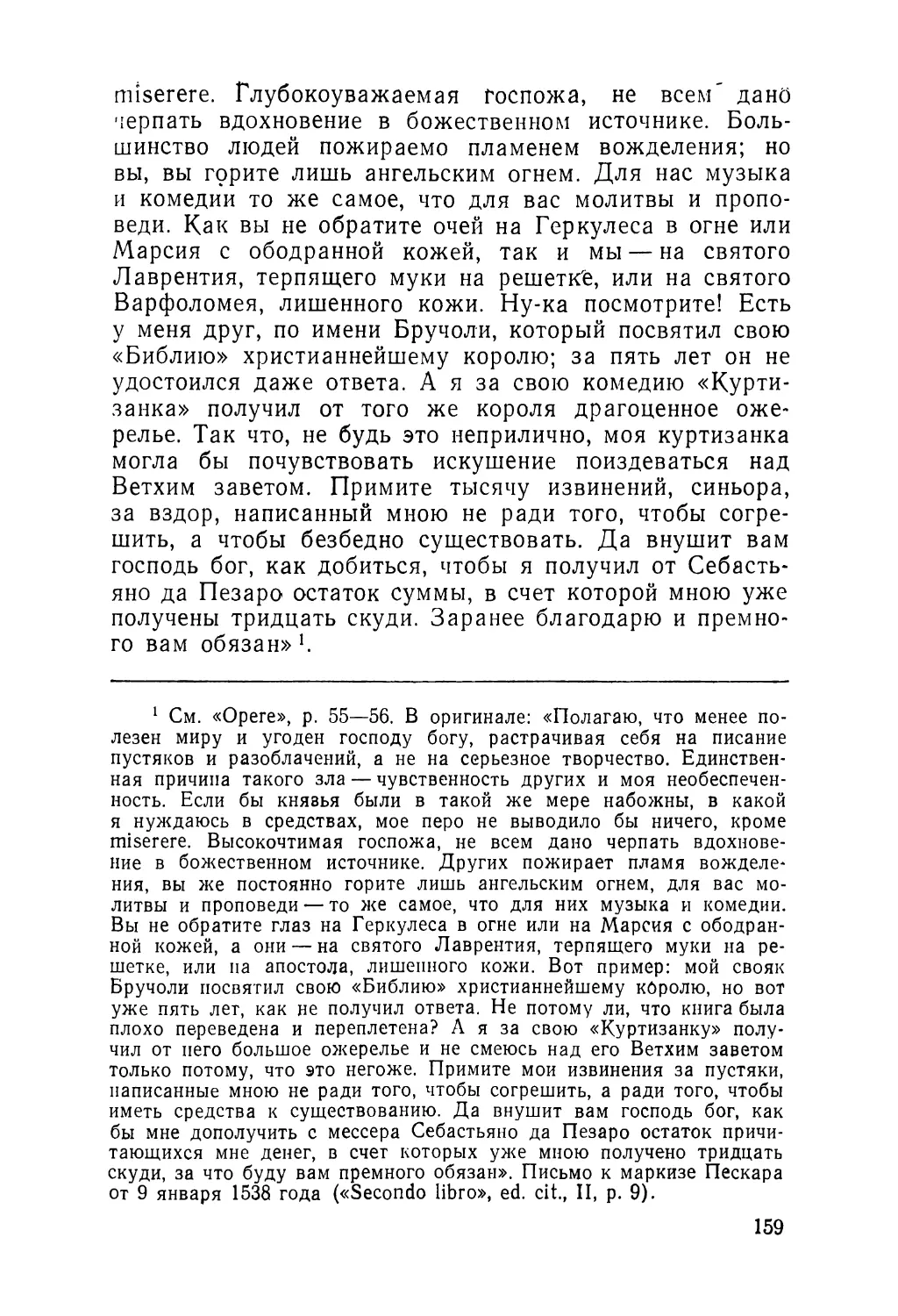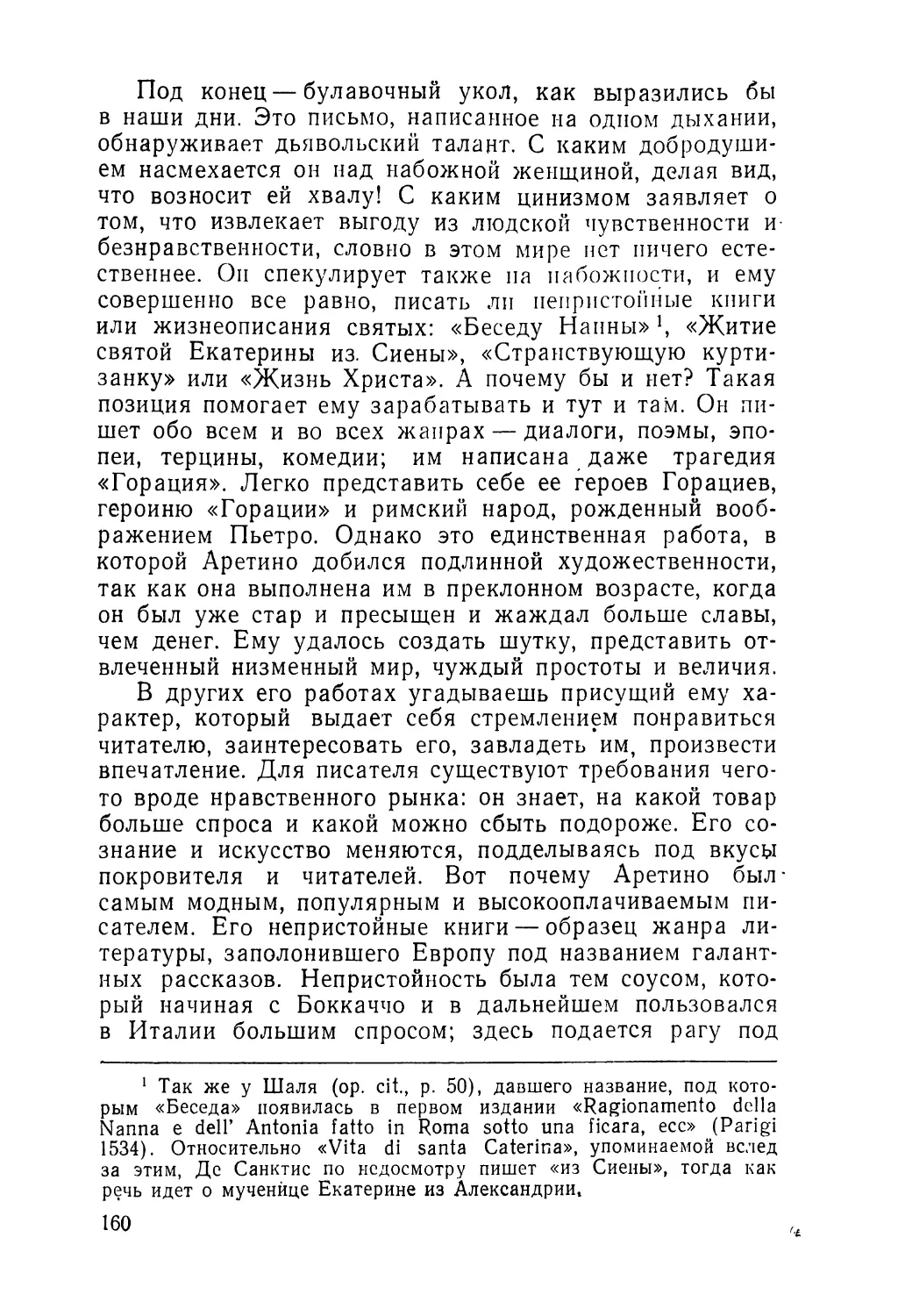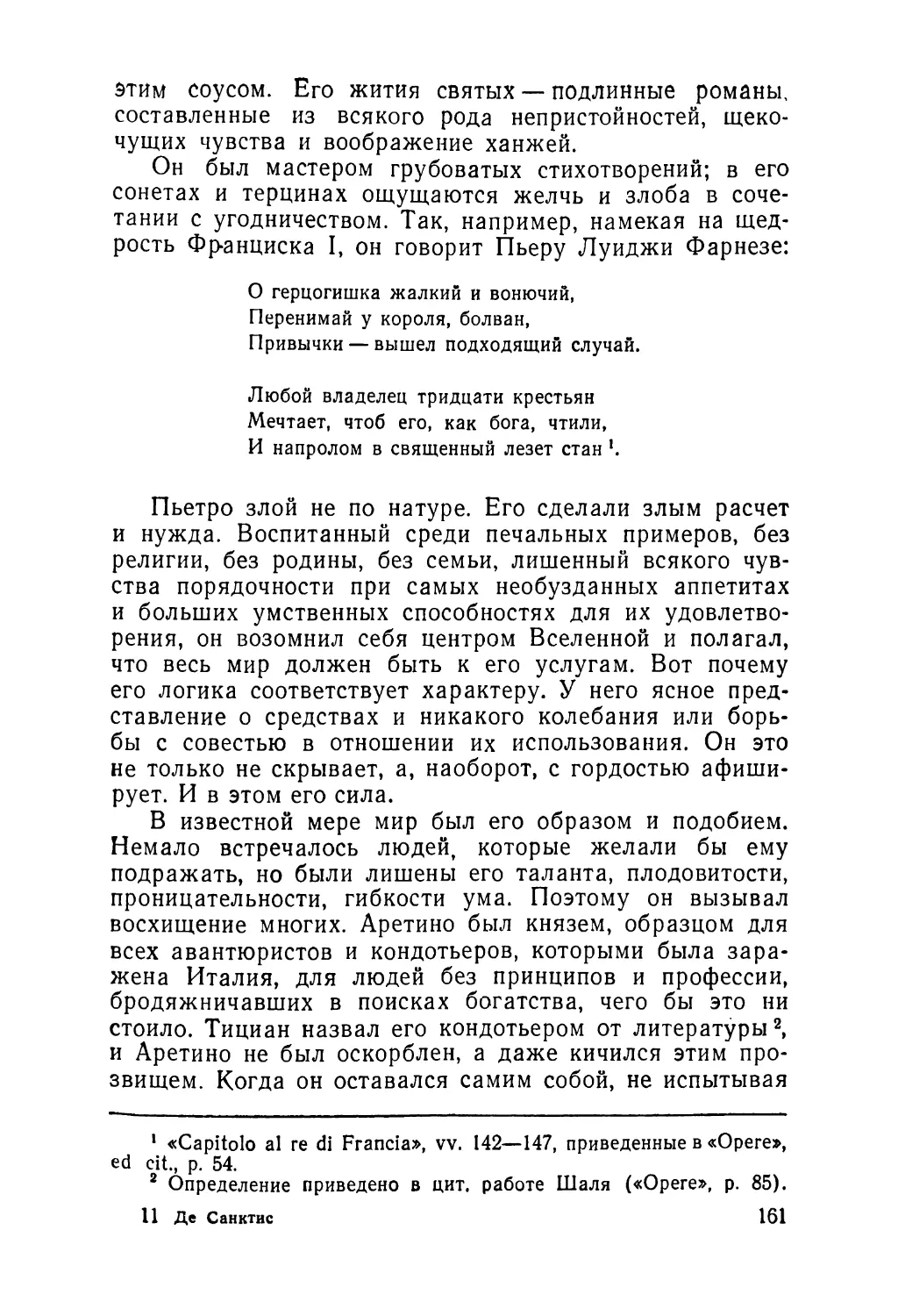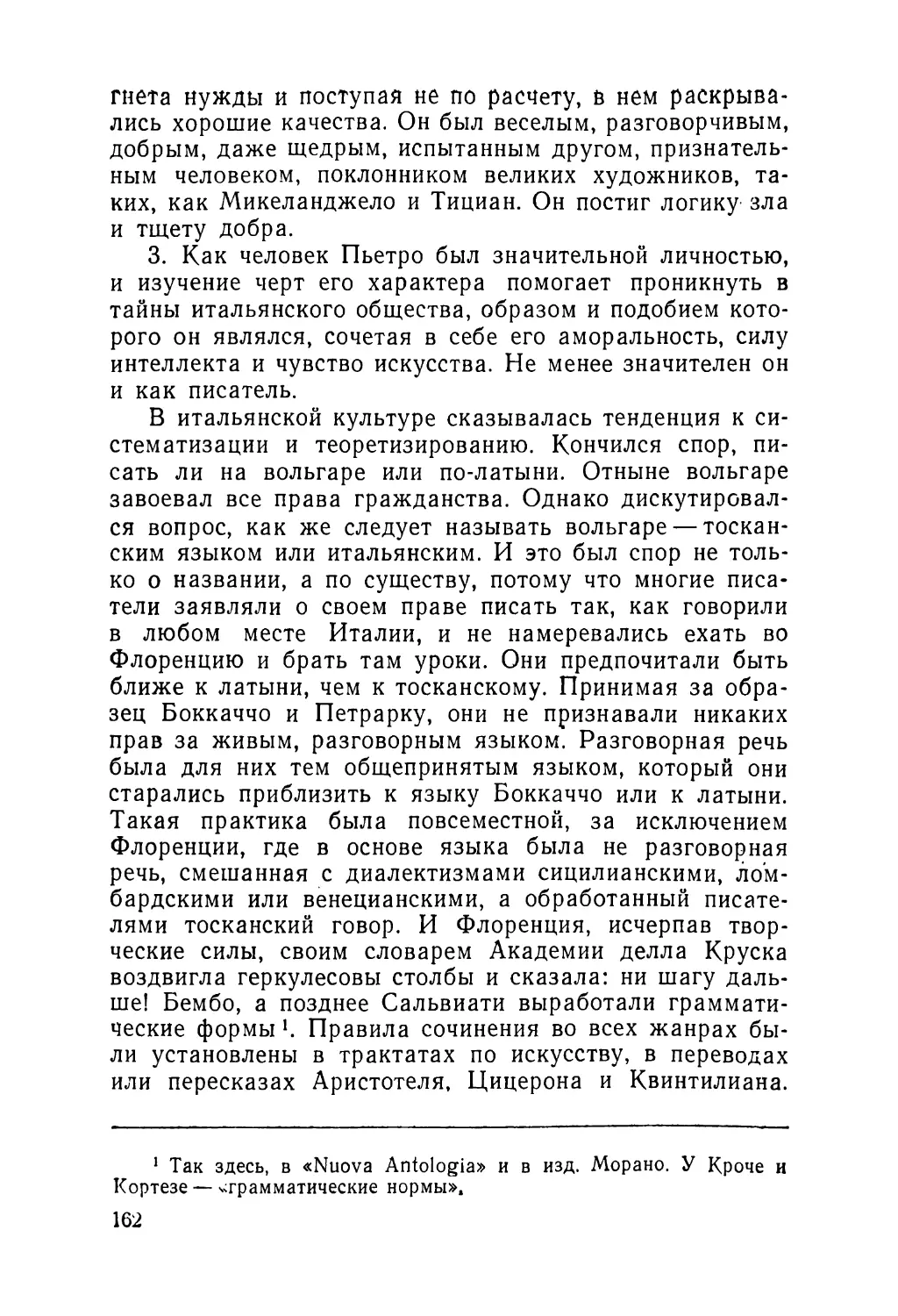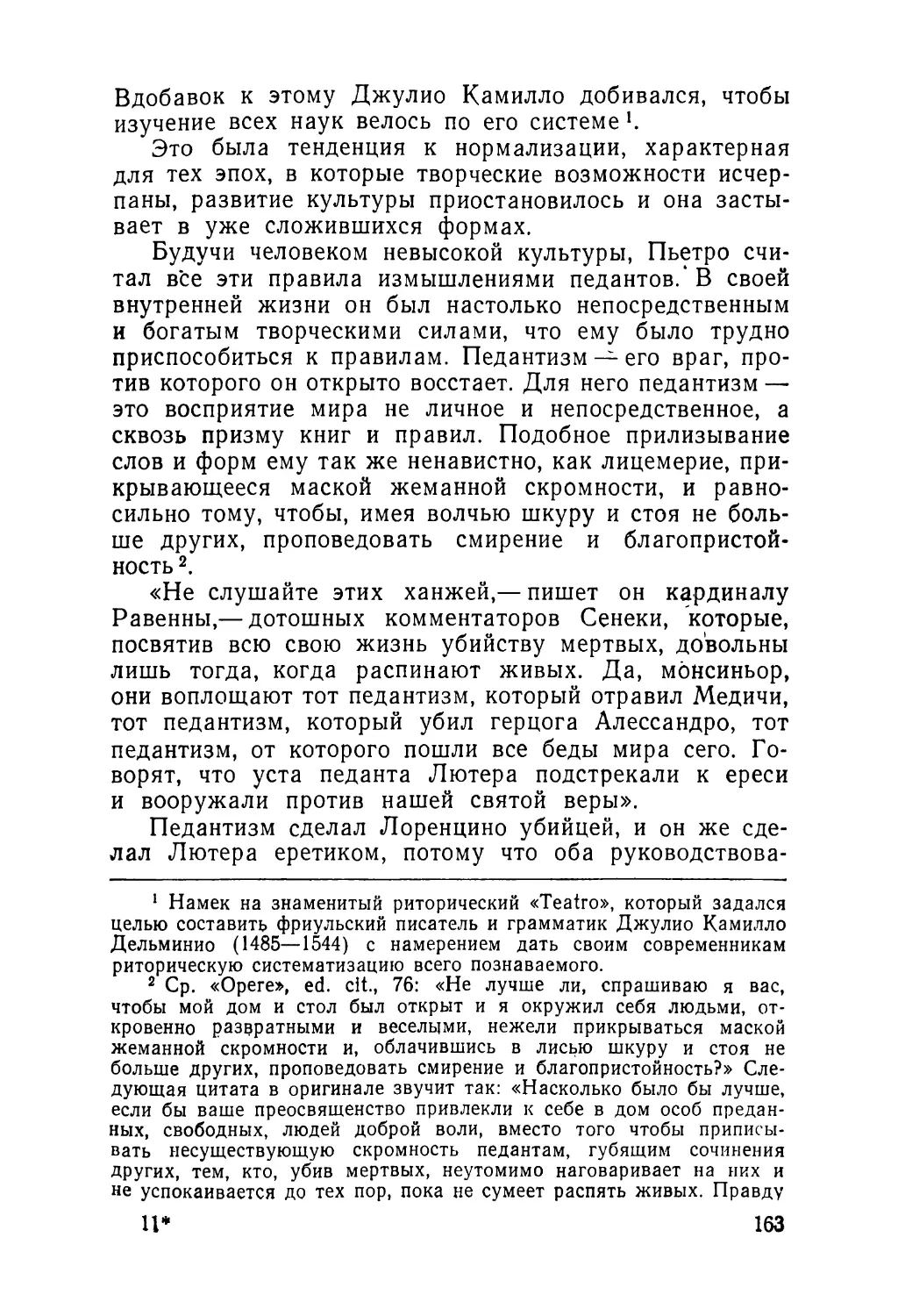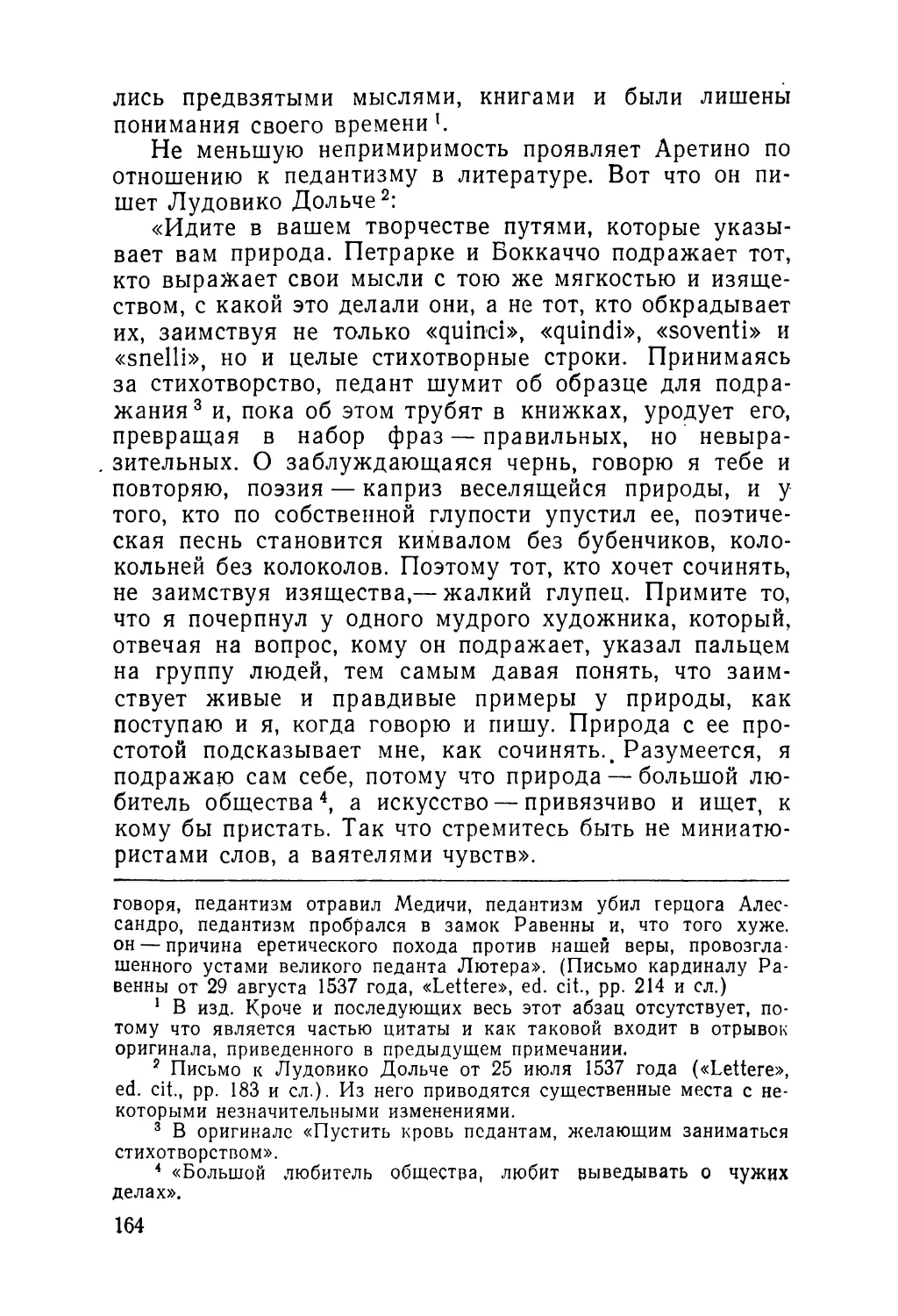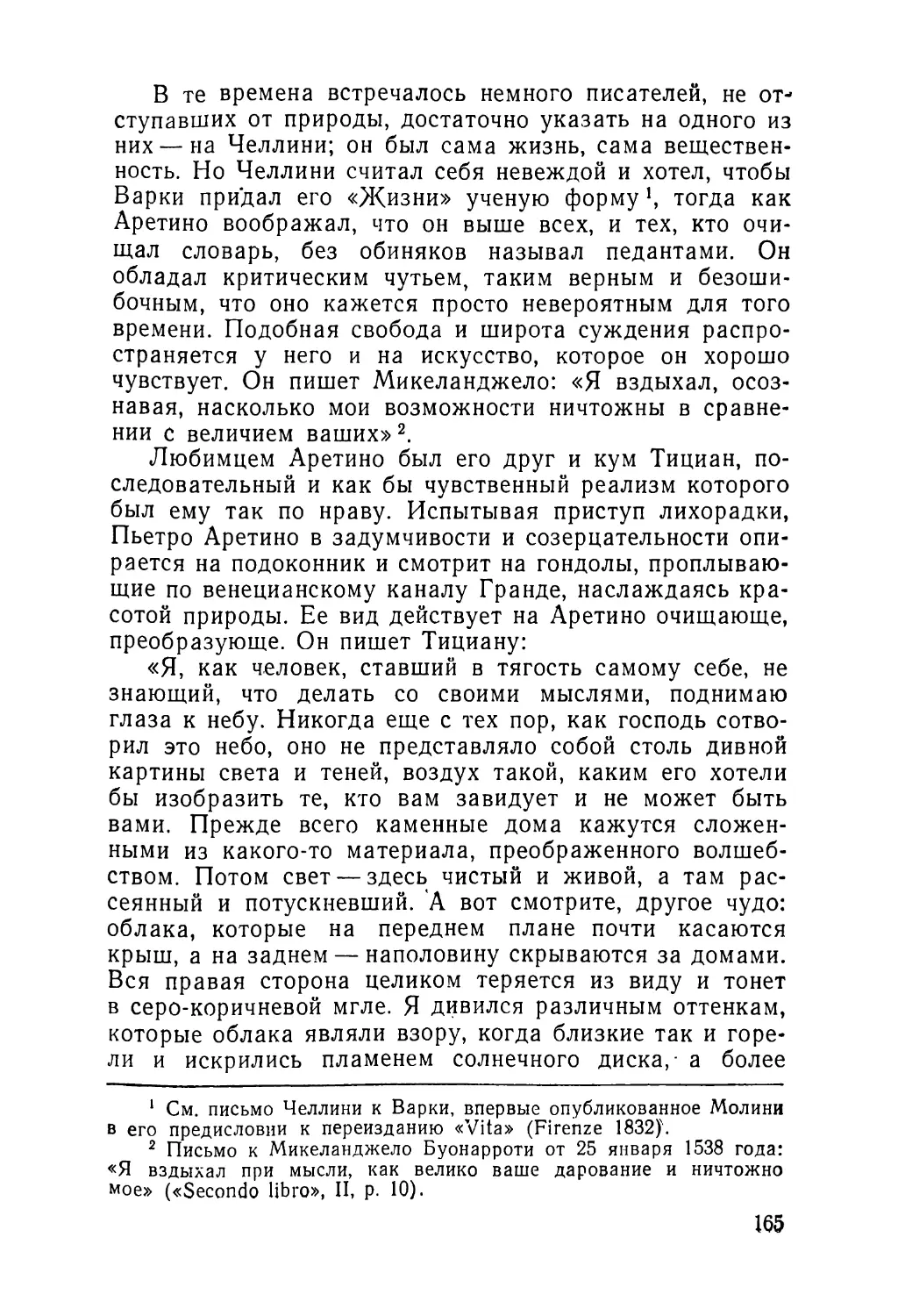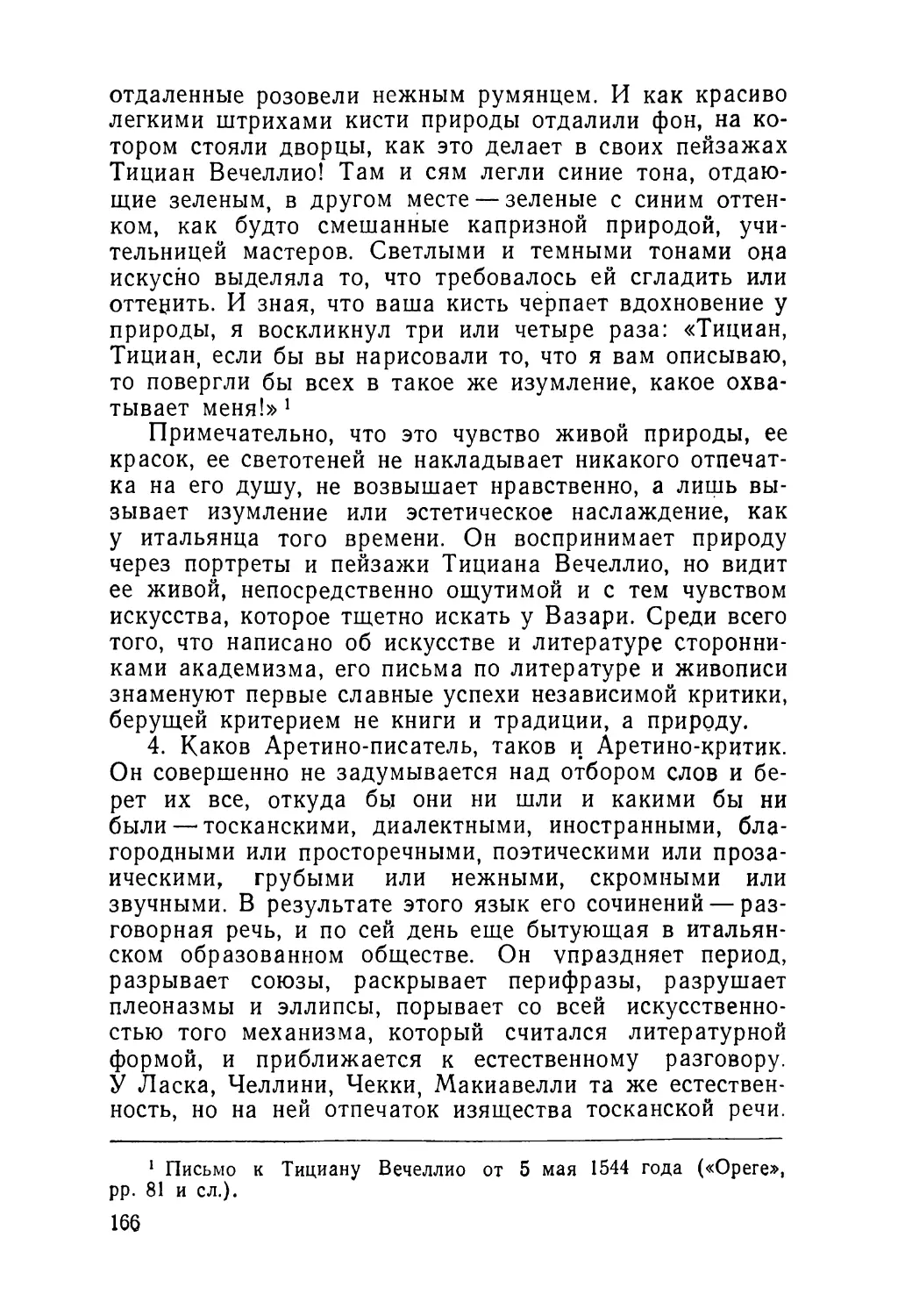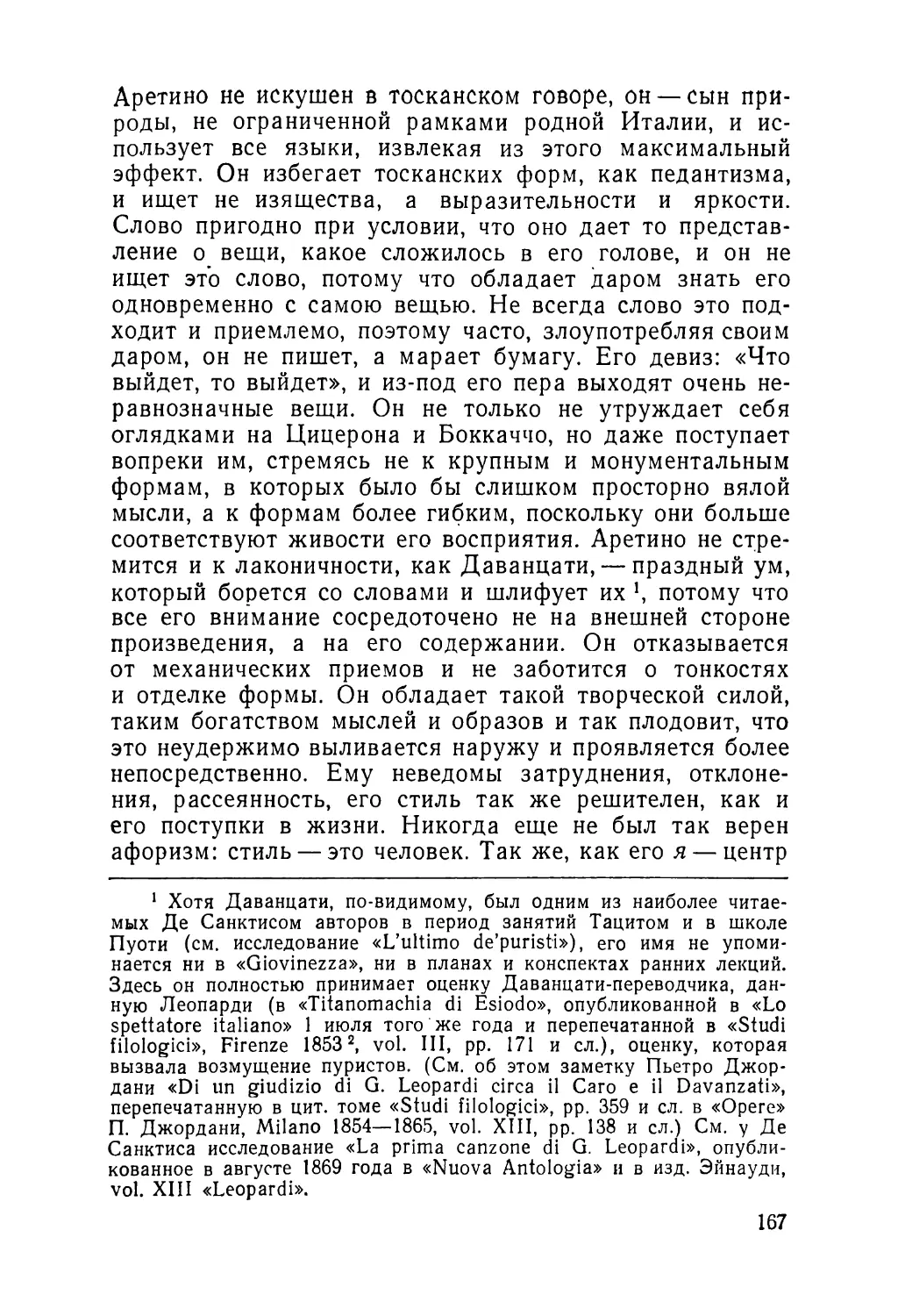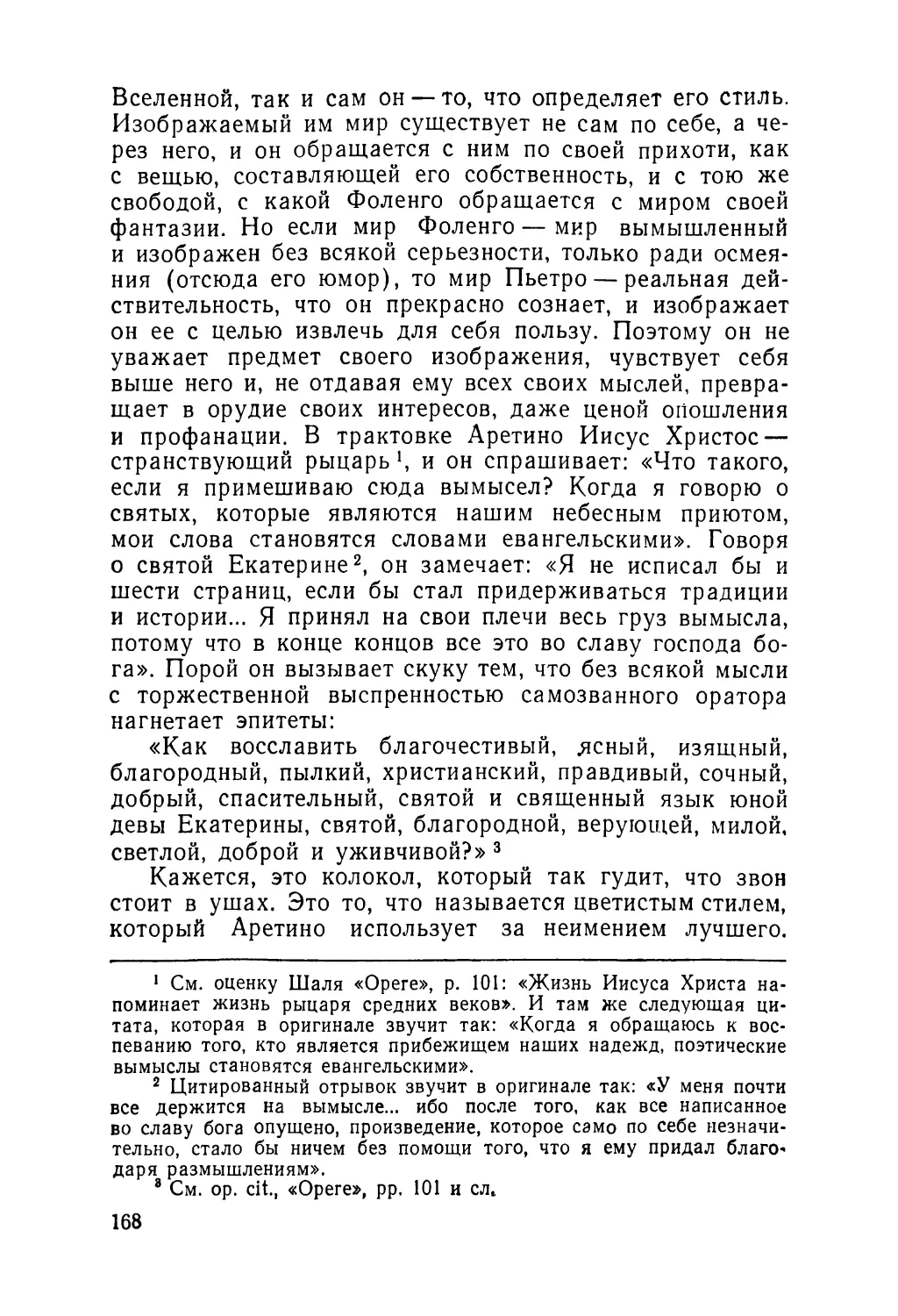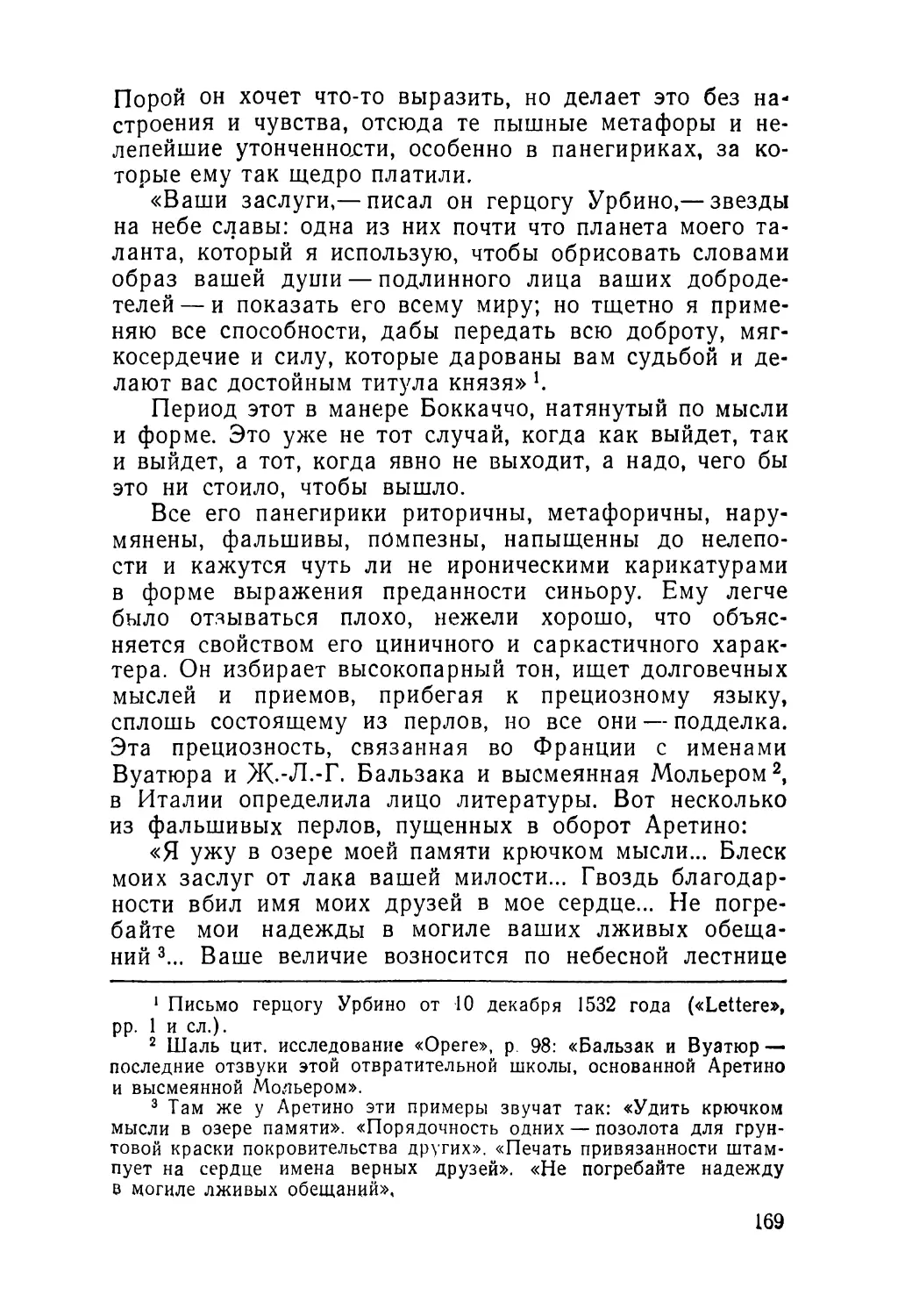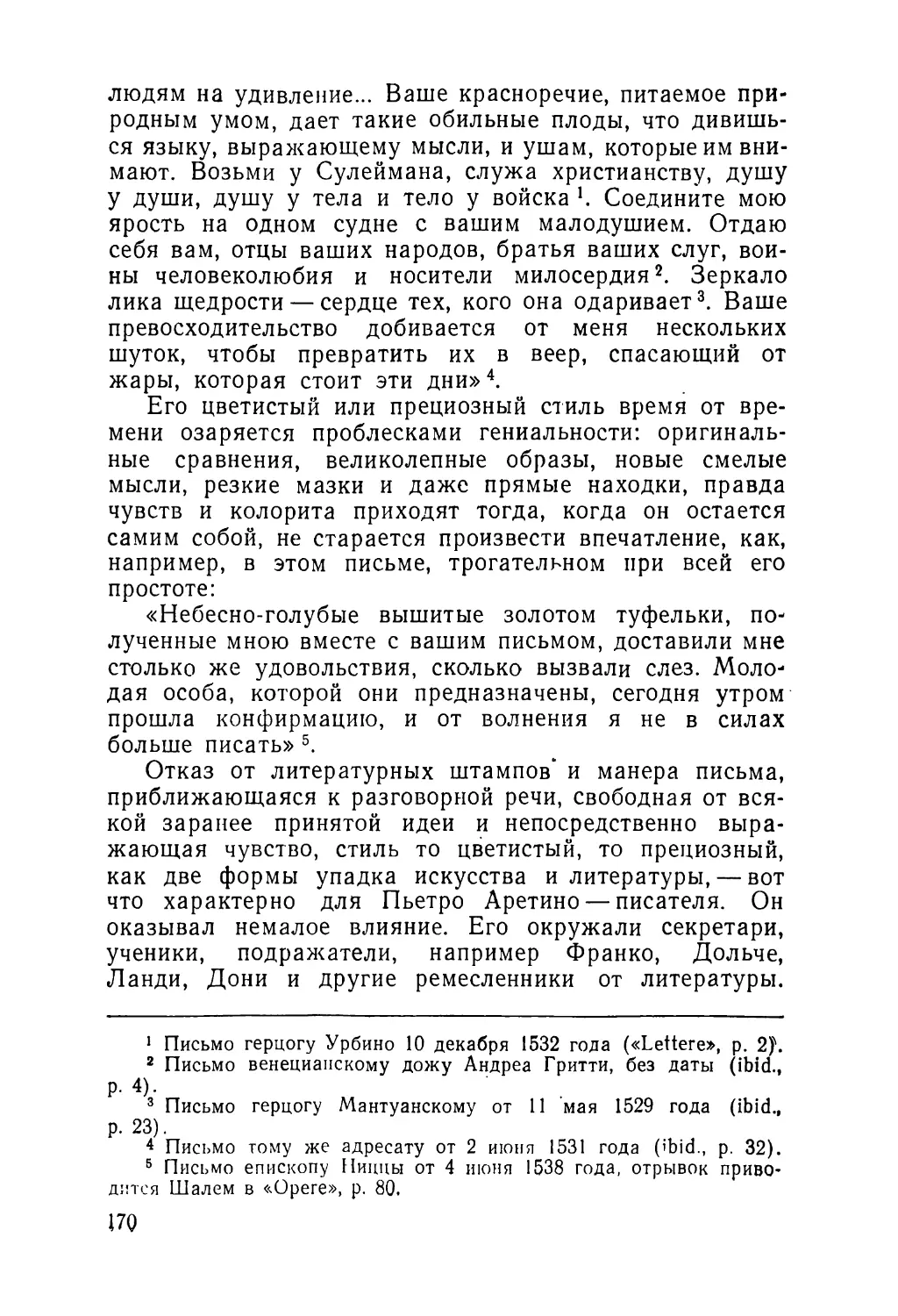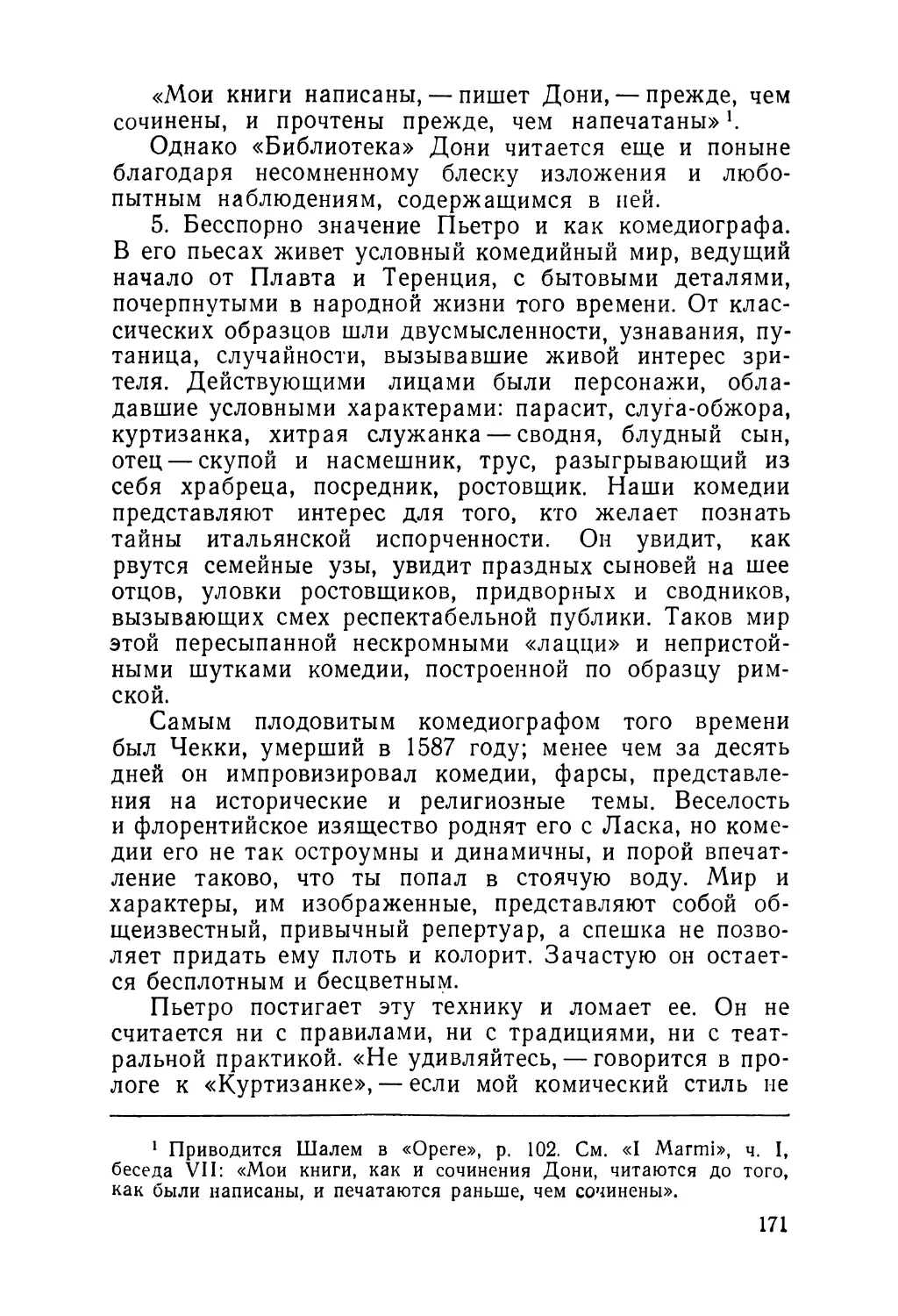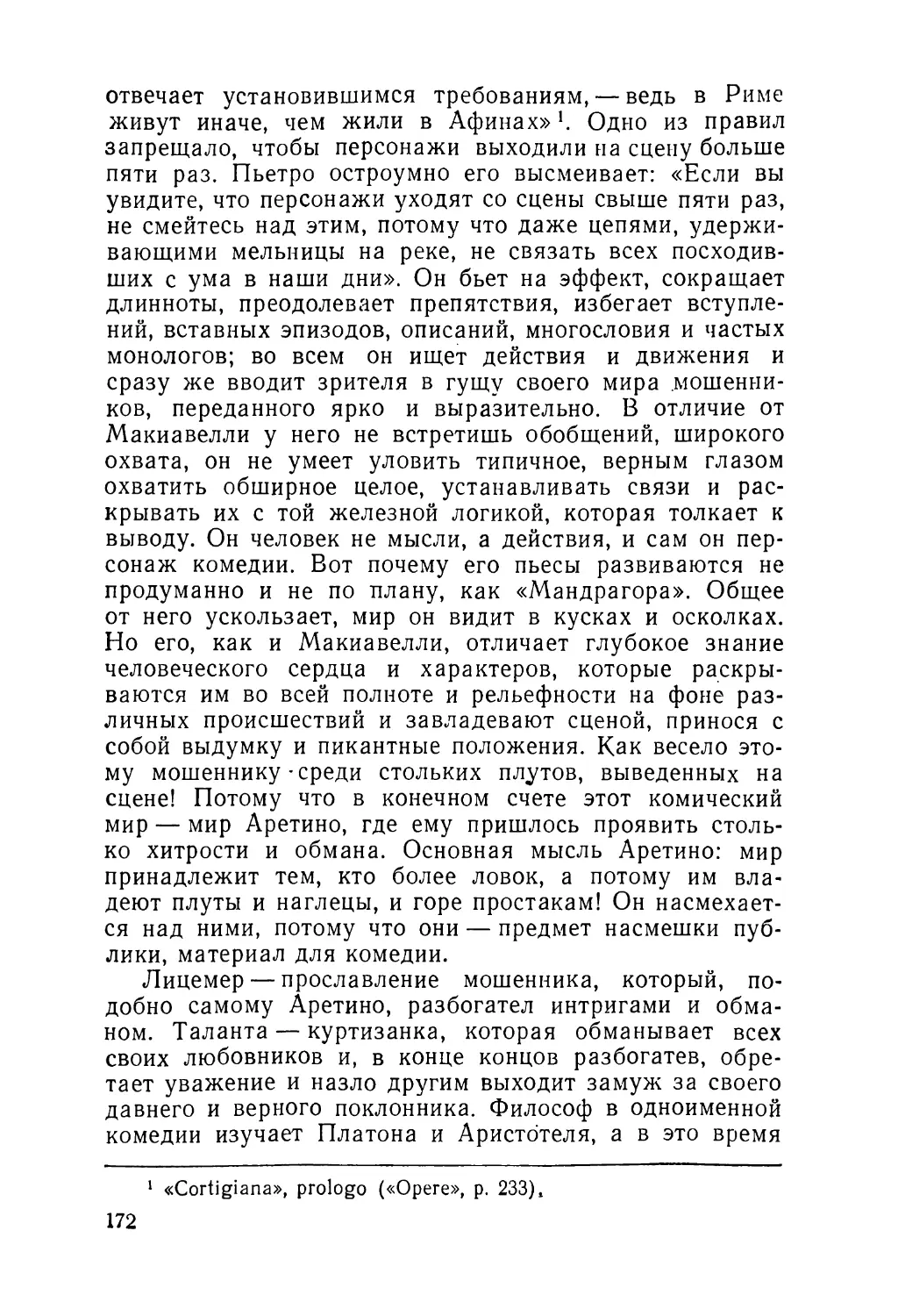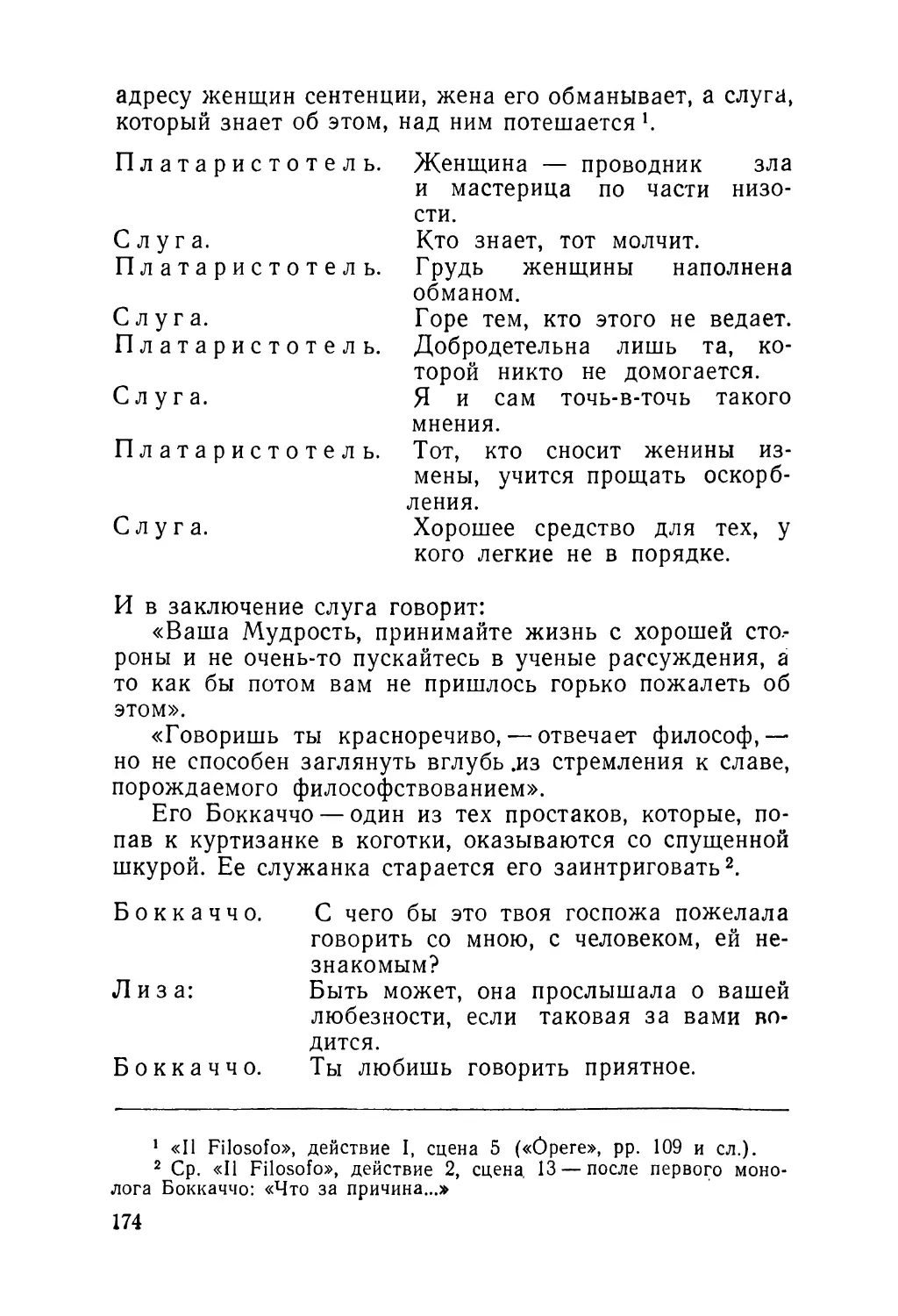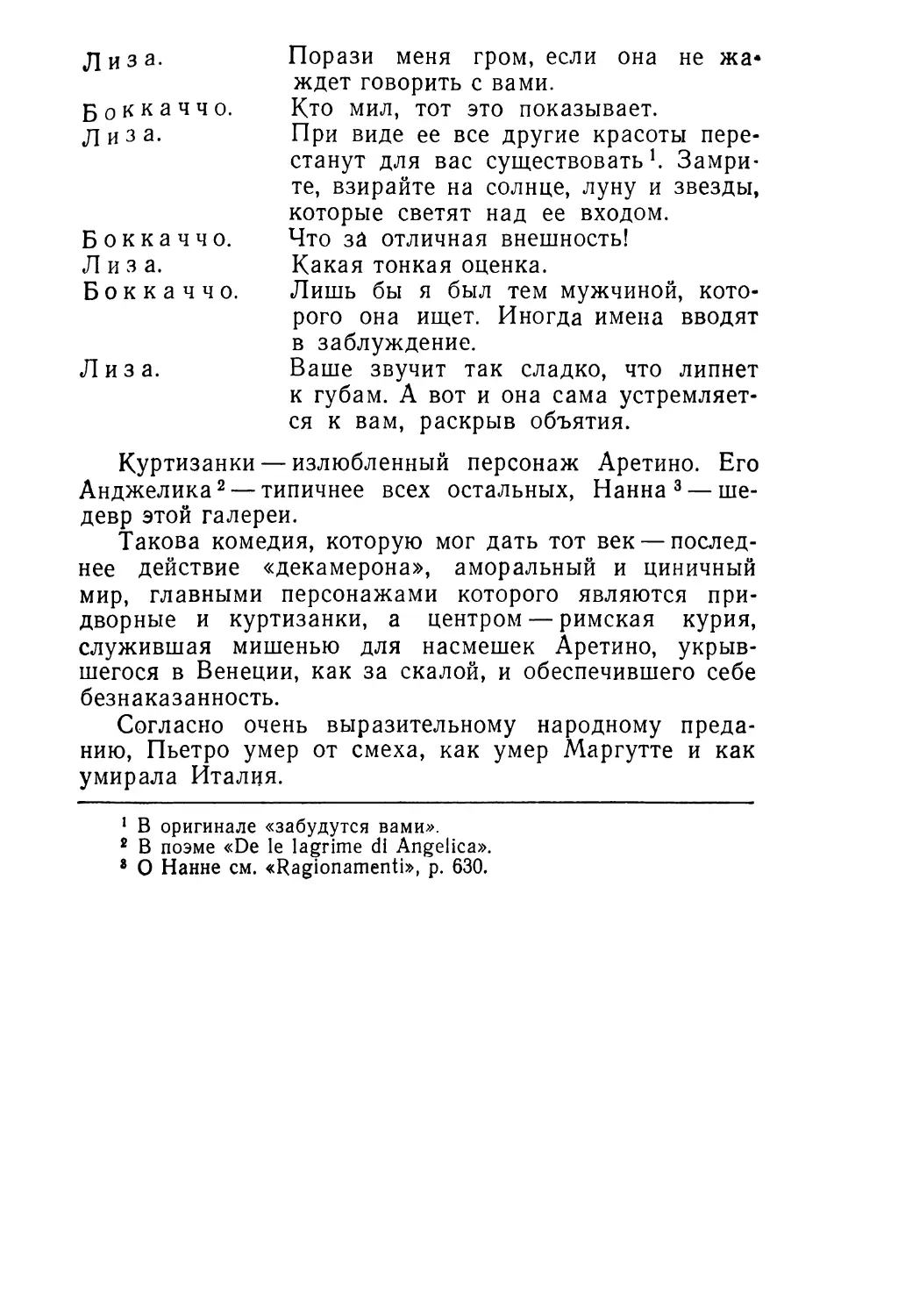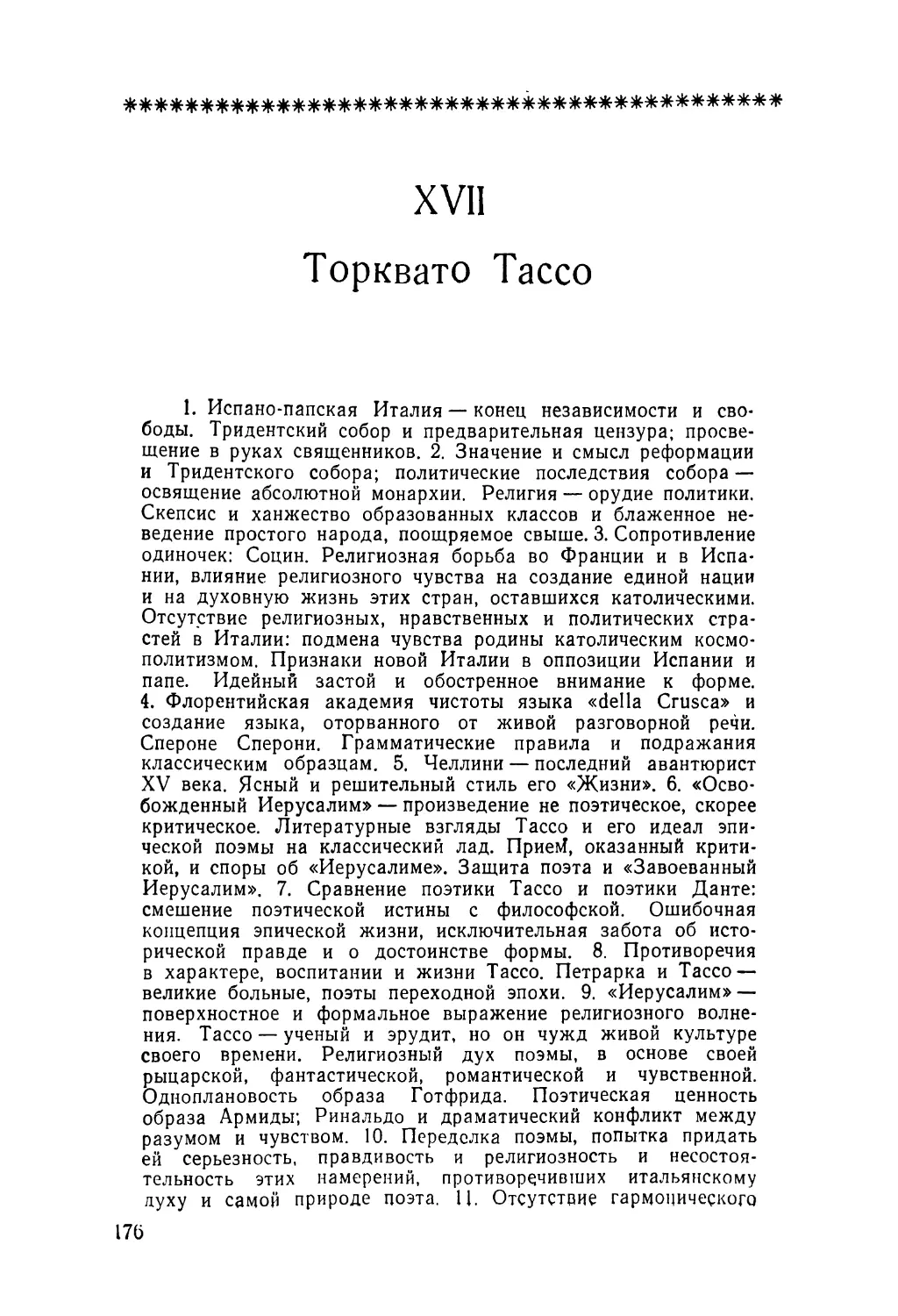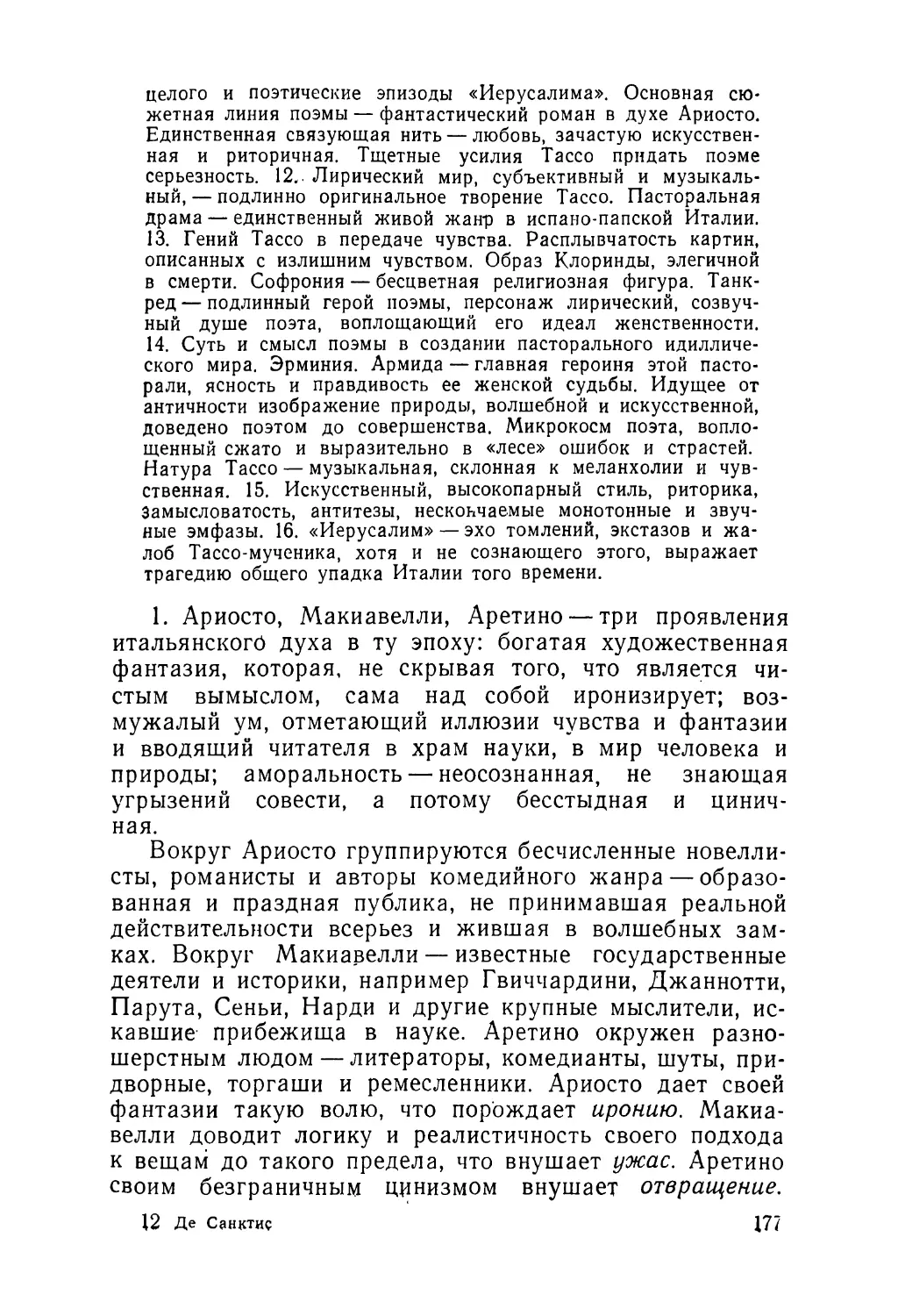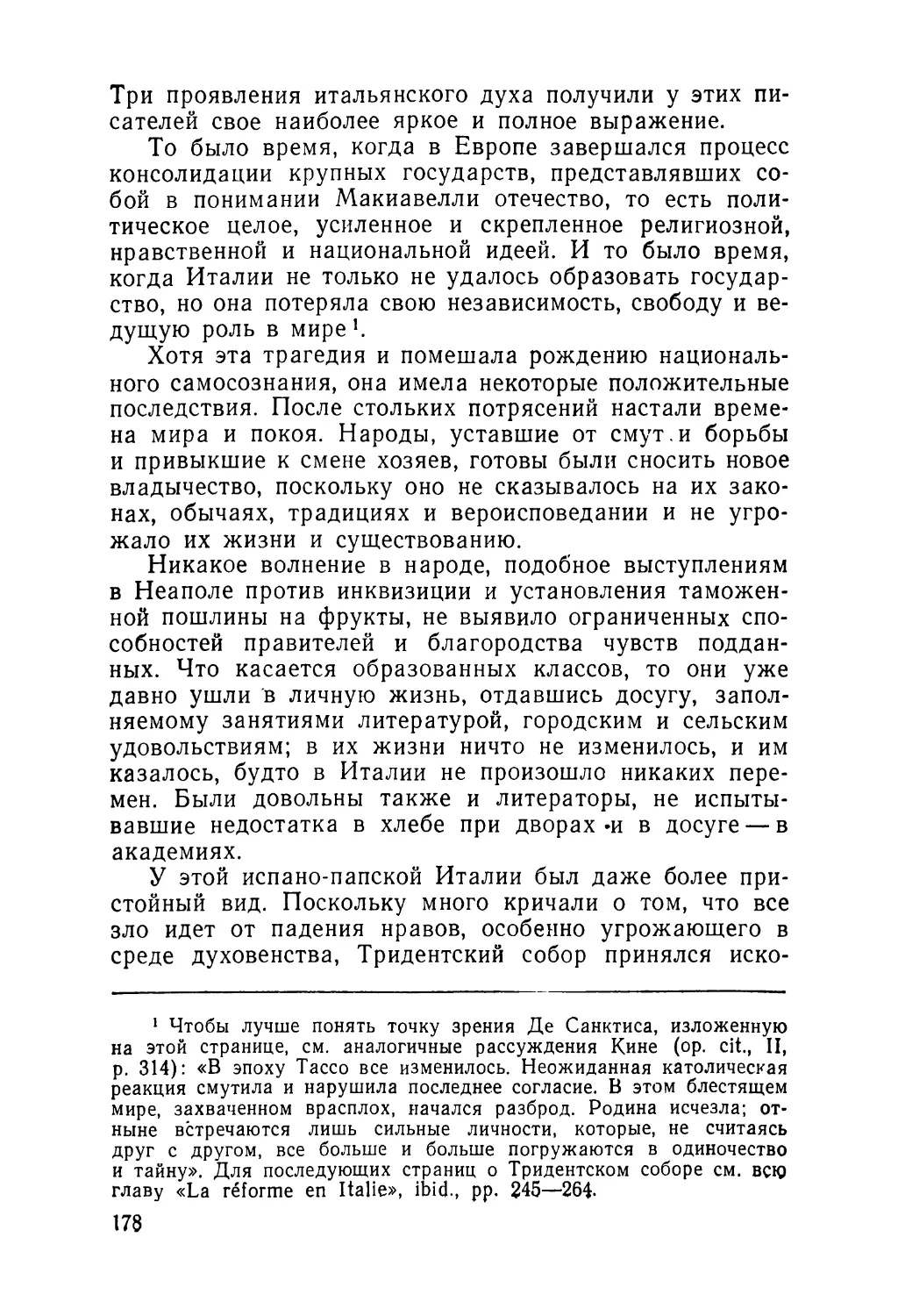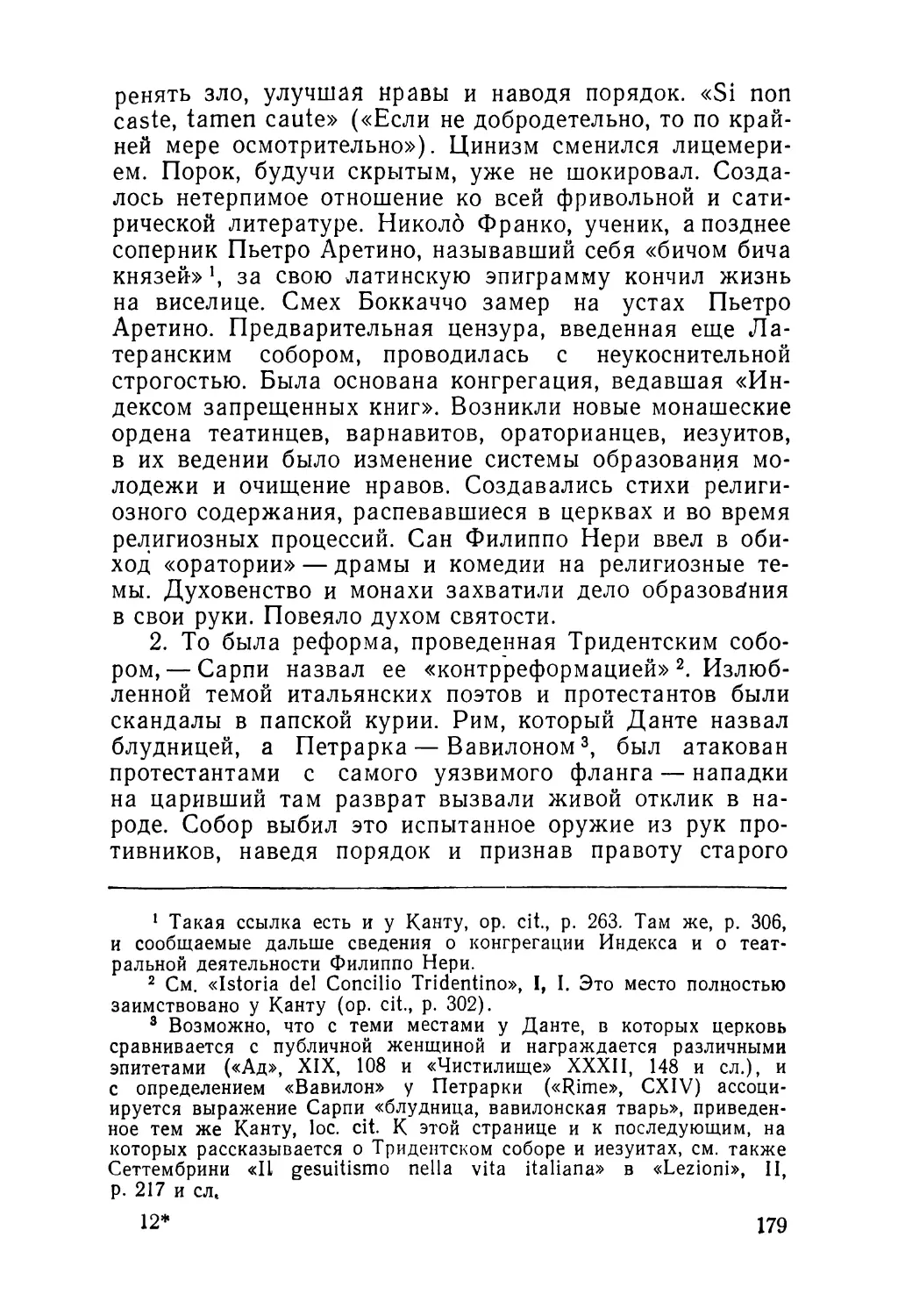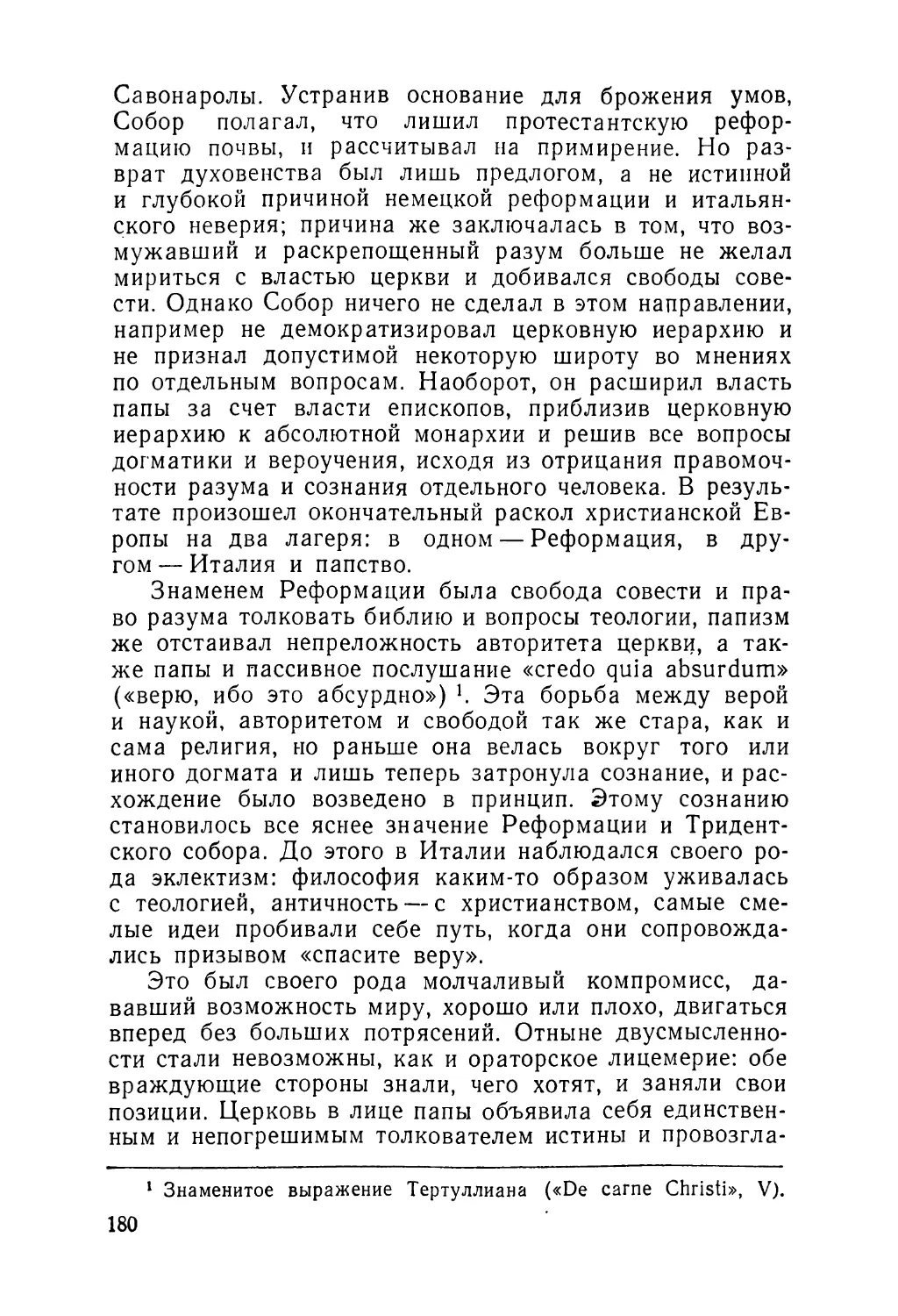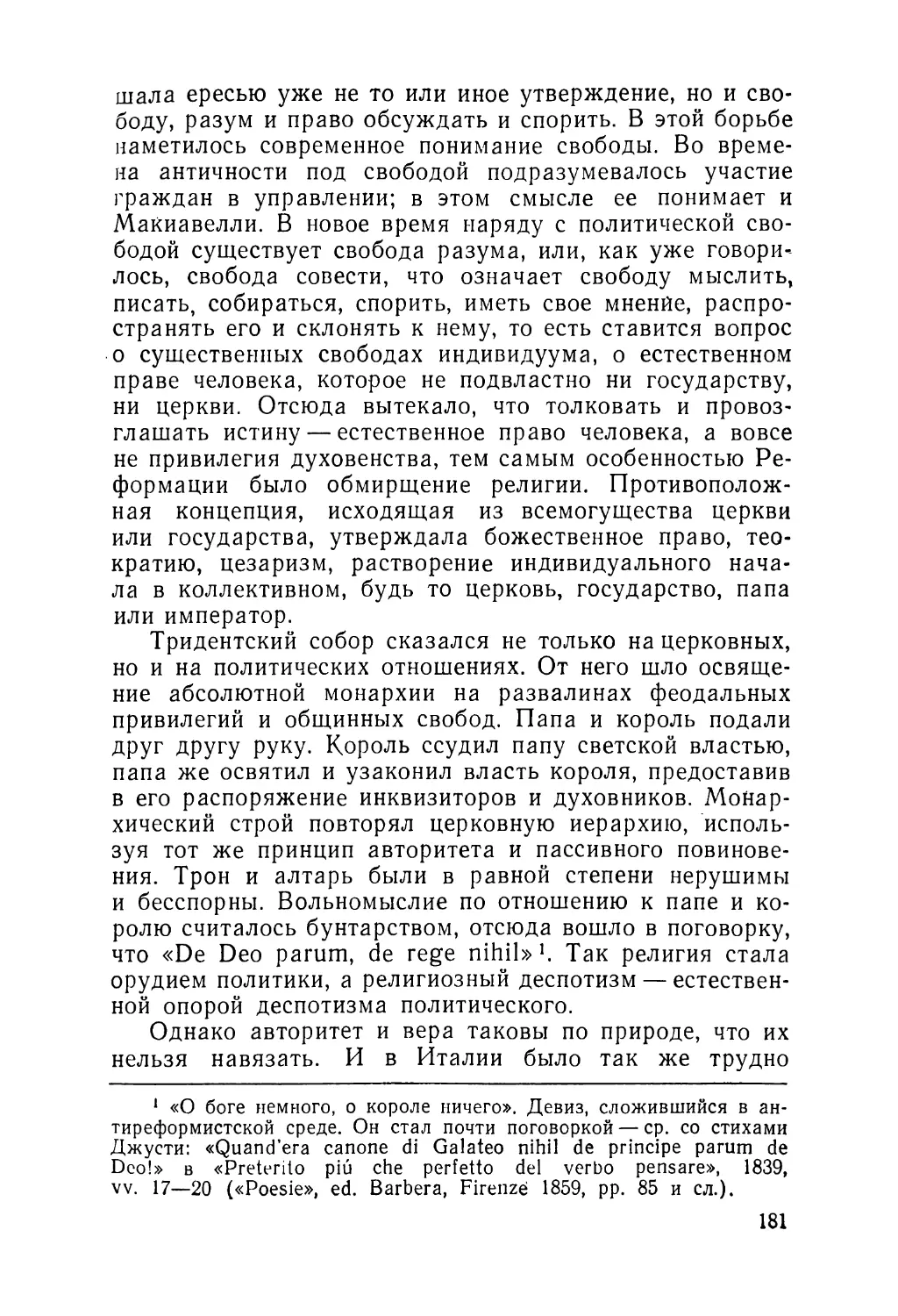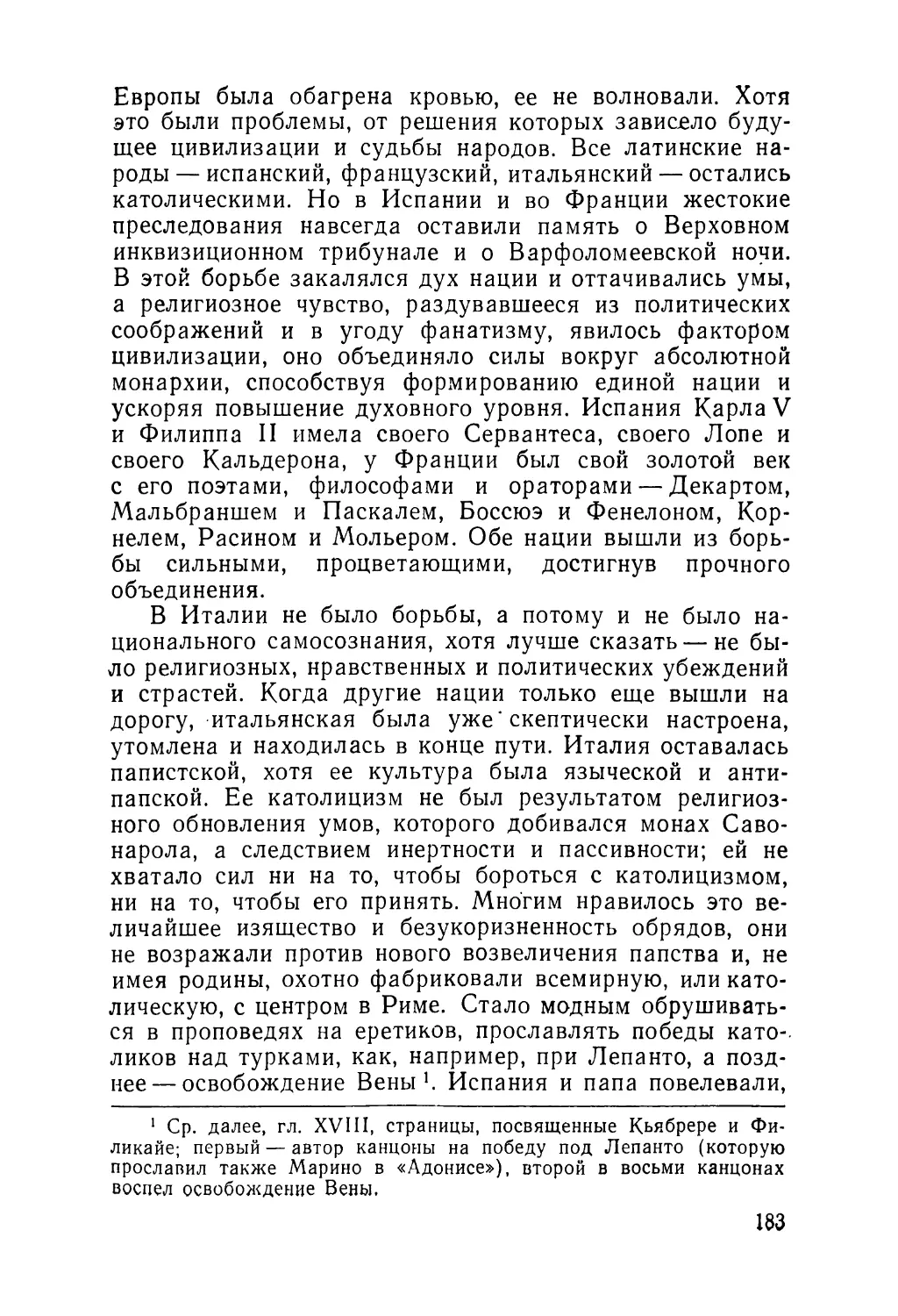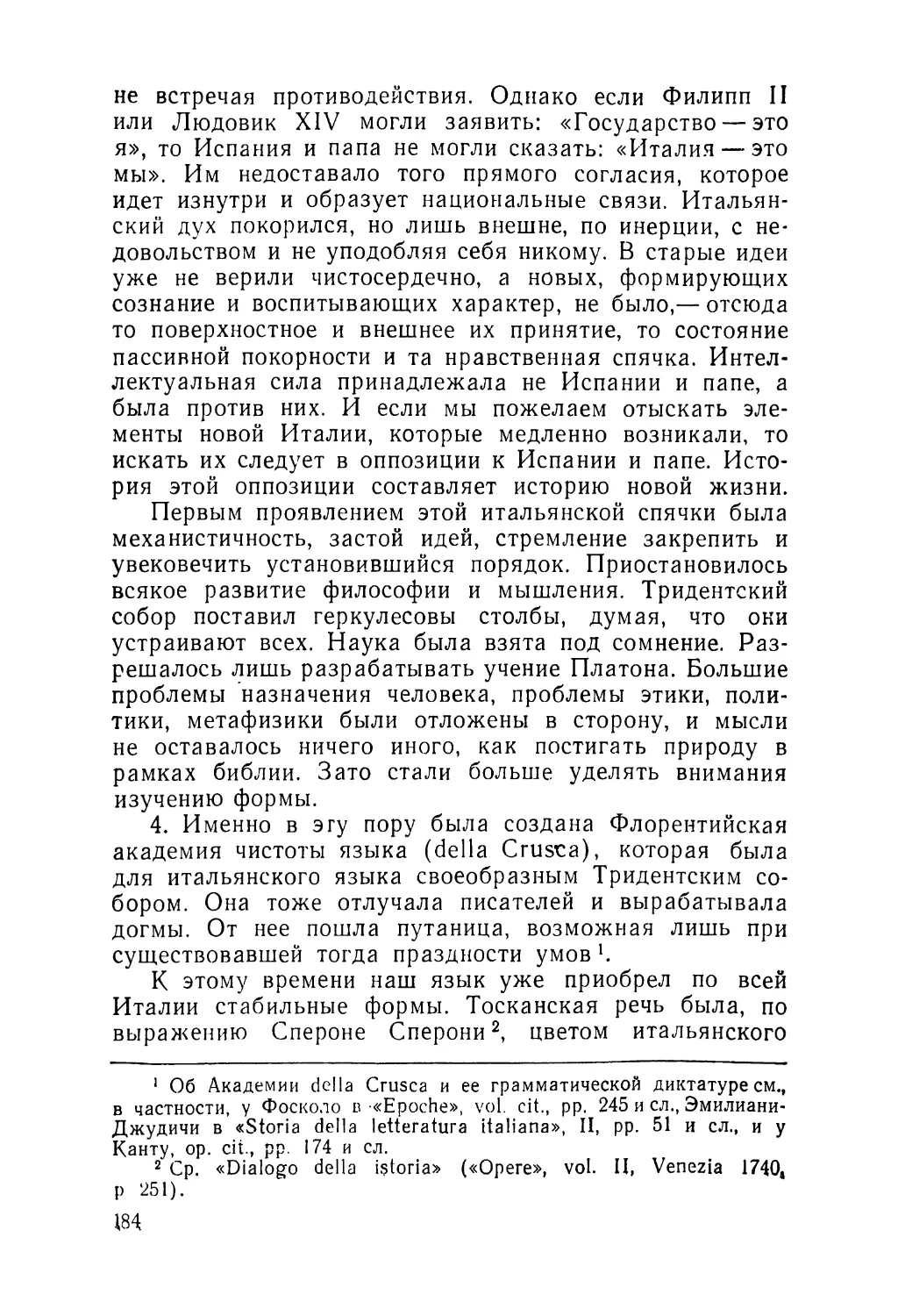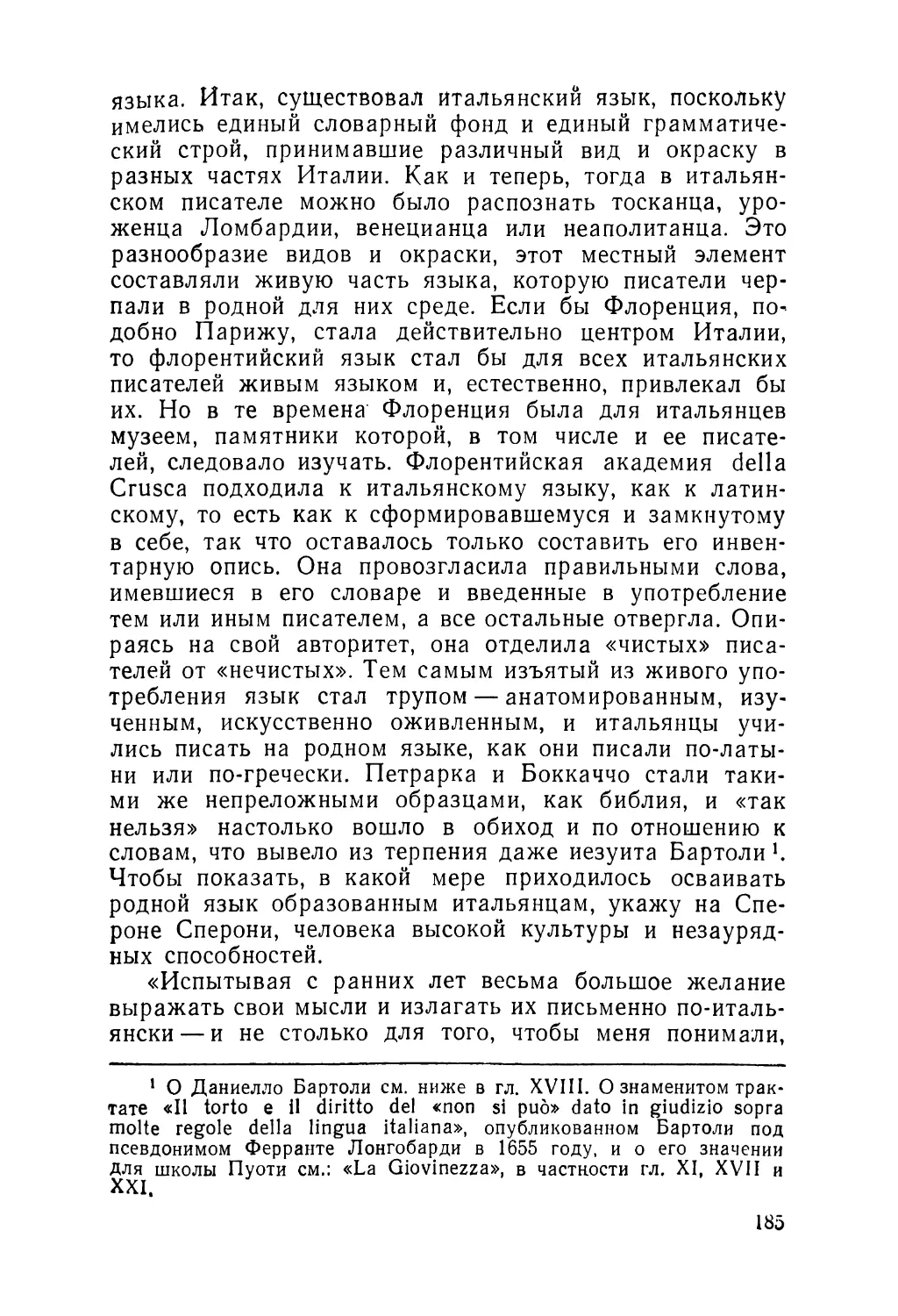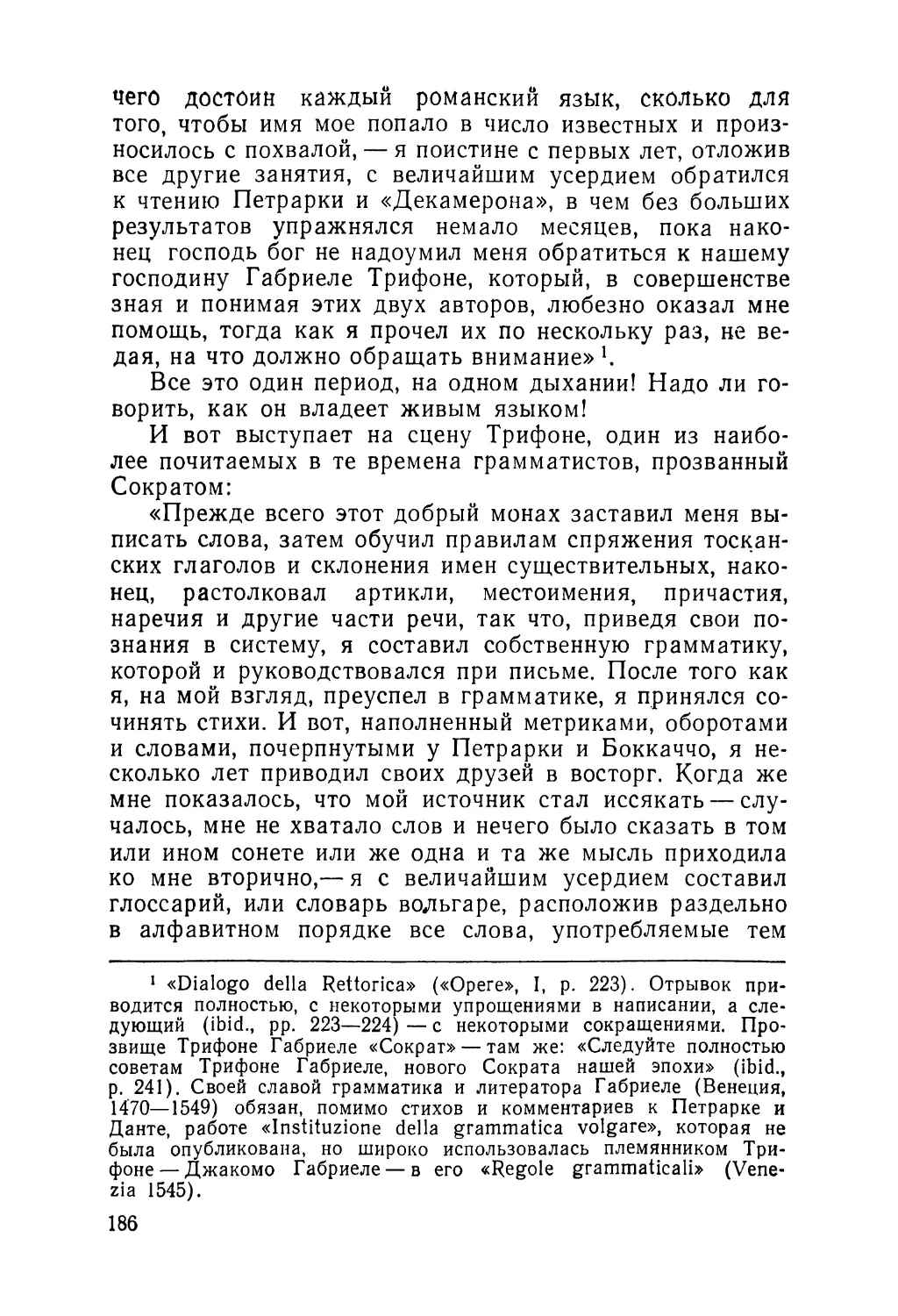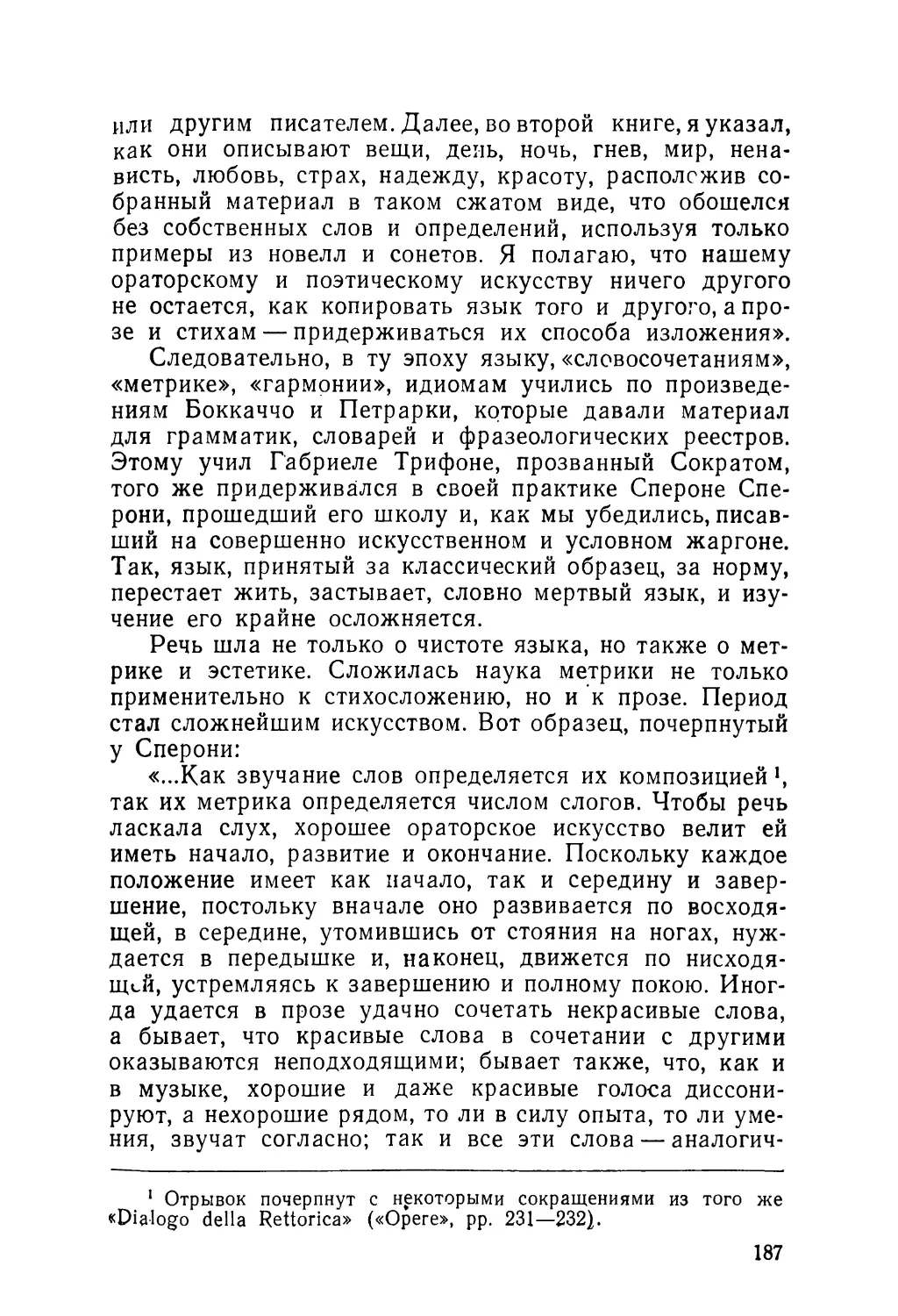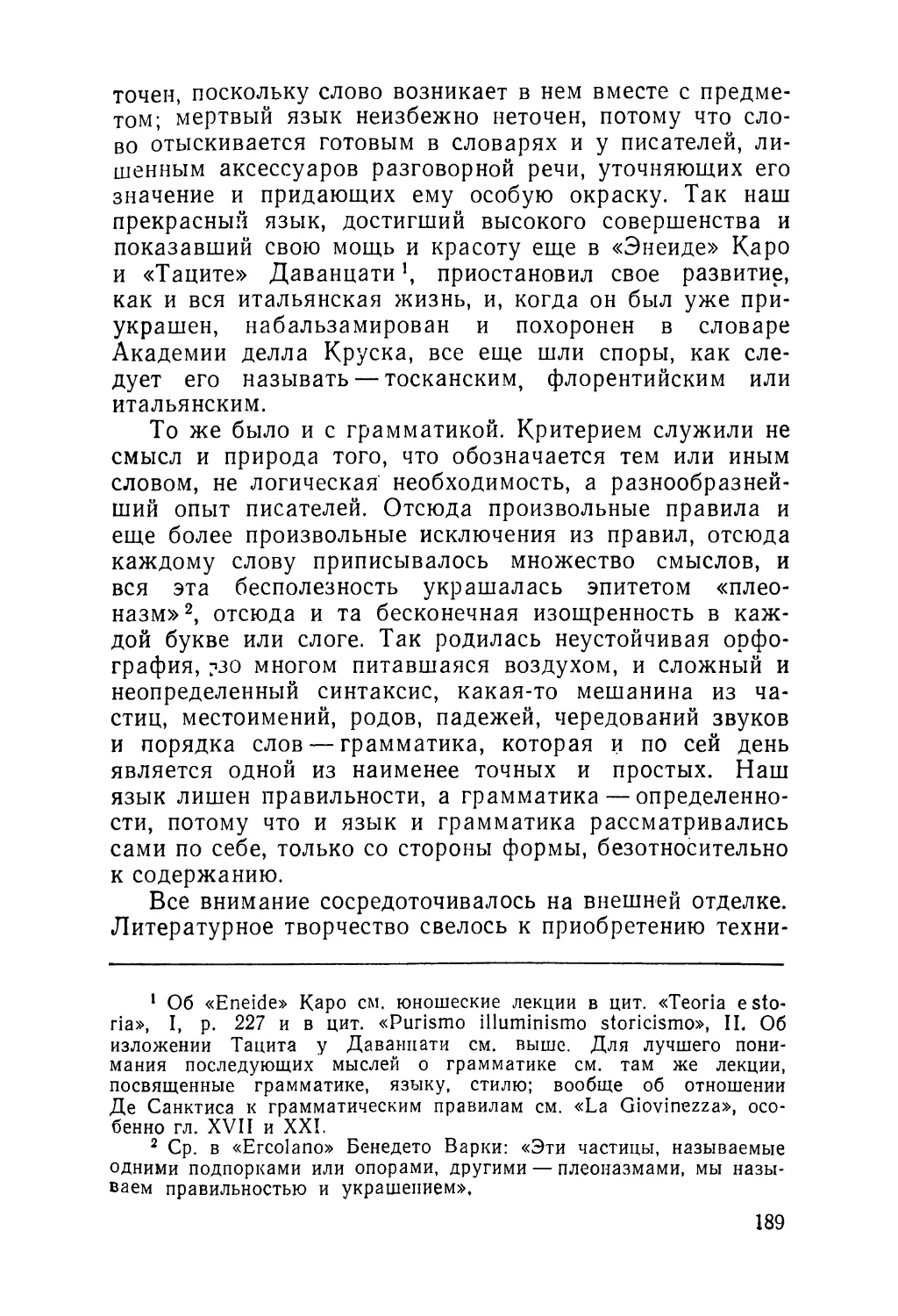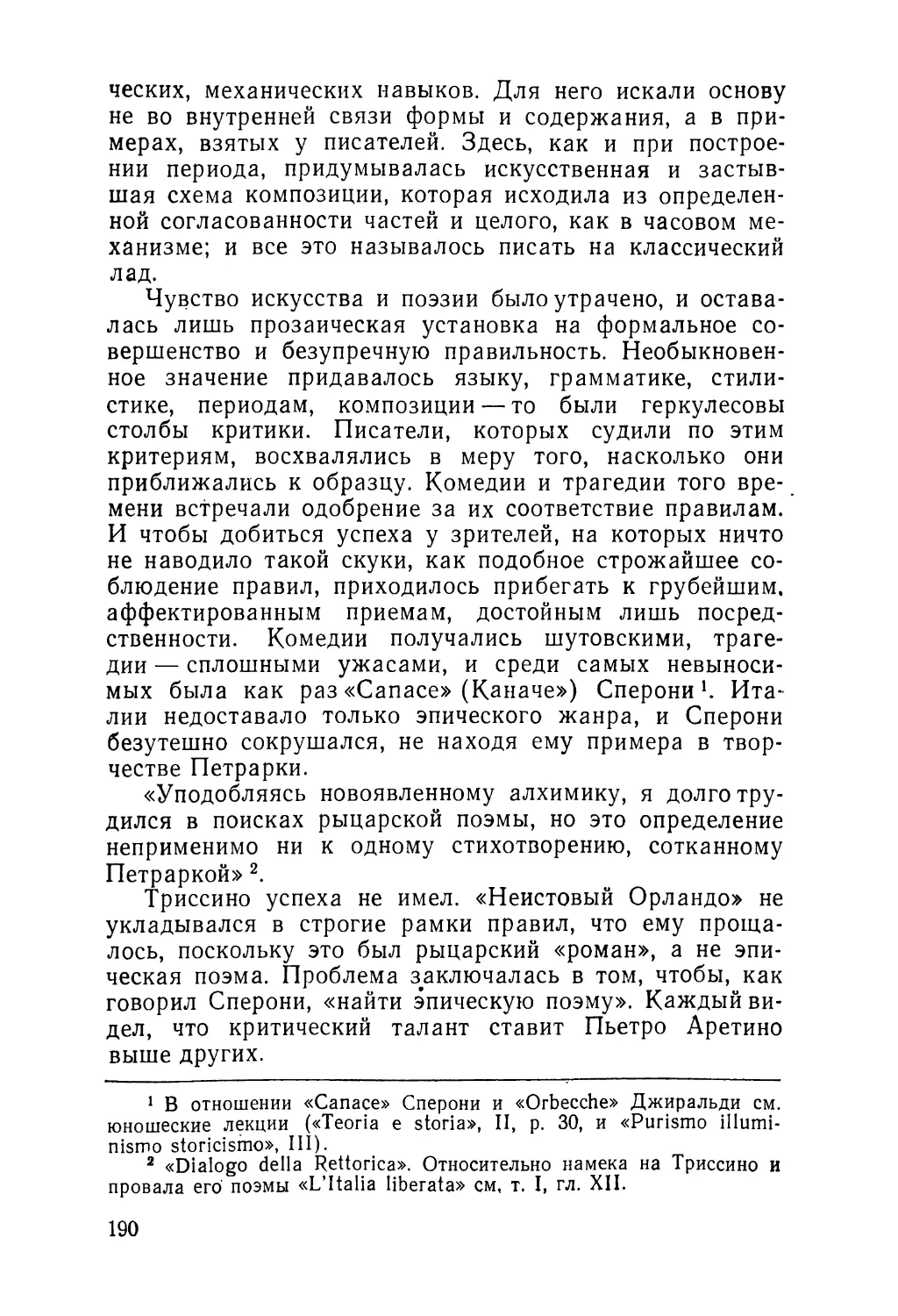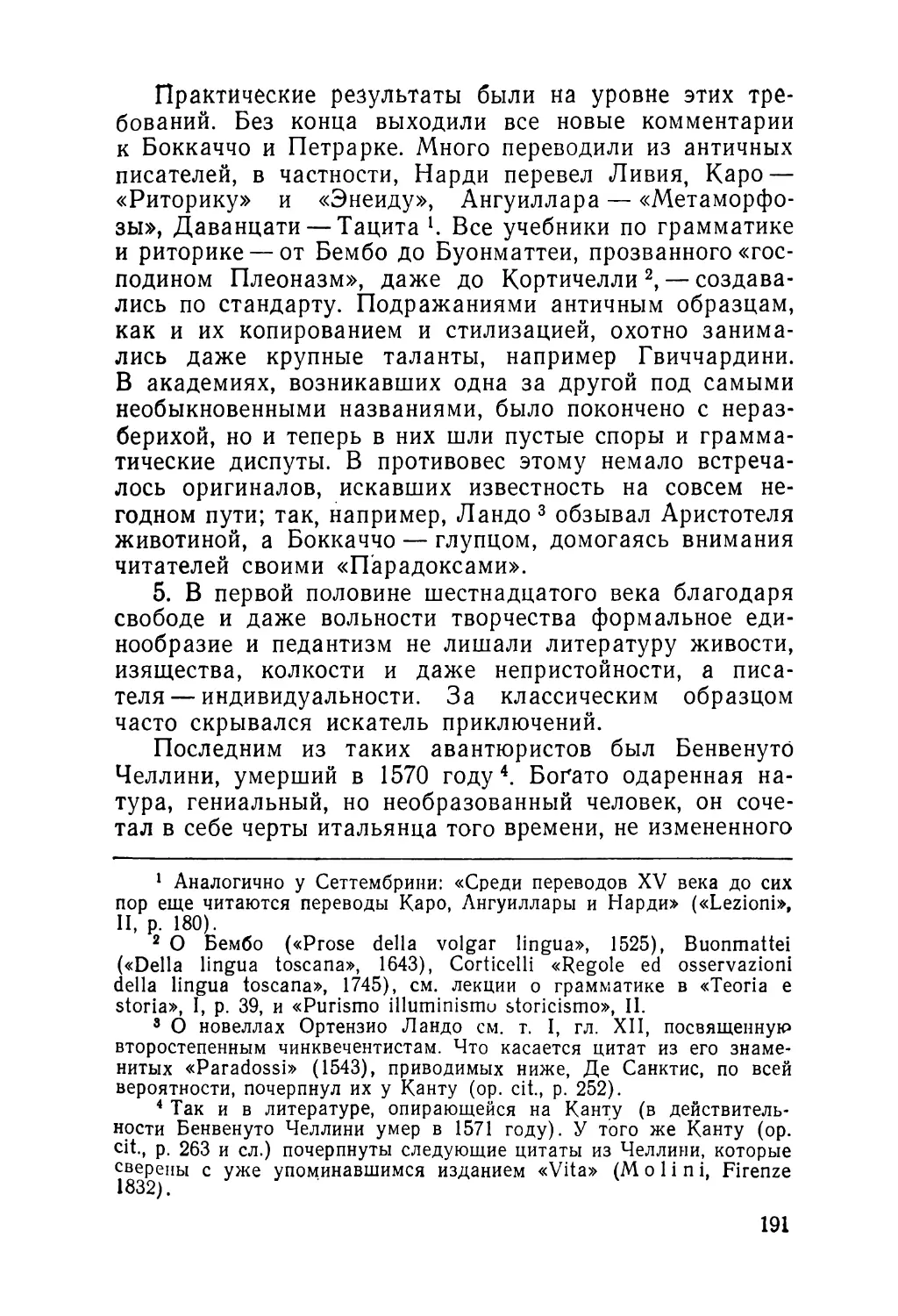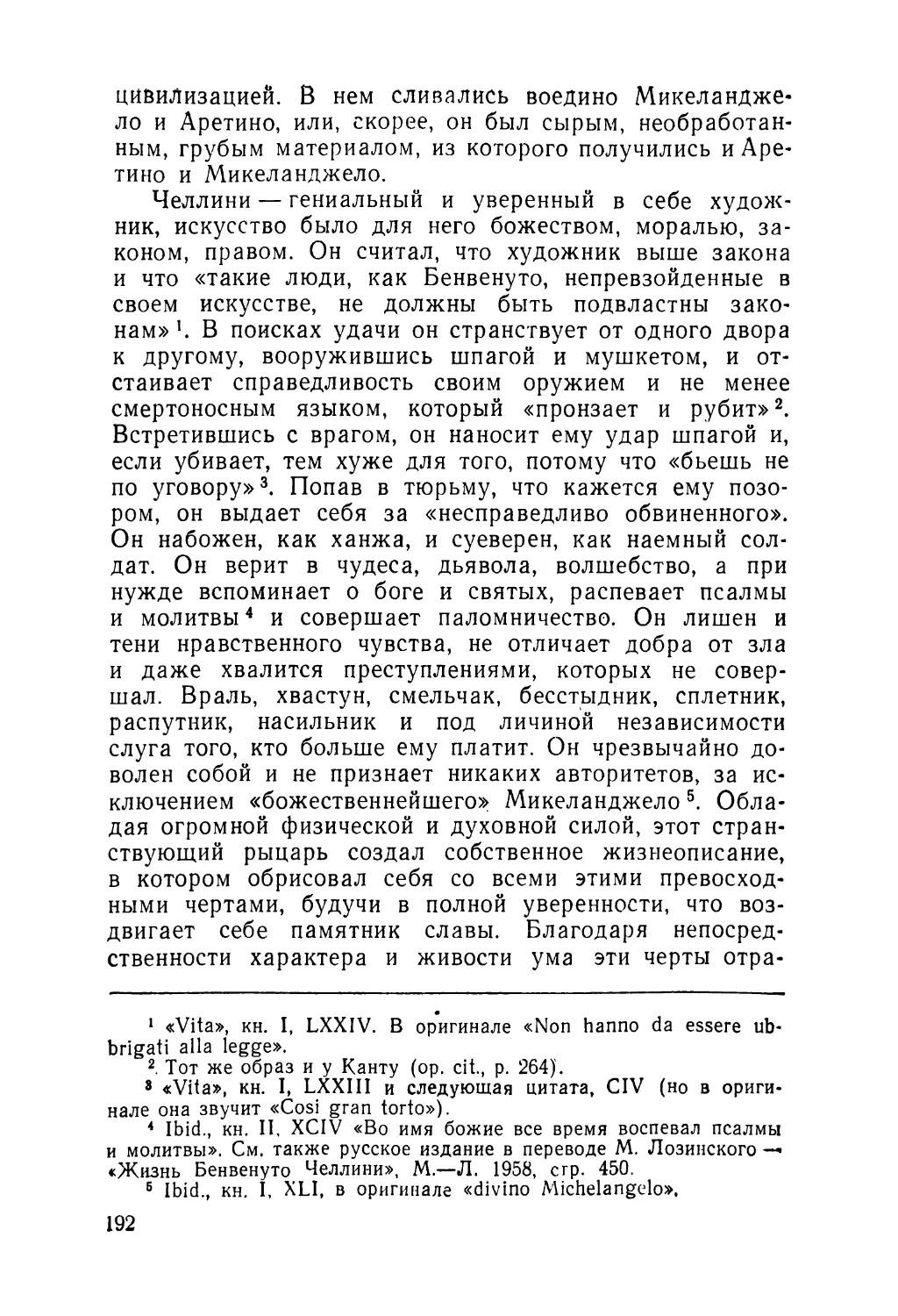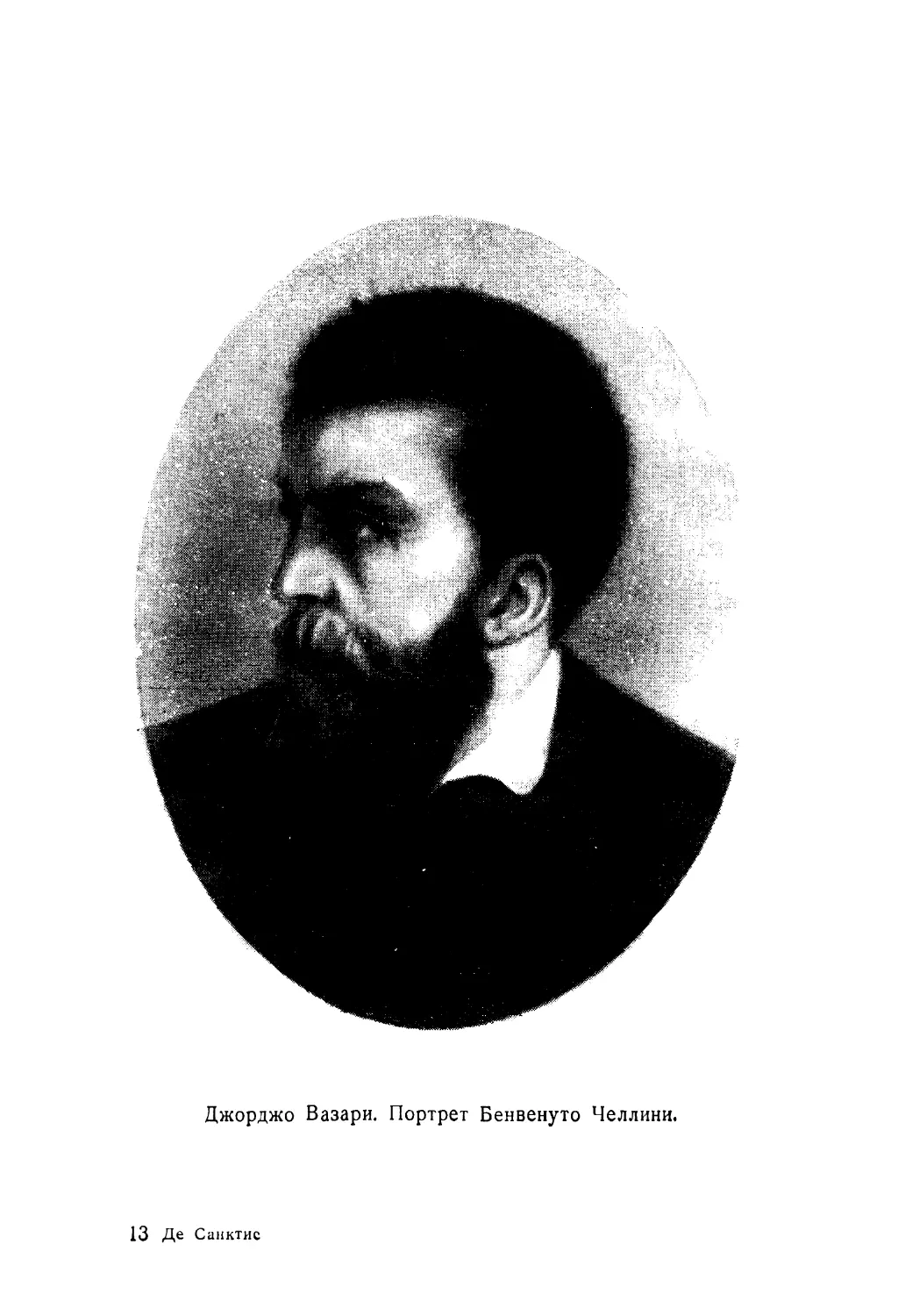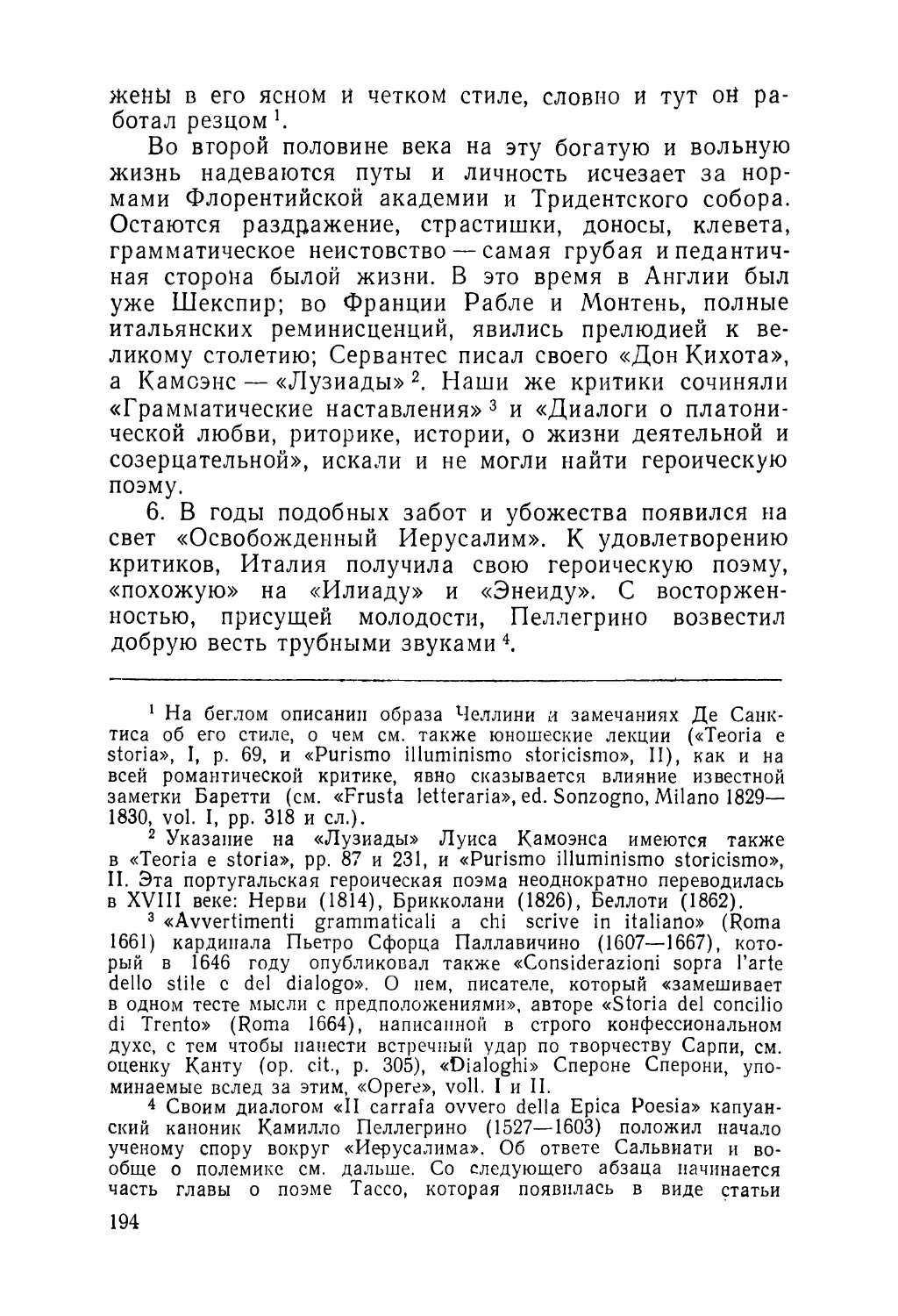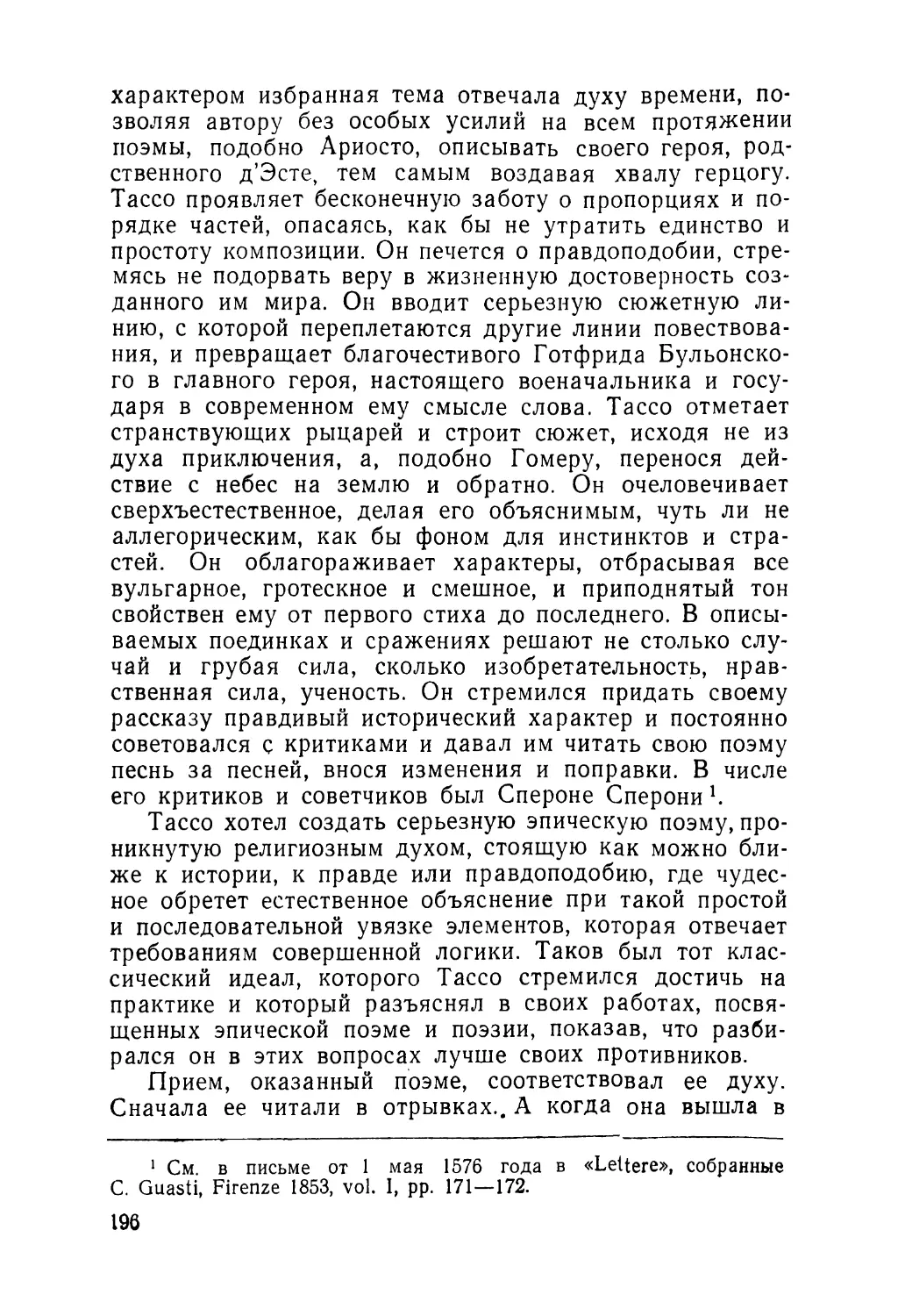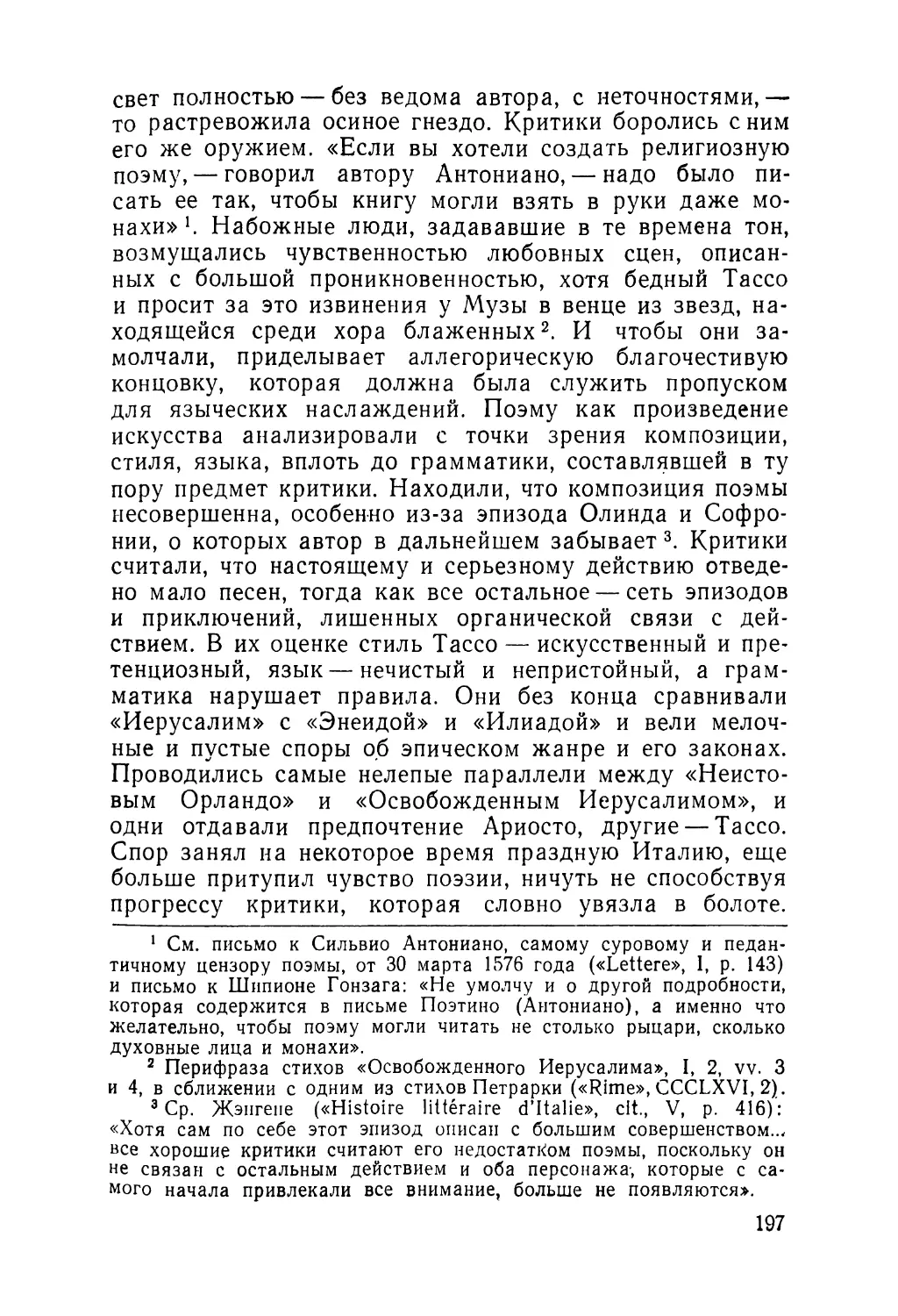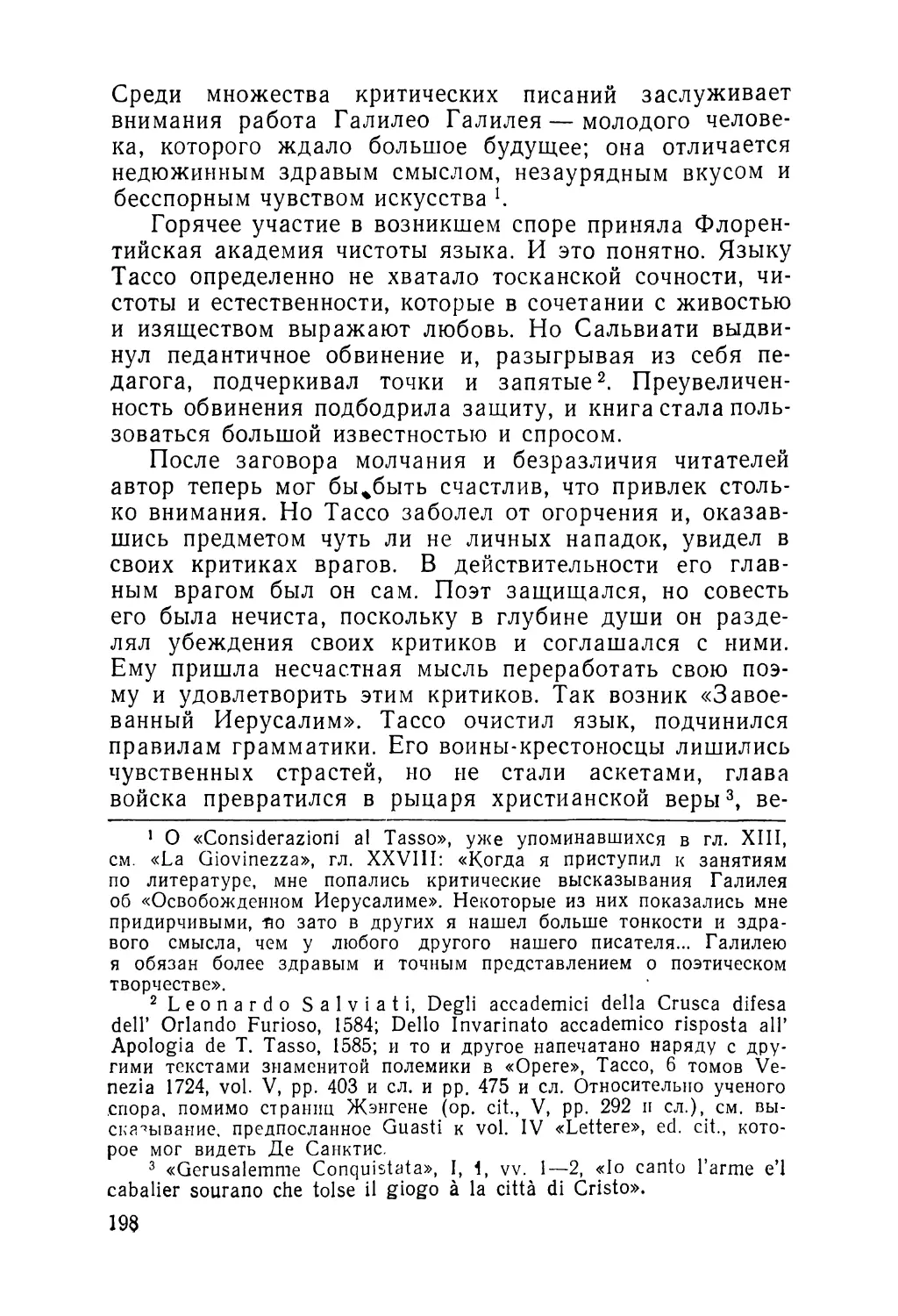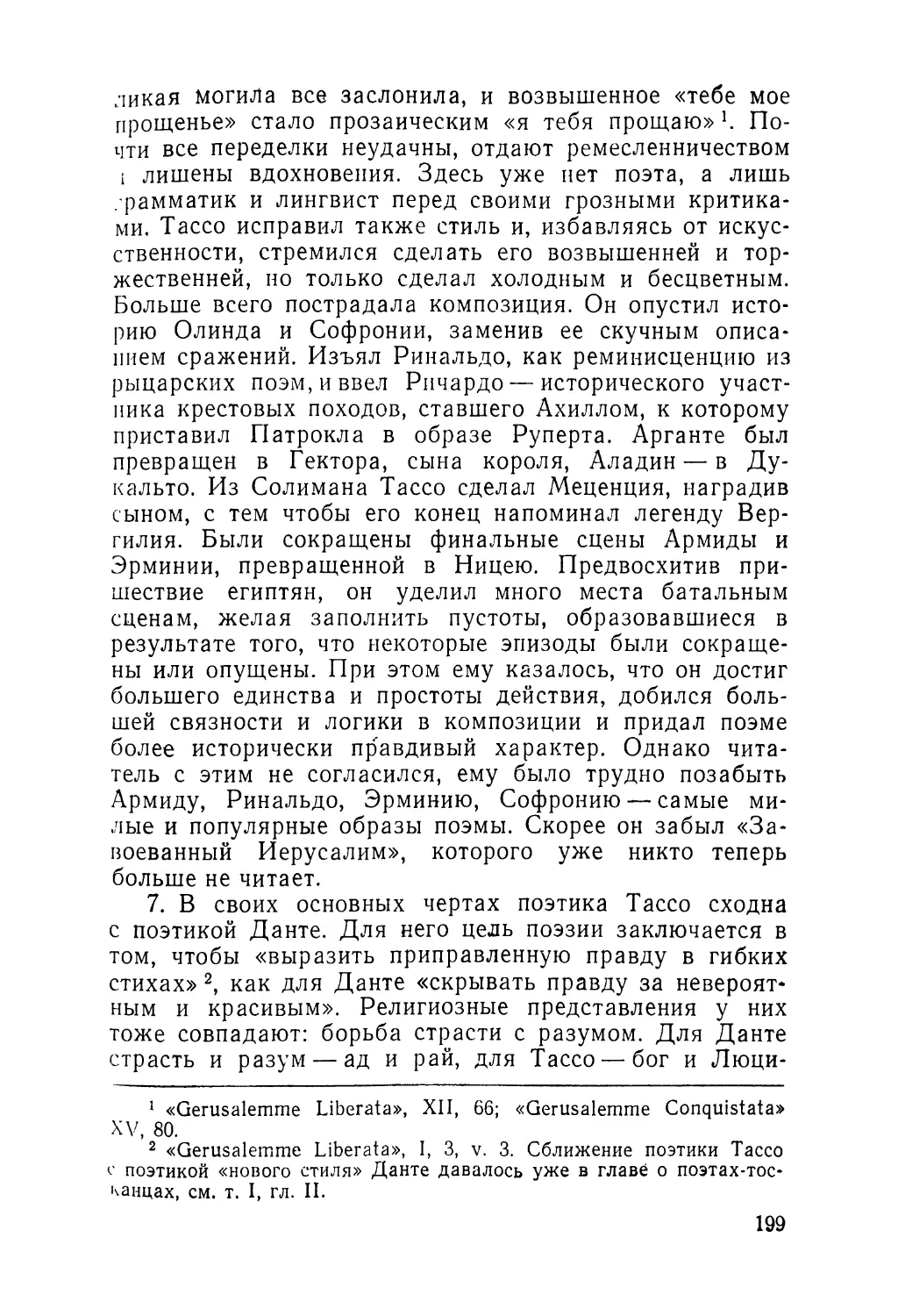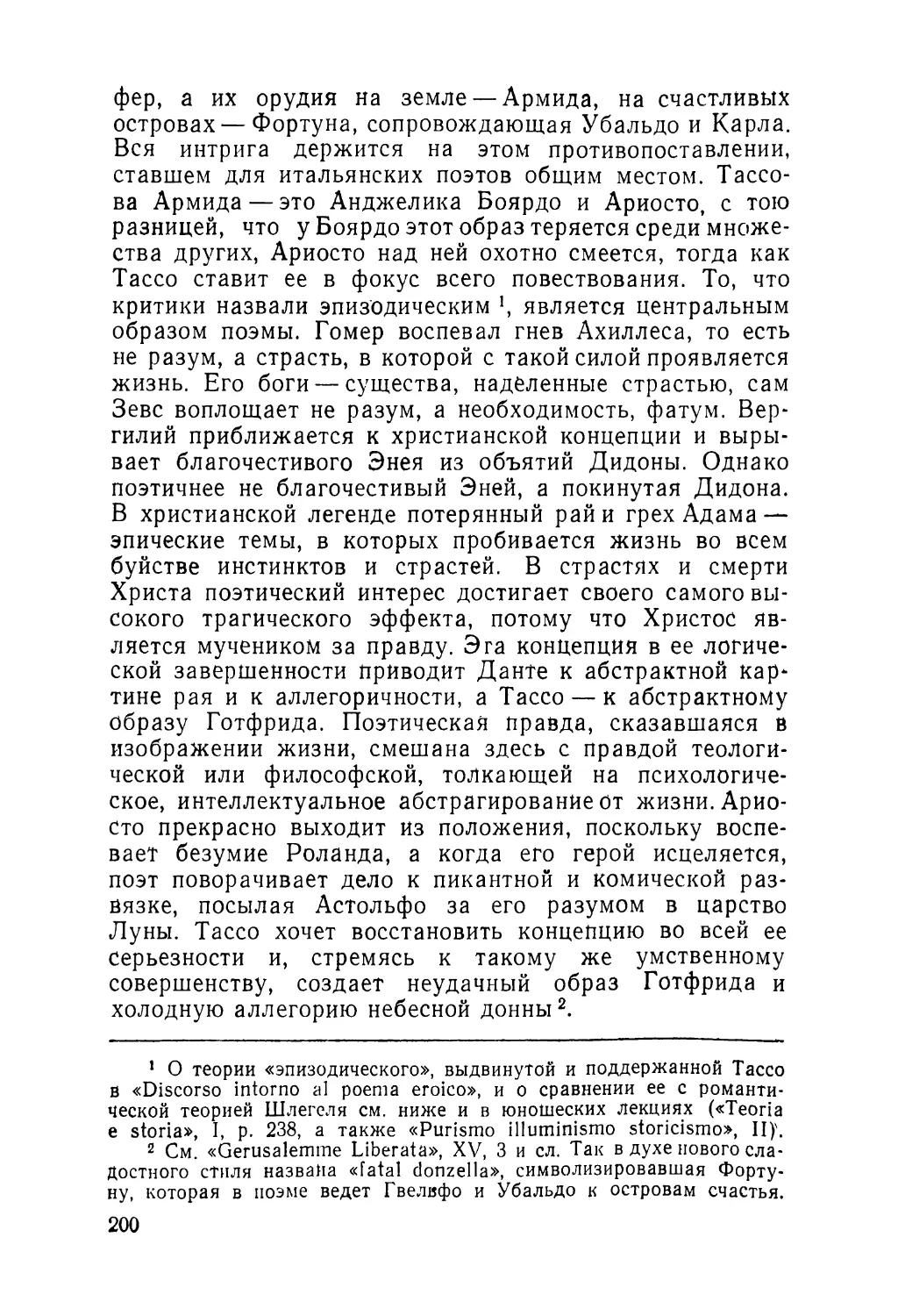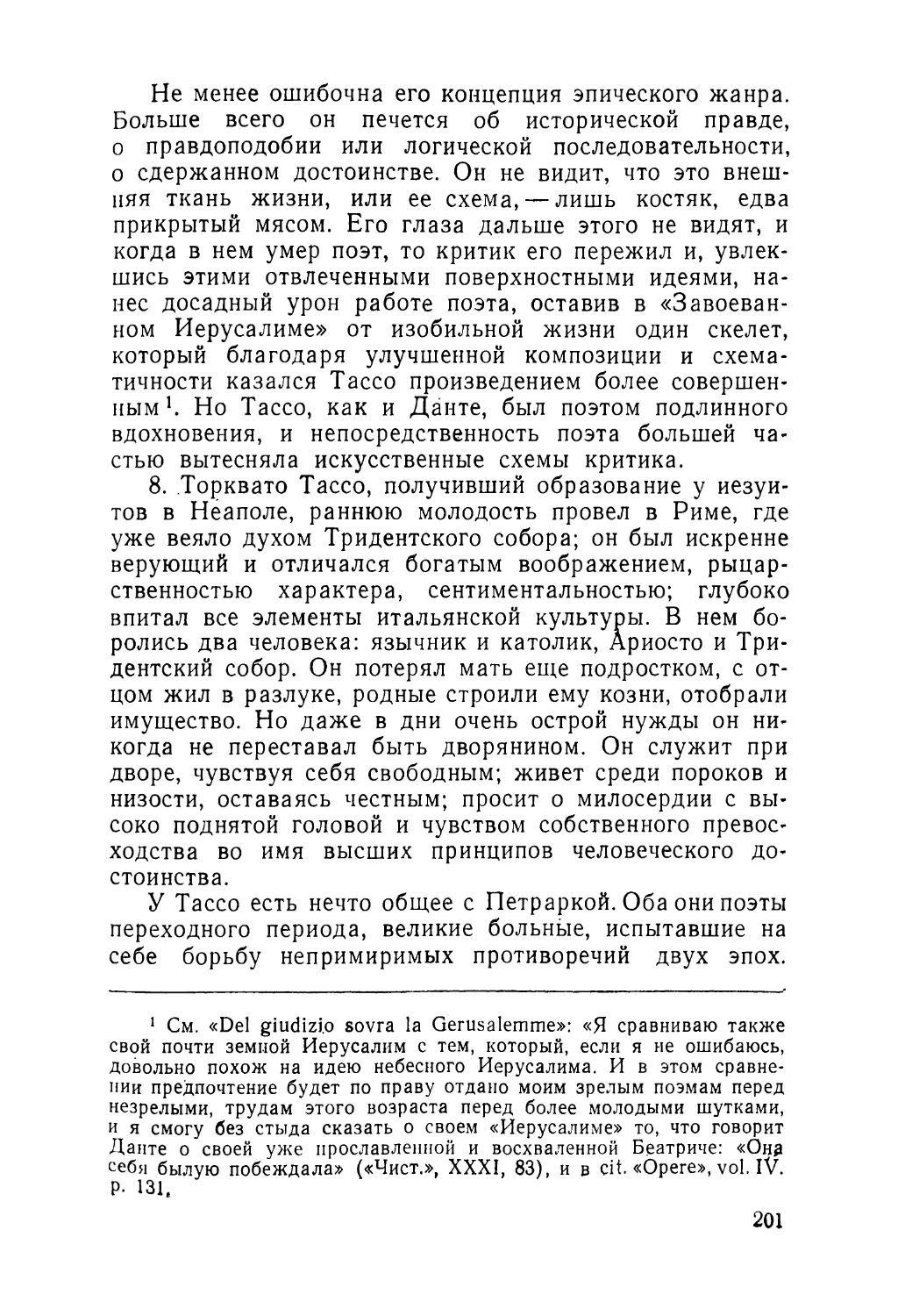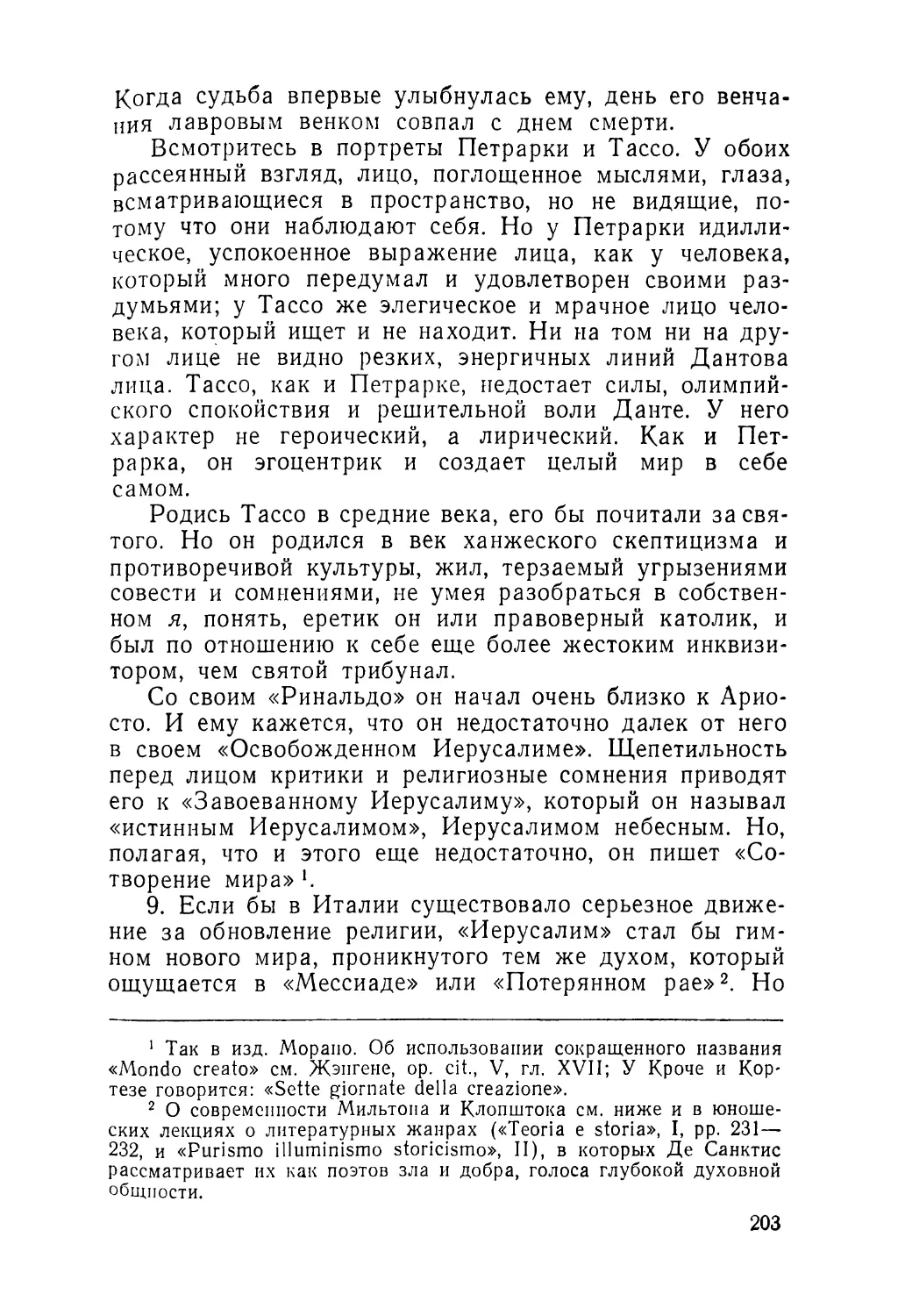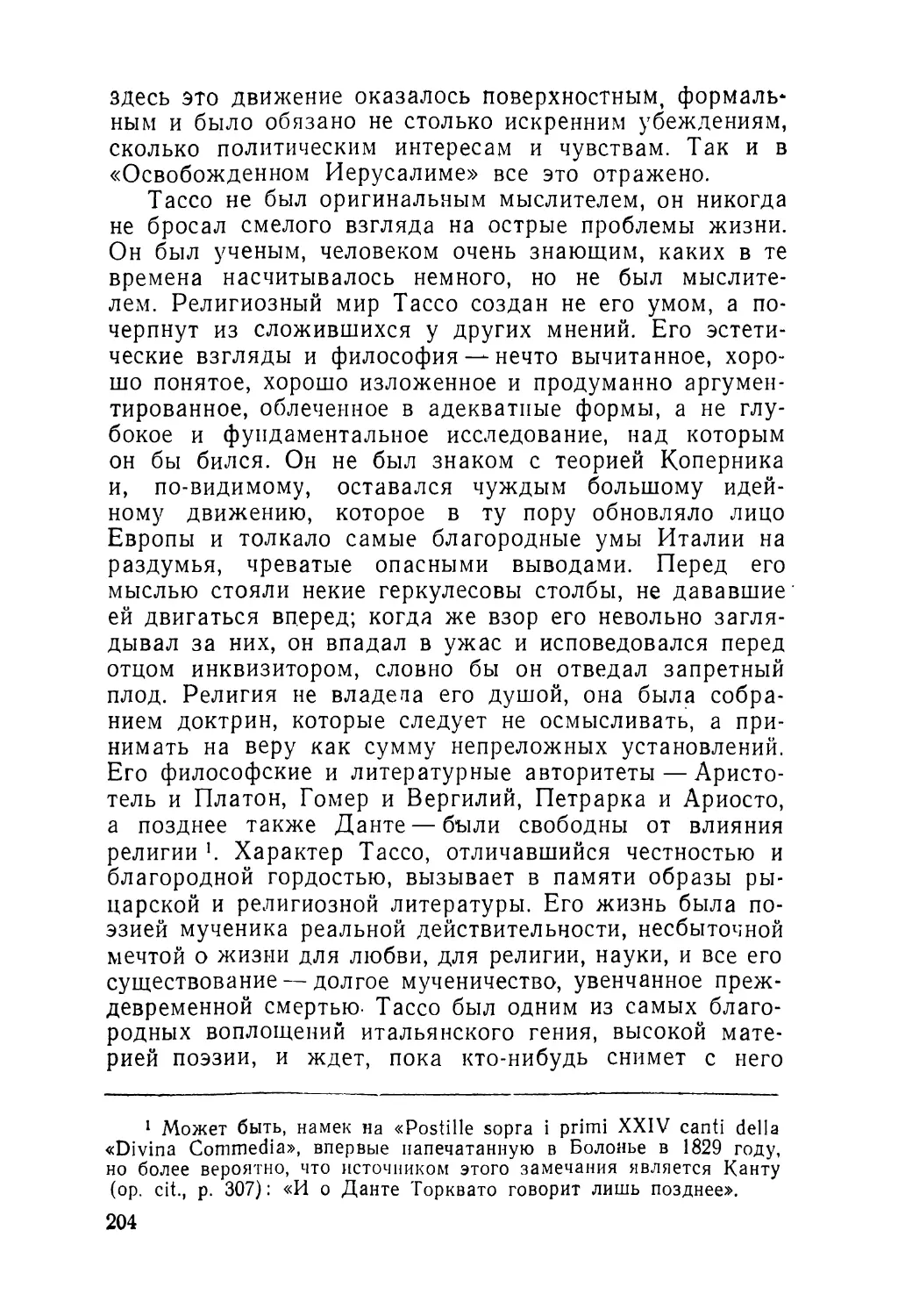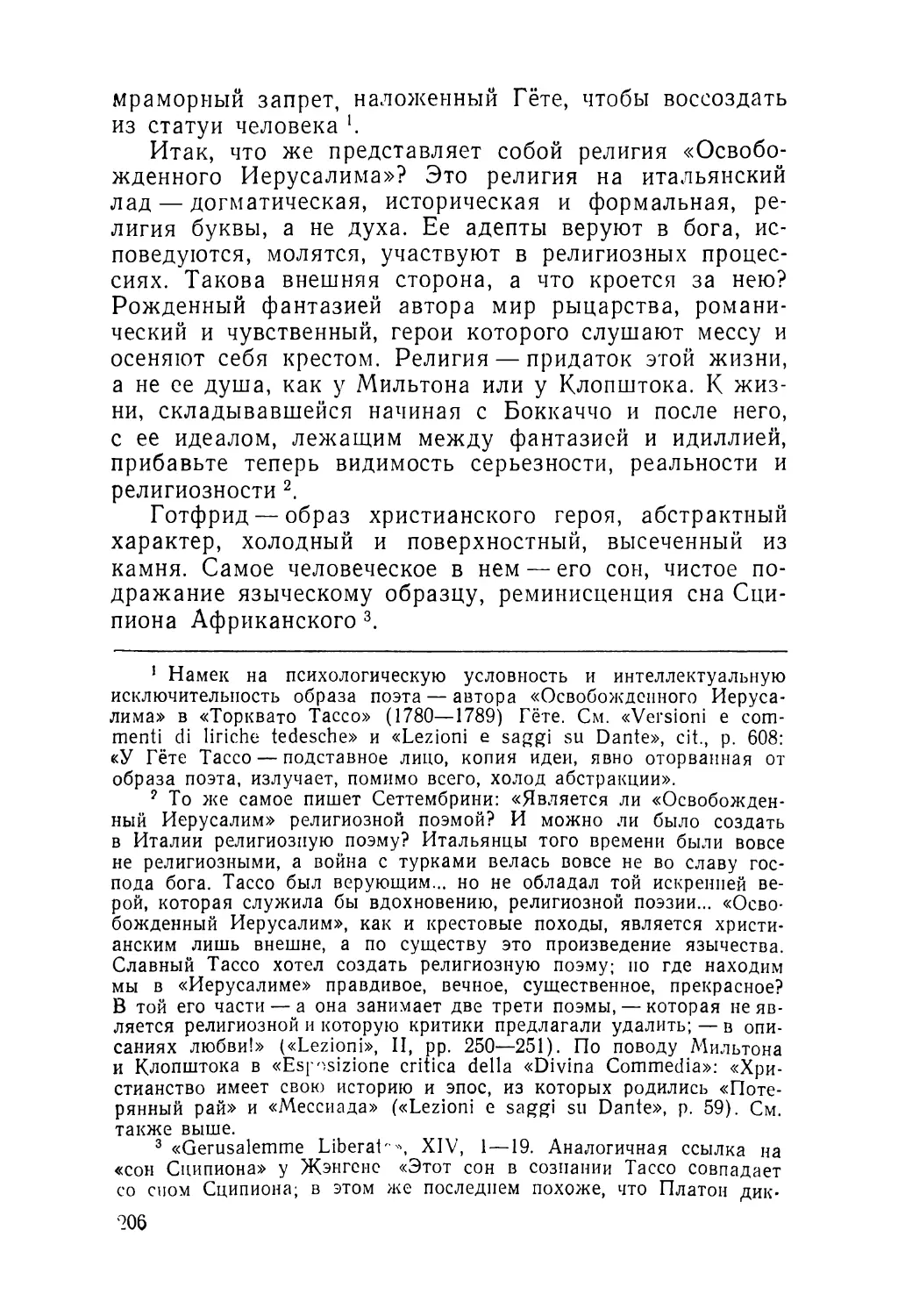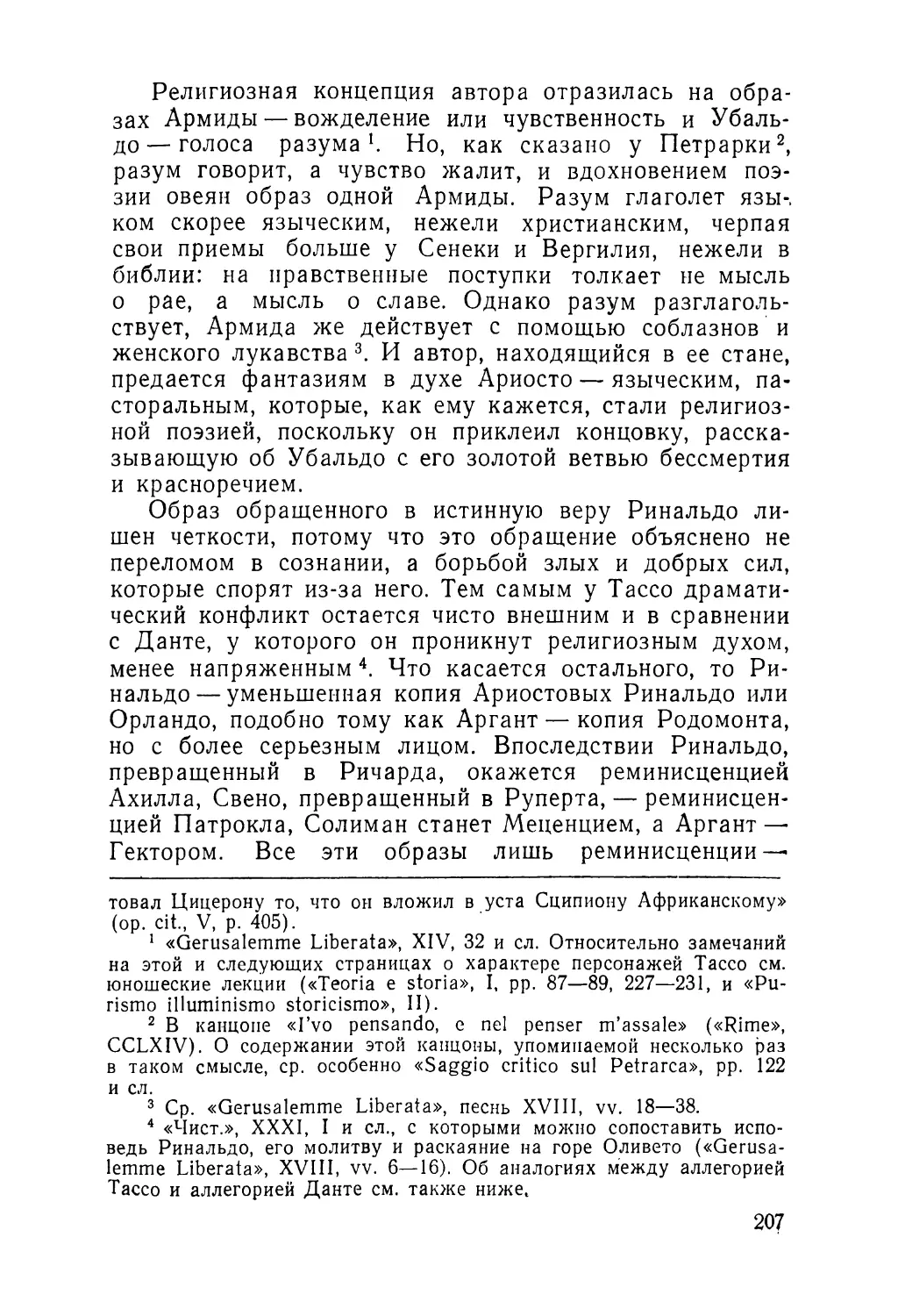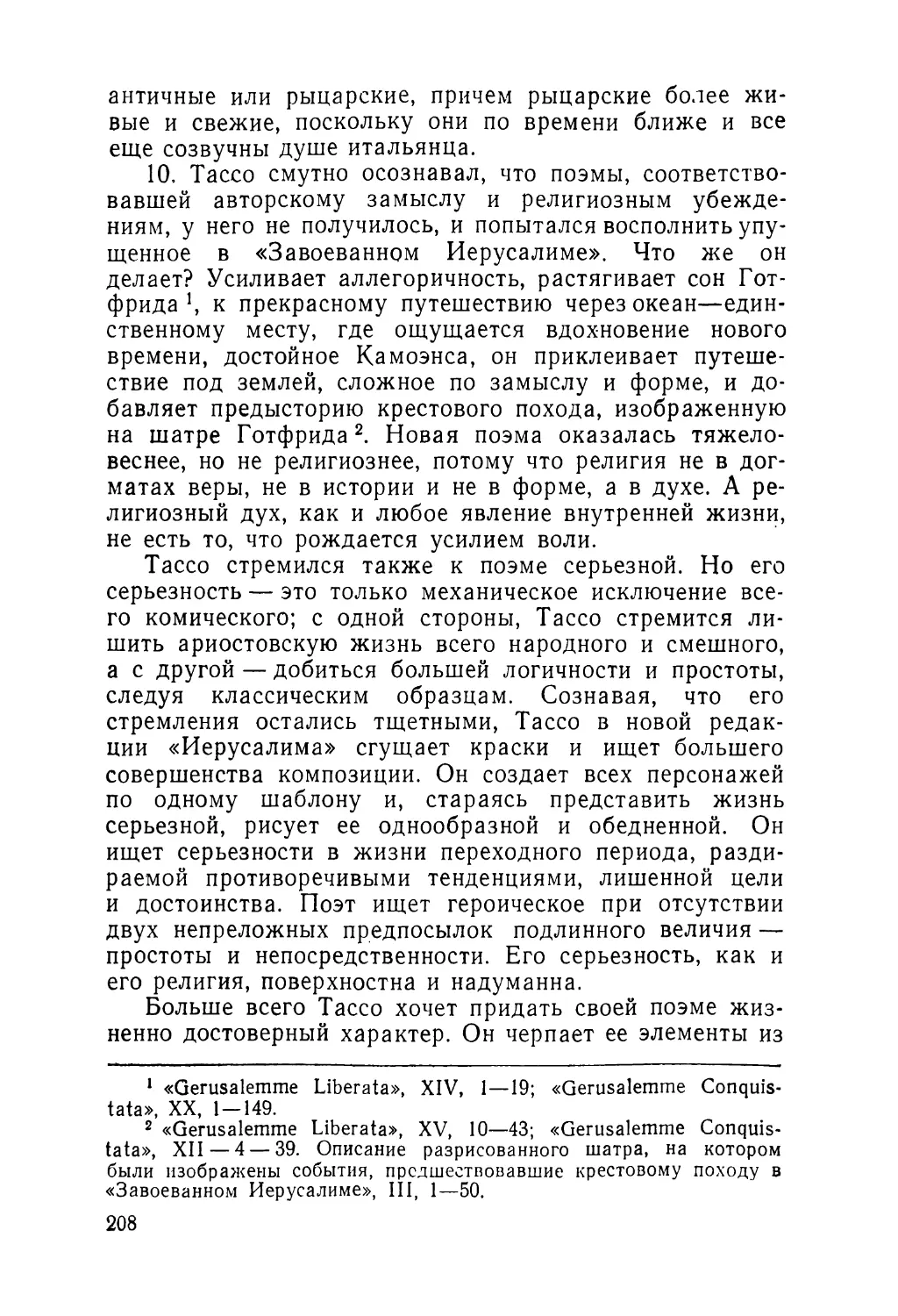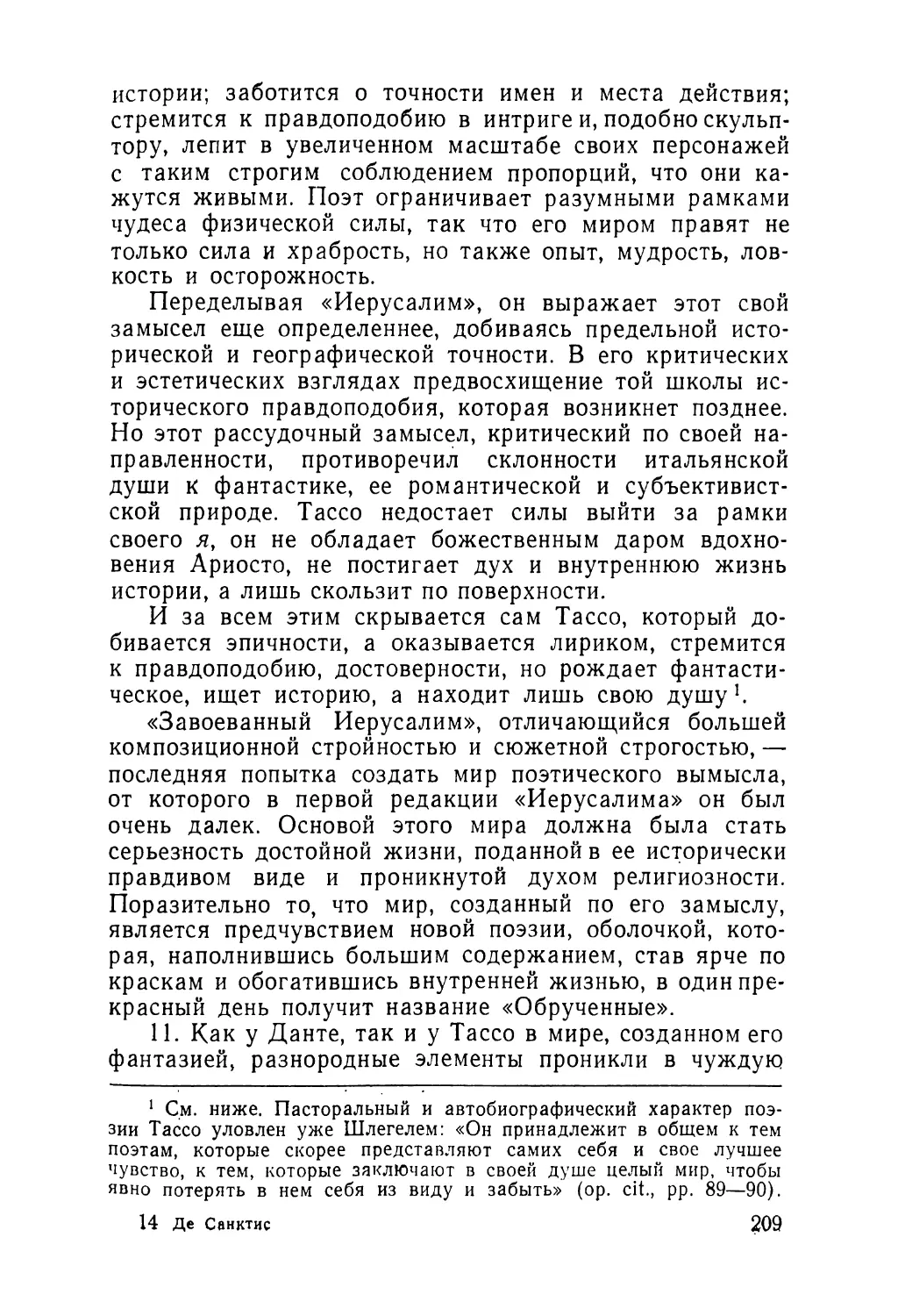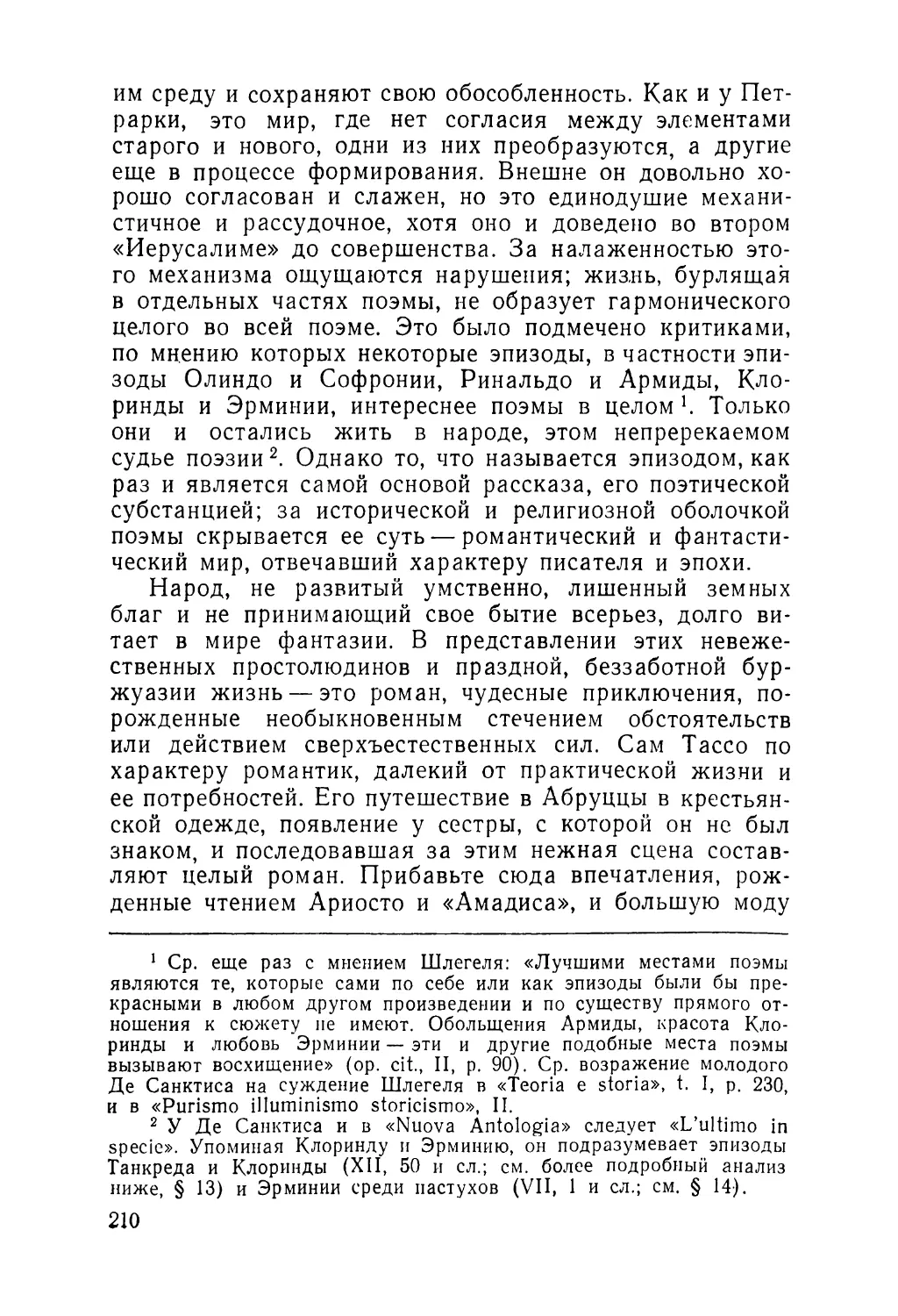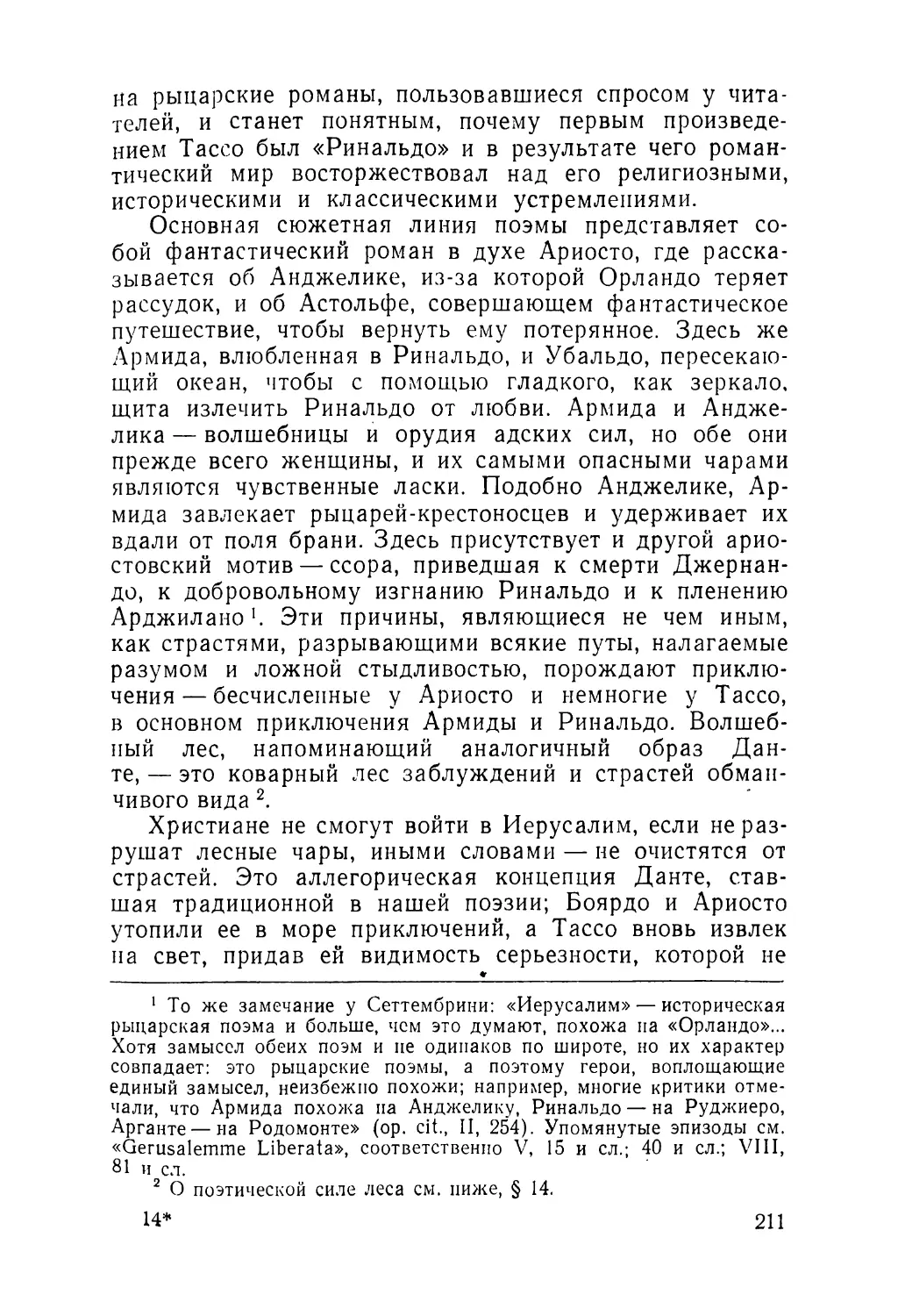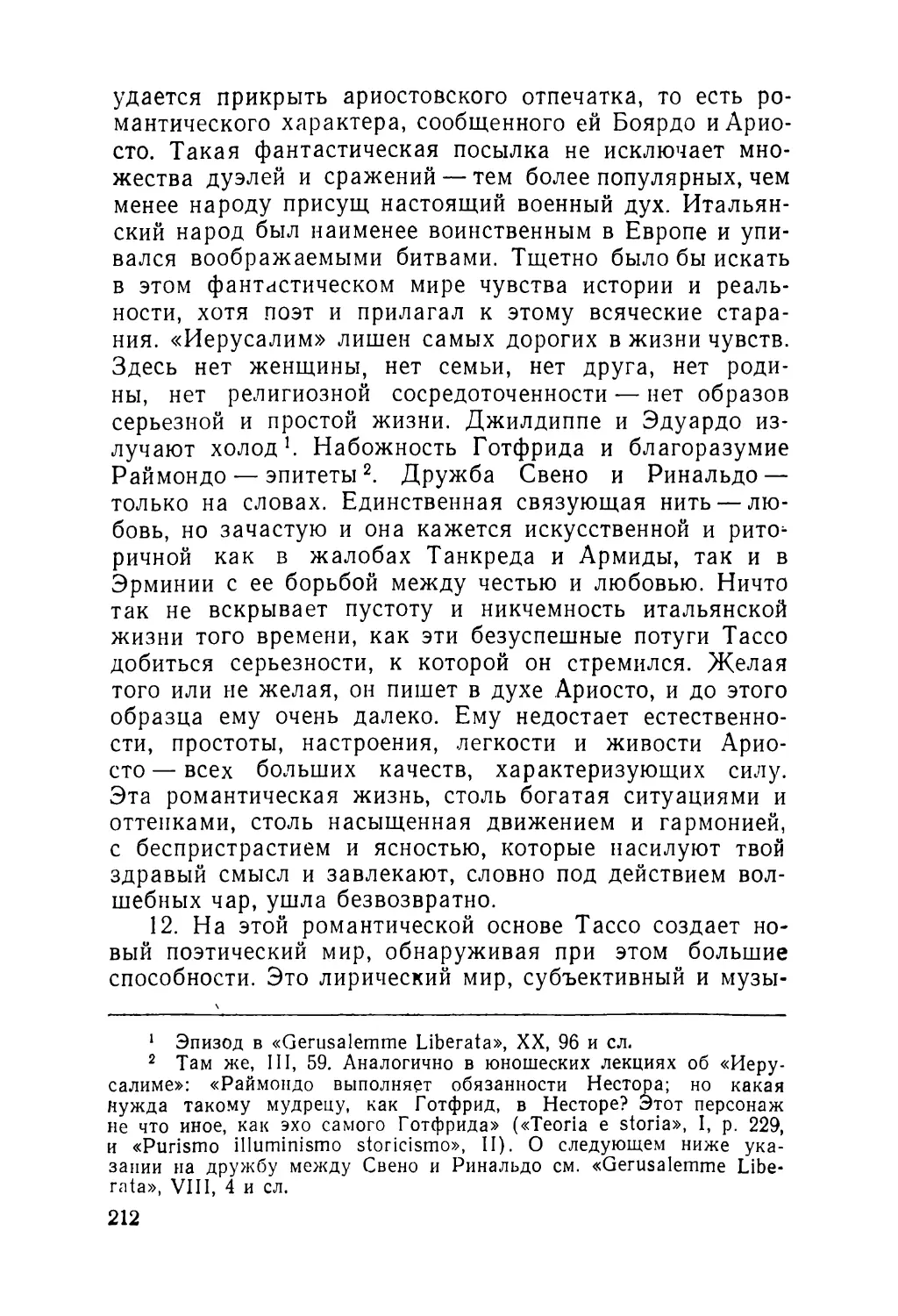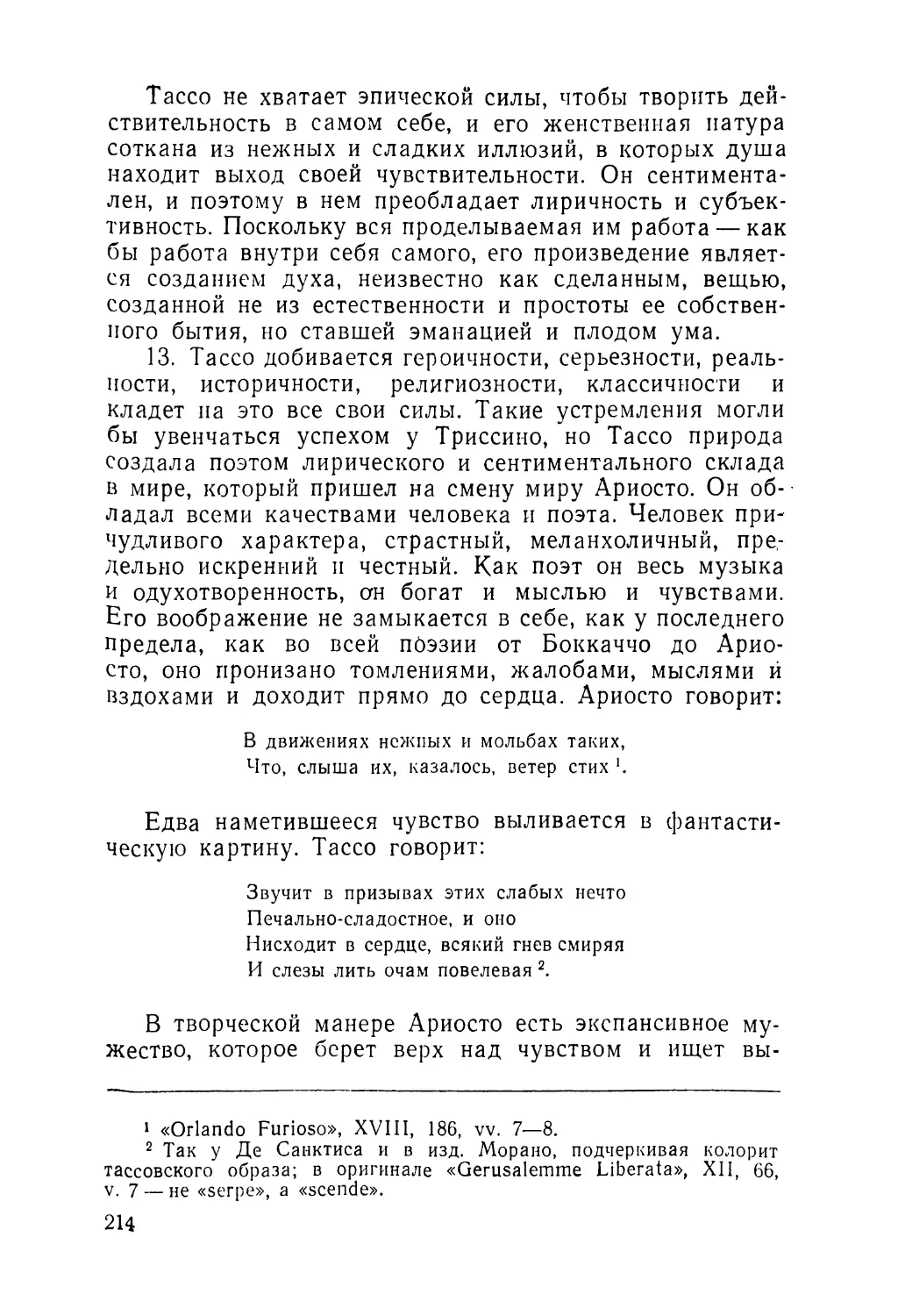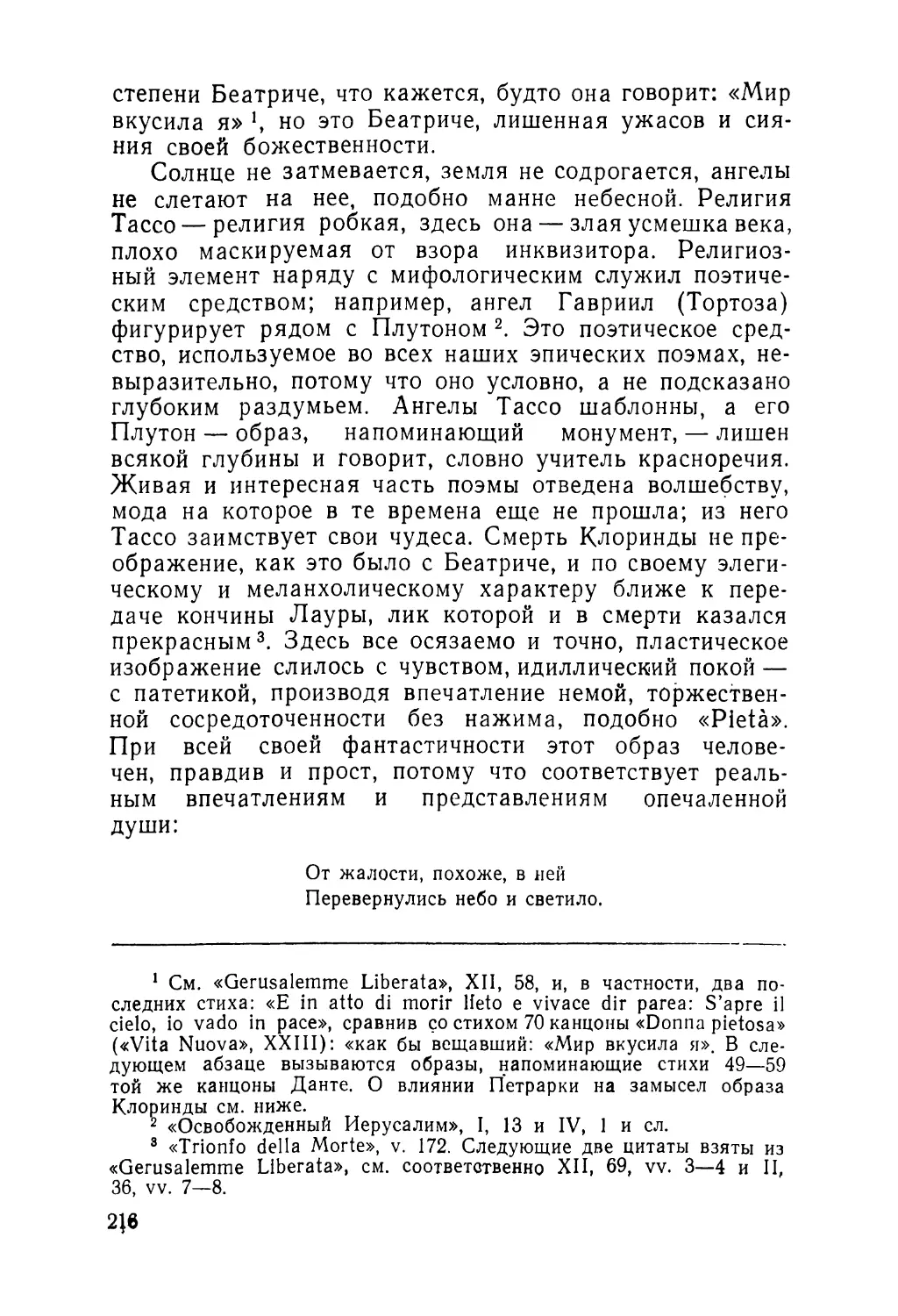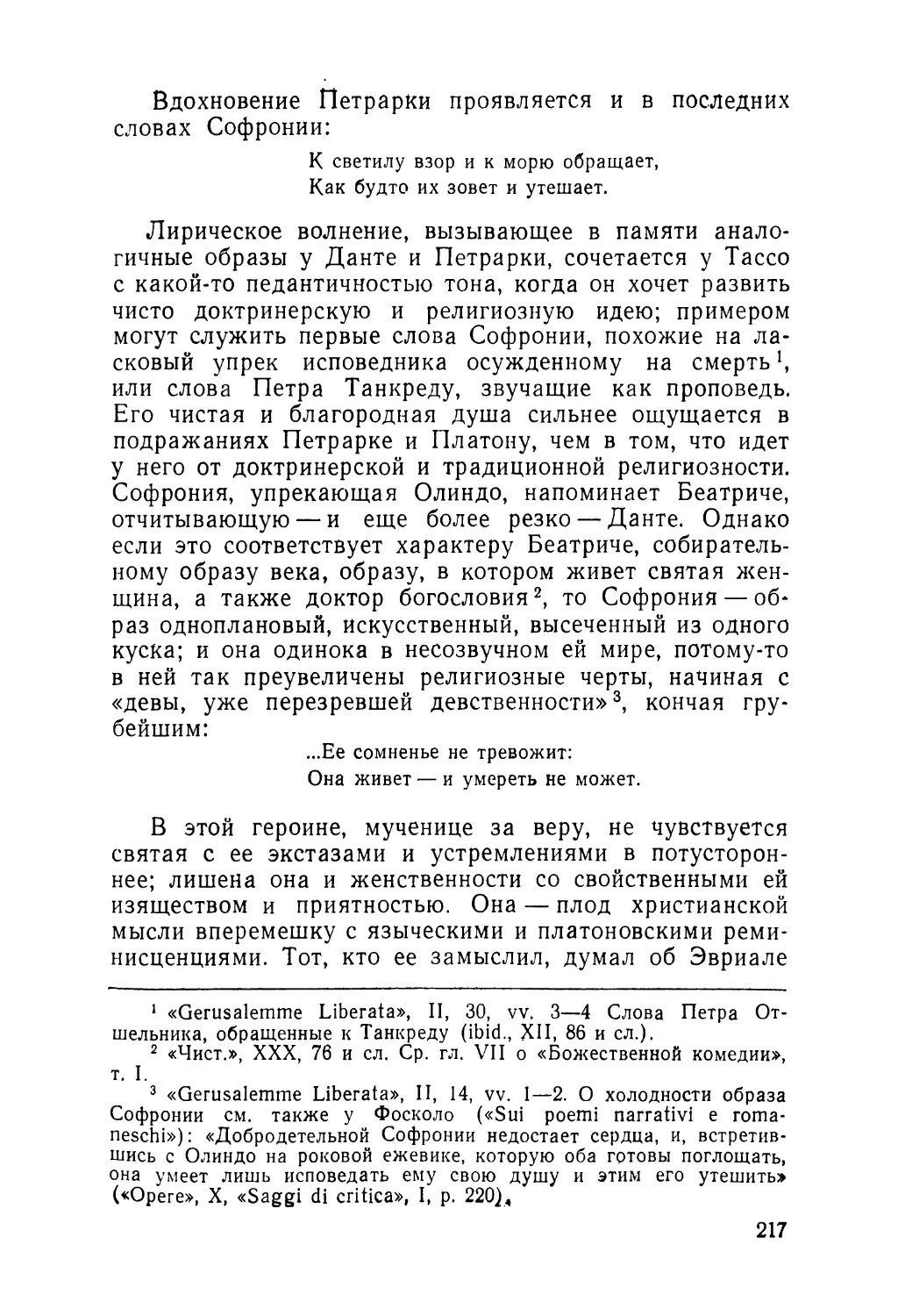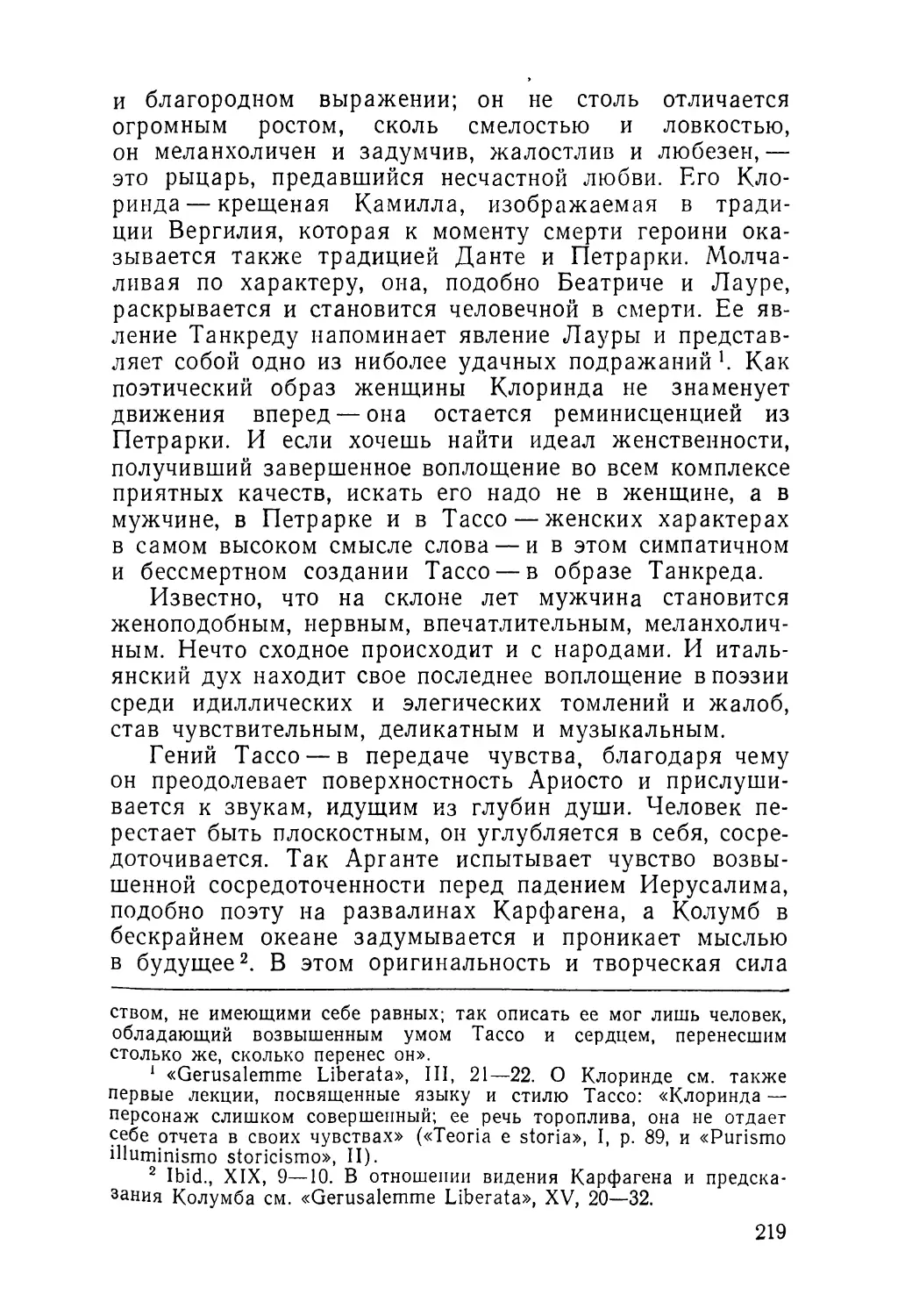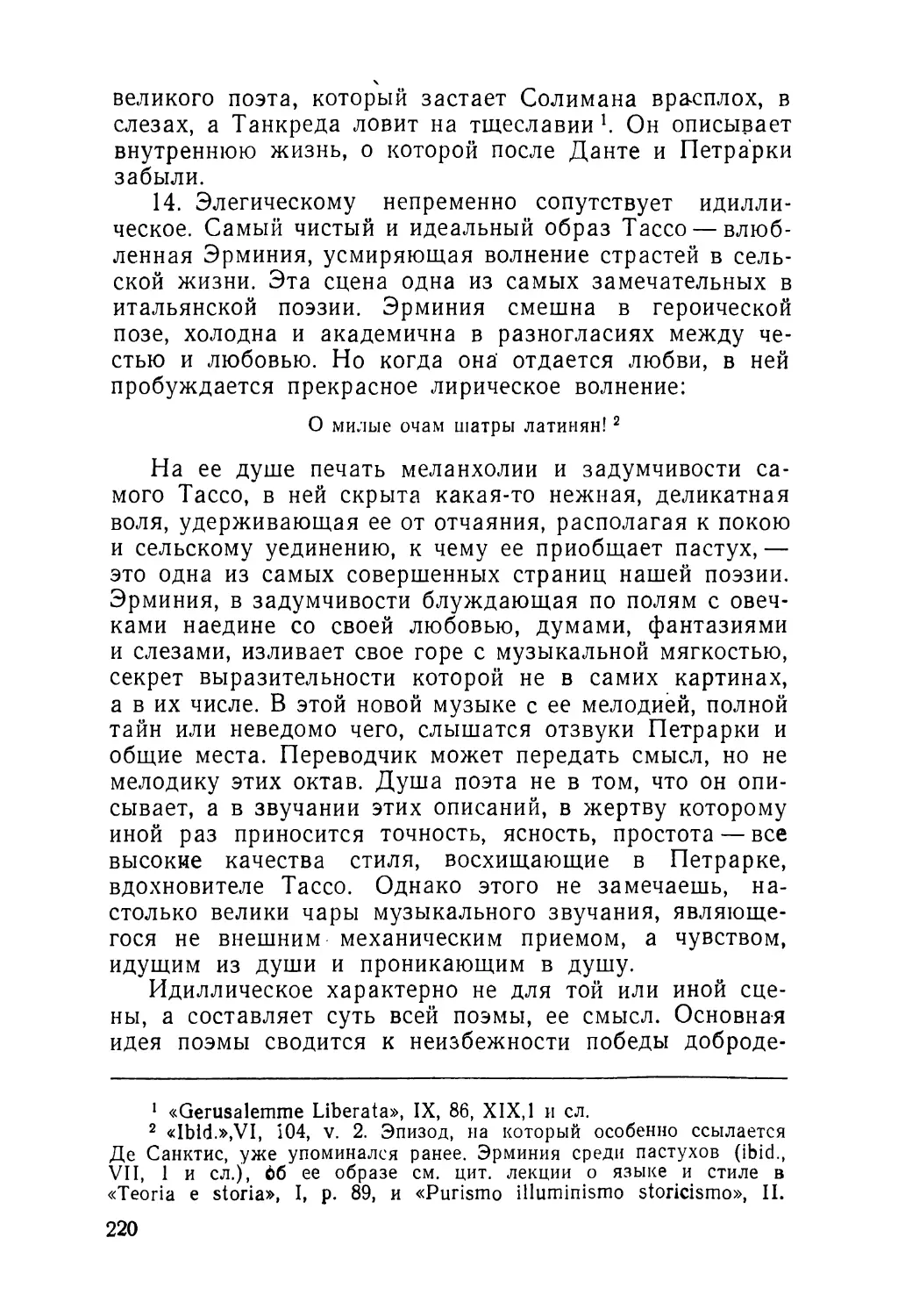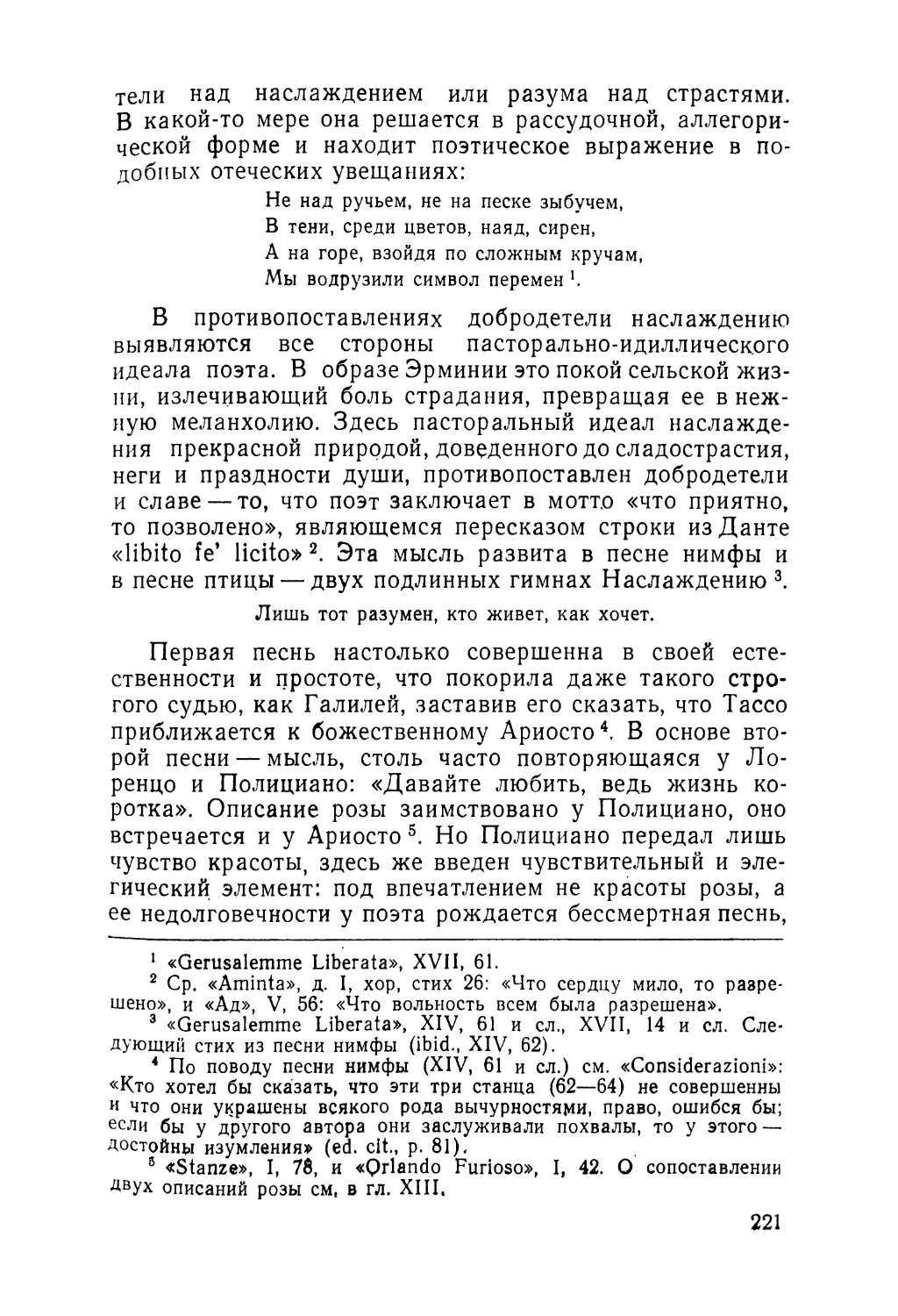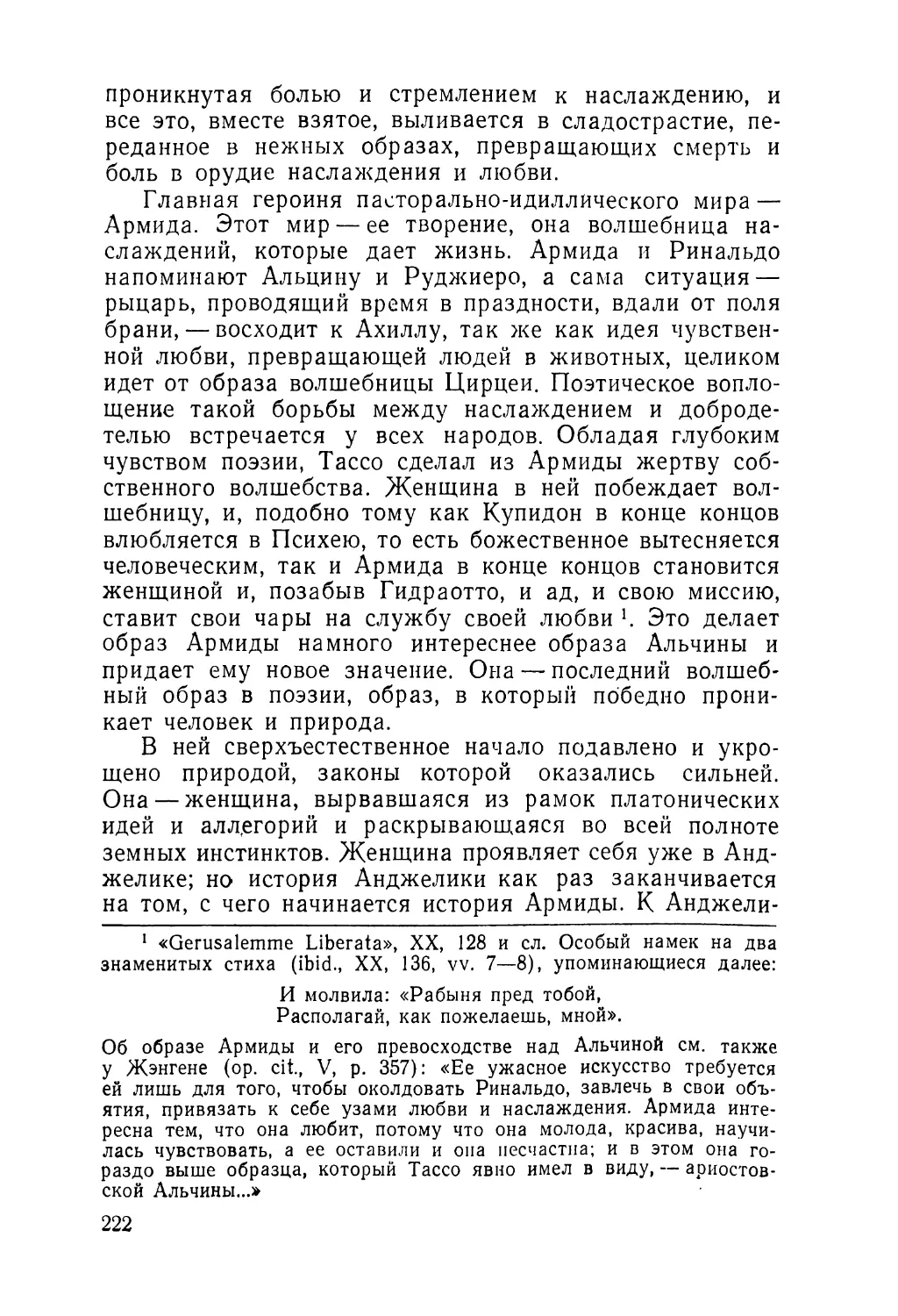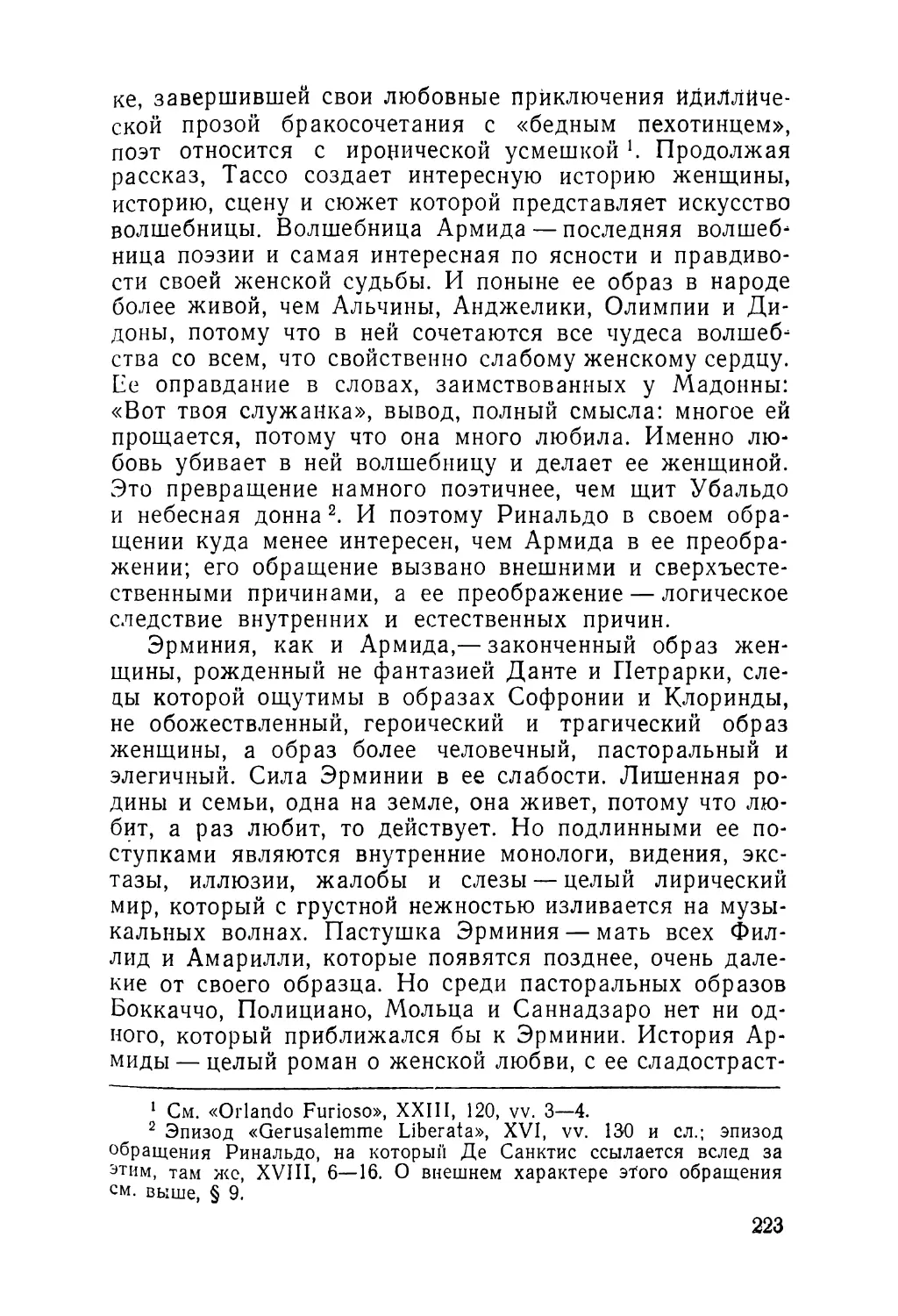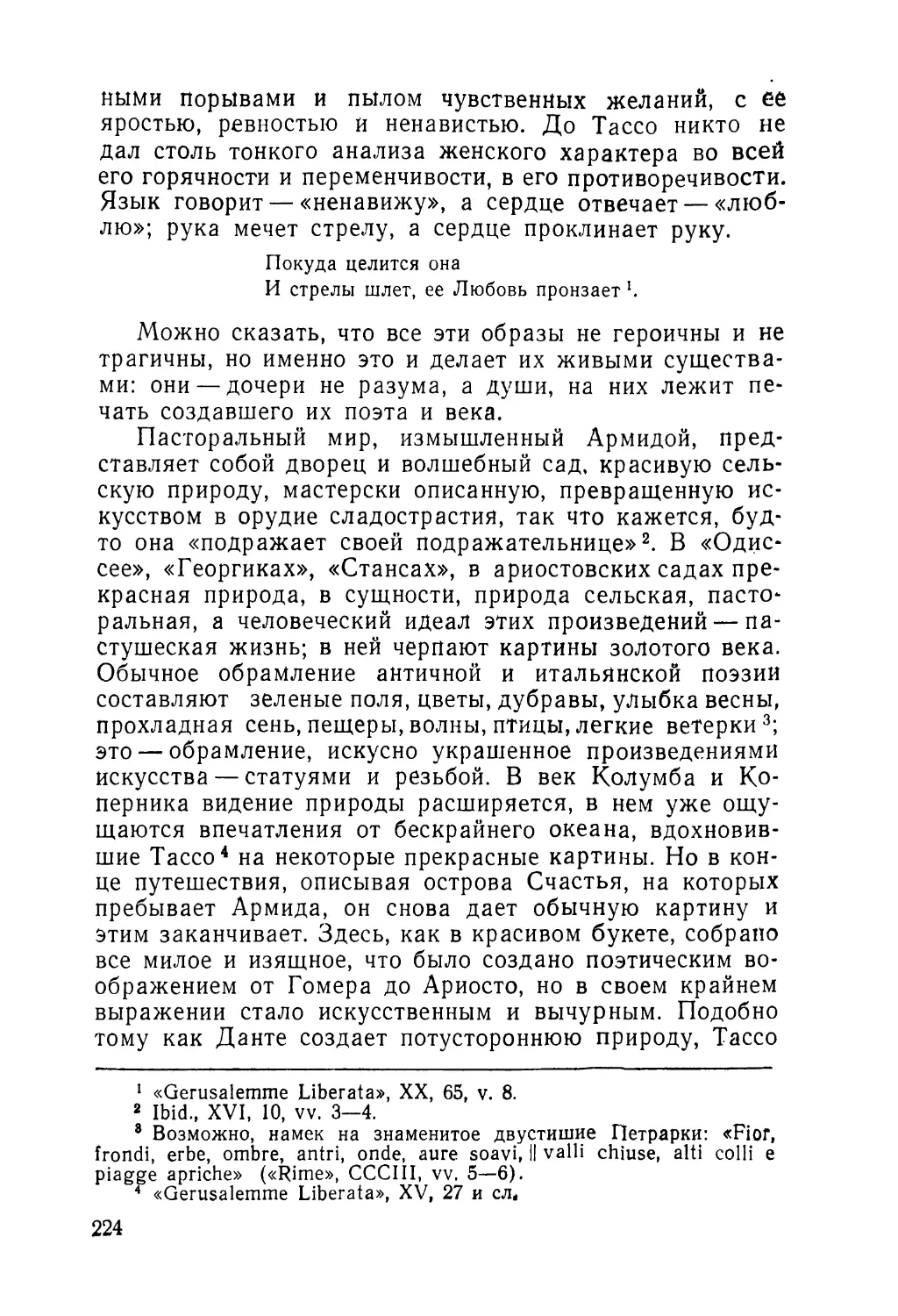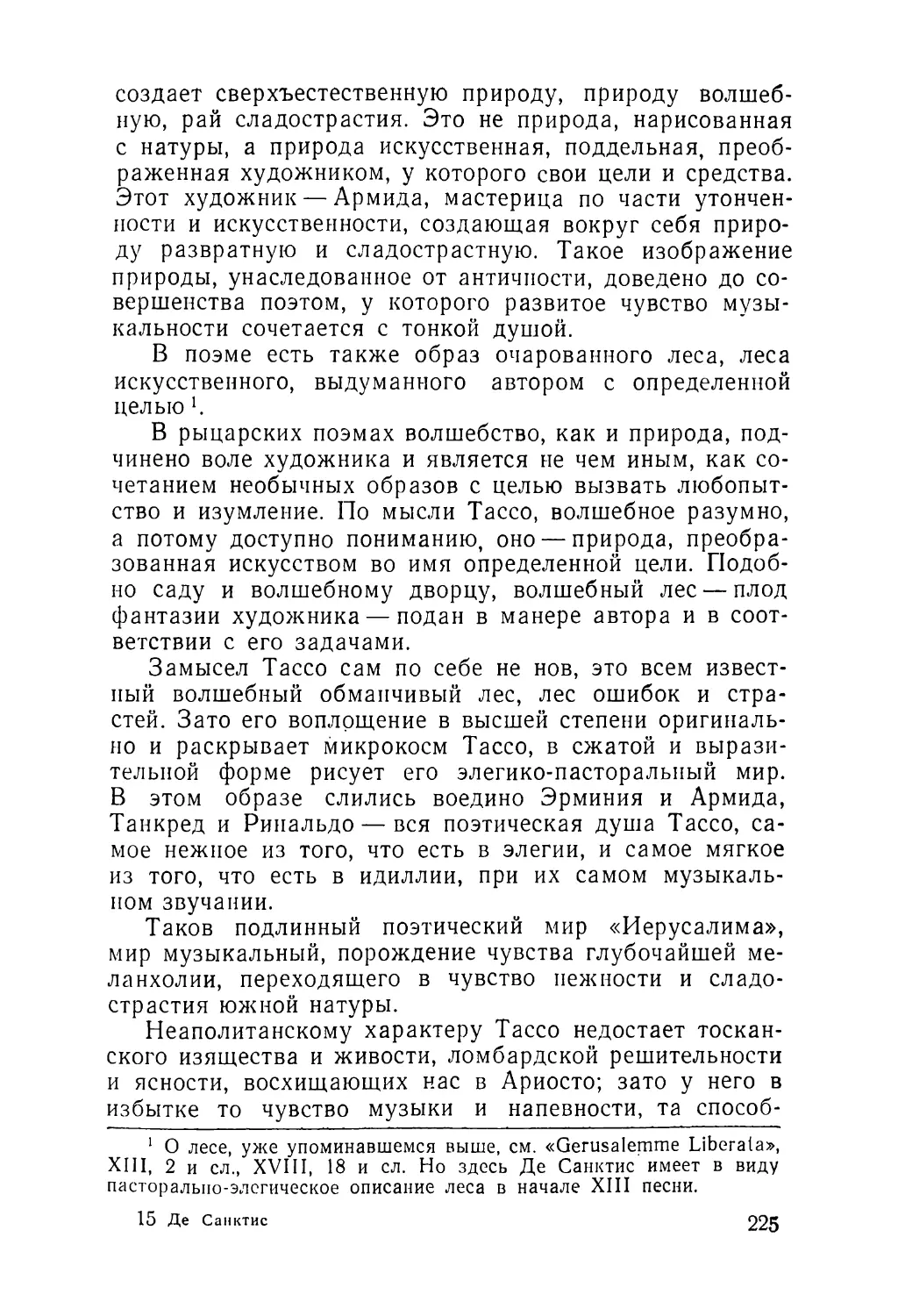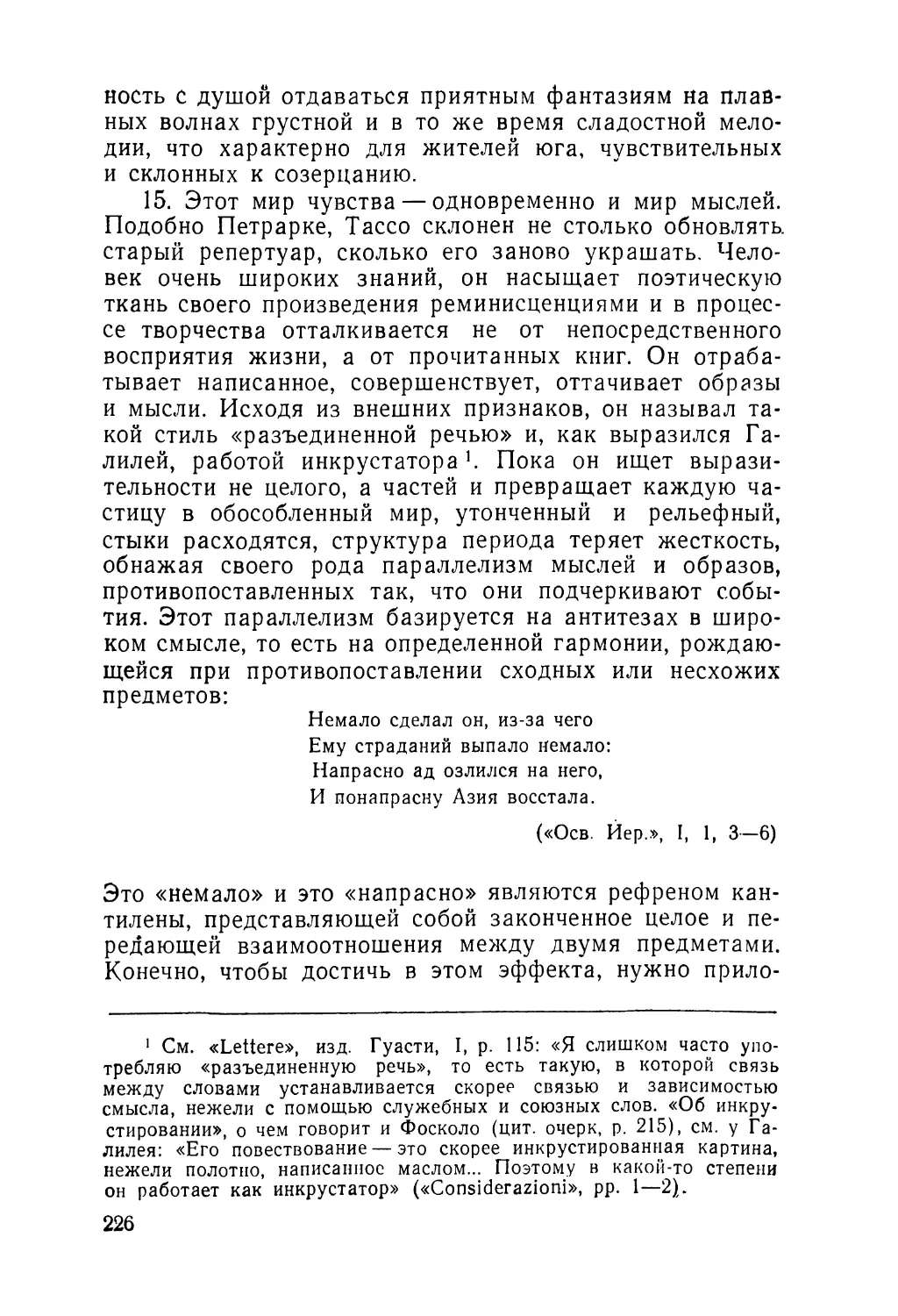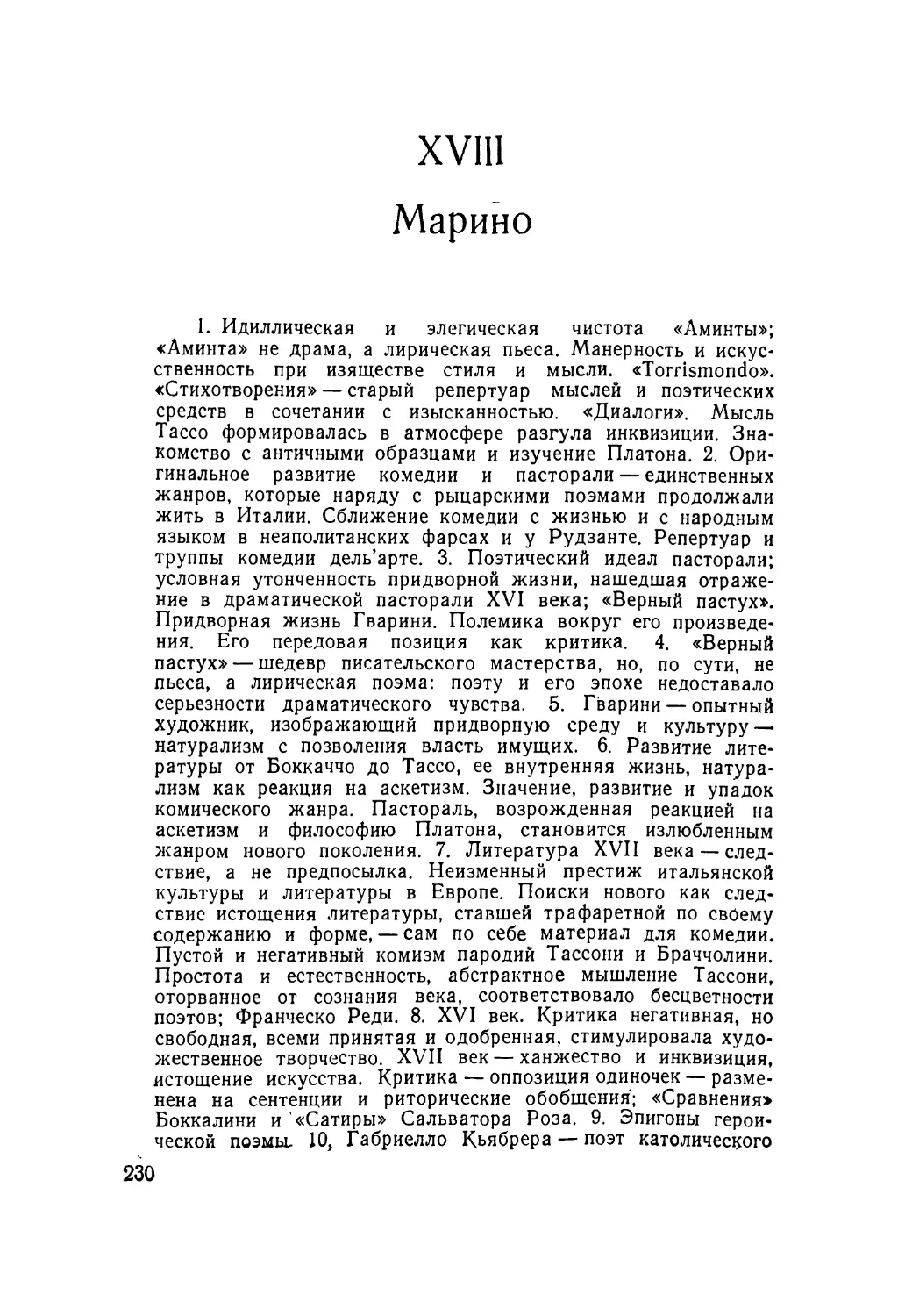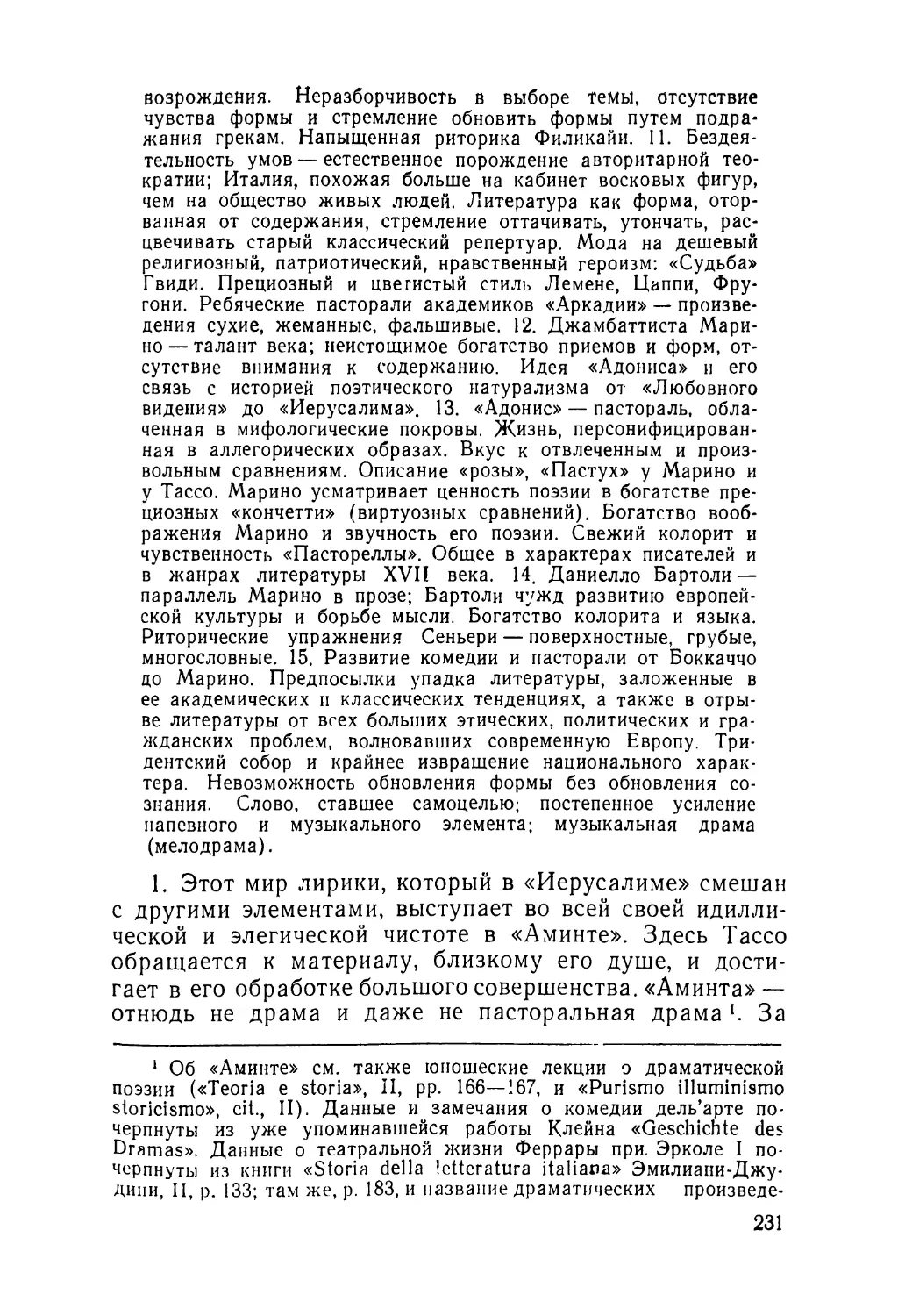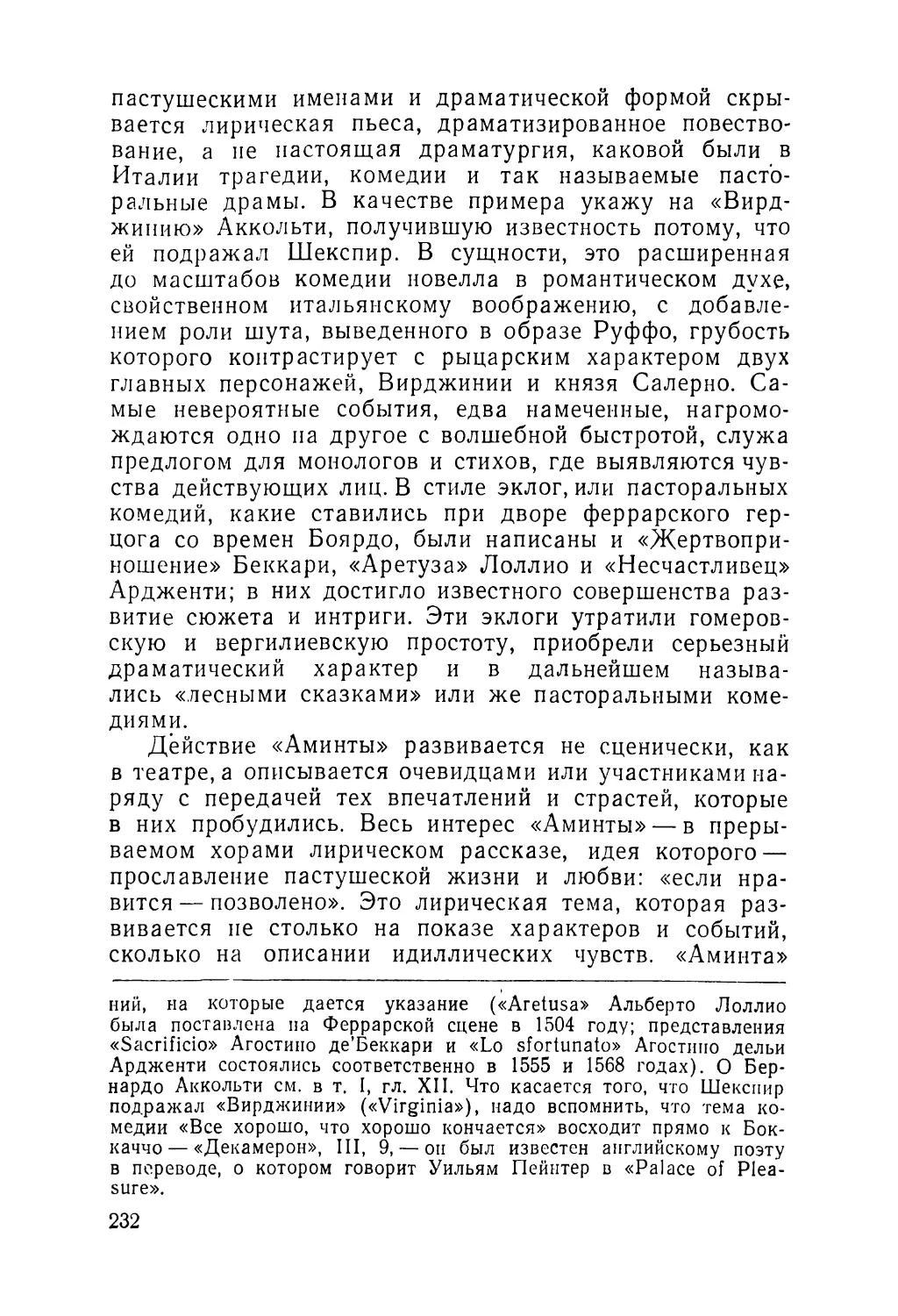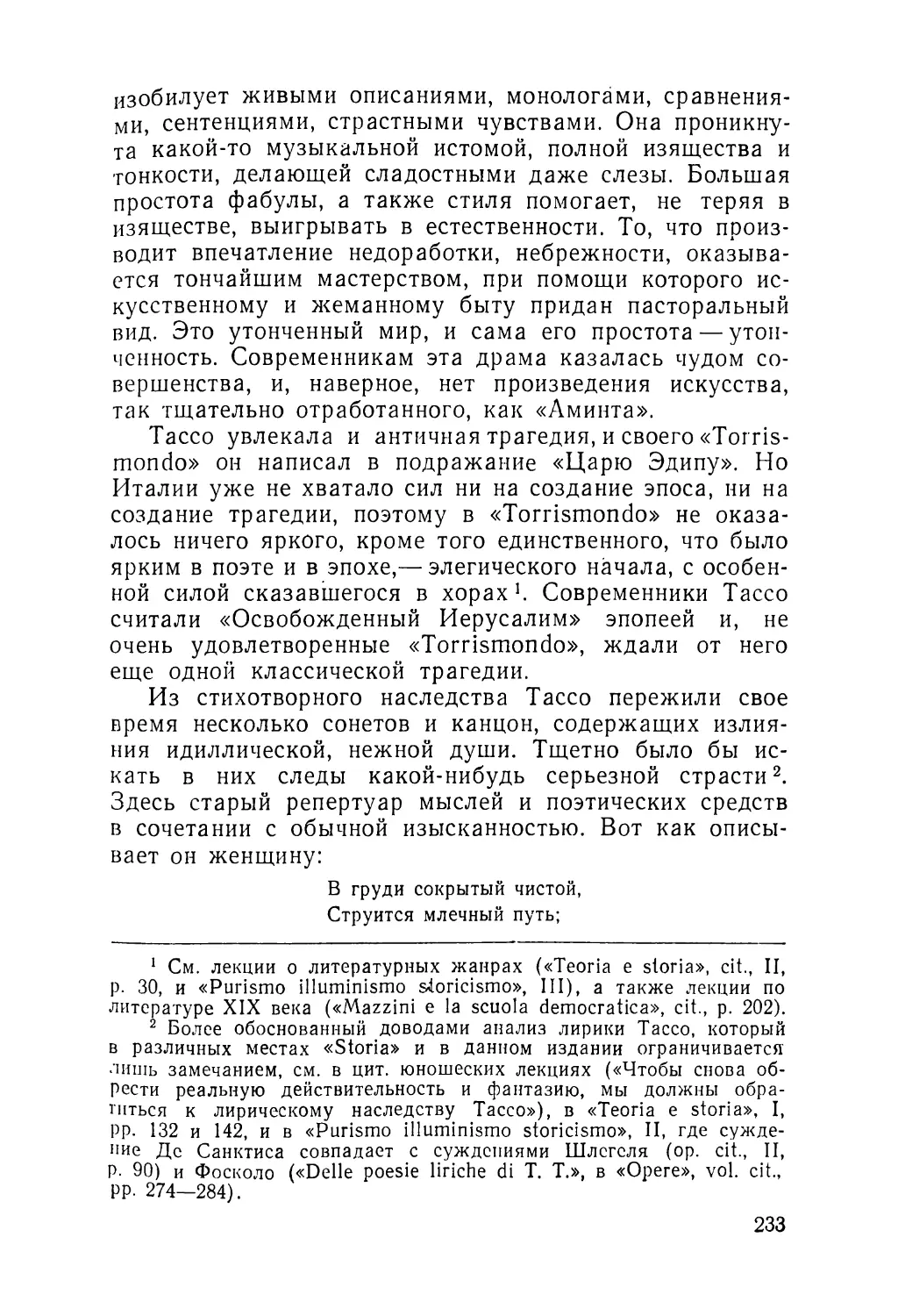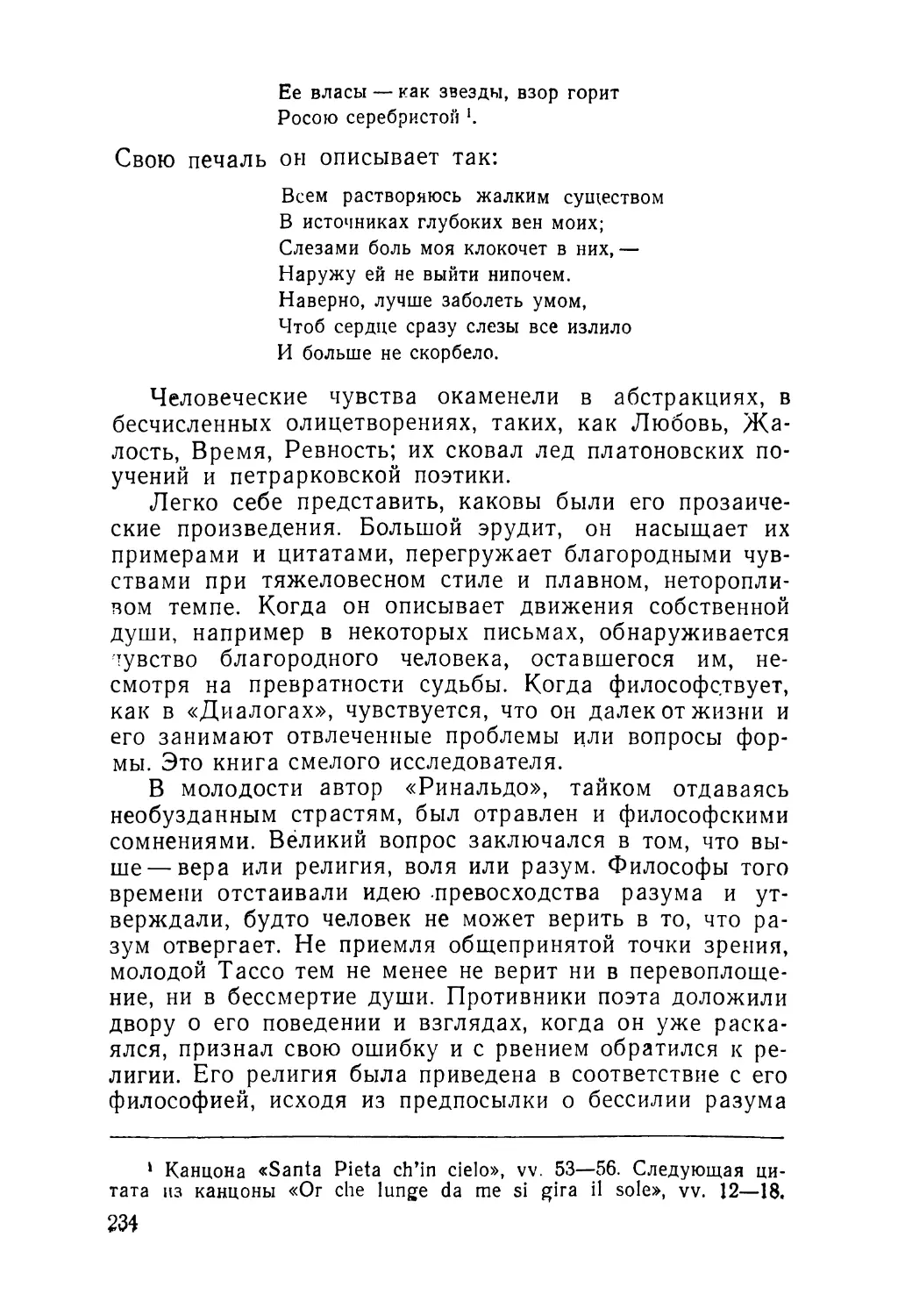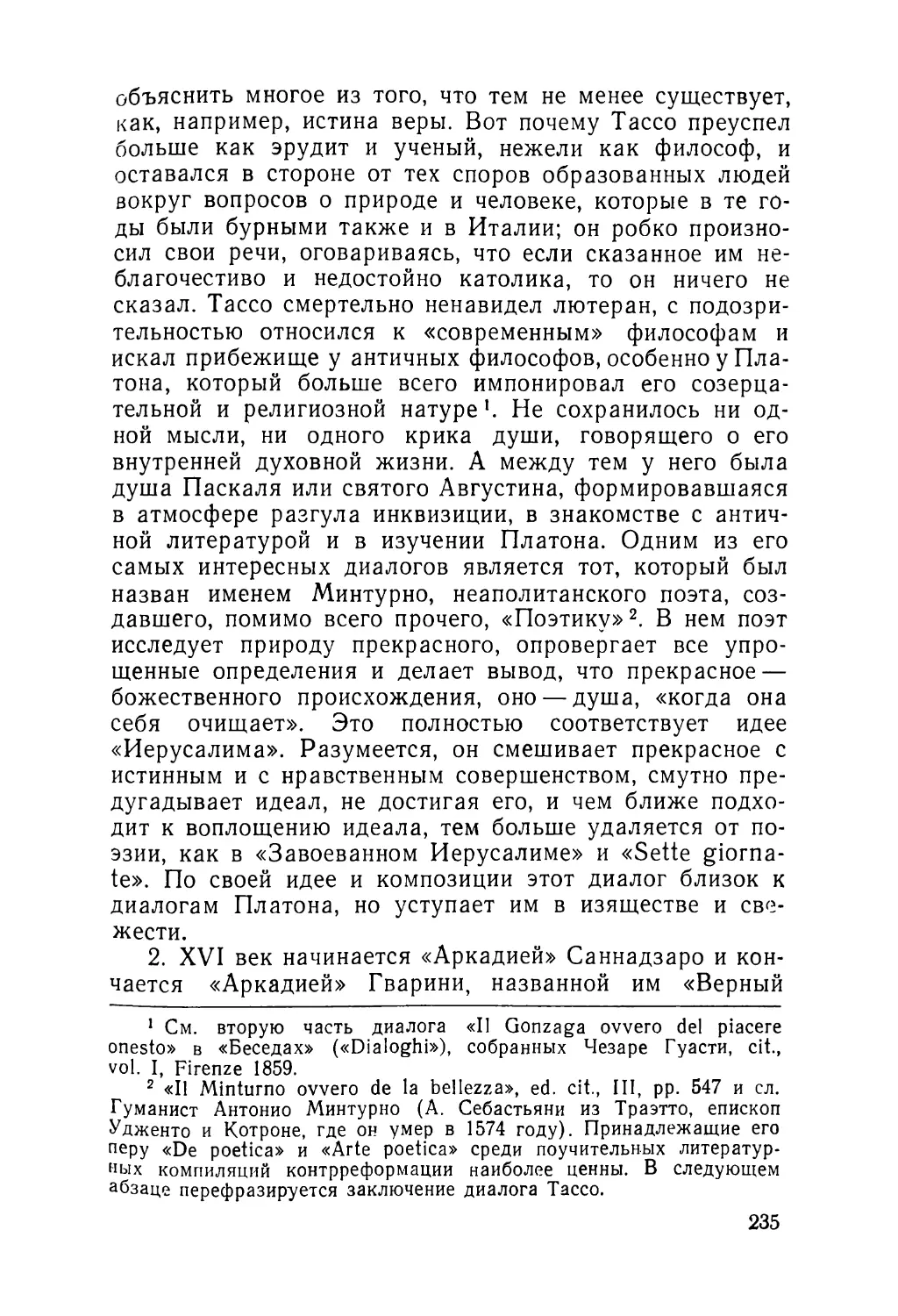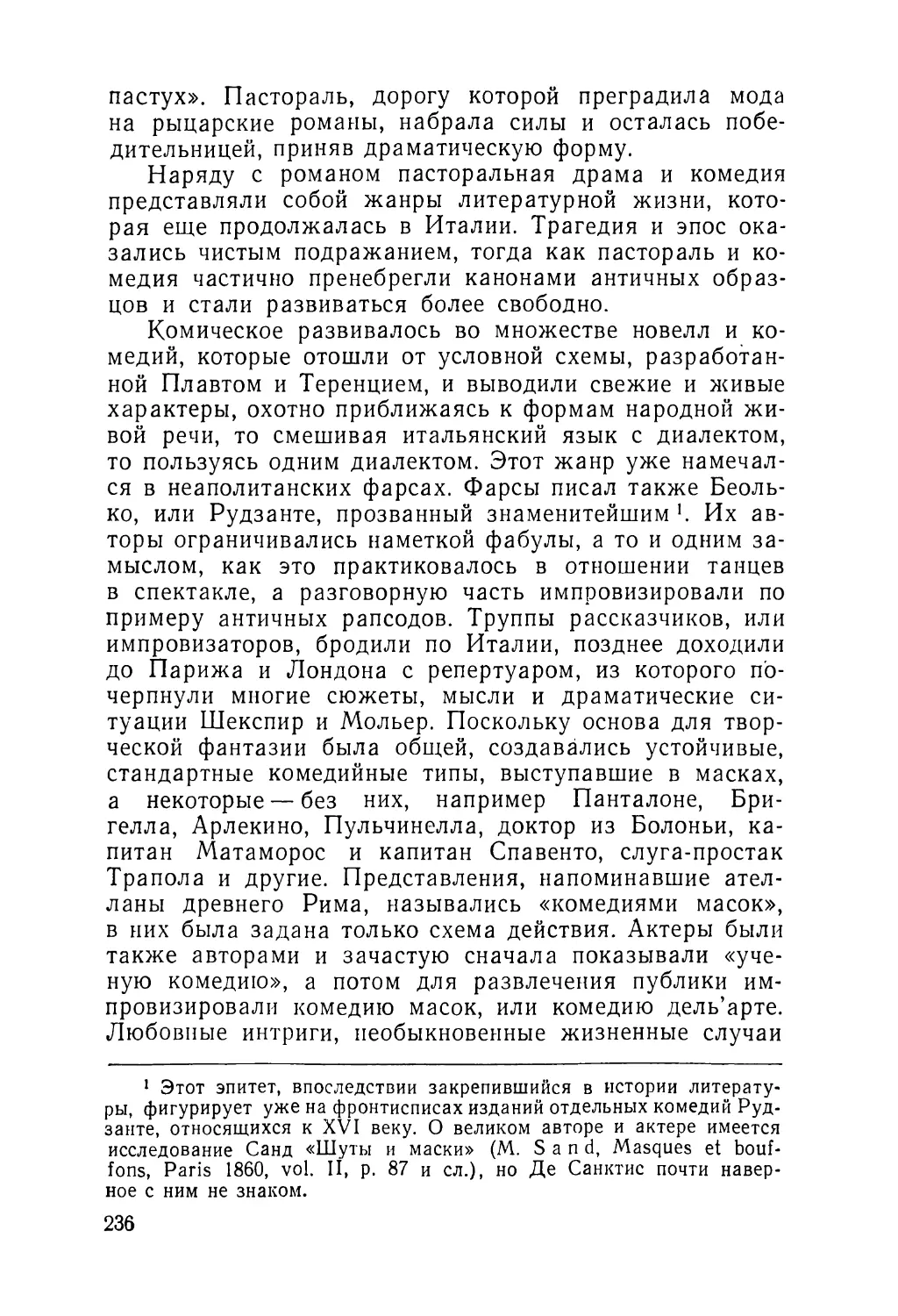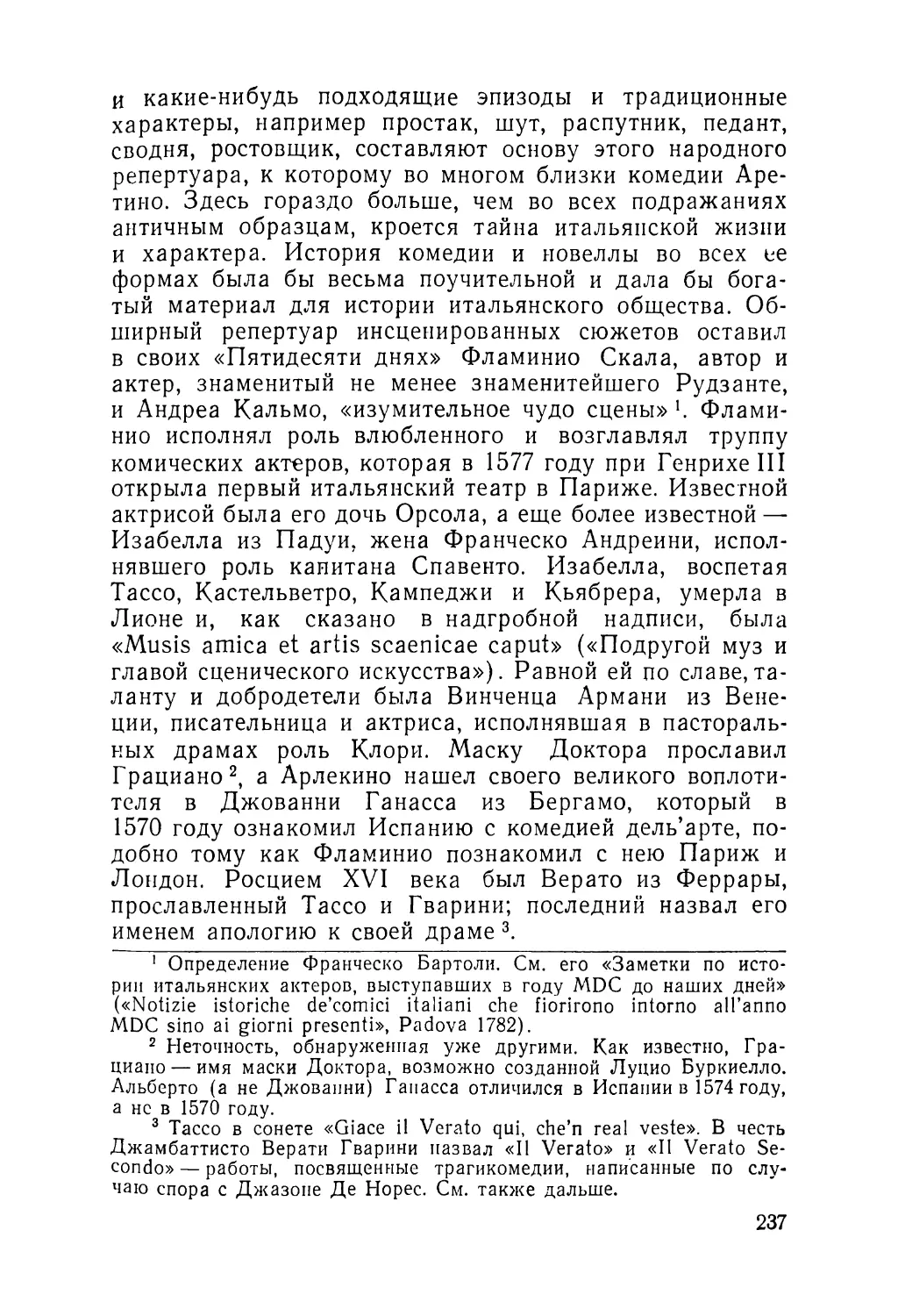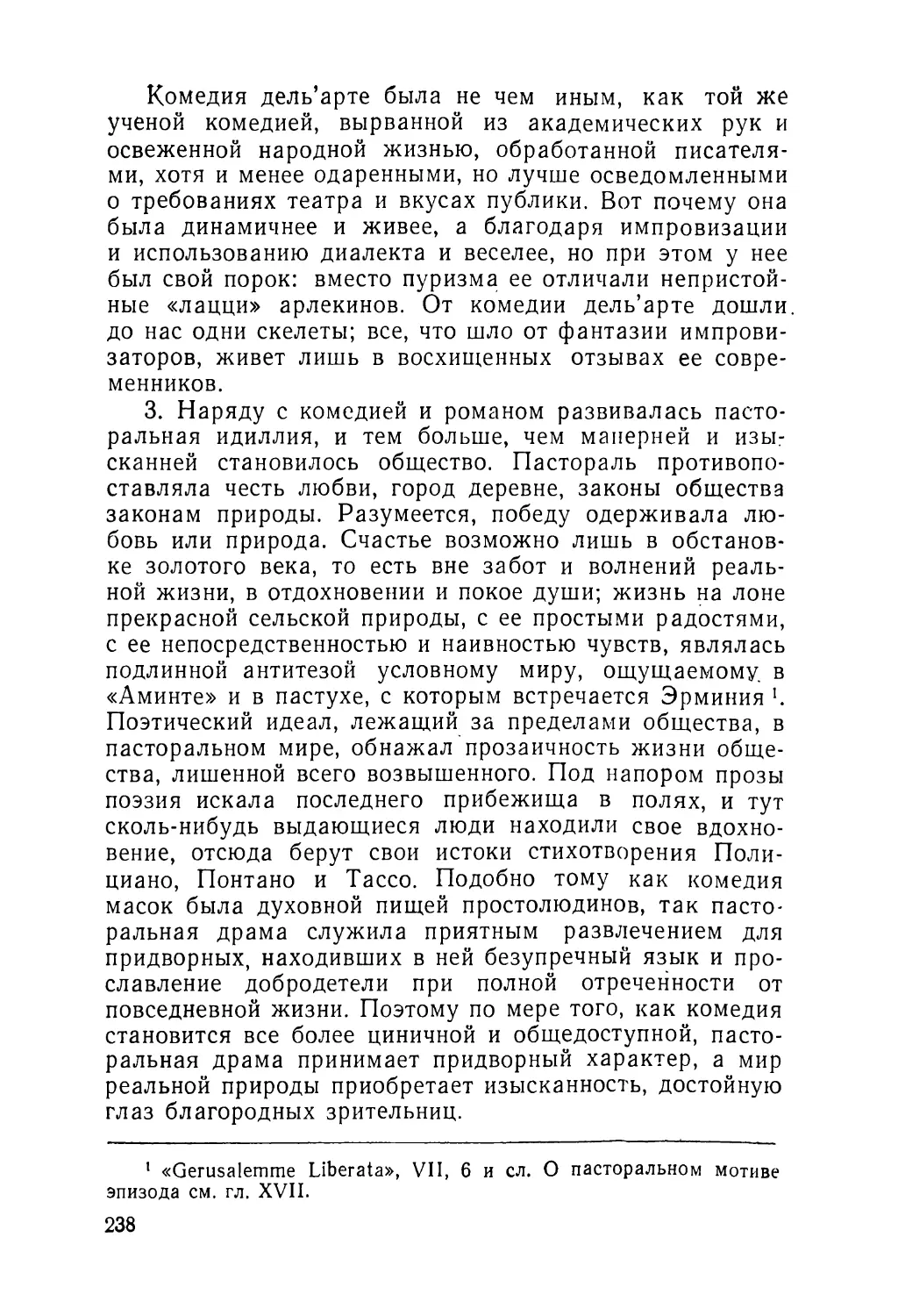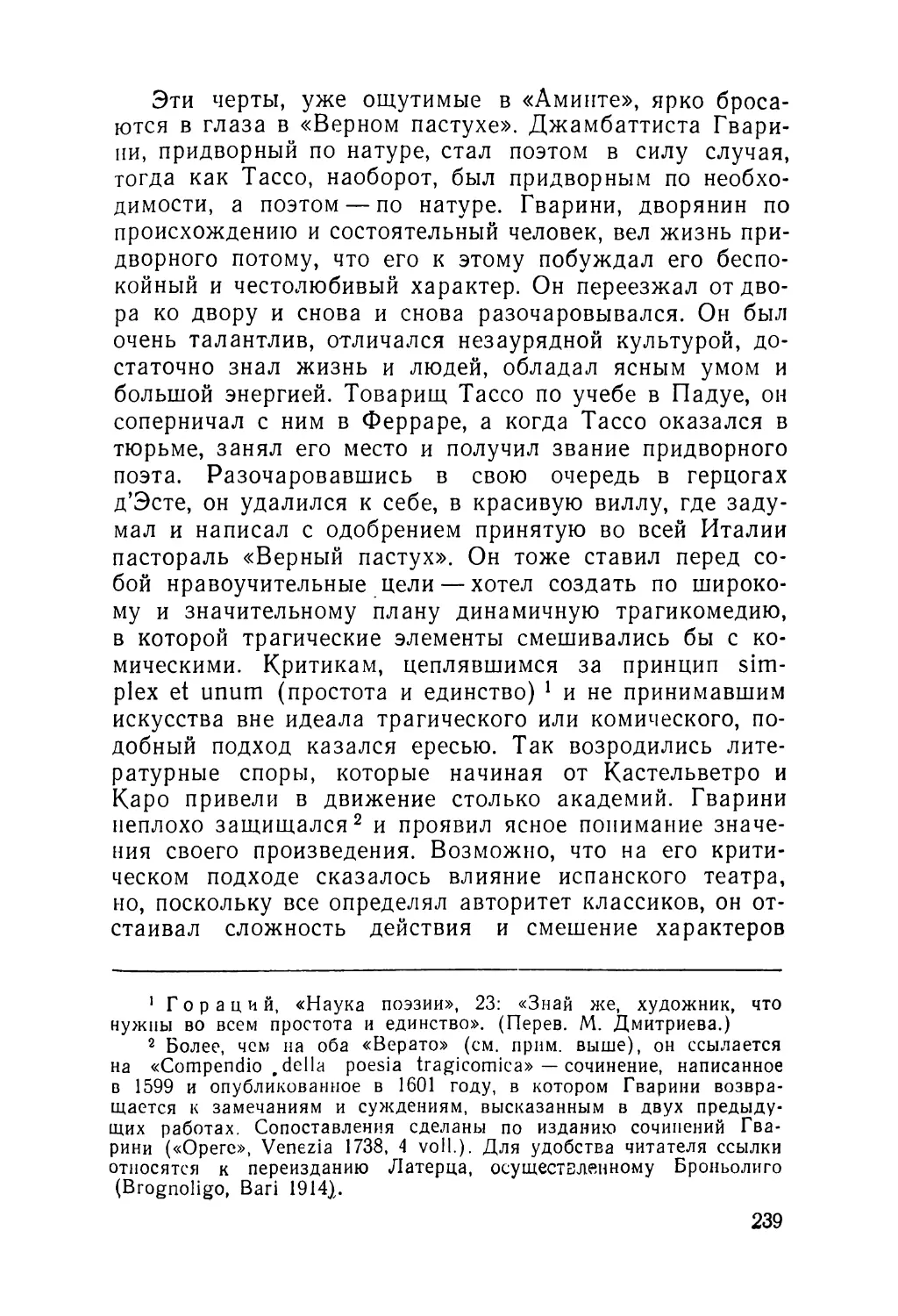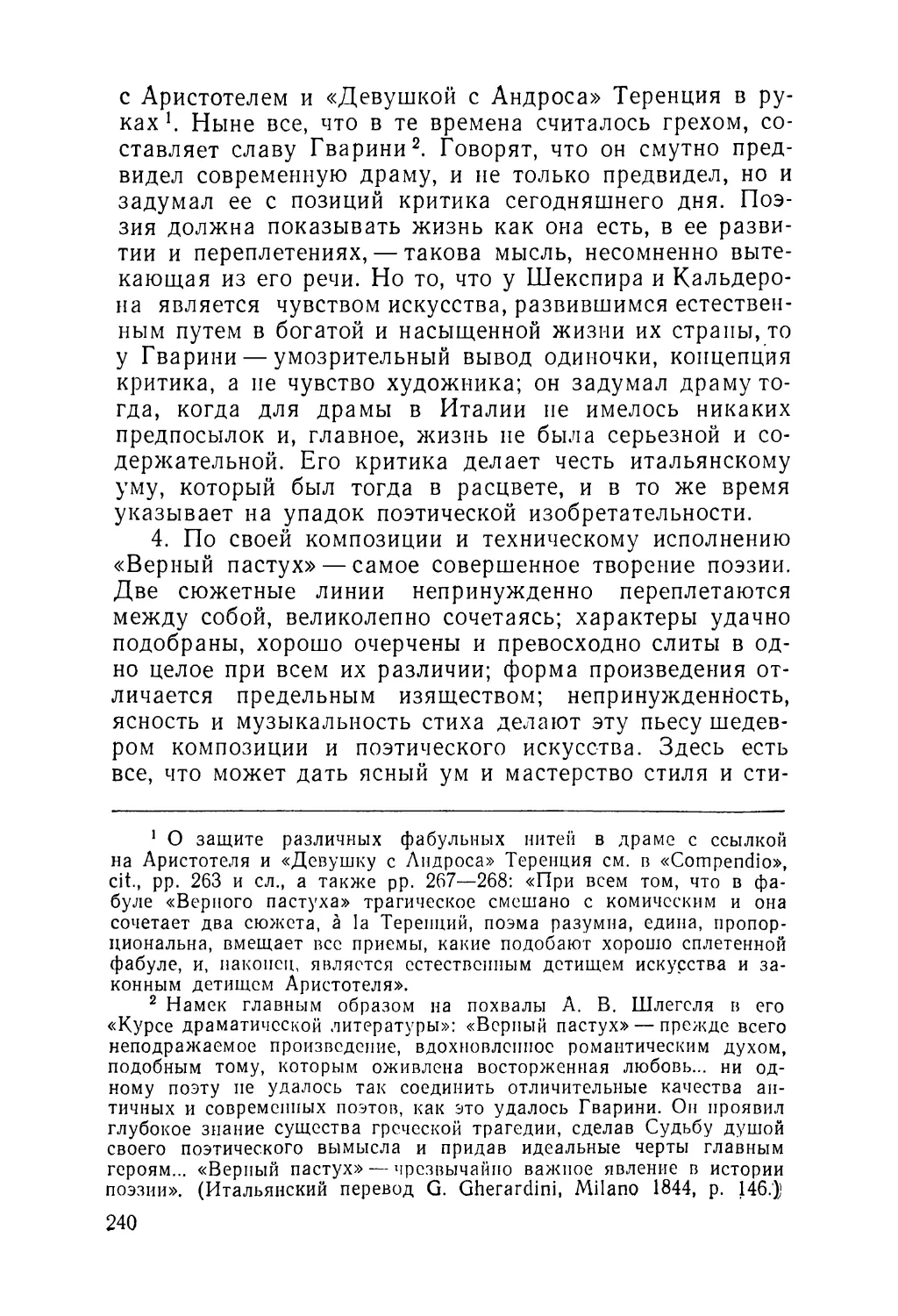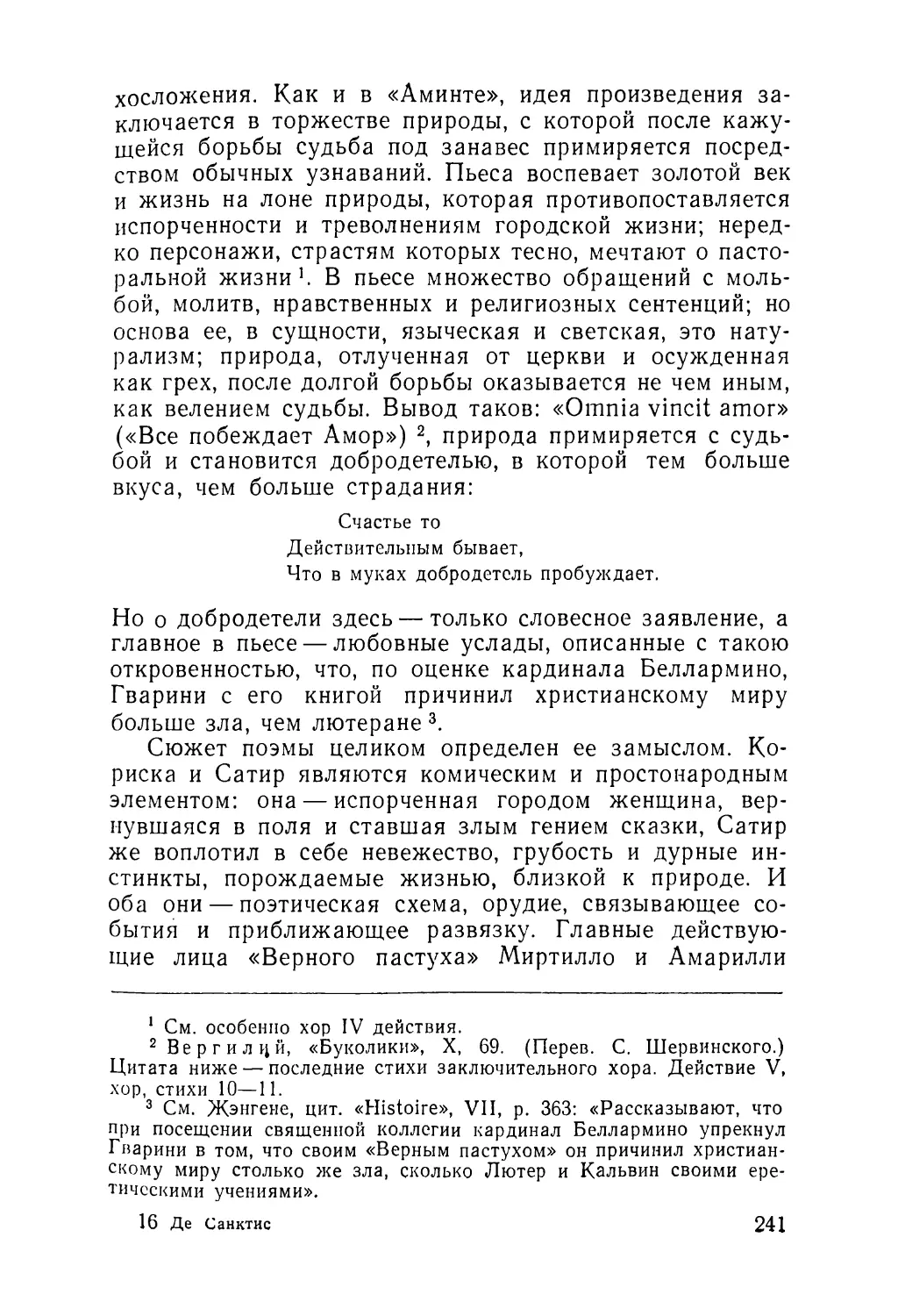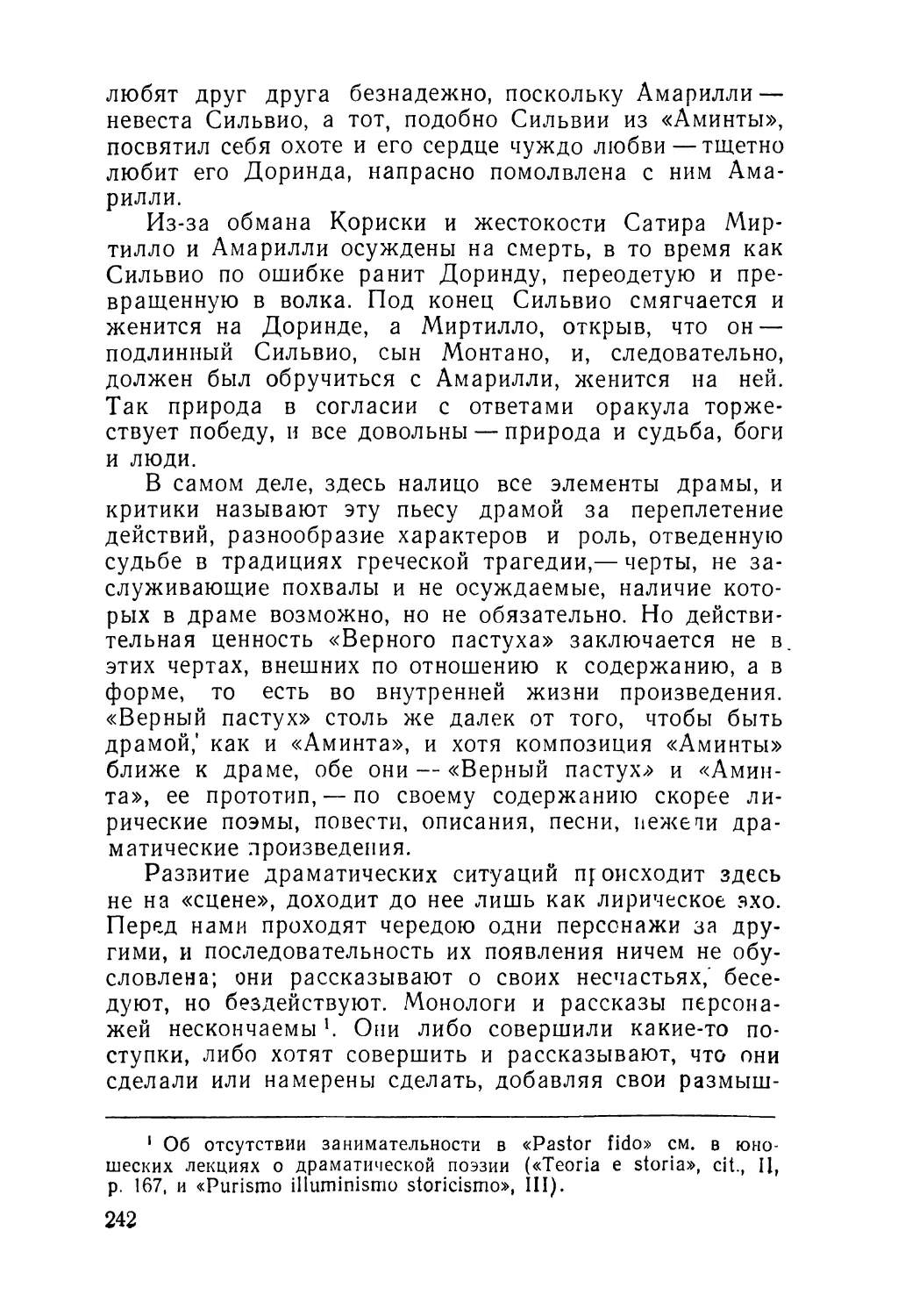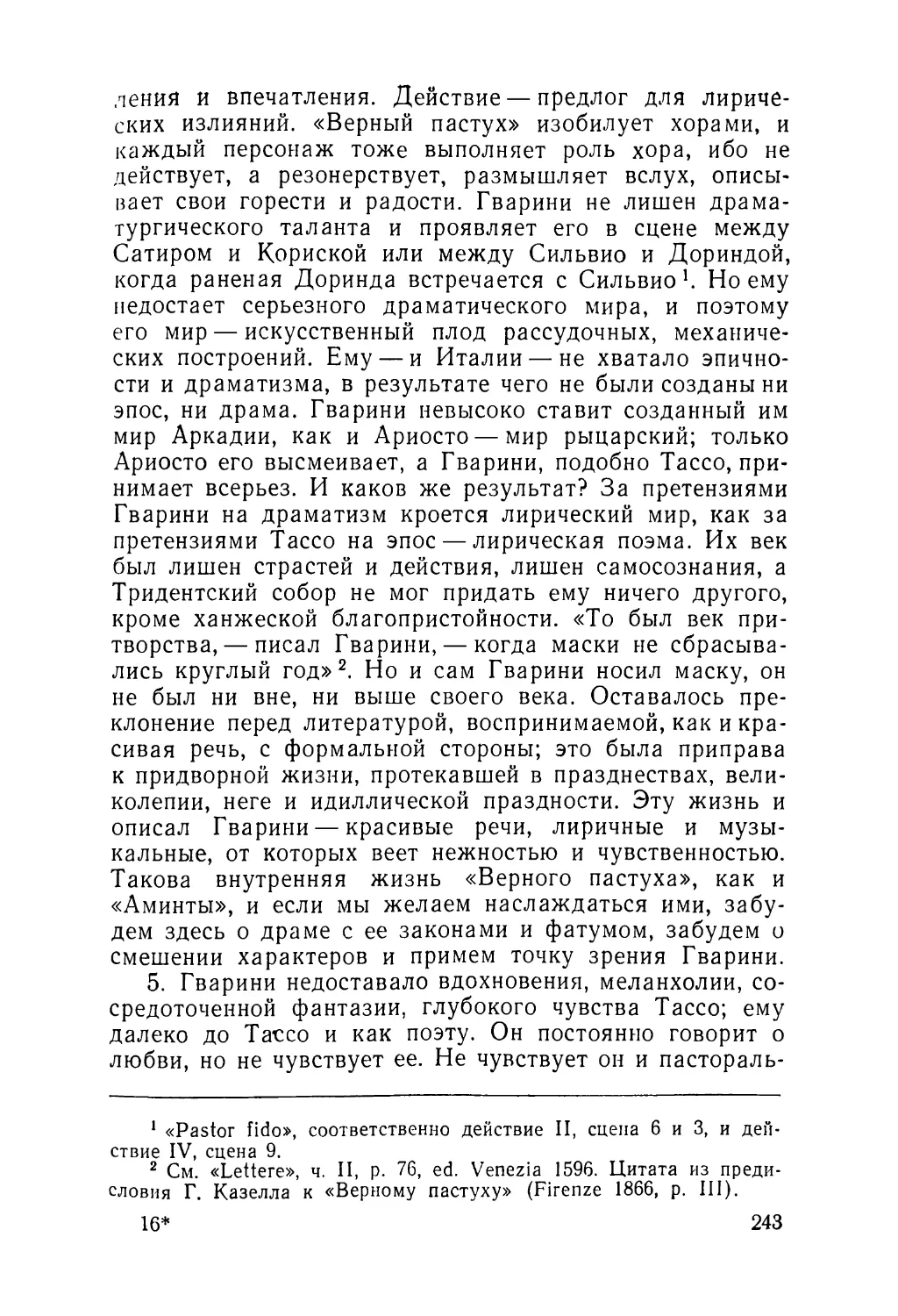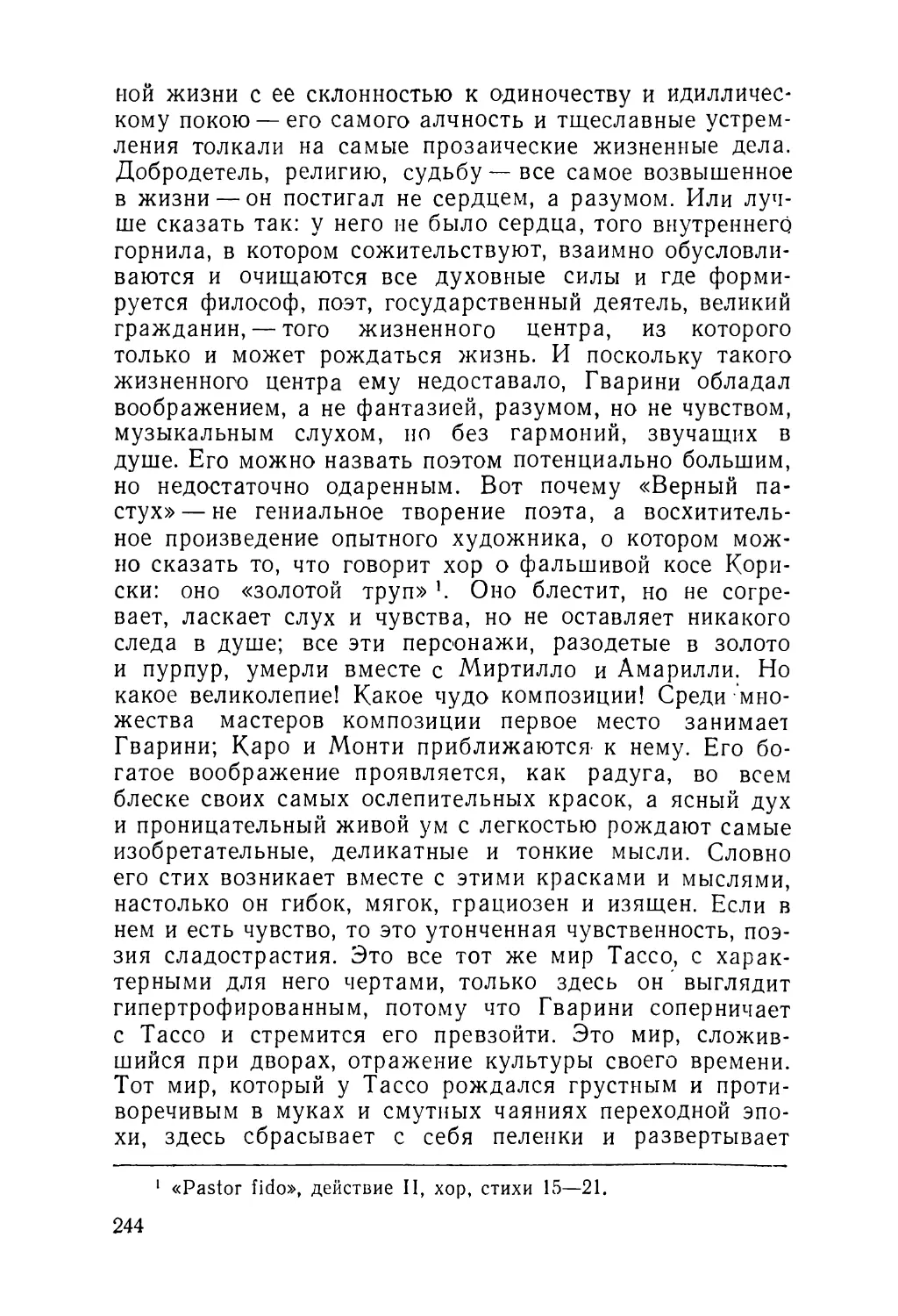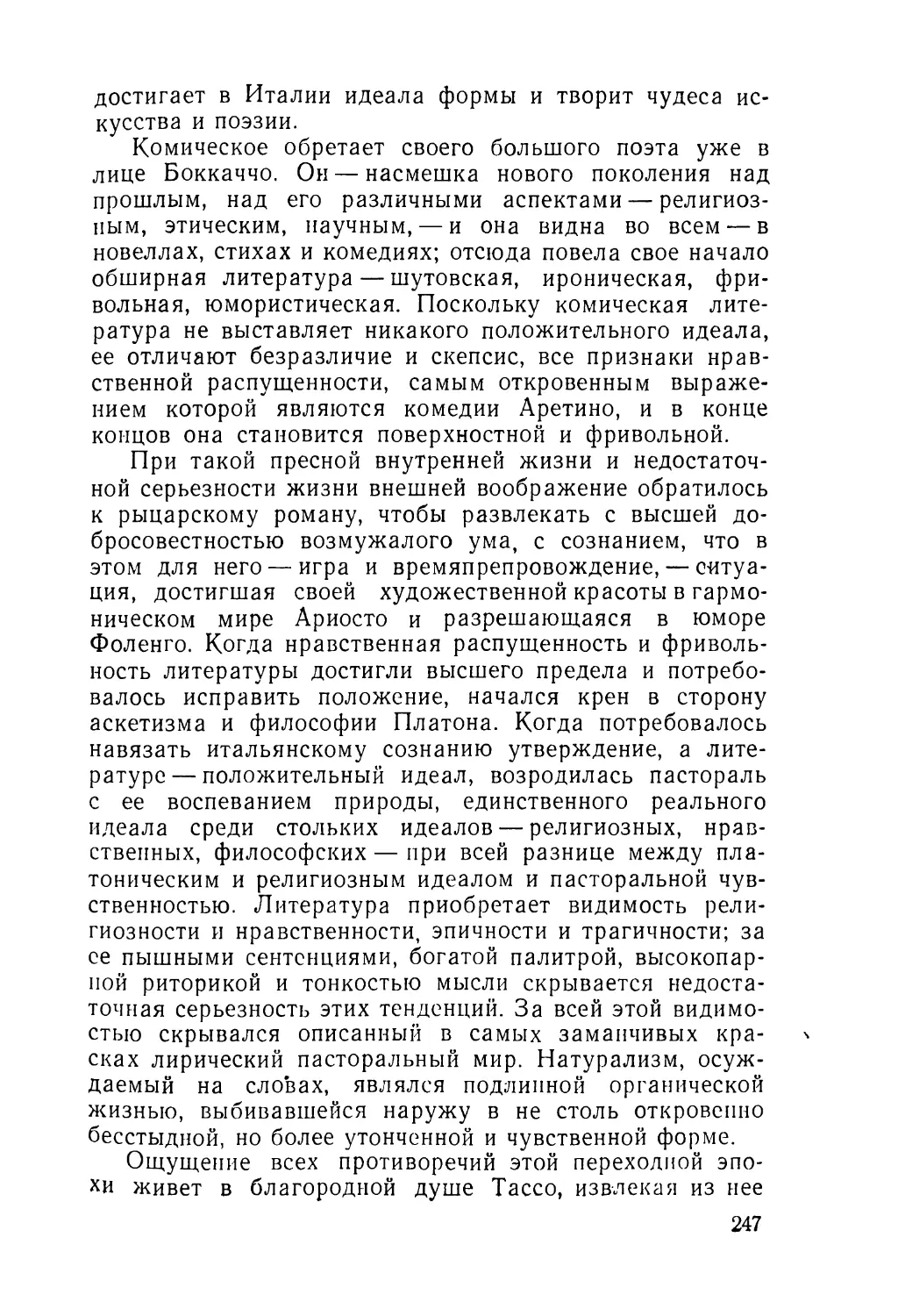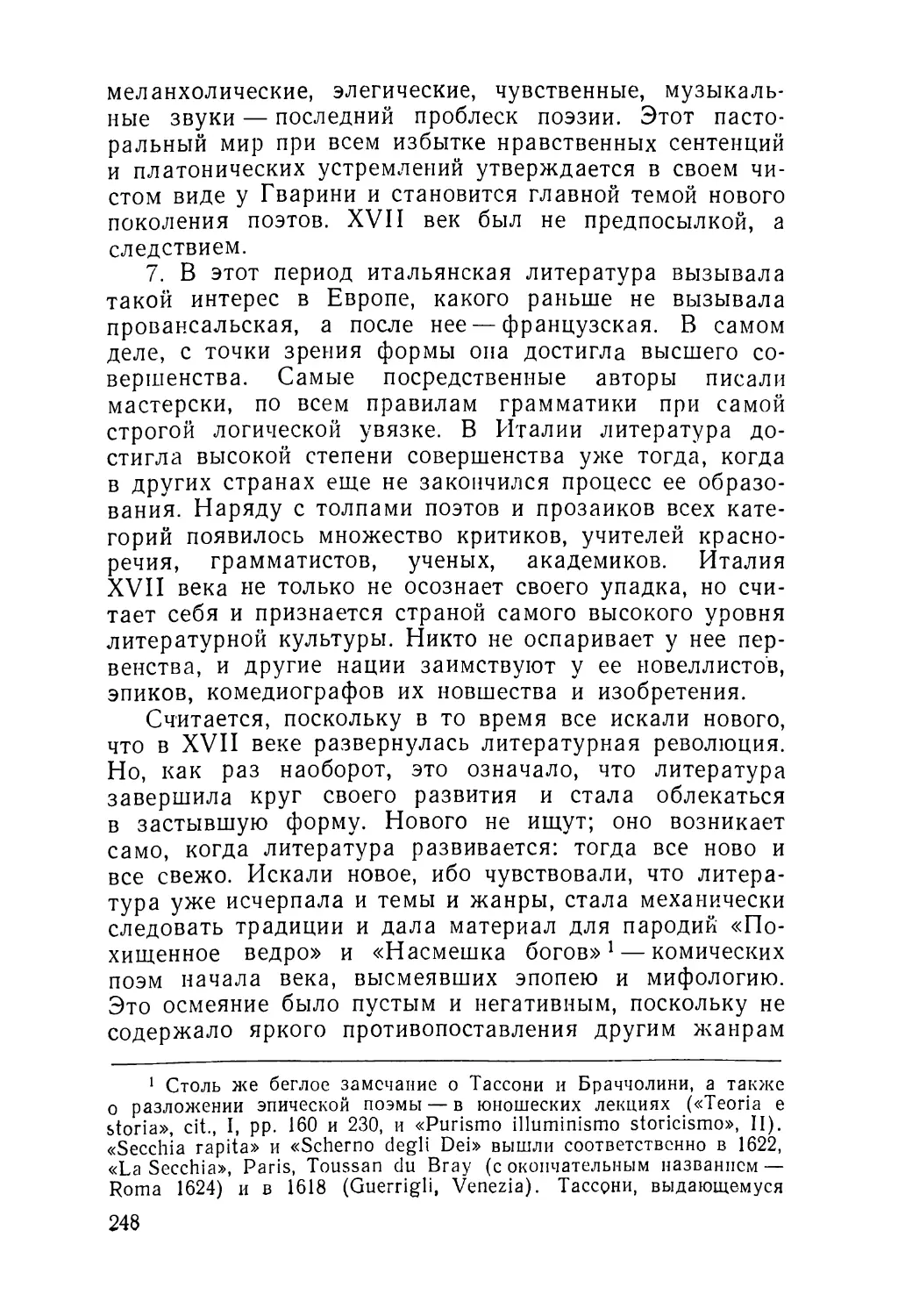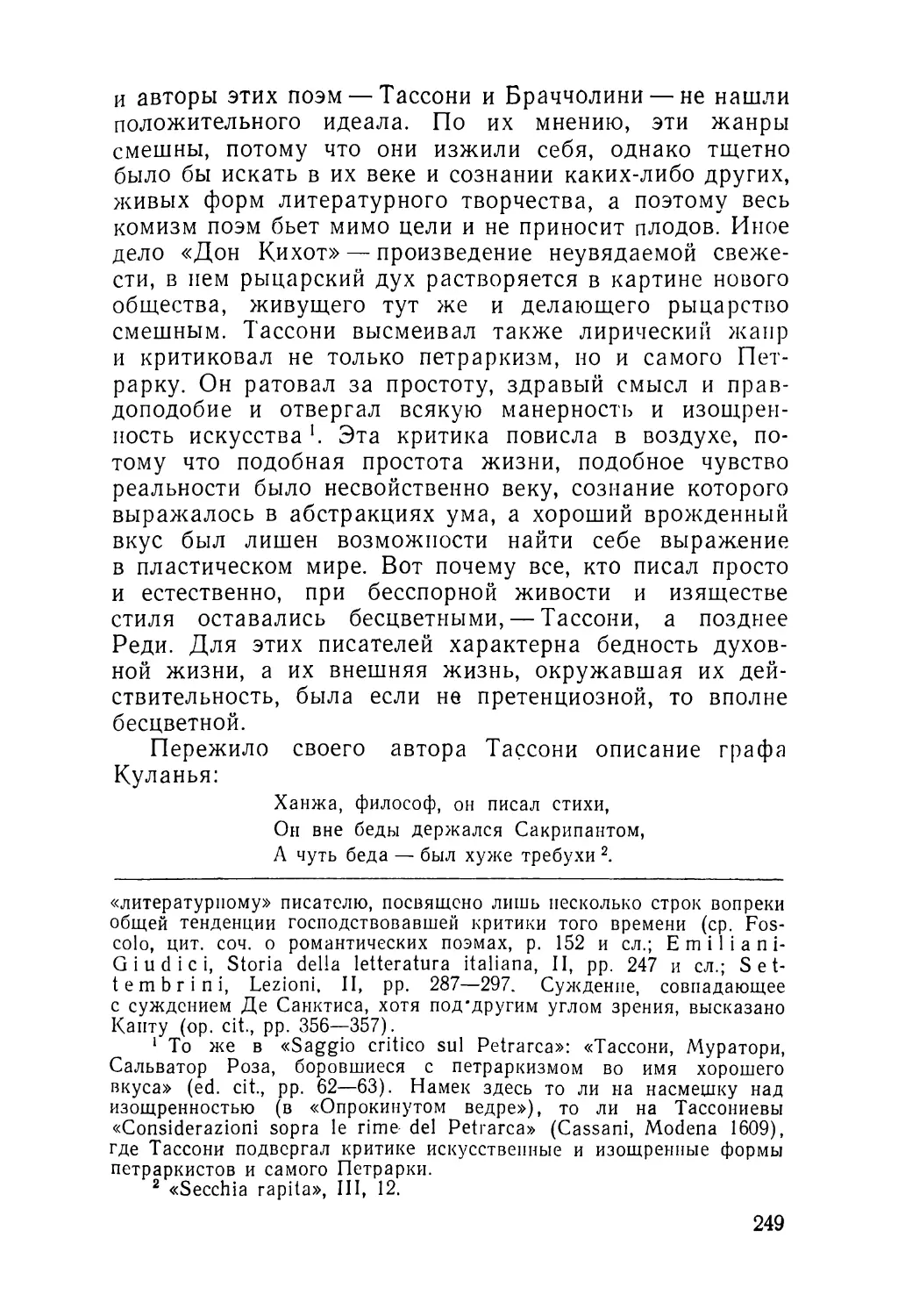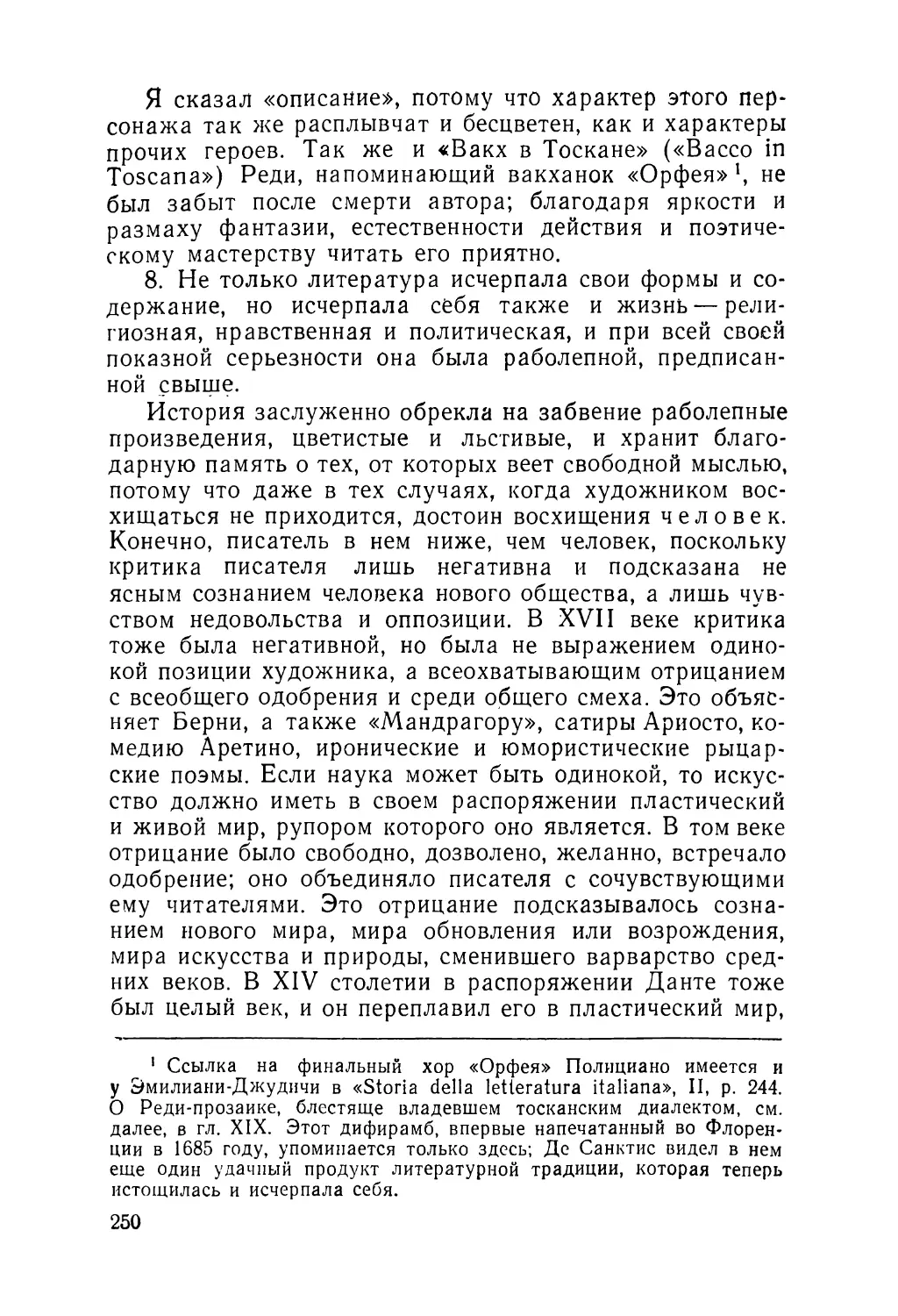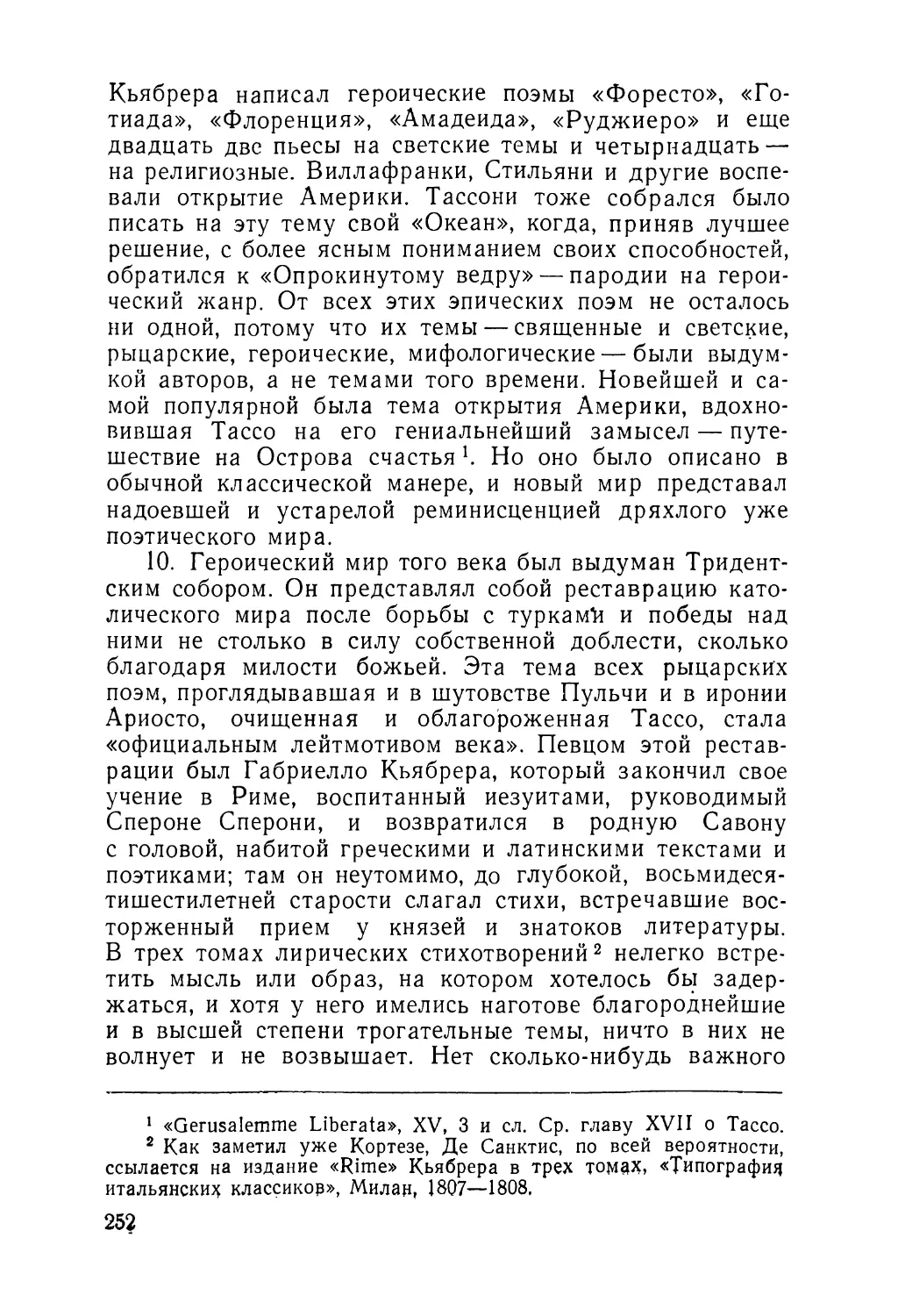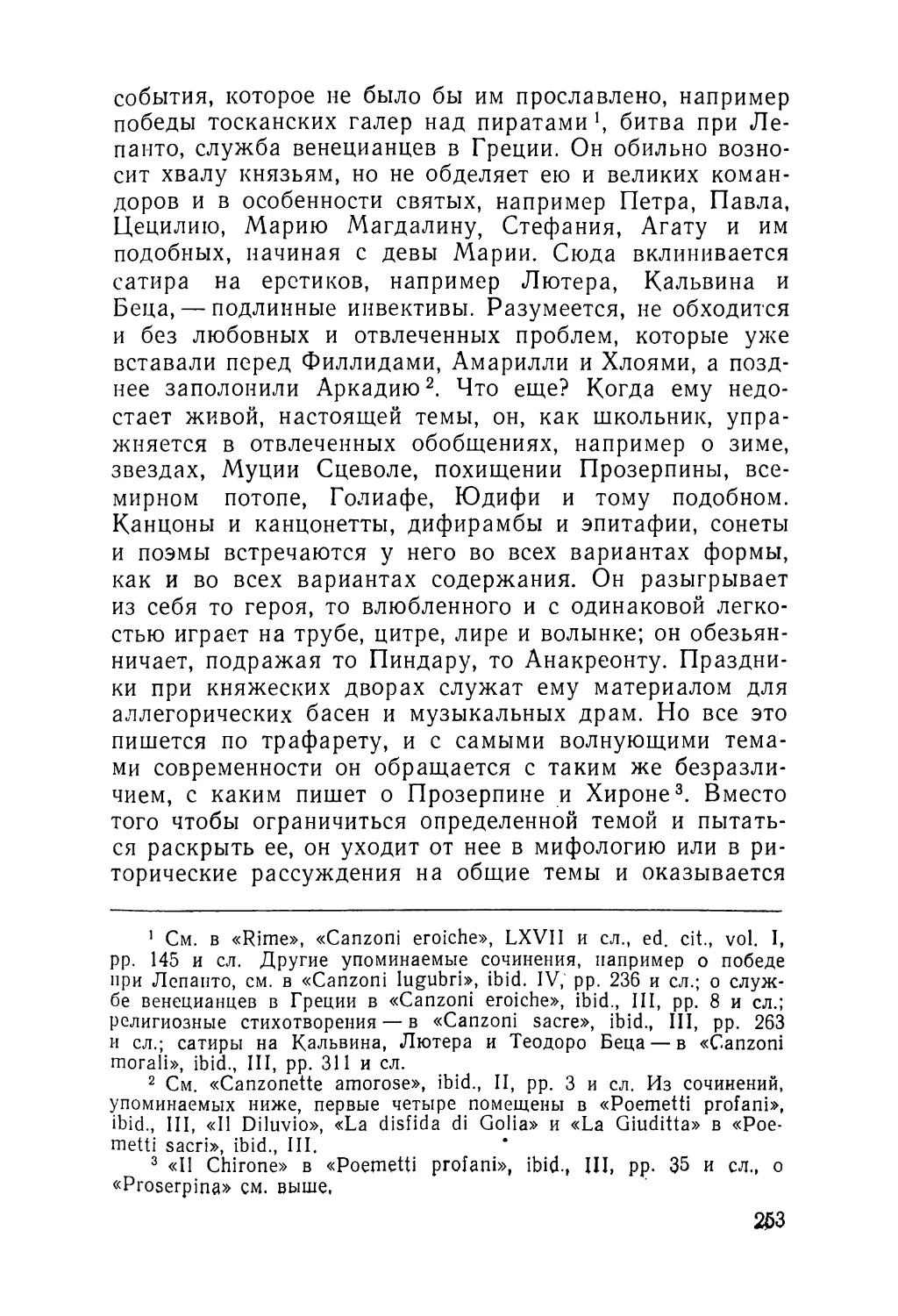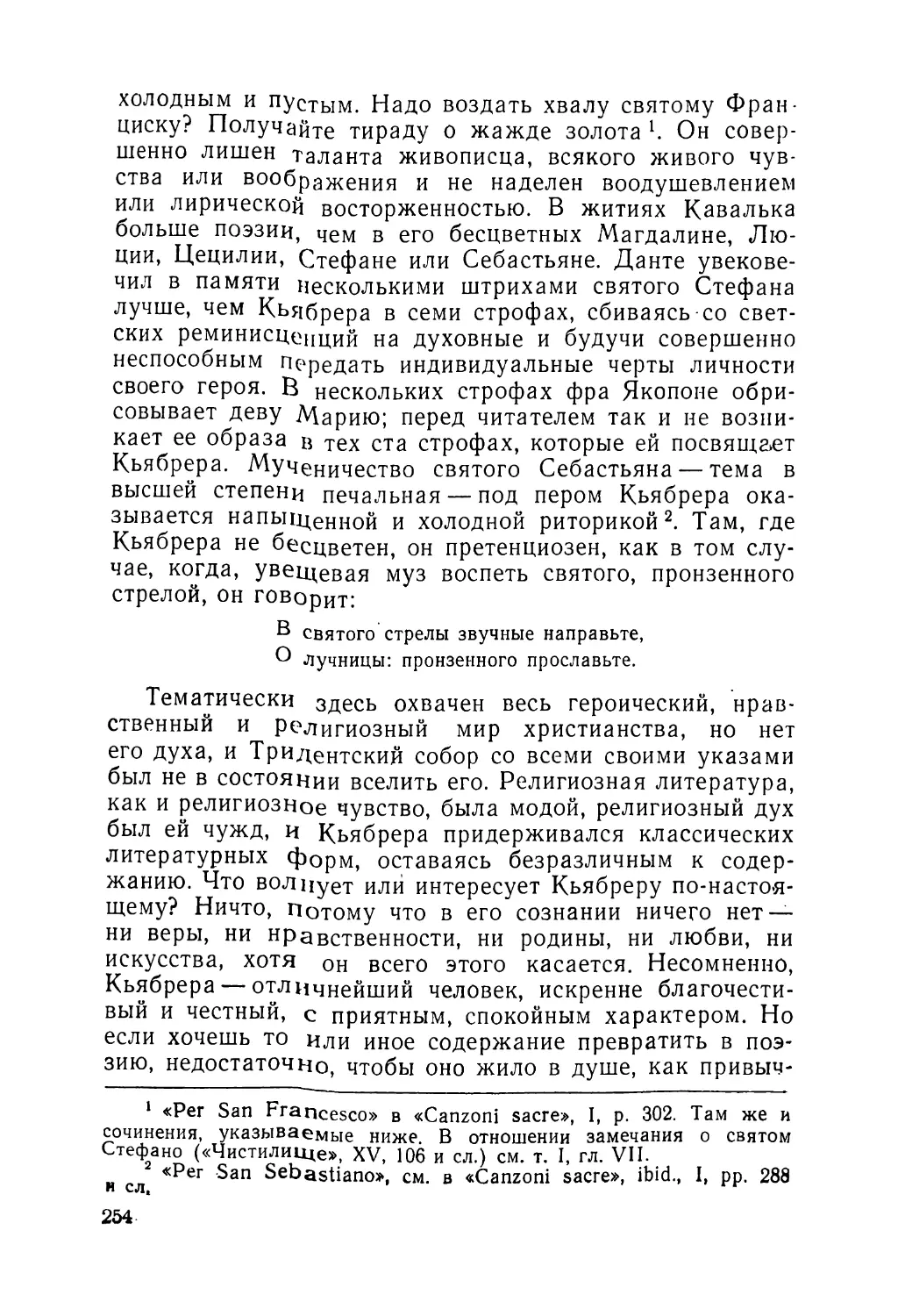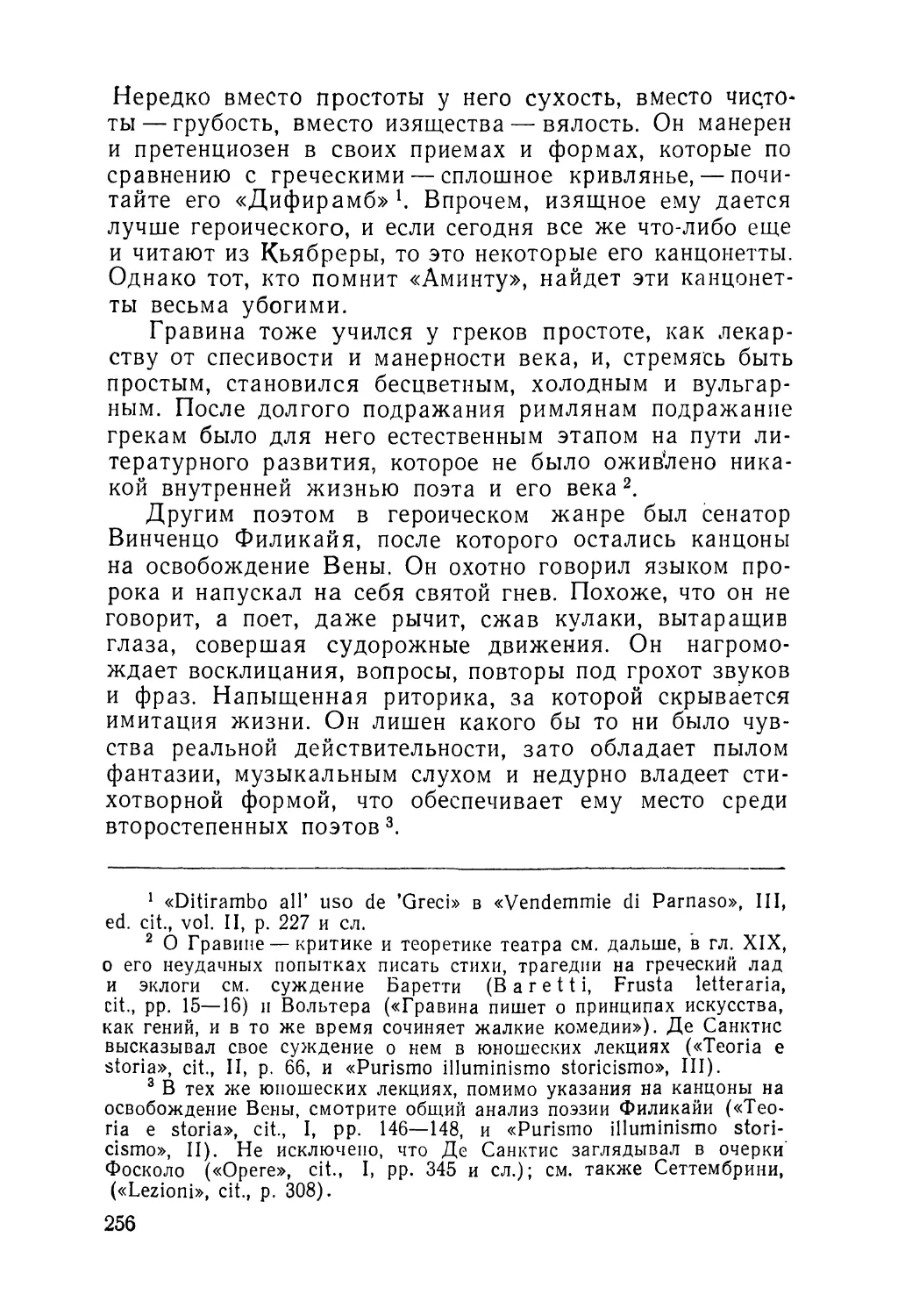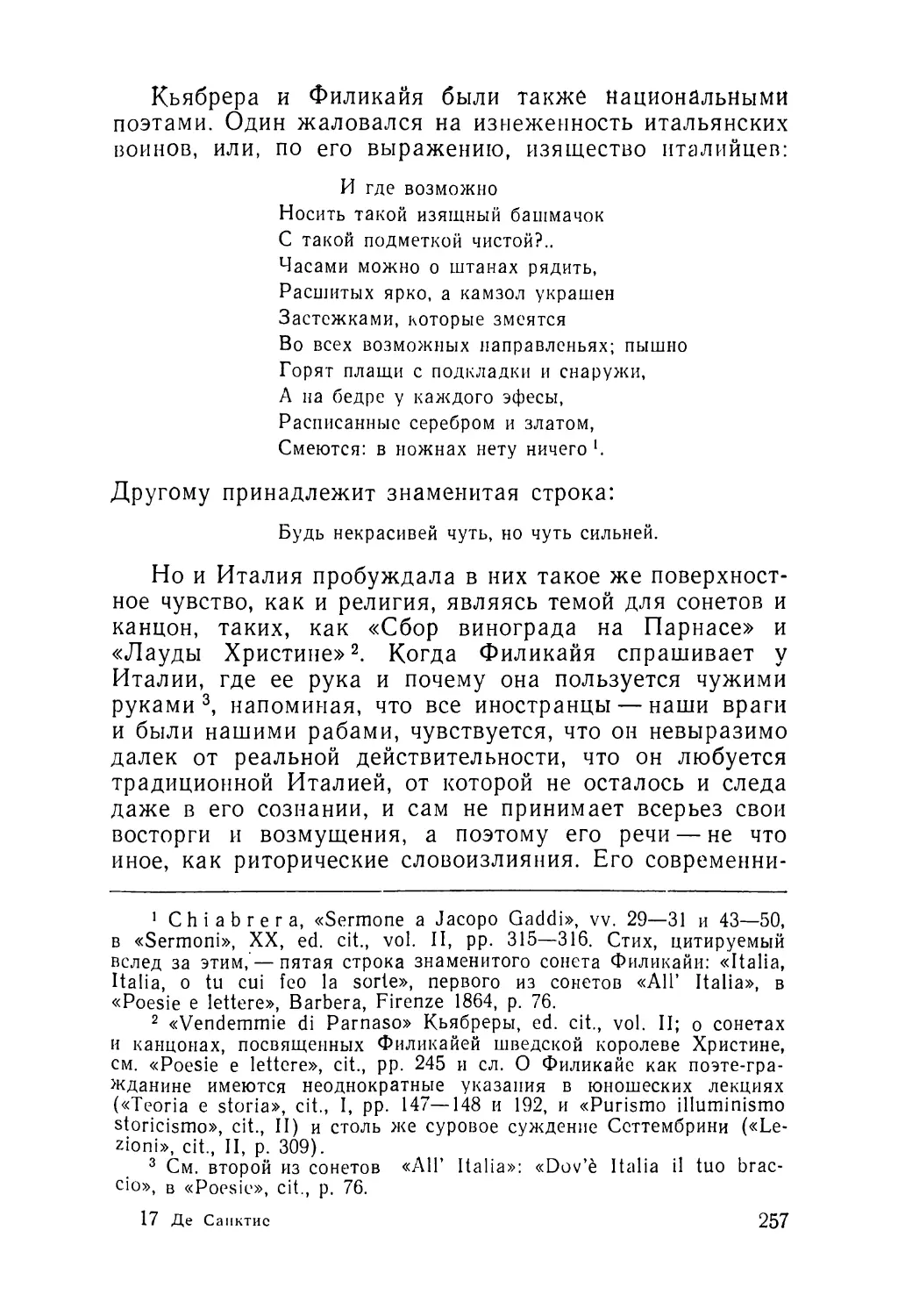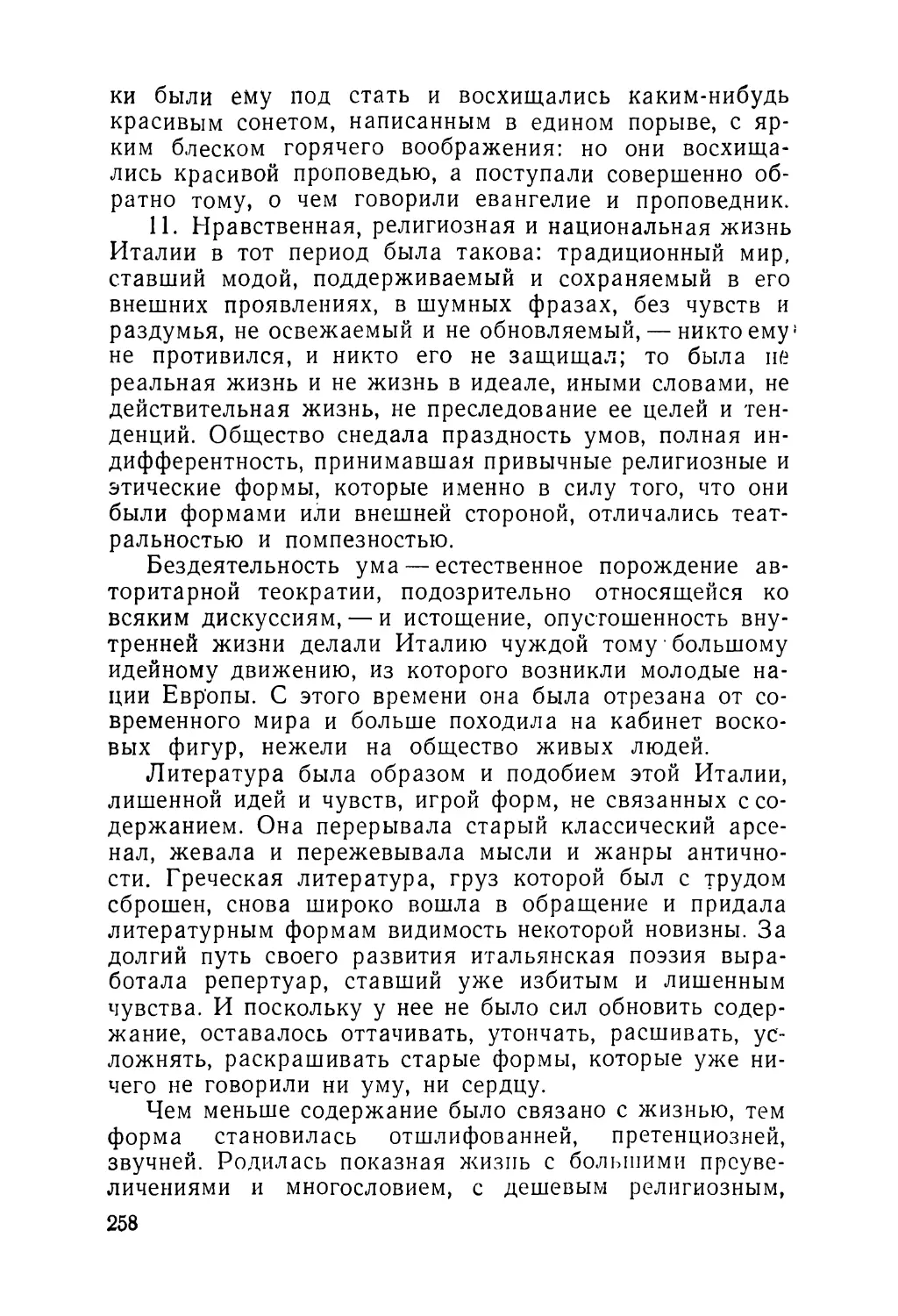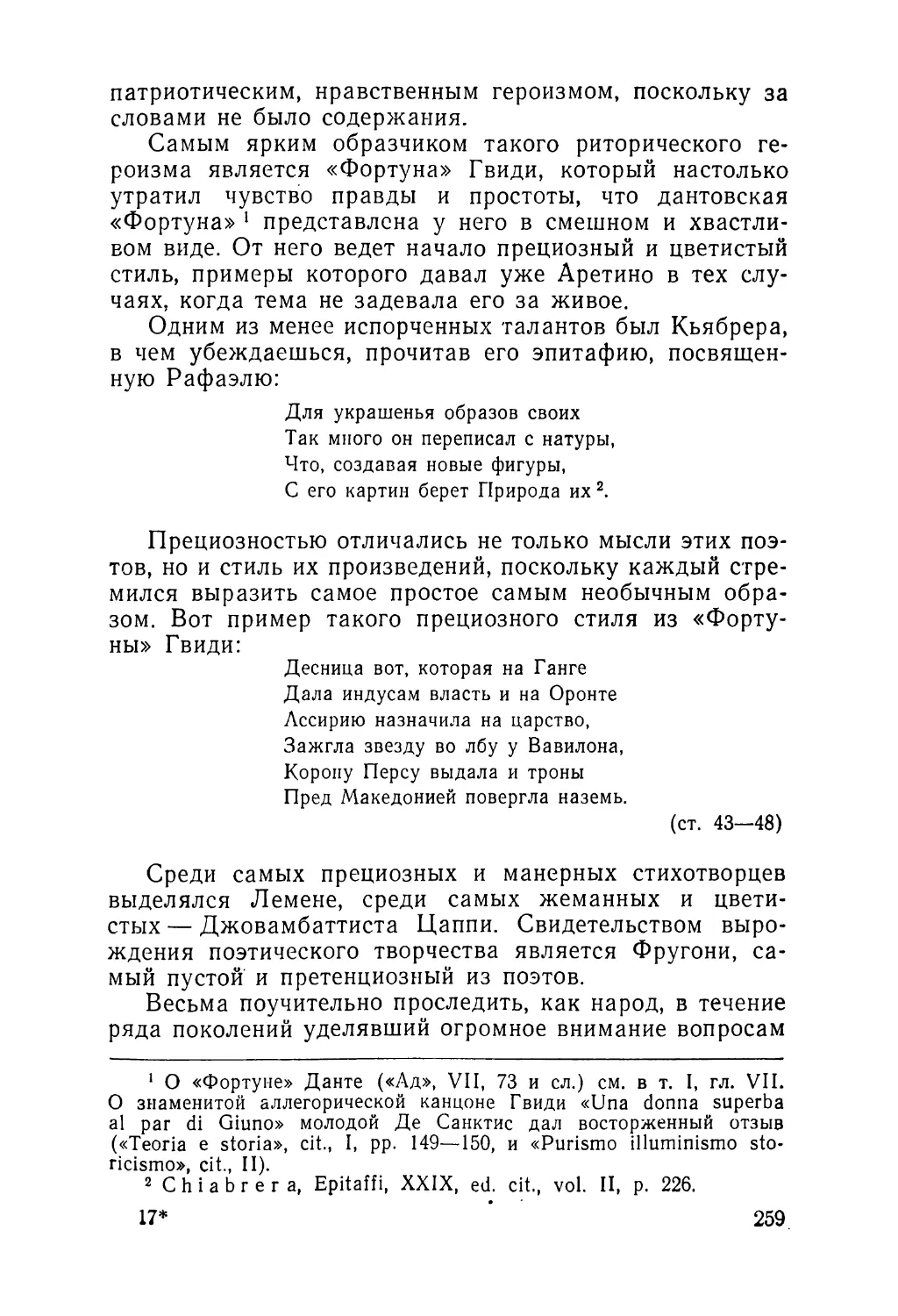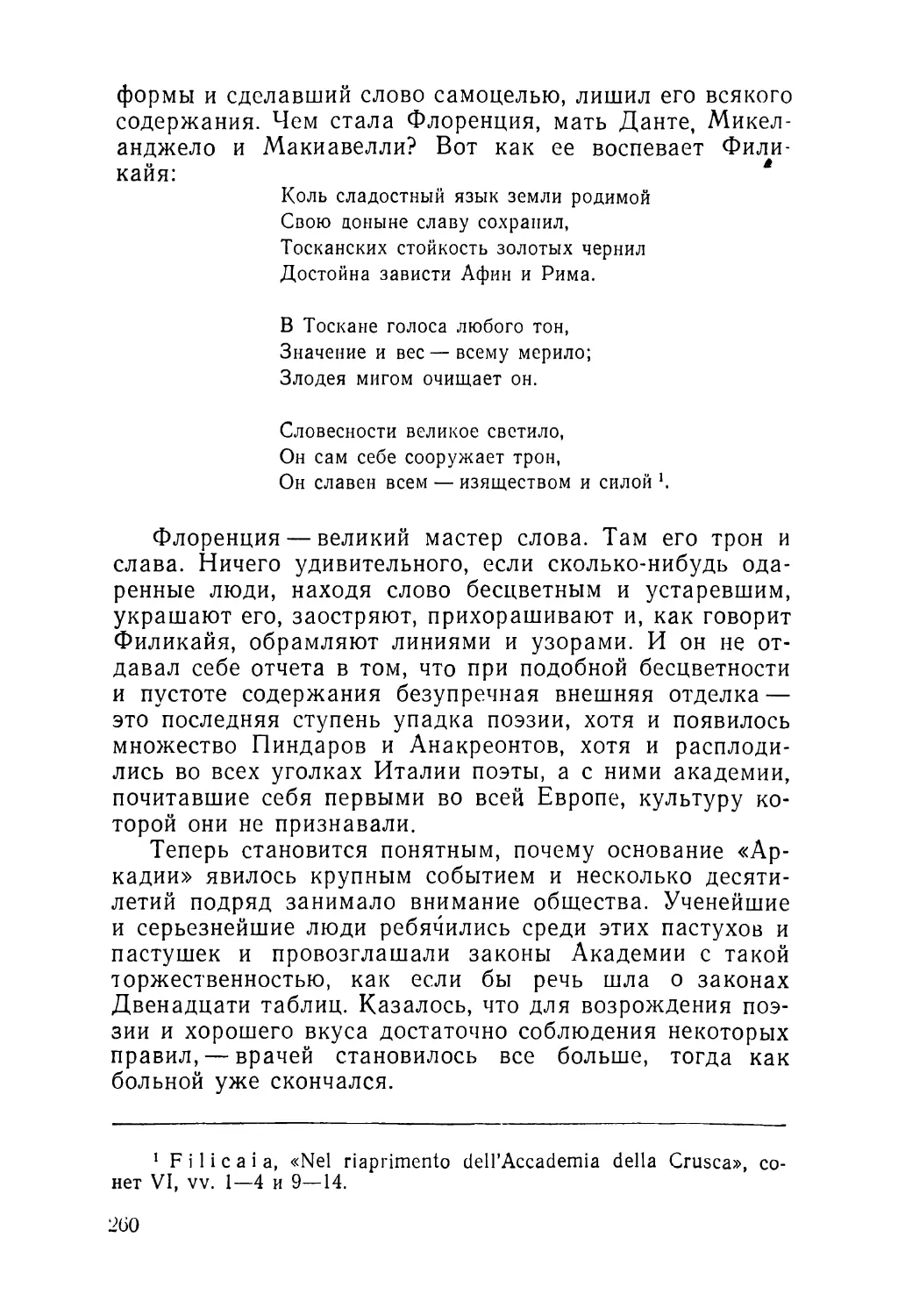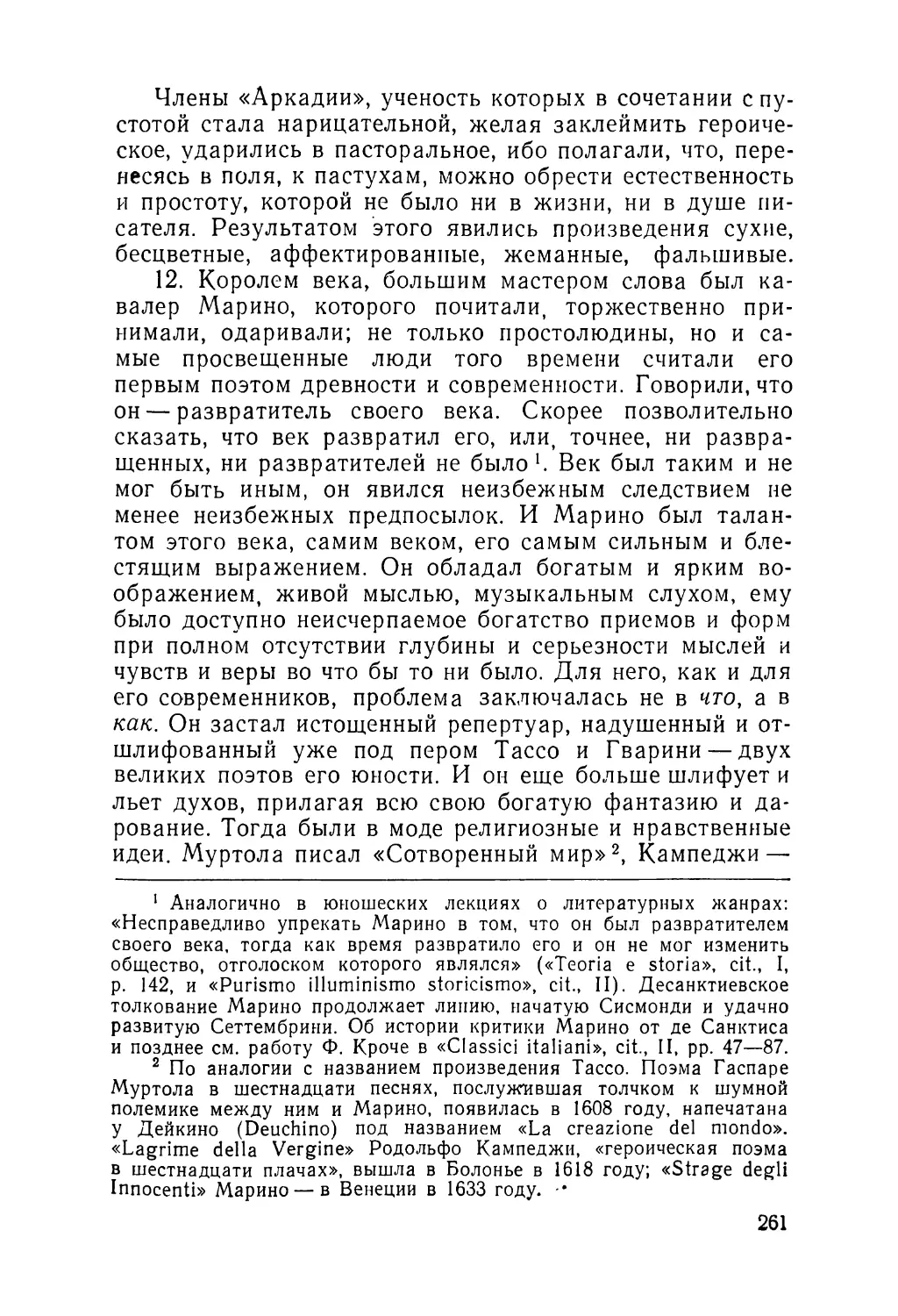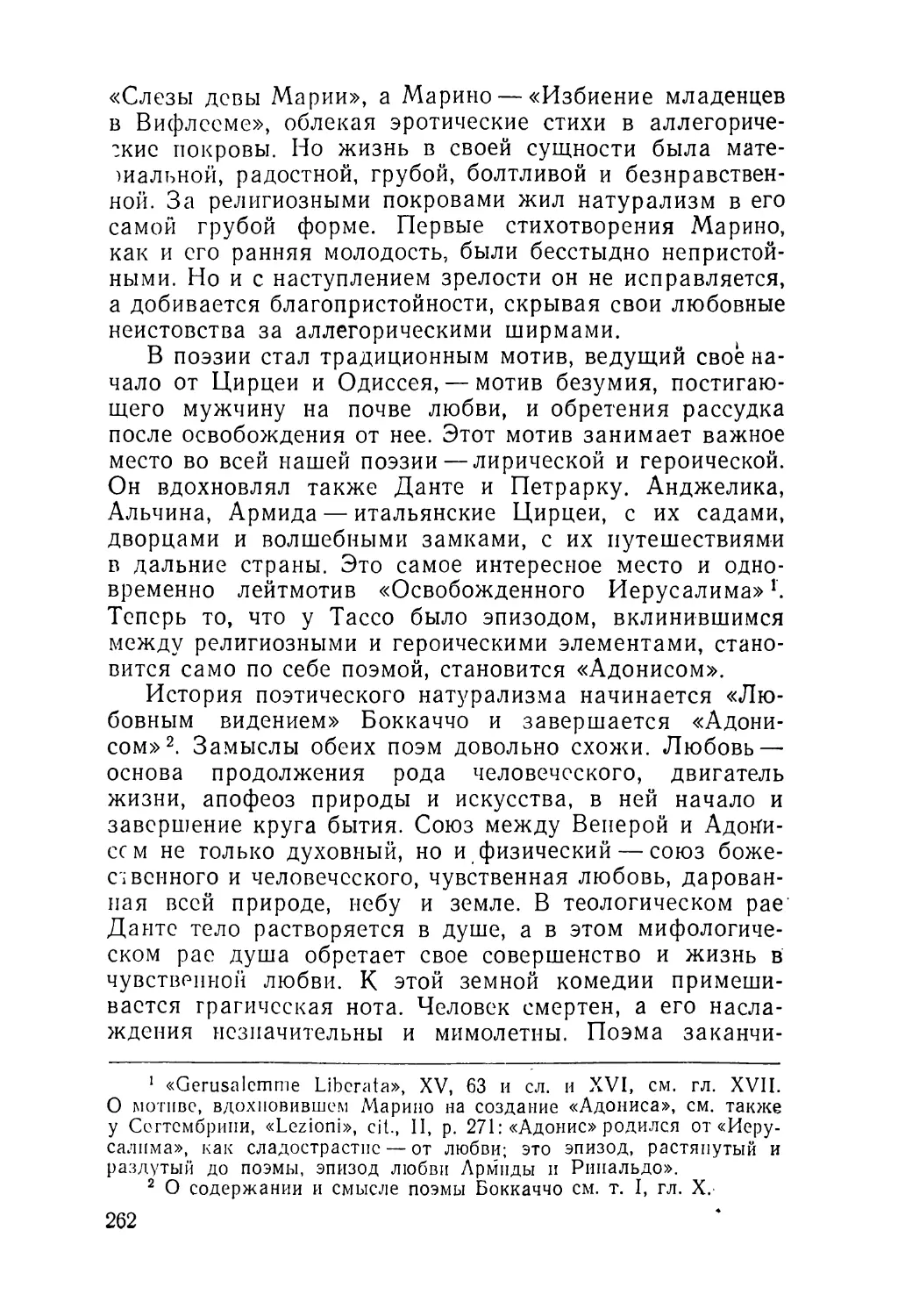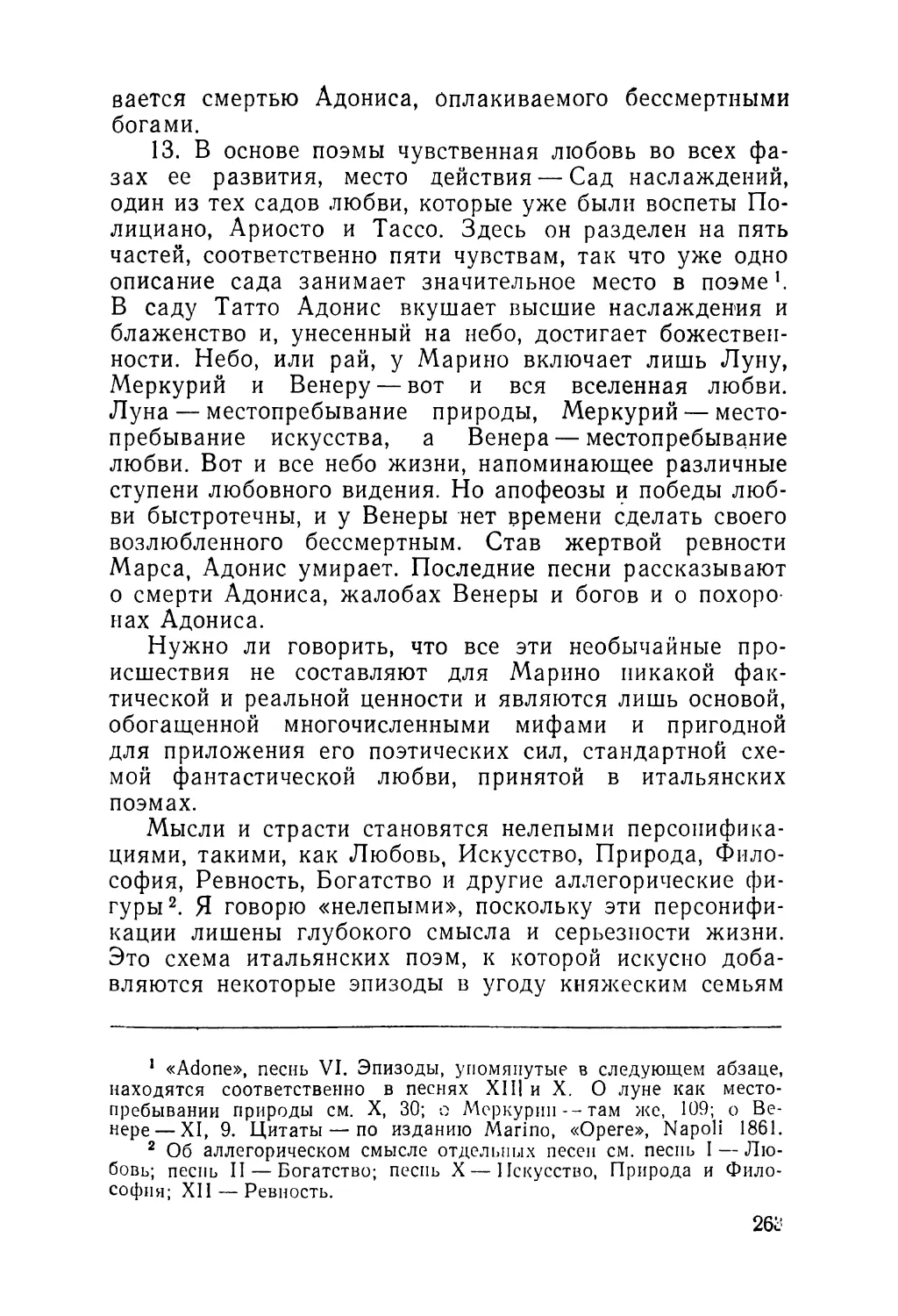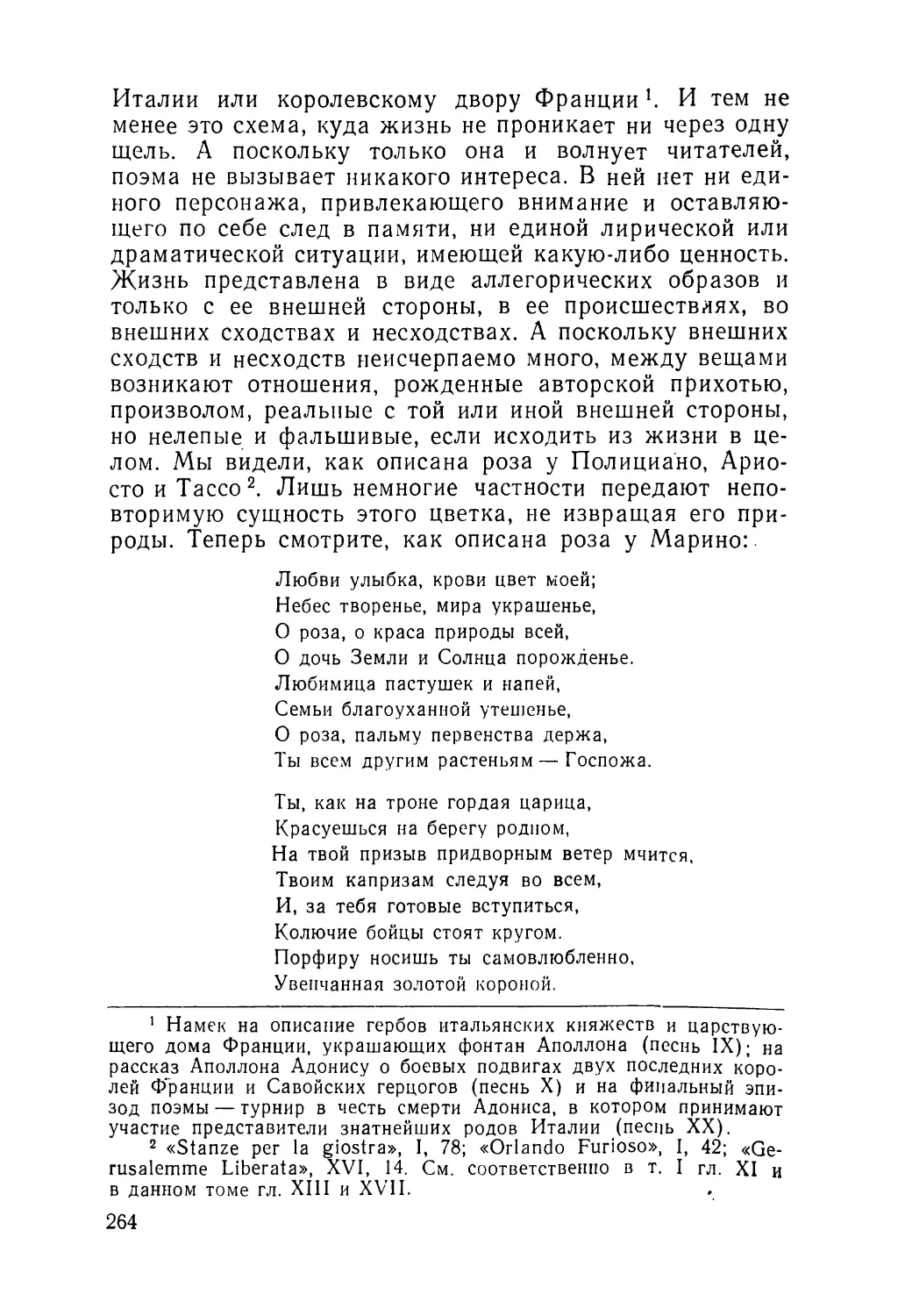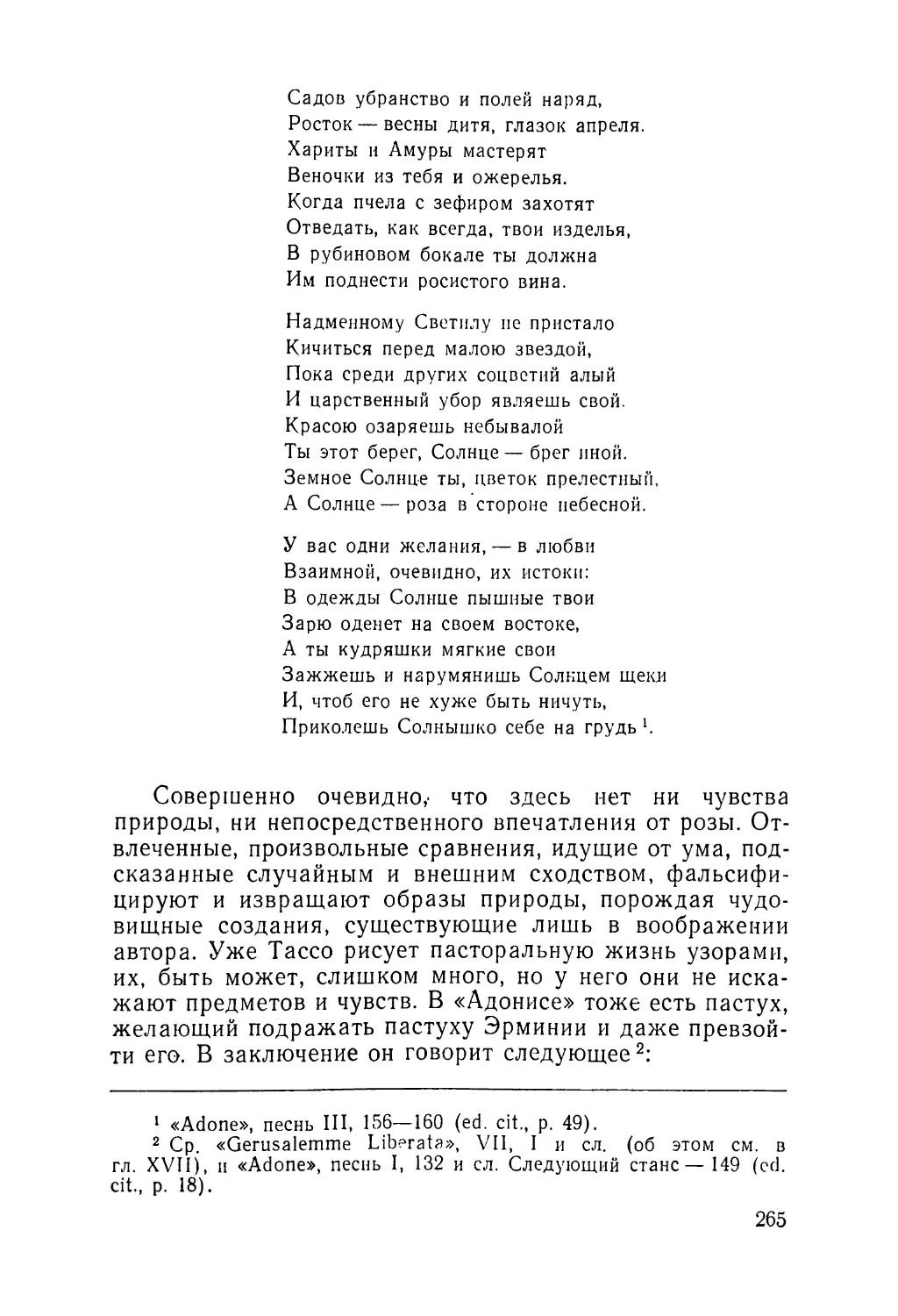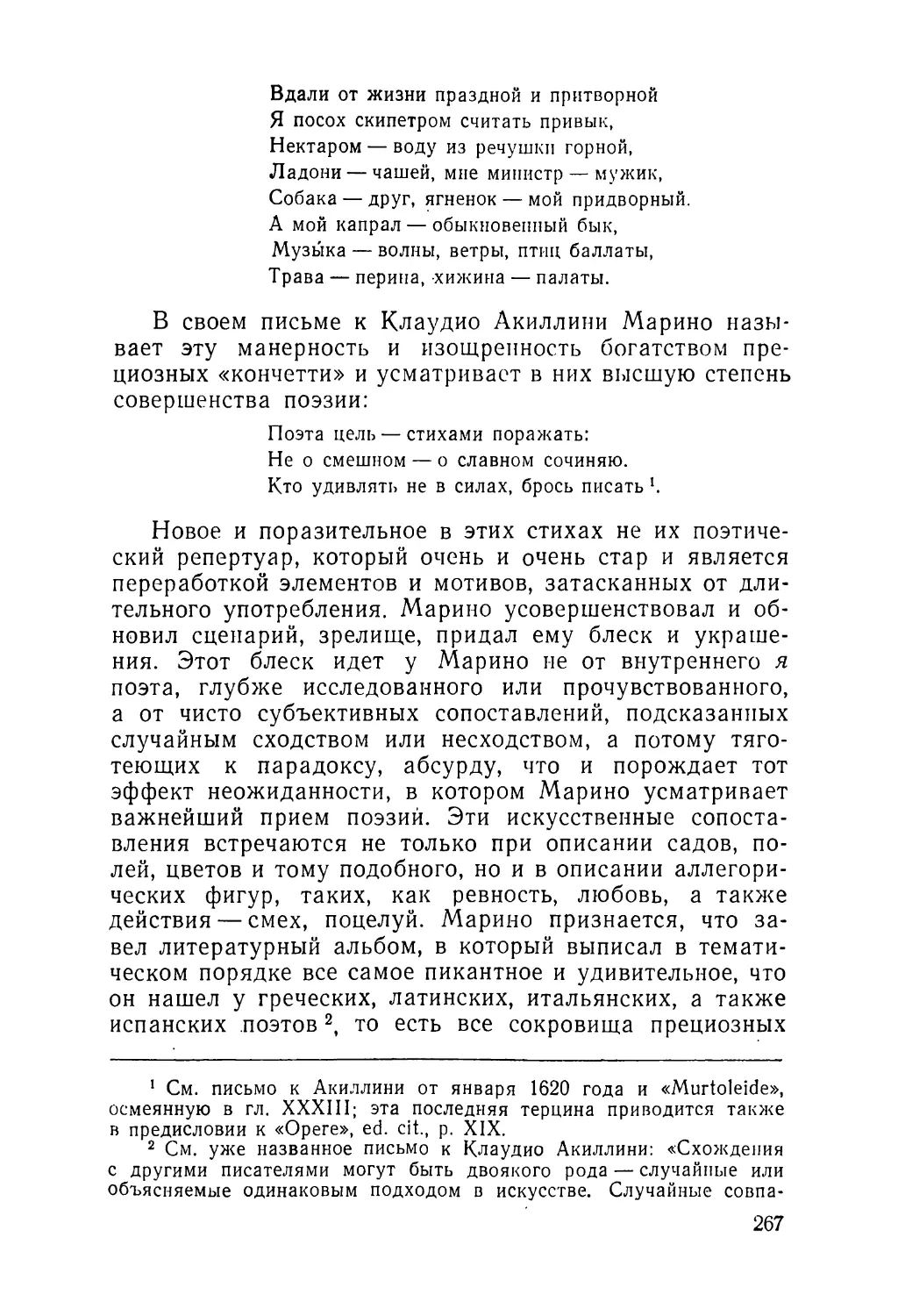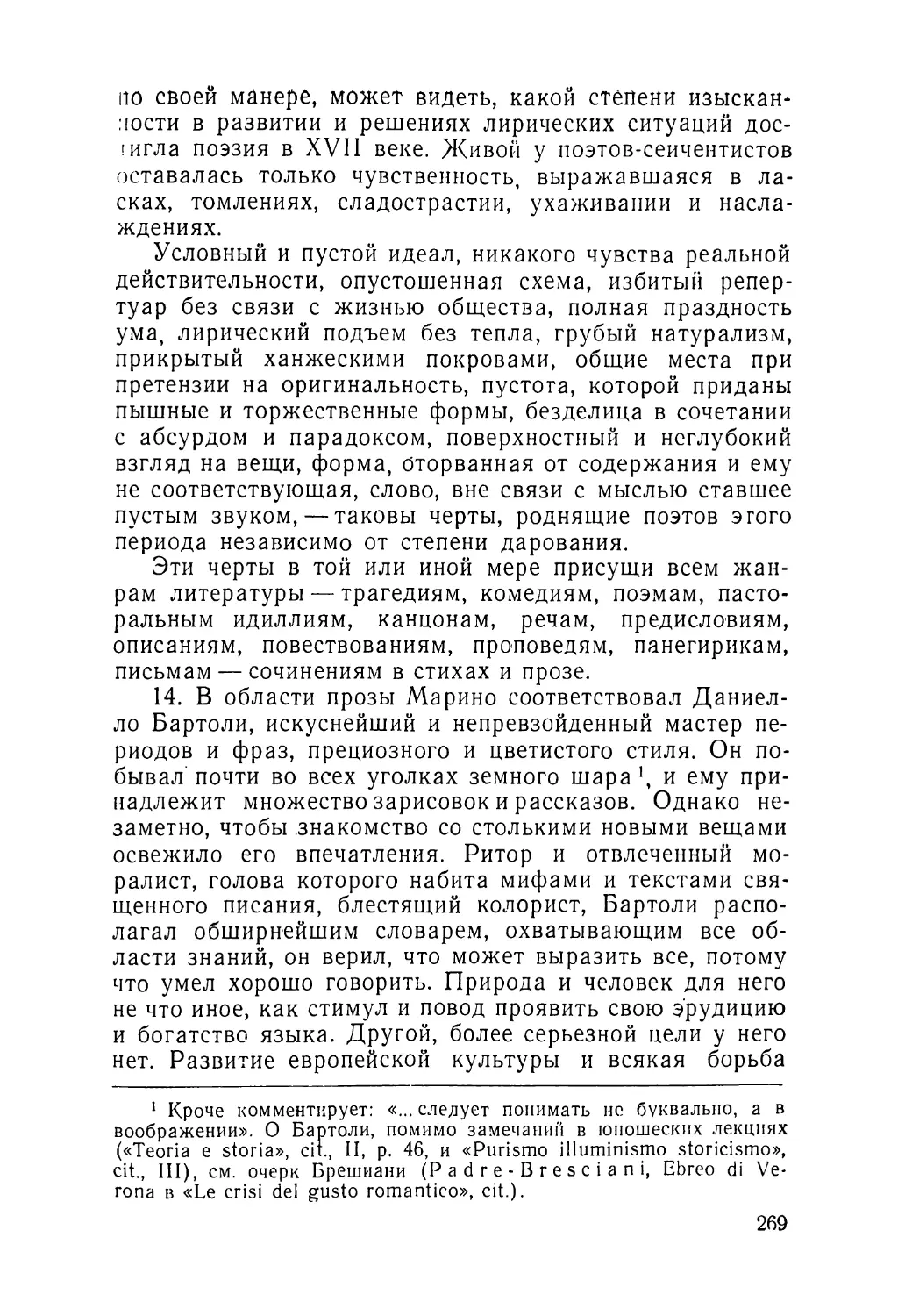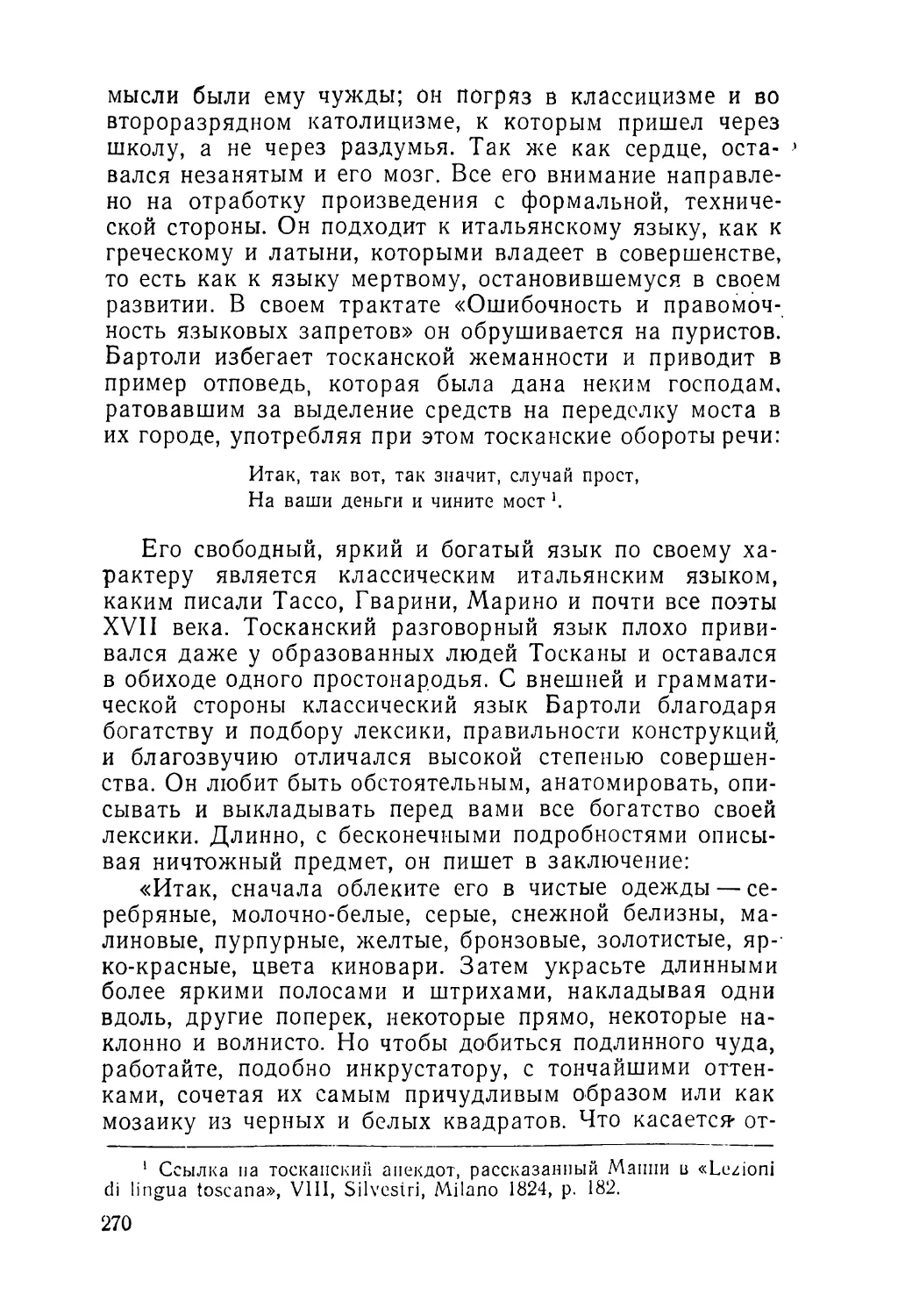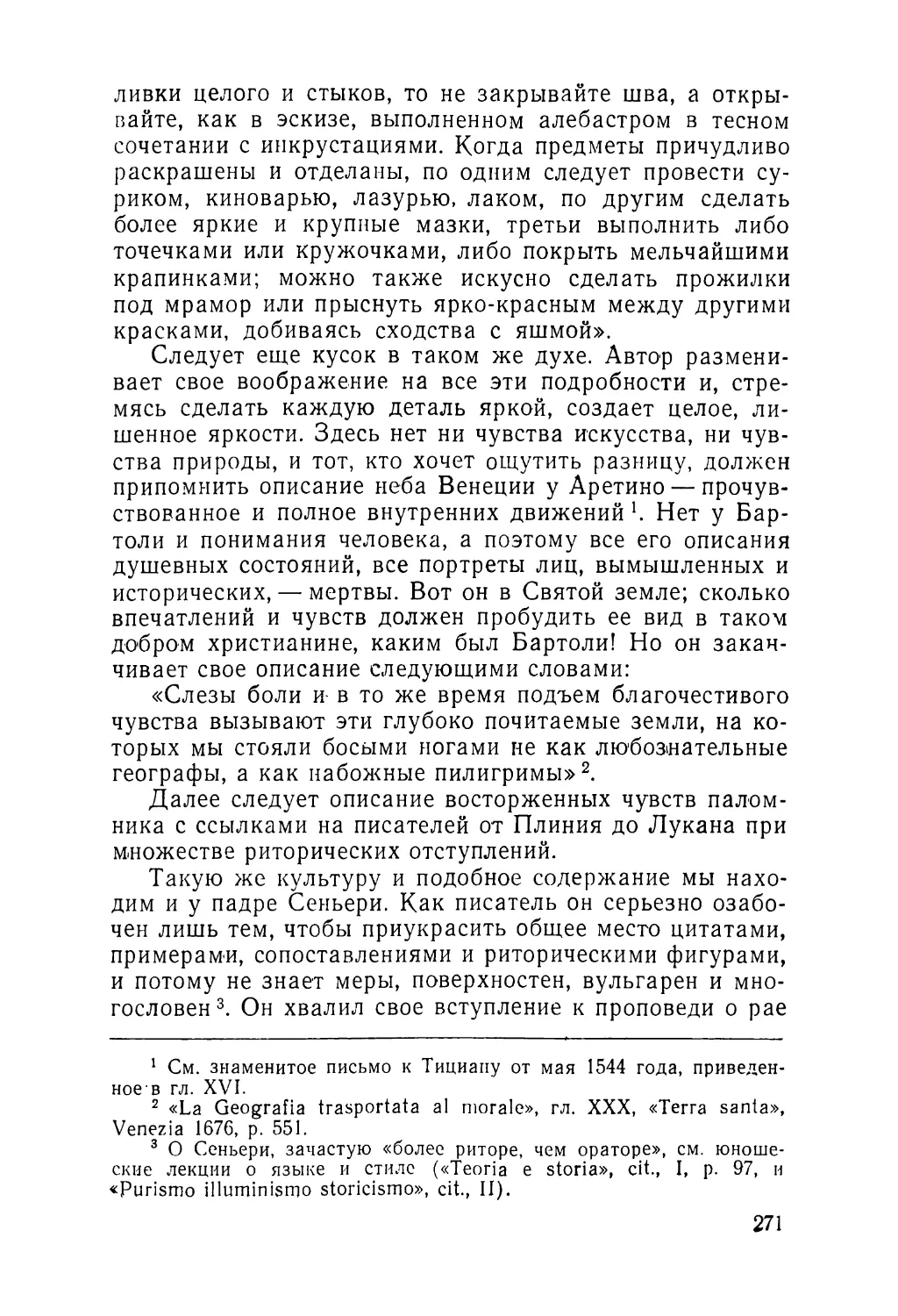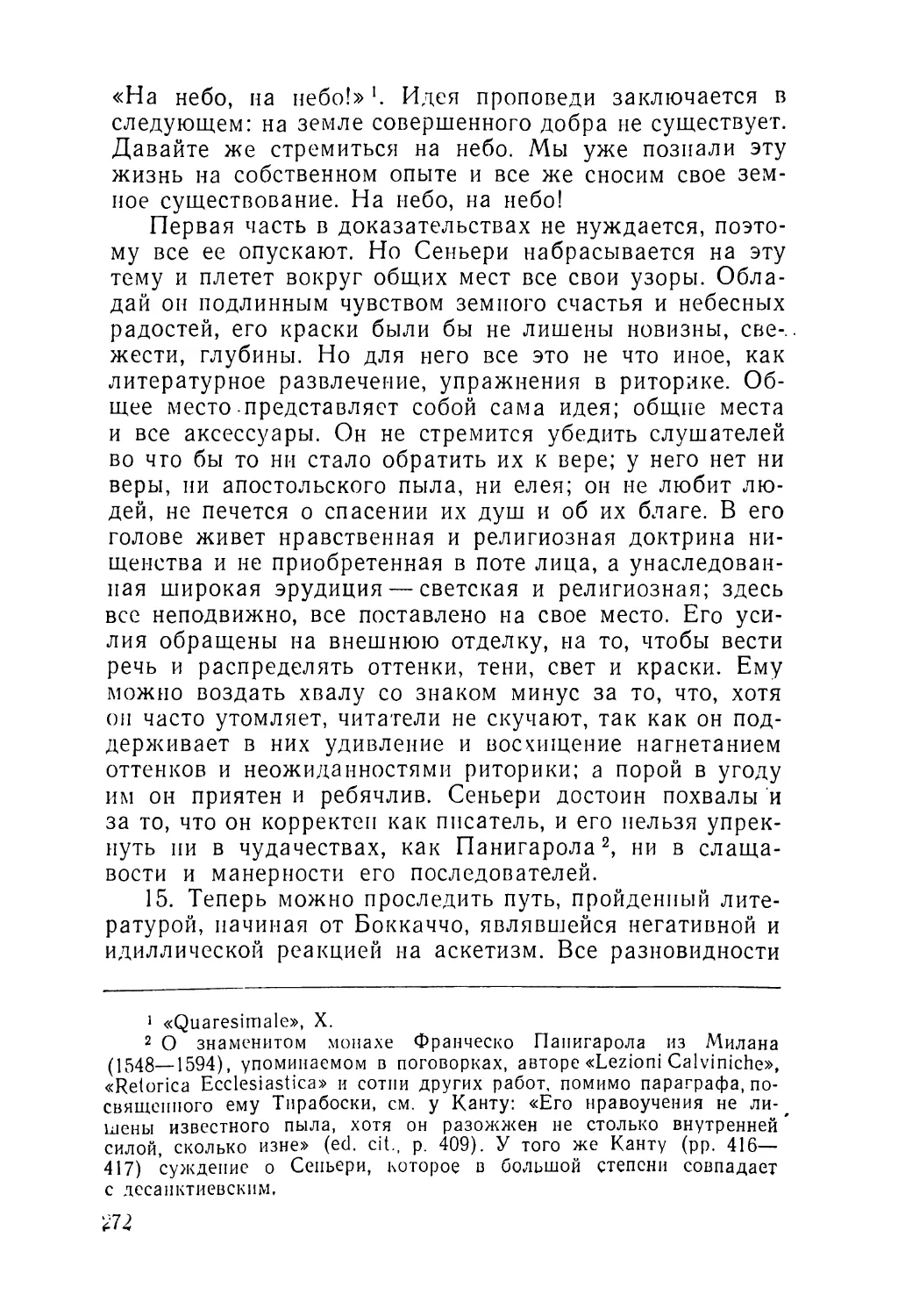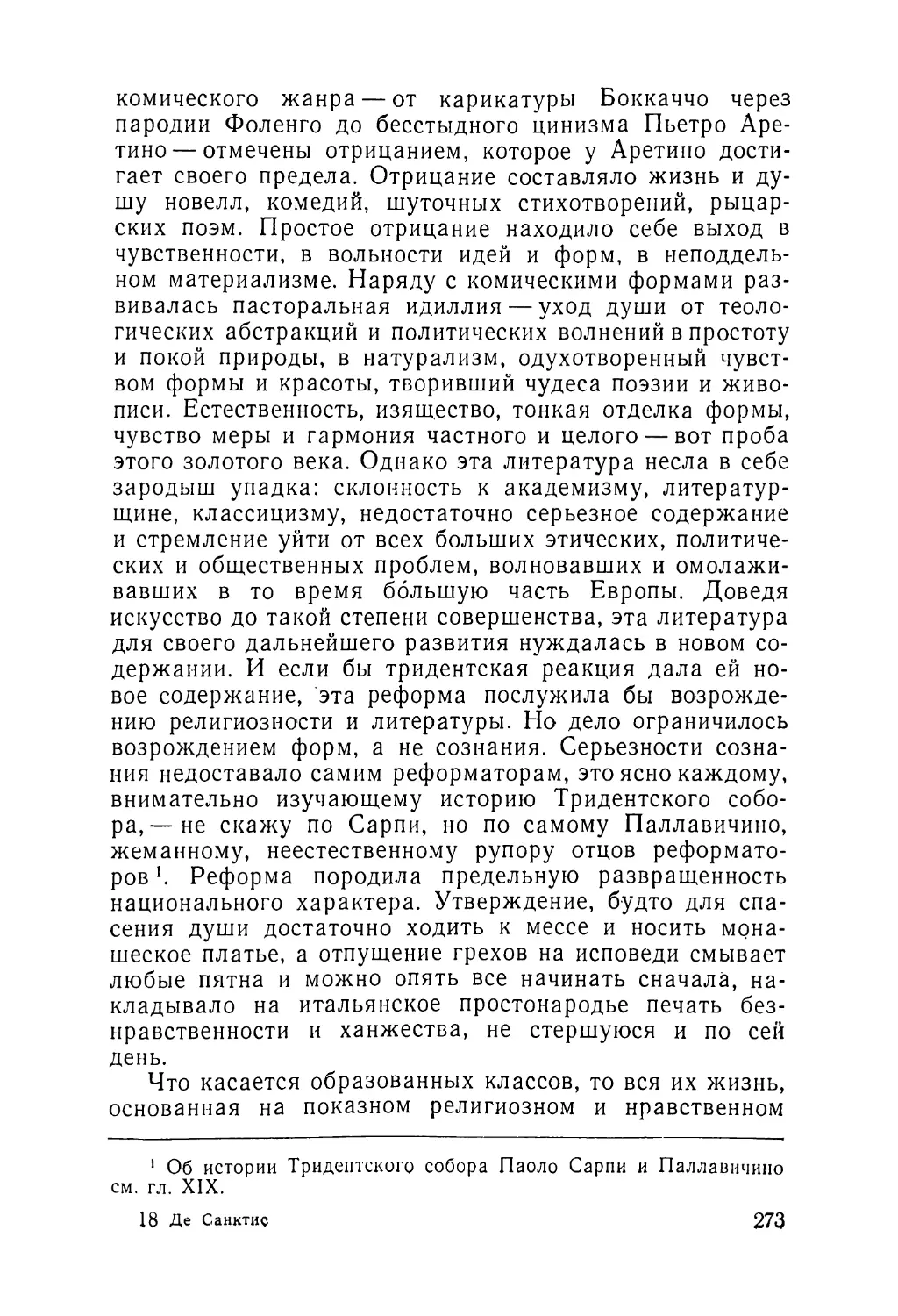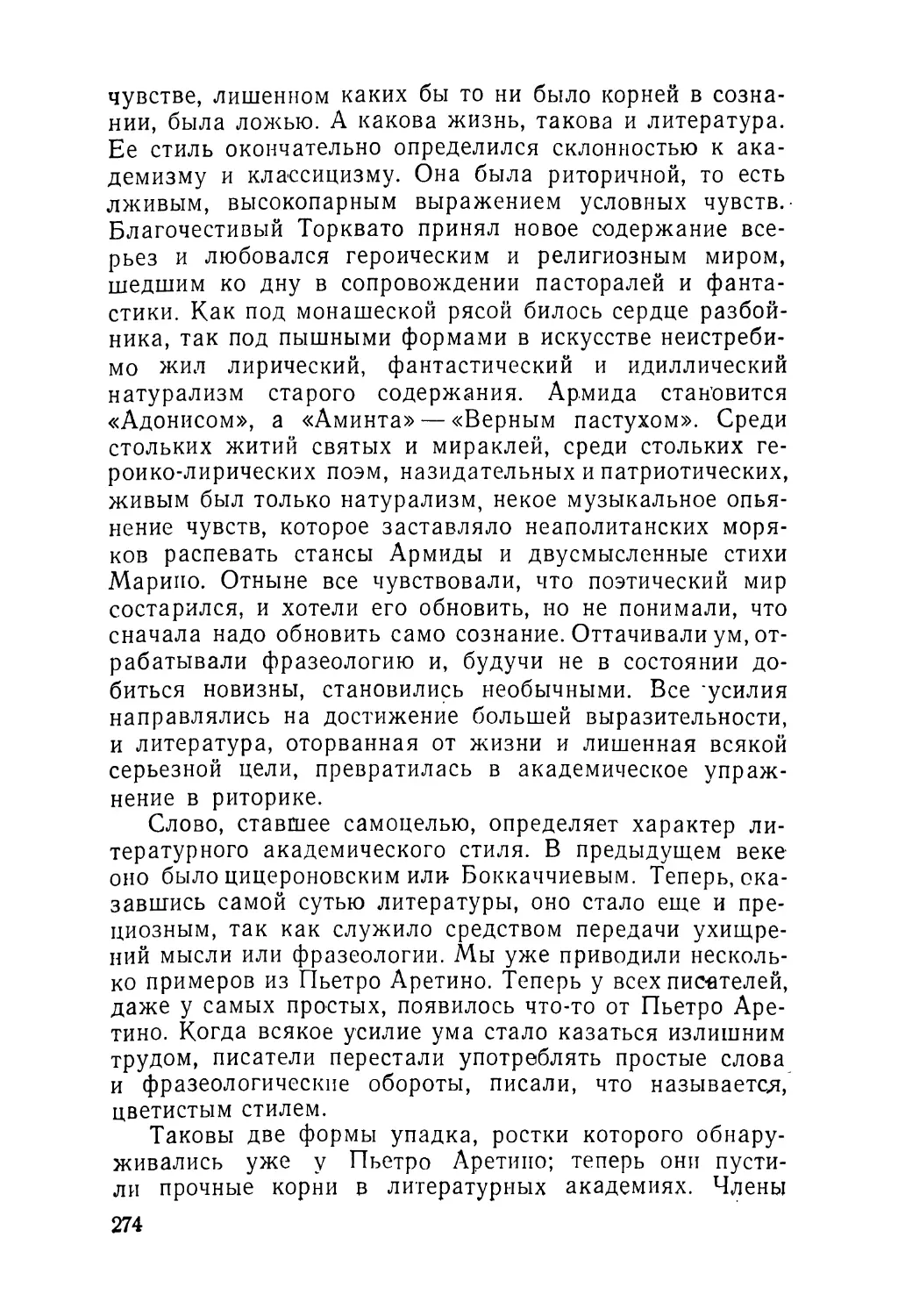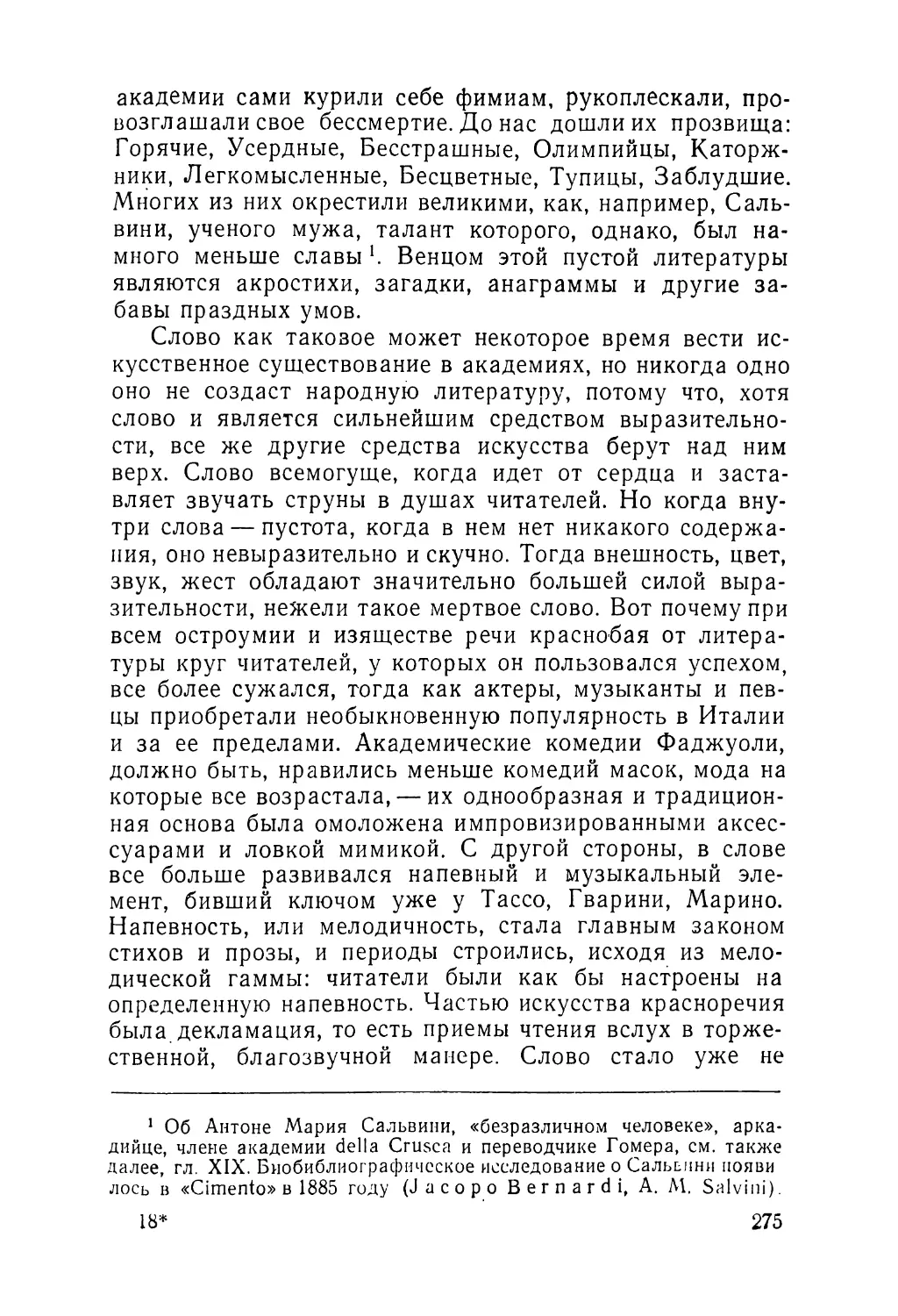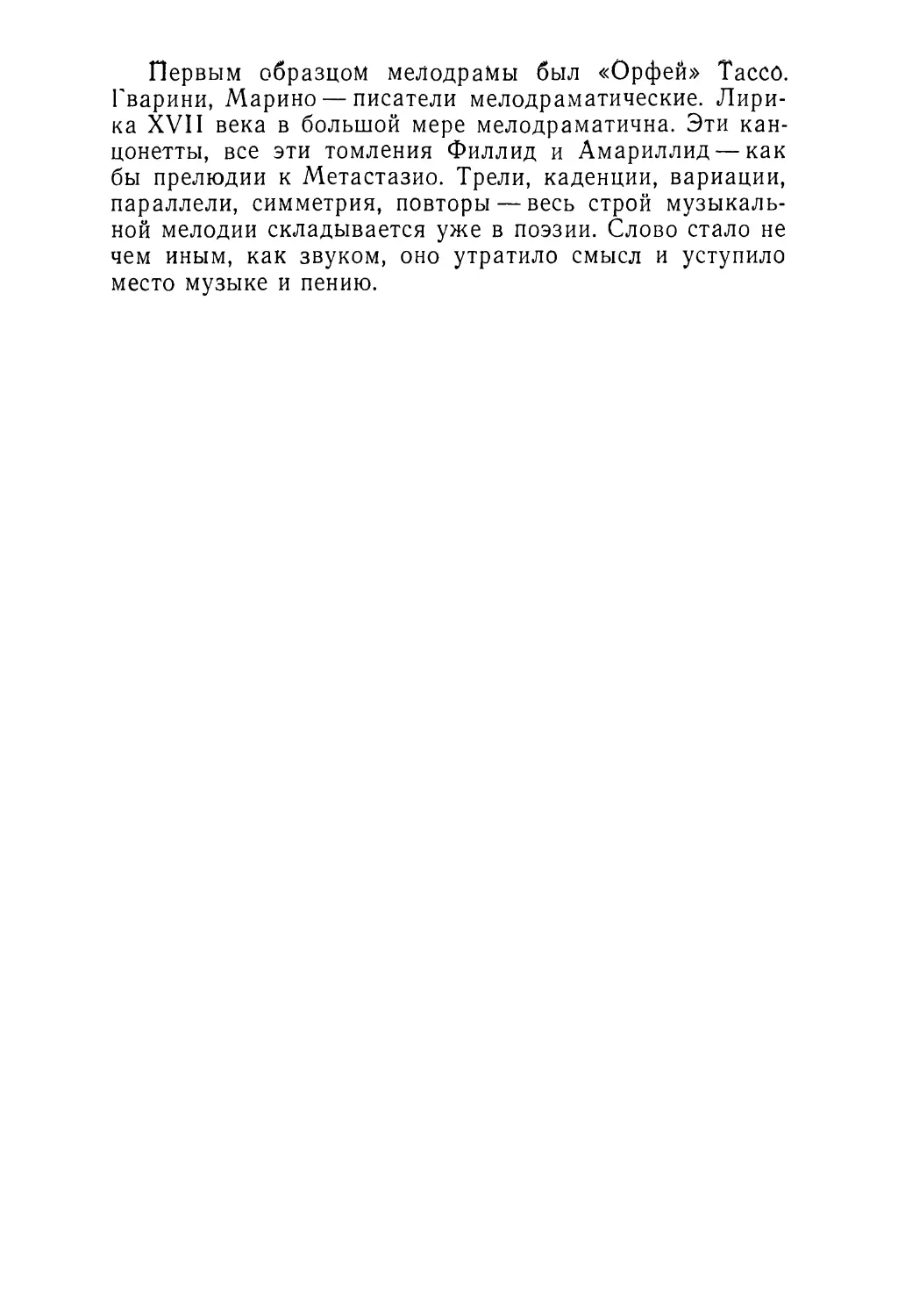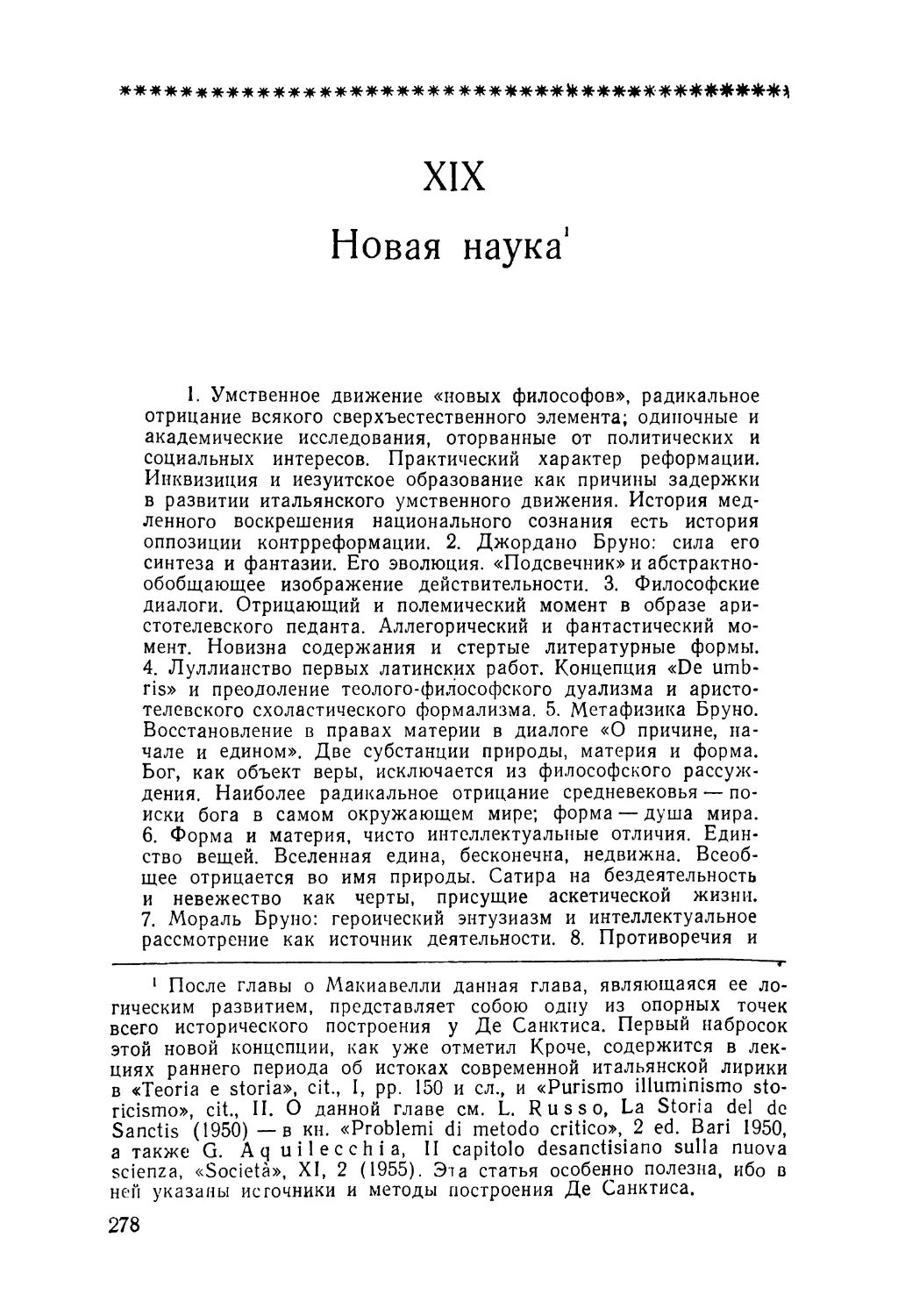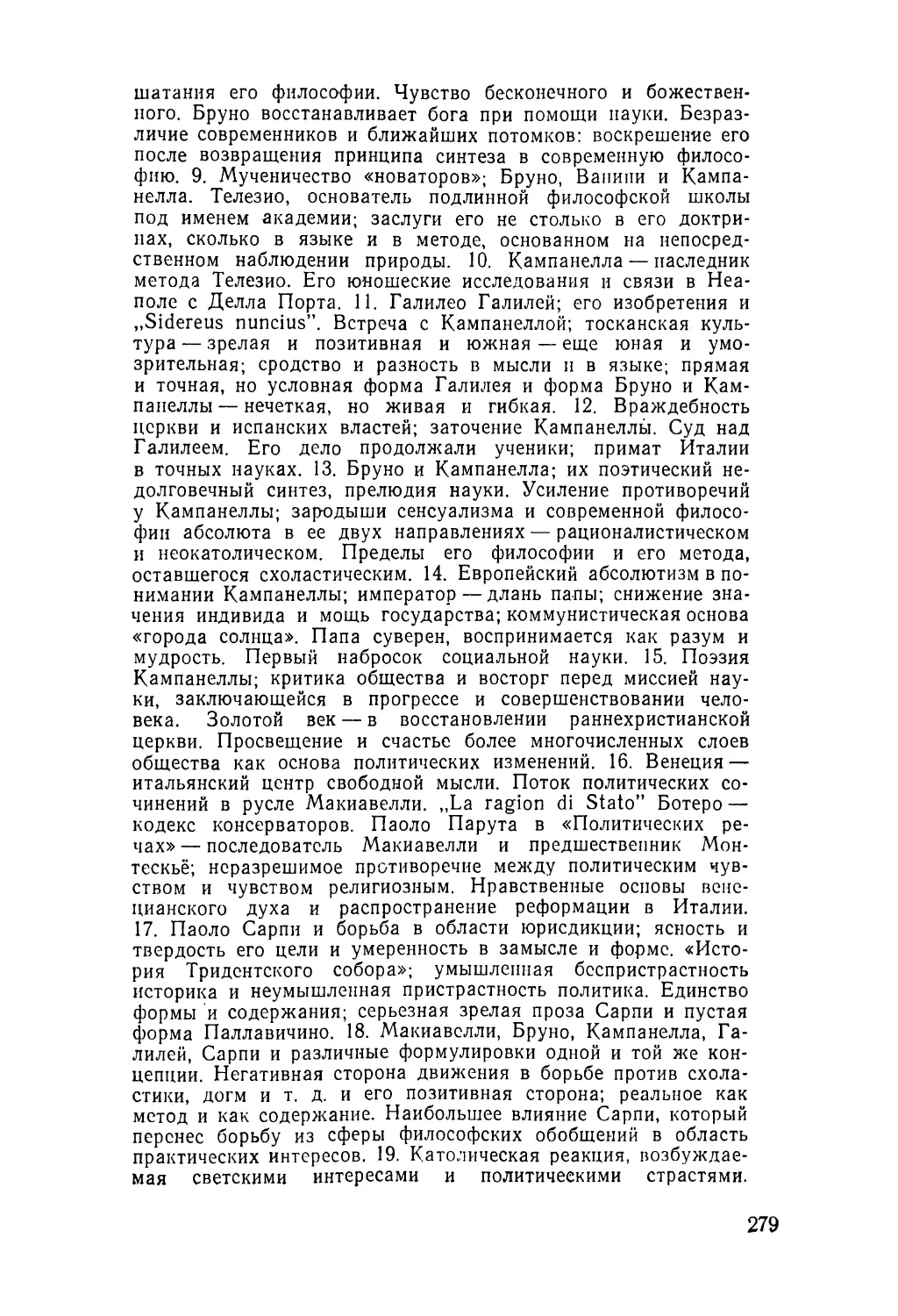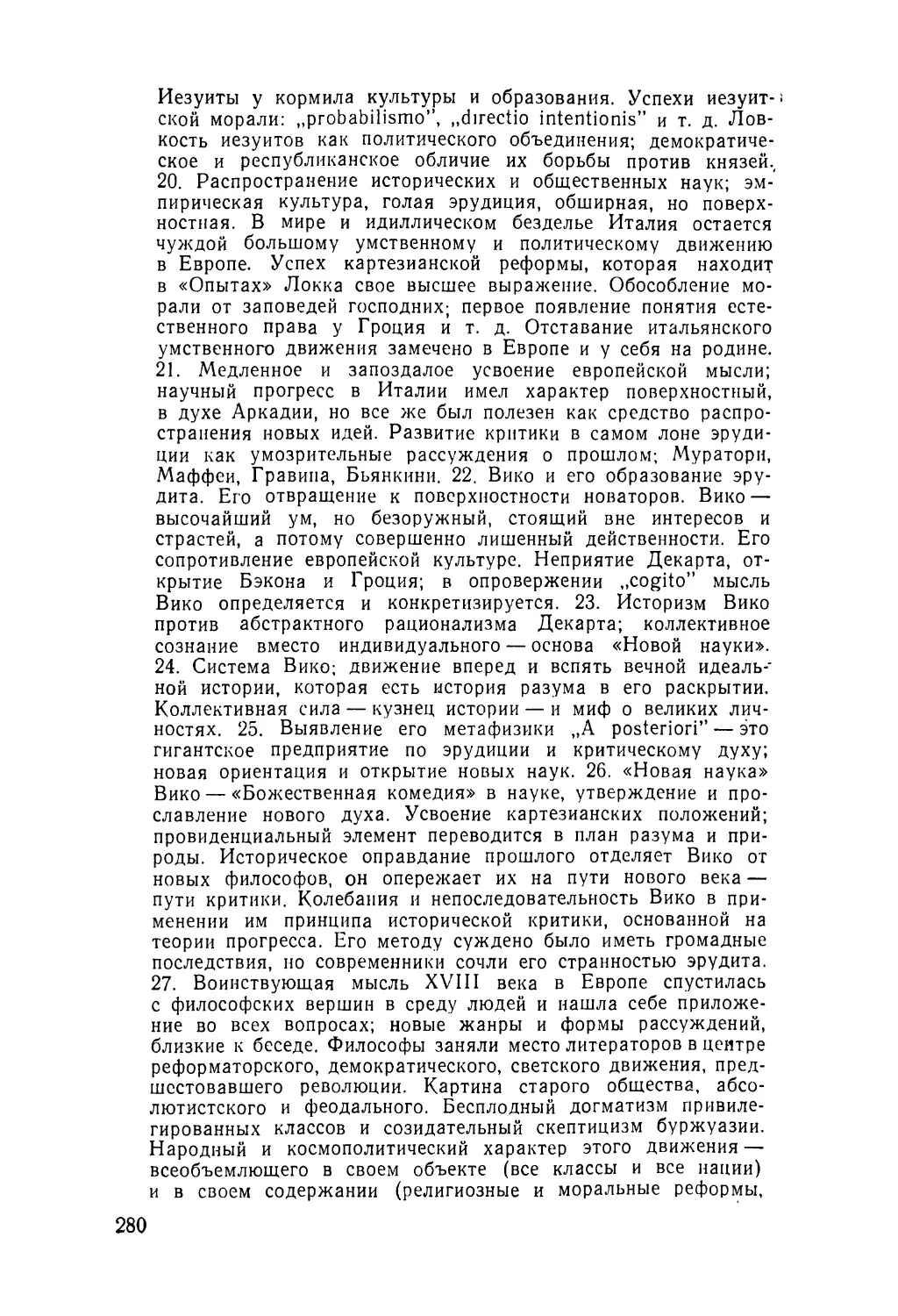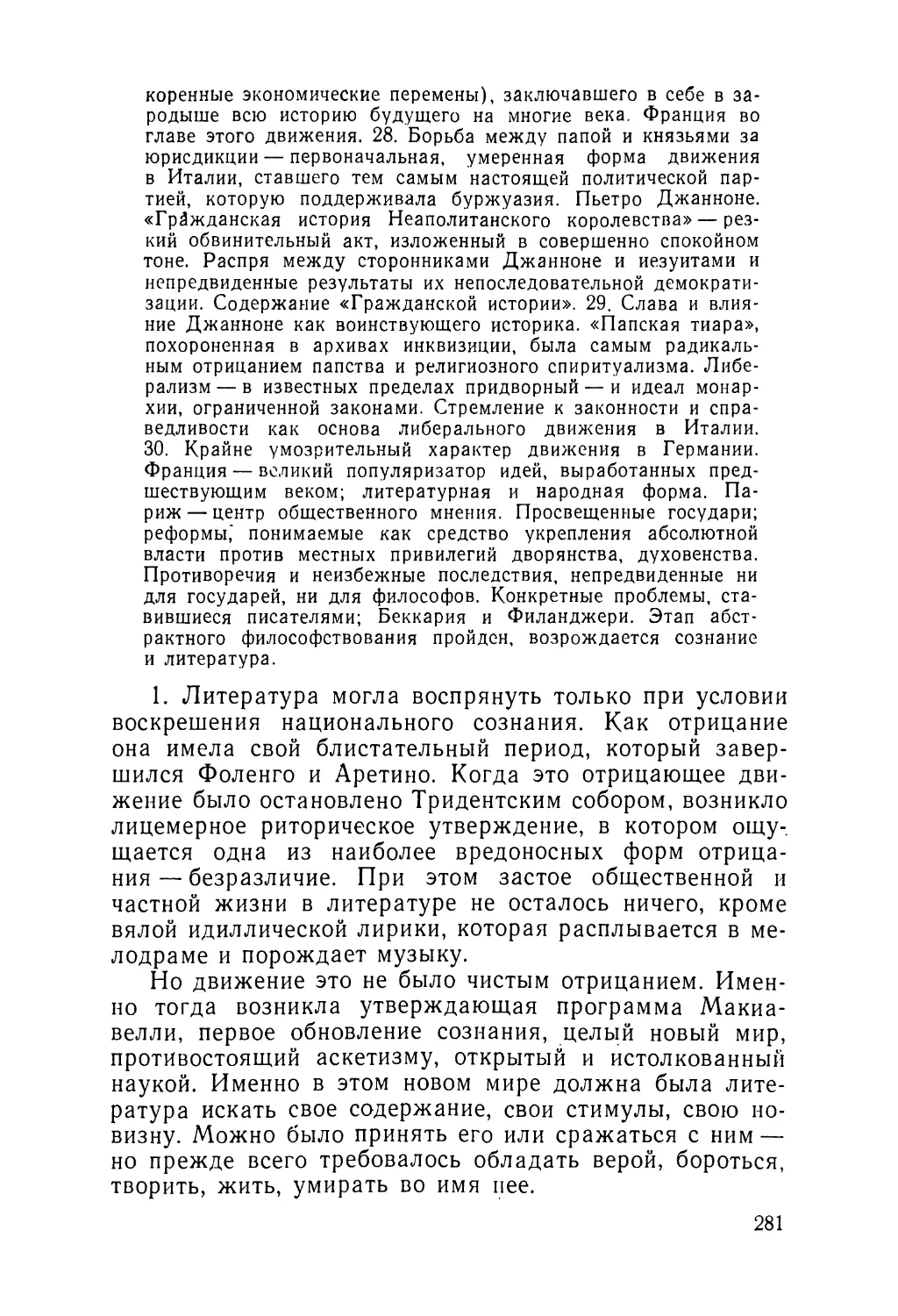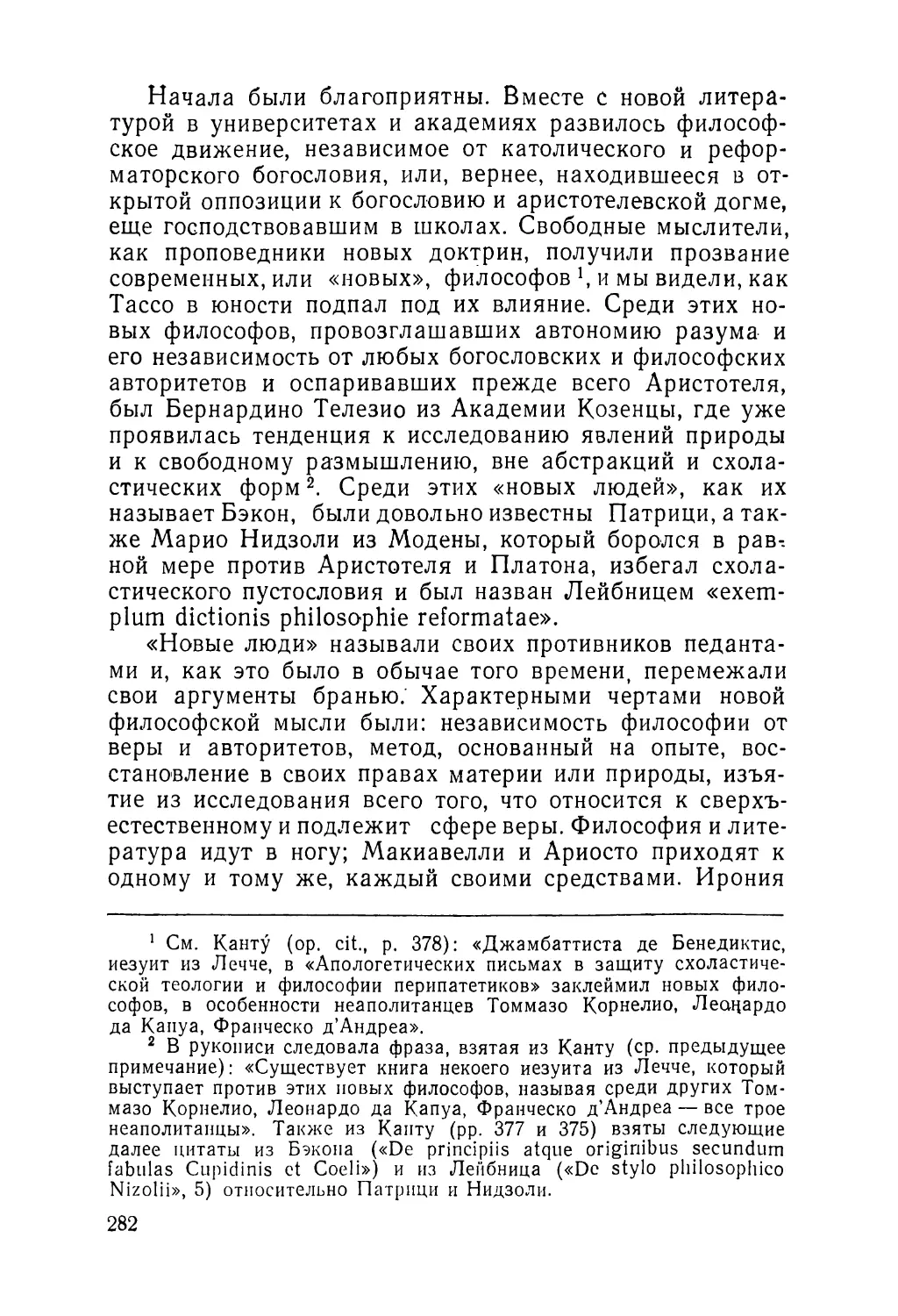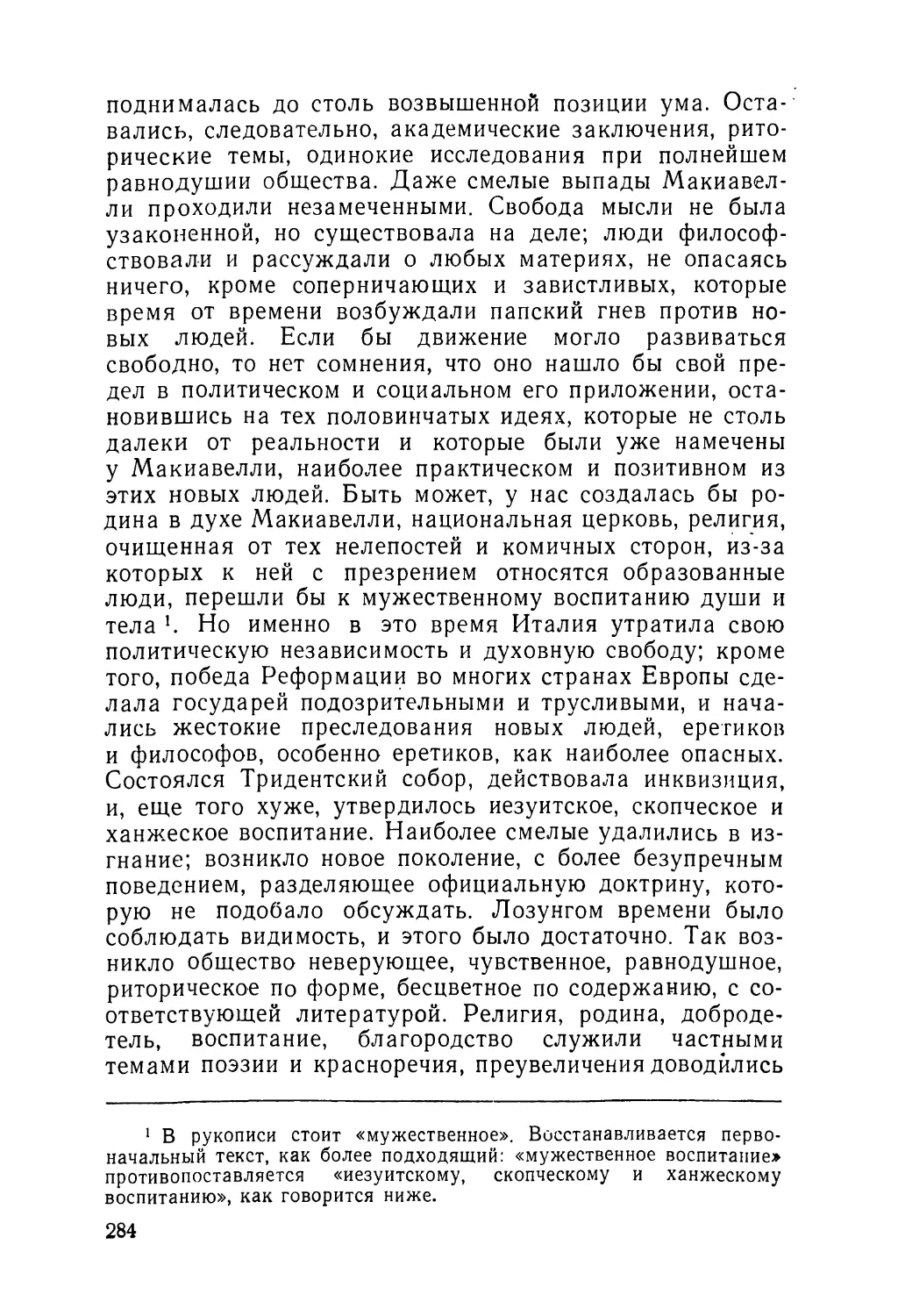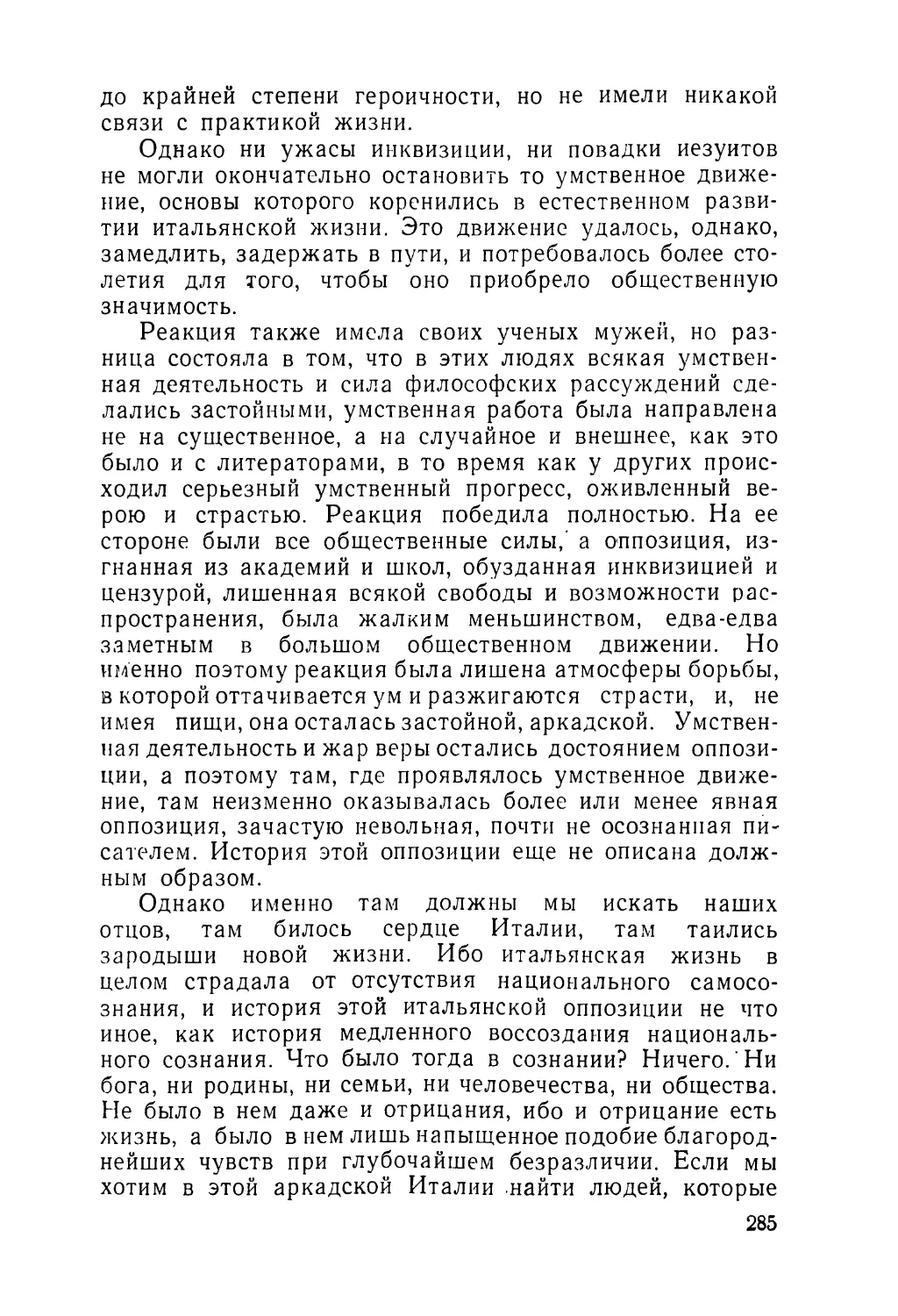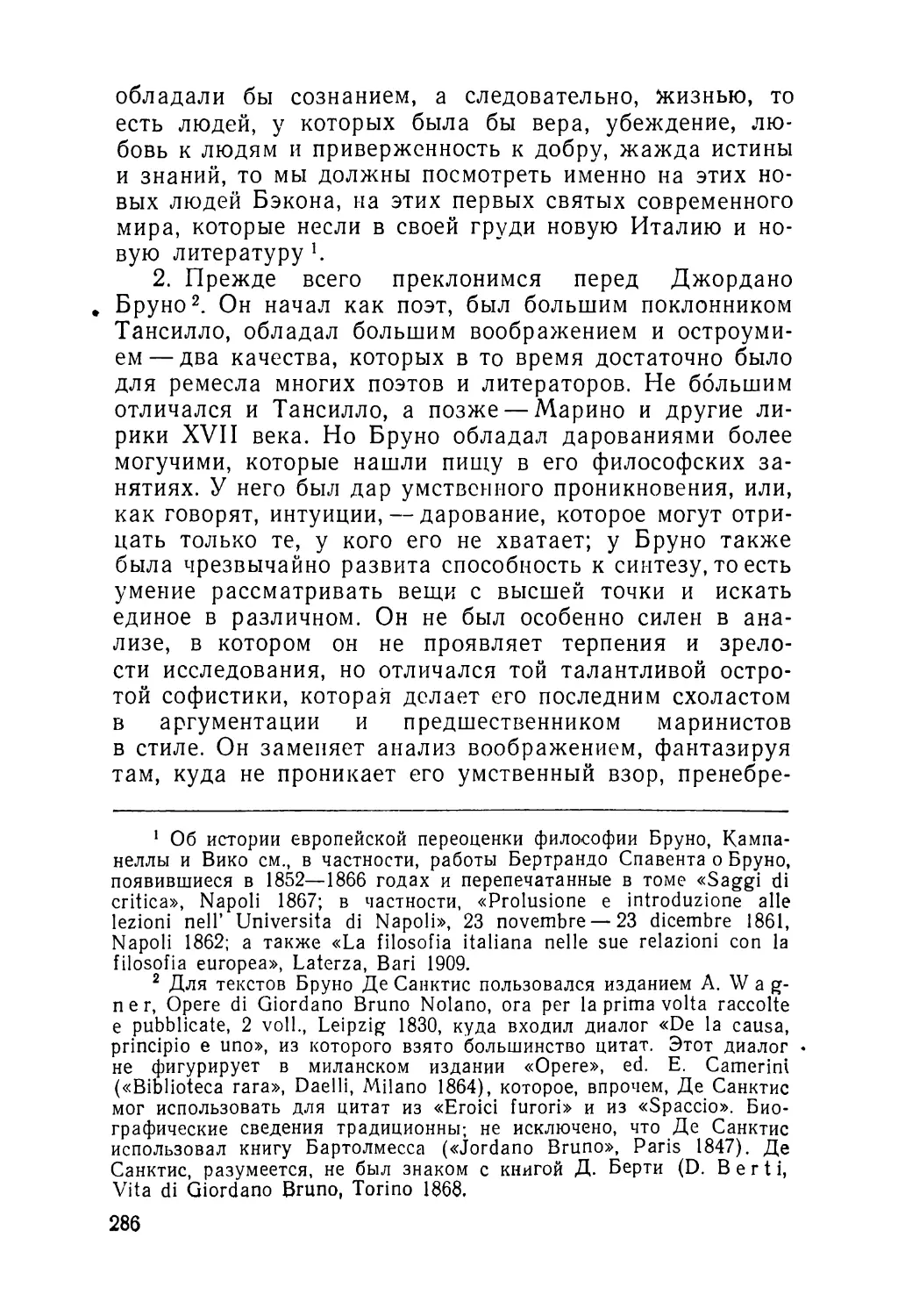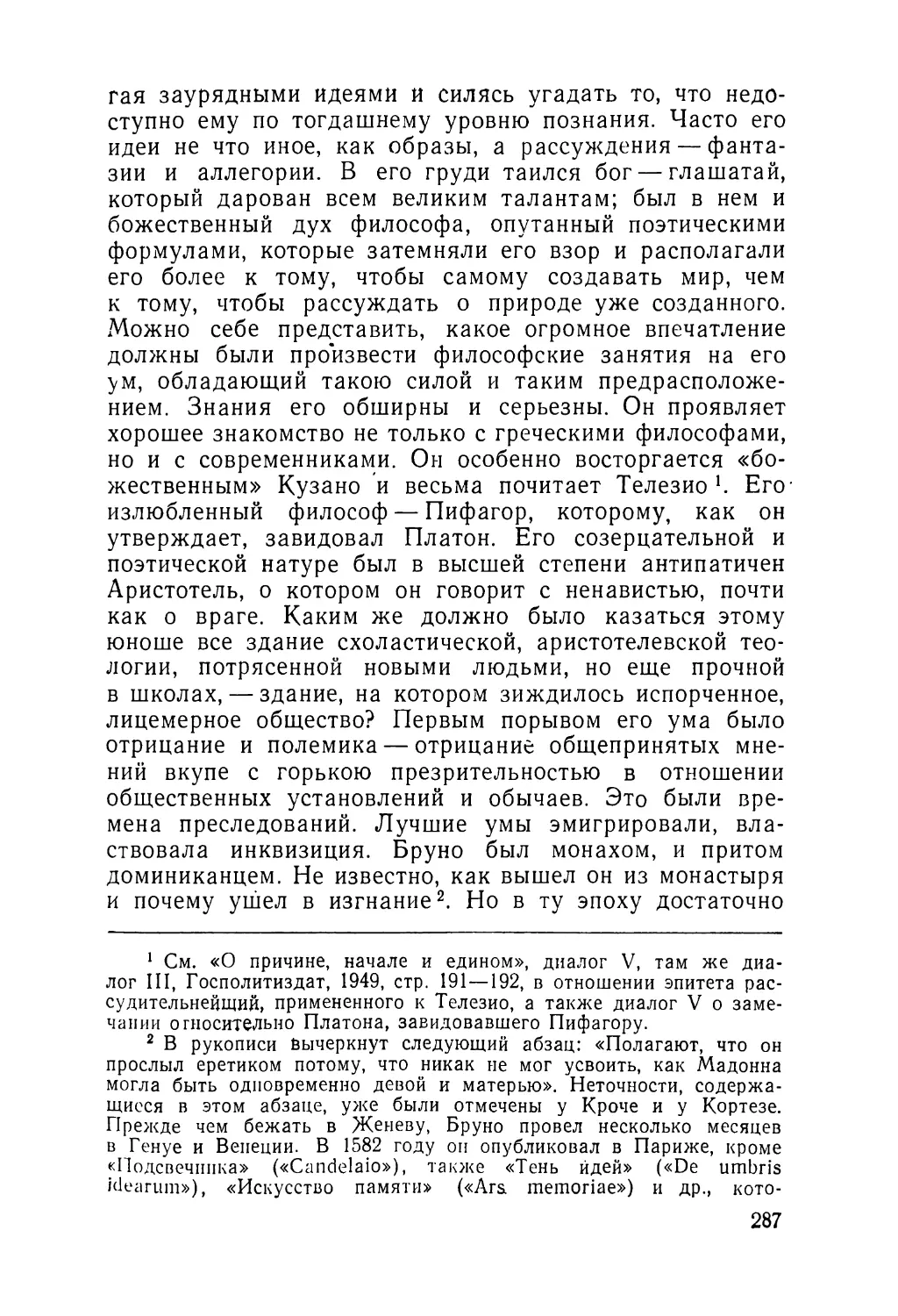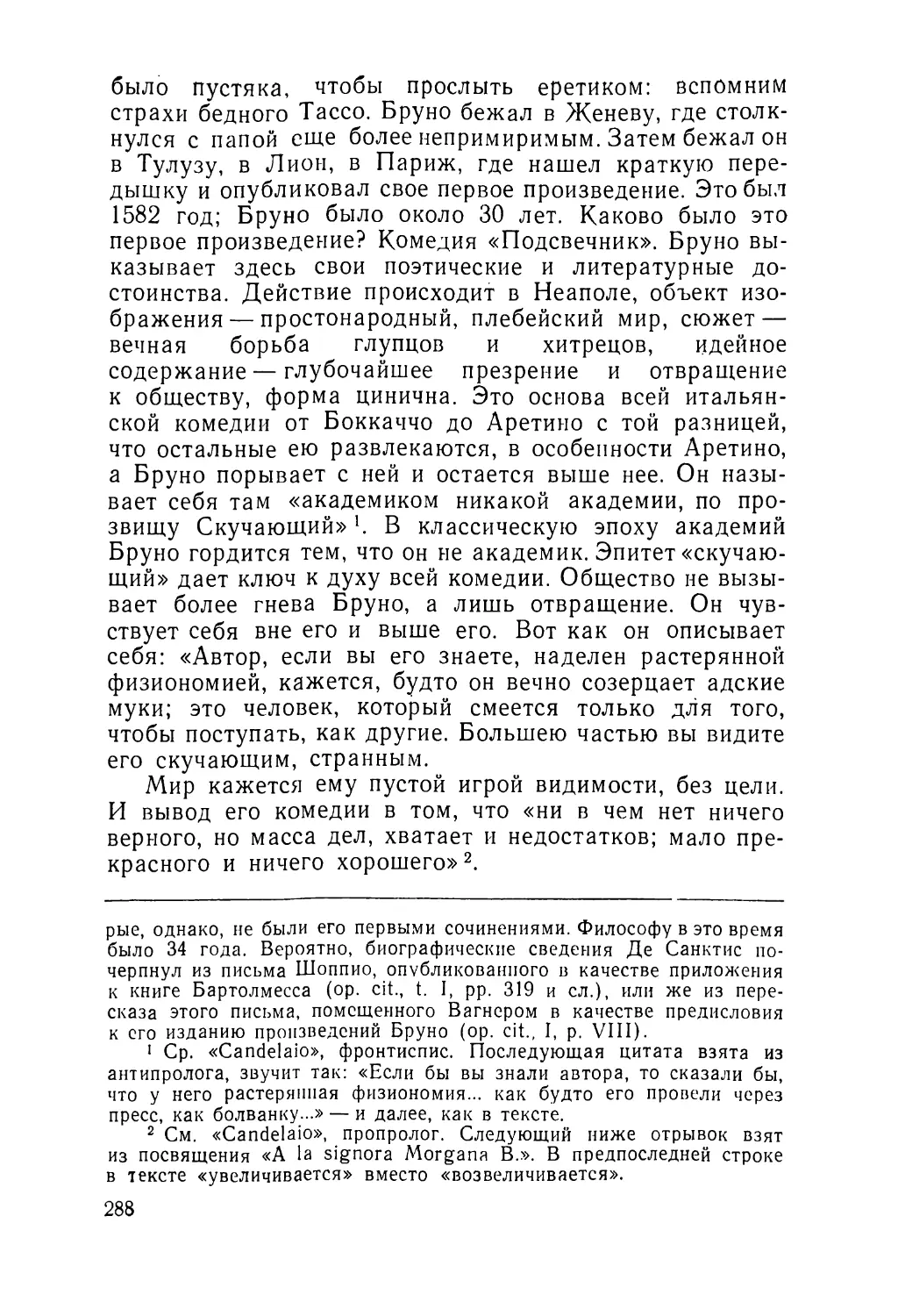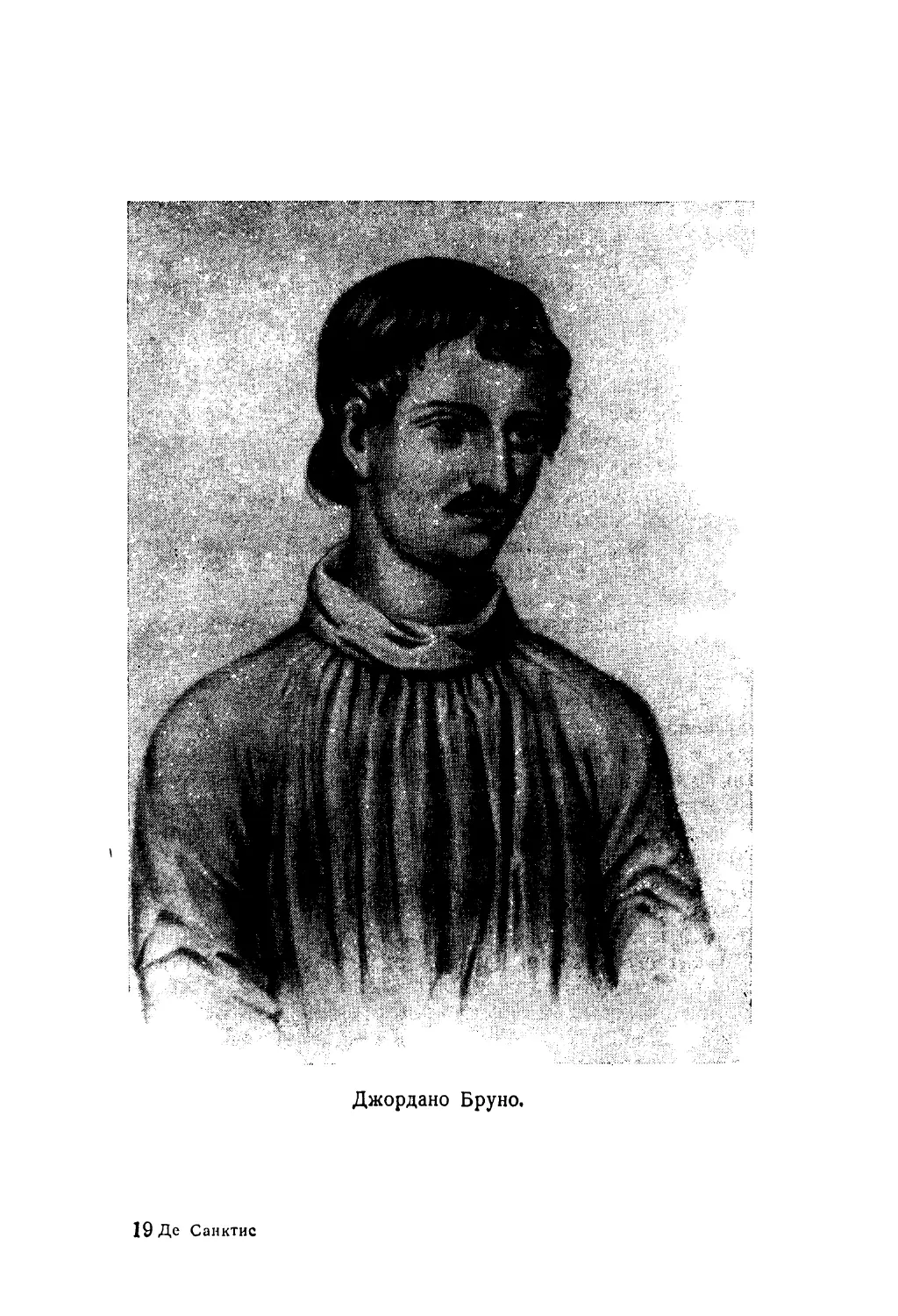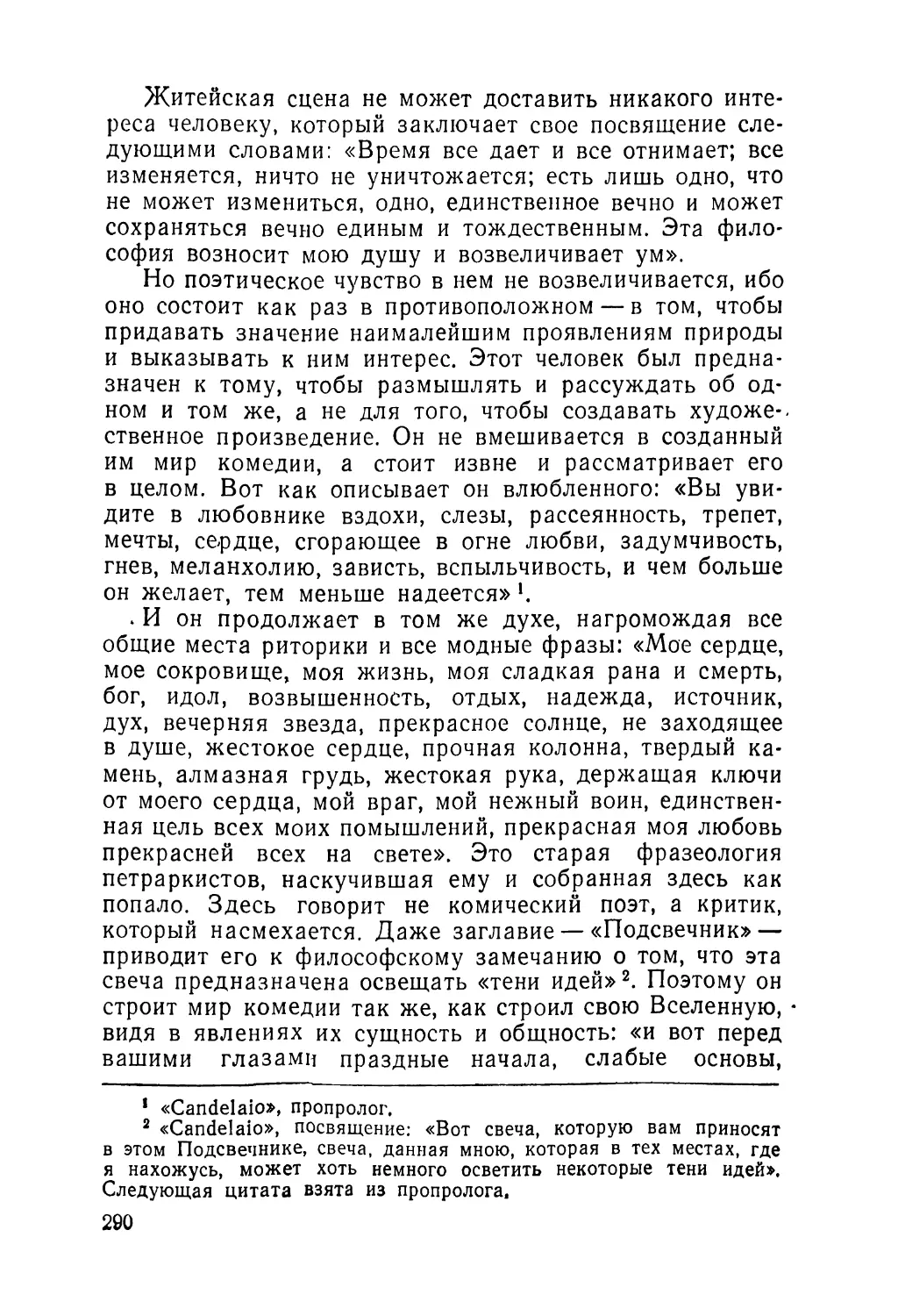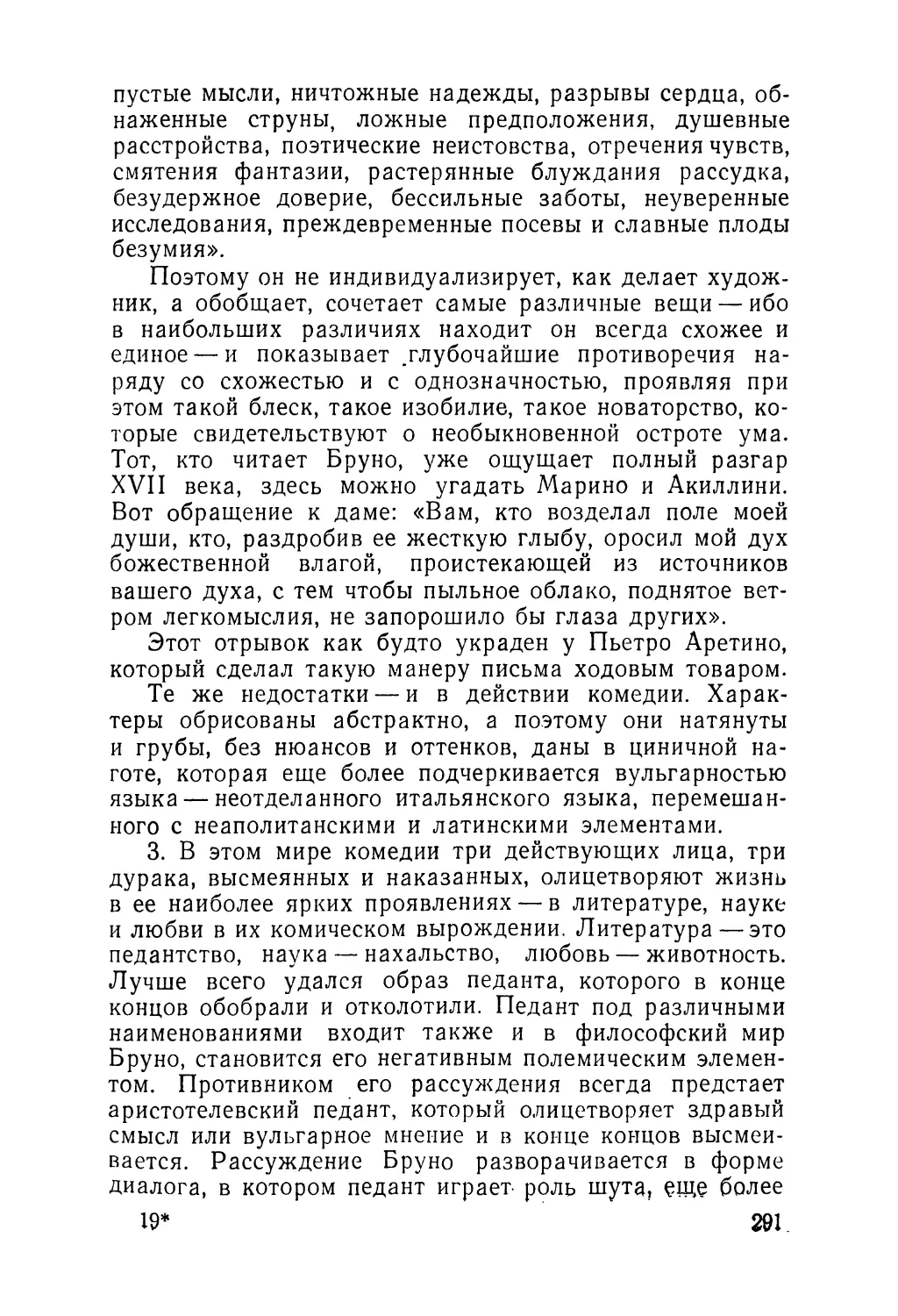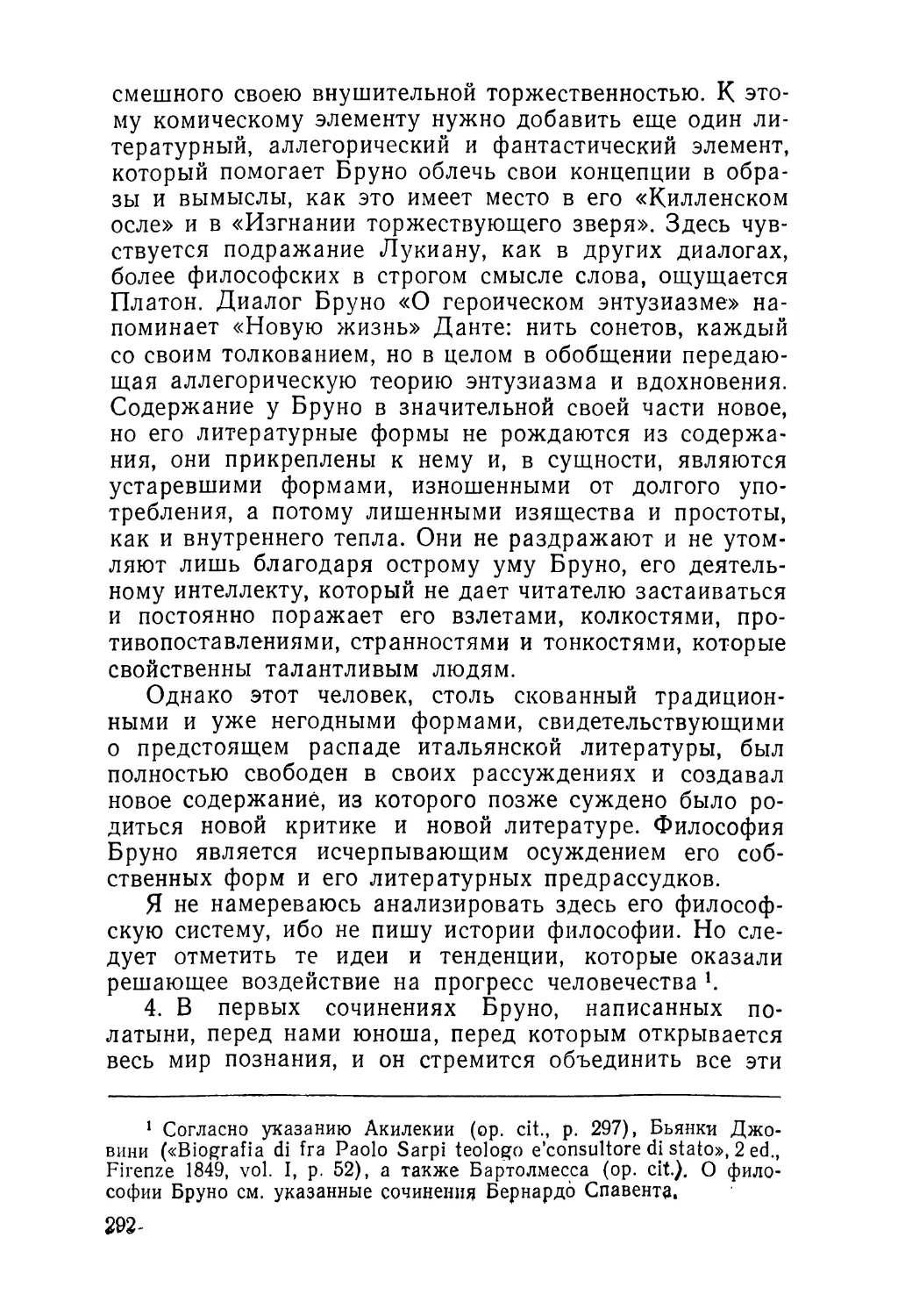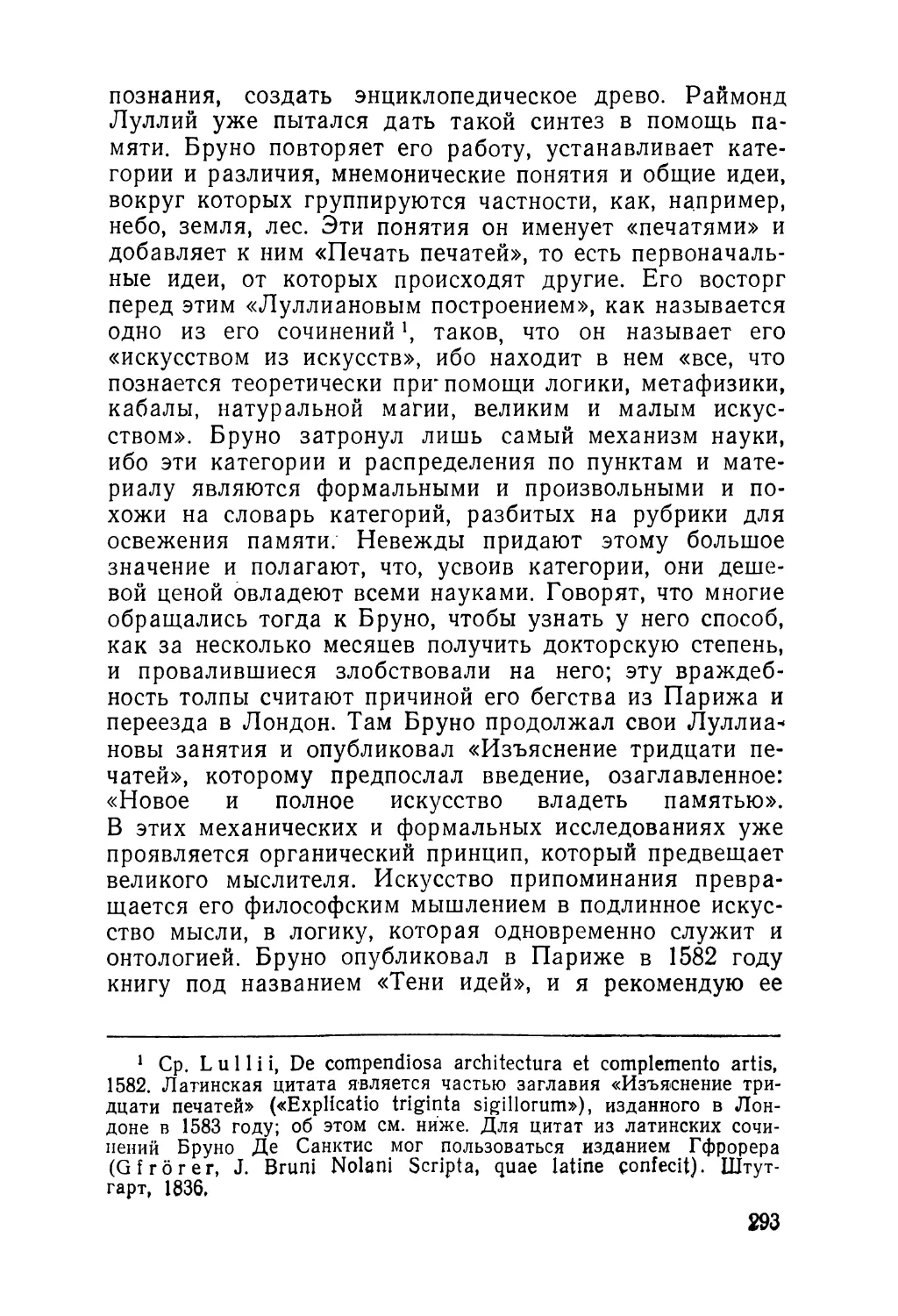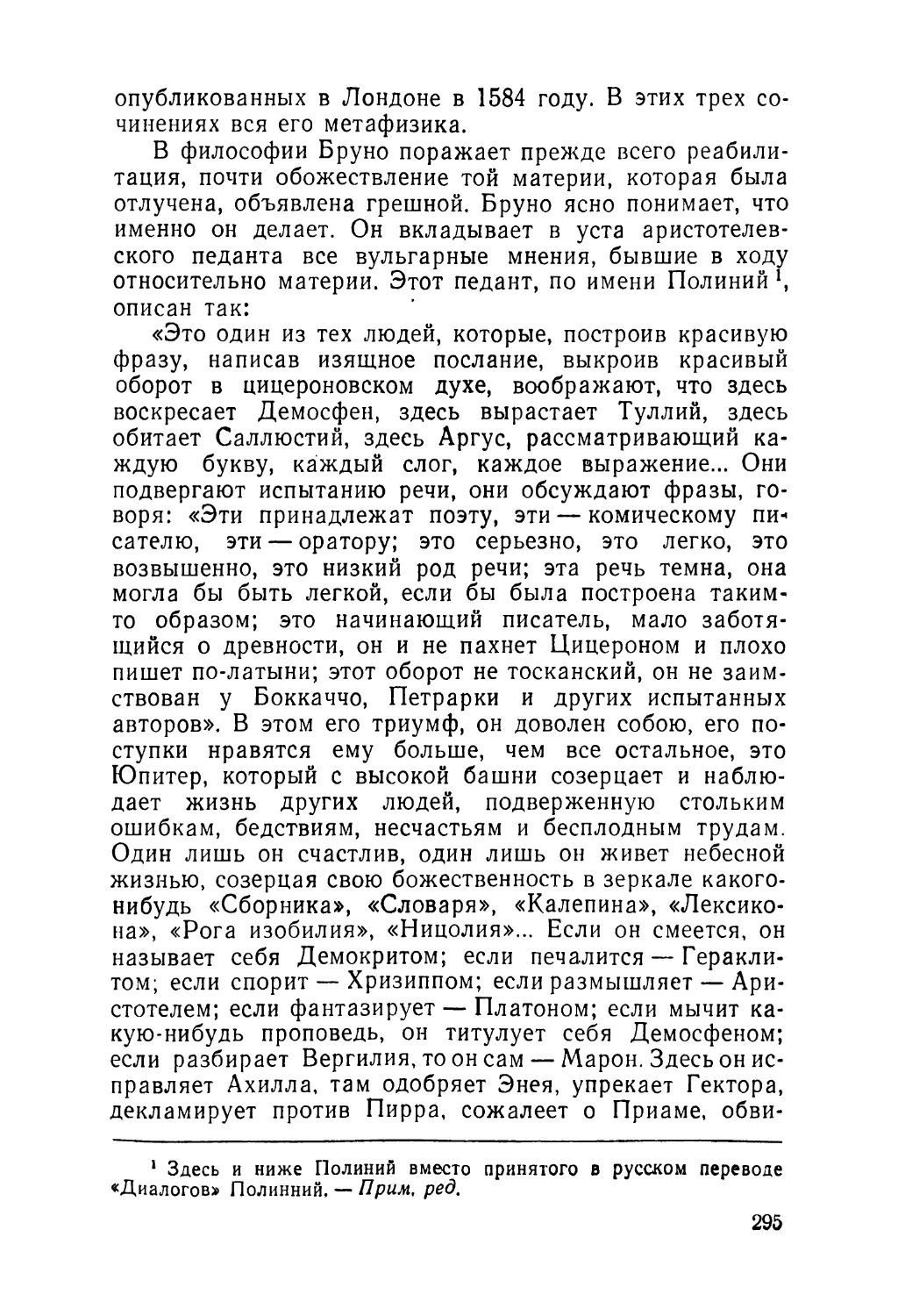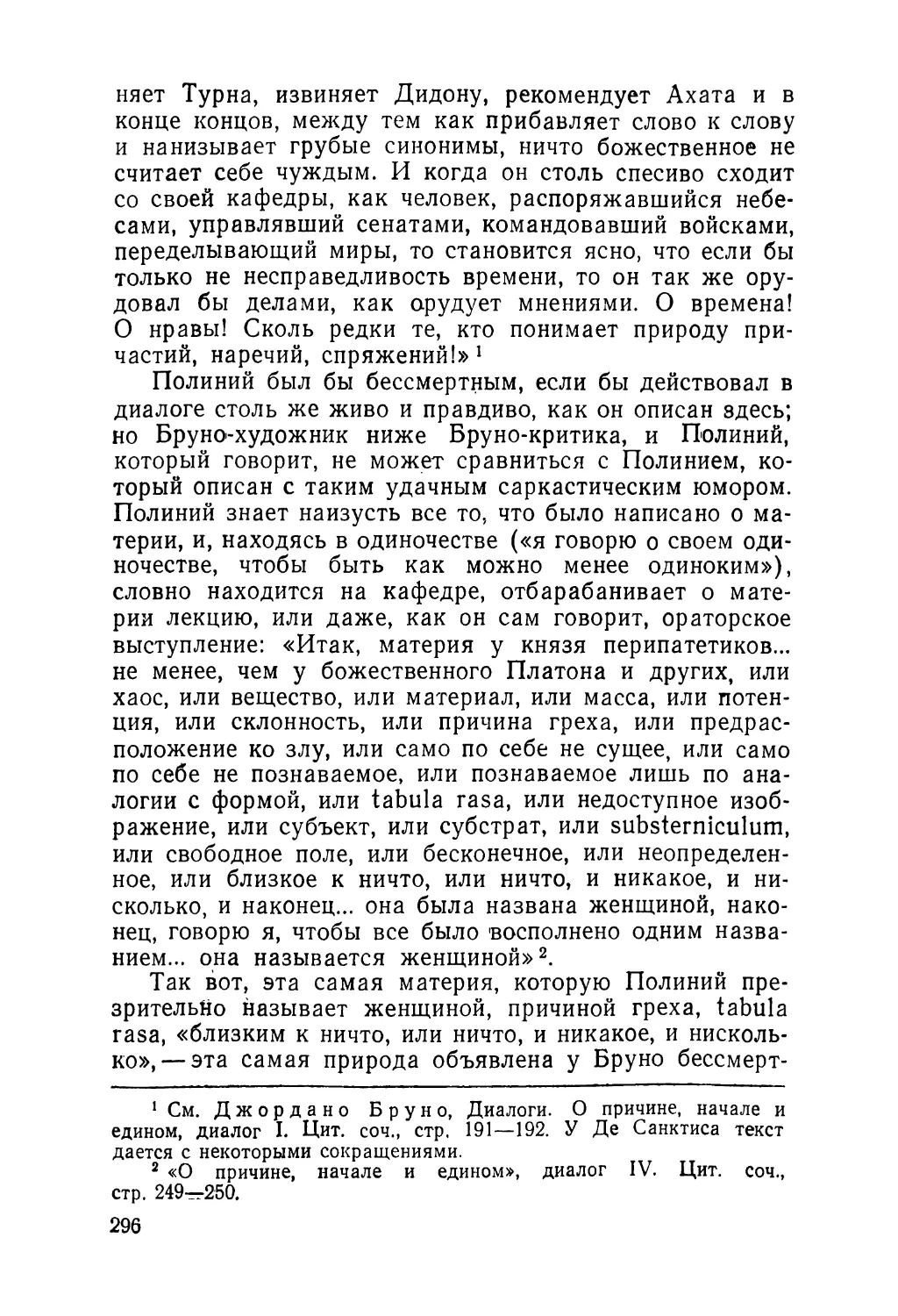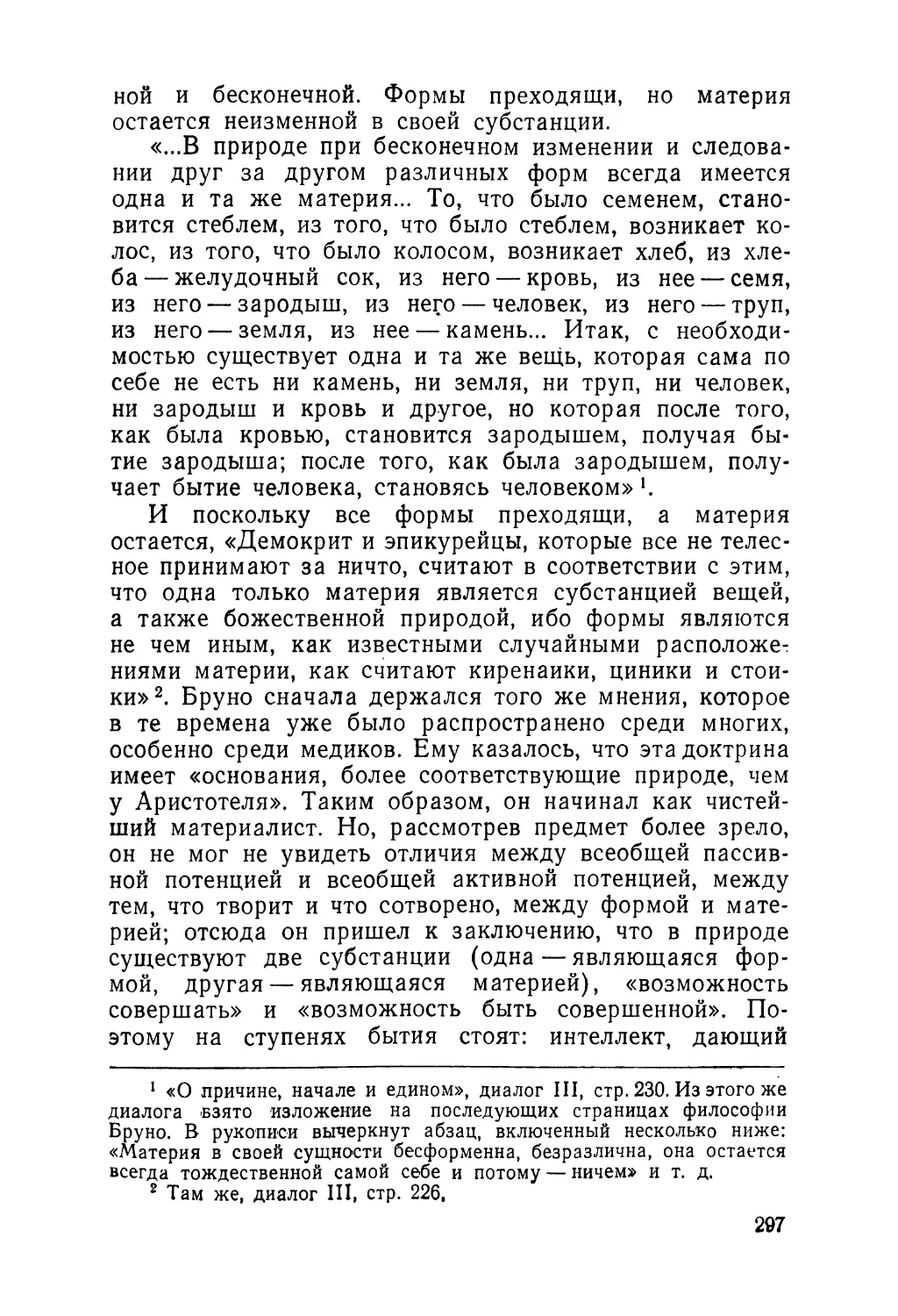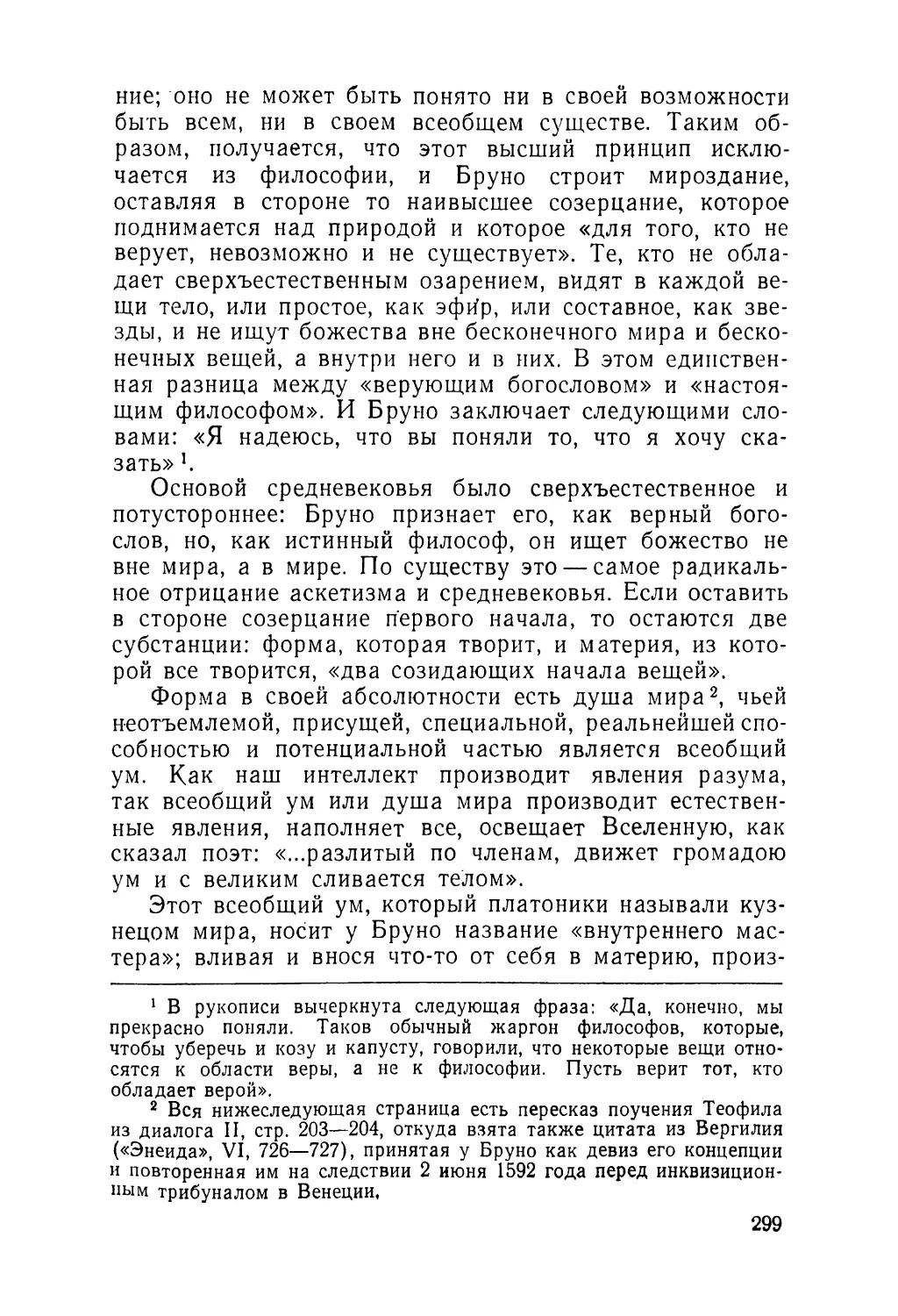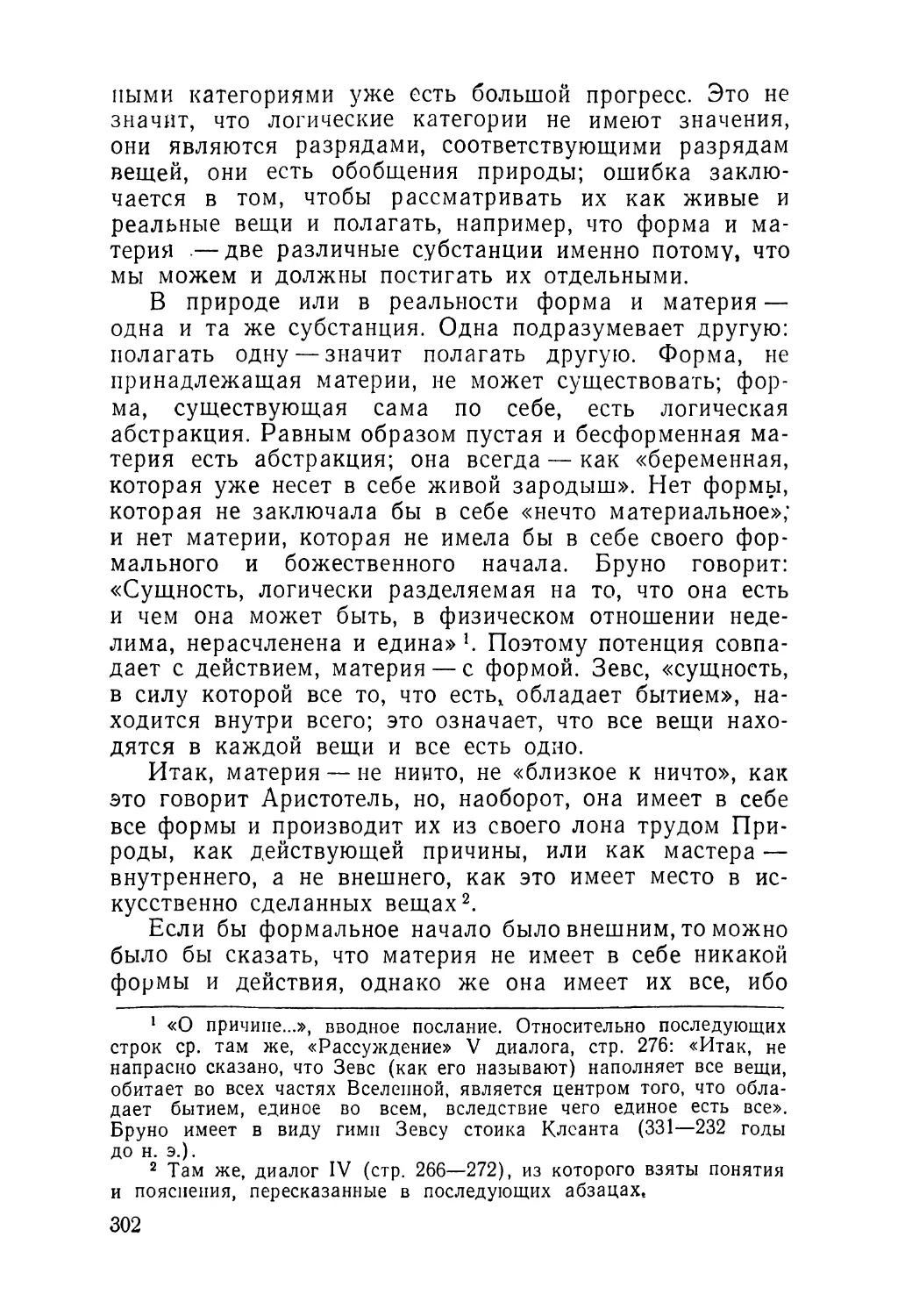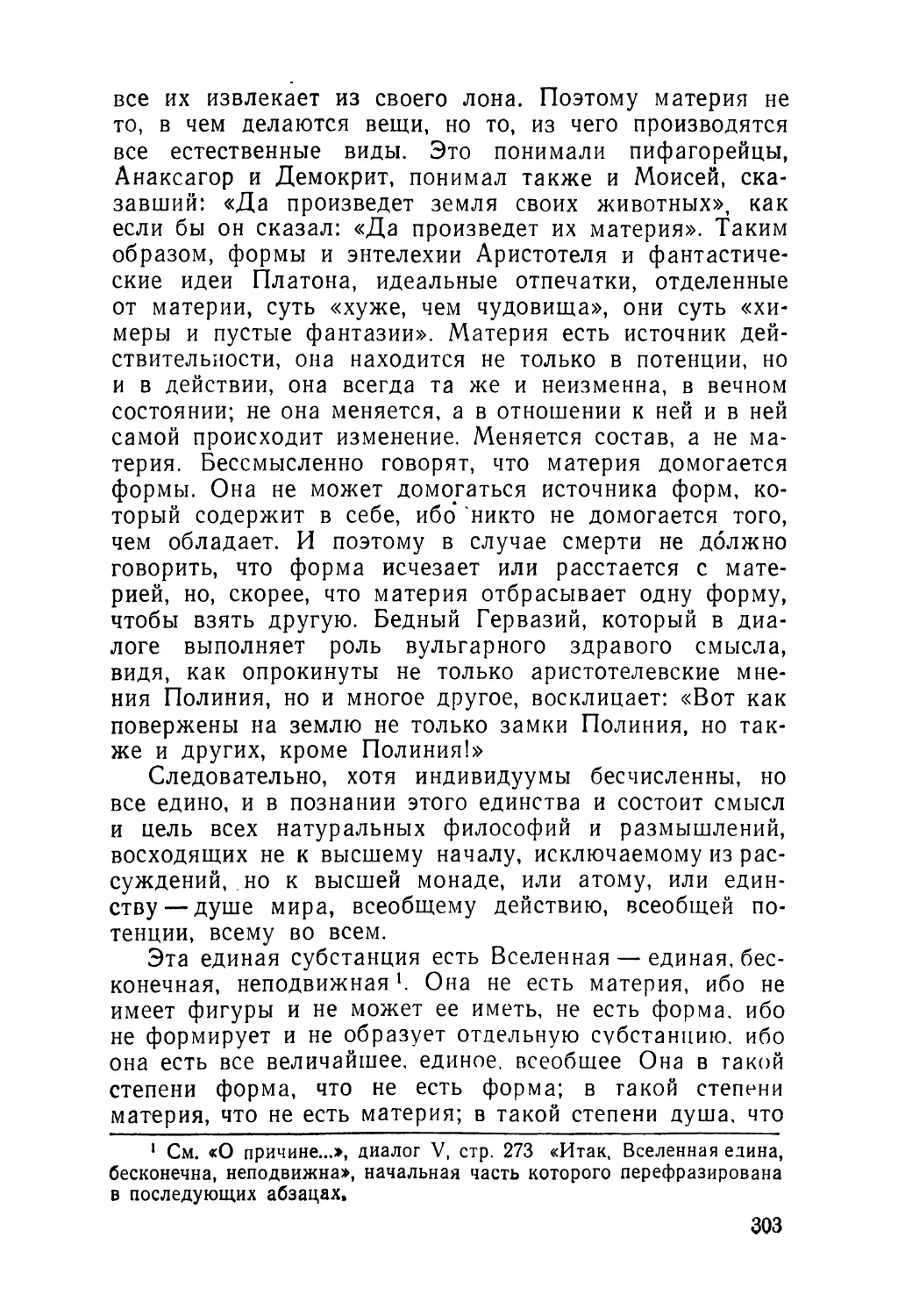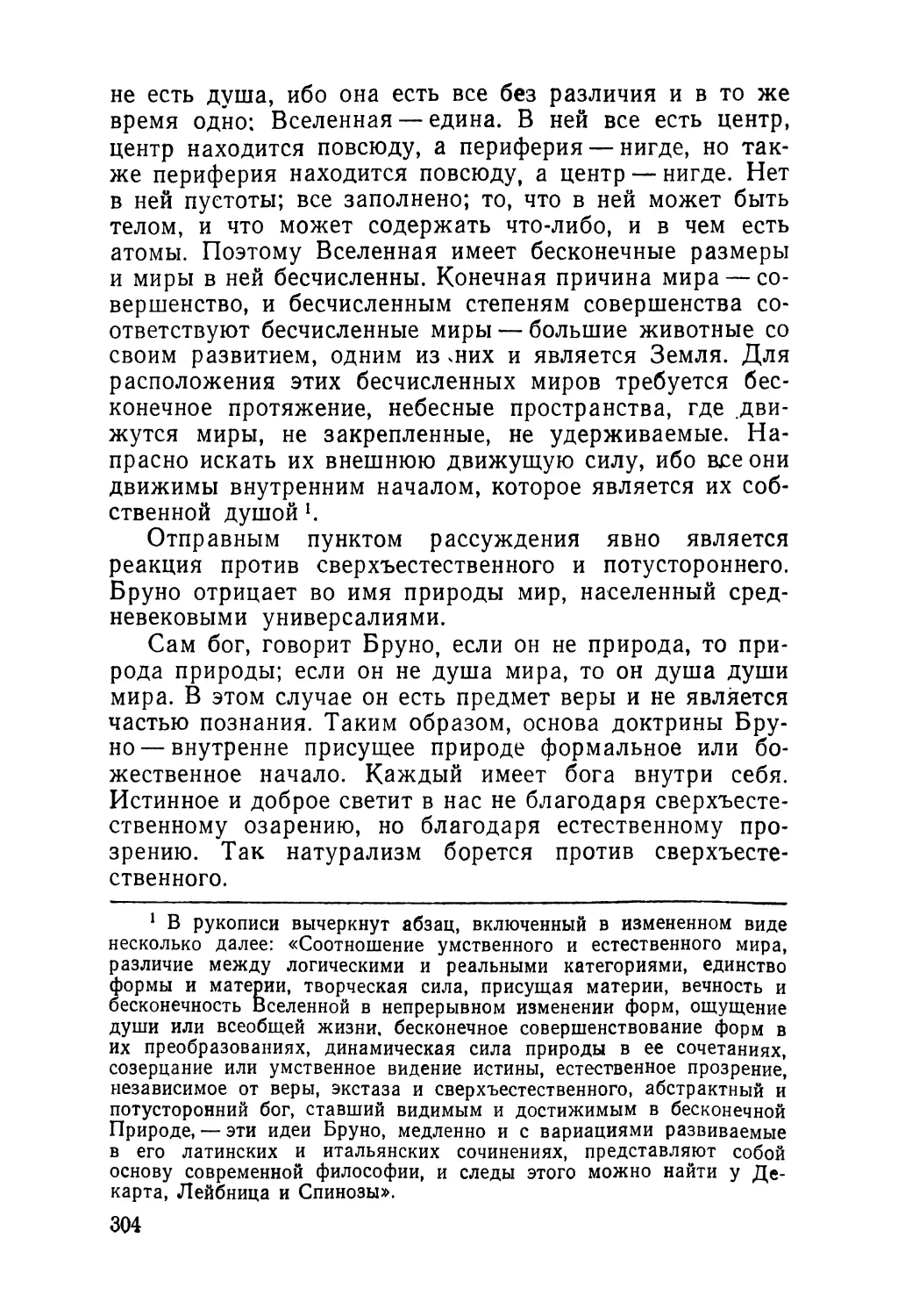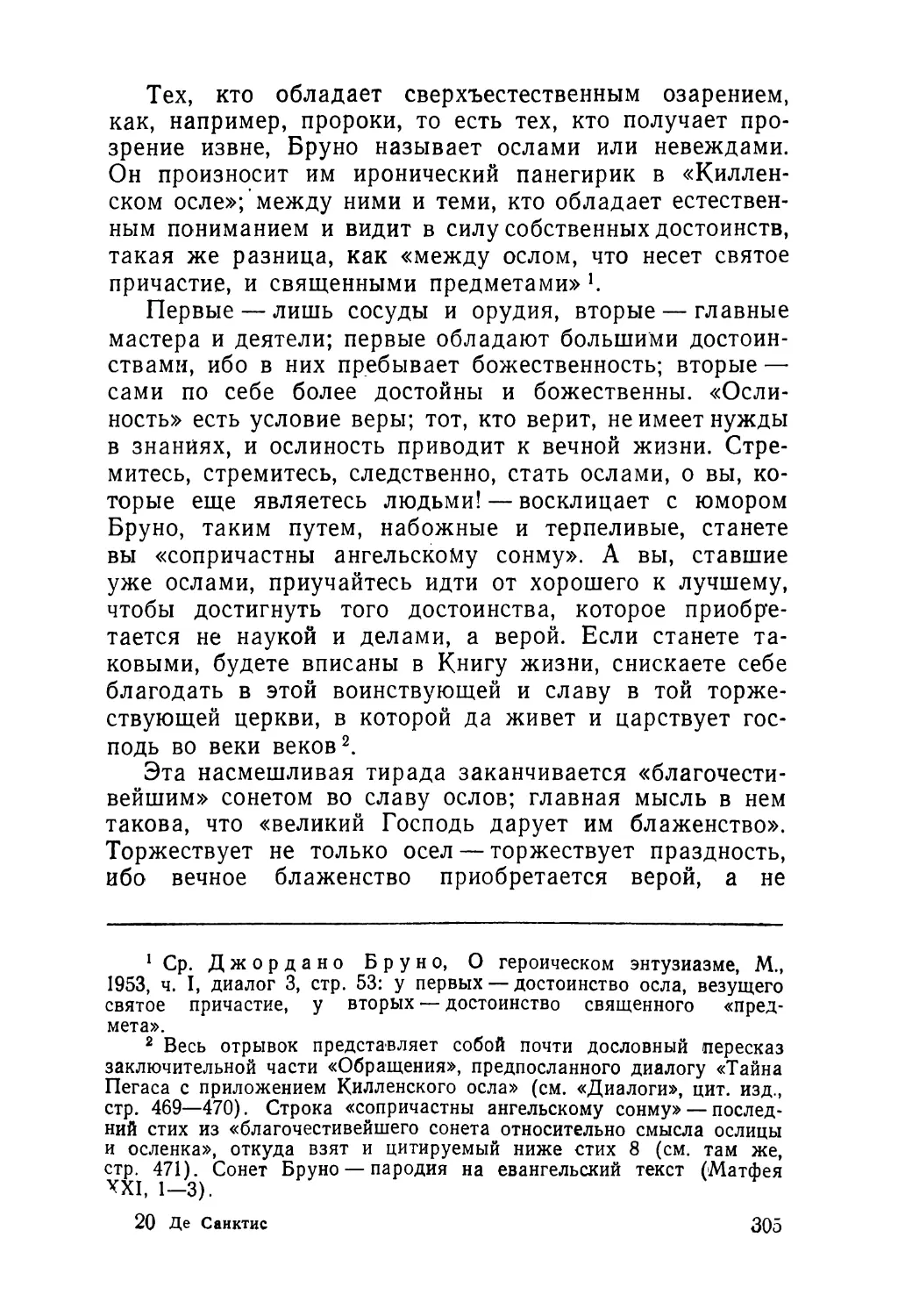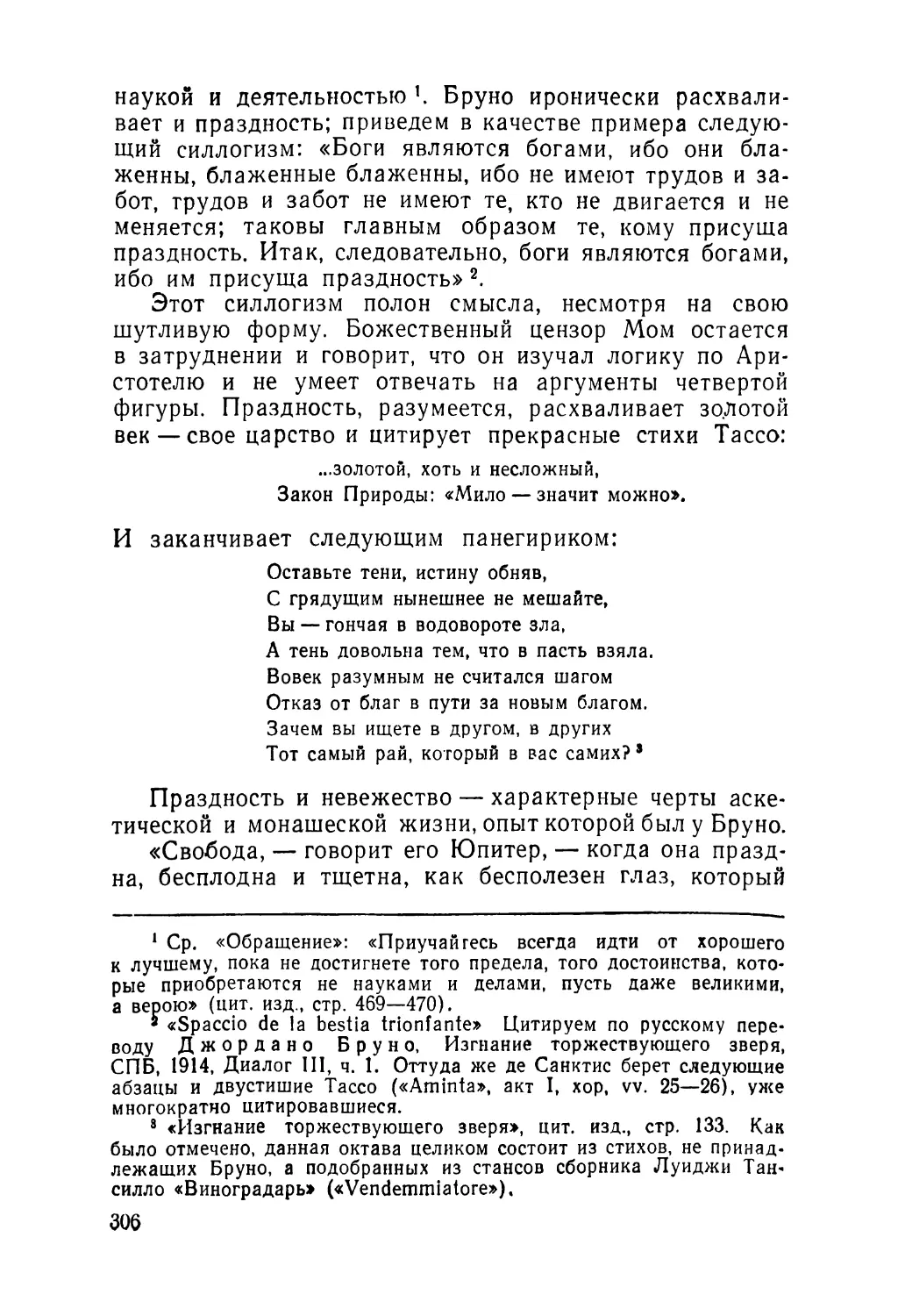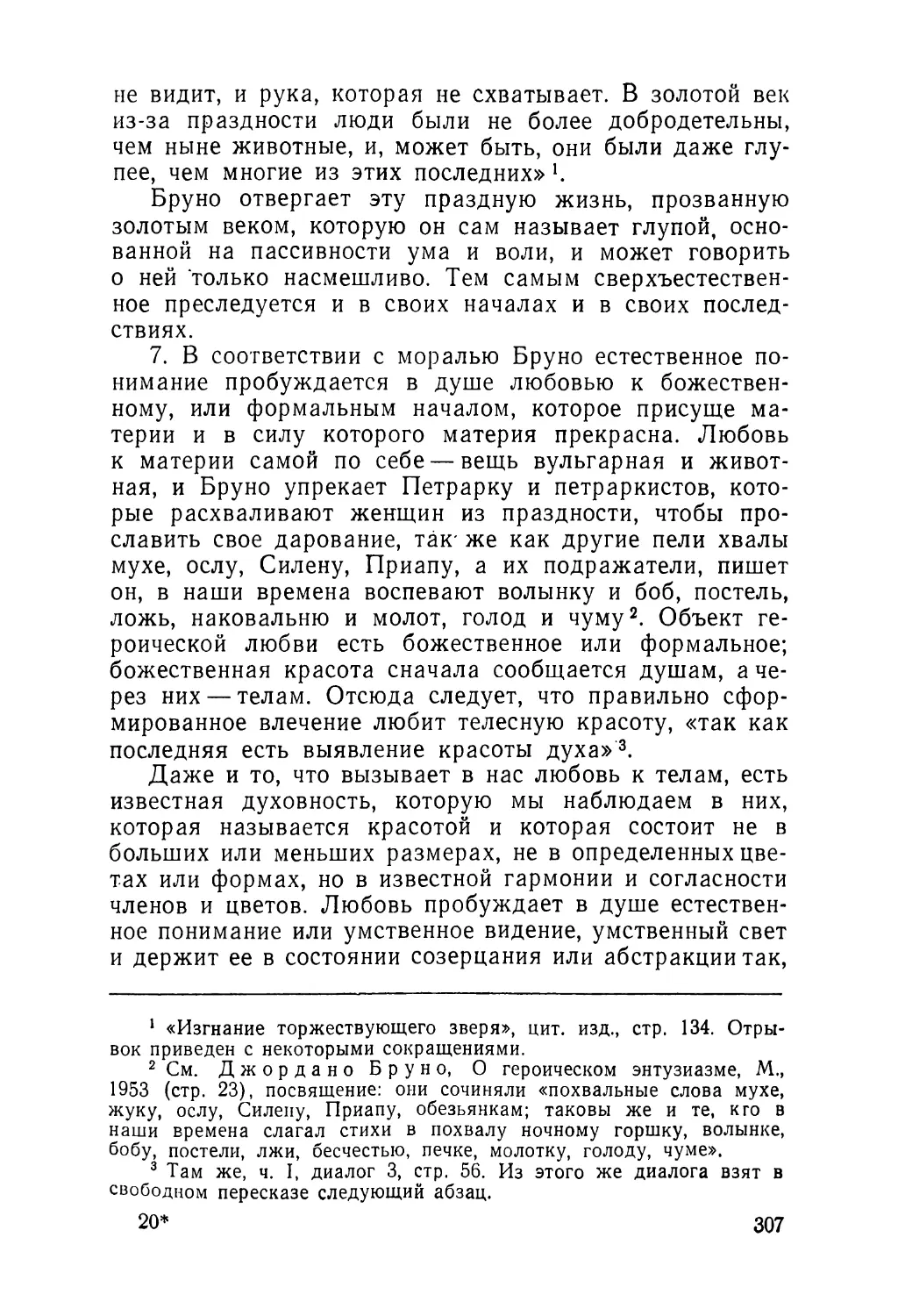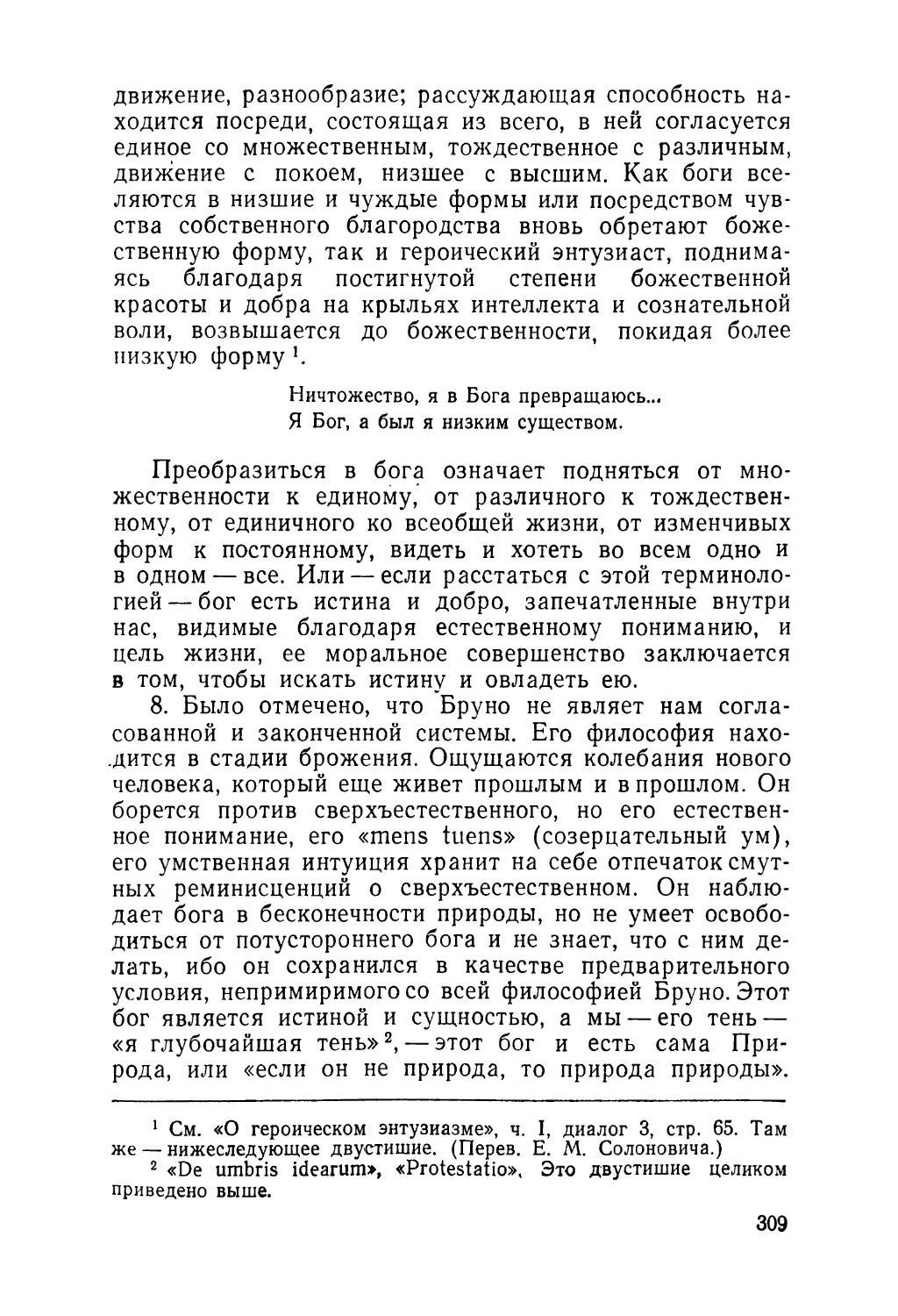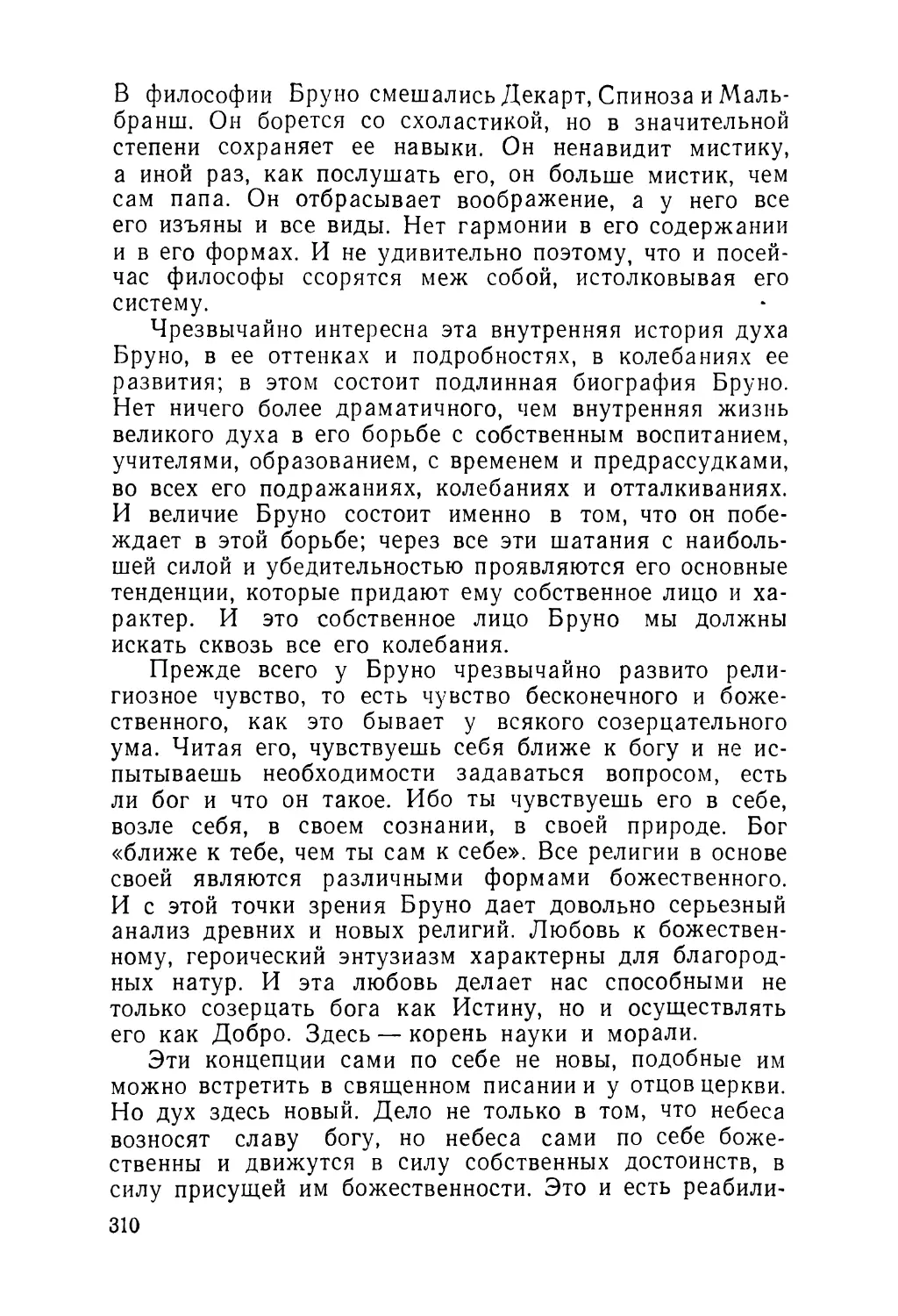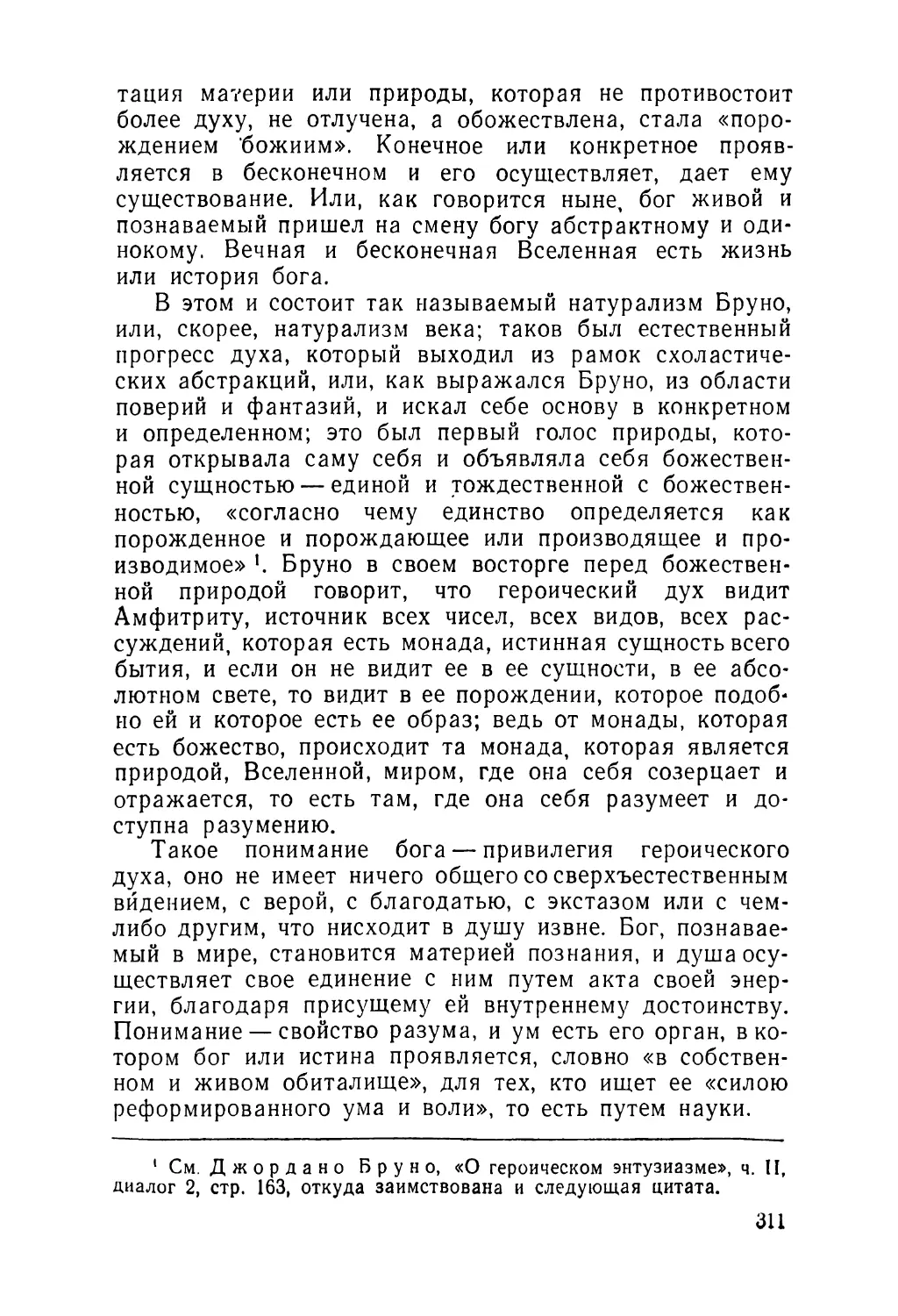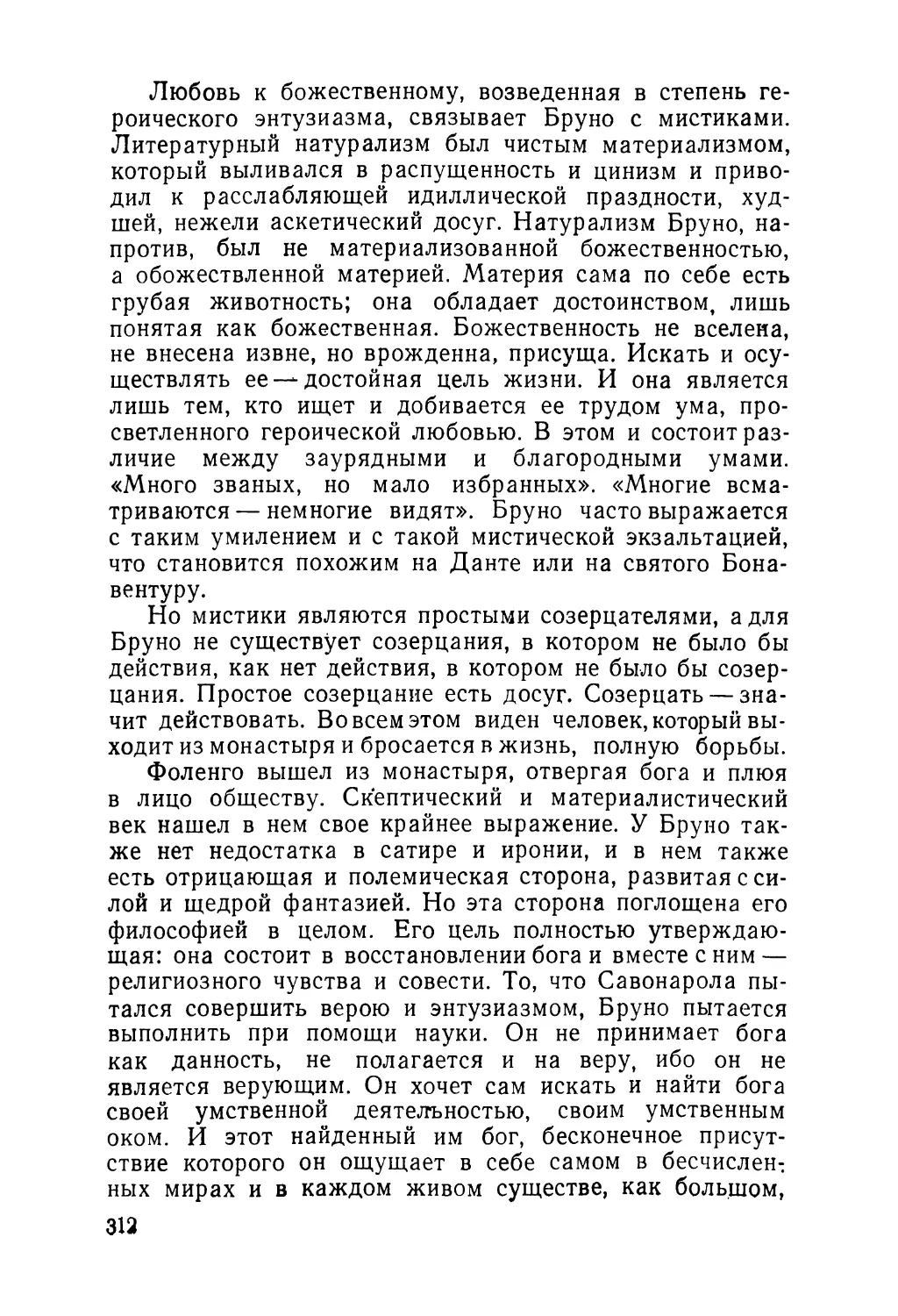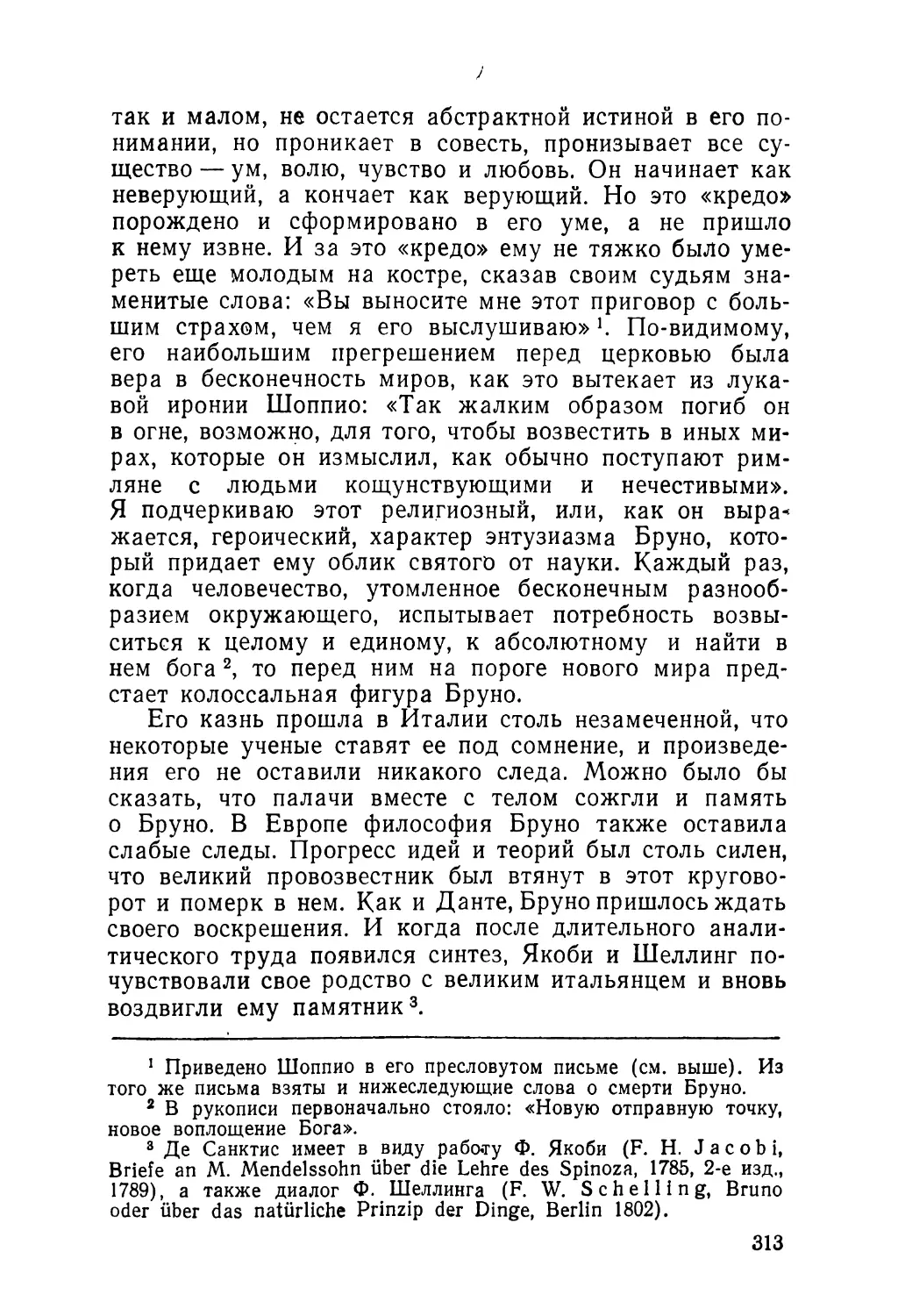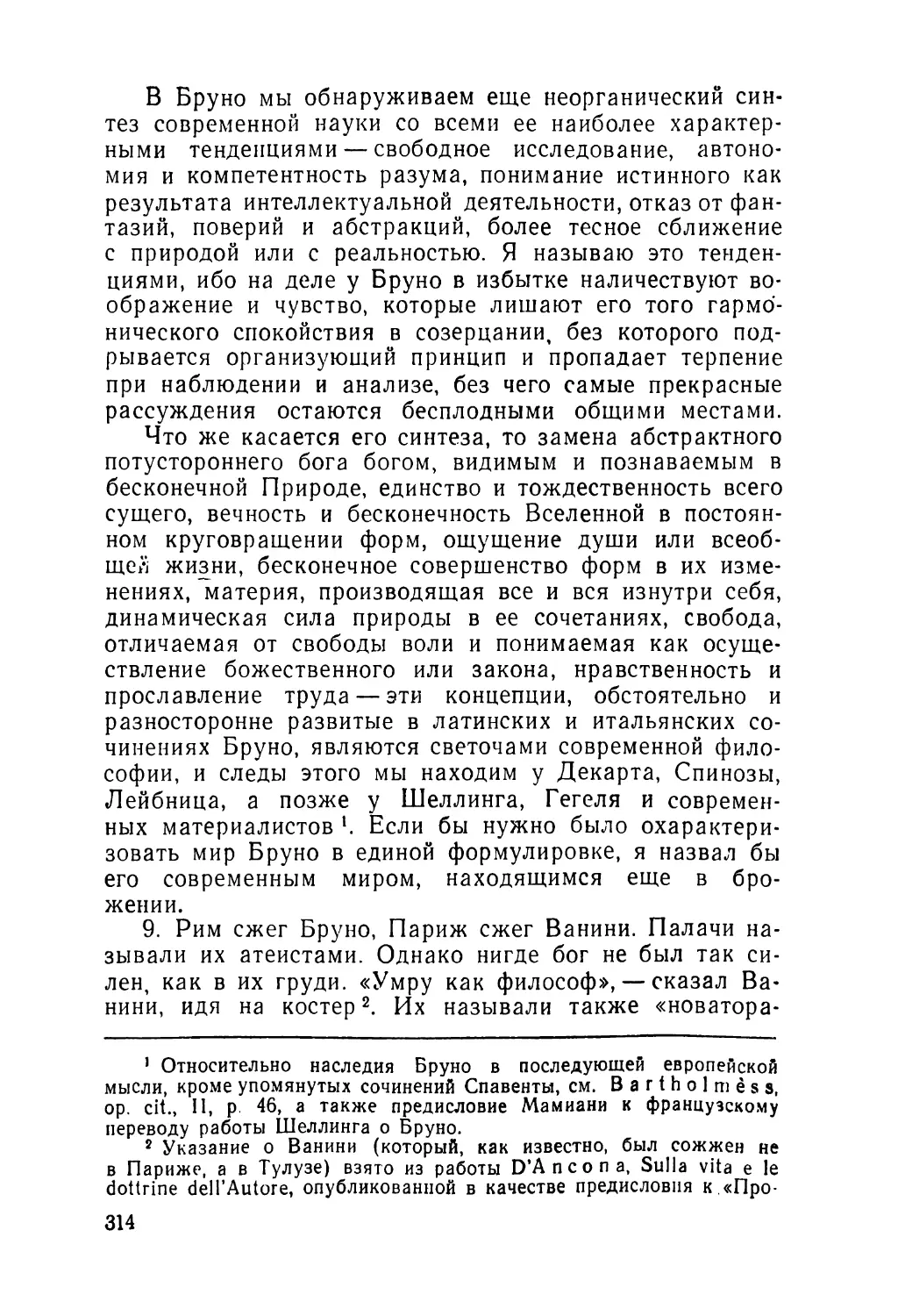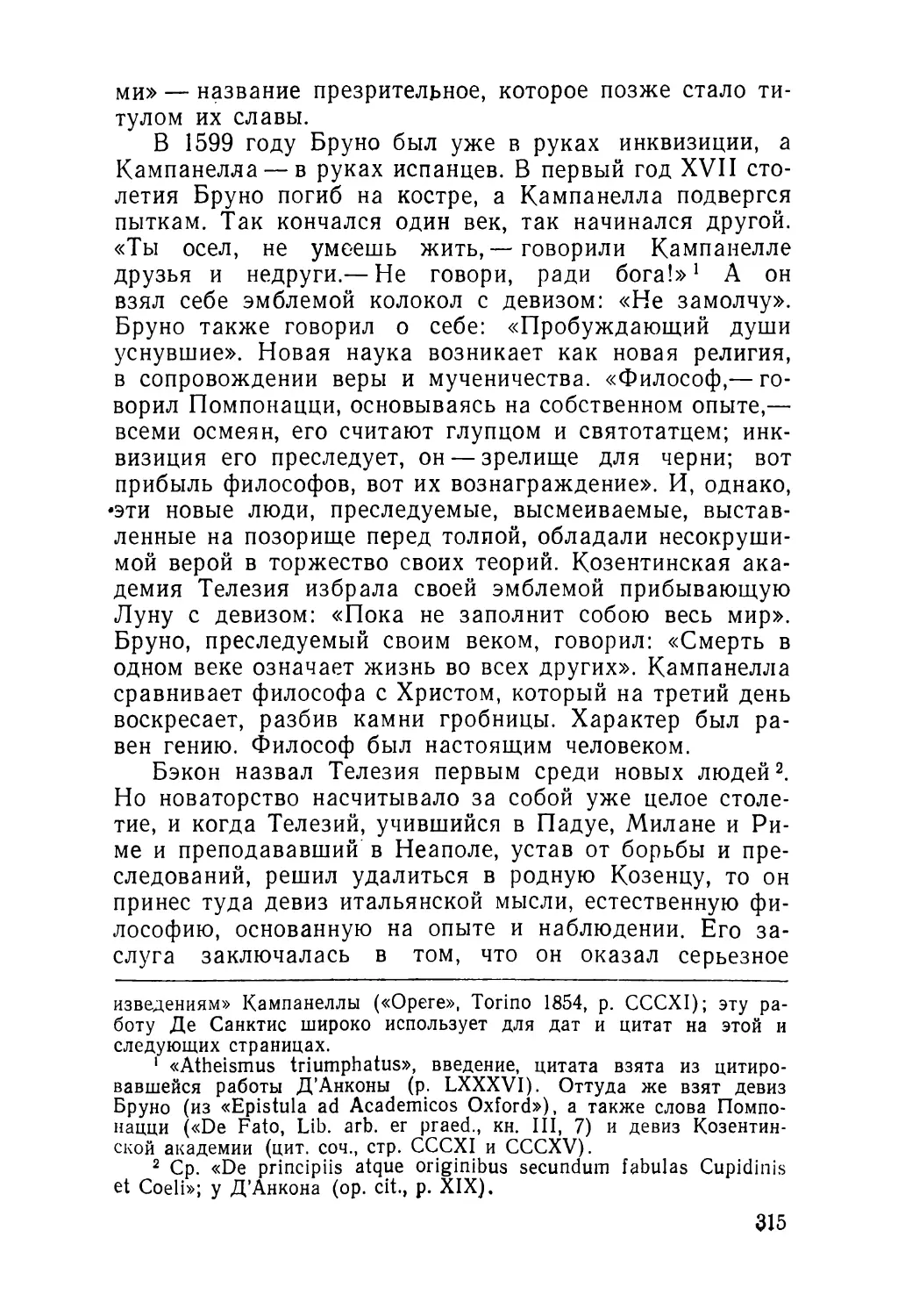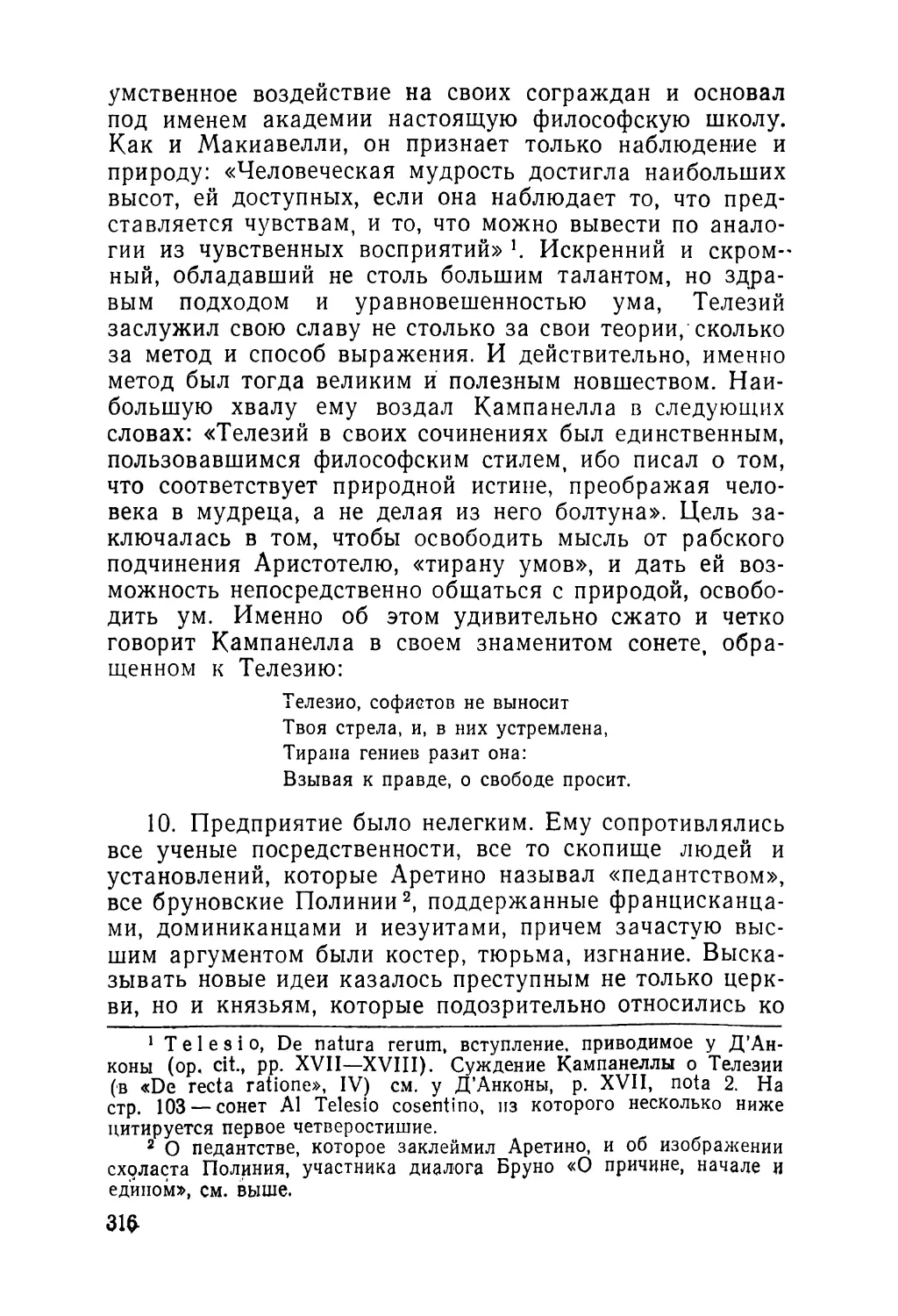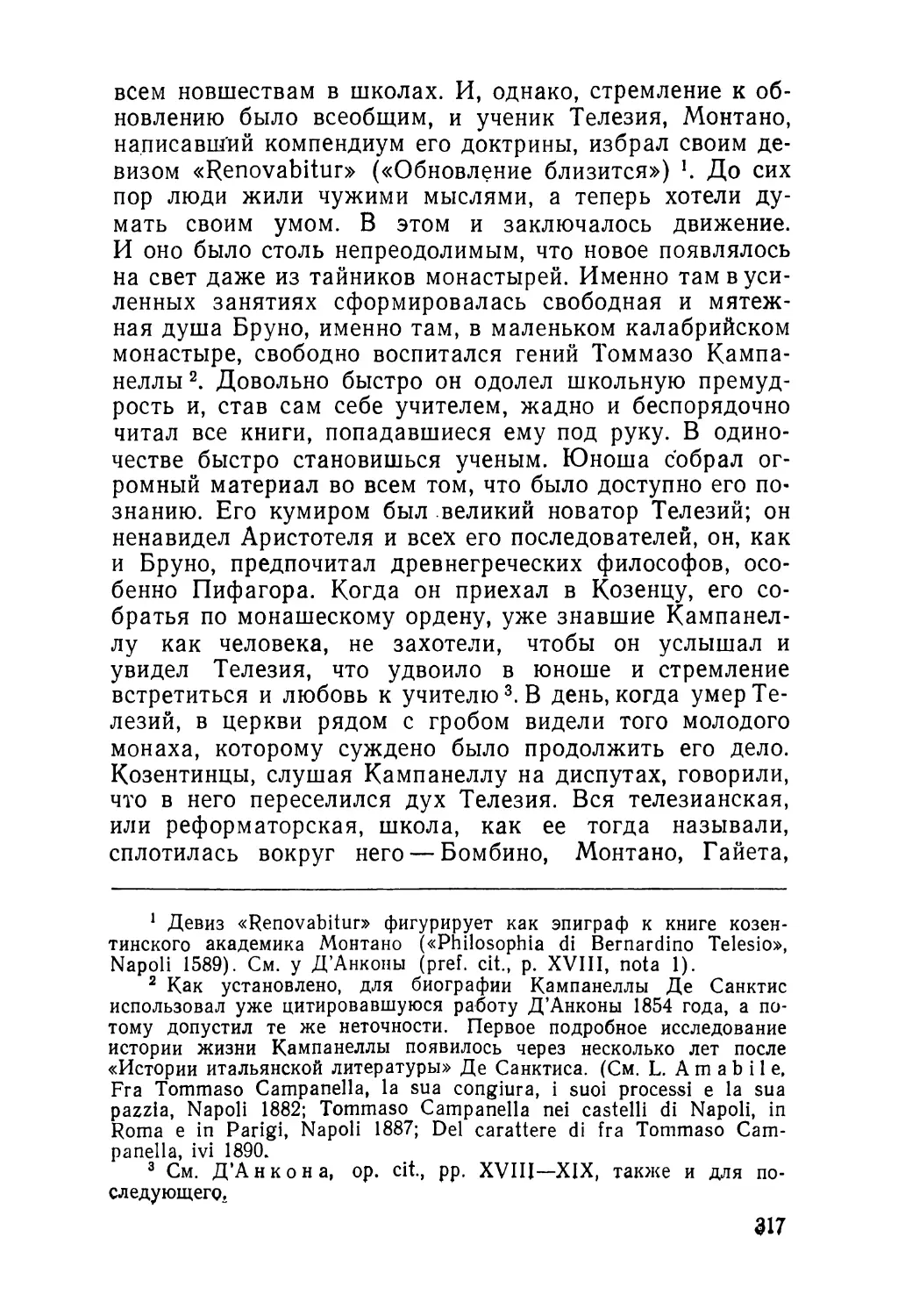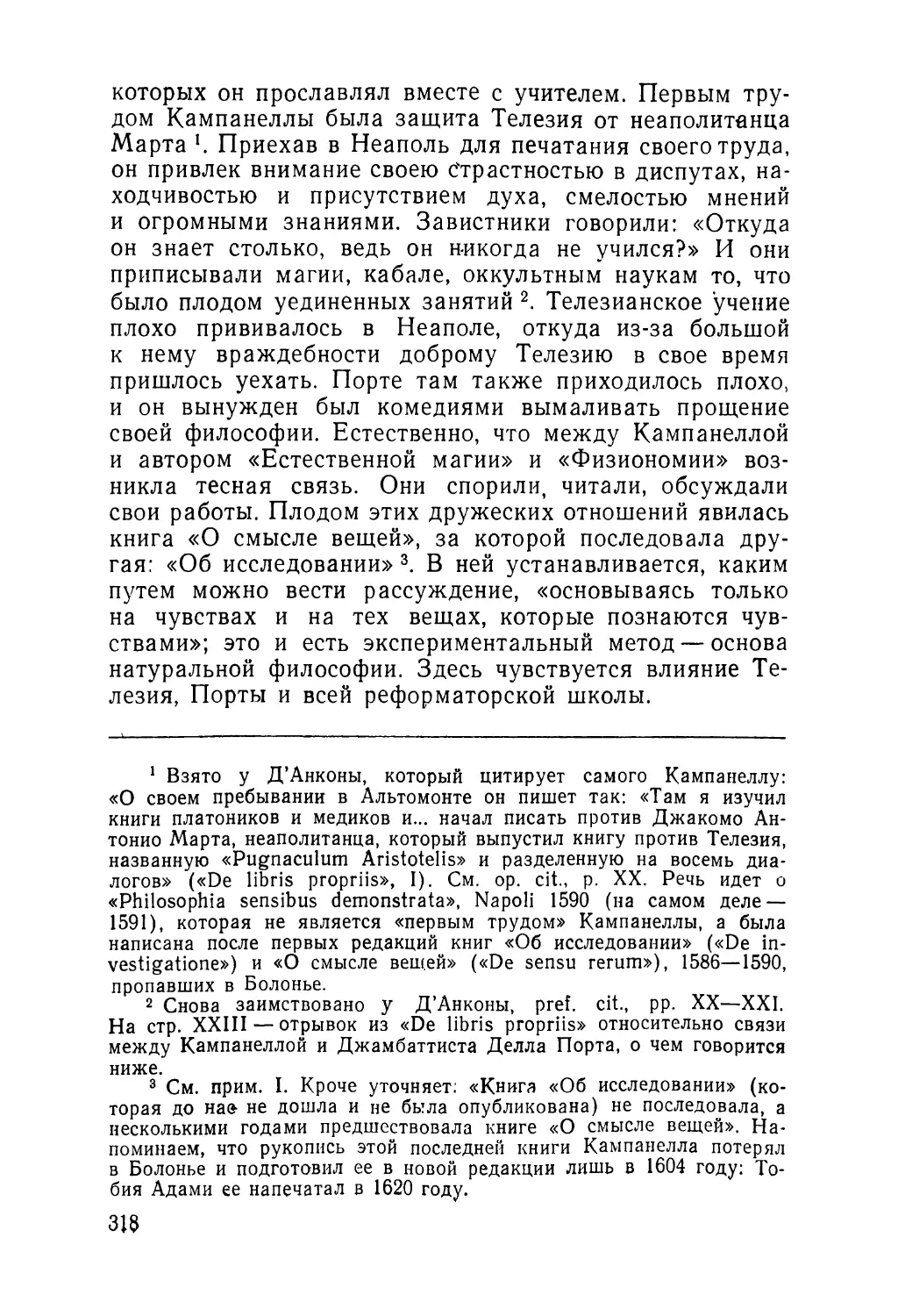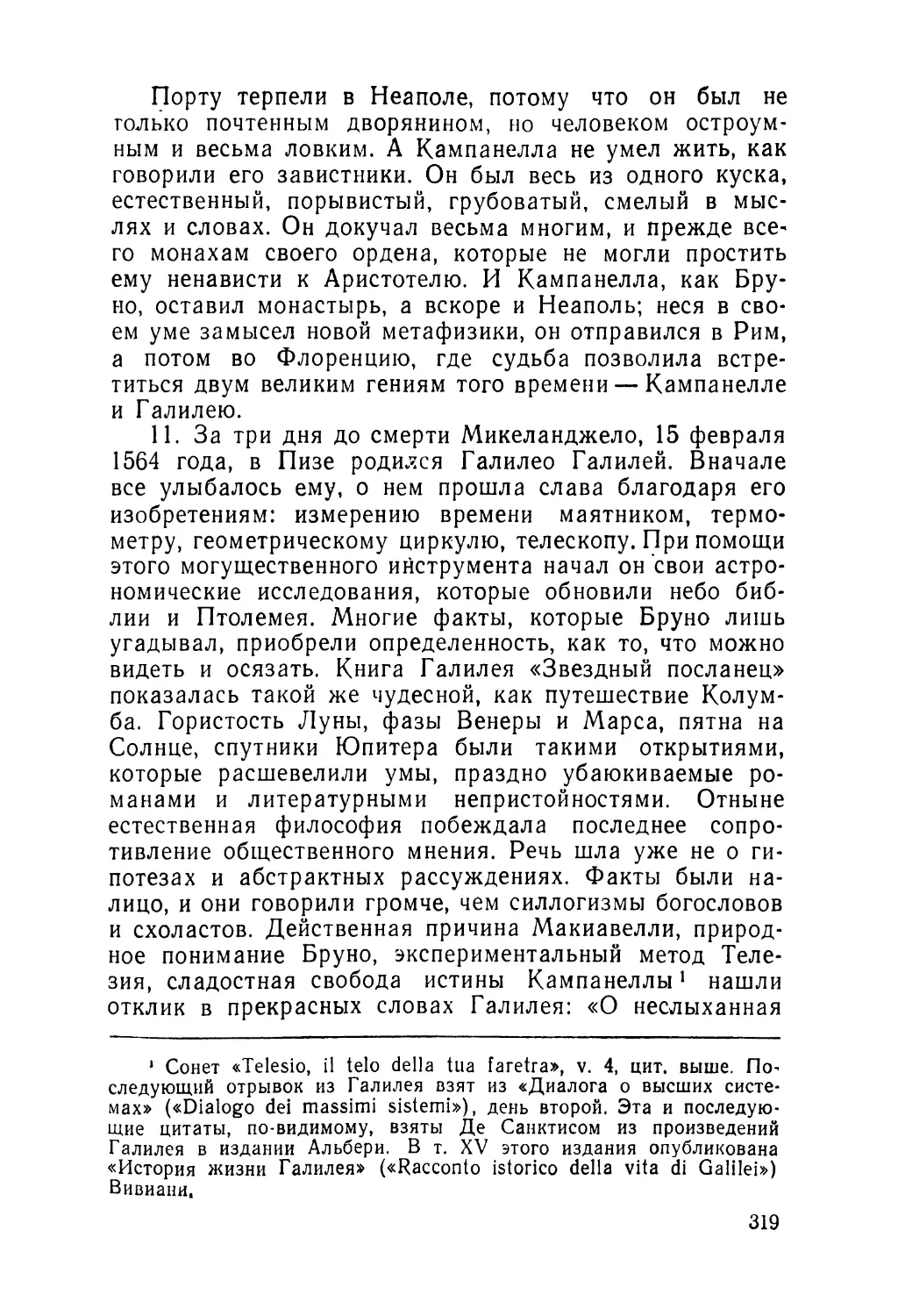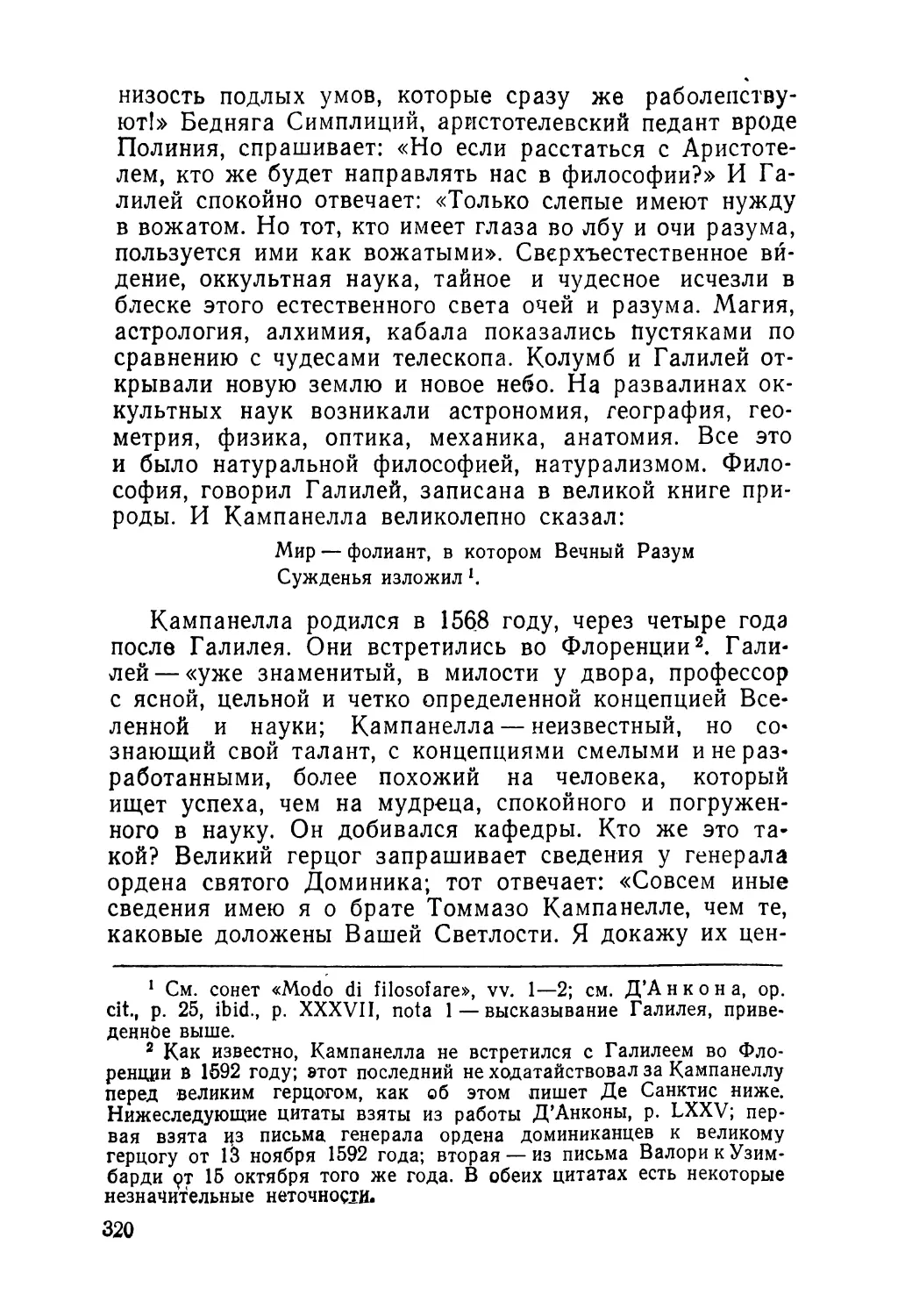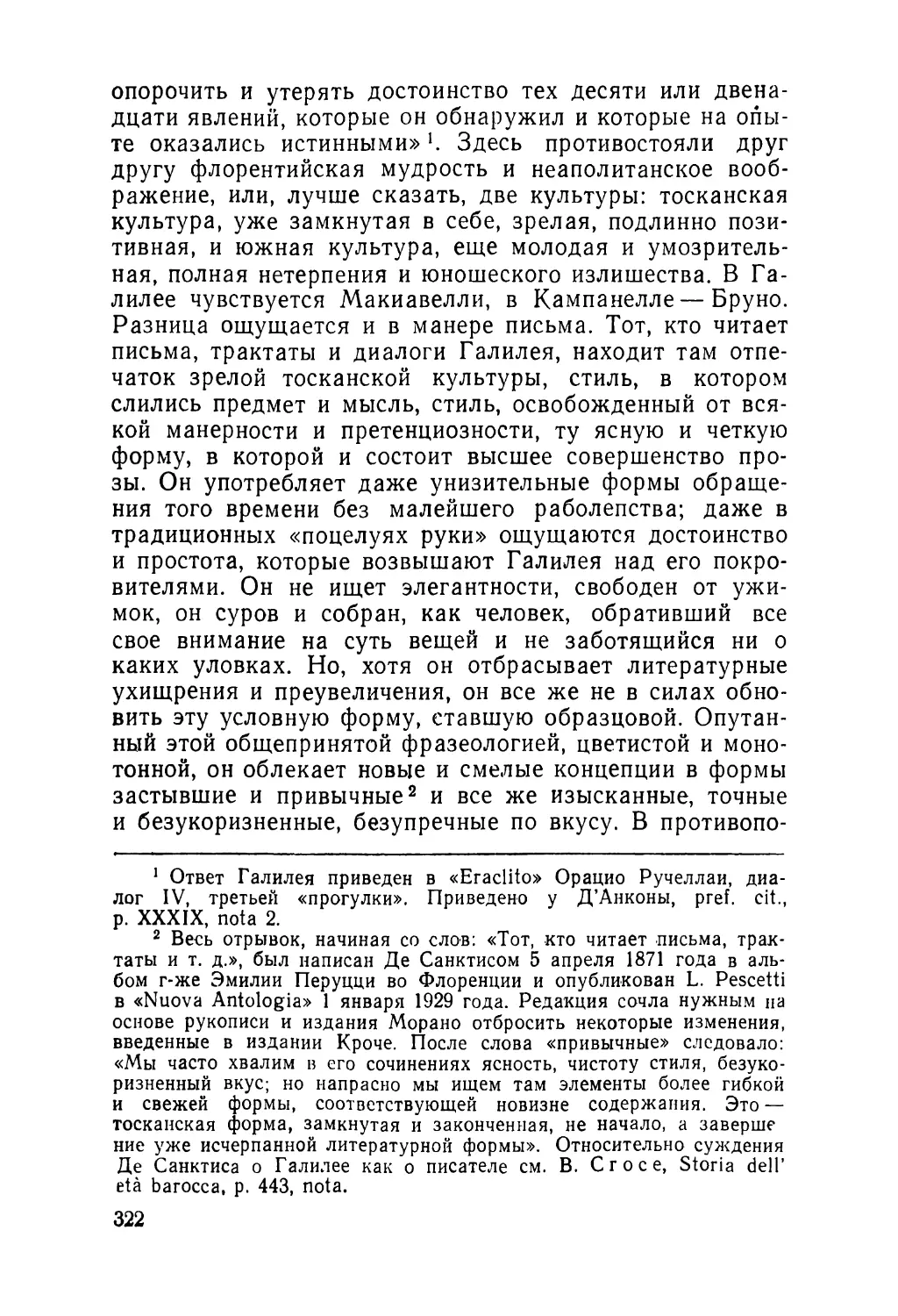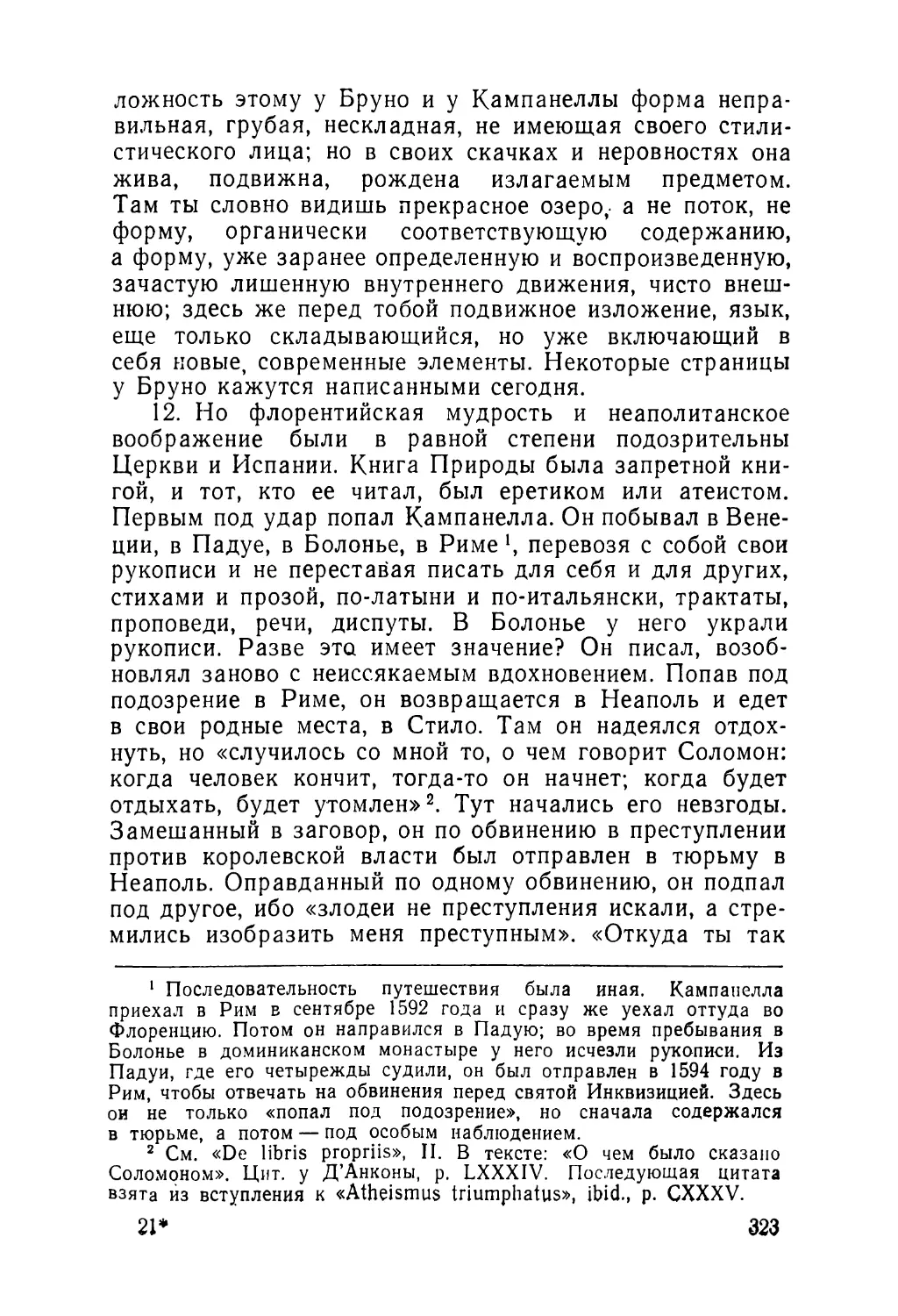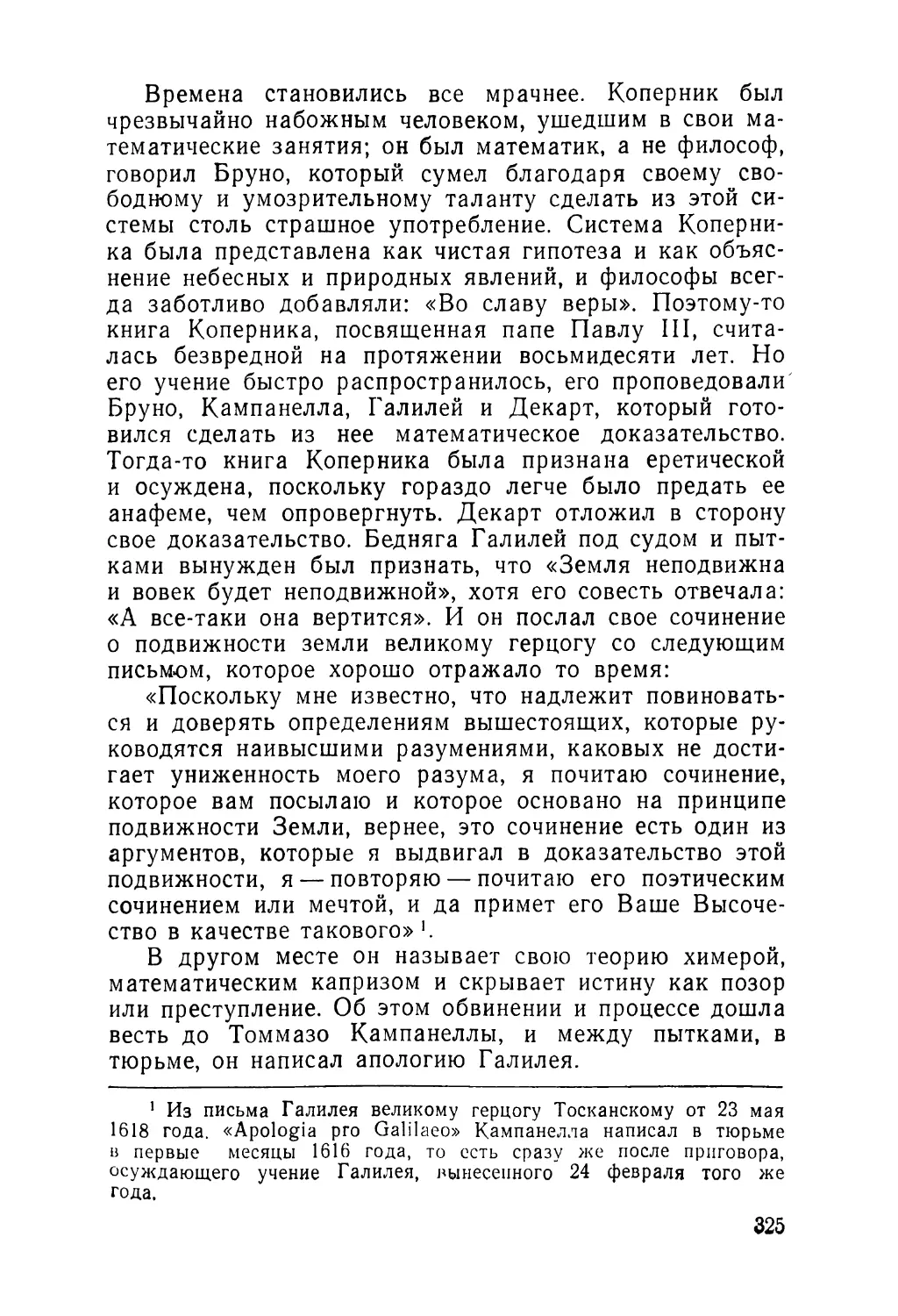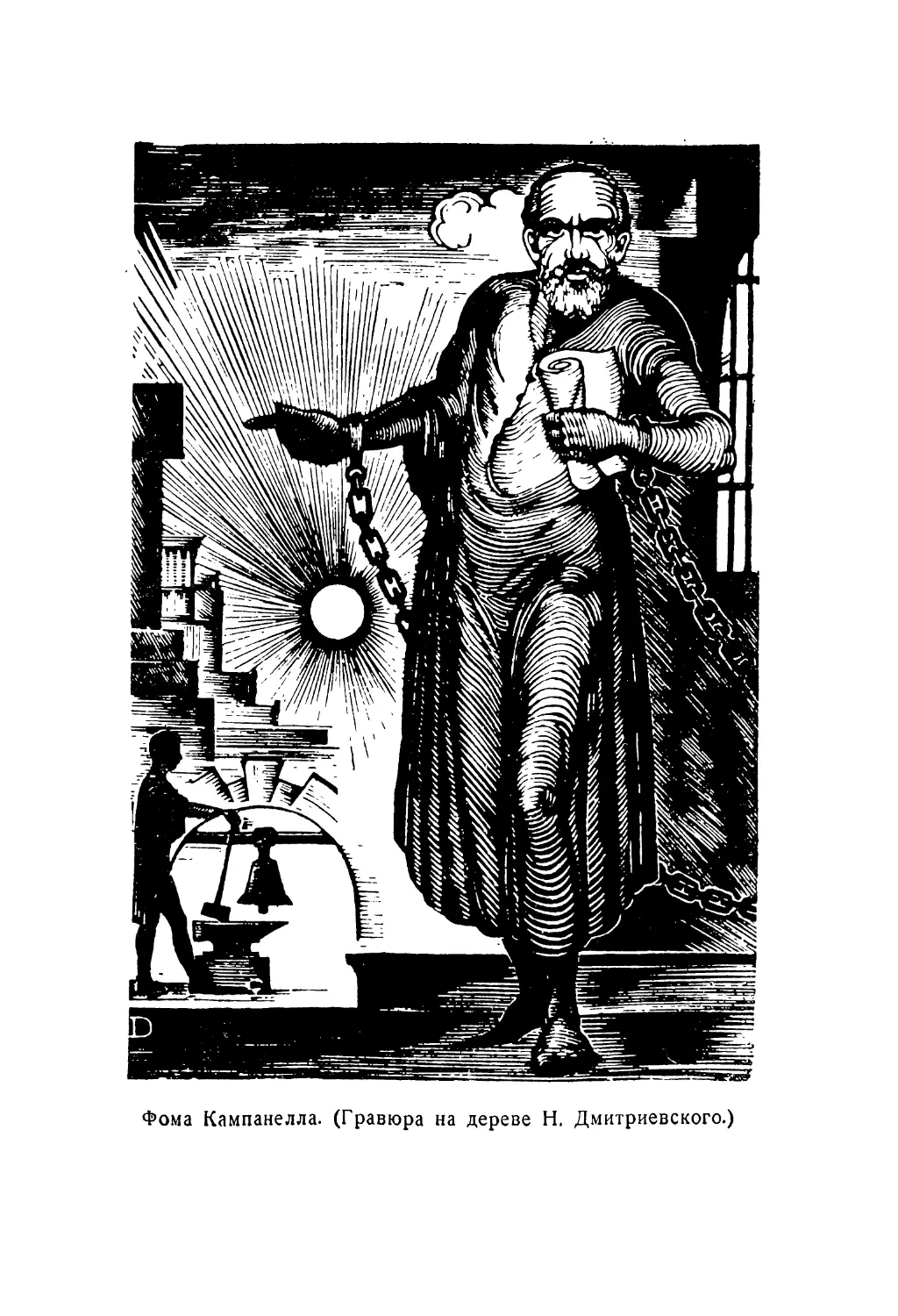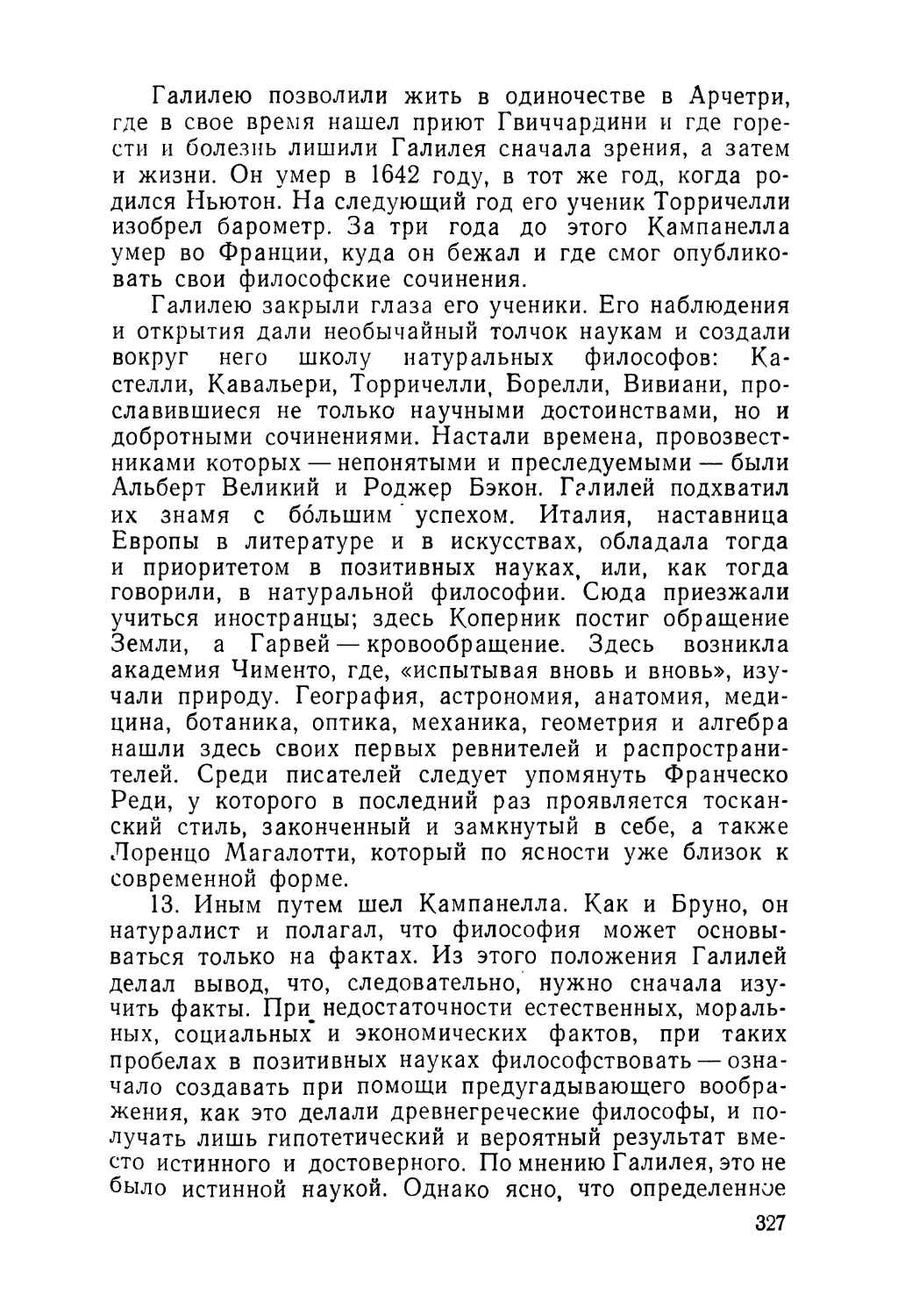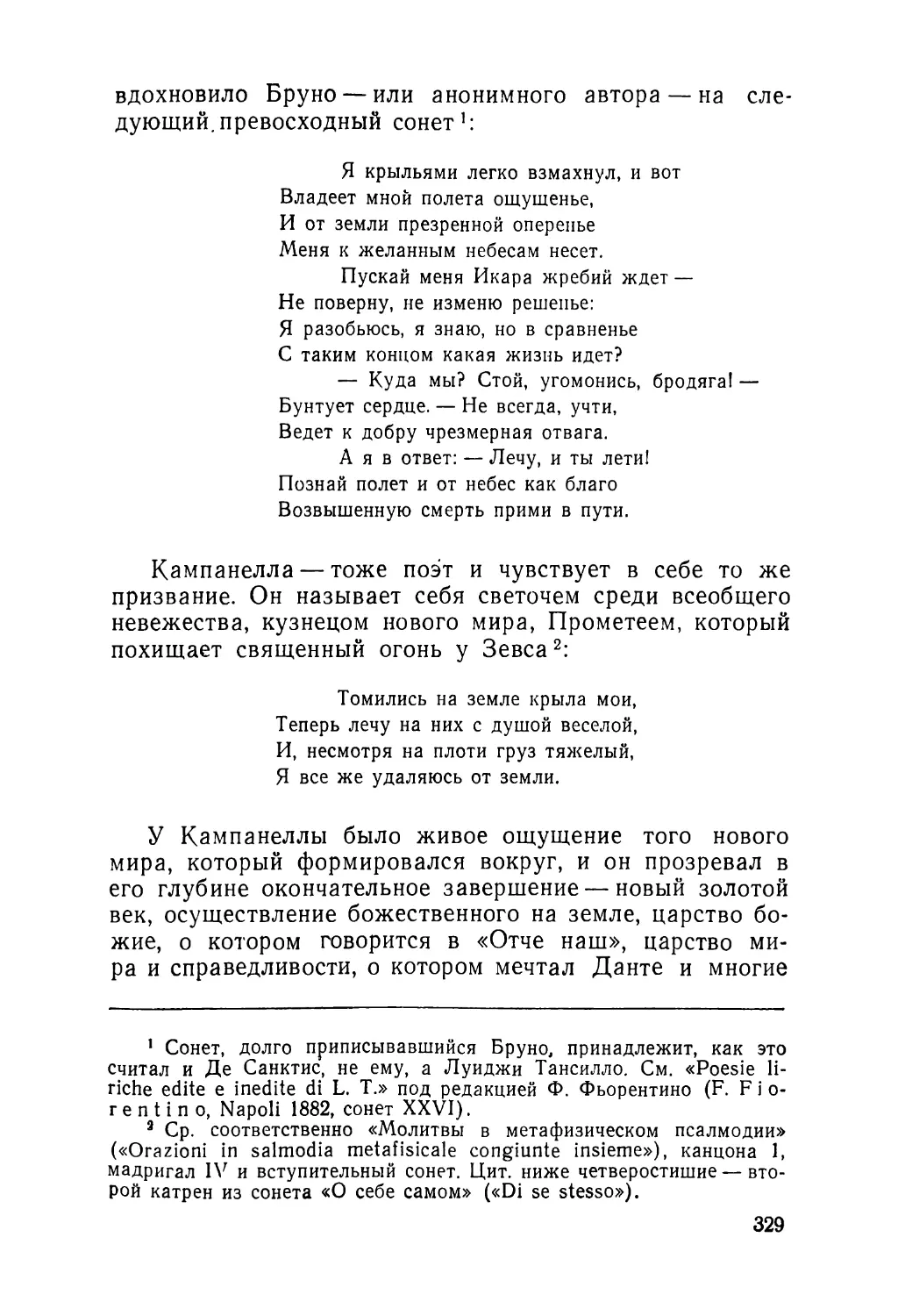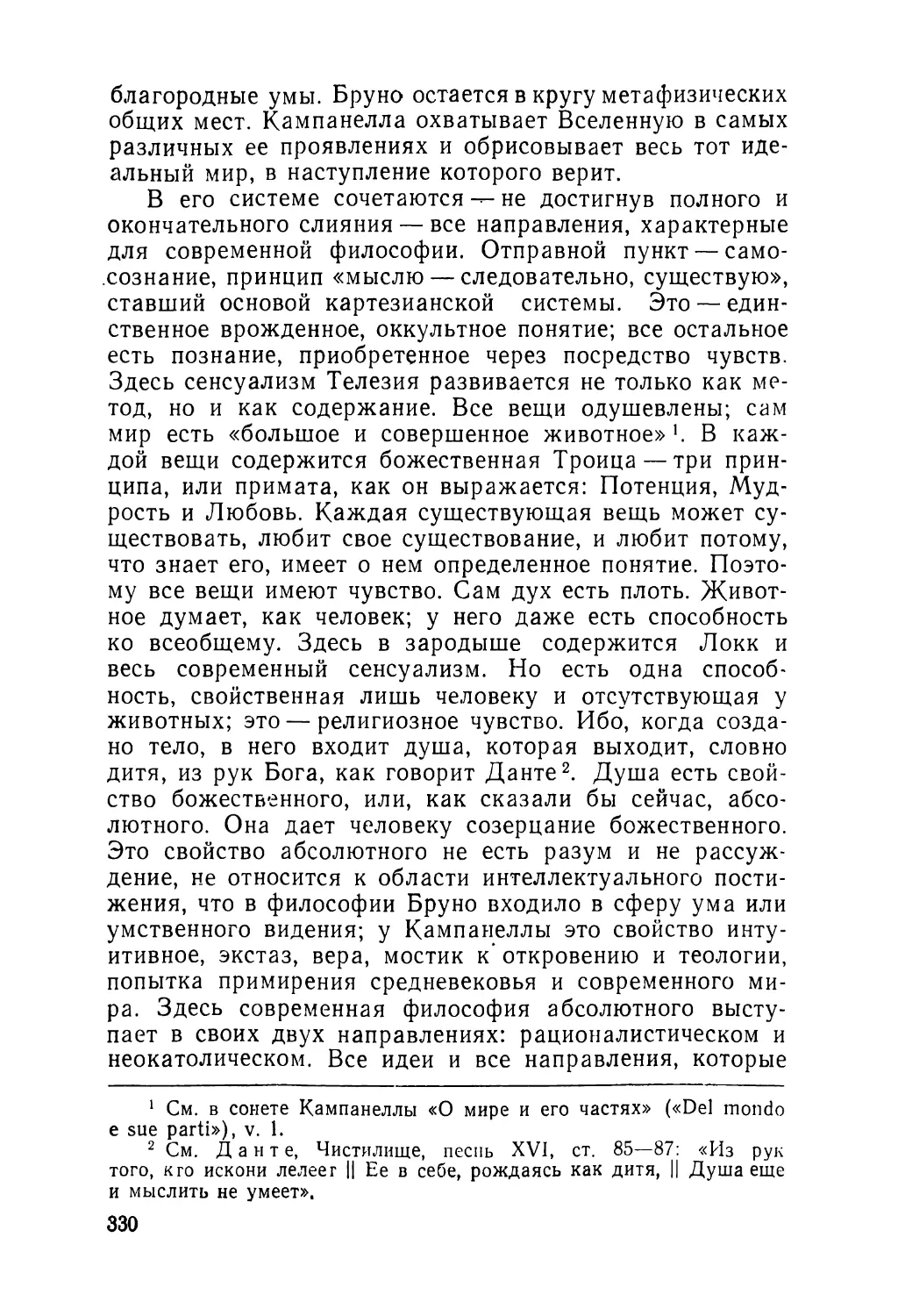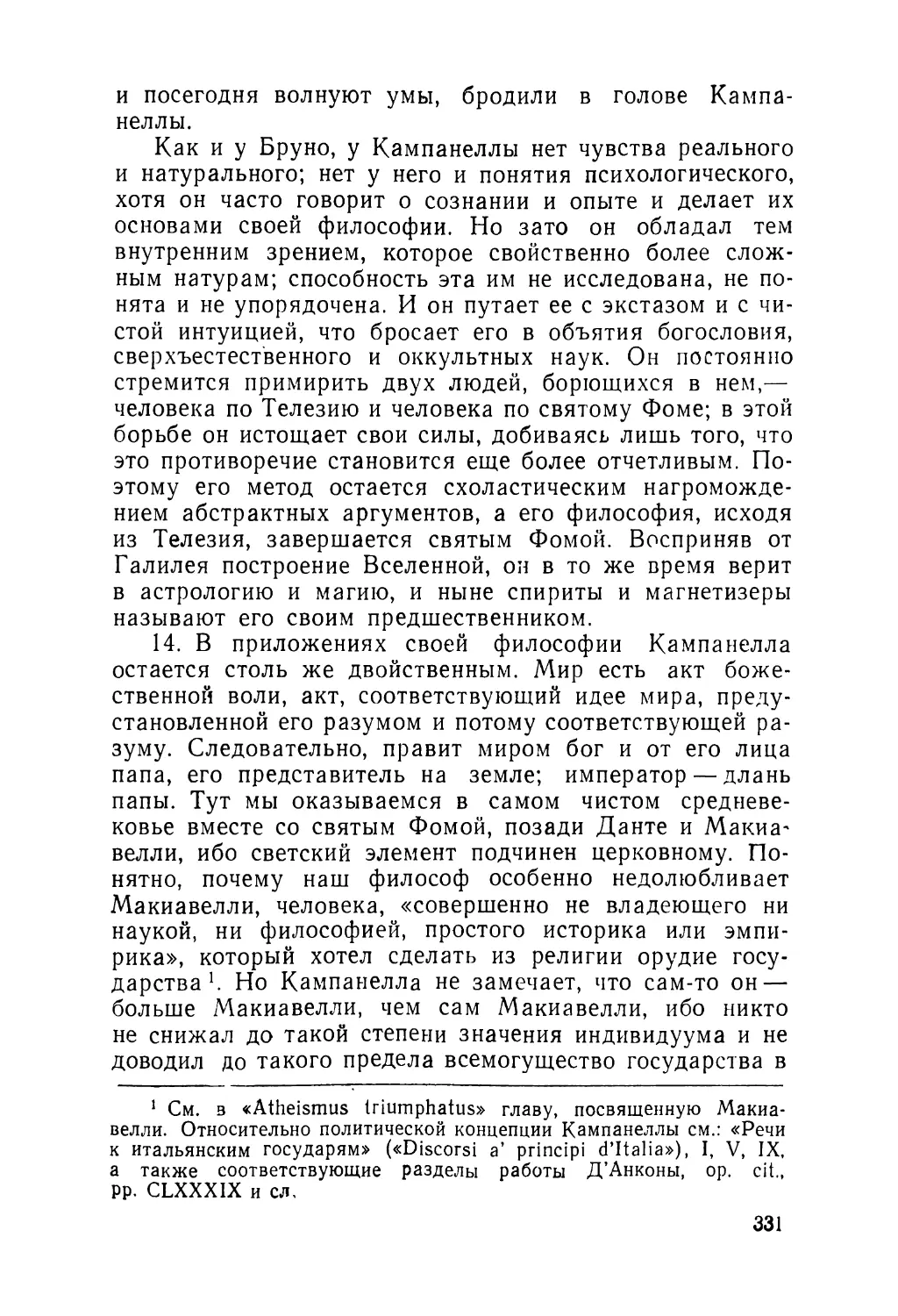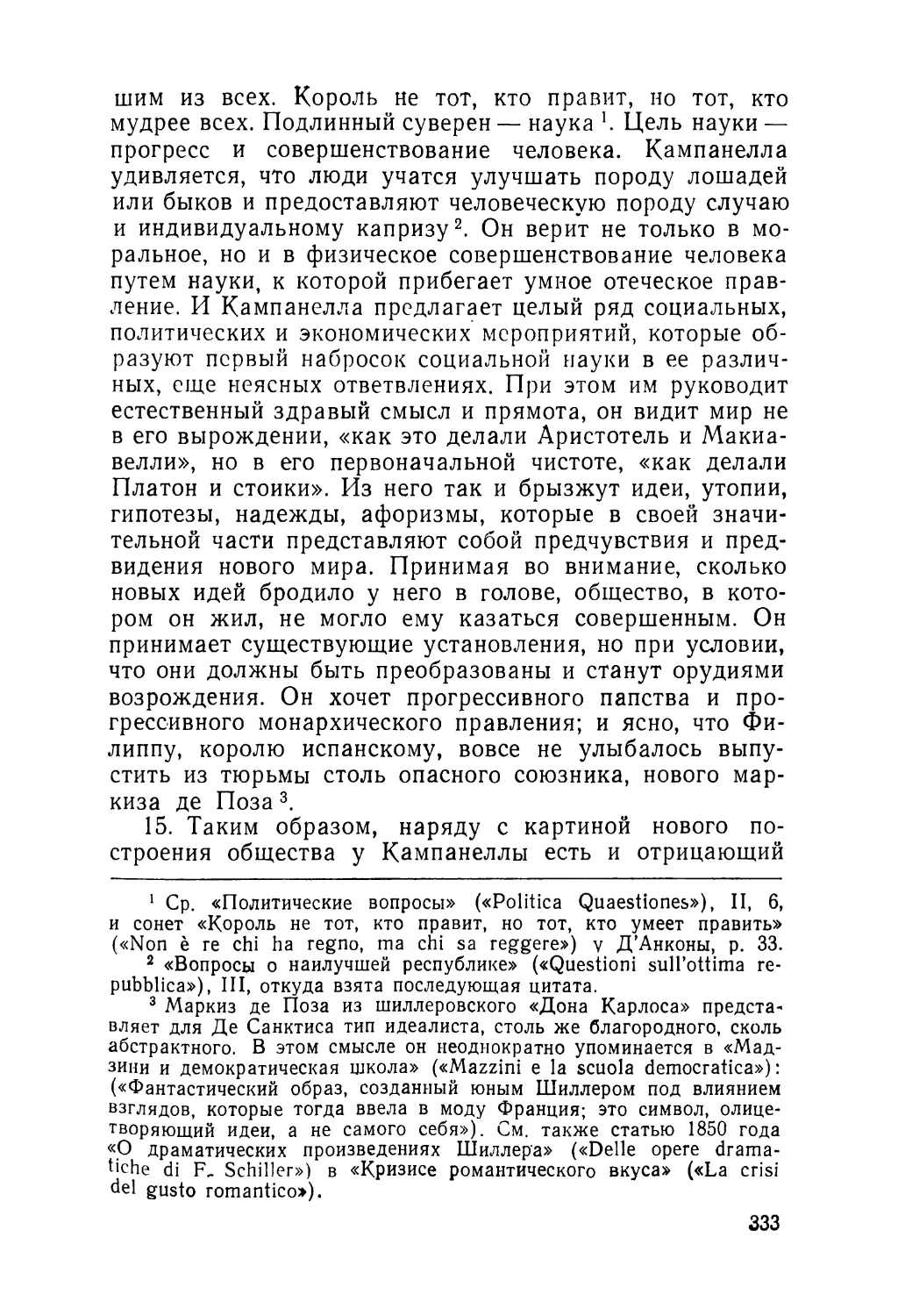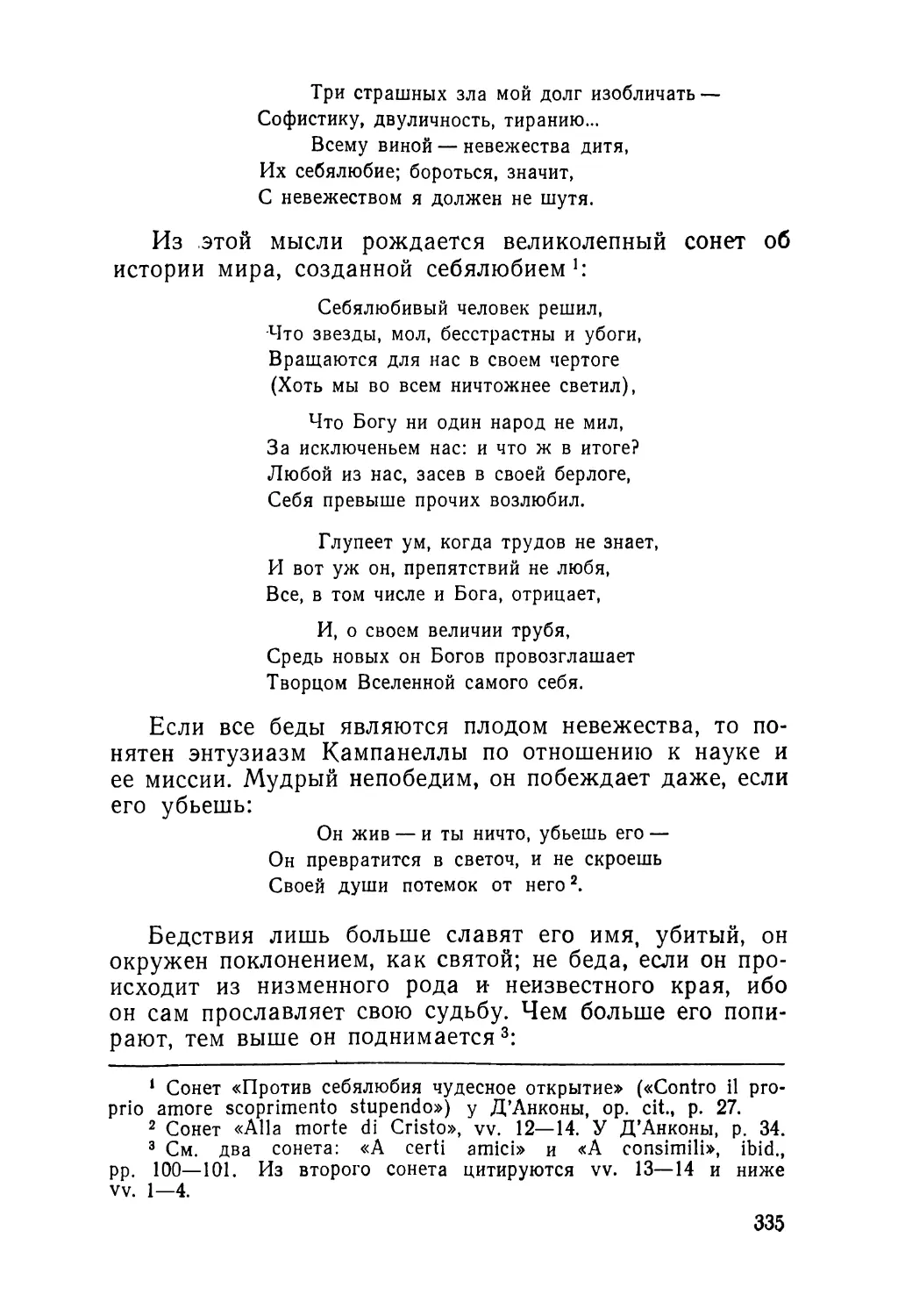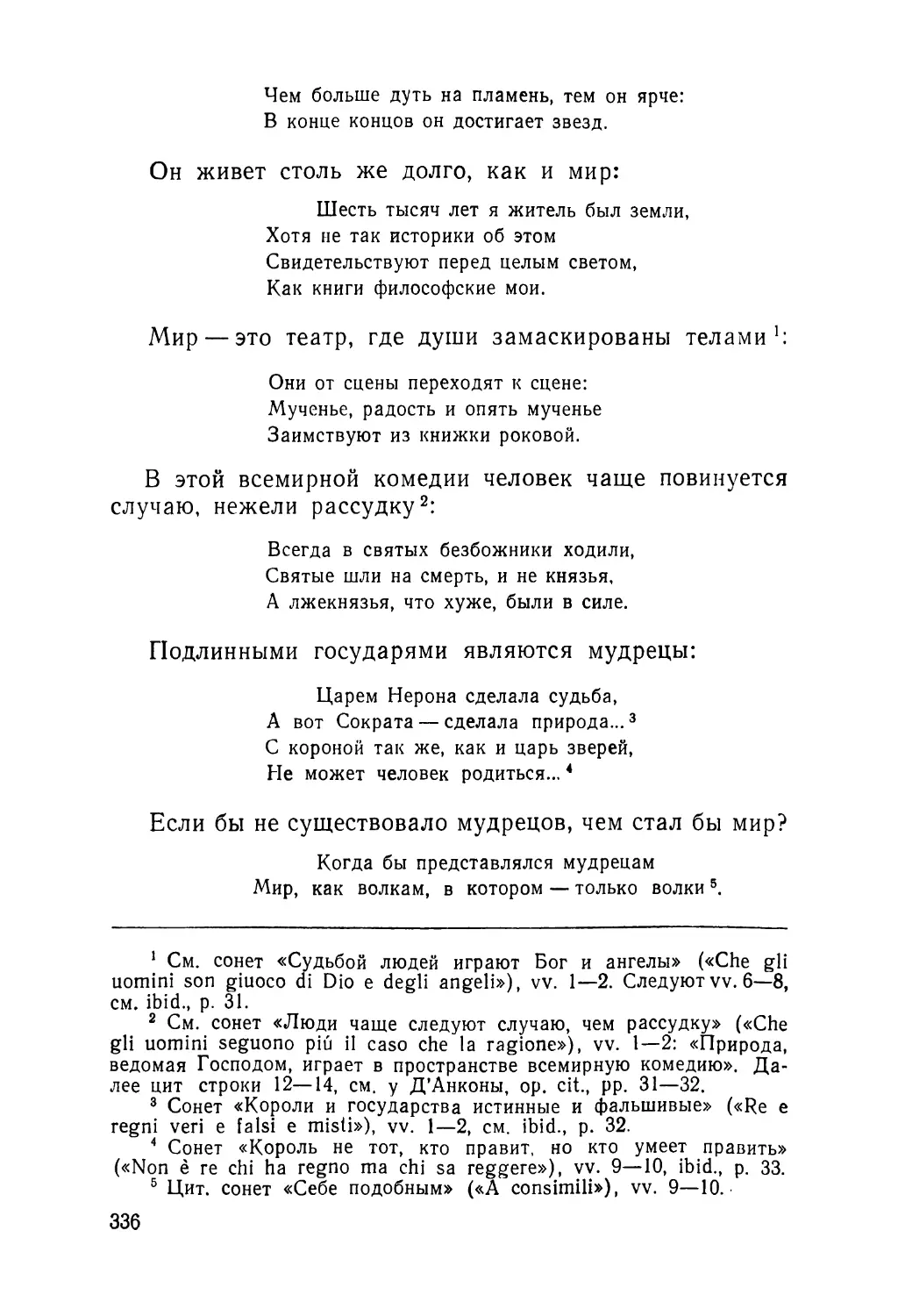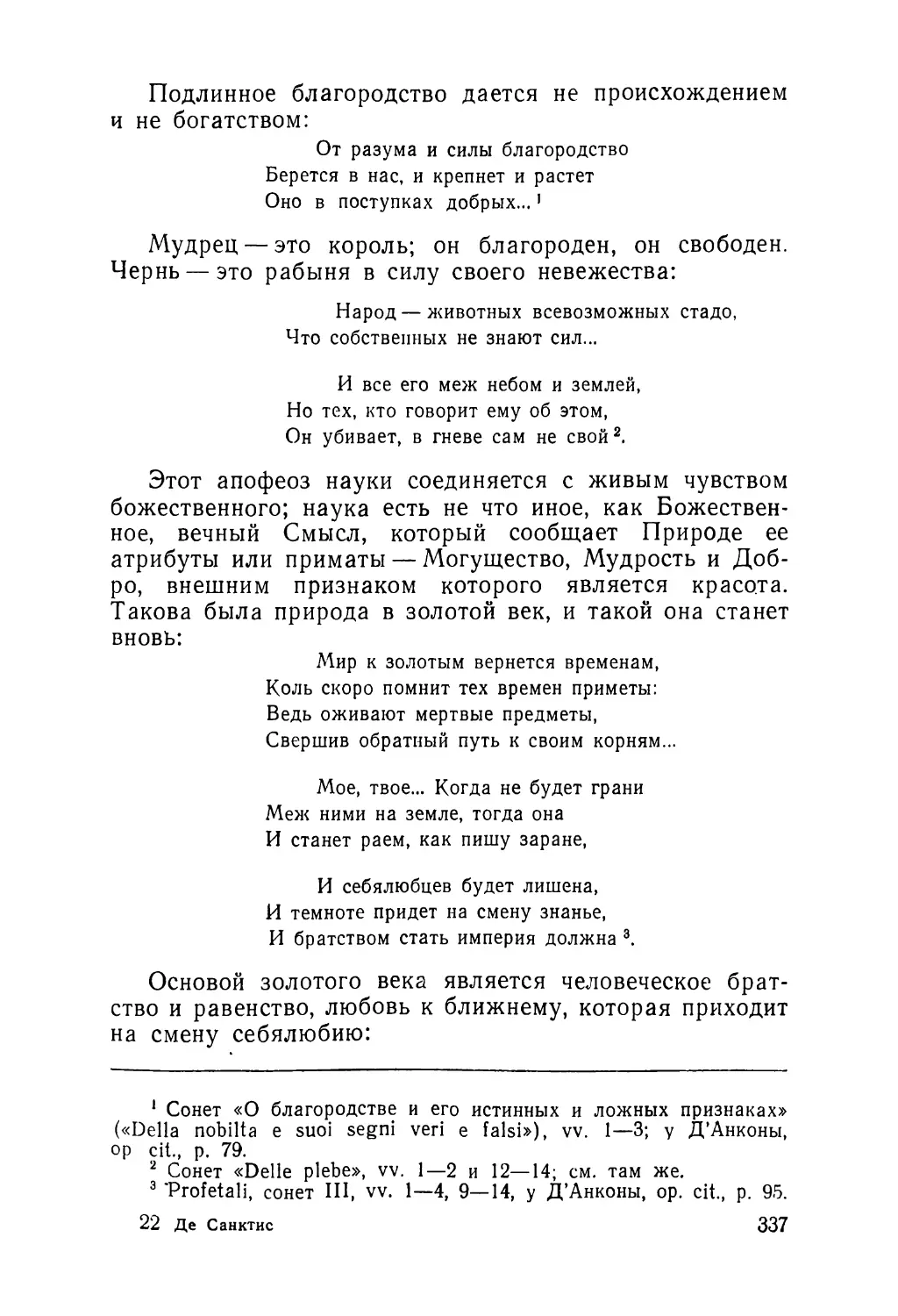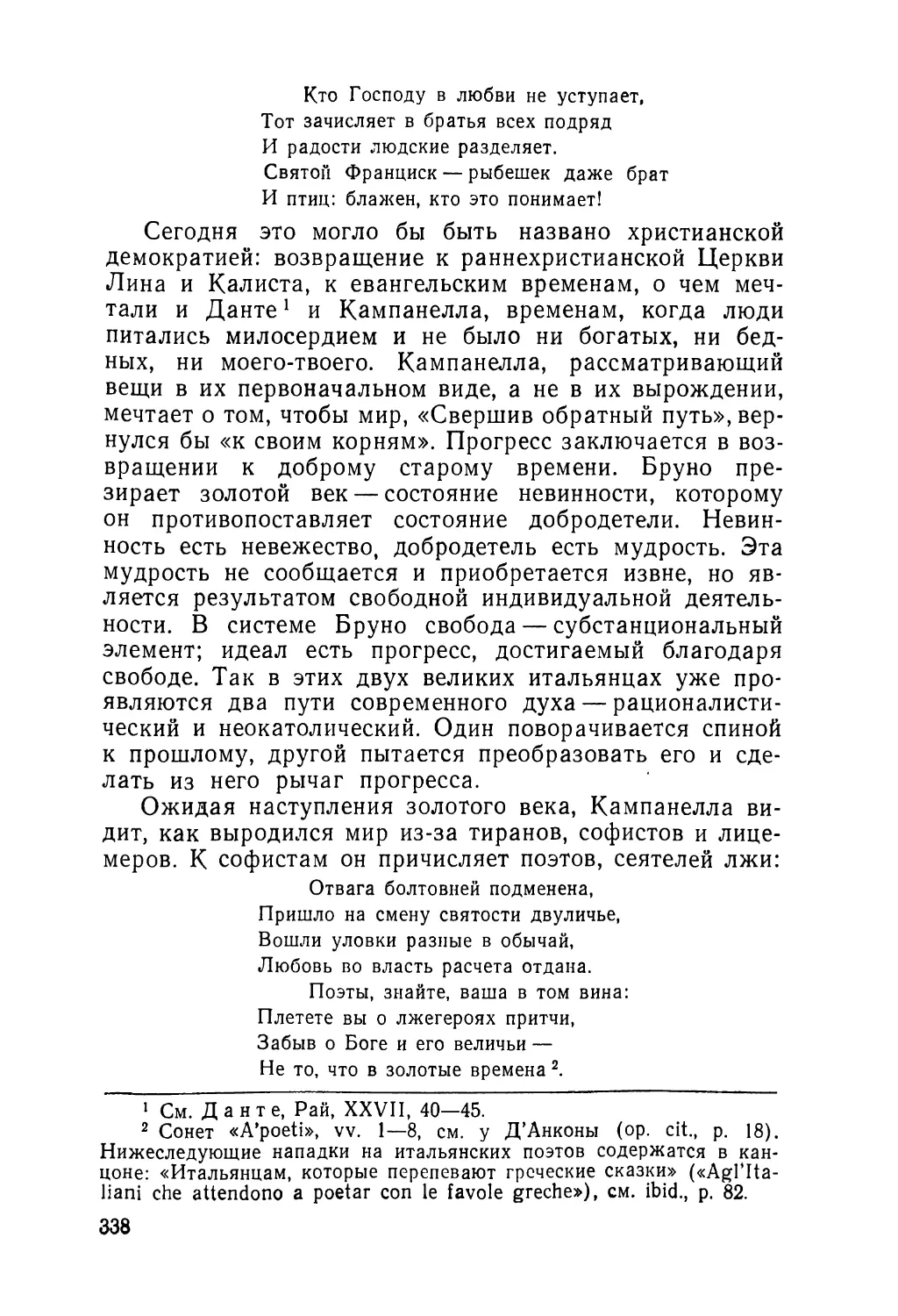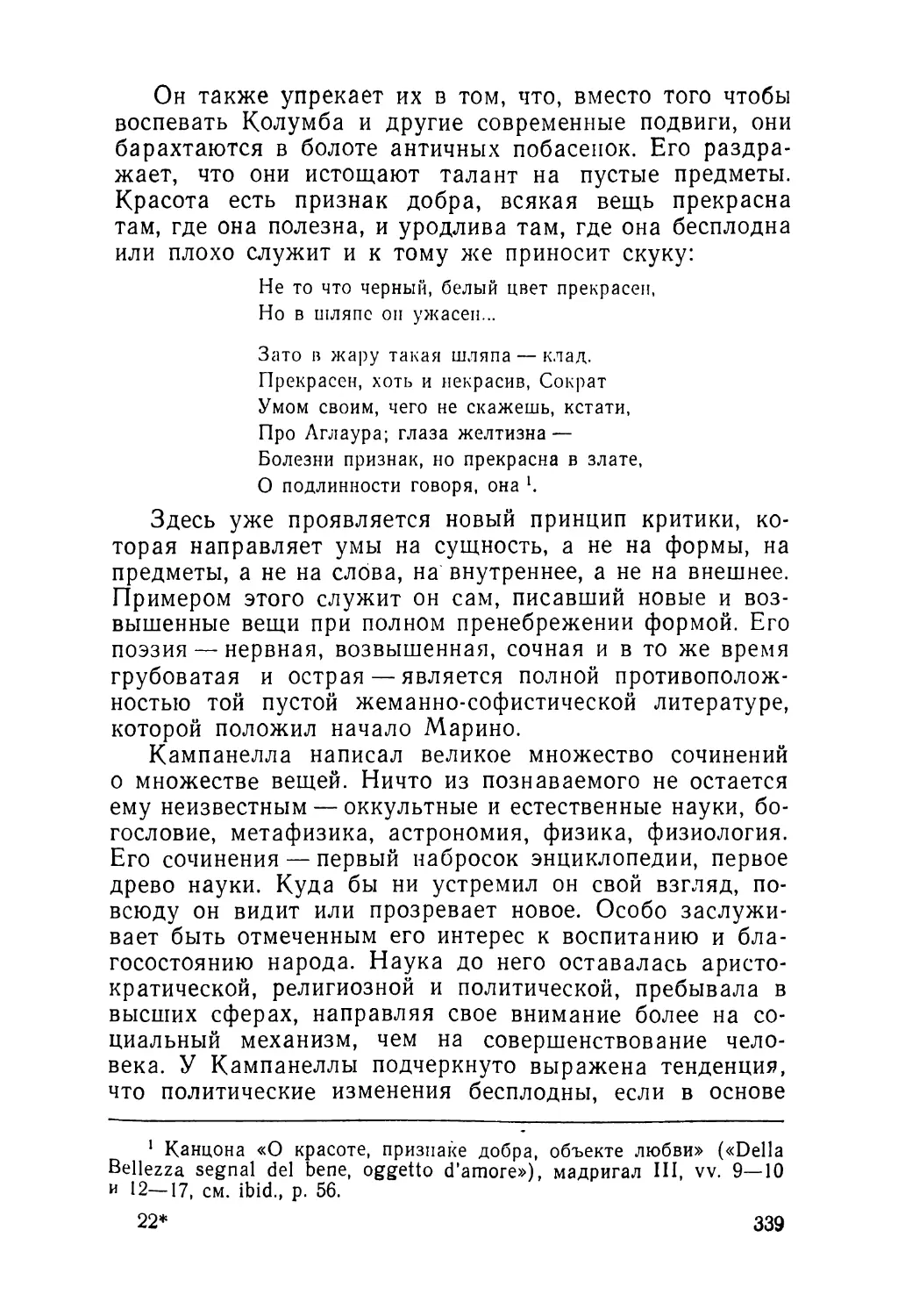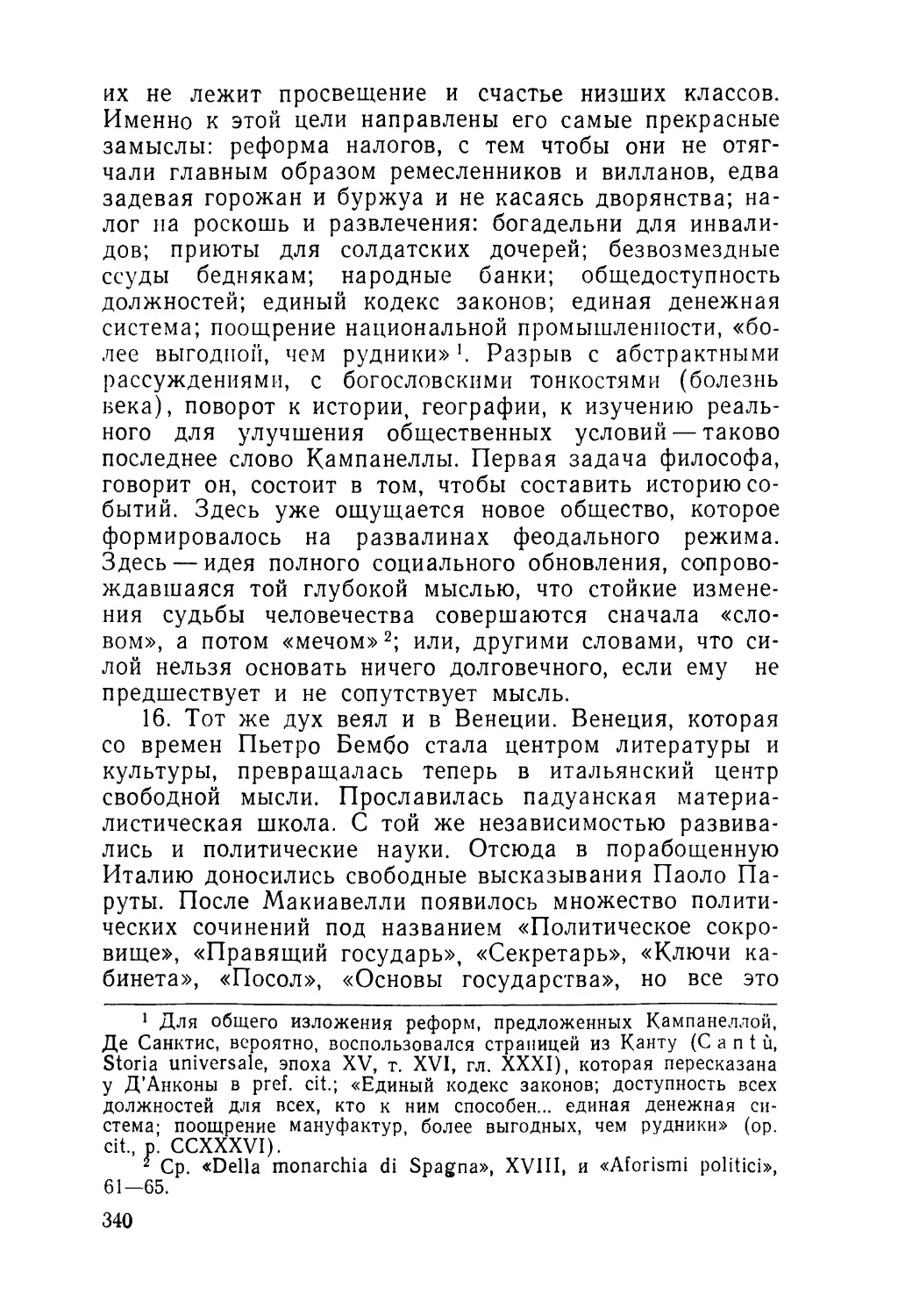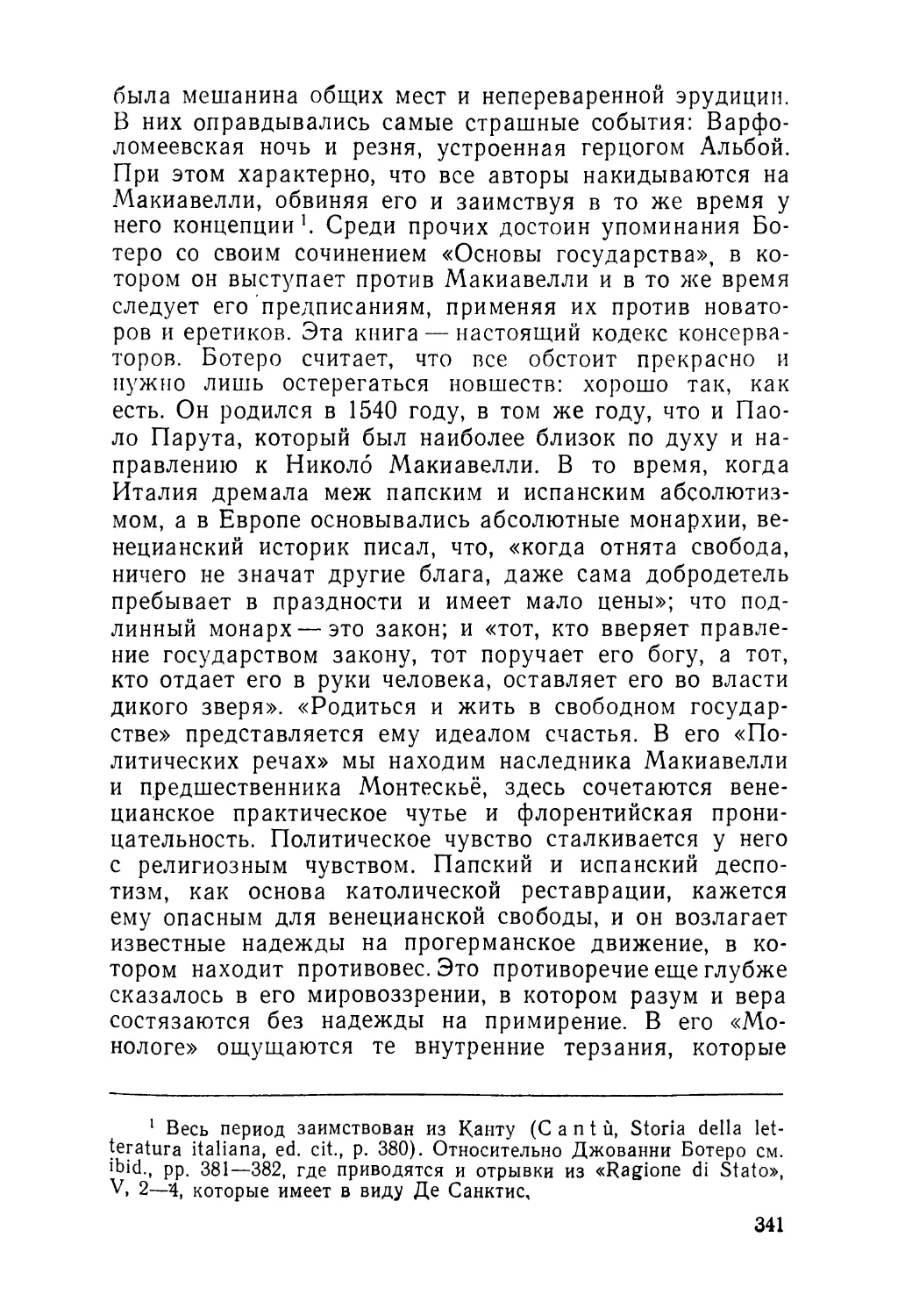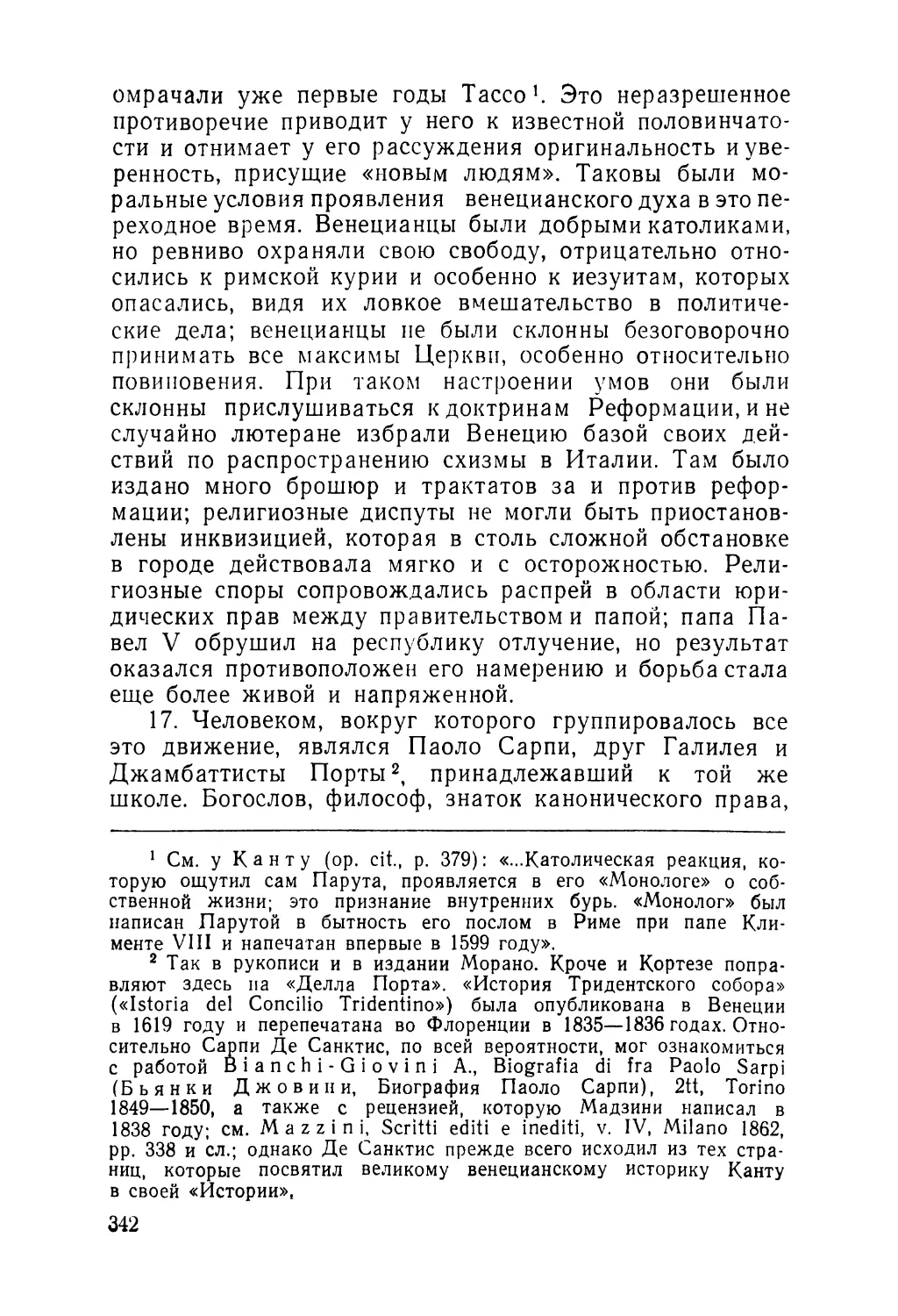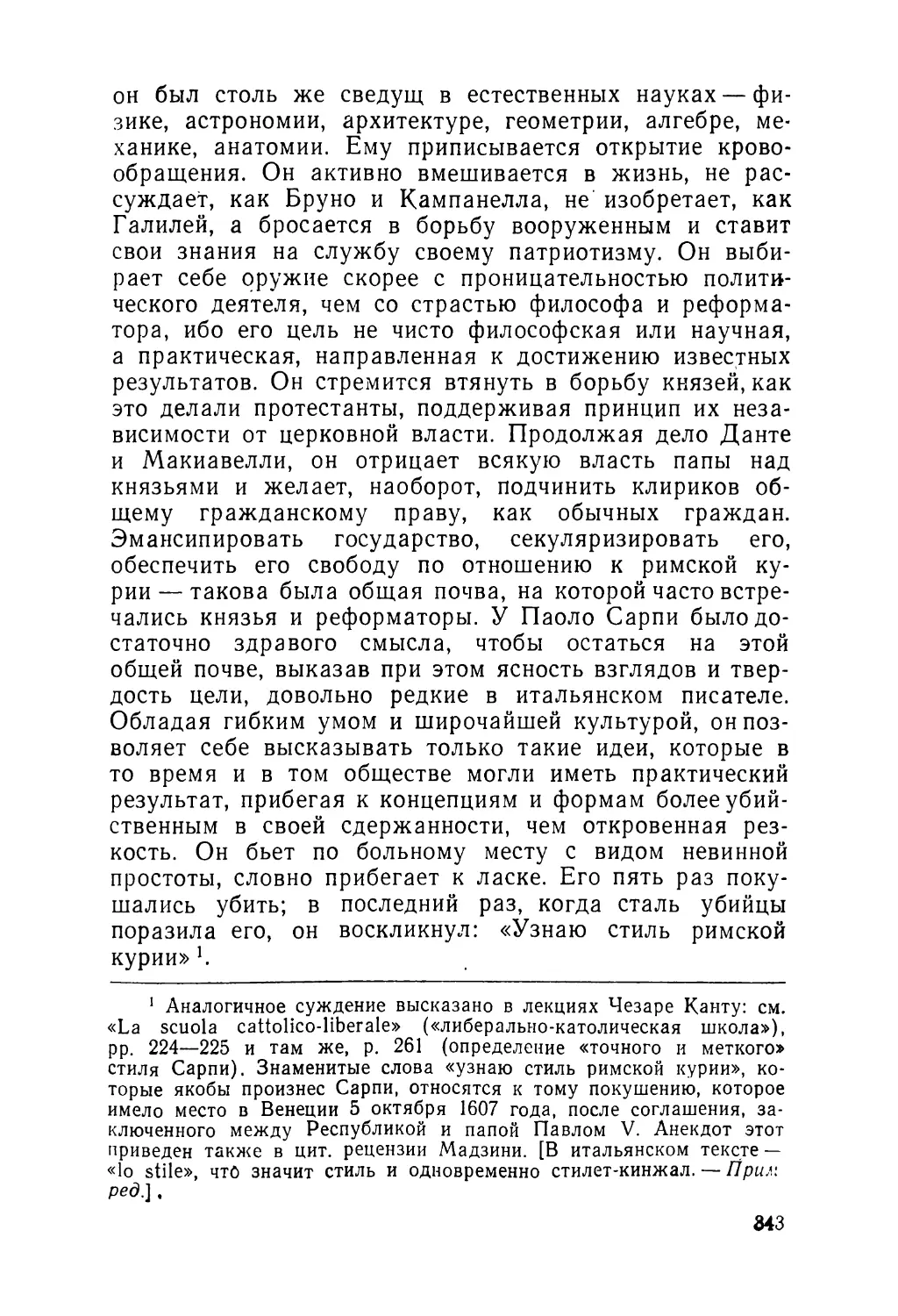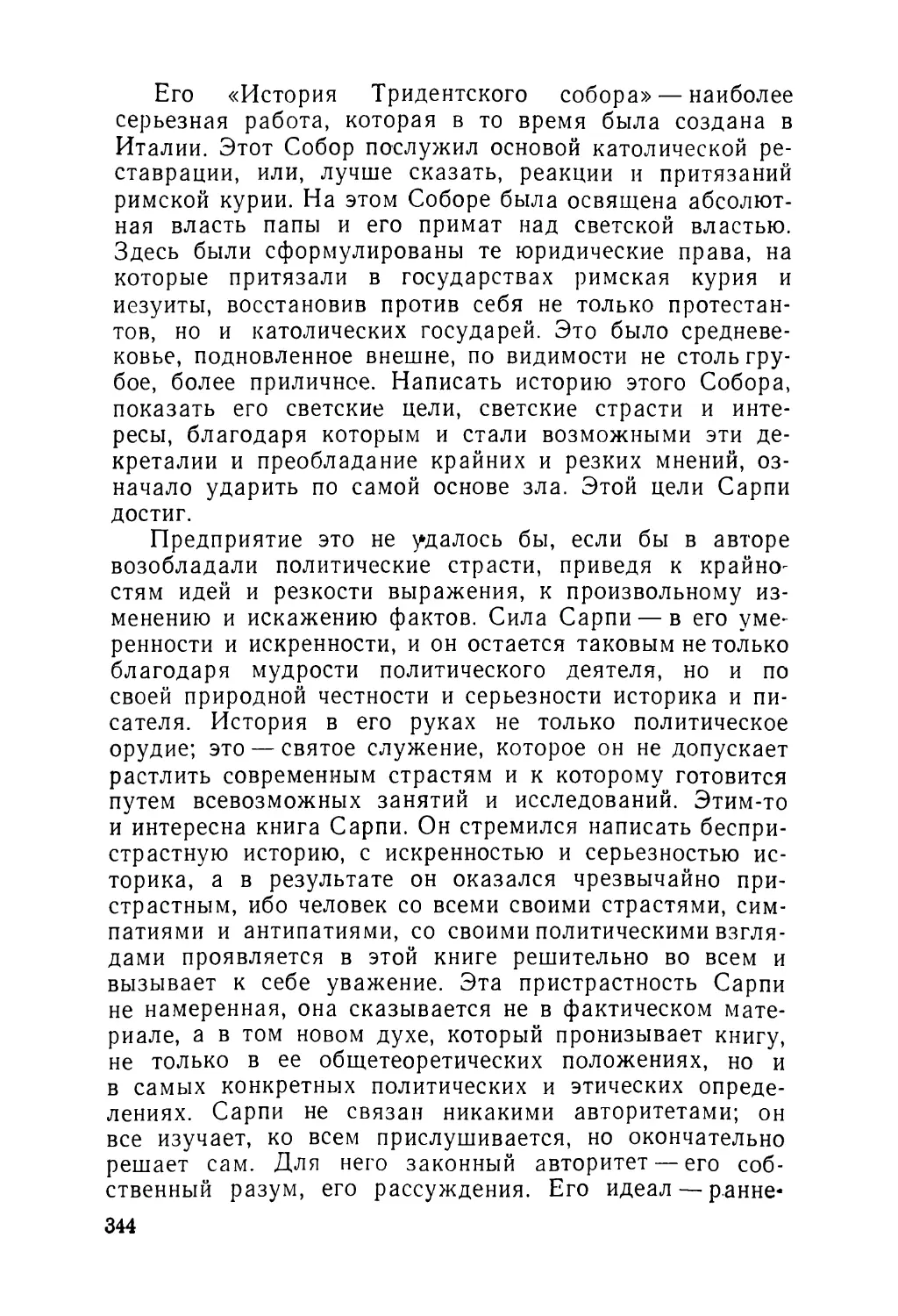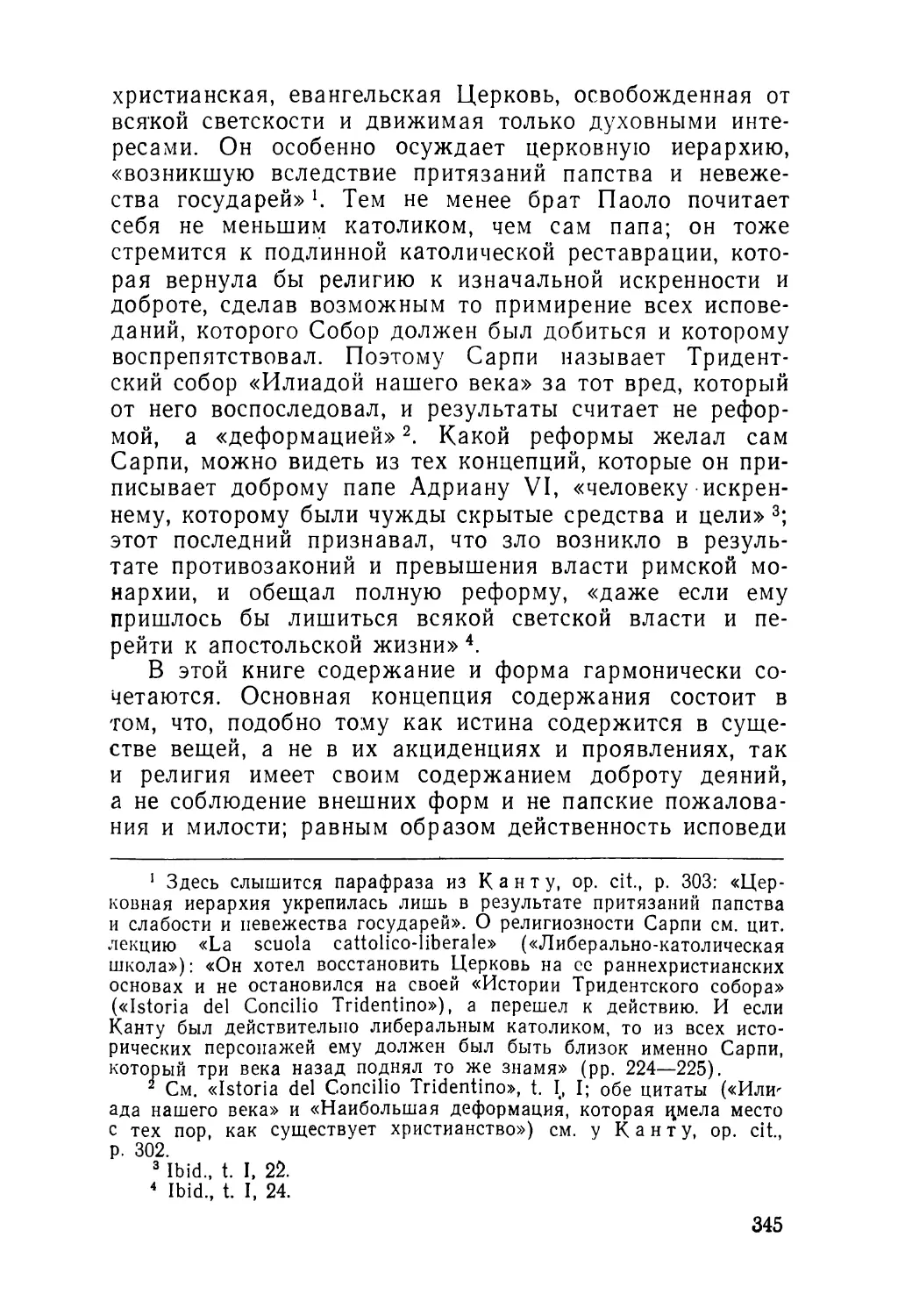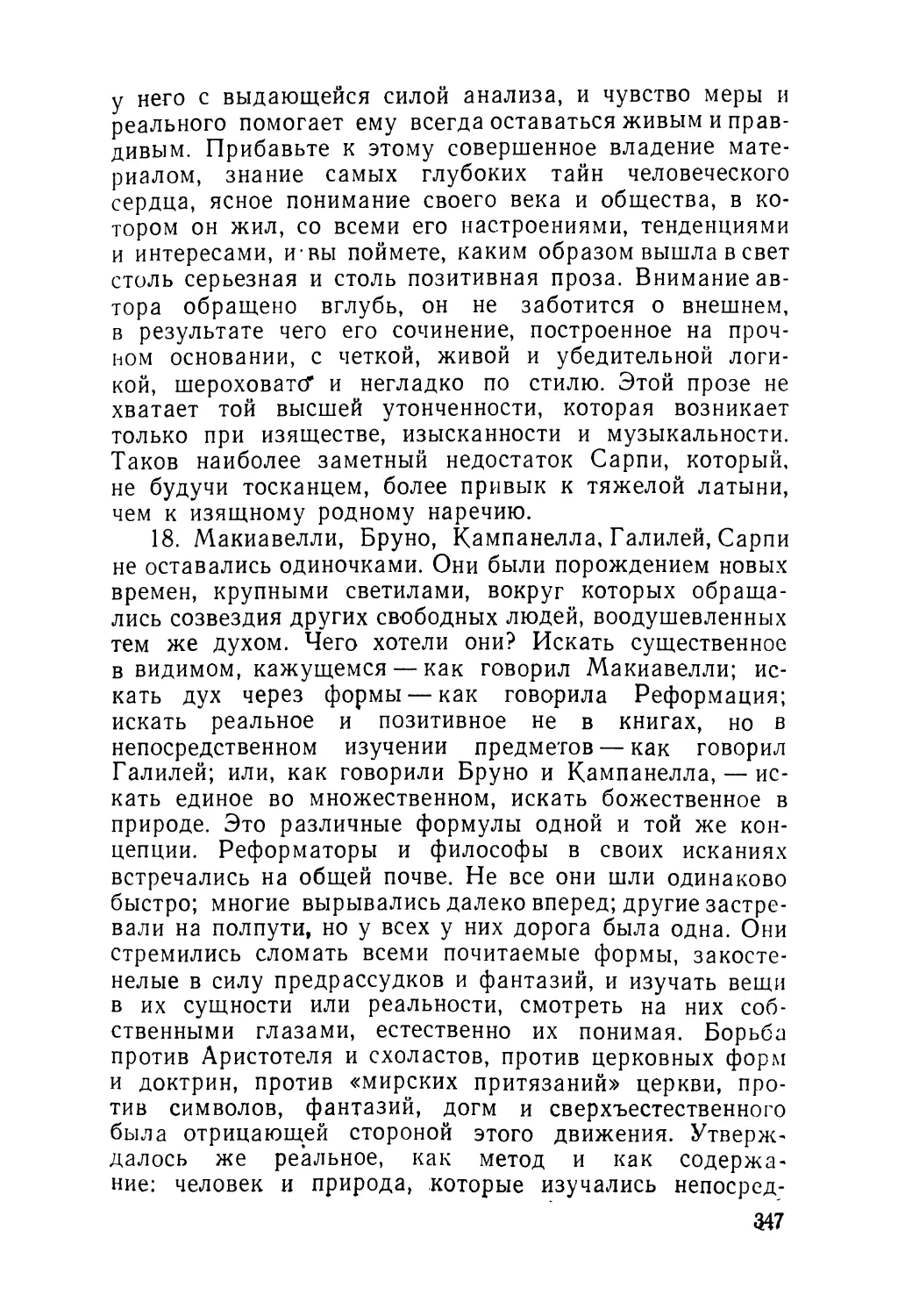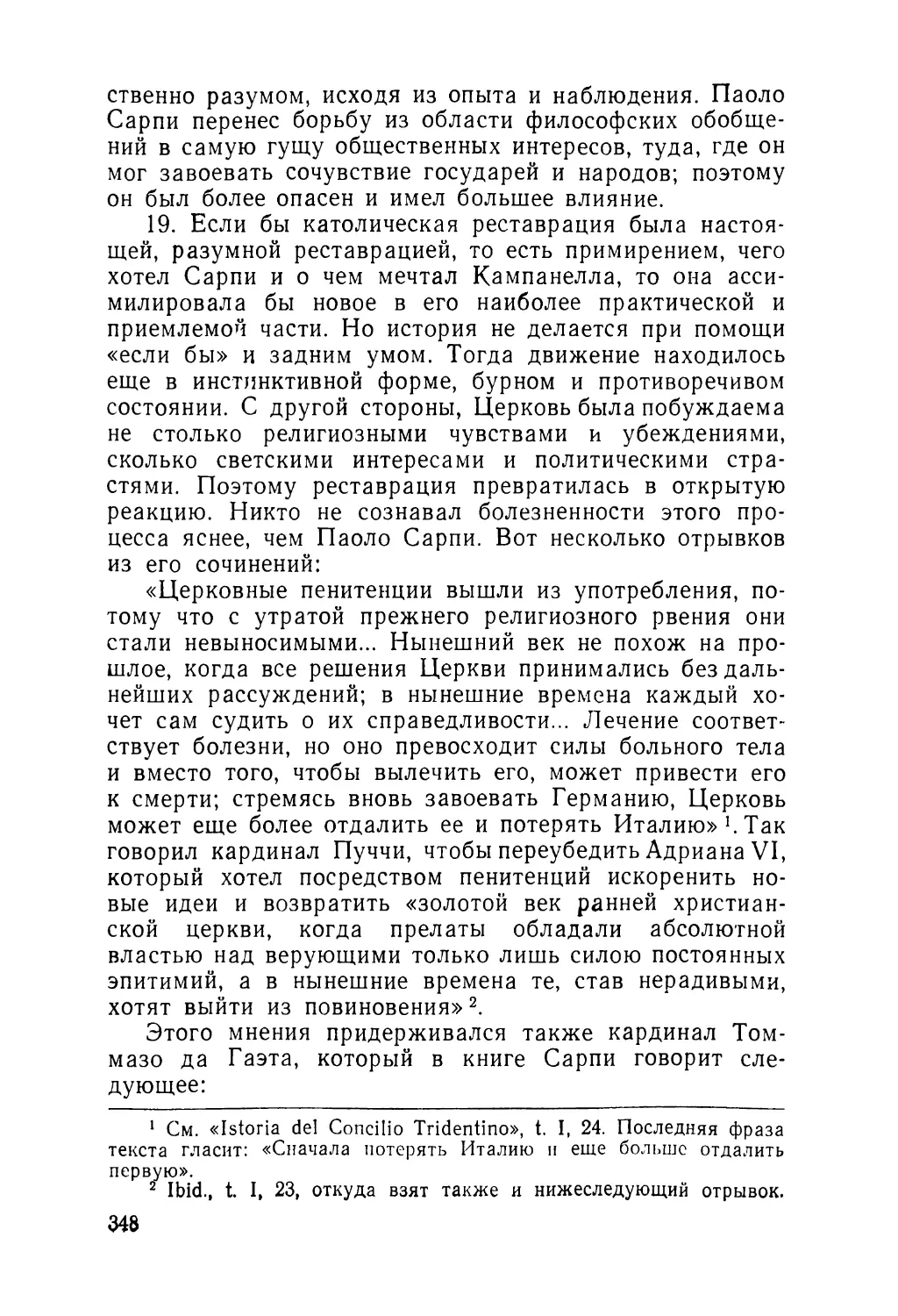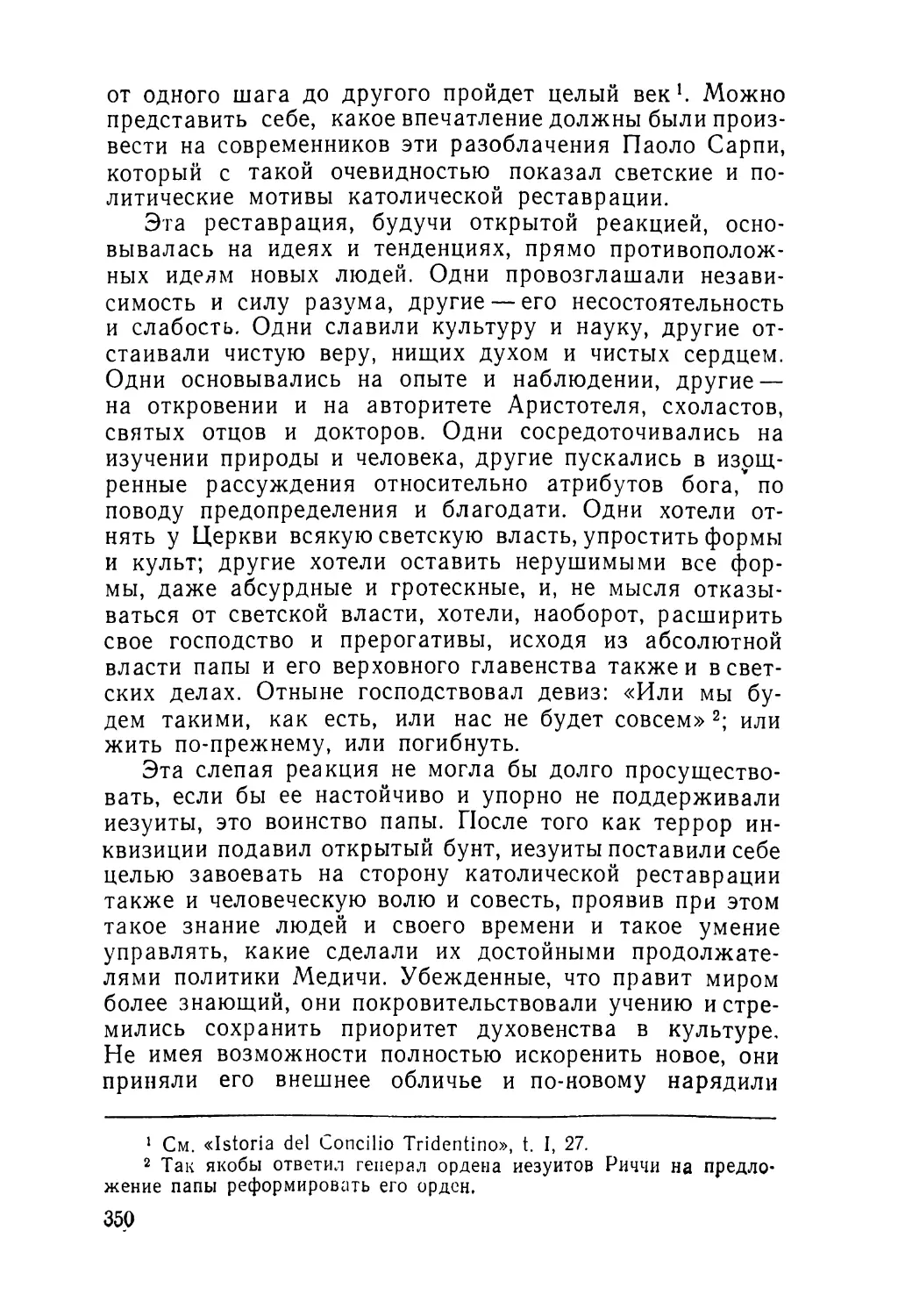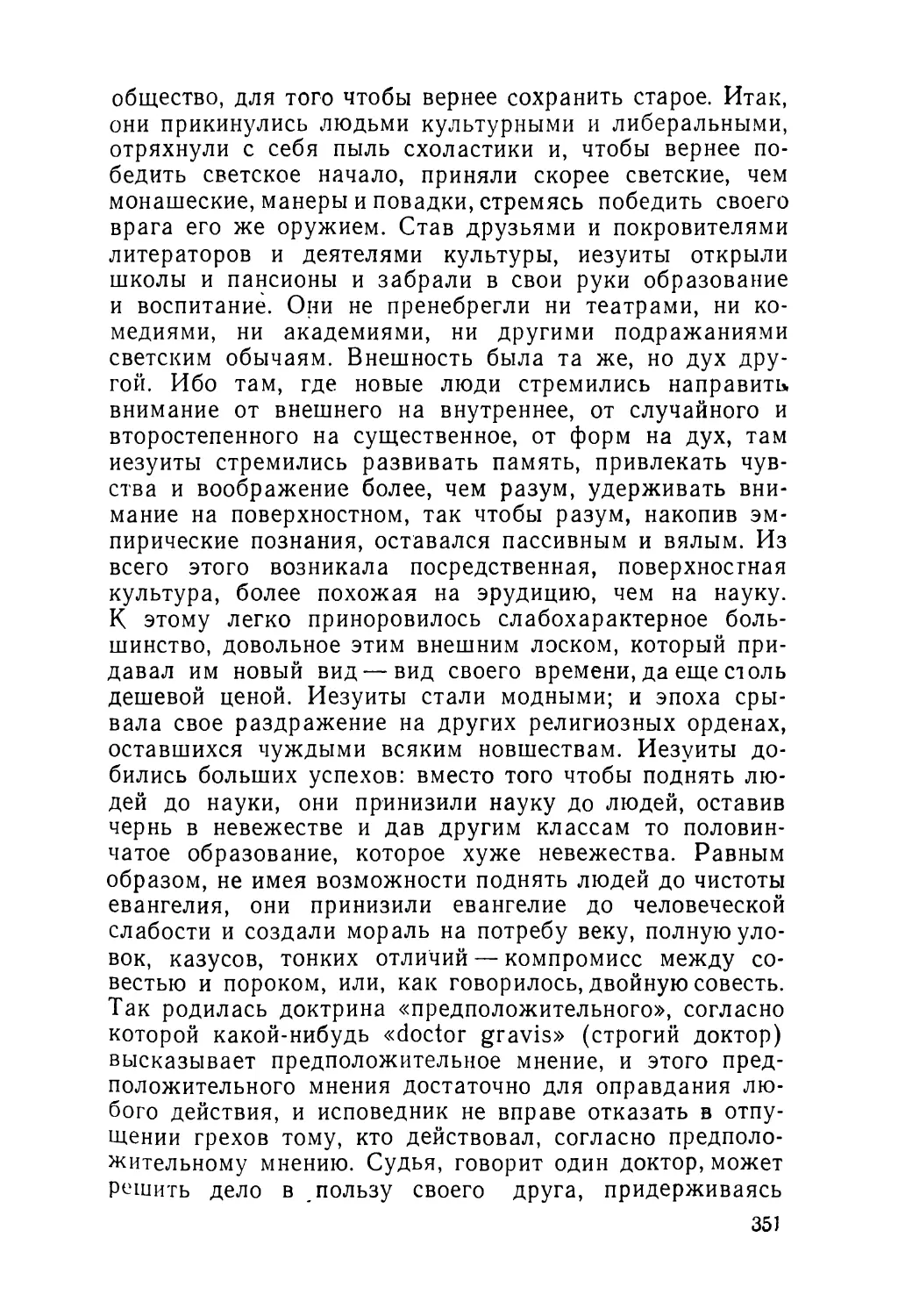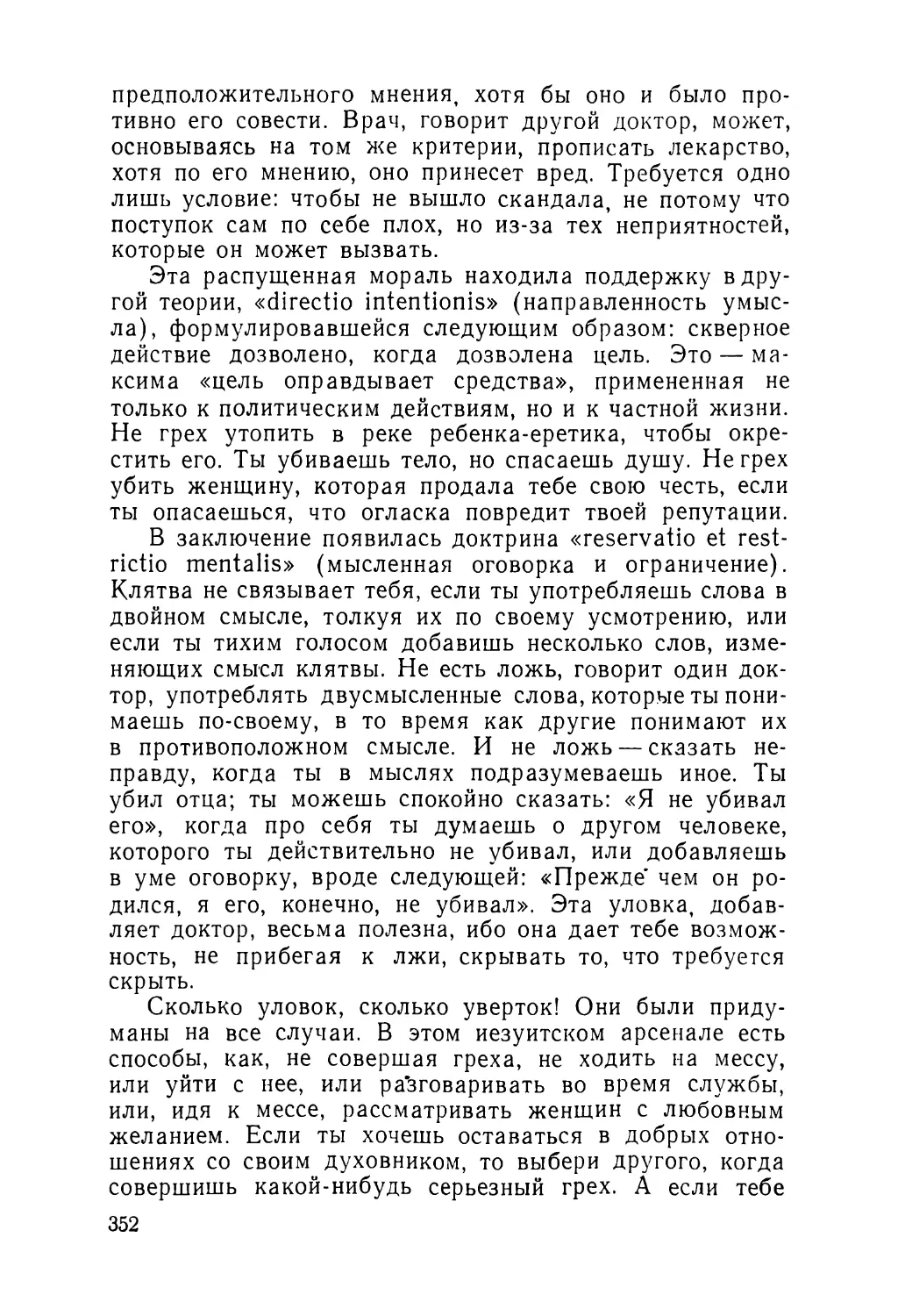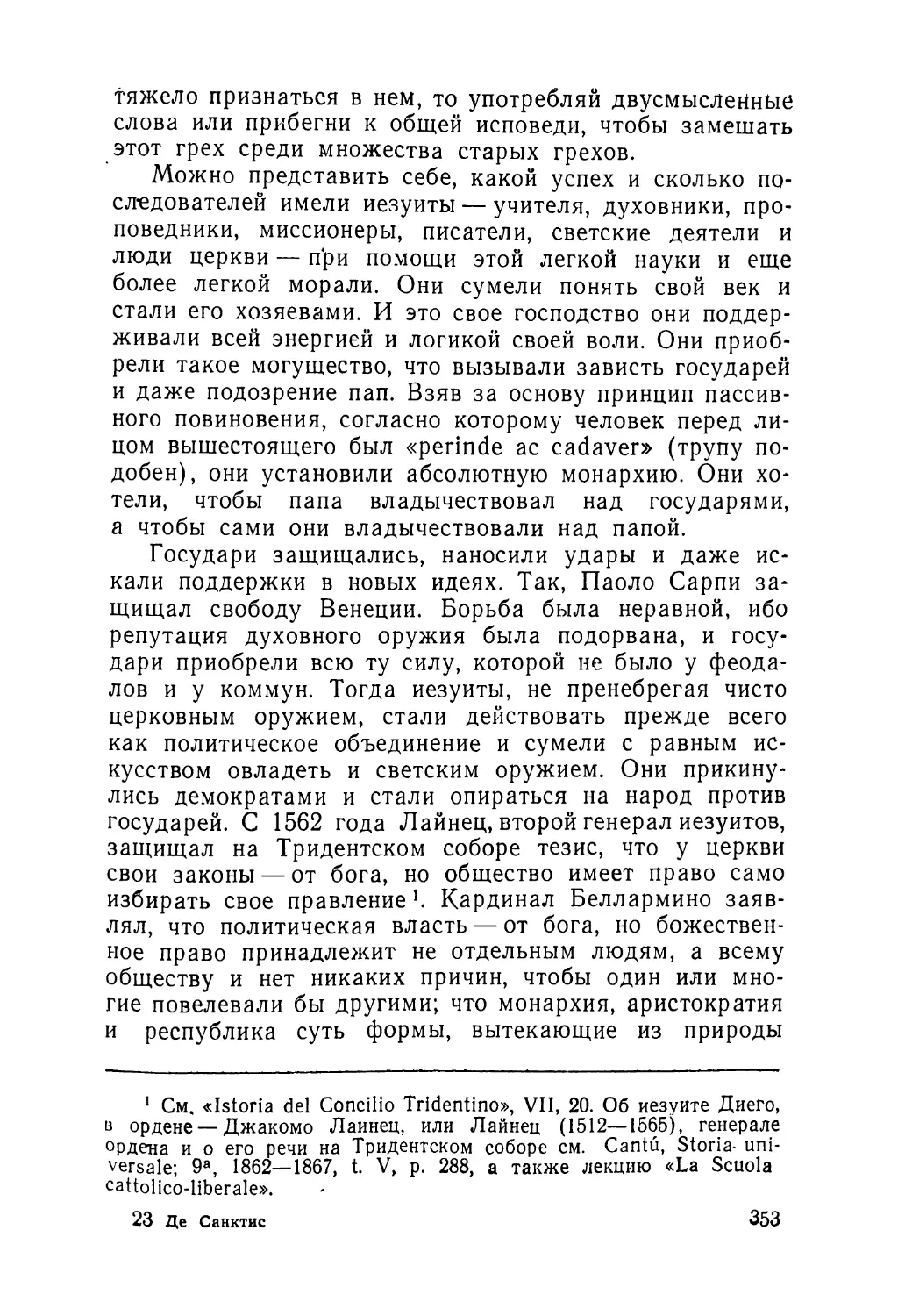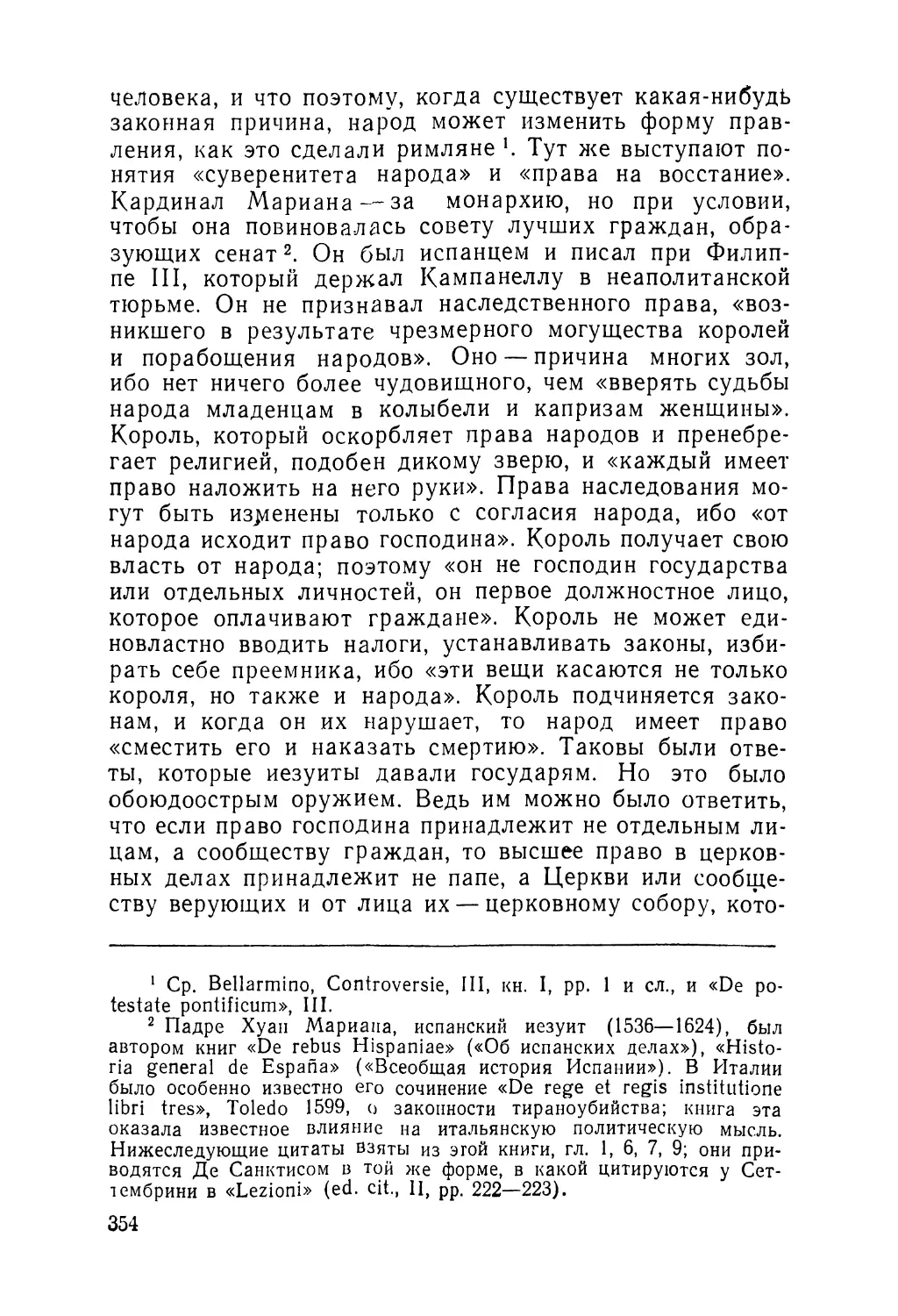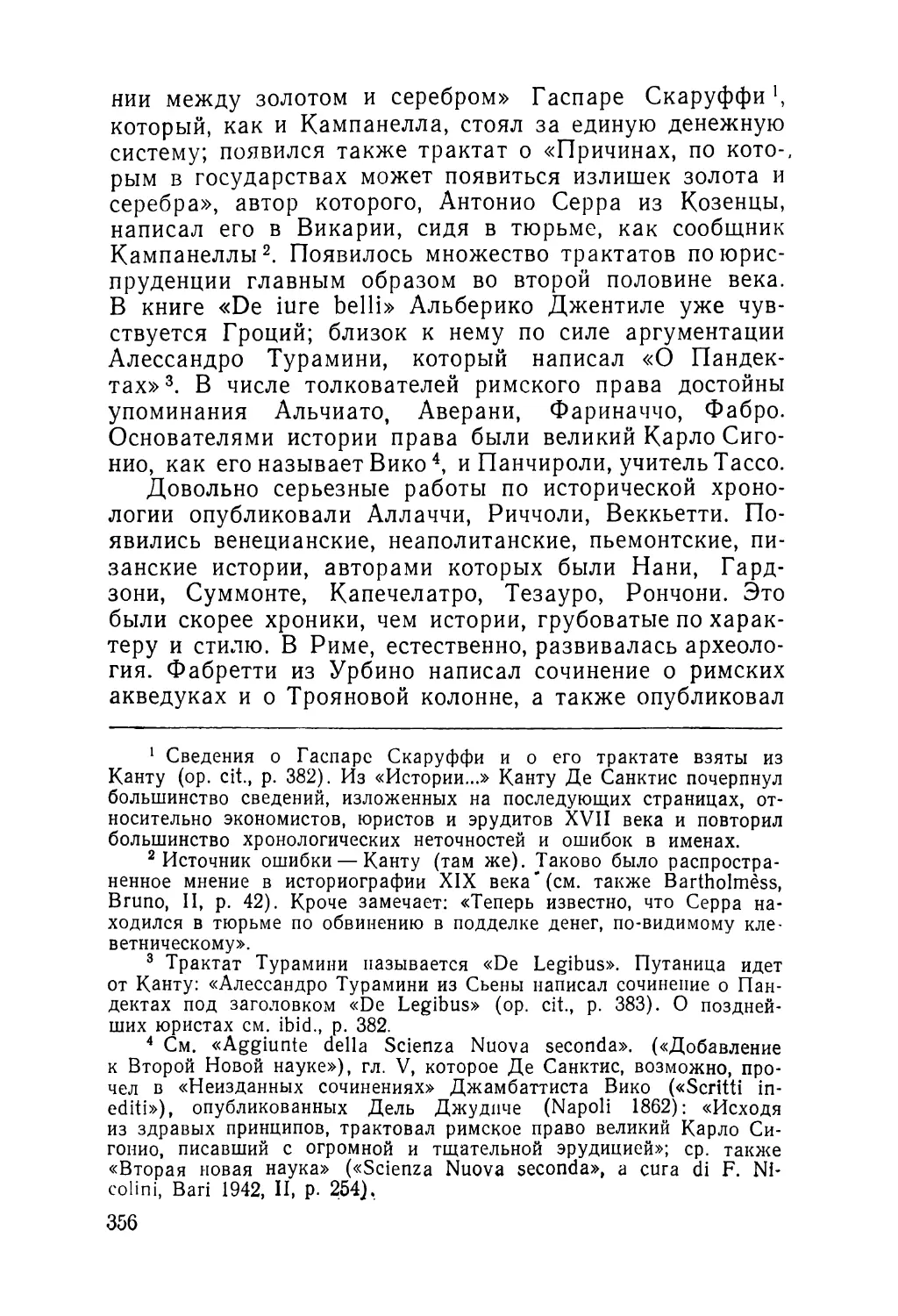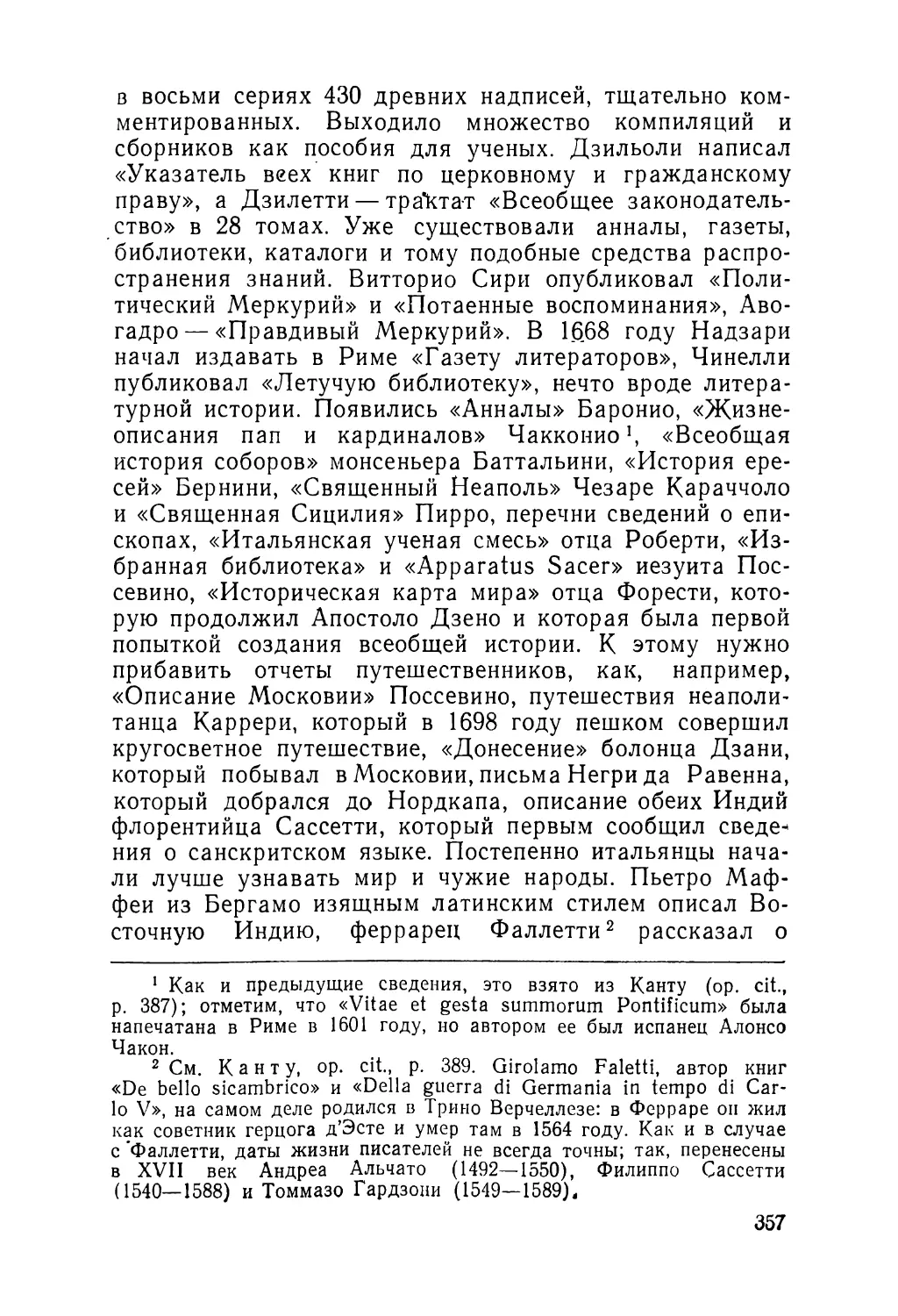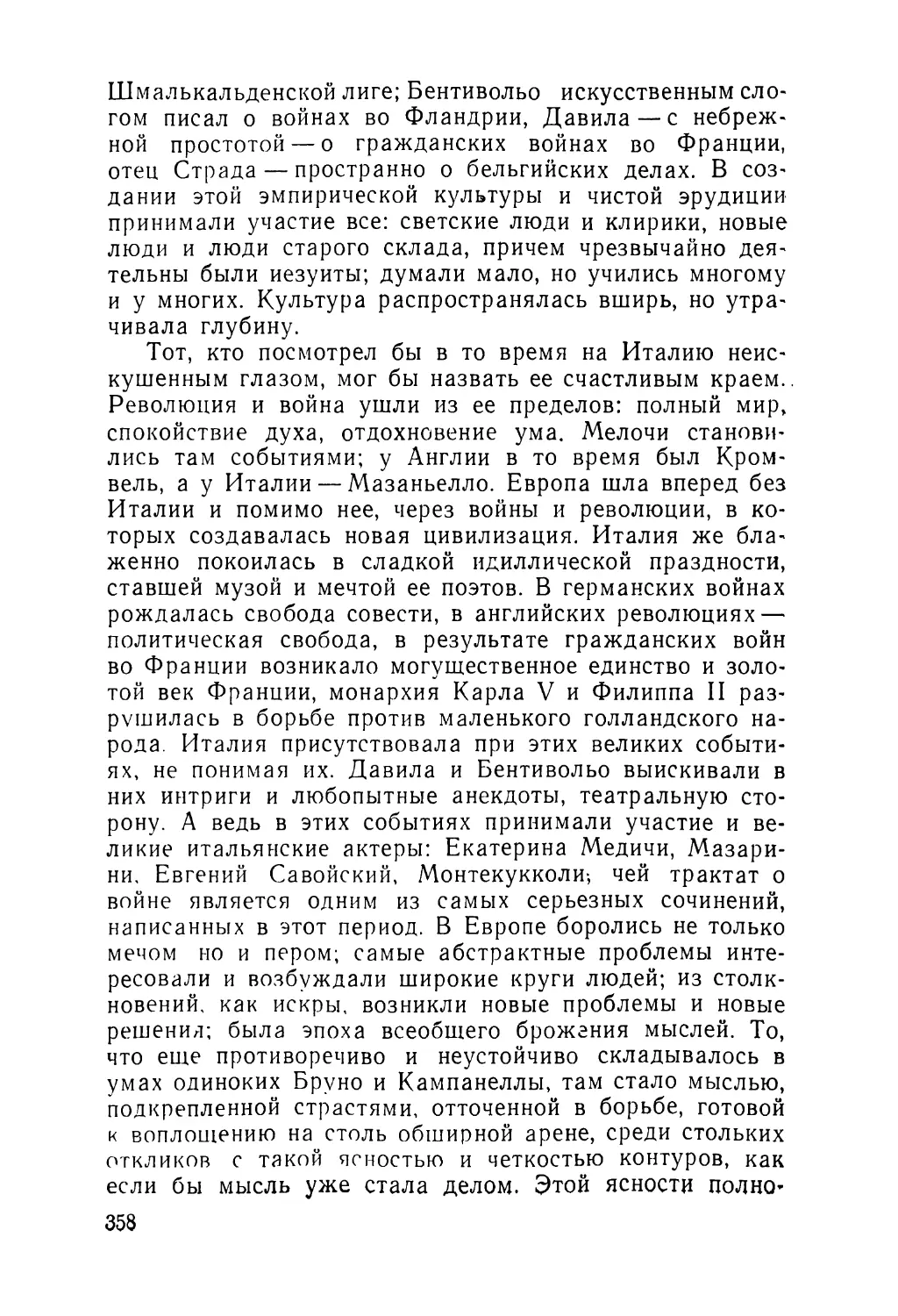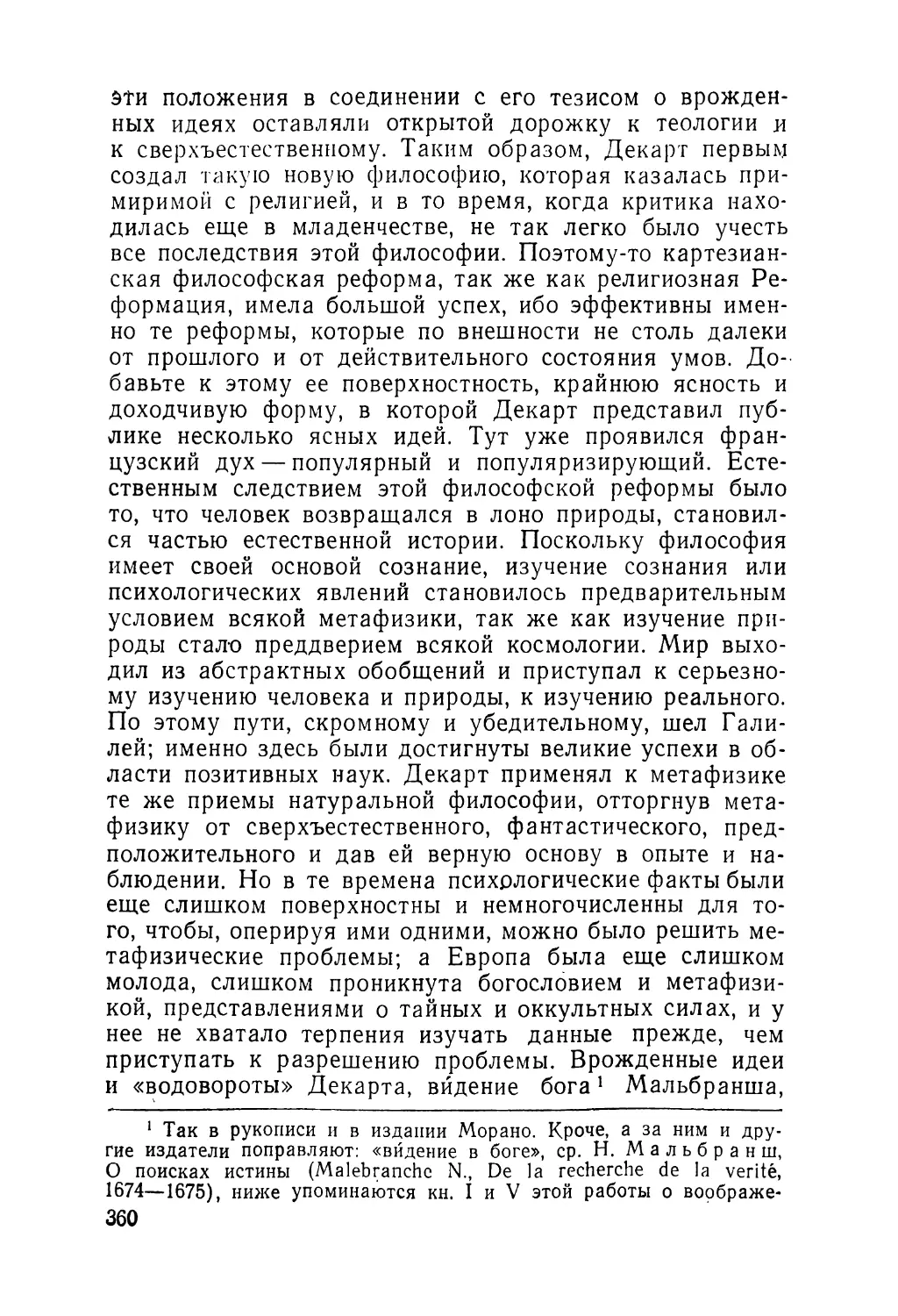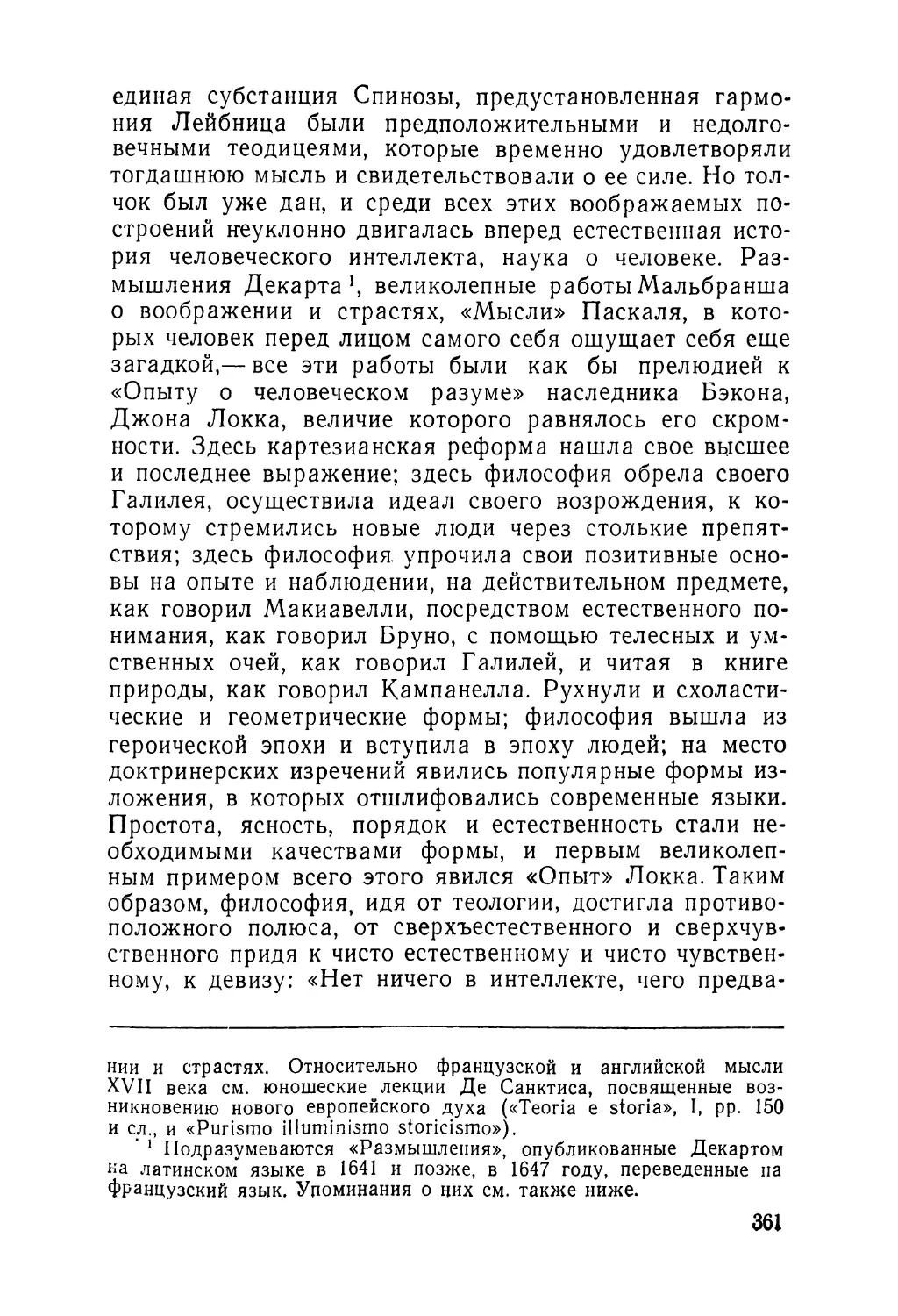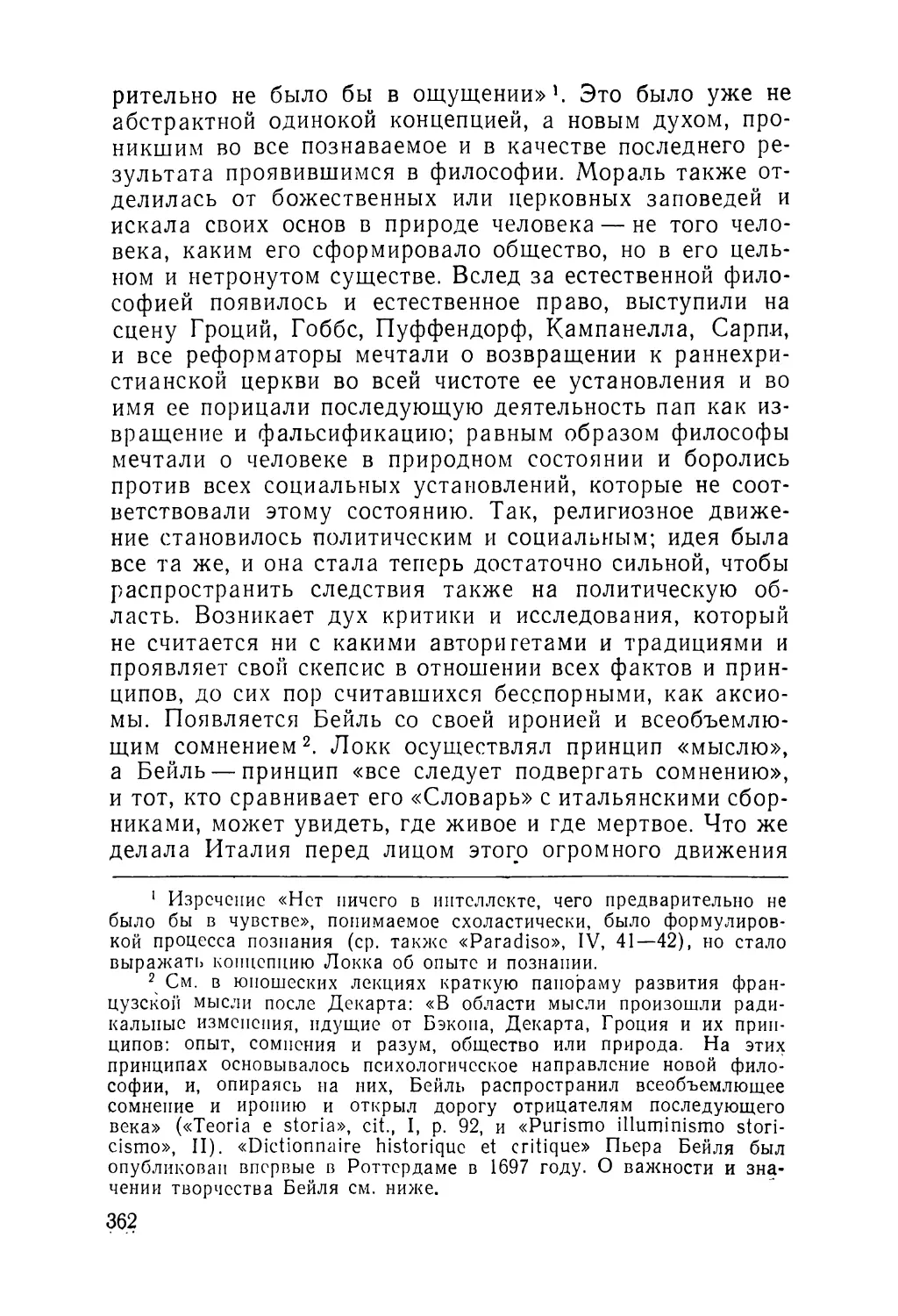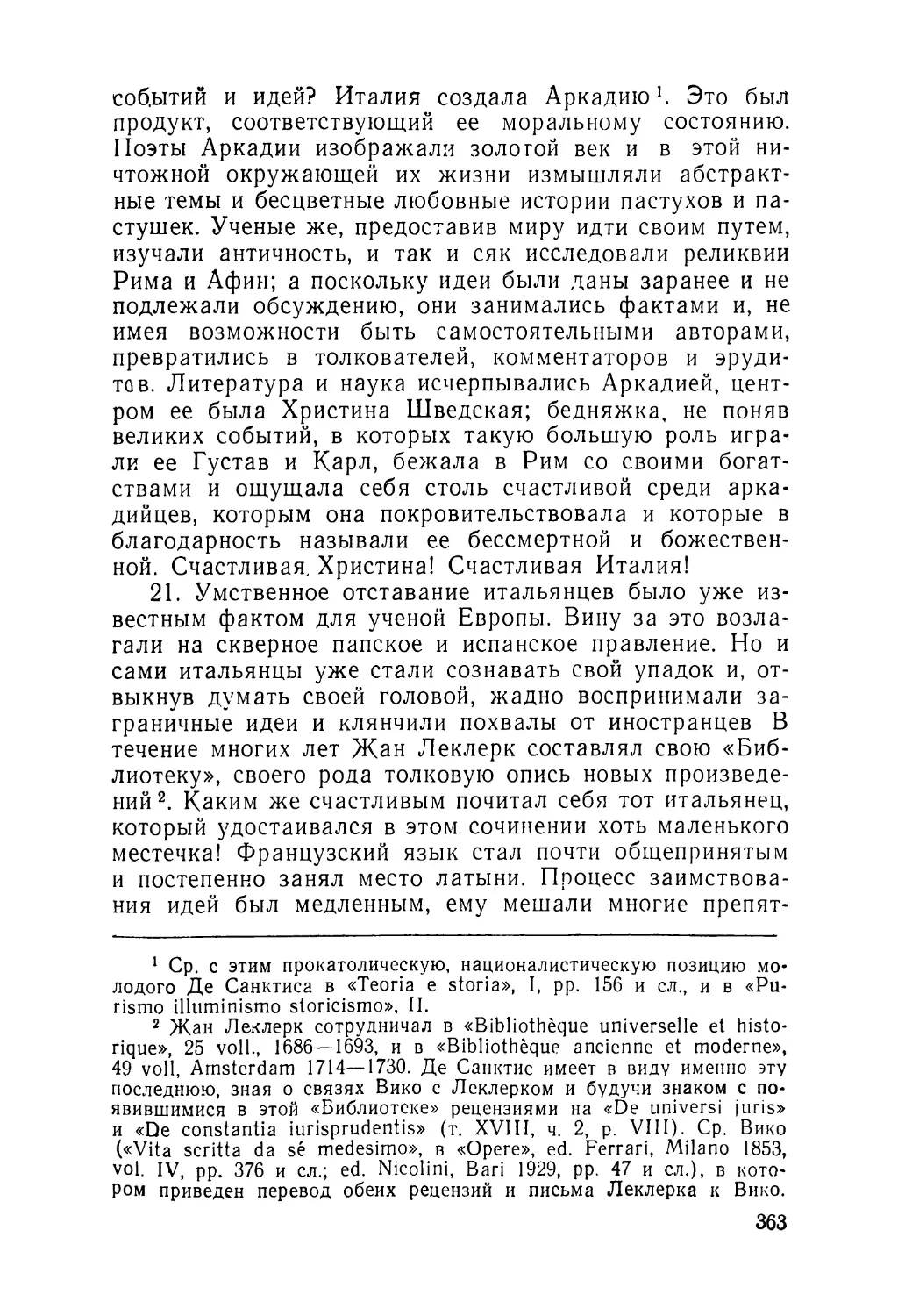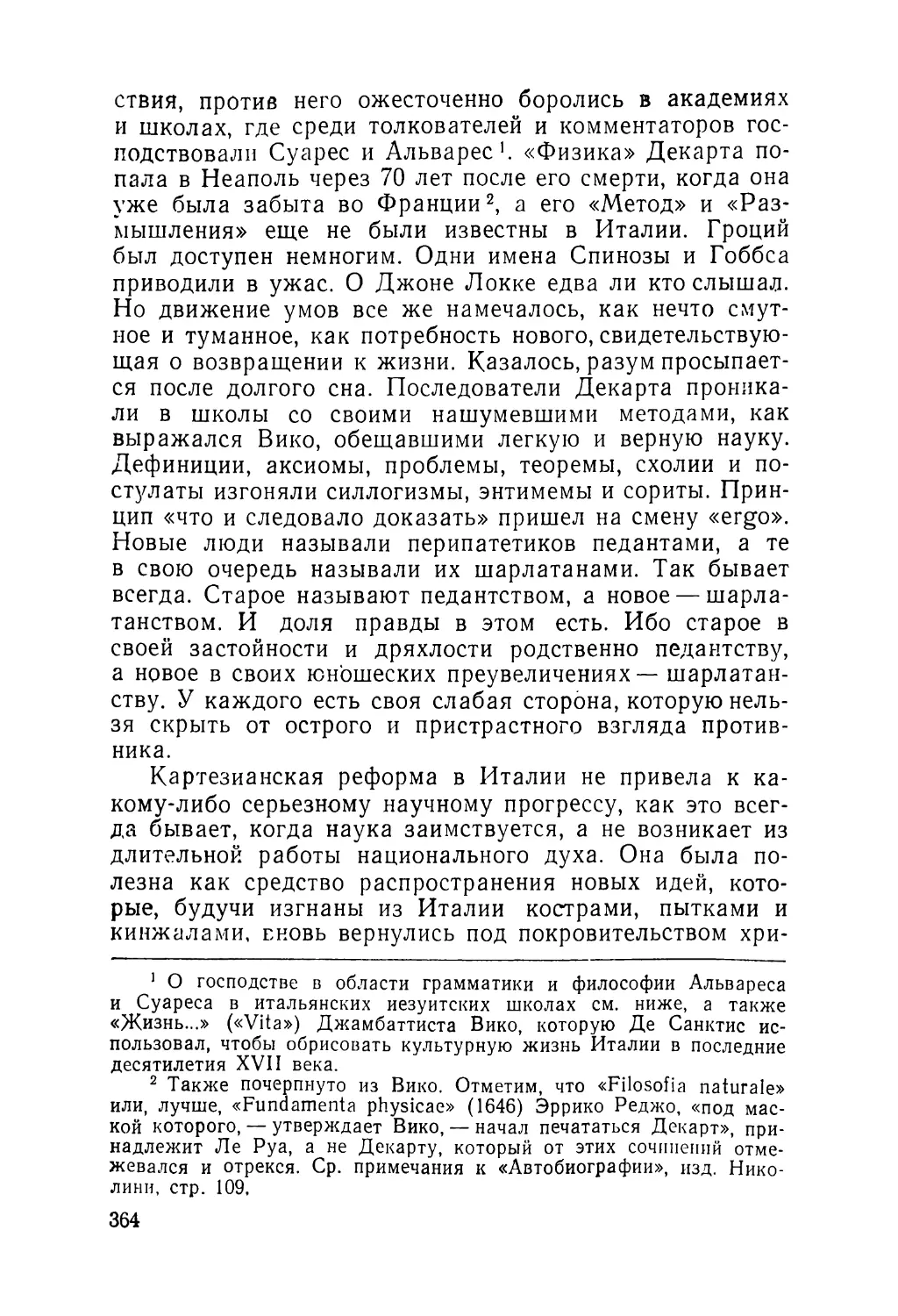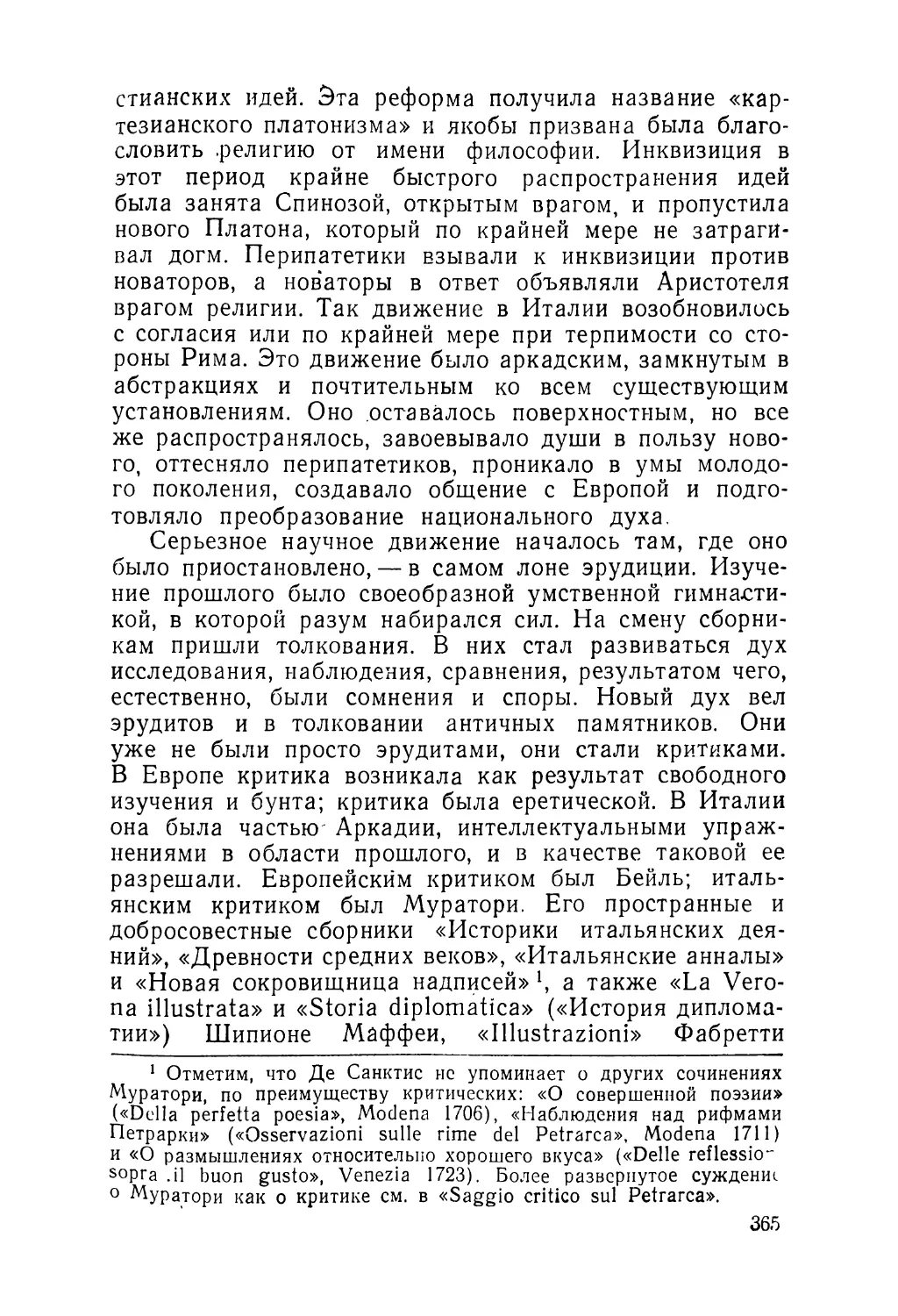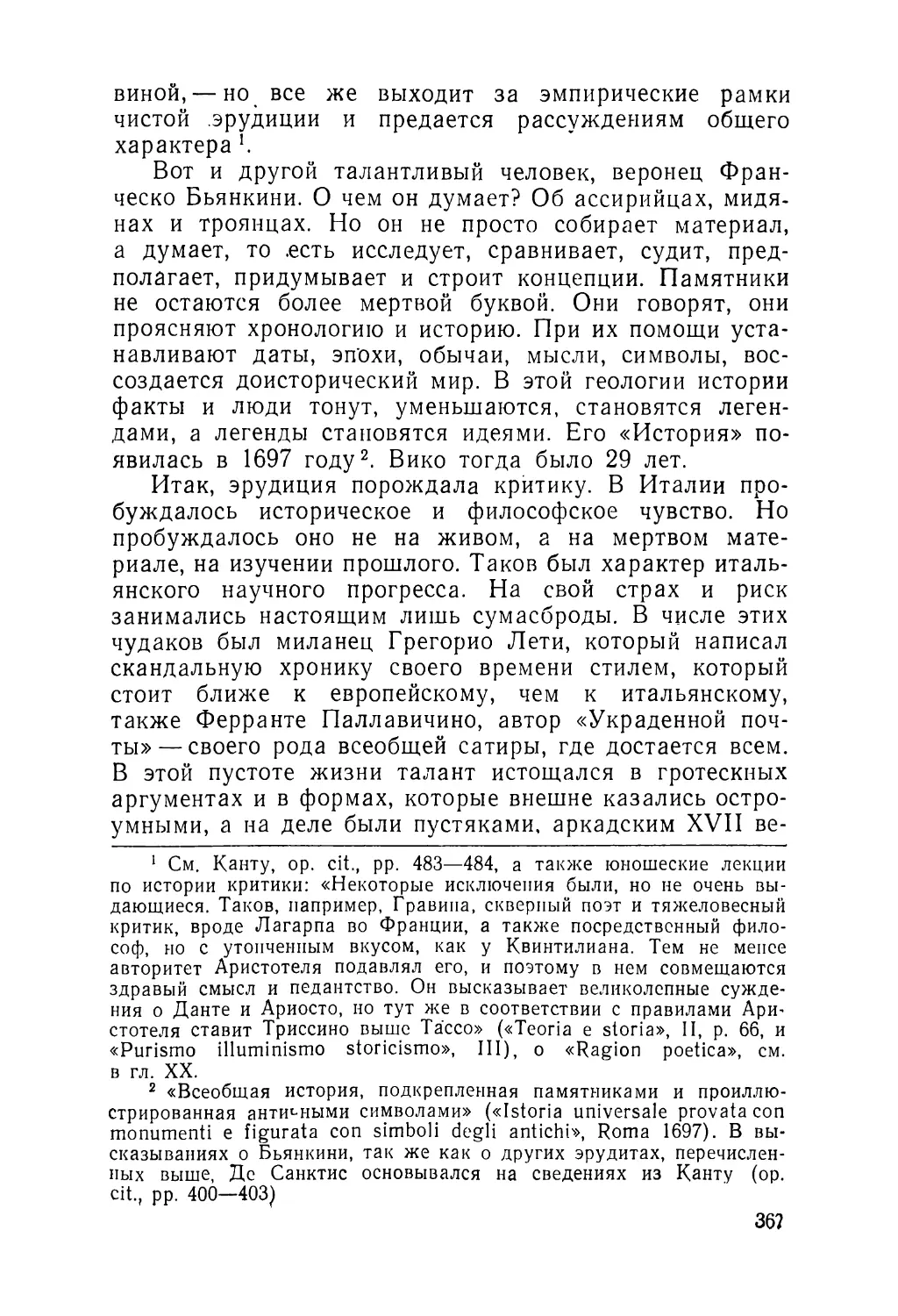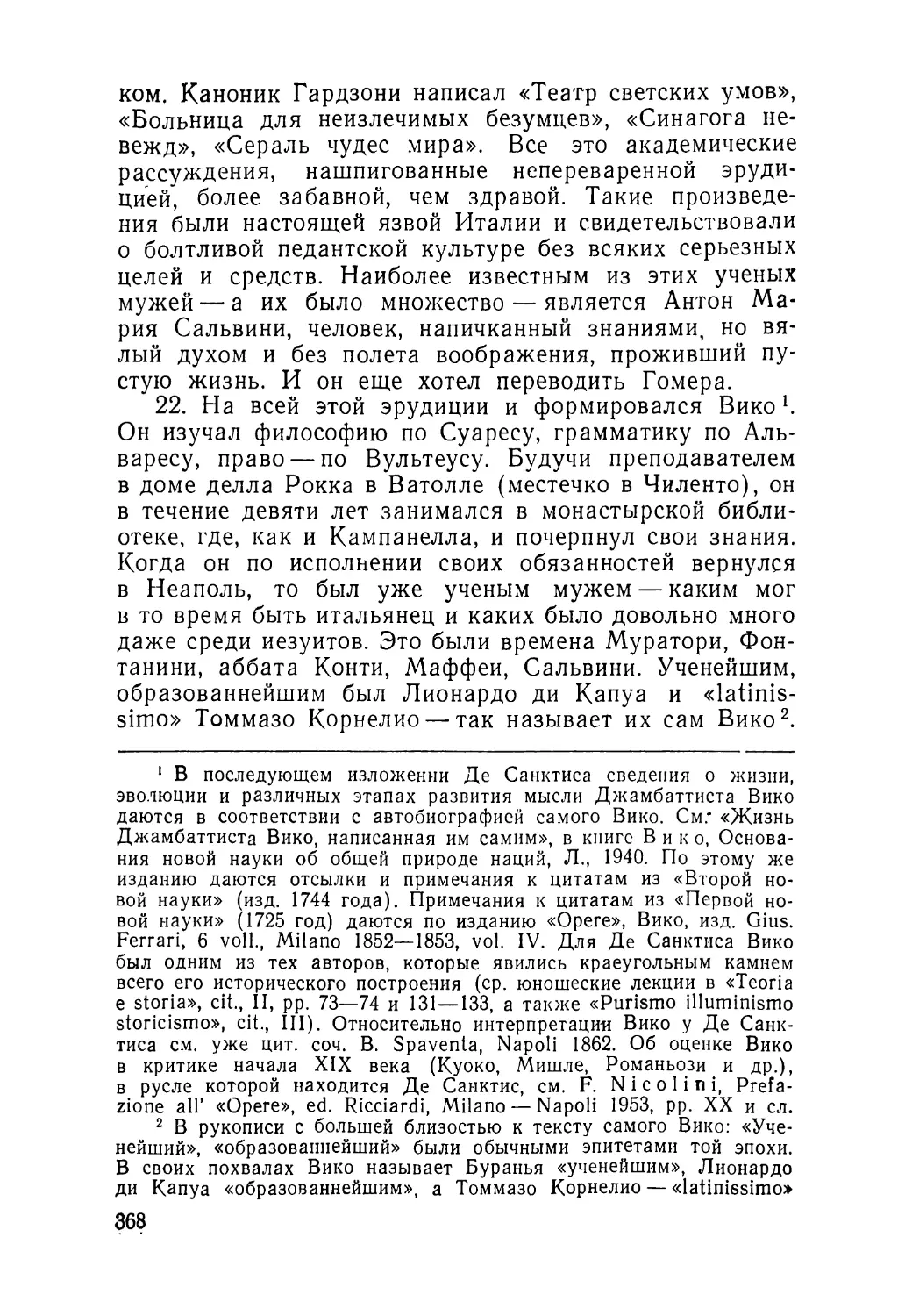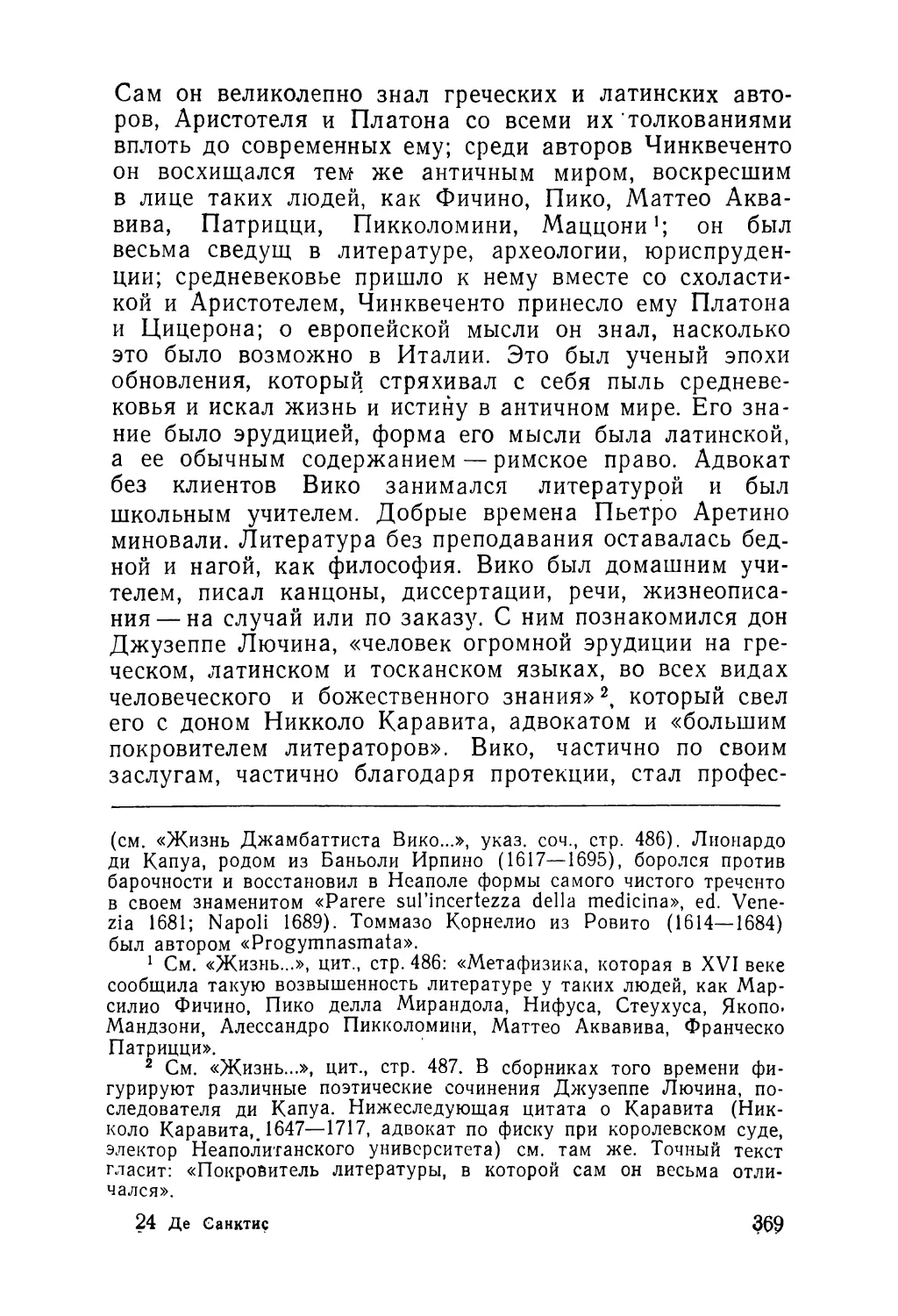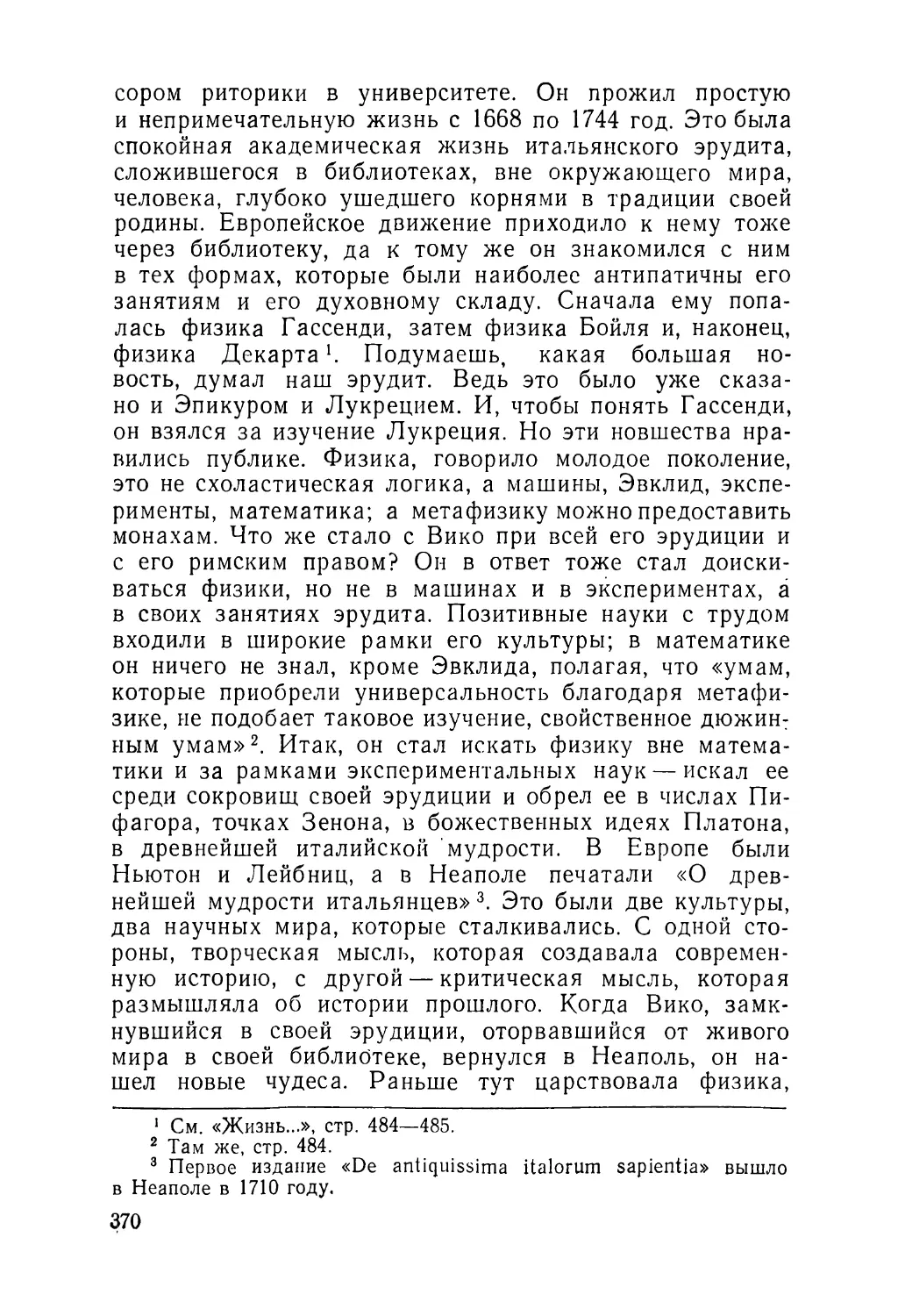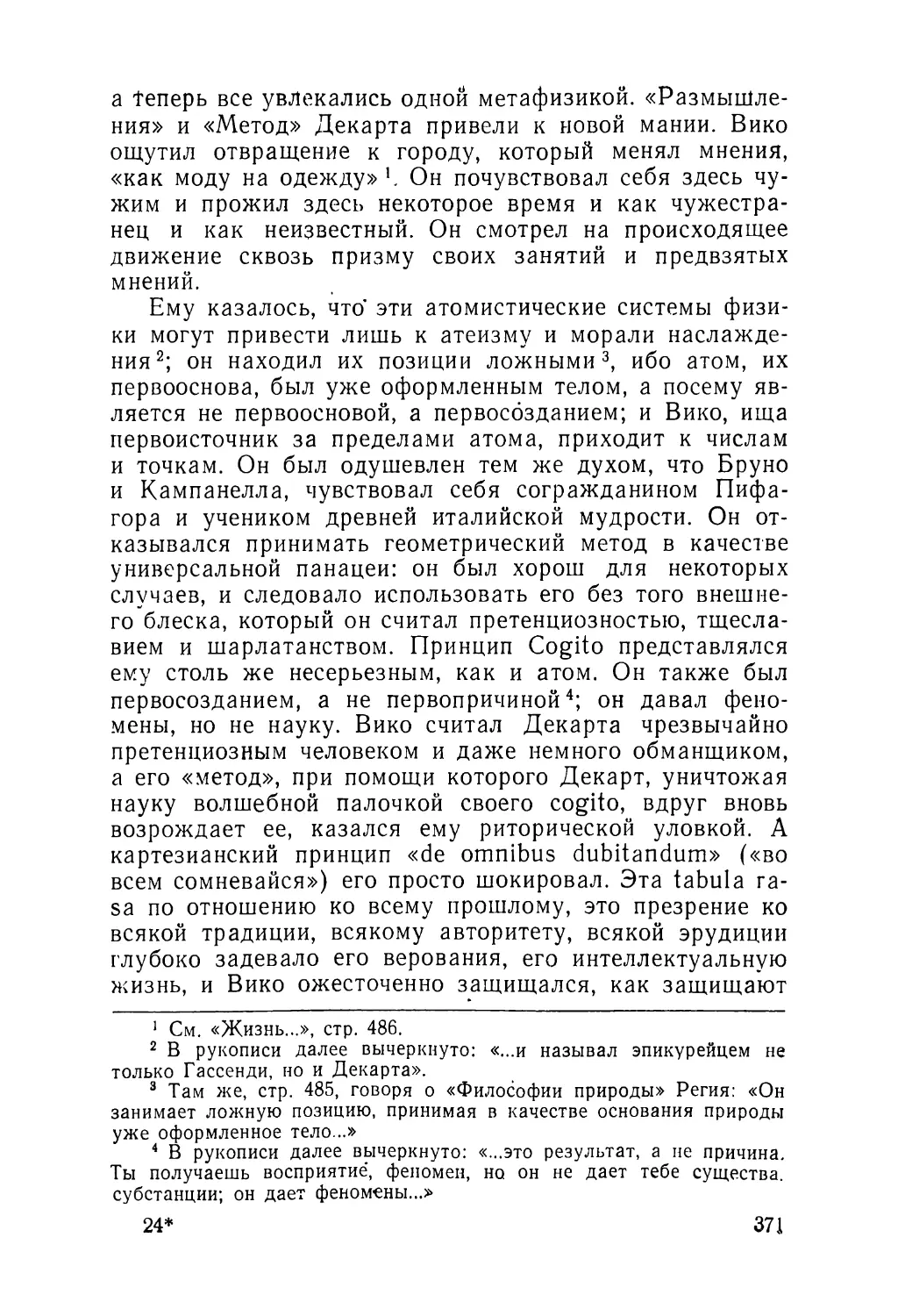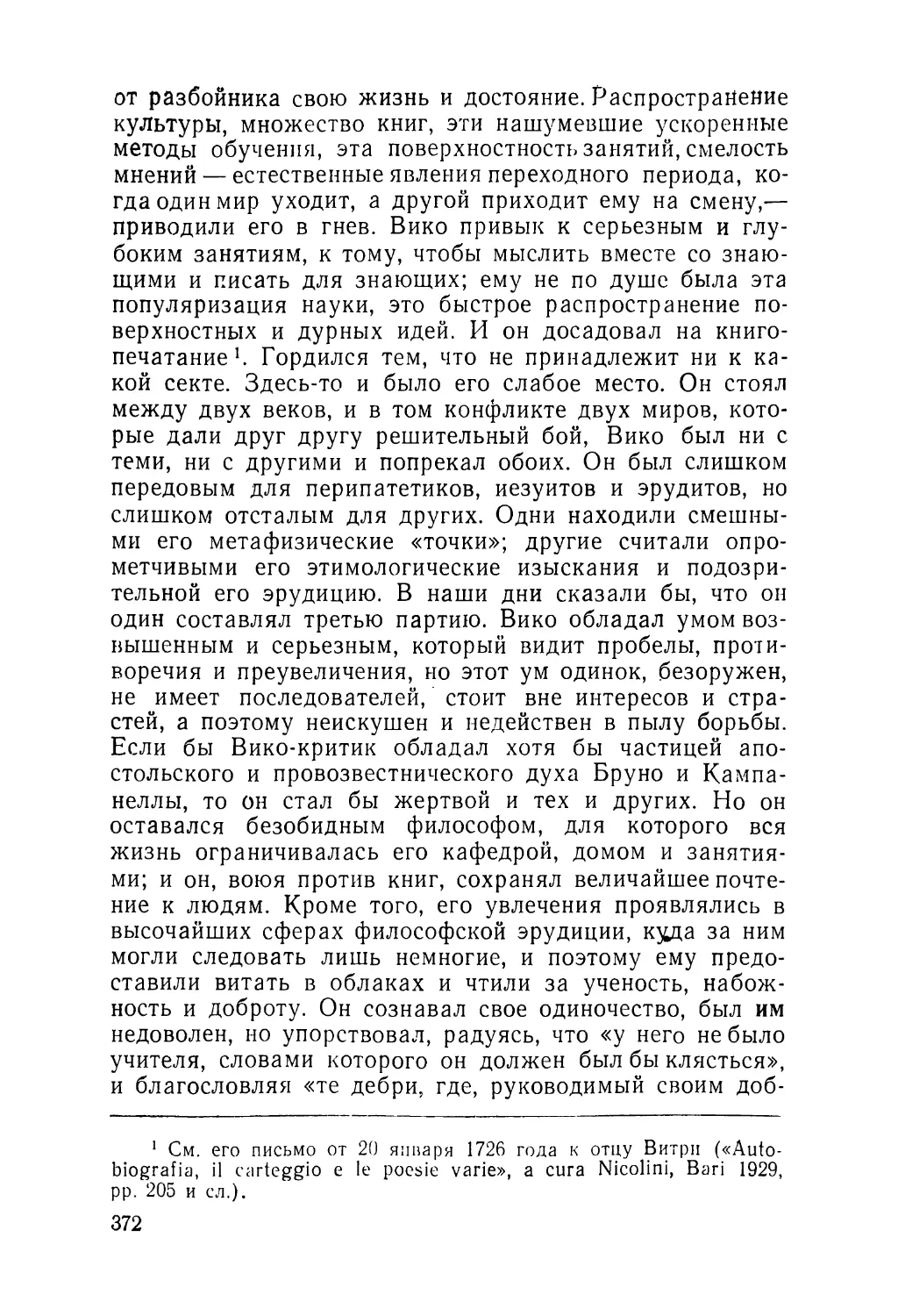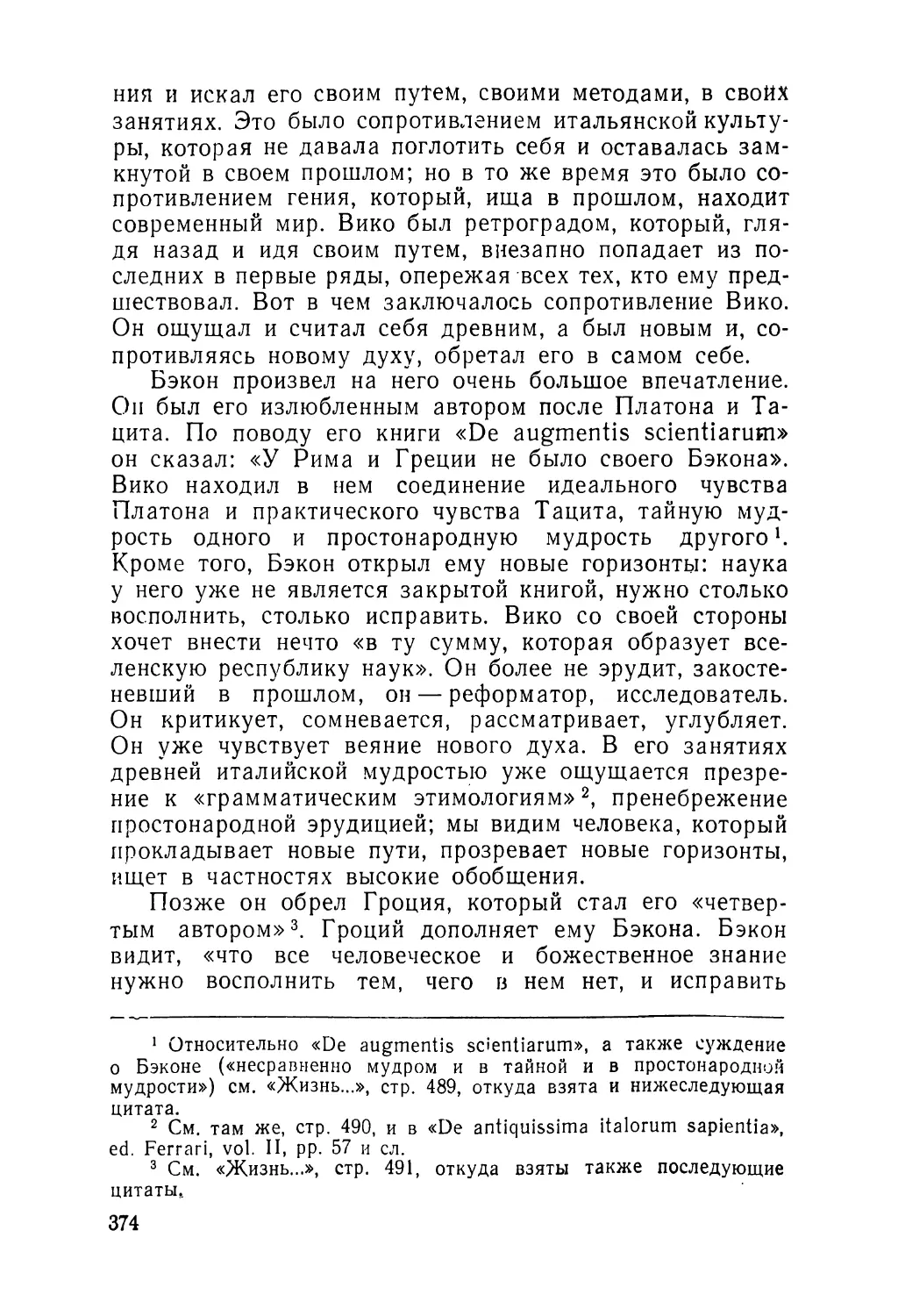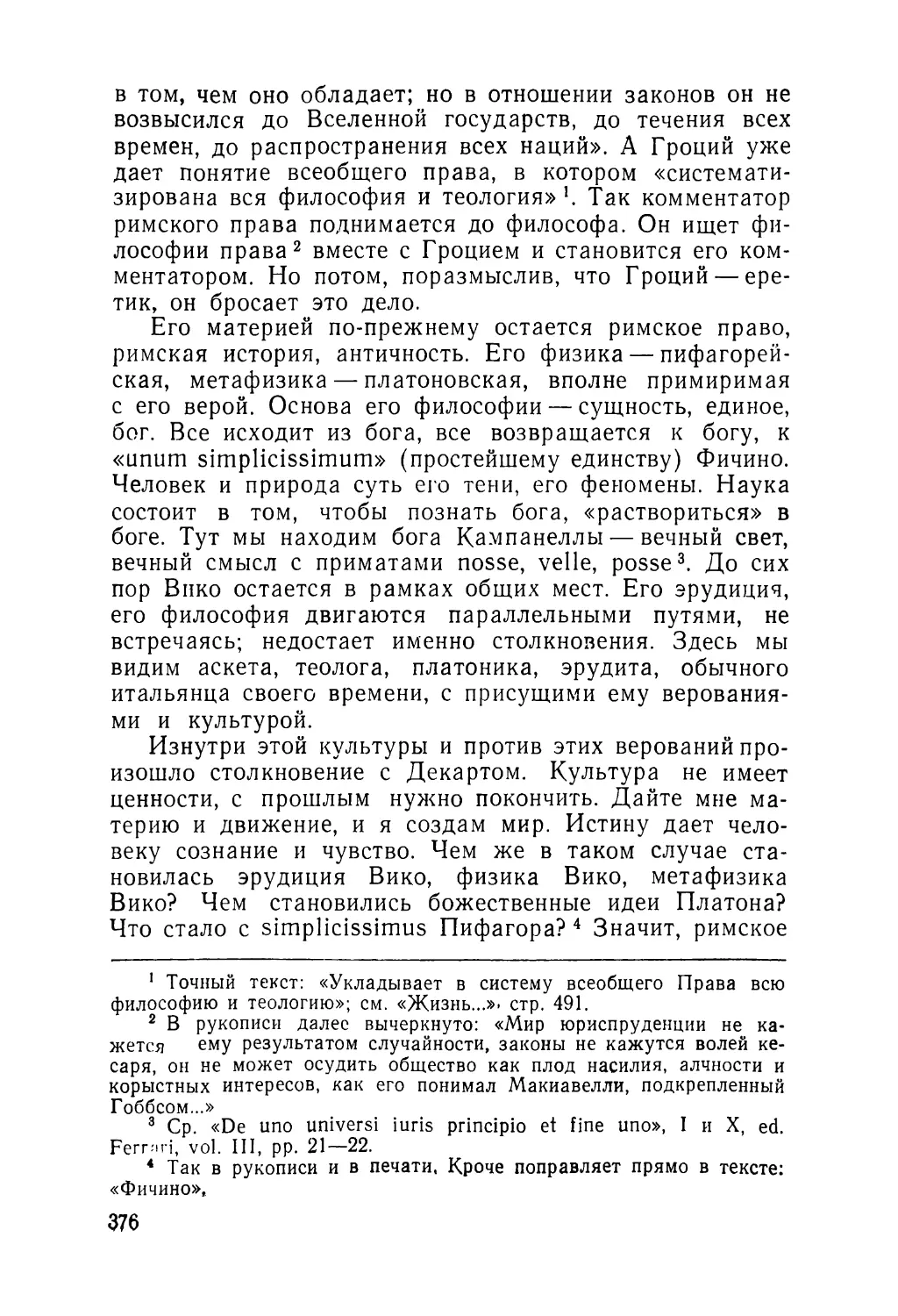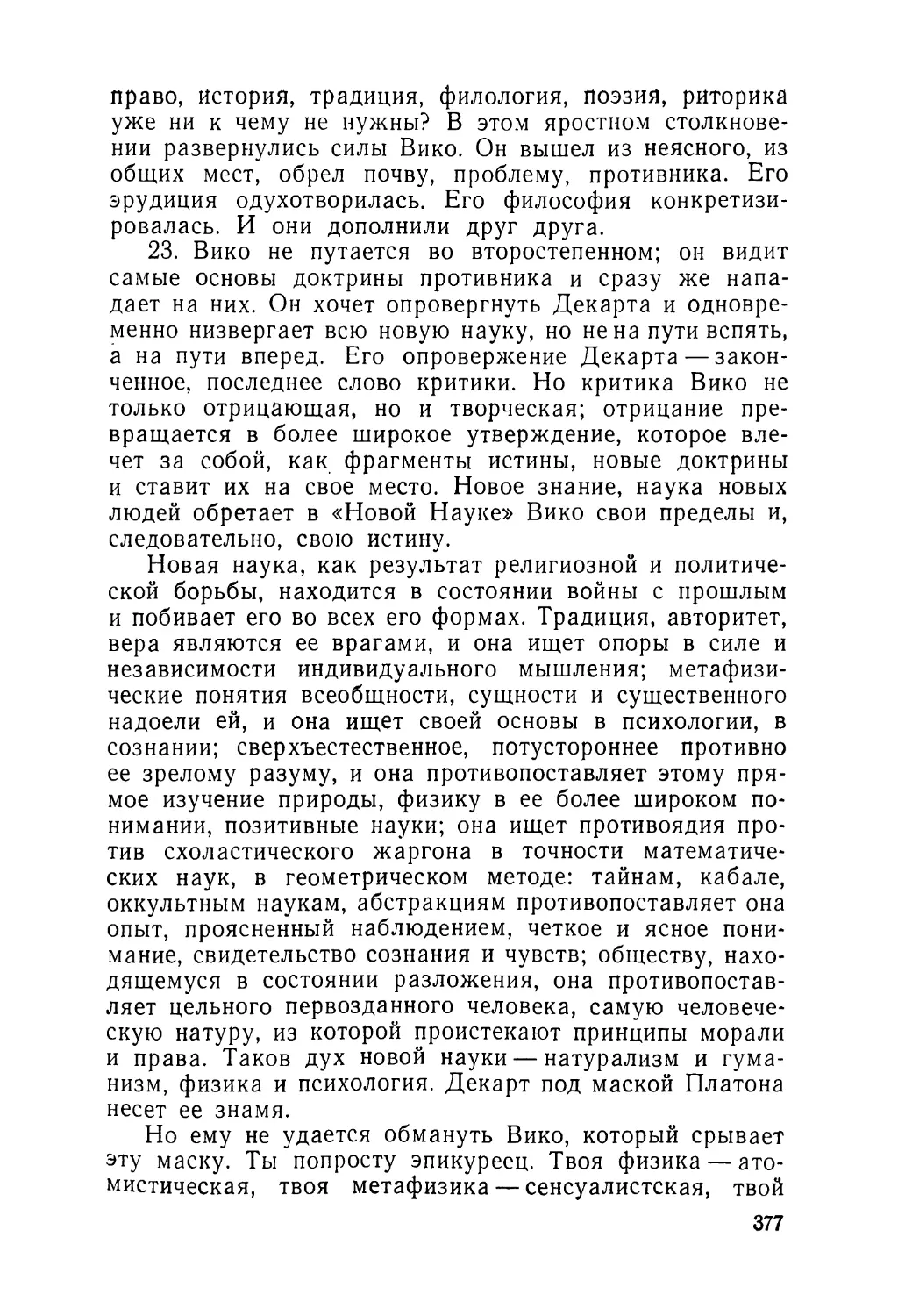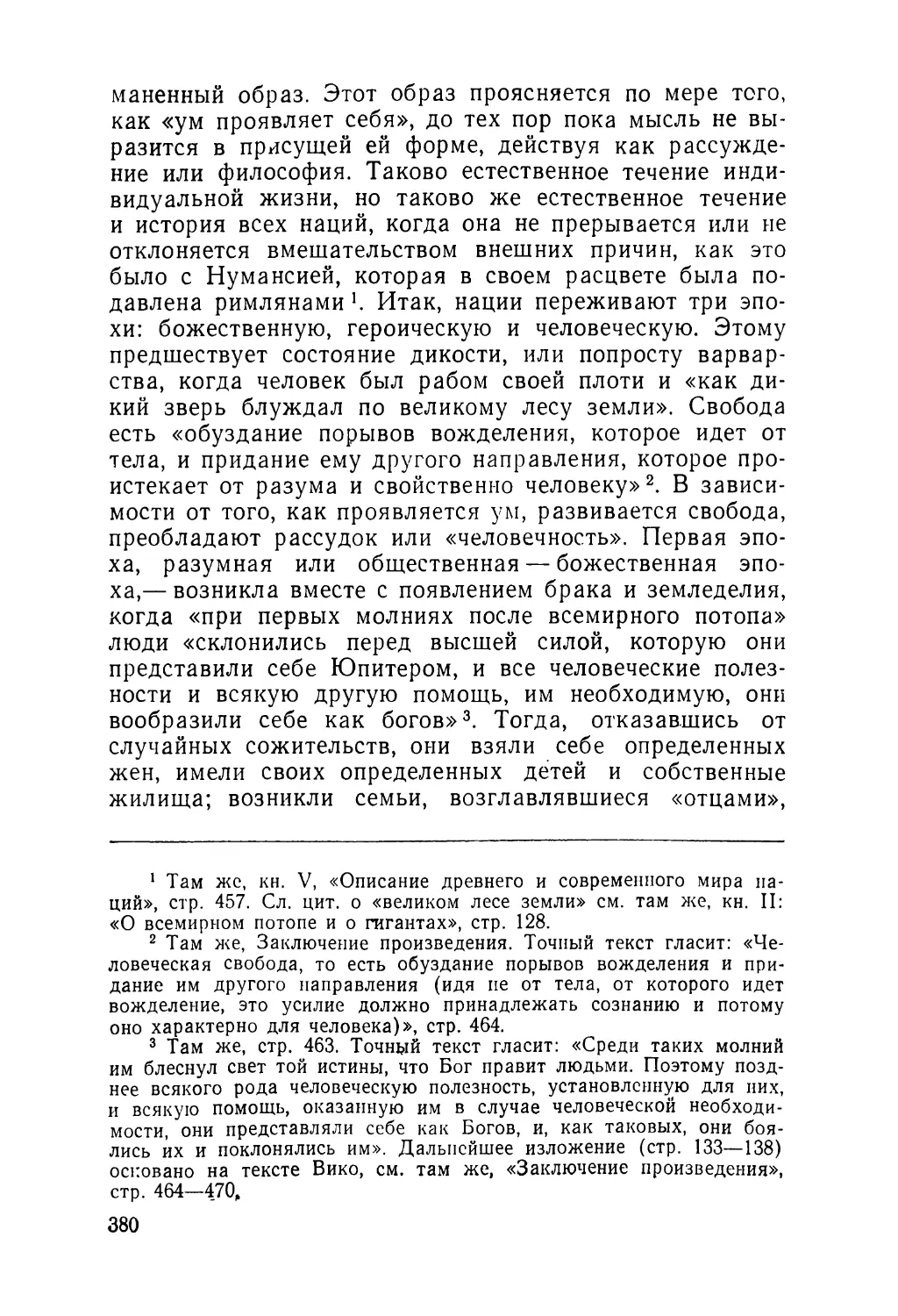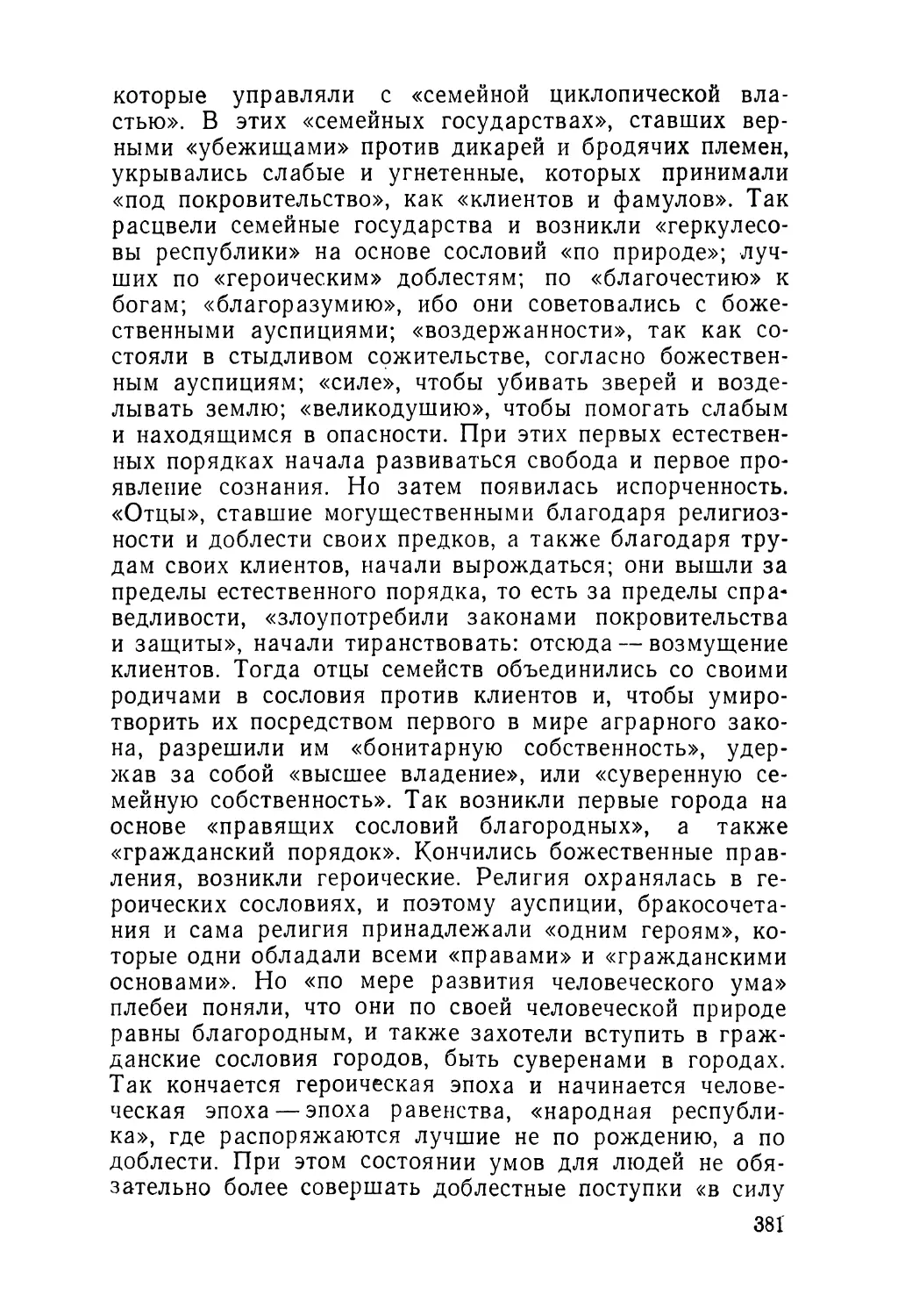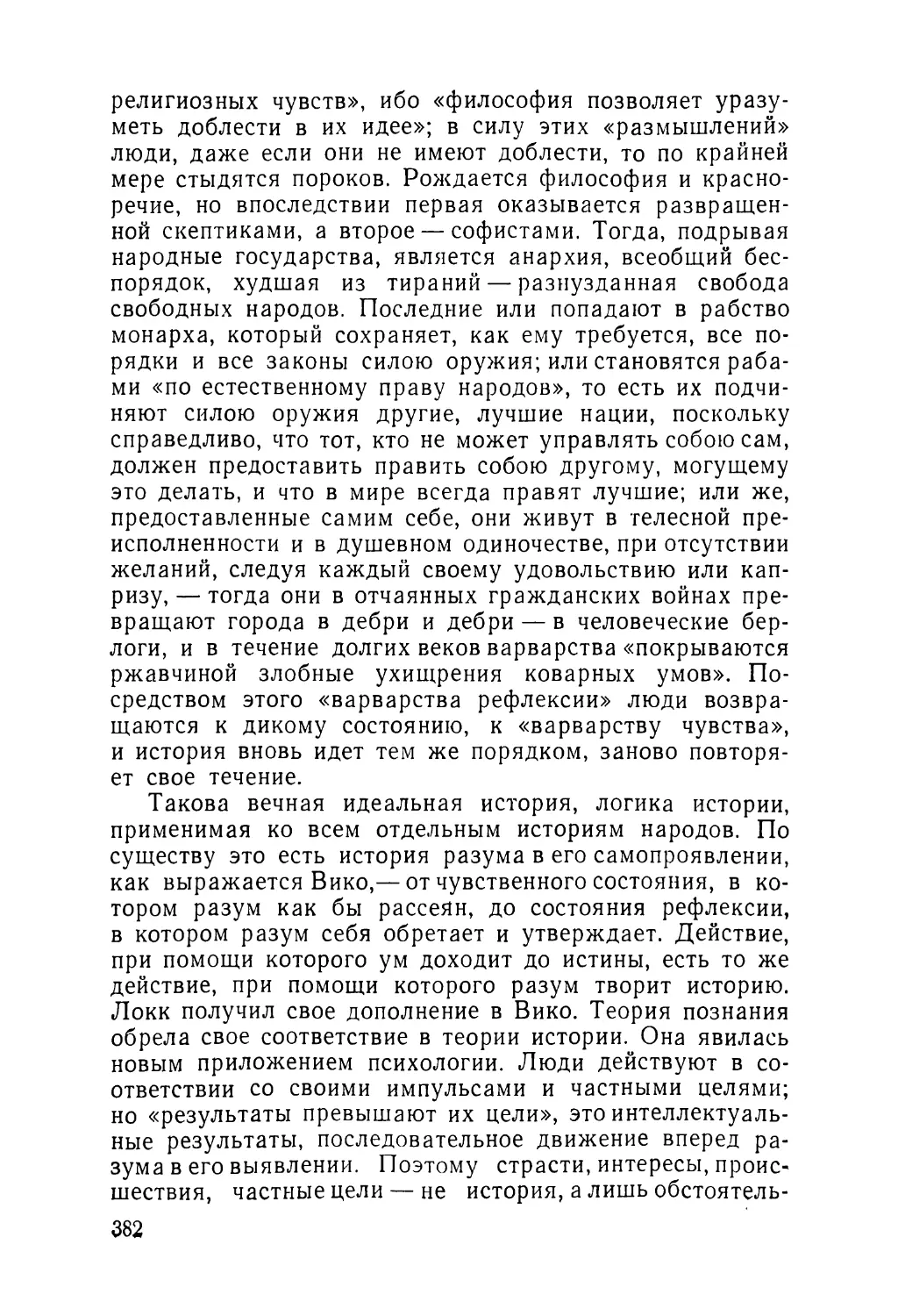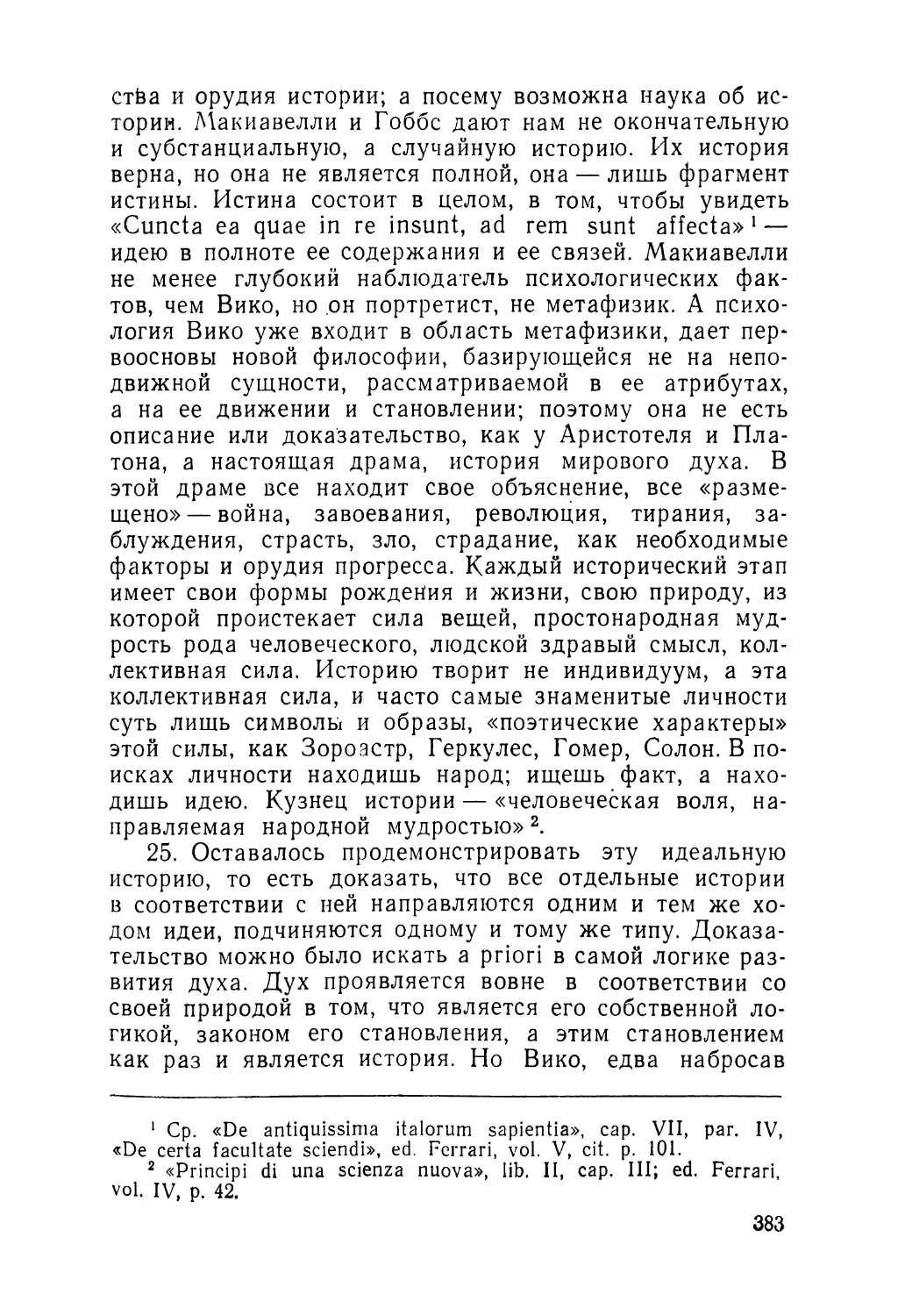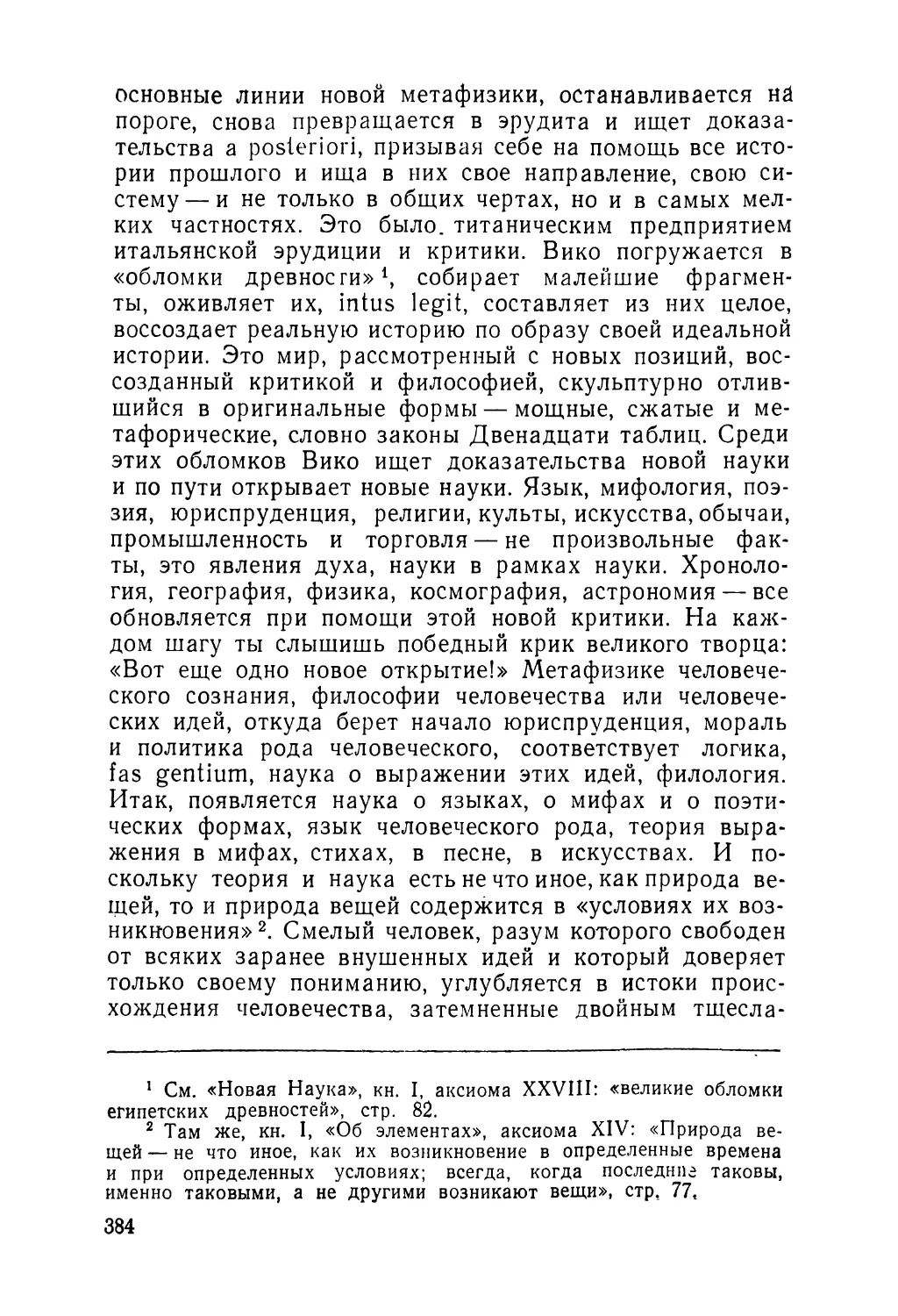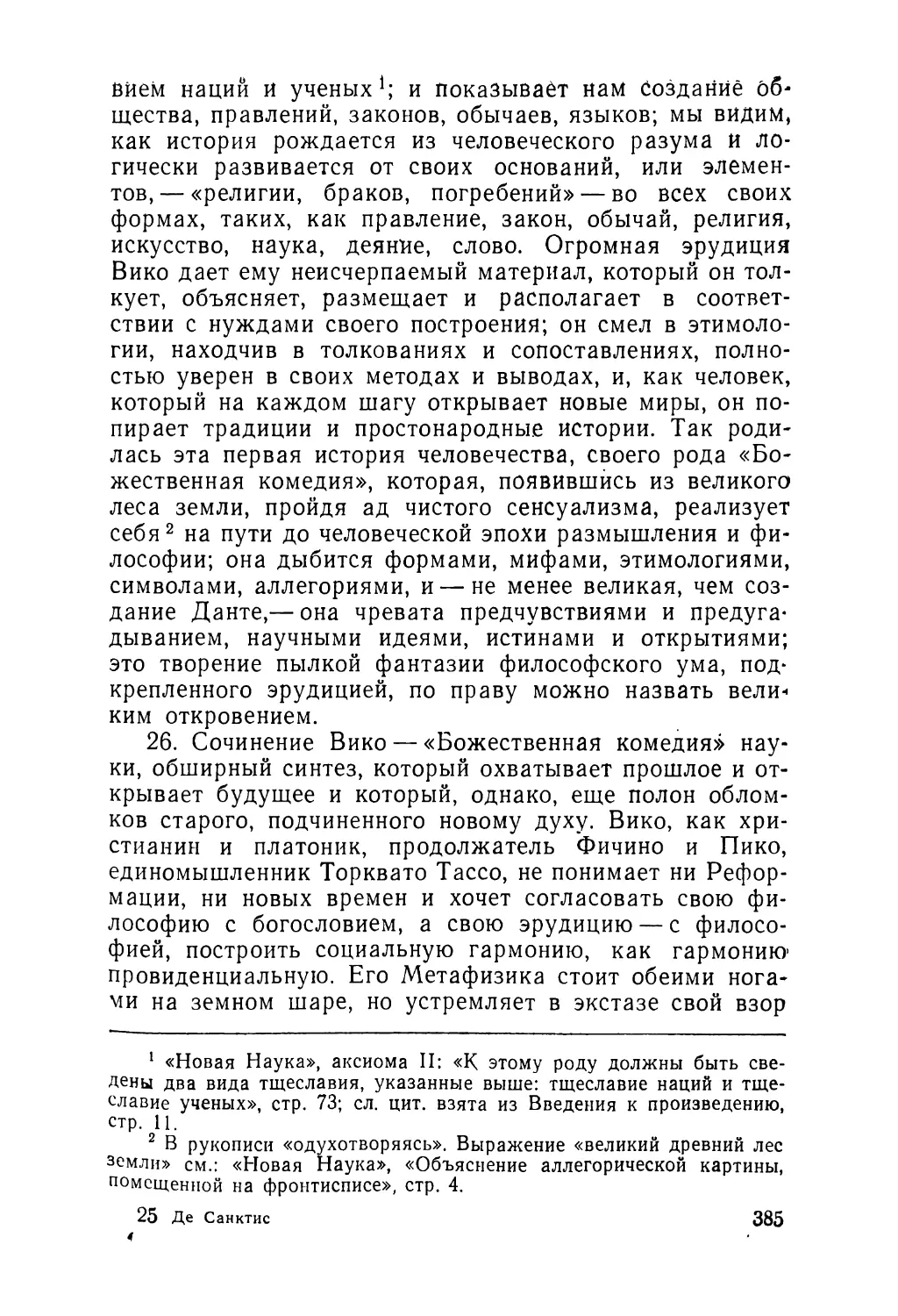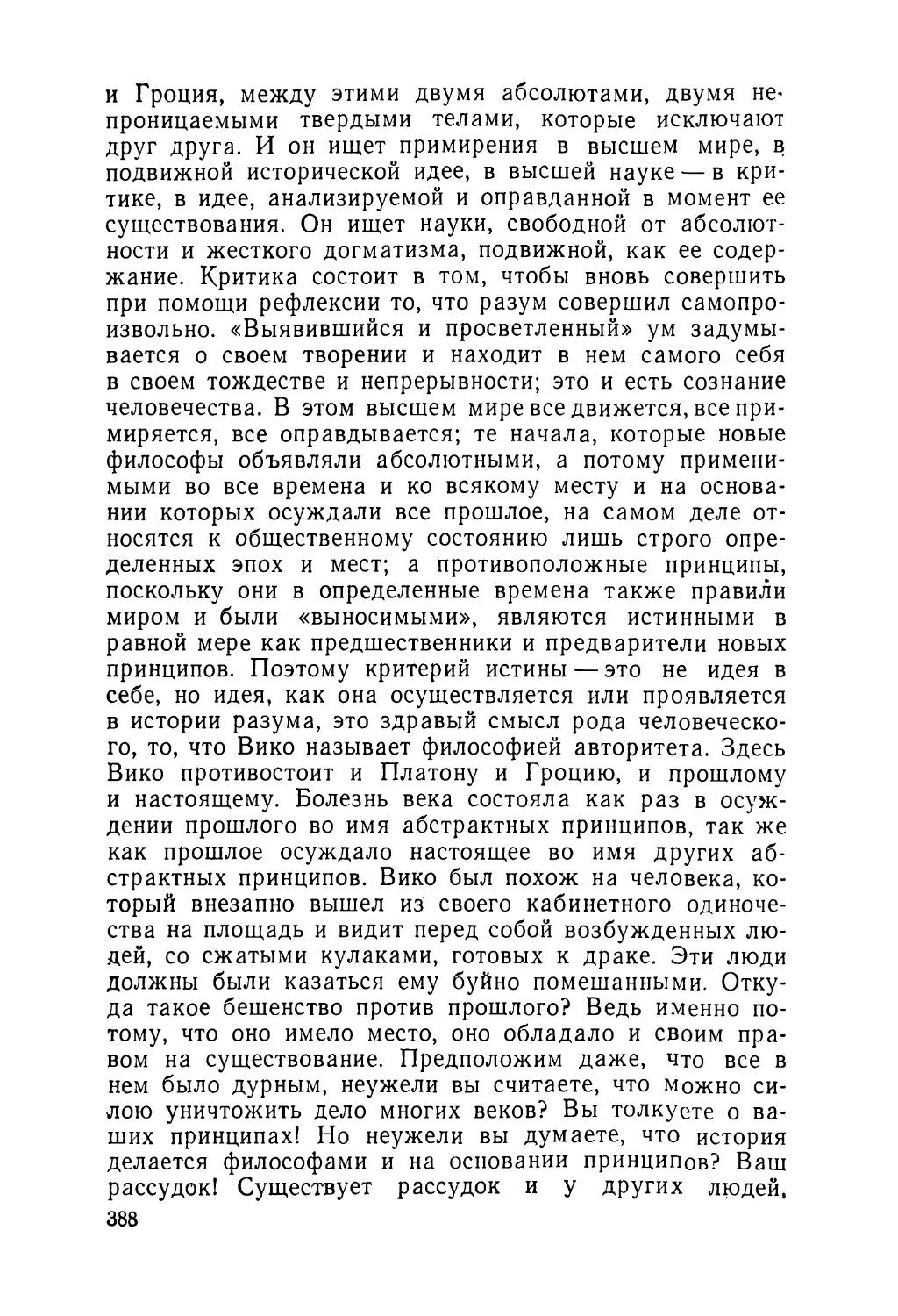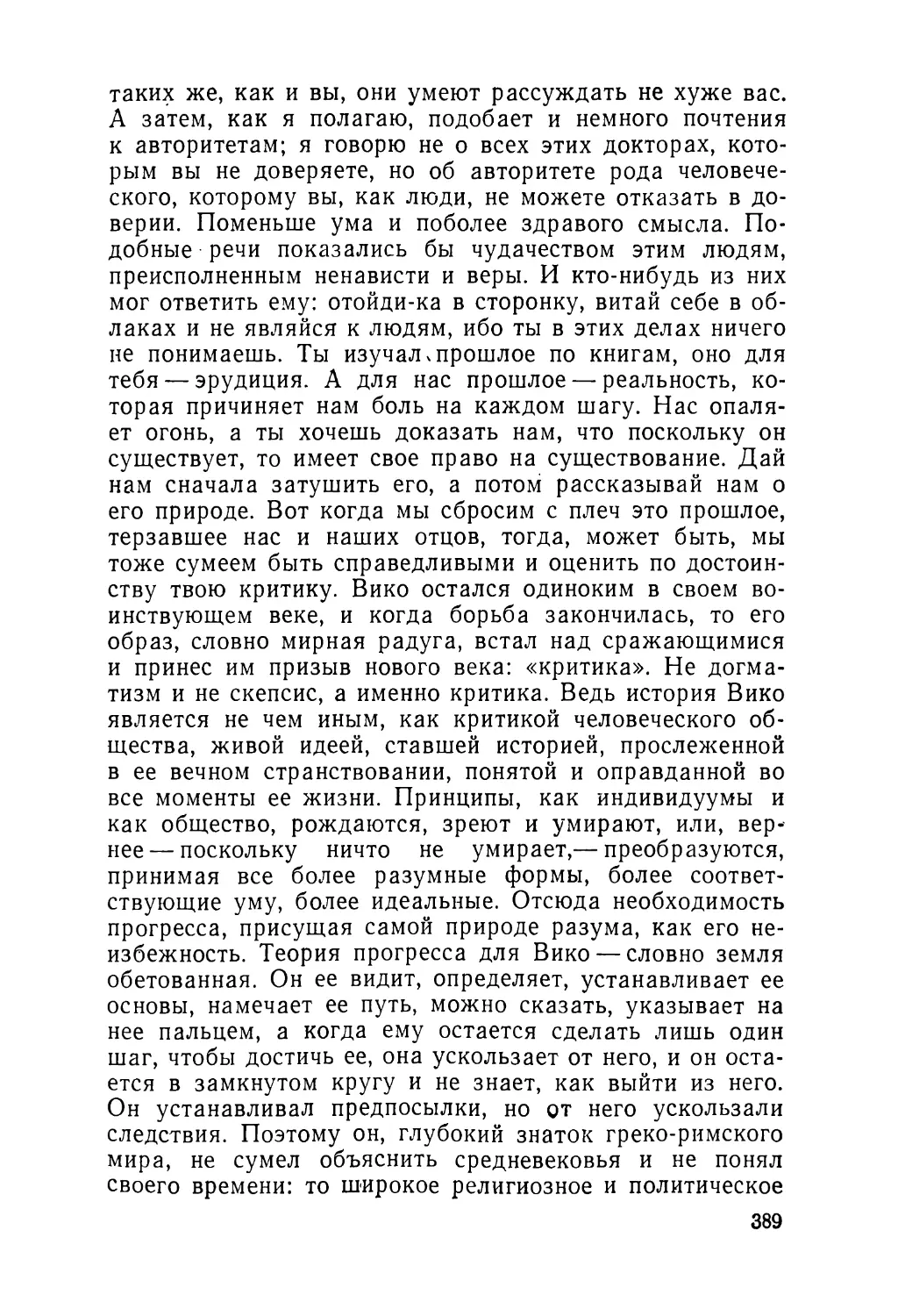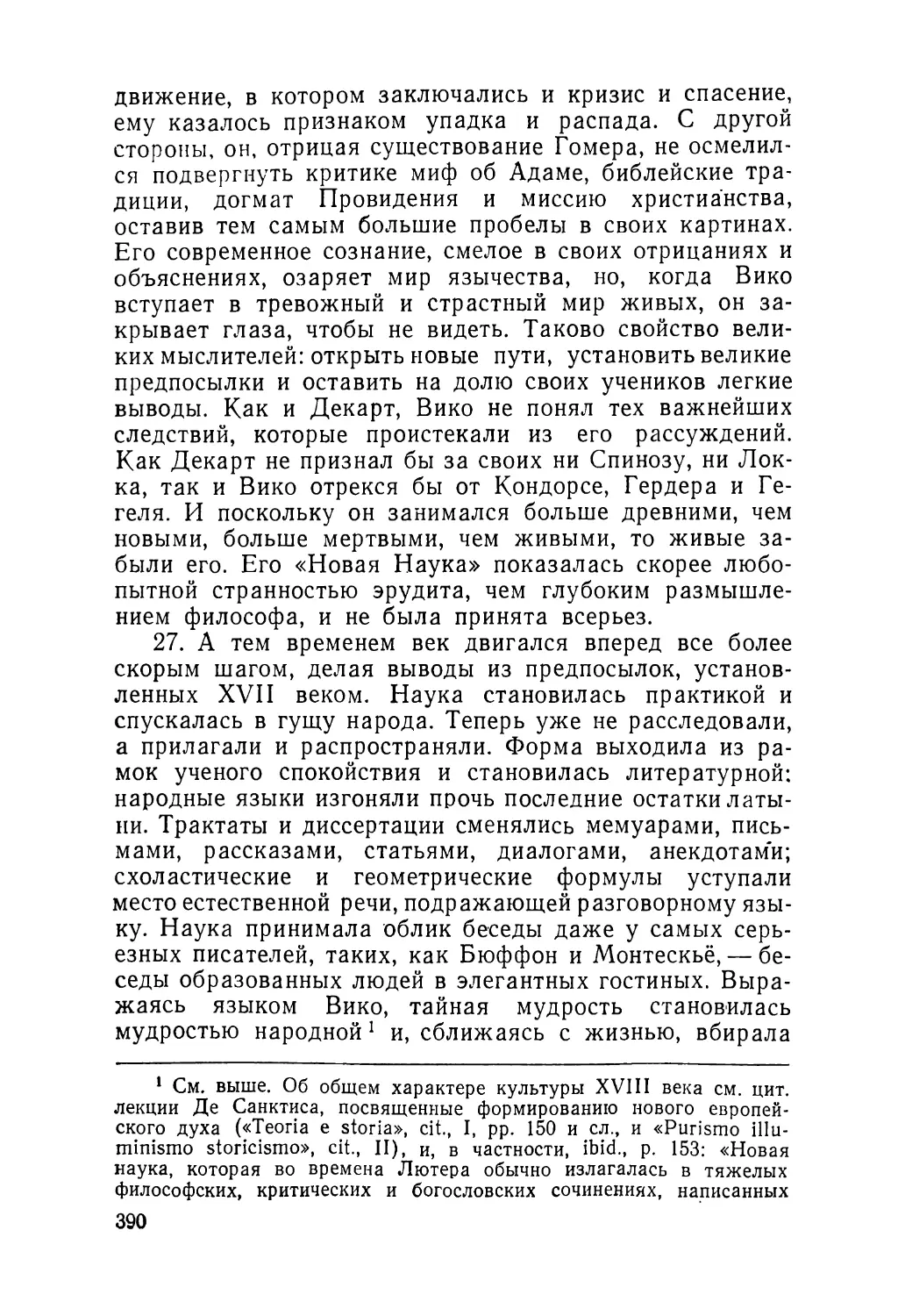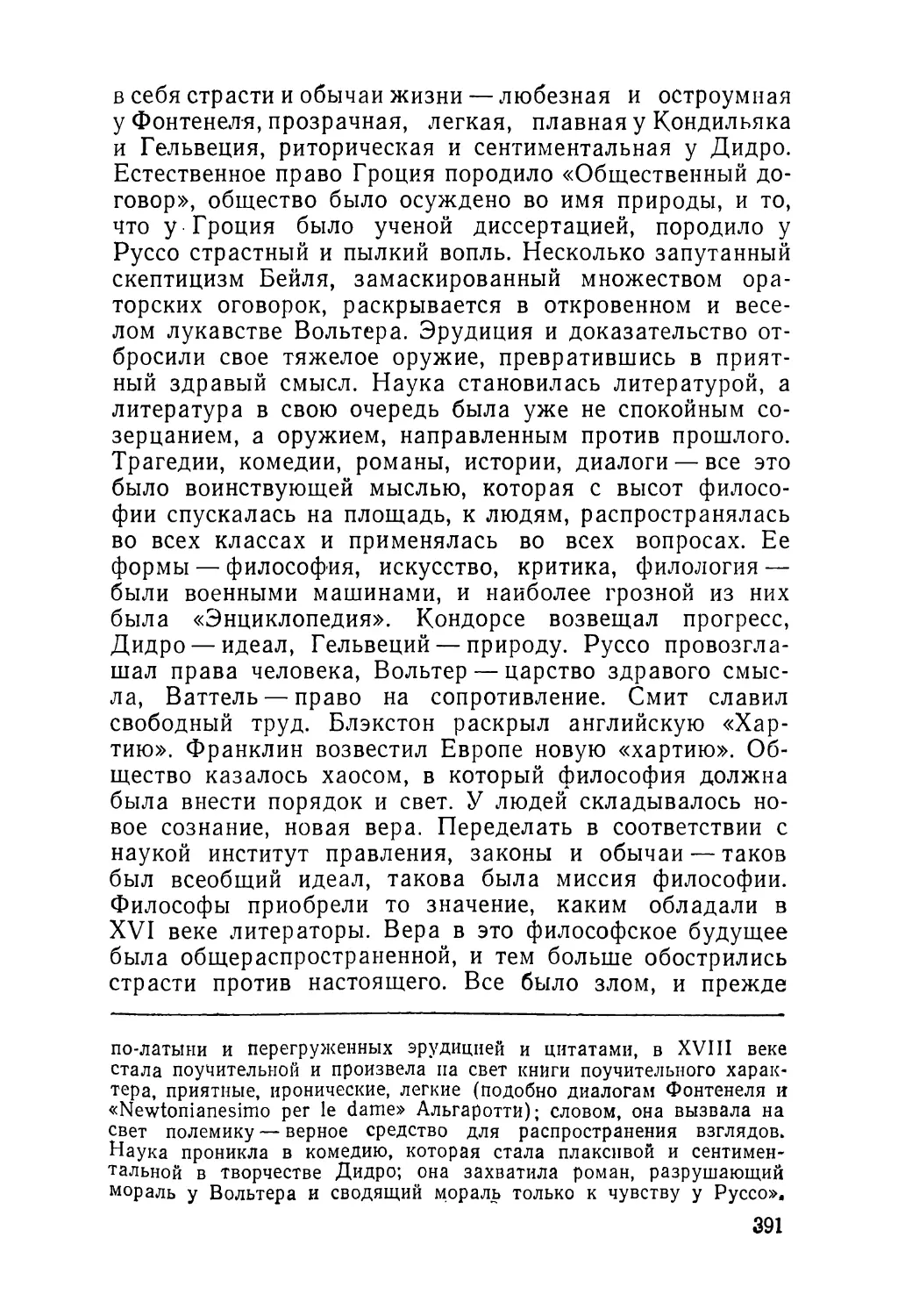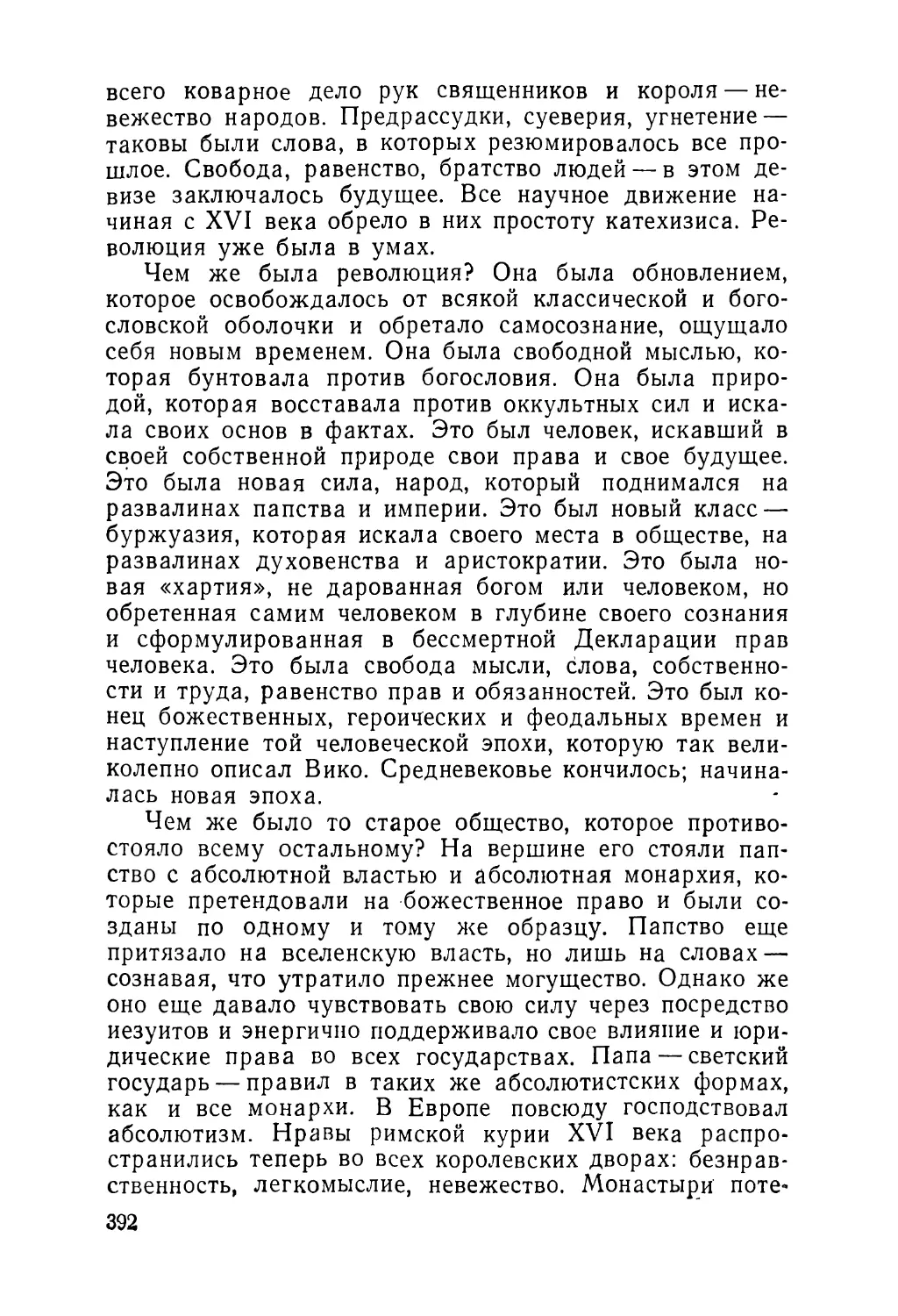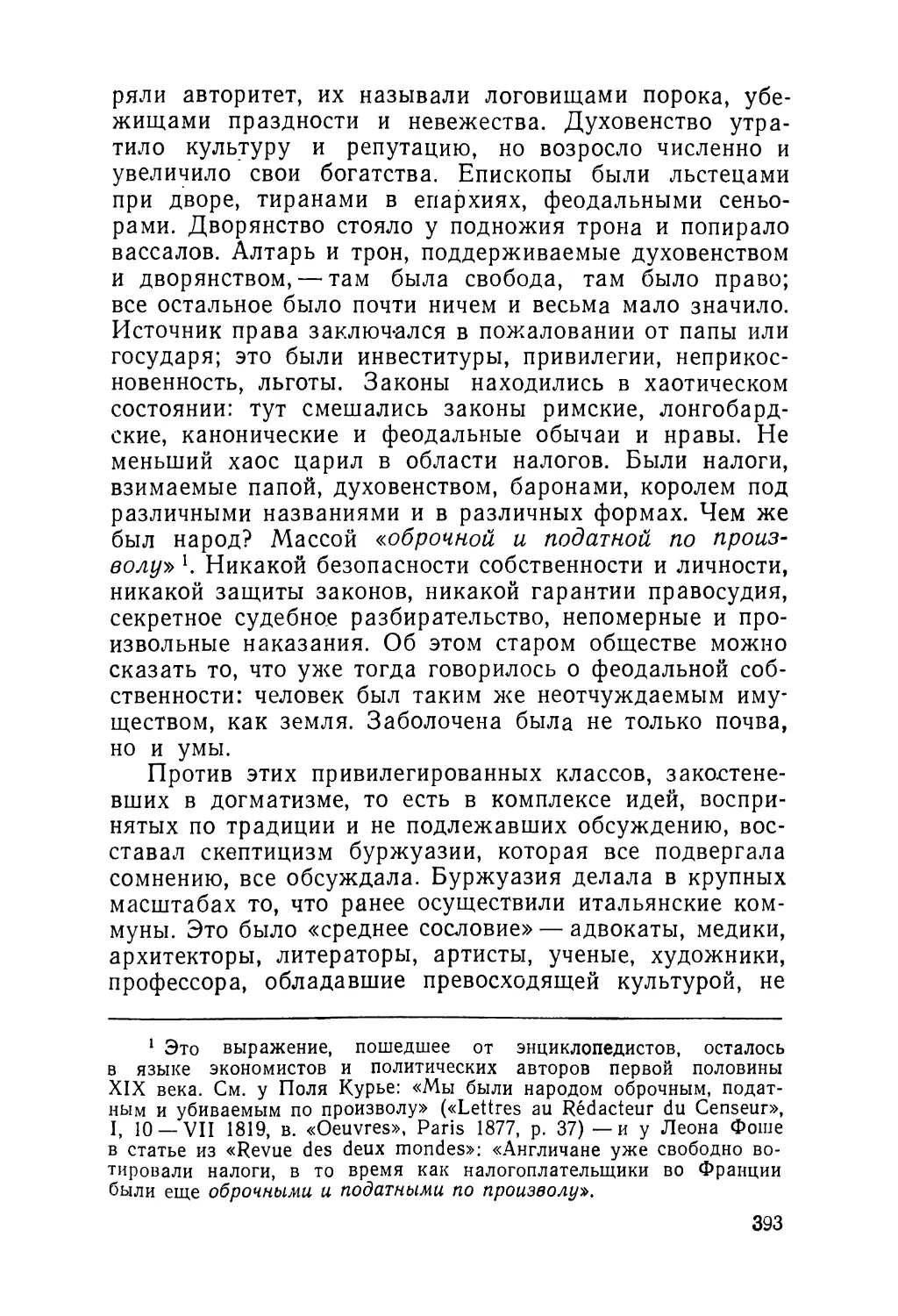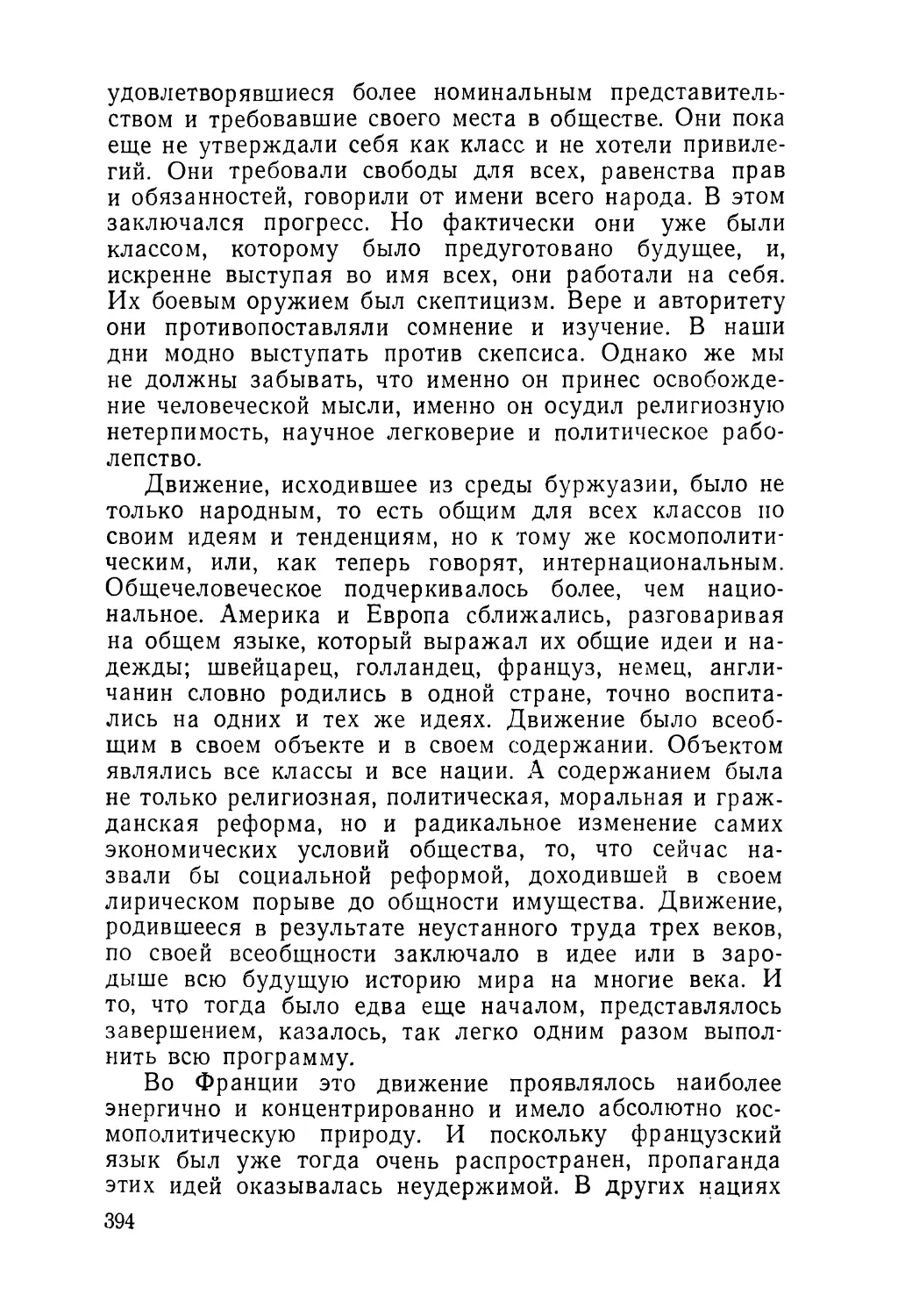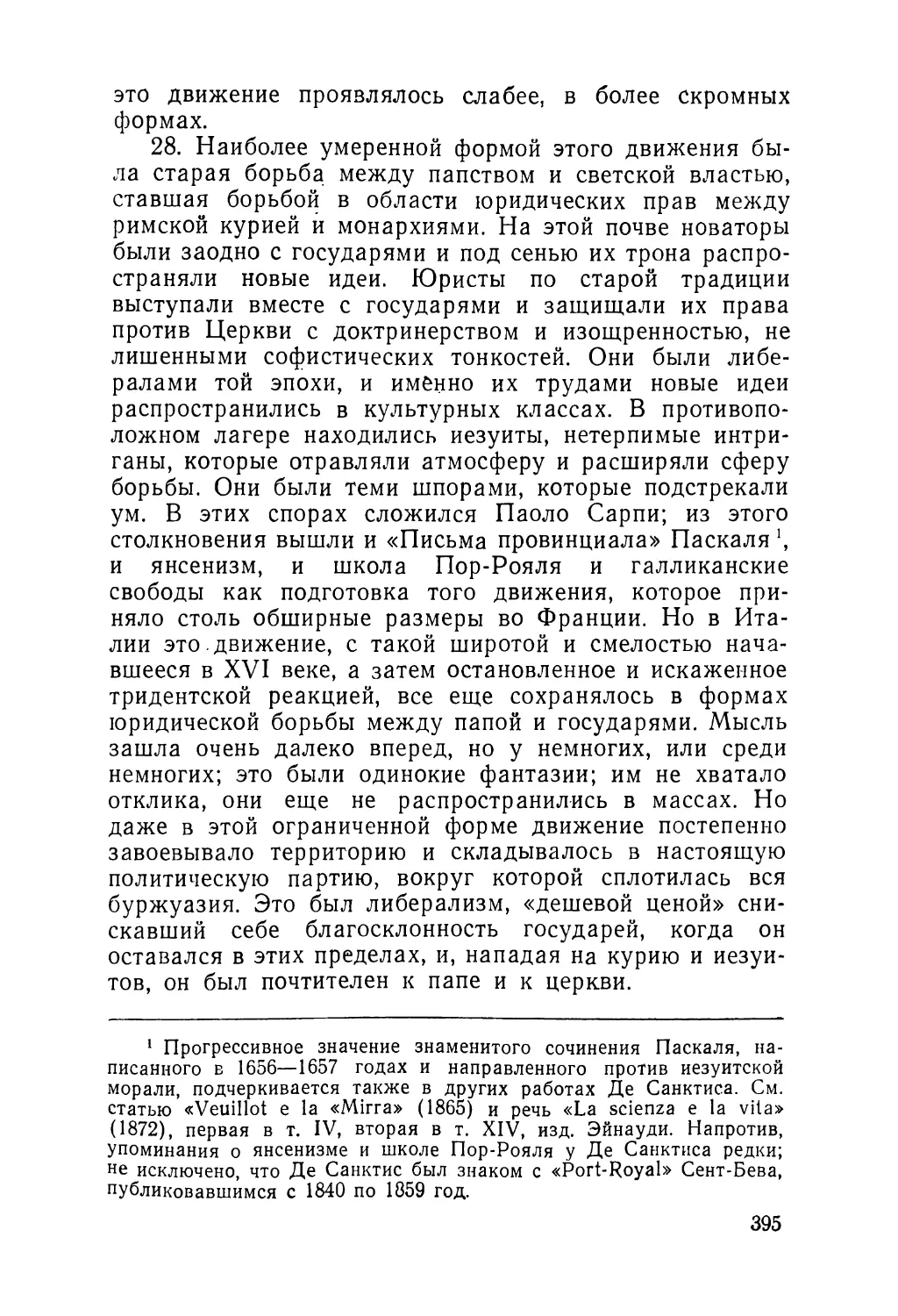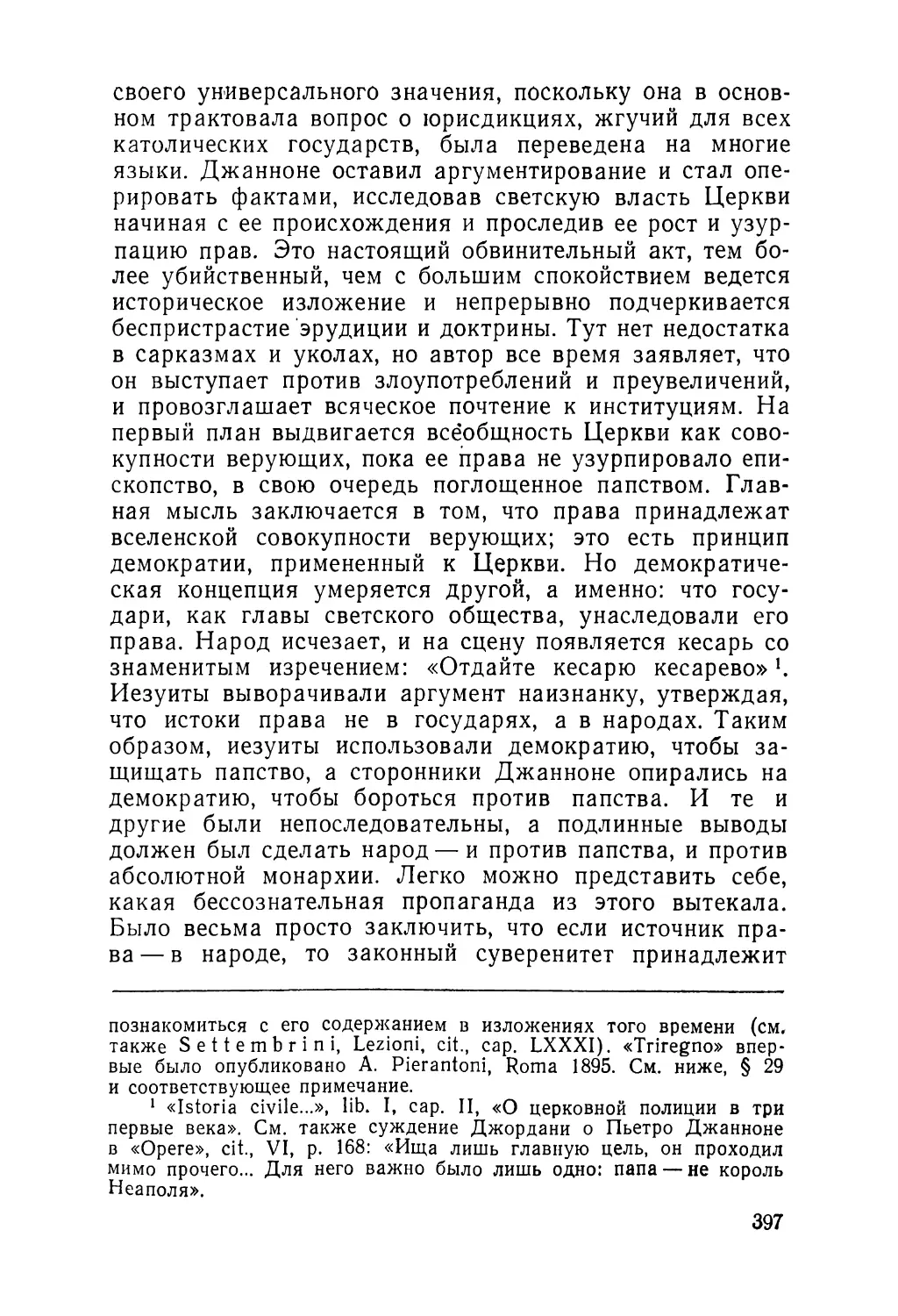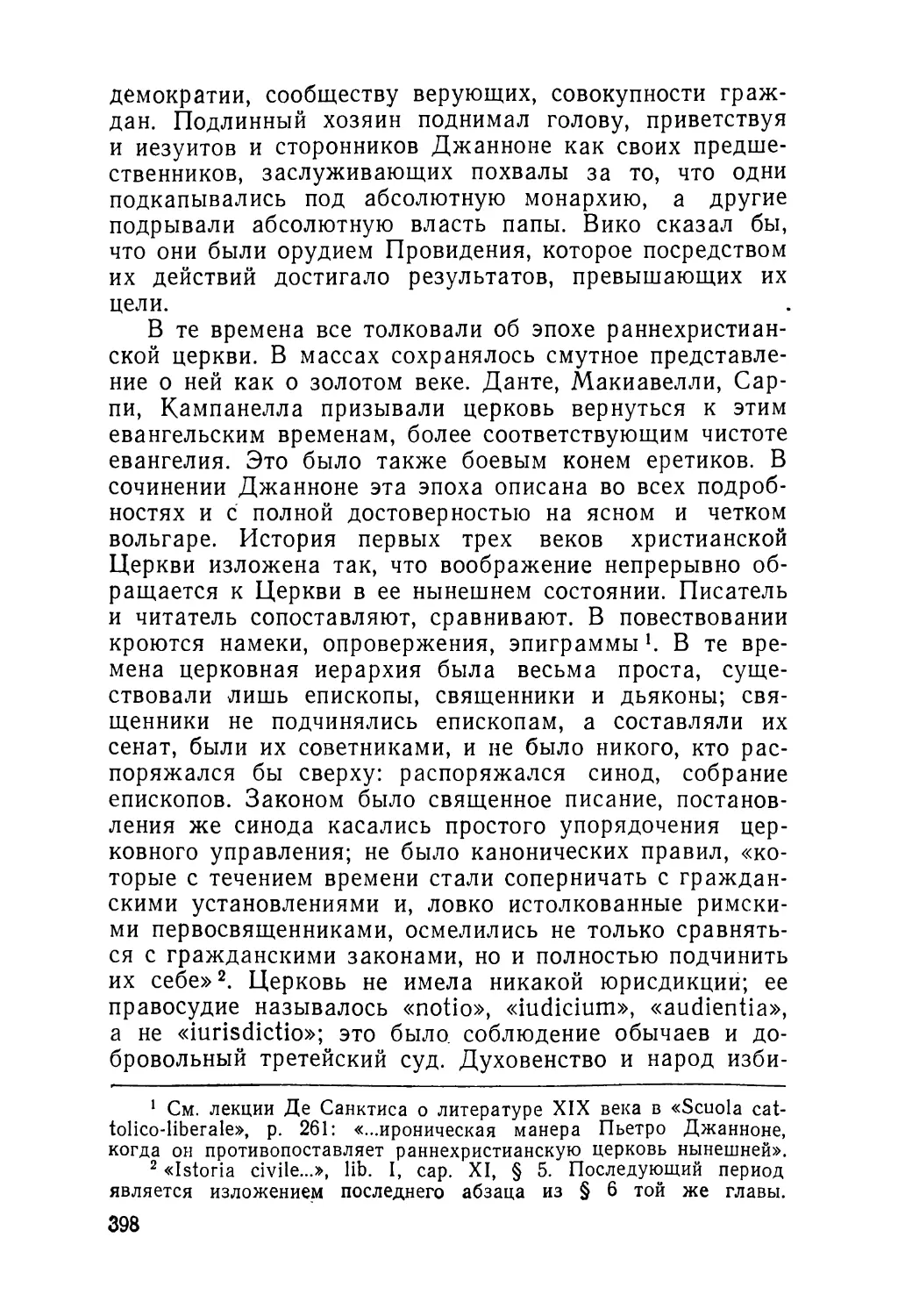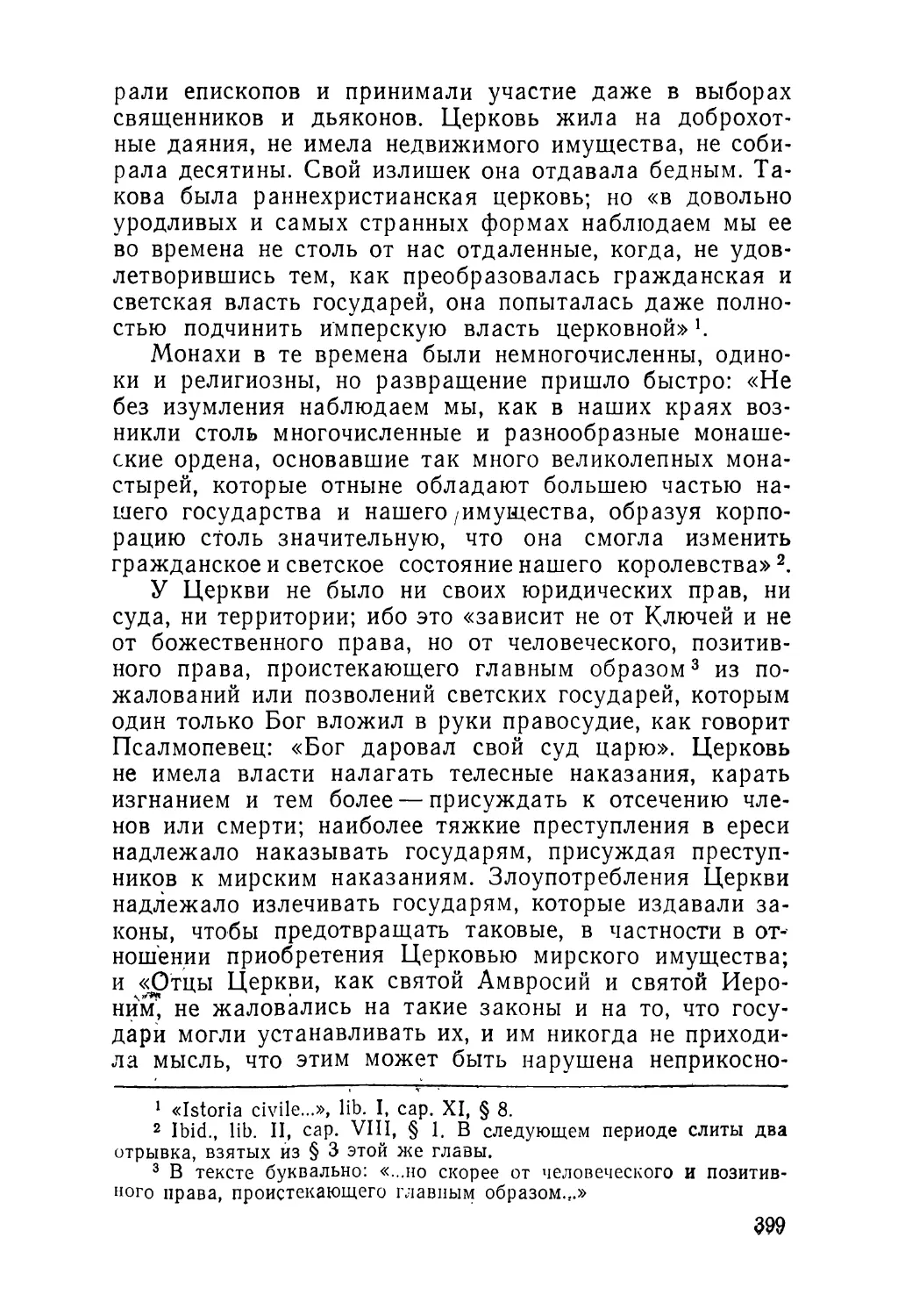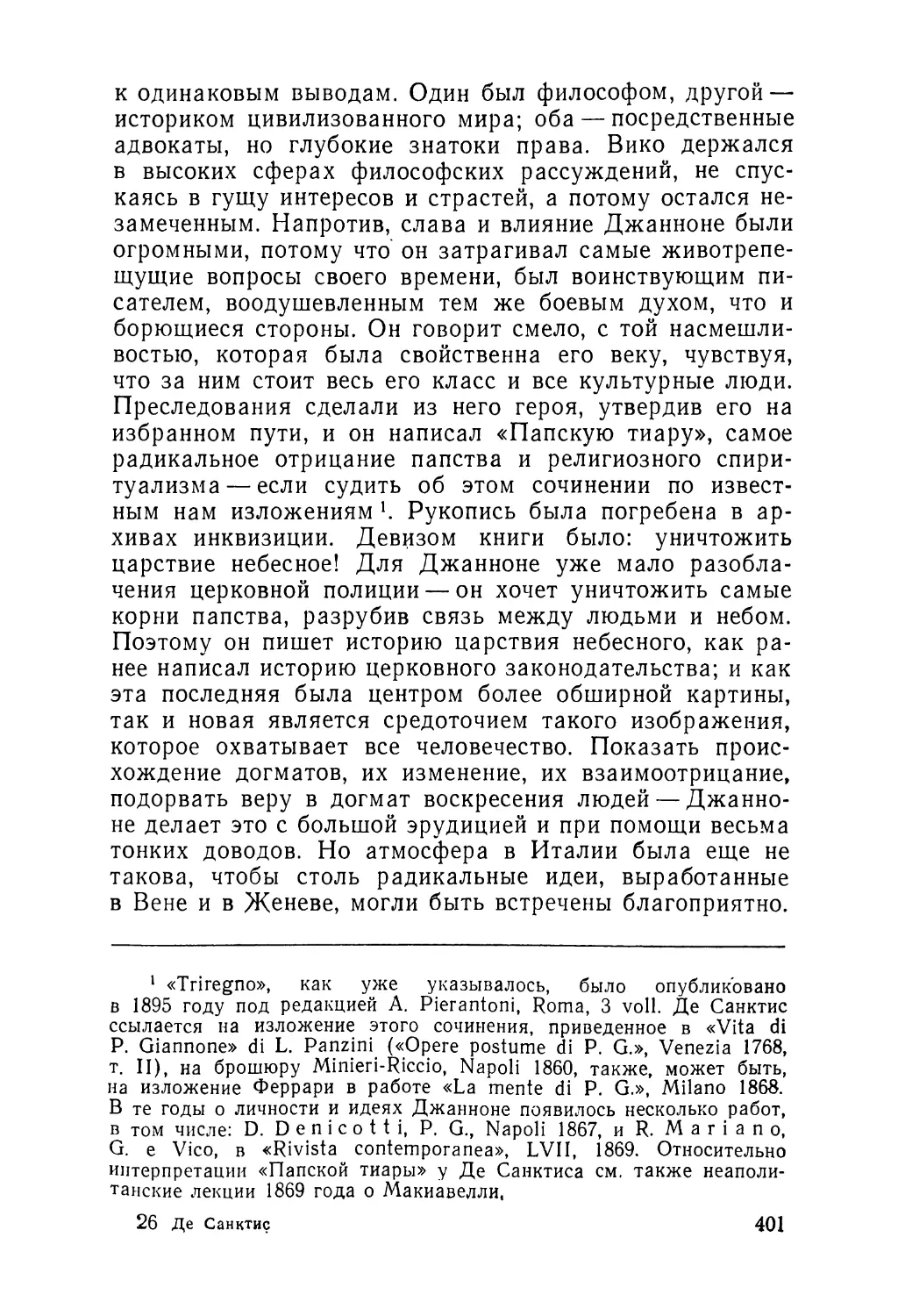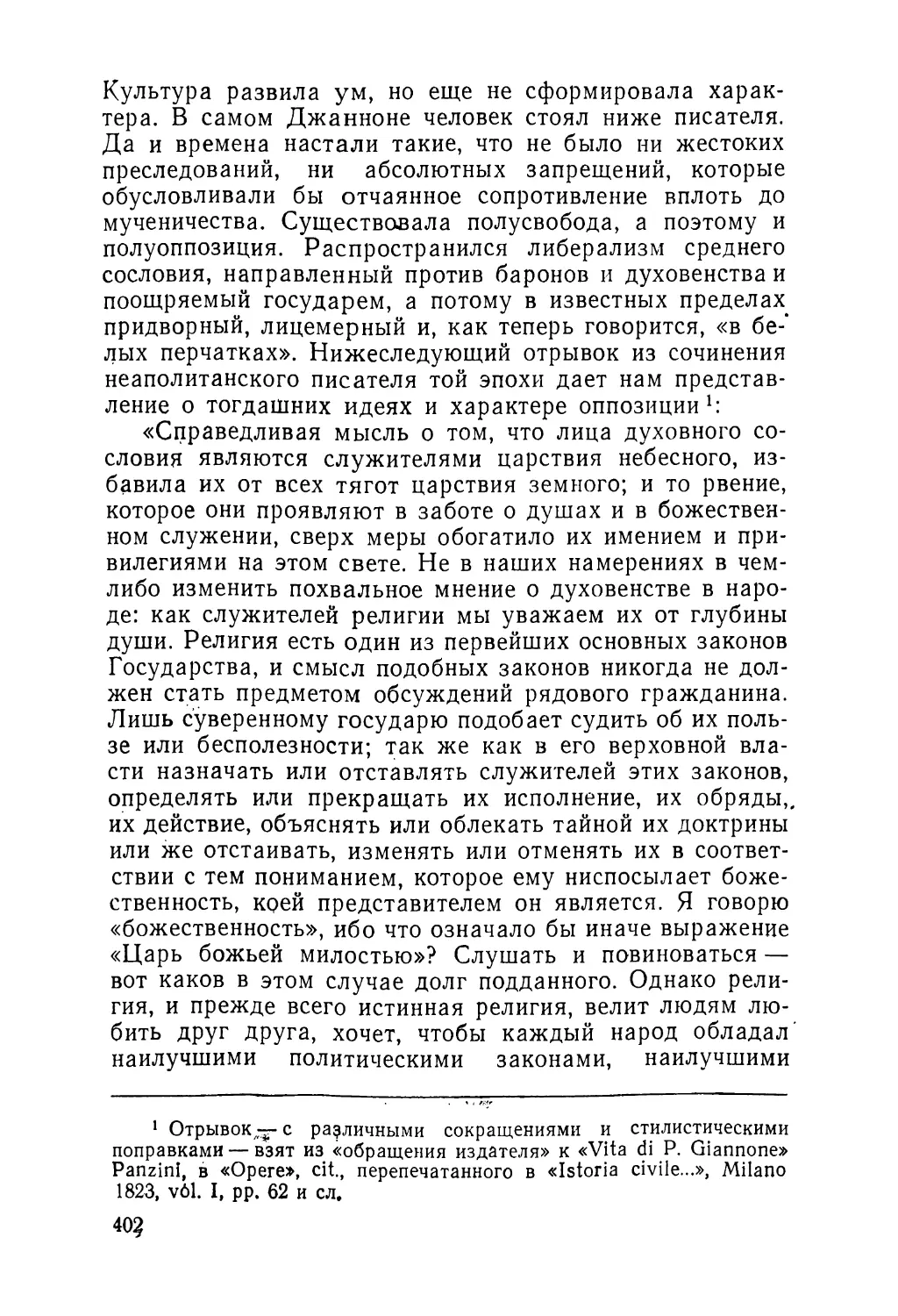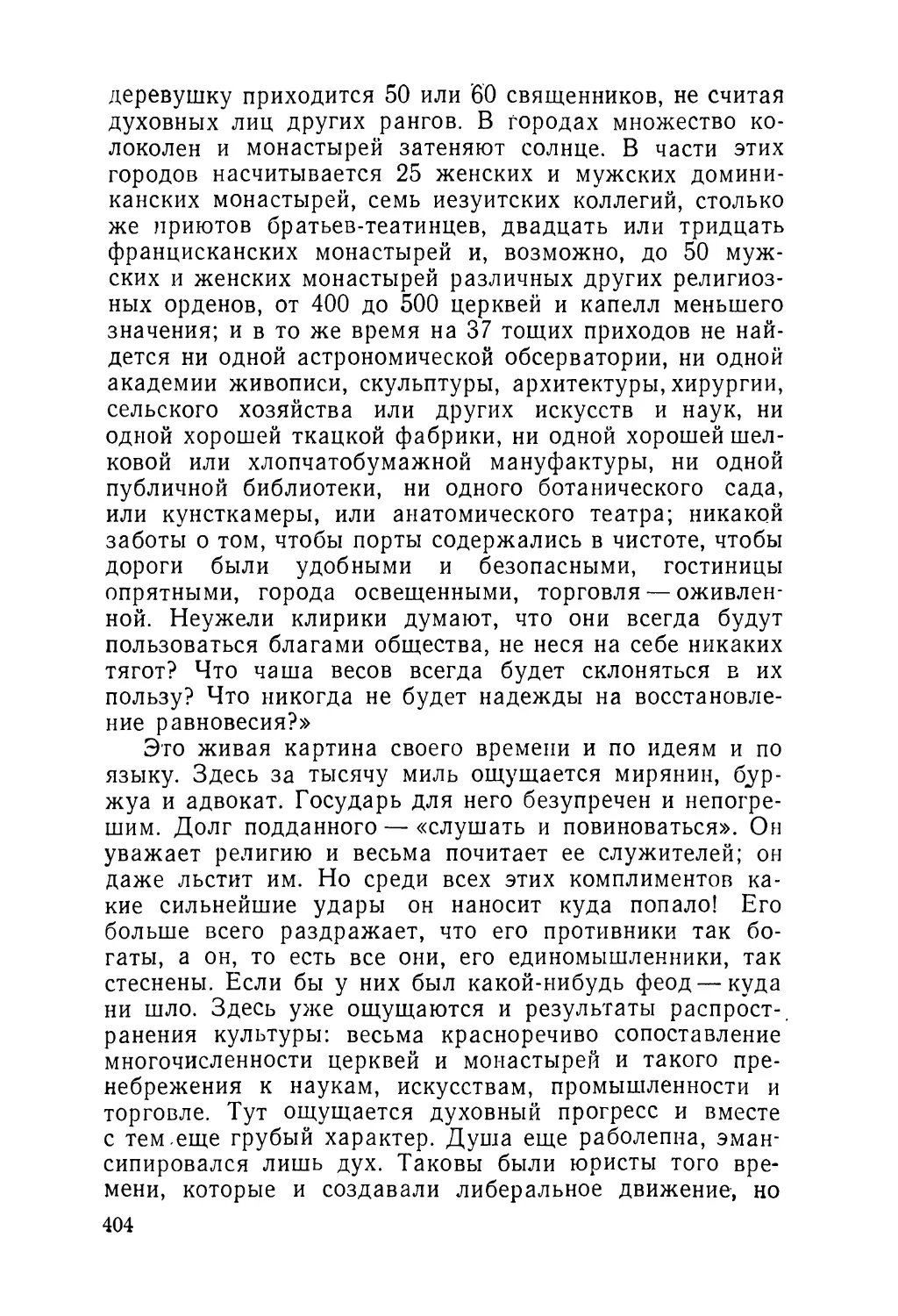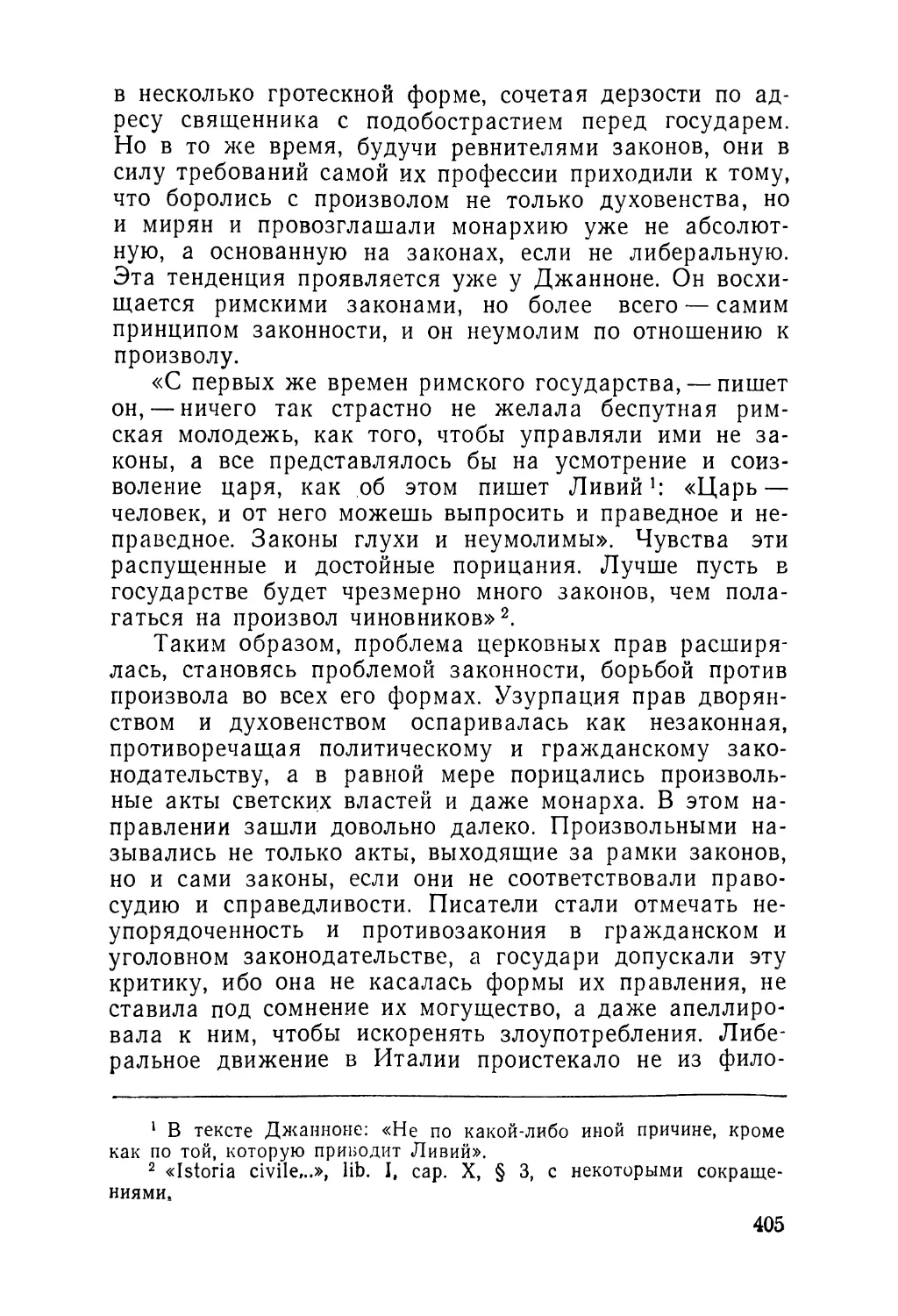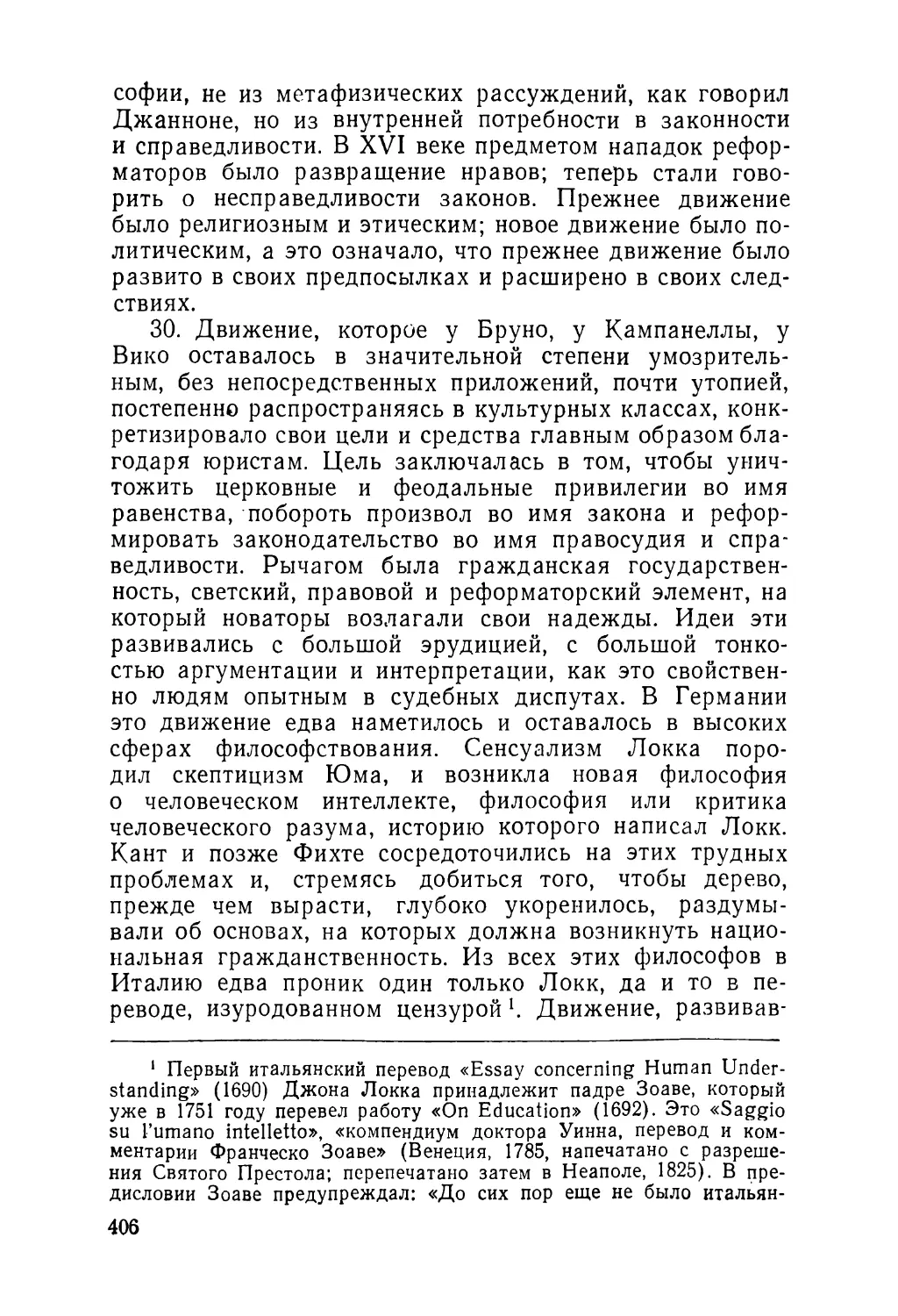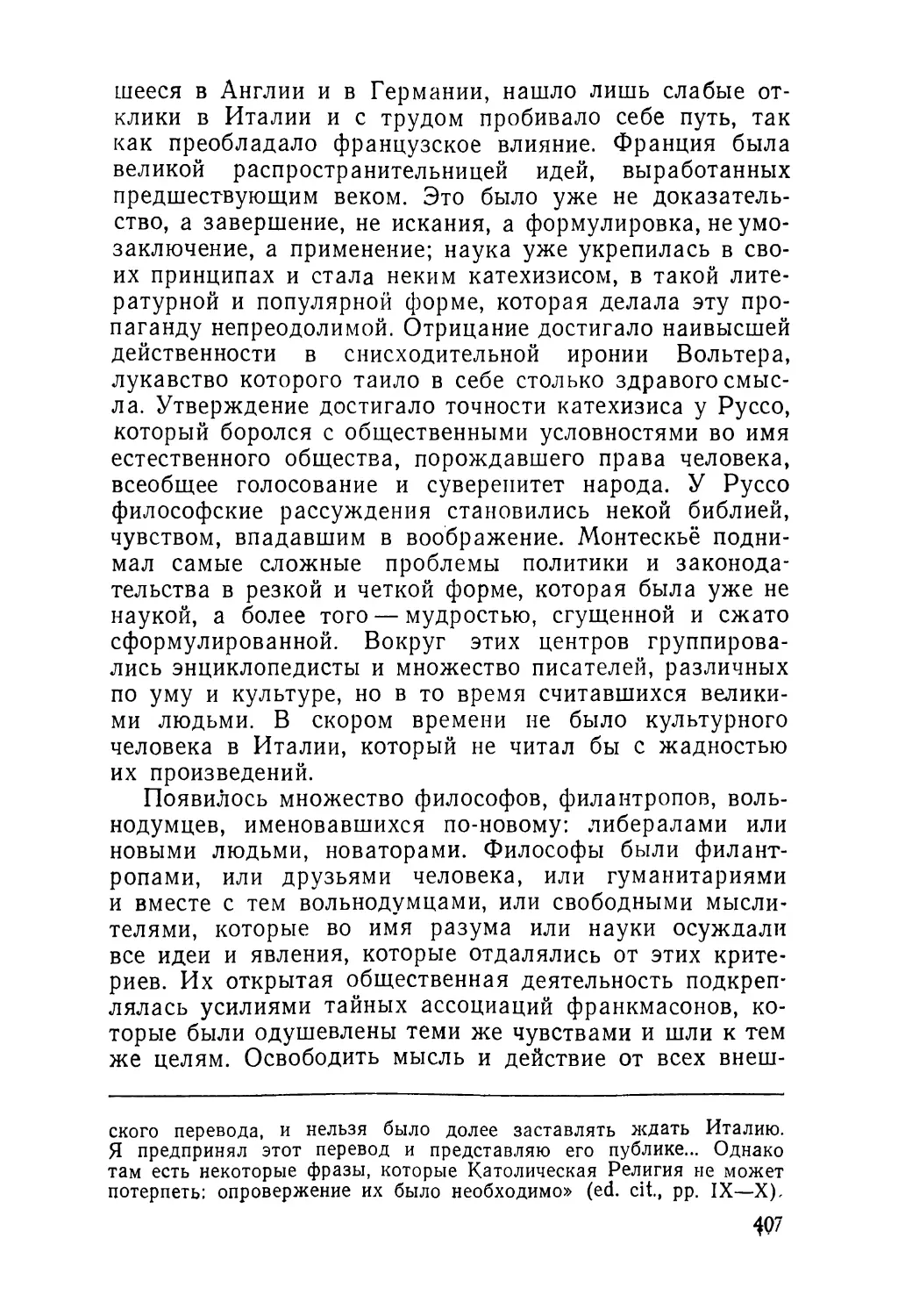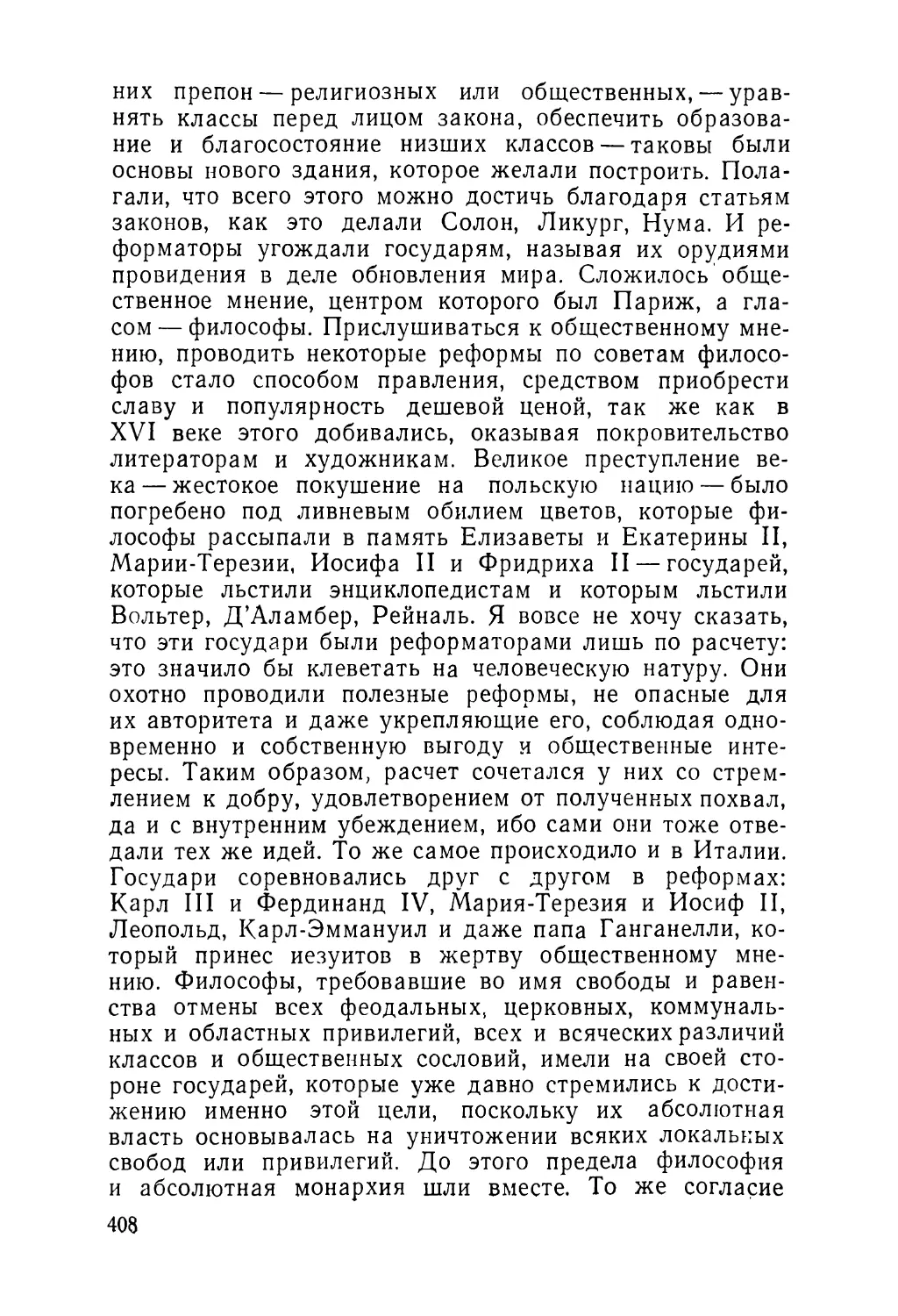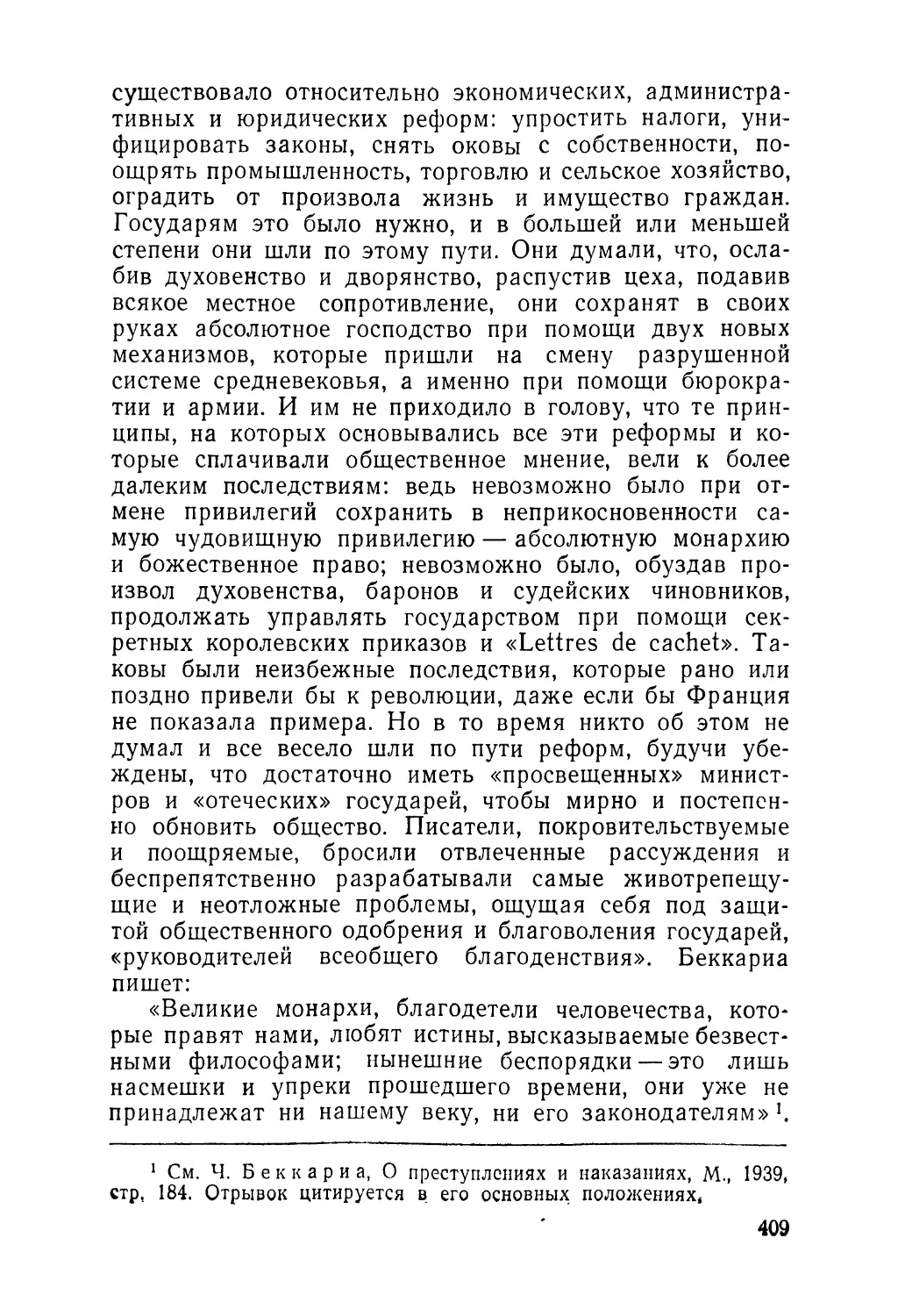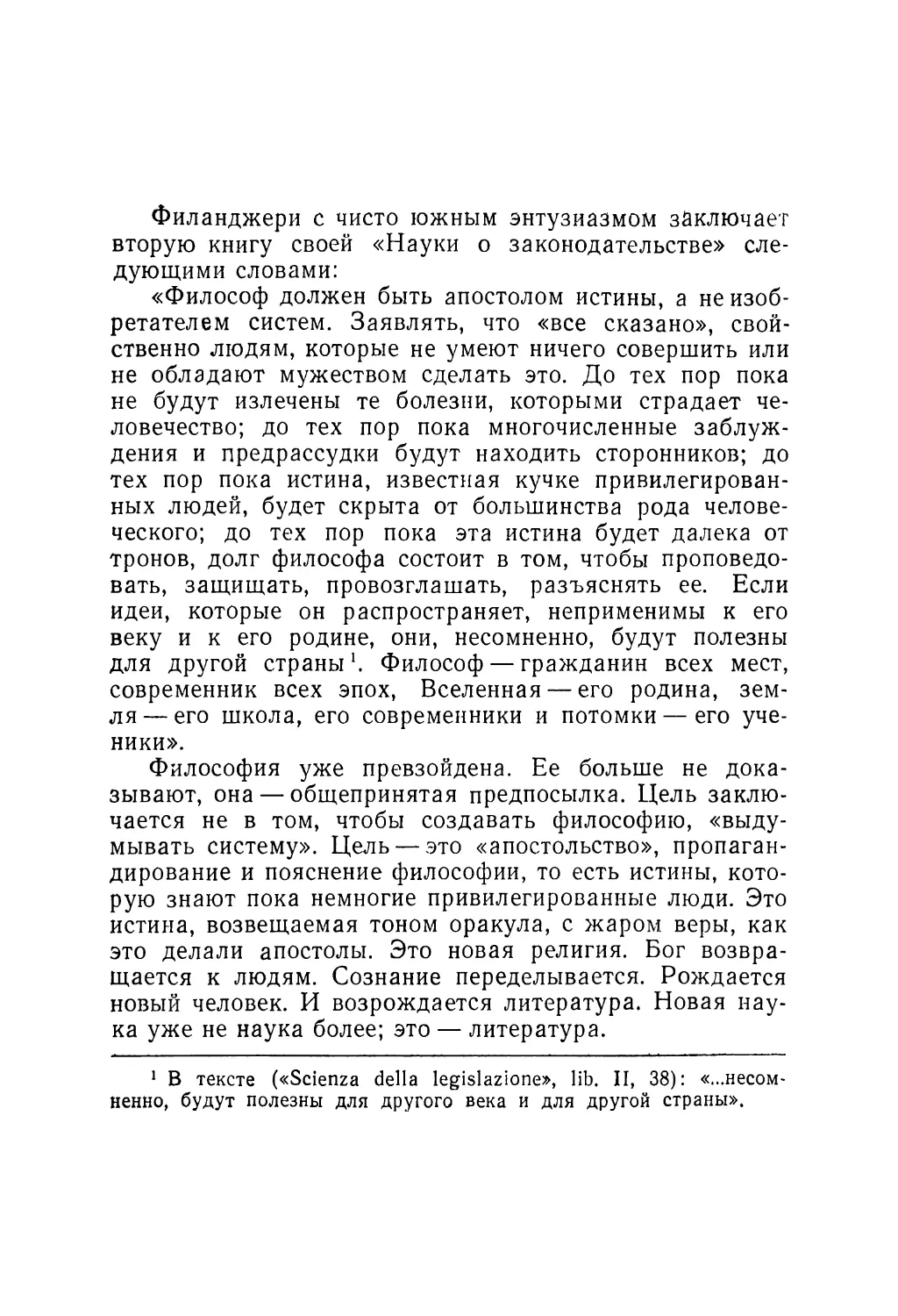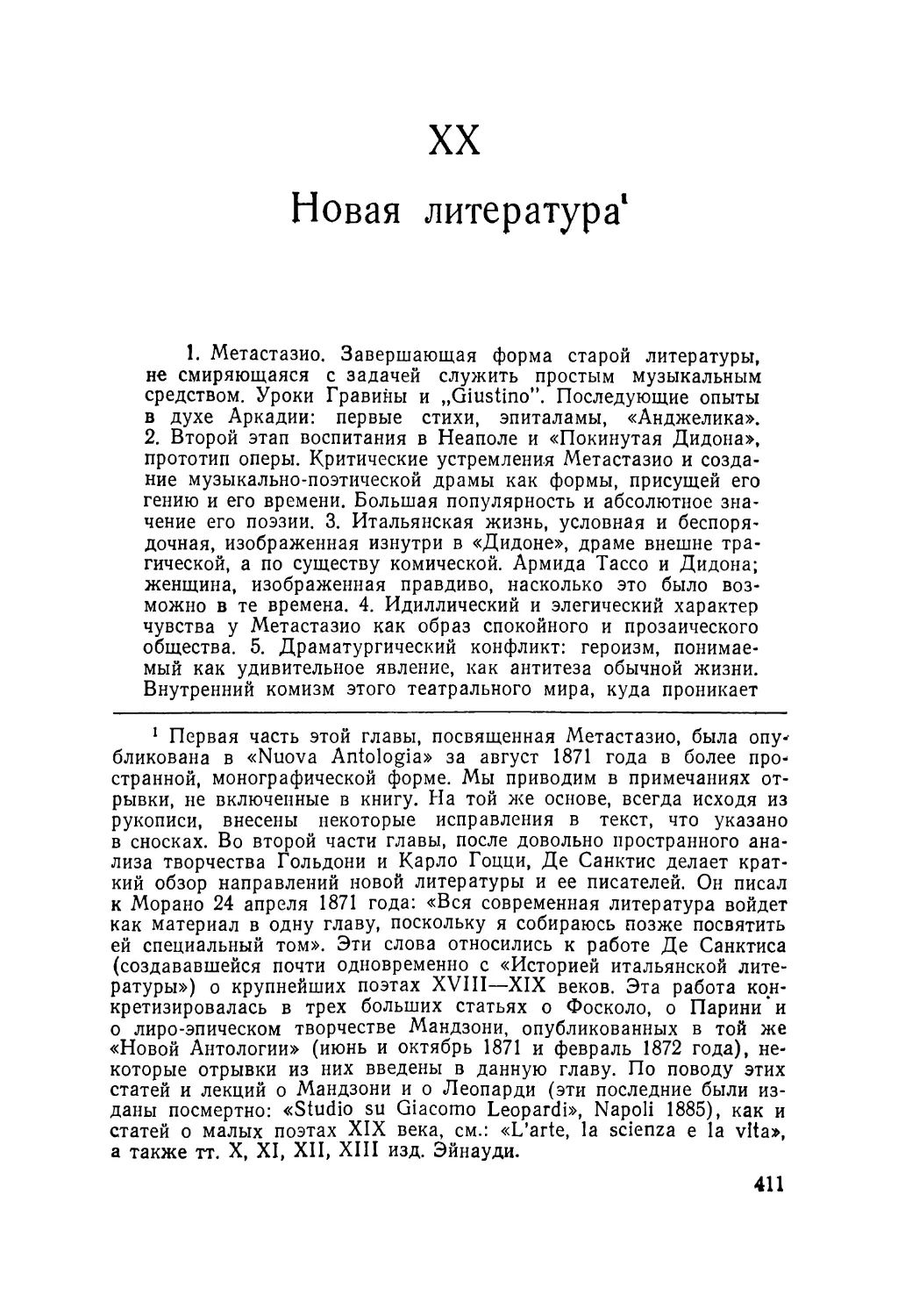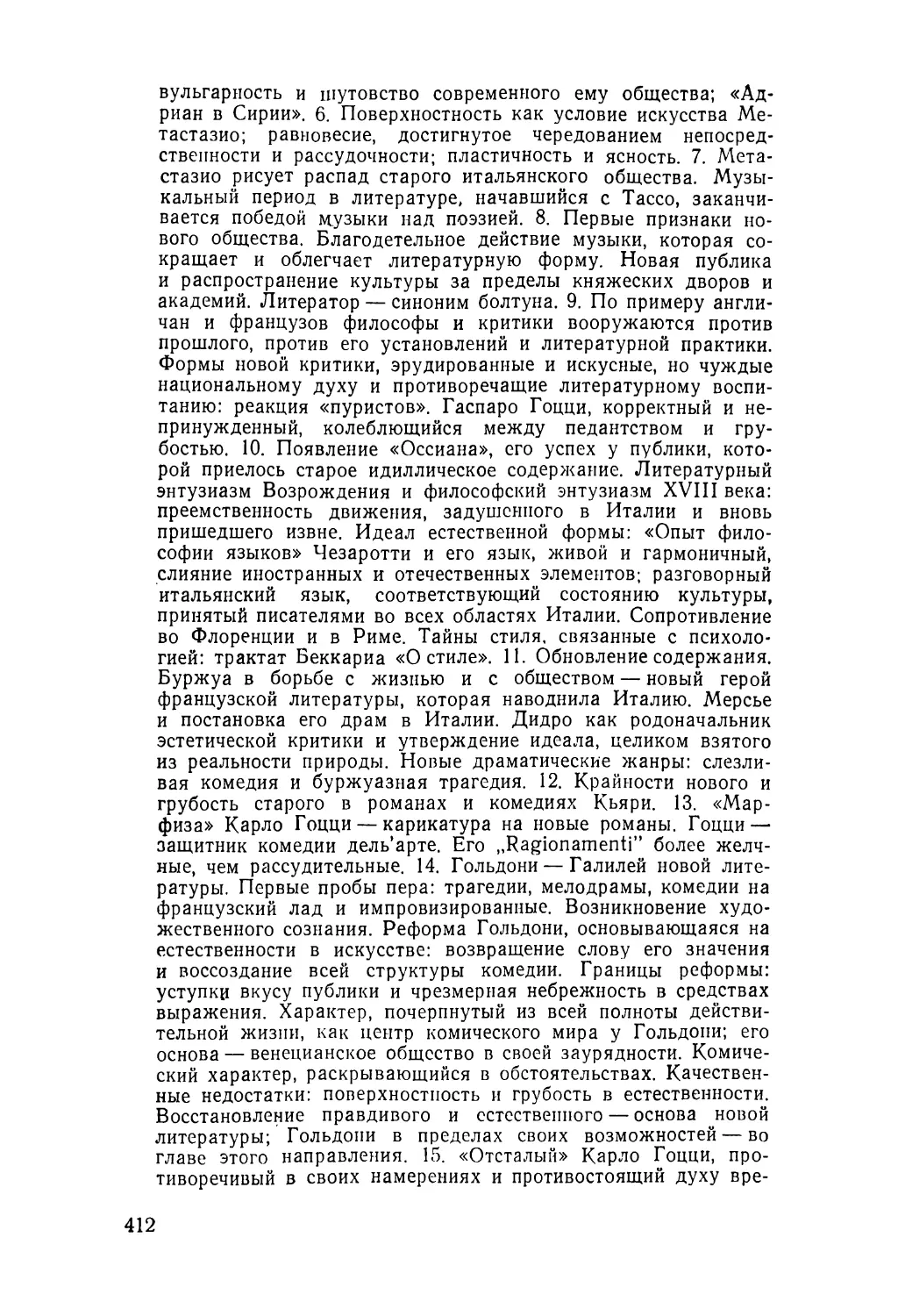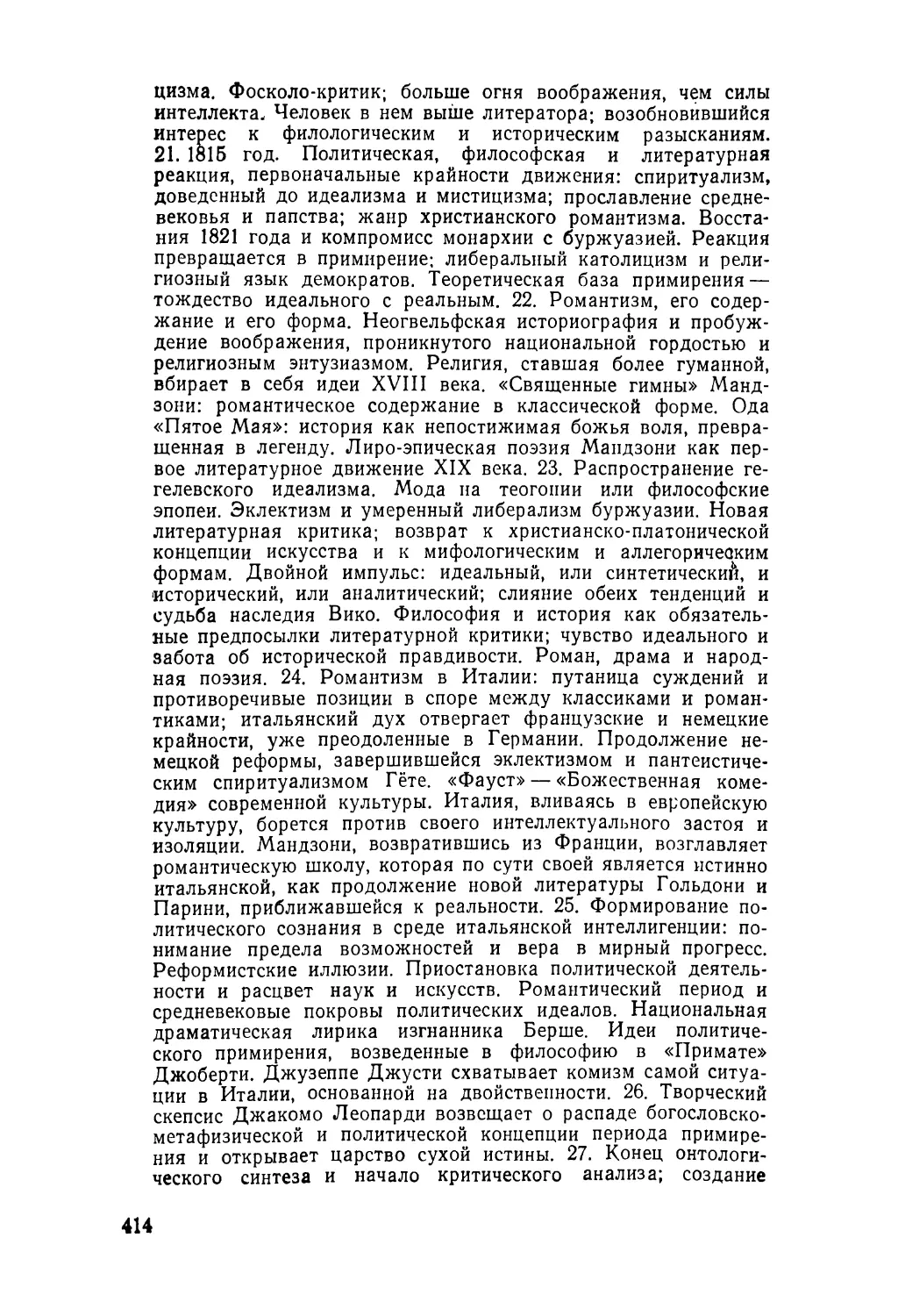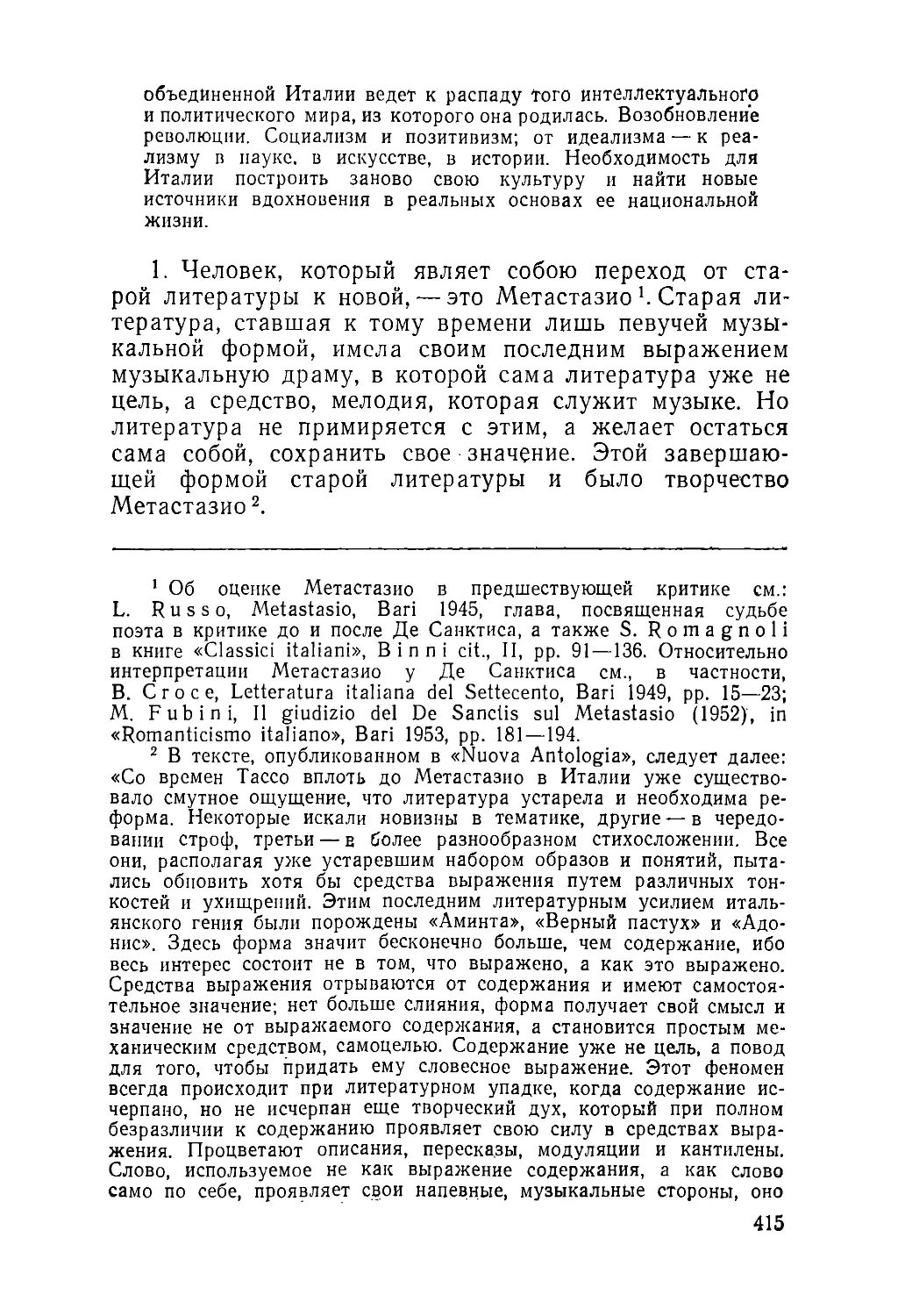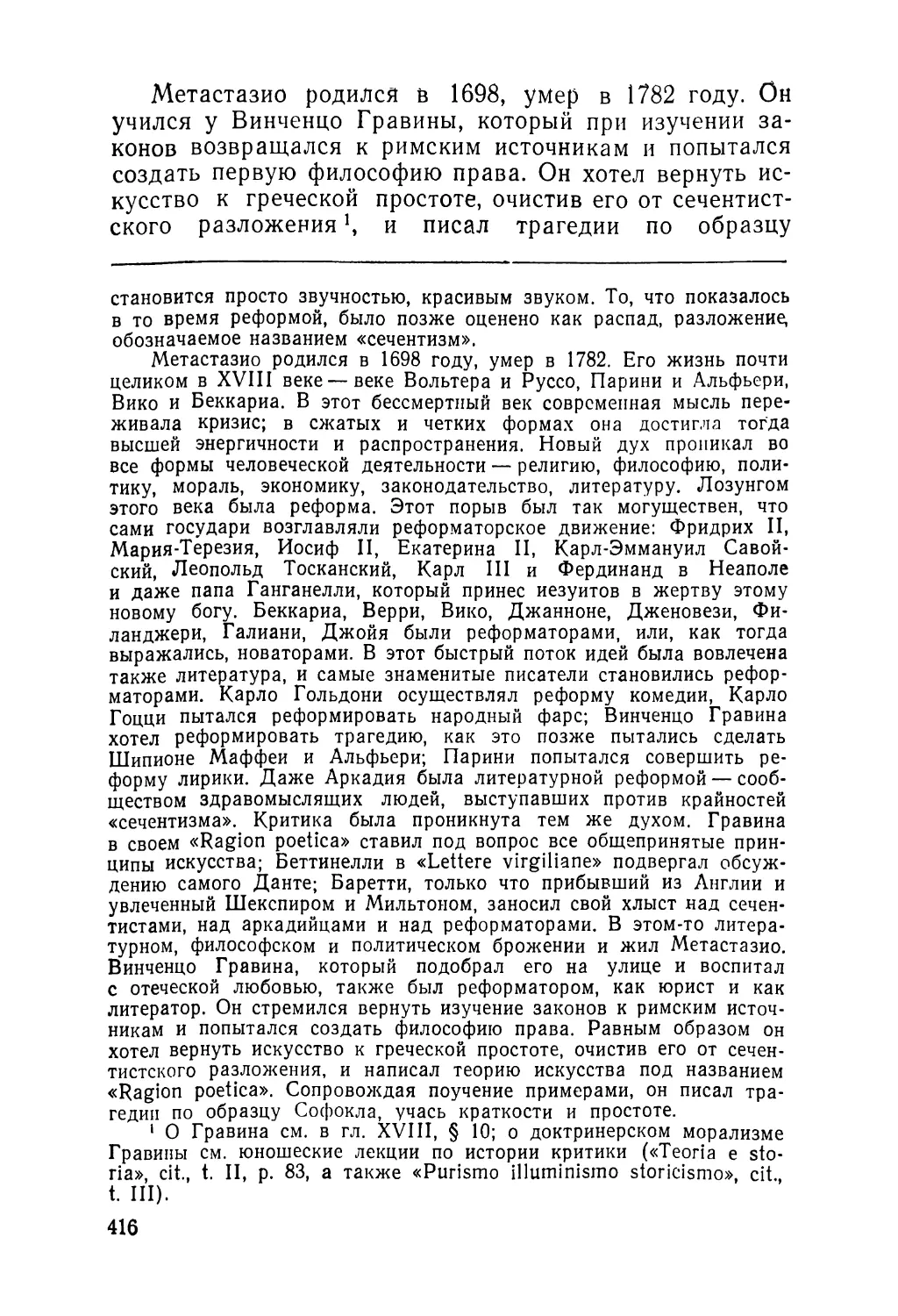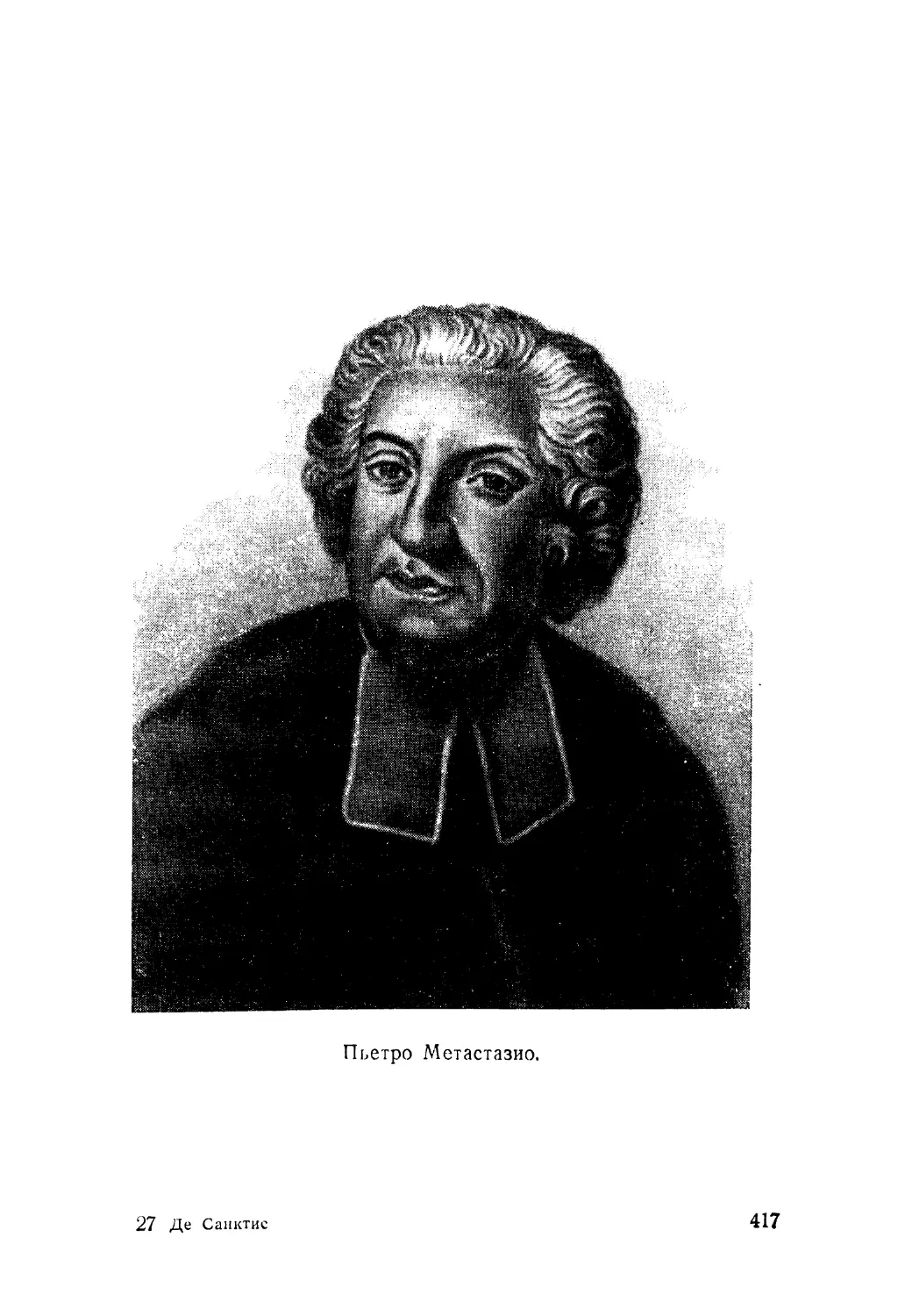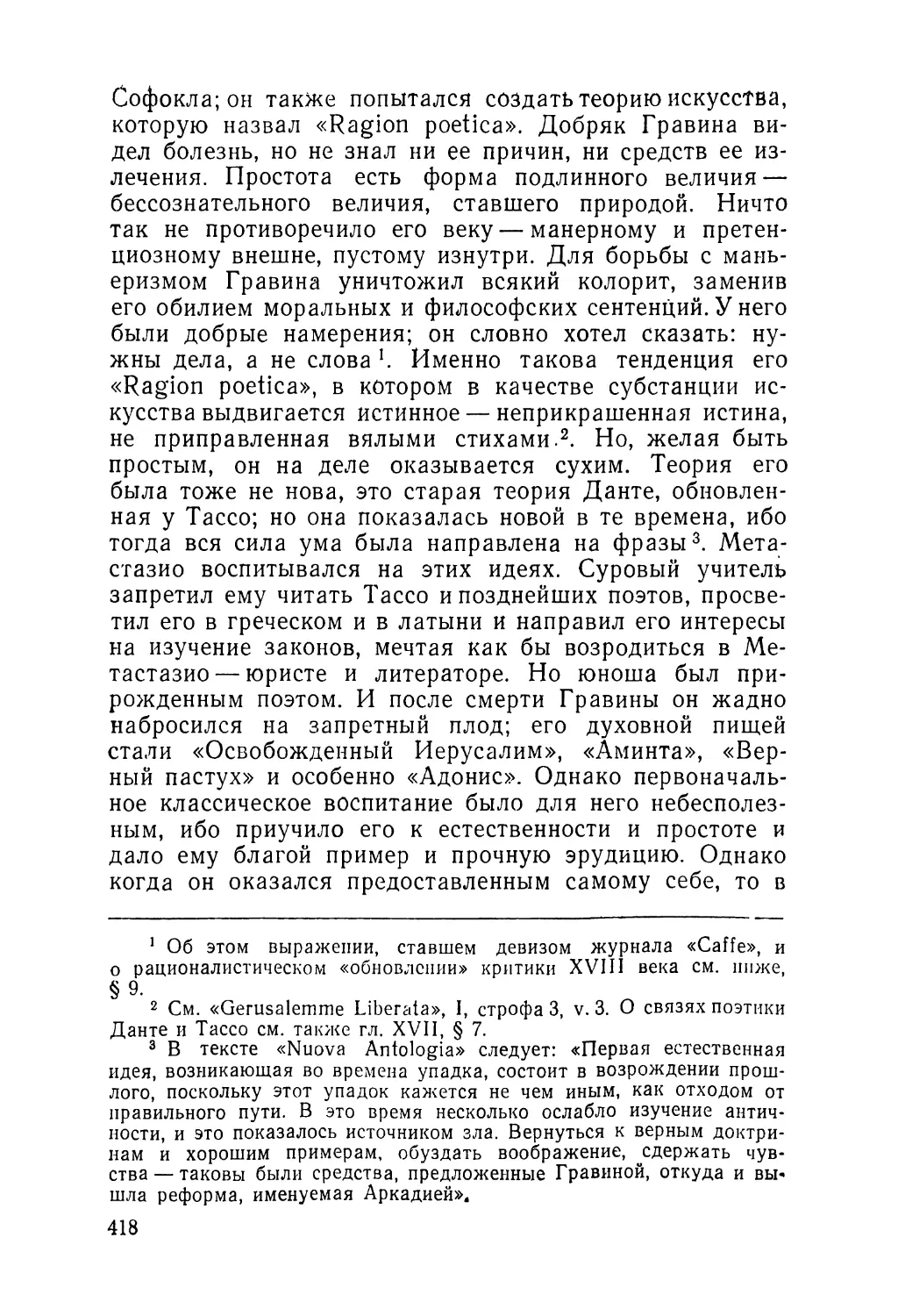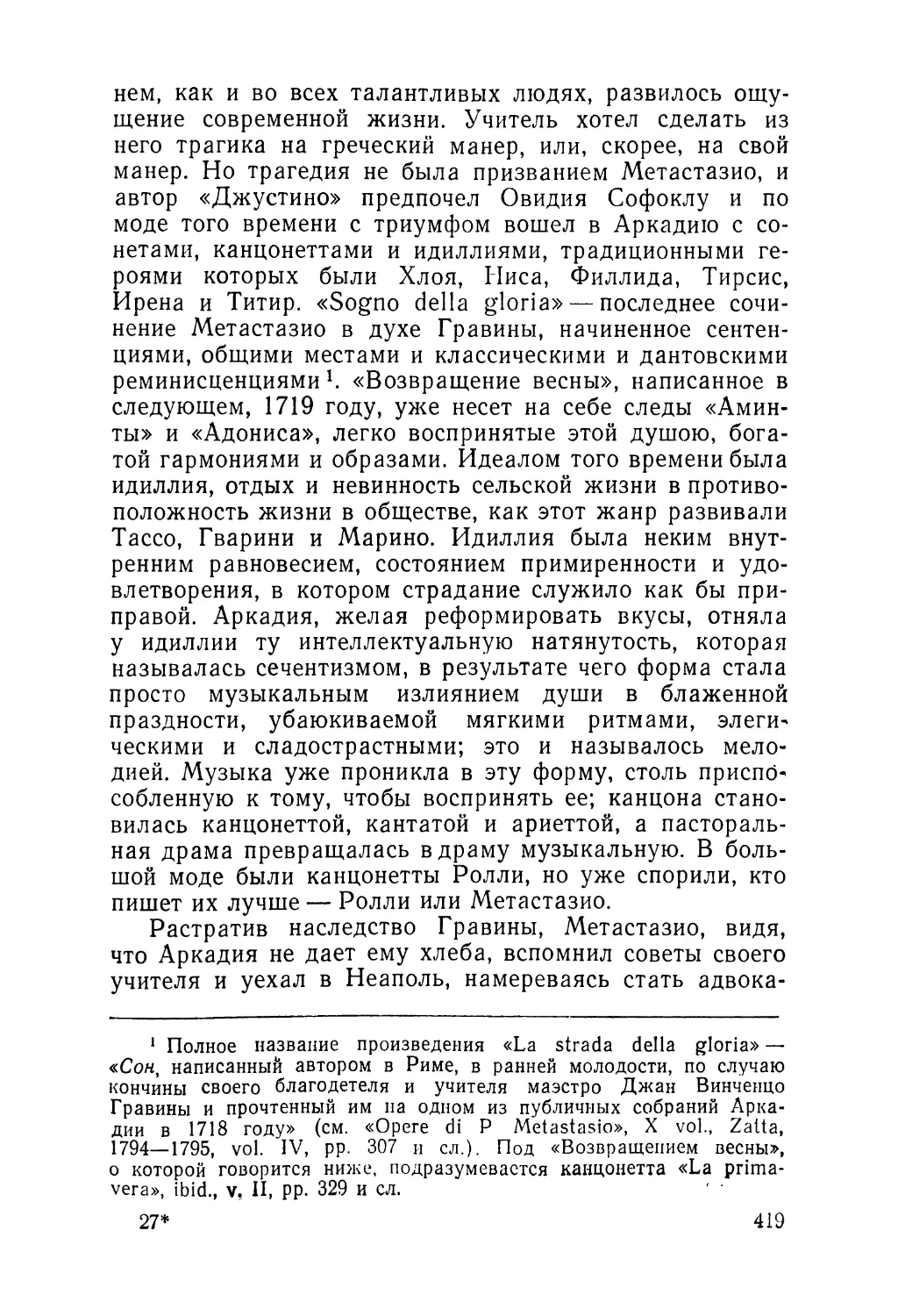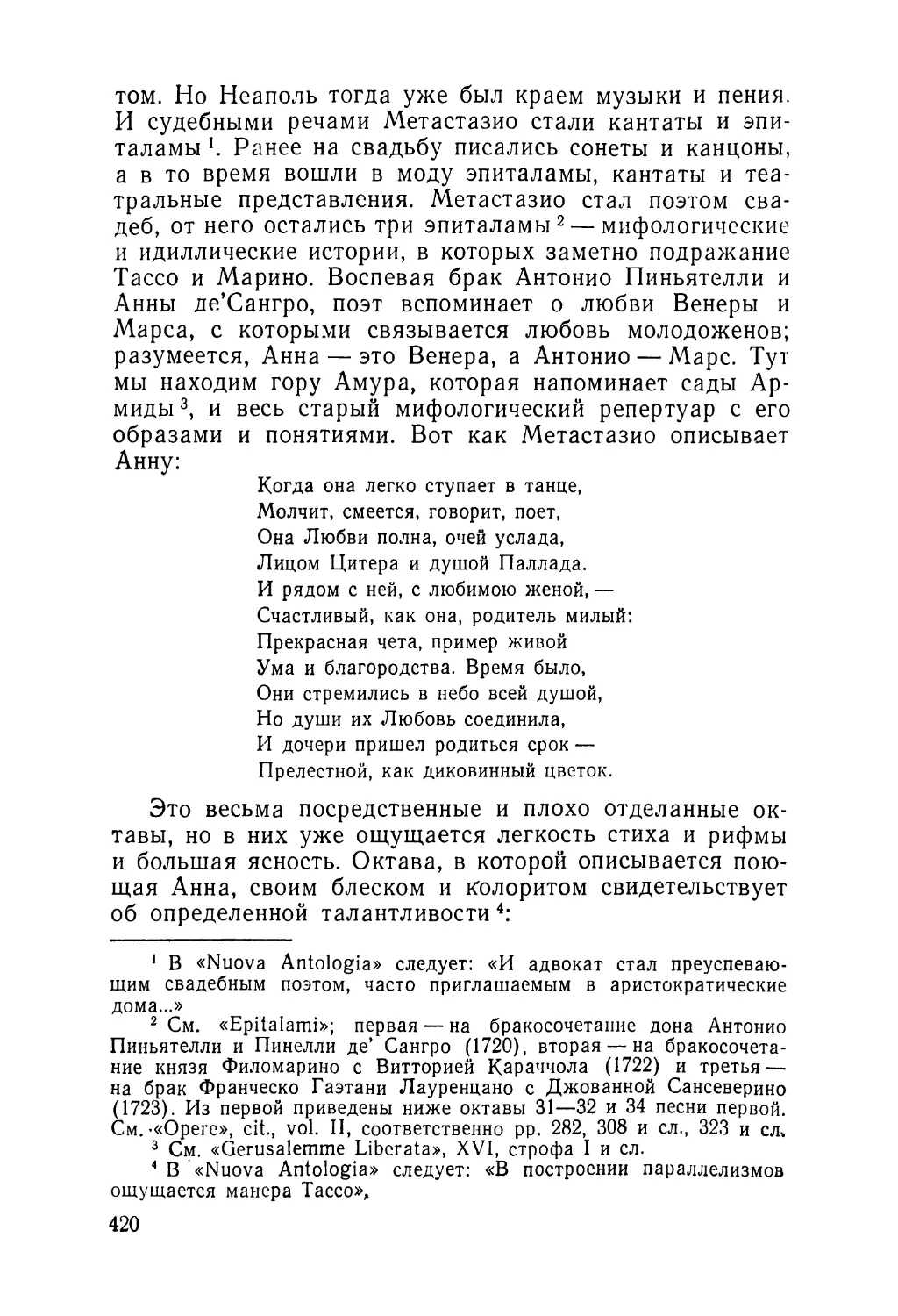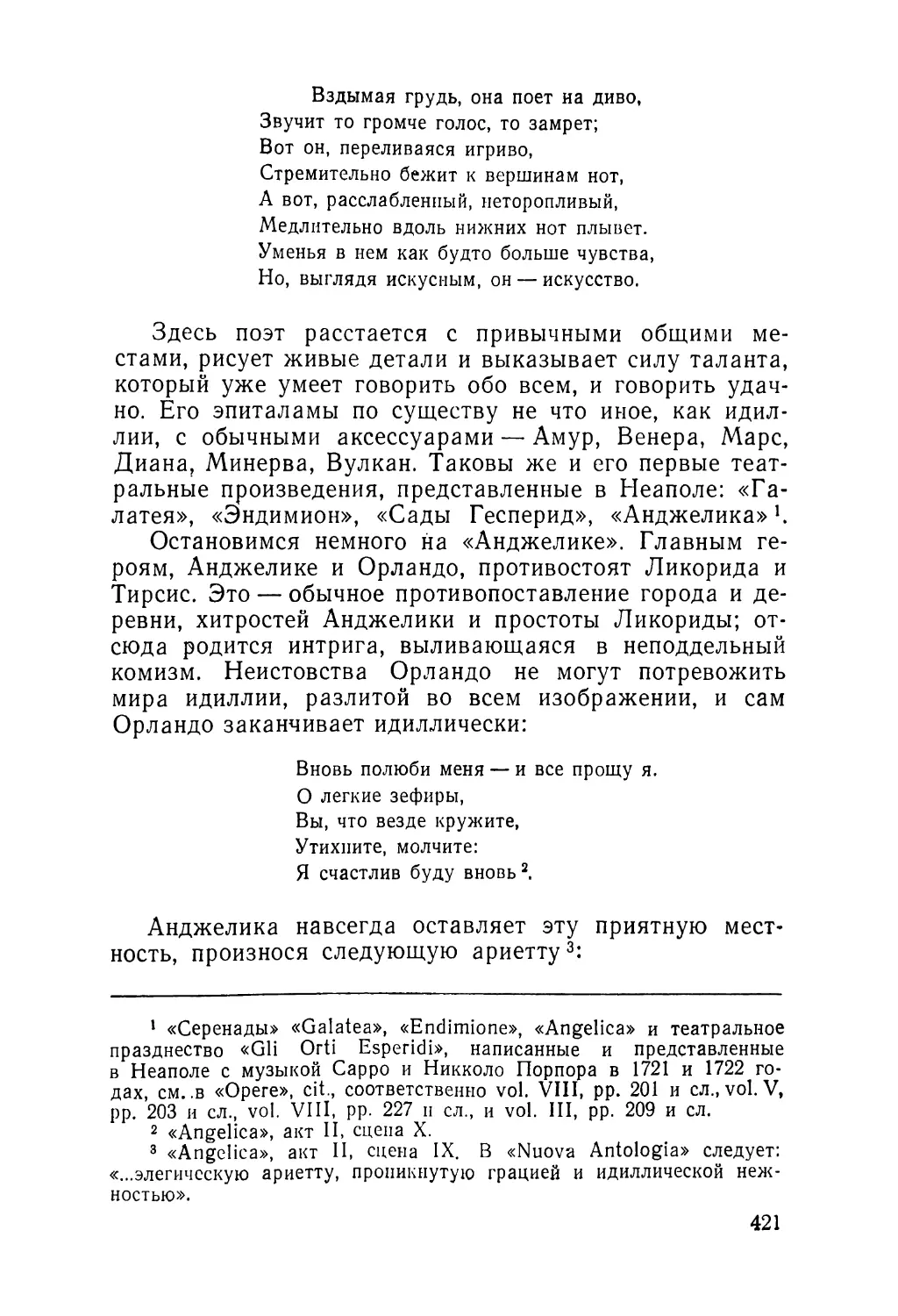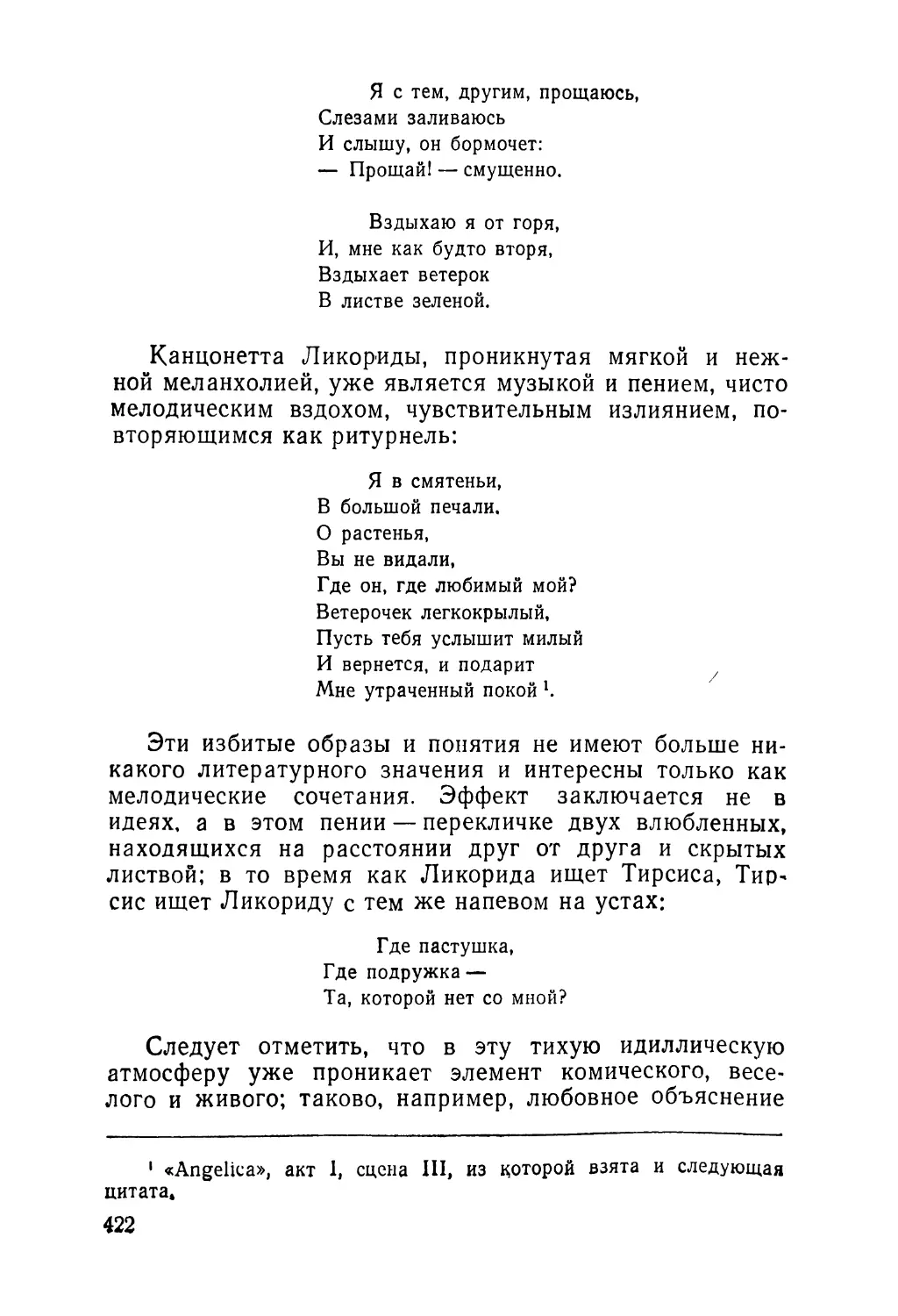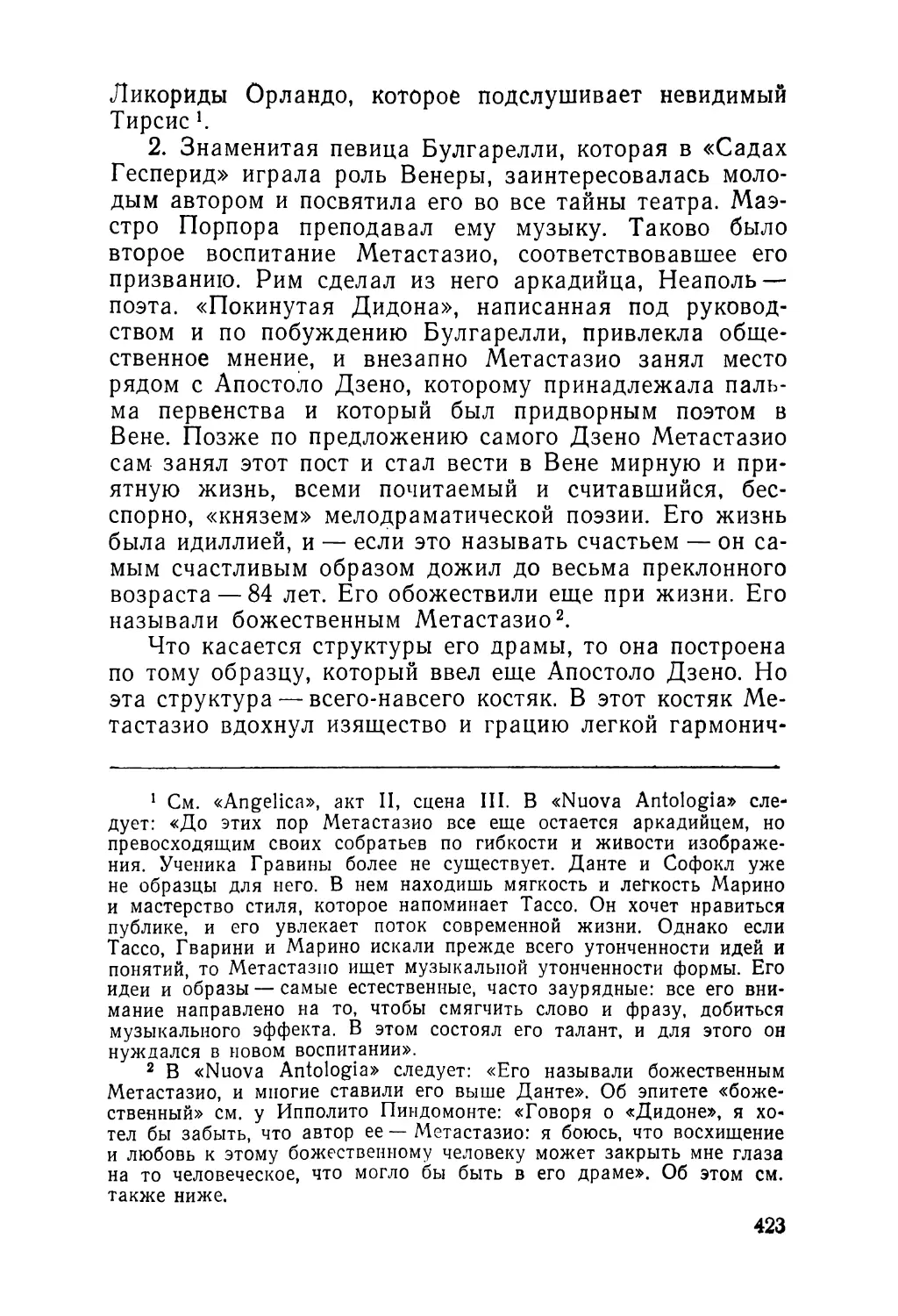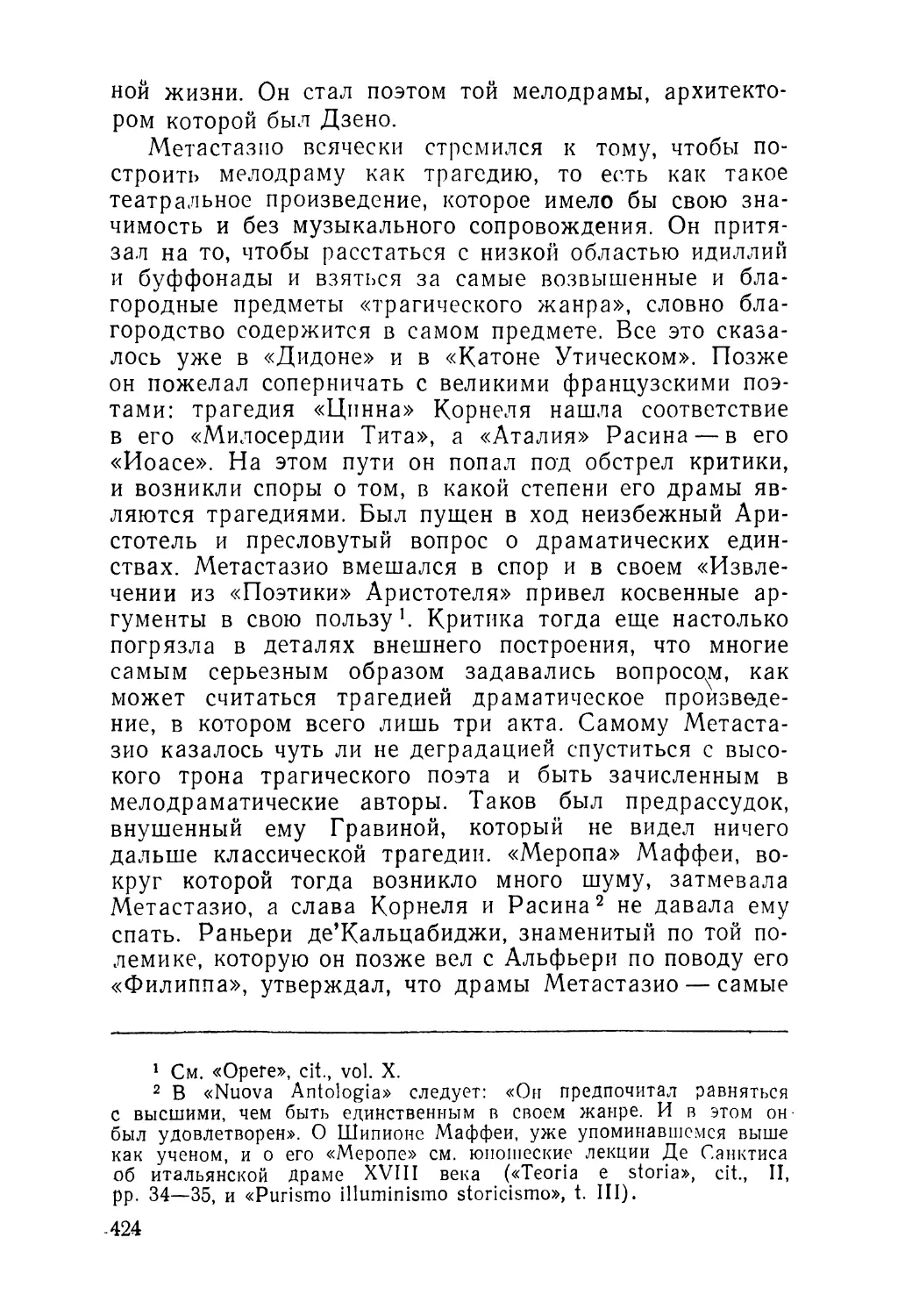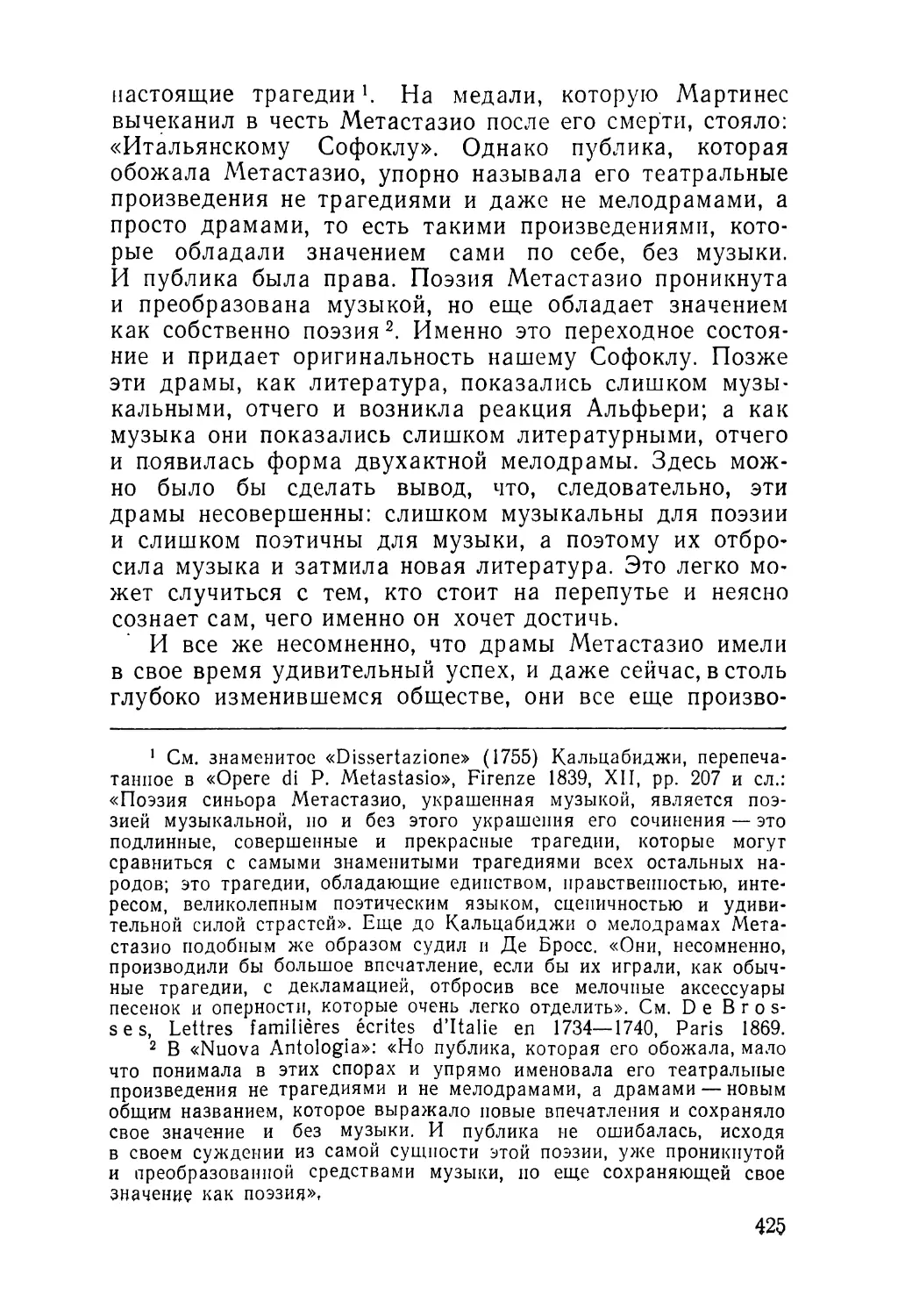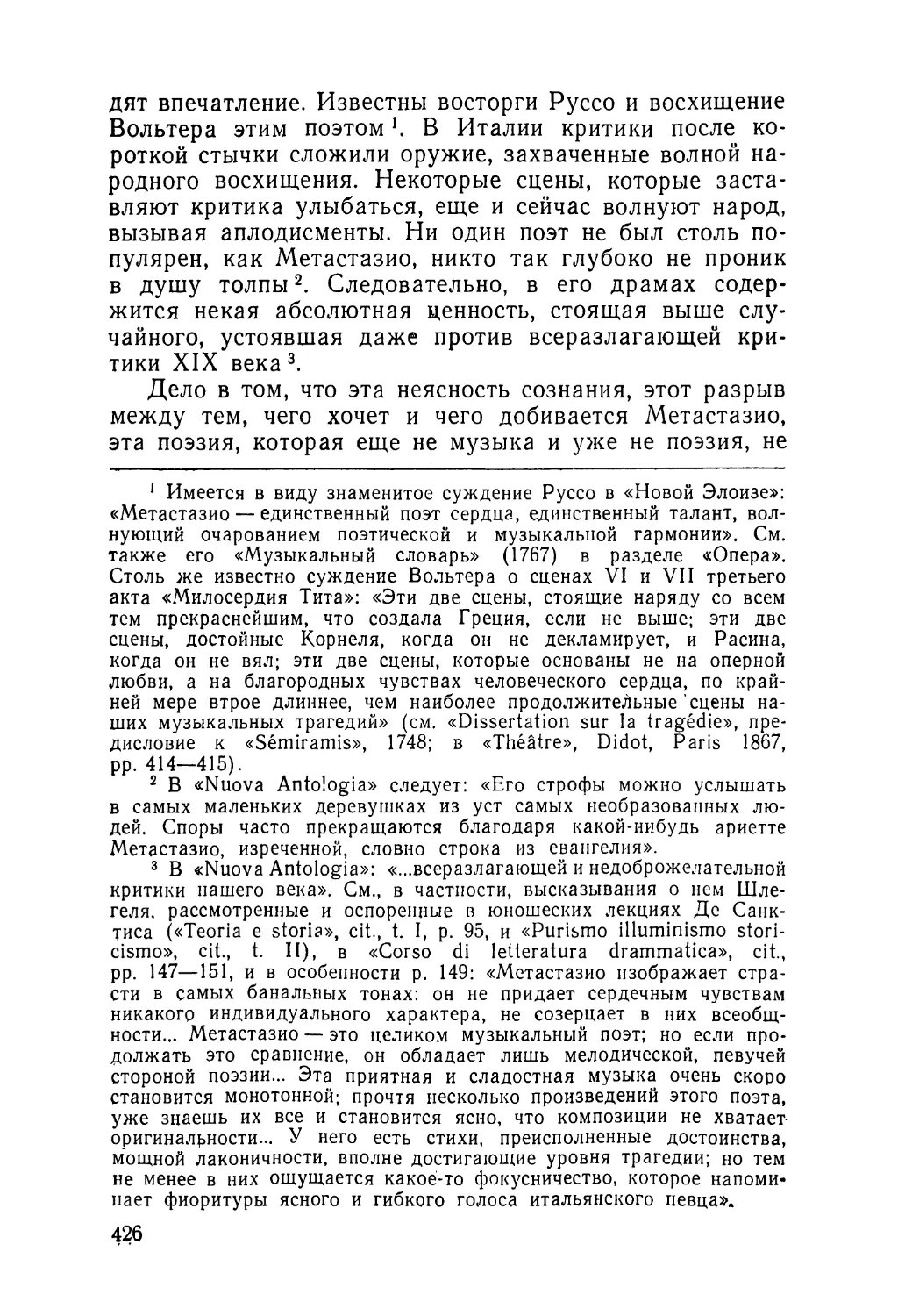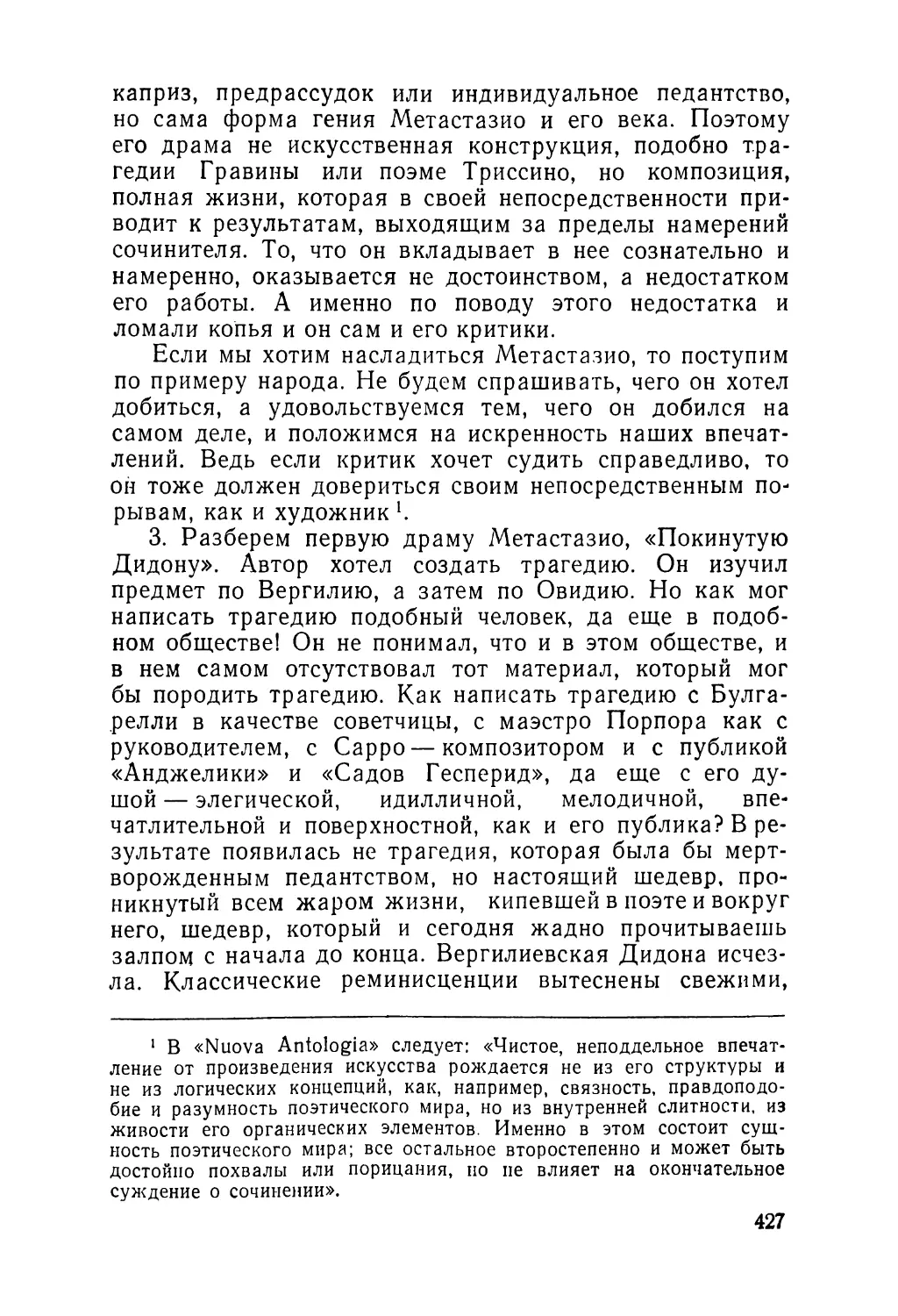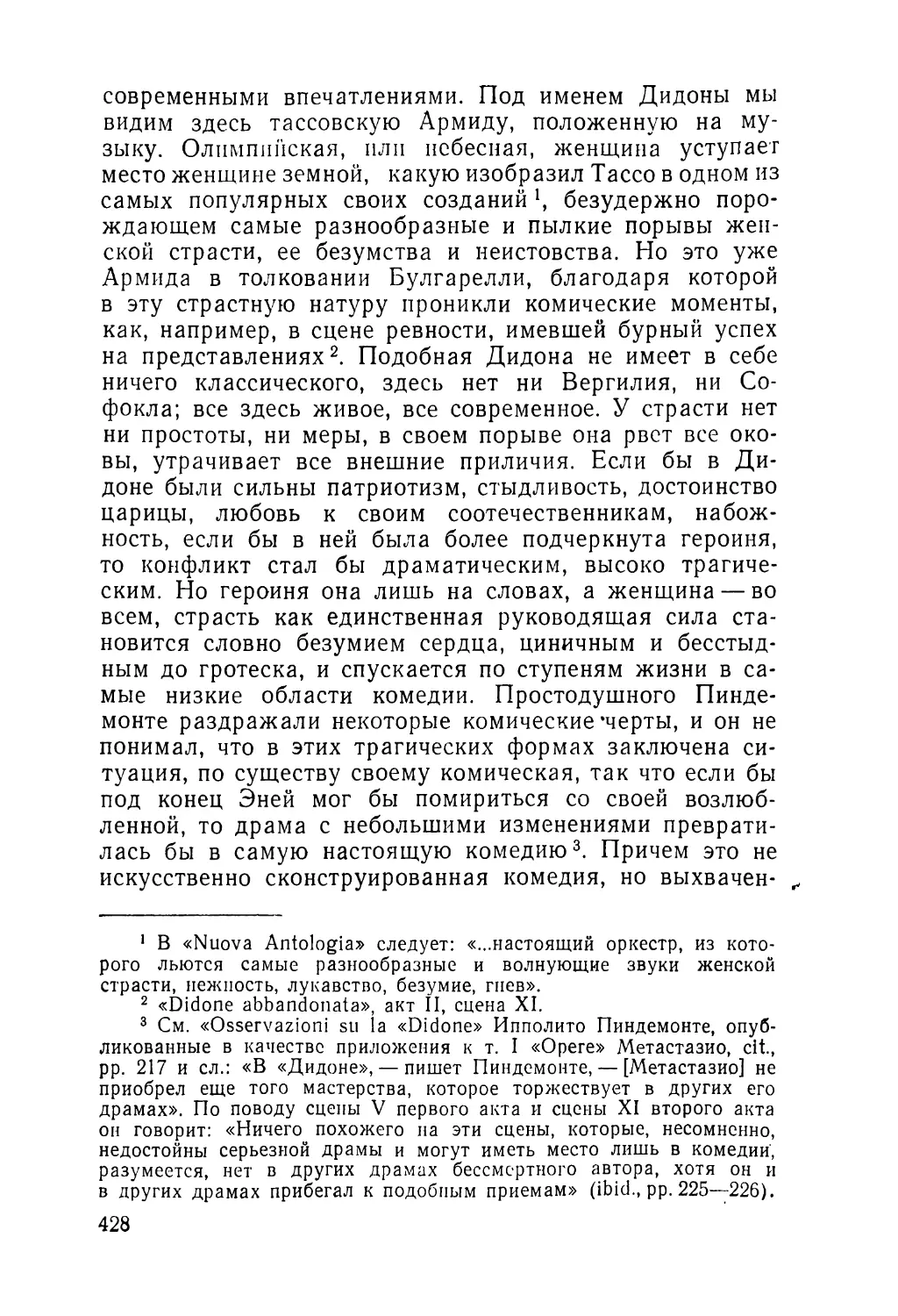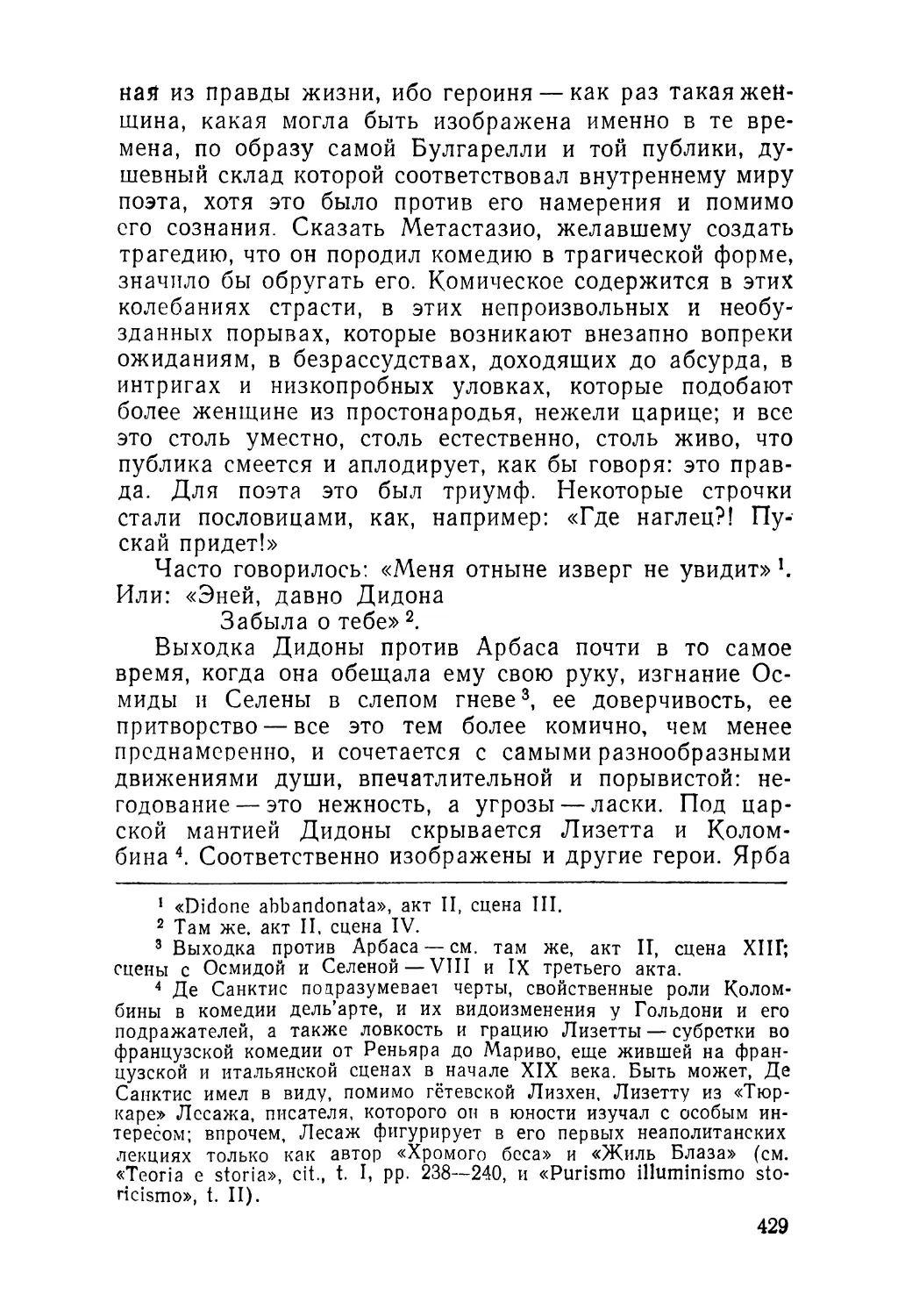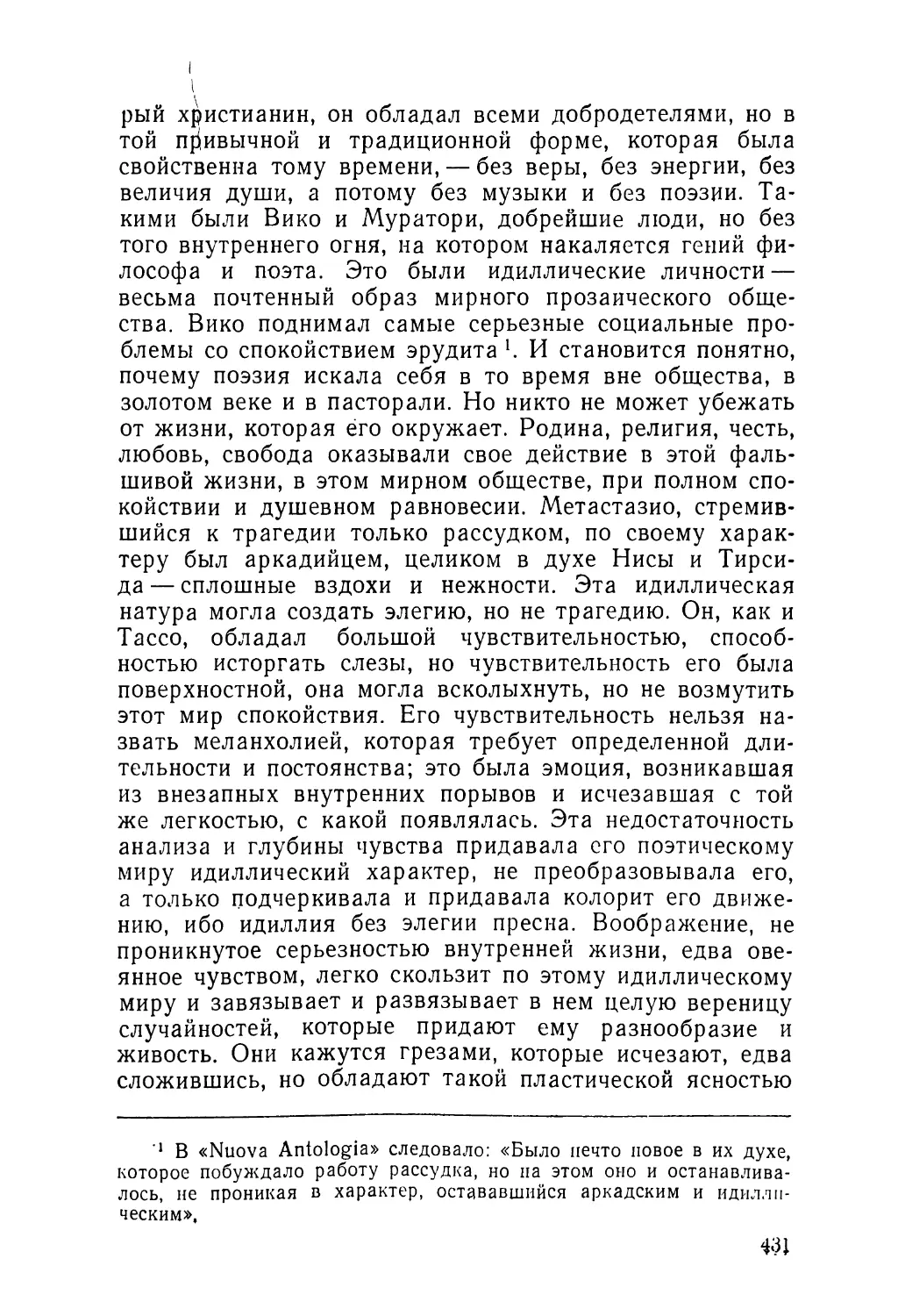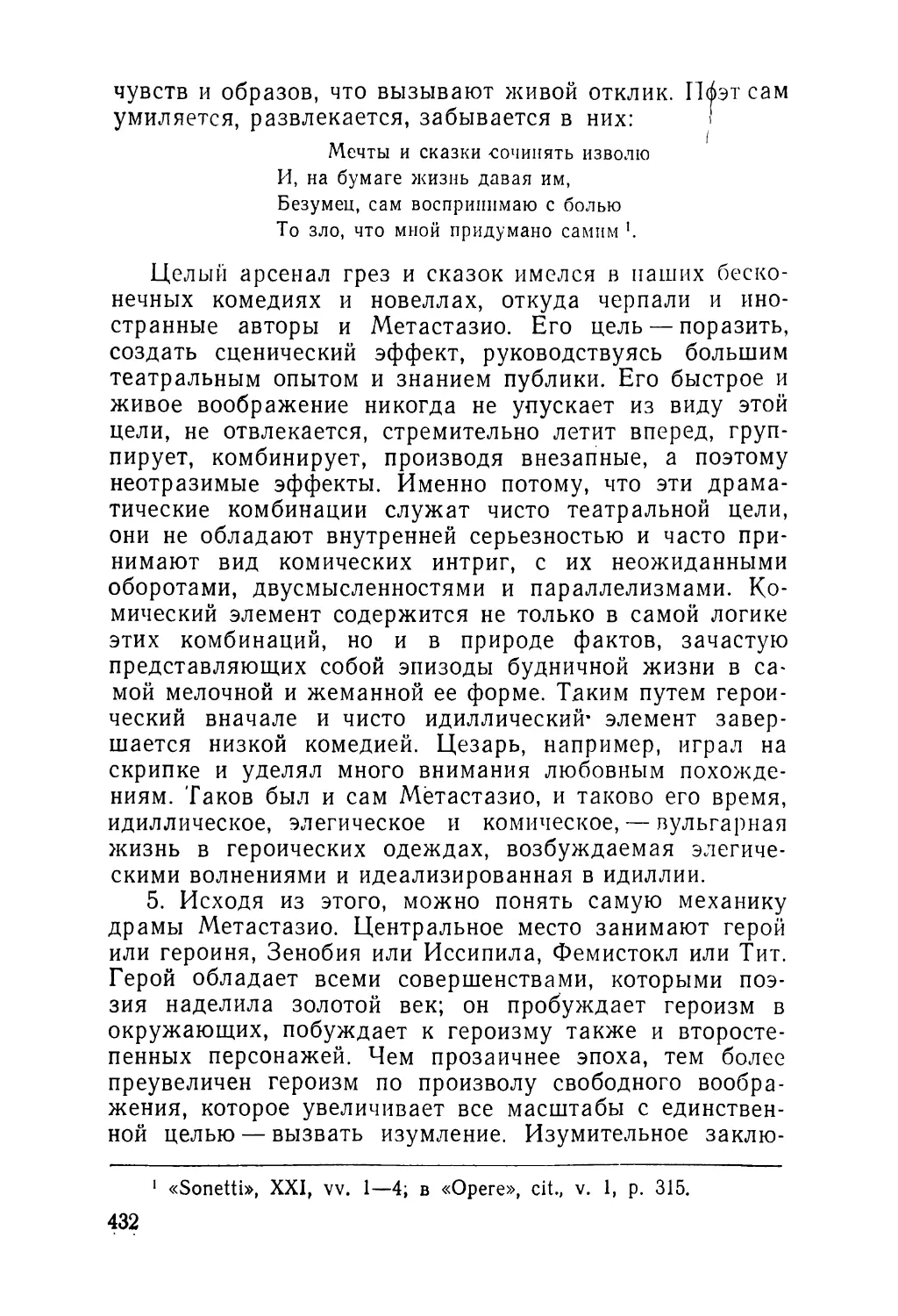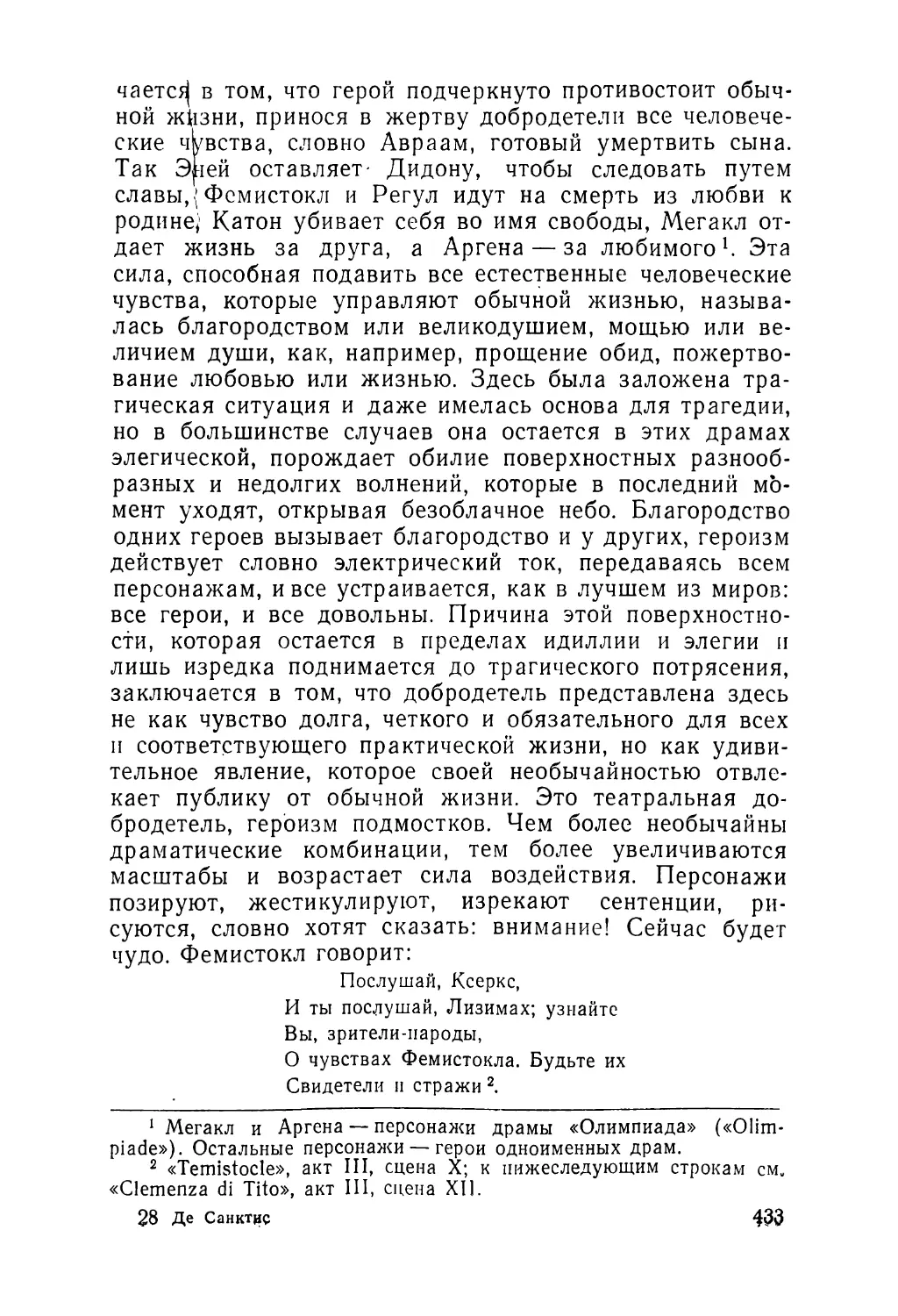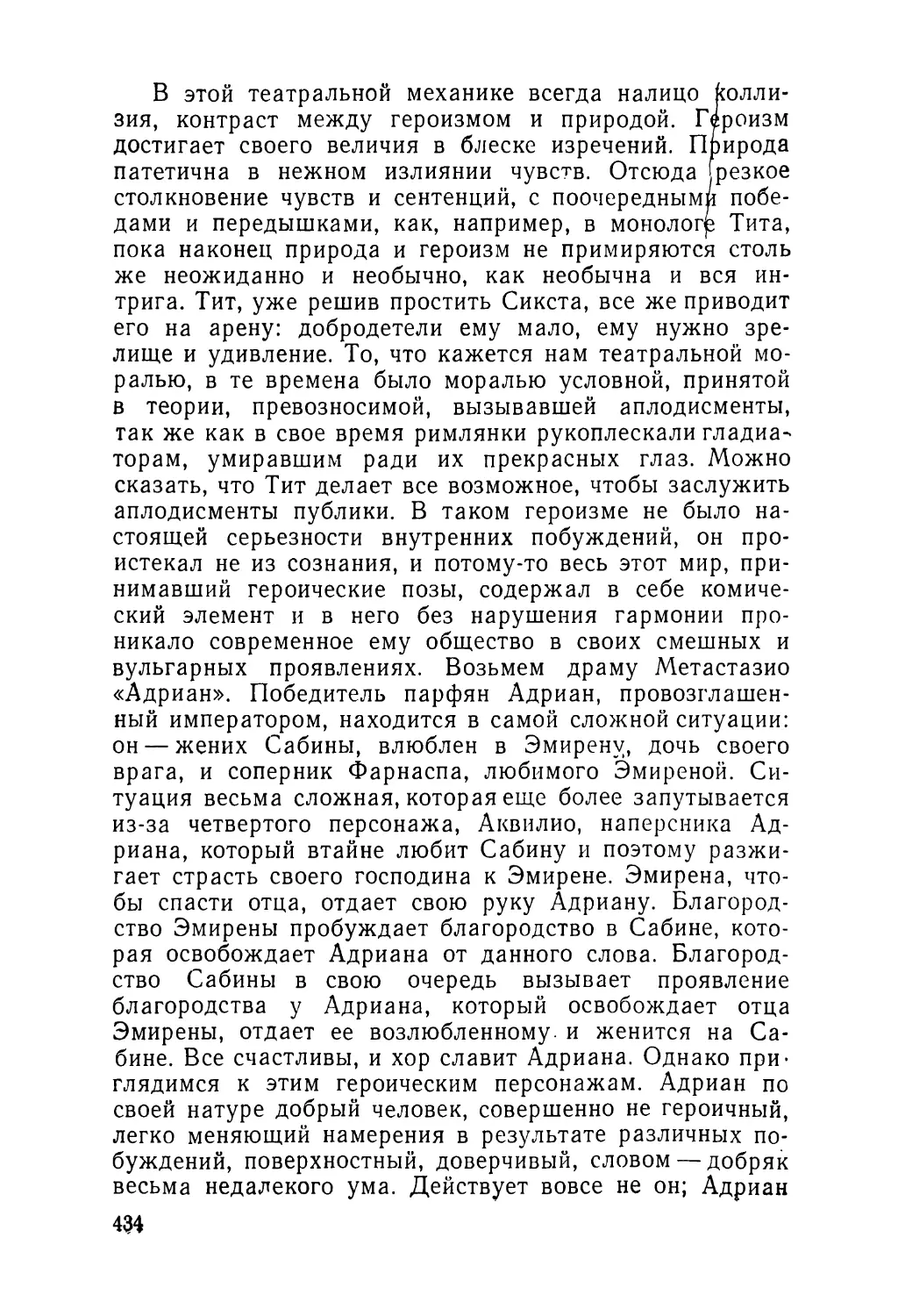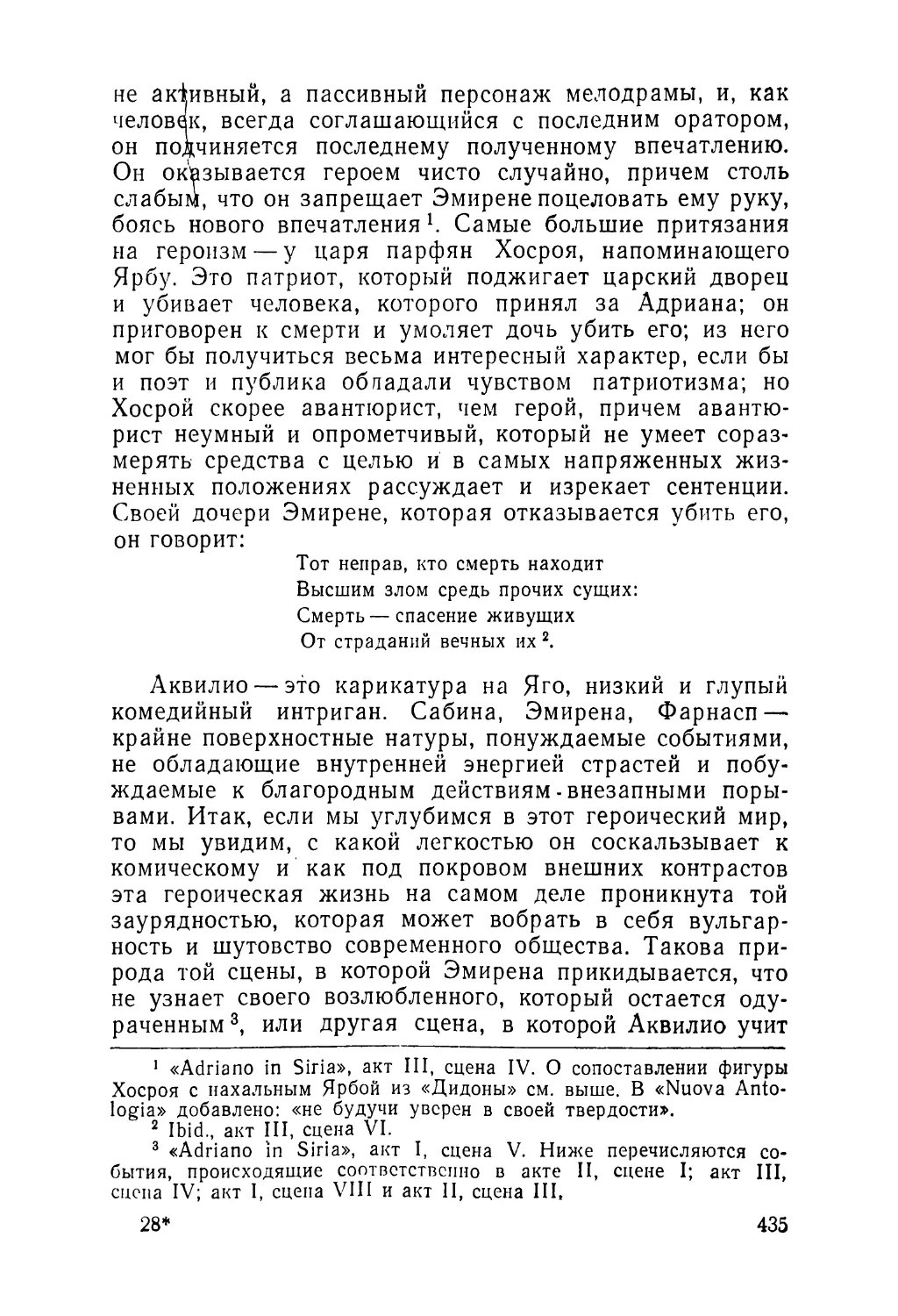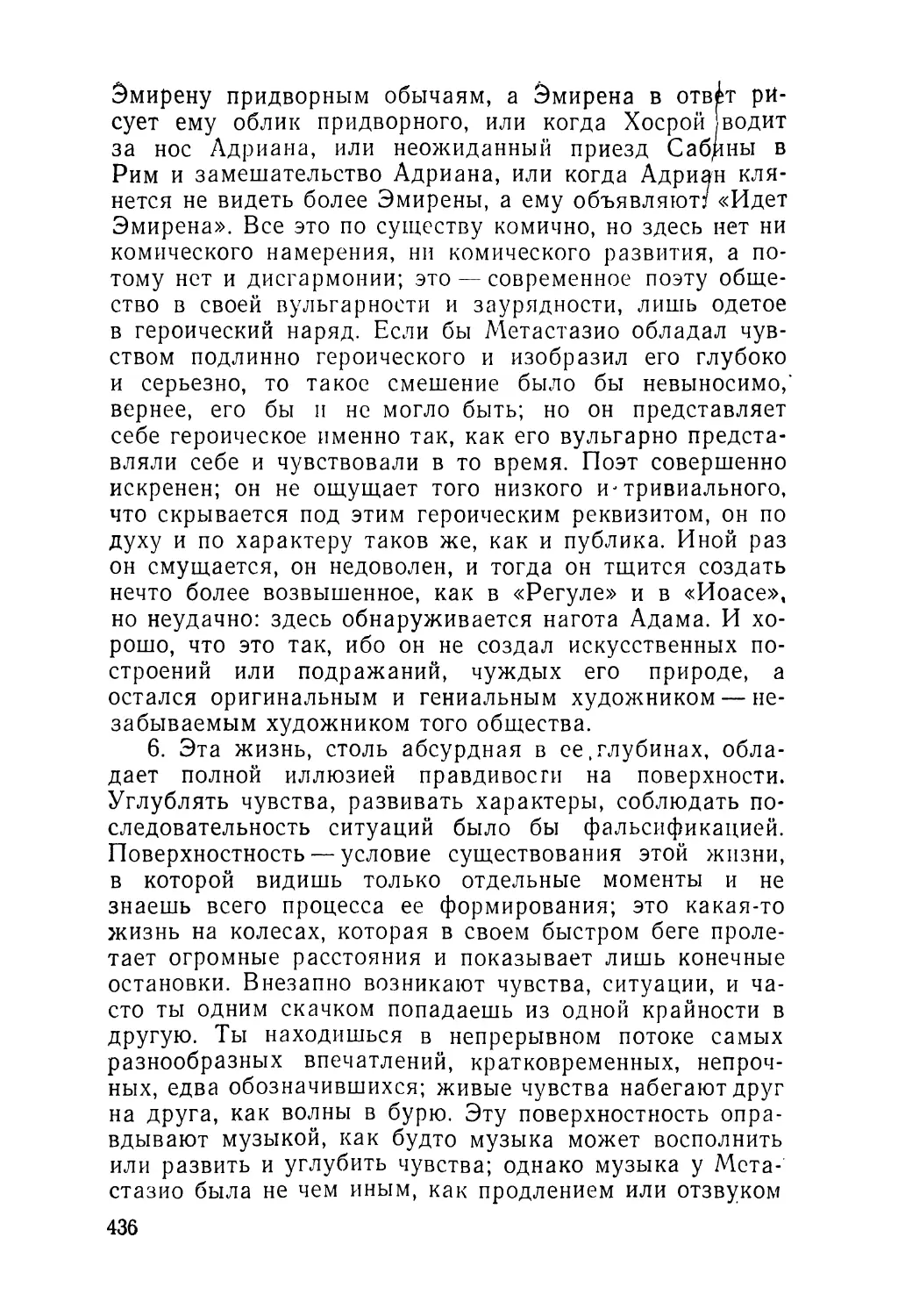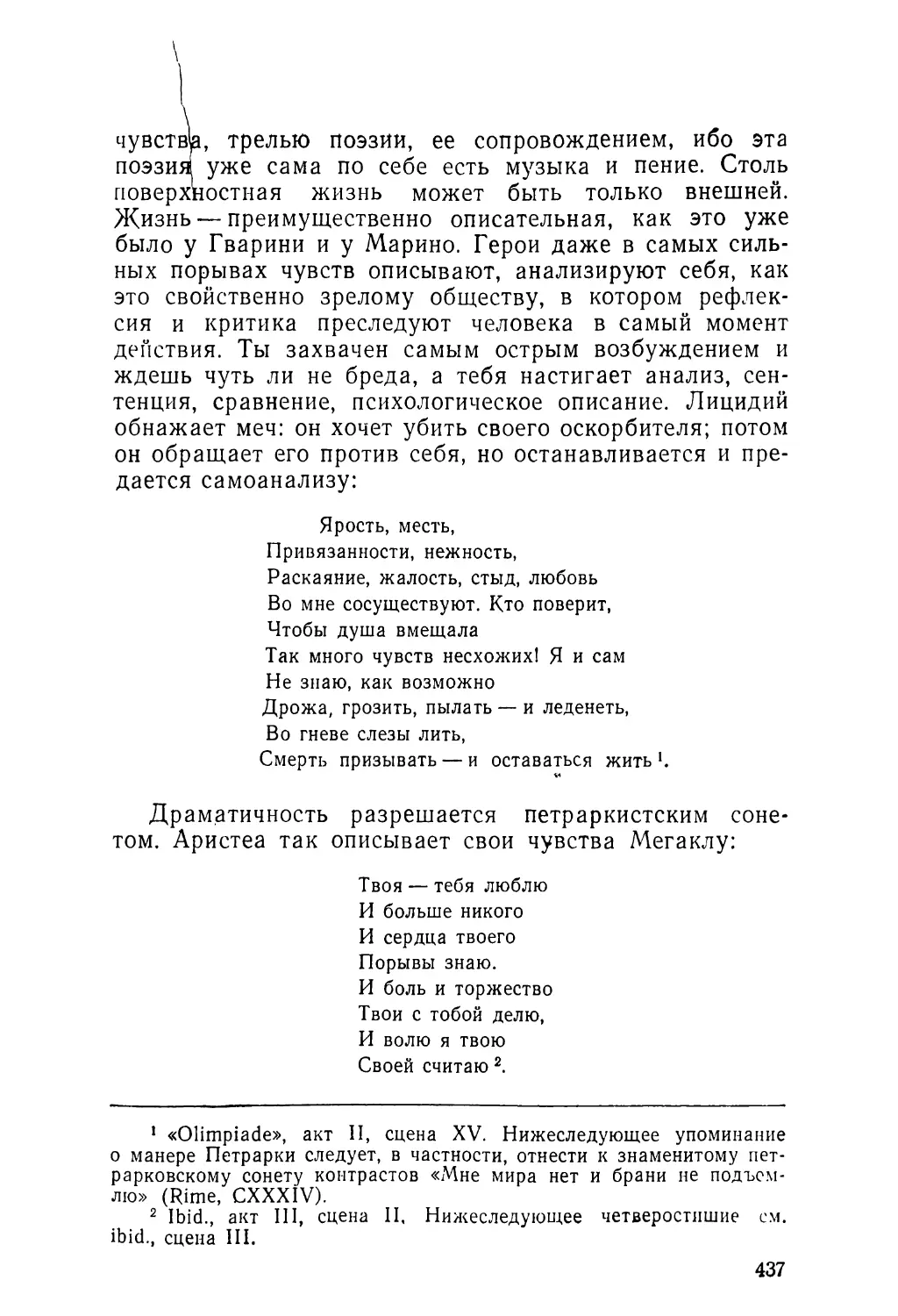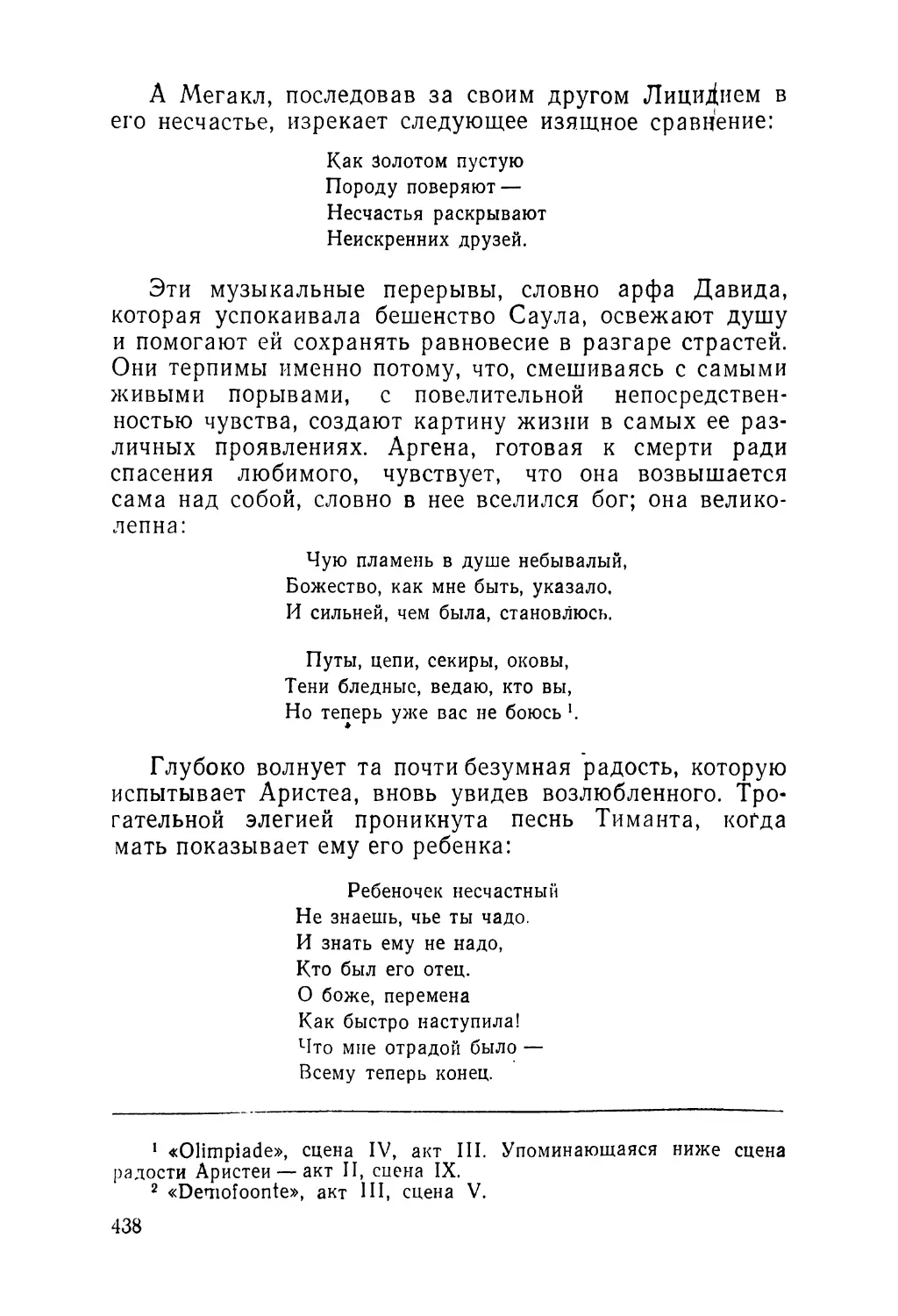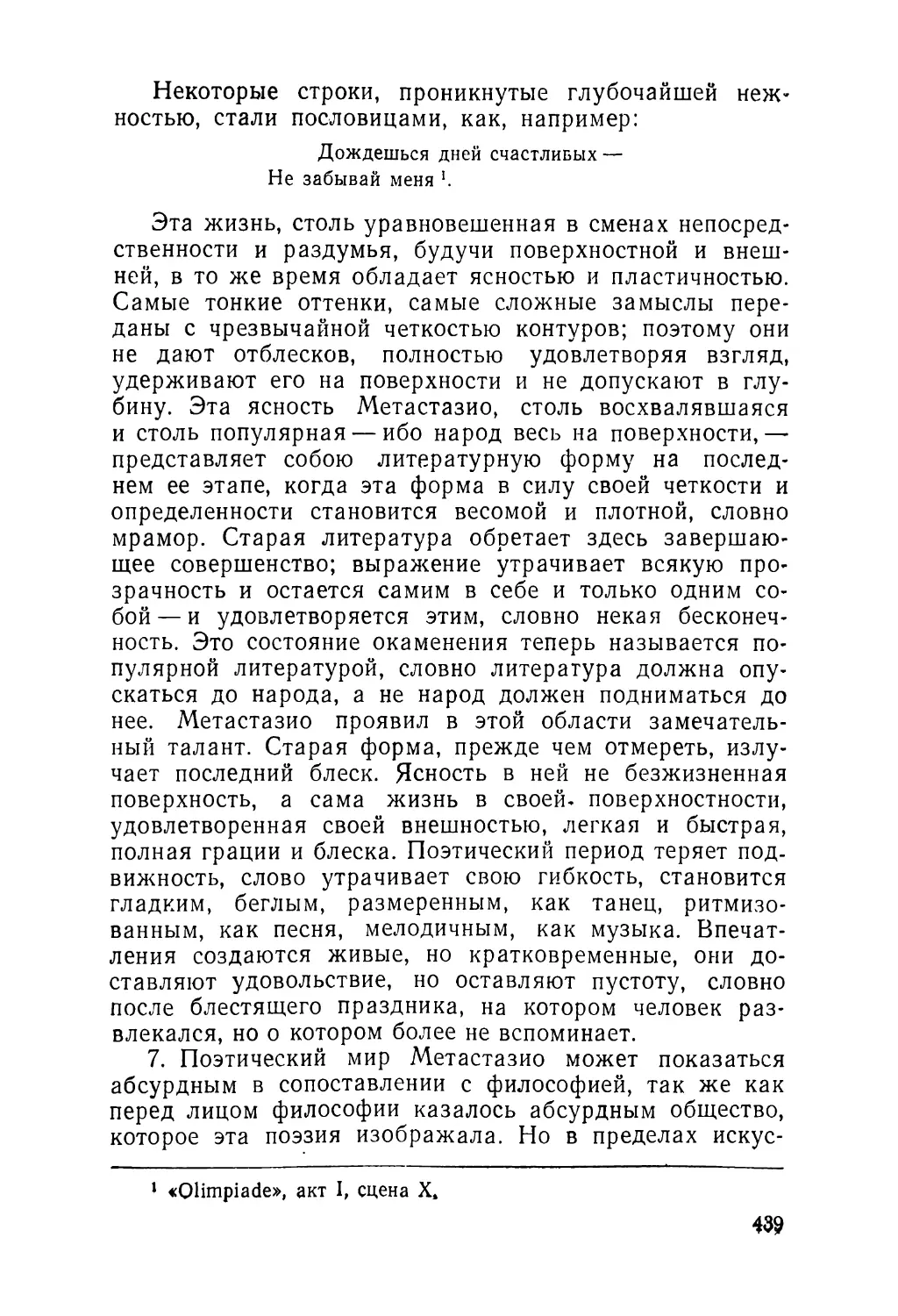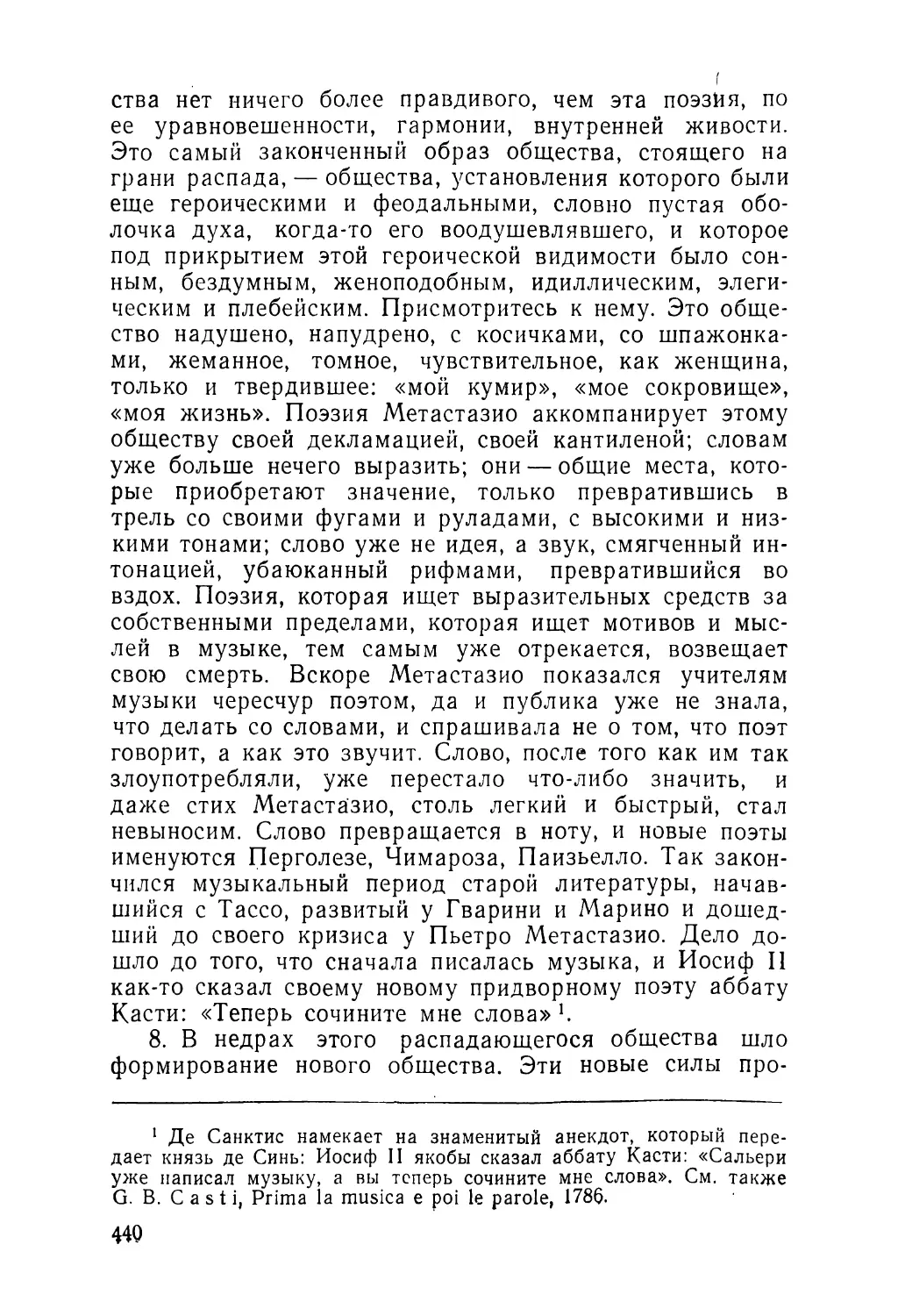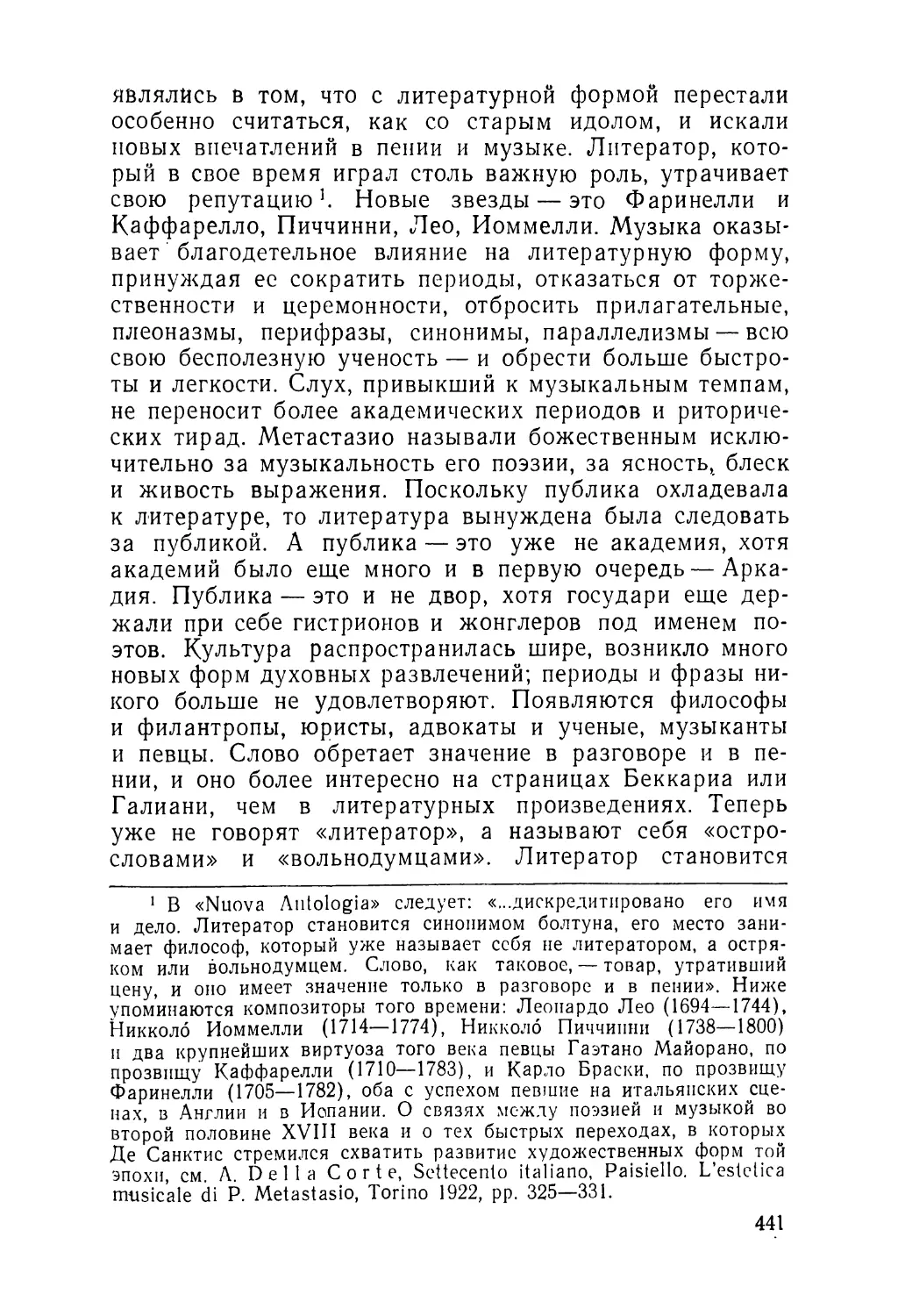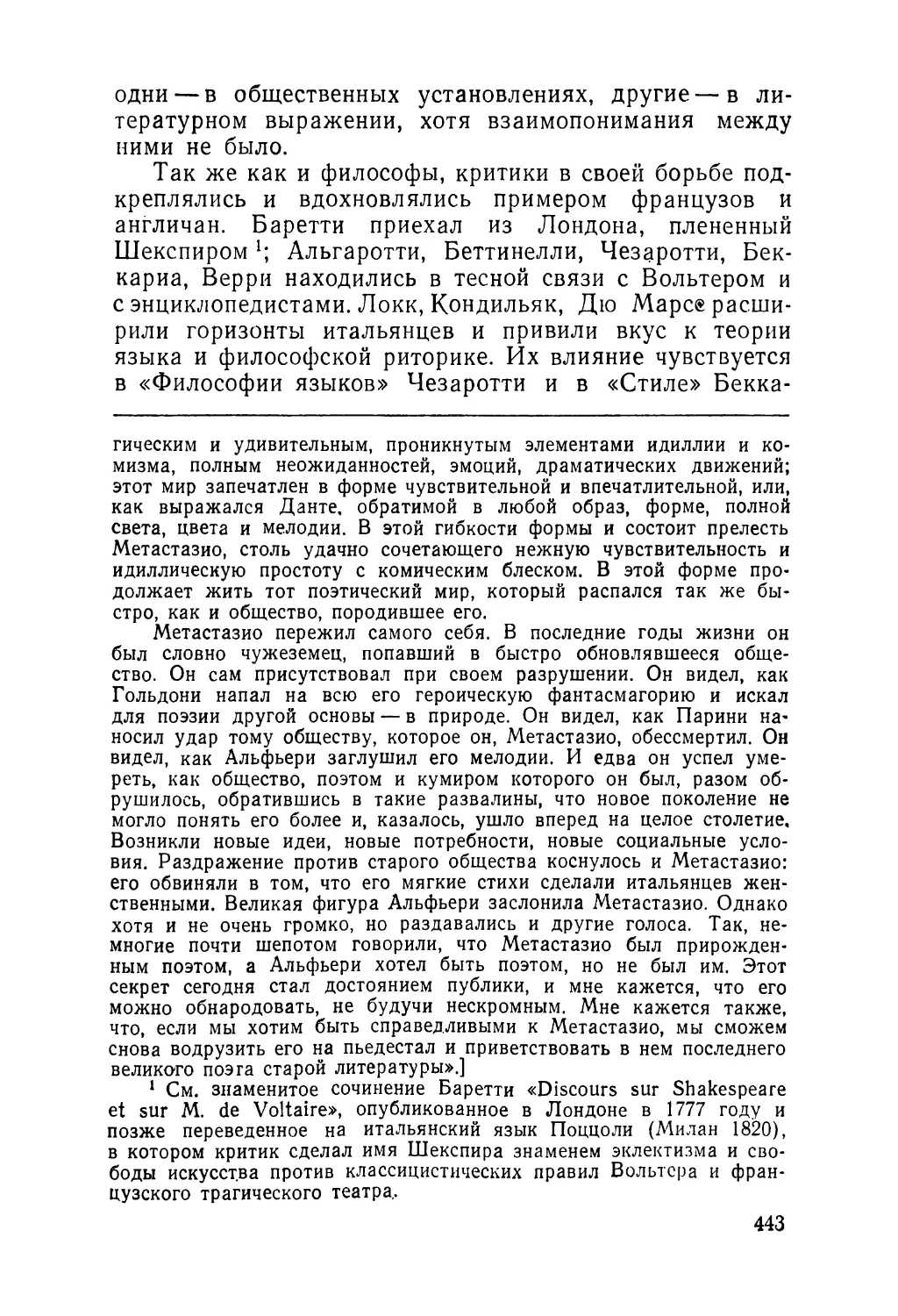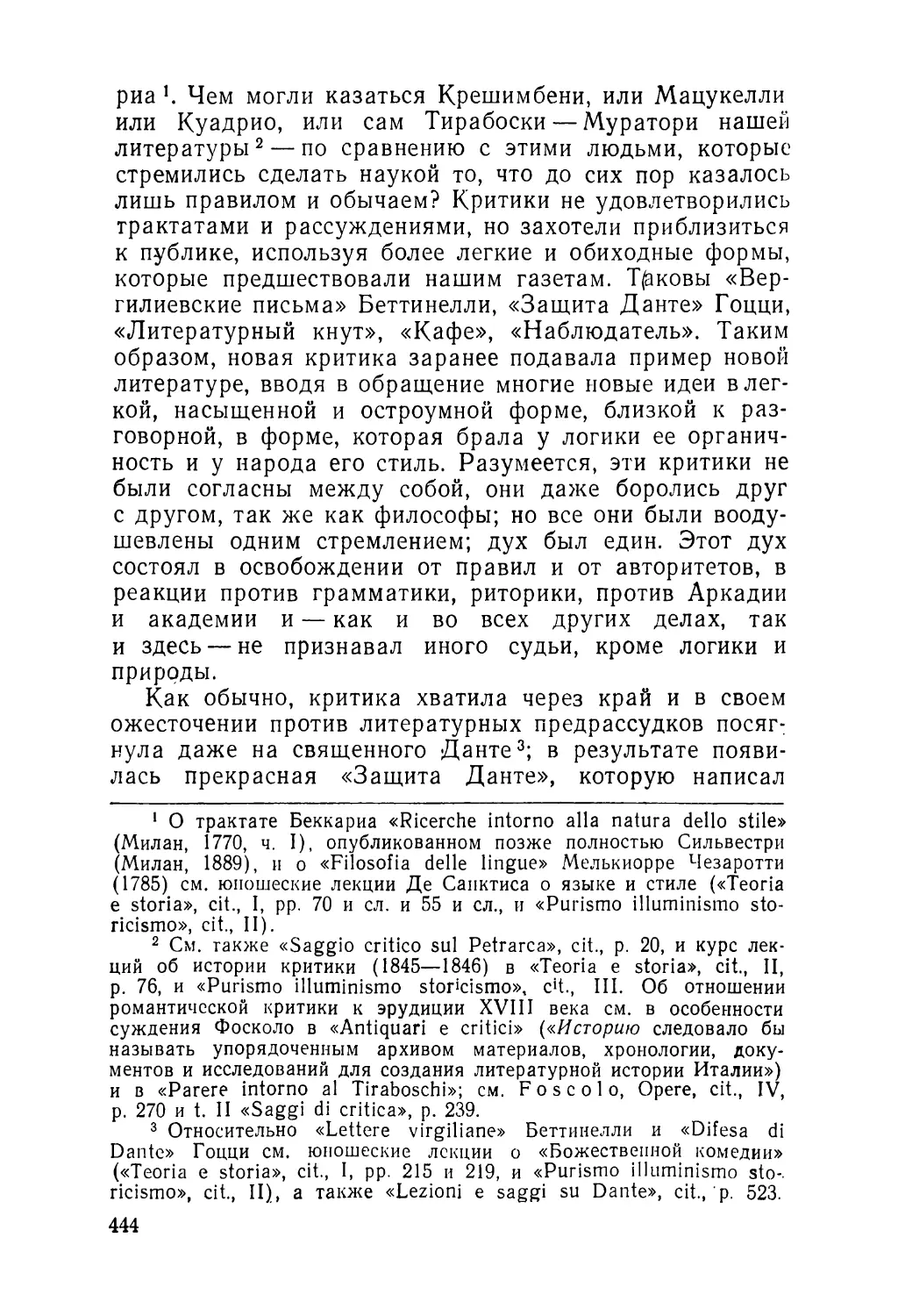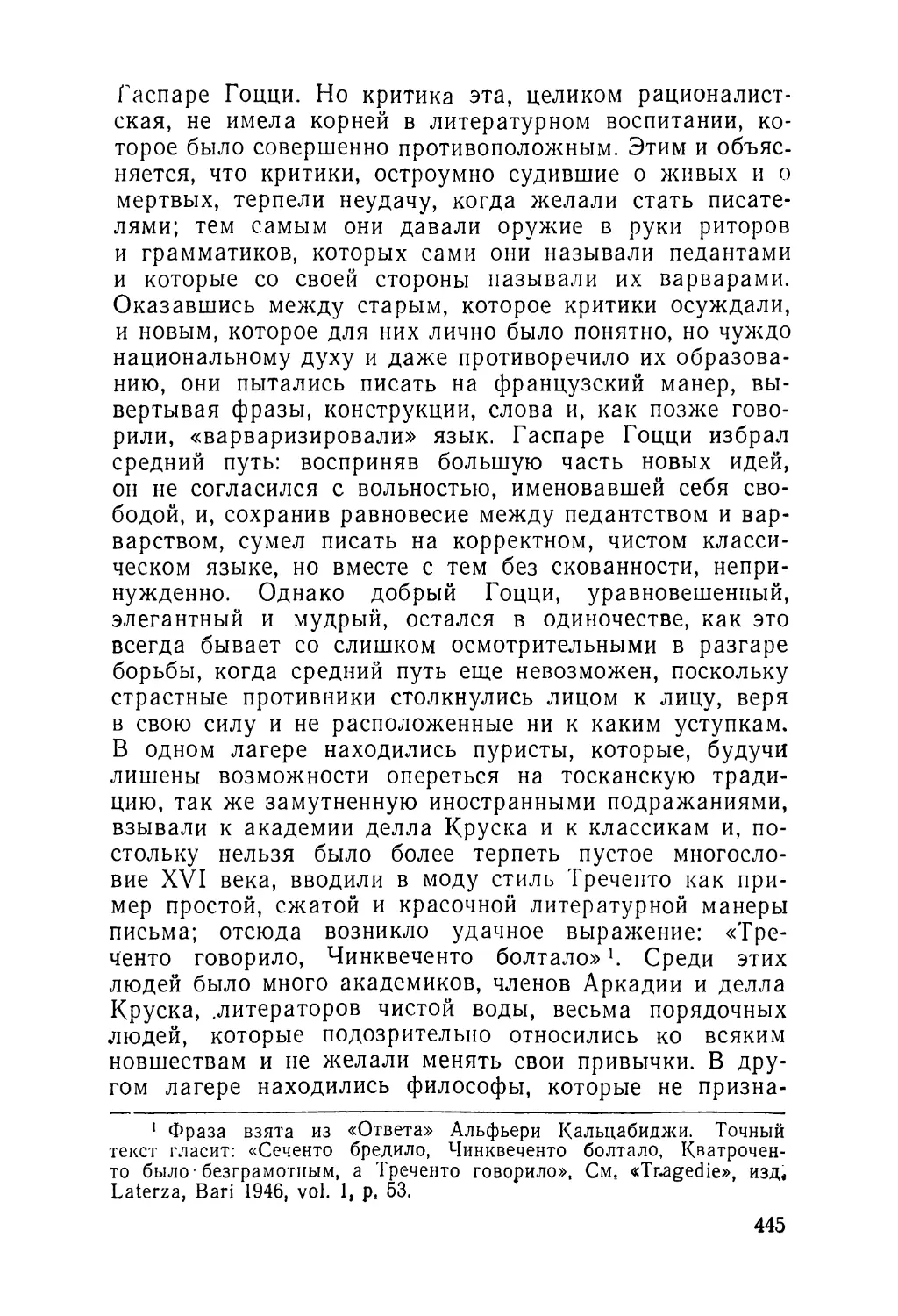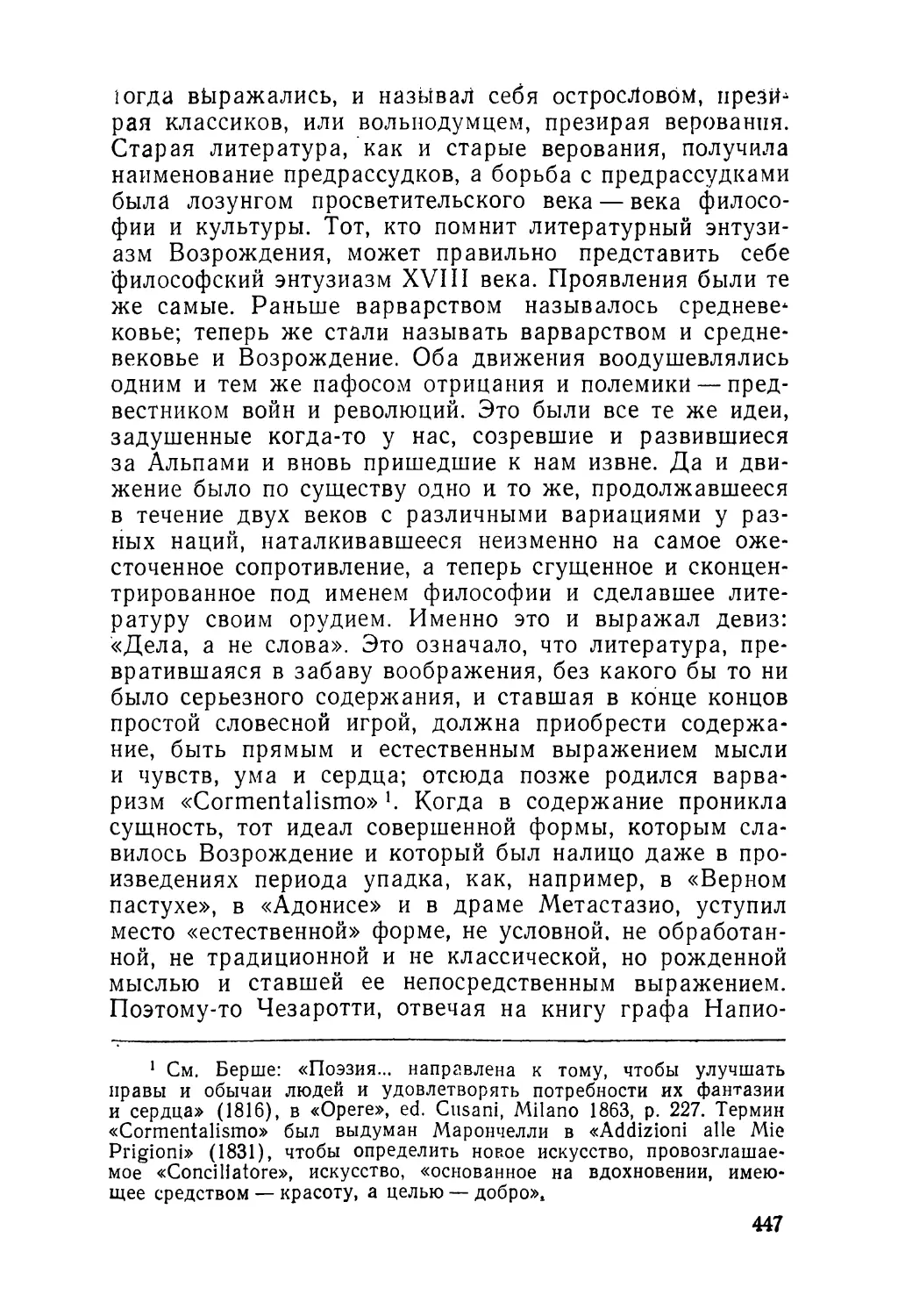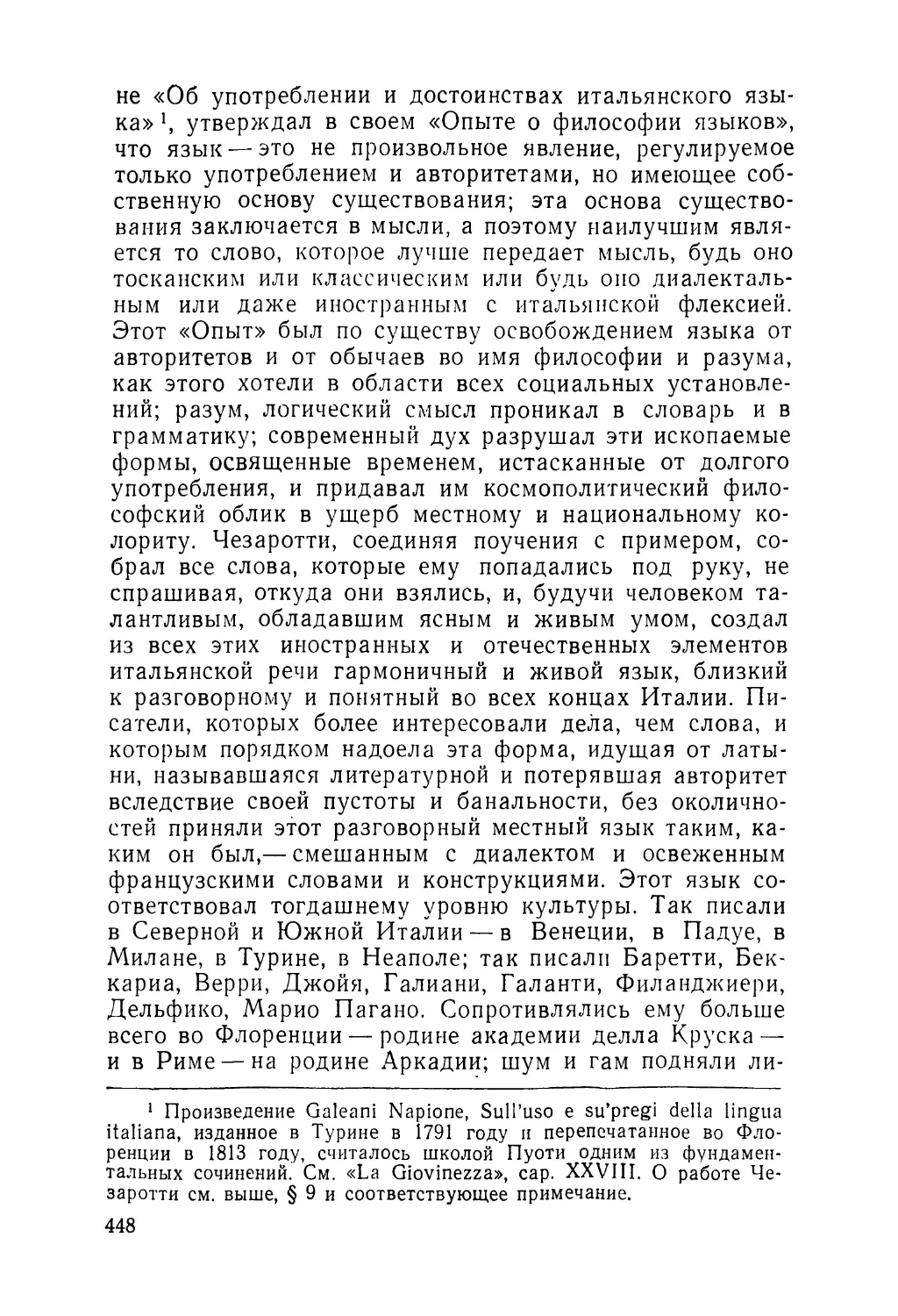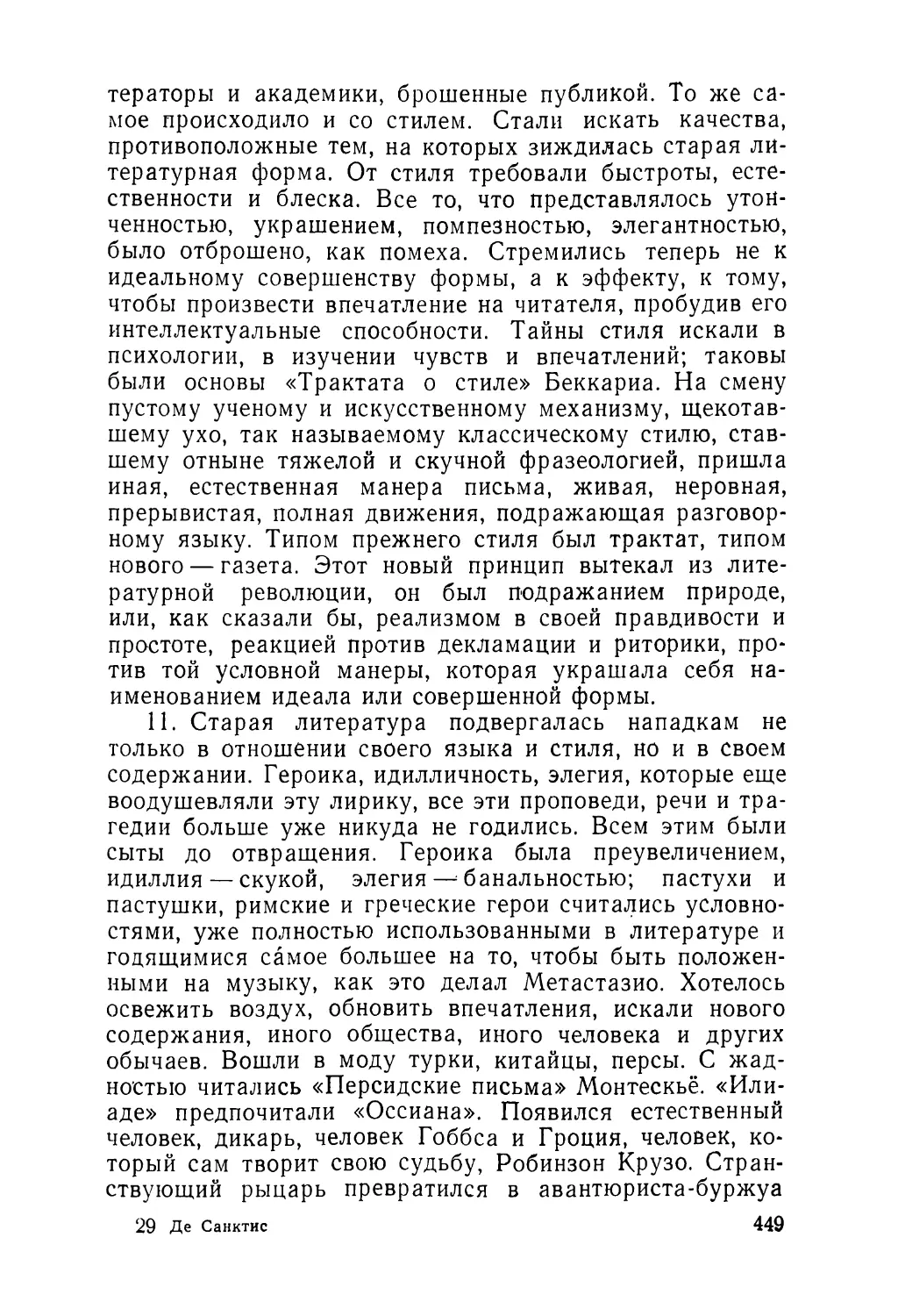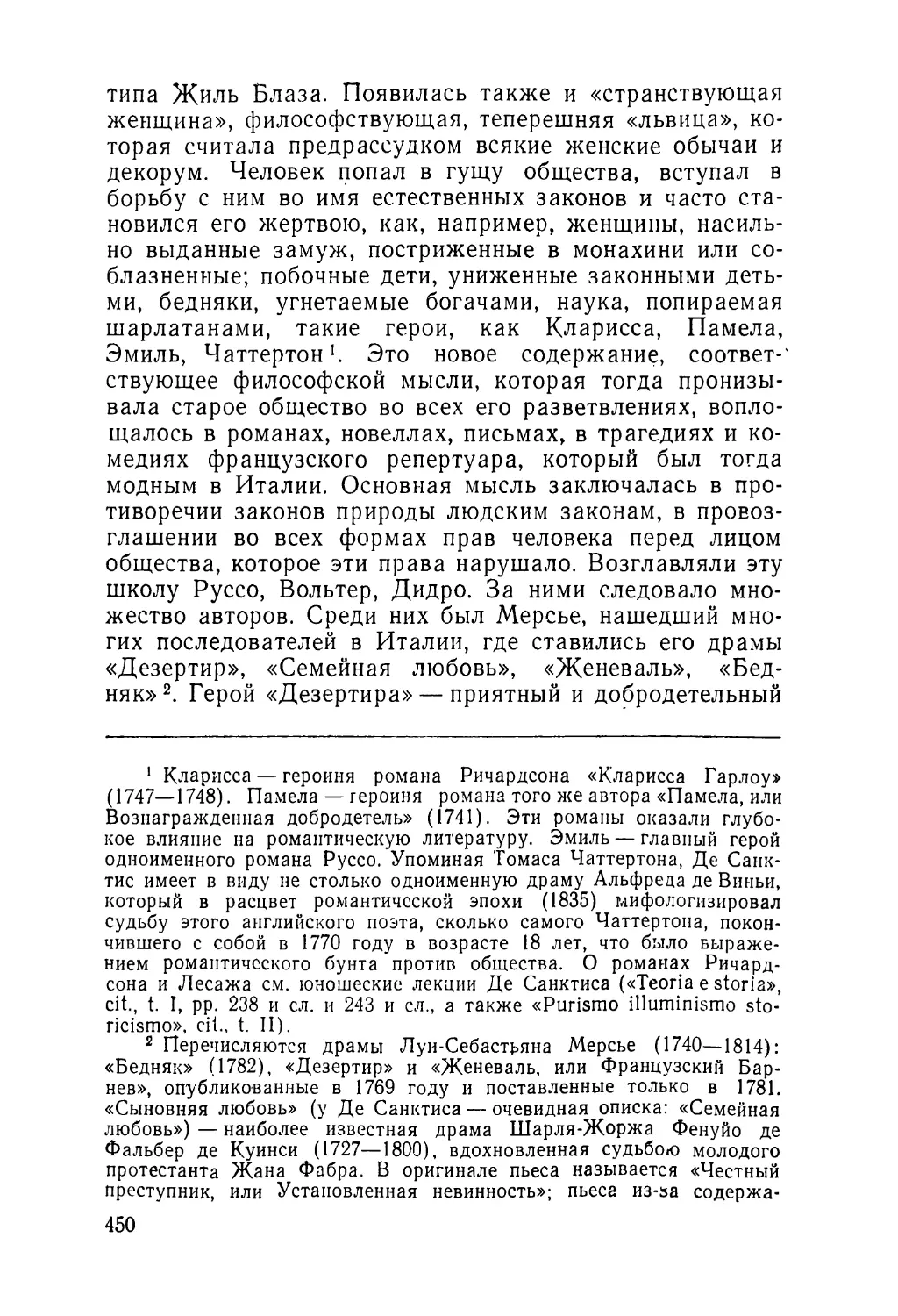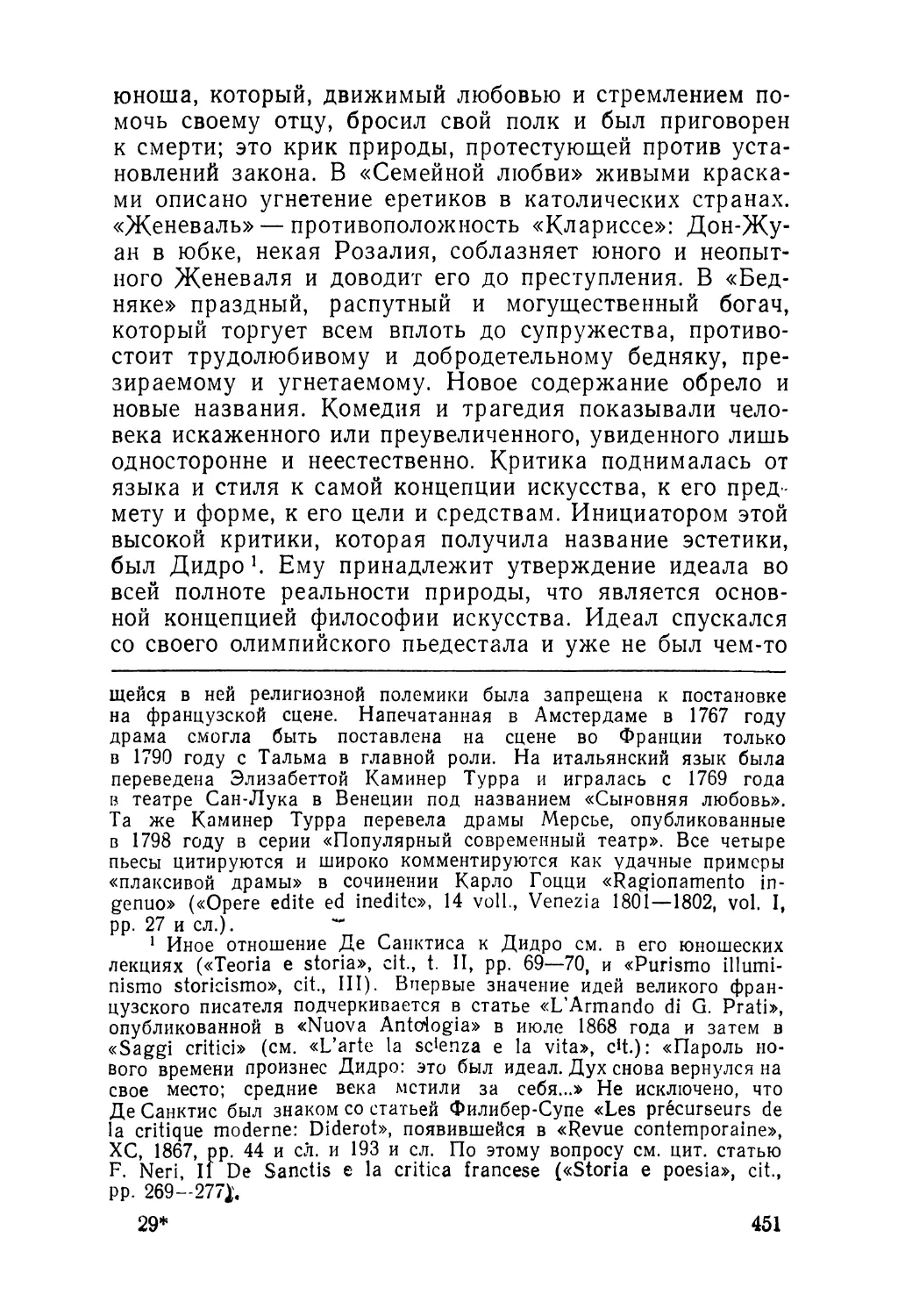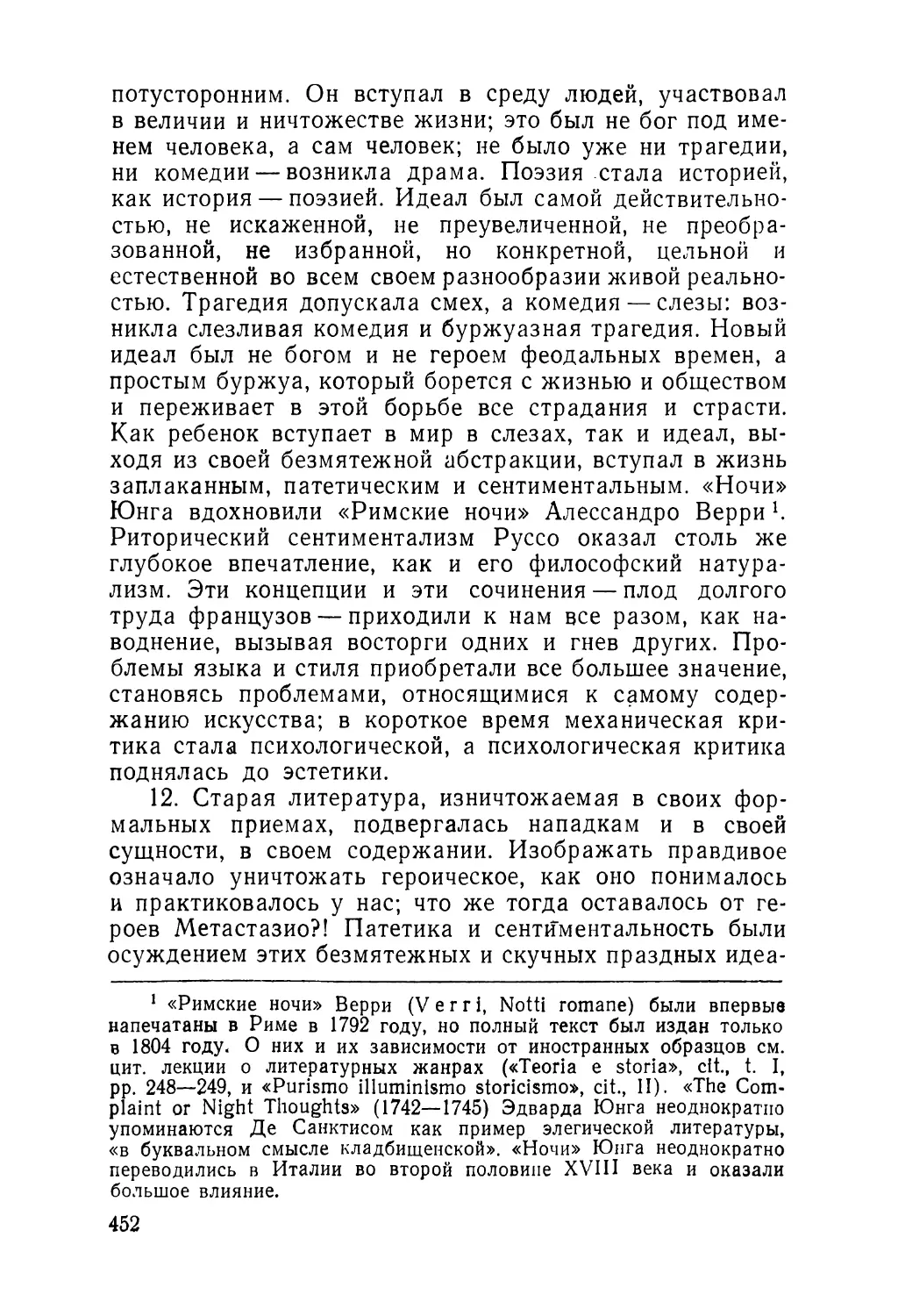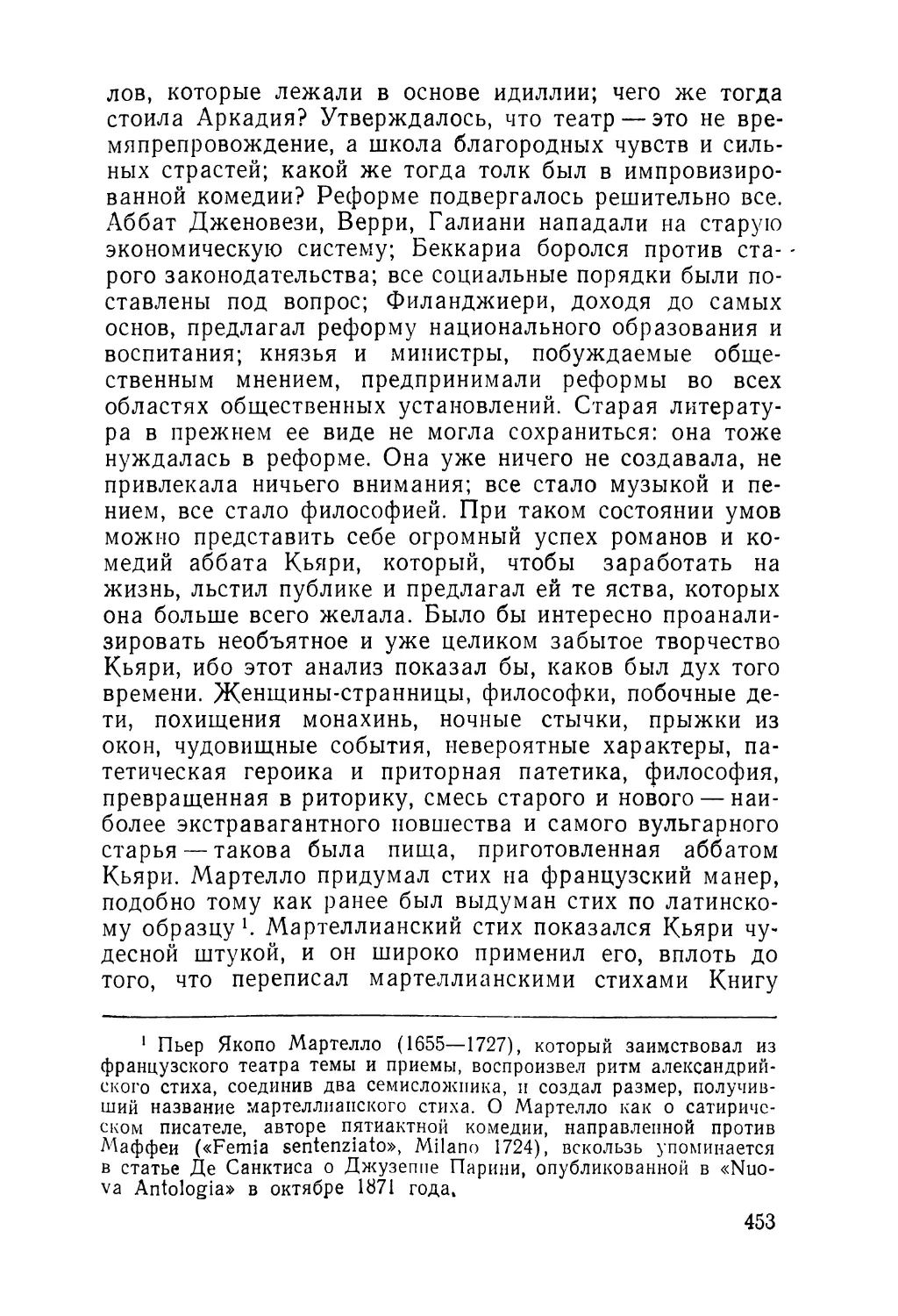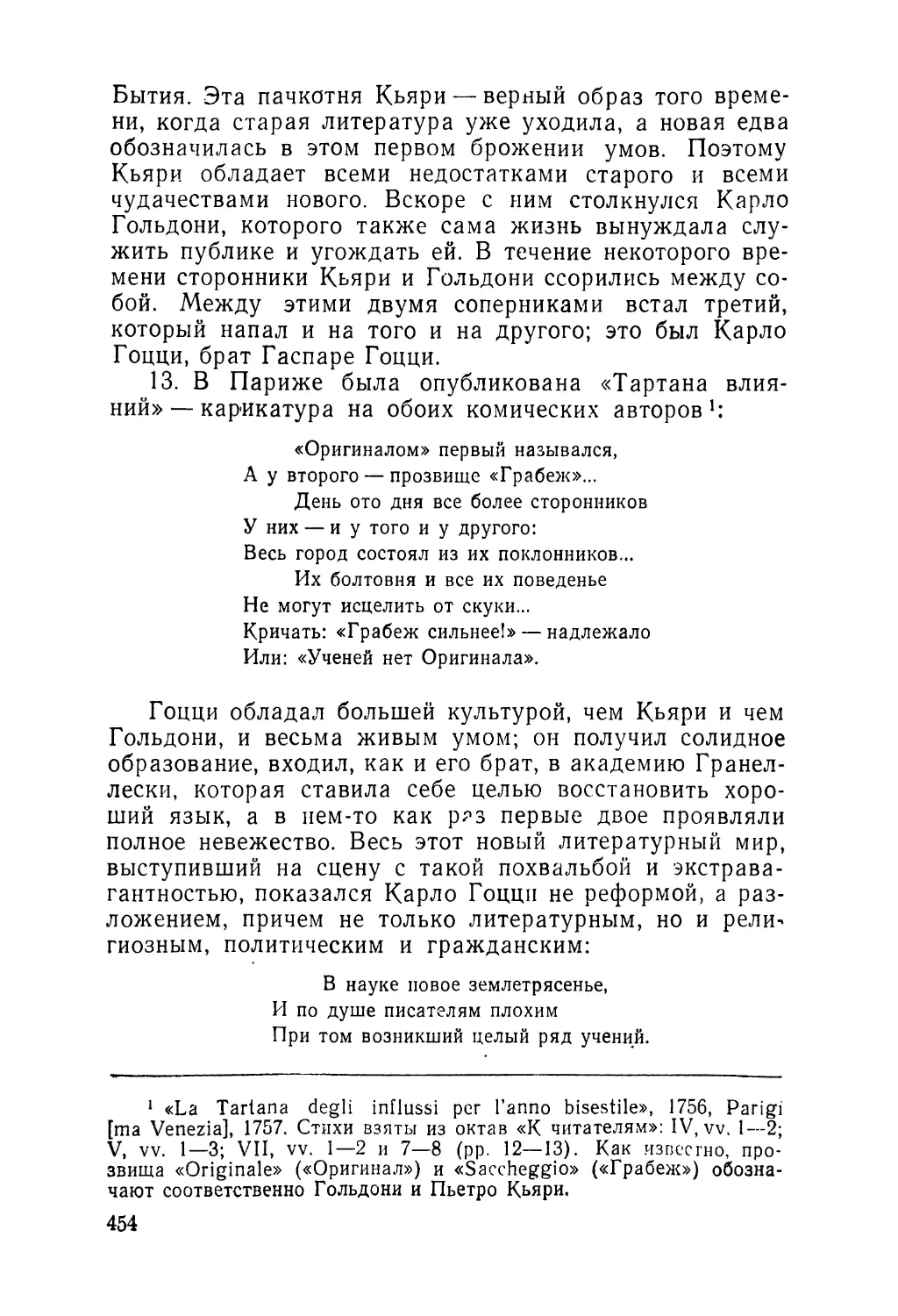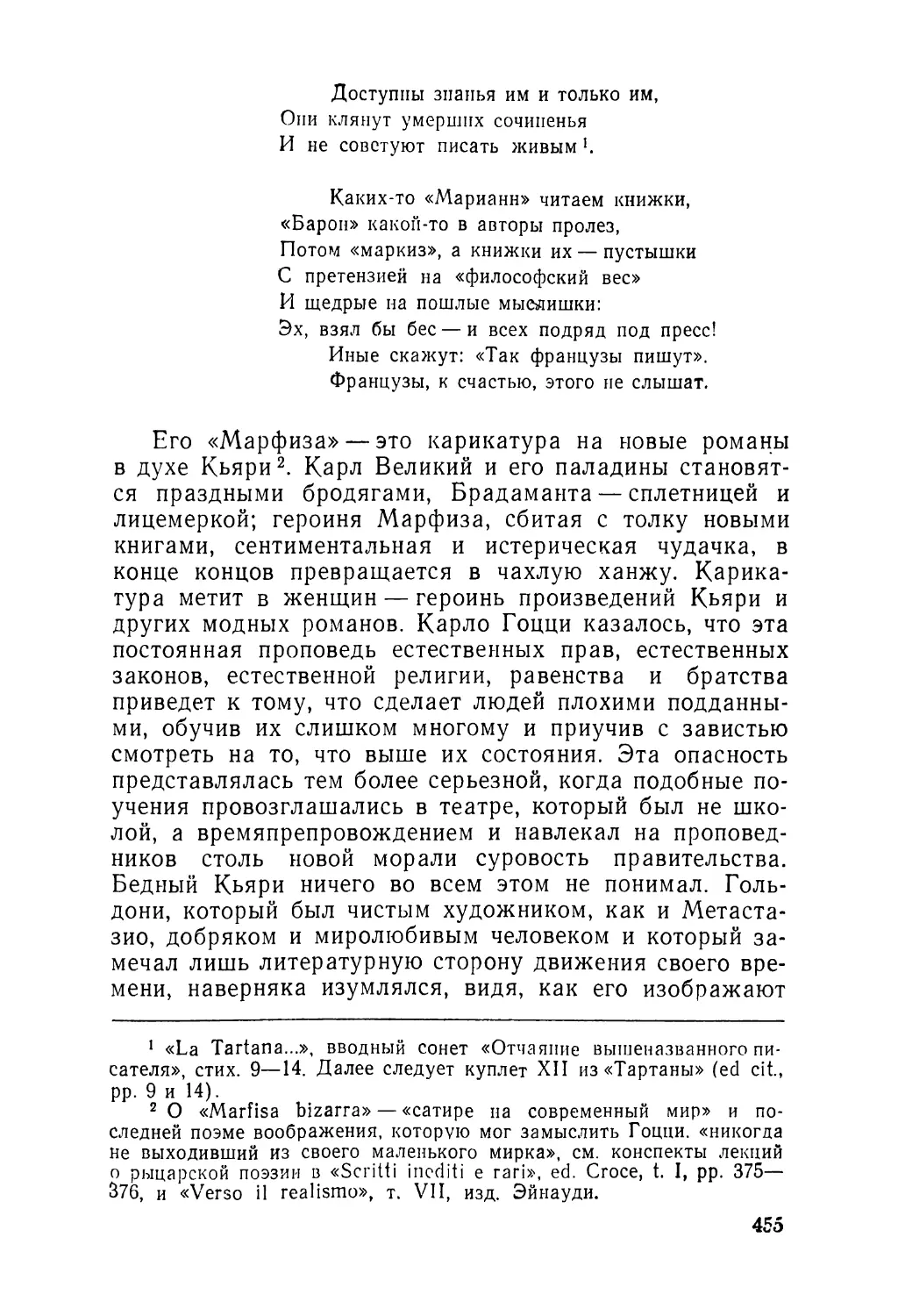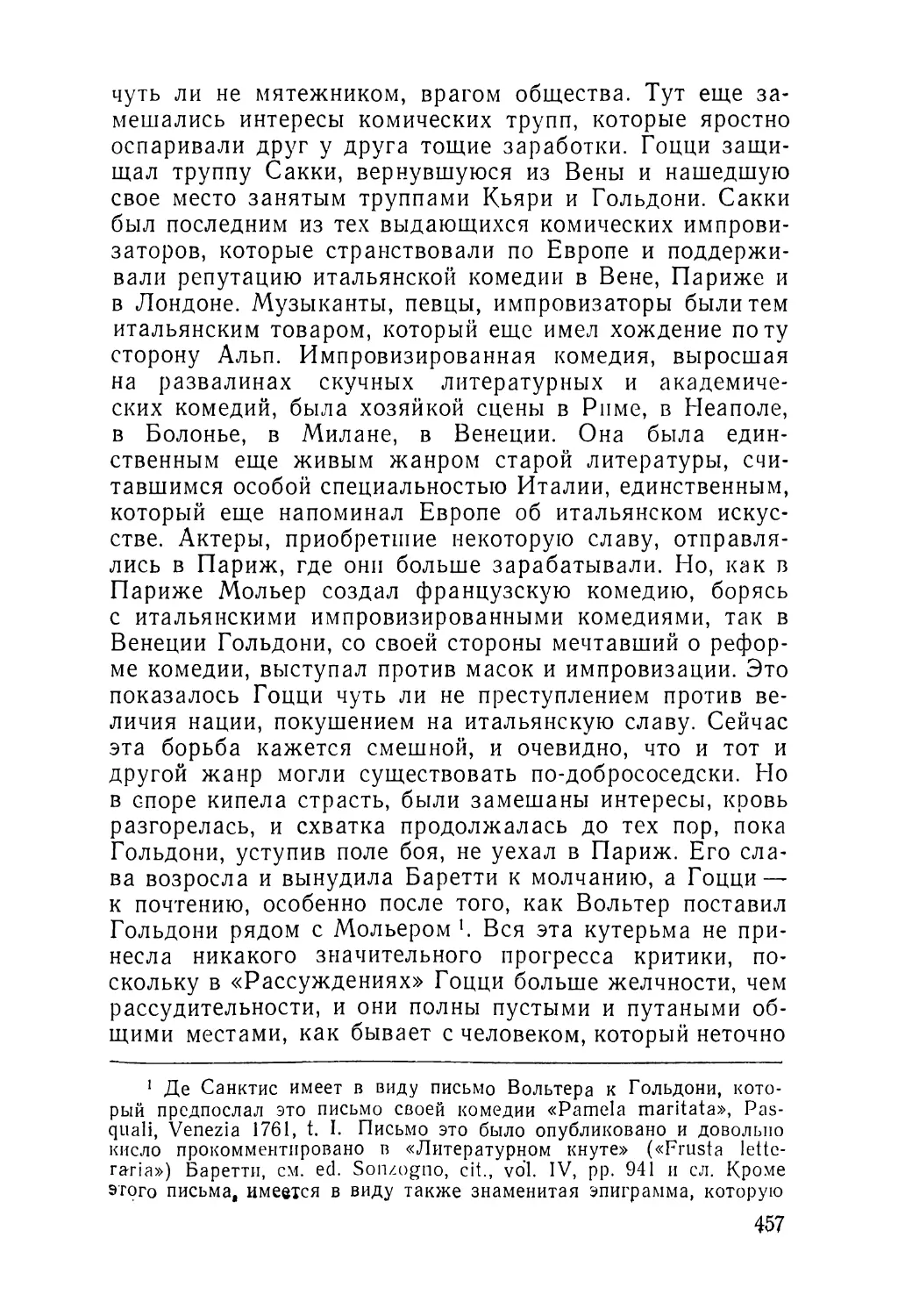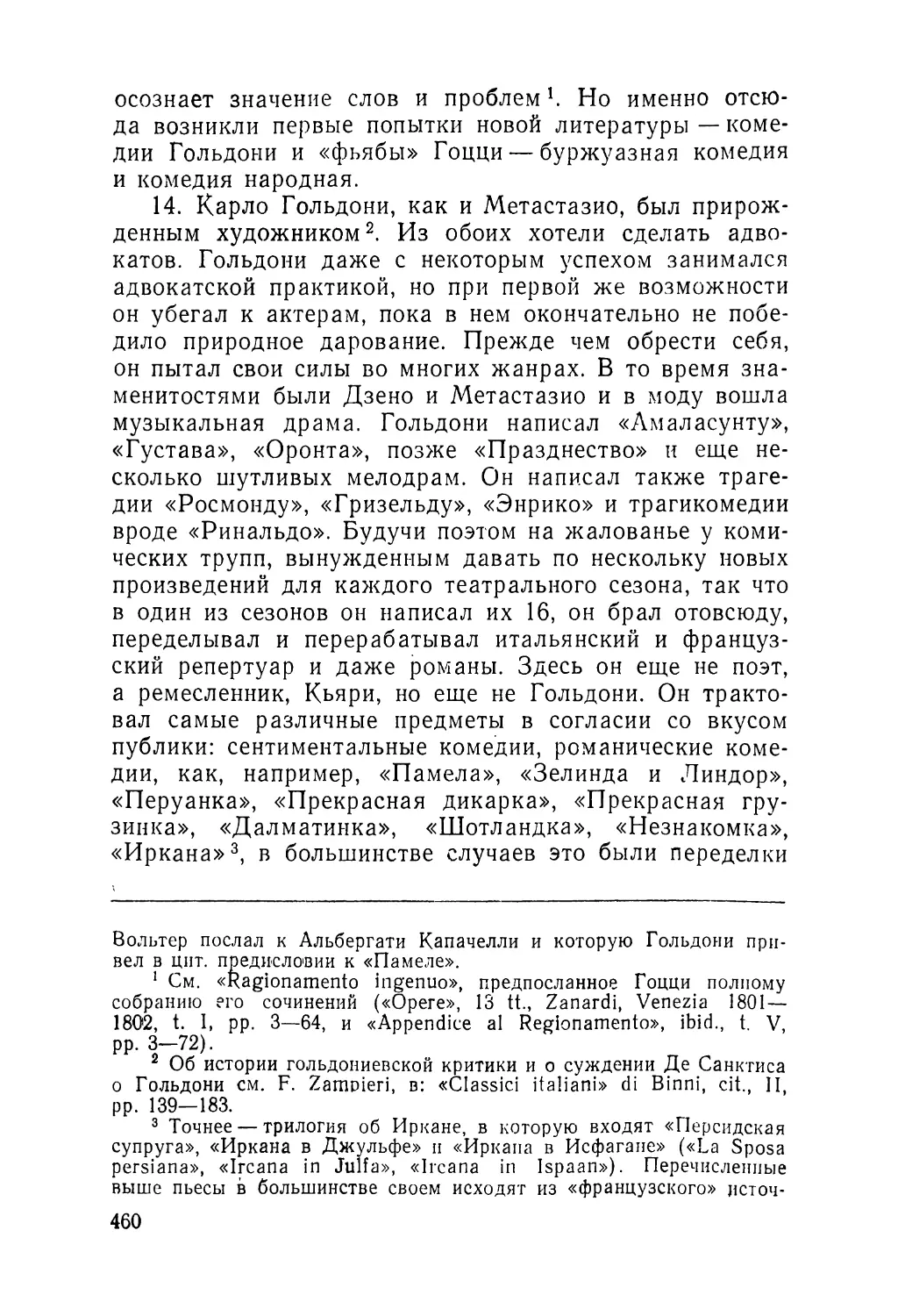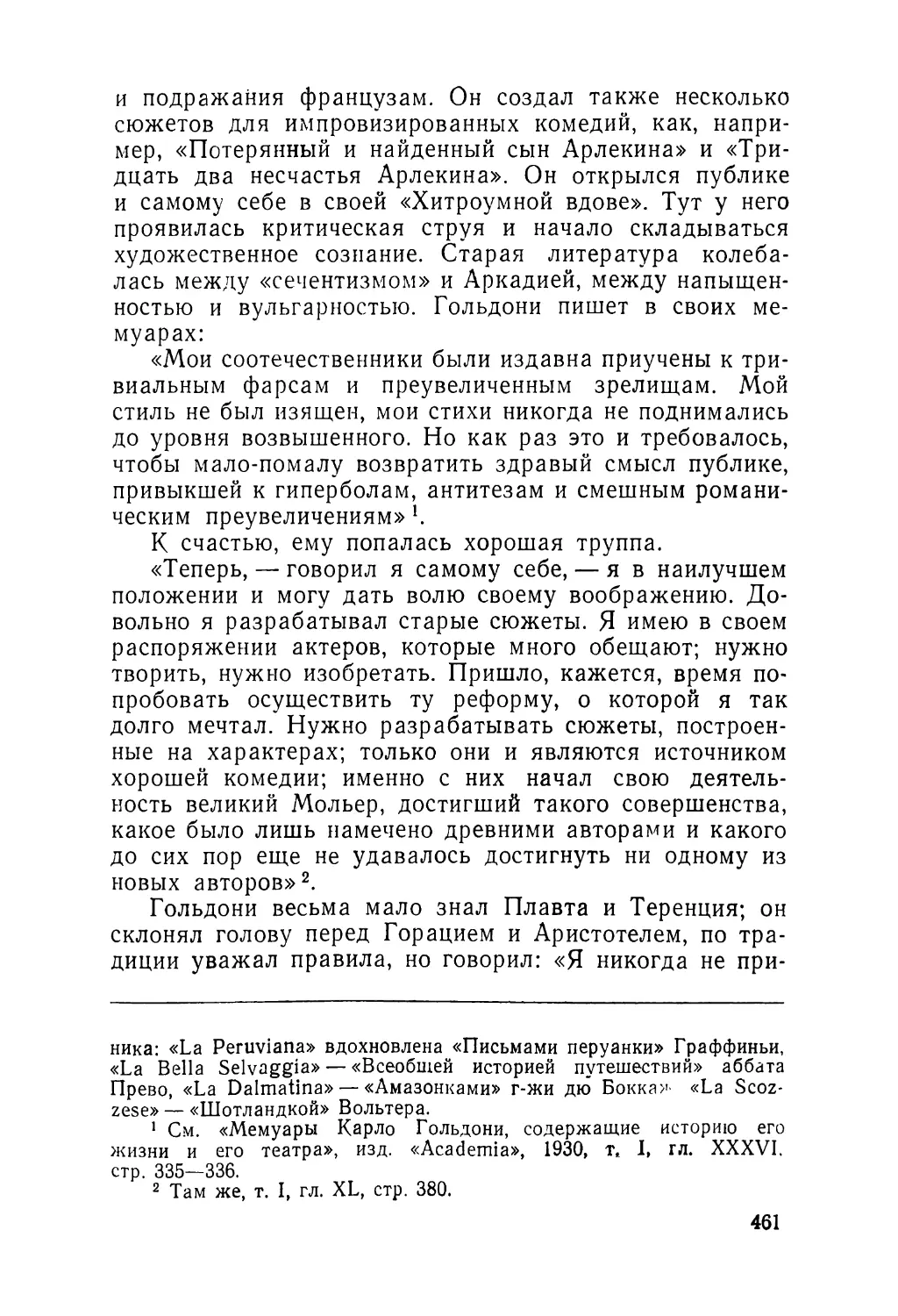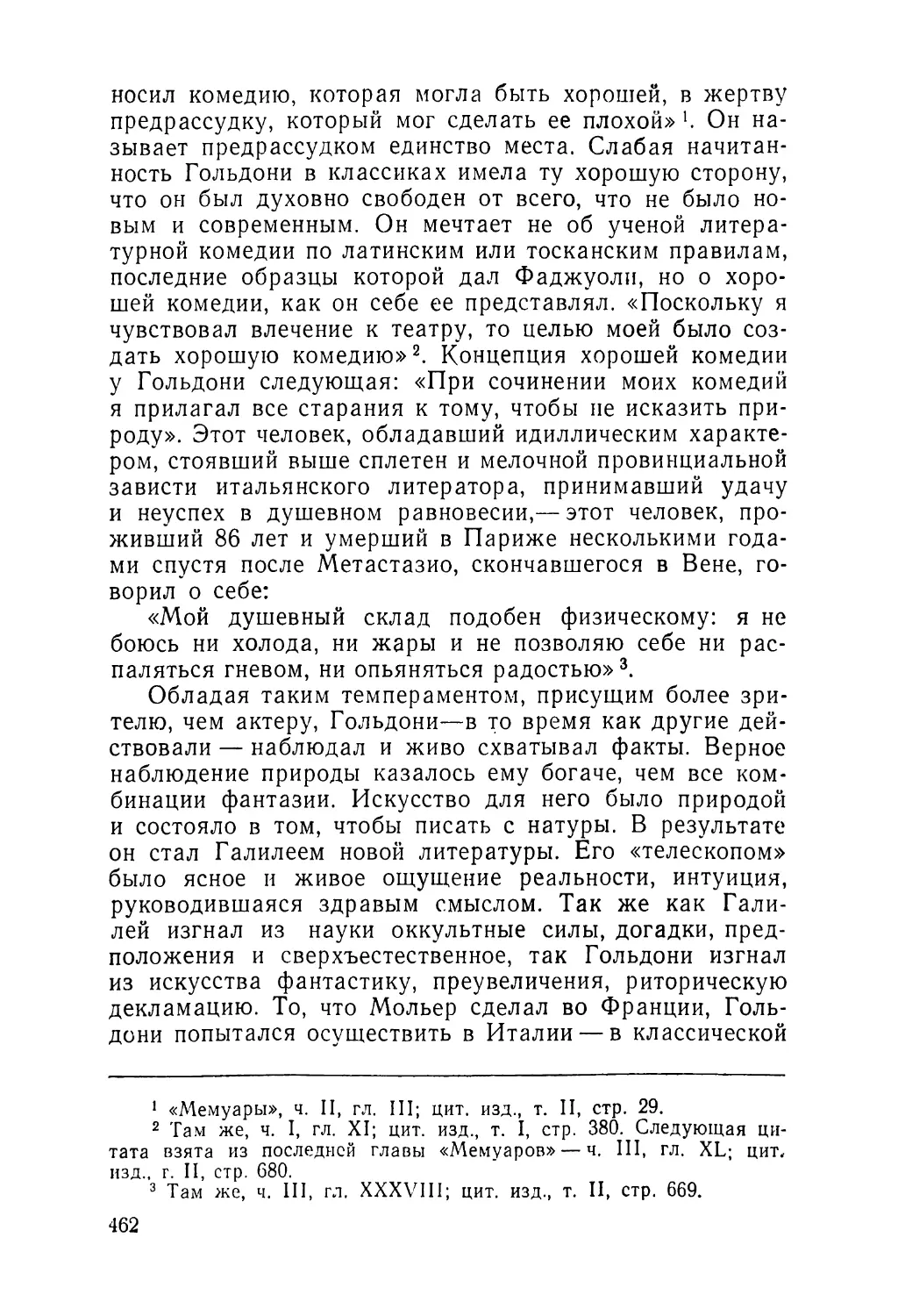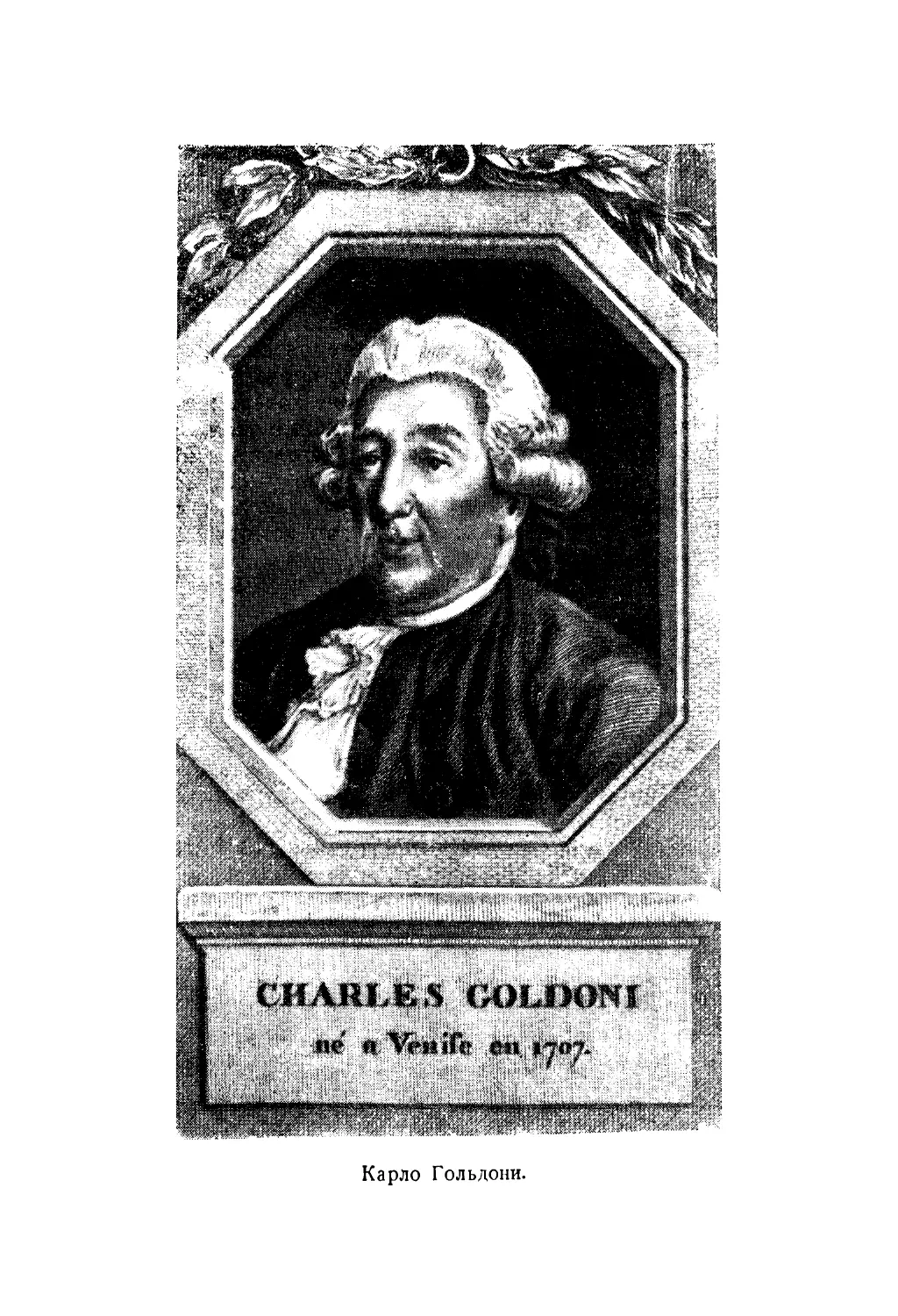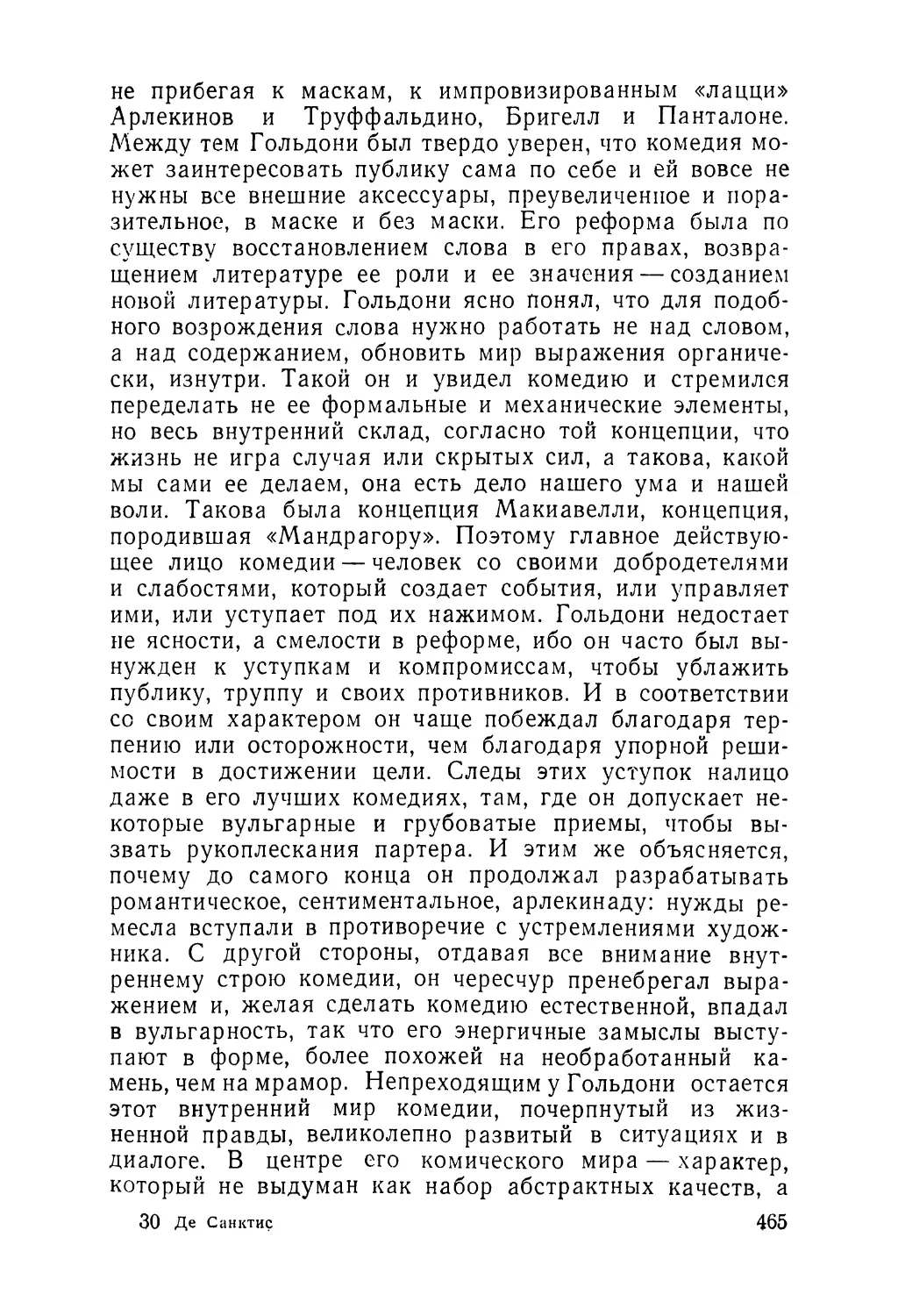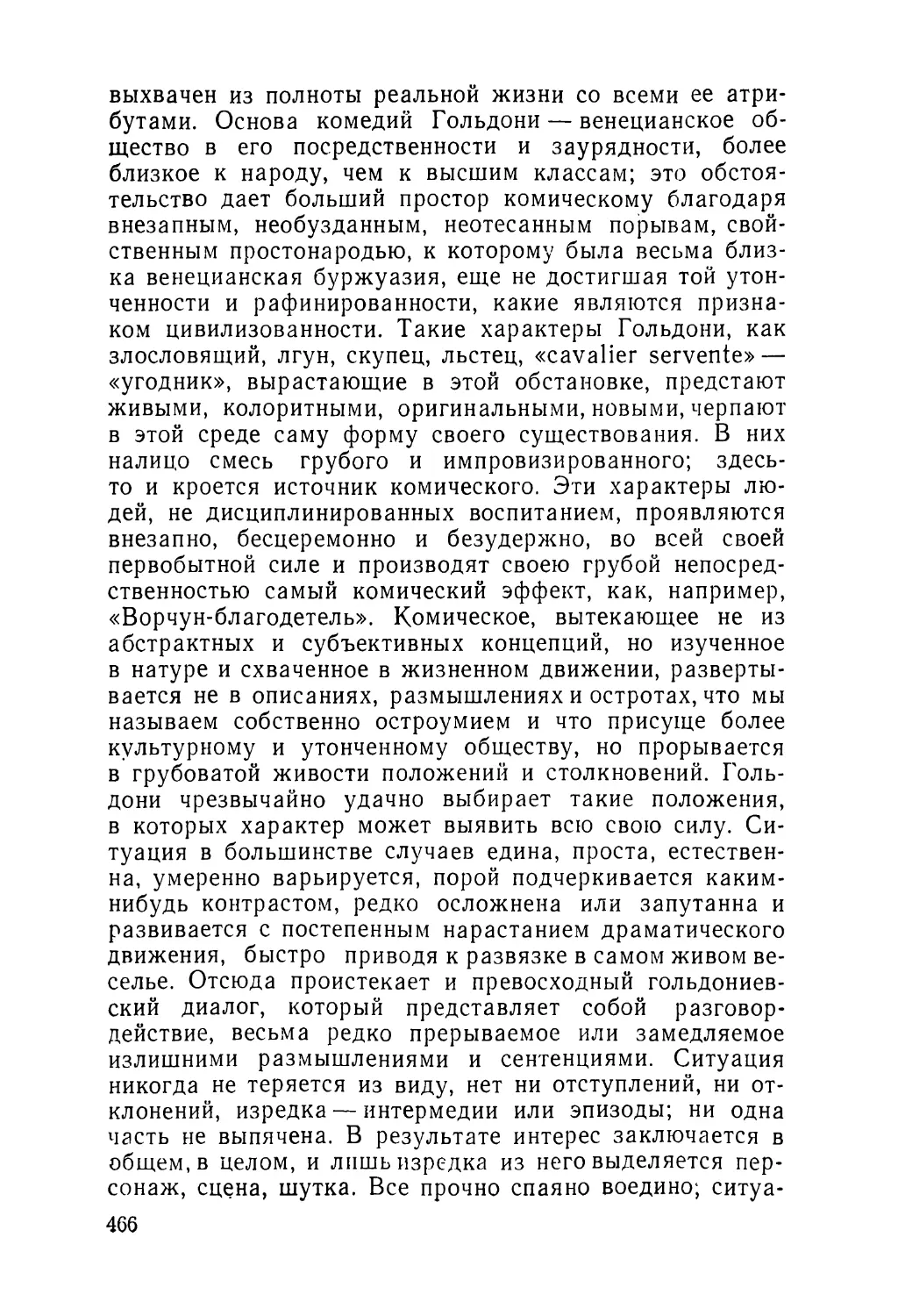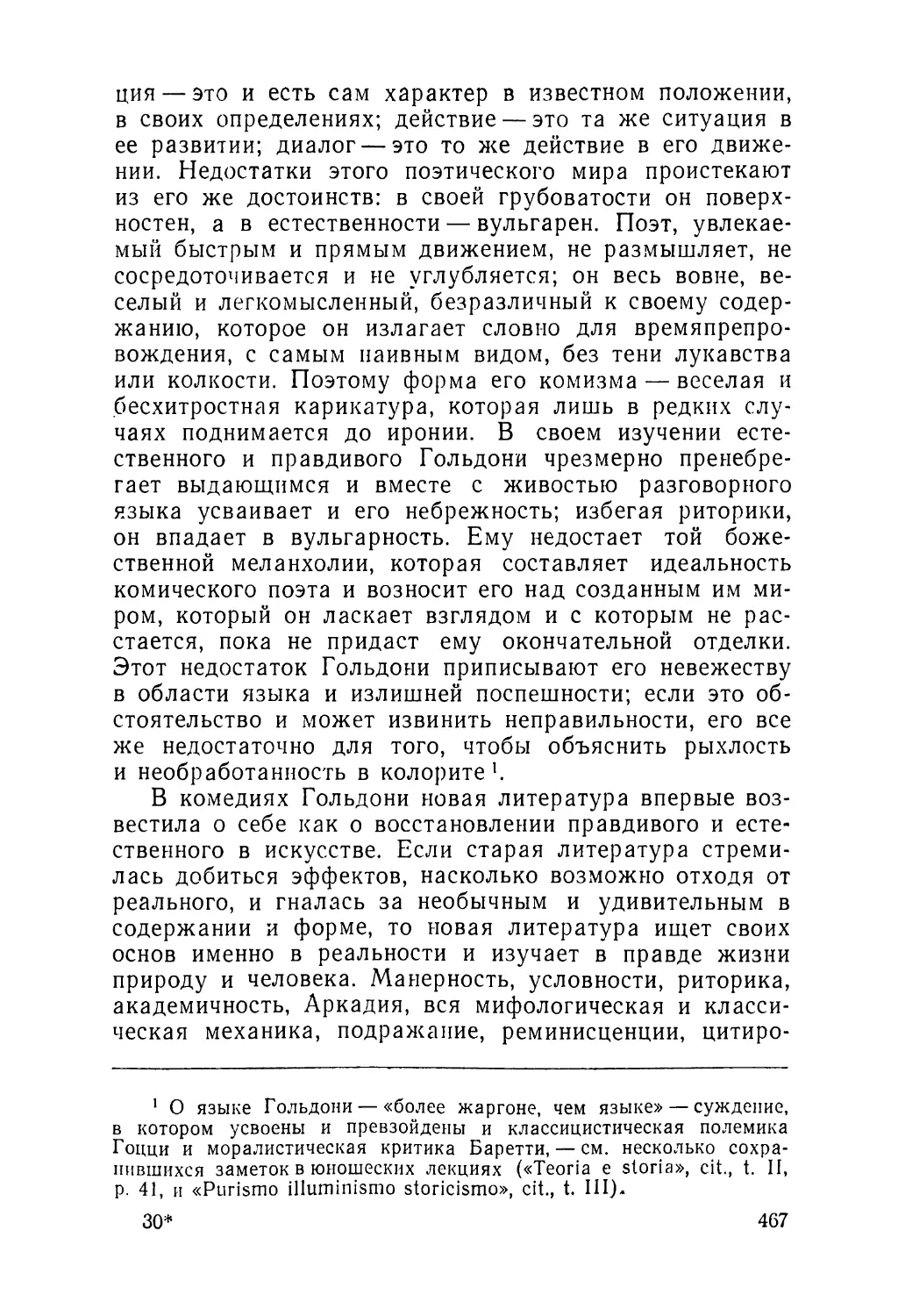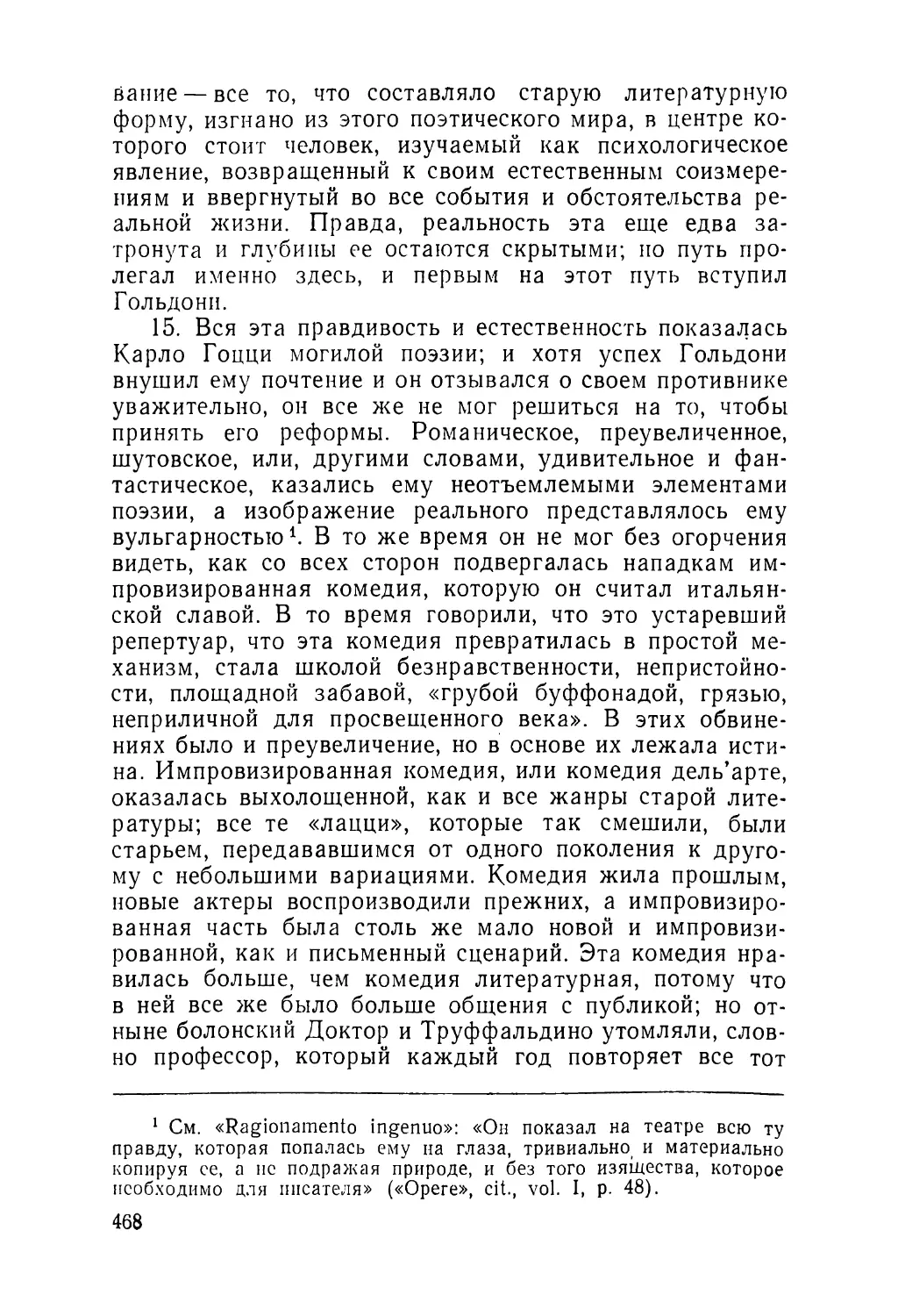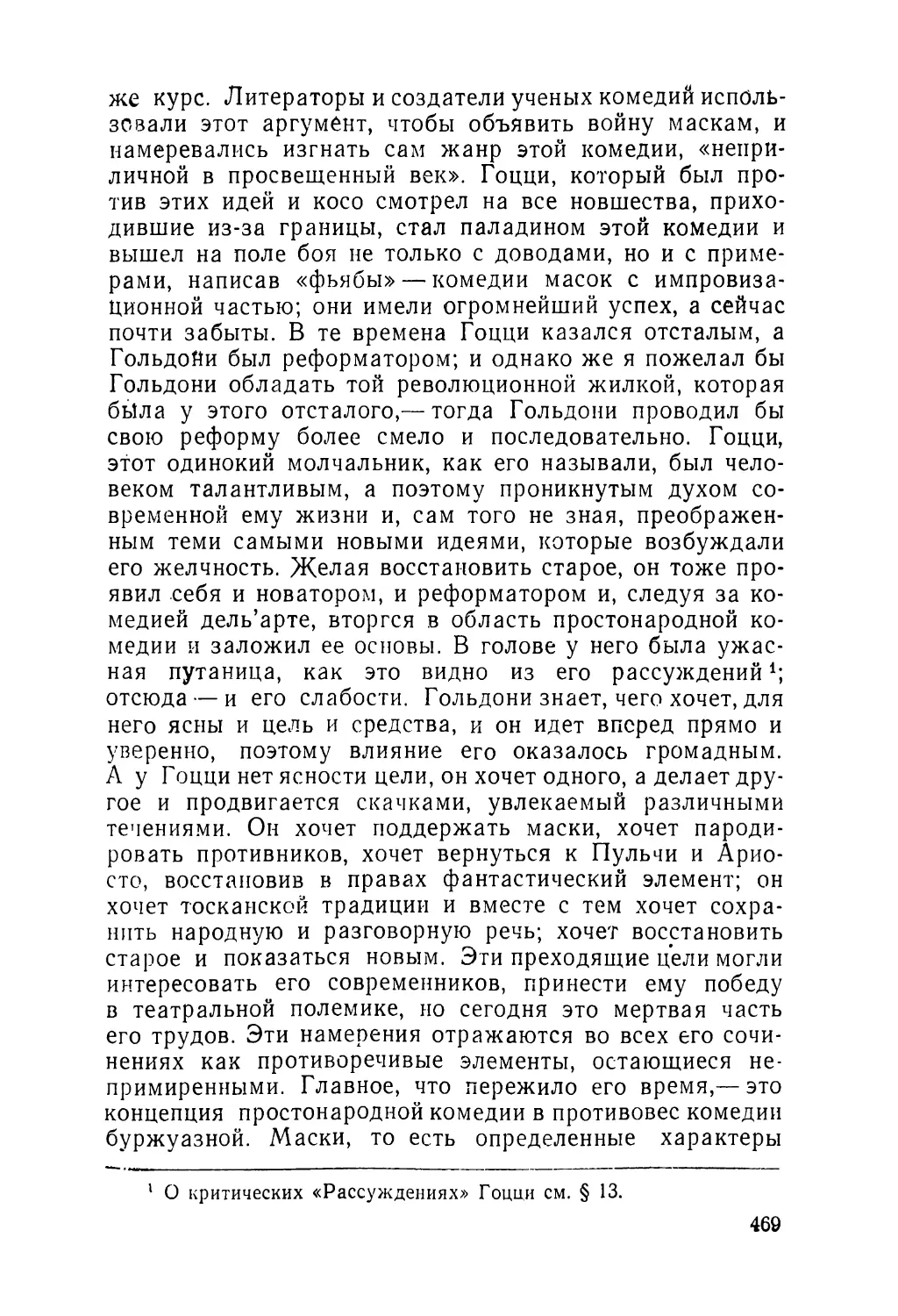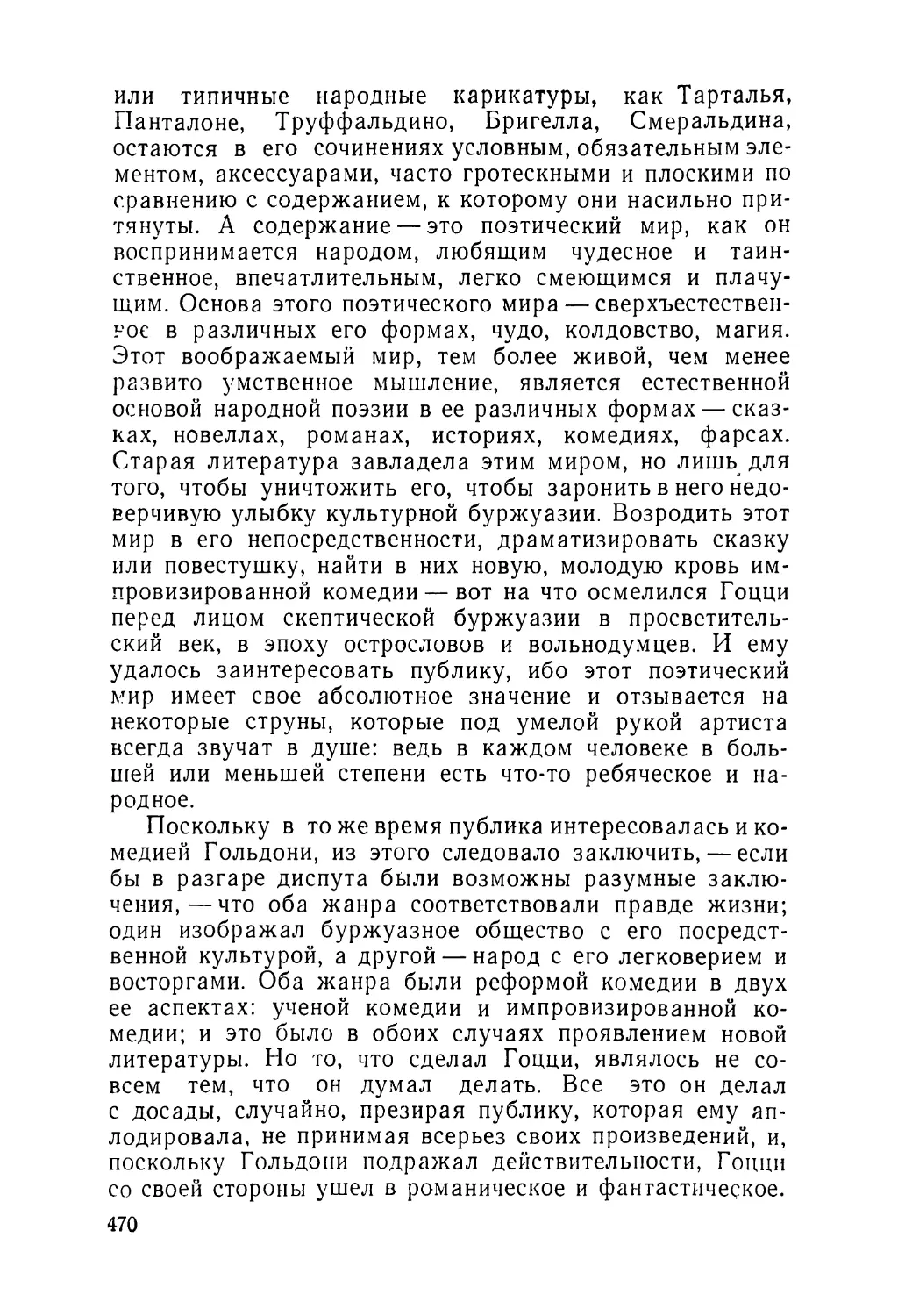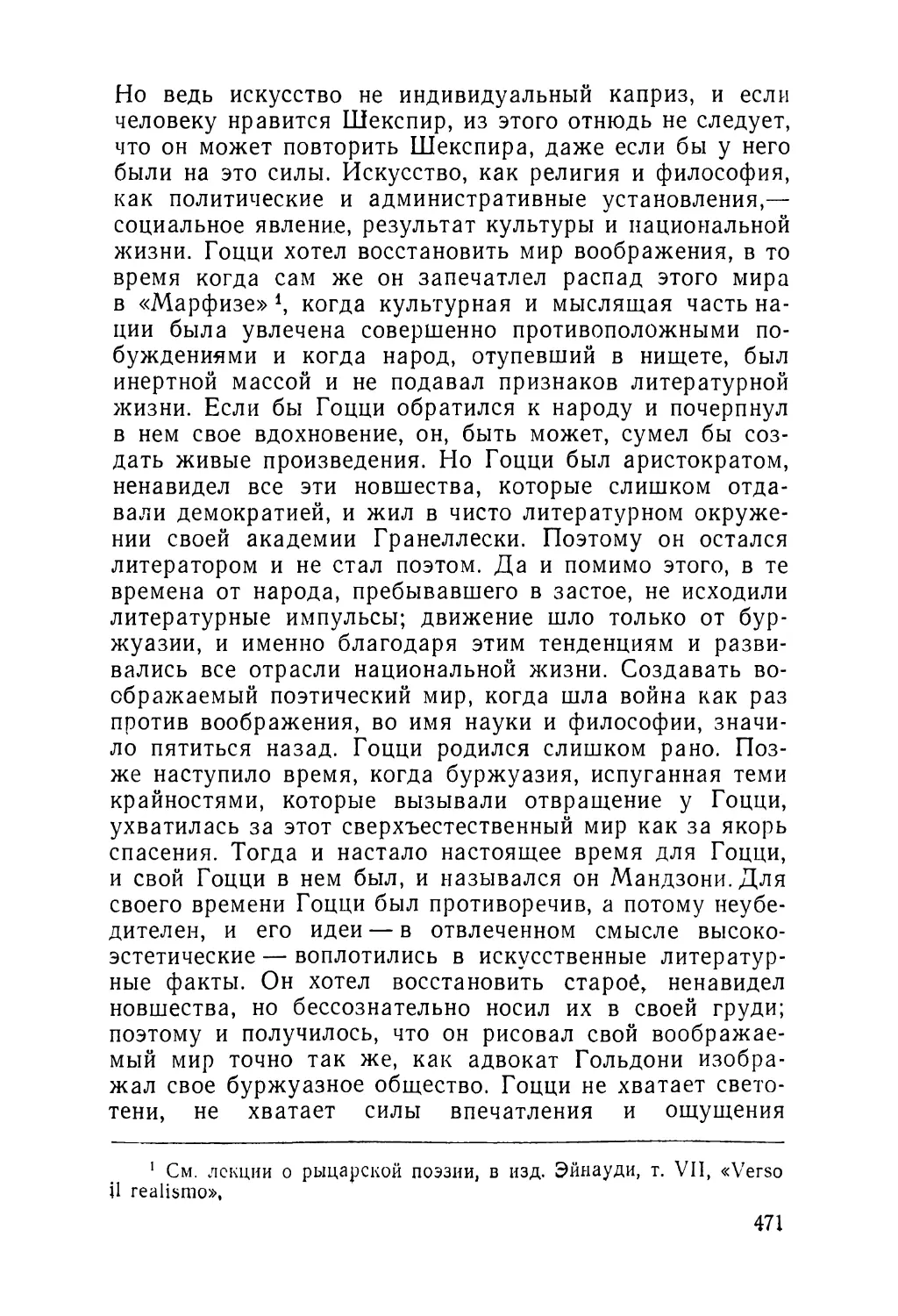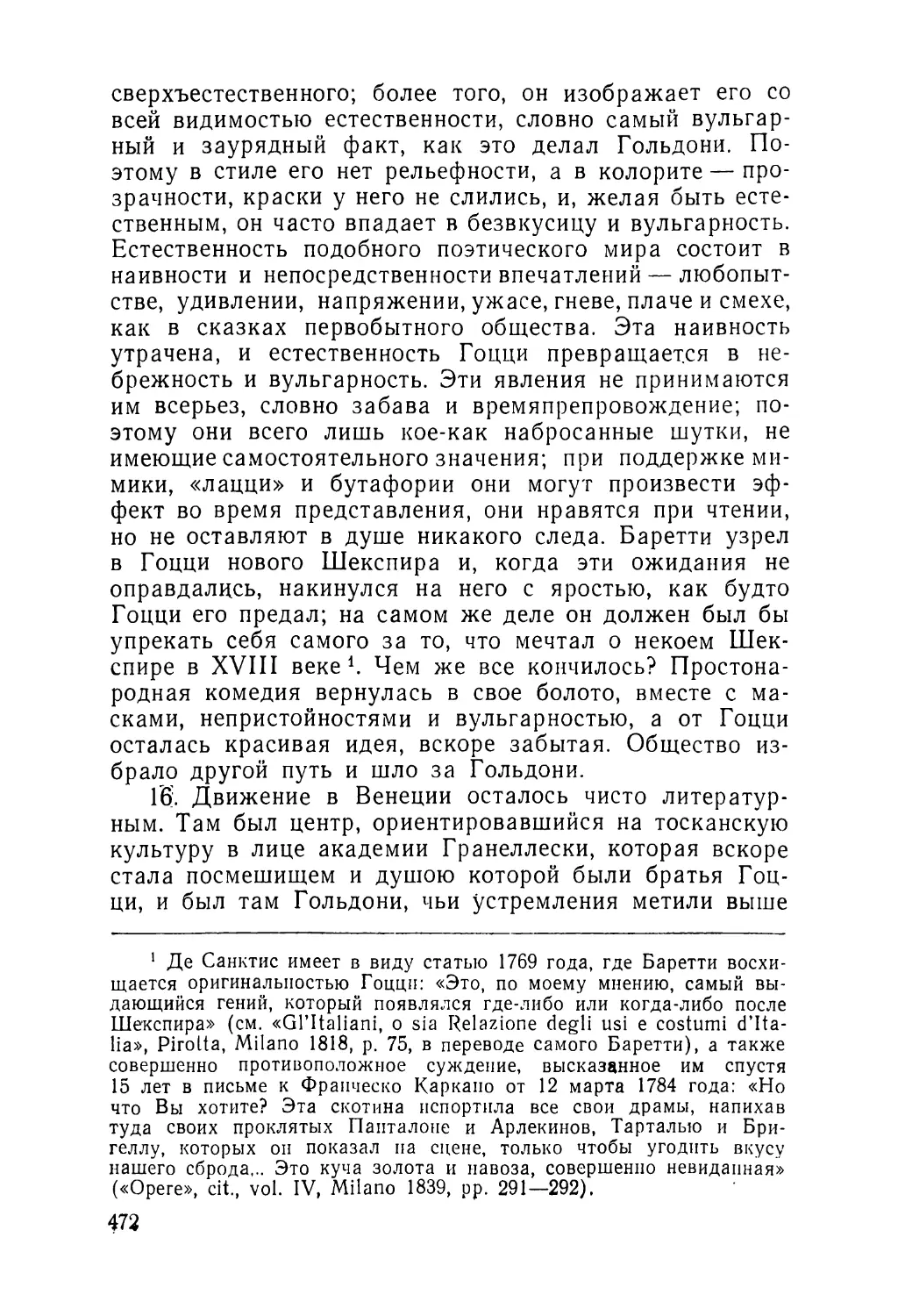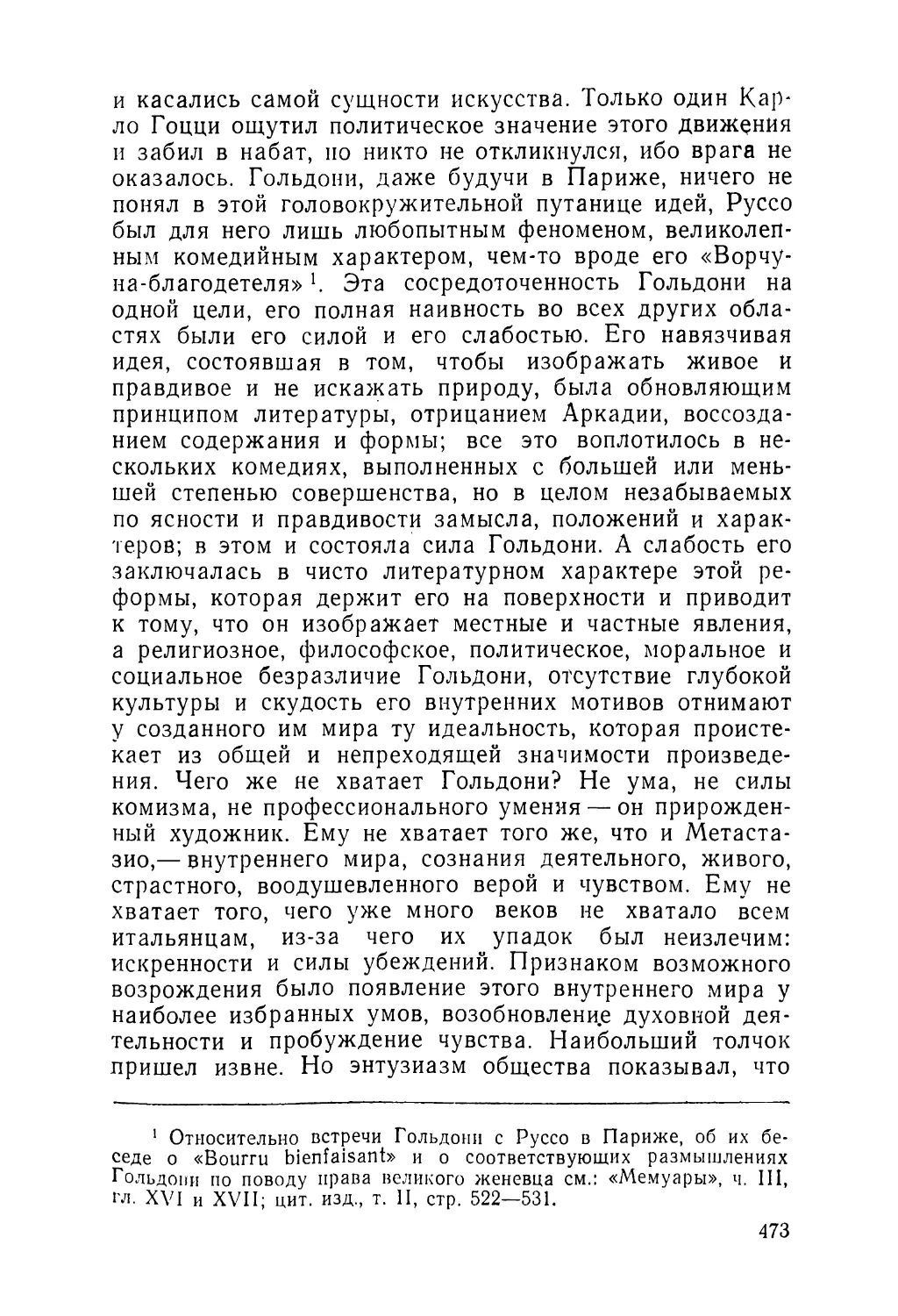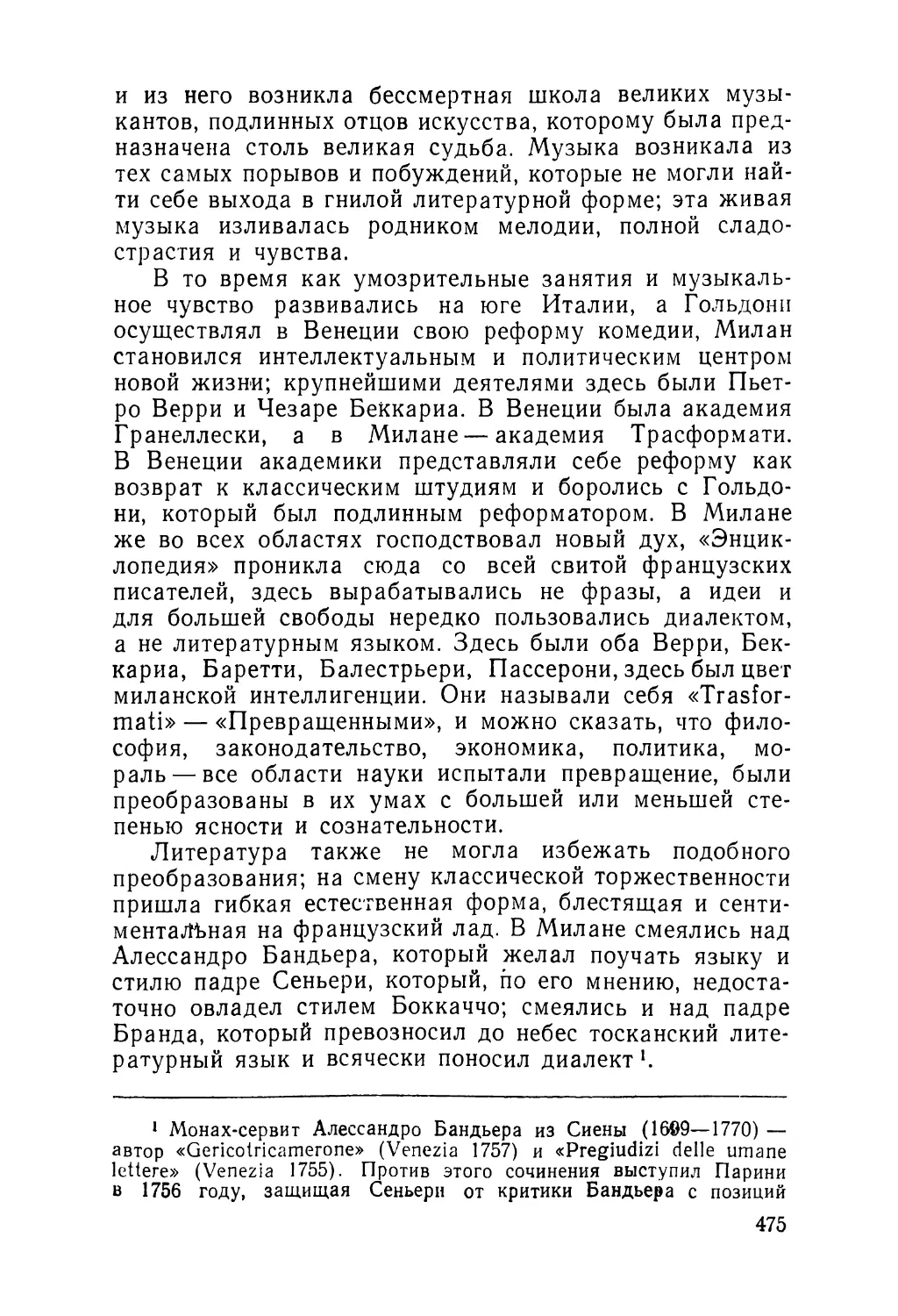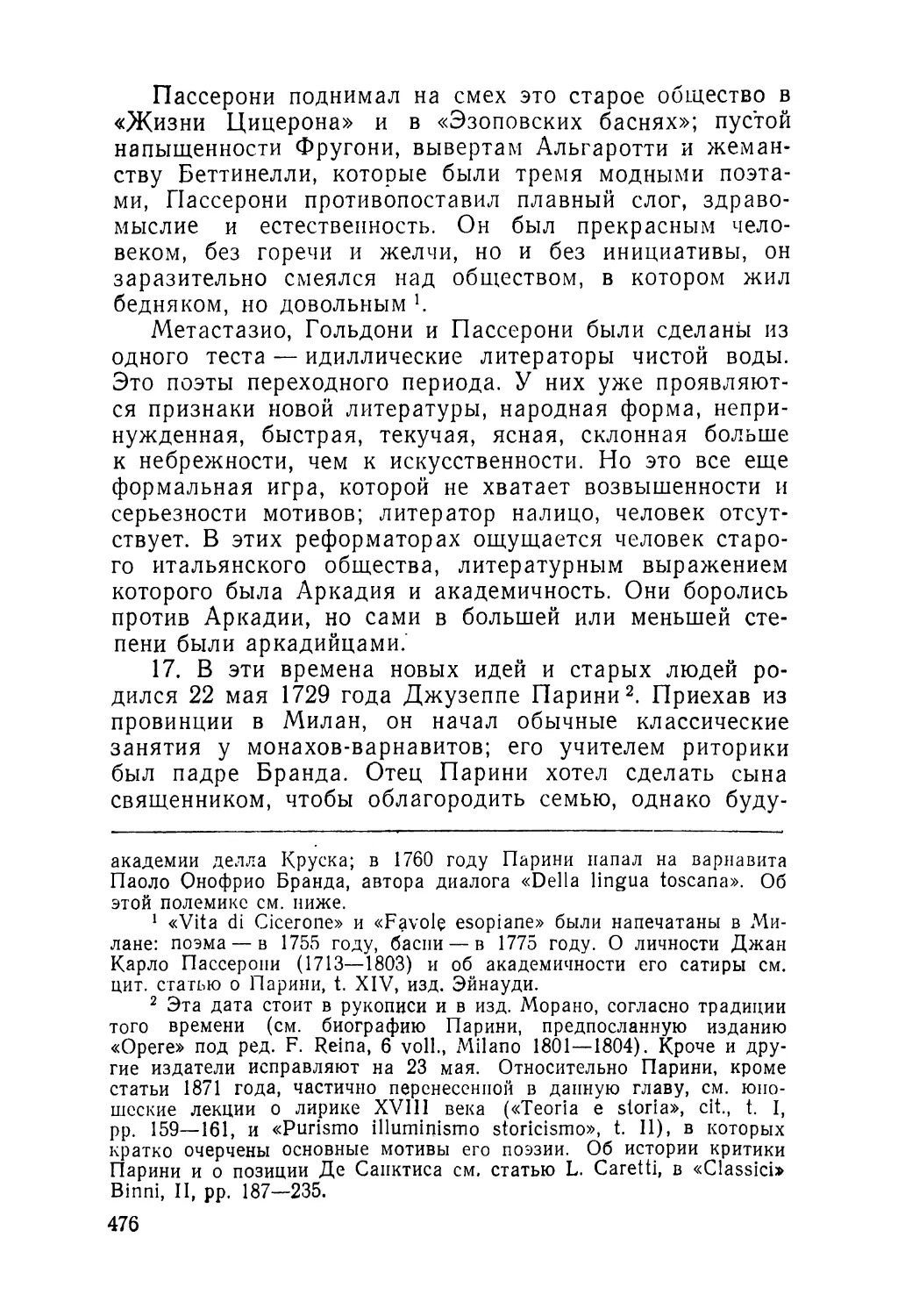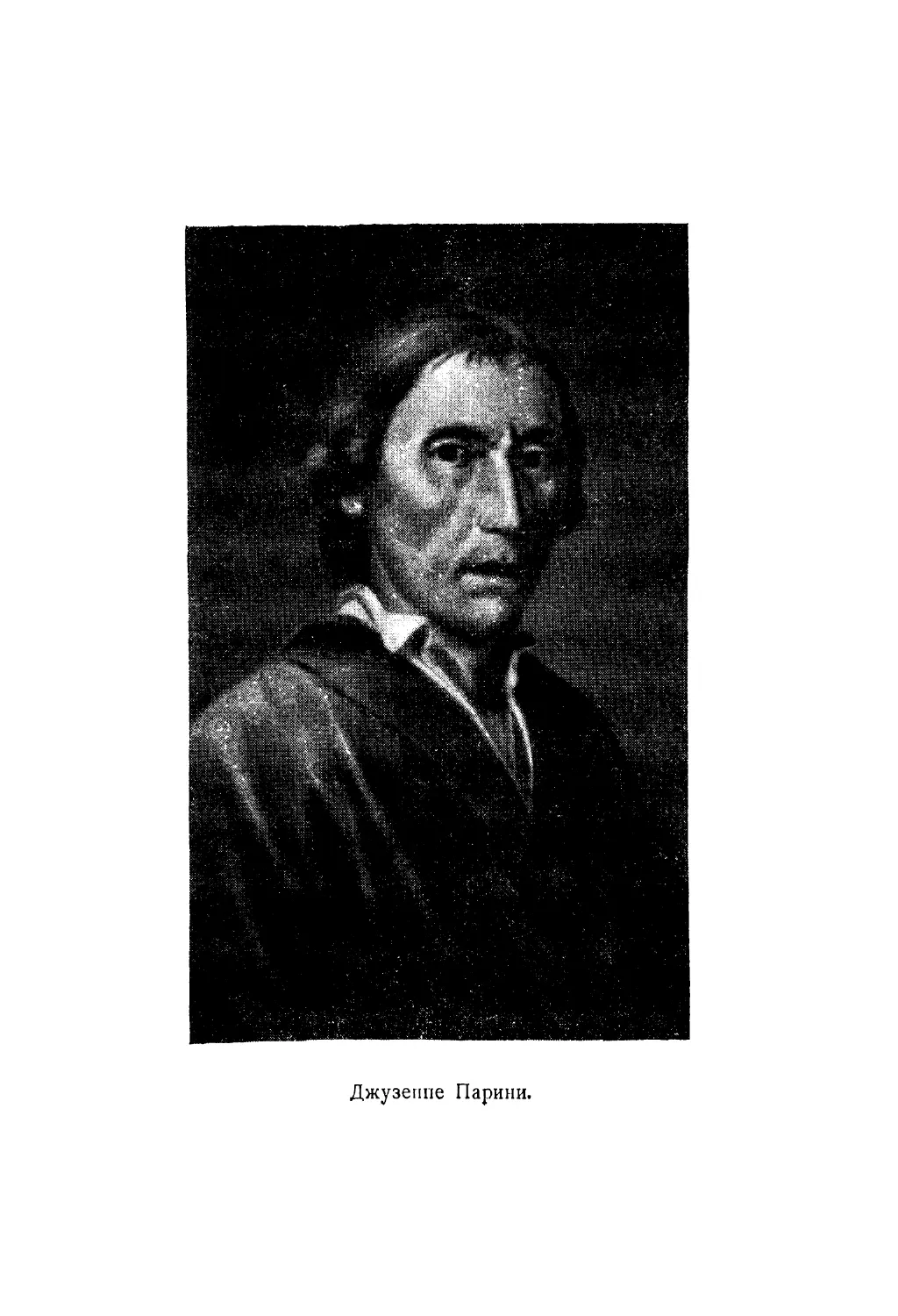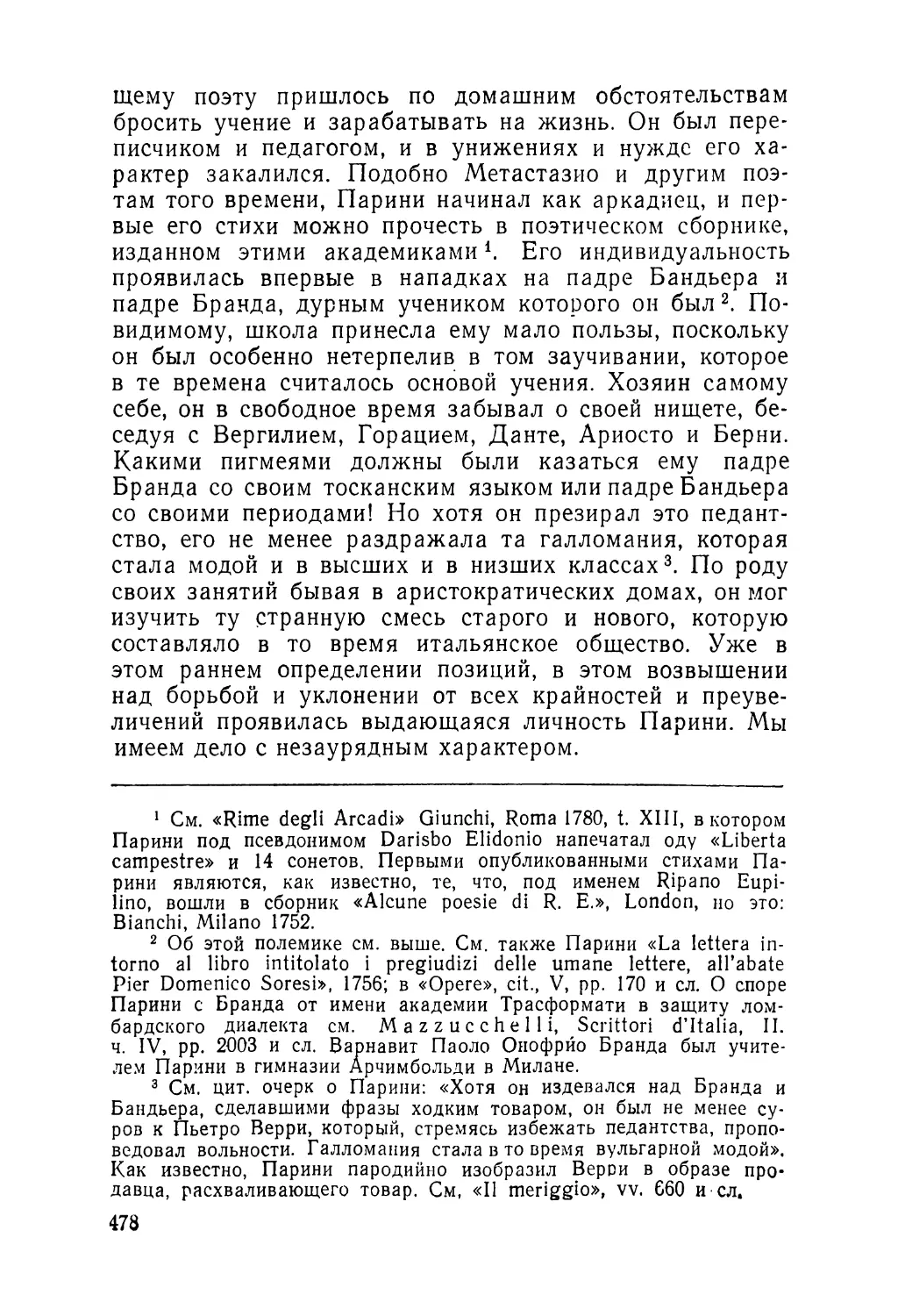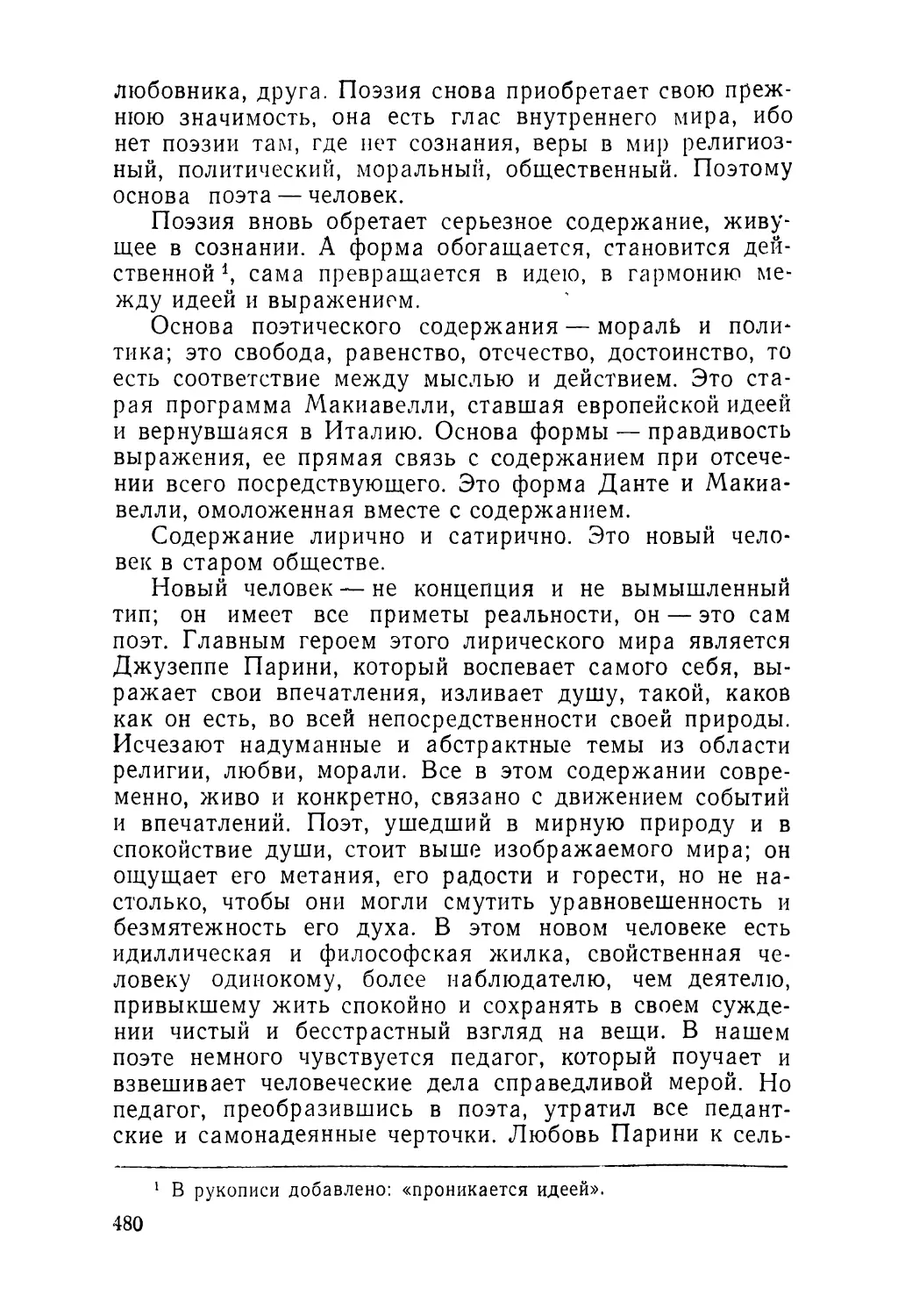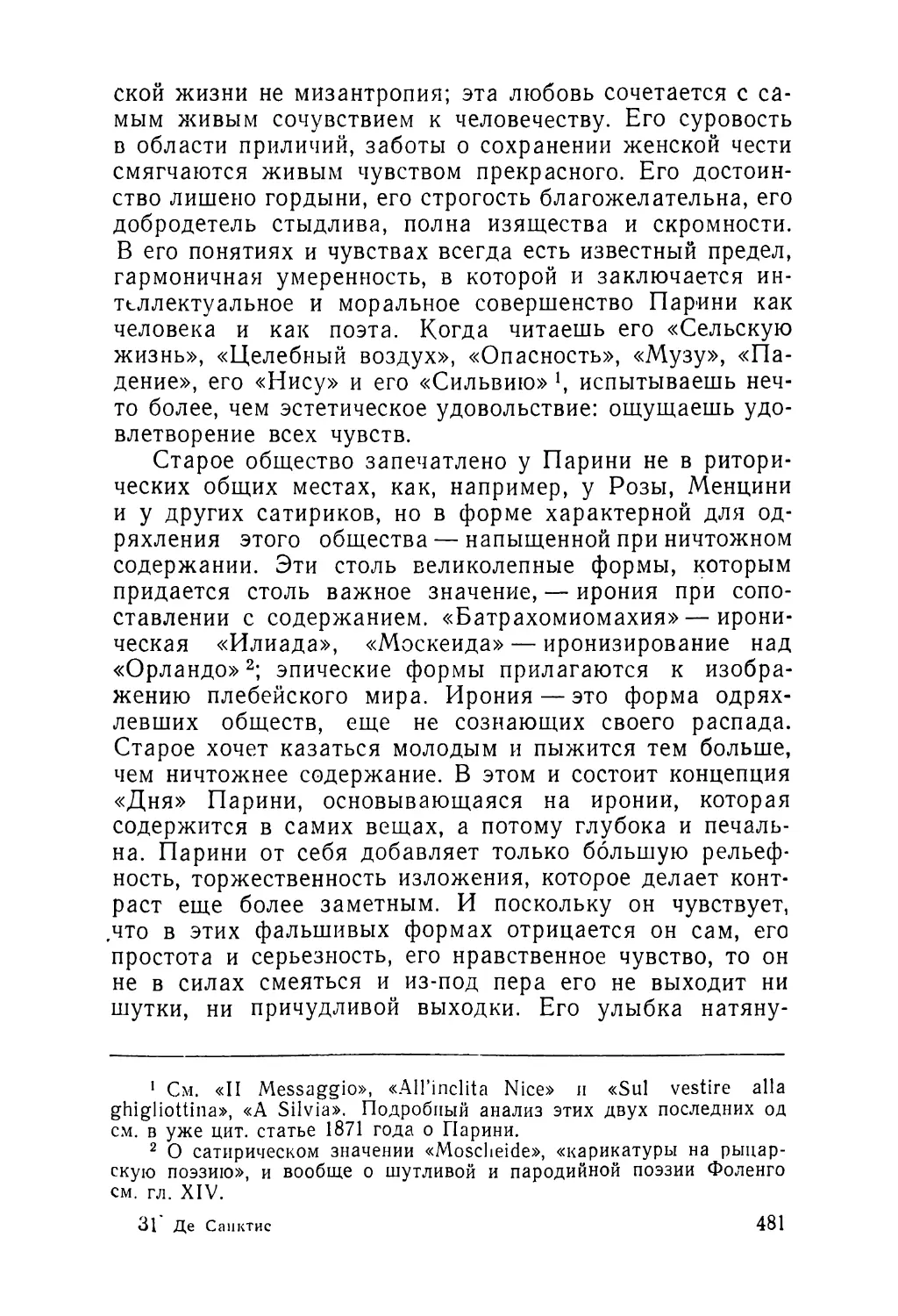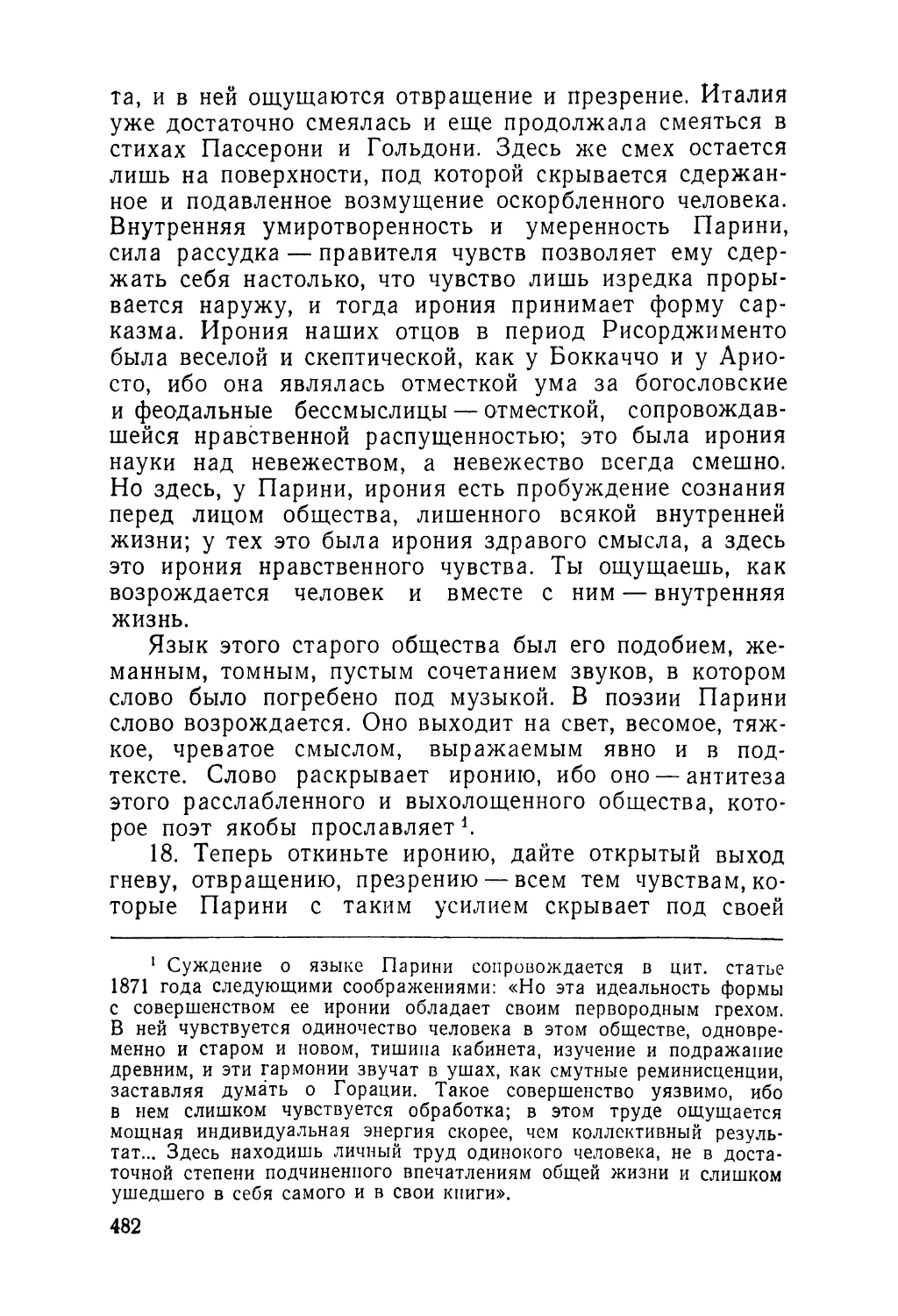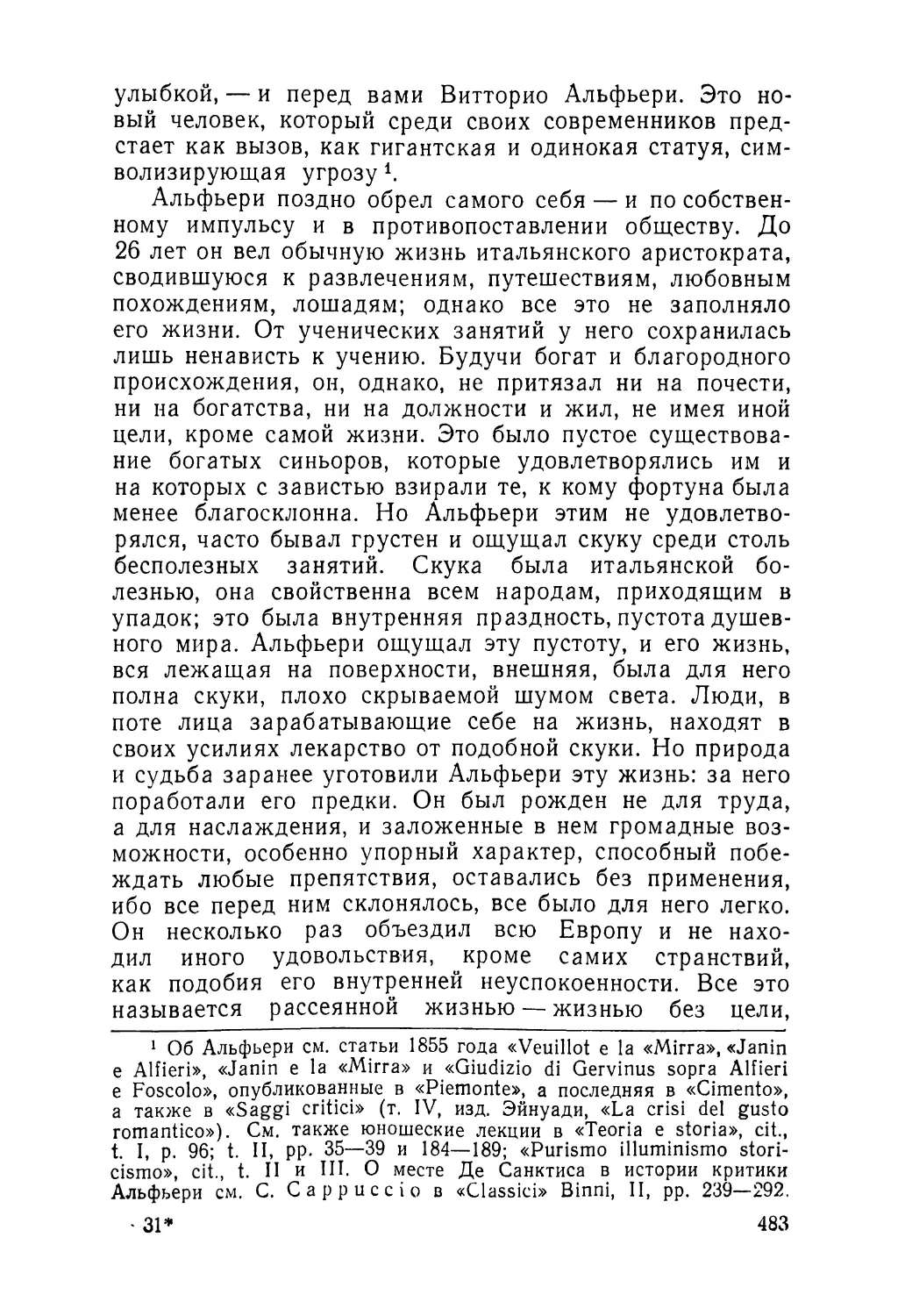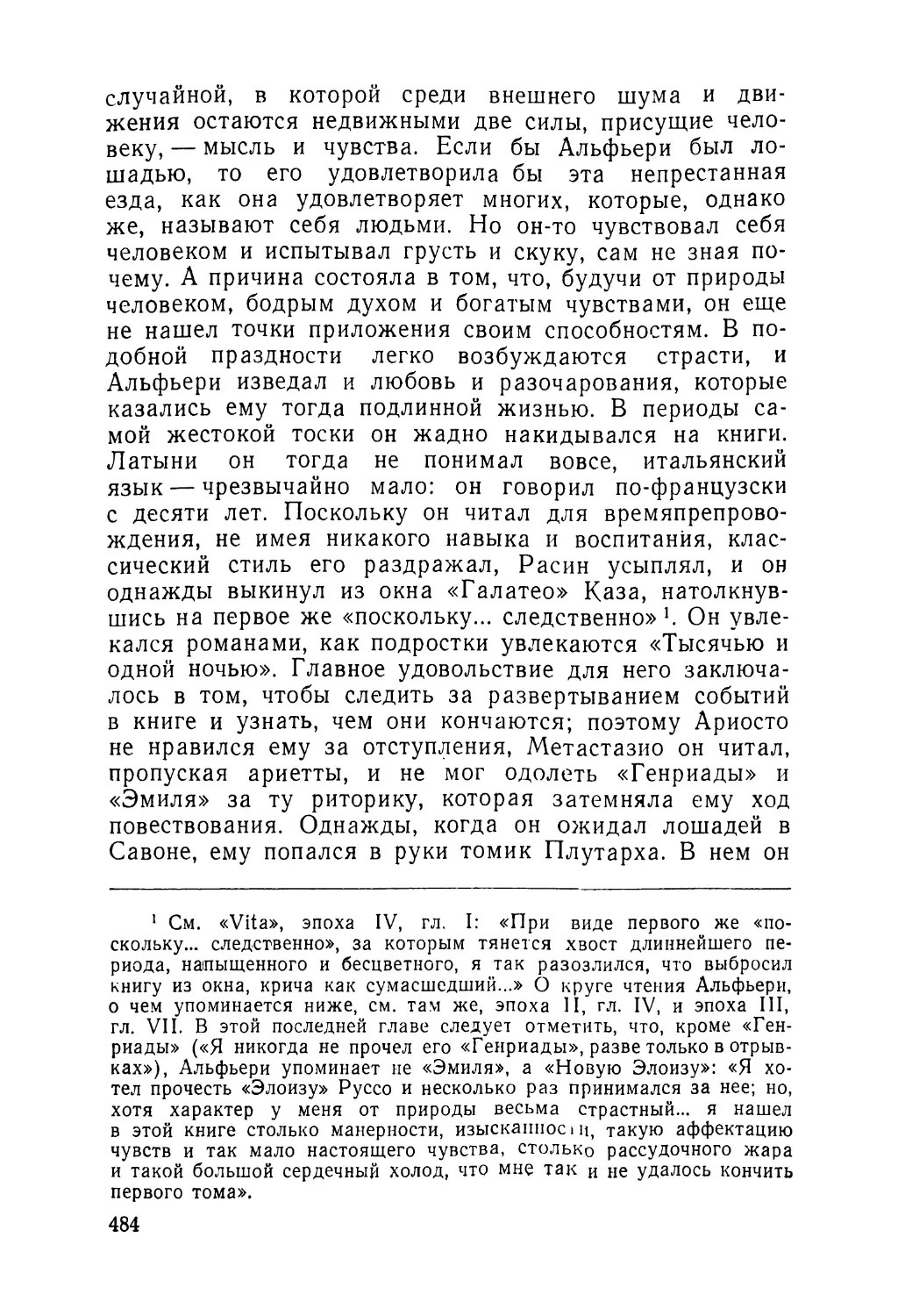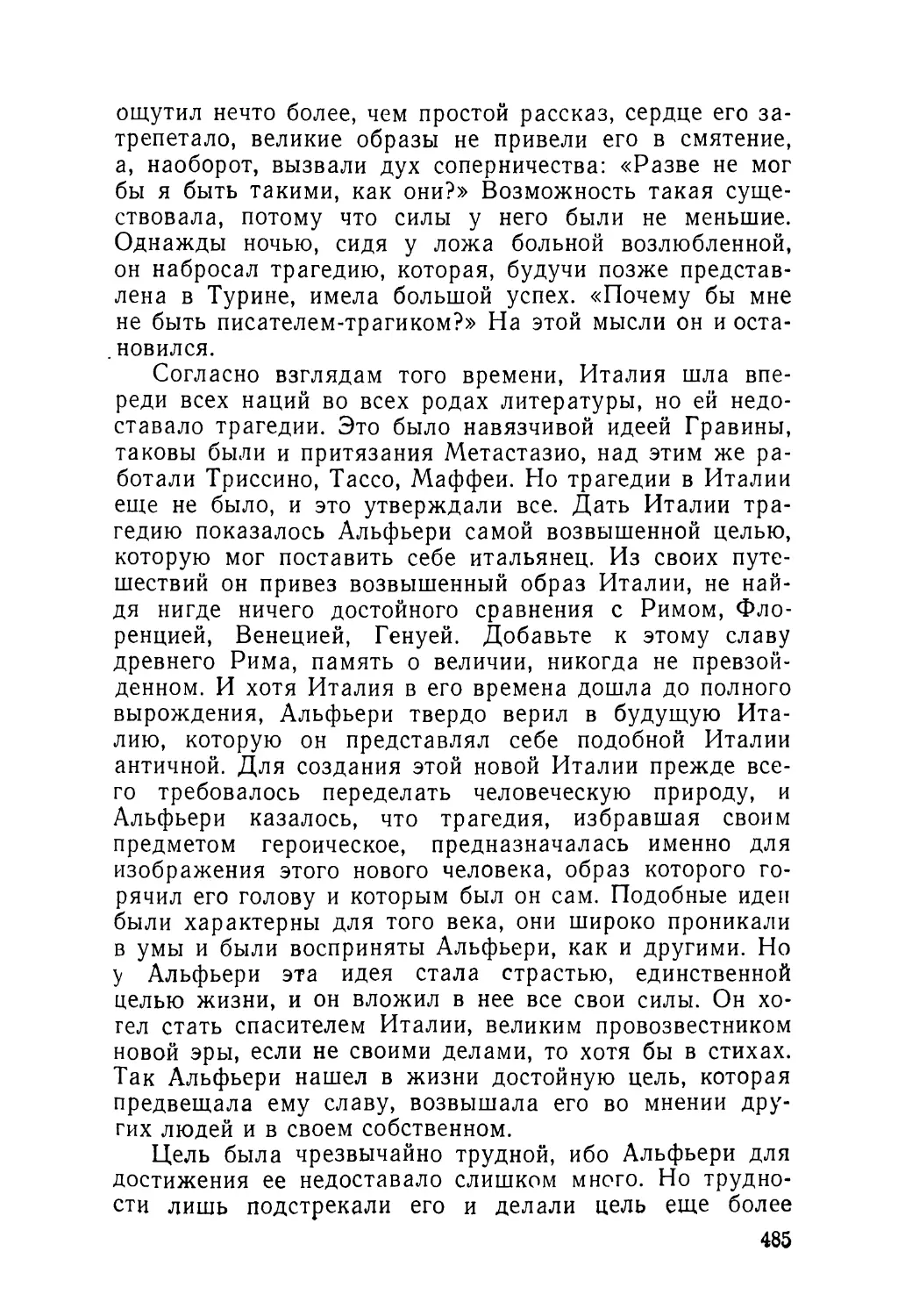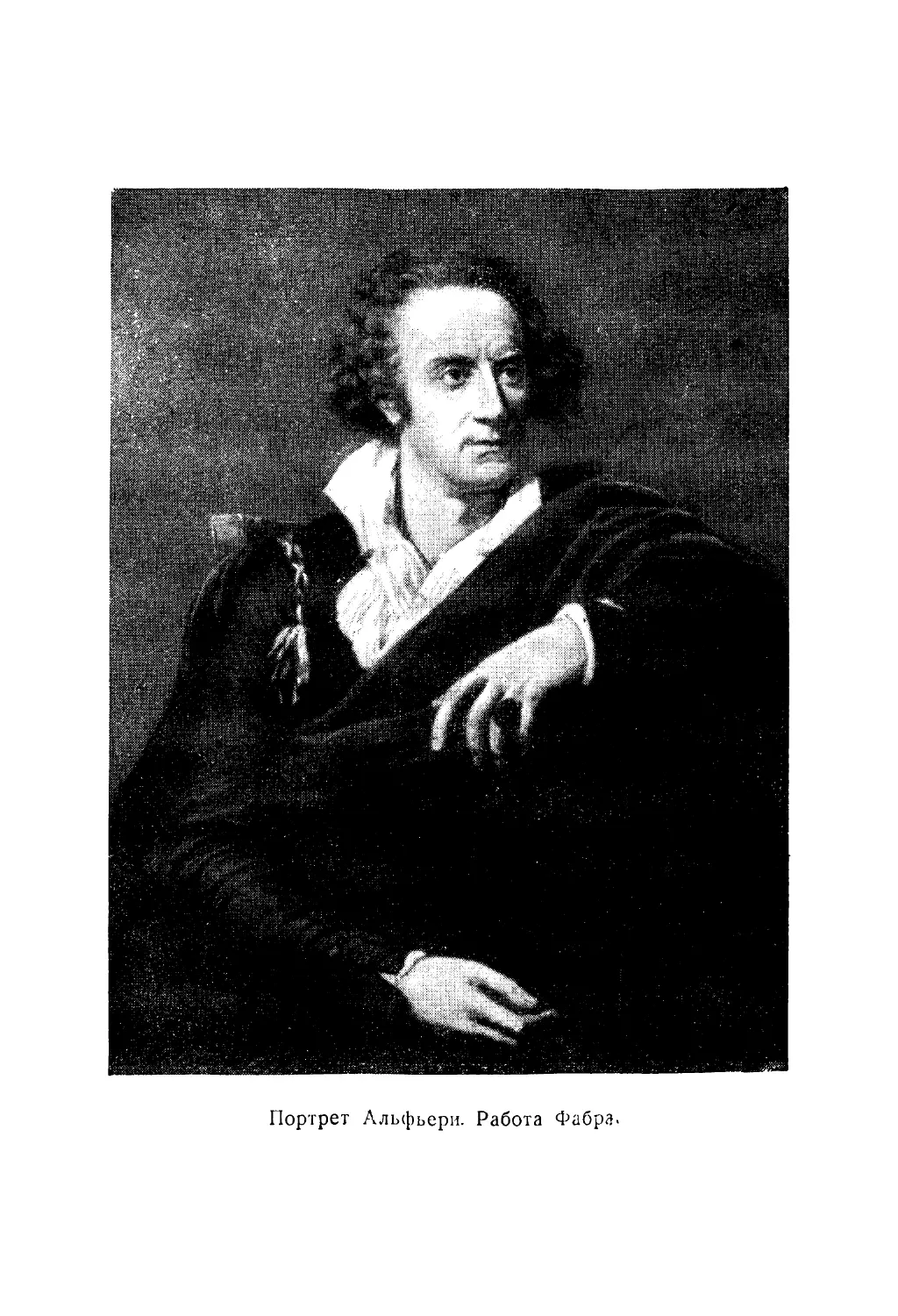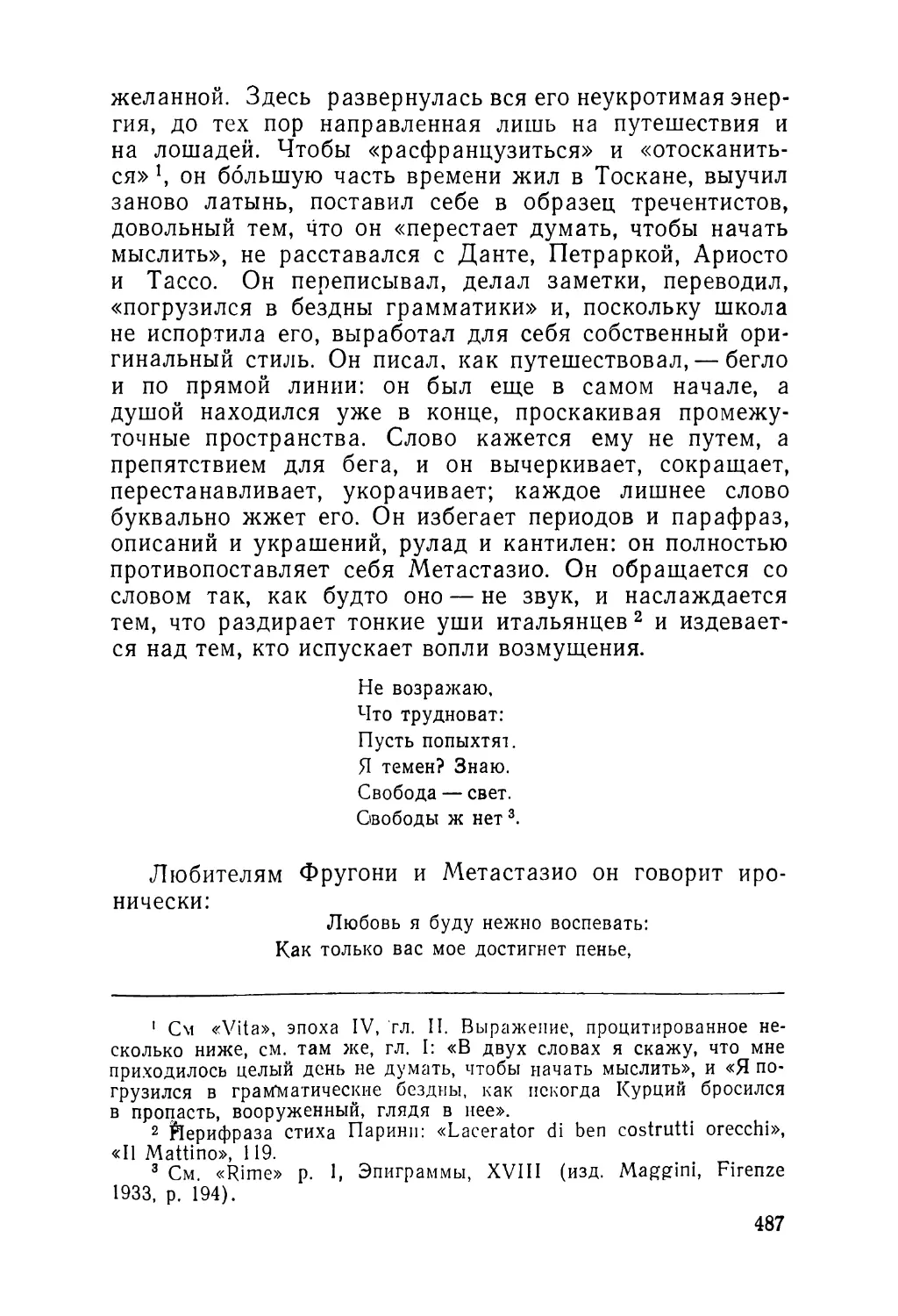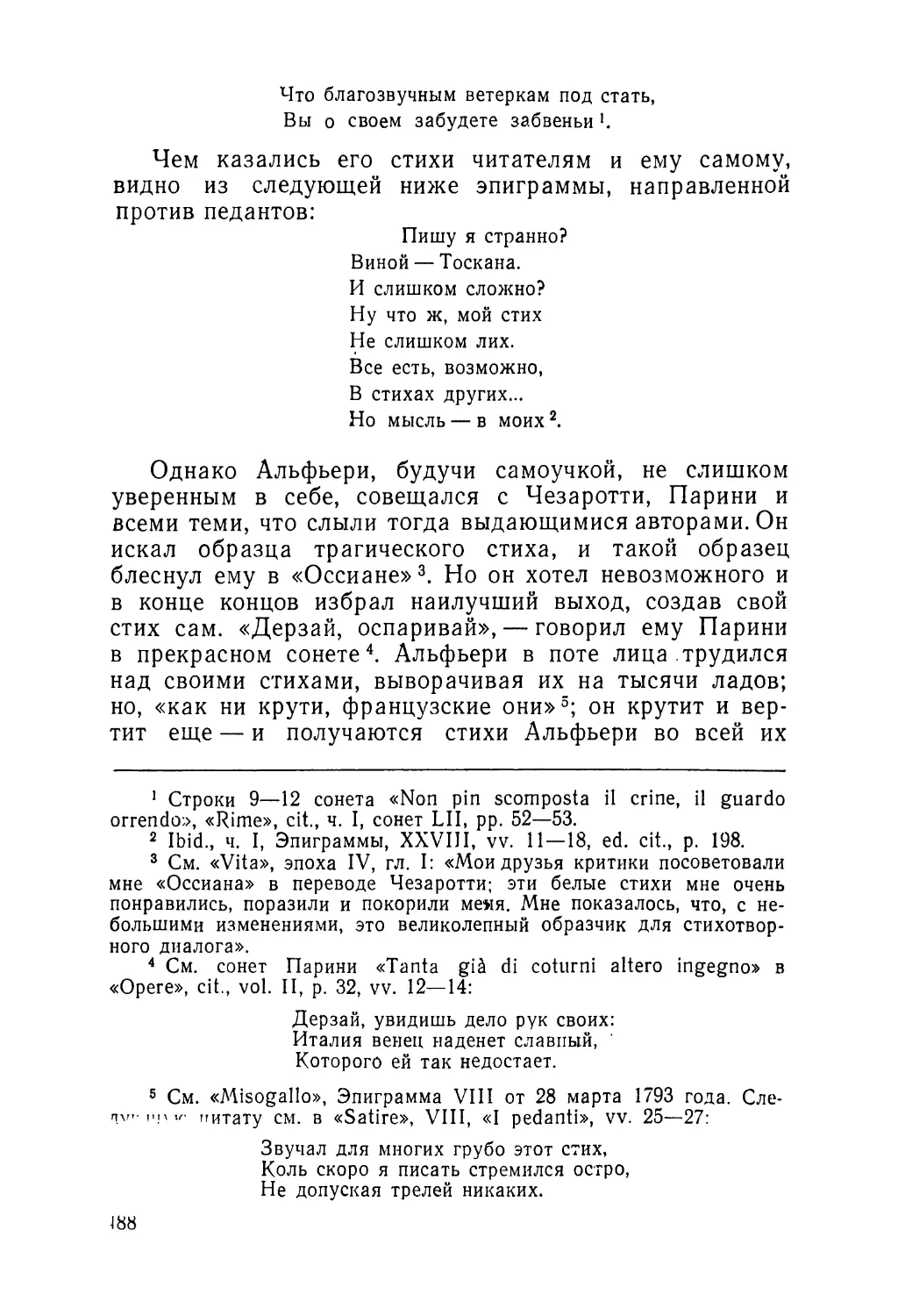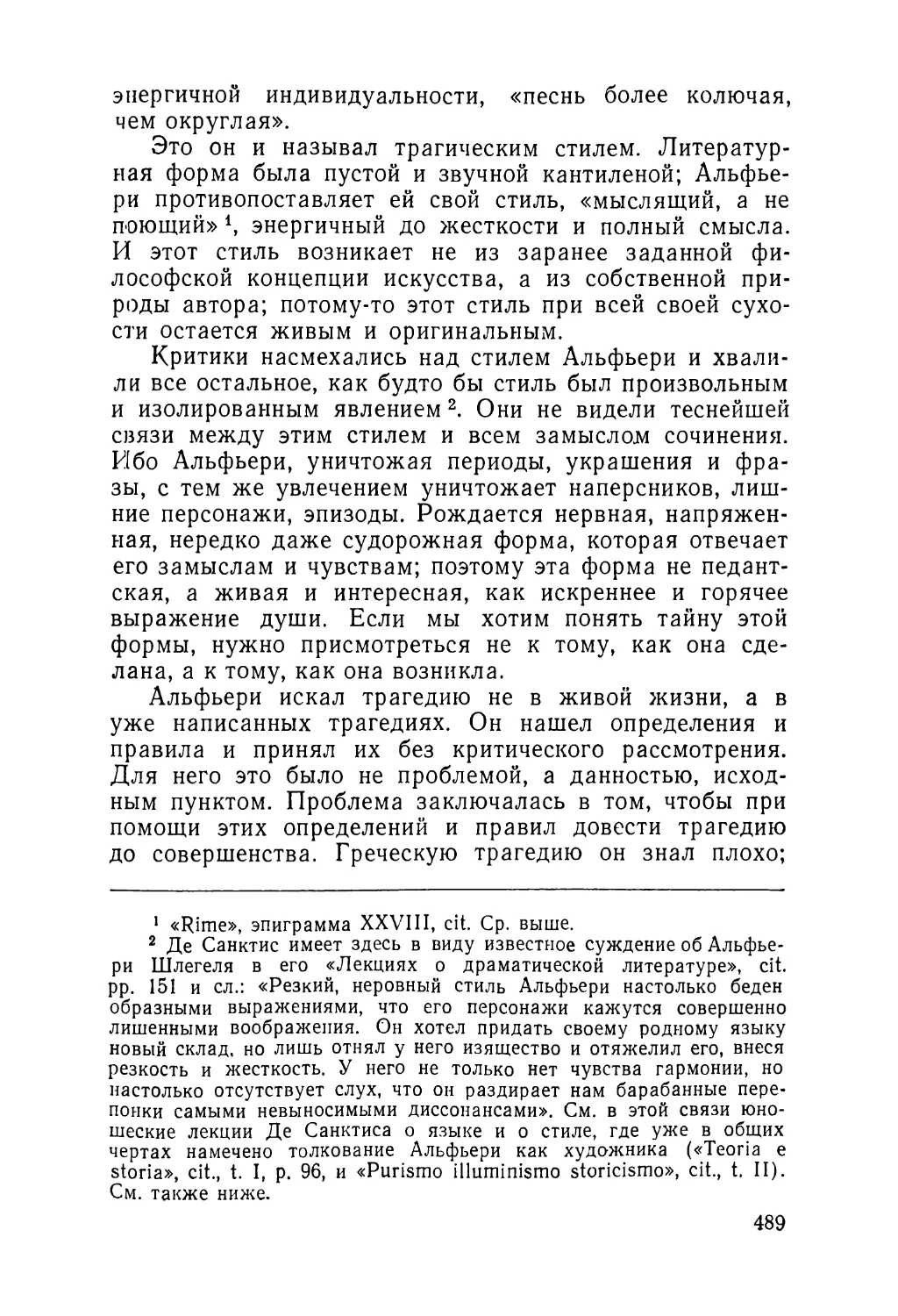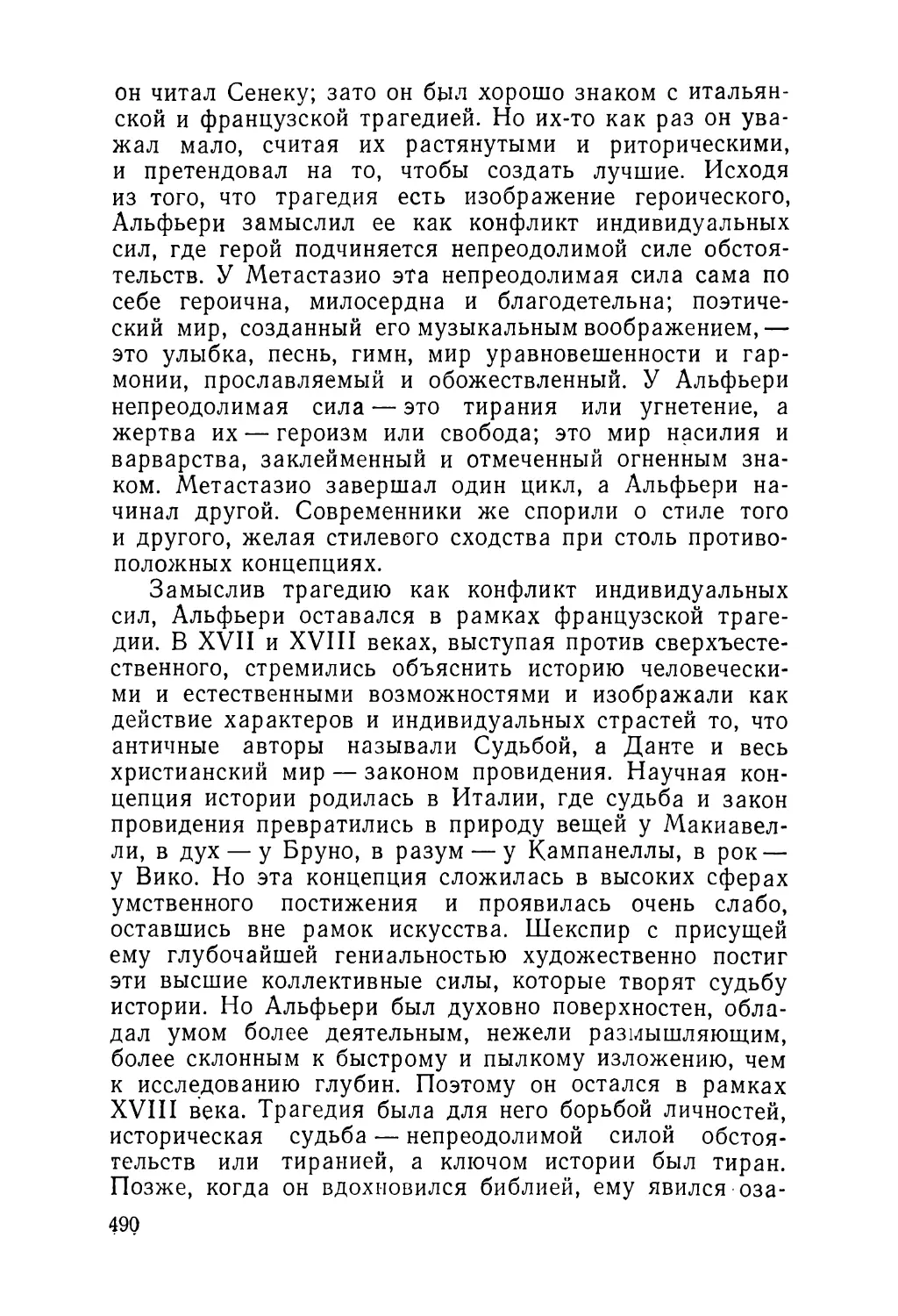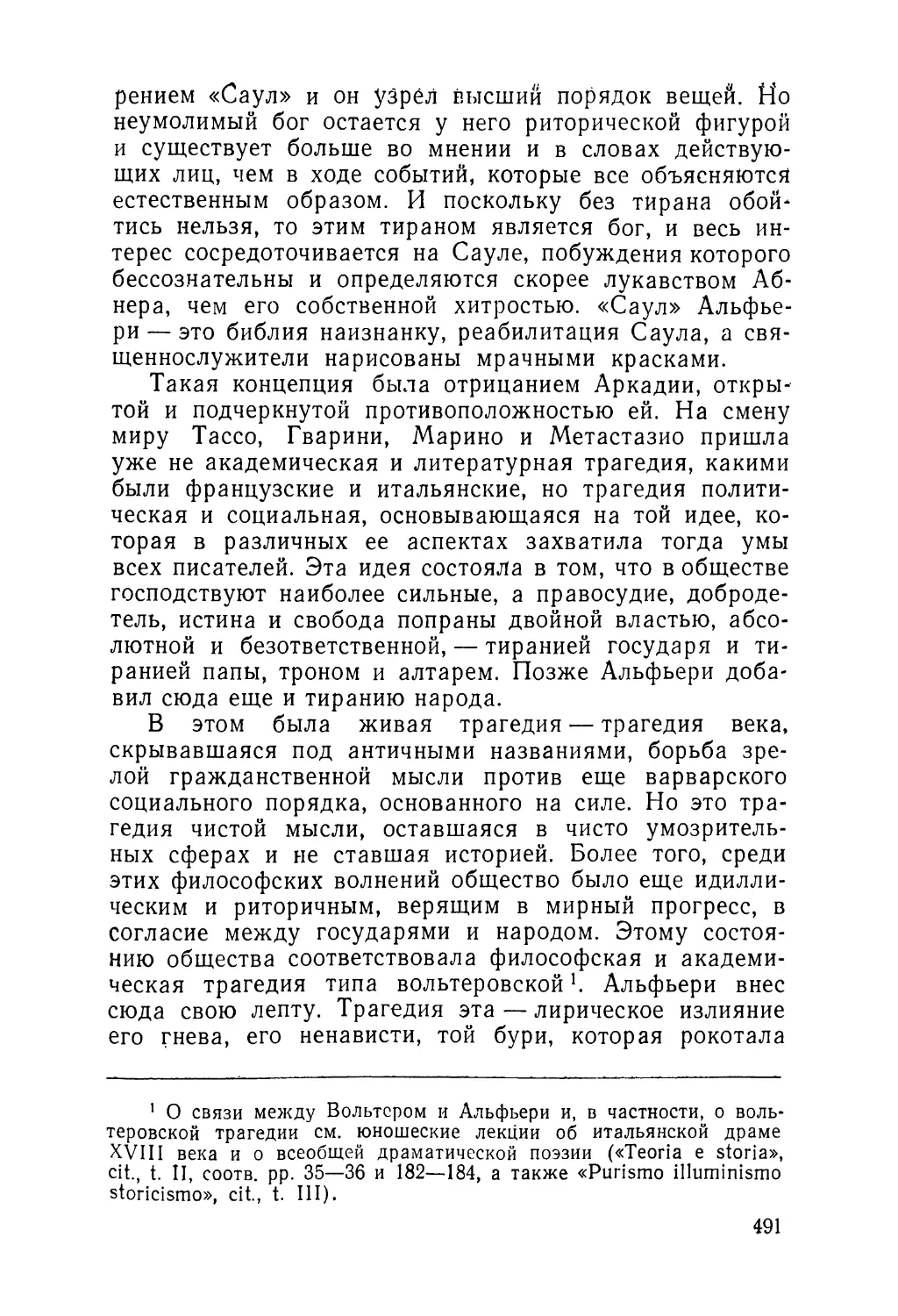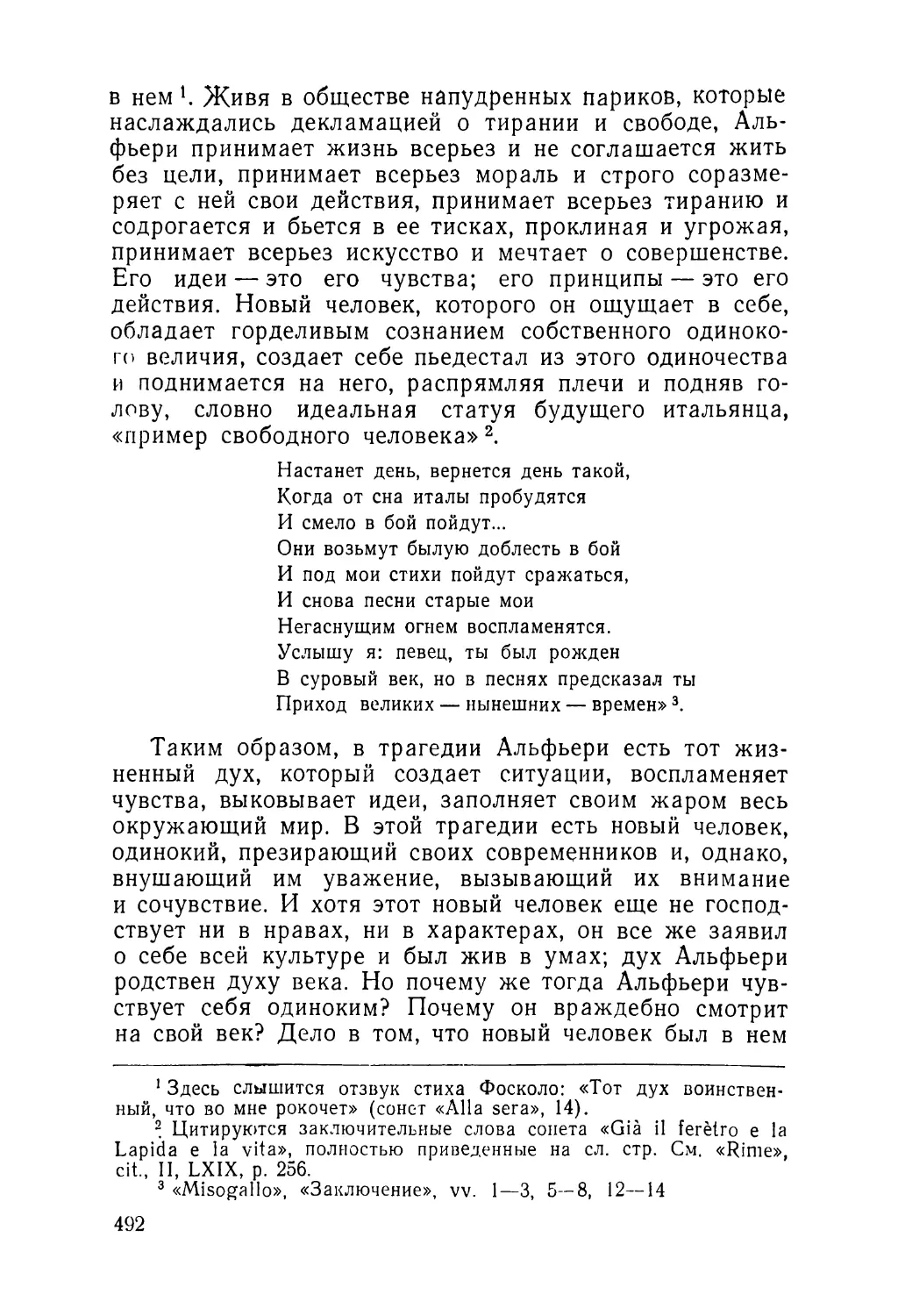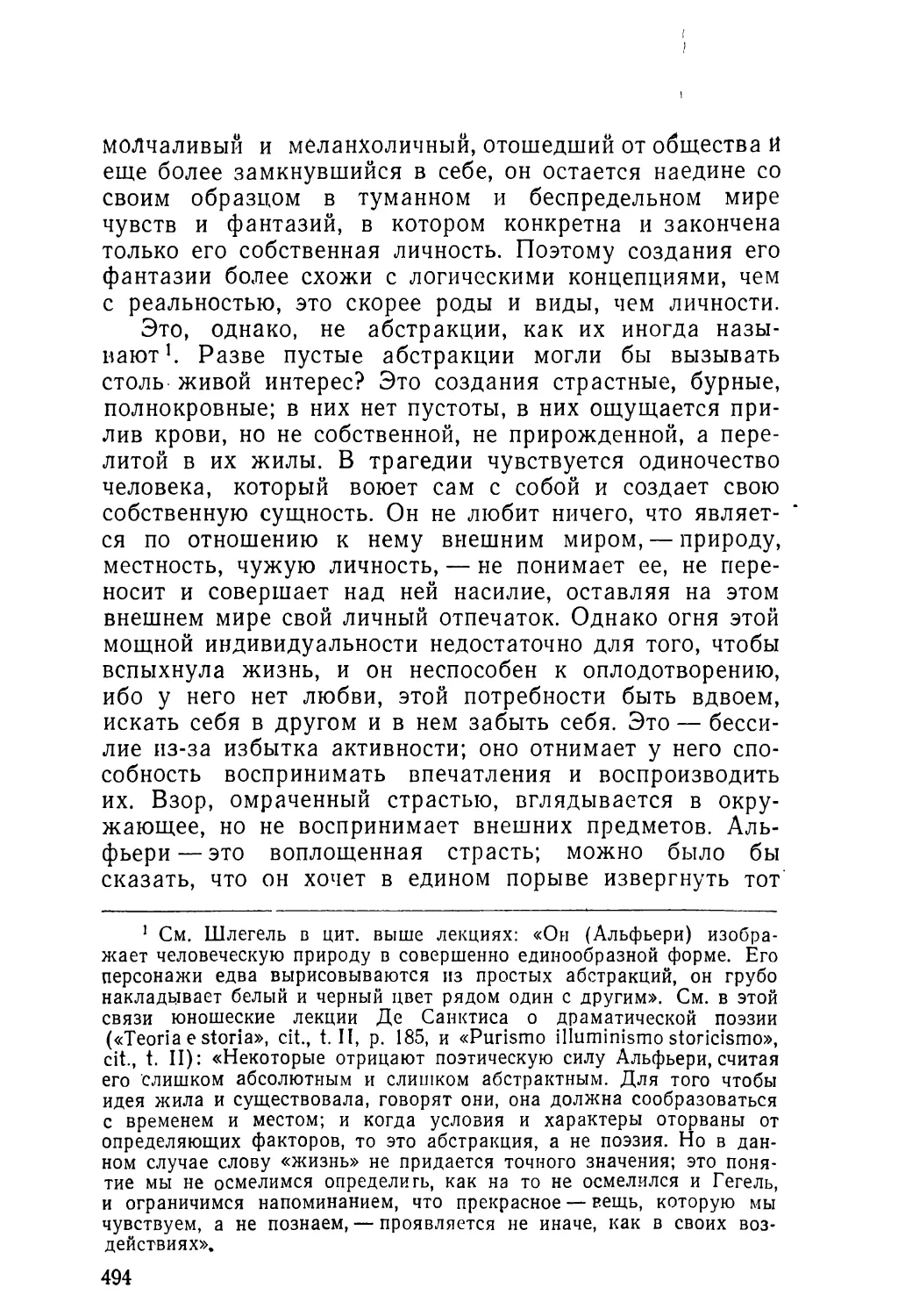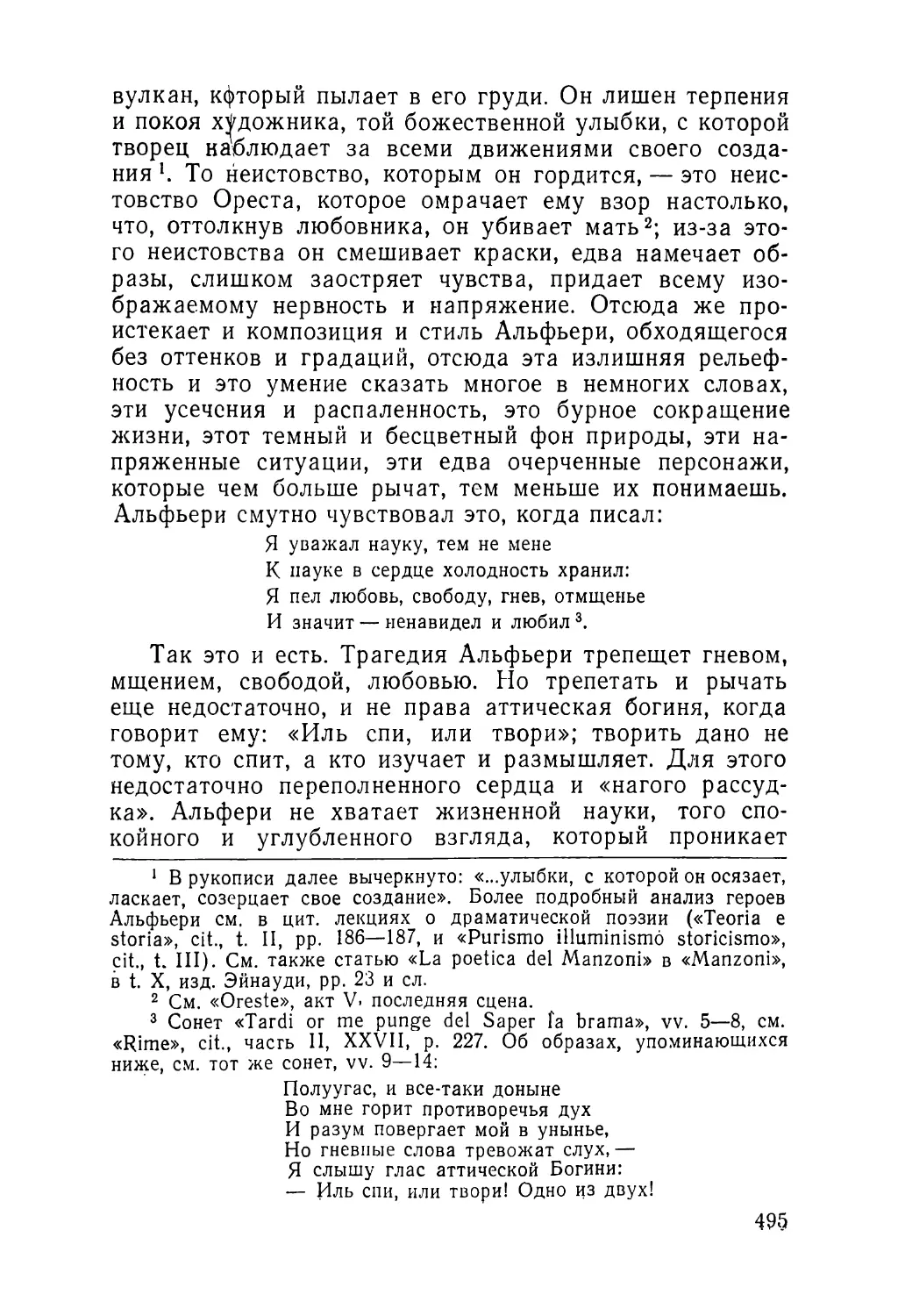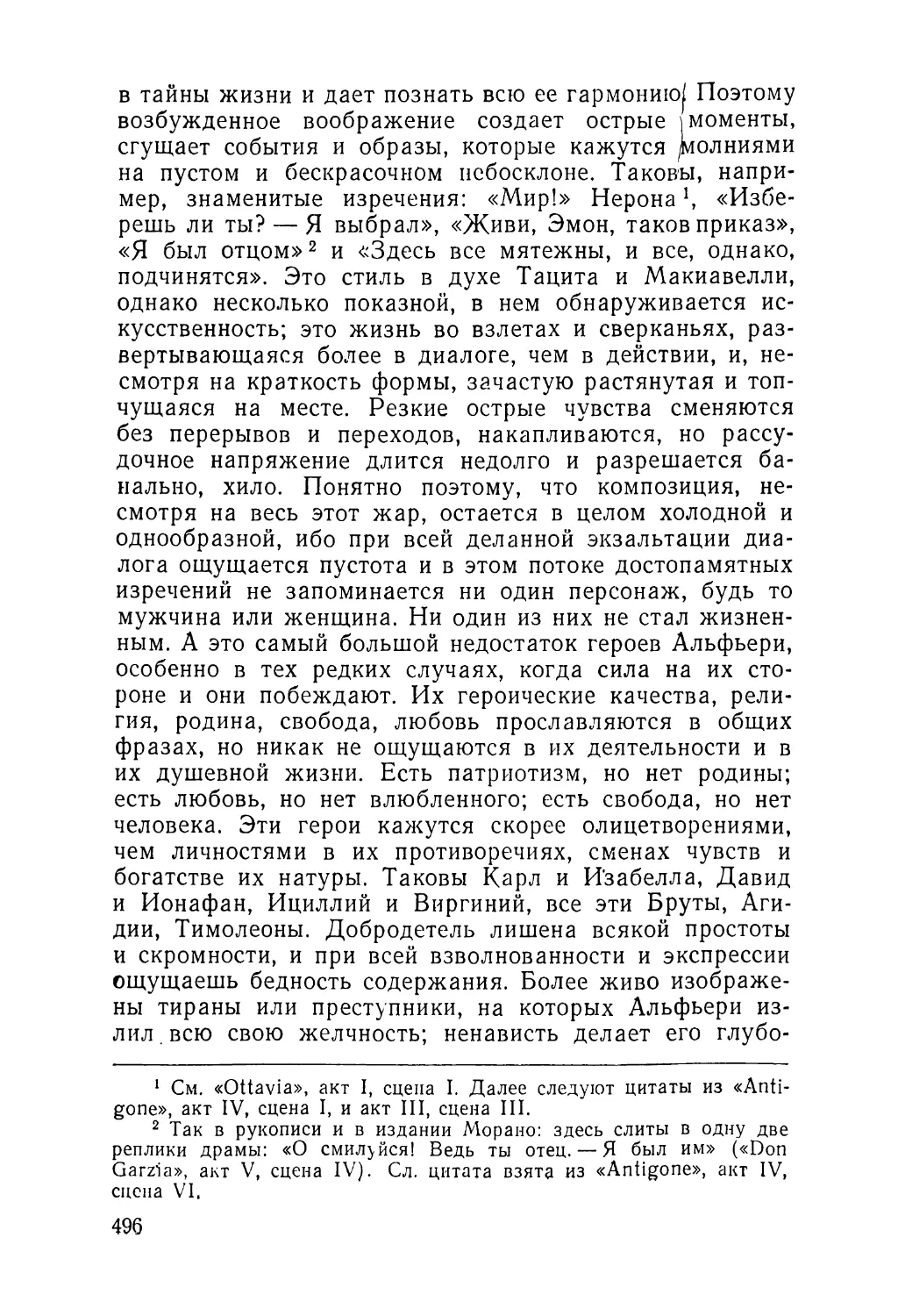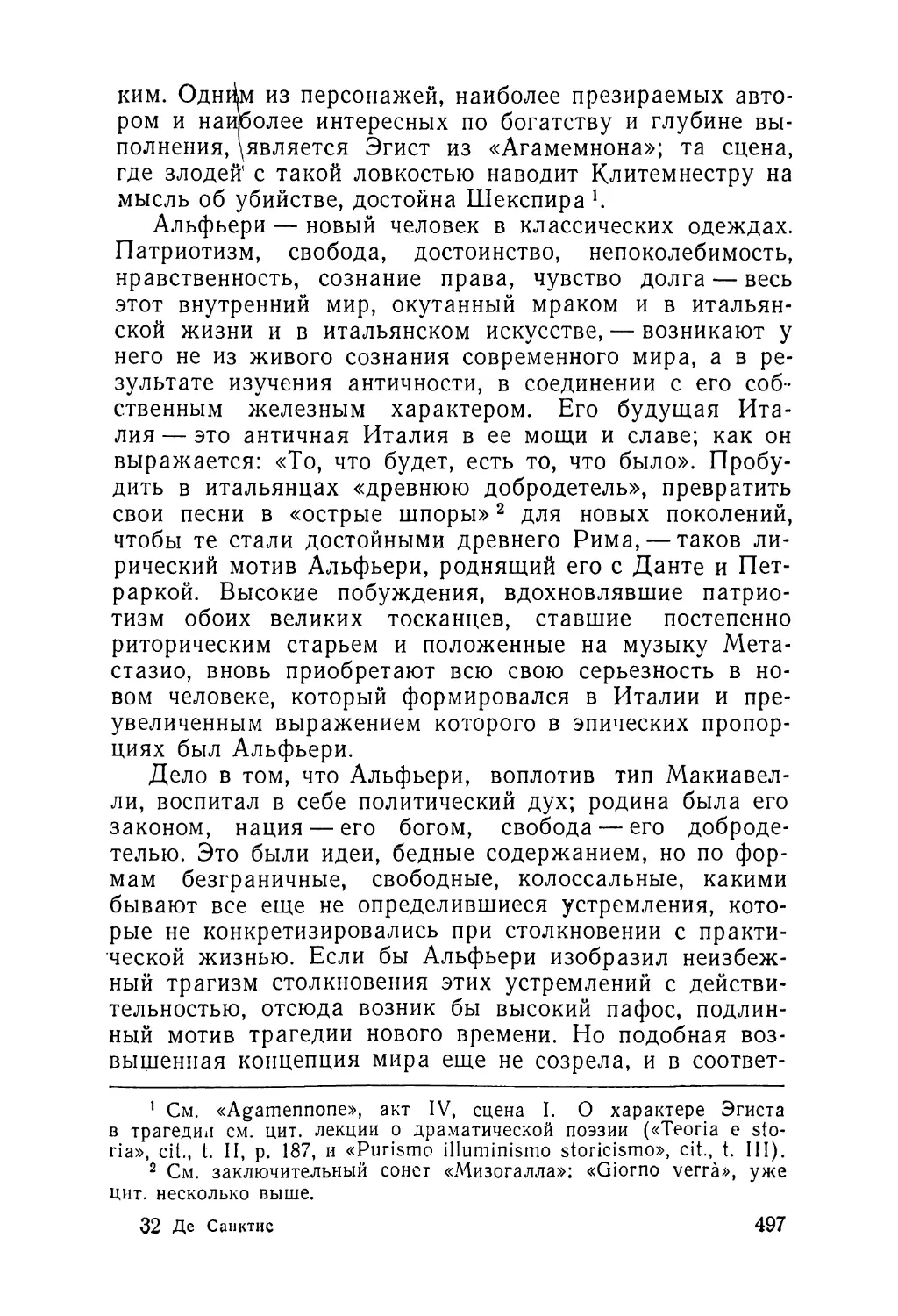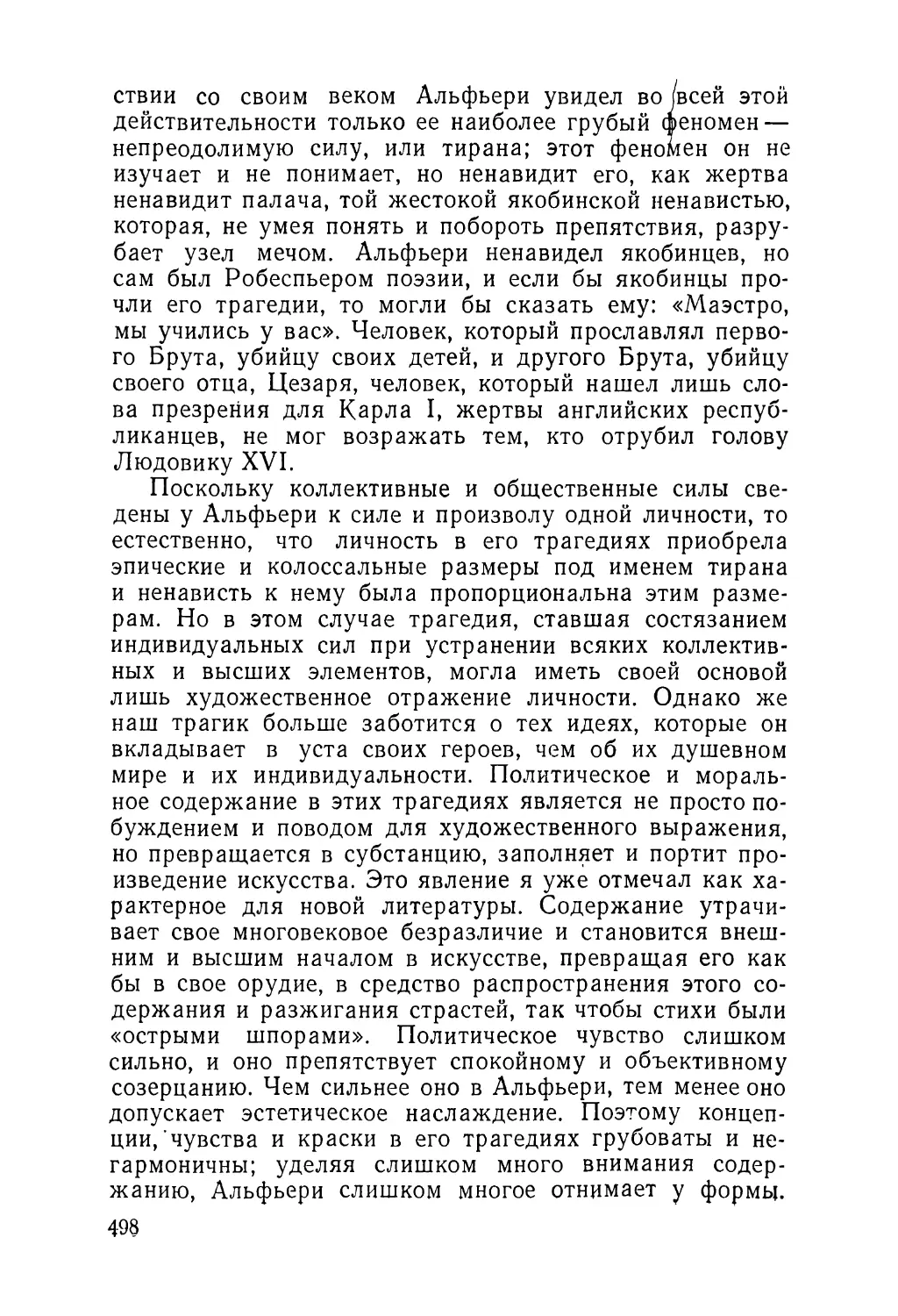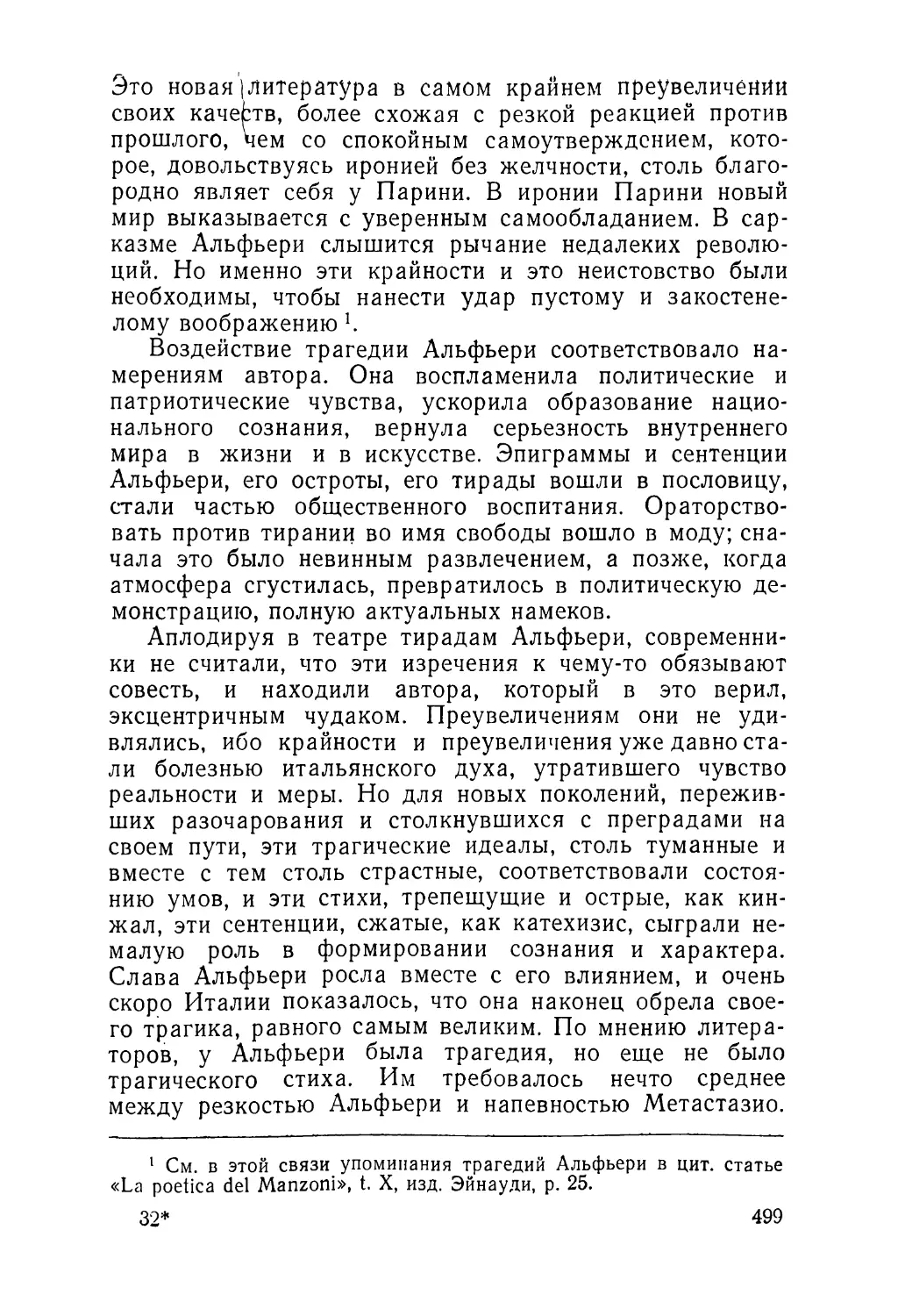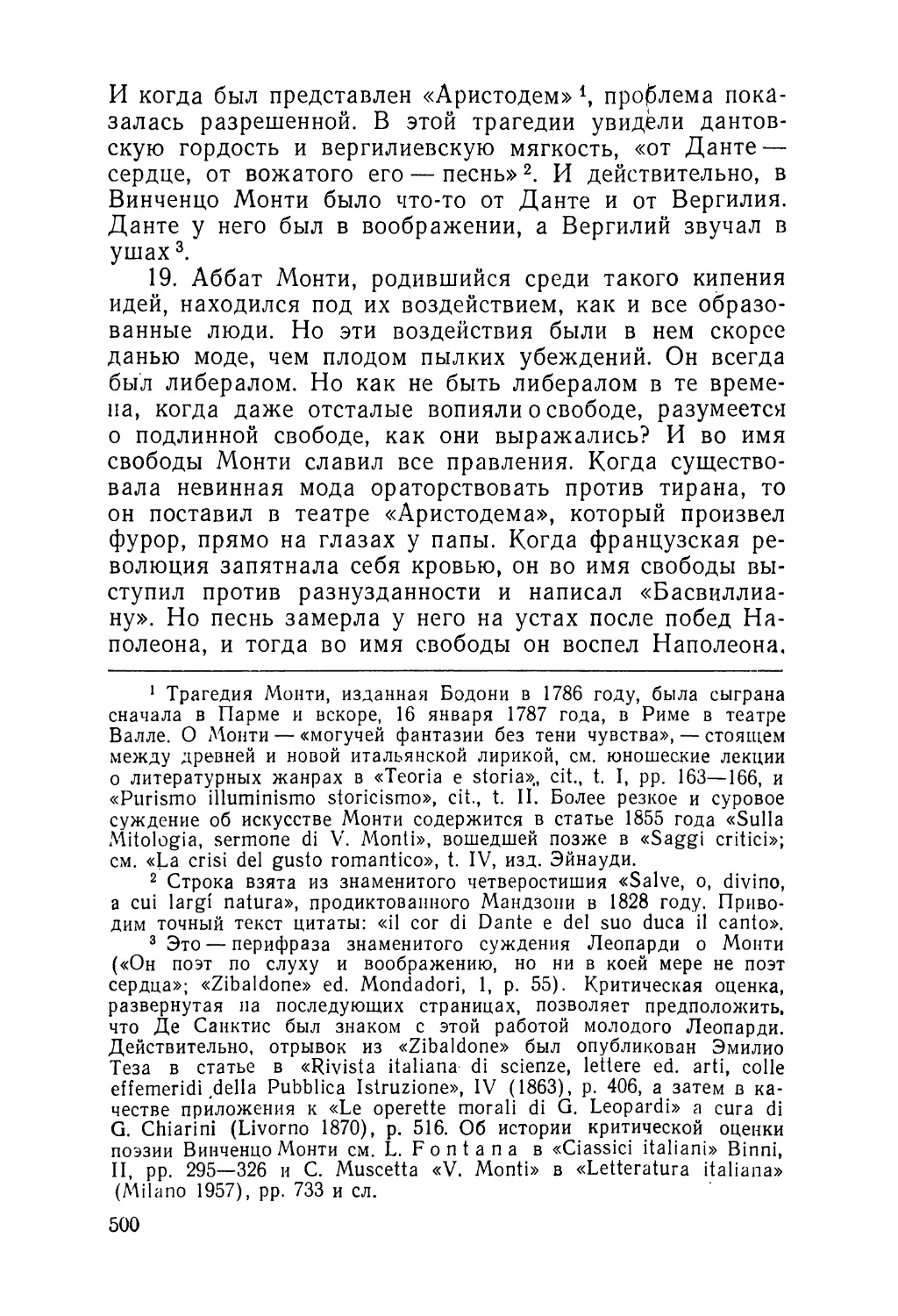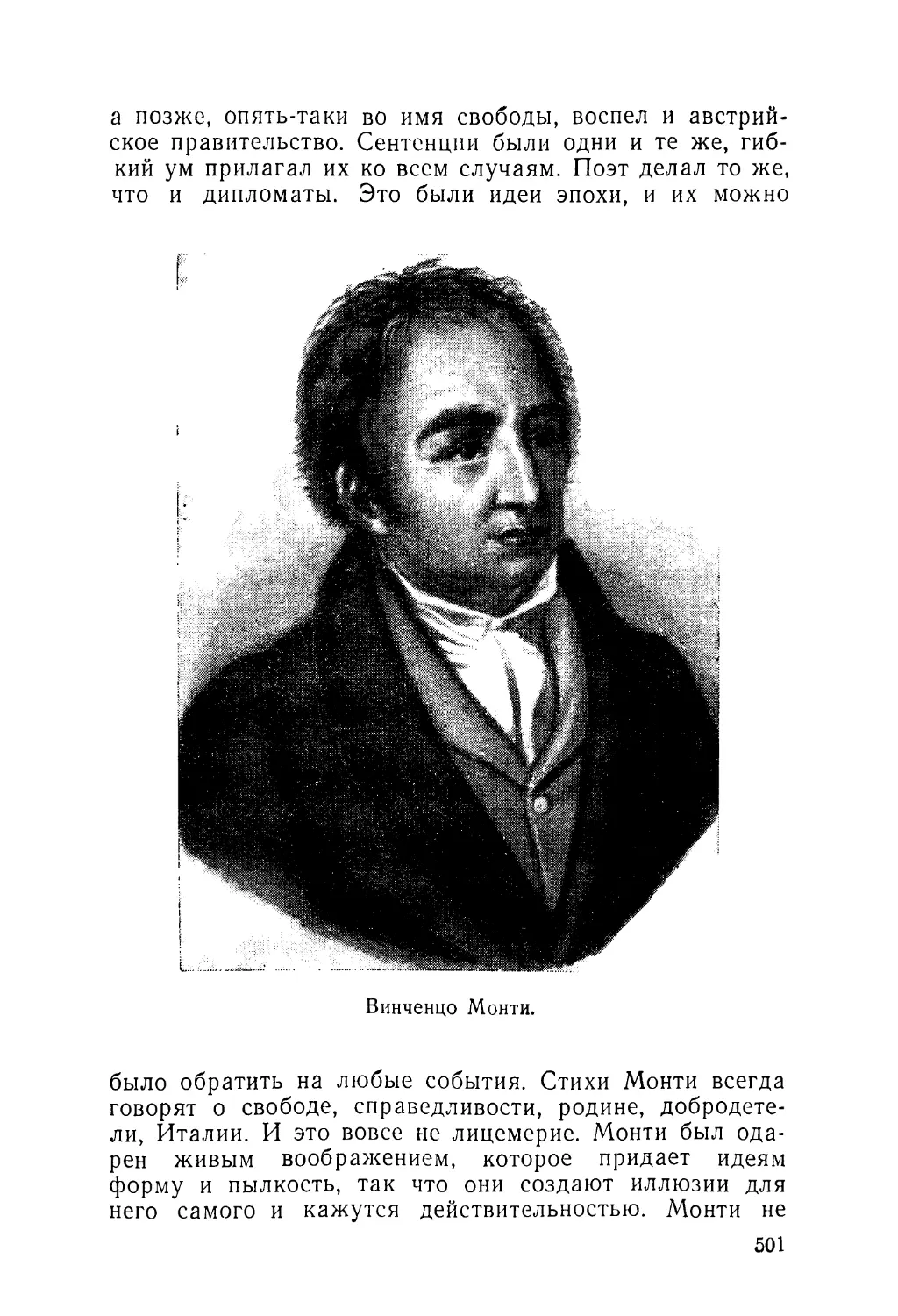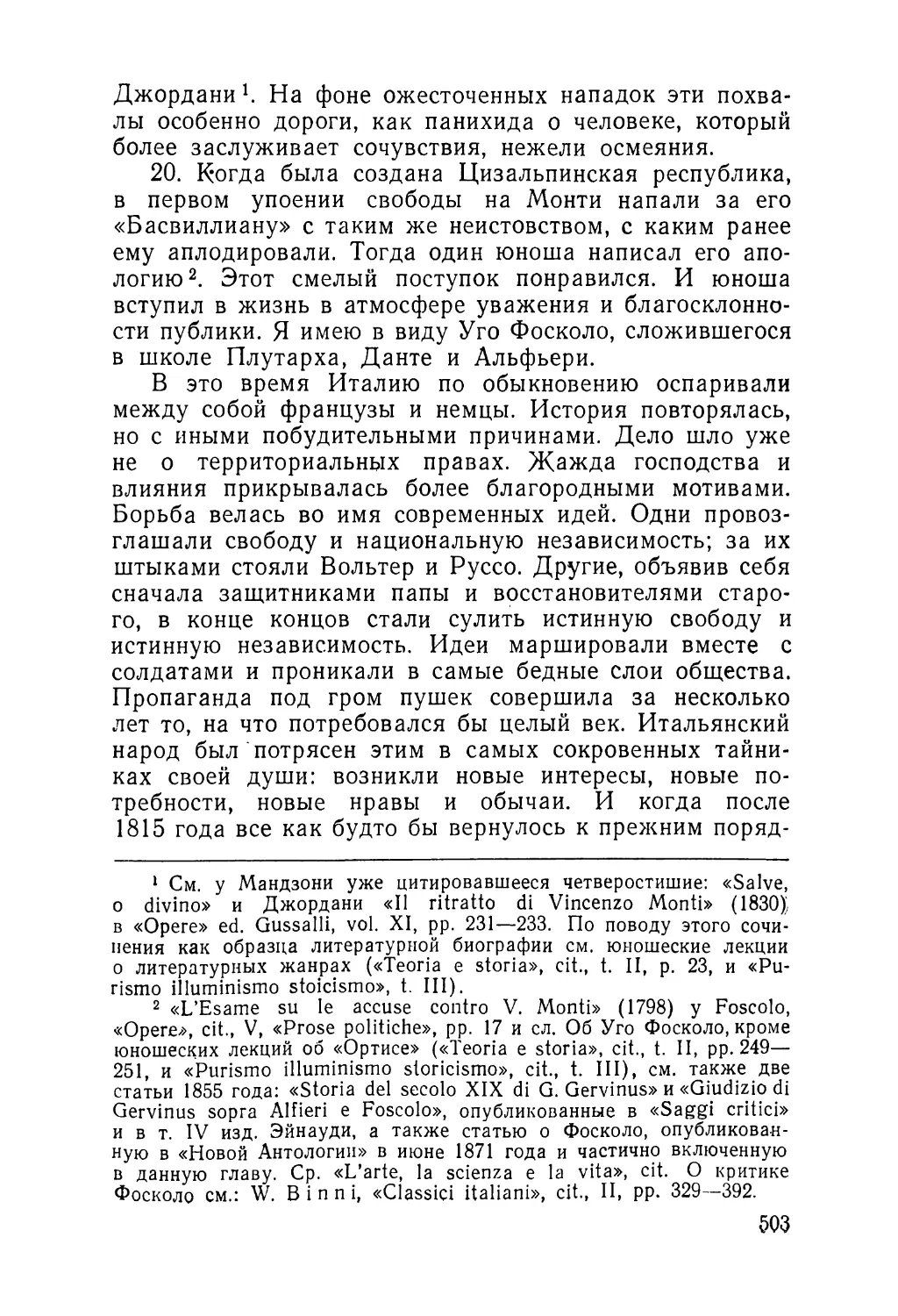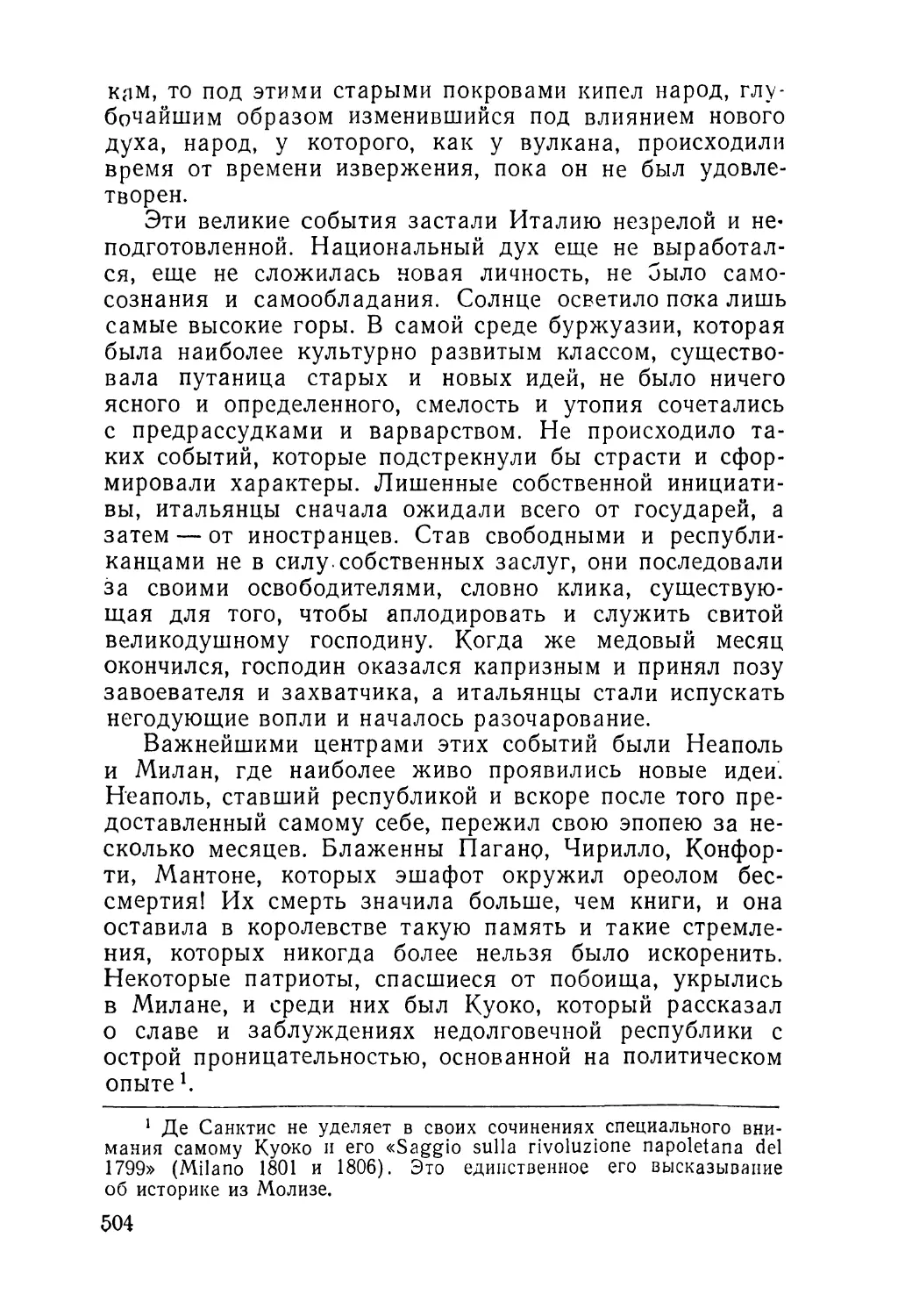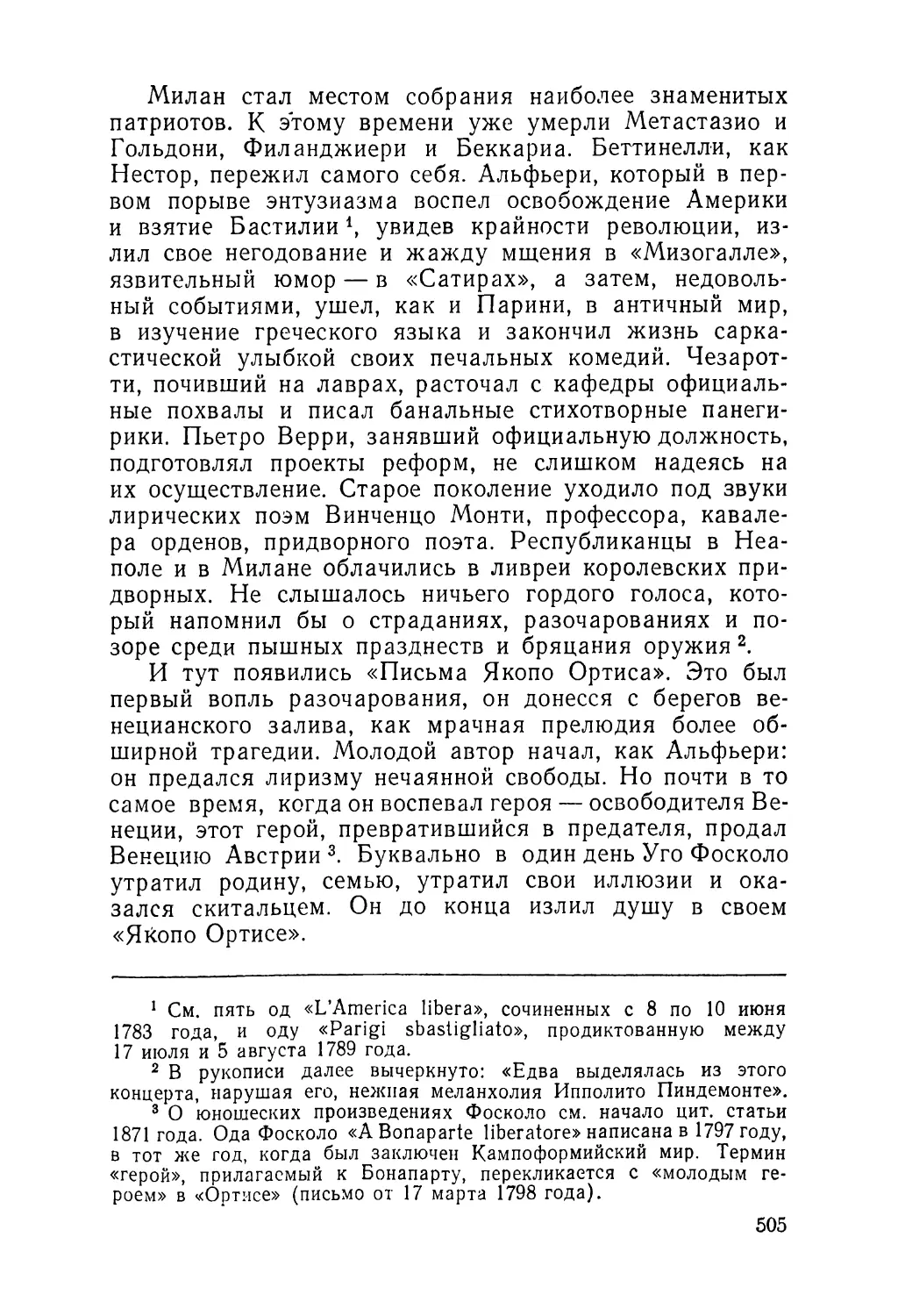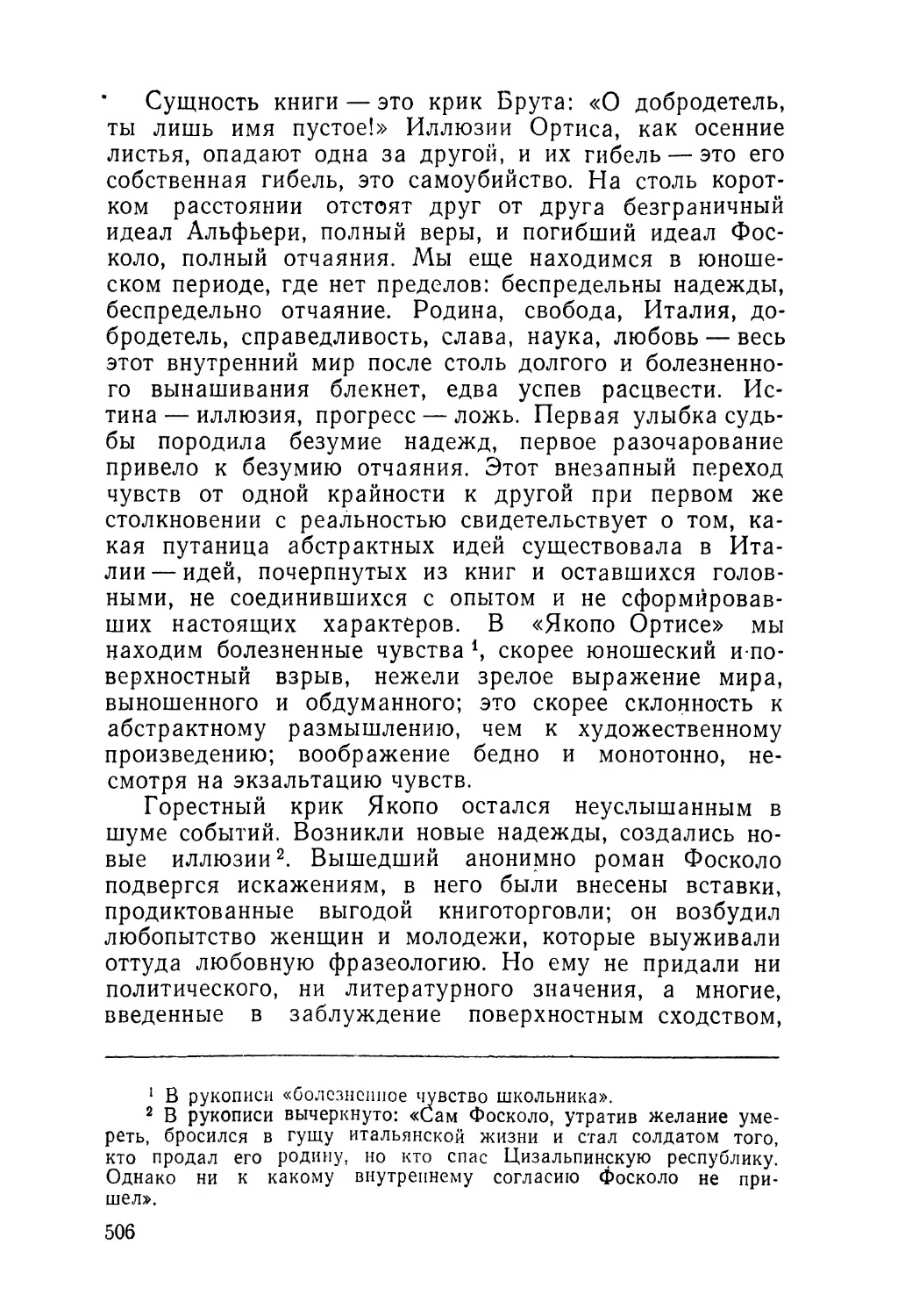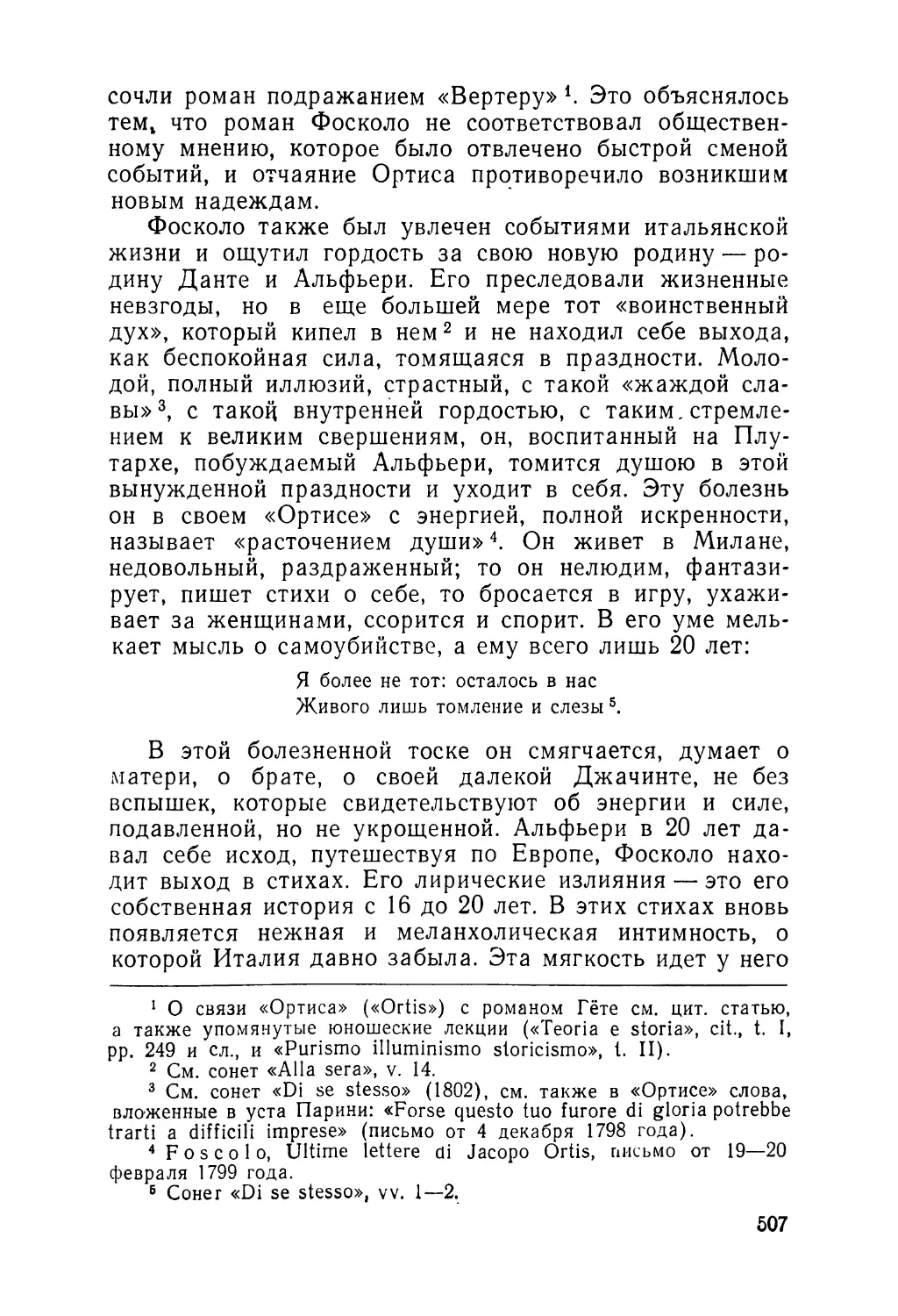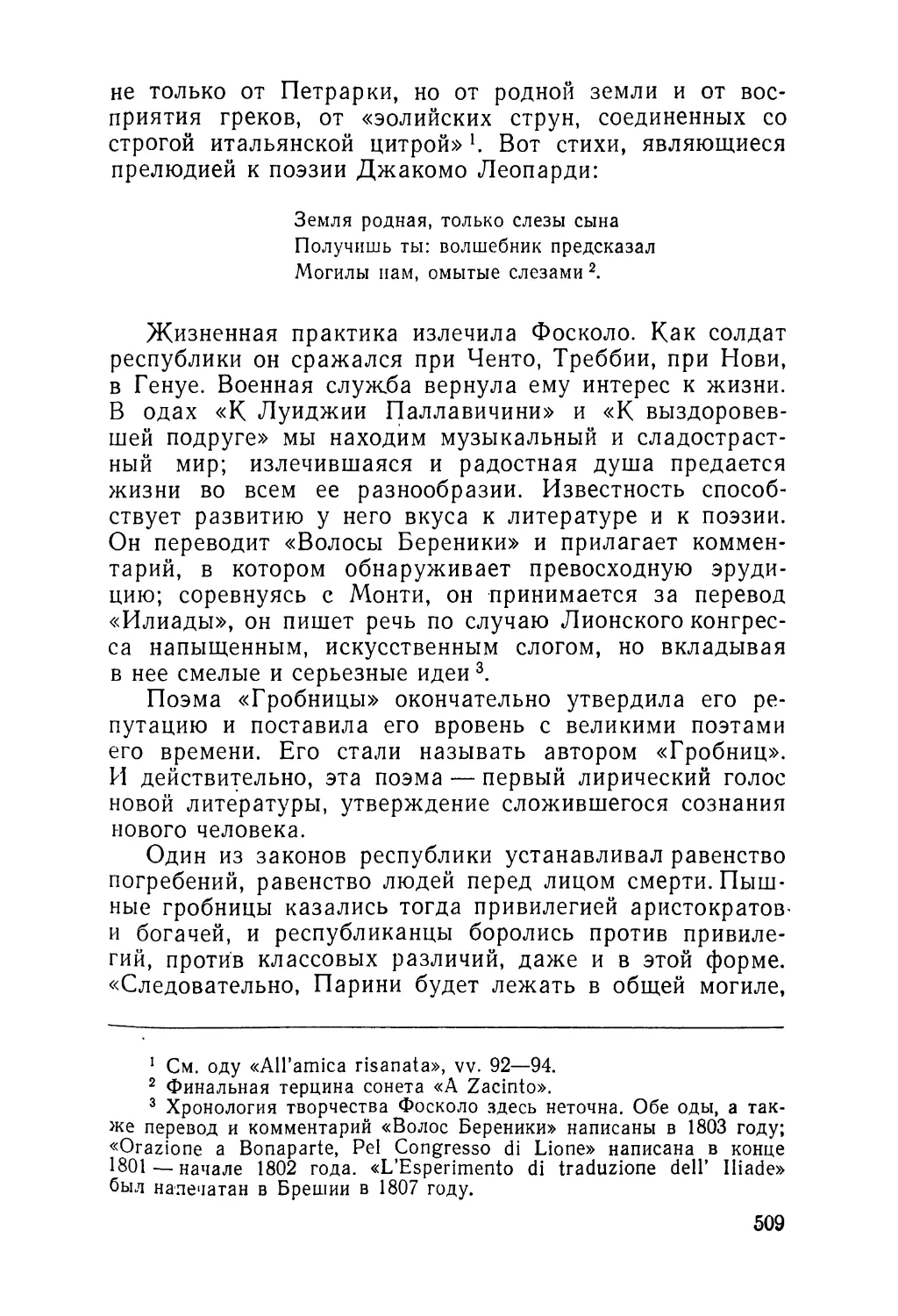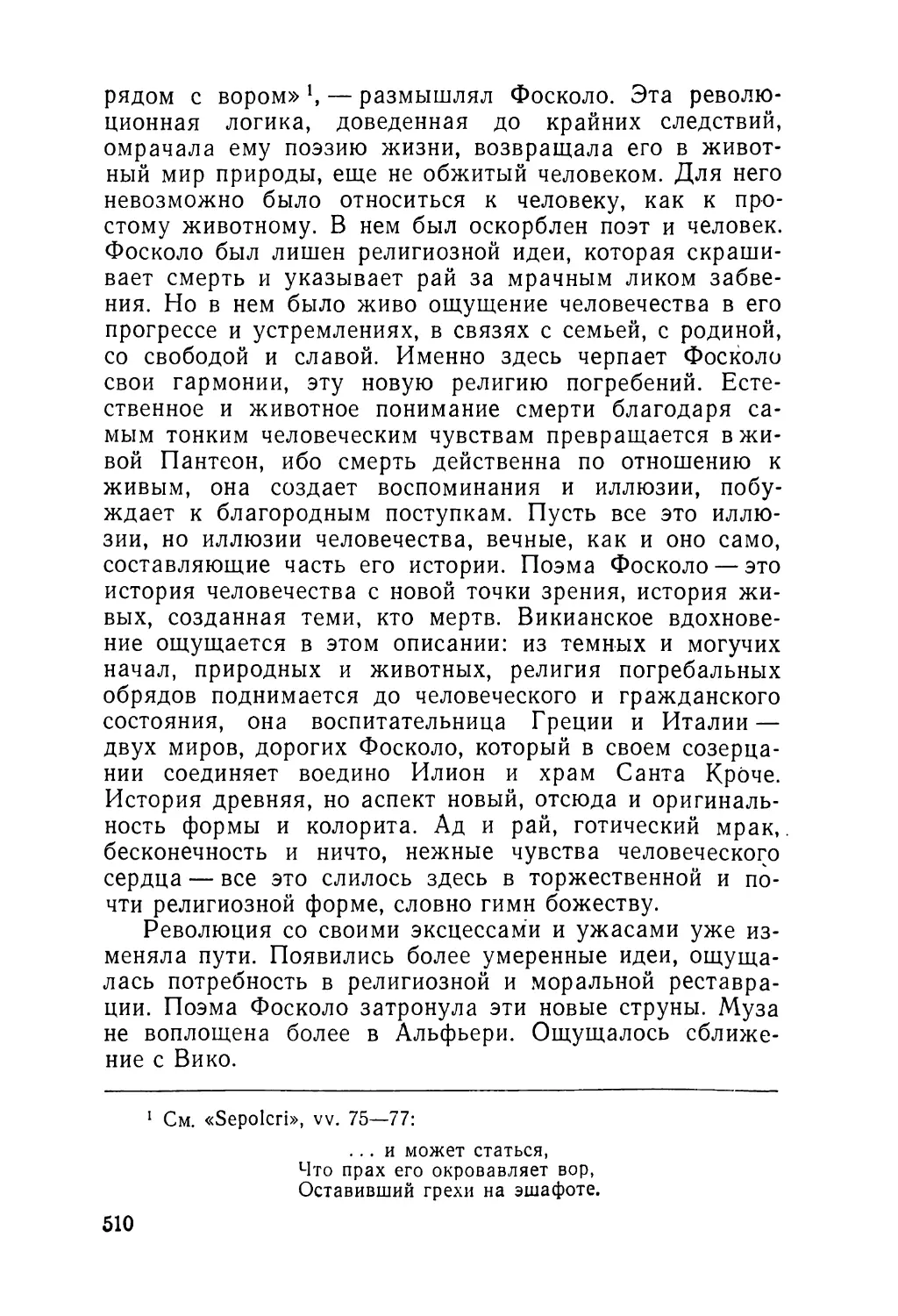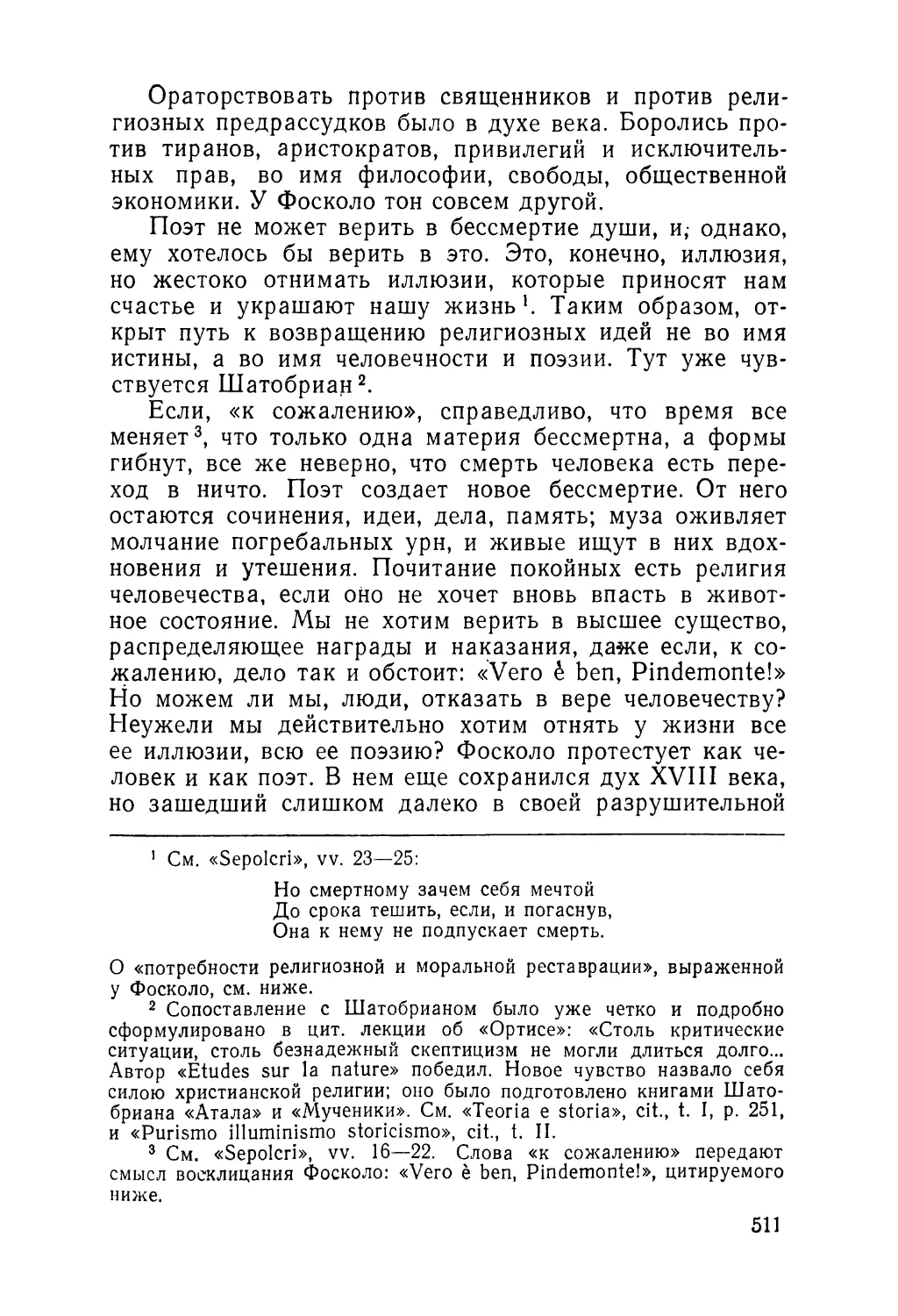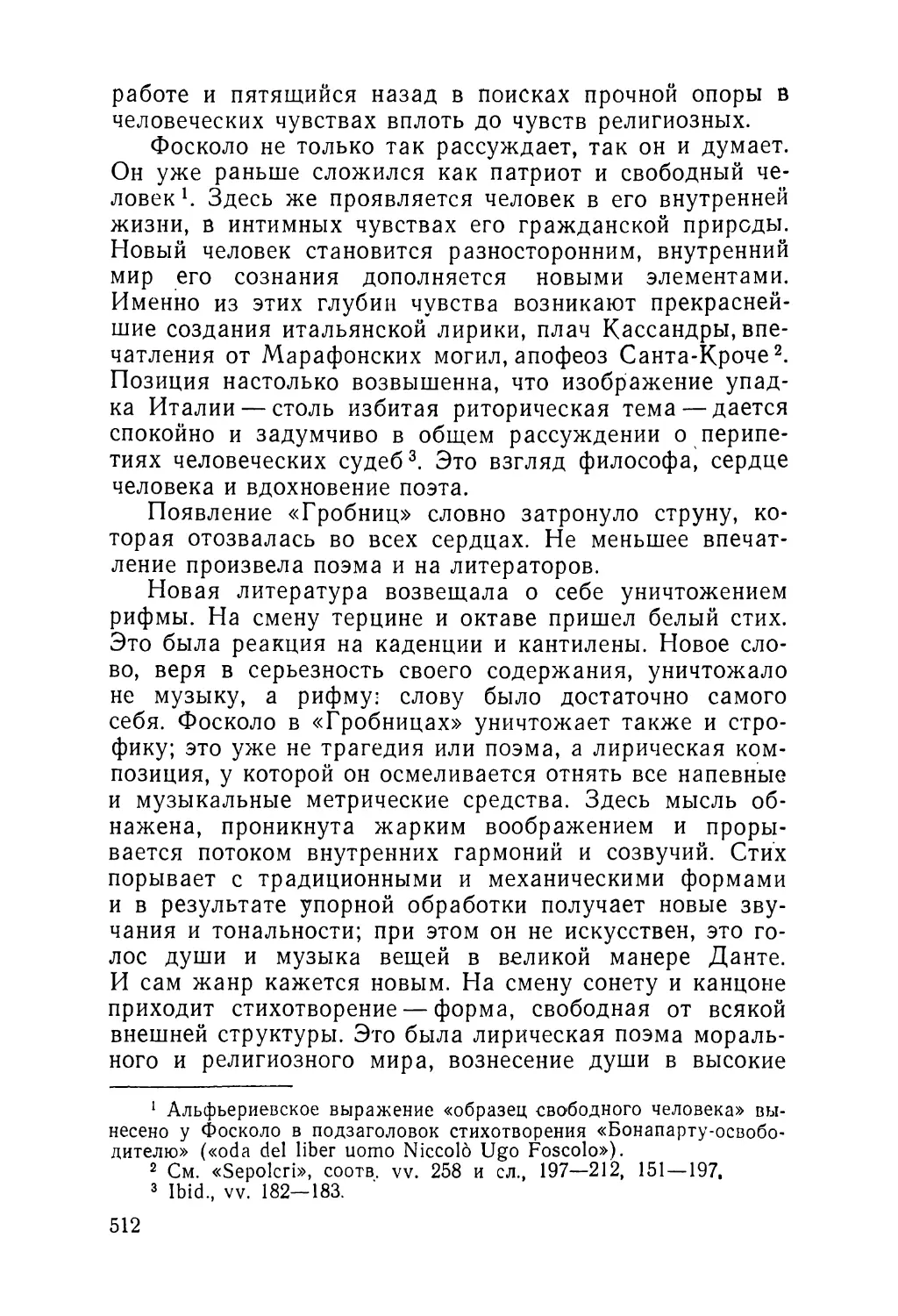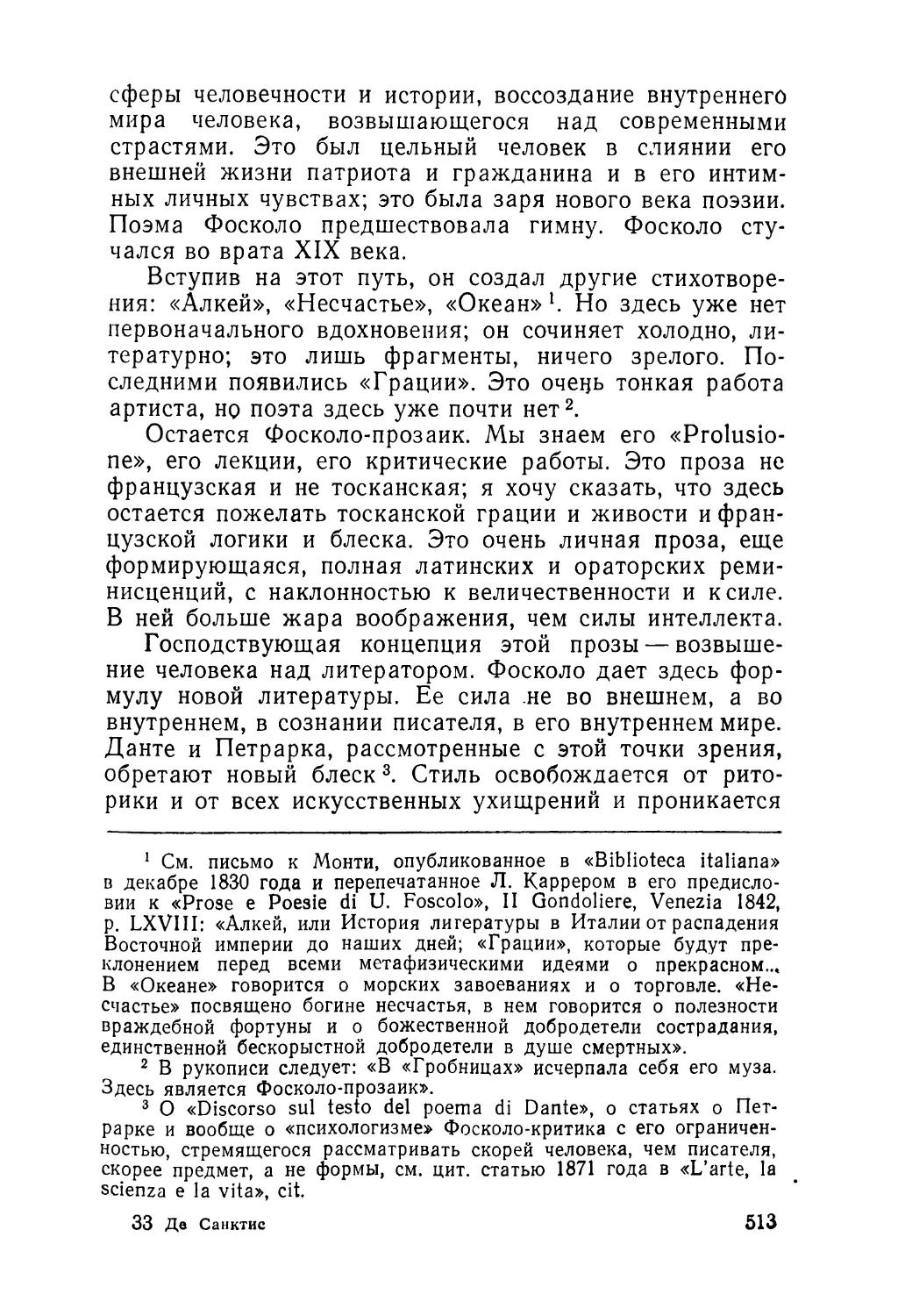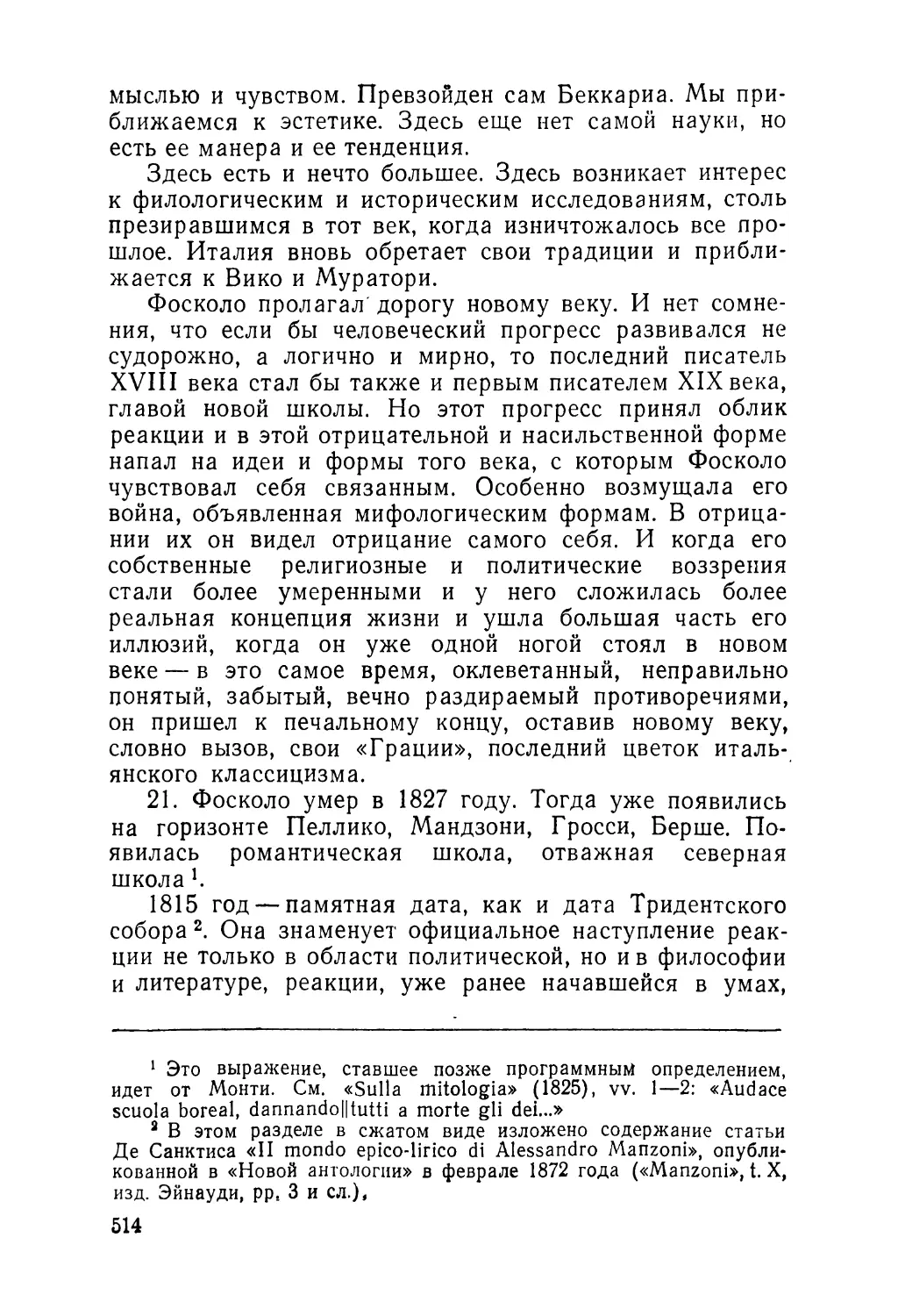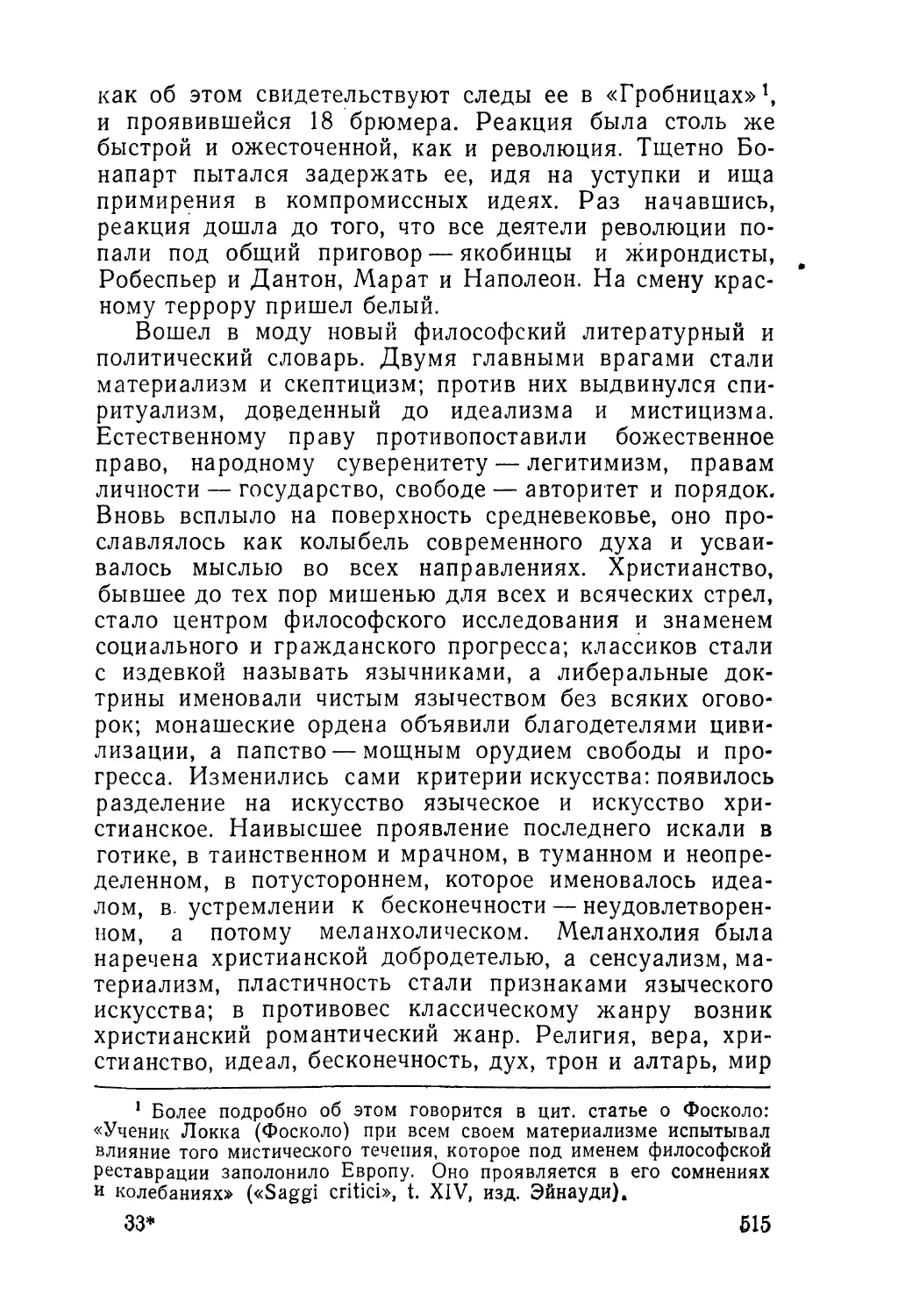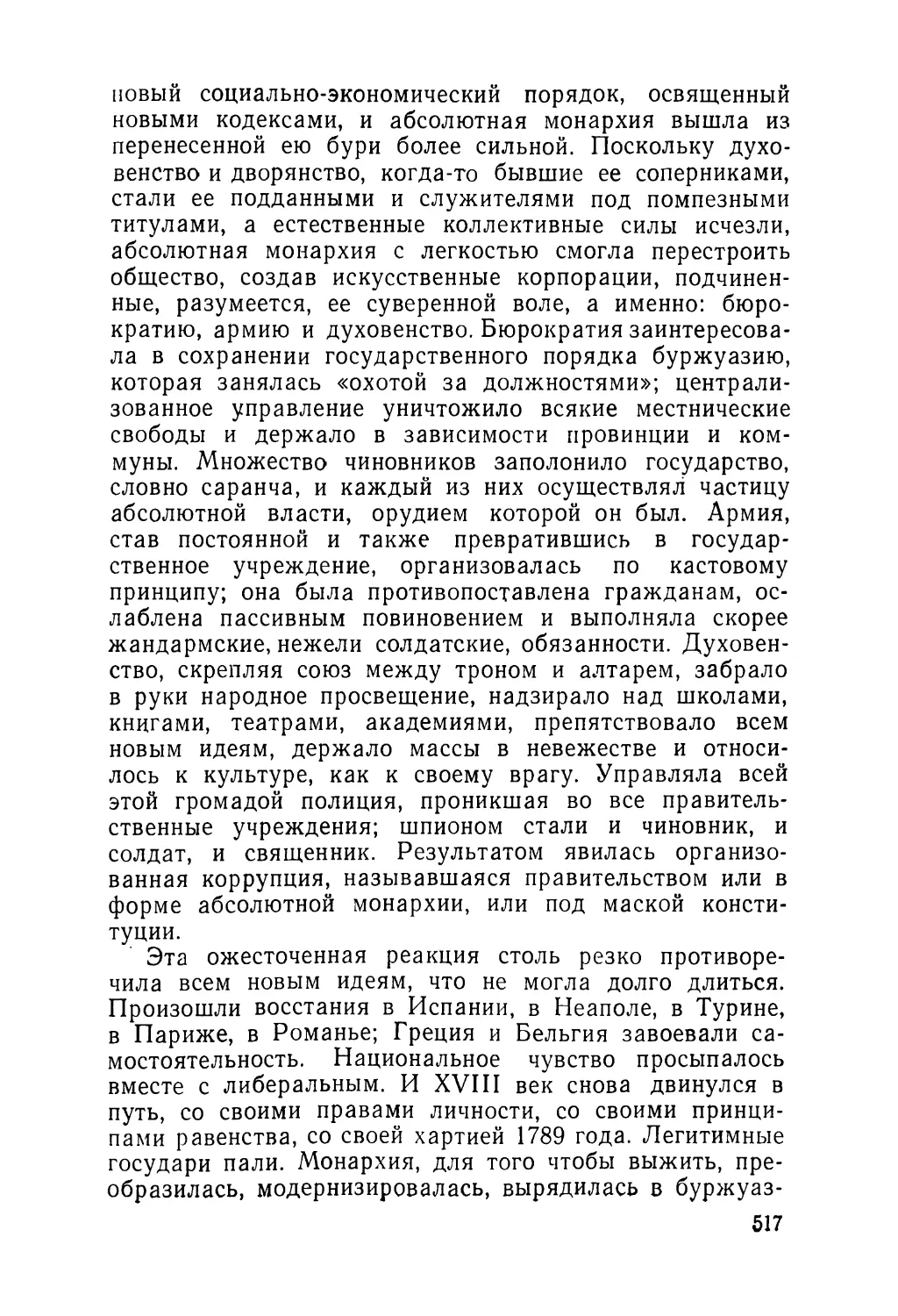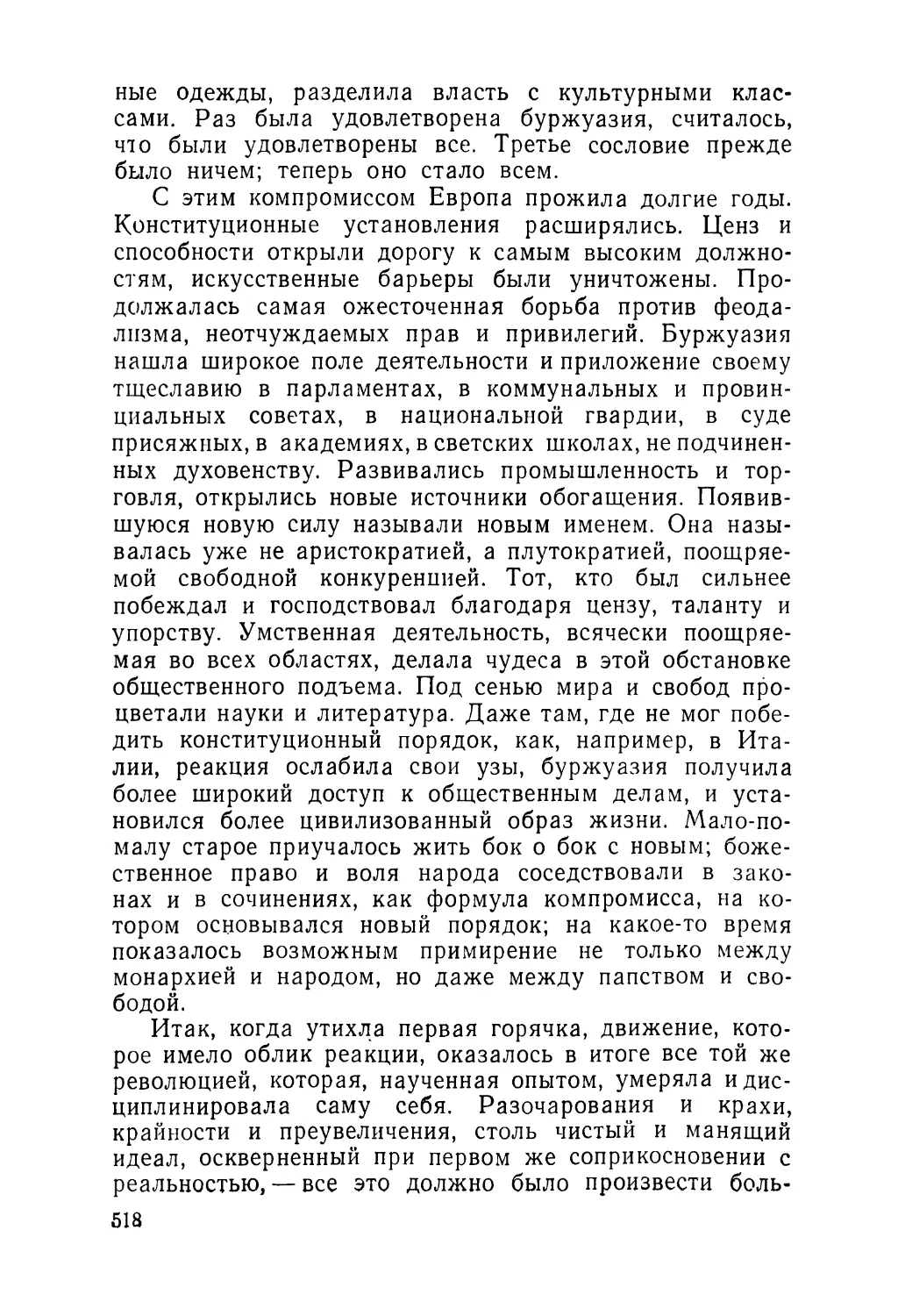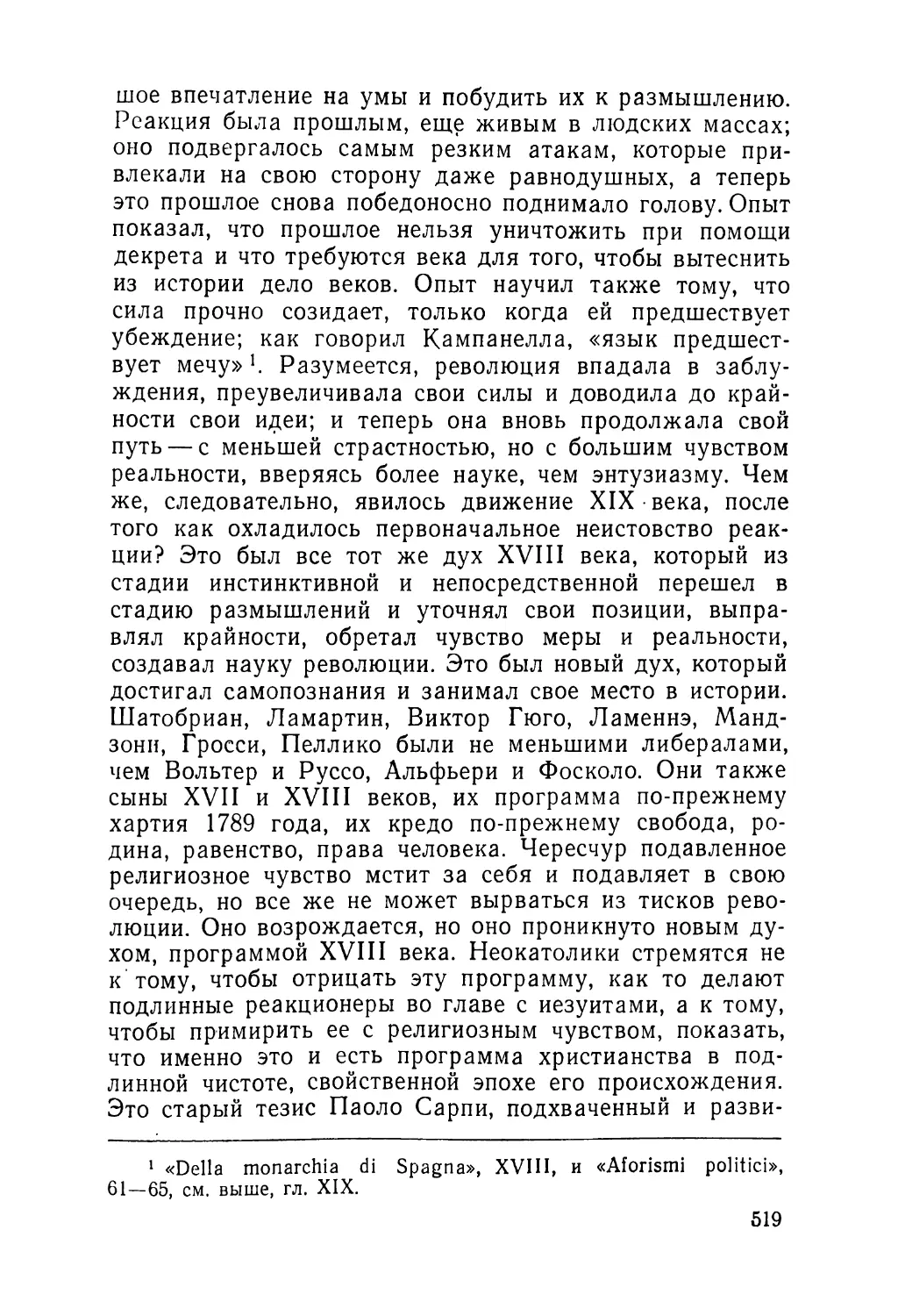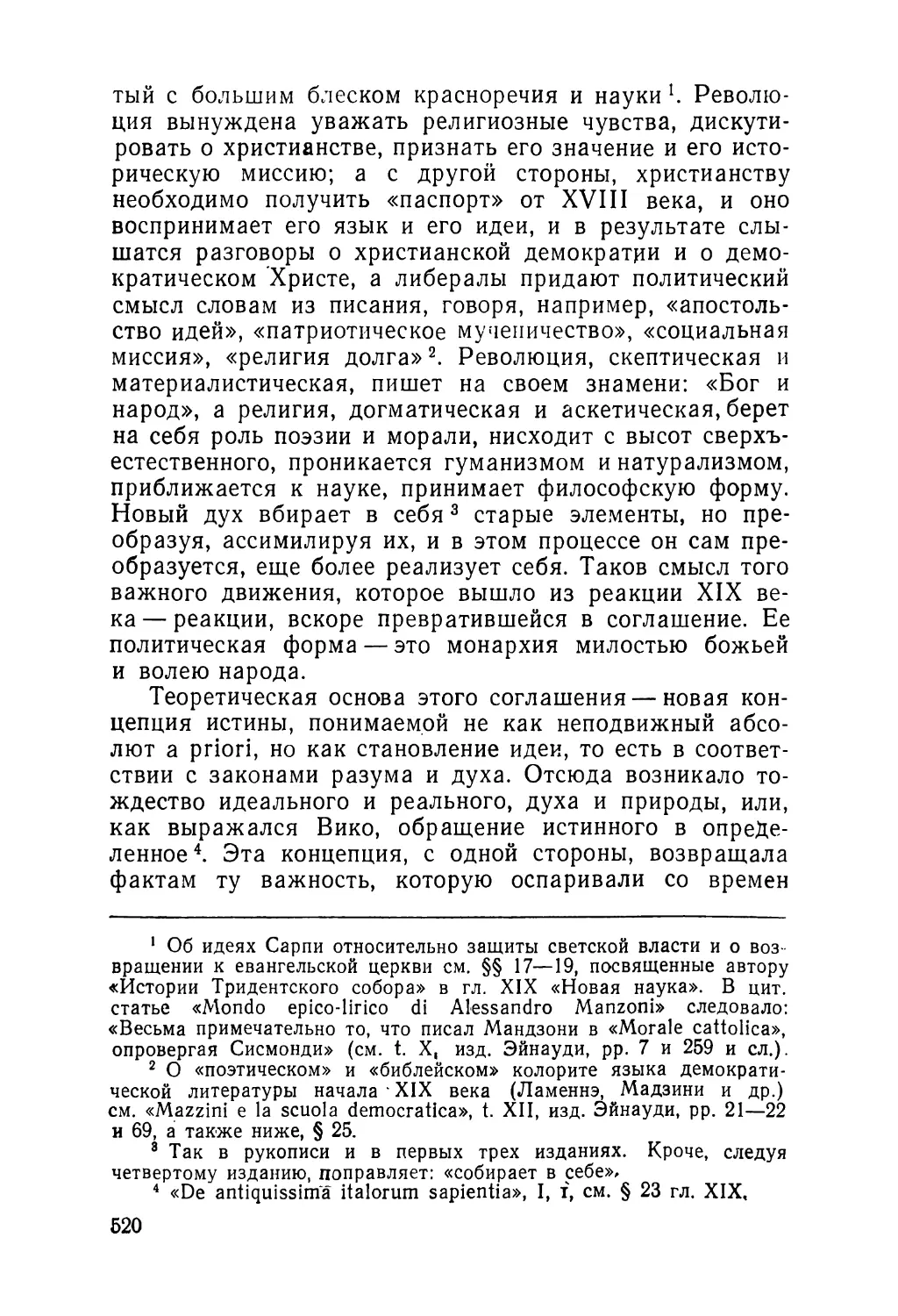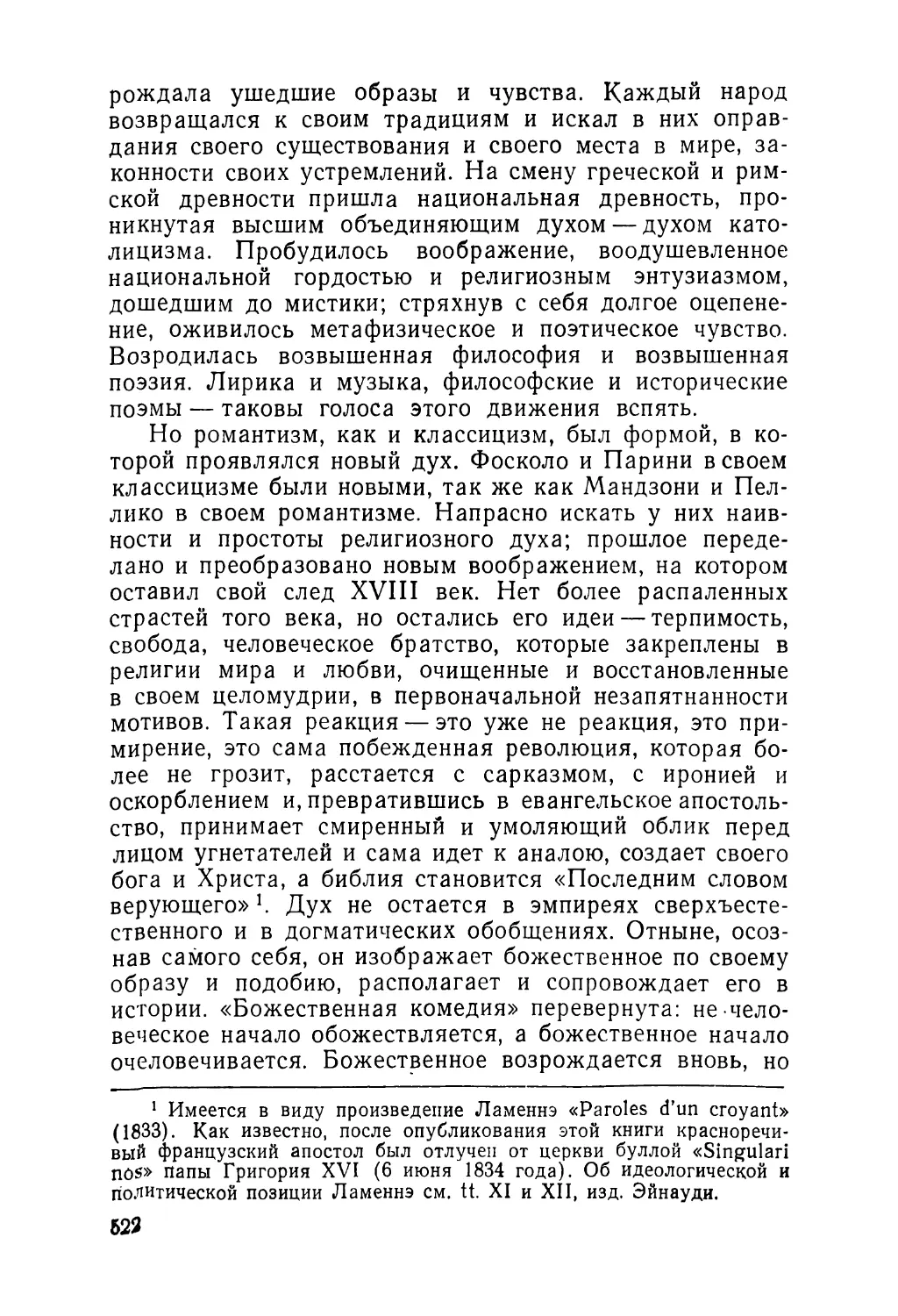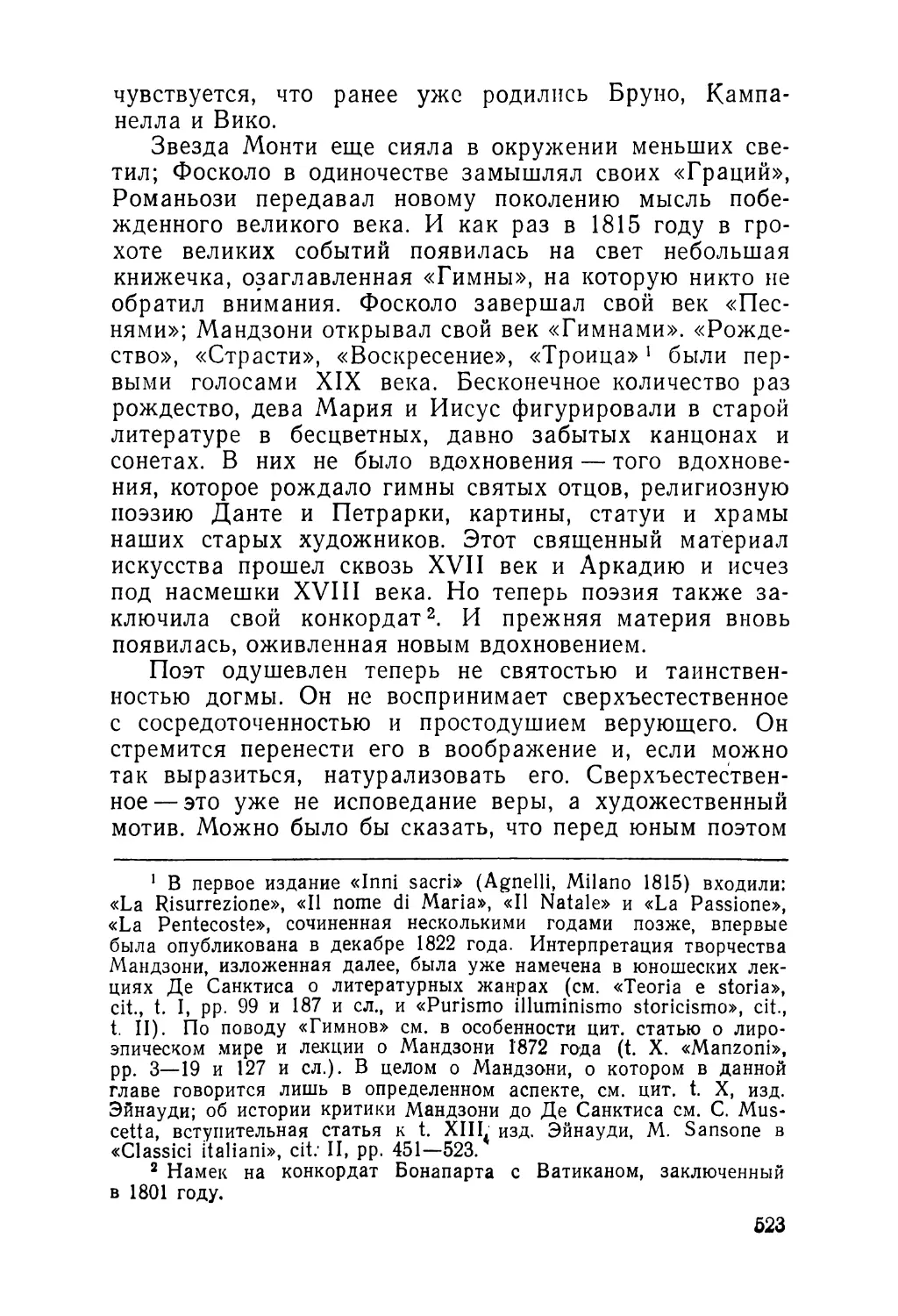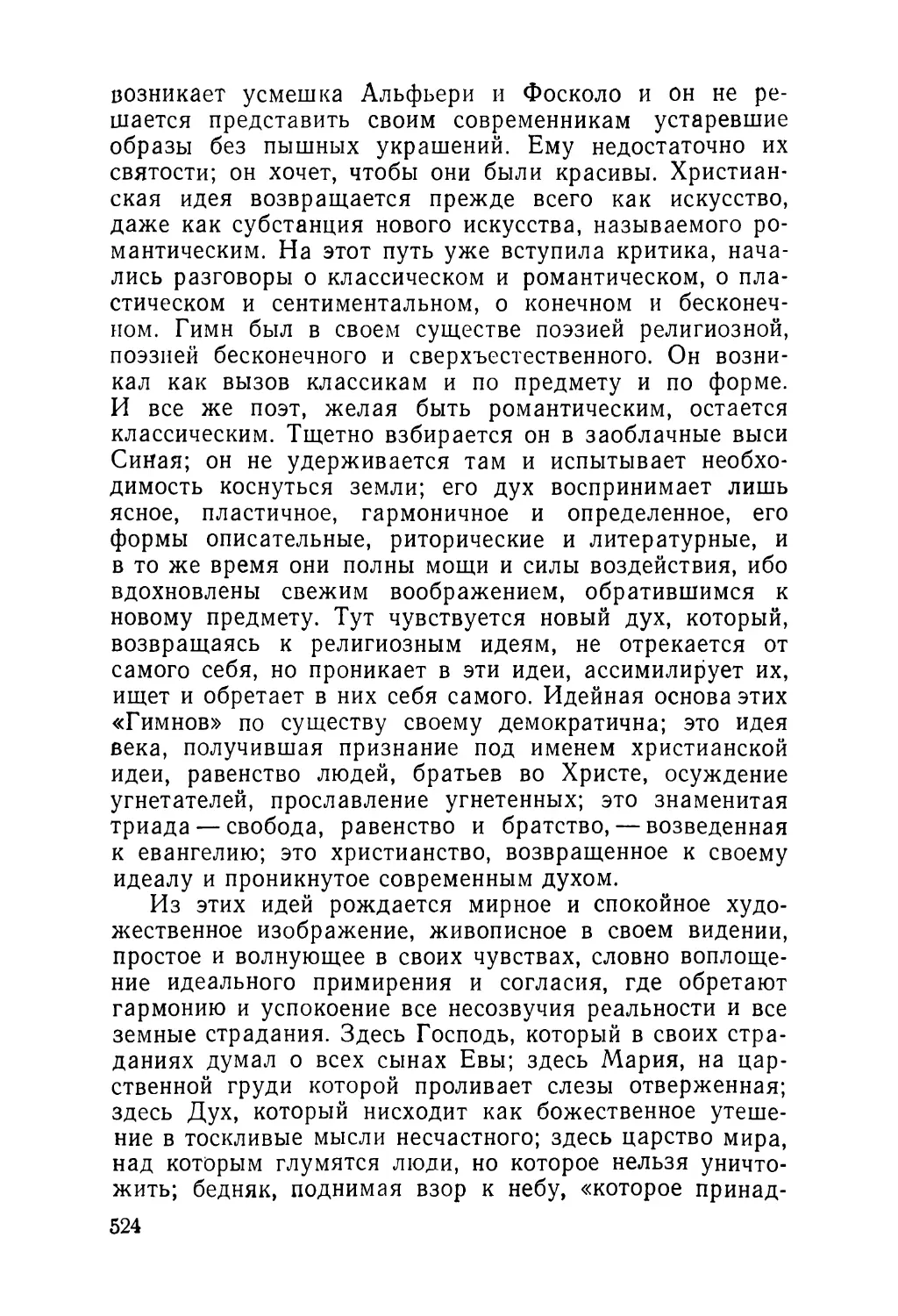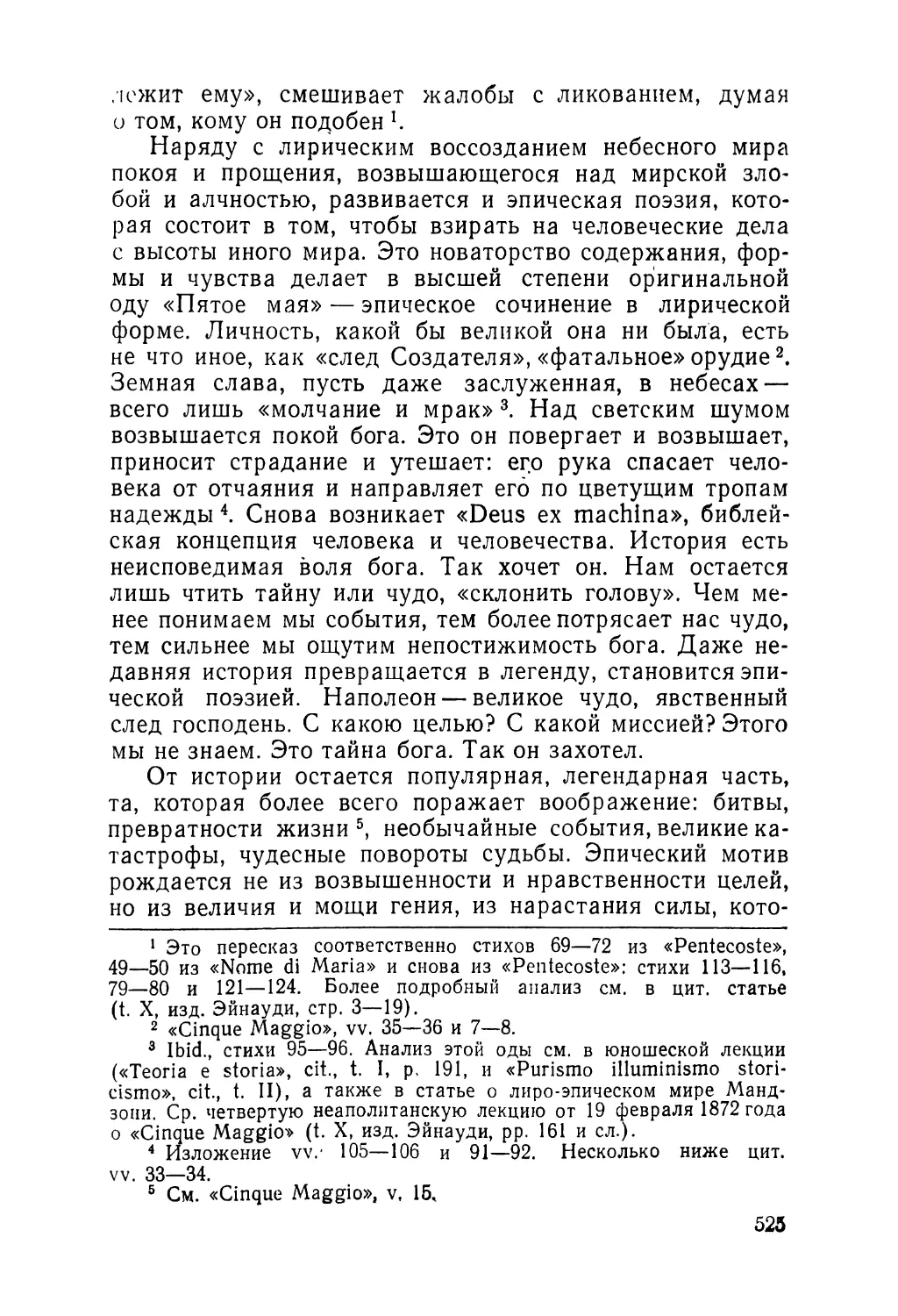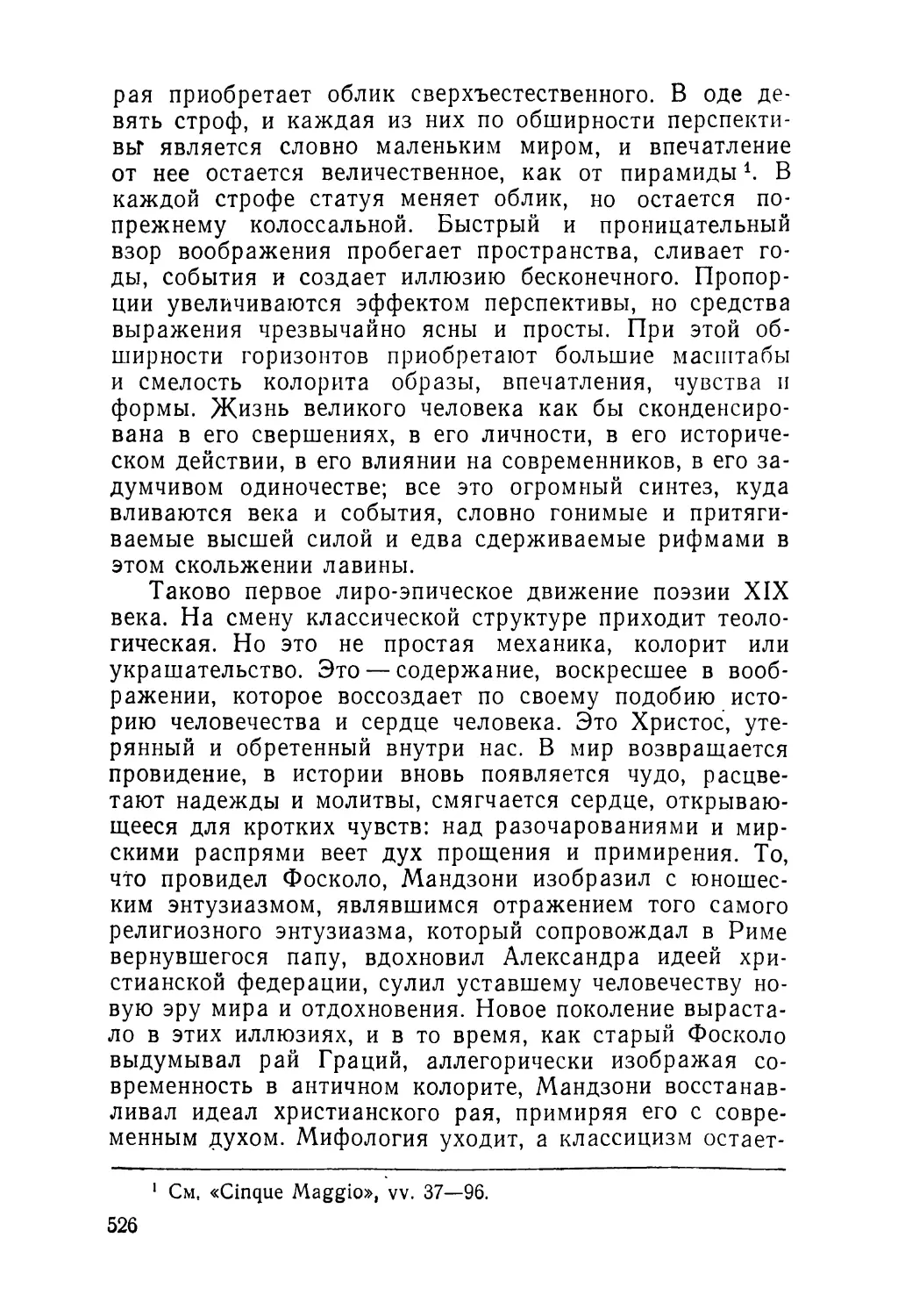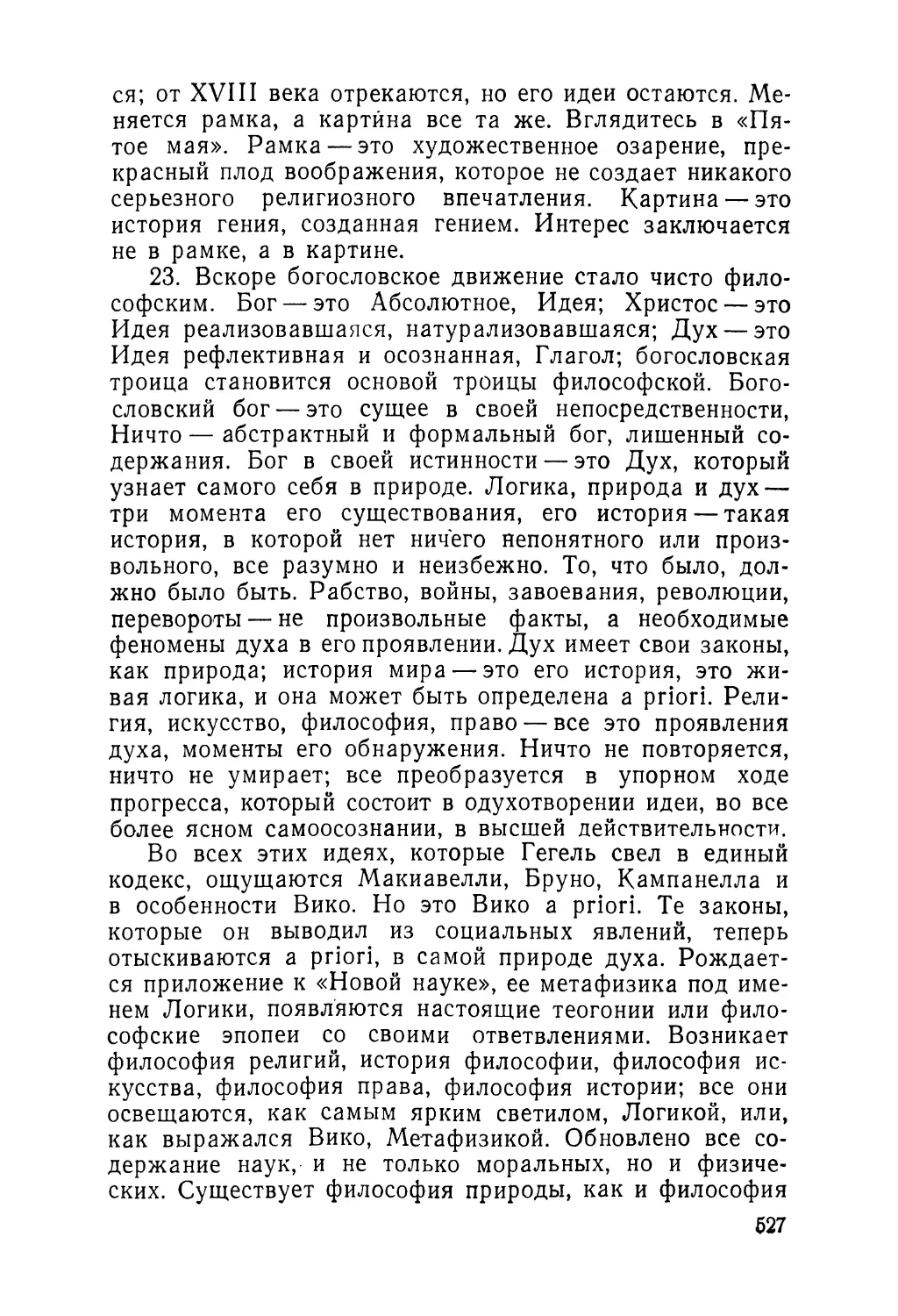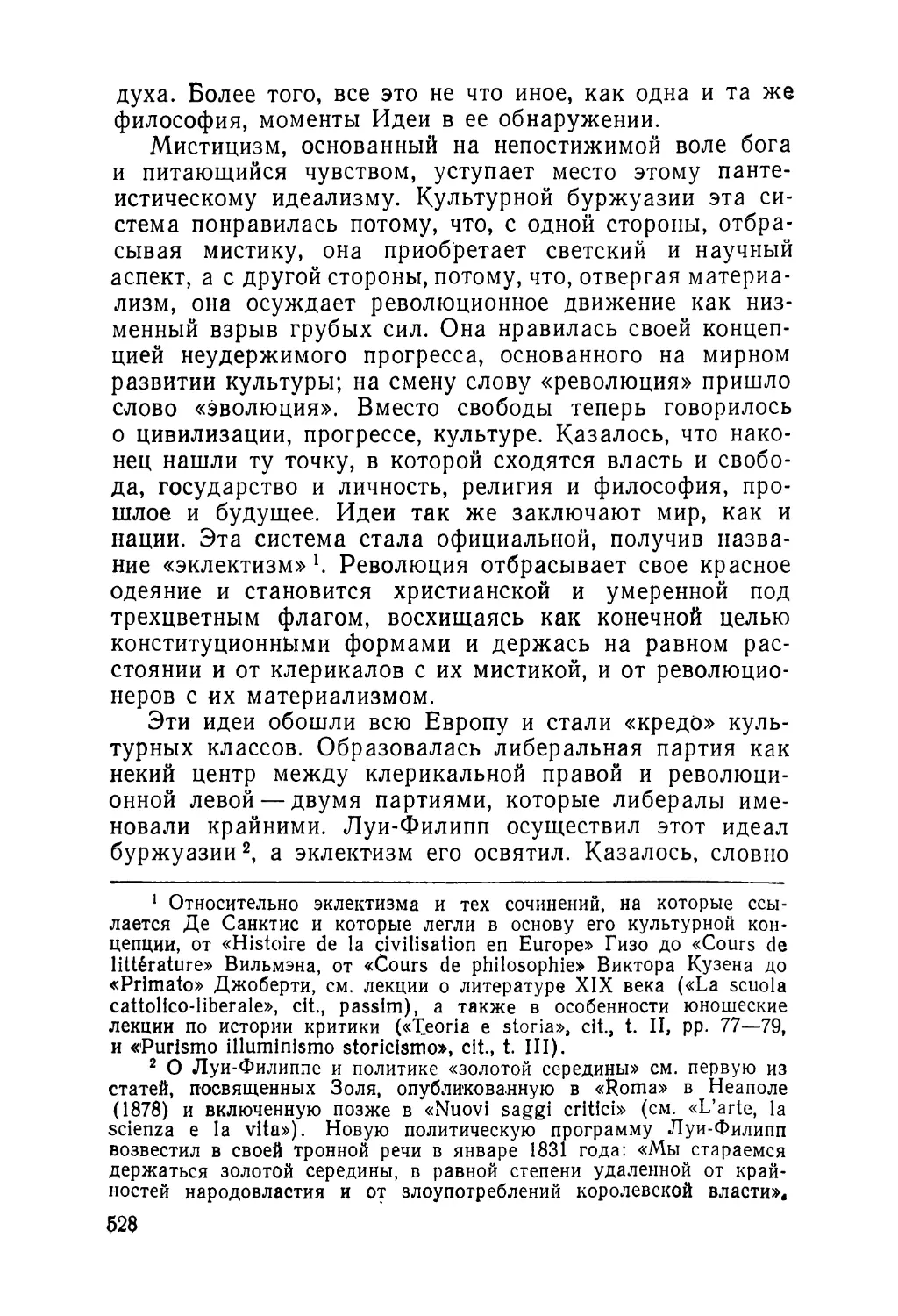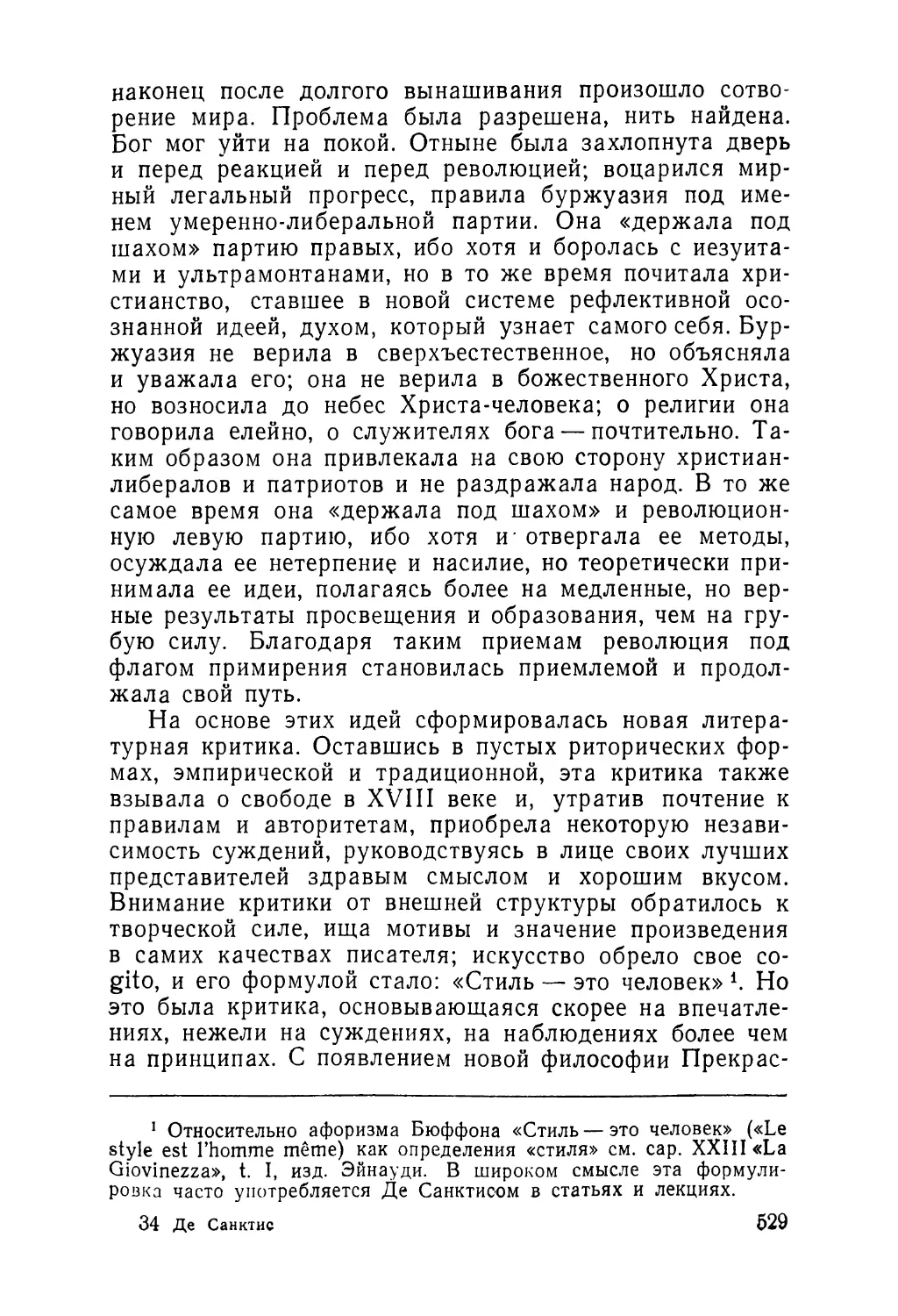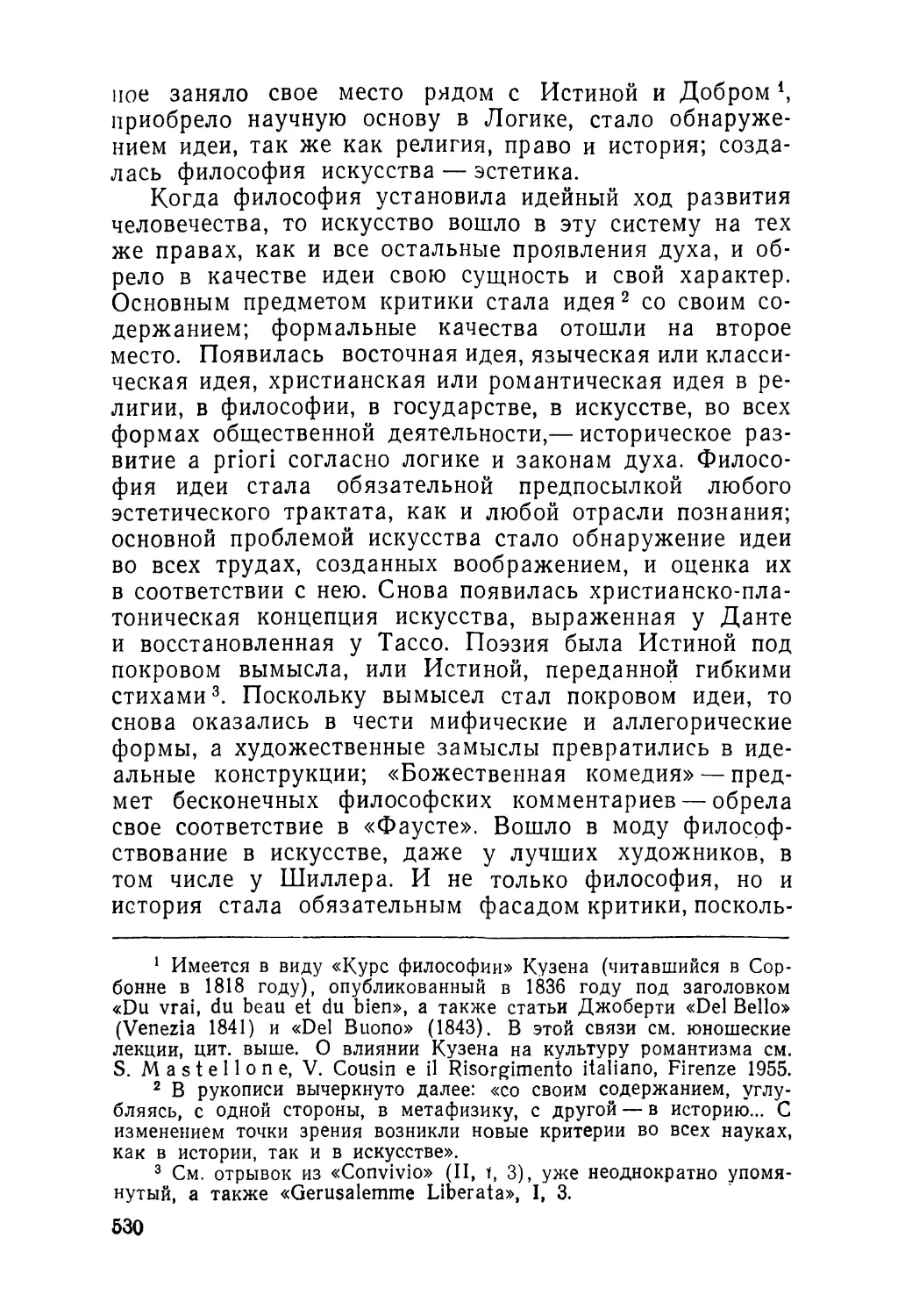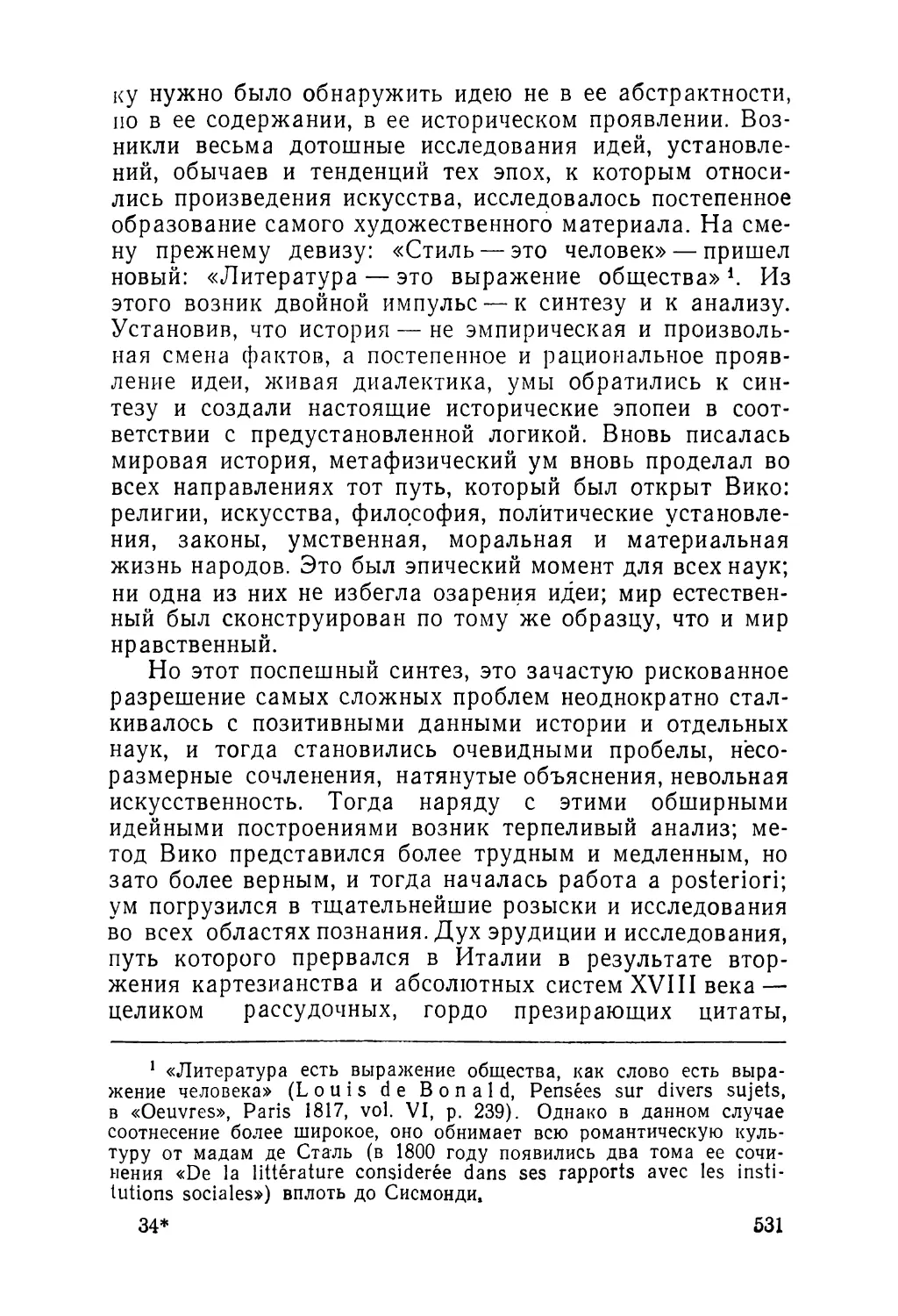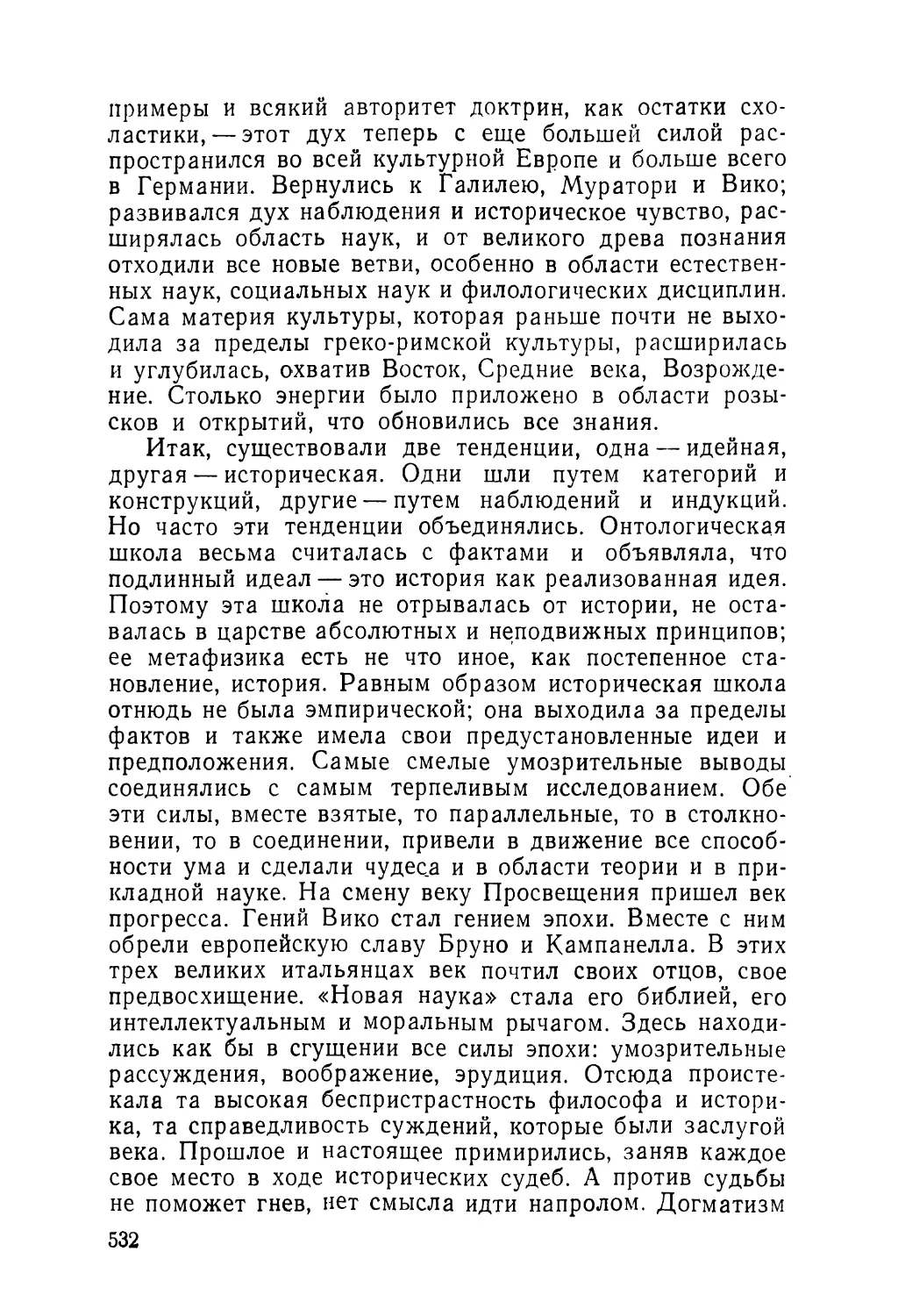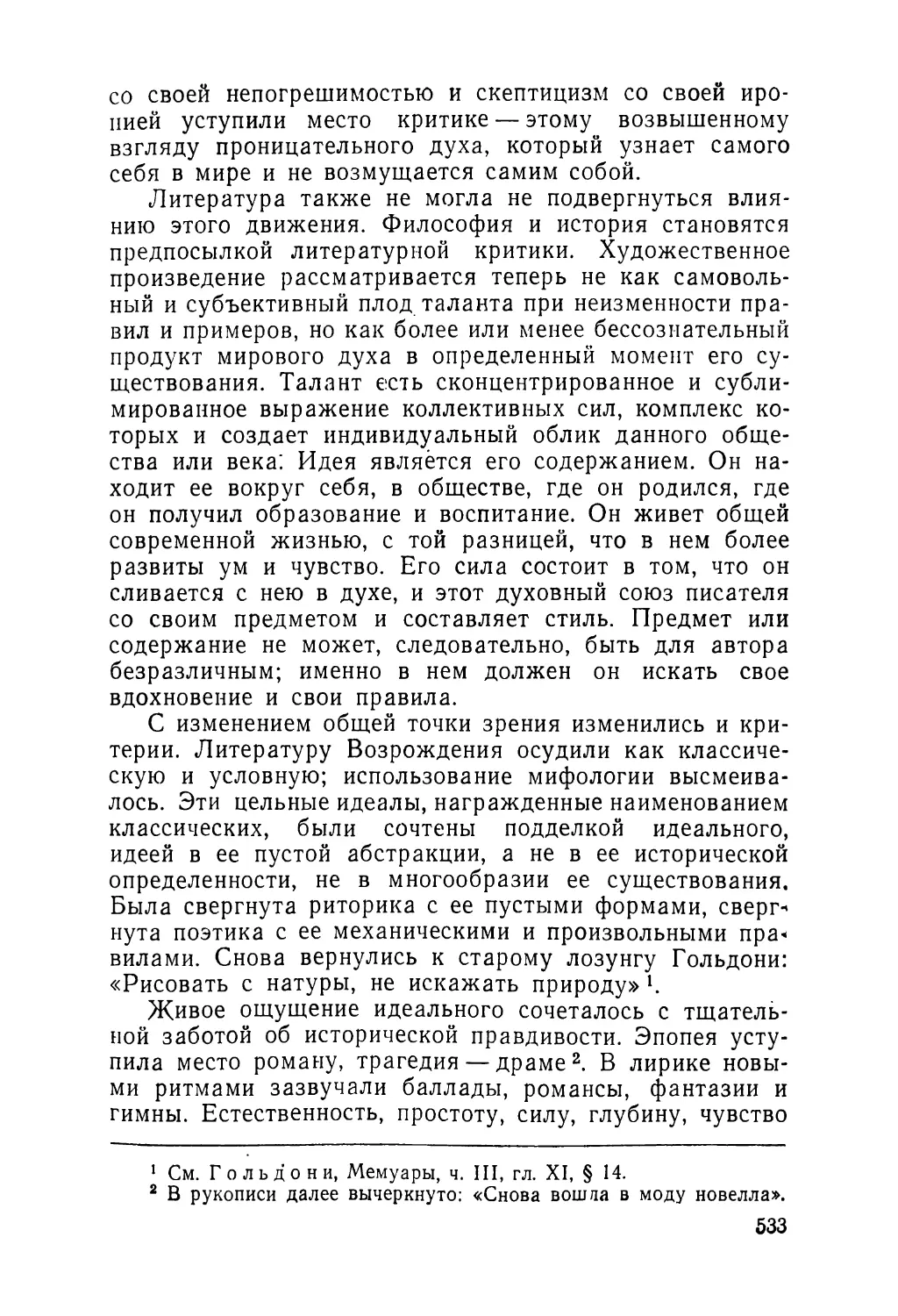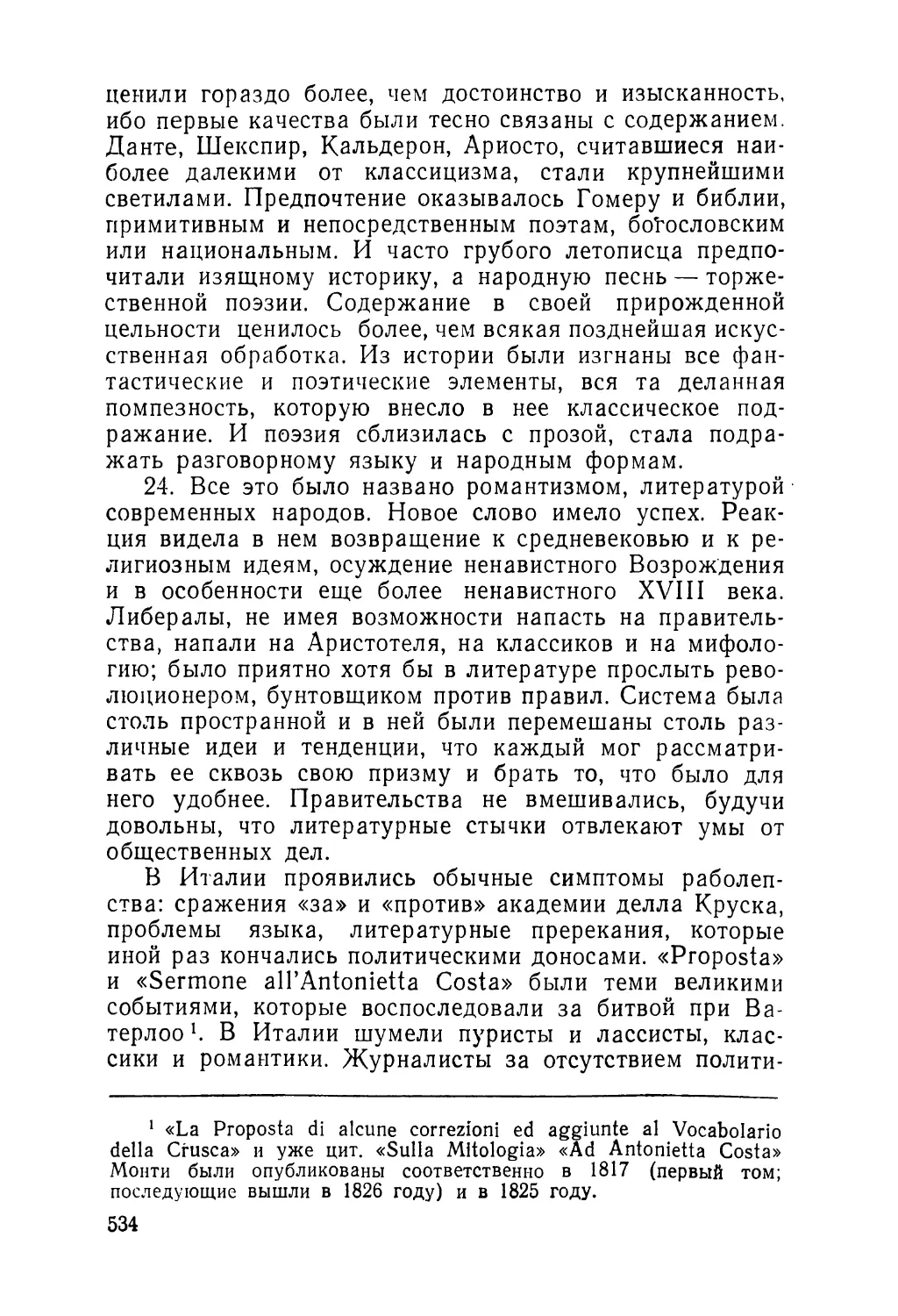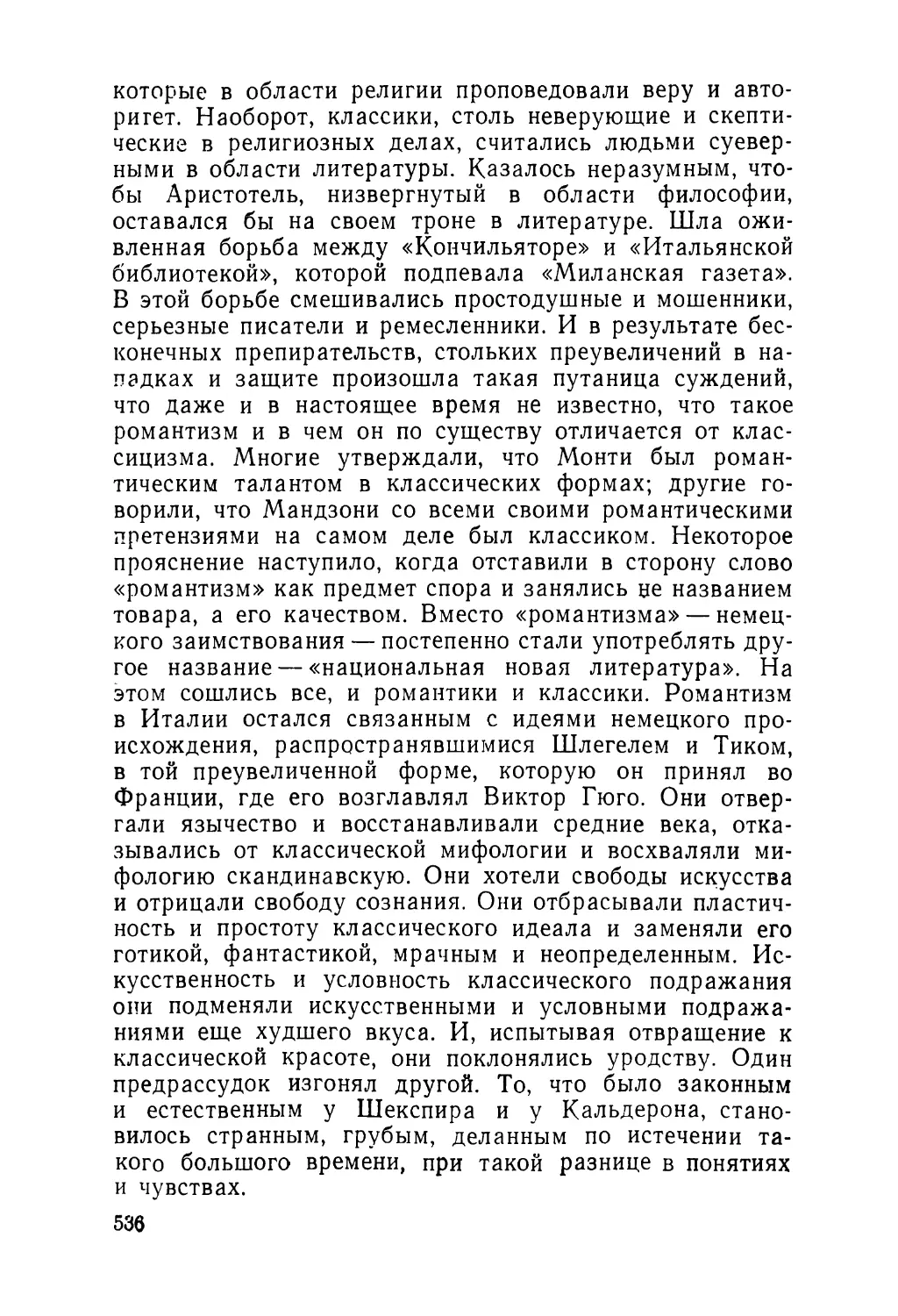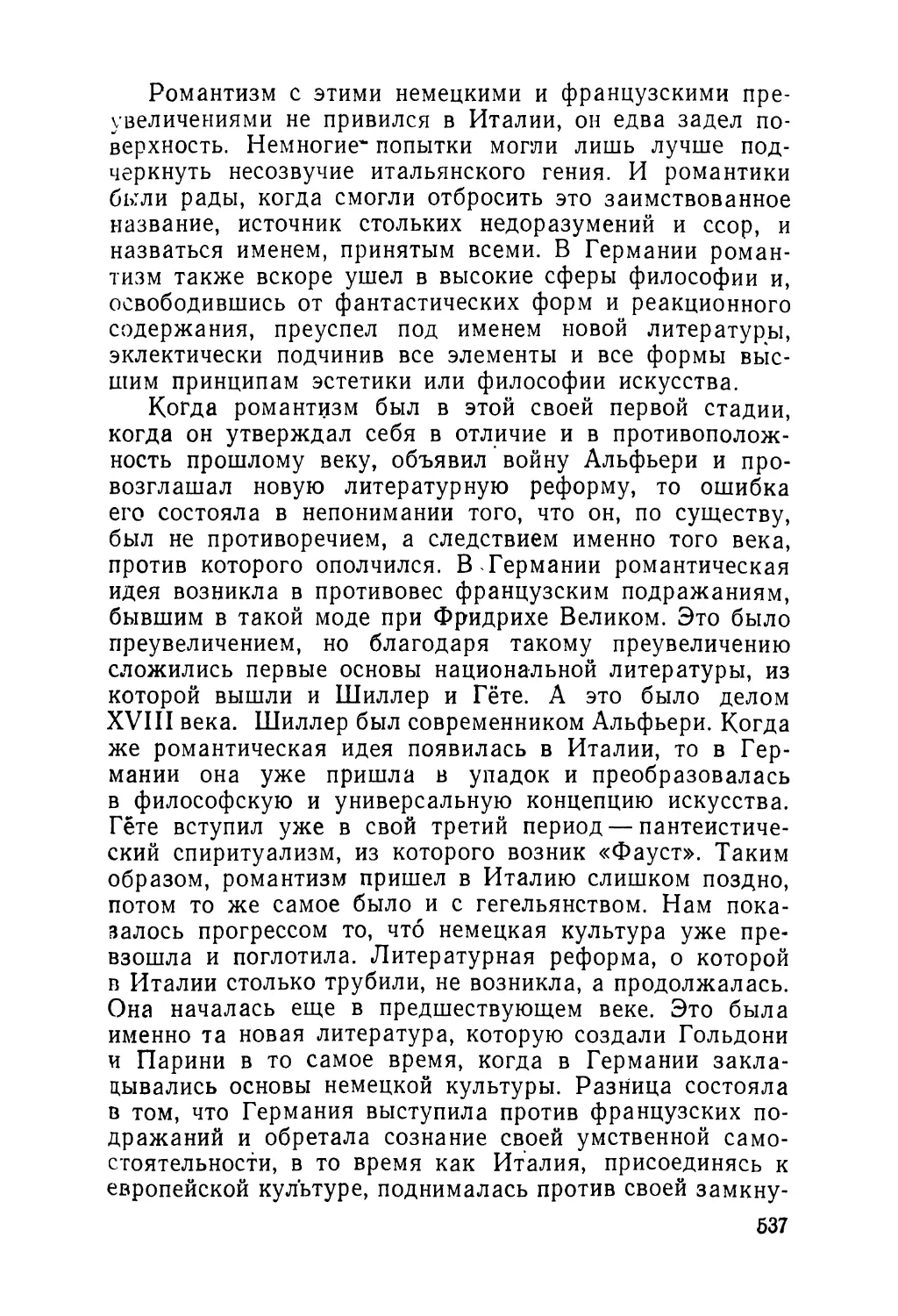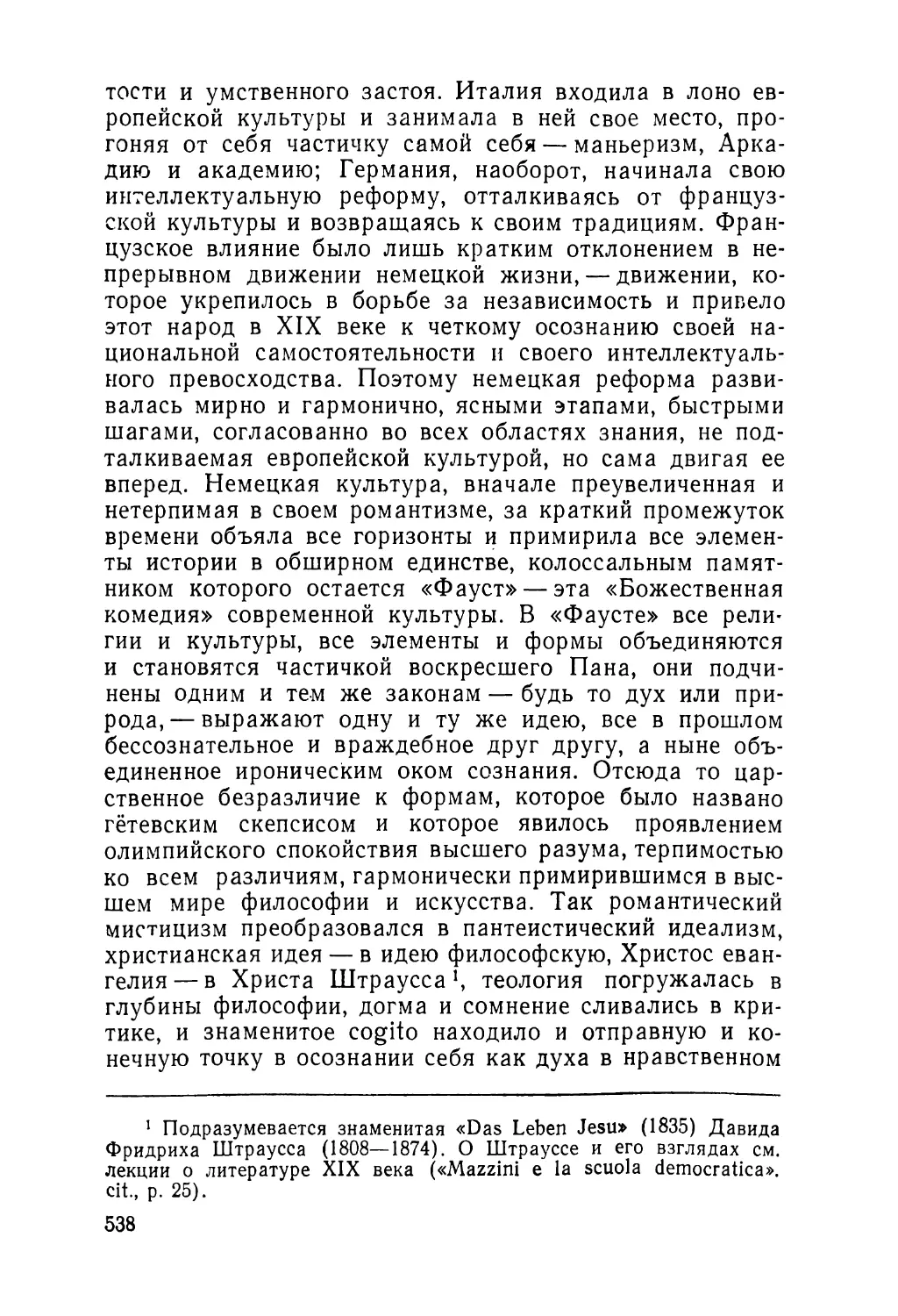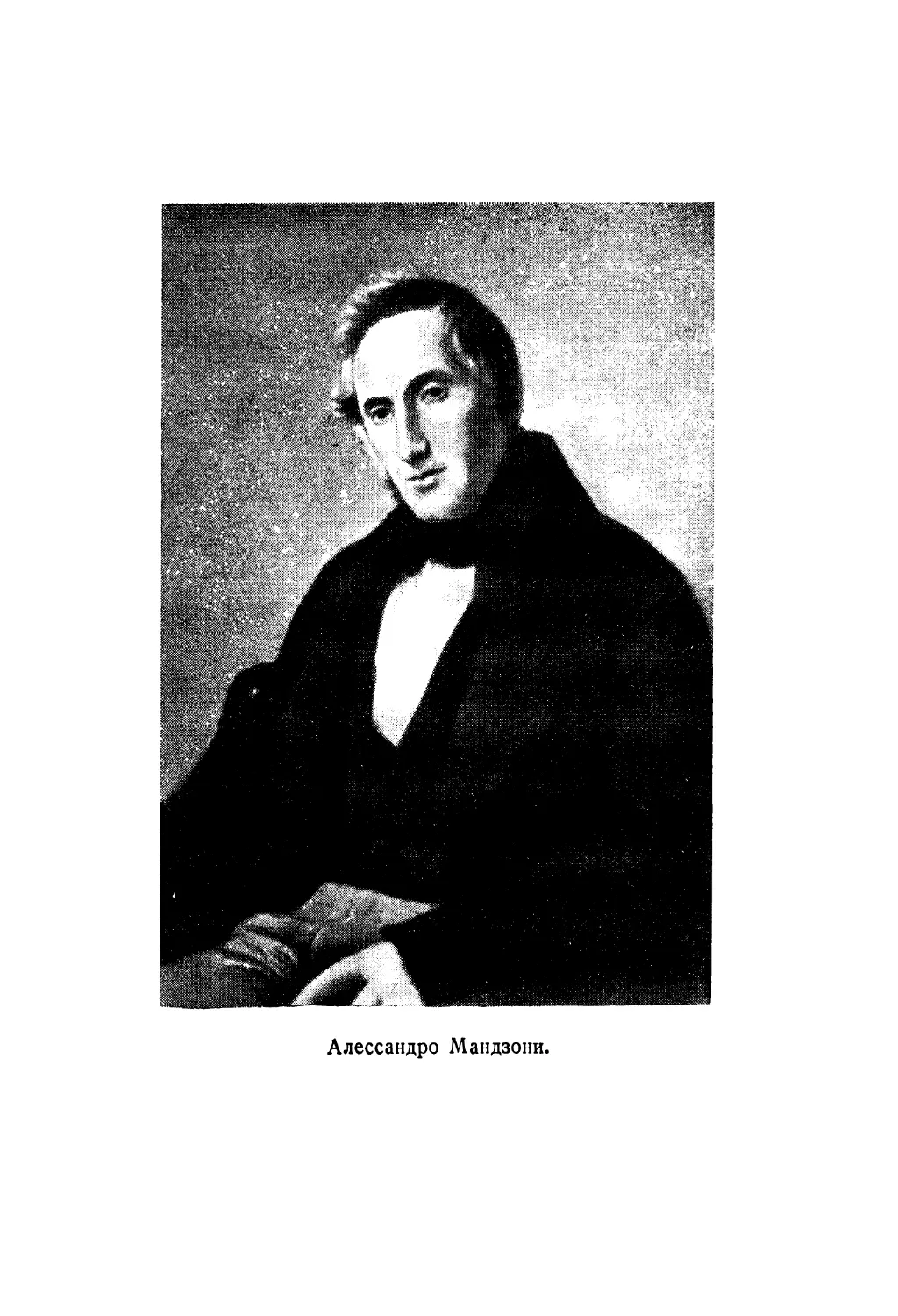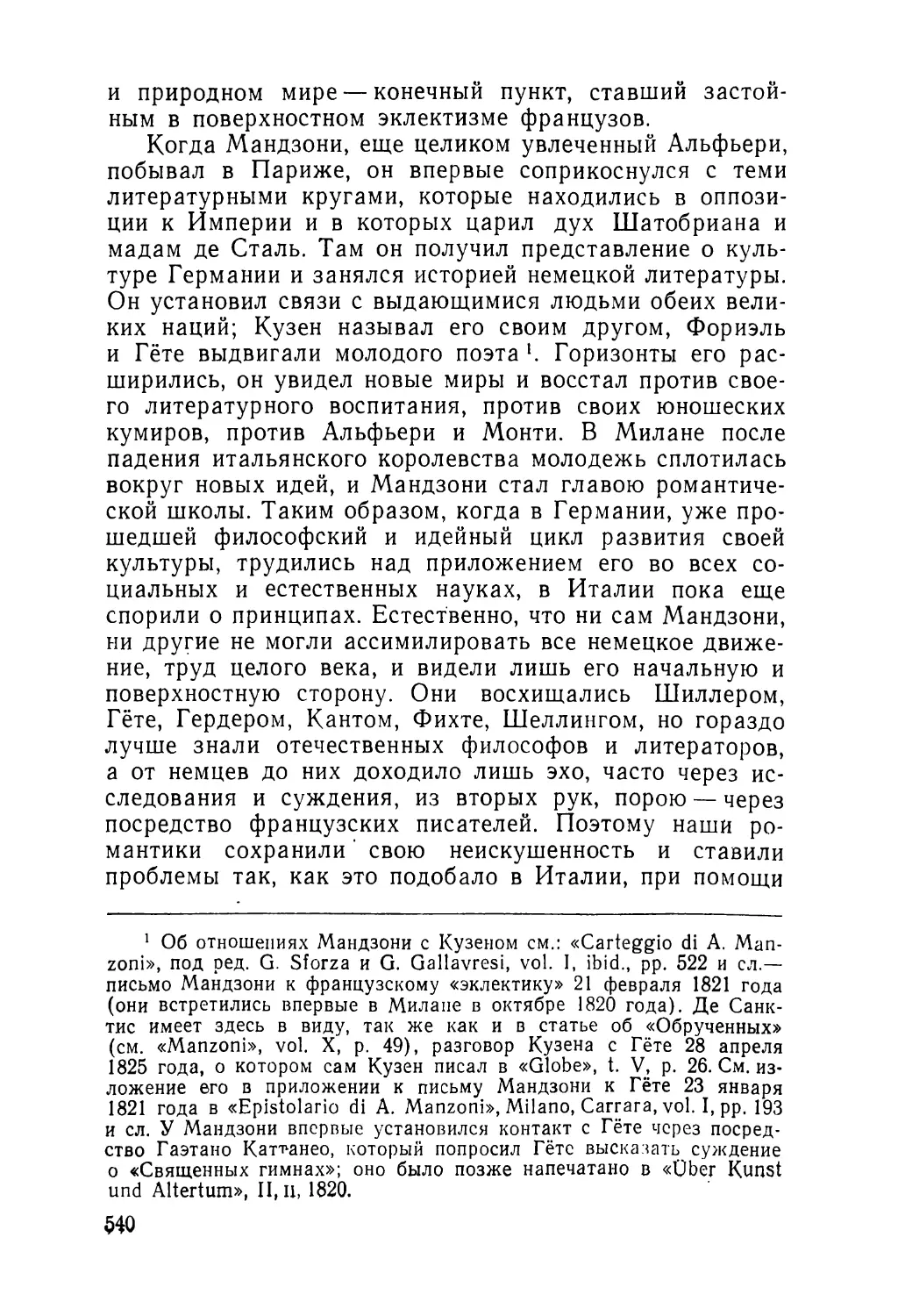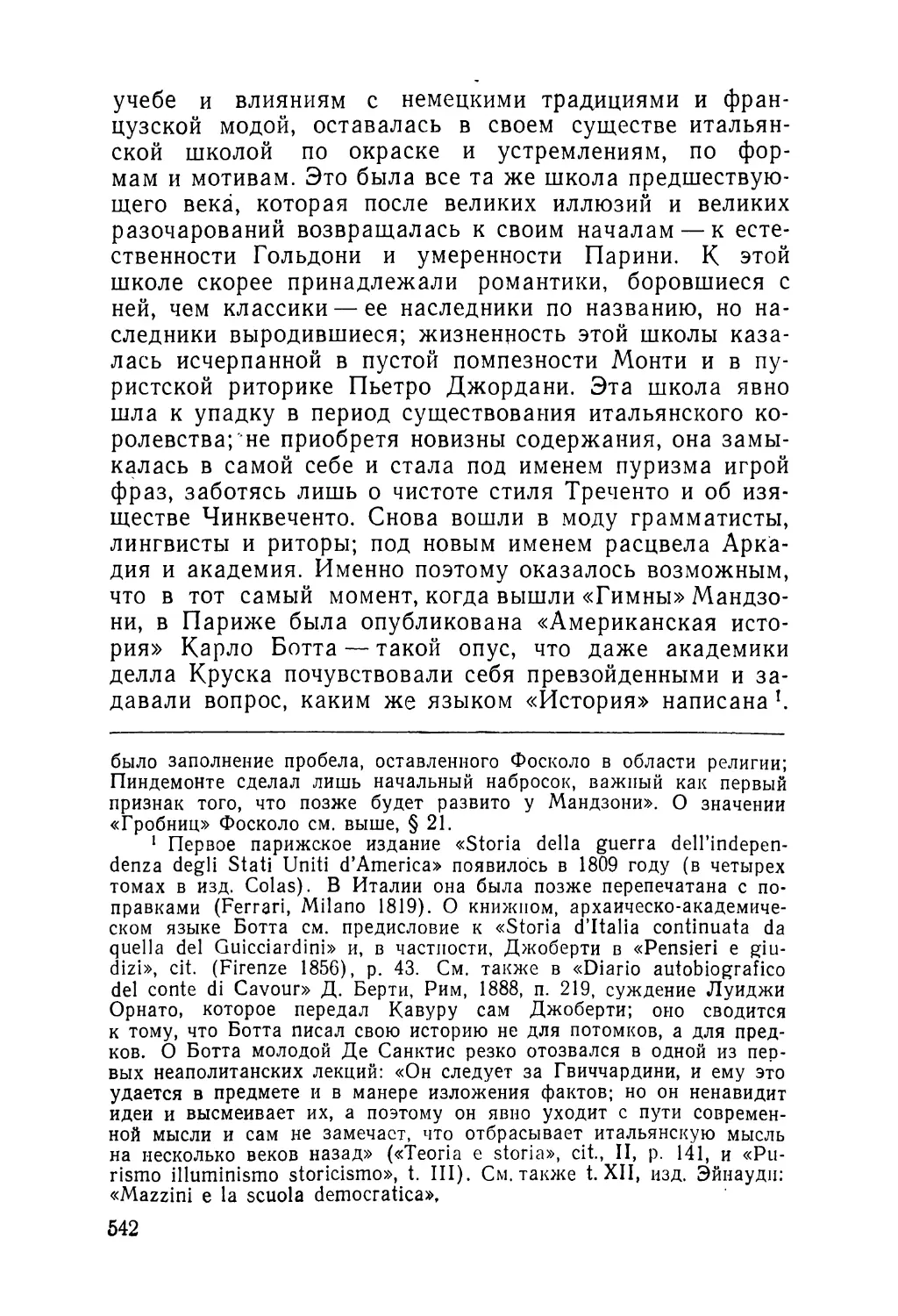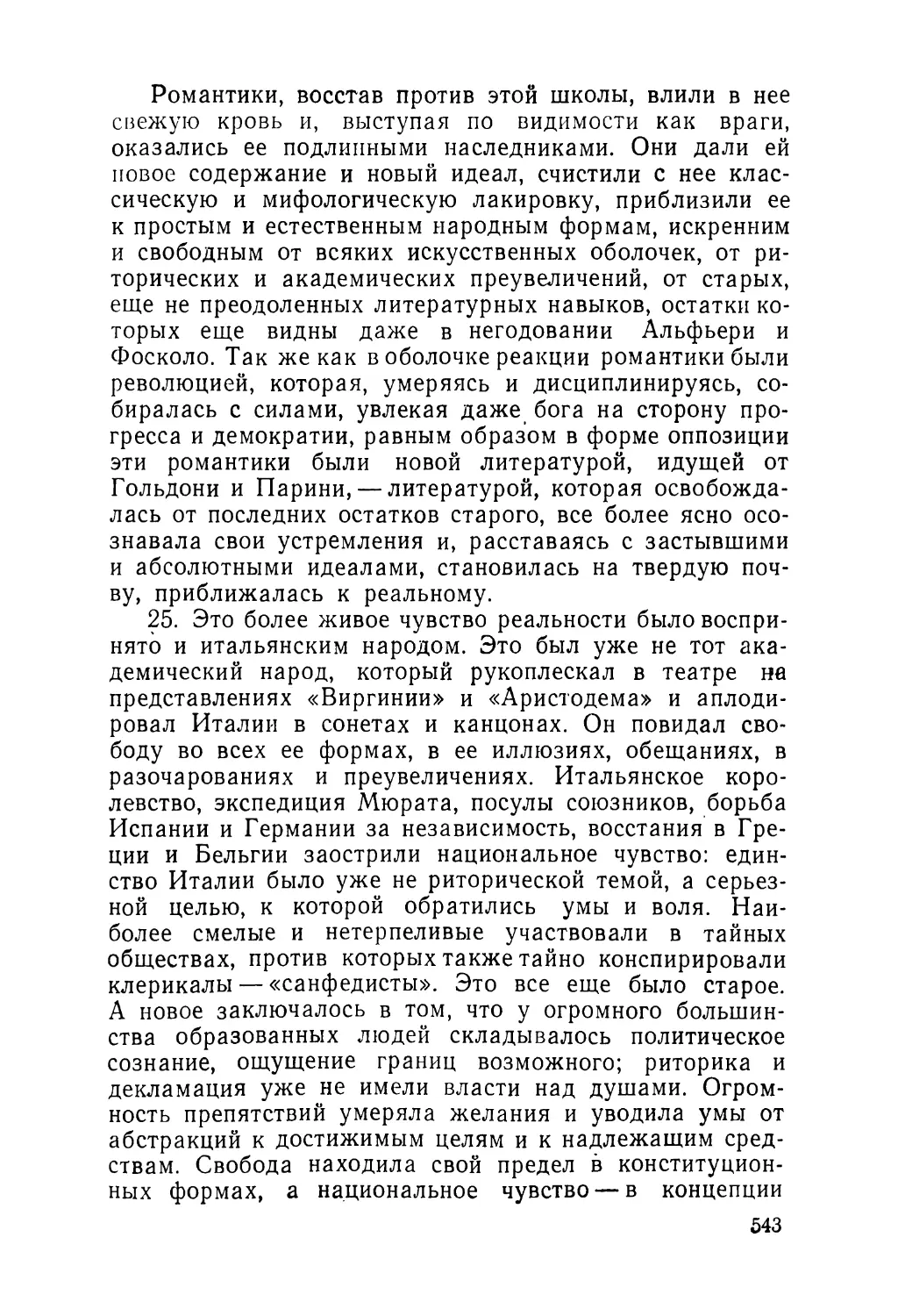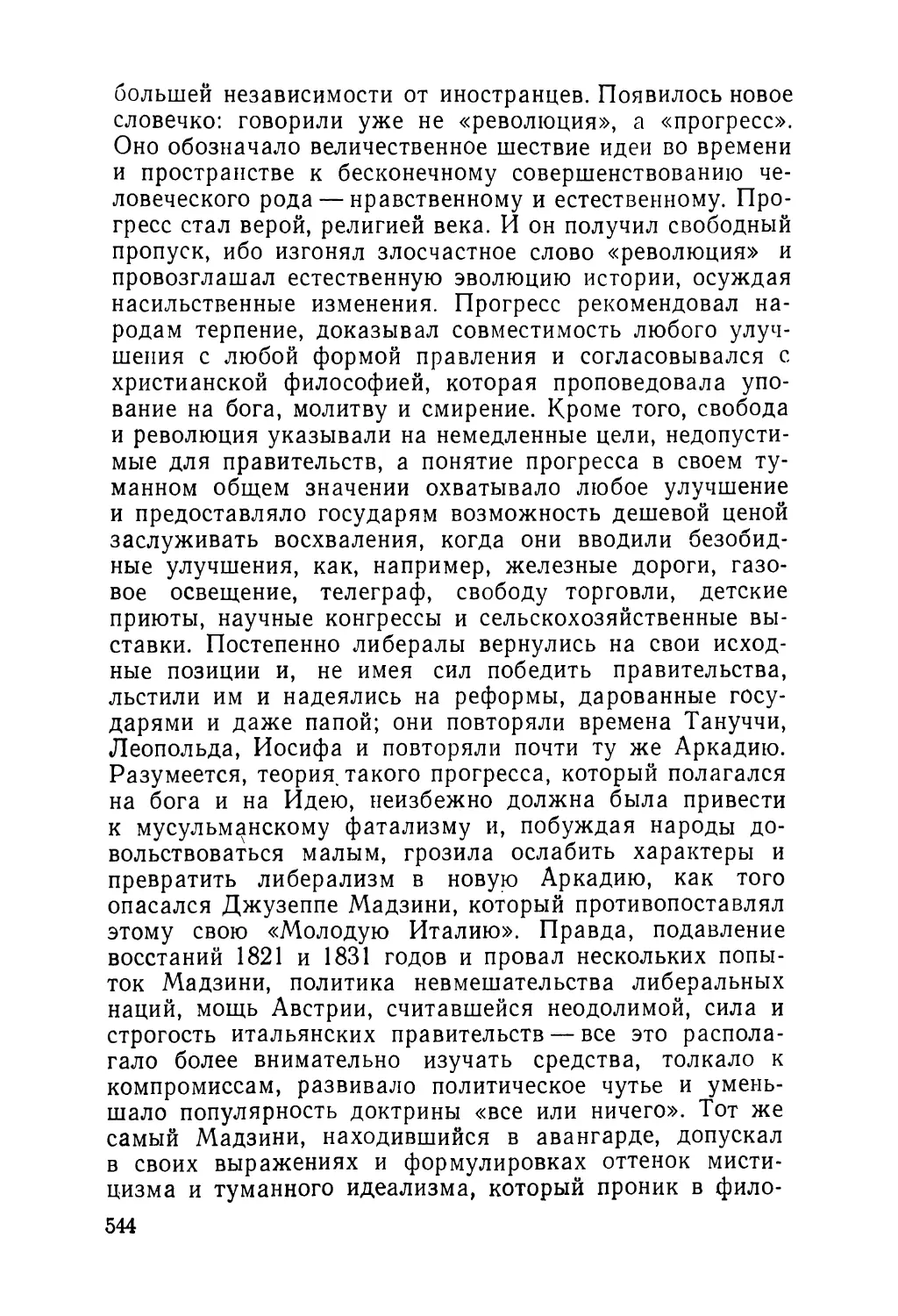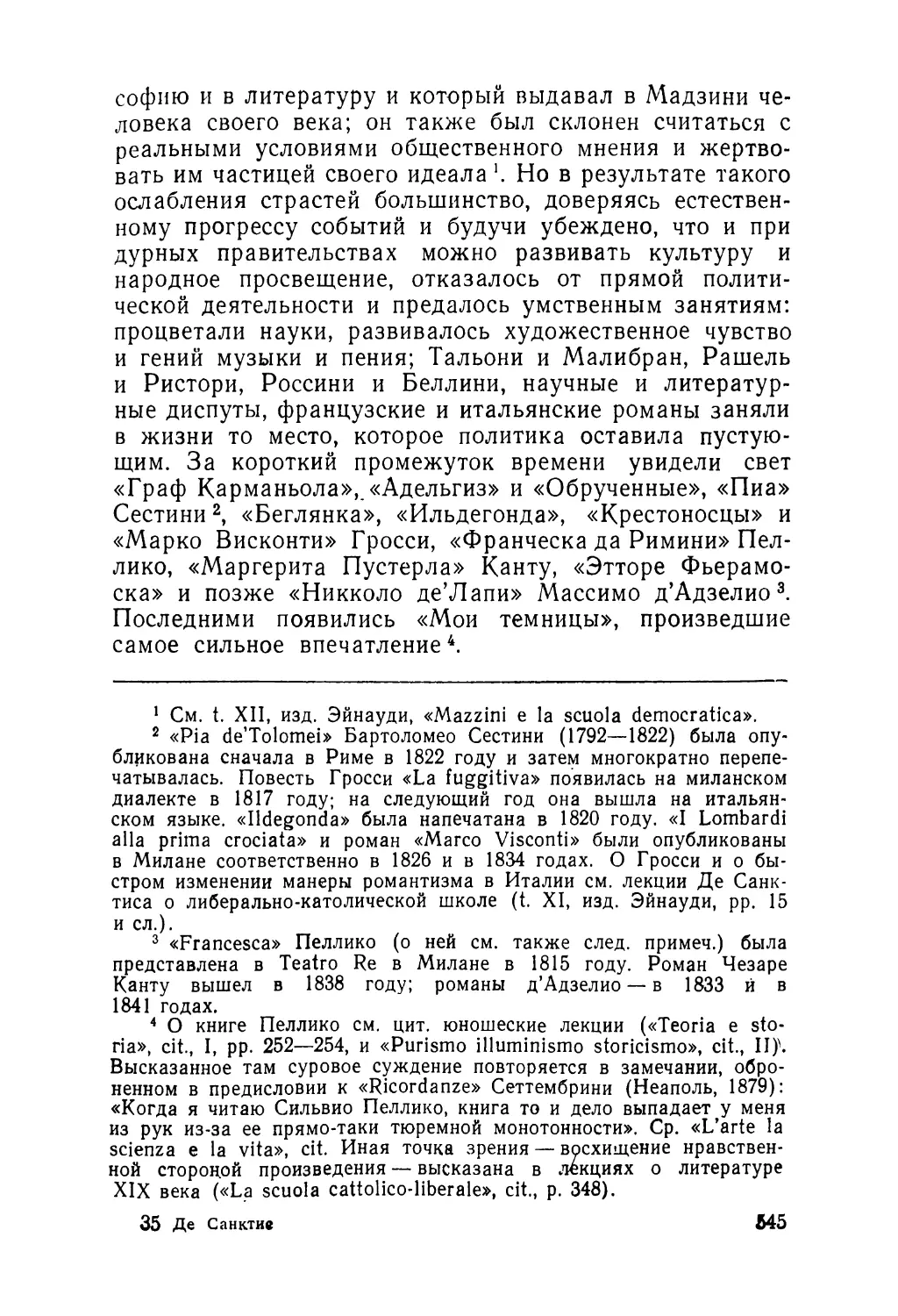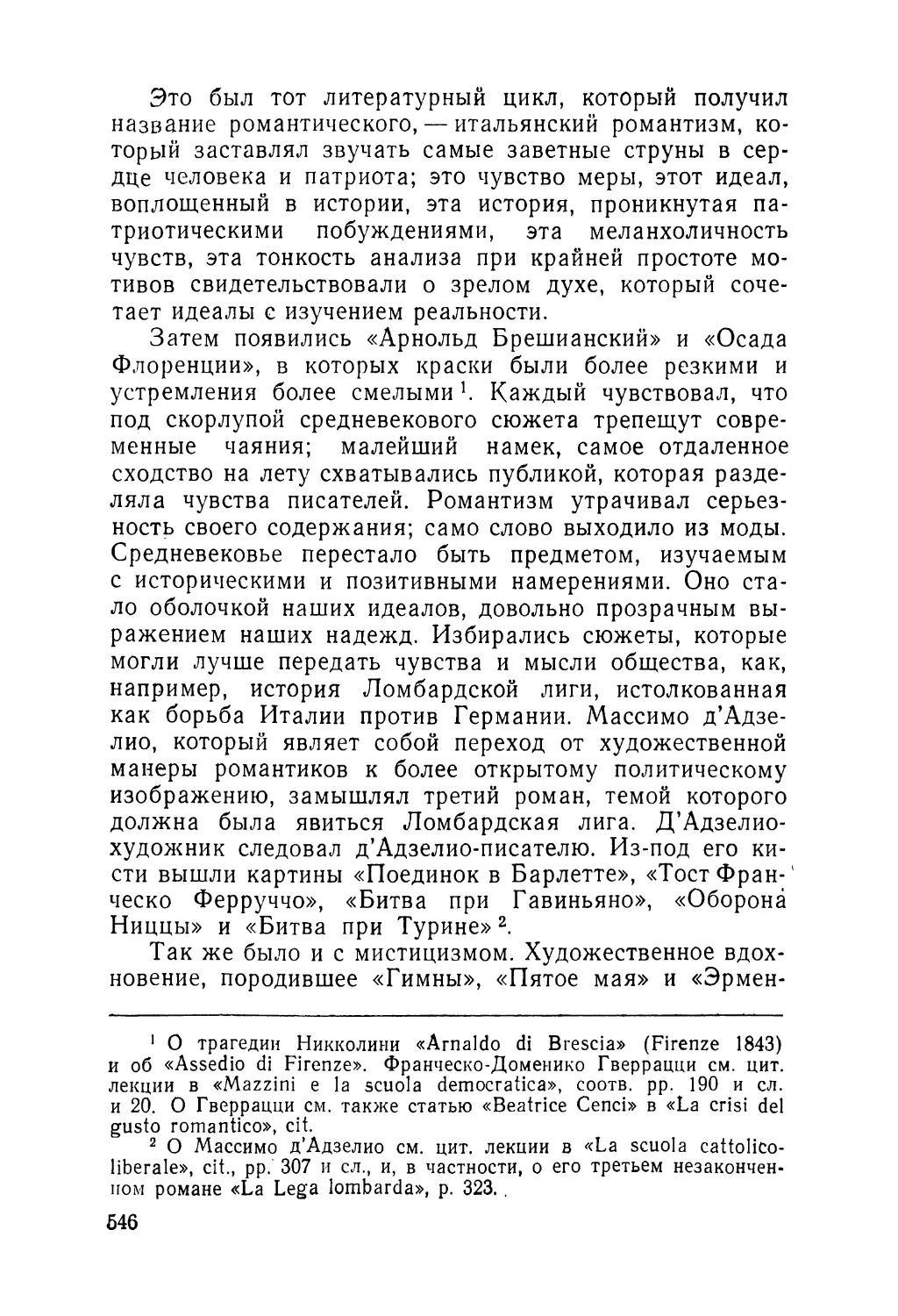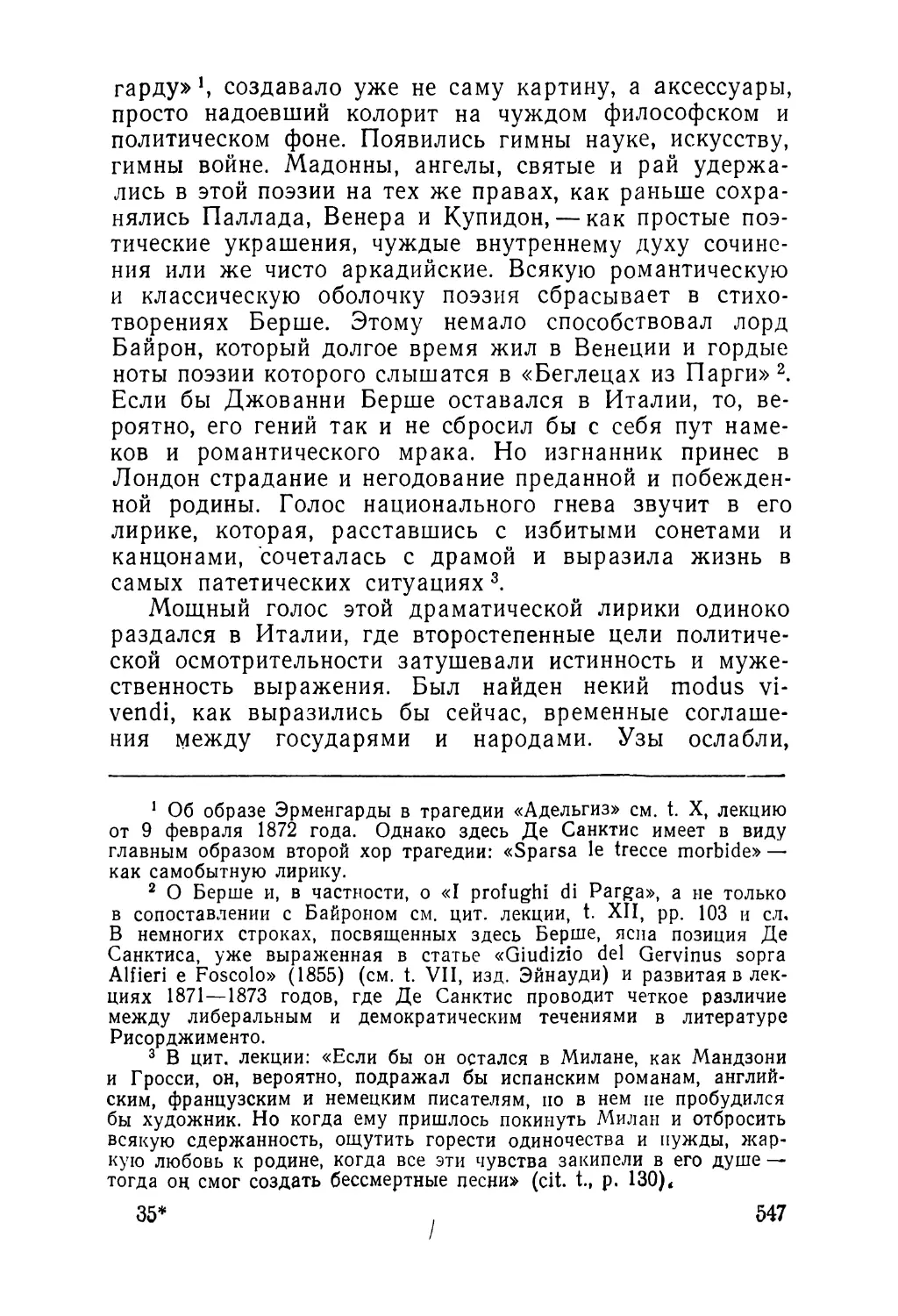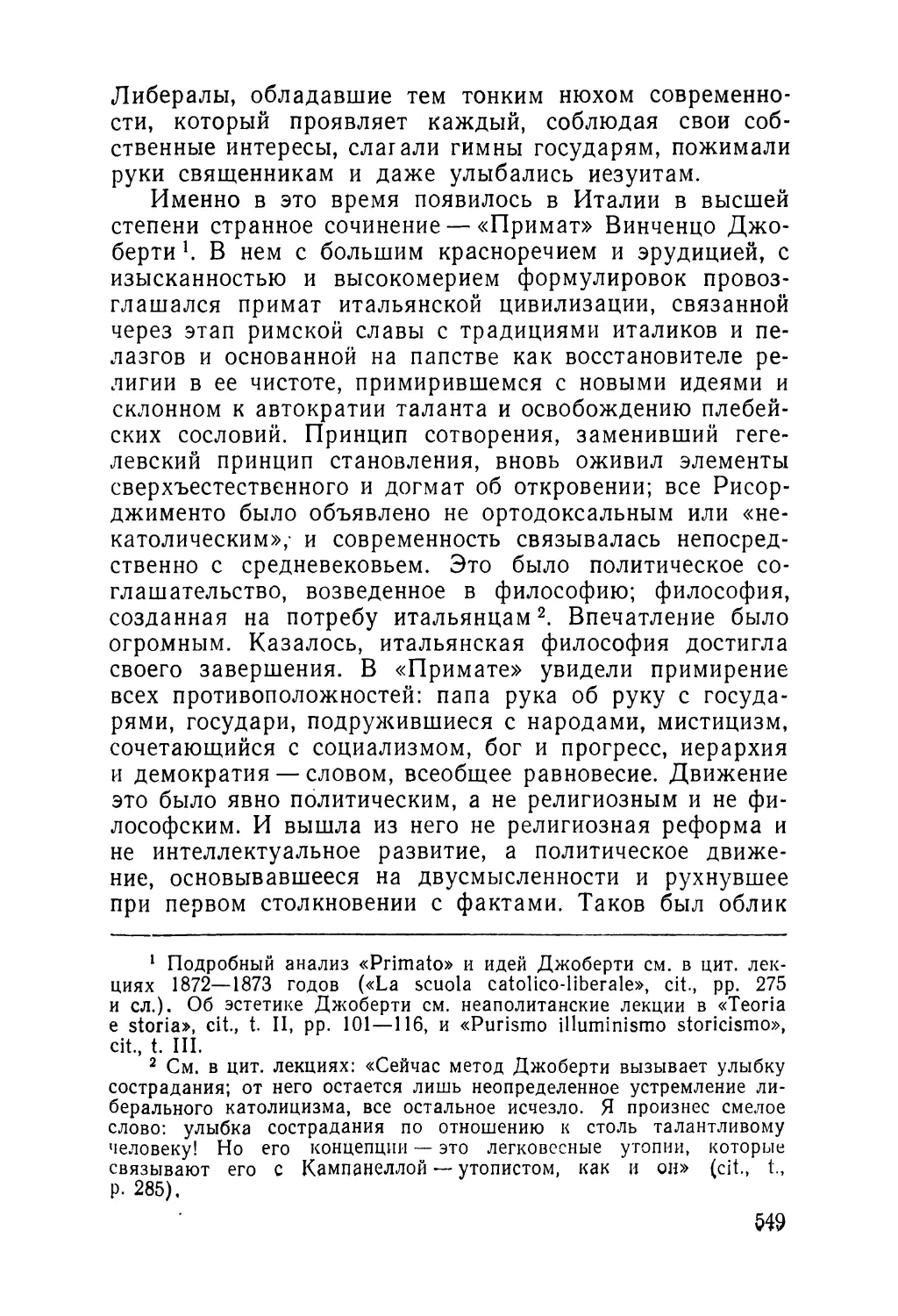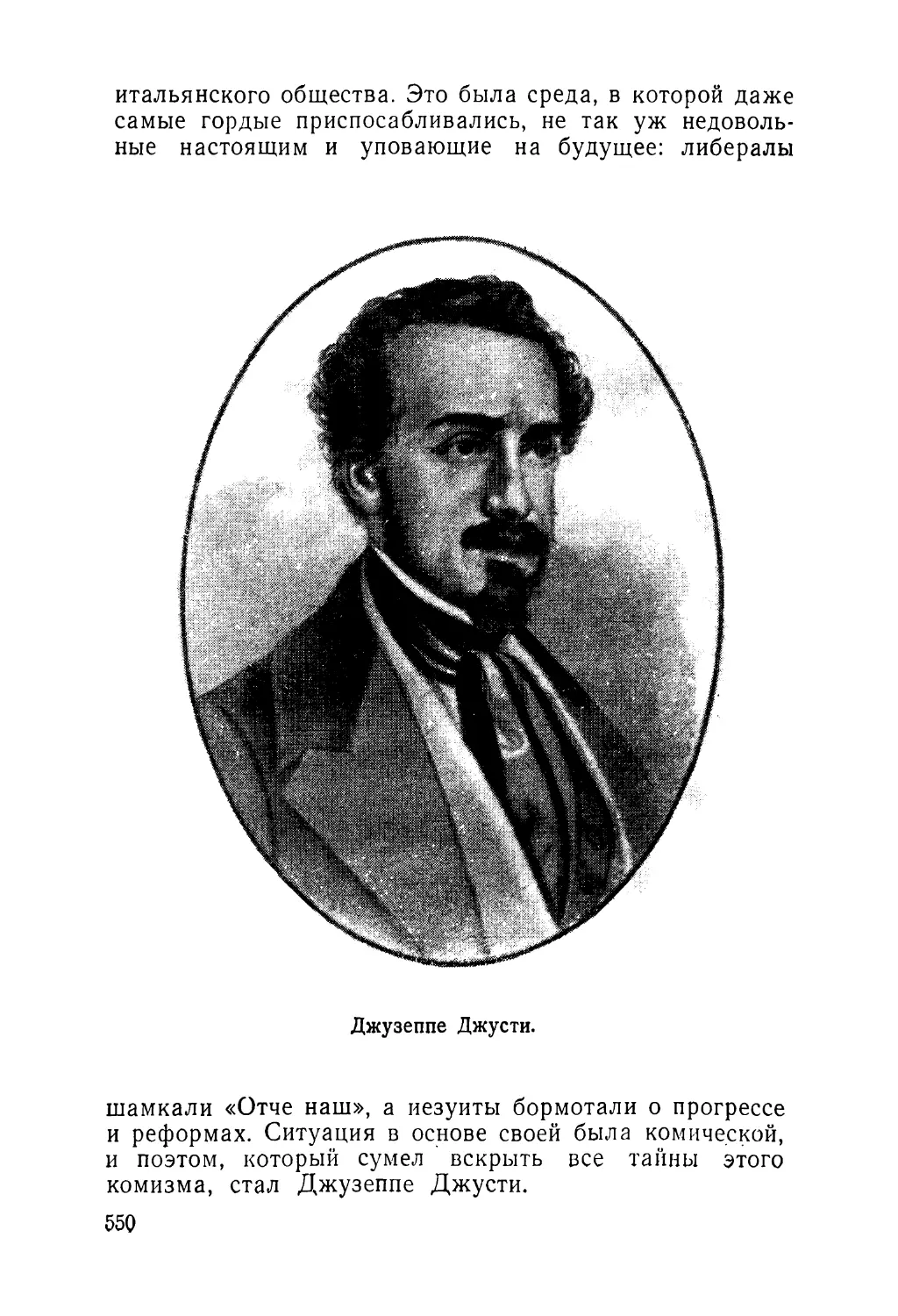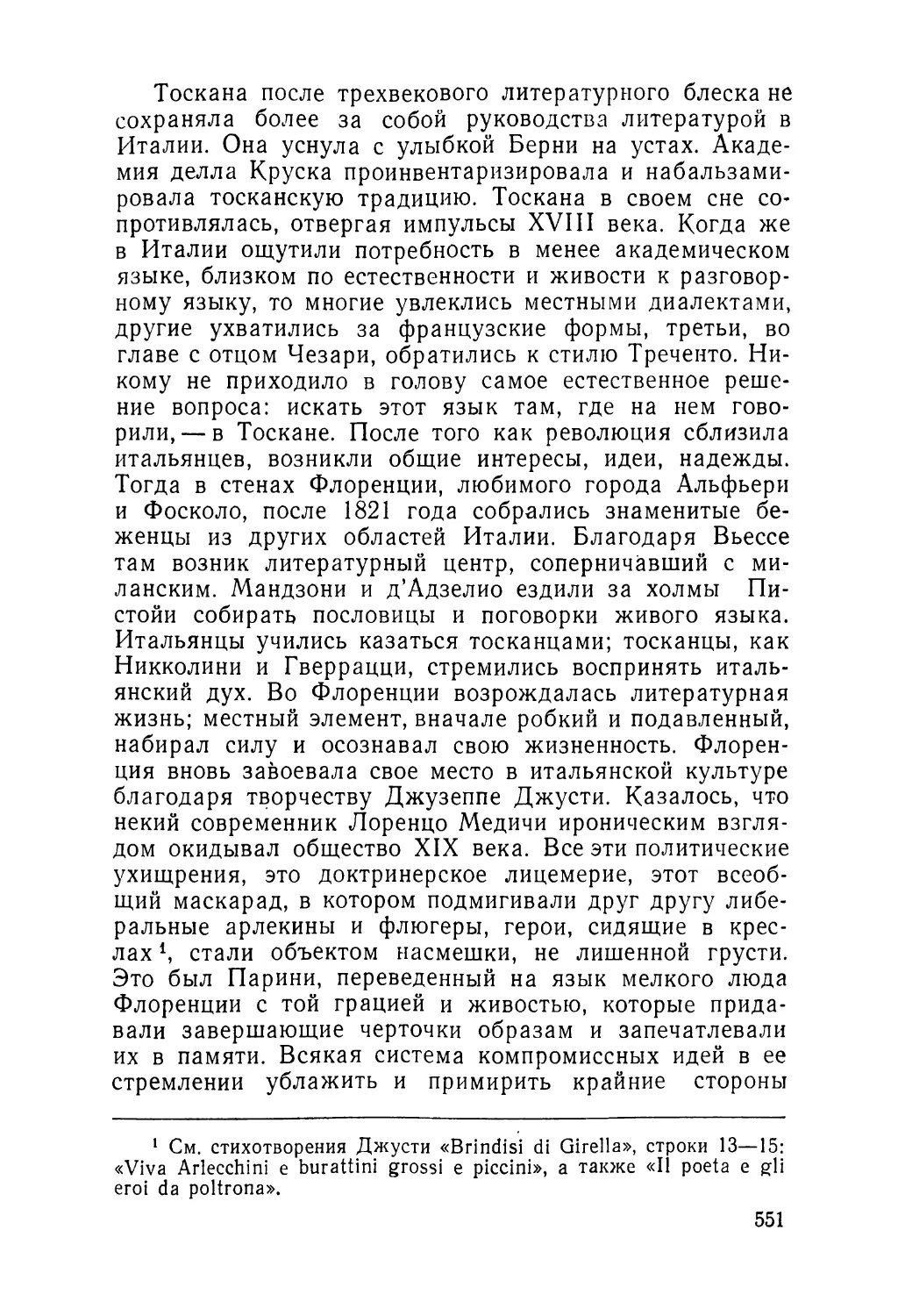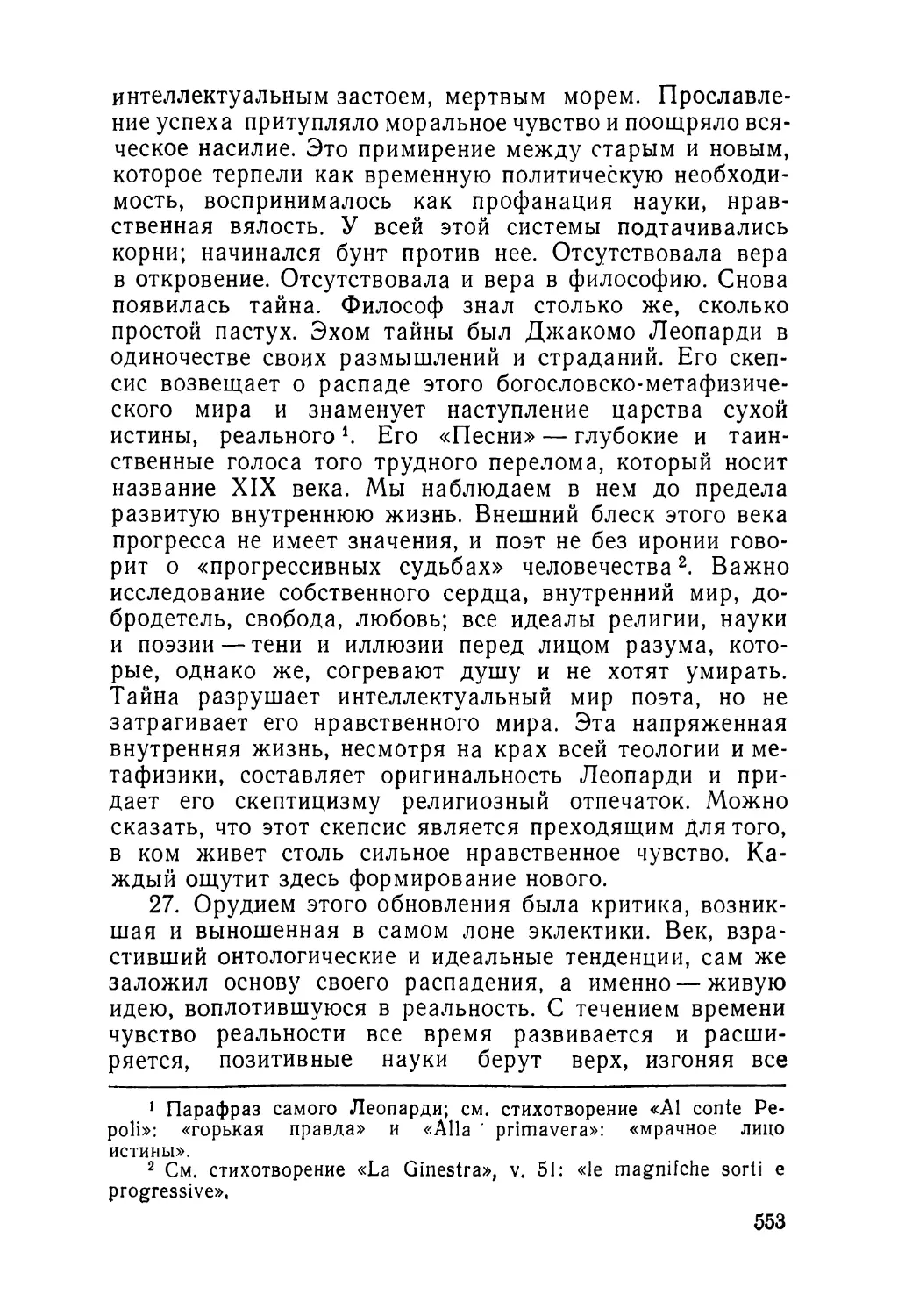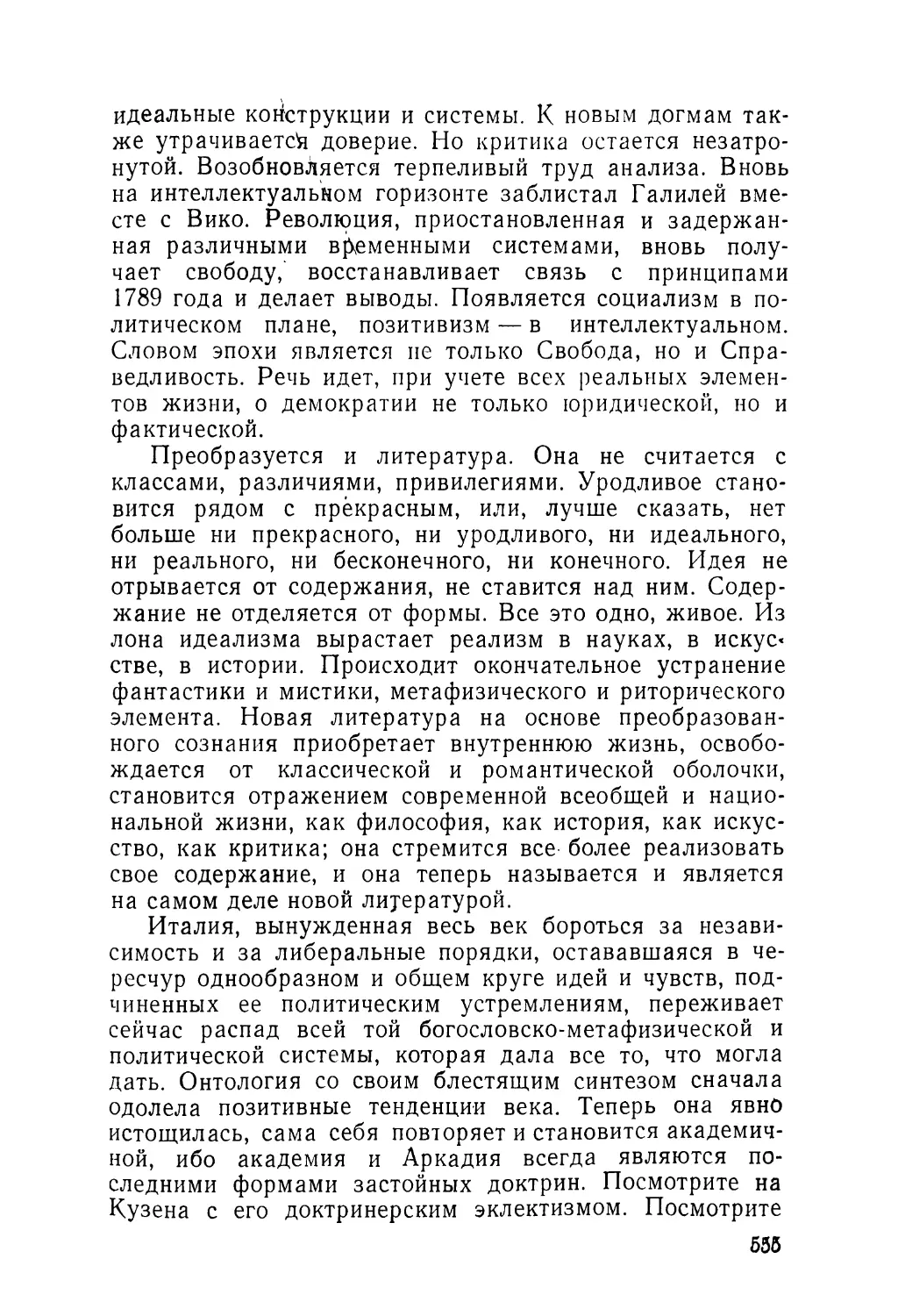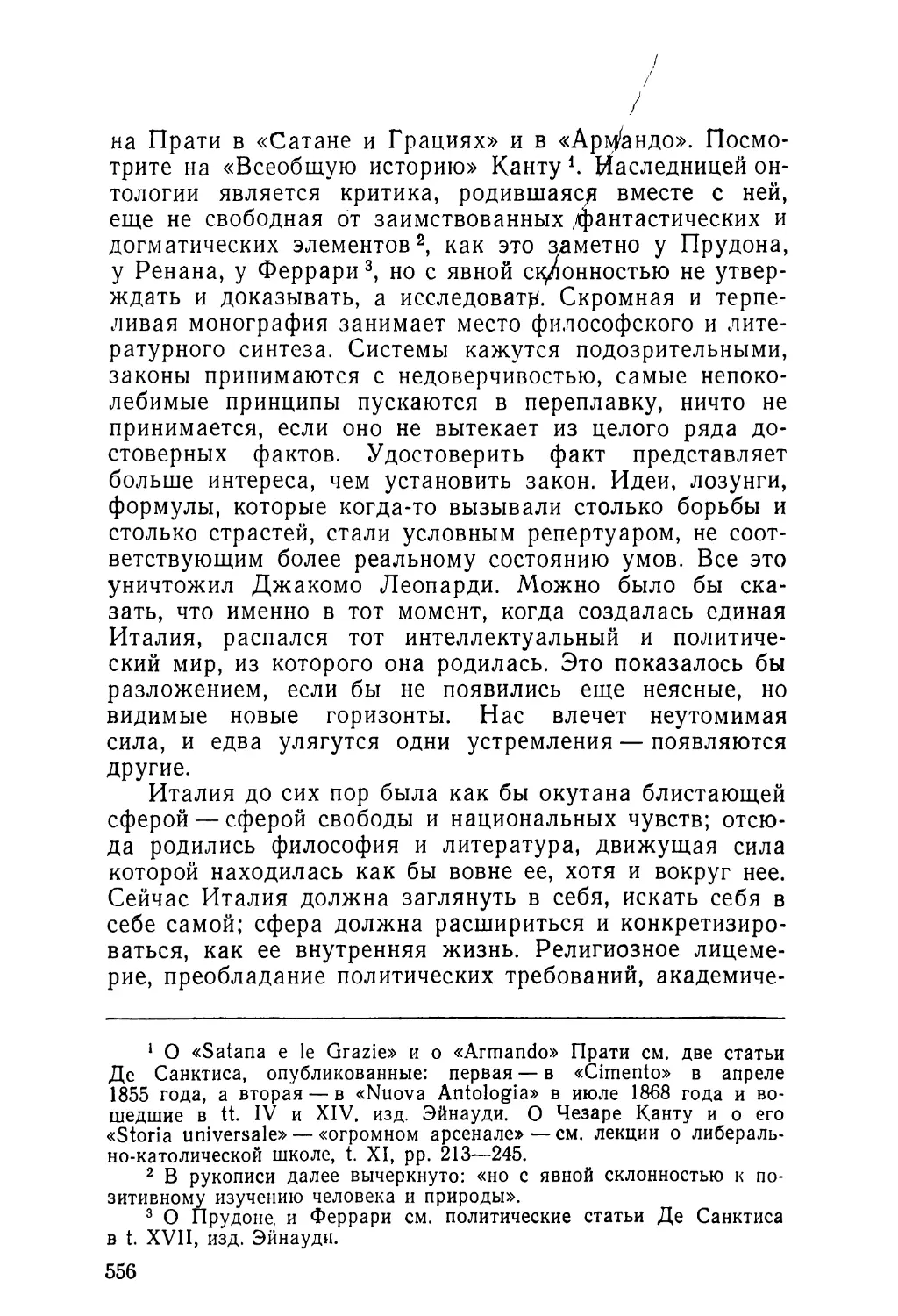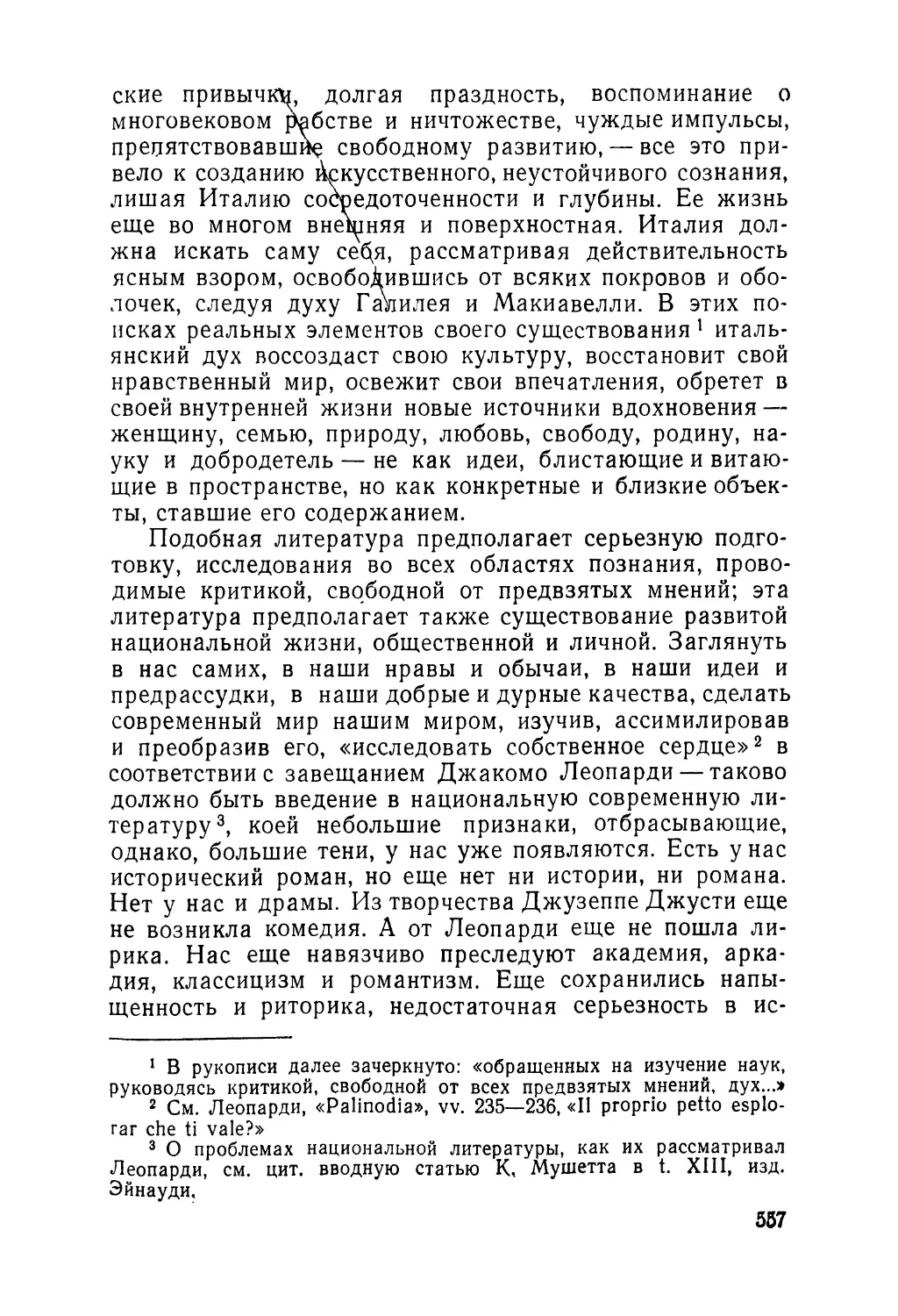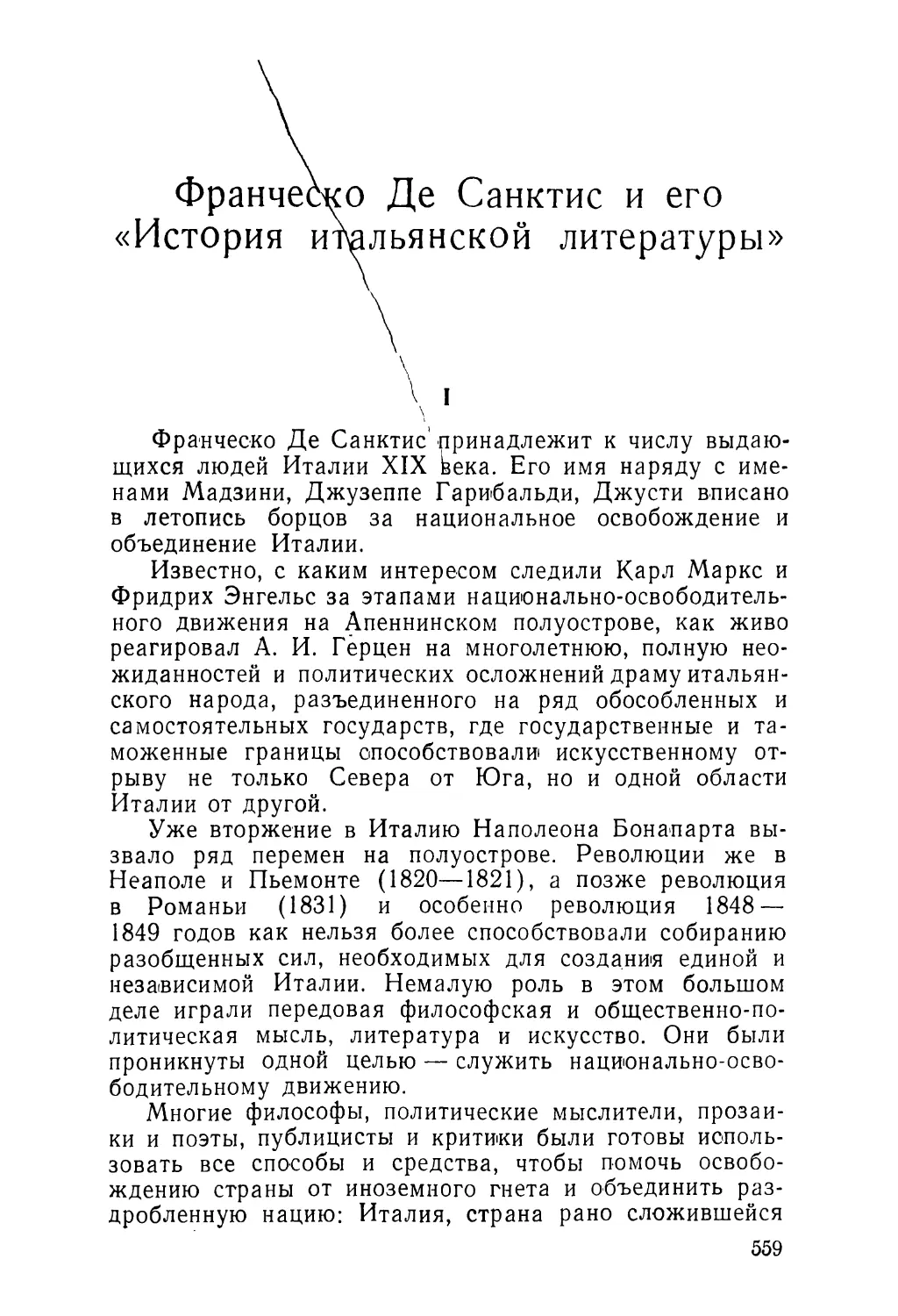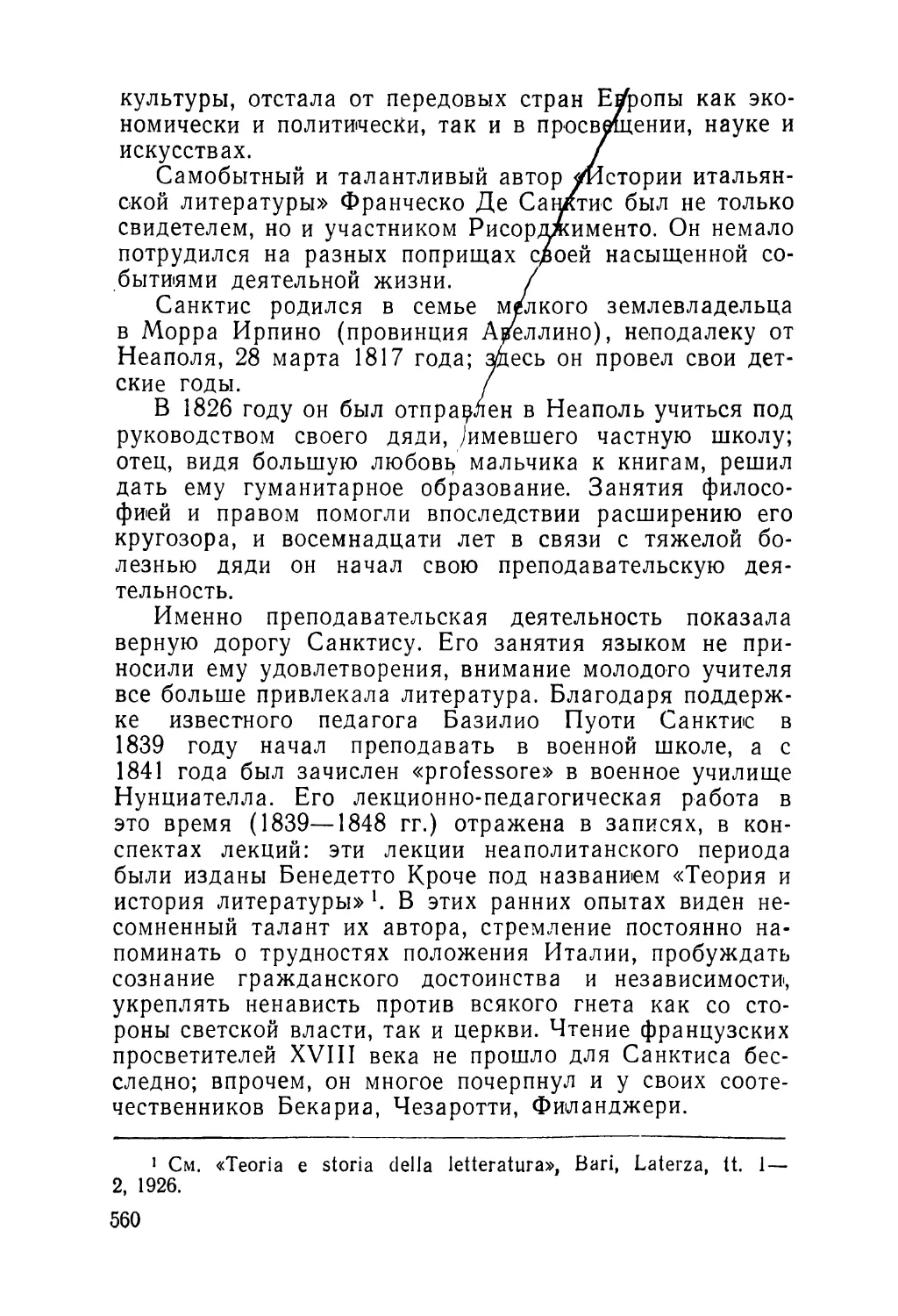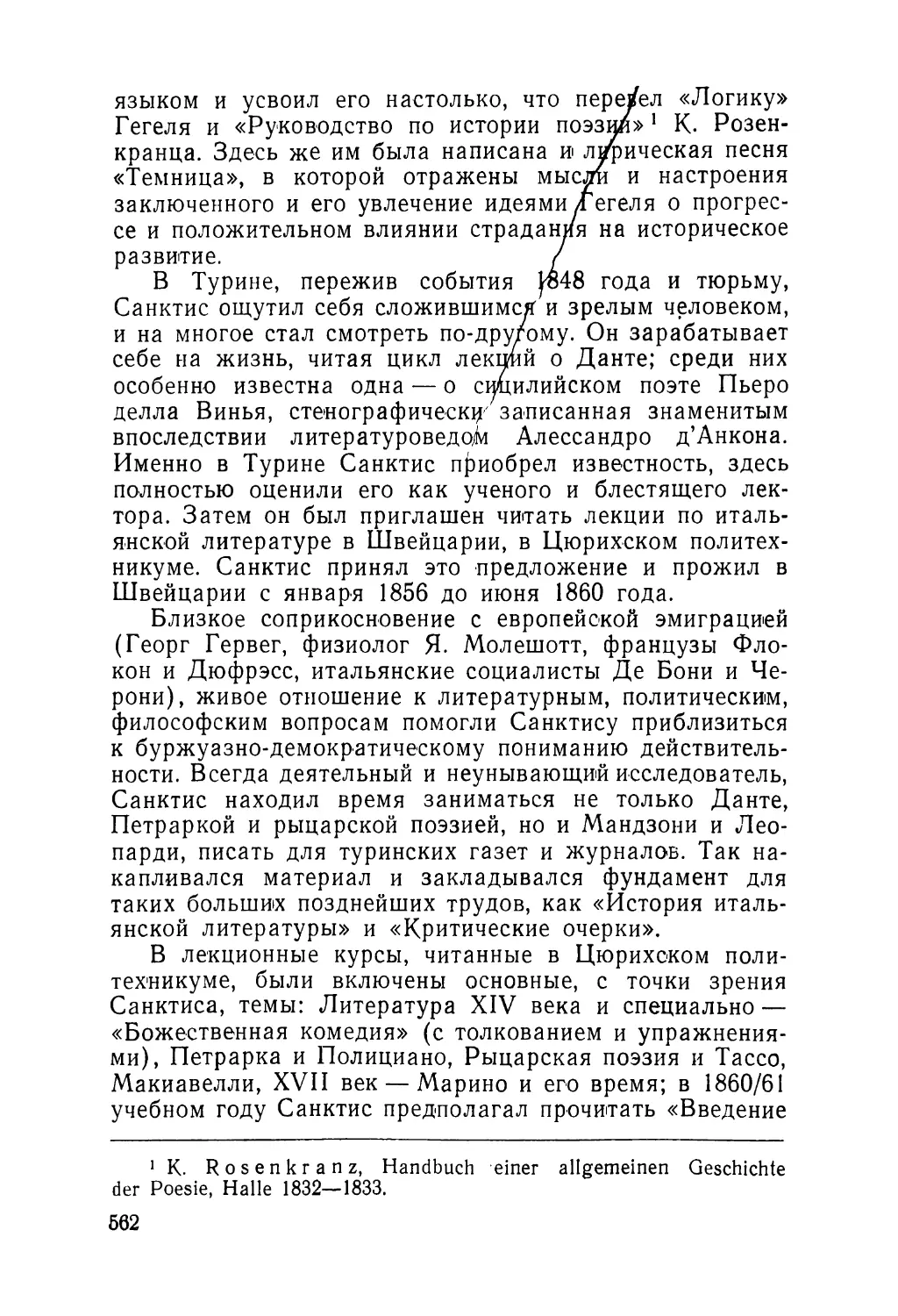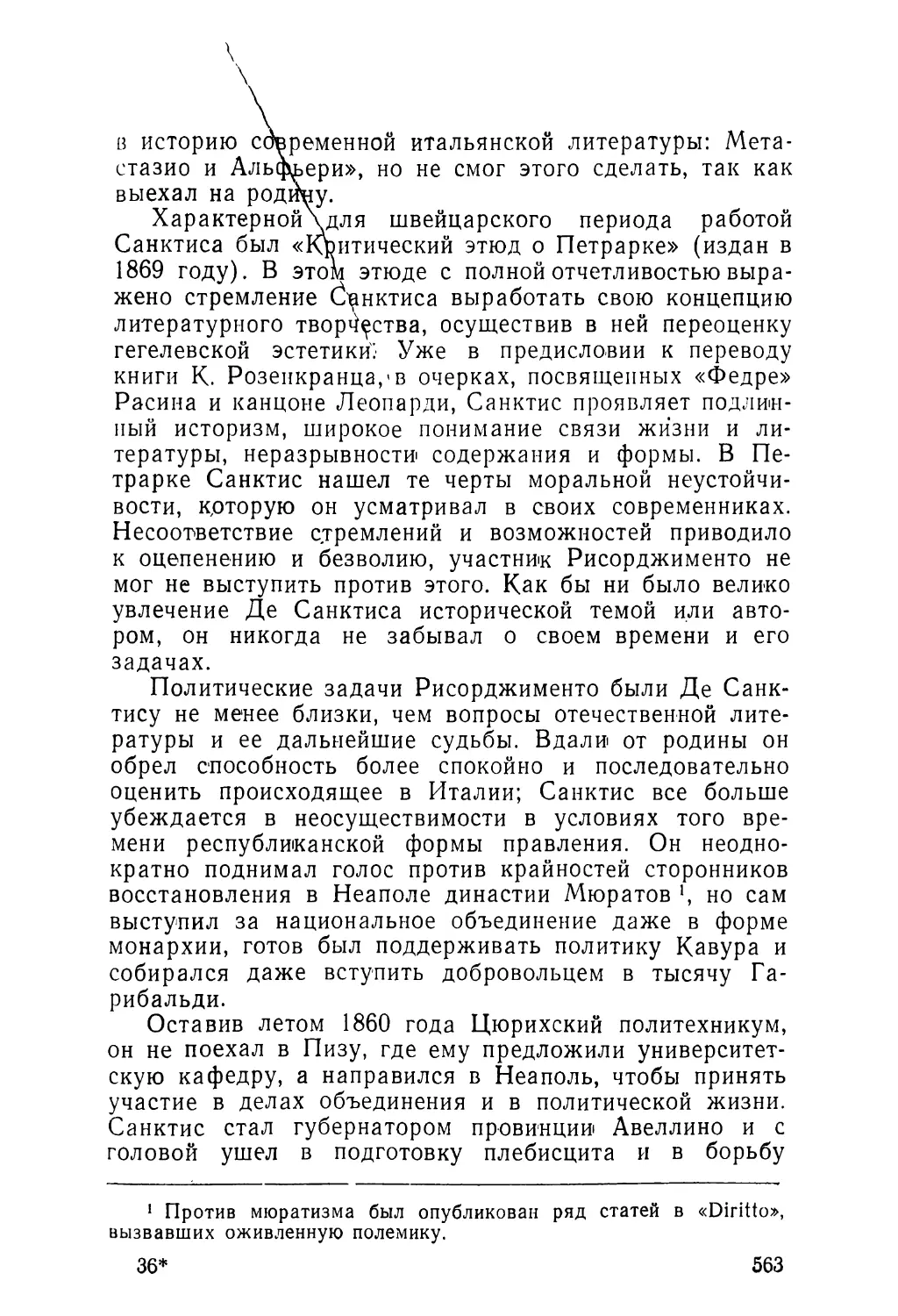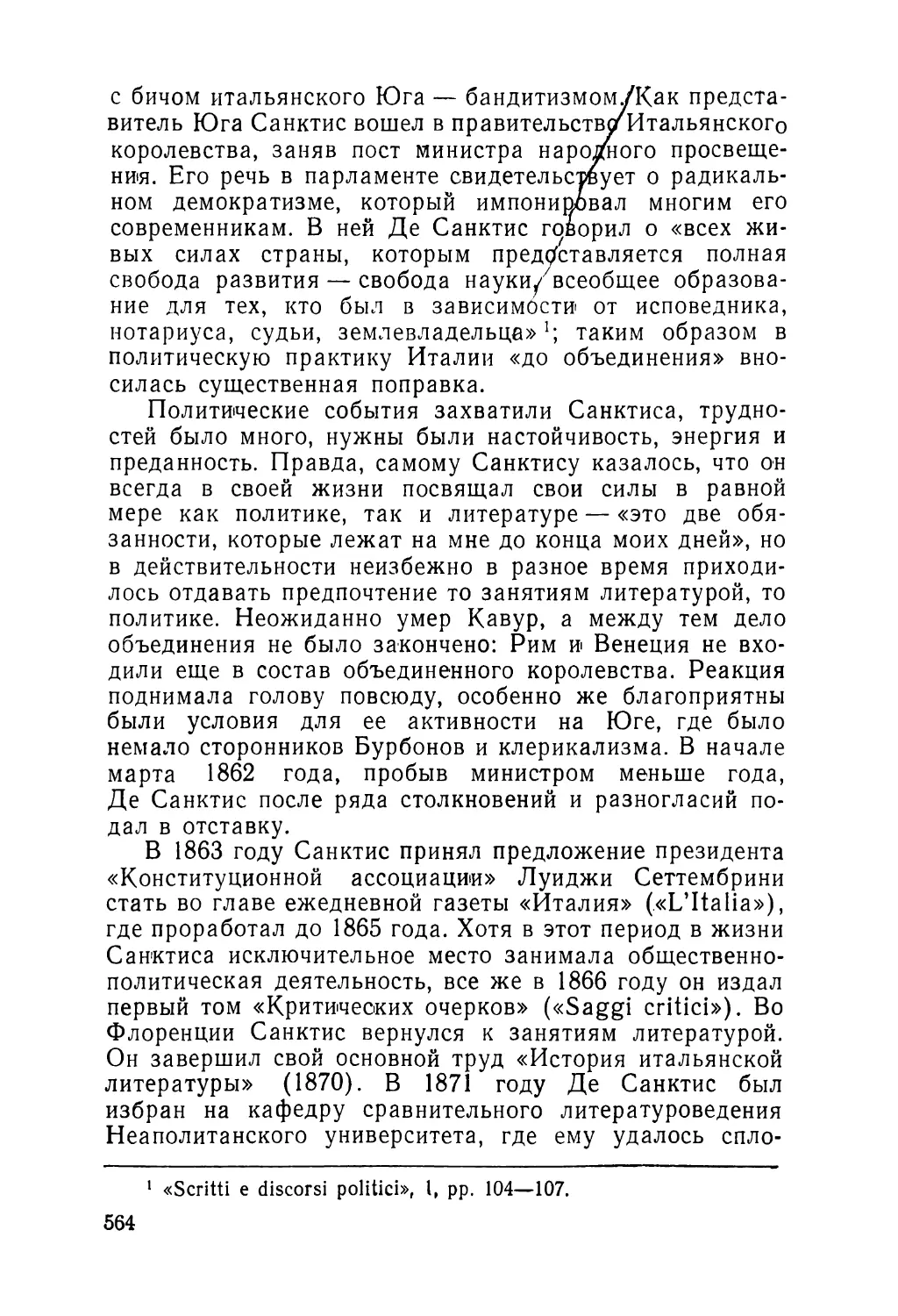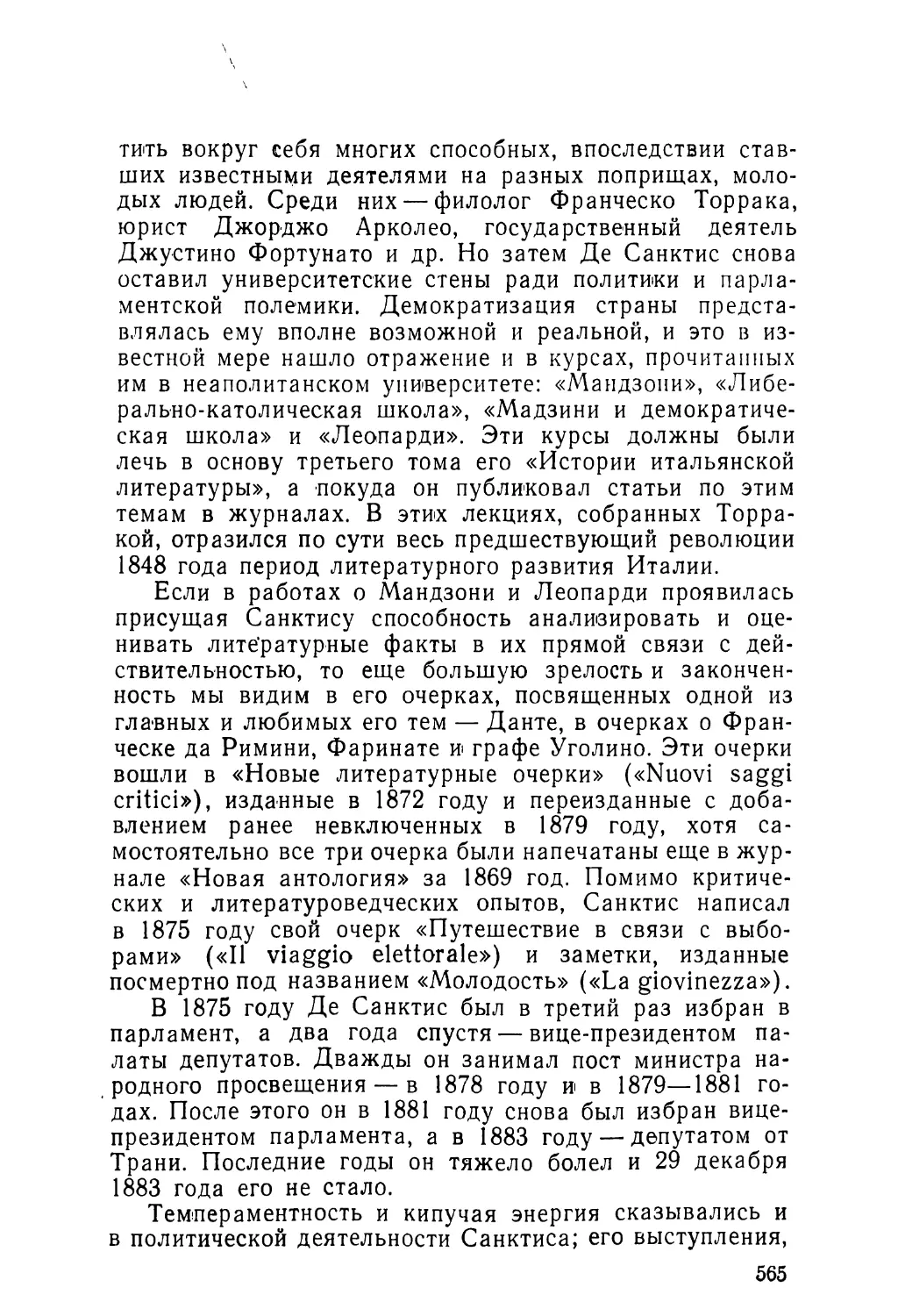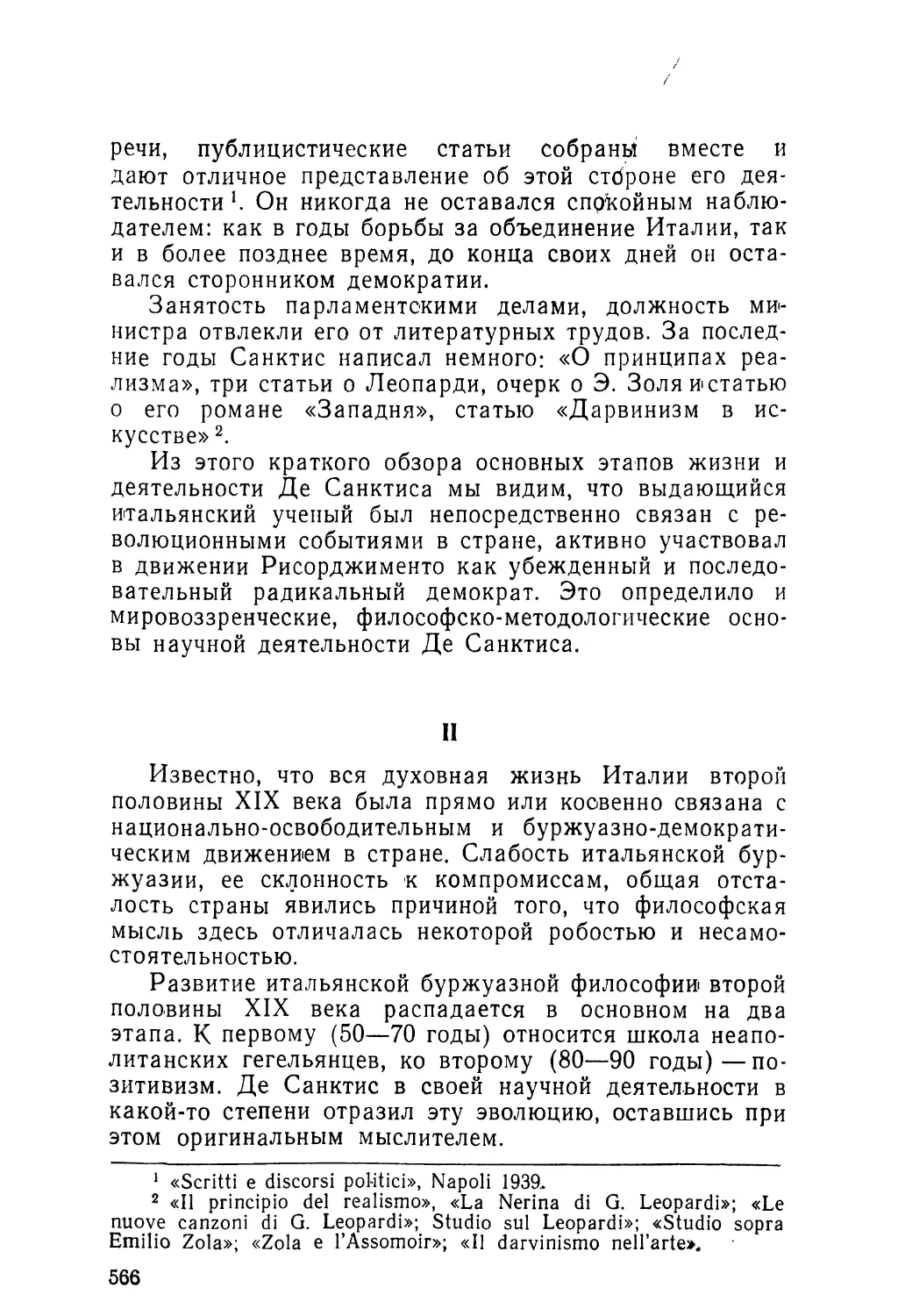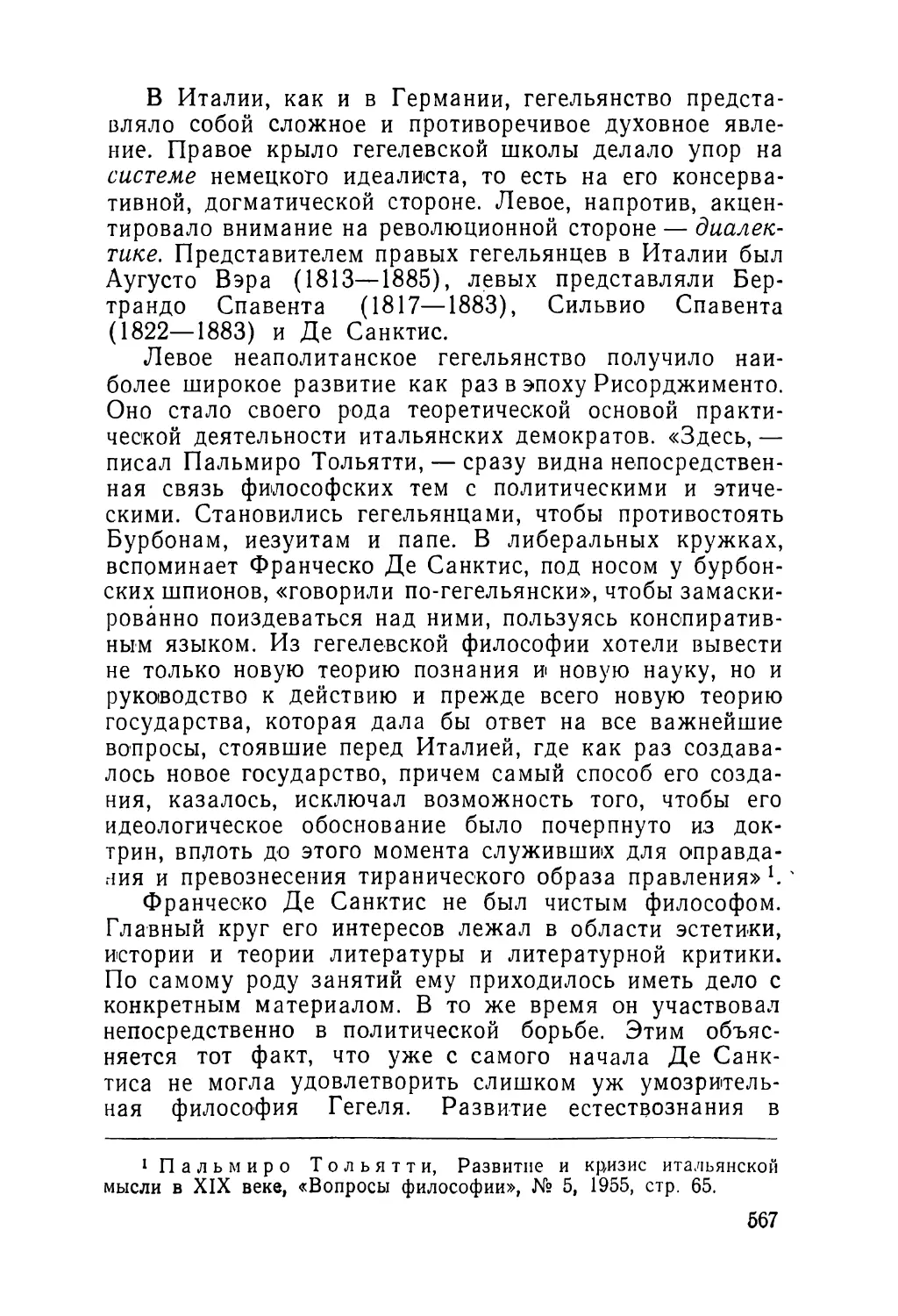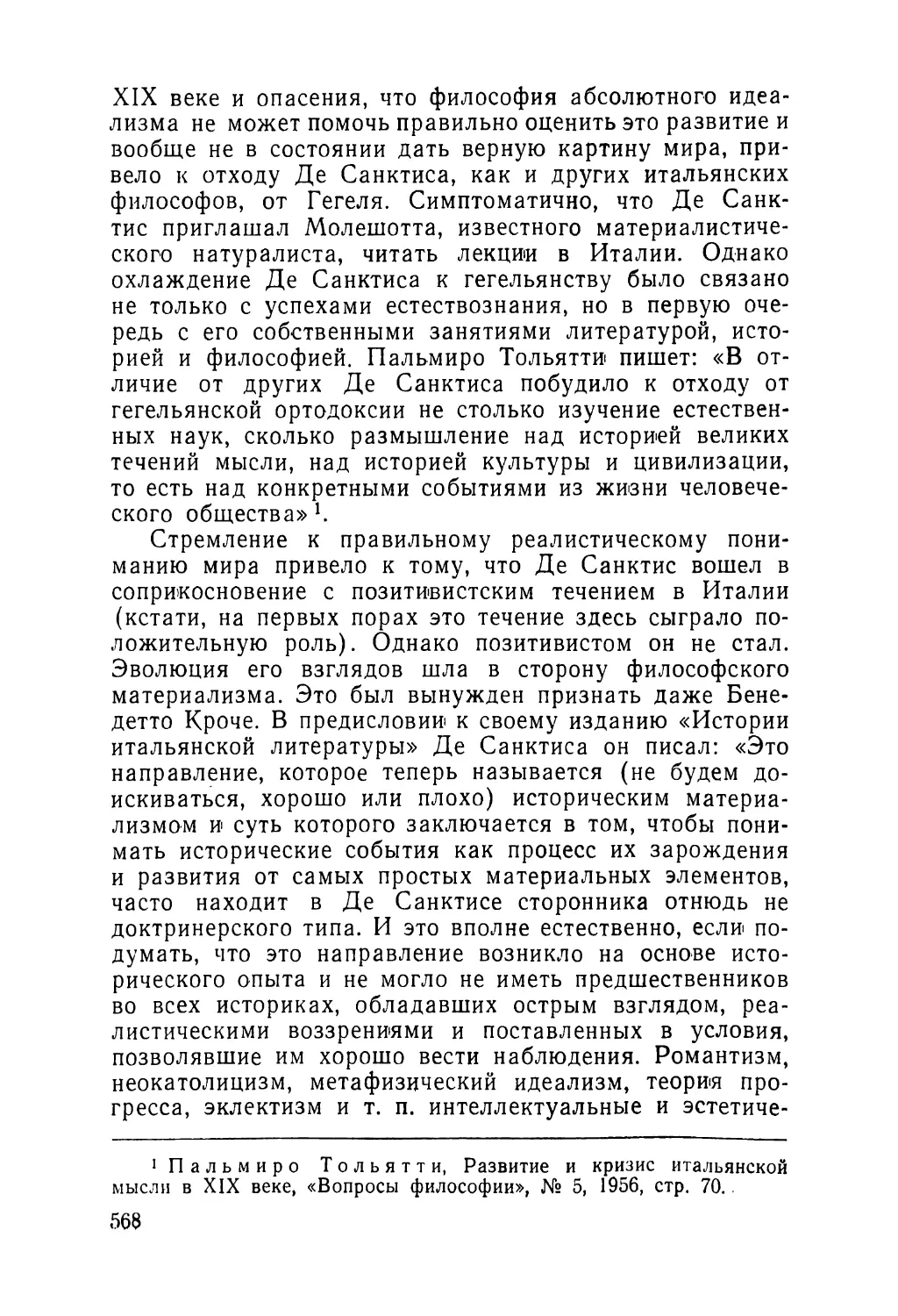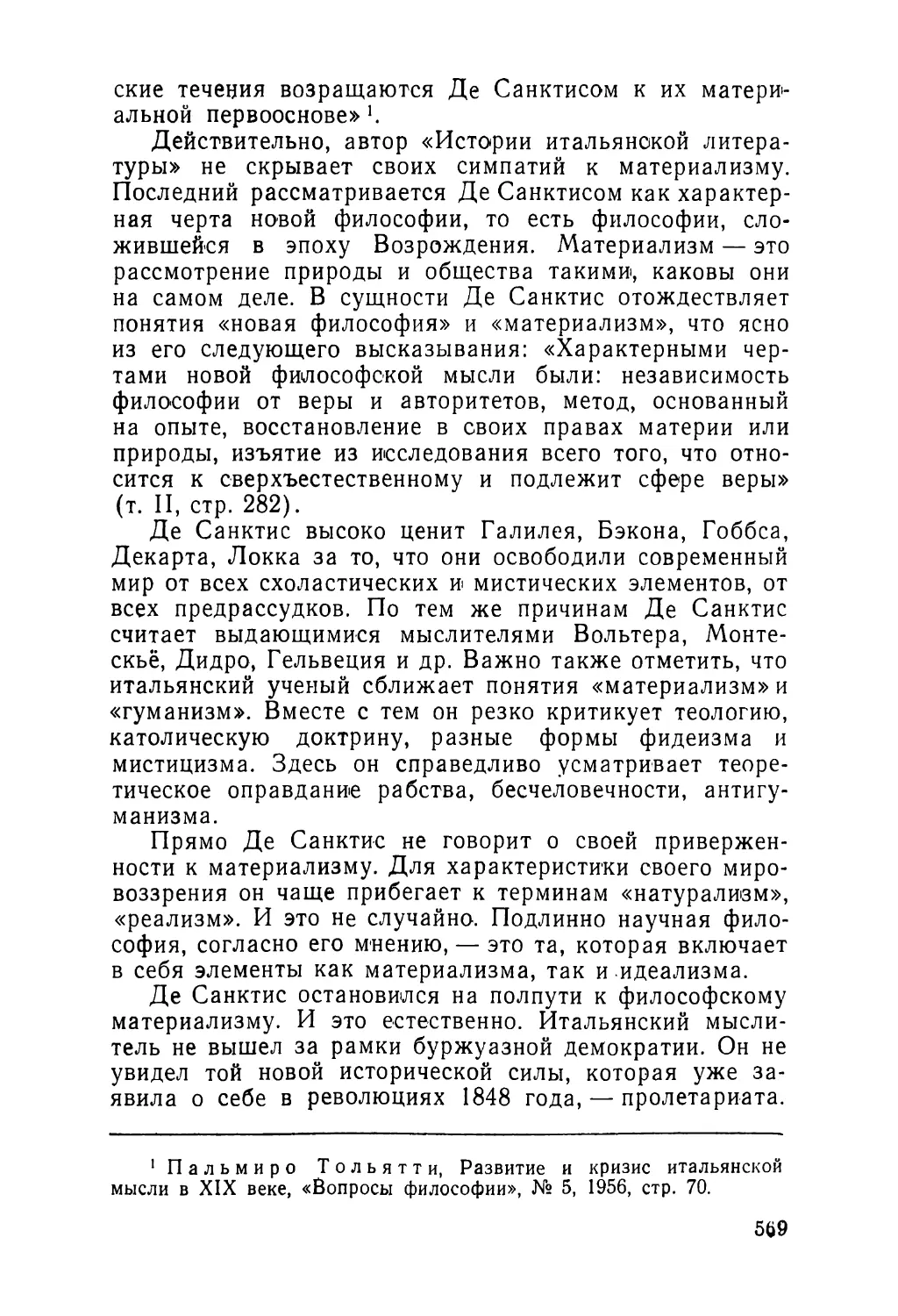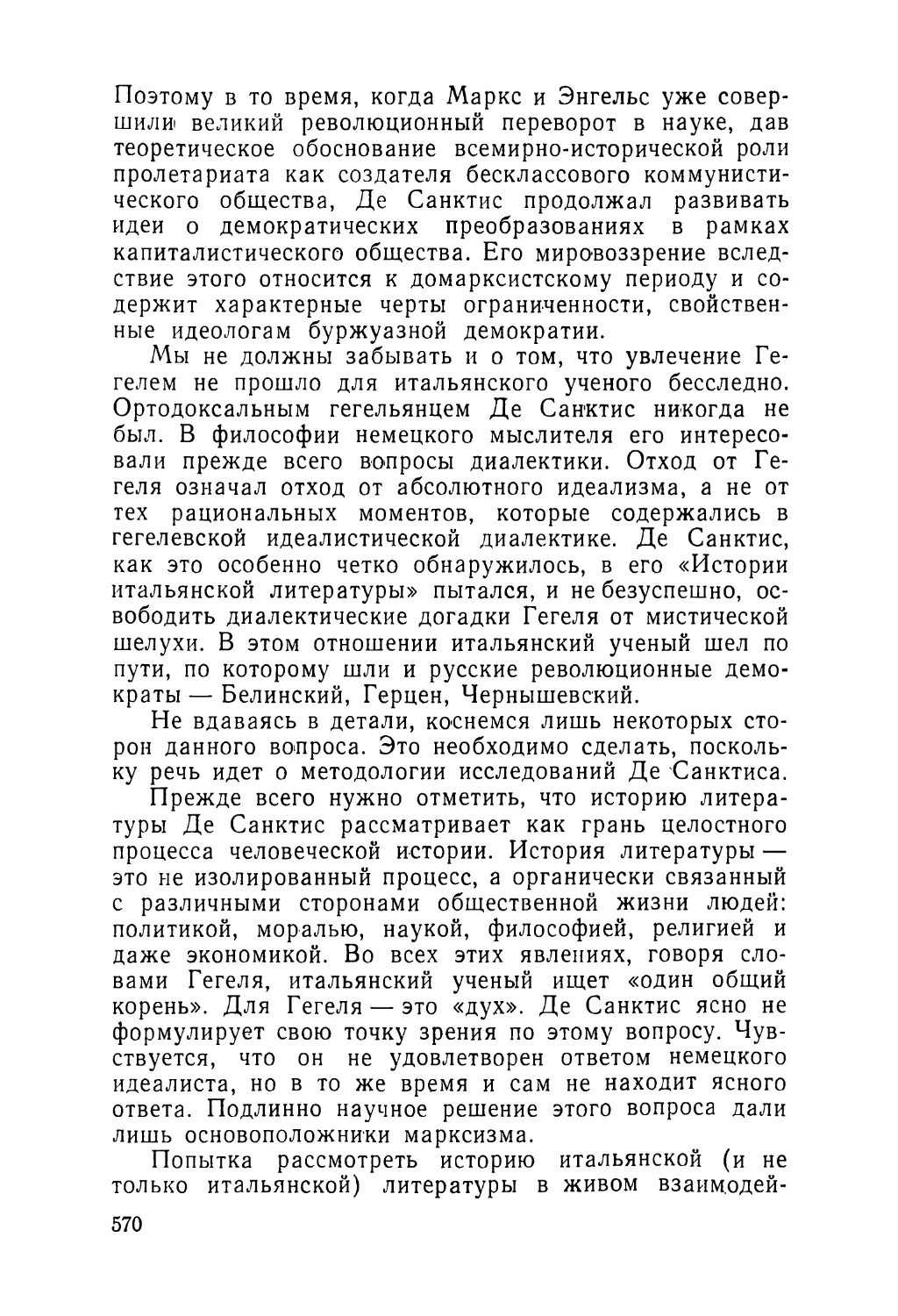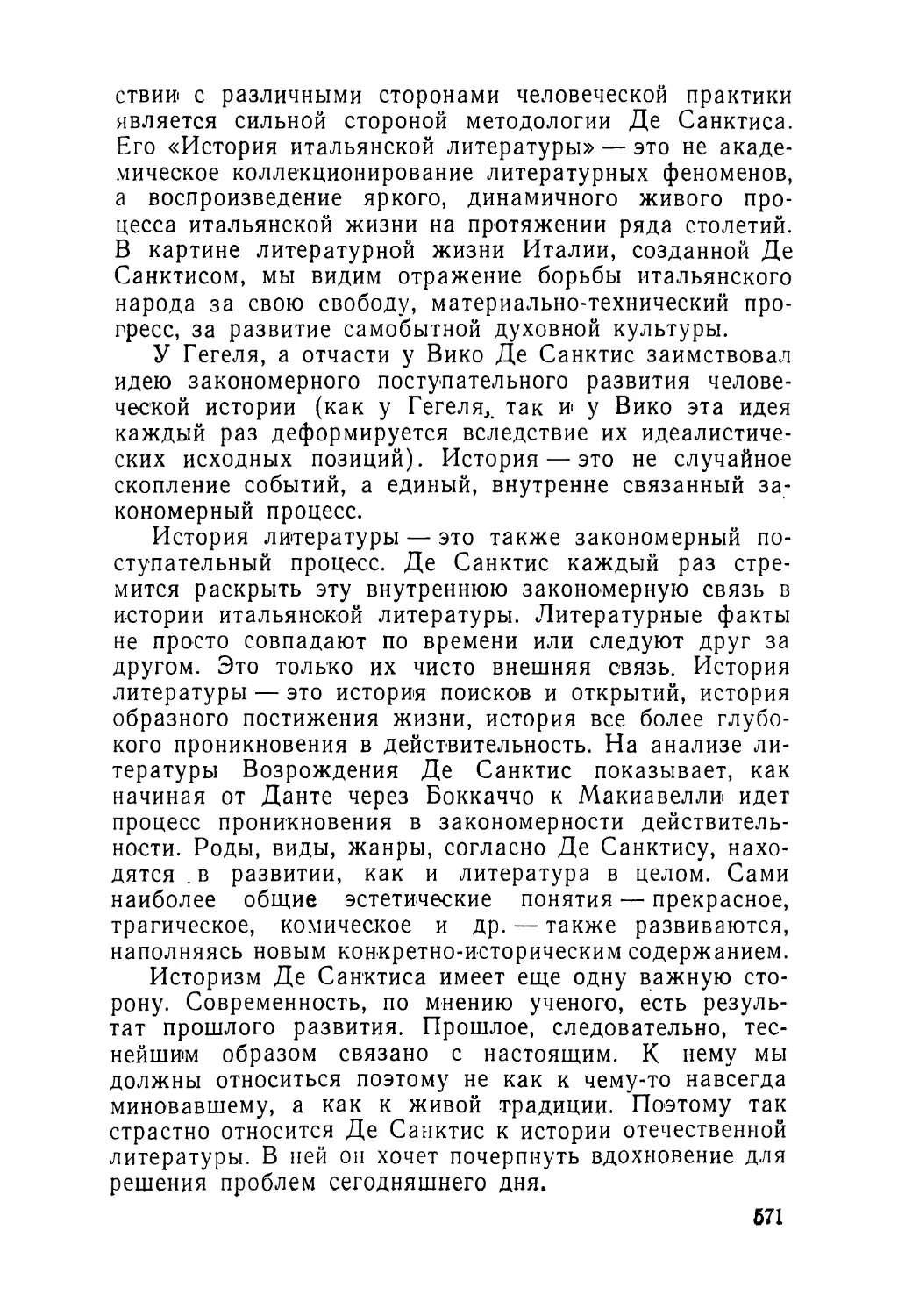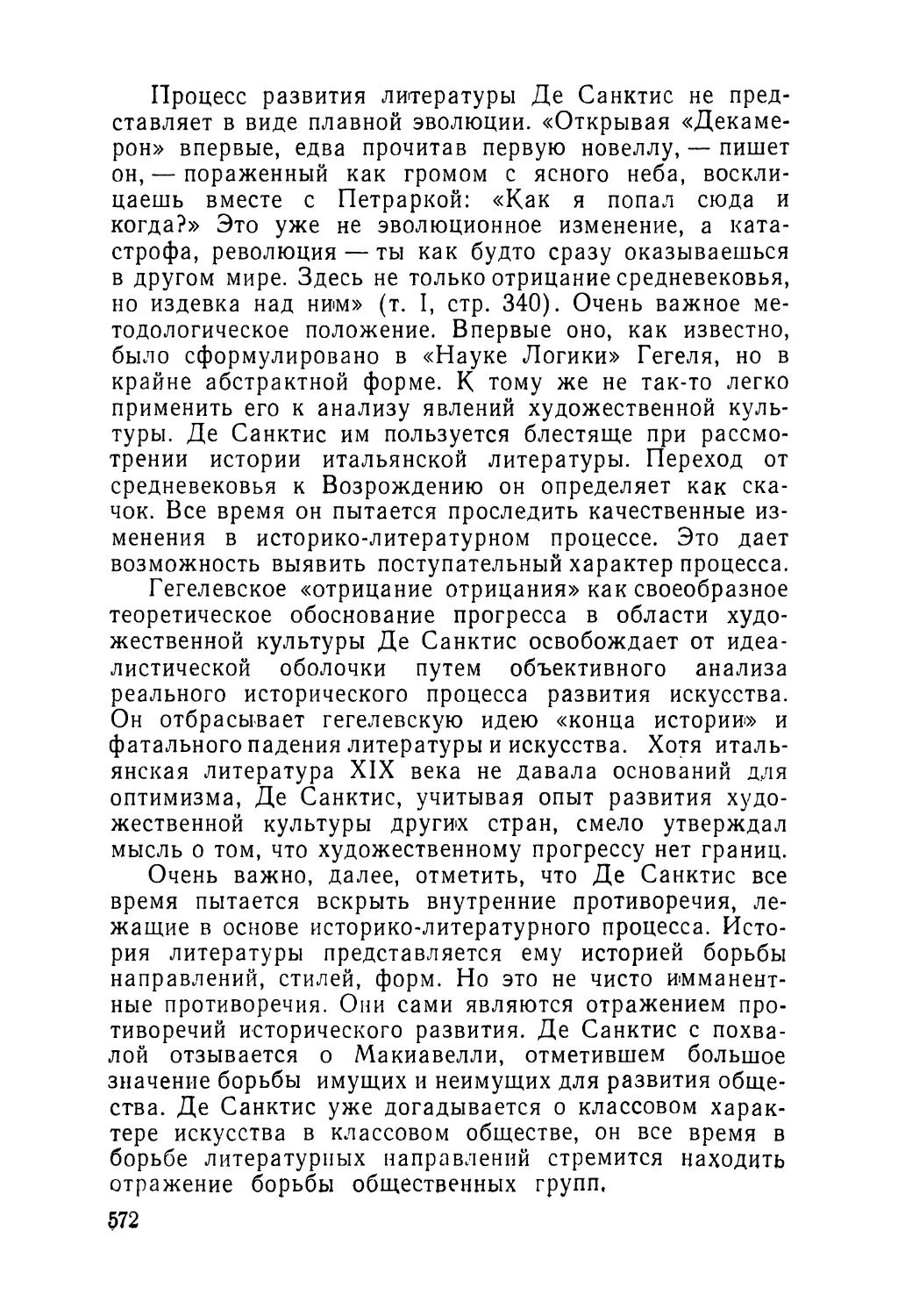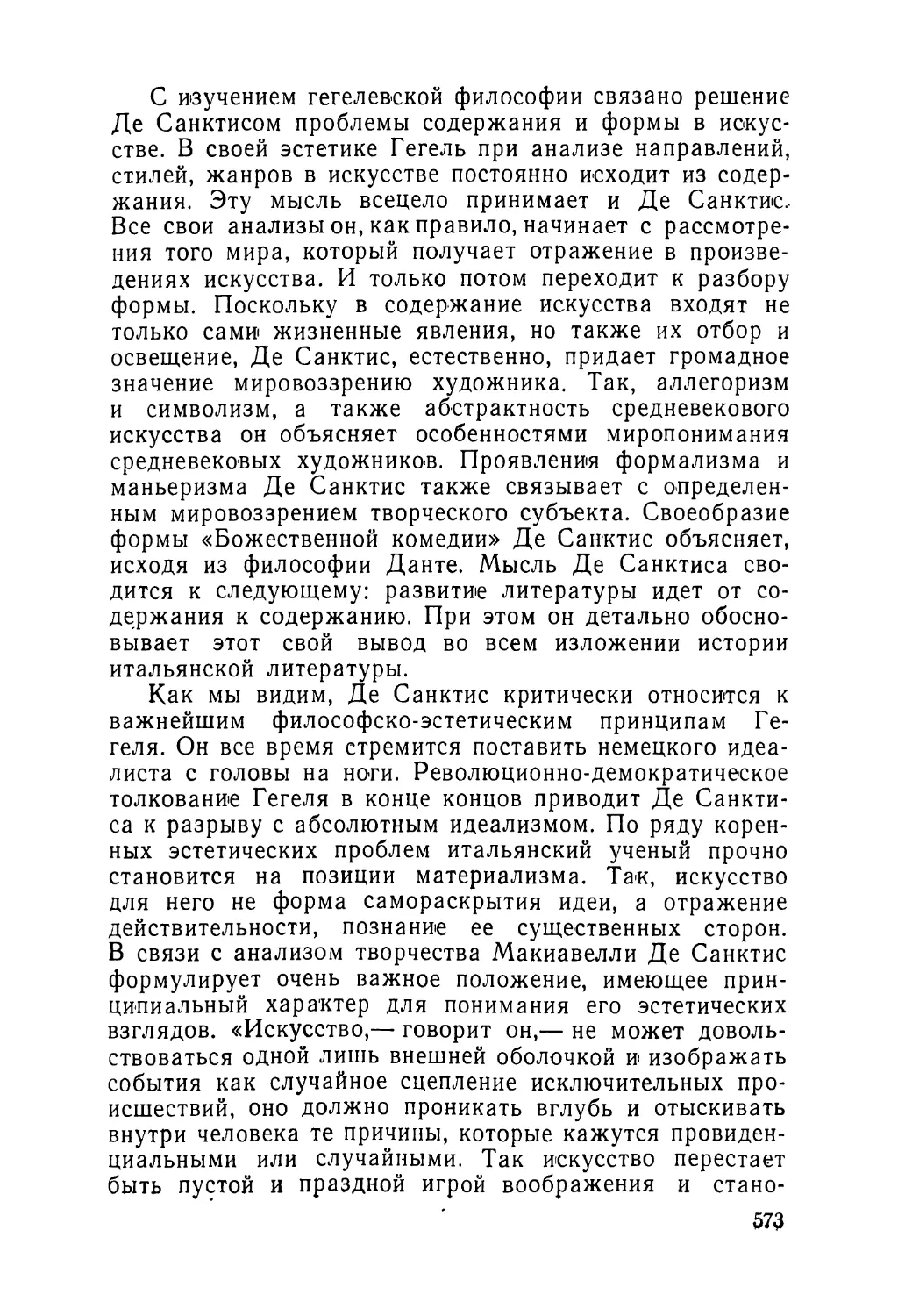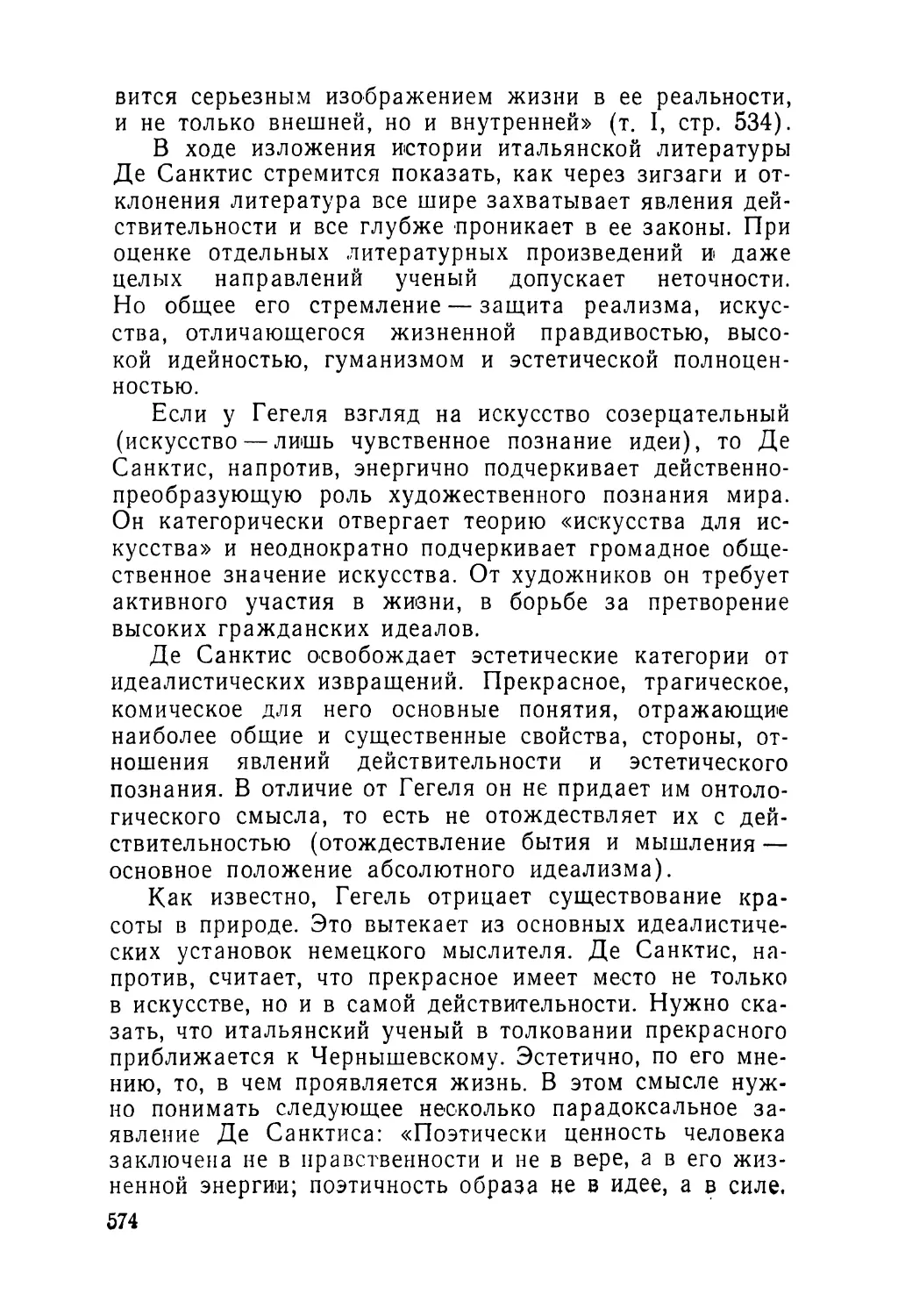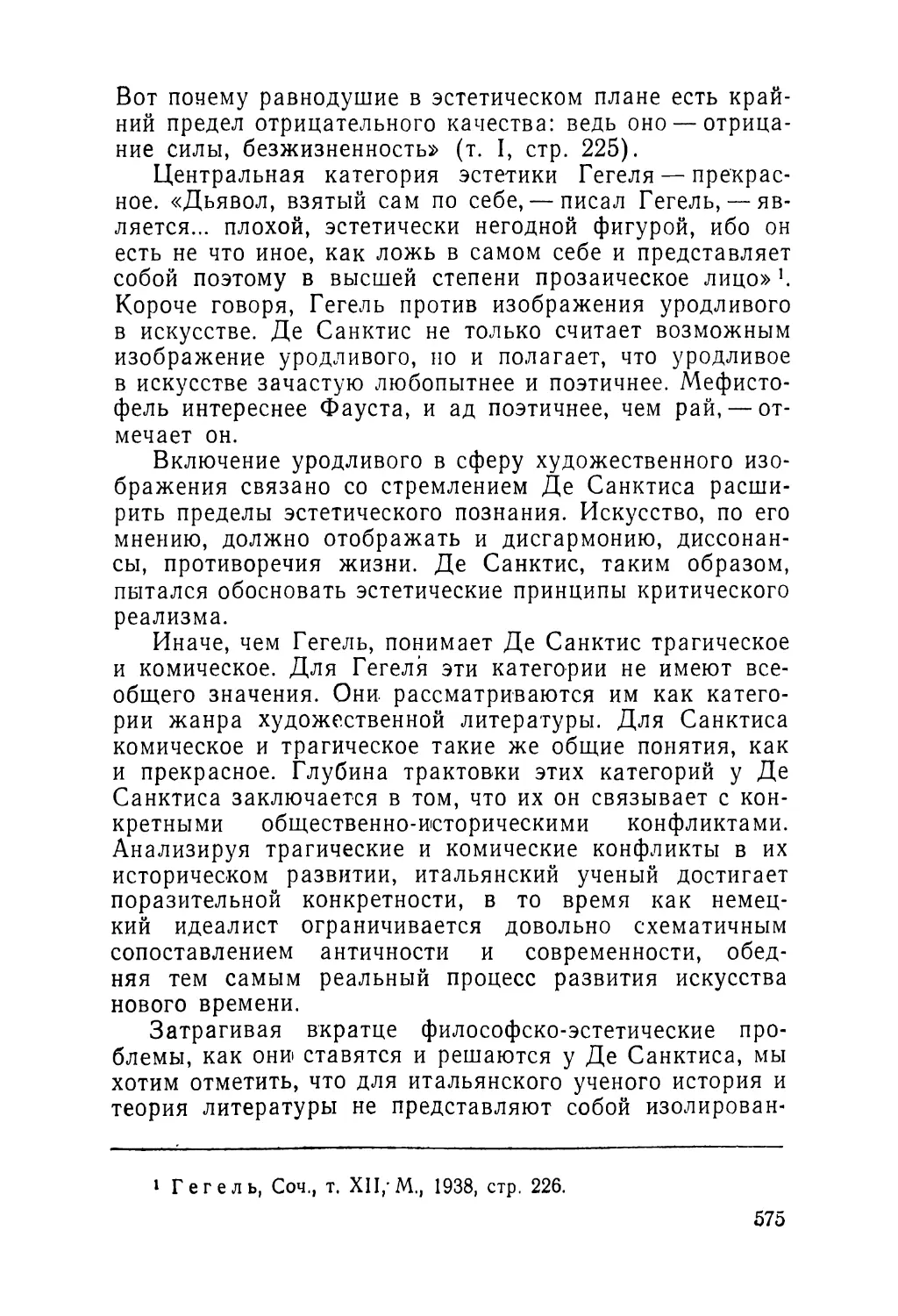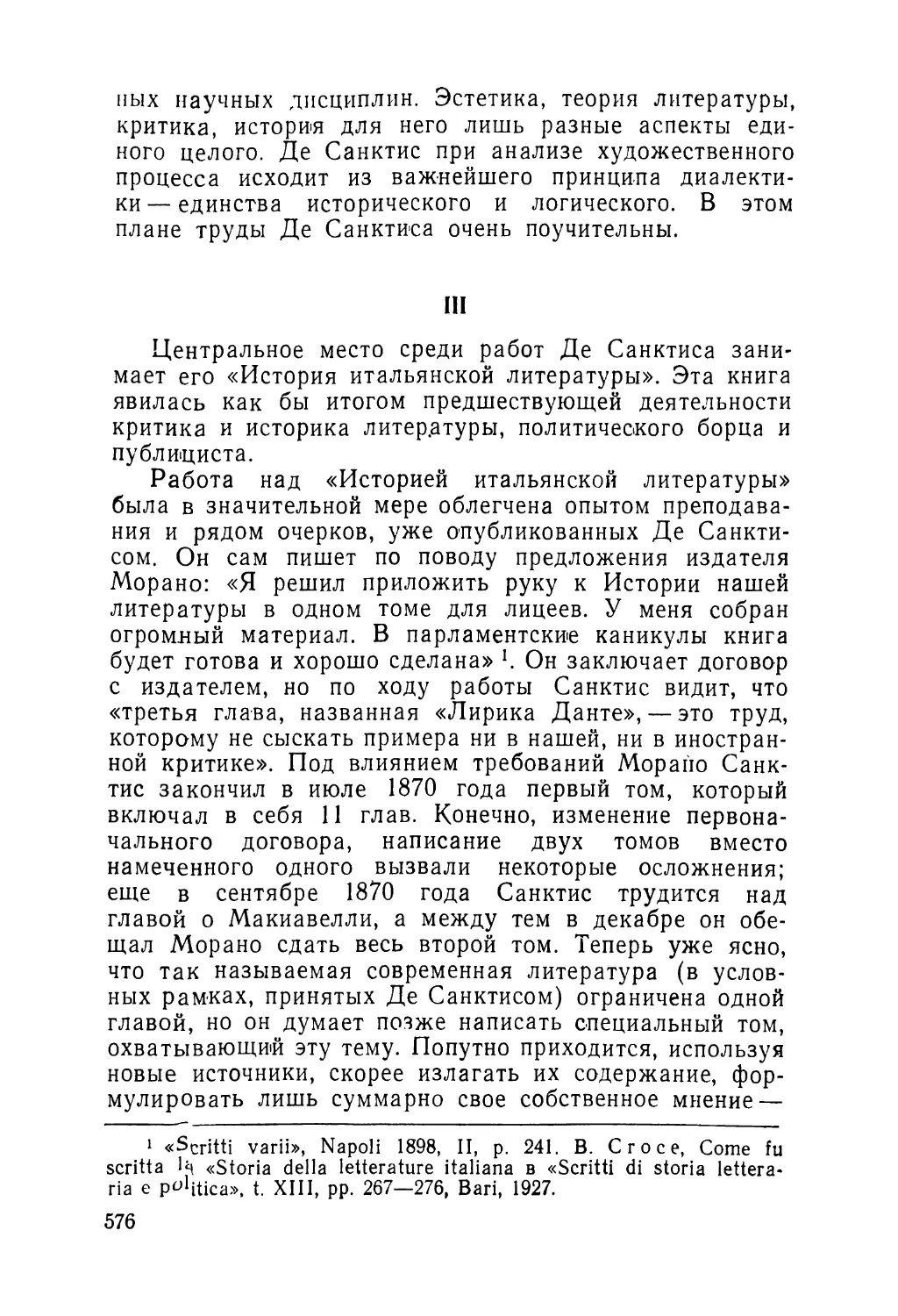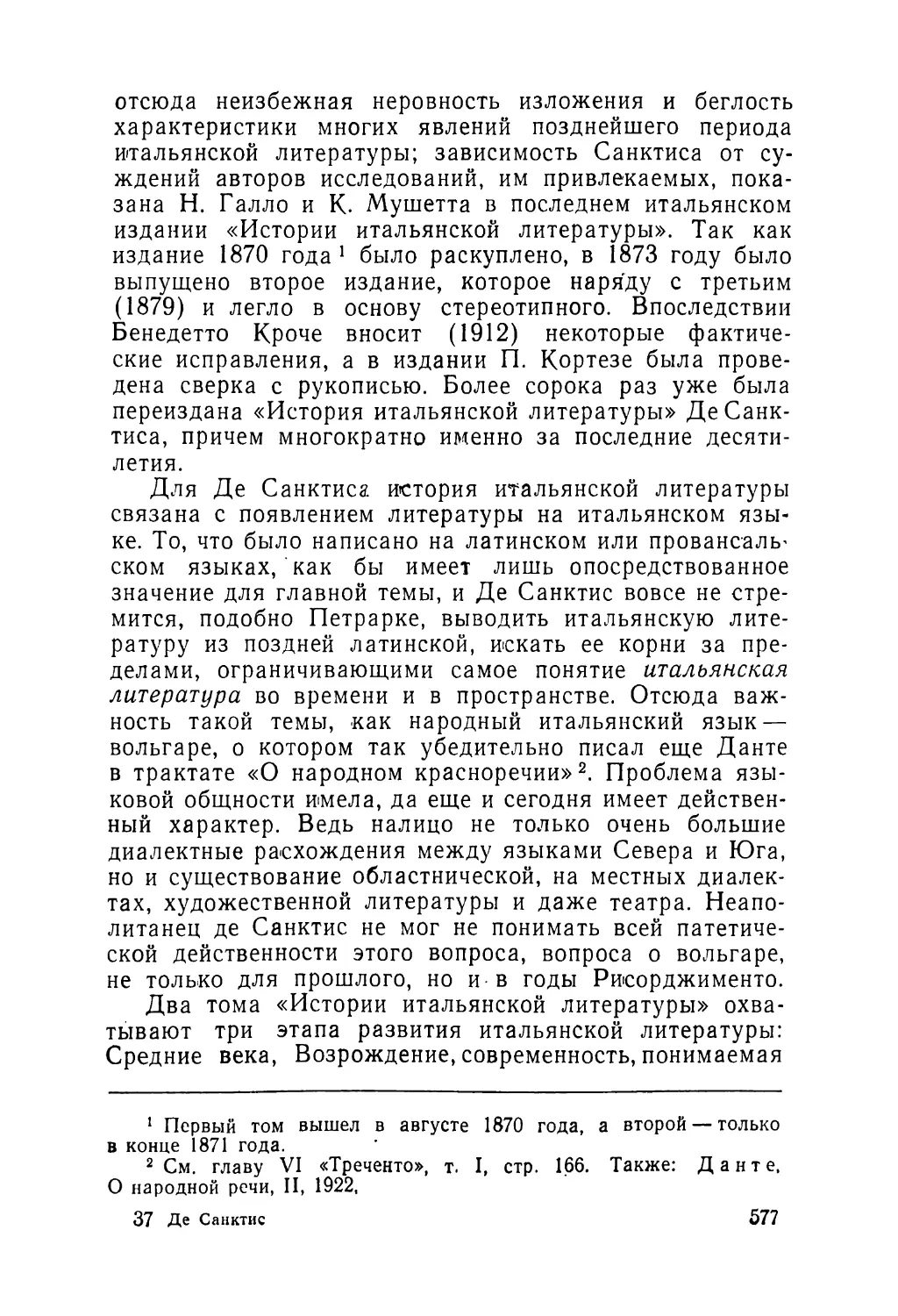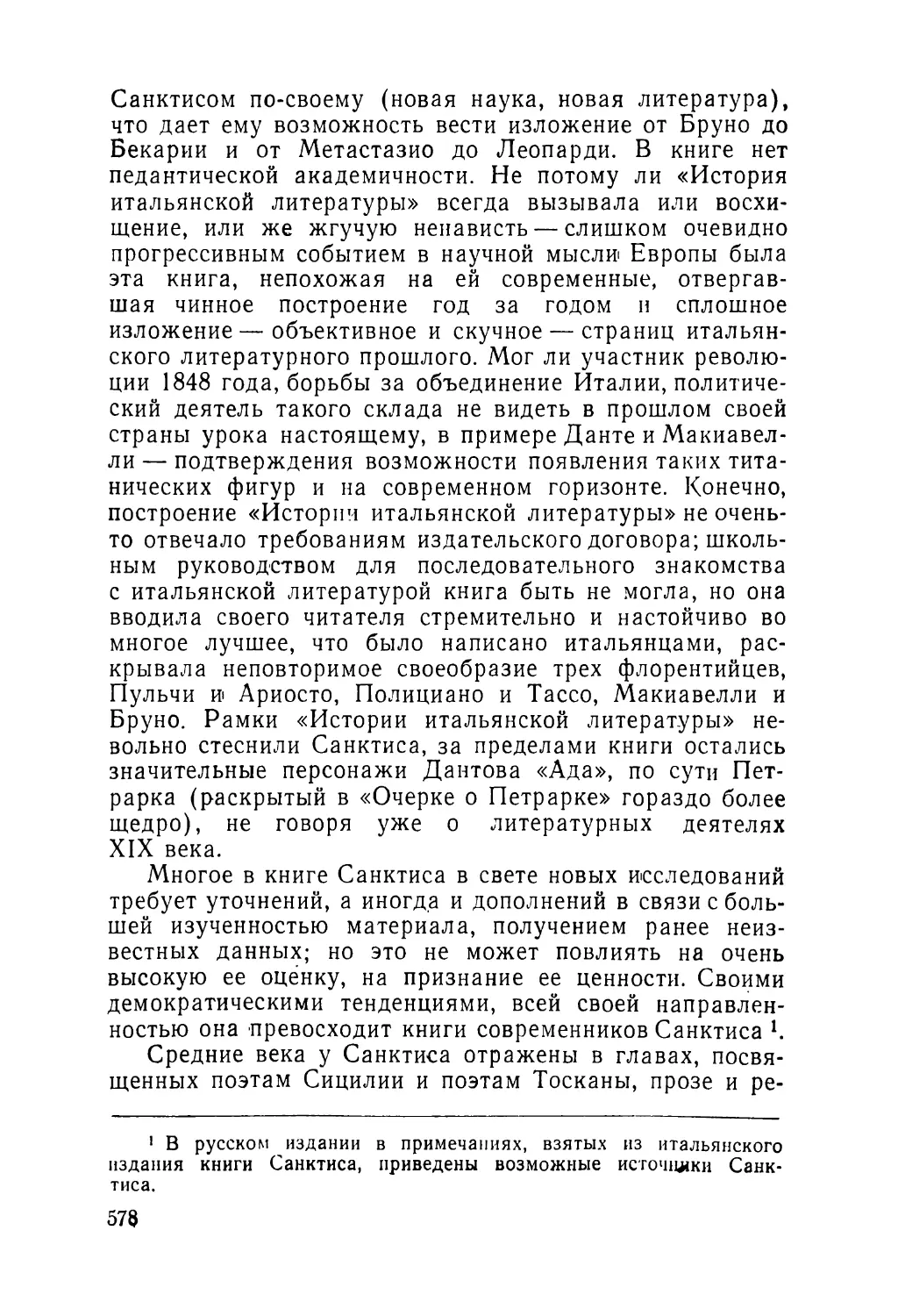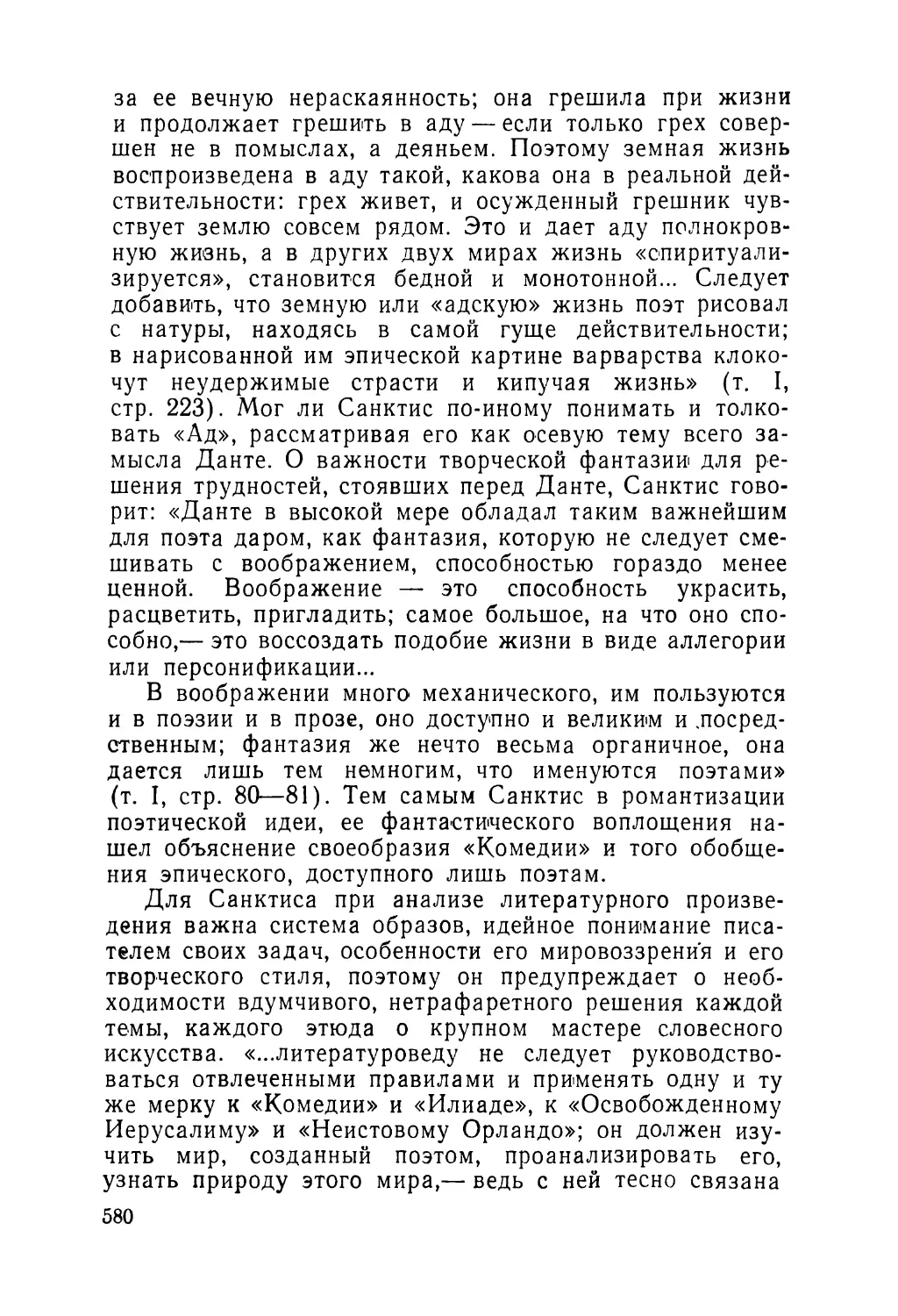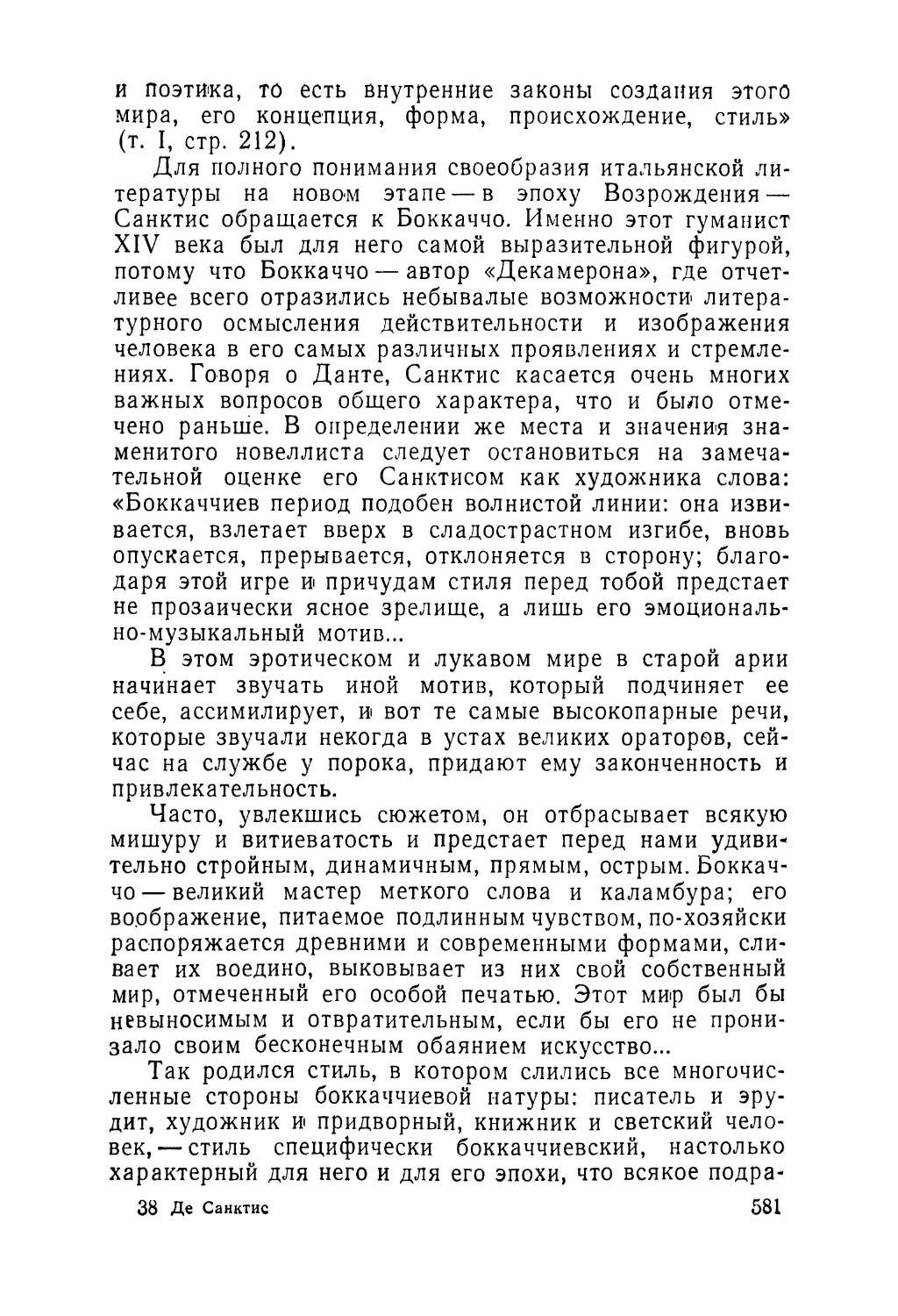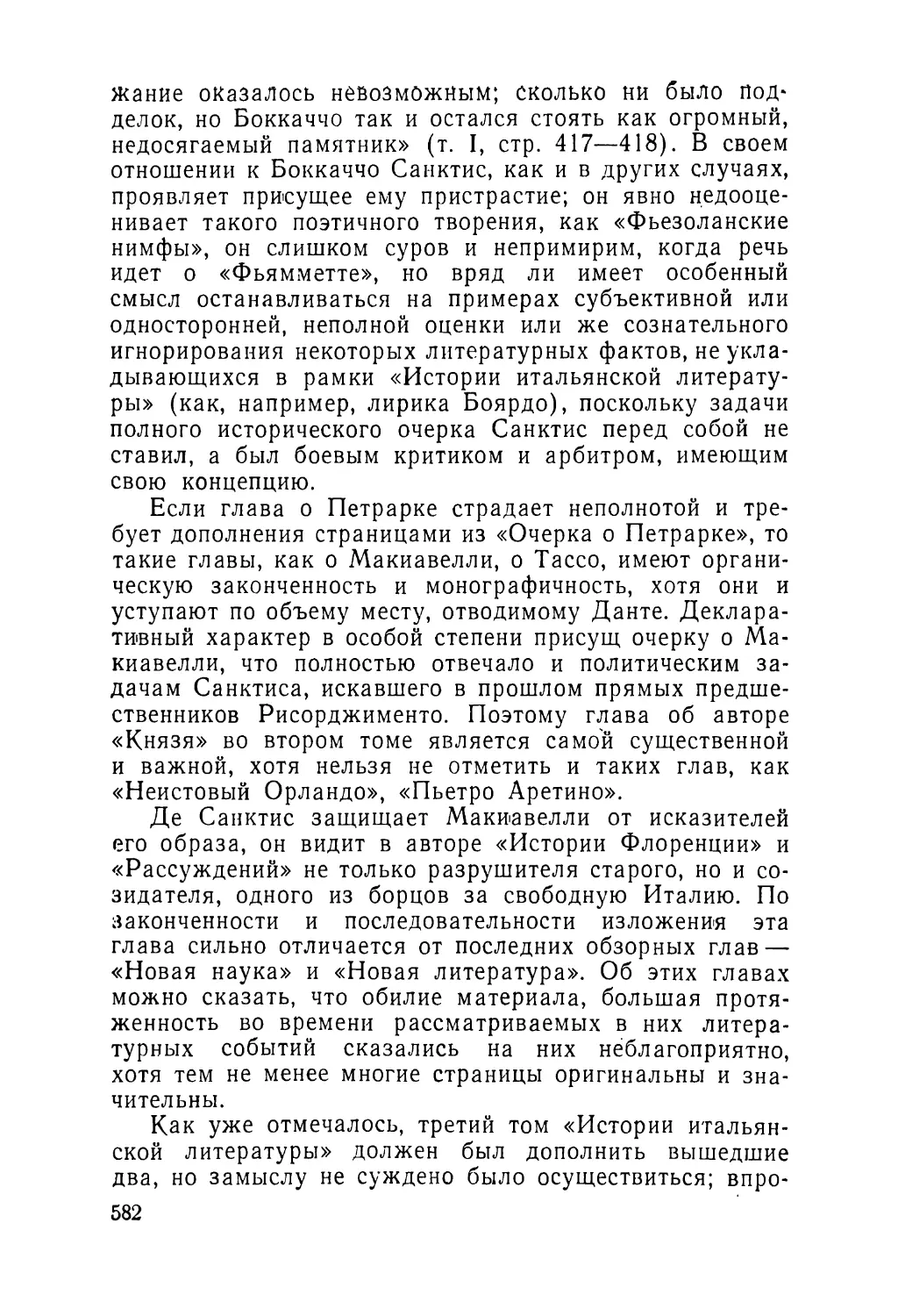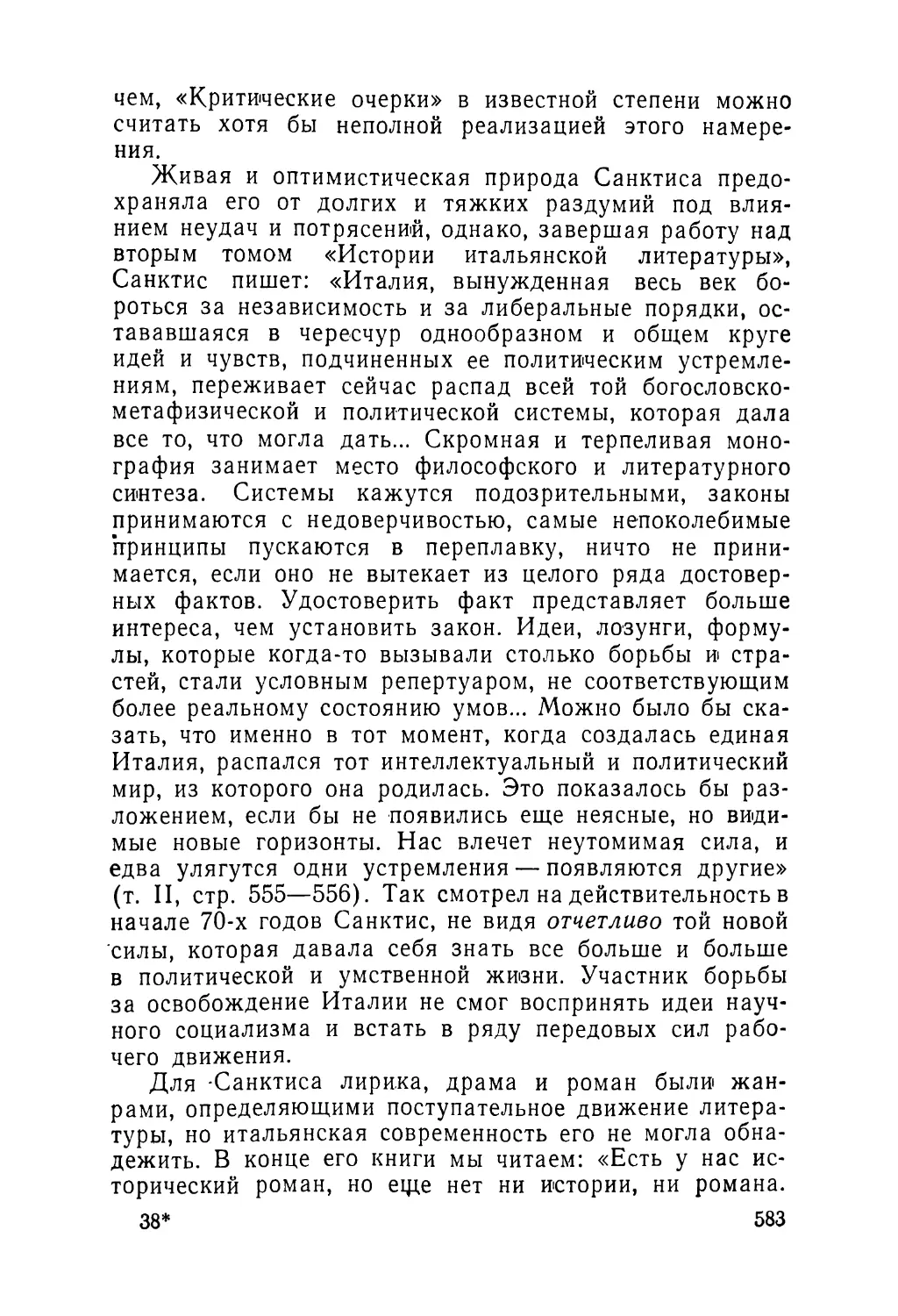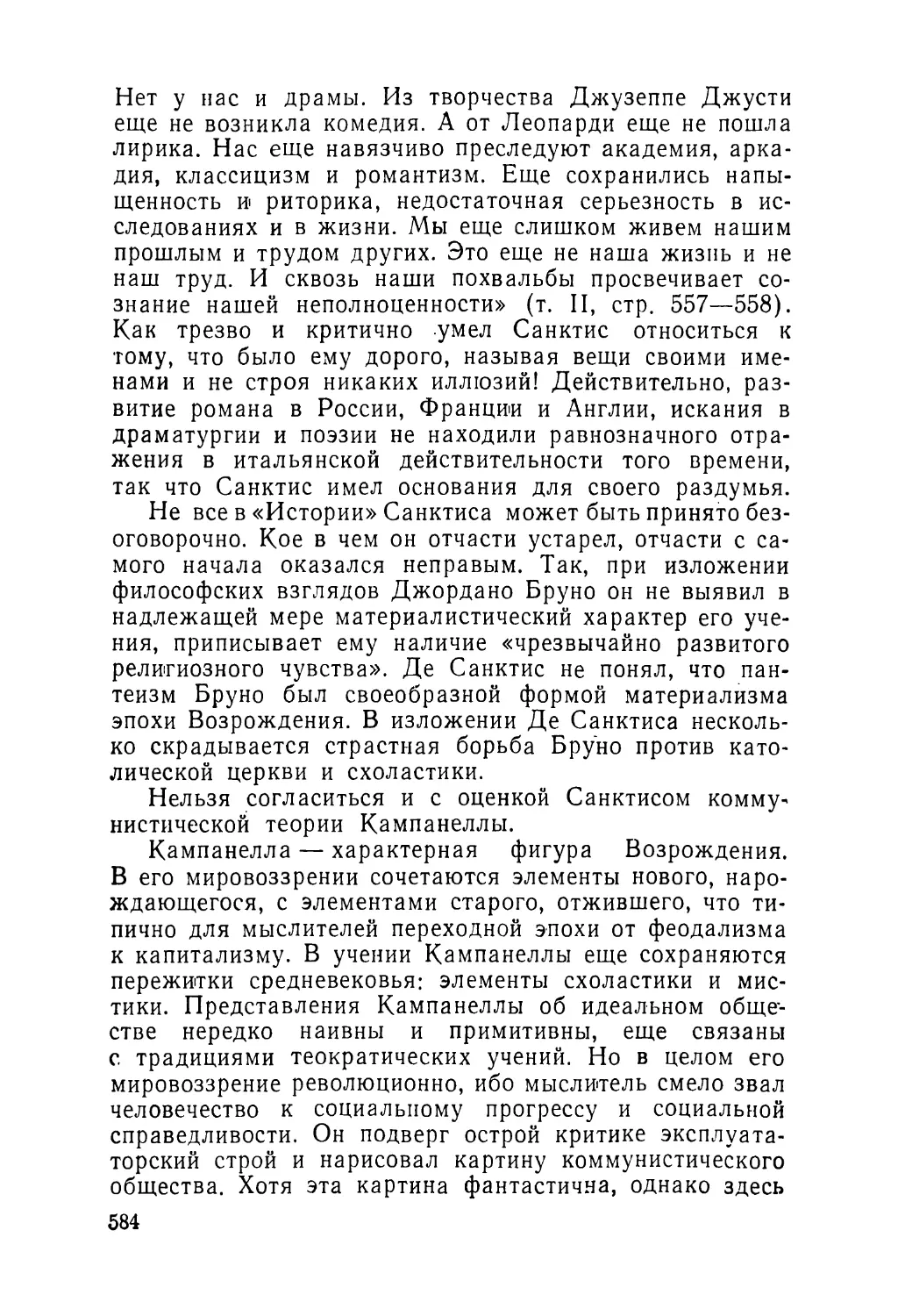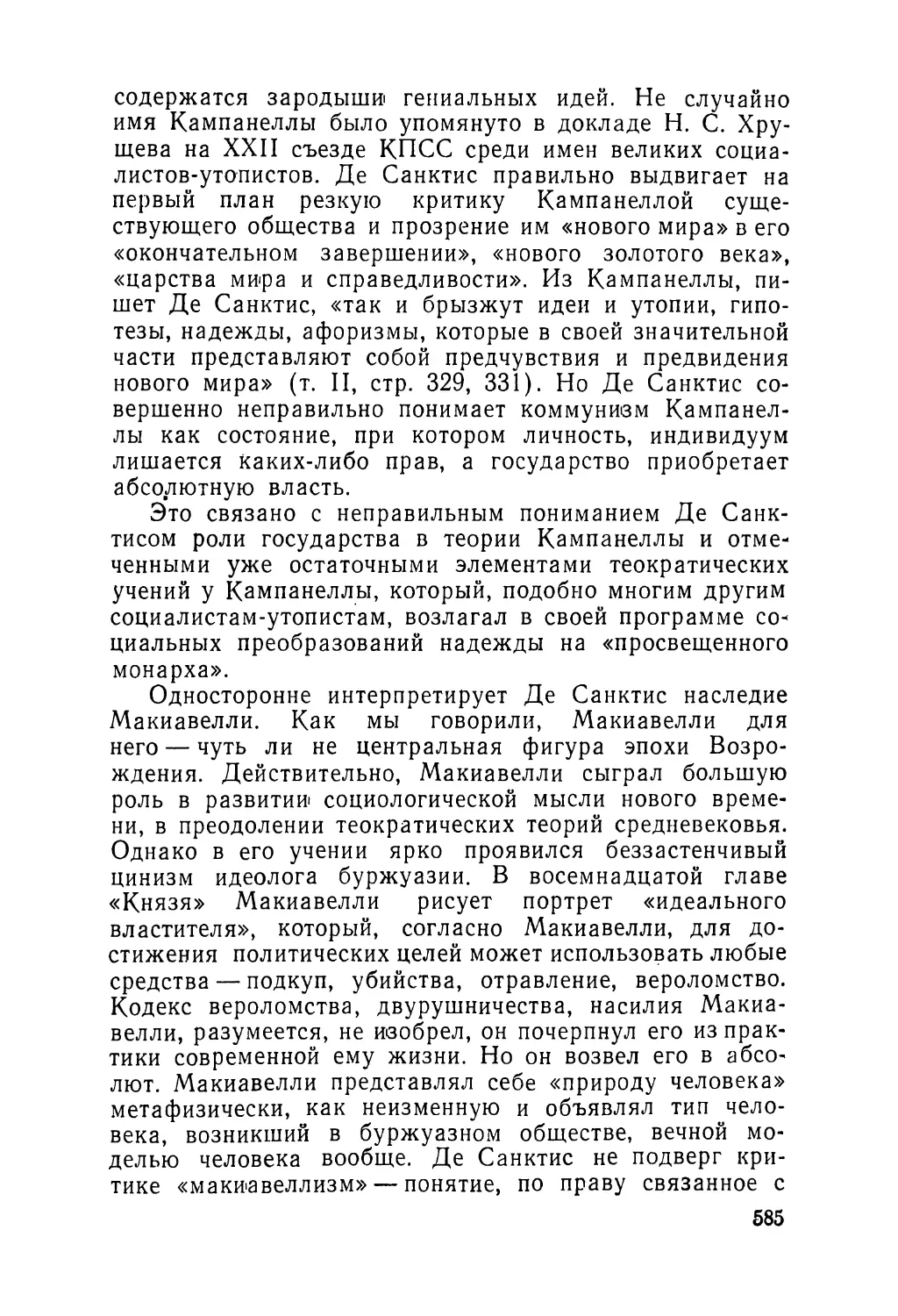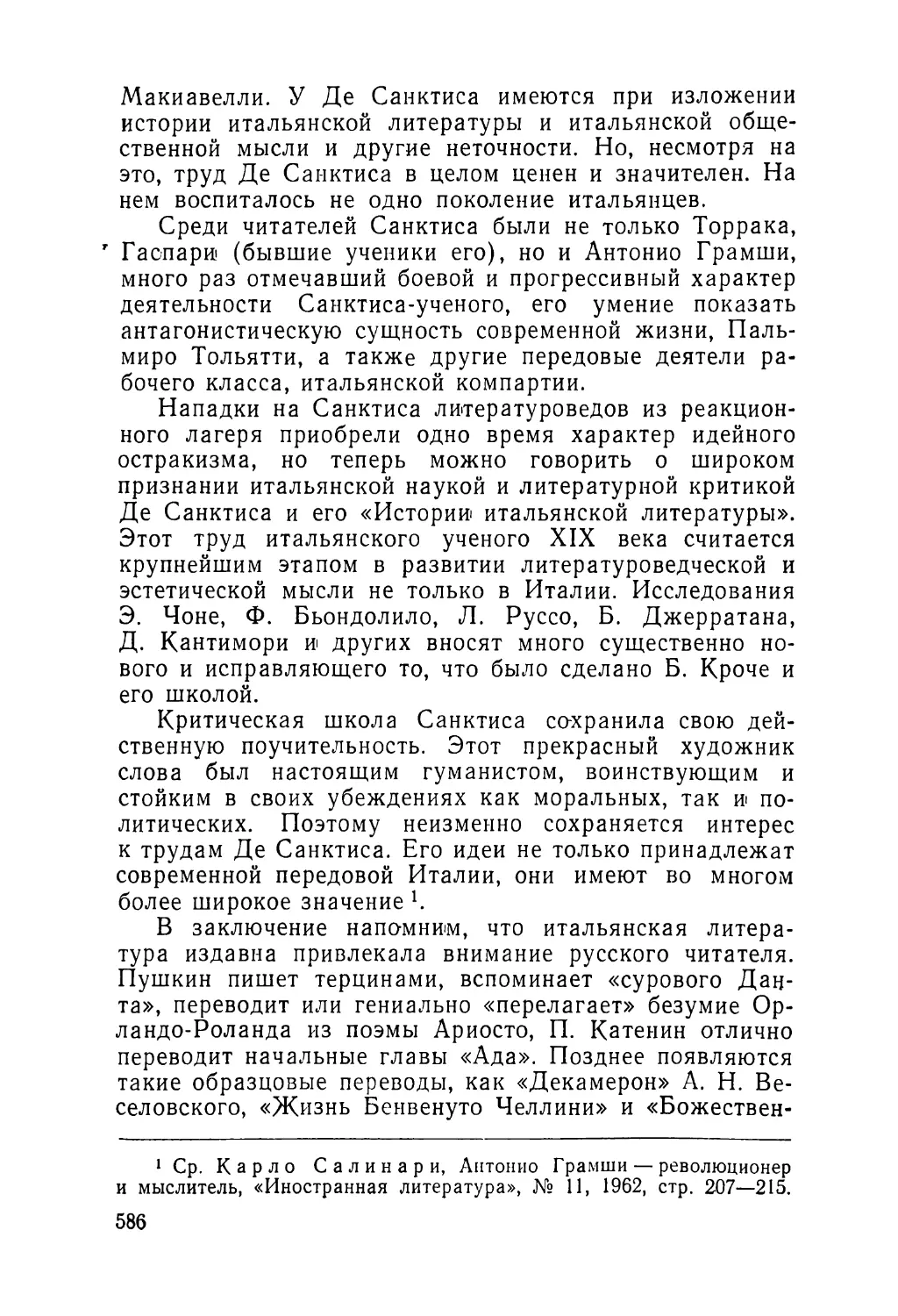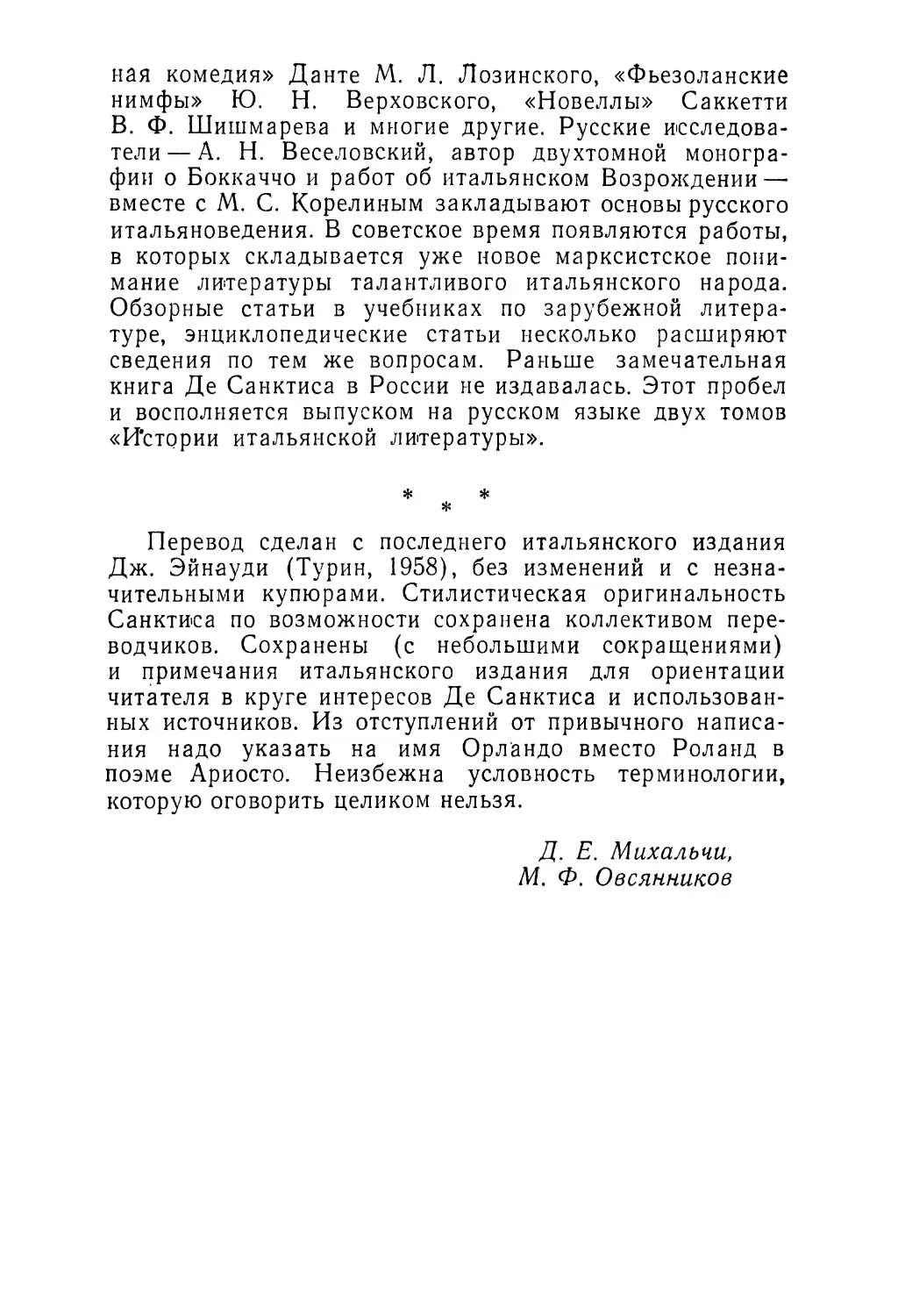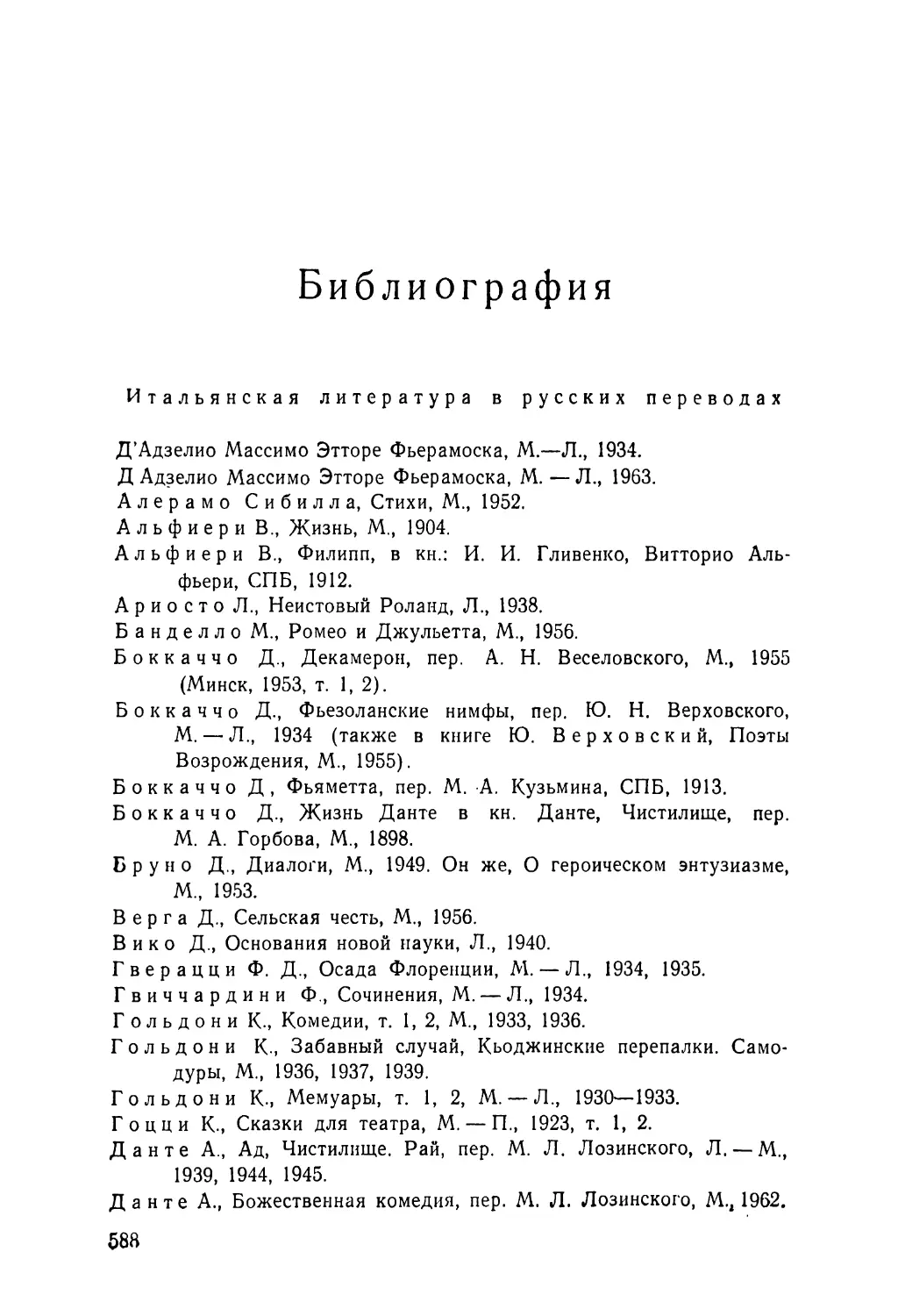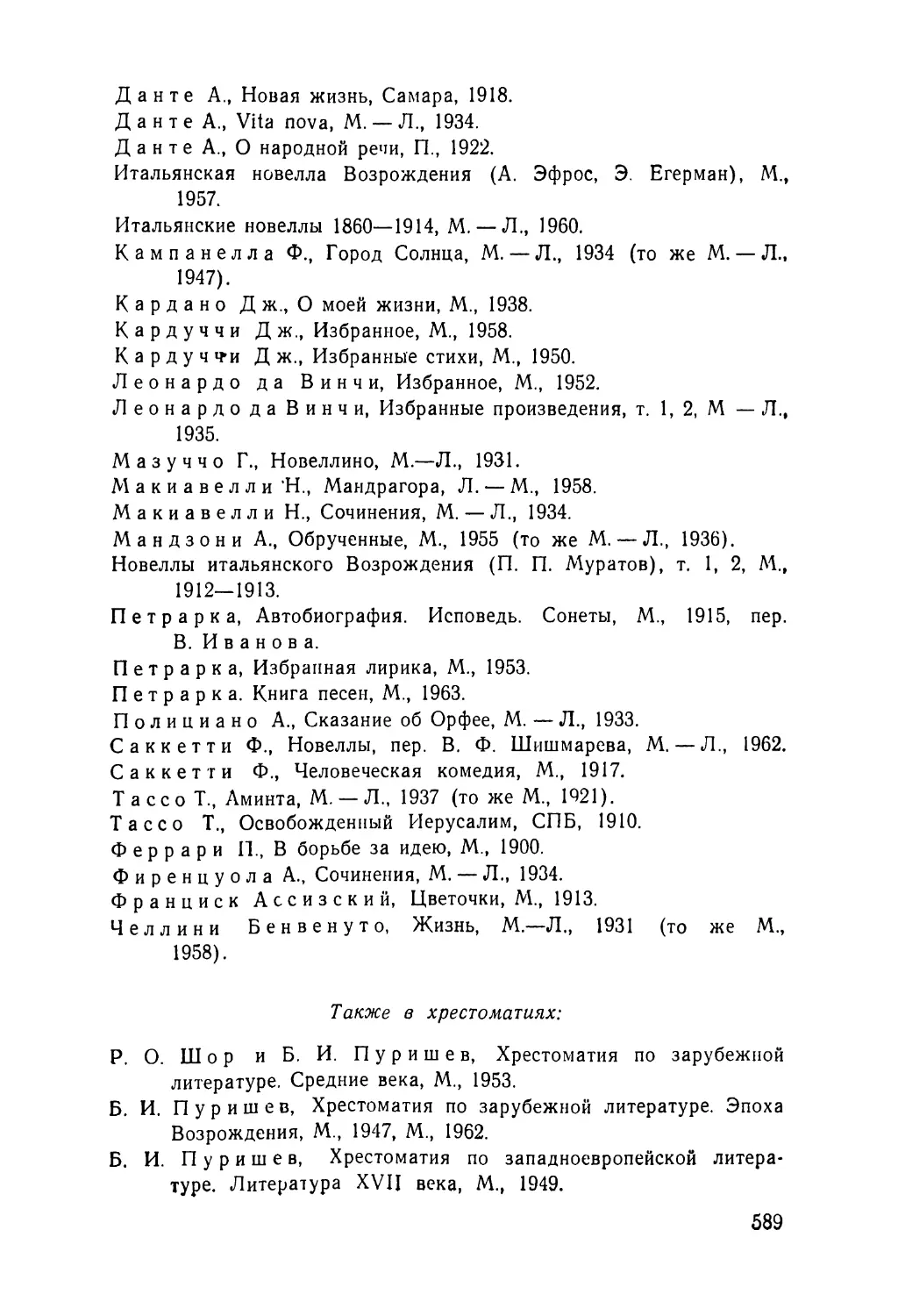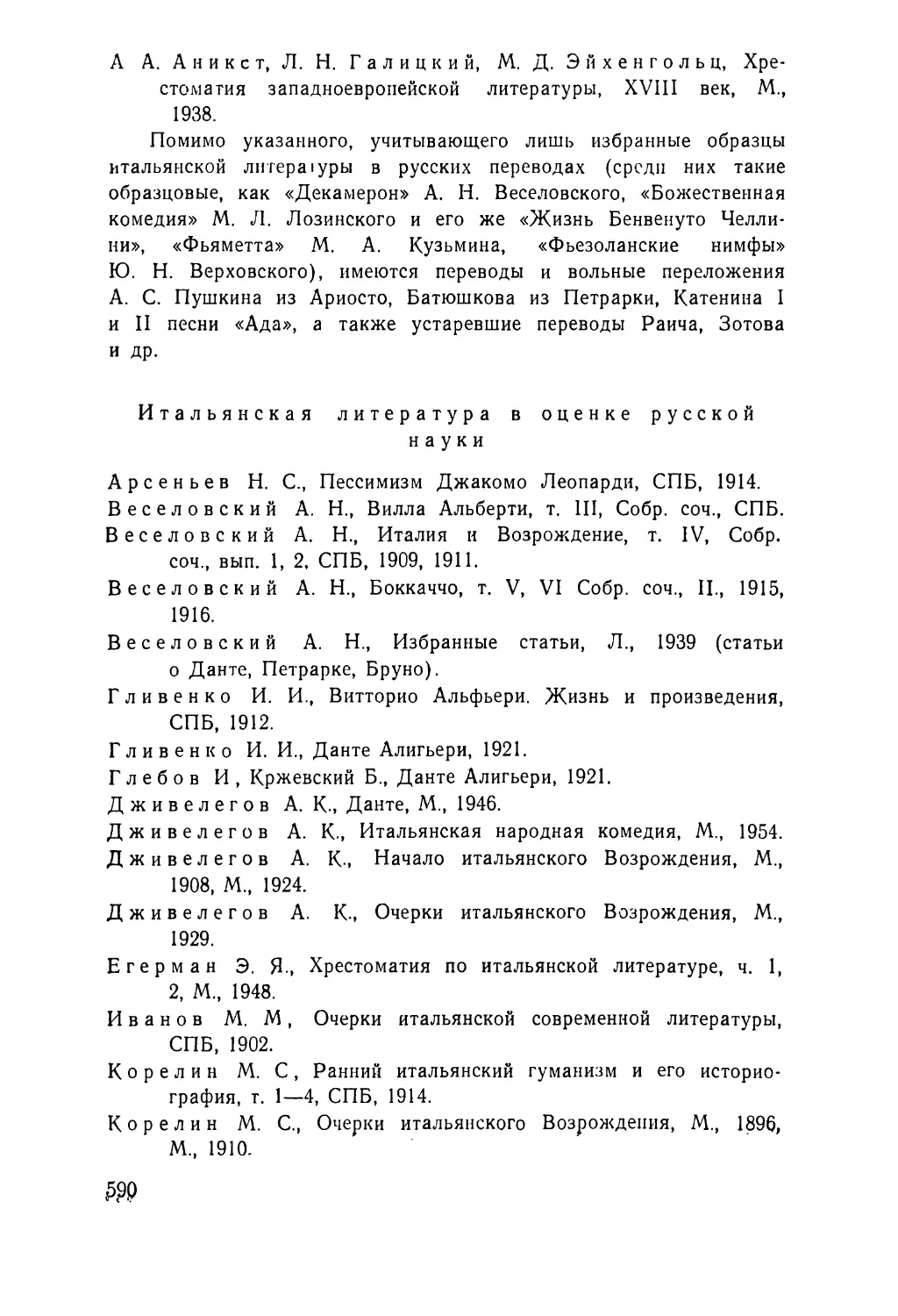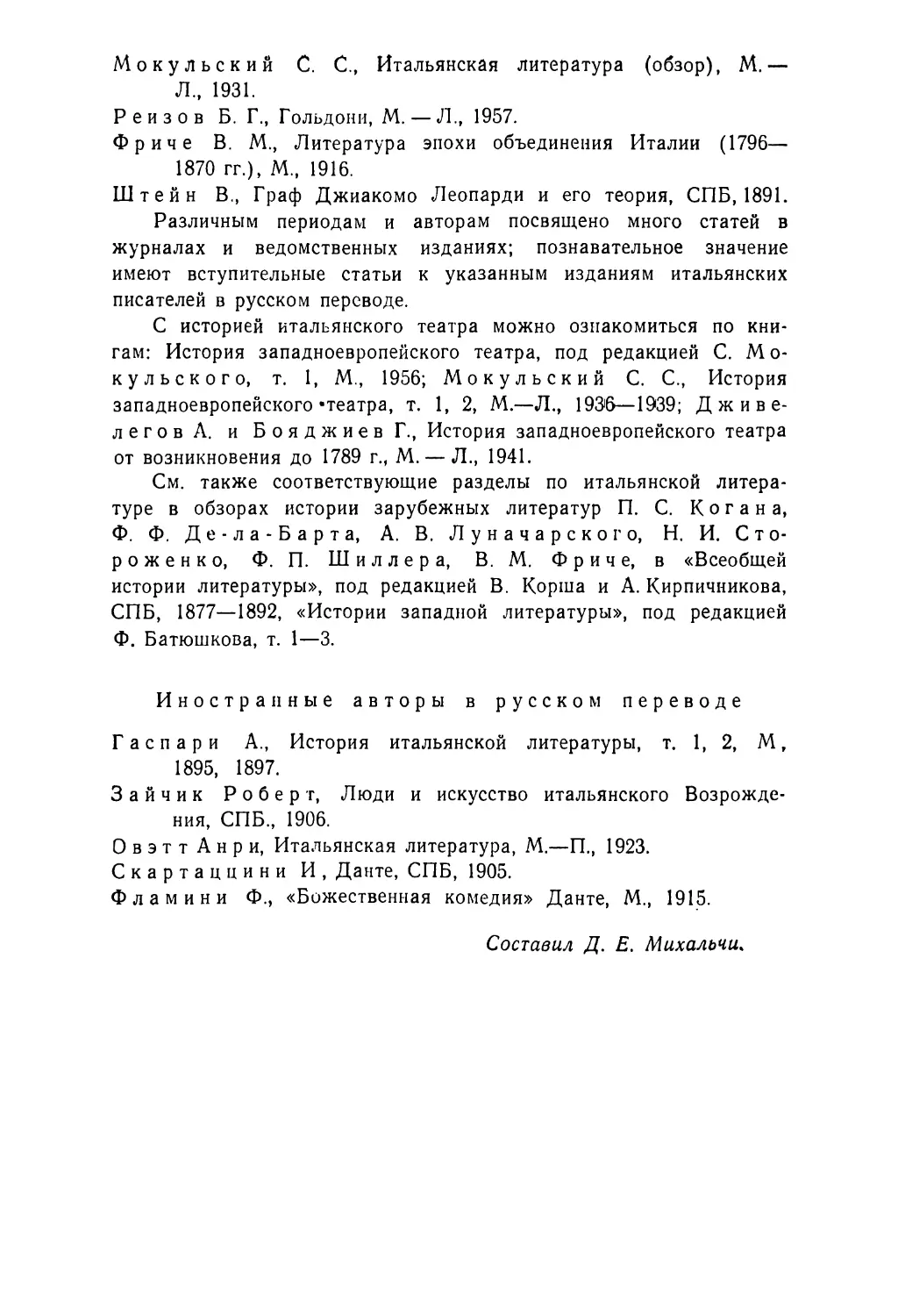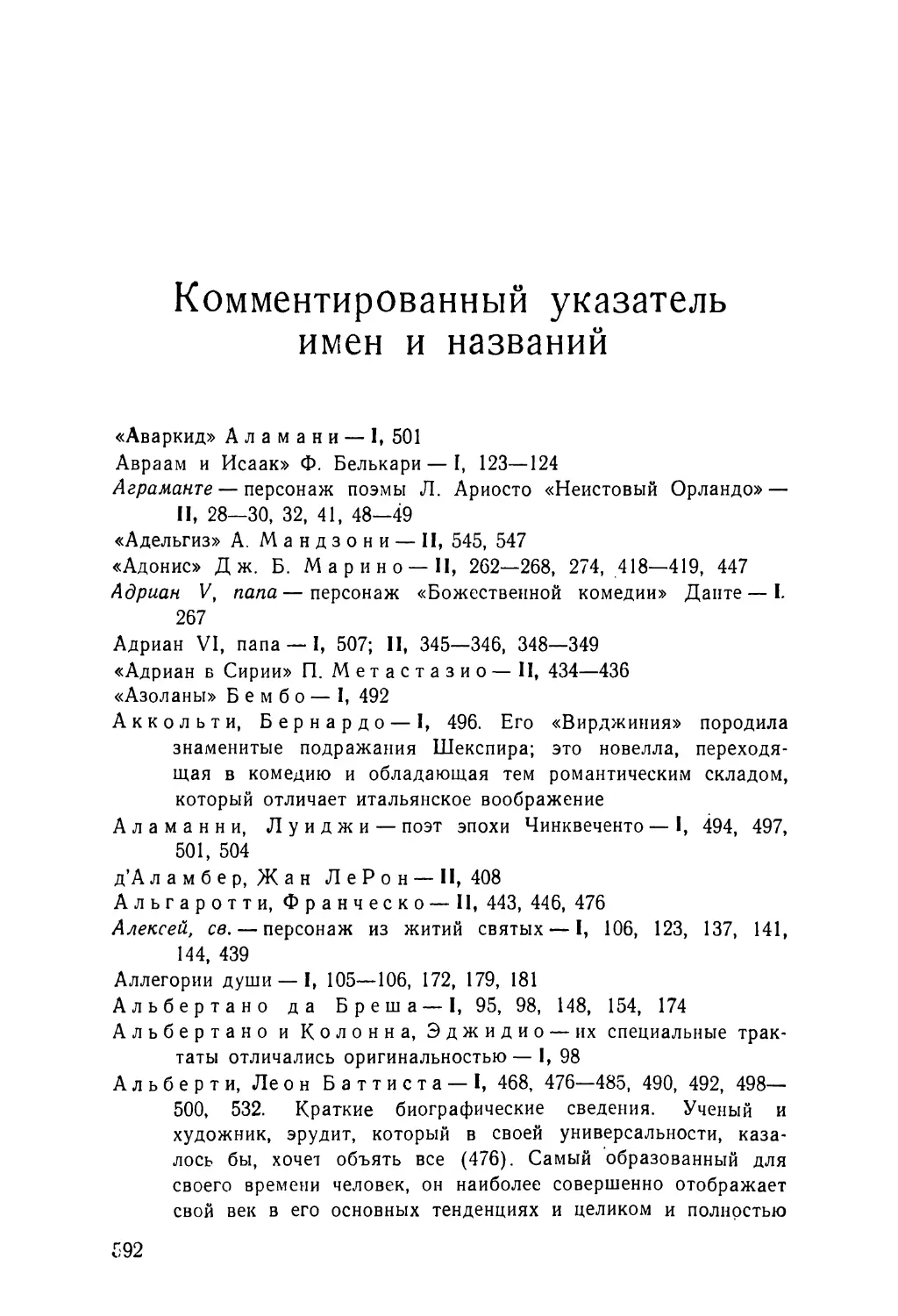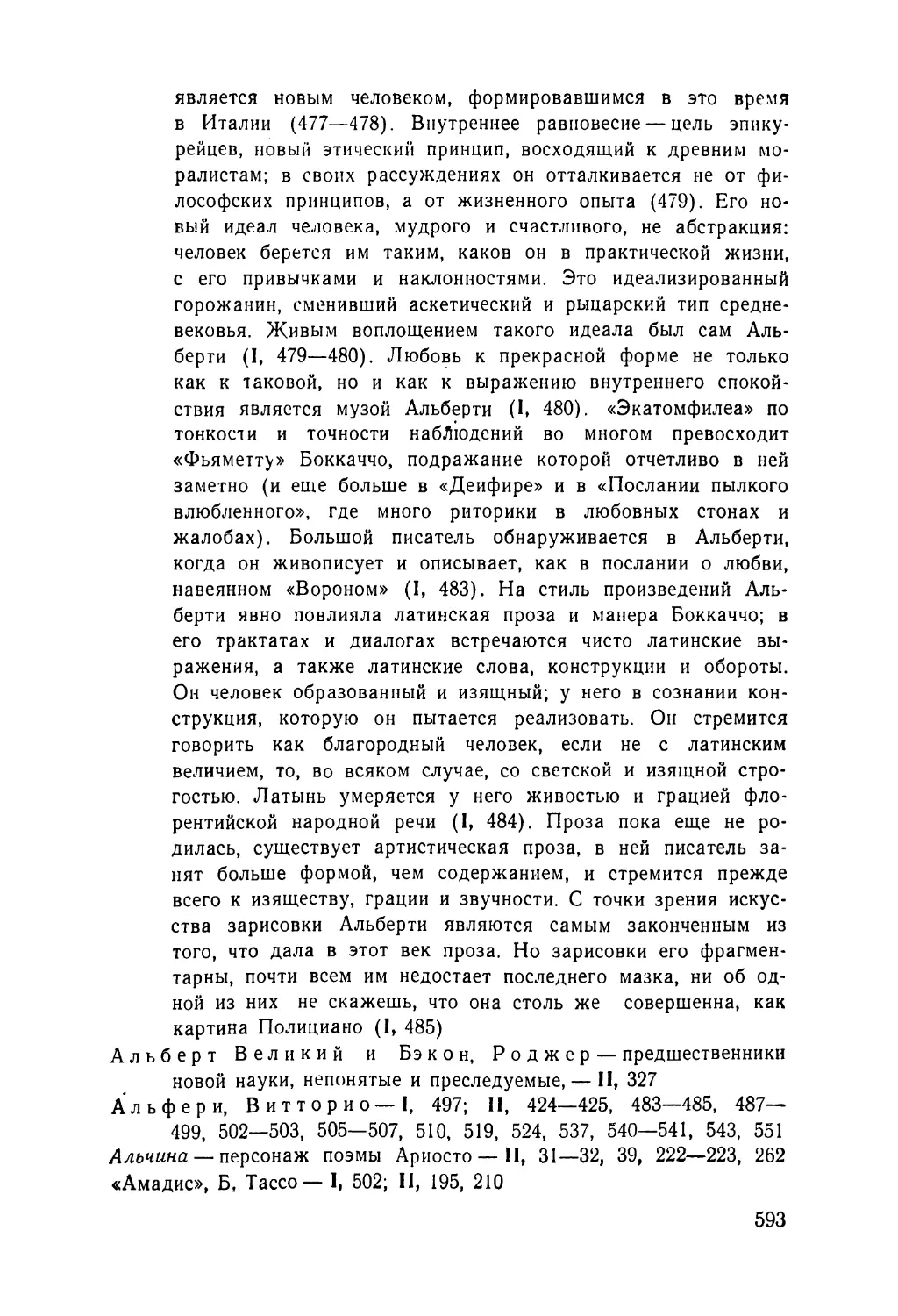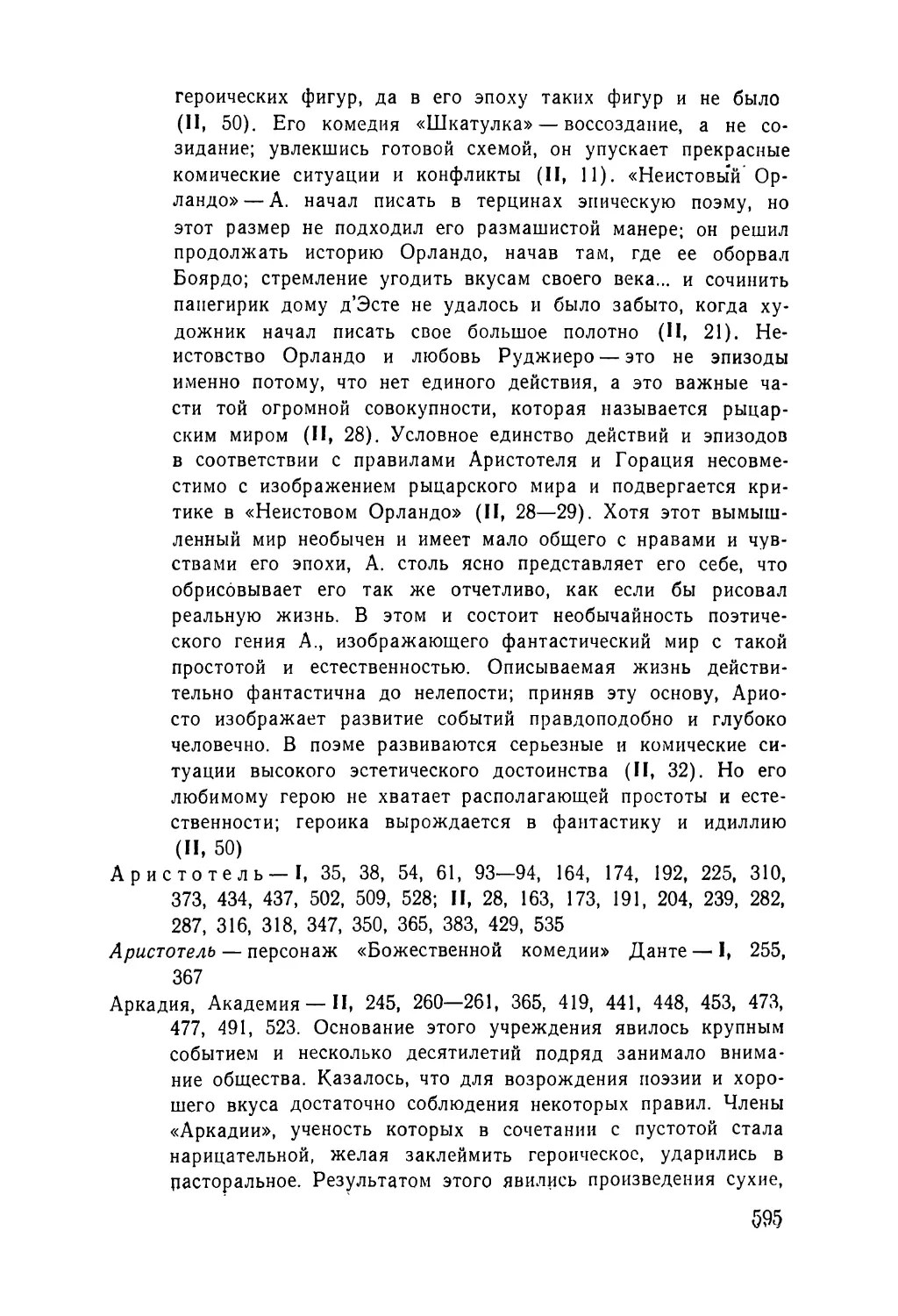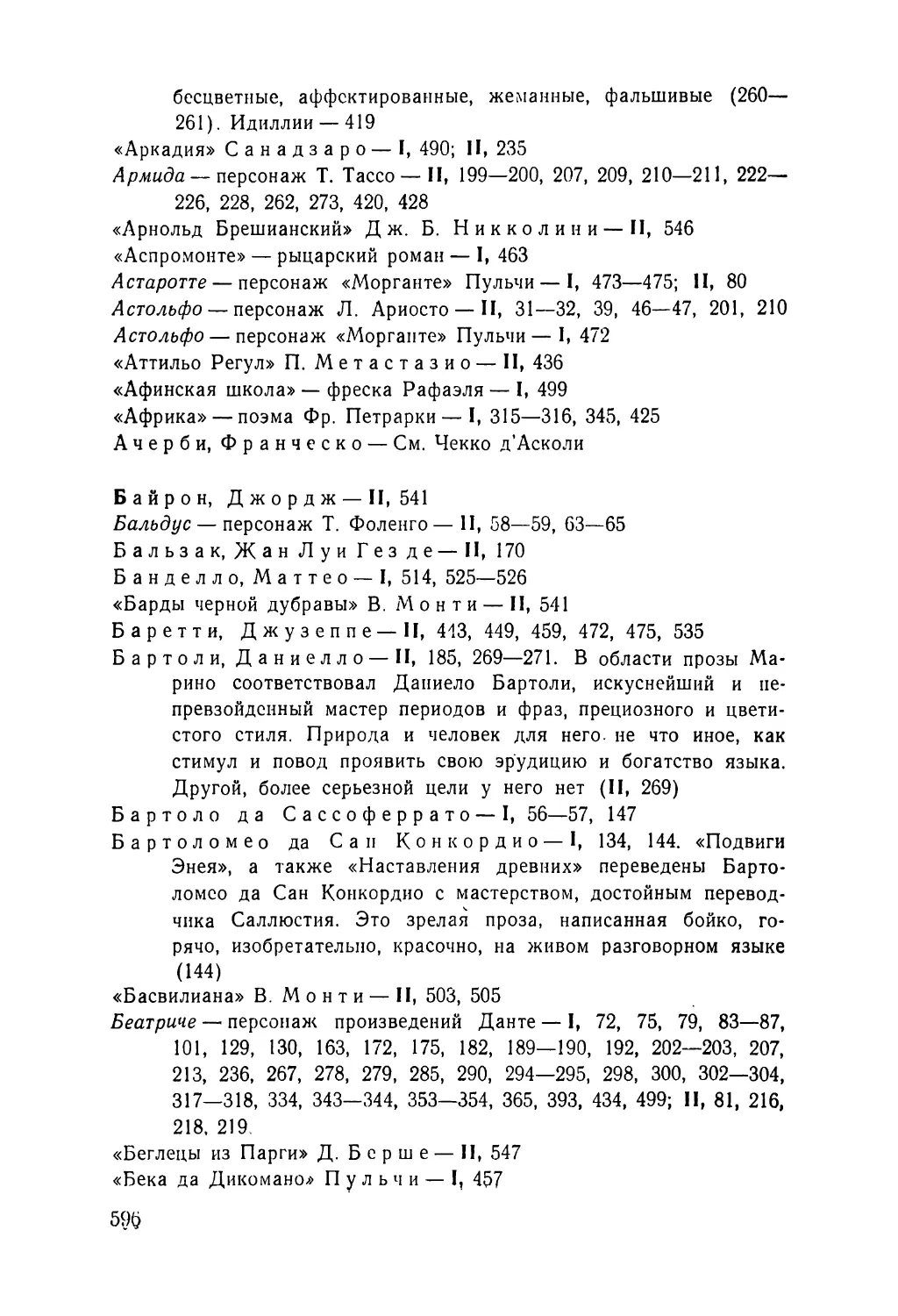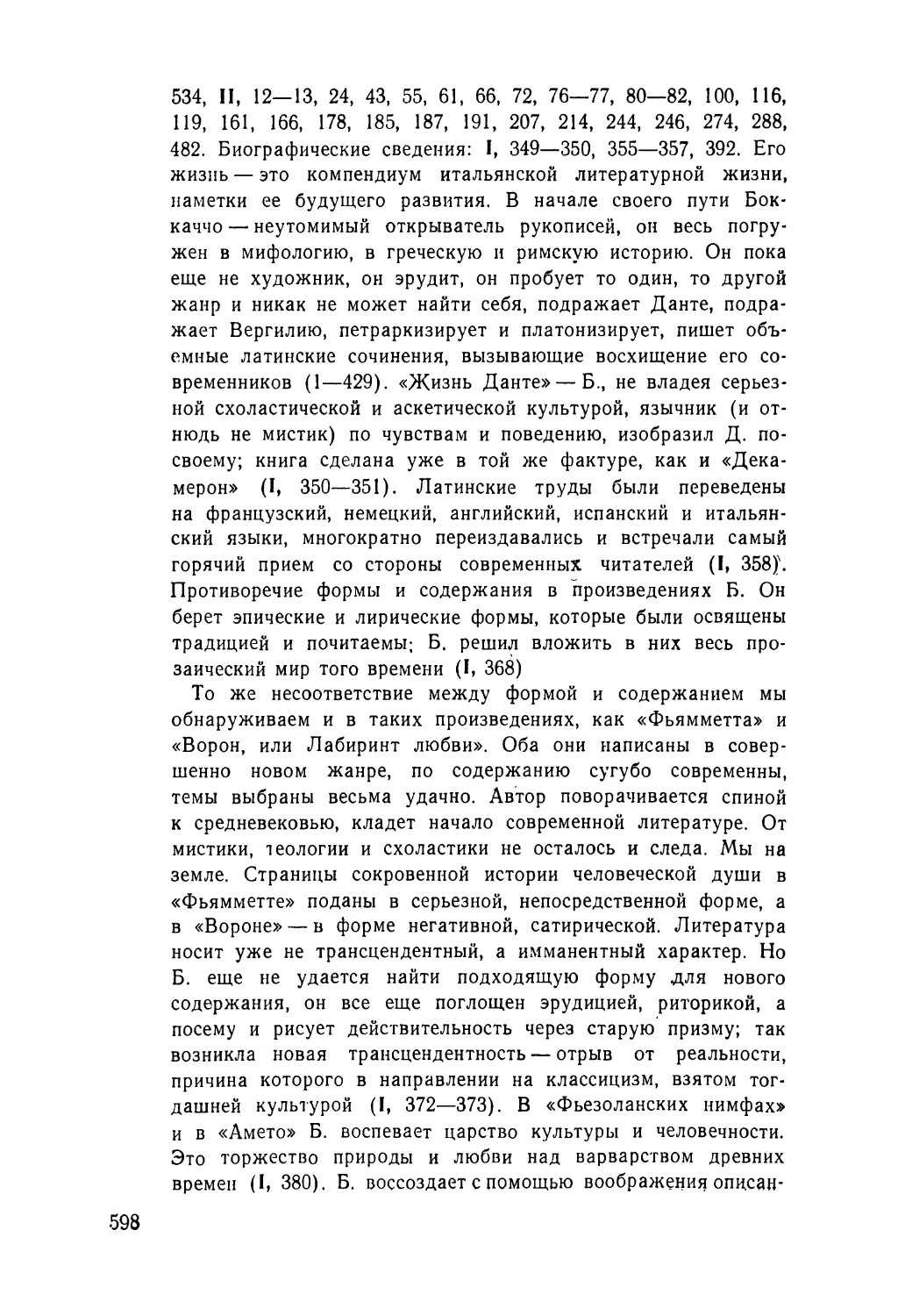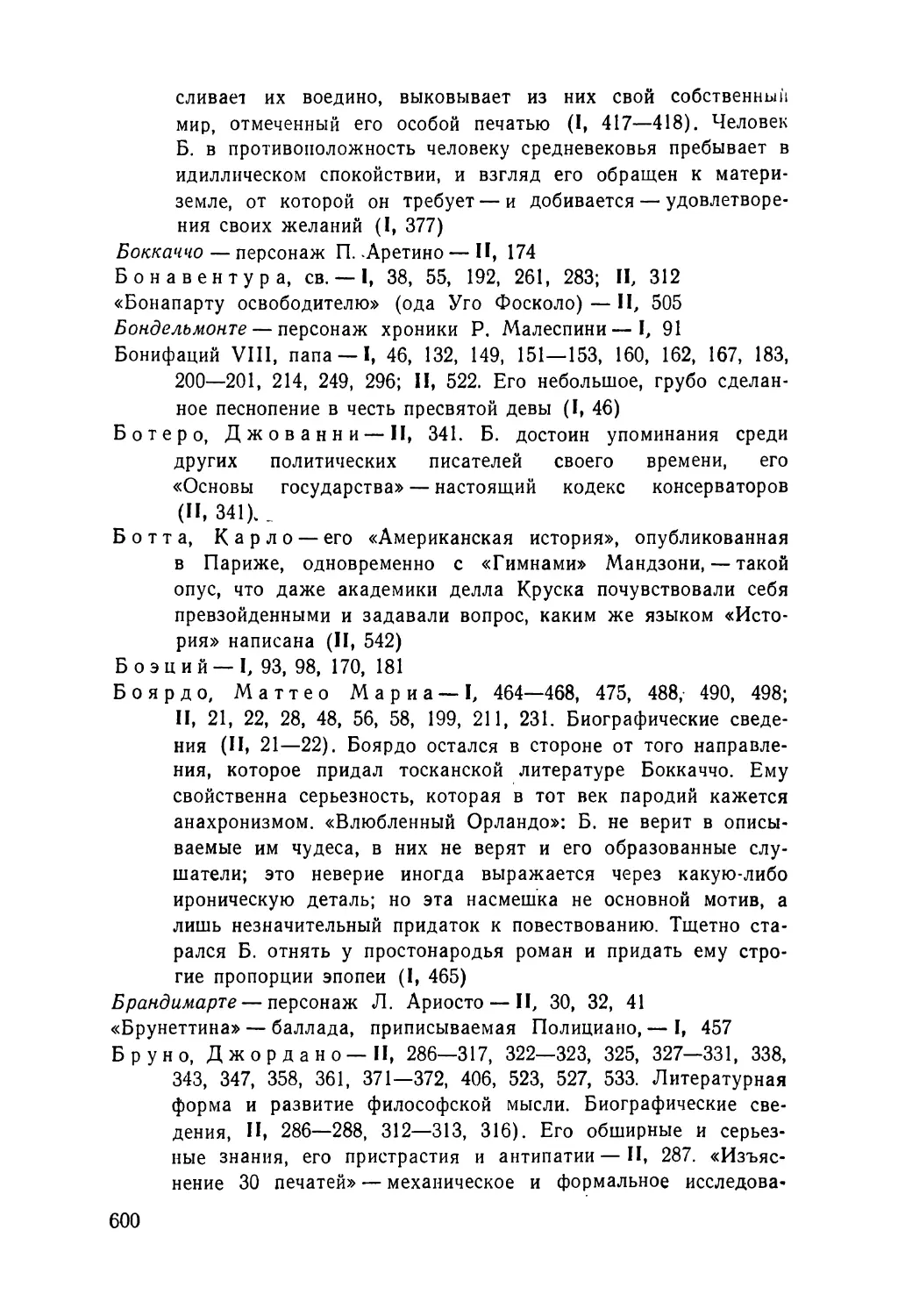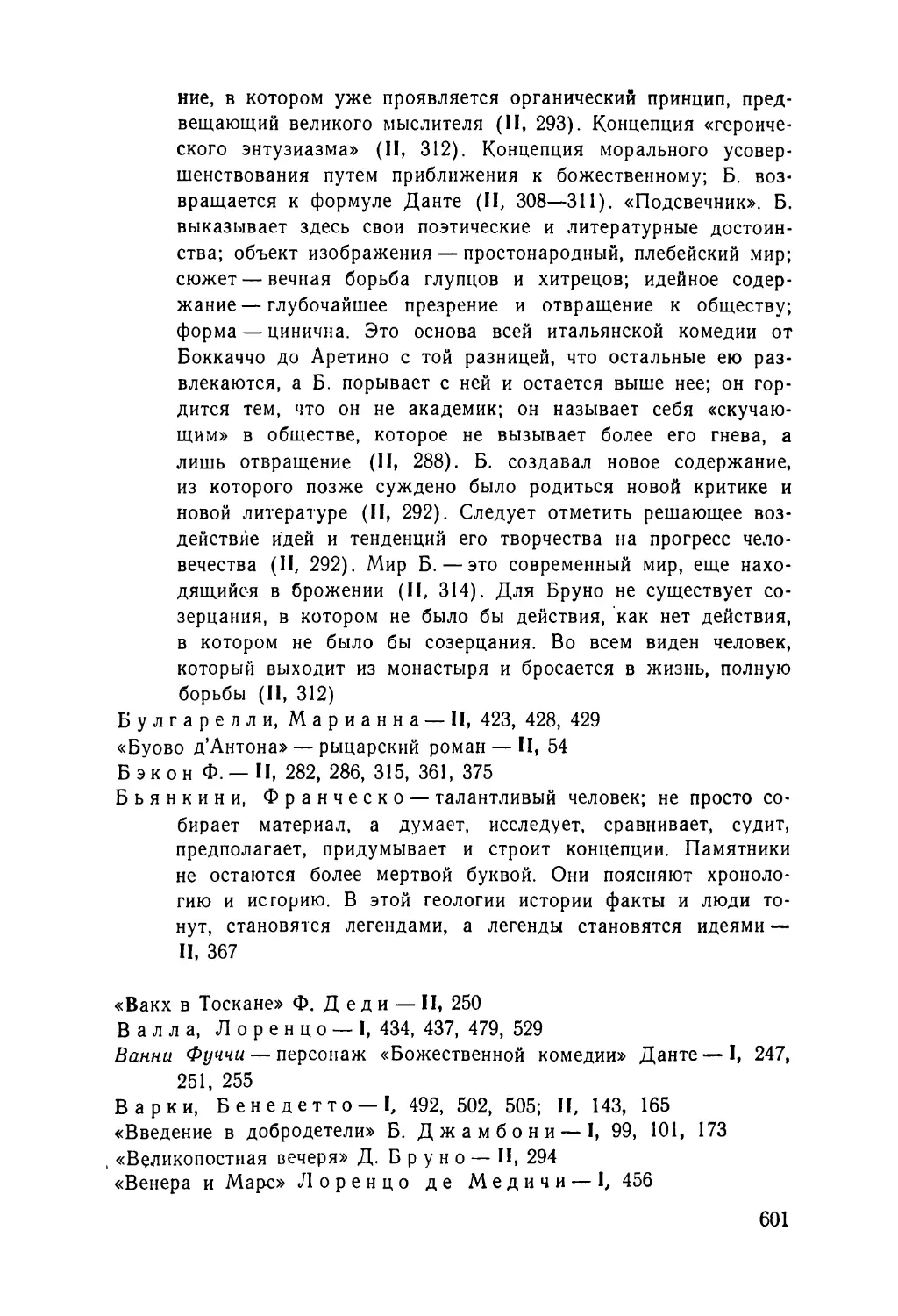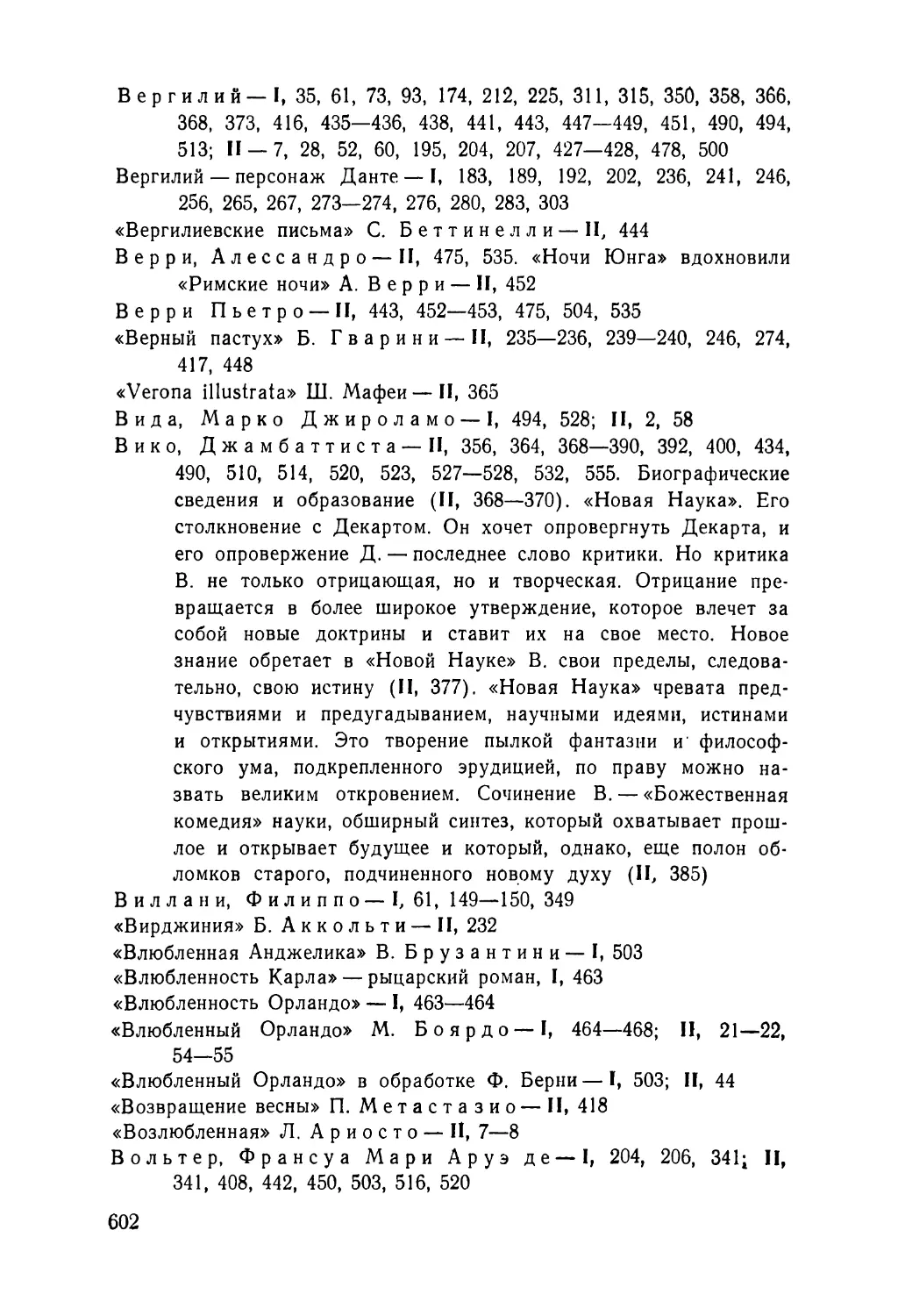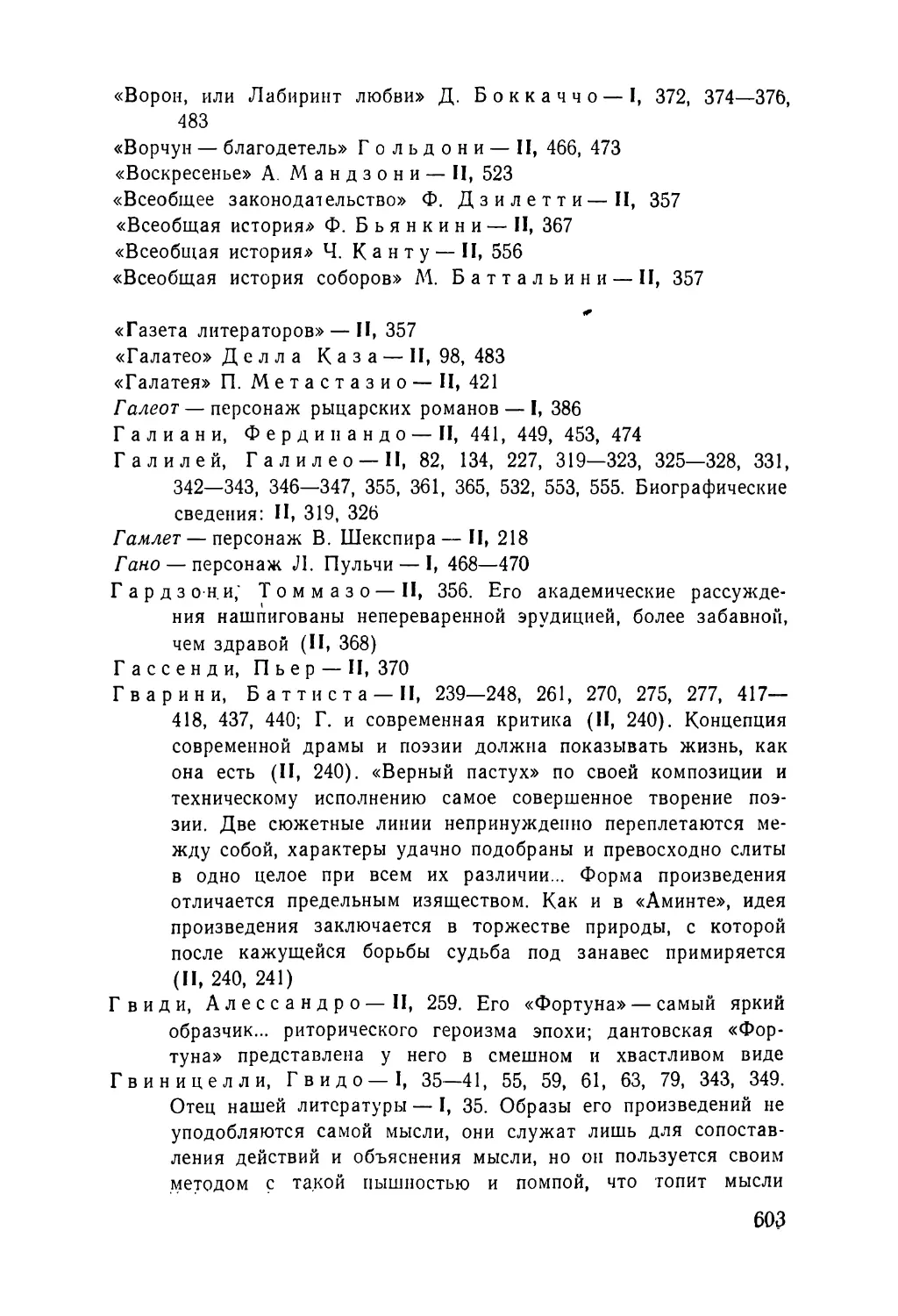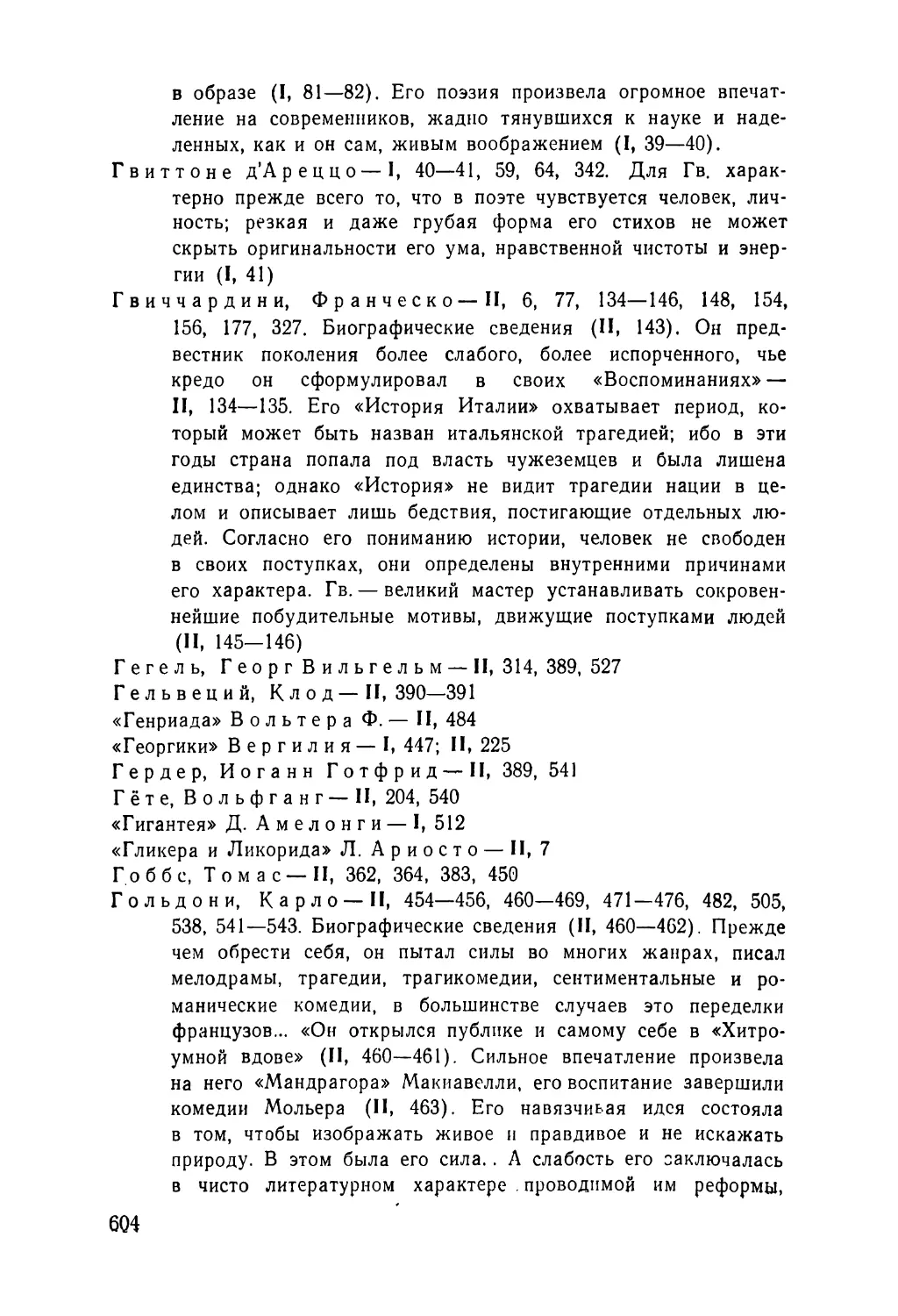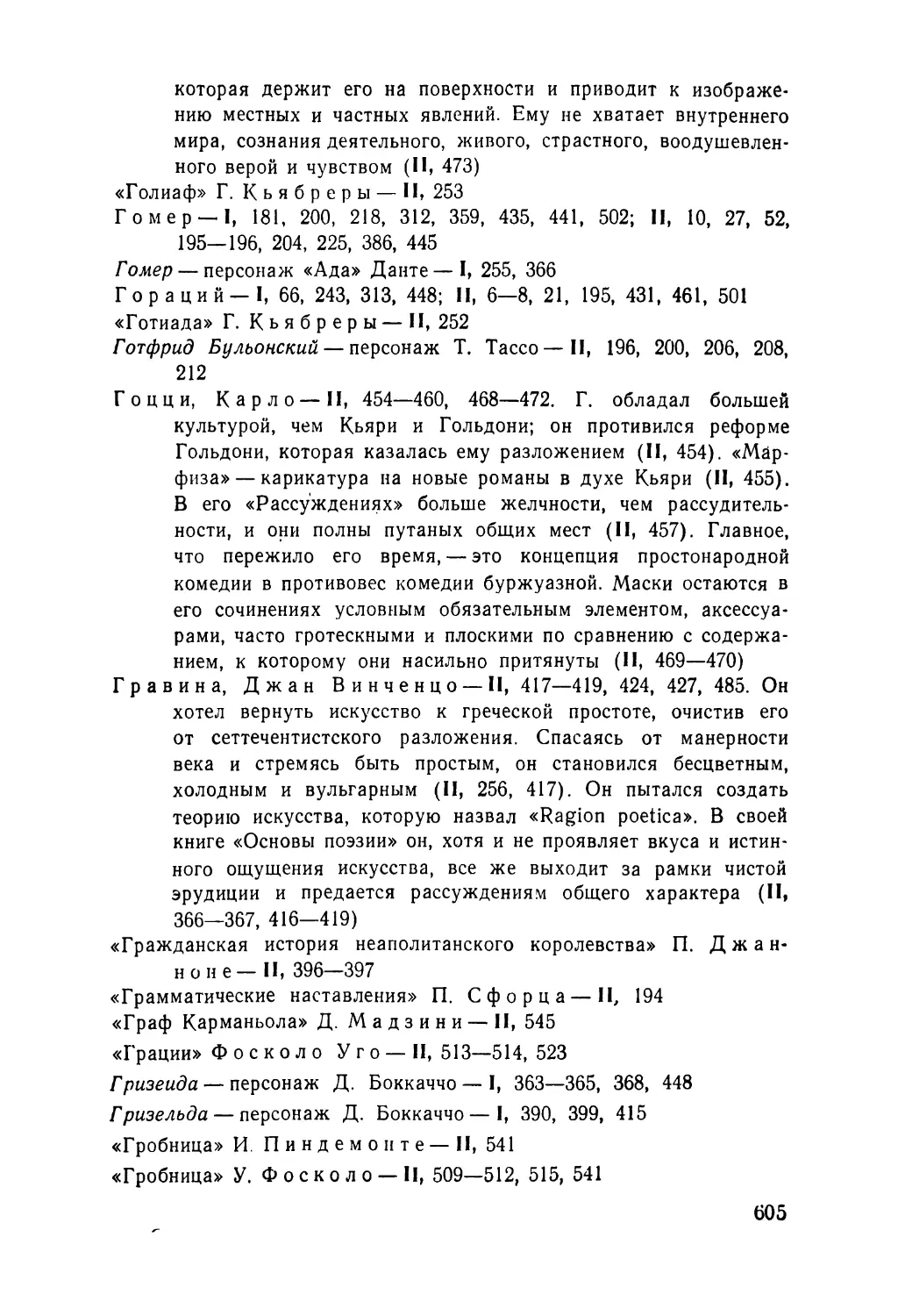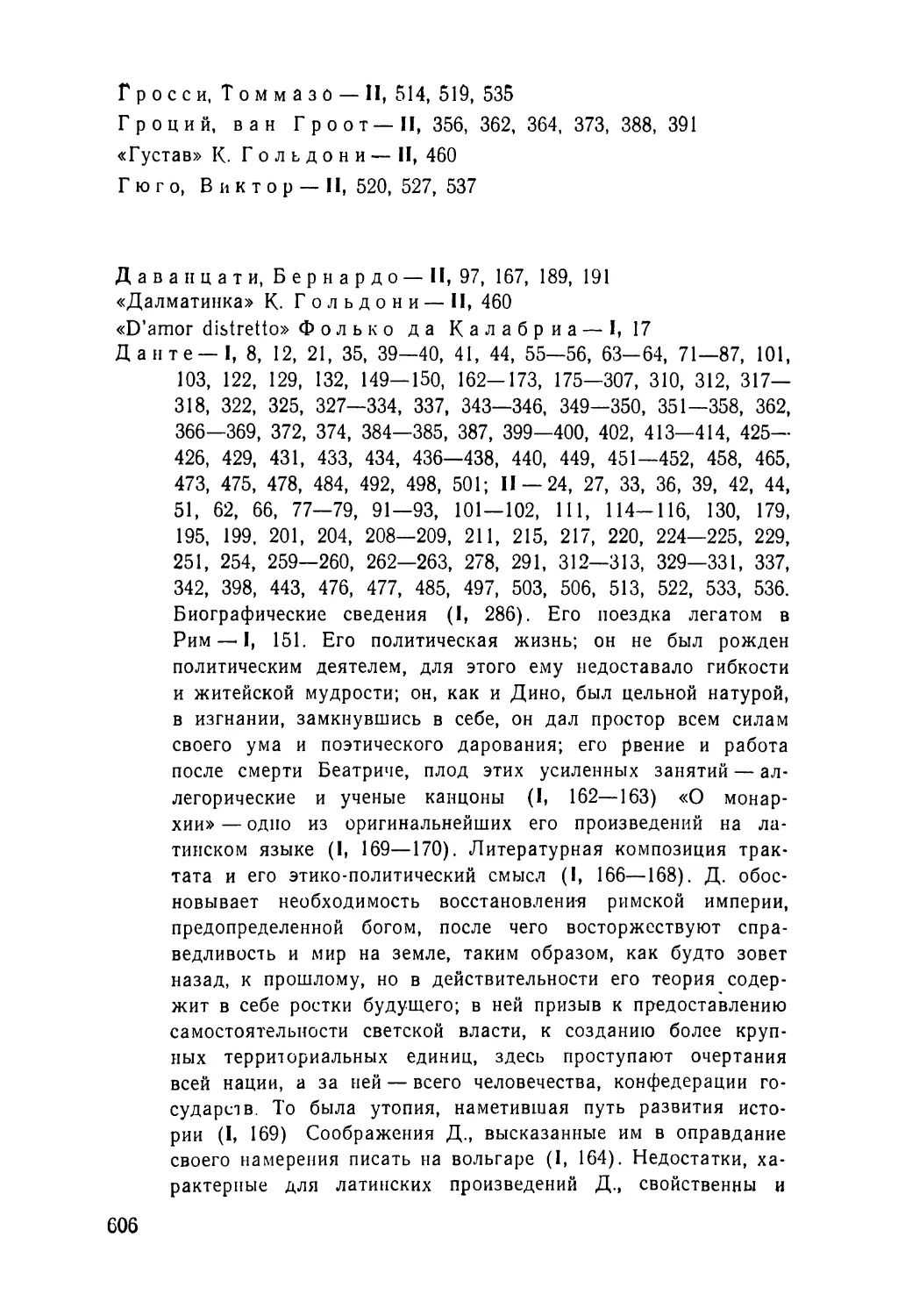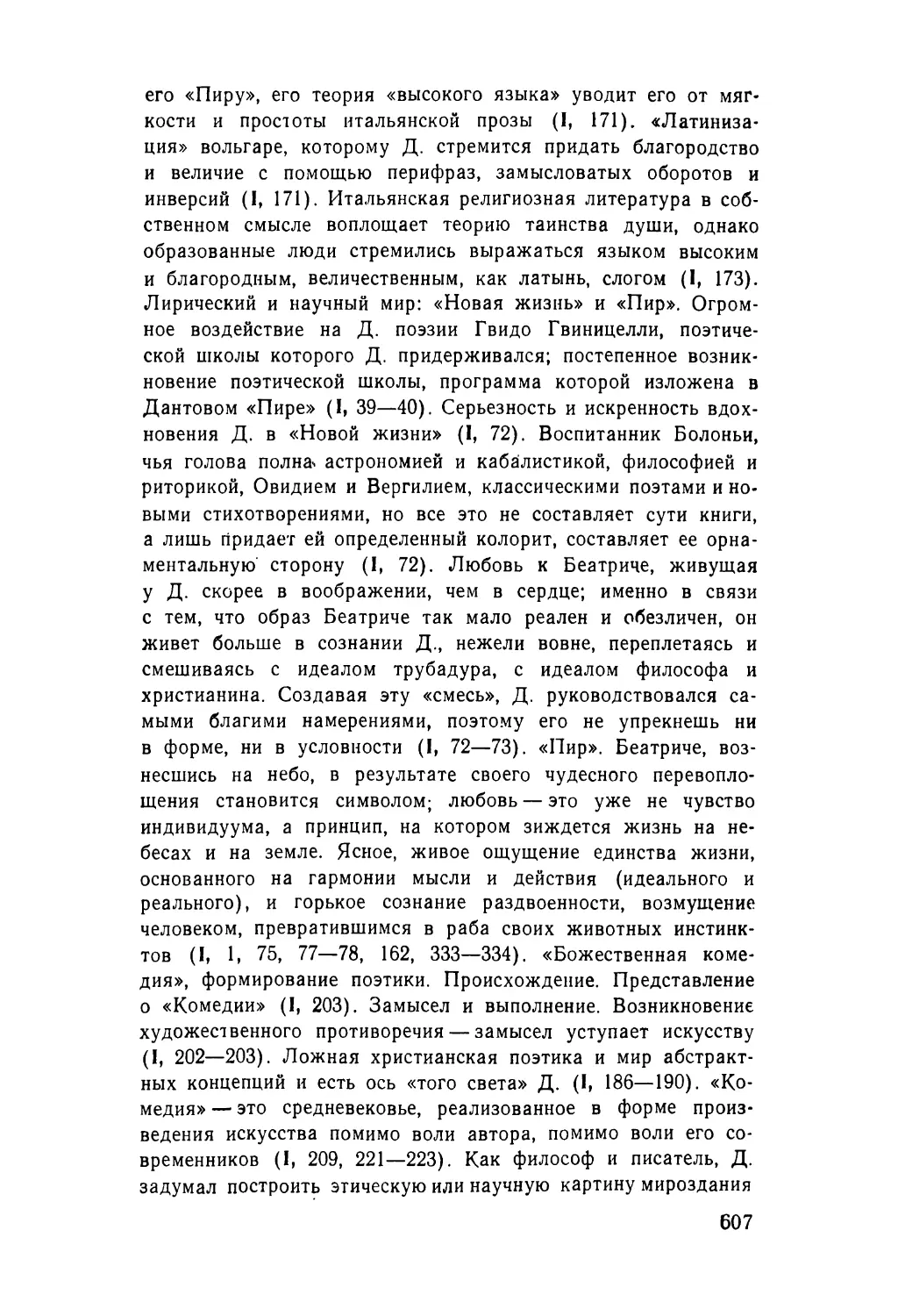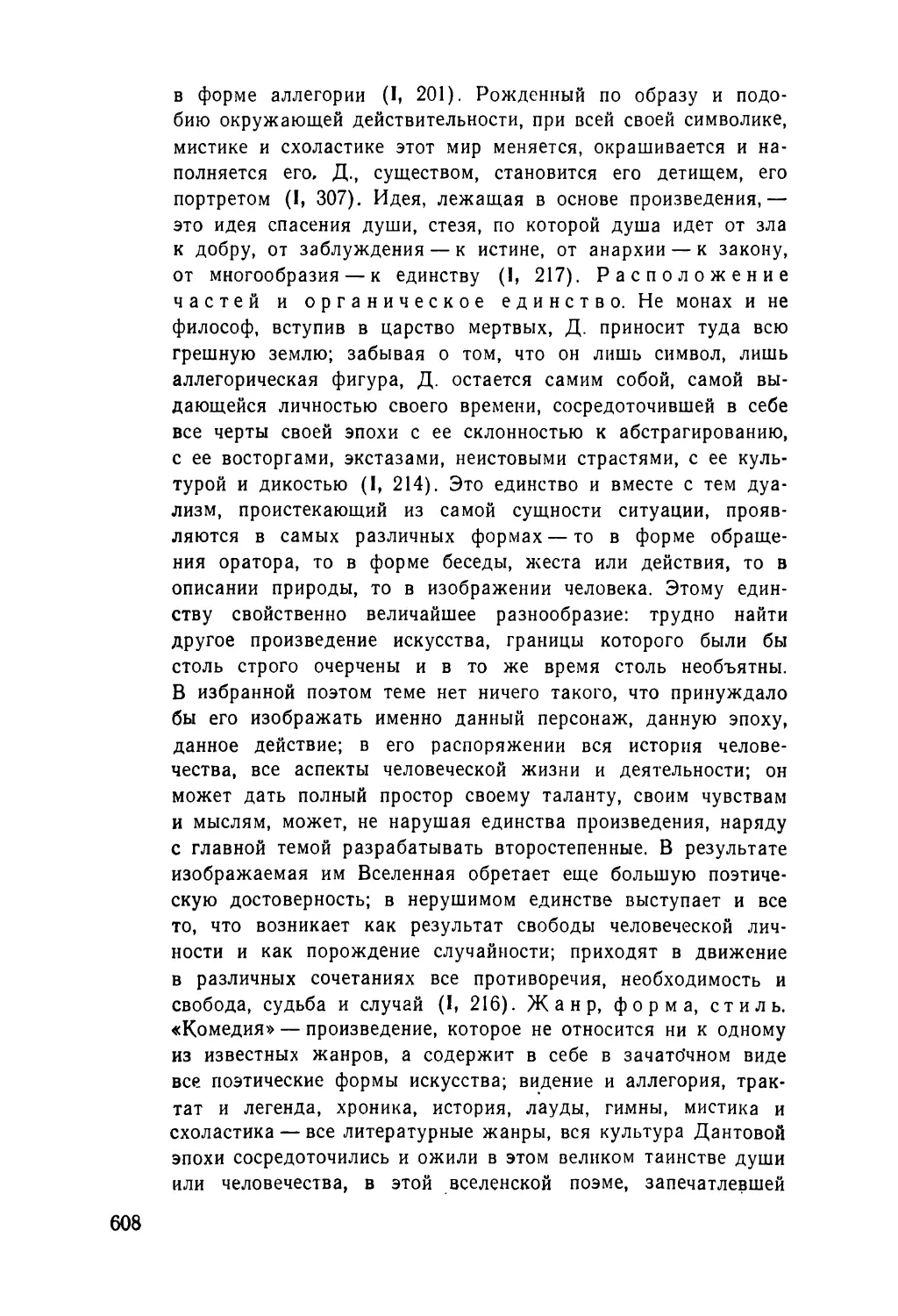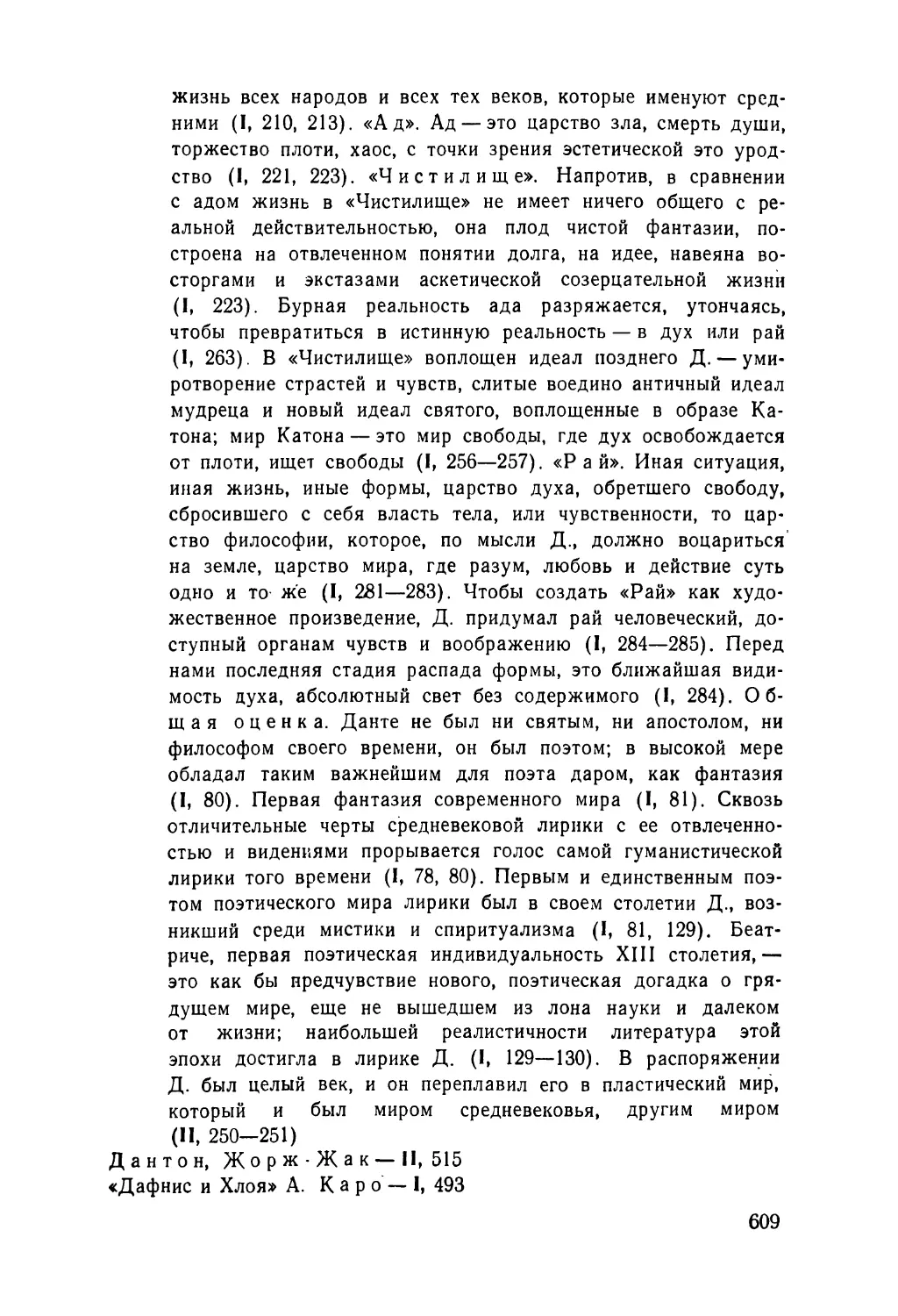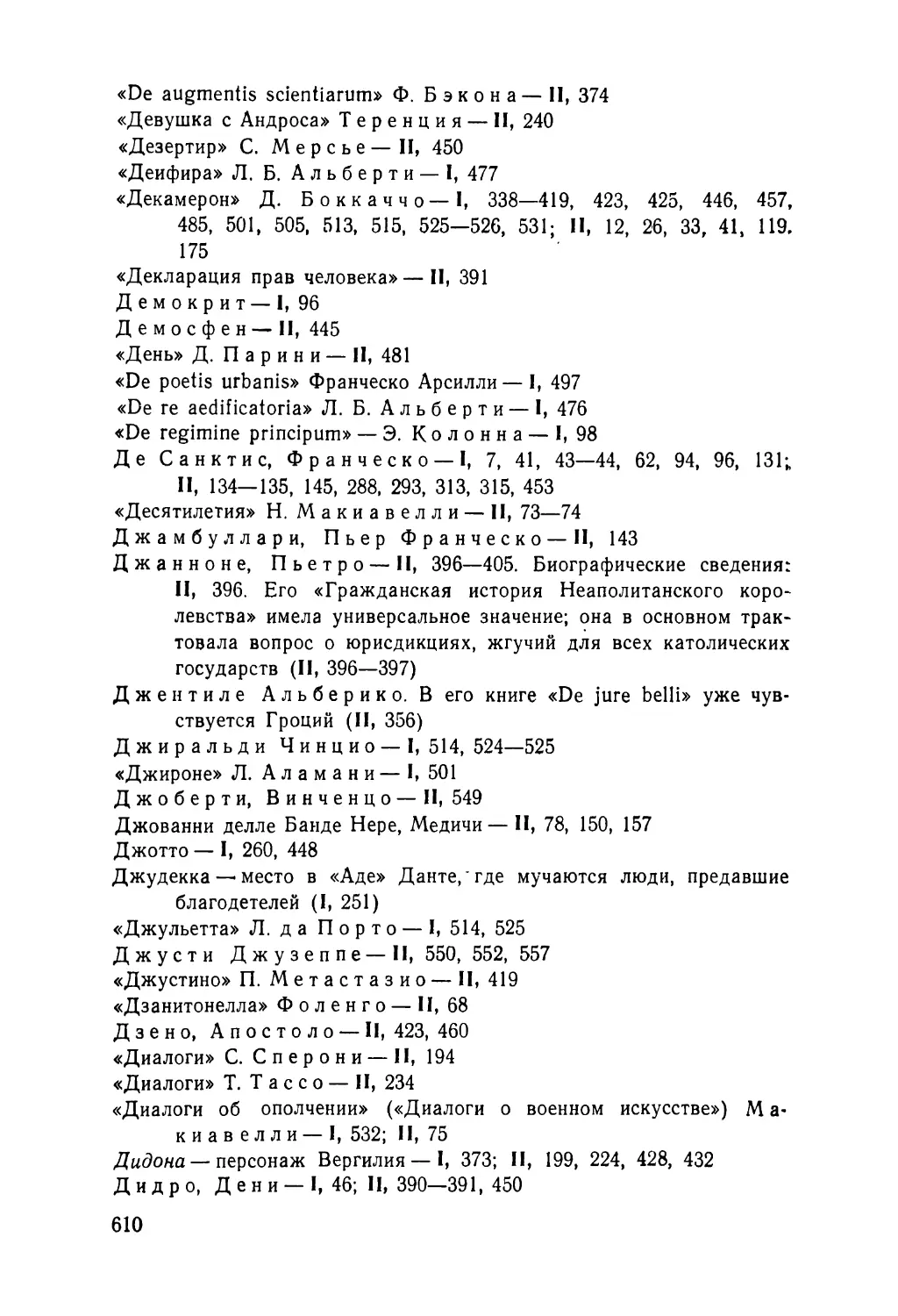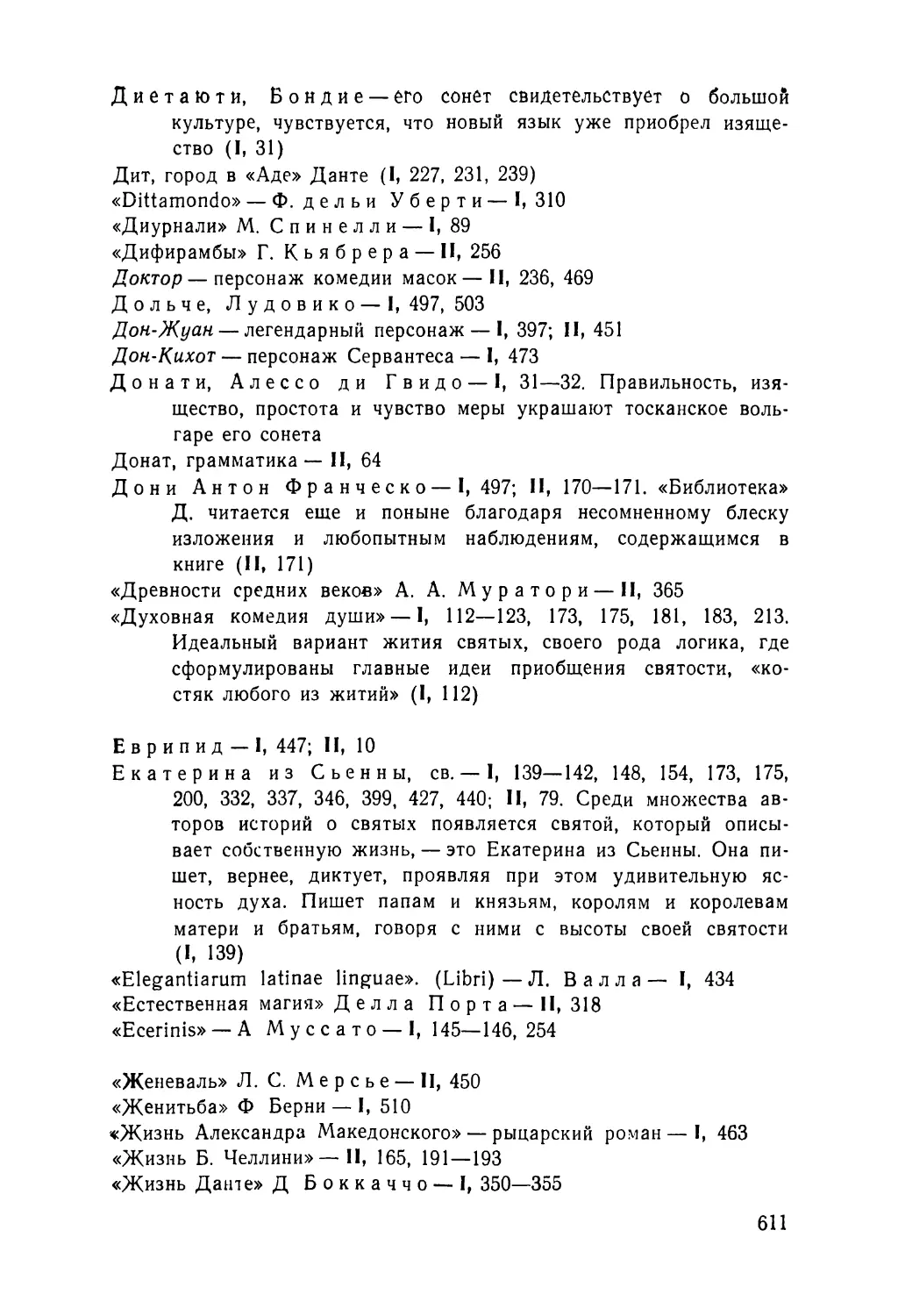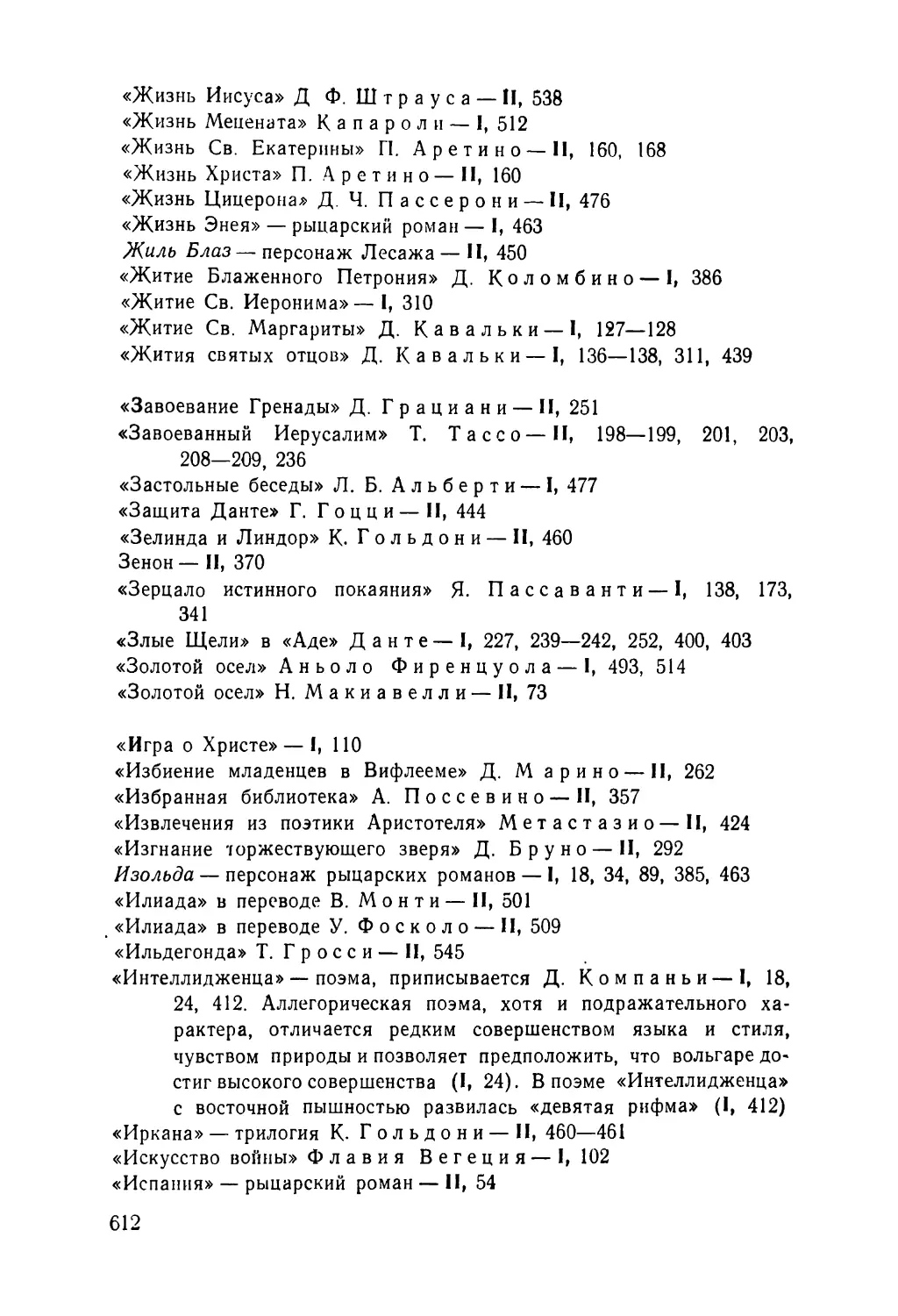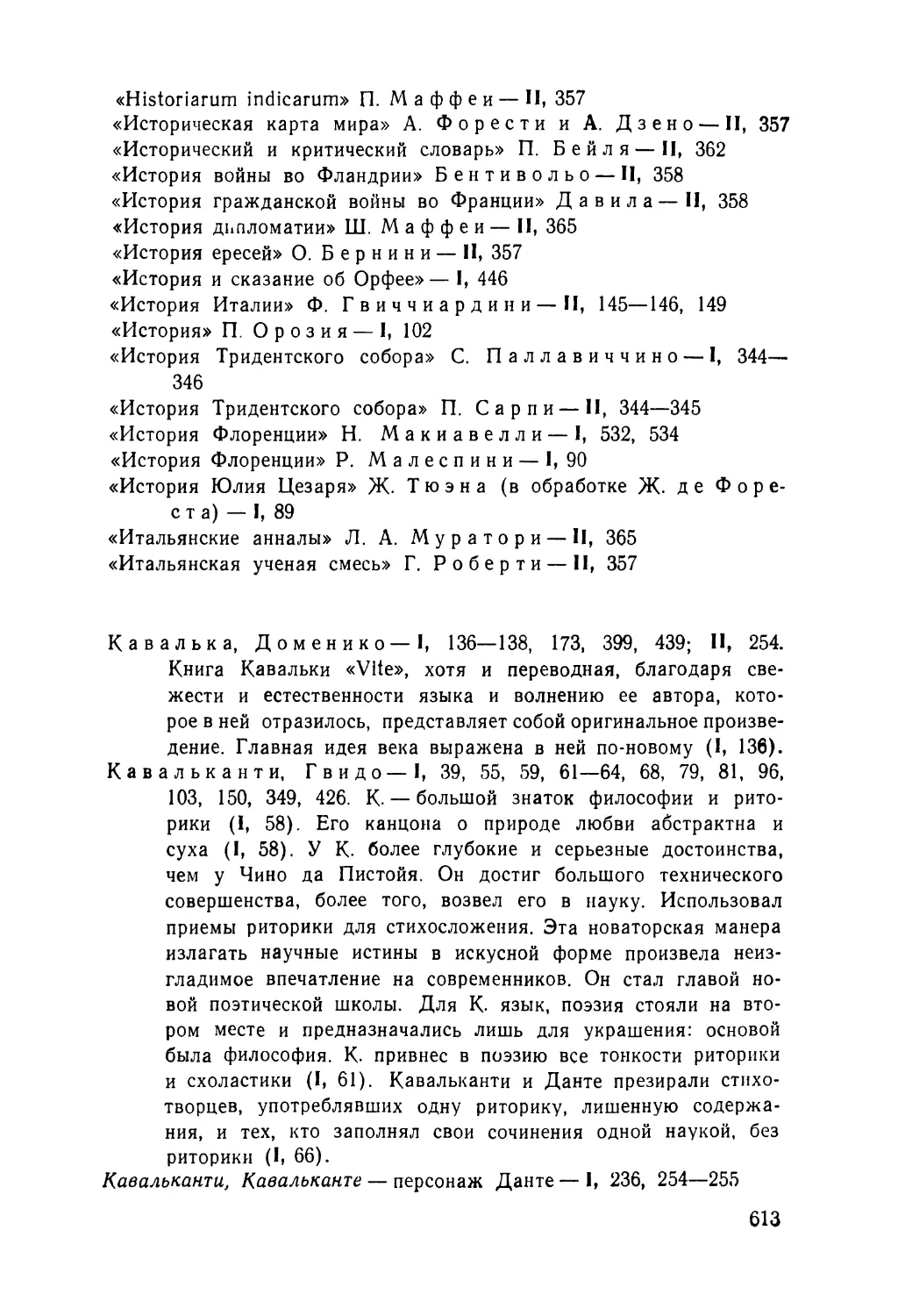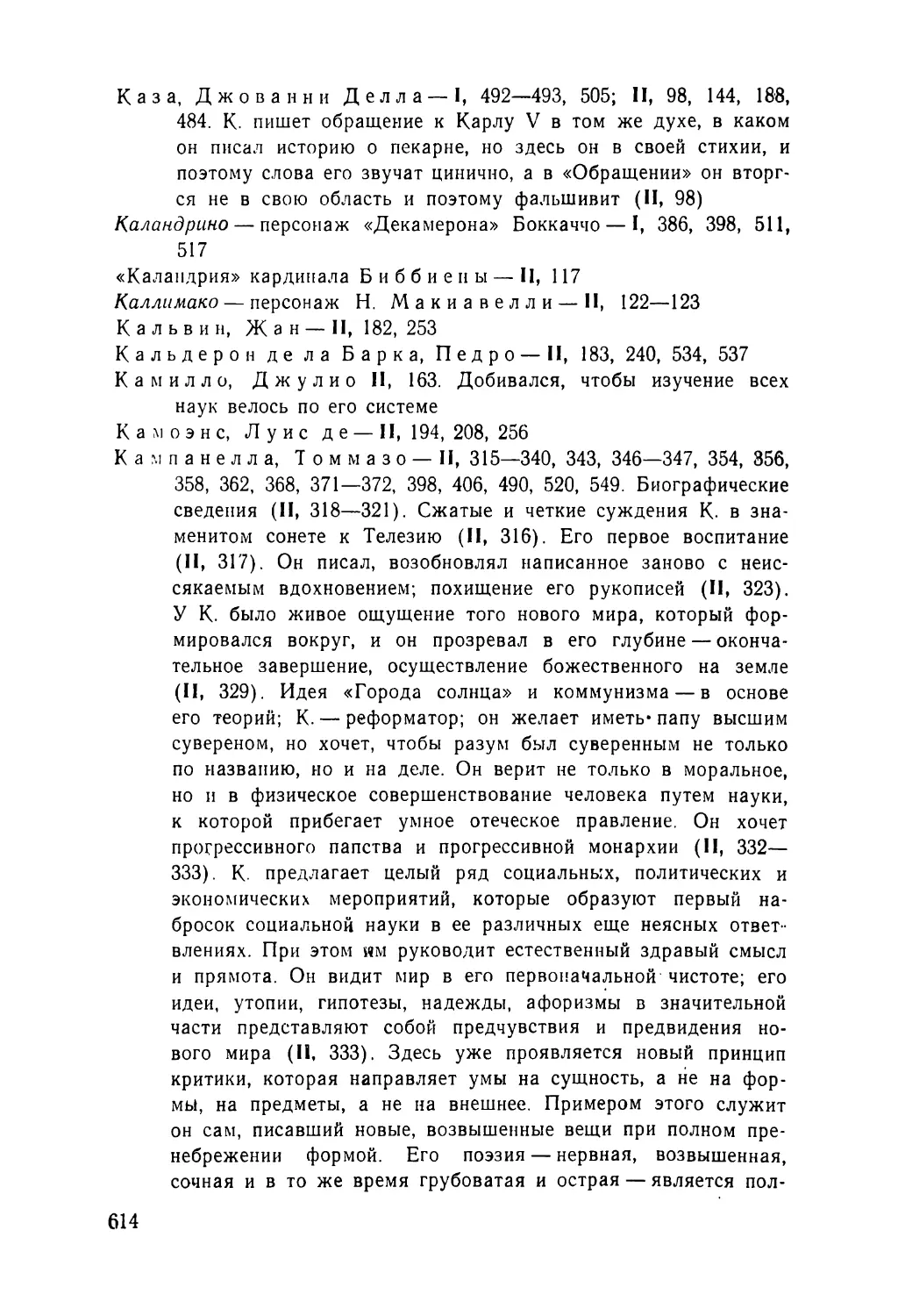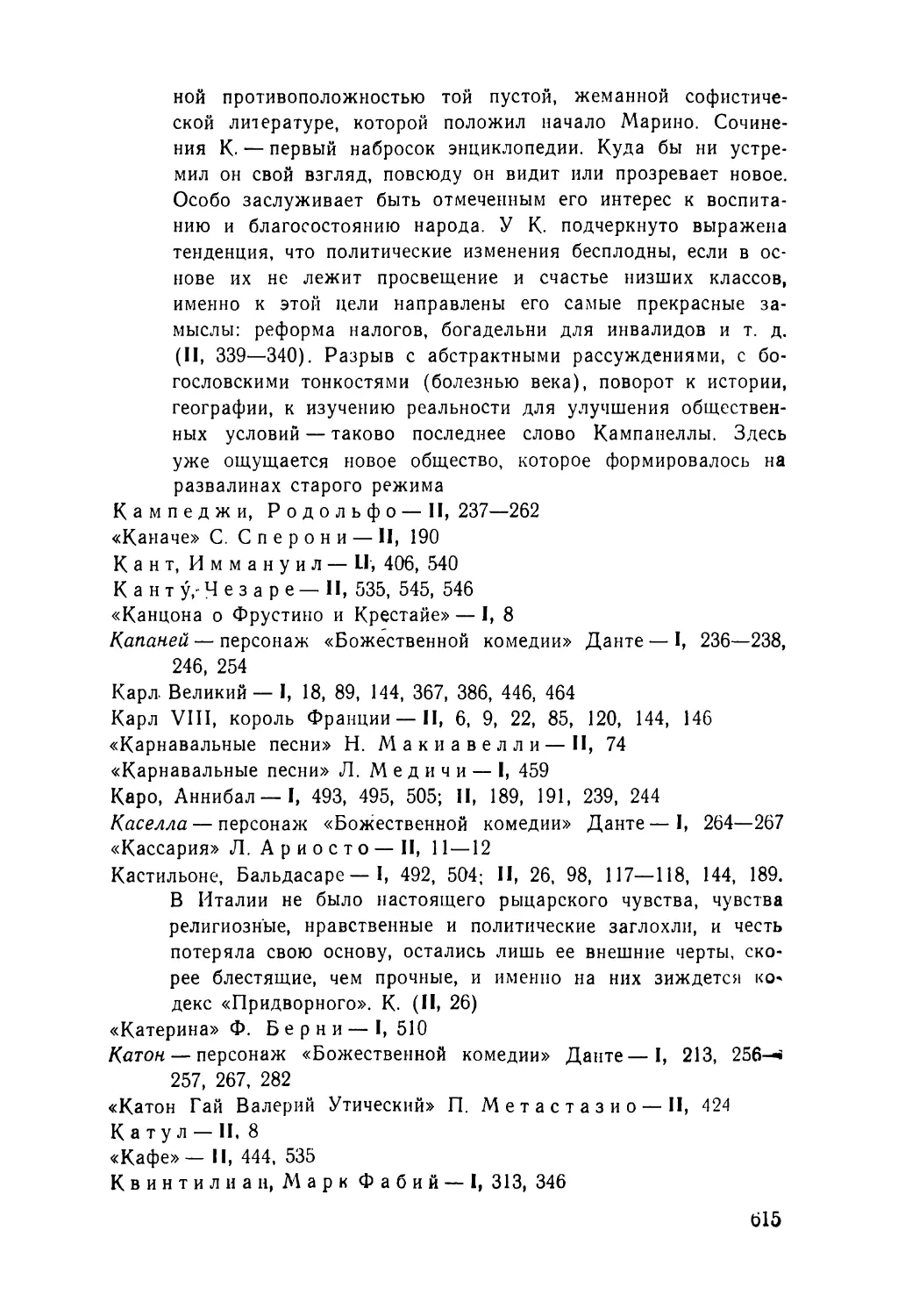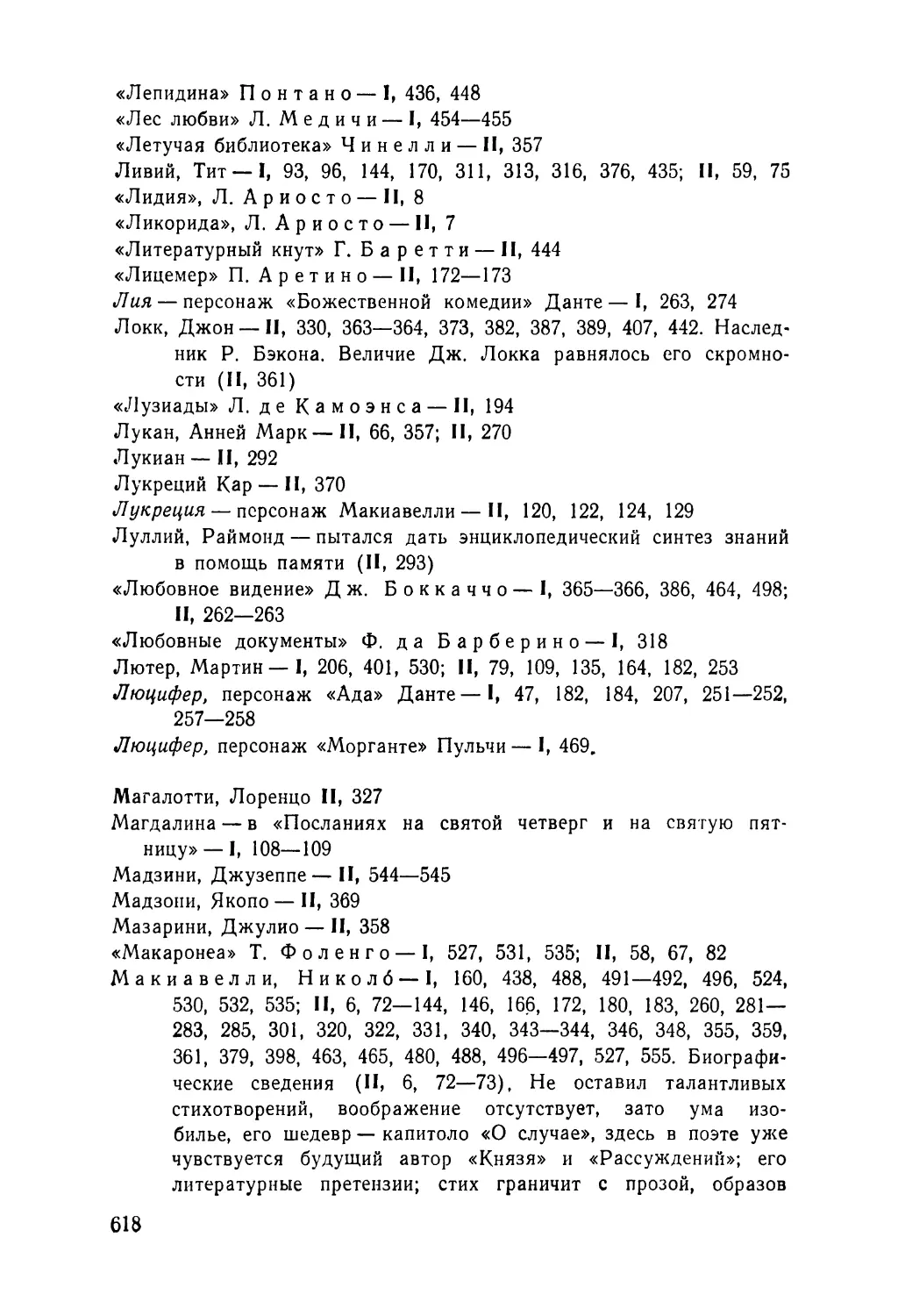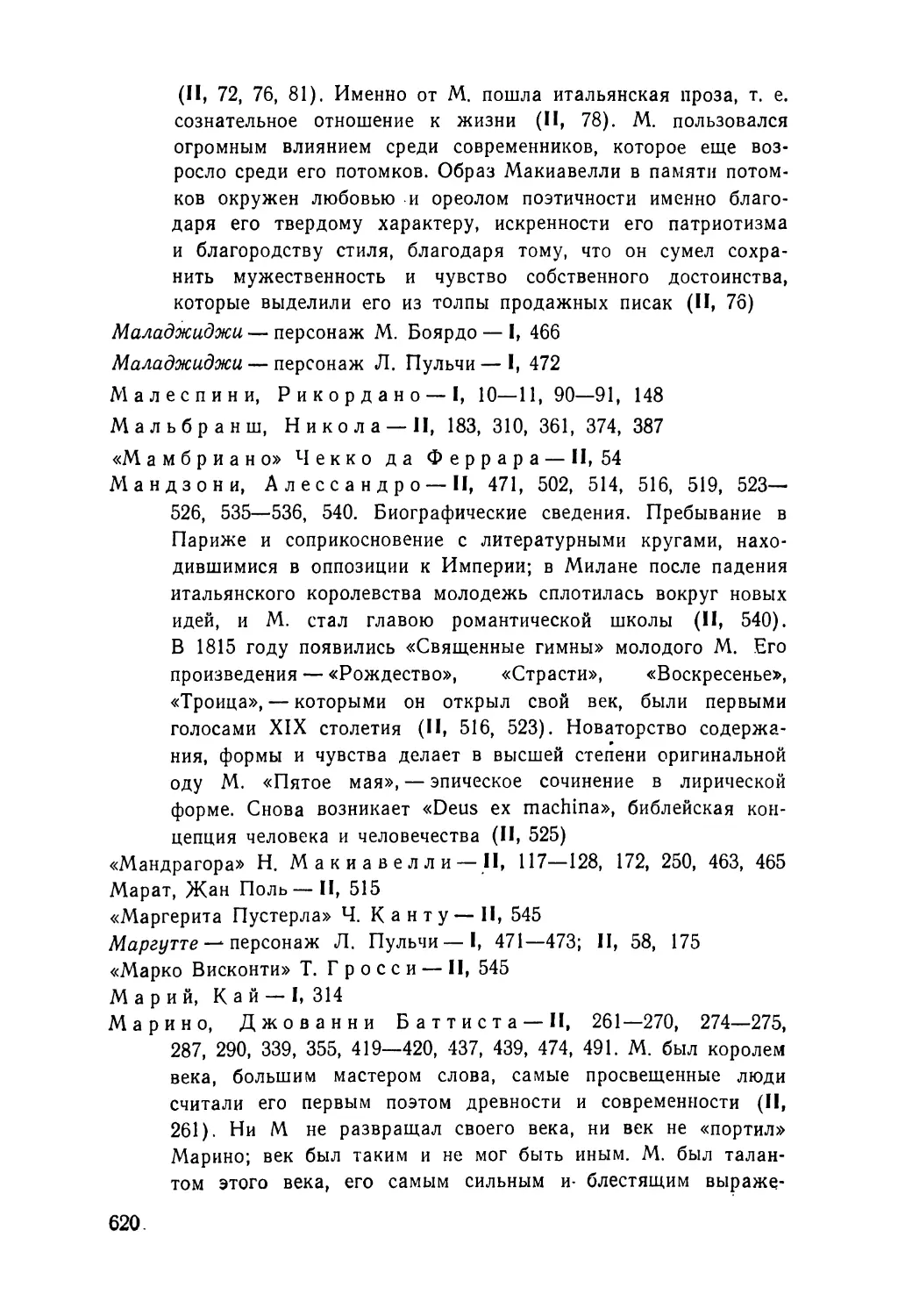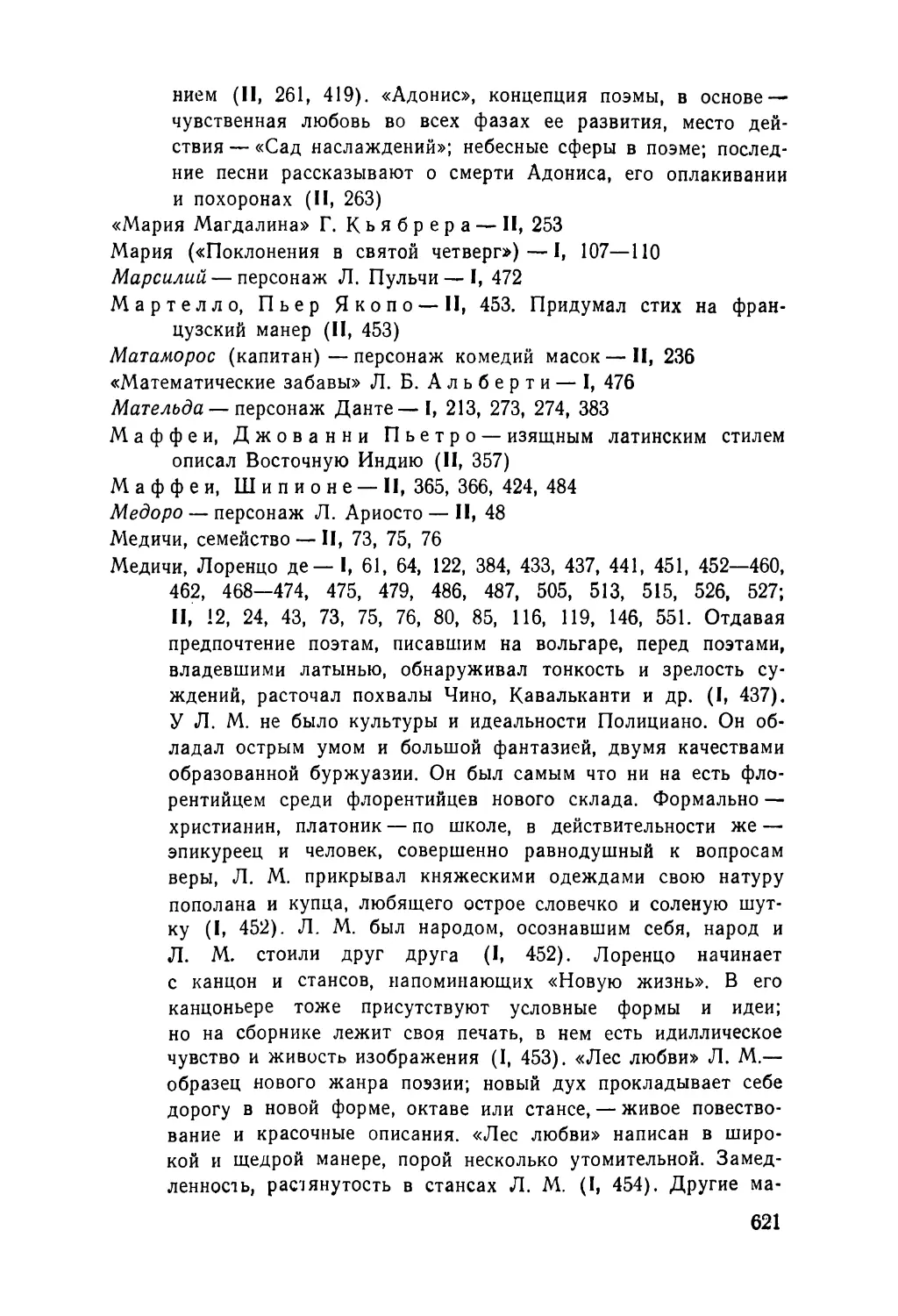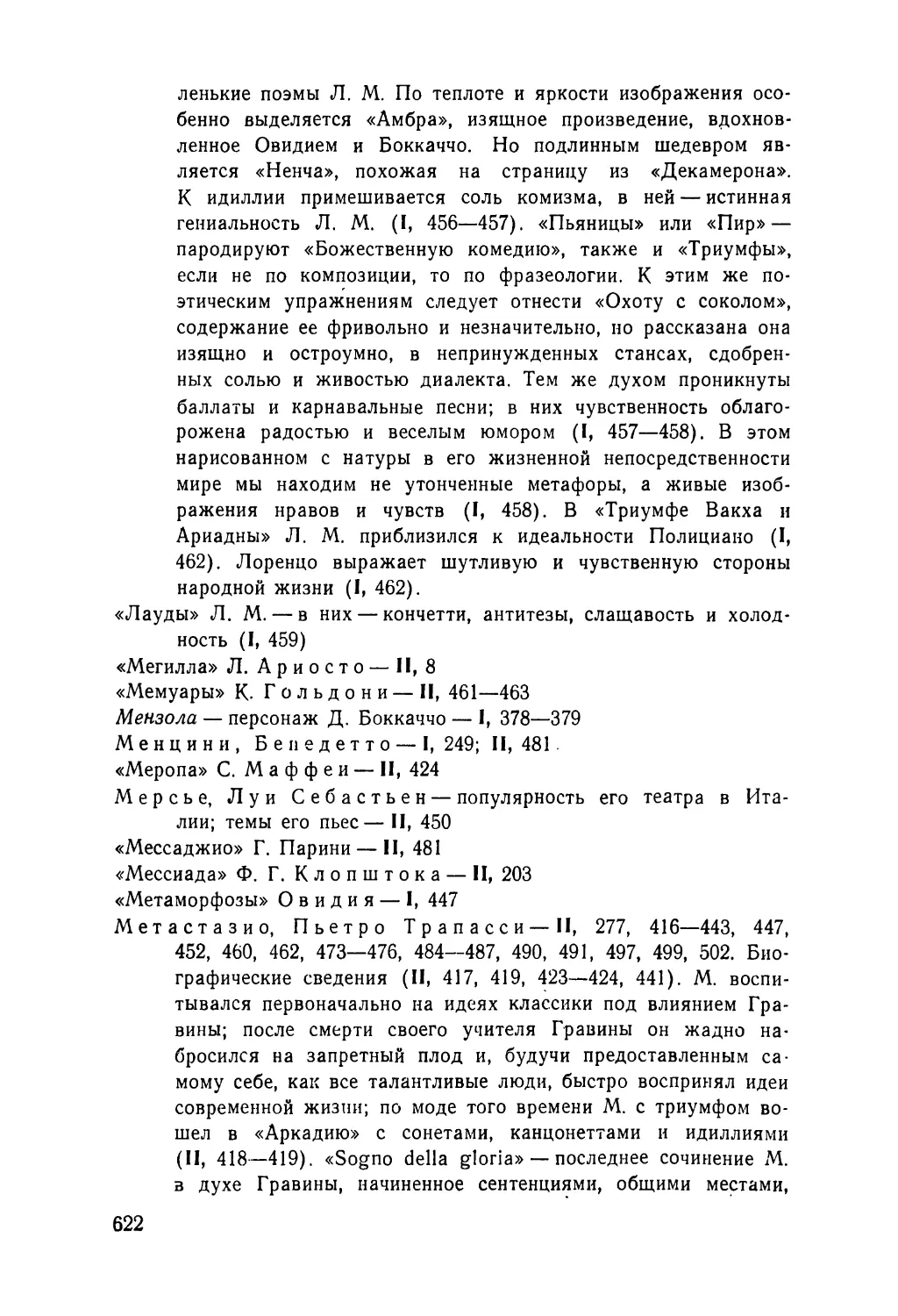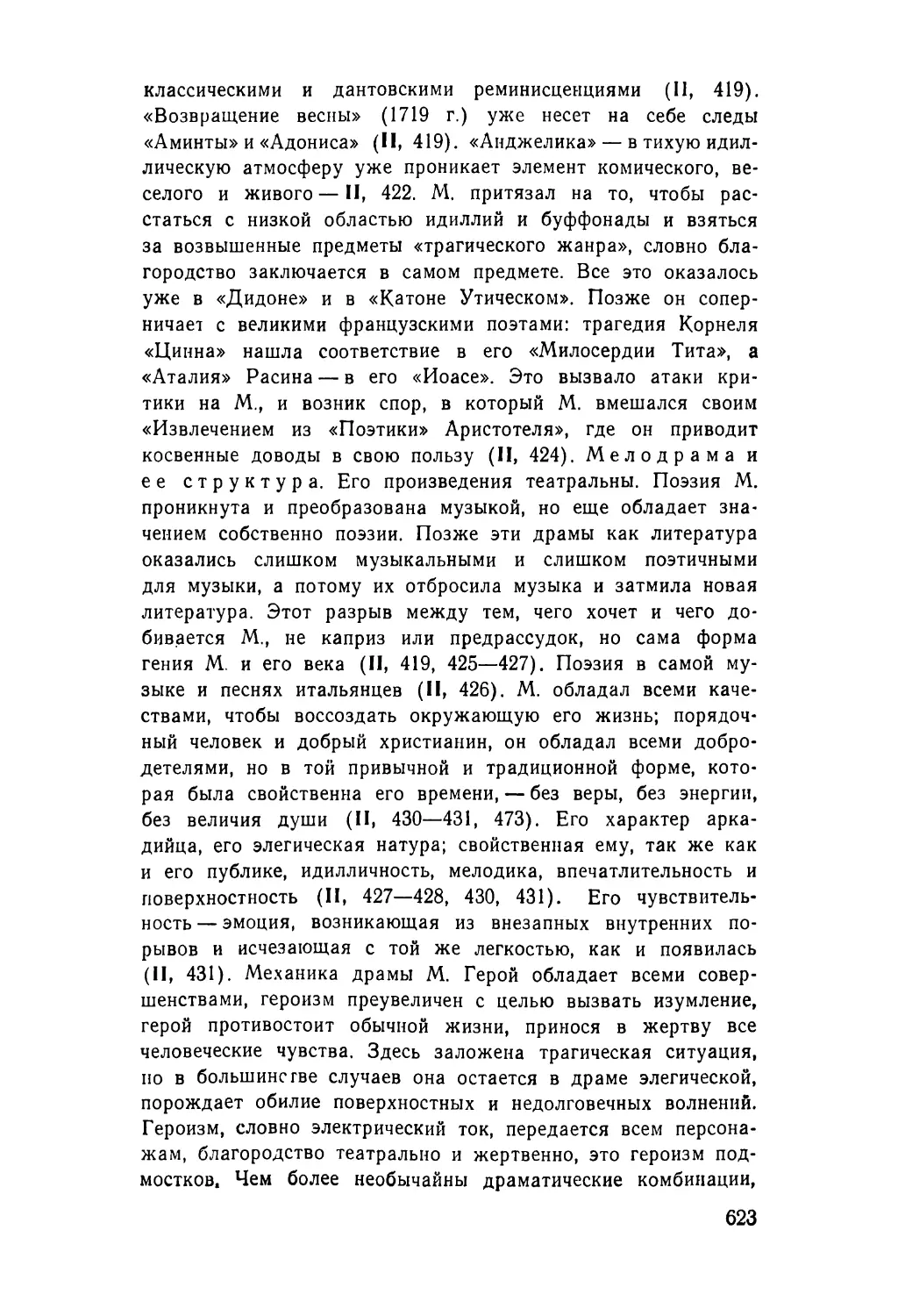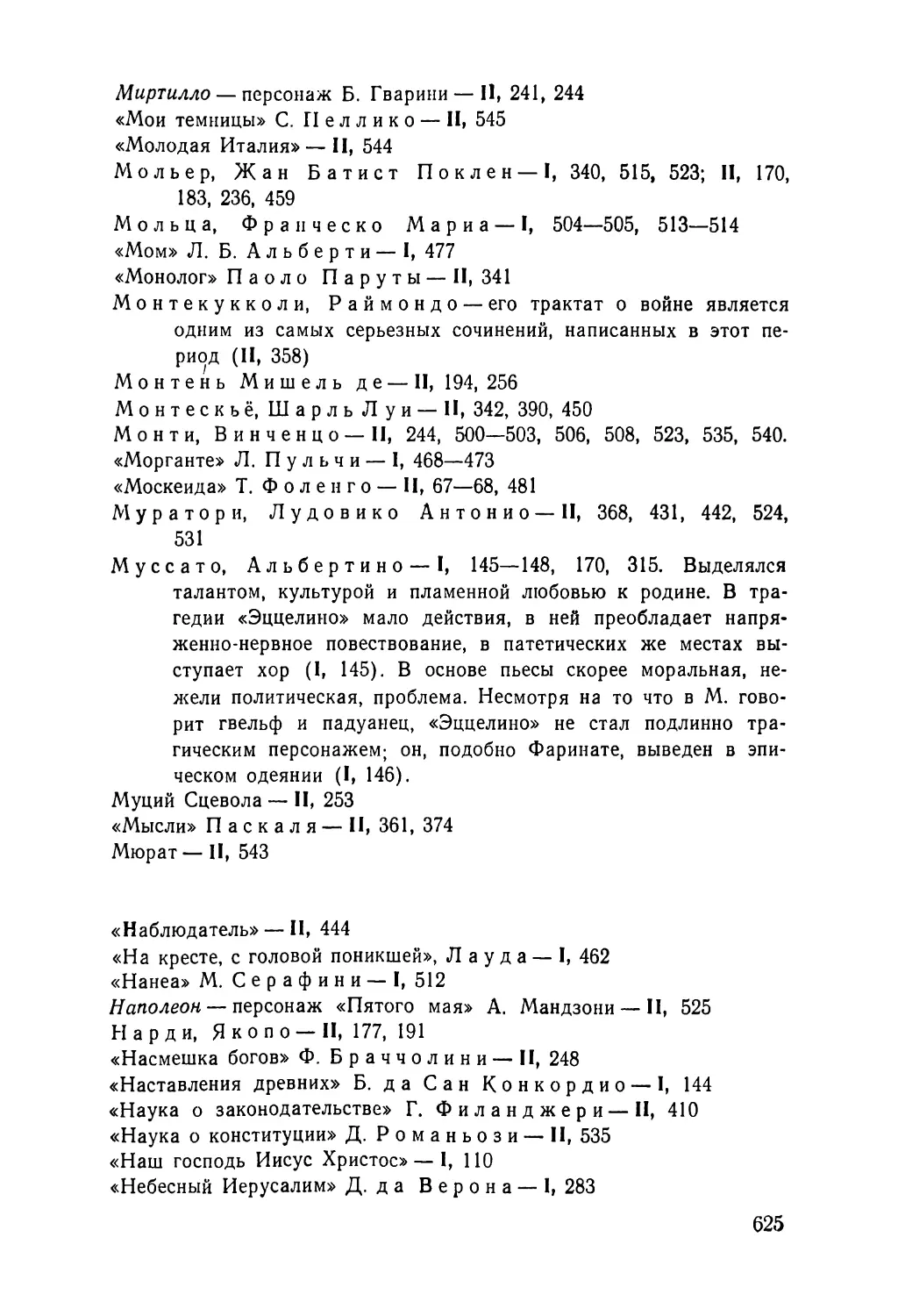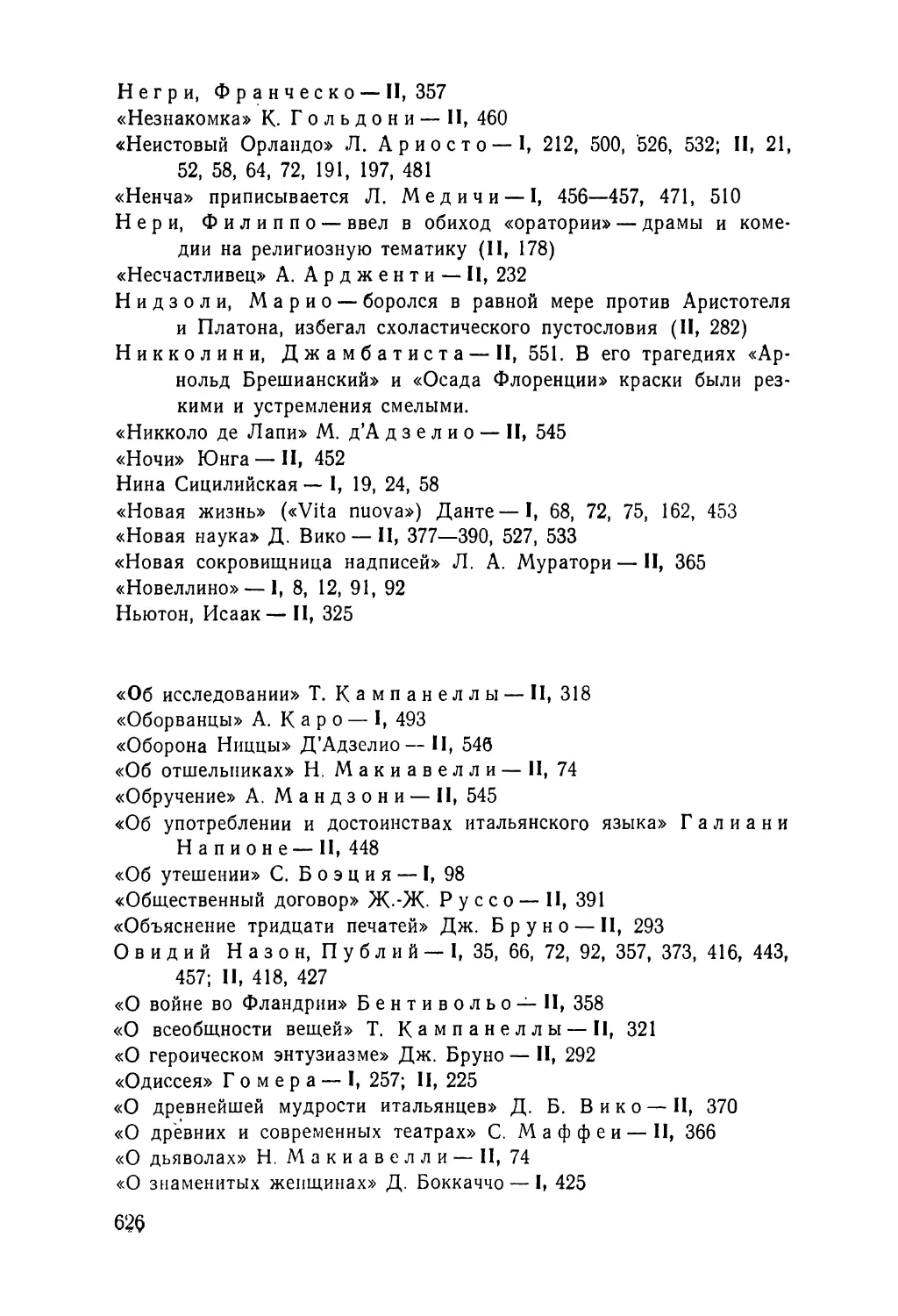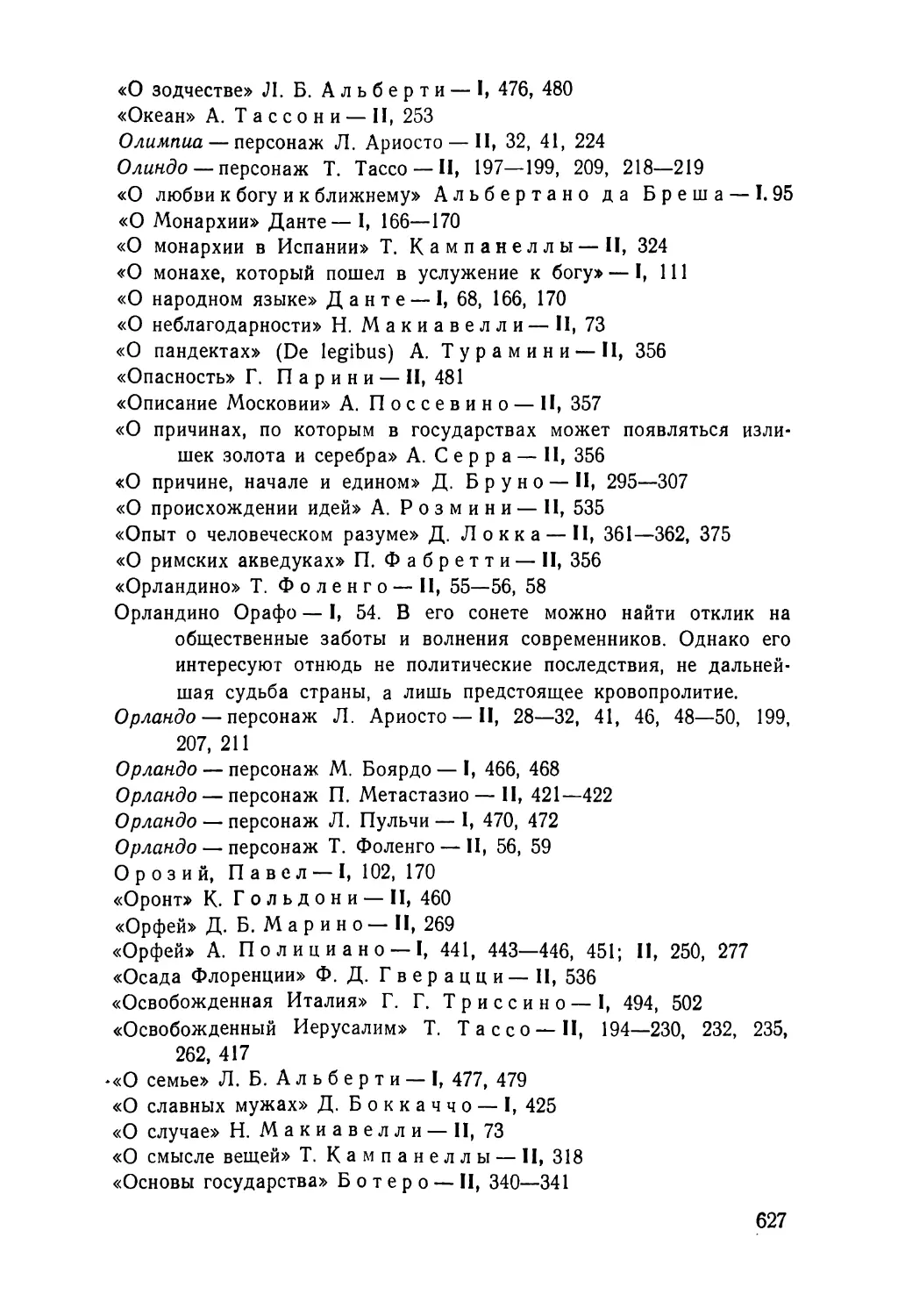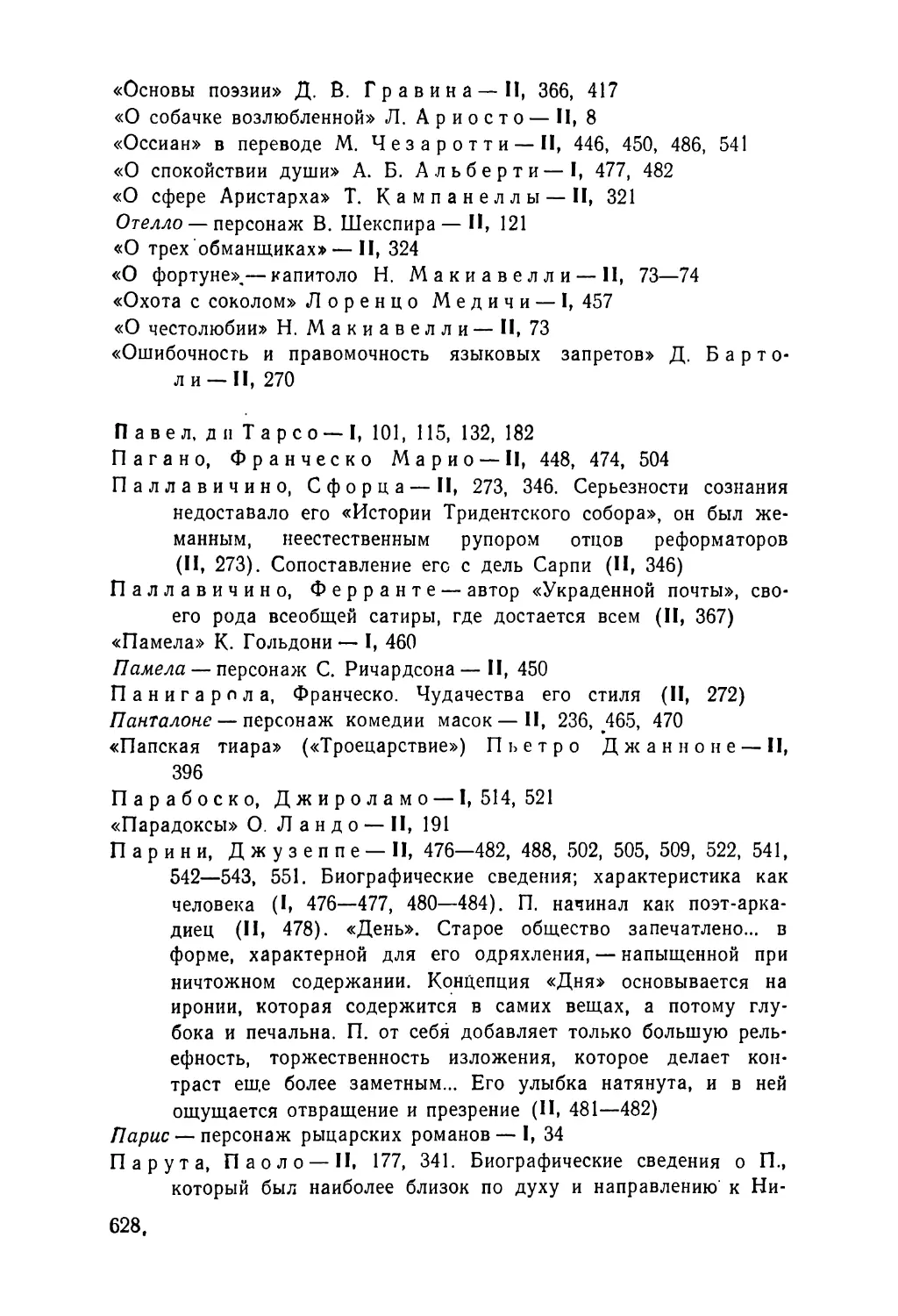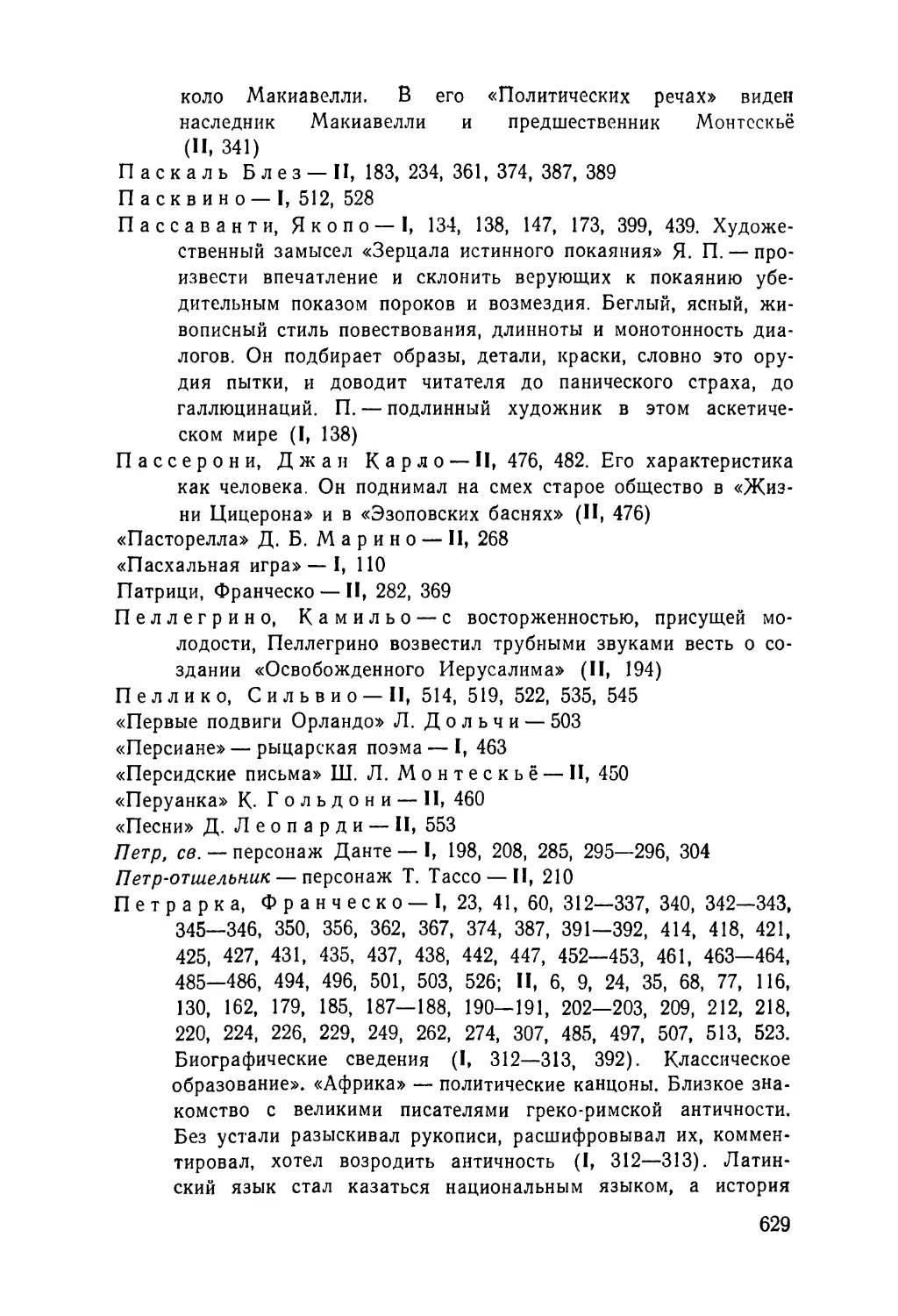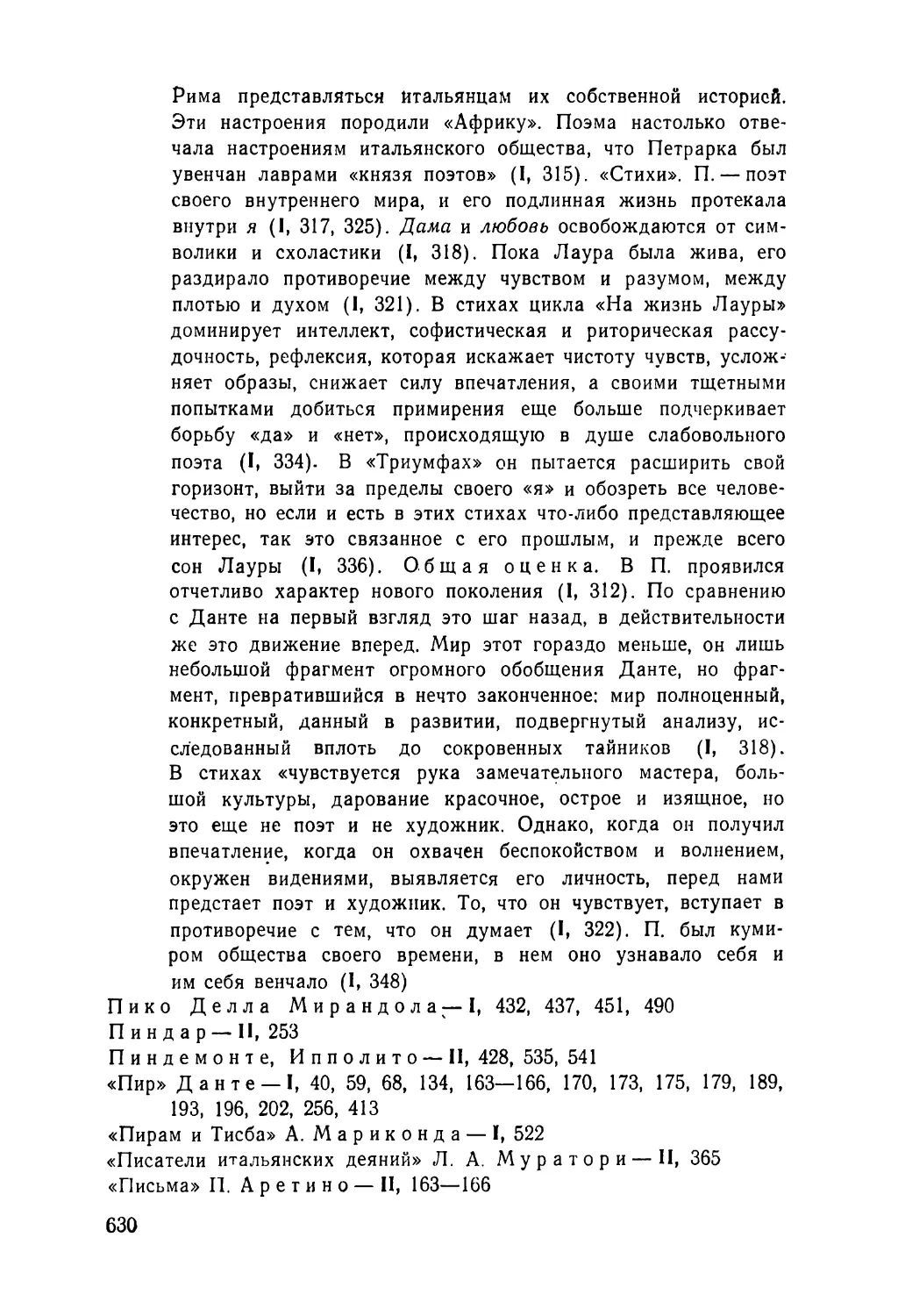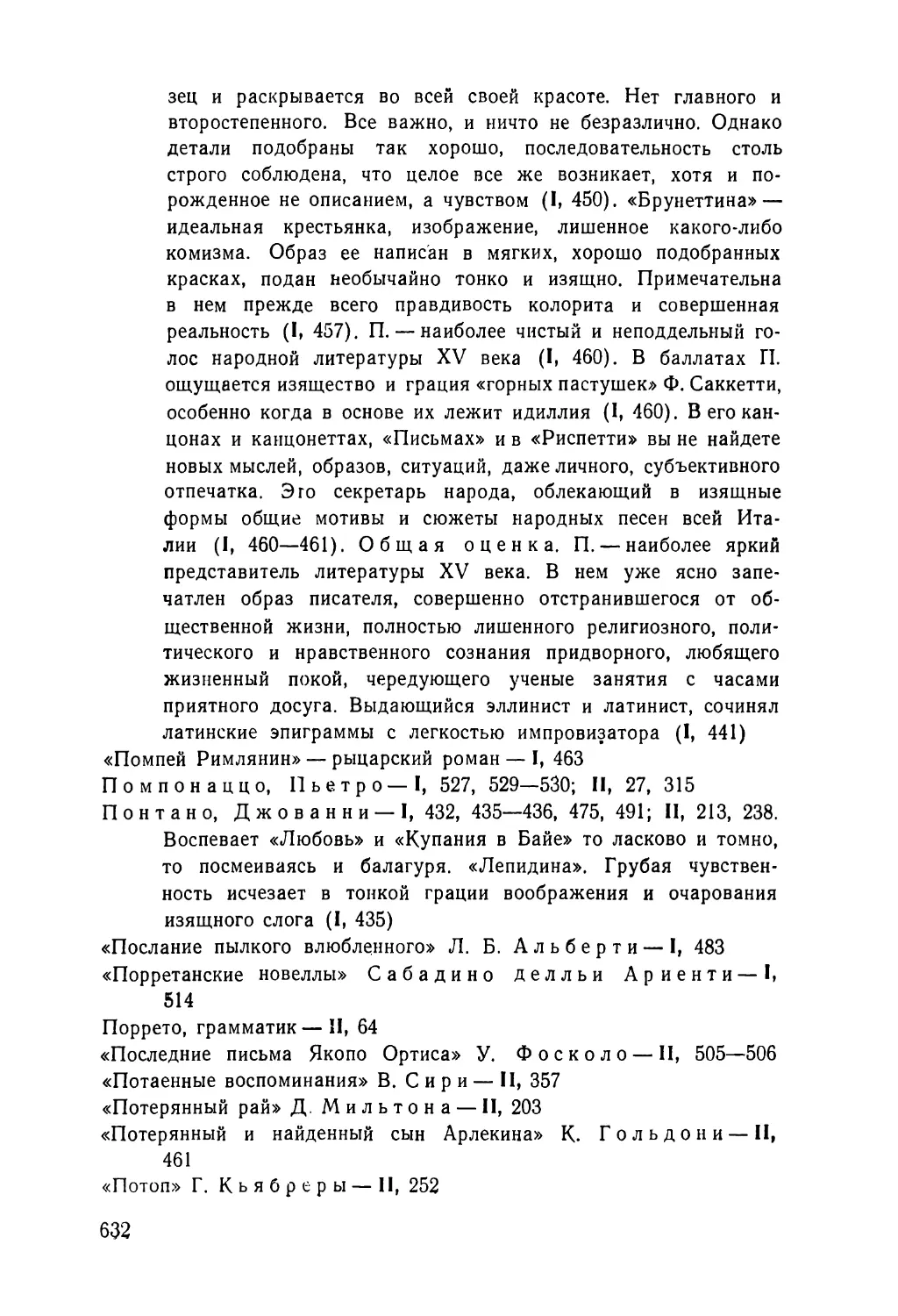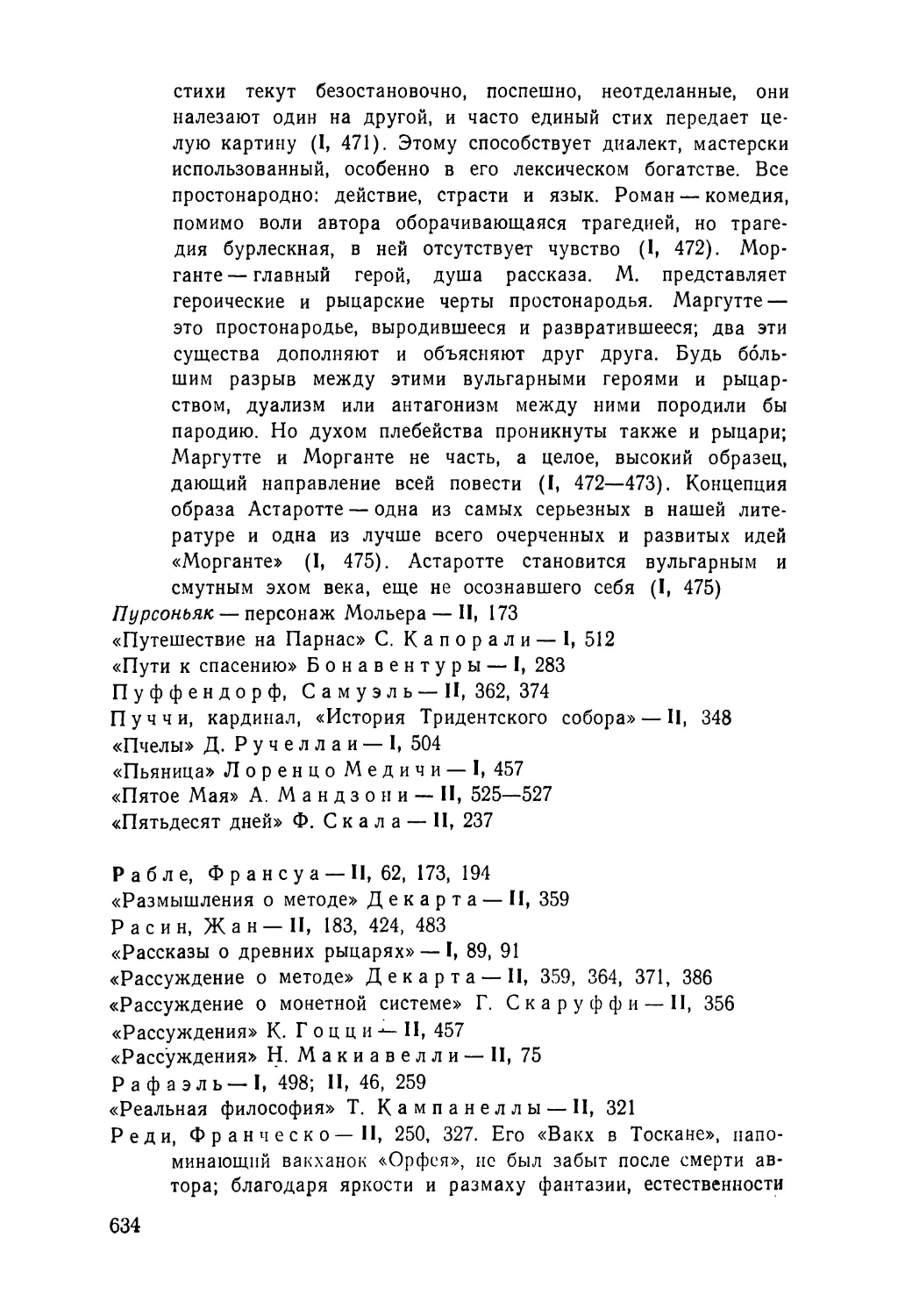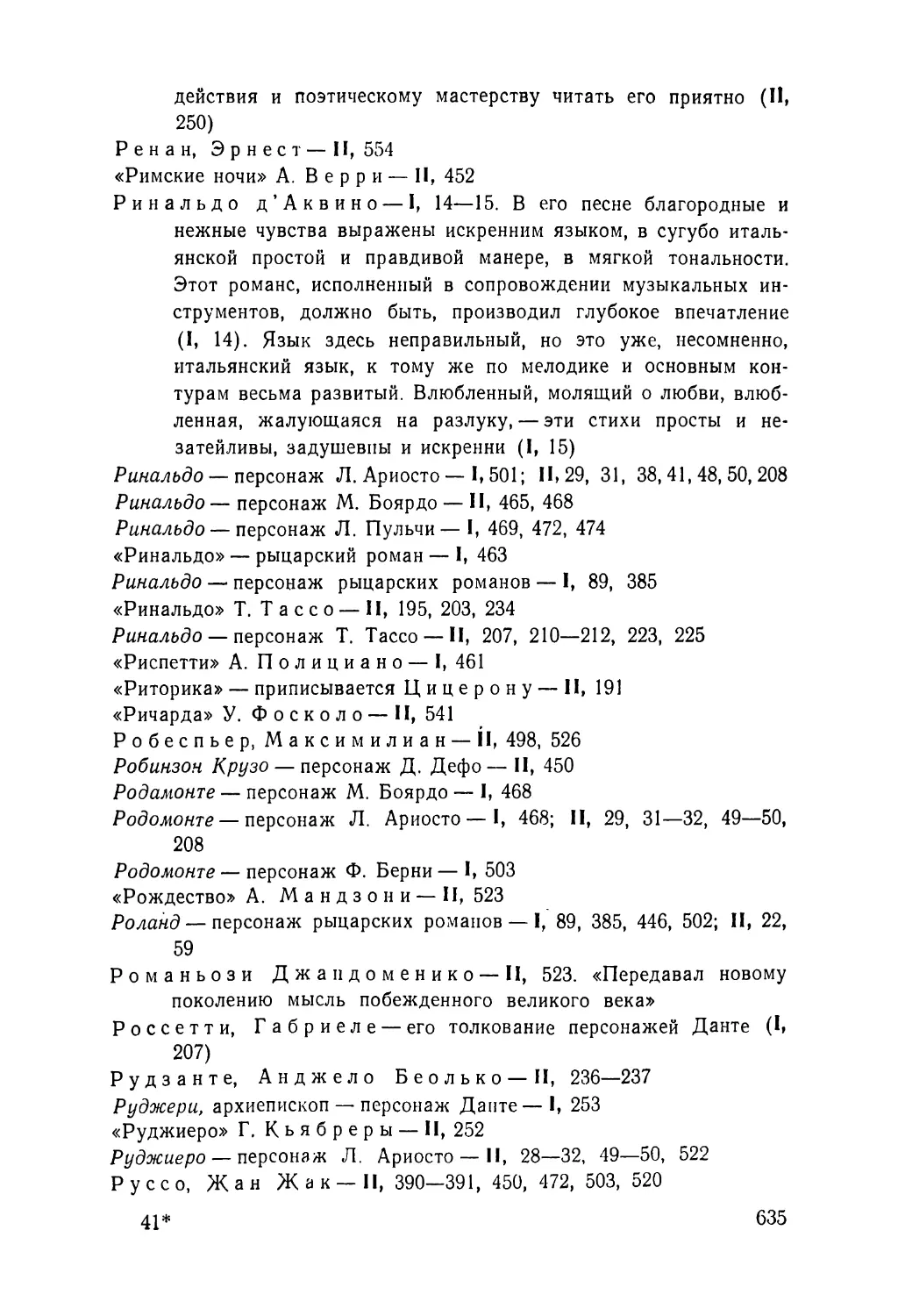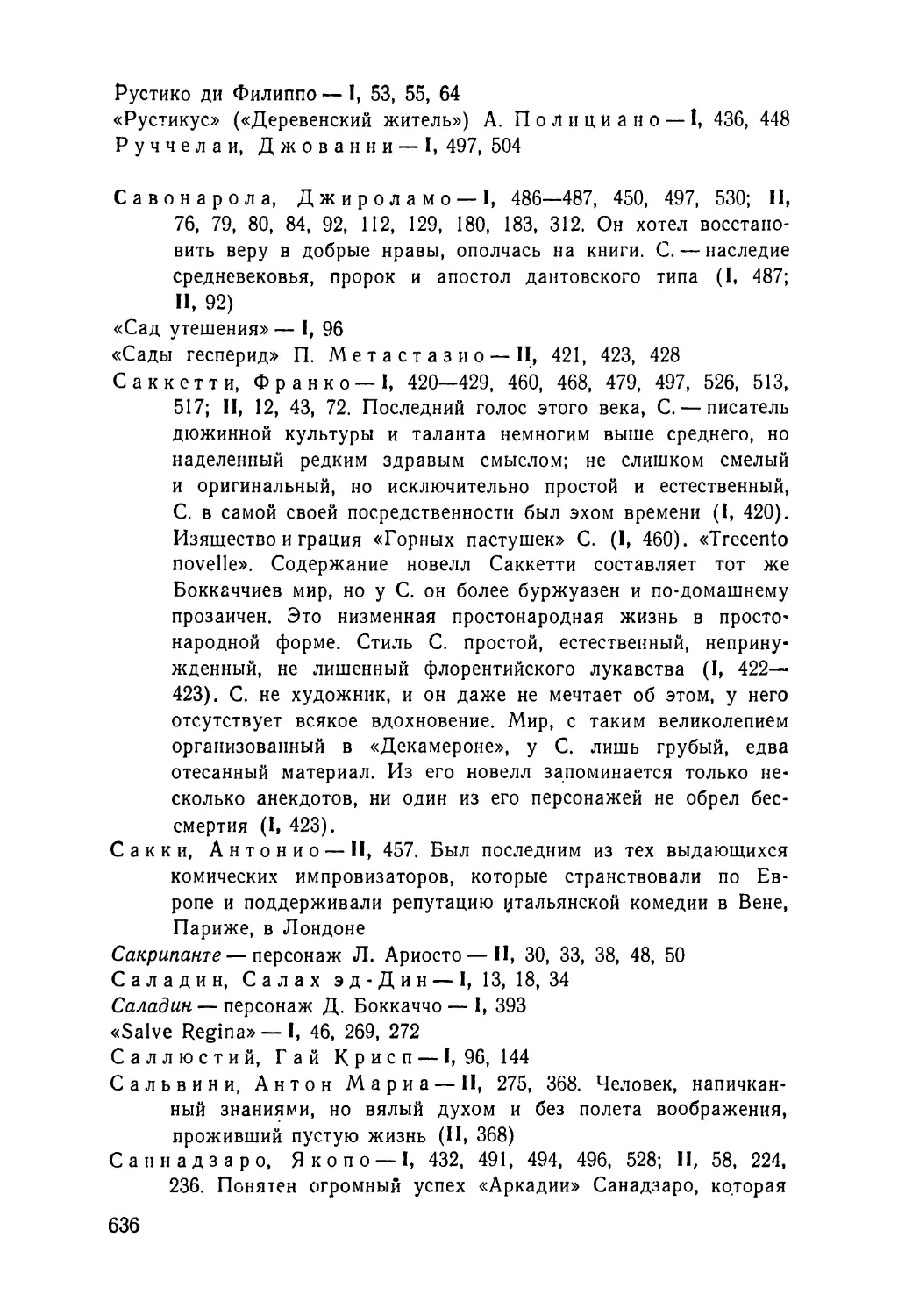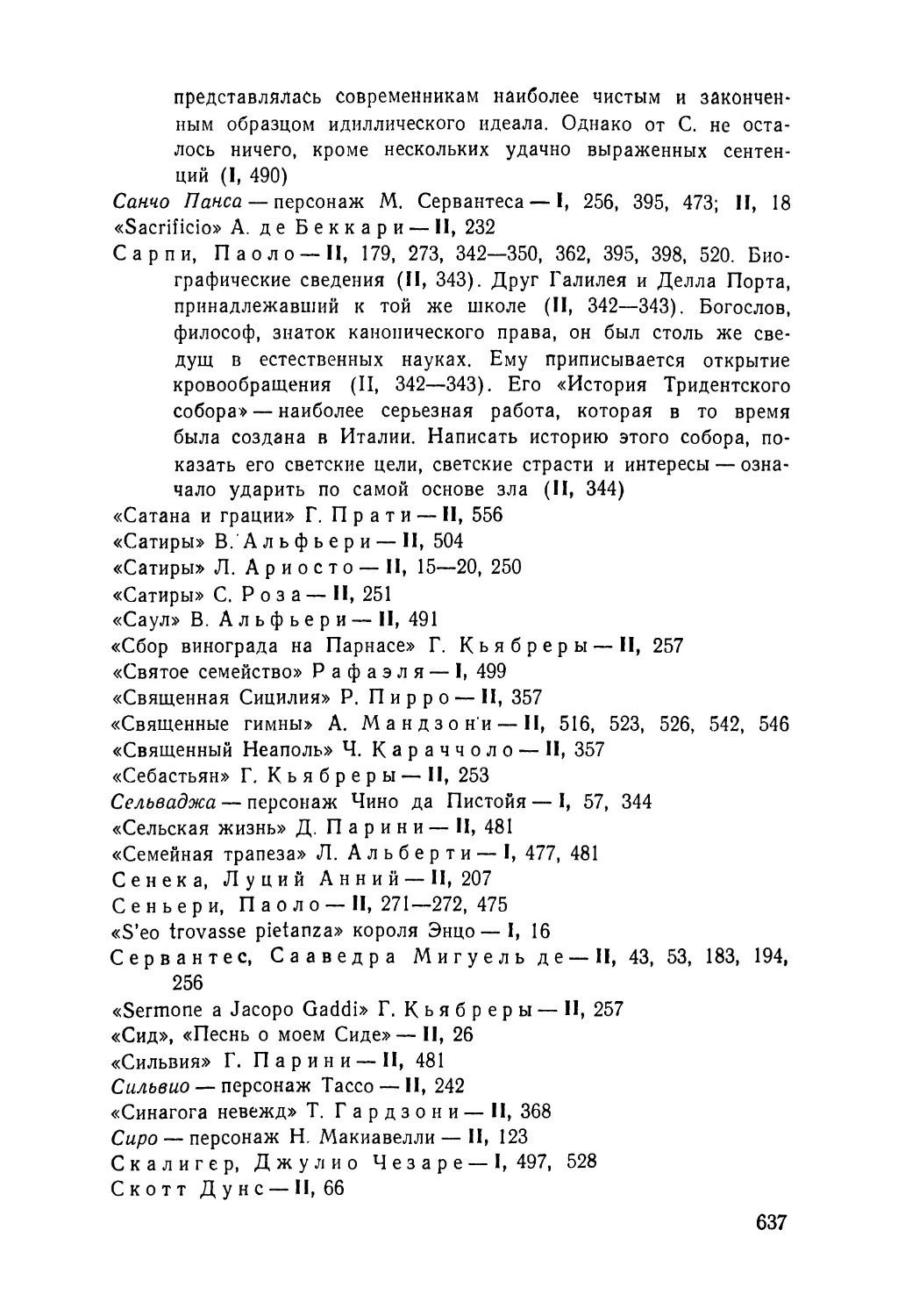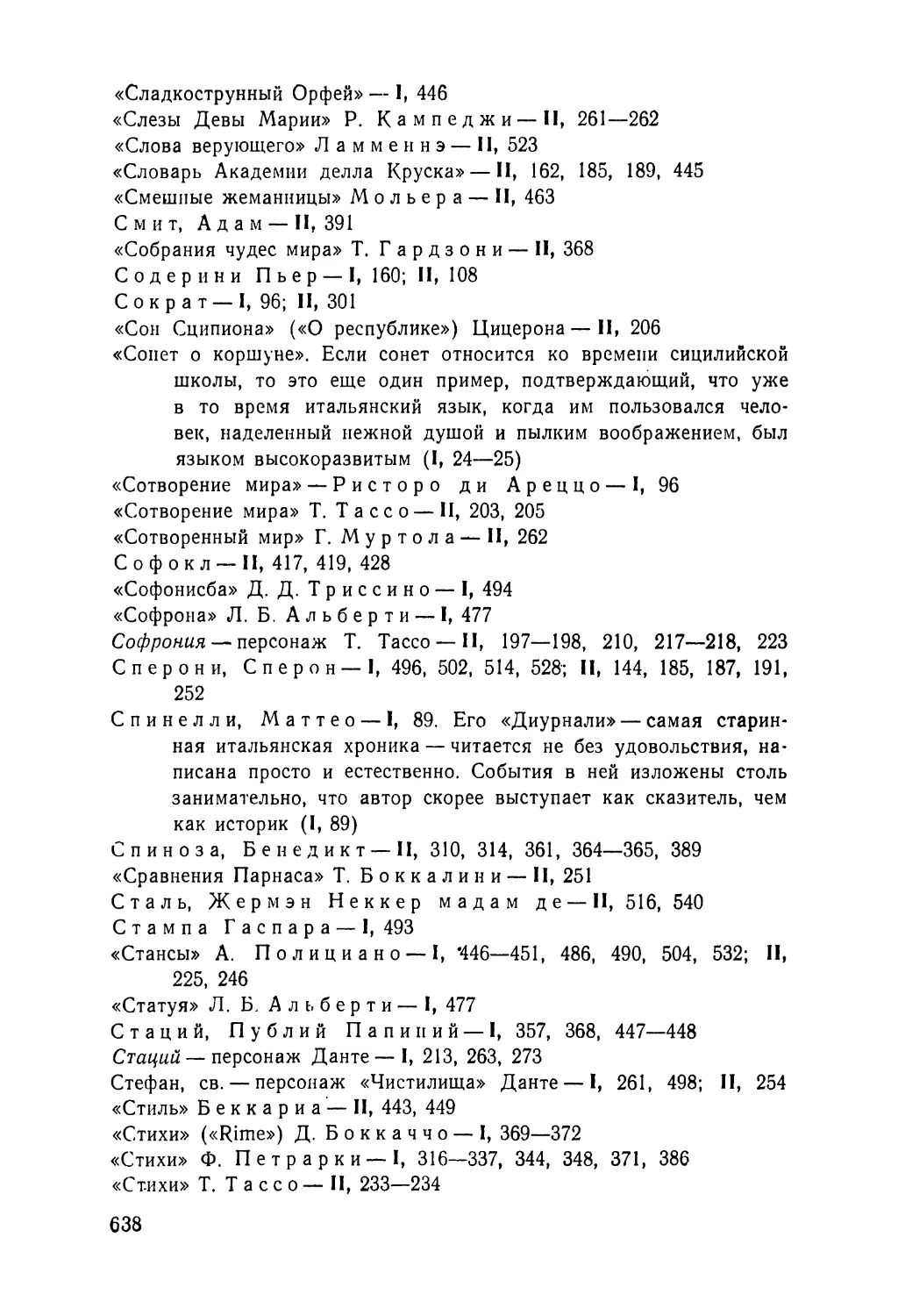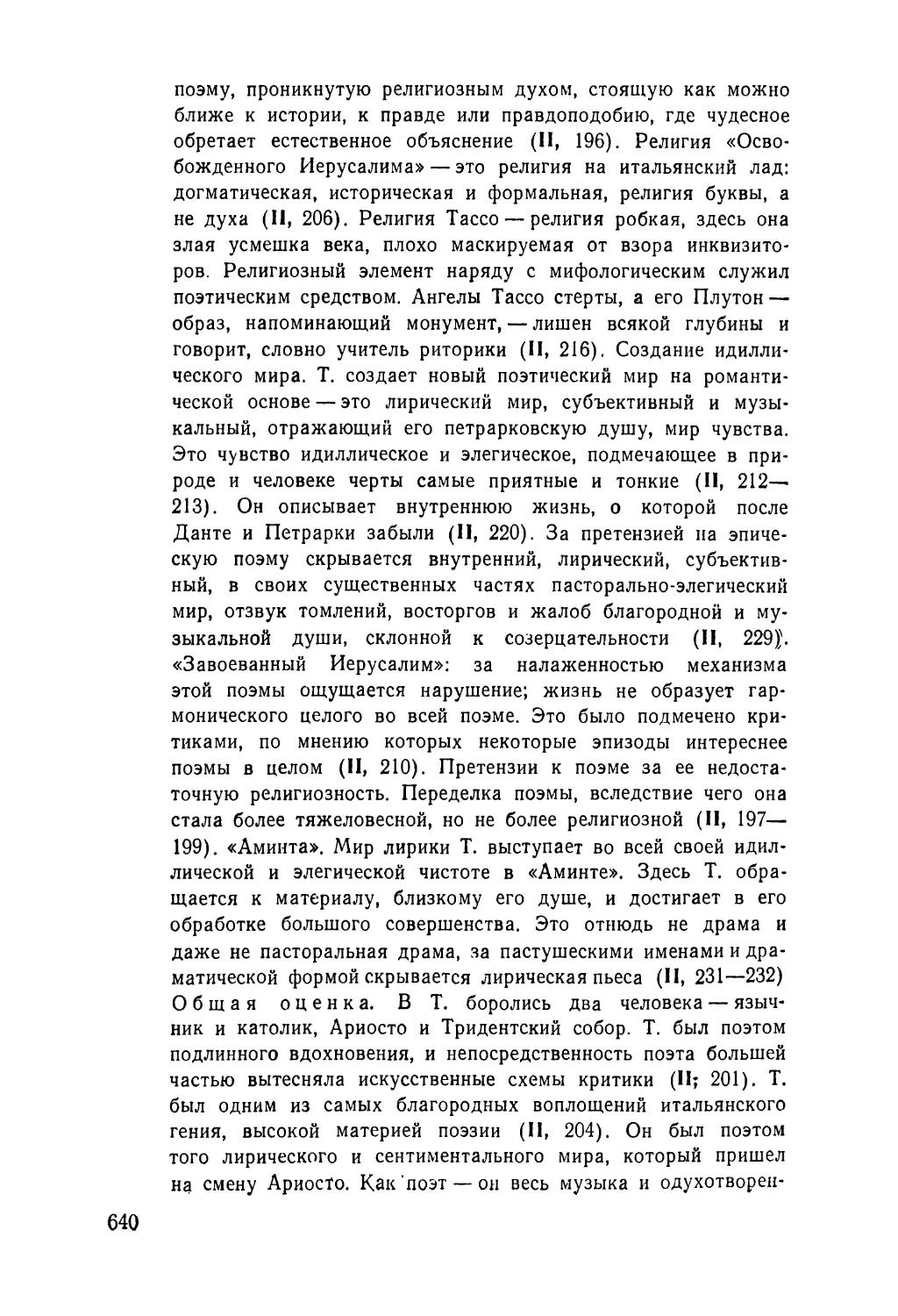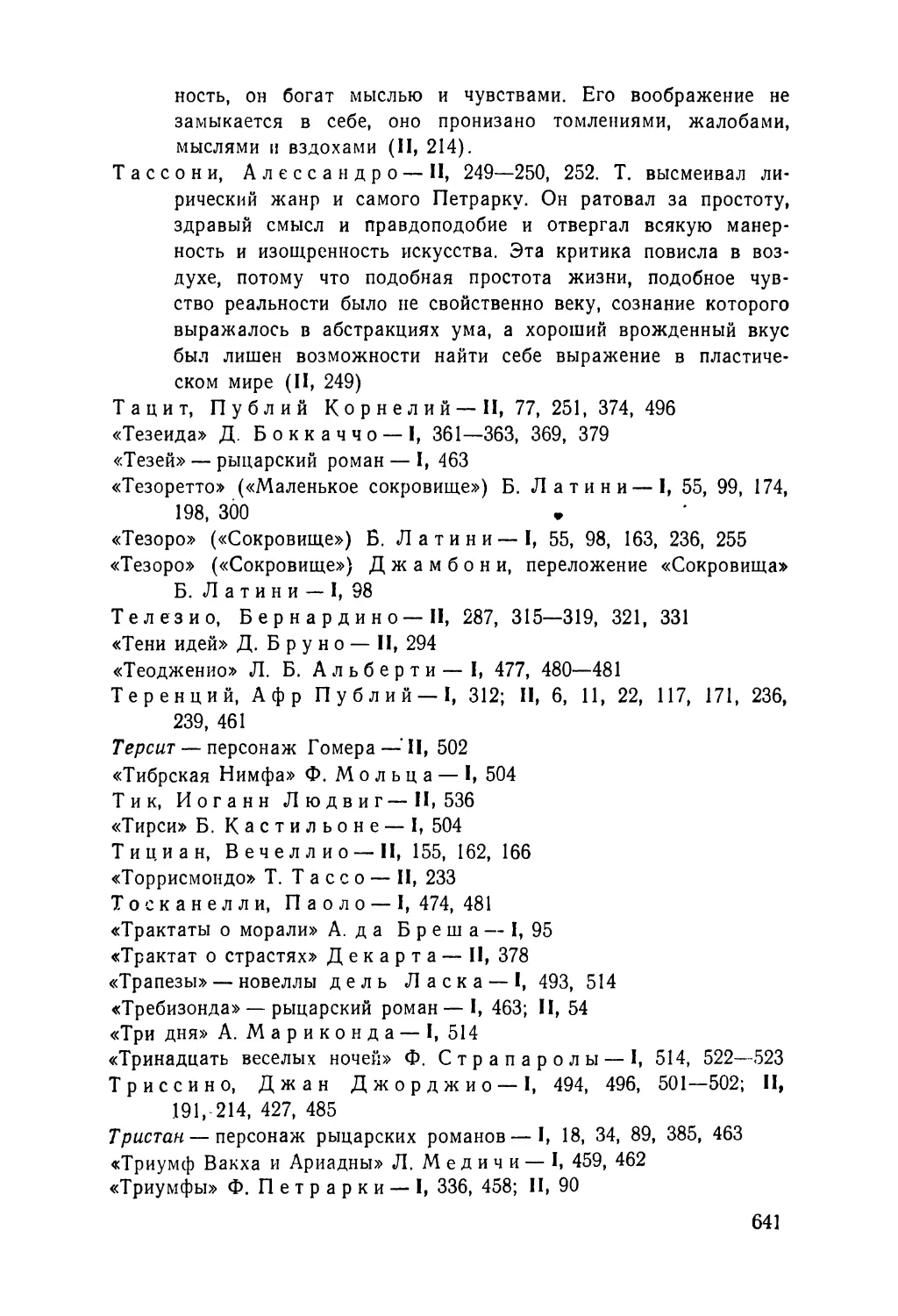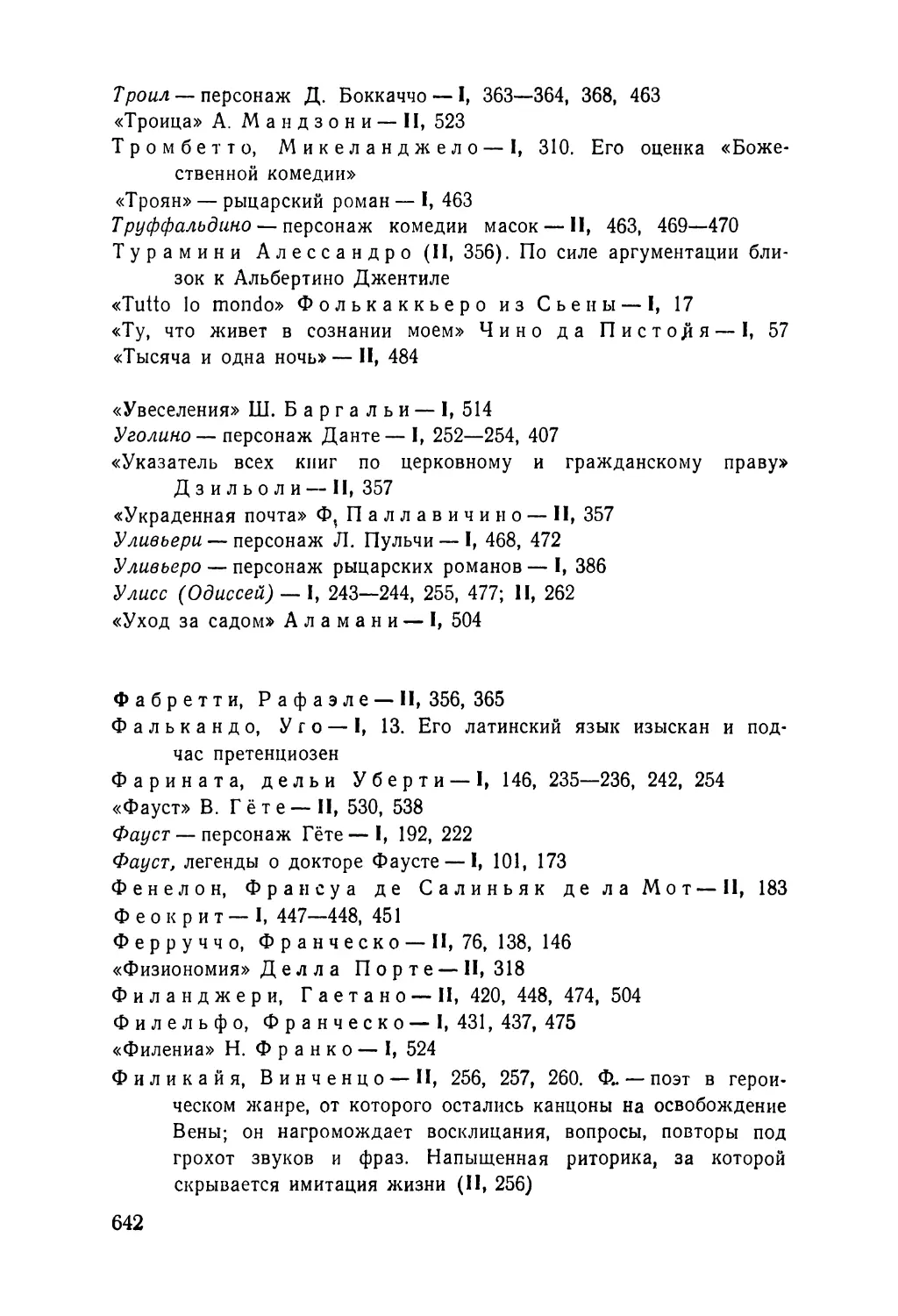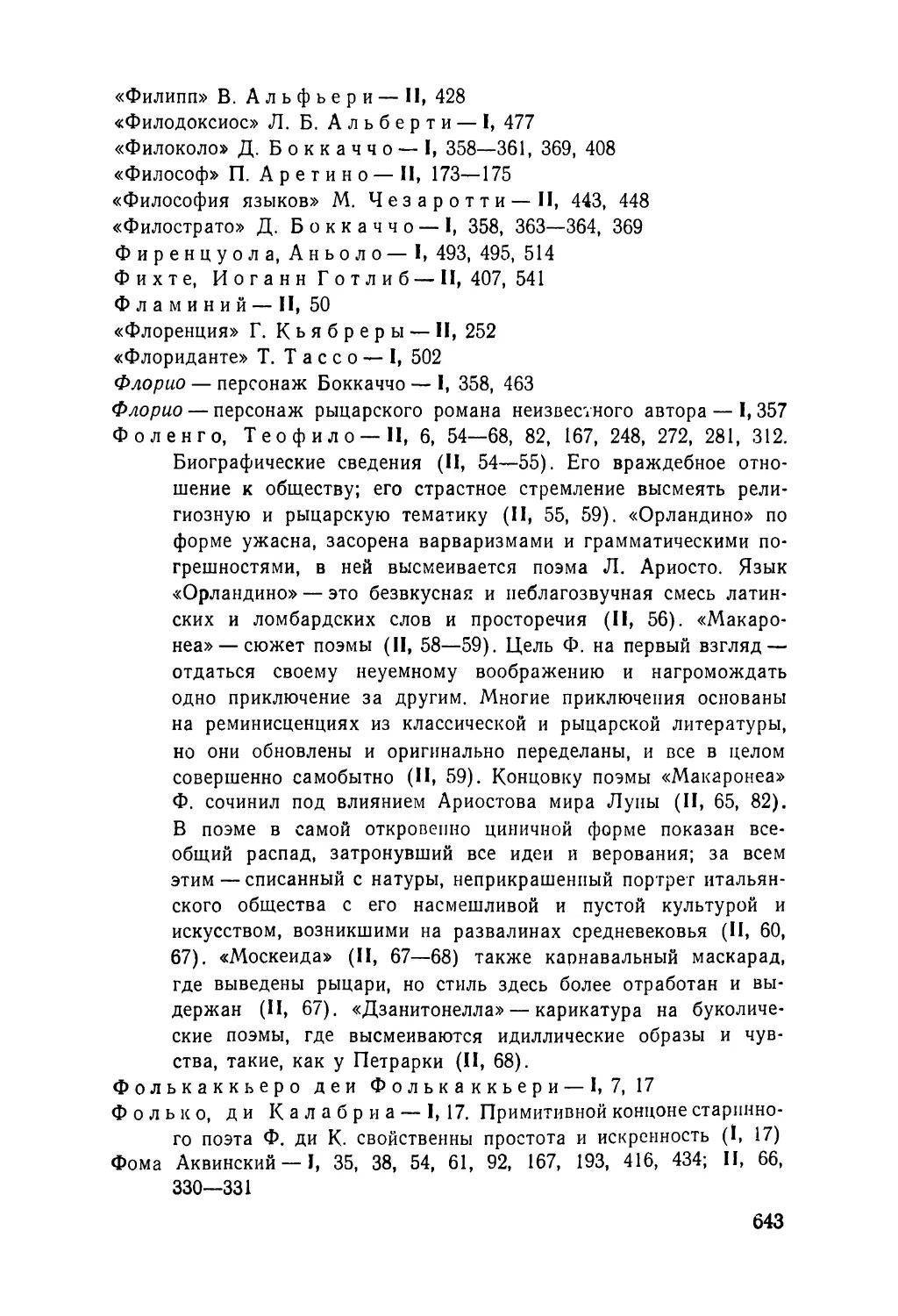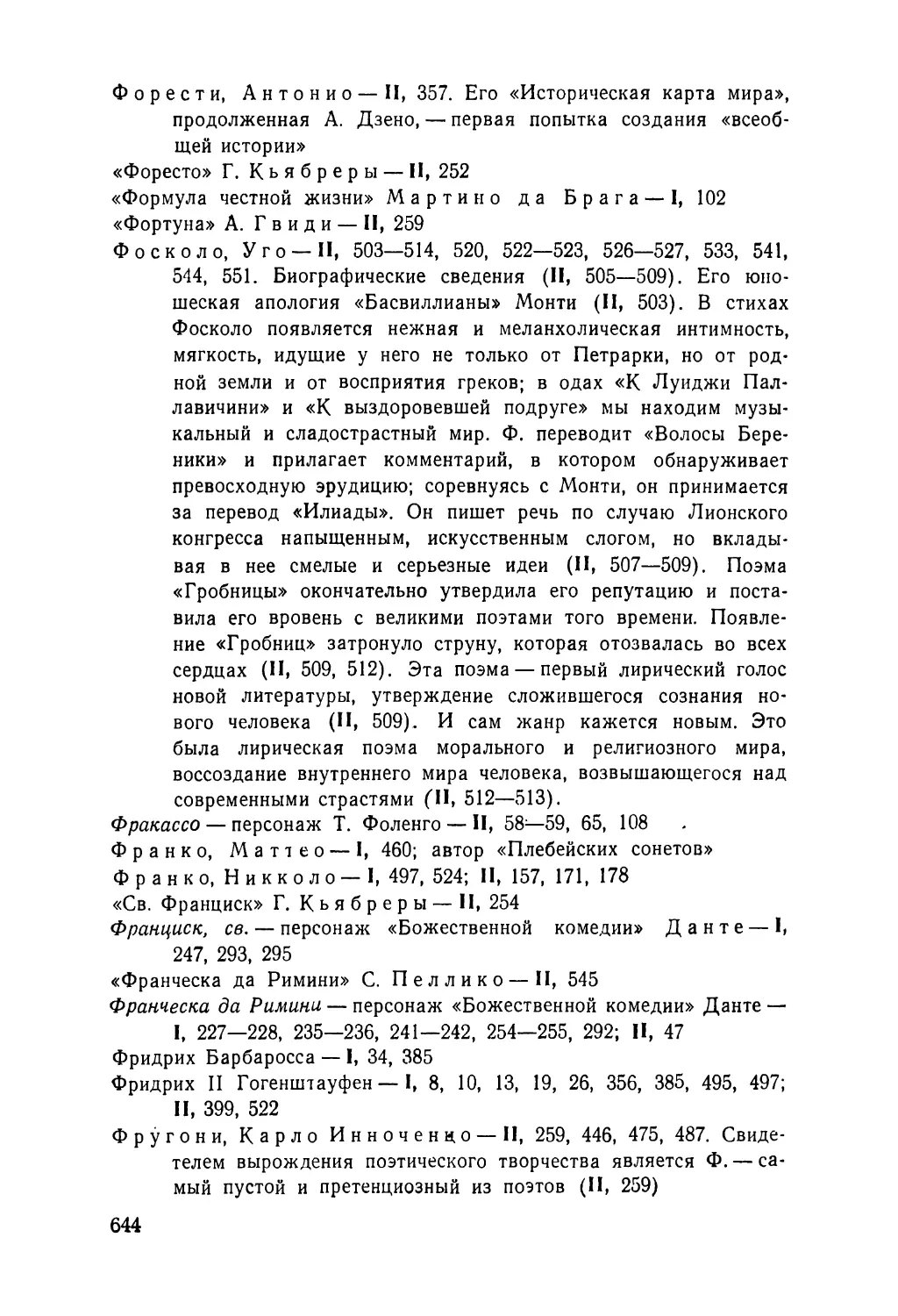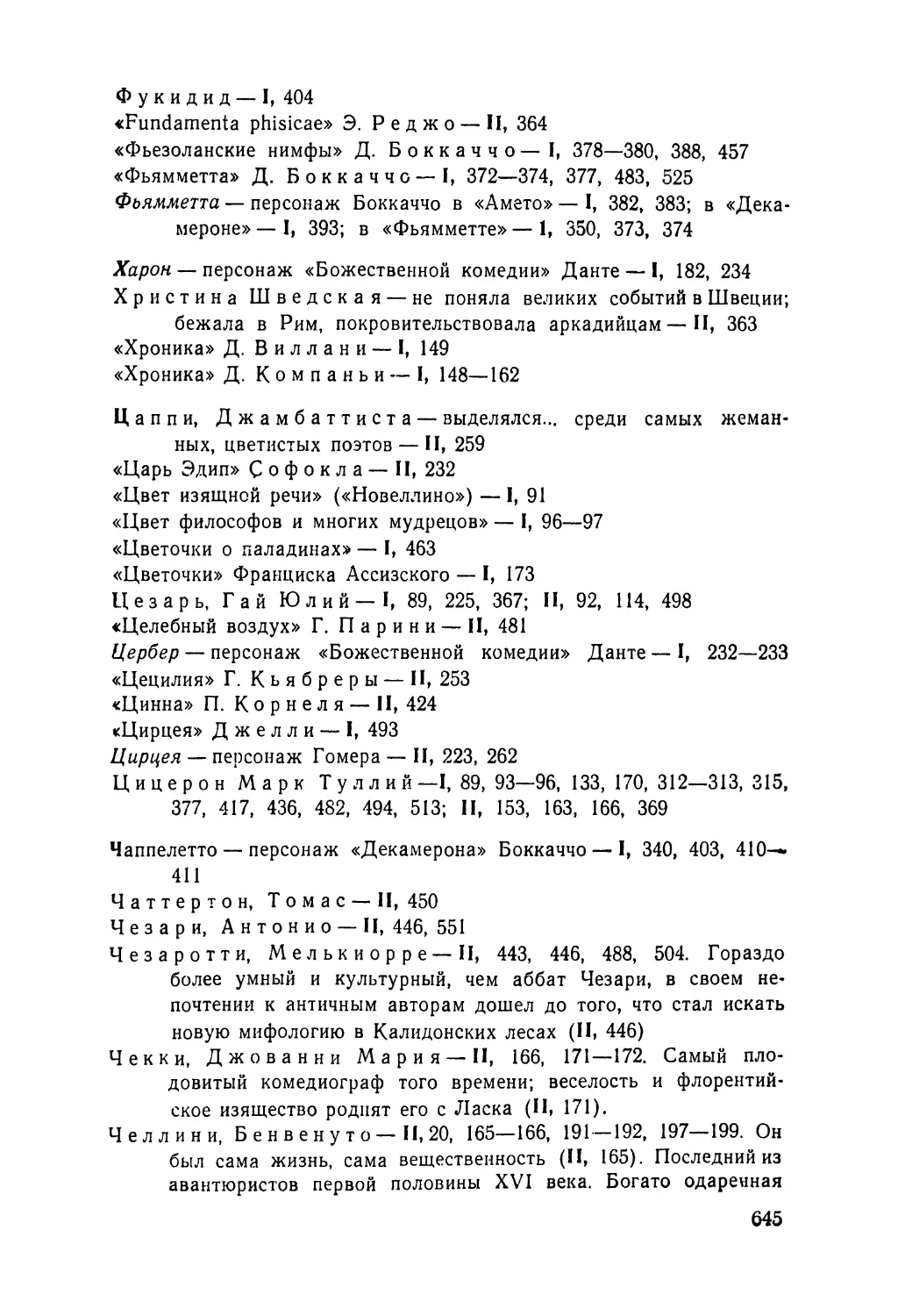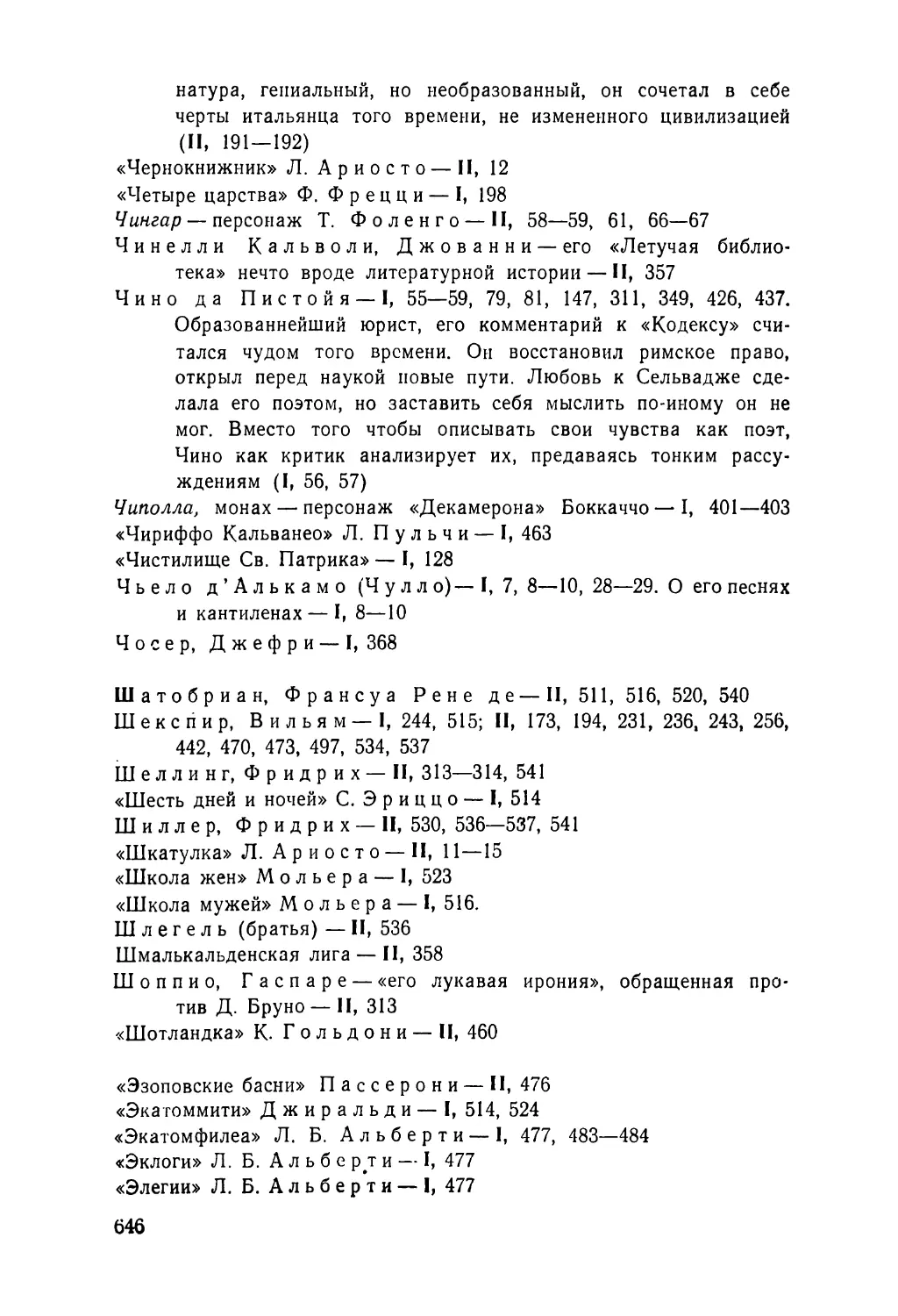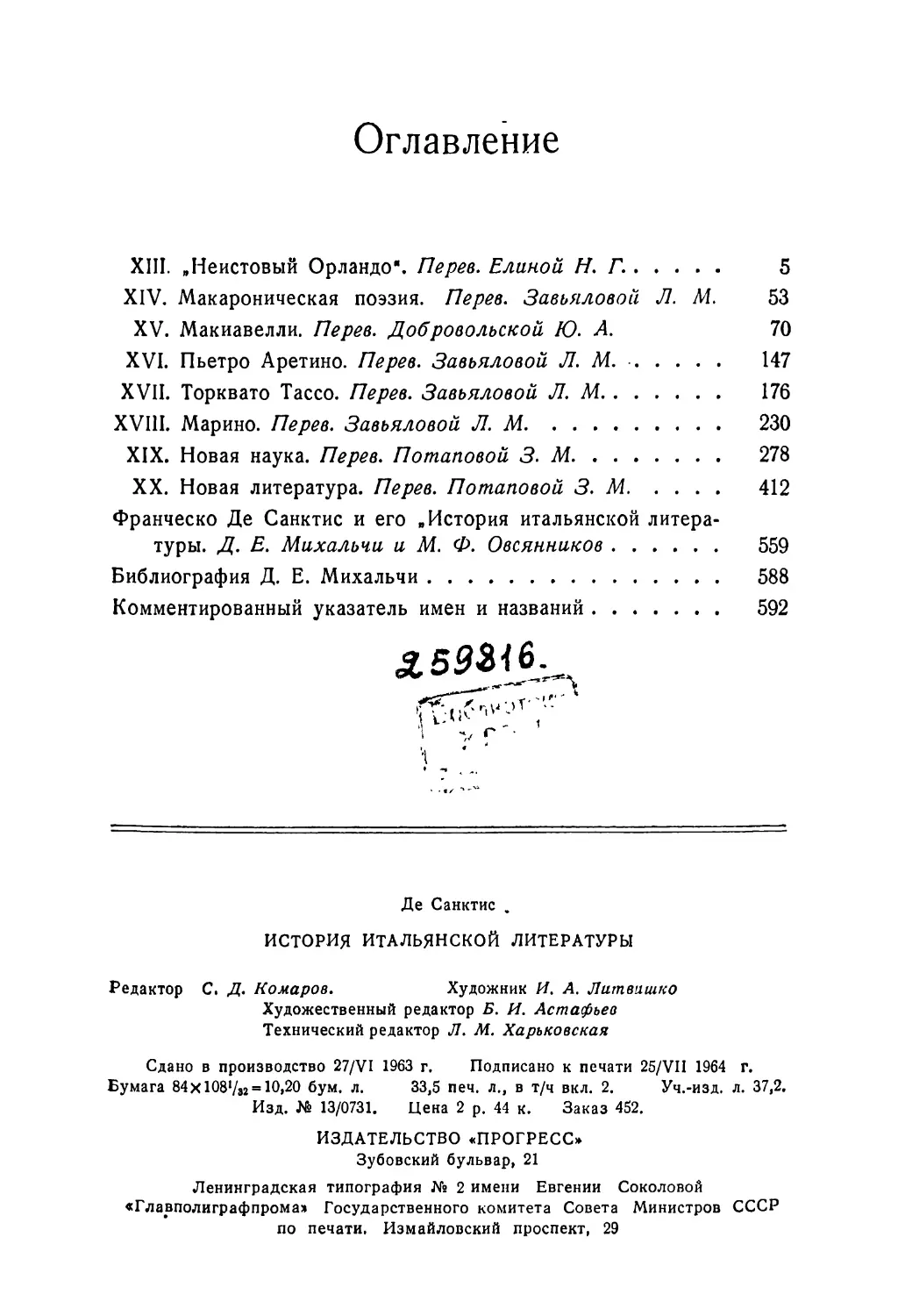Текст
^Kvv. '■;
*
*
*
Francesco De Sancii* |
Storia |
della letteratura italiana %
*
Torino 19 58 ,|
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*.
* Франческо Де Санктис
История
I итальянской
I литературы
I Том II
*
¥ Перевод с итальянского
& Под редакцией
* Д. Е. М и х а л ь ч и,
*
* с послесловием
* Д. Е. Михальчи
* и М. Ф. Овсянникова
*
*
* Издательство „Прогресс"
*
* Москва 1964
Перевод Ю. А. Добровольской, Н. Г. Елиной, Л. М. Завьяловой
и 3. М. Потаповой.
Итальянские стихи в переводе Е. М. Солоновича.
Латинские и макаронические стихи в переводе
И. Н. Голенищева-Кутузова.
Книга крупнейшего итальянского литературоведа и
критика, философа и видного общественного деятеля пе-
риода Рисорджименто Франческо Де Санктиса (1817—
1883) «История итальянской литературы» посвящена
изучению литературного процесса в Италии начиная от
истоков до 60-х годов XIX века. Книга переведена с по-
следнего итальянского издания 1958 года и состоит
из двух томов. Первый том был нами издан в
1963 году. Во втором томе Де Санктис подробно рас-
сматривает и характеризует поэтическое творчество Лу-
довико Ариосто, Пьетро Аретино, Торквато Тассо,
а также крупнейших представителей итальянской мыс-
ли— Никколо Макиавелли, Джордано Бруно, Фомы
Кампанеллы и других.
Издание рассчитано на литературоведов, преподава-
телей высшей школы, студентов гуманитарных факуль-
тетов и всех интересующихся итальянской литературой.
Редакция литературы по филологическим наукам
XIII
Неистовый Орландо1
1. Годы учения Лудовико Ариосто. Равнодушие элегиче-
ского поэта к трагической действительности современной ему
Италии. «Песни» («Carmina») — подражание Горацию и стихи
в стиле Петрарки. 2. «Шкатулка» и «Чернокнижник», возобно-
вление в литературе комических мотивов Плавта; комедии
Ариосто слабее комедий флорентийских авторов, которые бо-
лее реалистичны. Анализ комедии «Чернокнижник»: живые
черты в условном и поверхностном изображении жизни.
3. «Сатиры» Ариосто — отражение его характера и его жизни
при дворе. Идиллические и в то же время комические
черты характера поэта, автопортрет Ариосто — портрет
итальянского горожанина и литератора его эпохи. Терцины,
отражающие прозаическую и реальную сторону жизни.
4. «Неистовый Орландо» — эпопея Возрождения: серьезное от-
ношение к искусству и культ прекрасной формы. Равнодушие
к средневековому миру, уже распавшемуся в произведениях
предшественников Ариосто, начиная от Боккаччо и кончая
Полициано. 5, Рыцарский мир в Италии, лишенный всякого
исторического содержания и воспринимаемый как чистый вы-
мысел. Превращение сверхъестественного в связи с развитием
науки о человеке и природе в элемент чисто поэтический.
6. Единство поэмы в изображении сущности рыцарского мира;
светлое и гармоничное мастерство художника, связывающего
в нужный момент нити повествования. Движущие мотивы
1 Эта глава была полностью опубликована в «Nuova Antologia»
в апреле 1871 года. В нашем издании учитываются и некоторые ис-
правления текста, на что указывается в примечаниях. По вопросу
общей трактовки темы, кроме юношеских лекций о литературных
жанрах в «Teoria e storia», ed. cit., I, pp. 222—227, и «Purismo illu-
minismo storicismo», cit., II, см. лекции в Цюрихском университете и
«Verso il realismo», t. VII издания Эйнауди. Об истории ариостове-
дения, включая Де Санктиса, см. R. Rama t, Classici italiani,
Binni, op. cit., t. I, pp. 279—334. Историко-биографические данные и
хронологию юношеских стихов Де Санктис заимствовал у Дж. Бз;
руффальди (G. Baruffaldi, «Vita di Ariosto», Ferrara 1807). Для
стихов и комедий он использовал «Ореге minori» под ред. Полидори
(Polidori, 2 voll. Firenze 1857),
б
поэмы: личная инициатива, приключенческий дух и любовь.
Простое и естественное изображение необычайного мира. Го-
меровская ясность поэмы Ариосто и законченность его картин.
7. Совершенная структура октавы. «Поэтическая история
розы» у Полициано и у Ариосто. Нагромождение фантастики,
ослабляющее впечатление от нее, и живость эпизодов, где дей-
ствуют естественные, человеческие силы. 8. Стиль Ариосто,
отсутствие определенной поэтической манеры, отчетливость
отдельных тем, взятых в движении. Поток образов, не-
посредственные и преходящие эмоции, ослабленные появлением
новых образов, возникающих при сравнениях; смерть Дзер-
бино. Общий тон повествования скорее элегический, чем ге-
роический или трагический. 9. Сад Альчины; в описаниях от-
сутствует чувство природы. Моральные сентенции и общие
места написаны хорошими стихами, но поэтическое чувство
отсутствует. 10. Чистое искусство — единственная религия и
единственная мечта скептического и циничного общества Воз-
рождения — находит свое воплощение в «Неистовом Ор-
ландо». 11. Серьезный юмор Ариосто при изображении сверхъ-
естественного предшествует научному мышлению. «Не-
истовый Орландо» — синтез Возрождения в его различных
тенденциях: прошлое как предмет искусства, рассматриваемое
иронически, — эстетическая сущность поэмы. Ироническое изо-
бражение персонажей и ситуаций: безумие Орландо, путе-
шествие Астольфо на гиппогрифе — пародия на странствие
Данте, сатира на народные суеверия, рыцарство, показанное
в комическом аспекте. 12. Юмор, углубленный серьезным и
высоким поэтическим вдохновением; средневековье и сознание
зрелого и просвещенного общества. «Неистовый Орландо» —
благодаря глубокой авторской иронии — светоч в духовной'
истории человечества.
1. Лудовико Ариосто родился в том же году, что и
Микеланджело \ — в 1474-м. Макиавелли, Берни, Бембо
Гвиччардини, Фоленго, Аретино — главные фигуры этой
литературной эпохи. Все они родились примерно в одно
время, и разница в годах между ними невелика: Ма-
киавелли родился в 1469 году, Бембо — в 1470,
Гвиччардини —в 1482, в 1494 —Фоленго, и в 1492 го-
ду— Пьетро Аретино.
В 1489 году, как раз когда Макиавелли был избран
секретарем Флорентийской республики, Ариосто напи-
сал свои первые две комедии2 в прозе. Один занимался
1 Примечание Кроче к этому месту: «Год рождения Микеланд-
жело, согласно флорентийскому исчислению ab incarnatione, — 1474,
согласно нашему— 1475».
2 Имеются в виду «Cassaria» и «Suppositi», написанные в 1507—
1508 годах. Де Санктис следовал, как указано, хронологии Баруф-
фальди («Vita», cit, pp.. 91—92).
6
серьезными государственными делами и, разъезжай по
Италии и Европе, учился познавать людей и реальный
мир, что помогло ему воплотить в своих сочинениях
сознание и политическую мысль века. Другой был при-
дворным литератором, писал сонеты, канцоны, элегии,
шуточные стихотворения, комедии и жил в мире, создан-
ном его воображением. Ариосто тогда было двадцать
шесть лет. Пять лет он потерял, изучая право, пока
наконец, получив разрешение отца, не предался с жаром
изучению литературы. Начитавшись Вергилия, Горация,
Петрарки, Плавта, Теренция, он начал сочинять латин-
ские и итальянские стихи, как это делали все: элегии,
канцоны, оды, эпиграммы, мадригалы, сонеты, эпистолы,
эпиталамы, песни. В 1494 году, когда Карл VIII всту-
пил в Италию, юный Лудовико написал оду в стиле
Горация, воспевая Филироэ; этим именем он назвал
молоденькую крестьянку1.
Карл угрожает:
... беснуясь,
Суровый воин грозил
Авзонийские разрушить башни.
(«К Филироэ», 2—4) *
А молодой поэт, лежа на траве и глядя на свою Фили-
роэ, пишет:
Что неприятель вновь замышляет,
Мне дела нет, под кустом земляничным
Лежу, внимая водам журчащим...
(Там же, 5—7)
Он думает, чувствует и пишет, как Гораций. Пусть
мир рухнет, ему-то что, лишь бы он мог бродить по
1 Датировка Полидори (op. cit., I, p. 336). Ода, очевидно, на-
писана летом 1496 года. Цитаты и ссылки взяты главным образом
из книги Баруффальди, р. 498. Ода «К Филироэ» («Ad Philiroem»)
и две другие, «Мегилла» («De Megilla») и «Юлия» («De Julia»),
которая, по-видимому, была певицей, а также эпиграмма «Гликера
и Ликорида» («De Glicere et Lycori») и дистих «Возлюбленная»
(«De Puella») относятся к этому же времени. «Любовные стихи
разным женщинам» («De diversis amoribus»), по мнению Баруф-
фальди, написаны в более зрелые годы, между 1509 и 1513 годами.
* Латинские стихи здесь и повсюду в переводе И. Н. Голени-
Щева-Кутузова,
7
полям вслед за Лидией, Ликоридой, Филлидой, Гли-
керой и воспевать свою любовь:
Всех мне Гликера милей, всех милей Ликорида
мне ныне,
Лида владеет умом, в мыслях Филлида одна...
Более нравятся мне пещеры и горные склоны,
Свежая зелень травы, вод ниспадающих хлад...
Мысли бродят вдали и взывают: Катон мне не
нужен!
(«Любовные стихи разным женщинам», 1—2, 55—56, 59)
Он пишет оды «Возлюбленная» и «Лидия», воспевая
под этим именем, заимствованным у Горация, свою
возлюбленную из Реджио; «Юлия» (так он называет
некую певицу), «Гликера и Ликорида», «Мегилла» и,
наконец, «О собачке возлюбленной» («De catella puel-
lae»)—удачное подражание Катуллу. Какая важность,
что Людовик XII, призванный папой Александром VI,
захватывает Миланское герцогство?! Поэт пишет:
... Если кельтская ярость
Преодолела пламенным вихрем
Защиту Альп, поразив авзонийцев...
(«К Пандульфо», 40—42)
Не все ли равно, кому служить — властителю галль-
скому или римскому? 1
Здесь или там? Нелегка одинаково рабская служба.
Жить среди варварских нравов не лучше, чем варваром
зваться.
Все они варвары, все негодяи. И юноша, восклицая
Improba secli conditio! (О развращенный век!), опла-
кивает clades et Latii interitum (поражения и гибель
латинян):
Запад недавно послал в Италию воинов, древле
Галльская шея была сдавлена нашим ярмом.
(«К Эрколе Строцци», 27—28)
Он отворачивается от грустного зрелища и ищет убе-
жища в поэзии Горация и Катулла. Через год после
1 См. оду «Ad Herculem Strozzam», v. 29 (ed. Polidori, cit., I,
p. 333). Следуют стихи 30—32 и 25—26, последние вставлены в речь.
8
того, как Карл VIII явился в Италию, Ариосто произнес
в Феррарском соборе речь в защиту и похвалу науки
и затем переложил ее в гекзаметры \ Он писал также
сонеты, канцоны, элегия, в которых чувствуется, что он
учился у Петрарки. В 1493 году, девятнадцати лет, он
написал элегию на смерть Элеоноры Арагонской, жены
герцога Феррарского. Во введении к элегии он еще
остается учеником и дилетантом:
Стихов моих извечно скорбный ряд,
С биеньем сердца слейся воедино,
Настроившись не на любовный лад:
Теперь у нас законная причина
Для муки — так утрата велика,
Что большей вряд ли может быть кручина2.
В итальянских стихах он любит свою возлюбленную
платонической любовью, как Петрарка, в латинских
же — чувственной, как. Гораций. В латинских стихах
он держит Мегиллу в объятиях, сам не верит своему
счастью и говорит:
Неужели Мегиллу
Взаправду в объятьях сжимаю?
Это она — я не ошибся!
Напрасно душа двоилась.
Вот предел моего желанья —
Поцелуи моей Мегиллы,
Долгожданное высшее благо.
А в итальянских стихах Мегилла — воплощение «воз-
вышенной красоты», которая «своим благословенным
светом озаряет и освещает запад»; влюбленный поэт
упрекает себя за то, что в речах своих он «медлителен и
нерадив», но оправдывается тем, что «кто может описать
солнце?».
Такое не под силу человеку 3,
1 См. Baruffaldi, op. cit., pp. 78—79. Он читал публично
эти латинские гекзаметры в похвалу философии в Феррарском со-
боре в конце июня 1495 года.
2 Элегия XVII, vv. 1—6, ed. Polidori, cit. I, pp. 245 и ел. Далее
стихи 43—48 оды «De Megilla», ibid., p. 343.
3 Элегия XVI, vv. 2, 19—21, 6, 37, 40, ed. Polidori, cit., pp. 243
и ел,
9
Если бы Ариосто мог изучить греческий язык, Ана-
креонт и Теокрит подсказали бы его поэтическому во-
ображению другие слова; ведь все это только словес-
ная игра. Но он так увлечен латынью, что еще не ду-
мает о греческом языке.
Язык ахеям не спешу нимало
Усваивать, коль скоро не постиг
Латинян речь как следует сначала.
И гневается греческий язык
За то, что мне услужливую холку
подставил он, а я к ней не приник '.
Отец Ариосто умер, когда поэту было 28 лет, и Лудо-
вико оказался главой семьи; на руках у него остались
сестры и маленькие братья. И тогда пришлось ему
сменить Гомера на счетную книгу.
Отец скончался, сестры ждут заботы,
И ради Марты и Марии я
Читаю не Гомера, а расчеты.
Он так и не смог прочесть «на родном языке автора»
о приключениях Улисса в Трое и о его долгих стран-
ствиях и того, что написали Еврипид, Пиндар, которых
греческие музы наградили «таким действенным и неж-
ным языком», потому что с начала службы при дворе он
попал под иго кардинала д'Эете и, выполняя поручения,
разъезжал то туда, то сюда.
Велел в седло поэта усадить.
Ну мог ли я, в седле трясясь, подумай,
Халдейский или греческий учить?
1 Сатира VI, «A Pietro Bembo», vv. 178—183. Цитированная тер-
цина дальше, ibid., vv. 99—201. В тексте в кавычках перефразиро-
ваны vv. 133—141.
Кто рассказал ему об Одиссее
На языке своем, как надлежит,
О муках грека, о его затее.
Он знает, что оставил Еврипид,
Что Аполлоний и Софокл писали
И живший в Аскре некогда пиит,
А также Пиндара прочел скрижали
И прочих изучил, кому язык
Столь действенный и нежный музы дали.
(Цитированная ниже терцина, ibid., vv. 238—240)
ю
2. В ученический период подражания классикам
появилась «Шкатулка» — комедия в прозе1, написанная
по всем правилам плавтовской комедии. В Ферраре
«Шкатулку» восприняли как чудо именно потому, что
зрители увидели в итальянской пьесе то, чем они при-
выкли восхищаться в латинских. Итак, вслед за мисте-
риями и фарсами появились комедия и трагедия, на-
писанные по всем правилам поэтики и заимствовавшие
свою форму у Плавта и Теренция. Здесь было подража-
ние не только схеме римской комедии, возрождался и
ее мир: слуги, параситы, куртизанки, скупые отцы и рас-
пущенные сыновья. Молодой писатель, превращавший
своих крестьянок в Филлид и Ликорид, теперь погру-
зился в мир Плавта и в своем подражании забыл о сов-
ременном ему обществе. Его комедия — это воссоздание,
а не созидание; увлекшись готовой схемой, он упускает
прекрасные комические ситуации и конфликты. В коме-
диях Биббиены и Ласки чувствуется живое веяние, иду-
щее от «Декамерона», нечто непристойное, буффонное
в соответствии с пониманием комизма, развившимся
во Флоренции. Оно проявляется и у Ласки и у Берни —
секретаря Биббиены. Но Ариосто живет вне этой среды,
в мире книжном, и поэтому, когда он шутит, шутки
получаются слишком грубыми. Мир этот не его, он
перенесен в комедии Ариосто, в нем действуют уже гото-
вые персонажи, и драматург чувствует себя связанным.
Он не может полностью войти в этот мир и его освоить.
В пьесе есть комический элемент, он в путанице собы-
тий, интриге, в ^недоразумениях, возникающих иногда
случайно, иногда благодаря хитрости героев, в запутан-
ном действии, которое часто утомляет внимание. Но од-
ной интриги, когда характеры лишены развития и ин-
трига не создает комической ситуации, для поддержа-
ния интереса недостаточно. Траппола, Вольпино, Неб-
биа, Эрофило, Лукрано — существа ничтожные, и из
1 В первой прозаической редакции «Cassaria» была написана
в 1507 году и поставлена на сцене в Ферраре, в придворном театре,
5 марта следующего года. Ее стихотворная редакция в одиннадцати-
сложных стихах — «sdruccioli» — относится к 1530 году. Де Санктис
датирует комедии по книге Баруффальди. Точная датировка поста-
новок комедии стала известной уже после опубликования «Истории
итальянской литературы» Де Санктиса. (См. G. С a m p о г i, Notizie
per la vita di L. Ariosto, Milano 1871, pp. 67—71.)
11
действия не возникает сцены кульминации, на которой
мог бы сосредоточиться интерес зрителей.
Позднее Ариосто написал еще несколько стихотвор-
ных комедий, он вбил себе в голову, что писать их нужно
обязательно в стихах «sdruccioli», с тем чтобы добиться
полного соответствия римской комедии. Ему казалось,
что этот размер точь-в-точь соответствует ямбу. Выбор
этой неудачной формы, не поэтической и не прозаиче-
ской, не способствовал, конечно, тому, что комедии его
стали лучше, хотя иногда он выбирал подходящий со-
временный сюжет, как, например, в комедии «Черно-
книжник» 1. Он пошел по ложному пути и уже не смог
выбраться. Чернокнижник, или астролог, который пре-
вращает свое искусство в ремесло и обманом выуживает
деньги из карманов простофиль, — тема чрезвычайно
распространенная, ее разрабатывали все тогдашние но-
веллисты. Боккаччо выводил в роли обманщиков свя-
щенников или монахов: как, например, священника из
Варлунго или монаха, брата Чиполла2; в XVI веке эту
роль мошенника и дармоеда начал исполнять астролог.
Персонаж новый, а комический мотив тот же. Вспомним,
с каким блеском разрабатывает эту тему в одной из
своих новелл Ласка. Чувствуется боккаччиевская тра-
диция и лукавство, вся флорентийская среда; остроум-
ный аптекарь продолжал Саккети, Пульчи и Лоренцо
Великолепного. А в «Чернокнижнике» Ариосто про-
глядывает древнеримское общество, где слуга хитрее
господина. Писатель изображает общество, в котором
не жил, которого он не понимает и знает только по
книгам. Чинцио, Камилло, Массимо —скорее мумии, чем
люди, они.становятся легкой добычей мошенников, среди
которых живут. Они не главные действующие лица,
а только фон картины — презренная толпа, которую оду-
рачивают слуги и авантюристы. Это глубокая мысль,
если бы Ариосто сам до нее додумался и смог бы поло-
жить ее в основу своих комедий. Но эта мысль заимство-
ванная и не имеет никакого смысла, потому что Ариосто
представляет себе вполне естественным этот переверну-
1 В рукописи следуют зачеркнутые слова «наименее удачной из *
его комедий». Она сразу была написана в стихах «sdruccioli», за-
кончена в феврале 1520 года.
2 «Декамерон», VIII, 2 и VI, 10. Новелла Ласка, указанная
ниже, четвертая «Сепа», II. См. также т. I, гл. XII.
12
тый мир, где слуги разбираются во всем лучше, чем их
господа, и становятся их защитниками и спасителями,
как Фацио и Темоло, которые раскрывают плутни черно-
книжника. В то время как у Боккаччо духовник — дей-
ствительно священник, а комический герой Ласки — на-
стоящий астролог, главный герой комедии Ариосто во-
все не астролог, а отъявленный мошенник, выдающий
себя за астролога и нисколько в астрологию не веря-
щий. В пьесе Ласки комизм основан на высмеивании
астрологии, у Ариосто астрология никакой роли не
играет, действие основано не на ней. Если бы черно-
книжник маэстро Якелино был настоящим астрологом
и хотел одурачить господ, а вместо этого сам оказался
бы одураченным слугами, идея была бы столь же
остроумной, как в новелле Ландо, где не только крестья-
нин, но даже его ослица разумнее астролога К У Арио-
сто же астролог — невежда, он, как говорит его слуга
и наперсник Ниббио, плохо читает и пишет, и тем не
менее он выдает себя за философа, медика, алхимика,
астролога, мага.
И разбирается в науках он
Так, как осел играет на органе2.
Итак, все сводится к состязанию в хитрости между
маэстро Якелино и Ниббио, с одной стороны, и слугами
Фацио и Темоло — с другой. В комедии есть удачные
места, где обнаруживается незаурядный комический
талант драматурга. Чинцио рассказывает своему слуге
о чудесах чернокнижника, а слуга смеется над черно-
книжником, и над своим хозяином, и в конце концов над
всеми. Чинцио серьезно его уверяет, что чернокнижник
умеет превращать людей в животных. А Темоло отвечает:
Он этим занят полный день, но это же
Не чудо...
1 Пятая новелла Ортензио Ландо, уже упоминавшаяся
в главе XII.
2 «Negromante», действие II, сцена I, vv. 7—8. В предшествую-
щих строках перефразированы vv. 2—6.
Тем маэстро Якелино отличается,
Что, будучи от силы полуграмотным,
Он занят деятельностью философа,
Алхимика, астрслога, и лекаря;
И колдуна1 и духов заклинателя.
13
А того не замечаете,
Как некто старостою вдруг становится,
Судьей, нотариусом, попечителем
Иль жалования распределителем,
Приобретая вместо человеческих
Лисы повадки, волка или коршуна? 1
Понятно, говорит Чинцио, ты плохо знаешь свет и
потому так говоришь. Но разве ты не веришь тому, что
он умеет заклинать духов?
И Темоло отвечает:
Сказать по правде, я не больно верил бы
В каких-то духов, но ведь люди важные,
Князья, прелаты в духов этих веруют,
И подобает мне, простому смертному,
По их примеру верить.
Поразительная ирония в этом отрывке: невежествен-
ный простолюдин с естественным здравым смыслом вы-
смеивает сильных мира сего. Очень удачна комическая
ситуация, когда Ниббио, видя, что уже натянуты сети
для Чинцио, Массимо и Камилло, самого богатого из
них, спрашивает у чернокнижника2:
Три куропатки вот, из них которую
Вы предпочли бы?
Астролог: Я их всех разделаю
Подряд, но так, что самую здоровую
Последней съем и обглодаю косточки.
Ниббио: Вот вам одна, вкуснейшая: пожалуйста,
На стол ее кладите, если голодны.
Астролог: Кого? Камилло?
Ниббио: Да.
Астролог: Ну что ж, полакомлюсь
И косточек оставить не подумаю.
И когда Ниббио видит, что все проделки астролога
раскрыты, он—слуга, наперсник и посредник астро-
лога — платит своему хозяину черной неблагодарностью,
обкрадывает его и бросает. Но удачные моменты те-
ряются в условном и поверхностном изображении мало
1 «Negromante», действие I, сцена III, vv. 39—40 и 43—48. Сле-
дуют vv. 78—82.
2 «Negromante», действие III, сцена II, vv. 21—28.
14
известного драматургу мира, изображении, в котором
даже самые интересные эпизоды лишь кое-как набро-
саны. Ариосто скорее склонен рассказывать, излагать,
описывать, чем показывать в действии. О том, что за
человек маэстро Якелино, подробно объясняется в моно-
логе Ниббио !, но когда мы видим его в действии, он
оказывается гораздо скучнее, незначительнее, грубее,
чем мы этого ожидаем.
3. Ариосто был гораздо менее образован, чем мно-
гочисленные ученые его времени и чем некоторые при-
дворные. Кардинал Ипполит гораздо меньше ценил без-
дельников поэтов, чем своих стремянных слуг, и, желая
извлечь пользу из нашего поэта, сделал его своим гон-
цом 2 и посылал его с поручениями то в одно место, то
в другое. Лудовико, вспомнив о своих дружеских отно-
шениях со Львом X, которые завязались во время из-
гнания семейства Медичи из Флоренции, отправился,
когда тот стал папой, в Рим, питая радужные надежды,
но, кроме красивых слов, он ничего не получил. Ездил
Лудовико и во Флоренцию с поручением от Феррар-
ского двора, и глубокое впечатление, которое произвел
на него город, отразилось в элегии, написанной по
этому поводу.
При виде стольких вилл среди холмов
Не может сразу же не показаться,
Что их земля плодит, как червяков.
И если бы ты Римом стала зваться
И собрала дворцы в одних стенах,
Другой бы Рим не мог с тобой тягаться.
Когда Ариосто послали губернатором в Гарфаньяну,
он поднял крик, потому что кардинал оторвал его от
сладостных занятий и дорогих друзей и втолкнул в этот
«скучный лабиринт» 3. Наконец кардинал задумал взять
его с собой в Венгрию, и тут наш поэт совсем потерял
терпение и заявил, что в Венгрию ехать не желает.
1 «Negromante», действие II, сцена I. См. выше.
2 Сатира VI, v. 238, уже цит. выше. Следующая цитата из эле-
гии XIV, vv. 19—24 (ed Polidori, cit., I, pp. 238 и ел.).
3 Сатира V, «A Annibale Maleguccio», vv. 169—171:
Ты мог бы смело мне задать вопрос:
Кто от наук и от друзей отвадил
Меня и э этот лабиринт зэнес?
15
Восхвалять кардинала в стихах — на это он согласен,
но быть в кардинальской свите — нет!
На месте сидя, я таких высот
Достиг бы, имя ваше прославляя,
Которых даже голубь не найдет К
И он восхваляет кардинала и на вольгаре, и в ла-
тинских стихах; в латинских — более бесстыдно:
Непобедимого кто превзойдет Геракла в сраженье?
Благочестивее кто, чем кардинал Ипполит?
Но Ипполита не интересовала хвала, ему нужен был
не поэт, а слуга:
Не хочет он за мой хвалебный стих
Вознаградить меня и в благодарность
Велит мне мчаться на перекладных...
Он говорит, что наслажденье в том,
Чтоб восхвалять его, я, дескать, вижу.
Но выше наслажденье — быть при нем 2.
Ариосто и комедиограф и сам один из наиболее ко-
мических персонажей, и, если изображение условного
мира получилось в его комедиях неудачным, себя он
нарисовал очень удачно, попросту, без всяких прикрас.
Некоторые черты его характера нас трогают. Он любит
своих братьев и старую мать и ради них примиряется
с зависимостью, хотя и грызет удила. Его идеал — жить
спокойно, сидеть дома, предаваться игре воображения,
сочинять стихи, жить и давать жить другим. Бедняга
был натурой идиллической, у него не было честолюбия,
он не гнался за богатством и почестями, считая, что луч-
ше «есть репу в своем доме, чем куропатку, дрозда или
дикого кабана за чужим столом» 3:
1 Сатира II, «A Alessandro Ariosto e a Ludovico da Bagno»,
vv. 229—231. Следующий дистих из оды «In Hyppolitum Estensem
episcopum Ferrariae», vv. 5—6 (ed Polidori, cit., I, p. 349).
2 Сатира II, ed. cit., vv. 97—99, 106—108.
3 См. сатира III, «A Annibale Maleguccio», vv. 43—47:
Приятней дома репою кормиться,
Когда тобою сварена она,
Очищена и сдобрена горчицей,
Чем на пиру чужом мне кабана
Иль куропатку есть...
Следующая цитата ibid., vv. 47—63,
IS
Под простое одеяло
Забравшись, как под шелковым, я сплю.
Мне нравится, чтоб тело отдыхало,
Сильнее, чем хвалиться, что оно
У скифов и индусов побывало.
Известно, каждому свое дано:
Кому доспех, кому тонзура снится,
Кто жить не может без страны родной.
Кого-то привлекает заграница —
Пускай посмотрит новые края,
А мне и дома хорошо сидится.
Ломбардию, Тоскану видел я,
На севере и в середине горы
И с двух сторон Италии моря.
С меня довольно; новые просторы
Бесплатно мне покажет Птоломей,—
Мир будет на земле или раздоры.
Но ему не дают жить, как он хочет, кардинал не
оставляет его в покое, это раздражает, и раздражение
время от времени прорывается. Изредка оно переходит
в возмущение, и тогда звучат благородные слова:
На благосклонность, Аполлон, твою
И на твою, святое муз собранье,
Себе никак плаща я не сошью.
И, наконец, коль скоро кардинал
Завоевал мое расположенье
Подарками, я все, что он мне дал,
Сменяю на свое освобожденье.
И если мне владыка благодарный
По двадцать пять монет три раза в год
Выплачивал — и то не регулярно,
А я за это должен в свой черед
Дрожать, как раб, перед его особой,
Пока не сдохну, пусть на этот счет
Он обольщается, но не особо:
Чем зря потеть и верным быть слугой,
Я лучше буду бедствовать до гроба 1.
1 Сатира II, ed. cit., vv. 83—90. 262—2
2 Де Санктие 17
Но это лишь слабые искры. Он не настолько поко-
рен или честолюбив, чтобы вслед за придворными
жертвовать своим покоем, лишь бы угодить кардиналу,
но и не настолько горд, чтобы раз навсегда разорвать
цепи и послать своего кардинала к черту. Он служит, но
ропщет, изливает недовольство и сохраняет свое лицо,
как Санчо Панса или дон Аббондио. Из этого противо-
речия возникают поразительные ситуации для комедии.
Такова, например, его поездка в Рим, когда он так на-
деялся на своего друга Льва. Как хорошо тот принял
его! Но все это только слова. Вечером ему пришлось
идти ужинать в харчевню «Барана»:
На троне он высоком изогнулся,
Пожал мне руку и к моим щекам
Священными губами прикоснулся...
И, наконец, надеждами нагружен,
Облезлый весь и мокрый от дождя,
К «Барану» потащился я на ужин '.
Иногда его разбирает злость, и он изливает ее, опи-
сывая непомерную жадность кардиналов, а иногда рас-
суждает, как философ: «Ну, а если бы у меня были
богатства турецкого султана и три или четыре митры,
что от этого изменилось бы?»
А вдруг и правда — ломятся от злата
Мои карманы, рукава, и он
Все сыплет: в рот, в живот, еще куда-то...
На кой мне нужно переутомляться,
Выслуживаясь? Лучше отдыхать,
А если и работать, то с прохладцей.
Иногда он будто извиняет папу. «Бедняга! Скольких
он должен кормить и поить! Родственников, кардиналов,
которые одели его «в самую лучшую из мантий», «дру-
зей, которые помогли ему вернуться во Флоренцию!»2
1 Сатира III, ed. cit., vv. 178—180, 184—186 и ел.; затем 193—195
и 205—207.
2 См. сатиру III, ed. cit., vv. 154—156:
Подносят выпить родичам вначале,
Которых тьма, а вслед за ними тем,
Кто утром одевали господина.
Следующие стихи ibid., vv. 166—169,
18
Чем ожидать, покуда всяк напьется,
И думать, что не хватит влаги мне,
Что я сухим увижу дно колодца,
Уж лучше жить спокойно в стороне.
Эта великолепная ситуация развивается, в нее впле-
тается множество мотивов, она приобретает различ-
ные оттенки, при этом характеры совершенно правдивы,
а ирония тем более остра, чем более она кажется наив-
ной и добродушной.
То же самое можно сказать о Лудовико-губернаторе,
когда он насмешливо и зло изображает своих подчи-
ненных и жалеет о времени, которое он зря на них тра-
тит, и о Лудовико, который не хочет ехать в Венгрию
или поручает Пьетро Бембо своего сына и рассказывает
Бембо о своей жизни, о неприятностях, о своих заня-
тиях1. Сквозь раздражение проступает нечто вроде сми-
рения слабых духом, как будто он говорит—ну что
поделать? Приходится терпеть! И своего рода чистосер-
дечие заставляет его выставлять напоказ свои недо-
статки, словно редкие жемчужины. Так же ведет себя
Берни, который хвалится своей трусостью, но Берни
шаржирует, паясничает, чтобы рассмешить2; Лудовико
же передает все естественно, изливает свое дурное на-
строение и чем меньше стремится к комическому эф-
фекту, тем лучше его достигает. Он смеется над дру-
гими и немножко над собой, как бы не замечая этого.
В эпоху, когда все было так искусственно, когда во
имя стремления к чрезмерному подражанию или до-
стижения некоторых художественных эффектов забы-
вали о реальной жизни, Лудовико, писавший комедии
и петраркистские канцоны и сонеты в такой же услов-
ной манере, здесь, изображая, как это делал Бенвенуто
Челлини, самого себя, создает один из интереснейших
комедийных характеров; это не только его портрет, но
и портрет тогдашнего итальянского горожанина и лите-
ратора в его далеко не худшем проявлении. Он видел
Рим, Флоренцию, был в Ломбардии, но его внутренний
мир не раздвинулся, центром осталась Феррара; до-
1 См. сатиры IV, И, VI.
2 Общее суждение о поэзии Берии см. т. I, гл. XII, и юношеские
лекции в «Teoria e storia», cit., I, p. 145, и в «Purismo illuminismo
storicismo», cit., II.
2*
19
машние заботы, отношения с двором, мелкие непри-
ятности, любовные переживания, литературные связи,
личные интересы — вот что его занимает, и это в то
время, когда Италию попирают варвары и она мечется
в агонии. Культурный, беспечный:, ленивый, спокой-
ный горожанин, живущий семейной жизнью или в кругу
веселых товарищей, — весь он перед нами, с его спо-
койствием и «fuge rumores» l (беги суеты!). В этом его
облике есть нечто от Горация, но подражание здесь
естественное, это сродство душ и талантов. В смехе, ко-
торый вызывает поэт, нет ничего горького, ничего през-
рительного, мы понимаем, что человек, над которым мы
смеемся, честен, благороден, простодушен, безобиден,
обладает всеми приятными качествами слабых и доб-
рых душ. Это не шуточное стихотворение и не сатира,
потому что автор не собирается никого осмеивать или
порицать, а только изливает душу брату или другу2. По-
этому в его рассказе перемешаны наблюдения, анекдоты,
остроты, пословицы, игра раздраженного воображения,
сатирические зарисовки и особенно изящнейшие апо-
логии— настоящие маленькие шедевры. Терцина, герои-
ческий и трагический стиль средневековья, язык «Бо-
жественной комедии» и «Триумфов» совершенно транс-
формируется и становится языком комедии, размером
шуточного стихотворения, сатиры, послания; в терцинах
появляется небрежность и развязность, которая роднит
их с прозой. Кривая завершается в посланиях (эписто-
лах) Ариосто, где терцина совершенно преобразилась и
приобрела заостренную и сентенциозную форму, как
эпиграмма или пословица.
Терцина, так .же как сонет и канцона, была жанром
литературным и традиционным. Октава, структура кото-
рой уже намечается в риспетти и в народных песнях,
была излюбленной формой рыцарских романов, повест-
вования и описания. До совершенства ее довел Поли-
циано. Это был народный размер, ставший модным. А
терцина, так же как и сонет и канцона, осталась бы раз-
мером условным и неподвижным, если бы Берни и Арио-
1 Изречение, хотя употребленное в другом смысле, взято из
«Disticha de moribus»— «Дистихи о нравах», I, 12, см. т. I, гл. IV.
2 О сатирах и о «юморе» Ариосто см. в юношеских лекциях
о сатирической поэзии («Teoria e storia», cit., I, p. 144 и «Purismo
illuminismo storicismo», cit., II).
20
сто не вдохнули в нее новую жизнь, спустив ее с небес
на землю и придав ей оболочку, соответствующую вре-
мени. Октава пела, а терцина рассуждала, высмеивала,
язвила, раскрывала реальную, прозаическую сторону
жизни.
4. Среди неприятностей и мелких жизненных невзгод
Лудовико писал своего «Неистового Орландо», к боль-
шому неудовольствию кардинала Ипполита, который
считал, что на эту «чепуху» поэт растрачивает время,
отведенное «службе». Боярдо прервал своего «Влюблен-
ного Орландо» как раз в тот момент, когда Карл VIII
перешел через Альпы, чтобы посетить «какой не знаю
край» К Умер Боярдо через несколько лет, когда Лудо-
вико переводил Плавта и Теренция и писал комедии, ко-
торые с большим великолепием ставились в придворном
театре2. Слава феррарского Гомера подстегнула Арио-
сто попытаться создать нечто подобное. Он начал писать
в терцинах эпическую поэму об истории рода д'Эсте, но
скоро бросил, размер этот не подходил его размашистой
манере. Тогда без долгих размышлений он решил про-
должать историю Орландо, начав там, где ее оборвал
Боярдо. Он посоветовался с Бембо, который уговаривал
его писать поэму на латинском языке3. Орландо на
латинском языке! Бембо не понимал, что такое «Влюб-
ленный Орландо». Но зато это понимал Ариосто, который
наслаждался поэмой и решил писать тем же размером
и в том же стиле. Так он перестал подражать античной
поэзии и его талант обрел свободу. Он начал работать
над поэмой в 1505 году, на тридцать первом году жизни,
и в течение десяти лет был полностью ею поглощен, а
1 Это выражение из знаменитой заключительной октавы «Влюб-
ленного Орландо» («Orlando innamorato», кн. Ill, песнь IX, 26).
Стих этот звучит следующим образом: «Пришли, чтоб разорить ка-
кой не знаю край». Смерть Боярдо, о которой упоминается здесь,
последовала через несколько месяцев, а не через несколько лет
после похода Карла VIII.
2 Эти сведения заимствованы из книги Баруффальди (cit., pp. 130
и ел.). Датировку комедий см. выше.
3 Эти сведения старой историографии (см. Р i g n a, I romanzi
nei quali della poesia e della vita dell'Ariosto con nuovo modo si
tratta, Venezia 1554, p. 73), принятые Баруффальди, были отвергнуты
Кардуччи (см. Carducci, «Delle poesie latine edite ed inedite di
L. Ariosto», Bologna 1876).
21
всю остальную жизнь исправлял ее 1. Рассказывают, что
он отправился в Модену в домашних туфлях и только
на полпути заметил это. О его рассеянности рассказы-
вают и другие анекдоты. Что же было у него в голове?
«Неистовый Орландо». Ни одно произведение не было
задумано и исполнено с большей серьезностью.
Серьезность ему придавало не религиозное, мораль-
ное или патриотическое чувство2, от чего уже давно не
осталось никаких следов в искусстве, а чистейшее чув-
ство поэзии, стремление вдохнуть жизнь в неясные обра-
зы, созданные воображением. В замыслах поэта чув-
ствуется стремление отчасти угодить вкусам своего века
и затронуть все те струны, на которые отзывались совре-
менники, отчасти— сочинить историю, или, вернее, пане-
гирик, дому д'Эсте. Но это второстепенные замыслы, они
не удались и были забыты, когда художник стал писать
свое большое полотно. Его вдохновляло и волновало
лишь одно высокое чувство, которое заменило ему веру,
мораль, все,— это культ прекрасной формы, неподдель-
ное поэтическое вдохновение. Он много раз переделывал
свое произведение, пока наконец оно не отлилось в фор-
му, которая его удовлетворила. Такое серьезное отноше-
ние к творчеству и гениальность поэта привели к тому,
что возникла эпопея Возрождения, был создан храм, по-
священный единственному божеству, которое еще чтили
в Италии, — Искусству.
Ариосто и Данте были знаменосцами двух культур,
противоположных по своему характеру. Оба они жили
на рубеже двух веков, их появление предвещали звезды
меньшей величины, поэзия и того и другого явилась
синтезом и завершением целой эпохи. Данте завершает
Средние века,Ариосто завершает Возрождение.
И тот и другой — воплощение своего века. Данте
был скорее поэтом, запечатлевающим мир, чем худож-
ником, его преобразующим: как художнику ему мешали
схоластика, аллегория, аскетизм и даже величие и энер-
гия его характера. Его сознанию представлялся реаль-
1 См. Баруффальди, op. cit., pp. 132—133: «В конце 1505
или в начале 1506 года в возрасте 31 года он принялся за работу
и закончил ее примерно через десять лет». Как известно, первое
издание поэмы вышло в 1516 году.
2 В рукописи дальше зачеркнуто: «или желание развеселить
приятелей и угодить вышестоящим»..
22
ный мир, слишком живой, исполненный страстей, слиш-
ком крепкий, чтобы искусство могло его разложить и
преобразить. И этот реальный мир был замкнут в та-
кую плотную и неподвижную форму, что глубокий
взгляд поэта не всегда мог сквозь нее проникнуть и по-
стичь его непосредственную сущность. Перед Ариосто
весь этот мир в его реальности и в его формах распался.
Распался благодаря деятельности его предшественни-
ков, в которой он не принимал участия. Уже в Петрарке
пробуждается творец, который придает форму своему
внутреннему миру; как подлинный художник, он забо-
тится о том, чтобы этот мир принял определенный вид,
обладал определенными очертаниями, и тогда он сам
начинает в него верить, испытывает страдания и радо-
сти. Уже в творчестве Боккаччо искусство делает реаль-
ность предметом развлечения. Над этой реальностью
саркастически смеялся Лоренцо Медичи и шутил Пуль-
чи; храм опустел, но алтарь получил новое божество;
его появление предвозвестил Полициано — нежный аро-
мат его драмы «Орфей». Ариосто ничего не должен был
утверждать или отрицать. Почва уже подготовлена
без его участия. Он не верующий и не скептик, он —
равнодушный. Мир, в котором сформировалось его твор-
чество, утратил все возвышенные и благородные идеалы,
утратил религию, родину, мораль. Этот мир интересует
его очень мало. Лудовико — добряк, он естественно бла-
городен и инстинктивно любит свободу, но он не воз-
мущается и не бунтует против своего господина, а тер-
пит и ворчит. В жизни он выполняет ту роль, которую
ему определила его невеселая судьба, выполняет честно,
разумно, но без всякого энтузиазма, не вкладывая в эту
роль души. Говорили, что он рассеян. Но ведь реальная
жизнь была для него чем-то второстепенным, основным
было искусство. Посмотрите на него, ничем не выдаю-
щегося горожанина, к"ак почти все литераторы той эпохи,
Добродушного, в общем спокойного, хотя и не без раз-
дражительности, человека, не умеющего ни завоевать
себе свободу, ни терпеливо переносить свою зависи-
мость; его принижают неприятности и жизненные не-
взгоды, окружающие смеются над его рассеянностью
и вспышками гнева. Посмотрите на этого человека,
когда он сочиняет и творит. Его взгляд просветляется,
лицо становится вдохновенным, он себя чувствует
23
Тициан. Лудовико Ариосто.
богом. Здесь, на этом челе, запечатлено то слово, кото-
рое еще живо в Италии, — Художник.
5. Рыцарский мир, занимавший его воображение, в
Италии всегда был лишь миром вымышленным, далеким.
Когда все идеалы добра и доблести в реальной действи-
тельности рухнули, одни поэты стали искать их в рыцар-
ском мире, другие — в пастушеской жизни; так на разва-
линах средних веков возникли рыцарская поэма и идил-
лия, два поэтических идеальных мира Возрождения.
Конечно, воспоминания об этом рыцарском мире жили,
но они были далекими и смутными, стерлась память о
том, когда и где он существовал, какие события в нем
происходили; ведь напоминала о нем не национальная
поэзия, а переводная или подражательная. Все же ка-
кое-то подобие этого мира можно было увидеть при дво-
рах, где проявлялось нечто аристократическое, благород-
ное, человеческое, то, что называлось куртуазней, и где
часто разыгрывались сцены, напоминавшие о рыцарских
нравах. Таким образом, в сознании итальянцев существо-
вал рыцарский куртуазный мир, противопоставлявшийся
по чистоте форм и благородству чувств миру плебей-
скому, мир, законы которого были основаны ни на Еван-
гелии, ни на каком-нибудь другом кодексе, а только на
принадлежности к рыцарству или дворянству. Еще сей-
час говорят «честное слово дворянина». Был кодекс чес-
ти и любви, который подразумевал обязанности храброго
и честного рыцаря. Постоянство и верность в любви, пре-
данность своему сеньору, умение держать свое слово, за-
щита слабых, месть за оскорбления — вот главные ста-
тьи этого кодекса чести. Это мир куртуазии, предстаю-
щий в «Декамероне» как мир поэтический в противовес
плебейской грубости: и действительно Джербино и Гуль-
ельмо, дочь Танкреда, Федериго дельи Альбериги 1 — это
прекрасные образу более возвышенного мира, где знают,
что такое гордость и тонкость душевных переживаний.
Но при дворах итальянских княжеств, таких, как Урби-
но, Феррара, Мантуя, от этого куртуазного мира сохра-
нился лишь отблеск, отдаленное представление, да и то
скорее о видимости, чем о сущности; и нередко.с изя-
ществом и галантностью прекрасного уживалось самое
наглое вероломство таких людей, как Цезарь Борджиа.
1 См. «Декамерон», IV, 4, 1 и V, 9.
25
Истинное и глубокое чувство чести не было присуще
итальянскому национальному характеру, и если тогда и
могли быть люди чести, то, во всяком случае, ни для ка-
кого класса, ни для народа в целом честь не была основ-
ным законом; мало того, многие смышленые, остроумные,
образованные люди были склонны высмеивать тех, кто
во вред себе следовал этому закону. Это считалось не
добродетелью, а простоватостью и вызывало легкую иро-
нию, острие которой едва прикрыто в восклицании поэта:
О благородство рыцарей былое!
Таким образом, в Италии не было настоящего рыцар-
ского чувства, которое могло бы вызвать к жизни такое
произведение, как «Сид»; чувства религиозные, нрав-
ственные и политические заглохли, и честь потеряла свою
основу, остались лишь ее внешние черты, скорее блестя-
щие, чем прочные, и именно на них зиждется кодекс
«Придворного» Кастильоне1. Поэтому рыцарский мир,
так же как мифологический и религиозный, был для
нас только легендой или романом, миром, созданным
поэтическим воображением, и он вызывал интерес не
своими идеалами, а свежестью, разнообразием и. не-
обычайностью происходящих в нем событий. Чем менее,
серьезным был смысл повествования, тем фантастичнее
и непристойнее было его содержание; нарушались все
границы времени, пространства, правдоподобия. Канта-
сторий не ставил перед собой иной цели, как возбудить
любопытство и насытить воображение, вплетая в старые
традиционные рыцарские поэмы самые невероятные ис-
тории, спутывая их таким образом, чтобы все время воз-
буждать любопытство у слушателя и держать его в на-
пряжении. Вот так и появились формы странного по-
вествования; оно все время прерывается, вставляются
самостоятельные эпизоды, затем резкий переход — и оно
вновь продолжается и остается непоследовательным не
только по мысли, но и по внешней структуре.
В это время уже зародилась наука о человеке и о
природе. Изобретение книгопечатания, открытие Копер-
ника, путешествия Колумба и Америго Веспуччи, произ-
1 Об ироническом и сатирическом характере «Cortegiano», в ко-
тором «преобладает поэзия», см. юношеские лекции («Teoria e sto-
ria», cit., II, p. 43 и «Purismo illuminismo storicismo», cit., III).
26
ведения Помпонацци, «Рассуждения» Макиавелли, Ре-
форма, прочное учреждение больших государств, таких,
как Испания, Франция, Англия, были фактами чрезвы-
чайной важности, изменившими лицо мира]. Но по-
следствия этих факторов еще не были вполне ясны, и
новый мир, мир человека и природы, одним словом, мир
науки походил на солнце, еще окутанное туманом, кото-
рый не дает пробиться его лучам. Туман — это народ-
ная фантазия, которая заменяла науку, заполняя землю
чудесами. Сверхъестественное громоздилось в разных
формах, люди верили во все: в христианские чудеса и в
чудеса языческие, в колдовство волшебников и фей, в
вымыслы астрологов. Человек среди этбй сказочной, за-
колдованной природы был актером, достойным этого
театра: он был примитивным, легковерным, невежест-
венным, легко предавался своим склонностям и стра-
стям, действовал под влиянием внезапных побуждений,
а не спокойных размышлений. Человек этот никогда не
заглядывал в свою душу, не изучал себя и не знал, он
весь был на поверхности, весь в сутолоке жизни. Потому
и он скорее явление природы, чем сознательное суще-
ство, явление, которое вовлекается в различные собы-
тия и само по себе не имеет «ни характера», «ни само-
стоятельности».
Тем не менее Италия была страной, где человек
был в умственном отношении более зрелым, чем в дру-
гих странах, более образованным и культурным и где
сверхъестественное во всех его формах принималось
только как поэтический вымысел, создание поэтического
воображения. Поэтому, если в других европейских стра-
нах существовала еще связь между рыцарским миром
и миром реальным, у нас эта связь была нарушена и
рыцарский мир был чистейшим вымыслом.
6. Ариосто по духу своему вовсе не был рыцарем,
напротив, был склонен к юмору. И когда он захотел
продолжить поэму Боярдо, он походил на художника,
1 См. Кине (op. cit., I, pp. 188—189): «Истинное чудо состоит
в том, что вы чувствуете дух XVI века, в том, каким образом поэт
старается от него (то есть от этого века) отойти; ибо такого рода
вымысел соответствует реальному чувству и содержит в своей основе
общую веру; недавние изобретения книгопечатания, пороха, компаса,
открытие Америки, пути в Индию, внушили человеку мысль о его
господстве над природой.
27
которому все равно, кого рисовать: нимфу или святую,
лишь бы нарисовать ее хорошо. Многие спрашивают:
«Какую цель ставил перед собой Ариосто?» Никакой,
кроме как изобразить, нарисовать рыцарский мир. Гомер
поет гнев Ахилла, Вергилий воспевает Энея, Данте —
спасение души; Ариосто вовсе не воспевает подвиги
Аграманте или Карла, неистовство Орландо и любовь
Руджиеро и Брадаманты. Поход Аграманте для поэ-
та— это неподвижная ось, вокруг которой разворачи-
ваются события, показывающие нам рыцарский мир;
сам по себе поход не цель повествования, но он опре-
деляет место и время, в котором раскрывается этот
мир. Ариосто воспевает дам и рыцарей, рыцарские
добродетели и отважные подвиги «тех времен», когда
Аграманте явился во Францию \ Неистовство Орландо
и любовь Руджиеро — это не эпизоды, именно потому,
что нет единого действия, а это важные части той ог-
ромной совокупности, которая называется рыцарским
миром. Единство, следовательно, зависит не от того или
иного персонажа, оно заключается в том, что весь этот
мир в его духовной сущности и в его развитии раскры-
вается в определенном месте и в определенное время.
Если бы поход Аграманте был не только простым осто-
вом этого рыцарского мира, а настоящим сюжетом,
основной темой, а истории Орландо и Руджиеро — лишь
эпизодами, это было бы серьезнейшим недостатком
романа; подходя с таким критерием к «Божественной
комедии», мы обнаружили бы в ней точно такой же не-
достаток. С этой точки зрения никуда не годятся эпи-
зоды, которые все время нарушают сюжет и его себе
подчиняют. А еще хуже сам этот сюжет, главные эпи-
зоды которого происходят вне поэмы Ариосто — в поэме
Боярдо; но о сюжете поэмы наш поэт вспоминает лишь
тогда, когда ему нужно соединить слишком разбросан-
ные нити, а затем надолго забывает о нем; когда основ-
ная сюжетная линия закончена, он обходится и без нее!
Единство действия и эпизодов — это условность, кото-
рая пришла к нам от Аристотеля и Горация, и было бы
нелепо применять это правило в изображении рыцар-
ского мира. Потому что сущность этого мира — это как
1 См, «Orlando Furioso», I, vv. 3—4.
28
раз свободная инициатива индивида, отсутствие серьез-
ности, порядка, единого основного действия, так что не-
даром сюжетные линии называются приключениями, а
рыцари — странствующими. Покинуть то, что является
здесь центром, отправиться бродить по свету в поисках
приключений — вот в чем дух этого мира, которому пре-
тят единство и дисциплина. Создать этот мир по пра-
вилам Горация и Аристотеля — значит его фальсифици-
ровать. Беспорядок здесь — это порядок, а разнообра-
зие— единство. Как единство реального мира в его бес-
конечном разнообразии проявляется в его духе или в
его законах, так единство этой большой картины— в
духе или законах рыцарского мира К
В этом мире свободы и личной инициативы центро-
стремительная сила действует слабо; нужен архангел
Михаил или дьявол, чтобы притащить странствующих
рыцарей в Париж, где идут сраженья. Рыцари оказы-
ваются там не более двух раз и остаются в Париже не
дольше одного дня, уже на следующий день они снова
бегут за призраками своих страстей, их влекут любовь,
месть, слава, и все они жаждут необычайных, чудесных
приключений.
Самый поход Аграманте не связан ни с религией, ни
с политикой, это тоже приключение, вызванное жела-
нием мести. Париж —это неподвижная точка, где по-
очередно наступают и обороняются войска Карла и
Аграманте, но их паладины и рыцари, большей частью
короли и сеньоры, разъезжают по свету, и Париж ста-
новится только местом встречи; здесь рассказ иногда
как бы сосредоточивается и замедляется, и поэт поль-
зуется этим, чтобы соединить и связать вместе нити
1 Здесь, хотя и в общих чертах, по существу, ставится вопрос,
который особенно привлекал Де Санктиса в период его увлечения
Гегелем, — вопрос о поэтическом единстве «Неистового Орландо».
См- в юношеских лекциях о жанрах: «Поэма удалась, потому что
в ней не соблюдены правила, но она не удалась бы, если бы они со-
блюдались. Ее единство, ее порядок — это единство в беспорядке...»
«Гегель говорит, что рыцарство — это победа индивида над обще-
ством, разнообразия над единством, воли над законом. И это под-
тверждается историей. Не то чтобы во времена рыцарства не было
общества: были люди, законы, войска, весь внешний общественный
аппарат, но сила не в нем, она — в рыцарях, то есть в индивидах»
(«Teoria e storia», cit., I, pp. 223—224, и «Purismo illuminismo sto-
ricismo», cit., II).
29
повествования на довольно длительный промежуток вре-
мени. Е^едь всей этой рыцарской анархией управляет
спокойн'ЫЙ и гармоничный разум, который держит нити,
искусно сплетает их, умеет разжечь любопытство и
не утом ить внимания, избегает в этом разнообразном и
произвольном действии нагромождения и путаницы,
неожиданно вновь показывает персонажей и события,
о котор'ых, казалось, он забыл, и во всей этой види-
мости беспорядка соединяет нити, оставаясь спокойным
и улыбаясь среди суматохи и столкновения сторон. Па-
риж— з*то главный узел основы, он, как маяк, время от
времени вспыхивает и озаряет все вокруг. Действие
начинаемся в Париже в момент, когда христиане по-
несли серьезное поражение. И как раз тогда, когда они
особенно нужны, Ринальдо, Орландо, Брандимарте уез-
жают. Р^инальдо гонится за конем Баярдо, Орландо — за
Анджелдаой, Брандимарте —за Орландо. Вы сразу по-
падаете в подлинно рыцарский мир. Приключение сле-
дует за приключением. А пока герои гоняются друг за
другом, Аграманте поджигает Париж, Родомонте вхо-
дит в гофод и один повергает всех в ужас. Париж спа-
сен, потому что чудесный дождь гасит пожар и потому
что Ринальдо, которого ведет архангел Михаил, при-
бывает #ак раз вовремя и разбивает язычников. Агра-
манте, (Осаждавший Париж, сам оказывается в осаде.
Языческие рыцари тоже странствуют. Феррау ищет Ор-
ландо: он поклялся отнять у Орландо шлем; Градассо
ищет Ринальдо, у которого хочет отнять коня Баярдо,
Сакрипанте ищет Анджелику; Марфиза, Родомонте,
Руджиеро, Мандрикардо ссорятся и сражаются друг с
другом. Дьяволу удается заставить их гнаться за конем
Дорглих*е> увлекающим их за собой в Париж. Они
приезжают туда и разбивают христиан. Но на другой
день внб>вь вспыхивает распря и они начинают драться
между собой. Руджиеро убивает Мандрикардо, разгне-
ванные Марфиза и Родомонте покидают лагерь; кто же
остается? У христиан — Ринальдо, у язычников — Руд-
жиеро. Поединок между Ринальдо и Руджиеро должен
положить конец войне. Но Аграманте нарушает согла-
шение, U вот его войско разбивают, его флот рассеивают
враги и ветры, и он издали видит, как его родную землю
опустошают христиане. Действие поэмы начинается
в Паршке, и в Париже оно заканчивается свадьбой
30
Руджиеро и смертью Родомонте. Париж — это связующее*
звено повествования, но это не душа его, не внутренний
лейтмотив. Лейтмотив этот — дух приключений, удовлет-
ворение желаний, любовь и честь, чудеса, которые при-
влекают рыцаря, когда он не сбился с пути и ему не ме-
шают сверхъестественные силы. Сверхъестественное вы-
ступает здесь как простой рычаг действия или безликая
сила, и такими же силами, а не персонажами являются
Михаил и Дьявол, Распря, Атлант и Мелисса. Эти
сверхъестественные персонажи лишены всякого ореола
и обаяния, так же как заколдованные шпаги и щиты,
волшебные перстни, гиппогрифы, копье Аргальи и рог
Астольфо и другие аксессуары всем известных старых
сказок, оставляющих холодной фантазию поэта. Мы так
привыкли к этому сверхъестественному, что чувствуем
себя в нем, как в обычном мире; эта фантастика, окру-
жающая нас все время, сама себя убивает, утрачивает
свою остроту и краски; если она вызывает интерес, то
не сама по себе, а тем трагическим или комическим
эффектом, который умеет извлечь из нее поэт (напри-
мер, комическое действие рога Астольфо). В этом
сверхъестественном мире живет некая стихийная, при-
митивная сила в ее различных проявлениях: от чудо-
вища, гиганта и язычника до христианского рыцаря,
идеальный образ которого определяется кодексом чести
и воплощает в себе цивилизацию и прогресс среди
общего варварства.
Духовные побуждения этого мира — любовь, честь,
тягу к чудесному и к приключениям — поэт довел до той
крайности, когда серьезное переходит в смешное: любовь
отнимает разум у Орландо и превращает в зверя Родо-
монте, честь вырождается в мелочную щепетильность и
приводит к самым неожиданным действиям. Трагически
это воплощается в образе Мандрикардо, комически —
в образе Родомонте, в сцене его подвигов на мосту;
чудесная сила переносит нас на порог ада и в земной
рай, в царство Луны. Внутренние мотивы действия
в рыцарском мире показаны в крайнем своем прояв-
лении. Если сверхъестественный элемент слаб и сама
Альчина кажется скорее аллегорической фигурой, чем
истинно поэтическим образом, то события, которые опре-
деляются естественными силами, действующими в кру-
говороте человеческой жизни в ее различных и проти-
31
ЁОполбжных проявлениях, нарисованы очень живо.
В поэме развиваются серьезные и комические ситуации
высокого эстетического достоинства: Анджелика в конце
концов становится женой бедного пехотинца, Орландо
сходит с ума, Астольфо совершает путешествие на Луну,
в лагере Аграманте вспыхивает распря, Аграманте видит
Бизерту, Градассо преследует судьба: всю жизнь он
сражался, чтобы захватить коня Баярдо и меч Дурлин-
дану, а когда он их захватывает и чувствует себя нако-.
нец счастливым, его убивает Орландо. Образ Руджиеро
навеян образом Ахилла: Руджиеро освобождается из
плена чарующего безделья заколдованного замка и вол-
шебных прелестей Альчины и становится идеальным
рыцарем. Вокруг этих ситуаций группируются эпизоды
менее значительные, но придающие законченные очер-
тания этому миру во всех его оттенках: это смерть Дзер-
бино и горе Изабеллы, брошенная Олимпия, смерть и
похороны Брандимарте, приключения Грифоне, Дудоне,
Марфизы и комические сцены, где действуют Мартано,
Гаорина и Джокондо !. Хотя этот вымышленный мир не-
обычен и имеет мало общего с нравами и чувствами его
эпохи, Лудовико себя чувствует в нем вполне уютно
и столь ясно представляет его себе, что обрисовывает
его так же отчетливо, как если бы он рисовал реальную
жизнь. В этом и состоит необычайность поэтического
гения Ариосто, изображающего фантастический мир
с такой простотой и естественностью. Описываемая
жизнь действительно фантастична до нелепости, но,
приняв эту основу, Ариосто изображает развитие собы-
тий правдоподобно и глубоко человечно. Посмотрите,
с каким тонким психологизмом автор постепенно под-
водит Орландо к безумию, как умно показана вся гамма
отчаяния Олимпии или распря в стане Аграманте. По-
этому все персонажи кажутся живыми и их не забы-
ваешь. Некоторые из них стали нарицательными коми-
ческими образами (как Родомонте, Градассо, Сакри-
панте, Марфиза). Поэт не вмешивается в происходящие
события, он не действующее лицо, а скорее зритель,
который наслаждается зрелищем этого мира, как будто
1 Более подробный анализ этих эпизодов см. в юношеских лек-
циях и особенно в цюрихском курсе «Verso il realismo». О главных
персонажах поэмы см, ниже*
32
это не его мир и не он своим воображением его создал.
Отсюда совершенная объективность и ясность его по-
этического мира, которую сравнивали с гомеровской.
Итальянская литература в этой простоте и ясности ари-
остовской поэмы достигает своего совершенства, и
именно благодаря этим качествам Ариосто стоит выше
всех итальянских художников, художников, подчерки-
ваю, а не поэтов. Для него не имеют ценности сами по
себе предметы, оторванные от реальности и порожден-
ные только игрой воображения, но зато он высоко це-
нит их художественное воплощение в форму, и здесь он
трудится с величайшей серьезностью. Нет ни одной мел-
кой подробности, которая не привлекла бы его внима-
ния и не была бы доведена им до совершенства. Именно
потому, что его интересует не предмет, а его форма, он
отходит от скупой, обобщающей манеры Данте и перед
нами не эскизы, а законченные картины.
7. Роль, которую в «Декамероне» играет период,
в поэме Ариосто выполняет октава; структура ее на-
столько искусна, настолько совершенна, что она похо-
дит на картину, где есть главный персонаж, второсте-
пенные фигуры и фон. Октавы Полициано следуют одна
за другой, и он предоставляет вашему воображению
связывать их между собой; октава Ариосто так рас-
пределена и так пропорциональна, что сама, кажется,
живет. Это ощущение возникает не только благодаря ее
крепкой и стройной структуре, но и благодаря музы-
кальной волне, плавной, легкой звуковой поверхности,
помогающей читателю воспринимать не только то, что
происходит, но и внутренние мотивы и чувства. В век
великих художников, когда итальянцы в своем творче-
стве стремились придать изображению полную завер-
шенность, Ариосто тоже предстает как законченный
художник, который не оставляет предмета изображения
до тех пор, пока не превратит его в картину. И не то
чтобы он искал какого-нибудь необычайного освеще-
ния или гармонии, богатства красок и аксессуаров:
у него нет ни тени аффектации или претенциозности;
предмет изображения сам говорит за себя. Поэт запе-
чатлевает внешний мир живым, то есть в той форме, ко-
торую он принимает в зависимости от происходящего
в нем внешнего или внутреннего движения; он не делает
никаких замечаний, не размышляет, не исследует этот
3 Де Санктис
33
мир, не задает никаких вопросов, не проникает внутрь,
не осязает его и не приукрашивает. Никакое субъектив-
ное предвзятое чувство не нарушает объективности его
изображения. Не поэт живет, живет изображенный им
предмет, он движется, и мы не видим, кто его движет, и
нам кажется, что предмет движется сам. Высшая про-
стота и полная ясность видения — это то, за что Галилей
называл Ариосто божественным 1. И он таков не только
в частных подробностях, но и в грандиозных сценах. Его
взгляд остается спокойным и ясным, когда он рисует
самые резкие повороты и самое сложное сплетение собы-
тий. Он рисует поединки, битвы, турниры, празднества,
зрелища, пейзажи, замки с такой четкостью и простотой,
с какой он рисует мелочи. В октавах Полициако нет
никакой шероховатости, но чувствуется, что их поверх-
ностная грань начищена, вылизана, отполирована, чув-
ствуется стремление к изяществу. Здесь плоскость этой
поверхностной грани столь естественна, что кажется,
будто она так сама и возникла и другой быть не может.
Возьмем, например, описание розы:
Одна играет шляпкою зеленой,
Ломается другая у дверей,
А третья, что недавно вся пылала,
На луг роняет лепестки устало 2.
Здесь роза словно кокетливая девушка, прини-
мающая то одну, то другую позу, чтобы казаться при-
влекательнее. Мы видим, как она надевает шляпку,
выглядывает в окошко, горит сладостным огнем — и все •
это образы, навязанные фантазией человека. Это роза
не в своем естестве, а какой ее видит человек. Мы ощу-
щаем поэтический дух, который ее украшает, прина-
ряжает; роза через него преломляется и видоизме-
няется.
Теперь посмотрим, как изображает розу Ариосто.
1 См. Considerazioni al Tasso, Pagliarini, Roma 1793. «Эта на-
глядность... напоминает божественного Ариосто», р. 92; «читаешь
с безграничным удивлением божественного Ариосто». Об этой работе
Галилея см. дальше, в гл. XVIII.
2 «Stanze per la giostra», I, 78, vv. 5—8, уже цит. в т. I, гл. XI,
посвященной этой поэме. Ариостовское сравнение розы см.: «Orlando
Furioso», I, 42 и 43.
34
Пока она покоится на ложе,
На веточке родной, в прекрасный сад
Ни стадо, ни пастух его не вхожи;
Вода и почва к ней благоволят,
Рассвет росистый, ветерок погожий,
А юноши и девы норовят
Украсить ею кудри и наряд.
Но стоит только с материнской веткой,
С кустом зеленым распроститься ей,
И прелесть и красу она теряет,
И благосклонность неба и людей,
Это поэтическая история розы. Поэт делает вид, что
он не описывает, а рассказывает, он показывает розу
как она есть, так, что ничто не кажется чрезмерным,
преувеличенным или видоизмененным. Росистая заря, зе-
леная ветка, шипы, красивые юноши, влюбленные жен-
щины, грудь, кудри, стадо и пастух — все это естествен-
ные образы, отчетливые, пластические, существующие
реально, созданные фантазией без субъективной окрас-
ки, фантазией, целиком поглощенной зрелищем. Взгля-
ните, как развертывается октава, так просто, что ка-
жется, будто последний стих падает на землю, как
низменная проза, так же как упала роза со своей девиче-
ской высоты. Таким образом, здесь изящество, гармония,
колорит не придуманы заранее поэтом, а являются фор-
мой самого предмета, это не украшение его и не одеяние,
а его прозрачная оболочка. Большие полотна нарисова-
ны с той же ясностью и точностью, что и мелочи. Ари-
осто описывает множество битв, поединков, заколдо-
ванных замков и никогда не повторяется, потому что
ведь любой предмет отличен от другого и имеет свои
индивидуальные характерные черты. В картине, какая
бы она ни была — большая или маленькая, — внутрен-
нее движение и цвет дает'сам изображенный предмет,
поэтому каждая картина отличается от других, она
завершена и нарисована так, что выписаны все детали.
8. Предвзятость у поэта ограничивает его и опреде-
ляет его поэтическую манеру; такая поэзия показывает
не объект изображения, а особенность поэтического ви-
дения. Поэтому гораздо легче подражать субъективным
поэтам с резко выраженным стилистическим своеобра-
зием, вроде Петрарки, Тассо, Марино. И, наоборот,
3* 35
невозможно подражать Ариосто, у которого нет особой
стилистической манеры; мы забываем о нем, он целиком
растворяется в том, что он изображает, и личного
отношения у него нет. Он — воплощенное добродушие,
и держится он так, будто чистосердечно и просто рас-
сказывает, как все происходило, и при этом ничего от
себя не прибавляет. Его талант, словно губка, впитывает
в себя предметы, которые хочет изобразить, в их нагляд-
ности, с их отличительными чертами и такими же их
показывает, ничего не изменяя. Поэтому его талант про-
является в самых разных манерах \ и это зависит не от
его подхода, а от разной природы того, что он изобра-
жает. С одинаковой легкостью и уверенностью он ри-
сует героическое, трагическое, комическое и идилли-
ческое, непристойное как черты, присущие тому, что
он рисует, а вовсе не его таланту. Отсюда возникает
поразительная наглядность созданного поэтом мира
в его бесконечном разнообразии и свободе и художест-
венная достоверность этого мира в целом и во всех его
мельчайших частицах. Наглядность заключается в том,
что изображаемое живет, так как оно показано в дей-
ствии, и все второстепенное предстает перед вами тоже
в действии, как движение, поза, мотив; то второстепен-
ное, что Данте предоставляет вам угадывать, здесь сво-
бодно размещается в октаве. И именно потому, что
изображаемое показано в действии и в движении, опи-
сания скупы и редки, характеры и пейзажи — то есть
человек и природа в состоянии неподвижности — еле
намечены, вставные эпизоды и связь между ними сде-
ланы эскизно, обстановка, в которой происходит дейст-
вие, понятна, предшествующие события лишь упоми-
наются, и действие, схваченное в самый интересный мо-
мент, стремится вперед, как корабль с поднятыми пару-
сами при благоприятном ветре. Вы никогда не заблуди-
тесь, никогда не собьетесь с пути: точно так же как в
мире Ариосто время и пространство не имеют границ,
так и в его стиле нет никаких препятствий или нагро-
мождений; вы плывете в чистой проточной воде. Здесь
все существенно и исполнено смысла. Здесь нет ничего
абсолютного, все относительно, произвольно, оставляет
1 Ср. у Данте: «...чье естество всегда легко переменяющимся
мнилось?», «Рай», V, 99.
36
то серьезное впечатление, то комическое. Это то впечат-
ление, которое может дать воображаемый мир, в жизни
которого сам поэт не участвует, не разделяя ни страстей,
ни переживаний своих героев; мы ощущаем его лич-
ность только в художественном совершенстве этого
созданного им мира. Поэма вызывает живой интерес,
который все время поддерживается и часто сопровож-
дается чувством спокойного удовлетворения; так, иног-
да вы знаете, что грезите, и вам это нравится, глаза у
вас полузакрыты, и вы погружены в созерцание. Греза
вам нравится, но ничего не говорит ни уму, ни серд-
цу— это сладкий отдых воображения. Это поток обра-
зов, таких живых и прозрачных, таких естественных
и выразительных, что они захватывают вас и вы не
можете от них отвлечься; они настигают вас, их при-
носят мелодические волны, волны сменяющихся красок,
журчащих звуков, которые услаждают зрение и ласкают
слух. Этот мир — ваша греза, или, если выразиться язы-
ком этого мира, ваш заколдованный замок, ваш золо-
той сон. Впечатление не настолько глубоко, чтобы оно
превосходило ваше воображение и поражало всерьез
ваш разум и чувства. Самое сильное впечатление вызы-
вает у вас лишь легкое возбуждение, похожее на об-
лачко, которое возникает и тут же тает в ясном небе.
Эти легкие, еле заметные облачка все время набегают,
это мимолетные движения души, которые вызывают на
мгновенье смех или слезы, но тут же сдерживаются и
видоизменяются. Вот пример:
Не меньше я прошу тебя о Фьорди... —
Но «лиджи» он прибавить не успел...!
Вцепился в кудри золотые он,
Их на себя рванул бесцеремонно,
Но тут прекрасный лик ему предстал, —
Он сжалился и убивать не стал.
Так же внезапны и мимолетны ваши ощущения, когда
перед вами предстают образы трогательные. Вдруг
в вашем сердце пробуждается что-то, что напоминает
чувство, но тут же появляется новый образ, вы понима-
ете, что это все игра, и вновь успокаиваетесь. Один
1 «Orlando Furioso», XLII, 14, vv. 3—4, Сл. цитата: ibid., XIX, 10,
w. 5—8.
37
из наиболее привлекательных персонажей Ариосто —
Дзербино, и когда его пронзает меч Мандрикардо, в
вашем сердце начинает пробуждаться какое-то чувство
и вам передается трепет Изабеллы, но поэт с любезным
изяществом сравнивает рану Дзербино с пурпурной лен-
той на фоне серебристой ткани, расшитой его возлюблен-
ной *, и убивает ваше чувство в самом зародыше. Смерть
Дзербино — это очень трогательная сцена, но горестные
переживания умеряются изящными образами. Изабелла
склонилась над умирающим, поэт смотрит на нее, и она
ему кажется бледной, как роза.
Как вовремя не сорванная роза,
'Бледнеющая над густым кустом.
(«Неистовый Орландо», XXIV, строфа 80, ст. 5—6)
Умирающий Дзербино в отчаянии бросает на возлюб-
ленную последний взгляд, исполненный страсти.
За эти губы и глаза, клянусь,
За волосы, которые любил я...
(XXIV, строфа 79, ст. 3—4)
Иногда какая-нибудь одна удачная деталь создает
образ, оттесняющий чувство.
И рвет, как будто волосы, траву.
(XXIV, строфа 86, ст. 7)
В этом смысле особую роль играют сравнения: в тот
момент, когда ваши переживания достигают наибольшей
силы, сравнения вас отвлекают иными образами и собы-
тиями.
Сакрипанте в отчаянии сравнивает девушку с розой-2.
Анджелика, за которой гонится Ринальдо, походит на
бегущую козочку, видевшую, как ее мать растерзал лео-
пард. _
г Бежит и, натыкаясь на суки,
Мнит, что они — звериные клыки.
(I, строфа 34, ст. 7—8)
1 «Orlando Furioso», XXIV, 16, vv. 1—4:
Увидел я, как лента заалела,
Сребристую пересекая ткань,
Ее руки^ которой то и дело,
Влюбленный, сердце приношу я в дань.
2 «Orlando Furioso», I, 42—43- Анализ этого прекрасного срав-
нения см. выше.
38
Голодный лев, змея, выползающая из мрака, медведица,
загнанная в пещеру, кувшин с длинным и узким гор-
лышком, откуда вода вытекает по каплям1, — подобные
сравнения не новы и не оригинальны, как сравнения
Данте, но отличаются живостью и смело отвлекают вни-
мание и напоминают о внешней жизни даже в момент
самых сильных переживаний. Прочтите в сорок пятой
песне жалобу Брадаманты: это настоящая элегическая
песнь, в которую вставлено множество прелестных срав-
нений. Полные слез глаза героини, отыскивающей в при-
роде картины, отвечающие ее душевным переживаниям,
легко осушаются, так как картины эти отвлекают ее.
Вот так возникает общий тон, скорее элегический и
идиллический, чем героический и трагический, и это со-
ответствует не только впечатлительной и нежной натуре
поэта, но и всему направлению нашей поэзии начиная
с Петрарки.
9. Природа тоже изображается только внешне, как,
например, сад Альчины и земной рай2, и не захваты-
вает душу. Есть образ, но нет чувства.
Сапфиры, жемчуг, золото, рубины,
И хризолиты, и алмазы там
Могли цветами выглядеть с картины —
Подарка ветра этим берегам...
(XXXIV, строфа 49, ст. 1—4)
Среди ветвей звучит веселый хор
Птиц голубых, зеленых, красных, белых,
Журчат ручьи, прозрачна гладь озер —
Хрусталь прозрачней быть бы не сумел их.
(XXXIV, строфа 50, ст. 1-4)
Какие струны задевает эта природа? Какие вызывает
впечатления? Побуждения? Астольфо равнодушно про-
ходит мимо этих красот, и его поражает только стена
из драгоценного камня.
Рубина ярче и светлей ома.
О труд чудесный! О искусный зодчий!
(XXXIV, строфа 53, ст. 4—5)
1 См. соответственно XVIII, 178, vv. I; XVII, 11, v. 3; XIX, 7,
v. 1—2; XXIII, 113, v. 3—4.
2 «Orlando Furioso», VI, 20 и ел., и XXXIV, 49 и ел.
39
Здесь нет чувства природы, как нет чувства отчизны,
семьи, человечества, любви, чести. Вместо чувства —
моральная сентенция, его абстрагирующая. Чувство кри-
сталлизуется в прекрасных стихах такого рода:
Бедняк таков:
Во что захочет, веровать готов.
(I, строфа 56, ст. 7—8)
Вот прекрасные сентенции о любви:
Что смертный видит, делает невидимым,
И что не видит, — видимым Любовь.
(I, строфа 56, ст. 5—6)
Чего не сделает, с влюбленным сердцем
Жестокая и лживая Любовь?..
(IX, строфа 1, ст. 1—2)
Сперва в ладоши хлопает восторженно,
А после лжет, как будто так положено.
(XIII, 4, ст. 7—8)
Любовь всегда
Легко пренебрегала словом данным.
Она не позволяет никогда
Осуществляться нашим лучшим планам...
(XIII, строфа 20, ст. 1—2)
Твердил и не устану повторять:
Кто в славные ее попался сети,
Обязан, если он влюблен всерьез,
Страдать красиво, умирать без слез.
(XVI, строфа 2, ст. 1-2, 7-8)
Любовным клеем крылья не запачкай,
Ногою угодив в любовный клей:
Любовь — недуг, безумный бред, горячка,
Согласно мненью сведущих людей.
(XXIV, строфа 1, ст. 1-4)
О двойственность неопытных сознаний,
С их жаждой шумной славы и любви!
Как истинное угадать призванье?
Попробуй, что важнее, улови!
(XXV, строфа 1, ст. 1—4)
40
Любовь, что большинству как зло известна,
Подчас, однако, может быть полезной.
(II, строфа 2, ст. 7—8)
Отъезд, и мест далеких новизна,
И неизбежность новых похождений
От страсти, что, казалось, так сильна,
Подчас приносят сердцу исцеленье.
(XXVIII, строфа 47, ст. 1—4)
В том, чтобы черствые сердца смягчать,
А не наоборот, — Любви задача.
(XXXII, строфа 93, ст. 1—2)
Эти сентенции нельзя назвать глубокими и оригиналь-
ными, это общие места, облеченные в хорошие стихи, но
не оставляющие никакого следа. Чувство, то выражен-
ное в сентенции, то воплощенное в образ, едва возник-
нув, исчезает. Нельзя сказать, что вообще нет чувства.
Оно появляется, и довольно часто, то в ответе Дарди-
нелло рыцарю Ринальдо и короля Аграманте принцу
Брандимарте, то в музыкальных и элегических жалобах
Олимпии, Орландо или Клоридано 1, но оно тонет в море
фантастики и терпит кораблекрушение в волнах обра-
зов. Голоса героев, исполненные тревоги и страсти,
прежде чем достичь нашего слуха, сливаются с рокотом
волн и превращаются в видимые образы. Последний
пример — это Орландо, который, плача и призывая Анд-
желику, сравнивает ее с заблудшей овечкой2 и разви-
вает этот образ.
10. Легко можно себе представить, какое живое вос-
хищение должны были вызвать эти пластичные образы
в обществе, где было так мало чувств и все было так
поверхностно и изменчиво, где было так мало совести
и так много фантазии.
1 Ответ Дардинелло Ринальдо, XVIII, 149 и ел.; Аграманте
Брандимарте XLI, 42 и ел. Жалобы Олимпии, Орландо, Клорида-
но - соответственно X, 27; XXIII, 126 и XVIII, 171.
2 «Orlando Furioso», VIII, 76, vv. 3—4.
41
Новая литература, начавшаяся с музыкальных пе-
риодов «Декамерона», выражалась в этих гибких ок-
тавах, где жизнь в ее быстром движении так ощутима
-т так прозрачна. «Procul este profani» К Ни тень реаль-
ности, ни призрак настоящего, ни глубокий голос
сердца или разума не нарушают этот спокойный танец.
Мы в царстве чистого искусства и видим чудеса вооб-
ражения 2. Поэт поворачивается спиной к Италии, к
своему веку, к реальности и к современности и уплы-
вает, как Данте, в другой мир. А когда он возвра-
щается из своего дальнего странствия, он окружает
себя избранными поэтами и художниками — истинным
воплощением той Италии, матери культуры и искус-
ства, которой он преподнес своего Орландо3. Но Данте
и в другой мир уносит с собой всю землю, родина с ее
призраками настигает его и здесь. Ариосто же плывет
бездумно, сердце его спокойно, как у художника, ко-
торый путешествует и рисует то, что видит. Рука его
дрожит и сердце бьется только при одной мысли: сумеет
ли он передать на полотне то, что у него в голове, то,
что он так хорошо себе представляет? И до самой
своей смерти он недоволен своей поэмой, все исправляет,
все беспокоится, как человек, которому нужно еще что-
то успеть создать в своей жизни. Но хотел он создать
не повествование, связанное с реальной жизнью. По-
этому его и привлек рыцарский мир, для него мир этот
внеисторичен, является свободным творением его фанта-
зии. Ариосто хотел создать форму, чистую форму, чистое
искусство, мечту своего века и общества, музу Возрож-
дения. И отсюда все черты его поэзии. Чувствитель-
ность у него сильнее чувства, впечатления и эмоции'
См. Вергилий, Энеида, VI, 258: «Отойдите прочь, нече-
стивцы».
См. Кине (Qui net, cit., I, p. 182): «Чем грустнее настоящее,
тем больше Италия увлекается фантастическим миром. Он отвле-
кает ее от мыслей о вторжении немцев, французов, испанцев и
зовет последовать по волшебной тропинке вслед за Брадамантой и
Анджеликой. Этот мир влечет ее к себе и приводит в лес грез,
а когда она туда входит, он зовет ее голосами сирен, так что
она сбивается с пути и не может найти дороги в реальный
мир». г
3 «Orlando Furioso», XLVI, ?,
42
сильнее страсти, взгляд его скорее ясен, чем глубок;
душа у него спокойна, ее не тяготят никакие заботы,
он фантазирует, его радует творчество, и он весь ушел
в свои вымыслы. Это еще не осознавший себя гений,
он живет только во внешней жизни, растворяется в
мире, который он создал, сливается с ним, с юноше-
ским блеском его изображает. Вот так сразу, как бы
самопроизвольно возник этот рыцарский мир с его не-
преходящей свежестью, мир, которому благоприят-
ствуют грации, мир, выхваченный из теней, тумана и
тайн средневековья и ярко освещенный веселым и мяг-
ким светом итальянского неба. Ни одно творение совре-
менной фантазии нельзя сравнить с этим прозрачным
гомеровским миром. Возрождение осуществило свою
мечту, новая литература нашла свой мир. А чего хотела
эта литература? Ей не нужно было определенного содер-
жания. Она была скептической, циничной и верила только
в искусство. И Ариосто, написавший поэму, содержание
которой — чистый вымысел, создал этот мир искусства.
Но не будем касаться его прекрасной поверхности.
Если мы притронемся к ней, она ускользнет, как тень,
а если мы попробуем посмотреть, что скрывается за
ней, то нам покажется, что ничего нет. Когда мы чи-
таем Гомера, мы слышим, не зная, как и почему, мно-
жество голосов природы, которые отдаются в нашей
душе, кажутся ее голосами. Дело в том, что здесь фор-
ма— это и есть содержание, а содержание — это вы
сами, это ваша жизнь, ваша кровь. У Ариосто же со-
держание— игра творческой фантазии. Оно не захва-
тывает вас до глубины души именно потому, что пы
чувствуете, что это игра. Только что у вас подступали
слезы к глазам, вдруг поэт вас слегка подталкивает, и
вы смеетесь.
11. Кажется, что под этой красивой внешней оболоч-
кой ничего нет, но это не так. Под ней есть Момос, дух
Джованни Боккаччо.
Искусство, отрицающее, разрушающее старые пред-
ставления, прошло во Флоренции полный цикл разви-
тия и превратилось в буффонаду. Боккаччо, Саккетти,
Лоренцо Медичи Великолепный, Пульчи, Берни имеют
ярко выраженную склонность к карикатуре; изображая
реальную жизнь, они подчеркивают ее смешную сто-
рону. Ариосто не собирался' высмеивать рыцарство, как
43
Сервантес *; в его повествовании эпизоды комические,
непристойные и гротескные (эпизод Габрины) череду-
ются с эпизодами трагическими и элегическими. И ни-
какого предпочтения тем или другим у Ариосто нет.
Однако если юмор Ариосто и не подчинен определенной
цели, то это и не простой стилистический прием, как
в поэме Берни «Орландо»2, где автор, чтобы развлечь
своих читателей, прибегает к буффонаде. Юмор Ариосто
серьезнее и глубже. Это юмор, свойственный духу но-
вого времени, духу, парящему над сверхъестественным
в любых его формах; это еще не научное мышление,
но уже здравый смысл, порожденный развитым чув-
ством реального и возможного; это юмор, предше-
ствующий научному знанию.
Лудовико прежде всего художник. В рыцарский мир
он не верит, но увлекается им, им живет, этот млр ста-
новится его миром и имеет для поэта более серьезное
значение, чем окружающая его реальность. Однако лю-
бовь Ариосто к этому миру — это всего лишь интерес
художника.
Фантазия художника осваивает этот мир, полностью
в него проникает, создает его и разрушает, строит и
переделывает. Художник хорошо владеет своим мате-
риалом, он знает все его элементы и придает ему вид и
форму по своему вкусу. Если у Данте материал кажется
шероховатым, трудно поддающимся обработке, то здесь,
наоборот, он сглажен и мягок как воск, на котором ви-
ден любой отпечаток. Воображение воспринимает эти
непреднамеренные отпечатки, поддается им, увлекается,
и кажется, что, кроме материала, здесь и нет ничего.
Творец растворился в своем творении. Объективность
полная. Но присмотритесь получше, и вы увидите, что'
сквозь творение проступают черты непочтительного твор-
ца, и иногда кажется, что он посмеивается над вашими
1 О Дон Кихоте и о соотношении между чудесным и реальным
в романе Сервантеса см. ниже и в набросках юношеских лекций,
посвященных истории романа. «Teoria e storia», cit., I, pp. 237—238;
«Purismo illuminismo storicismo, cit., II. О гротескной фигуре Габ-
рины, о которой говорится ниже, см. «Orlando Furioso», осо-
бенно XII, 92; XX, 106 и ел.; XXIV, 45.
2 См. выше. Умаляя значение Берни, переделавшего «Orlando
Innamorato», Де Санктис в значительной мере соглашается с сужде-
нием Фосколо. (См. Foscolo, Sui poemi narrativi e romanzeschi
italiani, в: «Saggi di critica letterana», cit., I, p. 202 и ел.)
44
переживаниями и показывает вам нос. Непонятно, под-
шучивает ли он над вами или над своим творением,
во всяком случае, он это делает так изящно, что хочется
его расцеловать. Шутка возникает неожиданно, в самый
серьезный момент. Острота, шутливое словцо в одно
мгновение разрушает самую интересную сцену, и это
случается так часто, что вы все время настороже и не
принимаете всерьез происходящего. Постепенно вы при-
выкаете к этой двусмысленной среде, и теперь, когда
автор как будто совсем исчезает из своего произведе-
ния, вы уже не даете себя провести и ждете, что при
удобном случае он высунется и подмигнет вам. Так за
внешней гомеровской объективностью внезапно возни-
кает в иронической форме субъективный элемент, раз-
рушающий старые идеалы.
Что же это за мир? Это синтез Возрождения в его
различных направлениях. Это — средневековье, мир, кото-
рый называли варварским, прошлое, воссозданное во-
ображением и разрушенное разумом. Здесь есть ощу-
щение искусства, культ формы и красоты, объективность
юношеского богатого воображения, анализирующего
явления и рисующего красочные картины, воображения,
характеризующего новую литературу, порождающего
чудеса живописи и архитектуры, воображения, создав-
шего совершенное произведение, сочетающее блеск и
гармонию с величайшей простотой и естественностью.
Здесь есть внутреннее ощущение человека и природы,
то есть реальности, и поэтому, когда перед вами кар-
тины сверхъестественные, созданные вашим воображе-
нием, вы невольно усмехаетесь. Вы собираете облака, вы
располагаете их, как вам хочется, создаете великолеп-
ные пейзажи и смеетесь, потому что знаете, что вы сами
создали этот мир, и понимаете, что только ваше вообра-
жение придает ему серьезность. Вы чувствуете себя
одновременно взрослым человеком и ребенком. Как ре-
бенок вы чувствуете потребность фантазировать, создаете
солдат, замки; но вот появляется взрослый человек, кото-
рый усмехается, как будто хочет сказать: «Это ведь бу-
мажные солдатики и воздушные замки». Культура — в
расцвете, воображение достигло высшей силы и порож-
дает чудеса искусства, но и разум уже зрел, он материа-
листичен и реалистичен, ни во что не верит, над всем иро-
низирует и смеется над воображением. Эта черта нового
45
сознания, воссоздающего прошлое не как реальность, а
как произведение искусства, и именно потому, что про-
шлое для него лишь простой вымысел или чистое искус-
ство, оно иронизирует над прошлым. Эта черта и при-
дает внутреннюю жизнь поэме Ариосто, составляет ее
эстетическую сущность. Возьмем картину Рафаэля или
сонет Берни; это крайности, а где-то между ними нахо-
дится высшее единство, в котором слиты излишняя
идеальность первого и грубость второго. Это слияние
сделано так гармонично, с такими естественными пере-
ходами, читатель так подготовлен к нему, что не ощу-
щает никаких диссонансов, никакой фальши, ничто его
не раздражает, тем более что для поэта это вполне
естественно и он это делает бессознательно и непред-
намеренно, его внутреннее я и есть то единство, которое
он передает созданному им миру.
Посмотрите, как он пишет. Герой не мудрый Орлан-
до, а Орландо безумный и неистовый. Такое преобра-
жение фигуры рыцаря таит в себе ироническую мысль.
Посмотрим, как эта мысль развивается. Сцена, когда
Орландо сходит с ума, так красочна, что создается пол-
ная иллюзия. Чувствуется глубокое знание человече-
ской натуры в ее самых тончайших оттенках. Идет по-
степенное нарастание — «крещендо», появляются все но-
вые и новые штрихи, краски все сгущаются, и потому
этот необычный факт кажется вам чем-то естественным.
Когда Орландо впадает в неистовство и становится бе-
зумным \ поэт выставляет его в смешном свете. За тро-
гательной сценой следует комическая, карикатура дово-
дится до буффонады. То, каким образом к Орландо воз-,
вращается рассудок, тоже глубоко комично. По средне-
вековым представлениям человек может обрести покой
только в другом мире. Это основа «Божественной ко-
медии». Ариосто материализует это представление и
делает его комическим, выводя из него странное заклю-
чение, что все то, что потеряно на земле, можно найти
в другом мире. Так возникает путешествие Астольфо на
гиппогрифе в другой мир2, пародирующее странствие
Данте. Дым и вонь мешают Астольфо проникнуть в ад,
1 См. вступление к поэме, I, 2, vv. 1—3.
2 «Orlando Furioso, XXXIV, 7 и ел.
46
но у входа он встречает грешниц, наказанных, как Ли-
дия, за жестокость по отношению к их возлюбленным.
Это история Франчески да Римини наизнанку, история
смешная. Затем Астольфо поднимается в земной рай и
во дворце из драгоценных камней его встречают Иоанн
евангелист, Енох и Илья, которые любезно предостав-
ляют ему комнату, дают хорошего овса его коню, а его
самого угощают такими плодами,
... что, по его сужденью,
Нетрудно прародителей простить,
Ослушавшихся, лишь бы их вкусить *.
Астольфо находит там стол, кров и «все удобства». Этот
земной рай совершенно материализован. Оттуда, «встав-
ши с постели», он вместе со св. Иоанном поднимается
на Луну. Здесь пародия принимает юмористическую,
шутливую форму, без желчи.
В одной из лунных долин собрано все, что потеряно
на Земле.
Рыданья, вздохи, жалобы влюбленных,
На ветер время — в игрищах пустых,
Досуг людей, ничем не умудренных,
И пустота намерений благих,
И столько планов неосуществленных,
Что место чуть не все ушло под них:
Что на земле казалось незаметным,
Ты встретишь здесь в количестве несметном.
(XXXIV, строфа 75)
Чтобы понять эту иронию, нужно вспомнить, что Луна
была чем-то вроде воздушного замка в народных пред-
ставлениях, ведь еще теперь о рассеянных людях гово-
рят: «С Луны, что ли, свалился?» Там, на Луне, пишет
Ариосто, в различных склянках находится летучая жид-
кость 2—разум, утраченный на Земле.
Софистов и астрологов немало,
Да и поэтов тоже там хватало.
(XXXIV, строфа 85, ст. 7—8)
1 «Orlando Furioso», XXXIV, 60, vv. 6—8. С этими стихами пере-
кликаются стихи 4, 7, 8 строфы 61.
2 «Orlando Furioso», XXXIV, 83, v.. 1.
47
Ариосто называет философов «софистами» и поме-
щает их вместе с астрологами и поэтами. Там, где
средневековье видело высший смысл, Ариосто усма-
тривает пустоту и отвлеченность. Конец этой октавы
звучит совсем смешно:
И все там точно так же, как у нас,
Безумства только нет — по той причине,
Что здесь, внизу, оно живет поныне.
(XXXIV, строфа 81, ст. 6-8)
Авторская ирония коснулась и Анджелики, дочери
самого могучего короля Леванта; ее любили Орландо,
Ринальдо, Сакрипанте, Феррау, а она в конце концов
стала женой бедного пехотинца К История Анджелики
начинается в поэме Боярдо с героических сцен, пред-
ставляющих рыцарство, турниры, поединки, Карла Ве-
ликого с его паладинами — цветом французского, испан-
ского, немецкого, английского рыцарства, среди которых
блистает Анджелика, главная героиня рассказа Боярдо,
и заканчивается в поэме Ариосто идиллическими сце-
нами, изображающими любовь Анджелики и Медоро.
То, что у Боярдо носит эпический, рыцарский характер,
особенно в сцене битвы при Альбракке2, преломляясь
через восприятие Ариосто, приобретает ироническую
окраску.
Точно так же и при изображении войны между Кар-
лом и Аграманте, придающей внешнюю, механическую
связь поэме, рыцарство показано в комическом аспекте.
Героическая сторона рыцарства — это сила личности, ее
инициатива, то, что делает каждого рыцаря свободным
человеком, добровольно подчиняющимся только зако-
нам любви и чести, то есть законам, которые он сам для
себя установил. Если эти законы перестают действовать,
личная инициатива ведет к беспорядку и анархии, герои-
ческое становится комическим. Рыцарь подчиняется
только своим инстинктам и страстям, в нем проявляются
животные черты; возникают в высшей степени комиче-
ские столкновения и разногласия. Эта мысль блестяще
развивается при изображении Распри, встреченной
1 См. «Orlando Furioso», XXIII, 120, vv. 3—4. Об ироническом
окончании истории Анджелики см. в гл. XVII.
2 См. «Orlando Innamorato», кн. 1, гл. X, XIV.
48
св. Михаилом в мужском монастыре, среди «богослуже-
ний и молитв» 1.
И в мантиях вокруг толпились люди —
Астрологи, нотариусы, судьи.
Эта сцена, где действуют св. Михаил, Молчанье, Обман
и Распря, восхитительна по оригинальности мысли и
яркости красок.
Едва архангел Михаил крыло
Расправит, тучи прочь бегут послушно,
И даже ночью видим, как светло
Над ним сияет ореол воздушный.
(XIV, строфа 78, ст. 1—4)
Это стихи чисто эпические, но постепенно и очень есте-
ственно тон меняется и становится сатирическим. Эта
сатира тем более сильна, что кажется, будто у автора
вовсе не было намерения писать сатиру, вид у него
самый добродушный, бесхитростный, в этом-то и заклю-
чается тонкость ариостовской иронии. Распря делает
свое дело, и это приводит к знаменитой, всем извест-
ной сцене в лагере Аграманте, где происходит истин-
ная развязка действия, показана внутренняя причина
распада и поражения языческого войска2. Комизм
этой сцены не столько в стиле, сколько в поступках
героев, вызванных внезапным и неожиданным действием
ощущений и инстинктов, которые оттесняют разум и
заставляют рыцарей драться друг с другом. В этом смы-
сле самый яркий, вошедший в поговорку, характер у
Родомонте, в нем смешаны сила, храбрость и свирепость.
Его нападки на женщин, его доверчивость и глупость
в эпизоде с Изабеллой, его комическая борьба с безум-
ным Орландо, его непристойное поведение и грубость
по отношению к Брадаманте3 — это те черты, которые
показывают странствующего рыцаря с его смешной сто-
роны, как гигантское существо, лишенное разума, гру-
бое и свирепое. Его противоположность — Руджиеро,
1 «Orlando Furioso», XIV, 82, vv. 5—6. Следующие два стиха
там же, 84, vv. 7—8.
2 «Orlando Furioso», XXVII, 39 и ел.
3 «Orlando Furioso», XXVII, 117 и ел., XXIX, 3 и ел., 40 и ел.
XXXV, 46 и ел.
4 Де Санктис
49
«источник добродетели» !; в его образе поэт хотел во-
плотить серьезное, героическое начало рыцаря частного,
благородного и великодушного. В нем есть н^что от
гомеровского Ахилла, от Дамона и Финтия, Кешнкция
и Фламиния, честь в его душе борется с любовью, лю-
бовь с дружбой, и отсюда возникает много драмати-
ческих моментов. Но те, кто хоть немного изучав Арио-
сто и знает, как он себя обрисовал, понимают, х1то как
человек он ниже, чем как поэт, и что в нем самом: нет то-
го, что нужно для создания великих героических фигур,
да в его эпоху таких фигур и не было. Его любимому
герою не хватает простоты и естественности; героика
вырождается в фантастику и идиллию. Поэтому Руд-
жиеро не смог вытеснить Орландо и Ринальдо, героев
старинных рыцарских сказаний, и, несмотря на симпа-
тии автора к основателю рода д'Эсте, оригинальные
образы замечательных Орландо и Родомонте выбывают
гораздо более живой интерес.
Ирония окрашивает не только основную идею поэмы,
но и изображение рыцарских добродетелей во второсте-
пенных эпизодах. Любовь Орландо к Анджелике* чисто
рыцарская, и хотя красавица долгое время находилась
в его власти, он не обесчестил ее, «по крайней мере»
Анджелика уверяет в этом Сакрипанте, который, од-
нако, не желает быть «таким глупым»2. Дораличе опла-
кивает смерть Мандрикардо, но если бы ей не было
стыдно, она, «возможно», и пожала бы руку Руджи-
еро.
Возможно, говорю, — не утверждаю,
Но это быть могло бы просто так...
(XXX, строфа 72, ст. 1—2)
Был Мандрикардо жив — и был хорош,
Но что, но что ей было делать с мертвым?
(XXX, строфа 73, ст. 1—2)
1 «Orlando Furioso», XXVII, 30, vv. 1—3:
И сила Родомонте изувера,
И Мандрикарда злобная рука,
И добродетель славного Руджеро...
2 См. «Orlando Furioso», I, 55 и ел., а также 57, vv. 1—2:
Когда Роланд по глупости своей
Использовать не смог удобный случай.,,
50
Мы слышим скептический смех над рыцарскими добро-
детелями и мощными рыцарскими ударами, этими мощ-
ными ударами, которые «только они умеют наносить» К
Одна фраза, одно словечко раскрывают иронию, скры-
тую под видом самого серьезного рассказа. Это внутрен-
ний смех, от которого лишь чуть заметно улыбаются
губы на совершенно серьезном лице.
12. Эта невольная, бродящая на губах усмешка не
расплывается по всему лицу и лишь изредка переходит
в открытый звонкий смех; ато великолепное художествен-
ное повествование придает видимость реальности самым
невероятным и нелепым вещам, все это, слитое вместе,
как бы совершенно непреднамеренно, бесхитростно и
добродушно уподобляет идею поэмы вечно движуще-
муся и изменяющемуся телу, которое никак нельзя
остановить или определить, — скорее призраку, чем те-
лу2. Вам непонятно, что перед вами — серьезное произ-
ведение или шутка, но она вам нравится, потому что оно
удовлетворяет ваше воображение и не раздражает ва-
шего здравого смысла и вы любуетесь красивыми, от-
лично нарисованными фантазиями младенческой эпохи,
сквозь которые проглядывает умная усмешка зрелого века.
Этот мир, в котором нет ни серьезной внутренней
жизни, ни религии, ни родины, ни семьи, ни чувства при-
роды, ни чести, ни любви, этот мир чистого искусства,
шутка воображения автора, смеющегося над собствен-
ным произведением и подшучивающего над собствен-
ной фантазией, выражает по существу концепцию, испол-
ненную глубокого юмора и скрытую серьезностью высо-
кого поэтического вдохновения. Поэт рассматривает
окружающий мир не как серьезную жизнь, имеющую
определенную цель и пользующуюся определенными
средствами, а как податливый материал, из которого
его воображение сможет вылепить все что угодно. Поэт
1 См. «Orlando Furioso», XXX, 52, vv. 5—6.
Одним из тех ударов настоящих
Был щит его разрублен пополам...
2 Рассуждение об иронии Ариосто, которая пронизывает и осве-
щает всю поэму, подробно развито в книге Джобсрти (Gioberti,
Primato civile degli Italiani), на страницах, посвященных «Неисто-
вому Орландо». (См. Pensieri с giudizi di V. G. sulIa lettcratura
italiana e straniera a cura di F. Ugolini, Barbera, Firenze 1856,
PP. 335 и ел.)
4*
51
сознает, что его произведение столь же серьезно, как
произведения Гомера, Вергилия или Данте, и одновре-
менно понимает, что это произведение чистого искусства
и потому с реальной точки зрения — шутка, или, как го-
ворил кардинал Ипполито, — чепуха. И поэма была бы
действительно чепухой, если бы автор захотел придать
ей большую серьезность и создать настоящую эпопею.
Но эта чепуха становится подлинной правдой, потому
что поэт за кулисами смеется и над своим произведением
и над своими слушателями. То, что Ариосто стоит над
своим миром, держит в руках все нити и управляет ими
по своему желанию и рассматривает свой мир только
как создание воображения, порождает причудливость и
юмор. Однако поэт часто поддается своему воображе-
нию, забывается в этом вымышленном мире и придает
ему законченность. Благодаря этому юмор принимает
форму иронии и вы оказываетесь в неясной и все время
меняющейся обстановке, где стерлись грани между по-
роком и добродетелью, истиной и ложью, где все лежит
на поверхности — страсти, характеры, средства и це-
ли,— на поверхности, которая поражает своей ясностью,
простотой и естественностью и в конце концов исчезает,
как призрак, от иронической фразы, исчезает, вызвав
ваше восхищение и пробудив ваши чувства. В этом мла-
денческом мире воображения, где проявляется такое
высокое ощущение искусства и вместе с тем сознание
зрелой и просвещенной эпохи, распадается средневеко-
вье и рождается новое время. И потому, что это полу-
чается непроизвольно и автор показывает это явление
добродушно и естественно, оба мира не приходят
в столкновение, как в романе Сервантеса, а сосущест-
вуют, взаимно проникают друг в друга и представляют
собой художественное изображение одного мира с отпе-
чатками другого. В этом слиянии, скорее спонтанно
возникающем, чем заранее замысленном, слиянии, кото-
рое превращает автора и его творение в одно гармони-
ческое взаимопроникающее целое, и заключается истина
и вечная юность мира Ариосто. По художественному
совершенству это наиболее законченное создание твор-
ческого воображения итальянцев, а по глубокому зна-
чению его иронии это яркий светоч в истории челове-
ческого духа.
XIV
Макароническая поэзия1
1. Скитальческая жизнь Фоленго. 2. «Орландино» — сатира
на религиозную и рыцарскую литературу. Своеобразная фан-
тазия, богатое воображение и пародийный дар; грубая, изо-
билующая варваризмами и грамматическими неправильно-
стями форма. Ограждение природных наклонностей от рели-
гиозных ограничений — идея, вдохновившая Фоленго на на-
писание поэмы. 3. Создание макаронического языка,
представляющего собой смесь латинского с итальянским. Сю-
жет «Бальдуса», оригинальнейшей в целом поэмы. Ее значе-
ние: неприятие и полное отрицание всех идей и верований, вы-
раженное в форме чрезвычайно циничной. 4. Совершенное
владение языком, уже самим по себе комичным. Оригиналь-
ность стиля, его характер: живой реализм фактов, скупые
краски. 5. Комизм, доведенный до предела: общество во всех
1 При написании этой главы, одной из самых оригинальных
в «Истории итальянской литературы» по цитируемым материалам и
сведениям о жизни Фоленго, Де Санктис пользовался изданием
«Массагопее», подготовленным Вигасо Кокайо (Венеция, 1552), и
введением к нему. Неточности и несоответствия у Де Санктиса,
вскрытые в свое время Луцио («Studi folenghiani», Firenze 1899),
следует отнести за счет недостатков этого издания. Де Санктис чи-
тал произведения Фоленго в Цюрихе (см. «Epistolario», письмо
к В. Имбриани от 6 мая 1860), но от его занятий творчеством Фо-
ленго в тетрадях слушателей не осталось никакого следа. По всей
вероятности, открытию поэта из Чипады способствовали замечания
Розенкранца (Rosenkranz, Manuale di Storia generale della
poesia, trad. De Sanctis, Napoli 1853, II, p. 271) и Филарета Шаля
(Phil arete Chasles, Etudes sur W. Shakespeare, M. Stuart et
l'Aretin, Paris 1851, p. 295—296 и 312—315). Об исследованиях твор-
чества Фоленго и об оригинальности толкования Де Санктисом см.
статью Момильяно (М о m i g 1 i a n o, La critica e la fama del Fo-
lengo fino al De Sanctis) в «Giornale storico della letteratura ita-
Hana», LXXVII, 1921, pp. 177—225.
53
его аспектах — предмет издевательств ума острого и насмеш-
ливого. 6. «Ужасная война мух и муравьев» — также траве-
стийная карикатура, но в более выдержанном гладком стиле.
7. Узкие рамки морали и реализма Фоленго: расплывчатые и
поверхностные образы нового мира не полностью завладели
душой «бродяги».
1. Когда Лудовико Ариосто сочинял в Ферраре «Не-
истового Орландо», Джироламо Фоленго начинал
там учиться у некоего Кокайо. Родился он в деревне
Чипада близ Мантуи в состоятельной и именитой семье.
Его знакомство с Лудовико состоялось в то время, когда
вышли в свет «Испания», «Буово», «Требизонда», «Анк-
ройя» *, «Моргайте», «Мамбриано» Чеко да Феррара и
«Влюбленный Орландо». Голова юноши была больше
занята рыцарскими поэмами, чем грамматикой, и он
замышлял также написать «Влюбленного Орландо», но,
узнав о Берни, оставил свое намерение.
Фоленго отправился в Болонью, где слушал лекции
Помпонацци, отвергавшего потустороннее и сверхъесте-
ственное и проповедовавшего самый откровенный фило-
софский натурализм. Студенчество представляло собой
своеобразную корпорацию с особыми законами и при-
вилегиями; вожаками студентов были отчаянные смель-
чаки, в их числе молодой мантуанец, которого по его
крестному отцу, маркизу Мантуи, звали Франческо Гон-
заго.
В студенческой среде были живы воспоминания
о рыцарских временах, освежавшиеся чтением; дуэли,
приключения и любовные похождения составляли более
интересную часть студенческой жизни, нежели акаде-
мические лекции.
Одним из таких вожаков и стал Джироламо Фолен-
го. За различные выходки и чудачества его выслали из
Болоньи. В отцовском доме его не приняли, и он отпра-
вился в Брёшию, там постригся в монахи и получил
новое имя — Теофило. Однако из монастыря он убежал
с возлюбленной и снова предался мирской жизни. По-
скольку отец не хотел к нему прислушаться, как некогда
не слушали Кассандру, он, чтобы прокормиться, начал
писать романы за подписью Кокайо и Мерлина, знаме-
нитого волшебника, героя рыцарских романов.
1 См. дальше, в параграфе 2.
54
Эти романы принесли ему славу, но мало денег, и,
устав от скитальческой жизни, Мерлин, «бродяга», как
он сам себя назвал в «Орландино» \ вернулся в мона-
стырь, стал писать стихи на религиозные темы и, по-
добно Боккаччо, умер добрым христианином, раскаяв-
шись и признав свои ошибки.
2. Как видите, Мерлин, или Теофило, или Джиро-
ламо, был одним из тех людей, которых за то, что они
с первых же шагов сбились с пути, зовут «амораль-
ными». Он поставил себя вне всяких правил и обще-
ственных условностей и вел жизнь беспорядочную, не
мирянина и не монаха; испытывая нищету и презри-
тельное к себе отношение, Фоленго огрубел, стал цинич-
ным и дерзким.
К обществу он относился, как к врагу, и, не скрывая
этого, желчно насмехался над ним.
Насмешки над религиозной и рыцарской тематикой
стали в это время литературной модой. Фоленго пре-
дался этому с увлечением. То, что другие использовали
ради оживления действия, для него было целью, вхо-
дило в замысел. Орудиями его замысла были самобыт-
ная фантазия, богатое воображение и дар комического
с диапазоном от буффонады до сатиры.
По заверению Кокайо, его первым замыслом был
«Орландино», или героическая поэма из восьми песен
в октавах, о маленьком Орландо. Он назвал ее первым
«подлинным» десятикнижием Турпина2 и считал апо-
крифическими все модные истории, за исключением
написанных Боярдо, Пульчи, Ариосто и Чеко да Фер-
рара.
1 См. фронтиспис к «Orlandino»: «Сочинения Лимерно Питокко
из Мантуи» (Венеция, 1526). В отношении «Орландино» проведены
сравнения с изданием Жэнгене («Parnaso italiano», vol. VII, Venezia
1842), которому предпослана биография поэта. Цитаты и ссылки
даются согласно изданию Ренда (F о 1 е n g о, Opere italiane, Laterza,
Bari 1911), наиболее доступному и надежному.
2 Ср. «Orlandino», cap. I, 21, vv. 1—4:
Десятнкнижий первых трех, не скрою,
Нашел источник — о Турпине речь;
Но «Требизонду», «Бово» и «Анкройю»
С «Испанией» не плохо взять и сжечь.
Последующие стихи входят в ту же октаву.
65
Апокрифы все это, правды в них
Нисколько нет; Боярдо, Ариосто
И Пульчи с Чеко — разговор другой.
И я в кругу почтенном не чужой.
Но Орландо лишь рождается в седьмой песне, и
едва он начинает жить, как поэма обрывается. Воз-
можно, незначительный успех «Орландино» как раз и
объясняется этим стремлением автора начать издалека.
По форме поэма ужасна, засорена варваризмами и
грамматическими погрешностями; он^ и сам признает,
что читатели найдут в ней
Неясный смысл и чопорные рифмы... i
— Но разве это моя вина?— спрашивает Мерлин.
Не все, как Саннадзаро, быть должны,
Или как Ариосто, знамениты,
Которых сочиненья рождены
В чертогах Клио, что плющом увиты,
Где им — простор; для нас они тесны,
И двери в них для большинства закрыты.
Привожу эти строки как пример. Он был человеком
низкой культуры, малосведущим в языке, и прозвище
«грамматика» ему дали издевательски2,
Желая тем сказать, что я осел.
Тосканцы упрекали его в ломбардизмах и латинизмах,
а он за это называл их болтунами.
Что я ломбардец, скажет мне читатель,
Но бёргамца речистее притом:
Большой пророк, а уж потом писатель,
Я не в ладах с тосканским языком.
Грубый язык —эта безвкусная и неблагозвучная смесь
латинских и ломбардских слов и просторечья, — сухой
и маловыразительный, тяжеловесный плебейский стиль
были причиной того, что образованная и понимающая
публика приняла поэму холодно. Основная направлен-
1 Ср. «Orlandino», cap. VI, st. 1. Последующие стихи ibid., st. 2.
2 См. Ibid., cap. VI, st. 58.
Чем чистым называть меня грамматиком,
Ослом чистейшим сразу уж назвали быг
56
ность поэмы — защита природных наклонностей от ре-
лигиозных уз, отсюда сатирический показ тех клириков,
«qui praedicant ieiunium ventre pleno» l. На поэме ска-
залось влияние идей Реформации, например в молитве
Берты, обращаемой не к святым, а прямо к богу; мо-
литва пересыпана выпадами и насмешками в адрес
монахов, или «капюшонщиков»2, и вся пропитана жел-
чью и раздражением монаха-расстриги. Побуждают его
к этому не ум и вера, не возмущение возвышенной души,
а распущенность. Таково, например, описание Гриффар-
росто, в котором содержатся черты сходства с настоя-
телем монастыря, где Фоленго был монахом, — портрет
непристойный и желчный, словно рычание собаки или
беззастенчивое кривляние обезьяны3. Его карикатура
на- рыцарские турниры, блестящая по замыслу, выпол-
нена в неуклюжей и грубой форме и свидетельствует
о самобытной фантазии, которой недостает средств вы-
ражения.
3. Не преуспев в итальянском языке, Фоленго пы-
тался написать поэму по-латыни, но тут же отказался
от своей затеи. В конце концов он нашел свое орудие:
так называемый макаронический язык—язык без
грамматики и словарей, за который никто с него не
спросит, язык, которым пользуется лишь он один, спе-
циально приспособленный к его слуху и фантазии.
В те времена образованные люди изъяснялись по-ла-
тыни, которая была для них живым языком. Имена Сан-
надзаро, Вида, Фракасторо, Фламинио звучали громче,
чем Берни, Ариосто или Боярдо. Если во Флоренции
итальянский язык выдерживал соревнование, то в дру-
гих частях Италии предпочтение еще отдавали латыни.
При всеобщем разложении верований, идей, форм
насмешка проникла в оба языка, пропитала их и в ре-
зультате появился третий — производный от того и дру-
гого. Это было возможно только в Италии, где имелись
широко распространенные и родственные языки. Имелся
педантеско — итальянизированная латынь, и мака-
1 Ср. «Orlandino», cap. VIII, st. 4; о Гриффарросто, благочин-
ном Сутри, см. ниже.
В оригинале стих звучит так: «Jeiunum praedicabat pleno ventre».
2 Ср. ibid., cap-. VI, st. 41—46 и 58.
3 Ср. ibid., cap. VIII, 1—2. Пародия на рыцарские турниры, ibid.,
cap, II, 5 и ел, и cap. Ill, 24 и ел.
57
ронический язык-— латинизированный итальян-
ский; четкие границы между ними отсутствовали пе-
дантеско порой проникал в макароническую латынь а
макароническая латынь-—в педантеско. Были более ран-
ние попытки писать на макароническом языке неудач-
ные и забытые; но вот в 1521 году, через пять лет после
«Неистового Орландо», на свет появилась «Макаронеа»
подписанная именем Мерлина Кокайо, и имела такой
успех, что за четыре года выдержала шесть изданий ]
В сущности, «Макаронеа» —тот же «Орландино»
хотя имена героев другие. Также и здесь Милон похи-
щает Берту, затем бросает ее, и Берта родит ему Орлан-
до, а Гвидо, потомок Ринальдо, похищает Бальдовину
дочь Карла Великого, и бежит с нею в Италию, где их
гостеприимно принимает житель Чипады (родины на-
шего Мерлина). В поисках приключений Гвидо остав-
ляет Бальдовину, и она умирает, дав жизнь Бальдусу
До этого места развитие действия в «Орландино» и
«Макаронеа» идет одинаково; но «Орландино» тут обры-
вается, а «Макаронеа» использует и развивает сюжет
дальше. Как и Орландино, Бальдус наделен большой си-
лой и смелостью и устремляется в опасные приключения
У него несколько товарищей, и среди них Фракасс на-
поминающий Моргайте, от которого он и ведет свое'про-
исхождение, и Чингар, соответствующий Маргутте. Гово-
рят, что в этих образах высмеяны неугомонные сту-
денты Болонского университета, предводительствуемые
мантуанцем Франческо, явившимся прототипом Баль-
дуса. Так или иначе, но драчуна и забияку Бальдуса за-
ключают в тюрьму. Переодевшись монахом, Чингар его
освобождает. И вот они становятся странствующими
рыцарями и совершают отважные подвиги на суше и
на море. Бальдус расправляется с морскими разбойни-
ками, уничтожает волшебников, вновь отыскивает Гвидо
своего отца, ставшего отшельником, и тот пророчит ему
великое будущее; он отправляется в Африку, открывает
устье Нила, спускается в ад. Он встречает подобных
1 «Baldus» —издание Паганини, 1521. Так называемая «Тосколан
екая» редакция. Первый набросок «Бальдуса» опубликован тем жо
Паганини (Венеция, 1617). Об изданиях поэмы, относящихся
к XVI веку, см. примечание Люпио к «Массагопее» (I aterza Вяп
1911, vol. II, р. 363 и ел.); о предшественниках Фоленго и их «по-
пытках неудачных и забытых» см. ниже.
себе в той части ада, где наказывают за ложь и обман,
куда попадают колдуны, астрологи и поэты; там, по
мнению Мерлина, достойное его место, там автор и
покидает своих героев, заканчивая на этом рассказ.
На первый взгляд цель» Мерлина, как и всех рома-
нистов того времени, — отдаться своему неуемному во-
ображению и нагромождать одно приключение на дру-
гое. Но приключений уж очень много, и порою кажется,
что автор утомился и запутался в них. Чувствуешь себя
вышедшим из строя еще до того, как сумел перева-
рить кашу, заваренную вначале. Многие приключения
основаны на реминисценциях из классической и рыцар-
ской литературы, но они обновлены и оригинально пере-
деланы; и все в целом совершенно самобытно. Мы начи-
наем читать о Карле Великом и его паладинах, но после
нескольких книг или песен попадаем в Чипаду, по воле
прихотливой фантазии автора переносимся в Мантую,
Венецию, Болонью — в Италию,' хотя и изображаемую
средневековой, но проникнутую духом цинизма и амо-
ральности. Налицо все элементы эпоса, но представлен-
ные так утрированно, что ирония очевидна. Карикатура
не просто дает выход веселой и насмешливой фантазии,
так же как приключения не просто приманка для любо-
пытных; авторский замысел, который определил факты
и форму, заключается в том, чтобы создать пародию.
Бальдус — последний из странствующих рыцарей,
среди которых первыми были Аякс, Ахилл, Тезей, затем
Брут, Помпеи и другие герои, прославленные Ливием и
Саллюстием, и, наконец, Орландо и Ринальдо; Баль-
дус— их потомок. Его миссия в том, чтобы очистить
землю от чудовищ, убийц и волшебников. Рыцарство —
божественное орудие, направленное против Люцифера.
Бальдус одерживает победу над морскими разбойника-
ми, побеждает чудовищ, убивает волшебников и поко-
ряет ад. Обо всем этом рассказывается так громогласно,
в таком подчеркнуто эпическом тоне, что охотно смеешь-
ся над Бальдусом, Фракассом, Чингаром и другими ры-
царями.
Но в этой веселой пародии скрывается и более глубо-
кий смысл: сатира на мнения, верования, учреждения,
нравы, как церковные, так и мирские. Грозный монах-
расстрига обрушивается на все проявления средневе-
ковья. Поэтому чудовище, волшебники и ад, в сущности,
59
не что иное, как церковные и общественные порядки,
пороки, похотливость и народные предрассудки. И по-
скольку весь этот рассказ порожден не новой верой, но-
вым сознанием, а полным отсутствием сознания и веры,
то и само рыцарство, разрушающее ад во имя справед-
ливости и добродетели,— только пародия. В итоге поэма
оставляет впечатление издевательской насмешки над
всеми и всем. Здесь встречается и некоторая попытка вы-
разить положительный идеал: Леонардо, умирающий,
лишь бы не потерять невинности,— прекрасная аллего-
рическая картина среди стольких карикатур '. В целом
же в поэме в самой откровенно циничной форме показан
всеобщий распад, затронувший все идеи и верования.
За всем этим — списанный с натуры неприкрашенный
портрет итальянского общества, с его насмешливой и пу-
стой культурой и искусством, возникшими на развали-
нах средневековья.
4. Уже сам по себе язык — также пародия, пародия
на латынь и итальянский, которые словно глумятся один
над другим. Как к макаронам требуется хорошая при-
права из сыра и масла, так и макаронический язык
нужно хорошенько сдобрить и перемешать. Часто тут
на треть местный диалект, и язык при этом только вы-
игрывает в остроумии. Он комичен уже сам по себе, по-
тому что тяжеловесная эпическая латынь в неожидан-
ном сочетании с итальянским словом в необычной, лати-
низированной форме или со словом, почерпнутым из
местного диалекта, вызывает смех. Пародийность в изо-
бражении самого предмета распространяется и на язык,
который кажется персонажем в маске Пульчинеллы или
карнавальным Вергилием. Алионе из Асти и некоторые
другие авторы уже давали образцы такого языка, теперь
Мерлин довел его до совершенства 2. Он постиг все его
тайны и обращается с ним смело, как мастер, с чувством
благозвучия, делающим язык красивым и приятным для-
1 См. «Baldus», XVII, 79 и 671 и ел.
2 Джован Джорджо Алионе иль Даелли из Милана перепечатал
в «Библиотеке редких книг» («Biblioteca rara», I864—1865), «Фран-
цузскую поэзию» («Poesie fr.ancesi»), добавив «Макаронеа» Мерлина
и «Карнавальные комедии и фарсы» («Commedia e farse carneva-
lesche). См. также Даелли («Biblioteca гага», 1864) изд. «Macchero-
nee di cinque poeti italiani del sec. XV» (T i f i О d a s i, Anonimo Pa-
dovano, Bassano Mantovano, G. G. Alione e Fossa Cremonese).
60
слуха. Для примера приведу некоторые отрывки из его
обращения к музе макаронической поэзии.
Примо призвать надлежит нам святое содействие свыше,
О макаронщины музы, от вас мы искусство постигли.
Нет, не Феб, на гитаре бренча, прогорланит те гимны, —
Снидут брюхатые музы, софизмами полные сестры, —
Злыдня и Волочайка, Обжора, Подачка и Ведьма;
Девки пииту начнут макаронами пичкать нещадно 1.
Вот как описывает он Парнас этой простонародной
музы.
Клятве кредит окажите, языкус мой зря не вращаю,
Всеми трезорами я поклянусь, что земля затаила.
В нижних бассейнах текут потокусы жирной похлебки,
Супа лагуны увидишь, моря мясного отвара,
Там из субстанции тортов плывут корабли и фелюги,
Так и снуют по волнам...
Там возвышаются холмы нежнейшего свежего масла,
Сотни котлов аж до неба дымятся с едой авантажной,
Много лапши, макарон, соусов и острых подливок.
А на монтусе сем проживают отменные нимфы,
Месят сыры и до дыр их скребут вдохновенно2.
Не менее своеобразен и стиль Фоленго. Великие
«стилисты» новой литературы — Боккаччо, Полициано,
Ариостр. Свой рассказ они вставляют в рамку-период.
Словно живописцы, они предлагают нашему вниманию
раскрашенные вещи. Фоленго же рисует одни вещи по-
средством других, и краски его палитры — это не мысли
или образы, а факты. Классических реминисценций у
него немного, и они не стоят между ним и природой.
Его воображение не блуждает вокруг вещей вообще, а
проникает в мельчайшие детали реальной действительно-
сти, извлекая из нее новые сравнения и краски. Самые
фантастические и невероятные факты передаются с та-
кими подробностями, что приобретают историческую
достоверность, свидетельствуя о редком даре наблюда-
тельности над человеком и природой не только в общем,
но и в частном, в особых формах существования фактов
1 «Baldus», I, vv. 5—6, 10 (в оригинале стих звучит: «Non Phoe-
bus grattans chitarrinum carmina dictent») и 13—15.
* Ibid., I, vv. 30—35 и 43—47. To же самое в издании Морано.
В последнем стихе оригинала «gratarolibus».
61
и явлений. Вот как он описывает эолову пещеру, бурю
и отчаяние Чингара:
Чингар в углус забился, охваченный мелкою дрожью.
Лютой смерти страшась, в панталоны наклал он изрядно.
Терроризирован смертью, повсюду каюкус предвидел,
И премногос обетос святым произнес, обязуясь
Мир обойти босоногус, в дырявый мешок облаченный.
Коль обещанья не сдержит, то пусть раздерут его черти!
Он посулил в Агриньяне найти Датчанина-старца,
Что в эрмитаже живет под нависшей небрежно скалою,
Брови святаго узреть — они до колен ниспадают.
Он поклялся пойти к башмакам деревянным Мадонны,
К тем, что нашли португальцы средь гор островов Тапробанских.
Десять монахусов там прогнусавят реликвиям мессы;
Многопудовую там он затеплит массивную свечку;
Мачте фрегата подобна сия преогромная свечка.
Только бы кожу спасти и отселе выбраться целым!
Сам он себя обвинял — обкрадиссе он лавок немало,
И обчищал антресоли, и обескурячивал птичник.
Ежели он не погибнет и выйдет сухим из пучины,
Словно Макариус новый, собой освятит Фиваиду,
Новым пустынником Павлом он будет. Ко гробу господню
Он совершит вуаяж и убогой прославится жизнью.
Только когда, трепетанс, он лелеял сие покаянье,
Залила аква морская грот-мачту, до марса достигнув,
Многих людишек она с корабля унесла к Посейдону К
Такое же изобилие конкретных деталей и в его опи-
сании ветров и бури. Для стиля Фоленго характерен реа-
лизм, оживляемый причудливым воображением и неис-
черпаемым чувством юмора. Не все в равной мере со-
вершенно: много вздора, поверхностного, как следствие
небрежности. Нужно было бы еще поработать, но недо-
стает того серьезного подхода к творчеству, которым от-
личался Ариосто.
Этот живой реализм, насыщенный действием, скупой
на краски, сближает манеру Фоленго с манерой Данте,
если не считать того, что Данте нередко ограничивается
наброском, тогда как Фоленго зарисовывает и передает
все события целиком. За пределами Италии этой мане-
1 «Baldus», XII, vv. 515—516 и 520 и ел. В этой же песне
(vv. 281 и ел.) описание ветров и бури.
62
ре следовал и ее развивал Рабле 1. В Италии же возоб-
ладала риторическая манера, первым правилом которой
было избегать конкретного, частного и стремиться к аб-
страгированию, к общему. Фоленго, напротив, не терпит
перифраз, отвлеченных мыслей, абстракций, бесцельно,
попутно создаваемых образов и картин. Как будто он
вовсе не работал мыслью и воображением, а просто,
оказавшись в гуще жизни, наблюдал ее и пародировал,
даже в ее самых незначительных проявлениях. Голодные
Бальдовина и Гвидо попадают в дом Берто2 и готовят
себе еду. От поэта не ускользает ни одна подробность,
он описывает пищу, как ее готовили, хлопоты Берто,
внешность и поведение обоих его гостей. Из всего этого
возникает бытовая картинка, полная веселого комизма,
ценность которой именно в конкретных деталях3. Ма-
ленький Бальдус идет в школу и вместо Доната штуди-
рует романы. Читатель узнает подробности о школе то-
го времени, о популярных тогда книгах, об одежде уча-
щихся и учителей; у каждого свое лицо.
Тут Балдуина купила бумагус, доскус и грифель,
Сына учила она, написандо и азы и буки.
Бальдус'в школус пошел наконец, но не слишком охотно;
Разве матерь иль дядька форсировать в силах подростка,
Не признавал дисциплину людей ужасающий отрок!
Столь преуспел он в три года, что книгос читал без указки.
То, что Виргилиус наш написал, он любил особливо;
О.потасовках его декламировал внятно магистру.
Начал вынюхивать Бальдус легенды о храбром Роланде.
Не к депоненциям он прилежал, не зубрил исключенья.
Виды, числа, супины, риторики ветхой фигуры,
И не хранил Доктринала в мозгу преполезные вирши.
Этот, и тот, и зело, и вкупе, и втуне, и через
Не сопрягал, не слагал — он глупости презрел педантов.
1 Мнение о влиянии Фоленго на Рабле, широко распространен-
ное в критике XVIII века (см. «Encyclopedic» на слово «Macaroni-
que» 3-a ed., t. IX, Livorno 1773), восходит к знаменитой анонимной
версии «Histoire macaronique de Merlin Coccaie, prototype de Rabe-
lais» (Paris 1605). См., между прочим, шутку об овцах в «Панта-
грюеле», кн. IV, VII, и «Baldus» XII, vv. 97—206. По-видимому, здесь
следует говорить об общем источнике — народной поэзии.
2 Так и в тексте у Фоленго («Baldus», II, 75 и ел.). В издании
Морано и в последующих изданиях — «Берта», возможно по анало-
гии с одноименным женским персонажем поэмы.
3 «Baldus», II, vv. 174 и ел.
63
Быст им изорван Донат, из Перотта кульки мастерил он,
А на картонных обложках поджаривал Бальдус колбасы.
Он восхищался Роландом и неустрашимым Ринальдом,
Так для грядущих баталий крепил свой кураж с малолетства..
Об Анакрое читал, Трапезунде и датских деяньях,
Об Антифоре-гиганте и рыцарях славных французских,
Об Аспрамонте, Бове и амурах великого Карла,
Об Альтобеле, Моргайте, гищпанской земли ретирадах,
Об испытаньях Мескйно, об Урсусе, принципе грецком,
Даже поэму того, кто воспел, запинандо, Леандра,
Видел, как любит Роланд Ангелину, резон не утратив,
Как совершал кавалер нагишом променад, обезумев,
Как волочил за собой кобылу издохшую всюду.
Ослуса как погонял, нагруженного тяжко дровами,
Как, уподобясь вороне, носился азинус в небе.
Чтение сих авантюр подстрекало Бальдуса к драке,
Только росточком был мал, и на р°ст свой он гневался люто».
Это подлинная картина времени, написанная Фолен-
го под впечатлением лет ученья в Ферраре и в Болонье;
это он сам, когда его учитель Кокайо давал ему в руки
Доната и Порретто, мастерил из них кульки и зачи-
тывался романами, прежде всего «Неистовым Орлан-
до». Здесь совершенно отсутствуют общие рассужде-
ния, все наглядно, конкретно, каждая вещь живет и,
подобно человеку, обретает свое лицо, и ее действия
определяются внутренними причинами. Автор подмечает
не только то, что Бальдус делает, но и то, что тот думает
и чувствует; конечно, слово в первую очередь передает
действие, но в то же время его макароническая форма,
место, им занимаемое, само его звучание выражают
чувство, как, например, в словах «nasarat» («вынюхи-
вал»), «volavit» («летал»), «picolettus» («мал росточ-
ком») или «hinc, illinc, illos, hoc, et altras mille
pedantorum baias». («Этот, и тот, и зело, и вкупе, и вту-
не, и через не сопрягал, не слагал —он глупости'презрел
педантов».)
5. Серьезным элементом в изложении должно было
бы стать описание рыцарства, объявившего войну аду,
то есть коварству и пороку. Но серьезность эта лишь ка-
жущаяся, на самом деле это явная пародия (ее наибо-
1 «Baldus», III, 86 и ел,
64
лее привлекательный герой —великан Фракасс) на бпи*
сания примеров проявления сверхчеловеческой силы,
которая приписывалась странствующим рыцарям К Го-
воря «явная пародия», я имею в виду изобретательней-
шее окончание поэмы; собрав рыцарей в той части ада,
где наказывают за поэтический вымысел, Мерлин там
их оставляет и сам остается тут, как у себя дома. Это и
есть родина поэтов, певцов, астрологов, волшебников,
всех тех,
кто измышляет, поет, сновиденья толкует, гадает.
Полнит новеллами книги и тщетные россказни множит2;
она напоминает собой раковину или скорее огромную
высохшую, полую тыкву — «mangiabilis quando tenerina
fuit» («была эта тыква съедобной, когда еще свежей
была»), и в ней три тысячи цирюльников вырывают зу-
бы у осужденных3. И Мерлин восклицает:
Тыква мне родина, здесь я столько зубов потеряю,
Сильно солгал и приврал в сочинении этом огромном.
И, обрывая рассказ, прощается с Бальдусом.
Бальдус, прощай, я другому тебя поручаю.
В заключение поэт насмехается над Бальдусом, над
своим искусством, над собой; ведь он, если исходить из
Горация, сочинил поистине чудовище, презрел всякие
правила и, плывя по воле волн, смешал все вместе —
южный ветер с цветами, а вепрей с морем.
1 Вот пример: Фракасс одним прыжком перемахнул через
адскую реку, назло Харону:
Тут Фракассус канал перепрыгнуть широкий решился,
На руки он поплевал и назад отошел для разбега;
На расстояние трех иль пяти поводов он поддался,
Шагу прибавив слегка, пустился затем курцгалопом,
В рысь перешел наконец и на берег другой перепрыгнул.
Этот прыжок всколебал всю окрестность; земля задрожала
Сальто-мортале такому дивились громко бароны.
И прыгуну закричал что есть мочи Бальдус сердитый,
Чтоб у Харона он вырвал все волосы из бороденки,
Череп ему проломил, перебив распроклятые кости,
(«Бальдус», XXIV, 684—693. —■ Прим. авт.)
2 «Baldus», XXV, 609—610.
3 Ibid., 604—650; отсюда и следующие два стиха (649—650).
«Прощание» («addio»)" Мерлина, ibid., 651; заключение эпизода, ibid.,
655—658.
5 Де Санктис
66
Гавайи, столь вожделенной, достигни, корабль мой усталый!
Весла давно потерял я в пучине, вскипающей злобно.
Горе мне!— так я хотел — цветы уничтожены Аустром;
Диких пустил кабанов в источника чистые воды.
Комизм доведен здесь до предела. Карикатура Бок-
каччо, шутовство Пульчи, ирония Ариосто обернулись
веселым, своенравным юмором, полным отрицания в на-
иболее циничной форме.
При таком абсолютном отрицании сатира поражает
все общество, то, что сложилось в средние века, во всех
его проявлениях и формах — религиозных, политических,
нравственных, интеллектуальных. Схоластика выставле-
на к позорному столбу; Фома Аквинский, Дуне Скотт и
Альберт как фантазеры поставлены в один ряд с астро-
логами и колдунами1. Мегера рисует страшную картину
беспорядков в церквах и в папской курии, а Алекто об-
рушивается в равной мере и на гвельфов, и на гибел-
линов— как на сторонников Франции, так и на привер-
женцев империи. Главная мишень поэтических стрел —
монахи. В одной из самых комических сцен выведен
плут Чингар, переодевшийся францисканцем, чтобы вы-
зволить Бальдуса из тюрьмы.
Нет, не Чингар предстал, но поистине некий святитель —
Под облаченьем святым укрывается часто мошенник 2.
Замечательна сатира на монашество в восьмой песне:
Ибо играли на деньги, свои кошельки облегчая,
Аще не стало вина в сосуде и хлеба в корзинке,
Преобразились в монахов, поспешно надев капюшоны 3.
Повсеместное распространение монастырей вызывает
у автора опасение, как бы в один прекрасный день хри-
1 «Baldus», XXV, 533 и ел. Тирады Мегеры и Алето, ibid.,
W. 219—285.
2 Так у Де Санктиса в оригинале и в печатном тексте, В ори-
гинале у Фоленго (X, 36 и 39) несколько иначе.
Нет, не Чингар явился в одеждах святых и покровах.
Горе! — под рясой святой укрывается часто мошенник.
3 Для последующих стихов см.: «Baldus», VIII, 477—479. Пер-
вые два стиха звучат в оригинале так:
Ибо играли на деньги, свои мошны растрясоша,
Аще не стало в бочонке вина и хлеба в корзинке.,,
66
стианский мир вовсе не остался без солдат и крестьян х.
Он смеется над прописями священного писания, пароди-
рует обряд исповедания в грехах. А когда странствую-
щие рыцари достигают врат ада, они читают на них па-
родию на знаменитые слова Данте:
Здесь Люциферово царство и двор повелителя ада.
Каждый сюда приглашен, но отсюда нет выхода людям 2.
Однако им не дано покорить ад, пока они не испо-
ведуются в грехах, а исповедовать их будет сам поэт
Мерлин:
Имя мне дали Мерлинус, я родом из Мантуи славной,
Макаронических муз поклонник, Кокайусом прозван.
Нетрудно себе представить, в чем и как исповедуются
Мерлину рыцари, и в особенности Чингар3, это — фарс.
Все произведение проникнуто своеобразным насмешли-
вым духом, преображающим описываемый автором мир
в карнавальное представление
6. «Ужасная война мух и муравьев» («Москеида»)
Мерлина — также карнавальный маскарад, где выведе-
ны рыцари, но стиль здесь более отработан и выдержан.
Война заканчивается полным разгромом мух, описанным
в манере, шаржирующей Ариосто и других поэтов, вос-
певших рыцарские подвиги. Вот несколько отрывков из
заключительной части:
Наша планета не знала такой жесточиссимой свалки.
Всюду по полю кишат руки убитых в бою.
Горы мертвых достигли сияющих высей астральных.
Крови спринцует фонтан звезды далеких небес.
Легкие и селезенки, кишки, и гузна, и сало
Вот полетели с дерьмом в сферы Сатурна, смердя,
И по усам потроха Юпитера смазали крепко.
Солнца ход изменил некий гастрический взрыв.
Даже к богам на трапезу упали баталии кости,
Пир всеблаженных смутив (Вышним служил Ганимед).
i «Baldus», VIII, vv. 496 и ел.
2 Ibid., XXIV, vv. 381—382.
3 Ibid., XXII, vv. 160 и ел,
5*
67
Руки летят пауков, кровавые ноги пехоты,
Сотни мушиных сердец, лапки тончайшие блох.
Мух легионы погибли от злобы враждующих дуков.
И не одна не спаслась рода мушиного тварь.
Блох, пауков, муравьев — «Виктория!» — войско вскричало.
Трубы трубят тарарам, тонкие флейты пищат К
Родомонт мух — это Сиккабороне; на него сбрасывают
с башни громадный камень:
Оный, упав на шишак, проломил башку паладина,
Сиккаборонова жизнь с воплем летит в Ахеронт2.
«Дзанитонелла» (о любви Дзанины и Тонелло) —
карикатура на буколические поэмы, где высмеиваются
идиллические образы и чувства, такие, как у Петрарки.
Петрарка рассказывает, как его, безоружного, нежданно
настигла любовь3. То же самое случилось и с Тонелло:
В уединенье моем я скрывался под сенью древесной,
Пас на зеленом лужке мирных овечек и коз.
Мысли в моей голове гостями редкими были;
И, усумнясь, не чесал крепкий затылок тогда.
Только — увы! — Купидон протаранил несчастное сердце.
В цель угодил он стрелой, маху он дать не хотел.
Как досточтимый сеньор, поражает он сзади и в спину.
Власть ты свою показал — сердце разбито мое4.
7. Если рассматривать глубже эту всеобъемлющую
карикатуру на целый мир, то видно, что кое-где в ней
смутно угадываются уже и некоторые черты нового ми-
ра. В ней ощущается дух Реформации, боль за Италию,
раздираемую между империей и Францией, тогда как
в пору единства она главенствовала в мире5, возмуще-
* «Moscheidos», III, vv. 329—340 и 365—368.
2 Ibid., vv. 379—380. В оригинале: «Qui super ' elmettum
schiazzavit».
3 Намек на заключительные стихи сонета: «Era il giorno ch'al
sol si scoloraro», vv. 11 —14 («Rime», III).
4 «Zanitonella», «Ad Cupidinem», vv. 51—56 и 61—62.
5 По-видимому, ссылка на октавы, в которых Рампалло превоз-
носит величие римлян и говорит о превосходстве итальянцев над
французами. См, «Orlandino», cap. II, st. 57 и ел.
68
ние распущенностью и падением нравов в век ханжей
и придворных, презрение к теологическим, схоластиче-
ским и астрологическим измышлениям, чувство реаль-
ности и гуманизма. Но это лишь смутные предчувствия,
беспорядочные и неотчетливые картины, которые угады-
ваются им, но не завладели полностью его скитальче-
ской душой и своевольной фантазией.
*******************************************
XV
Макиавелли1
1. Жизнь и характер Макиавелли. Черты нового миросо-
зерцания в его малых произведениях, в стихах. Глубокие
мысли при банальной, лишенной изящества форме. Мелкие
произведения в прозе и литературный стиль, характерный для .
той эпохи. Неверие и насмешливость, буржуазный практицизм.
2. Флоренция — сердце Италии и последний оплот свободы.
Идеал Макиавелли, основанный на вере в родину. 3. Кри-
тики-педанты и моралисты исказили образ писателя; его
подлинное величие заключается в остром анализе эпохи.
4. Разложение итальянского общества есть не что иное, как
разложение средневековья: эта точка зрения выше, нежели
весьма распространенное в ту пору стремление к восстановле-
нию набожности и морали. Политическое содержание нега-
тивных высказываний Макиавелли, являющихся отрицанием
средневековья и одновременно отрицанием Возрождения; реа-
билитация земной жизни, «правды настоящей» в противовес
миру воображения, будь то религия или искусство. 5. Совре-
менная концепция родины как нации и государства, сложив-
шаяся у Макиавелли под влиянием формирования европейских
государств. «Родина» — божество, которое стоит выше морали
и выше закона. Религия как орудие власти; утверждение не-
зависимости гражданской власти. «Добродетель» Макиавелли,
противопоставляемая добродетелям аскетическим. 6. Развитие
1 В связи с данной главой, а она одна из ведущих в «Истории
итальянской литературы», и в связи с новой трактовкой учения Ма-
киавелли следует иметь в виду цикл лекций, прочитанных' Де Санк-
тисом в Неаполе с 23 мая по 6 июня 1869 года в Большом зале
Капитула бывшего монастыря Сан-Доменико Маджоре (см. «L'arte,
la scienza e la vita», cit.). В примечаниях указаны моменты, прояс-
няющие предпосылки, из которых исходил Де Санктис, создавая
свою концепцию Макиавелли. По поводу посвященных Макиавелли
критических работ периода романтизма см.: L. R u s s о, Machia-
velli, Bari 19493, p. 263 и С. F. G о f f i s, в «Classici italiani», Bini,
cit., vol. I, pp. 335—398.
70
Наций и история как результат действия сил, приведенных
в движение убеждениями, страстями и интересами людей.
Знание действительности—основа искусства управления стра-
ной. Учение Макиавелли — первая научная основа философии
истории и права народов; его философские взгляды как логи-
ческий результат процесса освобождения человека от власти
сверхъестественного. 7. Под классической оболочкой — совре-
менный буржуа; вместо средневекового идеала Рима прови-
дения и империи — идеал Рима республиканского. Идея церкви
как орудия в руках нации — государства; новая этика; па-
триот, а не святой; новая интеллектуальная основа: человече-
ский дух как главный вершитель истории. 8. Обновление ме-
тода; истина — это «правда настоящая», опыт — путь иссле-
дования. Преодоление схоластической формы. 9. Единство
содержания и формы. Писатель присутствует лишь как чело-
век. Богатая мыслями, «вещная» проза Макиавелли — пред-
вестник современной прозы. 10. Логика событий и истолко-
вание фактов в «Истории Флоренции». Равнодушие писателя
и философа. 11. Более интенсивная интеллектуальная основа
«Рассуждений»: изучение индивидуума, классов, народов.
Искусство править страной состоит в точности поставленной
цели и в выборе эффективных средств. 12. Неумолимая ло-
гика «Князя». Миром правит разум. Моральная ответствен-
ность заключена в цели. 13. Четкое понимание деградации
Италии и вытекающий отсюда долг вскрыть ее причины. По-
рочность религии — основная причина разложения. Утопиче-
ская идея о "приходе князя-спасителя; заслуга Макиавелли со-
стоит в том, что, формулируя эту идею, он исходит из реаль-
ных и постоянных факторов жизни современного общества и
итальянского народа. 14. Иллюзии и поэтическое чувство
у Макиавелли. Ирония — вот его подлинная муза. Громкий
смех «Мандрагоры». 15. «Каландрия» Биббьены и «комедия
интриги». Новизна «Мандрагоры»; Макиавелли понимает ко-
медию так же, как историю: действием движет не случай,
а логика характеров. Анализ действующих лиц. Беспощадность
наблюдений и.ужасающее хладнокровие анализа и описания.
«Мандрагора» кладет начало новой литературе, это — подлин-
ное действие, приводимое в движение внутренними силами.
16. Макиавеллизм, как его принято понимать, и макиавеллизм
подлинный, понимаемый как наука и метод, как программа
нового мира. 17. «Воспоминания» Гвиччардини — моральный
кодекс итальянской буржуазии. Теоретически Гвиччардини
разделяет взгляды Макиавелли на общие цели, но практически
подчиняет их личному интересу; идеал мудреца, рассчитанный
на способность «позитивного человека» «к различению». Раз-
рыв между человеком и его совестью. 18. «История Италии»;
мысль Гвиччардини о «позитивном разуме» и анализ событий
с момента их зарождения и подготовки. Лапидарный стиль
«Воспоминаний» и искусственные красоты стиля «Истории».
19. Невозмутимый тон естествоиспытателя, каким излагается
итальянская трагедия. Физика истории у Гвиччардини ста-
тична, не выходит за рамки индивидуума; «социальная»
физика, предугаданная Макиавелли.
71
1. Говорят, что в 1515 году, когда появился «Неисто-
вый Орландо», Макиавелли находился в Риме. Он по-
хвалил поэму, но не скрыл своего недовольства тем, что
Ариосто в последней песне забыл упомянуть его имя в
перечне итальянских поэтов 1.
Эти два великих человека, олицетворявшие два раз-
ных аспекта одного века, жили в одно время, знали друг
о друге, но, по-видимому, не понимали друг друга. Ник-
коло Макиавелли внешне был типичным флорентийцем,
очень напоминавшим Лоренцо деи Медичи. Он любил
приятно провести время в веселой компании, сочинял
стихи и шутил, блистая тем же тонким и едким остро-
умием, какое мы наблюдали у Боккаччо и у Саккетти,
у Пульчи, у Лоренцо и у Берни. Он не был состоятель-
ным человеком и при обычных обстоятельствах превра-
тился бы в одного из многих литераторов, трудившихся
за определенную мзду в Риме или во Флоренции.
Но после падения Медичи и восстановления респуб-
лики Макиавелли был назначен Секретарем и стал иг-
рать видную роль в государственных делах. Выполняя
дипломатические поручения в Италии и за ее предела-
ми, он приобрел немалый опыт — повидал людей и свет;
он был предан республике всей душой, настолько, что
после возвращения Медичи готов был принять любую
муку.
В этой кипучей деятельности и борьбе закалился его
характер, возмужал дух.
Оказавшись не у дел, в тиши Сан-Кашано, он пре-
дался размышлениям о древнем Риме и о судьбах Фло-
ренции— вернее, всей Италии. Он ясно себе представ-
1 Первое издание «Неистового Орландо» относится к 1516 году.
По поводу мнения Макиавелли о поэме Ариосто см. его письмо от
17 декабря 1517 года, адресованное в Рим Лудовико Аламанни: «На
днях прочитал «Неистового Орландо» Ариосто: истинно прекрасна
вся поэма, но есть места совершенно замечательные. Если он сей-
час там, напомните ему обо мне и передайте, что я сожалею лишь
о том, что, упоминая стольких поэтов, он пренебрег мною; .я в своем
«Осле» не сделаю так, как он сделал в своем «Орландо» («Ореге»,
Parenti, Firenze 1843, p. 1128).
Сверка была произведена по этому изданию (им же пользо-
вался, по-видимому, и Де Санктис); ссылки в письмах также по
этому изданию.
Приводимые в примечаниях цитаты из других произведений Ма-
киавелли взяты из его сочинений, изданных Мондадори под редак-
цией Ф. Флора и Ч. Кордие, voll. I—II, Milano 1949—1950.
72
лял, что Италия может сохранить свою независимость
лишь при условии, если вся она или большая ее часть
будет объединена под эгидой одного князя. И он наде-
ялся, что династия Медичи, которая пользовалась вла-
стью в Риме и во Флоренции, возьмет на себя этот
долг1. Он надеялся также, что Медичи захотят прибег-
нуть к его услугам, избавят его от вынужденного без-
делья и вызволят из нужды. Но те использовали Макиа-
велли мало и плохо; он закончил дни свои печально, не
оставив в наследство детям ничего, кроме имени. О нем
было сказано: «Tanto nomini nullum par elogium»2.
Его перу принадлежат «Десятилетие» — сухая хрони-
ка о «трудах Италии за десять лет», написанная за пят-
надцать дней3, «Золотой осел», книга из восьми капи-
толо, — сатирическая картина упадка флорентийских
нравов, книга «О случае» — несколько капитоло, «О
фортуне», «О неблагодарности», «О честолюбии», кар-
навальные песни, стансы, серенады, сонеты, канцоны. На
всех этих произведениях лежит печать эпохи: некоторые
из них выдержаны в вольном, насмешливом тоне, дру-
гие— аллегоричны и нравоучительны, но все страдают
сухостью. Стих его граничит с прозой, он маловырази-
телен; образов мало, а те, что есть, избиты.
Однако, несмотря на всю их банальность и отсут-
ствие изящества, в этих произведениях Макиавелли
появляются признаки нового человека, наделенного не-
бывалой глубиной мысли и наблюдательностью. Вооб-
ражение отсутствует, зато ума — изобилье.
Перед нами критик, а не поэт. Не человек, который
самозабвенно сочиняет и фантазирует, подобно Лудови-
1 Эти слова перекликаются со знаменитой концовкой «Князя»:
«...Пусть же ваш прославленный дом возьмет на себя этот долг
с той силой души и надежды, с которой берутся за правое дело».
(Ни к ко л 6 Макиавелли, Сочинения, т. I, Academia, M. — Л.,
1934, стр. 329. Все дальнейшие цитаты из «Князя» — по тому же из-
данию.) По поводу предложения услу:, с которым Макиавелли об-
ратился к Медичи, см. его знаменитое письмо к Веттори от 10 де-
кабря 1513 года.
2 «Имя его выше всех похвал». Это слова надписи, составленной
Фсррони для памятника Макиавелли, воздвигнутого в Санта-Кроче,
во Флоренции, в 1787 году.
3 См. «Decennali», посвящение, обращенное Аламанно Сальвиати:
«Коль вы желаете, читайте, Аламанно, о трудах Италии, кои длились
Десять лет, и о моих, длившихся пятнадцать дней»,
73
ко Ариосто, а че>л°век> пристально наблюдающий за со-
бой, даже когда °н страдает, и с философским спокой-
ствием изрекаюшДий суждения о своей судьбе и о судь-
бах мира. Его ст:ихи походят на беседу:
Надеюсь я, не веруя в успех;
Я с^лезы лью — в них сердце утопает;
См^юсь> но внутрь не проникает смех;
Пы лаю весь — о том никто не знает;
Стрзашусь и звуков и видений всех;
Мн'€ все вокруг мучений прибавляет.
На,Деясь> плачу и, смеясь, горю,
Все^го страшусь, на что ни посмотрю 1.
Таковы же р ассуждения об изменчивости земных
благ в «Фортуне?»' Что осталось от стихотворений Ма-
киавелли? Несколько удачных строк, как, например,
следующая из «Десятилетия»:
Гла с каплуна средь сотни петухов,
и несколько изречений или глубоких мыслей, как в пес-
не (1,36) «О дьяволах» или «Об отшельниках»2.
Шедевр Макиавелли — его капитоло «О случае»,
особенно концовке: она поражает и заставляет заду-
маться. Здесь в поэте уже чувствуется будущий автор
«Князя» и «Рассуждений».
В прозе Макиавелли тоже ощущается забота о кра-
соте стиля — в соответствии с представлениями того вре-
мени. Он рядится в римскую тогу и подражает Боккач-
1 «Stanze», I. По л0В°ДУ упоминаемых ниже размышлений об из-
менчивости земных благ, взятых из капитоло «О фортуне», см.
vv. 121 и ел.
2 См. «Canti carnascialeschi» («Карнавальные песни»), I и IV;
первая упоминается также Кине (op. cit., II, р. 112). «Dell'Occasio-
пе», о котором идет Речь в следующей фразе, — это четвертый из
капитоло, посвященный Филиппо де'Нерли; по поводу концовки см.
Главным образом vv. 16—22:
Кто там идет с тобою? Покаянье?
Тогда не по пути, пожалуй, нам, —
Тебе сказать желаю в назиданье.
Покуда ты по разным пустякам
Все время размышленьям предавался,
Ты вып.Устил меня из рук, но сам,
Увы, не понял, что со мной расстался!
74
чо — например, в своих проповедях собратьям1, в опи-
сании чумы и в речах, которые он вкладывает в уста
исторических персонажей. Взглянем, например, на описа-
ние его встречи с женщиной в церкви во время чумы:
оно искусственно, изобилует риторическими ухищрения-
ми, но именно так понимали в ту пору изящество стиля.
Однако «Князя», «Рассуждения», «Письма», «Описа-
ния», «Диалоги об ополчении» и «Историю» Макиавелли
пишет спонтанно, здесь все внимание его приковано к
конкретным вещам; погоню за красивыми словами и
фразами он как бы считает ниже своего достоинства.
Именно тогда, когда он не думал о форме, он стал ма-
стером формы. Сам о том не помышляя, он обрел
итальянскую прозу.
У Никколо Макиавелли мы видим черты Лоренцо,
его неверие и насмешливость,— черты, которыми была
отмечена вся итальянская буржуазия того времени. Он
обладал той же практичностью, той же проницательно-
стью— умением понимать людей и события,— которые
сделали Лоренцо первым среди князей и которые были
характерны для всех итальянских государственных дея-
телей Венеции, Флоренции, Рима, Милана, Неаполя тех
лет, когда жили Фердинанд Арагонский, Александр VI
и Лудбвико, по прозвищу Мавр, и когда венецианские
послы писали живые, умные донесения о жизни при дво-
рах, где они были аккредитованы.
Искусство существовало, но науки еще не было. Ло-
ренцо был художником. Макиавелли предстояло стать
критиком.
2. Флоренция все еще была сердцем Италии: народ
еще сохранял там свой особый облик, еще был жив об-
раз родины.
Свобода -не хотела умирать. Понятий «гибеллин»,
«гвельф» больше не существовало — их сменила идея
древнеримской республики, идея, порожденная класси-
1 См. «l'Esortazione alia penitenza» («Призыв к покаянию»),
одно время известный под названием «Discorso morale sul «De Pro-
Hindis» («Opere», cit., pp. 598 и ел.). «La Descrizione della peste di
Firenze deH'anno 1527» («Описание чумы, разразившейся во Флорен-
ции в 1527 году»), приписываемое по традиции Макиавелли (см. ор.
cit-, pp. 598 и ел.), принадлежит, как известно, перу Лоренцо
Строцци, ibid. Описание женщины в церкви, о котором говорится
в следующей фразе, упоминает также Кине (op. cit., II, р. 137).
ческой культурой; она крепла вопреки всесильным Меди-
чи, так как опиралась на традиционную тягу флорентий-*
цев к вольной жизни и на воспоминания о славном про-
шлом. Свобода и политическая борьба поддерживали
крепость духа и сделали возможным появление Савона-
ролы, Каппони, Микеланджело, Ферруччо и незабывае-
мое сопротивление войскам папы и императора. Незави-
симость, слава родины, свободолюбие — эти моральные
силы еще более подчеркивались контрастом, который они
составляли с разложением, царившим при дворе Медичи.
По своей культуре, по вольному образу жизни, по ха-
рактерной для него насмешливости и любви к каламбу-
ру и шутке Макиавелли примыкает к Боккаччо, к Ло-
ренцо и ко всей новой литературе. Он не признает ника-
кой религии, а посему мирится с любой из них; превоз-
нося мораль вообще, он в обыденной жизни перешаги-
вает через нее. Дух его закалился и окреп в делах и в
политической борьбе, а в период вынужденного безделья
и одиночества он отточил свой ум. Совесть его не мол-
чала: свобода и независимость родины — вот что волно-
вало Макиавелли. Практический склад его недюжинно-
го ума не давал ему предаваться иллюзиям и удержи-
вал в рамках возможного. Увидев, что свобода утраче-
на, и помышляя лишь о независимости, он попытался
использовать как орудие спасения все тех же Медичи.
Разумеется, это тоже было иллюзией, соломинкой, за
которую хватается утопающий, это было утопией, но
утопией человека сильной и молодой души, человека
пламенной веры. Если Франческо Гвиччардини сумел
вернее оценить и точнее почувствовать положение Ита-
лии, то только потому, что совесть его к тому времени
умолкла, окаменела. Образ Макиавелли в памяти потом-
ков окружен любовью и ореолом поэтичности именно
благодаря его твердому характеру, искренности его пат-
риотизма и благородству стиля, благодаря тому, что он
сумел сохранить мужественность и чувство собственного
достоинства, которые выделяли его из толпы продажных
писак. Влияние, каким он пользовался, далеко не соот-
ветствовало его заслугам.
Его считали не столько государственным деятелем,
человеком действия, сколько писателем, или, как приня-
то выражаться ныне, кабинетным ученым. А его бед-
ность, беспорядочный образ жизни, плебейские привыч-
76
ки, «шедшие вразрез правилам», как с укором говорил
ему безупречнейший Гвиччардини 1, отнюдь не улучшали
его репутацию. Сознавая свое величие, он не снисходил
до того, чтобы пробивать себе дорогу с помощью тех
внешних, искусственных приемов, которые так знакомы
и так доступны посредственностям. На потомков он ока-
зал огромное влияние: одни его ненавидели, другие пре-
возносили, но слава его неизменно росла. Имя его про-
должало оставаться знаменем, вокруг которого сража-
лись новые поколения в своем противоречивом движе-
нии то вспять, то вперед.
3. У Макиавелли есть небольшая книжка, переве-
денная на все языки и затмившая все остальные его
произведения: это «Князь». Об авторе судили именно по
ней, саму же книгу рассматривали не с точки зрения
ее логической, научной ценности, а с моральной точки
зрения. Было признано, что «Князь» — это кодекс тира-
нии, основанный на зловещем принципе «цель оправды-
вает средства», «победителей не судят». И назвали эту
доктрину макиавеллизмом 2.
Много было предпринято хитроумнейших попыток за-
щитить книгу Макиавелли, приписать автору то одно, то
другое более или менее похвальное намерение. В итоге
рамки 'дискуссии сузились, значение Макиавелли ума-
лили.
Такую критику нельзя назвать иначе, как педантской.
Жалка также и попытка свести все величие Макиавелли
1 Это выражение, подчеркнутое в рукописи, взято у Гвиччар-
дини, который неоднократно его повторяет в своих произведениях.
2 Полную картину высказываний о произведениях Макиавелли,
включая отдельные истолкования его идей в XVII и XVIII веках,
дает Фосколо в «Delia fama di N. М.» (1811), «Ореге», cit., vol. II,
1850, pp. 431 и ел. Кроме того, см. G i n g u e n ё, Histoire litteraire
d'ltalie, cit., vol. VIII, cap. XXXII. Позиции итальянских романтиков
в этом вопросе см.: предисловие, написанное Карло Ботта в 1832 году
ко второму изданию «Storia d'ltalia in continuazione di quella di
Guicciardini» («История Италии, продолжение труда Гвиччар-
дини», Firenze 1835).
Но Де Санктис, по-видимому, исходит прежде всего из выска*
зывания Ф. Шлегеля: «Флорентийский секретарь своими крайне вред-
ными и язычески безнравственными политическими принципами как
бы идет вразрез всему национальному способу мышления, а по-
сему, безусловно, воздействует на него отрицательно», («Storia della
letteratura antica e moderna», trad. Ambrosoli, Milano 1828, vol. II,
pp. 83—84).
77
к его «итальянской утопии», к мечте о создании Италии,
которая ныне стала реальностью. Мы хотим воссоздать
его образ целиком, установить, в чем же состоит его
подлинное величие.
Никколо Макиавелли прежде всего олицетворяет
собой ясное и серьезное понимание того процесса, кото-
рый протекал неосознанным, начиная от Петрарки и
Боккаччо вплоть до второй половины XVI века.
Именно от Макиавелли пошла итальянская проза,
иными словами, сознательное отношение к жизни, раз-
думье о жизни. Он тоже живет в гуще событий, участву-
ет в них, разделяет страсти и чаяния своего поколения.
Но, когда момент действия остался позади, сидя один над
книгами Ливия и Тацита, он нашел в себе силы отойти
в сторону и спросить общество, в котором жил: «Что ты
из себя представляешь? Куда идешь?»
Италия еще хранила свою былую гордость и взирала
на Европу глазами Данте и Петрарки, почитая за вар-
варов все народы, жившие по ту сторону Альп. Идеалом
для нее был мир древней Греции и древнего Рима, ко-
торый она изо всех сил пыталась ассимилировать. Она
стояла выше других стран по культуре, по богатству, по
ремесленному производству, по произведениям искусства,
по обилию талантов, ей безраздельно принадлежало ин-
теллектуальное первенство в Европе. Велико было смя-
тение итальянцев, когда в доме их воцарились чужезем-
цы. Но к ним притерпелись, сжились с ними, уповая на
то, что умственное превосходство поможет им прогнать
непрошеных гостей. Весьма поучительное зрелище мож-
но было наблюдать при изысканных дворах итальянских
князей, где в присутствии ландскнехтов — швейцарцев,
немцев, французов, испанцев — раздавался громкий и
беспечный смех писателей, художников, латинистов, рас-
сказчиков и шутов. Сочинители сонетов осаждали кня-
зей даже на поле брани: Джованни Медичи пал под ак-
компанемент шуток Пьетро Аретино К Ошеломленные
иностранцы разглядывали чудеса Флоренции, Венеции,
Рима, восхищались поразительными достижениями че-
ловеческого гения; иноземные князья ухаживали за
1 О знаменитом письме Аретино, написанном 10 декабря
1526 года Франческо дельи Альбици, где Аретино описывает смерть
Джованни делле Банде Нере, см.. ниже,
78
поэтами и писателями, одаривали их, а те с равным рве-
нием воспевали Франциска I и Карла V. Захватчики
покорили Италию и учились у нее, как когда-то римля-
не— у Греции. Никколо Макиавелли вперил свой острый
взгляд в эту цветущую культуру, внешне мощную и ве-
личавую, и сумел рассмотреть недуг там, где другие
видели пышущее здоровье.
То, что мы сегодня именуем упадком, он называл
разложением. В своих рассуждениях он исходил именно
из этого факта разложения итальянской, вернее, латин-
ской, расы, которой противопоставлялась здоровая гер-
манская раса К
4. Самым грубым проявлением этого разложения бы-
ли распущенность нравов и словоблудие, присущие преж-
де всего духовенству и вызывавшие гнев еще у Данте и
у Екатерины; их можно было наблюдать на картинах и
в книгах, они проникли во все классы общества, во все
литературные жанры и стали чем-то вроде острой при-
правы, придававшей вкус жизни. Главным центром этой
распущенности нравов, которая сопровождалась нечести-
востью, безбожием, был римский двор, а главными про-
тагонистами ее — папа Александр VI и Лев X. Именно
нравы этого двора зажгли гнев Савонаролы и побудили
к расколу Лютера и его сограждан.
Тем не менее духовенство в своих проповедях по при-
вычке продолжало метать громы и молнии против этой
распущенности нравов. Евангелие по-прежнему остава-
лось непререкаемым авторитетом, но только не в повсе-
дневной жизни: мысль расходилась со словом, а слово —
с делом, гармония в жизни отсутствовала. И в этой дис-
гармонии заключался главный источник комизма для
Боккаччо и для других авторов, писавших комедии, но-
веллы и шуточные терцины.
В принципе ни один итальянец не мог признать эту
вольность нравов похвальной, однако не мог удержаться
от смеха. Одно дело —теория, другое —практика. Никто
не возражал против необходимости реформы нравов,
пробуждения совести, но эти чувства и желания не на-
ходили себе почвы: они тонули в шуме царившей вокруг
вакханалии. Некогда было сосредоточиться, взглянуть на
1 См.. «Discorsi sopra la prima deca», I, cap. 55,
79
жизнь серьезно. Тем не менее именно эти чувства и
желания позднее дали свои плоды и способствовали
деятельности Тридентского собора и католической ре-
акции.
Вернуться к средневековью, добиться реформы нра-
вов и пробуждения совести, возродив религию и мораль
прошлых веков,— такова была идея Джеронимо Савона-
ролы, впоследствии подхваченная и выхолощенная
Тридентским собором. Эта идея была наиболее доступ-
ной для масс, ее легче всего было выдвинуть. Люди
склонны для исцеления своих страданий обращаться к
прошлому.
Макиавелли, пока вокруг него гремел весь этот
итальянский карнавал, жил во власти дум и тревог и су-
дил об испорченности нравов с более высокой точки зре-
ния. Разлагалось средневековье, уже умершее в созна-
нии людей, но еще продолжавшее жить в формах и уста-
новлениях эпохи. Вот почему Макиавелли не звал Ита-
лию назад, к средневековью, а, напротив, содействовал
его разрушению К
«Тот свет», рыцарство, платоническая любовь — та-
ковы три основных фактора, вокруг которых вращается
средневековая литература и которые в новой литературе
более или менее сознательно пародируются. На лице
Макиавелли, когда он говорит о средневековье, мы тоже
подмечаем иронию. И главным образом когда он хочет
казаться особенно серьезным. Сдержанность выражений
лишь усиливает мощь его ударов. В этой его разруши-
тельной деятельности видно его родство с Боккаччо и
Лоренцо Великолепным. Его «Бельфагор» сделан из того
же теста, что и Астаротте2.
1 См. Quinet (op. cit., II, p. 94): «Италия уже прожила свои
трое суток в гробнице Лазаря, а спаситель все не приходил; труп
начинал издавать зловоние. Что оставалось делать в таком отчаян-
ном положении? Обратное тому, что делал монах Савонарола: отка-
заться от аскетизма, от политики, основанной на религии или рыцар-
стве, прибегнуть к силе, пытаться ее создать, отбросить такое утра-
тившее силу оружие, как молитва, и возлагать надежды лишь на
меч...» Аналогии и параллели проводятся также в книге Джузеппе
Феррари (Giuseppe Ferrari, Histoire de la raison d'etat, Paris
1860, capp. IV e V; «Dieu compromis» и «Dieu detrone»).
2 По поводу образа Астаротте из «Моргайте» и о его значе-
нии см. т. I, стр. 473 и ел., а также лекцию о рыцарской поэзии
(«Verso il realismo», cit.).
SO
Но его отрицание не сводится к буффонаде, к смеху
ради смеха, порожденному уснувшей совестью. В этом
отрицании звучит утверждение нового мира, рожденного
в сознании Макиавелли. Вот почему его отрицание так
серьезно, так убедительно.
Папство и империя, гвельфы и гибеллины, феодализм
и города-коммуны — в его сознании все эти установле-
ния разрушены. Разрушены потому, что в голове его воз-
никла теория нового общественного и политического
устройства.
Идеи, породившие прежние установления, мертвы,
они больше не обладают силой воздействия на сознание
людей, их сознание спит. В этом внутреннем оцепене-
нии и коренится причина разложения итальянского обще-
ства. И нельзя обновить народ иначе, как разбудив его
сознание. Эту задачу и старается выполнить Макиавел-
ли.. Одной рукой он рушит, другой созидает. С него, в
обстановке всеобщего бездумного отрицания, началось
созидание.
Изложить его учение во всех подробностях невозмож-
но, остановимся лишь на главной идее.
Средневековье зиждется на принципе, согласно кото-
рому цепляться за земную жизнь как за самое суще-
ственное—грех; добродетель состоит в отрицании зем-
ной жизни и в созерцании потусторонней. Земная жизнь
не реальность, не истина, а тень, видимость; реальность —
это не то, что есть, а то, что должно быть, а посему
подлинным ее содержанием является иной мир, ад, чи-
стилище и рай, мир истины и справедливости. На этом
теолого-этическом представлении о мире основана «Бо-
жественная комедия» и вся литература XIII и XIVвеков.
Символика и схоластика — естественные формы вы-
ражения этой идеи. Земная жизнь символична, Беа-
триче— символ, любовь — символ. Что такое человек и
природа, в чем их суть, можно объяснить с помощью
общих абстрактных понятий, то есть сил, существующих
вне мира и представляющих собой главное в силлогизме,
общее понятие, из которого вытекает частное. Все это —
и форма и сама идея — еще со времен Боккаччо отрица-
лось, подавлялось карикатурой, пародией, служило объ-
ектом для насмешек и для развлечения. То было отри-
цание в его самой циничной и разнузданной форме, осно-
ванное на прославлении плоти, греха, чувственности,
Ф Де Санктис 31
t
эпикуреизма, то была реакция на аскетизм \ Всех сва-
лили в одну кучу — теологов, астрологов и поэтов, всех,
кто жил лишь видениями. (Смотри гениальную концовку
«Макаронеа», которую Фоленго сочинил под влиянием
Ариостова мира Луны2.) Таким образом, в теории ца-
рило полное равнодушие, а в повседневной жизни — пол-
ная распущенность.
Макиавелли живет в этом мире, и живет активно.
Ему свойственна та же свобода в области морали, то же
равнодушие в вопросах теории. Он не обладал какой-
нибудь необычайной культурой: многие в ту пору пре-
восходили ученостью и эрудицией и его, и Ариосто.
В философии он был, очевидно, столь же не искушен,
как в схоластике и теологии. Во всяком случае, они его
не интересуют. Все его помыслы устремлены к практи-
ческой жизни.
По-видимому, не силен он был и в естественных нау-.
ках: факт таков, что в некоторых случаях он ссылается
на влияние звезд. Баттиста Альберти обладал, безуслов-
но, более широкой и более законченной культурой. Ма-
киавелли не философ природы, он философ человека.
Но, гениальный мыслитель, он вышел за рамки вопроса
и подготовил почву для Галилея.
Человек в понимании Макиавелли — это не статич-
ный созерцательный человек средневековья и не идилли-
чески спокойный человек Возрождения; это современ-
ный человек, который действует и добивается своей цели.
Каждому человеку назначено выполнить свою мис-
сию на земле в соответствии с его возможностями.
Жизнь не игра воображения и не созерцание, не теоло-
гия и не искусство. Жизнь на земле имеет свой серьез-
ный смысл, свою цель, свои средства. Реабилитировать
земную жизнь, дать ей цель, пробудить в людях созна-
ние, внутренние силы, возродить серьезного, деятельного
человека — вот идея, пронизывающая все произведения
Макиавелли.
1 В рукописи: «Но то было на практике, а не в теории; более
того, люди слышать не хотели о теориях; философов свалили в одну
кучу с теологами, астрологами, поэтами, со всеми, кто жил лишь
видениями».
2 См. «Orlando Furioso», XXXIV, 85 и ел. Эпизод, описанный
Фоленго и уже упомянутый выше, взят из «Бальдуса» («Baldus»,
XXV, 476 и ел.),
82
Она является отрицанием средневековья, но вместе с
тем и отрицанием Возрождения. Созерцание бога удов-
летворяет его столь же мало, сколь и созерцание произ-
ведения искусства. Он высоко ценит культуру и искус-
ство, но не настолько, чтобы согласиться, что они дол-
жны и могут составить цель жизни. Макиавелли борется
с воображением как с самым опасным врагом, полагая,
что видеть предметы в воображении, а не в действитель-
ности— значит страдать болезнью, от которой необходи-
мо избавиться. Он то и дело повторяет, что надо видеть
вещи такими, каковы они в действительности, а не та-
кими, какими они должны быть. Это «должно быть», к
которому устремлено все содержание в средние века и
форма в эпоху Возрождения, обязано уступить место бы-
тию, или, как говорит Макиавелли, «правде настоящей» К
Подчинить мир воображения, мир религии и искус-
ства миру реальному, который дан нам через опыт и на-
блюдение,— такова основа учения Макиавелли.
5. Отбросив все сверхчеловеческое, все сверхъесте-
ственное, Макиавелли кладет в основу жизни родину.
Назначение человека на земле, его первейший долг — это
патриотизм, забота о славе, величии, свободе родины.
В средние века понятия родины не существовало. Су-
ществовало понятие верности, подданства. Люди рожда-
лись подданными папы и императора, представителей
бога на земле: один олицетворял дух, другой — «тело»
1 См. «Князь», XV: «Мне казалось более верным искать настоя-
щей, а не воображаемой правды вещей». Слова «правда настоящая»
и «правда воображаемая» перекликаются с знаменитым изречением
Бэкона: «Мы высказываем благодарность Макиавелли и другим
сходным с ним писателям, которые твердо и открыто излагают, как
люди обычно поступают, а не что они должны делать» («De augmen-
ts scientiarum», VII, cap. II), которое было подхвачено Руссо («Le
livre des republicains», Contrat social, III, 6), затем Фосколо, чем
было положено начало демократическому истолкованию идей Ма-
киавелли. Намек на такую постановку вопроса имеется и у Баретти
в его предисловии к сочинениям Макиавелли (1772), опубликован-
ным во второй раз в «Prefazioni e polemiche», Bari 19322, pp. 155
и ел., у Ботта (в предисловии к «Storia d'ltalia»), у Джоберти, ко-
торый приветствовал Макиавелли как «Галилея в политике» (см.
«Del rinnovamento», Parigi 1851, II, pp. 320 и ел.), и главным об-
разом у П. С. Манчини в его лекциях (см. «Machiavelli e la sua dot-
trina politica», 1852, впоследствии опубл. в «Diritto internazionale»,
Napoli 1873, pp. 221 и ел. См. введение к книге «L'arte la scienza
е la vita»).
6*
83
общества. Вокруг этих двух солнц вращались звезды
меньшей величины — короли, князья, герцоги, бароны,
которым противостояли в силу естественного антагониз-
ма свободные города-коммуны. Свобода была привиле-
гией пап и императоров, однако города-коммуны тоже
существовали по воле божьей, а следовательно, по воле
папы и императора, отчего они часто просили прислать
папского легата или имперского посла для опеки или
замирения. Савонарола объявил королем Флоренции
Иисуса Христа — разумеется, оставив за собой право
быть его представителем и толковать его учение. В этой
детали, как в капле воды, отражены все представления
того времени К
Папа и император еще сидели на своих местах. Но
культурные слои итальянского общества уже не разде-
ляли идеи, на которой зиждилось их господство. И папа
и император сменили тон: папские владения расшири-
лись, но власть его ослабла, император же, немощный
и растерянный, отсиживался дома.
О папстве и об империи, о гвельфах и о гибеллинах
всерьез больше не говорили в Италии — так же как о
рыцарстве и о прочих отживших установлениях. От
прежних времен оставались в Италии пережитки: папа,
дворянство да авантюристы-наемники. Макиавелли ви-
дел в светской власти пап не только нелепую и недо-
стойную форму правления, но и главную опасность для
Италии. Будучи демократом, он выступал против идеи
узкого правления и весьма сурово расправлялся с пере-
житком феодализма — дворянством2.
1 О Савонароле и об идейной революции, заключавшейся в док-
трине Макиавелли, см. упоминаемые несколько выше главы книги
Феррари «Histoire de la raison d'etat». Аналогичное высказывание
у Кине: «Церковь божья нуждается в коренной перестройке, в ре-
волюции: сначала она подвергнется бичеванию, а затем обновлению,
и после стольких страданий Италия расцветет вновь. А дабы на-
всегда избавиться от деспотов, она провозгласит королем Флорен-
ции Христа» (op. cit., II, р. 75).
2 См. «Discorsi», I, 55. Ниже имеются в виду личное участие
Макиавелли в создании городской милиции (соответствующий декрет
был издан Большим советом 6 декабря 1506 года, причем Макиа-
велли вошел в число девяти магистратов милиции), его речи «DelP
ordinare lo stato di Firenze alle armi» («О том, как упорядочить во-
оружение Флоренции») и «Sopra l'ordinanza e milizia fiorentina»,
а также знаменитые страницы из «Князя» (гл. XII—XIV) из «Istorie
84
Он видел в авантюристах-наемниках первопричину
слабости Италии перед лицом чужеземца, а посему вы-
двинул и широко развил идею создания национальной
милиции. Светскую власть пап, дворянство, авантюри-
стов-наемников он расценивал как пережитки средневе-
ковья, с которыми следовало бороться.
Родина в представлении Макиавелли — это, разумеет-
ся, свободный город-коммуна, своей свободой обязанный
самому себе, а не папе или императору и управляемый
всеми во всеобщих интересах. Но, зорко следя за собы-
тиями, Макиавелли не мог не заметить такого важного
исторического явления, как процесс формирования в Ев-
ропе крупных государств, и понимал, что городу-комму-
не было суждено исчезнуть вместе со всеми остальными
установлениями средних веков. Его город-коммуна ка-
жется ему слишком мизерным, чтобы устоять рядом с
такими мощными конгломератами племен, как те, что
назывались государствами или нациями. В свое время
еще Лоренцо, движимый теми же соображениями, пы-
тался создать великую италийскую лигу, призванную
обеспечивать «равновесие» между государствами и их
взаимную защиту, что, однако, не спасло Италию от
вторжения Карла VIII \ Макиавелли идет дальше. Он
предлагает создать крупное итальянское государство, ко-
торое служило бы оплотом против всякого иноземного
вторжения. Таким образом, идея родины в его понима-
нии расширяется. Родина — это уже не небольшой город-
коммуна, а вся нация. Данте мечтал, что Италия станет
садом империи2; мечтой Макиавелли была родина, са-
мостоятельная, независимая нация.
Florentine» («История Флоренции») (VI, сарр. XVII и ел.) и из «Dis-
corsi», III, cap. 31) о наемниках и о необходимости создать нацио-
нальную милицию.
1 См. «Istorie Florentine», VIII.
2 См. «Чистилище», V, 105.
Идея родины, которая превыше морали и закона, четко выра-
жена в следующем знаменитом высказывании Макиавелли: «Коль
скоро речь идет об интересах родины, не должно рассуждать, спра-
ведливо ли сие решение или несправедливо, милосердно или же-
стоко, похвально или зазорно; оставить в стороне следует всякие
соображения и принять то решение, какое содействует спасению ее
жизни и сохранению свободы» («Discorsi», III, cap. 41).
85
Макиавелли уподобил родину некоему божеству: оно
превыше морали, закона. Подобно тому как у аскетов-
бог поглощал в себе индивидуум, подобно тому как ин-
квизиторы во имя бога жгли на кострах еретиков, у Ма-
киавелли ради родины все дозволено: одни и те же по-
ступки в частной жизни считаются преступлениями, а в
жизни общественной достойны высочайшей похвалы.
«Государственные соображения» и «благо народа» — вот
те обычные формулы, в которых находило свое отраже-
ние это право родины, право, которому не было равных.
Божество сошло с небес на землю и стало именоваться
родиной, как и прежде, наводя страх. Его воля, его ин-
тересы составляли suprema lex — высший закон. Инди-
видуум по-прежнему поглощался коллективом. Когда же
этот коллектив в свою очередь оказывался поглощенным
волей одного человека или немногих людей, воцарялось
рабство. Свобода выражалась в более или менее широ-
ком участии граждан в государственной жизни. Кодекс
свободы еще не предусматривал прав человека. Человек
не был самостоятельной единицей, он был орудием ро-
дины или, что еще хуже, орудием государства — общего
понятия, которым обозначалась всякая форма правления,
в том числе и деспотическая, основанная на произволе
одного человека.
Под родиной понималось большее или меньшее уча-
стие в управлении государством, и если все подчинялись,
то все и командовали: это называлось республикой. Ес-
ли же командовал один, а все подчинялись, то это на-
зывалось княжеством. Но как бы это ни называлось —
республикой или княжеством, родиной или государ-
ством,— идея всегда оставалась одна и та же: индиви-
дуум был поглощен обществом, или, как говорили позд-
нее, царил принцип всесильного государства. Формули-
руя эти идеи, Макиавелли не выдавал их за свои
собственные, им изобретенные, а подчеркивал, что они
были известны с давних времен и сейчас укрепились
благодаря распространению классической культуры. Они
проникнуты духом древнего Рима, который привлекал
к себе всеобщее внимание как символ славы и свободы
и казался не только образцом в области искусства и ли-
тературы, но и идеалом государства.
Родина поглощает в себе и религию. Государство не
может жить без религии. Сокрушаясь по поводу римской
86
курии, Макиавелли . огорчен не только тем, что папа,
стремясь отстоять свою светскую власть, вынужден при-
зывать на помощь чужеземцев, но и тем, что распущен-
ность нравов, которая царит при папском дворе, подо-
рвала авторитет религии в глазах народа1. Макиавелли
хочет, чтобы религия была государственной, чтобы в ру-
ках князя она служила орудием власти. Религия утра-
тила свой, первоначальный смысл; она служит писате-
лям для создания произведений искусства и государ-
ственным деятелям как орудие политики.
Макиавелли — за высокую мораль: он восхваляет
великодушие, милосердие, набожность, искренность и
прочие добродетели, но при условии, что от них будет
польза родине; если же они оказываются не подспорьем,
а препятствием на ее пути, он их отметает. В книгах его
можно часто встретить великую хвалу набожности и
другим добродетелям добрых князей, но эти восхвале-
ния отдают риторикой и контрастируют с суховатым то-
ном его прозы. Так же как и всем его современникам,
ему чуждс} естественное, безыскусственное религиозное
и моральное чувства.
Мы по прошествии многих веков понимаем, что в этих
теориях находил свое отражение процесс укрепления
светского государства, которое избавлялось от теократии
и в свою очередь само начинало все прибирать к рукам.
Но в ту пору еще шла борьба, и одна крайность вызы-
вала другую. Если же отвлечься от этих крайностей, то
надо признать, что в результате этой борьбы была до-
стигнута самостоятельность и независимость граждан-
ской власти, чья законность была заключена в ней са-
мой, поскольку все вассальные связи были разорваны,
всякое подчинение Риму прекратилось. У Макиавелли
нет даже намека на божественное право. В основе рес-
публик— vox populi (глас народа), решение дел со все-
общего согласия. В основе княжеств — сила или завоева-
ние, узаконенное и обеспечиваемое добрым правлением.
Дело, конечно, не обошлось без малой толики неба и
папы, но лишь как силы, необходимой для того, чтобы
1 По поводу религии как средства для достижения величия на-
ции см. выше и «Discorsi», I, cap. II; ibid., cap. 12, — суровое осуж-
дение политики римской курии, по вине которой Италия утратила
«всякую веру». См. по этому вопросу также P. S. Manciini, Sag-
gio (op. cit., pp. 24*0 и ел.).
87
держать народы в повиновении и в страхе перед зако-
нами.
Установив, что центр жизни на земле — вокруг его ро-
дины, Макиавелли не может одобрить такие монашеские
добродетели, как самоуничижение и долготерпение, ко-
торые «обезоружили небо и изнежили мир», сделав че-
ловека более способным «переносить оскорбления, неже-
ли мстить за них». (Agere et pati fortia romanum est.)
Неправильно понятая католическая религия делает
человека более склонным к страданию, чем к действию1.
Макиавелли считает, что по вине такого воспитания
в духе аскетизма и созерцания итальянцы слабы телом
и духом, из-за чего они не в состоянии изгнать чуже-
земцев и обеспечить своей родине свободу и независи-
мость. Добродетель он понимает по-римски, то есть как
силу, энергию, толкающую людей на великое самопо-
жертвование, на великие дела. Итальянцы вовсе не ли-
шены доблести: напротив, когда им случается столкнуть-
ся с врагом один на один, они выходят победителями,
но им недостает воспитания, дисциплины, или, как он
говорит, «добрых порядков и доброго оружия», без ко-
торых народ не может быть смелым и свободным2.
В награду за добродетель приходит слава. Родина,
добродетель, слава — вот три священных слова, тройная
основа, на которой стоит мир.
1 См. «Discorsi», II, cap. 2: «Можно подумать, что причиной
этому — то, что мир изнежен, а небо обезоружено; но причина бед,
несомненно, в низости самих людей, которые толкуют нашу религию
как путь к «безделью, а не к добродетели». И далее: «И если рели-
гия наша требует от тебя силы, то не столько для того, чтобы свер-
шить что-нибудь важное, сколько для того, чтобы страдать. Такой
взгляд на жизнь сделал людей слабыми и отдал их во власть про-
ходимцев, которым нетрудно с ними управляться, ибо они видят,
что большинство людей, дабы попасть в рай, стремятся безропотно
переносить все удары, вместо того чтобы мстить за них». Изречение
Ливия взято из «Ab urbe condita», II, XII, 9 и звучит так: «Facere
et pati fortia» и т. д.
2 По поводу схваток один на один см.: «Князь», - XXVI: «По«
смотрите, как на поединках и в схватках между немногими выде-
ляются итальянцы силой, ловкостью, находчивостью в бою. Но стоит
им выступить целым войском, и они не выдерживают». О «добрых
порядках» и «добром оружии» см.: «l'Arte.della guerra» («О военном
искусстве»), III и «Князь», где Макиавелли предлагает создать но-
вую пехоту, способную оказать сопротивление войскам противника,
что «будет достигнуто не благодаря роду оружия, а введением
нового боевого строя»,
88
6. У каждой нации, так же как и у отдельных людей,
своя миссия на земле.
Люди без родины, без добродетели, без славы подоб-
ны затерянным песчинкам, «numerus fruges consumere
nati»1. Бывают и целые нации, пустые и бездеятельные,
не оставляющие никакого следа в истории. Историче-
ские нации — это те, что сыграли свою роль в жизни че-
ловечества, или, как тогда говорили, рода людского; к та-
ким нациям относятся Ассирия, Персия, Греция и Рим 2.
Нации становятся великими благодаря добродетели или
закалке, силе ума и физической выносливости, опреде-
ляющим характер или моральную силу. Но, так же как
люди, стареют и нации, когда породившие их идеи осла-
бевают в сознании, когда ослабевает их дух. И тогда
бразды правления миром ускользают из их рук и пере-
ходят к другим народам.
Миром правят не сверхъестественные силы, не слу-
чай, а человеческий дух, развивающийся согласно зако-
нам, которые органически ему присущи и, следователь-
но, неумолимы. Исторический фатум — это не провиде-
ние, не фортуна-, а «сила вещей», определяемая законами
развития духа и природы3. Дух неисчерпаем в смысле
своих возможностей и бессмертен в смысле своей спо-
собности к действию.
Поэтому история — это отнюдь не нагромождение
случайных или предопределенных судьбой фактов, а не-
избежное чередование взаимосвязанных причин и след-
ствий, результат действия сил, приведенных в движение
мнениями, страстями и интересами людей.
Поле деятельности политики или искусства управле-
ния государством не мир этики, развивающийся по за-
конам морали, а реальный мир, существующий в кон-
кретных условиях места и времени. Управлять госу-
дарством — значит понимать силы, движущие миром,
1 «Рождены, чтоб кормиться плодами земными» (Ног. Epist, I,
2, v. 27).
2 См. «Discorsi», II, вступление. См. ниже.
3 См. «Князь», XXV: «Что значит в человеческих делах судьба
и как с ней можно бороться». См. также знаменитые слова: судьба
«проявляет свое могущество там, где нет силы, которая была бы
заранее подготовлена, чтобы ей сопротивляться, и обращает свои
УДары туда, где, она знает, не возведено плотин и заграждений,
чтобы остановить ее». Ниже это место цитируется полностью.
89
и регулировать их. Государственный деятель — это чело-
век, который умеет измерять эти силы, оперировать ими
и подчинять своим целям.
Следовательно, величие и упадок наций не случай-
ность и не чудо, а неизбежное следствие причин, кото-
рые коренятся в особенностях сил, движущих нациями.
Когда эти силы иссякают, нации гибнут.
Люди, полагающиеся на одну только львиную силу,
управлять не смогут1. Нужна еще и «лиса», иными сло-
вами, осторожность, то есть ум, расчет, умение опери-
ровать силами, которые движут государствами.
Нации, так же как и отдельные личности, связаны
между собой определенными отношениями, имеют права
и обязанности. И подобно тому, как существует частное
право, существует и право публичное, то есть право на-
родов, или, говоря современным языком, международное
право. Война тоже имеет свои законы.
Нации умирают. Но человеческий дух не умирает ни-
когда. Вечно молодой, он переходит от одной нации к
другой и, развиваясь по своим законам, движет вперед
историю рода человеческого. Таким образом, существует
не только история той или иной нации, но история
мира, столь же неизбежная и логичная, и ход ее опре-
деляется органическими законами духа. История чело-
веческого рода есть не что иное, как история духа или
мысли. Отсюда и вытекает то, что впоследствии было
названо философией истории. *
Но Макиавелли заложил лишь научную основу этой
философии истории и прав народов, четко указав своим
преемникам отправную точку. Область, в которой он замьн
кается и который занимается, — это политика и история.
Эти понятия не новы. Философские понятия, так же
как принципы поэзии, вырабатываются веками. В них
видны естественные результаты того великого движения,
классического по форме и реалистического по содержа-
нию, которое, в сущности, знаменовало освобождение
человека от всего сверхъестественного, фантастического,
познание человеком самого себя, владение собой.
1 Перефразированы слова Макиавелли: «Люди, бесхитростно по-
лагающиеся на одну только львиную силу, этого не понимают»
(«Князь», XVIII); пользуясь образом Данте («Ад», XXVII, 74—75),
Макиавелли с помощью метафоры с лисой и львом возводит в прин-
цип «генерацию» силы.
90
Идеи Макиавелли не показались его современникам
ни новыми, ни слишком дерзкими,, поскольку в них было
сформулировано то, о чем все смутно догадывались.
7. Влияние языческого мира чувствовалось и в сред-
ние века: древний Рим владел помыслами Данте. Но то
был Рим провидения и империи, Рим Цезаря. Макиа-
велли же воспевает Рим республиканский, Цезаря он
строго осуждает1. Данте называл славные деяния рес-
публики чудесами провидения2 и считал республику как
бы подготовкой к империи. Макиавелли же не усматри-
вает в республике никаких чудес: для него чудеса за-
ключены в добрых порядках; решающую роль он при-
знает не за судьбой, а за добродетелью. Ему принадле-
жит следующий девиз, полный глубокого значения:
«Добрые порядки рождают счастливую судьбу, а она —
удачу во всех начинаниях».
Таким образом, классицизм служил лишь оболоч-
кой, и каждая из этих двух разных эпох вкладывала в
нее свое содержание. Под классицизмом Данте скры-
вается мистика и идеалы гибеллинов: скорлупа — клас-
сическая, а зерно — средневековое. Под классицизмом
Макиавелли — современный дух, который ищет себя в
нем и находит. Настолько же, насколько Макиавелли
восхищается древним Римом, он осуждает свою эпоху,
где «нет ничего, что бы хоть сколько-нибудь искупало
царящие нищету, подлость и бесчестье; не почитаются
ни религия, ни законы, ни их блюстители, все запятна-
но, и по заслугам»3. Макиавелли полагает, что, возро-
див порядки и обычаи древнего Рима, можно возродить
его величие и перековать новую эпоху на римский лад.
Во многих его высказываниях звучат отголоски древней
мудрости. Римом навеяны его благородные порывы и из-
вестная возвышенность морали. И действительно, своей
серьезностью он подчас напоминает облаченного в ве-
личественную тогу римлянина, но стоит присмотреться
к нему поближе, прислушаться к его двусмысленному
смешку, как перед нами предстанет буржуа эпохи
1 Мнение о Цезаре см.: «Князь», гл. XIV и XVI, и «Discorsi», I, 10.
2 См. «Convivio» («Пир»), IV, V, 17—20. Девиз Макиавелли
о «добрых порядках» см.: «Discorsi», I, 11.
3 См. «Discorsi», II, вступление,
91
Возрождения. Савонарола — наследие средневековья,
пророк и апостол дантовского типа; Макиавелли же, не-
смотря на свое древнеримское облачение, настоящий
буржуа нового времени, он сошел с пьедестала и, равный
средь равных, запросто беседует с вами1. В нем — иро-
нический дух Возрождения, зримые черты нового вре-
мени.
Здесь рушатся все устои средневековья — религи-
озные, нравственные, политические, интеллектуальные.
Причем дело не ограничивается одним отрицанием: Ма-
киавелли утверждает новые идеалы, это — Глагол. Ря-
дом с отрицанием всякий раз выдвигается утверждение.
Речь идет не о крушении мира, а об его обновлении.
Теократии противопоставляется самостоятельность, не-
зависимость государства. Между империей и городом
или между империей и поместьем — политическими еди-
ницами средних веков — возникает новое понятие: нация,
которая, по мнению Макиавелли, отличается своими
специфическими особенностями, определяемыми расой,
языком, историей, границами. Наряду с республиками и
княжествами появляется форма правления, представ-
ляющая собой нечто среднее, смешанное: она сочетает
в себе преимущества тех и других, обеспечивает одновре-
менно свободу и устойчивость, являясь в известном
смысле предвестником конституционной монархии, опи-
сание которой Макиавелли впервые дает в своем проекте
реформы политического строя Флоренции2. Это совер-
шенно новая политическая структура. Следует обратить
внимание среди прочего на то, как Макиавелли трактует
вопрос о формировании крупных государств, и прежде
всего Франции3.
1 См. Кине (op. cit., II), главу, посвященную Макиавелли. Ана-
логичное высказывание о Савонароле см. в очерке Кардуччи «О раз-
витии национальной литературы» («Dello svolgimento della lettera-
tura nazionale», 1868—1871): «Среди множества своих привержен-
цев он не увидел спрятавшегося в глубине площади Никколо
Макиавелли с грустной улыбкой на лице». Ореге cit., I, pp. 152—153.
2 Имеется в виду «Речь о реформе флорентийского государства»,
составленная по настоянию папы Льва X примерно в 1520 году.
3 Кроме «Ritratti delle cose di Francia», см.: «Кн-язь», XIX, и
«Discorsi», I, 16 и III, 1, особенно последнюю главу, где говорится:
«И видно, какое доброе воздействие оказывает такое решение в ко-
ролевстве французском, в коем законы и порядок соблюдаются бо-
лее, чем в любом ином государстве. А смотрят за соблюдением за-
конов и порядков парламенты, особливо парламент Парижа»,
92
Изменилась и религиозная основа. Макиавелли хочет,
чтобы религия не имела ничего общего со светской вла-
стью, и, подобно Данте, борется против смешения власти
светской и духовной. С какой глубокой иронией описы-
вает он церковные княжества!1
Религия, снова водворенная в сферу ее духовных
функций, по мнению Макиавелли, является средством
достижения величия родины в не меньшей мере, чем вос-
питание и образование. По сути, это идея национальной
церкви, подчиненной государству, приспособленной для
целей и интересов нации2.
Иная и основа нравственная. Этическая цель средне-
вековья — это святость души, а путь достижения этой
цели — умерщвление плоти. Макиавелли, хотя и осуж-
дает вольность нравов, господствовавшую в его эпоху,
не менее сурово относится и к аскетическому воспита-
нию. Его идеал не Рахиль, а Лия, не созерцательная
жизнь, а жизнь активная. А посему высшей доброде-
телью, с его точки зрения, надо считать активную жизнь,
деятельность на благо родины. Его святые более похо-
дят на героев древнего Рима, чем на святых отцов из
римского календаря. Стало быть, новый идеал высоко-
нравственного человека — это не святой, а патриот.
8. Обновляется и основа интеллектуальная. Поль-
зуясь терминологией того времени, можно сказать, что
Макиавелли не ратует за истинность веры, а оставляет
ее в стороне, не занимается ею, если же о ней заходит
речь, то слова его звучат почтительно, но двусмысленно.
Исключив из своего мира все сверхъестественное и про-
виденциальное, Макиавелли исходит из неизменности и
бессмертия человеческой мысли, человеческого духа,
который вершит историю. Это уже целая революция, зна-
менитое cogito (я мыслю), с которого начинается совре-
менная наука. Человек освобождается от сверхъесте-
ственного и сверхчеловеческого и, так же как и госу-
дарство, провозглашает свою самостоятельность, свою
независимость, вступает во владение миром.
Обновляется и метод. Макиавелли не признает ап-
риорных истин, абстрактных принципов, не признает ни-
чьего авторитета как критерия истины. Для него
См. «Князь», XI, «О княжествах церковных».
О церкви как instrumentum regni (орудие власти) см. выше.
93
теология, философия, этика — все едино: все они в сфере
вымысла, вне реальности. Истина есть сущее, «правда
настоящая», а поэтому искать ее можно лишь с помощью
опыта, сопровождаемого наблюдением, путем разумного
изучения фактов.
Вся схоластическая терминология отпадает. Вместо
пустых разглагольствований, основанных на абстрактных
умозаключениях, которые держались на предположении
о существовании универсальных понятий, возникает
обычная прямая и естественная форма речи. Общие су-
ждения, силлогизмы опрокинуты и под конец выступают
как результат опыта, освещенного рассуждением. Вместо
силлогизма перед нами «ряд», то есть строгое чередова-
ние фактов, являющихся одновременно причиной и след-
ствием, как это видно на следующем примере.
«Потеряв часть своих владений, город Флоренция
был вынужден пойти войной на тех, кто захватил его
земли, а поскольку захватчик был силен, то война тре-
бовала немалых и непроизводительных расходов, кои
ложились на народ тяжким бременем и вызывали беско-
нечные трения. Поскольку военными действиями руково-
дил магистрат из десяти граждан, то люди стали прони-
каться к нему неприязнью, как будто только он и был
причиной войны и расходов, с нею связанных»1. Факты
изложены здесь так, что они подкрепляют и объясняют
друг друга, — это двойной ряд: один, сложный, характе-
ризует истинные причины, видимые лишь для умного
человека; другой, простейший, объясняет причины собы-
тий на основании внешних, поверхностных данных; од-
нако именно эти внешние данные и толкают людей на
опрометчивые действия, совершаемые со всей серьез-
ностью и уверенностью, что придает глубоко ирониче-
ский оттенок выводу.
Факты описываются в той же последовательности, в
какой они наблюдаются в природе и в истории, в описа-
нии их не чувствуется ничего нарочитого. Но это лишь
внешнее впечатление. В действительности они взаимо-
связаны, подчинены друг другу, согласованы размышле-
нием так, что каждому из них отведено свое место, своя
роль причины и следствия, своя функция в общей цепи
1 «Discorsi», I, 39; цитата дается с небольшими сокращениями,
в графически упрощенном варианте.,
94
событий: факт уже не только факт или акцидент, слу-
чайность, а довод и соображение. В повествовании
скрыта аргументация.
Так, в небольшой книжке автору удалось сконцен-
трировать всю историю средних веков, сделать из нее
замечательное преддверие к задуманной им истории
Флоренции. Свои рассуждения он тоже рассматривает
как факты — факты интеллектуальной жизни, поэтому
он довольствуется декларациями и не приводит доказа-
тельств. Это факты, взятые из истории, из всемирного
опыта, — результат острых наблюдений, причем поданы
они столь же просто, сколь энергично. Многие из этих
«интеллектуальных фактов» вошли в поговорку. Напри-
мер «привести в соответствие с принципами», или иро-
нические слова о «безоружных пророках», или «благо-
получие людей пресыщает, а несчастье сокрушает», или
«людей следует или ласкать, или истреблять»1. Этих
афоризмов или изречений у Макиавелли великое мно-
жество. Для писателей, пытавших£я ему подражать, то
был неиссякаемый источник мудрости.
Одним из примеров таких «интеллектуальных фак-
тов», порожденных тонким и возвышенным умом Макиа-
велли, может служить знаменитый эпиграф, предпослан-
ный его «Discorsi».
9. Вместе со схоластической формой рушится и фор-
ма литературная, в основе которой лежал период. В ди-
дактических произведениях период имел скрытую сил-
логическую форму, то есть предложение украшали и
главная и средние идеи силлогизма, что именовалось
«доказательством», если тема была интеллектуальной, и
«описанием», если содержание сочинения составляли
только факты. Макиавелли пишет простыми предложе-
ниями, избегая каких бы то ни было украшений. Он
не «описывает» и не «доказывает», он повествует или
1 Цитаты взяты из: «Discorsi», III, 1 («Как обновлять порядки,
Дабы привести их в соответствие с принципами»); «Князь», VI («Вот
почему все вооруженные пророки победили, а безоружные погибли»);
«Discorsi», III, 21 («ибо благополучие людей пресыщает, а несчастье
сокрушает»); ibid., И, 23 («когда надо судить о сильных городах,
привыкших к вольной жизни, то надо их либо истреблять, либо лас-
кать»); «Князь», III («людей следует или ласкать, или истреблять»).
Далее автор имеет в виду среди прочего сборник «La mente di un
uomo di stato» («Ум государственного деятеля»), напечатанный
в виде приложения к полному собранию сочинений, cit., p. 1157 и ел.
95
возвещает, а поэтому ухищрения, необходимые для со-
здания периода, ему неведомы. Он убивает не только
литературную форму, но форму как таковую1 — и это
в век господства формы, когда форма была единствен-
ным божеством, которому поклонялись. Именно благо-
даря тому, что Макиавелли обладал новым сознанием,
содержание для него — все, а форма — ничто. Точнее, в
его глазах форма сама представляет собой вещь в ее
истинной конкретности, то есть в том виде, в каком она
существует в сознании человека или в материальном
мире. Ему не важно, будет ли вещь разумной, нравствен-
ной или прекрасной, ему важно одно: чтобы она суще-
ствовала в действительности. Мир устроен определенным
образом, и надо принимать его таким, как он есть; не-
зачем задаваться вопросом, может ли и должен ли он
быть другим. Основа жизни, а следовательно, и науки —
это Nosce te ipsum, то есть знание мира в его реальности.
Фантазировать, доказывать, описывать, морализиро-
вать — удел людей, оборванных от жизни, погруженных
в мир воображения. Поэтому Макиавелли очищает свою
прозу от малейших элементов абстракции, этики, поэзии.
Взирая на мир с сознанием своего превосходства, он
провозглашает: «Nil admirari»2. Ничто его-не удивляет
и не выводит из себя, ибо он понимает; потому же он не
доказывает и не описывает, он видит и все проверяет на
ощупь. Макиавелли берется за тему сразу, избегает
1 Помимо аналогичных замечаний, разбросанных в ранних лек-
циях о литературных жанрах («Teoria e storia», cit., I, p. 8; t. II,
p. 90, и «Purismo illuminismo storicismo», cit., II и III), из высказы-
ваний об особенностях прозы Макиавелли заслуживают внимания
прежде всего слова Фосколо («Никто и никогда не писал в Италии
с такой силой, убедительностью и лаконичностью, как Макиавелли.
Значение каждого его слова как бы отражает глубину его мышле-
ния, каждая его фраза обладает динамикой, блеском, неумолимой
логикой» (F о s с о 1 о, Epoche della lingua italiana, VI, «Opere», cit., IV.
pp. 237—238) и Ф. Шлегеля («Он полон силы, чужд нарочитого укра-
шательства, всегда устремлен к своей цели, как Цезарь; по глубине
и по богатству мысли его можно сравнить с Тацитом, но Макиа-
велли пишет яснее и убедительнее, чем Тацит. Он никого не берет
себе за образец, но, впитав в себя дух античности и не ставя перед
собой никакой особой задачи, не задаваясь целью искусственно ме-
нять свою натуру, пишет сильно, живо, гладко, как писали античные
писатели. Он владеет писательским мастерством как бы от природы;
единственная цель, которую он ставит перед собой, — это выразить
мысль» («Storia della letteratura antica e moderna», cit., II, p. 25).
2 «Ничему не дивиться» (Ног., Epist., I, 6, 1).
96
перифраз, описательных оборотов, отступлений, многб-
словных доводов, цветистых фраз, образных средств вы-
ражения, периодов и украшений, видя в них препятствие
на пути к видению. Он избирает кратчайший, а посему
прямой путь: не отвлекается сам и не отвлекает чита-
теля. Речь его — ряд точных и лаконичных предложений
и фактов; все «средние идеи», все акцидентное, эпизоди-
ческое' отброшено. Макиавелли напоминает претора, ко-
торый поп curat de minimis (не вдается в подробности),
человека, занятого серьезными вещами, у которого нет
ни времени, ни желания озираться вокруг. Эта его лако-
ничность, стремление резюмировать главное — отнюдь не
прием, подчас наблюдающийся у Тацита и всегда у Да-
ванцати \ а результат естественной ясности видения, ко-
торая делает ненужным все те «средние идеи», без коих
посредственному писателю никак не добраться до выво-
да, результат «полновесности» описываемого предмета,
благодаря которой ему нет нужды заполнять пустоты с
помощью прикрас, столь любезных сердцу тугодумов.
Иной раз его простота граничит с небрежностью, а сдер-
жанность с сухостью — такова оборотная сторона его до-
стоинств. Но только надутые педанты могут придираться-
к его стилю и с менторским видом качать головой, обна-
ружив в божественной прозе Макиавелли латинизмы, не-
сообразности и прочие погрешности2.
Проза XIV века лишена органичности, у нее нет
костяка, схемы, внутренней логики: в ней много чувства
и воображения, но мало интеллекта. В прозе XVI века
есть видимость костяка, есть даже стремление его выпя-
тить, выражением этого стремления явился период. Но
1 См. в ранних неаполитанских лекциях, выдержанных в духе
романтиков, высказывание о Таците как об «эмоциональном писа-
теле» («Teoria e storia», cit., t. II, pp. 6—8, и «Purismo illuminismo
storicismo», cit., III). О Даванцати-«тугодуме» см. ниже, гл. XV, § 4.
2 Весьма вероятно, что Де Санктис имеет в виду оговорки, вы-
двинутые Фосколо: «Единственный недостаток языка и стиля Макиа-
велли объясняется тем варварским состоянием, в котором пребывал
тогда его родной язык. Немало усилий он приложил к тому, чтобы
придать ему то же достоинство, кое Саллюстий, Цезарь и Тацит
придали латыни; но, действуя с великой мудростью, он в то. же
время стремился- не искажать итальянский язык и флорентийский
Диалект; вот почему, стараясь сохранять его особенности, ом кое-где
Допускал грамматические погрешности, кои режут ухо именно по-
тому, что их легко можно было избежать» («Epoche»» cit., p. 238).
7 Де Санктис
97
эта органичность — лишь видимость: обилие союзоё,
членов предложения, вводных слов плохо скрывает
внутреннюю пустоту и расшатанность. Пустотой стра-
дает не интеллект, а совесть, сознание, зараженное без-
различием и скепсисом. Вот почему все силы ума на-
правлены на внешнее, на украшательство. Самые пустые
вопросы трактуются с той же серьезностью, что и важ-
ные, ибо писателю безразлично, какова тема, серьезна
она или пуста. Эта серьезность лишь кажущаяся, она
сугубо формальна и посему риторична: душа остается
глубоко безразличной.
Монсиньор Делла Каза пишет Обращение к Карлу V
в том же духе, в каком он писал историю о пекарне, но
здесь он в своей стихии и поэтому слова его звучат
цинично, а в Обращении он вторгся не в свою область
и потому фальшивит1.
«Галатео» и «Придворный»— лучшие прозаические,
произведения той эпохи. В них изображалось изыскан-
ное общество, все внимание которого было сосредото-
чено на внешней стороне жизни; в этом обществе, где
жили Каза и Кастильоне, превыше всего ставили бла-
говоспитанность и изысканные манеры. Даже интеллект,
при всей своей зрелости отличавшийся леностью, в со-
чинительском искусстве ставил превыше всего благовос-
питанность и манеры, иными словами, оболочку. Эта
боккаччиева или цицероновская оболочка вскоре вошла
в традицию и приобрела чисто подражательный харак-
тер: разум оставался безучастным. Философы еще не
отказались от старых схоластических форм, поэты под-
ражали Петрарке, а прозаики культивировали некий
смешанный жанр — одновременно поэтический и рито-
рический, внешне подражая Боккаччо. Все они страдали
1 «Capitolo sul forno» («О пекарне») и «l'Orazione a Carlo V
intorno alia restituzione della citta di Piacenza» («Обращение
к Карлу V относительно возвращения города Пьяченцы»), «Ореге»,
4 vol., Milano 1806, соответственно в vol. Ill, p. 311,, vol. II, p. 5.
По поводу «Обращения», которое считается образцом не спонтан-
ного, а вымученного красноречия, см. ранние лекции («Teoria e sto-
ria», cit., t. II, p. 4, и «Purismo illuminismo storicismo», cit., t. III).
Относительно Делла Каза, которого Де Санктис рассматривает в со-
ответствии С установившимся в критике мнением (которое разделяли,
например, Эмилиани-Джудичи и Канту), см, также т. I, стр. 493
и 505,
98
одной болезнью: пассивностью или безразличием интел-
лекта, сердца, воображения, короче говоря — души.
Писатель был, но не было человека. С тех пор на ра-
боту писателя стали смотреть как на ремесло, которое
предполагало владение механикой, именуемой литера-
турной формой, при полном безучастии души: то есть
человек полностью отделяется от писателя К И вот
среди этого засилья риторики и поэзии появилась проза
Макиавелли, предвестник современной прозы.
Здесь перёд нами прежде всего человек, а не писа-
тель, вернее, писатель лишь постольку, поскольку он
человек. Создается впечатление, будто Макиавелли даже
не знает о существовании того общепринятого писатель-
ского искусства, которое превратилось в моду и в услов-
ность. Подчас он пробует в нем свои силы, и тогда,
когда он тоже хочет быть литератором, это ему бле-
стяще удается. Но главное в нем — человек. То, что
он пишет, является непосредственным плодом его раз-
мышлений; факты и впечатления, нередко сконцентри-
рованные в одном слове, как бы вырываются из его
души. Ибо Макиавелли — человек, который мыслит и
чувствует, разрушает и созидает, наблюдает и раз-
мышляет, дух его всегда активен, всегда присутствует.
Его интересует сам предмет, а не его окраска, тем не
менее под пером его этот предмет получается таким,
каким он запечатлелся в мозгу писателя, то есть окра-
шенным в свои естественные тона, пропитанным иро-
нией, грустью, возмущением, достоинством. И прежде
всего дан он сам, .во всей своей пластической конкрет-
ности. Проза Макиавелли ясна и полновесна, как мра-
мор, но мрамор, кое-где тронутый прожилками. Так
писал еще великий Данте. Говоря об изменениях, кото-
рые претерпели в средние века наименования предметов
1 Такого же мнения придерживался и Фосколо: «Из рассмотрен-
ных фактов, относящихся к периоду от начала творческой деятель-
ности Данте до смерти Макиавелли, с полной очевидностью выте-
кает, что итальянский язык родился и вырос в атмосфере свободных
городов-коммун средневековья. Но в рассматриваемую нами эпоху
рабское положение Италии начало усугубляться: страдая вдвойне —
от ига папской церкви и иноземного владычества, — Италия не
могла питать никакой надежды на избавление. А неизбежным ре-
зультатом религиозной и политической тирании был застой в об-
ласти литературы» .(«Epoche», cit., p. 244).
7*
99
и людей, он заключает: «И вот Цезари и Помпеи пре-
вратились в Петров, Матвеев» К
Перед вами не более чем мрамор, предмет в оголен-
ном виде, но сколько в этом мраморе прожилок! Мы чув-
ствуем, как много связано у Макиавелли с этим обра-
зом, как велико его восхищение Цезарями и Помпеями
и как глубоко его презрение к Петрам и Матвеям, его
возмущение по поводу происшедших изменений. Мы ви-
дим, с какой тщательностью он отобрал типичные имена
и поставил их, будто врагов, одно против другого, видим
это заключительное, энергичное «превратились», в кото-
ром содержится намек на то, что изменились не только
имена, но и души.
Проза Макиавелли — сухая, точная, лаконичная, бо-
гатая мыслями и «вещная» — свидетельствует о зрелом
уме, освободившемся от всех элементов мистики, этики,
поэзии и превратившемся в высшего руководителя мира,
в логику и силу вещей, в современный фатум. Именно
таков подлинный смысл мира в понимании Макиавелли.
Если оставить в стороне вопрос о происхождении мира,
то он предстанет перед нами таким, как он есть: борь-
бой человеческих сил и природы, развивающихся по
своим законам. То, что называют фатумом, есть не чтЪ
иное, как логика, необходимый результат действия этих
сил, аппетиты, инстинкты, страсти, убеждения, фанта-
зии, интересы, движимые и направляемые высшей си-
лой— человеческим духом, мыслью, интеллектом. Богом
Данте была любовь, сила, объединяющая разум и дей-
ствие; результатом была мудрость. Бог Макиавелли —
интеллект, сообщающий разум силам мира и регули-
рующий их; результат — наука. «Надо любить», — гово-
рит Данте. «Надо понимать», — говорит Макиавелли.
Душа (центр) Дантова мира — это сердце; душа (центр)
Макиавеллиева мира — мозг. Мир Данте — это, по су-
ществу, мир мистики и этики; в мире Макиавелли царит
человек и логика. Понятие добродетели меняет свое
содержание. Это уже не моральное чувство, а попросту
сила или энергия, душевная твердость. Чезаре Борджиа
был добродетельным, ибо обладал силой, достаточной
для того, чтобы действовать согласно логике, то есть,
поставив себе, цель, он не гнушался никакими сред-
1 См, «Istorie fiorentine», I, cap. V: «Pietri, Mattei, Giovanni!»
100
Макиавелли. (Гравюра из издания Testi 1545 г.)
ствами для ее достижения. А если душа мира — это
мозг, то не удивительно, что проза Макиавелли от на-
чала до конца рассудочна.
10. Теперь мы можем понять Макиавелли примени-
тельно к его конкретным работам. История Флоренции,
поданная в повествовательной форме, — это логика со-
бытий. Дино Компаньи писал взволнованно, под свежим
впечатлением от случившегося; все казалось ему новым,
все ранило его моральное чувство. В его хронике царит
этическое начало, так же как у Данте, у Муссато, у всех
тречентистов К Но Макиавелли интересует больше всего
объяснение фактов, то, что движет людьми, и он ведет
свой рассказ спокойно и задумчиво, как философ, тол-
кующий о природе мира. Действующие лица обрисованы
им не в момент наивысшего накала чувств и не в раз-
гар событий: его история не драматична. Автор не при-
сутствует ни на сцене, ни за кулисами: он у себя в каби-
нете; события проходят чередой перед его мысленным
взором, и он старается установить их причины. Его
кажущаяся апатия есть не что иное, как поглощенность
философа мыслью, стремлением объяснить явления; он
сосредоточен на этой мыслительной деятельности, и
его не отвлекают никакие волнения, никакие впечатле-
ния. Это апатия гениального человека, который с сочув-
ствием взирает на людей, раздираемых страстями.
11. В «Рассуждениях» более интенсивна интеллек-
туальная сторона. Интеллект отходит от фактов и
затем вновь возвращается к ним, чтобы почерпнуть
в них силу и вдохновение. Все вращается вокруг фактов.
Изложение лаконично, как будто автор вспоминает то,
что всем давно известно, и спешит скорее с этим разде-
латься. Окончив рассказ, он сразу переходит к сути.
Интеллект, как бы почерпнув новые силы из этого источ-
ника, выходит на самостоятельную дорогу, полный ори-
гинальных мыслей, одновременно озадаченный и удов-
летворенный. Чувствуется, что автор получает удоволь-
ствие от этих умственных упражнений, от этой
оригинальности, от того, что он говорит такие вещи,
которые рядовым людям кажутся парадоксальными.
Мысли эти подобны сомкнутой шеренге, куда не про-
Ои .-^.ибсфтино Муссато и о Дино Компаньи см. гл. VI, посвя-
щенную второстепенным писателям XIV века, г. I, стр. 144 и далее»
102
нйКает ничего Постороннего, что могло бы нарушить
порядок.
Процесс мышления даже у крупных мыслителей
в моменты творчества протекает бурно, поток вообра-
жения и эмоций возвещает обычно о зарождении новой
идеи. Разум Макиавелли не таков: он молод, свеж и спо-
коен, полон сознания своей силы и недоверчив ко всему,
что вне его. Отступления, образы, эффектные приемы,
сравнения, кружение на одном месте, неуверенность
в изложении позиции — всему этому нет места в его
дисциплинированных рядах идей, подвижных и плодо-
творных, рожденных необычайной силой анализа и свя*
занных неумолимой логикой. Все здесь глубоко и в то
же время настолько ясно и просто, что может пока*
заться поверхностным.
В основе «Рассуждений» лежит положение, согласно
которому люди «не умеют быть ни совсем хорошими,
ни вовсе дурными» \ а посему лишены логики, лишены
добродетели. Им дано желать, но они не имеют воли.
Воображение, страхи, надежды, напрасные мечты, пред-
рассудки мешают им быть решительными. Потому-то
они так «склонны колебаться», предпочитают «золотую
середину» и «судят по внешности»2.
Человеческому духу свойствен стимул, или ненасыт*
ный «аппетит», который беспрерывно побуждает его
к действию и движет историческим прогрессом. Вот
почему люди никогда не успокаиваются на достигнутом,
переходят от одного честолюбивого желания к другому,
сначала защищаются, потом нападают, и чем больше
у человека есть, тем больше ему хочется. Таким обра-
зом, желаниям людей нет предела, но, как их осуще-
ствить, они не знают, проявляют замешательство и
нерешительность.
Все сказанное об отдельной личности применимо й
к человеческому коллективу, к семье, классу. По сути
дела, в человеческом обществе существует лишь два
класса: класс имущих и неимущих, богатых и бедных.
1 «Discorsi sopra la prima deca», I, cap. XXVII: «Лишь в очень
редких случаях люди бывают или вовсе дурными, или совсем хоро-
шими».
2 См. ibid., cap. XXVI: «Но люди-придерживаются золотой сере-
дины, а это весьма вредно...» и cap. XXX: «Будучи постоянно во
власти колебаний...»
103
И история есть не что иное, как вечная борьба между,
теми, кто имеет, и теми, кто не имеет. Различные поли-
тические системы — это попытки достигнуть равновесия
между классами. Политический строй свободен, если
в основе лежит «равенство»1. Следовательно, там, где
есть «господа» или привилегированные классы, там не
может быть свободы.
Ясно, что никакая политическая наука или полити-
ческое искусство невозможны, если они не опираются на
знание предмета, с которым им предстоит иметь дело,
то есть на знание человека как отдельной личности и че-
ловеческого коллектива — класса.
Поэтому значительная часть «Рассуждений» пред-
ставляет собой социальный портрет народных масс или
плебса, оптиматов или господ, князей, французов, нем-
цев, испанцев отдельных людей и народов.
Эти портреты — результат тонких и оригинальных
наблюдений — даны выпукло и убедительно, они воссоз-
дают «характер», то есть выявляют те силы, которые по-
буждают отдельных людей, целые народы или классы
действовать именно так, а не иначе. Его наблюдения —
плод опыта, накопленного непосредственно им самим, и
в этом секрет их нетленности.
Поскольку в основе человеческого характера" лежит
такая общая для всех людей черта, как то, что они не
знают предела своим желаниям или «аппетитам», а до-
статочной способностью осуществить их не обладают,
существует несоответствие между целью и средствами:
отсюда потрясения и беспорядки, наблюдаемые в исто-
рии. Вот почему политическая наука или искусство
управлять и руководить людьми опирается на точность
цели и действенность средств. В этой согласованности
таится секрет той интеллектуальной энергии, которая
делает великими людей и нации. Логика правит миром2.
Такая строго логическая точка зрения на историю
придает изложению спокойствие, исполненное силы и
уверенности, свойственное лишь человеку, который
1 См. «Discorsi sopra la prima deca», I, cap. LV: «Там, где
нет равенства, там не может быть ни княжества, ни республики».
* Далее в рукописи зачеркнуто: «Если средства кажутся вам не-
достойными, жестокими, злодейскими, то кто принуждает вас стре-
миться к достижению цели? Было бы смешно желать достижения
цели и не желать применения необходимых для этого средств»*
104
знает, чего хочет1. Под воздействием разума растет и
мужество человека. Чем больше человек знает, тем на
большее он отваживается. Если человек слабоволен, то
можно безошибочно сказать, что ум его дремлет. В та-
ком случае человек не знает, чего он хочет, он полностью
во власти своего воображения и своих страстей; таково
обычно простонародье.
12. Эта неумолимая логика нашла свое воплощение
в «Князе». Макиавелли осуждает князей, которые обма-
ном или силой, отнимают у народа свободу. Но, коль
скоро они добиваются своего, он указывает им, каким
образом они должны удерживать свою власть. Цель их
не защита родины, а сохранение княжеской власти,
однако же князь может заботиться о себе, только забо-
тясь о государстве. Интересы общества — это одновре-
менно и его интересы. Свободы он предоставить не мо-
жет, но может дать добрые законы, которые охраняли
бы честь, жизнь, имущество граждан. Он должен зару-
читься благоволением народа, держа в узде и господ и
смутьянов. Правь подданными, но не бей их до смерти,
старайся их изучить и понять, «не будучи ими обманут,
а сам их обманывая». Поскольку люди обращают боль-
шое внимание на внешнюю сторону, князь обязан о ней
заботиться и. даже против собственной воли должен де-
лать вид, что он набожен, добр и милосерден, что он
покровитель искусств и талантов. Пусть он не боится,
что его разоблачат: люди по природе своей простодуш-
ны и доверчивы. Самое сильное чувство, на которое они
способны, — это страх, поэтому князь должен стараться,
чтобы его не столько любили, сколько боялись. Главное,
чего он должен опасаться, это ненависти и презрения 2.
Кто прочтет трактат Эджидио Колонны «De regimi-
ne principum», тот обнаружит в нем прекрасный этиче-
1 Ранее в рукописи стояло: «...свойственные лишь человеку, кото-
рый понимает, какова цель и какими решительными должны быть
средства».
2 Имеются в виду знаменитые пассажи из «Князя»: «...казаться
милосердным, верным, человечным, искренним, набожным...», он «ни-
когда ничего другого не делал, как только обманывал людей, ни-
когда ни о чем другом не думал и всегда находил кого-нибудь,
с кем можно-было это проделать» (XVIII); см. также гл. XVII —
«С жестокости и милосердии и о том, лучше ли быть любимым или
внушать страх» и гл. XIX — «Каким образом избежать презрения
и ненависти».
105
ский мир, не имеющий, однако, ничего общего с реаль-
ной жизнью К Но тот, кто прочтет «Князя» Макиавел-
ли, обнаружит мир жестокой логики, основанный на изу-
чении человека и жизни. Здесь человек, подобно приро-
де, в своих действиях подчинен неизменным законам,
основанным не на моральных критериях, а на критериях
логики. Здесь не ставится вопрос, хорошо ли или дурно
то, что делается, а соответствует ли это разуму или ло-
гике, существует ли соответствие между средствами и
целью. Миром правит не сила как таковая, а сила ра-
зума.
Италия больше не могла создавать мир божеский и
этический, и она создала мир логики. Неизведанным
оставался у нее лишь один мир: интеллект; и Макиавел-
ли открыл этот мир, очистил его от страстей и вообра-
жения.
Именно с этой высокой точки зрения и следует су-
дить о Макиавелли. Главное, о чем он помышляет,— это
«интеллектуальная серьезность», то есть точность цели,
умение идти к ней прямо, не озираясь по сторонам и не
позволяя второстепенным или посторонним соображени-
ям задерживать или сбивать с пути. Его идеал —
ясный ум, не замутненный никакими элементами сверхъ-
естественного, никакими фантазиями или чувствами. Его
герой — покоритель человека и природы, тот, кто пони-
мает силы природы и человека и регулирует их, делает
их своими орудиями. Цель может быть достойна похва-
лы или осуждения, и если она достойна осуждения, то
он первым поднимет голос протеста* во имя рода чело-
веческого. Заглянем в главу десятую2; в ней содержится
один из ярчайших примеров протеста, когда-либо выры-
вавшегося из благородного сердца. Но коль скоро цель
поставлена, нет границ восхищению Макиавелли чело-
веком, который пожелал и сумел ее добиться. Мораль-
ная ответственность заключена в цели, а не в средствах.
Что же касается средств, то они не хороши лишь тогда,
когда ими не умеют или не желают пользоваться, когда
человек невежествен или слаб. Макиавелли говорит:
1 О трактате и о его этическом содержании см. т. I, стр. 98
и 174.
2 См. «Discorsi» I, 10: «Насколько основатели республики или
государства достойны похвалы, настолько же достойны осуждение
основатели тирании»,
106
внушайте ужас, но только не ненависть и не презрение К
Ненависть — бессмысленное зло, внушаемое сластолю-
бием, страстью, фанатизмом. Презрение есть результат
слабости воли, которая мешает тебе идти туда, куда зо-
вет разум.
13. Когда Макиавелли писал эти строки, Италия за-
бавлялась романами и новеллами, а в стране хозяйни-
чали чужеземцы. Итальянцы были самым несерьезным,
самым недисциплинированным народом на свете, воля
была сломлена. Все хотели прогнать чужеземцев, всем
было «нестерпимо тошно от этого варварского господ-
ства»2, но дальше пожеланий дело не шло. Отсюда
понятно, почему, считая своей первой задачей восстанов-
ление волевого характера итальянцев, Макиавелли ста-
рается уничтожить корень зла. Мораль, религия, свобо-
да, добродетель без волевого характера — пустая фраза.
И, напротив, стоит восстановить волю, как восстановит-
ся и все остальное. И Макиавелли прославляет силу во-
ли даже тогда, когда она направлена на злое дело. По
его мнению, Чезаре Борджиа с его ясностью ума и твер-
достью духа, несмотря на полное отсутствие моральных
устоев, гораздо в большей мере человек, нежели добрый
и благороднейший Пьер Содерини, который, «глупая ду-
ша», из-за своей неспособности и слабости погубил рес-
публику3.*
Но если сила воли в Италии ослабла, то дух остал-
ся несокрушимым. Если Макиавелли в основу жизни
положил принцип быть «человеком», открыв эру сильного
разума, то главным комическим мотивом в итальянской
литературе, в романах была как раз необузданная
1 «Князь», XIX: «Князь должен стараться избегать таких дел,
которые вызывали бы к нему ненависть и презрение».
^ Эти слова взяты из гл. XXVI, озаглавленной «Воззва-
ние об овладении Италией и освобождении ее из рук варваров»:
«Каждому из нас нестерпимо тошно от этого варварского господ-
ства».
3 О Содерини см.: «Discorsi», III, 3, и знаменитую эпиграмму
Пьер Содерини умер, в гущу ада
Его душа попала в ту же ночь,
Но тут Плутон вмешался: «Дура, прочь!
Тебе не в ад — в его преддверье надо!»
О Чезаре Борджиа см. прежде всего: «Князь», гл. VII.
107
сила, сила, не ограниченная никакой дисциплиной, не це-
леустремленная.
Итальянский вариант героя рыцарского романа был
смешным именно в силу того, что он представал вооб-
ражению как бессмысленная демонстрация гигантской
силы, лишенной, однако, какой бы то ни было серьез-
ности цели и средств, силы как таковой, используемой
для достижения и самых серьезных и самых пустых це-
лей; это-то и придает такой комизм образам Моргайте,
Мандрикардо и Фракасса К Были, разумеется, рыцар-
ские цели: опекать женщин, защищать угнетенных и
слабых, но в глазах умных, скептически настроенных
читателей все это казалось не менее смешным, чем не-
обычайные проявления физической силы.
Об этих рыцарях, изображаемых на итальянский лад,
можно сказать то же, что Дораличе сказала Мандрикар-
до, видя, как он ради меча и щита проделал те же под-
виги, что и для овладения ею: «Не любовью ты был
движим, а врожденным жестокосердием»2/
Итак, итальянский дух, с одной стороны, высмеивал
средневековье как хаотическое столкновение сил, а с
другой — положил в основу новой эпохи мужественный
принцип, согласно которому сила заключается в уме, в
серьезности цели и средств.
То, что Италия разрушала, и то, что она создавала,
свидетельствовало о ее огромной интеллектуальной мо-
щи: она опередила Европу не менее чем на сто лет.
Но у Италии был ум и не было силы. Итальянцы по-
лагали, что умственного превосходства достаточно, что-
бы изгнать чужеземцев. То был ум зрелый, живой, но
абстрактный: формальная логика при полном равно-
душии к цели. То была наука для науки, как бывает
искусство для искусства.
Совесть была лишена цели, а когда совесть дремлет,
то сердце холодно и воля слаба, каким бы зрелым ни
был ум. Жизнь духа была направлена только на отри-
цание и на осмеяние. Итальянцам было легче смеяться
над необузданными, не подчиняющимися никакой дис-
1 О Фракассо из «Бальдуса» см. гл. XIV, посвященную Фоленго.
О Мандрикардо см. в замечаниях о комизме у Ариосто, гл. XIII;
о Моргайте см. страницы, посвященные Пульчи, т. I, гл. XI, а также
цюрихские лекции о рыцарской поэзии, «Verso il realismo».
2 См. «Orlando Furioso», XXX, 33, vv. 7—8.
108
циплине силами, чём дисциплинировать себя, легче по-
тешаться над чужеземцами, чем прогнать их. Острота
служила аттестатом их умственного превосходства и их
морального упадка. Им недоставало не физической силы
и не смелости, которая из нее вытекает, а силы мораль-
ной, той, что сплачивает нас вокруг идеи и наполняет
решимостью жить и умереть за нее.
Макиавелли отдавал себе ясный отчет в этом упад-
ке, или, как он говорил, испорченности. Он пишет в
«Князе»:
«Велика мощь в членах тела, лишь бы хватило ее
у вождей. Посмотрите, как на поединках и в схватках
между немногими выделяются итальянцы силой, ловко-
стью, находчивостью в бою» К
Италия действительно была испорчена, ибо у нее не
было моральных сил, а следовательно, достойной цели,
которая заполнила бы собой национальное сознание.
Макиавелли принадлежат великие слова о том, что ус-
пех на войне обеспечивают не деньги, не крепости и не
солдаты, а моральные силы — патриотизм и дисциплина.
Главной причиной-итальянской «испорченности» была
развращенность религии. Вот незабываемые слова, ил-
люстрацией к которым мог служить Лютер:
«Когда бы христианская религия поддерживалась в
том виде, в каком она была задумана ее основателем, то
государства и республики жили бы в счастии и едине-
нии. И ничто так не свидетельствует об упадке ее, как
то обстоятельство, что народы, ближе всего стоящие к
римской церкви, которая является главой нашей рели-
гии, меньше всех веруют. Если присмотреться к основам
ее, увидеть, сколь отличается нынешнее состояние рели-
гии от прежнего, то можно рассудить, что близится либо
погибель, либо великое бедствие»2.
Весьма неблагодарная задача — высказывать горь-
кую правду собственной родине, но это святой долг, и
великий человек чувствует всю его важность.
«Прав тот, кто, родившись в Италии или в Греции
и не став в Италии французом, а в Греции турком, про-
клинает свое время».
1 «Князь», XXVI.
2 «Discorsi», I, 12. Следующая цитата также взята из «Discorsi:
из вступления.
109
Для Макиавелли говорить прав(ду родине —святой
долг, акт патриотизма. Перед его взором открывается
вся история мира. Он в^дит славу Ассирии, Мидии, Пер-
сии, Греции, Италии и Рима, прославляет королевство
франков, турков, султана, подвиги сарацин и добродете-
ли народов некогда существовавшей великой империи.
Человеческий дух, неизменный и бессмертный, переходит
от одного народа к другому и проявляет свою силу1.
Но когда дело доходит до Италии, то сравнение ранит
его в самое сердце. Лучшие страницы его Истории — те,
в которых рассказывается о падении Генуи, Венеции и
других итальянских городов, являвших собой печальное
зрелище на фоне расцвета европейских государств.
Не славословить свою страну, а говорить ей правду,
дать ей почувствовать, сколь глубоко ее падение, чтобы
она устыдилась и чтобь| это послужило для нее уроком,
описать болезнь и указать средства ее лечения представ-
ляется ему долгом порядочного человека. Это созна-
ние долга придает его словам высокое моральное зву-
чание2.
«Когда б не было jicho как божий день, что тогда,
царили добродетели, а ныне — порок, я бы выбирал бо-
лее сдержанные выражения3. Но коль скоро это яв-
ствует со всей очевидностью, я буду откровенно гово-
рить о нынешних временах, дабы молодежь, сии строки
прочитав, могла бы божать пороков и взять себе за
образец времена прошлые. Ибо долг добрых людей —
учить других тому, что сами они из-за превратностей
судьбы или безвременья не могли осуществить, дабы
кто-нибудь из молодых, наиболее угодных небу, мог сие
содеять».
Слова эти — памятник нерукотворный. В них ощуща-
ешь дух Данте.
1 О превратности судьбы государств см.: «Discorsi», II, вступле-
ние, слова, посвященные древним государствам («поначалу он доб-
родетель свою поместил в Ассирии, в Мидии, потом в Персии, от-
куда она пришла в Италию и в Рим») и государствам современ-
ным. О том же говорится в «Золотом осле» (V, vv. 34 и ел.), где
речь идет об упадке Венеции. По поводу Венеции и об упадке Ге-
нуи имеется также несколько высказываний в «Истории Флоренции».
2 Далее идет цитата из ^Discorsi», H, вступление, с некоторыми
незначительными изменениям^ и сокращениями.
3 В тексте далее: «Я откровенно буду говорить и о прежних
временах и о нынешних».
ПО
)
И Макиавелли сдержал свое обещание. Он сурово су-
дит о людях и о событиях. Общеизвестно, что писал он
о папстве. Не более снисходителен он и к князьям.
«Пусть наши правители, много лет властвовавшие в
своих княжествах, обвиняют за утрату их не судьбу, а
свою неумелость; в спокойные времена им никогда в го-
лову не приходило, что! обстоятельства могут изменить-
ся, когда же наступили времена тяжкие, они думали о
бегстве, а не о защите» 1.
Об авантюристах он пишет:
«Последствием их воинской доблести было, что Ита-
лия открыта вторжению Карла, разграблена Людови-
ком, захвачена Фердинандом и посрамлена швейцар-
цами».
Не менее строго осудил он и наследие феодализма —
дворян; как живые предстают они в следующей замеча-
тельной яркой картине2:
«Дворянами именуют тех бездельников, что живут
в довольстве на доходы от своих владений, не заботясь
ни об обработке земель, ни о каком другом способе до-
бывать средства к существованию. Они оказывают па-
губное воздействие во всех провинциях, но особенный
вред наносят те, кто, помимо имений, владеют еще зам-
ками и имеют подданных, кои им повинуются. Людей
этих двух категорий великое множество в королевстве
Неаполитанском, Римской области, в Романье и в Лом-
бардии. Вследствие чего в сих провинциях никогда не
было политической жизни, ибо люди такого сорта — за-
клятые враги всякой цивилизации».
Следует отметить здесь совершенно новую, современ-
ную мысль о том,, что смысл жизни человека заключает-
ся в труде и что самый большой враг цивилизации — это
безделье. Этот принцип дискредитировал монастыри и в
корне подорвал не только аскетическое мировоззрение
с его созерцательностью, но и феодальную систему, осно-
ванную на том, что безделье немногих обеспечивалось
1 «Князь», XXIV. Следующее высказывание об авантюристах
там же, XII. Обе цитаты приводятся в несколько измененном и со-
кращенном виде.
2 «Discorsi», I, 55, cit. Цитируется с некоторыми сокращениями.
В тексте последняя фраза кончается словами: «Вследствие чего
в сих провинциях никогда не было республики, не было политиче-
ской жизни. .,*
ш
трудом большинства. Человек, котоЬый столь же прин-
ципиально, сколь откровенно, отметил все причины упад-
ка Италии, имел все основания говорить, намекая на
Савонаролу1: \
«Потому-то Карлу, королю Франции, и можно было
захватить Италию только с куском мела в руках, и тот,
кто сказал, что причиной этого рыли грехи наши, гово-
рил правду, но грехи были не те, о которых он думает,
а те, о которых я рассказал».
Фаталисты — те, кто ничего не делает, они все объ-
ясняют судьбой. Они и тогда объясняли все злоключения
Италии невезением. Макиавелли пишет: «Судьба прояв-
ляет свое могущество там, где нет силы, которая бы за-
ранее была подготовлена, чтобы ей сопротивляться, и
обращает свои удары туда, где, она знает, не возведено
плотины и заграждений, чтобы остановить ее. Если вы
посмотрите на Италию, страну этих переворотов, дав-
шую им толчок, то увидите, что это равнина без единой
насыпи и преграды»2.
Ввиду того что Италия погрязла в пороках, Макиа-
велли призывает спасителя — итальянского князя, кото-
рый, подобно Тезею, Киру, Моисею или Ромулу, навел
бы порядок: он был убежден, что упорядочить государ-
ство должен один человек, а управлять им должны все.
В моменты наибольшей опасности древние римляне на-
значали диктатора: избавить Италию от гибели, по мне-
нию Макиавелли, могла только диктатура.
«Князь, помышляющий о славе, должен стремиться
подчинить себе развращенный город, не для того чтобы
испортить его окончательно, как это сделал Цезарь, а
чтоб навести порядок, как Ромул» 3.
Вот его знаменитое и своеобразное суждение о Це-
заре 4:
1 «Киязь», XII.
2 «Князь», XXV. Ниже, когда речь идет о спасителе, имеется
в виду последняя, XXVI глава «Князя», а именно ее начало: «Если,
как я говорил, чтобы проявилась мощь Моисея, необходимо было
народу израильскому рабство его в Египте, а для познания величия
души Кира требовалось, чтобы персы оказались под игом мидян и,
если положено было афинянам жить в рассеянии, чтобы раскрылась
доблесть Тезея...»
3 «Discorsi», I, 34.
4 «Discorsi», I, 10,
112
«Никто не сомневается в славе Цезаря, постоянно
слыша похвалы в\его адрес, расточаемые писателями;
а те, кто его восхваляет, помнят лишь о том, как судьба
была к нему благосклонна. Но кто хочет знать, что ска-
зали бы о нем свободные писатели, пусть прочтут ска-
занное ими о Катил^не. Большого презрения заслужи-
вает Цезарь, ибо гораздо более следует порицать того,
кто содеял зло, чем того, кто замыслил сотворить его.
Взгляните, какие похвалы они воздают Бруту: не имея
возможности осуждать^ всемогущего, они восхваляют
врага его. И тогда вы хорошо поймете, чем Рим, Италия,
весь мир обязаны Цезарю».
Тому, кто силой овладевает государством, Макиавел-
ли обещает не только «амнистию», но и славу — лишь
бы ему удалось упорядочить государственные дела.
«Пусть помнят те, кому небо дарует сию возмож-
ность, что перед ними открыты два пути: один путь ве-
дет к спокойной жизни и славе после смерти, второй су-
лит жизнь, полную тревог, а после смерти — вечное бес-
честье»1.
Стало быть, он призывает человека — избранника
неба2, который исцелил бы Италию от ее ран, «положил
бы конец разграблению Ломбардии, поборам в Неаполе
и Тоскане, излечил бы давно загноившиеся язвы». Это
давняя мысль о спасителе, о мессии. Данте тоже призы-
вал политического мессию, Вельтро. Но в глазах Дан-
те— гибеллина — спасителем Италии был Генрих Люк-
сембургский, ибо он мыслил свою Италию как сад им-
перии; по идее Макиавелли спасителем Италии должен
был стать один из итальянских князей, ибо в его пред-
ставлении Италия была самостоятельной нацией и все,
что находилось за ее пределами, «по ту сторону гор»,
было чужим, варварским3.
Кто хочет ознакомиться с развитием итальянского
духа от Данте до Макиавелли, пусть сравнит проник-
нутую мистицизмом и схоластикой «Монархию» Данте
с современным по своим идеям и по форме «Князем» Ма-
киавелли. Правда, идея Макиавелли оказалась такой же
1 «Discorsi», I, 10.
2 Знаменитые слова, следующие ниже, взяты из гл. XXVI
«Князя».
3 См. «Discorsi», II, вступление. Это высказывание приведено
полиостью выше.
8 Де Санктис ИЗ
утопией, как и идея Данте. И сегодня^ нетрудно устано-
вить— почему. Слова «родина», «свобода», «Италия»,
«добрые порядки», «доброе оружие»/были для народа,
в толщу которого еще не проник .дуч образования и
культуры, пустым звуком. Люди кА культурных слоев
общества давно ушли в частную жизнь: они либо пре-
бывали в идиллическом состоянии бездействия, либо пре-
давались литературным занятиям/и были космополита-
ми, жившими общими интересами) искусства и науки, не
имеющими родины. !
Эта Италия любителей изящной словесности, людей,
либо принимавших поклонение, либо поклонявшихся,
утрачивала свою независимость, сама того, по-видимо-
му, не замечая. Иноземцы поначалу испугали ее своей
свирепостью, жестокостью своих поступков, а потом, по-
дольстившись к ней, то и дело подчеркивая свое к ней
почтение и восхваляя ее мудрость, склонили на свою
сторону.
Итальянцы, утратив свободу и независимость, устами
своих поэтов еще долгое время продолжали вспоминать
о былой славе, хвастаться тем, что они — властители
мира.
Конечно, ненависть к чужеземцам жила в их серд-
цах, так же как и стремление от них избавиться. Но во-
ля была так слаба, что за весь этот период не было ни
единой попытки предпринять что-либо для освобождения
Италии. Даже Макиавелли ограничился изложением
своей идеи; нам не известно, чтобы он предпринял для
ее осуществления что-либо серьезное, помимо написа-
ния этой замечательной книги, выдержанной в возвы-
шенном, поэтическом тоне, ему не свойственном и про-
диктованном скорее порывом его благородного сердца,
нежели спокойной убежденностью политического деяте-
ля. То были лишь иллюзии. Думая об Италии, он в ка-
кой-то степени принимал желаемое за действительное.
То, что он питал эти иллюзии, делает ему честь как
гражданину. Заслуга его как мыслителя состоит в том,
что, создавая свою утопию, он основывался на реальных
и постоянных факторах жизни современного общества
и итальянской нации, на тех факторах, которым пред-
стояло развиваться в более или менее близком будущем,
писателем предугаданном. То, что сегодня было иллю-
зией, завтра стало реальностью,
Ш
'»
14. То обстоятельство, что Макиавелли при всей сво-
ей опытности и наблюдательности предавался иллюзиям,
отнюдь не должна вызывать удивления: в его натуре
было много поэтического.
Вот он сидит в остерии и играет с трактирщиком,
мельником и двумя булочниками в «крикку» или «трик-
трак»1. \
«За игрой вспыхивают препирательства и перебран-
ка, мы воюем из-за каждого куаттрино (гроша), и крики
наши доносятся до самого Сан-Кашано».
В этом много плебейского. Но зато дальше, коммен-
тируя свои слова, Макиавелли глубоко поэтичен:
«Окунувшись в эту плебейскую атмосферу, я очищаю
мозг свой от плесени и даю волю злой моей судьбине:
пусть она топчет меня, а я погляжу, неужто не сделается
ей стыдно».
А вот он один, в лесу, с томиком Петрарки или Дан-
те, дает простор «вольным мыслям», фантазирует, плывя
по войнам воображения:
«Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и вхо-
жу в свою рабочую комнату. На пороге я сбрасываю с
себя пыльную, грязную крестьянскую одежду, облача-
юсь в одежды царственные и придворные. Одетый до-
стойным образом, я вступаю в. античное собрание ан-
тичных мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вку-
шаю ту пищу, которая уготована единственно мне. Там
я не стесняюсь беседовать с ними и спрашивать у них
объяснения их действий, и они благосклонно мне отве-
чают. В течение четырех часов я не испытываю никакой
скуки. Я забываю все огорчения, я не страшусь бедно-
сти, и не пугает меня смерть. Весь целиком я перевопло-
щаюсь в них».
Эти слова «я перевоплощаюсь», «даю простор воль-
ным мыслям» звучат энергично и свидетельствуют о том,
что его натуре были свойственны созерцательность, экс-
татичность, восторженность.
1 См. письмо к Франческо Веттори от 10 декабря 1513 г.:
«Я опускаюсь, играю в «крикку» и в «трик-трак». Следующая фраза,
которую автор цитирует на память, дословно звучит так: «За игрою
вспыхивают тысячи препирательств, слышится брань, мы воюем
из-за каждого куаттрино и орем так, что нас слышно в Сан-Ка-
шано». Из того же письма взяты и следующие две шитаты.
8*
115
/
Между Макиавелли и Данте есть рЬдство. Но то был
Данте, родившийся после Лоренцо д$и Медичи, впитав-
ший в себя дух Боккаччо, который издевался над «Бо-
жественной комедией» и искал «котедию» в этом мире.
В утопии Макиавелли чувствуется' преклонение перед
человеческим духом, его поэтизация, обожествление.
Вот пример: князь поднимает рнамя и, как когда-то
Юлий Цезарь, кричит: «Прочь, варвары!»
Это пишет поэт, который взирает на зрелище, создан-
ное его воображением: «Какие ворота закрылись бы пе-
ред ним, какой народ отказал бы ему в повиновении,
как могла бы зависть стать ему поперек дороги, какой
итальянец не пошел бы за ним?» 1
В заключение приводятся стихи Петрарки:
И Доблесть, не желая
Мириться с Гневом, даст ему отпор:
Отвага вековая
Жива в сердцах италов до сих пор.
Но иллюзии вскоре рассеялись. Макиавелли создал
себе прекрасный образ высоконравственного, цивилизо-
ванного мира, образ добродетельного, дисциплинирован-
ного народа, навеянный древним Римом, и это придает
убедительность и его упрекам и его похвалам. Однако
то был поэтический мир, слишком отличавшийся от ре-
альности, да и сам Макиавелли был слишком далек от
своего идеала2, слишком походил на своих современ-
ников.
Очевидно, подлинной музой его была ирония, а не
восторженность. Его насмешливость в сочетании с ост-
рой наблюдательностью — свидетельство того, что он
человек Возрождения. О князьях церкви он пишет:
«Только эти князья владеют государствами, не защи-
щая их, и подданными, не управляя ими: государства,
хоть и остаются без защиты,, у них не отнимаются, а
подданные, хоть ими и не управляют, об этом не трево-
1 «Князь», XXVI. Как известно, за этой знаменитой фразой сле-
дуют стихи Петрарки, цитируемые ниже. (vv. 93—96 канцоны «Ita-
lia mia, ben che'l parlar sia indarno», «Rime», CXXVIII).
2 В рукописи далее зачеркнуто: «ему была более свойственна
ирония, нежели восторженность».
116
жатся, не помышляют, да и не могут от них отпасть. Но
так как ими управляет высшая сила, непостижимая уму,
то я отказываюсь о них говорить; они возвеличены и
хранимы богом, и было бы поступком человека самона-
деянного и дерзкого о них рассуждать»1.
При всей почтительности тона нетрудно заметить у
пишущего ту ироническую складку у рта, которую мож-
но было наблюдать у всех его современников. Набро-
санные им портреты славятся своей оригинальностью и
живостью наблюдения. О французах и испанцах он пи1
шет: «Француз украдет тонко, а потом проест, промота-
ет украденное вместе с тем, у кого украл. Совсем иная
натура у испанца: уж если он что у тебя унес, то не ви-
дать тебе этого никогда»2.
Плодом этого глубокого и оригинального дара на-
блюдательности, этого духа иронии явилась «Мандра-
гора», в громком смехе которой утонули иллюзии и
разочарования Макиавелли.
15. После первых «идиллических» попыток комедия
замкнулась в подражаниях Плавту и Теренцию. Ариосто
писал для феррарского двора, кардинал Биббиена — для
княжеских дворов Урбино и Рима. Т-ам с большой пыш-
ностью ставили также комедии, переведенные с латин-
ского. Случалось, что актерами были дети.
«Это было нечто совершенно новое, — пишет Ка-
стильоне, — видеть, как эти старички ростом с вершок
со строгим видом и скупыми жестами изображали
параситов и всякие проделки менандровских коме-
дий» 3.
Комедия шла с музыкальным сопровождением, с ин-
термедиями и вставными номерами — моресками, мими-
ческими танцами. Декорации были замечательные. На-
пример, в урбинской постановке «Каландрии» на сцене
был изображен «храм, настолько тщательно отделан-
ный, — пишет Кастильоне, — что трудно было поверить,
1 «Князь», XI.
2 «Ritratti delle cose di Francia».
s См. письмо Бальдассаре Кастильоне графу Лудовико Каносса,
епископу Трикарико, о представлении «Каландрии» («Calandria»)
Биббиены, состоявшемся при урбинском дворе 6 февраля 1513 года.
Из того же письма взяты, с некоторыми сокращениями и графиче-
скими изменениями, три отрывка, цитируемые ниже. См. В. С a s t i-
glione, Opere volgari e latine, Comino, Padova 1733, pp. 304 и ел.
117
что его соорудили за каких-нибудь четыре месяца. Он
весь был сделан из гипса, украшен прекрасными роспи-
сями; окна были сделаны из алебастра, архитравы и
рамы—из чистого золота и ультрамарина, статуи со-
здавали полное впечатление мраморных, колонны укра-
шены тонкой резьбой. В одном углу виднелась велико-
лепная триумфальная арка. Она была сделана под мра-
мор (в действительности же выполнена красками) и
изображала историю трех Горациев. Над аркой возвы-
шалась великолепная конная статуя: вооруженный всад-
ник красивым движением вонзал копье в распростертого
у его ног обнаженного человека».
Италия любовалась здесь блеском своего искус-
ства — архитектуры, скульптуры, живописи. Откуда-то
из разных углов раздавались звуки причудливой музы-
ки. Имелось четыре вставных номера: мавританский та-
нец Ясона, колесница Венеры, колесница Нептуна, ко-
лесница Юноны. Вот как описывает Кастильоне первую-
интермедию:
«Первым исполнялся мавританский танец Ясона.
Ясон выходил на сцену, танцуя, из-за боковой кулисы;
вооруженный старинным оружием красавец воин держал
в руках меч и великолепный щит; с другой стороны вне-
запно представали взору два огнедышащих быка, столь
походившие на настоящих, что некоторые и впрямь ду-
мали, будто они живые. Славный Ясон подходил к бы-
кам, запрягал их в ярмо и плуг и заставлял пахать, а
затем сеял зубы дракона. Затем появлялись один за дру-
гим воины, вооруженные по старинному обычаю как
нельзя лучше, и принимались танцевать дикую мореску,
собираясь убить Ясона; у выхода за кулисы они убивали
друг друга, но как умирали, не было видно. Из глуби-
ны сцены выходил Ясон с золотым руном на плечах,
исполняя искуснейший танец. Таков был Мавр, такова
была первая интермедия».
В конце на сцене неожиданно появлялся маленький
Амур, который в нескольких стансах разъяснял смысл
интермедии. «Откуда-то раздавалась музыка — сначала
играли четыре виолы, затем в сопровождении виол пели
четыре голоса: они исполняли прекрасный станс, зву-
чавший, как молитва, обращенная к Амуру. Так, к вя-
щему удовлетворению и удовольствию зрителей, закан-
чивалось это праздничное представление».
118
**у|
^ш^^ш'
Рафаэль Санти. Бальдассаре Кастильоне.
Слова эти принадлежат тому же Кастильоне, автору
«Придворного», который, очевидно, немало потрудился,
чтобы эта комедия была заказана1.
Что же представляла собой эта «Каландриа», поста-
новка которой в Урбино, а затем в Риме была осуще-
ствлена с такой пышностью и изяществом? Герой ее —
Каландро — своего рода факсимиле Каландрино, глупого
мужа, комического персонажа из «Декамерона», кото-
рый стал нарицательным и не сходил со страниц коме-
дий и новелл2. Есть там и астролог, который пробавля-
ется за счет простофиль. Интрига основана на необы-
чайном сходстве брата и сестры, которые переодеваются
то мужчиной, то женщиной, что приводит к курьезней-
шим недоразумениям. Там, где есть глупец, есть и хит-
рец: здесь хитреца зовут Фессенио. Это распутник, ост-
ряк и циник, выполняющий роль сводника при хозяине,
наставник которого напрасно тратит на него силы. Пре-
красная сцена происходит между наставником и Фессе-
нио: педагог читает мораль, а Фессенио над ним изде-
вается 3.
Нетрудно заметить, что тема взята у Плавта, а
мысль — у Боккаччо. Канва старинная, но дух совре-
менный. Перед нами инсценировка одной из самых ци-
ничных новелл «Декамерона». Характеры, нравы, язык
и стиль — все живо и свежо: чувствуется флорентийская
школа Берни и Ласка, дух Лоренцо деи Медичи.
Это веселый, поверхностный взгляд на мир. Харак-
теры едва намечены, царит случай, каприз. Нагромож-
даются самые невероятные происшествия, причем они
даются в сыром виде, вне развития, больше похожие на
мимические танцы вставных номеров, чем на настоящее
1 Как известно, пролог и интермедии «Каландрии» были зака-
заны автором «Придворного» в связи с предстоявшей постановкой
комедии в Урбино. Под наблюдением Кастильоне были подготовлены
также декорации. О премьере «Каландрии» в Урбино см. также
С а п t u, Storia, cit., p. 470. Ниже имеется в виду спектакль, по-
ставленный в Риме (1518), в Ватикане, в покоях самого кардинала
Биббиены, и оформленный специально для этого случая художником
Бальдассаре Перуцци.
2 О главных мотивах «Каландрии» и вообще о тех элементах,
которые были унаследованы комическим театром XVI века от бок-
каччиевой новеллистики, см. гл. XIII. О взаимоотношениях с Ласка
и с астрологом Заратустрой см. т. I, стр. 517 и ел,
43 «Calandria», a. I, sc. II.
120
серьезное представление. Создается впечатление, что
этим людям некогда мыслить и чувствовать, что жизнь
их протекает на поверхности, подобно тому как теат-
ральная жизнь в определенные периоды целиком зави-
села от горла певцов и ножек балерин. То были так на-
зываемые «комедии интриги», строившиеся по тому же
принципу, что и новеллы.
На первый взгляд нечто подобное представляет со-
бой и «Мандрагора». Здесь тоже запутанная интрига,
множество комических ситуаций' и странных обстоя-
тельств. Но ничто здесь не предоставлено воле случая.
Макиавелли понимал комедию так же, как он понимал
историю. В создаваемом им комическом мире действуют
силы, каждая из которых обладает своей особенностью,
и силы эти должны неизбежно привести к определенно-
му результату. Стало быть, интерес сосредоточен на ха-
рактерах и на их развитии.
Герой комедии — обычный глупый муж. Вместо Ка-
ландрино или Каландро здесь доктор Нича 1. Нича —
человек образованный, знает латынь, но его то и дело
обманывают люди менее ученые, но лучше знающие
жизнь. Здесь уже заключена более глубокая идея, чем
в образе Каландро: чувствуется большой мыслитель.
Объектом комического действия служит жена, до-
бродетельная и весьма осторожная женщина, истинная
Лукреция. Победить ее силой нельзя: тут нужна хит-
рость. Ее предыстория — почти та же, что и у римской
Лукреции. Каллимако, так же как Сесто (Сикст), про-
слышав о ее красоте, покидает Париж и едет на родину,
во Флоренцию, полный решимости овладеть ею. Римская
трагедия превращается во флорентийскую комедию. Мир
изменился, измельчал: вместо Коллатино перед нами —
Нича.
Как мог Макиавелли употребить свой талант на со-
чинение комедий?
Не будьте строги: уповает он,
Что рассужденья эти
Приятней сделают его досуг,
Не находя вокруг
Лекарства от печали:
1 По поводу образа Ничи из «Мандрагоры» см. ниже!
121
Ему ведь помешали
Себя в других деяньях проявить
И за труды награду получить К
Стихи плохие, но душераздирающие. Смех Макиа-
велли, рожден печалью. То было время, когда Карл VIII
шагал по Италии, Пьеро деи Медичи и Фридрих Арагон-
ский писали о своих любовных похождениях, а «жертва
любви» кардинал Биббиена и Бембо предавались возды-
ханиям в письмах2 — один написал «Азолани», а другой
«Каландрию». Слова Макиавелли были гласом вопиюще*
го 1з пустыне; он угрожал, советовал, но его не слышали,
не замечали, и тогда он поступил так же, как и другие:
стал писать комедии, и ему выпала честь рассмешить
папу и кардиналов.
Каллимако, влюбленный в Лукрецию, берет себе в
сообщники Лигурио — бездельника, который захаживал
в дом к Ниче. Таким образом, Нича — глупец, а Лигу-
рио, «друг дома», как мы сказали бы сегодня,— хитрец.
Лигурио держит в руках все нити интриги, заставляя
персонажей действовать в соответствии с его желания-
ми, ибо он знает их характер и что ими движет.
Лигурио лишен всяких моральных принципов, за хо-
рошую мзду он .предал бы самого Иисуса Христа. Ему
нет нужды быть Яго, так как Нича — не Отелло. Он са-
мый обыкновенный плут, и, обладай он чуть большим
остроумием, он мог бы вызывать смех. Но Лигурио не-
приятен и вызывает презрение: это худший вариант че-
ловека из всех, описанных Макиавелли в «Князе». Фес-
сенио более весел и остроумен, а посему более сносен.
Единственное, что движет Лигурио и изощряет его
ум,— это желудок: не случайно он завершает свои по-
хождения в винном подвале. Однако эта комическая,
сторона его характера едва намечена, в целом образ
воспринимается как грубый и холодный.
1 «Мандрагора», пролог, стихи 48—55, перевод Солоновича Е. М.
Все дальнейшие цитаты из «Мандрагоры» по изданию: Н и к к о л 6
Макиавелли, сочинения, т. I, Academia, M. — Л., 1934.
2 Имеются в виду любовные письма, направленные Пьетро
Бембо кардиналу Биббиене и опубликованные в третьем томе
«Epistolario» Бембо («Ореге», Milano 1810, vol. VII, pp. 5—41), и
знаменитое письмо Бернардо Довици к Пьеро деи Медичи от 4 ок-
тября 1494 года. «Любовное приключение Фердинанда Арагонского»
(«Un'avventura amorosa di Fernando d'Aragona») напечатано в при-
ложении к «Каландрии» в «Biblioteca гага» Daelli, Milano 1863.
122
У Каллимако есть еще один союзник: его слуга Сиро.
Роль его невелика, но образ нарисован удачно. Он все
слышит, все видит, все понимает, но делает вид, будто
ничего не слышит, не видит, не понимает, притворяется
дурачком. Однако и здесь комическая сторона акценти-
рована мало, а поэтому и этот образ получается плос-
ким. Но поскольку речь идет о второстепенном персо-
наже, то комедии это не вредит.
Итак, все нити — в руках Лигурио: сам находясь за
кулисами, он заставляет всех плясать под свою дудку.
Создается впечатление, что этому проходимцу нравится
прятаться и выставлять напоказ окружающий его мир.
Сам по себе он интереса не представляет, мы восхища-
емся тем, что он делает, а о нем забываем.
Каллимако — типичный влюбленный: чтобы добить-
ся взаимности своей красавицы, он готов на любое пре-
ступление. Черную работу проделывает Лигурио, а его
удел — томиться и вздыхать. Это не любовь в петрар-
ковском духе и не грубый цинизм, это чисто естественное
чувство, окрашенное в свойственные ему тона, но описан-
ное в таком утрированном, простодушном тоне, что эф-
фект получается комический.
«Так я ободряю себя, но недолго остаюсь на высоте.
Ибо со всех сторон меня обуревает такое желание хоть
раз обладать ею, что я чувствую, как я весь, с головы до
ног, становлюсь сам не свой, ноги трясутся, все нутро пе-
реворачивается, сердце рвется из груди, руки свисают как
плети, язык онемел, глаза мутятся, голова кружится» *.
Но это персонажи второстепенные. Главный инте-
рес сосредоточен на докторе Ниче, на глупом муже, на-
столько глупом, что, сам того не замечая, он становится
орудием в руках влюбленного и по собственной воле
подводит его к своему супружескому ложу. Автор, весь-
ма сдержанно обрисовав второстепенные фигуры, сосре-
доточил все свое остроумие на этом персонаже, кото-
рого он нарочно ставит в такие ситуации, где наиболее
ярко выявляется его характер2.
1 «Мандрагора», акт IV, явление I, монолог Каллимако.
2 Об образе Ничи см. замечания. Т. Б. Маколея (Macaulay)
в его эссе о Макиавелли: «Самое прекрасное в этом произведении —
это старый Нича... Нича — «поистине глупец» (так Терсит называет
Патрокла). В душе его нет ни одного сильного чувства: он ведет
себя то так, то эдак, не удерживаясь на какой-либо одной позиции;
123
Его примитивность в сочетании с ученостью и само-
уверенностью производит необычайно комичное впе-
чатление. Лигурио не только водит его за нос, но еще
и подтрунивает над ним, постоянно держа свечу около
его лица, чтобы зрители могли его рассмотреть получше
Последние сцены полны такой силы, такого своеобраз-
ного комизма, какими редко может похвастаться театр,
и античный и современный.
Трудность состояла не в том, чтобы провести Нича,
а в том, чтобы уговорить Лукрецию. Сюжетная линия,
связанная с Ничей, — сплошь комическая; здесь же по-
являются мрачные тона, проникнутые глубоким смыс-
лом. Чтобы сломить сопротивление Лукреции, Лигурио
прибегает к помощи ее исповедника и ее матери, исполь-
зуя корыстолюбие первого, невежество и предрассудки
второй. Макиавелли, отнюдь не склонный что-либо скры-
вать, здесь доходит до ужасающей откровенности, -бес-
пощадно обнажает картину разложения. Несколькими
мазками он дает великолепный портрет матери, Сост-
раты!. Сострата — хорошая женщина, но без царя в
голове. Она привыкла, что за нее думает ее исповедник.
В ответ на доводы дочери она говорит: «Я не сумею на
все это тебе ответить. Ты поговоришь с фрате, увидишь,
что он тебе скажет, и сделаешь то, что тебе посоветует
он, мы и всякий, кто хочет тебе добра». И с этой точки
она уже не сдвинется, такова ее навязчивая идея, един-
ственное, что ей приходит в голову: «Я говорила тебе'
и повторяю: если фра Тимотео скажет, что это не
обременит твоей совести, делай это, не думая ни
о чем».
на душу его влияют не страсти, а некое их подобие: подобие весе-
лости, подобие страха, подобие любви, подобие гордости, причем
они друг друга вытесняют, как тени, и, едва появившись,
исчезают. Когда он нужен не как объект для жалости или от-
вращения, а как объект для смеха, то он изображается настоя-
щим идиотом. Нича чем-то напоминает беднягу Каландрино... Уче-
ность— его профессия; достоинство, с каким он носит высокое зва-
ние доктора, еще более подчеркивает его нелепость». См. «Saggi bio-
grafici e critici» в переводе Чезаре Ровиги, Torino 1859, I,
pp. 187—188.
1 Последующие слова, с которыми- Сострата обращается к до*
чери, также взяты из «Мандрагоры», акт III, явление X,
124
Исповедник прекрасно знает, что за женщина мать
Лукреции. Он говорит: «Та — сущая дрянь и будет мне
великой помощью, чтобы уговорить ее» 1.
Самый интересный характер комедии — фра Тимо-
тео, прототип Тартюфа, но менее надуманный, списан-
ный с натуры 2. Он торгует церковью, мадонной, чисти-
лищем. Но люди больше ни во что не верят, и поэтому
доход от торговли невелик. И Тимотео изощряется. Он
обрушивается на монахов, которые не в состоянии под-
держивать репутацию чудотворного лика мадонны: «Я
отслужил утреню, прочел одно из житий святых отцов,
пошел в церковь и зажег потухшую лампаду, сменил
покрывало на чудотворной мадонне. Сколько раз я го-
ворил братьям, чтобы они содержали ее в чистоте. А
потом они удивляются, что убывает благочестие. Ох,
как мало мозгов у этой моей братии!»3
Весьма многозначительно самое первое появление
его на сцене: мы застаем его за беседой с одной из ис-
поведуемых им женщин. Эта картина нравов того вре-
мени при всей ее простоте полна глубокого смысла. Фра
Тимотео подолгу сидит в церкви — ведь «в церкви товар
его дороже ценится»4. Он недалекий человек, но он лов-
ко приманивает женщин:
«Мадонна Лукреция благоразумна и добра. Но я
поймаю ее на ее доброте, а у женщин у всех мало мозга,
и достаточно, чтобы она умела связать два слова, как о
ней идет молва: ведь в царстве слепых кривой — уже
король». Он хорошо знает своих подопечных: «Самые
сердобольные существа — это женщины, но и самые до-
кучливые. Кто их от себя гонит, избегает и докуки и
пользы, кто с ними водится, имеет сразу и пользу
и докуку. Да и то правда, что нет меду без мух».
1 «Мандрагора», акт III, явление IX (конец монолога фра Ти-
мотео).
2 См. соответствующее высказывание у Кине (op. cit., II, р. 111):
«В образе фра Тимотео он создал прототип Тартюфа; он высмеивает
в своей комедии высокие порывы и поступки людей. Отняв у чело-
века все его добродетели, он отнял у него и серьезность. Лишив
его бога и провидения, он сделал из него нечто смешное и, громко
расхохотавшись, бросил».
3 «Мандрагора», акт V, явление I. Середина монолога выпущена.
4 Там же, акт III, явление -III. Дальнейшие цитаты взяты со-
ответственно из явлений IX и IV.
125
Фра Тимотео непрерывно бормочет «отче наш» и
"<аве Мария», его профессиональные жесты, слова стали
механическими, вошли в привычку. Когда Лигурио, обе-
щая щедрую награду, просит его устроить одной девице
выкидыш, он отвечает: «Ну, во имя божие, будь по-ва-
шему! Ради господа и милосердия, пусть будет все сде-
лано. Дайте мне деньги, чтобы я мог начать какое-
нибудь доброе дело» К
Он часто говорит сам с собой, обращается к соб-
ственной совести и отпускает себе грехи, если, конечно,
может извлечь из этого какую-нибудь пользу:
«Мессер Нича и Каллимако богаты; и с каждого
можно сорвать достаточно под разными предлогами.
Будь что будет, я не раскаиваюсь»2.
Если же он проявляет беспокойство, то лишь из опа-
сения, что о делах его станет известно всем.
«Я никого не хотел обижать, сидел себе в .своей
келье, служил свои службы, пекся о своей пастве; по-
пался мне этот дьявол Лигурио, я из-за него сначала
палец замарал в грехе, а там запустил всю руку и увяз
по уши, и не знаю, Kyjja еще влопаюсь. Впрочем, меня
утешает то, что, когда какое-нибудь дело касается мно-
гих, многим и приходится о нем заботиться»3.
Таков человек, к которому мать приводит свою дочь.
Монах, чтобы уговорить Лукрецию, пускает в ход всю
свою ловкость, используя без зазрения совести свои
скудные познания из священной истории и евангелия.
«Я согласна, — говорит наконец Лукреция, — но думаю,
что никогда не доживу до завтрашнего утра»4.
На что монах отвечает: «Не сомневайся, дочь моя,
я буду молить господа за тебя. Я буду читать молитву
ангела Рафаила, дабы он сопутствовал тебе. Ступайте
в добрый час и приготовьтесь к этому таинству, ибо уже
вечереет».
1 «Мандрагора», акт III, явление IV. В тексте после слов «все
сделано» — «Назовите мне монастырь, дайте мне напиток и, если
можно, дайте мне деньги, чтобы я мог начать какое-нибудь доброе
дело».
2 Там же, акт III, явление IX. Пропущены слова: «Это дело
должно оставаться в тайне, тем более, что им столько же нужно об
этом болтать, сколько и мне».
3 Там же, акт IV, явление VI.
4 Там же, акт III, явление XI. Оттуда же последующие цитаты.
126
«Оставайтесь с миром, отец», — говорит Мать, и бед-
ная Лукреция, еще не совсем, уверенная в правильности
принятого решения, вздыхает:
«Помоги мне, господи и пречистая дева, сохрани
меня от зла».
Гнусную затею монах называет «таинством», а свод-
ником делает ангела Рафаила!
Подобные вещи в Германии вызывали возмущение
и привели к реформации.. В Италии же они вызывали
смех. И первым смеялся папа К Когда болезнь становит-
ся таким распространенным и заурядным явлением, что
все над ней смеются, то, значит, она подобна гангрене,
то есть неизлечима.
Смеялись все, но все смеялись оттого, что любили
шутку и приятное времяпрепровождение, а в смехе
Макиавелли слышались серьезные, зловещие нотки, ко-
торые не укладывались в рамки карикатуры и даже шли
в ущерб искусству. Совершенно очевидно, что поэт не
желает быть с Тимотео запанибрата, не демонстрирует
его со всех сторон, как мессера Нича, не потешается
над ним: он держится от него подальше, как бы из чув-
ства отвращения. Тимотео — человек сухой, пошлый и
глупый, он лишен воображения и остроты ума. Образ
его дан недостаточно тонко, он нарисован слишком не-
прикрыто цинично. Обнаженность, натуралистичность
стиля создает впечатление, что мы слышим не столько
диалог, сколько авторскую речь. Меньше слышится го-
лос поэта, больше — голос критика, великого наблюда-
теля и портретиста.
Именно поэтому «Мандрагора» отжила свой век.
Она слишком органически слилась с обществом той
эпохи, впитала в себя то, что было в нем самого конкрет-
ного, специфического... Наполняющих ее чувств и впе-
чатлений сегодня больше не существует. Такое явление,
1 Не исключается, что Де Санктис имеет в виду представление
«Мандрагоры», которое, согласно позднее опровергнутому сообще-
нию, якобы состоялось в Риме в 1520 году в присутствии папы
Льва X. Однако более вероятно, что он намекает на то исключи-
тельное право печатать в Риме произведения Макиавелли, которое
папа Климент VII предоставил в 1531 году Антонио Бладо. См. по
этому поводу Emilia ni-Giudici, Storia della letteratura ita-
liana, cit., II, pp. 23—24, а также С a n tu, op. cit., p. 272.
127
как развращенность священника й его cfpaiiiHoe влия-
ние на женщину и семью, для нас сегодня слишком
больной вопрос, чтобы мы могли сделать его темой ко-
медии. Да и сам Макиавелли, находивший столько смеш-
ных словечек при описании Нича, здесь утрачивает свое
хорошее настроение и легкость, уподобляясь анатому,
который вскрывает мышцы и обнажает нервы и сухожи-
лия. Изображая Тимотео, он не смеется, не возмущается;
он рисует его портрет с тем же ужасающим хладнокро-
вием, с каким он рисует князей, авантюристов или дво-
рян. Они для него своего рода редкостные животные,
которых он, любознательный исследователь, анализи-
рует и описывает в интересах науки, не испытывая при
этом никаких эмоций.
«Мандрагора» заложила основу новой эпохи в лите-
ратуре. Ее мир, подвижный, живой, столь же разнооб-
разен и любопытен, как и мир, в котором правит случай.
Но под этой легкой оболочкой открываются глубочай-
шие соотношения и связи внутренней жизни. Толчком
служат здесь духовные силы, неумолимые как рок. До-
статочно ознакомиться с действующими лицами, чтобы
предугадать конец. Этот мир показан как результат
действия сил, таящихся в самом духе, в характере, в си-
лах, приводящих его в движение. Побеждает тот, кто
умеет лучше рассчитать их, эти силы. Сверхъестествен-
ное, чудодейственное, случайное «свергнуто с трона». На
смену приходит характер. То же, что Макиавелли внес
в историю и в политику, он внес и в искусство.
Обычно различали две разновидности комедии: коме-
дию интриги и комедию характеров. Комедией интриги
называли такую комедию, занимательность которой
определялась развитием действия; таковы были все ко-
медии, новеллы и трагедии того времени. Автор старал-
ся достигнуть эффекта за счет необычайного, сложного
стечения обстоятельств. Комедией характеров называли
комедию, действие которой служило средством для выяв-
ления того или иного характера. Но и та и другая
имеют свои недостатки. Комедии первого типа характе-
ризовались излишним нагромождением интриг, комедии
второго типа были слишком «бесплотными», так как
были бедны действием. Комедия Макиавелли объеди-
няет оба качества. Его комедия насыщена подлинным
действием, полна динамики, движима внутренними
128
силами, которые, однако, являют собой не самоцель, а
лишь средство. Характер показан живым, как действу-
ющая сила, а не как некое отвлеченное качество. Самые
глубокие мысли облекаются в веселую, осязаемую фор-
му, подчас граничащую с грубоватой, циничной буффо-
надой («святой рогач» —Дон Кукку, шарик из воска) 1.
Здесь он весь: Макиавелли, игравший в остерии в азарт-
ные игры, и Макиавелли-мыслитель.
16. Каждый писатель в какой-то мере умирает для
потомков. То же произошло и с Макиавелли: одна часть
его, а именно та, которая принесла ему его печальную
славу, умерла. Это «отходы» его творчества, самая гру-
бая часть его писательского я, хотя обычно ее считали
самой жизненной, настолько жизненной, что именно ее
прозвали «макиавеллизмом».
И поныне, когда иностранец хочет сделать Италии
комплимент, он называет ее родиной Данте и Савона-
ролы, а о Макиавелли умалчивает. Да и сами мы не
решаемся называть себя сыновьями Макиавелли, пото-
му что между нами и этим великим человеком встал
«макиавеллизм». Это всего лишь слово, но слово, освя-
щенное веками: оно производит впечатление и отпуги-
вает.
С Макиавелли произошло то же, что с Петраркой.
Люди назвали «петраркизмом» то, что у Петрарки было
лишь случайным и к чему свелось все содержание твор-
чества его подражателей 2. Точно так же «макиавеллиз-
мом» назвали то, что в учении Макиавелли было второ-
степенным, относительным, а о бесспорном, нетленном
забыли.
Так, о Макиавелли сложилось мнение, в соответствии
с которым на него смотрели лишь с одной и наименее
интересной стороны. Настала пора восстановить его
облик полностью.
У Макиавелли есть и формальная логика и содер-
жание. В основе его логики — серьезность цели, то, что
он называет добродетелью. Ставить перед собой цель,
1 См. «Мандрагора», акт IV, явление IX.
2 По поводу популярности термина «макиавеллизм» см. цитиро-
ванную выше работу Фосколо о жизни и творчестве Макиавелли.
Относительно развития и распространения петраркизма смотри,
кроме гл. VIII, посвященной «Канцоньере», также «Saggio critico sul!
Petrarca», cit., pp. 47 и ел,
9 Дв Санктис 129
Заведомо зная, что ты не можешь и не хочешь её
достичь, значит уподобиться женщине. Быть мужчиной —
значит «твердо шагать к цели». Но, шагая к своей цели,
люди часто заблуждаются, потому что их разум и во-
ля затуманены призраками и эмоциями и они судят по
внешней стороне вещей; люди слабые, немощные судят
о вещах по форме, а не по существу: это характерно
для простонародья. Поэтому быть человеком, быть сде-
ланным из настоящего теста — значит отбросить обман-
чивую форму и идти к цели, сохраняя ясность ума и
твердость воли. Такой человек может быть тираном или
гражданином, может быть добрым или злым. В данном
случае речь идет не о том, это совершенно иной аспект
человеческой натуры. Макиавелли интересует одно: мож-
но ли назвать данного человека человеком. Его волнует
одно: как обновить корни увядающего растения, именуе-
мого человеком К
Согласно макиавеллиевой логике, добродетель — это
характер, воля, а порок — непоследовательность, боязли-
вость, колебания.
Само собой разумеется, что урок из этой сентенции,
сформулированной в столь общем виде, могут извлечь
все, и добрые люди и плуты; поэтому не удивительно,
что одни считают книжку Макиавелли сводом законов
для тиранов, а другие — кодексом свободных людей.
В действительности она учит основе основ: быть чело-
веком. Из нее мы узнаем, что историей, так же как и
природой, управляет не случай, а разумные, поддающие-
ся учету силы, основанные на согласовании цели и
средств, и что человек как часть коллектива и как ин-
дивидуум недостоин называться человеком, если тоже не
представляет собой разумной силы, соразмеряющей цель
и средства.
На этой основе строится зрелая эпоха жизни чело-
вечества, по возможности освобождающаяся от воздей-
1 Это выражение принадлежит Альфьери («Del principe e delle
lettere»). По поводу мыслей, высказываемых на этой странице и да-
лее, где дается гениальное толкование учения Макиавелли, см. пер-
вую неаполитанскую лекцию Де Санктиса, посвященную Макиа-
велли. Ниже — «кодекс свободных людей» есть отголосок уже упо-
минавшихся ранее знаменитых слов Руссо: «Делая вид, будто он
преподает урок королям, Макиавелли преподал урок народам. Его
«Князь» — Книга республиканцев» («Общественный договор», I,
П1, в).
130
ствия воображения и страстей, ставящая перед собой
ясную, серьезную цель, достигаемую точными средства-
ми. Такова основная идея Макиавелли, такова постав-
ленная им задача. Она не абстрактна, не сводится к
праздным разговорам: она наполнена содержанием, о
котором в основных чертах было сказано выше1.
Вот что в учении Макиавелли абсолютно и непре-
ложно: серьезность земной жизни. Ее орудие — труд, ее
цель — родина, ее принцип — равенство и свобода, ее
нравственный закон — нация, ее созидатель — человече-
ский дух или мысль, неизменная и нетленная, ее орган —
самостоятельное и независимое государство, подчиня-
ющее дисциплине все силы, уравновешивающее все ин-
тересы. И венцом ему служит слава, то есть одобрение
всего рода человеческого, а в основе лежит добродетель,
то есть характер, agere et pati fortia.
Научную основу его учения составляет «правда на-
стоящая», данная через опыт и наблюдение. Воображе-
ние, чувство, абстракция вредны в науке в той же мере,
что и в жизни. Схоластика умирает, рождается наука.
Вот это подлинный макиавеллизм, живой, вечно мо-
лодой. Это программа современного, развитого мира,
которая после некоторых поправок и добавлений была
более или менее воплощена в жизнь. Чем больше народ
приближается к ее осуществлению, тем больше у него
оснований называться великим.
Итак, мы гордимся нашим Макиавелли. Когда ру-
шится часть старого здания, то в этом есть и его заслу-
га, как есть его заслуга и в том, что созидается что-ни-
будь новое. Сейчас, когда я пишу эти строки, раздается
звон колоколов, возвещающих о вступлении итальянцев
в Рим. Светская власть церкви рушится. Раздаются
возгласы: «Да здравствует объединение Италии!» Да
славится имя Макиавелли.
Он был писателем не только глубоким, но обаятель-
ным. Сколько бы он ни толковал о политических компро-
миссах, в его словах всегда угадываются его подлинные
1 В рукописи далее зачеркнуто: «Человеку на этой земле угото-
вана серьезная миссия, и каждый в меру своих сил должен выпол-
нить то, что ему предначертано. Серьезное отношение к земной
жизни — залог обновления мира. Человек рожден для труда. Кто не
трудится, тот самый опасный враг общества. Там, где есть равен-
ство, там возможна свобода»*
9*
131
чувства: ненависть к папе, к императорам и феодалам,
тяга к культуре, ко всему современному, к демократии.
И когда, одержимый мыслью о цели, он вынужден
предлагать любые средства, он нередко прерывает се-
бя, протестует и, как бы извиняясь, говорит: «Учти, что
мы живем в развращенную эпоху, и если приходится
прибегать к таким средствам, то не моя в том вина —
так уж создан мир».
Не выдержала испытания временем в учении Макиа-
велли не созданная им система взглядов, а то, что до-
ведено в ней до крайности. Его понятие родины, охваты-
вающее все — религию, мораль, индивидуальность,—
подобно древнему божеству. Государство в его изобра-
жении не довольствуется тем, что оно самостоятельно
само, оно лишает самостоятельности все и вся. Государ-
ство наделено правами, но у человека прав нет. Как инк-
визиции понадобились костры, так — из государственных
соображений, ради охраны государственной безопас-
ности — государству понадобились виселицы и топор
палача. То было государство войн, и в этих яростных,
кровавых религиозных и политических схватках родился
современный мир. Сила породила справедливость. В ре-
зультате этих битв родилась свобода совести, независи-
мость гражданской власти, а позднее — свобода и неза-
висимость наций. И если вы называете макиавеллизмом
средства, с помощью которых достигалась цель, то со-
благоволите называть макиавеллизмом и достигнутые
цели. Однако средства — понятие относительное, они ви-
доизменяются и составляют часть, которая умирает, а
цель, будучи достигнутой, остается жить вечно. Макиа-
велли славен своей программой, и не его вина, что ра-
зум подсказал ему средства, которые, как то было дока-
зано дальнейшим ходом истории, соответствовали логике
развития мира. Было гораздо проще осудить их, нежели
придумать иные. «Dura lex, sed ita lex» («Суров закон,
но это закон»).
В этом отношении мир, конечно, изменился к лучше-
му. Некоторые из тогдашних средств достижения цели
сегодня были бы нетерпимыми и произвели бы эффект,
противоположный тому, на какой рассчитывал Макиа-
велли, и даже отдалили бы от цели. Политическое убий-
ство, предательство, обман, создание сект, заговоры —
все эти средства борьбы отживают свой век. Уже чув-
132
ствуется приближение более гуманной и цивилизован-
ной эпохи, когда не будет больше войн, столкновений,
переворотов, реакции, когда не будет таких аргументов,
как «интересы государства» и «ради общественного спо-
койствия». То будет золотой век. Нации объединятся
в конфедерации, и не будет между ними иного соперни-
чества, как соревнование в области промышленности,
торговли, научных изысканий.
Это замечательная программа. И хотя она походит
на утопию, я верю, что она осуществима. То, что заду-
мано человеком, рано или поздно дает плоды. Я верю
в прогресс и в будущее. Но то будет много лет спустя
после Макиавелли, после нас. И судить, тем более осуж-
дать Макиавелли нельзя с позиций мира, который пока
лишь вырисовывается в дымке далекого будущего. По-
этому мы и сегодня вынуждены сказать: логика истории
жестока, но так устроен мир.
В макиавеллизме есть часть, изменяющаяся каче-
ственно и количественно, в зависимости от времени, ме-
ста, состояния культуры и морали народов. Эта часть,
касающаяся средств, уже очень изменилась, когда же
общество преобразуется коренным образом, то она изме-
нится полностью. Но теория о средствах абсолютна и
вечна, ибо она основана на неизменных свойствах чело-
веческой натуры. Принцип, из которого исходит эта тео-
рия, заключается в том,, что средства должны иметь в
своей основе разум и учет сил, движущих людьми. Ясно,
что кое-что в этих силах абсолютно и кое-что относи-
тельно. Макиавелли совершил ошибку, какую соверша-
ли обычно все великие мыслители, а именно придавал
абсолютный смысл всему, в том числе и тому, что по су-
ти своей относительно и изменчиво.
Абсолютным, существенным в макиавеллизме являет-
ся человек, рассматриваемый как самостоятельное, не-
зависимое существо, в природе которого заложены и его
цель и его средства, законы его развития, предпосылки
его величия и упадка, человек как таковой и как часть
общества. На этом принципе основаны история, полити-
ка и все общественные науки. Первые шаги науки — это
портреты, речи, наблюдения над человеком, который
присовокупил к классической культуре большой опыт и
ясный, свободный ум. Таков макиавеллизм как наука и
как метод. Современная мысль находит здесь свою базу,
133
свой язык. Что такое макиавеллизм с точки зрения
содержания? Макиавелли, несмотря на сделки с со-
вестью и шатания, свойственные политическому деятелю,
начертал на обломках средневековья контуры мира, ка-
ким он должен быть, — мира, основанного на идее
родины, национальной независимости, свободы, равен-
ства, труда, мира мужественного, серьезного чело-
века К
17. Непосредственным результатом влияния макиа-
веллизма на литературу было освобождение истории и
политики от элементов вымысла, от этических, эмоцио-
нальных черт: об истории и политике стали говорить в
сугубо рациональной форме. Человеческая мысль обра-
тилась к позитивному изучению человека и природы, от-
бросив теологические и онтологические измышления.
Язык литературы очистился от схоластической шелухи и
от классических канонов и приобрел динамическую, есте-
ственную разговорную форму, форму беседы или автор-
ской речи. То было последним и наиболее зрелым дости-
жением тосканского гения2. Первым по этому пути по-
шел Франческо Гвиччардини и все писатели — авторы
политических трудов флорентийской и венецианской
школы, а в дальнейшем Галилео Галилей и блестящая
плеяда других натурфилософов.
Будучи всего на несколько лет моложе Макиавелли и
Микеланджело, Франческо Гвиччардини уже явно не
принадлежит к их поколению. Он предвестник поколе-
1 В рукописи далее зачеркнуто: «Выражаясь современным языком,
макиавеллизм по своей форме — это рационализм, а по содержа-,
чию — демократия. То же содержание и ту же форму мы обнаружи-
ваем у Франческо Гвиччардини и у других более поздних полити-
ческих писателей».
2 О «дремлющем и окаменелом сознании» Гвиччардини уже го-
ворилось в начале главы. См. также статью «Человек у Гвиччар-
дини» («L'nomo del Guicciardini»), опубликованную в октябре
1869 года в «Nuova Antologia» и вошедшую в «Nuovi saggi critici»
(в изд. Эйнауди, см. «Verso il realismo»), и соответствующие при-
мечания). О так называемой десанктиевской недооценке произведе-
ний и учения Гвиччардини см. примечание Д. Тромбаторе «Сужде-
ние Де Санктиса о Гвиччараиии», «Nuova Italia», 1931, pp. 455—456.
Однако полное представление о критических работах, посвященных
Гвиччардини. напитанных до Де Санктиса и после него, можно по-
лучить у С. Ротта («Classici italiani» Binni, cit,, t. I, pp. 400—459).
134
нйя более слабого, более испорченного, чьё кредо он
сформулировал в. своих «Воспоминаниях» К
Он настроен так же, как Макиавелли. Он ненавидит
священников. Ненавидит чужеземцев. Хочет, чтобы
Италия была единой. Он хочет свободы, но понимает ее
по-своему, в виде узкой, умеренной формы правления,
приближающейся к современному конституционному или
«смешанному» строю. Но то были одни мечтания: Гвич-
чардини не пошевелил бы пальцем для их осуществлен
ния. Он писал: «Я хотел бы, чтобы перед смертью сбы-
лись три моих желания (однако полагаю, как бы долго
я ни прожил, вряд ли сбудется хоть одно из них): чтобы
в городе нашем был установлен хорошо организованный
республиканский образ жизни, чтобы Италия избавилась
от варваров и чтобы мир избавился от тирании злопо-
лучных попов»2.
Хорошо организованная свобода, независимость и са-
мостоятельность наций, освобождение от гнета церкви -н
эта программа Макиавелли стала завещанием Гвиччар-
дини и поныне является знаменем всех свободолюбивых,
передовых сил Европы.
Есть все основания считать, что таковы же были
устремления всех культурных слоев общества. Но то бы-
ла «платоническая любовь», не оказывавшая никакого
влияния на реальную действительность.
Гвиччардини был точным портретом тогдашнего об-
щества. Он писал: «Знать еще не значит осуществить»3.
Одно дело — желать, другое дело — совершить. Теория и
практика — вещи разные. Думай как хочешь, но поступай
так, как тебе выгодно, ибо основное правило жизни сво-
дится к «собственному интересу», к заботе о личном благе.
Гвиччардини осуждает «амбицию, жадность, сибарит-
ство священников» 4 и светскую власть церкви. Он сим-
патизирует Мартину Лютеру, «хочеть видеть, как приве-
1 Так же как и при написании статьи «Человек у Гвиччардини»,
Де Санктис исходит здесь прежде всего из анализа «Ricordi politici
е civili» («Политических и гражданских воспоминаний»), которые
впервые были опубликованы в «Неизданных произведениях» в 10 то-
мах под ред. Д. Канестрини («Ореге inedite», Firenze 1867—1867)»
Цитаты приводятся по этому первому изданию.
2 «Ricordi politici e civili», CCXXXV1 (Гвиччардини, Соч., 1934,
стр. 181 — 182).
3 Ibid., CCCXXII (там же, стр. 204).
4 Ibid., XXVIII (там же, стр. 119).
135
дут в должную форму эту ватагу негодяев, то есть либо
заставят их избавиться от пороков, либо отнимут у них
власть», однако ради «личного блага» надо «возлюбить
величие пап», угождать священникам и поддерживать
светскую власть церкви. Ему бы хотелось, чтобы в ре-
лигию было внесено множество поправок, но он лично
не вмешивается, «не воюет ни против религии, ни против
прочих вещей, связанных с богом, ибо сей предмет пу-
стил слишком глубокие корни в головах глупцов»1.
Он стремится к славе и хотел бы совершить «великие
и замечательные дела», однако при условии, что это «не
причинит ему никакого ущерба или беспокойства». Он
любит родину и сокрушается по поводу ее гибели, но не
из-за нее самой, ибо «чему суждено быть, того не мино-
вать», а из-за себя, из-за того, что он «родился в столь
несчастливое время»2. Он печется об общественном бла-
ге, но «не погружается в государственные дела настоль-
ко», чтобы полностью связывать с ними свою судьбу3.
Он хочет свободы, но коль скоро она утрачена, то, по
его мнению, никаких изменений добиваться не следует,
ибо «появляются другие лица, но все остается по-преж-
нему, а на народ полагаться нельзя»4; если же дело
примет дурной оборот, то тебя постигнет «жалкая -участь
изгнанника». Лучше всего вести себя так, чтобы те., кто
«стоит у власти, ни в чем тебя не подозревали и даже
не причисляли к недовольным». Те, кто поступает ина-
че,— люди «легкомысленные». Правда, за свободу рату-
1 Ibid., CCLIII (там же, стр. 185). Далее в вольном изложении
приводятся слова Гвиччардини из его «Воспоминаний».
2 Ibid., CLXXXIX (там же, стр. 167). В тексте: «Родину мою
постигла та участь, которая ей была уготована; не повезло тому,
кто родился и сражался в столь несчастливое время».
^ «Ricordi politic! e civili»: «Кто во Флоренции не обладает до-
статочными данными, чтобы стать главой государства, тот совершает
безумие, полностью погружаясь в дела его и связывая свою судьбу
с его судьбой». Там же имеется высказывание о жизни вне родины:
«Не следует также подвергать себя риску стать изгнанником...
остаться без родины, без положения, без имущества, жить подая-
нием» (там же, стр. 220, 221).
4 Здесь в одной цитате соединены две разные мысли: «Не тру-
дитесь понапрасну, добиваясь этих изменений: положение вещей, кое
тебе не по душе, не изменится, а только появятся другие лица»
(там же, стр. 127). «Не возлагайте надежд на то, что за вами пой-
дет народ, ибо это весьма ненадежная опора» (CXXI, там же,
стр. 14о), Цитаты, следующие ниже, см. там же, CLXVII,CCCXXVIII.
136
J^
Франческо Гвиччардини. (Работа В. А. Милашевского.)
ют многие, но «почти все руководствуются преимуще-
ственно своими интересами». Так устроен мир, и надо
принимать его таким, как он есть, и вести себя таким
образом, чтобы не причинять себе ущерба, а, напротив,
извлекать наибольшую выгоду. Так поступают люди
«мудрые».
Именно в том и заключалось нравственное падение
Италии, что совесть итальянцев дремала, что отсутство-
вала у них достойная цель в жизни. Конечную цель зем-
ной жизни Макиавелли видит в родине, нации, свободе.
Небо для него не существует, для него существует толь-
ко земля. Гвиччардини тоже считает эту цель прекрас-
ной и заманчивой, но он принимает ее sub conditione
при условии, что она совпадает с твоим личным благом,
с твоими собственными интересами. Он не верит в до--
бродетель, благородство, патриотизм, самопожертвова-
ние, бескорыстие. У большинства людей преобладает
личный интерес, и Гвиччардини откровенно причисляет
к этим «мудрым» людям и себя. Остальных он называет
«безумцами», относя к их числу тех флорентийцев, кото-
рые «пошли против всякого здравого смысла» тогда,
когда «мудрые люди Флоренции склонили бы голову под
натиском бури»1. Он имеет в виду осаду Флоренции,.от-
меченную героическим сопротивлением «безумцев», сре-
ди коих были Микеланджело и Ферруччо.
Макиавелли борется с нравственным разложением
итальянцев и не теряет веры в свою страну. То иллюзии
человека с благородным сердцем. Он принадлежит к
тому поколению флорентийских патриотов, которые, не-
смотря на бедственное положение, искали выхода и не
сдавались, прославив Италию своим поражением. Гвич-
чардини— представитель нового поколения, поколения
смирившихся. Он не питает никаких иллюзий. Не на-
ходя выхода, не видя путей борьбы с разложением, он
поддается ему сам, выдавая это за признак мудрости и
даже вменяя себе это в заслугу. Его «Воспоминания»
возвели нравственное разложение итальянцев в закон,
сделали его правилом жизни.
1 Ibid., CXXXVI. (Там же, стр. 150.) Полный текст: «Мудрые лю-
ди Флоренции склонили бы голову под натиском бури, но безумцы
вопреки всякому здравому смыслу предпочли бороться и до сих пор
продолжают делать то, что, казалось, город наш сделать не в
состоянии».
138
Личное благо — вот бог, которому молится Гвиччар-
дини. И этот бог не менее всепоглощающ, чем бог аске-
тов или государство у Макиавелли. Никаких идеалов не
осталось. Все узы, объединяющие народ, — религиозные,
нравственные, политические — разорваны. На мировой
арене остается лишь индивидуум. Каждый за себя и
против всех. И это называется уже не разложением, ко-
торым надлежит возмущаться, а мудростью, учением,
которое надо проповедовать и прививать людям, искус-
ством жить К
Гвиччардини считает, что он мудрее Макиавелли, по-
тому что он не разделяет его иллюзий. Постоянные ссыл-
ки Макиавелли на древний Рим выводят его из себя, и
он разражается следующими словами: «Как заблужда-
ются те, кто по каждому поводу ссылается на древних
римлян! Видите ли, надо, чтобы город был устроен так
же, как был устроен их город, и чтобы управлялся он
по их образцу, что столь же невозможно, как заставить
осла скакать аллюром, подобно резвому коню»2.
18. Гвиччардини исповедует свои взгляды на жизнь
искренне, не испытывая никаких угрызений совести, не
проявляя никаких колебаний, взирая с видом презри-
тельного превосходства на тех, кто думает иначе, чем он.
По его мнению, они так поступают не в силу добродете-
ли или благородства души, а ввиду «слабости мозга»,
ибо внешняя форма, впечатления, напрасные мечты и
страсти затмили им разум. Такова последняя ступень,
1 Как уже говорилось выше, некоторые утверждения Де Санк-
тиса перекликаются с работами французских критиков того времени.
См. F. Benoist, Guichardin historien et homme d'etat italien
(«Гвиччардини — историк и государственный деятель Италии»), Paris
1862, и статью G e f f г о у, «Un politique italien de la Renaissance»
(«Итальянский политик эпохи Возрождения»), опубликованную
в «Revue des deux Mondes», 15 августа 1861 года. Особенно инте-
ресна заключительная часть этой статьи: «Здесь перед нами подлин-
ный Гвиччардини, человек, который в то плодотворное, но смутное
время пожалел сил для этой борьбы за жизнь, борьбы, которая таит
в себе самой награду, ибо возвышает и закаляет душу; человек, ко-
торый ради преходящих материальных благ, ради внешнего успеха
забыл о нетленном торжестве нравственного величия; человек, ко-
торый смирился с тем, что холодный опыт стал конечным мерилом
его жизни, который свел его к мелкому расчету: что перевесит —
сумма неприятностей или сумма успехов, приходящихся на долю каж-
дого в жизни, к эгоистическому удовлетворению средним счастьем,
достигаемым любой ценой, любыми средствами» (loc. cit., p. 991).
2 «Ricordi politici e civili», CX (там же, стр. 143),
139
которой достиг итальянский дух: окончательно созрев
и развившись, он отбросил воображение, эмоции, веру
и целиком превратился в мозг, или, как выражается
-Гвиччардини, в «позитивный интеллект»1.
Для того чтобы интеллект был позитивным, требуются
«врожденная осторожность», «ученость», дающая знание
правил, «опыт», дающий примеры, и «хорошая натура»,
то есть такая, у которой есть тяга к реальности, а не к
иллюзиям. Более того, требуется также «способность
судить» или различать, ибо «великая ошибка — говорить
о предметах, не различая их, как о чем-то абсолютном и,
так сказать, соответствующем правилу; ведь почти каж-
дая вещь имеет свои отличия и исключения, кои нельзя
найти в книгах, а можно установить лишь с помощью
способности к суждению»2. Следовательно, истинная
книга жизни — это «книга о способности к суждению» 3,
читать которую может лишь человек, наделенный от при-
роды «хорошим и зорким глазом». Одной учености недо-
статочно; нехорошо полагаться лишь на мнение пишу-
щего и по поводу каждой вещи задаваться вопросом:
а что о ней написано? Так время, которое следовало бы
употребить на исследование вопроса, тратится на чтение
книг, кое утомляет душу и тело настолько, что походит
более на труд грузчика, нежели ученого»4.
Человек позитивный видит мир не таким, каким ш он
предстает рядовым людям. Он не верит ни астрологам,
ни теологам, ни философам, не верит всем тем, кто пи-
шет вне природы или себя не видит, «говоря тысячу не-
лепостей, ибо в действительности люди бродят в потем-
ках и исследования служили и продолжают служить
больше для упражнения ума, нежели для установления
истины»5.
1 См. «Ricordi politic! e civili», CCCXXVII: «В известном смысле
человек, наделенный позитивным интеллектом, гораздо счастливее
всех этих возвышенных умов» (там же, стр. 208). По поводу ниже-
следующего см. там же, мысли X и XLVII.
* Ibid., VI (там же, стр. 112). В тексте после слов «отличия и
исключения» следует: «определяемые разными обстоятельствами,
к коим нельзя подходить с одной меркой».
3 Ibid., CCLVII (там же, стр. 186). Отсюда же следующая ци-
тата («хорошим и зорким глазом»), ibid., CXVII (там же, стр. 145).
4 Ibid., CCVIII (там же, стр. 174).
5 «Ricordi politici e civili», CXXV (там же, стр. 147).
140
СтЬло быть, Гвиччардини исходит из той же интел-
лектуальной посылки, что и Макиавелли: главное — опыт
и наблюдение, факт и исследование. Та же и система.
Гвиччардини отрицает — причем даже в более резкой
форме — все то, что отрицает Макиавелли, признает то,
что признает Макиавелли. Но он более логичен и после-
дователен. Раз в основе лежит принцип «принимай мир
таким, как он есть», то стремиться его преобразовать —
пустая утопия, подобная попытке приделать ослу лоша-
диные ноги; и он принимает его таким, как он есть, при-
спосабливается к нему, возводя это в принцип, пользуясь
им как своим орудием. Знать не значит свершить. То, что
существует в твоей голове, в твоем сознании, вовсе не
должно непременно служить правилом для твоей жизни.
Жить — значит знать мир и извлекать из него пользу.
Будь хорош со всеми, ибо «гора с горой не сходится, а
человек с человеком — непременно»1. Будь всегда на
стороне победителя, ибо тогда и тебе перепадет «часть
хвалы и наград». «Копи добро» 2, ибо оно создает поло-
жение в обществе: бедность вызывает только презрение.
Будь искренним, так как «в случае, если придется при-
творяться, тебе будет легче добиться доверия». Не
транжирь, ибо «больше чести тебе от дуката, что ле-
жит в кошельке, чем от десяти дукатов, которые ты из-
расходовал»3. Старайся заслужить добрую славу, ибо
«доброе имя ценнее большого богатства». Старайся не
прослыть человеком подозрительным, но, памятуя, что
дурных людей больше, чем хороших, «не верь людям и
доверяй им поменьше»4.
Таков главный принцип искусства жить, и большин-
ство людей — правда, с известной долей лицемерия, как
1 Ibid., XIV (там же, стр. 114). Ниже перефразирована мысль
CLXXVI: «Молите бога, чтоб вам всегда быть на стороне победи-
теля, ибо тогда вам воздается хвала даже за дела, в коих вы не
принимали никакого участия» (там же, стр. 162—163).
2 Ibid., CCCLXIII. Следующая фраза перекликается с мыслью
CIV о пользе притворства, которая «еще более увеличится, если ты
прослывешь не притворщиком, так как тогда люди будут легче по-
падаться в твои сети» (там же, стр. 141).
3 Ibid., XLV (там же, стр. 126). Следующая цитата о преиму-
ществах доброго имени взята из мысли CLVIII (там же, стр. 157).
4 Ibid., CLVII: «Нехорошо, если ты прослывешь человеком по-
дозрительным, недоверчивым, тем не менее люди столь неустой-
чивы и коварны... что если ты будешь им поменьше верить и дове-
рять, то не ошибешься» (там же, стр. 157).
141
бы стыдясь,— ему следуют. Но Гвиччардини возводит
этот принцип в ранг морального кодекса. Этот кодекс
основан на отрыве человека от совести, на личном ин-
тересе. Это моральный кодекс, пришедший на смену ко-
дексу любви и правилам рыцарской чести, моральный
кодекс спокойной, скептически и «позитивно» настроен-
ной, умной итальянской буржуазии. Однако, несмотря
на всю мудрость Гвиччардини, нашелся человек — Ко-
зимо — еще более мудрый, чем он: Гвиччардини хотел
извлечь из него пользу для себя, но случилось так, что
сам стал его орудием. И кончил он свои дни, подобно
Макиавелли, одиноким и покинутым. У него тоже были
свои иллюзии и свои разочарования, менее благородные,
менее достойные быть увековеченными в памяти потом-
ков, ибо они были связаны с личным благом. Уединив-
шись в своем имении в Арчетри, он писал на досуге
«Историю Италии».
С точки зрения интеллектуальной силы это произве-
дение представляет собой величайшее достижение италь-
янского разума. Автора интересует не «авансцена», не
театральная или поэтическая сторона событий, изобра-
жая которую упражнялись в риторике Джовио, Варки,
Джамбуллари и другие историки. О самых необычайных
и трогательных событиях он рассказывает слегка прене-
брежительно, как человек, который много повидал на
своем веку и которого ничто не удивляет и не трогает.
Он не выказывает ни чувства симпатии, ни чувства ан-
типатии, не проявляет ни теплоты, ни возмущения. У не-
го нет своей программы и заранее обдуманного мнения
по поводу общего исхода событий и судьбы страны. Его -
ясный, спокойный ум замкнут в себе, ничто не проникает
в него извне, что могло бы смутить его покой или на-
править по иному пути. Это позитивный разум, наделен-
ный перечисленными выше качествами, которые у него
особенно ярко выражены: это врожденная осторожность,
ученость, опыт, «хорошее естество» и способность к раз-
личению. Самое изумительное его свойство — это его
способность к различению: он не признает ни незыбле-
мых принципов, ни абсолютных правил, а судит в каж-
дом отдельном случае особо, усматривая в каждом фак-
те его особенности, тот комплекс свойственных лишь
данному факту обстоятельств, которые делают его имен-
142
но таким, а не иным. Это качество отличает человека
творческого ума от ученого педанта.
Естественно, что при подобном умонастроении его
меньше интересует то, что происходит на сцене, чем то,
что происходит за кулисами, куда уверенно проникает
его зоркий глаз. Его объединяет с Макиавелли прене-
брежение поверхностью, внешней формой, всем видимым
и кажущимся и интерес к существу, ко всему тому, что
внутри, чего не видно.
Перед нами не только описание фактов, но анализ их
происхождения, их созревания: дан момент их зарожде-
ния, и дано их развитие.
Самые постыдные, тайные побуждения писатель
вскрывает с тем же спокойствием, с каким он говорит
о самых благородных мотивах. Его интересует прежде
всего не этическая, не моральная сторона поступков, а
их воздействие на события. Среди прочих побуждений
превалирует личный интерес, и Гвиччардини проявляет
большую проницательность в определении как частных
интересов, так и интересов, которые именовались обычно
общественными, но в действительности были интересами
королей и династий. Интересы, как правило, лицемерно
облекаются в форму благородных речей о славе, чести,
свободе, независимости,:—к ним неизменно прибегают,
когда надо прибрать к рукам какой-нибудь народ или
армию. Так рождается — особенно в публичных выступ-
лениях—своеобразная риторика ad usum Delphini, рас-
считанная на простаков, которые не смотрят в корень,
а позволяют увлечь себя заманчивой видимостью. На-
роды и армии играют в таких случаях роль слепых ору-
дий, а подлинными, главными действующими лицами
выступает небольшое число людей, которые то наси-
лием, то хитростью приводят народы в движение и ис-
пользуют в собственных целях 1.
Гвиччардини-историк тщательно отделывал литера-
турную форму своего произведения. Его язык, особенно
1 Из аналогичных высказываний следует отмстить прежде всего
знаменитые слова Монтеня («Essais», livre II, chap. X), на которых
Де Санктис в значительной степени основывает трактовку этого
вопроса: «Что касается лучшей части — отступлений и речений, — то
среди них имеются превосходные, обладающие прекрасными каче-
ствами, но он этим слишком увлекся: не желая что-либо пропу-
стить, из-за обширности, или, можно сказать, необъятности, темы
он почувствовал усталость от схоластических разглагольствова-
143
в «Воспоминаниях», так же лапидарно точен, как/у Ма-
киавелли: динамичность, простота и предельная ясность
ставят произведение Гвиччардини в один ряд с самыми
совершенными произведениями французской прозы (при
этом они лишены ее недостатков). Язык и стиль этих
двух писателей по своей интеллектуальной мощи до-
стигли непревзойденного совершенства.
Но Гвиччардини, который высказывал столь трезвые
суждения по поводу событий человеческой жизни,
в вопросах литературы был во власти предубеждений и
принимал на веру некоторые мнения только потому, что
они были общепринятыми. Для него, так же как для
всех литераторов того времени, писать значило перево-
дить естественную разговорную речь на некий сложный
язык, что стоило ему больших усилий, как будто он
делал свои первые шаги в литературе. Многим посред-
ственным писателям — таким, как Каза, Кастильоне,
Сальвиати или Сперони, — это давалось с меньшим тру-
дом, ибо они были приучены к этой форме, воспитаны
на ней. Ясность его ума и быстрота восприятия явно
противоречили замысловатым и тяжеловесным оборотам
его речи. Если бы не его откровенность, подчас гранича-
щая с цинизмом, можно было бы подумать, что Гвич-
чардини прибегает к дипломатическим уловкам, чтобы
с помощью замысловатых оборотов замаскировать.свои
мысли и намерения. Но то были сугубо литературные,
риторические ухищрения. Риторически звучат все его
монологи, описания, речи, моральные сентенции даже
тогда, когда слова его согреты воображением, чувством
и когда он говорит в приподнятом тоне1.
ний. Я заметил также, что, говоря о стольких людях и делах, о столь-
ких событиях и советах, он никогда не признавал, что ими руководили
добродетель, набожность, совесть, как будто этих понятий вовсе не
стало на свете; в каждом поступке, как бы прекрасен он ни был, он
ищет дурной помысел или корысть. Нельзя себе представить, что из
числа многочисленных фактов, о коих он судит, не было ни одного,
который был бы продиктован здравым смыслом. Неужели же разло-
жение охватило повально всех и ни один человек не избежал сей
заразы? Боюсь, не объясняется ли такой подход тем, что эти пороки
ему импонировали и что он, быть может, судил о других по себе».
Это высказывание великого французского писателя было приве-
дено и прокомментировано Альбичини в его статье, напечатанной
в «Rivista bolognese», 1870, p. 558.
1 Относительно стиля Гвиччардини см. Фосколо: «Впрочем, язык
его — напыщенный, неясный, и искусственный, ибо он стремится
144
Нб под этим искусственным блеском мы обнару-
живаем прочную, отлично организованную основу, мир,
холодрый, как логика, и точный, как механика, — по
сути, he что иное, как клубок сил и интересов, распу-
танный и прослеженный вплоть до самых сокровенных
глубин1 человеком недюжинного ума К
19. «История Италии» состоит из двадцати томов
и охватывает период с 1494 по 1532 год2. Она начи-
нается с итальянского похода Карла VIII и заканчи-
вается падением Флоренции. В конце как зловещий
предвестник худших времен появляется Павел III —
папа, при котором воцарилась инквизиция и состоялся
Тридентский собор. Этот период истории Италии можно
назвать итальянской трагедией, ибо в эти годы Италия
после безуспешных попыток сохранить свою незави-
симость попала под власть чужеземцев. Однако историк
не почувствовал всей грандиозности и значения этой
трагедии, и героем его произведений выступает не Ита-
лия и не итальянский народ. Он видит трагедию, но
лишь как великие бедствия, постигающие отдельных
людей, — описывает засуху, грабежи, насилия, все бед-
ствия, приносимые войной. Занятый описанием «ужас-
ных случаев»3 — а он великий мастер устанавливать
слишком все превозносить и подражать величественному стилю ла-
тинских историков» (из цит. выше выступления, опубл. «Epoche», op.
ci't., p. 251), и Emiliani-Giudici, Storia della lett. it. cit., II,
pp. 43 и ел. В связи с интеллектуальной «зоркостью» Гвиччардини
и о его «печальном тоне» см. портрет его, нарисованный Тьером
в «Histoire du Consulat et de I'Empire», t. XII, Paris 1855 (он вполне
мог попасться на глаза Де Санктису).
1 Аналогичную мысль высказывает Кине (op. cit., II, р. 149):
«Под узорами этого цветистого стиля нам с трудом удается узнать
и почувствовать душу этого мудрого змия, живущего на развали-
нах Италии. Говорили, что Гвиччардини все видит в мрачном свете.
Напротив, заслуга его состоит именно в том, что, выражаясь искус-
ственным языком своего времени, он все же сумел сказать правду.
Привыкнув жить в потемках, он очень ясно и очень отчетливо ви-
дел ложь. Ему одному удалось размотать клубок, где сплелись
страсти людей, которые только и делали, что льстили, лгали, улы-
бались друг другу и друг друга душили.
2 Так в рукописи и в изд. Морано. Кроче и Кортезе внесли в текст
изменение, исправив 1532 год на 1533-й — то был год, когда на пап-
ский престол взошел Павел III; как известно, описанием этого факта
заканчивается последняя глава «Истории Италии» («Storia d'ltalia»).
3 См. «Storia d'ltalia», I: «Материал, незабываемый по разно-
образию и величию описываемых событий, содержащий большое ко-
личество ужасных случаев...»
10 Де Санктис
145
сокровеннейшие побудительные причины, движущее по-
ступками людей, — Гвиччардини не видит картинь( в це-
лом. Реформация, поход Карла, борьба Ка^ла V
с Франциском I, преобразование папства, падени^' Фло-
ренции, окончательное расчленение и порабощение Ита-
лии, сохранявшей равновесие при Лоренцо, — йсе эти
события общего характера волнуют историка деньте,
чем, скажем, осада Пизы или какие-нибудь неясные
слухи, распространявшиеся среди князей. Он походит
на естествоиспытателя, занятого изучением, и класси-
фикацией трав, растений и минералов, чтобы узнать их
внутреннюю структуру и физиологию, заставляющую
их вести себя определенным образом. Человек пред-
стает перед нами как часть природы, как существо, по-
ведение которого определяется теми же фатальными
факторами, что и поведение животного: его действиями
руководят страсти, мнения, интересы, его натура или
характер с той же неумолимостью, с какой действиями
животного руководят его инстинкты, а действиями вся-
кого живого существа — особенности его строения. Рас-
сматривая человека с такой позиции, историк сохраняет
то же спокойствие ума, ту же невозмутимость и безраз-
личие, какие отличают философа, толкующего явления
природы. Ферруччо и Малатеста вызывают у него рав-
ный интерес; Малатеста даже представляется ему более
любопытным: его действия труднее объяснить, поэтому
это требует большего умственного напряжения1.
Отсюда проистекает понимание истории, согласно ко-
торому человек отнюдь не свободен в своих поступках,
они предопределены внутренними причинами, его харак-
тером, и можно предсказать, как он поступит и чего
достигнет, почти с той же точностью, с какой это воз-
можно в отношении явлений природы.
1 Упоминаемые здесь места из «Истории Италии» взяты соответ-
ственно из тт. I, VIII и XIX—XX. По поводу общей оценки Гвич-
чардини как историка см. того же Кине (op. cit., II, pp. 150—151):
«Наблюдая падение Италии в течение тридцати лет, Гвиччардини
даже не заметил, что похоронил целый народ. Он не осознавал, что
происходит. У него не нашлось ни слова сожаления о том, что
страна, еще не обретя независимости, уже утратила ее. Те, что хо-
тели защищаться, были в его глазах лишь «упрямцами»; если на-
ходился герой, то он называл его «неосторожным» или «неистовым».
Бальоне, генерал, предавший родину, был, по его словам, человеком
серьезным, мудрым. Государственных деятелей и народы, которые
хотели сражаться, он называл не иначе, как «одержимыми»..
:ЖЖ^^*^^******Ж**^^^****^*****^^**^^^^^^ЖЖ^
XVI
Пь'етро Аретино1
1. Аретино — живой портрет мира, утверждаемого Гвич-
чардини, в форме наиболее циничной. Его жизнь лишена
идеалов, слава закончилась с его смертью. 2. Характер его —
буйный, алчный, отсутствие предрассудков. Торжество част-
ного, личного, техника лести и вымогательства. Произведения
на «священные» темы и «Горация». 3. Значение Аретино как
личности, а также как писателя: борьба с педантизмом, кри-
сталлизация формы и культуры. Острое критическое чутье; чув-
ство природы и искусства. 4. Нелитературная форма, близкая
к разговорной речи. Поддельные перлы его прециозного
стиля. Подражатели Аретино. 5. Аретино как драматург, на-
рушивший каноны комедийного искусства того времени.
Сценическое воплощение безнравственного и развращенного
мира. Недостаточно органичное развитие действия; правди-
вость и живость комических характеров.
1 При написании этой главы, напечатанной в виде статьи
в журн. «Nuova Antologia» в ноябре 1870 года, Де Санктис навер-
няка располагал первой книгой «Lettere» Аретино, перепечатанной
в 1864 году Даелли в Милане. Кроме того, он пользовался изданием
«Opere di Pietro Aretino», подготовленным и прокомментированным
М. Фаби (Sanvito, Milano 1863), и в особенности использовал очерк
Филарета Шаля (Philarete Chasles, L'Aretin, sa vie et ses
ecrits), предваряющий это издание и печатавшийся до того в «Re-
vue des deux mohdes» в октябре — ноябре 1834 года, затем в «Etu-
des» (Amyot, Paris 1851). Из очерка Шаля почерпнуты биографиче-
ские данные и большинство цитат. В противоположность принципу
Кроче, принятому также Аркари и Кортезе, — вводить в десанктиев-
ский текст оригинальные отрывки из Аретино — здесь, как и всюду,
воспроизводится пересказ Де Санктиса, а соответствующие вы-
держки приводятся в примечании. Что касается дат и биографиче-
ских данных, которые Шаль почерпнул у Маццукелли (М a z z u-
с h e 11 i, Vita di Pietro Aretino, Padova 1741), то следует раз и
навсегда помнить, что в большинстве случаев они были уточнены
последующей критикой. Сноски к цитатам отсылают к упоминавше-
10*
147
1. Свое крайнее выражение теолого-этические проти-
воречия средневековья нашли в мире, который утвер-
ждал Гвиччардини. Этот мир, при всей его человечно-
сти и естественности, замкнут в личном эгоизме, оказав-
шемся сильнее всех нравственных уз, связывающих
людей. Пьетро Аретино— образ и подобие этого мира
в его самом циничном и аморальном проявлении. Он —
последний мазок на картине века.
Родился Пьетро в 1492 году в больнице города
Ареццо. Мать его Тита, красивая куртизанка, позиро-
вала не одному ваятелю и художнику. У него не было
ни имени, ни семьи, ни образования. «Я не столько по-
сещал школу, сколько возносил молитвы, измышляя
жульнические отговорки вместо того, чтобы изучать
греков и латинян»1. В тринадцать лет, обокрав мать,
он бежит в Перуджу, где начинает работать у пере-
плетчика. Девятнадцати лет, прослышав, что в римской
курии можно разбогатеть, он отправляется без гроша
в кармане в Рим и нанимается там слугой к богатому
торговцу Агостино Киджи, а немного позже переходит
к кардиналу Сан Джованни. Он ищет удачи и при дворе
папы Юлия II, но, ничего не добившись, отправляется
бродяжничать по Ломбардии и ведет распутный образ
жизни, пока наконец не становится капуцином в Равен-
не. В понтификат Льва X к папскому двору устрем-
ляются писатели, шуты, комедианты, певцы, всевозмож-
ные искатели приключений. Решив, что его место там,
Пьетро сбрасывает монашескую рясу и спешит в Рим,
где облачается в папскую ливрею, служит папе. По
натуре острослов, весельчак, развратник, наглец, свод-
ник, в этой школе он пополняет свое образование и
получает окончательное воспитание. Научившись вме-
щать в четырнадцать стихотворных строк похотливость,
лесть и шутки, он принимается торговать стихами и за-
муся изданию «Ореге» и первой книге «Lettere». Говоря о письмах
более позднего времени, которые можно было найти тогда в полном
сборнике писем Аретино (Париж, 1609), мы ссылаемся на более до-
ступное издание Латерца «II secondo libro delle lettere di Pietro
Aretino», a cura di F. Nicolini, ч. I, II, Bari 1916.
1 В «Ореге», р. 22: «По правде говоря, я не столько ходил
в школу, сколько молил бога ниспослать мне хорошие знания, жуль-
нически" увиливая...» Письмо к Лудовико Дольче 25 ноября
1537 года («Lettere», ed. Daelli, p. 299).
148
рабатывает на этом неплохие деньги. Но, оставаясь слу-
гой при дворе, где импровизировали в латинских стихах,
он не мог рассчитывать добиться многого. Вооружи-
вшись рекомендательными письмами, он посещает Ми-
лан, Пизу, Болонью, Феррару, Мантую и нахально пред-
ставляется князьям и епископам с высокомерной миной
знатока литературы.
Словно женщина, Аретино изучает искусство нра-
виться и маскирует шарлатанство лестью.
«В Болонье я начал получать подарки. Епископ
Пизы заказал для меня черную куртку, расшитую золо-
том, лучше которой не сыщешь. Синьор маркиз Манту-
анский был настолько любезен, что, желая побеседовать
со мною, потчевал и оставлял на ночлег, по его словам
получив необыкновенное удовольствие. Он очень лестно
отозвался обо мне в письме кардиналу, что было мне
полезно, и подарил к тому же триста скуди. Весь двор
во мне души не чает, и каждый жаждет получить от
меня стихи. Когда же я их сочиняю, синьор велит их
переписать; некоторые стихи я сложил в его честь. И
вот я здесь, и, как видите, каждый день — не то что
в Ареццо — дает мне очень много»1.
Его называют и жалуют «господином» и «синьором».
Слуга стал дворянином и возвратился в Рим «вместе
с блюдолизами, одетый, как герцог»2, в свите д'Эсте
и Гонзаго, фамильярно трепавших его по плечу, как
участник и организатор господских развлечений. Он про-
должает заниматься ремеслом, так успешно выбранным.
Одна из его «лауд» Клименту VII приносит ему первую
премию; вот эти плохие стихи:
Не будут эти похвалы чрезмерны,
Они правдивы будут и светлы,
Как истина сама, как будто солнце 3.
1 Письмо 1 марта 1523 года («Ореге», р. 25). Но порядок ци-
таты изменен. В оригинале письмо начинается со слов: «Я нахожусь
в Мантуе при дворе синьора маркиза и пользуюсь его большим рас-
положением...»
2 Выражение, почерпнутое у Шаля и приведенное Фаби, пере-
фразирует стихи 36—37 и 46 сонета Франческо Берни («Contro
a Pietro Aretino»): «Что за герцогские одежды, выпрошенные да
украденные» и «...эти твои блюдолизы, бездельники и приживалы».
3 См. «La Laude di Clemente VII», напечатанную в Риме
в 1524 году. Терцина приведена в «Ореге», р. 28.
149
Остроумие, веселый нрав, сластолюбие обеспечили
Пьетро такую славу, что, когда, написав шестнадцать
сонетов, иллюстрировавших непристойные рисунки Джу-
лио Романо, он сбежал из Рима, его, душу общества,
разыскивает Джованни Медичи, вождь «Bande Nere»
(«Черных отрядов»), прозванный Gran Diavolo (Боль-
шой Дьявол). Пьетро было немногим больше тридцати
лет. Джованни Медичи и Франциск I оспаривают его
друг у друга. Джованни хотел превратить синьора из
Ареццо в своего товарища по оргиям и разврату. Но
немецкая пуля положила конец его планам и жизни.
Пьетро осознает теперь свою силу. Бросив придворную
жизнь, он, как в надежной крепости, укрывается в Ве-
неции и с помощью пера властвует оттуда над Италией.
Вот как он пишет об этом в своем письме:
«После того как я отдал себя под защиту величия
и свободы Венеции, мне некому больше завидовать. Ни
дух зависти, ни тень коварства не могут омрачить моей
славы или уменьшить благополучие моего дома К Слава
богу, я человек свободный2. Я не обязан подчиняться
буквоедам и идти по стопам Петрарки и Боккаччо.
С меня достаточно моего независимого духа. Пусть дру-
гие бредят чистотой стиля, глубиной мысли, пусть дохо-
дят до безумия, терзая себя стараниями не повторяться.
Без учителя, без искусства, без образца, без путеводной
звезды я иду вперед, и пот моих чернил приносит мне
известность и счастье. Что остается мне еще желать? 3
1 См. «Ореге», р. 14. В оригинале: «Почерпнув в свободе столь
великого государства уменье быть свободным, я навсегда отвергаю
придворную жизнь и впредь уже не покину этого прибежища, по*
тому что тут нет места предательству, а право не зависит от чьей-
либо благосклонности, тут не господствует жестокость публичных
женщин и изнеженные особы не устанавливают своих порядков...»
Письмо венецианскому дожу Андреа Гритти, без даты («Lettere»,
р. 3 и ел.)
2 См. «Ореге», р. 13. На фронтисписе «Lettere»: «Божьей ми-
лостью я человек свободный».
3 См. «Ореге», р. 13. В оригинале: «Но я смеюсь над букво-
едами... я не намерен по невежеству заимствовать манеру Петрарки
и Боккаччо; хотя я знаю, кто они такие, не считаю для себя воз-
можным и не желаю тратить время, терпение и свое имя на стрем-
ление уподобиться им, которое считаю безумием. Черствый хлеб за
собственным столом полезнее хлеба с разными кушаньями — за чу-
жим...» Письмо Фаусто Лонджано от 17 декабря («Lettere», p. 359
и далее), см. также цитату в след. прим.
150
С помощью пера и нескольких листов бумаги я глум-
люсь надо всем миром. Мне говорят, что я сын курти-
занки, это меня ничуть не задевает, ведь при этом
у меня всегда душа короля. Живу я свободно, раз-
влекаюсь, а потому могу назвать себя счастливым1.
Медали с моим изображением отливаются из всех
металлов и всех сплавов. Мое скульптурное изображе-
ние помещают перед дворцами; мой бюст, мой портрет
украшает рамки зеркал наряду с портретами Алек-
сандра, Цезаря, Сципиона. Некоторые изделия из
хрусталя носят название аретинских ваз. Моим именем
названа одна из пород лошадей, потому что папа Кли-
мент подарил мне коня такой породы. Ручей, омываю-
щий часть моего дома, переименован в Аретино. Мои
любовницы хотят, чтобы их звали Аретинами. Наконец,
говорят — «стиль Аретино». Педанты могут лопнуть от
бешенства раньше, чем добьются подобных почестей»2.
И это были не пустые слова. Ариосто сказал о нем:
«Бич королей, божественный Пьетро Аретино»3. Какой-то
1 См. «Ореге», р. 13. В оригинале: «Дела во Флоренции... меня
нимало не заботят, так как я возложил все свои основные надежды
на бога и Цезаря и милостью его величества, добавив пенсию в сто
скуди, выделенную мне маркизом дель Васто, и такую же, выпла-
чиваемую мне князем салернским, имею доход в шестьсот скуди
плюс к той тысяче в среднем, которую я добываю ежегодно с по-
мощью бумаги и бутылки чернил; так я живу в этом светлейшем
городе». Письмо Джулиано Сальвиати от 6 июля 1541 года («Se-
condo libro», ed. cit., II, pp. 71—72).
2 Cm. «Opere», p. 13. В оригинале: «Считаю вполне естественным,
если, помимо чеканных и отлитых медалей из золота, серебра, меди,
свинца и сплавов, мой портрет можно встретить и на фасадах двор-
цов; он украшает футляры для гребешков, рамки зеркал, он на
фаянсовых тарелках наряду с портретами Александра, Цезаря и
Сципиона. Более того, заверяю вас, что некоторые сорта муранских
ваз из хрусталя носят название аретинских. Аретинской назы-
вается порода лошадей, в память о том, что папа Климент пода-
рил мне такого коня, которого я в свою очередь подарил герцогу
Федериго. «Ручьем Аретино» назван тот, который омывает одну сто-
рону дома на Большом канале, где проживаю я. И, к вящей до-
саде педагогов, помимо того, что им приходится говорить «стиль
Аретино», три мои служанки или экономки, ушедшие от меня и
ставшие синьорами, нарекли себя Аретинами. Вот что или примерно
то, что значит желание прийти к такой цели посредством ianua sum
rudibus». Письмо Юнио Петрео, май 1545 года.
3 Ср. «Неистовый Орландо», XLVI, 14, vv. 3—4: «Вот бич князей,
божественный Пьетро Аретино»; следующий период сравните с пись-
мом к Пьетро Бембо 9 августа 1538 года («Secondo libro», ed. cit.,
II, pp. 86—87; отрывок взят из предисловия к изд. Даелли, р. 3).
151
педант, говоря о письмах Аретино и Бембо, предложил
Бембо: «Назовем вас нашим Цицероном, а его — нашим
Плинием». — «Лишь бы Пьетро это устроило»,—ответил
Бембо. Но Пьетро этого было недостаточно. Вот что он
писал Бернардо Тассо, расхваливавшему свои письма:
«Слишком высоко оценивая собственные произведе-
ния и низко — чужие, вы скомпрометировали себя. В эпи-
столярном жанре вы подражаете мне и идете по моим
стопам. Вам недоступны ни легкость моих фраз, ни
блеск моих метафор. То, что в письмах у вас чахнет,
у меня расцветает пышным цветом. Не стану отрицать
некоторых ваших заслуг—несомненное изящество ан-
гельского стиля и небесную гармонию, приятно зву-
чащую в гимнах, одах и эпиталамах. Но все эти сла-
достные качества неуместны в письмах, где требуется*
экспрессия и выпуклость, а не миниатюра и искусствен-
ность. Виной тому ваш вкус, отдающий предпочтение не
сочности фруктов, а запаху цветов. Неужто вы не знае-
те, кто я? Не знаете, сколько из опубликованных мною
писем считается чудесами? Не стану здесь расточать се-
бе похвалы, хотя они и соответствовали бы истине. Но
скажу, что люди, достойные уважения, должны были бы
считать день моего рождения памятным, потому что, не
родись я и не служи при дворах, я не заставил бы пла-
тить дань своему таланту всех великих мира cerQ — гер-
цогов, князей и монархов. При всем том, что мир так
необъятен, слава занята лишь мною одним. И в Персии
и в Индии можно видеть мои портреты, и почитается мое
имя. В заключение шлю вам привет и уверяю, что если
многие хулят вашу манеру письма, то не из зависти,-
если же иные и хвалят, то из сочувствия» 1.
1 Ср. «Ореге», р. 73 и ел. В оригинале: «Уверяю вас, что высо-
кая оценка собственных произведений и низкая — чужих привела
вас к ошибочному суждению... Вместо того чтобы сопоставлять свое
мнение с мнением кого бы то ни было, лучше бы вы усовершен-
ствовали свои приемы писания писем, необходимые упражнения
в котором заменяются вами неудачным копированием, с помощью
румян и белил, моих изречений и сравнений (которые у меня рож-
даются, а у вас умирают) из обширной переписки, которую я обычно
веду... В самом деле, при всей схожести движений вы тяжело шле-
паете по моим стопам. Тем не менее поступать иначе вам не дано,
потому что аромат цветов вам по вкусу больше сочности плодов;
поэтому вы пишете свои эпиталамы и гимны в изящной ангельской
манере, и в них звучит небесная гармония, в то время как подоб-
152
Таким он считал себя, и таким его считали в обще-
стве. Его мнение о собственном величии принималось на
веру. Он не добивался славы, ему было наплевать на бу-
дущее; ему нужно было только настоящее. И он получил
в нем больше, чем любой другой смертный. Медали, вен-
ки, титулы, пенсии, награды, расшитые золотом и сереб-
ром ткани, золотые цепи и кольца, портреты и статуи,
ценные вазы и геммы — у него было все, чего только мо-
жет жадно желать человек.
Юлий III произвел его в кавалеры ордена святого
Петра. Еще немного, и он бы стал кардиналом. Он по-
лучал восемьсот двадцать скуди одной пенсии. За во-
семнадцать лет его награды составили 25 000 скуди. За
свою жизнь он израсходовал свыше миллиона франков;
он получал подарки даже от корсара Барбароссы и сул-
тана Солимана. В его княжеском доме толпились акте-
ры, женщины, священники, музыканты, монахи, слуги,
пажи, многие приносили ему подарки — кто золотую
вазу, кто картину, кто набитый дукатами кошелек, кто
одежду и ткани. У входа в его дом был выставлен бюст
из белого мрамора, увенчанный лавровым венком,—
бюст Пьетро Аретино. Аретино справа, Аретино слева.
Смотрите на медали всех размеров и из всех металлов,
размещенные на ковре из красного бархата: на всех
изображение Пьетро Аретино.
Он умер в 1557 1 году шестидесяти пяти лет от роду,
и от столь громкого имени ничего не осталось. Вскоре
ная сладостная мягкость не годится в письмах, где требуется изо-
бретательность и выпуклость, а не изысканная миниатюра... Вот
почему вполне позволительно похвалить человека, достойного ува-
жения, тому, кто его не знает, и я сообщил вам, кем являюсь, осо-
бенно в эпистолярном искусстве... Но тому, кто переоценивает свое
величие, являющееся одной видимостью, и ослеплен тем, чего в дей-
ствительности вовсе не существует; тому, кто воображает о себе на-
много больше того, что он есть на самом деле, я, не желая упо-
добляться людям подобного рода, не скажу: почитайте день моего
рождения. Не добиваясь теплых мест, не служа при дворах и не
прибегая ни к каким уловкам, я заставил герцогов, князей и монар-
хов платить дань Добродетели, потому что слава обо мне прошла
по всему свету. И в Персии и в Индии вывешивают мой портрет
и уважают мое имя... В заключение шлю вам привет и уверяю,
что никто не хулит ваши письма из зависти, а многие восхваляют
их манеру из сочувствия». Письмо Бернардо Тассо от октября
1548 года.
1 Так у Шаля в «Ореге», р. 93. Точная дата смерти Пьетро
Аретино —21 октября 1556 года,
153
после смерти Аретино его произведения были забыть1,
а память заклеймена позором; благовоспитанный чело-
век не произнесет его имени в присутствии женщины.
2. Итак, кем же был этот столь популярный Пьетро,
которому женщины, ухаживая, дарили благосклонность,
которого соперники страшились, писатели восхваляли,
папа целовал, который скакал на коне бок о бок с Кар-
лом V? Он был образом и подобием своего века. И век
этот его возвеличил.
По словам Макиавелли и Гвиччардини, желание —
движущая сила Вселенной. Это целиком и полностью
относится к Пьетро.
Ом был от природы наделен большими желаниями
и соразмерными им силами. Взгляните на его "портрет
кисти Тициана! Лицо волка, рвущего добычу. Резчик
изготовил для портрета рамку из волчьей шкуры с ла-
пами, так что волчья голова, по строению напоминаю-
щая голову человека, возвышается над нею. Лысый че-
реп, глаза блестят, ноздри раздуты, нижняя губа, при-
открыв зубы, отвисла, утяжеленная нижняя часть
лица — средоточие чувственных желаний, которые, по-
хоже, отпечатаны на его лице1. «Сын куртизанки с ду-
шой короля», — говорит он о себе. Переплетчик, слуга
папы — он пережил столько лишений! Его потребности
не знают пределов. Ему мало есть, он хочет получать
при этом удовольствие. Ему мало наслаждения, он хо-
чет сладострастия, ему мало одеваться, он хочет быть
нарядным, ему мало богатства, он желает обогащать
других, тратиться и поражать роскошью. И тем, кого
это удивляет, он отвечает: «Что тут особенного? Если я
рожден для такой жизни, кто помешает мне так жить?»
Его золотые сны — дорогие вина, изысканные блюда,
богатые замки, красивые девушки, нарядные платья. Он
1 Ср. с очерком Шаля, который в свою очередь почерпнул опи-
сание портрета Тициана из Маццукелли: «У него лицо волка, рву-
щего добычу. Ввалившиеся глаза блестят, ноздри раздуты, нижняя
губа отвисла, приоткрыв зубы. Нижняя часть лица — средоточие
чувственных желаний — поражает своей молодостью» («Opere», ed.
cit., p. 8) — и соответствующее примечание: «Взгляните на прекрас-
ный портрет Аретино кисти Тициана в резной раме Джузеппе Пет-
рини. По остроумной прихоти резчика рама представляет собой
волчью шкуру со свисающими лапами: голова животного, по строе-
нию напоминающая голову человека, возвышается над нею».
154
Пьетро Аретино. (С гравюры М. А. Раймонди,)
умеет наслаждаться тем, к чему у него аппетит. И нет
судьи более компетентного, когда речь идет о лако-
мых кусках, о наслаждениях, дозволенных и недозво-
ленных.
В нем развито не только чувство наслаждения, но
и чувство искусства. В своих наслаждениях он ищет
блеска, великолепия, красоты, хорошего вкуса, изя-
щества1.
Его силы пропорциональны желаниям — железное те-
ло, несгибаемая воля, знание людей и презрение к ним
и та чудесная способность, которую Гвиччардини на-
звал тактом, чутьем, методичностью. Он знал, чего хо-
тел, и жил, не разбрасываясь; у него была одна цель —
ублажение собственных аппетитов, или, как выразился
Гвиччардини, своей утробы. Все средства хороши, и он
использует их в зависимости от обстоятельств. Он то
1 Вот некоторые цитаты: «Признаюсь, у меня большие потреб-
ности. Почему, спросите вы, человек, не получивший наследства,
так неумеренно расходует средства? На том основании, что у меня
душа короля, а такие души не знают ограничений, когда речь идет
о роскошестве...», «Капитан Джованни Тьеполо послал мне превос-
ходного зайца, которого я отведал вчера со своими друзьями, — их
похвалы вознеслись coeli coelorum. В это самое время подоспели
ваши куропатки. Мы тут же омыли посылку вином. Закончив гимн
во славу зайцев, я начал петь хвалу птице. Немного перца и двух
лавровых листиков для приправы было вполне достаточно, чтобы при-
готовить превосходное рагу. Мой добрый друг Тициан присоединил
свой голос к моему, чтобы исполнить «Magnificat», который я запел.
Никогда римские кардиналы на самых роскошных пирах не ели
с таким удовольствием своих бекасов и овсянок. Видел я этих до-
рогих кардиналов господа бога во времена Льва X! Ах, как их по-
варские души сладострастно набивали собственную утробу! Вы ска-
жете, они были блаженными? Счастливы те блаженные духом, ко-
торые в своем безумии приятны себе и другим!» — Прим. авт. Два
отрывка («Ореге», pp. 78—79) в оригинале звучат соответственно г-
«Похвальбуша, выдававший себя за человека с неограниченными
средствами, вдруг заявился ко мне в сопровождении двадцати двух
человек с их грудастыми девицами, чтобы грызть кости моих бед-
ных чернил; не проходит и дня, чтобы такое количество голодных
людей, если не больше, не приходило ко мне в дом... О-о! — гово-
рите вы мне, зачем же без оглядки расходовать деньги тому, кто
ограничен в средствах?.. Затем, отвечаю я, что королевские души
тратят деньги без удержу». (Письмо дону Луису д'Авнла и Цупига
от февраля 1548 года...) Синьор, позавчера я с друзьями кушал зай-
цев, которых затравили собаки, — это подарок капитана Джованни
Тьеполи; они показались мне до того вкусными, что я провозгласил
«Gloria prima lepusl» («Прежде всего восславим зайца!») — изрече-
156
ханжа, то развратник, то угодник, то наглец. То он
льстец, то клеветник. В его руках человеческая довер-
чивость, страх, тщеславие, великодушие — таран, кото*
рым надо пробить брешь, чтобы взять крепость присту-
пом. У него ключи от всех дверей. В наши дни про та-
кого человека сказали бы, что ои вымогатель, и многие
его письма были бы восприняты как шантаж. В этом
деле он мастер. Главным образом он спекулирует на
страхе. В том веке было принято говорить языком заис-
кивающим, льстивым; его тон презрителен и нагл. В пе-
чатном виде клевета была страшнее кинжала — напеча-
танное воспринималось как правда, и он поднял цену
клеветы, умолчания и хвалы. Его не смущала репутация
человека злоязычного, потому что злоязычие составляло
часть его силы. Франциск I послал ему золотую цепь,
состоявшую из скрепленных между собой языков с ба-
гряными крапинками наподобие капелек яда, снабдив
ее таким изречением: «Lingua eius loquetur mendacium»
(«Язык его изрекает ложь»). Аретино выразил ему ты-
сячу благодарностей1.
Когда Аретино было невыгодно дурно отзываться об
определенном человеке, он, желая сохранить свою репу-
тацию, дурно отзывался о всех ему подобных,— отсюда
его «пасквинаты» в адрес духовенства, дворян, князей.
Так низкий человек прослыл апостолом добродетели
и получил прозвище «бича князей».
ние, достойное того, чтобы его исполнял хор ханжей в утро их по-
стов вместо «silenzio», который бубнит монашеская братия, присту-
пая к трапезе. И в то время, как раздавались похвалы coeli coelorum,
один из ваших слуг принес мне дроздов, отведав которых я был
вынужден спеть вполголоса «Inter aves». Они были так аппетитны,
что наш господин Тициан, увидев их на вертеле и учуяв вкусный
запах, бросил толпу синьоров, которые пригласили его к обеду.
И все вместе мы очень расхваливали птиц с длинным клювом, ко-
торых приправили двумя лавровыми листами и перцем и, добавив
немного сушеной говядины, съели из любви к вам и ради удоволь-
ствия. Как понравились брату Мариано, благородному Моро, Прото
из Луки, Брандино и епископу троянскому овсянки, бекасы, фа-
заны, павлины, миноги, которыми они набили брюхо с одобрения
своих поварских душ, и безумных и подлых, которые живут в их те-
лах. Блажен тот, кто безумен и в своем безумстве нравится дру-
гим и самому себе». Письмо графу Манфредо да Коллальто от
10 октября 1532 года («Lettere», ed. cit., pp. 38—39).
1 См. письмо к королю Франции от 10 ноября 1533 года («Let-
tere», pp. 42—43).
157
Находились и такие, которые его не боялись. Акил-
ле делла Вольта отколотил его К Николо Франко, сек-
ретарь Аретино, поносил его в письмах. Пьетро Строцци
грозился его убить, если он только упомянет его имя.
Случалось, его избивали палками, оплевывали. И то-
гда он сам боялся, потому что был подл и труслив.
Сэр Хоуэл 2 избил его палкой, а он благодарил господа
бога за дарованную ему способность прощать оскорб-
ления. Джованни делле Банде Нере сказал ему перед
своей кончиной: «Ничто не доставляет мне столько стра-
даний, как вид труса»3. Но обычно к нему относились,
как к Церберу, и предпочитали бросать куски, чтобы
заткнуть пасть.
Его письма — шедевры хитрости и бесстыдства. Он
использует все приемы и надевает все маски — от шута
и бахвала до святого человека, оклеветанного и непо-
нятого. В качестве примера вот его письмо, адресован-
ное набожнейшей маркизе Пескара, поклоннице Петрар-
ки, увещавшей его изменить образ жизни и писать бла-
гочестивые произведения:
«На мой взгляд, я не менее полезен миру и приятен
господу богу тем, что растрачиваю бессонные ночи на
пустые писульки, чем если бы стал употреблять их на
дела благочестия. Ведь почему я так поступаю? Из-за
чувственности других и моей собственной бедности. Будь
князья в такой же мере благочестивы, в какой я нужда-
юсь в средствах, мое перо не выводило бы ничего, кроме
1 Болонец Акилле делла Вольта, принадлежавший к свите на-
чальника папской канцелярии монсиньора Джиберти, у которого
Аретино вызвал к себе недоброжелательство. Нападение произошло
в Риме, вечером в июле 1525 года. О предупреждениях, последовав-
ших в связи с соперничеством с Франко и Строцци, см. в цит.
очерке Шаля. О Николо Франко см. в т. I, гл. XII.
2 Так у Де Санктиса в «Nuova Antologia» и в изд. Морано. Сле-
дуя Шалю («Ореге», ed. cit., p. 92), Кроче и Кортезе поправляют:
«Посол Англии» (в то время английским послом в Венеции был
Сигизмунд, или Эдмонд, Харвелл, см. письмо, направленное ему Аре-
тино 12 июня 1538 года («Secondo libro», ed. cit., II, p. 34);. Об этом
эпизоде см. письмо к Франческо дельи Альбици от октября 1547 года,
приведенное в «Ореге», р. 92.
3 См. в «Ореге», р. 40 и 138—139, письмо к Альбици от 10 де-
кабря 1526 года: «Стоит мне увидеть труса, и я говорю себе, что ду-
мать о нем противнее, нежели о причиненном им зле». В примеча-
нии к своему изданию «Истории итальянской литературы» Кроче за-
мечает: «На самом деле речь идет о шутке».
158
miserere. Глубокоуважаемая госпожа, не всем' данб
черпать вдохновение в божественном источнике. Боль-
шинство людей пожираемо пламенем вожделения; но
вы, вы горите лишь ангельским огнем. Для нас музыка
и комедии то же самое, что для вас молитвы и пропо-
веди. Как вы не обратите очей на Геркулеса в огне или
Марсия с ободранной кожей, так и мы — на святого
Лаврентия, терпящего муки на решетке, или на святого
Варфоломея, лишенного кожи. Ну-ка посмотрите! Есть
у меня друг, по имени Бручоли, который посвятил свою
«Библию» христианнейшему королю; за пять лет он не
удостоился даже ответа. А я за свою комедию «Курти-
занка» получил от того же короля драгоценное оже-
релье. Так что, не будь это неприлично, моя куртизанка
могла бы почувствовать искушение поиздеваться над
Ветхим заветом. Примите тысячу извинений, синьора,
за вздор, написанный мною не ради того, чтобы согре-
шить, а чтобы безбедно существовать. Да внушит вам
господь бог, как добиться, чтобы я получил от Себасть-
яно да Пезаро остаток суммы, в счет которой мною уже
получены тридцать скуди. Заранее благодарю и премно-
го вам обязан» *.
1 См. «Ореге», р. 55—56. В оригинале: «Полагаю, что менее по-
лезен миру и угоден господу богу, растрачивая себя на писание
пустяков и разоблачений, а не на серьезное творчество. Единствен-
ная причина такого зла — чувственность других и моя необеспечен-
ность. Если бы князья были в такой же мере набожны, в какой
я нуждаюсь в средствах, мое перо не выводило бы ничего, кроме
miserere. Высокочтимая госпожа, не всем дано черпать вдохнове-
ние в божественном источнике. Других пожирает пламя вожделе-
ния, вы же постоянно горите лишь ангельским огнем, для вас мо-
литвы и проповеди — то же самое, что для них музыка и комедии.
Вы не обратите глаз на Геркулеса в огне или на Марсия с ободран-
ной кожей, а они — на святого Лаврентия, терпящего муки на ре-
шетке, или па апостола, лишенного кожи. Вот пример: мой свояк
Бручоли посвятил свою «Библию» христианнейшему королю, но вот
уже пять лет, как не получил ответа. Не потому ли, что книга была
плохо переведена и переплетена? Л я за свою «Куртизанку» полу-
чил от него большое ожерелье и не смеюсь над его Ветхим заветом
только потому, что это негоже. Примите мои извинения за пустяки,
написанные мною не ради того, чтобы согрешить, а ради того, чтобы
иметь средства к существованию. Да внушит вам господь бог, как
бы мне дополучить с мессера Себастьяно да Пезаро остаток причи-
тающихся мне денег, в счет которых уже мною получено тридцать
скуди, за что буду вам премного обязан». Письмо к маркизе Пескара
от 9 января 1538 года («Secondo libro», ed. cit., II, p. 9).
159
Под конец —булавочный укол, как выразились бы
в наши дни. Это письмо, написанное на одном дыхании,
обнаруживает дьявольский талант. С каким добродуши-
ем насмехается он над набожной женщиной, делая вид,
что возносит ей хвалу! С каким цинизмом заявляет о
том, что извлекает выгоду из людской чувственности и
безнравственности, словно в этом мире нет ничего есте-
ственнее. Он спекулирует также на набожности, и ему
совершенно все равно, писать ли непристойные книги
или жизнеописания святых: «Беседу Наины» \ «Житие
святой Екатерины из. Сиены», «Странствующую курти-
занку» или «Жизнь Христа». А почему бы и нет? Такая
позиция помогает ему зарабатывать и тут и там. Он пи-
шет обо всем и во всех жанрах — диалоги, поэмы, эпо-
пеи, терцины, комедии; им написана даже трагедия
«Горация». Легко представить себе ее героев Горациев,
героиню «Горации» и римский народ, рожденный вооб-
ражением Пьетро. Однако это единственная работа, в
которой Аретино добился подлинной художественности,
так как она выполнена им в преклонном возрасте, когда
он был уже стар и пресыщен и жаждал больше славы,
чем денег. Ему удалось создать шутку, представить от-
влеченный низменный мир, чуждый простоты и величия.
В других его работах угадываешь присущий ему ха-
рактер, который выдает себя стремлением понравиться
читателю, заинтересовать его, завладеть им, произвести
впечатление. Для писателя существуют требования чего-
то вроде нравственного рынка: он знает, на какой товар
больше спроса и какой можно сбыть подороже. Его со-
знание и искусство меняются, подделываясь под вкусы
покровителя и читателей. Вот почему Аретино был-
самым модным, популярным и высокооплачиваемым пи-
сателем. Его непристойные книги — образец жанра ли-
тературы, заполонившего Европу под названием галант-
ных рассказов. Непристойность была тем соусом, кото-
рый начиная с Боккаччо и в дальнейшем пользовался
в Италии большим спросом; здесь подается рагу под
1 Так же у Шаля (op. cit., p. 50), давшего название, под кото-
рым «Беседа» появилась в первом издании «Ragionamento della
Nanna e dell' Antonia fatto in Roma sotto una ficara, ecc» (Parigi
1534). Относительно «Vita di santa Caterina», упоминаемой вслед
за этим, Де Санктис по недосмотру пишет «из Сиены», тогда как
речь идет о мученице Екатерине из Александрии,
160
этим соусом. Его жития святых — подлинные романы,
составленные из всякого рода непристойностей, щеко-
чущих чувства и воображение ханжей.
Он был мастером грубоватых стихотворений; в его
сонетах и терцинах ощущаются желчь и злоба в соче-
тании с угодничеством. Так, например, намекая на щед-
рость Фр-анциска I, он говорит Пьеру Луиджи Фарнезе:
О герцогишка жалкий и вонючий,
Перенимай у короля, болван,
Привычки — вышел подходящий случай.
Любой владелец тридцати крестьян
Мечтает, чтоб его, как бога, чтили,
И напролом в священный лезет стан К
Пьетро злой не по натуре. Его сделали злым расчет
и нужда. Воспитанный среди печальных примеров, без
религии, без родины, без семьи, лишенный всякого чув-
ства порядочности при самых необузданных аппетитах
и больших умственных способностях для их удовлетво-
рения, он возомнил себя центром Вселенной и полагал,
что весь мир должен быть к его услугам. Вот почему
его логика соответствует характеру. У него ясное пред-
ставление о средствах и никакого колебания или борь-
бы с совестью в отношении их использования. Он это
не только не скрывает, а, наоборот, с гордостью афиши-
рует. И в этом его сила.
В известной мере мир был его образом и подобием.
Немало встречалось людей, которые желали бы ему
подражать, но были лишены его таланта, плодовитости,
проницательности, гибкости ума. Поэтому он вызывал
восхищение многих. Аретино был князем, образцом для
всех авантюристов и кондотьеров, которыми была зара-
жена Италия, для людей без принципов и профессии,
бродяжничавших в поисках богатства, чего бы это ни
стоило. Тициан назвал его кондотьером от литературы2,
и Аретино не был оскорблен, а даже кичился этим про-
звищем. Когда он оставался самим собой, не испытывая
1 «Capitolo al re di Francia», vv. 142—147, приведенные в «Ореге»,
ed cit., p. 54.
2 Определение приведено в цит. работе Шаля («Ореге», р. 85).
11 Де Санктис 161
гнета нужды и поступая не по расчету, & нем раскрыва-
лись хорошие качества. Он был веселым, разговорчивым,
добрым, даже щедрым, испытанным другом, признатель-
ным человеком, поклонником великих художников, та-
ких, как Микеланджело и Тициан. Он постиг логику зла
и тщету добра.
3. Как человек Пьетро был значительной личностью,
и изучение черт его характера помогает проникнуть в
тайны итальянского общества, образом и подобием кото-
рого он являлся, сочетая в себе его аморальность, силу
интеллекта и чувство искусства. Не менее значителен он
и как писатель.
В итальянской культуре сказывалась тенденция к си-
стематизации и теоретизированию. Кончился спор, пи-
сать ли на вольгаре или по-латыни. Отныне вольгаре
завоевал все права гражданства. Однако дискутировал-
ся вопрос, как же следует называть вольгаре — тоскан-
ским языком или итальянским. И это был спор не толь-
ко о названии, а по существу, потому что многие писа-
тели заявляли о своем праве писать так, как говорили
в любом месте Италии, и не намеревались ехать во
Флоренцию и брать там уроки. Они предпочитали быть
ближе к латыни, чем к тосканскому. Принимая за обра-
зец Боккаччо и Петрарку, они не признавали никаких
прав за живым, разговорным языком. Разговорная речь
была для них тем общепринятым языком, который они
старались приблизить к языку Боккаччо или к латыни.
Такая практика была повсеместной, за исключением
Флоренции, где в основе языка была не разговорная
речь, смешанная с диалектизмами сицилианскими, лом-
бардскими или венецианскими, а обработанный писате-
лями тосканский говор. И Флоренция, исчерпав твор-
ческие силы, своим словарем Академии делла Круска
воздвигла геркулесовы столбы и сказала: ни шагу даль-
ше! Бембо, а позднее Сальвиати выработали граммати-
ческие формы К Правила сочинения во всех жанрах бы-
ли установлены в трактатах по искусству, в переводах
или пересказах Аристотеля, Цицерона и Квинтилиайа.
1 Так здесь, в «Nuova Antologia» и в изд. Морано. У Кроче и
Кортезе — ччграмматические нормы»»
162
Вдобавок к этому Джулио Камилло добивался, чтобы
изучение всех наук велось по его системе1.
Это была тенденция к нормализации, характерная
для тех эпох, в которые творческие возможности исчер-
паны, развитие культуры приостановилось и она засты-
вает в уже сложившихся формах.
Будучи человеком невысокой культуры, Пьетро счи-
тал все эти правила измышлениями педантов/ В своей
внутренней жизни он был настолько непосредственным
и богатым творческими силами, что ему было трудно
приспособиться к правилам. Педантизм — его враг, про-
тив которого он открыто восстает. Для него педантизм —
это восприятие мира не личное и непосредственное, а
сквозь призму книг и правил. Подобное прилизывание
слов и форм ему так же ненавистно, как лицемерие, при-
крывающееся маской жеманной скромности, и равно-
сильно тому, чтобы, имея волчью шкуру и стоя не боль-
ше других, проповедовать смирение и благопристой-
ность 2.
«Не слушайте этих ханжей,— пишет он кардиналу
Равенны,— дотошных комментаторов Сенеки, которые,
посвятив всю свою жизнь убийству мертвых, довольны
лишь тогда, когда распинают живых. Да, монсиньор,
они воплощают тот педантизм, который отравил Медичи,
тот педантизм, который убил герцога Алессандро, тот
педантизм, от которого пошли все беды мира сего. Го-
ворят, что уста педанта Лютера подстрекали к ереси
и вооружали против нашей святой веры».
Педантизм сделал Лоренцино убийцей, и он же сде-
лал Лютера еретиком, потому что оба руководствова-
1 Намек на знаменитый риторический «Teatro», который задался
целью составить фриульский писатель и грамматик Джулио Камилло
Дельминио (1485—1544) с намерением дать своим современникам
риторическую систематизацию всего познаваемого.
2 Ср. «Ореге», ed. cit., 76: «Не лучше ли, спрашиваю я вас,
чтобы мой дом и стол был открыт и я окружил себя людьми, от-
кровенно развратными и веселыми, нежели прикрываться маской
жеманной скромности и, облачившись в лисью шкуру и стоя не
больше других, проповедовать смирение и благопристойность?» Сле-
дующая цитата в оригинале звучит так: «Насколько было бы лучше,
если бы ваше преосвященство привлекли к себе в дом особ предан-
ных, свободных, людей доброй воли, вместо того чтобы приписы-
вать несуществующую скромность педантам, губящим сочинения
других, тем, кто, убив мертвых, неутомимо наговаривает на них и
не успокаивается до тех пор, пока не сумеет распять живых. Правду
U*
163
лись предвзятыми мыслями, книгами и были лишены
понимания своего времени1.
Не меньшую непримиримость проявляет Аретино по
отношению к педантизму в литературе. Вот что он пи-
шет Лудовико Дольче2:
«Идите в вашем творчестве путями, которые указы-
вает вам природа. Петрарке и Боккаччо подражает тот,
кто выражает свои мысли с тою же мягкостью и изяще-
ством, с какой это делали они, а не тот, кто обкрадывает
их, заимствуя не только «quinci», «quindi», «soventi» и
«snelli», но и целые стихотворные строки. Принимаясь
за стихотворство, педант шумит об образце для подра-
жания3 и, пока об этом трубят в книжках, уродует его,
превращая в набор фраз — правильных, но невыра-
зительных. О заблуждающаяся чернь, говорю я тебе и
повторяю, поэзия — каприз веселящейся природы, и у
того, кто по собственной глупости упустил ее, поэтиче-
ская песнь становится кимвалом без бубенчиков, коло-
кольней без колоколов. Поэтому тот, кто хочет сочинять,
не заимствуя изящества,— жалкий глупец. Примите то,
что я почерпнул у одного мудрого художника, который,
отвечая на вопрос, кому он подражает, указал пальцем
на группу людей, тем самым давая понять, что заим-
ствует живые и правдивые примеры у природы, как
поступаю и я, когда говорю и пишу. Природа с ее про-
стотой подсказывает мне, как сочинять., Разумеется, я
подражаю сам себе, потому что природа — большой лю-
битель общества4, а искусство — привязчиво и ищет, к
кому бы пристать. Так что стремитесь быть не миниатю-
ристами слов, а ваятелями чувств».
говоря, педантизм отравил Медичи, педантизм убил герцога Алее-
сандро, педантизм пробрался в замок Равенны и, что того хуже,
он — причина еретического похода против нашей веры, провозгла-
шенного устами великого педанта Лютера». (Письмо кардиналу Ра-
венны от 29 августа 1537 года, «Lettere», ed. cit., pp. 214 и ел.)
1 В изд. Кроче и последующих весь этот абзац отсутствует, по-
тому что является частью цитаты и как таковой входит в отрывок
оригинала, приведенного в предыдущем примечании.
2 Письмо к Лудовико Дольче от 25 июля 1537 года («Lettere»,
ed. cit., pp. 183 и ел.). Из него приводятся существенные места с не-
которыми незначительными изменениями.
3 В оригинале «Пустить кровь педантам, желающим заниматься
стихотворством».
4 «Большой любитель общества, любит выведывать о чужих
делах».
164
В те времена встречалось немного писателей, не от-
ступавших от природы, достаточно указать на одного из
них —на Челлини; он был сама жизнь, сама веществен-
ность. Но Челлини считал себя невеждой и хотел, чтобы
Варки придал его «Жизни» ученую форму1, тогда как
Аретино воображал, что он выше всех, и тех, кто очи-
щал словарь, без обиняков называл педантами. Он
обладал критическим чутьем, таким верным и безоши-
бочным, что оно кажется просто невероятным для того
времени. Подобная свобода и широта суждения распро-
страняется у него и на искусство, которое он хорошо
чувствует. Он пишет Микеланджело: «Я вздыхал, осоз-
навая, насколько мои возможности ничтожны в сравне-
нии с величием ваших»2.
Любимцем Аретино был его друг и кум Тициан, по-
следовательный и как бы чувственный реализм которого
был ему так по нраву. Испытывая приступ лихорадки,
Пьетро Аретино в задумчивости и созерцательности опи-
рается на подоконник и смотрит на гондолы, проплываю-
щие по венецианскому каналу Гранде, наслаждаясь кра-
сотой природы. Ее вид действует на Аретино очищающе,
преобразующе. Он пишет Тициану:
«Я, как человек, ставший в тягость самому себе, не
знающий, что делать со своими мыслями, поднимаю
глаза к небу. Никогда еще с тех пор, как господь сотво-
рил это небо, оно не представляло собой столь дивной
картины света и теней, воздух такой, каким его хотели
бы изобразить те, кто вам завидует и не может быть
вами. Прежде всего каменные дома кажутся сложен-
ными из какого-то материала, преображенного волшеб-
ством. Потом свет — здесь чистый и живой, а там рас-
сеянный и потускневший. А вот смотрите, другое чудо:
облака, которые на переднем плане почти касаются
крыш, а на заднем — наполовину скрываются за домами.
Вся правая сторона целиком теряется из виду и тонет
в серо-коричневой мгле. Я дивился различным оттенкам,
которые облака являли взору, когда близкие так и горе-
ли и искрились пламенем солнечного диска,- а более
1 См. письмо Челлини к Варки, впервые опубликованное Молини
в его предисловии к переизданию «Vita» (Firenze 1832)\
2 Письмо к Микеланджело Буонарроти от 25 января 1538 года:
«Я вздыхал при мысли, как велико ваше дарование и ничтожно
мое» («Secondo libro», II, p. 10).
IG5
отдаленные розовели нежным румянцем. И как красиво
легкими штрихами кисти природы отдалили фон, на ко-
тором стояли дворцы, как это делает в своих пейзажах
Тициан Вечеллио! Там и сям легли синие тона, отдаю-
щие зеленым, в другом месте — зеленые с синим оттен-
ком, как будто смешанные капризной природой, учи-
тельницей мастеров. Светлыми и темными тонами она
искусно выделяла то, что требовалось ей сгладить или
оттецить. И зная, что ваша кисть черпает вдохновение у
природы, я воскликнул три или четыре раза: «Тициан,
Тициан, если бы вы нарисовали то, что я вам описываю,
то повергли бы всех в такое же изумление, какое охва-
тывает меня!» !
Примечательно, что это чувство живой природы, ее
красок, ее светотеней не накладывает никакого отпечат-
ка на его душу, не возвышает нравственно, а лишь вы-
зывает изумление или эстетическое наслаждение, как
у итальянца того времени. Он воспринимает природу
через портреты и пейзажи Тициана Вечеллио, но видит
ее живой, непосредственно ощутимой и с тем чувством
искусства, которое тщетно искать у Вазари. Среди всего
того, что написано об искусстве и литературе сторонни-
ками академизма, его письма по литературе и живописи
знаменуют первые славные успехи независимой критики,
берущей критерием не книги и традиции, а природу.
4. Каков Аретино-писатель, таков и Аретино-критик.
Он совершенно не задумывается над отбором слов и бе-
рет их все, откуда бы они ни шли и какими бы ни
были —тосканскими, диалектными, иностранными, бла-
городными или просторечными, поэтическими или проза-
ическими, грубыми или нежными, скромными или
звучными. В результате этого язык его сочинений — раз-
говорная речь, и по сей день еще бытующая в итальян-
ском образованном обществе. Он упраздняет период,
разрывает союзы, раскрывает перифразы, разрушает
плеоназмы и эллипсы, порывает со всей искусственно-
стью того механизма, который считался литературной
формой, и приближается к естественному разговору.
У Ласка, Челлини, Чекки, Макиавелли та же естествен-
ность, но на ней отпечаток изящества тосканской речи.
1 Письмо к Тициану Вечеллио от 5 мая 1544 года («Ореге»,
pp. 81 и ел.).
166
Аретино не искушен в тосканском говоре, он —сын при-
роды, не ограниченной рамками родной Италии, и ис-
пользует все языки, извлекая из этого максимальный
эффект. Он избегает тосканских форм, как педантизма,
и ищет не изящества, а выразительности и яркости.
Слово пригодно при условии, что оно дает то представ-
ление о вещи, какое сложилось в его голове, и он не
ищет это слово, потому что обладает даром знать его
одновременно с самою вещью. Не всегда слово это под-
ходит и приемлемо, поэтому часто, злоупотребляя своим
даром, он не пишет, а марает бумагу. Его девиз: «Что
выйдет, то выйдет», и из-под его пера выходят очень не-
равнозначные вещи. Он не только не утруждает себя
оглядками на Цицерона и Боккаччо, но даже поступает
вопреки им, стремясь не к крупным и монументальным
формам, в которых было бы слишком просторно вялой
мысли, а к формам более гибким, поскольку они больше
соответствуют живости его восприятия. Аретино не стре-
мится и к лаконичности, как Даванцати, — праздный ум,
который борется со словами и шлифует их 1, потому что
все его внимание сосредоточено не на внешней стороне
произведения, а на его содержании. Он отказывается
от механических приемов и не заботится о тонкостях
и отделке формы. Он обладает такой творческой силой,
таким богатством мыслей и образов и так плодовит, что
это неудержимо выливается наружу и проявляется более
непосредственно. Ему неведомы затруднения, отклоне-
ния, рассеянность, его стиль так же решителен, как и
его поступки в жизни. Никогда еще не был так верен
афоризм: стиль — это человек. Так же, как его я — центр
1 Хотя Даванцати, по-видимому, был одним из наиболее читае-
мых Де Санктисом авторов в период занятий Тацитом и в школе
Пуоти (см. исследование «L'ultimo de'puristi»), его имя не упоми-
нается ни в «Giovinezza», ни в планах и конспектах ранних лекций.
Здесь он полностью принимает оценку Даванцати-переводчика, дан-
ную Леопарди (в «Titanomachia di Esiodo», опубликованной в «Lo
spettatore italiano» 1 июля того же года и перепечатанной в «Studi
filologici», Firenze 18532, vol. Ill, pp. 171 и ел.), оценку, которая
вызвала возмущение пуристов. (См. об этом заметку Пьетро Джор-
дани «Di un giudizio di G. Leopardi circa il Саго е il Davanzati»,
перепечатанную в цит. томе «Studi filologici», pp. 359 и ел. в «Ореге»
П. Джордани, Milano 1854—1865, vol. XIII, pp. 138 и ел.) См. у Де
Санктиса исследование «La prima canzone di G. Leopardi», опубли-
кованное в августе 1869 года в «Nuova Antologia» и в изд. Эйнауди,
vol. XIII «Leopardi».
167
Вселенной, так и сам он — то, что определяет его стиль.
Изображаемый им мир существует не сам по себе, а че-
рез него, и он обращается с ним по своей прихоти, как
с вещью, составляющей его собственность, и с тою же
свободой, с какой Фоленго обращается с миром своей
фантазии. Но если мир Фоленго — мир вымышленный
и изображен без всякой серьезности, только ради осмея-
ния (отсюда его юмор), то мир Пьетро — реальная дей-
ствительность, что он прекрасно сознает, и изображает
он ее с целью извлечь для себя пользу. Поэтому он не
уважает предмет своего изображения, чувствует себя
выше него и, не отдавая ему всех своих мыслей, превра-
щает в орудие своих интересов, даже ценой опошления
и профанации. В трактовке Аретино Иисус Христос —
странствующий рыцарь1, и он спрашивает: «Что такого,
если я примешиваю сюда вымысел? Когда я говорю о
святых, которые являются нашим небесным приютом,
мои слова становятся словами евангельскими». Говоря
о святой Екатерине2, он замечает: «Я не исписал бы и
шести страниц, если бы стал придерживаться традиции
и истории... Я принял на свои плечи весь груз вымысла,
потому что в конце концов все это во славу господа бо-
га». Порой он вызывает скуку тем, что без всякой мысли
с торжественной выспренностью самозванного оратора
нагнетает эпитеты:
«Как восславить благочестивый, .ясный, изящный,
благородный, пылкий, христианский, правдивый, сочный,
добрый, спасительный, святой и священный язык юной
девы Екатерины, святой, благородной, верующей, милой,
светлой, доброй и уживчивой?»3
Кажется, это колокол, который так гудит, что звон
стоит в ушах. Это то, что называется цветистым стилем,
который Аретино использует за неимением лучшего.
1 См. оценку Шаля «Ореге», р. 101: «Жизнь Иисуса Христа на-
поминает жизнь рыцаря средних веков». И там же следующая ци-
тата, которая в оригинале звучит так: «Когда я обращаюсь к вос-
певанию того, кто является прибежищем наших надежд, поэтические
вымыслы становятся евангельскими».
2 Цитированный отрывок звучит в оригинале так: «У меня почти
все держится на вымысле... ибо после того, как все написанное
во славу бога опущено, произведение, которое само по себе незначи-
тельно, стало бы ничем без помощи того, что я ему придал благо-
даря размышлениям».
8 См. op. cit., «Ореге», pp. 101 и ел*
168
Порой он хочет что-то выразить, но делает это без на-
строения и чувства, отсюда те пышные метафоры и не-
лепейшие утонченности, особенно в панегириках, за ко-
торые ему так щедро платили.
«Ваши заслуги,— писал он герцогу Урбино,— звезды
на небе славы: одна из них почти что планета моего та-
ланта, который я использую, чтобы обрисовать словами
образ вашей души — подлинного лица ваших доброде-
телей — и показать его всему миру; но тщетно я приме-
няю все способности, дабы передать всю доброту, мяг-
косердечие и силу, которые дарованы вам судьбой и де-
лают вас достойным титула князя» К
Период этот в манере Боккаччо, натянутый по мысли
и форме. Это уже не тот случай, когда как выйдет, так
и выйдет, а тот, когда явно не выходит, а надо, чего бы
это ни стоило, чтобы вышло.
Все его панегирики риторичны, метафоричны, нару-
мянены, фальшивы, помпезны, напыщенны до нелепо-
сти и кажутся чуть ли не ироническими карикатурами
в форме выражения преданности синьору. Ему легче
было отзываться плохо, нежели хорошо, что объяс-
няется свойством его циничного и саркастичного харак-
тера. Он избирает высокопарный тон, ищет долговечных
мыслей и приемов, прибегая к прециозному языку,
сплошь состоящему из перлов, но все они — подделка.
Эта прециозность, связанная во Франции с именами
Вуатюра и Ж.-Л.-Г. Бальзака и высмеянная Мольером2,
в Италии определила лицо литературы. Вот несколько
из фальшивых перлов, пущенных в оборот Аретино:
«Я ужу в озере моей памяти крючком мысли... Блеск
моих заслуг от лака вашей милости... Гвоздь благодар-
ности вбил имя моих друзей в мое сердце... Не погре-
байте мои надежды в могиле ваших лживых обеща-
ний 3... Ваше величие возносится по небесной лестнице
1 Письмо герцогу Урбино от 10 декабря 1532 года («Lettere»,
pp. 1 и ел.).
2 Шаль цит. исследование «Ореге», р. 98: «Бальзак и Вуатюр —
последние отзвуки этой отвратительной школы, основанной Аретино
и высмеянной Мольером».
3 Там же у Аретино эти примеры звучат так: «Удить крючком
мысли в озере памяти». «Порядочность одних — позолота для грун-
товой краски покровительства других». «Печать привязанности штам-
пует на сердце имена верных друзей». «Не погребайте надежду
в могиле лживых обещаний»,
169
людям на удивление... Ваше красноречие, питаемое при-
родным умом, дает такие обильные плоды, что дивишь-
ся языку, выражающему мысли, и ушам, которые им вни-
мают. Возьми у Сулеймана, служа христианству, душу
у души, душу у тела и тело у войска К Соедините мою
ярость на одном судне с вашим малодушием. Отдаю
себя вам, отцы ваших народов, братья ваших слуг, вои-
ны человеколюбия и носители милосердия2. Зеркало
лика щедрости — сердце тех, кого она одаривает3. Ваше
превосходительство добивается от меня нескольких
шуток, чтобы превратить их в веер, спасающий от
жары, которая стоит эти дни»4.
Его цветистый или прециозный стиль время от вре-
мени озаряется проблесками гениальности: оригиналь-
ные сравнения, великолепные образы, новые смелые
мысли, резкие мазки и даже прямые находки, правда
чувств и колорита приходят тогда, когда он остается
самим собой, не старается произвести впечатление, как,
например, в этом письме, трогательном при всей его
простоте:
«Небесно-голубые вышитые золотом туфельки, по-
лученные мною вместе с вашим письмом, доставили мне
столько же удовольствия, сколько вызвали слез. Моло-<
дая особа, которой они предназначены, сегодня утром
прошла конфирмацию, и от волнения я не в силах
больше писать» 5.
Отказ от литературных штампов" и манера письма,
приближающаяся к разговорной речи, свободная от вся-
кой заранее принятой идеи и непосредственно выра-
жающая чувство, стиль то цветистый, то прециозный,
как две формы упадка искусства и литературы, — вот
что характерно для Пьетро Аретино — писателя. Он
оказывал немалое влияние. Его окружали секретари,
ученики, подражатели, например Франко, Дольче,
Ланди, Дони и другие ремесленники от литературы.
1 Письмо герцогу Урбино 10 декабря 1532 года («Lettere», p. 2)\
2 Письмо венецианскому дожу Андреа Гритти, без даты (ibid.,
р. 4).
3 Письмо герцогу Мантуанскому от 11 мая 1529 года (ibid.,
р. 23).
4 Письмо тому же адресату от 2 июня 1531 года ('bid., p. 32).
5 Письмо епископу Пиццы от 4 июня 1538 года, отрывок приво-
дится Шалем в <Юреге», р. 80.
170
«Мои книги написаны, — пишет Дони, — прежде, чем
сочинены, и прочтены прежде, чем напечатаны»1.
Однако «Библиотека» Дони читается еще и поныне
благодаря несомненному блеску изложения и любо-
пытным наблюдениям, содержащимся в ней.
5. Бесспорно значение Пьетро и как комедиографа.
В его пьесах живет условный комедийный мир, ведущий
начало от Плавта и Теренция, с бытовыми деталями,
почерпнутыми в народной жизни того времени. От клас-
сических образцов шли двусмысленности, узнавания, пу-
таница, случайности, вызывавшие живой интерес зри-
теля. Действующими лицами были персонажи, обла-
давшие условными характерами: парасит, слуга-обжора,
куртизанка, хитрая служанка — сводня, блудный сын,
отец — скупой и насмешник, трус, разыгрывающий из
себя храбреца, посредник, ростовщик. Наши комедии
представляют интерес для того, кто желает познать
тайны итальянской испорченности. Он увидит, как
рвутся семейные узы, увидит праздных сыновей на шее
отцов, уловки ростовщиков, придворных и сводников,
вызывающих смех респектабельной публики. Таков мир
этой пересыпанной нескромными «лацци» и непристой-
ными шутками комедии, построенной по образцу рим-
ской.
Самым плодовитым комедиографом того времени
был Чекки, умерший в 1587 году; менее чем за десять
дней он импровизировал комедии, фарсы, представле-
ния на исторические и религиозные темы. Веселость
и флорентийское изящество роднят его с Ласка, но коме-
дии его не так остроумны и динамичны, и порой впечат-
ление таково, что ты попал в стоячую воду. Мир и
характеры, им изображенные, представляют собой об-
щеизвестный, привычный репертуар, а спешка не позво-
ляет придать ему плоть и колорит. Зачастую он остает-
ся бесплотным и бесцветным.
Пьетро постигает эту технику и ломает ее. Он не
считается ни с правилами, ни с традициями, ни с теат-
ральной практикой. «Не удивляйтесь, — говорится в про-
логе к «Куртизанке», — если мой комический стиль не
1 Приводится Шалем в «Ореге», р. 102. См. «I Marmi», ч. I,
беседа VII: «Мои книги, как и сочинения Дони, читаются до того,
как были написаны, и печатаются раньше, чем сочинены».
171
отвечает установившимся требованиям, — ведь в Риме
живут иначе, чем жили в Афинах»1. Одно из правил
запрещало, чтобы персонажи выходили на сцену больше
пяти раз. Пьетро остроумно его высмеивает: «Если вы
увидите, что персонажи уходят со сцены свыше пяти раз,
не смейтесь над этим, потому что даже цепями, удержи-
вающими мельницы на реке, не связать всех посходив-
ших с ума в наши дни». Он бьет на эффект, сокращает
длинноты, преодолевает препятствия, избегает вступле-
ний, вставных эпизодов, описаний, многословия и частых
монологов; во всем он ищет действия и движения и
сразу же вводит зрителя в гущу своего мира .мошенни-
ков, переданного ярко и выразительно. В отличие от
Макиавелли у него не встретишь обобщений, широкого
охвата, он не умеет уловить типичное, верным глазом
охватить обширное целое, устанавливать связи и рас-
крывать их с той железной логикой, которая толкает к
выводу. Он человек не мысли, а действия, и сам он пер-
сонаж комедии. Вот почему его пьесы развиваются не
продуманно и не по плану, как «Мандрагора». Общее
от него ускользает, мир он видит в кусках и осколках.
Но его, как и Макиавелли, отличает глубокое знание
человеческого сердца и характеров, которые раскры-
ваются им во всей полноте и рельефности на фоне раз-
личных происшествий и завладевают сценой, принося с
собой выдумку и пикантные положения. Как весело это-
му мошеннику-среди стольких плутов, выведенных на
сцене! Потому что в конечном счете этот комический
мир — мир Аретино, где ему пришлось проявить столь-
ко хитрости и обмана. Основная мысль Аретино: мир
принадлежит тем, кто более ловок, а потому им вла-
деют плуты и наглецы, и горе простакам! Он насмехает-
ся над ними, потому что они — предмет насмешки пуб-
лики, материал для комедии.
Лицемер — прославление мошенника, который, по-
добно самому Аретино, разбогател интригами и обма-
ном. Таланта — куртизанка, которая обманывает всех
своих любовников и, в конце концов разбогатев, обре-
тает уважение и назло другим выходит замуж за своего
давнего и верного поклонника. Философ в одноименной
комедии изучает Платона и Аристотеля, а в это время
1 «Cortigiana», prologo («Ореге», р. 233),
172
жена ему изменяет; все же добряк с ней примиряется.
В «Куртизанке» вокруг мессера Мако, возымевшего же-
лание стать кардиналом, и Параболано, считавшего, что
богатство бросает к его ногам всех женщин, от начала
комедии и да ее конца толкутся куртизанки, сводни и
мошенники; в комедии «Кузнец», или «Главный оруже-
носец», ее протагонист, хотя он и женоненавистник, со-
глашается на брак с особой, которую никогда не видел,
не желая вызвать неудовольствие своего господина, гер-
цога Мантуанского.
Это не вымышленный, субъективный мир, это до-
подлинные нравы тогдашнего общества, переданные со
всеми деталями и с тонкой проницательностью. Пьетро
чувствует себя в нем, как в своей стихии, и веселится
с блеском и темпераментом; его сатиры, панегирики,
эпиграммы — словно фейерверк; он окрашивает их плу-
товскими шутками и непристойностями. Все выведенные
им персонажи — живые и правдоподобные характеры, и
некоторые из них приобрели широкую известность. Так,
его «Кузнецом», оригинальнейшей шуткой \ вдохновля-
лись Рабле и Шекспир. Его Параболано стал обобщен-
ным именем людей самодовольных и тщеславных. Мес-
сер Мако — типичный образ, прародитель Пурсоньяка.
Его лицемер — это Тартюф, только безвредный и пред-
ставленный без осуждения. Его философ, которому он
дал имя Платаристотеля, — карикатура на платоников
той эпохи. Послушать, как он сыплет афоризмами,—
это мудрец, однако он лишен жизненной сметки и слуга
хитрее и опытнее его, а жена Тесса — в свою очередь
хитрее слуги. Пока Платаристотель произносит по
1 Эти сопоставления, как и несколько далее сближение мессера
Мако из «Куртизанки» с Пурсоньяком Мольера, имеются у Шаля
(op. cit., p. 103). В связи с ссылкой на Рабле ср. Marescalco, дей-
ствие II, сцена 5, и «Пантагрюель», кн. III, гл. IX и ел. Имеется в
виду разговоо Пантагрюеля и Панурга об отрицательных сторонах
брака. Они сопоставляются также у Жэнгене в цит. «Histoire
litteraire d'ltalie», V. p. 245. Однако не исключено, что данный мо-
тив, распространенный в литературе еще до Аретино и Рабле, по-
черпнут обоими писателями, почти современниками, из разных
источников. Еще менее обоснована ссылка на Шекспира: можно го-
ворить о психологической аналогии, вызывающей в памяти Мальво-
лио из «Двенадцатой ночи», а мотив «девушки, переодетой в пажа»
(см. последнюю сцену «Кузнеца»), — сравнивать с прологом «Укро-
щения строптивой»,
173
адресу женщин сентенции, жена его обманывает, а слуга,
который знает об этом, над ним потешается1.
Платаристотель. Женщина — проводник зла
и мастерица по части низо-
сти.
Слуга. Кто знает, тот молчит.
Платаристотель. Грудь женщины наполнена
обманом.
Слуга. Горе тем, кто этого не ведает.
Платаристотель. Добродетельна лишь та, ко-
торой никто не домогается.
Слуга. Я и сам точь-в-точь такого
мнения.
Платаристотель. Тот, кто сносит женины из-
мены, учится прощать оскорб-
ления.
Слуга. Хорошее средство для тех, у
кого легкие не в порядке.
И в заключение слуга говорит:
«Ваша Мудрость, принимайте жизнь с хорошей сто.-
роны и не очень-то пускайтесь в ученые рассуждения, а
то как бы потом вам не пришлось горько пожалеть об
этом».
«Говоришь ты красноречиво, — отвечает философ,—
но не способен заглянуть вглубь .из стремления к славе,
порождаемого философствованием».
Его Боккаччо — один из тех простаков, которые, по-
пав к куртизанке в коготки, оказываются со спущенной
шкурой. Ее служанка старается его заинтриговать2.
Боккаччо. С чего бы это твоя госпожа пожелала
говорить со мною, с человеком, ей не-
знакомым?
Лиза: Быть может, она прослышала о вашей
любезности, если таковая за вами ro-
дится.
Боккаччо. Ты любишь говорить приятное.
1 «II Filosofo», действие I, сцена 5 («Opere», pp. 109 и ел.).
2 Ср. «II Filosofo», действие 2, сцена, 13 — после первого моно-
лога Боккаччо: «Что за причина...»
174
Лиза. Порази меня гром, если она не жа-
ждет говорить с вами.
Боккаччо. Кто мил, тот это показывает.
Л и за. При виде ее все другие красоты пере-
станут для вас существовать1. Замри-
те, взирайте на солнце, луну и звезды,
которые светят над ее входом.
Боккаччо. Что за отличная внешность!
Лиза. Какая тонкая оценка.
Боккаччо. Лишь бы я был тем мужчиной, кото-
рого она ищет. Иногда имена вводят
в заблуждение.
Лиза. Ваше звучит так сладко, что липнет
к губам. А вот и она сама устремляет-
ся к вам, раскрыв объятия.
Куртизанки — излюбленный персонаж Аретино. Его
Анджелика2 — типичнее всех остальных, Нанна 3 — ше-
девр этой галереи.
Такова комедия, которую мог дать тот век — послед-
нее действие «Декамерона», аморальный и циничный
мир, главными персонажами которого являются при-
дворные и куртизанки, а центром — римская курия,
служившая мишенью для насмешек Аретино, укрыв-
шегося в Венеции, как за скалой, и обеспечившего себе
безнаказанность.
Согласно очень выразительному народному преда-
нию, Пьетро умер от смеха, как умер Маргутте и как
умирала Италия.
1 В оригинале «забудутся вами».
2 В поэме «De le lagrime di Angelica».
8 О Нанне см. «Ragionamenti», p. 630.
*******************************************
XVII
Торквато Тассо
1. Испано-папская Италия — конец независимости и сво-
боды. Тридентский собор и предварительная цензура; просве-
щение в руках священников. 2. Значение и смысл реформации
и Тридентского собора; политические последствия собора —
освящение абсолютной монархии. Религия — орудие политики.
Скепсис и ханжество образованных классов и блаженное не-
ведение простого народа, поощряемое свыше. 3. Сопротивление
одиночек: Социн. Религиозная борьба во Франции и в Испа-
нии, влияние религиозного чувства на создание единой нации
и на духовную жизнь этих стран, оставшихся католическими.
Отсутствие религиозных, нравственных и политических стра-
стей в Италии: подмена чувства родины католическим космо-
политизмом. Признаки новой Италии в оппозиции Испании и
папе. Идейный застой и обостренное внимание к форме.
4. Флорентийская академия чистоты языка «della Crusca» и
создание языка, оторванного от живой разговорной речи.
Спероне Сперони. Грамматические правила и подражания
классическим образцам. 5. Челлини — последний авантюрист
XV века. Ясный и решительный стиль его «Жизни». 6. «Осво-
божденный Иерусалим» — произведение не поэтическое, скорее
критическое. Литературные взгляды Тассо и его идеал эпи-
ческой поэмы на классический лад. Приел!, оказанный крити-
кой, и споры об «Иерусалиме». Защита поэта и «Завоеванный
Иерусалим». 7. Сравнение поэтики Тассо и поэтики Данте:
смешение поэтической истины с философской. Ошибочная
концепция эпической жизни, исключительная забота об исто-
рической правде и о достоинстве формы. 8. Противоречия
в характере, воспитании и жизни Тассо. Петрарка и Тассо —
великие больные, поэты переходной эпохи. 9. «Иерусалим» —
поверхностное и формальное выражение религиозного волне-
ния. Тассо — ученый и эрудит, но он чужд живой культуре
своего времени. Религиозный дух поэмы, в основе своей
рыцарской, фантастической, романтической и чувственной.
Одноплановость образа Готфрида. Поэтическая ценность
образа Армиды; Ринальдо и драматический конфликт между
разумом и чувством. 10. Переделка поэмы, попытка придать
ей серьезность, правдивость и религиозность и несостоя-
тельность этих намерений, противоречивших итальянскому
духу и самой природе поэта. И. Отсутствие гармонического
175
целого и поэтические эпизоды «Иерусалима». Основная сю-
жетная линия поэмы — фантастический роман в духе Ариосто.
Единственная связующая нить — любовь, зачастую искусствен-
ная и риторичная. Тщетные усилия Тассо придать поэме
серьезность. 12.. Лирический мир, субъективный и музыкаль-
ный, — подлинно оригинальное творение Тассо. Пасторальная
драма — единственный живой жанр в испано-папской Италии.
13. Гений Тассо в передаче чувства. Расплывчатость картин,
описанных с излишним чувством. Образ Клоринды, элегичной
в смерти. Софрония — бесцветная религиозная фигура. Танк-
ред — подлинный герой поэмы, персонаж лирический, созвуч-
ный душе поэта, воплощающий его идеал женственности.
14. Суть и смысл поэмы в создании пасторального идилличе-
ского мира. Эрминия. Армида — главная героиня этой пасто-
рали, ясность и правдивость ее женской судьбы. Идущее от
античности изображение природы, волшебной и искусственной,
доведено поэтом до совершенства. Микрокосм поэта, вопло-
щенный сжато и выразительно в «лесе» ошибок и страстей.
Натура Тассо — музыкальная, склонная к меланхолии и чув-
ственная. 15. Искусственный, высокопарный стиль, риторика,
Замысловатость, антитезы, нескончаемые монотонные и звуч-
ные эмфазы. 16. «Иерусалим» — эхо томлений, экстазов и жа-
лоб Тассо-мученика, хотя и не сознающего этого, выражает
трагедию общего упадка Италии того времени.
1. Ариосто, Макиавелли, Аретино — три проявления
итальянского духа в ту эпоху: богатая художественная
фантазия, которая, не скрывая того, что является чи-
стым вымыслом, сама над собой иронизирует; воз-
мужалый ум, отметающий иллюзии чувства и фантазии
и вводящий читателя в храм науки, в мир человека и
природы; аморальность — неосознанная, не знающая
угрызений совести, а потому бесстыдная и цинич-
ная.
Вокруг Ариосто группируются бесчисленные новелли-
сты, романисты и авторы комедийного жанра — образо-
ванная и праздная публика, не принимавшая реальной
действительности всерьез и жившая в волшебных зам-
ках. Вокруг Макиавелли — известные государственные
деятели и историки, например Гвиччардини, Джаннотти,
Парута, Сеньи, Нарди и другие крупные мыслители, ис-
кавшие прибежища в науке. Аретино окружен разно-
шерстным людом—литераторы, комедианты, шуты, при-
дворные, торгаши и ремесленники. Ариосто дает своей
фантазии такую волю, что порождает иронию. Макиа-
велли доводит логику и реалистичность своего подхода
к вещам до такого предела, что внушает ужас. Аретино
своим безграничным цинизмом внушает отвращение.
\2 Де Сэнктис
177
Три проявления итальянского духа получили у этих пи-
сателей свое наиболее яркое и полное выражение.
То было время, когда в Европе завершался процесс
консолидации крупных государств, представлявших со-
бой в понимании Макиавелли отечество, то есть поли-
тическое целое, усиленное и скрепленное религиозной,
нравственной и национальной идеей. И то было время,
когда Италии не только не удалось образовать государ-
ство, но она потеряла свою независимость, свободу и ве-
дущую роль в мире1.
Хотя эта трагедия и помешала рождению националь-
ного самосознания, она имела некоторые положительные
последствия. После стольких потрясений настали време-
на мира и покоя. Народы, уставшие от смут.и борьбы
и привыкшие к смене хозяев, готовы были сносить новое
владычество, поскольку оно не сказывалось на их зако-
нах, обычаях, традициях и вероисповедании и не угро-
жало их жизни и существованию.
Никакое волнение в народе, подобное выступлениям
в Неаполе против инквизиции и установления таможен-
ной пошлины на фрукты, не выявило ограниченных спо-
собностей правителей и благородства чувств поддан-
ных. Что касается образованных классов, то они уже
давно ушли в личную жизнь, отдавшись досугу, запол-
няемому занятиями литературой, городским и сельским
удовольствиям; в их жизни ничто не изменилось, и им
казалось, будто в Италии не произошло никаких пере-
мен. Были довольны также и литераторы, не испыты-
вавшие недостатка в хлебе при дворах *и в досуге — в
академиях.
У этой испано-папской Италии был даже более при-
стойный вид. Поскольку много кричали о том, что все
зло идет от падения нравов, особенно угрожающего в
среде духовенства, Тридентский собор принялся иско-
1 Чтобы лучше понять точку зрения Де Санктиса, изложенную
на этой странице, см. аналогичные рассуждения Кине (op. cit., II,
р. 314): «В эпоху Тассо все изменилось. Неожиданная католическая
реакция смутила и нарушила последнее согласие. В этом блестящем
мире, захваченном врасплох, начался разброд. Родина исчезла; от-
ныне встречаются лишь сильные личности, которые, не считаясь
друг с другом, все больше и больше погружаются в одиночество
и тайну». Для последующих страниц о Тридентском соборе см. всю
главу «La reforme en Italie», ibid., pp. 245—264.
178
ренять зло, улучшая нравы и наводя порядок. «Si поп
caste, tamen caute» («Если не добродетельно, то по край-
ней мере осмотрительно»). Цинизм сменился лицемери-
ем. Порок, будучи скрытым, уже не шокировал. Созда-
лось нетерпимое отношение ко всей фривольной и сати-
рической литературе. Николо Франко, ученик, а позднее
соперник Пьетро Аретино, называвший себя «бичом бича
князей»1, за свою латинскую эпиграмму кончил жизнь
на виселице. Смех Боккаччо замер на устах Пьетро
Аретино. Предварительная цензура, введенная еще Ла-
теранским собором, проводилась с неукоснительной
строгостью. Была основана конгрегация, ведавшая «Ин-
дексом запрещенных книг». Возникли новые монашеские
ордена театинцев, варнавитов, ораторианцев, иезуитов,
в их ведении было изменение системы образования мо-
лодежи и очищение нравов. Создавались стихи религи-
озного содержания, распевавшиеся в церквах и во время
религиозных процессий. Сан Филиппо Нери ввел в оби-
ход «оратории» — драмы и комедии на религиозные те-
мы. Духовенство и монахи захватили дело образования
в свои руки. Повеяло духом святости.
2. То была реформа, проведенная Тридентским собо-
ром,— Сарпи назвал ее «контрреформацией»2. Излюб-
ленной темой итальянских поэтов и протестантов были
скандалы в папской курии. Рим, который Данте назвал
блудницей, а Петрарка — Вавилоном3, был атакован
протестантами с самого уязвимого фланга — нападки
на царивший там разврат вызвали живой отклик в на-
роде. Собор выбил это испытанное оружие из рук про-
тивников, наведя порядок и признав правоту старого
1 Такая ссылка есть и у Канту, op. cit., p. 263. Там же, р. 306,
и сообщаемые дальше сведения о конгрегации Индекса и о теат-
ральной деятельности Филиппо Нери.
2 См. «Istoria del Concilio Tridentino», I, I. Это место полностью
заимствовано у Канту (op. cit., p. 302).
3 Возможно, что с теми местами у Данте, в которых церковь
сравнивается с публичной женщиной и награждается различными
эпитетами («Ад», XIX, 108 и «Чистилище» XXXII, 148 и ел.), и
с определением «Вавилон» у Петрарки («Rime», CXIV) ассоци-
ируется выражение Сарпи «блудница, вавилонская тварь», приведен-
ное тем же Канту, loc. cit. К этой странице и к последующим, на
которых рассказывается о Тридентском соборе и иезуитах, см. также
Сеттембрини «II gesuitismo nella vita italiana» в «Lezioni», II,
p. 217 и ел»
12*
179
Савонаролы. Устранив основание для брожения умов,
Собор полагал, что лишил протестантскую рефор-
мацию почвы, и рассчитывал на примирение. Но раз-
врат духовенства был лишь предлогом, а не истинной
и глубокой причиной немецкой реформации и итальян-
ского неверия; причина же заключалась в том, что воз-
мужавший и раскрепощенный разум больше не желал
мириться с властью церкви и добивался свободы сове-
сти. Однако Собор ничего не сделал в этом направлении,
например не демократизировал церковную иерархию и
не признал допустимой некоторую широту во мнениях
по отдельным вопросам. Наоборот, он расширил власть
папы за счет власти епископов, приблизив церковную
иерархию к абсолютной монархии и решив все вопросы
догматики и вероучения, исходя из отрицания правомоч-
ности разума и сознания отдельного человека. В резуль-
тате произошел окончательный раскол христианской Ев-
ропы на два лагеря: в одном — Реформация, в дру-
гом— Италия и папство.
Знаменем Реформации была свобода совести и пра-
во разума толковать библию и вопросы теологии, папизм
же отстаивал непреложность авторитета церкви, а так-
же папы и пассивное послушание «credo quia absurdum»
(«верю, ибо это абсурдно») К Эта борьба между верой
и наукой, авторитетом и свободой так же стара, как и
сама религия, но раньше она велась вокруг того или
иного догмата и лишь теперь затронула сознание, и рас-
хождение было возведено в принцип. Этому сознанию
становилось все яснее значение Реформации и Тридент-
ского собора. До этого в Италии наблюдался своего ро-
да эклектизм: философия каким-то образом уживалась
с теологией, античность — с христианством, самые сме-
лые идеи пробивали себе путь, когда они сопровожда-
лись призывом «спасите веру».
Это был своего рода молчаливый компромисс, да-
вавший возможность миру, хорошо или плохо, двигаться
вперед без больших потрясений. Отныне двусмысленно-
сти стали невозможны, как и ораторское лицемерие: обе
враждующие стороны знали, чего хотят, и заняли свои
позиции. Церковь в лице папы объявила себя единствен-
ным и непогрешимым толкователем истины и провозгла-
1 Знаменитое выражение Тертуллиана («De carne Christi», V).
180
шала ересью уже не то или иное утверждение, но и сво-
боду, разум и право обсуждать и спорить. В этой борьбе
наметилось современное понимание свободы. Во време-
на античности под свободой подразумевалось участие
граждан в управлении; в этом смысле ее понимает и
Макиавелли. В новое время наряду с политической сво-
бодой существует свобода разума, или, как уже говори-
лось, свобода совести, что означает свободу мыслить,
писать, собираться, спорить, иметь свое мнение, распро-
странять его и склонять к нему, то есть ставится вопрос
о существенных свободах индивидуума, о естественном
праве человека, которое не подвластно ни государству,
ни церкви. Отсюда вытекало, что толковать и провоз-
глашать истину — естественное право человека, а вовсе
не привилегия духовенства, тем самым особенностью Ре-
формации было обмирщение религии. Противополож-
ная концепция, исходящая из всемогущества церкви
или государства, утверждала божественное право, тео-
кратию, цезаризм, растворение индивидуального нача-
ла в коллективном, будь то церковь, государство, папа
или император.
Тридентский собор сказался не только на церковных,
но и на политических отношениях. От него шло освяще-
ние абсолютной монархии на развалинах феодальных
привилегий и общинных свобод. Папа и король подали
друг другу руку. Король ссудил папу светской властью,
папа же освятил и узаконил власть короля, предоставив
в его распоряжение инквизиторов и духовников. Монар-
хический строй повторял церковную иерархию, исполь-
зуя тот же принцип авторитета и пассивного повинове-
ния. Трон и алтарь были в равной степени нерушимы
и бесспорны. Вольномыслие по отношению к папе и ко-
ролю считалось бунтарством, отсюда вошло в поговорку,
что «De Deo parum, de rege nihil» К Так религия стала
орудием политики, а религиозный деспотизм — естествен-
ной опорой деспотизма политического.
Однако авторитет и вера таковы по природе, что их
нельзя навязать. И в Италии было так же трудно
1 «О боге немного, о короле ничего». Девиз, сложившийся в ан-
тиреформистской среде. Он стал почти поговоркой — ср. со стихами
Джусти: «Quand'era canone di Galateo nihil de principe parum de
Deo!» в «Preterito piu che perfetto del verbo pensare», 1839,
vv. 17—20 («Poesie», ed. Barbera, Firenze 1859, pp. 85 и ел.).
181
восстановить веру, как и нравственность. Отсюда неиз-
бежно следовало ханжество, то есть соблюдение формы
вопреки убеждениям.
В языке, обычаях, в общественной и личной жизни
стали придерживаться мудрого правила — притворяться
и фальшивить, а это повело к глубокой безнравственно-
сти, лишив совесть всякого значения, а жизнь — всякого
достоинства. Неверующие, скептически настроенные об-
разованные классы смирялись перед этой жизнью в мас-
ке с такой же легкостью, с какой они привыкли к игу
иноземного владычества. Плебейские же массы пребы-
вали в состоянии блаженного неведения, в котором при-
вилегированные классы ради своих интересов старались
их держать.
3. Против этого всего нередко выступали одиночки.
Многие верующие, даже из среды духовенства, предпо-
читали огонь костра или изгнание необходимости посту-
пать против совести.
Целые семьи покидали Италию, чтобы заниматься
своей профессией в другом месте. Люди, отличавшиеся
добродетелью и ученостью, прославляли родную страну
устным и письменным словом в Швейцарии, Англии и
Германии.. Самым деятельным среди них был Социн
(Сочино) из Сиены, последователей которого называли
социнианцами. Заслуга его заключалась в том, что он
отличался гораздо большей ясностью взгляда на Рефор-
мацию, нежели Лютер и Кальвин, доказывая, насколько
итальянский ум в то время был впереди в спекулятивном
мышлении. Став выше пристрастных споров в толкова-
нии того или иного теологического "положения, в кото-
рых упражнялись Лютер, Меланхтон и Кальвин, Социн
провозгласил всесилие разума и, отвергнув какое бы то
ни было сверхъестественное начало, божественное все-
ведение и предопределение, сделал человека свободной
воли центром Вселенной. В нем сразу можно распознать
итальянца, соотечественника Макиавелли К
К таким примерам и таким мученикам Италия отно-
силась безучастно. Проблемы, из-за которых половина
1 Ср. соответствующее суждение Канту, op. cit., p. 296: «Социн
действительно был большим ересиархом, потому что не знал меры
в прославлении прав разума; если Лютер и другие сделали светской
религию, то он сделал светским бога и, отвергая сверхчувственное,
стал отцом рационализма — ереси нашего времени».
182
Европы была обагрена кровью, ее не волновали. Хотя
это были проблемы, от решения которых зависело буду-
щее цивилизации и судьбы народов. Все латинские на-
роды— испанский, французский, итальянский — остались
католическими. Но в Испании и во Франции жестокие
преследования навсегда оставили память о Верховном
инквизиционном трибунале и о Варфоломеевской ночи.
В этой борьбе закалялся дух нации и оттачивались умы,
а религиозное чувство, раздувавшееся из политических
соображений и в угоду фанатизму, явилось фактором
цивилизации, оно объединяло силы вокруг абсолютной
монархии, способствуя формированию единой нации и
ускоряя повышение духовного уровня. Испания Карла V
и Филиппа II имела своего Сервантеса, своего Лопе и
своего Кальдерона, у Франции был свой золотой век
с его поэтами, философами и ораторами — Декартом,
Мальбраншем и Паскалем, Боссюэ и Фенелоном, Кор-
нелем, Расином и Мольером. Обе нации вышли из борь-
бы сильными, процветающими, достигнув прочного
объединения.
В Италии не было борьбы, а потому и не было на-
ционального самосознания, хотя лучше сказать — не бы-
ло религиозных, нравственных и политических убеждений
и страстей. Когда другие нации только еще вышли на
дорогу, итальянская была уже" скептически настроена,
утомлена и находилась в конце пути. Италия оставалась
папистской, хотя ее культура была языческой и анти-
папской. Ее католицизм не был результатом религиоз-
ного обновления умов, которого добивался монах Саво-
нарола, а следствием инертности и пассивности; ей не
хватало сил ни на то, чтобы бороться с католицизмом,
ни на то, чтобы его принять. Многим нравилось это ве-
личайшее изящество и безукоризненность обрядов, они
не возражали против нового возвеличения папства и, не
имея родины, охотно фабриковали всемирную, или като-
лическую, с центром в Риме. Стало модным обрушивать-
ся в проповедях на еретиков, прославлять победы като-
ликов над турками, как, например, при Лепанто, а позд-
нее— освобождение Вены1. Испания и папа повелевали,
1 Ср. далее, гл. XVIII, страницы, посвященные Кьябрере и Фи-
ликайе; первый — автор канцоны на победу под Лепанто (которую
прославил также Марино в «Адонисе»), второй в восьми канцонах
воспел освобождение Вены.
133
не встречая противодействия. Однако если Филипп II
или Людовик XIV могли заявить: «Государство — это
я», то Испания и папа не могли сказать: «Италия — это
мы». Им недоставало того прямого согласия, которое
идет изнутри и образует национальные связи. Итальян-
ский дух покорился, но лишь внешне, по инерции, с не-
довольством и не уподобляя себя никому. В старые идеи
уже не верили чистосердечно, а новых, формирующих
сознание и воспитывающих характер, не было,— отсюда
то поверхностное и внешнее их принятие, то состояние
пассивной покорности и та нравственная спячка. Интел-
лектуальная сила принадлежала не Испании и папе, а
была против них. И если мы пожелаем отыскать эле-
менты новой Италии, которые медленно возникали, то
искать их следует в оппозиции к Испании и папе. Исто-
рия этой оппозиции составляет историю новой жизни.
Первым проявлением этой итальянской спячки была
механистичность, застой идей, стремление закрепить и
увековечить установившийся порядок. Приостановилось
всякое развитие философии и мышления. Тридентский
собор поставил геркулесовы столбы, думая, что они
устраивают всех. Наука была взята под сомнение. Раз-
решалось лишь разрабатывать учение Платона. Большие
проблемы назначения человека, проблемы этики, поли-
тики, метафизики были отложены в сторону, и мысли
не оставалось ничего иного, как постигать природу в
рамках библии. Зато стали больше уделять внимания
изучению формы.
4. Именно в эту пору была создана Флорентийская
академия чистоты языка (della Crusca), которая была
для итальянского языка своеобразным Тридентским со-
бором. Она тоже отлучала писателей и вырабатывала
догмы. От нее пошла путаница, возможная лишь при
существовавшей тогда праздности умов 1.
К этому времени наш язык уже приобрел по всей
Италии стабильные формы. Тосканская речь была, по
выражению Спероне Сперони2, цветом итальянского
1 Об Академии della Crusca и ее грамматической диктатуре см.,
в частности, у Фосколо в «Epoche», vol. cit., pp. 245 и ел., Эмилиани-
Джудичи в «Storia della letteratura italiana», II, pp. 51 и ел., и у
Канту, op. cit., pp. 174 и ел.
2 Ср. «Dialogo della istoria» («Ореге», vol. II, Venezia 1740,
р 251),
184
языка. Итак, существовал итальянский язык, поскольку
имелись единый словарный фонд и единый грамматиче-
ский строй, принимавшие различный вид и окраску в
разных частях Италии. Как и теперь, тогда в итальян-
ском писателе можно было распознать тосканца, уро-
женца Ломбардии, венецианца или неаполитанца. Это
разнообразие видов и окраски, этот местный элемент
составляли живую часть языка, которую писатели чер-
пали в родной для них среде. Если бы Флоренция, по*
добно Парижу, стала действительно центром Италии,
то флорентийский язык стал бы для всех итальянских
писателей живым языком и, естественно, привлекал бы
их. Но в те времена Флоренция была для итальянцев
музеем, памятники которой, в том числе и ее писате-
лей, следовало изучать. Флорентийская академия della
Crusca подходила к итальянскому языку, как к латин-
скому, то есть как к сформировавшемуся и замкнутому
в себе, так что оставалось только составить его инвен-
тарную опись. Она провозгласила правильными слова,
имевшиеся в его словаре и введенные в употребление
тем или иным писателем, а все остальные отвергла. Опи-
раясь на свой авторитет, она отделила «чистых» писа-
телей от «нечистых». Тем самым изъятый из живого упо-
требления язык стал трупом — анатомированным, изу-
ченным, искусственно оживленным, и итальянцы учи-
лись писать на родном языке, как они писали по-латы-
ни или по-гречески. Петрарка и Боккаччо стали таки-
ми же непреложными образцами, как библия, и «так
нельзя» настолько вошло в обиход и по отношению к
словам, что вывело из терпения даже иезуита Бартоли 1.
Чтобы показать, в какой мере приходилось осваивать
родной язык образованным итальянцам, укажу на Спе-
роне Сперони, человека высокой культуры и незауряд-
ных способностей.
«Испытывая с ранних лет весьма большое желание
выражать свои мысли и излагать их письменно по-италь-
янски— и не столько для того, чтобы меня понимали,
1 О Даниелло Бартоли см. ниже в гл. XVIII. О знаменитом трак-
тате «II torto e il diritto del «non si puo» dato in giudizio sopra
molte regole della lingua italiana», опубликованном Бартоли под
псевдонимом Ферранте Лонгобарди в 1655 году, и о его значении
для школы Пуоти см.: «La Giovinezza», в частности гл. XI, XVII и
XXI.
185
чего достоин каждый романский язык, сколько для
того, чтобы имя мое попало в число известных и произ-
носилось с похвалой, — я поистине с первых лет, отложив
все другие занятия, с величайшим усердием обратился
к чтению Петрарки и «Декамерона», в чем без больших
результатов упражнялся немало месяцев, пока нако-
нец господь бог не надоумил меня обратиться к нашему
господину Габриеле Трифоне, который, в совершенстве
зная и понимая этих двух авторов, любезно оказал мне
помощь, тогда как я прочел их по нескольку раз, не ве-
дая, на что должно обращать внимание» К
Все это один период, на одном дыхании! Надо ли го-
ворить, как он владеет живым языком!
И вот выступает на сцену Трифоне, один из наибо-
лее почитаемых в те времена грамматистов, прозванный
Сократом:
«Прежде всего этот добрый монах заставил меня вы-
писать слова, затем обучил правилам спряжения тоскан-
ских глаголов и склонения имен существительных, нако-
нец, растолковал артикли, местоимения, причастия,
наречия и другие части речи, так что, приведя свои по-
знания в систему, я составил собственную грамматику,
которой и руководствовался при письме. После того как
я, на мой взгляд, преуспел в грамматике, я принялся со-
чинять стихи. И вот, наполненный метриками, оборотами
и словами, почерпнутыми у Петрарки и Боккаччо, я не-
сколько лет приводил своих друзей в восторг. Когда же
мне показалось, что мой источник стал иссякать — слу-
чалось, мне не хватало слов и нечего было сказать в том
или ином сонете или же одна и та же мысль приходила
ко мне вторично,— я с величайшим усердием составил
глоссарий, или словарь вольгаре, расположив раздельно
в алфавитном порядке все слова, употребляемые тем
1 «Dialogo della Rettorica» («Ореге», I, p. 223). Отрывок при-
водится полностью, с некоторыми упрощениями в написании, а сле-
дующий (ibid., pp. 223—224) — с некоторыми сокращениями. Про-
звище Трифоне Габриеле «Сократ» — там же: «Следуйте полностью
советам Трифоне Габриеле, нового Сократа нашей эпохи» (ibid.,
р. 241). Своей славой грамматика и литератора Габриеле (Венеция,
1470—1549) обязан, помимо стихов и комментариев к Петрарке и
Данте, работе «Instituzione della grammatica volgare», которая не
была опубликована, но широко использовалась племянником Три-
фоне— Джакомо Габриеле — в его «Regole grammaticali» (Vene-
zia 1545).
186
или другим писателем. Далее, во второй книге, я указал,
как они описывают вещи, день, ночь, гнев, мир, нена-
висть, любовь, страх, надежду, красоту, расположив со-
бранный материал в таком сжатом виде, что обошелся
без собственных слов и определений, используя только
примеры из новелл и сонетов. Я полагаю, что нашему
ораторскому и поэтическому искусству ничего другого
не остается, как копировать язык того и другого, а про-
зе и стихам — придерживаться их способа изложения».
Следовательно, в ту эпоху языку, «словосочетаниям»,
«метрике», «гармонии», идиомам учились по произведе-
ниям Боккаччо и Петрарки, которые давали материал
для грамматик, словарей и фразеологических реестров.
Этому учил Габриеле Трифоне, прозванный Сократом,
того же придерживался в своей практике Спероне Спе-
рони, прошедший его школу и, как мы убедились, писав-
ший на совершенно искусственном и условном жаргоне.
Так, язык, принятый за классический образец, за норму,
перестает жить, застывает, словно мертвый язык, и изу-
чение его крайне осложняется.
Речь шла не только о чистоте языка, но также о мет-
рике и эстетике. Сложилась наука метрики не только
применительно к стихосложению, но и к прозе. Период
стал сложнейшим искусством. Вот образец, почерпнутый
у Сперони:
«...Как звучание слов определяется их композицией !,
так их метрика определяется числом слогов. Чтобы речь
ласкала слух, хорошее ораторское искусство велит ей
иметь начало, развитие и окончание. Поскольку каждое
положение имеет как начало, так и середину и завер-
шение, постольку вначале оно развивается по восходя-
щей, в середине, утомившись от стояния на ногах, нуж-
дается в передышке и, наконец, движется по нисходя-
щей, устремляясь к завершению и полному покою. Иног-
да удается в прозе удачно сочетать некрасивые слова,
а бывает, что красивые слова в сочетании с другими
оказываются неподходящими; бывает также, что, как и
в музыке, хорошие и даже красивые голоса диссони-
руют, а нехорошие рядом, то ли в силу опыта, то ли уме-
ния, звучат согласно; так и все эти слова — аналогич-
1 Отрывок почерпнут с некоторыми сокращениями из того же
«Dialogo della Rettorica» («Ореге», pp. 231—232).
187
ные, одинаковые и несходные, — сами по себе хорошо
звучащие, произнесенные то резким, не своим голосом,
то отчеканиваемые при широко открытом рте, разъяс-
няют речь. В результате усиленного захвата воздуха
случается, что безупречно составленная речь, льющаяся,
как поток, довольный собственным течением, стремится
не к завершению, а к тому, чтобы передохнуть в пути, и,
если ей хватает дыхания, могла бы двигаться все даль-
ше и дальше; поэтому мы, памятуя о правилах метрики,
преграждаем ей путь, чтобы ласками и жеманством
дать ей освоиться и, пренебрегая учтивостью, насиль-
ственно и резко остановить даже против ее желания».
Что удивительного, если подобные требования при-
вели к тому, что проповедник подбирал свои периоды,
как подбирают звуки в музыкальном произведении. Ра-
зумеется, по такому же принципу строил свои периоды
Сперони. Какое же восхищение должно было вызывать
искуснейшее построение периодов у Бембо, Каза или
Кастильоне! Слово обрело самостоятельность, было
оторвано от обозначаемого предмета; слова делились на
чистые и нечистые, красивые и некрасивые, режущие
слух и его ласкающие, благородные и простонародные.
Секрет изящного стиля заключался в подборе слов. Уси-
лия направлялись на поиски слова не подходящего, а
красивого или же перифразы; повторы считались смерт-
ным грехом, и, пусть даже речь шла об одном и том же,
для каждого случая следовало искать особого слова;
собственные имена опускались, и «каждая вещь обря-
жалась в свое слово»,— как выписывает Сперони у Пет-
рарки, который прибегал к сравнениям вроде: «волосы —
чистое золото» или «золотая кровля», глаза — чистые,
пристанище и приют любви, глаза — звезды, солнце,
сапфиры, щеки или белые и алые, или как молоко и
пламя; губы — рубины, зубы---жемчуг; шея и грудь —
то слоновой кости, то словно мел»1. Живой язык всегда
1 Ср. «Dialogo della Rettorica»: «Говоря о своей возлюбленной,
он описывает и восхваляет то ее тело, то душу, то слезы, то
улыбку, то походку, то стать, то гнев, то милосердие, то возраст;
наконец — то живую, то усопшую, чаще опуская собственные имена,
удивительнейшим образом подбирая для каждого предмета другие
эпитеты, сравнивая голову с чистым золотом и золотой кровлей,
очи — со светилами, звездами, сапфирами или называя их гнездом
и пристанищем любви» («Ореге», I, р. 226).
188
точен, поскольку слово возникает в нем вместе с предме-
том; мертвый язык неизбежно неточен, потому что сло-
во отыскивается готовым в словарях и у писателей, ли-
шенным аксессуаров разговорной речи, уточняющих его
значение и придающих ему особую окраску. Так наш
прекрасный язык, достигший высокого совершенства и
показавший свою мощь и красоту еще в «Энеиде» Каро
и «Таците» Даванцати *, приостановил свое развитие,
как и вся итальянская жизнь, и, когда он был уже при-
украшен, набальзамирован и похоронен в словаре
Академии делла Круска, все еще шли споры, как сле-
дует его называть — тосканским, флорентийским или
итальянским.
То же было и с грамматикой. Критерием служили не
смысл и природа того, что обозначается тем или иным
словом, не логическая необходимость, а разнообразней-
ший опыт писателей. Отсюда произвольные правила и
еще более произвольные исключения из правил, отсюда
каждому слову приписывалось множество смыслов, и
вся эта бесполезность украшалась эпитетом «плео-
назм»2, отсюда и та бесконечная изощренность в каж-
дой букве или слоге. Так родилась неустойчивая орфо-
графия, 730 многом питавшаяся воздухом, и сложный и
неопределенный синтаксис, какая-то мешанина из ча-
стиц, местоимений, родов, падежей, чередований звуков
и порядка слов — грамматика, которая и по сей день
является одной из наименее точных и простых. Наш
язык лишен правильности, а грамматика — определенно-
сти, потому что и язык и грамматика рассматривались
сами по себе, только со стороны формы, безотносительно
к содержанию.
Все внимание сосредоточивалось на внешней отделке.
Литературное творчество свелось к приобретению техни-
1 Об «Eneide» Каро см. юношеские лекции в цит. «Teoria esto-
ria», I, p. 227 и в цит. «Purismo illuminismo storicismo», IL 06
изложении Тацита у Даваннати см. выше. Для лучшего пони-
мания последующих мыслей о грамматике см. там же лекции,
посвященные грамматике, языку, стилю; вообще об отношении
Де Санктиса к грамматическим правилам см. «La Giovinezza», осо-
бенно гл. XVII и XXI.
2 Ср. в «Ercolano» Бенедето Варки: «Эти частицы, называемые
одними подпорками или опорами, другими — плеоназмами, мы назы-
ваем правильностью и украшением»,
189
ческих, механических навыков. Для него искали основу
не во внутренней связи формы и содержания, а в при-
мерах, взятых у писателей. Здесь, как и при построе-
нии периода, придумывалась искусственная и застыв-
шая схема композиции, которая исходила из определен-
ной согласованности частей и целого, как в часовом ме-
ханизме; и все это называлось писать на классический
лад.
Чувство искусства и поэзии было утрачено, и остава-
лась лишь прозаическая установка на формальное со-
вершенство и безупречную правильность. Необыкновен-
ное значение придавалось языку, грамматике, стили-
стике, периодам, композиции — то были геркулесовы
столбы критики. Писатели, которых судили по этим
критериям, восхвалялись в меру того, насколько они
приближались к образцу. Комедии и трагедии того вре-
мени встречали одобрение за их соответствие правилам.
И чтобы добиться успеха у зрителей, на которых ничто
не наводило такой скуки, как подобное строжайшее со-
блюдение правил, приходилось прибегать к грубейшим,
аффектированным приемам, достойным лишь посред-
ственности. Комедии получались шутовскими, траге-
дии — сплошными ужасами, и среди самых невыноси-
мых была как раз «Сапасе» (Каначе») Сперони1. Ита-
лии недоставало только эпического жанра, и Сперони
безутешно сокрушался, не находя ему примера в твор-
честве Петрарки.
«Уподобляясь новоявленному алхимику, я долго тру-
дился в поисках рыцарской поэмы, но это определение
неприменимо ни к одному стихотворению, сотканному
Петраркой» 2.
Триссино успеха не имел. «Неистовый Орландо» не
укладывался в строгие рамки правил, что ему проща-
лось, поскольку это был рыцарский «роман», а не эпи-
ческая поэма. Проблема заключалась в том, чтобы, как
говорил Сперони, «найти эпическую поэму». Каждый ви-
дел, что критический талант ставит Пьетро Аретино
выше других.
1 В отношении «Сапасе» Сперони и «Orbecche» Джиральди см.
юношеские лекции («Teoria e storia», II, р. 30, и «Purismo illumi-
nismo storicismo», III).
2 «Dialogo della Rettorica». Относительно намека на Триссино и
провала его поэмы «L'ltalia liberata» см, т. I, гл. XII.
190
Практические результаты были на уровне этих тре-
бований. Без конца выходили все новые комментарии
к Боккаччо и Петрарке. Много переводили из античных
писателей, в частности, Нарди перевел Ливия, Каро —
«Риторику» и «Энеиду», Ангуиллара — «Метаморфо-
зы», Даванцати — Тацита К Все учебники по грамматике
и риторике — от Бембо до Буонматтеи, прозванного «гос-
подином Плеоназм», даже до Кортичелли 2, — создава-
лись по стандарту. Подражаниями античным образцам,
как и их копированием и стилизацией, охотно занима-
лись даже крупные таланты, например Гвиччардини.
В академиях, возникавших одна за другой под самыми
необыкновенными названиями, было покончено с нераз-
берихой, но и теперь в них шли пустые споры и грамма-
тические диспуты. В противовес этому немало встреча-
лось оригиналов, искавших известность на совсем не-
годном пути; так, например, Ландо 3 обзывал Аристотеля
животиной, а Боккаччо — глупцом, домогаясь внимания
читателей своими «Парадоксами».
5. В первой половине шестнадцатого века благодаря
свободе и даже вольности творчества формальное еди-
нообразие и педантизм не лишали литературу живости,
изящества, колкости и даже непристойности, а писа-
теля— индивидуальности. За классическим образцом
часто скрывался искатель приключений.
Последним из таких авантюристов был Бенвенуто
Челлини, умерший в 1570 году4. Богато одаренная на-
тура, гениальный, но необразованный человек, он соче-
тал в себе черты итальянца того времени, не измененного
1 Аналогично у Сеттембрини: «Среди переводов XV века до сих
пор еще читаются переводы Каро, Ангуиллары и Нарди» («Lezioni»,
II, р. 180).
2 О Бембо («Prose della volgar lingua», 1525), Buonmattei
(«Delia lingua toscana», 1643), Corticelli «Regole ed osservazioni
della lingua toscana», 1745), см. лекции о грамматике в «Teoria e
storia», I, p. 39, и «Purismo illuminismu storicismo», II.
3 О новеллах Ортензио Ландо см. т. I, гл. XII, посвященную
второстепенным чинквечентистам. Что касается цитат из его знаме-
нитых «Paradossi» (1543), приводимых ниже, Де Санктис, по всей
вероятности, почерпнул их у Канту (op. cit., p. 252).
4 Так и в литературе, опирающейся на Канту (в действитель-
ности Бенвенуто Челлини умер в 1571 году). У того же Канту (ор.
cit., p. 263 и ел.) почерпнуты следующие цитаты из Челлини, которые
сверены с уже упоминавшимся изданием «Vita» (М о 1 i n i, Firenze
1832).
191
цивилизацией. В нем сливались воедино Микеландже-
ло и Аретино, или, скорее, он был сырым, необработан-
ным, грубым материалом, из которого получились и Аре-
тино и Микеланджело.
Челлини — гениальный и уверенный в себе худож-
ник, искусство было для него божеством, моралью, за-
коном, правом. Он считал, что художник выше закона
и что «такие люди, как Бенвенуто, непревзойденные в
своем искусстве, не должны быть подвластны зако-
нам»1. В поисках удачи он странствует от одного двора
к другому, вооружившись шпагой и мушкетом, и от-
стаивает справедливость своим оружием и не менее
смертоносным языком, который «пронзает и рубит»2.
Встретившись с врагом, он наносит ему удар шпагой и,
если убивает, тем хуже для того, потому что «бьешь не
по уговору»3. Попав в тюрьму, что кажется ему позо-
ром, он выдает себя за «несправедливо обвиненного».
Он набожен, как ханжа, и суеверен, как наемный сол-
дат. Он верит в чудеса, дьявола, волшебство, а при
нужде вспоминает о боге и святых, распевает псалмы
и молитвы4 и совершает паломничество. Он лишен и
тени нравственного чувства, не отличает добра от зла
и даже хвалится преступлениями, которых не совер-
шал. Враль, хвастун, смельчак, бесстыдник, сплетник,
распутник, насильник и под личиной независимости
слуга того, кто больше ему платит. Он чрезвычайно до-
волен собой и не признает никаких авторитетов, за ис-
ключением «божественнейшего» Микеланджело5. Обла-
дая огромной физической и духовной силой, этот стран-
ствующий рыцарь создал собственное жизнеописание,
в котором обрисовал себя со всеми этими превосход-
ными чертами, будучи в полной уверенности, что воз-
двигает себе памятник славы. Благодаря непосред-
ственности характера и живости ума эти черты отра-
1 «Vita», кн. I, LXXIV. В оригинале «Non hanno da essere ub-
brigati alia legge».
2. Тот же образ и у Канту (op. cit., p. 264).
8 «Vita», кн. I, LXXIII и следующая цитата, CIV (но в ориги-
нале она звучит «Cosi gran torto»).
4 Ibid., кн. II, XCIV «Во имя божие все время воспевал псалмы
и молитвы». См. также русское издание в переводе М. Лозинского —•
«Жизнь Бенвенуто Челлини», М.—Л. 1958, стр. 450.
6 Ibid., кн. I, XLI, в оригинале «divtno Michelangelo».
192
м ^«ы.
Б. Челлини. Нимфа Фоптепебло (бронза).
Б. Челлини. Золотая солонка Франциска 1.
Джорджо Вазари. Портрет Бенвенуто Челлини.
13 Де Санктис
жены в его ясном и четком стиле, словно и тут ort ра-
ботал резцом К
Во второй половине века на эту богатую и вольную
жизнь надеваются путы и личность исчезает за нор-
мами Флорентийской академии и Тридентского собора.
Остаются раздражение, страстишки, доносы, клевета,
грамматическое неистовство — самая грубая и педантич-
ная сторона былой жизни. В это время в Англии был
уже Шекспир; во Франции Рабле и Монтень, полные
итальянских реминисценций, явились прелюдией к ве-
ликому столетию; Сервантес писал своего «Дон Кихота»,
а Камсэнс — «Лузиады» 2. Наши же критики сочиняли
«Грамматические наставления» 3 и «Диалоги о платони-
ческой любви, риторике, истории, о жизни деятельной и
созерцательной», искали и не могли найти героическую
поэму.
6. В годы подобных забот и убожества появился на
свет «Освобожденный Иерусалим». К удовлетворению
критиков, Италия получила свою героическую поэму,
«похожую» на «Илиаду» и «Энеиду». С восторжен-
ностью, присущей молодости, Пеллегрино возвестил
добрую весть трубными звуками4.
1 На беглом описании образа Челлини а замечаниях Де Санк-
тиса об его стиле, о чем см. также юношеские лекции («Teoria e
storia», I, p. 69, и «Purismo illuminismo storicismo», II), как и на
всей романтической критике, явно сказывается влияние известной
заметки Баретти (см. «Frusta letteraria», ed. Sonzogno, Milano 1829—
1830, vol. I, pp. 318 и ел.).
2 Указание на «Лузиады» Луиса Камоэнса имеются также
в «Teoria e storia», pp. 87 и 231, и «Purismo illuminismo storicismo»,
II. Эта португальская героическая поэма неоднократно переводилась
в XVIII веке: Нерви (1814), Брикколани (1826), Беллоти (1862).
3 «Avvertimenti grammaticali a chi scrive in italiano» (Roma
1661) кардинала Пьетро Сфорца Паллавичино (1607—1667), кото-
рый в 1646 году опубликовал также «Considerazioni sopra l'arte
dello stile e del dialogo». О нем, писателе, который «замешивает
в одном тесте мысли с предположениями», авторе «Storia del concilio
di Trento» (Roma 1664), написанной в строго конфессиональном
духе, с тем чтобы нанести встречный удар по творчеству Сарпи, см.
оценку Канту (op. cit., p. 305), «Dialoghi» Спероне Сперони, упо-
минаемые вслед за этим, «Opere», voll. I и II.
4 Своим диалогом «II carrafa ovvero della Epica Poesia» капуан-
ский каноник Камилло Пеллегрино (1527—1603) положил начало
ученому спору вокруг «Иерусалима». Об ответе Сальвиати и во-
обще о полемике см. дальше. Со следующего абзаца начинается
часть главы о поэме Тассо, которая появилась в виде статьи
194
«Иерусалим» относится уже не к области поэзии, а
к области критики. Художественное чутье притупилось,
творческое вдохновение и непосредственность восприя-
тия сменились продуманностью, суждениями, основан-
ными на критических мнениях, которых обычно придер-
живались свято, как евангелия. Ариосто писал так, как
ему диктовало внутреннее чувство, ни на что не огляды-
ваясь. Избранная тема подсказывала его таланту образ
целого мира, живущего своей жизнью, по своим зако-
нам. Тассо, подобно Данте, прежде чем стать поэтом,
был наблюдательным критиком и имел перед собой це-
лую поэтическую школу. И здесь он идет не от избран-
ной им темы, а от предварительного, определенного за-
мысла, определенной идеи, определенных образцов —
Горация и Аристотеля, Гомера и Вергилия. В восемна-
дцать лет он уже чудо учености, знает Платона и Ари-
стотеля и поражает рассуждениями на философские,
риторические и этические темы. Он пишет «Ринальдо»
и, усвоив принцип «simplex et unum», прилагает усилия
к соблюдению единства действия и простоты компози-
ции \ в чем просит извинения у читателя. Но читатель,
привыкший к широкому размаху и пропорциям «Ама-
диса» и «Орландо», нашел эту пищу несколько постной
и скривил рот. Тогда Тассо откладывает в сторону ры-
царскую поэму, или, как говорили, рыцарский роман,
и задумывает дать Италии ту эпико-героическую поэму,
которую все искали. Колеблясь в выборе сюжета, он
подготовил четыре или пять тем и остановился на том,
чтобы изобразить своего покровителя — герцога Аль-
фонсо. Словом, он принялся сочинять «Иерусалим».
Ему хотелось написать «правильную», как тогда гово-
рили, поэму. Своим религиозным и космополитическим
в «Nuova Antologia» за февраль 1871 года. Де Санктис усматривает
в Тассо одну из самых увлекательных для критики тем и неодно-
кратно разбирает «Иерусалим» в неаполитанских лекциях («Teoria
е storia», I, pp. 87—89 и 227—231, и «Purismo illuminismo stori-
cismo», II).
1 Ср. послание «Ai lettori», предпосланное «Rinaldo» (1562), и,
в частности, заявление о том, чтобы «имелся один сюжет, если не
досконально, то по крайней мере хорошо продуманный», в соответ-
ствии с Горациевым «simplex et unum» — «Ars poetica», 23 («Просто-
та и единство» — перев. М. Дмитриева. Квинт Гораций
Ф л а к к, Поли. собр. соч., М, — Л., 1936).
13*
195
характером избранная тема отвечала духу времени, по-
зволяя автору без особых усилий на всем протяжении
поэмы, подобно Ариосто, описывать своего героя, род-
ственного д'Эсте, тем самым воздавая хвалу герцогу.
Тассо проявляет бесконечную заботу о пропорциях и по-
рядке частей, опасаясь, как бы не утратить единство и
простоту композиции. Он печется о правдоподобии, стре-
мясь не подорвать веру в жизненную достоверность соз-
данного им мира. Он вводит серьезную сюжетную ли-
нию, с которой переплетаются другие линии повествова-
ния, и превращает благочестивого Готфрида Бульонско-
го в главного героя, настоящего военачальника и госу-
даря в современном ему смысле слова. Тассо отметает
странствующих рыцарей и строит сюжет, исходя не из
духа приключения, а, подобно Гомеру, перенося дей-
ствие с небес на землю и обратно. Он очеловечивает
сверхъестественное, делая его объяснимым, чуть ли не
аллегорическим, как бы фоном для инстинктов и стра-
стей. Он облагораживает характеры, отбрасывая все
вульгарное, гротескное и смешное, и приподнятый тон
свойствен ему от первого стиха до последнего. В описы-
ваемых поединках и сражениях решают не столько слу-
чай и грубая сила, сколько изобретательность, нрав-
ственная сила, ученость. Он стремился придать своему
рассказу правдивый исторический характер и постоянно
советовался с критиками и давал им читать свою поэму
песнь за песней, внося изменения и поправки. В числе
его критиков и советчиков был Спероне Сперони 1.
Тассо хотел создать серьезную эпическую поэму, про-
никнутую религиозным духом, стоящую как можно бли-
же к истории, к правде или правдоподобию, где чудес-
ное обретет естественное объяснение при такой простой
и последовательной увязке элементов, которая отвечает
требованиям совершенной логики. Таков был тот клас-
сический идеал, которого Тассо стремился достичь на
практике и который разъяснял в своих работах, посвя-
щенных эпической поэме и поэзии, показав, что разби-
рался он в этих вопросах лучше своих противников.
Прием, оказанный поэме, соответствовал ее духу.
Сначала ее читали в отрывках.. А когда она вышла в
1 См. в письме от 1 мая 1576 года в «Leltere», собранные
С. Guasti, Firenze 1853, vol. I, pp. 171—172.
196
свет полностью — без ведома автора, с неточностями,—
то растревожила осиное гнездо. Критики боролись с ним
его же оружием. «Если вы хотели создать религиозную
поэму, — говорил автору Антониано, — надо было пи-
сать ее так, чтобы книгу могли взять в руки даже мо-
нахи» 1. Набожные люди, задававшие в те времена тон,
возмущались чувственностью любовных сцен, описан-
ных с большой проникновенностью, хотя бедный Тассо
и просит за это извинения у Музы в венце из звезд, на-
ходящейся среди хора блаженных2. И чтобы они за-
молчали, приделывает аллегорическую благочестивую
концовку, которая должна была служить пропуском
для языческих наслаждений. Поэму как произведение
искусства анализировали с точки зрения композиции,
стиля, языка, вплоть до грамматики, составлявшей в ту
пору предмет критики. Находили, что композиция поэмы
несовершенна, особенно из-за эпизода Олинда и Софро-
нии, о которых автор в дальнейшем забывает 3. Критики
считали, что настоящему и серьезному действию отведе-
но мало песен, тогда как все остальное — сеть эпизодов
и приключений, лишенных органической связи с дей-
ствием. В их оценке стиль Тассо — искусственный и пре-
тенциозный, язык — нечистый и непристойный, а грам-
матика нарушает правила. Они без конца сравнивали
«Иерусалим» с «Энеидой» и «Илиадой» и вели мелоч-
ные и пустые споры об эпическом жанре и его законах.
Проводились самые нелепые параллели между «Неисто-
вым Орландо» и «Освобожденным Иерусалимом», и
одни отдавали предпочтение Ариосто, другие — Тассо.
Спор занял на некоторое время праздную Италию, еще
больше притупил чувство поэзии, ничуть не способствуя
прогрессу критики, которая словно увязла в болоте.
1 См. письмо к Сильвио Антониано, самому суровому и педан-
тичному цензору поэмы, от 30 марта 1576 года («Lettere», I, p. 143)
и письмо к Шипионе Гонзага: «Не умолчу и о другой подробности,
которая содержится в письме Поэтино (Антониано), а именно что
желательно, чтобы поэму могли читать не столько рыцари, сколько
духовные лица и монахи».
2 Перифраза стихов «Освобожденного Иерусалима», I, 2, vv. 3
и 4, в сближении с одним из стихов Петрарки («Rime», CCCLXVI, 2).
3 Ср. Жэигепе («Histoire litteraire d'ltalie», clt., V, p. 416):
«Хотя сам по себе этот эпизод описан с большим совершенством..,
все хорошие критики считают его недостатком поэмы, поскольку он
не связан с остальным действием и оба персонажа-, которые с са-
мого начала привлекали все внимание, больше не появляются».
197
Среди множества критических писаний заслуживает
внимания работа Галилео Галилея — молодого челове-
ка, которого ждало большое будущее; она отличается
недюжинным здравым смыслом, незаурядным вкусом и
бесспорным чувством искусства К
Горячее участие в возникшем споре приняла Флорен-
тийская академия чистоты языка. И это понятно. Языку
Тассо определенно не хватало тосканской сочности, чи-
стоты и естественности, которые в сочетании с живостью
и изяществом выражают любовь. Но Сальвиати выдви-
нул педантичное обвинение и, разыгрывая из себя пе-
дагога, подчеркивал точки и запятые2. Преувеличен-
ность обвинения подбодрила защиту, и книга стала поль-
зоваться большой известностью и спросом.
После заговора молчания и безразличия читателей
автор теперь мог бы%быть счастлив, что привлек столь-
ко внимания. Но Тассо заболел от огорчения и, оказав-
шись предметом чуть ли не личных нападок, увидел в
своих критиках врагов. В действительности его глав-
ным врагом был он сам. Поэт защищался, но совесть
его была нечиста, поскольку в глубине души он разде-
лял убеждения своих критиков и соглашался с ними.
Ему пришла несчастная мысль переработать свою поэ-
му и удовлетворить этим критиков. Так возник «Завое-
ванный Иерусалим». Тассо очистил язык, подчинился
правилам грамматики. Его воины-крестоносцы лишились
чувственных страстей, но не стали аскетами, глава
войска превратился в рыцаря христианской веры3, ве-
1 О «Considerazioni al Tasso», уже упоминавшихся в гл. XIII,
см. «La Giovinezza», гл. XXVIII: «Когда я приступил к занятиям
по литературе, мне попались критические высказывания Галилея
об «Освобожденном Иерусалиме». Некоторые из них показались мне
придирчивыми, -но зато в других я нашел больше тонкости и здра-
вого смысла, чем у любого другого нашего писателя... Галилею
я обязан более здравым и точным представлением о поэтическом
творчестве».
2 Leonardo Salviati, Degli accademici della Crusca difesa
dell' Orlando Furioso, 1584; Dello Invarinato accademico risposta all'
Apologia de T. Tasso, 1585; и то и другое напечатано наряду с дру-
гими текстами знаменитой полемики в «Ореге», Тассо, 6 томов Ve-
nezia 1724, vol. V, pp. 403 и ел. и pp. 475 и ел. Относительно ученого
спора, помимо страниц Жэнгене (op. cit., V, pp. 292 и ел.), см. вы-
сказывание, предпосланное Guasti к vol. IV «Lettere», ed. cit., кото-
рое мог видеть Де Санктис.
3 «Gerusalemme Conquistata», I, 1, vv. 1—2, «Io canto l'arme e'l
cabalier sourano che tolse il giogo a la citta di Cristo».
193
ликая могила все заслонила, и возвышенное «тебе мое
прощенье» стало прозаическим «я тебя прощаю» 1. По-
чти все переделки неудачны, отдают ремесленничеством
i лишены вдохновения. Здесь уже нет поэта, а лишь
грамматик и лингвист перед своими грозными критика-
ми, Тассо исправил также стиль и, избавляясь от искус-
ственности, стремился сделать его возвышенней и тор-
жественней, но только сделал холодным и бесцветным.
Больше всего пострадала композиция. Он опустил исто-
рию Олинда и Софронии, заменив ее скучным описа-
нием сражений. Изъял Ринальдо, как реминисценцию из
рыцарских поэм, и ввел Ричардо — исторического участ-
ника крестовых походов, ставшего Ахиллом, к которому
приставил Патрокла в образе Руперта. Арганте был
превращен в Гектора, сына короля, Аладин — в Ду-
кальто. Из Солимана Тассо сделал Меценция, наградив
сыном, с тем чтобы его конец напоминал легенду Вер-
гилия. Были сокращены финальные сцены Армиды и
Эрминии, превращенной в Ницею. Предвосхитив при-
шествие египтян, он уделил много места батальным
сценам, желая заполнить пустоты, образовавшиеся в
результате того, что некоторые эпизоды были сокраще-
ны или опущены. При этом ему казалось, что он достиг
большего единства и простоты действия, добился боль-
шей связности и логики в композиции и придал поэме
более исторически правдивый характер. Однако чита-
тель с этим не согласился, ему было трудно позабыть
Армиду, Ринальдо, Эрминию, Софронию — самые ми-
лые и популярные образы поэмы. Скорее он забыл «За-
воеванный Иерусалим», которого уже никто теперь
больше не читает.
7. В своих основных чертах поэтика Тассо сходна
с поэтикой Данте. Для него цель поэзии заключается в
том, чтобы «выразить приправленную правду в гибких
стихах» 2, как для Данте «скрывать правду за невероят*
ным и красивым». Религиозные представления у них
тоже совпадают: борьба страсти с разумом. Для Данте
страсть и разум — ад и рай, для Тассо — бог и Люци-
1 «Gerusalemme Liberata», XII, 66; «Gerusalemme Conquistata»
XV, 80.
2 «Gerusalemme Liberata», I, 3, v. 3. Сближение поэтики Тассо
с поэтикой «нового стиля» Данте давалось уже в главе о поэтах-тос-
канцах, см. т. I, гл. II.
199
фер, а их орудия на земле —Армида, на счастливых
островах — Фортуна, сопровождающая Убальдо и Карла.
Вся интрига держится на этом противопоставлении,
ставшем для итальянских поэтов общим местом. Тассо-
ва Армида — это Анджелика Боярдо и Ариосто, с тою
разницей, что у Боярдо этот образ теряется среди множе-
ства других, Ариосто над ней охотно смеется, тогда как
Тассо ставит ее в фокус всего повествования. То, что
критики назвали эпизодическим \ является центральным
образом поэмы. Гомер воспевал гнев Ахиллеса, то есть
не разум, а страсть, в которой с такой силой проявляется
жизнь. Его боги — существа, наделенные страстью, сам
Зевс воплощает не разум, а необходимость, фатум. Вер-
гилий приближается к христианской концепции и выры-
вает благочестивого Энея из объятий Дидоны. Однако
поэтичнее не благочестивый Эней, а покинутая Дидона.
В христианской легенде потерянный рай и грех Адама —
эпические темы, в которых пробивается жизнь во всем
буйстве инстинктов и страстей. В страстях и смерти
Христа поэтический интерес достигает своего самого вы-
сокого трагического эффекта, потому что Христос яв-
ляется мучеником за правду. Эта концепция в ее логиче-
ской завершенности приводит Данте к абстрактной кар-
тине рая и к аллегоричности, а Тассо — к абстрактному
образу Готфрида. Поэтическая правда, сказавшаяся в
изображении жизни, смешана здесь с правдой теологи-
ческой или философской, толкающей на психологиче-
ское, интеллектуальное абстрагирование от жизни. Арио-
сто прекрасно выходит из положения, поскольку воспе-
вает безумие Роланда, а когда его герой исцеляется,
поэт поворачивает дело к пикантной и комической раз-
вязке, посылая Астольфо за его разумом в царство
Луны. Тассо хочет восстановить концепцию во всей ее
серьезности и, стремясь к такому же умственному
совершенству, создает неудачный образ Готфрида и
холодную аллегорию небесной донны2.
1 О теории «эпизодического», выдвинутой и поддержанной Тассо
в «Discorso intorno al poema eroico», и о сравнении ее с романти-
ческой теорией Шлегеля см. ниже и в юношеских лекциях («Teoria
е storia», I, р. 238, а также «Purismo illuminismo storicismo», II)\
2 См. «Gerusalemme Liberata», XV, 3 и ел. Так в духе нового сла-
достного стиля названа «fatal donzella», символизировавшая Форту-
ну, которая в поэме ведет Гвелвфо и Убальдо к островам счастья.
200
Не менее ошибочна его концепция эпического жанра.
Больше всего он печется об исторической правде,
о правдоподобии или логической последовательности,
о сдержанном достоинстве. Он не видит, что это внеш-
няя ткань жизни, или ее схема, — лишь костяк, едва
прикрытый мясом. Его глаза дальше этого не видят, и
когда в нем умер поэт, то критик его пережил и, увлек-
шись этими отвлеченными поверхностными идеями, на-
нес досадный урон работе поэта, оставив в «Завоеван-
ном Иерусалиме» от изобильной жизни один скелет,
который благодаря улучшенной композиции и схема-
тичности казался Тассо произведением более совершен-
ным1. Но Тассо, как и Данте, был поэтом подлинного
вдохновения, и непосредственность поэта большей ча-
стью вытесняла искусственные схемы критика.
8. Торквато Тассо, получивший образование у иезуи-
тов в Неаполе, раннюю молодость провел в Риме, где
уже веяло духом Тридентского собора; он был искренне
верующий и отличался богатым воображением, рыцар-
ственностью характера, сентиментальностью; глубоко
впитал все элементы итальянской культуры. В нем бо-
ролись два человека: язычник и католик, Ариосто и Три-
дентский собор. Он потерял мать еще подростком, с от-
цом жил в разлуке, родные строили ему козни, отобрали
имущество. Но даже в дни очень острой нужды он ни^
когда не переставал быть дворянином. Он служит при
дворе, чувствуя себя свободным; живет среди пороков и
низости, оставаясь честным; просит о милосердии с вы-
соко поднятой головой и чувством собственного превос-
ходства во имя высших принципов человеческого до-
стоинства.
У Тассо есть нечто общее с Петраркой. Оба они поэты
переходного периода, великие больные, испытавшие на
себе борьбу непримиримых противоречий двух эпох.
1 См. «Del giudizi.o sovra la Gerusalemme»: «Я сравниваю также
свой почти земной Иерусалим с тем, который, если я не ошибаюсь,
довольно похож на идею небесного Иерусалима. И в этом сравне-
нии предпочтение будет по праву отдано моим зрелым поэмам перед
незрелыми, трудам этого возраста перед более молодыми шутками,
и я смогу без стыда сказать о своем «Иерусалиме» то, что говорит
Данте о своей уже прославленной и восхваленной Беатриче: «Она
себя былую побеждала» («Чист.», XXXI, 83), и в cit. «Opere», vol. IV.
Р- 131,
201
Музой переходного периода является грусть, но грусть
Петрарки поверхностна и, откладывая отпечаток на во-
ображение поэта, не сказывается на его жизни. То была
грусть, не лишенная приятности, находившая выход и
утешение в работе и рождавшая склонность к спокой-
ному созерцанию, не оставлявшая его до глубокой ста
рости К Грусть Тассо глубже и вносит противоречия не
только в его творческое воображение, но и в сердце, про-
ходя через всю его жизнь. Чувствительный, впечатли-
тельный, нежный, всегда готовый пролить слезу, он при-
нимает всерьез все свои идеи — религиозные, философ-
ские, моральные, поэтические — и сообразует с ними
жизненное поведение. Способный воодушевляться до
галлюцинации, он утрачивает чувство реальности и ви-
тает в мире своих мыслей, поднимаясь благодаря возвы-
шенному благородству своей натуры над окружающими.
Он не разбирается в людях и лишен практической
сметки, которой так богата посредственность. Его фан-
тазия работает без отдыха, и он украшает и преобра-
жает жизнь не только как поэт, но и как человек. Пред-
ставьте себе Тассо в Италии XVI века при одном из дво-
ров, и вы поймете, в чем состояла его трагедия. Не
знающий семьи, доверчивый и экспансивный, пережив-
ший в ранней юности много разочарований, он стал не-
доверчивым, сосредоточенным, меланхоличным, одержи-
мым мрачным юмором и галлюцинациями.
Для него характерно неустойчивое равновесие ме-
жду психическим здоровьем и безумием, способное вну-
шить не только другим, но и ему самому, что он не в
своем уме. Но он нуждался не во врачах и лекарствах,
а в спокойном уединении со своими мыслями и чтобы
возле него были близкие — мать, сестра, умные, пре-
данные друзья.
Вместо всего этого он получил тюрьму и скупое со-
чувствие тех, кто безуспешно хлопотал за него перед
всеми властителями Италии. Обретя свободу, он нашел
сестру и друга, стремившихся его смягчить, но не сумев-
ших излечить его давно расстроенное воображение.
1 См. «Saggio critico sul Petrarca», гл. VIII, и особенно
pp. 166—171. О следующем дальше описании характера Тассо и
окружающей его среды имеются разрозненные указания в «La Gio-
vinezza», т. I, изд. Эйнауди, и в пит. юношеской драме «Torquato
Tasso», t. IV того же изд.: «La crisi del gusto romantico».
202
Когда судьба впервые улыбнулась ему, день его венча-
ния лавровым венком совпал с днем смерти.
Всмотритесь в портреты Петрарки и Тассо. У обоих
рассеянный взгляд, лицо, поглощенное мыслями, глаза,
всматривающиеся в пространство, но не видящие, по-
тому что они наблюдают себя. Но у Петрарки идилли-
ческое, успокоенное выражение лица, как у человека,
который много передумал и удовлетворен своими раз-
думьями; у Тассо же элегическое и мрачное лицо чело-
века, который ищет и не находит. Ни на том ни на дру-
гом лице не видно резких, энергичных линий Дантова
лица. Тассо, как и Петрарке, недостает силы, олимпий-
ского спокойствия и решительной воли Данте. У него
характер не героический, а лирический. Как и Пет-
рарка, он эгоцентрик и создает целый мир в себе
самом.
Родись Тассо в средние века, его бы почитали за свя-
того. Но он родился в век ханжеского скептицизма и
противоречивой культуры, жил, терзаемый угрызениями
совести и сомнениями, не умея разобраться в собствен-
ном л, понять, еретик он или правоверный католик, и
был по отношению к себе еще более жестоким инквизи-
тором, чем святой трибунал.
Со своим «Ринальдо» он начал очень близко к Арио-
сто. И ему кажется, что он недостаточно далек от него
в своем «Освобожденном Иерусалиме». Щепетильность
перед лицом критики и религиозные сомнения приводят
его к «Завоеванному Иерусалиму», который он называл
«истинным Иерусалимом», Иерусалимом небесным. Но,
полагая, что и этого еще недостаточно, он пишет «Со-
творение мира» 1.
9. Если бы в Италии существовало серьезное движе-
ние за обновление религии, «Иерусалим» стал бы гим-
ном нового мира, проникнутого тем же духом, который
ощущается в «Мессиаде» или «Потерянном рае»2. Но
1 Так в изд. Морано. Об использовании сокращенного названия
«Mondo creato» см. Жэнгене, op. cit., V, гл. XVII; У Кроче и Кор-
тезе говорится: «Sette giornate della creazione».
2 О современности Мильтона и Клопштока см. ниже и в юноше-
ских лекциях о литературных жанрах («Teoria e storia», I, pp. 231—
232, и «Purismo illuminismo storicismo», II), в которых Де Санктис
рассматривает их как поэтов зла и добра, голоса глубокой духовной
общности.
203
здесь это движение оказалось поверхностным, формаль*
ным и было обязано не столько искренним убеждениям,
сколько политическим интересам и чувствам. Так и в
«Освобожденном Иерусалиме» все это отражено.
Тассо не был оригинальным мыслителем, он никогда
не бросал смелого взгляда на острые проблемы жизни.
Он был ученым, человеком очень знающим, каких в те
времена насчитывалось немного, но не был мыслите-
лем. Религиозный мир Тассо создан не его умом, а по-
черпнут из сложившихся у других мнений. Его эстети-
ческие взгляды и философия — нечто вычитанное, хоро-
шо понятое, хорошо изложенное и продуманно аргумен-
тированное, облеченное в адекватные формы, а не глу-
бокое и фундаментальное исследование, над которым
он бы бился. Он не был знаком с теорией Коперника
и, по-видимому, оставался чуждым большому идей-
ному движению, которое в ту пору обновляло лицо
Европы и толкало самые благородные умы Италии на
раздумья, чреватые опасными выводами. Перед его
мыслью стояли некие геркулесовы столбы, не дававшие
ей двигаться вперед; когда же взор его невольно загля-
дывал за них, он впадал в ужас и исповедовался перед
отцом инквизитором, словно бы он отведал запретный
плод. Религия не владела его душой, она была собра-
нием доктрин, которые следует не осмысливать, а при-
нимать на веру как сумму непреложных установлений.
Его философские и литературные авторитеты — Аристо-
тель и Платон, Гомер и Вергилий, Петрарка и Ариосто,
а позднее также Данте — были свободны от влияния
религии К Характер Тассо, отличавшийся честностью и
благородной гордостью, вызывает в памяти образы ры-
царской и религиозной литературы. Его жизнь была по-
эзией мученика реальной действительности, несбыточной
мечтой о жизни для любви, для религии, науки, и все его
существование — долгое мученичество, увенчанное преж-
девременной смертью- Тассо был одним из самых благо-
родных воплощений итальянского гения, высокой мате-
рией поэзии, и ждет, пока кто-нибудь снимет с него
1 Может быть, намек на «Postille sopra i primi XXIV canti della
«Divina Commedia», впервые напечатанную в Болонье в 1829 году,
но более вероятно, что источником этого замечания является Канту
(op. cit., p. 307): «И о Данте Торквато говорит лишь позднее».
204
Торквато Тассо. (С гравюры неизвестного художника.)
мраморный запрет, наложенный Гёте, чтобы воссоздать
из статуи человека 1.
Итак, что же представляет собой религия «Освобо-
жденного Иерусалима»? Это религия на итальянский
лад — догматическая, историческая и формальная, ре-
лигия буквы, а не духа. Ее адепты веруют в бога, ис-
поведуются, молятся, участвуют в религиозных процес-
сиях. Такова внешняя сторона, а что кроется за нею?
Рожденный фантазией автора мир рыцарства, романи-
ческий и чувственный, герои которого слушают мессу и
осеняют себя крестом. Религия — придаток этой жизни,
а не ее душа, как у Мильтона или у Клопштока. К жиз-
ни, складывавшейся начиная с Боккаччо и после него,
с ее идеалом, лежащим между фантазией и идиллией,
прибавьте теперь видимость серьезности, реальности и
религиозности 2.
Готфрид — образ христианского героя, абстрактный
характер, холодный и поверхностный, высеченный из
камня. Самое человеческое в нем — его сон, чистое по-
дражание языческому образцу, реминисценция сна Сци-
пиона Африканского 3.
1 Намек на психологическую условность и интеллектуальную
исключительность образа поэта — автора «Освобожденного Иеруса-
лима» в «Торквато Тассо» (1780—1789) Гёте. См. «Versioni e com-
menti di liriche tedesche» и «Lezioni e saggi su Dante», cit., p. 608:
«У Гёте Тассо — подставное лицо, копия идеи, явно оторванная от
образа поэта, излучает, помимо всего, холод абстракции».
2 То же самое пишет Сеттембрини: «Является ли «Освобожден-
ный Иерусалим» религиозной поэмой? И можно ли было создать
в Италии религиозную поэму? Итальянцы того времени были вовсе
не религиозными, а война с турками велась вовсе не во славу гос-
пода бога. Тассо был верующим... но не обладал той искренней ве-
рой, которая служила бы вдохновению, религиозной поэзии... «Осво-
божденный Иерусалим», как и крестовые походы, является христи-
анским лишь внешне, а по существу это произведение язычества.
Славный Тассо хотел создать религиозную поэму; но где находим
мы в «Иерусалиме» правдивое, вечное, существенное, прекрасное?
В той его части — а она занимает две трети поэмы, — которая не яв-
ляется религиозной и которую критики предлагали удалить; — в опи-
саниях любви!» («Lezioni», II, pp. 250—251). По поводу Мильтона
и Клопштока в «Esr-nsizione critica della «Divina Commedia»: «Хри-
стианство имеет свою историю и эпос, из которых родились «Поте-
рянный рай» и «Мессиада» («Lezioni e saggi su Dante», p. 59). См.
также выше.
3 «Gerusalemme Liberal-% XIV, 1 —19. Аналогичная ссылка на
«сон Сципиона» у Жэнгене «Этот сон в сознании Тассо совпадает
со сном Сципиона; в этом же последнем похоже, что Платон дик-
206
Религиозная концепция автора отразилась на обра-
зах Армиды — вожделение или чувственность и Убаль-
до— голоса разума1. Но, как сказано у Петрарки2,
разум говорит, а чувство жалит, и вдохновением поэ-
зии овеян образ одной Армиды. Разум глаголет язы-,
ком скорее языческим, нежели христианским, черпая
свои приемы больше у Сенеки и Вергилия, нежели в
библии: на нравственные поступки толкает не мысль
о рае, а мысль о славе. Однако разум разглаголь-
ствует, Армида же действует с помощью соблазнов и
женского лукавства3. И автор, находящийся в ее стане,
предается фантазиям в духе Ариосто — языческим, па-
сторальным, которые, как ему кажется, стали религиоз-
ной поэзией, поскольку он приклеил концовку, расска-
зывающую об Убальдо с его золотой ветвью бессмертия
и красноречием.
Образ обращенного в истинную веру Ринальдо ли-
шен четкости, потому что это обращение объяснено не
переломом в сознании, а борьбой злых и добрых сил,
которые спорят из-за него. Тем самым у Тассо драмати-
ческий конфликт остается чисто внешним и в сравнении
с Данте, у которого он проникнут религиозным духом,
менее напряженным 4. Что касается остального, то Ри-
нальдо— уменьшенная копия Ариостовых Ринальдо или
Орландо, подобно тому как Аргант — копия Родомонта,
но с более серьезным лицом. Впоследствии Ринальдо,
превращенный в Ричарда, окажется реминисценцией
Ахилла, Свено, превращенный в Руперта, — реминисцен-
цией Патрокла, Солиман станет Меценцием, а Аргант —
Гектором. Все эти образы лишь реминисценции —
товал Цицерону то, что он вложил в уста Сципиону Африканскому»
(op. cit., V, p. 405).
1 «Gerusalemme Liberata», XIV, 32 и ел. Относительно замечаний
на этой и следующих страницах о характере персонажей Тассо см.
юношеские лекции («Teoria e storia», I, pp. 87—89, 227—231, и «Pu-
rismo illuminismo storicismo», II).
2 В канцоне «IVo pensando, e nel penser m'assale» («Rime»,
CCLXIV). О содержании этой канцоны, упоминаемой несколько раз
в таком смысле, ср. особенно «Saggio critico sul Petrarca», pp. 122
и ел.
3 Ср. «Gerusalemme Liberata», песнь XVIII, vv. 18—38.
4 «Чист.», XXXI, I и ел., с которыми можно сопоставить испо-
ведь Ринальдо, его молитву и раскаяние на горе Оливето («Gerusa-
lemme Liberata», XVIII, vv. 6—16). Об аналогиях между аллегорией
Тассо и аллегорией Данте см. также ниже,
207
античные или рыцарские, причем рыцарские более жи-
вые и свежие, поскольку они по времени ближе и все
еще созвучны душе итальянца.
10, Тассо смутно осознавал, что поэмы, соответство-
вавшей авторскому замыслу и религиозным убежде-
ниям, у него не получилось, и попытался восполнить упу-
щенное в «Завоеванном Иерусалиме». Что же он
делает? Усиливает аллегоричность, растягивает сон Гот-
фрида !, к прекрасному путешествию через океан—един-
ственному месту, где ощущается вдохновение нового
времени, достойное Камоэнса, он приклеивает путеше-
ствие под землей, сложное по замыслу и форме, и до-
бавляет предысторию крестового похода, изображенную
на шатре Готфрида2. Новая поэма оказалась тяжело-
веснее, но не религиознее, потому что религия не в дог-
матах веры, не в истории и не в форме, а в духе. А ре-
лигиозный дух, как и любое явление внутренней жизни,
не есть то, что рождается усилием воли.
Тассо стремился также к поэме серьезной. Но его
серьезность — это только механическое исключение все-
го комического; с одной стороны, Тассо стремится ли-
шить ариостовскую жизнь всего народного и смешного,
а с другой — добиться большей логичности и простоты,
следуя классическим образцам. Сознавая, что его
стремления остались тщетными, Тассо в новой редак-
ции «Иерусалима» сгущает краски и ищет большего
совершенства композиции. Он создает всех персонажей
по одному шаблону и, стараясь представить жизнь
серьезной, рисует ее однообразной и обедненной. Он
ищет серьезности в жизни переходного периода, разди-
раемой противоречивыми тенденциями, лишенной цели
и достоинства. Поэт ищет героическое при отсутствии
двух непреложных предпосылок подлинного величия —
простоты и непосредственности. Его серьезность, как и
его религия, поверхностна и надуманна.
Больше всего Тассо хочет придать своей поэме жиз-
ненно достоверный характер. Он черпает ее элементы из
1 «Gerusalemme Liberata», XIV, 1—19; «Gerusalemme Conquis-
tata», XX, 1-149.
2 «Gerusalemme Liberata», XV, 10—43; «Gerusalemme Conquis-
tata», XII —4 — 39. Описание разрисованного шатра, на котором
были изображены события, предшествовавшие крестовому походу в
«Завоеванном Иерусалиме», III, 1—50.
208
истории; заботится о точности имен и места действия;
стремится к правдоподобию в интриге и, подобно скульп-
тору, лепит в увеличенном масштабе своих персонажей
с таким строгим соблюдением пропорций, что они ка-
жутся живыми. Поэт ограничивает разумными рамками
чудеса физической силы, так что его миром правят не
только сила и храбрость, но также опыт, мудрость, лов-
кость и осторожность.
Переделывая «Иерусалим», он выражает этот свой
замысел еще определеннее, добиваясь предельной исто-
рической и географической точности. В его критических
и эстетических взглядах предвосхищение той школы ис-
торического правдоподобия, которая возникнет позднее.
Но этот рассудочный замысел, критический по своей на-
правленности, противоречил склонности итальянской
души к фантастике, ее романтической и субъективист-
ской природе. Тассо недостает силы выйти за рамки
своего я, он не обладает божественным даром вдохно-
вения Ариосто, не постигает дух и внутреннюю жизнь
истории, а лишь скользит по поверхности.
И за всем этим скрывается сам Тассо, который до-
бивается эпичности, а оказывается лириком, стремится
к правдоподобию, достоверности, но рождает фантасти-
ческое, ищет историю, а находит лишь свою душу К
«Завоеванный Иерусалим», отличающийся большей
композиционной стройностью и сюжетной строгостью, —
последняя попытка создать мир поэтического вымысла,
от которого в первой редакции «Иерусалима» он был
очень далек. Основой этого мира должна была стать
серьезность достойной жизни, поданной в ее исторически
правдивом виде и проникнутой духом религиозности.
Поразительно то, что мир, созданный по его замыслу,
является предчувствием новой поэзии, оболочкой, кото-
рая, наполнившись большим содержанием, став ярче по
краскам и обогатившись внутренней жизнью, в один пре-
красный день получит название «Обрученные».
И. Как у Данте, так и у Тассо в мире, созданном его
фантазией, разнородные элементы проникли в чуждую
1 См. ниже. Пасторальный и автобиографический характер поэ-
зии Тассо уловлен уже Шлегелем: «Он принадлежит в общем к тем
поэтам, которые скорее представляют самих себя и свое лучшее
чувство, к тем, которые заключают в своей душе целый мир, чтобы
явно потерять в нем себя из виду и забыть» (op. cit., pp. 89—90).
14 Де Санктис
209
им среду и сохраняют свою обособленность. Как и у Пет-
рарки, это мир, где нет согласия между элементами
старого и нового, одни из них преобразуются, а другие
еще в процессе формирования. Внешне он довольно хо-
рошо согласован и слажен, но это единодушие механи-
стичное и рассудочное, хотя оно и доведено во втором
«Иерусалиме» до совершенства. За налаженностью это-
го механизма ощущаются нарушения; жиань, бурлящая
в отдельных частях поэмы, не образует гармонического
целого во всей поэме. Это было подмечено критиками,
по мнению которых некоторые эпизоды, в частности эпи-
зоды Олиндо и Софронии, Ринальдо и Армиды, Кло-
ринды и Эрминии, интереснее поэмы в целом К Только
они и остались жить в народе, этом непререкаемом
судье поэзии2. Однако то, что называется эпизодом, как
раз и является самой основой рассказа, его поэтической
субстанцией; за исторической и религиозной оболочкой
поэмы скрывается ее суть — романтический и фантасти-
ческий мир, отвечавший характеру писателя и эпохи.
Народ, не развитый умственно, лишенный земных
благ и не принимающий свое бытие всерьез, долго ви-
тает в мире фантазии. В представлении этих невеже-
ственных простолюдинов и праздной, беззаботной бур-
жуазии жизнь — это роман, чудесные приключения, по-
рожденные необыкновенным стечением обстоятельств
или действием сверхъестественных сил. Сам Тассо по
характеру романтик, далекий от практической жизни и
ее потребностей. Его путешествие в Абруццы в крестьян-
ской одежде, появление у сестры, с которой он не был
знаком, и последовавшая за этим нежная сцена состав-
ляют целый роман. Прибавьте сюда впечатления, рож-
денные чтением Ариосто и «Амадиса», и большую моду
1 Ср. еще раз с мнением Шлегеля: «Лучшими местами поэмы
являются те, которые сами по себе или как эпизоды были бы пре-
красными в любом другом произведении и по существу прямого от-
ношения к сюжету не имеют. Обольщения Армиды, красота Кло-
ринды и любовь Эрминии — эти и другие подобные места поэмы
вызывают восхищение» (op. cit., II, р. 90). Ср. возражение молодого
Де Санктиса на суждение Шлегеля в «Teoria e storia», t. I, p. 230,
и в «Purismo illuminismo storicismo», II.
2 У Де Санктиса и в «Nuova Antologia» следует «L'ultimo in
specie». Упоминая Клоринду и Эрминию, он подразумевает эпизоды
Танкреда и Клоринды (XII, 50 и ел.; см. более подробный анализ
ниже, § 13) и Эрминии среди пастухов (VII, 1 и ел.; см. § 14).
210
на рыцарские романы, пользовавшиеся спросом у чита-
телей, и станет понятным, почему первым произведе-
нием Тассо был «Ринальдо» и в результате чего роман-
тический мир восторжествовал над его религиозными,
историческими и классическими устремлениями.
Основная сюжетная линия поэмы представляет со-
бой фантастический роман в духе Ариосто, где расска-
зывается об Анджелике, из-за которой Орландо теряет
рассудок, и об Астольфе, совершающем фантастическое
путешествие, чтобы вернуть ему потерянное. Здесь же
Армида, влюбленная в Ринальдо, и Убальдо, пересекаю-
щий океан, чтобы с помощью гладкого, как зеркало,
щита излечить Ринальдо от любви. Армида и Андже-
лика — волшебницы и орудия адских сил, но обе они
прежде всего женщины, и их самыми опасными чарами
являются чувственные ласки. Подобно Анджелике, Ар-
мида завлекает рыцарей-крестоносцев и удерживает их
вдали от поля брани. Здесь присутствует и другой арио-
стовский мотив — ссора, приведшая к смерти Джернан-
до, к добровольному изгнанию Ринальдо и к пленению
Арджилано1. Эти причины, являющиеся не чем иным,
как страстями, разрывающими всякие путы, налагаемые
разумом и ложной стыдливостью, порождают приклю-
чения — бесчисленные у Ариосто и немногие у Тассо,
в основном приключения Армиды и Ринальдо. Волшеб-
ный лес, напоминающий аналогичный образ Дан-
те,— это коварный лес заблуждений и страстей обман-
чивого вида 2.
Христиане не смогут войти в Иерусалим, если не раз-
рушат лесные чары, иными словами — не очистятся от
страстей. Это аллегорическая концепция Данте, став-
шая традиционной в нашей поэзии; Боярдо и Ариосто
утопили ее в море приключений, а Тассо вновь извлек
на свет, придав ей видимость серьезности, которой не
1 То же замечание у Сеттембрини: «Иерусалим» — историческая
рыцарская поэма и больше, чем это думают, похожа на «Орландо»...
Хотя замысел обеих поэм и не одинаков по широте, но их характер
созпадает: это рыцарские поэмы, а поэтому герои, воплощающие
единый замысел, неизбежно похожи; например, многие критики отме-
чали, что Армида похожа на Анджелику, Ринальдо — на Руджиеро,
Арганте —на Родомонте» (op. cit., II, 254). Упомянутые эпизоды см.
«Gerusalemme Liberata», соответственно V, 15 и ел.; 40 и ел.; VIII,
81 и ел.
2 О поэтической силе леса см. ниже, § 14.
14*
211
удается прикрыть ариостовского отпечатка, то есть ро-
мантического характера, сообщенного ей Боярдо иАрио
сто. Такая фантастическая посылка не исключает мно-
жества дуэлей и сражений — тем более популярных, чем
менее народу присущ настоящий военный дух. Итальян-
ский народ был наименее воинственным в Европе и упи-
вался воображаемыми битвами. Тщетно было бы искать
в этом фантастическом мире чувства истории и реаль-
ности, хотя поэт и прилагал к этому всяческие стара-
ния. «Иерусалим» лишен самых дорогих в жизни чувств.
Здесь нет женщины, нет семьи, нет друга, нет роди-
ны, нет религиозной сосредоточенности — нет образов
серьезной и простой жизни. Джилдиппе и Эдуардо из-
лучают холод1. Набожность Готфрида и благоразумие
Раймондо — эпитеты2. Дружба Свено и Ринальдо —
только на словах. Единственная связующая нить — лю-
бовь, но зачастую и она кажется искусственной и рито1-
ричной как в жалобах Танкреда и Армиды, так и в
Эрминии с ее борьбой между честью и любовью. Ничто
так не вскрывает пустоту и никчемность итальянской
жизни того времени, как эти безуспешные потуги Тассо
добиться серьезности, к которой он стремился. Желая
того или не желая, он пишет в духе Ариосто, и до этого
образца ему очень далеко. Ему недостает естественно-
сти, простоты, настроения, легкости и живости Арио-
сто — всех больших качеств, характеризующих силу.
Эта романтическая жизнь, столь богатая ситуациями и
оттенками, столь насыщенная движением и гармонией,
с беспристрастием и ясностью, которые насилуют твой
здравый смысл и завлекают, словно под действием вол-
шебных чар, ушла безвозвратно.
12. На этой романтической основе Тассо создает но-
вый поэтический мир, обнаруживая при этом большие
способности. Это лирический мир, субъективный и музы-
1 Эпизод в «Gerusalemme Liberate», XX, 96 и ел.
2 Там же, III, 59. Аналогично в юношеских лекциях об «Иеру-
салиме»: «Раймондо выполняет обязанности Нестора; но какая
нужда такому мудрецу, как Готфрид, в Несторе? Этот персонаж
не что иное, как эхо самого Готфрида» («Teoria e storia», I, p. 229,
и «Purismo illuminismo storicismo», II). О следующем ниже ука-
зании на дружбу между Свено и Ринальдо см. «Gerusalemme Libe-
rata», VIII, 4 и ел.
212
кальный, отражающий его петрарковскую душу, одним
словом, мир чувства К
Это чувство идиллическое и элегическое, подмечаю-
щее в природе и человеке черты самые приятные и тон-
кие, дало себя знать уже в первый период Возрождения
у Полициано и Понтано; затем от него отклонились, и
оно было утрачено в потоке новелл, комедий и рыцар-
ских поэм. Пасторальная идиллия была отдыхом для
утомленного общества, которое за отсутствием серьез-
ности в общественной и интимной жизни искало прибе-
жища в полях, подобно тому как уставший человек ищет по-
коя в монастыре. А когда внезапно нагрянувшие вол-
нения и беспорядки, связанные с вторжением чужезем-
цев и сделавшие Италию по окончании борьбы папист-
ской и испанской, лишили ее всякой свободы мысли и
действия, всякой высокой жизненной цели, тяга к па-
сторали проявилась вновь с еще большей силой и стала
самой характерной чертой итальянского упадка. Только
пастораль в отличие от других литературных жанров
наполнена живым содержанием. Итальянская пастораль
не подражание, а оригинальное творение ее духа.
Впервые она проявляет себя у Петрарки и утверж-
дается у Тассо как приятное фантазирование среди ты-
сяч звуков природы. Смотрите, как сказывается на ней,
накладывая свой отпечаток, эта замкнутая, нежная ду-
ша, склонная к меланхолии. Природа становится музы-
кальной, обретает чувствительность, издает шепоты и
звуки. Это голоса внутренней жизни, таящейся за ее
картинами. В мужчине берут перевес женские черты:
изящество, кротость, преданность, нежность, сладостра-
стие и слезливость — весь комплекс приятных качеств,
называемый чувствительностью. Народы, как и отдель-
ный человек, клонясь к упадку, становятся нервными,
истеричными, сентиментальными. Это не чувство, опре-
деляемое внешними обстоятельствами, как бывает у
здоровых людей, а чувство, возникающее в душе слиш-
ком чувствительной и сердобольной.
1 О сентиментальности Тассо см. опять же у Шлегеля: «Если
позже Тассо рассматривали исключительно как поэта гармониче-
ского чувства, я лично не могу ставить ему в вину известную моно-
тонность и постоянную сентиментальность... Около Тассо веет неж-
ный элегический ветерок даже при описаниях чувственных преле-
стей» (op. cit., II, р. 92),
213
Тассо не хватает эпической силы, чтобы творить дей-
ствительность в самом себе, и его женственная натура
соткана из нежных и сладких иллюзий, в которых душа
находит выход своей чувствительности. Он сентимента-
лен, и поэтому в нем преобладает лиричность и субъек-
тивность. Поскольку вся проделываемая им работа — как
бы работа внутри себя самого, его произведение являет-
ся созданием духа, неизвестно как сделанным, вещью,
созданной не из естественности и простоты ее собствен-
ного бытия, но ставшей эманацией и плодом ума.
13. Тассо добивается героичности, серьезности, реаль-
ности, историчности, религиозности, классичности и
кладет на это все свои силы. Такие устремления могли
бы увенчаться успехом у Триссино, но Тассо природа
создала поэтом лирического и сентиментального склада
в мире, который пришел на смену миру Ариосто. Он об-
ладал всеми качествами человека и поэта. Человек при-
чудливого характера, страстный, меланхоличный, пре-
дельно искренний и честный. Как поэт он весь музыка
и одухотворенность, ан богат и мыслью и чувствами.
Его воображение не замыкается в себе, как у последнего
предела, как во всей поэзии от Боккаччо до Арио-
сто, оно пронизано томлениями, жалобами, мыслями и
вздохами и доходит прямо до сердца. Ариосто говорит:
В движениях нежных и мольбах таких,
Что, слыша их, казалось, ветер стих ].
Едва наметившееся чувство выливается в фантасти-
ческую картину. Тассо говорит:
Звучит в призывах этих слабых нечто
Печально-сладостное, и оно
Нисходит в сердце, всякий гнев смиряя
И слезы лить очам повелевая 2.
В творческой манере Ариосто есть экспансивное му-
жество, которое берет верх над чувством и ищет вы-
1 «Orlando Furioso», XVIII, 186, vv. 7—8.
2 Так у Де Саиктиса и в изд. Морано, подчеркивая колорит
тассовского образа; в оригинале «Gerusalemme Liberata», XII, 66,
v. 7 — не «serpe», a «scende».
214
хода не в описании деталей, а в передаче целого, и это
признак силы. В творческой манере Тассо больше впе-
чатлительности, нарушающей равновесие и ясность ума
и подчиняющей его чувству: картина расписывается и
становится «неведомо чем», как бы возвещением о кар-
тине, которая не удалась, и о чувстве, которое все себе
подчинило:
Творится нечто странное в сердцах,
Где все смешалось —жалость, боль и страх1.
Даже в описаниях яростных сражений верх берет эле-
гическая нота, как, например, в октаве:
Сраженный конь лежит с владельцем рядом.
В описаниях смерти элегическое ему удается лучше
героического. Когда Аладин, рухнув на землю, на кото-
рой он царил, грызет ее, он смешон. Солиман, который
...воли не дает слезам,
Привыкший только к доблестным делам,
представляет собой образ, лишенный отчетливости. Ар-
ганте умирает так же, как Капаней, но его образ наду-
ман и лишен четкости, не будят воображение и голоса,
и порывы «гордые, грозные, свирепые»2. Эти образы
рассудочны и не становятся искусством. Зато насколько
четки и выразительны образы Дудоне, Лесбино, сыновей
Латина, Джилдиппе и Эдуардо, отличающиеся изяще-
ством и нежностью 3. Это относится и к описанию смерти
Клоринды, где к петрарковскому вдохновению добав-
ляются реминисценции из Данте. Клоринда до такой
1 «Gerusalemme Liberata», XIII, 40, vv. 7—8. В отношении ци-
тат, приведенных выше, см. соответственно XX, 51; 89, vv. 7—8
и 107, vv. 7—8.
2 Там же, XIX, 26. Аналогично у Галилея: «Окончание станца,
как обычно, расслабленное, невыразительно, с теми обычными об-
щими местами, которые ничего не говорят: «Superbi, formidabili, fe-
roci, gli ultimi moti fur, l'ultime voci» (последние движения были и
последними словами). Если желаешь дать живую зарисовку, следует
сказать, в частности, что такое эти «moti» и эти «voci» («Considera-
zioni», pp. 102—103). •
3 Для упомянутых эпизодов ср. соответственно «Gerusalemme
Liberata», III, 43—46; IX, 81—87 и 27—39; XX, 94—100.
215
степени Беатриче, что кажется, будто она говорит: «Мир
вкусила я» \ но это Беатриче, лишенная ужасов и сия-
ния своей божественности.
Солнце не затмевается, земля не содрогается, ангелы
не слетают на нее, подобно манне небесной. Религия
Тассо — религия робкая, здесь она — злая усмешка века,
плохо маскируемая от взора инквизитора. Религиоз-
ный элемент наряду с мифологическим служил поэтиче-
ским средством; например, ангел Гавриил (Тортоза)
фигурирует рядом с Плутоном 2. Это поэтическое сред-
ство, используемое во всех наших эпических поэмах, не-
выразительно, потому что оно условно, а не подсказано
глубоким раздумьем. Ангелы Тассо шаблонны, а его
Плутон — образ, напоминающий монумент, — лишен
всякой глубины и говорит, словно учитель красноречия.
Живая и интересная часть поэмы отведена волшебству,
мода на которое в те времена еще не прошла; из него
Тассо заимствует свои чудеса. Смерть Клоринды не пре-
ображение, как это было с Беатриче, и по своему элеги-
ческому и меланхолическому характеру ближе к пере-
даче кончины Лауры, лик которой и в смерти казался
прекрасным3. Здесь все осязаемо и точно, пластическое
изображение слилось с чувством, идиллический покой —
с патетикой, производя впечатление немой, торжествен-
ной сосредоточенности без нажима, подобно «Pieta».
При всей своей фантастичности этот образ челове-
чен, правдив и прост, потому что соответствует реаль-
ным впечатлениям и представлениям опечаленной
души:
От жалости, похоже, в ней
Перевернулись небо и светило.
1 См. «Gerusalemme Liberata», XII, 58, и, в частности, два по-
следних стиха: «Е in atto di morir lieto e vivace dir parea: S'apre il
cielo, io vado in pace», сравнив со стихом 70 канцоны «Donna pietosa»
(«Vita Nuova», XXIII): «как бы вещавший: «Мир вкусила я». В сле-
дующем абзаце вызываются образы, напоминающие стихи 49—59
той же канцоны Данте. О влиянии Петрарки на замысел образа
Клоринды см. ниже.
2 «Освобожденный Иерусалим», I, 13 и IV, 1 и ел.
3 «Trionfo della Morte», v. 172. Следующие две цитаты взяты из
«Gerusalemme Liberata», см. соответственно XII, 69, vv. 3—4 и II,
36, vv. 7—8.
2}в
Вдохновение Петрарки проявляется и в последних
словах Софронии:
К светилу взор и к морю обращает,
Как будто их зовет и утешает.
Лирическое волнение, вызывающее в памяти анало-
гичные образы у Данте и Петрарки, сочетается у Тассо
с какой-то педантичностью тона, когда он хочет развить
чисто доктринерскую и религиозную идею; примером
могут служить первые слова Софронии, похожие на ла-
сковый упрек исповедника осужденному на смерть1,
или слова Петра Танкреду, звучащие как проповедь.
Его чистая и благородная душа сильнее ощущается в
подражаниях Петрарке и Платону, чем в том, что идет
у него от доктринерской и традиционной религиозности.
Софрония, упрекающая Олиндо, напоминает Беатриче,
отчитывающую — и еще более резко — Данте. Однако
если это соответствует характеру Беатриче, собиратель-
ному образу века, образу, в котором живет святая жен-
щина, а также доктор богословия2, то Софрония — об-
раз одноплановый, искусственный, высеченный из одного
куска; и она одинока в несозвучном ей мире, потому-то
в ней так преувеличены религиозные черты, начиная с
«девы, уже перезревшей девственности»3, кончая гру-
бейшим:
...Ее сомненье не тревожит:
Она живет — и умереть не может.
В этой героине, мученице за веру, не чувствуется
святая с ее экстазами и устремлениями в потусторон-
нее; лишена она и женственности со свойственными ей
изяществом и приятностью. Она — плод христианской
мысли вперемешку с языческими и платоновскими реми-
нисценциями. Тот, кто ее замыслил, думал об Эвриале
1 «Gerusalemme Liberata», II, 30, vv. 3—4 Слова Петра От-
шельника, обращенные к Танкреду (ibid., XII, 86 и ел.).
2 «Чист.», XXX, 76 и ел. Ср. гл. VII о «Божественной комедии»,
т. I.
3 «Gerusalemme Liberata», II, 14, vv. 1—2. О холодности образа
Софронии см. также у Фосколо («Sui poemi narrativi e roma-
neschi»): «Добродетельной Софронии недостает сердца, и, встретив-
шись с Олиндо на роковой ежевике, которую оба готовы поглощать,
она умеет лишь исповедать ему свою душу и этим его утешить»
(«Ореге», X, «Saggi di critica», I, p. 220)«
217
и Нисе, о Беатриче to Лауре. Этот образ остался рассу-
дочным, так и не овладев сердцем и воображением поэ-
та. Вот что получается, когда сердце и воображение
уже чем-нибудь поглощены и настолько чисты, что не
делают уступок разуму.
Если правда, что, задумывая Софронию, Тассо имел
в виду Элеонору, то это еще одна причина, объясняю-
щая искусственность и статичность образа К Поэтому
Софрония — наименее живая и наименее интересная из
героинь Тассо и никогда не пользовалась популярностью.
Но Софрония очеловечена женственным Олиндо в эпи-
зоде, в котором мужчиной проявляет себя Софрония;
Олиндо становится героем из-за любви, подобно тому
как иные становятся героями из-за страха. В его харак-
тере нет силы — черты чуждой и времени и самому Тас-
со, что столь ощутимо в превосходном стихе: «Me me
adsum qui feci, in me convertite ferrum»2, скопированном
здесь риторично и в обратном смысле. Характер этого,
робкого возлюбленного, «и неловкого, и с дурной сла-
вой, и неприятного» 3, образ которого так мастерски на-
рисован художником, изобразившим и самого Тассо,
предвосхищение Танкреда, — это штамп того времени и
самого поэта, элегия, доведенная до плача, идиллия, до-
веденная до чувственности.
Подлинный герой поэмы — Танкред — это сам Тассо
в миниатюре, персонаж лирический, проникнутый,
подобно Гамлету, духом более позднего времени4. Танк-
ред—дворянин, то есть рыцарь в самом деликатном
1 О различной оценке этого эпизода см. у Жэнгене (op. cii, V,
pp. 218—219): «Из всех стихотворений, вдохновленных принцессой
Элеонорой, самым лестным, по-видимому, для нее был этот прекрас-
ный портрет, написанный с нее и обозначенный именем Софронии...»
Там же, выше, аналогичные размышления об автобиографичности
образа Олиндо и о романтическом характере этого персонажа.
2 «Здесь я! О, на меня, на меня обратите железо» — крик, кото-
рый испустил Нисе, пытаясь спасти Эвриала; см. «Энеиду», IX, 427
(перев. Валерия Брюсова и Сергея Соловьева).
3 «Gerusalemme Liberata», II, 16, v. 8.
4 См. лекции об «Иерусалиме» («Teoria e storia», I, p. 229, и
«Purisrno illuminismo storicismo», II). Здесь же ниже и Фосколо, цит.
очерк, р. 219: «Но Танкред получился подлинным героем «Иеруса-
лима». Торквато желал создать образ совершенного рыцаря древней
Италии и нашел его оригинал в собственном сердце. Конечно, сцена
убийства любовником своей возлюбленной никогда не может быть
лишена интереса; но в поэме она развернута с достоинством и. чув-
218
и благородном выражении; он не столь отличается
огромным ростом, сколь смелостью и ловкостью,
он меланхоличен и задумчив, жалостлив и любезен,—
это рыцарь, предавшийся несчастной любви. Его Кло-
ринда— крещеная Камилла, изображаемая в тради-
ции Вергилия, которая к моменту смерти героини ока-
зывается также традицией Данте и Петрарки. Молча-
ливая по характеру, она, подобно Беатриче и Лауре,
раскрывается и становится человечной в смерти. Ее яв-
ление Танкреду напоминает явление Лауры и представ-
ляет собой одно из ниболее удачных подражаний1. Как
поэтический образ женщины Клоринда не знаменует
движения вперед — она остается реминисценцией из
Петрарки. И если хочешь найти идеал женственности,
получивший завершенное воплощение во всем комплексе
приятных качеств, искать его надо не в женщине, а в
мужчине, в Петрарке и в Тассо — женских характерах
в самом высоком смысле слова — и в этом симпатичном
и бессмертном создании Тассо — в образе Танкреда.
Известно, что на склоне лет мужчина становится
женоподобным, нервным, впечатлительным, меланхолич-
ным. Нечто сходное происходит и с народами. И италь-
янский дух находит свое последнее воплощение в поэзии
среди идиллических и элегических томлений и жалоб,
став чувствительным, деликатным и музыкальным.
Гений Тассо — в передаче чувства, благодаря чему
он преодолевает поверхностность Ариосто и прислуши-
вается к звукам, идущим из глубин души. Человек пе-
рестает быть плоскостным, он углубляется в себя, сосре-
доточивается. Так Арганте испытывает чувство возвы-
шенной сосредоточенности перед падением Иерусалима,
подобно поэту на развалинах Карфагена, а Колумб в
бескрайнем океане задумывается и проникает мыслью
в будущее2. В этом оригинальность и творческая сила
ством, не имеющими себе равных; так описать ее мог лишь человек,
обладающий возвышенным умом Тассо и сердцем, перенесшим
столько же, сколько перенес он».
1 «Gerusalemme Liberata», III, 21—22. О Клоринде см. также
первые лекции, посвященные языку и стилю Тассо: «Клоринда —
персонаж слишком совершенный; ее речь тороплива, она не отдает
себе отчета в своих чувствах» («Teoria e storia», I, p. 89, и «Purismo
illuminismo storicismo», II).
2 Ibid., XIX, 9—10. В отношении видения Карфагена и предска-
зания Колумба см. «Gerusalemme Liberata», XV, 20—32.
219
великого поэта, который застает Солимана врасплох, в
слезах, а Танкреда ловит на тщеславии1. Он описывает
внутреннюю жизнь, о которой после Данте и Петрарки
забыли.
14. Элегическому непременно сопутствует идилли-
ческое. Самый чистый и идеальный образ Тассо — влюб-
ленная Эрминия, усмиряющая волнение страстей в сель-
ской жизни. Эта сцена одна из самых замечательных в
итальянской поэзии. Эрминия смешна в героической
позе, холодна и академична в разногласиях между че-
стью и любовью. Но когда она' отдается любви, в ней
пробуждается прекрасное лирическое волнение:
О милые очам шатры латинян!2
На ее душе печать меланхолии и задумчивости са-
мого Тассо, в ней скрыта какая-то нежная, деликатная
воля, удерживающая ее от отчаяния, располагая к покою
и сельскому уединению, к чему ее приобщает пастух,—
это одна из самых совершенных страниц нашей поэзии.
Эрминия, в задумчивости блуждающая по полям с овеч-
ками наедине со своей любовью, думами, фантазиями
и слезами, изливает свое горе с музыкальной мягкостью,
секрет выразительности которой не в самих картинах,
а в их числе. В этой новой музыке с ее мелодией, полной
тайн или неведомо чего, слышатся отзвуки Петрарки и
общие места. Переводчик может передать смысл, но не
мелодику этих октав. Душа поэта не в том, что он опи-
сывает, а в звучании этих описаний, в жертву которому
иной раз приносится точность, ясность, простота — все
высокие качества стиля, восхищающие в Петрарке,
вдохновителе Тассо. Однако этого не замечаешь, на-
столько велики чары музыкального звучания, являюще-
гося не внешним механическим приемом, а чувством,
идущим из души и проникающим в душу.
Идиллическое характерно не для той или иной сце-
ны, а составляет суть всей поэмы, ее смысл. Основная
идея поэмы сводится к неизбежности победы доброде-
1 «Gerusalemme Liberata», IX, 86, XIX,1 и ел.
2 «Ibid.»,VI, 104, v. 2. Эпизод, на который особенно ссылается
Де Санктис, уже упоминался ранее. Эрминия среди пастухов (ibid.,
VII, 1 и ел.), 66 ее образе см. цит. лекции о языке и стиле в
«Teoria e storia», I, p. 89, и «Purismo illuminismo storicismo», II.
220
тели над наслаждением или разума над страстями.
В какой-то мере она решается в рассудочной, аллегори-
ческой форме и находит поэтическое выражение в по-
добных отеческих увещаниях:
Не над ручьем, не на песке зыбучем,
В тени, среди цветов, наяд, сирен,
А на горе, взойдя по сложным кручам,
Мы водрузили символ перемен 1.
В противопоставлениях добродетели наслаждению
выявляются все стороны пасторально-идиллического
идеала поэта. В образе Эрминии это покой сельской жиз-
ни, излечивающий боль страдания, превращая ее в неж-
ную меланхолию. Здесь пасторальный идеал наслажде-
ния прекрасной природой, доведенного до сладострастия,
неги и праздности души, противопоставлен добродетели
и славе — то, что поэт заключает в мотт.о «что приятно,
то позволено», являющемся пересказом строки из Данте
«libito fe* licito» 2. Эта мысль развита в песне нимфы и
в песне птицы — двух подлинных гимнах Наслаждению 3.
Лишь тот разумен, кто живет, как хочет.
Первая песнь настолько совершенна в своей есте-
ственности и простоте, что покорила даже такого стро-
гого судью, как Галилей, заставив его сказать, что Тассо
приближается к божественному Ариосто4. В основе вто-
рой песни — мысль, столь часто повторяющаяся у Ло-
ренцо и Полициано: «Давайте любить, ведь жизнь ко-
ротка». Описание розы заимствовано у Полициано, оно
встречается и у Ариосто 5. Но Полициано передал лишь
чувство красоты, здесь же введен чувствительный и эле-
гический элемент: под впечатлением не красоты розы, а
ее недолговечности у поэта рождается бессмертная песнь,
1 «Gerusalemme Liberata», XVII, 61.
2 Ср. «Aminta», д. I, хор, стих 26: «Что сердцу мило, то разре-
шено», и «Ад», V, 56: «Что вольность всем была разрешена».
3 «Gerusalemme Liberata», XIV, 61 и ел., XVII, 14 и ел. Сле-
дующий стих из песни нимфы (ibid., XIV, 62).
4 По поводу песни нимфы (XIV, 61 и ел.) см. «Considerazioni»:
«Кто хотел бы сказать, что эти три станца (62—64) не совершенны
и что они украшены всякого рода вычурностями, право, ошибся бы;
если бы у другого автора они заслуживали похвалы, то у этого —
Достойны изумления» (ed. cit., p. 81),
6 «Stanze», I, 78, и «Orlando Furioso», I, 42. О сопоставлении
Двух описаний розы см. в. гл. XIII.
221
проникнутая болью и стремлением к наслаждению, и
все это, вместе взятое, выливается в сладострастие, пе-
реданное в нежных образах, превращающих смерть и
боль в орудие наслаждения и любви.
Главная героиня пасторально-идиллического мира —
Армида. Этот мир — ее творение, она волшебница на-
слаждений, которые дает жизнь. Армида и Ринальдо
напоминают Альцину и Руджиеро, а сама ситуация —
рыцарь, проводящий время в праздности, вдали от поля
брани, — восходит к Ахиллу, так же как идея чувствен-
ной любви, превращающей людей в животных, целиком
идет от образа волшебницы Цирцеи. Поэтическое вопло-
щение такой борьбы между наслаждением и доброде-
телью встречается у всех народов. Обладая глубоким
чувством поэзии, Тассо сделал из Армиды жертву соб-
ственного волшебства. Женщина в ней побеждает вол-
шебницу, и, подобно тому как Купидон в конце концов
влюбляется в Психею, то есть божественное вытесняется
человеческим, так и Армида в конце концов становится
женщиной и, позабыв Гидраотто, и ад, и свою миссию,
ставит свои чары на службу своей любви К Это делает
образ Армиды намного интереснее образа Альчины и
придает ему новое значение. Она — последний волшеб-
ный образ в поэзии, образ, в который победно прони-
кает человек и природа.
В ней сверхъестественное начало подавлено и укро-
щено природой, законы которой оказались сильней.
Она — женщина, вырвавшаяся из рамок платонических
идей и аллегорий и раскрывающаяся во всей полноте
земных инстинктов. Женщина проявляет себя уже в Анд-
желике; но история Анджелики как раз заканчивается
на том, с чего начинается история Армиды. К Анджели-
1 «Gerusalemme Liberata», XX, 128 и ел. Особый намек на два
знаменитых стиха (ibid., XX, 136, vv. 7—8), упоминающиеся далее:
И молвила: «Рабыня пред тобой,
Располагай, как пожелаешь, мной».
Об образе Армиды и его превосходстве над Альчиной см. также
у Жэнгене (op. cit., V, p. 357): «Ее ужасное искусство требуется
ей лишь для того, чтобы околдовать Ринальдо, завлечь в свои объ-
ятия, привязать к себе узами любви и наслаждения. Армида инте-
ресна тем, что она любит, потому что она молода, красива, научи-
лась чувствовать, а ее оставили и она несчастна; и в этом она го-
раздо выше образца, который Тассо явно имел в виду, — ариостов-
ской Альчины...»
222
ке, завершившей свои любовные приключения Идилличе-
ской прозой бракосочетания с «бедным пехотинцем»,
поэт относится с иронической усмешкой К Продолжая
рассказ, Тассо создает интересную историю женщины,
историю, сцену и сюжет которой представляет искусство
волшебницы. Волшебница Армида — последняя волшеб-
ница поэзии и самая интересная по ясности и правдиво-
сти своей женской судьбы. И поныне ее образ в народе
более живой, чем Альчины, Анджелики, Олимпии и Ди-
доны, потому что в ней сочетаются все чудеса волшеб-
ства со всем, что свойственно слабому женскому сердцу*
Ее оправдание в словах, заимствованных у Мадонны:
«Вот твоя служанка», вывод, полный смысла: многое ей
прощается, потому что она много любила. Именно лю-
бовь убивает в ней волшебницу и делает ее женщиной.
Это превращение намного поэтичнее, чем щит Убальдо
и небесная донна2. И поэтому Ринальдо в своем обра-
щении куда менее интересен, чем Армида в ее преобра-
жении; его обращение вызвано внешними и сверхъесте-
ственными причинами, а ее преображение — логическое
следствие внутренних и естественных причин.
Эрминия, как и Армида,— законченный образ жен-
щины, рожденный не фантазией Данте и Петрарки, сле-
ды которой ощутимы в образах Софронии и Клоринды,
не обожествленный, героический и трагический образ
женщины, а образ более человечный, пасторальный и
элегичный. Сила Эрминии в ее слабости. Лишенная ро-
дины и семьи, одна на земле, она живет, потому что лю-
бит, а раз любит, то действует. Но подлинными ее по-
ступками являются внутренние монологи, видения, экс-
тазы, иллюзии, жалобы и слезы — целый лирический
мир, который с грустной нежностью изливается на музы-
кальных волнах. Пастушка Эрминия — мать всех Фил-
лид и Амарилли, которые появятся позднее, очень дале-
кие от своего образца. Но среди пасторальных образов
Боккаччо, Полициано, Мольца и Саннадзаро нет ни од-
ного, который приближался бы к Эрминии. История Ар-
миды — целый роман о женской любви, с ее сладостраст-
1 См. «Orlando Furioso», XXIII, 120, vv. 3—4.
2 Эпизод «Gerusalemme Liberata», XVI, vv. 130 и ел.; эпизод
обращения Ринальдо, на который Де Санктис ссылается вслед за
этим, там же, XVIII, 6—16. О внешнем характере этого обращения
см. выше, § 9.
223
ными порывами и пылом чувственных желаний, с ее
яростью, ревностью и ненавистью. До Тассо никто не
дал столь тонкого анализа женского характера во всей
его горячности и переменчивости, в его противоречивости.
Язык говорит — «ненавижу», а сердце отвечает — «люб-
лю»; рука мечет стрелу, а сердце проклинает руку.
Покуда целится она
И стрелы шлет, ее Любовь пронзает К
Можно сказать, что все эти образы не героичны и не
трагичны, но именно это и делает их живыми существа-
ми: они — дочери не разума, а души, на них лежит пе-
чать создавшего их поэта и века.
Пасторальный мир, измышленный Армидой, пред-
ставляет собой дворец и волшебный сад, красивую сель-
скую природу, мастерски описанную, превращенную ис-
кусством в орудие сладострастия, так что кажется, буд-
то она «подражает своей подражательнице»2. В «Одис-
сее», «Георгиках», «Стансах», в ариостовских садах пре-
красная природа, в сущности, природа сельская, пасто*
ральная, а человеческий идеал этих произведений — па-
стушеская жизнь; в ней черпают картины золотого века.
Обычное обрамление античной и итальянской поэзии
составляют зеленые поля, цветы, дубравы, улыбка весны,
прохладная сень, пещеры, волны, птицы, легкие ветерки3;
это — обрамление, искусно украшенное произведениями
искусства — статуями и резьбой. В век Колумба и Ко-
перника видение природы расширяется, в нем уже ощу-
щаются впечатления от бескрайнего океана, вдохновив-
шие Тассо4 на некоторые прекрасные картины. Но в кон-
це путешествия, описывая острова Счастья, на которых
пребывает Армида, он снова дает обычную картину и
этим заканчивает. Здесь, как в красивом букете, собрано
все милое и изящное, что было создано поэтическим во-
ображением от Гомера до Ариосто, но в своем крайнем
выражении стало искусственным и вычурным. Подобно
тому как Данте создает потустороннюю природу, Тассо
1 «Gerusalemme Uberata», XX, 65, v. 8.
2 Ibid., XVI, 10, vv. 3-4.
8 Возможно, намек на знаменитое двустишие Петрарки: «Fior,
frondi, erbe, ombre, antri, onde, aure soavi, II valli chiuse, alti colli e
piagge apriche» («Rime», CCCIII, vv. 5—6).
4 «Gerusalemme Liberata», XV, 27 и ел,
224
создает сверхъестественную природу, природу волшеб-
ную, рай сладострастия. Это не природа, нарисованная
с натуры, а природа искусственная, поддельная, преоб-
раженная художником, у которого свои цели и средства.
Этот художник — Армида, мастерица по части утончен-
ности и искусственности, создающая вокруг себя приро-
ду развратную и сладострастную. Такое изображение
природы, унаследованное от античности, доведено до со-
вершенства поэтом, у которого развитое чувство музы-
кальности сочетается с тонкой душой.
В поэме есть также образ очарованного леса, леса
искусственного, выдуманного автором с определенной
целью К
В рыцарских поэмах волшебство, как и природа, под-
чинено воле художника и является не чем иным, как со-
четанием необычных образов с целью вызвать любопыт-
ство и изумление. По мысли Тассо, волшебное разумно,
а потому доступно пониманию, оно — природа, преобра-
зованная искусством во имя определенной цели. Подоб-
но саду и волшебному дворцу, волшебный лес — плод
фантазии художника — подан в манере автора и в соот-
ветствии с его задачами.
Замысел Тассо сам по себе не нов, это всем извест-
ный волшебный обманчивый лес, лес ошибок и стра-
стей. Зато его воплощение в высшей степени оригиналь-
но и раскрывает микрокосм Тассо, в сжатой и вырази-
тельной форме рисует его элегико-пасторальный мир.
В этом образе слились воедино Эрминия и Армида,
Танкред и Ринальдо — вся поэтическая душа Тассо, са-
мое нежное из того, что есть в элегии, и самое мягкое
из того, что есть в идиллии, при их самом музыкаль-
ном звучании.
Таков подлинный поэтический мир «Иерусалима»,
мир музыкальный, порождение чувства глубочайшей ме-
ланхолии, переходящего в чувство нежности и сладо-
страстия южной натуры.
Неаполитанскому характеру Тассо недостает тоскан-
ского изящества и живости, ломбардской решительности
и ясности, восхищающих нас в Ариосто; зато у него в
избытке то чувство музыки и напевности, та способ-
1 О лесе, уже упоминавшемся выше, см. «Gerusalemme Liberata»,
XIII, 2 и ел., XVIII, 18 и ел. Но здесь Де Санктис имеет в виду
пасторально-элегическое описание леса в начале XIII песни.
15 Де Санктис 225
ность с душой отдаваться приятным фантазиям на плав-
ных волнах грустной и в то же время сладостной мело-
дии, что характерно для жителей юга, чувствительных
и склонных к созерцанию.
15. Этот мир чувства — одновременно и мир мыслей.
Подобно Петрарке, Тассо склонен не столько обновлять,
старый репертуар, сколько его заново украшать. Чело-
век очень широких знаний, он насыщает поэтическую
ткань своего произведения реминисценциями и в процес-
се творчества отталкивается не от непосредственного
восприятия жизни, а от прочитанных книг. Он отраба-
тывает написанное, совершенствует, оттачивает образы
и мысли. Исходя из внешних признаков, он называл та-
кой стиль «разъединенной речью» и, как выразился Га-
лилей, работой инкрустатора1. Пока он ищет вырази-
тельности не целого, а частей и превращает каждую ча-
стицу в обособленный мир, утонченный и рельефный,
стыки расходятся, структура периода теряет жесткость,
обнажая своего рода параллелизм мыслей и образов,
противопоставленных так, что они подчеркивают собы-
тия. Этот параллелизм базируется на антитезах в широ-
ком смысле, то есть на определенной гармонии, рождаю-
щейся при противопоставлении сходных или несхожих
предметов:
Немало сделал он, из-за чего
Ему страданий выпало немало:
Напрасно ад озлился на него,
И понапрасну Азия восстала.
(«Осв. Йер.», I, 1, 3-6)
Это «немало» и это «напрасно» являются рефреном кан-
тилены, представляющей собой законченное целое и пе-
редающей взаимоотношения между двумя предметами.
Конечно, чтобы достичь в этом эффекта, нужно прило-
1 См. «Lettere», изд. Гуасти, I, р. 115: «Я слишком часто упо-
требляю «разъединенную речь», то есть такую, в которой связь
между словами устанавливается скорее связью и зависимостью
смысла, нежели с помощью служебных и союзных слов. «Об инкру-
стировании», о чем говорит и Фосколо (цит. очерк, р. 215), см. у Га-
лилея: «Его повествование —это скорее инкрустированная картина,
нежели полотно, написанное маслом... Поэтому в какой-то степени
он работает как инкрустатор» («Considerazioni», pp. 1-—2).
226
жить ума больше, чем обычно требуется от поэта, и это
приводит к утонченности и замысловатости:
О жалости не знающие руки!
Они разят, а вам смотреть на муки!
(XII, 82, ст. 7—8)
Такой параллелизм, базирующийся на словесных
повторах, сближении предметов и на необычности свя-
зей, представляет собой неслучайное явление; он харак-
терен для этого стиля, выраженного с разной степенью
яркости. Он сказывается не только на мыслях, но и на
образах:
...и кажется — в глазах
Несет испуг и смерть несет в руках К
Фантазирующего и созерцательного поэта постоянно
сопровождает ментор, который все анализирует и раз-
меряет с логической точностью:
Разъят мечами мир, разъяты кровью
Мечи, и только кровь и пот — одно.
(VI, 48, ст. 5-6)
Поэт злоупотребляет поисками «контраста», «рель-
ефности», он придает значение и незначительному и
ищет значимости в надуманных связях даже при полной
ясности картины и при самом сильном возбуждении чув-
ства, например:
О милый камень, что скрываешь пыл
В глубинах мой, а слезы не сокрыл!
(XII, 96, ст. 7—8)
Такой игрой слов и мыслей наполнены жалобы Тан-
креда и неистовство Армиды, которая, даже впав в со-
стояние отчаяния и близкая к самоубийству, держит пе-
ред своими войсками замысловатую речь, заканчиваю-
щуюся словами:
Рана от стрелы
Лекарством будет пусть любовной ране.
Да будет в гибели конец страданий!
(XX, 125, ст. 7—8)
1 «Gerusalemme Liberata», VIII, 19, vv. 7—8.
15* 227
Это и было то, что называют у Тассо мишурой1, или
затейливой манерой изображения, типичной для лири-
ческих поэтов, которым важен не сам предмет, а то, как
на него смотрят. В этом случае стиль с его приемами,
легко поддающимися классификации по их внешним при-
знакам, определяется не предметом изображения, а его
душой, он становится манерой или привычкой творить,
как петраркизм или маринизм.
Поскольку этой манере подходит короткая и закон-
ченная кантилена, значимая не только как часть целого,
но и сама по себе, в ней получает развитие музыкальный
элемент, звуковая эмфаза, неумолкающий, монотонный
трубный звук, прерываемый паузами, трелями, повтора-
ми, обертоном, как если бы кто-либо не говорил, а кри-
чал. Поэтому просто читать Тассо, как читаются многие
пассажи Данте, Петрарки и Ариосто, нельзя, его следует
декламировать от первого стиха до последнего. Это как
«arma virumque cano»2, тон поэмы приподнятый и на-
пряженный, словно автор все время находится в состоя-
нии экзальтации. Отсюда подбор звучных слов, перегру-
женность эпитетами и наречиями, условное благород-
ство выражений, бедность словаря, фразеологии, кон-
струкций и оттенков. Такому высокопарному стилю не-
избежно сопутствует риторика, а это значит, что автор
придерживается обобщений, с жаром утверждает общие
места, и все это при треске апострофов^ эпифонем, ипо-
типоз, вопросов и восклицаний, особенно когда он стре-
мится описать силу горячих страстей, например в стро-
ках, передающих жалобы Танкреда и ярость Армиды 3.
Такова писательская манера Тассо, проникнутая
мощным дыханием настоящего чувства, которое неред-
ко настраивает его на простой и сильный тон.
В последних словах Клоринды говорится о борьбе
между «да» и «нет»: «телом — нет, душою — да»4.
Сколько здесь чувства и простоты! Отнимите это чувство
1 См. у Сальвиати о тех, кто «сравнивает поэму Тассо с Avar-
chide в соответствии с тем, как сравнивают мишуру с золотом». Но
де Санктис ссылается на знаменитое определение Буало «le clin-
quant du Tasse» («Satires», IX, v. 176), принимавшееся или оспа-
риваемое последующими критиками.
2 «Брань и героя пою...» («Энеида», I, 1, перев. Валерия Брю-
сова и Сергея Соловьева).
3 «Gerusalemme Liberata», XII, 70 и ел.; XVI, 57 и ел,
4 Ibid., XII, 66, vy. 1-3,
№
у Петрарки и Тассо, и что останется? Писательская ма-
нера, петраркизм и маринизм — не поэты, а их трупы.
16. «Иерусалим» — не внешний мир, развитый в его
органических и традиционных элементах, подобно миру
Данте и Ариосто. За претензией на эпическую поэму
скрывается внутренний, лирический, субъективный, в сво-
их существенных частях пасторально-элегический мир,
отзвук томлений, восторгов и жалоб благородной и му-
зыкальной души, склонной к созерцательности.
Внешний мир, тогда существовавший, был мир при-
роды, мир Коперника и Колумба, мир науки и реальной
жизни. Отзвуки этого мира явно доходили до Тассо,—
отсюда исторические, реальные и научные устремления
поэта, словно предчувствие литературы будущего. Италия
была недостойна иметь внешний мир и не имела его. Стра-
на утратила свое место в этом мире, ее жизнь лишилась
всякой национальной цели, ей оставалось лишь прозаиче-
ское повторение жизни, которую она уже не понимала и
не знала. Ее литература приобретала все более условную
форму, не имеющую ничего общего с жизнью, становилась
игрой духа, была по существу фривольной и риторичной
даже при самой героической и серьезной форме.
Не отдавая себе в этом отчета, Торквато Тассо был
мучеником этой трагедии, поэтом именно этой эпохи, пе-
реходившей от реминисценций к предчувствию нового,
от рыцарского мира к миру историческому. Романтик и
фантаст, он раздирался между правилами своей поэтики,
строгостью своей логики, своими реалистическими за-
мыслами и античными образцами. Тассо жил в мире,
полном противоречий, не находя гармонического и при-
миряющего начала. Отсюда разорванность, тревога и
раскаяния, характерные как для его поэтического мира,
так и для его жизни. Он был жалкой игрушкой своего
сердца и воображения, именно в этом его мученичество
и слава. Идя по пути поисков внешнего, эпического мира
в уже исчерпанном материале, он уводит вас внутрь сво-
его я, к своему идеализму, к своей искренности, к своей
грустной и рыцарской душе и тут обретает бессмертие.
Здесь дала себя почувствовать трагедия итальянского
упадка в XVI веке. Здесь поэзия, прежде чем умереть,
спела свою надгробную песнь, создав Танкреда — пред-
течу новой поэзии, которая возникнет, когда Италия ста-
нет достойной того, чтобы ее иметь,
XVIII
Марино
1. Идиллическая и элегическая чистота «Аминты»;
«Аминта» не драма, а лирическая пьеса. Манерность и искус-
ственность при изяществе стиля и мысли. «Torrismondo».
«Стихотворения» — старый репертуар мыслей и поэтических
средств в сочетании с изысканностью. «Диалоги». Мысль
Тассо формировалась в атмосфере разгула инквизиции. Зна-
комство с античными образцами и изучение Платона. 2. Ори-
гинальное развитие комедии и пасторали — единственных
жанров, которые наряду с рыцарскими поэмами продолжали
жить в Италии. Сближение комедии с жизнью и с народным
языком в неаполитанских фарсах и у Рудзанте. Репертуар и
труппы комедии дель'арте. 3. Поэтический идеал пасторали;
условная утонченность придворной жизни, нашедшая отраже-
ние в драматической пасторали XVI века; «Верный пастух».
Придворная жизнь Гварини. Полемика вокруг его произведе-
ния. Его передовая позиция как критика. 4. «Верный
пастух» — шедевр писательского мастерства, но, по сути, не
пьеса, а лирическая поэма: поэту и его эпохе недоставало
серьезности драматического чувства. 5. Гварини — опытный
художник, изображающий придворную среду и культуру —
натурализм с позволения власть имущих. 6. Развитие лите-
ратуры от Боккаччо до Тассо, ее внутренняя жизнь, натура-
лизм как реакция на аскетизм. Значение, развитие и упадок
комического жанра. Пастораль, возрожденная реакцией на
аскетизм и философию Платона, становится излюбленным
жанром нового поколения. 7. Литература XVII века — след-
ствие, а не предпосылка. Неизменный престиж итальянской
культуры и литературы в Европе. Поиски нового как след-
ствие истощения литературы, ставшей трафаретной по своему
содержанию и форме, — сам по себе материал для комедии.
Пустой и негативный комизм пародий Тассони и Браччолини.
Простота и естественность, абстрактное мышление Тассони,
оторванное от сознания века, соответствовало бесцветности
поэтов; Франческо Реди. 8. XVI век. Критика негативная, но
свободная, всеми принятая и одобренная, стимулировала худо-
жественное творчество. XVII век — ханжество и инквизиция,
истощение искусства. Критика — оппозиция одиночек — разме-
нена на сентенции и риторические обобщения; «Сравнения»
Боккалини и «Сатиры» Сальватора Роза. 9. Эпигоны герои-
ческой поэмы, 10, Габриелло Кьябрера — поэт католического
230
возрождения. Неразборчивость в выборе темы, отсутствие
чувства формы и стремление обновить формы путем подра-
жания грекам. Напыщенная риторика Филикайи. 11. Бездея-
тельность умов — естественное порождение авторитарной тео-
кратии; Италия, похожая больше на кабинет восковых фигур,
чем на общество живых людей. Литература как форма, отор-
ванная от содержания, стремление оттачивать, утончать, рас-
цвечивать старый классический репертуар. Мода на дешевый
религиозный, патриотический, нравственный героизм: «Судьба»
Гвиди. Прециозный и цветистый стиль Лемене, Цаппи, Фру-
гони. Ребяческие пасторали академиков «Аркадии» — произве-
дения сухие, жеманные, фальшивые. 12. Джамбаттиста Мари-
но — талант века; неистощимое богатство приемов и форм, от-
сутствие внимания к содержанию. Идея «Адониса» и его
связь с историей поэтического натурализма от «Любовного
видения» до «Иерусалима». 13. «Адонис» — пастораль, обла-
ченная в мифологические покровы. Жизнь, персонифицирован-
ная в аллегорических образах. Вкус к отвлеченным и произ-
вольным сравнениям. Описание «розы», «Пастух» у Марино и
у Тассо. Марино усматривает ценность поэзии в богатстве пре-
циозных «кончетти» (виртуозных сравнений). Богатство вооб-
ражения Марино и звучность его поэзии. Свежий колорит и
чувственность «Пастореллы». Общее в характерах писателей и
в жанрах литературы XVII века. 14. Даниелло Бартоли —
параллель Марино в прозе; Бартоли чужд развитию европей-
ской культуры и борьбе мысли. Богатство колорита и языка.
Риторические упражнения Сеньери — поверхностные, грубые,
многословные. 15. Развитие комедии и пасторали от Боккаччо
до Марино. Предпосылки упадка литературы, заложенные в
ее академических и классических тенденциях, а также в отры-
ве литературы от всех больших этических, политических и гра-
жданских проблем, волновавших современную Европу. Три-
дентский собор и крайнее извращение национального харак-
тера. Невозможность обновления формы без обновления со-
знания. Слово, ставшее самоцелью; постепенное усиление
напевного и музыкального элемента; музыкальная драма
(мелодрама).
1. Этот мир лирики, который в «Иерусалиме» смешан
с другими элементами, выступает во всей своей идилли-
ческой и элегической чистоте в «Аминте». Здесь Тассо
обращается к материалу, близкому его душе, и дости-
гает в его обработке большого совершенства. «Аминта» —
отнюдь не драма и даже не пасторальная драма К За
1 Об «Аминте» см. также юношеские лекции о драматической
поэзии («Teoria e storia», II, pp. 166—167, и «Purismo illuminismo
storicismo», cit., II). Данные и замечания о комедии дель'арте по-
черпнуты из уже упоминавшейся работы Клейна «Geschichte des
Dramas». Данные о театральной жизни Феррары при. Эрколе I по-
черпнуты из книги «Storia del la letteratura italiana» Эмилиани-Джу-
дини, II, p. 133; там же, р. 183, и название драматических произведе-
231
пастушескими именами и драматической формой скры-
вается лирическая пьеса, драматизированное повество-
вание, а не настоящая драматургия, каковой были в
Италии трагедии, комедии и так называемые пасто-
ральные драмы. В качестве примера укажу на «Вирд-
жинию» Аккольти, получившую известность потому, что
ей подражал Шекспир. В сущности, это расширенная
до масштабов комедии новелла в романтическом духе,
свойственном итальянскому воображению, с добавле-
нием роли шута, выведенного в образе Руффо, грубость
которого контрастирует с рыцарским характером двух
главных персонажей, Вирджинии и князя Салерно. Са-
мые невероятные события, едва намеченные, нагромо-
ждаются одно на другое с волшебной быстротой, служа
предлогом для монологов и стихов, где выявляются чув-
ства действующих лиц. В стиле эклог, или пасторальных
комедий, какие ставились при дворе феррарского гер-
цога со времен Боярдо, были написаны и «Жертвопри-
ношение» Беккари, «Аретуза» Лоллио и «Несчастливец»
Ардженти; в них достигло известного совершенства раз-
витие сюжета и интриги. Эти эклоги утратили гомеров-
скую и вергилиевскую простоту, приобрели серьезный
драматический характер и в дальнейшем называ-
лись «лесными сказками» или же пасторальными коме-
диями.
Действие «Аминты» развивается не сценически, как
в театре, а описывается очевидцами или участниками на-
ряду с передачей тех впечатлений и страстей, которые
в них пробудились. Весь интерес «Аминты» — в преры-
ваемом хорами лирическом рассказе, идея которого —
прославление пастушеской жизни и любви: «если нра-
вится—позволено». Это лирическая тема, которая раз-
вивается не столько на показе характеров и событий,
сколько на описании идиллических чувств. «Аминта»
ний, на которые дается указание («Aretusa» Альберто Лоллио
была поставлена на Феррарской сцене в 1504 году; представления
«Sacrificio» Агостино де'Беккари и «Lo sfortunato» Агостипо дельи
Ардженти состоялись соответственно в 1555 и 1568 годах). О Бер-
нардо Аккольти см. в т. I, гл. XII. Что касается того, что Шекспир
подражал «Вирджинии» («Virginia»), надо вспомнить, что тема ко-
медии «Все хорошо, что хорошо кончается» восходит прямо к Бок-
каччо — «Декамерон», III, 9, — он был известен английскому поэту
в переводе, о котором говорит Уильям Пейнтер в «Palace of Plea-
sure».
232
изобилует живыми описаниями, монологами, сравнения-
ми, сентенциями, страстными чувствами. Она проникну-
та какой-то музыкальной истомой, полной изящества и
тонкости, делающей сладостными даже слезы. Большая
простота фабулы, а также стиля помогает, не теряя в
изяществе, выигрывать в естественности. То, что произ-
водит впечатление недоработки, небрежности, оказыва-
ется тончайшим мастерством, при помощи которого ис-
кусственному и жеманному быту придан пасторальный
вид. Это утонченный мир, и сама его простота — утон-
ченность. Современникам эта драма казалась чудом со-
вершенства, и, наверное, нет произведения искусства,
так тщательно отработанного, как «Аминта».
Тассо увлекала и античная трагедия, и своего «Torris-
mondo» он написал в подражание «Царю Эдипу». Но
Италии уже не хватало сил ни на создание эпоса, ни на
создание трагедии, поэтому в «Torrismondo» не оказа-
лось ничего яркого, кроме того единственного, что было
ярким в поэте и в эпохе,— элегического начала, с особен-
ной силой сказавшегося в хорах !. Современники Тассо
считали «Освобожденный Иерусалим» эпопеей и, не
очень удовлетворенные «Torrismondo», ждали от него
еще одной классической трагедии.
Из стихотворного наследства Тассо пережили свое
время несколько сонетов и канцон, содержащих излия-
ния идиллической, нежной души. Тщетно было бы ис-
кать в них следы какой-нибудь серьезной страсти2.
Здесь старый репертуар мыслей и поэтических средств
в сочетании с обычной изысканностью. Вот как описы-
вает он женщину:
В груди сокрытый чистой,
Струится млечный путь;
1 См. лекции о литературных жанрах («Teoria e storia», cit., II,
p. 30, и «Purismo illuminismo sJoricismo», III), а также лекции по
литературе XIX века («Mazzini e la scuola democratica», cit., p. 202).
2 Более обоснованный доводами анализ лирики Тассо, который
в различных местах «Storia» и в данном издании ограничивается
лишь замечанием, см. в цит. юношеских лекциях («Чтобы снова об-
рести реальную действительность и фантазию, мы должны обра-
титься к лирическому наследству Тассо»), в «Teoria e storia», I,
pp. 132 и 142, и в «Purismo illuminismo storicismo», II, где сужде-
ние Де Санктиса совпадает с суждениями Шлегеля (op. cit., II,
р. 90) и Фосколо («Delle poesie liriche di Т. Т.», в «Opere», vol. cit.,
PP. 274—284).
233
Ее власы — как звезды, взор горит
Росою серебристой К
Свою печаль он описывает так:
Всем растворяюсь жалким существом
В источниках глубоких вен моих;
Слезами боль моя клокочет в них,—
Наружу ей не выйти нипочем.
Наверно, лучше заболеть умом,
Чтоб сердце сразу слезы все излило
И больше не скорбело.
Человеческие чувства окаменели в абстракциях, в
бесчисленных олицетворениях, таких, как Любовь, Жа-
лость, Время, Ревность; их сковал лед платоновских по-
учений и петрарковской поэтики.
Легко себе представить, каковы были его прозаиче-
ские произведения. Большой эрудит, он насыщает их
примерами и цитатами, перегружает благородными чув-
ствами при тяжеловесном стиле и плавном, неторопли-
вом темпе. Когда он описывает движения собственной
души, например в некоторых письмах, обнаруживается
тувство благородного человека, оставшегося им, не-
смотря на превратности судьбы. Когда философствует,
как в «Диалогах», чувствуется, что он далек от жизни и
его занимают отвлеченные проблемы или вопросы фор-
мы. Это книга смелого исследователя.
В молодости автор «Ринальдо», тайком отдаваясь
необузданным страстям, был отравлен и философскими
сомнениями. Великий вопрос заключался в том, что вы-
ше— вера или религия, воля или разум. Философы того
времени отстаивали идею превосходства разума и ут-
верждали, будто человек не может верить в то, что ра-
зум отвергает. Не приемля общепринятой точки зрения,
молодой Тассо тем не менее не верит ни в перевоплоще-
ние, ни в бессмертие души. Противники поэта доложили
двору о его поведении и взглядах, когда он уже раска-
ялся, признал свою ошибку и с рвением обратился к ре-
лигии. Его религия была приведена в соответствие с его
философией, исходя из предпосылки о бессилии разума
1 Канцона «Santa Pieta ch'in cielo», vv. 53—56. Следующая ци-
тата из канцоны «Or che lunge da me si gira il sole», vv. 12—18,
234
объяснить многое из того, что тем не менее существует,
как, например, истина веры. Вот почему Тассо преуспел
больше как эрудит и ученый, нежели как философ, и
оставался в стороне от тех споров образованных людей
вокруг вопросов о природе и человеке, которые в те го-
ды были бурными также и в Италии; он робко произно-
сил свои речи, оговариваясь, что если сказанное им не-
благочестиво и недостойно католика, то он ничего не
сказал. Тассо смертельно ненавидел лютеран, с подозри-
тельностью относился к «современным» философам и
искал прибежище у античных философов, особенно у Пла-
тона, который больше всего импонировал его созерца-
тельной и религиозной натуре1. Не сохранилось ни од-
ной мысли, ни одного крика души, говорящего о его
внутренней духовной жизни. А между тем у него была
душа Паскаля или святого Августина, формировавшаяся
в атмосфере разгула инквизиции, в знакомстве с антич-
ной литературой и в изучении Платона. Одним из его
самых интересных диалогов является тот, который был
назван именем Минтурно, неаполитанского поэта, соз-
давшего, помимо всего прочего, «Поэтику»2. В нем поэт
исследует природу прекрасного, опровергает все упро-
щенные определения и делает вывод, что прекрасное —
божественного происхождения, оно — душа, «когда она
себя очищает». Это полностью соответствует идее
«Иерусалима». Разумеется, он смешивает прекрасное с
истинным и с нравственным совершенством, смутно пре-
дугадывает идеал, не достигая его, и чем ближе подхо-
дит к воплощению идеала, тем больше удаляется от по-
эзии, как в «Завоеванном Иерусалиме» и «Sette giorna-
te». По своей идее и композиции этот диалог близок к
диалогам Платона, но уступает им в изяществе и све-
жести.
2. XVI век начинается «Аркадией» Саннадзаро и кон-
чается «Аркадией» Гварини, названной им «Верный
1 См. вторую часть диалога «II Gonzaga ovvero del piacere
onesto» в «Беседах» («Dialoghi»), собранных Чезаре Гуасти, cit.,
vol. I, Firenze 1859.
2 «II Minturno ovvero de la bellezza», ed. cit., HI, pp. 547 и ел.
Гуманист Антонио Минтурно (А. Себастьяни из Траэтто, епископ
Удженто и Котроне, где он умер в 1574 году). Принадлежащие его
перу «De poetica» и «Arte poetica» среди поучительных литератур-
ных компиляций контрреформации наиболее ценны. В следующем
абзаце перефразируется заключение диалога Тассо.
235
пастух». Пастораль, дорогу которой преградила мода
на рыцарские романы, набрала силы и осталась побе-
дительницей, приняв драматическую форму.
Наряду с романом пасторальная драма и комедия
представляли собой жанры литературной жизни, кото-
рая еще продолжалась в Италии. Трагедия и эпос ока-
зались чистым подражанием, тогда как пастораль и ко-
медия частично пренебрегли канонами античных образ-
цов и стали развиваться более свободно.
Комическое развивалось во множестве новелл и ко-
медий, которые отошли от условной схемы, разработан-
ной Плавтом и Теренцием, и выводили свежие и живые
характеры, охотно приближаясь к формам народной жи-
вой речи, то смешивая итальянский язык с диалектом,
то пользуясь одним диалектом. Этот жанр уже намечал-
ся в неаполитанских фарсах. Фарсы писал также Беоль-
ко, или Рудзанте, прозванный знаменитейшим К Их ав-
торы ограничивались наметкой фабулы, а то и одним за-
мыслом, как это практиковалось в отношении танцев
в спектакле, а разговорную часть импровизировали по
примеру античных рапсодов. Труппы рассказчиков, или
импровизаторов, бродили по Италии, позднее доходили
до Парижа и Лондона с репертуаром, из которого по-
черпнули многие сюжеты, мысли и драматические си-
туации Шекспир и Мольер. Поскольку основа для твор-
ческой фантазии была общей, создавались устойчивые,
стандартные комедийные типы, выступавшие в масках,
а некоторые — без них, например Панталоне, Бри-
гелла, Арлекино, Пульчинелла, доктор из Болоньи, ка-
питан Матаморос и капитан Спавенто, слуга-простак
Трапола и другие. Представления, напоминавшие ател-
ланы древнего Рима, назывались «комедиями масок»,
в них была задана только схема действия. Актеры были
также авторами и зачастую сначала показывали «уче-
ную комедию», а потом для развлечения публики им-
провизировали комедию масок, или комедию дель'арте.
Любовные интриги, необыкновенные жизненные случаи
1 Этот эпитет, впоследствии закрепившийся в истории литерату-
ры, фигурирует уже на фронтисписах изданий отдельных комедий Руд-
занте, относящихся к XVI веку. О великом авторе и актере имеется
исследование Санд «Шуты и маски» (М. Sand, Masques et bouf-
fons, Paris 1860, vol. II, p. 87 и ел.), но Де Санктис почти навер-
ное с ним не знаком.
236
и какие-нибудь подходящие эпизоды и традиционные
характеры, например простак, шут, распутник, педант,
сводня, ростовщик, составляют основу этого народного
репертуара, к которому во многом близки комедии Аре-
тино. Здесь гораздо больше, чем во всех подражаниях
античным образцам, кроется тайна итальянской жизни
и характера. История комедии и новеллы во всех ее
формах была бы весьма поучительной и дала бы бога-
тый материал для истории итальянского общества. Об-
ширный репертуар инсценированных сюжетов оставил
в своих «Пятидесяти днях» Фламинио Скала, автор и
актер, знаменитый не менее знаменитейшего Рудзанте,
и Андреа Кальмо, «изумительное чудо сцены» К Флами-
нио исполнял роль влюбленного и возглавлял труппу
комических актеров, которая в 1577 году при Генрихе III
открыла первый итальянский театр в Париже. Известной
актрисой была его дочь Ореола, а еще более известной —
Изабелла из Падуи, жена Франческо Андреини, испол-
нявшего роль капитана Спавенто. Изабелла, воспетая
Тассо, Кастельветро, Кампеджи и Кьябрера, умерла в
Лионе и, как сказано в надгробной надписи, была
«Musis arnica et artis scaenicae caput» («Подругой муз и
главой сценического искусства»). Равной ей по славе,та-
ланту и добродетели была Винченца Армани из Вене-
ции, писательница и актриса, исполнявшая в пастораль-
ных драмах роль Клори. Маску Доктора прославил
Грациано2, а Арлекино нашел своего великого воплоти-
теля в Джованни Ганасса из Бергамо, который в
1570 году ознакомил Испанию с комедией дель'арте, по-
добно тому как Фламинио познакомил с нею Париж и
Лондон. Росцием XVI века был Верато из Феррары,
прославленный Тассо и Гварини; последний назвал его
именем апологию к своей драме 3.
1 Определение Франческо Бартоли. См. его «Заметки по исто-
рии итальянских актеров, выступавших в году MDC до наших дней»
(«Notizie istoriche de'eomici italiani che fiorirono intorno all'anno
MDC sino ai gior'ni presenti», Padova 1782).
2 Неточность, обнаруженная уже другими. Как известно, Гра-
циано — имя маски Доктора, возможно созданной Луцио Буркиелло.
Альберто (а не Джованни) Ганасса отличился в Испании в 1574 году,
а не в 1570 году.
3 Тассо в сонете «Giace il Verato qui, che'n real veste». В честь
Джамбаттисто Верати Гварини назвал «II Verato» и «II Verato Se-
condo» — работы, посвященные трагикомедии, написанные по слу-
чаю спора с Джазоне Де Норес. См. также дальше.
237
Комедия дель'арте была не чем иным, как той же
ученой комедией, вырванной из академических рук и
освеженной народной жизнью, обработанной писателя-
ми, хотя и менее одаренными, но лучше осведомленными
о требованиях театра и вкусах публики. Вот почему она
была динамичнее и живее, а благодаря импровизации
и использованию диалекта и веселее, но при этом у нее
был свой порок: вместо пуризма ее отличали непристой-
ные «лацци» арлекинов. От комедии дель'арте дошли,
до нас одни скелеты; все, что шло от фантазии импрови-
заторов, живет лишь в восхищенных отзывах ее совре-
менников.
3. Наряду с комедией и романом развивалась пасто-
ральная идиллия, и тем больше, чем манерней и изы-
сканней становилось общество. Пастораль противопо-
ставляла честь любви, город деревне, законы общества
законам природы. Разумеется, победу одерживала лю-
бовь или природа. Счастье возможно лишь в обстанов-
ке золотого века, то есть вне забот и волнений реаль-
ной жизни, в отдохновении и покое души; жизнь на лоне
прекрасной сельской природы, с ее простыми радостями,
с ее непосредственностью и наивностью чувств, являлась
подлинной антитезой условному миру, ощущаемому, в
«Аминте» и в пастухе, с которым встречается Эрминия К
Поэтический идеал, лежащий за пределами общества, в
пасторальном мире, обнажал прозаичность жизни обще-
ства, лишенной всего возвышенного. Под напором прозы
поэзия искала последнего прибежища в полях, и тут
сколь-нибудь выдающиеся люди находили свое вдохно-
вение, отсюда берут свои истоки стихотворения Поли-
циано, Понтано и Тассо. Подобно тому как комедия
масок была духовной пищей простолюдинов, так пасто-
ральная драма служила приятным развлечением для
придворных, находивших в ней безупречный язык и про-
славление добродетели при полной отреченности от
повседневной жизни. Поэтому по мере того, как комедия
становится все более циничной и общедоступной, пасто-
ральная драма принимает придворный характер, а мир
реальной природы приобретает изысканность, достойную
глаз благородных зрительниц.
1 «Gerusalemme Liberate», VII, 6 и ел. О пасторальном мотиве
эпизода см. гл. XVII.
238
Эти черты, уже ощутимые в «Аминте», ярко броса-
ются в глаза в «Верном пастухе». Джамбаттиста Гвари-
ни, придворный по натуре, стал поэтом в силу случая,
тогда как Тассо, наоборот, был придворным по необхо-
димости, а поэтом — по натуре. Гварини, дворянин по
происхождению и состоятельный человек, вел жизнь при-
дворного потому, что его к этому побуждал его беспо-
койный и честолюбивый характер. Он переезжал от дво-
ра ко двору и снова и снова разочаровывался. Он был
очень талантлив, отличался незаурядной культурой, до-
статочно знал жизнь и людей, обладал ясным умом и
большой энергией. Товарищ Тассо по учебе в Падуе, он
соперничал с ним в Ферраре, а когда Тассо оказался в
тюрьме, занял его место и получил звание придворного
поэта. Разочаровавшись в свою очередь в герцогах
д'Эсте, он удалился к себе, в красивую виллу, где заду-
мал и написал с одобрением принятую во всей Италии
пастораль «Верный пастух». Он тоже ставил перед со-
бой нравоучительные цели — хотел создать по широко-
му и значительному плану динамичную трагикомедию,
в которой трагические элементы смешивались бы с ко-
мическими. Критикам, цеплявшимся за принцип sim-
plex et unum (простота и единство) * и не принимавшим
искусства вне идеала трагического или комического, по-
добный подход казался ересью. Так возродились лите-
ратурные споры, которые начиная от Кастельветро и
Каро привели в движение столько академий. Гварини
неплохо защищался2 и проявил ясное понимание значе-
ния своего произведения. Возможно, что на его крити-
ческом подходе сказалось влияние испанского театра,
но, поскольку все определял авторитет классиков, он от-
стаивал сложность действия и смешение характеров
1 Гораций, «Наука поэзии», 23: «Знай же, художник, что
нужны во всем простота и единство». (Перев. М. Дмитриева.)
2 Более, чем на оба «Верато» (см. прим. выше), он ссылается
на «Compendio , della poesia tragicomica» — сочинение, написанное
в 1599 и опубликованное в 1601 году, в котором Гварини возвра-
щается к замечаниям и суждениям, высказанным в двух предыду-
щих работах. Сопоставления сделаны по изданию сочинений Гва-
рини («Ореге», Venezia 1738, 4 voll.). Для удобства читателя ссылки
относятся к переизданию Латерца, осуществленному Броньолиго
(Brognoligo, Bari 1914).
239
с Аристотелем и «Девушкой с Андроса» Теренция в ру-
ках1. Ныне все, что в те времена считалось грехом, со-
ставляет славу Гварини2. Говорят, что он смутно пред-
видел современную драму, и не только предвидел, но и
задумал ее с позиций критика сегодняшнего дня. Поэ-
зия должна показывать жизнь как она есть, в ее разви-
тии и переплетениях, — такова мысль, несомненно выте-
кающая из его речи. Но то, что у Шекспира и Кальдеро-
на является чувством искусства, развившимся естествен-
ным путем в богатой и насыщенной жизни их страны, то
у Гварини — умозрительный вывод одиночки, концепция
критика, а не чувство художника; он задумал драму то-
гда, когда для драмы в Италии не имелось никаких
предпосылок и, главное, жизнь не была серьезной и со-
держательной. Его критика делает честь итальянскому
уму, который был тогда в расцвете, и в то же время
указывает на упадок поэтической изобретательности.
4. По своей композиции и техническому исполнению
«Верный пастух» — самое совершенное творение поэзии.
Две сюжетные линии непринужденно переплетаются
между собой, великолепно сочетаясь; характеры удачно
подобраны, хорошо очерчены и превосходно слиты в од-
но целое при всем их различии; форма произведения от-
личается предельным изяществом; непринужденность,
ясность и музыкальность стиха делают эту пьесу шедев-
ром композиции и поэтического искусства. Здесь есть
все, что может дать ясный ум и мастерство стиля и сти-
1 О защите различных фабульных нитей в драме с ссылкой
на Аристотеля и «Девушку с Андроса» Теренция см. в «Compendio»,
cit., pp. 263 и ел., а также pp. 267—268: «При всем том, что в фа-
буле «Верного пастуха» трагическое смешано с комическим и она
сочетает два сюжета, а 1а Терепций, поэма разумна, едина, пропор-
циональна, вмещает все приемы, какие подобают хорошо сплетенной
фабуле, и, наконец, является естественным детищем искусства и за-
конным детищем Аристотеля».
2 Намек главным образом на похвалы А. В. Шлегеля в его
«Курсе драматической литературы»: «Верный пастух» — прежде всего
неподражаемое произведение, вдохновленное романтическим духом,
подобным тому, которым оживлена восторженная любовь... ни од-
ному поэту не удалось так соединить отличительные качества ан-
тичных и современных поэтов, как это удалось Гварини. Он проявил
глубокое знание существа греческой трагедии, сделав Судьбу душой
своего поэтического вымысла и придав идеальные черты главным
героям... «Верный пастух» — чрезвычайно важное явление в истории
поэзии». (Итальянский перевод G. Gherardini, Milano 1844, p. 146:)]
240
хосложения. Как и в «Аминте», идея произведения за-
ключается в торжестве природы, с которой после кажу-
щейся борьбы судьба под занавес примиряется посред-
ством обычных узнаваний. Пьеса воспевает золотой век
и жизнь на лоне природы, которая противопоставляется
испорченности и треволнениям городской жизни; неред-
ко персонажи, страстям которых тесно, мечтают о пасто-
ральной жизни1. В пьесе множество обращений с моль-
бой, молитв, нравственных и религиозных сентенций; но
основа ее, в сущности, языческая и светская, это нату-
рализм; природа, отлученная от церкви и осужденная
как грех, после долгой борьбы оказывается не чем иным,
как велением судьбы. Вывод таков: «Omnia vincit amor»
(«Все побеждает Амор») 2, природа примиряется с судь-
бой и становится добродетелью, в которой тем больше
вкуса, чем больше страдания:
Счастье то
Действительным бывает,
Что в муках добродетель пробуждает.
Но о добродетели здесь — только словесное заявление, а
главное в пьесе — любовные услады, описанные с такою
откровенностью, что, по оценке кардинала Беллармино,
Гварини с его книгой причинил христианскому миру
больше зла, чем лютеране3.
Сюжет поэмы целиком определен ее замыслом. Ко-
риска и Сатир являются комическим и простонародным
элементом: она — испорченная городом женщина, вер-
нувшаяся в поля и ставшая злым гением сказки, Сатир
же воплотил в себе невежество, грубость и дурные ин-
стинкты, порождаемые жизнью, близкой к природе. И
оба они — поэтическая схема, орудие, связывающее со-
бытия и приближающее развязку. Главные действую-
щие лица «Верного пастуха» Миртилло и Амарилли
1 См. особенно хор IV действия.
2 Вергилцй, «Буколики», X, 69. (Перев. С. Шервинского.)
Цитата ниже — последние стихи заключительного хора. Действие V,
хор, стихи 10—11.
3 См. Жэнгене, цит. «Histoire», VII, р. 363: «Рассказывают, что
при посещении священной коллегии кардинал Беллармино упрекнул
Гварини в том, что своим «Верным пастухом» он причинил христиан-
скому миру столько же зла, сколько Лютер и Кальвин своими ере-
тическими учениями».
16 Де Санктис
241
любят друг друга безнадежно, поскольку Амарилли —
невеста Сильвио, а тот, подобно Сильвии из «Аминты»,
посвятил себя охоте и его сердце чуждо любви—тщетно
любит его Доринда, напрасно помолвлена с ним Ама-
рилли.
Из-за обмана Кориски и жестокости Сатира Мир-
тилло и Амарилли осуждены на смерть, в то время как
Сильвио по ошибке ранит Доринду, переодетую и пре-
вращенную в волка. Под конец Сильвио смягчается и
женится на Доринде, а Миртилло, открыв, что он —
подлинный Сильвио, сын Монтано, и, следовательно,
должен был обручиться с Амарилли, женится на ней.
Так природа в согласии с ответами оракула торже-
ствует победу, и все довольны — природа и судьба, боги
и люди.
В самом деле, здесь налицо все элементы драмы, и
критики называют эту пьесу драмой за переплетение
действий, разнообразие характеров и роль, отведенную
судьбе в традициях греческой трагедии,— черты, не за-
служивающие похвалы и не осуждаемые, наличие кото-
рых в драме возможно, но не обязательно. Но действи-
тельная ценность «Верного пастуха» заключается не в.
этих чертах, внешних по отношению к содержанию, а в
форме, то есть во внутренней жизни произведения.
«Верный пастух» столь же далек от того, чтобы быть
драмой,' как и «Аминта», и хотя композиция «Аминты»
ближе к драме, обе они — «Верный пастух» и «Амин-
та», ее прототип, —по своему содержанию скорее ли-
рические поэмы, повести, описания, песни, нежети дра-
матические произведения.
Развитие драматических ситуаций происходит здесь
не на «сцене», доходит до нее лишь как лирическое эхо.
Перед нами проходят чередою одни персонажи за дру-
гими, и последовательность их появления ничем не обу-
словлена; они рассказывают о своих несчастьях,' бесе-
дуют, но бездействуют. Монологи и рассказы персона-
жей нескончаемы К Они либо совершили какие-то по-
ступки, либо хотят совершить и рассказывают, что они
сделали или намерены сделать, добавляя свои размыш-
1 Об отсутствии занимательности в «Pastor fido» см. в юно-
шеских лекциях о драматической поэзии («Teoria e storia», cit., II,
p. 167, и «Purismo illuminismo storicismo», III).
242
ления и впечатления. Действие —предлог для лириче-
ских излияний. «Верный пастух» изобилует хорами, и
каждый персонаж тоже выполняет роль хора, ибо не
действует, а резонерствует, размышляет вслух, описы-
вает свои горести и радости. Гварини не лишен драма-
тургического таланта и проявляет его в сцене между
Сатиром и Кориской или между Сильвио и Дориндой,
когда раненая Доринда встречается с Сильвио1. Но ему
недостает серьезного драматического мира, и поэтому
его мир — искусственный плод рассудочных, механиче-
ских построений. Ему — и Италии — не хватало эпично-
сти и драматизма, в результате чего не были созданы ни
эпос, ни драма. Гварини невысоко ставит созданный им
мир Аркадии, как и Ариосто — мир рыцарский; только
Ариосто его высмеивает, а Гварини, подобно Тассо, при-
нимает всерьез. И каков же результат? За претензиями
Гварини на драматизм кроется лирический мир, как за
претензиями Тассо на эпос — лирическая поэма. Их век
был лишен страстей и действия, лишен самосознания, а
Тридентский собор не мог придать ему ничего другого,
кроме ханжеской благопристойности. «То был век при-
творства,— писал Гварини, — когда маски не сбрасыва-
лись круглый год»2. Но и сам Гварини носил маску, он
не был ни вне, ни выше своего века. Оставалось пре-
клонение перед литературой, воспринимаемой, как и кра-
сивая речь, с формальной стороны; это была приправа
к придворной жизни, протекавшей в празднествах, вели-
колепии, неге и идиллической праздности. Эту жизнь и
описал Гварини — красивые речи, лиричные и музы-
кальные, от которых веет нежностью и чувственностью.
Такова внутренняя жизнь «Верного пастуха», как и
«Аминты», и если мы желаем наслаждаться ими, забу-
дем здесь о драме с ее законами и фатумом, забудем о
смешении характеров и примем точку зрения Гварини.
5. Гварини недоставало вдохновения, меланхолии, со-
средоточенной фантазии, глубокого чувства Тассо; ему
далеко до Тассо и как поэту. Он постоянно говорит о
любви, но не чувствует ее. Не чувствует он и пастораль-
1 «Pastor fido», соответственно действие II, сцена 6 и 3, и дей-
ствие IV, сцена 9.
2 См. «Lettere», ч. II, р. 76, ed. Venezia 1596. Цитата из преди-
словия Г. Казелла к «Верному пастуху» (Firenze 1866, р. III).
16*
243
ной жизни с ее склонностью к одиночеству и идилличес-
кому покою — его самого алчность и тщеславные устрем-
ления толкали на самые прозаические жизненные дела.
Добродетель, религию, судьбу — все самое возвышенное
в жизни — он постигал не сердцем, а разумом. Или луч-
ше сказать так: у него не было сердца, того внутреннего
горнила, в котором сожительствуют, взаимно обусловли-
ваются и очищаются все духовные силы и где форми-
руется философ, поэт, государственный деятель, великий
гражданин, — того жизненного центра, из которого
только и может рождаться жизнь. И поскольку такого
жизненного центра ему недоставало, Гварини обладал
воображением, а не фантазией, разумом, но не чувством,
музыкальным слухом, но без гармоний, звучащих в
душе. Его можно назвать поэтом потенциально большим,
но недостаточно одаренным. Вот почему «Верный па-
стух»— не гениальное творение поэта, а восхититель-
ное произведение опытного художника, о котором мож-
но сказать то, что говорит хор о фальшивой косе Кори-
ски: оно «золотой труп»!. Оно блестит, но не согре-
вает, ласкает слух и чувства, но не оставляет никакого
следа в душе; все эти персонажи, разодетые в золото
и пурпур, умерли вместе с Миртилло и Амарилли. Но
какое великолепие! Какое чудо композиции! Среди мно-
жества мастеров композиции первое место занимает
Гварини; Каро и Монти приближаются к нему. Его бо-
гатое воображение проявляется, как радуга, во всем
блеске своих самых ослепительных красок, а ясный дух
и проницательный живой ум с легкостью рождают самые
изобретательные, деликатные и тонкие мысли. Словно
его стих возникает вместе с этими красками и мыслями,
настолько он гибок, мягок, грациозен и изящен. Если в
нем и есть чувство, то это утонченная чувственность, поэ-
зия сладострастия. Это все тот же мир Тассо, с харак-
терными для него чертами, только здесь он выглядит
гипертрофированным, потому что Гварини соперничает
с Тассо и стремится его превзойти. Это мир, сложив-
шийся при дворах, отражение культуры своего времени.
Тот мир, который у Тассо рождался грустным и проти-
воречивым в муках и смутных чаяниях переходной эпо-
хи, здесь сбрасывает с себя пеленки и развертывает
1 «Pastor fido», действие II, хор, стихи 15—21,
244
знамя. Это натурализм Боккаччо, доведенный до пре-
дела, очищенный и безукоризненный по языку, прикры-
тый нравственными и религиозными покровами, — нату-
рализм с позволения власть имущих, или, как сказал бы
Гварини, в маске. Позволение еще не все; обнажен-
ность отвратительна и не соблазняет, притуплённая
чувственность нуждается в возбудителях, идущих от во-
ображения и ума.
Боевым конем поэтов-платоников были глаза, у Гва-
рини им стал поцелуй. Уже Тассо сделал несколько на-
меков на игру в поцелуй. Гварини превращает ее в чув-
ственную картину, и нечаянно сорванный поцелуй ста-
новится общим местом для Аркадии. Сколько утонченно-
стей на тему о поцелуе! Вот ода поцелую Гварини;
Мертв поцелуй, коль скоро на него
Не отвечает та, кого целуешь.
Вступают в бой влюбленные уста:
Сойдясь лицом к лицу, друг друга ранят...
Тот поцелуй действительно хорош,
Когда берешь не меньше, чем даешь.
Неси устам лобзанье любопытным,
Лобзай, что хочешь — лобик, руку, грудь
Или другое место у любимой,
Но поцелуй вернуть
Уста лишь могут: в их дыханьи слитном
Душа с душой встречаются незримо.
Как две души, едины,
В лобзаньи оживают
Горячие рубины
И тайны поверяют
Друг другу еле слышно...
Любя, стремись изведать наслажденье,
Жизнь пилигримов — душ, друг к другу их
Взаимное стремленье:
В соединеньи уст воспламененных —
Соединенье двух сердец влюбленных.
(Акт II, хор, ст. 35—38, 42—55 и 58—61)
Блестящая поэзия, в которой ум столь же утончен в
мыслях, как чувственное воображение — в красках. Это
не деятельная жизнь, а жизнь лирическая, рассказан-
ная, описанная, выраженная в сентенциях. Сентенция-
ми изъясняются не только Кориска и Сатир, но и хор.
245
Тонкий ум находит самые искусные ходы, а воображение
перелагает их в удачнейшие стихи. Вот сентенция Ама-
рилли о поцелуях:
Целуй, да не силком:
Иначе будешь награжден плевком.
(Акт III, сцена III)
Чрезмерная виртуозность не знает меры. Каждая
ситуация становится самостоятельной темой, по кото-
рой воображение вышивает самые причудливые узоры.
Разговоры, диалоги или монологи оказываются настоя-
щими канцонами, где во всем богатстве раскрывается
какое-нибудь чувство, ставшее абстракцией ума. Не-
редко канцона сбрасывает с себя петрарковское вели-
чие и торжественность и превращается в элегию или
пастораль, многие же стихи полны манерности, томности
и мелодичности, и тогда канцона приближается к изящ-
ному и. остроумному мадригалу, мастером которого был
Гварини. Превосходным примером этого являются кан-
цоннеты, которые поют нимфы вокруг Амарилли во
время игры в жмурки К
6. Шестнадцатый век завершается прекрасными про-
явлениями литературного прогресса. Внутреннюю жизнь
этой литературы составляет натурализм, как живая
реакция на аскетизм. Волоча за собой мертвый груз
петраркизма и классицизма, она развивает такие жанры,
как пастораль, комедия и роман. Эта новая литература
берет начало от Боккаччо — обобщенного портрета века,
первого создателя пасторали, комедии и романа.
Пастораль, спокойное отдохновение души на лоне
природы, идеал счастья, противопоставленный беспо-
койному идеалу аскетизма, достигает своего эстетиче-
ского совершенства в «Стансах» и пробивается со своим
воркованием сквозь фантазии Ариосто. Пастораль — это
чувство реальной, живой природы и красивых форм,
освобождающееся от сверхъестественного; это натура-
лизм, но еще не гуманизм; она сближает искусство с
природой и в наиболее совершенных рисунках и образах
1 «Pastor fido», действие III, сцена 2, упоминаемая также у Жэн-
гене (op. cit., VI, р. 381): «Еще теснее музыка увязывается с игрой
и действием персонажей и даже с танцем в другой сцене «Верно-
го пастуха» — в сцене игры в жмурки, которую подготовила злая
Кориска...»
246
достигает в Италии идеала формы и творит чудеса ис-
кусства и поэзии.
Комическое обретает своего большого поэта уже в
лице Боккаччо. Он — насмешка нового поколения над
прошлым, над его различными аспектами — религиоз-
ным, этическим, научным, — и она видна во всем — в
новеллах, стихах и комедиях; отсюда повела свое начало
обширная литература — шутовская, ироническая, фри-
вольная, юмористическая. Поскольку комическая лите-
ратура не выставляет никакого положительного идеала,
ее отличают безразличие и скепсис, все признаки нрав-
ственной распущенности, самым откровенным выраже-
нием которой являются комедии Аретино, и в конце
концов она становится поверхностной и фривольной.
При такой пресной внутренней жизни и недостаточ-
ной серьезности жизни внешней воображение обратилось
к рыцарскому роману, чтобы развлекать с высшей до-
бросовестностью возмужалого ума, с сознанием, что в
этом для него — игра и времяпрепровождение, — ситуа-
ция, достигшая своей художественной красоты в гармо-
ническом мире Ариосто и разрешающаяся в юморе
Фоленго. Когда нравственная распущенность и фриволь-
ность литературы достигли высшего предела и потребо-
валось исправить положение, начался крен в сторону
аскетизма и философии Платона. Когда потребовалось
навязать итальянскому сознанию утверждение, а лите-
ратуре— положительный идеал, возродилась пастораль
с ее воспеванием природы, единственного реального
идеала среди стольких идеалов — религиозных, нрав-
ственных, философских — при всей разнице между пла-
тоническим и религиозным идеалом и пасторальной чув-
ственностью. Литература приобретает видимость рели-
гиозности и нравственности, эпичности и трагичности; за
ее пышными сентенциями, богатой палитрой, высокопар-
ной риторикой и тонкостью мысли скрывается недоста-
точная серьезность этих тенденций. За всей этой видимо-
стью скрывался описанный в самых заманчивых кра-
сках лирический пасторальный мир. Натурализм, осуж-
даемый на словах, являлся подлинной органической
жизнью, выбивавшейся наружу в не столь откровенно
бесстыдной, но более утонченной и чувственной форме.
Ощущение всех противоречий этой переходной эпо-
хи живет в благородной душе Тассо, извлекая из нее
247
меланхолические, элегические, чувственные, музыкаль-
ные звуки — последний проблеск поэзии. Этот пасто-
ральный мир при всем избытке нравственных сентенций
и платонических устремлений утверждается в своем чи-
стом виде у Гварини и становится главной темой нового
поколения поэтов. XVII век был не предпосылкой, а
следствием.
7. В этот период итальянская литература вызывала
такой интерес в Европе, какого раньше не вызывала
провансальская, а после нее — французская. В самом
деле, с точки зрения формы она достигла высшего со-
вершенства. Самые посредственные авторы писали
мастерски, по всем правилам грамматики при самой
строгой логической увязке. В Италии литература до-
стигла высокой степени совершенства уже тогда, когда
в других странах еще не закончился процесс ее образо-
вания. Наряду с толпами поэтов и прозаиков всех кате-
горий появилось множество критиков, учителей красно-
речия, грамматистов, ученых, академиков. Италия
XVII века не только не осознает своего упадка, но счи-
тает себя и признается страной самого высокого уровня
литературной культуры. Никто не оспаривает у нее пер-
венства, и другие нации заимствуют у ее новеллистов,
эпиков, комедиографов их новшества и изобретения.
Считается, поскольку в то время все искали нового,
что в XVII веке развернулась литературная революция.
Но, как раз наоборот, это означало, что литература
завершила круг своего развития и стала облекаться
в застывшую форму. Нового не ищут; оно возникает
само, когда литература развивается: тогда все ново и
все свежо. Искали новое, ибо чувствовали, что литера-
тура уже исчерпала и темы и жанры, стала механически
следовать традиции и дала материал для пародий «По-
хищенное ведро» и «Насмешка богов»1 — комических
поэм начала века, высмеявших эпопею и мифологию.
Это осмеяние было пустым и негативным, поскольку не
содержало яркого противопоставления другим жанрам
1 Столь же беглое замечание о Тассони и Браччолини, а также
о разложении эпической поэмы — в юношеских лекциях («Teoria e
btoria», cit., I, pp. 160 и 230, и «Purismo illuminismo storicismo», II).
«Secchia rapita» и «Scherno degli Dei» вышли соответственно в 1622,
«La Secchia», Paris, Toussan du Bray (с окончательным названием —
Roma 1624) и в 1618 (Guerrigli, Venezia). Тассони, выдающемуся
248
и авторы этих поэм — Тассони и Браччолини — не нашли
положительного идеала. По их мнению, эти жанры
смешны, потому что они изжили себя, однако тщетно
было бы искать в их веке и сознании каких-либо других,
живых форм литературного творчества, а поэтому весь
комизм поэм бьет мимо цели и не приносит плодов. Иное
дело «Дон Кихот» — произведение неувядаемой свеже-
сти, в нем рыцарский дух растворяется в картине нового
общества, живущего тут же и делающего рыцарство
смешным. Тассони высмеивал также лирический жанр
и критиковал не только петраркизм, но и самого Пет-
рарку. Он ратовал за простоту, здравый смысл и прав-
доподобие и отвергал всякую манерность и изощрен-
ность искусства !. Эта критика повисла в воздухе, по-
тому что подобная простота жизни, подобное чувство
реальности было несвойственно веку, сознание которого
выражалось в абстракциях ума, а хороший врожденный
вкус был лишен возможности найти себе выражение
в пластическом мире. Вот почему все, кто писал просто
и естественно, при бесспорной живости и изяществе
стиля оставались бесцветными, — Тассони, а позднее
Реди. Для этих писателей характерна бедность духов-
ной жизни, а их внешняя жизнь, окружавшая их дей-
ствительность, была если не претенциозной, то вполне
бесцветной.
Пережило своего автора Тассони описание графа
Куланья:
Ханжа, философ, он писал стихи,
Он вне беды держался Сакрипантом,
А чуть беда — был хуже требухи 2.
«литературному» писателю, посвящено лишь несколько строк вопреки
общей тенденции господствовавшей критики того времени (ср. Fos-
colo, цит. соч. о романтических поэмах, р. 152 и ел.; Е m i l i a n i-
Giudici, Storia delia letteratura italiana, II, pp. 247 и ел.; S e t-
tembrini, Lezioni, II, pp. 287—297. Суждение, совпадающее
с суждением Де Санктиса, хотя под*другим углом зрения, высказано
Канту (op. cit., pp. 356—357).
1 То же в «Saggio critico sul Petrarca»: «Тассони, Муратори,
Сальватор Роза, боровшиеся с петраркизмом во имя хорошего
вкуса» (ed. cit., pp. 62—63). Намек здесь то ли на насмешку над
изощренностью (в «Опрокинутом ведре»), то ли на Тассониевы
«Considerazioni sopra le rime del Petrarca» (Cassani, Modena 1609),
где Тассони подвергал критике искусственные и изощренные формы
петраркистов и самого Петрарки.
2 «Secchia rapita», III, 12.
249
Я сказал «описание», потому что характер этого пер-
сонажа так же расплывчат и бесцветен, как и характеры
прочих героев. Так же и «Вакх в Тоскане» («Вассо in
Toscana») Реди, напоминающий вакханок «Орфея»1, не
был забыт после смерти автора; благодаря яркости и
размаху фантазии, естественности действия и поэтиче-
скому мастерству читать его приятно.
8. Не только литература исчерпала свои формы и со-
держание, но исчерпала себя также и жизнь — рели-
гиозная, нравственная и политическая, и при всей своей
показной серьезности она была раболепной, предписан-
ной свыше.
История заслуженно обрекла на забвение раболепные
произведения, цветистые и льстивые, и хранит благо-
дарную память о тех, от которых веет свободной мыслью,
потому что даже в тех случаях, когда художником вос-
хищаться не приходится, достоин восхищения человек.
Конечно, писатель в нем ниже, чем человек, поскольку
критика писателя лишь негативна и подсказана не
ясным сознанием челогзека нового общества, а лишь чув-
ством недовольства и оппозиции. В XVII веке критика
тоже была негативной, но была не выражением одино-
кой позиции художника, а всеохватывающим отрицанием
с всеобщего одобрения и среди общего смеха. Это объяс-
няет Берни, а также «Мандрагору», сатиры Ариосто, ко-
медию Аретино, иронические и юмористические рыцар-
ские поэмы. Если наука может быть одинокой, то искус-
ство должно иметь в своем распоряжении пластический
и живой мир, рупором которого оно является. В том веке
отрицание было свободно, дозволено, желанно, встречало
одобрение; оно объединяло писателя с сочувствующими
ему читателями. Это отрицание подсказывалось созна-
нием нового мира, мира обновления или возрождения,
мира искусства и природы, сменившего варварство сред-
них веков. В XIV столетии в распоряжении Данте тоже
был целый век, и он переплавил его в пластический мир,
1 Ссылка на финальный хор «Орфея» Полициано имеется и
у Эмилиани-Джудичи в «Storia della letteratura italiana», II, p. 244.
О Реди-прозаике, блестяще владевшем тосканским диалектом, см.
далее, в гл. XIX. Этот дифирамб, впервые напечатанный во Флорен-
ции в 1685 году, упоминается только здесь; Де Санктис видел в нем
еще один удачный продукт литературной традиции, которая теперь
истощилась и исчерпала себя.
250
который и был миром средневековья, другим миром. Те-
перь писателей окружал мир ханжества и инквизиции,
в котором религиозная и социальная жизнь была за-
ключена в неподвижные, неизменные формы. Не имея
вокруг себя свободного мира, искусство захирело. Тот,
кто хочет понять различие веков, должен прочесть
«Сравнения Парнаса» («Ragguagli di Parnaso») Трая-
но Боккалини, смелого комментатора Тацита, сражен-
ного испанским кинжалом1. Его Парнас, сменивший
мир Данте и Ариосто, страшно серьезен и остается про-
сто рамкой для мыслей, выражения досады, для колко-
стей, намеков и аллегорий, связанных воедино лишь ка-
призом автора. Это мир, разложенный на атомы,
лишенный жизни и внутренней связи. В отсутствии вну-
треннего мира, с которым она могла бы слиться, критика
разменивается на сентенции, увещания, нравоучения,
проповеди, обобщения и высокопарную риторику, тем
более желчную, чем менее она художественна. Такой
предстает она в «Сатирах» Сальватора Роза, которые не
подверглись забвению благодаря мужественной энергии
искренней души, полной жизни, согревающей воображе-
ние автора и помогающей ему обновить изобразительные
средства и художественный стиль, счастливо избежав
всего излишнего2.
9. Как показало будущее, ни один век так часто не
трубил в эпическую трубу, как этот век, столь мало ге-
роический. Некоторые его писатели пошли по стопам
Тассо, например Грациани в «Завоевании Гренады»3.
1 Согласно старинной историографии, принимаемой во время
Рисорджименто. О смерти Боккалини см. теперь Г. Нашимбени
(G. Nascimbeni) в «Giornale storico della letteratura italiana», LII,
1908, pp. 71—92. Относительно «Commentari sopra Cornelio Tacito»
(напечатаны в «Космополи» (Венеция) в 1657 г.) см. статью
Ф. Фьорентино (F. F i о г е п t i n о, Traiano Boccolini e i suoi Com-
mentari» в «Rivista Europea», IV, pp. 397 и ел.).
2 Иное суждение о языке Роза — «низменном, почти неаполи-
танском», в котором выразился еще пуристский подход Де Санктиса,
в лекциях о жанрах литературы («Teoria e storia», cit, I, p. 145, и
«Purismo illuminismo storicismo», II).
3 О поэме Грациани см. цит. лекции («Teoria e storia», I, р. 230, и
«Purismo illuminismo storicismo», II). В связи со следующим заме-
чанием о поэмах, написанных по поводу открытия Америки, см.
Эмилиани-Джудичи («Storia della letteratura italiana», cit., II,
pp. 251—252). Оттуда же (р. 239, nota 1) почерпнуты названия
пяти поэм Габриелло Кьябрера и указания на другие его произведе-
ния религиозного и светского содержания.
251
Кьябрера написал героические поэмы «Форесто», «Го-
тиада», «Флоренция», «Амадеида», «Руджиеро» и еще
двадцать две пьесы на светские темы и четырнадцать —
на религиозные. Виллафранки, Стильяни и другие воспе-
вали открытие Америки. Тассони тоже собрался было
писать на эту тему свой «Океан», когда, приняв лучшее
решение, с более ясным пониманием своих способностей,
обратился к «Опрокинутому ведру» — пародии на герои-
ческий жанр. От всех этих эпических поэм не осталось
ни одной, потому что их темы — священные и светские,
рыцарские, героические, мифологические — были выдум-
кой авторов, а не темами того времени. Новейшей и са-
мой популярной была тема открытия Америки, вдохно-
вившая Тассо на его гениальнейший замысел — путе-
шествие на Острова счастья ]. Но оно было описано в
обычной классической манере, и новый мир представал
надоевшей и устарелой реминисценцией дряхлого уже
поэтического мира.
10. Героический мир того века был выдуман Тридент-
ским собором. Он представлял собой реставрацию като-
лического мира после борьбы с турками и победы над
ними не столько в силу собственной доблести, сколько
благодаря милости божьей. Эта тема всех рыцарских
поэм, проглядывавшая и в шутовстве Пульчи и в иронии
Ариосто, очищенная и облагороженная Тассо, стала
«официальным лейтмотивом века». Певцом этой рестав-
рации был Габриелло Кьябрера, который закончил свое
учение в Риме, воспитанный иезуитами, руководимый
Спероне Сперони, и возвратился в родную Савону
с головой, набитой греческими и латинскими текстами и
поэтиками; там он неутомимо, до глубокой, восьмидеся-
тишестилетней старости слагал стихи, встречавшие вос-
торженный прием у князей и знатоков литературы.
В трех томах лирических стихотворений2 нелегко встре-
тить мысль или образ, на котором хотелось бы задер-
жаться, и хотя у него имелись наготове благороднейшие
и в высшей степени трогательные темы, ничто в них не
волнует и не возвышает. Нет сколько-нибудь важного
1 «Gerusalemme Liberata», XV, 3 и ел. Ср. главу XVII о Тассо.
2 Как заметил уже Кортезе, Де Санктис, по всей вероятности,
ссылается на издание «Rime» Кьябрера в трех томах, «Типография
итальянские классикор», Милан, \ 807—1808.
25?
события, которое не было бы им прославлено, например
победы тосканских галер над пиратами1, битва при Ле-
панто, служба венецианцев в Греции. Он обильно возно-
сит хвалу князьям, но не обделяет ею и великих коман-
доров и в особенности святых, например Петра, Павла,
Цецилию, Марию Магдалину, Стефания, Агату и им
подобных, начиная с девы Марии. Сюда вклинивается
сатира на еретиков, например Лютера, Кальвина и
Беца, — подлинные инвективы. Разумеется, не обходится
и без любовных и отвлеченных проблем, которые уже
вставали перед Филлидами, Амарилли и Хлоями, а позд-
нее заполонили Аркадию2. Что еще? Когда ему недо-
стает живой, настоящей темы, он, как школьник, упра-
жняется в отвлеченных обобщениях, например о зиме,
звездах, Муции Сцеволе, похищении Прозерпины, все-
мирном потопе, Голиафе, Юдифи и тому подобном.
Канцоны и канцонетты, дифирамбы и эпитафии, сонеты
и поэмы встречаются у него во всех вариантах формы,
как и во всех вариантах содержания. Он разыгрывает
из себя то героя, то влюбленного и с одинаковой легко-
стью играет на трубе, цитре, лире и волынке; он обезьян-
ничает, подражая то Пиндару, то Анакреонту. Праздни-
ки при княжеских дворах служат ему материалом для
аллегорических басен и музыкальных драм. Но все это
пишется по трафарету, и с самыми волнующими тема-
ми современности он обращается с таким же безразли-
чием, с каким пишет о Прозерпине и Хироне3. Вместо
того чтобы ограничиться определенной темой и пытать-
ся раскрыть ее, он уходит от нее в мифологию или в ри-
торические рассуждения на общие темы и оказывается
1 См. в «Rime», «Canzoni eroiche», LXVII и ел., ed. cit., vol. I,
pp. 145 и ел. Другие упоминаемые сочинения, например о победе
при Лепанто, см. в «Canzoni lugubri», ibid. IV, pp. 236 и ел.; о служ-
бе венецианцев в Греции в «Canzoni eroiche», ibid., Ill, pp. 8 и ел.;
религиозные стихотворения — в «Canzoni sacre», ibid., Ill, pp. 263
и ел.; сатиры на Кальвина, Лютера и Теодоро Беца — в «Canzoni
morali», ibid., HI, pp. 311 и ел.
2 См. «Canzonette amorose», ibid., II, pp. 3 и ел. Из сочинений,
упоминаемых ниже, первые четыре помещены в «Poemetti profani»,
ibid., Ill, «II Diluvio», «La disfida di Golia» и «La Giuditta» в «Poe-
metti sacri», ibid., III.
3 «II Chirone» в «Poemetti profani», ibid., HI, pp. 35 и ел., о
«Proserpina» см. выше,
263
холодным и пустым. Надо воздать хвалу святому Фран-
циску? Получайте тираду о жажде золота К Он совер-
шенно лишен таланта живописца, всякого живого чув-
ства или воображения и не наделен воодушевлением
или лирической восторженностью. В житиях Кавалька
больше поэзии, чем в его бесцветных Магдалине, Лю-
ции, Цецилии, Стефане или Себастьяне. Данте увекове-
чил в памяти несколькими штрихами святого Стефана
лучше, чем Кьябрера в семи строфах, сбиваясь-со свет-
ских реминисценций на духовные и будучи совершенно
неспособным передать индивидуальные черты личности
своего героя. В нескольких строфах фра Якопоне обри-
совывает деву Марию; перед читателем так и не возни-
кает ее образа в тех ста строфах, которые ей посвящг>ет
Кьябрера. Мученичество святого Себастьяна — тема в
высшей степени печальная — под пером Кьябрера ока-
зывается напы1денНой и холодной риторикой2. Там, где
Кьябрера не бесцветен, он претенциозен, как в том слу-
чае, когда, увещевая муз воспеть святого, пронзенного
стрелой, он говорит:
В святого стрелы звучные направьте,
О лучницы: пронзенного прославьте.
Тематически здесь охвачен весь героический, нрав-
ственный и религиозный мир христианства, но нет
его духа, и Тридентский собор со всеми своими указами
был не в состоянии вселить его. Религиозная литература,
как и религиозное чувство, была модой, религиозный дух
был ей чужд, и Кьябрера придерживался классических
литературных форм, оставаясь безразличным к содер-
жанию. Что волнует или интересует Кьябреру по-настоя-
щему? Ничто, Потому что в его сознании ничего нет —
ни веры, ни нравственности, ни родины, ни любви, ни
искусства, хотя он всего этого касается. Несомненно,
Кьябрера — отличнейший человек, искренне благочести-
вый и честный, с приятным, спокойным характером. Но
если хочешь то или иное содержание превратить в поэ-
зию, недостаточно, чтобы оно жило в душе, как привыч-
1 «Per San Francesco» в «Canzoni sacre», I, p. 302. Там же и
сочинения, указываемые ниже. В отношении замечания о святом
Стефано («Чистилище», XV, 106 и ел.) см. т. I, гл. VII.
^ «Per San Sebastiano», см. в «Canzoni sacre», ibid., I, pp. 288
254
ный и традиционный мир, а таким оно было для Кьябре-
ры; нужна страсть, возбуждающая воображение и тол-
кающая на размышление. Кьябрера обладал страстью,
но он направлял ее не на содержание, которое было ему
безразлично, а на формы. Именно на формы, а не на
форму, потому что ему как раз и недоставало того чув-
ства красоты и формы, которое составляет величие на-
ших художников XVI века. Поэтому он был лишен всех
качеств поэта и художника — достоверности содержания
и чувства формы. У него было также крайне мало того
музыкального чувства, которым природа так щедро на-
деляет итальянцев; он неловок в плетении рифм и в со-
четании звуков и порой допускал диссонансы и фальши-
вил. Его навязчивой идеей было открыть, подобно
Колумбу, новый мир, и современникам казалось, что ему
это удалось, потому что Урбан написал на его могиле:
«Novos orbes poeticos invenit». («Он открыл новые поэти-
ческие миры».) * Новые поэтические миры тогда действи-
тельно имелись. Это были миры, созданные Камоэнсом,
Сервантесом, Монтенем, Шекспиром и Мильтоном. Но
внутренняя жизнь Италии замерла; новизна распростра-
нялась на формы, и, исчерпав римскую литературу,
Кьябрера принялся искать новизну в греческой. «Theba-
nos modos fidibus hetruscis adaptare primus docuit»,—ска-
зал о ней Урбан. Такими фиванскими формами являются
строфы, антистрофы и эпод, сталкивание слов, вышед-
ших из употребления2, искусственные построения, некая
отвлеченная грубая нравоучительность, сдержанность и
простота красок. Поэтические формы, не подсказанные
содержанием, а воспринятые механически, скопирован-
ные. И нет ничего более далекого духу Кьябреры, чем
греческая красота, ее чистота, изящество и простота.
1 См. известное место «Autobiografia»: «Я следовал примеру
Христофора Колумба, своего земляка, который хотел найти новый
мир или утонуть», приведенное, помимо Тирабоски (Tiraboschi,
Storia, VIII, p. 417), Эмилиани-Джудичи (Emiliani-Giudici,
Storia della letteratura italiana, II, 237) в предисловии к цит. из-
данию «Rime». В том же предисловии упоминается эпиграф, сочинен-
ный папой Урбаном VIII, из которого здесь и несколько ниже при-
водятся две выдержки.
2 Также Эмилиани-Джудичи («Storia della letteratura italiana»,
И, р. 238, nota I): «Он был первым, кто ввел в итальянскую идиома-
тику слова, составленные на манер Греческих, или же смешивал два
или три слова в одно»,
255
Нередко вместо простоты у него сухость, вместо чисто-
ты— грубость, вместо изящества — вялость. Он манерен
и претенциозен в своих приемах и формах, которые по
сравнению с греческими — сплошное кривлянье, — почи-
тайте его «Дифирамб»1. Впрочем, изящное ему дается
лучше героического, и если сегодня все же что-либо еще
и читают из Кьябреры, то это некоторые его канцонетты.
Однако тот, кто помнит «Аминту», найдет эти канцонет-
ты весьма убогими.
Гравина тоже учился у греков простоте, как лекар-
ству от спесивости и манерности века, и, стремясь быть
простым, становился бесцветным, холодным и вульгар-
ным. После долгого подражания римлянам подражание
грекам было для него естественным этапом на пути ли-
тературного развития, которое не было оживлено ника-
кой внутренней жизнью поэта и его века2.
Другим поэтом в героическом жанре был сенатор
Винченцо Филикайя, после которого остались канцоны
на освобождение Вены. Он охотно говорил языком про-
рока и напускал на себя святой гнев. Похоже, что он не
говорит, а поет, даже рычит, сжав кулаки, вытаращив
глаза, совершая судорожные движения. Он нагромо-
ждает восклицания, вопросы, повторы под грохот звуков
и фраз. Напыщенная риторика, за которой скрывается
имитация жизни. Он лишен какого бы то ни было чув-
ства реальной действительности, зато обладает пылом
фантазии, музыкальным слухом и недурно владеет сти-
хотворной формой, что обеспечивает ему место среди
второстепенных поэтов 3.
1 «Ditirambo all' uso de 'Greci» в «Vendemmie di Parnaso», III,
ed. cit., vol. II, p. 227 и ел.
2 О Гравине — критике и теоретике театра см. дальше, в гл. XIX,
о его неудачных попытках писать стихи, трагедии на греческий лад
и эклоги см. суждение Баретти (В а г е 11 i, Frusta letteraria,
cit., pp. 15—16) и Вольтера («Гравина пишет о принципах искусства,
как гений, и в то же время сочиняет жалкие комедии»). Де Санктис
высказывал свое суждение о нем в юношеских лекциях («Teoria e
storia», cit., II, p. 66, и «Purismo illuminismo storicismo», III).
3 В тех же юношеских лекциях, помимо указания на канцоны на
освобождение Вены, смотрите общий анализ поэзии Филикайи («Teo-
ria е storia», cit., I, pp. 146—148, и «Purismo illuminismo stori-
cismo», II). He исключено, что Де Санктис заглядывал в очерки'
Фосколо («Opere», cit., I, pp. 345 и ел.); см. также Сеттембрини,
(«Lezioni», cit., p. 308).
256
Кьябрера и Филикайя были также национальными
поэтами. Один жаловался на изнеженность итальянских
воинов, или, по его выражению, изящество италийцев:
И где возможно
Носить такой изящный башмачок
С такой подметкой чистой?..
Часами можно о штанах рядить,
Расшитых ярко, а камзол украшен
Застежками, которые змеятся
Во всех возможных направленьях; пышно
Горят плащи с подкладки и снаружи,
А на бедре у каждого эфесы,
Расписанные серебром и златом,.
Смеются: в ножнах нету ничего К
Другому принадлежит знаменитая строка:
Будь некрасивей чуть, но чуть сильней.
Но и Италия пробуждала в них такое же поверхност-
ное чувство, как и религия, являясь темой для сонетов и
канцон, таких, как «Сбор винограда на Парнасе» и
«Лауды Христине»2. Когда Филикайя спрашивает у
Италии, где ее рука и почему она пользуется чужими
руками3, напоминая, что все иностранцы — наши враги
и были нашими рабами, чувствуется, что он невыразимо
далек от реальной действительности, что он любуется
традиционной Италией, от которой не осталось и следа
даже в его сознании, и сам не принимает всерьез свои
восторги и возмущения, а поэтому его речи — не что
иное, как риторические словоизлияния. Его современни-
1 Chiabrera, «Sermone a Jacopo Gaddi», vv. 29—31 и 43—50,
в «Sermoni», XX, ed. cit., vol. II, pp. 315—316. Стих, цитируемый
вслед за этим, — пятая строка знаменитого сонета Филикайи: «Italia,
Italia, о tu cui feo la sorte», первого из сонетов «All' Italia», в
«Poesie e lettere», Barbera, Firenze 1864, p. 76.
2 «Vendemmie di Parnaso» Кьябреры, ed. cit., vol. II; о сонетах
и канцонах, посвященных Филикайей шведской королеве Христине,
см. «Poesie e lettere», cit., pp. 245 и ел. О Филикайе как поэте-гра-
жданине имеются неоднократные указания в юношеских лекциях
(«Teoria e storia», cit., I, pp. 147—148 и 192, и «Purismo illuminismo
storicismo», cit., II) и столь же суровое суждение Сеттембрини («Le-
zioni», cit., II, p. 309).
3 См. второй из сонетов «А1Г Italia»: «Dov'e Italia il tuo brac-
cio», в «Poesie», cit., p. 76.
17 Де Саиктис
257
ки были ему под стать и восхищались каким-нибудь
красивым сонетом, написанным в едином порыве, с яр-
ким блеском горячего воображения: но они восхища-
лись красивой проповедью, а поступали совершенно об-
ратно тому, о чем говорили евангелие и проповедник.
11. Нравственная, религиозная и национальная жизнь
Италии в тот период была такова: традиционный мир,
ставший модой, поддерживаемый и сохраняемый в его
внешних проявлениях, в шумных фразах, без чувств и
раздумья, не освежаемый и не обновляемый, — никто ему
не противился, и никто его не защищал; то была не
реальная жизнь и не жизнь в идеале, иными словами, не
действительная жизнь, не преследование ее целей и тен-
денций. Общество снедала праздность умов, полная ин-
дифферентность, принимавшая привычные религиозные и
этические формы, которые именно в силу того, что они
были формами или внешней стороной, отличались теат-
ральностью и помпезностью.
Бездеятельность ума — естественное порождение ав-
торитарной теократии, подозрительно относящейся ко
всяким дискуссиям, — и истощение, опустошенность вну-
тренней жизни делали Италию чуждой тому большому
идейному движению, из которого возникли молодые на-
ции Европы. С этого времени она была отрезана от со-
временного мира и больше походила на кабинет воско-
вых фигур, нежели на общество живых людей.
Литература была образом и подобием этой Италии,
лишенной идей и чувств, игрой форм, не связанных с со-
держанием. Она перерывала старый классический арсе-
нал, жевала и пережевывала мысли и жанры антично-
сти. Греческая литература, груз которой был с трудом
сброшен, снова широко вошла в обращение и придала
литературным формам видимость некоторой новизны. За
долгий путь своего развития итальянская поэзия выра-
ботала репертуар, ставший уже избитым и лишенным
чувства. И поскольку у нее не было сил обновить содер-
жание, оставалось оттачивать, утончать, расшивать, ус-
ложнять, раскрашивать старые формы, которые уже ни-
чего не говорили ни уму, ни сердцу.
Чем меньше содержание было связано с жизнью, тем
форма становилась отшлифованней, претенциозней,
звучней. Родилась показная жизнь с большими преуве-
личениями и многословием, с дешевым религиозным,
258
патриотическим, нравственным героизмом, поскольку за
словами не было содержания.
Самым ярким образчиком такого риторического ге-
роизма является «Фортуна» Гвиди, который настолько
утратил чувство правды и простоты, что дантовская
«Фортуна» { представлена у него в смешном и хвастли-
вом виде. От него ведет начало прециозный и цветистый
стиль, примеры которого давал уже Аретино в тех слу-
чаях, когда тема не задевала его за живое.
Одним из менее испорченных талантов был Кьябрера,
в чем убеждаешься, прочитав его эпитафию, посвящен-
ную Рафаэлю:
Для украшенья образов своих
Так много он переписал с натуры,
Что, создавая новые фигуры,
С его картин берет Природа их 2.
Прециозностью отличались не только мысли этих поэ-
тов, но и стиль их произведений, поскольку каждый стре-
мился выразить самое простое самым необычным обра-
зом. Вот пример такого прециозного стиля из «Форту-
ны» Гвиди:
Десница вот, которая на Ганге
Дала индусам власть и на Оронте
Ассирию назначила на царство,
Зажгла звезду во лбу у Вавилона,
Корону Персу выдала и троны
Пред Македонией повергла наземь.
(ст. 43—48)
Среди самых прециозных и манерных стихотворцев
выделялся Лемене, среди самых жеманных и цвети-
стых — Джовамбаттиста Цаппи. Свидетельством выро-
ждения поэтического творчества является Фругони, са-
мый пустой и претенциозный из поэтов.
Весьма поучительно проследить, как народ, в течение
ряда поколений уделявший огромное внимание вопросам
1 О «Фортуне» Данте («Ад», VII, 73 и ел.) см. в т. I, гл. VII.
О знаменитой аллегорической канцоне Гвиди «Una donna superba
al par di Giuno» молодой Де Санктис дал восторженный отзыв
(«Teoria e storia», cit., I, pp. 149—150, и «Purismo illuminismo sto-
ricismo», cit., II).
2 С h i a b r e r a, Epitaffi, XXIX, ed. cit., vol. II, p. 226.
17* " 259.
формы и сделавший слово самоцелью, лишил его всякого
содержания. Чем стала Флоренция, мать Данте, Микел-
анджело и Макиавелли? Вот как ее воспевает Фили-
кайя:
Коль сладостный язык земли родимой
Свою доныне славу сохранил,
Тосканских стойкость золотых чернил
Достойна зависти Афин и Рима.
В Тоскане голоса любого тон,
Значение и вес — всему мерило;
Злодея мигом очищает он.
Словесности великое светило,
Он сам себе сооружает трон,
Он славен всем — изяществом и силой К
Флоренция — великий мастер слова. Там его трон и
слава. Ничего удивительного, если сколько-нибудь ода-
ренные люди, находя слово бесцветным и устаревшим,
украшают его, заостряют, прихорашивают и, как говорит
Филикайя, обрамляют линиями и узорами. И он не от-
давал себе отчета в том, что при подобной бесцветности
и пустоте содержания безупречная внешняя отделка —
это последняя ступень упадка поэзии, хотя и появилось
множество Пиндаров и Анакреонтов, хотя и расплоди-
лись во всех уголках Италии поэты, а с ними академии,
почитавшие себя первыми во всей Европе, культуру ко-
торой они не признавали.
Теперь становится понятным, почему основание «Ар-
кадии» явилось крупным событием и несколько десяти-
летий подряд занимало внимание общества. Ученейшие
и серьезнейшие люди ребячились среди этих пастухов и
пастушек и провозглашали законы Академии с такой
торжественностью, как если бы речь шла о законах
Двенадцати таблиц. Казалось, что для возрождения поэ-
зии и хорошего вкуса достаточно соблюдения некоторых
правил, — врачей становилось все больше, тогда как
больной уже скончался.
1 F i 1 i с a i a, «Nel riaprimento delPAccademia della Crusca», со-
нет VI, vv. 1—4 и 9—14.
260
Члены «Аркадии», ученость которых в сочетании с пу-
стотой стала нарицательной, желая заклеймить героиче-
ское, ударились в пасторальное, ибо полагали, что, пере-
несясь в поля, к пастухам, можно обрести естественность
и простоту, которой не было ни в жизни, ни в душе пи-
сателя. Результатом этого явились произведения сухие,
бесцветные, аффектированные, жеманные, фальшивые.
12. Королем века, большим мастером слова был ка-
валер Марино, которого почитали, торжественно при-
нимали, одаривали; не только простолюдины, но и са-
мые просвещенные люди того времени считали его
первым поэтом древности и современности. Говорили, что
он — развратитель своего века. Скорее позволительно
сказать, что век развратил его, или, точнее, ни развра-
щенных, ни развратителей не было1. Век был таким и не
мог быть иным, он явился неизбежным следствием не
менее неизбежных предпосылок. И Марино был талан-
том этого века, самим веком, его самым сильным и бле-
стящим выражением. Он обладал богатым и ярким во-
ображением, живой мыслью, музыкальным слухом, ему
было доступно неисчерпаемое богатство приемов и форм
при полном отсутствии глубины и серьезности мыслей и
чувств и веры во что бы то ни было. Для него, как и для
его современников, проблема заключалась не в что, а в
как. Он застал истощенный репертуар, надушенный и от-
шлифованный уже под пером Тассо и Гварини — двух
великих поэтов его юности. И он еще больше шлифует и
льет духов, прилагая всю свою богатую фантазию и да-
рование. Тогда были в моде религиозные и нравственные
идеи. Муртола писал «Сотворенный мир»2, Кампеджи—
1 Аналогично в юношеских лекциях о литературных жанрах:
«Несправедливо упрекать Марино в том, что он был развратителем
своего века, тогда как время развратило его и он не мог изменить
общество, отголоском которого являлся» («Teoria e storia», cit., I,
p. 142, и «Purismo illuminismo storicismo», cit., II). Десанктиевское
толкование Марино продолжает линию, начатую Сисмонди и удачно
развитую Сеттембрини. Об истории критики Марино от де Санктиса
и позднее см. работу Ф. Кроче в «Classici italiani», cit., II, pp. 47—87.
2 По аналогии с названием произведения Тассо. Поэма Гаспаре
Муртола в шестнадцати песнях, послужившая толчком к шумной
полемике между ним и Марино, появилась в 1608 году, напечатана
у Дейкино (Deuchino) под названием «La creazione del mondo».
«Lagrime della Vergine» Родольфо Кампеджи, «героическая поэма
в шестнадцати плачах», вышла в Болонье в 1618 году; «Strage degli
Innocenti» Марино — в Венеции в 1633 году, -•
261
«Слезы девы Марии», а Марино — «Избиение младенцев
в Вифлееме», облекая эротические стихи в аллегориче-
:кие покровы. Но жизнь в своей сущности была мате-
шальной, радостной, грубой, болтливой и безнравствен-
ной. За религиозными покровами жил натурализм в его
самой грубой форме. Первые стихотворения Марино,
как и его ранняя молодость, были бесстыдно непристой-
ными. Но и с наступлением зрелости он не исправляется,
а добивается благопристойности, скрывая свои любовные
неистовства за аллегорическими ширмами.
В поэзии стал традиционным мотив, ведущий свое на-
чало от Цирцеи и Одиссея, — мотив безумия, постигаю-
щего мужчину на почве любви, и обретения рассудка
после освобождения от нее. Этот мотив занимает важное
место во всей нашей поэзии — лирической и героической.
Он вдохновлял также Данте и Петрарку. Анджелика,
Альчина, Армида — итальянские Цирцеи, с их садами,
дворцами и волшебными замками, с их путешествиями
в дальние страны. Это самое интересное место и одно-
временно лейтмотив «Освобожденного Иерусалима»г.
Теперь то, что у Тассо было эпизодом, вклинившимся
между религиозными и героическими элементами, стано-
вится само по себе поэмой, становится «Адонисом».
История поэтического натурализма начинается «Лю-
бовным видением» Боккаччо и завершается «Адони-
сом»2. Замыслы обеих поэм довольно схожи. Любовь —
основа продолжения рода человеческого, двигатель
жизни, апофеоз природы и искусства, в ней начало и
завершение круга бытия. Союз между Венерой и Адони-
се м не только духовный, но и физический — союз боже-
ственного и человеческого, чувственная любовь, дарован-
ная всей природе, небу и земле. В теологическом рае'
Данте тело растворяется в душе, а в этом мифологиче-
ском рае душа обретает свое совершенство и жизнь в.
чувственной любви. К этой земной комедии примеши-
вается трагическая нота. Человек смертен, а его насла-
ждения незначительны и мимолетны. Поэма заканчи-
1 «Gerusalemme Libcrata», XV, 63 и ел. и XVI, см. гл. XVII.
О мотиве, вдохновившем Марино на создание «Адониса», см. также
у Согтембриии, «Lezioni», cit., II, p. 271: «Адонис» родился от «Иеру-
салима», как сладострастие — от любви; это эпизод, растянутый и
раздутый до поэмы, эпизод любви Армиды и Ринальдо».
2 О содержании и смысле поэмы Боккаччо см. т. I, гл. X.'
262
вается смертью Адониса, оплакиваемого бессмертными
богами.
13. В основе поэмы чувственная любовь во всех фа-
зах ее развития, место действия — Сад наслаждений,
один из тех садов любви, которые уже были воспеты По-
лициано, Ариосто и Тассо. Здесь он разделен на пять
частей, соответственно пяти чувствам, так что уже одно
описание сада занимает значительное место в поэме1.
В саду Татто Адонис вкушает высшие наслаждения и
блаженство и, унесенный на небо, достигает божествен-
ности. Небо, или рай, у Марино включает лишь Луну,
Меркурий и Венеру — вот и вся вселенная любви.
Луна — местопребывание природы, Меркурий — место-
пребывание искусства, а Венера — местопребывание
любви. Вот и все небо жизни, напоминающее различные
ступени любовного видения. Но апофеозы и победы люб-
ви быстротечны, и у Венеры нет времени сделать своего
возлюбленного бессмертным. Став жертвой ревности
Марса, Адонис умирает. Последние песни рассказывают
о смерти Адониса, жалобах Венеры и богов и о похоро-
нах Адониса.
Нужно ли говорить, что все эти необычайные про-
исшествия не составляют для Марино никакой фак-
тической и реальной ценности и являются лишь основой,
обогащенной многочисленными мифами и пригодной
для приложения его поэтических сил, стандартной схе-
мой фантастической любви, принятой в итальянских
поэмах.
Мысли и страсти становятся нелепыми персонифика-
циями, такими, как Любовь, Искусство, Природа, Фило-
софия, Ревность, Богатство и другие аллегорические фи-
гуры2. Я говорю «нелепыми», поскольку эти персонифи-
кации лишены глубокого смысла и серьезности жизни.
Это схема итальянских поэм, к которой искусно доба-
вляются некоторые эпизоды в угоду княжеским семьям
1 «Adone», песнь VI. Эпизоды, упомянутые в следующем абзаце,
находятся соответственно в песнях XIII и X. О луне как место-
пребывании природы см. X, 30; о Меркурии--там же, 109; о Ве-
нере— XI, 9. Цитаты — по изданию Marino, «Opere», Napoli 1861.
2 Об аллегорическом смысле отдельных песен см. песнь I — Лю-
бовь; песнь II — Богатство; песнь X — Искусство, Природа и Фило-
софия; XII — Ревность.
26с'
Италии или королевскому двору Франции К И тем не
менее это схема, куда жизнь не проникает ни через одну
щель. А поскольку только она и волнует читателей,
поэма не вызывает никакого интереса. В ней нет ни еди-
ного персонажа, привлекающего внимание и оставляю-
щего по себе след в памяти, ни единой лирической или
драматической ситуации, имеющей какую-либо ценность.
Жизнь представлена в виде аллегорических образов и
только с ее внешней стороны, в ее происшествиях, во
внешних сходствах и несходствах. А поскольку внешних
сходств и несходств неисчерпаемо много, между вещами
возникают отношения, рожденные авторской прихотью,
произволом, реальные с той или иной внешней стороны,
но нелепые и фальшивые, если исходить из жизни в це-
лом. Мы видели, как описана роза у Полициано, Арио-
сто и Тассо2. Лишь немногие частности передают непо-
вторимую сущность этого цветка, не извращая его при-
роды. Теперь смотрите, как описана роза у Марино:.
Любви улыбка, крови цвет моей;
Небес творенье, мира украшенье,
О роза, о краса природы всей,
О дочь Земли и Солнца порожденье.
Любимица пастушек и напей,
Семьи благоуханной утешенье,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем другим растеньям — Госпожа.
Ты, как на троне гордая царица,
Красуешься на берегу родном,
На твой призыв придворным ветер мчится,
Твоим капризам следуя во всем,
И, за тебя готовые вступиться,
Колючие бойцы стоят кругом.
Порфиру носишь ты самовлюбленно.
Увенчанная золотой короной.
1 Намек на описание гербов итальянских княжеств и царствую-
щего дома Франции, украшающих фонтан Аполлона (песнь IX); на
рассказ Аполлона Адонису о боевых подвигах двух последних коро-
лей Франции и Савойских герцогов (песнь X) и на финальный эпи-
зод поэмы — турнир в честь смерти Адониса, в котором принимают
участие представители знатнейших родов Италии (песнь XX).
2 «Stanze per la giostra», I, 78; «Orlando Furioso», I, 42; «Ge-
rusalemme Liberata», XVI, 14. См. соответственно в т, I гл. XI и
в данном томе гл. XIII и XVII.
264
Садов убранство и полей наряд,
Росток — весны дитя, глазок апреля.
Хариты и Амуры мастерят
Веночки из тебя и ожерелья.
Когда пчела с зефиром захотят
Отведать, как всегда, твои изделья,
В рубиновом бокале ты должна
Им поднести росистого вина.
Надменному Светилу не пристало
Кичиться перед малою звездой,
Пока среди других соцветий алый
И царственный убор являешь свой.
Красою озаряешь небывалой
Ты этот берег, Солнце — брег иной.
Земное Солнце ты, цветок прелестный,
А Солнце — роза в стороне небесной.
У вас одни желания, —в любви
Взаимной, очевидно, их истоки:
В одежды Солнце пышные твои
Зарю оденет на своем востоке,
А ты кудряшки мягкие свои
Зажжешь и нарумянишь Солнцем щеки
И, чтоб его не хуже быть ничуть,
Приколешь Солнышко себе на грудь 1.
Совершенно очевидно,- что здесь нет ни чувства
природы, ни непосредственного впечатления от розы. От-
влеченные, произвольные сравнения, идущие от ума, под-
сказанные случайным и внешним сходством, фальсифи-
цируют и извращают образы природы, порождая чудо-
вищные создания, существующие лишь в воображении
автора. Уже Тассо рисует пасторальную жизнь узорами,
их, быть может, слишком много, но у него они не иска-
жают предметов и чувств. В «Адонисе» тоже есть пастух,
желающий подражать пастуху Эрминии и даже превзой-
ти его. В заключение он говорит следующее2:
1 «Adone», песнь III, 156—160 (ed. cit., p. 49).
2 Ср. «Gerusalemme Liberate», VII,. I и ел. (об этом см. в
гл. XVII), и «Adone», песнь I, 132 и ел. Следующий станс— 149 (cd.
cit., p. 18).
265
Джамбаттиста Марино.
Вдали от жизни праздной и притворной
Я посох скипетром считать привык,
Нектаром — воду из речушки горной,
Ладони — чашей, мне министр — мужик,
Собака — друг, ягненок — мой придворный.
А мой капрал — обыкновенный бык,
Музыка — волны, ветры, птиц баллаты,
Трава — перина, хижина — палаты.
В своем письме к Клаудио Акиллини Марино назы-
вает эту манерность и изощренность богатством пре-
циозных «кончетти» и усматривает в них высшую степень
совершенства поэзии:
Поэта цель — стихами поражать:
Не о смешном — о славном сочиняю.
Кто удивлять не. в силах, брось писать К
Новое и поразительное в этих стихах не их поэтиче-
ский репертуар, который очень и очень стар и является
переработкой элементов и мотивов, затасканных от дли-
тельного употребления. Марино усовершенствовал и об-
новил сценарий, зрелище, придал ему блеск и украше-
ния. Этот блеск идет у Марино не от внутреннего я
поэта, глубже исследованного или прочувствованного,
а от чисто субъективных сопоставлений, подсказанных
случайным сходством или несходством, а потому тяго-
теющих к парадоксу, абсурду, что и порождает тот
эффект неожиданности, в котором Марино усматривает
важнейший прием поэзии. Эти искусственные сопоста-
вления встречаются не только при описании садов, по-
лей, цветов и тому подобного, но и в описании аллегори-
ческих фигур, таких, как ревность, любовь, а также
действия — смех, поцелуй. Марино признается, что за-
вел литературный альбом, в который выписал в темати-
ческом порядке все самое пикантное и удивительное, что
он нашел у греческих, латинских, итальянских, а также
испанских поэтов2, то есть все сокровища прециозных
1 См. письмо к Акиллини от января 1620 года и «Murtoleide»,
осмеянную в гл. XXXIII; эта последняя терцина приводится также
в предисловии к «Opere», ed. cit., p. XIX.
2 См. уже названное письмо к Клаудио Акиллини: «Схождения
с другими писателями могут быть двоякого рода — случайные или
объясняемые одинаковым подходом в искусстве. Случайные совпа-
267
«кончетти». Но он не холодный подражатель и собира-
тель. Эти богатства оживляют и возбуждают его вообра-
жение, и, отталкиваясь от них, он превращает выписан-
ные сопоставления и сравнения в картины, а картины
приобретают свою завершенность в легком и живом зву-
чании стиха. Порою сами «кончетти» исчезают, но всегда
остается мелодическая волна, кантилена:
Адонис милый, слез моих тщета
Неведома тебе, ты, бездыханный,
Не слышишь, как к тебе взывает та,
Кого ты звал любимой и желанной!
О мой Адонис, разреши уста
Мне утопить в твоей крови багряной!
Не улетай, любимый, подожди:
Дай умереть мне на твоей груди \
В этот последний период своего существования италь-
янская поэзия — не действие и даже не рассказ, а пьеса
для чтения нараспев, лирическое описание, сопровождае-
мое треском «кончетти», блестящие картины и звучные
фразы, каденции и вычурные вариации. Ее идеалом яв-
ляется драматическая пастораль — условная жизнь, с
влюбленными мифологическими героями, жизнь, в кото-
рой звучит веселый смех неба и земли. «Адонис» — та же
пасторальная идиллия, построенная, как и «Эвридика» и
«Прозерпина»2, по мифологическим канонам.
Другой пасторальной идиллией Марино, современной',
очень свежей по колориту, проникнутой пылкой чувствен-
ностью, была его «Пасторелла»3. Тот, кто помнит пасто-
реллу Гвидо Кавальканти, столь сдержанную и простую
дения не только возможны, но и часты, не только с латинскими или
испанскими, но и с другими писателями, потому что кто много
пишет, не может не затрагивать общих тем...» «Прекрасных вещей
мало, и все проницательные умы, размышляя над сюжетом, идут по
следам лучшего, поэтому не удивительно, если порой им случается
столкнуться в одном и том же».
1 «Adone», песнь XVIII (ed. cit., p. 361).
2 Имеются в виду две «Idilli favolosi»: «Orfeo» («Lungo la riva
d'Ebro») и «Proserpina» («Avea l'eterno Giove»), ed. cit., соответ-
ственно pp. 528 и 539.
3 «Pastorella»: «La dove in seno all' ombre, in grembo a' fiori»
(ed. cit., p. 513). О пасторелле Кавальканти, упоминаемой «иже,
см. т. I, гл. II.
268
по своей манере, может видеть, какой степени изыскан-
ности в развитии и решениях лирических ситуаций дос-
тигла поэзия в XVII веке. Живой у поэтов-сеичентистов
оставалась только чувственность, выражавшаяся в ла-
сках, томлениях, сладострастии, ухаживании и насла-
ждениях.
Условный и пустой идеал, никакого чувства реальной
действительности, опустошенная схема, избитый репер-
туар без связи с жизнью общества, полная праздность
ума, лирический подъем без тепла, грубый натурализм,
прикрытый ханжескими покровами, общие места при
претензии на оригинальность, пустота, которой приданы
пышные и торжественные формы, безделица в сочетании
с абсурдом и парадоксом, поверхностный и неглубокий
взгляд на вещи, форма, оторванная от содержания и ему
не соответствующая, слово, вне связи с мыслью ставшее
пустым звуком, — таковы черты, роднящие поэтов этого
периода независимо от степени дарования.
Эти черты в той или иной мере присущи всем жан-
рам литературы — трагедиям, комедиям, поэмам, пасто-
ральным идиллиям, канцонам, речам, предисловиям,
описаниям, повествованиям, проповедям, панегирикам,
письмам — сочинениям в стихах и прозе.
14. В области прозы Марино соответствовал Даниел-
ло Бартоли, искуснейший и непревзойденный мастер пе-
риодов и фраз, прециозного и цветистого стиля. Он по-
бывал почти во всех уголках земного шара \ и ему при-
надлежит множество зарисовок и рассказов. Однако не-
заметно, чтобы знакомство со столькими новыми вещами
освежило его впечатления. Ритор и отвлеченный мо-
ралист, голова которого набита мифами и текстами свя-
щенного писания, блестящий колорист, Бартоли распо-
лагал обширнейшим словарем, охватывающим все об-
ласти знаний, он верил, что может выразить все, потому
что умел хорошо говорить. Природа и человек для него
не что иное, как стимул и повод проявить свою эрудицию
и богатство языка. Другой, более серьезной цели у него
нет. Развитие европейской культуры и всякая борьба
1 Кроче комментирует: «... следует понимать не буквально, а в
воображении». О Бартоли, помимо замечании в юношеских лекциях
(«Teoria e storia», cit, II, p. 46, и «Purismo illuminismo storicismo»,
cit., Ill), см. очерк Брешиани (Padre-Bresciani, Ebreo di Ve-
rona в «Le crisi del gusto romantico», cit.).
269
мысли были ему чужды; он погряз в классицизме и во
второразрядном католицизме, к которым пришел через
школу, а не через раздумья. Так же как сердце, оста- >
вался незанятым и его мозг. Все его внимание направле-
но на отработку произведения с формальной, техниче-
ской стороны. Он подходит к итальянскому языку, как к
греческому и латыни, которыми владеет в совершенстве,
то есть как к языку мертвому, остановившемуся в своем
развитии. В своем трактате «Ошибочность и правомоч-
ность языковых запретов» он обрушивается на пуристов.
Бартоли избегает тосканской жеманности и приводит в
пример отповедь, которая была дана неким господам,
ратовавшим за выделение средств на переделку моста в
их городе, употребляя при этом тосканские обороты речи:
Итак, так вот, так значит, случай прост,
На ваши деньги и чините мост '.
Его свободный, яркий и богатый язык по своему ха-
рактеру является классическим итальянским языком,
каким писали Тассо, Гварини, Марино и почти все поэты
XVII века. Тосканский разговорный язык плохо приви-
вался даже у образованных людей Тосканы и оставался
в обиходе одного простонародья. С внешней и граммати-
ческой стороны классический язык Бартоли благодаря
богатству и подбору лексики, правильности конструкций,
и благозвучию отличался высокой степенью совершен-
ства. Он любит быть обстоятельным, анатомировать, опи-
сывать и выкладывать перед вами все богатство своей
лексики. Длинно, с бесконечными подробностями описы-
вая ничтожный предмет, он пишет в заключение:
«Итак, сначала облеките его в чистые одежды — се-
ребряные, молочно-белые, серые, снежной белизны, ма-
линовые, пурпурные, желтые, бронзовые, золотистые, яр-
ко-красные, цвета киновари. Затем украсьте длинными
более яркими полосами и штрихами, накладывая одни
вдоль, другие поперек, некоторые прямо, некоторые на-
клонно и волнисто. Но чтобы добиться подлинного чуда,
работайте, подобно инкрустатору, с тончайшими оттен-
ками, сочетая их самым причудливым образом или как
мозаику из черных и белых квадратов. Что касается- от-
1 Ссылка на тосканский анекдот, рассказанный Мании u «Lezioni
cli lingua toscana», VIII, Silvestri, Milano 1824, p. 182.
270
ливки целого и стыков, то не закрывайте шва, а откры-
вайте, как в эскизе, выполненном алебастром в тесном
сочетании с инкрустациями. Когда предметы причудливо
раскрашены и отделаны, по одним следует провести су-
риком, киноварью, лазурью, лаком, по другим сделать
более яркие и крупные мазки, третьи выполнить либо
точечками или кружочками, либо покрыть мельчайшими
крапинками; можно также искусно сделать прожилки
под мрамор или прыснуть ярко-красным между другими
красками, добиваясь сходства с яшмой».
Следует еще кусок в таком же духе. Автор размени-
вает свое воображение на все эти подробности и, стре-
мясь сделать каждую деталь яркой, создает целое, ли-
шенное яркости. Здесь нет ни чувства искусства, ни чув-
ства природы, и тот, кто хочет ощутить разницу, должен
припомнить описание неба Венеции у Аретино — прочув-
ствованное и полное внутренних движений К Нет у Бар-
толи и понимания человека, а поэтому все его описания
душевных состояний, все портреты лиц, вымышленных и
исторических, — мертвы. Вот он в Святой земле; сколько
впечатлений и чувств должен пробудить ее вид в таком
добром христианине, каким был Бартоли! Но он закан-
чивает свое описание следующими словами:
«Слезы боли и- в то же время подъем благочестивого
чувства вызывают эти глубоко почитаемые земли, на ко-
торых мы стояли босыми ногами не как любознательные
географы, а как набожные пилигримы»2.
Далее следует описание восторженных чувств палом-
ника с ссылками на писателей от Плиния до Лукана при
множестве риторических отступлений.
Такую же культуру и подобное содержание мы нахо-
дим и у падре Сеньери. Как писатель он серьезно озабо-
чен лишь тем, чтобы приукрасить общее место цитатами,
примерами, сопоставлениями и риторическими фигурами,
и потому не знает меры, поверхностен, вульгарен и мно-
гословен3. Он хвалил свое вступление к проповеди о рае
1 См. знаменитое письмо к Тициану от мая 1544 года, приведен-
ноев гл. XVI.
2 «La Geografia trasportata al morale», гл. XXX, «Terra santa»,
Venezia 1676, p. 551.
3 О Сеньери, зачастую «более риторе, чем ораторе», см. юноше-
ские лекции о языке и стиле («Teoria e storia», cit., I, p. 97, и
«Purismo illuminisrno storicismo», cit., II).
271
«На небо, на небо!» К Идея проповеди заключается в
следующем: на земле совершенного добра не существует.
Давайте же стремиться на небо. Мы уже познали эту
жизнь на собственном опыте и все же сносим свое зем-
ное существование. На небо, на небо!
Первая часть в доказательствах не нуждается, поэто-
му все ее опускают. Но Сеньери набрасывается на эту
тему и плетет вокруг общих мест все свои узоры. Обла-
дай он подлинным чувством земного счастья и небесных
радостей, его краски были бы не лишены новизны, све-..
жести, глубины. Но для него все это не что иное, как
литературное развлечение, упражнения в риторике. Об-
щее место-представляет собой сама идея; общие места
и все аксессуары. Он не стремится убедить слушателей
во что бы то ни стало обратить их к вере; у него нет ни
веры, ни апостольского пыла, ни елея; он не любит лю-
дей, не печется о спасении их душ и об их благе. В его
голове живет нравственная и религиозная доктрина ни-
щенства и не приобретенная в поте лица, а унаследован-
ная широкая эрудиция — светская и религиозная; здесь
все неподвижно, все поставлено на свое место. Его уси-
лия обращены на внешнюю отделку, на то, чтобы вести
речь и распределять оттенки, тени, свет и краски. Ему
можно воздать хвалу со знаком минус за то, что, хотя
он часто утомляет, читатели не скучают, так как он под-
держивает в них удивление и восхищение нагнетанием
оттенков и неожиданностями риторики; а порой в угоду
им он приятен и ребячлив. Сеньери достоин похвалы и
за то, что он корректен как писатель, и его нельзя упрек-
нуть ни в чудачествах, как Панигарола2, ни в слаща-
вости и манерности его последователей.
15. Теперь можно проследить путь, пройденный лите-
ратурой, начиная от Боккаччо, являвшейся негативной и
идиллической реакцией на аскетизм. Все разновидности
1 «Quaresimale», X.
2 О знаменитом монахе Франческо Панигарола из Милана
(1548—1594), упоминаемом в поговорках, авторе «Lezioni Calviniche»,
«Retorica Ecclesiastica» и сотни других работ, помимо параграфа, по-
священного ему Тирабоски, см. у Канту: «Его нравоучения не ли- ^
шены известного пыла, хотя он разожжен не столько внутренней'
силой, сколько изне» (ed. cit., p. 409). У того же Канту (pp. 416—
417) суждение о Сеньери, которое в большой степени совпадает
с десанктиевским.
т
комического жанра — от карикатуры Боккаччо через
пародии Фоленго до бесстыдного цинизма Пьетро Аре-
тино — отмечены отрицанием, которое у Аретино дости-
гает своего предела. Отрицание составляло жизнь и ду-
шу новелл, комедий, шуточных стихотворений, рыцар-
ских поэм. Простое отрицание находило себе выход в
чувственности, в вольности идей и форм, в неподдель-
ном материализме. Наряду с комическими формами раз-
вивалась пасторальная идиллия — уход души от теоло-
гических абстракций и политических волнений в простоту
и покой природы, в натурализм, одухотворенный чувст-
вом формы и красоты, творивший чудеса поэзии и живо-
писи. Естественность, изящество, тонкая отделка формы,
чувство меры и гармония частного и целого — вот проба
этого золотого века. Однако эта литература несла в себе
зародыш упадка: склонность к академизму, литератур-
щине, классицизму, недостаточно серьезное содержание
и стремление уйти от всех больших этических, политиче-
ских и общественных проблем, волновавших и омолажи-
вавших в то время большую часть Европы. Доведя
искусство до такой степени совершенства, эта литература
для своего дальнейшего развития нуждалась в новом со-
держании. И если бы тридентская реакция дала ей но-
вое содержание, эта реформа послужила бы возрожде-
нию религиозности и литературы. Но дело ограничилось
возрождением форм, а не сознания. Серьезности созна-
ния недоставало самим реформаторам, это ясно каждому,
внимательно изучающему историю Тридентского собо-
ра,— не скажу по Сарпи, но по самому Паллавичино,
жеманному, неестественному рупору отцов реформато-
ров К Реформа породила предельную развращенность
национального характера. Утверждение, будто для спа-
сения души достаточно ходить к мессе и носить мона-
шеское платье, а отпущение грехов на исповеди смывает
любые пятна и можно опять все начинать сначала, на-
кладывало на итальянское простонародье печать без-
нравственности и ханжества, не стершуюся и по сей
день.
Что касается образованных классов, то вся их жизнь,
основанная на показном религиозном и нравственном
1 Об истории Тридентского собора Паоло Сарпи и Паллавичино
см. гл. XIX.
18 Де Санктис 273
чувстве, лишенном каких бы то ни было корней в созна-
нии, была ложью. А какова жизнь, такова и литература.
Ее стиль окончательно определился склонностью к ака-
демизму и классицизму. Она была риторичной, то есть
лживым, высокопарным выражением условных чувств.-
Благочестивый Торквато принял новое содержание все-
рьез и любовался героическим и религиозным миром,
шедшим ко дну в сопровождении пасторалей и фанта-
стики. Как под монашеской рясой билось сердце разбой-
ника, так под пышными формами в искусстве неистреби-
мо жил лирический, фантастический и идиллический
натурализм старого содержания. Армида становится
«Адонисом», а «Аминта» — «Верным пастухом». Среди
стольких житий святых и мираклей, среди стольких ге-
роико-лирических поэм, назидательных и патриотических,
живым был только натурализм, некое музыкальное опья-
нение чувств, которое заставляло неаполитанских моря-
ков распевать стансы Армиды и двусмысленные стихи
Мариио. Отныне все чувствовали, что поэтический мир
состарился, и хотели его обновить, но не понимали, что
сначала надо обновить само сознание. Оттачивали ум, от-
рабатывали фразеологию и, будучи не в состоянии до-
биться новизны, становились необычными. Все "усилия
направлялись на достижение большей выразительности,
и литература, оторванная от жизни и лишенная всякой
серьезной цели, превратилась в академическое упраж-
нение в риторике.
Слово, ставшее самоцелью, определяет характер ли-
тературного академического стиля. В предыдущем веке
оно было цицероновским или Боккаччиевым. Теперь, ока-
завшись самой сутью литературы, оно стало еще и пре-
циозным, так как служило средством передачи ухищре-
ний мысли или фразеологии. Мы уже приводили несколь-
ко примеров из Пьетро Аретино. Теперь у всех писателей,
даже у самых простых, появилось что-то от Пьетро Аре-
тино. Когда всякое усилие ума стало казаться излишним
трудом, писатели перестали употреблять простые слова
и фразеологические обороты, писали, что называется,
цветистым стилем.
Таковы две формы упадка, ростки которого обнару-
живались уже у Пьетро Аретино; теперь они пусти-
ли прочные корни в литературных академиях. Члены
274
академии сами курили себе фимиам, рукоплескали, про-
возглашали свое бессмертие. До нас дошли их прозвища:
Горячие, Усердные, Бесстрашные, Олимпийцы, Каторж-
ники, Легкомысленные, Бесцветные, Тупицы, Заблудшие.
Многих из них окрестили великими, как, например, Саль-
вини, ученого мужа, талант которого, однако, был на-
много меньше славы К Венцом этой пустой литературы
являются акростихи, загадки, анаграммы и другие за-
бавы праздных умов.
Слово как такозое может некоторое время вести ис-
кусственное существование в академиях, но никогда одно
оно не создаст народную литературу, потому что, хотя
слово и является сильнейшим средством выразительно-
сти, все же другие средства искусства берут над ним
верх. Слово всемогуще, когда идет от сердца и заста-
вляет звучать струны в душах читателей. Но когда вну-
три слова — пустота, когда в нем.нет никакого содержа-
ния, оно невыразительно и скучно. Тогда внешность, цвет,
звук, жест обладают значительно большей силой выра-
зительности, нежели такое мертвое слово. Вот почему при
всем остроумии и изяществе речи краснобая от литера-
туры круг читателей, у которых он пользовался успехом,
все более сужался, тогда как актеры, музыканты и пев-
цы приобретали необыкновенную популярность в Италии
и за ее пределами. Академические комедии Фаджуоли,
должно быть, нравились меньше комедий масок, мода на
которые все возрастала, — их однообразная и традицион-
ная основа была омоложена импровизированными аксес-
суарами и ловкой мимикой. С другой стороны, в слове
все больше развивался напевный и музыкальный эле-
мент, бивший ключом уже у Тассо, Гварини, Марино.
Напевность, или мелодичность, стала главным законом
стихов и прозы, и периоды строились, исходя из мело-
дической гаммы: читатели были как бы настроены на
определенную напевность. Частью искусства красноречия
была декламация, то есть приемы чтения вслух в торже-
ственной, благозвучной манере. Слово стало уже не
1 Об Антоне Мария Сальвини, «безразличном человеке», арка-
дийце, члене академии della Crusca и переводчике Гомера, см. также
далее, гл. XIX. Биобиблиографическое исследование о Салььини появи
лось в «Cimento» в 1885 году (J а с о р о Bernardi, A. M. Salvini).
18*
275
мыслью, а звуком и нередко ради соблюдения гармонии
произносилось вопреки смыслу. Эта музыкальная тенден-
ция новой литературы сказывалась уже на произведени-
ях Петрарки и Боккаччо. Однако у них слово еще неотде-
лимо от мысли и образов. Ныне, при оскудении внутрен-
ней жизни, все элементы композиции поставлены в зави-
симость от звучания слова, от воздействия на слух1.
И понятно, что при создавшемся положении вещей лите-
ратура умирала от истощения, малокровия и внутренне-
го жара и стала словом, которое звучит, превращается
в музыку и пенье, достигающих цели прямее и наверняка.
Вот почему среди стольких жанров академической лите-
ратуры популярность приобрела мелодрама, или музы-
кальная драма, где действие, мимика, пенье и музыка
воздействуют на воображение сильнее слова, бесцветного
и ставшего простым аксессуаром.
Литература умирала, рождалась музыка. Музыка
всегда сопровождала поэзию. Лирические стихи свет-
ского и духовного содержания, равно как и различные
народные песни, пелись и исполнялись на музыкальных
инструментах. В театрах звучали хоры и вокальные ин-
термеццо. Но когда драма стала тривиальной и слово
пустым, все внимание переключалось на музыку и драму
стали петь от начала до конца. А так как одной музыки
недостаточно, прибегали к средствам, сильнее воздейст-
вующим на чувства и воображение, — использовали все
великолепие и разнообразие сценических аксессуаров —
причудливые комбинации событий, аллегорический и ми-
фологический арсенал. Из этого распада и разложения
литературы и родилась мелодрама, или «опера», которой
было предначертано столь великое будущее.
1 Тезис Де Санктиса о разложении поэзии и переходе ее в му-
зыку более широко развернут в гл. XX на страницах, посвященных
Метастазио. Отсылаем читателя к ним и соответствующим приме-
чаниям. А пока приводим оценку Гравины: «Ныне поэзия большей
частью ограничивается воздействием на слух и не пытается выразить
ничего, кроме шума и гула приятных для уха звуков» («Discorso
sopra rEndimione» в «Prose varie», Firenze 1847, p. 257)—и оценку
Фосколо в введении к цит. беседам об итальянском языке: «Фанта-
зия, лишенная пламени сердца, отдает холодом, лишеннзя критерия,
изобретает монстров и химер; а поэзия, как и литература, без осно-
вания превращается в декламацию и музыку» («Epoche» о «Ореге»,
cit., IV, р. 129).
276
Первым образцом мелодрамы был «Орфей» Тассо.
Гварини, Марино — писатели мелодраматические. Лири-
ка XVII века в большой мере мелодраматична. Эти кан-
цонетты, все эти томления Филлид и Амариллид — как
бы прелюдии к Метастазио. Трели, каденции, вариации,
параллели, симметрия, повторы — весь строй музыкаль-
ной мелодии складывается уже в поэзии. Слово стало не
чем иным, как звуком, оно утратило смысл и уступило
место музыке и пению.
****************************#**ж***#####*#*м
XIX
Новая наука1
1. Умственное движение «новых философов», радикальное
отрицание всякого сверхъестественного элемента; одиночные и
академические исследования, оторванные от политических и
социальных интересов. Практический характер реформации.
Инквизиция и иезуитское образование как причины задержки
в развитии итальянского умственного движения. История мед-
ленного воскрешения национального сознания есть история
оппозиции контрреформации. 2. Джордано Бруно: сила его
синтеза и фантазии. Его эволюция. «Подсвечник» и абстрактно-
обобщающее изображение действительности. 3. Философские
диалоги. Отрицающий и полемический момент в образе ари
стотелевского педанта. Аллегорический и фантастический МО'
мент. Новизна содержания и стертые литературные формы,
4. Луллианство первых латинских работ. Концепция «De umb
ris» и преодоление теолого-философского дуализма и аристо
телевского схоластического формализма. 5. Метафизика Бруно,
Восстановление в правах материи в диалоге «О причине, на
чале и едином». Две субстанции природы, материя и форма
Бог, как объект веры, исключается из философского рассуж
дения. Наиболее радикальное отрицание средневековья — по
иски бога в самом окружающем мире; форма — душа мира
6. Форма и материя, чисто интеллектуальные отличия. Един
ство вещей. Вселенная едина, бесконечна, недвижна. Всеоб
щее отрицается во имя природы. Сатира на бездеятельность
и невежество как черты, присущие аскетической жизни.
7. Мораль Бруно: героический энтузиазм и интеллектуальное
рассмотрение как источник деятельности. 8. Противоречия и
, . ,_
1 После главы о Макиавелли данная глава, являющаяся ее ло-
гическим развитием, представляет собою одну из опорных точек
всего исторического построения у Де Санктиса. Первый набросок
этой новой концепции, как уже отметил Кроче, содержится в лек-
циях раннего периода об истоках современной итальянской лирики
в «Teoria e storia», cit., I, pp. 150 и ел., и «Purismo illuminismo sto-
ricismo», cit., II. О данной главе см. L. R u s s о, La Storia del de
Sanctis (1950) —в кн. «Problemi di metodo critico», 2 ed. Bari 1950,
а также G. Aq uilecchia, II capitolo desanctisiano sulla nuova
scienza, «Societa», XI, 2 (1955). Эта статья особенно полезна, ибо в
ней указаны источники и методы построения Де Санктиса.
278
шатания его философии. Чувство бесконечного и божествен-
ного. Бруно восстанавливает бога при помощи науки. Безраз-
личие современников и ближайших потомков: воскрешение его
после возвращения принципа синтеза в современную филосо-
фию. 9. Мученичество «новаторов»; Бруно, Вапиии и Кампа-
нелла. Телезио, основатель подлинной философской школы
под именем академии; заслуги его не столько в его доктри-
нах, сколько в языке и в методе, основанном на непосред-
ственном наблюдении природы. 10. Кампанелла — наследник
метода Телезио. Его юношеские исследования и связи в Неа-
поле с Делла Порта. 11. Галилео Галилей; его изобретения и
„Sidereus nuncius". Встреча с Кампанеллой; тосканская куль-
тура— зрелая и позитивная и южная — еще юная и умо-
зрительная; сродство и разность в мысли и в языке; прямая
и точная, но условная форма Галилея и форма Бруно и Кам-
панеллы — нечеткая, но живая и гибкая. 12. Враждебность
церкви и испанских властей; заточение Кампанеллы. Суд над
Галилеем. Его дело продолжали ученики; примат Италии
в точных науках. 13. Бруно и Кампанелла; их поэтический не-
долговечный синтез, прелюдия науки. Усиление противоречий
у Кампанеллы; зародыши сенсуализма и современной филосо-
фии абсолюта в ее двух направлениях — рационалистическом
и неокатолическом. Пределы его философии и его метода,
оставшегося схоластическим. 14. Европейский абсолютизм в по-
нимании Кампанеллы; император — длань папы; снижение зна-
чения индивида и мощь государства; коммунистическая основа
«города солнца». Папа суверен, воспринимается как разум и
мудрость. Первый набросок социальной науки. 15. Поэзия
Кампанеллы; критика общества и восторг перед миссией нау-
ки, заключающейся в прогрессе и совершенствовании чело-
века. Золотой век — в восстановлении раннехристианской
церкви. Просвещение и счастье более многочисленных слоев
общества как основа политических изменений. 16. Венеция —
итальянский центр свободной мысли. Поток политических со-
чинений в русле Макиавелли. „La ragion di Stato" Ботеро —
кодекс консерваторов. Паоло Парута в «Политических ре-
чах»— последователь Макиавелли и предшественник Мон-
тескье; неразрешимое противоречие между политическим чув-
ством и чувством религиозным. Нравственные основы вене-
цианского духа и распространение реформации в Италии.
17. Паоло Сарпи и борьба в области юрисдикции; ясность и
твердость его цели и умеренность в замысле и форме. «Исто-
рия Тридентского собора»; умышленная беспристрастность
историка и неумышленная пристрастность политика. Единство
формы и содержания; серьезная зрелая проза Сарпи и пустая
форма Паллавичино. 18. Макиавелли, Бруно, Кампанелла, Га-
лилей, Сарпи и различные формулировки одной и той же кон-
цепции. Негативная сторона движения в борьбе против схола-
стики, догм и т. д. и его позитивная сторона; реальное как
метод и как содержание. Наибольшее влияние Сарпи, который
перенес борьбу из сферы философских обобщений в область
практических интересов. 19. Католическая реакция, возбуждае-
мая светскими интересами и политическими страстями.
279
Иезуиты у кормила культуры и образования. Успехи иезуит- *
ской морали: „probabilismo", „directio intentionis" и т. д. Лов-
кость иезуитов как политического объединения; демократиче-
ское и республиканское обличие их борьбы против князей.#
20. Распространение исторических и общественных наук; эм-'
лирическая культура, голая эрудиция, обширная, но поверх-
ностная. В мире и идиллическом безделье Италия остается
чуждой большому умственному и политическому движению
в Европе. Успех картезианской реформы, которая находит
в «Опытах» Локка свое высшее выражение. Обособление мо-
рали от заповедей господних; первое появление понятия есте-
ственного права у Гроция и т. д. Отставание итальянского
умственного движения замечено в Европе и у себя на родине.
21. Медленное и запоздалое усвоение европейской мысли;
научный прогресс в Италии имел характер поверхностный,
в духе Аркадии, но все же был полезен как средство распро-
странения новых идей. Развитие критики в самом лоне эруди-
ции как умозрительные рассуждения о прошлом; Муратори,
Маффеи, Гравина, Бьянкини. 22. Вико и его образование эру-
дита. Его отвращение к поверхностности новаторов. Вико —
высочайший ум, но безоружный, стоящий вне интересов и
страстей, а потому совершенно лишенный действенности. Его
сопротивление европейской культуре. Неприятие Декарта, от-
крытие Бэкона и Гроция; в опровержении „cogito" мысль
Вико определяется и конкретизируется. 23. Историзм Вико
против абстрактного рационализма Декарта; коллективное
сознание вместо индивидуального — основа «Новой науки».
24. Система Вико; движение вперед и вспять вечной идеаль-"
ной истории, которая есть история разума в его раскрытии.
Коллективная сила — кузнец истории — и миф о великих лич-
ностях. 25. Выявление его метафизики „A posteriori" — это
гигантское предприятие по эрудиции и критическому духу;
новая ориентация и открытие новых наук. 26. «Новая наука»
Вико — «Божественная комедия» в науке, утверждение и про-
славление нового духа. Усвоение картезианских положений;
провиденциальный элемент переводится в план разума и при-
роды. Историческое оправдание прошлого отделяет Вико от
новых философов, он опережает их на пути нового века —
пути критики. Колебания и непоследовательность Вико в при-
менении им принципа исторической критики, основанной на
теории прогресса. Его методу суждено было иметь громадные
последствия, но современники сочли его странностью эрудита.
27. Воинствующая мысль XVIII века в Европе спустилась
с философских вершин в среду людей и нашла себе приложе-
ние во всех вопросах; новые жанры и формы рассуждений,
близкие к беседе. Философы заняли место литераторов в центре
реформаторского, демократического, светского движения, пред-
шестовавшего революции. Картина старого общества, абсо-
лютистского и феодального. Бесплодный догматизм привиле-
гированных классов и созидательный скептицизм буржуазии.
Народный и космополитический характер этого движения —
всеобъемлющего в своем объекте (все классы и все нации)
и в своем содержании (религиозные и моральные реформы,
280
коренные экономические перемены), заключавшего в себе в за-
родыше всю историю будущего на многие века. Франция во
главе этого движения. 28. Борьба между папой и князьями за
юрисдикции — первоначальная, умеренная форма движения
в Италии, ставшего тем самым настоящей политической пар-
тией, которую поддерживала буржуазия. Пьетро Джанноне.
«Гражданская история Неаполитанского королевства» — рез-
кий обвинительный акт, изложенный в совершенно спокойном
тоне. Распря между сторонниками Джанноне и иезуитами и
непредвиденные результаты их непоследовательной демократи-
зации. Содержание «Гражданской истории». 29. Слава и влия-
ние Джанноне как воинствующего историка. «Папская тиара»,
похороненная в архивах инквизиции, была самым радикаль-
ным отрицанием папства и религиозного спиритуализма. Либе-
рализм — в известных пределах придворный — и идеал монар-
хии, ограниченной законами. Стремление к законности и спра-
ведливости как основа либерального движения в Италии.
30. Крайне умозрительный характер движения в Германии.
Франция — великий популяризатор идей, выработанных пред-
шествующим веком; литературная и народная форма. Па-
риж— центр общественного мнения. Просвещенные государи;
реформы," понимаемые как средство укрепления абсолютной
власти против местных привилегий дворянства, духовенства.
Противоречия и неизбежные последствия, непредвиденные ни
для государей, ни для философов. Конкретные проблемы, ста-
вившиеся писателями; Беккария и Филанджери. Этап абст-
рактного философствования пройден, возрождается сознание
и литература.
1. Литература могла воспрянуть только при условии
воскрешения национального сознания. Как отрицание
она имела свой блистательный период, который завер-
шился Фоленго и Аретино. Когда это отрицающее дви-
жение было остановлено Тридентским собором, возникло
лицемерное риторическое утверждение, в котором ощу-
щается одна из наиболее вредоносных форм отрица-
ния — безразличие. При этом застое общественной и
частной жизни в литературе не осталось ничего, кроме
вялой идиллической лирики, которая расплывается в ме-
лодраме и порождает музыку.
Но движение это не было чистым отрицанием. Имен-
но тогда возникла утверждающая программа Макиа-
велли, первое обновление сознания, целый новый мир,
противостоящий аскетизму, открытый и истолкованный
наукой. Именно в этом новом мире должна была лите-
ратура искать свое содержание, свои стимулы, свою но-
визну. Можно было принять его или сражаться с ним —
но прежде всего требовалось обладать верой, бороться,
творить, жить, умирать во имя нее.
281
Начала были благоприятны. Вместе с новой литера-
турой в университетах и академиях развилось философ-
ское движение, независимое от католического и рефор-
маторского богословия, или, вернее, находившееся в от-
крытой оппозиции к богословию и аристотелевской догме,
еще господствовавшим в школах. Свободные мыслители,
как проповедники новых доктрин, получили прозвание
современных, или «новых», философов \ и мы видели, как
Тассо в юности подпал под их влияние. Среди этих но-
вых философов, провозглашавших автономию разума и
его независимость от любых богословских и философских
авторитетов и оспаривавших прежде всего Аристотеля,
был Бернардино Телезио из Академии Козенцы, где уже
проявилась тенденция к исследованию явлений природы
и к свободному размышлению, вне абстракций и схола-
стических форм2. Среди этих «новых людей», как их
называет Бэкон, были довольно известны Патрици, а так-
же Марио Нидзоли из Модены, который боролся в рав-.
ной мере против Аристотеля и Платона, избегал схола-
стического пустословия и был назван Лейбницем «exem-
plum dictionis philosophic reformatae».
«Новые люди» называли своих противников педанта-
ми и, как это было в обычае того времени, перемежали
свои аргументы бранью.' Характерными чертами новой
философской мысли были: независимость философии от
веры и авторитетов, метод, основанный на опыте, вос-
становление в своих правах материи или природы, изъя-
тие из исследования всего того, что относится к сверхъ-
естественному и подлежит сфере веры. Философия и лите-
ратура идут в ногу; Макиавелли и Ариосто приходят к
одному и тому же, каждый своими средствами. Ирония
1 См. Канту (op. cit., p. 378): «Джамбаттиста де Бенедиктис,
иезуит из Лечче, в «Апологетических письмах в защиту схоластиче-
ской теологии и философии перипатетиков» заклеймил новых фило-
софов, в особенности неаполитанцев Томмазо Корнелио, Леонардо
да Капуа, Франческо д'Андреа».
2 В рукописи следовала фраза, взятая из Канту (ср. предыдущее
примечание): «Существует книга некоего иезуита из Лечче, который
выступает против этих новых философов, называя среди других Том-
мазо Корнелио, Леонардо да Капуа, Франческо д'Андреа — все трое
неаполитанцы». Также из Канту (pp. 377 и 375) взяты следующие
далее цитаты из Бэкона («De principiis atque originibus secundum
fabulas Cupidinis ct Coeli») и из Лейбница («De stylo philosophico
Nizolii», 5) относительно Патрици и Нидзоли.
282
Ариосто находит свое истолкование в логике Макиавел-
ли. Как отрицание новая философия была чрезвычайно
радикальна, ибо она отрицала не только папство, но и
католицизм, не только католицизм, но и христианство,
не только христианство, но и потусторонний мир и не
только потусторонний мир, но и самого бога. Конечно,
отрицала не напрямик, а в осторожных выражениях,
полных почтительных оговорок, на что Макиавелли был
мастер; но с самыми униженными поклонами все это от-
странялось как материя религиозная и заменялось при-
родою, миром, силою вещей, родиной, славой, другими
элементами и целями. В основе лежали гуманизм, нату-
рализм, опиравшиеся на разум и опыт, которые завое-
вали свое место в мире.
Это великое духовное движение, которое знаменует
зарю нового времени и которое мы вправе называть об-
новлением, занимало в Италии самые передовые интел-
лектуальные позиции. Все религиозные, моральные и по-
литические идеи средневековья были частично ослаблены,
а частично и изгнаны из сознания культурных людей —
даже священников и самих пап; общественное безразли-
чие выражалось в иронии, в цинизме, в литературном
юморе.
Однако это отрицание и всеобщее безразличие сами
еще не могли породить нового политического и социаль-
ного организма, они были признаком скорее распада, а
не новообразования. Отрицание не являлось следствием
энергичного утверждения, как это было с реформа-
цией, когда язычество и материализм римской курии вы-,
звали живую реакцию духовного чувства — религиозного
и морального, — поддержанного политическими интере-
сами и страстями. Реформация победила именно потому,
что была ограничена и в своем отрицании и в своих выво-
дах, потому, что в основе ее лежал религиозный и мо-
ральный дух культурных классов, и потому, что, борясь
против папы и в то же время поддерживая князей в их
борьбе против императора, она сумела использовать раз-
личные интересы и притязания.
У нас же отрицание было чисто интеллектуальным
явлением, и чем более абсолютными были заключения
разума, тем слабее оказывались воля и силы к их вопло-
щению. Идеал отстоял слишком далеко от действитель-
ности. Даже утопия в своем полете воображения не
283
поднималась до столь возвышенной позиции ума. Оста-
вались, следовательно, академические заключения, рито-
рические темы, одинокие исследования при полнейшем
равнодушии общества. Даже смелые выпады Макиавел-
ли проходили незамеченными. Свобода мысли не была
узаконенной, но существовала на деле; люди философ-
ствовали и рассуждали о любых материях, не опасаясь
ничего, кроме соперничающих и завистливых, которые
время от времени возбуждали папский гнев против но-
вых людей. Если бы движение могло развиваться
свободно, то нет сомнения, что оно нашло бы свой пре-
дел в политическом и социальном его приложении, оста-
новившись на тех половинчатых идеях, которые не столь
далеки от реальности и которые были уже намечены
у Макиавелли, наиболее практическом и позитивном из
этих новых людей. Быть может, у нас создалась бы ро-
дина в духе Макиавелли, национальная церковь, религия,
очищенная от тех нелепостей и комичных сторон, из-за
которых к ней с презрением относятся образованные
люди, перешли бы к мужественному воспитанию души и
тела К Но именно в это время Италия утратила свою
политическую независимость и духовную свободу; кроме
того, победа Реформации во многих странах Европы сде-
лала государей подозрительными и трусливыми, и нача-
лись жестокие преследования новых людей, еретиков
и философов, особенно еретиков, как наиболее опасных.
Состоялся Тридентский собор, действовала инквизиция,
и, еще того хуже, утвердилось иезуитское, скопческое и
ханжеское воспитание. Наиболее смелые удалились в из-
гнание; возникло новое поколение, с более безупречным
поведением, разделяющее официальную доктрину, кото-
рую не подобало обсуждать. Лозунгом времени было
соблюдать видимость, и этого было достаточно. Так воз-
никло общество неверующее, чувственное, равнодушное,
риторическое по форме, бесцветное по содержанию, с со-
ответствующей литературой. Религия, родина, доброде-
тель, воспитание, благородство служили частными
темами поэзии и красноречия, преувеличения доводились
1 В рукописи стоит «мужественное». Восстанавливается перво-
начальный текст, как более подходящий: «мужественное воспитание»
противопоставляется «иезуитскому, скопческому и ханжескому
воспитанию», как говорится ниже.
284
до крайней степени героичности, но не имели никакой
связи с практикой жизни.
Однако ни ужасы инквизиции, ни повадки иезуитов
не могли окончательно остановить то умственное движе-
ние, основы которого коренились в естественном разви-
тии итальянской жизни. Это движение удалось, однако,
замедлить, задержать в пути, и потребовалось более сто-
летия для того, чтобы оно приобрело общественную
значимость.
Реакция также имела своих ученых мужей, но раз-
ница состояла в том, что в этих людях всякая умствен-
ная деятельность и сила философских рассуждений сде-
лались застойными, умственная работа была направлена
не на существенное, а на случайное и внешнее, как это
было и с литераторами, в то время как у других проис-
ходил серьезный умственный прогресс, оживленный ве-
рою и страстью. Реакция победила полностью. На ее
стороне были все общественные силы,' а оппозиция, из-
гнанная из академий и школ, обузданная инквизицией и
цензурой, лишенная всякой свободы и возможности рас-
пространения, была жалким меньшинством, едва-едва
заметным в большом общественном движении. Но
именно поэтому реакция была лишена атмосферы борьбы,
в которой оттачивается ум и разжигаются страсти, и, не
имея пищи, она осталась застойной, аркадской. Умствен-
ная деятельность и жар веры остались достоянием оппози-
ции, а поэтому там, где проявлялось умственное движе-
ние, там неизменно оказывалась более или менее явная
оппозиция, зачастую невольная, почти не осознанная пи-
сателем. История этой оппозиции еще не описана долж-
ным образом.
Однако именно там должны мы искать наших
отцов, там билось сердце Италии, там таились
зародыши новой жизни. Ибо итальянская жизнь в
целом страдала от отсутствия национального самосо-
знания, и история этой итальянской оппозиции не что
иное, как история медленного воссоздания националь-
ного сознания. Что было тогда в сознании? Ничего. Ни
бога, ни родины, ни семьи, ни человечества, ни общества.
Не было в нем даже и отрицания, ибо и отрицание есть
жизнь, а было в нем лишь напыщенное подобие благород-
нейших чувств при глубочайшем безразличии. Если мы
хотим в этой аркадской Италии найти людей, которые
285
обладали бы сознанием, а следовательно, Жизнью, то
есть людей, у которых была бы вера, убеждение, лю-
бовь к людям и приверженность к добру, жажда истины
и знаний, то мы должны посмотреть именно на этих но-
вых людей Бэкона, на этих первых святых современного
мира, которые несли в своей груди новую Италию и но-
вую литературу *.
2. Прежде всего преклонимся перед Джордано
» Бруно2. Он начал как поэт, был большим поклонником
Тансилло, обладал большим воображением и остроуми-
ем— два качества, которых в то время достаточно было
для ремесла многих поэтов и литераторов. Не большим
отличался и Тансилло, а позже — Марино и другие ли-
рики XVII века. Но Бруно обладал дарованиями более
могучими, которые нашли пищу в его философских за-
нятиях. У него был дар умственного проникновения, или,
как говорят, интуиции, — дарование, которое могут отри-
цать только те, у кого его не хватает; у Бруно также
была чрезвычайно развита способность к синтезу, то есть
умение рассматривать вещи с высшей точки и искать
единое в различном. Он не был особенно силен в ана-
лизе, в котором он не проявляет терпения и зрело-
сти исследования, но отличался той талантливой остро-
той софистики, которая делает его последним схоластом
в аргументации и предшественником маринистов
в стиле. Он заменяет анализ воображением, фантазируя
там, куда не проникает его умственный взор, пренебре-
1 Об истории европейской переоценки философии Бруно, Кампа-
неллы и Вико см., в частности, работы Бертрандо Спавента о Бруно,
появившиеся в 1852—1866 годах и перепечатанные в томе «Saggi dl
critica», Napoli 1867; в частности, «Prolusione e introduzione alle
lezioni nell' Universita di Napoli», 23 novembre — 23 dicembre 1861,
Napoli 1862; а также «La filosofia italiana nelle sue relazioni con la
filosofia europea», Laterza, Bari 1909.
2 Для текстов Бруно Де Санктис пользовался изданием A. W a g-
п е г, Ореге di Giordano Bruno Nolano, ora per la prima volta raccolte
e pubblicate, 2 voll., Leipzig 1830, куда входил диалог «De la causa,
principio e uno», из которого взято большинство цитат. Этот диалог
не фигурирует в миланском издании «Ореге», ed. E. Camerim
(«Biblioteca rara», Daelli, Milano 1864), которое, впрочем, Де Санктис
мог использовать для цитат из «Eroici furori» и из «Spaccio». Био-
графические сведения традиционны; не исключено, что Де Санктис
использовал книгу Бартолмесса («Jordano Bruno», Paris 1847). Де
Санктис, разумеется, не был знаком с книгой Д. Берти (D. В е г t i,
Vita di Giordano Bruno, Torino 1868.
286
гая заурядными идеями и силясь угадать то, что недо-
ступно ему по тогдашнему уровню познания. Часто его
идеи не что иное, как образы, а рассуждения — фанта-
зии и аллегории. В его груди таился бог — глашатай,
который дарован всем великим талантам; был в нем и
божественный дух философа, опутанный поэтическими
формулами, которые затемняли его взор и располагали
его более к тому, чтобы самому создавать мир, чем
к тому, чтобы рассуждать о природе уже созданного.
Можно себе представить, какое огромное впечатление
должны были произвести философские занятия на его
ум, обладающий такою силой и таким предрасположе-
нием. Знания его обширны и серьезны. Он проявляет
хорошее знакомство не только с греческими философами,
но и с современниками. Он особенно восторгается «бо-
жественным» Кузано и весьма почитает Телезио 1. Его
излюбленный философ — Пифагор, которому, как он
утверждает, завидовал Платон. Его созерцательной и
поэтической натуре был в высшей степени антипатичен
Аристотель, о котором он говорит с ненавистью, почти
как о враге. Каким же должно было казаться этому
юноше все здание схоластической, аристотелевской тео-
логии, потрясенной новыми людьми, но еще прочной
в школах, — здание, на котором зиждилось испорченное,
лицемерное общество? Первым порывом его ума было
отрицание и полемика — отрицание общепринятых мне-
ний вкупе с горькою презрительностью в отношении
общественных установлений и обычаев. Это были вре-
мена преследований. Лучшие умы эмигрировали, вла-
ствовала инквизиция. Бруно был монахом, и притом
доминиканцем. Не известно, как вышел он из монастыря
и почему ушел в изгнание2. Но в ту эпоху достаточно
1 См. «О причине, начале и едином», диалог V, там же диа-
лог III, Госполитиздат, 1949, стр. 191—192, в отношении эпитета рас-
судительнейщий, примененного к Телезио, а также диалог V о заме-
чании относительно Платона, завидовавшего Пифагору.
2 В рукописи вычеркнут следующий абзац: «Полагают, что он
прослыл еретиком потому, что никак не мог усвоить, как Мадонна
могла быть одновременно девой и матерью». Неточности, содержа-
щиеся в этом абзаце, уже были отмечены у Кроче и у Кортезе.
Прежде чем бежать в Женеву, Бруно провел несколько месяцев
в Генуе и Венеции. В 1582 году он опубликовал в Париже, кроме
«Подсвечника» («Candelaio»), также «Тень идей» («De umbris
Klearum»), «Искусство памяти» («Аг& memoriae») и др., кото-
287
было пустяка, чтобы прослыть еретиком: вспомним
страхи бедного Тассо. Бруно бежал в Женеву, где столк-
нулся с папой еще более непримиримым. Затем бежал он
в Тулузу, в Лион, в Париж, где нашел краткую пере-
дышку и опубликовал свое первое произведение. Это был
1582 год; Бруно было около 30 лет. Каково было это
первое произведение? Комедия «Подсвечник». Бруно вы-
казывает здесь свои поэтические и литературные до-
стоинства. Действие происходит в Неаполе, объект изо-
бражения— простонародный, плебейский мир, сюжет —
вечная борьба глупцов и хитрецов, идейное
содержание — глубочайшее презрение и отвращение
к обществу, форма цинична. Это основа всей итальян-
ской комедии от Боккаччо до Аретино с той разницей,
что остальные ею развлекаются, в особенности Аретино,
а Бруно порывает с ней и остается выше нее. Он назы-
вает себя там «академиком никакой академии, по про-
звищу Скучающий» К В классическую эпоху академий
Бруно гордится тем, что он не академик. Эпитет «скучаю-
щий» дает ключ к духу всей комедии. Общество не вызы-
вает более гнева Бруно, а лишь отвращение. Он чув-
ствует себя вне его и выше его. Вот как он описывает
себя: «Автор, если вы его знаете, наделен растерянной
физиономией, кажется, будто он вечно созерцает адские
муки; это человек, который смеется только для того,
чтобы поступать, как другие. Большею частью вы видите
его скучающим, странным.
Мир кажется ему пустой игрой видимости, без цели.
И вывод его комедии в том, что «ни в чем нет ничего
верного, но масса дел, хватает и недостатков; мало пре-
красного и ничего хорошего»2.
рые, однако, не были его первыми сочинениями. Философу в это время
было 34 года. Вероятно, биографические сведения Де Санктис по-
черпнул из письма Шоппио, опубликованного в качестве приложения
к книге Бартолмесса (op. cit., t. I, pp. 319 и ел.), или же из пере-
сказа этого письма, помещенного Вагнером в качестве предисловия
к его изданию произведений Бруно (op. cit., I, p. VIII).
1 Ср. «Candelaio», фронтиспис. Последующая цитата взята из
антипролога, звучит так: «Если бы вы знали автора, то сказали бы,
что у него растерянная физиономия... как будто его провели через
пресс, как болванку...» — и далее, как в тексте.
2 См. «Candelaio», пропролог. Следующий ниже отрывок взят
из посвящения «A la signora Morgana В.». В предпоследней строке
в тексте «увеличивается» вместо «возвеличивается».
288
ткс:
■ill
ш$
mm
Джордано Бруно.
19 Де Санктис
Житейская сцена не может доставить никакого инте-
реса человеку, который заключает свое посвящение сле-
дующими словами: «Время все дает и все отнимает; все
изменяется, ничто не уничтожается; есть лишь одно, что
не может измениться, одно, единственное вечно и может
сохраняться вечно единым и тождественным. Эта фило-
софия возносит мою душу и возвеличивает ум».
Но поэтическое чувство в нем не возвеличивается, ибо
оно состоит как раз в противоположном — в том, чтобы
придавать значение наималейшим проявлениям природы
и выказывать к ним интерес. Этот человек был предна-
значен к тому, чтобы размышлять и рассуждать об од-
ном и том же, а не для того, чтобы создавать художе--
ственное произведение. Он не вмешивается в созданный
им мир комедии, а стоит извне и рассматривает его
в целом. Вот как описывает он влюбленного: «Вы уви-
дите в любовнике вздохи, слезы, рассеянность, трепет,
мечты, сердце, сгорающее в огне любви, задумчивость,
гнев, меланхолию, зависть, вспыльчивость, и чем больше
он желает, тем меньше надеется» {.
. И он продолжает в том же духе, нагромождая все
общие места риторики и все модные фразы: «Мое сердце,
мое сокровище, моя жизнь, моя сладкая рана и смерть,
бог, идол, возвышенность, отдых, надежда, источник,
дух, вечерняя звезда, прекрасное солнце, не заходящее
в душе, жестокое сердце, прочная колонна, твердый ка-
мень, алмазная грудь, жестокая рука, держащая ключи
от моего сердца, мой враг, мой нежный воин, единствен-
ная цель всех моих помышлений, прекрасная моя любовь
прекрасней всех на свете». Это старая фразеология
петраркистов, наскучившая ему и собранная здесь как
попало. Здесь говорит не комический поэт, а критик,
который насмехается. Даже заглавие —«Подсвечник» —
приводит его к философскому замечанию о том, что эта
свеча предназначена освещать «тени идей»2. Поэтому он
строит мир комедии так же, как строил свою Вселенную,
видя в явлениях их сущность и общность: «и вот перед
вашими глазами праздные начала, слабые основы,
1 «Candelaio», пропролог.
2 «Candelaio», посвящение: «Вот свеча, которую вам приносят
в этом Подсвечнике, свеча, данная мною, которая в тех местах, где
я нахожусь, может хоть немного осветить некоторые тени идей».
Следующая цитата взята из пропролога,
290
пустые мысли, ничтожные надежды, разрывы сердца, об-
наженные струны, ложные предположения, душевные
расстройства, поэтические неистовства, отречения чувств,
смятения фантазии, растерянные блуждания рассудка,
безудержное доверие, бессильные заботы, неуверенные
исследования, преждевременные посевы и славные плоды
безумия».
Поэтому он не индивидуализирует, как делает худож-
ник, а обобщает, сочетает самые различные вещи — ибо
в наибольших различиях находит он всегда схожее и
единое — и показывает .глубочайшие противоречия на-
ряду со схожестью и с однозначностью, проявляя при
этом такой блеск, такое изобилие, такое новаторство, ко-
торые свидетельствуют о необыкновенной остроте ума.
Тот, кто читает Бруно, уже ощущает полный разгар
XVII века, здесь можно угадать Марино и Акиллини.
Вот обращение к даме: «Вам, кто возделал поле моей
души, кто, раздробив ее жесткую глыбу, оросил мой дух
божественной влагой, проистекающей из источников
вашего духа, с тем чтобы пыльное облако, поднятое вет-
ром легкомыслия, не запорошило бы глаза других».
Этот отрывок как будто украден у Пьетро Аретино,
который сделал такую манеру письма ходовым товаром.
Те же недостатки — и в действии комедии. Харак-
теры обрисованы абстрактно, а поэтому они натянуты
и грубы, без нюансов и оттенков, даны в циничной на-
готе, которая еще более подчеркивается вульгарностью
языка — неотделанного итальянского языка, перемешан-
ного с неаполитанскими и латинскими элементами.
3. В этом мире комедии три действующих лица, три
дурака, высмеянных и наказанных, олицетворяют жизнь
в ее наиболее ярких проявлениях — в литературе, науке
и любви в их комическом вырождении. Литература — это
педантство, наука — нахальство, любовь — животность.
Лучше всего удался образ педанта, которого в конце
концов обобрали и отколотили. Педант под различными
наименованиями входит также и в философский мир
Бруно, становится его негативным полемическим элемен-
том. Противником его рассуждения всегда предстает
аристотелевский педант, который олицетворяет здравый
смысл или вульгарное мнение и в конце концов высмеи-
вается. Рассуждение Бруно разворачивается в форме
диалога, в котором педант играет- роль шута, еще более
19* 291
смешного своею внушительной торжественностью. К это-
му комическому элементу нужно добавить еще один ли-
тературный, аллегорический и фантастический элемент,
который помогает Бруно облечь свои концепции в обра-
зы и вымыслы, как это имеет место в его «Килленском
осле» и в «Изгнании торжествующего зверя». Здесь чув-
ствуется подражание Лукиану, как в других диалогах,
более философских в строгом смысле слова, ощущается
Платон. Диалог Бруно «О героическом энтузиазме» на-
поминает «Новую жизнь» Данте: нить сонетов, каждый
со своим толкованием, но в целом в обобщении передаю-
щая аллегорическую теорию энтузиазма и вдохновения.
Содержание у Бруно в значительной своей части новое,
но его литературные формы не рождаются из содержа-
ния, они прикреплены к нему и, в сущности, являются
устаревшими формами, изношенными от долгого упо-
требления, а потому лишенными изящества и простоты,
как и внутреннего тепла. Они не раздражают и не утом-
ляют лишь благодаря острому уму Бруно, его деятель-
ному интеллекту, который не дает читателю застаиваться
и постоянно поражает его взлетами, колкостями, про-
тивопоставлениями, странностями и тонкостями, которые
свойственны талантливым людям.
Однако этот человек, столь скованный традицион-
ными и уже негодными формами, свидетельствующими
о предстоящем распаде итальянской литературы, был
полностью свободен в своих рассуждениях и создавал
новое содержание, из которого позже суждено было ро-
диться новой критике и новой литературе. Философия
Бруно является исчерпывающим осуждением его соб-
ственных форм и его литературных предрассудков.
Я не намереваюсь анализировать здесь его философ-
скую систему, ибо не пишу истории философии. Но сле-
дует отметить те. идеи и тенденции, которые оказали
решающее воздействие на прогресс человечества *.
4. В первых сочинениях Бруно, написанных по-
латыни, перед нами юноша, перед которым открывается
весь мир познания, и он стремится объединить все эти
1 Согласно указанию Акилекии (op. cit., p. 297), Бьянки Джо-
вини («Biografia di fra Paolo Sarpi teologo e'consultore di stato», 2ed.,
Firenze 1849, vol. I, p. 52), а также Бартолмесса (op. cit.}. О фило-
софии Бруно см. указанные сочинения Бернардо Спавента,
292-
познания, создать энциклопедическое древо. Раймонд
Луллий уже пытался дать такой синтез в помощь па-
мяти. Бруно повторяет его работу, устанавливает кате-
гории и различия, мнемонические понятия и общие идеи,
вокруг которых группируются частности, как, например,
небо, земля, лес. Эти понятия он именует «печатями» и
добавляет к ним «Печать печатей», то есть первоначаль-
ные идеи, от которых происходят другие. Его восторг
перед этим «Луллиановым построением», как называется
одно из его сочинений \ таков, что он называет его
«искусством из искусств», ибо находит в нем «все, что
познается теоретически при'помощи логики, метафизики,
кабалы, натуральной магии, великим и малым искус-
ством». Бруно затронул лишь самый механизм науки,
ибо эти категории и распределения по пунктам и мате-
риалу являются формальными и произвольными и по-
хожи на словарь категорий, разбитых на рубрики для
освежения памяти. Невежды придают этому большое
значение и полагают, что, усвоив категории, они деше-
вой ценой овладеют всеми науками. Говорят, что многие
обращались тогда к Бруно, чтобы узнать у него способ,
как за несколько месяцев получить докторскую степень,
и провалившиеся злобствовали на него; эту враждеб-
ность толпы считают причиной его бегства из Парижа и
переезда в Лондон. Там Бруно продолжал свои Луллиа*
новы занятия и опубликовал «Изъяснение тридцати пе-
чатей», которому предпослал введение, озаглавленное:
«Новое и полное искусство владеть памятью».
В этих механических и формальных исследованиях уже
проявляется органический принцип, который предвещает
великого мыслителя. Искусство припоминания превра-
щается его философским мышлением в подлинное искус-
ство мысли, в логику, которая одновременно служит и
онтологией. Бруно опубликовал в Париже в 1582 году
книгу под названием «Тени идей», и я рекомендую ее
1 Ср. L u 11 i i, De compendiosa architeetura et complemento artis,
1582. Латинская цитата является частью заглавия «Изъяснение три-
дцати печатей» («Explicatio triginta sigillorum»), изданного в Лон-
доне в 1583 году; об этом см. ниже. Для цитат из латинских сочи-
нений Бруно Де Санктис мог пользоваться изданием Гфрорера
(Gfrorer, J. Bruni Nolani Scripta, quae latine confecit). Штут-
гарт, 1836.
293
философам, ибо в ней содержатся первые зародыши того
нового мира, который вызревал в его мозгу. Здесь, не-
смотря на некоторые мнемонические чудачества, выяви-
лась первостепенной важности концепция, по которой
категории интеллектуального мира соответствуют кате-
гориям мира природы, ибо един принцип и духа и нату-
ры, едины мысль и бытие. Поэтому мыслить означает
представлять внутри себя то, что природа представляет
вовне, копировать в себе письмена природы. Мыслить —
значит видеть, орган мышления есть внутреннее око, ко-
торого лишены неспособные. Отсюда следует, что логика
есть не рассуждение, а созерцание, интеллектуальная
интуиция не идей, содержащихся в боге, — субстанции,
стоящей вне сферы познания, — но теней или отражений
идей в чувствах и в разуме. Бруно с дантовским презре-
нием говорит о вульгарной толпе, которая лишена вну-
треннего света, видения истинной красоты, отраженной
в разуме и в природе, и предпосылает своей книге сле-
дующие слова протеста:
Мы — глубочайшая тень, и нас не тревожьте, невежды,
Важное дело не вас ищет, а мудрых мужей.
Что на добром итальянском языке означает: кто
этого не видит —тем хуже для него, пусть нам не надо-
едает.
Эта концепция обновляла науку в ее сущности и в ее
методе. Теолого-философский дуализм средневековья, из
которого проистекал дуализм политический — папа и
император, — уступал место абсолютному единству.
А механический формализм аристотелевской схоластики
сменялся органическим методом, то есть вытекавшим из
самого существа науки. Новая концепция была ключом*
всей философии Бруно.
5. В Лондоне Бруно с полным успехом участвовал
в диспуте о системе Коперника. Об этом диспуте он под-
робно рассказал в весьма комических тонах в «Велико-
постной вечере»1. Потом он более подробно развил
свои идеи в диалоге «О причине, начале и едином» и
в другом диалоге — «О бесконечном, Вселенной и мирах»,
1 На русском языке переведено как «Пир на пепле» — дословный
перевод итальянского названия «Cena delle ceneri»; традиционная
трапеза монахов в так называемый «Пепельный понедельник» —
первый день великого поста. — Прим. перев.
т.
опубликованных в Лондоне в 1584 году. В этих трех со-
чинениях вся его метафизика.
В философии Бруно поражает прежде всего реабили-
тация, почти обожествление той материи, которая была
отлучена, объявлена грешной. Бруно ясно понимает, что
именно он делает. Он вкладывает в уста аристотелев-
ского педанта все вульгарные мнения, бывшие в ходу
относительно материи. Этот педант, по имени Полиний *,
описан так:
«Это один из тех людей, которые, построив красивую
фразу, написав изящное послание, выкроив красивый
оборот в цицероновском духе, воображают, что здесь
воскресает Демосфен, здесь вырастает Туллий, здесь
обитает Саллюстий, здесь Аргус, рассматривающий ка-
ждую букву, каждый слог, каждое выражение... Они
подвергают испытанию речи, они обсуждают фразы, го-
воря: «Эти принадлежат поэту, эти — комическому пи-
сателю, эти — оратору; это серьезно, это легко, это
возвышенно, это низкий род речи; эта речь темна, она
могла бы быть легкой, если бы была построена таким*
то образом; это начинающий писатель, мало заботя-
щийся о древности, он и не пахнет Цицероном и плохо
пишет по-латыни; этот оборот не тосканский, он не заим-
ствован у Боккаччо, Петрарки и других испытанных
авторов». В этом его триумф, он доволен собою, его по-
ступки нравятся ему больше, чем все остальное, это
Юпитер, который с высокой башни созерцает и наблю-
дает жизнь других людей, подверженную стольким
ошибкам, бедствиям, несчастьям и бесплодным трудам.
Один лишь он счастлив, один лишь он живет небесной
жизнью, созерцая свою божественность в зеркале какого-
нибудь «Сборника», «Словаря», «Калепина», «Лексико-
на», «Рога изобилия», «Ницолия»... Если он смеется, он
называет себя Демокритом; если печалится — Геракли-
том; если спорит — Хризиппом; если размышляет — Ари-
стотелем; если фантазирует — Платоном; если мычит ка-
кую-нибудь проповедь, он титулует себя Демосфеном;
если разбирает Вергилия, то он сам — Марон. Здесь он ис-
правляет Ахилла, там одобряет Энея, упрекает Гектора,
декламирует против Пирра, сожалеет о Приаме, обви-
1 Здесь и ниже Полиний вместо принятого в русском переводе
«Диалогов» Полинний, — Прим, ред.
295
няет Турна, извиняет Дидону, рекомендует Ахата и в
конце концов, между тем как прибавляет слово к слову
и нанизывает грубые синонимы, ничто божественное не
считает себе чуждым. И когда он столь спесиво сходит
со своей кафедры, как человек, распоряжавшийся небе-
сами, управлявший сенатами, командовавший войсками,
переделывающий миры, то становится ясно, что если бы
только не несправедливость времени, то он так же ору-
довал бы делами, как орудует мнениями. О времена!
О нравы! Сколь редки те, кто понимает природу при-
частий, наречий, спряжений!»1
Полиний был бы бессмертным, если бы действовал в
диалоге столь же живо и правдиво, как он описан здесь;
но Бруно-художник ниже Бруно-критика, и Полиний,
который говорит, не может сравниться с Полинием, ко-
торый описан с таким удачным саркастическим юмором.
Полиний знает наизусть все то, что было написано о ма-
терии, и, находясь в одиночестве («я говорю о своем оди-
ночестве, чтобы быть как можно менее одиноким»),
словно находится на кафедре, отбарабанивает о мате-
рии лекцию, или даже, как он сам говорит, ораторское
выступление: «Итак, материя у князя перипатетиков...
не менее, чем у божественного Платона и других, или
хаос, или вещество, или материал, или масса, или потен-
ция, или склонность, или причина греха, или предрас-
положение ко злу, или само по себе не сущее, или само
по себе не познаваемое, или познаваемое лишь по ана-
логии с формой, или tabula rasa, или недоступное изоб-
ражение, или субъект, или субстрат, или substerniculum,
или свободное поле, или бесконечное, или неопределен-
ное, или близкое к ничто, или ничто, и никакое, и ни-
сколько, и наконец... она была названа женщиной, нако-
нец, говорю я, чтобы все было восполнено одним назва-
нием... она называется женщиной»2.
Так вот, эта самая материя, которую Полиний пре-
зрительно называет женщиной, причиной греха, tabula
rasa, «близким к ничто, или ничто, и никакое, и нисколь-
ко»,—эта самая природа объявлена у Бруно бессмерт-
ны. Джордано Бруно, Диалоги. О причине, начале и
едином, диалог I. Цит. соч., стр, 191—192. У Де Санктиса текст
дается с некоторыми сокращениями.
2 «О причине, начале и едином», диалог IV. Цит. соч.,
стр. 249—250.
296
ной и бесконечной. Формы преходящи, но материя
остается неизменной в своей субстанции.
«...В природе при бесконечном изменении и следова-
нии друг за другом различных форм всегда имеется
одна и та же материя... То, что было семенем, стано-
вится стеблем, из того, что было стеблем, возникает ко-
лос, из того, что было колосом, возникает хлеб, из хле-
ба— желудочный сок, из него — кровь, из нее — семя,
из него — зародыш, из него — человек, из него — труп,
из него — земля, из нее — камень... Итак, с необходи-
мостью существует одна и та же вещь, которая сама по
себе не есть ни камень, ни земля, ни труп, ни человек,
ни зародыш и кровь и другое, но которая после того,
как была кровью, становится зародышем, получая бы-
тие зародыша; после того, как была зародышем, полу-
чает бытие человека, становясь человеком»1.
И поскольку все формы преходящи, а материя
остается, «Демокрит и эпикурейцы, которые все не телес-
ное принимают за ничто, считают в соответствии с этим,
что одна только материя является субстанцией вещей,
а также божественной природой, ибо формы являются
не чем иным, как известными случайными расположен
ниями материи, как считают киренаики, циники и стои-
ки»2. Бруно сначала держался того же мнения, которое
в те времена уже было распространено среди многих,
особенно среди медиков. Ему казалось, что эта доктрина
имеет «основания, более соответствующие природе, чем
у Аристотеля». Таким образом, он начинал как чистей-
ший материалист. Но, рассмотрев предмет более зрело,
он не мог не увидеть отличия между всеобщей пассив-
ной потенцией и всеобщей активной потенцией, между
тем, что творит и что сотворено, между формой и мате-
рией; отсюда он пришел к заключению, что в природе
существуют две субстанции (одна — являющаяся фор-
мой, другая — являющаяся материей), «возможность
совершать» и «возможность быть совершенной». По-
этому на ступенях бытия стоят: интеллект, дающий
1 «О причине, начале и едином», диалог III, стр. 230. Из этого же
диалога взято изложение на последующих страницах философии
Бруно. В рукописи вычеркнут абзац, включенный несколько ниже:
«Материя в своей сущности бесформенна, безразлична, она остается
всегда тождественной самой себе и потому — ничем» и т. д.
2 Там же, диалог III, стр. 226,
297
бытие всякой вещи, названный пифагорейцами «подате-
лем форм»; душа — формальное начало, создающая в
себе и формирующая всякую вещь, названная ими же
«источником форм»; материя, из которой делается и
формируется всякая вещь, названная всеми «преемником
форм» К Что касается интеллекта, «первого и высшего
принципа», то мы можем познать его только по его сле-
дам, ибо божественная субстанция бесконечна и «весьма
далеко отстоит от этих следствий, являющихся крайним
пределом достижений нашей дискурсивной способно-
сти»2. Бог, следовательно, есть предмет веры и открове-
ний, и, согласно богословию и «всем реформированным
философиям», лишь непосвященному и беспокойному
уму свойственно «стремление искать смысла и опреде-
ления тех вещей, которые находятся выше сферы на-
шего понимания». Бог — это все то, что может быть, в
нем возможность и действие являются одним и тем же,
абсолютной возможностью и абсолютным действием3.
Человек есть то, что может быть, но он не все то,
что может быть. То, что является всем тем, что может
быть, это то, что в своей сущности заключает всякую
сущность. Эта сущность есть все, что оно есть и что
может быть. В нем всякая потенция и всякое действие
слито, объединено и едино; во всех других вещах оно
разрознено, упрощено и умножено. Бог есть возмож-
ность всех возможностей, действие всех действий, жизнь
всех жизней, душа всех душ, сущность всех сущностей.
Поэтому автор Апокалипсиса назвал его: «Тот, кто
есть», «Первый» и «Новейший», ибо он есть не древнее
и не новое, и говорит о нем: «Его мрак равен его свету».
Абсолютнейшее действие и абсолютнейшая возможность
могут быть поняты интеллектом только через отрица-
1 «О причине, начале и едином», диалог III, стр. 235.
2 Там же, диалог II, стр. 199. Отсюда же взят и последующий
абзац: «Не только любой закон и богословие, но также все рефор-
мированные философии приходят к выводу, что лишь непосвящен-
ному беспокойному уму свойственно стремление искать смысла и
желание найти определения тех вещей, которые находятся выше
сферы нашего понимания» (стр. 200).
3 Там же, диалог III, стр. 242: «Итак, наблюдай первое и наи-
лучшее начало, которое есть все то, что может быть, и оно же не
было бы всем, если бы не могло быть всем, в нем, следовательно,
действие и возможность — одно и го же». Из этого же рассуждения
Теофила взяты последующие слова и цитаты из псалма CXXXVIII. 12.
298
ние; оно не может быть понято ни в своей возможности
быть всем, ни в своем всеобщем существе. Таким об-
разом, получается, что этот высший принцип исклю-
чается из философии, и Бруно строит мироздание,
оставляя в стороне то наивысшее созерцание, которое
поднимается над природой и которое «для того, кто не
верует, невозможно и не существует». Те, кто не обла-
дает сверхъестественным озарением, видят в каждой ве-
щи тело, или простое, как эфир, или составное, как зве-
зды, и не ищут божества вне бесконечного мира и беско-
нечных вещей, а внутри него и в них. В этом единствен-
ная разница между «верующим богословом» и «настоя-
щим философом». И Бруно заключает следующими сло-
вами: «Я надеюсь, что вы поняли то, что я хочу ска-
зать» К
Основой средневековья было сверхъестественное и
потустороннее: Бруно признает его, как верный бого-
слов, но, как истинный философ, он ищет божество не
вне мира, а в мире. По существу это — самое радикаль-
ное отрицание аскетизма и средневековья. Если оставить
в стороне созерцание первого начала, то остаются две
субстанции: форма, которая творит, и материя, из кото-
рой все творится, «два созидающих начала вещей».
Форма в своей абсолютности есть душа мира2, чьей
неотъемлемой, присущей, специальной, реальнейшей спо-
собностью и потенциальной частью является всеобщий
ум. Как наш интеллект производит явления разума,
так всеобщий ум или душа мира производит естествен-
ные явления, наполняет все, освещает Вселенную, как
сказал поэт: «...разлитый по членам, движет громадою
ум и с великим сливается телом».
Этот всеобщий ум, который платоники называли куз-
нецом мира, носит у Бруно название «внутреннего мас-
тера»; вливая и внося что-то от себя в материю, произ-
1 В рукописи вычеркнута следующая фраза: «Да, конечно, мы
прекрасно поняли. Таков обычный жаргон философов, которые,
чтобы уберечь и козу и капусту, говорили, что некоторые вещи отно-
сятся к области веры, а не к философии. Пусть верит тот, кто
обладает верой».
2 Вся нижеследующая страница есть пересказ поучения Теофила
из диалога II, стр. 203—204, откуда взята также цитата из Вергилия
(«Энеида», VI, 726—727), принятая у Бруно как девиз его концепции
и повторенная им на следствии 2 июня 1592 года перед инквизицион-
ным трибуналом в Венеции,
299
водит он все в мире. Он есть всеобщая и субстанцио-
нальная форма, врожденная материи, ибо не работает
над материей и извне материи, но формирует материю
изнутри, так же как изнутри семени или корня форми-
рует ствол, изнутри ствола гонит сучья, изнутри сучьев
формирует ветви, из них изнутри распускает почки, вну-
три формирует, образует и сплетает, словно нервами,
листья, цветы и фрукты. Природа, если можно так вы-
разиться, оперирует из центра своего субъекта, каким
является материя. И хотя форма, как действенная при-
чина, является внешней, поскольку не составляет части
произведенных вещей, но по характеру своей деятельно-
сти внутренне присуща материи, ибо действует в ее лоне.
Следовательно, она является причиной, то есть нахо-
дится вне вещей, но в то же время является и началом,
то есть содержится в вещах. Происходит не творение,
а порождение, или, как выражается Бруно, толкование.
Форма находится во всех вещах, и потому все вещи
обладают душой. Жить — это значит иметь форму, иметь
душу. Все вещи оживлены. Если жизнь обитает во всех
вещах, душа есть форма всех вещей, она стоит во главе
материи, главенствует в составах, осуществляет соче-
тание и соединение частей К
Поэтому форма бессмертна, так же как и материя.
Но в соответствии с разнообразием расположения ма-
терии и сообразно способности активных и пассивных
начал материи форма производит различные образова-
ния. Именно эти внешние формы только и меняются и
исчезают, ибо они есть не вещи, а принадлежат вещам,
не субстанции, а случайности и обстоятельства. Поэтому
1 Ср, диалог II, стр. 213: «Итак, если дух, душа, жизнь нахо-
дится во всех вещах и сообразно известным степеням наполняет всю
материю, то достоверно, что он является истинным действием и
истинной формой всех вещей. Итак, душа мира — это формальное
образующее начало Вселенной и всего, что в ней содержится.
Я утверждаю, что если жизнь находится во всех вещах, то, следо-
вательно, душа является формой всех вещей; во всем она главен-
ствует над материей и господствует в составных частях, производит
состав и конституцию частей» (стр. 213). Из этого же диалога взят
пересказ последующих периодов и цитаты из Овидия («Метамор-
фозы», XV, «Omnia mutantur...», 165) и из «Екклесиаста». Эта цитата
есть и у Бруно: «Quid est quod fuit». «Ipsum quod est» — и является
одним из его девизов (ср. «De umbris», II, 44; «Sigillus sigillorum»,
II, 213). Де Санктис поправил цитату, согласно библейскому тексту
(«Екклесиаст», I, 9—10).
300
и сказал поэт: «Все изменяется, но ничто не гибнет».
Так говорит и Соломон: «Что было, то и будет; и что де-
лалось, то и будет делаться, — и нет ничего нового под
солнцем». Поэтому напрасна боязнь смерти и еще более
напрасна боязнь скупого Харона, из-за чего «исчезает
и омрачается самое приятное в нашей жизни»1.
Макиавелли уже говорил о бессмертном и неизмен-
ном мировом духе, творящем историю согласно своим
основным законам. Этот дух истории в философии Бру-
но и есть кузнец мира, его внутренний мастер.
6. Наряду с абсолютной формой стоит абсолютная
материя, сама по себе отличная от формы. Как форма
сама по себе исключает всякую концепцию материи, так
и материя исключает собой всякую концепцию формы.
Материя бесформенна, она есть чистая пассивная по-
тенция, нагая и бездейственная, без достоинств и со-
вершенств, «близкая к ничто», она безразлична, тожде-
ственна себе, она есть все и ничто. Именно потому, что
она все, она не есть никакая отдельная вещь, а поэтому
она не есть вещь и не есть тело; «не имеет она размерно-
стей», она неделима, она есть содержание вещей телесных
и бестелесных. Если бы она имела определенные измере-
ния, определенное бытие, определенное очертание, опре-
деленные свойства, она не была бы абсолютной2.
Но форма и материя, взятые в своей абсолютности,
как имеющие собственную жизнь, обособленную одна
от другой, представляют собой не реальные, а назыв-
ные, номинальные отличия; это отличия логические и
умственные, ибо «разум разделяет то, что в природе не-
раздельно», такова была ошибка Аристотеля и схола-
стов, которые населили мир логическими понятиями, как
если бы они были реальными субстанциями3. Бруно мно-
гократно высмеивает этих философов, которые умно-
жили число существ, выдумав даже «сократичность»
как субстанцию Сократа, «деревянность» как субстан-
цию дерева. Это различие между логическими и реаль-
1 См. «О причине, начале и едином», вступительное послание:
«(Наша философия) снимает мрачное покрывало безумной боязни
Судьбы и скупого Харона, отчего исчезает и омрачается самое
приятное в нашей жизни».
2 «О причине, начале и едином», диалог IV, стр. 261.
3 «О причине...», диалог III, из которого почерпнуты также по-
следующие строки (см, там же, стр. 233).
301
пыми категориями уже есть большой прогресс. Это не
значит, что логические категории не имеют значения,
они являются разрядами, соответствующими разрядам
вещей, они есть обобщения природы; ошибка заклю-
чается в том, чтобы рассматривать их как живые и
реальные вещи и полагать, например, что форма и ма-
терия .— две различные субстанции именно потому, что
мы можем и должны постигать их отдельными.
В природе или в реальности форма и материя —
одна и та же субстанция. Одна подразумевает другую:
полагать одну — значит полагать другую. Форма, не
принадлежащая материи, не может существовать; фор-
ма, существующая сама по себе, есть логическая
абстракция. Равным образом пустая и бесформенная ма-
терия есть абстракция; она всегда — как «беременная,
которая уже несет в себе живой зародыш». Нет формы,
которая не заключала бы в себе «нечто материальное»;
и нет материи, которая не имела бы в себе своего фор-
мального и божественного начала. Бруно говорит:
«Сущность, логически разделяемая на то, что она есть
и чем она может быть, в физическом отношении неде-
лима, нерасчленена и едина» К Поэтому потенция совпа-
дает с действием, материя — с формой. Зевс, «сущность,
в силу которой все то, что есть, обладает бытием», на-
ходится внутри всего; это означает, что все вещи нахо-
дятся в каждой вещи и все есть одно.
Итак, материя — не нинто, не «близкое к ничто», как
это говорит Аристотель, но, наоборот, она имеет в себе
все формы и производит их из своего лона трудом При-
роды, как действующей причины, или как мастера —
внутреннего, а не внешнего, как это имеет место в ис-
кусственно сделанных вещах2.
Если бы формальное начало было внешним, то можно
было бы сказать, что материя не имеет в себе никакой
формы и действия, однако же она имеет их все, ибо
1 «О причине...», вводное послание. Относительно последующих
строк ср. там же, «Рассуждение» V диалога, стр. 276: «Итак, не
напрасно сказано, что Зевс (как его называют) наполняет все вещи,
обитает во всех частях Вселенной, является центром того, что обла-
дает бытием, единое во всем, вследствие чего единое есть все».
Бруно имеет в виду гимн Зевсу стоика Клсанта (331—232 годы
до н. э.).
2 Там же, диалог IV (стр. 266—272), из которого взяты понятия
и пояснения, пересказанные в последующих абзацах.
302
все их извлекает из своего лона. Поэтому материя не
то, в чем делаются вещи, но то, из чего производятся
все естественные виды. Это понимали пифагорейцы,
Анаксагор и Демокрит, понимал также и Моисей, ска-
завший: «Да произведет земля своих животных», как
если бы он сказал: «Да произведет их материя». Таким
образом, формы и энтелехии Аристотеля и фантастиче-
ские идеи Платона, идеальные отпечатки, отделенные
от материи, суть «хуже, чем чудовища», они суть «хи-
меры и пустые фантазии». Материя есть источник дей-
ствительности, она находится не только в потенции, но
и в действии, она всегда та же и неизменна, в вечном
состоянии; не она меняется, а в отношении к ней и в ней
самой происходит изменение. Меняется состав, а не ма-
терия. Бессмысленно говорят, что материя домогается
формы. Она не может домогаться источника форм, ко-
торый содержит в себе, ибо никто не домогается того,
чем обладает. И поэтому в случае смерти не должно
говорить, что форма исчезает или расстается с мате-
рией, но, скорее, что материя отбрасывает одну форму,
чтобы взять другую. Бедный Гервазий, который в диа-
логе выполняет роль вульгарного здравого смысла,
видя, как опрокинуты не только аристотелевские мне-
ния Полиния, но и многое другое, восклицает: «Вот как
повержены на землю не только замки Полиния, но так-
же и других, кроме Полиния!»
Следовательно, хотя индивидуумы бесчисленны, но
все едино, и в познании этого единства и состоит смысл
и цель всех натуральных философий и размышлений,
восходящих не к высшему началу, исключаемому из рас-
суждений, но к высшей монаде, или атому, или един-
ству— душе мира, всеобщему действию, всеобщей по-
тенции, всему во всем.
Эта единая субстанция есть Вселенная — единая,бес-
конечная, неподвижная !. Она не есть материя, ибо не
имеет фигуры и не может ее иметь, не есть форма, ибо
не формирует и не образует отдельную субстанцию, ибо
она есть все величайшее, единое, всеобщее Она в такой
степени форма, что не есть форма; в такой степени
материя, что не есть материя; в такой степени душа, что
1 См. «О причине...», диалог V, стр. 273 «Итак, Вселенная едина,
бесконечна, неподвижна», начальная часть которого перефразирована
в последующих абзацах,
303
не есть душа, ибо она есть все без различия и в то же
время одно: Вселенная — едина. В ней все есть центр,
центр находится повсюду, а периферия — нигде, но так-
же периферия находится повсюду, а центр — нигде. Нет
в ней пустоты; все заполнено; то, что в ней может быть
телом, и что может содержать что-либо, и в чем есть
атомы. Поэтому Вселенная имеет бесконечные размеры
и миры в ней бесчисленны. Конечная причина мира — со-
вершенство, и бесчисленным степеням совершенства со-
ответствуют бесчисленные миры — большие животные со
своим развитием, одним из .них и является Земля. Для
расположения этих бесчисленных миров требуется бес-
конечное протяжение, небесные пространства, где дви-
жутся миры, не закрепленные, не удерживаемые. На-
прасно искать их внешнюю движущую силу, ибо в£еони
движимы внутренним началом, которое является их соб-
ственной душой К
Отправным пунктом рассуждения явно является
реакция против сверхъестественного и потустороннего.
Бруно отрицает во имя природы мир, населенный сред-
невековыми универсалиями.
Сам бог, говорит Бруно, если он не природа, то при-
рода природы; если он не душа мира, то он душа души
мира. В этом случае он есть предмет веры и не является
частью познания. Таким образом, основа доктрины Бру-
но— внутренне присущее природе формальное или бо-
жественное начало. Каждый имеет бога внутри себя.
Истинное и доброе светит в нас не благодаря сверхъесте-
ственному озарению, но благодаря естественному про-
зрению. Так натурализм борется против сверхъесте-
ственного.
1 В рукописи вычеркнут абзац, включенный в измененном виде
несколько далее: «Соотношение умственного и естественного мира,
различие между логическими и реальными категориями, единство
формы и материи, творческая сила, присущая материи, вечность и
бесконечность Вселенной в непрерывном изменении форм, ощущение
души или всеобщей жизни, бесконечное совершенствование форм в
их преобразованиях, динамическая сила природы в ее сочетаниях,
созерцание или умственное видение истины, естественное прозрение,
независимое от веры, экстаза и сверхъестественного, абстрактный и
потусторонний бог, ставший видимым и достижимым в бесконечной
Природе, — эти идеи Бруно, медленно и с вариациями развиваемые
в его латинских и итальянских сочинениях, представляют собой
основу современной философии, и следы этого можно найти у Де-
карта, Лейбница и Спинозы».
304
Тех, кто обладает сверхъестественным озарением,
как, например, пророки, то есть тех, кто получает про-
зрение извне, Бруно называет ослами или невеждами.
Он произносит им иронический панегирик в «Киллен-
ском осле»;'между ними и теми, кто обладает естествен-
ным пониманием и видит в силу собственных достоинств,
такая же разница, как «между ослом, что несет святое
причастие, и священными предметами» К
Первые — лишь сосуды и орудия, вторые — главные
мастера и деятели; первые обладают большими достоин-
ствами, ибо в них пребывает божественность; вторые —
сами по себе более достойны и божественны. «Осли-
ность» есть условие веры; тот, кто верит, не имеет нужды
в знаниях, и ослиность приводит к вечной жизни. Стре-
митесь, стремитесь, следственно, стать ослами, о вы, ко-
торые еще являетесь людьми! — восклицает с юмором
Бруно, таким путем, набожные и терпеливые, станете
вы «сопричастны ангельскому сонму». А вы, ставшие
уже ослами, приучайтесь идти от хорошего к лучшему,
чтобы достигнуть того достоинства, которое приобре-
тается не наукой и делами, а верой. Если станете та-
ковыми, будете вписаны в Книгу жизни, снискаете себе
благодать в этой воинствующей и славу в той торже-
ствующей церкви, в которой да живет и царствует гос-
подь во веки веков2.
Эта насмешливая тирада заканчивается «благочести-
вейшим» сонетом во славу ослов; главная мысль в нем
такова, что «великий Господь дарует им блаженство».
Торжествует не только осел — торжествует праздность,
ибо вечное блаженство приобретается верой, а не
1 Ср. Джордано Бруно, О героическом энтузиазме, М,
1953, ч. I, диалог 3, стр. 53: у первых — достоинство осла, везущего
святое причастие, у вторых — достоинство священного «пред-
мета».
2 Весь отрывок представляет собой почти дословный пересказ
заключительной части «Обращения», предпосланного диалогу «Тайна
Пегаса с приложением Килленского осла» (см. «Диалоги», цит. изд.,
стр. 469—470). Строка «сопричастны ангельскому сонму» — послед-
ний стих из «благочестивейшего сонета относительно смысла ослицы
и осленка», откуда взят и цитируемый ниже стих 8 (см. там же,
стр. 471). Сонет Бруно — пародия на евангельский текст (Матфея
XXI, 1—3).
20 Де Санктис
305
наукой и деятельностью !. Бруно иронически расхвали-
вает и праздность; приведем в качестве примера следую-
щий силлогизм: «Боги являются богами, ибо они бла-
женны, блаженные блаженны, ибо не имеют трудов и за-
бот, трудов и забот не имеют те, кто не двигается и не
меняется; таковы главным образом те, кому присуща
праздность. Итак, следовательно, боги являются богами,
ибо им присуща праздность» 2.
Этот силлогизм полон смысла, несмотря на свою
шутливую форму. Божественный цензор Мом остается
в затруднении и говорит, что он изучал логику по Ари-
стотелю и не умеет отвечать на аргументы четвертой
фигуры. Праздность, разумеется, расхваливает золотой
век —свое царство и цитирует прекрасные стихи Тассо:
...золотой, хоть и несложный,
Закон Природы: «Мило —значит можно».
И заканчивает следующим панегириком:
Оставьте тени, истину обняв,
С грядущим нынешнее не мешайте,
Вы — гончая в водовороте зла,
А тень довольна тем, что в пасть взяла.
Вовек разумным не считался шагом
Отказ от благ в пути за новым благом.
Зачем вы ищете в другом, в других
Тот самый рай, который в вас самих? •
Праздность и невежество — характерные черты аске-
тической и монашеской жизни, опыт которой был у Бруно.
«Свобода, — говорит его Юпитер, — когда она празд-
на, бесплодна и тщетна, как бесполезен глаз, который
1 Ср. «Обращение»: «Приучайтесь всегда идти от хорошего
к лучшему, пока не достигнете того предела, того достоинства, кото-
рые приобретаются не науками и делами, пусть даже великими,
а верою» (пит. изд., стр. 469—470).
* «Spaccio de la bestia trionfante» Цитируем по русскому пере-
воду Джордано Бруно, Изгнание торжествующего зверя,
СПБ, 1914, Диалог III, ч. 1. Оттуда же де Санктис берет следующие
абзацы и двустишие Тассо («Aminta», акт I, хор, vv. 25—26), уже
многократно цитировавшиеся.
8 «Изгнание торжествующего зверя», цит. изд., стр. 133. Как
было отмечено, данная октава целиком состоит из стихов, не принад-
лежащих Бруно, а подобранных из стансов сборника Луиджи Тан-
силло «Виноградарь» («Vendemmiatore»),
306
не видит, и рука, которая не схватывает. В золотой век
из-за праздности люди были не более добродетельны,
чем ныне животные, и, может быть, они были даже глу-
пее, чем многие из этих последних» К
Бруно отвергает эту праздную жизнь, прозванную
золотым веком, которую он сам называет глупой, осно-
ванной на пассивности ума и воли, и может говорить
о ней только насмешливо. Тем самым сверхъестествен-
ное преследуется и в своих началах и в своих послед-
ствиях.
7. В соответствии с моралью Бруно естественное по-
нимание пробуждается в душе любовью к божествен-
ному, или формальным началом, которое присуще ма-
терии и в силу которого материя прекрасна. Любовь
к материи самой по себе — вещь вульгарная и живот-
ная, и Бруно упрекает Петрарку и петраркистов, кото-
рые расхваливают женщин из праздности, чтобы про-
славить свое дарование, так- же как другие пели хвалы
мухе, ослу, Силену, Приапу, а их подражатели, пишет
он, в наши времена воспевают волынку и боб, постель,
ложь, наковальню и молот, голод и чуму2. Объект ге-
роической любви есть божественное или формальное;
божественная красота сначала сообщается душам, а че-
рез них —телам. Отсюда следует, что правильно сфор-
мированное влечение любит телесную красоту, «так как
последняя есть выявление красоты духа»3.
Даже и то, что вызывает в нас любовь к телам, есть
известная духовность, которую мы наблюдаем в них,
которая называется красотой и которая состоит не в
больших или меньших размерах, не в определенных цве-
тах или формах, но в известной гармонии и согласности
членов и цветов. Любовь пробуждает в душе естествен-
ное понимание или умственное видение, умственный свет
и держит ее в состоянии созерцания или абстракции так,
1 «Изгнание торжествующего зверя», цит. изд., стр. 134. Отры-
вок приведен с некоторыми сокращениями.
2 См. Джордано Бруно, О героическом энтузиазме, М.,
1953 (стр. 23), посвящение: они сочиняли «похвальные слова мухе,
жуку, ослу, Силену, Приапу, обезьянкам; таковы же и те, кго в
наши времена слагал стихи в похвалу ночному горшку, волынке,
бобу, постели, лжи, бесчестью, печке, молотку, голоду, чуме».
3 Там же, ч. I, диалог 3, стр. 56. Из этого же диалога взят в
свободном пересказе следующий абзац.
20*
307
что она представляется безумной и неистовой, словно
одержимой божественным духом. Это уже не вульгар-
ный, а героический энтузиазм, благодаря которому
Душа, как Актеон, обращается в то, к чему стремится,
она ищет бога и становится богом и, вобрав в себя бо-
жественность, освобождается от необходимости искать
ее вне себя. Поэтому хорошо сказано, что царствие бо-
жие внутри нас и божественность обитает в нас силою
умственного видения К
Не все люди обладают умственным видением, ибо не
все они испытывают героическую любовь; в большин-
стве людей господствует не разум, который возносит к
возвышенным вещам, но воображение, которое спускает
к вещам низшим; этот вульгарный народ представляет
себе любовь по своему подобию:
По молодости лет в нее ты веришь;
Ее считаешь преходящей ты
И, сам слепой, зовешь ее незрячей2.
Героическая любовь свойственна высшим натурам,
которых называют безумными не потому, что они нера-
зумны, а потому, что они «сверхразумны», разумеют бо-
лее обычного и стремятся выше, обладая ббльшим
умом.
Божественное видение, или созерцание, не является,
однако, праздным и внешним, как у аскетов и мистиков:
бог находится внутри нас, и обладать богом — значит
обладать нами самими. Он приходит к нам не извне, а
дан нам силою разума и воли, которые находятся между
собой во взаимодействии; интеллект, побуждаемый лю-
бовью, приобретает зрение и созерцает, а воля, подкреп-
ленная созерцанием, становится вдвойне действенной;
это состояние Бруно выражает формулой: «Я хочу хо-
теть». Таким образом, из созерцания вытекает действие;
жизнь не есть невежество и праздность, она есть ум и
действие через посредство любви, согласно Дантовой
формуле, повторенной Бруно: жизнь есть понимание и
действие. Велики противоречия и потребности жизни,
и наиболее сильной является воля, ибо любовь есть един-
ство и сочетание разного и противоположного и ищет
согласия в спорах. Ум есть единство, воображение есть
1 См. там же, ч. I, диалог 4, стр. 68.
2 «Изгнание торжествующего зверя», I, диалог I, сонет 7,.
308
движение, разнообразие; рассуждающая способность на-
ходится посреди, состоящая из всего, в ней согласуется
единое со множественным, тождественное с различным,
движение с покоем, низшее с высшим. Как боги все-
ляются в низшие и чуждые формы или посредством чув-
ства собственного благородства вновь обретают боже-
ственную форму, так и героический энтузиаст, поднима-
ясь благодаря постигнутой степени божественной
красоты и добра на крыльях интеллекта и сознательной
воли, возвышается до божественности, покидая более
низкую форму К
Ничтожество, я в Бога превращаюсь...
Я Бог, а был я низким существом.
Преобразиться в бога означает подняться от мно-
жественности к единому, от различного к тождествен-
ному, от единичного ко всеобщей жизни, от изменчивых
форм к постоянному, видеть и хотеть во всем одно и
в одном — все. Или — если расстаться с этой терминоло-
гией— бог есть истина и добро, запечатленные внутри
нас, видимые благодаря естественному пониманию, и
цель жизни, ее моральное совершенство заключается
в том, чтобы искать истину и овладеть ею.
8. Было отмечено, что Бруно не являет нам согла-
сованной и законченной системы. Его философия нахо-
дится в стадии брожения. Ощущаются колебания нового
человека, который еще живет прошлым и в прошлом. Он
борется против сверхъестественного, но его естествен-
ное понимание, его «mens tuens» (созерцательный ум),
его умственная интуиция хранит на себе отпечаток смут-
ных реминисценций о сверхъестественном. Он наблю-
дает бога в бесконечности природы, но не умеет освобо-
диться от потустороннего бога и не знает, что с ним де-
лать, ибо он сохранился в качестве предварительного
условия, непримиримого со всей философией Бруно. Этот
бог является истиной и сущностью, а мы — его тень —
«я глубочайшая тень»2, — этот бог и есть сама При-
рода, или «если он не природа, то природа природы».
1 См. «О героическом энтузиазме», ч. I, диалог 3, стр. 65. Там
же — нижеследующее двустишие. (Перев. Е. М. Солоновича.)
2 «De umbris idearum», «Protestatio», Это двустишие целиком
приведено выше.
309
В философии Бруно смешались Декарт, Спиноза и Маль-
бранш. Он борется со схоластикой, но в значительной
степени сохраняет ее навыки. Он ненавидит мистику,
а иной раз, как послушать его, он больше мистик, чем
сам папа. Он отбрасывает воображение, а у него все
его изъяны и все виды. Нет гармонии в его содержании
и в его формах. И не удивительно поэтому, что и посей-
час философы ссорятся меж собой, истолковывая его
систему.
Чрезвычайно интересна эта внутренняя история духа
Бруно, в ее оттенках и подробностях, в колебаниях ее
развития; в этом состоит подлинная биография Бруно.
Нет ничего более драматичного, чем внутренняя жизнь
великого духа в его борьбе с собственным воспитанием,
учителями, образованием, с временем и предрассудками,
во всех его подражаниях, колебаниях и отталкиваниях.
И величие Бруно состоит именно в том, что он побе-
ждает в этой борьбе; через все эти шатания с наиболь-
шей силой и убедительностью проявляются его основные
тенденции, которые придают ему собственное лицо и ха-
рактер. И это собственное лицо Бруно мы должны
искать сквозь все его колебания.
Прежде всего у Бруно чрезвычайно развито рели-
гиозное чувство, то есть чувство бесконечного и боже-
ственного, как это бывает у всякого созерцательного
ума. Читая его, чувствуешь себя ближе к богу и не ис-
пытываешь необходимости задаваться вопросом, есть
ли бог и что он такое. Ибо ты чувствуешь его в себе,
возле себя, в своем сознании, в своей природе. Бог
«ближе к тебе, чем ты сам к себе». Все религии в основе
своей являются различными формами божественного.
И с этой точки зрения Бруно дает довольно серьезный
анализ древних и новых религий. Любовь к божествен-
ному, героический энтузиазм характерны для благород-
ных натур. И эта любовь делает нас способными не
только созерцать бога как Истину, но и осуществлять
его как Добро. Здесь — корень науки и морали.
Эти концепции сами по себе не новы, подобные им
можно встретить в священном писании и у отцов церкви.
Но дух здесь новый. Дело не только в том, что небеса
возносят славу богу, но небеса сами по себе боже-
ственны и движутся в силу собственных достоинств, в
силу присущей им божественности. Это и есть реабили-
310
тация материи или природы, которая не противостоит
более духу, не отлучена, а обожествлена, стала «поро-
ждением божиим». Конечное или конкретное прояв-
ляется в бесконечном и его осуществляет, дает ему
существование. Или, как говорится ныне, бог живой и
познаваемый пришел на смену богу абстрактному и оди-
нокому. Вечная и бесконечная Вселенная есть жизнь
или история бога.
В этом и состоит так называемый натурализм Бруно,
или, скорее, натурализм века; таков был естественный
прогресс духа, который выходил из рамок схоластиче-
ских абстракций, или, как выражался Бруно, из области
поверий и фантазий, и искал себе основу в конкретном
и определенном; это был первый голос природы, кото-
рая открывала саму себя и объявляла себя божествен-
ной сущностью — единой и тождественной с божествен-
ностью, «согласно чему единство определяется как
порожденное и порождающее или производящее и про-
изводимое» К Бруно в своем восторге перед божествен-
ной природой говорит, что героический дух видит
Амфитриту, источник всех чисел, всех видов, всех рас-
суждений, которая есть монада, истинная сущность всего
бытия, и если он не видит ее в ее сущности, в ее абсо-
лютном свете, то видит в ее порождении, которое подоб-
но ей и которое есть ее образ; ведь от монады, которая
есть божество, происходит та монада, которая является
природой, Вселенной, миром, где она себя созерцает и
отражается, то есть там, где она себя разумеет и до-
ступна разумению.
Такое понимание бога — привилегия героического
духа, оно не имеет ничего общего со сверхъестественным
видением, с верой, с благодатью, с экстазом или с чем-
либо другим, что нисходит в душу извне. Бог, познавае-
мый в мире, становится материей познания, и душа осу-
ществляет свое единение с ним путем акта своей энер-
гии, благодаря присущему ей внутреннему достоинству.
Понимание — свойство разума, и ум есть его орган, в ко-
тором бог или истина проявляется, словно «в собствен-
ном и живом обиталище», для тех, кто ищет ее «силою
реформированного ума и воли», то есть путем науки.
1 См. Джордано Бруно, «О героическом энтузиазме», ч. II,
диалог 2, стр. 163, откуда заимствована и следующая цитата.
311
Любовь к божественному, возведенная в степень ге-
роического энтузиазма, связывает Бруно с мистиками.
Литературный натурализм был чистым материализмом,
который выливался в распущенность и цинизм и приво-
дил к расслабляющей идиллической праздности, худ-
шей, нежели аскетический досуг. Натурализм Бруно, на-
против, был не материализованной божественностью,
а обожествленной материей. Материя сама по себе есть
грубая животность; она обладает достоинством, лишь
понятая как божественная. Божественность не вселена,
не внесена извне, но врожденна, присуща. Искать и осу-
ществлять ее —достойная цель жизни. И она является
лишь тем, кто ищет и добивается ее трудом ума, про-
светленного героической любовью. В этом и состоит раз-
личие между заурядными и благородными умами.
«Много званых, но мало избранных». «Многие всма-
триваются— немногие видят». Бруно часто выражается
с таким умилением и с такой мистической экзальтацией,
что становится похожим на Данте или на святого Бона-
вентуру.
Но мистики являются простыми созерцателями, а для
Бруно не существует созерцания, в котором не было бы
действия, как нет действия, в котором не было бы созер-
цания. Простое созерцание есть досуг. Созерцать — зна-
чит действовать. Во всем этом виден человек, который вы-
ходит из монастыря и бросается в жизнь, полную борьбы.
Фоленго вышел из монастыря, отвергая бога и плюя
в лицо обществу. Скептический и материалистический
век нашел в нем свое крайнее выражение. У Бруно так-
же нет недостатка в сатире и иронии, и в нем также
есть отрицающая и полемическая сторона, развитая с си-
лой и щедрой фантазией. Но эта сторона поглощена его
философией в целом. Его цель полностью утверждаю-
щая: она состоит в восстановлении бога и вместе с ним —
религиозного чувства и совести. То, что Савонарола пы-
тался совершить верою и энтузиазмом, Бруно пытается
выполнить при помощи науки. Он не принимает бога
как данность, не полагается и на веру, ибо он не
является верующим. Он хочет сам искать и найти бога
своей умственной деятельностью, своим умственным
оком. И этот найденный им бог, бесконечное присут-
ствие которого он ощущает в себе самом в бесчислен-:
ных мирах и в каждом живом существе, как большом,
312
/
так и малом, не остается абстрактной истиной в его по-
нимании, но проникает в совесть, пронизывает все су-
щество — ум, волю, чувство и любовь. Он начинает как
неверующий, а кончает как верующий. Но это «кредо»
порождено и сформировано в его уме, а не пришло
к нему извне. И за это «кредо» ему не тяжко было уме-
реть еще молодым на костре, сказав своим судьям зна-
менитые слова: «Вы выносите мне этот приговор с боль-
шим страхом, чем я его выслушиваю» К По-видимому,
его наибольшим прегрешением перед церковью была
вера в бесконечность миров, как это вытекает из лука-
вой иронии Шоппио: «Так жалким образом погиб он
в огне, возможно, для того, чтобы возвестить в иных ми-
рах, которые он измыслил, как обычно поступают рим-
ляне с людьми кощунствующими и нечестивыми».
Я подчеркиваю этот религиозный, или, как он выра«
жается, героический, характер энтузиазма Бруно, кото-
рый придает ему облик святого от науки. Каждый раз,
когда человечество, утомленное бесконечным разнооб-
разием окружающего, испытывает потребность возвы-
ситься к целому и единому, к абсолютному и найти в
нем бога 2, то перед ним на пороге нового мира пред-
стает колоссальная фигура Бруно.
Его казнь прошла в Италии столь незамеченной, что
некоторые ученые ставят ее под сомнение, и произведе-
ния его не оставили никакого следа. Можно было бы
сказать, что палачи вместе с телом сожгли и память
о Бруно. В Европе философия Бруно также оставила
слабые следы. Прогресс идей и теорий был столь силен,
что великий провозвестник был втянут в этот кругово-
рот и померк в нем. Как и Данте, Бруно пришлось ждать
своего воскрешения. И когда после длительного анали-
тического труда появился синтез, Якоби и Шеллинг по-
чувствовали свое родство с великим итальянцем и вновь
воздвигли ему памятник3.
1 Приведено Шоппио в его пресловутом письме (см. выше). Из
того же письма взяты и нижеследующие слова о смерти Бруно.
2 В рукописи первоначально стояло: «Новую отправную точку,
новое воплощение Бога».
3 Де Санктис имеет в виду работу Ф. Якоби (F. H. J а с о b i,
Briefe an M. Mendelssohn uber die Lehre des Spinoza, 1785, 2-е изд.,
1789), а также диалог Ф. Шеллинга (F. W. Schelling, Bruno
oder uber das nattirliche Prinzip der Dinge, Berlin 1802).
313
В Бруно мы обнаруживаем еще неорганический син-
тез современной науки со всеми ее наиболее характер-
ными тенденциями — свободное исследование, автоно-
мия и компетентность разума, понимание истинного как
результата интеллектуальной деятельности, отказ от фан-
тазий, поверий и абстракций, более тесное сближение
с природой или с реальностью. Я называю это тенден-
циями, ибо на деле у Бруно в избытке наличествуют во-
ображение и чувство, которые лишают его того гармо-
нического спокойствия в созерцании, без которого под-
рывается организующий принцип и пропадает терпение
при наблюдении и анализе, без чего самые прекрасные
рассуждения остаются бесплодными общими местами.
Что же касается его синтеза, то замена абстрактного
потустороннего бога богом, видимым и познаваемым в
бесконечной Природе, единство и тождественность всего
сущего, вечность и бесконечность Вселенной в постоян-
ном круговращении форм, ощущение души или всеоб-
щей жизни, бесконечное совершенство форм в их изме-
нениях, материя, производящая все и вся изнутри себя,
динамическая сила природы в ее сочетаниях, свобода,
отличаемая от свободы воли и понимаемая как осуще-
ствление божественного или закона, нравственность и
прославление труда — эти концепции, обстоятельно и
разносторонне развитые в латинских и итальянских со-
чинениях Бруно, являются светочами современной фило-
софии, и следы этого мы находим у Декарта, Спинозы,
Лейбница, а позже у Шеллинга, Гегеля и современ-
ных материалистов !. Если бы нужно было охарактери-
зовать мир Бруно в единой формулировке, я назвал бы
его современным миром, находящимся еще в бро-
жении.
9. Рим сжег Бруно, Париж сжег Ванини. Палачи на-
зывали их атеистами. Однако нигде бог не был так си-
лен, как в их груди. «Умру как философ», — сказал Ва-
нини, идя на костер2. Их называли также «новатора-
1 Относительно наследия Бруно в последующей европейской
мысли, кроме упомянутых сочинений Спавенты, см. В а г t h о 1 m ё s s,
op. cit., II, p. 46, а также предисловие Мамиани к французскому
переводу работы Шеллинга о Бруно.
2 Указание о Ванини (который, как известно, был сожжен не
в Париже, а в Тулузе) взято из работы D'A n с о п a, Sulla vita e le
dottrine dell'Autore, опубликованной в качестве предисловия к.«Про-
314
ми» — название презрительное, которое позже стало ти-
тулом их славы.
В 1599 году Бруно был уже в руках инквизиции, а
Кампанелла — в руках испанцев. В первый год XVII сто-
летия Бруно погиб на костре, а Кампанелла подвергся
пыткам. Так кончался один век, так начинался другой.
«Ты осел, не умоешь жить, — говорили Кампанелле
друзья и недруги.— Не говори, ради бога!»1 А он
взял себе эмблемой колокол с девизом: «Не замолчу».
Бруно также говорил о себе: «Пробуждающий души
уснувшие». Новая наука возникает как новая религия,
в сопровождении веры и мученичества. «Философ,— го-
ворил Помпонацци, основываясь на собственном опыте,—
всеми осмеян, его считают глупцом и святотатцем; инк-
визиция его преследует, он — зрелище для черни; вот
прибыль философов, вот их вознаграждение». И, однако,
•эти новые люди, преследуемые, высмеиваемые, выстав-
ленные на позорище перед толпой, обладали несокруши-
мой верой в торжество своих теорий. Козентинская ака-
демия Телезия избрала своей эмблемой прибывающую
Луну с девизом: «Пока не заполнит собою весь мир».
Бруно, преследуемый своим веком, говорил: «Смерть в
одном веке означает жизнь во всех других». Кампанелла
сравнивает философа с Христом, который на третий день
воскресает, разбив камни гробницы. Характер был ра-
вен гению. Философ был настоящим человеком.
Бэкон назвал Телезия первым среди новых людей2.
Но новаторство насчитывало за собой уже целое столе-
тие, и когда Телезий, учившийся в Падуе, Милане и Ри-
ме и преподававший в Неаполе, устав от борьбы и пре-
следований, решил удалиться в родную Козенцу, то он
принес туда девиз итальянской мысли, естественную фи-
лософию, основанную на опыте и наблюдении. Его за-
слуга заключалась в том, что он оказал серьезное
изведениям» Кампанеллы («Ореге», Torino 1854, p. CCCXI); эту ра-
боту Де Санктис широко использует для дат и цитат на этой и
следующих страницах.
1 «Atheismus triumphatus», введение, цитата взята из цитиро-
вавшейся работы Д'Анконы (p. LXXXVI). Оттуда же взят девиз
Бруно (из «Epistula ad Academicos Oxford»), а также слова Помпо-
нацци («De Fato, Lib. arb. er praed., кн. Ill, 7) и девиз Козентин-
ской академии (цит. соч., стр. CCCXI и CCCXV).
2 Ср. «De principiis atque originibus secundum fabulas Cupidinis
et Coeli»; у Д'Анкона (op, cit.f p. XIX).
315
умственное воздействие на своих сограждан и основал
под именем академии настоящую философскую школу.
Как и Макиавелли, он признает только наблюдение и
природу: «Человеческая мудрость достигла наибольших
высот, ей доступных, если она наблюдает то, что пред-
ставляется чувствам, и то, что можно вывести по анало-
гии из чувственных восприятий» 1. Искренний и скром-
ный, обладавший не столь большим талантом, но здра-
вым подходом и уравновешенностью ума, Телезий
заслужил свою славу не столько за свои теории, сколько
за метод и способ выражения. И действительно, именно
метод был тогда великим и полезным новшеством. Наи-
большую хвалу ему воздал Кампанелла в следующих
словах: «Телезий в своих сочинениях был единственным,
пользовавшимся философским стилем, ибо писал о том,
что соответствует природной истине, преображая чело-
века в мудреца, а не делая из него болтуна». Цель за-
ключалась в том, чтобы освободить мысль от рабского
подчинения Аристотелю, «тирану умов», и дать ей воз-
можность непосредственно общаться с природой, освобо-
дить ум. Именно об этом удивительно сжато и четко
говорит Кампанелла в своем знаменитом сонете, обра-
щенном к Телезию:
Телезио, софистов не выносит
Твоя стрела, и, в них устремлена,
Тирана гениев разит она:
Взывая к правде, о свободе просит.
10. Предприятие было нелегким. Ему сопротивлялись
все ученые посредственности, все то скопище людей и
установлений, которые Аретино называл «педантством»,
все бруновские Полинии2, поддержанные францисканца-
ми, доминиканцами и иезуитами, причем зачастую выс-
шим аргументом были костер, тюрьма, изгнание. Выска-
зывать новые идеи казалось преступным не только церк-
ви, но и князьям, которые подозрительно относились ко
1 Т е 1 е s i о, De natura rerum, вступление, приводимое у Д'Ан-
коны (op, cit., pp. XVII—XVIII). Суждение Кампанеллы о Телезий
(в «De recta ratione», IV) см. у Д'Анконы, р. XVII, nota 2. На
стр. 103 —сонет Al Telesio cosentino, из которого несколько ниже
цитируется первое четверостишие.
2 О педантстве, которое заклеймил Аретино, и об изображении
схоласта Полиния, участника диалога Бруно «О причине, начале и
едином», см. выше.
31£
всем новшествам в школах. И, однако, стремление к об-
новлению было всеобщим, и ученик Телезия, Монтано,
написавший компендиум его доктрины, избрал своим де-
визом «Renovabitur» («Обновление близится») К До сих
пор люди жили чужими мыслями, а теперь хотели ду-
мать своим умом. В этом и заключалось движение.
И оно было столь непреодолимым, что новое появлялось
на свет даже из тайников монастырей. Именно там в уси-
ленных занятиях сформировалась свободная и мятеж-
ная душа Бруно, именно там, в маленьком калабрийском
монастыре, свободно воспитался гений Томмазо Кампа-
неллы2. Довольно быстро он одолел школьную премуд-
рость и, став сам себе учителем, жадно и беспорядочно
читал все книги, попадавшиеся ему под руку. В одино-
честве быстро становишься ученым. Юноша собрал ог-
ромный материал во всем том, что было доступно его по-
знанию. Его кумиром был великий новатор Телезий; он
ненавидел Аристотеля и всех его последователей, он, как
и Бруно, предпочитал древнегреческих философов, осо-
бенно Пифагора. Когда он приехал в Козенцу, его со-
братья по монашескому ордену, уже знавшие Кампанел-
лу как человека, не захотели, чтобы он услышал и
увидел Телезия, что удвоило в юноше и стремление
встретиться и любовь к учителю3. В день, когда умер Те-
лезий, в церкви рядом с гробом видели того молодого
монаха, которому суждено было продолжить его дело.
Козентинцы, слушая Кампанеллу на диспутах, говорили,
что в него переселился дух Телезия. Вся телезианская,
или реформаторская, школа, как ее тогда называли,
сплотилась вокруг него — Бомбино, Монтано, Гайета,
1 Девиз «Renovabitur» фигурирует как эпиграф к книге козен-
тинского академика Монтано («Philosophia di Bernardino Telesio»,
Napoli 1589). См. у Д'Анконы (pref. cit., p. XVIII, nota 1).
2 Как установлено, для биографии Кампанеллы Де Санктис
использовал уже цитировавшуюся работу Д'Анконы 1854 года, а по-
тому допустил те же неточности. Первое подробное исследование
истории жизни Кампанеллы появилось через несколько лет после
«Истории итальянской литературы» Де Санктиса. (См. L. A m a b i l e,
Fra Tommaso Campanella, la sua congiura, i suoi process! e la sua
pazzia, Napoli 1882; Tommaso Campanella nei castelli di Napoli, in
Roma e in Parigi, Napoli 1887; Del carattere di fra Tommaso Cam-
panella, ivi 1890.
3 См. Д'Анкона, op, cit., pp. XVIII—XIX, также и для по-
следующего.
317
которых он прославлял вместе с учителем. Первым тру-
дом Кампанеллы была защита Телезия от неаполитанца
Марта 1. Приехав в Неаполь для печатания своего труда,
он привлек внимание своею Страстностью в диспутах, на-
ходчивостью и присутствием духа, смелостью мнений
и огромными знаниями. Завистники говорили: «Откуда
он знает столько, ведь он н-икогда не учился?» И они
приписывали магии, кабале, оккультным наукам то, что
было плодом уединенных занятий 2. Телезианское учение
плохо прививалось в Неаполе, откуда из-за большой
к нему враждебности доброму Телезию в свое время
пришлось уехать. Порте там также приходилось плохо,
и он вынужден был комедиями вымаливать прощение
своей философии. Естественно, что между Кампанеллой
и автором «Естественной магии» и «Физиономии» воз-
никла тесная связь. Они спорили, читали, обсуждали
свои работы. Плодом этих дружеских отношений явилась
книга «О смысле вещей», за которой последовала дру-
гая: «Об исследовании» 3. В ней устанавливается, каким
путем можно вести рассуждение, «основываясь только
на чувствах и на тех вещах, которые познаются чув-
ствами»; это и есть экспериментальный метод — основа
натуральной философии. Здесь чувствуется влияние Те-
лезия, Порты и всей реформаторской школы.
1 Взято у Д'Анконы, который цитирует самого Кампанеллу:
«О своем пребывании в Альтомонте он пишет так: «Там я изучил
книги платоников и медиков и... начал писать против Джакомо Ан-
тонио Марта, неаполитанца, который выпустил книгу против Телезия,
названную «Pugnaculum Aristotelis» и разделенную на восемь диа-
логов» («De libris propriis», I). См. op. cit., p. XX. Речь идет о
«Philosophia sensibus demonstrata», Napoli 1590 (на самом деле —
1591), которая не является «первым трудом» Кампанеллы, а была
написана после первых редакций книг «Об исследовании» («De in-
vestigatione») и «О смысле вещей» («De sensu rerum»), 1586—1590,
пропавших в Болонье.
2 Снова заимствовано у Д'Анконы, pref. cit., pp. XX—XXI.
На стр. XXIII — отрывок из «De libris propriis» относительно связи
между Кампанеллой и Джамбаттиста Делла Порта, о чем говорится
ниже.
3 См. прим. I. Кроче уточняет: «Книга «Об исследовании» (ко-
торая до на» не дошла и не была опубликована) не последовала, а
несколькими годами предшествовала книге «О смысле вещей». На-
поминаем, что рукопись этой последней книги Кампанелла потерял
в Болонье и подготовил ее в новой редакции лишь в 1604 году: То-
бия Адами ее напечатал в 1620 году.
315
Порту терпели в Неаполе, потому что он был не
только почтенным дворянином, но человеком остроум-
ным и весьма ловким. А Кампанелла не умел жить, как
говорили его завистники. Он был весь из одного куска,
естественный, порывистый, грубоватый, смелый в мыс-
лях и словах. Он докучал весьма многим, и прежде все-
го монахам своего ордена, которые не могли простить
ему ненависти к Аристотелю. И Кампанелла, как Бру-
но, оставил монастырь, а вскоре и Неаполь; неся в сво-
ем уме замысел новой метафизики, он отправился в Рим,
а потом во Флоренцию, где судьба позволила встре-
титься двум великим гениям того времени — Кампанелле
и Галилею.
11. За три дня до смерти Микеланджело, 15 февраля
1564 года, в Пизе родился Галилео Галилей. Вначале
все улыбалось ему, о нем прошла слава благодаря его
изобретениям: измерению времени маятником, термо-
метру, геометрическому циркулю, телескопу. При помощи
этого могущественного инструмента начал он свои астро-
номические исследования, которые обновили небо биб-
лии и Птолемея. Многие факты, которые Бруно лишь
угадывал, приобрели определенность, как то, что можно
видеть и осязать. Книга Галилея «Звездный посланец»
показалась такой же чудесной, как путешествие Колум-
ба. Гористость Луны, фазы Венеры и Марса, пятна на
Солнце, спутники Юпитера были такими открытиями,
которые расшевелили умы, праздно убаюкиваемые ро-
манами и литературными непристойностями. Отныне
естественная философия побеждала последнее сопро-
тивление общественного мнения. Речь шла уже не о ги-
потезах и абстрактных рассуждениях. Факты были на-
лицо, и они говорили громче, чем силлогизмы богословов
и схоластов. Действенная причина Макиавелли, природ-
ное понимание Бруно, экспериментальный метод Теле-
зия, сладостная свобода истины Кампанеллы1 нашли
отклик в прекрасных словах Галилея: «О неслыханная
1 Сонет «Telesio, il telo della tua faretra», v. 4, цит. выше. По-
следующий отрывок из Галилея взят из «Диалога о высших систе-
мах» («Dialogo dei massimi sistemi»), день второй. Эта и последую-
щие цитаты, по-видимому, взяты Де Санктисом из произведений
Галилея в издании Альбери. В т. XV этого издания опубликована
«История жизни Галилея» («Racconto istorico della vita di Galilei»)
Вивиани,
319
низость подлых умов, которые сразу же раболепству-
ют!» Бедняга Симплиций, аристотелевский педант вроде
Полиния, спрашивает: «Но если расстаться с Аристоте-
лем, кто же будет направлять нас в философии?» И Га-
лилей спокойно отвечает: «Только слепые имеют нужду
в вожатом. Но тот, кто имеет глаза во лбу и очи разума,
пользуется ими как вожатыми». Сверхъестественное ви-
дение, оккультная наука, тайное и чудесное исчезли в
блеске этого естественного света очей и разума. Магия,
астрология, алхимия, кабала показались Пустяками по
сравнению с чудесами телескопа. Колумб и Галилей от-
крывали новую землю и новое небо. На развалинах ок-
культных наук возникали астрономия, география, гео-
метрия, физика, оптика, механика, анатомия. Все это
и было натуральной философией, натурализмом. Фило-
софия, говорил Галилей, записана в великой книге при-
роды. И Кампанелла великолепно сказал:
Мир — фолиант, в котором Вечный Разум
Сужденья изложил К
Кампанелла родился в 1568 году, через четыре года
после Галилея. Они встретились во Флоренции2. Гали-
лей— «уже знаменитый, в милости у двора, профессор
с ясной, цельной и четко определенной концепцией Все-
ленной и науки; Кампанелла — неизвестный, но со*
знающий свой талант, с концепциями смелыми и не раз-
работанными, более похожий на человека, который
ищет успеха, чем на мудреца, спокойного и погружен-
ного в науку. Он добивался кафедры. Кто же это та-
кой? Великий герцог запрашивает сведения у генерала
ордена святого Доминика; тот отвечает: «Совсем иные
сведения имею я о брате Томмазо Кампанелле, чем те,
каковые доложены Вашей Светлости. Я докажу их цен-
1 См. сонет «Modo di filosofare», vv. 1—2; см. Д'А н к о н а, ор.
cit., p. 25, ibid., p. XXXVII, nota 1 — высказывание Галилея, приве-
денное выше.
2 Как известно, Кампанелла не встретился с Галилеем во Фло-
ренции в 1692 году; этот последний не ходатайствовал за Кампанеллу
перед великим герцогом, как об этом пишет Де Санктис ниже.
Нижеследующие цитаты взяты из работы Д'Анконы, p. LXXV; пер-
вая взята цз письма генерала ордена доминиканцев к великому
герцогу от 13 ноября 1592 года; вторая — из письма ВалорикУзим-
барди от 15 октября того же года. В обеих цитатах есть некоторые
незначительные неточности.
320
ность и достоверность». Рекомендации Галилея не смог-
ли- перевесить гнева доминиканца. Кампанелле не уда-
лось добиться кафедры, и причину высказал Баччо
Валори:
«Поскольку сейчас в Риме некоторые стремятся за-
претить философию Телезия на том основании, что она
наносит ущерб схоластическому богословию, основан-
ному на Аристотеле, которого Телезий столь осуждал, то
подвергается некоторой опасности также Томмазо Кам-
панелла, который принадлежит той же школе и подчас
более страшен превосходством своих концепций, пои-
стине новых и возвышенных».
Кампанелле было тогда 24 года. Неукротимый юно-
ша отомстил за себя, выступив с новой защитой Теле-
зия. Он уже написал трактат «О сфере Аристарха», где
поддерживал теорию Коперника о движении Земли. Он
намечает труд об универсальной науке под заглавием
«О всеобщности вещей», который позже превратился в
его «Реальную философию». Галилей, который оставлял
в стороне теологию, метафизику и всякие универсальные
построения и довольствовался лишь изучением природы
в ее явлениях, должен был казаться ему чрезвычайно
скромным. И он писал Галилею: «Поистине нельзя фило-
софствовать, не имея истинной и проверенной системы
строения миров, каковую мы от вас ждем; уже все под-
вергнуто сомнению настолько, что мы уже не знаем, яв-
ляется ли речь речью» К Он призывал Галилея произве-
сти реформу астрономии и высшей математики, создать
подлинную натуральную философию. «Прежде всего на-
пишите, что эта философия принадлежит Италии, и в
частности Филолаю и Тимею, и что Коперник заимство-
вал ее у вышеупомянутых и у своего учителя-феррарца;
ибо великий стыд, что нас побеждают нации, которые
мы вывели из дикого состояния». Но Галилей твердо
держался своего пути. У. него тоже были свои идеи и ги-
потезы, но ему казалось, что истинный натурфилософ
должен оставить в стороне правдоподобное и держаться
только того, что является неопровержимо достоверным.
И он ответил Кампанелле, что он не хочет «ни в коем
случае из-за сотен кажущихся естественных явлений
1 Письмо Кампанеллы к Галилею от 8 марта 1614 года, из кото-
рого взята также и следующая цитата. См. у Д'Анконы (ibid.).
21 Де Санктис 321
опорочить и утерять достоинство тех десяти или двена-
дцати явлений, которые он обнаружил и которые на опы-
те оказались истинными»1. Здесь противостояли друг
другу флорентийская мудрость и неаполитанское вооб-
ражение, или, лучше сказать, две культуры: тосканская
культура, уже замкнутая в себе, зрелая, подлинно пози-
тивная, и южная культура, еще молодая и умозритель-
ная, полная нетерпения и юношеского излишества. В Га-
лилее чувствуется Макиавелли, в Кампанелле—Бруно.
Разница ощущается и в манере письма. Тот, кто читает
письма, трактаты и диалоги Галилея, находит там отпе-
чаток зрелой тосканской культуры, стиль, в котором
слились предмет и мысль, стиль, освобожденный от вся-
кой манерности и претенциозности, ту ясную и четкую
форму, в которой и состоит высшее совершенство про-
зы. Он употребляет даже унизительные формы обраще-
ния того времени без малейшего раболепства; даже в
традиционных «поцелуях руки» ощущаются достоинство
и простота, которые возвышают Галилея над его покро-
вителями. Он не ищет элегантности, свободен от ужи-
мок, он суров и собран, как человек, обративший все
свое внимание на суть вещей и не заботящийся ни о
каких уловках. Но, хотя он отбрасывает литературные
ухищрения и преувеличения, он все же не в силах обно-
вить эту условную форму, ставшую образцовой. Опутан-
ный этой общепринятой фразеологией, цветистой и моно-
тонной, он облекает новые и смелые концепции в формы
застывшие и привычные2 и все же изысканные, точные
и безукоризненные, безупречные по вкусу. В противопо-
1 Ответ Галилея приведен в «Eraclito» Орацио Ручеллаи, диа-
лог IV, третьей «прогулки». Приведено у Д'Анконы, pref. cit.,
p. XXXIX, nota 2.
2 Весь отрывок, начиная со слов: «Тот, кто читает письма, трак-
таты и т. д.», был написан Де Санктисом 5 апреля 1871 года в аль-
бом г-же Эмилии Перуцци во Флоренции и опубликован L. Pescetti
в «Nuova Antologia» 1 января 1929 года. Редакция сочла нужным на
основе рукописи и издания Морано отбросить некоторые изменения,
введенные в издании Кроче. После слова «привычные» следовало:
«Мы часто хвалим в его сочинениях ясность, чистоту стиля, безуко-
ризненный вкус; но напрасно мы ищем там элементы более гибкой
и свежей формы, соответствующей новизне содержания. Это—
тосканская форма, замкнутая и законченная, не начало, а заверше
ние уже исчерпанной литературной формы». Относительно суждения
Де Санктиса о Галилее как о писателе см. В. С г о с е, Storia dell*
eta barocca, p. 443, nota.
322
ложность этому у Бруно и у Кампанеллы форма непра-
вильная, грубая, нескладная, не имеющая своего стили-
стического лица; но в своих скачках и неровностях она
жива, подвижна, рождена излагаемым предметом.
Там ты словно видишь прекрасное озеро,- а не поток, не
форму, органически соответствующую содержанию,
а форму, уже заранее определенную и воспроизведенную,
зачастую лишенную внутреннего движения, чисто внеш-
нюю; здесь же перед тобой подвижное изложение, язык,
еще только складывающийся, но уже включающий в
себя новые, современные элементы. Некоторые страницы
у Бруно кажутся написанными сегодня.
12. Но флорентийская мудрость и неаполитанское
воображение были в равной степени подозрительны
Церкви и Испании. Книга Природы была запретной кни-
гой, и тот, кто ее читал, был еретиком или атеистом.
Первым под удар попал Кампанелла. Он побывал в Вене-
ции, в Падуе, в Болонье, в Риме \ перевозя с собой свои
рукописи и не переставая писать для себя и для других,
стихами и прозой, по-латыни и по-итальянски, трактаты,
проповеди, речи, диспуты. В Болонье у него украли
рукописи. Разве это имеет значение? Он писал, возоб-
новлял заново с неиссякаемым вдохновением. Попав под
подозрение в Риме, он возвращается в Неаполь и едет
в свои родные места, в Стило. Там он надеялся отдох-
нуть, но «случилось со мной то, о чем говорит Соломон:
когда человек кончит, тогда-то он начнет; когда будет
отдыхать, будет утомлен»2. Тут начались его невзгоды.
Замешанный в заговор, он по обвинению в преступлении
против королевской власти был отправлен в тюрьму в
Неаполь. Оправданный по одному обвинению, он подпал
под другое, ибо «злодеи не преступления искали, а стре-
мились изобразить меня преступным». «Откуда ты так
1 Последовательность путешествия была иная. Кампанелла
приехал в Рим в сентябре 1592 года и сразу же уехал оттуда во
Флоренцию. Потом он направился в Падую; во время пребывания в
Болонье в доминиканском монастыре у него исчезли рукописи. Из
Падуи, где его четырежды судили, он был отправлен в 1594 году в
Рим, чтобы отвечать на обвинения перед святой Инквизицией. Здесь
он не только «попал под подозрение», но сначала содержался
в тюрьме, а потом — под особым наблюдением.
2 См. «De libris propriis», II. В тексте: «О чем было сказано
Соломоном». Цит. у Д'Анконы, p. LXXXIV. Последующая цитата
взята из вступления к «Atheismus triumphatus», ibid., p. CXXXV.
2i*
323
много знаешь, если никогда не учился? Может быть, ты
одержим демоном».— «Но я,— ответил заключенный,—
истребил более масла, чем вы вина»1. Ему приписали
авторство книги «О трех обманщиках, Моисее, Христе
и Магомете», опубликованной за тридцать лет до его
рождения2. Говорилось, что он хотел основать республи-
ку с помощью турок, что он еретик, что у него опасная
доктрина и что он не верит в бога. Напрасно написал он
«О монархии», «Побежденный атеизм» и «Диспут против
Лютера». Он был осужден Римом и Испанией как мя-
тежник и еретик, просидел в тюрьме 27 лет и семь раз
подвергался пыткам.
«Порвали мне вены и артерии; и, распростертому на
пыточной скамье, перебили мне кости, и земля выпила
десять фунтов моей крови; спустя шесть месяцев, выздо-
ровевшего, погребли меня в яме, где нет ни света, ни воз-
духа, но лишь зловоние, и сырость, и тьма, и постоянный
холод»3.
Вытерпев двенадцать лет таких мук, он подводит
грустный итог своим бедам:
Шесть долгих лет и шесть других подряд
Меня в тюрьме гноят:
Семь пыток, от которых нет защиты,
Ругательства и сумасшедший бред,
От глаз сокрытый свет,
Лохмотья — нервы, кости перебиты,
И раны не зашиты,
Не жизнь, а сплошь беда —
Железы, кровь моя, жестокий ужас,
И не еда — бурда4.
И среди стольких мучений он все писал и писал
стихи и прозу.
1 Подразумевается: масла для лампады. — Прим. перев.
2 См. «Atheismus triumphatus», вступление: «Потом обвинили
они меня в том, что я написал книгу о трех обманщиках, каковая
книга, однако, была напечатана за тридцать лет до того, как я вы-
шел из лона матери» (Д'А н к о н a, op. cit., p. CXXXV). О книге «De
tribus mundi impostoribus», см. ibid., nota 1.
3 Первая часть отрывка, включая слова «перебили кости», взята
из «Medicinalium», IV; вторая из цит. вступления к «Atheismus».
Обе цитаты взяты из цит. соч. Д'Анконы, p. CXXXVIII.
4 Orazioni tre in salmodia metafisicale congiunte insieme, кан-
цона III, мадригал VI, vv, 6—15; см. Д'Анкоиа, р- 124.
324
Времена становились все мрачнее. Коперник был
чрезвычайно набожным человеком, ушедшим в свои ма-
тематические занятия; он был математик, а не философ,
говорил Бруно, который сумел благодаря своему сво-
бодному и умозрительному таланту сделать из этой си-
стемы столь страшное употребление. Система Коперни-
ка была представлена как чистая гипотеза и как объяс-
нение небесных и природных явлений, и философы всег-
да заботливо добавляли: «Во славу веры». Поэтому-то
книга Коперника, посвященная папе Павлу III, счита-
лась безвредной на протяжении восьмидесяти лет. Но
его учение быстро распространилось, его проповедовали
Бруно, Кампанелла, Галилей и Декарт, который гото-
вился сделать из нее математическое доказательство.
Тогда-то книга Коперника была признана еретической
и осуждена, поскольку гораздо легче было предать ее
анафеме, чем опровергнуть. Декарт отложил в сторону
свое доказательство. Бедняга Галилей под судом и пыт-
ками вынужден был признать, что «Земля неподвижна
и вовек будет неподвижной», хотя его совесть отвечала:
«А все-таки она вертится». И он послал свое сочинение
о подвижности земли великому герцогу со следующим
письмом, которое хорошо отражало то время:
«Поскольку мне известно, что надлежит повиновать-
ся и доверять определениям вышестоящих, которые ру-
ководятся наивысшими разумениями, каковых не дости-
гает униженность моего разума, я почитаю сочинение,
которое вам посылаю и которое основано на принципе
подвижности Земли, вернее, это сочинение есть один из
аргументов, которые я выдвигал в доказательство этой
подвижности, я — повторяю — почитаю его поэтическим
сочинением или мечтой, и да примет его Ваше Высоче-
ство в качестве такового» К
В другом месте он называет свою теорию химерой,
математическим капризом и скрывает истину как позор
или преступление. Об этом обвинении и процессе дошла
весть до Томмазо Кампанеллы, и между пытками, в
тюрьме, он написал апологию Галилея.
1 Из письма Галилея великому герцогу Тосканскому от 23 мая
1618 года. «Apologia pro Galilaeo» Кампанелла написал в тюрьме
в первые месяцы 1616 года, то есть сразу же после приговора,
осуждающего учение Галилея, вынесенного 24 февраля того же
года.
325
Фома Кампанелла. (Гравюра на дереве Н. Дмитриевского.)
Галилею позволили жить в одиночестве в Арчетри,
где в свое время нашел приют Гвиччардини и где горе-
сти и болезнь лишили Галилея сначала зрения, а затем
и жизни. Он умер в 1642 году, в тот же год, когда ро-
дился Ньютон. На следующий год его ученик Торричелли
изобрел барометр. За три года до этого Кампанелла
умер во Франции, куда он бежал и где смог опублико-
вать свои философские сочинения.
Галилею закрыли глаза его ученики. Его наблюдения
и открытия дали необычайный толчок наукам и создали
вокруг него школу натуральных философов: Ка-
стелли, Кавальери, Торричелли, Борелли, Вивиани, про-
славившиеся не только научными достоинствами, но и
добротными сочинениями. Настали времена, провозвест-
никами которых — непонятыми и преследуемыми — были
Альберт Великий и Роджер Бэкон. Галилей подхватил
их знамя с большим' успехом. Италия, наставница
Европы в литературе и в искусствах, обладала тогда
и приоритетом в позитивных науках, или, как тогда
говорили, в натуральной философии. Сюда приезжали
учиться иностранцы; здесь Коперник постиг обращение
Земли, а Гарвей — кровообращение. Здесь возникла
академия Чименто, где, «испытывая вновь и вновь», изу-
чали природу. География, астрономия, анатомия, меди-
цина, ботаника, оптика, механика, геометрия и алгебра
нашли здесь своих первых ревнителей и распространи-
телей. Среди писателей следует упомянуть Франческо
Реди, у которого в последний раз проявляется тоскан-
ский стиль, законченный и замкнутый в себе, а также
Лоренцо Магалотти, который по ясности уже близок к
современной форме.
13. Иным путем шел Кампанелла. Как и Бруно, он
натуралист и полагал, что философия может основы-
ваться только на фактах. Из этого положения Галилей
делал вывод, что, следовательно, нужно сначала изу-
чить факты. Приж недостаточности естественных, мораль-
ных, социальных" и экономических фактов, при таких
пробелах в позитивных науках философствовать — озна-
чало создавать при помощи предугадывающего вообра-
жения, как это делали древнегреческие философы, и по-
лучать лишь гипотетический и вероятный результат вме-
сто истинного и достоверного. По мнению Галилея, это не
было истинной наукой. Однако ясно, что определенное
327
представление о мире у натуральных философов все
же было, и когда они основывали науку на наблюдении
и устраняли из нее верования и фантазии, то это озна-
чало, что они уже подразумевали совершенно новую ме-
тафизическую систему мира — натурализм, при котором
центром тяжести всего познаваемого становилась приро-
да, а не абстрактный бог, или же, как выражались в те
времена, бог становился видимым и познаваемым в при-
роде— бог живой и близкий. В этом заключалось глав-
ное значение движения, которое вдохновлялось уже не
схоластическими абстракциями, а исследованием есте-
ственных явлений, а Бруно и Кампанелла лишь придали
этому движению его метафизический смысл и основали
на нем целую философию. Если был необходим Галилей,
то не менее необходимы были Бруно и Кампанелла. Соз-
давался новый мир, на горизонте появилась новая фило-
софия, правда, еще с едва намеченными, зыбкими очер-
таниями. Это был еще поэтический и непрочный синтез,
прелюдия науки, предчувствие и отгадка высшего син-
теза— результата длительного анализа как венца науки.
Этот первичный синтез совершили Бруно и Кампанелла,
страстно увлеченные древнегреческими философами, с
которыми они были схожи.
Этот синтез был еще неорганическим и противоречи-
вым. Противоречивость с большей отчетливостью прояв-
ляется у Кампанеллы, нежели у Бруно1. У Кампанеллы
можно найти и оккультные и позитивные науки, есте-
ственное и сверхъестественное, средневековье и Возрож-
дение, традиционность и бунтарство, абсолютизм и сво-
боду, католицизм и рационализм, и хотя он, как и Бру-
но, борется с верованиями и фантазиями, никто более
него не фантазирует и не догматизирует. Оба они ис-
пользуют весь тот материал, которым располагают, не
умея еще производить ту работу по отбору и анализу,
без которой невозможно составление стройного целого.
Оба они верят в разум и берутся за дело с пылом, по
призванию, чувствуя, что неодолимая сила влечет их
в область возвышенного, к бесконечному или божествен-
ному с опасностью затеряться там. Именно это чувство
1 О «противоречиях» у Кампанеллы и относительно мнения, вы-
сказанного здесь Де Санктисом см. статью Никола Бадалони в жур-
нале «Societa», 1952, VIII, 2, pp. 238—256.
328
вдохновило Бруно — или анонимного автора — на сле-
дующий, превосходный сонет1:
Я крыльями легко взмахнул, и вот
Владеет мной полета ощущенье,
И от земли презренной оперенье
Меня к желанным небесам несет.
Пускай меня Икара жребий ждет —
Не поверну, не изменю решенье:
Я разобьюсь, я знаю, но в сравненье
С таким концом какая жизнь идет?
— Куда мы? Стой, угомонись, бродяга! —
Бунтует сердце. — Не всегда, учти,
Ведет к добру чрезмерная отвага.
А я в ответ: — Лечу, и ты лети!
Познай полет и от небес как благо
Возвышенную смерть прими в пути.
Кампанелла — тоже поэт и чувствует в себе то же
призвание. Он называет себя светочем среди всеобщего
невежества, кузнецом нового мира, Прометеем, который
похищает священный огонь у Зевса2:
Томились на земле крыла мои,
Теперь лечу на них с душой веселой,
И, несмотря на плоти груз тяжелый,
Я все же удаляюсь от земли.
У Кампанеллы было живое ощущение того нового
мира, который формировался вокруг, и он прозревал в
его глубине окончательное завершение — новый золотой
век, осуществление божественного на земле, царство бо-
жие, о котором говорится в «Отче наш», царство ми-
ра и справедливости, о котором мечтал Данте и многие
1 Сонет, долго приписывавшийся Бруно, принадлежит, как это
считал и Де Санктис, не ему, а Луиджи Тансилло. См. «Poesie li-
riche edite e inedite di L. Т.» под редакцией Ф. Фьорентино (F. F i o-
г е n t i n о, Napoli 1882, сонет XXVI).
3 Ср. соответственно «Молитвы в метафизическом псалмодии»
(«Orazioni in salmodia metafisicale congiunte insieme»), канцона 1,
мадригал IV и вступительный сонет. Цит. ниже четверостишие—вто-
рой катрен из сонета «О себе самом» («Di se stesso»).
329
благородные умы. Бруно остается в кругу метафизических
общих мест. Кампанелла охватывает Вселенную в самых
различных ее проявлениях и обрисовывает весь тот иде-
альный мир, в наступление которого верит.
В его системе сочетаются -- не достигнув полного и
окончательного слияния — все направления, характерные
для современной философии. Отправной пункт — само-
сознание, принцип «мыслю — следовательно, существую»,
ставший основой картезианской системы. Это — един-
ственное врожденное, оккультное понятие; все остальное
есть познание, приобретенное через посредство чувств.
Здесь сенсуализм Телезия развивается не только как ме-
тод, но и как содержание. Все вещи одушевлены; сам
мир есть «большое и совершенное животное»1. В каж-
дой вещи содержится божественная Троица — три прин-
ципа, или примата, как он выражается: Потенция, Муд-
рость и Любовь. Каждая существующая вещь может су-
ществовать, любит свое существование, и любит потому,
что знает его, имеет о нем определенное понятие. Поэто-
му все вещи имеют чувство. Сам дух есть плоть. Живот-
ное думает, как человек; у него даже есть способность
ко всеобщему. Здесь в зародыше содержится Локк и
весь современный сенсуализм. Но есть одна способ-
ность, свойственная лишь человеку и отсутствующая у
животных; это — религиозное чувство. Ибо, когда созда-
но тело, в него входит душа, которая выходит, словно
дитя, из рук Бога, как говорит Данте2. Душа есть свой-
ство божественного, или, как сказали бы сейчас, абсо-
лютного. Она дает человеку созерцание божественного.
Это свойство абсолютного не есть разум и не рассуж-
дение, не относится к области интеллектуального пости-
жения, что в философии Бруно входило в сферу ума или
умственного видения; у Кампанеллы это свойство инту-
итивное, экстаз, вера, мостик к'откровению и теологии,
попытка примирения средневековья и современного ми-
ра. Здесь современная философия абсолютного высту-
пает в своих двух направлениях: рационалистическом и
неокатолическом. Все идеи и все направления, которые
1 См. в сонете Кампанеллы «О мире и его частях» («Del mondo
е sue parti»), v. 1.
2 См. Данте, Чистилище, песнь XVI, ст. 85—87: «Из рук
того, кто искони лелеег || Ее в себе, рождаясь как дитя, || Душа еще
и мыслить не умеет».
330
и посегодня волнуют умы, бродили в голове Кампа-
неллы.
Как и у Бруно, у Кампанеллы нет чувства реального
и натурального; нет у него и понятия психологического,
хотя он часто говорит о сознании и опыте и делает их
основами своей философии. Но зато он обладал тем
внутренним зрением, которое свойственно более слож-
ным натурам; способность эта им не исследована, не по-
нята и не упорядочена. И он путает ее с экстазом и с чи-
стой интуицией, что бросает его в объятия богословия,
сверхъестественного и оккультных наук. Он постоянно
стремится примирить двух людей, борющихся в нем,—
человека по Телезию и человека по святому Фоме; в этой
борьбе он истощает свои силы, добиваясь лишь того, что
это противоречие становится еще более отчетливым. По-
этому его метод остается схоластическим нагроможде-
нием абстрактных аргументов, а его философия, исходя
из Телезия, завершается святым Фомой. Восприняв от
Галилея построение Вселенной, он в то же время верит
в астрологию и магию, и ныне спириты и магнетизеры
называют его своим предшественником.
14. В приложениях своей философии Кампанелла
остается столь же двойственным. Мир есть акт боже-
ственной воли, акт, соответствующий идее мира, преду-
становленной его разумом и потому соответствующей ра-
зуму. Следовательно, правит миром бог и от его лица
папа, его представитель на земле; император — длань
папы. Тут мы оказываемся в самом чистом средневе-
ковье вместе со святым Фомой, позади Данте и Макиа-
велли, ибо светский элемент подчинен церковному. По-
нятно, почему наш философ особенно недолюбливает
Макиавелли, человека, «совершенно не владеющего ни
наукой, ни философией, простого историка или эмпи-
рика», который хотел сделать из религии орудие госу-
дарства1. Но Кампанелла не замечает, что сам-то он —
больше Макиавелли, чем сам Макиавелли, ибо никто
не снижал до такой степени значения индивидуума и не
доводил до такого предела всемогущество государства в
1 См. з «Atheismus triumphatus» главу, посвященную Макиа-
велли. Относительно политической концепции Кампанеллы см.: «Речи
к итальянским государям» («Discorsi a' principi d'ltalia»), I, V, IX,
а также соответствующие разделы работы Д'Анконы, op. cit.,
pp. CLXXXIX и ел.
331
его двойной форме — церковной и светской. В те времена,
когда абсолютная монархия укреплялась в Испании и во
Франции с благословения и с помощью папства, Кампа-
нелла был гласом европейского абсолютизма, предписы-
вая ему лишь одно условие: этот абсолютизм должен быть
исполнительной властью папы, рукою папства. Мы имеем
здесь старую картину средневековья, с еще более четкой
окраской. Кампанелла говорит Филиппу: короли да
будут твоими подданными и земля да будет твоей при
условии, что ты будешь поистине «католиком», первым
подданным Церкви. Таковы условия союза между тро-
ном и алтарем. Италия потеряла власть над миром, об
этом больше нечего думать, ибо прошлое не возвра-
щается; но Италия утешится, ибо в ее лоне находится
папство и через него она снова будет владычествовать
над миром. Чем же является индивид в этой системе)?
Ничем. У него есть обязанности, но нет прав. Он не
имеет права избрать себе жену, приобретать собствен-
ность, воспитывать и обучать своих детей, есть, спать и
жить по своему вкусу, изучать и спорить, соглашаться
или отвергать; он не может сказать «это мое»; не может
сказать «нет». Право принадлежит обществу и от его
лица — папе и императору. Результатом является ком-
мунизм, абсолютная власть общества и подчинение инди-
видуума. Коммунизм лежит в основе всех этих теорий
об универсальной и абсолютной монархии, о божествен-
ном праве, и Кампанелла добирается до этой основы.
Это происходит всегда в тех случаях, когда единство по-
ставлено вне человечности волей, которая по отношению
к ней является внешней, и когда единство остается
абстрактным и не заключает в себе различного и мно-
жественного, а противополагает ему себя. В таком един-
стве уничтожается все частное — индивидуум, семья, на-
ция. К этому-то и приходит философия Кампанеллы, таков
его «город солнца», его возрожденный золотой век1.
Картина стара, но дух нов. Ибо Кампанелла — реформа-
тор, он желает иметь папу высшим сувереном, но хочет,
чтобы Разум был суверенным не только по названию, но
и на деле, ибо именно Разум правит миром. Бог есть
высший смысл, и суверен также должен быть мудрей-
1 Ср. «Пророчества» («Profetali»), III, сонет «Если был в мире
счастливый златой век» («Se fu nel mondo Гаигеа eta filice»), цит.
ниже.
332
шим из всех. Король не тот, кто правит, но тот, кто
мудрее всех. Подлинный суверен — наука К Цель науки —
прогресс и совершенствование человека. Кампанелла
удивляется, что люди учатся улучшать породу лошадей
или быков и предоставляют человеческую породу случаю
и индивидуальному капризу2. Он верит не только в мо-
ральное, но и в физическое совершенствование человека
путем науки, к которой прибегает умное отеческое прав-
ление. И Кампанелла предлагает целый ряд социальных,
политических и экономических мероприятий, которые об-
разуют первый набросок социальной науки в ее различ-
ных, еще неясных ответвлениях. При этом им руководит
естественный здравый смысл и прямота, он видит мир не
в его вырождении, «как это делали Аристотель и Макиа-
велли», но в его первоначальной чистоте, «как делали
Платон и стоики». Из него так и брызжут идеи, утопии,
гипотезы, надежды, афоризмы, которые в своей значи-
тельной части представляют собой предчувствия и пред-
видения нового мира. Принимая во внимание, сколько
новых идей бродило у него в голове, общество, в кото-
ром он жил, не могло ему казаться совершенным. Он
принимает существующие установления, но при условии,
что они должны быть преобразованы и станут орудиями
возрождения. Он хочет прогрессивного папства и про-
грессивного монархического правления; и ясно, что Фи-
липпу, королю испанскому, вовсе не улыбалось выпу-
стить из тюрьмы столь опасного союзника, нового мар-
киза де Поза 3.
15. Таким образом, наряду с картиной нового по-
строения общества у Кампанеллы есть и отрицающий
1 Ср. «Политические вопросы» («Politica Quaestiones»), II, б,
и сонет «Король не тот, кто правит, но тот, кто умеет править»
(«Non ё re chi ha regno, ma chi sa reggere») v Д'Анконы, р. 33.
2 «Вопросы о наилучшей республике» («Questioni sull'ottima re-
pubblica»), III, откуда взята последующая цитата.
3 Маркиз де Поза из шиллеровского «Дона Карлоса» предста-
вляет для Де Санктиса тип идеалиста, столь же благородного, сколь
абстрактного. В этом смысле он неоднократно упоминается в «Мад-
зини и демократическая школа» («Mazzini e la scuola democratica»):
(«Фантастический образ, созданный юным Шиллером под влиянием
взглядов, которые тогда ввела в моду Франция; это символ, олице-
творяющий идеи, а не самого себя»). См. также статью 1850 года
«О драматических произведениях Шиллера» («Delle opere drama-
tiche di F.. Schiller») в «Кризисе романтического вкуса» («La crisi
del gusto romantico»).
333
элемент — критика существующего общества. Его ми-
шенью являются софисты, лицемеры и тираны, как под-
делыватели и извратители трех приматов —Мудрости,
Титульный лист книги Кампанеллы.
Любви и Могущества, «фальсификаторы трех боже-
ственных высших начал»
1 См. Песнь «Fede naturale del vero sapiente», vv. 67—69:
Софисты, и тираны, и ханжи —
Враги трех добродетелей высоких
Средь них пустили прочно корни лжи.
Далее цитируются vv. 1—2 и 12—14 сонета «В чем корни бедствий
мира» («Delle radici de'gran mali del mondo»); см. у Д'Анконы,
op. cit., соответственно ppt 18 и 26t
334
Три страшных зла мой долг изобличать —
Софистику, двуличность, тиранию...
Всему виной — невежества дитя,
Их себялюбие; бороться, значит,
С невежеством я должен не шутя.
Из этой мысли рождается великолепный сонет об
истории мира, созданной себялюбием1:
Себялюбивый человек решил,
Что звезды, мол, бесстрастны и убоги,
Вращаются для нас в своем чертоге
(Хоть мы во всем ничтожнее светил),
Что Богу ни один народ не мил,
За исключеньем нас: и что ж в итоге?
Любой из нас, засев в своей берлоге,
Себя превыше прочих возлюбил.
Глупеет ум, когда трудов не знает,
И вот уж он, препятствий не любя,
Все, в том числе и Бога, отрицает,
И, о своем величии трубя,
Средь новых он Богов провозглашает
Творцом Вселенной самого себя.
Если все беды являются плодом невежества, то по-
нятен энтузиазм Кампанеллы по отношению к науке и
ее миссии. Мудрый непобедим, он побеждает даже, если
его убьешь:
Он жив — и ты ничто, убьешь его —
Он превратится в светоч, и не скроешь
Своей души потемок от него2.
Бедствия лишь больше славят его имя, убитый, он
окружен поклонением, как святой; не беда, если он про-
исходит из низменного рода и неизвестного края, ибо
он сам прославляет свою судьбу. Чем больше его попи-
рают, тем выше он поднимается3:
1 Сонет «Против себялюбия чудесное открытие» («Contro il pro-
prio amore scoprimento stupendo») у Д'Анконы, op. cit., p. 27.
2 Сонет «Alia morte di Cristo», vv. 12—14. У Д'Анконы, р. 34.
3 См. два сонета: «A certi amici» и «A consimili», ibid.,
pp. 100—101. Из второго сонета цитируются vv. 13—14 и ниже
vv. 1—4.
335
Чем больше дуть на пламень, тем он ярче:
В конце концов он достигает звезд.
Он живет столь же долго, как и мир:
Шесть тысяч лет я житель был земли,
Хотя не так историки об этом
Свидетельствуют перед целым светом,
Как книги философские мои.
Мир — это театр, где души замаскированы телами1:
Они от сцены переходят к сцене:
Мученье, радость и опять мученье
Заимствуют из книжки роковой.
В этой всемирной комедии человек чаще повинуется
случаю, нежели рассудку2:
Всегда в святых безбожники ходили,
Святые шли на смерть, и не князья,
А лжекнязья, что хуже, были в силе.
Подлинными государями являются мудрецы:
Царем Нерона сделала судьба,
А вот Сократа — сделала природа...3
С короной так же, как и царь зверей,
Не может человек родиться..,4
Если бы не существовало мудрецов, чем стал бы мир?
Когда бы представлялся мудрецам
Мир, как волкам, в котором — только волки5.
1 См. сонет «Судьбой людей играют Бог и ангелы» («Che gli
uomini son giuoco di Dio e degli angeli»), vv. 1—2. Следуют vv. 6—8,
см. ibid., p. 31.
2 См. сонет «Люди чаще следуют случаю, чем рассудку» («Che
gli uomini seguono piu il caso che la ragione»), vv. 1—2: «Природа,
ведомая Господом, играет в пространстве всемирную комедию». Да-
лее цит строки 12—14, см. у Д'Анконы, op. cit., pp. 31—32.
3 Сонет «Короли и государства истинные и фальшивые» («Re e
regni veri e falsi e misti»), vv. 1—2, см. ibid., p. 32.
4 Сонет «Король не тот, кто правит, но кто умеет править»
(«Non ё re chi ha regno ma chi sa reggere»), vv. 9—10, ibid., p. 33.
5 Цит. сонет «Себе подобным» («A consimili»), vv. 9—10.
336
Подлинное благородство дается не происхождением
и не богатством:
От разума и силы благородство
Берется в нас, и крепнет и растет
Оно в поступках добрых...'
Мудрец — это король; он благороден, он свободен.
Чернь — это рабыня в силу своего невежества:
Народ — животных всевозможных стадо,
Что собственных не знают сил...
И все его меж небом и землей,
Но тех, кто говорит ему об этом,
Он убивает, в гневе сам не свой2.
Этот апофеоз науки соединяется с живым чувством
божественного; наука есть не что иное, как Божествен-
ное, вечный Смысл, который сообщает Природе ее
атрибуты или приматы — Могущество, Мудрость и Доб-
ро, внешним признаком которого является красота.
Такова была природа в золотой век, и такой она станет
вновь:
Мир к золотым вернется временам,
Коль скоро помнит тех времен приметы:
Ведь оживают мертвые предметы,
Свершив обратный путь к своим корням...
Мое, твое... Когда не будет грани
Меж ними на земле, тогда она
И станет раем, как пишу заране,
И себялюбцев будет лишена,
И темноте придет на смену знанье,
И братством стать империя должна 3.
Основой золотого века является человеческое брат-
ство и равенство, любовь к ближнему, которая приходит
на смену себялюбию:
1 Сонет «О благородстве и его истинных и ложных признаках»
(«Delia nobilta e suoi segni veri e falsi»), vv. 1—3; у Д'Анконы,
op. cit., p. 79.
2 Сонет «Delle plebe», vv. 1—2 и 12—14; см. там же.
3 Profetali, сонет III, vv. 1—4, 9—14, у Д'Анконы, op. cit., p. 95.
22 Де Санктис
337
Кто Господу в любви не уступает,
Тот зачисляет в братья всех подряд
И радости людские разделяет.
Святой Франциск — рыбешек даже брат
И птиц: блажен, кто это понимает!
Сегодня это могло бы быть названо христианской
демократией: возвращение к раннехристианской Церкви
Лина и Калиста, к евангельским временам, о чем меч-
тали и Данте! и Кампанелла, временам, когда люди
питались милосердием и не было ни богатых, ни бед-
ных, ни моего-твоего. Кампанелла, рассматривающий
вещи в их первоначальном виде, а не в их вырождении,
мечтает о том, чтобы мир, «Свершив обратный путь», вер-
нулся бы «к своим корням». Прогресс заключается в воз-
вращении к доброму старому времени. Бруно пре-
зирает золотой век — состояние невинности, которому
он противопоставляет состояние добродетели. Невин-
ность есть невежество, добродетель есть мудрость. Эта
мудрость не сообщается и приобретается извне, но яв-
ляется результатом свободной индивидуальной деятель-
ности. В системе Бруно свобода — субстанциональный
элемент; идеал есть прогресс, достигаемый благодаря
свободе. Так в этих двух великих итальянцах уже про-
являются два пути современного духа — рационалисти-
ческий и неокатолический. Один поворачивается спиной
к прошлому, другой пытается преобразовать его и сде-
лать из него рычаг прогресса.
Ожидая наступления золотого века, Кампанелла ви-
дит, как выродился мир из-за тиранов, софистов и лице-
меров. К софистам он причисляет поэтов, сеятелей лжи:
Отвага болтовней подменена,
Пришло на смену святости двуличье,
Вошли уловки разные в обычай,
Любовь во власть расчета отдана.
Поэты, знайте, ваша в том вина:
Плетете вы о лжегероях притчи,
Забыв о Боге и его величьи —
Не то, что в золотые времена 2.
1 См. Данте, Рай, XXVII, 40—45.
2 Сонет «A'poeti», vv. 1—8, см. у Д'Анконы (op. cit., p. 18).
Нижеследующие нападки на итальянских поэтов содержатся в кан-
цоне: «Итальянцам, которые перепевают греческие сказки» («Agl'Ita-
liani che attendono a poetar con le favole greche»), см. ibid., p. 82.
338
Он также упрекает их в том, что, вместо того чтобы
воспевать Колумба и другие современные подвиги, они
барахтаются в болоте античных побасенок. Его раздра-
жает, что они истощают талант на пустые предметы.
Красота есть признак добра, всякая вещь прекрасна
там, где она полезна, и уродлива там, где она бесплодна
или плохо служит и к тому же приносит скуку:
Не то что черный, белый цвет прекрасен,
Но в шляпе ом ужасен...
Зато в жару такая шляпа — клад.
Прекрасен, хоть и некрасив, Сократ
Умом своим, чего не скажешь, кстати,
Про Лглаура; глаза желтизна —
Болезни признак, но прекрасна в злате,
О подлинности говоря, она 1.
Здесь уже проявляется новый принцип критики, ко-
торая направляет умы на сущность, а не на формы, на
предметы, а не на слова, на внутреннее, а не на внешнее.
Примером этого служит он сам, писавший новые и воз-
вышенные вещи при полном пренебрежении формой. Его
поэзия — нервная, возвышенная, сочная и в то же время
грубоватая и острая — является полной противополож-
ностью той пустой жеманно-софистической литературе,
которой положил начало Марино.
Кампанелла написал великое множество сочинений
о множестве вещей. Ничто из познаваемого не остается
ему неизвестным — оккультные и естественные науки, бо-
гословие, метафизика, астрономия, физика, физиология.
Его сочинения — первый набросок энциклопедии, первое
древо науки. Куда бы ни устремил он свой взгляд, по-
всюду он видит или прозревает новое. Особо заслужи-
вает быть отмеченным его интерес к воспитанию и бла-
госостоянию народа. Наука до него оставалась аристо-
кратической, религиозной и политической, пребывала в
высших сферах, направляя свое внимание более на со-
циальный механизм, чем на совершенствование чело-
века. У Кампанеллы подчеркнуто выражена тенденция,
что политические изменения бесплодны, если в основе
1 Канцона «О красоте, признаке добра, объекте любви» («Delia
Bellezza segnal del bene, oggetto d'amore»), мадригал III, vv. 9—10
и 12—17, см. ibid., p. 56.
22*
339
их не лежит просвещение и счастье низших классов.
Именно к этой цели направлены его самые прекрасные
замыслы: реформа налогов, с тем чтобы они не отяг-
чали главным образом ремесленников и вилланов, едва
задевая горожан и буржуа и не касаясь дворянства; на-
лог на роскошь и развлечения: богадельни для инвали-
дов; приюты для солдатских дочерей; безвозмездные
ссуды беднякам; народные банки; общедоступность
должностей; единый кодекс законов; единая денежная
система; поощрение национальной промышленности, «бо-
лее выгодной, чем рудники»1. Разрыв с абстрактными
рассуждениями, с богословскими тонкостями (болезнь
века), поворот к истории, географии, к изучению реаль-
ного для улучшения общественных условий — таково
последнее слово Кампанеллы. Первая задача философа,
говорит он, состоит в том, чтобы составить историю со-
бытий. Здесь уже ощущается новое общество, которое
формировалось на развалинах феодального режима.
Здесь — идея полного социального обновления, сопрово-
ждавшаяся той глубокой мыслью, что стойкие измене-
ния судьбы человечества совершаются сначала «сло-
вом», а потом «мечом»2; или, другими словами, что си-
лой нельзя основать ничего долговечного, если ему не
предшествует и не сопутствует мысль.
16. Тот же дух веял и в Венеции. Венеция, которая
со времен Пьетро Бембо стала центром литературы и
культуры, превращалась теперь в итальянский центр
свободной мысли. Прославилась падуанская материа-
листическая школа. С той же независимостью развива-
лись и политические науки. Отсюда в порабощенную
Италию доносились свободные высказывания Паоло Па-
руты. После Макиавелли появилось множество полити-
ческих сочинений под названием «Политическое сокро-
вище», «Правящий государь», «Секретарь», «Ключи ка-
бинета», «Посол», «Основы государства», но все это
1 Для общего изложения реформ, предложенных Кампанеллой,
Де Санктис, вероятно, воспользовался страницей из Канту (С a n t и,
Storia universale, эпоха XV, т. XVI, гл. XXXI), которая пересказана
у Д'Анконы в pref. cit.; «Единый кодекс законов; доступность всех
должностей для всех, кто к ним способен... единая денежная си-
стема; поощрение мануфактур, более выгодных, чем рудники» (ор.
cit., p. CCXXXVI).
* Ср. «Delia monarchia di Spagna», XVIII, и «Aforismi politic!»,
61—65.
340
была мешанина общих мест и непереваренной эрудиции.
В них оправдывались самые страшные события: Варфо-
ломеевская ночь и резня, устроенная герцогом Альбой.
При этом характерно, что все авторы накидываются на
Макиавелли, обвиняя его и заимствуя в то же время у
него концепции1. Среди прочих достоин упоминания Бо-
теро со своим сочинением «Основы государства», в ко-
тором он выступает против Макиавелли и в то же время
следует его предписаниям, применяя их против новато-
ров и еретиков. Эта книга — настоящий кодекс консерва-
торов. Ботеро считает, что все обстоит прекрасно и
нужно лишь остерегаться новшеств: хорошо так, как
есть. Он родился в 1540 году, в том же году, что и Пао-
ло Парута, который был наиболее близок по духу и на-
правлению к Николо Макиавелли. В то время, когда
Италия дремала меж папским и испанским абсолютиз-
мом, а в Европе основывались абсолютные монархии, ве-
нецианский историк писал, что, «когда отнята свобода,
ничего не значат другие блага, даже сама добродетель
пребывает в праздности и имеет мало цены»; что под-
линный монарх — это закон; и «тот, кто вверяет правле-
ние государством закону, тот поручает его богу, а тот,
кто отдает его в руки человека, оставляет его во власти
дикого зверя». «Родиться и жить в свободном государ-
стве» представляется ему идеалом счастья. В его «По-
литических речах» мы находим наследника Макиавелли
и предшественника Монтескье, здесь сочетаются вене-
цианское практическое чутье и флорентийская прони-
цательность. Политическое чувство сталкивается у него
с религиозным чувством. Папский и испанский деспо-
тизм, как основа католической реставрации, кажется
ему опасным для венецианской свободы, и он возлагает
известные надежды на прогерманское движение, в ко-
тором находит противовес. Это противоречие еще глубже
сказалось в его мировоззрении, в котором разум и вера
состязаются без надежды на примирение. В его «Мо-
нологе» ощущаются те внутренние терзания, которые
1 Весь период заимствован из Канту (С a n t u, Storia della let-
teratura italiana, ed. cit., p. 380). Относительно Джованни Ботеро см.
ibid., pp. 381—382, где приводятся и отрывки из «Ragione di Stato»,
V, 2—4, которые имеет в виду Де Санктис,
341
омрачали уже первые годы Тассо1. Это неразрешенное
противоречие приводит у него к известной половинчато-
сти и отнимает у его рассуждения оригинальность и уве-
ренность, присущие «новым людям». Таковы были мо-
ральные условия проявления венецианского духа в это пе-
реходное время. Венецианцы были добрыми католиками,
но ревниво охраняли свою свободу, отрицательно отно-
сились к римской курии и особенно к иезуитам, которых
опасались, видя их ловкое вмешательство в политиче-
ские дела; венецианцы не были склонны безоговорочно
принимать все максимы Церкви, особенно относительно
повиновения. При таком настроении умов они были
склонны прислушиваться к доктринам Реформации, и не
случайно лютеране избрали Венецию базой своих дей-
ствий по распространению схизмы в Италии. Там было
издано много брошюр и трактатов за и против рефор-
мации; религиозные диспуты не могли быть приостанов-
лены инквизицией, которая в столь сложной обстановке
в городе действовала мягко и с осторожностью. Рели-
гиозные споры сопровождались распрей в области юри-
дических прав между правительством и папой; папа Па-
вел V обрушил на республику отлучение, но результат
оказался противоположен его намерению и борьба стала
еще более живой и напряженной.
17. Человеком, вокруг которого группировалось все
это движение, являлся Паоло Сарпи, друг Галилея и
Джамбаттисты Порты2, принадлежавший к той же
школе. Богослов, философ, знаток канонического права,
1 См. у Канту (op. cit, p. 379): «...Католическая реакция, ко-
торую ощутил сам Парута, проявляется в его «Монологе» о соб-
ственной жизни; это признание внутренних бурь. «Монолог» был
написан Ларутой в бытность его послом в Риме при папе Кли-
менте VIII и напечатан впервые в 1599 году».
2 Так в рукописи и в издании Морано. Кроче и Кортезе попра-
вляют здесь на «Делла Порта». «История Тридентского собора»
(«Istoria del Concilio Tridentino») была опубликована в Венеции
в 1619 году и перепечатана во Флоренции в 1835—1836 годах. Отно-
сительно Сарпи Де Санктис, по всей вероятности, мог ознакомиться
с работой Bianchi-Giovini A., Biografia di fra Paolo Sarpi
(Бьянки Джовини, Биография Паоло Сарпи), 2tt, Torino
1849—1850, а также с рецензией, которую Мадзини написал в
1838 году; см. М a z z i n i, Scritti editi e inediti, v. IV, Milano 1862,
pp. 338 и ел.; однако Де Санктис прежде всего исходил из тех стра-
ниц, которые посвятил великому венецианскому историку Канту
в своей «Истории»,
342
он был столь же сведущ в естественных науках — фи-
зике, астрономии, архитектуре, геометрии, алгебре, ме-
ханике, анатомии. Ему приписывается открытие крово-
обращения. Он активно вмешивается в жизнь, не рас-
суждает, как Бруно и Кампанелла, не изобретает, как
Галилей, а бросается в борьбу вооруженным и ставит
свои знания на службу своему патриотизму. Он выби-
рает себе оружие скорее с проницательностью полити-
ческого деятеля, чем со страстью философа и реформа-
тора, ибо его цель не чисто философская или научная,
а практическая, направленная к достижению известных
результатов. Он стремится втянуть в борьбу князей, как
это делали протестанты, поддерживая принцип их неза-
висимости от церковной власти. Продолжая дело Данте
и Макиавелли, он отрицает всякую власть папы над
князьями и желает, наоборот, подчинить клириков об-
щему гражданскому праву, как обычных граждан.
Эмансипировать государство, секуляризировать его,
обеспечить его свободу по отношению к римской ку-
рии— такова была общая почва, на которой часто встре-
чались князья и реформаторы. У Паоло Сарпи было до-
статочно здравого смысла, чтобы остаться на этой
общей почве, выказав при этом ясность взглядов и твер-
дость цели, довольно редкие в итальянском писателе.
Обладая гибким умом и широчайшей культурой, он поз-
воляет себе высказывать только такие идеи, которые в
то время и в том обществе могли иметь практический
результат, прибегая к концепциям и. формам более убий-
ственным в своей сдержанности, чем откровенная рез-
кость. Он бьет по больному месту с видом невинной
простоты, словно прибегает к ласке. Его пять раз поку-
шались убить; в последний раз, когда сталь убийцы
поразила его, он воскликнул: «Узнаю стиль римской
курии»1.
1 Аналогичное суждение высказано в лекциях Чезаре Канту: см.
«La scuola cattolico-liberale» («либерально-католическая школа»),
pp. 224—225 и там же, р. 261 (определение «точного и меткого»
стиля Сарпи). Знаменитые слова «узнаю стиль римской курии», ко-
торые якобы произнес Сарпи, относятся к тому покушению, которое
имело место в Венеции 5 октября 1607 года, после соглашения, за-
ключенного между Республикой и папой Павлом V. Анекдот этот
приведен также в цит. рецензии Мадзини. [В итальянском тексте —
«lo stile», что значит стиль и одновременно стилет-кинжал. — Прим
ред.].
343
Его «История Тридентского собора» — наиболее
серьезная работа, которая в то время была создана в
Италии. Этот Собор послужил основой католической ре-
ставрации, или, лучше сказать, реакции и притязаний
римской курии. На этом Соборе была освящена абсолют-
ная власть папы и его примат над светской властью.
Здесь были сформулированы те юридические права, на
которые притязали в государствах римская курия и
иезуиты, восстановив против себя не только протестан-
тов, но и католических государей. Это было средневе-
ковье, подновленное внешне, по видимости не столь гру-
бое, более приличное. Написать историю этого Собора,
показать его светские цели, светские страсти и инте-
ресы, благодаря которым и стали возможными эти де-
креталии и преобладание крайних и резких мнений, оз-
начало ударить по самой основе зла. Этой цели Сарпи
достиг.
Предприятие это не удалось бы, если бы в авторе
возобладали политические страсти, приведя к крайно-
стям идей и резкости выражения, к произвольному из-
менению и искажению фактов. Сила Сарпи — в его уме-
ренности и искренности, и он остается таковым не только
благодаря мудрости политического деятеля, но и по
своей природной честности и серьезности историка и пи-
сателя. История в его руках не только политическое
орудие; это — святое служение, которое он не допускает
растлить современным страстям и к которому готовится
путем всевозможных занятий и исследований. Этим-то
и интересна книга Сарпи. Он стремился написать беспри-
страстную историю, с искренностью и серьезностью ис-
торика, а в результате он оказался чрезвычайно при-
страстным, ибо человек со всеми своими страстями, сим-
патиями и антипатиями, со своими политическими взгля-
дами проявляется в этой книге решительно во всем и
вызывает к себе уважение. Эта пристрастность Сарпи
не намеренная, она сказывается не в фактическом мате-
риале, а в том новом духе, который пронизывает книгу,
не только в ее общетеоретических положениях, но и
в самых конкретных политических и этических опреде-
лениях. Сарпи не связан никакими авторитетами; он
все изучает, ко всем прислушивается, но окончательно
решает сам. Для него законный авторитет — его соб-
ственный разум, его рассуждения. Его идеал — ранне-
344
христианская, евангельская Церковь, освобожденная от
всякой светскости и движимая только духовными инте-
ресами. Он особенно осуждает церковную иерархию,
«возникшую вследствие притязаний папства и невеже-
ства государей» К Тем не менее брат Паоло почитает
себя не меньшим католиком, чем сам папа; он тоже
стремится к подлинной католической реставрации, кото-
рая вернула бы религию к изначальной искренности и
доброте, сделав возможным то примирение всех испове-
даний, которого Собор должен был добиться и которому
воспрепятствовал. Поэтому Сарпи называет Тридент-
ский собор «Илиадой нашего века» за тот вред, который
от него воспоследовал, и результаты считает не рефор-
мой, а «деформацией»2. Какой реформы желал сам
Сарпи, можно видеть из тех концепций, которые он при-
писывает доброму папе Адриану VI, «человеку искрен-
нему, которому были чужды скрытые средства и цели» 3;
этот последний признавал, что зло возникло в резуль-
тате противозаконий и превышения власти римской мо-
нархии, и обещал полную реформу, «даже если ему
пришлось бы лишиться всякой светской власти и пе-
рейти к апостольской жизни» 4.
В этой книге содержание и форма гармонически со-
четаются. Основная концепция содержания состоит в
том, что, подобно тому как истина содержится в суще-
стве вещей, а не в их акциденциях и проявлениях, так
и религия имеет своим содержанием доброту деяний,
а не соблюдение внешних форм и не папские пожалова-
ния и милости; равным образом действенность исповеди
1 Здесь слышится парафраза из Канту, op. cit., p. 303: «Цер-
ковная иерархия укрепилась лишь в результате притязаний папства
и слабости и невежества государей». О религиозности Сарпи см. цит.
лекцию «La scuola cattolico-liberale» («Либерально-католическая
школа»): «Он хотел восстановить Церковь на ее раннехристианских
основах и не остановился на своей «Истории Тридентского собора»
(«Istoria del Concilio Tridentino»), а перешел к действию. И если
Канту был действительно либеральным католиком, то из всех исто-
рических персонажей ему должен был быть близок именно Сарпи,
который три века назад поднял то же знамя» (pp. 224—225).
* См. «Istoria del Concilio Tridentino», t. I, I; обе цитаты . («Или-
ада нашего века» и «Наибольшая деформация, которая цмела место
с тех пор, как существует христианство») см. у Канту, op. cit.,
р. 302.
3 Ibid., t. I, 22.
4 Ibid., t. I, 24.
345
состоит не в усердном перечислении грехов, а в стрем-
лении изменить жизнь. Это та же концепция нового духа,
который, будучи зрелым, поднимался от множественно-
сти форм и акциденций к единству и существу ве-
щей. Один и тот же дух воодушевляет Макиавелли,
Бруно, Кампанеллу, Галилея и Сарпи. В его «Истории»
этот дух пронизывает также и литературную форму. Ибо
форма здесь существует не сама по себе, а полностью
сливается с предметом, будучи освобождена от всех фан-
тастических и риторических элементов; она позитивна,
реальна и является полной противоположностью модной
литературе того времени. Паллавичино, который по по-
ручению римской курии тоже написал историю Собора
в опровержение «Истории» Сарпи, пишет: «Огонь мяте-
жей можно потушить только морозом страха или дож-
дем крови»1. Он говорит серьезнейшую вещь, но в по-
гоне за метафорой отрывает дух от формы. Здесь форма
не выражение содержания, а препятствие; эти прикрасы
не могут создать того сильного впечатления, которое,
однако же, должна была оказать на дух мысль столь
жестокая, являющаяся основой инквизиции. Сарпи вкла-
дывает ту же мысль в уста папы Адриана; но здесь
форма проникнута энергией и колоритной точностью,
передавая предмет и в его жестокой сути и в его логике.
Предмет здесь представлен и чувственно и как идея.
«Если не смогут мягкостью, — говорит Адриан не-
мецким князьям, — вернуть Мартина и его последовате-
лей на верный путь, то пусть прибегнут к средствам ост-
рым и жгучим, чтобы отсечь от тела мертвые члены»2.
У Паллавичино ощущается суетность формы при без-
различии к содержанию; у Сарпи — значительность со-
держания при безразличии к форме, которая сама по
себе есть содержание в его смысле и выражении. У Сар-
пи мы находим ум возвышенный, который пренебрегает
литературными ухищрениями и ужимками и прежде
всего заботится о предмете; ясность ума сочетается
1 См. Сфорца Паллавичино, «История Тридентского Со-
бора» (Sforza Pallavicino, Storia del Concilio di Trento), II,
26. Сопоставление «Истории...» Сарпи и «Истории...» Паллавичино
(которая была напечатана в Риме в 1656—1657 годах и в 1664 году)
см. выше («Паллавичино. грациозный и жеманный»); суждение
Канту — одностороннее — см. op. cit., p. 305.
2 См. «Istoria del Concilio Tridentino», t. I, 25.
346
у него с выдающейся силой анализа, и чувство меры и
реального помогает ему всегда оставаться живым и прав-
дивым. Прибавьте к этому совершенное владение мате-
риалом, знание самых глубоких тайн человеческого
сердца, ясное понимание своего века и общества, в ко-
тором он жил, со всеми его настроениями, тенденциями
и интересами, и* вы поймете, каким образом вышла в свет
столь серьезная и столь позитивная проза. Внимание ав-
тора обращено вглубь, он не заботится о внешнем,
в результате чего его сочинение, построенное на проч-
ном основании, с четкой, живой и убедительной логи-
кой, шероховатсГ и негладко по стилю. Этой прозе не
хватает той высшей утонченности, которая возникает
только при изяществе, изысканности и музыкальности.
Таков наиболее заметный недостаток Сарпи, который,
не будучи тосканцем, более привык к тяжелой латыни,
чем к изящному родному наречию.
18. Макиавелли, Бруно, Кампанелла, Галилей, Сарпи
не оставались одиночками. Они были порождением новых
времен, крупными светилами, вокруг которых обраща-
лись созвездия других свободных людей, воодушевленных
тем же духом. Чего хотели они? Искать существенное
в видимом, кажущемся — как говорил Макиавелли; ис-
кать дух через формы — как говорила Реформация;
искать реальное и позитивное не в книгах, но в
непосредственном изучении предметов — как говорил
Галилей; или, как говорили Бруно и Кампанелла, — ис-
кать единое во множественном, искать божественное в
природе. Это различные формулы одной и той же кон-
цепции. Реформаторы и философы в своих исканиях
встречались на общей почве. Не все они шли одинаково
быстро; многие вырывались далеко вперед; другие застре-
вали на полпути, но у всех у них дорога была одна. Они
стремились сломать всеми почитаемые формы, закосте-
нелые в силу предрассудков и фантазий, и изучать вещи
в их сущности или реальности, смотреть на них соб-
ственными глазами, естественно их понимая. Борьба
против Аристотеля и схоластов, против церковных форм
и доктрин, против «мирских притязаний» церкви, про-
тив символов, фантазий, догм и сверхъестественного
была отрицающей стороной этого движения. Утверж-
далось же реальное, как метод и как содержа-
ние: человек и природа, которые изучались непосред-
347
ственно разумом, исходя из опыта и наблюдения. Паоло
Сарпи перенес борьбу из области философских обобще-
ний в самую гущу общественных интересов, туда, где он
мог завоевать сочувствие государей и народов; поэтому
он был более опасен и имел большее влияние.
19. Если бы католическая реставрация была настоя-
щей, разумной реставрацией, то есть примирением, чего
хотел Сарпи и о чем мечтал Кампанелла, то она асси-
милировала бы новое в его наиболее практической и
приемлемой части. Но история не делается при помощи
«если бы» и задним умом. Тогда движение находилось
еще в инстинктивной форме, бурном и противоречивом
состоянии. С другой стороны, Церковь была побуждаема
не столько религиозными чувствами и убеждениями,
сколько светскими интересами и политическими стра-
стями. Поэтому реставрация превратилась в открытую
реакцию. Никто не сознавал болезненности этого про-
цесса яснее, чем Паоло Сарпи. Вот несколько отрывков
из его сочинений:
«Церковные пенитенции вышли из употребления, по-
тому что с утратой прежнего религиозного рвения они
стали невыносимыми... Нынешний век не похож на про-
шлое, когда все решения Церкви принимались без даль-
нейших рассуждений; в нынешние времена каждый хо-
чет сам судить о их справедливости... Лечение соответ-
ствует болезни, но оно превосходит силы больного тела
и вместо того, чтобы вылечить его, может привести его
к смерти; стремясь вновь завоевать Германию, Церковь
может еще более отдалить ее и потерять Италию» Мак
говорил кардинал Пуччи, чтобы переубедить Адриана VI,
который хотел посредством пенитенции искоренить но-
вые идеи и возвратить «золотой век ранней христиан-
ской церкви, когда прелаты обладали абсолютной
властью над верующими только лишь силою постоянных
эпитимий, а в нынешние времена те, став нерадивыми,
хотят выйти из повиновения»2.
Этого мнения придерживался также кардинал Том-
мазо да Гаэта, который в книге Сарпи говорит сле-
дующее:
1 См. «Istoria del Concilio Tridentino», t. I, 24. Последняя фраза
текста гласит: «Сначала потерять Италию и еще больше отдалить
первую».
2 Ibid., t. I, 23, откуда взят также и нижеследующий отрывок.
348
«Германский народ, нерадивый, отставший от веры,
обращает свой слух к Мартину, который проповедует
христианскую свободу; если бы народ держали в узде
покаянием, то он не помышлял бы об этих новшествах».
Однако наряду с эпитимиями добрый Адриан хотел
провести серьезную реформу, даже вплоть до утраты
светской власти. Но кардинал Содерино выдвигает про-
тив этого следующее рассуждение:
«Нет надежды посрамить и искоренить лютеран при
помощи исправления обычаев курии; напротив, это было
бы средством увеличить их влияние. Ибо чернь, которая
всегда судит по событиям, после сделанной уступки по-
лучит доказательство, что папское правление справед-
ливо заслуживало в чем-то порицания, а затем легко
убедит себя, что, следовательно, и другие предложен-
ные новшества имеют справедливое основание. Во всех
человеческих делах бывает так, что удовлетворение од-
них требований дает повод выдвигать другие и считать
их справедливыми. Ничто так не пагубно для прави-
тельства, как изменение способов управления; открыть
новые, неизведанные пути — значит подвергнуть себя
серьезным опасностям, и самое верное дело — идти по
следам святых первосвященников. Ереси всегда искоре-
нялись не реформами, но крестовыми походами и при-
зывами к государям и народам к их истреблению» К
Этот энергичный кардинал признает, что кое-что пло-
хое действительно имеет место; но не следует касаться
этого, чтобы не давать повода врагам. И он приберегает
напоследок самый ценный, самый действенный аргумент:
«Нельзя произвести никакой реформы, которая не
уменьшила бы значительно церковные доходы; каковые
доходы имеют четыре источника, один светский — до-
ходы церковного государства, — а прочие духовные: ин-
дульгенции, диспенсии и раздача бенефициев; нельзя
уничтожить ни одного из них так, чтобы доходы не
уменьшились на одну четверть»2.
Адриан пришел к выводу, что он введет реформы по-
степенно, шаг за шагом; эта умеренная система не по-
нравилась немцам, которые насмешливо ответили, что
1 См. «Istoria del Concilio Tridentino», t. I, 24. Сделаны незначи-
тельные сокращения.
2 Ibid., t. I, 24.
349
от одного шага до другого пройдет целый век1. Можно
представить себе, какое впечатление должны были произ-
вести на современников эти разоблачения Паоло Сарпи,
который с такой очевидностью показал светские и по-
литические мотивы католической реставрации.
Эта реставрация, будучи открытой реакцией, осно-
вывалась на идеях и тенденциях, прямо противополож-
ных идеям новых людей. Одни провозглашали незави-
симость и силу разума, другие — его несостоятельность
и слабость. Одни славили культуру и науку, другие от-
стаивали чистую веру, нищих духом и чистых сердцем.
Одни основывались на опыте и наблюдении, другие —
на откровении и на авторитете Аристотеля, схоластов,
святых отцов и докторов. Одни сосредоточивались на
изучении природы и человека, другие пускались в изощ-
ренные рассуждения относительно атрибутов бога/ по
поводу предопределения и благодати. Одни хотели от-
нять у Церкви всякую светскую власть, упростить формы
и культ; другие хотели оставить нерушимыми все фор-
мы, даже абсурдные и гротескные, и, не мысля отказы-
ваться от светской власти, хотели, наоборот, расширить
свое господство и прерогативы, исходя из абсолютной
власти папы и его верховного главенства также и в свет-
ских делах. Отныне господствовал девиз: «Или мы бу-
дем такими, как есть, или нас не будет совсем» 2; или
жить по-прежнему, или погибнуть.
Эта слепая реакция не могла бы долго просущество-
вать, если бы ее настойчиво и упорно не поддерживали
иезуиты, это воинство папы. После того как террор ин-
квизиции подавил открытый бунт, иезуиты поставили себе
целью завоевать на сторону католической реставрации
также и человеческую волю и совесть, проявив при этом
такое знание людей и своего времени и такое умение
управлять, какие сделали их достойными продолжате-
лями политики Медичи. Убежденные, что правит миром
более знающий, они покровительствовали учению и стре-
мились сохранить приоритет духовенства в культуре.
Не имея возможности полностью искоренить новое, они
приняли его внешнее обличье и по-новому нарядили
1 См. «Istoria del Concilio Tridentino», t. I, 27.
2 Так якобы ответил генерал ордена иезуитов Риччи на предло-
жение папы реформировать его орден.
350
общество, для того чтобы вернее сохранить старое. Итак,
они прикинулись людьми культурными и либеральными,
отряхнули с себя пыль схоластики и, чтобы вернее по-
бедить светское начало, приняли скорее светские, чем
монашеские, манеры и повадки, стремясь победить своего
врага его же оружием. Став друзьями и покровителями
литераторов и деятелями культуры, иезуиты открыли
школы и пансионы и забрали в свои руки образование
и воспитание. Они не пренебрегли ни театрами, ни ко-
медиями, ни академиями, ни другими подражаниями
светским обычаям. Внешность была та же, но дух дру-
гой. Ибо там, где новые люди стремились направить
внимание от внешнего на внутреннее, от случайного и
второстепенного на существенное, от форм на дух, там
иезуиты стремились развивать память, привлекать чув-
ства и воображение более, чем разум, удерживать вни-
мание на поверхностном, так чтобы разум, накопив эм-
пирические познания, оставался пассивным и вялым. Из
всего этого возникала посредственная, поверхностная
культура, более похожая на эрудицию, чем на науку.
К этому легко приноровилось слабохарактерное боль-
шинство, довольное этим внешним лоском, который при-
давал им новый вид — вид своего времени, да еще столь
дешевой ценой. Иезуиты стали модными; и эпоха сры-
вала свое раздражение на других религиозных орденах,
оставшихся чуждыми всяким новшествам. Иезуиты до-
бились больших успехов: вместо того чтобы поднять лю-
дей до науки, они принизили науку до людей, оставив
чернь в невежестве и дав другим классам то половин-
чатое образование, которое хуже невежества. Равным
образом, не имея возможности поднять людей до чистоты
евангелия, они принизили евангелие до человеческой
слабости и создали мораль на потребу веку, полную уло-
вок, казусов, тонких отличий — компромисс между со-
вестью и пороком, или, как говорилось, двойную совесть.
Так родилась доктрина «предположительного», согласно
которой какой-нибудь «doctor gravis» (строгий доктор)
высказывает предположительное мнение, и этого пред-
положительного мнения достаточно для оправдания лю-
бого действия, и исповедник не вправе отказать в отпу-
щении грехов тому, кто действовал, согласно предполо-
жительному мнению. Судья, говорит один доктор, может
решить дело в ,пользу своего друга, придерживаясь
35J
предположительного мнения, хотя бы оно и было про-
тивно его совести. Врач, говорит другой доктор, может,
основываясь на том же критерии, прописать лекарство,
хотя по его мнению, оно принесет вред. Требуется одно
лишь условие: чтобы не вышло скандала, не потому что
поступок сам по себе плох, но из-за тех неприятностей,
которые он может вызвать.
Эта распущенная мораль находила поддержку в дру-
гой теории, «directio intentionis» (направленность умыс-
ла), формулировавшейся следующим образом: скверное
действие дозволено, когда дозволена цель. Это—ма-
ксима «цель оправдывает средства», примененная не
только к политическим действиям, но и к частной жизни.
Не грех утопить в реке ребенка-еретика, чтобы окре-
стить его. Ты убиваешь тело, но спасаешь душу. Не грех
убить женщину, которая продала тебе свою честь, если
ты опасаешься, что огласка повредит твоей репутации.
В заключение появилась доктрина «reservatio et rest-
rictio mentalis» (мысленная оговорка и ограничение).
Клятва не связывает тебя, если ты употребляешь слова в
двойном смысле, толкуя их по своему усмотрению, или
если ты тихим голосом добавишь несколько слов, изме-
няющих смысл клятвы. Не есть ложь, говорит один док-
тор, употреблять двусмысленные слова, которые ты пони-
маешь по-своему, в то время как другие понимают их
в противоположном смысле. И не ложь — сказать не-
правду, когда ты в мыслях подразумеваешь иное. Ты
убил отца; ты можешь спокойно сказать: «Я не убивал
его», когда про себя ты думаешь о другом человеке,
которого ты действительно не убивал, или добавляешь
в уме оговорку, вроде следующей: «Прежде* чем он ро-
дился, я его, конечно, не убивал». Эта уловка, добав-
ляет доктор, весьма полезна, ибо она дает тебе возмож-
ность, не прибегая к лжи, скрывать то, что требуется
скрыть.
Сколько уловок, сколько уверток! Они были приду-
маны на все случаи. В этом иезуитском арсенале есть
способы, как, не совершая греха, не ходить на мессу,
или уйти с нее, или разговаривать во время службы,
или, идя к мессе, рассматривать женщин с любовным
желанием. Если ты хочешь оставаться в добрых отно-
шениях со своим духовником, то выбери другого, когда
совершишь какой-нибудь серьезный грех. А если тебе
352
тяжело признаться в нем, то употребляй двусмысленные
слова или прибегни к общей исповеди, чтобы замешать
этот грех среди множества старых грехов.
Можно представить себе, какой успех и сколько по-
следователей имели иезуиты — учителя, духовники, про-
поведники, миссионеры, писатели, светские деятели и
люди церкви — п'ри помощи этой легкой науки и еще
более легкой морали. Они сумели понять свой век и
стали его хозяевами. И это свое господство они поддер-
живали всей энергией и логикой своей воли. Они приоб-
рели такое могущество, что вызывали зависть государей
и даже подозрение пап. Взяв за основу принцип пассив-
ного повиновения, согласно которому человек перед ли-
цом вышестоящего был «perinde ас cadaver» (трупу по-
добен), они установили абсолютную монархию. Они хо-
тели, чтобы папа владычествовал над государями,
а чтобы сами они владычествовали над папой.
Государи защищались, наносили удары и даже ис-
кали поддержки в новых идеях. Так, Паоло Сарпи за-
щищал свободу Венеции. Борьба была неравной, ибо
репутация духовного оружия была подорвана, и госу-
дари приобрели всю ту силу, которой не было у феода-
лов и у коммун. Тогда иезуиты, не пренебрегая чисто
церковным оружием, стали действовать прежде всего
как политическое объединение и сумели с равным ис-
кусством овладеть и светским оружием. Они прикину-
лись демократами и стали опираться на народ против
государей. С 1562 года Лайнец, второй генерал иезуитов,
защищал на Тридентском соборе тезис, что у церкви
свои законы — от бога, но общество имеет право само
избирать свое правление1. Кардинал Беллармино заяв-
лял, что политическая власть — от бога, но божествен-
ное право принадлежит не отдельным людям, а всему
обществу и нет никаких причин, чтобы один или мно-
гие повелевали бы другими; что монархия, аристократия
и республика суть формы, вытекающие из природы
1 См, «Istoria del Concilio Tridentino», VII, 20. Об иезуите Диего,
в ордене — Джакомо Лайнец, или Лайнец (1512—1565), генерале
ордена и о его речи на Тридентском соборе см. Cantu, Storia- uni-
versale; 9а, 1862—1867, t. V, p. 288, а также лекцию «La Scuola
cattolico-liberale».
23 Де Санктис
353
человека, и что поэтому, когда существует какая-нибудь
законная причина, народ может изменить форму прав-
ления, как это сделали римляне К Тут же выступают по-
нятия «суверенитета народа» и «права на восстание».
Кардинал Мариана— за монархию, но при условии,
чтобы она повиновалась совету лучших граждан, обра-
зующих сенат2. Он был испанцем и писал при Филип-
пе III, который держал Кампанеллу в неаполитанской
тюрьме. Он не признавал наследственного права, «воз-
никшего в результате чрезмерного могущества королей
и порабощения народов». Оно —причина многих зол,
ибо нет ничего более чудовищного, чем «вверять судьбы
народа младенцам в колыбели и капризам женщины».
Король, который оскорбляет права народов и пренебре-
гает религией, подобен дикому зверю, и «каждый имеет
право наложить на него руки». Права наследования мо-
гут быть изменены только с согласия народа, ибо «от
народа исходит право господина». Король получает свою
власть от народа; поэтому «он не господин государства
или отдельных личностей, он первое должностное лицо,
которое оплачивают граждане». Король не может еди-
новластно вводить налоги, устанавливать законы, изби-
рать себе преемника, ибо «эти вещи касаются не только
короля, но также и народа». Король подчиняется зако-
нам, и когда он их нарушает, то народ имеет право
«сместить его и наказать смертию». Таковы были отве-
ты, которые иезуиты давали государям. Но это было
обоюдоострым оружием. Ведь им можно было ответить,
что если право господина принадлежит не отдельным ли-
цам, а сообществу граждан, то высшее право в церков-
ных делах принадлежит не папе, а Церкви или сообще-
ству верующих и от лица их — церковному собору, кото-
1 Ср. Bellarmino, Controversie, III, кн. I, pp. 1 и ел., и «De po-
testate pontificum», III.
2 Падре Хуан Мариана, испанский иезуит (1536—1624), был
автором книг «De rebus Hispaniae» («Об испанских делах»), «Histo-
ria general de Espana» («Всеобщая история Испании»). В Италии
было особенно известно его сочинение «De rege et regis institutione
libri tres», Toledo 1599, о законности тираноубийства; книга эта
оказала известное влияние на итальянскую политическую мысль.
Нижеследующие цитаты взяты из этой книги, гл. 1, 6, 7, 9; они при-
водятся Де Санктисом в той же форме, в какой цитируются у Сет-
тембрини в «Lezioni» (ed. cit., II, pp. 222—223).
354
рый может низложить и даже наказать папу. Чем же
становится тогда их папа, наместник бога? Ие'зуиты бы-
ли республиканцами по отношению к государству и аб-
солютистами по отношению к Церкви. И, говоря точнее,
они прикидывались республиканцами, чтобы лучше гос-
подствовать над. государями, а были абсолютистами,
чтобы сосредоточить всю власть в своих руках. Я не хо-
чу этим сказать, что все их писатели недобросовестны,
многие из них были искренними верующими и патрио-
тами, в первую очередь Мариана. Я говорю о главарях,
которые были больше политическими деятелями, нежели
людьми веры.
Про них говорят, что они разложили и ослабили на-
роды. Это утверждение столь же мало справедливо, как
и то, что Марино испортил вкусы. Иезуиты были и след-
ствием и причиной. Они были воплощением «модерни-
зированного» католицизма, по возможности приспосо-
бившегося к новым временам, чтобы лучше сохранить
свою сущность. Они были разумом, который сменяет ве-
ру и воображение и полагается более на искусство прав-
ления, чем на страсти и насилие,— разумом, который
доведен до предела извращенности,— типичная софисти-
ка XVII века. Они родились из того же самого духа, ко-
торый вывел на мировую сцену Макиавелли. Поэтому
они тоже были прогрессом, естественным продуктом
истории. Их вина состоит в том, что, обнаружив не-
вежество и вялость своей эпохи, они не боролись с
ними, чтобы улучшить человека, но благоприятствова-
ли им и основывались на них. Такова вина всякой реак-
ции. Они хотели культуры с позволения вышестоящих
и принадлежащей немногим. И когда культура, разбив
преграды, распространилась, то пришел конец их цар-
ству.
20. Распространение культуры было в Италии за-
метным. Я говорю не только о точных и естественных
науках, в которых: весьма преуспели иезуиты, со своей
стороны следуя путем Галилея, но это касается также
исторических и социальных наук. Излишки золота, по-
явившиеся в результате открытия Америки и повлекшие
за собой кризис денежной системы, вызвали к жизни
первые сочинения по экономике, в том числе «Рассу-
ждение о монетной системе и о правильном соотноше-
23* 355
нии между золотом и серебром» Гаспаре Скаруффи !,
который, как и Кампанелла, стоял за единую денежную
систему; появился также трактат о «Причинах, по кото-,
рым в государствах может появиться излишек золота, и
серебра», автор которого, Антонио Серра из Козенцы,
написал его в Викарии, сидя в тюрьме, как сообщник
Кампанеллы2. Появилось множество трактатов по юрис-
пруденции главным образом во второй половине века.
В книге «De iure belli» Альберико Джентиле уже чув-
ствуется Гроций; близок к нему по силе аргументации
Алессандро Турамини, который написал «О Пандек-
тах»3. В числе толкователей римского права достойны
упоминания Альчиато, Аверани, Фариначчо, Фабро.
Основателями истории права были великий Карло Сиго-
нио, как его называет Вико4, и Панчироли, учитель Тассо.
Довольно серьезные работы по исторической хроно-
логии опубликовали Аллаччи, Риччоли, Веккьетти. По-
явились венецианские, неаполитанские, пьемонтские, пи-
занские истории, авторами которых были Нани, Гард-
зони, Суммонте, Капечелатро, Тезауро, Рончони. Это
были скорее хроники, чем истории, грубоватые по харак-
теру и стилю. В Риме, естественно, развивалась археоло-
гия. Фабретти из Урбино написал сочинение о римских
акведуках и о Трояновой колонне, а также опубликовал
1 Сведения о Гаспаре Скаруффи и о его трактате взяты из
Канту (op. cit., p. 382). Из «Истории...» Канту Де Санктис почерпнул
большинство сведений, изложенных на последующих страницах, от-
носительно экономистов, юристов и эрудитов XVII века и повторил
большинство хронологических неточностей и ошибок в именах.
2 Источник ошибки — Канту (там же). Таково было распростра-
ненное мнение в историографии XIX века* (см. также Bartholmess,
Bruno, II, p. 42). Кроче замечает: «Теперь известно, что Серра на-
ходился в тюрьме по обвинению в подделке денег, по-видимому кле-
ветническому».
3 Трактат Турамини называется «De Legibus». Путаница идет
от Канту: «Алессандро Турамини из Сьены написал сочинение о Пан-
дектах под заголовком «De Legibus» (op. cit., p. 383). О поздней-
ших юристах см. ibid., p. 382.
4 См. «Aggiunte della Scienza Nuova seconda». («Добавление
к Второй Новой науке»), гл. V, которое Де Санктис, возможно, про-
чел в «Неизданных сочинениях» Джамбаттиста Вико («Scritti in-
editi»), опубликованных Дель Джудиче (Napoli 1862): «Исходя
из здравых принципов, трактовал римское право великий Карло Си-
гонио, писавший с огромной и тщательной эрудицией»; ср. также
«Вторая новая наука» («Scienza Nuova seconda», а сига di F. Ni-
colini, Ban 1942, II, p. 254).
356
в восьми сериях 430 древних надписей, тщательно ком-
ментированных. Выходило множество компиляций и
сборников как пособия для ученых. Дзильоли написал
«Указатель веех книг по церковному и гражданскому
праву», а Дзилетти — трактат «Всеобщее законодатель-
ство» в 28 томах. Уже существовали анналы, газеты,
библиотеки, каталоги и тому подобные средства распро-
странения знаний. Витторио Сири опубликовал «Поли-
тический Меркурий» и «Потаенные воспоминания», Аво-
гадро — «Правдивый Меркурий». В 1668 году Надзари
начал издавать в Риме «Газету литераторов», Чинелли
публиковал «Летучую библиотеку», нечто вроде литера-
турной истории. Появились «Анналы» Баронио, «Жизне-
описания пап и кардиналов» Чакконио1, «Всеобщая
история соборов» монсеньера Баттальини, «История ере-
сей» Бернини, «Священный Неаполь» Чезаре Караччоло
и «Священная Сицилия» Пирро, перечни сведений о епи-
скопах, «Итальянская ученая смесь» отца Роберти, «Из-
бранная библиотека» и «Apparatus Sacer» иезуита Пос-
севино, «Историческая карта мира» отца Форести, кото-
рую продолжил Апостоло Дзено и которая была первой
попыткой создания всеобщей истории. К этому нужно
прибавить отчеты путешественников, как, например,
«Описание Московии» Поссевино, путешествия неаполи-
танца Каррери, который в 1698 году пешком совершил
кругосветное путешествие, «Донесение» болонца Дзани,
который побывал в Московии, письма Негри да Равенна,
который добрался до Нордкапа, описание обеих Индий
флорентийца Сассетти, который первым сообщил сведе*
ния о санскритском языке. Постепенно итальянцы нача-
ли лучше узнавать мир и чужие народы. Пьетро Маф-
феи из Бергамо изящным латинским стилем описал Во-
сточную Индию, феррарец Фаллетти2 рассказал о
1 Как и предыдущие сведения, это взято из Канту (op. cit.,
р. 387); отметим, что «Vitae et gesta summorum Pontificum» была
напечатана в Риме в 1601 году, но автором ее был испанец Алонсо
Чакон.
2 См. Канту, op. cit., p. 389. Girolamo Faletti, автор книг
«De bello sicambrico» и «Delia guerra di Germania in tempo di Car-
lo V», на самом деле родился в Трино Верчеллезе: в Ферраре он жил
как советник герцога д'Эсте и умер там в 1564 году. Как и в случае
с 'Фаллетти, даты жизни писателей не всегда точны; так, перенесены
в XVII век Андреа Альчато (1492—1550), Филиппо Сассетти
(1540—1588) и Томмазо Гардзоии (1549—1589).
357
Шмалькальденской лиге; Бентивольо искусственным сло-
гом писал о войнах во Фландрии, Давила — с небреж-
ной простотой —о гражданских войнах во Франции,
отец Страда — пространно о бельгийских делах. В соз-
дании этой эмпирической культуры и чистой эрудиции
принимали участие все: светские люди и клирики, новые
люди и люди старого склада, причем чрезвычайно дея-
тельны были иезуиты; думали мало, но учились многому
и у многих. Культура распространялась вширь, но утра-
чивала глубину.
Тот, кто посмотрел бы в то время на Италию неис-
кушенным глазом, мог бы назвать ее счастливым краем..
Революция и война ушли из ее пределов: полный мир,
спокойствие духа, отдохновение ума. Мелочи станови-
лись там событиями; у Англии в то время был Кром-
вель, а у Италии — Мазаньелло. Европа шла вперед без
Италии и помимо нее, через войны и революции, в ко-
торых создавалась новая цивилизация. Италия же бла-
женно покоилась в сладкой идиллической праздности,
ставшей музой и мечтой ее поэтов. В германских войнах
рождалась свобода совести, в английских революциях —
политическая свобода, в результате гражданских войн
во Франции возникало могущественное единство и золо-
той век Франции, монархия Карла V и Филиппа II раз-
рушилась в борьбе против маленького голландского на-
рода. Италия присутствовала при этих великих событи-
ях, не понимая их. Давила и Бентивольо выискивали в
них интриги и любопытные анекдоты, театральную сто-
рону. А ведь в этих событиях принимали участие и ве-
ликие итальянские актеры: Екатерина Медичи, Мазари-
ни, Евгений Савойский, Монтекукколи-, чей трактат о
войне является одним из самых серьезных сочинений,
написанных в этот период. В Европе боролись не только
мечом но и пером; самые абстрактные проблемы инте-
ресовали и возбуждали широкие круги людей; из столк-
новений, как искры, возникли новые проблемы и новые
решения; была эпоха всеобщего брожения мыслей. То,
что еще противоречиво и неустойчиво складывалось в
умах одиноких Бруно и Кампанеллы, там стало мыслью,
подкрепленной страстями, отточенной в борьбе, готовой
к воплощению на столь обширной арене, среди стольких
откликов с такой ясностью и четкостью контуров, как
если бы мысль уже стала делом. Этой ясности полно-
358
стью добились Бэкон и Декарт, у которых современный
•мир освободился от всех схоластических и мистических
элементов, от всех предрассудков и утверждал себя в
четких и сжатых формах. Поэтому Галилей, Бэкон и Де-
карт являются подлинными отцами современного мира,
совестью новой.науки. Тот метод, который Галилей при-
менял к естественным наукам, стал в руках Бэкона все-
общим и абсолютным методом, путем к истине во всех
его приложениях; индукция изгоняет силлогизмы, опыт
обращает в бегство сверхъестественное. Декарт со своим
принципом «следует во всем сомневаться» резюмирует
отрицающую сторону нового движения, лишая всякого
значения авторитет и традицию; а его принцип «cogito
ergo sum» («мыслю — следовательно, существую») явля-
ется краеугольным камнем нового здания, основой утвер-
ждения. Как и Реформация, Декарт принимает за источ-
ник познания индивидуальные ощущения; подобно тому
как Галилей основывал естественный мир на фактах, Де-
карт основывает мир метафизический на одном факте:
«Я мыслю». К внешнему опыту прибавляется опыт внут-
ренний— психологический анализ. Существование, кото-
рое было философским «первичным», здесь стало про-
дуктом сознания, следствием; свидетельство чувств и
сознания, внутреннее познание есть критерий истины. Де-
карт, как математик, ввел в философию геометрическую
форму, полагая, что благодаря форме в мир метафизики
войдет та очевидность, которая существует в математи-
ческом мире. Это было иллюзией, но ее благодетельным
результатом явилось окончательное изгнание схоласти-
ческих форм и переход к той естественной форме рас-
суждения, пример которой дал Макиавелли и сам Де-
карт в своем превосходном «Методе». Эти идеи были не
новы для Италии, они стали общим местом для всех но-
вых людей, но оставались бесплодными, потонув в не-
зрелом общем синтезе и не находя отклика. У Декарта
же они нашли себе должное место, они подчеркнуты,
выделены, сформулированы ясно и энергично; поэтому
они прозвучали как откровение. С другой стороны, Де-
карт позаботился о том, чтобы не порвать с верой, и на-
стаивал на духовной природе души и на ее отличии от
плоти, что является основой христианской доктрины. Де-
карт говорил, что существование плоти представляется
ему даже менее достоверным, чем существование духа;
359
эти положения в соединений с его тезисом о врожден-
ных идеях оставляли открытой дорожку к теологии я
к сверхъестественному. Таким образом, Декарт первым
создал такую новую философию, которая казалась при-
миримой с религией, и в то время, когда критика нахо-
дилась еще в младенчестве, не так легко было учесть
все последствия этой философии. Поэтому-то картезиан-
ская философская реформа, так же как религиозная Ре-
формация, имела большой успех, ибо эффективны имен-
но те реформы, которые по внешности не столь далеки
от прошлого и от действительного состояния умов. До-
бавьте к этому ее поверхностность, крайнюю ясность и
доходчивую форму, в которой Декарт представил пуб-
лике несколько ясных идей. Тут уже проявился фран-
цузский дух — популярный и популяризирующий. Есте-
ственным следствием этой философской реформы было
то, что человек возвращался в лоно природы, становил-
ся частью естественной истории. Поскольку философия
имеет своей основой сознание, изучение сознания или
психологических явлений становилось предварительным
условием всякой метафизики, так же как изучение при-
роды стал-о преддверием всякой космологии. Мир выхо-
дил из абстрактных обобщений и приступал к серьезно-
му изучению человека и природы, к изучению реального.
По этому пути, скромному и убедительному, шел Гали-
лей; именно здесь были достигнуты великие успехи в об-
ласти позитивных наук. Декарт применял к метафизике
те же приемы натуральной философии, отторгнув мета-
физику от сверхъестественного, фантастического, пред-
положительного и дав ей верную основу в опыте и на-
блюдении. Но в те времена психологические факты были
еще слишком поверхностны и немногочисленны для то-
го, чтобы, оперируя ими одними, можно было решить ме-
тафизические проблемы; а Европа была еще слишком
молода, слишком проникнута богословием и метафизи-
кой, представлениями о тайных и оккультных силах, и у
нее не хватало терпения изучать данные прежде, чем
приступать к разрешению проблемы. Врожденные идеи
и «водовороты» Декарта, видение бога1 Мальбранша,
1 Так в рукописи и в издании Морано. Кроче, а за ним и дру-
гие издатели поправляют: «видение в боге», ср. Н. Ма'льбранш,
О поисках истины (Malebranchc N.. De la recherche de la verite,
1674—1675), ниже упоминаются кн. I и V этой работы о воображе-
360
единая субстанция Спинозы, предустановленная гармо-
ния Лейбница были предположительными и недолго-
вечными теодицеями, которые временно удовлетворяли
тогдашнюю мысль и свидетельствовали о ее силе. Но тол-
чок был уже дан, и среди всех этих воображаемых по-
строений игеуклонно двигалась вперед естественная исто-
рия человеческого интеллекта, наука о человеке. Раз-
мышления Декарта1, великолепные работы Мальбранша
о воображении и страстях, «Мысли» Паскаля, в кото-
рых человек перед лицом самого себя ощущает себя еще
загадкой,— все эти работы были как бы прелюдией к
«Опыту о человеческом разуме» наследника Бэкона,
Джона Локка, величие которого равнялось его скром-
ности. Здесь картезианская реформа нашла свое высшее
и последнее выражение; здесь философия обрела своего
Галилея, осуществила идеал своего возрождения, к ко-
торому стремились новые люди через столькие препят-
ствия; здесь философия, упрочила свои позитивные осно-
вы на опыте и наблюдении, на действительном предмете,
как говорил Макиавелли, посредством естественного по-
нимания, как говорил Бруно, с помощью телесных и ум-
ственных очей, как говорил Галилей, и читая в книге
природы, как говорил Кампанелла. Рухнули и схоласти-
ческие и геометрические формы; философия вышла из
героической эпохи и вступила в эпоху людей; на место
доктринерских изречений явились популярные формы из-
ложения, в которых отшлифовались современные языки.
Простота, ясность, порядок и естественность стали не-
обходимыми качествами формы, и первым великолеп-
ным примером всего этого явился «Опыт» Локка. Таким
образом, философия, идя от теологии, достигла противо-
положного полюса, от сверхъестественного и сверхчув-
ственного придя к чисто естественному и чисто чувствен-
ному, к девизу: «Нет ничего в интеллекте, чего предва-
нии и страстях. Относительно французской и английской мысли
XVII века см. юношеские лекции Де Санктиса, посвященные воз-
никновению нового европейского духа («Teoria e storia», I, pp. 150
и ел., и «Purismo illuminismo storicismo»).
" 1 Подразумеваются «Размышления», опубликованные Декартом
на латинском языке в 1641 и позже, в 1647 году, переведенные на
французский язык. Упоминания о них см. также ниже.
361
рительно не было бы в ощущении»1. Это было уже не
абстрактной одинокой концепцией, а новым духом, про-
никшим во все познаваемое и в качестве последнего ре-
зультата проявившимся в философии. Мораль также от-
делилась от божественных или церковных заповедей и
искала своих основ в природе человека — не того чело-
века, каким его сформировало общество, но в его цель-
ном и нетронутом существе. Вслед за естественной фило-
софией появилось и естественное право, выступили на
сцену Гроций, Гоббс, Пуффендорф, Кампанелла, Сарп.и,
и все реформаторы мечтали о возвращении к раннехри-
стианской церкви во всей чистоте ее установления и во
имя ее порицали последующую деятельность пап как из-
вращение и фальсификацию; равным образом философы
мечтали о человеке в природном состоянии и боролись
против всех социальных установлений, которые не соот-
ветствовали этому состоянию. Так, религиозное движе-
ние становилось политическим и социальным; идея была
все та же, и она стала теперь достаточно сильной, чтобы
распространить следствия также на политическую об-
ласть. Возникает дух критики и исследования, который
не считается ни с какими авторитетами и традициями и
проявляет свой скепсис в отношении всех фактов и прин-
ципов, до сих пор считавшихся бесспорными, как аксио-
мы. Появляется Бейль со своей иронией и всеобъемлю-
щим сомнением2. Локк осуществлял принцип «мыслю»,
а Бейль — принцип «все следует подвергать сомнению»,
и тот, кто сравнивает его «Словарь» с итальянскими сбор-
никами, может увидеть, где живое и где мертвое. Что же
делала Италия перед лицом этого огромного движения
1 Изречение «Нет ничего в интеллекте, чего предварительно не
было бы в чувстве», понимаемое схоластически, было формулиров-
кой процесса познания (ср. также «Paradiso», IV, 41—42), но стало
выражать концепцию Локка об опыте и познании.
2 См. в юношеских лекциях краткую панораму развития фран-
цузской мысли после Декарта: «В области мысли произошли ради-
кальные изменения, идущие от Бэкона, Декарта, Гроция и их прин-
ципов: опыт, сомнения и разум, общество или природа. На этих
принципах основывалось психологическое направление новой фило-
софии, и, опираясь на них, Бейль распространил всеобъемлющее
сомнение и иронию и открыл дорогу отрицателям последующего
века» («Teoria e storia», cit., I, p. 92, и «Purismo illuminismo stori-
cismo», II). «Dictionnaire historique et critique» Пьера Бейля был
опубликован впервые в Роттердаме в 1697 году. О важности и зна-
чении творчества Бейля см. ниже.
362
событий и идей? Италия создала Аркадию1. Это был
продукт, соответствующий ее моральному состоянию.
Поэты Аркадии изображали золотой век и в этой ни-
чтожной окружающей их жизни измышляли абстракт-
ные темы и бесцветные любовные истории пастухов и па-
стушек. Ученые же, предоставив миру идти своим путем,
изучали античность, и так и сяк исследовали реликвии
Рима и Афин; а поскольку идеи были даны заранее и не
подлежали обсуждению, они занимались фактами и, не
имея возможности быть самостоятельными авторами,
превратились в толкователей, комментаторов и эруди-
тов. Литература и наука исчерпывались Аркадией, цент-
ром ее была Христина Шведская; бедняжка, не поняв
великих событий, в которых такую большую роль игра-
ли ее Густав и Карл, бежала в Рим со своими богат-
ствами и ощущала себя столь счастливой среди арка-
дийцев, которым она покровительствовала и которые в
благодарность называли ее бессмертной и божествен-
ной. Счастливая. Христина! Счастливая Италия!
21. Умственное отставание итальянцев было уже из-
вестным фактом для ученой Европы. Вину за это возла-
гали на скверное папское и испанское правление. Но и
сами итальянцы уже стали сознавать свой упадок и, от-
выкнув думать своей головой, жадно воспринимали за-
граничные идеи и клянчили похвалы от иностранцев В
течение многих лет Жан Леклерк составлял свою «Биб-
лиотеку», своего рода толковую опись новых произведе-
ний2. Каким же счастливым почитал себя тот итальянец,
который удостаивался в этом сочинении хоть маленького
местечка! Французский язык стал почти общепринятым
и постепенно занял место латыни. Процесс заимствова-
ния идей был медленным, ему мешали многие препят-
1 Ср. с этим прокатолическую, националистическую позицию мо-
лодого Де Санктиса в «Teoria е storia», I, pp. 156 и ел., и в «Ри-
rismo illuminismo storicismo», II.
2 Жан Леклерк сотрудничал в «Bibliotheque universelle et histo-
rique», 25 voll., 1686—1693, и в «Bibliotheque ancienne et moderne»,
49 voll, Amsterdam 1714—1730. Де Санктис имеет в виду именно эту
последнюю, зная о связях Вико с Леклерком и будучи знаком с по-
явившимися в этой «Библиотеке» рецензиями на «De universi juris»
и «De constantia iurisprudentis» (т. XVIII, ч. 2, p. VIII). Ср. Вико
(«Vita scritta da se medesimo», в «Opere», ed. Ferrari, Milano 1853,
vol. IV, pp. 376 и ел.; ed. Nicolini, Bari 1929, pp. 47 и ел.), в кото-
ром приведен перевод обеих рецензий и письма Леклерка к Вико.
363
ствия, против него ожесточенно боролись в академиях
и школах, где среди толкователей и комментаторов гос-
подствовали Суарес и Альварес1. «Физика» Декарта по-
пала в Неаполь через 70 лет после его смерти, когда она
уже была забыта во Франции2, а его «Метод» и «Раз-
мышления» еще не были известны в Италии. Гроций
был доступен немногим. Одни имена Спинозы и Гоббса
приводили в ужас. О Джоне Локке едва ли кто слышал.
Но движение умов все же намечалось, как нечто смут-
ное и туманное, как потребность нового, свидетельствую-
щая о возвращении к жизни. Казалось, разум просыпает-
ся после долгого сна. Последователи Декарта проника-
ли в школы со своими нашумевшими методами, как
выражался Вико, обещавшими легкую и верную науку.
Дефиниции, аксиомы, проблемы, теоремы, схолии и по-
стулаты изгоняли силлогизмы, энтимемы и сориты. Прин-
цип «что и следовало доказать» пришел на смену «ergo».
Новые люди называли перипатетиков педантами, а те
в свою очередь называли их шарлатанами. Так бывает
всегда. Старое называют педантством, а новое — шарла-
танством. И доля правды в этом есть. Ибо старое в
своей застойности и дряхлости родственно педантству,
а новое в своих юношеских преувеличениях— шарлатан-
ству. У каждого есть своя слабая сторона, которую нель-
зя скрыть от острого и пристрастного взгляда против-
ника.
Картезианская реформа в Италии не привела к ка-
кому-либо серьезному научному прогрессу, как это всег-
да бывает, когда наука заимствуется, а не возникает из
длительной работы национального духа. Она была по-
лезна как средство распространения новых идей, кото-
рые, будучи изгнаны из Италии кострами, пытками и
кинжалами, гновь вернулись под покровительством хри-
1 О господстве в области грамматики и философии Альвареса
и Суареса в итальянских иезуитских школах см. ниже, а также
«Жизнь...» («Vita») Джамбаттиста Вико, которую Де Санктис ис-
пользовал, чтобы обрисовать культурную жизнь Италии в последние
десятилетия XVII века.
2 Также почерпнуто из Вико. Отметим, что «Filosofia naturale»
или, лучше, «Fundamenta physicae» (1646) Эррико Реджо, «под мас-
кой которого, — утверждает Вико, — начал печататься Декарт», при-
надлежит Ле Руа, а не Декарту, который от этих сочинений отме-
жевался и отрекся. Ср. примечания к «Автобиографии», изд. Нико-
лини, стр. 109,
364
стианских идей. Эта реформа получила название «кар-
тезианского платонизма» и якобы призвана была благо-
словить .религию от имени философии. Инквизиция в
этот период крайне быстрого распространения идей
была занята Спинозой, открытым врагом, и пропустила
нового Платона, который по крайней мере не затраги-
вал догм. Перипатетики взывали к инквизиции против
новаторов, а новаторы в ответ объявляли Аристотеля
врагом религии. Так движение в Италии возобновилось
с согласия или по крайней мере при терпимости со сто-
роны Рима. Это движение было аркадским, замкнутым в
абстракциях и почтительным ко всем существующим
установлениям. Оно оставалось поверхностным, но все
же распространялось, завоевывало души в пользу ново-
го, оттесняло перипатетиков, проникало в умы молодо-
го поколения, создавало общение с Европой и подго-
товляло преобразование национального духа.
Серьезное научное движение началось там, где оно
было приостановлено, — в самом лоне эрудиции. Изуче-
ние прошлого было своеобразной умственной гимнасти-
кой, в которой разум набирался сил. На смену сборни-
кам пришли толкования. В них стал развиваться дух
исследования, наблюдения, сравнения, результатом чего,
естественно, были сомнения и споры. Новый дух вел
эрудитов и в толковании античных памятников. Они
уже не были просто эрудитами, они стали критиками.
В Европе критика возникала как результат свободного
изучения и бунта; критика была еретической. В Италии
она была частью- Аркадии, интеллектуальными упраж-
нениями в области прошлого, и в качестве таковой ее
разрешали. Европейским критиком был Бейль; италь-
янским критиком был Муратори. Его пространные и
добросовестные сборники «Историки итальянских дея-
ний», «Древности средних веков», «Итальянские анналы»
и «Новая сокровищница надписей» *, а также «La Vero-
na illustrata» и «Storia diplomatica» («История диплома-
тии») Шипионе Маффеи, «Illustrazioni» Фабретти
1 Отметим, что Де Санктис не упоминает о других сочинениях
Муратори, по преимуществу критических: «О совершенной поэзии»
(«Delia perfetta poesia», Modena 1706), «Наблюдения над рифмами
Петрарки» («Osservazioni sulle rime del Petrarca», Modena 1711)
и «О размышлениях относительно хорошего вкуса» («Delle reflessio-
sopra .il buon gusto», Venezia 1723). Более развернутое суждение
0 Муратори как о критике см. в «Saggio critico sul Petrarca».
365
относятся к тому периоду, когда наука еще ocfaef-
ся в области эрудиции, но в эрудицию проникает
критика. Это еще не философия, но уже здравый смысл,
укрепившийся в добросовестных исследованиях и терпе-
ливых наблюдениях. Муратори по своему позитивному
духу, скромности и верному критерию довольно близок
к Галилею. У него тоже есть смелые мысли. Он осме-
лился выступать против светской власти папы, осмелился
предостеречь итальянцев от ошибок и фантастических
иллюзий. Он не подвергся осуждению только благодаря
умной терпимости папы Бенедикта XIV, который сказал,
что «сочинения великих людей не должно запрещать» и
что вопрос о светской власти «не есть материя ни догма-
тическая, ни дисциплинарная» К Маффеи также пока-
зался неверующим Тартаротти, ибо отрицал магию, и
еретиком отцу Кончина, ибо написал книгу «О древних
и современных театрах». Однако добродушный папа рас-
порядился «не запрещать театра, а стремиться к тому,
чтобы представления были елико возможно приличными
и добропорядочными». Папская Италия была еще более
папистской, чем сам папа.
Аркадийцем был также Джан Винченцо Гравина,
целиком погруженный в Грецию и Рим, папство и импе-
рию, тексты и комментарии, повернувшись спиной к Ев-
ропе. Преданный догме и абсолюту, он изрекает сентен-
ции и мало дискутирует, стиль его монотонен и тяжел.
Это еще итальянский педант, согбенный под бременем
своей доктрины, лишенный вдохновения и оригиналь-
ности, чувства и воображения. И все-таки даже и в нем
ощущается конец века. Перед нами уже не эрудит, кото-
рый собирает и обсуждает тексты, но критик, который
пользуется историей и философией, чтобы пояснить
юриспруденцию, поднимается до общей концепции права
и ищет порождающий его принцип. В своей книге
«Основы поэзии» он хоть и не проявляет вкуса и истин-
ного ощущения искусства — что, однако, не является его
1 См. Письмо Бенедикта XIV к Муратори от 25 сентября
1748 года: «Я всегда полагал, что не следует раздражаться из-за
расхождения во мнениях в области догмы и дисциплины, хотя каж-
дое правительство могло бы запретить те книги, которые содержат
вещи, ему неприятные». Письмо приводится у Канту (op. cit.,
р. 528). Из его же «Storia» взяты нижеследующие сведения о Ши-
пионе Маффеи и о долготерпении «добродушного папы» (ibid.,
р. 530).
366
виной, —но все же выходит за эмпирические рамки
чистой .эрудиции и предается рассуждениям общего
характера К
Вот и другой талантливый человек, веронец Фран-
ческо Бьянкини. О чем он думает? Об ассирийцах, мидя-
нах и троянцах. Но он не просто собирает материал,
а думает, то .есть исследует, сравнивает, судит, пред-
полагает, придумывает и строит концепции. Памятники
не остаются более мертвой буквой. Они говорят, они
проясняют хронологию и историю. При их помощи уста-
навливают даты, эп'охи, обычаи, мысли, символы, вос-
создается доисторический мир. В этой геологии истории
факты и люди тонут, уменьшаются, становятся леген-
дами, а легенды становятся идеями. Его «История» по-
явилась в 1697 году2. Вико тогда было 29 лет.
Итак, эрудиция порождала критику. В Италии про-
буждалось историческое и философское чувство. Но
пробуждалось оно не на живом, а на мертвом мате-
риале, на изучении прошлого. Таков был характер италь-
янского научного прогресса. На свой страх и риск
занимались настоящим лишь сумасброды. В числе этих
чудаков был миланец Грегорио Лети, который написал
скандальную хронику своего времени стилем, который
стоит ближе к европейскому, чем к итальянскому,
также Ферранте Паллавичино, автор «Украденной поч-
ты»— своего рода всеобщей сатиры, где достается всем.
В этой пустоте жизни талант истощался в гротескных
аргументах и в формах, которые внешне казались остро-
умными, а на деле были пустяками, аркадским XVII ве-
1 См. Канту, op. cit., pp. 483—484, а также юношеские лекции
по истории критики: «Некоторые исключения были, но не очень вы-
дающиеся. Таков, например, Гравина, скверный поэт и тяжеловесный
критик, вроде Лагарпа во Франции, а также посредственный фило-
соф, но с утонченным вкусом, как у Квинтилиана. Тем не менее
авторитет Аристотеля подавлял его, и поэтому в нем совмещаются
здравый смысл и педантство. Он высказывает великолепные сужде-
ния о Данте и Ариосто, но тут же в соответствии с правилами Ари*
стотеля ставит Триссино выше Та'ссо» («Teoria e storia», II, р. 66, и
«Purismo illuminismo storicismo», III), o «Ragion poetica», см.
в гл. XX.
2 «Всеобщая история, подкрепленная памятниками и проиллю-
стрированная античными символами» («Istoria universale provata con
monumenti e figurata con simboli degli antichi», Roma 1697). В вы-
сказываниях о Бьянкини, так же как о других эрудитах, перечислен-
ных выше, Де Санктис основывался на сведениях из Канту (ор.
cit., pp. 400—403)
36?
ком. Каноник Гардзони написал «Театр светских умов»,
«Больница для неизлечимых безумцев», «Синагога не-
вежд», «Сераль чудес мира». Все это академические
рассуждения, нашпигованные непереваренной эруди-
цией, более забавной, чем здравой. Такие произведе-
ния были настоящей язвой Италии и свидетельствовали
о болтливой педантской культуре без всяких серьезных
целей и средств. Наиболее известным из этих ученых
мужей — а их было множество — является Антон Ма-
рия Сальвини, человек, напичканный знаниями, но вя-
лый духом и без полета воображения, проживший пу-
стую жизнь. И он еще хотел переводить Гомера.
22. На всей этой эрудиции и формировался Вико К
Он изучал философию по Суаресу, грамматику по Аль-
варесу, право — по Вультеусу. Будучи преподавателем
в доме делла Рокка в Ватолле (местечко в Чиленто), он
в течение девяти лет занимался в монастырской библи-
отеке, где, как и Кампанелла, и почерпнул свои знания.
Когда он по исполнении своих обязанностей вернулся
в Неаполь, то был уже ученым мужем — каким мог
в то время быть итальянец и каких было довольно много
даже среди иезуитов. Это были времена Муратори, Фон-
танини, аббата Конти, Маффеи, Сальвини. Ученейшим,
образованнейшим был Лионардо ди Капуа и «latinis-
simo» Томмазо Корнелио — так называет их сам Вико2.
1 В последующем изложении Де Санктиса сведения о жизни,
эволюции и различных этапах развития мысли Джамбаттиста Вико
даются в соответствии с автобиографией самого Вико. См: «Жизнь
Джамбаттиста Вико, написанная им самим», в книге Вико, Основа-
ния новой науки об общей природе наций, Л., 1940. По этому же
изданию даются отсылки и примечания к цитатам из «Второй но-
вой науки» (изд. 1744 года). Примечания к цитатам из «Первой но-
вой науки» (1725 год) даются по изданию «Ореге», Вико, изд. Gius.
Ferrari, б voll., Milano 1852—1853, vol. IV. Для Де Санктиса Вико
был одним из тех авторов, которые явились краеугольным камнем
всего его исторического построения (ср. юношеские лекции в «Teoria
е storia», cit., II, pp. 73—74 и 131—133, а также «Purismo illuminismo
storicismo», cit., III). Относительно интерпретации Вико у Де Санк-
тиса см. уже цит. соч. В. Spaventa, Napoli 1862. Об оценке Вико
в критике начала XIX века (Куоко, Мишле, Романьози и др.),
в русле которой находится Де Санктис, см. F. N i с о 1 i n i, Prefa-
zione all' «Ореге», ed. Ricciardi, Milano — Napoli 1953, pp. XX и ел.
2 В рукописи с большей близостью к тексту самого Вико: «Уче-
нейший», «образованнейший» были обычными эпитетами той эпохи.
В своих похвалах Вико называет Буранья «ученейшим», Лионардо
ди Капуа «образованнейшим», а Томмазо Корнелио — «latinissimo»
368
Сам он великолепно знал греческих и латинских авто-
ров, Аристотеля и Платона со всеми их толкованиями
вплоть до современных ему; среди авторов Чинквеченто
он восхищался тем же античным миром, воскресшим
в лице таких людей, как Фичино, Пико, Маттео Аква-
вива, Патрицци, Пикколомини, Маццони1; он был
весьма сведущ в литературе, археологии, юриспруден-
ции; средневековье пришло к нему вместе со схоласти-
кой и Аристотелем, Чинквеченто принесло ему Платона
и Цицерона; о европейской мысли он знал, насколько
это было возможно в Италии. Это был ученый эпохи
обновления, который стряхивал с себя пыль средневе-
ковья и искал жизнь и истину в античном мире. Его зна-
ние было эрудицией, форма его мысли была латинской,
а ее обычным содержанием— римское право. Адвокат
без клиентов Вико занимался литературой и был
школьным учителем. Добрые времена Пьетро Аретино
миновали. Литература без преподавания оставалась бед-
ной и нагой, как философия. Вико был домашним учи-
телем, писал канцоны, диссертации, речи, жизнеописа-
ния— на случай или по заказу. С ним познакомился дон
Джузеппе Лючина, «человек огромной эрудиции на гре-
ческом, латинском и тосканском языках, во всех видах
человеческого и божественного знания»2, который свел
его с доном Никколо Каравита, адвокатом и «большим
покровителем литераторов». Вико, частично по своим
заслугам, частично благодаря протекции, стал профес-
(см. «Жизнь Джамбаттиста Вико...», указ. соч., стр. 486). Лионардо
ди Капуа, родом из Баньоли Ирпино (1617—1695), боролся против
барочности и восстановил в Неаполе формы самого чистого треченто
в своем знаменитом «Рагеге sul'incertezza della medicina», ed. Vene-
zia 1681; Napoli 1689). Томмазо Корнелио из Ровито (1614—1684)
был автором «Progymnasmata».
1 См. «Жизнь...», цит., стр. 486: «Метафизика, которая в XVI веке
сообщила такую возвышенность литературе у таких людей, как Мар-
силио Фичино, Пико делла Мирандола, Нифуса, Стеухуса, Якопо.
Мандзони, Алессандро Пикколомини, Маттео Аквавива, Франческо
Патрицци».
2 См. «Жизнь...», цит., стр. 487. В сборниках того времени фи-
гурируют различные поэтические сочинения Джузеппе Лючина, по-
следователя ди Капуа. Нижеследующая цитата о Каравита (Ник-
коло Каравита,# 1647—1717, адвокат по фиску при королевском суде,
электор Неаполитанского университета) см. там же. Точный текст
гласит: «Покровитель литературы, в которой сам он весьма отли-
чался».
24 Де Санктис
369
сором риторики в университете. Он прожил простую
и непримечательную жизнь с 1668 по 1744 год. Это была
спокойная академическая жизнь итальянского эрудита,
сложившегося в библиотеках, вне окружающего мира,
человека, глубоко ушедшего корнями в традиции своей
родины. Европейское движение приходило к нему тоже
через библиотеку, да к тому же он знакомился с ним
в тех формах, которые были наиболее антипатичны его
занятиям и его духовному складу. Сначала ему попа-
лась физика Гассенди, затем физика Бойля и, наконец,
физика Декарта1. Подумаешь, какая большая но-
вость, думал наш эрудит. Ведь это было уже сказа-
но и Эпикуром и Лукрецием. И, чтобы понять Гассенди,
он взялся за изучение Лукреция. Но эти новшества нра-
вились публике. Физика, говорило молодое поколение,
это не схоластическая логика, а машины, Эвклид, экспе-
рименты, математика; а метафизику можно предоставить
монахам. Что же стало с Вико при всей его эрудиции и
с его римским правом? Он в ответ тоже стал доиски-
ваться физики, но не в машинах и в экспериментах, а
в своих занятиях эрудита. Позитивные науки с трудом
входили в широкие рамки его культуры; в математике
он ничего не знал, кроме Эвклида, полагая, что «умам,
которые приобрели универсальность благодаря метафи-
зике, не подобает таковое изучение, свойственное дюжин:
ным умам»2. Итак, он стал искать физику вне матема-
тики и за рамками экспериментальных наук — искал ее
среди сокровищ своей эрудиции и обрел ее в числах Пи-
фагора, точках Зенона, в божественных идеях Платона,
в древнейшей италийской мудрости. В Европе были
Ньютон и Лейбниц, а в Неаполе печатали «О древ-
нейшей мудрости итальянцев»3. Это были две культуры,
два научных мира, которые сталкивались. С одной сто-
роны, творческая мысль, которая создавала современ-
ную историю, с другой — критическая мысль, которая
размышляла об истории прошлого. Когда Вико, замк-
нувшийся в своей эрудиции, оторвавшийся от живого
мира в своей библиотеке, вернулся в Неаполь, он на-
шел новые чудеса. Раньше тут царствовала физика,
1 См. «Жизнь...», стр. 484—485.
2 Там же, стр. 484.
3 Первое издание «De antiquissima italorum sapientia» вышло
в Неаполе в 1710 году.
370
a fenepb все увлекались одной метафизикой. «Размышле-
ния» и «Метод» Декарта привели к новой мании. Вико
ощутил отвращение к городу, который менял мнения,
«как моду на одежду»1. Он почувствовал себя здесь чу-
жим и прожил здесь некоторое время и как чужестра-
нец и как неизвестный. Он смотрел на происходящее
движение сквозь призму своих занятий и предвзятых
мнений.
Ему казалось, что' эти атомистические системы физи-
ки могут привести лишь к атеизму и морали наслажде-
ния2; он находил их позиции ложными3, ибо атом, их
первооснова, был уже оформленным телом, а посему яв-
ляется не первоосновой, а первосбзданием; и Вико, ища
первоисточник за пределами атома, приходит к числам
и точкам. Он был одушевлен тем же духом, что Бруно
и Кампанелла, чувствовал себя согражданином Пифа-
гора и учеником древней италийской мудрости. Он от-
казывался принимать геометрический метод в качестве
универсальной панацеи: он был хорош для некоторых
случаев, и следовало использовать его без того внешне-
го блеска, который он считал претенциозностью, тщесла-
вием и шарлатанством. Принцип Cogito представлялся
ему столь же несерьезным, как и атом. Он также был
первосозданием, а не первопричиной4; он давал фено-
мены, но не науку. Вико считал Декарта чрезвычайно
претенциозным человеком и даже немного обманщиком,
а его «метод», при помощи которого Декарт, уничтожая
науку волшебной палочкой своего cogito, вдруг вновь
возрождает ее, казался ему риторической уловкой. А
картезианский принцип «de omnibus dubitandum» («во
всем сомневайся») его просто шокировал. Эта tabula ra-
sa по отношению ко всему прошлому, это презрение ко
всякой традиции, всякому авторитету, всякой эрудиции
глубоко задевало его верования, его интеллектуальную
жизнь, и Вико ожесточенно защищался, как защищают
1 См. «Жизнь...», стр. 486.
2 В рукописи далее вычеркнуто: «...и называл эпикурейцем не
только Гассенди, но и Декарта».
3 Там же, стр. 485, говоря о «Философии природы» Регия: «Он
занимает ложную позицию, принимая в качестве основания природы
уже оформленное тело...»
4 В рукописи далее вычеркнуто: «...это результат, а не причина.
Ты получаешь восприятие, феномен, но он не дает тебе существа,
субстанции; он дает феномены...»
24*
371
от разбойника свою жизнь и достояние. Распространение
культуры, множество книг, эти нашумевшие ускоренные
методы обучения, эта поверхностность занятий,смелость
мнений — естественные явления переходного периода, ко-
гда один мир уходит, а другой приходит ему на смену,—
приводили его в гнев. Вико привык к серьезным и глу-
боким занятиям, к тому, чтобы мыслить вместе со знаю-
щими и писать для знающих; ему не по душе была эта
популяризация науки, это быстрое распространение по-
верхностных и дурных идей. И он досадовал на книго-
печатание1. Гордился тем, что не принадлежит ни к ка-
кой секте. Здесь-то и было его слабое место. Он стоял
между двух веков, и в том конфликте двух миров, кото-
рые дали друг другу решительный бой, Вико был ни с
теми, ни с другими и попрекал обоих. Он был слишком
передовым для перипатетиков, иезуитов и эрудитов, но
слишком отсталым для других. Одни находили смешны-
ми его метафизические «точки»; другие считали опро-
метчивыми его этимологические изыскания и подозри-
тельной его эрудицию. В наши дни сказали бы, что он
один составлял третью партию. Вико обладал умом воз-
вышенным и серьезным, который видит пробелы, проти-
воречия и преувеличения, но этот ум одинок, безоружен,
не имеет последователей, стоит вне интересов и стра-
стей, а поэтому неискушен и недействен в пылу борьбы.
Если бы Вико-критик обладал хотя бы частицей апо-
стольского и провозвестнического духа Бруно и Кампа-
неллы, то он стал бы жертвой и тех и других. Но он
оставался безобидным философом, для которого вся
жизнь ограничивалась его кафедрой, домом и занятия-
ми; и он, воюя против книг, сохранял величайшее почте-
ние к людям. Кроме того, его увлечения проявлялись в
высочайших сферах философской эрудиции, кдоа за ним
могли следовать лишь немногие, и поэтому ему предо-
ставили витать в облаках и чтили за ученость, набож-
ность и доброту. Он сознавал свое одиночество, был им
недоволен, но упорствовал, радуясь, что «у него не было
учителя, словами которого он должен был бы клясться»,
и благословляя «те дебри, где, руководимый своим доб-
1 См. его письмо от 20 января 1726 года к отцу Витри («Auto-
biografia, il carteggio e le poesie varie», a cura Nicolini, Bari 1929,
pp. 205 и ел.).
372
рым гением, он прошел наибольший путь своих заня-
тий»1. В те времена латынь всем надоела—а он, оста-
вив греческий й тосканский языки, писал только по-ла-
тын/и. Вошел в моду французский язык — а он не поже-
лал его изучить. Литература тянулась к новому — а он
нападал на эту литературу, «не воодушевленную грече-
ской мудростью, не укрепленную римским величием»2.
В медицине он оставался с Галеном против современных
ему медиков, которые стали скептиками «из-за частой
смены систем физики». В области права он порицал со-
временных эрудитов и отстаивал античных интерпрета-
торов. Хвалили ясность математических наук — а он
предпочитал тайны метафизики. Превозносили индиви-
дуальный разум — а он противопоставлял ему тради-
цию, глас рода человеческого. Популярными деятелями,
прогрессистами своего времени были Лионардо ди Ка-
пуа, Корнелио, Дориа, Калопрезе3, которые проповедо-
вали новые идеи в духе века. Вико был отсталым, тащил-
ся в хвосте, как сказали бы сегодня. Европейская куль-
тура и культура итальянская впервые сталкивались,
одна — как наставница, другая — как служанка. Вико
сопротивлялся. Было ли это тщеславием педанта? Или
гордостью великого человека? Он сопротивлялся Декар-
ту, Мальбраншу, Паскалю, чьи «Мысли» назвал «отдель-
ными проблесками», Гроцию4, Пуффендорфу, Локку,
«Опыт» которого считал «сенсуалистской метафизи-
кой». Вико сопротивлялся, но изучал их глубже, чем это
делали новаторы. Он сопротивлялся, как человек, кото-
рый чувствует свою силу и не дает себя одолеть. Он со-
глашался с проблемами, но возражал против их реше-
1 «Жизнь...», стр. 486.
2 Точный текст гласит: «Не слышится речи, воодушевленной гре-
ческой мудростью, дабы воздействовать на нравы, или укрепленной
римским величием, дабы потрясать чувства» («Жизнь...», стр. 486);
там же ел. цитата о скепсисе медиков.
3 Также почерпнуто из «Жизни...». Паоло Маттиа Дориа
(1666—1746) — генуэзский философ и математик, переехавший
в Неаполь в 1696 году. Вико познакомился и подружился с ним.
Грегорио Калопрезе из Скалеа (1650—1715), «великий философ-кар-
тезианец» и литературный критик, был учителем Гравины и позже —
Метастазио. Вико встретился с ним, вероятно, в 1690 году в Акаде-
мии дельи Инфуриати; о ди Капуа и Корнелио см. выше.
4 В рукописи следовало: «Спинозе и Гоббсу». Цит. из Вико
о «Мыслях» Паскаля и об «Опыте» Локка см. п «Жизни...» соот-
ветственно на стр. 485 и 484.
873
ния и искал его своим nyteM, своими методами, в своих
занятиях. Это было сопротивлением итальянской культу-
ры, которая не давала поглотить себя и оставалась зам-
кнутой в своем прошлом; но в то же время это было со-
противлением гения, который, ища в прошлом, находит
современный мир. Вико был ретроградом, который, гля-
дя назад и идя своим путем, внезапно попадает из по-
следних в первые ряды, опережая всех тех, кто ему пред-
шествовал. Вот в чем заключалось сопротивление Вико.
Он ощущал и считал себя древним, а был новым и, со-
противляясь новому духу, обретал его в самом себе.
Бэкон произвел на него очень большое впечатление.
Он был его излюбленным автором после Платона и Та-
цита. По поводу его книги «De augmentis scientiarum»
он сказал: «У Рима и Греции не было своего Бэкона».
Вико находил в нем соединение идеального чувства
Платона и практического чувства Тацита, тайную муд-
рость одного и простонародную мудрость другого *.
Кроме того, Бэкон открыл ему новые горизонты: наука
у него уже не является закрытой книгой, нужно столько
восполнить, столько исправить. Вико со своей стороны
хочет внести нечто «в ту сумму, которая образует все-
ленскую республику наук». Он более не эрудит, закосте-
невший в прошлом, он — реформатор, исследователь.
Он критикует, сомневается, рассматривает, углубляет.
Он уже чувствует веяние нового духа. В его занятиях
древней италийской мудростью уже ощущается презре-
ние к «грамматическим этимологиям»2, пренебрежение
простонародной эрудицией; мы видим человека, который
прокладывает новые пути, прозревает новые горизонты,
ищет в частностях высокие обобщения.
Позже он обрел Гроция, который стал его «четвер-
тым автором»3. Гроций дополняет ему Бэкона. Бэкон
видит, «что все человеческое и божественное знание
нужно восполнить тем, чего в нем нет, и исправить
1 Относительно «De augmentis scientiarum», а также суждение
о Бэконе («несравненно мудром и в тайной и в простонародной
мудрости») см. «Жизнь...», стр. 489, откуда взята и нижеследующая
цитата.
2 См. там же, стр. 490, и в «De antiquissima italorum sapientia»,
ed. Ferrari, vol. II, pp. 57 и ел.
3 См. «Жизнь...», стр. 491, откуда взяты также последующие
цитаты.
374
да!
Щл
Джамбаттиста Вико. (С гравюры.)
в том, чем оно обладает; но в отношении законов он не
возвысился до Вселенной государств, до течения всех
времен, до распространения всех наций». А Гроций уже
дает понятие всеобщего права, в котором «системати-
зирована вся философия и теология» К Так комментатор
римского права поднимается до философа. Он ищет фи-
лософии права2 вместе с Гроцием и становится его ком-
ментатором. Но потом, поразмыслив, что Гроций — ере-
тик, он бросает это дело.
Его материей по-прежнему остается римское право,
римская история, античность. Его физика — пифагорей-
ская, метафизика — платоновская, вполне примиримая
с его верой. Основа его философии — сущность, единое,
бог. Все исходит из бога, все возвращается к богу, к
«unum simplicissimum» (простейшему единству) Фичино.
Человек и природа суть его тени, его феномены. Наука
состоит в том, чтобы познать бога, «раствориться» в
боге. Тут мы находим бога Кампанеллы— вечный свет,
вечный смысл с приматами nosse, velle, posse3. До сих
пор Вико остается в рамках общих мест. Его эрудиция,
его философия двигаются параллельными путями, не
встречаясь; недостает именно столкновения. Здесь мы
видим аскета, теолога, платоника, эрудита, обычного
итальянца своего времени, с присущими ему верования-
ми и культурой.
Изнутри этой культуры и против этих верований про-
изошло столкновение с Декартом. Культура не имеет
ценности, с прошлым нужно покончить. Дайте мне ма-
терию и движение, и я создам мир. Истину дает чело-
веку сознание и чувство. Чем же в таком случае ста-
новилась эрудиция Вико, физика Вико, метафизика
Вико? Чем становились божественные идеи Платона?
Что стало с simplicissimus Пифагора?4 Значит, римское
1 Точный текст: «Укладывает в систему всеобщего Права всю
философию и теологию»; см. «Жизнь...», стр. 491.
2 В рукописи далее вычеркнуто: «Мир юриспруденции не ка-
жется ему результатом случайности, законы не кажутся волей ке-
саря, он не может осудить общество как плод насилия, алчности и
корыстных интересов, как его понимал Макиавелли, подкрепленный
Гоббсом...»
3 Ср. «De uno universi iuris principio et fine uno», 1-й X, ed.
Ferrari, vol. Ill, pp. 21—22.
4 Так в рукописи и в печати, Кроче поправляет прямо в тексте:
«Фичино»,
376
право, история, традиция, филология, поэзия, риторика
уже ни к чему не нужны? В этом яростном столкнове-
нии развернулись силы Вико. Он вышел из неясного, из
общих мест, обрел почву, проблему, противника. Его
эрудиция одухотворилась. Его философия конкретизи-
ровалась. И они дополнили друг друга.
23. Вико не путается во второстепенном; он видит
самые основы доктрины противника и сразу же напа-
дает на них. Он хочет опровергнуть Декарта и одновре-
менно низвергает всю новую науку, но не на пути вспять,
а на пути вперед. Его опровержение Декарта — закон-
ченное, последнее слово критики. Но критика Вико не
только отрицающая, но и творческая; отрицание пре-
вращается в более широкое утверждение, которое вле-
чет за собой, как фрагменты истины, новые доктрины
и ставит их на свое место. Новое знание, наука новых
людей обретает в «Новой Науке» Вико свои пределы и,
следовательно, свою истину.
Новая наука, как результат религиозной и политиче-
ской борьбы, находится в состоянии войны с прошлым
и побивает его во всех его формах. Традиция, авторитет,
вера являются ее врагами, и она ищет опоры в силе и
независимости индивидуального мышления; метафизи-
ческие понятия всеобщности, сущности и существенного
надоели ей, и она ищет своей основы в психологии, в
сознании; сверхъестественное, потустороннее противно
ее зрелому разуму, и она противопоставляет этому пря-
мое изучение природы, физику в ее более широком по-
нимании, позитивные науки; она ищет противоядия про-
тив схоластического жаргона в точности математиче-
ских наук, в геометрическом методе: тайнам, кабале,
оккультным наукам, абстракциям противопоставляет она
опыт, проясненный наблюдением, четкое и ясное пони-
мание, свидетельство сознания и чувств; обществу, нахо-
дящемуся в состоянии разложения, она противопостав-
ляет цельного первозданного человека, самую человече-
скую натуру, из которой проистекают принципы морали
и права. Таков дух новой науки — натурализм и гума-
низм, физика и психология. Декарт под маской Платона
несет ее знамя.
Но ему не удается обмануть Вико, который срывает
эту маску. Ты попросту эпикуреец. Твоя физика — ато-
мистическая, твоя метафизика — сенсуалистская, твой
377
трактат «О страстях» словно написан более Для медиков.
чем для философов; ты следуешь морали наслаждения1.
В процессе борьбы с Декартом проблема расширяется,
затрагивая в своей сущности все новое движение. Оно
гоже является абстракцией. Это эмпирическая идеоло-
гия, пустая идея и пустой факт. Главная проблема за-
ключается не в том, чтобы сказать «я мыслю», — поду-
маешь, великая новость!2 — а в том, чтобы объяснить,
как складывается мысль. Важно не наблюдать факт, а
рассмотреть его становление. Истина не в неподвижно-
сти, а в становлении, в формировании. Идея истинна,
когда она схвачена в своем становлении. Мысль есть дви-
жение, которое идет от одного предела к другому, оно
есть идея, которая осуществляется, реализуется, как при-
рода, и снова становится идеей, вспоминает, узнает себя
в факте. А поэтому «verum et certum», истинное и фак-
тическое обратимы 3, в факте живет истинное, факт есть
мысль, есть наука; история есть наука, и, как существует
логика движения идей, так есть и логика движения фак-
тов, «вечная идеальная история, согласно которой проте-
кают истории всех наций»4.
Таким образом, традиция, авторитет и вера получают
новое благословение; так филология, история, поэзия,
мифология, вся эрудиция возвращены в лоно науки.
История создается человеком, как математические си-
стемы, и поэтому она в не меньшей степени является
наукой. Она есть мысль, которая совершает то, что мыс-
лит, она есть «метафизика человеческого разума», его
«неизменность», процесс его формирования в согласии
с постоянными законами человеческой мысли. Поэтому
1 См. «Жизнь...», стр. 485. «Трактат о страстях» («Traite de pas-
sions») Декарта был напечатан во французской редакции в Амстер-
даме в 1649 году; на следующий год появилась латинская версия.
2 Относительно критики Вико картезианского Cogito см.: «De
antiquissima italorum sapientia», libro I, par. II, где, в частности,
Вико цитирует строку из «Амфитриона» Плавта: «Sed, quom cogito
equidem certo idem sum qui semper fui», ed. Ferrari, vol. II,
pp. 68—69, которую, по-видимому, подразумевает Де Санктис.
3 «De antiquissima italorum sapientia», libro I, par. I, цит. изд.
p. 62: «Latinis verum et factum reciprocantur seu, ut scholarum vul-
gus loquitur, convertuntur». Де Санктис написал и оставил в изд.
Морано: «verum et certum», по аналогии с другими местами у Вико
(ср. «Новая Наука», аксиома IX). Кроче, а за ним и другие изда-
тели поправляют непосредственно в тексте.
4 «Основания Новой Науки». Введение в произведение, стр. 7.
378
основы ее не в индивидуальном сознании, а в сознании
рода человеческого, во всеобщем разуме. Новые фило-
софы хотят переделать мир на основании своих абсолют-
ных начал, со своим всеобщим правом. Но не философы
творят историю и мир не переделывается при помощи
абстракций. Чтобы переделать общество, недостаточно
осудить его; нужно его изучить и понять. Это и совер-
шает «Новая Наука».
24. Вико не удовлетворяется тем, что закладывает
фундамент; он принимается и за построение здания. Ес-
ли история обладает научной неизменностью, если она
создается мыслью, то как же она создана? Каков про-
цесс ее формирования?
То, что история является наукой, не было новой
мыслью для итальянской философии. Уже Макиавелли
противопоставлял истории, созданной божественной во-
лей и случаем, «силу вещей», дух истории, вечный и неиз-
менный. Всеобщий интеллект у Бруно, разум, правящий
миром, у Кампанеллы входят в рамки той же идеи. Пу-
теводную нить Вико дал Платон со своими божествен-
ными идеями. Дело заключалось в том, чтобы редшть
задачу, условия которой были уже даны: найти законы
этого духа истории, «probare per causas», породить исто-
рию, как человек порождает математические системы,
создать историю истории, в чем и заключалось создание
новой науки. Он находит обличья этой идеальной исто-
рии «в модификациях нашего собственного человеческо-
го ума»1, ищет основы в двойной природе человека —
в духе и плоти. Его наука — это психология, применен-
ная к истории. Он устанавливает определенные психо-
логические каноны, которые он называет «достоверно-
стями», или основаниями. Концепция вкратце такова:
человек, как существо природное, действует в силу ин-
стинктов, под влиянием своих нужд, интересов и страстей;
но именно здесь он и развивается как мыслящее суще-
ство, как разум, признаки которого сказываются даже в
наиболее грубых и телесных человеческих делах, как зату-
1 См. Джамбаттиста Вико, Основания Новой Науки об
общей природе наций, Л., 1940, кн. I, «Об установлении оснований»:
«Мир гражданственности был, несомненно, сделан людьми. По-
этому соответствующие основания могут быть найдены (так как они
должны быть найдены) в модификациях нащего собственного чело-
веческого ума», стр. 108,
379
маненный образ. Этот образ проясняется по мере того,
как «ум проявляет себя», до тех пор пока мысль не вы-
разится в присущей ей форме, действуя как рассужде-
ние или философия. Таково естественное течение инди-
видуальной жизни, но таково же естественное течение
и история всех наций, когда она не прерывается или не
отклоняется вмешательством внешних причин, как это
было с Нумансией, которая в своем расцвете была по-
давлена римлянами1. Итак, нации переживают три эпо-
хи: божественную, героическую и человеческую. Этому
предшествует состояние дикости, или попросту варвар-
ства, когда человек был рабом своей плоти и «как ди-
кий зверь блуждал по великому лесу земли». Свобода
есть «обуздание порывов вожделения, которое идет от
тела, и придание ему другого направления, которое про-
истекает от разума и свойственно человеку»2. В зависи-
мости от того, как проявляется ум, развивается свобода,
преобладают рассудок или «человечность». Первая эпо-
ха, разумная или общественная — божественная эпо-
ха,— возникла вместе с появлением брака и земледелия,
когда «при первых молниях после всемирного потопа»
люди «склонились перед высшей силой, которую они
представили себе Юпитером, и все человеческие полез-
ности и всякую другую помощь, им необходимую, они
вообразили себе как богов»3. Тогда, отказавшись от
случайных сожительств, они взяли себе определенных
жен, имели своих определенных детей и собственные
жилища; возникли семьи, возглавлявшиеся «отцами»,
1 Там же, кн. V, «Описание древнего и современного мира на-
ций», стр. 457. Сл. цит. о «великом лесе земли» см. там же, кн. II:
«О всемирном потопе и о гигантах», стр. 128.
2 Там же, Заключение произведения. Точный текст гласит: «Че-
ловеческая свобода, то есть обуздание порывов вожделения и при-
дание им другого направления (идя не от тела, от которого идет
вожделение, это усилие должно принадлежать сознанию и потому
оно характерно для человека)», стр. 464.
3 Там же, стр. 463. Точный текст гласит: «Среди таких молний
им блеснул свет той истины, что Бог правит людьми. Поэтому позд-
нее всякого рода человеческую полезность, установленную для них,
и всякую помощь, оказанную им в случае человеческой необходи-
мости, они представляли себе как Богов, и, как таковых, они боя-
лись их и поклонялись им». Дальнейшее изложение (стр. 133—138)
основано на тексте Вико, см, там же, «Заключение произведения»,
стр. 464—470,
380
которые управляли с «семейной циклопической вла-
стью». В этих «семейных государствах», ставших вер-
ными «убежищами» против дикарей и бродячих племен,
укрывались слабые и угнетенные, которых принимали
«под покровительство», как «клиентов и фамулов». Так
расцвели семейные государства и возникли «геркулесо-
вы республики» на основе сословий «по природе»; луч-
ших по «героическим» доблестям; по «благочестию» к
богам; «благоразумию», ибо они советовались с боже-
ственными ауспициями; «воздержанности», так как со-
стояли в стыдливом сожительстве, согласно божествен-
ным ауспициям; «силе», чтобы убивать зверей и возде-
лывать землю; «великодушию», чтобы помогать слабым
и находящимся в опасности. При этих первых естествен-
ных порядках начала развиваться свобода и первое про-
явление сознания. Но затем появилась испорченность.
«Отцы», ставшие могущественными благодаря религиоз-
ности и доблести своих предков, а также благодаря тру-
дам своих клиентов, начали вырождаться; они вышли за
пределы естественного порядка, то есть за пределы спра-
ведливости, «злоупотребили законами покровительства
и защиты», начали тиранствовать: отсюда — возмущение
клиентов. Тогда отцы семейств объединились со своими
родичами в сословия против клиентов и, чтобы умиро-
творить их посредством первого в мире аграрного зако-
на, разрешили им «бонитарную собственность», удер-
жав за собой «высшее владение», или «суверенную се-
мейную собственность». Так возникли первые города на
основе «правящих сословий благородных», а также
«гражданский порядок». Кончились божественные прав-
ления, возникли героические. Религия охранялась в ге-
роических сословиях, и поэтому ауспиции, бракосочета-
ния и сама религия принадлежали «одним героям», ко-
торые одни обладали всеми «правами» и «гражданскими
основами». Но «по мере развития человеческого ума»
плебеи поняли, что они по своей человеческой природе
равны благородным, и также захотели вступить в граж-
данские сословия городов, быть суверенами в городах.
Так кончается героическая эпоха и начинается челове-
ческая эпоха — эпоха равенства, «народная республи-
ка», где распоряжаются лучшие не по рождению, а по
доблести. При этом состоянии умов для людей не обя-
зательно более совершать доблестные поступки «в силу
381
религиозных чувств», ибо «философия позволяет уразу-
меть доблести в их идее»; в силу этих «размышлений»
люди, даже если они не имеют доблести, то по крайней
мере стыдятся пороков. Рождается философия и красно-
речие, но впоследствии первая оказывается развращен-
ной скептиками, а второе — софистами. Тогда, подрывая
народные государства, является анархия, всеобщий бес-
порядок, худшая из тираний — разнузданная свобода
свободных народов. Последние или попадают в рабство
монарха, который сохраняет, как ему требуется, все по-
рядки и все законы силою оружия; или становятся раба-
ми «по естественному праву народов», то есть их подчи-
няют силою оружия другие, лучшие нации, поскольку
справедливо, что тот, кто не может управлять собою сам,
должен предоставить править собою другому, могущему
это делать, и что в мире всегда правят лучшие; или же,
предоставленные самим себе, они живут в телесной пре-
исполненности и в душевном одиночестве, при отсутствии
желаний, следуя каждый своему удовольствию или кап-
ризу,— тогда они в отчаянных гражданских войнах пре-
вращают города в дебри и дебри — в человеческие бер-
логи, и в течение долгих веков варварства «покрываются
ржавчиной злобные ухищрения коварных умов». По-
средством этого «варварства рефлексии» люди возвра-
щаются к дикому состоянию, к «варварству чувства»,
и история вновь идет тем же порядком, заново повторя-
ет свое течение.
Такова вечная идеальная история, логика истории,
применимая ко всем отдельным историям народов. По
существу это есть история разума в его самопроявлении,
как выражается Вико,— от чувственного состояния, в ко-
тором разум как бы рассеян, до состояния рефлексии,
в котором разум себя обретает и утверждает. Действие,
при помощи которого ум доходит до истины, есть то же
действие, при помощи которого разум творит историю.
Локк получил свое дополнение в Вико. Теория познания
обрела свое соответствие в теории истории. Она явилась
новым приложением психологии. Люди действуют в со-
ответствии со своими импульсами и частными целями;
но «результаты превышают их цели», это интеллектуаль-
ные результаты, последовательное движение вперед ра-
зума в его выявлении. Поэтому страсти, интересы, проис-
шествия, частные цели — не история, а лишь обстоятель-
382
CTfea и орудия истории; а посему возможна наука об ис-
тории. Макиавелли и Гоббс дают нам не окончательную
и субстанциальную, а случайную историю. Их история
верна, но она не является полной, она — лишь фрагмент
истины. Истина состоит в целом, в том, чтобы увидеть
«Cuncta ea quae in re insunt, ad rem sunt affecta» l —
идею в полноте ее содержания и ее связей. Макиавелли
не менее глубокий наблюдатель психологических фак-
тов, чем Вико, но он портретист, не метафизик. А психо-
логия Вико уже входит в область метафизики, дает пер-
воосновы новой философии, базирующейся не на непо-
движной сущности, рассматриваемой в ее атрибутах,
а на ее движении и становлении; поэтому она не есть
описание или доказательство, как у Аристотеля и Пла-
тона, а настоящая драма, история мирового духа. В
этой драме все находит свое объяснение, все «разме-
щено»— война, завоевания, революция, тирания, за-
блуждения, страсть, зло, страдание, как необходимые
факторы и орудия прогресса. Каждый исторический этап
имеет свои формы рождения и жизни, свою природу, из
которой проистекает сила вещей, простонародная муд-
рость рода человеческого, людской здравый смысл, кол-
лективная сила. Историю творит не индивидуум, а эта
коллективная сила, и часто самые знаменитые личности
суть лишь символы и образы, «поэтические характеры»
этой силы, как Зороастр, Геркулес, Гомер, Солон. В по-
исках личности находишь народ; ищешь факт, а нахо-
дишь идею. Кузнец истории — «человеческая воля, на-
правляемая народной мудростью» 2.
25. Оставалось продемонстрировать эту идеальную
историю, то есть доказать, что все отдельные истории
в соответствии с ней направляются одним и тем же хо-
дом идеи, подчиняются одному и тому же типу. Доказа-
тельство можно было искать a priori в самой логике раз-
вития духа. Дух проявляется вовне в соответствии со
своей природой в том, что является его собственной ло-
гикой, законом его становления, а этим становлением
как раз и является история. Но Вико, едва набросав
1 Ср. «De antiquissima italorum sapientia», cap. VII, par. . IV,
«De certa facilitate sciendi», ed. Ferrari, vol. V, cit. p. 101.
2 «Principi di una scienza nuova», lib. II, cap. Ill; ed. Ferrari,
vol. IV, p. 42.
383
основные линии новой метафизики, останавливается ни
пороге, снова превращается в эрудита и ищет доказа-
тельства a posteriori, призывая себе на помощь все исто-
рии прошлого и ища в них свое направление, свою си-
стему— и не только в общих чертах, но и в самых мел-
ких частностях. Это было, титаническим предприятием
итальянской эрудиции и критики. Вико погружается в
«обломки древности» *, собирает малейшие фрагмен-
ты, оживляет их, intus legit, составляет из них целое,
воссоздает реальную историю по образу своей идеальной
истории. Это мир, рассмотренный с новых позиций, вос-
созданный критикой и философией, скульптурно отлив-
шийся в оригинальные формы — мощные, сжатые и ме-
тафорические, словно законы Двенадцати таблиц. Среди
этих обломков Вико ищет доказательства новой науки
и по пути открывает новые науки. Язык, мифология, поэ-
зия, юриспруденция, религии, культы, искусства, обычаи,
промышленность и торговля — не произвольные фак-
ты, это явления духа, науки в рамках науки. Хроноло-
гия, география, физика, космография, астрономия — все
обновляется при помощи этой новой критики. На каж-
дом шагу ты слышишь победный крик великого творца:
«Вот еще одно новое открытие!» Метафизике человече-
ского сознания, философии человечества или человече-
ских идей, откуда берет начало юриспруденция, мораль
и политика рода человеческого, соответствует логика,
fas gentium, наука о выражении этих идей, филология.
Итак, появляется наука о языках, о мифах и о поэти-
ческих формах, язык человеческого рода, теория выра-
жения в мифах, стихах, в песне, в искусствах. И по-
скольку теория и наука есть не что иное, как природа ве-
щей, то и природа вещей содержится в «условиях их воз-
никновения»2. Смелый человек, разум которого свободен
от всяких заранее внушенных идей и который доверяет
только своему пониманию, углубляется в истоки проис-
хождения человечества, затемненные двойным тщесла-
1 См. «Новая Наука», кн. I, аксиома XXVIII: «великие обломки
египетских древностей», стр. 82.
2 Там же, кн. I, «Об элементах», аксиома XIV: «Природа ве-
щей — не что иное, как их возникновение в определенные времена
и при определенных условиях; всегда, когда последние таковы,
именно таковыми, а не другими возникают вещи», стр.. 77t
384
Ёйем наций й ученых1; и показывает нам создание об-
щества, правлений, законов, обычаев, языков; мы видим,
как история рождается из человеческого разума и ло-
гически развивается от своих оснований, или элемен-
тов,— «религии, браков, погребений» — во всех своих
формах, таких, как правление, закон, обычай, религия,
искусство, наука, деяние, слово. Огромная эрудиция
Вико дает ему неисчерпаемый материал, который он тол-
кует, объясняет, размещает и располагает в соответ-
ствии с нуждами своего построения; он смел в этимоло-
гии, находчив в толкованиях и сопоставлениях, полно-
стью уверен в своих методах и выводах, и, как человек,
который на каждом шагу открывает новые миры, он по-
пирает традиции и простонародные истории. Так роди-
лась эта первая история человечества, своего рода «Бо-
жественная комедия», которая, появившись из великого
леса земли, пройдя ад чистого сенсуализма, реализует
себя2 на пути до человеческой эпохи размышления и фи-
лософии; она дыбится формами, мифами, этимологиями,
символами, аллегориями, и — не менее великая, чем соз-
дание Данте,— она чревата предчувствиями и предуга-
дыванием, научными идеями, истинами и открытиями;
это творение пылкой фантазии философского ума, под-
крепленного эрудицией, по праву можно назвать вели-
ким откровением.
26. Сочинение Вико — «Божественная комедия» нау-
ки, обширный синтез, который охватывает прошлое и от-
крывает будущее и который, однако, еще полон облом-
ков старого, подчиненного новому духу. Вико, как хри-
стианин и платоник, продолжатель Фичино и Пико,
единомышленник Торквато Тассо, не понимает ни Рефор-
мации, ни новых времен и хочет согласовать свою фи-
лософию с богословием, а свою эрудицию — с филосо-
фией, построить социальную гармонию, как гармонию1
провиденциальную. Его Метафизика стоит обеими нога-
ми на земном шаре, но устремляет в экстазе свой взор
1 «Новая Наука», аксиома II: «К этому роду должны быть све-
дены два вида тщеславия, указанные выше: тщеславие наций и тще-
славие ученых», стр. 73; ел. цит. взята из Введения к произведению,
стр. П.
2 В рукописи «одухотворяясь». Выражение «великий древний лес
земли» см.: «Новая Наука», «Объяснение аллегорической картины,
помещенной на фронтисписе», стр. 4.
25 Де Санктис 385
4
вверх, к оку Провидения, откуда льются лучи боже-
ственных идей К
Вико желает разума, но желает также и авторите-
та— разумеется, не доктринеров, но рода человеческого;
он хочет веры и традиции; с его точки зрения, вера и
традиции тоже есть разум, простонародная мудрость.
Таков был человек, сформировавшийся в монастырской
библиотеке; но, вступив в живую жизнь, он усвоил новый
дух и, борясь с Декартом, испытал его влияние. Гениаль-
ный человек не мог не ощутить воздействия другого ве-
ликого ума. И, конструируя свою науку, Вико воспри-
нимает и de omnibus dubitandum и cogito.
При обдумывании принципов этой науки мы должны
вернуться к состоянию полного невежества во всех обла-
стях человеческих и божественных знаний, как если бы
для этих наших исследований никогда не существовали
ни философы, ни филологи; это необходимо для того,
чтобы душа не отвлекалась и не смущалась бы общеиз-
вестными и устаревшими предшествующими знаниями2.
Эти золотые слова как будто бы взяты со страниц
декартовского «Метода». Что же является в этом карте-
зианском неведении «единственной истиной», в которой
среди стольких сомнений нельзя усомниться и которая
поэтому является «основой науки»? Это cogito, это —
человеческий разум.
«Поскольку мир благородных наций создан людьми,
то и основания этого мира следует искать в природе на-
шего человеческого разума и в силе нашего понимания».
Провидение и Метафизика, которая смотрит на него
(на аллегорической картине Вико), являются простым
пережитком, или, как он выражается, предшествовани-
1 См. «Новая Наука», «Объяснение аллегорической картины...»,
Стр. 3.
2 Этот отрывок несколько сокращен Де Санктисом при передаче
основной мысли. Полный текст гласит: «При обдумывании принци-
пов этой науки мы должны, приложив огромнейшее усилие, облечь
Природу в определенные формы, а следовательно, вернуться к со-
стоянию полного невежества в отношении всего человеческого и бо-
жественного знания, как если бы до этого исследования никогда не
существовали для нас ни философы, ни филологи; и тот, кто хочет
здесь добиться пользы, должен поставить себя в таковое положение,
дабы при размышлении не отвлекаться и не смущаться общеизвест-
ными и устаревшими предварительными знаниями («Principi di una
scienza nuova», lib. I, cap. XI, cit., ed. Ferrari, vol. IV, p. 33). Там
же — последующие цитаты.
386
ем, чем-то заранее принятым, но не доказанным. Карти-
на Вико — это человеческий разум в природе и в своем
постепенном проявлении, человеческий разум наций,
история человеческих идей. Провидение правит миром,
помогая свободной воле своею благодатью и превосхо-
дя в своих результатах частные цели людей; но эти ре-
зультаты Провидения более не являются чудом, они —
человеческая наука, «прояснение идей», «выявление
ума». Как и Бруно, Вико воспевает Провидение и объ-
ясняет человека;- это уже не теология, а психология.
Провидение и Метафизика — где-то далеко, как солнце
или небо, в глубине картины; сама картина — это чело-
век и его светлый ум, его наука содержится в нем са-
мом, в его разуме. Основа этой науки вполне современ-
на. Тут налицо Декарт со своим скепсисом и со своим
cogito. Пусть время от времени Вико, увлеченный свои-
ми высокими рассуждениями, устремляет свой полет к
теологии и метафизике, но Декарт призывает его обрат-
но и удерживает его в тесной связи с психологическими
фактами. В своем изучении психологического процесса
отдельных личностей и народов Вико делает столь глу-
бокие и столь справедливые наблюдения, что в нем ясно
ощущается современник Мальбранша, Паскаля, Локка и
Лейбница, наиболее родственного ему по духу, которого
он называет первым умом века К Вико современен не
только в своих основах, но и в выводах, показывая, как
в наивысшем проявлении ума побеждают принципы но-
вых философов. Ибо венцом его исторической эпопеи
является одухотворение форм, торжество философии
или ума в его «рефлексии», конец аристократии, фео-
дальных порядков и порабощения, свобода и равенство
всех классов, как «облагороженное и человечное» со-
стояние общества, как наивысшее достижение культуры.
Теократия и аристократия побеждены демократией в
результате естественного проявления разума; это—-
утверждение и прославление нового духа. Но именно
тут Вико выделяется и остается одиноким в своем веке.
Он стоит между своим книжным, библейским, теолого-
платоническим миром и естественным миром Декарта
1 См. «Новая Наука», кн. I, «О методе», стр. 117. То же выра-
жение употреблено в письме к монсиньору Муцио Гаэта от 1 октября
1737 года (см. «Autobiografia, il carteggio..,», cit., p, 256),
25*
387
и Гроция, между этими двумя абсолютами, двумя не-
проницаемыми твердыми телами, которые исключают
друг друга. И он ищет примирения в высшем мире, в
подвижной исторической идее, в высшей науке — в кри-
тике, в идее, анализируемой и оправданной в момент ее
существования. Он ищет науки, свободной от абсолют-
ности и жесткого догматизма, подвижной, как ее содер-
жание. Критика состоит в том, чтобы вновь совершить
при помощи рефлексии то, что разум совершил самопро-
извольно. «Выявившийся и просветленный» ум задумы-
вается о своем творении и находит в нем самого себя
в своем тождестве и непрерывности; это и есть сознание
человечества. В этом высшем мире все движется, все при-
миряется, все оправдывается; те начала, которые новые
философы объявляли абсолютными, а потому примени-
мыми во все времена и ко всякому месту и на основа-
нии которых осуждали все прошлое, на самом деле от-
носятся к общественному состоянию лишь строго опре-
деленных эпох и мест; а противоположные принципы,
поскольку они в определенные времена также правили
миром и были «выносимыми», являются истинными в
равной мере как предшественники и предварители новых
принципов. Поэтому критерий истины — это не идея в
себе, но идея, как она осуществляется или проявляется
в истории разума, это здравый смысл рода человеческо-
го, то, что Вико называет философией авторитета. Здесь
Вико противостоит и Платону и Гроцию, и прошлому
и настоящему. Болезнь века состояла как раз в осуж-
дении прошлого во имя абстрактных принципов, так же
как прошлое осуждало настоящее во имя других аб-
страктных принципов. Вико был похож на человека, ко-
торый внезапно вышел из своего кабинетного одиноче-
ства на площадь и видит перед собой возбужденных лю-
дей, со сжатыми кулаками, готовых к драке. Эти люди
должны были казаться ему буйно помешанными. Отку-
да такое бешенство против прошлого? Ведь именно по-
тому, что оно имело место, оно обладало и своим пра-
вом на существование. Предположим даже, что все в
нем было дурным, неужели вы считаете, что можно си-
лою уничтожить дело многих веков? Вы толкуете о ва-
ших принципах! Но неужели вы думаете, что история
делается философами и на основании принципов? Ваш
рассудок! Существует рассудок и у других людей,
388
таких же, как и вы, они умеют рассуждать не хуже вас.
А затем, как я полагаю, подобает и немного почтения
к авторитетам; я говорю не о всех этих докторах, кото-
рым вы не доверяете, но об авторитете рода человече-
ского, которому вы, как люди, не можете отказать в до-
верии. Поменьше ума и поболее здравого смысла. По-
добные речи показались бы чудачеством этим людям,
преисполненным ненависти и веры. И кто-нибудь из них
мог ответить ему: отойди-ка в сторонку, витай себе в об-
лаках и не являйся к людям, ибо ты в этих делах ничего
не понимаешь. Ты изучал, прошлое по книгам, оно для
тебя — эрудиция. А для нас прошлое — реальность, ко-
торая причиняет нам боль на каждом шагу. Нас опаля-
ет огонь, а ты хочешь доказать нам, что поскольку он
существует, то имеет свое право на существование. Дай
нам сначала затушить его, а потом рассказывай нам о
его природе. Вот когда мы сбросим с плеч это прошлое,
терзавшее нас и наших отцов, тогда, может быть, мы
тоже сумеем быть справедливыми и оценить по достоин-
ству твою критику. Вико остался одиноким в своем во-
инствующем веке, и когда борьба закончилась, то его
образ, словно мирная радуга, встал над сражающимися
и принес им призыв нового века: «критика». Не догма-
тизм и не скепсис, а именно критика. Ведь история Вико
является не чем иным, как критикой человеческого об-
щества, живой идеей, ставшей историей, прослеженной
в ее вечном странствовании, понятой и оправданной во
все моменты ее жизни. Принципы, как индивидуумы и
как общество, рождаются, зреют и умирают, или, вер-
нее— поскольку ничто не умирает,— преобразуются,
принимая все более разумные формы, более соответ-
ствующие уму, более идеальные. Отсюда необходимость
прогресса, присущая самой природе разума, как его не-
избежность. Теория прогресса для Вико — словно земля
обетованная. Он ее видит, определяет, устанавливает ее
основы, намечает ее путь, можно сказать, указывает на
нее пальцем, а когда ему остается сделать лишь один
шаг, чтобы достичь ее, она ускользает от него, и он оста-
ется в замкнутом кругу и не знает, как выйти из него.
Он устанавливал предпосылки, но от него ускользали
следствия. Поэтому он, глубокий знаток греко-римского
мира, не сумел объяснить средневековья и не понял
своего времени: то широкое религиозное и политическое
389
движение, в котором заключались и кризис и спасение,
ему казалось признаком упадка и распада. С другой
стороны, он, отрицая существование Гомера, не осмелил-
ся подвергнуть критике миф об Адаме, библейские тра-
диции, догмат Провидения и миссию христианства,
оставив тем самым большие пробелы в своих картинах.
Его современное сознание, смелое в своих отрицаниях и
объяснениях, озаряет мир язычества, но, когда Вико
вступает в тревожный и страстный мир живых, он за-
крывает глаза, чтобы не видеть. Таково свойство вели-
ких мыслителей: открыть новые пути, установить великие
предпосылки и оставить на долю своих учеников легкие
выводы. Как и Декарт, Вико не понял тех важнейших
следствий, которые проистекали из его рассуждений.
Как Декарт не признал бы за своих ни Спинозу, ни Лок-
ка, так и Вико отрекся бы от Кондорсе, Гердера и Ге-
геля. И поскольку он занимался больше древними, чем
новыми, больше мертвыми, чем живыми, то живые за-
были его. Его «Новая Наука» показалась скорее любо-
пытной странностью эрудита, чем глубоким размышле-
нием философа, и не была принята всерьез.
27. А тем временем век двигался вперед все более
скорым шагом, делая выводы из предпосылок, установ-
ленных XVII веком. Наука становилась практикой и
спускалась в гущу народа. Теперь уже не расследовали,
а прилагали и распространяли. Форма выходила из ра-
мок ученого спокойствия и становилась литературной:
народные языки изгоняли прочь последние остатки латы-
ни. Трактаты и диссертации сменялись мемуарами, пись-
мами, рассказами, статьями, диалогами, анекдотам'и;
схоластические и геометрические формулы уступали
место естественной речи, подражающей разговорному язы-
ку. Наука принимала облик беседы даже у самых серь-
езных писателей, таких, как Бюффон и Монтескье, — бе-
седы образованных людей в элегантных гостиных. Выра-
жаясь языком Вико, тайная мудрость становилась
мудростью народной1 и, сближаясь с жизнью, вбирала
1 См. выше. Об общем характере культуры XVIII века см. цит.
лекции Де Санктиса, посвященные формированию нового европей-
ского духа («Teoria e storia», cit., I, pp. 150 и ел., и «Purismo illu-
minismo storicismo», cit., II), и, в частности, ibid., p; 153: «Новая
наука, которая во времена Лютера обычно излагалась в тяжелых
философских, критических и богословских сочинениях, написанных
390
в себя страсти и обычаи жизни —любезная и остроумная
у Фонтенеля, прозрачная, легкая, плавная у Кондильяка
и Гельвеция, риторическая и сентиментальная у Дидро.
Естественное право Гроция породило «Общественный до-
говор», общество было осуждено во имя природы, и то,
что у Гроция было ученой диссертацией, породило у
Руссо страстный и пылкий вопль. Несколько запутанный
скептицизм Бейля, замаскированный множеством ора-
торских оговорок, раскрывается в откровенном и весе-
лом лукавстве Вольтера. Эрудиция и доказательство от-
бросили свое тяжелое оружие, превратившись в прият-
ный здравый смысл. Наука становилась литературой, а
литература в свою очередь была уже не спокойным со-
зерцанием, а оружием, направленным против прошлого.
Трагедии, комедии, романы, истории, диалоги —все это
было воинствующей мыслью, которая с высот филосо-
фии спускалась на площадь, к людям, распространялась
во всех классах и применялась во всех вопросах. Ее
формы — философия, искусство, критика, филология —
были военными машинами, и наиболее грозной из них
была «Энциклопедия». Кондорсе возвещал прогресс,
Дидро — идеал, Гельвеций — природу. Руссо провозгла-
шал права человека, Вольтер — царство здравого смыс-
ла, Ваттель — право на сопротивление. Смит славил
свободный труд. Блэкстон раскрыл английскую «Хар-
тию». Франклин возвестил Европе новую «хартию». Об-
щество казалось хаосом, в который философия должна
была внести порядок и свет. У людей складывалось но-
вое сознание, новая вера. Переделать в соответствии с
наукой институт правления, законы и обычаи — таков
был всеобщий идеал, такова была миссия философии.
Философы приобрели то значение, каким обладали в
XVI веке литераторы. Вера в это философское будущее
была общераспространенной, и тем больше обострились
страсти против настоящего. Все было злом, и прежде
по-латыни и перегруженных эрудицией и цитатами, в XVIII веке
стала поучительной и произвела на свет книги поучительного харак-
тера, приятные, иронические, легкие (подобно диалогам Фонтенеля и
«Newtonianesimo per le dame» Альгаротти); словом, она вызвала на
свет полемику — верное средство для распространения взглядов»
Наука проникла в комедию, которая стала плаксивой и сентимен-
тальной в творчестве Дидро; она захватила роман, разрушающий
мораль у Вольтера и сводящий мораль только к чувству у Руссо»,
391
всего коварное дело рук священников и короля — не-
вежество народов. Предрассудки, суеверия, угнетение —
таковы были слова, в которых резюмировалось все про-
шлое. Свобода, равенство, братство людей — в этом де-
визе заключалось будущее. Все научное движение на-
чиная с XVI века обрело в них простоту катехизиса. Ре-
волюция уже была в умах.
Чем же была революция? Она была обновлением,
которое освобождалось от всякой классической и бого-
словской оболочки и обретало самосознание, ощущало
себя новым временем. Она была свободной мыслью, ко-
торая бунтовала против богословия. Она была приро-
дой, которая восставала против оккультных сил и иска-
ла своих основ в фактах. Это был человек, искавший в
своей собственной природе свои права и свое будущее.
Это была новая сила, народ, который поднимался на
развалинах папства и империи. Это был новый класс —
буржуазия, которая искала своего места в обществе, на
развалинах духовенства и аристократии. Это была но-
вая «хартия», не дарованная богом или человеком, но
обретенная самим человеком в глубине своего сознания
и сформулированная в бессмертной Декларации прав
человека. Это была свобода мысли, слова, собственно-
сти и труда, равенство прав и обязанностей. Это был ко-
нец божественных, героических и феодальных времен и
наступление той человеческой эпохи, которую так вели-
колепно описал Вико. Средневековье кончилось; начина-
лась новая эпоха.
Чем же было то старое общество, которое противо-
стояло всему остальному? На вершине его стояли пап-
ство с абсолютной властью и абсолютная монархия, ко-
торые претендовали на божественное право и были со-
зданы по одному и тому же образцу. Папство еще
притязало на вселенскую власть, но лишь на словах —
сознавая, что утратило прежнее могущество. Однако же
оно еще давало чувствовать свою силу через посредство
иезуитов и энергично поддерживало свое влияние и юри-
дические права во всех государствах. Папа — светский
государь — правил в таких же абсолютистских формах,
как и все монархи. В Европе повсюду господствовал
абсолютизм. Нравы римской курии XVI века распро-
странились теперь во всех королевских дворах: безнрав-
ственность, легкомыслие, невежество. Монастыри поте-
392
ряли авторитет, их называли логовищами порока, убе-
жищами праздности и невежества. Духовенство утра-
тило культуру и репутацию, но возросло численно и
увеличило свои богатства. Епископы были льстецами
при дворе, тиранами в епархиях, феодальными сеньо-
рами. Дворянство стояло у подножия трона и попирало
вассалов. Алтарь и трон, поддерживаемые духовенством
и дворянством, — там была свобода, там было право;
все остальное было почти ничем и весьма мало значило.
Источник права заключался в пожаловании от папы или
государя; это были инвеституры, привилегии, неприкос-
новенность, льготы. Законы находились в хаотическом
состоянии: тут смешались законы римские, лонгобард-
ские, канонические и феодальные обычаи и нравы. Не
меньший хаос царил в области налогов. Были налоги,
взимаемые папой, духовенством, баронами, королем под
различными названиями и в различных формах. Чем же
был народ? Массой «оброчной и податной по произ-
волу» К Никакой безопасности собственности и личности,
никакой защиты законов, никакой гарантии правосудия,
секретное судебное разбирательство, непомерные и про-
извольные наказания. Об этом старом обществе можно
сказать то, что уже тогда говорилось о феодальной соб-
ственности: человек был таким же неотчуждаемым иму-
ществом, как земля. Заболочена была не только почва,
но и умы.
Против этих привилегированных классов, закостене-
вших в догматизме, то есть в комплексе идей, воспри-
нятых по традиции и не подлежавших обсуждению, вос-
ставал скептицизм буржуазии, которая все подвергала
сомнению, все обсуждала. Буржуазия делала в крупных
масштабах то, что ранее осуществили итальянские ком-
муны. Это было «среднее сословие» — адвокаты, медики,
архитекторы, литераторы, артисты, ученые, художники,
профессора, обладавшие превосходящей культурой, не
1 Это выражение, пошедшее от энциклопедистов, осталось
в языке экономистов и политических авторов первой половины
XIX века. См. у Поля Курье: «Мы были народом оброчным, подат-
ным и убиваемым по произволу» («Lettres au Redacteur du Censeur»,
If ю-VII 1819, в. «Oeuvres», Paris 1877, p. 37) — и у Леона Фоше
в статье из «Revue des deux mondes»: «Англичане уже свободно во-
тировали налоги, в то время как налогоплательщики во Франции
были еще оброчными и податными по произволу».
393
удовлетворявшиеся более номинальным представитель-
ством и требовавшие своего места в обществе. Они пока
еще не утверждали себя как класс и не хотели привиле-
гий. Они требовали свободы для всех, равенства прав
и обязанностей, говорили от имени всего народа. В этом
заключался прогресс. Но фактически они уже были
классом, которому было предуготовано будущее, и,
искренне выступая во имя всех, они работали на себя.
Их боевым оружием был скептицизм. Вере и авторитету
они противопоставляли сомнение и изучение. В наши
дни модно выступать против скепсиса. Однако же мы
не должны забывать, что именно он принес освобожде-
ние человеческой мысли, именно он осудил религиозную
нетерпимость, научное легковерие и политическое рабо-
лепство.
Движение, исходившее из среды буржуазии, было не
только народным, то есть общим для всех классов но
своим идеям и тенденциям, но к тому же космополити-
ческим, или, как теперь говорят, интернациональным.
Общечеловеческое подчеркивалось более, чем нацио-
нальное. Америка и Европа сближались, разговаривая
на общем языке, который выражал их общие идеи и на-
дежды; швейцарец, голландец, француз, немец, англи-
чанин словно родились в одной стране, точно воспита-
лись на одних и тех же идеях. Движение было всеоб-
щим в своем объекте и в своем содержании. Объектом
являлись все классы и все нации. А содержанием была
не только религиозная, политическая, моральная и граж-
данская реформа, но и радикальное изменение самих
экономических условий общества, то, что сейчас на-
звали бы социальной реформой, доходившей в своем
лирическом порыве до общности имущества. Движение,
родившееся в результате неустанного труда трех веков,
по своей всеобщности заключало в идее или в заро-
дыше всю будущую историю мира на многие века. И
то, что тогда было едва еще началом, представлялось
завершением, казалось, так легко одним разом выпол-
нить всю программу.
Во Франции это движение проявлялось наиболее
энергично и концентрированно и имело абсолютно кос-
мополитическую природу. И поскольку французский
язык был уже тогда очень распространен, пропаганда
этих идей оказывалась неудержимой. В других нациях
394
это движение проявлялось слабее, в более скромных
формах.
28. Наиболее умеренной формой этого движения бы-
ла старая борьба между папством и светской властью,
ставшая борьбой в области юридических прав между
римской курией и монархиями. На этой почве новаторы
были заодно с государями и под сенью их трона распро-
страняли новые идеи. Юристы по старой традиции
выступали вместе с государями и защищали их права
против Церкви с доктринерством и изощренностью, не
лишенными софистических тонкостей. Они были либе-
ралами той эпохи, и именно их трудами новые идеи
распространились в культурных классах. В противопо-
ложном лагере находились иезуиты, нетерпимые интри-
ганы, которые отравляли атмосферу и расширяли сферу
борьбы. Они были теми шпорами, которые подстрекали
ум. В этих спорах сложился Паоло Сарпи; из этого
столкновения вышли и «Письма провинциала» Паскаля \
и янсенизм, и школа Пор-Рояля и галликанские
свободы как подготовка того движения, которое при-
няло столь обширные размеры во Франции. Но в Ита-
лии это.движение, с такой широтой и смелостью нача-
вшееся в XVI веке, а затем остановленное и искаженное
тридентскои реакцией, все еще сохранялось в формах
юридической борьбы между папой и государями. Мысль
зашла очень далеко вперед, но у немногих, или среди
немногих; это были одинокие фантазии; им не хватало
отклика, они еще не распространились в массах. Но
даже в этой ограниченной форме движение постепенно
завоевывало территорию и складывалось в настоящую
политическую партию, вокруг которой сплотилась вся
буржуазия. Это был либерализм, «дешевой ценой» сни-
скавший себе благосклонность государей, когда он
оставался в этих пределах, и, нападая на курию и иезуи-
тов, он был почтителен к папе и к церкви.
1 Прогрессивное значение знаменитого сочинения Паскаля, на-
писанного в 1656—1657 годах и направленного против иезуитской
морали, подчеркивается также в других работах Де Санктиса. См.
статью «Veuillot e la «Mirra» (1865) и речь «La scienza e la vita»
(1872), первая в т. IV, вторая в т. XIV, изд. Эйнауди. Напротив,
упоминания о янсенизме и школе Пор-Рояля у Де Санктиса редки;
не исключено, что Де Санктис был знаком с «Port-Royal» Сент-Бева,
публиковавшимся с 1840 по 1859 год.
395
В Неаполе культура приняла именно этот аспект, и в то
время как добрый Вико воображал себе историю чело-
вечества и носился со столь далеко идущими идеями, ки-
пела борьба вокруг юридических прав — борьба, в кото-
рой играли главную роль известные юристы Капассо,
Д'Андреа, Д'Аулизио, Ардженто*, Пьетро Джанноне.
Иезуиты искали опоры в народном невежестве и объяв-
ляли своих противников нечестивцами, врагами папы.
Они особенно разъярились против Джанноне и так на-
травили на него чернь, что несколько раз его жизнь под-
вергалась опасности. Будучи отлучен архиепископом за
то, что напечатал свою «Историю» без его разрешения,
Джанноне укрылся в Вене и не осмелился более вер-
нуться в Неаполь, хотя архиепископ признал свою не-
правоту и отлучение было снято. Юристы считали, что
для печатания достаточно королевского разрешения, что
церковные запреты не имеют никакого значения и отлу-
чения также недействительны без разумного основания.
Так дух свободного исследования прилагался к юрисдик-
ции и к церковным актам. Здесь скрывалось и нечто
другое: мирской дух, который вновь пробудился, буржу-
азный дух, который заявлял о себе, и среднее сословие,
которое под покровительством государя, также заинте-
ресованного в этой борьбе, выступало против дворян-
ства и в еще большей степени — против духовенства.
Плодом этой борьбы явилась «Гражданская история
Неаполитанского королевства» и позже «Папская тиара» *
(«Троецарствие») Пьетро Джанноне2. «История...» в силу
1 Никола Капассо (1671—1745), юрист и поэт, профессор «ка-
федры начальной юриспруденции» в Неаполитанском университете,
перевел «Илиаду» стихами на диалект. Д'Андреа (имеется в виду
старший брат) Франческо (1625—1698)—знаменитый адвокат неапо-
литанского трибунала, о нем упоминает также Реди в «Вассо in Tos-
сапа». Доменико д'Аулизио (1639—1717) был специалистом в грече-
ском и еврейском языках и хорошим математиком. Он был учите-
лем Пьетро Джанноне. В 1713 году Вико посвятил ему «De aequi-
librio». Гаэтано Ардженто (1660—1730)—судебный чиновник и
юрист. О многих из них см.: Вико, «Жизнь...» Отметим также,
что Де Санктис мог использовать панораму неаполитанской куль-
туры конца XVII века, обрисованную у Пьетро Джанноне в его
«Istoria civile del Regno di Napoli», lib. XL, cap. V.
2 «Istoria civile del Regno di Napoli» была опубликована
в 1723 году. Napoli, Naso 4 voll. «И Triregno» осталось в рукописи
и еще не было издано, когда писал Де Санктис, который мог
396
своего универсального значения, поскольку она в основ-
ном трактовала вопрос о юрисдикциях, жгучий для всех
католических государств, была переведена на многие
языки. Джанноне оставил аргументирование и стал опе-
рировать фактами, исследовав светскую власть Церкви
начиная с ее происхождения и проследив ее рост и узур-
пацию прав. Это настоящий обвинительный акт, тем бо-
лее убийственный, чем с большим спокойствием ведется
историческое изложение и непрерывно подчеркивается
беспристрастие эрудиции и доктрины. Тут нет недостатка
в сарказмах и уколах, но автор все время заявляет, что
он выступает против злоупотреблений и преувеличений,
и провозглашает всяческое почтение к институциям. На
первый план выдвигается всеобщность Церкви как сово-
купности верующих, пока ее права не узурпировало епи-
скопство, в свою очередь поглощенное папством. Глав-
ная мысль заключается в том, что права принадлежат
вселенской совокупности верующих; это есть принцип
демократии, примененный к Церкви. Но демократиче-
ская концепция умеряется другой, а именно: что госу-
дари, как главы светского общества, унаследовали его
права. Народ исчезает, и на сцену появляется кесарь со
знаменитым изречением: «Отдайте кесарю кесарево»1.
Иезуиты выворачивали аргумент наизнанку, утверждая,
что истоки права не в государях, а в народах. Таким
образом, иезуиты использовали демократию, чтобы за-
щищать папство, а сторонники Джанноне опирались на
демократию, чтобы бороться против папства. И те и
другие были непоследовательны, а подлинные выводы
должен был сделать народ — и против папства, и против
абсолютной монархии. Легко можно представить себе,
какая бессознательная пропаганда из этого вытекала.
Было весьма просто заключить, что если источник пра-
ва—в народе, то законный суверенитет принадлежит
познакомиться с его содержанием в изложениях того времени (см,
также Settembrini, Lezioni, cit., cap. LXXXI). «Triregno» впер-
вые было опубликовано A. Pierantoni, Roma 1895. См. ниже, § 29
и соответствующее примечание.
1 «Istoria civile...», lib. I, cap. II, «О церковной полиции в три
первые века». См. также суждение Джордани о Пьетро Джанноне
в «Ореге», cit., VI, р. 168: «Ища лишь главную цель, он проходил
мимо прочего... Для него важно было лишь одно: папа —- не король
Неаполя».
397
демократии, сообществу верующих, совокупности граж-
дан. Подлинный хозяин поднимал голову, приветствуя
и иезуитов и сторонников Джанноне как своих предше-
ственников, заслуживающих похвалы за то, что одни
подкапывались под абсолютную монархию, а другие
подрывали абсолютную власть папы. Вико сказал бы,
что они были орудием Провидения, которое посредством
их действий достигало результатов, превышающих их
цели.
В те времена все толковали об эпохе раннехристиан-
ской церкви. В массах сохранялось смутное представле-
ние о ней как о золотом веке. Данте, Макиавелли, Сар-
пи, Кампанелла призывали церковь вернуться к этим
евангельским временам, более соответствующим чистоте
евангелия. Это было также боевым конем еретиков. В
сочинении Джанноне эта эпоха описана во всех подроб-
ностях и с полной достоверностью на ясном и четком
вольгаре. История первых трех веков христианской
Церкви изложена так, что воображение непрерывно об-
ращается к Церкви в ее нынешнем состоянии. Писатель
и читатель сопоставляют, сравнивают. В повествовании
кроются намеки, опровержения, эпиграммы1. В те вре-
мена церковная иерархия была весьма проста, суще-
ствовали лишь епископы, священники и дьяконы; свя-
щенники не подчинялись епископам, а составляли их
сенат, были их советниками, и не было никого, кто рас-
поряжался бы сверху: распоряжался синод, собрание
епископов. Законом было священное писание, постанов-
ления же синода касались простого упорядочения цер-
ковного управления; не было канонических правил, «ко-
торые с течением времени стали соперничать с граждан-
скими установлениями и, ловко истолкованные римски-
ми первосвященниками, осмелились не только сравнять-
ся с гражданскими законами, но и полностью подчинить
их себе»2. Церковь не имела никакой юрисдикции; ее
правосудие называлось «notio», «Judicium», «audientia»,
а не «iurisdictio»; это было, соблюдение обычаев и до-
бровольный третейский суд. Духовенство и народ изби-
1 См. лекции Де Санктиса о литературе XIX века в «Scuola cat-
tolico-Iiberale», p. 261: «...ироническая манера Пьетро Джанноне,
когда он противопоставляет раннехристианскую церковь нынешней».
2 «Istoria civile...», lib. I, cap. XI, § 5. Последующий период
является изложением последнего абзаца из § 6 той же главы.
398
рали епископов и принимали участие даже в выборах
священников и дьяконов. Церковь жила на доброхот-
ные даяния, не имела недвижимого имущества, не соби-
рала десятины. Свой излишек она отдавала бедным. Та-
кова была раннехристианская церковь; но «в довольно
уродливых и самых странных формах наблюдаем мы ее
во времена не столь от нас отдаленные, когда, не удов-
летворившись тем, как преобразовалась гражданская и
светская власть государей, она попыталась даже полно-
стью подчинить имперскую власть церковной»1.
Монахи в те времена были немногочисленны, одино-
ки и религиозны, но развращение пришло быстро: «Не
без изумления наблюдаем мы, как в наших краях воз-
никли столь многочисленные и разнообразные монаше-
ские ордена, основавшие так много великолепных мона-
стырей, которые отныне обладают большею частью на-
шего государства и нашего/имущества, образуя корпо-
рацию столь значительную, что она смогла изменить
гражданское и светское состояние нашего королевства»2.
У Церкви не было ни своих юридических прав, ни
суда, ни территории; ибо это «зависит не от Ключей и не
от божественного права, но от человеческого, позитив-
ного права, проистекающего главным образом3 из по-
жалований или позволений светских государей, которым
один только Бог вложил в руки правосудие, как говорит
Псалмопевец: «Бог даровал свой суд царю». Церковь
не имела власти налагать телесные наказания, карать
изгнанием и тем более — присуждать к отсечению чле-
нов или смерти; наиболее тяжкие преступления в ереси
надлежало наказывать государям, присуждая преступ-
ников к мирским наказаниям. Злоупотребления Церкви
надлежало излечивать государям, которые издавали за-
коны, чтобы предотвращать таковые, в частности в от*
ношении приобретения Церковью мирского имущества;
и «Отцы Церкви, как святой Амвросий и святой Иеро-
ним, не жаловались на такие законы и на то, что госу-
дари могли устанавливать их, и им никогда не приходи-
ла мысль, что этим может быть нарушена неприкосно-
'. : — р—г— 1 —.—.
1 «Istoria civile...», lib. I, cap. XI, § 8.
2 Ibid., lib. II, cap. VIII, § 1. В следующем периоде слиты два
отрывка, взятых из § 3 этой же главы.
3 В тексте буквально: «...но скорее от человеческого и позитив-
ного права, проистекающего главным образом....»
399
венность 'Или свобода Церкви»1. Фридрих II запретил
приобретение недвижимого имущества церквам, мона-
стырям, тамплиерам и другим религиозным организаци-
ям. Однако «поскольку во времена Анжуйской династии
у нас установились другие понятия о том, что государь
не может искоренить эти злоупотребления, и поэтому
был отвергнут закон Фридриха как нечестивый и оскор-
бительный для иммунитета Церкви, то вернулись перво-
начальные беспорядки. Но если бы дело ограничилось
этим, то положение было бы сносным; но с тех пор цер-
кви и монастыри накопили такое имущество и столько
богатств, что им не составит большого труда поглотить
и то малое, что осталось во владении светских вла-
стей»2.
Светская власть «принадлежит государству в це-
лом»; однако государи во всех странах мира завоевали
и получили верховную власть. А римские первосвящен-
ники и церковные прелаты обладают светской властью3
не потому, «что эта власть проистекает из духовного
превосходства и является одной из ее необходимых при-
надлежностей, но она приобретена ими постепенно бла-
годаря человеческим заслугам, уступкам государей и по
законным предписаниям, а не по «закону апостольско-
му», как говорит святой Бернард: «Не может дать тебе
тот, кто сам не имеет».
29. Эта картина раннехристианской церкви, допол-
ненная множеством сопоставлений, изображает в из-
вестном ракурсе весь исторический процесс. Борьба
между церковными и гражданскими законами является
как бы центром обширного полотна, которое охватывает*
всю историю законодательства, объясняемую историей
правлений и политических изменений. Вико и Джанноне
жили в одно время. Джанноне был на восемь лет моло-
же. Но они не упоминают друг о друге, словно они
незнакомы. И, однако, они работали на общем мате-
риале законодательства и различными путями пришли
1 «Istoria civile...», lib. II, cap. XI, § 4. К этой цитате Де Санк-
тис добавляет «как святой Амвросий и святой Иероним», о ко-
торых говорится у Джанноне в том же параграфе.
5 Ibid., lib. II, cap. XI, § 4.
3 Ibid., lib. I, cap. XI: «Светское могущество»; из этой же
главы взята нижеследующая цитата,
400
к одинаковым выводам. Один был философом, другой —
историком цивилизованного мира; оба — посредственные
адвокаты, но глубокие знатоки права. Вико держался
в высоких сферах философских рассуждений, не спус-
каясь в гущу интересов и страстей, а потому остался не-
замеченным. Напротив, слава и влияние Джанноне были
огромными, потому что он затрагивал самые животрепе-
щущие вопросы своего времени, был воинствующим пи-
сателем, воодушевленным тем же боевым духом, что и
борющиеся стороны. Он говорит смело, с той насмешли-
востью, которая была свойственна его веку, чувствуя,
что за ним стоит весь его класс и все культурные люди.
Преследования сделали из него героя, утвердив его на
избранном пути, и он написал «Папскую тиару», самое
радикальное отрицание папства и религиозного спири-
туализма— если судить об этом сочинении по извест-
ным нам изложениям К Рукопись была погребена в ар-
хивах инквизиции. Девизом книги было: уничтожить
царствие небесное! Для Джанноне уже мало разобла-
чения церковной полиции — он хочет уничтожить самые
корни папства, разрубив связь между людьми и небом.
Поэтому он пишет историю царствия небесного, как ра-
нее написал историю церковного законодательства; и как
эта последняя была центром более обширной картины,
так и новая является средоточием такого изображения,
которое охватывает все человечество. Показать проис-
хождение догматов, их изменение, их взаимоотрицание,
подорвать веру в догмат воскресения людей — Джанно-
не делает это с большой эрудицией и при помощи весьма
тонких доводов. Но атмосфера в Италии была еще не
такова, чтобы столь радикальные идеи, выработанные
в Вене и в Женеве, могли быть встречены благоприятно.
1 «Triregno», как уже указывалось, было опубликовано
в 1895 году под редакцией A. Pierantoni, Roma, 3 voll. Де Санктис
ссылается на изложение этого сочинения, приведенное в «Vita di
P. Giannone» di L. Panzini («Opere postume di P. G.», Venezia 1768,
т. II), на брошюру Minieri-Riccio, Napoli 1860, также, может быть,
на изложение Феррари в работе «La mente di P. G.», Milano 186&
В те годы о личности и идеях Джанноне появилось несколько работ,
в том числе: D. Denicotti, P. G., Napoli 1867, и R. Mariano,
G. e Vico, в «Rivista contemporanea», LVII, 1869. Относительно
интерпретации «Папской тиары» у Де Санктиса см. также неаполи-
танские лекции 1869 года о Макиавелли*
26 Де Санктис
401
Культура развила ум, но еще не сформировала харак-
тера. В самом Джанноне человек стоял ниже писателя.
Да и времена настали такие, что не было ни жестоких
преследований, ни абсолютных запрещений, которые
обусловливали бы отчаянное сопротивление вплоть до
мученичества. Существовала полусвобода, а поэтому и
полуоппозиция. Распространился либерализм среднего
сословия, направленный против баронов и духовенства и
поощряемый государем, а потому в известных пределах
придворный, лицемерный и, как теперь говорится, «в бе-'
лых перчатках». Нижеследующий отрывок из сочинения
неаполитанского писателя той эпохи дает нам представ-
ление о тогдашних идеях и характере оппозиции1:
«Справедливая мысль о том, что лица духовного со-
словия являются служителями царствия небесного, из-
бавила их от всех тягот царствия земного; и то рвение,
которое они проявляют в заботе о душах и в божествен-
ном служении, сверх меры обогатило их имением и при-
вилегиями на этом свете. Не в наших намерениях в чем-
либо изменить похвальное мнение о духовенстве в наро-
де: как служителей религии мы уважаем их от глубины
души. Религия есть один из первейших основных законов
Государства, и смысл подобных законов никогда не дол-
жен стать предметом обсуждений рядового гражданина.
Лишь суверенному государю подобает судить об их поль-
зе или бесполезности; так же как в его верховной вла-
сти назначать или отставлять служителей этих законов,
определять или прекращать их исполнение, их обряды,,
их действие, объяснять или облекать тайной их доктрины
или же отстаивать, изменять или отменять их в соответ-
ствии с тем пониманием, которое ему ниспосылает боже-
ственность, крей представителем он является. Я говорю
«божественность», ибо что означало бы иначе выражение
«Царь божьей милостью»? Слушать и повиноваться —
вот каков в этом случае долг подданного. Однако рели-
гия, и прежде всего истинная религия, велит людям лю-
бить друг друга, хочет, чтобы каждый народ обладал'
наилучшими политическими законами, наилучшими
1 Отрывок^ с различными сокращениями и стилистическими
поправками — взят из «обращения издателя» к «Vita di P. Giannone»
Panzini, в «Opere», cit, перепечатанного в «Istoria civile...», Milano
1823, v61. I, pp. 62 и ел.
40?
гражданскими законами. Религия предписывает своим
служителям соблюдение этих законов. Они должны по-
давать пример: в сознании народов их поведение — осно-
ва чистоты. Но, говоря откровенно, разве на протяжении
нескольких веков они давали и дают ли сейчас подоб-
ный пример? Разве их личная неприкосновенность, осво-
бождение их имущества от налогов, узурпированные ими
юридические права, огромные захваченные ими имения,
непреклонность, с которою они всегда сохраняли эти
права и приобретения, странные доктрины, проповедуе-
мые ими с этими целями, и многие прочие привилегии,
права и почести, на которые они притязают, — разве не
является все это по существу явным нарушением поли-
тических и гражданских законов? Они достаточно ра-
зумны, чтобы желать уклониться от всей очевидности
этого аргумента. Мы говорим не о жрецах Кибелы или
Вакха и еще менее того.— о священниках веры Юма
или Руссо; мы льстим себя надеждой, что обращаемся
к служителям истинной религии, и прежде всего к италь-
янским священникам, которые почти всегда отличаются
мягкостью и приветливостью характера, а также отвра-
щением к ханжеству и нетерпимости. Ведь не существует
ни графства, ни баронства, ни какого-либо другого по-
добного феода, ни постоянного и твердого дохода, ни
удобного и красивого жилища, которые были бы пред-
назначены для вознаграждения трудов государственного
Министра, президента, советника или генерала; а в то же
время столь многие приоры и настоятели, епископы и
аббаты обладают в силу своих титулов прибыльными
феодами, твердыми доходами, не облагаемыми госуда-
рями и неприкосновенными, а их жилища посрамляют
княжеские дворцы. Монахи, хоть они и дают торжествен-
ную клятву жить в большей бедности, чем белое духо-
венство, зашли еще дальше в накоплении богатств и
отняли у бедных мирян средства к существованию. Да
разве по совести могли бы они занимать кафедры в уни-
верситетах, должности при дворах, амвоны в приход-
ских церквах и даже служить управляющими в частных
домах? Могли бы они без краски стыда быть аптека-
рями, торговцами, банкирами? А что касается их числа,
то их уже стало так много, что если государи не поло-
жат этому предела, то их поток поглотит все Государ-
ство. Получается, что на самую ничтожную итальянскую
26*
403
деревушку приходится 50 или 60 священников, не считая
духовных лиц других рангов. В городах множество ко-
локолен и монастырей затеняют солнце. В части этих
городов насчитывается 25 женских и мужских домини-
канских монастырей, семь иезуитских коллегий, столько
же приютов братьев-театинцев, двадцать или тридцать
францисканских монастырей и, возможно, до 50 муж-
ских и женских монастырей различных других религиоз-
ных орденов, от 400 до 500 церквей и капелл меньшего
значения; и в то же время на 37 тощих приходов не най-
дется ни одной астрономической обсерватории, ни одной
академии живописи, скульптуры, архитектуры, хирургии,
сельского хозяйства или других искусств и наук, ни
одной хорошей ткацкой фабрики, ни одной хорошей шел-
ковой или хлопчатобумажной мануфактуры, ни одной
публичной библиотеки, ни одного ботанического сада,
или кунсткамеры, или анатомического театра; никакой
заботы о том, чтобы порты содержались в чистоте, чтобы
дороги были удобными и безопасными, гостиницы
опрятными, города освещенными, торговля — оживлен-
ной. Неужели клирики думают, что они всегда будут
пользоваться благами общества, не неся на себе никаких
тягот? Что чаша весов всегда будет склоняться в их
пользу? Что никогда не будет надежды на восстановле-
ние равновесия?»
Это живая картина своего времени и по идеям и по
языку. Здесь за тысячу миль ощущается мирянин, бур-
жуа и адвокат. Государь для него безупречен и непогре-
шим. Долг подданного — «слушать и повиноваться». Он
уважает религию и весьма почитает ее служителей; он
даже льстит им. Но среди всех этих комплиментов ка-
кие сильнейшие удары он наносит куда попало! Его
больше всего раздражает, что его противники так бо-
гаты, а он, то есть все они, его единомышленники, так
стеснены. Если бы у них был какой-нибудь феод — куда
ни шло. Здесь уже ощущаются и результаты распрост-.
ранения культуры: весьма красноречиво сопоставление
многочисленности церквей и монастырей и такого пре-
небрежения к наукам, искусствам, промышленности и
торговле. Тут ощущается духовный прогресс и вместе
с тем.еще грубый характер. Душа еще раболепна, эман-
сипировался лишь дух. Таковы были юристы того вре-
мени, которые и создавали либеральное движение, но
404
в несколько гротескной форме, сочетая дерзости по ад-
ресу священника с подобострастием перед государем.
Но в то же время, будучи ревнителями законов, они в
силу требований самой их профессии приходили к тому,
что боролись с произволом не только духовенства, но
и мирян и провозглашали монархию уже не абсолют-
ную, а основанную на законах, если не либеральную.
Эта тенденция проявляется уже у Джанноне. Он восхи-
щается римскими законами, но более всего — самим
принципом законности, и он неумолим по отношению к
произволу.
«С первых же времен римского государства, — пишет
он, — ничего так страстно не желала беспутная рим-
ская молодежь, как того, чтобы управляли ими не за-
коны, а все представлялось бы на усмотрение и соиз-
воление царя, как об этом пишет Ливии1: «Царь —
человек, и от него можешь выпросить и праведное и не-
праведное. Законы глухи и неумолимы». Чувства эти
распущенные и достойные порицания. Лучше пусть в
государстве будет чрезмерно много законов, чем пола-
гаться на произвол чиновников»2.
Таким образом, проблема церковных прав расширя-
лась, становясь проблемой законности, борьбой против
произвола во всех его формах. Узурпация прав дворян-
ством и духовенством оспаривалась как незаконная,
противоречащая политическому и гражданскому зако-
нодательству, а в равной мере порицались произволь-
ные акты светских властей и даже монарха. В этом на-
правлении зашли довольно далеко. Произвольными на-
зывались не только акты, выходящие за рамки законов,
но и сами законы, если они не соответствовали право-
судию и справедливости. Писатели стали отмечать не-
упорядоченность и противозакония в гражданском и
уголовном законодательстве, а государи допускали эту
критику, ибо она не касалась формы их правления, не
ставила под сомнение их могущество, а даже апеллиро-
вала к ним, чтобы искоренять злоупотребления. Либе-
ральное движение в Италии проистекало не из фило-
1 В тексте Джанноне: «Не по какой-либо иной причине, кроме
как по той, которую приводит Ливии».
2 «Istoria civile,..», lib. I, cap. X, § 3, с некоторыми сокраще-
ниям^
405
софии, не из метафизических рассуждений, как говорил
Джанноне, но из внутренней потребности в законности
и справедливости. В XVI веке предметом нападок рефор-
маторов было развращение нравов; теперь стали гово-
рить о несправедливости законов. Прежнее движение
было религиозным и этическим; новое движение было по-
литическим, а это означало, что прежнее движение было
развито в своих предпосылках и расширено в своих след-
ствиях.
30. Движение, которое у Бруно, у Кампанеллы, у
Вико оставалось в значительной степени умозритель-
ным, без непосредственных приложений, почти утопией,
постепенно распространяясь в культурных классах, конк-
ретизировало свои цели и средства главным образом бла-
годаря юристам. Цель заключалась в том, чтобы унич-
тожить церковные и феодальные привилегии во имя
равенства, побороть произвол во имя закона и рефор-
мировать законодательство во имя правосудия и спра-
ведливости. Рычагом была гражданская государствен-
ность, светский, правовой и реформаторский элемент, на
который новаторы возлагали свои надежды. Идеи эти
развивались с большой эрудицией, с большой тонко-
стью аргументации и интерпретации, как это свойствен-
но людям опытным в судебных диспутах. В Германии
это движение едва наметилось и оставалось в высоких
сферах философствования. Сенсуализм Локка поро-
дил скептицизм Юма, и возникла новая философия
о человеческом интеллекте, философия или критика
человеческого разума, историю которого написал Локк.
Кант и позже Фихте сосредоточились на этих трудных
проблемах и, стремясь добиться того, чтобы дерево,
прежде чем вырасти, глубоко укоренилось, раздумы-
вали об основах, на которых должна возникнуть нацио-
нальная гражданственность. Из всех этих философов в
Италию едва проник один только Локк, да и то в пе-
реводе, изуродованном цензурой К Движение, развивав-
1 Первый итальянский перевод «Essay concerning Human Under-
standing» (1690) Джона Локка принадлежит падре Зоаве, который
уже в 1751 году перевел работу «On Education» (1692). Это «Saggio
su l'umano intelletto», «компендиум доктора Уинна, перевод и ком-
ментарии Франческо Зоаве» (Венеция, 1785, напечатано с разреше-
ния Святого Престола; перепечатано затем в Неаполе, 1825). В пре-
дисловии Зоаве предупреждал: «До сих пор еще не было итальян-
406
шееся в Англии и в Германии, нашло лишь слабые от-
клики в Италии и с трудом пробивало себе путь, так
как преобладало французское влияние. Франция была
великой распространительницей идей, выработанных
предшествующим веком. Это было уже не доказатель-
ство, а завершение, не искания, а формулировка, не умо-
заключение, а применение; наука уже укрепилась в сво-
их принципах и стала неким катехизисом, в такой лите-
ратурной и популярной форме, которая делала эту про-
паганду непреодолимой. Отрицание достигало наивысшей
действенности в снисходительной иронии Вольтера,
лукавство которого таило в себе столько здравого смыс-
ла. Утверждение достигало точности катехизиса у Руссо,
который боролся с общественными условностями во имя
естественного общества, порождавшего права человека,
всеобщее голосование и суверенитет народа. У Руссо
философские рассуждения становились некой библией,
чувством, впадавшим в воображение. Монтескье подни-
мал самые сложные проблемы политики и законода-
тельства в резкой и четкой форме, которая была уже не
наукой, а более того — мудростью, сгущенной и сжато
сформулированной. Вокруг этих центров группирова-
лись энциклопедисты и множество писателей, различных
по уму и культуре, но в то время считавшихся велики-
ми людьми. В скором времени не было культурного
человека в Италии, который не читал бы с жадностью
их произведений.
Появилось множество философов, филантропов, воль-
нодумцев, именовавшихся по-новому: либералами или
новыми людьми, новаторами. Философы были филант-
ропами, или друзьями человека, или гуманитариями
и вместе с тем вольнодумцами, или свободными мысли-
телями, которые во имя разума или науки осуждали
все идеи и явления, которые отдалялись от этих крите-
риев. Их открытая общественная деятельность подкреп-
лялась усилиями тайных ассоциаций франкмасонов, ко-
торые были одушевлены теми же чувствами и шли к тем
же целям. Освободить мысль и действие от всех внеш-
ского перевода, и нельзя было долее заставлять ждать Италию.
Я предпринял этот перевод и представляю его публике... Однако
там есть некоторые фразы, которые Католическая Религия не может
потерпеть: опровержение их было необходимо» (ed. cit, pp. IX—X),
407
них препон — религиозных или общественных, — урав-
нять классы перед лицом закона, обеспечить образова-
ние и благосостояние низших классов — таковы были
основы нового здания, которое желали построить. Пола-
гали, что всего этого можно достичь благодаря статьям
законов, как это делали Солон, Ликург, Нума. И ре-
форматоры угождали государям, называя их орудиями
провидения в деле обновления мира. Сложилось обще-
ственное мнение, центром которого был Париж, а гла-
сом — философы. Прислушиваться к общественному мне-
нию, проводить некоторые реформы по советам филосо-
фов стало способом правления, средством приобрести
славу и популярность дешевой ценой, так же как в
XVI веке этого добивались, оказывая покровительство
литераторам и художникам. Великое преступление ве-
ка— жестокое покушение на польскую нацию — было
погребено под ливневым обилием цветов, которые фи-
лософы рассыпали в память Елизаветы и Екатерины II,
Марии-Терезии, Иосифа II и Фридриха II — государей,
которые льстили энциклопедистам и которым льстили
Вольтер, Д'Аламбер, Рейналь. Я вовсе не хочу сказать,
что эти государи были реформаторами лишь по расчету:
это значило бы клеветать на человеческую натуру. Они
охотно проводили полезные реформы, не опасные для
их авторитета и даже укрепляющие его, соблюдая одно-
временно и собственную выгоду и общественные инте-
ресы. Таким образом, расчет сочетался у них со стрем-
лением к добру, удовлетворением от полученных похвал,
да и с внутренним убеждением, ибо сами они тоже отве-
дали тех же идей. То же самое происходило и в Италии.
Государи соревновались друг с другом в реформах:
Карл III и Фердинанд IV, Мария-Терезия и Иосиф II,
Леопольд, Карл-Эммануил и даже папа Ганганелли, ко-
торый принес иезуитов в жертву общественному мне-
нию. Философы, требовавшие во имя свободы и равен-
ства отмены всех феодальных^ церковных, коммуналь-
ных и областных привилегий, всех и всяческих различий
классов и общественных сословий, имели на своей сто-
роне государей, которые уже давно стремились к дости-
жению именно этой цели, поскольку их абсолютная
власть основывалась на уничтожении всяких локальных
свобод или привилегий. До этого предела философия
и абсолютная монархия шли вместе. То же согласие
408
существовало относительно экономических, администра-
тивных и юридических реформ: упростить налоги, уни-
фицировать законы, снять оковы с собственности, по-
ощрять промышленность, торговлю и сельское хозяйство,
оградить от произвола жизнь и имущество граждан.
Государям это было нужно, и в большей или меньшей
степени они шли по этому пути. Они думали, что, осла-
бив духовенство и дворянство, распустив цеха, подавив
всякое местное сопротивление, они сохранят в своих
руках абсолютное господство при помощи двух новых
механизмов, которые пришли на смену разрушенной
системе средневековья, а именно при помощи бюрокра-
тии и армии. И им не приходило в голову, что те прин-
ципы, на которых основывались все эти реформы и ко-
торые сплачивали общественное мнение, вели к более
далеким последствиям: ведь невозможно было при от-
мене привилегий сохранить в неприкосновенности са-
мую чудовищную привилегию — абсолютную монархию
и божественное право; невозможно было, обуздав про-
извол духовенства, баронов и судейских чиновников,
продолжать управлять государством при помощи сек-
ретных королевских приказов и «Lettres de cachet». Та-
ковы были неизбежные последствия, которые рано или
поздно привели бы к революции, даже если бы Франция
не показала примера. Но в то время никто об этом не
думал и все весело шли по пути реформ, будучи убе-
ждены, что достаточно иметь «просвещенных» минист-
ров и «отеческих» государей, чтобы мирно и постепен-
но обновить общество. Писатели, покровительствуемые
и поощряемые, бросили отвлеченные рассуждения и
беспрепятственно разрабатывали самые животрепещу-
щие и неотложные проблемы, ощущая себя под защи-
той общественного одобрения и благоволения государей,
«руководителей всеобщего благоденствия». Беккариа
пишет:
«Великие монархи, благодетели человечества, кото-
рые правят нами, любят истины, высказываемые безвест-
ными философами; нынешние беспорядки — это лишь
насмешки и упреки прошедшего времени, они уже не
принадлежат ни нашему веку, ни его законодателям»1.
1 См. Ч. Беккариа, О преступлениях и наказаниях, М., 1939,
стр, 184. Отрывок цитируется в его основных положениях*
409
Филанджери с чисто южным энтузиазмом заключает
вторую книгу своей «Науки о законодательстве» сле-
дующими словами:
«Философ должен быть апостолом истины, а не изоб-
ретателем систем. Заявлять, что «все сказано», свой-
ственно людям, которые не умеют ничего совершить или
не обладают мужеством сделать это. До тех пор пока
не будут излечены те болезни, которыми страдает че-
ловечество; до тех пор пока многочисленные заблуж-
дения и предрассудки будут находить сторонников; до
тех пор пока истина, известная кучке привилегирован-
ных людей, будет скрыта от большинства рода челове-
ческого; до тех пор пока эта истина будет далека от
тронов, долг философа состоит в том, чтобы проповедо-
вать, защищать, провозглашать, разъяснять ее. Если
идеи, которые он распространяет, неприменимы к его
веку и к его родине, они, несомненно, будут полезны
для другой страны1. Философ — гражданин всех мест,
современник всех эпох, Вселенная — его родина, зем-
ля— его школа, его современники и потомки — его уче-
ники».
Философия уже превзойдена. Ее больше не дока-
зывают, она — общепринятая предпосылка. Цель заклю-
чается не в том, чтобы создавать философию, «выду-
мывать систему». Цель — это «апостольство», пропаган-
дирование и пояснение философии, то есть истины, кото-
рую знают пока немногие привилегированные люди. Это
истина, возвещаемая тоном оракула, с жаром веры, как
это делали апостолы. Это новая религия. Бог возвра-
щается к людям. Сознание переделывается. Рождается
новый человек. И возрождается литература. Новая нау-
ка уже не наука более; это — литература.
1 В тексте («Scienza della legislazione», lib. II, 38): «...несом-
ненно, будут полезны для другого века и для другой страны».
XX
Новая литература*
1. Метастазио. Завершающая форма старой литературы,
не смиряющаяся с задачей служить простым музыкальным
средством. Уроки Гравины и „Giustino". Последующие опыты
в духе Аркадии: первые стихи, эпиталамы, «Анджелика».
2. Второй этап воспитания в Неаполе и «Покинутая Дидона»,
прототип оперы. Критические устремления Метастазио и созда-
ние музыкально-поэтической драмы как формы, присущей его
гению и его времени. Большая популярность и абсолютное зна-
чение его поэзии. 3. Итальянская жизнь, условная и беспоря-
дочная, изображенная изнутри в «Дидоне», драме внешне тра-
гической, а по существу комической. Армида Тассо и Дидона;
женщина, изображенная правдиво, насколько это было воз-
можно в те времена. 4. Идиллический и элегический характер
чувства у Метастазио как образ спокойного и прозаического
общества. 5. Драматургический конфликт: героизм, понимае-
мый как удивительное явление, как антитеза обычной жизни.
Внутренний комизм этого театрального мира, куда проникает
1 Первая часть этой главы, посвященная Метастазио, была опу*
бликована в «Nuova Antologia» за август 1871 года в более про-
странной, монографической форме. Мы приводим в примечаниях от-
рывки, не включенные в книгу. На той же основе, всегда исходя из
рукописи, внесены некоторые исправления в текст, что указано
в сносках. Во второй части главы, после довольно пространного ана-
лиза творчества Гольдони и Карло Гоцци, Де Санктис делает крат-
кий обзор направлений новой литературы и ее писателей. Он писал
к Морано 24 апреля 1871 года: «Вся современная литература войдет
как материал в одну главу, поскольку я собираюсь позже посвятить
ей специальный том». Эти слова относились к работе Де Санктиса
(создававшейся почти одновременно с «Историей итальянской лите-
ратуры») о крупнейших поэтах XVIII—XIX веков. Эта работа кон-
кретизировалась в трех больших статьях о Фосколо, о Парини'и
о лиро-эпическом творчестве Мандзони, опубликованных в той же
«Новой Антологии» (июнь и октябрь 1871 и февраль 1872 года), не-
которые отрывки из них введены в данную главу. По поводу этих
статей и лекций о Мандзони и о Леопарди (эти последние были из-
даны посмертно: «Studio su Giacomo Leopardi», Napoli 1885), как и
статей о малых поэтах XIX века, см.: «L'arte, la scienza e la vita»,
а также тт. X, XI, XII, XIII изд. Эйнауди.
411
вульгарность и шутовство современного ему общества; «Ад-
риан в Сирии». 6. Поверхностность как условие искусства Ме-
тастазио; равновесие, достигнутое чередованием непосред-
ственности и рассудочности; пластичность и ясность. 7. Мета-
стазио рисует распад старого итальянского общества. Музы-
кальный период в литературе, начавшийся с Тассо, заканчи-
вается победой музыки над поэзией. 8. Первые признаки но-
вого общества. Благодетельное действие музыки, которая со-
кращает и облегчает литературную форму. Новая публика
и распространение культуры за пределы княжеских дворов и
академий. Литератор — синоним болтуна. 9. По примеру англи-
чан и французов философы и критики вооружаются против
прошлого, против его установлений и литературной практики.
Формы новой критики, эрудированные и искусные, но чуждые
национальному духу и противоречащие литературному воспи-
танию: реакция «пуристов». Гаспаро Гоцци, корректный и не-
принужденный, колеблющийся между педантством и гру-
бостью. 10. Появление «Оссиана», его успех у публики, кото-
рой приелось старое идиллическое содержание. Литературный
энтузиазм Возрождения и философский энтузиазм XVIII века:
преемственность движения, задушенного в Италии и вновь
пришедшего извне. Идеал естественной формы: «Опыт фило-
софии языков» Чезаротти и его язык, живой и гармоничный,
слияние иностранных и отечественных элементов; разговорный
итальянский язык, соответствующий состоянию культуры,
принятый писателями во всех областях Италии. Сопротивление
во Флоренции и в Риме. Тайны стиля, связанные с психоло-
гией: трактат Беккариа «О стиле». 11. Обновление содержания.
Буржуа в борьбе с жизнью и с обществом — новый герой
французской литературы, которая наводнила Италию. Мерсье
и постановка его драм в Италии. Дидро как родоначальник
эстетической критики и утверждение идеала, целиком взятого
из реальности природы. Новые драматические жанры: слезли-
вая комедия и буржуазная трагедия. 12. Крайности нового и
грубость старого в романах и комедиях Кьяри. 13. «Мар-
физа» Карло Гоцци — карикатура на новые романы. Гоцци —
защитник комедии дель'арте. Его „Ragionamenti" более желч-
ные, чем рассудительные. 14. Гольдони — Галилей новой лите-
ратуры. Первые пробы пера: трагедии, мелодрамы, комедии на
французский лад и импровизированные. Возникновение худо-
жественного сознания. Реформа Гольдони, основывающаяся на
естественности в искусстве: возвращение слову его значения
и воссоздание всей структуры комедии. Границы реформы:
уступки вкусу публики и чрезмерная небрежность в средствах
выражения. Характер, почерпнутый из всей полноты действи-
тельной жизни, как центр комического мира у Гольдони; его
основа — венецианское общество в своей заурядности. Комиче-
ский характер, раскрывающийся в обстоятельствах. Качествен-
ные недостатки: поверхностность и грубость в естественности.
Восстановление правдивого и естественного — основа новой
литературы; Гольдони в пределах своих возможностей — во
главе этого направления. 15. «Отсталый» Карло Гоцци, про-
тиворечивый в своих намерениях и противостоящий духу вре-
412
мени, устанавливает основы народной комедии наперекор ко-
медии буржуазной; восстановление фантастического и сверхъ-
естественного элемента остается искусственным и узколитера-
турным явлением. 16. Чисто литературное движение в Вене-
ции; у Гольдони не хватает внутреннего мира сознания. Раз-
витие отвлеченного мышления и музыкального чувства на юге
Италии. Милан как умственный и политический центр новой
жизни. Безвредное вышучивание старого общества в «Цице-
роне» и в «Баснях» Пассерони. 17. Парини. Характер этого
человека, закалившегося в нищете, независимого и одинокого;
его внутренняя сила, более моральная, чем интеллектуальная.
Художник, воспитавшийся в этом человеке: моральное, поли-
тическое, лирическое и сатирическое содержание поэзии Па-
рини. Глубокая и печальная ирония «Дня»: старое общество
показано в основных чертах его одряхления — пышности форм
и пошлости содержания. Сила словесного выражения, резкого,
весомого, тяжкого, в полном противоречии с изображаемым
обществом. 18. Молодость Альфьери. Цель всей его жизни —
вернуть Италии трагедию, единственный жанр, который он
считал подходящим для изображения нового человека. Упор-
ная подготовка Альфьери, тщетные поиски образца трагиче-
ского стиха. Энергический, оригинальный стиль Альфьери, тес-
нейшим образом связанный с принципами композиции. Поверх-
ностность его творчества, более деятельного, чем размышляю-
щего, еще не сбросившего оков XVIII века; концепция траге-
дии как конфликта индивидуальных сил; тиран — ключевой
момент истории. Личный вклад Альфьери в философскую и
вольтеровскую трагедию, ставшую у него лирическим излия-
нием негодования и ненависти. «Одиночество» Альфьери; образ
нового человека, воплощенного в его могучей индивидуаль-
ности, в противоречии с исторической действительностью:
«Мизогалл». Бессилие Альфьери в области поэтического выра-
жения вследствие избытка страстей; жизнь сгущена, исковер-
кана, укорочена. Новый человек в классических одеждах;
внутренний мир возрождается у Альфьери в результате изуче-
ния античности с ее железным характером. Поэтическое яко-
бинство Альфьери; вторжение морального и политического со*
держания, резкие нападки на прошлое, характерные для но-
вой литературы. 19. Винченцо Монти, удачливый поэт, олицс
творение псевдогероичности. Высокие качества художника и
отсутствие морального содержания. 20. Быстрое проникнове-
ние новых идей в Италию в подражание французам. Незре-
лость итальянской буржуазии и восторги перед Наполеоном.
Милан и неаполитанские изгнанники. Исчезновение старого по-
коления. «Последние письма Якопо Ортиса» Фосколо — пер-
вый вопль разочарования, взрыв юношеских чувств, еще по-
верхностных. Петрарковская глубина «Сонетов»; сладостраст-
ный и музыкальный мир «Од». «Гробницы» — первый лири-
ческий голос повой литературы; поэзия жизни и человечность
противостоят революционной логике. Вдохновение в духе
Вико. Обращение к религиозному чувству; новизна содержа-
ния и формы, свободной от всего внешнего. Литературный хо-
лодок «Граций» как последнего цветка итальянского класси-
413
цизма. Фосколо-критик; больше огня воображения, чем силы
интеллекта, Человек в нем выше литератора; возобновившийся
интерес к филологическим и историческим разысканиям.
21. 1816 год. Политическая, философская и литературная
реакция, первоначальные крайности движения: спиритуализм,
доведенный до идеализма и мистицизма; прославление средне-
вековья и папства; жанр христианского романтизма. Восста-
ния 1821 года и компромисс монархии с буржуазией. Реакция
превращается в примирение; либеральный католицизм и рели-
гиозный язык демократов. Теоретическая база примирения —
тождество идеального с реальным. 22. Романтизм, его содер-
жание и его форма. Неогвельфская историография и пробуж-
дение воображения, проникнутого национальной гордостью и
религиозным энтузиазмом. Религия, ставшая более гуманной,
вбирает в себя идеи XVIII века. «Священные гимны» Манд-
зони: романтическое содержание в классической форме. Ода
«Пятое Мая»: история как непостижимая божья воля, превра-
щенная в легенду. Лиро-эпическая поэзия Мандзони как пер-
вое литературное движение XIX века. 23. Распространение ге-
гелевского идеализма. Мода на теогонии или философские
эпопеи. Эклектизм и умеренный либерализм буржуазии. Новая
литературная критика; возврат к христианско-платоническои
концепции искусства и к мифологическим и аллегорнчеаким
формам. Двойной импульс: идеальный, или синтетический, и
исторический, или аналитический; слияние обеих тенденций и
судьба наследия Вико. Философия и история как обязатель-
ные предпосылки литературной критики; чувство идеального и
забота об исторической правдивости. Роман, драма и народ-
ная поэзия. 24. Романтизм в Италии: путаница суждений и
противоречивые позиции в споре между классиками и роман-
тиками; итальянский дух отвергает французские и немецкие
крайности, уже преодоленные в Германии. Продолжение не-
мецкой реформы, завершившейся эклектизмом и пантеистиче-
ским спиритуализмом Гёте. «Фауст» — «Божественная коме-
дия» современной культуры. Италия, вливаясь в европейскую
культуру, борется против своего интеллектуального застоя и
изоляции. Мандзони, возвратившись из Франции, возглавляет
романтическую школу, которая по сути своей является истинно
итальянской, как продолжение новой литературы Гольдони и
Парини, приближавшейся к реальности. 25. Формирование по-
литического сознания в среде итальянской интеллигенции: по-
нимание предела возможностей и вера в мирный прогресс.
Реформистские иллюзии. Приостановка политической деятель-
ности и расцвет наук и искусств. Романтический период и
средневековые покровы политических идеалов. Национальная
драматическая лирика изгнанника Берше. Идеи политиче-
ского примирения, возведенные в философию в «Примате»
Джоберти. Джузеппе Джусти схватывает комизм самой ситуа-
ции в Италии, основанной на двойственности. 26. Творческий
скепсис Джакомо Леопарди возвещает о распаде богословско-
метафизической и политической концепции периода примире-
ния и открывает царство сухой истины. 27. Конец онтологи-
ческого синтеза и начало критического анализа; создание
414
объединенной Италии ведет к распаду того интеллектуального
и политического мира, из которого она родилась. Возобновление
революции. Социализм и позитивизм; от идеализма — к реа-
лизму в науке, в искусстве, в истории. Необходимость для
Италии построить заново свою культуру и найти новые
источники вдохновения в реальных основах ее национальной
жизни.
1. Человек, который являет собою переход от ста-
рой литературы к новой, — это Метастазио'. Старая ли-
тература, ставшая к тому времени лишь певучей музы-
кальной формой, имела своим последним выражением
музыкальную драму, в которой сама литература уже не
цель, а средство, мелодия, которая служит музыке. Но
литература не примиряется с этим, а желает остаться
сама собой, сохранить свое значение. Этой завершаю-
щей формой старой литературы и было творчество
Метастазио2.
1 Об оценке Метастазио в предшествующей критике см.:
L. Russo, Metastasio, Bari 1945, глава, посвященная судьбе
поэта в критике до и после Де Санктиса, а также S. Romagnoli
в книге «Classici italiani», Binni cit., II, pp. 91 —136. Относительно
интерпретации Метастазио у Де Санктиса см., в частности,
В. Croce, Letteratura italiana del Settecento, Bari 1949, pp. 15—23;
M. Fubini, II giudizio del De Sanctis sul Metastasio (1952), in
«Romanticismo italiano», Bari 1953, pp. 181—194.
2 В тексте, опубликованном в «Nuova Antologia», следует далее:
«Со времен Тассо вплоть до Метастазио в Италии уже существо-
вало смутное ощущение, что литература устарела и необходима ре-
форма. Некоторые искали новизны в тематике, другие — в чередо-
вании строф, третьи — е Солее разнообразном стихосложении. Все
они, располагая уже устаревшим набором образов и понятий, пыта-
лись обновить хотя бы средства выражения путем различных тон-
костей и ухищрений. Этим последним литературным усилием италь-
янского гения были порождены «Аминта», «Верный пастух» и «Адо-
нис». Здесь форма значит бесконечно больше, чем содержание, ибо
весь интерес состоит не в том, что выражено, а как это выражено.
Средства выражения отрываются от содержания и имеют самостоя-
тельное значение; нет больше слияния, форма получает свой смысл и
значение не от выражаемого содержания, а становится простым ме-
ханическим средством, самоцелью. Содержание уже не цель, а повод
для того, чтобы придать ему словесное выражение. Этот феномен
всегда происходит при литературном упадке, когда содержание ис-
черпано, но не исчерпан еще творческий дух, который при полном
безразличии к содержанию проявляет свою силу в средствах выра-
жения. Процветают описания, пересказы, модуляции и кантилены.
Слово, используемое не как выражение содержания, а как слово
само по себе, проявляет свои напевные, музыкальные стороны, оно
415
Метастазио родился 6 1698, умер в 1782 году. Он
учился у Винченцо Гравины, который при изучении за-
конов возвращался к римским источникам и попытался
создать первую философию права. Он хотел вернуть ис-
кусство к греческой простоте, очистив его от сечентист-
ского разложения1,, и писал трагедии по образцу
становится просто звучностью, красивым звуком. То, что показалось
в то время реформой, было позже оценено как распад, разложение,
обозначаемое названием «сечентизм».
Метастазио родился в 1698 году, умер в 1782. Его жизнь почти
целиком в XVIII веке — веке Вольтера и Руссо, Парини и Альфьери,
Вико и Беккариа. В этот бессмертный век современная мысль пере-
живала кризис; в сжатых и четких формах она достигла тогда
высшей энергичности и распространения. Новый дух проникал во
все формы человеческой деятельности — религию, философию, поли-
тику, мораль, экономику, законодательство, литературу. Лозунгом
этого века была реформа. Этот порыв был так могуществен, что
сами государи возглавляли реформаторское движение: Фридрих II,
Мария-Терезия, Иосиф II, Екатерина II, Карл-Эммануил Савой-
ский, Леопольд Тосканский, Карл III и Фердинанд в Неаполе
и даже папа Ганганелли, который принес иезуитов в жертву этому
новому богу. Беккариа, Верри, Вико, Джанноне, Дженовези, Фи-
ланджери, Галиани, Джойя были реформаторами, или, как тогда
выражались, новаторами. В этот быстрый поток идей была вовлечена
также литература, и самые знаменитые писатели становились рефор-
маторами. Карло Гольдони осуществлял реформу комедии, Карло
Гоцци пытался реформировать народный фарс; Винченцо Гравина
хотел реформировать трагедию, как это позже пытались сделать
Шипионе Маффеи и Альфьери; Парини попытался совершить ре-
форму лирики. Даже Аркадия была литературной реформой — сооб-
ществом здравомыслящих людей, выступавших против крайностей
«сечентизма». Критика была проникнута тем же духом. Гравина
в своем «Ragion poetica» ставил под вопрос все общепринятые прин-
ципы искусства; Беттинелли в «Lettere virgiliane» подвергал обсуж-
дению самого Данте; Баретти, только что прибывший из Англии и
увлеченный Шекспиром и Мильтоном, заносил свой хлыст над сечен-
тистами, над аркадийцами и над реформаторами. В этом-то литера-
турном, философском и политическом брожении и жил Метастазио.
Винченцо Гравина, который подобрал его на улице и воспитал
с отеческой любовью, также был реформатором, как юрист и как
литератор. Он стремился вернуть изучение законов к римским источ-
никам и попытался создать философию права. Равным образом он
хотел вернуть искусство к греческой простоте, очистив его от сечен-
тистского разложения, и написал теорию искусства под названием
«Ragion poetica». Сопровождая поучение примерами, он писал тра-
гедии по образцу Софокла, учась краткости и простоте.
1 О Гравина см. в гл. XVIII, § 10; о доктринерском морализме
Гравины см. юношеские лекции по истории критики («Teoria e sto-
ria», cit., t. II, p. 83, а также «Purismo illuminismo storicismo», cit.,
t. III).
416
Пьетро Метастазио.
27 Де Саиктис
417
Софокла; он также попытался создать теорию искусства,
которую назвал «Ragion poetica». Добряк Гравина ви-
дел болезнь, но не знал ни ее причин, ни средств ее из-
лечения. Простота есть форма подлинного величия —
бессознательного величия, ставшего природой. Ничто
так не противоречило его веку — манерному и претен-
циозному внешне, пустому изнутри. Для борьбы с мань-
еризмом Гравина уничтожил всякий колорит, заменив
его обилием моральных и философских сентенций. У него
были добрые намерения; он словно хотел сказать: ну-
жны дела, а не слова К Именно такова тенденция его
«Ragion poetica», в котором в качестве субстанции ис-
кусства выдвигается истинное — неприкрашенная истина,
не приправленная вялыми стихами.2. Но, желая быть
простым, он на деле оказывается сухим. Теория его
была тоже не нова, это старая теория Данте, обновлен-
ная у Тассо; но она показалась новой в те времена, ибо
тогда вся сила ума была направлена на фразы3. Мета-
стазио воспитывался на этих идеях. Суровый учитель
запретил ему читать Тассо и позднейших поэтов, просве-
тил его в греческом и в латыни и направил его интересы
на изучение законов, мечтая как бы возродиться в Ме-
тастазио — юристе и литераторе. Но юноша был при-
рожденным поэтом. И после смерти Гравины он жадно
набросился на запретный плод; его духовной пищей
стали «Освобожденный Иерусалим», «Аминта», «Вер-
ный пастух» и особенно «Адонис». Однако первоначаль-
ное классическое воспитание было для него небесполез-
ным, ибо приучило его к естественности и простоте и
дало ему благой пример и прочную эрудицию. Однако
когда он оказался предоставленным самому себе, то в
1 Об этом выражении, ставшем девизом журнала «Caffe», и
о рационалистическом «обновлении» критики XVIII века см. ниже,
§9.
2 См. «Gerusalemme Liberata», I, строфа 3, v. 3. О связях поэтики
Данте и Тассо см. также гл. XVII, § 7.
3 В тексте «Nuova Antologia» следует: «Первая естественная
идея, возникающая во времена упадка, состоит в возрождении прош-
лого, поскольку этот упадок кажется не чем иным, как отходом от
правильного пути. В это время несколько ослабло изучение антич-
ности, и это показалось источником зла. Вернуться к верным доктри-
нам и хорошим примерам, обуздать воображение, сдержать чув-
ства — таковы были средства, предложенные Гравиной, откуда и вы-
шла реформа, именуемая Аркадией»,
418
нем, как и во всех талантливых людях, развилось ощу-
щение современной жизни. Учитель хотел сделать из
него трагика на греческий манер, или, скорее, на свой
манер. Но трагедия не была призванием Метастазио, и
автор «Джустино» предпочел Овидия Софоклу и по
моде того времени с триумфом вошел в Аркадию с со-
нетами, канцонеттами и идиллиями, традиционными ге-
роями которых были Хлоя, Ыиса, Филлида, Тирсис,
Ирена и Титир. «Sogno della gloria» — последнее сочи-
нение Метастазио в духе Гравины, начиненное сентен-
циями, общими местами и классическими и дантовскими
реминисценциями 1. «Возвращение весны», написанное в
следующем, 1719 году, уже несет на себе следы «Амин-
ты» и «Адониса», легко воспринятые этой душою, бога-
той гармониями и образами. Идеалом того времени была
идиллия, отдых и невинность сельской жизни в противо-
положность жизни в обществе, как этот жанр развивали
Тассо, Гварини и Марино. Идиллия была неким внут-
ренним равновесием, состоянием примиренности и удо-
влетворения, в котором страдание служило как бы при-
правой. Аркадия, желая реформировать вкусы, отняла
у идиллии ту интеллектуальную натянутость, которая
называлась сечентизмом, в результате чего форма стала
просто музыкальным излиянием души в блаженной
праздности, убаюкиваемой мягкими ритмами, элеги*
ческими и сладострастными; это и называлось мело-
дией. Музыка уже проникла в эту форму, столь приспо-
собленную к тому, чтобы воспринять ее; канцона стано-
вилась канцонеттой, кантатой и ариеттой, а пастораль-
ная драма превращалась в драму музыкальную. В боль-
шой моде были канцонетты Ролли, но уже спорили, кто
пишет их лучше — Ролли или Метастазио.
Растратив наследство Гравины, Метастазио, видя,
что Аркадия не дает ему хлеба, вспомнил советы своего
учителя и уехал в Неаполь, намереваясь стать адвока-
1 Полное название произведения «La strada della gloria» —
«Сон, написанный автором в Риме, в ранней молодости, по случаю
кончины своего благодетеля и учителя маэстро Джан Винченцо
Гравины и прочтенный им на одном из публичных собраний Арка-
дии в 1718 году» (см. «Opere di P. Metastasio», X vol., Zatta,
1794—1795, vol. IV, pp. 307 и ел.). Под «Возвращением весны»,
о которой говорится ниже, подразумевается канцонетта «La prima-
vera», ibid., v, II, pp. 329 и ел.
27*
419
том. Но Неаполь тогда уже был краем музыки и пения.
И судебными речами Метастазио стали кантаты и эпи-
таламы К Ранее на свадьбу писались сонеты и канцоны,
а в то время вошли в моду эпиталамы, кантаты и теа-
тральные представления. Метастазио стал поэтом сва-
деб, от него остались три эпиталамы2 — мифологические
и идиллические истории, в которых заметно подражание
Тассо и Марино. Воспевая брак Антонио Пиньятелли и
Анны де'Сангро, поэт вспоминает о любви Венеры и
Марса, с которыми связывается любовь молодоженов;
разумеется, Анна — это Венера, а Антонио — Марс. Тут
мы находим гору Амура, которая напоминает сады Ар-
миды3, и весь старый мифологический репертуар с его
образами и понятиями. Вот как Метастазио описывает
Анну:
Когда она легко ступает в танце,
Молчит, смеется, говорит, поет,
Она Любви полна, очей услада,
Лицом Цитера и душой Паллада.
И рядом с ней, с любимою женой, —
Счастливый, как она, родитель милый:
Прекрасная чета, пример живой
Ума и благородства. Время было,
Они стремились в небо всей душой,
Но души их Любовь соединила,
И дочери пришел родиться срок —
Прелестной, как диковинный цветок.
Это весьма посредственные и плохо отделанные ок-
тавы, но в них уже ощущается легкость стиха и рифмы
и большая ясность. Октава, в которой описывается пою-
щая Анна, своим блеском и колоритом свидетельствует
об определенной талантливости 4:
1 В «Nuova Antologia» следует: «И адвокат стал преуспеваю-
щим свадебным поэтом, часто приглашаемым в аристократические
дома...»
2 См. «Epitalami»; первая — на бракосочетание дона Антонио
Пиньятелли и Пинелли де' Сангро (1720), вторая — на бракосочета-
ние князя Филомарино с Витторией Караччола (1722) и третья —
на брак Франческо Гаэтани Лауренцано с Джованной Сансеверино
(1723). Из первой приведены ниже октавы 31—32 и 34 песни первой.
См. -«Opere», cit., vol. II, соответственно pp. 282, 308 и ел., 323 и сл>
3 См. «Gerusalemme Liberata», XVI, строфа I и ел.
4 В «Nuova Antologia» следует: «В построении параллелизмов
ощущается манера Тассо»,
420
Вздымая грудь, она поет на диво,
Звучит то громче голос, то замрет;
Вот он, переливался игриво,
Стремительно бежит к вершинам нот,
А вот, расслабленный, неторопливый,
Медлительно вдоль нижних нот плывет.
Уменья в нем как будто больше чувства,
Но, выглядя искусным, он — искусство.
Здесь поэт расстается с привычными общими ме-
стами, рисует живые детали и выказывает силу таланта,
который уже умеет говорить обо всем, и говорить удач-
но. Его эпиталамы по существу не что иное, как идил-
лии, с обычными аксессуарами — Амур, Венера, Марс,
Диана, Минерва, Вулкан. Таковы же и его первые теат-
ральные произведения, представленные в Неаполе: «Га-
латея», «Эндимион», «Сады Гесперид», «Анджелика» *.
Остановимся немного на «Анджелике». Главным ге-
роям, Анджелике и Орландо, противостоят Ликорида и
Тирсис. Это — обычное противопоставление города и де-
ревни, хитростей Анджелики и простоты Ликориды; от-
сюда родится интрига, выливающаяся в неподдельный
комизм. Неистовства Орландо не могут потревожить
мира идиллии, разлитой во всем изображении, и сам
Орландо заканчивает идиллически:
Вновь полюби меня — и все прощу я.
О легкие зефиры,
Вы, что везде кружите,
Утихните, молчите:
Я счастлив буду вновь2.
Анджелика навсегда оставляет эту приятную мест-
ность, произнося следующую ариетту3:
1 «Серенады» «Galatea», «Endimione», «Angelica» и театральное
празднество «Gli Orti Esperidi», написанные и представленные
в Неаполе с музыкой Сарро и Никколо Порпора в 1721 и 1722 го-
дах, см. .в «Ореге», cit., соответственно vol. VIII, pp. 201 и ел., vol. V,
pp. 203 и ел., vol. VIII, pp. 227 и ел., и vol. HI, pp. 209 и ел.
2 «Angelica», акт II, сцена X.
3 «Angelica», акт II, сцена IX. В «Nuova Antologia» следует:
«...элегическую ариетту, проникнутую грацией и идиллической неж-
ностью».
421
Я с тем, другим, прощаюсь,
Слезами заливаюсь
И слышу, он бормочет:
— Прощай! — смущенно.
Вздыхаю я от горя,
И, мне как будто вторя,
Вздыхает ветерок
В листве зеленой.
Канцонетта Ликориды, проникнутая мягкой и неж-
ной меланхолией, уже является музыкой и пением, чисто
мелодическим вздохом, чувствительным излиянием, по-
вторяющимся как ритурнель:
Я в смятеньи,
В большой печали,
О растенья,
Вы не видали,
Где он, где любимый мой?
Ветерочек легкокрылый,
Пусть тебя услышит милый
И вернется, и подарит
Мне утраченный покой 1.
Эти избитые образы и понятия не имеют больше ни-
какого литературного значения и интересны только как
мелодические сочетания. Эффект заключается не в
идеях, а в этом пении — перекличке двух влюбленных,
находящихся на расстоянии друг от друга и скрытых
листвой; в то время как Ликорида ищет Тирсиса, Тир-
сие ищет Ликориду с тем же напевом на устах:
Где пастушка,
Где подружка —
Та, которой нет со мной?
Следует отметить, что в эту тихую идиллическую
атмосферу уже проникает элемент комического, весе-
лого и живого; таково, например, любовное объяснение
1 «Angelica», акт 1, сцена III, из которой взята и следующая
цитата,
422
Ликориды Орландо, которое подслушивает невидимый
Тирсис 1.
2. Знаменитая певица Булгарелли, которая в «Садах
Гесперид» играла роль Венеры, заинтересовалась моло-
дым автором и посвятила его во все тайны театра. Маэ-
стро Порпора преподавал ему музыку. Таково было
второе воспитание Метастазио, соответствовавшее его
призванию. Рим сделал из него аркадийца, Неаполь —
поэта. «Покинутая Дидона», написанная под руковод-
ством и по побуждению Булгарелли, привлекла обще-
ственное мнение, и внезапно Метастазио занял место
рядом с Апостоло Дзено, которому принадлежала паль-
ма первенства и который был придворным поэтом в
Вене. Позже по предложению самого Дзено Метастазио
сам занял этот пост и стал вести в Вене мирную и при-
ятную жизнь, всеми почитаемый и считавшийся, бес-
спорно, «князем» мелодраматической поэзии. Его жизнь
была идиллией, и — если это называть счастьем — он са-
мым счастливым образом дожил до весьма преклонного
возраста — 84 лет. Его обожествили еще при жизни. Его
называли божественным Метастазио2.
Что касается структуры его драмы, то она построена
по тому образцу, который ввел еще Апостоло Дзено. Но
эта структура — всего-навсего костяк. В этот костяк Ме-
тастазио вдохнул изящество и грацию легкой гармония-
1 См. «Angelica», акт II, сцена III. В «Nuova Antologia» сле-
дует: «До этих пор Метастазио все еще остается аркадийцем, но
превосходящим своих собратьев по гибкости и живости изображе-
ния. Ученика Гравины более не существует. Данте и Софокл уже
не образцы для него. В нем находишь мягкость и легкость Марино
и мастерство стиля, которое напоминает Тассо. Он хочет нравиться
публике, и его увлекает поток современной жизни. Однако если
Тассо, Гварини и Марино искали прежде всего утонченности идей и
понятий, то Метастазио ищет музыкальной утонченности формы. Его
идеи и образы — самые естественные, часто заурядные: все его вни-
мание направлено на то, чтобы смягчить слово и фразу, добиться
музыкального эффекта. В этом состоял его талант, и для этого он
нуждался в новом воспитании».
2 В «Nuova Antologia» следует: «Его называли божественным
Метастазио, и многие ставили его выше Данте». Об эпитете «боже-
ственный» см. у Ипполито Пиндомонте: «Говоря о «Дидоне», я хо-
тел бы забыть, что автор ее — Метастазио: я боюсь, что восхищение
и любовь к этому божественному человеку может закрыть мне глаза
на то человеческое, что могло бы быть в его драме». Об этом см.
также ниже.
423
ной жизни. Он стал поэтом той мелодрамы, архитекто-
ром которой был Дзено.
Метастазио всячески стремился к тому, чтобы по-
строить мелодраму как трагедию, то есть как такое
театральное произведение, которое имело бы свою зна-
чимость и без музыкального сопровождения. Он притя-
зал на то, чтобы расстаться с низкой областью идиллий
и буффонады и взяться за самые возвышенные и бла-
городные предметы «трагического жанра», словно бла-
городство содержится в самом предмете. Все это сказа-
лось уже в «Дидоне» и в «Катоне Утическом». Позже
он пожелал соперничать с великими французскими поэ-
тами: трагедия «Цинна» Корнеля нашла соответствие
в его «Милосердии Тита», а «Аталия» Расина — в его
«Иоасе». На этом пути он попал под обстрел критики,
и возникли споры о том, в какой степени его драмы яв-
ляются трагедиями. Был пущен в ход неизбежный Ари-
стотель и пресловутый вопрос о драматических един-
ствах. Метастазио вмешался в спор и в своем «Извле-
чении из «Поэтики» Аристотеля» привел косвенные ар-
гументы в свою пользу1. Критика тогда еще настолько
погрязла в деталях внешнего построения, что многие
самым серьезным образом задавались вопросом, как
может считаться трагедией драматическое произведе-
ние, в котором всего лишь три акта. Самому Метаста-
зио казалось чуть ли не деградацией спуститься с высо-
кого трона трагического поэта и быть зачисленным в
мелодраматические авторы. Таков был предрассудок,
внушенный ему Гравиной, который не видел ничего
дальше классической трагедии. «Меропа» Маффеи, во-
круг которой тогда возникло много шуму, затмевала
Метастазио, а слава Корнеля и Расина2 не давала ему
спать. Раньери де'Кальцабиджи, знаменитый по той по-
лемике, которую он позже вел с Альфьери по поводу его
«Филиппа», утверждал, что драмы Метастазио — самые
1 См. «Opere», cit., vol. X.
2 В «Nuova Antologia» следует: «Он предпочитал равняться
с высшими, чем быть единственным в своем жанре. И в этом он-
был удовлетворен». О Шипионе Маффеи, уже упоминавшемся выше
как ученом, и о его «Меропе» см. юношеские лекции Де Санктиса
об итальянской Драме XVIII века («Teoria e storia», cit., II,
pp. 34—35, и «Purismo illuminismo storicismo», t. III).
-424
настоящие трагедии *. На медали, которую Мартинес
вычеканил в честь Метастазио после его смерти, стояло:
«Итальянскому Софоклу». Однако публика, которая
обожала Метастазио, упорно называла его театральные
произведения не трагедиями и даже не мелодрамами, а
просто драмами, то есть такими произведениями, кото-
рые обладали значением сами по себе, без музыки.
И публика была права. Поэзия Метастазио проникнута
и преобразована музыкой, но еще обладает значением
как собственно поэзия2. Именно это переходное состоя-
ние и придает оригинальность нашему Софоклу. Позже
эти драмы, как литература, показались слишком музы-
кальными, отчего и возникла реакция Альфьери; а как
музыка они показались слишком литературными, отчего
и появилась форма двухактной мелодрамы. Здесь мож-
но было бы сделать вывод, что, следовательно, эти
драмы несовершенны: слишком музыкальны для поэзии
и слишком поэтичны для музыки, а поэтому их отбро-
сила музыка и затмила новая литература. Это легко мо-
жет случиться с тем, кто стоит на перепутье и неясно
сознает сам, чего именно он хочет достичь.
И все же несомненно, что драмы Метастазио имели
в свое время удивительный успех, и даже сейчас, в столь
глубоко изменившемся обществе, они все еще произво-
1 См. знаменитое «Dissertazione» (1755) Кальцабиджи, перепеча-
танное в «Ореге di P. Metastasio», Firenze 1839, XII, pp. 207 и ел.:
«Поэзия синьора Метастазио, украшенная музыкой, является поэ-
зией музыкальной, но и без этого украшения его сочинения — это
подлинные, совершенные и прекрасные трагедии, которые могут
сравниться с самыми знаменитыми трагедиями всех остальных на-
родов; это трагедии, обладающие единством, нравственностью, инте-
ресом, великолепным поэтическим языком, сценичностью и удиви-
тельной силой страстей». Еще до Кальцабиджи о мелодрамах Мета-
стазио подобным же образом судил и Де Бросс. «Они, несомненно,
производили бы большое впечатление, если бы их играли, как обыч-
ные трагедии, с декламацией, отбросив все мелочные аксессуары
песенок и оперности, которые очень легко отделить». См. D е В г о s-
ses, Lettres familieres ecrites d'ltalie en 1734—1740, Paris 1869.
2 В «Nuova Antologia»: «Но публика, которая его обожала, мало
что понимала в этих спорах и упрямо именовала его театральные
произведения не трагедиями и не мелодрамами, а драмами — новым
общим названием, которое выражало новые впечатления и сохраняло
свое значение и без музыки. И публика не ошибалась, исходя
в своем суждении из самой сущности этой поэзии, уже проникнутой
и преобразованной средствами музыки, но еще сохраняющей свое
значение как поэзия».
425
дят впечатление. Известны восторги Руссо и восхищение
Вольтера этим поэтом К В Италии критики после ко-
роткой стычки сложили оружие, захваченные волной на-
родного восхищения. Некоторые сцены, которые заста-
вляют критика улыбаться, еще и сейчас волнуют народ,
вызывая аплодисменты. Ни один поэт не был столь по-
пулярен, как Метастазио, никто так глубоко не проник
в душу толпы2. Следовательно, в его драмах содер-
жится некая абсолютная ценность, стоящая выше слу-
чайного, устоявшая даже против всеразлагающей кри-
тики XIX века3.
Дело в том, что эта неясность сознания, этот разрыв
между тем, чего хочет и чего добивается Метастазио,
эта поэзия, которая еще не музыка и уже не поэзия, не
1 Имеется в виду знаменитое суждение Руссо в «Новой Элоизе»:
«Метастазио — единственный поэт сердца, единственный талант, вол-
нующий очарованием поэтической и музыкальной гармонии». См.
также его «Музыкальный словарь» (1767) в разделе «Опера».
Столь же известно суждение Вольтера о сценах VI и VII третьего
акта «Милосердия Тита»: «Эти две сцены, стоящие наряду со всем
тем прекраснейшим, что создала Греция, если не выше; эти две
сцены, достойные Корнеля, когда он не декламирует, и Расина,
когда он не вял; эти две сцены, которые основаны не на оперной
любви, а на благородных чувствах человеческого сердца, по край-
ней мере втрое длиннее, чем наиболее продолжительные'сцены на-
ших музыкальных трагедий» (см. «Dissertation sur la tragedie», пре-
дисловие к «Semiramis», 1748; в «Theatre», Didot, Paris 1867,
pp. 414—415).
2 В «Nuova Antologia» следует: «Его строфы можно услышать
в самых маленьких деревушках из уст самых необразованных лю-
дей. Споры часто прекращаются благодаря какой-нибудь ариетте
Метастазио, изреченной, словно строка из евангелия».
3 В «Nuova Antologia»: «...всеразлагающей и недоброжелательной
критики нашего века». См., в частности, высказывания о нем Шле-
геля, рассмотренные и оспоренные в юношеских лекциях Де Санк-
тиса («Teoria e storia», cit., t. I, p. 95, и «Purismo illuminismo stori-
cismo», cit., t. II), в «Corso di letteratura drammatica», cit.,
pp. 147—151, и в особенности р. 149: «Метастазио изображает стра-
сти в самых банальных тонах: он не придает сердечным чувствам
никакого индивидуального характера, не созерцает в них всеобщ-
ности... Метастазио —■ это целиком музыкальный поэт; но если про-
должать это сравнение, он обладает лишь мелодической, певучей
стороной поэзии... Эта приятная и сладостная музыка очень скоро
становится монотонной; прочтя несколько произведений этого поэта,
уже знаешь их все и становится ясно, что композиции не хватает-
оригинальности... У него есть стихи, преисполненные достоинства,
мощной лаконичности, вполне достигающие уровня трагедии; но тем
не менее в них ощущается какое-то фокусничество, которое напоми-
нает фиоритуры ясного и гибкого голоса итальянского певца»*
426
каприз, предрассудок или индивидуальное педантство,
но сама форма гения Метастазио и его века. Поэтому
его драма не искусственная конструкция, подобно тра-
гедии Гравины или поэме Триссино, но композиция,
полная жизни, которая в своей непосредственности при-
водит к результатам, выходящим за пределы намерений
сочинителя. То, что он вкладывает в нее сознательно и
намеренно, оказывается не достоинством, а недостатком
его работы. А именно по поводу этого недостатка и
ломали копья и он сам и его критики.
Если мы хотим насладиться Метастазио, то поступим
по примеру народа. Не будем спрашивать, чего он хотел
добиться, а удовольствуемся тем, чего он добился на
самом деле, и положимся на искренность наших впечат-
лений. Ведь если критик хочет судить справедливо, то
он тоже должен довериться своим непосредственным по-
рывам, как и художник К
3. Разберем первую драму Метастазио, «Покинутую
Дидону». Автор хотел создать трагедию. Он изучил
предмет по Вергилию, а затем по Овидию. Но как мог
написать трагедию подобный человек, да еще в подоб-
ном обществе! Он не понимал, что и в этом обществе, и
в нем самом отсутствовал тот материал, который мог
бы породить трагедию. Как написать трагедию с Булга-
релли в качестве советчицы, с маэстро Порпора как с
руководителем, с Сарро—композитором и с публикой
«Анджелики» и «Садов Гесперид», да еще с его ду-
шой — элегической, идилличной, мелодичной, впе-
чатлительной и поверхностной, как и его публика? В ре-
зультате появилась не трагедия, которая была бы мерт-
ворожденным педантством, но настоящий шедевр, про-
никнутый всем жаром жизни, кипевшей в поэте и вокруг
него, шедевр, который и сегодня жадно прочитываешь
залпом с начала до конца. Вергилиевская Дидона исчез-
ла. Классические реминисценции вытеснены свежими,
1 В «Nuova Antologia» следует: «Чистое, неподдельное впечат-
ление от произведения искусства рождается не из его структуры и
не из логических концепций, как, например, связность, правдоподо-
бие и разумность поэтического мира, но из внутренней слитности, из
живости его органических элементов. Именно в этом состоит сущ-
ность поэтического мира; все остальное второстепенно и может быть
достойно похвалы или порицания, но не влияет на окончательное
суждение о сочинении».
427
современными впечатлениями. Под именем Дидоны мы
видим здесь тассовскую Армиду, положенную на му-
зыку. Олимпийская, или небесная, женщина уступает
место женщине земной, какую изобразил Тассо в одном из
самых популярных своих созданий \ безудержно поро-
ждающем самые разнообразные и пылкие порывы жен-
ской страсти, ее безумства и неистовства. Но это уже
Армида в толковании Булгарелли, благодаря которой
в эту страстную натуру проникли комические моменты,
как, например, в сцене ревности, имевшей бурный успех
на представлениях2. Подобная Дидона не имеет в себе
ничего классического, здесь нет ни Вергилия, ни Со-
фокла; все здесь живое, все современное. У страсти нет
ни простоты, ни меры, в своем порыве она рвет все око-
вы, утрачивает все внешние приличия. Если бы в Ди-
доне были сильны патриотизм, стыдливость, достоинство
царицы, любовь к своим соотечественникам, набож-
ность, если бы в ней была более подчеркнута героиня,
то конфликт стал бы драматическим, высоко трагиче-
ским. Но героиня она лишь на словах, а женщина — во
всем, страсть как единственная руководящая сила ста-
новится словно безумием сердца, циничным и бесстыд-
ным до гротеска, и спускается по ступеням жизни в са-
мые низкие области комедии. Простодушного Пинде-
монте раздражали некоторые комические'черты, и он не
понимал, что в этих трагических формах заключена си-
туация, по существу своему комическая, так что если бы
под конец Эней мог бы помириться со своей возлюб-
ленной, то драма с небольшими изменениями преврати-
лась бы в самую настоящую комедию3. Причем это не
искусственно сконструированная комедия, но выхвачен- ^
1 В «Nuova Antologia» следует: «...настоящий оркестр, из кото-
рого льются самые разнообразные и волнующие звуки женской
страсти, нежность, лукавство, безумие, гнев».
2 «Didone abbandonata», акт II, сцена XI.
3 См. «Osservazioni su la «Didone» Ипполито Пиндемонте, опуб-
ликованные в качестве приложения к т. I «Ореге» Метастазио, cit.,
pp. 217 и ел.: «В «Дидоне», — пишет Пиндемонте, — [Метастазио] не
приобрел еще того мастерства, которое торжествует в других его
драмах». По поводу сцены V первого акта и сцены XI второго акта
он говорит: «Ничего похожего на эти сцены, которые, несомненно,
недостойны серьезной драмы и могут иметь место лишь в комедии,
разумеется, нет в других драмах бессмертного автора, хотя он и
в других драмах прибегал к подобным приемам» (ibid., pp. 225—226).
428
н&я из правды жизни, ибо героиня — как раз такая жен-
щина, какая могла быть изображена именно в те вре-
мена, по образу самой Булгарелли и той публики, ду-
шевный склад которой соответствовал внутреннему миру
поэта, хотя это было против его намерения и помимо
его сознания. Сказать Метастазио, желавшему создать
трагедию, что он породил комедию в трагической форме,
значило бы обругать его. Комическое содержится в этих
колебаниях страсти, в этих непроизвольных и необу-
зданных порывах, которые возникают внезапно вопреки
ожиданиям, в безрассудствах, доходящих до абсурда, в
интригах и низкопробных уловках, которые подобают
более женщине из простонародья, нежели царице; и все
это столь уместно, столь естественно, столь живо, что
публика смеется и аплодирует, как бы говоря: это прав-
да. Для поэта это был триумф. Некоторые строчки
стали пословицами, как, например: «Где наглец?! Пу-
скай придет!»
Часто говорилось: «Меня отныне изверг не увидит» К
Или: «Эней, давно Дидона
Забыла о тебе»2.
Выходка Дидоны против Арбаса почти в то самое
время, когда она обещала ему свою руку, изгнание Ос-
миды и Селены в слепом гневе3, ее доверчивость, ее
притворство — все это тем более комично, чем менее
преднамеренно, и сочетается с самыми разнообразными
движениями души, впечатлительной и порывистой: не-
годование— это нежность, а угрозы — ласки. Под цар-
ской мантией Дидоны скрывается Лизетта и Колом-
бина4. Соответственно изображены и другие герои. Ярба
1 «Didone abbandonata», акт II, сцена III.
2 Там же. акт II, сцена IV.
3 Выходка против Арбаса —см. там же, акт И, сцена ХПГ;
сцены с Осмидой и Селеной — VIII и IX третьего акта.
4 Де Санктис подразумевает черты, свойственные роли Колом-
бины в комедии дель'арте, и их видоизменения у Гольдони и его
подражателей, а также ловкость и грацию Лизетты — субретки во
французской комедии от Реньяра до Мариво, еще жившей на фран-
цузской и итальянской сценах в начале XIX века. Быть может, Де
Санктис имел в виду, помимо гётевской Лизхен, Лизетту из «Тюр-
каре» Лесажа, писателя, которого он в юности изучал с особым ин-
тересом; впрочем, Лесаж фигурирует в его первых неаполитанских
лекциях только как автор «Хромого беса» и «Жиль Блаза» (см.
«Teoria e storia», cit., t. I, pp. 238—240, и «Purismo illuminismo sto-
ricismo», t. II).
429
своим бахвальством и позерством напоминает «хва-
стуна» из народной комедии; Селена, которая должна
быть «Анна, сестра...», представляет собой довольно ба-
нальную «влюбленную»; а набожный Эней в своей
роли любовника достигает наивысшего комизма, осо-
бенно когда Дидона заставляет его прислуживаться и
унижаться. Само построение сюжета близко к интриге
низкой комедии с ее путаницами и случайными встре-
чами.
«Дидона» обошла все театры Италии. И повсюду она
имела успех. Метастазио разгадал свою публику и
обрел самого себя. Эта его драма, по обличию трагиче-
ская и в основе своей комическая, отразила самую сущ-
ность итальянской жизни в ее контрасте между внешней
грандиозностью и внутренней опустошенностью. Траги-
ческое было не величием души, а просто источником
удивительного, столь нравящегося толпе, как, например,
пожары, дуэли, самоубийства. Комическое сводило эту
пышную видимость фантастической жизни к прозаиче-
ской и вульгарной действительности, мелким интригам,
пустяковой любви, сплетням, хвастовству. Сочетать
столь разнородные элементы, слить фантастическое и
реальное, трагическое и комическое кажется почти не-
возможным: и все-таки здесь это сделано с легкостью,
полной таланта, и без всякой преднамеренности, словно
это сама жизнь в ее непосредственности. Достигнута со-
вершенная иллюзия. Жизнь, представленная таким об-
разом, кажется бессмыслицей; и все же она тут — све-
жая, молодая, живая, гармоничная, она захватывает и
увлекает. Бедняга Метастазио, не сознавая, какое чудо
он совершил, защищался, прибегая к Аристотелю и Го-
рацию1; к критикам того времени присоединились но-
вые; в наши дни разум и эстетика осуждают эту жизнь
как условную и бессвязную. Но в творениях Метастазио
она налицо в своей бессмертной юности, и ей достаточно
ответить: «Я живу». И если эстетика этого не понимает,
то тем хуже для эстетики.
4. Метастазио обладал всеми качествами для того,
чтобы воссоздать эту жизнь. Порядочный человек, доб-
1 В «Nuova Antologia»: «...и рассуждал о трагедии, о единствах
и драматических правилах; к старой критике присоединилась новая,
которая осудила его поэтический мир как условный и бессвязный».
430
i
рый христианин, он обладал всеми добродетелями, но в
той привычной и традиционной форме, которая была
свойственна тому времени, — без веры, без энергии, без
величия души, а потому без музыки и без поэзии. Та-
кими были Вико и Муратори, добрейшие люди, но без
того внутреннего огня, на котором накаляется гений фи-
лософа и поэта. Это были идиллические личности —
весьма почтенный образ мирного прозаического обще-
ства. Вико поднимал самые серьезные социальные про-
блемы со спокойствием эрудита *. И становится понятно,
почему поэзия искала себя в то время вне общества, в
золотом веке и в пасторали. Но никто не может убежать
от жизни, которая его окружает. Родина, религия, честь,
любовь, свобода оказывали свое действие в этой фаль-
шивой жизни, в этом мирном обществе, при полном спо-
койствии и душевном равновесии. Метастазио, стремив-
шийся к трагедии только рассудком, по своему харак-
теру был аркадийцем, целиком в духе Нисы и Тирси-
да — сплошные вздохи и нежности. Эта идиллическая
натура могла создать элегию, но не трагедию. Он, как и
Тассо, обладал большой чувствительностью, способ-
ностью исторгать слезы, но чувствительность его была
поверхностной, она могла всколыхнуть, но не возмутить
этот мир спокойствия. Его чувствительность нельзя на-
звать меланхолией, которая требует определенной дли-
тельности и постоянства; это была эмоция, возникавшая
из внезапных внутренних порывов и исчезавшая с той
же легкостью, с какой появлялась. Эта недостаточность
анализа и глубины чувства придавала его поэтическому
миру идиллический характер, не преобразовывала его,
а только подчеркивала и придавала колорит его движе-
нию, ибо идиллия без элегии пресна. Воображение, не
проникнутое серьезностью внутренней жизни, едва ове-
янное чувством, легко скользит по этому идиллическому
миру и завязывает и развязывает в нем целую вереницу
случайностей, которые придают ему разнообразие и
живость. Они кажутся грезами, которые исчезают, едва
сложившись, но обладают такой пластической ясностью
1 В «Nuova Antologia» следовало: «Было нечто повое в их духе,
которое побуждало работу рассудка, но на этом оно и останавлива-
лось, не проникая в характер, остававшийся аркадским и идилли-
ческим»,
т
чувств и образов, что вызывают живой отклик. Шэт сам
умиляется, развлекается, забывается в них: I
Мечты и сказки -сочинять изволю
И, на бумаге жизнь давая им,
Безумец, сам воспринимаю с болью
То зло, что мной придумано самим '.
Целый арсенал грез и сказок имелся в наших беско-
нечных комедиях и новеллах, откуда черпали и ино-
странные авторы и Метастазио. Его цель — поразить,
создать сценический эффект, руководствуясь большим
театральным опытом и знанием публики. Его быстрое и
живое воображение никогда не упускает из виду этой
цели, не отвлекается, стремительно летит вперед, груп-
пирует, комбинирует, производя внезапные, а поэтому
неотразимые эффекты. Именно потому, что эти драма-
тические комбинации служат чисто театральной цели,
они не обладают внутренней серьезностью и часто при-
нимают вид комических интриг, с их неожиданными
оборотами, двусмысленностями и параллелизмами. Ко-
мический элемент содержится не только в самой логике
этих комбинаций, но и в природе фактов, зачастую
представляющих собой эпизоды будничной жизни в са-
мой мелочной и жеманной ее форме. Таким путем герои-
ческий вначале и чисто идиллический- элемент завер-
шается низкой комедией. Цезарь, например, играл на
скрипке и уделял много внимания любовным похожде-
ниям. Таков был и сам Метастазио, и таково его время,
идиллическое, элегическое и комическое, — вульгарная
жизнь в героических одеждах, возбуждаемая элегиче-
скими волнениями и идеализированная в идиллии.
5. Исходя из этого, можно понять самую механику
драмы Метастазио. Центральное место занимают герой
или героиня, Зенобия или Иссипила, Фемистокл или Тит.
Герой обладает всеми совершенствами, которыми поэ-
зия наделила золотой век; он пробуждает героизм в
окружающих, побуждает к героизму также и второсте-
пенных персонажей. Чем прозаичнее эпоха, тем более
преувеличен героизм по произволу свободного вообра-
жения, которое увеличивает все масштабы с единствен-
ной целью — вызвать изумление. Изумительное заклю-
1 «Sonetti», XXI, vv. 1—4; в «Ореге», cit., v. 1, p. 315.
432
чается) в том, что герой подчеркнуто противостоит обыч-
ной жизни, принося в жертву добродетели все человече-
ские чувства, словно Авраам, готовый умертвить сына.
Так Эрей оставляет- Дидону, чтобы следовать путем
славы, {Фемистокл и Регул идут на смерть из любви к
родине; Катон убивает себя во имя свободы, Мегакл от-
дает жизнь за друга, а Аргена — за любимого1. Эта
сила, способная подавить все естественные человеческие
чувства, которые управляют обычной жизнью, называ-
лась благородством или великодушием, мощью или ве-
личием души, как, например, прощение обид, пожертво-
вание любовью или жизнью. Здесь была заложена тра-
гическая ситуация и даже имелась основа для трагедии,
но в большинстве случаев она остается в этих драмах
элегической, порождает обилие поверхностных разнооб-
разных и недолгих волнений, которые в последний мо-
мент уходят, открывая безоблачное небо. Благородство
одних героев вызывает благородство и у других, героизм
действует словно электрический ток, передаваясь всем
персонажам, и все устраивается, как в лучшем из миров:
все герои, и все довольны. Причина этой поверхностно-
сти, которая остается в пределах идиллии и элегии и
лишь изредка поднимается до трагического потрясения,
заключается в том, что добродетель представлена здесь
не как чувство долга, четкого и обязательного для всех
и соответствующего практической жизни, но как удиви-
тельное явление, которое своей необычайностью отвле-
кает публику от обычной жизни. Это театральная до-
бродетель, героизм подмостков. Чем более необычайны
драматические комбинации, тем более увеличиваются
масштабы и возрастает сила воздействия. Персонажи
позируют, жестикулируют, изрекают сентенции, ри-
суются, словно хотят сказать: внимание! Сейчас будет
чудо. Фемистокл говорит:
Послушай, Ксеркс,
И ты послушай, Лизимах; узнайте
Вы, зрители-народы,
О чувствах Фемистокла. Будьте их
Свидетели и стражи 2.
1 Мегакл и Аргена — персонажи драмы «Олимпиада» («Olim-
piade»). Остальные персонажи — герои одноименных драм.
2 «Temistocle», акт III, сцена X; к нижеследующим строкам см„
«Clemenza di Tito», акт III, сцена XIj.
28 Де Санктцс
433
В этой театральной механике всегда налицо колли-
зия, контраст между героизмом и природой. Героизм
достигает своего величия в блеске изречений. Природа
патетична в нежном излиянии чувств. Отсюда [резкое
столкновение чувств и сентенций, с поочередными побе-
дами и передышками, как, например, в монологр Тита,
пока наконец природа и героизм не примиряются столь
же неожиданно и необычно, как необычна и вся ин-
трига. Тит, уже решив простить Сикста, все же приводит
его на арену: добродетели ему мало, ему нужно зре-
лище и удивление. То, что кажется нам театральной мо-
ралью, в те времена было моралью условной, принятой
в теории, превозносимой, вызывавшей аплодисменты,
так же как в свое время римлянки рукоплескали гладиа-
торам, умиравшим ради их прекрасных глаз. Можно
сказать, что Тит делает все возможное, чтобы заслужить
аплодисменты публики. В таком героизме не было на-
стоящей серьезности внутренних побуждений, он про-
истекал не из сознания, и потому-то весь этот мир, при-
нимавший героические позы, содержал в себе комиче-
ский элемент и в него без нарушения гармонии про-
никало современное ему общество в своих смешных и
вульгарных проявлениях. Возьмем драму Метастазио
«Адриан». Победитель парфян Адриан, провозглашен-
ный императором, находится в самой сложной ситуации:
он — жених Сабины, влюблен в Эмирену, дочь своего
врага, и соперник Фарнаспа, любимого Эмиреной. Си-
туация весьма сложная, которая еще более запутывается
из-за четвертого персонажа, Аквилио, наперсника Ад-
риана, который втайне любит Сабину и поэтому разжи-
гает страсть своего господина к Эмирене. Эмирена, что-
бы спасти отца, отдает свою руку Адриану. Благород-
ство Эмирены пробуждает благородство в Сабине, кото-
рая освобождает Адриана от данного слова. Благород-
ство Сабины в свою очередь вызывает проявление
благородства у Адриана, который освобождает отца
Эмирены, отдает ее возлюбленному, и женится на Са-
бине. Все счастливы, и хор славит Адриана. Однако при-
глядимся к этим героическим персонажам. Адриан по
своей натуре добрый человек, совершенно не героичный,
легко меняющий намерения в результате различных по-
буждений, поверхностный, доверчивый, словом — добряк
весьма недалекого ума. Действует вовсе не он; Адриан
434
не активный, а пассивный персонаж мелодрамы, и, как
человек, всегда соглашающийся с последним оратором,
он подчиняется последнему полученному впечатлению.
Он оказывается героем чисто случайно, причем столь
слабым, что он запрещает Эмирене поцеловать ему руку,
боясь нового впечатления1. Самые большие притязания
на героизм — у царя парфян Хосроя, напоминающего
Ярбу. Это патриот, который поджигает царский дворец
и убивает человека, которого принял за Адриана; он
приговорен к смерти и умоляет дочь убить его; из него
мог бы получиться весьма интересный характер, если бы
и поэт и публика обладали чувством патриотизма; но
Хосрой скорее авантюрист, чем герой, причем авантю-
рист неумный и опрометчивый, который не умеет сораз-
мерять средства с целью и в самых напряженных жиз-
ненных положениях рассуждает и изрекает сентенции.
Своей дочери Эмирене, которая отказывается убить его,
он говорит:
Тот неправ, кто смерть находит
Высшим злом средь прочих сущих:
Смерть — спасение живущих
От страданий вечных их 2.
Аквилио — это карикатура на Яго, низкий и глупый
комедийный интриган. Сабина, Эмирена, Фарнасп —
крайне поверхностные натуры, понуждаемые событиями,
не обладающие внутренней энергией страстей и побу-
ждаемые к благородным действиям-внезапными поры-
вами. Итак, если мы углубимся в этот героический мир,
то мы увидим, с какой легкостью он соскальзывает к
комическому и как под покровом внешних контрастов
эта героическая жизнь на самом деле проникнута той
заурядностью, которая может вобрать в себя вульгар-
ность и шутовство современного общества. Такова при-
рода той сцены, в которой Эмирена прикидывается, что
не узнает своего возлюбленного, который остается оду-
раченным 3, или другая сцена, в которой Аквилио учит
1 «Adriano in Siria», акт III, сцена IV. О сопоставлении фигуры
Хосроя с нахальным Ярбой из «Дидоны» см. выше. В «Nuova Anto-
logia» добавлено: «не будучи уверен в своей твердости».
2 Ibid., акт III, сцена VI.
3 «Adriano in Siria», акт I, сцена V. Ниже перечисляются со-
бытия< происходящие соответственно в акте II, сцене I; акт III,
сцепа IV; акт I, сцена VIII и акт II, сцена III,
28* 435
Эмирену придворным обычаям, а Эмирена в отв^т ри-
сует ему облик придворного, или когда Хосрой водит
за нос Адриана, или неожиданный приезд Сабины в
Рим и замешательство Адриана, или когда Адриан кля-
нется не видеть более Эмирены, а ему объявляют: «Идет
Эмирена». Все это по существу комично, но здесь нет ни
комического намерения, ни комического развития, а по-
тому нет и дисгармонии; это — современное поэту обще-
ство в своей вульгарности и заурядности, лишь одетое
в героический наряд. Если бы Метастазио обладал чув-
ством подлинно героического и изобразил его глубоко
и серьезно, то такое смешение было бы невыносимо/
вернее, его бы и не могло быть; но он представляет
себе героическое именно так, как его вульгарно предста-
вляли себе и чувствовали в то время. Поэт совершенно
искренен; он не ощущает того низкого и-тривиального,
что скрывается под этим героическим реквизитом, он по
духу и по характеру таков же, как и публика. Иной раз
он смущается, он недоволен, и тогда он тщится создать
нечто более возвышенное, как в «Регуле» и в «Иоасе»,
но неудачно: здесь обнаруживается нагота Адама. И хо-
рошо, что это так, ибо он не создал искусственных по-
строений или подражаний, чуждых его природе, а
остался оригинальным и гениальным художником — не-
забываемым художником того общества.
6. Эта жизнь, столь абсурдная в ее .глубинах, обла-
дает полной иллюзией правдивости на поверхности.
Углублять чувства, развивать характеры, соблюдать по-
следовательность ситуаций было бы фальсификацией.
Поверхностность — условие существования этой жизни,
в которой видишь только отдельные моменты и не
знаешь всего процесса ее формирования; это какая-то
жизнь на колесах, которая в своем быстром беге проле-
тает огромные расстояния и показывает лишь конечные
остановки. Внезапно возникают чувства, ситуации, и ча-
сто ты одним скачком попадаешь из одной крайности в
другую. Ты находишься в непрерывном потоке самых
разнообразных впечатлений, кратковременных, непроч-
ных, едва обозначившихся; живые чувства набегают друг
на друга, как волны в бурю. Эту поверхностность опра-
вдывают музыкой, как будто музыка может восполнить
или развить и углубить чувства; однако музыка у Мета-
стазио была не чем иным, как продлением или отзвуком
436
\
чувстве, трелью поэзии, ее сопровождением, ибо эта
поэзия уже сама по себе есть музыка и пение. Столь
поверхностная жизнь может быть только внешней.
Жизнь — преимущественно описательная, как это уже
было у Гварини и у Марино. Герои даже в самых силь-
ных порывах чувств описывают, анализируют себя, как
это свойственно зрелому обществу, в котором рефлек-
сия и критика преследуют человека в самый момент
действия. Ты захвачен самым острым возбуждением и
ждешь чуть ли не бреда, а тебя настигает анализ, сен-
тенция, сравнение, психологическое описание. Лицидий
обнажает меч: он хочет убить своего оскорбителя; потом
он обращает его против себя, но останавливается и пре-
дается самоанализу:
Ярость, месть,
Привязанности, нежность,
Раскаяние, жалость, стыд, любовь
Во мне сосуществуют. Кто поверит,
Чтобы душа вмещала
Так много чувств несхожих! Я и сам
Не знаю, как возможно
Дрожа, грозить, пылать — и леденеть,
Во гневе слезы лить,
Смерть призывать — и оставаться жить 1.
Драматичность разрешается петраркистским соне-
том. Аристеа так описывает свои чувства Мегаклу:
Твоя — тебя люблю
И больше никого
И сердца твоего
Порывы знаю.
И боль и торжество
Твои с тобой делю,
И волю я твою
Своей считаю 2.
1 «Olimpiade», акт II, сцена XV. Нижеследующее упоминание
о манере Петрарки следует, в частности, отнести к знаменитому пет-
рарковскому сонету контрастов «Мне мира нет и брани не подъем-
лю» (Rime, CXXXIV).
2 Ibid., акт III, сцена II, Нижеследующее четверостишие см.
ibid., сцена III,
437
А Мегакл, последовав за своим другом ЛициДием в
его несчастье, изрекает следующее изящное сравнение:
Как золотом пустую
Породу поверяют —
Несчастья раскрывают
Неискренних друзей.
Эти музыкальные перерывы, словно арфа Давида,
которая успокаивала бешенство Саула, освежают душу
и помогают ей сохранять равновесие в разгаре страстей.
Они терпимы именно потому, что, смешиваясь с самыми
живыми порывами, с повелительной непосредствен-
ностью чувства, создают картину жизни в самых ее раз-
личных проявлениях. Аргена, готовая к смерти ради
спасения любимого, чувствует, что она возвышается
сама над собой, словно в нее вселился бог; она велико-
лепна:
Чую пламень в душе небывалый,
Божество, как мне быть, указало,
И сильней, чем была, становлюсь.
Путы, цепи, секиры, оковы,
Тени бледные, ведаю, кто вы,
Но теперь уже вас не боюсь К
Глубоко волнует та почти безумная радость, которую
испытывает Аристеа, вновь увидев возлюбленного. Тро-
гательной элегией проникнута песнь Тиманта, когда
мать показывает ему его ребенка:
Ребеночек несчастный.
Не знаешь, чье ты чадо.
И знать ему не надо,
Кто был его отец.
О боже, перемена
Как быстро наступила!
Что мне отрадой было —
Всему теперь конец.
1 «Olimpiade», сцена IV, акт III. Упоминающаяся ниже сцена
радости Аристеи — акт II, сиена IX.
2 «Demofoonte», акт III, сцена V.
438
Некоторые строки, проникнутые глубочайшей неж-
ностью, стали пословицами, как, например:
Дождешься дней счастливых —
Не забывай меня !.
Эта жизнь, столь уравновешенная в сменах непосред-
ственности и раздумья, будучи поверхностной и внеш-
ней, в то же время обладает ясностью и пластичностью.
Самые тонкие оттенки, самые сложные замыслы пере-
даны с чрезвычайной четкостью контуров; поэтому они
не дают отблесков, полностью удовлетворяя взгляд,
удерживают его на поверхности и не допускают в глу-
бину. Эта ясность Метастазио, столь восхвалявшаяся
и столь популярная — ибо народ весь на поверхности,—
представляет собою литературную форму на послед-
нем ее этапе, когда эта форма в силу своей четкости и
определенности становится весомой и плотной, словно
мрамор. Старая литература обретает здесь завершаю-
щее совершенство; выражение утрачивает всякую про-
зрачность и остается самим в себе и только одним со-
бой— и удовлетворяется этим, словно некая бесконеч-
ность. Это состояние окаменения теперь называется по-
пулярной литературой, словно литература должна опу-
скаться до народа, а не народ должен подниматься до
нее. Метастазио проявил в этой области замечатель-
ный талант. Старая форма, прежде чем отмереть, излу-
чает последний блеск. Ясность в ней не безжизненная
поверхность, а сама жизнь в своей* поверхностности,
удовлетворенная своей внешностью, легкая и быстрая,
полная грации и блеска. Поэтический период теряет под-
вижность, слово утрачивает свою гибкость, становится
гладким, беглым, размеренным, как танец, ритмизо-
ванным, как песня, мелодичным, как музыка. Впечат-
ления создаются живые, но кратковременные, они до-
ставляют удовольствие, но оставляют пустоту, словно
после блестящего праздника, на котором человек раз-
влекался, но о котором более не вспоминает.
7. Поэтический мир Метастазио может показаться
абсурдным в сопоставлении с философией, так же как
перед лицом философии казалось абсурдным общество,
которое эта поэзия изображала. Но в пределах искус-
1 «Qlimpiade», акт I, сцена X,
439
ства нет ничего более правдивого, чем эта поэзия, по
ее уравновешенности, гармонии, внутренней живости.
Это самый законченный образ общества, стоящего на
грани распада, — общества, установления которого были
еще героическими и феодальными, словно пустая обо-
лочка духа, когда-то его воодушевлявшего, и которое
под прикрытием этой героической видимости было сон-
ным, бездумным, женоподобным, идиллическим, элеги-
ческим и плебейским. Присмотритесь к нему. Это обще-
ство надушено, напудрено, с косичками, со шпажонка-
ми, жеманное, томное, чувствительное, как женщина,
только и твердившее: «мой кумир», «мое сокровище»,
«моя жизнь». Поэзия Метастазио аккомпанирует этому
обществу своей декламацией, своей кантиленой; словам
уже больше нечего выразить; они — общие места, кото-
рые приобретают значение, только превратившись в
трель со своими фугами и руладами, с высокими и низ-
кими тонами; слово уже не идея, а звук, смягченный ин-
тонацией, убаюканный рифмами, превратившийся во
вздох. Поэзия, которая ищет выразительных средств за
собственными пределами, которая ищет мотивов и мыс-
лей в музыке, тем самым уже отрекается, возвещает
свою смерть. Вскоре Метастазио показался учителям
музыки чересчур поэтом, да и публика уже не знала,
что делать со словами, и спрашивала не о том, что поэт
говорит, а как это звучит. Слово, после того как им так
злоупотребляли, уже перестало что-либо значить, и
даже стих Метастазио, столь легкий и быстрый, стал
невыносим. Слово превращается в ноту, и новые поэты
именуются Перголезе, Чимароза, Паизьелло. Так закон-
чился музыкальный период старой литературы, начав-
шийся с Тассо, развитый у Гварини и Марино и дошед-
ший до своего кризиса у Пьетро Метастазио. Дело до-
шло до того, что сначала писалась музыка, и Иосиф II
как-то сказал своему новому придворному поэту аббату
Касти: «Теперь сочините мне слова» К
8. В недрах этого распадающегося общества шло
формирование нового общества. Эти новые силы про-
1 Де Санктис намекает на знаменитый анекдот, который пере-
дает князь де Синь: Иосиф II якобы сказал аббату Касти: «Сальери
уже написал музыку, а вы теперь сочините мне слова». См. также
G. В. С a s t i, Prima la musica e poi le parole, 1786.
440
являлись в том, что с литературной формой перестали
особенно считаться, как со старым идолом, и искали
новых впечатлений в пении и музыке. Литератор, кото-
рый в свое время играл столь важную роль, утрачивает
свою репутацию1. Новые звезды — это Фаринелли и
Каффарелло, Пиччинни, Лео, Иоммелли. Музыка оказы-
вает благодетельное влияние на литературную форму,
принуждая ее сократить периоды, отказаться от торже-
ственности и церемонности, отбросить прилагательные,
плеоназмы, перифразы, синонимы, параллелизмы — всю
свою бесполезную ученость — и обрести больше быстро-
ты и легкости. Слух, привыкший к музыкальным темпам,
не переносит более академических периодов и риториче-
ских тирад. Метастазио называли божественным исклю-
чительно за музыкальность его поэзии, за ясность, блеск
и живость выражения. Поскольку публика охладевала
к литературе, то литература вынуждена была следовать
за публикой. А публика — это уже не академия, хотя
академий было еще много и в первую очередь — Арка-
дия. Публика — это и не двор, хотя государи еще дер-
жали при себе гистрионов и жонглеров под именем по-
этов. Культура распространилась шире, возникло много
новых форм духовных развлечений; периоды и фразы ни-
кого больше не удовлетворяют. Появляются философы
и филантропы, юристы, адвокаты и ученые, музыканты
и певцы. Слово обретает значение в разговоре и в пе-
нии, и оно более интересно на страницах Беккариа или
Галиани, чем в литературных произведениях. Теперь
уже не говорят «литератор», а называют себя «остро-
словами» и «вольнодумцами». Литератор становится
1 В «Nuova Antologia» следует: «...дискредитировано его имя
и дело. Литератор становится синонимом болтуна, его место зани-
мает философ, который уже называет себя не литератором, а остря-
ком или вольнодумцем. Слово, как таковое, — товар, утративший
цену, и оно имеет значение только в разговоре и в пении». Ниже
упоминаются композиторы того времени: Леонардо Лео (1694—1744),
Никколо Иоммелли (1714—1774), Никколб Пиччинни (1738—1800)
и два крупнейших виртуоза того века певцы Гаэтано Майорано, по
прозвищу Каффарелли (1710—1783), и Карло Браски, по прозвищу
Фаринелли (1705—1782), оба с успехом певшие на итальянских сце-
нах, в Англии и в Иопании. О связях между поэзией и музыкой во
второй половине XVIII века и о тех быстрых переходах, в которых
Де Санктис стремился схватить развитие художественных форм той
эпохи, см. A. Delia С о г t e, Settecenlo italiano, Paisiello. L'estetica
mtisicale di P. Metastasio, Torino 1922, pp. 325—331.
441
синонимом болтуна, а слово, как таковое, теряем цейу.
Слово может вновь обрести свое значение только с при-
ливом свежей крови, воссоздав в себе идею и серьез-
ность подлинного содержания. Именно это и было выра-
жено в том девизе, который был уже у всех на устах:
«Дела, а не слова» 1.
9. Признаки этого великого возрождения заметны и
в критике. Критика, остававшаяся до тех пор в преде-
лах пустой структуры и условных правил, начинает
бунтовать и смело свергает своих кумиров. В то время,
когда кипела борьба между папой и государями в обла-
сти юридических прав, а философы нападали на прош-
лое в его идеях и установлениях, критика открыла огонь
против старой литературы, без стеснения окрестив ее
педантством. Цель у философов и у критиков была об-
щая. И те и другие боролись против пустой формы,
1 Это девиз журнала «Caffe» в его полемике против литературы
Аркадии и академии делла Круска.
[В «Nuova Antologia» заключение этюда о Метастазио иное, бо-
лее пространное: «Так, в распаде академической или литературной
формы возникает начало новой жизни, новой формы, более близ-
кой к быстроте и естественности разговорного языка, формы, склон-
ной расстаться с традиционными и подражательными элементами и
проникнуться современной жизнью. Поэтому форма Метастазио со
своей живостью, легкостью и нежностью осталась чрезвычайно све-
жей и популярной. Дело в том, что творчеству этого поэта присущи
две весьма действенные силы, две его музы — чувство современности
и музыкальный талант. Метастазио чрезвычайно мало заботился
о правилах и прежде всего думал об успехе, то есть о том, чтобы
разгадать и очаровать свою публику. А публика уже не сводилась
к академиям и двору, хотя литературные академии и прежде всего
Аркадия еще долго сохраняли известное влияние, а при дворах не
было недостатка в гистрионах и жонглерах под именем поэтов. Но
культура уже распространилась, духовные наслаждения стали более
разнообразными, публика умножилась и заставляла поэта считаться
с собой. Классическая и надуманная литература могла существовать
лишь в узком кругу публики, соответствующе воспитанной, восхи-
щающейся красивыми периодами и звучными фразами. Но в то
время уже проявился разрыв между литераторами и публикой. Не
было никакого общения между этой поверхностной публикой, жад-
ной до впечатлений, и классическими литературными формами, еще
терпимыми при утонченностях Тассо, Гварини и Марино, но ставшими
плоскими и скучными в сухости Аркадии. В результате ученая ко-
медия не могла просуществовать без поддержки фарса и импровизи-
рованной комедии; равным* образом литературная форма не могла
существовать без помощи пения, музыки, декораций, мимики и де-
кламации. Метастазио был поэтом этой публики и создал свой мир
по ее образу. Его римско-греческий мир, который должен был быть,
героико-трагическим, преобразовался в его руках и стал миром эле-
442
одни — в общественных установлениях, другие—в ли-
тературном выражении, хотя взаимопонимания между
ними не было.
Так же как и философы, критики в своей борьбе под-
креплялись и вдохновлялись примером французов и
англичан. Баретти приехал из Лондона, плененный
Шекспиром!; Альгаротти, Беттинелли, Чезаротти, Бек-
кариа, Верри находились в тесной связи с Вольтером и
с энциклопедистами. Локк, Кондильяк, Дю Марсе расши-
рили горизонты итальянцев и привили вкус к теории
языка и философской риторике. Их влияние чувствуется
в «Философии языков» Чезаротти и в «Стиле» Бекка-
гическим и удивительным, проникнутым элементами идиллии и ко-
мизма, полным неожиданностей, эмоций, драматических движений;
этот мир запечатлен в форме чувствительной и впечатлительной, или,
как выражался Данте, обратимой в любой образ, форме, полной
света, цвета и мелодии. В этой гибкости формы и состоит прелесть
Метастазио, столь удачно сочетающего нежную чувствительность и
идиллическую простоту с комическим блеском. В этой форме про-
должает жить тот поэтический мир, который распался так же бы-
стро, как и общество, породившее его.
Метастазио пережил самого себя. В последние годы жизни он
был словно чужеземец, попавший в быстро обновлявшееся обще-
ство. Он сам присутствовал при своем разрушении. Он видел, как
Гольдони напал на всю его героическую фантасмагорию и искал
для поэзии другой основы — в природе. Он видел, как Парини на-
носил удар тому обществу, которое он, Метастазио, обессмертил. Он
видел, как Альфьери заглушил его мелодии. И едва он успел уме-
реть, как общество, поэтом и кумиром которого он был, разом об-
рушилось, обратившись в такие развалины, что новое поколение не
могло понять его более и, казалось, ушло вперед на целое столетие.
Возникли новые идеи, новые потребности, новые социальные усло-
вия. Раздражение против старого общества коснулось и Метастазио:
его обвиняли в том, что его мягкие стихи сделали итальянцев жен-
ственными. Великая фигура Альфьери заслонила Метастазио. Однако
хотя и не очень громко, но раздавались и другие голоса. Так, не-
многие почти шепотом говорили, что Метастазио был прирожден-
ным поэтом, а Альфьери хотел быть поэтом, но не был им. Этот
секрет сегодня стал достоянием публики, и мне кажется, что его
можно обнародовать, не будучи нескромным. Мне кажется также,
что, если мы хотим быть справедливыми к Метастазио, мы сможем
снова водрузить его на пьедестал и приветствовать в нем последнего
великого поэга старой литературы».]
1 См. знаменитое сочинение Баретти «Discours sur Shakespeare
et sur M. de Voltaire», опубликованное в Лондоне в 1777 году и
позже переведенное на итальянский язык Поццоли (Милан 1820),
в котором критик сделал имя Шекспира знаменем эклектизма и сво-
боды искусства против классицистических правил Вольтера и фран-
цузского трагического театра..
443
риа К Чем могли казаться Крешимбени, или Мацукелли
или Куадрио, или сам Тирабоски — Муратори нашей
литературы2 — по сравнению с этими людьми, которые
стремились сделать наукой то, что до сих пор казалось
лишь правилом и обычаем? Критики не удовлетворились
трактатами и рассуждениями, но захотели приблизиться
к публике, используя более легкие и обиходные формы,
которые предшествовали нашим газетам. Таковы «Вер-
гилиевские письма» Беттинелли, «Защита Данте» Гоцци,
«Литературный кнут», «Кафе», «Наблюдатель». Таким
образом, новая критика заранее подавала пример новой
литературе, вводя в обращение многие новые идеи в лег-
кой, насыщенной и остроумной форме, близкой к раз-
говорной, в форме, которая брала у логики ее органич-
ность и у народа его стиль. Разумеется, эти критики не
были согласны между собой, они даже боролись друг
с другом, так же как философы; но все они были вооду-
шевлены одним стремлением; дух был един. Этот дух
состоял в освобождении от правил и от авторитетов, в
реакции против грамматики, риторики, против Аркадии
и академии и — как и во всех других делах, так
и здесь —не признавал иного судьи, кроме логики и
природы.
Как обычно, критика хватила через край и в своем
ожесточении против литературных предрассудков посяг-
нула даже на священного Данте3; в результате появи-
лась прекрасная «Защита Данте», которую написал
1 О трактате Беккариа «Ricerche intorno alia natura dello stile»
(Милан, 1770, ч. I), опубликованном позже полностью Сильвестри
(Милан, 1889), и о «Filosofia delle lingue» Мелькиорре Чезаротти
(1785) см. юношеские лекции Де Саиктиса о языке и стиле («Teoria
е storia», cit., I, pp. 70 и ел. и 55 и ел., и «Purismo illuminismo sto-
ricismo», cit., II).
2 См. также «Saggio critico sul Petrarca», cit., p. 20, и курс лек-
ций об истории критики (1845—1846) в «Teoria e storia», cit., II,
p. 76, и «Purismo illuminismo storicismo», dt., III. Об отношении
романтической критики к эрудиции XVIII века см. в особенности
суждения Фосколо в «Antiquari e critici» («Историю следовало бы
называть упорядоченным архивом материалов, хронологии, доку-
ментов и исследований для создания литературной истории Италии»)
и в «Рагеге intorno al Tiraboschi»; см. F о s с о 1 о, Ореге, cit., IV,
р. 270 и t. II «Saggi di critica», p. 239.
3 Относительно «Lettere virgiliane» Беттинелли и «Difesa di
Dante» Гоцци см. юношеские лекции о «Божественной комедии»
(«Teoria e storia», cit., I, pp. 215 и 219, и «Purismo illuminismo sto-.
ricismo», cit., II), а также «Lezioni e saggi su Dante», cit., p. 523.
444
Гаспаре Гоцци. Но критика эта, целиком рационалист-
ская, не имела корней в литературном воспитании, ко-
торое было совершенно противоположным. Этим и объяс-
няется, что критики, остроумно судившие о живых и о
мертвых, терпели неудачу, когда желали стать писате-
лями; тем самым они давали оружие в руки риторов
и грамматиков, которых сами они называли педантами
и которые со своей стороны называли их варварами.
Оказавшись между старым, которое критики осуждали,
и новым, которое для них лично было понятно, но чуждо
национальному духу и даже противоречило их образова-
нию, они пытались писать на французский манер, вы-
вертывая фразы, конструкции, слова и, как позже гово-
рили, «варваризировали» язык. Гаспаре Гоцци избрал
средний путь: восприняв большую часть новых идей,
он не согласился с вольностью, именовавшей себя сво-
бодой, и, сохранив равновесие между педантством и вар-
варством, сумел писать на корректном, чистом класси-
ческом языке, но вместе с тем без скованности, непри-
нужденно. Однако добрый Гоцци, уравновешенный,
элегантный и мудрый, остался в одиночестве, как это
всегда бывает со слишком осмотрительными в разгаре
борьбы, когда средний путь еще невозможен, поскольку
страстные противники столкнулись лицом к лицу, веря
в свою силу и не расположенные ни к каким уступкам.
В одном лагере находились пуристы, которые, будучи
лишены возможности опереться на тосканскую тради-
цию, так же замутненную иностранными подражаниями,
взывали к академии делла Круска и к классикам и, по-
стольку нельзя было более терпеть пустое многосло-
вие XVI века, вводили в моду стиль Треченто как при-
мер простой, сжатой и красочной литературной манеры
письма; отсюда возникло удачное выражение: «Тре-
ченто говорило, Чинквеченто болтало»{. Среди этих
людей было много академиков, членов Аркадии и делла
Круска, .литераторов чистой воды, весьма порядочных
людей, которые подозрительно относились ко всяким
новшествам и не желали менять свои привычки. В дру-
гом лагере находились философы, которые не призна-
1 Фраза взята из «Ответа» Альфьери Кальцабиджи. Точный
текст гласит: «Сеченто бредило, Чинквеченто болтало, Кватрочен-
то было-безграмотным, а Треченто говорило», См. «Тг-agedie», изд«
Laterza, Bari 1946, vol. 1, р, 53.
445
вали авторитетов такого сорта и в особенности — акаде-
мии делла Круска; они доказывали свою правоту и меч-
тали о новой Италии — как в литературе, так и во всех
социальных установлениях. Критики играли роль фило-
софии в литературе; политикой они не занимались, более
того, их литературная дерзость была покровом для их
политического раболепия, как, например, у иезуита Бет-
тинелли и у Чезаротти. В первых рядах спорящих стояли
аббат Чезари и аббат Чезаротти. Чезари в своем пре-
клонении перед классиками искоренил в себе все черты
человека нового времени. Чезаротти, гораздо более ум-
ный и культурный, в своем непочтении к античным ав-
торам дошел до того, что захотел поучать Гомера и
Демосфена и стал искать новую мифологию в Калидон-
ских лесах1,.
10. Когда появился «Оссиан», у всех голова пошла
кругом, ведь все были уже по горло сыты классицизмом.
На некоторое время шотландский бард вошел в моду,
и даже сам Гомер ощутил угрозу своему трону. Старое
содержание уходило вместе со старым обществом, и в
этой пустоте всякое новшество было желанным. Гармо-
ничные и текучие стихи «Оссиана», эти сверкающие
удары меча в туманах, заставили забыть про всяких
Фругони, Альгаротти и Беттинелли. Началась реакция
против идиллии, этого образа скучающего общества,
дремлющего в объятиях Галатеи и Хлориды; нравились
эти сыны меча, эти туманы и лесные чащи2, эти рыцари
и девы снегов. Аркадийцы были скандализованы, но
публика рукоплескала. Для того чтобы победить Чеза-
ротти, недостаточно было поносить его; нужно было по-
нравиться публике. В тот момент вся умственная дея-
тельность сосредоточилась в лагере новаторов; всяк, кто
обладал хоть небольшим талантом, обращался в об-
ласти доктрин и в манере письма к новомодному, как
1 См. Чезаротти «Corso ragionato di greca letteratura» (1775—
1779), а также его переводы Демосфена и других греческих орато-
ров и пересказ «Илиады» белыми стихами, опубликованный под за-
главием «Morte d'Ettore» Panada, Padova (1786—1794). Его перевод
поэм Оссиана был впервые опубликован в 1763 году.
2 В рукописи далее вычеркнуто: «...океанские бури, войны и
битвы. В итальянскую классическую ясность начинали проникать
светотени. В то время как Чезаротти черпал свои образы с Севера,
другие искали вдохновения во французском и испанском театре.
Гольдони подражал Мольеру, а Карло Гоцци — Лопе де Вега»,
446
гогда выражались, и называл себя острословом, нрезй4
рая классиков, или вольнодумцем, презирая верования.
Старая литература, как и старые верования, получила
наименование предрассудков, а борьба с предрассудками
была лозунгом просветительского века — века филосо-
фии и культуры. Тот, кто помнит литературный энтузи-
азм Возрождения, может правильно представить себе
философский энтузиазм XVIII века. Проявления были те
же самые. Раньше варварством называлось средневе*
ковье; теперь же стали называть варварством и средне-
вековье и Возрождение. Оба движения воодушевлялись
одним и тем же пафосом отрицания и полемики — пред-
вестником войн и революций. Это были все те же идеи,
задушенные когда-то у нас, созревшие и развившиеся
за Альпами и вновь пришедшие к нам извне. Да и дви-
жение было по существу одно и то же, продолжавшееся
в течение двух веков с различными вариациями у раз-
ных наций, наталкивавшееся неизменно на самое оже-
сточенное сопротивление, а теперь сгущенное и сконцен-
трированное под именем философии и сделавшее лите-
ратуру своим орудием. Именно это и выражал девиз:
«Дела, а не слова». Это означало, что литература, пре-
вратившаяся в забаву воображения, без какого бы то ни
было серьезного содержания, и ставшая в конце концов
простой словесной игрой, должна приобрести содержа-
ние, быть прямым и естественным выражением мысли
и чувств, ума и сердца; отсюда позже родился варва-
ризм «Cormentalismo» К Когда в содержание проникла
сущность, тот идеал совершенной формы, которым сла-
вилось Возрождение и который был налицо даже в про-
изведениях периода упадка, как, например, в «Верном
пастухе», в «Адонисе» и в драме Метастазио, уступил
место «естественной» форме, не условной, не обработан-
ной, не традиционной и не классической, но рожденной
мыслью и ставшей ее непосредственным выражением.
Поэтому-то Чезаротти, отвечая на книгу графа Напио-
1 См. Берше: «Поэзия... направлена к тому, чтобы улучшать
нравы и обычаи людей и удовлетворять потребности их фантазии
и сердца» (1816), в «Ореге», ed. Cusani, Milano 1863, p. 227. Термин
«Cormentalismo» был выдуман Марончелли в «Addizioni alle Mie
Prigioni» (1831), чтобы определить новое искусство, провозглашае-
мое «Conciliators», искусство, «основанное на вдохновении, имею-
щее средством — красоту, а целью — добро».
447
не «Об употреблении и достоинствах итальянского язы-
ка» \ утверждал в своем «Опыте о философии языков»,
что язык — это не произвольное явление, регулируемое
только употреблением и авторитетами, но имеющее соб-
ственную основу существования; эта основа существо-
вания заключается в мысли, а поэтому наилучшим явля-
ется то слово, которое лучше передает мысль, будь оно
тосканским или классическим или будь оно диалекталь-
ным или даже иностранным с итальянской флексией.
Этот «Опыт» был по существу освобождением языка от
авторитетов и от обычаев во имя философии и разума,
как этого хотели в области всех социальных установле-
ний; разум, логический смысл проникал в словарь и в
грамматику; современный дух разрушал эти ископаемые
формы, освященные временем, истасканные от долгого
употребления, и придавал им космополитический фило-
софский облик в ущерб местному и национальному ко-
лориту. Чезаротти, соединяя поучения с примером, со-
брал все слова, которые ему попадались под руку, не
спрашивая, откуда они взялись, и, будучи человеком та-
лантливым, обладавшим ясным и живым умом, создал
из всех этих иностранных и отечественных элементов
итальянской речи гармоничный и живой язык, близкий
к разговорному и понятный во всех концах Италии. Пи-
сатели, которых более интересовали дела, чем слова, и
которым порядком надоела эта форма, идущая от латы-
ни, называвшаяся литературной и потерявшая авторитет
вследствие своей пустоты и банальности, без околично-
стей приняли этот разговорный местный язык таким, ка-
ким он был,— смешанным с диалектом и освеженным
французскими словами и конструкциями. Этот язык со-
ответствовал тогдашнему уровню культуры. Так писали
в Северной и Южной Италии — в Венеции, в Падуе, в
Милане, в Турине, в Неаполе; так писали Баретти, Бек-
кариа, Верри, Джойя, Галиани, Галанти, Филанджиери,
Дельфико, Марио Пагано. Сопротивлялись ему больше
всего во Флоренции — родине академии делла Круска —
и в Риме — на родине Аркадии; шум и гам подняли ли-
1 Произведение Galeani Napione, Sull'uso e su'pregi della lingua
italiana, изданное в Турине в 1791 году и перепечатанное во Фло-
ренции в 1813 году, считалось школой Пуоти одним из фундамен-
тальных сочинений. См. «La Giovinezza», cap. XXVIII. О работе Че-
заротти см. выше, § 9 и соответствующее примечание.
448
тераторы и академики, брошенные публикой. То же са-
мое происходило и со стилем. Стали искать качества,
противоположные тем, на которых зиждилась старая ли*
тературная форма. От стиля требовали быстроты, есте-
ственности и блеска. Все то, что представлялось утон-
ченностью, украшением, помпезностью, элегантностью,
было отброшено, как помеха. Стремились теперь не к
идеальному совершенству формы, а к эффекту, к тому,
чтобы произвести впечатление на читателя, пробудив его
интеллектуальные способности. Тайны стиля искали в
психологии, в изучении чувств и впечатлений; таковы
были основы «Трактата о стиле» Беккариа. На смену
пустому ученому и искусственному механизму, щекотав-
шему ухо, так называемому классическому стилю, став-
шему отныне тяжелой и скучной фразеологией, пришла
иная, естественная манера письма, живая, неровная,
прерывистая, полная движения, подражающая разговор-
ному языку. Типом прежнего стиля был трактат, типом
нового — газета. Этот новый принцип вытекал из лите-
ратурной революции, он был подражанием природе,
или, как сказали бы, реализмом в своей правдивости и
простоте, реакцией против декламаций и риторики, про-
тив той условной манеры, которая украшала себя на-
именованием идеала или совершенной формы.
11. Старая литература подвергалась нападкам не
только в отношении своего языка и стиля, но и в своем
содержании. Героика, идилличность, элегия, которые еще
воодушевляли эту лирику, все эти проповеди, речи и тра-
гедии больше уже никуда не годились. Всем этим были
сыты до отвращения. Героика была преувеличением,
идиллия — скукой, элегия— банальностью; пастухи и
пастушки, римские и греческие герои считались условно-
стями, уже полностью использованными в литературе и
годящимися самое большее на то, чтобы быть положен-
ными на музыку, как это делал Метастазио. Хотелось
освежить воздух, обновить впечатления, искали нового
содержания, иного общества, иного человека и других
обычаев. Вошли в моду турки, китайцы, персы. С жад-
ностью читались «Персидские письма» Монтескье. «Или-
аде» предпочитали «Оссиана». Появился естественный
человек, дикарь, человек Гоббса и Гроция, человек, ко-
торый сам творит свою судьбу, Робинзон Крузо. Стран-
ствующий рыцарь превратился в авантюриста-буржуа
29 Де Санктис
449
типа Жиль Блаза. Появилась также и «странствующая
женщина», философствующая, теперешняя «львица», ко-
торая считала предрассудком всякие женские обычаи и
декорум. Человек попал в гущу общества, вступал в
борьбу с ним во имя естественных законов и часто ста-
новился его жертвою, как, например, женщины, насиль-
но выданные замуж, постриженные в монахини или со-
блазненные; побочные дети, униженные законными деть-
ми, бедняки, угнетаемые богачами, наука, попираемая
шарлатанами, такие герои, как Кларисса, Памела,
Эмиль, Чаттертон1. Это новое содержание, соответ-4
ствующее философской мысли, которая тогда пронизы-
вала старое общество во всех его разветвлениях, вопло-
щалось в романах, новеллах, письмах, в трагедиях и ко-
медиях французского репертуара, который был тогда
модным в Италии. Основная мысль заключалась в про-
тиворечии законов природы людским законам, в провоз-
глашении во всех формах прав человека перед лицом
общества, которое эти права нарушало. Возглавляли эту
школу Руссо, Вольтер, Дидро. За ними следовало мно-
жество авторов. Среди них был Мерсье, нашедший мно-
гих последователей в Италии, где ставились его драмы
«Дезертир», «Семейная любовь», «Женеваль», «Бед-
няк»2. Герой «Дезертира» — приятный и добродетельный
1 Кларисса — героиня романа Ричардсона «Кларисса Гарлоу»
(1747—1748). Памела — героиня романа того же автора «Памела, или
Вознагражденная добродетель» (1741). Эти романы оказали глубо-
кое влияние на романтическую литературу. Эмиль — главный герой
одноименного романа Руссо. Упоминая Томаса Чаттертона, Де Санк-
тис имеет в виду не столько одноименную драму Альфреда де Виньи,
который в расцвет романтической эпохи (1835) мифологизировал
судьбу этого английского поэта, сколько самого Чаттертона, покон-
чившего с собой в 1770 году в возрасте 18 лет, что было выраже-
нием романтического бунта против общества. О романах Ричард-
сона и Лесажа см. юношеские лекции Де Санктиса («Teoria e storia»,
cit., t. I, pp. 238 и ел. и 243 и ел., а также «Purismo illuminismo sto-
ricismo», cit., t. II).
2 Перечисляются драмы Луи-Себастьяна Мерсье (1740—1814):
«Бедняк» (1782), «Дезертир» и «Женеваль, или Французский Бар-
нев», опубликованные в 1769 году и поставленные только в 1781.
«Сыновняя любовь» (у Де Санктиса — очевидная описка: «Семейная
любовь») — наиболее известная драма Шарля-Жоржа Фенуйо де
Фальбер де Куинси (1727—1800), вдохновленная судьбою молодого
протестанта Жана Фабра. В оригинале пьеса называется «Честный
преступник, или Установленная невинность»; пьеса из-sa содержа-
450
юноша, который, движимый любовью и стремлением по-
мочь своему отцу, бросил свой полк и был приговорен
к смерти; это крик природы, протестующей против уста-
новлений закона. В «Семейной любви» живыми краска-
ми описано угнетение еретиков в католических странах.
«Женеваль» — противоположность «Клариссе»: Дон-Жу-
ан в юбке, некая Розалия, соблазняет юного и неопыт-
ного Женеваля и доводит его до преступления. В «Бед-
няке» праздный, распутный и могущественный богач,
который торгует всем вплоть до супружества, противо-
стоит трудолюбивому и добродетельному бедняку, пре-
зираемому и угнетаемому. Новое содержание обрело и
новые названия. Комедия и трагедия показывали чело-
века искаженного или преувеличенного, увиденного лишь
односторонне и неестественно. Критика поднималась от
языка и стиля к самой концепции искусства, к его пред-
мету и форме, к его цели и средствам. Инициатором этой
высокой критики, которая получила название эстетики,
был Дидро К Ему принадлежит утверждение идеала во
всей полноте реальности природы, что является основ-
ной концепцией философии искусства. Идеал спускался
со своего олимпийского пьедестала и уже не был чем-то
щейся в ней религиозной полемики была запрещена к постановке
на французской сцене. Напечатанная в Амстердаме в 1767 году
драма смогла быть поставлена на сцене во Франции только
в 1790 году с Тальма в главной роли. На итальянский язык была
переведена Элизабеттой Каминер Турра и игралась с 1769 года
в театре Сан-Лука в Венеции под названием «Сыновняя любовь».
Та же Каминер Турра перевела драмы Мерсье, опубликованные
в 1798 году в серии «Популярный современный театр». Все четыре
пьесы цитируются и широко комментируются как удачные примеры
«плаксивой драмы» в сочинении Карло Гоцци «Ragionamento in-
genuo» («Opere edite ed inedite», 14 voll., Venezia 1801—1802, vol. I,
pp. 27 и ел.). ***
1 Иное отношение Де Санктиса к Дидро см. в его юношеских
лекциях («Teoria e storia», cit., t. II, pp. 69—70, и «Purismo illumi-
nismo storicismo», cit., III). Впервые значение идей великого фран-
цузского писателя подчеркивается в статье «L'Armando di G. Prati»,
опубликованной в «Nuova Antdogia» в июле 1868 года и затем в
«Saggi critici» (см. «L'arte la sdenza e la vita», cit.): «Пароль но-
вого времени произнес Дидро: это был идеал. Дух снова вернулся на
свое место; средние века мстили за себя...» Не исключено, что
Де Санктис был знаком со статьей Филибер-Супе «Les precurseurs de
la critique moderne: Diderot», появившейся в «Revue contemporaine»,
XC, 1867, pp. 44 и ел. и 193 и ел. По этому вопросу см. цит. статью
F. Neri, if De Sanctis e la critica francese («Storia e poesia», cit.,
pp. 269-277},
29*
451
потусторонним. Он вступал в среду людей, участвовал
в величии и ничтожестве жизни; это был не бог под име-
нем человека, а сам человек; не было уже ни трагедии,
ни комедии — возникла драма. Поэзия стала историей,
как история — поэзией. Идеал был самой действительно-
стью, не искаженной, не преувеличенной, не преобра-
зованной, не избранной, но конкретной, цельной и
естественной во всем своем разнообразии живой реально-
стью. Трагедия допускала смех, а комедия — слезы: воз-
никла слезливая комедия и буржуазная трагедия. Новый
идеал был не богом и не героем феодальных времен, а
простым буржуа, который борется с жизнью и обществом
и переживает в этой борьбе все страдания и страсти.
Как ребенок вступает в мир в слезах, так и идеал, вы-
ходя из своей безмятежной абстракции, вступал в жизнь
заплаканным, патетическим и сентиментальным. «Ночи»
Юнга вдохновили «Римские ночи» Алессандро Верри 1.
Риторический сентиментализм Руссо оказал столь же
глубокое впечатление, как и его философский натура-
лизм. Эти концепции и эти сочинения — плод долгого
труда французов — приходили к нам все разом, как на-
воднение, вызывая восторги одних и гнев других. Про-
блемы языка и стиля приобретали все большее значение,
становясь проблемами, относящимися к самому содер-
жанию искусства; в короткое время механическая кри-
тика стала психологической, а психологическая критика
поднялась до эстетики.
12. Старая литература, изничтожаемая в своих фор-
мальных приемах, подвергалась нападкам и в своей
сущности, в своем содержании. Изображать правдивое
означало уничтожать героическое, как оно понималось
и практиковалось у нас; что же тогда оставалось от ге-
роев Метастазио?! Патетика и сентиментальность были
осуждением этих безмятежных и скучных праздных идеа-
1 «Римские ночи» Верри (Verri, Notti romane) были впервые
напечатаны в Риме в 1792 году, но полный текст был издан только
в 1804 году- О них и их зависимости от иностранных образцов см.
цит. лекции о литературных жанрах («Teoria e storia», clt., t. I,
pp. 248—249, и «Purismo illuminismo storicismo», cit., II). «The Com-
plaint or Night Thoughts» (1742—1745) Эдварда Юнга неоднократно
упоминаются Де Санктисом как пример элегической литературы,
«в буквальном смысле кладбищенской». «Ночи» Юнга неоднократно
переводились в Италии во второй половине XVIII века и оказали
большое влияние.
452
лов, которые лежали в основе идиллии; чего же тогда
стоила Аркадия? Утверждалось, что театр — это не вре-
мяпрепровождение, а школа благородных чувств и силь-
ных страстей; какой же тогда толк был в импровизиро-
ванной комедии? Реформе подвергалось решительно все.
Аббат Дженовези, Верри, Галиани нападали на старую
экономическую систему; Беккариа боролся против ста-
рого законодательства; все социальные порядки были по-
ставлены под вопрос; Филанджиери, доходя до самых
основ, предлагал реформу национального образования и
воспитания; князья и министры, побуждаемые обще-
ственным мнением, предпринимали реформы во всех
областях общественных установлений. Старая литерату-
ра в прежнем ее виде не могла сохраниться: она тоже
нуждалась в реформе. Она уже ничего не создавала, не
привлекала ничьего внимания; все стало музыкой и пе-
нием, все стало философией. При таком состоянии умов
можно представить себе огромный успех романов и ко-
медий аббата Кьяри, который, чтобы заработать на
жизнь, льстил публике и предлагал ей те яства, которых
она больше всего желала. Было бы интересно проанали-
зировать необъятное и уже целиком забытое творчество
Кьяри, ибо этот анализ показал бы, каков был дух того
времени. Женщины-странницы, философки, побочные де-
ти, похищения монахинь, ночные стычки, прыжки из
окон, чудовищные события, невероятные характеры, па-
тетическая героика и приторная патетика, философия,
превращенная в риторику, смесь старого и нового — наи-
более экстравагантного новшества и самого вульгарного
старья — такова была пища, приготовленная аббатом
Кьяри. Мартелло придумал стих на французский манер,
подобно тому как ранее был выдуман стих по латинско-
му образцу1. Мартеллианский стих показался Кьяри чу-
десной штукой, и он широко применил его, вплоть до
того, что переписал мартеллианскими стихами Книгу
1 Пьер Якопо Мартелло (1655—1727), который заимствовал из
французского театра темы и приемы, воспроизвел ритм александрий-
ского стиха, соединив два семисложника, и создал размер, получив-
ший название мартеллианского стиха. О Мартелло как о сатириче-
ском писателе, авторе пятиактной комедии, направленной против
Маффеи («Femia sentenziato», Milano 1724), вскользь упоминается
в статье Де Санктиса о Джузеппе Парини, опубликованной в «Nuo-
va Antologia» в октябре 1871 года»
453
Бытия. Эта пачкотня Кьяри — верный образ того време-
ни, когда старая литература уже уходила, а новая едва
обозначилась в этом первом брожении умов. Поэтому
Кьяри обладает всеми недостатками старого и всеми
чудачествами нового. Вскоре с ним столкнулся Карло
Гольдони, которого также сама жизнь вынуждала слу-
жить публике и угождать ей. В течение некоторого вре-
мени сторонники Кьяри и Гольдони ссорились между со-
бой. Между этими двумя соперниками встал третий,
который напал и на того и на другого; это был Карло
Гоцци, брат Гаспаре Гоцци.
13. В Париже была опубликована «Тартана влия-
ний» — карикатура на обоих комических авторов1:
«Оригиналом» первый назывался,
А у второго — прозвище «Грабеж»...
День ото дня все более сторонников
У них — и у того и у другого:
Весь город состоял из их поклонников...
Их болтовня и все их поведенье
Не могут исцелить от скуки...
Кричать: «Грабеж сильнее!» — надлежало
Или: «Ученей нет Оригинала».
Гоцци обладал большей культурой, чем Кьяри и чем
Гольдони, и весьма живым умом; он получил солидное
образование, входил, как и его брат, в академию Гранел-
лески, которая ставила себе целью восстановить хоро-
ший язык, а в нем-то как ряз первые двое проявляли
полное невежество. Весь этот новый литературный мир,
выступивший на сцену с такой похвальбой и экстрава-
гантностью, показался Карло Гоцци не реформой, а раз-
ложением, причем не только литературным, но и рели-
гиозным, политическим и гражданским:
В науке новое землетрясенье,
И по душе писателям плохим
При том возникший целый ряд учений.
1 «La Tartana degli influssi per Гаппо bisestile», 1756, Parigi
[ma Venezia], 1757. Стихи взяты из октав «К читателям»: IV, vv. 1—2;
V, vv.. 1—3; VII, vv. 1—2 и 7—8 (pp. 12—13). Как известно, про-
звища «Originate» («Оригинал») и «Saccheggio» («Грабеж») обозна-
чают соответственно Гольдони и Пьетро Кьяри,
454
Доступны знанья им и только им,
Они клянут умерших сочиненья
И не советуют писать живым К
Каких-то «Марианн» читаем книжки,
«Барон» какой-то в авторы пролез,
Потом «маркиз», а книжки их — пустышки
С претензией на «философский вес»
И щедрые на пошлые мыслишки:
Эх, взял бы бес — и всех подряд под пресс!
Иные скажут: «Так французы пишут».
Французы, к счастью, этого не слышат.
Его «Марфиза» — это карикатура на новые романы
в духе Кьяри2. Карл Великий и его паладины становят-
ся праздными бродягами, Брадаманта — сплетницей и
лицемеркой; героиня Марфиза, сбитая с толку новыми
книгами, сентиментальная и истерическая чудачка, в
конце концов превращается в чахлую ханжу. Карика-
тура метит в женщин — героинь произведений Кьяри и
других модных романов. Карло Гоцци казалось, что эта
постоянная проповедь естественных прав, естественных
законов, естественной религии, равенства и братства
приведет к тому, что сделает людей плохими подданны-
ми, обучив их слишком многому и приучив с завистью
смотреть на то, что выше их состояния. Эта опасность
представлялась тем более серьезной, когда подобные по-
учения провозглашались в театре, который был не шко-
лой, а времяпрепровождением и навлекал на проповед-
ников столь новой морали суровость правительства.
Бедный Кьяри ничего во всем этом не понимал. Голь-
дони, который был чистым художником, как и Метаста-
зио, добряком и миролюбивым человеком и который за-
мечал лишь литературную сторону движения своего вре-
мени, наверняка изумлялся, видя, как его изображают
1 «La Tartana...», вводный сонет «Отчаяние вышеназванного пи-
сателя», стих. 9—14. Далее следует куплет XII из «Тартаны» (ed cit.,
pp. 9 и 14).
2 О «Marfisa bizarra» — «сатире на современный мир» и по-
следней поэме воображения, которую мог замыслить Гоцци, «никогда
не выходивший из своего маленького мирка», см. конспекты лекций
о рыцарской поэзии в «Scritti incditi e rari», ed. Croce, t. I, pp. 375—
376, и «Verso il realismo», т. VII, изд. Эйнауди.
455
Карло Гоцци.
чуть ли не мятежником, врагом общества. Тут еще за-
мешались интересы комических трупп, которые яростно
оспаривали друг у друга тощие заработки. Гоцци защи-
щал труппу Сакки, вернувшуюся из Вены и нашедшую
свое место занятым труппами Кьяри и Гольдони. Сакки
был последним из тех выдающихся комических импрови-
заторов, которые странствовали по Европе и поддержи-
вали репутацию итальянской комедии в Вене, Париже и
в Лондоне. Музыканты, певцы, импровизаторы были тем
итальянским товаром, который еще имел хождение поту
сторону Альп. Импровизированная комедия, выросшая
на развалинах скучных литературных и академиче-
ских комедий, была хозяйкой сцены в Риме, в Неаполе,
в Болонье, в Милане, в Венеции. Она была един-
ственным еще живым жанром старой литературы, счи-
тавшимся особой специальностью Италии, единственным,
который еще напоминал Европе об итальянском искус-
стве. Актеры, приобретшие некоторую славу, отправля-
лись в Париж, где они больше зарабатывали. Но, как в
Париже Мольер создал французскую комедию, борясь
с итальянскими импровизированными комедиями, так в
Венеции Гольдони, со своей стороны мечтавший о рефор-
ме комедии, выступал против масок и импровизации. Это
показалось Гоцци чуть ли не преступлением против ве-
личия нации, покушением на итальянскую славу. Сейчас
эта борьба кажется смешной, и очевидно, что и тот и
другой жанр могли существовать по-добрососедски. Но
в споре кипела страсть, были замешаны интересы, кровь
разгорелась, и схватка продолжалась до тех пор, пока
Гольдони, уступив поле боя, не уехал в Париж. Его сла-
ва возросла и вынудила Баретти к молчанию, а Гоцци —
к почтению, особенно после того, как Вольтер поставил
Гольдони рядом с Мольером К Вся эта кутерьма не при-
несла никакого значительного прогресса критики, по-
скольку в «Рассуждениях» Гоцци больше желчности, чем
рассудительности, и они полны пустыми и путаными об-
щими местами, как бывает с человеком, который неточно
1 Де Санктис имеет в виду письмо Вольтера к Гольдони, кото-
рый предпослал это письмо своей комедии «Pamela maritata», Pas-
quali, Venezia 1761, t. I. Письмо это было опубликовано и довольно
кисло прокомментировано в «Литературном кнуте» («Frusta lettc-
ra-ria») Баретти, см. ed. Sonzogno, с it., vol IV, pp. 941 и ел. Кроме
этого письма, имеется в виду также знаменитая эпиграмма, которую
457
\jion TnittU-
Итальянская народная комедия. Южные маски (1).
*зта*
Итальянская народная комедия. Южные маски (2).
Итальянская народная комедия. Южные маски (3).
:ф' шгщштг
Сйр.:ьШ$
Итальянская народная комедия. Южные маски (4).
(Рисунки Калло)
осознает значение слов и проблем1. Но именно отсю-
да возникли первые попытки новой литературы — коме-
дии Гольдони и «фьябы» Гоцци — буржуазная комедия
и комедия народная.
14. Карло Гольдони, как и Метастазио, был прирож-
денным художником2. Из обоих хотели сделать адво-
катов. Гольдони даже с некоторым успехом занимался
адвокатской практикой, но при первой же возможности
он убегал к актерам, пока в нем окончательно не побе-
дило природное дарование. Прежде чем обрести себя,
он пытал свои силы во многих жанрах. В то время зна-
менитостями были Дзено и Метастазио и в моду вошла
музыкальная драма. Гольдони написал «Амаласунту»,
«Густава», «Оронта», позже «Празднество» и еще не-
сколько шутливых мелодрам. Он написал также траге-
дии «Росмонду», «Гризельду», «Энрико» и трагикомедии
вроде «Ринальдо». Будучи поэтом на жалованье у коми-
ческих трупп, вынужденным давать по нескольку новых
произведений для каждого театрального сезона, так что
в один из сезонов он написал их 16, он брал отовсюду,
переделывал и перерабатывал итальянский и француз-
ский репертуар и даже романы. Здесь он еще не поэт,
а ремесленник, Кьяри, но еще не Гольдони. Он тракто-
вал самые различные предметы в согласии со вкусом
публики: сентиментальные комедии, романические коме-
дии, как, например, «Памела», «Зелинда и Линдор»,
«Перуанка», «Прекрасная дикарка», «Прекрасная гру-
зинка», «Далматинка», «Шотландка», «Незнакомка»,
«Иркана»3, в большинстве случаев это были переделки
Вольтер послал к Альбергати Капачелли и которую Гольдони при-
вел в цит. предисловии к «Памеле».
1 См. «Kagionamento ingenuo», предпосланное Гоцци полному
собранию его сочинений («бреге», 13 tt., Zanardi, Venezia 1801 —
1802, t. I, pp. 3—64, и «Appendice al Regionamento», ibid., t. V,
pp. 3-72).
2 Об истории гольдониевской критики и о суждении Де Санктиса
о Гольдони см. F. Zampieri, в: «Classici italiani» di Binni, cit., II,
pp. 139—183.
3 Точнее — трилогия об Иркане, в которую входят «Персидская
супруга», «Иркана в Джульфе» и «Иркана в Исфагане» («La Sposa
persiana», «Ircana in Julfa», «Ircana in Ispaan»). Перечисленные
выше пьесы в большинстве своем исходят из «французского» источ-
460
и подражания французам. Он создал также несколько
сюжетов для импровизированных комедий, как, напри-
мер, «Потерянный и найденный сын Арлекина» и «Три-
дцать два несчастья Арлекина». Он открылся публике
и самому себе в своей «Хитроумной вдове». Тут у него
проявилась критическая струя и начало складываться
художественное сознание. Старая литература колеба-
лась между «сечентизмом» и Аркадией, между напыщен-
ностью и вульгарностью. Гольдони пишет в своих ме-
муарах:
«Мои соотечественники были издавна приучены к три-
виальным фарсам и преувеличенным зрелищам. Мой
стиль не был изящен, мои стихи никогда не поднимались
до уровня возвышенного. Но как раз это и требовалось,
чтобы мало-помалу возвратить здравый смысл публике,
привыкшей к гиперболам, антитезам и смешным романи-
ческим преувеличениям» *.
К счастью, ему попалась хорошая труппа.
«Теперь, — говорил я самому себе, — я в наилучшем
положении и могу дать волю своему воображению. До-
вольно я разрабатывал старые сюжеты. Я имею в своем
распоряжении актеров, которые много обещают; нужно
творить, нужно изобретать. Пришло, кажется, время по-
пробовать осуществить ту реформу, о которой я так
долго мечтал. Нужно разрабатывать сюжеты, построен-
ные на характерах; только они и являются источником
хорошей комедии; именно с них начал свою деятель-
ность великий Мольер, достигший такого совершенства,
какое было лишь намечено древними авторами и какого
до сих пор еще не удавалось достигнуть ни одному из
новых авторов»2.
Гольдони весьма мало знал Плавта и Теренция; он
склонял голову перед Горацием и Аристотелем, по тра-
диции уважал правила, но говорил: «Я никогда не при-
ника: «La Peruviana» вдохновлена «Письмами перуанки» Граффиньи,
«La Bella Selvaggia» — «Всеобщей историей путешествий» аббата
Прево, «La Dalmatina» — «Амазонками» г-жи дю Бокка>' «La Scoz-
zese» — «Шотландкой» Вольтера.
1 См. «Мемуары Карло Гольдони, содержащие историю его
жизни и его театра», изд. «Academia», 1930, т. I, гл. XXXVL
стр. 335—336.
2 Там же, т. I, гл. XL, стр. 380.
461
носил комедию, которая могла быть хорошей, в жертву
предрассудку, который мог сделать ее плохой»1. Он на-
зывает предрассудком единство места. Слабая начитан-
ность Гольдони в классиках имела ту хорошую сторону,
что он был духовно свободен от всего, что не было но-
вым и современным. Он мечтает не об ученой литера-
турной комедии по латинским или тосканским правилам,
последние образцы которой дал Фаджуоли, но о хоро-
шей комедии, как он себе ее представлял. «Поскольку я
чувствовал влечение к театру, то целью моей было соз-
дать хорошую комедию»2. Концепция хорошей комедии
у Гольдони следующая: «При сочинении моих комедий
я прилагал все старания к тому, чтобы не исказить при-
роду». Этот человек, обладавший идиллическим характе-
ром, стоявший выше сплетен и мелочной провинциальной
зависти итальянского литератора, принимавший удачу
и неуспех в душевном равновесии,— этот человек, про-
живший 86 лет и умерший в Париже несколькими года-
ми спустя после Метастазио, скончавшегося в Вене, го-
ворил о себе:
«Мой душевный склад подобен физическому: я не
боюсь ни холода, ни жары и не позволяю себе ни рас-
паляться гневом, ни опьяняться радостью»3.
Обладая таким темпераментом, присущим более, зри-
телю, чем актеру, Гольдони—в то время как другие дей-
ствовали — наблюдал и живо схватывал факты. Верное
наблюдение природы казалось ему богаче, чем все ком-
бинации фантазии. Искусство для него было природой
и состояло в том, чтобы писать с натуры. В результате
он стал Галилеем новой литературы. Его «телескопом»
было ясное и живое ощущение реальности, интуиция,
руководившаяся здравым смыслом. Так же как Гали-
лей изгнал из науки оккультные силы, догадки, пред-
положения и сверхъестественное, так Гольдони изгнал
из искусства фантастику, преувеличения, риторическую
декламацию. То, что Мольер сделал во Франции, Голь-
дони попытался осуществить в Италии — в классической
1 «Мемуары», ч. II, гл. III; цит. изд., т. II, стр. 29.
2 Там же, ч. I, гл. XI; цит. изд., т. I, стр. 380. Следующая ци-
тата взята из последней главы «Мемуаров» — ч. III, гл. XL; цит,
изд., г. II, стр. 680.
3 Там же, ч. III, гл. XXXVIII; цит. изд., т. II, стр. 669.
462
стране академий и риторики. Реформа его была важнее,
чем казалась, ибо хотя она и относилась специально к
комедии, но в ее основе лежал общий принцип, а именно
естественность в искусстве в противовес условности и
манерности. Гольдони от природы обладал всеми теми
качествами, которые требовались для выполнения этого
трудного дела: он был одарен тонкой наблюдатель-
ностью, изобретательным умом, чувством меры, отличал-
ся точностью замыслов, огнем и блеском в их выполне-
нии. «Мандрагора» Макиавелли, которая еще в юноше-
ском возрасте попалась ему под руку, произвела на него
большое впечатление1. Его воспитание завершили «Ми-
зантроп», «Скупой», «Тартюф», «Смешные жеманницы»
и прочие комедии Мольера. Основой итальянской коме-
дии была интрига; хорошая комедия, по мысли Гольдо-
ни, должна была иметь своей основой характер. «У вас
есть комедии интриги; я хочу дать вам комедию харак-
теров»,— говаривал он.
Комедия характеров состоит в том, чтобы извлекать
эффект не из множества необычайных происшествий, но
из развития характера в самых обычных жизненных по-
ложениях. Это была совершенно другая система не
только в комедии, но и в целях и средствах искусства.
В первой системе действующим началом является слу-
чай или происшествие, причудливые обороты которого
порождают необычайное. Люди здесь — едва намечен-
ные фигуры или статисты, захваченные водоворотом со-
бытий. Жизнь вся на поверхности, внутреннее скрыто.
В этой поверхности заключался тупик старой литерату-
ры, и когда все формы удивительного были исчерпаны,
то стало невозможным извлекать эффект собственными
комедийными средствами, без помощи пения, музыки, тан-
ца, мимики, декламации. Слово перестало быть главным
в комедии, превратившись в аксессуар, тему, повод. Ко-
медия ощутила свою неспособность добиваться эффекта,
1 См. «Мемуары», ч. I, гл. X: «Это была первая комедия харак-
теров, которая попалась мне на глаза, и она привела меня в восторг.
Мне бы хотелось, чтобы итальянские писатели продолжали сочинять
пьесы в таком же роде, но только более порядочные и приличные и
чтобы характеры, взятые из природы, заменили собою романические
интриги. Но только Мольеру выпала честь облагородить и сделать
полезной комическую сцепу, выставив пороки и странности на осмея-
ние и исправление» (пит. изд., т. I, стр. 102).
463
Карло Гольлони.
не прибегая к маскам, к импровизированным «лацци»
Арлекинов и Труффальдино, Бригелл и Панталоне.
Между тем Гольдони был твердо уверен, что комедия мо-
жет заинтересовать публику сама по себе и ей вовсе не
нужны все внешние аксессуары, преувеличенное и пора-
зительное, в маске и без маски. Его реформа была по
существу восстановлением слова в его правах, возвра-
щением литературе ее роли и ее значения — созданием
новой литературы. Гольдони ясно понял, что для подоб-
ного возрождения слова нужно работать не над словом,
а над содержанием, обновить мир выражения органиче-
ски, изнутри. Такой он и увидел комедию и стремился
переделать не ее формальные и механические элементы,
но весь внутренний склад, согласно той концепции, что
жизнь не игра случая или скрытых сил, а такова, какой
мы сами ее делаем, она есть дело нашего ума и нашей
воли. Такова была концепция Макиавелли, концепция,
породившая «Мандрагору». Поэтому главное действую-
щее лицо комедии — человек со своими добродетелями
и слабостями, который создает события, или управляет
ими, или уступает под их нажимом. Гольдони недостает
не ясности, а смелости в реформе, ибо он часто был вы-
нужден к уступкам и компромиссам, чтобы ублажить
публику, труппу и своих противников. И в соответствии
со своим характером он чаще побеждал благодаря тер-
пению или осторожности, чем благодаря упорной реши-
мости в достижении цели. Следы этих уступок налицо
даже в его лучших комедиях, там, где он допускает не-
которые вульгарные и грубоватые приемы, чтобы вы-
звать рукоплескания партера. И этим же объясняется,
почему до самого конца он продолжал разрабатывать
романтическое, сентиментальное, арлекинаду: нужды ре-
месла вступали в противоречие с устремлениями худож-
ника. С другой стороны, отдавая все внимание внут-
реннему строю комедии, он чересчур пренебрегал выра-
жением и, желая сделать комедию естественной, впадал
в вульгарность, так что его энергичные замыслы высту-
пают в форме, более похожей на необработанный ка-
мень, чем на мрамор. Непреходящим у Гольдони остается
этот внутренний мир комедии, почерпнутый из жиз-
ненной правды, великолепно развитый в ситуациях и в
диалоге. В центре его комического мира — характер,
который не выдуман как набор абстрактных качеств, а
30 Де Санктис
465
выхвачен из полноты реальной жизни со всеми ее атри-
бутами. Основа комедий Гольдони — венецианское об-
щество в его посредственности и заурядности, более
близкое к народу, чем к высшим классам; это обстоя-
тельство дает больший простор комическому благодаря
внезапным, необузданным, неотесанным порывам, свой-
ственным простонародью, к которому была весьма близ-
ка венецианская буржуазия, еще не достигшая той утон-
ченности и рафинированности, какие являются призна-
ком цивилизованности. Такие характеры Гольдони, как
злословящий, лгун, скупец, льстец, «cavalier servente» —
«угодник», вырастающие в этой обстановке, предстают
живыми, колоритными, оригинальными, новыми, черпают
в этой среде саму форму своего существования. В них
налицо смесь грубого и импровизированного; здесь-
то и кроется источник комического. Эти характеры лю-
дей, не дисциплинированных воспитанием, проявляются
внезапно, бесцеремонно и безудержно, во всей своей
первобытной силе и производят своею грубой непосред-
ственностью самый комический эффект, как, например,
«Ворчун-благодетель». Комическое, вытекающее не из
абстрактных и субъективных концепций, но изученное
в натуре и схваченное в жизненном движении, разверты-
вается не в описаниях, размышлениях и остротах, что мы
называем собственно остроумием и что присуще более
культурному и утонченному обществу, но прорывается
в грубоватой живости положений и столкновений. Голь-
дони чрезвычайно удачно выбирает такие положения,
в которых характер может выявить всю свою силу. Си-
туация в большинстве случаев едина, проста, естествен-
на, умеренно варьируется, порой подчеркивается каким-
нибудь контрастом, редко осложнена или запутанна и
развивается с постепенным нарастанием драматического
движения, быстро приводя к развязке в самом живом ве-
селье. Отсюда проистекает и превосходный гольдониев-
ский диалог, который представляет собой разговор-
действие, весьма редко прерываемое или замедляемое
излишними размышлениями и сентенциями. Ситуация
никогда не теряется из виду, нет ни отступлений, ни от-
клонений, изредка — интермедии или эпизоды; ни одна
часть не выпячена. В результате интерес заключается в
общем, в целом, и лишь изредка из него выделяется пер-
сонаж, сцена, шутка. Все прочно спаяно воедино; ситуа-
466
ция — это и есть сам характер в известном положении,
в своих определениях; действие — это та же ситуация в
ее развитии; диалог — это то же действие в его движе-
нии. Недостатки этого поэтического мира проистекают
из его же достоинств: в своей грубоватости он поверх-
ностен, а в естественности — вульгарен. Поэт, увлекае-
мый быстрым и прямым движением, не размышляет, не
сосредоточивается и не углубляется; он весь вовне, ве-
селый и легкомысленный, безразличный к своему содер-
жанию, которое он излагает словно для времяпрепро-
вождения, с самым наивным видом, без тени лукавства
или колкости. Поэтому форма его комизма — веселая и
бесхитростная карикатура, которая лишь в редких слу-
чаях поднимается до иронии. В своем изучении есте-
ственного и правдивого Гольдони чрезмерно пренебре-
гает выдающимся и вместе с живостью разговорного
языка усваивает и его небрежность; избегая риторики,
он впадает в вульгарность. Ему недостает той боже-
ственной меланхолии, которая составляет идеальность
комического поэта и возносит его над созданным им ми-
ром, который он ласкает взглядом и с которым не рас-
стается, пока не придаст ему окончательной отделки.
Этот недостаток Гольдони приписывают его невежеству
в области языка и излишней поспешности; если это об-
стоятельство и может извинить неправильности, его все
же недостаточно для того, чтобы объяснить рыхлость
и необработанность в колорите1.
В комедиях Гольдони новая литература впервые воз-
вестила о себе как о восстановлении правдивого и есте-
ственного в искусстве. Если старая литература стреми-
лась добиться эффектов, насколько возможно отходя от
реального, и гналась за необычным и удивительным в
содержании и форме, то новая литература ищет своих
основ именно в реальности и изучает в правде жизни
природу и человека. Манерность, условности, риторика,
академичность, Аркадия, вся мифологическая и класси-
ческая механика, подражание, реминисценции, цитиро-
1 О языке Гольдони — «более жаргоне, чем языке» — суждение,
в котором усвоены и превзойдены и классицистическая полемика
Гоцци и моралистическая критика Баретти, — см. несколько сохра-
нившихся заметок в юношеских лекциях («Teoria e storia», cit., t. II,
p. 41, и «Purismo illuminismo storicismo», cit., t. Ill)*
30*
467
вание— все то, что составляло старую литературную
форму, изгнано из этого поэтического мира, в центре ко-
торого стоит человек, изучаемый как психологическое
явление, возвращенный к своим естественным соизмере-
ниям и ввергнутый во все события и обстоятельства ре-
альной жизни. Правда, реальность эта еще едва за-
тронута и глубины ее остаются скрытыми; но путь про-
легал именно здесь, и первым на этот путь вступил
Гольдони.
15. Вся эта правдивость и естественность показалась
Карло Гоцци могилой поэзии; и хотя успех Гольдони
внушил ему почтение и он отзывался о своем противнике
уважительно, он все же не мог решиться на то, чтобы
принять его реформы. Романическое, преувеличенное,
шутовское, или, другими словами, удивительное и фан-
тастическое, казались ему неотъемлемыми элементами
поэзии, а изображение реального представлялось ему
вульгарностью1. В то же время он не мог без огорчения
видеть, как со всех сторон подвергалась нападкам им-
провизированная комедия, которую он считал итальян-
ской славой. В то время говорили, что это устаревший
репертуар, что эта комедия превратилась в простой ме-
ханизм, стала школой безнравственности, непристойно-
сти, площадной забавой, «грубой буффонадой, грязью,
неприличной для просвещенного века». В этих обвине-
ниях было и преувеличение, но в основе их лежала исти-
на. Импровизированная комедия, или комедия дель'арте,
оказалась выхолощенной, как и все жанры старой лите-
ратуры; все те «лацци», которые так смешили, были
старьем, передававшимся от одного поколения к друго-
му с небольшими вариациями. Комедия жила прошлым,
новые актеры воспроизводили прежних, а импровизиро-
ванная часть была столь же мало новой и импровизи-
рованной, как и письменный сценарий. Эта комедия нра-
вилась больше, чем комедия литературная, потому что
в ней все же было больше общения с публикой; но от-
ныне болонский Доктор и Труффальдино утомляли, слов-
но профессор, который каждый год повторяет все тот
1 См. «Ragionamento ingenuo»: «Он показал на театре всю ту
правду, которая попалась ему на глаза, тривиально и материально
копируя се, а не подражая природе, и без того изящества, которое
необходимо для писателя» («Opere», cit., vol. I, p. 48).
468
же курс. Литераторы и создатели ученых комедий исполь-
зовали этот аргумент, чтобы объявить войну маскам, и
намеревались изгнать сам жанр этой комедии, «непри-
личной в просвещенный век». Гоцци, который был про-
тив этих идей и косо смотрел на все новшества, прихо-
дившие из-за границы, стал паладином этой комедии и
вышел на поле боя не только с доводами, но и с приме-
рами, написав «фьябы» — комедии масок с импровиза-
ционной частью; они имели огромнейший успех, а сейчас
почти забыты. В те времена Гоцци казался отсталым, а
Гольдойи был реформатором; и однако же я пожелал бы
Гольдони обладать той революционной жилкой, которая
была у этого отсталого,— тогда Гольдони проводил бы
свою реформу более смело и последовательно. Гоцци,
этот одинокий молчальник, как его называли, был чело-
веком талантливым, а поэтому проникнутым духом со-
временной ему жизни и, сам того не зная, преображен-
ным теми самыми новыми идеями, которые возбуждали
его желчность. Желая восстановить старое, он тоже про-
явил себя и новатором, и реформатором и, следуя за ко-
медией дель'арте, вторгся в область простонародной ко-
медии и заложил ее основы. В голове у него была ужас-
ная путаница, как это видно из его рассуждений1;
отсюда — и его слабости. Гольдони знает, чего хочет, для
него ясны и цель и средства, и он идет вперед прямо и
уверенно, поэтому влияние его оказалось громадным.
А у Гоцци нет ясности цели, он хочет одного, а делает дру-
гое и продвигается скачками, увлекаемый различными
течениями. Он хочет поддержать маски, хочет пароди-
ровать противников, хочет вернуться к Пульчи и Арио-
сто, восстановив в правах фантастический элемент; он
хочет тосканской традиции и вместе с тем хочет сохра-
нить народную и разговорную речь; хочет восстановить
старое и показаться новым. Эти преходящие цели могли
интересовать его современников, принести ему победу
в театральной полемике, но сегодня это мертвая часть
его трудов. Эти намерения отражаются во всех его сочи-
нениях как противоречивые элементы, остающиеся не-
примиренными. Главное, что пережило его время,— это
концепция простонародной комедии в противовес комедии
буржуазной. Маски, то есть определенные характеры
О критических «Рассуждениях» Гоцци см. § 13.
469
или типичные народные карикатуры, как Тарталья,
Панталоне, Труффальдино, Бригелла, Смеральдина,
остаются в его сочинениях условным, обязательным эле-
ментом, аксессуарами, часто гротескными и плоскими по
сравнению с содержанием, к которому они насильно при-
тянуты. А содержание — это поэтический мир, как он
воспринимается народом, любящим чудесное и таин-
ственное, впечатлительным, легко смеющимся и плачу-
щим. Основа этого поэтического мира — сверхъестествен-
ное в различных его формах, чудо, колдовство, магия.
Этот воображаемый мир, тем более живой, чем менее
развито умственное мышление, является естественной
основой народной поэзии в ее различных формах — сказ-
ках, новеллах, романах, историях, комедиях, фарсах.
Старая литература завладела этим миром, но лишь для
того, чтобы уничтожить его, чтобы заронить в него недо-
верчивую улыбку культурной буржуазии. Возродить этот
мир в его непосредственности, драматизировать сказку
или повестушку, найти в них новую, молодую кровь им-
провизированной комедии — вот на что осмелился Гоцци
перед лицом скептической буржуазии в просветитель-
ский век, в эпоху острословов и вольнодумцев. И ему
удалось заинтересовать публику, ибо этот поэтический
мир имеет свое абсолютное значение и отзывается на
некоторые струны, которые под умелой рукой артиста
всегда звучат в душе: ведь в каждом человеке в боль-
шей или меньшей степени есть что-то ребяческое и на-
родное.
Поскольку в то же время публика интересовалась и ко-
медией Гольдони, из этого следовало заключить, — если
бы в разгаре диспута были возможны разумные заклю-
чения,— что оба жанра соответствовали правде жизни;
один изображал буржуазное общество с его посредст-
венной культурой, а другой — народ с его легковерием и
восторгами. Оба жанра были реформой комедии в двух
ее аспектах: ученой комедии и импровизированной ко-
медии; и это было в обоих случаях проявлением новой
литературы. Но то, что сделал Гоцци, являлось не со-
всем тем, что он думал делать. Все это он делал
с досады, случайно, презирая публику, которая ему ап-
лодировала, не принимая всерьез своих произведений, и,
поскольку Гольдони подражал действительности, Гоцци
со своей стороны ушел в романическое и фантастическое.
470
Но ведь искусство не индивидуальный каприз, и если
человеку нравится Шекспир, из этого отнюдь не следует,
что он может повторить Шекспира, даже если бы у него
были на это силы. Искусство, как религия и философия,
как политические и административные установления,—
социальное явление, результат культуры и национальной
жизни. Гоцци хотел восстановить мир воображения, в то
время когда сам же он запечатлел распад этого мира
в «Марфизе» *, когда культурная и мыслящая часть на-
ции была увлечена совершенно противоположными по-
буждениями и когда народ, отупевший в нищете, был
инертной массой и не подавал признаков литературной
жизни. Если бы Гоцци обратился к народу и почерпнул
в нем свое вдохновение, он, быть может, сумел бы соз-
дать живые произведения. Но Гоцци был аристократом,
ненавидел все эти новшества, которые слишком отда-
вали демократией, и жил в чисто литературном окруже-
нии своей академии Гранеллески. Поэтому он остался
литератором и не стал поэтом. Да и помимо этого, в те
времена от народа, пребывавшего в застое, не исходили
литературные импульсы; движение шло только от бур-
жуазии, и именно благодаря этим тенденциям и разви-
вались все отрасли национальной жизни. Создавать во-
ображаемый поэтический мир, когда шла война как раз
против воображения, во имя науки и философии, значи-
ло пятиться назад. Гоцци родился слишком рано. Поз-
же наступило время, когда буржуазия, испуганная теми
крайностями, которые вызывали отвращение у Гоцци,
ухватилась за этот сверхъестественный мир как за якорь
спасения. Тогда и настало настоящее время для Гоцци,
и свой Гоцци в нем был, и назывался он Мандзони.Для
своего времени Гоцци был противоречив, а потому неубе-
дителен, и его идеи — в отвлеченном смысле высоко-
эстетические— воплотились в искусственные литератур-
ные факты. Он хотел восстановить старое, ненавидел
новшества, но бессознательно носил их в своей груди;
поэтому и получилось, что он рисовал свой воображае-
мый мир точно так же, как адвокат Гольдони изобра-
жал свое буржуазное общество. Гоцци не хватает свето-
тени, не хватает силы впечатления и ощущения
1 См. лекции о рыцарской поэзии, в изд. Эйнауди, т. VII, «Verso
il realismo»,
471
сверхъестественного; более того, он изображает его со
всей видимостью естественности, словно самый вульгар-
ный и заурядный факт, как это делал Гольдони. По-
этому в стиле его нет рельефности, а в колорите — про-
зрачности, краски у него не слились, и, желая быть есте-
ственным, он часто впадает в безвкусицу и вульгарность.
Естественность подобного поэтического мира состоит в
наивности и непосредственности впечатлений — любопыт-
стве, удивлении, напряжении, ужасе, гневе, плаче и смехе,
как в сказках первобытного общества. Эта наивность
утрачена, и естественность Гоцци превращается в не-
брежность и вульгарность. Эти явления не принимаются
им всерьез, словно забава и времяпрепровождение; по-
этому они всего лишь кое-как набросанные шутки, не
имеющие самостоятельного значения; при поддержке ми-
мики, «лацци» и бутафории они могут произвести эф-
фект во время представления, они нравятся при чтении,
но не оставляют в душе никакого следа. Баретти узрел
в Гоцци нового Шекспира и, когда эти ожидания не
оправдалцсь, накинулся на него с яростью, как будто
Гоцци его предал; на самом же деле он должен был бы
упрекать себя самого за то, что мечтал о некоем Шек-
спире в XVIII веке1. Чем же все кончилось? Простона-
родная комедия вернулась в свое болото, вместе с ма-
сками, непристойностями и вульгарностью, а от Гоцци
осталась красивая идея, вскоре забытая. Общество из-
брало другой путь и шло за Гольдони.
Ш. Движение в Венеции осталось чисто литератур-
ным. Там был центр, ориентировавшийся на тосканскую
культуру в лице академии Гранеллески, которая вскоре
стала посмешищем и душою которой были братья Гоц-
ци, и был там Гольдони, чьи устремления метили выше
1 Де Санктис имеет в виду статью 1769 года, где Баретти восхи-
щается оригинальностью Гоцци: «Это, по моему мнению, самый вы-
дающийся гений, который появлялся где-либо или когда-либо после
Шекспира» (см. «Gl'Italiani, о sia Relazione degli usi e costumi d'lta-
lia», Pirolta, Milano 1818, p. 75, в переводе самого Баретти), а также
совершенно противоположное суждение, высказанное им спустя
15 лет в письме к Фрамческо Каркано от 12 марта 1784 года: «Но
что Вы хотите? Эта скотина испортила все свои драмы, напихав
туда своих проклятых Панталоне и Арлекинов, Тарталью и Бри-
геллу, которых он показал на сцене, только чтобы угодить вкусу
нашего сброда,.. Это куча золота и навоза, совершенно невиданная»
(«Opere», cit., vol. IV, Milano 1839, pp. 291—292).
472
и касались самой сущности искусства. Только один Кар-
ло Гоцци ощутил политическое значение этого движения
и забил в набат, но никто не откликнулся, ибо врага не
оказалось. Гольдони, даже будучи в Париже, ничего не
понял в этой головокружительной путанице идей, Руссо
был для него лишь любопытным феноменом, великолеп-
ным комедийным характером, чем-то вроде его «Ворчу-
на-благодетеля» К Эта сосредоточенность Гольдони на
одной цели, его полная наивность во всех других обла-
стях были его силой и его слабостью. Его навязчивая
идея, состоявшая в том, чтобы изображать живое и
правдивое и не искажать природу, была обновляющим
принципом литературы, отрицанием Аркадии, воссозда-
нием содержания и формы; все это воплотилось в не-
скольких комедиях, выполненных с большей или мень-
шей степенью совершенства, но в целом незабываемых
по ясности и правдивости замысла, положений и харак-
теров; в этом и состояла сила Гольдони. А слабость его
заключалась в чисто литературном характере этой ре-
формы, которая держит его на поверхности и приводит
к тому, что он изображает местные и частные явления,
а религиозное, философское, политическое, моральное и
социальное безразличие Гольдони, отсутствие глубокой
культуры и скудость его внутренних мотивов отнимают
у созданного им мира ту идеальность, которая происте-
кает из общей и непреходящей значимости произведе-
ния. Чего же не хватает Гольдони? Не ума, не силы
комизма, не профессионального умения — он прирожден-
ный художник. Ему не хватает того же, что и Метаста-
зио,— внутреннего мира, сознания деятельного, живого,
страстного, воодушевленного верой и чувством. Ему не
хватает того, чего уже много веков не хватало всем
итальянцам, из-за чего их упадок был неизлечим:
искренности и силы убеждений. Признаком возможного
возрождения было появление этого внутреннего мира у
наиболее избранных умов, возобновление духовной дея-
тельности и пробуждение чувства. Наибольший толчок
пришел извне. Но энтузиазм общества показывал, что
1 Относительно встречи Гольдони с Руссо в Париже, об их бе-
седе о «Bourru bienfaisant» и о соответствующих размышлениях
Гольдони по поводу права великого женевца см.: «Мемуары», ч. III,
гл. XVI и XVII; цит. изд., т. II, стр. 522—531.
473
в Италии уже был материал, готовый к восприятию
этого импульса, и что она после долгого сна снова про-
буждалась к жизни.
На юге страны движение философской мысли от Те-
лезия до Коко * никогда не прекращалось, и там сложи-
лась либеральная школа, занимавшаяся вопросами
юрисдикции и постепенно расширявшая свой кругозор
вплоть до всех полезных реформ государственного по-
рядка. Когда сюда пришли новые идеи, то они встрети-
ли духовную почву, должным образом подготовленную
и готовую воспринять их; красноречивыми и энергичны-
ми истолкователями этих идей явились Филанджиери,
Пагано и Галиани. Новое содержание вырабатывалось
в форме, полной остроумия и движения, зачастую та-
лантливой и страстной; философия популяризировалась
благодаря живому и остроумному языку газеты. Фарсы,
трагедии, комедии, речи, диссертации, проповеди, трак-
таты, сонеты, канцоны — все роды старой литературы
продолжали свою замкнутую и механическую жизнь, не
проявляя никаких признаков внутреннего движения; это
были подражания, переделки и подделки, мир условно-
стей, встречавшийся условными аплодисментами. Уже
Сальватор Роза протрубил сигнал к войне против дек-
ламации и риторики, не сознавая, что и сам он грешил
тем же. Риторика в какой-то степени сохранялась у мно-
гих этих писателей, и более всего у Филанджиери, но
она была оживлена новизной и важностью предмета и
тем духом современности, который всегда вызывает са-
мую живую заинтересованность2.
Чисто литературное чувство, которое в этих областях
Италии колебалось между сладострастностью, остроуми-
ем и сентиментальностью, — что приносило здесь такую
популярность Тассо и Марино, — после того как в лите-
ратурном движении наступил застой, преобразовалось
в музыкальное чувство. На нем и воспитался Метастазио,
1 Так (вместо — Куоко) в рукописи и в изд. Морано, согласно
написанию, сохранявшемуся на всем протяжении XIX века. См. так-
же «Saggio storico», ed. Barbera, Firenze 1865.
2 О Филанджиери см. последние страницы гл. XIX о новой науке
Весь отрывок и дальнейшее изложение о социальной и лите-
ратурной эволюции, происходившей во второй половине XVIII веке
в Венеции и в Милане, почти целиком перенесены сюда из цит.
статьи о Парини.
474
и из него возникла бессмертная школа великих музы-
кантов, подлинных отцов искусства, которому была пред-
назначена столь великая судьба. Музыка возникала из
тех самых порывов и побуждений, которые не могли най-
ти себе выхода в гнилой литературной форме; эта живая
музыка изливалась родником мелодии, полной сладо-
страстия и чувства.
В то время как умозрительные занятия и музыкаль-
ное чувство развивались на юге Италии, а Гольдоии
осуществлял в Венеции свою реформу комедии, Милан
становился интеллектуальным и политическим центром
новой жизни; крупнейшими деятелями здесь были Пьет-
ро Верри и Чезаре Беккариа. В Венеции была академия
Гранеллески, а в Милане — академия Трасформати.
В Венеции академики представляли себе реформу как
возврат к классическим штудиям и боролись с Гольдо-
ни, который был подлинным реформатором. В Милане
же во всех областях господствовал новый дух, «Энцик-
лопедия» проникла сюда со всей свитой французских
писателей, здесь вырабатывались не фразы, а идеи и
для большей свободы нередко пользовались диалектом,
а не литературным языком. Здесь были оба Верри, Бек-
кариа, Баретти, Балестрьери, Пассерони, здесь был цвет
миланской интеллигенции. Они называли себя «Trasfor-
mati» — «Превращенными», и можно сказать, что фило-
софия, законодательство, экономика, политика, мо-
раль— все области науки испытали превращение, были
преобразованы в их умах с большей или меньшей сте-
пенью ясности и сознательности.
Литература также не могла избежать подобного
преобразования; на смену классической торжественности
пришла гибкая естественная форма, блестящая и сенти-
ментальная на французский лад. В Милане смеялись над
Алессандро Бандьера, который желал поучать языку и
стилю падре Сеньери, который, по его мнению, недоста-
точно овладел стилем Боккаччо; смеялись и над падре
Бранда, который превозносил до небес тосканский лите-
ратурный язык и всячески поносил диалект1.
1 Монах-сервит Алессандро Бандьера из Сиены (1609—1770) —
автор «Gericotricamerone» (Venezia 1757) и «Pregiudizi delle umane
lettere» (Venezia 1755). Против этого сочинения выступил Парини
в 1756 году, защищая Сеньери от критики Бандьера с позиций
475
Пассерони поднимал на смех это старое общество в
«Жизни Цицерона» и в «Эзоповских баснях»; пустой
напыщенности Фругони, вывертам Альгаротти и жеман-
ству Беттинелли, которые были тремя модными поэта-
ми, Пассерони противопоставил плавный слог, здраво-
мыслие и естественность. Он был прекрасным чело-
веком, без горечи и желчи, но и без инициативы, он
заразительно смеялся над обществом, в котором жил
бедняком, но довольным К
Метастазио, Гольдони и Пассерони были сделаны из
одного теста — идиллические литераторы чистой воды.
Это поэты переходного периода. У них уже проявляют-
ся признаки новой литературы, народная форма, непри-
нужденная, быстрая, текучая, ясная, склонная больше
к небрежности, чем к искусственности. Но это все еще
формальная игра, которой не хватает возвышенности и
серьезности мотивов; литератор налицо, человек отсут-
ствует. В этих реформаторах ощущается человек старо-
го итальянского общества, литературным выражением
которого была Аркадия и академичность. Они боролись
против Аркадии, но сами в большей или меньшей сте-
пени были аркадийцами.
17. В эти времена новых идей и старых людей ро-
дился 22 мая 1729 года Джузеппе Парини2. Приехав из
провинции в Милан, он начал обычные классические
занятия у монахов-варнавитов; его учителем риторики
был падре Бранда. Отец Парини хотел сделать сына
священником, чтобы облагородить семью, однако буду-
академии делла Круска; в 1760 году Парини напал на варнавита
Паоло Онофрио Бранда, автора диалога «Delia lingua toscana». Об
этой полемике см. ниже.
1 «Vita di Cicerone» и «Favole esopiane» были напечатаны в Ми-
лане: поэма — в 1755 году, басни — в 1775 году. О личности Джан
Карло Пассерони (1713—1803) и об академичности его сатиры см.
цит. статью о Парини, t. XIV, изд. Эйнауди.
2 Эта дата стоит в рукописи и в изд. Морано, согласно традиции
того времени (см. биографию Парини, предпосланную изданию
«Ореге» под ред. F. Reina, 6 voll., Milano 1801—1804). Кроче и дру-
гие издатели исправляют на 23 мая. Относительно Парини, кроме
статьи 1871 года, частично перенесенной в данную главу, см. юно-
шеские лекции о лирике XVIII века («Teoria e storia», cit., t. I,
pp. 159—161, и «Purismo illuminismo storicismo», t. II), в которых
кратко очерчены основные мотивы его поэзии. Об истории критики
Парини и о позиции Де Санктиса см. статью L. Caretti, в «Classici»
Binni, II, pp. 187—235.
476
Джузеппе Парини.
щему поэту пришлось по домашним обстоятельствам
бросить учение и зарабатывать на жизнь. Он был пере-
писчиком и педагогом, и в унижениях и нужде его ха-
рактер закалился. Подобно Метастазио и другим поэ-
там того времени, Парини начинал как аркадиец, и пер-
вые его стихи можно прочесть в поэтическом сборнике,
изданном этими академиками *. Его индивидуальность
проявилась впервые в нападках на падре Бандьера и
падре Бранда, дурным учеником которого он был2. По-
видимому, школа принесла ему мало пользы, поскольку
он был особенно нетерпелив в том заучивании, которое
в те времена считалось основой учения. Хозяин самому
себе, он в свободное время забывал о своей нищете, бе-
седуя с Вергилием, Горацием, Данте, Ариосто и Берни.
Какими пигмеями должны были казаться ему падре
Бранда со своим тосканским языком или падре Бандьера
со своими периодами! Но хотя он презирал это педант-
ство, его не менее раздражала та галломания, которая
стала модой и в высших и в низших классах3. По роду
своих занятий бывая в аристократических домах, он мог
изучить ту странную смесь старого и нового, которую
составляло в то время итальянское общество. Уже в
этом раннем определении позиций, в этом возвышении
над борьбой и уклонении от всех крайностей и преуве-
личений проявилась выдающаяся личность Парини. Мы
имеем дело с незаурядным характером.
1 См. «Rime degli Arcadi» Giunchi, Roma 1780, t. XIII, в котором
Парини под псевдонимом Darisbo Elidonio напечатал оду «Liberia
campestre» и 14 сонетов. Первыми опубликованными стихами Па-
рини являются, как известно, те, что, под именем Ripano Eupi-
lino, вошли в сборник «Alcune poesie di R. E.», London, но это:
Bianchi, Milano 1752.
2 Об этой полемике см. выше. См. также Парини «La lettera in-
torno al libro intitolato i pregiudizi delle umane lettere, all'abate
Pier Domenico Soresi», 1756; в «Opere», cit., V, pp. 170 и ел. О споре
Парини с Бранда от имени академии Трасформати в защиту лом-
бардского диалекта см. М a z z u с с h e 11 i, Scrittori d'ltalia, II.
ч. IV, pp. 2003 и ел. Варнавит Паоло Онофрйо Бранда был учите-
лем Парини в гимназии Арчимбольди в Милане.
3 См. цит. очерк о Парини: «Хотя он издевался над Бранда и
Бандьера, сделавшими фразы ходким товаром, он был не менее су-
ров к Пьетро Верри, который, стремясь избежать педантства, пропо-
ведовал вольности. Галломания стала в то время вульгарной модой».
Как известно, Парини пародийно изобразил Верой в образе про-
давца, расхваливающего товар. См, «И meriggio», vv. 660 и ел.
478
Парини был более человеком размышления, нежели
действия. Удовольствий он не любил, потребностей у
него было мало, и он отнюдь не стремился ни к поче-
стям, ни к богатству. Общество не имело власти над
ним, он остался независимым и одиноким, неуязвимым
для искушений, недоступным для компромиссов и, как
Данте, сам составлял свою партиюi. Этот новый мир,
который формировался в умах, мир, основанный на при-
роде и разуме, противостоящий искусственности и услов-
ности век'а, пришел к Парини скорее через Плутарха и
Данте, чем через французское влияние, и остался в нем
незамутненным, чистым от тех пятен и теней, которые
привнесли в него тщеславие, страсти и светские инте-
ресы, а поэтому свободным от преувеличений и по-
хвальбы. У Парини была та внутренняя мера, т,д урав-
новешенность способностей, которая является душевным
здоровьем, то полнейшее самообладание, которое со-
ставляет идеал мудреца, тот правитель — разум2, кото-
рый стоит выше страстей и воображения и держит их
в справедливых границах. Сила его — более моральная,
нежели интеллектуальная, поскольку умом он не слиш-
ком возвышается над общим уровнем и более замеча-
телен своею справедливостью и умеренностью, чем
новшеством и глубиной концепций. Среди своих совре-
менников Парини выделяется искренним и живым нрав-
ственным чувством, которое придает ему характер почти
религиозный; это чувство — его вера, его вдохновение.
В нем возрождается та гармония понимания и действия
через посредство любви, которую Данте называл мудро-
стью 3; возрождается человек.
И именно человек воспитывает художника. Ибо Па-
рини таким же образом смотрит и на искусство. Он не
просто литератор, замкнувшийся в форме и безразлич-
ный к содержанию; для него сущность искусства — со-
держание, а художник есть человек в своей целостно-
сти, выражающий самого себя во всей совокупности ка-
честв как патриота, верующего человека, философа,
1 Par., XVII, 68—69: «...a te fia bello/averti fatta parte per te
Stesso».
2 Быть может, здесь слышится отзвук выражения Парини «выс-
ший правитель» из оды «L'Educazione», 137.
3 Имеется в виду уже неоднократно упоминавшееся место из
«Convivio», III, Н«
479
любовника, друга. Поэзия снова приобретает свою преж-
нюю значимость, она есть глас внутреннего мира, ибо
нет поэзии там, где нет сознания, веры в мир религиоз-
ный, политический, моральный, общественный. Поэтому
основа поэта — человек.
Поэзия вновь обретает серьезное содержание, живу-
щее в сознании. А форма обогащается, становится дей-
ственной *, сама превращается в идею, в гармонию ме-
жду идеей и выражением.
Основа поэтического содержания — мораль и поли-
тика; это свобода, равенство, отечество, достоинство, то
есть соответствие между мыслью и действием. Это ста-
рая программа Макиавелли, ставшая европейской идеей
и вернувшаяся в Италию. Основа формы — правдивость
выражения, ее прямая связь с содержанием при отсече-
нии всего посредствующего. Это форма Данте и Макиа-
велли, омоложенная вместе с содержанием.
Содержание лирично и сатирично. Это новый чело-
век в старом обществе.
Новый человек — не концепция и не вымышленный
тип; он имеет все приметы реальности, он — это сам
поэт. Главным героем этого лирического мира является
Джузеппе Парини, который воспевает самого себя, вы-
ражает свои впечатления, изливает душу, такой, каков
как он есть, во всей непосредственности своей природы.
Исчезают надуманные и абстрактные темы из области
религии, любви, морали. Все в этом содержании совре-
менно, живо и конкретно, связано с движением событий
и впечатлений. Поэт, ушедший в мирную природу и в
спокойствие души, стоит выше изображаемого мира; он
ощущает его метания, его радости и горести, но не на-
столько, чтобы они могли смутить уравновешенность и
безмятежность его духа. В этом новом человеке есть
идиллическая и философская жилка, свойственная че-
ловеку одинокому, более наблюдателю, чем деятелю,
привыкшему жить спокойно и сохранять в своем сужде-
нии чистый и бесстрастный взгляд на вещи. В нашем
поэте немного чувствуется педагог, который поучает и
взвешивает человеческие дела справедливой мерой. Но
педагог, преобразившись в поэта, утратил все педант-
ские и самонадеянные черточки. Любовь Парини к сель-
1 В рукописи добавлено: «проникается идеей».
480
ской жизни не мизантропия; эта любовь сочетается с са-
мым живым сочувствием к человечеству. Его суровость
в области приличий, заботы о сохранении женской чести
смягчаются живым чувством прекрасного. Его достоин-
ство лишено гордыни, его строгость благожелательна, его
добродетель стыдлива, полна изящества и скромности.
В его понятиях и чувствах всегда есть известный предел,
гармоничная умеренность, в которой и заключается ин-
теллектуальное и моральное совершенство Парини как
человека и как поэта. Когда читаешь его «Сельскую
жизнь», «Целебный воздух», «Опасность», «Музу», «Па-
дение», его «Нису» и его «Сильвию» !, испытываешь неч-
то более, чем эстетическое удовольствие: ощущаешь удо-
влетворение всех чувств.
Старое общество запечатлено у Парини не в ритори-
ческих общих местах, как, например, у Розы, Менцини
и у других сатириков, но в форме характерной для од-
ряхления этого общества — напыщенной при ничтожном
содержании. Эти столь великолепные формы, которым
придается столь важное значение, — ирония при сопо-
ставлении с содержанием. «Батрахомиомахия»—ирони-
ческая «Илиада», «Москеида» — иронизирование над
«Орландо»2; эпические формы прилагаются к изобра-
жению плебейского мира. Ирония — это форма одрях-
левших обществ, еще не сознающих своего распада.
Старое хочет казаться молодым и пыжится тем больше,
чем ничтожнее содержание. В этом и состоит концепция
«Дня» Парини, основывающаяся на иронии, которая
содержится в самих вещах, а потому глубока и печаль-
на. Парини от себя добавляет только большую рельеф-
ность, торжественность изложения, которое делает конт-
раст еще более заметным. И поскольку он чувствует,
.что в этих фальшивых формах отрицается он сам, его
простота и серьезность, его нравственное чувство, то он
не в силах смеяться и из-под пера его не выходит ни
шутки, ни причудливой выходки. Его улыбка натяну-
1 См. «II Messaggio», «All'inclita Nice» и «Sul vestire alia
ghigliottina», «A Silvia». Подробный анализ этих двух последних од
см. в уже цит. статье 1871 года о Парини.
2 О сатирическом значении «Moscheide», «карикатуры на рыцар-
скую поэзию», и вообще о шутливой и пародийной поэзии Фоленго
см. гл. XIV.
31 Де Саиктис
481
та, и в ней ощущаются отвращение и презрение. Италия
уже достаточно смеялась и еще продолжала смеяться в
стихах Пассерони и Гольдони. Здесь же смех остается
лишь на поверхности, под которой скрывается сдержан-
ное и подавленное возмущение оскорбленного человека.
Внутренняя умиротворенность и умеренность Парини,
сила рассудка — правителя чувств позволяет ему сдер-
жать себя настолько, что чувство лишь изредка проры-
вается наружу, и тогда ирония принимает форму сар-
казма. Ирония наших отцов в период Рисорджименто
была веселой и скептической, как у Боккаччо и у Арио-
сто, ибо она являлась отместкой ума за богословские
и феодальные бессмыслицы — отместкой, сопровождав-
шейся нравственной распущенностью; это была ирония
науки над невежеством, а невежество всегда смешно.
Но здесь, у Парини, ирония есть пробуждение сознания
перед лицом общества, лишенного всякой внутренней
жизни; у тех это была ирония здравого смысла, а здесь
это ирония нравственного чувства. Ты ощущаешь, как
возрождается человек и вместе с ним — внутренняя
жизнь.
Язык этого старого общества был его подобием, же-
манным, томным, пустым сочетанием звуков, в котором
слово было погребено под музыкой. В поэзии Парини
слово возрождается. Оно выходит на свет, весомое, тяж-
кое, чреватое смыслом, выражаемым явно и в под-
тексте. Слово раскрывает иронию, ибо оно — антитеза
этого расслабленного и выхолощенного общества, кото-
рое поэт якобы прославляет1.
18. Теперь откиньте иронию, дайте открытый выход
гневу, отвращению, презрению — всем тем чувствам, ко-
торые Парини с таким усилием скрывает под своей
1 Суждение о языке Парини сопровождается в цит. статье
1871 года следующими соображениями: «Но эта идеальность формы
с совершенством ее иронии обладает своим первородным грехом.
В ней чувствуется одиночество человека в этом обществе, одновре-
менно и старом и новом, тишина кабинета, изучение и подражание
древним, и эти гармонии звучат в ушах, как смутные реминисценции,
заставляя думать о Горации. Такое совершенство уязвимо, ибо
в нем слишком чувствуется обработка; в этом труде ощущается
мощная индивидуальная энергия скорее, чем коллективный резуль-
тат... Здесь находишь личный труд одинокого человека, не в доста-
точной степени подчиненного впечатлениям общей жизни и слишком
ушедшего в себя самого и в свои книги».
482
улыбкой, — и перед вами Витторио Альфьери. Это но-
вый человек, который среди своих современников пред-
стает как вызов, как гигантская и одинокая статуя, сим-
волизирующая угрозу 4.
Альфьери поздно обрел самого себя — и по собствен-
ному импульсу и в противопоставлении обществу. До
26 лет он вел обычную жизнь итальянского аристократа,
сводившуюся к развлечениям, путешествиям, любовным
похождениям, лошадям; однако все это не заполняло
его жизни. От ученических занятий у него сохранилась
лишь ненависть к учению. Будучи богат и благородного
происхождения, он, однако, не притязал ни на почести,
ни на богатства, ни на должности и жил, не имея иной
цели, кроме самой жизни. Это было пустое существова-
ние богатых синьоров, которые удовлетворялись им и
на которых с завистью взирали те, к кому фортуна была
менее благосклонна. Но Альфьери этим не удовлетво-
рялся, часто бывал грустен и ощущал скуку среди столь
бесполезных занятий. Скука была итальянской бо-
лезнью, она свойственна всем народам, приходящим в
упадок; это была внутренняя праздность, пустота душев-
ного мира. Альфьери ощущал эту пустоту, и его жизнь,
вся лежащая на поверхности, внешняя, была для него
полна скуки, плохо скрываемой шумом света. Люди, в
поте лица зарабатывающие себе на жизнь, находят в
своих усилиях лекарство от подобной скуки. Но природа
и судьба заранее уготовили Альфьери эту жизнь: за него
поработали его предки. Он был рожден не для труда,
а для наслаждения, и заложенные в нем громадные воз-
можности, особенно упорный характер, способный побе-
ждать любые препятствия, оставались без применения,
ибо все перед ним склонялось, все было для него легко.
Он несколько раз объездил всю Европу и не нахо-
дил иного удовольствия, кроме самих странствий,
как подобия его внутренней неуспокоенности. Все это
называется рассеянной жизнью — жизнью без цели,
1 Об Альфьери см. статьи 1855 года «Veuillot e la «Mirra», «Janin
е Alfieri», «Janin e la «Mirra» и «Giudizio di Gervinus sopra Alfieri
e Foscolo», опубликованные в «Piemonte», а последняя в «Cimento»,
а также в «Saggi critici» (т. IV, изд. Эйнуади, «La crisi del gusto
romantico»). См. также юношеские лекции в «Teoria e storia», cit.,
t. I, p. 96; t. II, pp. 35—39 и 184—189; «Purismo illuminismo stori-
cismo», cit., t. II и III. О месте Де Санктиса в истории критики
Альфьери см. С. Cappuccio в «Classici» Binni, II, pp. 239—292.
• 31*
483
случайной, в которой среди внешнего шума и дви-
жения остаются недвижными две силы, присущие чело-
веку, — мысль и чувства. Если бы Альфьери был ло-
шадью, то его удовлетворила бы эта непрестанная
езда, как она удовлетворяет многих, которые, однако
же, называют себя людьми. Но он-то чувствовал себя
человеком и испытывал грусть и скуку, сам не зная по-
чему. А причина состояла в том, что, будучи от природы
человеком, бодрым духом и богатым чувствами, он еще
не нашел точки приложения своим способностям. В по-
добной праздности легко возбуждаются страсти, и
Альфьери изведал и любовь и разочарования, которые
казались ему тогда подлинной жизнью. В периоды са-
мой жестокой тоски он жадно накидывался на книги.
Латыни он тогда не понимал вовсе, итальянский
язык — чрезвычайно мало: он говорил по-французски
с десяти лет. Поскольку он читал для времяпрепрово-
ждения, не имея никакого навыка и воспитания, клас-
сический стиль его раздражал, Расин усыплял, и он
однажды выкинул из окна «Галатео» Каза, натолкнув-
шись на первое же «поскольку... следственно»1. Он увле-
кался романами, как подростки увлекаются «Тысячью и
одной ночью». Главное удовольствие для него заключа-
лось в том, чтобы следить за развертыванием событий
в книге и узнать, чем они кончаются; поэтому Ариосто
не нравился ему за отступления, Метастазио он читал,
пропуская ариетты, и не мог одолеть «Генриады» и
«Эмиля» за ту риторику, которая затемняла ему ход
повествования. Однажды, когда он ожидал лошадей в
Савоне, ему попался в руки томик Плутарха. В нем он
1 См. «Vita», эпоха IV, гл. I: «При виде первого же «по-
скольку... следственно», за которым тянется хвост длиннейшего пе-
риода, напыщенного и бесцветного, я так разозлился, что выбросил
книгу из окна, крича как сумасшедший...» О круге чтения Альфьери,
о чем упоминается ниже, см. там же, эпоха II, гл. IV, и эпоха III,
гл. VII. В этой последней главе следует отметить, что, кроме «Ген-
риады» («Я никогда не прочел его «Генриады», разве только в отрыв-
ках»), Альфьери упоминает не «Эмиля», а «Новую Элоизу»: «Я хо-
тел прочесть «Элоизу» Руссо и несколько раз принимался за нее; но,
хотя характер у меня от природы весьма страстный... я нашел
в этой книге столько манерности, изысканное i и, такую аффектацию
чувств и так мало настоящего чувства, столько рассудочного жара
и такой большой сердечный холод, что мне так и не удалось кончить
первого тома».
484
ощутил нечто более, чем простой рассказ, сердце его за-
трепетало, великие образы не привели его в смятение,
а, наоборот, вызвали дух соперничества: «Разве не мог
бы я быть такими, как они?» Возможность такая суще-
ствовала, потому что силы у него были не меньшие.
Однажды ночью, сидя у ложа больной возлюбленной,
он набросал трагедию, которая, будучи позже представ-
лена в Турине, имела большой успех. «Почему бы мне
не быть писателем-трагиком?» На этой мысли он и оста-
новился.
Согласно взглядам того времени, Италия шла впе-
реди всех наций во всех родах литературы, но ей недо-
ставало трагедии. Это было навязчивой идеей Гравины,
таковы были и притязания Метастазио, над этим же ра-
ботали Триссино, Тассо, Маффеи. Но трагедии в Италии
еще не было, и это утверждали все. Дать Италии тра-
гедию показалось Альфьери самой возвышенной целью,
которую мог поставить себе итальянец. Из своих путе-
шествий он привез возвышенный образ Италии, не най-
дя нигде ничего достойного сравнения с Римом, Фло-
ренцией, Венецией, Генуей. Добавьте к этому славу
древнего Рима, память о величии, никогда не превзой-
денном. И хотя Италия в его времена дошла до полного
вырождения, Альфьери твердо верил в будущую Ита-
лию, которую он представлял себе подобной Италии
античной. Для создания этой новой Италии прежде все-
го требовалось переделать человеческую природу, и
Альфьери казалось, что трагедия, избравшая своим
предметом героическое, предназначалась именно для
изображения этого нового человека, образ которого го-
рячил его голову и которым был он сам. Подобные идеи
были характерны для того века, они широко проникали
в умы и были восприняты Альфьери, как и другими. Но
у Альфьери эта идея стала страстью, единственной
целью жизни, и он вложил в нее все свои силы. Он хо-
тел стать спасителем Италии, великим провозвестником
новой эры, если не своими делами, то хотя бы в стихах.
Так Альфьери нашел в жизни достойную цель, которая
предвещала ему славу, возвышала его во мнении дру-
гих людей и в своем собственном.
Цель была чрезвычайно трудной, ибо Альфьери для
достижения ее недоставало слишком много. Но трудно-
сти лишь подстрекали его и делали цель еще более
485
Портрет Альфьери. Работа Фабра.
желанной. Здесь развернулась вся его неукротимая энер-
гия, до тех пор направленная лишь на путешествия и
на лошадей. Чтобы «расфранцузиться» и «отосканить-
ся» 1, он большую часть времени жил в Тоскане, выучил
заново латынь, поставил себе в образец тречентистов,
довольный тем, что он «перестает думать, чтобы начать
мыслить», не расставался с Данте, Петраркой, Ариосто
и Тассо. Он переписывал, делал заметки, переводил,
«погрузился в бездны грамматики» и, поскольку школа
не испортила его, выработал для себя собственный ори-
гинальный стиль. Он писал, как путешествовал, — бегло
и по прямой линии: он был еще в самом начале, а
душой находился уже в конце, проскакивая промежу-
точные пространства. Слово кажется ему не путем, а
препятствием для бега, и он вычеркивает, сокращает,
перестанавливает, укорачивает; каждое лишнее слово
буквально жжет его. Он избегает периодов и парафраз,
описаний и украшений, рулад и кантилен: он полностью
противопоставляет себя Метастазио. Он обращается со
словом так, как будто оно — не звук, и наслаждается
тем, что раздирает тонкие уши итальянцев 2 и издевает-
ся над тем, кто испускает вопли возмущения.
Не возражаю,
Что трудноват:
Пусть попыхтят.
Я темен? Знаю.
Свобода — свет.
Свободы ж нет3.
Любителям Фругони и Метастазио он говорит иро-
нически:
Любовь я буду нежно воспевать:
Как только вас мое достигнет пенье,
1 См. «Vita», эпоха IV, гл. II. Выражение, процитированное не-
сколько ниже, см. там же, гл. I: «В двух словах я скажу, что мне
приходилось целый день не думать, чтобы начать мыслить», и «Я по-
грузился в грамматические бездны, как некогда Курций бросился
в пропасть, вооруженный, глядя в нее».
2 Йерифраза стиха Паринм: «Lacerator di ben costrutti orecchi»,
«II Mattino», 119.
3 Cm. «Rime» p. 1, Эпиграммы, XVIII (изд. Maggini, Firenze
1933, p. 194).
487
Что благозвучным ветеркам под стать,
Вы о своем забудете забвеньи К
Чем казались его стихи читателям и ему самому,
видно из следующей ниже эпиграммы, направленной
против педантов:
Пишу я странно?
Виной — Тоскана.
И слишком сложно?
Ну что ж, мой стих
Не слишком лих.
Все есть, возможно,
В стихах других...
Но мысль — в моих2.
Однако Альфьери, будучи самоучкой, не слишком
уверенным в себе, совещался с Чезаротти, Парини и
всеми теми, что слыли тогда выдающимися авторами. Он
искал образца трагического стиха, и такой образец
блеснул ему в «Оссиане»3. Но он хотел невозможного и
в конце концов избрал наилучший выход, создав свой
стих сам. «Дерзай, оспаривай», — говорил ему Парини
в прекрасном сонете4. Альфьери в поте лица трудился
над своими стихами, выворачивая их на тысячи ладов;
но, «как ни крути, французские они»5; он крутит и вер-
тит еще — и получаются стихи Альфьери во всей их
1 Строки 9—12 сонета «Non pin scomposta il crine, il guardo
orrendo», «Rime», cit., ч. I, сонет LII, pp. 52—53.
2 Ibid., ч. I, Эпиграммы, XXVIII, vv. 11—18, ed. cit., p. 198.
3 Cm. «Vita», эпоха IV, гл. I: «Мои друзья критики посоветовали
мне «Оссиана» в переводе Чезаротти; эти белые стихи мне очень
понравились, поразили и покорили меяя. Мне показалось, что, с не-
большими изменениями, это великолепный образчик для стихотвор-
ного диалога».
4 См. сонет Парини «Tanta gia di coturni altero ingegno» в
«Opere», cit., vol. II, p. 32, vv. 12—14:
Дерзай, увидишь дело рук своих:
Италия венец наденет славный,
Которого ей так недостает.
5 См. «Misogallo», Эпиграмма VIII от 28 марта 1793 года. Сле-
ч\пг-pivu» питату см. в «Satire», VIII, «I pedanti», vv. 25—27:
Звучал для многих грубо этот стих,
Коль скоро я писать стремился остро,
Не допуская трелей никаких.
№
энергичной индивидуальности, «песнь более колючая,
чем округлая».
Это он и называл трагическим стилем. Литератур-
ная форма была пустой и звучной кантиленой; Альфье-
ри противопоставляет ей свой стиль, «мыслящий, а не
поющий» *, энергичный до жесткости и полный смысла.
И этот стиль возникает не из заранее заданной фи-
лософской концепции искусства, а из собственной при-
роды автора; потому-то этот стиль при всей своей сухо-
сти остается живым и оригинальным.
Критики насмехались над стилем Альфьери и хвали-
ли все остальное, как будто бы стиль был произвольным
и изолированным явлением 2. Они не видели теснейшей
связи между этим стилем и всем замыслом сочинения.
Ибо Альфьери, уничтожая периоды, украшения и фра-
зы, с тем же увлечением уничтожает наперсников, лиш-
ние персонажи, эпизоды. Рождается нервная, напряжен-
ная, нередко даже судорожная форма, которая отвечает
его замыслам и чувствам; поэтому эта форма не педант-
ская, а живая и интересная, как искреннее и горячее
выражение души. Если мы хотим понять тайну этой
формы, нужно присмотреться не к тому, как она сде-
лана, а к тому, как она возникла.
Альфьери искал трагедию не в живой жизни, а в
уже написанных трагедиях. Он нашел определения и
правила и принял их без критического рассмотрения.
Для него это было не проблемой, а данностью, исход-
ным пунктом. Проблема заключалась в том, чтобы при
помощи этих определений и правил довести трагедию
до совершенства. Греческую трагедию он знал плохо;
1 «Rime», эпиграмма XXVIII, cit. Ср. выше.
2 Де Санктис имеет здесь в виду известное суждение об Альфье-
ри Шлегеля в его «Лекциях о драматической литературе», cit.
pp. 151 и ел.: «Резкий, неровный стиль Альфьери настолько беден
образными выражениями, что его персонажи кажутся совершенно
лишенными воображения. Он хотел придать своему родному языку
новый склад, но лишь отнял у него изящество и отяжелил его, внеся
резкость и жесткость. У него не только нет чувства гармонии, но
настолько отсутствует слух, что он раздирает нам барабанные пере-
понки самыми невыносимыми диссонансами». См. в этой связи юно-
шеские лекции Де Санктиса о языке и о стиле, где уже в общих
чертах намечено толкование Альфьери как художника («Teoria e
storia», cit., t. I, p. 96, и «Purismo illuminismo storicismo», cit., t. II).
См. также ниже.
489
он читал Сенеку; зато он был хорошо знаком с итальян-
ской и французской трагедией. Но их-то как раз он ува-
жал мало, считая их растянутыми и риторическими,
и претендовал на то, чтобы создать лучшие. Исходя
из того, что трагедия есть изображение героического,
Альфьери замыслил ее как конфликт индивидуальных
сил, где герой подчиняется непреодолимой силе обстоя-
тельств. У Метастазио эта непреодолимая сила сама по
себе героична, милосердна и благодетельна; поэтиче-
ский мир, созданный его музыкальным воображением,—
это улыбка, песнь, гимн, мир уравновешенности и гар-
монии, прославляемый и обожествленный. У Альфьери
непреодолимая сила — это тирания или угнетение, а
жертва их — героизм или свобода; это мир насилия и
варварства, заклейменный и отмеченный огненным зна-
ком. Метастазио завершал один цикл, а Альфьери на-
чинал другой. Современники же спорили о стиле того
и другого, желая стилевого сходства при столь противо-
положных концепциях.
Замыслив трагедию как конфликт индивидуальных
сил, Альфьери оставался в рамках французской траге-
дии. В XVII и XVIII веках, выступая против сверхъесте-
ственного, стремились объяснить историю человечески-
ми и естественными возможностями и изображали как
действие характеров и индивидуальных страстей то, что
античные авторы называли Судьбой, а Данте и весь
христианский мир — законом провидения. Научная кон-
цепция истории родилась в Италии, где судьба и закон
провидения превратились в природу вещей у Макиавел-
ли, в дух — у Бруно, в разум — у Кампанеллы, в рок —
у Вико. Но эта концепция сложилась в высоких сферах
умственного постижения и проявилась очень слабо,
оставшись вне рамок искусства. Шекспир с присущей
ему глубочайшей гениальностью художественно постиг
эти высшие коллективные силы, которые творят судьбу
истории. Но Альфьери был духовно поверхностен, обла-
дал умом более деятельным, нежели размышляющим,
более склонным к быстрому и пылкому изложению, чем
к исследованию глубин. Поэтому он остался в рамках
XVIII века. Трагедия была для него борьбой личностей,
историческая судьба — непреодолимой силой обстоя-
тельств или тиранией, а ключом истории был тиран.
Позже, когда он вдохновился библией, ему явился оза-
490
рением «Саул» и он узрел высший порядок вещей. Но
неумолимый бог остается у него риторической фигурой
и существует больше во мнении и в словах действую-
щих лиц, чем в ходе событий, которые все объясняются
естественным образом. И поскольку без тирана обой-
тись нельзя, то этим тираном является бог, и весь ин-
терес сосредоточивается на Сауле, побуждения которого
бессознательны и определяются скорее лукавством Аб-
нера, чем его собственной хитростью. «Саул» Альфье-
ри — это библия наизнанку, реабилитация Саула, а свя-
щеннослужители нарисованы мрачными красками.
Такая концепция была отрицанием Аркадии, откры-
той и подчеркнутой противоположностью ей. На смену
миру Тассо, Гварини, Марино и Метастазио пришла
уже не академическая и литературная трагедия, какими
были французские и итальянские, но трагедия полити-
ческая и социальная, основывающаяся на той идее, ко-
торая в различных ее аспектах захватила тогда умы
всех писателей. Эта идея состояла в том, что в обществе
господствуют наиболее сильные, а правосудие, доброде-
тель, истина и свобода попраны двойной властью, абсо-
лютной и безответственной, — тиранией государя и ти-
ранией папы, троном и алтарем. Позже Альфьери доба-
вил сюда еще и тиранию народа.
В этом была живая трагедия — трагедия века,
скрывавшаяся под античными названиями, борьба зре-
лой гражданственной мысли против еще варварского
социального порядка, основанного на силе. Но это тра-
гедия чистой мысли, оставшаяся в чисто умозритель-
ных сферах и не ставшая историей. Более того, среди
этих философских волнений общество было еще идилли-
ческим и риторичным, верящим в мирный прогресс, в
согласие между государями и народом. Этому состоя-
нию общества соответствовала философская и академи-
ческая трагедия типа вольтеровской1. Альфьери внес
сюда свою лепту. Трагедия эта — лирическое излияние
его гнева, его ненависти, той бури, которая рокотала
1 О связи между Вольтером и Альфьери и, в частности, о воль-
теровской трагедии см. юношеские лекции об итальянской драме
XVIII века и о всеобщей драматической поэзии («Teoria e storia»,
cit., t. II, соотв. pp. 35—36 и 182—184, а также «Purismo illuminismo
storicismo», cit., t. III).
491
в нем1. Живя в обществе напудренных париков, которые
наслаждались декламацией о тирании и свободе, Аль-
фьери принимает жизнь всерьез и не соглашается жить
без цели, принимает всерьез мораль и строго соразме-
ряет с ней свои действия, принимает всерьез тиранию и
содрогается и бьется в ее тисках, проклиная и угрожая,
принимает всерьез искусство и мечтает о совершенстве.
Его идеи — это его чувства; его принципы — это его
действия. Новый человек, которого он ощущает в себе,
обладает горделивым сознанием собственного одиноко-
го величия, создает себе пьедестал из этого одиночества
и поднимается на него, распрямляя плечи и подняв го-
лову, словно идеальная статуя будущего итальянца,
«пример свободного человека» 2.
Настанет день, вернется день такой,
Когда от сна италы пробудятся
И смело в бой пойдут...
Они возьмут былую доблесть в бой
И под мои стихи пойдут сражаться,
И снова песни старые мои
Негаснущим огнем воспламенятся.
Услышу я: певец, ты был рожден
В суровый век, но в песнях предсказал ты
Приход великих — нынешних — времен»3.
Таким образом, в трагедии Альфьери есть тот жиз-
ненный дух, который создает ситуации, воспламеняет
чувства, выковывает идеи, заполняет своим жаром весь
окружающий мир. В этой трагедии есть новый человек,
одинокий, презирающий своих современников и, однако,
внушающий им уважение, вызывающий их внимание
и сочувствие. И хотя этот новый человек еще не господ-
ствует ни в нравах, ни в характерах, он все же заявил
о себе всей культуре и был жив в умах; дух Альфьери
родствен духу века. Но почему же тогда Альфьери чув-
ствует себя одиноким? Почему он враждебно смотрит
на свой век? Дело в том, что новый человек был в нем
1 Здесь слышится отзвук стиха Фосколо: «Тот дух воинствен-
ный, что во мне рокочет» (сонет «Alia sera», 14).
2. Цитируются заключительные слова сонета «Gia il feretro e la
Lapida e la vita», полностью приведенные на ел. стр. См. «Rime»,
cit., II, LXIX, p. 256.
3 «Misogallo», «Заключение», vv. 1—3, 5—8, 12—14
492
самом чистейшим образцом, воплотился в его могучей
индивидуальности, стал не только его идеей, но его
жизнью, всей его душой; и при этом он видит, что на
практике этого нового человека оскорбляют, ему проти-
воречат те самые люди, которые прославляли его на
словах. Поэтому Альфьери испытывает чувство презре-
ния, быть может еще более сильное по отношению к де-
мократам, «дельцам свободы», чем по отношению к ко-
ролям, папам и священникам, и избегает их общества —
«не запятнав ни речи, ни слуха и ни взгляда»:
Не их дела словам моим созвучны К
И умирает Альфьери в печали, проклиная общество
и уповая на потомков:
Но нет, не будет тень моя немой,
И после мне отпущенного века
Тиранов пусть бичует голос мой.
Конец предвижу скорый власти некой;
Не современник мой, мне был другой
Свободного примером человека 2.
Он сочувствует Людовику XVI и возмущается На-
циональным собранием, этими «надушенными варвара-
ми», которые лопочут «чужие мысли о, свободе»3, этими
удачливыми разбойниками, которым он адресует свою
последнюю стрелу в «Мизогалле»:
Путь на небо прегражден
Злодеям, путь к Альфьери — доброхотам.
Таким образом, Альфьери остается в одиночестве,
храня в себе цельным и нерушимым свой образец, и
если небеса осуждают его за это, то он со своей сто-
роны обвиняет в этом небеса. Человек от природы
1 «Misogallo», сонет XXX, «Тга i Galli schiavi e in schiavitu gau-
denti», 11.
2 Ibid., сонет «Gia il feretro e la Lapida e la vita», vv. 9—14.
3 Ibid., сонет XXX, vv 5—8:
Я слышал их благие рассужденья
С чужого голоса насчет свобод
И видел этот расфранченный сброд,
Несущий рабство, смерть, опустошенье.
Стих, ниже цитированный, заключает «Misogallo».
493
i
молчаливый и меланхоличный, отошедший от общества и
еще более замкнувшийся в себе, он остается наедине со
своим образцом в туманном и беспредельном мире
чувств и фантазий, в котором конкретна и закончена
только его собственная личность. Поэтому создания его
фантазии более схожи с логическими концепциями, чем
с реальностью, это скорее роды и виды, чем личности.
Это, однако, не абстракции, как их иногда назы-
вают1. Разве пустые абстракции могли бы вызывать
столь живой интерес? Это создания страстные, бурные,
полнокровные; в них нет пустоты, в них ощущается при-
лив крови, но не собственной, не прирожденной, а пере-
литой в их жилы. В трагедии чувствуется одиночество
человека, который воюет сам с собой и создает свою
собственную сущность. Он не любит ничего, что являет-
ся по отношению к нему внешним миром, — природу,
местность, чужую личность, — не понимает ее, не пере-
носит и совершает над ней насилие, оставляя на этом
внешнем мире свой личный отпечаток. Однако огня этой
мощной индивидуальности недостаточно для того, чтобы
вспыхнула жизнь, и он неспособен к оплодотворению,
ибо у него нет любви, этой потребности быть вдвоем,
искать себя в другом и в нем забыть себя. Это — бесси-
лие из-за избытка активности; оно отнимает у него спо-
собность воспринимать впечатления и воспроизводить
их. Взор, омраченный страстью, вглядывается в окру-
жающее, но не воспринимает внешних предметов. Аль-
фьери— это воплощенная страсть; можно было бы
сказать, что он хочет в едином порыве извергнуть тот
1 См. Шлегель в цит. выше лекциях: «Он (Альфьери) изобра-
жает человеческую природу в совершенно единообразной форме. Его
персонажи едва вырисовываются из простых абстракций, он грубо
накладывает белый и черный цвет рядом один с другим». См. в этой
связи юношеские лекции Де Санктиса о драматической поэзии
(«Teoria estoria», cit., t. II, p. 185, и «Purismo illuminismo storicismo»,
cit., t. II): «Некоторые отрицают поэтическую силу Альфьери, считая
его слишком абсолютным и слишком абстрактным. Для того чтобы
идея жила и существовала, говорят они, она должна сообразоваться
с временем и местом; и когда условия и характеры оторваны от
определяющих факторов, то это абстракция, а не поэзия. Но в дан-
ном случае слову «жизнь» не придается точного значения; это поня-
тие мы не осмелимся определить, как на то не осмелился и Гегель,
и ограничимся напоминанием, что прекрасное — вещь, которую мы
чувствуем, а не познаем, — проявляется не иначе, как в своих воз-
действиях».
494
вулкан, кфторый пылает в его груди. Он лишен терпения
и покоя художника, той божественной улыбки, с которой
творец наблюдает за всеми движениями своего созда-
ния К То неистовство, которым он гордится, — это неис-
товство Ореста, которое омрачает ему взор настолько,
что, оттолкнув любовника, он убивает мать2; из-за это-
го неистовства он смешивает краски, едва намечает об-
разы, слишком заостряет чувства, придает всему изо-
бражаемому нервность и напряжение. Отсюда же про-
истекает и композиция и стиль Альфьери, обходящегося
без оттенков и градаций, отсюда эта излишняя рельеф-
ность и это умение сказать многое в немногих словах,
эти усечения и распаленность, это бурное сокращение
жизни, этот темный и бесцветный фон природы, эти на-
пряженные ситуации, эти едва очерченные персонажи,
которые чем больше рычат, тем меньше их понимаешь.
Альфьери смутно чувствовал это, когда писал:
Я уважал науку, тем не мене
К науке в сердце холодность хранил:
Я пел любовь, свободу, гнев, отмщенье
И значит — ненавидел и любил3.
Так это и есть. Трагедия Альфьери трепещет гневом,
мщением, свободой, любовью. Но трепетать и рычать
еще недостаточно, и не права аттическая богиня, когда
говорит ему: «Иль спи, или твори»; творить дано не
тому, кто спит, а кто изучает и размышляет. Для этого
недостаточно переполненного сердца и «нагого рассуд-
ка». Альфери не хватает жизненной науки, того спо-
койного и углубленного взгляда, который проникает
1 В рукописи далее вычеркнуто: «...улыбки, с которой он осязает,
ласкает, созерцает свое создание». Более подробный анализ героев
Альфьери см. в цит. лекциях о драматической поэзии («Teoria e
storia», cit., t. II, pp. 186—187, и «Purismo illuminismo storicismo»,
cit., t. III). См. также статью «La poetica del Manzoni» в «Manzoni»,
в t. X, изд. Эйнауди, pp. 23 и ел.
2 См. «Oreste», акт V» последняя сцена.
3 Сонет «Tardi or me punge del Saper Га brama», vv. 5—8, см.
«Rime», cit., часть II, XXVII, p. 227. Об образах, упоминающихся
ниже, см. тот же сонет, vv. 9—14:
Полуугас, и все-таки доныне
Во мне горит противоречья дух
И разум повергает мой в унынье,
Но гневные слова тревожат слух, —
Я слышу глас аттической Богини:
— Иль спи, или твори! Одно из двух!
495
в тайны жизни и дает познать всю ее гармонию! Поэтому
возбужденное воображение создает острые | моменты,
сгущает события и образы, которые кажутся ^молниями
на пустом и бескрасочном небосклоне. Таковы, напри-
мер, знаменитые изречения: «Мир!» Нерона1, «Избе-
решь ли ты? — Я выбрал», «Живи, Эмон, таков приказ»,
«Я был отцом»2 и «Здесь все мятежны, и все, однако,
подчинятся». Это стиль в духе Тацита и Макиавелли,
однако несколько показной, в нем обнаруживается ис-
кусственность; это жизнь во взлетах и сверканьях, раз-
вертывающаяся более в диалоге, чем в действии, и, не-
смотря на краткость формы, зачастую растянутая и топ-
чущаяся на месте. Резкие острые чувства сменяются
без перерывов и переходов, накапливаются, но рассу-
дочное напряжение длится недолго и разрешается ба-
нально, хило. Понятно поэтому, что композиция, не-
смотря на весь этот жар, остается в целом холодной и
однообразной, ибо при всей деланной экзальтации диа-
лога ощущается пустота и в этом потоке достопамятных
изречений не запоминается ни один персонаж, будь то
мужчина или женщина. Ни один из них не стал жизнен-
ным. А это самый большой недостаток героев Альфьери,
особенно в тех редких случаях, когда сила на их сто-
роне и они побеждают. Их героические качества, рели-
гия, родина, свобода, любовь прославляются в общих
фразах, но никак не ощущаются в их деятельности и в
их душевной жизни. Есть патриотизм, но нет родины;
есть любовь, но нет влюбленного; есть свобода, но нет
человека. Эти герои кажутся скорее олицетворениями,
чем личностями в их противоречиях, сменах чувств и
богатстве их натуры. Таковы Карл и Изабелла, Давид
и Ионафан, Ициллий и Виргинии, все эти Бруты, Аги-
дии, Тимолеоны. Добродетель лишена всякой простоты
и скромности, и при всей взволнованности и экспрессии
ощущаешь бедность содержания. Более живо изображе-
ны тираны или преступники, на которых Альфьери из-
лил, всю свою желчность; ненависть делает его глубо-
1 См. «Ottavia», акт I, сцена I. Далее следуют цитаты из «Anti-
gone», акт IV, сцена I, и акт III, сцена III.
2 Так в рукописи и в издании Морано: здесь слиты в одну две
реплики драмы: «О смилуйся! Ведь ты отец. — Я был им» («Don
Garzia», акт V, сцена IV). Сл. цитата взята из «Antigone», акт IV,
сцена VI.
496
ким. Одним из персонажей, наиболее презираемых авто-
ром и наиболее интересных по богатству и глубине вы-
полнения, \является Эгист из «Агамемнона»; та сцена,
где злодей' с такой ловкостью наводит Клитемнестру на
мысль об убийстве, достойна Шекспира К
Альфьери — новый человек в классических одеждах.
Патриотизм, свобода, достоинство, непоколебимость,
нравственность, сознание права, чувство долга — весь
этот внутренний мир, окутанный мраком и в итальян-
ской жизни и в итальянском искусстве, — возникают у
него не из живого сознания современного мира, а в ре-
зультате изучения античности, в соединении с его соб-
ственным железным характером. Его будущая Ита-
лия — это античная Италия в ее мощи и славе; как он
выражается: «То, что будет, есть то, что было». Пробу-
дить в итальянцах «древнюю добродетель», превратить
свои песни в «острые шпоры»2 для новых поколений,
чтобы те стали достойными древнего Рима, — таков ли-
рический мотив Альфьери, роднящий его с Данте и Пет-
раркой. Высокие побуждения, вдохновлявшие патрио-
тизм обоих великих тосканцев, ставшие постепенно
риторическим старьем и положенные на музыку Мета-
стазио, вновь приобретают всю свою серьезность в но-
вом человеке, который формировался в Италии и пре-
увеличенным выражением которого в эпических пропор-
циях был Альфьери.
Дело в том, что Альфьери, воплотив тип Макиавел-
ли, воспитал в себе политический дух; родина была его
законом, нация — его богом, свобода — его доброде-
телью. Это были идеи, бедные содержанием, но по фор-
мам безграничные, свободные, колоссальные, какими
бывают все еще не определившиеся устремления, кото-
рые не конкретизировались при столкновении с практи-
ческой жизнью. Если бы Альфьери изобразил неизбеж-
ный трагизм столкновения этих устремлений с действи-
тельностью, отсюда возник бы высокий пафос, подлин-
ный мотив трагедии нового времени. Но подобная воз-
вышенная концепция мира еще не созрела, и в соответ-
1 См. «Agamennone», акт IV, сцена I. О характере Эгиста
в трагедии см. цит. лекции о драматической поэзии («Teoria e sto-
ria», cit., t. II, p. 187, и «Purismo illuminismo storicismo», cit., t. III).
2 См. заключительный сонет «Мизогалла»; «Giorno verra», уже
цит. несколько выше.
32 Де Санктис
497
ствии со своим веком Альфьери увидел во /всей этой
действительности только ее наиболее грубый феномен —
непреодолимую силу, или тирана; этот феномен он не
изучает и не понимает, но ненавидит его, как жертва
ненавидит палача, той жестокой якобинской ненавистью,
которая, не умея понять и побороть препятствия, разру-
бает узел мечом. Альфьери ненавидел якобинцев, но
сам был Робеспьером поэзии, и если бы якобинцы про-
чли его трагедии, то могли бы сказать ему: «Маэстро,
мы учились у вас». Человек, который прославлял перво-
го Брута, убийцу своих детей, и другого Брута, убийцу
своего отца, Цезаря, человек, который нашел лишь сло-
ва презрения для Карла I, жертвы английских респуб-
ликанцев, не мог возражать тем, кто отрубил голову
Людовику XVI.
Поскольку коллективные и общественные силы све-
дены у Альфьери к силе и произволу одной личности, то
естественно, что личность в его трагедиях приобрела
эпические и колоссальные размеры под именем тирана
и ненависть к нему была пропорциональна этим разме-
рам. Но в этом случае трагедия, ставшая состязанием
индивидуальных сил при устранении всяких коллектив-
ных и высших элементов, могла иметь своей основой
лишь художественное отражение личности. Однако же
наш трагик больше заботится о тех идеях, которые он
вкладывает в уста своих героев, чем об их душевном
мире и их индивидуальности. Политическое и мораль-
ное содержание в этих трагедиях является не просто по-
буждением и поводом для художественного выражения,
но превращается в субстанцию, заполняет и портит про-
изведение искусства. Это явление я уже отмечал как ха-
рактерное для новой литературы. Содержание утрачи-
вает свое многовековое безразличие и становится внеш-
ним и высшим началом в искусстве, превращая его как
бы в свое орудие, в средство распространения этого со-
держания и разжигания страстей, так чтобы стихи были
«острыми шпорами». Политическое чувство слишком
сильно, и оно препятствует спокойному и объективному
созерцанию. Чем сильнее оно в Альфьери, тем менее оно
допускает эстетическое наслаждение. Поэтому концеп-
ции, чувства и краски в его трагедиях грубоваты и не-
гармоничны; уделяя слишком много внимания содер-
жанию, Альфьери слишком многое отнимает у формы.
498
Это новая)литература в самом крайнем преувеличении
своих качеств, более схожая с резкой реакцией против
прошлого, чем со спокойным самоутверждением, кото-
рое, довольствуясь иронией без желчности, столь благо-
родно являет себя у Парини. В иронии Парини новый
мир выказывается с уверенным самообладанием. В сар-
казме Альфьери слышится рычание недалеких револю-
ций. Но именно эти крайности и это неистовство были
необходимы, чтобы нанести удар пустому и закостене-
лому воображению К
Воздействие трагедии Альфьери соответствовало на-
мерениям автора. Она воспламенила политические и
патриотические чувства, ускорила образование нацио-
нального сознания, вернула серьезность внутреннего
мира в жизни и в искусстве. Эпиграммы и сентенции
Альфьери, его остроты, его тирады вошли в пословицу,
стали частью общественного воспитания. Ораторство-
вать против тирании во имя свободы вошло в моду; сна-
чала это было невинным развлечением, а позже, когда
атмосфера сгустилась, превратилось в политическую де-
монстрацию, полную актуальных намеков.
Аплодируя в театре тирадам Альфьери, современни-
ки не считали, что эти изречения к чему-то обязывают
совесть, и находили автора, который в это верил,
эксцентричным чудаком. Преувеличениям они не уди-
влялись, ибо крайности и преувеличения уже давно ста-
ли болезнью итальянского духа, утратившего чувство
реальности и меры. Но для новых поколений, пережив-
ших разочарования и столкнувшихся с преградами на
своем пути, эти трагические идеалы, столь туманные и
вместе с тем столь страстные, соответствовали состоя-
нию умов, и эти стихи, трепещущие и острые, как кин-
жал, эти сентенции, сжатые, как катехизис, сыграли не-
малую роль в формировании сознания и характера.
Слава Альфьери росла вместе с его влиянием, и очень
скоро Италии показалось, что она наконец обрела свое-
го трагика, равного самым великим. По мнению литера-
торов, у Альфьери была трагедия, но еще не было
трагического стиха. Им требовалось нечто среднее
между резкостью Альфьери и напевностью Метастазио.
1 См. в этой связи упоминания трагедий Альфьери в цит. статье
:La poetica del Manzoni», t. X, изд. Эйнауди, р. 25.
32*
499
И когда был представлен «Аристодем» *, проблема пока-
залась разрешенной. В этой трагедии увидели дантов-
скую гордость и вергилиевскую мягкость, «от Данте —
сердце, от вожатого его — песнь»2. И действительно, в
Винченцо Монти было что-то от Данте и от Вергилия.
Данте у него был в воображении, а Вергилий звучал в
ушах3.
19. Аббат Монти, родившийся среди такого кипения
идей, находился под их воздействием, как и все образо-
ванные люди. Но эти воздействия были в нем скорее
данью моде, чем плодом пылких убеждений. Он всегда
был либералом. Но как не быть либералом в те време-
на, когда даже отсталые вопияли о свободе, разумеется
о подлинной свободе, как они выражались? И во имя
свободы Монти славил все правления. Когда существо-
вала невинная мода ораторствовать против тирана, то
он поставил в театре «Аристодема», который произвел
фурор, прямо на глазах у папы. Когда французская ре-
волюция запятнала себя кровью, он во имя свободы вы-
ступил против разнузданности и написал «Басвиллиа-
ну». Но песнь замерла у него на устах после побед На-
полеона, и тогда во имя свободы он воспел Наполеона,
1 Трагедия Монти, изданная Бодони в 1786 году, была сыграна
сначала в Парме и вскоре, 16 января 1787 года, в Риме в театре
Балле. О Монти — «могучей фантазии без тени чувства», — стоящем
между древней и новой итальянской лирикой, см. юношеские лекции
о литературных жанрах в «Teoria e storia»,, cit., t. I, pp. 163—166, и
«Purismo illuminismo storicismo», cit., t. II. Более резкое и суровое
суждение об искусстве Монти содержится в статье 1855 года «Sulla
Mitologia, sermone di V. Monti», вошедшей позже в «Saggi critici»;
см. «La crisi del gusto romantico», t. IV, изд. Эйнауди.
2 Строка взята из знаменитого четверостишия «Salve, о, divino,
a cui largi natura», продиктованного Мандзони в 1828 году. Приво-
дим точный текст цитаты: «il cor di Dante e del suo duca il canto».
3 Это — перифраза знаменитого суждения Леопарди о Монти
(«Он поэт по слуху и воображению, но ни в коей мере не поэт
сердца»; «Zibaldone» ed. Mondadori, 1, p. 55). Критическая оценка,
развернутая на последующих страницах, позволяет предположить,
что Де Санктис был знаком с этой работой молодого Леопарди.
Действительно, отрывок из «Zibaldone» был опубликован Эмилио
Теза в статье в «Rivista italiana di scienze, lettere ed. arti, colle
effemeridi ,della Pubblica Istruzione», IV (1863), p. 406, а затем в ка-
честве приложения к «Le operette morali di G. Leopardi» a cura di
G. Chiarini (Livorno 1870), p. 516. Об истории критической оценки
поэзии Винченцо Монти см. L. F о n t a n а в «Ciassici italiani» Binni,
II, pp. 295—326 и С. Muscetta «V. Monti» в «Letteratura italiana»
(Milano 1957), pp. 733 и ел.
500
а позже, опять-таки во имя свободы, воспел и австрий-
ское правительство. Сентенции были одни и те же, гиб-
кий ум прилагал их ко всем случаям. Поэт делал то же,
что и дипломаты. Это были идеи эпохи, и их можно
Винченцо Монти.
было обратить на любые события. Стихи Монти всегда
говорят о свободе, справедливости, родине, добродете-
ли, Италии. И это вовсе не лицемерие. Монти был ода-
рен живым воображением, которое придает идеям
форму и пылкость, так что они создают иллюзии для
него самого и кажутся действительностью. Монти не
501
обладал ни независимостью от общества, свойственной
Альфьери, ни нравственным мужеством Парини; это
был добряк, которому хотелось примирить старые и но-
вые идеи и все мнения; поставленный перед необходи-
мостью выбора, он всегда брал сторону большинства, и
ему вовсе не нравилась роль мученика. Поэтому он был
рупором господствующего мнения, поэтом верного успе-
ха. Благожелательный, умеренный, искренний, хороший
друг, придворный более по необходимости и по вялости
души, чем по хитрости или испорченности нрава, он мог
бы стать поэтом, если бы изобразил себя таким, каким
он был в натуре. Гораций интересен потому, что он ри-
сует себя таким, каков он есть, — скептиком, циником,
трусом, предусмотрительным патриотом, эпикурейцем.
Монти холоден потому, что под великолепием Ахилла
чувствуется ничтожность Терсита, и чем больше он воз-
вышает голос и принимает дантовские позы, тем холод-
нее становится читатель. Его фальшивый героизм, цели-
ком состоящий из фраз и образов, — традиционное ка-
чество литературы, излюбленное вялым народом, с раз-
витым, богатым воображением, народом великих идей
и мелкого характера. Монти был воплощением такого
героизма, и никому не рукоплескали более, чем ему.
Природа наделила его самыми высокими качествами
художника — силой, грацией, чувством, гармонично-
стью, легкостью, блеском выражения. Добавьте к этому
великолепное техническое мастерство, абсолютное вла-
дение языком и поэтическим красноречием. Но все это
были бесплодные силы, мощный механизм, лишенный
импульса. Отсутствовало серьезное содержание, глубо-
ко продуманное и прочувствованное, отсутствовал ха-
рактер, который и является нравственным импульсом.
Однако же его сочинения, в особенности перевод «Илиа-
ды», всегда будут полезны, чтобы изучать тайны искус-
ства и тонкости красноречия. А после такого изучения
приходишь к выводу, что недостаточно быть артистом,
когда отсутствует поэт.
Монти, как и Метастазио, обожествляли при жизни.
Он завоевал почести, титулы, влияние, у него было мно-
го последователей. Столь артистичный народ, как
итальянцы, восхищался его хладнокровным мастер-
ством, легкостью и гармоничностью. После своей смерти
он заслужил похвалы Алессандро Мандзони и Пьетро
502
Джордани 1. На фоне ожесточенных нападок эти похва-
лы особенно дороги, как панихида о человеке, который
более заслуживает сочувствия, нежели осмеяния.
20. Когда была создана Цизальпинская республика,
в первом упоении свободы на Монти напали за его
«Басвиллиану» с таким же неистовством, с каким ранее
ему аплодировали. Тогда один юноша написал его апо-
логию2. Этот смелый поступок понравился. И юноша
вступил в жизнь в атмосфере уважения и благосклонно-
сти публики. Я имею в виду Уго Фосколо, сложившегося
в школе Плутарха, Данте и Альфьери.
В это время Италию по обыкновению оспаривали
между собой французы и немцы. История повторялась,
но с иными побудительными причинами. Дело шло уже
не о территориальных правах. Жажда господства и
влияния прикрывалась более благородными мотивами.
Борьба велась во имя современных идей. Одни провоз-
глашали свободу и национальную независимость; за их
штыками стояли Вольтер и Руссо. Другие, объявив себя
сначала защитниками папы и восстановителями старо-
го, в конце концов стали сулить истинную свободу и
истинную независимость. Идеи маршировали вместе с
солдатами и проникали в самые бедные слои общества.
Пропаганда под гром пушек совершила за несколько
лет то, на что потребовался бы целый век. Итальянский
народ был потрясен этим в самых сокровенных тайни-
ках своей души: возникли новые интересы, новые по-
требности, новые нравы и обычаи. И когда после
1815 года все как будто бы вернулось к прежним поряд-
1 См. у Мандзони уже цитировавшееся четверостишие: «Salve,
о divino» и Джордани «II ritratto di Vincenzo Monti» (1830);
в «бреге» ed. Gussalli, vol. XI, pp. 231—233. По поводу этого сочи-
нения как образца литературной биографии см. юношеские лекции
о литературных жанрах («Teoria e storia», cit., t. II, p. 23, и «Pu-
rismo illuminismo stoicismo», t. III).
2 «L'Esame su le accuse contro V. Monti» (1798) у Foscolo,
«Opere», cit., V, «Prose politiche», pp. 17 и ел. Об Уго Фосколо, кроме
юношеских лекций об «Ортисе» («Teoria e storia», cit., t. II, pp.249—
251, и «Purismo illuminismo storicismo», cit., t. Ill), см. также две
статьи 1855 года: «Storia del secolo XIX di G. Gervinus» и «Giudizio di
Gervinus sopra Alfieri e Foscolo», опубликованные в «Saggi critici»
и в т. IV изд. Эйнауди, а также статью о Фосколо, опубликован-
ную в «Новой Антологии» в июне 1871 года и частично включенную
в данную главу. Ср. «L'arte, la scienza e la vita», cit. О критике
Фосколо см.: W. В i n n i, «Classici italiani», cit., II, pp. 329—392.
503
кям, то под этими старыми покровами кипел народ, глу-
бочайшим образом изменившийся под влиянием нового
духа, народ, у которого, как у вулкана, происходили
время от времени извержения, пока он не был удовле-
творен.
Эти великие события застали Италию незрелой и не-
подготовленной. Национальный дух еще не выработал-
ся, еще не сложилась новая личность, не оыло само-
сознания и самообладания. Солнце осветило пока лишь
самые высокие горы. В самой среде буржуазии, которая
была наиболее культурно развитым классом, существо-
вала путаница старых и новых идей, не было ничего
ясного и определенного, смелость и утопия сочетались
с предрассудками и варварством. Не происходило та-
ких событий, которые подстрекнули бы страсти и сфор-
мировали характеры. Лишенные собственной инициати-
вы, итальянцы сначала ожидали всего от государей, а
затем — от иностранцев. Став свободными и республи-
канцами не в силу, собственных заслуг, они последовали
за своими освободителями, словно клика, существую-
щая для того, чтобы аплодировать и служить свитой
великодушному господину. Когда же медовый месяц
окончился, господин оказался капризным и принял позу
завоевателя и захватчика, а итальянцы стали испускать
негодующие вопли и началось разочарование.
Важнейшими центрами этих событий были Неаполь
и Милан, где наиболее живо проявились новые идеи.
Неаполь, ставший республикой и вскоре после того пре-
доставленный самому себе, пережил свою эпопею за не-
сколько месяцев. Блаженны Пагано, Чирилло, Конфор-
ти, Мантоне, которых эшафот окружил ореолом бес-
смертия! Их смерть значила больше, чем книги, и она
оставила в королевстве такую память и такие стремле-
ния, которых никогда более нельзя было искоренить.
Некоторые патриоты, спасшиеся от побоища, укрылись
в Милане, и среди них был Куоко, который рассказал
о славе и заблуждениях недолговечной республики с
острой проницательностью, основанной на политическом
опыте1.
1 Де Санктис не уделяет в своих сочинениях специального вни-
мания самому Куоко и его «Saggio sulla rivoluzione napoletana del
1799» (Milano 1801 и 1806). Это единственное его высказывание
об историке из Молизе.
504
Милан стал местом собрания наиболее знаменитых
патриотов. К этому времени уже умерли Метастазио и
Гольдони, Филанджиери и Беккариа. Беттинелли, как
Нестор, пережил самого себя. Альфьери, который в пер-
вом порыве энтузиазма воспел освобождение Америки
и взятие Бастилии *, увидев крайности революции, из-
лил свое негодование и жажду мщения в «Мизогалле»,
язвительный юмор — в «Сатирах», а затем, недоволь-
ный событиями, ушел, как и Парини, в античный мир,
в изучение греческого языка и закончил жизнь сарка-
стической улыбкой своих печальных комедий. Чезарот-
ти, почивший на лаврах, расточал с кафедры официаль-
ные похвалы и писал банальные стихотворные панеги-
рики. Пьетро Верри, занявший официальную должность,
подготовлял проекты реформ, не слишком надеясь на
их осуществление. Старое поколение уходило под звуки
лирических поэм Винченцо Монти, профессора, кавале-
ра орденов, придворного поэта. Республиканцы в Неа-
поле и в Милане облачились в ливреи королевских при-
дворных. Не слышалось ничьего гордого голоса, кото-
рый напомнил бы о страданиях, разочарованиях и по-
зоре среди пышных празднеств и бряцания оружия 2.
И тут появились «Письма Якопо Ортиса». Это был
первый вопль разочарования, он донесся с берегов ве-
нецианского залива, как мрачная прелюдия более об-
ширной трагедии. Молодой автор начал, как Альфьери:
он предался лиризму нечаянной свободы. Но почти в то
самое время, когда он воспевал героя — освободителя Ве-
неции, этот герой, превратившийся в предателя, продал
Венецию Австрии3. Буквально в один день Уго Фосколо
утратил родину, семью, утратил свои иллюзии и ока-
зался скитальцем. Он до конца излил душу в своем
«Якопо Ортисе».
1 См. пять од «L'America libera», сочиненных с 8 по 10 июня
1783 года, и оду «Parigi sbastigliato», продиктованную между
17 июля и 5 августа 1789 года.
2 В рукописи далее вычеркнуто: «Едва выделялась из этого
концерта, нарушая его, нежная меланхолия Ипполито Пиндемонте».
3 О юношеских произведениях Фосколо см. начало цит. статьи
1871 года. Ода Фосколо «A Bonaparte liberatore» написана в 1797 году,
в тот же год, когда был заключен Кампоформийский мир. Термин
«герой», прилагаемый к Бонапарту, перекликается с «молодым ге-
роем» в «Ортисе» (письмо от 17 марта 1798 года).
505
Сущность книги — это крик Брута: «О добродетель,
ты лишь имя пустое!» Иллюзии Ортиса, как осенние
листья, опадают одна за другой, и их гибель — это его
собственная гибель, это самоубийство. На столь корот-
ком расстоянии отстоят друг от друга безграничный
идеал Альфьери, полный веры, и погибший идеал Фос-
коло, полный отчаяния. Мы еще находимся в юноше-
ском периоде, где нет пределов: беспредельны надежды,
беспредельно отчаяние. Родина, свобода, Италия, до-
бродетель, справедливость, слава, наука, любовь — весь
этот внутренний мир после столь долгого и болезненно-
го вынашивания блекнет, едва успев расцвести. Ис-
тина — иллюзия, прогресс — ложь. Первая улыбка судь-
бы породила безумие надежд, первое разочарование
привело к безумию отчаяния. Этот внезапный переход
чувств от одной крайности к другой при первом же
столкновении с реальностью свидетельствует о том, ка-
кая путаница абстрактных идей существовала в Ита-
лии — идей, почерпнутых из книг и оставшихся голов-
ными, не соединившихся с опытом и не сформировав-
ших настоящих характеров. В «Якопо Ортисе» мы
находим болезненные чувства *, скорее юношеский и-по-
верхностный взрыв, нежели зрелое выражение мира,
выношенного и обдуманного; это скорее склонность к
абстрактному размышлению, чем к художественному
произведению; воображение бедно и монотонно, не-
смотря на экзальтацию чувств.
Горестный крик Якопо остался неуслышанным в
шуме событий. Возникли новые надежды, создались но-
вые иллюзии2. Вышедший анонимно роман Фосколо
подвергся искажениям, в него были внесены вставки,
продиктованные выгодой книготорговли; он возбудил
любопытство женщин и молодежи, которые выуживали
оттуда любовную фразеологию. Но ему не придали ни
политического, ни литературного значения, а многие,
введенные в заблуждение поверхностным сходством,
1 В рукописи «болезненное чувство школьника».
2 В рукописи вычеркнуто: «Сам Фосколо, утратив желание уме-
реть, бросился в гущу итальянской жизни и стал солдатом того,
кто продал его родину, но кто спас Цизальпинскую республику.
Однако ни к какому внутреннему согласию Фосколо не при-
шел».
506
сочли роман подражанием «Вертеру» *. Это объяснялось
тем, что роман Фосколо не соответствовал обществен-
ному мнению, которое было отвлечено быстрой сменой
событий, и отчаяние Ортиса противоречило возникшим
новым надеждам.
Фосколо также был увлечен событиями итальянской
жизни и ощутил гордость за свою новую родину — ро-
дину Данте и Альфьери. Его преследовали жизненные
невзгоды, но в еще большей мере тот «воинственный
дух», который кипел в нем2 и не находил себе выхода,
как беспокойная сила, томящаяся в праздности. Моло-
дой, полный иллюзий, страстный, с такой «жаждой сла-
вы»3, с такой внутренней гордостью, с таким, стремле-
нием к великим свершениям, он, воспитанный на Плу-
тархе, побуждаемый Альфьери, томится душою в этой
вынужденной праздности и уходит в себя. Эту болезнь
он в своем «Ортисе» с энергией, полной искренности,
называет «расточением души»4. Он живет в Милане,
недовольный, раздраженный; то он нелюдим, фантази-
рует, пишет стихи о себе, то бросается в игру, ухажи-
вает за женщинами, ссорится и спорит. В его уме мель-
кает мысль о самоубийстве, а ему всего лишь 20 лет:
Я более не тот: осталось в нас
Живого лишь томление и слезы 5.
В этой болезненной тоске он смягчается, думает о
матери, о брате, о своей далекой Джачинте, не без
вспышек, которые свидетельствуют об энергии и силе,
подавленной, но не укрощенной. Альфьери в 20 лет да-
вал себе исход, путешествуя по Европе, Фосколо нахо-
дит выход в стихах. Его лирические излияния — это его
собственная история с 16 до 20 лет. В этих стихах вновь
появляется нежная и меланхолическая интимность, о
которой Италия давно забыла. Эта мягкость идет у него
1 О связи «Ортиса» («Ortis») с романом Гёте см. цит. статью,
а также упомянутые юношеские лекции («Teoria e storia», cit., t. I,
pp. 249 и ел., и «Purismo illuminismo storicismo», t. II).
2 См. сонет «Alia sera», v. 14.
3 См. сонет «Di se stesso» (1802), см. также в «Ортисе» слова,
вложенные в уста Парини: «Forse questo tuo furore di gloria potrebbe
trarti a difficili imprese» (письмо от 4 декабря 1798 года).
4 F о s с о 1 о, Ultime lettere di Jacopo Ortis, письмо от 19—20
февраля 1799 года.
6 Соне г «Di se stesso», vv. 1—2.
507
Уго Фосколо. (Ф. X. Фабр, Флоренция, галерея Уффици.)
не только от Петрарки, но от родной земли и от вос-
приятия греков, от «эолийских струн, соединенных со
строгой итальянской цитрой» К Вот стихи, являющиеся
прелюдией к поэзии Джакомо Леопарди:
Земля родная, только слезы сына
Получишь ты: волшебник предсказал
Могилы нам, омытые слезами 2.
Жизненная практика излечила Фосколо. Как солдат
республики он сражался при Ченто, Треббии, при Нови,
в Генуе. Военная служба вернула ему интерес к жизни.
В одах «К Луиджии Паллавичини» и «К выздоровев-
шей подруге» мы находим музыкальный и сладостраст-
ный мир; излечившаяся и радостная душа предается
жизни во всем ее разнообразии. Известность способ-
ствует развитию у него вкуса к литературе и к поэзии.
Он переводит «Волосы Береники» и прилагает коммен-
тарий, в котором обнаруживает превосходную эруди-
цию; соревнуясь с Монти, он принимается за перевод
«Илиады», он пишет речь по случаю Лионского конгрес-
са напыщенным, искусственным слогом, но вкладывая
в нее смелые и серьезные идеи 3.
Поэма «Гробницы» окончательно утвердила его ре-
путацию и поставила его вровень с великими поэтами
его времени. Его стали называть автором «Гробниц».
И действительно, эта поэма — первый лирический голос
новой литературы, утверждение сложившегося сознания
нового человека.
Один из законов республики устанавливал равенство
погребений, равенство людей перед лицом смерти. Пыш-
ные гробницы казались тогда привилегией аристократов-
и богачей, и республиканцы боролись против привиле-
гий, против классовых различий, даже и в этой форме.
«Следовательно, Парини будет лежать в общей могиле,
1 См. оду «All'amica risanata», vv. 92—94.
2 Финальная терцина сонета «A Zacinto».
3 Хронология творчества Фосколо здесь неточна. Обе оды, а так-
же перевод и комментарий «Волос Береники» написаны в 1803 году;
«Orazione a Bonaparte, Pel Congresso di Lione» написана в конце
1801—начале 1802 года. «L'Esperimento di traduzione dell' Iliade»
был напечатан в Брешии в 1807 году.
509
рядом с вором»1, — размышлял Фосколо. Эта револю-
ционная логика, доведенная до крайних следствий,
омрачала ему поэзию жизни, возвращала его в живот-
ный мир природы, еще не обжитый человеком. Для него
невозможно было относиться к человеку, как к про-
стому животному. В нем был оскорблен поэт и человек.
Фосколо был лишен религиозной идеи, которая скраши-
вает смерть и указывает рай за мрачным ликом забве-
ния. Но в нем было живо ощущение человечества в его
прогрессе и устремлениях, в связях с семьей, с родиной,
со свободой и славой. Именно здесь черпает Фосколо
свои гармонии, эту новую религию погребений. Есте-
ственное и животное понимание смерти благодаря са-
мым тонким человеческим чувствам превращается в жи-
вой Пантеон, ибо смерть действенна по отношению к
живым, она создает воспоминания и иллюзии, побу-
ждает к благородным поступкам. Пусть все это иллю-
зии, но иллюзии человечества, вечные, как и оно само,
составляющие часть его истории. Поэма Фосколо — это
история человечества с новой точки зрения, история жи-
вых, созданная теми, кто мертв. Викианское вдохнове-
ние ощущается в этом описании: из темных и могучих
начал, природных и животных, религия погребальных
обрядов поднимается до человеческого и гражданского
состояния, она воспитательница Греции и Италии —
двух миров, дорогих Фосколо, который в своем созерца-
нии соединяет воедино Илион и храм Санта Кроче.
История древняя, но аспект новый, отсюда и оригиналь-
ность формы и колорита. Ад и рай, готический мрак,.
бесконечность и ничто, нежные чувства человеческого
сердца — все это слилось здесь в торжественной и по-
чти религиозной форме, словно гимн божеству.
Революция со своими эксцессами и ужасами уже из-
меняла пути. Появились более умеренные идеи, ощуща-
лась потребность в религиозной и моральной реставра-
ции. Поэма Фосколо затронула эти новые струны. Муза
не воплощена более в Альфьери. Ощущалось сближе-
ние с Вико.
1 См. «Sepolcri», vv. 75—77:
... и может статься,
Что прах его окровавляет вор,
Оставивший грехи на эшафоте.
510
Ораторствовать против священников и против рели-
гиозных предрассудков было в духе века. Боролись про-
тив тиранов, аристократов, привилегий и исключитель-
ных прав, во имя философии, свободы, общественной
экономики. У Фосколо тон совсем другой.
Поэт не может верить в бессмертие души, и,- однако,
ему хотелось бы верить в это. Это, конечно, иллюзия,
но жестоко отнимать иллюзии, которые приносят нам
счастье и украшают нашу жизнь1. Таким образом, от-
крыт путь к возвращению религиозных идей не во имя
истины, а во имя человечности и поэзии. Тут уже чув-
ствуется Шатобриан2.
Если, «к сожалению», справедливо, что время все
меняет3, что только одна материя бессмертна, а формы
гибнут, все же неверно, что смерть человека есть пере-
ход в ничто. Поэт создает новое бессмертие. От него
остаются сочинения, идеи, дела, память; муза оживляет
молчание погребальных урн, и живые ищут в них вдох-
новения и утешения. Почитание покойных есть религия
человечества, если оно не хочет вновь впасть в живот-
ное состояние. Мы не хотим верить в высшее существо,
распределяющее награды и наказания, даже если, к со-
жалению, дело так и обстоит: «Vero ё ben, Pindemonte!»
Но можем ли мы, люди, отказать в вере человечеству?
Неужели мы действительно хотим отнять у жизни все
ее иллюзии, всю ее поэзию? Фосколо протестует как че-
ловек и как поэт. В нем еще сохранился дух XVIII века,
но зашедший слишком далеко в своей разрушительной
1 См. «Sepolcri», vv. 23—25:
Но смертному зачем себя мечтой
До срока тешить, если, и погаснув,
Она к нему не подпускает смерть.
О «потребности религиозной и моральной реставрации», выраженной
у Фосколо, см. ниже.
2 Сопоставление с Шатобрианом было уже четко и подробно
сформулировано в цит. лекции об «Ортисе»: «Столь критические
ситуации, столь безнадежный скептицизм не могли длиться долго...
Автор «Etudes sur la nature» победил. Новое чувство назвало себя
силою христианской религии; оно было подготовлено книгами Шато-
бриана «Атала» и «Мученики». См. «Teoria e storia», cit., t. I, p. 251,
и «Purismo illuminismo storicismo», cit., t. II.
3 Cm. «Sepolcri», vv. 16—22. Слова «к сожалению» передают
смысл восклицания Фосколо: «Vero ё ben, Pindemonte!», цитируемого
ниже.
511
работе и пятящийся назад в поисках прочной опоры в
человеческих чувствах вплоть до чувств религиозных.
Фосколо не только так рассуждает, так он и думает.
Он уже раньше сложился как патриот и свободный че-
ловек1. Здесь же проявляется человек в его внутренней
жизни, в интимных чувствах его гражданской природы.
Новый человек становится разносторонним, внутренний
мир его сознания дополняется новыми элементами.
Именно из этих глубин чувства возникают прекрасней-
шие создания итальянской лирики, плач Кассандры, впе-
чатления от Марафонских могил, апофеоз Санта-Кроче2.
Позиция настолько возвышенна, что изображение упад-
ка Италии — столь избитая риторическая тема — дается
спокойно и задумчиво в общем рассуждении о перипе-
тиях человеческих судеб3. Это взгляд философа, сердце
человека и вдохновение поэта.
Появление «Гробниц» словно затронуло струну, ко-
торая отозвалась во всех сердцах. Не меньшее впечат-
ление произвела поэма и на литераторов.
Новая литература возвещала о себе уничтожением
рифмы. На смену терцине и октаве пришел белый стих.
Это была реакция на каденции и кантилены. Новое сло-
во, веря в серьезность своего содержания, уничтожало
не музыку, а рифму: слову было достаточно самого
себя. Фосколо в «Гробницах» уничтожает также и стро-
фику; это уже не трагедия или поэма, а лирическая ком-
позиция, у которой он осмеливается отнять все напевные
и музыкальные метрические средства. Здесь мысль об-
нажена, проникнута жарким воображением и проры-
вается потоком внутренних гармоний и созвучий. Стих
порывает с традиционными и механическими формами
и в результате упорной обработки получает новые зву-
чания и тональности; при этом он не искусствен, это го-
лос души и музыка вещей в великой манере Данте.
И сам жанр кажется новым. На смену сонету и канцоне
приходит стихотворение — форма, свободная от всякой
внешней структуры. Это была лирическая поэма мораль-
ного и религиозного мира, вознесение души в высокие
1 Альфьериевское выражение «образец свободного человека» вы-
несено у Фосколо в подзаголовок стихотворения «Бонапарту-освобо-
дителю» («oda del liber uomo Niccolo Ugo Foscolo»).
2 Cm. «Sepolcri», соотв. vv. 258 и ел., 197—212, 151—197.
3 Ibid., vv. 182—183.
512
сферы человечности и истории, воссоздание внутреннего
мира человека, возвышающегося над современными
страстями. Это был цельный человек в слиянии его
внешней жизни патриота и гражданина и в его интим-
ных личных чувствах; это была заря нового века поэзии.
Поэма Фосколо предшествовала гимну. Фосколо сту-
чался во врата XIX века.
Вступив на этот путь, он создал другие стихотворе-
ния: «Алкей», «Несчастье», «Океан»1. Но здесь уже нет
первоначального вдохновения; он сочиняет холодно, ли-
тературно; это лишь фрагменты, ничего зрелого. По-
следними появились «Грации». Это очець тонкая работа
артиста, но поэта здесь уже почти нет2.
Остается Фосколо-прозаик. Мы знаем его «Prolusio-
пе», его лекции, его критические работы. Это проза не
французская и не тосканская; я хочу сказать, что здесь
остается пожелать тосканской грации и живости и фран-
цузской логики и блеска. Это очень личная проза, еще
формирующаяся, полная латинских и ораторских реми-
нисценций, с наклонностью к величественности и к силе.
В ней больше жара воображения, чем силы интеллекта.
Господствующая концепция этой прозы — возвыше-
ние человека над литератором. Фосколо дает здесь фор-
мулу новой литературы. Ее сила не во внешнем, а во
внутреннем, в сознании писателя, в его внутреннем мире.
Данте и Петрарка, рассмотренные с этой точки зрения,
обретают новый блеск3. Стиль освобождается от рито-
рики и от всех искусственных ухищрений и проникается
1 См. письмо к Монти, опубликованное в «Biblioteca italiana»
в декабре 1830 года и перепечатанное Л. Каррером в его предисло-
вии к «Prose e Poesie di U. Foscolo», II Gondoliere, Venezia 1842,
p. LXVIII: «Алкей, или История литературы в Италии от распадения
Восточной империи до наших дней; «Грации», которые будут пре-
клонением перед всеми метафизическими идеями о прекрасном..*
В «Океане» говорится о морских завоеваниях и о торговле. «Не-
счастье» посвящено богине несчастья, в нем говорится о полезности
враждебной фортуны и о божественной добродетели сострадания,
единственной бескорыстной добродетели в душе смертных».
2 В рукописи следует: «В «Гробницах» исчерпала себя его муза.
Здесь является Фосколо-прозаик».
3 О «Discorso sul testo del poema di Dante», о статьях о Пет-
рарке и вообще о «психологизме» Фосколо-критика с его ограничен-
ностью, стремящегося рассматривать скорей человека, чем писателя,
скорее предмет, а не формы, см. цит. статью 1871 года в «L'arte, la
scienza e la vita», cit.
33 До Саиктис
513
мыслью и чувством. Превзойден сам Беккариа. Мы при-
ближаемся к эстетике. Здесь еще нет самой науки, но
есть ее манера и ее тенденция.
Здесь есть и нечто большее. Здесь возникает интерес
к филологическим и историческим исследованиям, столь
презиравшимся в тот век, когда изничтожалось все про-
шлое. Италия вновь обретает свои традиции и прибли-
жается к Вико и Муратори.
Фосколо пролагал дорогу новому веку. И нет сомне-
ния, что если бы человеческий прогресс развивался не
судорожно, а логично и мирно, то последний писатель
XVIII века стал бы также и первым писателем XIX века,
главой новой школы. Но этот прогресс принял облик
реакции и в этой отрицательной и насильственной форме
напал на идеи и формы того века, с которым Фосколо
чувствовал себя связанным. Особенно возмущала его
война, объявленная мифологическим формам. В отрица-
нии их он видел отрицание самого себя. И когда его
собственные религиозные и политические воззрения
стали более умеренными и у него сложилась более
реальная концепция жизни и ушла большая часть его
иллюзий, когда он уже одной ногой стоял в новом
веке — в это самое время, оклеветанный, неправильно
понятый, забытый, вечно раздираемый противоречиями,
он пришел к печальному концу, оставив новому веку,
словно вызов, свои «Грации», последний цветок италь-
янского классицизма.
21. Фосколо умер в 1827 году. Тогда уже появились
на горизонте Пеллико, Мандзони, Гросси, Берше. По-
явилась романтическая школа, отважная северная
школа !.
1815 год — памятная дата, как и дата Тридентского
собора2. Она знаменует официальное наступление реак-
ции не только в области политической, но и в философии
и литературе, реакции, уже ранее начавшейся в умах,
1 Это выражение, ставшее позже программным определением,
идет от Монти. См. «Sulla mitologia» (1825), vv. 1—2: «Audace
scuola boreal, dannando||tutti a morte gli dei...»
2 В этом разделе в сжатом виде изложено содержание статьи
Де Санктиса «II mondo epico-lirico di Alessandro Manzoni», опубли-
кованной в «Новой антологии» в феврале 1872 года («Manzoni», t. X,
изд. Эйнауди, рр£ 3 и ел.),
514
как об этом свидетельствуют следы ее в «Гробницах»1,
и проявившейся 18 брюмера. Реакция была столь же
быстрой и ожесточенной, как и революция. Тщетно Бо-
напарт пытался задержать ее, идя на уступки и ища
примирения в компромиссных идеях. Раз начавшись,
реакция дошла до того, что все деятели революции по-
пали под общий приговор — якобинцы и жирондисты,
Робеспьер и Дантон, Марат и Наполеон. На смену крас-
ному террору пришел белый.
Вошел в моду новый философский литературный и
политический словарь. Двумя главными врагами стали
материализм и скептицизм; против них выдвинулся спи-
ритуализм, доведенный до идеализма и мистицизма.
Естественному праву противопоставили божественное
право, народному суверенитету — легитимизм, правам
личности — государство, свободе — авторитет и порядок.
Вновь всплыло на поверхность средневековье, оно про-
славлялось как колыбель современного духа и усваи-
валось мыслью во всех направлениях. Христианство,
бывшее до тех пор мишенью для всех и всяческих стрел,
стало центром философского исследования и знаменем
социального и гражданского прогресса; классиков стали
с издевкой называть язычниками, а либеральные док-
трины именовали чистым язычеством без всяких огово-
рок; монашеские ордена объявили благодетелями циви-
лизации, а папство — мощным орудием свободы и про-
гресса. Изменились сами критерии искусства: появилось
разделение на искусство языческое и искусство хри-
стианское. Наивысшее проявление последнего искали в
готике, в таинственном и мрачном, в туманном и неопре-
деленном, в потустороннем, которое именовалось идеа-
лом, в. устремлении к бесконечности — неудовлетворен-
ном, а потому меланхолическом. Меланхолия была
наречена христианской добродетелью, а сенсуализм, ма-
териализм, пластичность стали признаками языческого
искусства; в противовес классическому жанру возник
христианский романтический жанр. Религия, вера, хри-
стианство, идеал, бесконечность, дух, трон и алтарь, мир
1 Более подробно об этом говорится в цит. статье о Фосколо:
«Ученик Локка (Фосколо) при всем своем материализме испытывал
влияние того мистического течения, которое под именем философской
реставрации заполонило Европу. Оно проявляется в его сомнениях
и колебаниях» («Saggi critici», t. XIV, изд. Эйнауди).
33*
515
и порядок — таковы первые слова нового века. Пере-
мена была разительной. На смену Вольтеру и Руссо
пришли Шатобриан, мадам де Сталь, Ламартин, Виктор
Гюго, Ламеннэ. И как раз в 1815 году появились «Свя-
щенные гимны» молодого Мандзони К История, литера-
тура, философия, критика, искусство, юриспруденция,
медицина — все приняло эту окраску. Появился нео-
гвельфизм; средневековье, угрожающее и мстительное,
поднималось против всего Возрождения.
Движение это, поддерживаемое наемными перьями,
поощряемое полицией, разжигаемое преходящими стра-
стями и интересами, не было, однако, просто подделкой.
Это было серьезное движение духа в соответствии с
вечными законами истории — движение, в котором уча-
ствовали наиболее выдающиеся и свободные таланты
нового века. Несомненно, это движение было преувели-
ченным в своих началах, ибо оно стремилось не только
объяснить, но прославить прошлое, вычеркнуть из исто-
рии целые столетия и предложить средневековье в каче-
стве образца. Но одна крайность влекла за собой дру-
гую. Богиня Разума и общность имуществ сменились
апофеозом палача и узаконением Инквизиции2.
Однако крайности и преувеличения длились недолго,
и реакции не удались попытки радикального возвраще-
ния к средневековью. Против этого восстали бесчислен-
ные новые интересы, возникшие вместе с революцией, —
интересы материальные, моральные, интеллектуальные.
К тому же новый порядок вещей весьма благоприят-
ствовал монархии, которая сама же и способствовала
его установлению. Не в интересах государей было воз-,
рождать цеха, муниципальные свободы, привилегиро-
ванные классы — все те коллективные силы, которые
были сметены революционной лавиной и в которых сами
государи видели препятствие своей абсолютной власти.
Поэтому почти повсюду и почти целиком сохранился
1 См. P. Agnelli, Milano 1815. В это издание, как известно, вхо-
дили лишь первые четыре гимна. См. ниже, § 22.
2 Де Санктис намекает, с одной стороны, на «Культ Разума»,
основанный в 1793 году и торжественно отпразднованный в соборе
Парижской богоматери 10 ноября того же года, и на эгалитарные
тенденции Сен-Жюста и Робеспьера, а с другой — на восстановле-
ние трибунала Инквизиции, уничтоженного Наполеоном в 1808 году
и вновь учрежденного в 1814 году папой Пием VII.
516
новый социально-экономический порядок, освященный
новыми кодексами, и абсолютная монархия вышла из
перенесенной ею бури более сильной. Поскольку духо-
венство и дворянство, когда-то бывшие ее соперниками,
стали ее подданными и служителями под помпезными
титулами, а естественные коллективные силы исчезли,
абсолютная монархия с легкостью смогла перестроить
общество, создав искусственные корпорации, подчинен-
ные, разумеется, ее суверенной воле, а именно: бюро-
кратию, армию и духовенство. Бюрократия заинтересова-
ла в сохранении государственного порядка буржуазию,
которая занялась «охотой за должностями»; централи-
зованное управление уничтожило всякие местнические
свободы и держало в зависимости провинции и ком-
муны. Множество чиновников заполонило государство,
словно саранча, и каждый из них осуществлял частицу
абсолютной власти, орудием которой он был. Армия,
став постоянной и также превратившись в государ-
ственное учреждение, организовалась по кастовому
принципу; она была противопоставлена гражданам, ос-
лаблена пассивным повиновением и выполняла скорее
жандармские, нежели солдатские, обязанности. Духовен-
ство, скрепляя союз между троном и алтарем, забрало
в руки народное просвещение, надзирало над школами,
книгами, театрами, академиями, препятствовало всем
новым идеям, держало массы в невежестве и относи-
лось к культуре, как к своему врагу. Управляла всей
этой громадой полиция, проникшая во все правитель-
ственные учреждения; шпионом стали и чиновник, и
солдат, и священник. Результатом явилась организо-
ванная коррупция, называвшаяся правительством или в
форме абсолютной монархии, или под маской консти-
туции.
Эта ожесточенная реакция столь резко противоре-
чила всем новым идеям, что не могла долго длиться.
Произошли восстания в Испании, в Неаполе, в Турине,
в Париже, в Романье; Греция и Бельгия завоевали са-
мостоятельность. Национальное чувство просыпалось
вместе с либеральным. И XVIII век снова двинулся в
путь, со своими правами личности, со своими принци-
пами равенства, со своей хартией 1789 года. Легитимные
государи пали. Монархия, для того чтобы выжить, пре-
образилась, модернизировалась, вырядилась в буржуаз-
517
ные одежды, разделила власть с культурными клас-
сами. Раз была удовлетворена буржуазия, считалось,
что были удовлетворены все. Третье сословие прежде
было ничем; теперь оно стало всем.
С этим компромиссом Европа прожила долгие годы.
Конституционные установления расширялись. Ценз и
способности открыли дорогу к самым высоким должно-
стям, искусственные барьеры были уничтожены. Про-
должалась самая ожесточенная борьба против феода-
лизма, неотчуждаемых прав и привилегий. Буржуазия
нашла широкое поле деятельности и приложение своему
тщеславию в парламентах, в коммунальных и провин-
циальных советах, в национальной гвардии, в суде
присяжных, в академиях, в светских школах, не подчинен-
ных духовенству. Развивались промышленность и тор-
говля, открылись новые источники обогащения. Появив-
шуюся новую силу называли новым именем. Она назы-
валась уже не аристократией, а плутократией, поощряе-
мой свободной конкуренцией. Тот, кто был сильнее
побеждал и господствовал благодаря цензу, таланту и
упорству. Умственная деятельность, всячески поощряе-
мая во всех областях, делала чудеса в этой обстановке
общественного подъема. Под сенью мира и свобод про-
цветали науки и литература. Даже там, где не мог побе-
дить конституционный порядок, как, например, в Ита-
лии, реакция ослабила свои узы, буржуазия получила
более широкий доступ к общественным делам, и уста-
новился более цивилизованный образ жизни. Мало-по-
малу старое приучалось жить бок о бок с новым; боже-
ственное право и воля народа соседствовали в зако-
нах и в сочинениях, как формула компромисса, на ко-
тором основывался новый порядок; на какое-то время
показалось возможным примирение не только между
монархией и народом, но даже между папством и сво-
бодой.
Итак, когда утихла первая горячка, движение, кото-
рое имело облик реакции, оказалось в итоге все той же
революцией, которая, наученная опытом, умеряла и дис-
циплинировала саму себя. Разочарования и крахи,
крайности и преувеличения, столь чистый и манящий
идеал, оскверненный при первом же соприкосновении с
реальностью, — все это должно было произвести боль-
518
шое впечатление на умы и побудить их к размышлению.
Реакция была прошлым, еще живым в людских массах;
оно подвергалось самым резким атакам, которые при-
влекали на свою сторону даже равнодушных, а теперь
это прошлое снова победоносно поднимало голову. Опыт
показал, что прошлое нельзя уничтожить при помощи
декрета и что требуются века для того, чтобы вытеснить
из истории дело веков. Опыт научил также тому, что
сила прочно созидает, только когда ей предшествует
убеждение; как говорил Кампанелла, «язык предшест-
вует мечу»1. Разумеется, революция впадала в заблу-
ждения, преувеличивала свои силы и доводила до край-
ности свои идеи; и теперь она вновь продолжала свой
путь — с меньшей страстностью, но с большим чувством
реальности, вверяясь более науке, чем энтузиазму. Чем
же, следовательно, явилось движение XIX века, после
того как охладилось первоначальное неистовство реак-
ции? Это был все тот же дух XVIII века, который из
стадии инстинктивной и непосредственной перешел в
стадию размышлений и уточнял свои позиции, выпра-
влял крайности, обретал чувство меры и реальности,
создавал науку революции. Это был новый дух, который
достигал самопознания и занимал свое место в истории.
Шатобриан, Ламартин, Виктор Гюго, Ламеннэ, Манд-
зони, Гросси, Пеллико были не меньшими либералами,
чем Вольтер и Руссо, Альфьери и Фосколо. Они также
сыны XVII и XVIII веков, их программа по-прежнему
хартия 1789 года, их кредо по-прежнему свобода, ро-
дина, равенство, права человека. Чересчур подавленное
религиозное чувство мстит за себя и подавляет в свою
очередь, но все же не может вырваться из тисков рево-
люции. Оно возрождается, но оно проникнуто новым ду-
хом, программой XVIII века. Неокатолики стремятся не
к тому, чтобы отрицать эту программу, как то делают
подлинные реакционеры во главе с иезуитами, а к тому,
чтобы примирить ее с религиозным чувством, показать,
что именно это и есть программа христианства в под-
линной чистоте, свойственной эпохе его происхождения.
Это старый тезис Паоло Сарпи, подхваченный и разви-
1 «Delia monarchia di Spagna», XVIII, и «Aforismi politici»,
61—65, см. выше, гл. XIX.
519
тый с большим блеском красноречия и науки К Револю-
ция вынуждена уважать религиозные чувства, дискути-
ровать о христианстве, признать его значение и его исто-
рическую миссию; а с другой стороны, христианству
необходимо получить «паспорт» от XVIII века, и оно
воспринимает его язык и его идеи, и в результате слы-
шатся разговоры о христианской демократии и о демо-
кратическом Христе, а либералы придают политический
смысл словам из писания, говоря, например, «апостоль-
ство идей», «патриотическое мученичество», «социальная
миссия», «религия долга»2. Революция, скептическая и
материалистическая, пишет на своем знамени: «Бог и
народ», а религия, догматическая и аскетическая, берет
на себя роль поэзии и морали, нисходит с высот сверхъ-
естественного, проникается гуманизмом и натурализмом,
приближается к науке, принимает философскую форму.
Новый дух вбирает в себя3 старые элементы, но пре-
образуя, ассимилируя их, и в этом процессе он сам пре-
образуется, еще более реализует себя. Таков смысл того
важного движения, которое вышло из реакции XIX ве-
ка — реакции, вскоре превратившейся в соглашение. Ее
политическая форма — это монархия милостью божьей
и волею народа.
Теоретическая основа этого соглашения — новая кон-
цепция истины, понимаемой не как неподвижный абсо-
лют a priori, но как становление идеи, то есть в соответ-
ствии с законами разума и духа. Отсюда возникало то-
ждество идеального и реального, духа и природы, или,
как выражался Вико, обращение истинного в опреде-
ленное4. Эта концепция, с одной стороны, возвращала
фактам ту важность, которую оспаривали со времен
1 Об идеях Сарпи относительно защиты светской власти и о воз-
вращении к евангельской церкви см. §§ 17—19, посвященные автору
«Истории Тридентского собора» в гл. XIX «Новая наука». В цит.
статье «Mondo epico-lirico di Alessandro Manzoni» следовало:
«Весьма примечательно то, что писал Мандзони в «Morale cattolica»,
опровергая Сисмонди» (см. t. X, изд. Эйнауди, pp. 7 и 259 и ел.).
2 О «поэтическом» и «библейском» колорите языка демократи-
ческой литературы начала'XIX века (Ламеннэ, Мадзини и др.)
см. «Mazzini e la scuola democratica», t. XII, изд. Эйнауди, pp. 21—22
и 69, а также ниже, § 25.
8 Так в рукописи и в первых трех изданиях. Кроче, следуя
четвертому изданию, поправляет: «собирает в .себе».
4 «De antiquissima italorum sapientia», I, f, см. § 23 гл. XIX,
Б20
Декарта, ставила их на свое место, узаконивала и оду-
хотворяла их, придавала им значение и цель, создавала
философию истории; с другой стороны, в этой концепции
божественное воплощалось в реальное, лишаясь мисти-
ческой и аскетической узости сверхъестественного и при-
обретая человечность. Таким образом, эта концепция
была в основе своей радикальной и революционной, в
решительном противоречии со средневековьем и со схо-
ластикой, хотя она и кажется реакцией на все то край-
нее и абсолютное, что было в XVIII веке.. Следовательно,
это движение, по видимости реакционное, должно было
привести к новому развитию революции на более проч-
ной и рациональной основе.
22. Первый период этого движения был назван ро-
мантическим в противоположность классицизму. Содер-
жанием его было христианство и средневековье как
истинные истоки современной жизни, как героическое,
мифическое и поэтическое время. Возрождение имено-
валось язычеством, а тот период, который во времена
Возрождения назывался варварством, был окружен но-
вым ореолом. Людям казалось, что они после долгой
разлуки вновь увидели бога, святых и деву Марию, ры-
царей, закованных в латы, храмы, башни и крестовые
походы. Библейские формы заслонили собой классиче-
ские краски; образы расплылись в готическом тумане,
неопределенное и сентиментальное заполнило фантазию
мраком и видениями. Из всего этого родилось новое со-
держание и новая форма. Папство стало центром той
возрожденной к жизни античной поэмы, историком ко-
торой был Карло Тройя, а художником Луиджи Тости1;
Бонифаций VIII и Григорий VII взяли верх над Данте
и Фридрихом II. Летописцев и трубадуров извлекли из
праха забвения; Европа благоговейно оживляла свои
воспоминания, проникалась ими, сливалась с ними, воз-
1 Речь идет о «Storia d'ltalia nel Medio Evo» (1839—1855)
Карло ?ройя, одном из основных произведений неогвельфской исто-
риографии, а также о «Storia di Bonifacio VIII е de suoi tempi»
(1846) и «Storia della Lega Lombarda» Луиджи Тости, видного пред-
ставителя умеренного движения с клерикальной подосновой,
В 1851 году о нем опубликовал статью Ренан: «Don Luigi Tosti ou
le Parti guelfe da^ lTtalie contemporaine». О Тройя см. также
в статьях Де Санктиса о Данте; об его идеологической позиции см.
в статье о поэтике Мандзони, опубликованной в «Новой антологии»
в октябре 1872 года, т» X, изд. Эйнауди, of р. 24.
621
рождала ушедшие образы и чувства. Каждый народ
возвращался к своим традициям и искал в них оправ-
дания своего существования и своего места в мире, за-
конности своих устремлений. На смену греческой и рим-
ской древности пришла национальная древность, про-
никнутая высшим объединяющим духом — духом като-
лицизма. Пробудилось воображение, воодушевленное
национальной гордостью и религиозным энтузиазмом,
дошедшим до мистики; стряхнув с себя долгое оцепене-
ние, оживилось метафизическое и поэтическое чувство.
Возродилась возвышенная философия и возвышенная
поэзия. Лирика и музыка, философские и исторические
поэмы — таковы голоса этого движения вспять.
Но романтизм, как и классицизм, был формой, в ко-
торой проявлялся новый дух. Фосколо и Парини в своем
классицизме были новыми, так же как Мандзони и Пел-
лико в своем романтизме. Напрасно искать у них наив-
ности и простоты религиозного духа; прошлое переде-
лано и преобразовано новым воображением, на котором
оставил свой след XVIII век. Нет более распаленных
страстей того века, но остались его идеи — терпимость,
свобода, человеческое братство, которые закреплены в
религии мира и любви, очищенные и восстановленные
в своем целомудрии, в первоначальной незапятнанности
мотивов. Такая реакция — это уже не реакция, это при-
мирение, это сама побежденная революция, которая бо-
лее не грозит, расстается с сарказмом, с иронией и
оскорблением и, превратившись в евангельское апостоль-
ство, принимает смиренный и умоляющий облик перед
лицом угнетателей и сама идет к аналою, создает своего
бога и Христа, а библия становится «Последним словом
верующего»1. Дух не остается в эмпиреях сверхъесте-
ственного и в догматических обобщениях. Отныне, осоз-
нав самого себя, он изображает божественное по своему
образу и подобию, располагает и сопровождает его в
истории. «Божественная комедия» перевернута: не чело-
веческое начало обожествляется, а божественное начало
очеловечивается. Божественное возрождается вновь, но
1 Имеется в виду произведение Ламеннэ «Paroles d'un croyant»
(1833). Как известно, после опубликования этой книги красноречи-
вый французский апостол был отлучен от церкви буллой «Singulari
nos» папы Григория XVI (6 июня 1834 года). Об идеологической и
политической позиции Ламеннэ см. tt. XI и XII, изд. Эйнауди.
52?
чувствуется, что ранее уже родились Бруно, Кампа-
нелла и Вико.
Звезда Монти еще сияла в окружении меньших све-
тил; Фосколо в одиночестве замышлял своих «Граций»,
Романьози передавал новому поколению мысль побе-
жденного великого века. И как раз в 1815 году в гро-
хоте великих событий появилась на свет небольшая
книжечка, озаглавленная «Гимны», на которую никто не
обратил внимания. Фосколо завершал свой век «Пес-
нями»; Мандзони открывал свой век «Гимнами». «Рожде-
ство», «Страсти», «Воскресение», «Троица»] были пер-
выми голосами XIX века. Бесконечное количество раз
рождество, дева Мария и Иисус фигурировали в старой
литературе в бесцветных, давно забытых канцонах и
сонетах. В них не было вдохновения — того вдохнове-
ния, которое рождало гимны святых отцов, религиозную
поэзию Данте и Петрарки, картины, статуи и храмы
наших старых художников. Этот священный материал
искусства прошел сквозь XVII век и Аркадию и исчез
под насмешки XVIII века. Но теперь поэзия также за-
ключила свой конкордат2. И прежняя материя вновь
появилась, оживленная новым вдохновением.
Поэт одушевлен теперь не святостью и таинствен-
ностью догмы. Он не воспринимает сверхъестественное
с сосредоточенностью и простодушием верующего. Он
стремится перенести его в воображение и, если можно
так выразиться, натурализовать его. Сверхъестествен-
ное— это уже не исповедание веры, а художественный
мотив. Можно было бы сказать, что перед юным поэтом
1 В первое издание «Inni sacri» (Agnelli, Milano 1815) входили:
«La Risurrezione», «II nome di Maria», «II Natale» и «La Passione»,
«La Pentecoste», сочиненная несколькими годами позже, впервые
была опубликована в декабре 1822 года. Интерпретация творчества
Мандзони, изложенная далее, была уже намечена в юношеских лек-
циях Де Санктиса о литературных жанрах (см. «Teoria e storia»,
cit., t. I, pp. 99 и 187 и ел., и «Purismo illuminismo storicismo», cit.,
t. II). По поводу «Гимнов» см. в особенности цит. статью о лиро-
эпическом мире и лекции о Мандзони 1872 года (t. X. «Manzoni»,
pp. 3—19 и 127 и ел.). В целом о Мандзони, о котором в данной
главе говорится лишь в определенном аспекте, см. цит. t. X, изд.
Эйнауди; об истории критики Мандзони до Де Санктиса см. С. Mus-
cetta, вступительная статья к t. XIII. изд. Эйнауди, М. Sansone в
«Classici italiani», cit: II, pp. 451—523.
2 Намек на конкордат Бонапарта с Ватиканом, заключенный
в 1801 году,
523
возникает усмешка Альфьери и Фосколо и он не ре-
шается представить своим современникам устаревшие
образы без пышных украшений. Ему недостаточно их
святости; он хочет, чтобы они были красивы. Христиан-
ская идея возвращается прежде всего как искусство,
даже как субстанция нового искусства, называемого ро-
мантическим. На этот путь уже вступила критика, нача-
лись разговоры о классическом и романтическом, о пла-
стическом и сентиментальном, о конечном и бесконеч-
ном. Гимн был в своем существе поэзией религиозной,
поэзией бесконечного и сверхъестественного. Он возни-
кал как вызов классикам и по предмету и по форме.
И все же поэт, желая быть романтическим, остается
классическим. Тщетно взбирается он в заоблачные выси
Синая; он не удерживается там и испытывает необхо-
димость коснуться земли; его дух воспринимает лишь
ясное, пластичное, гармоничное и определенное, его
формы описательные, риторические и литературные, и
в то же время они полны мощи и силы воздействия, ибо
вдохновлены свежим воображением, обратившимся к
новому предмету. Тут чувствуется новый дух, который,
возвращаясь к религиозным идеям, не отрекается от
самого себя, но проникает в эти идеи, ассимилирует их,
ищет и обретает в них себя самого. Идейная основа этих
«Гимнов» по существу своему демократична; это идея
века, получившая признание под именем христианской
идеи, равенство людей, братьев во Христе, осуждение
угнетателей, прославление угнетенных; это знаменитая
триада — свобода, равенство и братство, — возведенная
к евангелию; это христианство, возвращенное к своему
идеалу и проникнутое современным духом.
Из этих идей рождается мирное и спокойное худо-
жественное изображение, живописное в своем видении,
простое и волнующее в своих чувствах, словно воплоще-
ние идеального примирения и согласия, где обретают
гармонию и успокоение все несозвучия реальности и все
земные страдания. Здесь Господь, который в своих стра-
даниях думал о всех сынах Евы; здесь Мария, на цар-
ственной груди которой проливает слезы отверженная;
здесь Дух, который нисходит как божественное утеше-
ние в тоскливые мысли несчастного; здесь царство мира,
над которым глумятся люди, но которое нельзя уничто-
жить; бедняк, поднимая взор к небу, «которое принад-
524
лежит ему», смешивает жалобы с ликованием, думая
и том, кому он подобен !.
Наряду с лирическим воссозданием небесного мира
покоя и прощения, возвышающегося над мирской зло-
бой и алчностью, развивается и эпическая поэзия, кото-
рая состоит в том, чтобы взирать на человеческие дела
с высоты иного мира. Это новаторство содержания, фор-
мы и чувства делает в высшей степени оригинальной
оду «Пятое мая» — эпическое сочинение в лирической
форме. Личность, какой бы великой она ни была, есть
не что иное, как «след Создателя», «фатальное»орудие2.
Земная слава, пусть даже заслуженная, в небесах —
всего лишь «молчание и мрак» 3. Над светским шумом
возвышается покой бога. Это он повергает и возвышает,
приносит страдание и утешает: его рука спасает чело-
века от отчаяния и направляет его по цветущим тропам
надежды 4. Снова возникает «Deus ex machina», библей-
ская концепция человека и человечества. История есть
неисповедимая воля бога. Так хочет он. Нам остается
лишь чтить тайну или чудо, «склонить голову». Чем ме-
нее понимаем мы события, тем более потрясает нас чудо,
тем сильнее мы ощутим непостижимость бога. Даже не-
давняя история превращается в легенду, становится эпи-
ческой поэзией. Наполеон — великое чудо, явственный
след господень. С какою целью? С какой миссией? Этого
мы не знаем. Это тайна бога. Так он захотел.
От истории остается популярная, легендарная часть,
та, которая более всего поражает воображение: битвы,
превратности жизни 5, необычайные события, великие ка-
тастрофы, чудесные повороты судьбы. Эпический мотив
рождается не из возвышенности и нравственности целей,
но из величия и мощи гения, из нарастания силы, кото-
1 Это пересказ соответственно стихов 69—72 из «Pentecoste»,
49—50 из «Nome di Maria» и снова из «Pentecoste»: стихи 113—116,
79—80 и 121—124. Более подробный анализ см. в цит. статье
(t. X, изд. Эйнауди, стр. 3—19).
2 «Cinque Maggio», vv. 35—36 и 7—8.
3 Ibid., стихи 95—96. Анализ этой оды см. в юношеской лекции
(«Teoria e storia», cit., t. I, p. 191, и «Purismo illuminismo stori-
cismo», cit., t. И), а также в статье о лиро-эпическом мире Манд-
зони. Ср. четвертую неаполитанскую лекцию от 19 февраля 1872 года
о «Cinque Maggio» (t. X, изд. Эйнауди, pp. 161 и ел.).
4 Изложение vv/ 105—106 и 91—92. Несколько ниже цит.
vv. 33—34.
5 См. «Cinque Maggio», v, 15,
525
рая приобретает облик сверхъестественного. В оде де-
вять строф, и каждая из них по обширности перспекти-
вы является словно маленьким миром, и впечатление
от нее остается величественное, как от пирамиды1. В
каждой строфе статуя меняет облик, но остается по-
прежнему колоссальной. Быстрый и проницательный
взор воображения пробегает пространства, сливает го-
ды, события и создает иллюзию бесконечного. Пропор-
ции увеличиваются эффектом перспективы, но средства
выражения чрезвычайно ясны и просты. При этой об-
ширности горизонтов приобретают большие масштабы
и смелость колорита образы, впечатления, чувства и
формы. Жизнь великого человека как бы сконденсиро-
вана в его свершениях, в его личности, в его историче-
ском действии, в его влиянии на современников, в его за-
думчивом одиночестве; все это огромный синтез, куда
вливаются века и события, словно гонимые и притяги-
ваемые высшей силой и едва сдерживаемые рифмами в
этом скольжении лавины.
Таково первое лиро-эпическое движение поэзии XIX
века. На смену классической структуре приходит теоло-
гическая. Но это не простая механика, колорит или
украшательство. Это — содержание, воскресшее в вооб-
ражении, которое воссоздает по своему подобию исто-
рию человечества и сердце человека. Это Христос, уте-
рянный и обретенный внутри нас. В мир возвращается
провидение, в истории вновь появляется чудо, расцве-
тают надежды и молитвы, смягчается сердце, открываю-
щееся для кротких чувств: над разочарованиями и мир-
скими распрями веет дух прощения и примирения. То,
что провидел Фосколо, Мандзони изобразил с юношес-
ким энтузиазмом, являвшимся отражением того самого
религиозного энтузиазма, который сопровождал в Риме
вернувшегося папу, вдохновил Александра идеей хри-
стианской федерации, сулил уставшему человечеству но-
вую эру мира и отдохновения. Новое поколение выраста-
ло в этих иллюзиях, и в то время, как старый Фосколо
выдумывал рай Граций, аллегорически изображая со-
временность в античном колорите, Мандзони восстанав-
ливал идеал христианского рая, примиряя его с совре-
менным духом. Мифология уходит, а классицизм остает-
1 См, «Cinque Maggio», vv. 37—96.
526
ся; от XVIII века отрекаются, но его идеи остаются. Ме-
няется рамка, а картина все та же. Вглядитесь в «Пя-
тое мая». Рамка — это художественное озарение, пре-
красный плод воображения, которое не создает никакого
серьезного религиозного впечатления. Картина — это
история гения, созданная гением. Интерес заключается
не в рамке, а в картине.
23. Вскоре богословское движение стало чисто фило-
софским. Бог — это Абсолютное, Идея; Христос — это
Идея реализовавшаяся, натурализовавшаяся; Дух — это
Идея рефлективная и осознанная, Глагол; богословская
троица становится основой троицы философской. Бого-
словский бог — это сущее в своей непосредственности,
Ничто — абстрактный и формальный бог, лишенный со-
держания. Бог в своей истинности — это Дух, который
узнает самого себя в природе. Логика, природа и дух —
три момента его существования, его история — такая
история, в которой нет ничего непонятного или произ-
вольного, все разумно и неизбежно. То, что было, дол-
жно было быть. Рабство, войны, завоевания, революции,
перевороты — не произвольные факты, а необходимые
феномены духа в его проявлении. Дух имеет свои законы,
как природа; история мира — это его история, это жи-
вая логика, и она может быть определена a priori. Рели-
гия, искусство, философия, право — все это проявления
духа, моменты его обнаружения. Ничто не повторяется,
ничто не умирает; все преобразуется в упорном ходе
прогресса, который состоит в одухотворении идеи, во все
более ясном самоосознании, в высшей действительности.
Во всех этих идеях, которые Гегель свел в единый
кодекс, ощущаются Макиавелли, Бруно, Кампанелла и
в особенности Вико. Но это Вико a priori. Те законы,
которые он выводил из социальных явлений, теперь
отыскиваются a priori, в самой природе духа. Рождает-
ся приложение к «Новой науке», ее метафизика под име-
нем Логики, появляются настоящие теогонии или фило-
софские эпопеи со своими ответвлениями. Возникает
философия религий, история философии, философия ис-
кусства, философия права, философия истории; все они
освещаются, как самым ярким светилом, Логикой, или,
как выражался Вико, Метафизикой. Обновлено все со-
держание наук, и не только моральных, но и физиче-
ских. Существует философия природы, как и философия
527
духа. Более того, все это не что иное, как одна и та же
философия, моменты Идеи в ее обнаружении.
Мистицизм, основанный на непостижимой воле бога
и питающийся чувством, уступает место этому панте-
истическому идеализму. Культурной буржуазии эта си-
стема понравилась потому, что, с одной стороны, отбра-
сывая мистику, она приобретает светский и научный
аспект, а с другой стороны, потому, что, отвергая материа-
лизм, она осуждает революционное движение как низ-
менный взрыв грубых сил. Она нравилась своей концеп-
цией неудержимого прогресса, основанного на мирном
развитии культуры; на смену слову «революция» пришло
слово «эволюция». Вместо свободы теперь говорилось
о цивилизации, прогрессе, культуре. Казалось, что нако-
нец нашли ту точку, в которой сходятся власть и свобо-
да, государство и личность, религия и философия, про-
шлое и будущее. Идеи так же заключают мир, как и
нации. Эта система стала официальной, получив назва-
ние «эклектизм»1. Революция отбрасывает свое красное
одеяние и становится христианской и умеренной под
трехцветным флагом, восхищаясь как конечной целью
конституционными формами и держась на равном рас-
стоянии и от клерикалов с их мистикой, и от революцио-
неров с их материализмом.
Эти идеи обошли всю Европу и стали «кредо» куль-
турных классов. Образовалась либеральная партия как
некий центр между клерикальной правой и революци-
онной левой — двумя партиями, которые либералы име-
новали крайними. Луи-Филипп осуществил этот идеал
буржуазии2, а эклектизм его освятил. Казалось, словно
1 Относительно эклектизма и тех сочинений, на которые ссы-
лается Де Санктис и которые легли в основу его культурной кон-
цепции, от «Histoire de la civilisation en Europe» Гизо до «Cours de
litterature» Вильмэна, от «Cours de philosophic» Виктора Кузена до
«Prlmato» Джоберти, см. лекции о литературе XIX века («La scuola
cattolico-liberale», cit., passim), а также в особенности юношеские
лекции по истории критики («Teoria e storia», cit., t. II, pp. 77—79,
и «Purismo illuminismo storicismo», cit., t. III).
2 О Луи-Филиппе и политике «золотой середины» см. первую из
статей, посвященных Золя, опубликованную в «Roma» в Неаполе
(1878) и включенную позже в «Nuovi saggi critici» (см. «L'arte, la
scienza e la vita»). Новую политическую программу Луи-Филипп
возвестил в своей тронной речи в январе 1831 года: «Мы стараемся
держаться золотой середины, в равной степени удаленной от край-
ностей народовластия и от злоупотреблений королевской власти».
623
наконец после долгого вынашивания произошло сотво-
рение мира. Проблема была разрешена, нить найдена.
Бог мог уйти на покой. Отныне была захлопнута дверь
и перед реакцией и перед революцией; воцарился мир-
ный легальный прогресс, правила буржуазия под име-
нем умеренно-либеральной партии. Она «держала под
шахом» партию правых, ибо хотя и боролась с иезуита-
ми и ультрамонтанами, но в то же время почитала хри-
стианство, ставшее в новой системе рефлективной осо-
знанной идеей, духом, который узнает самого себя. Бур-
жуазия не верила в сверхъестественное, но объясняла
и уважала его; она не верила в божественного Христа,
но возносила до небес Христа-человека; о религии она
говорила елейно, о служителях бога — почтительно. Та-
ким образом она привлекала на свою сторону христиан-
либералов и патриотов и не раздражала народ. В то же
самое время она «держала под шахом» и революцион-
ную левую партию, ибо хотя и- отвергала ее методы,
осуждала ее нетерпение и насилие, но теоретически при-
нимала ее идеи, полагаясь более на медленные, но вер-
ные результаты просвещения и образования, чем на гру-
бую силу. Благодаря таким приемам революция под
флагом примирения становилась приемлемой и продол-
жала свой путь.
На основе этих идей сформировалась новая литера-
турная критика. Оставшись в пустых риторических фор-
мах, эмпирической и традиционной, эта критика также
взывала о свободе в XVIII веке и, утратив почтение к
правилам и авторитетам, приобрела некоторую незави-
симость суждений, руководствуясь в лице своих лучших
представителей здравым смыслом и хорошим вкусом.
Внимание критики от внешней структуры обратилось к
творческой силе, ища мотивы и значение произведения
в самих качествах писателя; искусство обрело свое со-
gito, и его формулой стало: «Стиль — это человек» *. Но
это была критика, основывающаяся скорее на впечатле-
ниях, нежели на суждениях, на наблюдениях более чем
на принципах. С появлением новой философии Прекрас-
1 Относительно афоризма Бюффона «Стиль — это человек» («Le
style est l'homme meme) как определения «стиля» см. cap. XXIII «La
Giovinezza», t. I, изд. Эйнауди. В широком смысле эта формули-
ровка часто употребляется Де Санктисом в статьях и лекциях.
34 Де Санктис
629
ное заняло свое место рядом с Истиной и Добром4,
приобрело научную основу в Логике, стало обнаруже-
нием идеи, так же как религия, право и история; созда-
лась философия искусства — эстетика.
Когда философия установила идейный ход развития
человечества, то искусство вошло в эту систему на тех
же правах, как и все остальные проявления духа, и об-
рело в качестве идеи свою сущность и свой характер.
Основным предметом критики стала идея2 со своим со-
держанием; формальные качества отошли на второе
место. Появилась восточная идея, языческая или класси-
ческая идея, христианская или романтическая идея в ре-
лигии, в философии, в государстве, в искусстве, во всех
формах общественной деятельности,— историческое раз-
витие a priori согласно логике и законам духа. Филосо-
фия идеи стала обязательной предпосылкой любого
эстетического трактата, как и любой отрасли познания;
основной проблемой искусства стало обнаружение идеи
во всех трудах, созданных воображением, и оценка их
в соответствии с нею. Снова появилась христианско-пла-
тоническая концепция искусства, выраженная у Данте
и восстановленная у Тассо. Поэзия была Истиной под
покровом вымысла, или Истиной, переданной гибкими
стихами3. Поскольку вымысел стал покровом идеи, то
снова оказались в чести мифические и аллегорические
формы, а художественные замыслы превратились в иде-
альные конструкции; «Божественная комедия» — пред-
мет бесконечных философских комментариев —обрела
свое соответствие в «Фаусте». Вошло в моду философ-
ствование в искусстве, даже у лучших художников, в
том числе у Шиллера. И не только философия, но и
история стала обязательным фасадом критики, посколь-
1 Имеется в виду «Курс философии» Кузена (читавшийся в Сор-
бонне в 1818 году), опубликованный в 1836 году под заголовком
«Du vrai, du beau et du bien», а также статьи Джоберти «Del Bello»
(Venezia 1841) и «Del Buono» (1843). В этой связи см. юношеские
лекции, цит. выше. О влиянии Кузена на культуру романтизма см.
S. M a s t е 11 о n e, V. Cousin e il Risorgimento italiano, Firenze 1955.
2 В рукописи вычеркнуто далее: «со своим содержанием, углу-
бляясь, с одной стороны, в метафизику, с другой — в историю... С
изменением точки зрения возникли новые критерии во всех науках,
как в истории, так и в искусстве».
3 См. отрывок из «Convivio» (II, t, 3), уже неоднократно упомя-
нутый, а также «Gerusalemme Liberata», I, 3.
530
ку нужно было обнаружить идею не в ее абстрактности,
но в ее содержании, в ее историческом проявлении. Воз-
никли весьма дотошные исследования идей, установле-
ний, обычаев и тенденций тех эпох, к которым относи-
лись произведения искусства, исследовалось постепенное
образование самого художественного материала. На сме-
ну прежнему девизу: «Стиль — это человек» — пришел
новый: «Литература — это выражение общества»1. Из
этого возник двойной импульс — к синтезу и к анализу.
Установив, что история — не эмпирическая и произволь-
ная смена фактов, а постепенное и рациональное прояв-
ление идеи, живая диалектика, умы обратились к син-
тезу и создали настоящие исторические эпопеи в соот-
ветствии с предустановленной логикой. Вновь писалась
мировая история, метафизический ум вновь проделал во
всех направлениях тот путь, который был открыт Вико:
религии, искусства, философия, политические установле-
ния, законы, умственная, моральная и материальная
жизнь народов. Это был эпический момент для всех наук;
ни одна из них не избегла озарения идеи; мир естествен-
ный был сконструирован по тому же образцу, что и мир
нравственный.
Но этот поспешный синтез, это зачастую рискованное
разрешение самых сложных проблем неоднократно стал-
кивалось с позитивными данными истории и отдельных
наук, и тогда становились очевидными пробелы, несо-
размерные сочленения, натянутые объяснения, невольная
искусственность. Тогда наряду с этими обширными
идейными построениями возник терпеливый анализ; ме-
тод Вико представился более трудным и медленным, но
зато более верным, и тогда началась работа a posteriori;
ум погрузился в тщательнейшие розыски и исследования
во всех областях познания. Дух эрудиции и исследования,
путь которого прервался в Италии в результате втор-
жения картезианства и абсолютных систем XVIII века —
целиком рассудочных, гордо презирающих цитаты,
1 «Литература есть выражение общества, как слово есть выра-
жение человека» (Louis de Bonald, Pensees sur divers sujets,
в «Oeuvres», Paris 1817, vol. VI, p. 239). Однако в данном случае
соотнесение более широкое, оно обнимает всю романтическую куль-
туру от мадам де Сталь (в 1800 году появились два тома ее сочи-
нения «De la litterature consideree dans ses rapports avec les insti-
tutions sociales») вплоть до Сисмонди,
34*
531
примеры и всякий авторитет доктрин, как остатки схо-
ластики,— этот дух теперь с еще большей силой рас-
пространился во всей культурной Европе и больше всего
в Германии. Вернулись к Галилею, Муратори и Вико;
развивался дух наблюдения и историческое чувство, рас-
ширялась область наук, и от великого древа познания
отходили все новые ветви, особенно в области естествен-
ных наук, социальных наук и филологических дисциплин.
Сама материя культуры, которая раньше почти не выхо-
дила за пределы греко-римской культуры, расширилась
и углубилась, охватив Восток, Средние века, Возрожде-
ние. Столько энергии было приложено в области розы-
сков и открытий, что обновились все знания.
Итак, существовали две тенденции, одна — идейная,
другая — историческая. Одни шли путем категорий и
конструкций, другие — путем наблюдений и индукций.
Но часто эти тенденции объединялись. Онтологическая
школа весьма считалась с фактами и объявляла, что
подлинный идеал — это история как реализованная идея.
Поэтому эта школа не отрывалась от истории, не оста-
валась в царстве абсолютных и неподвижных принципов;
ее метафизика есть не что иное, как постепенное ста-
новление, история. Равным образом историческая школа
отнюдь не была эмпирической; она выходила за пределы
фактов и также имела свои предустановленные идеи и
предположения. Самые смелые умозрительные выводы
соединялись с самым терпеливым исследованием. Обе
эти силы, вместе взятые, то параллельные, то в столкно-
вении, то в соединении, привели в движение все способ-
ности ума и сделали чудеса и в области теории и в при-
кладной науке. На смену веку Просвещения пришел век
прогресса. Гений Вико стал гением эпохи. Вместе с ним
обрели европейскую славу Бруно и Кампанелла. В этих
трех великих итальянцах век почтил своих отцов, свое
предвосхищение. «Новая наука» стала его библией, его
интеллектуальным и моральным рычагом. Здесь находи-
лись как бы в сгущении все силы эпохи: умозрительные
рассуждения, воображение, эрудиция. Отсюда происте-
кала та высокая беспристрастность философа и истори-
ка, та справедливость суждений, которые были заслугой
века. Прошлое и настоящее примирились, заняв каждое
свое место в ходе исторических судеб. А против судьбы
не поможет гнев, нет смысла идти напролом. Догматизм
532
со своей непогрешимостью и скептицизм со своей иро-
нией уступили место критике — этому возвышенному
взгляду проницательного духа, который узнает самого
себя в мире и не возмущается самим собой.
Литература также не могла не подвергнуться влия-
нию этого движения. Философия и история становятся
предпосылкой литературной критики. Художественное
произведение рассматривается теперь не как самоволь-
ный и субъективный плод таланта при неизменности пра-
вил и примеров, но как более или менее бессознательный
продукт мирового духа в определенный момент его су-
ществования. Талант есть сконцентрированное и субли-
мированное выражение коллективных сил, комплекс ко-
торых и создает индивидуальный облик данного обще-
ства или века: Идея является его содержанием. Он на-
ходит ее вокруг себя, в обществе, где он родился, где
он получил образование и воспитание. Он живет общей
современной жизнью, с той разницей, что в нем более
развиты ум и чувство. Его сила состоит в том, что он
сливается с нею в духе, и этот духовный союз писателя
со своим предметом и составляет стиль. Предмет или
содержание не может, следовательно, быть для автора
безразличным; именно в нем должен он искать свое
вдохновение и свои правила.
С изменением общей точки зрения изменились и кри-
терии. Литературу Возрождения осудили как классиче-
скую и условную; использование мифологии высмеива-
лось. Эти цельные идеалы, награжденные наименованием
классических, были сочтены подделкой идеального,
идеей в ее пустой абстракции, а не в ее исторической
определенности, не в многообразии ее существования.
Была свергнута риторика с ее пустыми формами, сверг-*
нута поэтика с ее механическими и произвольными пра<
вилами. Снова вернулись к старому лозунгу Гольдони:
«Рисовать с натуры, не искажать природу» К
Живое ощущение идеального сочеталось с тщатель-
ной заботой об исторической правдивости. Эпопея усту-
пила место роману, трагедия— драме2. В лирике новы-
ми ритмами зазвучали баллады, романсы, фантазии и
гимны. Естественность, простоту, силу, глубину, чувство
1 См. Гольдони, Мемуары, ч. III, гл. XI, § 14.
2 В рукописи далее вычеркнуто: «Снова вошла в моду новелла».
533
ценили гораздо более, чем достоинство и изысканность,
ибо первые качества были тесно связаны с содержанием.
Данте, Шекспир, Кальдерон, Ариосто, считавшиеся наи-
более далекими от классицизма, стали крупнейшими
светилами. Предпочтение оказывалось Гомеру и библии,
примитивным и непосредственным поэтам, богословским
или национальным. И часто грубого летописца предпо-
читали изящному историку, а народную песнь — торже-
ственной поэзии. Содержание в своей прирожденной
цельности ценилось более, чем всякая позднейшая искус-
ственная обработка. Из истории были изгнаны все фан-
тастические и поэтические элементы, вся та деланная
помпезность, которую внесло в нее классическое под-
ражание. И поэзия сблизилась с прозой, стала подра-
жать разговорному языку и народным формам.
24. Все это было названо романтизмом, литературой
современных народов. Новое слово имело успех. Реак-
ция видела в нем возвращение к средневековью и к ре-
лигиозным идеям, осуждение ненавистного Возрождения
и в особенности еще более ненавистного XVIII века.
Либералы, не имея возможности напасть на правитель-
ства, напали на Аристотеля, на классиков и на мифоло-
гию; было приятно хотя бы в литературе прослыть рево-
люционером, бунтовщиком против правил. Система была
столь пространной и в ней были перемешаны столь раз-
личные идеи и тенденции, что каждый мог рассматри-
вать ее сквозь свою призму и брать то, что было для
него удобнее. Правительства не вмешивались, будучи
довольны, что литературные стычки отвлекают умы от
общественных дел.
В Италии проявились обычные симптомы раболеп-
ства: сражения «за» и «против» академии делла Круска,
проблемы языка, литературные пререкания, которые
иной раз кончались политическими доносами. «Proposta»
и «Sermone all'Antonietta Costa» были теми великими
событиями, которые воспоследовали за битвой при Ва-
терлоо1. В Италии шумели пуристы и лассисты, клас-
сики и романтики. Журналисты за отсутствием полити-
1 «La Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario
della Cfusca» и уже цит. «Sulla Mitologia» «Ad Antonietta Costa»
Монти были опубликованы соответственно в 1817 (первый том;
последующие вышли в 1826 году) и в 1825 году.
534
ческой материи искали в этих спорах свою пищу.
Наиболее оживленным центром литературного движе-
ния по-прежнему оставался Милан, где скорее и сильнее
ощущались французские и немецкие влияния. Именно
там в журнале «Кафе» впервые проявил себя XVIII век.
Теперь в журнале «Кончильяторе» открылась эра
XIX века. Мандзони напоминал Беккариа: Верри и
Баретти нового века носили имена Сильвио Пеллико
и Джованни Берше; друзьями Мандзони были Томмазо
Гросси и Массимо д'Адзелио, ставший мужем Джулии
Мандзони и связующим звеном между Ломбардией и
Пьемонтом, где тот же круг идей выдвигали Чезаре
Бальбо и Винченцо Джоберти. Старое поколение пере-
плеталось с новым. Еще были живы как напоминание
об итальянском королевстве Монти, Фосколо, Джованни
и Ипполито Пиндемонте, Пьетро Джордани. Рядом
с Мелькиорре Джойя мы видим Сисмонди — итальянца
умом и сердцем; и в то время как старый Романьози
писал «Науку о конституции», молодой Антонио Роз-
мини публиковал трактат «О происхождении идей»1.
Выступили Камилло Угони, Феличе Белотти, Андреа
Маффеи — переводчик Клопштока и Шиллера. Рядом
с поэтами мы видим критиков, также пробующих свои
силы в поэзии: Джованни Торти, Эрмес Висконти, Джо-
ванни Де Кристофорис, Самуэле Биава. В этих же ря-
дах боролись Карло Порта, Никколо Томмазео, братья
Чезаре и Иньяцио Канту, Марончелли, Конфалоньери
и другие, второстепенные авторы.
Чего хотели романтики, о чем они столь громко воз-
глашали на страницах «Кончильяторе»? Они с юноше-
ской дерзостью говорили о старом поколении, едва отве-
шивали поклон великому отцу Алигьери, расхваливали
иностранных писателей, в особенности англичан и нем-
цев, не терпели мифологии, насмехались над тремя един-
ствами, мало заботились о правилах и склоняли голову
только перед разумом. Этот рационализм, или свободо-
мыслие, прилагался к литературе теми самыми людьми,
1 Написанная в последние годы жизни Романьози «Scienza
delle costituzioni» была опубликована посмертно (Турин, 1847);
«Nuovo saggio" suil'origine delle idee» Антонио Розмини было опубли-
ковано в Риме в 1829 — 1830 годах. О Розмини см. лекции о литера-
туре XIX века («La scuola cattolico-liberale», cit., pp. 261—294).
635
которые в области религии проповедовали веру и авто-
ритет. Наоборот, классики, столь неверующие и скепти-
ческие в религиозных делах, считались людьми суевер-
ными в области литературы. Казалось неразумным, что-
бы Аристотель, низвергнутый в области философии,
оставался бы на своем троне в литературе. Шла ожи-
вленная борьба между «Кончильяторе» и «Итальянской
библиотекой», которой подпевала «Миланская газета».
В этой борьбе смешивались простодушные и мошенники,
серьезные писатели и ремесленники. И в результате бес-
конечных препирательств, стольких преувеличений в на-
падках и защите произошла такая путаница суждений,
что даже и в настоящее время не известно, что такое
романтизм и в чем он по существу отличается от клас-
сицизма. Многие утверждали, что Монти был роман-
тическим талантом в классических формах; другие го-
ворили, что Мандзони со всеми своими романтическими
претензиями на самом деле был классиком. Некоторое
прояснение наступило, когда отставили в сторону слово
«романтизм» как предмет спора и занялись це названием
товара, а его качеством. Вместо «романтизма» — немец-
кого заимствования — постепенно стали употреблять дру-
гое название — «национальная новая литература». На
этом сошлись все, и романтики и классики. Романтизм
в Италии остался связанным с идеями немецкого про-
исхождения, распространявшимися Шлегелем и Тиком,
в той преувеличенной форме, которую он принял во
Франции, где его возглавлял Виктор Гюго. Они отвер-
гали язычество и восстанавливали средние века, отка-
зывались от классической мифологии и восхваляли ми-
фологию скандинавскую. Они хотели свободы искусства
и отрицали свободу сознания. Они отбрасывали пластич-
ность и простоту классического идеала и заменяли его
готикой, фантастикой, мрачным и неопределенным. Ис-
кусственность и условность классического подражания
они подменяли искусственными и условными подража-
ниями еще худшего вкуса. И, испытывая отвращение к
классической красоте, они поклонялись уродству. Один
предрассудок изгонял другой. То, что было законным
и естественным у Шекспира и у Кальдерона, стано-
вилось странным, грубым, деланным по истечении та-
кого большого времени, при такой разнице в понятиях
и чувствах.
536
Романтизм с этими немецкими и французскими пре-
увеличениями не привился в Италии, он едва задел по-
верхность. Немногие* попытки могли лишь лучше под-
черкнуть несозвучие итальянского гения. И романтики
были рады, когда смогли отбросить это заимствованное
название, источник стольких недоразумений и ссор, и
назваться именем, принятым всеми. В Германии роман-
тизм также вскоре ушел в высокие сферы философии и,
освободившись от фантастических форм и реакционного
содержания, преуспел под именем новой литературы,
эклектически подчинив все элементы и все формы выс-
шим принципам эстетики или философии искусства.
Когда романтизм был в этой своей первой стадии,
когда он утверждал себя в отличие и в противополож-
ность прошлому веку, объявил войну Альфьери и про-
возглашал новую литературную реформу, то ошибка
его состояла в непонимании того, что он, по существу,
был не противоречием, а следствием именно того века,
против которого ополчился. В Германии романтическая
идея возникла в противовес французским подражаниям,
бывшим в такой моде при Фридрихе Великом. Это было
преувеличением, но благодаря такому преувеличению
сложились первые основы национальной литературы, из
которой вышли и Шиллер и Гёте. А это было делом
XVIII века. Шиллер был современником Альфьери. Когда
же романтическая идея появилась в Италии, то в Гер-
мании она уже пришла в упадок и преобразовалась
в философскую и универсальную концепцию искусства.
Гёте вступил уже в свой третий период — пантеистиче-
ский спиритуализм, из которого возник «Фауст». Таким
образом, романтизм пришел в Италию слишком поздно,
потом то же самое было и с гегельянством. Нам пока-
залось прогрессом то, что немецкая культура уже пре-
взошла и поглотила. Литературная реформа, о которой
в Италии столько трубили, не возникла, а продолжалась.
Она началась еще в предшествующем веке. Это была
именно та новая литература, которую создали Гольдони
и Парини в то самое время, когда в Германии закла-
дывались основы немецкой культуры. Разница состояла
в том, что Германия выступила против французских по-
дражаний и обретала сознание своей умственной само-
стоятельности, в то время как Италия, присоединясь к
европейской культуре, поднималась против своей замкну-
637
тости и умственного застоя. Италия входила в лоно ев-
ропейской культуры и занимала в ней свое место, про-
гоняя от себя частичку самой себя — маньеризм, Арка-
дию и академию; Германия, наоборот, начинала свою
интеллектуальную реформу, отталкиваясь от француз-
ской культуры и возвращаясь к своим традициям. Фран-
цузское влияние было лишь кратким отклонением в не-
прерывном движении немецкой жизни, — движении, ко-
торое укрепилось в борьбе за независимость и привело
этот народ в XIX веке к четкому осознанию своей на-
циональной самостоятельности и своего интеллектуаль-
ного превосходства. Поэтому немецкая реформа разви-
валась мирно и гармонично, ясными этапами, быстрыми
шагами, согласованно во всех областях знания, не под-
талкиваемая европейской культурой, но сама двигая ее
вперед. Немецкая культура, вначале преувеличенная и
нетерпимая в своем романтизме, за краткий промежуток
времени объяла все горизонты и примирила все элемен-
ты истории в обширном единстве, колоссальным памят-
ником которого остается «Фауст» — эта «Божественная
комедия» современной культуры. В «Фаусте» все рели-
гии и культуры, все элементы и формы объединяются
и становятся частичкой воскресшего Пана, они подчи-
нены одним и тем же законам — будь то дух или при-
рода,— выражают одну и ту же идею, все в прошлом
бессознательное и враждебное друг другу, а ныне объ-
единенное ироническим оком сознания. Отсюда то цар-
ственное безразличие к формам, которое было названо
гётевским скепсисом и которое явилось проявлением
олимпийского спокойствия высшего разума, терпимостью
ко всем различиям, гармонически примирившимся в выс-
шем мире философии и искусства. Так романтический
мистицизм преобразовался в пантеистический идеализм,
христианская идея — в идею философскую, Христос еван-
гелия— в Христа Штраусса *, теология погружалась в
глубины философии, догма и сомнение сливались в кри-
тике, и знаменитое cogito находило и отправную и ко-
нечную точку в осознании себя как духа в нравственном
1 Подразумевается знаменитая «Das Leben Jesu» (1835) Давида
Фридриха Штраусса (1808—1874). О Штрауссе и его взглядах см.
лекции о литературе XIX века («Mazzini e la scuola democratica».
cit., p. 25).
538
Алессандро Мандзони.
и природном мире — конечный пункт, ставший застой-
ным в поверхностном эклектизме французов.
Когда Мандзони, еще целиком увлеченный Альфьери,
побывал в Париже, он впервые соприкоснулся с теми
литературными кругами, которые находились в оппози-
ции к Империи и в которых царил дух Шатобриана и
мадам де Сталь. Там он получил представление о куль-
туре Германии и занялся историей немецкой литературы.
Он установил связи с выдающимися людьми обеих вели-
ких наций; Кузен называл его своим другом, Фориэль
и Гёте выдвигали молодого поэта К Горизонты его рас-
ширились, он увидел новые миры и восстал против свое-
го литературного воспитания, против своих юношеских
кумиров, против Альфьери и Монти. В Милане после
падения итальянского королевства молодежь сплотилась
вокруг новых идей, и Мандзони стал главою романтиче-
ской школы. Таким образом, когда в Германии, уже про-
шедшей философский и идейный цикл развития своей
культуры, трудились над приложением его во всех со-
циальных и естественных науках, в Италии пока еще
спорили о принципах. Естественно, что ни сам Мандзони,
ни другие не могли ассимилировать все немецкое движе-
ние, труд целого века, и видели лишь его начальную и
поверхностную сторону. Они восхищались Шиллером,
Гёте, Гердером, Кантом, Фихте, Шеллингом, но гораздо
лучше знали отечественных философов и литераторов,
а от немцев до них доходило лишь эхо, часто через ис-
следования и суждения, из вторых рук, порою — через
посредство французских писателей. Поэтому наши ро-
мантики сохранили' свою неискушенность и ставили
проблемы так, как это подобало в Италии, при помощи
1 Об отношениях Мандзони с Кузеном см.: «Carteggio di A. Man-
zoni», под ред. G. Sforza и G. Gallavresi, vol. I, ibid., pp. 522 и ел.—
письмо Мандзони к французскому «эклектику» 21 февраля 1821 года
(они встретились впервые в Милане в октябре 1820 года). Де Санк-
тис имеет здесь в виду, так же как и в статье об «Обрученных»
(см. «Manzoni», vol. X, p. 49), разговор Кузена с Гёте 28 апреля
1825 года, о котором сам Кузен писал в «Globe», t. V, p. 26. См. из-
ложение его в приложении к письму Мандзони к Гёте 23 января
1821 года в «Epistolario di A. Manzoni», Milano, Carrara, vol. I, pp. 193
и ел. У Мандзони впервые установился контакт с Гёте через посред-
ство Гаэтано Кат^анео, который попросил Гёте высказать суждение
о «Священных гимнах»; оно было позже напечатано в «Ober Kunst
und Altertum», II, ц, 1820.
540
собственных методов и аргументов; из этого сложился
местный романтизм, свободный от чужеземных преувели-
чений и странностей, приспособленный к состоянию отече-
ственной культуры, робкий в своем новаторстве, сдер-
живаемый и литературными традициями и националь-
ным характером. Этот романтизм был не чем иным, как
развитием новой литературы, возникшей у Парини, и по
своим формам и колориту он оставался чисто итальян-
ским.
И действительно, в своих основных моментах этот
романтизм совпадал с движением, начавшимся в пред-
шествующем веке, и нет ничего удивительного, что борь-
ба, завязавшаяся с таким энтузиазмом и в такой сумя-
тице, закончилась при полном безразличии итальянского
народа, который находил нужное ему у обеих враждую-
щих сторон. Романтики хотели, чтобы Италия расста-
лась с классическими темами? Но они и так уже давно
надоели, и Италия уже имела «Оссиана», «Саула», «Рич-
чарду» и «Барда черной дубравы»1. Романтики хотели
брать персонажи из жизни? Хотели простых и естествен-
ных форм? Но ведь Гольдони проповедовал именно это.
Романтики презирали пустые формы? Но под этим зна-
менем боролись и Парини, и Альфьери, и Фосколо, и
именно возрождение содержания, восстановление вну-
треннего мира было характерной чертой новой литера-
туры. Чем были три единства и мифология — яблоко раз-
дора,— если не дополнительными проблемами того же
круга? Ведь и новая концепция мира, уже не абсолют-
ная и застывшая, а человечная и даже религиозная,
просвечивала в «Гробницах» Фосколо и Ипполито Пин-
демонте2. Таким образом, романтическая школа, связан-
ная по своему названию, по своим взаимоотношениям,
1 Перевод Чезаротти поэм Оссиана появился в 1763 году;
«Саул» — в 1783; предромантическая трагедия Фосколо «Ricciarda»
была представлена в Болонье в 1813 и впервые опубликована в Лон-
доне в 1820 году; «II Bardo della Selva Nera», которую Монти сочи-
нил в честь Наполеона, перепевая в согласии со вкусом императора
темы и формы поэзии Оссиана, была напечатана в Парме в 1806 году
(первые шесть песен; седьмая появилась посмертно в 1833 году).
2 О «Гробницах» Пиндемонте, написанных в ответ на поэму
Фосколо, см. юношеские лекции о литературных жанрах («Teoria e
storia», cit., pp. 161—162, и «Purismo illuminismo storicismo», cit,
t. II). В частности, о христианском мотиве, пронизывающем это
послание, см, заключение лекции: «Большой заслугой Пиндемонте
54J
учебе и влияниям с немецкими традициями и фран-
цузской модой, оставалась в своем существе итальян-
ской школой по окраске и устремлениям, по фор-
мам и мотивам. Это была все та же школа предшествую-
щего века, которая после великих иллюзий и великих
разочарований возвращалась к своим началам — к есте-
ственности Гольдони и умеренности Парини. К этой
школе скорее принадлежали романтики, боровшиеся с
ней, чем классики — ее наследники по названию, но на-
следники выродившиеся; жизненность этой школы каза-
лась исчерпанной в,пустой помпезности Монти и в пу-
ристской риторике Пьетро Джордани. Эта школа явно
шла к упадку в период существования итальянского ко-
ролевства; "не приобретя новизны содержания, она замы-
калась в самой себе и стала под именем пуризма игрой
фраз, заботясь лишь о чистоте стиля Треченто и об изя-
ществе Чинквеченто. Снова вошли в моду грамматисты,
лингвисты и риторы; под новым именем расцвела Арка-
дия и академия. Именно поэтому оказалось возможным,
что в тот самый момент, когда вышли «Гимны» Мандзо-
ни, в Париже была опубликована «Американская исто-
рия» Карло Ботта — такой опус, что даже академики
делла Круска почувствовали себя превзойденными и за-
давали вопрос, каким же языком «История» написана !.
было заполнение пробела, оставленного Фосколо в области религии;
Пиндемонте сделал лишь начальный набросок, важный как первый
признак того, что позже будет развито у Мандзони». О значении
«Гробниц» Фосколо см. выше, § 21.
1 Первое парижское издание «Storia della guerra dell'indepen-
denza degli Stati Uniti d'America» появилось в 1809 году (в четырех
томах в изд. Colas). В Италии она была позже перепечатана с по-
правками (Ferrari, Milano 1819). О книжном, архаическо-академиче-
ском языке Ботта см. предисловие к «Storia d'ltalia continuata da
quella del Guicciardini» и, в частности, Джоберти в «Pensieri e giu-
dizi», cit. (Firenze 1856), p. 43. См. также в «Diario autobiografico
del conte di Cavour» Д. Берти, Рим, 1888, п. 219, суждение Луиджи
Орнато, которое передал Кавуру сам Джоберти; оно сводится
к тому, что Ботта писал свою историю не для потомков, а для пред-
ков. О Ботта молодой Де Санктис резко отозвался в одной из пер-
вых неаполитанских лекций: «Он следует за Гвиччардини, и ему это
удается в предмете и в манере изложения фактов; но он ненавидит
идеи и высмеивает их, а поэтому он явно уходит с пути современ-
ной мысли и сам не замечает, что отбрасывает итальянскую мысль
на несколько веков назад» («Teoria e storia», cit., II, p. 141, и «Pu-
rismo illuminismo storicismo», t. III). См. также t. XII, изд. Эйнауди:
«Mazzini e la scuola democratica»,
542
Романтики, восстав против этой школы, влили в нее
свежую кровь и, выступая по видимости как враги,
оказались ее подлинными наследниками. Они дали ей
новое содержание и новый идеал, счистили с нее клас-
сическую и мифологическую лакировку, приблизили ее
к простым и естественным народным формам, искренним
и свободным от всяких искусственных оболочек, от ри-
торических и академических преувеличений, от старых,
еще не преодоленных литературных навыков, остатки ко-
торых еще видны даже в негодовании Альфьери и
Фосколо. Так же как в оболочке реакции романтики были
революцией, которая, умеряясь и дисциплинируясь, со-
биралась с силами, увлекая даже бога на сторону про-
гресса и демократии, равным образом в форме оппозиции
эти романтики были новой литературой, идущей от
Гольдони и Парини, — литературой, которая освобожда-
лась от последних остатков старого, все более ясно осо-
знавала свои устремления и, расставаясь с застывшими
и абсолютными идеалами, становилась на твердую поч-
ву, приближалась к реальному.
25. Это более живое чувство реальности было воспри-
нято и итальянским народом. Это был уже не тот ака-
демический народ, который рукоплескал в театре на
представлениях «Виргинии» и «Аристодема» и аплоди-
ровал Италии в сонетах и канцонах. Он повидал сво-
боду во всех ее формах, в ее иллюзиях, обещаниях, в
разочарованиях и преувеличениях. Итальянское коро-
левство, экспедиция Мюрата, посулы союзников, борьба
Испании и Германии за независимость, восстания в Гре-
ции и Бельгии заострили национальное чувство: един-
ство Италии было уже не риторической темой, а серьез-
ной целью, к которой обратились умы и воля. Наи-
более смелые и нетерпеливые участвовали в тайных
обществах, против которых также тайно конспирировали
клерикалы — «санфедисты». Это все еще было старое.
А новое заключалось в том, что у огромного большин-
ства образованных людей складывалось политическое
сознание, ощущение границ возможного; риторика и
декламация уже не имели власти над душами. Огром-
ность препятствий умеряла желания и уводила умы от
абстракций к достижимым целям и к надлежащим сред-
ствам. Свобода находила свой предел в конституцион-
ных формах, а национальное чувство — в концепции
543
большей независимости от иностранцев. Появилось новое
словечко: говорили уже не «революция», а «прогресс».
Оно обозначало величественное шествие идеи во времени
и пространстве к бесконечному совершенствованию че-
ловеческого рода — нравственному и естественному. Про-
гресс стал верой, религией века. И он получил свободный
пропуск, ибо изгонял злосчастное слово «революция» и
провозглашал естественную эволюцию истории, осуждая
насильственные изменения. Прогресс рекомендовал на-
родам терпение, доказывал совместимость любого улуч-
шения с любой формой правления и согласовывался с
христианской философией, которая проповедовала упо-
вание на бога, молитву и смирение. Кроме того, свобода
и революция указывали на немедленные цели, недопусти-
мые для правительств, а понятие прогресса в своем ту-
манном общем значении охватывало любое улучшение
и предоставляло государям возможность дешевой ценой
заслуживать восхваления, когда они вводили безобид-
ные улучшения, как, например, железные дороги, газо-
вое освещение, телеграф, свободу торговли, детские
приюты, научные конгрессы и сельскохозяйственные вы-
ставки. Постепенно либералы вернулись на свои исход-
ные позиции и, не имея сил победить правительства,
льстили им и надеялись на реформы, дарованные госу-
дарями и даже папой; они повторяли времена Тануччи,
Леопольда, Иосифа и повторяли почти ту же Аркадию.
Разумеется, теория, такого прогресса, который полагался
на бога и на Идею, неизбежно должна была привести
к мусульманскому фатализму и, побуждая народы до-
вольствоваться малым, грозила ослабить характеры и
превратить либерализм в новую Аркадию, как того
опасался Джузеппе Мадзини, который противопоставлял
этому свою «Молодую Италию». Правда, подавление
восстаний 1821 и 1831 годов и провал нескольких попы-
ток Мадзини, политика невмешательства либеральных
наций, мощь Австрии, считавшейся неодолимой, сила и
строгость итальянских правительств — все это распола-
гало более внимательно изучать средства, толкало к
компромиссам, развивало политическое чутье и умень-
шало популярность доктрины «все или ничего». Тот же
самый Мадзини, находившийся в авангарде, допускал
в своих выражениях и формулировках оттенок мисти-
цизма и туманного идеализма, который проник в фило-
544
s
<
софию и в литературу и который выдавал в Мадзини че-
ловека своего века; он также был склонен считаться с
реальными условиями общественного мнения и жертво-
вать им частицей своего идеала1. Но в результате такого
ослабления страстей большинство, доверяясь естествен-
ному прогрессу событий и будучи убеждено, что и при
дурных правительствах можно развивать культуру и
народное просвещение, отказалось от прямой полити-
ческой деятельности и предалось умственным занятиям:
процветали науки, развивалось художественное чувство
и гений музыки и пения; Тальони и Малибран, Рашель
и Ристори, Россини и Беллини, научные и литератур-
ные диспуты, французские и итальянские романы заняли
в жизни то место, которое политика оставила пустую-
щим. За короткий промежуток времени увидели свет
«Граф Карманьола»,. «Адельгиз» и «Обрученные», «Пиа»
Сестини2, «Беглянка», «Ильдегонда», «Крестоносцы» и
«Марко Висконти» Гросси, «Франческа да Римини» Пел-
лико, «Маргерита Пустерла» Канту, «Этторе Фьерамо-
ска» и позже «Никколо де'Лапи» Массимо д'Адзелио3.
Последними появились «Мои темницы», произведшие
самое сильное впечатление4.
1 См. t. XII, изд. Эйнауди, «Mazzini e la scuola democratica».
2 «Pia de'Tolomei» Бартоломео Сестини (1792—1822) была опу-
бликована сначала в Риме в 1822 году и затем многократно перепе-
чатывалась. Повесть Гросси «La fuggitiva» появилась на миланском
диалекте в 1817 году; на следующий год она вышла на итальян-
ском языке. «Ildegonda» была напечатана в 1820 году. «I Lombardi
alia prima crociata» и роман «Marco Visconti» были опубликованы
в Милане соответственно в 1826 и в 1834 годах. О Гросси и о бы-
стром изменении манеры романтизма в Италии см. лекции Де Санк-
тиса о либерально-католической школе (t. XI, изд. Эйнауди, pp. 15
и ел.).
3 «Francesca» Пеллико (о ней см. также след. примеч.) была
представлена в Teatro Re в Милане в 1815 году. Роман Чезаре
Канту вышел в 1838 году; романы д'Адзелио — в 1833 и в
1841 годах.
4 О книге Пеллико см. цит. юношеские лекции («Teoria e sto-
ria», cit., I, pp. 252—254, и «Purismo illuminismo storicismo», cit., II)\
Высказанное там суровое суждение повторяется в замечании, обро-
ненном в предисловии к «Ricordanze» Сеттембрини (Неаполь, 1879):
«Когда я читаю Сильвио Пеллико, книга то и дело выпадает у меня
из рук из-за ее прямо-таки тюремной монотонности». Ср. «L'arte la
scienza e la vita», cit. Иная точка зрения — восхищение нравствен-
ной стороной произведения — высказана в лекциях о литературе
XIX века («La scuola cattolico-liberale», cit., p. 348).
35 Де Санктив
645
Это был тот литературный цикл, который получил
название романтического, — итальянский романтизм, ко-
торый заставлял звучать самые заветные струны в сер-
дце человека и патриота; это чувство меры, этот идеал,
воплощенный в истории, эта история, проникнутая па-
триотическими побуждениями, эта меланхоличность
чувств, эта тонкость анализа при крайней простоте мо-
тивов свидетельствовали о зрелом духе, который соче-
тает идеалы с изучением реальности.
Затем появились «Арнольд Брешианский» и «Осада
Флоренции», в которых краски были более резкими и
устремления более смелыми1. Каждый чувствовал, что
под скорлупой средневекового сюжета трепещут совре-
менные чаяния; малейший намек, самое отдаленное
сходство на лету схватывались публикой, которая разде-
ляла чувства писателей. Романтизм утрачивал серьез-
ность своего содержания; само слово выходило из моды.
Средневековье перестало быть предметом, изучаемым
с историческими и позитивными намерениями. Оно ста-
ло оболочкой наших идеалов, довольно прозрачным вы-
ражением наших надежд. Избирались сюжеты, которые
могли лучше передать чувства и мысли общества, как,
например, история Ломбардской лиги, истолкованная
как борьба Италии против Германии. Массимо д'Адзе-
лио, который являет собой переход от художественной
манеры романтиков к более открытому политическому
изображению, замышлял третий роман, темой которого
должна была явиться Ломбардская лига. Д'Адзелио-
художник следовал д'Адзелио-писателю. Из-под его ки-
сти вышли картины «Поединок в Барлетте», «ТостФран-*
ческо Ферруччо», «Битва при Гавиньяно», «Оборона
Ниццы» и «Битва при Турине»2.
Так же было и с мистицизмом. Художественное вдох-
новение, породившее «Гимны», «Пятое мая» и «Эрмен-
1 О трагедии Никколини «Arnaldo di Brescia» (Firenze 1843)
и об «Assedio di Firenze». Франческо-Доменико Гверрацци см. цит.
лекции в «Mazzini e la scuola democratica», соотв. pp. 190 и ел.
и 20. О Гверрацци см. также статью «Beatrice Cenci» в «La crisi del
gusto romantico», cit.
2 О Массимо д'Адзелио см. цит. лекции в «La scuola cattolico-
liberale», cit., pp. 307 и ел., и, в частности, о его третьем незакончен-
ном романе «La Lega lombarda», p. 323..
646
гарду»', создавало уже не саму картину, а аксессуары,
просто надоевший колорит на чуждом философском и
политическом фоне. Появились гимны науке, искусству,
гимны войне. Мадонны, ангелы, святые и рай удержа-
лись в этой поэзии на тех же правах, как раньше сохра-
нялись Паллада, Венера и Купидон, — как простые поэ-
тические украшения, чуждые внутреннему духу сочине-
ния или же чисто аркадийские. Всякую романтическую
и классическую оболочку поэзия сбрасывает в стихо-
творениях Берше. Этому немало способствовал лорд
Байрон, который долгое время жил в Венеции и гордые
ноты поэзии которого слышатся в «Беглецах из Парги» 2.
Если бы Джованни Берше оставался в Италии, то, ве-
роятно, его гений так и не сбросил бы с себя пут наме-
ков и романтического мрака. Но изгнанник принес в
Лондон страдание и негодование преданной и побежден-
ной родины. Голос национального гнева звучит в его
лирике, которая, расставшись с избитыми сонетами и
канцонами, сочеталась с драмой и выразила жизнь в
самых патетических ситуациях3.
Мощный голос этой драматической лирики одиноко
раздался в Италии, где второстепенные цели политиче-
ской осмотрительности затушевали истинность и муже-
ственность выражения. Был найден некий modus Vi-
vendi, как выразились бы сейчас, временные соглаше-
ния между государями и народами. Узы ослабли,
1 Об образе Эрменгарды в трагедии «Адельгиз» см. t. X, лекцию
от 9 февраля 1872 года. Однако здесь Де Санктис имеет в виду
главным образом второй хор трагедии: «Sparsa le trecce morbide» —
как самобытную лирику.
2 О Берше и, в частности, о «I profughi di Parga», а не только
в сопоставлении с Байроном см. цит. лекции, t. XII, pp. ЮЗ и ел,
В немногих строках, посвященных здесь Берше, ясна позиция Де
Санктиса, уже выраженная в статье «Giudizio del Gervinus sopra
Alfieri e Foscolo» (1855) (см. t. VII, изд. Эйнауди) и развитая в лек-
циях 1871—1873 годов, где Де Санктис проводит четкое различие
между либеральным и демократическим течениями в литературе
Рисорджименто.
3 В цит. лекции: «Если бы он остался в Милане, как Мандзони
и Гросси, он, вероятно, подражал бы испанским романам, англий-
ским, французским и немецким писателям, но в нем не пробудился
бы художник. Но когда ему пришлось покинуть Милан и отбросить
всякую сдержанность, ощутить горести одиночества и нужды, жар-
кую любовь к родине, когда все эти чувства закипели в его душе —
тогда оц смог создать бессмертные песни» (cit. t., p. 130)*
35*
/
547
возникла большая свобода писать, собираться, высказы-
ваться, по-прежнему во имя прогресса, культуры, циви-
лизации; противников стали называть «обскурантами».
Берше.
Государи корчили улыбки, сулили реформы, и даже наи-
больший ретроград, Фердинанд II, призвал в универси-
теты, в магистратуру и в министерства культурных лю-
дей и устами монсиньора Мадзетти возвещал о пере-
стройке системы образования К Чего еще было желать?
1 Имеется в виду «Progetto di riforma del regolamento di pubblica
istruzione», опубликованный в Неаполе в 1838 году монсиньором
Джузеппе Мариа Мадзетти, который руководил народным просве-
щением в Неаполе. О нем см. V. А р г е d a, Elogio funebre, Napoli
1850, и статью Де Сапктиса «L'Ultirno de' puristi», в t. I, изд.
Эйнауди,
548
Либералы, обладавшие тем тонким нюхом современно-
сти, который проявляет каждый, соблюдая свои соб-
ственные интересы, слагали гимны государям, пожимали
руки священникам и даже улыбались иезуитам.
Именно в это время появилось в Италии в высшей
степени странное сочинение — «Примат» Винченцо Джо-
берти К В нем с большим красноречием и эрудицией, с
изысканностью и высокомерием формулировок провоз-
глашался примат итальянской цивилизации, связанной
через этап римской славы с традициями италиков и пе-
лазгов и основанной на папстве как восстановителе ре-
лигии в ее чистоте, примирившемся с новыми идеями и
склонном к автократии таланта и освобождению плебей-
ских сословий. Принцип сотворения, заменивший геге-
левский принцип становления, вновь оживил элементы
сверхъестественного и догмат об откровении; все Рисор-
джименто было объявлено не ортодоксальным или «не-
католическим»,- и современность связывалась непосред-
ственно с средневековьем. Это было политическое со-
глашательство, возведенное в философию; философия,
созданная на потребу итальянцам2. Впечатление было
огромным. Казалось, итальянская философия достигла
своего завершения. В «Примате» увидели примирение
всех противоположностей: папа рука об руку с госуда-
рями, государи, подружившиеся с народами, мистицизм,
сочетающийся с социализмом, бог и прогресс, иерархия
и демократия — словом, всеобщее равновесие. Движение
это было явно политическим, а не религиозным и не фи-
лософским. И вышла из него не религиозная реформа и
не интеллектуальное развитие, а политическое движе-
ние, основывавшееся на двусмысленности и рухнувшее
при первом столкновении с фактами. Таков был облик
1 Подробный анализ «Primato» и идей Джоберти см. в цит. лек-
циях 1872—1873 годов («La scuola catolico-liberale», cit, pp. 275
и ел.). Об эстетике Джоберти см. неаполитанские лекции в «Teoria
е storia», cit., t. II, pp. 101—116, и «Purismo illuminismo storicismo»,
cit., t. III.
2 См. в цит. лекциях: «Сейчас метод Джоберти вызывает улыбку
сострадания; от него остается лишь неопределенное устремление ли-
берального католицизма, все остальное исчезло. Я произнес смелое
слово: улыбка сострадания по отношению к столь талантливому
человеку! Но его концепции — это легковесные утопии, которые
связывают его с Кампанеллой — утопистом, как и он» (cit., t.f
p. 285),
549
итальянского общества. Это была среда, в которой даже
самые гордые приспосабливались, не так уж недоволь-
ные настоящим и уповающие на будущее: либералы
Джузеппе Джусти.
шамкали «Отче наш», а иезуиты бормотали о прогрессе
и реформах. Ситуация в основе своей была комической,
и поэтом, который сумел вскрыть все тайны этого
комизма, стал Джузеппе Джусти.
550
Тоскана после трехвекового литературного блеска не
сохраняла более за собой руководства литературой в
Италии. Она уснула с улыбкой Берни на устах. Акаде-
мия делла Круска проинвентаризировала и набальзами-
ровала тосканскую традицию. Тоскана в своем сне со-
противлялась, отвергая импульсы XVIII века. Когда же
в Италии ощутили потребность в менее академическом
языке, близком по естественности и живости к разговор-
ному языку, то многие увлеклись местными диалектами,
другие ухватились за французские формы, третьи, во
главе с отцом Чезари, обратились к стилю Треченто. Ни-
кому не приходило в голову самое естественное реше-
ние вопроса: искать этот язык там, где на нем гово-
рили,— в Тоскане. После того как революция сблизила
итальянцев, возникли общие интересы, идеи, надежды.
Тогда в стенах Флоренции, любимого города Альфьери
и Фосколо, после 1821 года собрались знаменитые бе-
женцы из других областей Италии. Благодаря Вьессе
там возник литературный центр, соперничавший с ми-
ланским. Мандзони и д'Адзелио ездили за холмы Пи-
стойи собирать пословицы и поговорки живого языка.
Итальянцы учились казаться тосканцами; тосканцы, как
Никколини и Гверрацци, стремились воспринять италь-
янский дух. Во Флоренции возрождалась литературная
жизнь; местный элемент, вначале робкий и подавленный,
набирал силу и осознавал свою жизненность. Флорен-
ция вновь завоевала свое место в итальянской культуре
благодаря творчеству Джузеппе Джусти. Казалось, что
некий современник Лоренцо Медичи ироническим взгля-
дом окидывал общество XIX века. Все эти политические
ухищрения, это доктринерское лицемерие, этот всеоб-
щий маскарад, в котором подмигивали друг другу либе-
ральные арлекины и флюгеры, герои, сидящие в крес-
лах *, стали объектом насмешки, не лишенной грусти.
Это был Парини, переведенный на язык мелкого люда
Флоренции с той грацией и живостью, которые прида-
вали завершающие черточки образам и запечатлевали
их в памяти. Всякая система компромиссных идей в ее
стремлении ублажить и примирить крайние стороны
1 См. стихотворения Джусти «Brindisi di Girella», строки 13—15:
«Viva Arlecchini e burattini grossi e piccini», а также «II poeta e gli
eroi da poltrona»..
551
неизбежно приводит к комизму. Это доктринерское рав-
новесие, столь трудолюбиво выработанное XIX веком,
эта обширная систематизация и попытка вместить все
познание в идеальные конструкции, этот мистицизм, про-
питанный метафизикой, эта метафизика божественного
и абсолютного, скатывавшегося к теологии, это воль-
терьянство, отшлифованное святой водой, — все это рас-
падалось под насмешкой Джузеппе Джусти *.
26. Джакомо Леопарди знаменует завершение этого
периода 2. Метафизика, борющаяся с богословием, исто-
щила себя в этой попытке примирения. Множествен-
ность систем отняла веру в саму науку. Возник новый
скептицизм, который наносил удар не только религии и
сверхъестественному, но подрывал сам разум. Метафи-
зику сочли филиалом богословия. Идеи казались суб-
ститутом провидения. Все эти философии истории, рели-
гий, человечества, права имели вид поэтических построе-
ний. Теория прогресса или исторического рока в своем
развитии казалась какой-то фантасмагорией3. Злоупо-
требление провиденциальными и коллективными элемен-
тами привело теорию права к всесилию государства,
к централизму управления. Эклектизм представлялся
1 Упоминание о Джусти есть уже в статье «Giudizio del Gervi-
nus», в «Saggi critici», ed. Cortese, vol. I, p. 234 (см. t. VII, изд. Эй-
науди): «Вы говорите мне об итальянской литературе, об Альфьери
и Мандзони и не упоминаете, считая их второстепенными, Берше,
Джусти, Леопарди? Оставим в стороне вопрос об их величии. Но
даже в политическом отношении трудно найти писателей, которые
имели бы большее влияние на воображение: их поэзия — идеализиро-
ванная история всех иллюзий, надежд, разочарований, страданий
и чувств итальянской молодежи». В Джузеппе Джусти Де Санктис
видел поэта, сумевшего охватить все аспекты комической ситуации,
которую породили в Тоскане приспособленчество умеренных и сен-
симонизм либерально-католической культуры. Не исключено, что
в изображении Тосканы начала XIX века на Де Санктиса оказало
некоторое влияние сочинение Джузеппе Монтанелли «Memorie sulP
Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1840», 2 voll., Torino
1853—1855; см. рецензию Де Санктиса на это сочинение, опублико-
ванную в «Plemonte» (21—22 февраля 1856 года) и включенную
в «S.aggi critici» (ed. Cortese. t. II, pp. 43 и ел.), изд. Эйнауди, t. XVII.
2 О Леопарди см. t. XIII, изд. Эйнауди, О новизне интерпретации
Де Санктиса см. предисловие К. Мушетта к t. XIII, изд. Эйнауди,
а также Е. Bigi в «Classici», cit. t. II, pp. 395 и ел., и W. Binni, пре-
дисловие к «Leopardi» в издании (комментированном) Де Санктиса
(Bari 1953); о нем см. статью Н. Сапеньо в «Societa», IX (1953),
pp. 79 и ел.
3 В рукописи: «фантасмагорией воображения».
552
интеллектуальным застоем, мертвым морем. Прославле-
ние успеха притупляло моральное чувство и поощряло вся-
ческое насилие. Это примирение между старым и новым,
которое терпели как временную политическую необходи-
мость, воспринималось как профанация науки, нрав-
ственная вялость. У всей этой системы подтачивались
корни; начинался бунт против нее. Отсутствовала вера
в откровение. Отсутствовала и вера в философию. Снова
появилась тайна. Философ знал столько же, сколько
простой пастух. Эхом тайны был Джакомо Леопарди в
одиночестве своих размышлений и страданий. Его скеп-
сис возвещает о распаде этого богословско-метафизиче-
ского мира и знаменует наступление царства сухой
истины, реального *. Его «Песни» — глубокие и таин-
ственные голоса того трудного перелома, который носит
название XIX века. Мы наблюдаем в нем до предела
развитую внутреннюю жизнь. Внешний блеск этого века
прогресса не имеет значения, и поэт не без иронии гово-
рит о «прогрессивных судьбах» человечества2. Важно
исследование собственного сердца, внутренний мир, до-
бродетель, свобода, любовь; все идеалы религии, науки
и поэзии — тени и иллюзии перед лицом разума, кото-
рые, однако же, согревают душу и не хотят умирать.
Тайна разрушает интеллектуальный мир поэта, но не
затрагивает его нравственного мира. Эта напряженная
внутренняя жизнь, несмотря на крах всей теологии и ме-
тафизики, составляет оригинальность Леопарди и при-
дает его скептицизму религиозный отпечаток. Можно
сказать, что этот скепсис является преходящим для того,
в ком живет столь сильное нравственное чувство. Ка-
ждый ощутит здесь формирование нового.
27. Орудием этого обновления была критика, возник-
шая и выношенная в самом лоне эклектики. Век, взра-
стивший онтологические и идеальные тенденции, сам же
заложил основу своего распадения, а именно — живую
идею, воплотившуюся в реальность. С течением времени
чувство реальности все время развивается и расши-
ряется, позитивные науки берут верх, изгоняя все
1 Парафраз самого Леопарди; см. стихотворение «Al conte Pe-
poli»: «горькая правда» и «Alia ' primavera»: «мрачное лицо
истины».
2 См. стихотворение «La Ginestra», v. 51: «le magnifche sorti e
progressive»,
553
':'ШШ ?:':Ш- :Ш-^'ШШ*:-й
■ :'р.:р-^V%'■"■■>: .', ■;■•,-::;:-.:'V':'.:'" ■':'"■:'■■-
Джакомо Леопарди.
идеальные конструкции и системы. К новым догмам так-
же утрачиваете^ доверие. Но критика остается незатро-
нутой. Возобновляется терпеливый труд анализа. Вновь
на интеллектуальном горизонте заблистал Галилей вме-
сте с Вико. Революция, приостановленная и задержан-
ная различными временными системами, вновь полу-
чает свободу, восстанавливает связь с принципами
1789 года и делает выводы. Появляется социализм в по-
литическом плане, позитивизм — в интеллектуальном.
Словом эпохи является не только Свобода, но и Спра-
ведливость. Речь идет, при учете всех реальных элемен-
тов жизни, о демократии не только юридической, но и
фактической.
Преобразуется и литература. Она не считается с
классами, различиями, привилегиями. Уродливое стано-
вится рядом с прекрасным, или, лучше сказать, нет
больше ни прекрасного, ни уродливого, ни идеального,
ни реального, ни бесконечного, ни конечного. Идея не
отрывается от содержания, не ставится над ним. Содер-
жание не отделяется от формы. Все это одно, живое. Из
лона идеализма вырастает реализм в науках, в искус<
стве, в истории. Происходит окончательное устранение
фантастики и мистики, метафизического и риторического
элемента. Новая литература на основе преобразован-
ного сознания приобретает внутреннюю жизнь, освобо-
ждается от классической и романтической оболочки,
становится отражением современной всеобщей и нацио-
нальной жизни, как философия, как история, как искус-
ство, как критика; она стремится все более реализовать
свое содержание, и она теперь называется и является
на самом деле новой лихературой.
Италия, вынужденная весь век бороться за незави-
симость и за либеральные порядки, остававшаяся в че-
ресчур однообразном и общем круге идей и чувств, под-
чиненных ее политическим устремлениям, переживает
сейчас распад всей той богословско-метафизической и
политической системы, которая дала все то, что могла
дать. Онтология со своим блестящим синтезом сначала
одолела позитивные тенденции века. Теперь она явно
истощилась, сама себя повторяет и становится академич-
ной, ибо академия и Аркадия всегда являются по-
следними формами застойных доктрин. Посмотрите на
Кузена с его доктринерским эклектизмом. Посмотрите
656
/
/
/
/
на Прати в «Сатане и Грациях» и в «Арм'андо». Посмо-
трите на «Всеобщую историю» Канту 4. Наследницей он-
тологии является критика, родившаяся вместе с ней,
еще не свободная от заимствованных ,фантастических и
догматических элементов2, как это заметно у Прудона,
у Ренана, у Феррари3, но с явной склонностью не утвер-
ждать и доказывать, а исследовать. Скромная и терпе-
ливая монография занимает место философского и лите-
ратурного синтеза. Системы кажутся подозрительными,
законы принимаются с недоверчивостью, самые непоко-
лебимые принципы пускаются в переплавку, ничто не
принимается, если оно не вытекает из целого ряда до-
стоверных фактов. Удостоверить факт представляет
больше интереса, чем установить закон. Идеи, лозунги,
формулы, которые когда-то вызывали столько борьбы и
столько страстей, стали условным репертуаром, не соот-
ветствующим более реальному состоянию умов. Все это
уничтожил Джакомо Леопарди. Можно было бы ска-
зать, что именно в тот момент, когда создалась единая
Италия, распался тот интеллектуальный и политиче-
ский мир, из которого она родилась. Это показалось бы
разложением, если бы не появились еще неясные, но
видимые новые горизонты. Нас влечет неутомимая
сила, и едва улягутся одни устремления — появляются
другие.
Италия до сих пор была как бы окутана блистающей
сферой — сферой свободы и национальных чувств; отсю-
да родились философия и литература, движущая сила
которой находилась как бы вовне ее, хотя и вокруг нее.
Сейчас Италия должна заглянуть в себя, искать себя в
себе самой; сфера должна расшириться и конкретизиро-
ваться, как ее внутренняя жизнь. Религиозное лицеме-
рие, преобладание политических требований, академиче-
1 О «Satana e le Grazie» и о «Armando» Прати см. две статьи
Де Санктиса, опубликованные: первая — в «Cimento» в апреле
1855 года, а вторая — в «Nuova Antologia» в июле 1868 года и во-
шедшие в tt. IV и XIV. изд. Эйнауди. О Чезаре Канту и о его
«Storia universale» — «огромном арсенале» — см. лекции о либераль-
но-католической школе, t. XI, pp. 213—245.
2 В рукописи далее вычеркнуто: «но с явной склонностью к по-
зитивному изучению человека и природы».
3 О Прудоне, и Феррари см. политические статьи Де Санктиса
в t. XVII, изд. Эйнаудн.
556
ские привычку, долгая праздность, воспоминание о
многовековом рабстве и ничтожестве, чуждые импульсы,
препятствовавшие свободному развитию, — все это при-
вело к созданию искусственного, неустойчивого сознания,
лишая Италию сосредоточенности и глубины. Ее жизнь
еще во многом внешняя и поверхностная. Италия дол-
жна искать саму себ^я, рассматривая действительность
ясным взором, освободившись от всяких покровов и обо-
лочек, следуя духу Галилея и Макиавелли. В этих по-
исках реальных элементов своего существования ! италь-
янский дух воссоздаст свою культуру, восстановит свой
нравственный мир, освежит свои впечатления, обретет в
своей внутренней жизни новые источники вдохновения —
женщину, семью, природу, любовь, свободу, родину, на-
уку и добродетель — не как идеи, блистающие и витаю-
щие в пространстве, но как конкретные и близкие объек-
ты, ставшие его содержанием.
Подобная литература предполагает серьезную подго-
товку, исследования во всех областях познания, прово-
димые критикой, свободной от предвзятых мнений; эта
литература предполагает также существование развитой
национальной жизни, общественной и личной. Заглянуть
в нас самих, в наши нравы и обычаи, в наши идеи и
предрассудки, в наши добрые и дурные качества, сделать
современный мир нашим миром, изучив, ассимилировав
и преобразив его, «исследовать собственное сердце»2 в
соответствии с завещанием Джакомо Леопарди — таково
должно быть введение в национальную современную ли-
тературу3, коей небольшие признаки, отбрасывающие,
однако, большие тени, у нас уже появляются. Есть у нас
исторический роман, но еще нет ни истории, ни романа.
Нет у нас и драмы. Из творчества Джузеппе Джусти еще
не возникла комедия. А от Леопарди еще не пошла ли-
рика. Нас еще навязчиво преследуют академия, арка-
дия, классицизм и романтизм. Еще сохранились напы-
щенность и риторика, недостаточная серьезность в ис-
1 В рукописи далее зачеркнуто: «обращенных на изучение наук,
руководясь критикой, свободной от всех предвзятых мнений, дух..;»
2 См. Леопарди, «Palinodia», vv. 235—236, «И proprio petto esplo-
гаг che ti vale?»
3 О проблемах национальной литературы, как их рассматривал
Леопарди, см. цит. вводную статью К, Мушетта в t. XIII, изд.
Эйнауди,
567
следованиях и в жизни. Мы еще слишком/живем нашим
прошлым и трудом других. Это еще не ниша жизнь и не
наш труд. И сквозь наши похвальбы просвечивает со-
знание нашей неполноценности. У
Великий труд XIX века заверш/ется. Мы присут-
ствуем при новом брожении идей, возвещающем о со-
здании нового. Мы уже видим, как в нашем веке обри-
совывается новый век. И на этЫг раз мы не должны
оказаться ни позади, ни на вторыд местах.
Франческо Де Санктис и его
«История итальянской литературы»
\
V i
Франческо Де Санктис'принадлежит к числу выдаю-
щихся людей Италии XIX Ьека. Его имя наряду с име-
нами Мадзини, Джузеппе Гарибальди, Джусти вписано
в летопись борцов за национальное освобождение и
объединение Италии.
Известно, с каким интересом следили Карл Маркс и
Фридрих Энгельс за этапами национально-освободитель-
ного движения на Апеннинском полуострове, как живо
реагировал А. И. Герцен на многолетнюю, полную нео-
жиданностей и политических осложнений драму итальян-
ского народа, разъединенного на ряд обособленных и
самостоятельных государств, где государственные и та-
моженные границы способствовали искусственному от-
рыву не только Севера от Юга, но и одной области
Италии от другой.
Уже вторжение в Италию Наполеона Бонапарта вы-
звало ряд перемен на полуострове. Революции же в
Неаполе и Пьемонте (1820—1821), а позже революция
в Романьи (1831) и особенно революция 1848 —
1849 годов как нельзя более способствовали собиранию
разобщенных сил, необходимых для создания единой и
независимой Италии. Немалую роль в этом большом
деле играли передовая философская и общественно-по-
литическая мысль, литература и искусство. Они были
проникнуты одной целью — служить национально-осво-
бодительному движению.
Многие философы, политические мыслители, прозаи-
ки и поэты, публицисты и критики были готовы исполь-
зовать все способы и средства, чтобы помочь освобо-
ждению страны от иноземного гнета и объединить раз-
дробленную нацию: Италия, страна рано сложившейся
559
культуры, отстала от передовых стран Европы как эко-
номически и политически, так и в просвещении, науке и
искусствах. /
Самобытный и талантливый автор «Истории итальян-
ской литературы» Франческо Де Санктис был не только
свидетелем, но и участником Рисорджименто. Он немало
потрудился на разных поприщах двоей насыщенной со-
бытиями деятельной жизни. /
Санктис родился в семье мелкого землевладельца
в Морра Ирпино (провинция Аргеллино), неподалеку от
Неаполя, 28 марта 1817 года; а^есь он провел свои дет-
ские годы. /
В 1826 году он был отправлен в Неаполь учиться под
руководством своего дяди, имевшего частную школу;
отец, видя большую любовь мальчика к книгам, решил
дать ему гуманитарное образование. Занятия филосо-
фией и правом помогли впоследствии расширению его
кругозора, и восемнадцати лет в связи с тяжелой бо-
лезнью дяди он начал свою преподавательскую дея-
тельность.
Именно преподавательская деятельность показала
верную дорогу Санктису. Его занятия языком не при-
носили ему удовлетворения, внимание молодого учителя
все больше привлекала литература. Благодаря поддерж-
ке известного педагога Базилио Пуоти Санктж: в
1839 году начал преподавать в военной школе, а с
1841 года был зачислен «professore» в военное училище
Нунциателла. Его лекционно-педагогическая работа в
это время (1839—1848 гг.) отражена в записях, в кон-
спектах лекций: эти лекции неаполитанского периода
были изданы Бенедетто Кроче под названием «Теория и
история литературы» К В этих ранних опытах виден не-
сомненный талант их автора, стремление постоянно на-
поминать о трудностях положения Италии, пробуждать
сознание гражданского достоинства и независимости,
укреплять ненависть против всякого гнета как со сто-
роны светской власти, так и церкви. Чтение французских
просветителей XVIII века не прошло для Санктиса бес-
следно; впрочем, он многое почерпнул и у своих сооте-
чественников Бекариа, Чезаротти, Фишанджери.
1 См. «Teoria e storia della letteratura», Bari, Laterza, tt. 1 —
2, 1926.
560
Важной Чертой Санктиса была действенная неудо-
влетворенность в исканиях. Он не чуждался романтизма
Мандзони, Шлъгеля, знакомясь в то же время с идеями
Вилльмэна и Гизо, его привлекала поэзия Леопарди,
Гёте, Гюго, но ои\был основательно начитан и в истории,
и в философии Кднта и Гегеля. Естественно, что совре-
менная литературная критика была постоянно в поле его
зрения. Он не избежал воздействия общепризнанного в
Италии авторитета философа Джоберти. Санктиса всег-
да интересовал конкретный материал, он стремился
синтетически определять и описывать лирику, прозу,
драму: ему были присущи энергия исследователя и бое-
вой задор воинствующе^ критика.
Санктис принял горячее участие в событиях револю-
ции 1848 года. Он стал секретарем комиссии по реформе
народного образования. Однако из-за своих убеждений
Санктис был смещен и уволен из военного училища.
Немногим больше года он прожил в Калабрии и там
3 декабря 1850 года был арестован по доносу агента-
провокатора.- Его перевезли в Неаполь и заключили в
Кастель дель Ово. Много позже, в 1883 году, Санктис
вспоминал о том, как в 1848 году «учитель и его ученики
приняли участие в политической борьбе, что вело к из-
гнанию, тюрьме, виселице. Мои ученики доказали ту ве-
ликую истину, что жизнь, даже тюрьма и ссылка —
истинная школа. И я последовал за ними, разделил
судьбу своих учеников с радостью, что страдаю вместе
с ними» К
Суд оправдал Де Санктиса за неосновательностью
предъявленных обвинений. Но правительство неаполи-
танских Бурбонов, опасаясь влияния и популярности
Санктиса среди учеников и всей молодежи, отправило
его в изгнание. При поддержке одного из своих бывших
учеников — медика Анджело Камилло де Меис, Санк-
тис-изгнанник обосновался в Турине. Однако, несмотря
на все попытки, получить там кафедру ему не удалось.
Отъезд в Калабрию способствовал усилению науч-
ной деятельности Санктиса: он написал предисловие к
«Переписке» Леопарди и очерк «Драматические произве-
дения Фридриха Шиллера». Не пропали даром и два
года заключения: узник усердно занимался немецким
1 «Scritti varii», Napoli, Morano, 1898, pp. 202—203.
36 Де Санктис 561
языком и усвоил его настолько, что пере/ел «Логику»
Гегеля и «Руководство по истории поэзии»1 К. Розен-
кранца. Здесь же им была написана и лирическая песня
«Темница», в которой отражены мысли и настроения
заключенного и его увлечение идеями/Гегеля о прогрес-
се и положительном влиянии страдания на историческое
развитие. /
В Турине, пережив события р48 года и тюрьму,
Санктис ощутил себя сложившимся' и зрелым человеком,
и на многое стал смотреть no-дру/ому. Он зарабатывает
себе на жизнь, читая цикл лекдай о Данте; среди них
особенно известна одна — о сицилийском поэте Пьеро
делла Винья, стетографически записанная знаменитым
впоследствии литературоведов Алессандро д'Анкона.
Именно в Турине Санктис приобрел известность, здесь
полностью оценили его как ученого и блестящего лек-
тора. Затем он был приглашен читать лекции по италь-
янской литературе в Швейцарии, в Цюрихском политех-
никуме. Санктис принял это предложение и прожил в
Швейцарии с января 1856 до июня 1860 года.
Близкое соприкосновение с европейской эмиграцией
(Георг Гервег, физиолог Я. Молешотт, французы Фло-
кон и Дюфрэсс, итальянские социалисты Де Бони и Че-
рони), живое отношение к литературным, политическим,
философским вопросам помогли Санктису приблизиться
к буржуазно-демократическому пониманию действитель-
ности. Всегда деятельный и неунывающий исследователь,
Санктис находил время заниматься не только Данте,
Петраркой и рыцарской поэзией, но и Мандзони и Лео-
парди, писать для туринских газет и журналов. Так на-
капливался материал и закладывался фундамент для
таких больших позднейших трудов, как «История италь-
янской литературы» и «Критические очерки».
В лекционные курсы, читанные в Цюрихском поли-
техникуме, были включены основные, с точки зрения
Санктиса, темы: Литература XIV века и специально —
«Божественная комедия» (с толкованием и упражнения-
ми), Петрарка и Полициано, Рыцарская поэзия и Тассо,
Макиавелли, XVII век — Марино и его время; в 1860/61
учебном году Санктис предполагал прочитать «Введение
1 К. Rosenkranz, Handbuch einer allgemeinen Geschichte
der Poesie, Halle 1832—1833.
662
\
\
в историю современной итальянской литературы: Мета-
стазио и Альф^ери», но не смог этого сделать, так как
выехал на родину.
ХарактернойХдля швейцарского периода работой
Санктиса был «Критический этюд о Петрарке» (издан в
1869 году). В этом этюде с полной отчетливостью выра-
жено стремление Санктиса выработать свою концепцию
литературного твор^ства, осуществив в ней переоценку
гегелевской эстетики; Уже в предисловии к переводу
книги К. Розенкранца,'В очерках, посвященных «Федре»
Расина и канцоне Леопарди, Санктис проявляет подлин-
ный историзм, широкое понимание связи жизни и ли-
тературы, неразрывности содержания и формы. В Пе-
трарке Санктис нашел те черты моральной неустойчи-
вости, крторую он усматривал в своих современниках.
Несоответствие стремлений и возможностей приводило
к оцепенению и безволию, участник Рисорджименто не
мог не выступить против этого. Как бы ни было велико
увлечение Де Санктиса исторической темой или авто-
ром, он никогда не забывал о своем времени и его
задачах.
Политические задачи Рисорджименто были Де Санк-
тису не менее близки, чем вопросы отечественной лите-
ратуры и ее дальнейшие судьбы. Вдали от родины он
обрел способность более спокойно и последовательно
оценить происходящее в Италии; Санктис все больше
убеждается в неосуществимости в условиях того вре-
мени республиканской формы правления. Он неодно-
кратно поднимал голос против крайностей сторонников
восстановления в Неаполе династии Мюратов !, но сам
выступил за национальное объединение даже в форме
монархии, готов был поддерживать политику Кавура и
собирался даже вступить добровольцем в тысячу Га-
рибальди.
Оставив летом 1860 года Цюрихский политехникум,
он не поехал в Пизу, где ему предложили университет-
скую кафедру, а направился в Неаполь, чтобы принять
участие в делах объединения и в политической жизни.
Санктис стал губернатором провинции Авеллино и с
головой ушел в подготовку плебисцита и в борьбу
1 Против мюратизма был опубликован ряд статей в «Diritto»,
вызвавших оживленную полемику.
36* 563
с бичом итальянского Юга — бандитизмом/Как предста-
витель Юга Санктис вошел в правительстве/Итальянского
королевства, заняв пост министра народного просвеще-
ния. Его речь в парламенте свидетельствует о радикаль-
ном демократизме, который импонировал многим его
современникам. В ней Де Санктис говорил о «всех жи-
вых силах страны, которым предоставляется полная
свобода развития — свобода наукиу' всеобщее образова-
ние для тех, кто был в зависимости от исповедника,
нотариуса, судьи, землевладельца»1; таким образом в
политическую практику Италии «до объединения» вно-
силась существенная поправка.
Политические события захватили Санктиса, трудно-
стей было много, нужны были настойчивость, энергия и
преданность. Правда, самому Санктису казалось, что он
всегда в своей жизни посвящал свои силы в равной
мере как политике, так и литературе — «это две обя-
занности, которые лежат на мне до конца моих дней», но
в действительности неизбежно в разное время приходи-
лось отдавать предпочтение то занятиям литературой, то
политике. Неожиданно умер Кавур, а между тем дело
объединения не было закончено: Рим и Венеция не вхо-
дили еще в состав объединенного королевства. Реакция
поднимала голову повсюду, особенно же благоприятны
были условия для ее активности на Юге, где было
немало сторонников Бурбонов и клерикализма. В начале
марта 1862 года, пробыв министром меньше года,
Де Санктис после ряда столкновений и разногласий по-
дал в отставку.
В 1863 году Санктис принял предложение президента
«Конституционной ассоциации» Луиджи Сеттембрини
стать во главе ежедневной газеты «Италия» («L'ltalia»),
где проработал до 1865 года. Хотя в этот период в жизни
Санктиса исключительное место занимала общественно-
политическая деятельность, все же в 1866 году он издал
первый том «Критических очерков» («Saggi critici»). Во
Флоренции Санктис вернулся к занятиям литературой.
Он завершил свой основной труд «История итальянской
литературы» (1870). В 1871 году Де Санктис был
избран на кафедру сравнительного литературоведения
Неаполитанского университета, где ему удалось спло-
1 «Scritti e discorsi politic!», I, pp. 104—107.
564
тить вокруг себя многих способных, впоследствии став-
ших известными деятелями на разных поприщах, моло-
дых людей. Среди них — филолог Франческо Торрака,
юрист Джорджо Арколео, государственный деятель
Джустино Фортунато и др. Но затем Де Санктис снова
оставил университетские стены ради политики и парла-
ментской полемики. Демократизация страны предста-
влялась ему вполне возможной и реальной, и это в из-
вестной мере нашло отражение и в курсах, прочитанных
им в неаполитанском университете: «Мандзони», «Либе-
рально-католическая школа», «Мадзини и демократиче-
ская школа» и «Леопарди». Эти курсы должны были
лечь в основу третьего тома его «Истории итальянской
литературы», а покуда он публиковал статьи по этим
темам в журналах. В этих лекциях, собранных Торра-
кой, отразился по сути весь предшествующий революции
1848 года период литературного развития Италии.
Если в работах о Мандзони и Леопарди проявилась
присущая Санктису способность анализировать и оце-
нивать литературные факты в их прямой связи с дей-
ствительностью, то еще большую зрелость и закончен-
ность мы видим в его очерках, посвященных одной из
главных и любимых его тем — Данте, в очерках о Фран-
ческе да Римини, Фаринате и графе Уголино. Эти очерки
вошли в «Новые литературные очерки» («Nuovi saggi
critici»), изданные в 1872 году и переизданные с доба-
влением ранее невключенных в 1879 году, хотя са-
мостоятельно все три очерка были напечатаны еще в жур-
нале «Новая антология» за 1869 год. Помимо критиче-
ских и литературоведческих опытов, Санктис написал
в 1875 году свой очерк «Путешествие в связи с выбо-
рами» («II viaggio elettorale») и заметки, изданные
посмертно под названием «Молодость» («La giovinezza»).
В 1875 году Де Санктис был в третий раз избран в
парламент, а два года спустя — вице-президентом па-
латы депутатов. Дважды он занимал пост министра на-
родного просвещения — в 1878 году и в 1879—1881 го-
дах. После этого он в 1881 году снова был избран вице-
президентом парламента, а в 1883 году — депутатом от
Трани. Последние годы он тяжело болел и 29 декабря
1883 года его не стало.
Темпераментность и кипучая энергия сказывались и
в политической деятельности Санктиса; его выступления,
565
речи, публицистические статьи собраны вместе и
дают отличное представление об этой стороне его дея-
тельности1. Он никогда не оставался спокойным наблю-
дателем: как в годы борьбы за объединение Италии, так
и в более позднее время, до конца своих дней он оста-
вался сторонником демократии.
Занятость парламентскими делами, должность ми-
нистра отвлекли его от литературных трудов. За послед-
ние годы Санктис написал немного: «О принципах реа-
лизма», три статьи о Леопарди, очерк о Э. Золяистатью
о его романе «Западня», статью «Дарвинизм в ис-
кусстве» 2.
Из этого краткого обзора основных этапов жизни и
деятельности Де Санктиса мы видим, что выдающийся
итальянский ученый был непосредственно связан с ре-
волюционными событиями в стране, активно участвовал
в движении Рисорджименто как убежденный и последо-
вательный радикальный демократ. Это определило и
мировоззренческие, философско-методологические осно-
вы научной деятельности Де Санктиса.
II
Известно, что вся духовная жизнь Италии второй
половины XIX века была прямо или косвенно связана с
национально-освободительным и буржуазно-демократи-
ческим движением в стране. Слабость итальянской бур-
жуазии, ее склонность к компромиссам, общая отста-
лость страны явились причиной того, что философская
мысль здесь отличалась некоторой робостью и несамо-
стоятельностью.
Развитие итальянской буржуазной философии второй
половины XIX века распадается в основном на два
этапа. К первому (50—70 годы) относится школа неапо-
литанских гегельянцев, ко второму (80—90 годы)—по-
зитивизм. Де Санктис в своей научной деятельности в
какой-то степени отразил эту эволюцию, оставшись при
этом оригинальным мыслителем.
1 «Scritti e discorsi pol-itici», Napoli 1939.
2 «II principio del realismo», «La Nerina di G. Leopardi»; «Le
nuove canzoni di G. Leopardi»; Studio sul Leopardi»; «Studio sopra
Emilio Zola»; «Zola e TAssomoir»; «II darvinismo nell'arte».
566
В Италии, как и в Германии, гегельянство предста-
вляло собой сложное и противоречивое духовное явле-
ние. Правое крыло гегелевской школы делало упор на
системе немецкого идеалиста, то есть на его консерва-
тивной, догматической стороне. Левое, напротив, акцен-
тировало внимание на революционной стороне — диалек-
тике. Представителем правых гегельянцев в Италии был
Аугусто Вэра (1813—1885), левых представляли Бер-
трандо Спавента (1817—1883), Сильвио Спавента
(1822—1883) и Де Санктис.
Левое неаполитанское гегельянство получило наи-
более широкое развитие как раз в эпоху Рисорджименто.
Оно стало своего рода теоретической основой практи-
ческой деятельности итальянских демократов. «Здесь, —
писал Пальмиро Тольятти, — сразу видна непосредствен-
ная связь философских тем с политическими и этиче-
скими. Становились гегельянцами, чтобы противостоять
Бурбонам, иезуитам и папе. В либеральных кружках,
вспоминает Франческо Де Санктис, под носом у бурбон-
ских шпионов, «говорили по-гегельянски», чтобы замаски-
рованно поиздеваться над ними, пользуясь конспиратив-
ным языком. Из гегелевской философии хотели вывести
не только новую теорию познания и новую науку, но и
руководство к действию и прежде всего новую теорию
государства, которая дала бы ответ на все важнейшие
вопросы, стоявшие перед Италией, где как раз создава-
лось новое государство, причем самый способ его созда-
ния, казалось, исключал возможность того, чтобы его
идеологическое обоснование было почерпнуто из док-
трин, вплоть до этого момента служивших для оправда-
ния и превознесения тиранического образа правления» 1.
Франческо Де Санктис не был чистым философом.
Главный круг его интересов лежал в области эстетики,
истории и теории литературы и литературной критики.
По самому роду занятий ему приходилось иметь дело с
конкретным материалом. В то же время он участвовал
непосредственно в политической борьбе. Этим объяс-
няется тот факт, что уже с самого начала Де Санк-
тиса не могла удовлетворить слишком уж умозритель-
ная философия Гегеля. Развитие естествознания в
1 Пальмиро Тольятти, Развитие и кризис итальянской
мысли в XIX веке, «Вопросы философии», № 5, 1955, стр. 65.
667
XIX веке и опасения, что философия абсолютного идеа-
лизма не может помочь правильно оценить это развитие и
вообще не в состоянии дать верную картину мира, при-
вело к отходу Де Санктиса, как и других итальянских
философов, от Гегеля. Симптоматично, что Де Санк-
тис приглашал Молешотта, известного материалистиче-
ского натуралиста, читать лекции в Италии. Однако
охлаждение Де Санктиса к гегельянству было связано
не только с успехами естествознания, но в первую оче-
редь с его собственными занятиями литературой, исто-
рией и философией. Пальмиро Тольятти пишет: «В от-
личие от других Де Санктиса побудило к отходу от
гегельянской ортодоксии не столько изучение естествен-
ных наук, сколько размышление над историей великих
течений мысли, над историей культуры и цивилизации,
то есть над конкретными событиями из жизни человече-
ского общества» 1.
Стремление к правильному реалистическому пони-
манию мира привело к тому, что Де Санктис вошел в
соприкосновение с позитивистским течением в Италии
(кстати, на первых порах это течение здесь сыграло по-
ложительную роль). Однако позитивистом он не стал.
Эволюция его взглядов шла в сторону философского
материализма. Это был вынужден признать даже Бене-
детто Кроче. В предисловии к своему изданию «Истории
итальянской литературы» Де Санктиса он писал: «Это
направление, которое теперь называется (не будем до-
искиваться, хорошо или плохо) историческим материа-
лизмом и> суть которого заключается в том, чтобы пони-
мать исторические события как процесс их зарождения
и развития от самых простых материальных элементов,
часто находит в Де Санктисе сторонника отнюдь не
доктринерского типа. И это вполне естественно, если по-
думать, что это направление возникло на основе исто-
рического опыта и не могло не иметь предшественников
во всех историках, обладавших острым взглядом, реа-
листическими воззрениями и поставленных в условия,
позволявшие им хорошо вести наблюдения. Романтизм,
неокатолицизм, метафизический идеализм, теория про-
гресса, эклектизм и т. п. интеллектуальные и эстетиче-
1 Пальмиро Тольятти, Развитие и кризис итальянской
мысли в XIX веке, «Вопросы философии», № 5, 1956, стр. 70..
568
ские течения возращаются Де Санктисом к их матери-
альной первооснове»1.
Действительно, автор «Истории итальянской литера-
туры» не скрывает своих симпатий к материализму.
Последний рассматривается Де Санктисом как характер-
ная черта новой философии, то есть философии, сло-
жившейся в эпоху Возрождения. Материализм — это
рассмотрение природы и общества такими, каковы они
на самом деле. В сущности Де Санктис отождествляет
понятия «новая философия» и «материализм», что ясно
из его следующего высказывания: «Характерными чер-
тами новой философской мысли были: независимость
философии от веры и авторитетов, метод, основанный
на опыте, восстановление в своих правах материи или
природы, изъятие из исследования всего того, что отно-
сится к сверхъестественному и подлежит сфере веры»
(т. II, стр. 282).
Де Санктис высоко ценит Галилея, Бэкона, Гоббса,
Декарта, Локка за то, что они освободили современный
мир от всех схоластических и мистических элементов, от
всех предрассудков. По тем же причинам Де Санктис
считает выдающимися мыслителями Вольтера, Монте-
скье, Дидро, Гельвеция и др. Важно также отметить, что
итальянский ученый сближает понятия «материализм» и
«гуманизм». Вместе с тем он резко критикует теологию,
католическую доктрину, разные формы фидеизма и
мистицизма. Здесь он справедливо усматривает теоре-
тическое оправдание рабства, бесчеловечности, антигу-
манизма.
Прямо Де Санктис не говорит о своей привержен-
ности к материализму. Для характеристики своего миро-
воззрения он чаще прибегает к терминам «натурализм»,
«реализм». И это не случайно. Подлинно научная фило-
софия, согласно его мнению, — это та, которая включает
в себя элементы как материализма, так и идеализма.
Де Санктис остановился на полпути к философскому
материализму. И это естественно. Итальянский мысли-
тель не вышел за рамки буржуазной демократии. Он не
увидел той новой исторической силы, которая уже за-
явила о себе в революциях 1848 года, — пролетариата.
1 Пальмиро Тольятти, Развитие и кризис итальянской
мысли в XIX веке, «Вопросы философии», № 5, 1956, стр. 70.
5G9
Поэтому в то время, когда Маркс и Энгельс уже совер-
шили великий революционный переворот в науке, дав
теоретическое обоснование всемирно-исторической роли
пролетариата как создателя бесклассового коммунисти-
ческого общества, Де Санктис продолжал развивать
идеи о демократических преобразованиях в рамках
капиталистического общества. Его мировоззрение вслед-
ствие этого относится к домарксистскому периоду и со-
держит характерные черты ограниченности, свойствен-
ные идеологам буржуазной демократии.
Мы не должны забывать и о том, что увлечение Ге-
гелем не прошло для итальянского ученого бесследно.
Ортодоксальным гегельянцем Де Санктис никогда не
был. В философии немецкого мыслителя его интересо-
вали прежде всего вопросы диалектики. Отход от Ге-
геля означал отход от абсолютного идеализма, а не от
тех рациональных моментов, которые содержались в
гегелевской идеалистической диалектике. Де Санктис,
как это особенно четко обнаружилось, в его «Истории
итальянской литературы» пытался, и небезуспешно, ос-
вободить диалектические догадки Гегеля от мистической
шелухи. В этом отношении итальянский ученый шел по
пути, по которому шли и русские революционные демо-
краты — Белинский, Герцен, Чернышевский.
Не вдаваясь в детали, коснемся лишь некоторых сто-
рон данного вопроса. Это необходимо сделать, посколь-
ку речь идет о методологии исследований Де Санктиса.
Прежде всего нужно отметить, что историю литера-
туры Де Санктис рассматривает как грань целостного
процесса человеческой истории. История литературы —
это не изолированный процесс, а органически связанный
с различными сторонами общественной жизни людей:
политикой, моралью, наукой, философией, религией и
даже экономикой. Во всех этих явлениях, говоря сло-
вами Гегеля, итальянский ученый ищет «один общий
корень». Для Гегеля — это «дух». Де Санктис ясно не
формулирует свою точку зрения по этому вопросу. Чув-
ствуется, что он не удовлетворен ответом немецкого
идеалиста, но в то же время и сам не находит ясного
ответа. Подлинно научное решение этого вопроса дали
лишь основоположники марксизма.
Попытка рассмотреть историю итальянской (и не
только итальянской) литературы в живом взаим.одей-
570
ствии с различными сторонами человеческой практики
является сильной стороной методологии Де Санктиса.
Его «История итальянской литературы» — это не акаде-
мическое коллекционирование литературных феноменов,
а воспроизведение яркого, динамичного живого про-
цесса итальянской жизни на протяжении ряда столетий.
В картине литературной жизни Италии, созданной Де
Санктисом, мы видим отражение борьбы итальянского
народа за свою свободу, материально-технический про-
гресс, за развитие самобытной духовной культуры.
У Гегеля, а отчасти у Вико Де Санктис заимствовал
идею закономерного поступательного развития челове-
ческой истории (как у Гегеля,, так и у Вико эта идея
каждый раз деформируется вследствие их идеалистиче-
ских исходных позиций). История — это не случайное
скопление событий, а единый, внутренне связанный за-
кономерный процесс.
История литературы — это также закономерный по-
ступательный процесс. Де Санктис каждый раз стре-
мится раскрыть эту внутреннюю закономерную связь в
истории итальянской литературы. Литературные факты
не просто совпадают по времени или следуют друг за
другом. Это только их чисто внешняя связь. История
литературы — это история поисков и открытий, история
образного постижения жизни, история все более глубо-
кого проникновения в действительность. На анализе ли-
тературы Возрождения Де Санктис показывает, как
начиная от Данте через Боккаччо к Макиавелли идет
процесс проникновения в закономерности действитель-
ности. Роды, виды, жанры, согласно Де Санктису, нахо-
дятся . в развитии, как и литература в целом. Сами
наиболее общие эстетические понятия — прекрасное,
трагическое, комическое и др. — также развиваются,
наполняясь новым конкретно-историческим содержанием.
Историзм Де Санктиса имеет еще одну важную сто-
рону. Современность, по мнению ученого, есть резуль-
тат прошлого развития. Прошлое, следовательно, тес-
нейшим образом связано с настоящим. К нему мы
должны относиться поэтому не как к чему-то навсегда
миновавшему, а как к живой традиции. Поэтому так
страстно относится Де Санктис к истории отечественной
литературы. В ней он хочет почерпнуть вдохновение для
решения проблем сегодняшнего дня.
671
Процесс развития литературы Де Санктис не пред-
ставляет в виде плавной эволюции. «Открывая «Декаме-
рон» впервые, едва прочитав первую новеллу, — пишет
он, — пораженный как громом с ясного неба, воскли-
цаешь вместе с Петраркой: «Как я попал сюда и
когда?» Это уже не эволюционное изменение, а ката-
строфа, революция — ты как будто сразу оказываешься
в другом мире. Здесь не только отрицание средневековья,
но издевка над ним» (т. I, стр. 340). Очень важное ме-
тодологическое положение. Впервые оно, как известно,
было сформулировано в «Науке Логики» Гегеля, но в
крайне абстрактной форме. К тому же не так-то легко
применить его к анализу явлений художественной куль-
туры. Де Санктис им пользуется блестяще при рассмо-
трении истории итальянской литературы. Переход от
средневековья к Возрождению он определяет как ска-
чок. Все время он пытается проследить качественные из-
менения в историко-литературном процессе. Это дает
возможность выявить поступательный характер процесса.
Гегелевское «отрицание отрицания» как своеобразное
теоретическое обоснование прогресса в области худо-
жественной культуры Де Санктис освобождает от идеа-
листической оболочки путем объективного анализа
реального исторического процесса развития искусства.
Он отбрасывает гегелевскую идею «конца истории» и
фатального падения литературы и искусства. Хотя италь-
янская литература XIX века не давала оснований для
оптимизма, Де Санктис, учитывая опыт развития худо-
жественной культуры других стран, смело утверждал
мысль о том, что художественному прогрессу нет границ.
Очень важно, далее, отметить, что Де Санктис все
время пытается вскрыть внутренние противоречия, ле-
жащие в основе историко-литературного процесса. Исто-
рия литературы представляется ему историей борьбы
направлений, стилей, форм. Но это не чисто имманент-
ные противоречия. Они сами являются отражением про-
тиворечий исторического развития. Де Санктис с похва-
лой отзывается о Макиавелли, отметившем большое
значение борьбы имущих и неимущих для развития обще-
ства. Де Санктис уже догадывается о классовом харак-
тере искусства в классовом обществе, он все время в
борьбе литературных направлений стремится находить
отражение борьбы общественных групп,
572
С изучением гегелевской философии связано решение
Де Санктисом проблемы содержания и формы в искус-
стве. В своей эстетике Гегель при анализе направлений,
стилей, жанров в искусстве постоянно исходит из содер-
жания. Эту мысль всецело принимает и Де Санктис,
Все свои анализы он, как правило, начинает с рассмотре-
ния того мира, который получает отражение в произве-
дениях искусства. И только потом переходит к разбору
формы. Поскольку в содержание искусства входят не
только сами жизненные явления, но также их отбор и
освещение, Де Санктис, естественно, придает громадное
значение мировоззрению художника. Так, аллегоризм
и символизм, а также абстрактность средневекового
искусства он объясняет особенностями миропонимания
средневековых художников. Проявления формализма и
маньеризма Де Санктис также связывает с определен-
ным мировоззрением творческого субъекта. Своеобразие
формы «Божественной комедии» Де Санктис объясняет,
исходя из философии Данте. Мысль Де Санктиса сво-
дится к следующему: развитие литературы идет от со-
держания к содержанию. При этом он детально обосно-
вывает этот свой вывод во всем изложении истории
итальянской литературы.
Как мы видим, Де Санктис критически относится к
важнейшим философско-эстетическим принципам Ге-
геля. Он все время стремится поставить немецкого идеа-
листа с головы на ноги. Революционно-демократическое
толкование Гегеля в конце концов приводит Де Санкти-
са к разрыву с абсолютным идеализмом. По ряду корен-
ных эстетических проблем итальянский ученый прочно
становится на позиции материализма. Так, искусство
для него не форма самораскрытия идеи, а отражение
действительности, познание ее существенных сторон.
В связи с анализом творчества Макиавелли Де Санктис
формулирует очень важное положение, имеющее прин-
ципиальный характер для понимания его эстетических
взглядов. «Искусство,— говорит он,— не может доволь-
ствоваться одной лишь внешней оболочкой и изображать
события как случайное сцепление исключительных про-
исшествий, оно должно проникать вглубь и отыскивать
внутри человека те причины, которые кажутся провиден-
циальными или случайными. Так искусство перестает
быть пустой и праздной игрой воображения и стано-
573
вится серьезным изображением жизни в ее реальности,
и не только внешней, но и внутренней» (т. I, стр. 534).
В ходе изложения истории итальянской литературы
Де Санктис стремится показать, как через зигзаги и от-
клонения литература все шире захватывает явления дей-
ствительности и все глубже проникает в ее законы. При
оценке отдельных литературных произведений и даже
целых направлений ученый допускает неточности.
Но общее его стремление — защита реализма, искус-
ства, отличающегося жизненной правдивостью, высо-
кой идейностью, гуманизмом и эстетической полноцен-
ностью.
Если у Гегеля взгляд на искусство созерцательный
(искусство — лишь чувственное познание идеи), то Де
Санктис, напротив, энергично подчеркивает действенно-
преобразующую роль художественного познания мира.
Он категорически отвергает теорию «искусства для ис-
кусства» и неоднократно подчеркивает громадное обще-
ственное значение искусства. От художников он требует
активного участия в жизни, в борьбе за претворение
высоких гражданских идеалов.
Де Санктис освобождает эстетические категории от
идеалистических извращений. Прекрасное, трагическое,
комическое для него основные понятия, отражающие
наиболее общие и существенные свойства, стороны, от-
ношения явлений действительности и эстетического
познания. В отличие от Гегеля он не придает им онтоло-
гического смысла, то есть не отождествляет их с дей-
ствительностью (отождествление бытия и мышления —
основное положение абсолютного идеализма).
Как известно, Гегель отрицает существование кра-
соты в природе. Это вытекает из основных идеалистиче-
ских установок немецкого мыслителя. Де Санктис, на-
против, считает, что прекрасное имеет место не только
в искусстве, но и в самой действительности. Нужно ска-
зать, что итальянский ученый в толковании прекрасного
приближается к Чернышевскому. Эстетично, по его мне-
нию, то, в чем проявляется жизнь. В этом смысле нуж-
но понимать следующее несколько парадоксальное за-
явление Де Санктиса: «Поэтически ценность человека
заключена не в нравственности и не в вере, а в его жиз-
ненной энергии; поэтичность образа не в идее, а в силе.
574
Вот почему равнодушие в эстетическом плане есть край-
ний предел отрицательного качества: ведь оно — отрица-
ние силы, безжизненность» (т. I, стр. 225).
Центральная категория эстетики Гегеля—прекрас-
ное. «Дьявол, взятый сам по себе, — писал Гегель, — яв-
ляется... плохой, эстетически негодной фигурой, ибо он
есть не что иное, как ложь в самом себе и представляет
собой поэтому в высшей степени прозаическое лицо» *.
Короче говоря, Гегель против изображения уродливого
в искусстве. Де Санктис не только считает возможным
изображение уродливого, но и полагает, что уродливое
в искусстве зачастую любопытнее и поэтичнее. Мефисто-
фель интереснее Фауста, и ад поэтичнее, чем рай, — от-
мечает он.
Включение уродливого в сферу художественного изо-
бражения связано со стремлением Де Санктиса расши-
рить пределы эстетического познания. Искусство, по его
мнению, должно отображать и дисгармонию, диссонан-
сы, противоречия жизни. Де Санктис, таким образом,
пытался обосновать эстетические принципы критического
реализма.
Иначе, чем Гегель, понимает Де Санктис трагическое
и комическое. Для Гегеля эти категории не имеют все-
общего значения. Они рассматриваются им как катего-
рии жанра художественной литературы. Для Санктиса
комическое и трагическое такие же общие понятия, как
и прекрасное. Глубина трактовки этих категорий у Де
Санктиса заключается в том, что их он связывает с кон-
кретными общественно-историческими конфликтами.
Анализируя трагические и комические конфликты в их
историческом развитии, итальянский ученый достигает
поразительной конкретности, в то время как немец-
кий идеалист ограничивается довольно схематичным
сопоставлением античности и современности, обед-
няя тем самым реальный процесс развития искусства
нового времени.
Затрагивая вкратце философско-эстетические про-
блемы, как они ставятся и решаются у Де Санктиса, мы
хотим отметить, что для итальянского ученого история и
теория литературы не представляют собой изолирован-
* Гегель, Соч., т. XII,-М., 1938, стр. 226.
575
пых научных дисциплин. Эстетика, теория литературы,
критика, история для него лишь разные аспекты еди-
ного целого. Де Санктис при анализе художественного
процесса исходит из важнейшего принципа диалекти-
ки—единства исторического и логического. В этом
плане труды Де Санктиса очень поучительны.
III
Центральное место среди работ Де Санктиса зани-
мает его «История итальянской литературы». Эта книга
явилась как бы итогом предшествующей деятельности
критика и историка литер.атуры, политического борца и
публициста.
Работа над «Историей итальянской литературы»
была в значительной мере облегчена опытом преподава-
ния и рядом очерков, уже опубликованных Де Санкти-
сом. Он сам пишет по поводу предложения издателя
Морано: «Я решил приложить руку к Истории нашей
литературы в одном томе для лицеев. У меня собран
огромный материал. В парламентские каникулы книга
будет готова и хорошо сделана» К Он заключает договор
с издателем, но по ходу работы Санктис видит, что
«третья глава, названная «Лирика Данте», — это труд,
которому не сыскать примера ни в нашей, ни в иностран-
ной критике». Под влиянием требований Морано Санк-
тис закончил в июле 1870 года первый том, который
включал в себя 11 глав. Конечно, изменение первона-
чального договора, написание двух томов вместо
намеченного одного вызвали некоторые осложнения;
еще в сентябре 1870 года Санктис трудится над
главой о Макиавелли, а между тем в декабре он обе-
щал Морано сдать весь второй том. Теперь уже ясно,
что так называемая современная литература (в услов-
ных рамках, принятых Де Санктисом) ограничена одной
главой, но он думает позже написать специальный том,
охватывающий эту тему. Попутно приходится, используя
новые источники, скорее излагать их содержание, фор-
мулировать лишь суммарно свое собственное мнение —
1 «Scritti varii», Napoli 1898, II, p. 241. В. С г о с е, Come fu
scritta 1ц «Storia della letterature italiana в «Scritti di storia lettera-
ria e p^itica», t. XIII, pp. 267—276, Ban, 1927.
576
отсюда неизбежная неровность изложения и беглость
характеристики многих явлений позднейшего периода
итальянской литературы; зависимость Санктиса от су-
ждений авторов исследований, им привлекаемых, пока-
зана Н. Галло и К. Мушетта в последнем итальянском
издании «Истории итальянской литературы». Так как
издание 1870 года 1 было раскуплено, в 1873 году было
выпущено второе издание, которое наряду с третьим
(1879) и легло в основу стереотипного. Впоследствии
Бенедетто Кроче вносит (1912) некоторые фактиче-
ские исправления, а в издании П. Кортезе была прове-
дена сверка с рукописью. Более сорока раз уже была
переиздана «История итальянской литературы» Де Санк-
тиса, причем многократно именно за последние десяти-
летия.
Для Де Санктиса история итальянской литературы
связана с появлением литературы на итальянском язы-
ке. То, что было написано на латинском или провансале
ском языках, как бы имеет лишь опосредствованное
значение для главной темы, и Де Санктис вовсе не стре-
мится, подобно Петрарке, выводить итальянскую лите-
ратуру из поздней латинской, искать ее корни за пре-
делами, ограничивающими самое понятие итальянская
литература во времени и в пространстве. Отсюда важ-
ность такой темы, как народный итальянский язык —
вольгаре, о котором так убедительно писал еще Данте
в трактате «О народном красноречии»2. Проблема язы-
ковой общности И'мела, да еще и сегодня имеет действен-
ный характер. Ведь налицо не только очень большие
диалектные расхождения между языками Севера и Юга,
но и существование областнической, на местных диалек-
тах, художественной литературы и даже театра. Неапо-
литанец де Санктис не мог не понимать всей патетиче-
ской действенности этого вопроса, вопроса о вольгаре,
не только для прошлого, но и в годы Рисорджименто.
Два тома «Истории итальянской литературы» охва-
тывают три этапа развития итальянской литературы:
Средние века, Возрождение, современность, понимаемая
1 Первый том вышел в августе 1870 года, а второй — только
в конце 1871 года.
2 См. главу VI «Треченто», т. I, стр. 166. Также: Данте,
О народной речи, II, 1922,
37 Де Санктис 577
Санктисом по-своему (новая наука, новая литература),
что дает ему возможность вести изложение от Бруно до
Бекарии и от Метастазио до Леопарди. В книге нет
педантической академичности. Не потому ли «История
итальянской литературы» всегда вызывала или восхи-
щение, или же жгучую ненависть — слишком очевидно
прогрессивным событием в научной мысли Европы была
эта книга, непохожая на ей современные, отвергав-
шая чинное построение год за годом и сплошное
изложение — объективное и скучное — страниц итальян-
ского литературного прошлого. Мог ли участник револю-
ции 1848 года, борьбы за объединение Италии, политиче-
ский деятель такого склада не видеть в прошлом своей
страны урока настоящему, в примере Данте и Макиавел-
ли — подтверждения возможности появления таких тита-
нических фигур и на современном горизонте. Конечно,
построение «Истории итальянской литературы» не очень-
то отвечало требованиям издательского договора; школь-
ным руководством для последовательного знакомства
с итальянской литературой книга быть не могла, но она
вводила своего читателя стремительно и настойчиво во
многое лучшее, что было написано итальянцами, рас-
крывала неповторимое своеобразие трех флорентийцев,
Пульчи и Ариосто, Полициано и Тассо, Макиавелли и
Бруно. Рамки «Истории итальянской литературы» не-
вольно стеснили Санктиса, за пределами книги остались
значительные персонажи Дантова «Ада», по сути Пет-
рарка (раскрытый в «Очерке о Петрарке» гораздо более
щедро), не говоря уже о литературных деятелях
XIX века.
Многое в книге Санктиса в свете новых исследований
требует уточнений, а иногда и дополнений в связи с боль-
шей изученностью материала, получением ранее неиз-
вестных данных; но это не может повлиять на очень
высокую ее оценку, на признание ее ценности. Своими
демократическими тенденциями, всей своей направлен-
ностью она превосходит книги современников Санктиса 1.
Средние века у Санктиса отражены в главах, посвя-
щенных поэтам Сицилии и поэтам Тосканы, прозе и ре-
1 В русском издании в примечаниях, взятых из итальянского
издания книги Санктиса, приведены возможные источники Санк-
тиса.
578
лигиозной литературе. С полной ясностью говорится
о значении предшественников Данте в становлении
итальянской литературы; среди современников Данте
особо выделен Гвидо Кавальканти, отмеченный, как из-
вестно, и самим Данте. Даже в средневековых легендах
и мистериях Санктис отмечает наличие бытописательных
моментов, его не удовлетворяет покорность «раба бо-
жия», не умеющего сохранить свое человеческое до-
стоинство. Так, говоря о «Житии св. Алексея», Санктис
пишет: «Вернувшись много лет спустя на родину, никем
не узнанный, не признаваясь ни матери, ни жене, он по-
ступает в услужение в родительский дом. Слуги награ-
ждают его тумаками и пощечинами, но он смиренно все
сносит.
Такая победа над природой не производит впечатле-
ния, ибо- у Алексея отсутствует «homo sum», нет борьбы,
нет сознания приносимой жертвы... Сверхъестественное
для него в порядке вещей, такова его природа, но это —
аскетическое, моральное совершенство, а не совершен-
ство в искусстве (курсив наш). Интересное начинается
тогда, когда природа противится и в борьбе с ней свя-
той побеждает» (т. I, стр. 137).
Но, естественно, автор «католической» эпопеи, «по-
следний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт
нового времени» *, Данте стал центральной фигурой в
первом томе «Истории итальянской литературы».
Говоря о теме «Комедии», Санктис отмечает: «Ведь
тема, выбранная Данте, отнюдь не представляла собой
«tabula rasa», на которой можно начертать все что взду-
мается; мрамору уже были приданы определенные кон-
туры и очертания, в нем были уже заложены идея и за-
коны ее развития. Самое главное свойство гения —
это умение найти свою тему и слиться с ней, отрешившись
от всего, что к ней не прцчастно. Он должен увлечься
ею, жить ею, стать ее душой или ее совестью» (т. I,
стр. 212). В связи" с темой затронут вопрос и о компо-
зиции, поскольку Данте отражает в своих трех кантиках
средневековые представления о мире.
Три царства загробного мира в изображении Данте
совершенно различны. «Душа осуждена на вечные муки
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Собр. соч., изд. 2, т. 22, стр. 382,
М., 1962.
37* 579
за ее вечную нераскаянность; она грешила при жизни
и продолжает грешить в аду — если только грех совер-
шен не в помыслах, а деяньем. Поэтому земная жизнь
воспроизведена в аду такой, какова она в реальной дей-
ствительности: грех живет, и осужденный грешник чув-
ствует землю совсем рядом. Это и дает аду полнокров-
ную жизнь, а в других двух мирах жизнь «спиритуали-
зируется», становится бедной и монотонной... Следует
добавить, что земную или «адскую» жизнь поэт рисовал
с натуры, находясь в самой гуще действительности;
в нарисованной им эпической картине варварства клоко-
чут неудержимые страсти и кипучая жизнь» (т. I,
стр. 223). Мог ли Санктис по-иному понимать и толко-
вать «Ад», рассматривая его как осевую тему всего за-
мысла Данте. О важности творческой фантазии для ре-
шения трудностей, стоявших перед Данте, Санктис гово-
рит: «Данте в высокой мере обладал таким важнейшим
для поэта даром, как фантазия, которую не следует сме-
шивать с воображением, способностью гораздо менее
ценной. Воображение — это способность украсить,
расцветить, пригладить; самое большое, на что оно спо-
собно,— это воссоздать подобие жизни в виде аллегории
или персонификации...
В воображении много механического, им пользуются
и в поэзии и в прозе, оно доступно и великим и .посред-
ственным; фантазия же нечто весьма органичное, она
дается лишь тем немногим, что именуются поэтами»
(т. I, стр. 80—81). Тем самым Санктис в романтизации
поэтической идеи, ее фантастического воплощения на-
шел объяснение своеобразия «Комедии» и того обобще-
ния эпического, доступного лишь поэтам.
Для Санктиса при анализе литературного произве-
дения важна система образов, идейное понимание писа-
телем своих задач, особенности его мировоззрения и его
творческого стиля, поэтому он предупреждает о необ-
ходимости вдумчивого, нетрафаретного решения каждой
темы, каждого этюда о крупном мастере словесного
искусства, «...литературоведу не следует руководство-
ваться отвлеченными правилами и применять одну и ту
же мерку к «Комедии» и «Илиаде», к «Освобожденному
Иерусалиму» и «Неистовому Орландо»; он должен изу-
чить мир, созданный поэтом, проанализировать его,
узнать природу этого мира,— ведь с ней тесно связана
580
и поэтика, то есть внутренние законы создания этого
мира, его концепция, форма, происхождение, стиль»
(т. I, стр. 212).
Для полного понимания своеобразия итальянской ли-
тературы на новО'М этапе — в эпоху Возрождения —
Санктис обращается к Боккаччо. Именно этот гуманист
XIV века был для него самой выразительной фигурой,
потому что Боккаччо — автор «Декамерона», где отчет-
ливее всего отразились небывалые возможности литера-
турного осмысления действительности и изображения
человека в его самых различных проявлениях и стремле-
ниях. Говоря о Данте, Санктис касается очень многих
важных вопросов общего характера, что и было отме-
чено раньше. В определении же места и значения зна-
менитого новеллиста следует остановиться на замеча-
тельной оценке его Санктисом как художника слова:
«Боккаччиев период подобен волнистой линии: она изви-
вается, взлетает вверх в сладострастном изгибе, вновь
опускается, прерывается, отклоняется в сторону; благо-
даря этой игре и причудам стиля перед тобой предстает
не прозаически ясное зрелище, а лишь его эмоциональ-
но-музыкальный мотив...
В этом эротическом и лукавом мире в старой арии
начинает звучать иной мотив, который подчиняет ее
себе, ассимилирует, и вот те самые высокопарные речи,
которые звучали некогда в устах великих ораторов, сей-
час на службе у порока, придают ему законченность и
привлекательность.
Часто, увлекшись сюжетом, он отбрасывает всякую
мишуру и витиеватость и предстает перед нами удиви-
тельно стройным, динамичным, прямым, острым. Боккач-
чо— великий мастер меткого слова и каламбура; его
воображение, питаемое подлинным чувством, по-хозяйски
распоряжается древними и современными формами, сли-
вает их воедино, выковывает из них свой собственный
мир, отмеченный его особой печатью. Этот мир был бы
невыносимым и отвратительным, если бы его не прони-
зало своим бесконечным обаянием искусство...
Так родился стиль, в котором слились все многочис-
ленные стороны боккаччиевой натуры: писатель и эру-
дит, художник и придворный, книжник и светский чело-
век,— стиль специфически боккаччиевский, настолько
характерный для него и для его эпохи, что всякое подра-
38 Де Санктис 581
жание оказалось невозможным; сколько ни было под*
делок, но Боккаччо так и остался стоять как огромный,
недосягаемый памятник» (т. I, стр. 417—418). В своем
отношении к Боккаччо Санктис, как и в других случаях,
проявляет присущее ему пристрастие; он явно недооце-
нивает такого поэтичного творения, как «Фьезоланские
нимфы», он слишком суров и непримирим, когда речь
идет о «Фьямметте», но вряд ли имеет особенный
смысл останавливаться на примерах субъективной или
односторонней, неполной оценки или же сознательного
игнорирования некоторых литературных фактов, неукла-
дывающихся в рамки «Истории итальянской литерату-
ры» (как, например, лирика Боярдо), поскольку задачи
полного исторического очерка Санктис перед собой не
ставил, а был боевым критиком и арбитром, имеющим
свою концепцию.
Если глава о Петрарке страдает неполнотой и тре-
бует дополнения страницами из «Очерка о Петрарке», то
такие главы, как о Макиавелли, о Тассо, имеют органи-
ческую законченность и монографичность, хотя они и
уступают по объему месту, отводимому Данте. Деклара-
тивный характер в особой степени присущ очерку о Ма-
киавелли, что полностью отвечало и политическим за-
дачам Санктиса, искавшего в прошлом прямых предше-
ственников Рисорджименто. Поэтому глава об авторе
«Князя» во втором томе является самой существенной
и важной, хотя нельзя не отметить и таких глав, как
«Неистовый Орландо», «Пьетро Аретино».
Де Санктис защищает Макиавелли от исказителей
его образа, он видит в авторе «Истории Флоренции» и
«Рассуждений» не только разрушителя старого, но и со-
зидателя, одного из борцов за свободную Италию. По
законченности и последовательности изложения эта
глава сильно отличается от последних обзорных глав —
«Новая наука» и «Новая литература». Об этих главах
можно сказать, что обилие материала, большая протя-
женность во времени рассматриваемых в них литера-
турных событий сказались на них неблагоприятно,
хотя тем не менее многие страницы оригинальны и зна-
чительны.
Как уже отмечалось, третий том «Истории итальян-
ской литературы» должен был дополнить вышедшие
два, но замыслу не суждено было осуществиться; впро-
582
чем, «Критические очерки» в известной степени можно
считать хотя бы неполной реализацией этого намере-
ния.
Живая и оптимистическая природа Санктиса предо-
храняла его от долгих и тяжких раздумий под влия-
нием неудач и потрясений, однако, завершая работу над
вторым томом «Истории итальянской литературы»,
Санктис пишет: «Италия, вынужденная весь век бо-
роться за независимость и за либеральные порядки, ос-
тававшаяся в чересчур однообразном и общем круге
идей и чувств, подчиненных ее политическим устремле-
ниям, переживает сейчас распад всей той богословско-
метафизической и политической системы, которая дала
все то, что могла дать... Скромная и терпеливая моно-
графия занимает место философского и литературного
синтеза. Системы кажутся подозрительными, законы
принимаются с недоверчивостью, самые непоколебимые
"принципы пускаются в переплавку, ничто не прини-
мается, если оно не вытекает из целого ряда достовер-
ных фактов. Удостоверить факт представляет больше
интереса, чем установить закон. Идеи, лозунги, форму-
лы, которые когда-то вызывали столько борьбы и стра-
стей, стали условным репертуаром, не соответствующим
более реальному состоянию умов... Можно было бы ска-
зать, что именно в тот момент, когда создалась единая
Италия, распался тот интеллектуальный и политический
мир, из которого она родилась. Это показалось бы раз-
ложением, если бы не появились еще неясные, но види-
мые новые горизонты. Нас влечет неутомимая сила, и
едва улягутся одни устремления — появляются другие»
(т. II, стр. 555—556). Так смотрел на действительность в
начале 70-х годов Санктис, не видя отчетливо той новой
силы, которая давала себя знать все больше и больше
в политической и умственной жизни. Участник борьбы
за освобождение Италии не смог воспринять идеи науч-
ного социализма и встать в ряду передовых сил рабо-
чего движения.
Для -Санктиса лирика, драма и роман был» жан-
рами, определяющими поступательное движение литера-
туры, но итальянская современность его не могла обна-
дежить. В конце его книги мы читаем: «Есть у нас ис-
торический роман, но еще нет ни истории, ни романа.
38* 583
Нет у нас и драмы. Из творчества Джузеппе Джусти
еще не возникла комедия. А от Леопарди еще не пошла
лирика. Нас еще навязчиво преследуют академия, арка-
дия, классицизм и романтизм. Еще сохранились напы-
щенность и риторика, недостаточная серьезность в ис-
следованиях и в жизни. Мы еще слишком живем нашим
прошлым и трудом других. Это еще не наша жизнь и не
наш труд. И сквозь наши похвальбы просвечивает со-
знание нашей неполноценности» (т. II, стр. 557—558).
Как трезво и критично умел Санктис относиться к
тому, что было ему дорого, называя вещи своими име-
нами и не строя никаких иллюзий! Действительно, раз-
витие романа в России, Франции и Англии, искания в
драматургии и поэзии не находили равнозначного отра-
жения в итальянской действительности того времени,
так что Санктис имел основания для своего раздумья.
Не все в «Истории» Санктиса может быть принято без-
оговорочно. Кое в чем он отчасти устарел, отчасти с са-
мого начала оказался неправым. Так, при изложении
философских взглядов Джордано Бруно он не выявил в
надлежащей мере материалистический характер его уче-
ния, приписывает ему наличие «чрезвычайно развитого
религиозного чувства». Де Санктис не понял, что пан-
теизм Бруно был своеобразной формой материализма
эпохи Возрождения. В изложении Де Санктиса несколь-
ко скрадывается страстная борьба Бруно против като-
лической церкви и схоластики.
Нельзя согласиться и с оценкой Санктисом комму-
нистической теории Кампанеллы.
Кампанелла — характерная фигура Возрождения.
В его мировоззрении сочетаются элементы нового, наро-
ждающегося, с элементами старого, отжившего, что ти-
пично для мыслителей переходной эпохи от феодализма
к капитализму. В учении Кампанеллы еще сохраняются
пережитки средневековья: элементы схоластики и мис-
тики. Представления Кампанеллы об идеальном обще-
стве нередко наивны и примитивны, еще связаны
с традициями теократических учений. Но в целом его
мировоззрение революционно, ибо мыслитель смело звал
человечество к социальному прогрессу и социальной
справедливости. Он подверг острой критике эксплуата-
торский строй и нарисовал картину коммунистического
общества. Хотя эта картина фантастична, однако здесь
584
содержатся зародыши гениальных идей. Не случайно
имя Кампанеллы было упомянуто в докладе Н. С. Хру-
щева на XXII съезде КПСС среди имен великих социа-
листов-утопистов. Де Санктис правильно выдвигает на
первый план резкую критику Кампанеллой суще-
ствующего общества и прозрение им «нового мира» в его
«окончательном завершении», «нового золотого века»,
«царства мира и справедливости». Из Кампанеллы, пи-
шет Де Санктис, «так и брызжут идеи и утопии, гипо-
тезы, надежды, афоризмы, которые в своей значительной
части представляют собой предчувствия и предвидения
нового мира» (т. II, стр. 329, 331). Но Де Санктис со-
вершенно неправильно понимает коммунизм Кампанел-
лы как состояние, при котором личность, индивидуум
лишается каких-либо прав, а государство приобретает
абсолютную власть.
Это связано с неправильным пониманием Де Санк-
тисом роли государства в теории Кампанеллы и отме-
ченными уже остаточными элементами теократических
учений у Кампанеллы, который, подобно многим другим
социалистам-утопистам, возлагал в своей программе со*
циальных преобразований надежды на «просвещенного
монарха».
Односторонне интерпретирует Де Санктис наследие
Макиавелли. Как мы говорили, Макиавелли для
него — чуть ли не центральная фигура эпохи Возро-
ждения. Действительно, Макиавелли сыграл большую
роль в развитии социологической мысли нового време-
ни, в преодолении теократических теорий средневековья.
Однако в его учении ярко проявился беззастенчивый
цинизм идеолога буржуазии. В восемнадцатой главе
«Князя» Макиавелли рисует портрет «идеального
властителя», который, согласно Макиавелли, для до-
стижения политических целей может использовать любые
средства — подкуп, убийства, отравление, вероломство.
Кодекс вероломства, двурушничества, насилия Макиа-
велли, разумеется, не изобрел, он почерпнул его из прак-
тики современной ему жизни. Но он возвел его в абсо-
лют. Макиавелли представлял себе «природу человека»
метафизически, как неизменную и объявлял тип чело-
века, возникший в буржуазном обществе, вечной мо-
делью человека вообще. Де Санктис не подверг кри-
тике «макиавеллизм» — понятие, по праву связанное с
685
Макиавелли. У Де Санктиса имеются при изложении
истории итальянской литературы и итальянской обще-
ственной мысли и другие неточности. Но, несмотря на
это, труд Де Санктиса в целом ценен и значителен. На
нем воспиталось не одно поколение итальянцев.
Среди читателей Санктиса были не только Торрака,
* Гаопари (бывшие ученики его), но и Антонио Грамши,
много раз отмечавший боевой и прогрессивный характер
деятельности Санктиса-ученого, его умение показать
антагонистическую сущность современной жизни, Паль-
миро Тольятти, а также другие передовые деятели ра-
бочего класса, итальянской компартии.
Нападки на Санктиса литературоведов из реакцион-
ного лагеря приобрели одно время характер идейного
остракизма, но теперь можно говорить о широком
признании итальянской наукой и литературной критикой
Де Санктиса и его «Истории итальянской литературы».
Этот труд итальянского ученого XIX века считается
крупнейшим этапом в развитии литературоведческой и
эстетической мысли не только в Италии. Исследования
Э. Чоне, Ф. Бьондолило, Л. Руссо, Б. Джерратана,
Д. Кантимори и других вносят много существенно но-
вого и исправляющего то, что было сделано Б. Кроче и
его школой.
Критическая школа Санктиса сохранила свою дей-
ственную поучительность. Этот прекрасный художник
слова был настоящим гуманистом, воинствующим и
стойким в своих убеждениях как моральных, так и по-
литических. Поэтому неизменно сохраняется интерес
к трудам Де Санктиса. Его идеи не только принадлежат
современной передовой Италии, они имеют во многом
более широкое значение 1.
В заключение напомним, что итальянская литера-
тура издавна привлекала внимание русского читателя.
Пушкин пишет терцинами, вспоминает «сурового Дан-
та», переводит или гениально «перелагает» безумие Ор-
ландо-Роланда из поэмы Ариосто, П. Катенин отлично
переводит начальные главы «Ада». Позднее появляются
такие образцовые переводы, как «Декамерон» А. Н. Ве-
селовского, «Жизнь Бенвенуто Челлини» и «Божествен-
1 Ср. Карло Салинари, Антонио Грамши — революционер
и мыслитель, «Иностранная литература», № 11, 1962, стр. 207—215.
586
ная комедия» Данте М. Л. Лозинского, «Фьезоланские
нимфы» Ю. Н. Верховского, «Новеллы» Саккетти
В. Ф. Шишмарева и многие другие. Русские исследова-
тели—А. Н. Веселовский, автор двухтомной моногра-
фии о Боккаччо и работ об итальянском Возрождении —
вместе с М. С. Корелиным закладывают основы русского
итальяноведения. В советское время появляются работы,
в которых складывается уже новое марксистское пони-
мание литературы талантливого итальянского народа.
Обзорные статьи в учебниках по зарубежной литера-
туре, энциклопедические статьи несколько расширяют
сведения по тем же вопросам. Раньше замечательная
книга Де Санктиса в России не издавалась. Этот пробел
и восполняется выпуском на русском языке двух томов
«И'стории итальянской литературы».
* *
*
Перевод сделан с последнего итальянского издания
Дж. Эйнауди (Турин, 1958), без изменений и с незна-
чительными купюрами. Стилистическая оригинальность
Санктиса по возможности сохранена коллективом пере-
водчиков. Сохранены (с небольшими сокращениями)
и примечания итальянского издания для ориентации
читателя в круге интересов Де Санктиса и использован-
ных источников. Из отступлений от привычного написа-
ния надо указать на имя Орландо вместо Роланд в
поэме Ариосто. Неизбежна условность терминологии,
которую оговорить целиком нельзя.
Д. Е. Михальчи,
М. Ф. Овсянников
Библиография
Итальянская литература в русских переводах
Д'Адзелио Массимо Этторе Фьерамоска, М.—Л., 1934.
Д Адзелио Массимо Этторе Фьерамоска, М.—Л., 1963.
Алерамо Сибилла, Стихи, М., 1952.
Альфиери В., Жизнь, М., 1904.
Альфиери В., Филипп, в кн.: И. И. Гливенко, Витторио Аль-
фьери, СПБ, 1912.
А р и о с т о Л., Неистовый Роланд, Л., 1938.
Банделло М., Ромео и Джульетта, М., 1956.
Боккаччо Д., Декамерон, пер. А. Н. Веселовского, М., 1955
(Минск, 1953, т. 1, 2).
Боккаччо Д., Фьезоланские нимфы, пер. Ю. Н. Верховского,
М. — Л., 1934 (также в книге Ю. Верховский, Поэты
Возрождения, М., 1955).
Боккаччо Д., Фьяметта, пер. М. А. Кузьмина, СПБ, 1913.
Боккаччо Д., Жизнь Данте в кн. Данте, Чистилище, пер.
М. А. Горбова, М., 1898.
Бруно Д., Диалоги, М., 1949. Он же, О героическом энтузиазме,
М., 1953.
В е р г а Д., Сельская честь, М., 1956.
В и ко Д., Основания новой науки, Л., 1940.
Гверацци Ф. Д., Осада Флоренции, М. — Л., 1934, 1935.
Гвиччардини Ф., Сочинения, М. — Л., 1934.
Гольдони К., Комедии, т. 1, 2, М., 1933, 1936.
Гольдони К., Забавный случай, Кьоджинские перепалки. Само-
дуры, М., 1936, 1937, 1939.
Гольдони К., Мемуары, т. 1, 2, М. — Л., 1930—1933.
Гоцци К., Сказки для театра, М. — П., 1923, т. 1, 2.
Данте А., Ад, Чистилище. Рай, пер. М. Л. Лозинского, Л. —М.,
1939, 1944, 1945.
Данте А., Божественная комедия, пер, М. Л. Лозинского, М.21962.
588
Данте А., Новая жизнь, Самара, 1918.
Данте A., Vita nova, M. — Л., 1934.
Данте А., О народной речи, П., 1922.
Итальянская новелла Возрождения (А. Эфрос, Э. Егерман), М.,
1957.
Итальянские новеллы 1860—1914, М. — Л., 1960.
Кампанелла Ф., Город Солнца, М. — Л., 1934 (то же М. — Л.,
1947).
Кардано Дж, О моей жизни, М., 1938.
Кардуччи Дж., Избранное, М., 1958.
К а р д у ч ч»и Д ж., Избранные стихи, М., 1950.
Леонардо да Винчи, Избранное, М., 1952.
Леонардо да Винчи, Избранные произведения, т. 1, 2, М. — Л.,
1935.
Мазуччо Г., Новеллино, М.—Л., 1931.
Макиавелли 'Н., Мандрагора, Л. — М., 1958.
Макиавелли К, Сочинения, М. — Л., 1934.
Мандзони А., Обрученные, М., 1955 (то же М. — Л., 1936).
Новеллы итальянского Возрождения (П. П. Муратов), т. 1, 2, М.,
1912—1913.
Петрарка, Автобиография. Исповедь. Сонеты, М., 1915, пер.
В. Иванова.
Петрарка, Избранная лирика, М., 1953.
Петрарка. Книга песен, М., 1963.
Полициано А., Сказание об Орфее, М. — Л., 1933.
Саккетти Ф., Новеллы, пер. В. Ф. Шишмарева, М. — Л., 1962.
Саккетти Ф., Человеческая комедия, М., 1917.
Та ее о Т., Аминта, М. — Л., 1937 (то же М., 1921).
Та ее о Т., Освобожденный Иерусалим, СПБ, 1910.
Ф е р р а р и П., В борьбе за идею, М., 1900.
Фиренцуола А., Сочинения, М. — Л., 1934.
Франциск Ассизский, Цветочки, М., 1913.
Челлини Бенвенуто, Жизнь, М.—Л., 1931 (то же М.,
1958).
Также в хрестоматиях:
Р. О. Ш о р и Б. И. Пуришев, Хрестоматия по зарубежной
литературе. Средние века, М., 1953.
Б. И. Пуришев, Хрестоматия по зарубежной литературе. Эпоха
Возрождения, М., 1947, М., 1962.
Б. И. Пуришев, Хрестоматия по западноевропейской литера-
туре. Литература XVII века, М., 1949.
589
А А. А н и к с т, Л. Н. Галицкий, М. Д. Э й х е н г о л ь ц, Хре-
стоматия западноевропейской литературы, XVIII век, М.,
1938.
Помимо указанного, учитывающего лишь избранные образцы
итальянской литературы в русских переводах (среди них такие
образцовые, как «Декамерон» А. Н. Веселовского, «Божественная
комедия» М. Л. Лозинского и его же «Жизнь Бенвенуто Челли-
ни», «Фьяметта» М. А. Кузьмина, «Фьезоланские нимфы»
Ю. Н. Верховского), имеются переводы и вольные переложения
А. С. Пушкина из Ариосто, Батюшкова из Петрарки, Катенина I
и II песни «Ада», а также устаревшие переводы Раича, Зотова
и др.
Итальянская литература в оценке русской
науки
Арсен ьев Н. С, Пессимизм Джакомо Леопарди, СПБ, 1914.
Веселовский А. Н., Вилла Альберти, т. III, Собр. соч., СПБ.
Веселовский А. Н., Италия и Возрождение, т. IV, Собр.
соч., вып. 1, 2, СПБ, 1909, 1911.
Веселовский А. Н., Боккаччо, т. V, VI Собр. соч., II., 1915,
1916.
Веселовский А. Н., Избранные статьи, Л., 1939 (статьи
о Данте, Петрарке, Бруно).
Гливенко И. И., Витторио Альфьери. Жизнь и произведения,.
СПБ, 1912.
Гливенко И. И., Данте Алигьери, 1921.
Глебов И, Кржевский Б., Данте Алигьери, 1921.
Дживелегов А. К., Данте, М., 1946.
Дживелегов А. К., Итальянская народная комедия, М., 1954.
Дживелегов А. К., Начало итальянского Возрождения, М.,
1908, М., 1924.
Дживелегов А. К., Очерки итальянского Возрождения, М.,
1929.
Егерман Э. Я., Хрестоматия по итальянской литературе, ч. 1,
2, М„ 1948.
Иванов М. М, Очерки итальянской современной литературы,
СПБ, 1902.
Ко релин М. С, Ранний итальянский гуманизм и его историо-
графия, т. 1—4, СПБ, 1914.
Корелин М. С, Очерки итальянского Возрождения, М., 1896,
М, 1910.
т
Мокульский С. С, Итальянская литература (обзор), М.—
Л., 1931.
Реизов Б. Г., Гольдони, М. — Л., 1957.
Фриче В. М., Литература эпохи объединения Италии (1796—
1870 гг.), М, 1916.
Штейн В., Граф Джиакомо Леопарди и его теория, СПБ, 1891.
Различным периодам и авторам посвящено много статей в
журналах и ведомственных изданиях; познавательное значение
имеют вступительные статьи к указанным изданиям итальянских
писателей в русском переводе.
С историей итальянского театра можно ознакомиться по кни-
гам: История западноевропейского театра, под редакцией С. Мо-
к у л ь с к о г о, т. 1, М., 1956; Мокульский С. С, История
западноевропейского-театра, т. 1, 2, М.—Л., 19Э6—1939; Д ж и в е-
леговА. и Бояджиев Г., История западноевропейского театра
от возникновения до 1789 г., М. — Л., 1941.
См. также соответствующие разделы по итальянской литера-
туре в обзорах истории зарубежных литератур П. С. Когана,
Ф. Ф. Д е - л а - Б а р т а, А. В. Луначарского, Н. И. С т о-
роженко, Ф. П. Шиллера, В. М. Фриче, в «Всеобщей
истории литературы», под редакцией В. Корша и А. Кирпичникова,
СПБ, 1877—1892, «Истории западной литературы», под редакцией
Ф. Батюшкова, т. 1—3.
Иностранные авторы в русском переводе
Гаспари А., История итальянской литературы, т. 1, 2, М,
1895, 1897.
Зайчик Роберт, Люди и искусство итальянского Возрожде-
ния, СПБ., 1906.
Овэтт Анри, Итальянская литература, М.—П., 1923.
Скартаццини И., Данте, СПБ, 1905.
Фламини Ф., «Божественная комедия» Данте, М., 1915.
Составил Д. Е. Михальчи*
Комментированный указатель
имен и названий
«Аваркид» Аламани — 1, 501
Авраам и Исаак» Ф. Белькари — I, 123—124
Аграманте — персонаж поэмы Л. Ариосто «Неистовый Орландо» —
II, 28—30, 32, 41, 48—49
«Адельгиз» А. Мандзони — II, 545, 547
«Адонис» Дж. Б. Марино —II, 262—268, 274, 418—419, 447
Адриан V, папа—персонаж «Божественной комедии» Данте — I.
267
Адриан VI, папа —I, 507; II, 345—346, 348—349
«Адриан в Сирии» П. Метастазио — II, 434—436
«Азоланы» Б е м б о — I, 492
Аккольти, Бернардо — I, 496. Его «Вирджиния» породила
знаменитые подражания Шекспира; это новелла, переходя-
щая в комедию и обладающая тем романтическим складом,
который отличает итальянское воображение
Аламанни, Луиджи — поэт эпохи Чинквеченто — I, 494, 497,
501, 504
д'А л а м б е р, Ж а н Л е Р о н — II, 408
Альгаротти, Франческо — II, 443, 446, 476
Алексей, св. — персонаж из житий святых — I, 106, 123, 137, 141,
144, 439
Аллегории души —I, 105—106, 172, 179, 181
Альбертано да Бреша —I, 95, 98, 148, 154, 174
Альбертано и Колонна, Эджидио — их специальные трак-
таты отличались оригинальностью— I, 98
Альберт и, Леон Баттиста — I, 468, 476—485, 490, 492, 498—
500, 532. Краткие биографические сведения. Ученый и
художник, эрудит, который в своей универсальности, каза-
лось бы, хочет объять все (476). Самый образованный для
своего времени человек, он наиболее совершенно отображает
свой век в его основных тенденциях и целиком и полностью
£92
является новым человеком, формировавшимся в это время
в Италии (477—478). Внутреннее равновесие — цель эпику-
рейцев, новый этический принцип, восходящий к древним мо-
ралистам; в своих рассуждениях он отталкивается не от фи-
лософских принципов, а от жизненного опыта (479). Его но-
вый идеал человека, мудрого и счастливого, не абстракция:
человек берется им таким, каков он в практической жизни,
с его привычками и наклонностями. Это идеализированный
горожанин, сменивший аскетический и рыцарский тип средне-
вековья. Живым воплощением такого идеала был сам Аль-
берти (I, 479—480). Любовь к прекрасной форме не только
как к таковой, но и как к выражению внутреннего спокой-
ствия является музой Альберти (I, 480). «Экатомфилеа» по
тонкости и точности наблюдений во многом превосходит
«Фьяметту» Боккаччо, подражание которой отчетливо в ней
заметно (и еще больше в «Деифире» и в «Послании пылкого
влюбленного», где много риторики в любовных стонах и
жалобах). Большой писатель обнаруживается в Альберти,
когда он живописует и описывает, как в послании о любви,
навеянном «Вороном» (I, 483). На стиль произведений Аль-
берти явно повлияла латинская проза и манера Боккаччо; в
его трактатах и диалогах встречаются чисто латинские вы-
ражения, а также латинские слова, конструкции и обороты.
Он человек образованный и изящный; у него в сознании кон-
струкция, которую он пытается реализовать. Он стремится
говорить как благородный человек, если не с латинским
величием, то, во всяком случае, со светской и изящной стро-
гостью. Латынь умеряется у него живостью и грацией фло-
рентийской народной речи (I, 484). Проза пока еще не ро-
дилась, существует артистическая проза, в ней писатель за-
нят больше формой, чем содержанием, и стремится прежде
всего к изяществу, грации и звучности. С точки зрения искус-
ства зарисовки Альберти являются самым законченным из
того, что дала в этот век проза. Но зарисовки его фрагмен-
тарны, почти всем им недостает последнего мазка, ни об од-
ной из них не скажешь, что она столь же совершенна, как
картина Полициано (I, 485)
Альберт Великий и Бэкон, Роджер — предшественники
новой науки, непонятые и преследуемые, — II, 327
Альфери, Витторио—I, 497; II, 424—425, 483—485, 487—
499, 502—503, 505—507, 510, 519, 524, 537, 540—541, 543, 551
Альчина — персонаж поэмы Ариосто —II, 31—32, 39, 222—223, 262
«Амадис», Б, Тассо— I, 502; II, 195, 210
593
Амарилли — персонаж Б. Гварини — II, 241—242, 244, 246, 253
«Амбра» Лоренцо де'Медичи — I, 456
Америго, Джованни д' — I, 420
Америка—II, 252, 394
«Амето» Д. Боккаччо — I, 378, 380—384, 388, 443
Амето — персонаж Боккаччо — I, 380—384, 443
«Аминта» Торквато Та се о —II, 231—233, 238—239, 241—243,
256, 274, 418—419
Анакреонт— II, 10, 253
Ангвиллара, Чакко дель—I, 23, 29. Тенцона Чакко — вся
на один лад, стих в ней льется медленно, однообразно (28)
Анджелика — персонаж Ариоето —II, 30, 32, 38, 48, 50, 199,211,
223—224, 262
Анджелика — персонаж «Влюбленного Орландо» Боярдо — I, 466—
467; II, 200
«Анкройя»— рыцарский роман — II, 54
«Анналы» С. Баронио — II, 357
«Apparatus sacer ad scriptores...» А. Поссевино—II, 357
«Апологи» Л. Б. Альберти — I, 477
Апулей, Луций — I, 383, 522
Аретино, Пьетро —I, 496; II, 6, 79, 148—175, 177—178, 191—
192, 236, 246, 250, 259, 271—273, 288, 290, 316, 369. Биографи-
ческие сведения (II, 148—153). Его цветистый или прециозный
стиль время от времени озаряется проблесками гениальности:
оригинальные сравнения, великолепные образы, новые, сме-
лые мысли, резкие мазки и даже прямые находки, правда
чувства и колорита (II, 170). Бесспорно значение П. А. как
комедиографа (II, 172). Комический мир —мир Аретино.
Основная мысль А.: «Мир принадлежит тем, кто более ло-
вок, а потому им владеют плуты и наглецы и горе проста-
кам!» (II, 172). Комедии А. во многом близки народному ре-
пертуару комедии дель'арте (II, 237)
Ариоето, Лудовико — I, 234, 362, 418, 482, 488, 492, 496—497,
501—503, 513, 535; II, 6—54, 56, 58, 61, 66—67, 72—73, 82,
117, 153, 177, 196—197, 199—201, 203—204, 207, 209, 213, 222,
225—226, 229, 242, 248, 263, 264, 282, 469, 476, 482, 487, 534.
Биографические сведения: II, 6—11, 15—24. Реальная жизнь
была для него чем-то второстепенным, основным было искус-
ство... ничем не выдающийся горожанин, как почти все ли-
тераторы той поры, добродушный, в общем спокойный, не
умеющий ни завоевать себе свободу, ни терпеливо переносить
свою зависимость... (II, 23) Как человек он ниже, чем поэт,
и в нем самом нет того, что нужно для создания великих
594
героических фигур, да в его эпоху таких фигур и не было
(II, 50). Его комедия «Шкатулка» — воссоздание, а не со-
зидание; увлекшись готовой схемой, он упускает прекрасные
комические ситуации и конфликты (II, 11). «Неистовый Ор-
ландо»— А. начал писать в терцинах эпическую поэму, но
этот размер не подходил его размашистой манере; он решил
продолжать историю Орландо, начав там, где ее оборвал
Боярдо; стремление угодить вкусам своего века... и сочинить
панегирик дому д'Эсте не удалось и было забыто, когда ху-
дожник начал писать свое большое полотно (II, 21). Не-
истовство Орландо и любовь Руджиеро — это не эпизоды
именно потому, что нет единого действия, а это важные ча-
сти той огромной совокупности, которая называется рыцар-
ским миром (II, 28). Условное единство действий и эпизодов
в соответствии с правилами Аристотеля и Горация несовме-
стимо с изображением рыцарского мира и подвергается кри-
тике в «Неистовом Орландо» (II, 28—29). Хотя этот вымыш-
ленный мир необычен и имеет мало общего с нравами и чув-
ствами его эпохи, А. столь ясно представляет его себе, что
обрисовывает его так же отчетливо, как если бы рисовал
реальную жизнь. В этом и состоит необычайность поэтиче-
ского гения А., изображающего фантастический мир с такой
простотой и естественностью. Описываемая жизнь действи-
тельно фантастична до нелепости; приняв эту основу, Арио-
сто изображает развитие событий правдоподобно и глубоко
человечно. В поэме развиваются серьезные и комические си-
туации высокого эстетического достоинства (II, 32). Но его
любимому герою не хватает располагающей простоты и есте-
ственности; героика вырождается в фантастику и идиллию
(II, 50)
Аристотель—I, 35, 38, 54, 61, 93—94, 164, 174, 192, 225, 310,
373, 434, 437, 502, 509, 528; II, 28, 163, 173, 191, 204, 239, 282,
287, 316, 318, 347, 350, 365, 383, 429, 535
Аристотель — персонаж «Божественной комедии» Данте — I, 255,
367
Аркадия, Академия —II, 245, 260—261, 365, 419, 441, 448, 453, 473,
477, 491, 523. Основание этого учреждения явилось крупным
событием и несколько десятилетий подряд занимало внима-
ние общества. Казалось, что для возрождения поэзии и хоро-
шего вкуса достаточно соблюдения некоторых правил. Члены
«Аркадии», ученость которых в сочетании с пустотой стала
нарицательной, желая заклеймить героическое, ударились в
пасторальное. Результатом этого явились произведения сухие,
595
бесцветные, аффектированные, жеманные, фальшивые (260—
261). Идиллии —419
«Аркадия» Санадзаро — I, 490; II, 235
Армада — персонаж Т. Тассо — II, 199—200, 207, 209, 210—211, 222—
226, 228, 262, 273, 420, 428
«Арнольд Брешианский» Д ж. Б. Н и к к о л и н и — II, 546
«Аспромонте» — рыцарский роман — I, 463
Астаротте — персонаж «Моргайте» Пульчи— I, 473—475; II, 80
Астольфо — персонаж Л. Ариосто —II, 31—32, 39, 46—47, 201, 210
Астольфо — персонаж «Моргапте» Пульчи — I, 472
«Аттильо Регул» П. Метастазио — II, 436
«Афинская школа» — фреска Рафаэля — I, 499
«Африка» — поэма Фр. Петрарки — I, 315—316, 345, 425
Ачерби, Франческо — См. Чекко д'Асколи
Байрон, Д ж о р д ж — II, 541
Бальдус — персонаж Т. Фоленго— II, 58—59, 63—65
Бальзак, Жан Луи Гез де — II, 170
Банделло, Маттео — I, 514, 525—526
«Барды черной дубравы» В. Монти — II, 541
Баретти, Джузеппе— II, 443, 449, 459, 472, 475, 535
Бартоли, Даниелло—II, 185, 269—271. В области прозы Ма-
рино соответствовал Даниело Бартоли, искуснейший и не-
превзойденный мастер периодов и фраз, прециозного и цвети-
стого стиля. Природа и человек для него, не что иное, как
стимул и повод проявить свою эрудицию и богатство языка.
Другой, более серьезной цели у него нет (II, 269)
Бартоло да Сассоферрато — I, 56—57, 147
Бартоломео да Сан Конкордио—I, 134, 144. «Подвиги
Энея», а также «Наставления древних» переведены Барто-
ломео да Сан Конкордио с мастерством, достойным перевод-
чика Саллюстия. Это зрелая проза, написанная бойко, го-
рячо, изобретательно, красочно, на живом разговорном языке
(144)
«Басвилиана» В. Монти — II, 503, 505
Беатриче — персонаж произведений Данте — I, 72, 75, 79, 83—87,
101, 129, 130, 163, 172, 175, 182, 189—190, 192, 202—203, 207,
213, 236, 267, 278, 279, 285, 290, 294—295, 298, 300, 302—304,
317—318, 334, 343—344, 353—354, 365, 393, 434, 499; II, 81, 216,
218, 219,
«Беглецы из Парги» Д. Б е р ш е — И, 547
«Бека да Дикомано» Пульчи — I, 457
Беккариа, Чезаре — II, 409, 440-441, 453, 475—476, 504,
Беллармино, Роберто — II, 353. Критическое суждение о
«Верном пастухе» (II, 241). Его предложения относительно
«суверенитета народа» и «права на восстание» (II, 354)
«Бельфагор» Макиавелли — I, 524—525, 534
Бембо, Пьетро—I, 488, 492—495; II, 6, 21, 153, 163, 188, 340.
Латинская форма письма, обнаженная и абстрактная, находит
свое практическое выражение в «Азоланах» Бембо (I, 492). Б.
уговаривал Ариосто писать «Неистового Орланда» на латин-
ском языке, не понимая, что такое «Влюбленный Орландо»
(",21)
Бенедикт XIV —его умная терпимость (II, 366).
Бенивьени, Джироламо —I, 452—454. Даже там, где мета-
фора даитовская, как, например, в стансах Бенивьени, форма
остается роскошной и грациозной (I, 454)
Берн и, Франческо —I, 480, 503, 506—513, 526—527, 532; II,
6, 12, 20, 43—44, 55, 58, 250, 476, 551. В своей поэме «Орлан-
до» Б. прибегает к буффонаде, чтобы развлечь своих чита-
телей (II, 44)
Бертран де Борн — Трубадур, персонаж «Божественной комедии»
Данте —I, 240, 251, 255
Берше—II, 514, 535
«Беседы животных» А. Фиренцуолы — I, 493, 514
«Беседа Нанны» П. Аретино — II, 160
Беттинелли, Саверио — II, 443—444, 446, 475, 504
Биббиена, Бернардо —II, 11 — 12, 117, 120
«Библиотека» А. Ф. Д о н и — II, 171
«Библиотека древняя и современная» Ж. Лек л ер к а — II, 363
«Битва при Гавиньяно» М. д'Адзелио—II, 546.
«Битва при Турине» М. д'А д з е л и о — II, 546
«Благочестивое представление о Стелле»—I, 439
«Божественная комедия» Д а н т е — I, 134, 179—308, 310—311, 321,
329, 334, 344, 348, 365, 383, 387, 388, 399—400, 458, 485, 533—
534; II, 21, 28, 46, 81, 116, 385, 523, 530, 539
Боккалини Траяно — смелый комментатор Тацита; его «Пар-
нас» страшно серьезен и остается просто рамкой для мыс-
лей, выражения досады, для колкостей, намеков и аллегорий.
Это мир, разложенный на атомы, лишенный жизни и вну-
тренней связи (II, 251)
Боккаччо, Джованни —I, 61, 180, 185, 312, 338—419, 421,
424, 425, 427—429, 431, 433, 435, 437—440, 442—443, 448, 450—
451, 456, 460, 463, 465, 468, 472, 477, 480, 483—485, 489, 491-
492, 494—495, 501, 506, 510, 512, 517—518, 521, 523—525, 527.
39 Де CaHjmjc
597
534, II, 12—13, 24, 43, 55, 61, 66, 72, 76—77, 80—82, 100, 116,
119, 161, 166, 178, 185, 187, 191, 207, 214, 244, 246, 274, 288,
482. Биографические сведения: I, 349—350, 355—357, 392. Его
жизнь — это компендиум итальянской литературной жизни,
наметки ее будущего развития. В начале своего пути Бок-
каччо — неутомимый открыватель рукописей, он весь погру-
жен в мифологию, в греческую и римскую историю. Он пока
еще не художник, он эрудит, он пробует то один, то другой
жанр и никак не может найти себя, подражает Данте, подра-
жает Вергилию, петраркизирует и платонизирует, пишет объ-
емные латинские сочинения, вызывающие восхищение его со-
временников (1—429). «Жизнь Данте» —Б., не владея серьез-
ной схоластической и аскетической культурой, язычник (и от-
нюдь не мистик) по чувствам и поведению, изобразил Д. по-
своему; книга сделана уже в той же фактуре, как и «Дека-
мерон» (I, 350—351). Латинские труды были переведены
на французский, немецкий, английский, испанский и итальян-
ский языки, многократно переиздавались и встречали самый
горячий прием со стороны современных читателей (I, 358)\
Противоречие формы и содержания в произведениях Б. Он
берет эпические и лирические формы, которые были освящены
традицией и почитаемы; Б. решил вложить в них весь про-
заический мир того времени (I, 368)
То же несоответствие между формой и содержанием мы
обнаруживаем и в таких произведениях, как «Фьямметта» и
«Ворон, или Лабиринт любви». Оба они написаны в совер-
шенно новом жанре, по содержанию сугубо современны,
темы выбраны весьма удачно. Автор поворачивается спиной
к средневековью, кладет начало современной литературе. От
мистики, теологии и схоластики не осталось и следа. Мы на
земле. Страницы сокровенной истории человеческой души в
«Фьямметте» поданы в серьезной, непосредственной форме, а
в «Вороне» — в форме негативной, сатирической. Литература
носит уже не трансцендентный, а имманентный характер. Но
Б. еще не удается найти подходящую форму для нового
содержания, он все еще поглощен эрудицией, риторикой, а
посему и рисует действительность через старую призму; так
возникла новая трансцендентность — отрыв от реальности,
причина которого в направлении на классицизм, взятом тог-
дашней культурой (I, 372—373). В «Фьезоланских нимфах»
и в «Амето» Б. воспевает царство культуры и человечности.
Это торжество природы и любви над варварством древних
времен (I, 380). Б. воссоздает с помощью воображения опцсан-
598
ные в старинных преданиях идиллические времена. Мифология
выступает здесь не в форме бродячих элементов, а как главное
содержание (I, 378) в «Фьезоланских нимфах» (I, 378—
380) он погружается в идиллический мир, описанный с лег-
костью, подчас граничащей с небрежностью, но без аффекта-
ции или утрировки (I, 379). Поэтическая фраза льется гладко
и стремительно, в ней слышится естественная разговорная ин-
тонация, но не хватает значительности, четкости, чрезмерная
натуралистичность влечет к тривиальности и примитиву (I,
379—380). Б. дал образец нового повествовательного и описа-
тельного жанра (I, 456). «Амето» (1, 380—383) — подоб-
ный замысел мог родиться лишь в голове нового человека,
находившегося под влиянием всех многообразных элементов
тогдашней культуры: голова его забита мифологией, грече-
скими и французскими романами, и из всего этого делает
смесь (I, 383). «Декамерон» отражает жизнь общества такой,
какой она была в ее повседневных событиях; получилась все-
объемлющая картина, рисующая действительность во всем
многообразии характеров и обстоятельств, способных пора-
зить воображение (I, 403). Это новая комедия, воссоздающая
циничный, лукавый мир плоти, не вышедший за пределы чув-
ственности и карикатуры, подчас переходящий в буффонаду,
облеченный в изящную, кокетливую форму плебейский мир,
который показывает кукиш миру духа; грубый по своим чув-
ствам, но облагороженный, приукрашенный воображением
мир, в котором живет утонченное буржуазное общество, ов-
ладевшее духовными богатствами, культурой и рыцарским
наследием (I, 418—419). Положительные, серьезные харак-
теры не столь типичны, они представляют собой скорее исклю-
чение. Живую, характерную и наиболее впечатляющую часть
этого мира составляют комические характеры. Постепенно
этот беспечный, жизнерадостный мир приобретает свой облик
и становится человеческой комедией (I, 399). В основе ко-
мизма у Б. не нравственность, а интеллект. Он изображает
общество таким, каким оно было на самом деле, с его неве-
жеством и обманами, таким, каким оно представало взору
умных людей... (I, 405) Вот почему главный мотив, опреде-
ляющий комизм ситуаций, — это ограниченность малокуль-
турных людей, особенно рельефно выступающая при сопри-
косновении с хитростью (I, 405)
ая оценка. Б. — великий мастер меткого слова и калам-
бура; его воображение, питаемое подлинным чувством, по-хо-
зяйски распоряжается древними и современными формами,
599
сливает их воедино, выковывает из них свой собственный
мир, отмеченный его особой печатью (I, 417—418). Человек
Б. в противоположность человеку средневековья пребывает в
идиллическом спокойствии, и взгляд его обращен к матери-
земле, от которой он требует — и добивается — удовлетворе-
ния своих желаний (I, 377)
Боккаччо — персонаж П.^Аретино — II, 174
Бонавентура, св. — I, 38, 55, 192, 261, 283; II, 312
«Бонапарту освободителю» (ода Уго Фосколо) — II, 505
Бондельмонте — персонаж хроники Р. Малеспини — I, 91
Бонифаций VIII, папа —I, 46, 132, 149, 151—153, 160, 162, 167, 183,
200—201, 214, 249, 296; II, 522. Его небольшое, грубо сделан-
ное песнопение в честь пресвятой девы (I, 46)
Ботеро, Джованни — II, 341. Б. достоин упоминания среди
других политических писателей своего времени, его
«Основы государства» — настоящий кодекс консерваторов
(", 341). _
Ботта, Карло — его «Американская история», опубликованная
в Париже, одновременно с «Гимнами» Мандзони, — такой
опус, что даже академики делла Круска почувствовали себя
превзойденными и задавали вопрос, каким же языком «Исто-
рия» написана (II, 542)
Боэций — I, 93, 98, 170, 181
Боярдо, Маттео Map и а — I, 464—468, 475, 488, 490, 498;
II, 21, 22, 28, 48, 56, 58, 199, 211, 231. Биографические сведе-
ния (II, 21—22). Боярдо остался в стороне от того направле-
ния, которое придал тосканской литературе Боккаччо. Ему
свойственна серьезность, которая в тот век пародий кажется
анахронизмом. «Влюбленный Орландо»: Б. не верит в описы-
ваемые им чудеса, в них не верят и его образованные слу-
шатели; это неверие иногда выражается через какую-либо
ироническую деталь; но эта насмешка не основной мотив, а
лишь незначительный придаток к повествованию. Тщетно ста-
рался Б. отнять у простонародья роман и придать ему стро-
гие пропорции эпопеи (I, 465)
Брандимарте — персонаж Л. Ариосто — II, 30, 32, 41
«Брунеттина» — баллада, приписываемая Полициано, — I, 457
Бруно, Джордано—II, 286—317, 322—323, 325, 327—331, 338,
343, 347, 358, 361, 371—372, 406, 523, 527, 533. Литературная
форма и развитие философской мысли. Биографические све-
дения, II, 286—288, 312—313, 316). Его обширные и серьез-
ные знания, его пристрастия и антипатии — II, 287. «Изъяс-
нение 30 печатей» — механическое и формальное исследова-
600
ние, в котором уже проявляется органический принцип, пред
вещающий великого мыслителя (II, 293). Концепция «героиче
ского энтузиазма» (II, 312). Концепция морального усовер
шенствования путем приближения к божественному; Б. воз
вращается к формуле Данте (II, 308—311). «Подсвечник». Б
выказывает здесь свои поэтические и литературные достоин
ства; объект изображения — простонародный, плебейский мир
сюжет — вечная борьба глупцов и хитрецов; идейное содер
жание — глубочайшее презрение и отвращение к обществу:
форма — цинична. Это основа всей итальянской комедии от
Боккаччо до Аретино с той разницей, что остальные ею раз
влекаются, а Б. порывает с ней и остается выше нее; он гор
дится тем, что он не академик; он называет себя «скучаю
щим» в обществе, которое не вызывает более его гнева, а
лишь отвращение (II, 288). Б. создавал новое содержание,
из которого позже суждено было родиться новой критике и
новой литературе (II, 292). Следует отметить решающее воз
действие идей и тенденций его творчества на прогресс чело
вечества (II, 292). Мир Б. — это современный мир, еще нахо
дящийся в брожении (II, 314). Для Бруно не существует со
зерцания, в котором не было бы действия, как нет действия,
в котором не было бы созерцания. Во всем виден человек,
который выходит из монастыря и бросается в жизнь, полную
борьбы (II, 312)
Булгарелли, Марианна — II, 423, 428, 429
«Буово д'Антона» — рыцарский роман —II, 54
Б э к о н Ф. — II, 282, 286, 315, 361, 375
Бьянкини, Франческо — талантливый человек; не просто со-
бирает материал, а думает, исследует, сравнивает, судит,
предполагает, придумывает и строит концепции. Памятники
не остаются более мертвой буквой. Они поясняют хроноло-
гию и историю. В этой геологии истории факты и люди то-
нут, становятся легендами, а легенды становятся идеями —
II, 367
«Вакх в Тоскане» Ф. Д е д и — II, 250
Валла, Лоренцо — I, 434, 437, 479, 529
Ванни Фуччи — персонаж «Божественной комедии» Данте—I, 247,
251, 255
Варки, Бенедетто — I, 492, 502, 505; II, 143, 165
«Введение в добродетели» Б. Джамбони — I, 99, 101, 173
, «Великопостная вечеря» Д. Б р у н о — II, 294
«Венера и Марс» Лоренцо де Медичи — I, 456
601
Вергилий —I, 35, 61, 73, 93, 174, 212, 225, 311, 315, 350, 358, 366,
368, 373, 416, 435—436, 438, 441, 443, 447—449, 451, 490, 494,
513; II —7, 28, 52, 60, 195, 204, 207, 427—428, 478, 500
Вергилий — персонаж Данте —I, 183, 189, 192, 202, 236, 241, 246,
256, 265, 267, 273—274, 276, 280, 283, 303
«Вергилиевские письма» С. Беттинелли — II, 444
Верри, Алессандро — II, 475, 535. «Ночи Юнга» вдохновили
«Римские ночи» А. В е р р и — II, 452
Верри Пьетро —II, 443, 452—453, 475, 504, 535
«Верный пастух» Б. Гварини —II, 235—236, 239—240, 246, 274,
417, 448
«Verona illustrata» Ш. Мафеи — II, 365
Вида, Марко Джироламо — I, 494, 528; II, 2, 58
Вико, Джамбаттиста —II, 356, 364, 368—390, 392, 400, 434,
490, 510, 514, 520, 523, 527—528, 532, 555. Биографические
сведения и образование (II, 368—370). «Новая Наука». Его
столкновение с Декартом. Он хочет опровергнуть Декарта, и
его опровержение Д. — последнее слово критики. Но критика
В. не только отрицающая, но и творческая. Отрицание пре-
вращается в более широкое утверждение, которое влечет за
собой новые доктрины и ставит их на свое место. Новое
знание обретает в «Новой Науке» В. свои пределы, следова-
тельно, свою истину (II, 377). «Новая Наука» чревата пред-
чувствиями и предугадыванием, научными идеями, истинами
и открытиями. Это творение пылкой фантазии и' философ-
ского ума, подкрепленного эрудицией, по праву можно на-
звать великим откровением. Сочинение В. — «Божественная
комедия» науки, обширный синтез, который охватывает прош-
лое и открывает будущее и который, однако, еще полон об-
ломков старого, подчиненного новому духу (II, 385)
Вилла ни, Филиппо— I, 61, 149—150, 349
«Вирджиния» Б. Аккольти — II, 232
«Влюбленная Анджелика» В. Брузантини — I, 503
«Влюбленность Карла» — рыцарский роман, I, 463
«Влюбленность Орландо» — I, 463—464
«Влюбленный Орландо» М. Боярдо —I, 464—468; II, 21—22,
54—55
«Влюбленный Орландо» в обработке Ф. Берни — I, 503; II, 44
«Возвращение весны» П. Метастазио — II, 418
«Возлюбленная» Л. А р и о с т о — II, 7—8
Вольтер, Франсуа Мари Аруэ де —I, 204, 206, 341; II,
341, 408, 442, 450, 503, 516, 520
602
«Ворон, или Лабиринт любви» Д. Боккаччо — I, 372, 374—376,
483
«Ворчун — благодетель» Гольдони — II, 466, 473
«Воскресенье» А. М а н д з о н и — II, 523
«Всеобщее законодательство» Ф. Дзилетти—II, 357
«Всеобщая история» Ф. Б ь я н к и н и — II, 367
«Всеобщая история» Ч. Канту —II, 556
«Всеобщая история соборов» М. Б а т т а л ь и н и — II, 357
«Газета литераторов» — II, 357
«Галатео» Делла Каза — II, 98, 483
«Галатея» П. М е т а с т а з и о — II, 421
Галеот — персонаж рыцарских романов — I, 386
Г а л и а н и, Фердинандо — II, 441, 449, 453, 474
Галилей, Г а л ил ео — II, 82, 134, 227, 319—323, 325—328, 331,
342—343, 346—347, 355, 361, 365, 532, 553, 555. Биографические
сведения: II, 319, 326
Гамлет — персонаж В. Шекспира — II, 218
Гано — персонаж Л. Пульчи — I, 468—470
Г а р д з он и; Томмазо — II, 356. Его академические рассужде-
ния нашпигованы непереваренной эрудицией, более забавной,
чем здравой (II, 368)
Гассенди, Пьер — 11,370
Гварини, Баттиста —II, 239—248, 261, 270, 275, 277, 417—
418, 437, 440; Г. и современная критика (II, 240). Концепция
современной драмы и поэзии должна показывать жизнь, как
она есть (II, 240). «Верный пастух» по своей композиции и
техническому исполнению самое совершенное творение поэ-
зии. Две сюжетные линии непринужденно переплетаются ме-
жду собой, характеры удачно подобраны и превосходно слиты
в одно целое при всем их различии... Форма произведения
отличается предельным изяществом. Как и в «Аминте», идея
произведения заключается в торжестве природы, с которой
после кажущейся борьбы судьба под занавес примиряется
(II, 240, 241)
Гвиди, Алессандро—II, 259. Его «Фортуна» — самый яркий
образчик... риторического героизма эпохи; дантовская «Фор-
туна» представлена у него в смешном и хвастливом виде
Гвиницелли, Гвидо—I, 35—41, 55, 59, 61, 63, 79, 343, 349.
Отец нашей литературы — I, 35. Образы его произведений не
уподобляются самой мысли, они служат лишь для сопостав-
ления действий и объяснения мысли, но он пользуется своим
методом с такой пышностью и помпой, что топит мысли
603
в образе (I, 81—82). Его поэзия произвела огромное впечат-
ление на современников, жадно тянувшихся к науке и наде-
ленных, как и он сам, живым воображением (I, 39—40).
Гвиттоне д'Ареццо — I, 40—41, 59, 64, 342. Для Гв. харак-
терно прежде всего то, что в поэте чувствуется человек, лич-
ность; резкая и даже грубая форма его стихов не может
скрыть оригинальности его ума, нравственной чистоты и энер-
гии (I, 41)
Гвиччардини, Франческо—II, 6, 77, 134—146, 148, 154,
156, 177, 327. Биографические сведения (И, 143). Он пред-
вестник поколения более слабого, более испорченного, чье
кредо он сформулировал в своих «Воспоминаниях»—
II, 134—135. Его «История Италии» охватывает период, ко-
торый может быть назван итальянской трагедией; ибо в эти
годы страна попала под власть чужеземцев и была лишена
единства; однако «История» не видит трагедии нации в це-
лом и описывает лишь бедствия, постигающие отдельных лю-
дей. Согласно его пониманию истории, человек не свободен
в своих поступках, они определены внутренними причинами
его характера. Гв. — великий мастер устанавливать сокровен-
нейшие побудительные мотивы, движущие поступками людей
(II, 145—146)
Гегель, Георг Вильгельм — II, 314, 389, 527
Гельвеций, К л од — II, 390—391
«Генриада» Вольтера Ф. — II, 484
«Георгики» Вергилия — I, 447; II, 225
Гердер, Иоганн Готфрид—II, 389, 541
Гёте, Вольфганг—II, 204, 540
«Гигантея» Д. Амелонги — I, 512
«Гликера и Ликорида» Л. Ариосто — II, 7
Г.о б б с, Т о м а с — II, 362, 364, 383, 450
Гольдони, Карло —II, 454—456, 460—469, 471—476, 482, 505,
538, 541—543. Биографические сведения (II, 460—462). Прежде
чем обрести себя, он пытал силы во многих жанрах, писал
мелодрамы, трагедии, трагикомедии, сентиментальные и ро-
манические комедии, в большинстве случаев это переделки
французов... «Он открылся публике и самому себе в «Хитро-
умной вдове» (II, 460—461). Сильное впечатление произвела
на него «Мандрагора» Макиавелли, его воспитание завершили
комедии Мольера (II, 463). Его навязчивая идея состояла
в том, чтобы изображать живое и правдивое и не искажать
природу. В этом была его сила.. А слабость его заключалась
в чисто литературном характере . проводимой им реформы,
604
которая держит его на поверхности и приводит к изображе-
нию местных и частных явлений. Ему не хватает внутреннего
мира, сознания деятельного, живого, страстного, воодушевлен-
ного верой и чувством (II, 473)
«Голиаф» Г. Кьябреры — II, 253
Гомер —I, 181, 200, 218, 312, 359, 435, 441, 502; II, 10, 27, 52,
195—196, 204, 225, 386, 445
Гомер — персонаж «Ада» Данте — I, 255, 366
Гораций —I, 66, 243, 313, 448; II, 6—8, 21, 195, 431, 461, 501
«Готиада» Г. К ь я б р е р ы — II, 252
Готфрид Бульонский — персонаж Т. Тассо—II, 196, 200, 206, 208,
212
Гоцци, Карло —II, 454—460, 468—472. Г. обладал большей
культурой, чем Кьяри и Гольдони; он противился реформе
Гольдони, которая казалась ему разложением (II, 454). «Мар-
физа» —карикатура на новые романы в духе Кьяри (II, 455).
В его «Рассуждениях» больше желчности, чем рассудитель-
ности, и они полны путаных общих мест (II, 457). Главное,
что пережило его время, — это концепция простонародной
комедии в противовес комедии буржуазной. Маски остаются в
его сочинениях условным обязательным элементом, аксессуа-
рами, часто гротескными и плоскими по сравнению с содержа-
нием, к которому они насильно притянуты (II, 469—470)
Гравина, Джан Винченцо —II, 417—419, 424, 427, 485. Он
хотел вернуть искусство к греческой простоте, очистив его
от сеттечентистского разложения. Спасаясь от манерности
века и стремясь быть простым, он становился бесцветным,
холодным и вульгарным (II, 256, 417). Он пытался создать
теорию искусства, которую назвал «Ragion poetica». В своей
книге «Основы поэзии» он, хотя и не проявляет вкуса и истин-
ного ощущения искусства, все же выходит за рамки чистой
эрудиции и предается рассуждениям общего характера (II,
366—367, 416—419)
«Гражданская история неаполитанского королевства» П. Джан*
ноне—II, 396—397
«Грамматические наставления» П. Сфорца — II, 194
«Граф Карманьола» Д. М а д з и н и — II, 545
«Грации» Фосколо У г о — II, 513—514, 523
Гризеида — персонаж Д. Боккаччо — I, 363—365, 368, 448
Гризельда — персонаж Д. Боккаччо — I, 390, 399, 415
«Гробница» И. П и н д е м о н т е — II, 541
«Гробница» У. Ф о с к о л о — II, 509—512, 515, 541
605
Гросс и, Томмазо — II, 514, 519, 535
Гроций, ван Гроот— II, 356, 362, 364, 373, 388, 391
«Густав» К. Г о л ь д о н и — II, 460
Гюго, В и к т о р — II, 520, 527, 537
Д а в а н ц а т и, Б е р н а р д о — II, 97, 167, 189, 191
«Далматинка» К. Гольдони — II, 460
«D'amor distretto» Фолько да Калабриа — I, 17
Данте—I, 8, 12, 21, 35, 39—40, 41, 44, 55—56, 63-64, 71—87, 101,
103, 122, 129, 132, 149—150, 162-173, 175—307, 310, 312, 317—
318, 322, 325, 327—334, 337, 343—346, 349—350, 351—358, 362,
366—369, 372, 374, 384—385, 387, 399—400, 402, 413—414, 425—
426, 429, 431, 433, 434, 436—438, 440, 449, 451—452, 458, 465,
473, 475, 478, 484, 492, 498, 501; II —24, 27, 33, 36, 39, 42, 44,
51, 62, 66, 77—79, 91—93, 101—102, 111, 114-116, 130, 179,
195, 199, 201, 204, 208—209, 211, 215, 217, 220, 224—225, 229,
251, 254, 259—260, 262—263, 278, 291, 312—313, 329—331, 337,
342, 398, 443, 476, 477, 485, 497, 503, 506, 513, 522, 533, 536.
Биографические сведения (I, 286). Его поездка легатом в
Рим — I, 151. Его политическая жизнь; он не был рожден
политическим деятелем, для этого ему недоставало гибкости
и житейской мудрости; он, как и Дино, был цельной натурой,
в изгнании, замкнувшись в себе, он дал простор всем силам
своего ума и поэтического дарования; его рвение и работа
после смерти Беатриче, плод этих усиленных занятий — ал-
легорические и ученые канцоны (I, 162—163) «О монар-
хии» — одно из оригинальнейших его произведений на ла-
тинском языке (I, 169—170). Литературная композиция трак-
тата и его этико-политический смысл (I, 166—168). Д. обос-
новывает необходимость восстановления римской империи,
предопределенной богом, после чего восторжествуют спра-
ведливость и мир на земле, таким образом, как будто зовет
назад, к прошлому, но в действительности его теория содер-
жит в себе ростки будущего; в ней призыв к предоставлению
самостоятельности светской власти, к созданию более круп-
ных территориальных единиц, здесь проступают очертания
всей нации, а за ней — всего человечества, конфедерации го-
сударств. То была утопия, наметившая путь развития исто-
рии (I, 169) Соображения Д., высказанные им в оправдание
своего намерения писать на вольгаре (I, 164). Недостатки, ха-
рактерные для латинских произведений Д., свойственны и
606
его «Пиру», его теория «высокого языка» уводит его от мяг-
кости и простоты итальянской прозы (I, 171). «Латиниза-
ция» вольгаре, которому Д. стремится придать благородство
и величие с помощью перифраз, замысловатых оборотов и
инверсий (I, 171). Итальянская религиозная литература в соб-
ственном смысле воплощает теорию таинства души, однако
образованные люди стремились выражаться языком высоким
и благородным, величественным, как латынь, слогом (I, 173).
Лирический и научный мир: «Новая жизнь» и «Пир». Огром-
ное воздействие на Д. поэзии Гвидо Гвиницелли, поэтиче-
ской школы которого Д. придерживался; постепенное возник-
новение поэтической школы, программа которой изложена в
Дантовом «Пире» (I, 39—40). Серьезность и искренность вдох-
новения Д. в «Новой жизни» (I, 72). Воспитанник Болоньи,
чья голова полна* астрономией и кабалистикой, философией и
риторикой, Овидием и Вергилием, классическими поэтами и но-
выми стихотворениями, но все это не составляет сути книги,
а лишь придает ей определенный колорит, составляет ее орна-
ментальную сторону (I, 72). Любовь к Беатриче, живущая
у Д. скорее в воображении, чем в сердце; именно в связи
с тем, что образ Беатриче так мало реален и обезличен, он
живет больше в сознании Д., нежели вовне, переплетаясь и
смешиваясь с идеалом трубадура, с идеалом философа и
христианина. Создавая эту «смесь», Д. руководствовался са-
мыми благими намерениями, поэтому его не упрекнешь ни
в форме, ни в условности (I, 72—73). «Пир». Беатриче, воз-
несшись на небо, в результате своего чудесного перевопло-
щения становится символом; любовь — это уже не чувство
индивидуума, а принцип, на котором зиждется жизнь на не-
бесах и на земле. Ясное, живое ощущение единства жизни,
основанного на гармонии мысли и действия (идеального и
реального), и горькое сознание раздвоенности, возмущение
человеком, превратившимся в раба своих животных инстинк-
тов (I, 1, 75, 77—78, 162, 333—334). «Божественная коме-
дия», формирование поэтики. Происхождение. Представление
о «Комедии» (I, 203). Замысел и выполнение. Возникновение
художественного противоречия — замысел уступает искусству
(I, 202—203). Ложная христианская поэтика и мир абстракт-
ных концепций и есть ось «того света» Д. (I, 186—190). «Ко-
медия»— это средневековье, реализованное в форме произ-
ведения искусства помимо воли автора, помимо воли его со-
временников (I, 209, 221—223). Как философ и писатель, Д.
задумал построить этическую или научную картину мироздания
607
в форме аллегории (I, 201). Рожденный по образу и подо-
бию окружающей действительности, при всей своей символике,
мистике и схоластике этот мир меняется, окрашивается и на-
полняется его. Д., существом, становится его детищем, его
портретом (I, 307). Идея, лежащая в основе произведения,—
это идея спасения души, стезя, по которой душа идет от зла
к добру, от заблуждения — к истине, от анархии — к закону,
от многообразия — к единству (I, 217). Расположение
частей и органическое единство. Не монах и не
философ, вступив в царство мертвых, Д. приносит туда всю
грешную землю; забывая о том, что он лишь символ, лишь
аллегорическая фигура, Д. остается самим собой, самой вы-
дающейся личностью своего времени, сосредоточившей в себе
все черты своей эпохи с ее склонностью к абстрагированию,
с ее восторгами, экстазами, неистовыми страстями, с ее куль-
турой и дикостью (I, 214). Это единство и вместе с тем дуа-
лизм, проистекающий из самой сущности ситуации, прояв-
ляются в самых различных формах — то в форме обраще-
ния оратора, то в форме беседы, жеста или действия, то в
описании природы, то в изображении человека. Этому един-
ству свойственно величайшее разнообразие: трудно найти
другое произведение искусства, границы которого были бы
столь строго очерчены и в то же время столь необъятны.
В избранной поэтом теме нет ничего такого, что принуждало
бы его изображать именно данный персонаж, данную эпоху,
данное действие; в его распоряжении вся история челове-
чества, все аспекты человеческой жизни и деятельности; он
может дать полный простор своему таланту, своим чувствам
и мыслям, может, не нарушая единства произведения, наряду
с главной темой разрабатывать второстепенные. В результате
изображаемая им Вселенная обретает еще большую поэтиче-
скую достоверность; в нерушимом единстве выступает и все
то, что возникает как результат свободы человеческой лич-
ности и как порождение случайности; приходят в движение
в различных сочетаниях все противоречия, необходимость и
свобода, судьба и случай (I, 216). Жанр, форма, стиль.
«Комедия» — произведение, которое не относится ни к одному
из известных жанров, а содержит в себе в зачато'чном виде
все поэтические формы искусства; видение и аллегория, трак-
тат и легенда, хроника, история, лауды, гимны, мистика и
схоластика — все литературные жанры, вся культура Дантовой
эпохи сосредоточились и ожили в этом великом таинстве души
или человечества, в этой вселенской поэме, запечатлевшей
608
жизнь всех народов и всех тех веков, которые именуют сред-
ними (I, 210, 213). «Ад». Ад —это царство зла, смерть души,
торжество плоти, хаос, с точки зрения эстетической это урод-
ство (I, 221, 223). «Чистилище». Напротив, в сравнении
с адом жизнь в «Чистилище» не имеет ничего общего с ре-
альной действительностью, она плод чистой фантазии, по-
строена на отвлеченном понятии долга, на идее, навеяна во-
сторгами и экстазами аскетической созерцательной жизни
(I, 223). Бурная реальность ада разряжается, утончаясь,
чтобы превратиться в истинную реальность — в дух или рай
(1, 263). В «Чистилище» воплощен идеал позднего Д. — уми-
ротворение страстей и чувств, слитые воедино античный идеал
мудреца и новый идеал святого, воплощенные в образе Ка-
тона; мир Катона — это мир свободы, где дух освобождается
от плоти, ищет свободы (I, 256—257). «Рай». Иная ситуация,
иная жизнь, иные формы, царство духа, обретшего свободу,
сбросившего с себя власть тела, или чувственности, то цар-
ство философии, которое, по мысли Д., должно воцариться'
на земле, царство мира, где разум, любовь и действие суть
одно и то же (I, 281—283). Чтобы создать «Рай» как худо-
жественное произведение, Д. придумал рай человеческий, до-
ступный органам чувств и воображению (I, 284—285). Перед
нами последняя стадия распада формы, это ближайшая види-
мость духа, абсолютный свет без содержимого (I, 284). Об-
щая оценка. Данте не был ни святым, ни апостолом, ни
философом своего времени, он был поэтом; в высокой мере
обладал таким важнейшим для поэта даром, как фантазия
(I, 80). Первая фантазия современного мира (I, 81). Сквозь
отличительные черты средневековой лирики с ее отвлеченно-
стью и видениями прорывается голос самой гуманистической
лирики того времени (I, 78, 80). Первым и единственным поэ-
том поэтического мира лирики был в своем столетии Д., воз-
никший среди мистики и спиритуализма (I, 81, 129). Беат-
риче, первая поэтическая индивидуальность XIII столетия,—
это как бы предчувствие нового, поэтическая догадка о гря-
дущем мире, еще не вышедшем из лона науки и далеком
от жизни; наибольшей реалистичности литература этой
эпохи достигла в лирике Д. (I, 129—130). В распоряжении
Д. был целый век, и он переплавил его в пластический мир,
который и был миром средневековья, другим миром
(И, 250-251)
Дантон, Жор ж - Ж а к— II, 515
«Дафнис и Хлоя» А. К а р о"— 1, 493
609
«De augmentis scientiarum» Ф. Бэкона—II, 374
«Девушка с Андроса» Теренция — II, 240
«Дезертир» С. Мерсье—II, 450
«Деифира» Л. Б. Альберти — I, 477
«Декамерон» Д. Боккаччо —I, 338—419, 423, 425, 446, 457,
485, 501, 505, 513, 515, 525—526, 531; II, 12, 26, 33, 41, 119.
175
«Декларация прав человека»—II, 391
Демокрит — I, 96
Демосфен — II, 445
«День» Д. П а р и н и — II, 481
«De poetis urbanis» Франческо Арсилли— I, 497
«De re aedificatoria» Л. Б. Альберти — I, 476
«De regimine principum» — Э. Колонна — I, 98
Де Санктис, Франческо —I, 7, 41, 43—44, 62, 94, 96, 131;
II, 134—135, 145, 288, 293, 313, 315, 453
«Десятилетия» Н. Макиавелли — II, 73—74
Джамбул лари, Пьер Франческо—II, 143
Джанноне, Пьетро — II, 396—405. Биографические сведения:
II, 396. Его «Гражданская история Неаполитанского коро-
левства» имела универсальное значение; она в основном трак-
товала вопрос о юрисдикциях, жгучий для всех католических
государств (II, 396—397)
Джен тиле Альберико. В его книге «De jure belli» уже чув-
ствуется Гроций (II, 356)
Джиральди Чинцио — I, 514, 524—525
«Джироне» Л. А л а м а н и — I, 501
Джоберти, Винченцо — II, 549
Джованни делле Банде Нере, Медичи— II, 78, 150, 157
Джотто — I, 260, 448
Джудекка — место в «Аде» Данте," где мучаются люди, предавшие
благодетелей (I, 251)
«Джульетта» Л. да Порто — I, 514, 525
Джусти Джузеппе—II, 550, 552, 557
«Джустино» П. Метастазио — II, 419
«Дзанитонелла» Фоленго — II, 68
Дзено, Апостоло — II, 423, 460
«Диалоги» С. С п е р о н и — II, 194
«Диалоги» Т. Т а с с о — II, 234
«Диалоги об ополчении» («Диалоги о военном искусстве») М а-
киавелли — I, 532; II, 75
Дидона — персонаж Вергилия — I, 373; II, 199, 224, 428, 432
Дидро, Д е н и — I, 46; II, 390—391, 450
610
Диетаюти, Бондие — его сонет свидетельствует о большой
культуре, чувствуется, что новый язык уже приобрел изяще-
ство (I, 31)
Дит, город в «Аде» Данте (I, 227, 231, 239)
«Dittamondo» — Ф. дельи Уберти — I, 310
«Диурнали» М. Спинелли — I, 89
«Дифирамбы» Г. Кьябрера — II, 256
Доктор — персонаж комедии масок —II, 236, 469
Дольче, Лудовико — I, 497, 503
Дон-Жуан — легендарный персонаж — I, 397; II, 451
Дон-Кихот — персонаж Сервантеса — I, 473
Донат и, Алессо ди Гвидо — I, 31—32. Правильность, изя-
щество, простота и чувство меры украшают тосканское воль-
гаре его сонета
Донат, грамматика— II, 64
Дони Антон Фр а нческо —I, 497; II, 170—171. «Библиотека»
Д. читается еще и поныне благодаря несомненному блеску
изложения и любопытным наблюдениям, содержащимся в
книге (II, 171)
«Древности средних веков» А. А. Муратори — II, 365
«Духовная комедия души» — I, 112—123, 173, 175, 181, 183, 213.
Идеальный вариант жития святых, своего рода логика, где
сформулированы главные идеи приобщения святости, «ко-
стяк любого из житий» (I, 112)
Еврипид —I, 447; II, 10
Екатерина из Сьенны, св. — I, 139—142, 148, 154, 173, 175,
200, 332, 337, 346, 399, 427, 440; II, 79. Среди множества ав-
торов историй о святых появляется святой, который описы-
вает собственную жизнь, — это Екатерина из Сьенны. Она пи-
шет, вернее, диктует, проявляя при этом удивительную яс-
ность духа. Пишет папам и князьям, королям и королевам
матери и братьям, говоря с ними с высоты своей святости
(I, 139)
«Elegantiarum latinae linguae». (Libri) — Л. Валла— I, 434
«Естественная магия» Делла Порта—II, 318
«Ecerinis» — А Муссато — I, 145—146, 254
«Женеваль» Л. С. Мерсье — II, 450
«Женитьба» Ф Берни — 1,510
«Жизнь Александра Македонского» — рыцарский роман — I, 463
«Жизнь Б. Челлини» —II, 165, 191 — 193
«Жизнь Данте» Д Боккаччо — I, 350—355
611
«Жизнь Иисуса» Д Ф. Ш т р а у с а — II, 538
«Жизнь Мецената» К а п а р о л и — I, 512
«Жизнь Св. Екатерины» П. А ретин о —II, 160, 168
«Жизнь Христа» П. А р е т и н о — II, 160
«Жизнь Цицерона» Д. Ч. П а с с е р о н и — II, 476
«Жизнь Энея» — рыцарский роман — I, 463
Жиль Блаз— персонаж Лесажа — II, 450
«Житие Блаженного Петрония» Д. Коломбино— I, 386
«Житие Св. Иеронима»— I, 310
«Житие Св. Маргариты» Д. Кавальки —I, 127—128
«Жития святых отцов» Д. Кавальки —I, 136—138, 311, 439
«Завоевание Гренады» Д. Грациани — II, 251
«Завоеванный Иерусалим» Т. Та се о—II, 198—199, 201, 203,
208—209, 236
«Застольные беседы» Л. Б. Альберти — I, 477
«Защита Данте» Г. Гоцци—II, 444
«Зелинда и Линдор» К. Гольдони — II, 460
Зенон — II, 370
«Зерцало истинного покаяния» Я. Паееаванти — I, 138, 173,
341
«Злые Щели» в «Аде» Д а н т е — I, 227, 239—242, 252, 400, 403
«Золотой осел» Аньоло Фиренцуола — I, 493, 514
«Золотой осел» Н. Макиавелли — II, 73
«Игра о Христе» — I, 110
«Избиение младенцев в Вифлееме» Д. М арино—II, 262
«Избранная библиотека» А. Поссевино — II, 357
«Извлечения из поэтики Аристотеля» Метастазио — II, 424
«Изгнание торжествующего зверя» Д. Б р у н о — II, 292
Изольда — персонаж рыцарских романов — I, 18, 34, 89, 385, 463
«Илиада» в переводе В. Монти — II, 501
«Илиада» в переводе У. Фосколо — II, 509
«Ильдегонда» Т. Г р о с с и — II, 545
«Интеллидженца» — поэма, приписывается Д. К о м п а н ь и — I, 18,
24, 412. Аллегорическая поэма, хотя и подражательного ха-
рактера, отличается редким совершенством языка и стиля,
чувством природы и позволяет предположить, что вольгаре до-
стиг высокого совершенства (I, 24). В поэме «Интеллидженца»
с восточной пышностью развилась «девятая рифма» (I, 412)
«Иркана» — трилогия К. Гольдони — II, 460—461
«Искусство войны» Флавия Вегеция — I, 102
«Испания» — рыцарский роман —II, 54
612
«Historiarum indicarum» П. Маффеи — II, 357
«Историческая карта мира» А. Форести и А. Дзено — II, 357
«Исторический и критический словарь» П. Б ей л я—II, 362
«История войны во Фландрии» Бентивольо — II, 358
«История гражданской войны во Франции» Давила — II, 358
«История дьпломатии» Ш. Маффеи — II, 365
«История ересей» О. Б е р н и н и — II, 357
«История и сказание об Орфее» — I, 446
«История Италии» Ф. Г в и ч ч и а р д и н и — II, 145—146, 149
«История» П. О роз и я — I, 102
«История Тридентского собора» С. Паллавиччино — I, 344—
346
«История Тридентского собора» П. Сар пи — II, 344—345
«История Флоренции» Н. Макиавелли — I, 532, 534
«История Флоренции» Р. Малеспини — I, 90
«История Юлия Цезаря» Ж. Тюэна (в обработке Ж. де Ф о р е-
с т а) — I, 89
«Итальянские анналы» Л. А. Мура тор и — II, 365
«Итальянская ученая смесь» Г. Роберти — II, 357
Кавалька, Доменико —I, 136—138, 173, 399, 439; II, 254.
Книга Кавальки «Vite», хотя и переводная, благодаря све-
жести и естественности языка и волнению ее автора, кото-
рое в ней отразилось, представляет собой оригинальное произве-
дение. Главная идея века выражена в ней по-новому (I, 136).
Кавальканти, Гвидо—I, 39, 55, 59, 61—64, 68, 79, 81, 96,
103, 150, 349, 426. К. — большой знаток философии и рито-
рики (I, 58). Его канцона о природе любви абстрактна и
суха (I, 58). У К. более глубокие и серьезные достоинства,
чем у Чино да Пистойя. Он достиг большого технического
совершенства, более того, возвел его в науку. Использовал
приемы риторики для стихосложения. Эта новаторская манера
излагать научные истины в искусной форме произвела неиз-
гладимое впечатление на современников. Он стал главой но-
вой поэтической школы. Для К. язык, поэзия стояли на вто-
ром месте и предназначались лишь для украшения: основой
была философия. К. привнес в поэзию все тонкости риторики
и схоластики (I, 61). Кавальканти и Данте презирали стихо-
творцев, употреблявших одну риторику, лишенную содержа-
ния, и тех, кто заполнял свои сочинения одной наукой, без
риторики (I, 66).
Кавальканти, Кавальканте — персонаж Данте — I, 236, 254—255
613
Каза, Джованни Делла —I, 492—493, 505; II, 98, 144, 188,
484. К. пишет обращение к Карлу V в том же духе, в каком
он писал историю о пекарне, но здесь он в своей стихии, и
поэтому слова его звучат цинично, а в «Обращении» он вторг-
ся не в свою область и поэтому фальшивит (II, 98)
Каландрино — персонаж «Декамерона» Боккаччо — I, 386, 398, 511,
517
«Каландрия» кардинала Б и б б и е н ы — II, 117
Каллимако — персонаж Н. Макиавелли — II, 122—123
Кальвин, Ж а н — II, 182, 253
Кальдерой де ла Барка, Педро —II, 183, 240, 534, 537
К а м и л л о, Джулио II, 163. Добивался, чтобы изучение всех
наук велось по его системе
Камоэнс, Луис де — II, 194, 208, 256
К а м п а н е л л а, Т о м м а з о — II, 315—340, 343, 346—347, 354, 356,
358, 362, 368, 371—372, 398, 406, 490, 520, 549. Биографические
сведения (II, 318—321). Сжатые и четкие суждения К. в зна-
менитом сонете к Телезию (II, 316). Его первое воспитание
(II, 317). Он писал, возобновлял написанное заново с неис-
сякаемым вдохновением; похищение его рукописей (II, 323).
У К. было живое ощущение того нового мира, который фор-
мировался вокруг, и он прозревал в его глубине — оконча-
тельное завершение, осуществление божественного на земле
(II, 329). Идея «Города солнца» и коммунизма —в основе
его теорий; К. — реформатор; он желает иметь* папу высшим
сувереном, но хочет, чтобы разум был суверенным не только
по названию, но и на деле. Он верит не только в моральное,
но и в физическое совершенствование человека путем науки,
к которой прибегает умное отеческое правление. Он хочет
прогрессивного папства и прогрессивной монархии (II, 332—
333). К. предлагает целый ряд социальных, политических и
экономических мероприятий, которые образуют первый на-
бросок социальной науки в ее различных еще неясных ответ-
влениях. При этом wm руководит естественный здравый смысл
и прямота. Он видит мир в его первоначальной чистоте; его
идеи, утопии, гипотезы, надежды, афоризмы в значительной
части представляют собой предчувствия и предвидения но-
вого мира (II, 333). Здесь уже проявляется новый принцип
критики, которая направляет умы на сущность, а не на фор-
мы, на предметы, а не на внешнее. Примером этого служит
он сам, писавший новые, возвышенные вещи при полном пре-
небрежении формой. Его поэзия — нервная, возвышенная,
сочная и в то же время грубоватая и острая — является пол-
614
ной противоположностью той пустой, жеманной софистиче-
ской литературе, которой положил начало Марино. Сочине-
ния К. — первый набросок энциклопедии. Куда бы ни устре-
мил он свой взгляд, повсюду он видит или прозревает новое.
Особо заслуживает быть отмеченным его интерес к воспита-
нию и благосостоянию народа. У К. подчеркнуто выражена
тенденция, что политические изменения бесплодны, если в ос-
нове их не лежит просвещение и счастье низших классов,
именно к этой цели направлены его самые прекрасные за-
мыслы: реформа налогов, богадельни для инвалидов и т. д.
(II, 339—340). Разрыв с абстрактными рассуждениями, с бо-
гословскими тонкостями (болезнью века), поворот к истории,
географии, к изучению реальности для улучшения обществен-
ных условий — таково последнее слово Кампанеллы. Здесь
уже ощущается новое общество, которое формировалось на
развалинах старого режима
Кампеджи, Родольфо—II, 237—262
«Каначе» С. С п е р о н и — II, 190
Кант, И м м а н у и л — LI, 406, 540
Кант у,' Чезаре—II, 535, 545, 546
«Канцона о Фрустино и Крестайе» — I, 8
Капаней — персонаж «Божественной комедии» Данте — I, 236—238,.
246, 254
Карл. Великий — I, 18, 89, 144, 367, 386, 446, 464
Карл VIII, король Франции —II, 6, 9, 22, 85, 120, 144, 146
«Карнавальные песни» Н. Макиавелли—II, 74
«Карнавальные песни» Л. Медичи — I, 459
Каро, Аннибал—I, 493, 495, 505; II, 189, 191, 239, 244
Каселла — персонаж «Божественной комедии» Данте—I, 264—267
«Кассария» Л. Ариосто—II, 11—12
Кастильоне, Бальдасаре—I, 492, 504; II, 26, 98, 117—118, 144, 189.
В Италии не было настоящего рыцарского чувства, чувства
религиозные, нравственные и политические заглохли, и честь
потеряла свою основу, остались лишь ее внешние черты, ско-
рее блестящие, чем прочные, и именно на них зиждется ко*
деке «Придворного». К. (II, 26)
«Катерина» Ф. Б е р н и — I, 510
Катон — персонаж «Божественной комедии» Данте—I, 213, 256—*
257, 267, 282
«Катон Гай Валерий Утический» П. Метастазио — II, 424
Катул —II, 8
«Кафе»—И, 444, 535
Квинтили а н, Марк Фабий — I, 313, 346
Ы5
«Килленский осел» Дж. Бруно — II, 292, 305
«К Италии» — сонеты В. да Филикайи — II, 257
«Кларисса» Сэмюэля Ричардсона — II, 451
Клопшток, Фридрих Готлиб — I, 207, 538
Клоринда — персонаж Т. Тассо— II, 210, 215—216, 219—220, 225,
229
«Книга о любви» Дж. Понтано — I, 435
«Князь» Н. Макиавелли —II, 74—75, 77, 105—1С7, 121
Кокайо — II, 54—55, 64
Колонна, Эджидио —I, 98, 174; II, 105
Колумб, Христофор —I, 243—244, 474; II, 26, 220, 225, 229, 256, 262,
279, 319—320, 337
Комедия дель'арте —II, 236—238, 274, 457—459, 468—470
«Комедии» П. А ретин о—II, 153—157, 230, 232, 246, 250
Компаньи, Дино—I, 148—162, 174, 254; II, 102. Его естественная
доброта и прямодушие. К. был свидетелем и участником со-
бытий, которые он описывает. Он рисует целую серию неза-
бываемых портретов современников. Его «Хроника» — бес-
смертный исторический труд, это не просто воспоминание о
минувшем: вес дано в движении, в действии; выпукло обри-
сованы нравы, страсти, место действия, характеры, замыслы,
люди (I, 148). «Хроника» — это зеркало эпохи, в котором от-
ражается не отвлеченная область науки, не вымышленный мир
рыцарства и аскетизма, а реальная общественная жизнь (I, 150)
Ком пьют а Донцелла —I, 19, 30. Сонет поэтессы К. Д.—
замечательный пример простоты, изящества и великолепного
чувства меры (I, 30—31)
Кондильяк, Этьен Бонно де — II, 390, 342
Кондоре е, Мари Жан Антуан Карита де—II, 389, 391
«Кончильяторе», журнал — II, 535—536
Коперник, Николай —II, 26, 204, 224, 229, 294, 327
«Коринто» Л. Медичи — I, 456, 490
Корнель, Пьер — II, 183, 424
«Космос» А. фон Гумбольдта — I, 97
«Крестоносцы» Т. Гросси — II, 545
Круска, Академия делла — И, 185, 197, 449, 535, 542, 551. Флорен-
тийская Академия делла Круска подходила к итальянскому
языку, как к латинскому, т. е. как сформировавшемуся и
замкнутому в себе; опираясь на свой авторитет, она произ-
вела выбор среди избранных писателей, отделила 7«чистых» от
«нечистых» (II, 185)v
Кузен, Виктор— II, 540, 554
«Кузнец» П. А р е т и н о — II, 173
616
«Купание в Байе» Понтано — I, 435—436
«Куртизанка» П. А р е т и н о — И, 171, 173
Кьябрера, Габриэлло — II, 237, 252—257, 259. Биографиче-
ские сведения (II, 252—253). Певец католической реставра-
ции (после борьбы с турками); в 3-х томах лирических сти-
хотворений нелегко встретить мысль или образ, на котором
хотелось бы задержаться, и, хотя у него имелись благород-
нейшие и в высшей степени трогательные темы, ничто в них
не волнует и не возвышает (II, 252)
i\ ь я р и Пьетро — II, 453—455, 457, 460. Огромный успех его
романов и комедий; необъятное и уже целиком забытое твор-
чество (II, 453)
Л амартин, Альфонс де — II, 520
Ламеннэ, Гуго, Фелисите Робер де — I, 281; II, 519, 520
Ландино, Кристофо — I, 437—438, 452, 475
Ландо Ортензио —I, 514, 516-517; II, 13, \7\, 191
Его остроумные новеллы —II, 13. Л. обзывал Аристотеля
животиной, а Боккаччо — глупцом, домогаясь внимания чи-
тателя своими «Парадоксами» (II, 191)
Ланселот — персонаж рыцарских романов — I, 34, 90, 144, 366, 385
Ласка —I, 493—494, 511, 514, 517—527; II —11—13, 120, 166, 171.
Л. вывел астролога в роли обманщика и плута, чувствуется
боккаччиевская традиция и лукавство, вся флорентийская
среда. Он продолжил Саккетти, Пульчи и Лоренцо Велико-
лепного (II, 12)
Латини, Брунетто—I, 40, 55, 59, 64, 97, 99, 101—102, 163,
203. Представил свод наук в своей «Сокровищнице», эта об-
ширнейшая беспримерная компиляция произвела ошеломляю-
щее впечатление на его современников.
«Лауды» Л. Медичи — I, 459
«Л ауды Христине» В. да Ф и л и к а й я —II, 257
Лаура — персонаж Ф. Петрарки —I, 316—317, 321—323, 333—336,
343—344, 365, 437, 447, 499, 510; II, 216—218
Лев X, папа —I, 433, 494—496, 507, 527—528; II, 15, 18, 79, 149
«Lectura in codicem» Чино да Пистойя— I, 56
Леклерк, Жан — его «Библиотека» своего рода толковая опись
новых произведений (II, 363)
Леменэ, Франческо де—II, 260. Один из наиболее претен-
циозных и жеманных поэтов своего времени
Леонардо да Винчи — I, 488, 497
«Леонора де Барди» Л. Альберти — I, 484
Леопарли, Джакомо—II, 509, 552—553, 556—557
40 Де Санктис
617
«Лепидина» Понтано — I, 436, 448
«Лес любви» Л. Медичи — I, 454—455
«Летучая библиотека» Чинелли — II, 357
Ливии, Тит —I, 93, 96, 144, 170, 311, 313, 316, 376, 435; II, 59, 75
«Лидия», Л. Ариосто — II, 8
«Ликорида», Л. Ариосто — II, 7
«Литературный кнут» Г. Баретти — II, 444
«Лицемер» П. А р е т и н о — II, 172—173
Лия — персонаж «Божественной комедии» Данте — I, 263, 274
Локк, Джон — II, 330, 363—364, 373, 382, 387, 389, 407, 442. Наслед-
ник Р. Бэкона. Величие Дж. Локка равнялось его скромно-
сти (II, 361)
«Лузиады» Л. д е К а м о э н с а — II, 194
Лукан, Анней Марк —II, 66, 357; II, 270
Лукиан —II, 292
Лукреций Кар —II, 370
Лукреция — персонаж Макиавелли — II, 120, 122, 124, 129
Луллий, Раймонд — пытался дать энциклопедический синтез знаний
в помощь памяти (II, 293)
«Любовное видение» Дж. Боккаччо— I, 365—366, 386, 464, 498;
II, 262—263
«Любовные документы» Ф. да Барберино —I, 318
Лютер, Мартин—I, 206, 401, 530; II, 79, 109, 135, 164, 182, 253
Люцифер, персонаж «Ада» Данте—I, 47, 182, 184, 207, 251—252,
257—258
Люцифер, персонаж «Моргайте» Пульчи — I, 469.
Магалотти, Лоренцо II, 327
Магдалина — в «Посланиях на святой четверг и на святую пят-
ницу» — I, 108—109
Мадзини, Джузеппе —II, 544—545
Мадзони, Якопо —II, 369
Мазарини, Джулио — II, 358
«Макаронеа» Т. Фоленго —I, 527, 531, 535; II, 58, 67, 82
Макиавелли, Николб—I, 160, 438, 488, 491—492, 496, 524,
530, 532, 535; II, 6, 72—144, 146, 166, 172, 180, 183, 260, 281—
283, 285, 301, 320, 322, 331, 340, 343—344, 346, 348, 355, 359,
361, 379, 398, 463, 465, 480, 488, 496—497, 527, 555. Биографи-
ческие сведения (II, 6, 72—73), Не оставил талантливых
стихотворений, воображение отсутствует, зато ума изо-
билье, его шедевр — капитоло «О случае», здесь в поэте уже
чувствуется будущий автор «Князя» и «Рассуждений»; его
литературные претензии; стих граничит с прозой, образов
618
мало, а те, что есть, избиты (II, 73—74). Интеллек-
туальный мир. Он ясно себе представлял, что Ита-
лия может сохранить свою независимость лишь при усло-
вии, что она вся или ее большая часть будет объединена
под эгидой одного князя (II, 72—73). М. отдавал себе ясный
отчет в упадке итальянской морали; главная причина была
в развращенности религии (II, 109). Флорентийская
история и «Рассуждения». История Флоренции в по-
вествовательной форме — это логика событий (II, 102).
Больше всего его интересует объяснение фактов, то, что дви-
жет людьми, и он ведет свой рассказ спокойно и задумчиво,
действующие лица обрисованы им не в момент наивысшего
накала чувств и не в разгар событий. Его кажущаяся апатия
есть не что иное, как поглощенность философа мыслью,
стремлением объяснить явления, он сосредоточен на этой
мыслительной деятельности (II, 102). В «Рассуждениях»
более интенсивна интеллектуальная сторона (II, 102—103).
«К н я з ь». Неумолимая логика нашла свое воплощение
в «Князе», Цель государя — сохранение собственной власти,
однако же князь может заботиться о себе, только заботясь
о государстве. Интересы общества одновременно и его инте-
ресы. Это мир жестокой логики, основанной на изучении че-
ловека и жизни. Человек, подобно природе, подчинен в своих
действиях неизменным законам, основанным не на мораль-
ных критериях, а на критериях логики (II, 105—106). Уто-
пическое желание объединения Италии под властью итальян-
ского государя делает М. честь как гражданину (II, 114).
Стиль. Его проза предвосхищает современную прозу (II,
93—94). Сухая, точная, краткая, эта проза возвещает об уже
созревшем интеллекте (II, 102—103). «Мандрагора». За-
ложила основу новой эпохи в литературе, ее мир, подвижный,
живой, столь же разнообразен, как и реальный мир, где правит
случай. Эта основа всей новой литературы, мир меняющийся,
его комедия насыщена подлинным действием, полна динамики,
движима внутренними силами. Запутанная интрига, множество
комических ситуаций и странных обстоятельств. То же, что М.
внес в историю и политику, он внес и в искусство (II, 128—
129). «Мандрагора» развивала идею, что жизнь не игра случая
или скрытых сил, а такова, какой мы ее делаем, она есть
дело нашего ума и нашей воли (II, 465). Общая оценка.
Типичный флорентиец (II, 72); по своей культуре, по воль-
ному образу жизни, по любви к каламбуру и шутке М. при-
мыкает к Боккаччо и Лоренцо и ко всей новой литературе
40* б1э
(II, 72, 76, 81). Именно от М. пошла итальянская проза, т. е.
сознательное отношение к жизни (II, 78). М. пользовался
огромным влиянием среди современников, которое еще воз-
росло среди его потомков. Образ Макиавелли в памяти потом-
ков окружен любовью и ореолом поэтичности именно благо-
даря его твердому характеру, искренности его патриотизма
и благородству стиля, благодаря тому, что он сумел сохра-
нить мужественность и чувство собственного достоинства,
которые выделили его из толпы продажных писак (II, 76)
Маладжиджи — персонаж М. Боярдо — I, 466
Маладжиджи — персонаж Л. Пульчи — I, 472
Малеспини, Рикордано —I, 10—11, 90—91, 148
Мальбранш, Никола —II, 183, 310, 361, 374, 387
«Мамбриано» Чекко да Феррара — 11,54
Мандзони, Алессандро —II, 471, 502, 514, 516, 519, 523—
526, 535—536, 540. Биографические сведения. Пребывание в
Париже и соприкосновение с литературными кругами, нахо-
дившимися в оппозиции к Империи; в Милане после падения
итальянского королевства молодежь сплотилась вокруг новых
идей, и М. стал главою романтической школы (II, 540).
В 1815 году появились «Священные гимны» молодого М. Его
произведения — «Рождество», «Страсти», «Воскресенье»,
«Троица», — которыми он открыл свой век, были первыми
голосами XIX столетия (II, 516, 523). Новаторство содержа-
ния, формы и чувства делает в высшей степени оригинальной
оду М. «Пятое мая», — эпическое сочинение в лирической
форме. Снова возникает «Deus ex machina», библейская кон-
цепция человека и человечества (II, 525)
«Мандрагора» Н. Макиавелли —II, 117—128, 172, 250, 463, 465
Марат, Жан Поль — II, 515
«Маргерита Пустерла» Ч. Канту—II, 545
Маргутте — персонаж Л. Пульчи —I, 471—473; II, 58, 175
«Марко Висконти» Т. Гросси — II, 545
Марий, Кай —I, 314
Марин о, Джованни Баттиста —II, 261—270, 274—275,
287, 290, 339, 355, 419—420, 437, 439, 474, 491. М. был королем
века, большим мастером слова, самые просвещенные люди
считали его первым поэтом древности и современности (II,
261). Ни М не развращал своего века, ни век не «портил»
Марино; век был таким и не мог быть иным. М. был талан-
том этого века, его самым сильным и- блестящим выраже-
620
нием (II, 261, 419). «Адонис», концепция поэмы, в основе —
чувственная любовь во всех фазах ее развития, место дей-
ствия — «Сад наслаждений»; небесные сферы в поэме; послед-
ние песни рассказывают о смерти Адониса, его оплакивании
и похоронах (II, 263)
«Мария Магдалина» Г. К ь я б р е р а — II, 253
Мария («Поклонения в святой четверг»)—I, 107—110
Марсилий — персонаж Л. Пульчи — I, 472
Мартелло, Пьер Якопо —II, 453. Придумал стих на фран-
цузский манер (II, 453)
Матаморос (капитан)—персонаж комедий масок—II, 236
«Математические забавы» Л. Б. Альберти — I, 476
Мательда — персонаж Данте—I, 213, 273, 274, 383
Маффеи, Джованни Пьетро — изящным латинским стилем
описал Восточную Индию (II, 357)
Маффеи, Шипионе — II, 365, 366, 424, 484
Медоро — персонаж Л. Ариосто — II, 48
Медичи, семейство — II, 73, 75, 76
Медичи, Лоренцо де— I, 61, 64, 122, 384, 433, 437, 441, 451, 452—460,
462, 468—474, 475, 479, 486, 487, 505, 513, 515, 526, 527;
II, 12, 24, 43, 73, 75, 76, 80, 85, 116, 119, 146, 551. Отдавая
предпочтение поэтам, писавшим на вольгаре, перед поэтами,
владевшими латынью, обнаруживал тонкость и зрелость су-
ждений, расточал похвалы Чино, Кавальканти и др. (I, 437).
У Л. М. не было культуры и идеальности Полициано. Он об-
ладал острым умом и большой фантазией, двумя качествами
образованной буржуазии. Он был самым что ни на есть фло-
рентийцем среди флорентийцев нового склада. Формально —
христианин, платоник — по школе, в действительности же —
эпикуреец и человек, совершенно равнодушный к вопросам
веры, Л. М. прикрывал княжескими одеждами свою натуру
пополана и купца, любящего острое словечко и соленую шут-
ку (I, 452). Л. М. был народом, осознавшим себя, народ и
Л. М. стоили друг друга (I, 452). Лоренцо начинает
с канцон и стансов, напоминающих «Новую жизнь». В его
канцоньере тоже присутствуют условные формы и идеи;
но на сборнике лежит своя печать, в нем есть идиллическое
чувство и живость изображения (I, 453). «Лес любви» Л. М.—
образец нового жанра поэзии; новый дух прокладывает себе
дорогу в новой форме, октаве или стансе, — живое повество-
вание и красочные описания. «Лес любви» написан в широ-
кой и щедрой манере, порой несколько утомительной. Замед-
ленность, растянутость в стансах Л. М. (I, 454). Другие ма-
621
ленькие поэмы Л. М. По теплоте и яркости изображения осо-
бенно выделяется «Амбра», изящное произведение, вдохнов-
ленное Овидием и Боккаччо. Но подлинным шедевром яв-
ляется «Ненча», похожая на страницу из «Декамерона».
К идиллии примешивается соль комизма, в ней — истинная
гениальность Л. М. (I, 456—457). «Пьяницы» или «Пир»—
пародируют «Божественную комедию», также и «Триумфы»,
если не по композиции, то по фразеологии. К этим же по-
этическим упражнениям следует отнести «Охоту с соколом»,
содержание ее фривольно и незначительно, но рассказана она
изящно и остроумно, в непринужденных стансах, сдобрен-
ных солью и живостью диалекта. Тем же духом проникнуты
баллаты и карнавальные песни; в них чувственность облаго-
рожена радостью и веселым юмором (I, 457—458). В этом
нарисованном с натуры в его жизненной непосредственности
мире мы находим не утонченные метафоры, а живые изоб-
ражения нравов и чувств (I, 458). В «Триумфе Вакха и
Ариадны» Л. М. приблизился к идеальности Полициано (I,
462). Лоренцо выражает шутливую и чувственную стороны
народной жизни (I, 462).
«Лауды» Л. М. — в них — кончетти, антитезы, слащавость и холод-
ность (I, 459)
«Мегилла» Л. Ариосто — II, 8
«Мемуары» К. Гольдони — II, 461—463
Мензола — персонаж Д. Боккаччо — I, 378—379
Менцини, Беиедетто — I, 249; II, 481.
«Меропа» С. М а ф ф е и — II, 424
Мерсье, Луи Себастьен — популярность его театра в Ита-
лии; темы его пьес— II, 450
«Мессаджио» Г. Парини — II, 481
«Мессиада» Ф. Г. К л о п ш т о к а — II, 203
«Метаморфозы» Овидия — I, 447
Метастазио, Пьетро Трапасси — II, 277, 416—443, 447,
452, 460, 462, 473—476, 484—487, 490, 491, 497, 499, 502. Био-
графические сведения (II, 417, 419, 423—424, 441). М. воспи-
тывался первоначально на идеях классики под влиянием Тра-
вины; после смерти своего учителя Травины он жадно на-
бросился на запретный плод и, будучи предоставленным са-
мому себе, как все талантливые люди, быстро воспринял идеи
современной жизни; по моде того времени М. с триумфом во-
шел в «Аркадию» с сонетами, канцонеттами и идиллиями
(II, 418—419). «Sogno della gloria» — последнее сочинение М.
з духе Гравины, начиненное сентенциями, общими местами,
622
классическими и дантовскими реминисценциями (II, 419).
«Возвращение весны» (1719 г.) уже несет на себе следы
«Аминты» и «Адониса» (II, 419). «Анджелика» — в тихую идил-
лическую атмосферу уже проникает элемент комического, ве-
селого и живого — II, 422. М. притязал на то, чтобы рас-
статься с низкой областью идиллий и буффонады и взяться
за возвышенные предметы «трагического жанра», словно бла-
городство заключается в самом предмете. Все это оказалось
уже в «Дидоне» и в «Катоне Утическом». Позже он сопер-
ничает с великими французскими поэтами: трагедия Корнеля
«Цинна» нашла соответствие в его «Милосердии Тита», а
«Аталия» Расина — в его «Иоасе». Это вызвало атаки кри-
тики на М., и возник спор, в который М. вмешался своим
«Извлечением из «Поэтики» Аристотеля», где он приводит
косвенные доводы в свою пользу (II, 424). Мелодрама и
ее структура. Его произведения театральны. Поэзия М.
проникнута и преобразована музыкой, но еще обладает зна-
чением собственно поэзии. Позже эти драмы как литература
оказались слишком музыкальными и слишком поэтичными
для музыки, а потому их отбросила музыка и затмила новая
литература. Этот разрыв между тем, чего хочет и чего до-
бивается М., не каприз или предрассудок, но сама форма
гения М. и его века (II, 419, 425—427). Поэзия в самой му-
зыке и песнях итальянцев (II, 426). М. обладал всеми каче-
ствами, чтобы воссоздать окружающую его жизнь; порядоч-
ный человек и добрый христианин, он обладал всеми добро-
детелями, но в той привычной и традиционной форме, кото-
рая была свойственна его времени, — без веры, без энергии,
без величия души (II, 430—431, 473). Его характер арка-
дийца, его элегическая натура; свойственная ему, так же как
и его публике, идилличность, мелодика, впечатлительность и
поверхностность (II, 427—428, 430, 431). Его чувствитель-
ность — эмоция, возникающая из внезапных внутренних по-
рывов и исчезающая с той же легкостью, как и появилась
(II, 431). Механика драмы М. Герой обладает всеми совер-
шенствами, героизм преувеличен с целью вызвать изумление,
герой противостоит обычной жизни, принося в жертву все
человеческие чувства. Здесь заложена трагическая ситуация,
но в большинстве случаев она остается в драме элегической,
порождает обилие поверхностных и недолговечных волнений.
Героизм, словно электрический ток, передается всем персона-
жам, благородство театрально и жертвенно, это героизм под-
мостков» Чем более необычайны драматические комбинации,
623
тем более увеличиваются масштабы и возрастает сила воз-
действия (II, 432—433). ...Рефлексия преследует человека в
произведениях М. в момент действия. Зритель захвачен ост-
рым возбуждением и ждет бурных эмоций, но вместо этого —
анализ, сентенция, сравнение, психологическое описание (II,
437). Музыкальные перерывы в драмах М. освежают и по-
могают сохранить равновесие в разгар страстей; смешиваясь
с живыми порывами, с повелительной непосредственностью
чувства, создают картину жизни в самых ее различных про-
явлениях (II, 438). «Покинутая Дидона». Это шедевр М., про-
никнутый всем жаром жизни, кипевшей вокруг поэта, который
и сегодня жадно прочитываешь залпом с начала до конца,
классические реминисценции вытеснены свежими современ-
ными впечатлениями, под именем Дидоны показана тассовская
Армида, в переложении на музыку (II, 427^-428). «Адриан в
Сирии». Интрига драмы; фигура Адриана, по натуре человека
доброго, совершенно не героичного, легко меняющего наме-
рения под влиянием различных побуждений; А. — пассивный
персонаж мелодрамы, слабый человек, оказывающийся в по-
ложении героя чисто случайно. Аквилио (другой персонаж
драмы М.)—карикатура на Яго, низкий и глупый комедий-
ный интриган. Сабина, Эмирена, Фарнасп — крайне поверх-
ностные натуры, понуждаемые событиями, не обладающие
внутренней энергией страстей и побуждаемые к благородным
действиям внезапными порывами (II, 434—435). Этот герои-
ческий мир с легкостью соскальзывает к "комическому, и под
покровом внешних контрастов героическая жизнь на самом
деле проникнута заурядностью, вобравшей в себя вульгар-
ность и шутовство современного общества (II, 435). Общая
оценка. М. был прирожденным художником, прирожденным
поэтом, был чистым художником (II, 455, 460). Это поэтиче-
ская душа, изобилующая гармоническими образами (II, 418)»
Ни один поэт не был так популярен, как М., в его драмах
содержится некая абсолютная ценность (II, 426). Последний
великий поэт старой литературы (II, 443)
Мефистофель — персонаж В. Гёте—I, 194, 222, 231, 248
«Мизантроп» М о л ь е р а — II, 462
«Мизогалл» В. Альфьери — II, 505
Микеланджело — I, 487, 495—497, 500
«Милосердие Тита» П. Метастазио — II, 424
М и л ь т о н, Д ж о н — I, 194, 222, 231; II, 207, 255
«Минтурно» Т. Т а с с о — II, 235
624
Миртилло — персонаж Б. Гварини — И, 241, 244
«Мои темницы» С. П е л л и к о — II, 545
«Молодая Италия» — II, 544
Мольер, Жан Батист Поклен —I, 340, 515, 523; II, 170,
183, 236, 459
Мольца, Франческо Map и а — I, 504—505, 513—514
«Мом» Л. Б. Альберти — I, 477
«Монолог» П а о л о П а р у т ы — II, 341
Монтекукколи, Раймондо — его трактат о войне является
одним из самых серьезных сочинений, написанных в этот пе-
риод (II, 358)
Монтень Мишель де — II, 194, 256
Монтескье, ШарльЛуи — II, 342, 390, 450
Монти, Винченцо—II, 244, 500—503, 506, 508, 523, 535, 540.
«Моргайте» Л. Пульчи — I, 468—473
«Москеида» Т. Фоле н го — И, 67—68, 481
Муратори, Лудовико Антонио—II, 368, 431, 442, 524,
531
Муссато, Альбертино — I, 145—148, 170, 315. Выделялся
талантом, культурой и пламенной любовью к родине. В тра-
гедии «Эццелино» мало действия, в ней преобладает напря-
женно-нервное повествование, в патетических же местах вы-
ступает хор (I, 145). В основе пьесы скорее моральная, не-
жели политическая, проблема. Несмотря на то что в М. гово-
рит гвельф и падуанец, «Эццелино» не стал подлинно тра-
гическим персонажем; он, подобно Фаринате, выведен в эпи-
ческом одеянии (I, 146).
Муций Сцевола — II, 253
«Мысли» Паскаля — II, 361, 374
Мюрат— II, 543
«Наблюдатель» — II, 444
«На кресте, с головой поникшей», Л а у д а — I, 462
«Нанеа» М. Серафини — I, 512
Наполеон — персонаж «Пятого мая» А. Мандзони — II, 525
Нард и, Я ко по —II, 177, 191
«Насмешка богов» Ф. Браччолини — II, 248
«Наставления древних» Б. да Сан Конкордио — I, 144
«Наука о законодательстве» Г. Филанджери — II, 410
«Наука о конституции» Д. Романьози — II, 535
«Наш господь Иисус Христос» — I, 110
«Небесный Иерусалим» Д. да Верона — I, 283
625
Негр и, Ф р а н ч ее ко — II, 357
«Незнакомка» К. Гольдони — II, 460
«Неистовый Орландо» Л. Ариосто—I, 212, 500, "526, 532; II, 21,
52, 58, 64, 72, 191, 197, 481
«Ненча» приписывается Л. Медичи —I, 456—457, 471, 510
Hep и, Филиппо — ввел в обиход «оратории» — драмы и коме-
дии на религиозную тематику (II, 178)
«Несчастливец» А. Ардженти — II, 232
Нидзоли, Марио — боролся в равной мере против Аристотеля
и Платона, избегал схоластического пустословия (II, 282)
Никколини, Джамбатиста — II, 551. В его трагедиях «Ар-
нольд Брешианский» и «Осада Флоренции» краски были рез-
кими и устремления смелыми.
«Никколо де Лапи» М. д\Адзелио — II, 545
«Ночи» Юнга —II, 452
Нина Сицилийская — I, 19, 24, 58
«Новая жизнь» («Vita nuova») Данте—I, 68, 72, 75, 162, 453
«Новая наука» Д. Вико — II, 377—390, 527, 533
«Новая сокровищница надписей» Л. А. Муратори — II, 365
«Новеллино» — I, 8, 12, 91, 92
Ньютон, Исаак — II, 325
«Об исследовании» Т. Кампанеллы — II, 318
«Оборванцы» А. К а р о — I, 493
«Оборона Ниццы» Д'Адзелио — II, 546
«Об отшельниках» Н. М а к и а в е л л и — II, 74
«Обручение» А. Мандзони — II, 545
«Об употреблении и достоинствах итальянского языка» Г а л и а н и
Напионе— II, 448
«Об утешении» С. Б о э ц и я — I, 98
«Общественный договор» Ж.-Ж. Р у с с о — II, 391
«Объяснение тридцати печатей» Дж. Бруно — II, 293
Овидий Н а з о н, П у б л и й — I, 35, 66, 72, 92, 357, 373, 416, 443,
457; II, 418, 427
«О войне во Фландрии» Бентивольо— II, 358
«О всеобщности вещей» Т. Кампанеллы — II, 321
«О героическом энтузиазме» Дж. Бруно — II, 292
«Одиссея» Гомера — I, 257; II, 225
«О древнейшей мудрости итальянцев» Д. Б. В и к о — II, 370
«О древних и современных театрах» С. Маффеи — II, 366
«О дьяволах» Н. Макиавелли — II, 74
«О знаменитых женщинах» Д. Боккаччо — I, 425
№
«О зодчестве» Л. Б. Альберти — I, 476, 480
«Океан» А. Т а с с о н и — II, 253
Олимпиа — персонаж Л. Ариосто —II, 32, 41, 224
Олиндо — персонаж Т. Тассо — II, 197—199, 209, 218—219
«О любви к богу и к ближнему» Альбертано да Бреша —1.95
«О Монархии» Данте— I, 166—170
«О монархии в Испании» Т. К а м п ане л л ы— II, 324
«О монахе, который пошел в услужение к богу» — I, 111
«О народном языке» Данте — I, 68, 166, 170
«О неблагодарности» Н. Макиавелли — II, 73
«О пандектах» (De legibus) А. Турамини — II, 356
«Опасность» Г. П а р и н и — II, 481
«Описание Московии» А. Поссевино — II, 357
«О причинах, по которым в государствах может появляться изли-
шек золота и серебра» А. С е р р а — II, 356
«О причине, начале и едином» Д. Б р у н о — II, 295—307
«О происхождении идей» А. Розмини — II, 535
«Опыт о человеческом разуме» Д. Локка — II, 361—362, 375
«О римских акведуках» П. Ф а б р е т т и — II, 356
«Орландино» Т. Фоленго — II, 55—56, 58
Орландино Орафо — I, 54. В его сонете можно найти отклик на
общественные заботы и волнения современников. Однако его
интересуют отнюдь не политические последствия, не дальней-
шая судьба страны, а лишь предстоящее кровопролитие.
Орландо — персонаж Л. Ариосто —II, 28—32, 41, 46, 48—50, 199,
207, 211
Орландо — персонаж М. Боярдо — I, 466, 468
Орландо — персонаж П. Метастазио — II, 421—422
Орландо — персонаж Л. Пульчи — I, 470, 472
Орландо — персонаж Т. Фоленго — II, 56, 59
Орозий, Павел —I, 102, 170
«Оронт» К. Г о л ь до н и — II, 460
«Орфей» Д. Б. М а р и н о — II, 269
«Орфей» А. Полициано —I, 441, 443—446, 451; II, 250, 277
«Осада Флоренции» Ф. Д. Г в е р а ц ц и — II, 536
«Освобожденная Италия» Г. Г. Триссино — I, 494, 502
«Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо —II, 194—230, 232, 235,
262, 417
«О семье» Л. Б. Альберти — I, 477, 479
«О славных мужах» Д. Б о к к а ч ч о — I, 425
«О случае» Н. М а к и а в е л л и — II, 73
«О смысле вещей» Т. К а м п а н е л л ы — II, 318
«Основы государства» Ботеро — II, 340—341
627
«Основы поэзии» Д. В. Г р а в и н а — II, 366, 417
«О собачке возлюбленной» Л. А р и о с т о — II, 8
«Оссиан» в переводе М. Чезаротти —II, 446, 450, 486, 541
«О спокойствии души» А. Б. Альберти — I, 477, 482
«О сфере Аристарха» Т. К а м п а н е л л ы — II, 321
Отелло — персонаж В. Шекспира — II, 121
«О трех обманщиках» — II, 324
«О фортуне»,— капитоло Н. Макиавелли — II, 73—74
«Охота с соколом» Лоренцо Медичи — I, 457
«О честолюбии» Н. Макиавелли — II, 73
«Ошибочность и правомочность языковых запретов» Д. Б а р т о-
ли —II, 270
П а в е л, д и Т а р с о — I, 101, 115, 132, 182
Пагано, Франческо Марио — II, 448, 474, 504
Паллавичино, Сфорца — II, 273, 346. Серьезности сознания
недоставало его «Истории Тридентского собора», он был же-
манным, неестественным рупором отцов реформаторов
(II, 273). Сопоставление erG с дель Сарпи (II, 346)
Паллавичино, Ферранте — автор «Украденной почты», сво-
его рода всеобщей сатиры, где достается всем (II, 367)
«Памела» К. Гольдони — I, 460
Памела — персонаж С. Ричардсона — И, 450
Панигарола, Франческо. Чудачества его стиля (II, 272)
Панталоне — персонаж комедии масок—II, 236, 465, 470
«Папская тиара» («Троецарствие») Пьетро Дж анноне — II,
396
Парабоско, Джироламо — I, 514, 521
«Парадоксы» О. Ландо — II, 191
Парини, Джузеппе — II, 476—482, 488, 502, 505, 509, 522, 541,
542—543, 551. Биографические сведения; характеристика как
человека (I, 476—477, 480—484). П. начинал как поэт-арка-
диец (II, 478). «День». Старое общество запечатлено... в
форме, характерной для его одряхления, — напыщенной при
ничтожном содержании. Концепция «Дня» основывается на
иронии, которая содержится в самих вещах, а потому глу-
бока и печальна. П. от себя добавляет только большую рель-
ефность, торжественность изложения, которое делает кон-
траст еще более заметным... Его улыбка натянута, и в ней
ощущается отвращение и презрение (II, 481—482)
Парис — персонаж рыцарских романов — I, 34
Парута, Паоло —II, 177, 341. Биографические сведения о П.,
который был наиболее близок по духу и направлению к Ни-
628,
коло Макиавелли. В его «Политических речах» виден
наследник Макиавелли и предшественник Монтескье
(II, 341)
Паскаль Блез — II, 183, 234, 361, 374, 387, 389
Пасквино —I, 512, 528
Пассаванти, Я коп о — I, 134, 138, 147, 173, 399, 439. Художе-
ственный замысел «Зерцала истинного покаяния» Я. П. — про-
извести впечатление и склонить верующих к покаянию убе-
дительным показом пороков и возмездия. Беглый, ясный, жи-
вописный стиль повествования, длинноты и монотонность диа-
логов. Он подбирает образы, детали, краски, словно это ору-
дия пытки, и доводит читателя до панического страха, до
галлюцинаций. П. — подлинный художник в этом аскетиче-
ском мире (I, 138)
Пассерони, Джан Карло — II, 476, 482. Его характеристика
как человека. Он поднимал на смех старое общество в «Жиз-
ни Цицерона» и в «Эзоповских баснях» (II, 476)
«Пасторелла» Д. Б. М а р и н о — II, 268
«Пасхальная игра» — I, ПО
Патрици, Франческо — II, 282, 369
Пеллегрино, Камильо — с восторженностью, присущей мо-
лодости, Пеллегрино возвестил трубными звуками весть о со-
здании «Освобожденного Иерусалима» (II, 194)
Пеллико, Сильвио —II, 514, 519, 522, 535, 545
«Первые подвиги Орландо» Л. Дольчи — 503
«Персиане» — рыцарская поэма — I, 463
«Персидские письма» Ш. Л. Монтескье — II, 450
«Перуанка» К. Гольдони — II, 460
«Песни» Д. Л е о п а р д и — II, 553
Петр, св. — персонаж Данте — I, 198, 208, 285, 295—296, 304
Петр-отшельник — персонаж Т. Тассо — II, 210
Петрарка, Ф р а н ч е с к о — I, 23, 41, 60, 312—337, 340, 342—343,
345—346, 350, 356, 362, 367, 374, 387, 391—392, 414, 418, 421,
425, 427, 431, 435, 437, 438, 442, 447, 452—453, 461, 463—464,
485—486, 494, 496, 501, 503, 526; II, 6, 9, 24, 35, 68, 77, 116,
130, 162, 179, 185, 187—188, 190—191, 202—203, 209, 212, 218,
220, 224, 226, 229, 249, 262, 274, 307, 485, 497, 507, 513, 523.
Биографические сведения (I, 312—313, 392). Классическое
образование». «Африка» — политические канцоны. Близкое зна-
комство с великими писателями греко-римской античности.
Без устали разыскивал рукописи, расшифровывал их, коммен-
тировал, хотел возродить античность (I, 312—313). Латин-
ский язык стал казаться национальным языком, а история
629
Рима представляться итальянцам их собственной историей.
Эти настроения породили «Африку». Поэма настолько отве-
чала настроениям итальянского общества, что Петрарка был
увенчан лаврами «князя поэтов» (I, 315). «Стихи». П. — поэт
своего внутреннего мира, и его подлинная жизнь протекала
внутри я (1, 317, 325). Дама и любовь освобождаются от сим-
волики и схоластики (I, 318). Пока Лаура была жива, его
раздирало противоречие между чувством и разумом, между
плотью и духом (I, 321). В стихах цикла «На жизнь Лауры»
доминирует интеллект, софистическая и риторическая рассу-
дочность, рефлексия, которая искажает чистоту чувств, услож-
няет образы, снижает силу впечатления, а своими тщетными
попытками добиться примирения еще больше подчеркивает
борьбу «да» и «нет», происходящую в душе слабовольного
поэта (I, 334). В «Триумфах» он пытается расширить свой
горизонт, выйти за пределы своего «я» и обозреть все челове-
чество, но если и есть в этих стихах что-либо представляющее
интерес, так это связанное с его прошлым, и прежде всего
сон Лауры (I, 336). Общая оценка. В П. проявился
отчетливо характер нового поколения (I, 312). По сравнению
с Данте на первый взгляд это шаг назад, в действительности
же это движение вперед. Мир этот гораздо меньше, он лишь
небольшой фрагмент огромного обобщения Данте, но фраг-
мент, превратившийся в нечто законченное: мир полноценный,
конкретный, данный в развитии, подвергнутый анализу, ис-
следованный вплоть до сокровенных тайников (I, 318).
В стихах «чувствуется рука замечательного мастера, боль-
шой культуры, дарование красочное, острое и изящное, но
это еще не поэт и не художник. Однако, когда он получил
впечатление, когда он охвачен беспокойством и волнением,
окружен видениями, выявляется его личность, перед нами
предстает поэт и художник. То, что он чувствует, вступает в
противоречие с тем, что он думает (I, 322). П. был куми-
ром общества своего времени, в нем оно узнавало себя и
им себя венчало (I, 348)
Пико Делла Мирандола — 1, 432, 437, 451, 490
П и н д а р — II, 253
Пиндемонте, Ипполито — II, 428, 535, 541
«Пир» Данте —I, 40, 59, 68, 134, 163—166, 170, 173, 175, 179, 189,
193, 196, 202, 256, 413
«Пирам и Тисба» А. Мариконда — I, 522
«Писатели итальянских деяний» Л. А. Мура тор и — II, 365
«Письма» П. А р е т и н о — II, 163—166
630
«Письма» Данте — I, 170
«Письма» А. К а р о — I, 493
«Письма» Н. Макиавелли—II, 75
«Письма» Ф. Н е г р и — II, 357
«Письма провинциала» Б. Паскаля — II, 396
«Письма» Ф. Сассети — II, 357
«Письма» Т. Т а с с о — II, 234
Пифагор —II, 287, 318, 370, 377
Плавт —I, 376, 418; II, 6, 10, 22, 117, 119, 171, 461
Платон —I, 37, 39, 61, 92, 96, 173, 312, 322, 432, 437, 528; II, 173,
195, 204, 234, 282, 287, 291, 303, 365, 369—370, 375—376, 383,
388
Плиний старший—II, 153, 271
Плутарх —И, 477, 484, 503, 506
«Побежденный атеизм» Т. Кампанеллы— II, 324
«Поведение и нравы женщин» Ф. да Барберино — I, 318
«Подражание Христу» Фомы Кемпийского — I, 142. Проза, замеча-
тельная по своей точности и правильности
«Подсвечник» Д. Бруно — II, 288, 290
«Поединок в Барлетте» М. д'Адзелио — II, 546
Поза, маркиз — персонаж Шиллера — II, 334
«Покинутая Дидона» П. Метастазио — II, 423—424, 427—430
«Поклонение в страстной четверг и страстную пятницу»—II, 107,
ПО. Анализ «Поклонений», изданных Палермо в «Manoscritti
palatini» (I, 107—ПО); это фактически два действия одного
представления (I, 110)
«Политические и гражданские завоевания» Ф. Гвиччардини —
II, 135—145
«Политические речи» П. П а р у т а — II, 341
«Политический Меркурий» В. С и р и — II, 357
Полициаио, Анджел о А м б р о д ж и н и — I, 50, 384, 418,
436, 437, 441—452, 455—457, 460—462, 468, 475, 478—479, 484—
487, 489, 490, 497—498, 501, 503—504, 526; II, 21, 24, 33—34,
61, 213, 222, 224, 238, 263, 264. «Орфей» — мистерия, которую
могла создать Италия в подобном состоянии духа (I, 441).
«Орфей» — мир чистой фантазии (I, 443). «Стансы». П. ближе
всего подошел здесь к классическому идеалу. «Стансы» — са-
мый чистый и совершеннейший образец нового мира (I, 490).
«Стансы» — разрозненные поэтические формы, каждая из них
закончена в себе (I, 447). Каждый станс —маленький мир,
изображаемый объект не мелькает в нем, подобно быстро
ускользающему видению, но покоится перед вами как обра-
631
зец и раскрывается во всей своей красоте. Нет главного и
второстепенного. Все важно, и ничто не безразлично. Однако
детали подобраны так хорошо, последовательность столь
строго соблюдена, что целое все же возникает, хотя и по-
рожденное не описанием, а чувством (I, 450). «Брунеттина»—
идеальная крестьянка, изображение, лишенное какого-либо
комизма. Образ ее написан в мягких, хорошо подобранных
красках, подан необычайно тонко и изящно. Примечательна
в нем прежде всего правдивость колорита и совершенная
реальность (I, 457). П. — наиболее чистый и неподдельный го-
лос народной литературы XV века (I, 460). В баллатах П.
ощущается изящество и грация «горных пастушек» Ф. Саккетти,
особенно когда в основе их лежит идиллия (I, 460). В его кан-
цонах и канцонеттах, «Письмах» и в «Риспетти» вы не найдете
новых мыслей, образов, ситуаций, даже личного, субъективного
отпечатка. Эго секретарь народа, облекающий в изящные
формы общие мотивы и сюжеты народных песен всей Ита-
лии (I, 460—461). Общая оценка. П. — наиболее яркий
представитель литературы XV века. В нем уже ясно запе-
чатлен образ писателя, совершенно отстранившегося от об-
щественной жизни, полностью лишенного религиозного, поли-
тического и нравственного сознания придворного, любящего
жизненный покой, чередующего ученые занятия с часами
приятного досуга. Выдающийся эллинист и латинист, сочинял
латинские эпиграммы с легкостью импровизатора (I, 441)
«Помпеи Римлянин» — рыцарский роман — I, 463
Помпонаццо, Пьетро— I, 527, 529—530; II, 27, 315
Понтано, Джованни —I, 432, 435—436, 475, 491; II, 213, 238.
Воспевает «Любовь» и «Купания в Байе» то ласково и томно,
то посмеиваясь и балагуря. «Лепидина». Грубая чувствен-
ность исчезает в тонкой грации воображения и очарования
изящного слога (I, 435)
«Послание пылкого влюбленного» Л. Б. Альберти — I, 483
«Порретанские новеллы» Сабадино делльи Ариенти— I,
514
Поррето, грамматик—II, 64
«Последние письма Якопо Ортиса» У. Фосколо —II, 505—506
«Потаенные воспоминания» В. С и р и — II, 357
«Потерянный рай» Д. М и л ь т о н а — II, 203
«Потерянный и найденный сын Арлекина» К. Гольд они — II,
461
«Потоп» Г. К ь я б р е р ы — II, 252
632
«Похищенное ведро» А. Т а с с о н и — II, 248, 252
«Поэтика» А Минтурно — II, 235
«Пояснения» Р. Ф а б р е т т и — II, 365
«Правдивый Меркурий» Д. Бираго Авогадро — II, 357
«Празднество» К. Гольдони — II, 460
«Представление о монахе, который пошел в услужение к богу» — I,
111—112, 173
«Представление о святом Иоанне и Павле» Л. Медичи —II, 464
«Представление страсти» — I, 110
«Преображение» Рафаэля — I, 499
«Прекрасная грузинка» К. Гольдони — II, 460
«Прекрасная дикарка» К. Гольдони —II, 460
«Придворный» Б. К а с т и л ь о н е — II, 26, 98, 118
«Примат морали» В Джоберти — II, 549
«Причуды Бочара» Джелли — I, 493
«Прозерпина» Г. К ь я б р е р ы — II, 253
«Прозерпина» Д. Б. М а р и н о — II, 268
«Proposta» В. М о н т и — II, 534
Прудон, Пьер Жозеф —II, 554
Пульезе, Руджиери — I, 21. Примитивность и пренебреже-
ние формой свидетельствуют об отсутствии серьезной работы
Пульчи, Луиджи —I, 451, 457, 468—475, 486, 488, 510, 513,
527, 528; II, 12, 24, 43, 56, 66, 72, 252, 469. Здесь мы обнару-
живаем литературный облик века в его градации от Буркьелло
до Лоренцо Медичи. П. по прямой линии восходит к Боккаччо
и к Саккетти и развивает их традицию более энергично, чем
Полициано и Лсренцо. Берет роман таким, каким он находит
его на улицах, как беспорядочное смешение религиозного и
мирского, серьезного и шутовского. И он не помышляет
о том, чтобы придать ему героический характер; ничто так
не противно его натуре, как звуки военной трубы (I, 468).
Создаваемый им мир уменьшил свои масштабы, стал бур-
жуазным, все большие события едва-едва очерчены, кажется,
что они результат не действия людей, а прикосновения вол-
шебной палочки; автор изображает их с беспечностью и лег-
костью (I, 468—469). Мир рыцарства низведен до уровня
простонародья. Персонаж второстепенный в рассказах и ко-
медиях, буффон является здесь главным действующим лицом
и душой всего повествования (I, 470). Манера изображения
тоже соответствует простонародной пародии. Форма здесь
целиком внешняя и стремительная. Образы отдельных персо-
нажей вырываются из массы и ярко предстают перед вами.
Октава не имеет периода, а рифмы не играют друг с другом:
41 Де Санктлс 633
стихи текут безостановочно, поспешно, неотделанные, они
налезают один на другой, и часто единый стих передает це-
лую картину (I, 471). Этому способствует диалект, мастерски
использованный, особенно в его лексическом богатстве. Все
простонародно: действие, страсти и язык. Роман — комедия,
помимо воли автора оборачивающаяся трагедией, но траге-
дия бурлескная, в ней отсутствует чувство (I, 472). Мор-
гайте—главный герой, душа рассказа. М. представляет
героические и рыцарские черты простонародья. Маргутте —
это простонародье, выродившееся и развратившееся; два эти
существа дополняют и объясняют друг друга. Будь боль-
шим разрыв между этими вульгарными героями и рыцар-
ством, дуализм или антагонизм между ними породили бы
пародию. Но духом плебейства проникнуты также и рыцари;
Маргутте и Моргайте не часть, а целое, высокий образец,
дающий направление всей повести (I, 472—473), Концепция
образа Астаротте — одна из самых серьезных в нашей лите-
ратуре и одна из лучше всего очерченных и развитых идей
«Моргайте» (I, 475). Астаротте становится вульгарным и
смутным эхом века, еще не осознавшего себя (I, 475)
Пурсоньяк — персонаж Мольера — II, 173
«Путешествие на Парнас» С. Капорали — I, 512
«Пути к спасению» Бонавентуры — I, 283
Пуффендорф, Самуэль — II, 362, 374
П у ч ч и, кардинал, «История Тридентского собора» — II, 348
«Пчелы» Д. Р у ч е л л а и — I, 504
«Пьяница» Лоренцо Медичи — I, 457
«Пятое Мая» А. Мандзони — II, 525—527
«Пятьдесят дней» Ф. С к а л а — II, 237
Рабле, Ф р а н с у а — II, 62, 173, 194
«Размышления о методе» Декарта — II, 359
Расин, Жан —II, 183, 424, 483
«Рассказы о древних рыцарях» — I, 89, 91
«Рассуждение о методе» Декарта —II, 359, 364, 371, 386
«Рассуждение о монетной системе» Г. Скаруффи — II, 356
«Рассуждения» К. Г о ц ц и -- II, 457
«Рассуждения» Н. Макиавелли — II, 75
Рафаэль —I, 498; II, 46, 259
«Реальная философия» Т. К а м п а н е л л ы — II, 321
Реди, Франческо—II, 250, 327. Его «Вакх в Тоскане», напо-
минающий вакханок «Орфея», не был забыт после смерти ав-
тора; благодаря яркости и размаху фантазии, естественности
634
действия и поэтическому мастерству читать его приятно (II,
250)
Р е н а н, Э р н е с т — 11, 554
«Римские ночи» А. В е р р и — II, 452
Ринальдо д'Аквино — I, 14—15. В его песне благородные и
нежные чувства выражены искренним языком, в сугубо италь-
янской простой и правдивой манере, в мягкой тональности.
Этот романс, исполненный в сопровождении музыкальных ин-
струментов, должно быть, производил глубокое впечатление
(I, 14). Язык здесь неправильный, но это уже, несомненно,
итальянский язык, к тому же по мелодике и основным кон-
турам весьма развитый. Влюбленный, молящий о любви, влюб-
ленная, жалующаяся на разлуку, — эти стихи просты и не-
затейливы, задушевны и искренни (I, 15)
Ринальдо — персонаж Л. Ариосто — I, 501; 11,29, 31, 38,41,48,50,208
Ринальдо— персонаж М. Боярдо — II, 465, 468
Ринальдо — персонаж Л. Пульчи — I, 469, 472, 474
«Ринальдо» — рыцарский роман — I, 463
Ринальдо — персонаж рыцарских романов — I, 89, 385
«Ринальдо» Т. Та ее о—II, 195, 203, 234
Ринальдо — персонаж Т. Тассо — II, 207, 210—212, 223, 225
«Риспетти» А. Полициано — I, 461
«Риторика» — приписывается Ц и ц е р о н у — II, 191
«Ричарда» У. Фосколо — II, 541
Робеспьер, Максимилиан — II, 498, 526
Робинзон Крузо — персонаж Д. Дефо— II, 450
Родамонте — персонаж М. Боярдо — I, 468
Родомонте — персонаж Л. Ариосто —I, 468; II, 29, 31—32, 49—50,
208
Родомонте — персонаж Ф. Берни — I, 503
«Рождество» А. Мандзони — II, 523
Роланд — персонаж рыцарских романов — I, 89, 385, 446, 502; II, 22,
59
Романьози Джапдоменико —II, 523. «Передавал новому
поколению мысль побежденного великого века»
Россетти, Габриеле — его толкование персонажей Данте (I,
207)
Рудзанте, Анджело Беолько —II, 236—237
Руджери, архиепископ — персонаж Данте— I, 253
«Руджиеро» Г. К ь я б р е р ы — II, 252
Руджиеро — персонаж Л. Ариосто —II, 28—32, 49—50, 522
Руссо, Жан Жак—II, 390-391, 450, 472, 503, 520
41* 635
Рустико ди Филиппо — I, 53, 55, 64
«Рустикус» («Деревенский житель») А. П о л и ц и а н о — I, 436, 448
Руччелаи, Джованни — I, 497, 504
Савонарола, Джироламо —I, 486—487, 450, 497, 530; II,
76, 79, 80, 84, 92, 112, 129, 180, 183, 312. Он хотел восстано-
вить веру в добрые нравы, ополчась на книги. С. — наследие
средневековья, пророк и апостол дантовского типа (I, 487;
II, 92)
«Сад утешения» — I, 96
«Сады гесперид» П. Мета стаз и о —II, 421, 423, 428
Саккетти, Франко—I, 420—429, 460, 468, 479, 497, 526, 513,
517; II, 12, 43, 72. Последний голос этого века, С. — писатель
дюжинной культуры и таланта немногим выше среднего, но
наделенный редким здравым смыслом; не слишком смелый
и оригинальный, но исключительно простой и естественный,
С. в самой своей посредственности был эхом времени (I, 420).
Изящество и грация «Горных пастушек» С. (I, 460). «Trecento
novelle». Содержание новелл Саккетти составляет тот же
Боккаччиев мир, но у С. он более буржуазен и по-домашнему
прозаичен. Это низменная простонародная жизнь в просто*
народной форме. Стиль С. простой, естественный, неприну-
жденный, не лишенный флорентийского лукавства (I, 422—*
423). С. не художник, и он даже не мечтает об этом, у него
отсутствует всякое вдохновение. Мир, с таким великолепием
организованный в «Декамероне», у С. лишь грубый, едва
отесанный материал. Из его новелл запоминается только не-
сколько анекдотов, ни один из его персонажей не обрел бес-
смертия (I, 423).
Сакки, Антонио — II, 457. Был последним из тех выдающихся
комических импровизаторов, которые странствовали по Ев-
ропе и поддерживали репутацию итальянской комедии в Вене,
Париже, в Лондоне
Сакрипанте — персонаж Л. Ариосто—II, 30, 33, 38, 48, 50
С а л а д и н, С а л а х э д - Д и н — I, 13, 18, 34
Саладин — персонаж Д. Боккаччо — I, 393
«Salve Regina» — I, 46, 269, 272
Саллюстий, Гай Крисп — 1,96,144
Сальвини, Антон Мариа — II, 275, 368. Человек, напичкан-
ный знаниями, но вялый духом и без полета воображения,
проживший пустую жизнь (II, 368)
Сапнадзаро, Якопо —I, 432, 491, 494, 496, 528; II, 58, 224,
236. Понятен огромный успех «Аркадии» Санадзаро, которая
636
представлялась современникам наиболее чистым и закончен-
ным образцом идиллического идеала. Однако от С. не оста-
лось ничего, кроме нескольких удачно выраженных сентен-
ций (I, 490)
Санчо Панса — персонаж М. Сервантеса — I, 256, 395, 473; II, 18
«Sacrificio» А. де Беккари — II, 232
Сар пи, Паоло —II, 179, 273, 342—350, 362, 395, 398, 520. Био-
графические сведения (II, 343). Друг Галилея и Делла Порта,
принадлежавший к той же школе (II, 342—343). Богослов,
философ, знаток канонического права, он был столь же све-
дущ в естественных науках. Ему приписывается открытие
кровообращения (II, 342—343). Его «История Тридентского
собора» — наиболее серьезная работа, которая в то время
была создана в Италии. Написать историю этого собора, по-
казать его светские цели, светские страсти и интересы — озна-
чало ударить по самой основе зла (II, 344)
«Сатана и грации» Г. П р а т и — II, 556
«Сатиры» В.Альфьери— II, 504
«Сатиры» Л. Ариосто — II, 15—20, 250
«Сатиры» С. Роза — II, 251
«Саул» В. А л ь ф ь е р и — II, 491
«Сбор винограда на Парнасе» Г. Кьябреры—II, 257
«Святое семейство» Рафаэля — I, 499
«Священная Сицилия» Р. П и р р о — II, 357
«Священные гимны» А. М а н д з о ни — II, 516, 523, 526, 542, 546
«Священный Неаполь» Ч. Караччоло — II, 357
«Себастьян» Г. Кьябреры — II, 253
Сельваджа — персонаж Чино да Пистойя — I, 57, 344
«Сельская жизнь» Д. П а р и н и — II, 481
«Семейная трапеза» Л. Альберти — I, 477, 481
Сенека, Луций Анн ий- II, 207
Сеньери, Паоло — II, 271—272, 475
«S'eo trovasse pietanza» короля Энцо — I, 16
Сервантес, Сааведра Мигуельде—II, 43, 53, 183, 194,
256
«Sermone a Jacopo Gaddi» Г. Кьябреры— II, 257
«Сид», «Песнь о моем Сиде» — II, 26
«Сильвия» Г. Парини — II, 481
Сильвио — персонаж Тассо — II, 242
«Синагога невежд» Т. Гардзони — II, 368
Сиро — персонаж Н. Макиавелли — II, 123
Скалигер, Джулио Чезаре — I, 497, 528
Скотт Дуне —11,66
637
«Сладкострунный Орфей» — I, 446
«Слезы Девы Марии» Р. Кампеджи- II, 261—262
«Слова верующего» Ламменнэ — II, 523
«Словарь Академии делла Круска» — II, 162, 185, 189, 445
«Смешные жеманницы» Мольера — II, 463
Смит, Ад а м — II, 391
«Собрания чудес мира» Т. Г а р д з о н и — II, 368
Содерини Пьер — I, 160; II, 108
Сократ —I, 96; II, 301
«Сон Сципиона» («О республике») Цицерона — II, 206
«Сонет о коршуне». Если сонет относится ко времени сицилийской
школы, то это еще один пример, подтверждающий, что уже
в то время итальянский язык, когда им пользовался чело-
век, наделенный нежной душой и пылким воображением, был
языком высокоразвитым (I, 24—25)
«Сотворение мира» — Ристоро ди Ареццо — I, 96
«Сотворение мира» Т. Тассо — II, 203, 205
«Сотворенный мир» Г. Муртола — II, 262
Софокл —II, 417, 419, 428
«Софонисба» Д. Д. Триссино — I, 494
«Софрона» Л. Б. Альберти — I, 477
Софрония — персонаж Т. Тассо —II, 197—198, 210, 217—218, 223
С пер он и, Сперон—I, 496, 502, 514, 528; II, 144, 185, 187, 191,
252
Спинелли, Маттео — I, 89. Его «Диурнали» — самая старин-
ная итальянская хроника — читается не без удовольствия, на-
писана просто и естественно. События в ней изложены столь
занимательно, что автор скорее выступает как сказитель, чем
как историк (I, 89)
Спиноза, Бенедикт —II, 310, 314, 361, 364—365, 389
«Сравнения Парнаса» Т. Б о к к а л и н и — II, 251
Сталь, Жермэн Неккер мадам де — II, 516, 540
Стампа Гаспара — I, 493
«Стансы» А. Полициано —I, '446—451, 486, 490, 504, 532; II,
225, 246
«Статуя» Л. Б. Альберти — I, 477
Стаций, Публий Па пин ий- I, 357, 368, 447—448
Стаций — персонаж Данте—I, 213, 263, 273
Стефан, св. — персонаж «Чистилища» Данте — I, 261, 498; II, 254
«Стиль» Беккариа — II, 443, 449
«Стихи» («Rime») Д. Боккаччо — I, 369—372
«Стихи» Ф. Петрарки —I, 316—337, 344, 348, 371, 386
«Стихи» Т. Т а с с о — II, 233—234
638
«Strada della gloria» П. Метастазио — II, 419
Страда, Фамиано —II, 358. Пространно пишет о бельгийских
делах
«Страсти» А. Мандзони — II, 523
«Страшный суд» Микеланджело — I, 499
«Страшный суд» Якопоне да Тоди — I, 48
Страпарола, Джованни Франческо —I, 514, 522—525
Сфорца Людовико Моро — II, 75
Счастья острова в «Освобожденном Иерусалиме» Т. Тассо — II,
224
Т а д д е о — врач; неудачно перевел на итальянский язык «Этику»
Аристотеля — I, 164
«Таланта» П. А р е т и н о — II, 172
Танкред — персонаж Д. Боккаччо — I, 394, 408, 415
Танкред — персонаж Т. Тассо —II, 211, 218—219, 226, 229—230
Тансилло, Луиджи — II, 286—287
Тарсиа, Галеаццо ди — I, 493, 496
«Тартана влияний» К. Гоцци — II, 454
«Тартюф» Мольера — II, 463
Тассо, Бернардо — I, 495—497, 501—502
Тассо, Торквато —I, 44, 66, 284, 360, 362; II, 35, 194—229,
231—235, 237, 239, 243—244, 251—252, 261—263, 265, 270, 306,
342, 356, 385, 418—419, 428, 431, 440, 474, 485, 491, 530. Чело-
век, критик, художник. Биографические сведения и характе-
ристика как человека (II, 201—204, 208—209). Т. был искренне
верующим и отличался богатым воображением, рыцарствен-
ностью характера, сентиментальностью; глубоко впитал все
элементы итальянской культуры (И, 201).
Он пишет «Ринальдо» и прилагает усилия к соблюдению
единства действия и простоты композиции (II, 195). Т. — по
характеру романтик — находился под влиянием рыцарских
романов, пользовавшихся спросом у читателей того времени.
Это объясняет, почему его первым произведением был «Ри-
нальдо» и романтический мир восторжествовал над его ре-
лигиозными, историческими и классическими устремлениями
(II, 211). «Т. увлекала и античная трагедия, и своего «Torris-
mondo» он написал в подражание «Царю Эдипу» (II, 233).
«Освобожденный Иерусалим» относится уже не к области
поэзии, а к области критики; художественное чутье притупи-
лось, творческое вдохновение и непосредственность восприя-
тия сменились продуманностью (II, 195). Т. стремился постичь
классический идеал, он хотел создать серьезную эпическую
639
поэму, проникнутую религиозным духом, стоящую как можно
ближе к истории, к правде или правдоподобию, где чудесное
обретает естественное объяснение (И, 196). Религия «Осво-
божденного Иерусалима» — это религия на итальянский лад:
догматическая, историческая и формальная, религия буквы, а
не духа (II, 206). Религия Тассо — религия робкая, здесь она
злая усмешка века, плохо маскируемая от взора инквизито-
ров. Религиозный элемент наряду с мифологическим служил
поэтическим средством. Ангелы Тассо стерты, а его Плутон —
образ, напоминающий монумент, — лишен всякой глубины и
говорит, словно учитель риторики (II, 216). Создание идилли-
ческого мира. Т. создает новый поэтический мир на романти-
ческой основе — это лирический мир, субъективный и музы-
кальный, отражающий его петрарковскую душу, мир чувства.
Это чувство идиллическое и элегическое, подмечающее в при-
роде и человеке черты самые приятные и тонкие (II, 212—
213). Он описывает внутреннюю жизнь, о которой после
Данте и Петрарки забыли (II, 220). За претензией на эпиче-
скую поэму скрывается внутренний, лирический, субъектив-
ный, в своих существенных частях пасторально-элегический
мир, отзвук томлений, восторгов и жалоб благородной и му-
зыкальной души, склонной к созерцательности (II, 229)).
«Завоеванный Иерусалим»: за налаженностью механизма
этой поэмы ощущается нарушение; жизнь не образует гар-
монического целого во всей поэме. Это было подмечено кри-
тиками, по мнению которых некоторые эпизоды интереснее
поэмы в целом (II, 210). Претензии к поэме за ее недоста-
точную религиозность. Переделка поэмы, вследствие чего она
стала более тяжеловесной, но не более религиозной (II, 197—
199). «Аминта». Мир лирики Т. выступает во всей своей идил-
лической и элегической чистоте в «Аминте». Здесь Т. обра-
щается к материалу, близкому его душе, и достигает в его
обработке большого совершенства. Это отнюдь не драма и
даже не пасторальная драма, за пастушескими именами и дра-
матической формой скрывается лирическая пьеса (II, 231—232)
Общая оценка. В Т. боролись два человека — языч-
ник и католик, Ариосто и Тридентский собор. Т. был поэтом
подлинного вдохновения, и непосредственность поэта большей
частью вытесняла искусственные схемы критики (II; 201). Т.
был одним из самых благородных воплощений итальянского
гения, высокой материей поэзии (II, 204). Он был поэтом
того лирического и сентиментального мира, который пришел
на смену Ариосто. Как'поэт —он весь музыка и одухотворен-
640
ность, он богат мыслью и чувствами. Его воображение не
замыкается в себе, оно пронизано томлениями, жалобами,
мыслями и вздохами (II, 214).
Тассони, Алессандро — II, 249—250, 252. Т. высмеивал ли-
рический жанр и самого Петрарку. Он ратовал за простоту,
здравый смысл и правдоподобие и отвергал всякую манер-
ность и изощренность искусства. Эта критика повисла в воз-
духе, потому что подобная простота жизни, подобное чув-
ство реальности было не свойственно веку, сознание которого
выражалось в абстракциях ума, а хороший врожденный вкус
был лишен возможности найти себе выражение в пластиче-
ском мире (II, 249)
Тацит, Публий К о р н е л и й — II, 77, 251, 374, 496
«Тезеида» Д. Боккаччо —I, 361—363, 369, 379
«Тезей» — рыцарский роман — I, 463
«Тезоретто» («Маленькое сокровище») Б. Л а тин и — I, 55, 99, 174,
198, 300
«Тезоро» («Сокровище») Б. Л а тин и — I, 55, 98, 163, 236, 255
«Тезоро» («Сокровище») Джамбони, переложение «Сокровища»
Б. Л а т и н и — I, 98
Телезио, Бернардино —И, 287, 315—319, 321, 331
«Тени идей» Д. Б р у н о — II, 294
«Теодженио» Л. Б. Альберти — I, 477, 480—481
Теренций, Афр П у б л и й — I, 312; II, 6, 11, 22, 117, 171, 236,
239, 461
Терсит — персонаж Гомера —' И, 502
«Тибрская Нимфа» Ф. Мольца — I, 504
Тик, Иоганн Людвиг—11,536
«Тирси» Б. Кастильоне— I, 504
Тициан, Вечеллио —II, 155, 162, 166
«Торрисмондо» Т. Т а с с о — II, 233
Тосканелли, П а о л о — I, 474, 481
«Трактаты о морали» А. д а Бреша — I, 95
«Трактат о страстях» Декарта — II, 378
«Трапезы» — новеллы дель Ласка — I, 493, 514
«Требизонда» — рыцарский роман — I, 463; II, 54
«Три дня» А. Мариконда — I, 514
«Тринадцать веселых ночей» Ф. Страпаролы —I, 514, 522—523
Триссино, Джан Джорджио —I, 494, 496, 501—502; II,
191, 214, 427, 485
Тристан — персонаж рыцарских романов—I, 18, 34, 89, 385, 463
«Триумф Вакха и Ариадны» Л. Медичи — I, 459, 462
«Триумфы» Ф. Петрарки — I, 336, 458; II, 90
641
Троил — персонаж Д. Боккаччо — I, 363—364, 368, 463
«Троица» А. Мандзони — II, 523
Тромбе т то, Микеланджело — I, 310. Его оценка «Боже-
ственной комедии»
«Троян» — рыцарский роман — I, 463
Труффальдино — персонаж комедии масок —II, 463, 469—470
Турамини Алессандро (II, 356). По силе аргументации бли-
зок к Альбертино Джентиле
«Tutto lo mondo» Фолькаккьеро из Сьены — I, 17
«Ту, что живет в сознании моем» Чино да Пистоля — I, 57
«Тысяча и одна ночь» — II, 484
«Увеселения» Ш. Баргальи — I, 514
Уголино— персонаж Данте— I, 252—254, 407
«Указатель всех книг по церковному и гражданскому праву»
Дзильоли — II, 357
«Украденная почта» Ф, Паллавичино — II, 357
Уливьери — персонаж Л. Пульчи — I, 468, 472
Уливьеро — персонаж рыцарских романов — I, 386
Улисс (Одиссей) — I, 243—244, 255, 477; II, 262
«Уход за садом» Аламани — I, 504
Фабретти, Рафаэле — II, 356, 365
Фалькандо, Уго — I, 13. Его латинский язык изыскан и под-
час претенциозен
Фарината, дельи Уберти — I, 146, 235—236, 242, 254
«Фауст» В. Гёте—II, 530, 538
Фауст — персонаж Гёте—I, 192, 222
Фауст, легенды о докторе Фаусте — I, 101, 173
Фенелон, Франсуа де Салиньяк де ла Мот—II, 183
Феокрит— I, 447—448, 451
Ферруччо, Франческо — II, 76, 138, 146
«Физиономия» Делла Порте — II, 318
Филанджери, Гаетано — II, 420, 448, 474, 504
Филельфо, Франческо — I, 431, 437, 475
«Филениа» Н. Франко — I, 524
Филикайя, Винченцо —II, 256, 257, 260. Ф.. — поэт в герои-
ческом жанре, от которого остались канцоны на освобождение
Вены; он нагромождает восклицания, вопросы, повторы под
грохот звуков и фраз. Напыщенная риторика, за которой
скрывается имитация жизни (II, 256)
642
«Филипп» В. Альфьери — II, 428
«Филодоксиос» Л. Б. Альберти — I, 477
«Филоколо» Д. Боккаччо — I, 358—361, 369, 408
«Философ» П. Аретино—II, 173—175
«Философия языков» М. Чезаротти—II, 443, 448
«Филострато» Д. Боккаччо —I, 358, 363—364, 369
Фиренцуола, Аньоло — I, 493, 495, 514
Фихте, Иоганн Готлиб — II, 407, 541
Фламиний — II, 50
«Флоренция» Г. К ь я б р е р ы — II, 252
«Флориданте» Т. Т а с с о — I, 502
Флорио — персонаж Боккаччо — I, 358, 463
Флорио — персонаж рыцарского романа неизвестного автора — I, 357
Фоленго, Теофило —II, 6, 54—68, 82, 167, 248, 272, 281, 312.
Биографические сведения (II, 54—55). Его враждебное отно-
шение к обществу; его страстное стремление высмеять рели-
гиозную и рыцарскую тематику (II, 55, 59). «Орландино» по
форме ужасна, засорена варваризмами и грамматическими по-
грешностями, в ней высмеивается поэма Л. Ариосто. Язык
«Орландино» — это безвкусная и неблагозвучная смесь латин-
ских и ломбардских слов и просторечия (II, 56). «Макаро-
неа» —сюжет поэмы (II, 58—59). Цель Ф. на первый взгляд —
отдаться своему неуемному воображению и нагромождать
одно приключение за другим. Многие приключения основаны
на реминисценциях из классической и рыцарской литературы,
но они обновлены и оригинально переделаны, и все в целом
совершенно самобытно (II, 59). Концовку поэмы «Макаронеа»
Ф. сочинил под влиянием Ариостова мира Луны (II, 65, 82).
В поэме в самой откровенно циничной форме показан все-
общий распад, затронувший все идеи и верования; за всем
этим — списанный с натуры, неприкрашенный портрет итальян-
ского общества с его насмешливой и пустой культурой и
искусством, возникшими на развалинах средневековья (II, 60,
67). «Москеида» (II, 67—68) также карнавальный маскарад,
где выведены рыцари, но стиль здесь более отработан и вы-
держан (II, 67). «Дзанитонелла» — карикатура на буколиче-
ские поэмы, где высмеиваются идиллические образы и чув-
ства, такие, как у Петрарки (II, 68).
Фолькаккьеро деи Фолькаккьери —I, 7, 17
Ф о л ь к о, д и К а л а б р и а — I, 17. Примитивной концоне старинно-
го поэта Ф. ди К. свойственны простота и искренность (I, 17)
Фома Аквинский —I, 35, 38, 54, 61, 92, 167, 193, 416, 434; II, 66,
330—331
643
Форести, Антонио—П, 357. Его «Историческая карта мира»,
продолженная А. Дзено, — первая попытка создания «всеоб-
щей истории»
«Форесто» Г. К ь я б р е р ы — II, 252
«Формула честной жизни» Мартин о да Брага — I, 102
«Фортуна» А. Г в и д и — II, 259
Ф о скол о, У г о —II, 503—514, 520, 522—523, 526—527, 533, 541,
544, 551. Биографические сведения (II, 505—509). Его юно-
шеская апология «Басвиллианы» Монти (II, 503). В стихах
Фосколо появляется нежная и меланхолическая интимность,
мягкость, идущие у него не только от Петрарки, но от род-
ной земли и от восприятия греков; в одах «К Луиджи Пал-
лавичини» и «К выздоровевшей подруге» мы находим музы-
кальный и сладострастный мир. Ф. переводит «Волосы Бере-
ники» и прилагает комментарий, в котором обнаруживает
превосходную эрудицию; соревнуясь с Монти, он принимается
за перевод «Илиады». Он пишет речь по случаю Лионского
конгресса напыщенным, искусственным слогом, но вклады-
вая в нее смелые и серьезные идеи (II, 507—509). Поэма
«Гробницы» окончательно утвердила его репутацию и поста-
вила его вровень с великими поэтами того времени. Появле-
ние «Гробниц» затронуло струну, которая отозвалась во всех
сердцах (II, 509, 512). Эта поэма — первый лирический голос
новой литературы, утверждение сложившегося сознания но-
вого человека (II, 509). И сам жанр кажется новым. Это
была лирическая поэма морального и религиозного мира,
воссоздание внутреннего мира человека, возвышающегося над
современными страстями (II, 512—513).
Фракассо — персонаж Т. Фоленго — II, 58—59, 65, 108
Франко, Маттео — I, 460; автор «Плебейских сонетов»
Франко, Никколо— I, 497, 524; II, 157, 171, 178
«Св. Франциск» Г. К ь я б р е р ы — II, 254
Франциск, св. — персонаж «Божественной комедии» Данте — 1,
247, 293, 295
«Франческа да Римини» С. Пеллико—II, 545
Франческа да Римини — персонаж «Божественной комедии» Данте —
I, 227—228, 235—236, 241—242, 254—255, 292; II, 47
Фридрих Барбаросса — I, 34, 385
Фридрих II Гогенштауфен — I, 8, 10, 13, 19, 26, 356, 385, 495, 497;
II, 399, 522
Фр угони, Карло Инноченно — II, 259, 446, 475, 487. Свиде-
телем вырождения поэтического творчества является Ф. — са-
мый пустой и претенциозный из поэтов (II, 259)
644
Ф у к и д и д — I, 404
«Fundamenta phisicae» Э. Р е д ж о — II, 364
«Фьезоланские нимфы» Д. Боккаччо — I, 378—380, 388, 457
«Фьямметта» Д. Боккаччо—I, 372—374, 377, 483, 525
Фьямметта — персонаж Боккаччо в «Амето» — I, 382, 383; в «Дека-
мероне» — I, 393; в «Фьямметте» — 1, 350, 373, 374
Харон — персонаж «Божественной комедии» Данте — I, 182, 234
Христина Шведская — не поняла великих событий в Швеции;
бежала в Рим, покровительствовала аркадийцам— II, 363
«Хроника» Д. В и л л а н и — I, 149
«Хроника» Д. К о м п а н ь и — I, 148—162
Цаппи, Джамбаттиста — выделялся... среди самых жеман-
ных, цветистых поэтов — II, 259
«Царь Эдип» Софокла — II, 232
«Цвет изящной речи» («Новеллино») —I, 91
«Цвет философов и многих мудрецов» — I, 96—97
«Цветочки о паладинах» — I, 463
«Цветочки» Франциска Ассизского — I, 173
Цезарь, Гай Юлий —1, 89, 225, 367; II, 92, 114, 498
«Целебный воздух» Г. П а р и н и — II, 481
Цербер — персонаж «Божественной комедии» Данте — I, 232—233
«Цецилия» Г. К ь я б р е р ы — II, 253
«Цинна» П. Корнеля — II, 424
«Цирцея» Джелли — I, 493
Цирцея — персонаж Гомера — II, 223, 262
Цицерон Марк Туллий—I, 89, 93—96, 133, 170, 312—313, 315.
377, 417, 436, 482, 494, 513; II, 153, 163, 166, 369
Чаппелетто — персонаж «Декамерона» Боккаччо — I, 340, 403, 410—
411
Чаттертон, Томас — II, 450
Чезари, Антонио — II, 446, 551
Чезаротти, Мелькиорре—II, 443, 446, 488, 504. Гораздо
более умный и культурный, чем аббат Чезари, в своем не-
почтении к античным авторам дошел до того, что стал искать
новую мифологию в Калидонских лесах (II, 446)
Чекки, Джованни Мария —II, 166, 171—172. Самый пло-
довитый комедиограф того времени; веселость и флорентий-
ское изящество роднят его с Ласка (II, 171).
Челлини, Бен вен у то— 11,20, 165—166, 191 — 192. 197—199. Он
был сама жизнь, сама вещественность (II, 165). Последний из
авантюристов первой половины XVI века. Богато одаренная
645
натура, гениальный, но необразованный, он сочетал в себе
черты итальянца того времени, не измененного цивилизацией
(II, 191—192)
«Чернокнижник» Л. А р и о с т о — II, 12
«Четыре царства» Ф. Ф р е ц ц и — I, 198
Чингар — персонаж Т. Фоленго — II, 58—59, 61, 66—67
Чинелли Кальволи, Джованни — его «Летучая библио-
тека» нечто вроде литературной истории —II, 357
Чино да Пистойя —I, 55—59, 79, 81, 147, 311, 349, 426, 437.
Образованнейший юрист, его комментарий к «Кодексу» счи-
тался чудом того времени. Он восстановил римское право,
открыл перед наукой новые пути. Любовь к Сельвадже сде-
лала его поэтом, но заставить себя мыслить по-иному он не
мог. Вместо того чтобы описывать свои чувства как поэт,
Чино как критик анализирует их, предаваясь тонким рассу-
ждениям (I, 56, 57)
Чиполла, монах — персонаж «Декамерона» Боккаччо — I, 401—403
«Чириффо Кальванео» Л. Пульчи — I, 463
«Чистилище Св. Патрика» — I, 128
Чьело д'Алькамо (Чулло)— I, 7, 8—10, 28—29. О его песнях
и кантиленах —I, 8—10
Чосер, Джефри — I, 368
Шатобриан, Франсуа Рене де—II, 511, 516, 520, 540
Шекспир, Вильям —I, 244, 515; II, 173, 194, 231, 236, 243, 256,
442, 470, 473, 497, 534, 537
Шеллинг, Фридрих— II, 313—314, 541
«Шесть дней и ночей» С. Э р и ц ц о — I, 514
Шиллер, Фридрих — II, 530, 536—537, 541
«Шкатулка» Л. А р и о с т о — II, 11—15
«Школа жен» Мольера — I, 523
«Школа мужей» Мольера — I, 516.
Ш л е г е л ь (братья) — II, 536
Шмалькальденская лига — II, 358
Шоппио, Гаспаре — «его лукавая ирония», обращенная про-
тив Д. Бруно —II, 313
«Шотландка» К. Г о л ь д о н и — II, 460
«Эзоповские басни» Пассерони — II, 476
«Экатоммити» Джиральди — I, 514, 524
«Экатомфилеа» Л. Б. Альберти—I, 477, 483—484
«Эклоги» Л. Б. А л ь б е р т и — I, 477
«Элегии» Л. Б. А л ь б е р т и — I, 477
646
«Элементы живописи» Л. Б. Альберти —I, 476
«Элоквенция», новелла—I, 514
«Эмиль» Ж.-Ж. Р у с с о — II, 484
«Эндимион» П. М е т а с т а з и о — II, 421
«Энеида» Вергилия —I, 315, 345, 361; II, 194, 197
Эней — персонаж Вергилия — I, 167, 182—183, 364; II, 27, 199
«Энрико» К. Гольдони — II, 460
Энциклопедисты — II, 407—408
«Энциклопедия» — II, 391. Наиболее грозное оружие, направленное
против прошлого
Энцо, король — I, 16—17, 19. «Его канцона несколько тяжеловесна»
(I, 16)
Эпикур —I, 96; II, 370
«Эпиталамы» П. Метастазио — II, 420—421
«Эпитафия Рафаэлю» Г. К ь я б р е р ы — II, 259
Эразм Р о т те р д а м ск и й — I, 11
Эри ц ц о, Себастьян о — I, 514, 524—526
Эрминия — персонаж Т. Тассо—II, 198, 209, 211, 220—222, 226, 238,
267
д'Эсте, Ипполит 0—1, 502; II, 11, 15, 51
д'Эсте —семейство —I, 432—433; II, 24, 50, 150, 239
«Этика» А р и с т о т е л я — I, 94, 163
«Эттор'е Фьерамоска» М. д'Адзелио — II, 545
«Эфебии» Л. Б. Альберти —I, 478
Ювенал — I, 249, 494
«Юдифь» Г. К ь я б р е р ы — II, 253
«Юлия» Л. Ариосто — II, 7
Юм, Давид —И, 407
Юнг, Эдвард— II, 452
Яго —персонаж В. Шекспира —II, 122, 435
Якопо да Лентино—I, 21—22, 39. Манера писать вычурно гра-
ничит с экстравагантностью в сонетах Я. (I, 22). Он доходит
до совершенно нелепой, фальшивой и аффектированной ма-
неры выражения (I, 23). У него в сонетах безвкусные ухищ-
рения (I, 39)
Якопо Ортис — персонаж У. Фосколо — II, 506—507
Якопоне да Тоди —1, 40, 41—52, 55, 134, 173. Его стихи зна-
менуют собой новое направление в нашей литературе —I, 41
Ярба — персонаж П, Метастазио— II, 429, 435
Подготовил и перевел Ю. П. Уварову
Оглавление
XIII. „Неистовый Орландо'. Перев. Елиной И. Г. 5
XIV. Макароническая поэзия. Перев. Завьяловой Л. М. 53
XV. Макиавелли. Перев. Добровольской Ю. А. 70
XVI. Пьетро Аретино. Перев. Завьяловой Л. М. ■ 147
XVII. Торквато Тассо. Перев. Завьяловой Л. М 176
XVIII. Марино. Перев. Завьяловой Л. М 230
XIX. Новая наука. Перев. Потаповой 3. М 278
XX. Новая литература. Перев. Потаповой 3. М 412
Франческо Де Санктис и его „История итальянской литера-
туры. Д. В. Михальчи и М. Ф. Овсянников 559
Библиография Д. Е. Михальчи 588
Комментированный указатель имен и названий 592
Де Санктис .
ИСТОРИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Редактор С. Д. Комаров. Художник И. А. Литвашко
Художественный редактор Б. И. Астафьев
Технический редактор Л. М. Харьковская
Сдано в производство 27/VI 1963 г. Подписано к печати 25/VII 1964 г.
Бумага 84x108782 = 10,20 бум. л. 33,5 печ. л., в т/ч вкл. 2. Уч.-изд. л. 37,2.
Изд. № 13/0731. Цена 2 р. 44 к. Заказ 452.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
Зубовский бульвар, 21
Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой
«Главполиграфпрома» Государственного комитета Совета Министров СССР
по печати. Измайловский проспект, 29
ш%