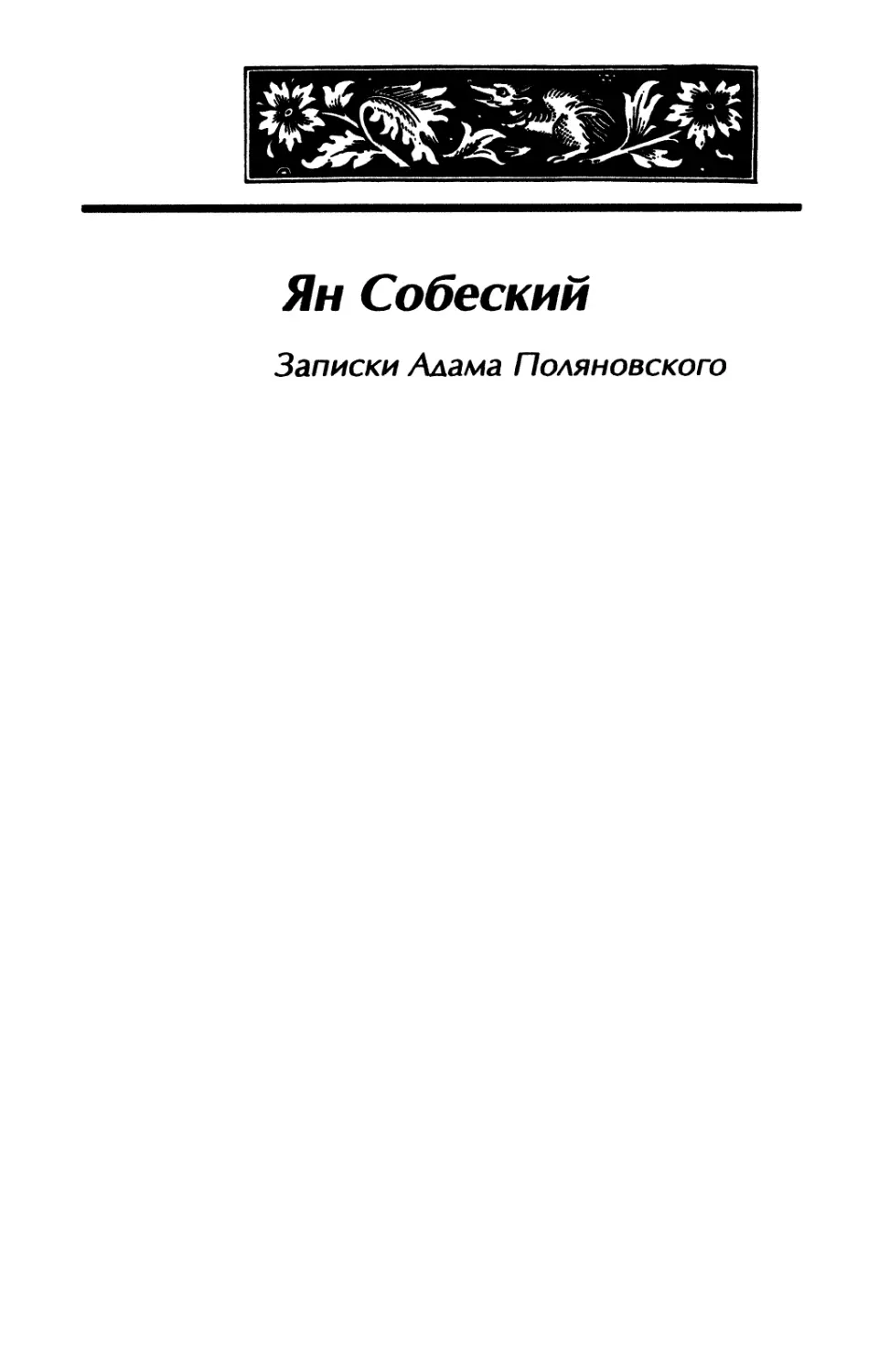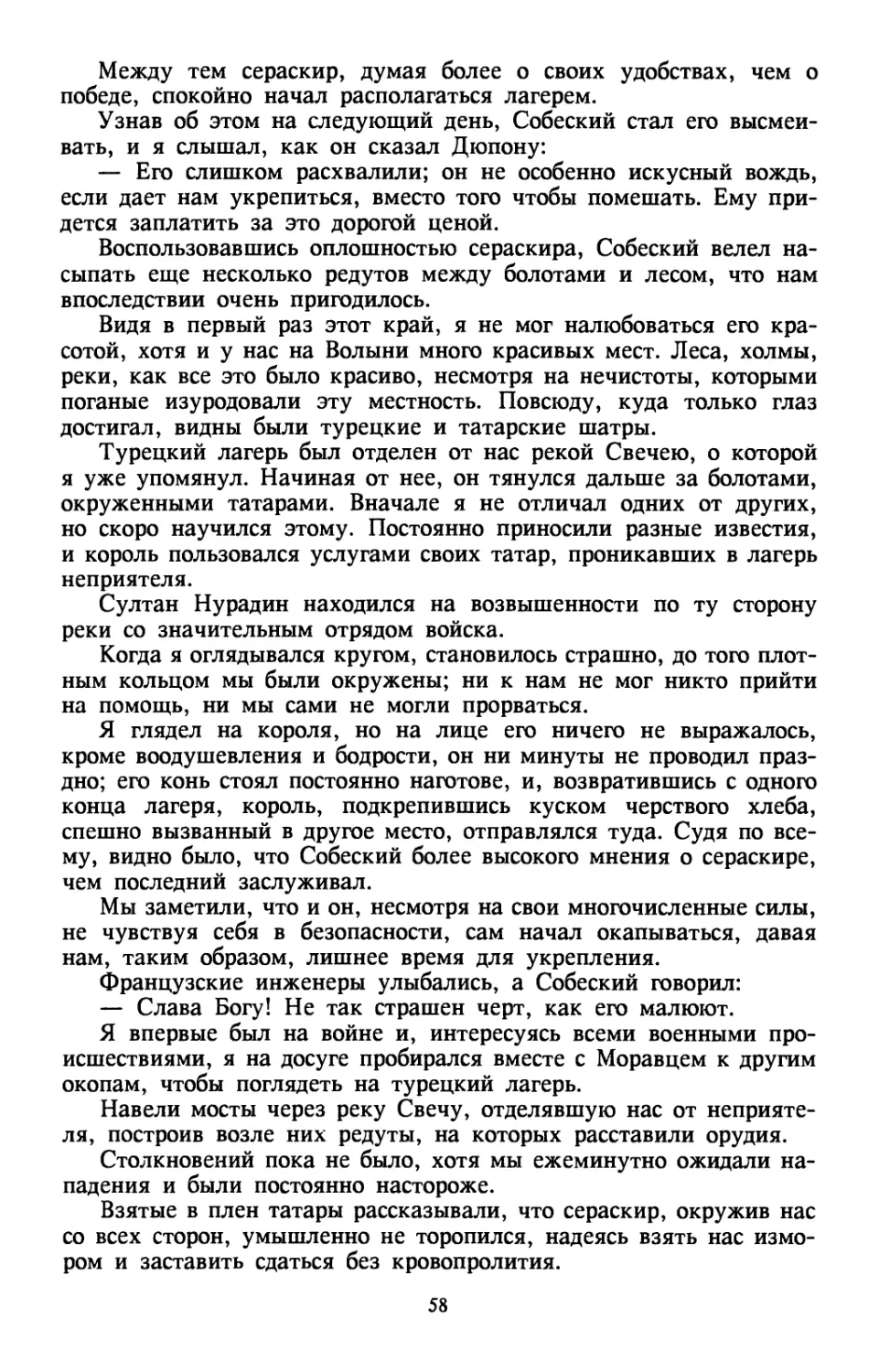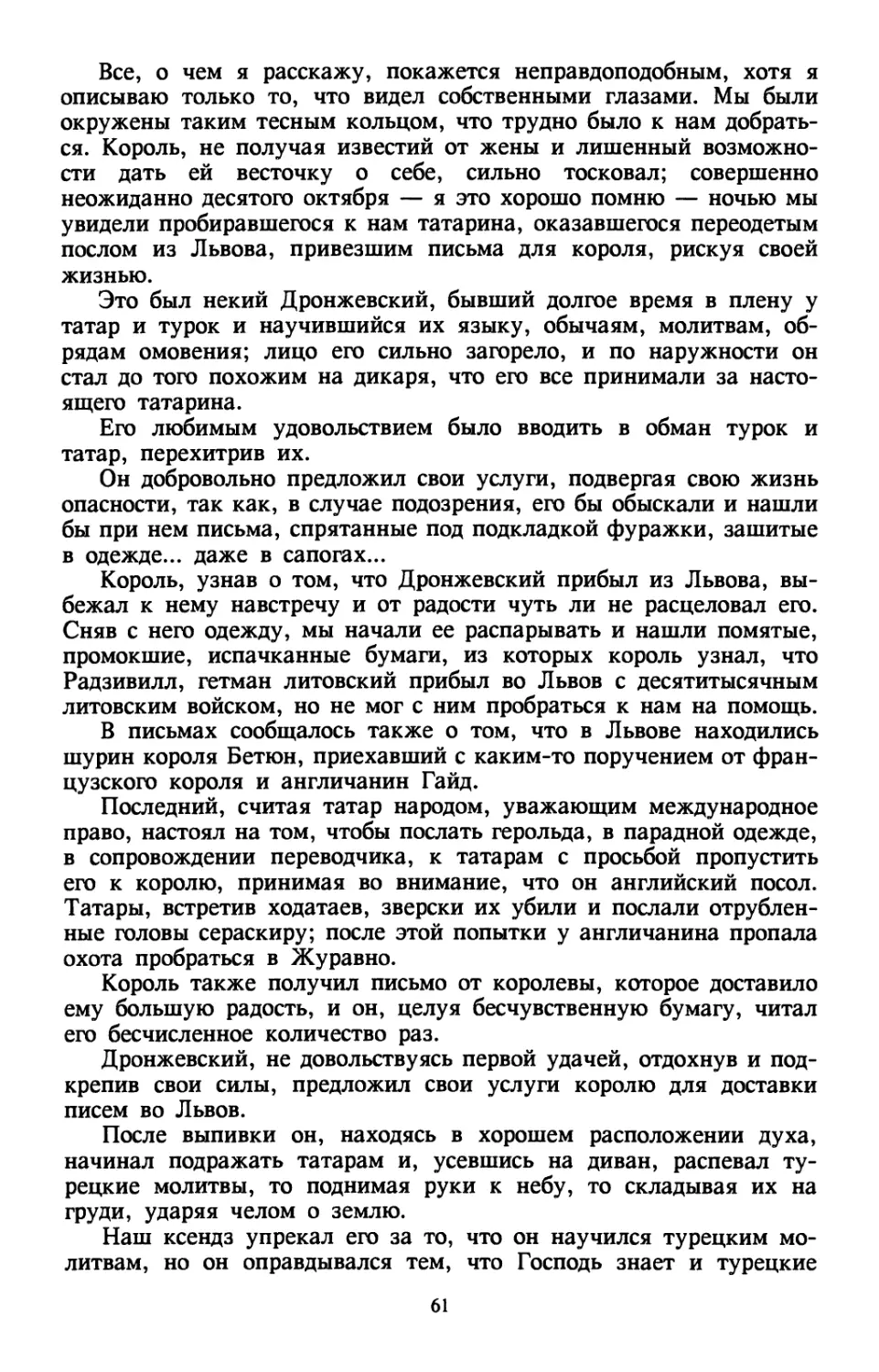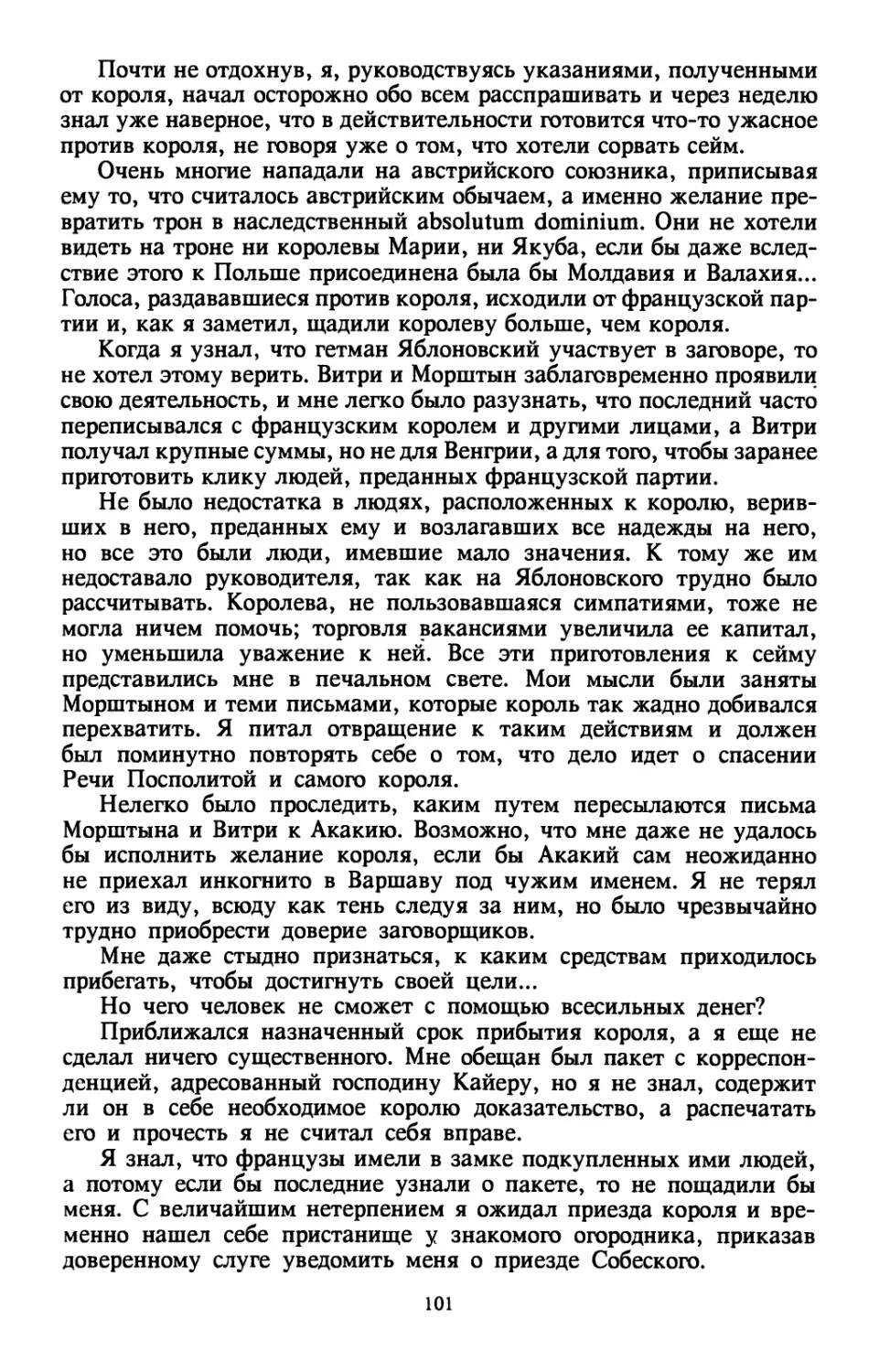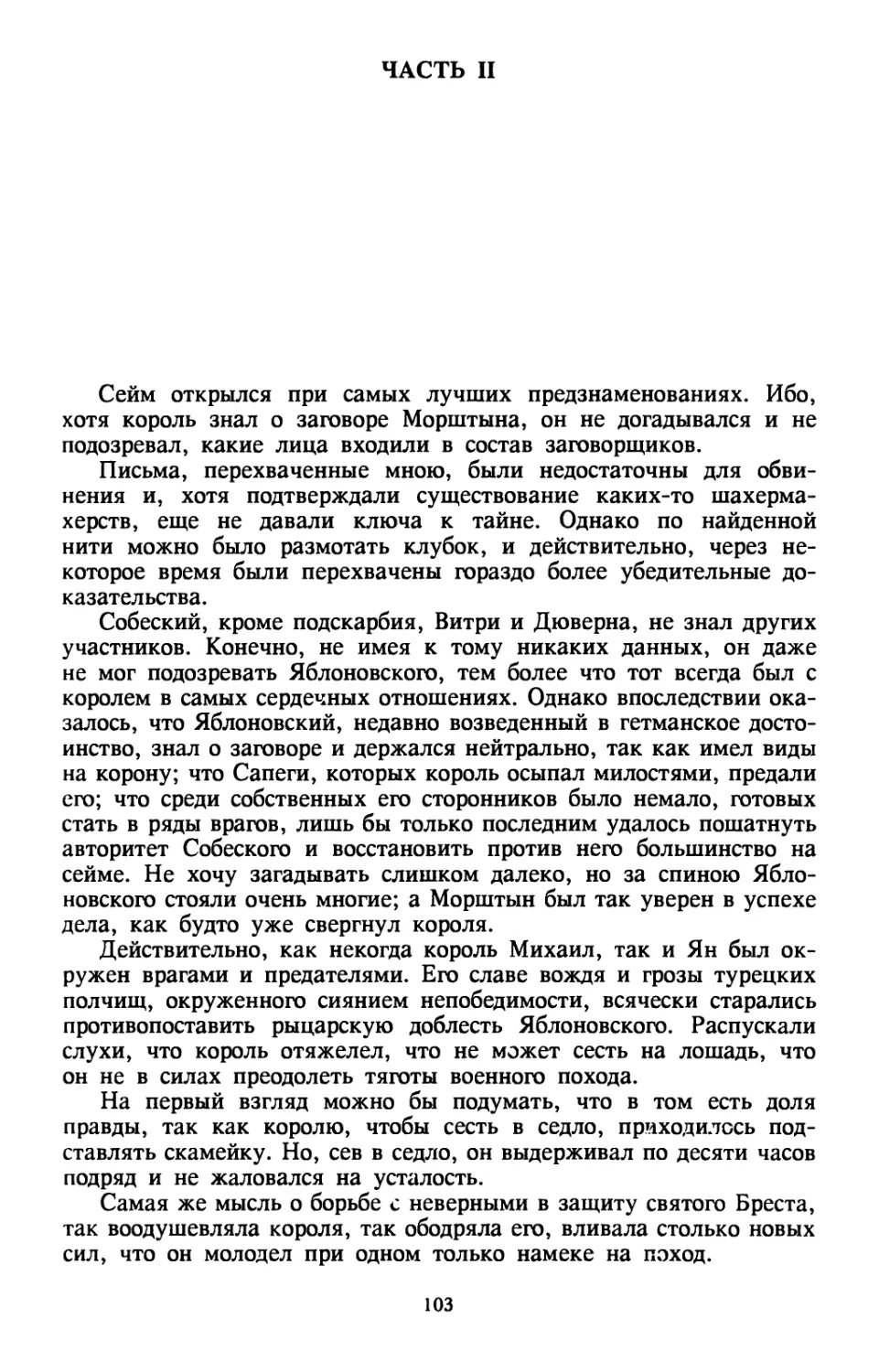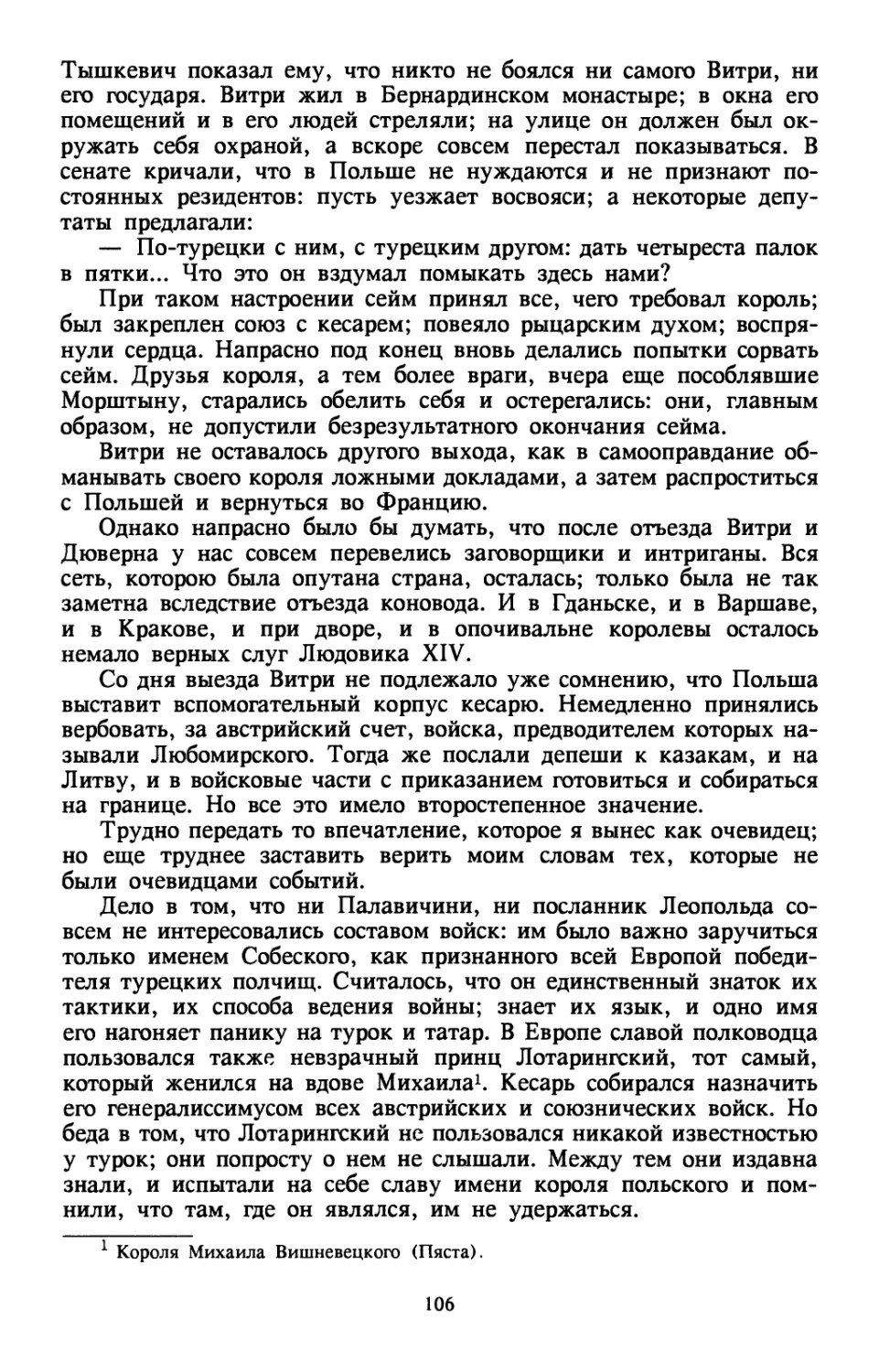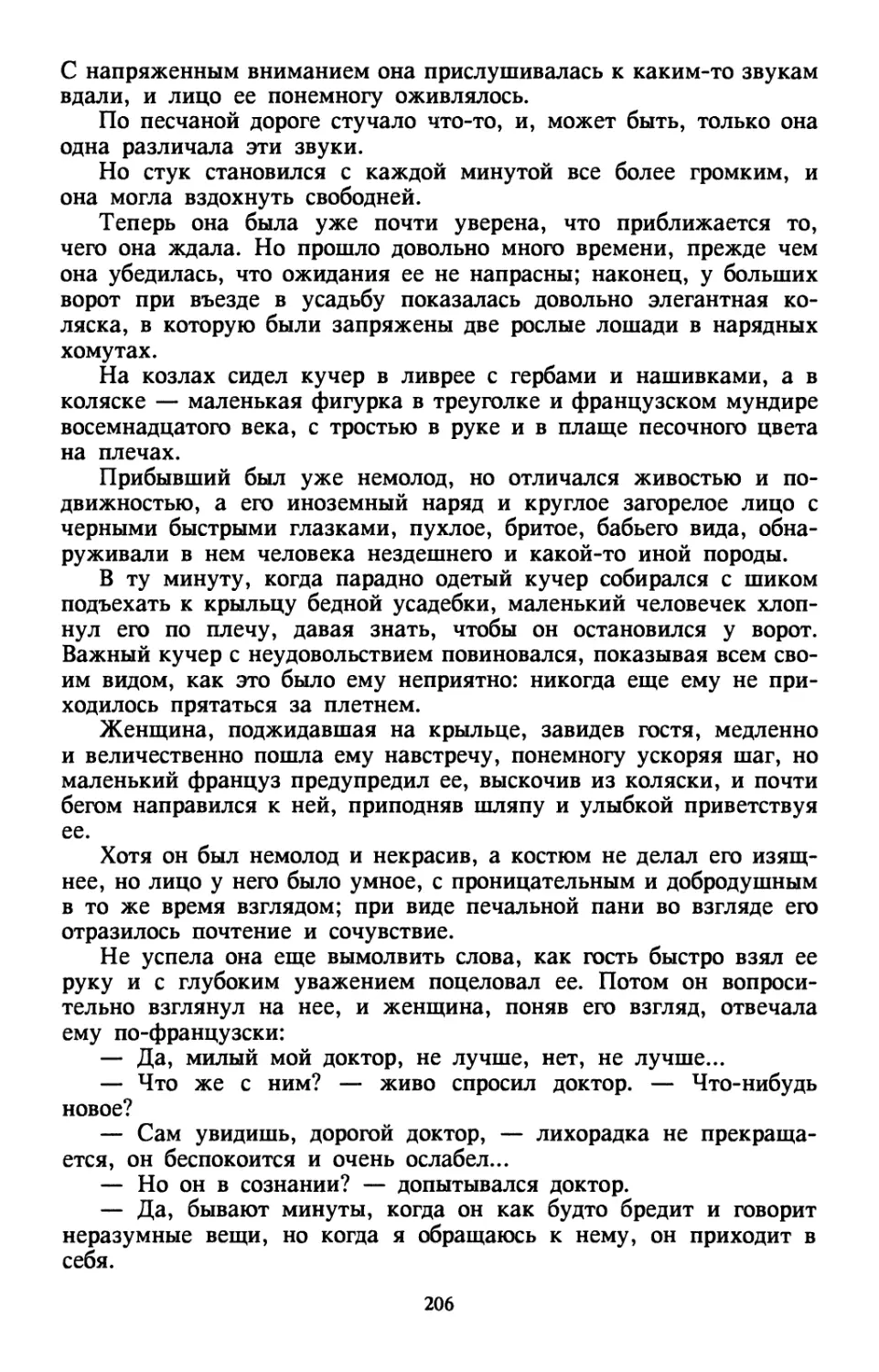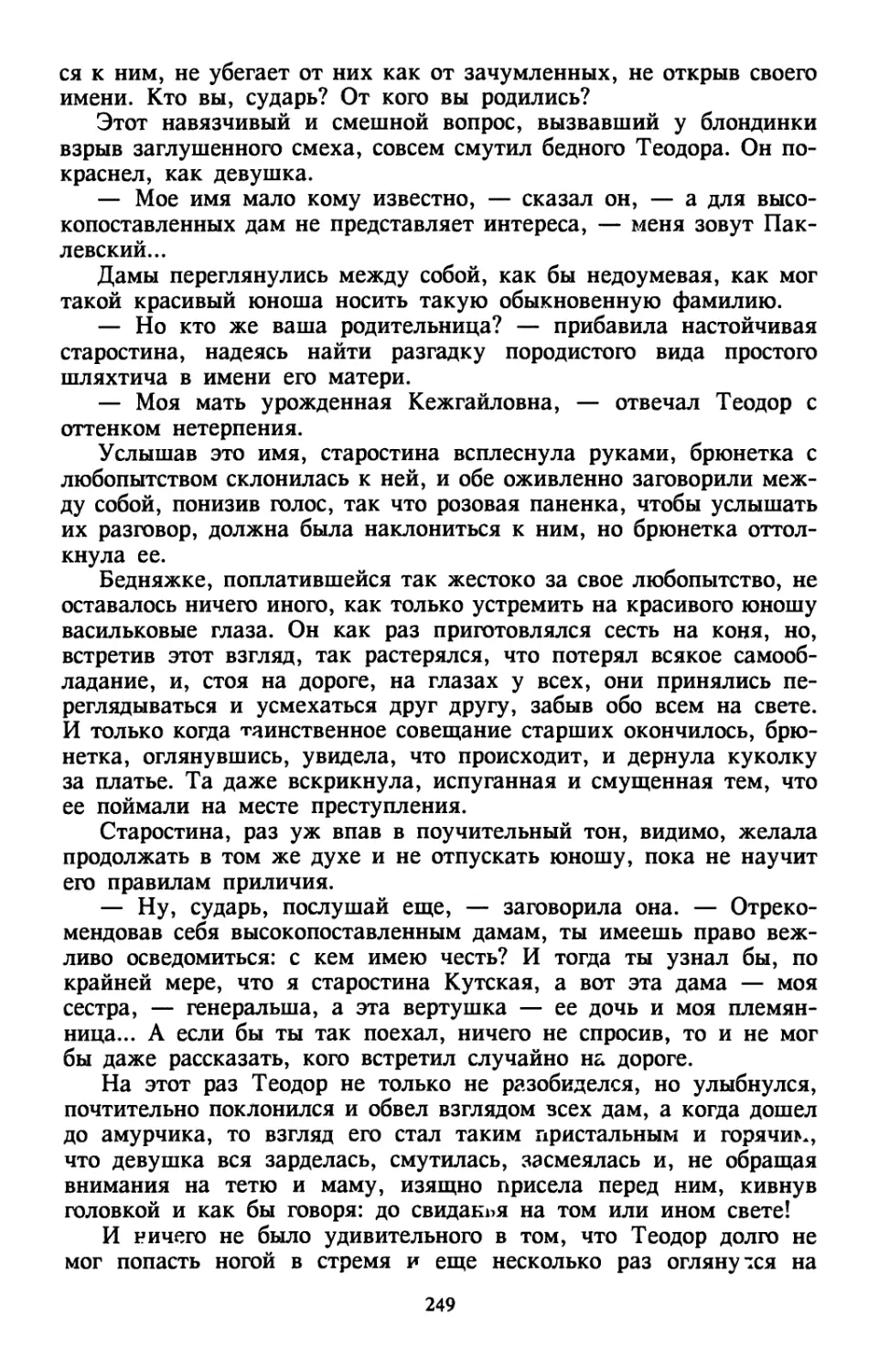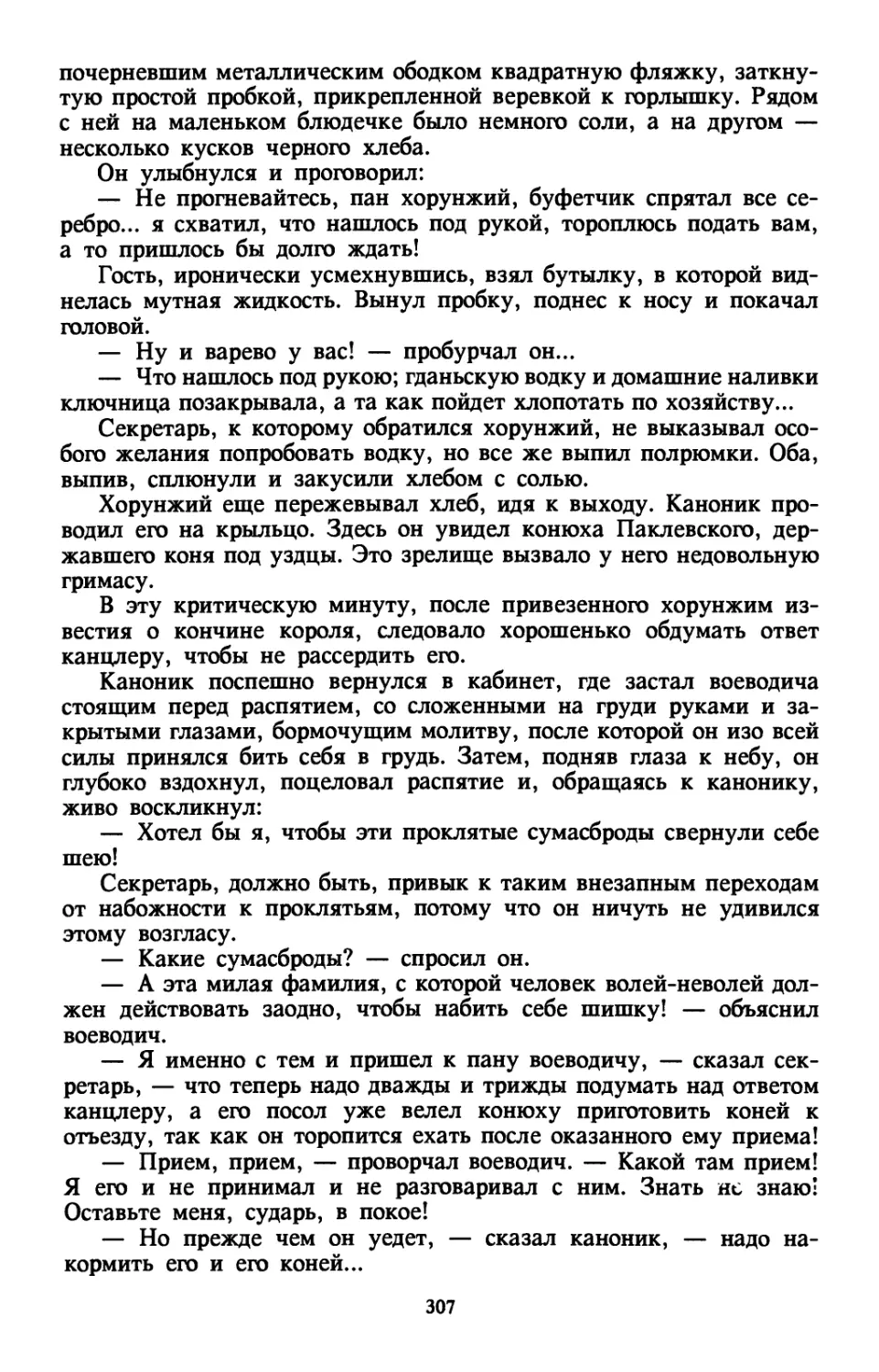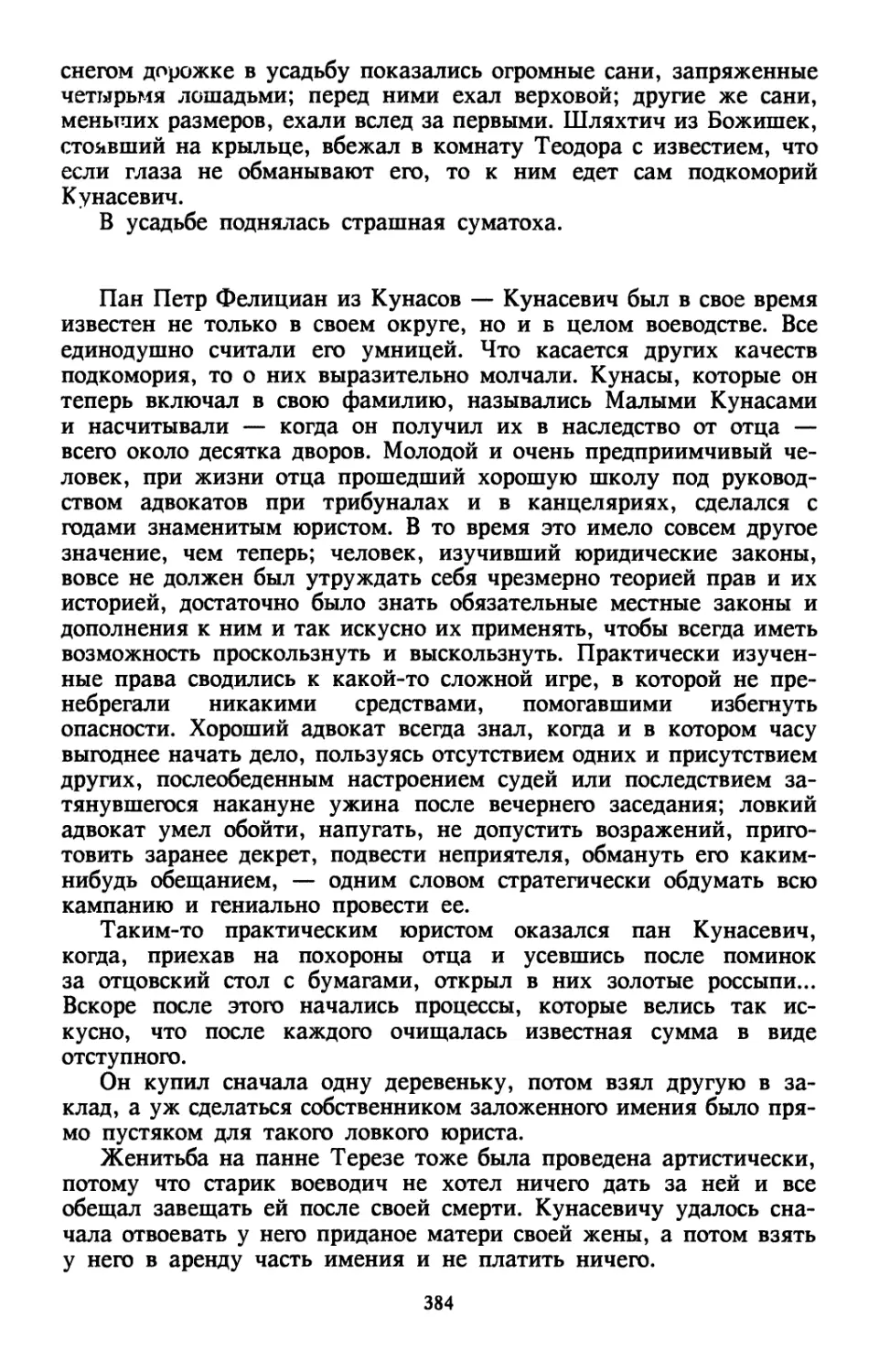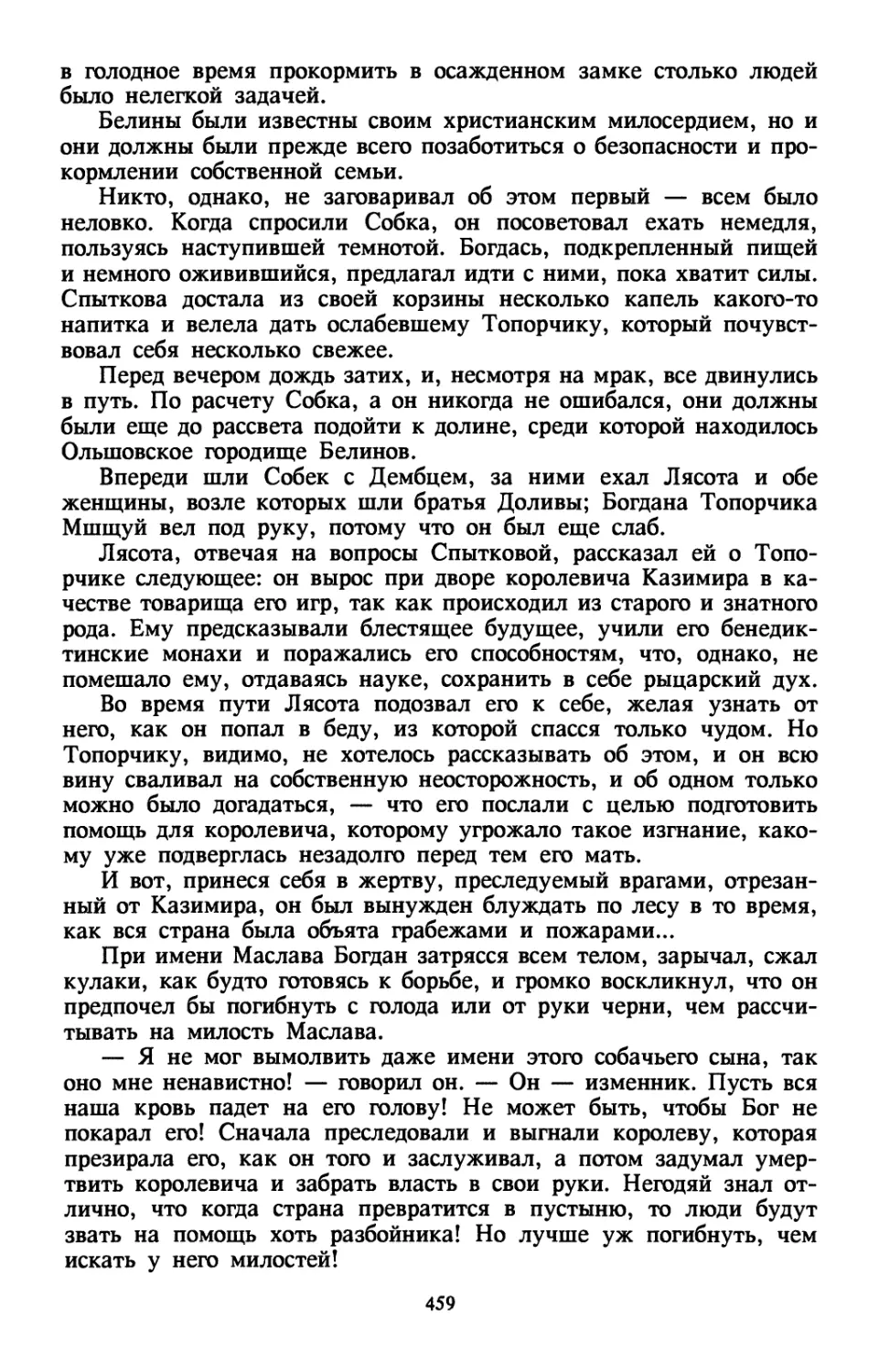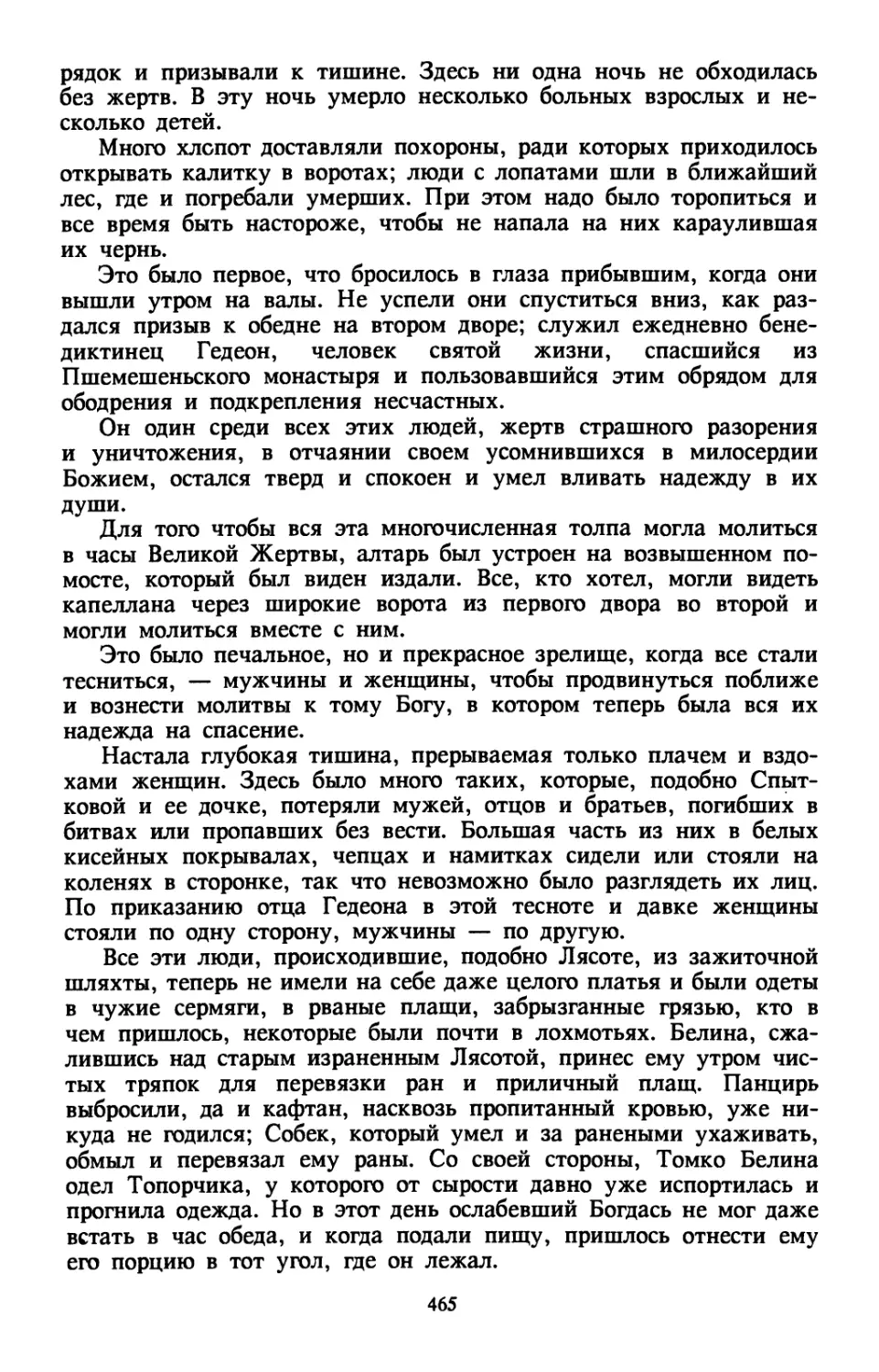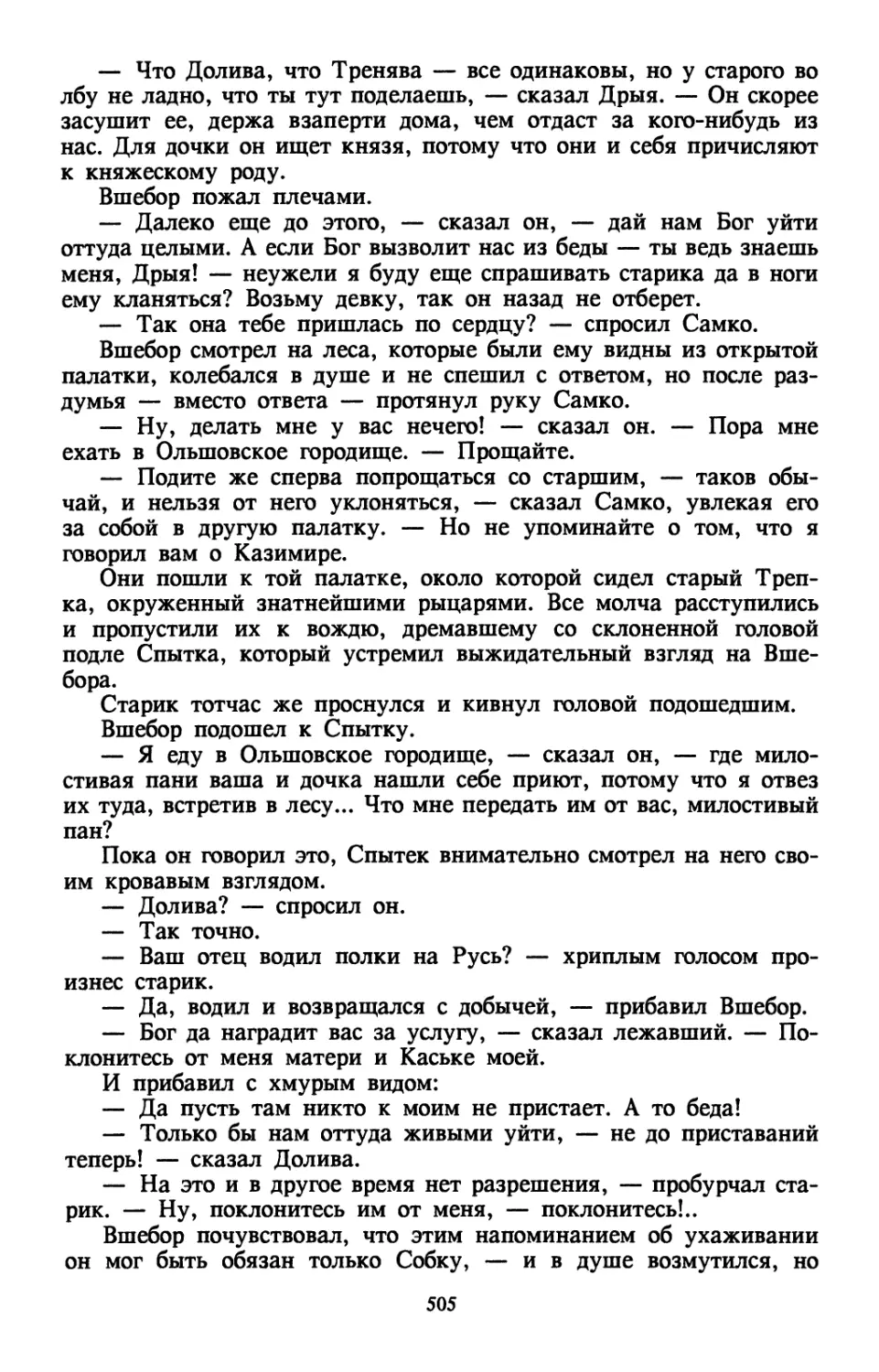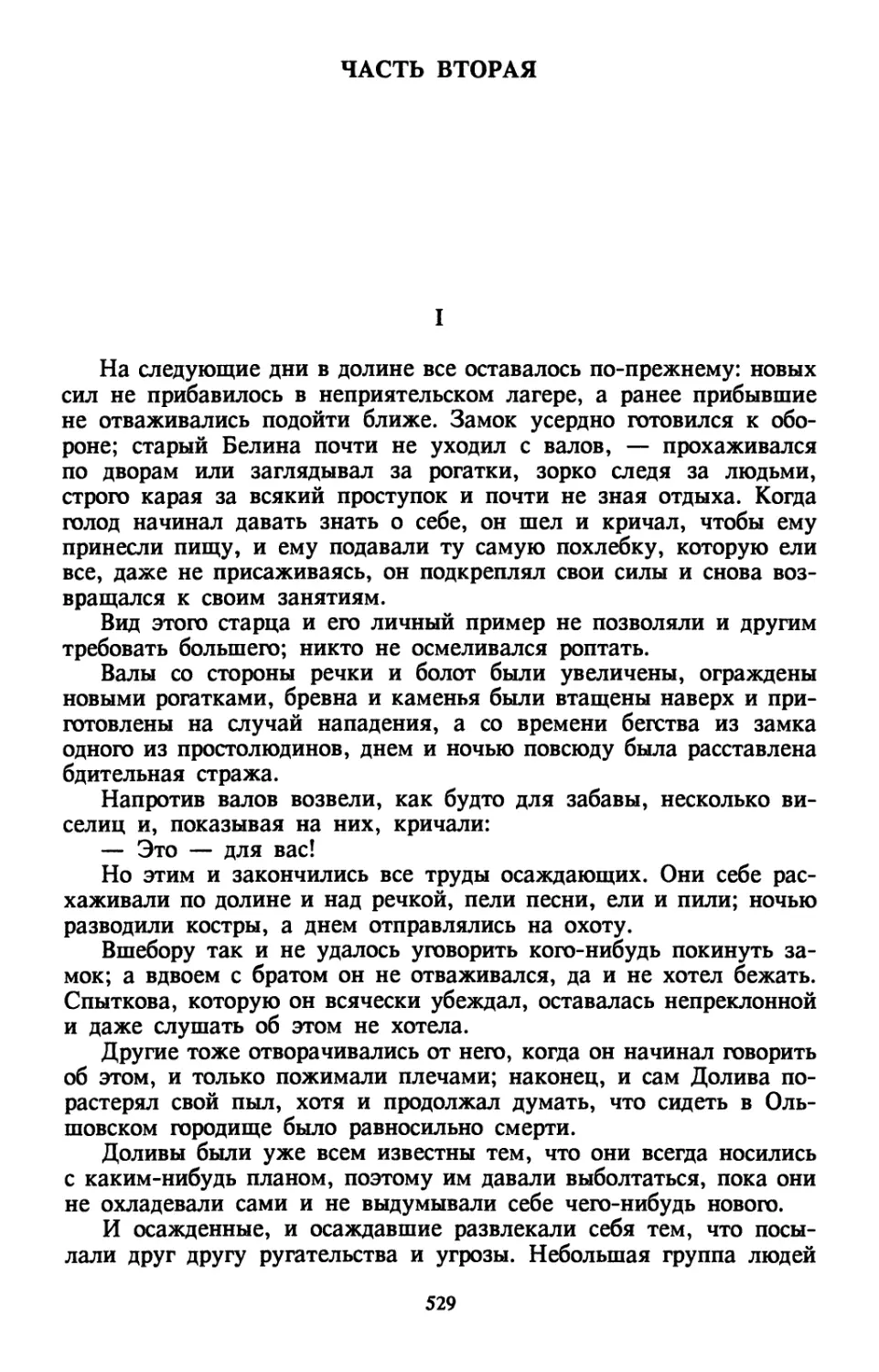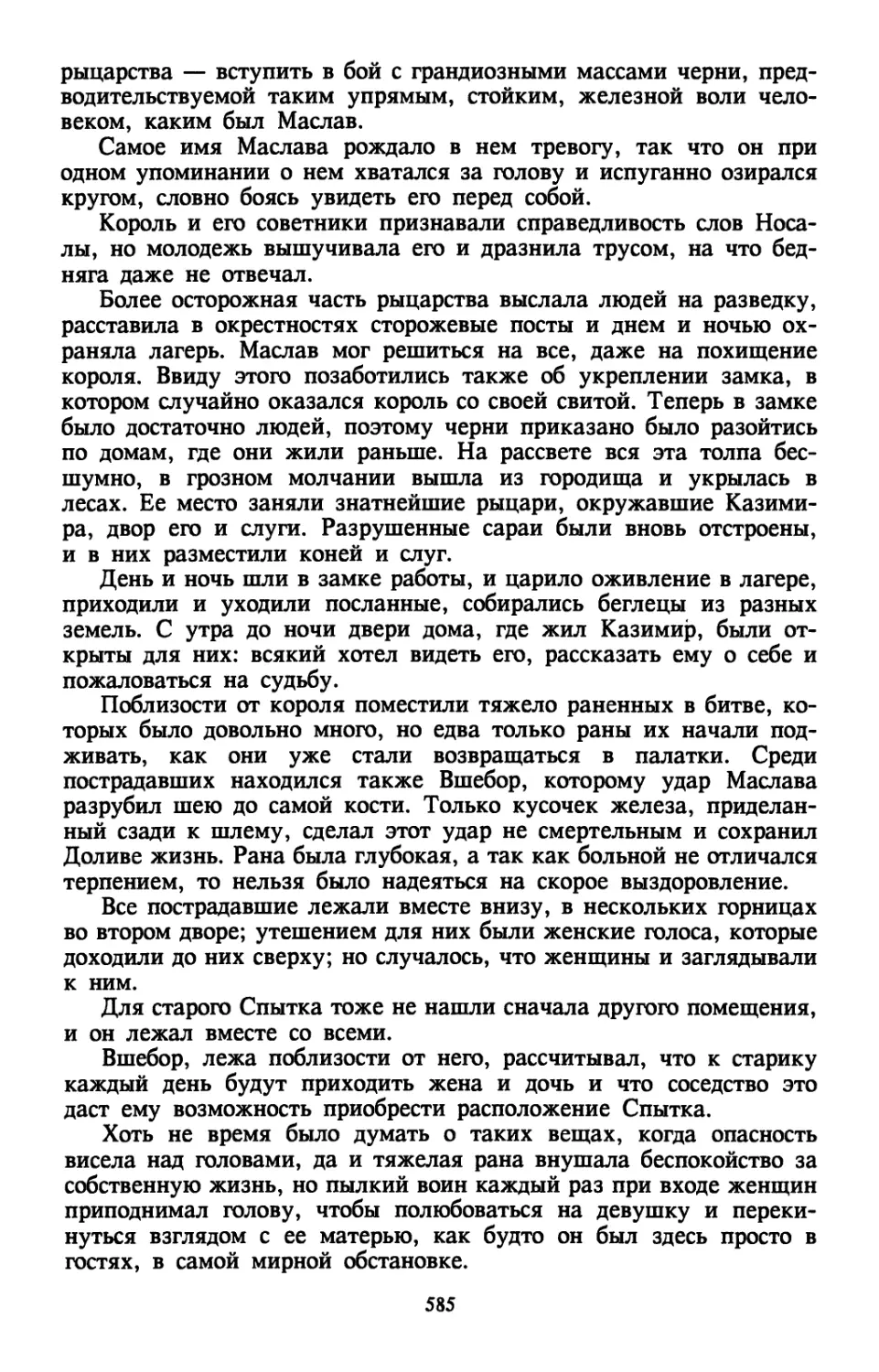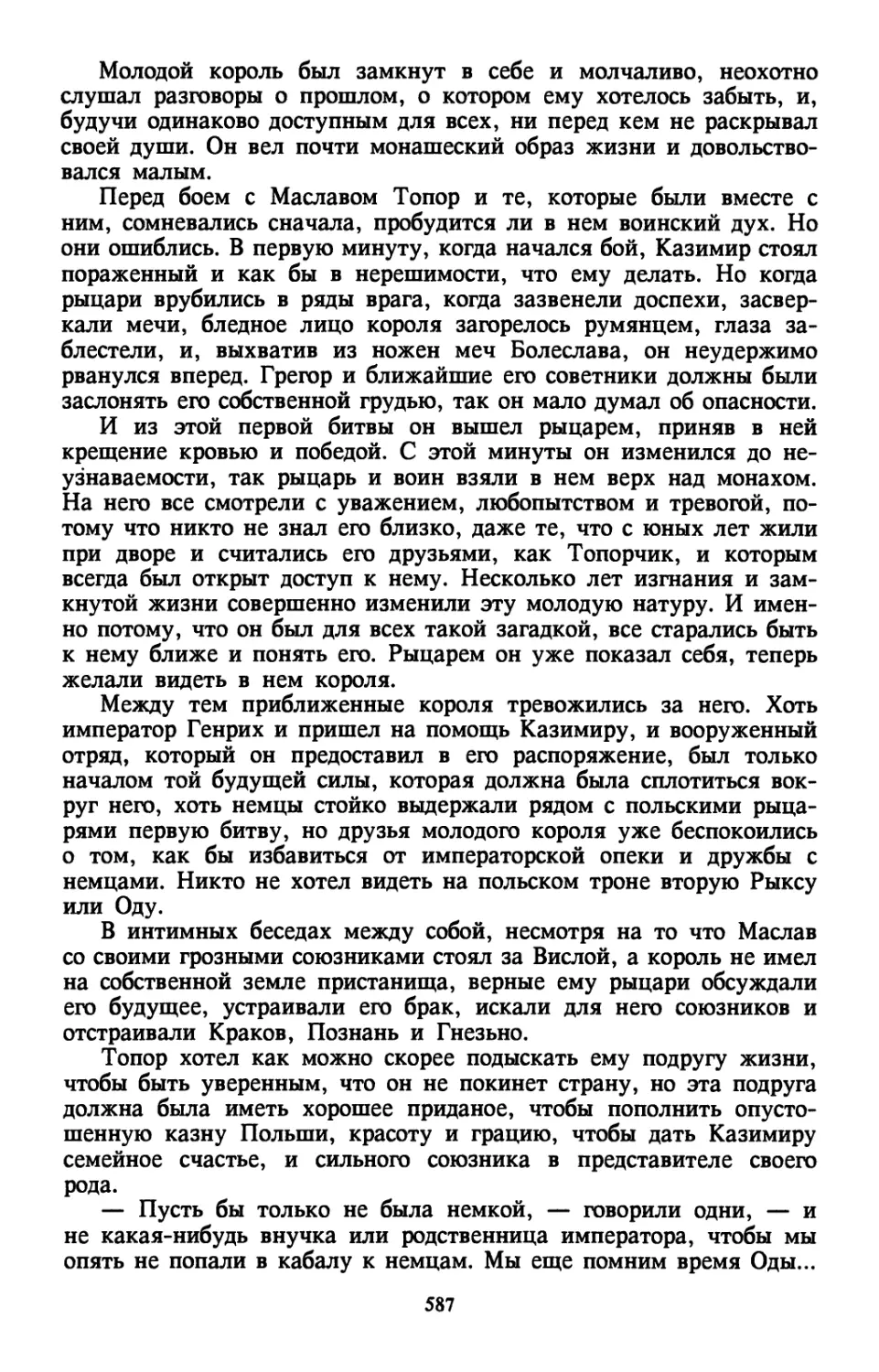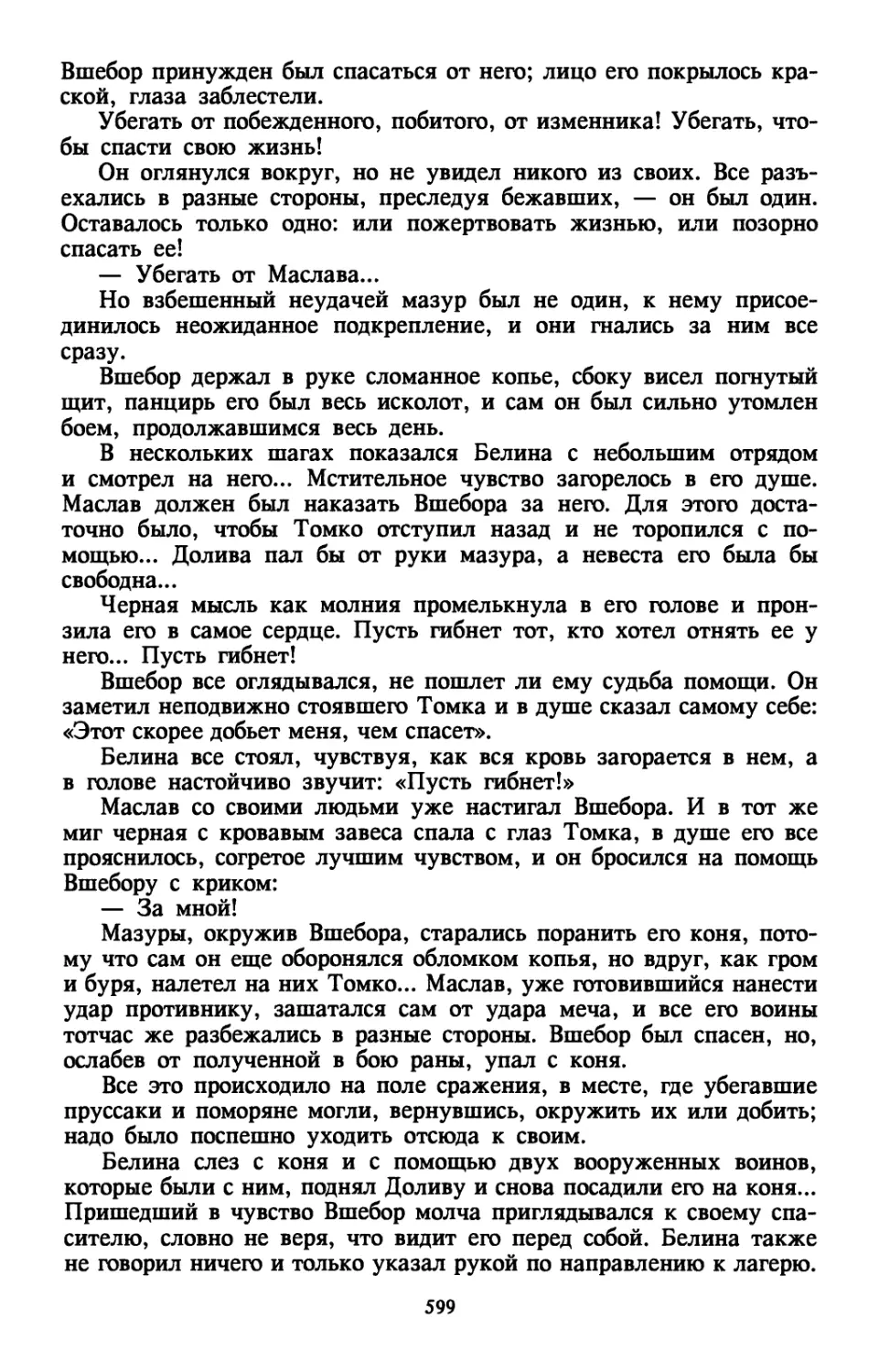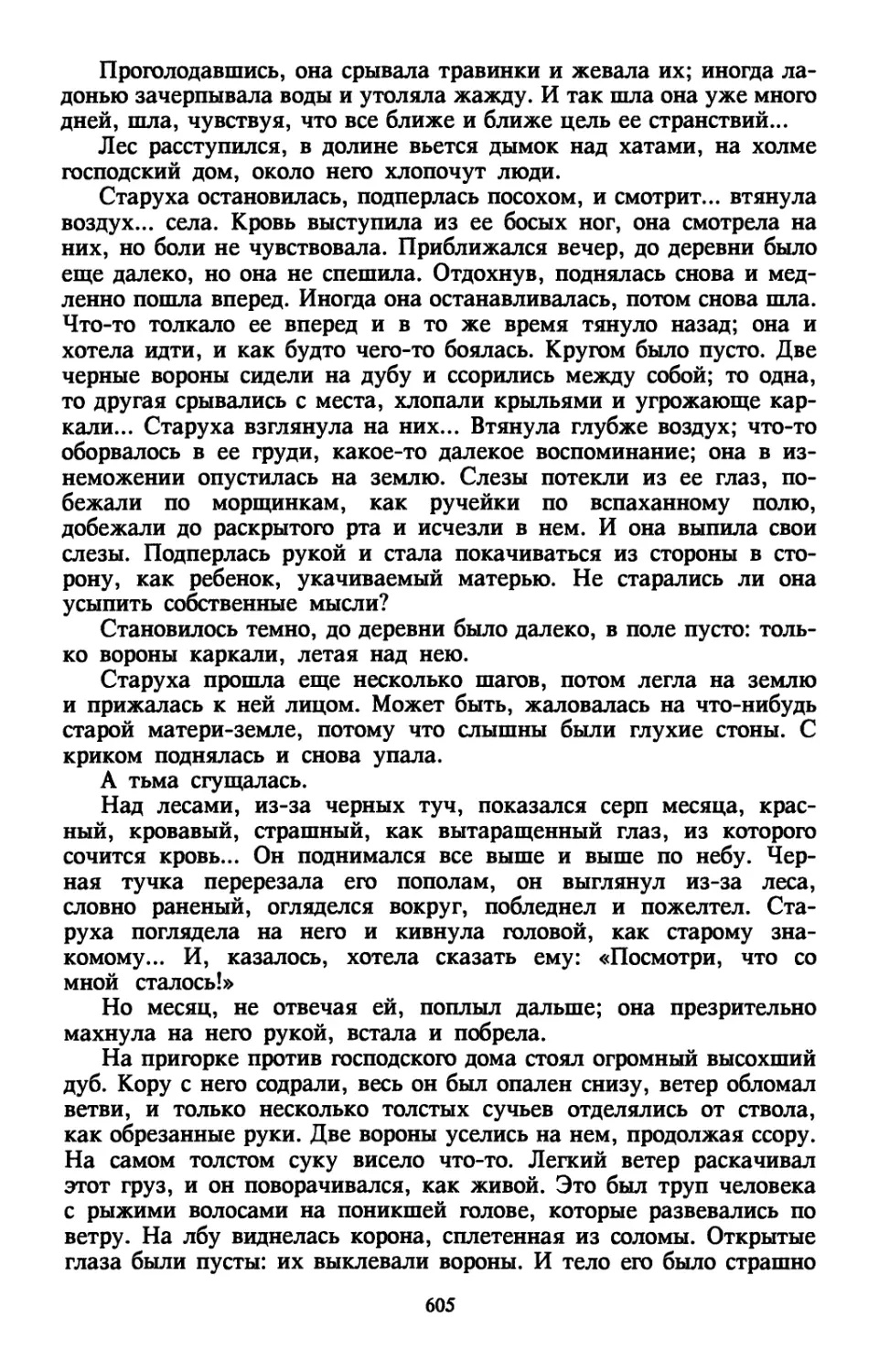Автор: Крашевский Ю.
Теги: художественная литература романы исторический роман предтеча польский реализм
ISBN: 5-300-00413-8
Год: 1996
Текст
ЮЗЕФ ИГНАЦЫ
КРАШЕВСКИИ
V X VV >
Scan Kreyder - 02.04.2018 - STERLITAMAK
ш
Собрание сочинений в лесяти томах
Ю з е ф И г н а ц ы в
КРАШВСКИИ
ТОМ ПЯТЫЙ
Ян Собеский
Записки Адама Поляновского
Гетманские грехи
Роман
Маслав
Роман
Перевод с польского
Москва
«ТЕРРА»—«TERRA»
1996
ББК 84.4П
К 78
Оформление художника
Р. АЮПОВОЙ
КрашевскнйЮ.
К 78 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 5: Ян Собеский; Гетманские
грехи; Маслав: Романы / Пер. с польск.— М.: ТЕРРА, 1996.—
624 с.— (Библиотека исторической прозы).
ISBN 5-300-00413-8 (т. 5)
ISBN 5-300-00395-6
Польский писатель Юзеф Игнацы Крашевский (1812—1887) известен как
крупный, талантливый исторический романист, предтеча и наставник
польского реализма.
В пятый том Собрания сочинений вошли романы «Ян Собеский (Записки
Адама Поляновского)», «Гетманские грехи» и «Маслав».
Подпп€ное ББК84.4П
ISBN 5-300-00413-S (т. 5)
ISBN 5-300-00395-6 О Издательский центр «ТЕРРА», 1996
Ян Собеский
Записки Алама Поляновского
ЧАСТЬ I
— Vade retro, satanas!
Отойди от меня, сатана!..
Прочь от меня, искуситель! Тебе мало, что я так исстрадался
за всю свою жизнь, и ты хочешь еще, чтобы я ради твоего
удовольствия и к моему стыду, своею исповедью вторично добровольно
пережил все муки прошлого.
Я всегда был и казался счастливым человеком — хоть есть
нечего, да весело — или, по крайней мере, таким, которого
несчастье никогда не коснулось; поэтому тебе кажется, что моя жизнь
была сплошь усеяна розами, и ты с удовольствием будешь читать
даже мои лживые сообщения. А почем ты знаешь? А может быть,
у меня, когда я смеялся, сидела на груди та самая спартанская
лисица, которая раздирала мою грудь зубами? А была ли то лисица
или волк, догадайся сам.
Неужели ты думаешь, что легко и приятно вызывать
воспоминания и рассказывать о жизни, полной ошибок, за которые
пришлось расплачиваться? Наконец, ты, должно быть, полагаешь, что
я тебе, как на исповеди, выложу всю правду; но если я даже
захочу, то не сумею этого сделать, потому что самый правдивый
человек, рассказывая о себе, не может удержаться от лжи и быть
беспристрастным к самому себе, ибо gnoti se auton1 — невозможно.
Поэтому, зачем писать биографию? Люди, подобно детям, из сказок
научаются немногому.
Я знаю, ты ответишь мне, что не нуждаешься в биографии
такой малозначущей личности, но ты желаешь лишь услышать от
меня о виденном et quorum pars parva fur2.
Это уже другое дело. Ответь мне прежде всего на мой вопрос:
может ли человек, видевший только чей-нибудь сапог, нарисовать
портрет его владельца? Мне лично в моей жизни приходилось часто
ограничиваться наблюдением таких исторических сапог.
Нужен особый дар, безграничная смелость и полное
бесстыдство, чтобы судить о людях по таким незначительным данным.
1 Познать самого себя (лат.).
2 В котором была и доля моего участия (лат.).
Всеми твоими требованиями ты, мой Иордан, подверг меня
мучительному искушению, и мне захотелось теперь писать о своем
прошлом, хоть внутренний голос подсказывает, что я слишком
самоуверен, желая казаться лучше других... И почему же я должен
быть лучше многих, оставивших после себя ad eterna memorum1
пустяковые воспоминания? К тому же мысль, что меня прочтут,
приятно щекочет самолюбие.
Итак, я не напишу ни биографии, ни исторического очерка, ни
другого шаблонного произведения; это будут лишь отрывки моих
воспоминаний, свободные от всякой формы.
Не требуй от меня ни красоты слога, ни умения ясно изложить
описываемые события. Я дам волю своему перу, вспомнив, как
бывало, сидя у камина за кружкой пива, не подбирая слов, я
изливал свою душу. Все свои воспоминания я изложу на бумаге,
и да простит тебе Господь, что ты меня к этому склонил.
Vale et me ama!2
1698 г. Адам Поляновский.
0 моих детских годах нечего писать, — дети в этом возрасте
похожи на молодой, пробивающийся из-под земли росток, по
которому трудно судить, чем он впоследствии окажется: салатом или
репейником. Помню только, что из-за чрезмерных проказ и
шалостей родители мне не раз предсказывали в будущем виселицу;
но, слава Богу, их опасения не оправдались, хотя я и был большим
сорванцом, и кровь во мне так кипела, что ни минуты не мог
усидеть спокойно.
Нас было трое: старший брат Михаил, мальчик послушный и
слишком благоразумный для своего возраста; младшая сестра Юлю-
ся, а между ними я.
Наша дорогая мать, мир ее праху, не была особенно строга ко
мне и часто говорила (хотя и не в моем присутствии) о том, что
молодость имеет свои права и должна перебеситься и перебродить,
подобно вину; поэтому она сквозь пальцы смотрела на мои
выходки, относясь к ним снисходительно в то время, как отец угрожал
розгами и строгими наказаниями. Шалости мои выражались в
преследовании птиц, по которым я стрелял из лука, в проделках при
рыбной ловле и верховой езде, и из этих экскурсий я часто
возвращался с шишками, синяками и царапинами.
Добровольно меня нельзя было засадить за букварь, за которым
брат мой Михаил с удовольствием проводил время, но когда меня,
к стыду моему, привязали веревкой к скамейке и велели учиться,
наука мне не показалась трудной.
К нам был приставлен специальный учитель, некий Клет
Цыганский, хоть и шляхтич, но, подобно цыгану, переезжавший из
1 На вечную память (лат.).
2 Будь здоров и люби меня (лат.).
одного поместья в другое, то учительствуя, то находясь в
услужении у помещиков, то живя при костелах на счет приходской
благотворительности, долго не засиживаясь на одном месте. Человек
этот отличался и своим наружным видом: высокий, худой, с
лоснящейся кожей, с большущей лысиной, вокруг которой торчало
несколько волос, с большими, отвислыми губами, с блестящими
кошачьими глазами; одет он был бедно и не отличался особенной
чистоплотностью, но зато по уму и красноречию не уступил бы
любому государственному деятелю.
О нем говорили, что он настолько был любознателен, что
прочитывал каждую попадавшуюся ему в руки книжку. Для него не
представляло никакой трудности написать по заказу речь на какую
угодно тему, за что ему давали деньги и нередко кормили и поили.
Он легко мог бы скопить себе деньжонок, но, как поговаривали,
втихомолку выпивал и, будучи навеселе, сорил деньгами, раздавая
их кому попало.
Я пользовался любовью Цыганского, хотя Михаил был
прилежнее и благоразумнее меня. Случалось, что он и за уши отдерет
или за вихор оттаскает, но особенно сильно он никогда не сердился
и часто скрывал от родителей мои проступки.
Старшему брату Михаилу он предсказывал пострижение в
духовный сан, и пророчество его сбылось, так как впоследствии брат
нашей матери, отец Ян, поместил его для искуса в монастырь в
Люблине, где он и остался, несмотря на протесты отца.
Из рук Цыганского я перешел в низшую школу в Луцке, а
оттуда вместе с Михаилом в Люблин под опеку к нашему дяде,
отцу Яну, жившему там и занимавшему почетное положение в
монашеском ордене.
Мягкий, добрый, флегматичный Михаил, привязавшись к отцу
Яну и приспособившись к монастырской жизни, так и остался там,
посвятив себя служению Богу; мне же предстоял совсем иной
жизненный путь.
Я учился неплохо, хотя и не добивался пальмы первенства,
по-прежнему увлекался всякими шалостями и проказами. К
счастью, принимая во внимание мой горячий темперамент, который
трудно было обуздать, меня ни разу не подвергли телесному
наказанию, которого я бы не перенес; за то очень часто приходилось
просиживать в карцере.
Когда, наконец, Михаил настоял на своем и принял духовный
сан, мне пришлось готовиться к управлению поместьем, а также
к военной службе, так как каждый шляхтич должен был быть и
воином.
Все это меня не огорчало, потому что меня прельщала жизнь
в лагере, о которой я столько слышал, военные походы, участие в
сеймах и занятие сельским хозяйством.
Все это соответствовало моей буйной натуре. С детских лет я
обо всем этом слышал, ко всему присмотрелся, познакомился со
всеми обычаями и ими восхищался.
Еще до своего поступления в школу я умел драться на саблях,
ездил прекрасно верхом, а в стрельбе из лука или ружья никто
не мог меня превзойти. В те времена лук больше употреблялся
для парадов, чем для битв, но тем не менее стрельба из лука и
метание охотничьих копий были как бы пережитками древних
времен, сохранившихся в Польше.
Я помню, как не жалели средств на колчаны, в которых носили
оперенные стрелы, а также на украшенные щиты, хотя последние
употреблялись только для виду.
Нередко такой колчан был сплошь усеян жемчугом,
драгоценными камнями, золотым шитьем и стоил несколько сот злотых;
точно так же и щиты, носимые оруженосцами или самим
владетелем, были разрисованы, позолочены и употреблялись только как
украшение.
У себя дома шляхтич не обращал внимания на свой костюм и
носил парусиновый кафтан и простые сапоги, но даже самый
бедный имел от своего деда и прадеда богатую одежду для
употребления на случай какого-нибудь торжества. От одного поколения к
другому передавались меха, парча, пояса и плащи. Только в мое
время, когда начали перенимать чужеземные обычаи, постепенно
перестали так уродливо одеваться и старались сбыть все
драгоценные воспоминания старины. При этом оставшиеся верными старым
обычаям не раз возмущались против перенявших французские и
немецкие нравы.
К концу своей школьной жизни я горел страстным желанием
вырваться на свободу и выйти в свет. Но мне нельзя было
располагать самим собою, а надо было повиноваться родителям. Если
случалось, что какой-нибудь нетерпеливый смельчак вырывался из
дому, то для него возврата не было; режим был строгий, и нередко
юноша с пушком на губах подвергался отцом телесному наказанию,
за что еще должен был целовать покаравшую его руку.
Незадолго до окончания школы отец мой, возвратившись домой
усталый и взволнованный после пребывания на сейме в Луцке,
слег и больше не поднялся с постели.
Когда уже не было никакой надежды на сохранение его жизни,
меня с Михаилом вызвали из Люблина, и мы ехали день и ночь,
чтобы принять последнее отцовское благословение, но не застали
его в живых.
Мы его похоронили в Луцке на кладбище доминиканского
монастыря и не мало потратились на поминки и угощенья в столовой
монастыря, устроенные под моим руководством, так как Михаил
как клирик не хотел этим заняться. Пробыв несколько дней дома
с матерью, мы должны были возвратиться в Люблин, Михаил в
монастырь, а я обратно в школу, бросить которую мать мне не
позволила.
С сокрушенным сердцем, но с большим мужеством мать
принялась за дела и за хозяйство, не забывая о воспитании Юлюси,
которым сама занималась, успевая при этом все сделать вовремя.
Ю
Даже и в те времена не много было женщин такого закала,
как она. В ее жизни не было попусту потраченного времени; она
вставала вместе с петухами, и вслед за нею все принимались за
работу. Она лично за всем смотрела, не поручая своей работы
другим, и с самого утра была на ногах, не позволяя себе отдыха,
переходя от одной работы к другой.
Она руководила всем строем жизни, общими работами и
общими молитвами. Нередко, когда приезжал кто-нибудь в гости,
настоятель церкви или сборщик подаяния для бедных, ей приходилось
их принимать; но не успевали они уехать, как ее ждала какая-
нибудь работа, например присмотр за взвешиванием зерна, — и
таким образом проходил весь день.
Надо к этому еще прибавить, что мать моя занималась сама
всеми судебными делами, в которых тогда недостатка не было, так
как у каждого владельца были устаревшие тяжбы и в каждом
имении были спорные границы; но она была знакома с законами, и
не всякий юрист мог бы ее обойти.
Я помню, как тихо, спокойно она распределяла свою работу.
Если приезжал посторонний, она принимала его ласково, была
добра и мягка, хотя, в случае надобности, становилась строгой и
непоколебимой в своих решениях.
На летние каникулы я приехал один, так как Михаил, подобно
каждому монаху отрекаясь от света, должен был отречься и от
родни. Она меня встретила на крылечке со слезами в глазах, и я
с плачем приник к ее коленям, вспоминая о смерти отца.
В первые дни после приезда мать не заводила никакого
разговора о ее намерениях относительно меня, и, хотя мне очень
хотелось узнать ее решение, я не смел задавать вопросов.
К тому же я чувствовал себя дома как в раю и не особенно
торопился уехать. У меня было все, чего мне так недоставало в
городе: лошади, собаки, лес, обширные поля, милые соседи, с
которыми я возобновил знакомство, среди которых нашлись
сверстники и товарищи по школьной скамье.
Мать ни в чем меня не ограничивала, предупредив, что я могу
отдыхать и развлекаться, пока не начну новую жизнь, но какова
эта жизнь будет — она не сказала.
После отца осталось много верховых лошадей, охотничьих
собак, а также достаточно дворни для устройства увеселений, на
которые приглашали соседей; в числе их, помню, были Стецы и
Томашевские, бывшие приятели отца. Время тогда было суровое,
после несчастного царствования Яна Казимира последовало
царствование короля Михаила, когда всколыхнулась вся Речь Посполи-
тая, разделившись на различные лагери.
Из шляхты, избравшей короля, только маленькая горсточка
осталась при нем, другие же превратились в его противников, а
турецкие войска и казаки, делая набеги на границы, разоряли их,
и после понесенных поражений и Бучацских договоров надо было
ожидать еще худшего.
и
Но, откровенно говоря, в местностях, не подвергавшихся
действию неприятельского огня и меча, война никак не чувствовалась.
Случалось, что по соседству нападали казаки, грабили татары, но
шляхтич не трогался с места, предоставляя защиту наемным
войскам и отказываясь до конца от общих совместных действий против
неприятеля.
Одноглазый примас Пражмовский, могущественный противник
короля Михаила, вместе со своими приверженцами, отрицая
опасность войны и игнорируя неприятельские силы, отказывался помочь
королю деньгами и войском.
В то время, когда избранник шляхты еще сидел на своем
шатком троне, одни прочили на его место князя Лотарингского, другие
какого-то французского князька, а некоторые насильно выставляли
кандидатуру Нейбургского.
Шляхта, хотя и доказала свою силу, избрав наперекор
царедворцам убогого Михаила, горячо вступившись за него под Голем-
бами, но она скоро остыла и предоставила по-прежнему
верховодствовать сенаторам и вельможам.
В то время все эти события меня мало интересовали, но до
ушей моих доходили известия обо всем происходившем кругом.
Было ясно видно, что французская партия брала верх, несмотря
на то, что друзья Ракуского и австрийского дома были в большой
силе.
Со времени отречения от престола Яна Казимира под
влиянием уговоров французов, или, вернее, со времени смерти
Владислава IV, благодаря влиянию королевы Марии-Людвики,
обладавшей замечательным умом и энергией, французская партия
и ее приверженцы становились с каждым днем сильнее.
Французский король хотел использовать Польшу как союзницу против
венского кесаря, и над укреплением его с успехом работала Ма-
рия-Людвика.
Ракушан не любили и опасались их, подозревая, что они
посягают на Польшу и ее свободу, но и французы пользовались
любовью только тех, которые переняли их обычай, язык и покрой
одежды. Я помню, что и у нас, и в провинции, при виде какого-
нибудь пана с париком на голове, в наряде, украшенном лентами
и кружевами, сбегались на него смотреть, как на заморское
чудовище. Кругом таких типов раздавался хохот, и к ним питали такое
отвращение, что иногда, случалось, стреляли в них, спрятавшись
за забором.
Могло казаться, что после смерти королевы прекратится ее
влияние и влияние французов, но в действительности произошло
иначе. Мария-Людвика привезла с собою из Франции много молодых,
красивых француженок знатного происхождения, выдав их замуж
за Пацов и Замойских.
Между ними первое место занимала красавица, любимица
королевы, привезенная Марией-Людвикой еще ребенком, и злые
языки втихомолку поговаривали, что эта любимая воспитанница
12
приходится королеве более близким существом, чем это казалось.
Звали ее Мария де ля Гранж д'Аркиен; она происходила из
благородной, но бедной семьи и была в действительности лишь
воспитанницей бездетной тогда королевы.
Кроме нее были еще m-lle де Майль, впоследствии жена
канцлера Паца, и много других, принадлежавших к свите королевы
и вышедших замуж за именитых людей.
Все они остались верны традициям покойной Марии-Людвики
и сделали мужей своих приверженцами французской партии;
достичь этого было нетрудно, так как Франция прельщала деньгами
и заманчивыми обещаниями.
Я уже вспоминал о Марии де ля Гранж. Еще будучи ребенком,
она привлекала взоры всех своей красотой и выросла такой
красавицей, что из-за нее с ума сходили, а в особенности попал в ее
силки молодой Собеский, хороший воин, но человек легко
увлекавшийся и с горячим темпераментом.
Но в то время Собеский был для нее слишком незначительным
человеком, к тому же и сама королева старалась возможно дороже
продать эту женщину.
Хотя молодой девушке и нравился красивый, сердечный и
милый Собеский, но алчность и честолюбие одержали верх над
любовью, и ее выдали за старого Замойского.
Какова была их семейная жизнь догадаться легко. К этой
необычайно красивой женщине можно применить поговорку «не все
то золото, что блестит», так как часто спутником женской красоты
является жестокость и холодная расчетливость.
Избалованная с детских лет всеобщим поклонением,
самолюбивая, честолюбивая, достойная воспитанница Марии-Людвики,
красавица стала такой жестокой, что подобную ей трудно было найти
в Польше.
После смерти старого Замойского она отдала свою руку Собе-
скому, своему прежнему возлюбленному и рабу, которого в то
время, благодаря его мужеству, уму и энергии, ожидала блестящая
будущность, звание маршалка и гетманская булава.
Мне кажется, что далее этого не могли идти честолюбивые
желания вдовы Замойского.
Я распространился о ней не без некоторого основания, так как
она имела влияние и на мою судьбу, хотя за время царствования
Михаила нельзя было предвидеть того, что случилось впоследствии,
и мне придется неоднократно к ней возвращаться.
Наша семья Поляновских, происходившая из старинного
шляхетского рыцарского рода, была рассеяна по всей Польше, в Руси
и на Литве. Отец наш был последним отпрыском ветви, жившей
в Волыни, и со стороны отца не осталось ни одного близкого
человека, который мог бы заменить главу дома или помочь матери
каким-нибудь советом.
Еще при жизни отца мы поддерживали сношения с другими
Поляновскими, жившими в различных местах, а в особенности с
13
Александром, хорунжим Сапоцким, полковником регулярного
войска, любимцем всей армии, славившимся своим мужеством.
Поэтому и теперь, когда перед матерью встал вопрос о моем
будущем и о том, как меня устроить, она вспомнила о хорунжем
и решила к нему обратиться.
Только неизвестно было, где его искать, потому что дома в
своем имении он редко бывал, находясь почти постоянно при
войске, а так как это было накануне войны, то он не мог отлучиться
от своего полка.
Прежде всего мать написала ему письмо, отослав его через
Лесько, как самого подходящего курьера. Мне кажется, что найти
второго Лесько не было возможности, а потому я должен на нем
остановиться.
Кто был этот Лесько? Простой мужик, выросший в крестьянской
хате, который провел всю свою молодость на службе в господском
доме, а затем, женившись на служанке матери, занялся
собственным хозяйством.
Ни отец, ни мать не могли обойтись без услуг Лесько, и я
должен признаться, что если б его послали в Китай, он и туда
нашел бы дорогу и выполнил бы поручение.
Маленького роста, с крупным лицом, с длинными светлыми
волосами, с голубыми глазами, тихий, спокойный, молчаливый,
Лесько в своих поступках был чрезвычайно благоразумен и удивительно
умело все исполнял.
Обычно работа у него кипела, он справлялся с каждым данным
ему поручением, и никто его никогда не проверял.
Отец ему часто доверял по несколько тысяч, и он ни разу не
злоупотребил оказанным ему доверием. Мать им тоже очень
дорожила, и дня не проходило, чтобы его за чем-либо не вызывали на
господский двор.
И теперь, когда ничего не известно было о местопребывании
полковника Поляновского, Лесько был единственным человеком,
способным его найти.
Когда письмо было готово, послали за Лесько, и он, выпив
рюмку водки, взял деньги на дорогу и в тот же день отправился
в путь.
Поездка его туда и обратно продолжалась около трех недель,
так как оказалось, что хорунжий вместе со своим полком
находились около Львова; но Лесько все-таки нашел его, вручил письмо
и привез ответ, не измучивши даже коня.
По дороге он накупил на ярмарке разных платков и товаров,
которые потом продал с прибылью.
Полковник ответил матери, что охотно займется устройством
моей судьбы, а будучи сам солдатом, он желал бы определить меня
на военную службу, так как, по его мнению, на службу при дворе
в это время рассчитывать было нельзя.
Мне нравилась жизнь полная рыцарских приключений, и я был
бы не прочь ее изведать; но мать, имея теперь лишь одного сына —
14
старший посвятил себя службе Господу, — предпочла бы для меня
более спокойную жизнь, не подверженную ежедневной опасности.
Поэтому она сильно колебалась.
Зная, что Поляновский был в большом почете у гетмана Со-
беского, матушка послала второе письмо полковнику, объясняя ему
причины, из-за которых она хотела бы отдать меня на частную
службу, и намекая на то, не потребуется ли гетману придворный.
Не было сомнения, что у него был большой штат, потому что мы
слышали, что для корреспонденции у него были и поляки, и
французы, и итальянцы, и вообще большая канцелярия.
На второе письмо, посланное из Луцка во Львов через монахов
доминиканцев, мы не особенно скоро получили ответ.
Наконец, тем же самым путем получилось письмо от Полянов-
ского с известием, что он говорил обо мне с гетманом, назвав меня
более близким родственником, чем я был в действительности, и,
хотя Собеский жаловался на излишек находящихся при нем
дармоедов, но он все-таки принял во внимание его просьбу и обещал
устроить меня.
По этому поводу у нас было большое ликование, и матушка
принялась приготовлять все необходимое для моего отъезда. Зная
свою мать, я так был уверен, что она ни о чем не забудет, что
ни во что не вмешивался, хотя для меня очень важно было не
ударить лицом в грязь, появившись среди чужих людей.
Я лично никогда бы так богато не экипировался, как это
сделала для меня матушка, не забыв ни малейшей мелочи, — и моя
благодарность была безгранична. Она мне подарила коней,
венгерский возик, седла, упряжь и даже мальчика для услуг,
снаряженного всеми необходимыми вещами, так что я производил
впечатление большого барина. Я получил много костюмов, две
шубы, ковры, одеяла, немножко серебра и даже палатку для лагеря.
Не желая, чтобы я в первое время очутился в материальной
зависимости от чужих, она вложила в ларец несколько сот золотых
талеров.
Я в первый раз в жизни надел на свой палец перстень отца с
гербом, на котором была надпись, с указанием, как следует ценить
эту драгоценность. Хотя мне не предстояло быть военным, я вез
с собою оружие на случай какого-нибудь торжества и саблю для
собственной безопасности.
Один Бог знал, как тяжело мне было, когда наступило время
оставить родительский дом, хотя меня раньше так тянуло на
чужбину. Я обошел весь дом, заглядывая во все углы, прощаясь с
каждым рабочим, и сердце мое сжималось от тоски.
Матушка плакала, Юлюся бросалась мне на шею, и этот свет,
манивший меня раньше, теперь казался мне в какой-то траурной
рамке. Я откладывал свой отъезд со дня на день, но наконец
пришлось все-таки уехать.
Я не стану описывать ни сцены прощания с матерью и с домом,
ни путешествия, во время которого я, вследствие своей неопытно-
15
сти, наделал немало ошибок, за которые пришлось потом
расплачиваться карманом.
Гетман временно находился во Львове, собираясь уехать в
лагерь под Глиняны, и я его застал ужасно занятым военными
делами, так что в первый день не было никакой возможности ни
передать ему письмо, ни представиться самому.
Возле дома, в котором жил гетман, была страшная суматоха.
Толпы разных людей ожидали, добиваясь быть им принятыми;
приезжали солдаты из лагеря, привозили шпионов, приходили мещане,
приезжали из его имений арендаторы и управляющие с деньгами,
евреи караулили его выход, не говорю уже о сенаторах и о знатных
господах, приезжавших к нему.
Из всего виденного мне легко было понять, какое значение
имел гетман и каким ореолом он был окружен, потому что,
несмотря на ожидание приезда короля, взоры всех были устремлены
на Собеского.
Простояв несколько часов у ворот в ожидании приема, я,
огорченный, возвратился на постоялый двор и там, к счастью, встретил
управляющего имениями гетмана Варденского, который, узнав о
моей беде и пожалев меня, обещал все уладить на следующий день.
Когда я в первый раз увидел Собеского, он был во цвете лет,
полный сил, красивый, здоровый мужчина, несмотря на некоторую
склонность к полноте. Красивое лицо, глаза, полные огня, умный
лоб, приятная улыбка на губах, фигура знатного воина. Он
одевался по обычаям польским, и при взгляде на него видно было,
что это потомок старинного знатного рода. В нем не было никакой
жестокости, но он умел заставить себе повиноваться; он был
неутомим в работе и не любил проводить время в бездействии.
Варденский сообщил Собескому о цели моего приезда, и, когда
я явился к нему и низко склонился перед ним, как перед родным
отцом, он принял меня с улыбкой, сказав:
— Ведь ты здоров, силен, как дуб. Отчего же ты не поступил
на военную службу? Я теперь всех своих придворных облеку в
военные доспехи.
Задумчиво приблизившись к столу, он обратился ко мне со
следующими словами:
— Я отдам распоряжение, куда вас поместить; я еще не знаю,
но возможно, что для начала придется вас послать с письмами и
пакетами в Варшаву навстречу моей жене, возвращающейся из-за
границы, в свите которой вы останетесь некоторое время, так как
у меня тут достаточный штат, а там его часто не хватает. Поэтому
готовьтесь пока в дорогу.
Я отвесил поклон, намереваясь уйти, но он меня остановил,
задав вопрос:
— А как у вас обстоит дело насчет лошадей? Хорошие ли у
вас кони?
— Недурные, — ответил я, не смея хвастаться.
— Я прикажу Стебельскому их осмотреть, — добавил гетман.
16
На этом закончилась моя аудиенция, так как у других дверей
дожидался еврей Аарон со спешным делом, и о нем уже два раза
доложили.
В этот день я познакомился с другими товарищами и
переселился в тесную каморку вместе с Моравцем, работавшем в
польском отделе канцелярии, а вечером, согласно традиции, я должен
был отпраздновать новоселье несколькими бутылями вина.
Все, что я видел и слышал, не внушало мне никаких опасений
насчет будущего. Все отзывались о Собеском, как о добром пане,
но когда узнали, что я назначен на службу к его жене, никто
меня с этим не поздравил.
Никто не обмолвился плохим словом, но само молчание
заставляло догадываться о многом...
Я никогда не был трусом. Я, конечно, предпочел бы поехать с
гетманом под Глиняны, а затем дальше, как предполагалось, под
Каменец или Хотин, — но я не прочь был побывать в Варшаве и
на все был согласен.
Отъезд Собеского в лагерь затянулся, потому что, как я уж об
этом упомянул, гетман был очень занят не только одними
военными делами, бывшими тоща на первом плане, но и своими
собственными и разными посторонними.
Однажды в отсутствии Собеского, поехавшего навестить
архиепископа, Моравец, любопытства ради, показал мне спальню и
кабинет гетмана. Вид этих комнат служил лучшим
доказательством того, сколько этот человек работал: чего только там не
было!..
На огромном столе были разбросаны чертежи и военные планы,
печатанные или набросанные рукой инженеров, целые кипы
французских книг со сделанными на них пометками; на других
столах — луковицы цветов, семена, разные овощи, банки с вареньем.
Тут же рядом стояли детские столики (для трехлетнего сына
гетмана Якубка, прозванного Фанфаником). Повсюду масса писем,
испещренных цифрами, на которые обратил мое внимание Моравец
и которые я видел первый раз в жизни, хозяйственные ведомости
и списки военных частей.
Над кроватью висели три портрета жены гетмана; один из них
большой, изображавший ее в расцвете девичьей красоты, а на двух
других она была изображена в разных костюмах, как, например,
на одном в виде пастушки.
Моравец обратил мое внимание на последний портрет, наиболее
близкий к оригиналу, но, помимо красоты, лицо выражало столько
гордости и презрения, что оно мне вовсе не понравилось.
Я долго присматривался к этому лицу, но, кроме надменности
и высокомерия, не видел ничего очаровательного в нем, хотя
Моравец мне нашептывал, что гетман был ее рабом, исполнял все ее
требования, и если б она даже приказала ему бросить все дела,
распродать все, оставить родную страну, то гетман согласился бы
на все.
17
В комнатах гетмана все свидетельствовало о его трудовой
жизни, про которую столько чудес рассказывали придворные, и на
столах лежали раскрытые книги.
Моравец говорил, что гетман часто засыпал лишь под утро и
через несколько часов бывал опять на ногах. Неутомимый в
верховой езде, он мог в течение дня измучить несколько коней. При
этом он часто недомогал, принимал разные лекарства, прибегал к
кровопусканию и выписывал для питья разные целебные воды, хотя
на лице его не было никаких следов слабости.
В первые дни я не мог разобраться во многом, и только
впоследствии все стало ясным для меня
Человек, стоявший на одной высоте с королем или даже выше
короля, имея под своим начальством все войско и поддержку самых
влиятельных лиц в сенате, казавшийся вполне материально
обеспеченным, имевший красавицу жену, казался мне самым
счастливым в свете, так как, на мой взгляд, нельзя было желать большего.
А в действительности заботы его угнетали, не давая ему ни
минуты покоя, и все, что казалось при поверхностном взгляде
таким прекрасным и блестящим, при более близком знакомстве
оказывалось совсем другим.
Но в то время я всего этого не понимал и, видя могущество
гетмана, был счастлив, что попал к нему, благодаря хорунжему
Сапоцкому.
Предупрежденный о выезде в Варшаву для встречи жены
гетмана, я провел некоторое время в ожидании писем, с которыми
не особенно спешили. Но было ясно, что с письмами не пошлют
никого другого, так как гетман предпочитал отослать меня, мало
ему знакомого, а не одного из тех, к которым он привык.
В течение этих нескольких дней у меня было достаточно
свободного времени, чтобы приглядеться и прислушаться ко
всему, хотя я очень мало понимал из того, что вокруг меня
происходило.
К гетману беспрестанно приезжали сенаторы и разные дамы,
разговаривавшие с ним по-французски, и часто последствием таких
бесед было изменение и переделка наново раньше приготовленных
писем, потому что при дворе гетмана плелись и скрещивались нити
всевозможных интриг. Ежедневно получалось бесчисленное
количество писем, записок и разных карточек. Жизнь тут кипела, как
вода в водовороте.
Моравец, относившийся ко мне очень благосклонно, и другие
старшие служащие знали людей лучше меня, а потому могли
понять, кто искренен и кто подозрителен, а я смотрел на всю эту
суету, как на доказательство могущества и влияния Собеского. Мне
нужно было научиться отличать друзей от врагов, ибо одни и
другие приходили на поклонение.
У меня не было постоянных занятий, но случалось, что меня
вызывали для различных услуг и посылок, если было что-нибудь
спешное.
18
Мне трудно даже объяснить, насколько вся эта сутолока мне
казалась странной после нашей тихой, спокойной домашней жизни,
и я как бы очутился в каком-то вихре, потому что ни днем, ни
ночью не имел отдыха.
Когда приходили известия из войска, находившегося на
окраине, будили в любое время не только нас, но и самого гетмана.
Я не имел даже представления о такой кипучей жизни, и мне
приходилось к ней привыкать.
Наконец, был назначен день отъезда в лагерь, а также
наступило время для моего путешествия, к которому я был приготовлен.
С самого утра меня позвали к гетману, пожелавшему
воспользоваться свободным временем и дать мне устные инструкции,
добавив, что от его супруги будет зависеть задержать меня при своей
особе или же отослать обратно к нему с письмами и поручениями.
Варденский должен был выдать мне деньги на дорогу, и я
нашел, что расходы были уж очень экономно высчитаны и к
назначенной мне скудной сумме придется доложить из собственного
кармана. Я с благодарностью вспомнил о благодетельнице матери,
снабдившей меня изрядной суммой. Пан Варденский, высчитывая
предстоявшие мне расходы на содержание лошадей и на пищу,
велел мне устроиться по собственному усмотрению, но не сметь
впоследствии заявлять какие-либо претензии о возмещении
убытков, так как никакой компенсации не получу.
— У нас, — сказал он, — такие чудовищные расходы, да и
самой жене гетмана нужна такая уйма денег, что едва хватает...
Я в течение этих нескольких дней имел возможность убедиться,
что гетман, помимо своих личных расходов, нес на себе бремя
общественных и часто платил роптавшим солдатам из своей
собственной кассы, выдавая им порох и оружие за свой счет...
Одним словом, я в короткий промежуток времени тут научился
многому, хотя и не все понимал.
Из Львова мы выехали одновременно, гетман направляясь в
лагерь под Глинянами, а я в Варшаву навстречу гетмановой жене.
Когда после этого шума и сутолоки я очутился на проезжей
дороге один в сопровождении мальчика и конюха, на душе у меня
стало легко при мысли, что я снова сам себе хозяин.
В дороге я спешил, насколько возможно щадя лошадей, так как
для шляхтича конь дороже собственных ног: без него он никуда
двинуться не может.
Дорога прошла, слава Богу, благополучно, если не считать
некоторых неудобств из-за ковки лошадей, потому что не везде
можно было найти кузнеца и часто в поисках приходилось сворачивать
с главной дороги на проселки.
Но при всем том я не опоздал и приехал в Варшаву еще до
приезда гетманши, ожидавшегося со дня на день, и у меня было
достаточно времени для отдыха.
После Львова Варшава показалась мне очень красивой, и я
нашел, что жизнь здесь еще более кипуча, несмотря на то что
19
король собирался уехать в Глиняны и возле королевского замка не
было такого движения, как при квартире гетмана.
В здании, в котором должна была поселиться наша госпожа, ее
ожидала часть женского персонала и служащих вместе с временным
управляющим, человеком несимпатичным, раздражительным,
гордившимся своим новым назначением. К счастью, он был родом из
Волыни и знал или слышал мою фамилию, а поэтому отнесся ко
мне довольно благосклонно.
Я приближаюсь в своей исповеди к такому периоду, при
воспоминании о котором перо отказывается служить, так как человеку
очень трудно признаться в своей слабости. Я это называю
слабостью из-за снисхождения к самому себе, потому что, относясь более
строго, следовало бы это назвать по другому.
В первый день своего приезда я не видел никого, кроме Лов-
чица, заведовавшего всем домом, и двух моих будущих
сослуживцев. Пришлось много хлопотать, пока я устроился, разместил
коней, разложил более дорогие вещи и т. д.
Обед мне принесли в мое помещение, и хотя меня неважно
накормили, но я мало об этом думал.
На следующий день, не имея никакой работы и не получив
никаких известий о приезде жены гетмана, я вышел с намерением
помолиться в костеле бернардинцев, и у самых ворот встретил
гувернантку, старую француженку, с молитвенником в руках в
сопровождении молоденькой девушки.
Я не знаю, какими словами изобразить впечатление,
произведенное на меня этим юным существом, почти ребенком. Признаюсь, что
я остановился как вкопанный. Я не имел понятия о подобной красоте
и не думал, что на земле может быть такое нежное, эфирное
существо, ослеплявшее, подобно солнечным лучам.
Я в жизни видел немало красивых девушек, но подобной ей
никогда не встречал.
Я поклонился, сняь фуражку, и долго стоял ослепленный,
не в состоянии овладеть собой, и девушка, взглянув на меня,
приложила платок к губам, скрывая свой смех. Я чувствовал,
что я в своем восхищении должен был казаться им очень
смешным, но у меня не было сил превозмочь себя, до того я был
поражен.
Беленькая, с черными глазами, свежая, как распускающийся
бутон, не особенно высокого роста, гибкая, как серна, с веселым,
шаловливым лицом, панна Фелиция Вивие показалась мне
ангелом, спустившимся с небес. Хотелось упасть перед ней на колени
и молиться на нее. Все во мне трепетало при виде этой чудной
девушки.
Далее когда ворота за ними закрылись, я остался на том же
месте, вспоминая о чудном видении. Только после значительного
промежутка времени я пришел в себя и отправился дальше.
Они шли впереди меня на некотором расстоянии, и панна
Фелиция несколько раз быстро оборачивалась в мою сторону.
20
Я не думал и не смел догонять их, и все мои мысли были
заняты тем, кто эта девушка, принадлежала ли она к свите гет-
манши и какое положение она занимала.
Воспитательница вместе с молодой девушкой направлялись к
костелу бернардинцев, и я шел за ними.
Легко понять, что я был рассеян в этот день и не мог
сосредоточиться, начинал несколько раз одну и ту же молитву, не
дочитывая ее до конца. Девушка один только раз оглянулась на меня.
Обе опустились на колени перед алтарем, с самого начала
обедни, и так оставались до конца, затем они перешли направо и,
помолившись перед образом Пресвятой Девы, вышли из костела.
У меня появилось желание следовать за ними, но не хватило
смелости, и я остался ко второй обедне, прослушав ее внимательно,
хотя не мог себя заставить забыть чудный образ девушки. Мне
стыдно было перед самим собой, и я сам себя не узнавал, до того
меня изменила встреча с этой девушкой.
Мною даже овладел страх.
Несмотря на позднюю осень, день был ясный, теплый, и я,
выйдя из костела на улицу, направил свои стопы к замку,
осматривая по дороге город и встречных людей. Сомневаюсь только,
много ли я в этот день видел и вынес ли что-нибудь из прогулки.
Меня мучило желание узнать, кто эта девушка. Судя по
костюму, можно было предположить о ее принадлежности к свите,
что меня очень радовало.
Когда я разгуливал около Краковских ворот, навстречу мне
попался Шанявский, товарищ по службе, с которым я накануне
познакомился. Обрадовавшись этой встрече, я остановился с ним
и пригласил его распить со мной бокал вина во французской
виноторговле, находившейся рядом с замком. Отправились мы туда
вместе, но мои мысли были заняты тем, чтобы узнать от него, кто
была эта девушка, не выдавая чувства, овладевшего мной.
Шанявский был мой сверстник, веселый и еще наивный юноша
и, как впоследствии оказалось, честный и сердечный малый,
ставший позднее моим другом.
Во время разговора мне удалось упомянуть о встрече с
воспитательницей, направлявшейся в костел, но о самой девушке я
боялся расспрашивать.
— Ну да, — сказал Шанявский, — она сопровождала в костел
Фелицию, и не может быть, чтобы вы последней не заметили.
Притворяясь совершенно равнодушным, я признался, что видел
при ней какую-то девушку.
— Вам повезло, — сказал он, — вам удалось с первых ваших
шагов увидеть самую красивую девушку из нашего женского
персонала. Это сиротка, француженка, любимица нашей гетманши;
она заболела корью, а потому не смогла сопровождать ее во
Францию. Это еще ребенок, которому навряд ли полных пятнадцать
лет, но она обещает вырасти удивительной красавицей. Уж и
теперь ею многие увлекаются.
21
Я молчал из боязни обнаружить, насколько все это меня
интересовало.
Я узнал, что девушка была бедной сиротой, находившейся в
полной зависимости от гетманши, не имея никаких родственников,
и что она даже не была дворянского происхождения, хотя это и
трудно было доказать, потому что, по его словам, все французы,
какого бы они ни были происхождения, приезжая в Польшу,
выдавали себя за дворян.
Выпив несколько бокалов вина, мы отправились к дому
Даниловичей, в котором помещалась наша квартира.
Все мои мысли до того были заняты Фелицией, что мне стыдно
было перед самим собой. Женское отделение находилось на другом
конце замка, и я не надеялся так скоро ее встретить, но
неожиданно нас пригласили к общему столу, куда пришел и весь женский
персонал. В числе других девушек была m-lle Вивие, затмевавшая
своей красотой остальных. К счастью или к моему несчастью, мне
досталось место напротив нее, и я должен был приложить все
усилия, чтобы оторвать свой взор от Фелиции.
Поглядывая на нее, я каждый раз встречался с ее смелым,
обращенным в мою сторону взором.
Во все время обеда она о чем-то шепталась со своей соседкой
и, насмехаясь над кем-то, весело проводила время.
Возле нее сидела не особенно молодая, некрасивая, рябая, но
остроумная француженка, прожившая несколько лет в Польше и
научившаяся говорить смешным, ломаным польским языком.
Она пробовала несколько раз со мной заговорить, но я,
ошеломленный красотой Фелиции, не находил слов для ответа и сидел
угрюмый, робко оглядываясь по сторонам. Я вздохнул облегченно,
когда мы наконец встали из-за стола.
Всего этого не стоило бы описывать, если бы эта встреча не
имела такого влияния на мою дальнейшую жизнь, и красота
Фелиции не опьянила меня, превратив сразу в ее невольника.
Не имея никакого житейского опыта, я пал жертвой этой
красоты, так как был уверен, что под такой оболочкой скрывается
необыкновенная душа.
В последующие дни во время обедов, поощряемый смелой,
насмешливой барышней Бланк, прозванной Софронизбой, я
познакомился со всем женским персоналом, и, хотя я всеми силами
скрывал впечатление, произведенное на меня Фелицией, избегая с
ней разговоров, панна Софронизба и другие девушки, отгадав мои
истинные чувства, стали меня преследовать намеками о ней.
Тем временем приехала гетманша, и с ее приездом у нас все
засуетились, так как трудно описать, до какой степени она была
требовательна, надменна и капризна.
Я увидел перед собой женщину, похожую как две капли воды
на портрет, висевший во Львове и столь мне не понравившийся.
Нельзя не согласиться с тем, что она была красива, но в этой
величественной красоте было что-то отталкивающее, так как лицо
22
ее выражало гордость, высокомерие, упрямство. Она словно
требовала, чтобы все были у ее ног! Она не умела быть обходительной
в обращении и даже не пыталась уметь. Все боялись ее взгляда и
беспрекословно исполняли всякое ее приказание. Несмотря на ее
свежий и моложавый вид, можно было заметить, в особенности
при усталости, что она гораздо старше, чем кажется. Вместе с
гетманшей прибыла и ее французская свита, в том числе несколько
молодых девушек, прислуживавших ей, но ее любимица Фелиция
сейчас же заняла свое прежнее место; и видно было, насколько
все уважали ее и считались с ней, зная, что гетманша питает к
ней особенное расположение.
Даже старая воспитательница должна была к этому
приспособиться.
Вместе с женой Собеского приехал их трехлетний сын Якубек,
по прозвищу Фанфаник, которого все очень любили и баловали.
Но ни муж, ни ребенок столько не интересовали гетманшу, сколько
ее собственная персона. Ничто ее не удовлетворяло, и она никогда
ничем не довольствовалась; она постоянно была в плохом
настроении и относилась ко всему с пренебрежением.
Сразу же после ее приезда дамы, жившие в Варшаве,
поспешили ей представиться.
Духовенство, сенаторы, а в особенности приверженцы
французской партии, как бы состязаясь, торопились опередить друг друга,
чтобы узнать последние, привезенные ею новости. С утра до вечера
дом был полон гостей, но своим посещением она не удостаивала
никого.
В ее образе жизни замечалось желание пустить пыль в глаза
и блеснуть богатством, но одновременно проявлялась и скупость.
Каким образом это можно было совместить — не мое дело.
На следующий день после своего приезда гетманша призвала
меня к себе, предварительно осведомившись, говорю ли я
по-французски. Хотя я учился этому языку в школе, но мои познания
были очень невелики, похвастаться было нечем.
Я признался в недостаточном знакомстве с языком, и разговор
начался на польском, которым она владела плохо, хотя и хорошо
его понимала.
На ее расспросы я ответил, что мне приказано остаться в ее
распоряжении, если она не захочет послать меня с письмами
обратно к гетману. На мои слова с ее стороны не последовало
никакого ответа.
Я должен признаться, что при виде гетманши я испытал более
неприятное чувство, чем при виде ее портрета, до того она мне
показалась страшной, и я не мог понять, каким образом Моравец
мог уверять, что Собеский влюблен в нее до безумия.
Гетманша не особенно торопилась отправить меня обратно,
потому что свита ее была невелика и ей хотелось иметь побольше
придворных, а я не напоминал об отъезде, довольный тем, что мог
видеть Фелицию, и ничего другого не желал. Я написал «видеть»,
23
потому что этим ограничивалось все: я боялся более близкого
знакомства с ней, а она со мною кокетничала, как и со всеми
остальными.
Я скоро убедился, что она не была разборчива в своих
поклонниках, но это не уменьшило моего увлечения, я лишь старался
его скрыть.
Служба не была тяжелой, но времени свободного было мало, и
редко приходилось отдохнуть в обществе моих товарищей, Шаняв-
ского и Дружбинского. С ними я чувствовал себя хорошо; это были
люди небогатые, получавшие небольшое жалованье и очень
маленькую субсидию из дома, а потому часто приходилось помогать
из своего кармана не только им, но и дворцовому начальнику,
относившемуся ко мне с большим уважением.
Мне не приходилось экономить, потому что матушка во всех
своих письмах, предостерегая от расточительности и мотовства,
одновременно советовала не быть излишне скупым и обещала
прислать мне денег, когда я их потребую.
Любовь к Фелиции не отразилась на моей веселости и
расположении духа. По характеру своему я всякие неприятности
переносил с веселым лицом, не любил себя мучить, а когда мне
особенно тяжело становилось на душе, я уходил вместе с Шаняв-
ским выпить вина и песнями и шутками старался рассеять свои
мрачные мысли. Я не был расположен вздыхать и заливаться
слезами, да и пользы от этого было бы мало. Наоборот, если девушка
мне чем-нибудь досадила, я притворялся и делал вид, как будто
ничего не случилось.
Хотя мы очень мало были посвящены во все происходившее,
вокруг гетманши все-таки чувствовалась сеть всевозможных интриг
в стадии их завязок и развязок. Старались их скрыть и каждое
лицо, о ком шла речь, называлось особыми кличками, для того
чтобы непосвященные не догадались; но часто случалось, что гет-
манша меняла свои взгляды и свое расположение и предательски
изменяла своей вчерашней союзнице, переходя в ряды ее врагов
и вместе с ними интригуя против нее же.
Гетманша, думавшая только о себе одной, равнодушная ко всем,
в действительности никогда не любила. Если она старалась кому-
нибудь угодить, можно было догадаться, что она в этом человеке
очень нуждается или же что-нибудь против него замышляет!
Подобного корыстолюбия я не видел ни в одной женщине. Если
б не ее гордость, она способна была бы терпеть лишения, лишь
бы увеличивать богатство.
Мне и тогда уже было видно, что нет никакого сходства в
характере обоих супругов, и, по моему мнению, ни одна польская
девушка не могла оказаться такой, какой оказалась эта
француженка.
Ни капли теплого чувства ни к кому... И если эта женщина
оказывала кому-нибудь услугу, то только для того, чтобы привлечь
его на свою сторону. Чувства сострадания, сожаления были ей чуж-
24
ды, а любимым ее удовольствием было клеветать на других,
обвиняя их в несправедливости по отношению к ней.
Понятно, что необходимо было лгать, унижаться, беспрестанно
расточать похвалы такой женщине, выказывая притворное
восхищение, для того чтобы пользоваться ее расположением, и весь
женский персонал поступал сообразно этому. Плутовка Фелиция
занимала между ними первое место.
С самого начала я тут натолкнулся на жизнь, полную обмана
и притворства, показавшуюся мне, в сравнении с жизнью в доме
родителей, уродливой, чудовищной.
Об отправке меня к гетману ничего не было слышно, а так как
я имел очень презентабельный вид, то гетманша часто пользовалась
мною для разных домашних услуг, и, кроме того, я при ее выездах
гарцевал сбоку экипажа.
С Фелицией, в которую я безумно влюбился, у нас сложились
особенные отношения. Не имея понятия о такого рода женщинах,
я вначале думал снискать ее расположение, стараясь ей
понравиться, ухаживая за ней, выказывая ей свою любовь. Но я скоро
убедился, что она прошла хорошую школу, что ее любовь трудно
приобрести, так как она хотела только иметь еще одного раба,
вовсе не думая обо мне самом.
Она мечтала сделать карьеру, благодаря своей красоте и
протекции гетманши, баловавшей ее, как собственного ребенка, и
забавлявшейся с ней, как с попугаем или с собакой. Она знала, что
сама гетманша, родом из старинной, но очень бедной дворянской
семьи, добилась с помощью королевы Марии-Людвики богатства и
блестяще вышла замуж.
Чем же мог быть для Фелиции какой-то Адам Поляновский,
слуга гетмана? Она принимала от меня подарки, пользовалась
моими услугами, иногда дарила ласковым взором, но сердце ее
оставалось спокойным.
Убедившись в этом, я круто изменил свое поведение. При гет-
манше находилась миловидная, скромная полька, панна Ягнешка
Скоробогата, и, хотя она мне не особенно нравилась, я начал за
ней ухаживать, притворяясь равнодушным к Фелиции. Один Бог
знает, как трудно мне было разыгрывать эту комедию. Печальнее
всего было то, что бедняжка Скоробогата, подобно другим нашим
доверчивым девушкам, поверила в искренность моего чувства и
начала давать мне доказательства своей взаимности.
Француженка Фелиция, злясь и насмехаясь над нами, старалась
вернуть меня к себе.
Она владела польским языком так же плохо, как и ее госпожа,
но она этим не смущалась, потому что метила подцепить мужа
подобного Собескому, говорившему по-французски как на родном
языке.
При первом удобном случае она насмешливо поздравила меня
с победой, но я, ответив несколько слов и не вдаваясь в длинный
разговор, удалился.
25
Она меня вторично остановила, начав с другой арии:
— Вы на меня сердитесь?
— За что? — спросил я.
— А почем я знаю, — ответила она.
— А я могу вас уверить, что не сержусь на вас, но и не
стараюсь снискать ваше расположение, потому что знаю, что это
излишний труд.
— Почему?
— Потому что вы, панна Фелиция, высоко метите, и я для вас
слишком ничтожен.
— Кто же вам это сказал? — спросила она.
— Есть вещи, о которых расспрашивать вовсе не приходится,
так как они сами бросаются в глаза.
Она отошла обиженная. Между нами произошел как будто
разрыв, и я видел, что это ее беспокоило. Я не старался приблизиться
к ней, но и не избегал ее.
Хуже всего было то, что я не мог ее вырвать из своего сердца...
Я старался превозмочь себя и очень страдал.
Я думал, что останусь в Варшаве до приезда гетмана, но вдруг
неожиданно наша капризная госпожа, как будто ее что-то укусило,
призвав меня к себе, велела собраться в дорогу, чтобы отвезти
важные письма гетману, местопребывание которого ей точно не
было известно и которого надо было искать возле Хотина.
Такая далекая дорога в осеннюю слякоть и распутицу, в
сопровождении мальчика и стремянного, опасность, угрожавшая от
встречи с казаками и татарами, притаившимся в ущельях... вот
что мне предстояло.
Но молодому и море по колено, и при такой суете легче было
бы забыть про свои сердечные дела. Уйдя от гетманши, я сейчас
же приступил к приготовлениям, чтобы на следующий день
уехать, а работы было немало; нужно было и коней подковать,
и уложить вещи для дороги, и все остальное попрятать в
безопасные места.
Шанявгкий мне завидовал, другие покачивали головой, а
некоторые, прощаясь со мной, желали уцелеть в дороге.
За неимением времени, пришлось издали попрощаться с
барышнями, потому что гетманша, решив меня послать, нетерпеливо
торопила выехать немедленно. Письменные ее поручения были для
меня приготовлены.
Я отправился в путь с поручением разузнать во Львове и в
Яворове, не находятся ли там еще другие послы к гетману, вместе
с которыми было бы более безопасно добраться до него.
Неопытный, я впервые исполнял такое трудное поручение, но
именно эта неопытность, скрывавшая от меня все опасности, делала
меня более отважным.
Большая часть дороги прошла хорошо, вопреки всяким
ожиданиям, и во Львове я действительно встретил разных послов,
запоздавших военных и даже торговцев, стремившихся попасть в
26
лагерь, и вместе с ними мы тронулись в дальнейший путь.
Носились слухи, что гетмана нужно искать возле Хотина.
Больной король в это время находился во Львове; дни его были
сочтены, и как раз накануне победы под Хотином смерть положила
конец его страданиям.
Дальнейшее наше путешествие было сопряжено с меньшей
опасностью, вследствие увеличившегося числа участников, но
продовольствие людей и коней стало затруднительным; к тому же отряд
наш состоял из разного сброда смельчаков и трусов, ссорившихся
между собой, которые задерживали наше путешествие. Окончилось
тем, что я принял на себя командование этой кучкой, пригрозив
им бросить их в случае ослушания.
После этого дела пошли лучше, но немало пришлось выстрадать
из-за голода, холода и отсутствия проводников.
Путешествие наше продолжалось долго, так что, приближаясь
к Хотину, мы получили известие, что гетман жестоко побил турок,
изрубив и разогнав их, что Гуссейн-паша спасся в сопровождении
только нескольких всадников, что на долю наших досталась
громадная военная добыча и т.п.
Ободренные и успокоенные этим известием, мы с радостью
приближались к лагерю, встречая по дороге послов гетмана с
известиями о его триумфе.
Не доезжая до Хотина, мы узнали печальную новость о том,
что гетман Пац, принимавший участие в сражении, тотчас после
победы тронулся вместе со своими литовцами в обратный путь, не
давая себя уговорить остаться, чтобы использовать победу.
Успех победы всецело приписывали гетману, ибо Пац не хотел
вступить в бой, еще накануне советуя отступление, а потом,
завидуя Собескому, покинул его на произвол судьбы в уверенности,
что без литовских войск Собеский ничего больше предпринять не
сможет.
Я застал гетмана в упоении одержанной им победой, но
страшно возмущенного против Паца. В лагере царило всеобщее
ликование, и все прославляли Собеского как спасителя отечества:
никто теперь не сомневался даже в том, что Каменец будет взят
обратно.
Когда я явился с письмами от жены, Собеский от радости чуть
не бросился мне на шею и без конца задавал вопросы: какой у
нее вид, здорова ли она, видел ли я Фанфаника и как он себя
ведет.
Он не удовольствовался полученными письменными
сообщениями, и не успел я от него выйти, как он вторично послал за
мной, чтобы расспросить о каждой подробности, касавшейся его
любимой Марысеньки. Я должен был рассказать о том, кто бывал
в доме, часто ли она выезжала и у кого бывала, была ли
довольна слугами, не жаловалась ли на отсутствие удобств; он даже
поинтересовался узнать, хорошо ли греют старые печи в доме
Даниловичей.
27
Под влиянием одержанной победы и писем, полученных от
жены, Собеский как бы помолодел, несмотря на боль в ногах и
пояснице.
По поводу Паца он метал громы и молнии, потому что
последний своим упорством чуть ли не лишил его возможности одержать
победу под Хотином, а затем, самовольно покинув гетмана, лишил
его дальнейшего успеха.
Все, что я увидел и узнал в лагере и в Хотине, было для меня
чрезвычайно поучительно. Глаза мои увидели полную картину
последствий войны: людей, опьяненных триумфом, счастливцев и
страдальцев, искалеченных, погибших во цвете лет.
Можно было купить за бесценок самые дорогие предметы,
захваченные у турок и предлагаемые чуть ли не даром простыми
обозными служителями. В маленьком завоеванном замке армяне,
греки и евреи торговали доставшейся добычей.
Гетман только недавно возвратился в лагерь из
рекогносцировки, предпринятой против Капелан-паши, спешившего на помощь
Гуссейну и повернувшему обратно, узнав о поражении турок при
Хотине.
Во время отсутствия Собеского Пац, забрав литовцев, ушел
обратно, и скоро после моего приезда прибыл из Львова посол с
известиями, что король в агонии, а затем пришло известие о его
смерти.
Я должен отдать справедливость гетману и признать, что
Собеский, несмотря на обиду короля Михаила по поводу приговора,
состоявшегося в Голембах, искренно оплакивал его смерть.
После отъезда Паца и отправки королевского хорунжего Сеняв-
ского на помощь молдаванам гетман ничего уж не мог предпринять
против турок. Надо было размышлять о том, как разместить на
зиму войска на границе, потому что к весне можно было ожидать
возобновления военных действий.
Гетман, столь отважный в борьбе с турками, умевший удержать
в повиновении войско, склонное к возмущению и составлению
заговоров, которого мы все так любили и боялись, стосковался по
своей супруге; он торопил всех поскорее исполнить его
распоряжение, приискивая людей, могущих его заменить и выручить, лишь
бы поскорее попасть к своей любимой Марысеньке.
Как только войско было размещено, гетман тотчас после кон-
вокации1 тронулся в путь для встречи жены, попросив ее выехать
во Львов для ускорения свидания. В это время ни выборы, ни
общественные дела его так горячо не интересовали, как
предстоящее свидание с женой, по которой он истосковался, подобно юноше,
думая только о ней одной.
Я никогда не предполагал, чтобы человек мог быть настолько
во власти страсти, и хотя я не видел всех ее проявлений, но надо
1 Вызов на сейм, который созывался в древней Польше примасом сейчас же
после смерти короля.
28
было быть слепым, чтобы не заметить зависимости гетмана от
жены, заставлявшей его исполнять все ее прихоти. По уму,
образованию, характеру, всеми своими качествами он стоял неизмеримо
выше ее, между тем она над ним властвовала, заставляя его
беспрекословно исполнять все свои требования.
В благодарность на его долю доставались плохое расположение
духа, упреки, кислое лицо, потому что она никогда ничем не была
довольна. Гетман во всем ей повиновался, но лишь дело касалось
войска или его обязанностей по отношению к Речи Посполитой,
он давал ей отпор, ускользая из-под ее влияния.
Как я выше упомянул, гетман не мог явиться на конвокацию,
потому что был занят вопросом о зимних квартирах для войска,
об устройстве их на границе для ее охраны. Зато на сейм
избирательный мы отправились всем двором в сопровождении небольшого
отряда; в последний день апреля месяца мы уже расположились
на ночлеге перед самой Варшавой. Насколько был любим гетман,
и как велики были надежды, возлагавшиеся на него, мы имели
возможность убедиться, судя по приемам и встречам, оказываемым
ему, и ежедневному увеличению нашего кортежа. Не упоминая о
менее значительных, назову двух верных друзей гетмана,
присоединившихся к нам: Александра Любомирского, воеводу Коханского,
и Станислава Яблоновского.
Сенаторы и шляхта, собравшиеся в большом количестве,
присматриваясь к торжественному въезду гетмана, приветствовали Со-
беского, как спасителя и будущего освободителя Речи Посполитой.
Войска было немного, всего полк драгун и небольшое
количество латников, но вид пленных турок и янычар со своей
своеобразной музыкой, сам пан гетман с луком через плечо, с золотым
щитом, красивый, достойный лаврового венка, приковывал взоры
всех.
Мы заехали во дворец короля Казимира, отведенный для
гетмана, где он вместе с женою могли удобно расположиться.
Одному Богу известно, думал ли кто в начале сейма об
избрании гетмана королем.
Возможно, что у гетманши первой явилась эта мысль, и она
ею поделилась с Яблоновским, с которым часто наедине вполголоса
о чем-то советовалась, скрывая от мужа свои тайные переговоры.
В Варшаве мы застали всех в большом волнении; Пацев,
заискивающих и интригующих вместе с королевой-вдовой... с
примасом... Одни агитировали за принца Конде, другие за
Нейбургского, иные за Лотарингского, как будущего мужа
Элеоноры, хотя последняя готова была выйти и за француза, лишь бы
удержать за собой корону.
Суета, движение, шум, собрание представителей Литвы и
Польши, постоянные распри между сторонниками противоположных
лагерей представляли в целом яркую и ошеломляющую картину.
Ежедневно находили несколько десятков трупов, валявшихся на
улицах и по дорогам.
29
Гетман, одетый в парадную форму, раньше чем поехать к себе
на квартиру, направился прямо во дворец князя Михаила Радзи-
вилла, принявшего его с большой пышностью и угостившего на
славу. Гетмана чтили, как победителя, но не делали никаких
намеков о намерении возвести его на трон. Повсюду велись разговоры
лишь о Нейбургском, Конде и Лотарингском.
Хотя я, вследствие своей молодости, в то время больше
интересовался кокеткой Фелицией, чем политикой и выборами, но,
слыша постоянно одно и тоже, так как люди ни о чем другом не
говорили, в конце концов стал следить за событиями.
Об одном лишь хорошо помню, что в первые дни после нашего
приезда в Варшаву, несмотря на то что гетмана принимали везде
с большим почетом и он был первым лицом после примаса, никому
не приходило в голову выбрать во второй раз Пяста после первой
неудачи. Всем было известно, что Собеский обещал поддержать
французского кандидата.
Однако Пацы о чем-то догадывались или боялись какой-нибудь
неожиданности, потому что был пущен слух, что раньше всего
необходимо исключить Пяста, хотя такой кандидат и не был
выставлен. Может быть, и дошло бы до этого, но каждый день
приносил новые заботы.
Никогда не являлось столько кандидатов на эту несчастную
польскую корону, которой угрожали со всех сторон, как теперь.
Я же записал имена всех, но, забавы ради, выучил наизусть стихи,
составленные каким-то шутником из имен кандидатов. Развлекались
и острили, переписывая их имена, хотя большинство этих князей
никому не были известны и имели мало приверженцев. Только у двоих
из них было значительное количество покровителей.
Очевидно, думали, что стоит только протянуть руку, чтобы
получить эту корону. Насколько я могу припомнить, в этом списке
упоминался князь Томаш Сабаудский, о котором никто никогда не
слышал; затем князь Моденский, о котором известно было только
то, что он благочестивый католик Эрик, королевич датский, особа
подозрительная, как лютеранин и как сын бранденбургского элек-
тора. Об этих обоих ни папский посол, ни духовенство слышать
не хотели, а диссиденты не имели возможности избрать их своими
силами. За ними шли Вандомский, он же Конде, граф Свесиан,
затем какой-то князь баварский Яков, князь Йорк, брат
английского короля, Дон Жуан австрийский, незаконный сын Филиппа III
(что приводило шляхту в бешенство), затем еще сын московского
царя Алексея, князь Семиградский и, наконец, Нейбургский и Ло-
тарингский. У папы было желание выдвинуть князя Альфиери, но
нунций отсоветовал.
Выбор был большой, и не было надобности избирать Пяста.
Это изобилие кандидатов в то время, когда необходимы были
поспешность и согласие, доводили одних до отчаяния, а в других
вызывали смех; половину из них не считали серьезными
кандидатами и, казалось, что в виде шутки выставили их имена при таком
30
коротком сроке для выборов, когда время было дорого и надо было
думать об обороне против турок.
Дошло до того, что сенаторы и духовенство, напуганные
предположением, что выборы затянутся, заказали во всех костелах
молебны с вынесением Святых Даров, чтобы Господь Бог привел умы
к согласию и единению.
Нам всем казалось, что одержит верх Нейбургский или Лота-
рингский, и у нас говорили только о них и о Конде в ожидании
французского посла, опоздавшего со своим приездом, чем все были
недовольны, в особенности гетманша.
Возможно, насколько я по прошествии стольких лет себе
припоминаю и выясняю все случившееся, что гетманша уже и тогда
подумывала о выборе своего мужа, но никому, кроме русского
воеводы, не открыла своих затаенных мыслей.
Все было шито-крыто, и никто об этом не догадывался.
Рассчитывали на то, что в последнюю минуту, когда голоса разделятся,
а выборы необходимо будет закончить, все согласятся избрать
победителя турок.
В это время прибыл в Молдавию посол, отправленный турками,
предлагавший от их имени мир и освобождение от дани под
условием оставить им Каменец. Но после победы под Хотином и
слышать не хотели о подобном предложении. Вслед за этим получились
известия с границы, что Каплан-паша направился к Хотину, что
турки намереваются напасть на Яссы, хотят забрать Сочаву, что
татары уже грабят на Покуте1 и что султан говорит, что без его
разрешения поляки не имеют права выбрать короля. Все это так
взбудоражило умы, что всеми силами хотели ускорить выборы, не
оставляя дольше Речь Посполитую без короля.
Еще до начала выборов шляхта, вследствие разногласия,
зависти и соперничества, так изнервничалась, что казалось
невозможным прийти к какому-либо соглашению.
Пацы, как бы руководимые каким-то предчувствием, начали
совместно со своими приверженцами в Литве и в Польше
настаивать на исключении из кандидатов какого-либо Пяста, объясняя
это тем, что достаточно бедствий навлек на Польшу король
Михаил, и повторяя — поп bis in idem2.
Весьма вероятно, что дело дошло бы до исключения Пяста, если
бы представители Великополыпи, обсудив этот вопрос и
надоумленные другими не торопиться, не потребовали рассмотреть сначала
недостатки и достоинства всех кандидатов.
Таким образом, для Пястов дорога осталась открытой, но
между ними не нашлось охотников; по-прежнему уста всех называли
Нейбурга, Конде, Лотарингского, а Пацы, ненавидевшие Собеско-
го, считавшегося тогда французом, перешли на сторону венского
двора.
1 Украинская часть Литвы.
2 Не дважды одно и то же (лат.).
31
О вышеупомянутых кандидатах датском и бранденбургском,
против которых протестовал нунций от имени папы, никто больше
не упоминал.
Еще раз повторяю, что, живя при дворе гетмана и, невзирая
на свою молодость, с любопытством присматриваясь и
прислушиваясь ко всему, я не заметил со стороны Собеского никаких
признаков желания королевской короны для себя. Трудно описать,
что творилось у здания, в котором происходили выборы:
ежедневно там случались побоища и слышалась стрельба. На Воле1
агитировали иностранные послы, венский и другие, только
французский опоздал, чем вызвал всеобщее неудовольствие; он
прибыл 15 мая, когда срок выборов был близок, и потому очень
мало сделал, хотя впоследствии поговаривали о его содействии к
избранию Собеского, несмотря на то что в его распоряжении было
так мало времени, и, как мне кажется, он даже не имел
соответствующих инструкций.
Когда выборы окончились, он, конечно, предпочел Собеского
венскому или другому кандидату, которого ему пришлось бы
привлекать на свою сторону, в то время как гетман весь был на стороне
французов. Поэтому немедленно по своем приезде епископ Форбен
посетил гетмана и его супругу. Я уже упомянул о том, что
творилось в городе, где власть маршала не в состоянии была охранить
порядок, и он должен был часто сквозь пальцы смотреть на драки
и ссоры, происходившие между разными партиями. Крупный
скандал произошел между челядью и двором князя Константина Виш-
невецкого, брата Дмитрия, войско которого заняло помещения,
заказанные раньше литовцами.
Воинственные литовцы, прибыв на место и застав свои квартиры
занятыми, начали насильно выдворять приспешников Вишневецко-
го; последние оказали вооруженное сопротивление, и между ними
произошел такой жестокий и кровавый бой, что с обеих сторон
было несколько десятков убитых, раненых вдвое больше.
Насилу их оторвали друг от друга и заставили успокоиться, но
в течение нескольких дней пришлось разбирать и расследовать эту
распрю, прежде чем их привели к соглашению.
Я вместе с милым Шанявским все это время находился ьри
особе гетмана, видя его дома и в поле, в среде сенаторов и в
обществе его друзей, но никому из нас не приходило в голову
видеть в нем будущего короля, до того он был спокоен, ровен,
даже весел...
Был ли он настолько скрытен, или действительно не имел
притязаний на корону, — трудно сказать. За обедом с гостями говорил
о турках, о Хотине, Сочаве, Каменце и о необходимости
скорейшего выступления против неприятеля, для того чтобы не допустить
усиления его и помешать врагу занять укрепленные позиции. Со-
бескому оказывали большой почет, полагавшийся ему как гетману
1 Предместье Варшавы.
32
и вполне им заслуженный, как победителем, расстроившим Бучац-
кие договоры.
Его чуть ли не на руках носили, как триумфатора, и на его
одного возлагали надежду отвоевать Каменец и отразить урок.
Все это вызывало гнев и зависть в Пацах, против своей воли
сражавшихся под Хотином вместе с гетманом и бросивших его,
лишив возможности пожинать плоды победы. Собеский громогласно
обвинял их в этом, а они, хотя старались оправдаться, но зависть
их была ясна всем.
Яблоновский, Любомирский, войско расхваливали гетмана, и ни
один голос не поднимался в защиту их, и это еще больше
разжигало их злобу.
На площади, где происходили выборы, Пацы, светские и
духовные лица, два епископа, канцлер, гетман избегали встречи друг
с другом, составляя отдельные группы, исподтишка наблюдавшие
одна за другой.
Хотя на Литве Пацы пользовались большим влиянием, но имели
противников в лице Сапегов, бывших в приятельских отношениях
с гетманом, и Радзивиллов, родственников его сестры. Силы были
неравные, но Пацы, несмотря на это, продолжали интриговать.
Гетман относился с надлежащим уважением к вдовствующей
королеве, но последняя знала, что его трудно сделать своим
сторонником, а его жену Элеонора ненавидела.
Королева не заслуживала большого уважения, принимая во
внимание то, как она обращалась с покойным королем; она и теперь
продолжала интриги, готовая продать себя за королевскую корону,
несмотря на то что ее сердце принадлежало Лотарингскому.
Епископ Марсельский Форбен, опоздав на выборы, немедленно завязал
тесные сношения с гетманом, хотя я не думаю, чтобы он
способствовал его избранию или был бы послан с этой миссией; у него
не было ни знакомых, ни связей, он не пользовался ничьим
доверием и имел только рекомендательные письма из Парижа к гетману
и его супруге.
Все кричали о необходимости торопиться, и ежедневно
прибывали послы с окраины с мольбой о помощи. «Periculum in mora»1, —
кричали в один голос, а между тем приверженцы Нейбурга и Ло-
тарингского были равносильны, и если бы подвергли баллотировке
этих двух кандидатов, то голоса наверняка разделились бы поровну
и соглашение стало бы невозможным, потому что ни один не хотел
уступать другому.
В поисках претендента, удовлетворившего бы всех, выставили
кандидатуру князя Моденского, как правоверного католика, но
никто не знал его достоинств, и он ничем особенным не
выделялся.
Не успели начать обсуждать его кандидатуру, как вторично
получилось известие, что татары грабят в Покуте. За последние
1 «Промедление опасно» (лат.).
33
дни, по мере приближения окончания срока выборов, гетман и
маршал были очень заняты; случилось даже, что во время
беспорядков вокруг избирательного здания, усмиряя поднявшийся шум
ударами своего жезла о землю, он дважды поломал его.
Я и Шанявский протеснились вперед под навес и остановились
у дверей, где нам удалось услышать его краткую речь или, вернее,
призыв к избранию. Вначале он робко и тихо намекнул на то, что
Польше не нужен король и вождь, которого пришлось бы учить,
а опытный и вполне созревший; затем, возвысив голос и более
красноречиво указывая на необходимость избрать короля-солдата,
он подал свой голос за Конде... Эта краткая речь произвела
огромное впечатление. Произошло всеобщее замешательство,
разделившаяся французская партия вновь объединилась вокруг этого
имени, и одни только Пацы не давали своего согласия.
Приверженцы Пацов распространяли о Конде слухи, что он
известен как безбожник, приятель кальвиниста Радзивилла, что он
ел по пятницам скоромное, высмеивал религиозные обряды, и что
король Людвиг, желая во Франции от него избавиться, хочет
навязать его Польше. Между приверженцами Конде и Паца и
сторонниками Ракуского дома, с другой стороны, произошли споры,
чуть ли не дошедшие до кровопролития.
Мы старались прочесть что-нибудь на лице нашего гетмана, но
он казался совершенно спокойным и хладнокровным, как бы ничего
не опасаясь, а судя по Пацам, можно было видеть, до какой
степени волновалась противная партия.
Королева-вдова с помощью заместителя примаса вначале была
за Лотарингского, не имевшего никакой надежды на избрание, а
Пацы были заодно с ней. Говорили о депутации, посланной к ней
и возвратившейся ни с чем. Гетман и литовский канцлер надеялись
провести кандидатуру Лотарингского или, в крайнем случае, Ней-
бурга, но о Конде и слышать не хотели.
Во время своей прогулки с французским послом гетман получил
известие о том, что Пацы, вместе со своим кандидатом, выехали
в Коло, и я слышал, как он сказал епископу:
— Будьте спокойны, я тоже поеду в Коло, и мы никогда не
допустим короля из Ракуского дома.
Он немедленно сел на коня, и мы поспешили в Волю.
Я еще никогда не видел подобного переполоха в городе, как в
этот день: закрывали лавки, в некоторых местах ворота были на
запоре, евреи покидали свои дома, вооруженные кучки со всех
сторон стремились в Волю; все предвещало столкновение и
кровопролитие.
Когда гетман в сопровождении небольшого отряда подъехал к
избирательному зданию, на площади произошло сильное волнение
среди литовцев, и казалось, как будто они хотят напасть на нас.
Но епископ Тржебицкий запел Veni creator1, и все начали ему
1 Приди Создатель! (лат.).
34
вторить, понемногу остывая, приходя к пониманию, до чего бы
такое нападение довело.
Затем воеводства начали выстраиваться отдельными группами,
каждое при своем знамени, а гетман выбрал место рядом с русским
воеводой, своим приятелем Яблоновским. Это был момент,
имевший решающее значение, и мне кажется, что воевода им
воспользовался, смело и страстно приступив к своей речи, увлекая своих
слушателей.
— О Нейбурге и речи быть не может, — говорил он, — а
Лотарингский — кандидат Ракуского дома, и мы не желаем его...
Я подаю свой голос против него. Я бы согласился на избрание
Конде, но он стар и утомлен, а необходимо, чтобы во главе нас
находился человек деятельный, в расцвете сил. Конде же не знает
ни страны, ни обычаев наших, и нам незачем искать героя в
чужой стране и прибегать в чужеземным кумирам, когда среди
нас находится вождь, давший столько доказательств ума,
деятельности и мужества.
Его прервали криками:
— Пяст! Пяст!..
Яблоновский с еще большей страстностью продолжал свою речь,
явно называя Собеского и перечисляя все одержанные им победы:
Слобободыще, Погайце, Хотин...
Ему не дали докончить, и все единогласно начали кричать:
— Да здравствует Пяст! Vivat!
Взглянув на него в этот момент, я увидел, как Собеский,
побледнев, но спокойно и вполне владея собой, попросил слова и
начал выставлять преимущества Конде перед Пястом, как
покровительствуемого другими государствами.
Но его прервал львовский каштелян, пользовавшийся
уважением всех, и произнес небольшую речь, закончив ее словами:
— Я вижу в этом перст Божий и голосую за Собесксго.
Вслед за ним в один голос начали выкрикивать имя Собеского
Александр Любомирский с представителями Кракова, Чарнецкий с
представителями Полесья, а за ними и все остальные воеводства и
большая часть литовцев; одни только Пацы, перетянув на свою
сторону двух Вишневецких, подавали свои голоса за Лотарингского и
королеву Элеонору, но никто их не слышал и слышать не хотел. Они
оказались в меньшинстве, потому что к самому концу многие из них
отстали, и их протестующие голоса оказались тщетными.
Разговор, крики, радостные восклицания и споры продолжались
до самого вечера. Сумерки уже наступили, когда Яблоновский
вместе с Любомирским начали уговаривать епископа Краковского
объявить имя короля, единогласно избранного.
Между тем Собеский, осмотревшись кругом, увидел, что Папы
и Вишневецкие, вместе с оставшимися им верными литовцами,
демонстративно покинули площадь.
Он немедленно потребовал слова и объявил, что он обязан, как
маршал, следить за тем, чтобы все было исполнено согласно зако-
35
нам, а потому не может допустить провозглашение короля, пока
литовцы и другие противники не дадут своего согласия. «Если б
другой оппозиции не нашлось, — закончил он повышенным
голосом, — я один поставлю свое veto и не допущу этого».
Когда же совсем стемнело, все начали разъезжаться, и гетмана
сопровождала громадная толпа, чествуя его как короля, несмотря
на его протесты.
Супруга его, уведомленная через епископа Марсельского обо
всем происшедшем, а также о том, что муж ее не допустил
объявить себя королем из-за Пацов, опасаясь, что этот отказ направит
окончательные выборы не в его пользу, встретила своего
титулованного супруга гневом и упреками.
Хотя я не был свидетелем их разговора, но знаю из достоверного
источника, что между ними произошел большой спор и даже ссора.
Гетманша с запальчивостью набросилась на него с упреками, что
он ради своей фантазии пожертвовал своей карьерой и
будущностью своих детей. Вначале он выслушивал хладнокровно, давая ей
мужественный отпор.
Подслушивавшие у дверей рассказывали, что гетманша во
время этой сцены прибегла к слезам и угрозам, и знавшим их ближе
казалось, что Собеский в конце концов уступит ей, вопреки своим
убеждениям. Однако они ошиблась в своих предположениях, так
как гетман твердо сказал жене:
— Я не хочу, чтобы Пацы преследовали меня, подобно тому,
как Пражмовский и мы все мучили несчастного короля Михаила.
Я боюсь Божьего возмездия и, зная Пацов, не хочу иметь в их
лице противников, могущих нам отравить существование. Я не
соглашусь на избрание и не приму короны без их согласия.
Ни гетман, ни его жена всю ночь не сомкнули глаз.
Приезжали послы с донесениями, писали письма, и все были
на ногах, как у нас в доме, так и в замке, у отцов иезуитов, у
бернардинцев и т. д. Пацы, удалившись в Прагу1, расположились
там лагерем, и носились слухи, что еще накануне вечером от имени
Литвы они внесли протест против избрания Собеского.
Только впоследствии все для меня стало ясным, потому что
тогда для меня были скрыты все тайные пружины этой интриги,
и я видел только то, что все партии горячились, стараясь вредить
друг другу.
В действительности тут происходила борьба между гордой и
честолюбивой женой канцлера, родственницей французского короля
и женой гетмана, воспитанницей Марии-Людвики, перенявшей от
своей благодетельницы хитрость и энергию.
Если прибавить к ним еще королеву Элеонору, пользовавшуюся
покровительством примаса и австрийского двора, то это была война
между женщинами, несмотря на участие в ней мужчин...
И для меня эта ночь не прошла без последствий.
1 Предместье Варшавы.
36
Меня послали с запиской к краковскому воеводе, и я на
обратном пути зашел на огонек во французский ресторанчик, чтобы
утолить голод и жажду.
Комната была так переполнена, что с трудом удалось добиться
бокала вина.
Не успел я отнять бокал от уст, как до меня донесся голос
оратора, стоявшего сзади меня я кричавшего изо всех сил:
— Вы превозносите гетмана, прославляя его победы, а разве
не всем известны источники его богатства и могущества? Он брал,
с кого только мог содрать... Платили ему и турки, и Нейбург, и
Конде... И разве не внушает сомнение, что всякий, мешавший ему,
вдруг внезапно умирал. Спросите, от чего умер король Михаил и
кто ему прислал жареную утку, которой он подавился? Кто
спровадил на тот свет примаса, когда он начал мешать?
Кровь во мне закипела, когда я услышал эти слова... И я,
столкнув со стола оратора, вытащил дрожащей рукой саблю из
ножен и бросился на него.
В избе было очень тесно, и люди начали расступаться, одни
становясь на мою сторону, другие на сторону моего противника.
Не владея собой и не сознавая того, на что я решаюсь, я с
саблей в руках бросился на него, крича:
— Защищайся, негодяй!
Напрасно нас старались оторвать друг от друга; во мне кипела
такая злоба, что я мог устоять против десятерых, и Сушку, литовца,
клеветавшего на короля, так сильно ударил саблей по голове, что если
бы нас насильно не разъединили, то, наверно, убил бы его.
Я даже не чувствовал раны в плече и пришел в сознание только
на улице, куда меня вывели мои знакомые из боязни мести
литовцев за Сушку.
Я почувствовал что-то теплое, разлившееся по руке, но, вполне
владея ею, не обратил на это внимания, перевязав руку платком.
Но мне уже не удалось лично передать гетману ответ воеводы,
потому что, обливаясь кровью, я от головокружения грохнулся
оземь как мертвый.
Я только тогда пришел в себя, когда после некоторого времени
вызванный фельдшер, осмотрев мою рану, привел меня в чувство.
Мне не пришлось объяснять происшедшее, потому что
Михайловский, служивший также у Собеского, был свидетелем всего
скандала и знал, почему я выступил в защиту гетмана.
Гетман, занятый всю ночь делами, урвал минутку и пришел
ко мне.
— Да вознаградит тебя Господь, — сказал он, нагнувшись надо
мной, — но ты должен знать поговорку: «Собака лает, ветер
носит», а потому на подобные разговоры не стоит обращать
внимания... Слава Богу, что тебя не изрубили, — продолжал он.
На это я ответил слабым голосом:
— Когда слышишь такую низкую клевету, то человеку трудно
владеть собой.
37
Гетман улыбнулся и, собираясь уйти, молвил:
— Янош говорит, что живо поставит тебя на ноги, а пока надо
лежать спокойно.
И вот, томимый любопытством узнать обо всем происходящем,
я должен был лежать, прикованный к постели, в душной хате,
страдая от раны и мучимый голодом, так как получал только
жидкую пищу. Шанявский приносил мне сведения обо всем.
— Не хватило бы нас, всех приверженцев гетмана, — сказал
<л, — если бы мы постоянно вступались за француженку.
Говорят, что хоть его и изберут королем, но ей короноваться не
позволят.
Всем издавна было известно, что она ничьей любовью не
пользовалась, кроме влюбленного в нее мужа, русского воеводы
(снискать расположение которого она старалась) и нескольких
родственников. Она всех отталкивала от себя своей гордостью,
считая себя чуть ли не божеством и требуя особенного поклонения.
Редко удавалось видеть ее в хорошем расположении духа или
услышать от нее ласковое слово. О ее обращении с мужем, которому
она была обязана всем, хотя ей казалось, что муж всем ей обязан,
знали только мы, свои люди. Гетман переносил все с
необыкновенной кротостью и покорностью. Мы, чужие, не обладавшие таким
терпением и не способные к уступкам, часто, глядя на нее,
сжимали кулаки, втихомолку приговаривая:
— Задал бы я тебе перцу!
От Шанявского я узнал о необыкновенной деятельности,
проявленной со стороны гетманши, не считавшейся со словами и
намерениями своего мужа, и об агитации со стороны Пацов и
королевы, и о сплетнях, касавшихся красавицы гетманши и
русского воеводы, подавшего в угоду ей свой голос за Собеского.
Александр Любомирский, князь Михаил Радзивилл и многие другие
ревностно агитировали среди сенаторов за избрание Собеского, у
шляхты же он давно пользовался уважением за свои военные
доблести.
Жена гетмана не скупилась на обещания раздачи должностей
в будущем и от имени своего мужа обещала больше, чем он в
состоянии был исполнить.
В доме была такая суета, что обо мне все забыли, и я не умер
от голода благодаря только Шанявскому, помнившему обо мне.
Кругом слышалась беготня, приезжали гости, рассылали во все
стороны гонцов, чувствовалось беспокойство и неуверенность в
прочности успеха.
Гетман-король переносил все необычайно спокойно, но жена его
страшно волновалась, переходя от надежды к отчаянию и угрозам
покинуть Польшу в случае позорного неуспеха.
Поминутно посылали гонцов к епископу краковскому и к
русскому воеводе.
Пацы, расположившиеся отдельным лагерем в Праге, сосчитав
свои силы, убедились, что они слишком малы для сопротивления.
38
Маршалок Полюбинский и один из Огинских, взяв на себя
посредничество, привлекли на свою сторону епископа виленского, и Пацы
понемногу начали уступать, несмотря на отчаяние обиженной жены
канцлера. Епископ, невзирая на просьбы королевы-вдовы, хотел
объявить об избрании королем Яна Собеского, но последний
наперекор своей жене и всем другим говорил, что примет корону только
в том случае, если она будет ему единогласно предложена nemina
contradicente — как гласил закон1.
В эту ночь никто не сомневался, что на следующий день Со-
беский будет объявлен королем, а Шанявский мне рассказал, что
в городе и в Воле царит огромная радость и что по этому поводу
уже с самого утра население веселилось и выражало свою радость.
Во дворце не спали всю ночь: и на кухне, и в комнатах, и в
конюшнях везде суетились.
Гетман только под утро лег в постель, а жена его все время
писала и отправляла письма.
Кстати вспомню о моих странных отношениях с панной
Фелицией. Хотя я с каждым днем все более убеждался в ее недостатках
и в том, что она достойная ученица своей покровительницы, но
доводы разума бессильны, когда человеком овладеет страсть. Мы
все подшучивали над слабостью гетмана к его жене, но я, подобно
ему, был так же слаб по отношению к Фелиции.
Она делала со мной что хотела, заставляя меня переживать то
радость, то муки ада, без особенных усилий с ее стороны, — до
того я находился в ее власти. Пока не было лучшего, и я был
хорош: она дарила мне улыбки, принимала подарки, позволяла
целовать руки; но лишь появлялся более выгодный претендент и
начинал за ней ухаживать, она тотчас же меняла свое отношение
ко мне, ясно показывая, что я ей чужой.
Я тогда давал себе клятву не глядеть более в ее сторону и
старался сблизиться со Скоробогатой, девушкой доброй и
расположенной ко мне. Фелиция не отличалась особенным постоянством,
и после меня пользовался ее расположением некто Бартковский,
имевший в своем гербе изображение свинки и прозванный нами
за свою полноту настоящей свиньей. Его считали богачом, и отец
его, владетель староства, выхлопотал при короле Михаиле право
передать таковое в наследство сыну, jus communicativum. Конечно,
я не мог с ним сравниваться.
Но и он не долго оставался в ее сердце, если только этот
постоялый двор можно было назвать сердцем.
Новым ее поклонником стал молодой, красивый малый, Кос-
тецкий, служивший в войске Яблоновского.
Фелиция обратила на него свое благосклонное внимание, я же
был в немилости.
В это время появился при нашем дворе прибывший из Франции
инженер и начал за ней ухаживать.
1 Без противоречий (лат.).
39
Костецкий, узнав, что панна совершает по вечерам в
сопровождении француза длинные прогулки по обширному саду при дворе,
охладел и покинул ее; тем временем гетман откомандировал
француза следить за работами в крепостях, Бартковский тоже куда-то
исчез, и я мог надеяться, что наступит моя очередь пользоваться
расположением панны. Это совпало со временем, когда я лежал
раненый. Я очень удивился, увидя Фелицию, вошедшую ко мне в
сопровождении старой воспитательницы.
Я был так наивен, что принял ее посещение как доказательство
расположения ко мне и снова воспылал к ней.
Шанявский, не желая меня огорчить сообщением того, что ему
было известно, предпочел молчать. Панна, пробыв несколько
минут, хоть и немного разговаривала, но улыбалась и была так мила,
что своим посещением вернула мне силы и здоровье.
Другие лица, принадлежавшие к нашему двору, тоже навещали
меня, утешая тем, что я пострадал, защищая честь гетмана, но
посещение панны Фелиции я принял за особенное доказательство
ее симпатии, и она снова вскружила мне голову. Рана, нанесенная
мне, не была особенно опасной, но, медленно заживая, заставляла
меня сидеть взаперти в то время, когда кругом происходило столько
интересных и знаменательных событий.
К счастью, оба приятеля, Шанявский и Моравец, приходя по
очереди, приносили слышанные ими известия. Моравец умел, хоть
это по нем и не было видно, узнавать обо всех сплетнях, повсюду
подглядывать и подслушивать.
Все эти дни будущая королева провела в большой тревоге, так
как вдова Михаила, соглашавшаяся раньше выйти за Лотарингско-
го, потом за французского кандидата, под влиянием уговоров Па-
цов задалась шальной целью заставить Собеского через посредство
сейма развестись с женой и жениться на ней.
Хотя это скрывали перед женой гетмана, но трудно было утаить
эту интригу, и надо было видеть ее бешенство, когда это известие
дошло до ее ушей.
Тщетно гетман на коленях перед ней клялся ей в том, что
предпочтет отказаться от короны, если ему поставят подобное
условие, но она, судя по себе, не успокоилась до тех пор, пока не
были подписаны и закреплены pacta conventa.
После этого она почувствовала свою силу и решила отомстить
всем своим бывшим противникам.
Гетманша знала о каждом шаге, предпринимаемом королевой-
вдовой, посылая за ней своих шпионов от Белян до Ченстохова, и
не успокоилась до тех пор, пока не пропели Те Deum laudamus1
и не возвестили торжественно об избрании короля.
С этого момента, можно сказать, началась ее власть над Речью
Посполитой, за исключением ее врагов, которые не могли ей
простить такого необыкновенного счастья, и которых она преследовала
1 Тебя Бога хвалим; псалом, который пели во время коронации.
40
своей ненавистью до самого конца. Она и раньше была чрезмерно
горда и требовала всяческих почестей, теперь же она потеряла
всякую меру. Из уважения к мужу перед ней преклонялись знать,
князья, духовенство с унижением заискивало перед ней... и она
упивалась своим триумфом.
Мне пришлось в жизни заметить, что народ наш часто впадал
в крайности: или унижался, пресмыкался, униженно целуя ноги,
или становился нахально грубым; редко кто придерживался
середины, а королей даже мятежники почитали как помазанников
Божьих.
С самого начала будущей королеве пришлось начать войну, но
не с татарами и казаками, как ее мужу, а с женой канцлера и
многими другими, завидовавшими ей и обиженными ее гордостью.
Согласно обычаям страны, следовало приступить к похоронам
покойного короля, а затем к коронованию нового избранника; но
последнее пришлось отсрочить ввиду невозможности отложить
войну; к тому же Собеский надеялся, авось умы успокоятся и придут
к соглашению; он боялся, что противники помешают коронованию
Марысеньки, вызовут скандал и унизят гордую женщину.
Не успели пропеть Те Deum, как будущая королева, вместе с
французским послом, своими приятелями и приятельницами,
занялась с таким усердием раздачей должностей, что увеличила
количество своих врагов.
Стоило видеть, как она, в упоении властью, более гордая, чем
когда бы то ни было, мстительная, деспотичная, не считаясь ни
с кем, командовала всеми. Она делала исключение только для
послов иностранных государств, в особенности для нунция и
епископа марсельского, пользовавшихся ее уважением, ибо она в них
нуждалась; что же касается остальных, то она никогда никого
не щадила.
Можно себе представить, сколько злобы, ненависти и нареканий
она возбудила против себя. Даже ее бывшие приятельницы,
обиженные ею, покинули ее, перейдя явно или тайно на сторону ее
врагов.
Король во всем слепо повиновался ей, исключая дел,
касавшихся войска и обороны страны.
Если он иногда в чем-нибудь ей отказывал, она сердилась,
запираясь у себя в комнате, не впуская его и не позволяя даже руки
поцеловать, пока не добивалась своего.
Собеский, к стыду своему, должен был оставить без изменения
способ раздачи должностей, введенный во времена Владислава и
Казимира и сохранившийся при Марии-Людвике до самой ее
кончины.
Известно было, что француженка за псе требовала платы, — а
ее воспитанница переняла этот обычай, о котором король слышать
не хотел; но он молча терпел его. Это считалось добровольным
подарком, но при этом торговались, как на рынке, не обраппя
внимания на заслуги, а только на то, кто даст больше.
41
Никто этого не скрывал, и вначале соблюдали некоторую
осторожность, а затем перестали стесняться, и каждый громогласно
рассказывал о том, сколько он заплатил королеве.
Поэтому везде, даже в местах общественных, злословили и
насмехались в такой сильной степени, что не было никакой
возможности заступаться за нее в каждом отдельном случае.
Об этом трубили по всему городу, а так как этот обычай
существовал еще и раньше, то можно было оправдаться тем, что так
практиковалось всегда.
Больная рука, несмотря на незначительность раны, не
позволяла мне выйти на улицу, так как заживала медленно, и я
вынужден был носить ее на перевязке и все еще не мог ею владеть.
Моя мать, занятая делами и хозяйством, лишенная возможности
оставить дом, забрасывала меня письмами, требуя приехать к ней
в деревню для отдыха и лечения; но, прикованный к Фелиции, я
старался отделаться отговорками, ссылаясь на необходимость во
врачебном уходе, который здесь легче было найти.
Тем временем штат нашего двора увеличился прибывшими
знатными людьми, и Фелиция стала относиться ко мне холодно.
Возвратился ее прежний поклонник, инженер, ездивший
осматривать крепости на берегах Прута и Днестра; он рассчитывал войти
в свои прежние права, но нашел в числе ее соперников, кроме
меня, калеки, в счет не шедшего, другого француза,
принадлежавшего ко двору епископа марсельского, а также еще одного поляка.
Пока я сидел дома и Шанявский, щадя меня, ни о чем не
рассказывал, я еще питал надежду, но, явившись к первой
совместной трапезе, я убедился, что девушка дала мне полную отставку
и что я должен выкинуть все мысли о ней.
Вначале я чуть не заболел от огорчения, но превозмог себя и
решил на некоторое время уехать к матери, чтобы не видеть
Фелиции.
С утра, когда король еще одевался, я просил доложить о себе;
он меня помнил и, увидевши меня с рукой на перевязке,
воскликнул:
— Разве вы еще не выздоровели? Я этого не знал, но надеюсь,
за вами был хороший уход.
Поблагодарив его, я попросил разрешения поехать к матери.
— Поезжайте, — сказал он, — но не следует молодому
человеку хоронить себя в деревне — это еще впереди, а молодостью
надо дорожить. Я вас не забуду и всегда найду для вас место при
дворе или в войске.
Он дал мне деньги на дорогу, от которых нельзя было
отказаться, и я начал готовиться к отъезду, не желая даже попрощаться
с француженкой.
Но молодая девушка была так воспитана, что, имея других
поклонников, не хотела лишаться и меня, а потому устроила так,
что я должен был с ней поговорить, и все мои мысли вновь были
заняты ею. Я прекрасно знал, что ей нельзя верить, но разве
42
страсть рассуждает? Я уезжал с болью в сердце, как бы оставляя
тут все надежды на счастье.
Когда я увидел знакомые места, приближаясь к родительскому
дому, сердце во мне забилось, и я забыл обо всем, думая только
о скором свидании с матерью и родными.
Торопясь, стремясь поскорее к своим, я ночью приехал в Го-
ляну, застав всех спящими. Радость до слез, приветствия, объятия,
множество вопросов — все это излишне описывать.
Мать я нашел немного постаревшей и как бы уставшей, Юлюсю
выросшей; но самым большим сюрпризом была встреча с братом
Михаилом, отпущенным монахами на несколько дней домой в
сопровождении другого старшего послушника. Сомневаюсь, узнал бы
я его, встретив в другом месте, до того он изменился лицом,
манерами, движениями, голосом и даже всей своей фигурой.
Он был серьезен, но я не нашел его грустным, и на заданный
ему вопрос наедине, доволен ли он своим выбором, он ответил,
что вполне счастлив. Мать, хотя и жаловалась, что ей слишком
тяжело в ее годы заниматься делами, хозяйством и воспитанием
Юлюси, но не уговаривала меня остаться дома, доказывая мне,
что каждый должен исполнять свое призвание, предназначенное
ему Богом.
Я не признался ни ей, ни сестре, что остался бы в деревне при
них, если бы не проклятая француженка, очаровавшая меня своими
прекрасными глазами. Как только соседи узнали, что в гости к
матери прибыл придворный короля, они начали стекаться со всех
сторон, горя желанием узнать о выборах и о происходивших в
Варшаве событиях.
В провинции все были довольны избранием гетмана, возлагая
на него большие надежды, а о королеве знали только, что она
француженка, что уже говорило не в ее пользу, потому что
помнили Марию-Людвику, которая не пользовалась любовью
народа, несмотря на то что последняя была гораздо лучше новой
королевы.
Я не заметил, как быстро пролетело время до осени, когда
получил письмо от Шанявского с известием, что король собирается
отобрать Украину и выступить против татар и турок.
Я хотел немедленно присоединиться к нему во Львове или в
Жолкви, наконец, в каком-нибудь другом месте, где его найду, но
не мог, так как рана, несмотря на все мази и пластыри, стоившие
матери громадных денег, не заживала, продолжая упорно гноиться.
Смешно даже сказать, что рука зажила, когда я, бросив все
лекарства, призвал простую бабу, которая, обмыв рану и сварив
какую-то траву, обложила ею руку. Несмотря на это, я пробыл осень
и зиму с матерью и только в 1675 году собрался к королю на
службу.
Рана вполне зарубцевалась, но осталась какая-то неподвижность
в руке, от которой я долго не мог освободиться. За все это время
верный друг Шанявский часто писал мне, и хотя письма, приходя
43
различными путями, часто запаздывали, но я все-таки был
посвящен во все события.
Шанявский сообщал, что Фелиция, как всегда, была окружена
поклонниками, что любовь королевы к ней с каждым днем все
увеличивается, а потому она ни на кого не смотрела, метя все
выше и выше. Королева любила пользоваться ее услугами, а она,
угадывая малейшее желание своей госпожи, преклонялась перед
ней, как перед божеством.
Но среди женского персонала ее ненавидели, потому что
Фелиция никогда никому не оказывала помощи, а доносами на своих
подруг возбуждала против них гнев своей повелительницы.
Наступило время возвращения на службу к королю. Матушка
вновь снарядила меня всем необходимым, заботясь о том, чтобы я
не терпел ни в чем недостатка и чтобы я не осрамил полковника
Поляновского.
Я взял лишнюю лошадь и еще одного служителя, так что всего
их было у меня трое, а больше мне не нужно было. Перед самым
отъездом я получил от Шанявского известие, что король желает
меня видеть у себя в лагере, но, признаюсь, что я предпочел бы
ради француженки остаться при королеве. Я этого не утверждаю,
но мне кажется, что Шанявский, желая оторвать меня от
нездоровой любви, как он сам выражался, способствовал тому, чтобы я
не особенно часто виделся с Фелицией.
Из его писем я знал, какая судьба ожидает меня при особе
короля.
Когда еще он был гетманом, его уже не любили, преследовали
разными интригами, даже покушались на его жизнь, что не всем
было известно, потому что дело замяли, но, без сомнения, его
хотели отравить, и пришлось поэтому переменить виночерпия. Вся
Речь Посполитая была возмущена против Пацов за их новую
измену: они поступили в Украине подобно тому, как при Хотине,
оставив короля одного.
Новый гетман Пац вскоре понял, что заслужил всеобщую
ненависть, так как его открыто называли изменником. Пацы верили
в покровительство Ракуского дома, а королева Элеонора,
находившаяся в Торне, составляла заговор. Передавали из уст в уста, будто
Собеский часто повторял русскому воеводе:
— Меня не минует судьба Михаила. Провидение мстит за его
страдания.
Трудно передать, в каком состоянии я нашел короля, —
он мне показался измученным, впадающим моментами в
отчаяние. При нем осталось тысяч пятнадцать — восемнадцать
войска, а казаки, татары и громадные немецкие силы
разоряли страну, угрожая завоевать ее, и Собеский, несмотря на
все сеои усилия и жертвы, сомневался, сумеет ли он
выдержать этот натиск.
Пац своим уходом возбудил против себя литоги,ев и должен
был просить прощения у короля и исправить свою ошибку, что
44
было довольно трудно, потому что неприятель тем временем
подкрепил свои силы.
Собеский, надеявшийся в качестве победителя быть
коронованным и обманутый в своих надеждах, был доведен до крайности. Я
никогда не видел его таким деятельным и неутомимым.
В августе опасность угрожала уже Львову, и у короля было
всего несколько десятков тысяч солдат, считая в том числе и войско
литовское, а Ибрагим-паша приближался ко Львову с огромными
полчищами.
Когда мы прибыли во Львов вместе с королевой и с двором,
Собеский не переставал повторять: «Я должен тут погибнуть или
победить».
Он один не потерял мужества и надежды на помощь Господню
и вселял их в других; но когда мы приехали в город, то видели
одни только слезы и слышали жалобы со всех сторон, а кто мог —
убегал. Но при виде Собеского со спокойным лицом, постоянно
занятого, разъезжающего верхом, делая смотры войскам,
расставляя орудия, и войско, и мещане стали мужественнее. За два дня
до приближения турок к стенам города по ночам были видны зарева
пожаров, наводившие страх.
Собеский заранее предупредил, что, лишь только турки
появятся, он немедленно на них нападет, не дав им времени
расположиться лагерем.
Все было подготовлено так, чтобы силы, которыми располагал
Собеский, показались Нуррадину, шедшему с передовым отрядом
более значительными, чем были в действительности. Поэтому под
Зборажем и Берестечком прибегли к той же хитрости, то есть,
собрав большое количество копий, воткнули их в кустарники на
очень большом протяжении, создав таким образом иллюзию, что
вся эта местность полна войск.
Перед уходом из города король, королева, гетман, высшие
должностные лица, полковники со слезами на глазах молились
Богу в костеле отцов иезуитов перед иконой святого Станислава
Костки.
Я присматривался к лицу Собеского, выражавшему страстное
нетерпение. Выйдя из костела, он, попрощавшись с женой и Фан-
фаником, сел на коня.
В день появления турок, хотя дело было в августе, бушевала
сильная буря с градом и снегом.
Их было такое множество, что наша кавалерия была смята при
первом столкновении, но король бросился к ней с криком:
— Или я буду убит на месте, или мы победим! Вперед!
Напрасно старались его удержать, как предводителя и короля,
в этот момент он был лишь солдатом, — и ни Радзивилл, ни Лю-
бомирский, ни Пац ничего не могли с ним поделать. Он сам
помчался во главе полков, и это вызвало такое воодушевление в
войске, набросившемся с такой стремительной яростью на турок,
что последние не выдержали напора.
45
Всем, знающим их способ ведения войны, известно, что они
смотрят на первое поражение, как на перст Божий, указывающий
им на предстоящую гибель, и больше уже не сопротивляются.
Поэтому самое важное вызвать вначале переполох, так как они не
борются с роком.
Лишь только турки обратились в бегство, нам больше ничего
не оставалось, как преследовать и рубить их направо и налево, и
хотя число турок, на первый взгляд, казалось, втрое превышало
нашу армию, но они с такой поспешностью начали убегать, что
на следующее утро очутились в восьми милях от Львова.
Никто так хорошо не знал характера мусульман и их способа
ведения войны, как Собеский, и это давало ему превосходство над
другими вождями. Приняв все меры, чтобы не дать им соединиться,
он приказал преследовать отдельные отряды, и, когда победа
перешла на нашу сторону, войско воспрянуло духом, став
мужественнее и увереннее.
Я должен признать, что и все остальные, участвовавшие в
сражении вместе с королем, не исключая французов, выказали
необыкновенное мужество и храбрость. Под епископом марсельским
Форбеном были убиты две лошади, а рыцарь де Малиньи не
уступал другим в храбрости. Я проникся уважением к французам, о
которых раньше имел превратное мнение, так как судил лишь по
их женщинам. Собой я не был особенно доволен, потому что
проклятая боль в руке мешала мне принимать деятельное участие в
бою, и я присутствовал при нем в качестве зрителя.
Я несколько раз порывался в бой, но Шанявский каждый раз
удерживал меня на месте. Но судьба никогда меня не щадила от
ран и шишек, награждая меня ими при каждом удобном случае;
под Львовом, хотя я и находился в тылу двора, пуля задела мой
висок, сорвав кожу и скользнув по кости.
Все над этим смеялись, наложили на темя повязку и в течение
нескольких дней величали меня героем.
Чудесным образом нам удалось отразить натиск турок, но
король был в отчаянии, что они отобрали и сожгли Погайце и что
Ибрагим-паша шел на Требовлю, хотя замок, благодаря своему
расположению, мог защищаться и противостоять.
Об этом обложении турецкими войсками Требовли я
наслышался много неправдоподобных и разноречивых вещей, но могу
подтвердить лишь то, что не напрасно приписывают Хжановской, жене
начальника, заслугу, будто бы благодаря ей крепость выдержала
осаду, пока король с войском не подошел на помощь. Она в
действительности не только подбодряла мужа, но и принимала
активное участие в защите замка. С пистолетом в руке, во главе отряда,
она ездила на разведки, проявляя мужество, перед которым
преклонялись даже старые солдаты; этой женщине следовало бы
родиться мужчиной, говорили кругом.
И действительно, если бы не она, Требовлю постигла бы та же
участь, что и Збораж, сданный туркам трусливым гарнизоном,
46
убившим своего вождя, француза Дезотеля, в надежде, что их
пощадят.
И в Требовли раздавались голоса среди нашедшей там убежище
шляхты о сдаче замка, но Хжановская угрожала им, что взорвет
замок, но не допустит сдать его.
Впоследствии сейм возвел Хжановского в дворянство, потому
что хоть жена его была дворянкой, но он сам родом из Курляндии
(фон Фрезен) и принадлежал к простому сословию.
Хжановская своим мужественным сопротивлением туркам
привела их в бешенство, так как они, хотя у них было много войска
и пушек, не смогли взять приступом крепость, а услышав, что
Собеский с войском идет на помощь осажденным, поспешили снять
осаду и убежали в сторону Каменца.
Но они не успели далеко удалиться и переправиться через реку,
так как подоспел король и, набросившись на них, вступил с ними
в битву, успешно окончившуюся для нас, потому что турки, узнав
от пленных о присутствии короля, начали поспешно отступать к
Каменцу, оставив на поле сражения несколько тысяч убитых.
Одно имя Собеского, наводя на них панический страх,
заставляло их обращаться в бегство. Ибрагим-паша удалился от Прута.
Господь Бог помог Собескому спасти Польшу от большой
опасности, которая еще не совсем миновала, потому что Каменец остался
в руках турок, и надо было опасаться их мести за поражение.
Все-таки король мог немного отдохнуть и собрать новые силы для
дальнейшего похода.
По распоряжению короля я должен был отвезти письма в Жол-
ков, где иностранные послы ожидали Собеского, чтобы
приветствовать победителя, слава о котором разнеслась по всему свету;
хотя сам король придавал этим почестям меньше значения, чем
предстоявшей возможности расцеловать ручки любимой Марысень-
ки, по которой он очень соскучился и посылал ей множество писем,
ожидая ее ответа. В Жолквк я нашел королеву еще более гордой,
чем раньше, упивавшуюся триумфами и успехами мужа, о которых
уже знал весь свет.
Трудно было к ней подойти, до такой степени она требовала
преклонения перед собой. Для того, чтобы снискать ее
расположение или хотя бы ласковую улыбку, нужно было перед ней
пресмыкаться и падать ниц, подобно древним идолопоклонникам,
которые лежали распростертые перед своими божествами.
Ни с кем из своих родственниц или знатных в то время женщин
она не могла быть долго в хороших отношениях.
Никто не мог с ней ужиться, кроме несчастного мужа, но и
ему она доставляла больше страданий, чем радости.
Но что это был за человек! Если бы не несчастная слабость к
жене, вовсе недостойной любви и часто откровенно заявлявшей
ему, что она его не любит, то Собеского можно было бы назвать
безупречным, совершенным, народным героем. Всякому делу, за
которое брался, он отдавался всей душой; на войне это был солдат,
47
не дороживший своей жизнью; на охоте — страстный охотник; в
разговорах с учеными он был способен провести всю ночь, вдаваясь
с ними в диспуты и забывая о еде, питье и об отдыхе, но и в
своей несчастной любви он не знал границ.
Несмотря на то что он был признан героем своего времени, в
нем не было ни малейшей гордости; он не забывал своего прежнего
общественного положения, с уважением относился к духовенству,
как человек религиозный, соблюдал молитвы и все обряды, но и
в своих сношениях с татарами и евреями никогда не задевал их
религии.
К слугам он относился хорошо, и если делался чьим-нибудь
другом, то оставался им до конца жизни.
Несмотря на то, что в Жолкви наскоро построили помещения
для службы и коней и все придворные разместились по простым
избам, все-таки не хватило места для всех, съехавшихся
приветствовать Собеского. Слава об его успехе в борьбе с
многочисленными оттоманскими силами разнеслась так далеко, что
персидский шах, искавший союзника против московского царя,
прислал к Собескому послов с дорогими подарками.
Прибыли с поздравлениями послы из разных государств, в том
числе и епископ марсельский Форбен, пользовавшийся особенным
расположением королевы и не без основания хваставшийся
помощью, оказанной им Собескому при овладении короною.
Из всех французов, находившихся при дворе, а их тут было
немало, епископ Марсельский по своему темпераменту являлся
наиболее типичным французом. У нас трудно было найти епископа,
подобного ему.
В его обращении, разговорах и шутках ясно проскальзывало,
что он больше думает о светской жизни, чем о Боге. Он не избегал
общества женщин и не относился равнодушно к их кокетству. Его
элегантная, изящная внешность, благородные манеры придавали
ему в моих глазах какой-то особенный шарм, и я глядел на него
с восхищением.
Впрочем, пришлось увидеть много нового и интересного не
только для меня, но и для всех нас.
Один лишь король относился равнодушно ко всему — ничто
его не поражало. Он думал о предстоящей коронации, об ускорении
которой хлопотала королева, а так как она была беременна, то
необходимо было беречь ее от всяких волнений.
Известно было, что королева Элеонора, поселившаяся в
Торне, интриговала вместе с Пацами, чтобы шляхта не
допустила коронования графини д'Аркиен после австрийской
эрцгерцогини, но интриги их не увенчались успехом. Не имея
возможности воспрепятствовать коронованию, они подумали о
том, чтобы вызвать скандал и волнение в церкви, но об их
замысле были предупреждены Собеский и его жена, принявшие
заблаговременно меры к недопущению в храм подозрительных
людей.
48
Из всего сказанного можно составить себе понятие о том, что
у нас творилось, и о волнении, охватившем умы. Королю
приходилось принимать послов, притворяться спокойным, скрывая гнев
и заботы.
Меня считали не способным участвовать в заговорах, редко
посылали с письмами, а устных поручений и вовсе не давали.
Доверием королевы я тоже не пользовался. В королевском кружке никто
не назывался собственным именем, а каждый имел одно или
несколько прозвищ, так что, если бы письма были перехвачены,
трудно было бы догадаться, о ком идет речь.
Они пользовались шифром, достаточно сложным, но все же
предпочитали пользоваться этим условным языком.
Король назывался в письмах Орондатесом, Фениксом,
Селадоном, порохом (la poudre), осенью (automne) и Сильвандром;
королева Астреей, Букетом, Соловьем, Розой.
Родственники короля были известны под именем Бетес; Ян
Казимир назывался Аптекарем, королева Мария-Людвика — Жируэ-
той. После отречения от престола Казимир назывался Парижским
купцом. Михаила Вишневецкого называли Обезьяной, а мать его —
Виоля ди Гамби. Трудно перечислить все прозвища, часто обидные
и нередко юмористические.
Замойский, воевода Сандомирский, известен был под именем
Бык.
Ян Замойский — Флейта или Фригийский конь.
Станислав Яблоновский именовался Дожем.
Госпожа Денгоф — Египтянкой.
Дмитрий Вишневецкий — Селедкой.
Конде — Цаплей.
Ержи Любомирский — Ласточкой или Змеей.
Морштын — Поросенком или Воробьем.
Станислав Ревера Потоцкий был известен под именем —
Старая туфля.
Здоровье называлось Запахом; элекция — Мыслию или
Провидением; любовь — Апельсином и т. д.
Впоследствии король бросил этот язык...
К концу 1675 года я был послан по поручению короля в Краков, так
как коронование было назначено не позже января. Я не стану
описывать обычаев, сопровождавших в старину обряд коронования, потому
что это можно найти и у других писателей. Всем известно, что, как бы
напоминая новому властелину о бренности земного существования,
коронованию предшествуют похороны умершего короля. На этот раз
(чего еще никогда не было) должны были хоронить двух монархов:
тело умершего во Франции Яна Казимира только теперь перевезли в
Польшу, а Михаил Вишневецкий еще не был похоронен.
Я имел возможность видеть торжественную церемонию,
возбудившую удивление иностранцев, в особенности появлением в
костеле вооруженных конных рыцарей, ломающих копья и эмблемы
власти над гробом усопшего короля.
49
Поклонение гробу мученика святого Станислава, убитого
Болеславом Смелым, было тоже одним из обрядов коронования.
Король, королева и их друзья сильно волновались, зная, что
все их недоброжелатели и завистники, не смея открыто выступить
против Собеского, собираются в день коронования при участии
королевы Элеоноры если не помешать ему, то, по крайней мере,
омрачить торжество.
С самого утра при открытии костела в нем собрались все,
кто должен был помешать их злостным намерениям; в том числе
находились и мы, принадлежавшие к королевскому двору и
размещенные так, чтобы иметь возможность заставить замолчать
забияк в случае их шиканья или криков. Мы получили даже
распоряжение заглушать неприязненные возгласы
приветственными криками.
Хотя я никогда не был большим поклонником королевы и даже
сердился на нее за ее отношение к нашему властелину, но должен
сказать правду, что она в то время была очень красива, несмотря
на то что молодость ее уже прошла. Но в день коронования,
вследствие ли переживаемого волнения, или болезненного своего
состояния, она казалась удивительно изменившейся и даже безобразной.
Она старалась придать себе гордый, внушительный вид, хотя видно
было, что она дрожит от страха и едва стоит на ногах. Собеский
был в молитвенном настроении и испытывал не меньший страх,
чувствуя, что его ожидает та же участь, как и его предшественника
Михаила.
Когда наступил момент коронования, в костеле произошло
какое-то волнение; начали давать друг другу знаки, какие-то чужие
люди пытались проникнуть в костел — словом, все предвещало
угрожающую опасность. Но мы стояли на страже и, кроме нас,
весь двор Яблоновского, Радзивиллы, Сапеги и близкие друзья
Собеского.
Мария Казимира была так бледна, что можно было опасаться
обморока, который мог быть вызван и тяжестью костюма; но она
обладала огромной силой воли и всячески подавляла признаки
слабости.
В тот момент, когда архиепископ намеревался возложить на ее
голову корону, раздались с разных сторон шиканье и возгласы,
моментально заглушённые приветственными криками; произошло даже
несколько незначительных столкновений, не возбудивших, впрочем,
особенного внимания.
Во время пиршества в замке королева выступала с прежней
гордостью, проявляя вовсю свой деспотический характер: лицо ее
выражало беспредельную радость, и в упоении одержанной победой
она иронически улыбалась; король же казался грустным и
сосредоточенным.
Я слышал, как он сказал Любомирскому:
— Я был бы веселее, если бы в благодарность за возложенную
на меня корону мог возвратить Речи Посполитой Каменец.
50
На следующий день король принимал на краковской площади
поздравления и подарки от представителей Кракова. Королева
вместе со своей свитой глядела в окно на эту церемонию,
позаботившись о том, чтобы сын их Якубек верхом на лошади, окруженный
сенаторами и рыцарями, выступал рядом с отцом, как королевич
и князь.
Все ее мысли и действия были направленны на то, чтобы
обеспечить за их семейством трон. Главным помощником королевы во
всех ее интригах был честный, благородный русский воевода Яб-
лоновский, влюбленный в королеву, и, подобно Собескому,
снисходительно и рабски исполнявший все ее желания. Отношения между
королем и воеводой, преданнейшим его другом, служившим больше
его жене, чем ему самому, бросались всем в глаза.
Королева надеялась выхлопотать у мужа для воеводы сан
гетмана, но это ей не удалось.
Я не в состоянии описать, сколько король по этому поводу
выстрадал, дав на сей раз отпор жене, подарив Яблоновскому
меньшую булаву.
Возможно, что трудная задача была облегчена состоянием
здоровья королевы, подарившей королю вскоре после этого прелестную
дочь.
Дмитрию Вишневецкому достался сан гетмана, а остальные
вакансии, по мнению всех, были так распределены, чтобы успокоить
и примирить противников.
Олыновский получил архиепископство, а Велепольский,
женившийся впоследствии на сестре королевы Марии-Анны, был
назначен канцлером.
Не мое дело писать о вопросах, обсуждавшихся на сейме; я
помню только общее впечатление о том, что расхваливали ум,
предусмотрительность и заботливость Собеского о благе Речи
Посполитой, неоднократно настаивавшего на необходимости
поскорее сокрушить могущество Оттоманской империи и отобрать
города, захваченные казаками и турками.
Королева думала о другом.
Еще до избрания Собеского, во время царствования Михаила,
она, возвратившись из своей поездки во Францию, сохранила
неприятное воспоминание о том, что ей не оказали там полагавшихся
ей по праву почестей, не предоставив занять должное место при
французском дворе.
Ей казалось, что теперь, в случае ее приезда в качестве
коронованной особы, она была бы вознаграждена и поставлена наравне
с особами, принадлежавшими к царствующему французскому дому.
Мне кажется, что находившийся при дворе и старавшийся
услужить королеве епископ Марсельский, которому она обещала
кардинальскую шапку, помогал ей по мере своих сил, но все разбилось
о непредвиденное упрямство Людовика XIV, не хотевшего признать
за избранным королем титула «величества» и не желавшего считать
его ровней себе.
51
С этой миссией был послан шурин королевы, маркиз де Бетюн,
в надежде на благоприятный результат.
При дворе говорили, что здоровье королевы, пошатнувшееся
вследствие родов, обязательно требовало лечения минеральными
водами и французским воздухом.
Нетерпеливая королева, не сомневаясь в том, что Людовик XIV,
приглашенный быть крестным отцом, уступит ее желаниям, не
дожидаясь даже возвращения посла, тронулась в путь, и Собеский
ей не препятствовал.
Взяв с собой старшего сына Якубека и многочисленную
почетную свиту, в состав которой, я, к счастью, не вошел, королева
уехала из Жолкви во Францию. После ее отъезда у нас вырвался
радостный вздох облегчения в надежде на предстоящий отдых, но
она вдруг неожиданно возвратилась обратно вместе с маркизом
де Бетюном сильно раздраженная.
Впоследствии старались придать ее отъезду, ставшему всем
известным, и возвращению особенное значение, скрывая
перенесенное разочарование, гнев за обиду и желание отомстить, — но шила
в мешке не утаишь. Враги злорадствовали, а Собеский, занятый
срочными делами, был огорчен.
Можно сказать, что со времени этого происшествия начала
проявляться нелюбовь к Франции.
Я говорю об этом кратко, потому что трудно об этом
распространяться. Последствия всего этого отразились на нас, так как
всякому приходилось терпеть от гнева королевы и проявлений ее
своеволия. Ежедневно прежние любимцы королевы попадали в
немилость, потому что она была мстительна и неумолима, когда
задевали ее самолюбие.
Я в то время своими молодыми, неопытными глазами не мог
далеко и во все проникнуть, а потому не мог тогда объяснить много
вещей, ставших для меня понятными лишь впоследствии.
Меня удерживала при дворе моя несчастная любовь к
француженке, но я старался нести больше службу при короле, чем при
королеве, что не всегда мне удавалось. Королева мало меня знала
и не любила, что заметно было по ее взгляду, но, зная о том, что
мне можно довериться, — и этим не все, принадлежавшие ко
двору, могли похвалиться, она часто требовала от короля предоставить
меня в ее распоряжение.
Причиной этой вовсе для меня нежелательной милости было
то, что я, к несчастью, понравился панне Федерб, любимой
наперснице королевы, доверенной всех ее тайн, приятельнице, без
которой королева жить не могла.
Стыдно об этом говорить и писать. При особе королевы
находились две прислужницы, с ненавистью и завистью относившиеся
друг к другу и имевшие влияние на весь двор: панны Летре и
Федерб.
Они, вначале занимая низшее служебное положение, со
временем стали для королевы как воздух необходимыми.
52
Как обо мне отзывались, я в то время был довольно интересным,
и всем было известно о моем хорошем происхождении и о том,
что у меня деньжонки водятся. Я не знаю, чем понравился Федерб,
девушке немолодой, отцветшей, хотя с недурненьким личиком, но
страшно исхудавшей и прозванной за свою худобу Скелетом. Лет-
ре, более хитрая и осторожная, не могла сравниться с Федерб,
отличавшейся особенным умением интриговать и шпионить и перед
которой ничего нельзя было утаить.
Она пользовалась особенным доверием королевы и, если
чего-нибудь хотела, умела всегда склонить последнюю к
исполнению ее желаний, несмотря на Летре, старавшуюся всегда ей
помешать.
Всем было известно, что Федерб скопила изрядный капитал,
принимая деньги за доступ к королеве, за ее расположение и за
всяческие услуги; а так как она имела большое влияние на нее,
то не было недостатка в претендентах на ее костлявую руку; было
несколько гораздо лучших, чем я, но Господь наказал меня тем,
что она в меня влюбилась.
Вначале я этому верить не хотел, не допуская подобной мысли,
но Шанявский первый открыл мне глаза. Это произошло во время
пребывания в Жолкви до коронования, когда мы вдвоем жили в
маленькой тесной комнатке, где едва могли на полу поместиться
рядом. Мы ложились только под утро и до того измученные, что
обыкновенно не было никакого желания разговаривать. Однажды
мой приятель со смехом сказал мне:
— Берегись, Адась, не попадись в силки Скелета.
— Что ты? Кто? — спросил я.
— Разве ты ничего не видишь? Ведь Федерб глаз с тебя не
сводит и не без цели за тобой бегает.
Все во мне вскипело.
— Послушай, — сказал я, — это глупые шутки; избавь меня
от них, иначе я рассержусь. Неужели я, по-твоему, не заслуживаю
лучшей участи, чем служить Федерб?
— Я и не думаю шутить, — серьезным тоном ответил
Шанявский, — но я вижу, что ты слеп и видишь только
равнодушную к тебе Фелицию, не замечая Федерб, которая за тобою
бегает. Если ты хочешь выдвинуться, то ее расположение может
быть тебе полезным, игнорируя же ее, ты рискуешь вызвать ее
месть.
— Господь с тобою, — воскликнул я, — что она мне может
сделать? В худшем случае она отстранит меня от королевского
двора, и я домой поеду.
Я вспомнил Фелицию и со вздохом прибавил:
— Признаюсь, что разлука с француженкой для меня
равносильна смерти.
Шанявский мне доказал, припомнив множество мелких
подробностей, указывавших на то, что Федерб в действительности питала
^о мне какие-то чувства. Но я не допускал мысли о ее любви ко
53
мне, и до того этот скелет был мне противен, что при одном
воспоминании о ней дрожь пробегала по моему телу.
На следующий день я был настороже и убедился, что Шаняв-
ский был прав, но я утешал себя тем, что, может быть, был нужен
этой интриганке для участия в деле, касающемся короля. Я начал
осторожно и вежливо ее избегать.
Я заметил и то, что она с целью удалить меня от Фелиции
помогала французу в его ухаживании за последней. Два раза в
день все сходились за общим столом; этого я не мог избегнуть.
Вместе с нами обедали Летре и Федерб, попеременно чередуясь,
редко обе вместе, потому что королева в одной из них постоянно
нуждалась.
Служба их была своеобразная; они исполняли при ней самые
простые обязанности, когда она вставала, одевалась, купалась и т. д.,
рассказывая при этом обо всех сплетнях, или же завязывая новые
интриги и выслушивая разные приказания. Часто то одна, то другая,
отправленные с поручениями, отсутствовали по несколько дней. Все,
старавшиеся снискать расположение королевы или достичь какого-
нибудь соглашения, обращались к одной или к другой.
Утверждали, что, хотя Федерб казалась более подвижной и
дельной, толстая, рябая блондинка, с рыжими волосами, Летре
превосходила ее ловкостью и расторопностью.
Их влияние на королеву было так велико, что родная ее сестра,
которая должна была выйти замуж за Велепольского, княжна Рад-
зивилл, сестра короля и другие вельможи, не исключая русского
воеводы, старались жить с ними в согласии. Нечего и говорить о
том, что король уважал эти две силы и никогда не вступал с ними
в спор.
Иногда он позволял себе пошутить над тем, что королева так
поддается их влиянию, но Мария-Казимира впадала в гнев, и Со-
беский должен был на коленях вымаливать прощение. Всем было
известно — самый верный и простой путь к королеве лежит через
ее камеристок.
Для меня все это было безразлично, потому что я лично мог
бы добиваться расположения Летре или Федерб лишь только с
целью победить Фелицию; но моя глупая и несчастная любовь
была до того безнадежна, что я должен был довольствоваться
созерцанием ее издали.
Разум мне подсказывал, что девушка, воспитанная в такой
среде, имевшая перед собою такие плохие примеры, не будет верной,
любящей женой, способной удовлетвориться простой деревенской
жизнью. Я был в отчаянии, сомневаясь, удается ли мне снискать
ее любовь, но меня тянуло к ней, и я не упускал случая, чтобы
видеть ее или поговорить с ней.
Я стыдился этой страсти и молил Бога помочь мне освободиться
от этих мучительных оков.
Я прибегнул к помощи Скоробогатой, стараясь заставить себя
полюбить ее, и, возможно, это удалось бы мне, но Федерб, заметив
54
это, повлияла на королеву и родителей Скоробогаты, и последние
неожиданно насильно выдали ее замуж. Девушка, расположенная
ко мне, тщетно отказывалась, но так как родители требовали
послушания, все свершилось по желанию Федерб.
Положение мое стало незавидным, и Шанявский посоветовал:
— Просись в деревню к матери и скройся с ее глаз.
Совет был хороший, но скрыться с глаз значило лишить себя
возможности видеть Фелицию, а я счастлив был тем, что мог ее
видеть, и довольствовался этим.
Я признался своему другу, но он не понимал подобной страсти
и был прав; но разве мог помочь разум, когда человек ходил,
словно пьяный.
— А что же ты сделаешь, если она выйдет замуж? — спросил
Шанявский.
— Я буду так же по ней томиться, как и теперь.
Когда-то такую безрассудную любовь приписывали действию
любовного напитка; теперь смеются над этим, но лекарства против
такой страсти не придумали.
Шанявский указывал на себя, говоря, что он, например, не
способен на такую любовь, но ведь не все люди сделаны по одному
образцу.
Зная Шанявского, я боялся, чтобы он не постарался втайне
удалить меня на некоторое время, надеясь таким образом излечить
меня от этой безумной страсти; я умолял его во имя нашей дружбы
не делать этого, постоянно повторяя:
— Я счастлив хоть тем, что ее вижу.
Расположение ко мне Федерб стало для всех заметным, и меня
начали преследовать намеками, а еще хуже было то, что имевшие
к ней дело обращались ко мне за помощью и посредничеством, но
я категорически всем отказывал. Вдобавок ко всему ее любовь
вызвала насмешки по моему адресу, так как Федерб вовсе не была
привлекательной. Хотя все ее боялись как огня.
Во время поездки в Краков и коронации я немножко от нее
освободился, но зато редко видел Фелицию, которая, видимо, не
искала со мной встречи и часто насмехалась над моей особой, так
как была уверена, что одним только словом сможет вернуть меня
обратно.
Но хватит об этом. Я был вынужден попросить короля,
собиравшегося тотчас после сейма на войну, взять меня к себе,
так как, обсудив и взвесив все, я не мог ничего другого
придумать.
Я должен был во что бы то ни стало вырваться из этой среды
и скрыться от преследовавшей меня Федерб, чтобы окончательно
не погрязнуть в интригах. Мною руководила также любовь к
королю, против которого выступили громадные силы язычников, во
главе с пашой, прозванным сатаной; у нас распространили сплетню,
что король собирает войско не против турок, а с целью завоевать
Пруссию и пойти на помощь французам.
55
Тем временем турки, узнав через своих шпионов о
незначительных силах, бывших в распоряжении Собеского,
приблизились с многочисленным войском к границе. Но Собеский
никогда не смущался численностью неприятеля. Он был вождем,
одерживавшим победу не превосходящими силами своих войск,
но умением занять удобную позицию и поднять дух армии. Я
уже упоминал о том, что он прекрасно знал, что турки после
первого поражения теряют все мужество. Но вот чему мне
трудно поверить — а между тем об этом говорили, — что Собеский
часто подкупал деньгами вождей, с которыми нужно было войти
в соглашение. Не ручаюсь за достоверность, но если
утверждают, что подобное происходило, то это должно что-нибудь
означать.
Когда наконец королю удалось собрать людей и выступить, то
пришлось защищаться на собственной земле вследствие вторжения
турок.
Поход Собеского был необыкновенно удачен и должен был его
покрыть большей славой, чем прежние победы.
Я не знаю, пошел ли бы другой гетман с сорокатысячным
войском на такое смелое выступление против в несколько раз
превосходящего численностью неприятеля.
Я слышал рассказы старых солдат, что Собеский под Подгай-
цами, будучи окружен со всех сторон неприятелем, все-таки
одержал верх.
Мы переправились через Днестр и дошли вдоль его берегов до
истоков Стрыя, а затем, переправившись через него, приблизились
к Журавно... Тут-то должна была произойти развязка...
В Журавне мы узнали, что все турецкие силы сосредоточены
в нескольких милях от нас. Нельзя было терять ни минуты, и надо
было немедленно до прихода турок расположиться и окопаться...
Оставив пехоту с лопатами, король с кавалерией поехал вперед,
чтобы задержать неприятельские авангарды до возведения наших
окопов.
Продвинувшись немного вперед к простирающейся долине, мы
простым глазом увидели на ней бесчисленное количество палаток,
людей и лошадей. Милосердный Боже! Дрожь пробегала по телу
при виде этой массы дикарей; и при мысли о наших
незначительных силах гибель казалась нам неизбежной.
Я находился неотлучно при короле, а потому постоянно следил
за выражением его лица, но никогда не замечал ни малейших
признаков тревоги. Каждый раз, когда положение становилось
опасным, он оживленно отдавал приказания, переезжал с места, на
место и сердился за каждое промедление.
Увидав с холма громадный кишащий муравейник, Собеский
перекрестился и после непродолжительного задумчивого молчания
начал оживленно разговаривать с рядом стоявшим Любомирским.
— Необходимо отступить к окопам в полном порядке, —
сказал он, — но по возможности медленно, так как я не думаю,
56
чтобы они сильно напирали, и, может быть, около Свечи нам
удастся их задержать, а тем временем окопы будут готовы.
Мы простояли весь день около этой речки, которую турки
несколько раз пытались перейти вброд. В некоторых пунктах
дошло до столкновения, и наконец мы вынуждены были залечь
в окопы не совсем еще законченные, несмотря на усиленную
работу. Журавно, малое местечко, расположенное на правом
берегу Днестра при устье его притока Свечи, в то время
принадлежало Сапегам. Единственной защитой был низкий вал,
покрытый дерном.
Там не было замка, был только господский, или, так
называемый, губернаторский двор, окруженный таким же валом с
четырьмя возвышенными углами, на которых были поставлены небольшие
орудия для защиты от татар, делавших частые набеги.
Вверх по Днестру на расстоянии не более полумили от Журавно
расстилается прекрасная широкая, плоская, как стол, равнина, за
которой начинаются непроходимые болота и топи.
Из этих болот струится глубокий ручей, прорезывающий
равнину в нескольких местах и приводящий в действие несколько
мельниц. На противоположном берегу реки возвышаются холмы и
бугры, покрытые густым лесом, выше и ниже Журавно.
Мы расположились лагерем в долине между местечком и
болотами. Наше левое крыло защищалось частью Журавно, частью
рекой Свечей, которую легко было в это время года перейти вброд,
хотя после дождей наступало половодье, и она текла с огромной
быстротой.
Правым крылом мы охраняли болота, а позади нас был Днестр
и леса на холмах.
Со стороны неприятельского фронта были вырыты новые окопы,
тянувшиеся от местечка до болот на расстоянии четверти мили от
вытекающего из него ручейка, русло которого тянулось
параллельно нашим укреплениям.
Не успели мы возвратиться, как король в сопровождении двух
французов, Дюпона, Любомирского, меня и еще нескольких
человек поехал осмотреть лагерь. Оживленно разговаривая с
французами, король отвел места для редутов, к устройству которых
немедленно приступили, так как каждая минута была дорога.
Вместо одного окопа, на котором были расставлены орудия, были
построены две фортификационные линии, на которых должна была
быть размещена артиллерия таким образом, что если бы турки
захватили одну линию, вторая могла бы сопротивляться, осыпая
их градом ядер.
Не теряя ни минуты, мы приступили к возведению укреплений,
хотя турки, следуя за нами по пятам, подошли так близко, что
могли видеть нашу работу.
По словам короля он предполагал, что неприятель постарается
помешать нам окопаться. Он был так в этом уверен, что полки
стояли готовые к отпору.
57
Между тем сераскир, думая более о своих удобствах, чем о
победе, спокойно начал располагаться лагерем.
Узнав об этом на следующий день, Собеский стал его
высмеивать, и я слышал, как он сказал Дюпону:
— Его слишком расхвалили; он не особенно искусный вождь,
если дает нам укрепиться, вместо того чтобы помешать. Ему
придется заплатить за это дорогой ценой.
Воспользовавшись оплошностью сераскира, Собеский велел
насыпать еще несколько редутов между болотами и лесом, что нам
впоследствии очень пригодилось.
Видя в первый раз этот край, я не мог налюбоваться его
красотой, хотя и у нас на Волыни много красивых мест. Леса, холмы,
реки, как все это было красиво, несмотря на нечистоты, которыми
поганые изуродовали эту местность. Повсюду, куда только глаз
достигал, видны были турецкие и татарские шатры.
Турецкий лагерь был отделен от нас рекой Свечею, о которой
я уже упомянул. Начиная от нее, он тянулся дальше за болотами,
окруженными татарами. Вначале я не отличал одних от других,
но скоро научился этому. Постоянно приносили разные известия,
и король пользовался услугами своих татар, проникавших в лагерь
неприятеля.
Султан Нурадин находился на возвышенности по ту сторону
реки со значительным отрядом войска.
Когда я оглядывался кругом, становилось страшно, до того
плотным кольцом мы были окружены; ни к нам не мог никто прийти
на помощь, ни мы сами не могли прорваться.
Я глядел на короля, но на лице его ничего не выражалось,
кроме воодушевления и бодрости, он ни минуты не проводил
праздно; его конь стоял постоянно наготове, и, возвратившись с одного
конца лагеря, король, подкрепившись куском черствого хлеба,
спешно вызванный в другое место, отправлялся туда. Судя по
всему, видно было, что Собеский более высокого мнения о сераскире,
чем последний заслуживал.
Мы заметили, что и он, несмотря на свои многочисленные силы,
не чувствуя себя в безопасности, сам начал окапываться, давая
нам, таким образом, лишнее время для укрепления.
Французские инженеры улыбались, а Собеский говорил:
— Слава Богу! Не так страшен черт, как его малюют.
Я впервые был на войне и, интересуясь всеми военными
происшествиями, я на досуге пробирался вместе с Моравцем к другим
окопам, чтобы поглядеть на турецкий лагерь.
Навели мосты через реку Свечу, отделявшую нас от
неприятеля, построив возле них редуты, на которых расставили орудия.
Столкновений пока не было, хотя мы ежеминутно ожидали
нападения и были постоянно настороже.
Взятые в плен татары рассказывали, что сераскир, окружив нас
со всех сторон, умышленно не торопился, надеясь взять нас
измором и заставить сдаться без кровопролития.
58
Около недели мы провели, ничего не делая, следя за всеми их
действиями.
Лишь на шестой или на седьмой день они приблизились к реке
Свече, захватив с собою громадный запас леса, жердей, хвороста
в надежде устроить плотину для переправы.
Бездействие так всем надоело, что Любомирский попросил
разрешения тоже приблизиться к реке, чтобы показать им, что в
мы приготовились к битве. Мы предполагали, что они
воспользуются заготовленным материалом и попробуют переправиться на
наш берег.
Но день прошел, и турки вечером возвратились обратно в свой
лагерь, не предприняв против нас никаких действий.
Все это было похоже на какую-то игру. Чуть они приблизятся
к реке, немедленно выступают наши полки и располагаются друг
против друга; так проходит несколько часов в выжидании, затем
турки возвращаются обратно, а спустя некоторое время и мы.
Старые солдаты, не терявшие своего юмора даже во время
мучительных пыток, отпускали шутки на счет сераскира, но были и
другие, говорившие:
— Смотрите! Он хитрый! К нему нельзя пренебрежительно
относиться.
Двадцать девятого сентября обе стороны снова выдвинули свои
войска, и сераскир, расположив часть их по правую сторону
болота, переправился через реку и подступил к нашим передним
редутам.
Король, узнав об этом, поехал лично обозреть поле действий,
отправив драгунский полк, чтобы отогнать неприятеля.
Это был первый кровопролитный бой, в котором наши войска,
жаждавшие встретиться лицом к лицу с неприятелем, сражались
с большим воодушевлением; но и турки с ожесточением боролись,
так что перевес был то на одной, то на другой стороне; но у нас
на случай неудачи были спрятаны резервные войска. К вечеру
турки должны были отступить и уйти обратно на ту сторону Свечи,
и, таким образом, драгуны остались победителями в этой первой
битве, продолжавшейся три часа.
Мы предполагали, что на следующий день турки возобновят
свою попытку, но они остались в лагере, выслав небольшие
отряды к реке, которые, не предприняв ничего, возвратились скоро
обратно.
Мы, со своей стороны, при каждом их выступлении готовились
дать им отпор, но от конца сентября до 8 октября не произошло
никаких столкновений. Нашим войскам надоело такое выжидание,
но король приказал запастись терпением.
Восьмого октября они двинулись со значительными силами, и
за первыми отрядами шли янычары; король сразу отгадал их
намерение прорваться между нашими редутами, оставляя позади себя
янычар, которые должны были овладеть нашей первой
фортификационной линией, отрезанной от остального войска. Но до этого
59
их не допустило наше правое крыло, ударив с такой
стремительностью, что турки были смяты и вынуждены удалиться.
Сераскир, командовавший ими, увидев отступающих, послал им
немедленно на помощь татар, двинувшихся со свойственным им
шумом.
Собеский тоже не ограничился прежними полками и подкрепил
их такими силами, что возле первых фортов и произошла
ожесточенная упорная схватка, от исхода которой мог зависеть результат
всей битвы, если бы, Боже упаси, они смяли нашу кавалерию,
заставив ее покинуть свои позиции.
Король не сходил с коня. Вначале бой происходил на правом
фронте, но сераскир, стянув с левого фронта значительные отряды
и переправившись с ними через Днестр и Свечу, напал с другой
стороны, с целью отвлечь наши силы, рассчитывая на их
малочисленность. Со страхом глядел я на угрожавшую опасность, а
король порывался броситься то направо, то налево, но его
удерживали.
На правом фронте бой становился все ожесточеннее, и пришлось
несколько раз послать подкрепления; татары, перебравшись через
болото, пытались зайти в тыл нашим войскам, но были
приостановлены артиллерийским огнем. Войска, расположенные в центре,
бездействовали.
Бой, начавшийся в полдень, окончился лишь к вечеру полной
победой нашей артиллерии, сломившей силы неприятеля, помешав
их дальнейшему наступлению.
Под прикрытием артиллерии мы перешли в наступление,
преследуя неприятельские силы, и значительная часть их правого и
левого крыла погибла в болотах. К вечеру берег Свечи был усеян
трупами, а оставшиеся в живых старались через мосты или вплавь
добраться до своего лагеря.
Этот день останется в моей памяти на всю жизнь, я от самого
начала до конца не сводил глаз с поля битвы.
Забыв о голоде, оглохший, оцепеневший, я стоял как истукан
и только вечером, по окончании всего, когда Моравец начал меня
теребить, я, увидев его, вернулся к действительности, до того я
весь был поглощен происшедшим боем.
С нашей стороны потери были небольшие: около двух десятков
убитых и неизвестное количество тяжелораненых; число убитых
и потонувших турок, вместе с татарами, насчитывалось до трех
тысяч.
Всю ночь напролет перевязывали раненых, поили и кормили
голодных и измученных и возносили Богу благодарственные
молитвы за дарованную победу.
На следующий день, как и следовало ожидать, турки не
трогались с места, и мы получили известие, что у них недостаток
фуража для лошадей, так как кругом на расстоянии нескольких
десятков миль все было разорено и уничтожено, и ничего нельзя
было найти, кроме засохших кустарников.
60
Все, о чем я расскажу, покажется неправдоподобным, хотя я
описываю только то, что видел собственными глазами. Мы были
окружены таким тесным кольцом, что трудно было к нам
добраться. Король, не получая известий от жены и лишенный
возможности дать ей весточку о себе, сильно тосковал; совершенно
неожиданно десятого октября — я это хорошо помню — ночью мы
увидели пробиравшегося к нам татарина, оказавшегося переодетым
послом из Львова, привезшим письма для короля, рискуя своей
жизнью.
Это был некий Дронжевский, бывший долгое время в плену у
татар и турок и научившийся их языку, обычаям, молитвам,
обрядам омовения; лицо его сильно загорело, и по наружности он
стал до того похожим на дикаря, что его все принимали за
настоящего татарина.
Его любимым удовольствием было вводить в обман турок и
татар, перехитрив их.
Он добровольно предложил свои услуги, подвергая свою жизнь
опасности, так как, в случае подозрения, его бы обыскали и нашли
бы при нем письма, спрятанные под подкладкой фуражки, зашитые
в одежде... даже в сапогах...
Король, узнав о том, что Дронжевский прибыл из Львова,
выбежал к нему навстречу и от радости чуть ли не расцеловал его.
Сняв с него одежду, мы начали ее распарывать и нашли помятые,
промокшие, испачканные бумаги, из которых король узнал, что
Радзивилл, гетман литовский прибыл во Львов с десятитысячным
литовским войском, но не мог с ним пробраться к нам на помощь.
В письмах сообщалось также о том, что в Львове находились
шурин короля Бетюн, приехавший с каким-то поручением от
французского короля и англичанин Гайд.
Последний, считая татар народом, уважающим международное
право, настоял на том, чтобы послать герольда, в парадной одежде,
в сопровождении переводчика, к татарам с просьбой пропустить
его к королю, принимая во внимание, что он английский посол.
Татары, встретив ходатаев, зверски их убили и послали
отрубленные головы сераскиру; после этой попытки у англичанина пропала
охота пробраться в Журавно.
Король также получил письмо от королевы, которое доставило
ему большую радость, и он, целуя бесчувственную бумагу, читал
его бесчисленное количество раз.
Дронжевский, не довольствуясь первой удачей, отдохнув и
подкрепив свои силы, предложил свои услуги королю для доставки
писем во Львов.
После выпивки он, находясь в хорошем расположении духа,
начинал подражать татарам и, усевшись на диван, распевал
турецкие молитвы, то поднимая руки к небу, то складывая их на
груди, ударяя челом о землю.
Наш ксендз упрекал его за то, что он научился турецким
молитвам, но он оправдывался тем, что Господь знает и турецкие
61
молитвы и увидит, что Дронжевский не отрекся от Христа,
несмотря на то что татары хотели насильно заставить его перейти в
магометанскую веру.
После первой битвы сераскир, очевидно, возвратился к своему
первоначальному намерению взять нас измором.
Продовольствия для солдат у нас было достаточно, но
относительно лошадей дело обстояло хуже, и кони поиздыхали бы от
голода, если б не роща, находившаяся между лагерем и Днестром,
где скот находил кой-какой корм.
Наши лошади невзыскательны, пожуют и солому, лишь бы была
вода для питья; они хоть и похудеют, но выдержат.
Сераскир, может быть, еще больше нашего страдал от
недостатка корма для лошадей, потому что на протяжении двенадцати
миль кругом не было никакой растительности.
А так как этот нечестивец потерпел неудачи в двух сражениях,
то составил план, как добраться до нас в крепость при посредстве
траншей, над устройством которых днем и ночью, без отдыха,
работали янычары. Сераскир велел перенести туда свою палатку и,
наблюдая за работами, торопил их.
Надо им отдать справедливость, что они довольно ловко
построили семь редутов, куда поместили всю свою тяжелую артиллерию,
состоявшую из двадцати шести орудий, в том числе пятнадцати
крупных, употреблявшихся при осаде крепостей.
Орудия эти были размещены вдоль берега ручейка, и по целым
дням, без отдыха, из них палили в нас, причинив нам много вреда
и убив много людей. Король был очень огорчен смертью генерала
Жебровского, сраженного пулей, и велел над его могилой поставить
памятник.
Солдаты побросали свои палатки и, выкопав рвы, спрятались в
них, но Собеский остался в своем шатре, не перенеся его даже в
более безопасное место. Он говорил, что кому пуля суждена, тому
не миновать ее.
Нам приходилось очень круто.
Это продолжалось довольно долго, пока король или французские
инженеры не додумались выкопать такие же рвы по направлению
от нас к турецким войскам. Начали рыть и приближаться к ним,
но, признаюсь, я не понимал, с какой целью.
Я не заметил никакой тревоги среди нашего войска, хотя оно
терпело недостаток во многих необходимых предметах, и наше
положение было отчаянное; все шутили и смеялись, как в былые
хорошие времена; король тоже не был озабочен.
Но нам угрожало остаться без снарядов, что скрывали от нас, так
как их было немного и приходилось отвечать на турецкий огонь.
Мы узнали от пленных татар, что у неприятеля лошади
издыхают в громадном количестве, и, хотя трупы закапывают в землю,
невыносимая вонь распространяется повсюду.
Так продолжалось до 21 октября. Мы надеялись на то, что
нехристи не перенесут голода и холода.
62
Я не могу объяснить, что произошло, но сераскир прислал нам
нашего пленного с предложением мира. Я слышал совещание,
переговоры и ответ.
Вначале король поставил первым условием, что не может быть
и речи о дани. Затем он предложил вступить в бой, если турки
отступят за ручеек и дадут ему место развернуть войска. Наконец,
сераскир уступил, и был заключен мир чрезвычайно выгодный для
нас при тех условиях, в которых мы находились. И всем этим мы
были обязаны мужеству Собеского и его знакомству с характером
турок.
Поговаривали, что сераскир дал себя подкупить подарками;
допустим, это было так, но нужно было обладать особенным
искусством, чтобы заставить противника, имевшего такой
численный перевес над нашими ничтожными силами, окруженными со
всех сторон, согласиться на условия мира, которыми мы могли
гордиться.
Хотя и прославляли все военные действия Собеского, но
каждому, кто смотрел на его подвиги, казалось, что его не оценили
должным образом.
Благодаря своему уму и мужеству, он шел против всех и,
прокладывая себе дорогу с саблей в руках, подавал пример другим.
Он как бы обладал даром ясновидения и предвидел то, чего другие
не замечали.
О себе лично за время военных действий под Журавном много
рассказывать не буду. Я тут впервые понюхал порох, услышал
свист пуль и увидел опасность для жизни и свободы, так как
предстояли смерть или татарский плен.
Легче было бы перенести все это, если б я принимал активное
участие в битве, но быть в качестве зрителя не особенно приятно.
Слышал я с Моравцем и разговоры многих малодушных,
находивших, что смерть или неволя неминуемы. Даже старые солдаты
моментами сомневались... Я уже упоминал о том, что мне всегда
попадало, и хотя я не участвозал в бою, но и на сей раз получил
память от татар.
Я вместе с Моравцем подошел к правому кры^у, чтобы
посмотреть на стычку с татарами, и, увидев под кустами лежащего
драгуна, подбежал к нему в надежде его спасти.
Казалось, что наши войска отогнали татар и что последних
больше нет.
На мне был кафтан из лосиной кожи, а поверх меховая куртка,
но не было никакого ланциря.
Когда мы приблизились к мертвому драгуну, в воздухе со
свистом пронеслось несколько стрел, и я почувствовал, как мою левую
руку пронзило что-то острое.
В ней засела татарская стрела, и я хотел ее сейчас же вырвать,
потому что поговаривали об отравленных стрелах, но она так глубоко
застряла, что ее невозможно было вытащить. Пришлось возвратиться
обратно в лагерь, где Януш, надрезав рану, вынул стрелу, которую я
63
сохранил на память. Рана долго гноилась и не заживала, даже и
теперь, на старости лет, я чувствую перед дождем боль в левой руке.
Подобных мелких приключений было немало.
Припомню еще то, что многие из погибших, предчувствуя свою
смерть, накануне говорили об этом и торопились исповедаться и
причаститься Святых Тайн.
Мне несколько раз пришлось быть свидетелем, как вечером, во
время мирной беседы за бокалом вина, кто-нибудь из участников
срывался с места со словами:
— Завтра меня не минет пуля...
Его высмеивали, да и казалось, что и он особенного значения
этим словам не приписывал, а на следующий день его предсказание
сбывалось.
После заключения мира мы все радовались и надеялись, что
немного отдохнем, как и наш король, хотя на его долю редко
приходился отдых, благодаря его жене и Пацам.
Бедный король, жизнь без жены казалась ему невозможной,
так он ее любил, или, вернее, она обладала такой притягательной
силой, хотя ему приходилось, находясь с ней вместе, постоянно
ссориться, спорить и страдать, потому что она никогда ничем не
была довольна.
Достигнув трона, она требовала для себя и для своей семьи
необыкновенного почета, титулов и хотела обеспечить в будущем
для себя и для своей семьи место среди монархических
династий. Она мечтала о том, что польский трон со временем
перейдет к сыну; дочь она хотела выдать замуж за царствующую
особу, а так как прошлого уже нельзя было изменить, то она
старалась выхлопотать во Франции для своего отца и брата
княжеский титул.
Людовик XIV, нуждаясь в поддержке и желая союза с Польшей,
не прочь был иметь Собеского на своей стороне, но необыкновенно
строгий, когда дело касалось раздачи родовых привилегий, он, как
бы наперекор королеве, чинил всевозможные препятствия, доводя
ее этим до отчаяния. Ее преклонение перед французским королем
постепенно заменялось ненавистью и желанием мести. Тщетно
старались задобрить королеву незначительными любезностями: Мария-
Казимира ими не удовлетворялась.
Враги короля, воспользовавшись этими интригами,
распространили среди шляхты слухи о том, что Собеский ставит Польшу в
зависимое положение от Франции, унижая ее своим заискиванием
перед французским королем.
Приверженцы австрийского дома, во главе с Пацами, имевшие
сношения с епископом Марсельским и другими французскими
агентами, стали противниками короля.
Для сохранения домашнего спокойствия Собеский, несмотря на
свои протесты и вопреки своим убеждениям, часто уступал жене,
и она, вместе с Яблоновским и французами, управляла больше,
чем король. В мирное время он проводил свой досуг в огороде, на
64
охоте, или в разговорах, или в чтении книг, из которых мог что-
нибудь почерпнуть.
В особенности он любил людей, с которыми мог вести
разговоры на религиозные и философские темы; если у него был
недостаток в собеседниках, то... смешно даже писать об этом, но
я его слышал по целым часам, разговаривающим с Яношем и
со своим фактором Ароном о Библии и о Талмуде; он их
расспрашивал, требовал разных объяснений и вел с ними споры; он
очень любил ученые разговоры, для которых ему всегда был
нужен собеседник.
Если к нему попадало ученое духовное лицо, то Собеский
задерживал его иногда до поздней ночи, обсуждая с ним разные
теологические вопросы, и это было его любимым занятием.
Он был любителем новых книг, в особенности французских, и
можно было снискать себе его расположение, доставив ему эти
книги. Несмотря на свою серьезность, он, попав в веселую
компанию, тоже веселился, любил пошутить и, чтобы не обидеть
общество, не отказывался выпить, хотя не переносил пьяниц. Он
никогда не проводил время в обществе пустых людей.
Как раз в то время, когда королева через мужа пыталась
выхлопотать у французского короля княжеский титул для отца и
брата, произошло особенное событие, кажущееся
неправдоподобным, хотя оно случилось в действительности. Какой-то негодяй,
бывший раньше бедным, незначительным шляхтичем, приобрел во
Франции, где за деньги можно было всего добиться, титул и звание
королевского секретаря.
Его мать когда-то видела во Франции Собеского еще молодым,
а может быть, и слышала о некоторых его любовных интригах в
Париже.
Сын по совету матери решил воспользоваться избранием
Собеского и шантажировать его, выдавая себя за его сына Бризасье,
родившегося после отъезда Собеского из Франции.
Составили целый заговор и секретарь французской королевы
написал от ее имени ложное письмо к польскому королю, в котором
она подтверждала, что Бризасье действительно требует содействия
короля для получения княжеского титула.
Письмо это было секретно передано некоему Акакию в Данциге,
который состоял агентом французского правительства в этом
городе, с поручением доставить его в собственные руки короля и
позаботиться о том, чтобы королева не увидела этого послания.
Воспользовавшись случаем, нашли доверенного человека,
который передал Собескому письмо, написанное ему якобы от имени
королевы, рекомендующей своего секретаря.
Я не присутствовал при получении письма, но то, что описываю
теперь, я узнал от лучшего друга короля и свято верю его рассказу.
Прочитав письмо, Собеский буквально остолбенел. Не без грехов
молодости прошло время его пребывания в Париже, но мадам
Бризасье он не помнил.
65
— Накажи меня Бог, — сказал он подателю писем, — накажи
меня Бог, если я помню об этой женщине... Я не знаю и не
понимаю... Правда, что много лет прошло и немало стерлось в
памяти, но, если б у меня были более близкие отношения с этой
женщиной, у меня бы осталось какое-нибудь воспоминание о ней...
Я мог бы предположить, что это обман, посягательство на мой
карман, но сама французская королева уверяет, что ей известно
об этом, и ручается за честность этих людей...
Король ударял себя в грудь.
— Меа culpa!1 Это возмездие за грехи юности. Сохрани Боже,
чтобы об этом узнала королева. Она и без того ежедневно
попрекает меня всеми моими прежними увлечениями... Достанется же
мне и за эту... как же ее зовут? Бризасье! Бризасье! — И он
пожимал плечами, не зная, как ему поступить.
В течение нескольких дней король был очень озабочен, вздыхал,
советовался с приятелями, наконец, не смея отказать французской
королеве, решил втайне написать письмо к Людовику и попросить
его посредничества, для того чтобы уладить дело с секретарем.
Но легко было предвидеть, что в Париже, где на страже
польских интересов находились Бетюн, шурин королевы, и ее отец,
такое письмо не останется секретом... и содержание его станет
известным Марысеньке.
Король хотел хоть временно отвлечь неминуемую грозу.
Старый маркиз д'Аркиен, отец королевы, старавшийся
заполучить княжеский титул для самого себя, тотчас же узнал, что Со-
беский, вместо того чтобы писать о нем, хлопочет о каком-то
бедняке... неизвестно почему и для чего. Это наделало много шума
в Париже и скоро стало известно в Варшаве.
Понятно, что королева первая узнала об этом и грозно
накинулась на мужа. Одному Богу известно, что между ними
произошло, но, как истая женщина, королева, разобравшись в этой интриге,
открыла в ней фальшь и обман. Написали во Францию и попросили
расследовать, действительно ли королева хлопотала о получении
титула для своего секретаря, но оказалось, что она ни о чем не
знала и письмо было подложное.
Обманщика наказали, прогнав его со службы и засадив вместе
с матерью в тюрьму; король много страдал из-за всей этой истории,
так как королева, несмотря на его невиновность, не скоро его
простила. Вследствие того что Людовик XIV, вежливо отказавшись
наградить господина д'Аркиена княжеским титулом, предложил ему
удовольствоваться орденом, королева страшно рассердилась и
превратилась из французской партизанки в покровительницу
австрийского соглашения и австрийских приверженцев. В заботах и
хлопотах у нас проходило время, потому что явно разорвать с
Францией не хотели, избегали этого, а королева, затаив в душе
обиду, почтительно отзывалась о Людовике XIV.
1 Моя вина (лат.).
66
Прежде чем говорить подробнее об этих отношениях, вспомню
нечто о себе и о своих переживаниях.
Король, которому я у Журавно старался, по возможности,
услужить, видя меня постоянно старательным, благоразумным, в
хорошем расположении духа, — а он не переносил возле себя
печальных лиц, — полюбил меня и иногда даже фамильярно
подшучивал надо мной. Я не могу жаловаться, потому что был
награжден подарками, и что еще дороже — его доверием. Кто-то
меня выдал, рассказав королю о моей безумной любви к Фелиции,
и он постоянно отпускал шутки по этому поводу, советуя мне
излечиться от этой болезни, утверждая, что эта девушка
непостоянна и что она кружила голову и другим. Но мне кто-то удружил,
рассказав королю и о Федерб, и он со смехом сватал мне Скелета,
расхваливая ее как благоразумную и серьезную девушку.
— Эта тебе не изменит, — со смехом говорил он, — так как
вряд ли кто ею соблазнится.
Мне неприятны были шутки короля, но и в них чувствовалось
его доброе сердце.
Возвратившись из похода, мы присоединились к двору
королевы, и Шанявский тотчас предупредил меня, чтобы я вычеркнул из
своего сердца Фелицию и не думал бы о ней, потому что к ней
сватался француз Бонкур, которому королева обещала ее руку.
Бонкур был слуга королевы, исполнявший ее секретные
поручения и пользовавшийся большим уважением; говорили, что он
немало денег скопил, выманив их у королевы. Неказистый,
немолодой, немного рябой, но находчивый и живой, он был большим
интриганом и плутом.
Несмотря на то что всем известно было, что он жених
Фелиции, и она этого не оспаривала, девушка по приезде
встретила меня очень сердечно, окинув нежным взглядом, как будто
в действительности была неравнодушна ко мне, и я снова
потерял голову.
Для меня это было непонятным, и хотя я знал, что
француженки привыкли обманывать своих мужей и что обыкновенно их
мужья не владеют их сердцем, но во мне это вызвало отвращение
и презрение, потому что я человек прямой.
Когда при встрече она начала строить мне глазки, я ее
поздравил как невесту Бонкура.
— Еще далеко до этого, — произнесла она, — королева меня
сватает, а я не хочу сопротивляться моей благодетельнице и
покровительнице, но я Бонкура не люблю.
Расставшись с ней, я замечтался и готов был поверить кокетке,
но на следующий день она уже кокетничала с другими, не обращая
на меня внимания.
С ума сойти можно было от этой девушки! В довершение всех
бед, Федерб, снова воспылав ко мне, к моему огорчению, начала
меня преследовать своим вниманием. Шанявский, шутя, завидовал
мне, повторяя:
67
— Ты должен благодарить Бога, что вскружил голову старой
деве, так как она имеет большое влияние на королеву, и даже
король перед ней заискивает.
В действительности король побаивался Летре и Федерб и часто
обращался за помощью к одной из них, когда ему нужно было
добиться какой-нибудь уступки от жены. Точно так же епископ
Форбен пользовался их услугами, подкупая их реликвиями.
Обе девушки постоянно соперничали, хотя ни одной из них не
удалось лишить другую расположения королевы. Случалось, что в
продолжение нескольких недель Федерб брала верх, находясь
исключительно при королеве, относившейся временно равнодушно к
Летре; затем королева меняла свое расположение, проникалась
любовью к Летре, и Федерб должна была придумывать, как бы опять
угодить королеве. Почти все, хлопотавшие о чем-нибудь у
королевы, предварительно заручались согласием одной из фавориток.
Для виду они жили в мире и согласии, но в действительности
вредили одна другой, безуспешно стараясь одна другую вытеснить.
Княжна Радзивилл, приезжая к брату, каждый раз привозила
для обеих подарки; то же самое впоследствии должна была делать
родная сестра королевы Велепольская, хотя ни одна, ни другая не
предохранили себя этим ни от сплетен, ни от подозрений.
Федерб, не скрывая, хвасталась своим влиянием и вздумала
мне покровительствовать, но Летре, следившая за ней, заметив ее
намерения, не могла удержаться, чтобы не сделать чего-нибудь ей
наперекор.
Однажды во время обеда, в отсутствие Федерб, оставшейся у
королевы, которая в это время была более расположена к Федерб,
чем к Летре, последняя, встав от стола и с улыбкой приблизившись
ко мне, выразила желание со мною поговорить.
— Садитесь, — сказала она, отойдя со мной в сторону. — Я
давно уже знаю, что вы влюблены в Фелицию, которую королева
выдает за Бонкура, и что старая Федерб льнет к вам. Все над ней
насмехаются.
Я опустил глаза.
— Что касается Фелиции, — продолжала она, — это
ветреница, которая может еще остепениться, и хотя королева вследствие
нашептываний Федерб обещала Бонкуру выдать за него замуж
Фелицию, но это еще дело поправимое и можно ему подставить
ножку. Я нарочно теперь заговорила с вами. Вам нечего бояться
Федерб, я вам желаю добра и не позволю вас обидеть. Она
хвастается тем, что имеет большое влияние на нашу госпожу, но это
неправда. Королева только по привычке держит ее при себе, хотя
по целым дням с ней ни слова не молвит.
Я поблагодарил ее за ее добрые желания, и, не отрицая того,
что Фелиция мне очень нравится, намекнул на то, что не желаю
ей навязываться.
— Вы, милостивый государь, слишком вежливы с Федерб, —
продолжала Летре, — она это ложно понимает и напрасно питает
68
надежду. Вы должны ей дать понять, что полюбить ее не можете.
Бояться ее вам нечего, доверьтесь мне.
Я вторично поблагодарил, добавляя, что никакого страха во мне
не было, что я не честолюбив и не добивался карьеры, а хотел
лишь служить королю.
— Существование мое обеспечено наследством отца, и я
поступил на службу, чтобы смолоду увидеть свет и познакомиться с
ним. Я останусь при дворе до тех пор, пока их величества будут
довольны моими услугами; а если, Боже сохрани, попаду в
немилость, то уеду в деревню.
Мое равнодушие не понравилось m-lle Летре.
— Разве это возможно? — прервала она. — Посмотрите на
тех, которые, несмотря на полученные от родителей крупные
наследства, хлопочут получить еще староства и ордена. Я знаю о
том, что король вас любит, королева тоже всегда была довольна
вашими услугами, поэтому этим надо воспользоваться; но вы
можете обойтись и без Федерб, и она вам не может повредить, а
я вам желаю добра и помогу уладить дело с Фелицией. Она была
бы дурой, отдав предпочтение старому, небогатому Бонкуру,
который живет лишь на свое жалованье, перед вами, молодым,
состоятельным, имеющим столько надежд на будущее. Поэтому не
теряйте надежды и дайте Федерб понять, что ее любовь
безнадежна.
Я ответил, что относился всегда лишь с уважением к Федерб
и другого чувства к ней не питал.
Разговор продолжался довольно долго, а так как обе фаворитки
имели своих приверженцев при дворе, то в тот же день Федерб
стало известно о моем интимном разговоре с m-lle Летре.
На следующий день, вырвавшись на минутку от королевы, она,
обеспокоенная, отыскала меня, желая узнать, чего хотела Летре и
о чем мы так долго совещались. Я, смеясь, ответил, что Летре
хотела узнать подробности о жизни в лагере под Журавном, и
только об этом расспрашивала.
В ответ на это Федерб покачала головой.
— Берегитесь Летре, — продолжала она, —- я не хочу ей
вредить, но, желая вам добра, должна вас предупредить, что это змея,
ящерица; она умеет лишь вредить, пользуясь для этого удобным
случаем, но помочь кому-нибудь она и не умеет, и не в состоянии.
Королева хотела бы от нее отделаться, так как она давно уже ей
надоела, но кто ее возьмет? У нее астма, и при каждом быстром
движении она кашляет и задыхается. Я знаю о том, что она меня
не любит и способна оклеветать меня перед вами, потому что
завидует, что я пользуюсь любовью королевы.
— Мы не говорили о вас, — добавил я, — да и повода к этому
не было.
— Все-таки остерегайтесь, — добавила Федерб. — Она может
вам подать надежду, обещать золотые горы, хвастаясь своей силой;
но, поверьте мне, она никакого влияния не имеет.
69
Я очутился в довольно неприятном положении между этими
двумя завистливыми фаворитками королевы. Вспомнив, что мать
уже несколько раз приглашала меня приехать ее проведать, я
решил попросить у короля отпуск на несколько недель. Шанявский,
желая меня удалить от Фелиции и надеясь, что за время моего
отсутствия ее выдадут замуж, торопил меня, настаивая на моем
отъезде.
— С глаз долой, из сердца вон, — говорил он, — пока ты ее
будешь ежедневно видеть, ты не освободишься от оков, которые
необходимо во что бы то ни стало сбросить, потому что эта
девушка — неподходящая жена для шляхтича-помещика. Она с
детских лет была придворной и ею останется до самой смерти.
Я поспешил к королю с покорной просьбой отпустить меня в
деревню к матери, на что он немедленно согласился; он не велел
засиживаться, потому что я ему буду нужен.
Я собрался в дорогу, попрощавшись за столом с моими
покровительницами, которые очень удивились, узнав о моем отъезде.
Мать, сестра и соседи — все были рады моему приезду и устроили
мне сердечный прием. Они с удовольствием слушали мои рассказы
о Журавно, о короле, о турках и о том, как сераскир после
нескольких недель осады, не добившись никаких результатов,
попросил о заключении мира. За этот мир все благословляли короля,
потому что Речь Посполитая, измученная войнами и набегами,
жаждала отдыха.
Большая часть помещиков превозносила до небес короля, но не
могу утаить и того, что против него раздавались злобные голоса.
Его обвиняли в излишней уступчивости и снисходительности к
Франции, в тайных происках с целью сохранить трон для своих
детей и т. п. Королева вообще но имела друзей, и всякий, не
злословивший по ее поводу, считался ее сторонником; но таких
было немного.
Шепотом передавали, что она находится в близких отношениях
с Яблоновским и всем управляет. В особенности роптали против
короля в Подолии, обвиняя его в том, что он не старался во что бы
то ни стало отвоевать Каменец, в котором турки переделали костел
на мечеть, укрепившись в нем с намерением защищаться до
последней капли крови. Собескому ставили в вину, что он забыл об
этой крепости, считавшейся самой дорогой жемчужиной короны,
хотя каждый знал, что мысль о Каменце тяжелым камнем давит
сердце короля, заставляя его днем и ночью думать о его
возвращении.
Меня часто приглашали к Стецким и к другим соседям; ксендзы
в Луцке звали к себе, и если б я хотел, то ежедневно мог быть
в гостях, но я охотнее всего проводил время с матерью и с сестрою.
О Михаиле мы знали только то, что его переводили из одной
местности в другую, но что он был доволен своей судьбой.
Мать не надеялась, что судьба забросит его в Житомир и она
его там увидит. Она завела со мной разговор о том, что пора
70
было бы оставить двор и подумать о собственном гнезде, намекая
на то, что мне легко будет найти подходящую девушку, молодую,
красивую, богатую, из хорошей семьи. Поблагодарив мать за ее
заботливость, я ответил, что у меня пока еще нет желания
жениться и я не намерен торопиться.
На это она мне ответила:
— Дорогой Адась, ради Бога, не ищи только жены среди
городских жительниц или придворных фрейлин, потому что ни одна
из них никогда не привыкнет к деревенской жизни и будет
тосковать по прошлому. Пока я буду жить, я этого не допущу, но
надеюсь, что и после моей смерти ты послушаешься моего совета
и поищешь жену среди равных тебе.
Я не признался перед матерью в своей любви к Фелиции,
потому что она никогда бы не согласилась на такой выбор, во-первых,
потому, что девушка, воспитанная при королевском дворе,
привыкла к роскоши, во-вторых, потому, что она была француженкой,
а у нас французов не любили.
Независимо от моего желания я должен был продлить свое
пребывание в деревне, так как, простудившись на охоте, я заболел и
пролежал более недели без сознания в бреду. Благодаря ксендзу
канонику, который был знаком с медициной, я поправился, но
только по истечении нескольких месяцев ко мне вернулись
прежние силы. Вследствие этой болезни я лишился всей своей
прекрасной шевелюры, так как мои волосы сильно поредели.
За это время король с королевой поехали в Данциг, где у них
родился сын.
Жители города Данцига приняли королевскую семью особенно
пышно и торжественно; это для них не было новинкой, потому что
они единственные в свое время устроили Марии-Людвике более
богатый и блестящий прием, чем столица. Но я знал об этом
пребывании королевской семьи в Данциге только то, что мне сообщал
Шанявский, уверяя меня в том, что король осведомлялся обо мне и
велел меня уведомить о том, что я, по возвращении, ему буду нужен.
За время болезни я мало знал о том, что происходит при дворе
и на свете вообще, но я был не особенно любопытен, так как знал
о том, что мир и спокойствие царят, а потому не ждал особенных
событий. С Москвой тоже продлили сроки договоров, и с этой
стороны никакой опасности не угрожало. Когда я, благодаря
материнским заботам, поправился и волосы на моей голове немного
отросли, я поехал обратно на службу, незадолго перед отъездом
королевской четы в Литву на сейм. Много было шума и крика по
поводу того, что Литве сделали такую уступку, на которой
настаивали Пацы. Но они ошиблись в своих расчетах, надеясь на
назначение сейма в Вильне, потому что король наперекор им выбрал
Гродно, не желая дать возможности виленскому воеводе слишком
проявить свою власть.
Правду сказать выбор Гродно не был удобным, потому что в
то время, когда там должен был состояться первый сейм, город
71
состоял сплошь из деревянных построек, среди которых было мало
удобных для жилья домов. Замок очень запущенный, неудобный,
в особенности зимою, пришлось второпях приводить его в порядок,
потому что со всех стен осыпалась штукатурка, крыши сгнили и
в комнатах не было полов.
При дворе я нашел неожиданную перемену, которой мне не
хотелось верить. Королева, хотя она это скрывала, зная, что ей
не удастся склонить мужа на свою сторону, теперь была заодно с
Пацами, сторонниками Австрии и противниками короля,
старавшимися ему вредить и поступать наперекор. Обиженная на
Людовика XIV, оказавшегося недостаточно благосклонным к ней,
королева соединилась с приверженцами Ракуского дома против
французского.
Таким образом, случилось невероятное: королева была заодно
с Пацами, а король с Сапегами, которым он покровительствовал.
Двор совершил свою поездку в Гродно в очень плохое время, по
отвратительной дороге, большей частью по замерзшим грудам
непроходимой грязи, где колеса застревали, и это страшно замедляло
путешествие, так как часто ломались экипажи. Королеве, которая
была беременна, пришлось испытать столько неудобств и страха,
что она сейчас по приезде в Белу слегла в постель.
Радзивиллы приготовили в Беле настоящий королевский прием.
Достаточно указать на то, что они выписали музыкантов и певцов
из Италии, а для короля наполнили зверинец медведями, лосями
и оленями, пойманными в Радзивилловских пущах. С утра до
вечера был большой съезд: приглашенных гостей кормили, поили,
устраивали им великолепные развлечения, а так как дело шло о
снискании расположения королевы, то ей преподносили подарки,
заботились об удобствах для нее, стараясь исполнить все ее
желания. Но болезнь королевы нарушила все планы и — что еще
хуже — лишила короля надежды на наследника, чем он был очень
удручен. После такого происшествия врачи советовали королеве
несколько недель отдохнуть в Беле; король должен был поехать
на сейм, открытие которого должно было состояться в назначенный
для этого день.
Но королева никоим образом не хотела на это согласиться.
Видно было, что ее раздражал вид роскоши и богатства,
сопровождавших выступление сестры короля; к тому же она не хотела
отпустить его одного и, несмотря на слабое здоровье, она,
отказываясь от отдыха, сорвалась с постели, настаивая на том, чтобы
поехать вместе с мужем в Гродно. Пришлось приспособить для
королевы возок, чтобы она могла в нем лежать, и мы гораздо
раньше, чем предполагали, медленными шагами тронулись по
направлению в Гродно.
Дорогой король был озабочен состоянием жены. Между ним
и королевой происходили частые споры, чуть ли не война, и Со-
беский, не смея явно противоречить, прибегал к посредничеству
друзей.
72
Когда мы прибыли в Гродно, сенаторов было мало, и мы должны
были ждать, пока их соберется достаточное число. Тем временем
между коронным хорунжием Любомирским и Вишиневецким
началась борьба из-за имущества Мальтийского ордена. Обе стороны
прибыли с большим количеством солдат, как бы намереваясь в
действительности разрешить вопрос с помощью оружия.
Королю прежде всего пришлось успокоить умы и довести их до
соглашения, что не легко было исполнить.
Затем поднялся спорный вопрос о канцлерстве, перешедшем
после внезапной смерти Олыновского к архиепископу Выдзге, и от
которого он должен был отказаться, так как король обещал
подарить эту должность своему шурину Велепольскому.
К концу произошло большое смятение из-за того, что кто-то
под пьяную руку выстрелил в бюст короля, и его хотели
приговорить к смертной казни за crimen lesae majestatis1; но король его
помиловал.
Затем рассматривалось дело ярославских иезуитов и жертвой
оказался королевский духовник, отец Пекарский, который заболел
и умер от обиды на короля и огорчения, что осрамили орден,
несмотря на то что Собеский был очень снисходителен к иезуитам.
Все вместе взятое, а также пребывание в маленьком, тесном месте,
куда съехалось значительно большее количество людей, чем их
могло там поместиться, неприязненные стычки, вызванные
теснотой, угрозы пьяных, постоянные драки не дали нам ни минуты
отдыха. Король тоже им не пользовался, потому что его постоянно
тревожили, а королева часто поступала наперекор ему. А так как
она только что оправилась после болезни, то он, опасаясь за ее
здоровье, уступал ей скрепя сердце.
При таких несчастных обстоятельствах Собеский должен был
притворяться спокойным, развлекаться, мирить, приводить к
соглашению и предостерегаться от соблазна. Посредником между ним и
королевой был гетман Яблоновский с немногочисленными своими
друзьями.
Король хотел войны с целью отобрать Каменец, и к этому
нужно было приготовить общественное мнение. Королева, не обращая
внимания на такой важный вопрос и думая лишь о себе самой, не
сказав ни слова мужу, воспользовалась отсутствием некоторых
нерасположенных к ней послов и уговорила канцлера своего Залу-
ского внести, без ведома короля, на обсуждение сейма вопрос об
обеспечении за ней государственного содержания. Король, всегда
очень терпеливый и привыкший переносить иго жены, на этот раз
возмутился и принял Залуского с нескрываемым раздражением,
чуть не прогнав его из комнаты. На гневную вспышку короля
Залуский довольно хладнокровно ответил:
— Если ваше величество забывает о том, что я духовное лицо,
то прошу помнить о том, что я польский шляхтич.
Оскорбление Величества (лат.).
73
Надо заметить, что Собеский его очень любил, ценил и не мог
без него обойтись.
Оскорбленный при свидетелях Залуский уехал домой, громко
заявляя о том, что отказывается от своей должности и снимает с
себя ответственность за все.
Доложили об этом королю, гнев которого уже остыл, а так
как его раздражение, собственно говоря, было направлено не
против Залуского, а против королевы, то он сильно сожалел о
случившемся.
Собеский был очень огорчен, не зная, как поступить. К счастью
княжна Радзивилл предложила свое посредничество, чтобы
помирить короля с Залуским.
Король страшно злился, но надо сказать в его оправдание, что
его раздражали от утра до вечера, ни минуты не оставляя его в
покое, и если б он был ангелом доброты, так и то мог бы
возмутиться. К несчастью, жертвой его раздражения пал Залуский,
который хотя и должен был повиноваться королеве, но также обязан
был предостеречь короля о намерениях его жены. Он оправдывался
тем, что, зная взаимные отношения супругов, он не сомневался в
том, что вопрос об обеспечении королевы внесен с обоюдного
согласия.
Княгиня немедленно поехала вслед за Залуским, и ей удалось
уговорить его возвратиться вместе с ней в замок.
Когда король увидел Залуского (я был при этом), он протянул
ему обе руки.
— Отец мой, — воскликнул он, — прости меня, но мы оба
погорячились! Обещай мне не сердиться, и я даю тебе слово, что
не дам повода для спора.
И они расстались в полном согласии.
Мария-Казимира была причиной этого огорчения короля, так
же, как бывала причиной его огорчений и в других делах, потому
что она никогда не считалась с ним. Какое ей было дело до
Каменца, когда она хотела уладить собственные дела, а алчность ее
была ненасытна.
История с Залуским, к счастью, быстро улаженная, благодаря
сестре короля, не стала широко известной и осталась без
последствий... Королева, настояв все-таки на своем, сердилась на мужа,
что он посмел противиться ее желанию, а король косился на жену
за ее поступок, но не осмелился делать ей упреки.
К общему удивлению, неожиданно для всех оказалось, что,
когда был поднят вопрос о назначении содержания королеве, ни ее
друзья, ни ее партия явно не поддержали его, а вместо них
выступили с поддержкой — кто? — Пацы!
Вишневецкий грубо заявил, что, принимая на службу кухарку,
назначают ей жалованье, и неужели королеве можно было бы в
этом отказать? Вся эта клика, наперекор Собескому, так
распиналась, что королеве назначили двести тысяч злотых, обеспеченных
доходами со староства и с соляных копей в Величке. Время ушло
74
на разрешение этих вопросов, и то, что больше всего интересовало
короля — набор войска для похода на Каменец, не было
утверждено. Король был так погружен в свои мысли, что не разговаривал
с женой, хотя она старалась его задобрить.
Австрийский посол, с одной стороны, с другой — Бетюн
старались склонить короля на сторону своего повелителя, но король не
хотел перейти ни на одну, ни на другую сторону.
Одним словом, этот сейм наделал нам много хлопот, так как
в конце концов трудно было отличить друга от врага. Я в то время
не очень-то был посвящен в политику и, признаюсь, чувствовал
себя как будто с повязкой на глазах.
Натянутые отношения между королем и королевой, по углам
разговоры шепотом, обещания... кислые лица...
Если случалось, что король вставал веселым, то, как только
начинали к нему сходиться, чело его омрачалось. Приезжал посол
от татар, от Москвы, и оба уехали ни с чем.
Всю зиму мы промучились в Гродно, и верба уже начала
расцветать, когда все, устав, решили во всем голосовать, согласно
желаниям короля, полагаясь вполне на него. Собеский взял на себя
ответственность за договоры с Францией, Веной и Швецией и
вздохнул облегченно, когда наконец ему предоставили свободу
действий; он помирился с женой, попросив у нее прощения, и попал
по-прежнему под ее влияние. Королева под свою собственную
ответственность втайне продолжала осуществлять свою политику,
направленную против Франции.
Король задался той же целью, которую с давних времен
преследовали христианские государи, а именно — сломить сообща
оттоманское могущество.
Все обещали свою помощь, но главная тяжесть легла на Речь
Посполитую, подвергнувшуюся опасности нападения нехристей. А
желание отвоевать Каменец должно было довести Польшу до
войны, потому что король об уступке и слышать не хотел.
Приготовляясь к войне с нечестивцами, Собеский одновременно
послал с поручением во Францию преданного ей Морштына, а в
Вену Радзивилла. Он лично наблюдал за всеми приготовлениями,
и было видно, что он рассчитывает на продолжительную войну.
Даже такой слепой, как я, мог заметить, что неприязнь между
Парижем и Варшавой увеличивалась, потому что, как мне
говорили, Людовик XIV, вследствие нелюбви к Австрии, держал
сторону Турции, а Собеский собирался с ней воевать.
Сменили мягкого епископа Бетюна, и на его место прибыл в
Польшу епископ Марсельский, Форбен, и некий Витри, ловкий и
хитрый, смелый малый, француз знатного рода.
Трудно было бы найти человека более способного подлить масла
в огонь, даже если бы такого специально искали. Гордый,
насмешливый, смелый, он весь был проникнут сознанием могущества того,
чьим представителем он являлся; оказывая королю почести, он это
делал как бы по принуждению тех, которых ему следовало бы
75
привлечь на свою сторону; он их отталкивал насмешками и
прозвищами, и они его терпеть не могли.
Он сам и его помощники вели себя в Польше, как будто она
находилась в вассальной зависимости от Франции.
Витри и Форбен оба были остроумны и умели развлечь короля,
а также очень ловко льстили ему, так что Собеский, несмотря на
свою боязнь и недоверие к ним, охотно проводил с ними время,
развлекаясь их разговорами.
Оказалось, что и король умел притворяться, не показывая Витри,
что видит его насквозь, и обращался с ним, как с лучшим другом.
Одним словом, глядя на это, казалось, что присутствуешь в
театре, и я должен признаться, что вся эта ложь и интриги
отравляли мне жизнь.
Временами на меня нападала тоска по нашей деревенской,
спокойной, правдивой жизни с ее простыми обычаями, ибо тут кругом
была одна только ложь, и на ней все было основано, и вся
атмосфера, в которой приходилось двигаться и жить, была ею пропитана.
Я не смею судить о короле, потому что нельзя заглянуть в
чужую душу, но иногда из нескольких невзначай брошенных слов
я выносил впечатление, что он страдает и задыхается... не имея
сил вырваться из тисков.
Случалось, что, любуясь цветами и деревьями в своем огороде в
Яворове, Собеский, встретив там огородника или какого-нибудь
простого рабочего, останавливал его и заводил с ним продолжительный
разговор, восхищаясь его простым природным мужицким умом.
Он по-прежнему любил королеву, целовал кончики ее пальцев,
восхищался запахом ее духов, превозносил до небес красоту
любимой Марысеньки, но охотно отлучался из дому и, хотя в письмах
жаловался на тоску, в действительности был рад этому. Находясь
с ней, он ни одного дня не мог быть спокойным, вследствие кругом
происходившего соперничества из-за вакансий, самовольно
раздаваемых королевой, бравшей от каждого certum quantum для себя
и столько же для короля. Все это делалось при помощи посредников
и посредниц. Редко случалось, чтобы кто-нибудь, имевший за собой
большие заслуги, получил должность даром, а бывало, что король
обещал одному, а королева обещала ту же вакансию другому, и
Собеский, не желая раздражать жену, спокойствия ради должен
был чем-нибудь другим заменить обещанное.
В случае сопротивления королева впадала в гнев, доходивший
до бешенства, осыпала его упреками, затворялась в своей комнате,
притворяясь больной до тех пор, пока Собеский не просил у нее
прощения.
Во время всех этих происшествий Фелиция готовилась к
свадьбе, и я, в надежде охладеть к ней и выкинуть из головы все мысли
о ней, желал, чтобы всему положен был конец и чтобы они
поскорей обвенчались. Несмотря на различные интриги, свадьба была
назначена, и на масленице, во время моего отсутствия, Бонкур
обвенчался с Фелицией. Я не знаю, предполагал ли он, что Фе-
76
лиция оставит после свадьбы двор, ко она и не думала об этом,
потому что нужна была королеве. Им отвели общее помещение,
но так как король часто посылал Бонкура с поручениями, то она
оставалась одна.
Будучи замужем и пользуясь свободой, она принимала кого
хотела, устраивала вечеринки, на которые приглашала своих
приятельниц и разных любезников, одним словом, развлекалась и
веселилась напропалую.
И на мою долю выпало счастье, я был приглашен к ней, но
не воспользовался этим.
Совесть мне не позволяла сделаться вором и ради своего
развлечения украсть чужое счастье и честь. Я не признавал свободной
любви, а она иной не понимала.
Я ее жалел... потому что часто, глядя на нее, казалось, что
она невинное, чистое существо, воплощение скромности, а между
тем в действительности под этой обманчивой наружностью
скрывалась фальшь и измена.
Я встретил ее случайно, после того как я, несмотря на
неоднократные приглашения в отсутствие мужа все-таки у нее не был,
и она обратилась ко мне с вопросом:
— Что же это? Вы на меня сердитесь и не хотите ко мне зайти?
У меня вы провели бы время лучше, чем в передней у короля.
Вы обижены на меня за то, что я предпочла Бонкура?
— Нет, — ответил я, — вы вольны были выбрать мужа по
своему желанию, но, сделавшись его женой, вы должны остаться
ему верной.
Взглянув на меня с презрением, она сказала:
— Вы хотите меня учить? Бонкур не ревнив, а я ради его
любви не хочу хоронить свою молодость.
— Найдутся и другие для вашего развлечения, — ответил я, —
поэтому можете обойтись без такого увальня, как я.
— Будьте уверены, что я не скучаю, — сказала она, — но
окружающие видят, что вы меня игнорируете... Со стороны
кажется, что вы меня осуждаете...
Она хотела меня заставить прийти к ней, напрасно опасаясь
моего злословия, потому что я никогда не отзывался о ней дурно.
Я стал отговариваться тем, что служба у короля отнимает все
мое время и что даже по вечерам я не пользуюсь свободой.
Кроме Фелиции, я еще должен был спасаться от Федерб,
преследовавшей меня своей любовью. Она даже дала мне понять, что,
если бы я на ней женился, королева подарила бы ей в приданое
богатое староство. Я притворился непонимающим и, чтобы раз
навсегда от нее избавиться, сказал ей, что мать не разрешает мне
жениться, да и у меня нет никакого желания обзавестись семьей.
Все это не помогло, и она продолжала мне надоедать своей
любовью, но, к счастью, Летре часто ей мешала. Я уже подумывал
о том, не лучше ли было бы для меня, несмотря на мою
привязанность к королю, покинуть двор...
77
Время по большей части проходило в путешествиях с королем,
любившим быть в движении и на воздухе; он неоднократно
повторял, что верховая езда и охота укрепляют его здоровье, несмотря
на увеличивающуюся полноту.
Когда он заболевал, врачи прибегали к кровопусканию, иногда
довольно обильному, повторяя эту операцию несколько раз.
Около года прошло после свадьбы Фелиции, и я как раз
находился вместе с королевской четой в Яворове, куда съехалось
множество гостей, послов, сенаторов, иностранцев, и вследствие этого
был недостаток в помещениях. Мне отвели маленькую, скверную
комнату на чердаке, а Витри, французский посол, получил на том
же чердаке две комнаты.
Однажды вечером, находясь в своей клетушке, я вдруг услышал
чьи-то приближающиеся шаги и стук, в дверь; раньше чем я успел
подняться, чтобы ее открыть, в комнату вбежала в помятом платье
заплаканная Фелиция Бонкур.
Я не мог понять, что случилось.
— Пан Адам! — крикнула она. — У меня тут нет никого, кто
бы мог вступиться за меня; вы всегда дружески относились ко мне,
защитите, спасите меня! Муж меня бьет.
Я окаменел, а она с плачем опустилась на стул.
— Ради Бога! — воскликнул я. — Я готов сделать все, что в
моих силах, но какое я имею право вмешиваться в супружеские
отношения?!
— Для этого не требуется никакого права, — прервала
Фелиция, — так как это обязанность каждого мужчины вступиться за
обиженную женщину. Это низкий человек, который испугается,
когда увидит, что у меня имеется защитник.
— Но что он подумает? Что скажут другие? — шепнул я,
колеблясь. — Из-за чего у вас вышел спор, дошедший до того, что
он осмелился поднять руку?
— Это самый низкий человек! — воскликнула Фелиция. —
Он меня подозревает и ревнует. Возвратившись из поездки на
охоту, он застал у меня француза Дюпона, и я не знаю, что
ему привиделось, но он гостя прогнал, а меня, обругав, ударил
палкой. У меня никого близкого нет, я сирота, сжальтесь надо
мной!
— Я готов на все, — ответил я взволнованный, — но что мне
прикажете сделать? Ведь он не испугался Дюпона.
— Это совсем иное дело, — ответила Фелиция, — они, как
французы, расправляются друг с другом по-своему, а если вы
выступите, он испугается.
Я чувствовал, что она требует от меня чего-то, что может быть
опасным для нее и для меня, но ее слезы и просьбы так на меня
подействовали, что я решил расправиться с Бонкуром.
Не посоветовавшись ни с кем, я тотчас пошел его отыскивать
и, встретив его на дворе в то время, когда он возвращался от
короля, сказал ему:
78
— Виноват, у меня к вам маленькое дело.
— Вы ко мне? — спросил он с любопытством.
— Да, — продолжал я, — не удивляйтесь, что я вмешиваюсь
в то, что, в сущности, меня не касается. Я долго был влюблен в
девушку, ставшую вашей женой, и ее судьба еще теперь меня
интересует. Я узнал, что вы ее мучите и даже осмелились поднять
руку на женщину. Я не состою ее опекуном, но как друг считаю
своей обязанностью заявить вам, что буду мстить за всякую
нанесенную ей обиду.
Француз глядел на меня с презрительной улыбкой.
— Но вы с ума сошли! — воскликнул он. — Кому какое дело
до моей жены? Это касается только нас обоих.
Он хотел удалиться, но я крепко держал его за пуговицу
одежды.
— Понимаете ли вы? — повторился. — Имею я или не имею
права, не в этом дело, но я жалею женщину и не позволю
издеваться над ней.
Бонкур рассмеялся.
— Вы, должно быть, сегодня слишком много выпили, — сказал
он, — оставьте меня в покое... Говорю вам... оставьте меня в покое...
Раздраженный Бонкур бросился на меня, но я ему дал такой
отпор и так с ним обошелся, что он убежал, потеряв парик.
Не успел я успокоиться, как меня позвали к королю.
— Что ты сделал Бонкуру? — спросил меня король.
— Ничего, — ответил я.
— С чего у вас началось? Говори правду! Я не могу допустить
пренебрежительного отношения к иностранцам, которые мне
нужны и служат мне. Бонкур уверяет, что он ни в чем не провинился.
Подумав немного, я пришел к убеждению, что необходимо
открыть всю правду королю, и тихонько сказал:
— Я пожалел жену его, которая жаловалась на его плохое с
ней обращение. Я не мог допустить, чтобы кто-нибудь издевался
над беззащитной женщиной, будь то хоть собственный муж.
Король слушал, как бы не понимая меня.
— Зачем вы вмешиваетесь не в свое дело?
— Она жаловалась, что он ее бьет.
Собеский возмутился.
— Какой позор! — воскликнул он. — Бонкур просил, умолял
отдать ее за него. Чем же она провинилась?
— Я не знаю, — ответил я, — он приревновал ее, застав
кого-то.
— Она всегда была ветреной девушкой! — молвил король. —
Но ведь не вас он нашел у своей жены.
— Нет, — возразил я, — кажется, Дюпона.
Король рассмеялся.
— А! Этот везде находит дорогу к женщине. Однако, —
произнес король, повернувшись ко мне, — Бонкур жаловался только
на вас. Зачем вы вмешались?
79
— Бедная женщина плакала, жалуясь, что никто за нее же
вступается, — добавил я сокрушенный. — Я признаю, что не имел
права вмешиваться, но не мог устоять при виде ее слез.
Собеский пожал плечами.
— Оставьте его в покое, и я надеюсь, что подобная вещь
больше не повторится.
— Я постараюсь, — ответил я тихо.
Об этом маленьком эпизоде много говорили при дворе, моя
излишняя снисходительность к Фелиции доставила и мне, и ей
много неприятностей.
О Дюпоне очень немногие знали, и повсеместно рассказывали
о том, что Бонкур застал меня у своей жены, и хотя я клятвенно
это отрицал, мне не верили; насмехались надо мной и Бонкуром,
но Фелиция, не обращая внимания на это, так смело всем смотрела
в глаза, как будто это вовсе ее не касалось.
На следующий день король куда-то отослал Дюпона. Фелиция,
оставив Бонкура, переехала в помещение, занимаемое фрейлинами
королевы. Чтобы развлечь ее, Федерб рассказывала ей обо всем
происшедшем, не щадя меня.
Перед обедом Летре прибежала в столовую и, отозвав меня в
сторону, сказала:
— Что вы сделали? Как вы могли дать мадам Бонкур уговорить
себя выступить в ее защиту? Слыханное ли это дело? Я не
удивляюсь, что эта безрассудная могла от вас потребовать, но как могли
вы согласиться? А знаете ли вы, в чем дело? Фелиция рассказывает
перед приятельницами, что доведет вас до дуэли с Бонкуром, и
надеется, что вы его убьете. Она потому и выбрала вас, что уверена
в том, что вы исполните то, чего она желает. Она сама не скрывает,
что покушается на его жизнь.
Я был сильно сконфужен и огорчен, в особенности тем, что
обращение Фелиции ко мне за помощью я считал чистосердечным,
между тем это был простой расчет, и она хотела меня превратить
в палача.
Я ничего об этом не рассказывал Шанявскому, стыдясь своей
слабости; но он, узнав, накинулся на меня, а еще больше на жену
Бонкура.
— Она не стоит того, чтобы из-за нее кто-нибудь рисковал
своей жизнью; она легкомысленна, испорченна и в состоянии всеми
пожертвовать ради себя.
Я не мог даже оправдываться, чувствуя, что сделал ошибку, и
мне оставалось только молчать.
Король, поняв мое положение, отправил меня в Варшаву с
письмами к сенаторам, находившимся тогда там, с приказанием
остаться в Варшаве до открытия сейма.
Я не смогу рассказать о том, что произошло во время сейма,
потому что только издалека и понаслышке мог судить о
сильном волнении общества вследствие интриг Витри и французской
партии.
80
Споры между Пацами и Сапегами доходили до того, что
приходилось вынимать сабли из ножен.
Король настаивал на наборе войска для завоевания Каменца, а
между тем время сейма ушло на то, чтобы улаживать раздоры;
строились козни, происходили столкновения между служащими,
дуэли и даже кровопролития...
На улице челядь неприязненных сторон при встрече пускала в
дело сабли, и нельзя было их наказать, потому что обе стороны
были одинаково виноваты. Французская партия, Форбен и Витри,
действовали с помощью подкупов и, наконец, сейм был сорван, к
великому огорчению короля.
Не было ничего постановлено с целью не дать Собескому
возможности объявить войну туркам.
Когда приблизился последний срок окончания сейма и надо
было голосовать, то нарочно это отложили до ночи, чтобы не осталось
времени на постановление. Известно было, что закон не позволяет
голосовать вечером при искусственном освещении.
Считаясь с этим законом и желая его обойти, Собеский
приказал осветить соседние залы и раскрыть двери, чтобы
присутствующим на сейме было светло. Но заговорщики воспротивились
этому.
Первым запротестовал Пжиемский, которому предлагали
большую сумму денег, чтобы он уступил, но он не согласился и ушел;
его поддержал Дубровский, и, таким образом, сейм закончился...
И если я говорю, что король плакал от огорчения, то ничего не
преувеличиваю.
Я слышал, как он, расхаживая с Матчинским, повторял:
— Отняли от меня Каменец! Не позволяют мне пойти против
врага в то время, когда так легко было бы его одолеть.
По окончании сейма королева по-прежнему продолжала
торговлю вакансиями, стараясь получать со всех сторон как можно
больше денег. Опасаясь всякого постороннего влияния, которое
могло бы конкурировать с ее собственным, королева старалась
поссорить мужа с его родственниками и даже со своими родными,
отдаляя от двора всех, кого он любил. Беспокойная и
подозрительная, она окружила его шпионами и следила за его каждым шагом.
Единственным утешением короля было поместье около
Варшавы, на берегу Вислы, под названием Вилянов, где он строил замок
и разводил огороды.
Льстивые французы за глаза насмехались, а во всеуслышание
сравнивали эту местность с Версалем, прозвав ее «польским
Версалем». Это поместье доставило Собескому много приятных
моментов, потому что он с необыкновенной любовью занимался огородом,
сеял, копал, следил за выполнением планов для построек.
В особенности он интересовался фруктовыми деревьями, так как
очень любил фрукты, съедая их в большом количестве, и, за
отсутствием последних в Жолкви, в Яворове и в его собственных
садах, он их выписывал из дальних местностей.
81
Я слышал от Брауна и от других врачей, что фрукты были
причиной его полноты.
Кроме фруктов, интересуясь всеми нововведениями, он делал
различные опыты и, узнав о чем-нибудь новом, старался применять
это в Польше; в Вилянове он поселил голландцев, занявшихся
молочным хозяйством и приготовлением сыров. Над этой фантазией
великого героя втихомолку насмехались, потому что его не
понимали; но когда он показывал свой огород, видя, как он осматривает
каждое деревцо, сам вбивает колья и бечовочкой, вынимаемой из
кармана, привязывает к ним черенки, все высказывали свое
восхищение.
Королева предпочитала видеть его работающим в огороде, чем
вмешивающимся в ее дела.
Желавшие понравиться Собескому и снискать его расположение
выписывали из Голландии луковицы, семена, цветы и деревья.
Собескому также дарили зверей, которых он очень любил, а в
особенности таких, каких в Польше не было, или прирученных и
дрессированных, вроде выдры пана Паска, которая по его
приказанию ловила рыбу. В Яворове можно было видеть
разгуливающими на свободе или сидящими в клетках страусов, верблюдов,
ручных волков, медведей и других животных.
В течение нескольких лет, прошедших более спокойно,
предшествовавших большому походу, Собеский наслаждался своей
семейной жизнью, насколько это было возможно с такой женой, как
Мария-Казимира.
Почти вся семья, приехавшая из Франции, приютилась под
крылом королевы; при ней жил отец, и содержание его
оплачивалось из королевской кассы; приходилось отдавать ему почести, и
вообще эта французская семья королевы требовала предоставления
ей особенных удобств.
Эту жадную семью трудно было удовлетворить деньгами и
почестями. Вследствие постоянного пребывания иностранных послов
при дворе и частых приездов князей и графов королю приходилось
много тратить на содержание двора, чтобы поддержать его на
должной высоте; двор действительно был великолепен, многолюден,
пышен, хотя королю вся эта роскошь не была нужна.
На охоте Собеский довольствовался куском хлеба, фруктами и
бокалом вина, а ночью спал в палатке на жестком тюфяке.
Когда ему нужно было выступать с величием и королевской
роскошью, вся его осанка и лицо соответственно преображались;
но он гораздо лучше себя чувствовал, находясь в маленьком
интимном кружке, в обыкновенной летней одежде, проводя время в
продолжительных беседах, длившихся иногда до полуночи... Меня
разбирало любопытство узнать, о чем говорят, и мы, да простит
нас Господь, неоднократно подслушивали у дверей.
Если приезжал какой-нибудь иностранец, инженер, ученый,
врач, специалист по естественным наукам, король, проявляя
необыкновенную любознательность, расспрашивал о новых открыти-
82
ях, о книгах, о новых опытах, произведенных где-нибудь. С
духовными лицами Собеский любил часами рассуждать о бессмертии
души, о будущей жизни, о Боге и т. д., и при этом он часто
заходил так далеко, что ему потом доставалось от своего духовника.
Во время таких прений он всецело ими был поглощен и до того
оживлялся, что становился неузнаваем. Он тогда забывал о
прежних заботах и о детях, которых он очень любил, и которые ему
доставляли много забот.
Королева дала Фанфанику, Якубку, и другим своим детям
французское воспитание, и няньки, надзиратели, учителя были привезены
из Франции, вследствие чего дети лучше владели французским
языком, чем польским.
Я сам слышал, как он неоднократно просил не делать их
иностранцами. Но он сам должен был об этом заботиться, так как
королева не хотела его слушать.
Она мечтала о том, чтобы породниться с иностранными
дворами, и хотела дать сыновьям и дочери европейское воспитание.
Сына Якубка она не одевала в платье польского покроя, и
король, несмотря на то что он был против, ради своего спокойствия
должен был ей уступить и в этом.
В нем самом ничто не могло искоренить закала польского
шляхтича, и он был счастлив, когда он мог таким казаться.
В противоположность королеве, не забывавшей никогда о своем
королевском достоинстве, Собеский старался как можно меньше
его проявлять, и жена часто упрекала его за недостаточное
честолюбие.
Двор короля и королевы, составлявшие общий королевский
двор, при близком знакомстве так отличались друг от друга, что
спутать их нельзя было; все, что нравилось королю, она
отталкивала, а Собеский просто боялся всего, окружающего королеву. Если
король был к кому-нибудь расположен, то этого достаточно было,
чтобы королева отнеслась к этому человеку с подозрением.
Но об этом и вообще о французах, находившихся при нашем
дворе, я еще потом напишу, а теперь перейду к 1681 году, когда
разрешился вопрос о том, на чьей стороне будут король и Речь
Посполитая в случае конфликта между Ракуским домом и турками,
которые должны были помочь Текели, а в действительности они
им только воспользовались для того, чтобы все свои силы обратить
против Австрии.
Мне трудно рассказать о том, до чего дошло, и какие
незначительные на первый взгляд причины имели большие и важные
последствия. Боюсь, что и память мне изменит, сохранив только
некоторые подробности.
Не могу не сказать, что король оказался большим дипломатом
(не выдавая ничем своего истинного расположения), чем он
казался.
Много обстоятельств говорило за то, чтобы идти вместе с
австрийским императором и папой против Турции, старинного врага
83
Польши, а не вместе с французами и турками против Ракуского
дома. Никто у нас не любил императора и не доверял ему. Я
неоднократно слышал от Собеского, который за год до союза,
предвидя его, был уверен в неблагодарности австрийцев, что в
интересах пользы для Речи Посполитой нельзя быть заодно с турками,
потому что они, сокрушив могущество императора, начали бы
диктовать свои условия Польше и поступили бы с ней так, как им
бы захотелось, а Франция вряд ли могла бы ее спасти.
К тому же Витри, французский посол при дворе, никем не был
любим, не умея обращаться с людьми, и вместо того чтобы
склонить их на свою сторону, отталкивал от себя своим гордым, грубым,
насмешливым отношением.
В довершение всего происшествие, случившееся с сестрой
королевы, госпожой Бетюн, переполнило чашу и чуть ли не довело
королеву до сумасшествия.
Король Людовик XIV хотя и желал быть в хороших отношениях
с Польшей, потому что даже с Текели, состоявшим под его
покровительством и получавшим деньги от него, чтобы быть постоянно
готовым к войне, Франция могла иметь сношения только при
посредстве своего специального агента Дюверна, жившего в Польше,
но когда сестра королевы мадам Бетюн позволила себе погрешность
против придворного этикета, задев королевское достоинство,
Людовик XIV не задумываясь запретил ей доступ ко двору и
пребывание в Париже, присудив ее к изгнанию в провинцию.
Можно себе представить, что произошло с королевой при
получении этого известия, которому она даже верить не хотела. Это
было явное неуважение к родственникам польского короля, и
королеве очень легко было убедить Собеского, что простить этого
нельзя, так как этим оскорблено его королевское достоинство.
Собеский тоже очень близко принял к сердцу это происшествие,
называя его «перенесенный позор».
Король легко мог воспользоваться этим и изгнать Дюверна из
Польши, прервав таким образом сношения Людовика с Венгрией,
но Собеский преследовал цель держать Францию и Витри в
неизвестности, на чью сторону он окончательно склонится.
С императором надо было оформить условия договора, потому
что нельзя было рассчитывать на его великодушие.
Французский посол Витри, чувствуя, что хорошим отношениям
между Францией и Речью Посполитой грозит опасность,
пользовался всяким случаем, чтобы быть в обществе короля, сопровождая
его на охоту, в экскурсии.
С Текели король Ян не разошелся до самого конца или, вернее
сказать, даже и тогда, когда окончательно решил пойти на помощь
императору, оставаясь с ним в дружеских отношениях,
неоднократно пригодившихся во время войны.
Королева, глубоко задетая обидой, нанесенной Людовиком XIV
ее сестре, в душе не могла ему этого простить; но, скрывая свои
истинные чувства, она была с Витри официально холодна, отзы-
84
ваясь с большим почтением о Людовике XIV. Верил ли ее
искренности Витри, об этом сказать не могу. Кроме посла Витри, в
интересах Франции находился при дворе Дюверн, посредничавший в
сношениях с Венгрией, доктор Акакий в Данциге, при посредстве
которого пересылались деньги, и, наконец, Морштын. Последний,
будучи свободным, ни от кого кроме Бога не зависящим шляхтичем
Речи Посполитой, добровольно как потом оказалось, продал себя
французскому королю. От любопытного глаза Морштына ничто не
ускользнуло, он следил за Витри, донося обо всем, и лучше
проникал в суть вещей, чем французы. Он лучше всех умел держать
себя с королевой, и, хотя его держали в подозрении, его все-таки
терпели и не разрывали с ним, как с изменником.
Осенью 1681 года Собеский развлекался охотой, в которой и я
принимал постоянное участие, довольный тем, что освободился от
женских интриг.
Вместе с нами охотился Витри с французами, но им и тут не
особенно повезло.
Ни один из них, а также ни один из сотоварищей
императорского посла Зеровского не имел понятия об охоте, подобной нашей,
возле Дзедужиц и Мендзыжеча, когда случалось, что в течение
одного дня бывали убиты десятки медведей и такое же количество
кабанов, не считая других крупных зверей. Французы между тем
стреляли только дробью и ранили королевских псов; король потерял
свою любимую борзую, а один из участников гончую. Кто-то из
королевских янычаров пал жертвой медведя чудовищной величины.
Король был необычайно весел и хорошо расположен; несмотря
на то что он жаловался на какое-то недомогание и принимал
лекарство, он все-таки не отставал от других, так что все с
удовольствием смотрели на его оживленность.
Труднее всего ему было взобраться на седло, но, раз усевшись,
он мог оставаться в продолжение нескольких часов не сходя с коня
и при этом ни на что не жаловался. Во время охоты,
происходившей между Дзедужицами и Мендзыжечами король, ежедневно, не
отдыхая, был в седле.
В тот год чаша весов перетянула на сторону союза с
императором, но Витри и французы, видя, что король снисходителен
к Дюверну и с почтением отзывается о Людовике XIV, баюкали
себя надеждой, что им все-таки удастся склонить на свою сторону
короля.
Витри, знавший хорошо жадность королевы к деньгам,
предложил Франции ежегодно жертвовать сотни тысяч, чтобы купить себе
этим союз, и не сомневался в удаче. Но он не знал Собеского,
перед которым даже заикнуться об этом нельзя было, а также того,
что гордая королева, хотя и корыстолюбивая, была до такой
степени обижена на Людовика XIV за свою сестру, что она не могла
ему этого простить.
Весною того же года Собеский, довольный тем, что на время
освободится от общества жены и насладится свежим воздухом, от-
85
правился на охоту; в апреле императорский посол настолько
усердствовал, что хотел сопровождать Собеского даже на охоту, и еле
удалось от него отделаться.
Помню, что во время охоты около Дзедзилова, где нам не
особенно везло, потому что было мало дичи, король получил известия
из Турции, которые сейчас же были пересланы императорскому
послу. О Текели и обо всех его намерениях и шагах король был
более осведомлен, чем император.
Недомогавшая королева находилась вместе со своей семьей в
Яворове, а король делал смотр своим поместьям и заводил в них
новые порядки.
Пользуясь этим случаем, он посетил замок в Олеске, в котором
родился несколько десятков лет тому назад. Замок оказался
запущенным и разрушенным, потолки в некоторых комнатах
протекали, и король очень сердился за это на дворецкого. Нам показали
треснувший мраморный столик, на который когда-то положили
новорожденного.
Заняться перестройкой замка в Олеске одновременно с работами
и постройками в Вилянове и Яворове было невозможно, а потому
король это отложил на будущее время. Костел и могилы
Даниловичей содержались в порядке.
В Олеске король пробыл лишь день, и оттуда мы поехали в
Злочов и в Подгожец к Конецпольским.
Была чудная пора весны, и я с удивлением присматривался к
этому великому рыцарю и герою, умевшему, несмотря на все свои
заботы, восхищаться обыденными вещами; чтобы доставить
удовольствие королю, я и Моравец должны были по дороге срывать
для него первые появившиеся весенние цветы.
Король радостно приветствовал каждый цветочек,
встречавшийся на дороге, и я и Моравец часто сходили с лошадей, чтобы
собрать для него фиалок, которым он радовался, как ребенок.
Некоторые глядели на него с насмешливой улыбкой, а я с уважением,
потому что если человека радуют и интересуют такие простые
вещи, то это доказывает, что он способен на искреннее чувство. А
тут я видел, как наш властелин, забыв об императоре и короле
Людовике XIV, улыбался цветочкам, как будто турок и на свете
не существовало.
Из Олеска мы отправились через Зборув в Гуту, убив по дороге
штук двадцать серн и огромного волка, затем далее в Медыку, где
нас ожидал несчастный француз Дюверн, послы которого были
захвачены подстаростой Немировским, вместе с письмом Текели.
Немировский спрятал пленников на чердаке, чтобы французы
не узнали о письмах, которые они везли с собой.
Захваченную корреспонденцию отослали императорскому
послу, а людей король велел отвести в замок в Сосницу, около
Высоцка. Француз уже знал о захвате писем, что Собеский вовсе
не оспаривал, намекая на то, что императорский посол их сам
захватил.
86
Мы чувствовали, что отношения с французами становились все
хуже и хуже, и это видно было по их обращению; Витри был
вежлив и услужлив как никогда; в отношении к нему становились
все официальнее, но его ничем не обижали. Это было политикой...
Перед поездкой короля в Олеско и в имения на Руси, Витри,
не желая потерять его из виду, захотел его сопровождать, но Со-
беский, вежливо отклонив его предложение, послал к нему Чарн-
ковского, служившего в канцелярии короля, говорившего хорошо
по-французски и никогда не тратившего лишних слов, поручив ему
секретно сообщить Витри, что императорский посол, а в
особенности папский нунций Палавичини, не довольны тем, что король
допускает сношения между Францией в Венгрией через посредство
Речи Посполитой, вследствие чего Собескому нельзя будет
разрешить Дюверну дальнейшее пребывание в стране. С мнением папы
он должен был считаться из-за субсидии, которую Собеский
надеялся получить от него в случае войны с Турцией.
Витри с кислой физиономией выслушал Чарнковского,
освободившего короля от неприятного разговора. Когда мы вернулись из
нашего путешествия, мы застали Витри в Яворове, и, как нам
сообщили, он несколько раз осведомлялся о дне возвращения
короля; на следующий день утром, когда Собеский возился в огороде
с тюльпанами, Витри подстерег его и начал с ним
продолжительную беседу.
Собеский после этого разговора был очень разгорячен и, хотя
вовсе не было жарко, вытирал вспотевшее лицо. Королева
немедленно направилась к нему, чтобы узнать, чего хотел Витри и чем
окончился их разговор.
По сумрачному лицу посла можно было догадаться, что он не
особенно остался доволен аудиенцией.
Во время обеда королева как бы в. насмешку была
необыкновенно мила с французом, а король громко заявлял о своей
симпатии к Людовику XIV и восхищался им.
Французы шептались о том, что Дюверна попросили удалиться
отсюда, потому что его не желали терпеть дольше. Было очевидно,
что французы потерпели фиаско и что королева отомстила им не
только за обиду сестры, но и за отца, которому было отказано в
княжеском титуле.
Насколько я своим маленьким умом мог тогда понять все то,
что предпринималось и происходило, я с каждым днем все более
убеждался, что, несмотря на уверения в уважении к Франции,
все перешли на сторону императора, и король, не столько ради
жены, сколько из-за собственного убеждения, тоже склонялся на
его сторону.
Сестра короля, княгиня Радзивилл, шурин Собеского Велеполь-
ский и жена его, сестра королевы, все они были сторонниками
императорского посла.
Прислушиваясь к разговорам, можно было услышать различные
мнения, так как в нас укоренилась наследственная антипатия к
87
Ракускому дому и страх перед ним; но и турок не любили, да и
к французам особенной любви не питали. Поэтому раздавались
голоса совершенно противоположные, руководимые не любовью и
расположением, а ненавистью.
Витри, как я это потом узнал, приписывал нерасположение Со-
беского к Франции влиянию королевы, оскорбленной в ее гордости,
и ее желанию отомстить за отца.
Поэтому он вел переговоры о том, чтобы загладили вину и
предложили отцу королевы столь желанный княжеский титул и
староство; но Мария-Казимира открыто говорила о том, что теперь
она ничего не примет, так как она не нуждается в королевской
подачке.
Витри также рассчитывал на стотысячную пенсию, которую
Людовик хотел предложить королю или королеве, но не смел
высказать такого предложения. По пасмурному лицу французского посла
видно было, что положение его с каждым днем становится все
затруднительнее; но он все-таки оставался, а так как при встрече
в обществе король и королева бывали с ним любезны, то он не
мог жаловаться.
В продолжение целого года французы сами себя обманывали,
или их обманывали, этого сказать не могу, надеждой склонить
короля на свою сторону; между тем союз Собеского с
Людовиком XIV не мог ему доставить даже части пользы, предстоявшей
ему в случае соглашения с императором. Морштын,
пользовавшийся раньше известным влиянием, стал подозрителен; его принимали
холодно, и наконец королева, перестав притворяться, начала
выказывать явно свое нерасположение к нему.
Еще в сентябре Витри оставался при дворе, не теряя надежды
склонить короля на сторону французов; в это время император и
королева убаюкивали себя надеждами женить Фанфаника на
эрцгерцогине; это было бы для королевы лучшей местью Франции.
Я не считаю себя вправе рассуждать о политике, потому что
немногому в ней научился, несмотря на то что ежедневно
сталкивался с ее делами, но теперь, когда я переношусь к тогдашним
обстоятельствам, мне кажется, что, если бы Людовик XIV был
более предусмотрителен и менее пренебрежителен к королю и Речи
Посполитой, он привлек бы на свою сторону королеву, ее семью,
а через них и Собеского, питавшего с молодых лет расположение
к Франции. А вместо этого сделали все что могли, чтобы обидеть
и оттолкнуть королевскую чету, и вдобавок назначили послом
Витри, не умевшего заслужить любовь.
Король любил с ним разговаривать, но не более, чем с другими
образованными людьми; он вел с Витри продолжительные беседы,
никогда не откровенничая с ним, и я сам слышал, потому что
меня не остерегались, как Собеский, после одной из таких
конференций, рассказывал о ней королеве, подшучивая над Витри,
полунамеки которого он прекрасно понимал, но, притворяясь перед ним,
придавал им другое значение, ускользая от него и не давая ему
88
откровенно высказаться, так как и Собеский не желал быть с ним
искренним.
Насколько я припоминаю, Витри больше поддавался
самообману, чем хитрый Морштын, заблаговременно заметивший, что
дела Франции обстоят плохо и их нельзя уже спасти. В ноябре,
если не ошибаюсь, Витри наконец уведомил королеву, что
Людовик XIV из уважения к ней соглашается наградить ее отца,
маркиза д'Аркиена, княжеским титулом и староством.
Мария-Казимира вежливо, но гордо ответила, что ее достоинство и
теперешнее занимаемое ею положение не позволяют ей принять этой
милости, за которую она ^благодарит, но воспользоваться ею не
может.
При этом удобном случае королева упрекнула его за обиду,
нанесенную ее сестре, мадам Бетюн, и Витри, рассчитывая на
жадность и скупость королевы и подозревая короля в излишней любви
к деньгам, предложил компенсацию в сто тысяч ливров ежегодно.
Но и это предложение не помогло, как запоздавшее, или
сделанное в форме оскорбительной для короля, так как подобное
предложение, как бы его ни объясняли и ни приукрашивали, в
действительности было жалованьем, назначенным Францией Собе-
скому.
Но с этим гордая королева не могла смириться, и напрасно
Витри старался уверить ее, что назначенная пенсия могла
остаться тайной для всех; но разве возможно в политике сохранить
секрет, в который, по крайней мере, несколько человек должно
быть посвящено.
В ноябре перед созывом сейма перехватили письмо Морштына
к какому-то французу, в котором было написано:
«Состоялось соглашение между нашим двором и императором,
и оно подкреплено обещанием выдать эрцгерцогиню за сына Со-
беского, обеспечив ему наследование трона. Само собою понятно,
что если сейм будет сорван, то и соглашение будет расторгнуто».
Из этого легко вывести, как готовились к сейму и как пустили
в ход все силы и интриги, чтобы, по примеру других, сорвать
его.
Морштыну и французской клике легко было привести в
исполнение свое намерение, потому что достаточно было подкупить
одного из послов и велеть ему крикнуть «veto», как все совещания
прекращались.
С такими опасениями мы поехали в Варшаву, намереваясь
открыто выступить в союзе с австрийским домом, что нами до сих
пор откладывалось в ожидании одобрения папского нунция.
О себе лично за время этих событий немногое могу рассказать;
король по-прежнему благосклонно относился ко мне, и доверие его
все увеличивалось, вызывая во всех, кроме Шанявского и Моравца,
зависть и неприязнь к моей особе. Господь свидетель, что я ни
разу не воспользовался расположением короля во вред
кому-нибудь; наоборот, когда Собеский справлялся о ком-нибудь, я того
89
всегда оправдывал, рекомендовал с лучшей стороны и не могу себя
упрекнуть за худой отзыв о ком-нибудь.
В особенности возмутились, когда король, обойдя старших
придворных, поручил мне заведовать своей личной кассой, в
которой находились деньги для карманных расходов, причем ни
королева, ни посторонние не знали ни источника их
происхождения, ни на что они тратились. Казнохранитель заведовал
большими счетами, а в моем распоряжении находился маленький
королевский кошелек, и, кроме того, мне была поручена охрана
его драгоценных вещей, редко им употреблявшихся, но
доставшихся ему в значительном количестве после Даниловичей, Жол-
кевских и прадедов.
Одних только сабель в золотых ножнах было по списку около
двадцати (одну из них, самую любимую, король потерял в этом
году, едучи на санях), столько же седел, конской сбруи, плюмажей,
бронированных панцирей, поясов, цепочек и пр. Король никогда
не выходил без кошелька, в одном отделении которого находилось
золото, а в другом серебро, потому что он хоть и охотно давал
подаяние и никогда не отпускал бедного с пустыми руками, но не
любил сорить золотом. Часто случалось, что он, уходя из дома с
несколькими десятками дукатов, возвращался с пустым кошельком,
и на мой вопрос, как записать израсходованные деньги, после
некоторого размышления по большей части приказывал отнести их
на счет расходов по огородам.
В действительности он был очень щедр к огородникам, но и не
жалел денег для обедневшей шляхты и разных просителей, в
особенности если они принадлежали к знакомым ему семьям. Он
никогда не был ни скупым, ни корыстолюбивым, хоть и не любил
разбрасывать деньги во все стороны.
Я еще должен упомянуть о затруднениях с французами,
бывшими при дворе, в отношении которых надо было соблюдать
величайшую осторожность, потому что Витри и его помощники, имея
к ним доступ, легко могли через них узнавать о том, что у нас
говорилось и делалось.
Я не могу обвинять всех французов в измене королю, потому
что многие из них без всякого умысла рассказывали о
происходящем, не зная, что этим могут повредить королю, но были такие,
которым Витри, Форбен и другие платили жалованье. Среди
женского персонала королевы было немало продажных приятельниц
французов.
Прежде говорили, что со времен Вазов до Марии-Людвики при
дворе преобладало все немецкое, но теперь, со времени
французской королевы и при нашей маркизе, французское влияние
настолько распространилось, что при дворе слышен был лишь
французский язык. Жена Собеского, живя с молодых лет в Польше,
хоть и научилась языку, но говорила на нем очень плохо и еще
хуже писала по-польски, если необходимость заставляла ее иногда
написать несколько слов. С мужем, братом, сестрами и их мужь-
90
ями, со всеми слугами она разговаривала только по-французски.
В свите короля было много поляков, в свите же королевы, кажется,
единственная Шумовская.
Обе упомянутые выше фаворитки королевы, Федерб и Летре,
были француженками, другие девушки и слуги — тоже
французами.
Только среди низших служащих при буфете и при лошадях
можно было найти поляков. За столом или в обществе преобладал
французский язык; король по большей части читал французские
и латинские книги: польских книг, кроме похвальных стихов, было
очень мало, да и те были так плохо отпечатаны, что читать их
было трудно. Сколько раз я, рассматривая книжки, напечатанные
в Кракове, Данциге или в других местах, должен был удивляться
тому, что у нас нет хорошей бумаги и что у нас не умеют печатать.
Когда похвальное слово печатали для короля, то еще на сносной
бумаге, но если слово предназначалось для обыкновенных
смертных, то употребляли чуть ли не оберточную.
Но в то время этим никто не интересовался, потому что кто
заботился тогда о польской книге, и кому она была нужна?
Возвращаясь к вопросу о французах, скажу, что во время самых
плохих отношений королевской четы к Франции, когда Витри,
всеми ненавидимый, выходил из себя, не достигая успеха, много
французов было в Польше при дворе, при знатных особах, в войске и
в местечках. Почти все инженеры были выписаны из Франции.
Находившиеся при короле писари, секретари, Дюмулен —
лакей и фельдшер одновременно, слуга Ляфор и многие иные, — все
это были французы.
Легко понять, возможно ли было что-нибудь скрыть перед
французским послом и его агентами. То, о чем не рассказывали
мужчины, выбалтывали женщины. В Варшаве, во Львове было много
лавок, принадлежавших купцам из Франции, подобно тому, как в
Кракове было когда-то много итальянцев.
Нам всем волей-неволей пришлось научиться французскому
языку; говорившие плохо, по крайней мере, его понимали. Как
будто вопреки разуму, все эти бывшие приверженцы французов во
главе с королевой стояли теперь против Франции и ее короля; но
Витри и Морштын с помощью всех своих явных и тайных
помощников, с помощью подкупа старались не допустить союза с
Австрией против турок, готовые даже, в случае надобности, низвергнуть
с трона Собеского.
В этих происках, больше чем Витри принимал участие ловкий,
жестокий, хитрый, душой и телом преданный Франции Морштын;
Морштын был больше французом, чем поляком; он приобрел
недвижимость во Франции и мечтал о том, чтобы туда переселиться.
Каким образом до этого дошло, что он, приятель и слуга польского
короля, перешел в лагерь его врагов, можно объяснить только тем,
что Морштын надеялся получить хорошее вознаграждение от
Людовика XIV за измену собственной стране.
91
И в этом деле, как и во всем, что у нас происходило, немалая
часть вины падала на королеву. Ее брат, кавалер де Малиньи,
человек не старый, красивый, довольно храбрый полководец,
сватался к дочери Морштына и получил отказ.
Королева, обиженная за брата и принимая отказ за личное
оскорбление, поклялась отомстить, и, хотя Морштын
оправдывался тем, что не мог принудить свою дочь, королева ему все-
таки не простила, что он посмел отвергнуть союз с королевской
семьей.
В это время ловкий Морштын, умевший скрыть всякую роль,
которая приходилась на его долю, приготовившись к тому, чтобы
покинуть Речь Посполитую, имея множество друзей и сношений с
разными лицами, отважился составить заговор против короля...
Лучшего и более деятельного агента, чем он, Людовик XIV в
Польше не имел.
Я не могу сказать, было ли это правдой, или сплетней,
скрываемой королем и не допускаемой к распространению, но ставшей
потом известной, будто заговорщики хотели не только свергнуть
короля и на его место возвести Яблоновского, но даже покушались
на жизнь Собеского.
Там, где дело идет о таком страшном обвинении, совесть не
позволяет легкомысленно его возводить....
Я не буду распространяться о том, что до ушей моих дошло о
заговоре, который, слава Богу, не был приведен в исполнение.
Во всей этой истории все было и осталось темным; те, у которых
рыльце было в пуху, отрицали свое участие; о Яблоновском
говорили, что без его ведома распоряжались его именем, и король до
самого конца считал его своим лучшим другом, а королева его не
только уважала, но и больше любила, чем мужа.
Его благородный характер и откровенность часто не могли
примириться с ее политикой, так как она была неразборчива в
средствах, стремясь лишь достигнуть намеченной цели.
Перед сеймом Собеский был настолько спокоен и уверен в своем
успехе, что не питал никаких опасений за результат сейма. Все
было предусмотрено и обдумано, чтобы не дать его сорвать и
провести предложения, внесенные королем и поддержанные папским
нунцием Иннокентием XI и императорским послом.
Мне кажется, что и королева, более подозрительная и хитрая,
и та не догадалась о готовящейся измене.
Но прежде, чем мы дойдем до сейма, я должен описать свое
собственное несчастное приключение, доставившее мне много
огорчений и неприятностей.
Я уже упоминал о том, как несчастная Фелиция Бонкур довела
меня до того, что я из-за нее поссорился с ее мужем.
Все об этом знали, и мы не разговаривали друг с другом.
Француз меня избегал, и я тоже не искал его общества. Я знал о том,
что он втихомолку мне угрожал и готовился меня проучить. Я над
этим смеялся, но избегал всяких разговоров с его женой и, хотя
92
она старалась меня увлечь своими улыбками, не поддавался
искушению.
Таковы были наши отношения с Фелицией, когда однажды,
рано утром, перед отъездом на сейм в Варшаву, в мою комнату
вбежал добряк Шанявский, до того взволнованный, что я сразу
догадался о принесенных им скверных известиях... Остановившись
против меня посреди комнаты он воскликнул:
— Товарищ! Что же ты сделал, и до чего тебя довела твоя
глупая страсть!
Я перекрестился.
— Что с тобой? — спросил я спокойно.
— Передо мной не притворяйся! — крикнул Шанявский. —
Пока еще не поздно, оденься и беги! Vox populi1 указывает прямо
на тебя... Все говорят, что это дело рук твоих. Если тебе жизнь
дорога...
В моей голове все перепуталось.
— Господь свидетель, — воскликнул я, срываясь с постели, —
что я не знаю и не понимаю, о чем идет речь!.. Чего ты хочешь?
О чем ты говоришь?
Шанявский взглянул на меня.
— Виновен ли ты, или невиновен, я ей-Богу не знаю, —
произнес он, задыхаясь, — но спасаться тебе надо, потому что все в
один голос говорят, что это дело твоих рук...
— Но, черт возьми, — прервал я, — скажи же мне наконец,
в чем же дело?
— Бонкур убит, — начал Шанявский, — изрубленный труп
его найден сегодня утром в лесу за городом, а вчера вас видели
ссорящимися друг с другом.
Дрожь пробежала по моему телу...
— Каким образом ты мог допустить мысль, — воскликнул
я, — что я его убийца, напавший на него из-за угла и
изрубивший его! Мы несколько раз ссорились друг с другом, вчера
я даже над ним насмехался, но мы разошлись на дворе. Я ни
о чем не знаю.
Взволнованный, однако, я немедленно встал и начал одеваться.
— Я пойду прямо к королю, — отозвался я, — пусть сейчас
же произведут следствие... Я невиновен...
— А там уж расследование началось, и король уже
уведомлен, — произнес Шанявский. — Я был уверен, что ты уже
скрылся, потому что и я тебя подозревал... Расследование дало только
то, что вы вчера поздно вечером поссорились и что после этого он
скрылся из своей квартиры и домой больше не возвращался.
Челядь, вернувшись ночью, нашла его труп в лесу. Я тебе говорю,
что все единогласно обвиняют тебя. Изрубленный труп с
расколотой головой уложили в сарае на тюфяке. Я слышал, что жена его
приходила посмотреть на него и, не проронив ни одной слезинки,
1 Голос народа (лат.).
93
перешла из своего помещения в женское отделение. Вообще, она
вовсе не огорчена...
— Я не виновен, — возразил я. — Ты знаешь меня, я перед
тобою не скрыл бы. Правда должна обнаружиться. Я одеваюсь и
еду к королю...
Не успел я проговорить эти слова, как Моравец вбежал в
комнату и, увидев меня, заломив руки воскликнул:
— Король велел тебя позвать! Почему ты не бежал вовремя?
Гнев овладел мною.
— Слушай! — воскликнул я. — Неужели ты вместе с другими
потерял разум? Я ни о чем не знаю...
— Король велел тебя позвать! Почему ты не убежал? —
повторил Моравец. — Еще во время последнего сейма он был
возмущен поединками и убийствами возле замка, а теперь тут, под
его боком, такое преступление, и убили Бонкура, которого он
любил и в услугах которого нуждался.
Видя, что он мне не верит, я стремительно снял висевшее над
кроватью распятие Христа и поклялся ему, что никогда не был
убийцей.
— Если б ты даже сто раз поклялся, — возразил Шаняв-
ский, — то ты других не убедишь; я тебе верю, но король...
Надев первое попавшееся платье, я, как в горячке, побежал к
королю, которому в этот момент Ляфор натирал ноги и помогал
одеваться.
По лицу Собеского я сразу увидел, что мое дело обстоит плохо.
Увидев меня переступающим через порог, он затрясся от гнева и
закричал:
— Убийца! Ты даже не пощадил достоинства своего короля...
Знаешь ли ты, что это значит — обнажить саблю там, где
находится король?.. Ты своей головой ответишь за это!
Я упал на колени, ударяя себя в грудь.
— Всемилостивейший государь! — воскликнул я. — Я не
виновен. Это дело не моих рук... Я могу поклясться в этом...
— Прочь от меня! Прочь! Пока ты цел, — начал король. —
Ты убийца и вдобавок хочешь быть клятвопреступником.
Посмотри только, до чего тебя довела твоя глупая страсть. Ты погубил
душу.
— Всемилостивейший государь!.. — вопил я.
— Молчи! — крикнул король. — Молчи! Убирайся вон, пока
ты невредим, и не показывайся мне на глаза... Когда тебя схватят
чиновники маршалка, я тебя защищать не буду.
— Всемилостивейший государь, — начал я умолять, — если я
убегу, все признают меня виновным, а я не хочу покрыть себя
позором, спасая этим свою жизнь, потому что я не виновен...
— Все тебя обвиняют, — гневно возразил король, — все! Вас
видели вчера вечером спорящими, и вы вместе вышли...
— Но я прямо пошел наверх к себе домой и не видел после
этого Бонкура, — повторил я.
94
— Уезжай отсюда, слышишь, — прервал король, — я тебя
жалею. Правда откроется, но прежде, чем ты докажешь свою
невиновность, в которую я не особенно верю, тебя засадят в тюрьму,
потому что тебя захватили чуть ли не in flagranti. С маршалком
нельзя шутить...
Король окинул меня взглядом.
— Нет, всемилостивейший государь, я не стану удирать, —
прервал я спокойно, — я не виновен в убийстве.
— Да! Да! — прервал Собеский. — Это софистика! Ты
говоришь, что не совершил убийства, но дуэль между вами была... А
дуэль без свидетелей — это убийство.
— Но я с ним не дрался! — воскликнул я в отчаянии. — Я
сам себя отдам в руки власти, потому что я не могу допустить,
чтобы меня обвиняли, когда я не чувствую за собой вины...
Несмотря на мои клятвенные уверения, король не успокоился,
не желая мне верить.
— Поступай как хочешь, — воскликнул он, — но я не могу
тебя дольше оставить ни при моей особе, ни при дворе. Если тебя
подозревают в убийстве... то мне не следует тебя поощрять.
Количество преступлений увеличивается, и им не следует
потворствовать. Передай все дела Шанявскому и иди на все четыре
стороны... я тебя знать не хочу.
От огорчения мне хотелось заплакать, и я снова упал перед
королем на колени.
— Всемилостивейший государь, — начал я, вознося руки к
небу, — не осуждай меня невиновного и не отталкивай от себя. Твой
гнев на меня будет причиной того, что все меня осудят...
Король не дал мне окончить.
— Довольно, довольно! — произнес он. — Я не могу этого
слышать, и мне нельзя тебе потворствовать... Как я сказал, так и будет.
Он указал мне на дверь; Ляфор, видя короля разгневанным,
раскрыл передо мной двери, и я должен был уйти... В голове у
меня был страшный хаос, но я и не думал о том, чтобы скрыться.
Шанявский ожидал меня в передней, желая знать, чем все это
окончится; я бросил ему ключи и попросил его принять кассу.
— А ты? — спросил он.
— Что я сделаю? — повторил я. — Но ведь ты не можешь
думать, что я убегу, чувствуя себя невиновным. Я тут останусь до
окончания следствия и найду преступника, потому что не хочу на
себе оставить кровавое пятно такого убийства. Те, которые
полагали, что я уже за горами и за долами, видя меня разгуливающим
на свободе и не думающим о бегстве, понемногу начнут менять
свое мнение.
Кроме Шанявского и Моравца, все меня сторонились из
боязни быть заподозренными в соучастии и иметь дело с судебными
властями.
Я первым делом пошел вместе с Шанявским в сарай, где
находился труп. При виде его я весь задрожал, до того он
95
был обезображен; кроме черепа, из которого вытек мсзг, лицо
и плечи были изуродованы... Кровь уже давно перестала течь
из ран, и он весь был покрыт темно-красной скорлупой... Из
этого можно было заключить, что убийство было совершено
накануне вечером.
Раны были нанесены саблей, и возле трупа нашли лишь
поломанную французскую шпагу. Это не был поединок, а простое
нападение, и, судя по количеству ран, казалось, что убийство было
совершено не одним, а, по меньшей мере, двумя лицами.
Затем я отправился в помещение женского персонала с
намерением повидаться с женой убитого Бонкура, но меня к ней не
допустили.
Из нескольких шепотом сказанных слов Летре я вынес
заключение, что и Фелиция подозревает меня в убийстве мужа, смерть
которого она вовсе не оплакивает. Летре тоже советовала мне
бежать, но я ей ответил, что и не думаю трогаться с места, пока не
найду настоящих убийц и не освобожусь от возведенного на меня
обвинения.
Поэтому я остался в Яворове, а так как я считал себя
изгнанным, то не пошел в столовую, а остался в своей мансарде. Я не
в состоянии описать все, что я выстрадал за это время.
Наместник маршалка, видя, что я не собираюсь бежать, не
арестовал меня; на мое желание остаться смотрели как на
нахальство с моей стороны, а не как на доказательство
невиновности, объясняя это тем, что я уверен в покровительстве короля,
а потому так смело веду себя. Ввиду такого мнения расследование
дела шло довольно медленно, и я сам должен был им
руководить... Нельзя было найти никакого следа, чтобы догадаться, кто
мог быть убийцей.
Насколько я знал Фелицию, я мог ее подозревать в том, что,
не послав непосредственно убийц, она могла быть косвенным
образом к этому причастной. Я не был единственным, потерявшим
из-за нее голову, и было много других, которые из-за нее с ума
сходили, с тою только разницей, что моя любовь была постоянной,
а их скоропреходящей. Из расспросов я узнал, что в последние
дни перед убийством за женой Бонкура особенно ухаживали два
молокососа, Слоневский и Маргоцкий. Летре мне рассказала, что
несколько раз видела Фелицию то с одним, то с другим, смеющейся
и шептавшейся по углам, и что на следующий день после убийства
Слоневский и Маргоцкий пришли к столу с сильно измененными
лицами, бросая вокруг себя беспокойные взгляды, и она сразу это
заметила.
Я их очень мало знал и рассказал об этом Шанявскому...
Не сказав мне ни слова, он отправился в их комнаты, улучив
время, когда они пошли обедать, и осмотрел их сабли. На сабле
Слоневского не было никаких следов крови, но зато он в углу
нашел старую рубашку, которой, по всей вероятности, вытерли
окровавленную саблю, и забрал ее с собой.
96
Кровь была свежая, а при дворе ничего не известно было о
какой-нибудь происшедшей дуэли. В комнате Маргоцкого он не
нашел никаких следов.
Для того чтобы себя спасти, надо было губить других, и мы
начали советоваться, как поступить.
Шанявский мне сказал:
— Не вмешивайся, ты очень горячишься, а дело идет о твоей
жизни; положись на меня, и я попробую, может быть, мне удастся
раскрыть правду.
Рассудительный Шанявский в тот же вечер, подойдя к Слонев-
скому, шепнул ему:
— Я должен вам что-то сказать.
Обеспокоенный юноша начал торопить Шанявского сказать ему
поскорее, в чем дело.
— Поговаривают, — шепотом сказал Шанявский, — что вас
видели вечером, идущим в лес, в котором был убит Бонкур, и
возвращающимся оттуда с окровавленной саблей.
Неосторожный молокосос, имевший нечистую совесть,
моментально воскликнул:
— Кто осмеливается это сказать? Кто? Никто меня не видел!
Я никого не встретил!
Шанявский прикусил язык, шепнув про себя: «Habemus
confitentem».
— А Маргоцкий? — тихо спросил он. — Какой дорогой он
возвратился?
Слонецкий, побледнев, бросился к Шанявскому и начал его
умолять:
— Не губите меня! Откуда вы это знаете? Каким образом?
— Об этом не расспрашивайте, — возразил Шанявский, — я
этого не могу вам сказать. Одно только я посоветую вам и Мар-
гоцкому: пока еще не поздно, убирайтесь отсюда по добру по здо-
рову, потому что вы и глазом моргнуть не успеете, как вас
выследят, а тогда вы поплатитесь жизнью.
— Мы оба невиновны, — начал он. — Эта француженка
пристала к нам и начала жаловаться и плакать, кто ее освободит от
этого тирана-ревнивца, кто ее вырвет из рук этого злодея! Она не
только плакала и жаловалась, она просто подстрекала нас
освободить ее, убив Бонкура, потому что иначе ей придется отравиться.
Слоневский признался, что они вдвоем напали на Бонкура,
узнав от его жены, что он в тот вечер пойдет один, без провожатых,
к Дюпону с поручением от короля.
— Послушайте, — сказал Шанявский, узнав от него все
нужное, — я вашей гибели не хочу, а потому уезжайте вместе с Мар-
гоцким, не дожидаясь ночи. Я не думаю, чтобы за вами послали
погоню. Самое главное, чтобы вас тут не было. Это гадко — вдвоем
напасть на одного и убить таким образом беззащитного. Если
хотите спасти свою жизнь, то не теряйте ни одной минуты.
Шанявский мне в тот вечер ни о чем не рассказал.
97
На следующее утро прислуживавший мне мальчик, войдя в
комнату за одеждой, остановился у моей постели, сказав:
— Слонецкий и Маргоцкий ночью куда-то скрылись, забрав с
собой лучших коней и мало вещей. Говорят, что из-за Бонкура.
Я стремительно встал с постели.
— Ты правду говоришь?
— Зачем бы я стал врать?
Не успел он окончить эти слова, как в комнату вошел Шаняв-
ский в утреннем костюме и с улыбкой на губах.
— Мальчик, должно быть, уж сообщил тебе новость? —
спросил он.
— А это правда?
— Их обоих нет, — ответил Шанявский, указывая глазами ка
то, чтобы отослать слугу.
Я велел мальчику пойти посмотреть лошадей.
— Поблагодари меня, — сказал мой приятель. — Я вчера
вечером начал расспрашивать Слоневского, а так как на воре шапка
горит, то он сразу во всем признался. Сегодня их обоих уже нет, и ты
сумеешь доказать свою непричастность к убийству, а я освобожусь от
переданных тобою мне ключей, мысль о которых меня беспокоит, так
как мне все кажется, что короля ограбят, и я буду за это в ответе.
От радости я бросился Шанявскому на шею, и он, опустившись
на стул, начал мне подробно рассказывать, указывая на то, что
не столько виновны юноши, сколько негодная Фелиция,
подстрекавшая их к совершению убийства.
— Я надеюсь, — докончил он, — что это раз навсегда тебя
вылечит от твоей несчастной любви к этой мерзкой женщине,
заслуживающей самого строгого наказания. Я только что узнал, что
осталось завещание, по которому она является единственной
наследницей всего, что принадлежало Бонкуру.
Известие о бегстве Слоневского вместе с товарищем произвело
при дворе огромное впечатление и перетянуло чашу весов на мою
сторону, вызвав сожаление о том, что меня напрасно подозревали,
что король слишком поспешно меня обидел, и т. д.
Не желая никому навязываться, я остался в своей мансарде в
ожидании того, что дальше произойдет.
На следующий день добряк Шанявский, подавая королю
кошелек, произнес:
— Всемилостивейший государь, — мне следовало бы возвратить
ключи и кассу Поляновскому, потому что он страдает за чужие грехи.
— А где он находится? — спросил король.
— Он еще тут, — произнес Шанявский, — он собирается к матери.
Собеский задумался.
— Нет, — сказал он, — ключи останутся у тебя, а
относительно Поляновского я еще не решил, как поступить; и для него
найдется занятие.
— Могу ли я ему сообщить, чтобы он к вам явился? —
торопился Шанявский.
98
— Оставь и не вмешивайся в чужие дела, — возразил Собе-
ский, — я сам решу, как поступить.
Шанявский мне немедленно рассказал обо всем, и я весь день
до вечера провел в томительном ожидании, но напрасно. На
следующий день с утра меня тоже не позвали, и я уже начал томиться
ожиданием, когда пришел паж короля и велел мне немедленно
идти к королю в его кабинет.
Увидев меня, Собеский улыбнулся.
— Видишь, — сказал он, — правда, подобно маслу, всегда
всплывает наружу; но ты не должен считать себя обиженным за
мою строгость и наказание лишь по подозрению. Король лишь
судья, а справедливость не знает сострадания.
Я молчал.
— Я возвратил бы тебе заведование кассой, — произнес он, — но
ты мне еще пригодишься для другой цели. Я знаю, что ты дельный
малый и умеешь держать язык за зубами, а потому я тебя пошлю с
соответствующими инструкциями в Варшаву. Для отвода глаз ты как
будто бы будешь заведовать моим гардеробом, но на самом деле я тебе
доверю очень важные дела. Что же касается твоей реабилитации, то
ты в ней не нуждаешься; достаточно того, что ты остаешься у меня
служить, а я, кроме того, велю увеличить твое жалованье.
В этот же день я умышленно пришел к общему столу; Фелиции
не было при столе, а Летре и Федерб обе меня поздравили.
Никто не хотел признаться в том, что меня подозревал, и
всякий уверял, что был убежден в моей невиновности. О беглецах
говорили невероятные вещи. Фелиция Бонкур отрекалась от всего
и более других чернила бежавших. История эта продолжалась
недолго и последствием ее было то, что я вполне излечился от своей
любви к вдове и даже не старался ее увидеть.
Некоторые утверждали, что она намеревается покинуть двор,
другие предсказывали, что она остается при королеве, которая не
могла обойтись без ее болтовни.
Я старался совершенно забыть об ее существовании, но она
постоянно являлась ко мне во сне, окруженная ореолом невинности.
Я ежедневно являлся к королю в ожидании его распоряжений,
он при виде меня улыбался и велел ждать.
Прошло несколько дней. Однажды поздно ночью Шанявский
прибежал за мной, чтобы я немедленно шел к королю.
Я увидел Собеского уже раздетым, в шубке на беличьем меху,
наскоро наброшенной на рубашку, наклонившимся над столиком с
бумагами, которые он вынимал из раскрытой шкатулки.
Много лет прошло с тех пор, и я думаю, что теперь я могу
рассказать о поручении, данном мне королем; достаточно упомянуть о
том, что дело шло о заговоре и о тайных сношениях с Морштыном и
Витри лиц, считавшихся друзьями короля, а также о том, чтобы
перехватить письма, посланные Морштыном во Францию.
Письменных поручений мне король не дал, а велел поклясться,
что я сохраню тайну, которую и теперь не хочу выдать. Я осме-
99
лился обратить его внимание на то обстоятельство, что он мне
доверяет тяжесть, которая, при всем моем желании, может
оказаться мне не по силам.
— Твое благородное сердце тебе поможет, — ответил
король, — я знаю, что ты мне не изменишь, а ума у тебя достаточно,
чтобы справиться с делом. Поезжай с Богом и знай, что больше
всего меня интересуют письма Морштына, каким образом и через
кого он их отправляет; вернее всего через Данциг и при помощи
Акакия, а потому ты должен будешь обдумать и найти средства
перехватить хоть одну посылку и передать ее в мои руки...
Возможно, и даже наверное можно сказать, что на это придется
потратить деньги, и ты мне в них дашь отчет. Я тебя предупреждаю,
не жалей денег, потому что необходимо, будь то дорогой ценой,
приобрести хоть одно доказательство измены... Если у тебя не
хватит денег, которые я тебе дам с собою, то обратись в Варшаве к
Арону, которому приказано выдать тебе под твою расписку сколько
ты потребуешь. Из-за нескольких десятков или даже сотен дукатов
не следует потерпеть неудачу в таком важном деле.
Король меня надолго задержал, давал различные наставления о
маршруте, который мне нужно будет избрать, и о людях, которых
придется пригласить в качестве помощников. Лишь около полуночи
я возвратился к себе и нашел Шанявского уснувшим на моей постели
в ожидании меня. Я с трудом его разбудил, до того крепким сном он
спал. Он начал меня расспрашивать, но я, несмотря на нашу дружбу,
не мог ему признаться, с какой целью я еду. Я ему только сказал, что
король велел отвезти в Варшаву свой гардероб и произвести в замке
разные переделки, поэтому мне пришлось у него засидеться.
Я не знаю, поверил ли мне Шанявский, но он больше не
задавал никаких вопросов, так как знал по опыту, что никакая сила
не сможет заставить меня говорить, когда нужно хранить молчание.
Я, не откладывая, поспешно начал готовиться к отъезду, чтобы
до наступления вечера выехать из Яворова...
У меня было несколько экипажей, изрядное количество слуг,
лошади про запас, одним словом, была организована экспедиция.
Мне следовало радоваться необыкновенному доверию,
оказанному мне королем, но, правду сказать, я больше беспокоился,
нежели радовался. Поручение было трудное и столь неприятное, что
я никогда бы не взялся его исполнить, если бы дело не касалось
жизни и спокойствия короля. Оно требовало хитрости, которой я,
увы, никогда не отличался, притворства и вообще приемов мне
противных... Вследствие отвратительных дорог, путешествие
продолжалось дольше, чем я рассчитывал. Случалось, что нам
несколько раз чуть ли не на плечах приходилось вытаскивать возы,
застрявшие в ухабах и болотах.
В Варшаве я увидел необыкновенное оживление, которое
обычно бывает перед сеймом, когда в городе ожидаю! прибытия
большого количества гостей и беспокоятся о беспорядках, вызываемых
их прибытием.
100
Почти не отдохнув, я, руководствуясь указаниями, полученными
от короля, начал осторожно обо всем расспрашивать и через неделю
знал уже наверное, что в действительности готовится что-то ужасное
против короля, не говоря уже о том, что хотели сорвать сейм.
Очень многие нападали на австрийского союзника, приписывая
ему то, что считалось австрийским обычаем, а именно желание
превратить трон в наследственный absolutum dominium. Они не хотели
видеть на троне ни королевы Марии, ни Якуба, если бы даже
вследствие этого к Польше присоединена была бы Молдавия и Валахия...
Голоса, раздававшиеся против короля, исходили от французской
партии и, как я заметил, щадили королеву больше, чем короля.
Когда я узнал, что гетман Яблоновский участвует в заговоре, то
не хотел этому верить. Витри и Морштын заблаговременно проявили
свою деятельность, и мне легко было разузнать, что последний часто
переписывался с французским королем и другими лицами, а Витри
получал крупные суммы, но не для Венгрии, а для того, чтобы заранее
приготовить клику людей, преданных французской партии.
Не было недостатка в людях, расположенных к королю,
веривших в него, преданных ему и возлагавших все надежды на него,
но все это были люди, имевшие мало значения. К тому же им
недоставало руководителя, так как на Яблоновского трудно было
рассчитывать. Королева, не пользовавшаяся симпатиями, тоже не
могла ничем помочь; торговля вакансиями увеличила ее капитал,
но уменьшила уважение к ней. Все эти приготовления к сейму
представились мне в печальном свете. Мои мысли были заняты
Морштыном и теми письмами, которые король так жадно добивался
перехватить. Я питал отвращение к таким действиям и должен
был поминутно повторять себе о том, что дело идет о спасении
Речи Посполитой и самого короля.
Нелегко было проследить, каким путем пересылаются письма
Морштына и Витри к Акакию. Возможно, что мне даже не удалось
бы исполнить желание короля, если бы Акакий сам неожиданно
не приехал инкогнито в Варшаву под чужим именем. Я не терял
его из виду, всюду как тень следуя за ним, но было чрезвычайно
трудно приобрести доверие заговорщиков.
Мне даже стыдно признаться, к каким средствам приходилось
прибегать, чтобы достигнуть своей цели...
Но чего человек не сможет с помощью всесильных денег?
Приближался назначенный срок прибытия короля, а я еще не
сделал ничего существенного. Мне обещан был пакет с
корреспонденцией, адресованный господину Кайеру, но я не знал, содержит
ли он в себе необходимое королю доказательство, а распечатать
его и прочесть я не считал себя вправе.
Я знал, что французы имели в замке подкупленных ими людей,
а потому если бы последние узнали о пакете, то не пощадили бы
меня. С величайшим нетерпением я ожидал приезда короля и
временно нашел себе пристанище у знакомого огородника, приказав
доверенному слуге уведомить меня о приезде Собеского.
101
Время тянулось очень медленно.
Неуверенность в тем, не ошибся ли я, заплатив громадные
деньги за ничего не стоящую бумажку, не давала мне ни минуты покоя.
Наконец слуга Василий сообщил мне, что вечером ждут приезда
короля. Я отправился из Вилянова в замок, где собралось много
чиновников, сенаторов и военных в ожидании Собеского.
Прием, однако, был очень холодный, и король, как только
вышел из экипажа, казалось, искал меня глазами. Я стоял так, чтобы
он мог меня заметить и, встретив его неспокойный взгляд,
остановившийся на мне, ударил себя рукою в грудь, как бы этим
жестом давая ему понять, что у меня имеется необходимое ему
доказательство.
Начались длинные приветствия, разговоры и давка
пробиравшихся к королевской руке, так что мне очень долго пришлось
ждать в гардеробной. Через некоторое время король вошел туда в
сопровождении Матчинского и спросил, где я.
Я не смел при свидетеле раскрыть рот, но король, хлопнув
меня по плечу, спросил:
— Говори, поймал ты птичку или нет?
— Поймал, всемилостивейший государь, но один Бог знает
кого, куропатку или летучую мышь...
Я расстегнул одежду и, вынув пакет, передал его королю. Со-
беский сделал Матчинскому знак, чтобы закрыл дверь на засов, и
быстро разорвал конверт с печатями... В нем оказалось несколько
писем Витри к королю, к Форбену и, наконец, письмо, написанное
знакомым почерком Морштына к Кайеру, которое король прежде
всего распечатал и, приблизившись к свету, стал жадно его читать.
Я не спускал с него глаз, стараясь угадать, что я поймал...
Король побледнел, и бумага дрожала в его руках, но он жадно
читал до конца, некоторые места, насколько я мог заметить, прочел
по два раза и наконец, протянув письмо Матчинскому, сказал:
— Погляди, прочти! Большего не нужно, хотя самое главное в
цифрах.
Он на минуту забыл обо мне, потом, повернувшись ко мне и
хлопнув меня по плечу, прошептал голосом, в котором
чувствовалось сильное волнение:
— Ты отличился, и Господь тебя вознаградит; ты мне оказал
громадную услугу, о которой я не забуду. Я подумаю о том, чтобы
тебя вознаградить, а теперь ступай и не проговорись ни перед кем
ни единым словом... Никто об этом не должен знать.
Я поцеловал руку короля и вышел из комнаты с сильно
бьющимся сердцем. Шанявский, прибывший вместе с двором, сразу
узнал по моему лицу, что я чем-то очень доволен, а так как
работы у нас не было, то мы, по польскому обычаю, отправились
в виноторговлю, чтобы отпраздновать мою удачу за бокалами вина.
ЧАСТЬ II
Сейм открылся при самых лучших предзнаменованиях. Ибо,
хотя король знал о заговоре Морштына, он не догадывался и не
подозревал, какие лица входили в состав заговорщиков.
Письма, перехваченные мною, были недостаточны для
обвинения и, хотя подтверждали существование каких-то шахерма-
херств, еще не давали ключа к тайне. Однако по найденной
нити можно было размотать клубок, и действительно, через
некоторое время были перехвачены гораздо более убедительные
доказательства.
Собеский, кроме подскарбия, Витри и Дюверна, не знал других
участников. Конечно, не имея к тому никаких данных, он даже
не мог подозревать Яблоновского, тем более что тот всегда был с
королем в самых сердечных отношениях. Однако впоследствии
оказалось, что Яблоновский, недавно возведенный в гетманское
достоинство, знал о заговоре и держался нейтрально, так как имел виды
на корону; что Сапеги, которых король осыпал милостями, предали
его; что среди собственных его сторонников было немало, готовых
стать в ряды врагов, лишь бы только последним удалось пошатнуть
авторитет Собеского и восстановить против него большинство на
сейме. Не хочу загадывать слишком далеко, но за спиною
Яблоновского стояли очень многие; а Морштын был так уверен в успехе
дела, как будто уже свергнул короля.
Действительно, как некогда король Михаил, так и Ян был
окружен врагами и предателями. Его славе вождя и грозы турецких
полчищ, окруженного сиянием непобедимости, всячески старались
противопоставить рыцарскую доблесть Яблоновского. Распускали
слухи, что король отяжелел, что не может сесть на лошадь, что
он не в силах преодолеть тяготы военного похода.
На первый взгляд можно бы подумать, что в том есть доля
правды, так как королю, чтобы сесть в седло, приходилось
подставлять скамейку. Но, сев в седло, он выдерживал по десяти часов
подряд и не жаловался на усталость.
Самая же мысль о борьбе с неверными в защиту святого Бреста,
так воодушевляла короля, так ободряла его, вливала столько новых
сил, что он молодел при одном только намеке на поход.
ЮЗ
Никогда еще мне не случалось видеть короля в более грустном
настроении, чем перед сеймом. Он уже скорбел душой, что
придется сорвать маску с постыднейшей измены... Королева также
была печальна, так как частью знала о происках французов.
Яблоновский, которому она очень доверяла, конечно, успокаивал
ее и не давал углубиться в суть вопроса.
Как в былое время французы, Форбен и прочие, так теперь
ежедневными собеседниками короля были папский нунций и
австрийский посол. Они досаждали королю письмами, наседали на
него и на королеву.
Насколько я мог видеть, Собеский твердо стоял на позициях
христианина и защитника веры; рассчитывал также, как
выражался, «отвоевать под Веной Каменец». Королева же мечтала об
эрцгерцогине для своего Якубка1 и о наследственном престоле.
Маршалом сейма выбрали Лещинского. Начало прений прошло
довольно мирно, но почти тотчас же ввели папского и
австрийского послов и подняли вопрос о союзе с Австрией и помощи
Леопольду.
Только этого и ждали заговорщики, чтобы разразиться
страшным взрывом долго сдерживаемой и затаенной страсти. К
несчастью, они опирались на чувства, взлелеянные у нас долгим рядом
поколений: на ненависть в народе к Австрии и на боязнь Ракуского2
дома.
— Кесарь, — кричали заговорщики, — не помогал нам, когда
нас теснили турки; с какой стати мы пойдем к нему на помощь?
Мы всегда справимся с турками, а какое нам дело до того, что
они утвердятся на Дунае? Наши враги не турки, а бранденбурги
и ракушане. Они давно уже примериваются, как бы прикончить и
поделить между собой Речь Посполитую.
Были и такие, которые открыто упрекали Собеского, будто он
потому ищет союза с Австрией, что хочет обеспечить для себя
наследственность престола и попрать все вольности народа. И не
только кричали на сейме, но тысячами разбрасывали подметные
письма на польском и латышском языке, призывавшие к насилию
над королем.
Ясно было, что запевалою всех писак и крикунов был Морштын.
Французская партия заняла на сейме преобладающее
положение; она так с каждым днем наглела, что королю, несмотря на
отвращение, которое он питал к выступлению с открытым
обвинением, грозившим печальными последствиями для очень многих,
ничего другого не осталось, как публично призвать Морштына к
ответу и предать его суду общественного мнения.
Перехваченные и доставленные мною из Берлина письма в
достаточной мере подтверждали факт измены. Правда, значительная
часть их была зашифрована; но самый факт шифровки доказывал,
1 Якубек — уменьшительное от «Якуба» (Яков).
2 Габсбургского.
104
что л письмах было нечто, не подлежавшее огласке, а
следовательно, Морштын замышлял недоброе.
Заручившись письмами, король созвал сенаторскую раду1 и,
представив переписку, потребовал суда и наказания.
Доказательства были такие веские и убедительные, что речи не могло быть
об увертках. Вызванный сенаторами Морштын держал себя крайне
вызывающе; отрицал, что действия его были направлены во вред
Речи Посполитой, отказывался дать ключ шифра... Ничего не
помогло; его все-таки отдали под суд.
Во мгновение ока эти письма, которыми, сверх подскарбия,
было скомпрометировано очень много лиц, произвели полную
перемену настроений. Завлеченные Морштыном в ловушку отреклись
от него, осудили, отступились. Весь гнев и злоба обрушились на
французского посла Витри, который не смел показаться на улице.
Но королю пришлось смотреть сквозь пальцы на соучастников мор-
штыновского заговора и не привлекать их к суду.
Морштын и французы оказались единственными обвиненными.
Разнеслись слухи о заговоре и готовившемся покушении на
жизнь государя; шляхта и все почитатели короля-воителя и
короля-героя, встали на его защиту и были готовы следовать за ним
хоть на край света.
Не все то, что успешно содействовало победе короля, творилось
въявь. Но я присматривался и прислушивался и могу сказать со
спокойной совестью, что политика была здесь на последнем плане:
люди совершенно честно возмущались закулисной, тайной
интригой, ненавистной всякому бесхитростному человеку. Ни нунций,
ни австрийский посланник не могли бы добиться того единодушия,
которое было вызвано слухами о том, что французы хотели
отравить или свергнуть короля, что готовили какое-то питье, что
понавезли подкупленных убийц... Преданность святой католической
вере также влияла на умы и на сердца; а она была такая же у
короля, как у народа.
Итак, все французское сооружение, возведенное с таким
трудом, рухнуло в тот день, когда Любомирский должен был
арестовать Морштына, а подскарбий, рассчитывая на проволочку, просил
шестимесячной отсрочки, чтобы доказать свою невинность...
Требовали, чтобы он выдал секрет шифра; но жена подскарбия, узнав
о беде мужа, разорвала и сожгла шифровый ключ. Пришлось
затребовать его из Франции.
Французы, Дюверн и Витри, до последней минуты были
уверены в победе. Они прекрасно знали, что не подвергаются никакой
опасности, так что Дюверн отказался уехать за границу и держал
себя в высшей степени высокомерно. Но все же они должны были
убедиться, что проиграли дело.
Витри, восстановивший всех против себя грубостью и
высокомерием, очень кичился званием посла, но оно не помогло молодой
1 Совет.
105
Тышкевич показал ему, что никто не боялся ни самого Витри, ни
его государя. Витри жил в Бернардинском монастыре; в окна его
помещений и в его людей стреляли; на улице он должен был
окружать себя охраной, а вскоре совсем перестал показываться. В
сенате кричали, что в Польше не нуждаются и не признают
постоянных резидентов: пусть уезжает восвояси; а некоторые
депутаты предлагали:
— По-турецки с ним, с турецким другом: дать четыреста палок
в пятки... Что это он вздумал помыкать здесь нами?
При таком настроении сейм принял все, чего требовал король;
был закреплен союз с кесарем; повеяло рыцарским духом;
воспрянули сердца. Напрасно под конец вновь делались попытки сорвать
сейм. Друзья короля, а тем более враги, вчера еще пособлявшие
Морштыну, старались обелить себя и остерегались: они, главным
образом, не допустили безрезультатного окончания сейма.
Витри не оставалось другого выхода, как в самооправдание
обманывать своего короля ложными докладами, а затем распроститься
с Польшей и вернуться во Францию.
Однако напрасно было бы думать, что после отъезда Витри и
Дюверна у нас совсем перевелись заговорщики и интриганы. Вся
сеть, которою была опутана страна, осталась; только была не так
заметна вследствие отъезда коновода. И в Гданьске, и в Варшаве,
и в Кракове, и при дворе, и в опочивальне королевы осталось
немало верных слуг Людовика XIV.
Со дня выезда Витри не подлежало уже сомнению, что Польша
выставит вспомогательный корпус кесарю. Немедленно принялись
вербовать, за австрийский счет, войска, предводителем которых
называли Любомирского. Тогда же послали депеши к казакам, и на
Литву, и в войсковые части с приказанием готовиться и собираться
на границе. Но все это имело второстепенное значение.
Трудно передать то впечатление, которое я вынес как очевидец;
но еще труднее заставить верить моим словам тех, которые не
были очевидцами событий.
Дело в том, что ни Палавичини, ни посланник Леопольда
совсем не интересовались составом войск: им было важно заручиться
только именем Собеского, как признанного всей Европой
победителя турецких полчищ. Считалось, что он единственный знаток их
тактики, их способа ведения войны; знает их язык, и одно имя
его нагоняет панику на турок и татар. В Европе славой полководца
пользовался также невзрачный принц Лотарингский, тот самый,
который женился на вдове Михаила1. Кесарь собирался назначить
его генералиссимусом всех австрийских и союзнических войск. Но
беда в том, что Лотарингский не пользовался никакой известностью
у турок; они попросту о нем не слышали. Между тем они издавна
знали, и испытали на себе славу имени короля польского и
помнили, что там, где он являлся, им не удержаться.
1 Короля Михаила Вишневецкого (Пяста).
106
Одно имя Собеского стоило десятитысячного войска. Главный
вопрос был в том, чтобы склонить престарелого и утомленного
жизнью короля, упросить его, ради святого Креста и веры
католической, лично принять участие в походе. Задача не из легких, ибо
король отяжелел, здоровье его пошатнулось; и он ревниво оберегал
свою славу полководца. И вот от него требовали, чтобы он поставил
на карту жизнь, спокойствие и имя... ради кесаря!..
К тому же королю было неудобно подчиняться чьим-либо, хотя
бы даже кесаревым, приказаниям; необходимо было блюсти свое
достоинство. Все это заставляло его медлить, не говоря уже о
возрасте и силах. Наконец, послать на помощь армию или тянуться
самому — далеко не одно и то же, так как личное присутствие
короля влечет огромные расходы.
Все искренние друзья государя боялись за него, не допускали
мысли о личном предводительстве, протестовали; поддерживали
весьма немногие. Не очень-то надеялись на новые лавры, притом
такие славные, как раньше; жертва была слишком велика... И кого
ради? Ради кесаря, в неблагодарности которого король был наперед
уверен, зная гордыню Габсбургского дома.
Испугалась, после сейма, даже королева, очень желавшая
продлить жизнь и правление своего супруга. В ней проснулась
запоздалая нежность к мужу, ибо из сношений своих с
Людовиком XIV она вынесла заключение, что не может рассчитывать
на поддержку Франции в нужную минуту. Папский нунции
всегда мог привлечь короля на свою сторону во имя веры и
креста; королева же была лишена духа самопожертвования,
наполнявшего сердце мужа. К королеве можно было подольститься
только обещанием реальных выгод: эрцгерцогини для Якубка,
уступки Молдавии и Валахии и т. д.
Собеского увлекало то, что когда-то соблазнило и Варнен-
чика1: слава поборника христианской веры, защитника креста.
Мы, наблюдавшие его в течение всего похода, можем
подтвердить, что он олицетворял собою подвиг, безмолвную молитву.
Первым его делом, после взятия какой-нибудь небольшой
крепости, было отслужить обедню в мечети, сбросить полумесяцы,
водрузить кресты. Если и шевелилась где-то на дне его души
мысль о Каменце и о возврате областей, отнятых турками и
казаками, то занимала она последнее место в ряду его
мечтаний: на первом плане были крест в церковь. Но и того нельзя
сказать, чтобы король ханжил или молитвенно ходил на приступ
неба, щеголяя своей набожностью. Напротив того, молился он
всегда горячо и кратко; простаивал на коленях мессу, а рядом
ждал конь под седлом.
В минуты вдохновения он, казалось, весь устремлялся к небу;
но вдохновение действительно приходило к нему свыше, и он ни-
1 Владислав III Варненчик, погибший при Варне в битве с турками 10 ноября
1444 года.
107
когда не рисовался им перед людьми. Он всегда предпочитал
тайную, одинокую молитву.
Можно сказать, что с момента закрытия сейма и почти до
самого выступления из Кракова все еще не доверяли решимости
короля принять участие в походе и всячески за ним ухаживали,
чтобы склонить принять командование над войском. Он обещал;
разнесся слух, что он пойдет; а люди все еще не верили такому
счастью. Папский нунций дрожал до последней минуты, опасаясь
неожиданной помехи... Мы уже готовили походные возы, а
австрийское посольство и папский нунций по-прежнему не верили, что
король сдержит слово.
И неудивительно, ибо Ян ставил на карту больше, нежели мог
приобрести. Была у него и корона, и слава, добиваться было нечего,
а потерять он мог много. На него могла обрушиться турецкая месть,
легко было потерять жизнь и утратить славу победителя. Как
сторонники кесаря до последнего момента не доверяли его решимости,
так и турки не верили, что король пойдет помогать австрийцам.
Им и не снилось ничего подобного. Они допускали, что король,
быть может, пошлет кесарю подмогу или разрешит ему кинуть в
Польше клич. Но мысль, что он лично поспешит на помощь ра-
кушанам, казалась им смешной. Король стоял уже лагерем на Ка-
ленберге1, а турки все еще не верили, что он идет.
Я даже не сумею описать, как униженно просили папский
нунций и посол о помощи. Говорили, будто на коленях. Со своей
стороны, они не скупились на посулы, только я должен сказать,
что государь нисколько ими не прельщался и даже попросту не
верил. Я сам неоднократно слышал, как он говорил Матчинскому:
— Все это vox, vox, pretereaque nihil2. Я хотел бы верить, что
обрету Царствие Небесное, так твердо, как не верю им. Они
заплатят мне самою черною неблагодарностью, не сдержат ни единого
слова или обязательства... Но я иду не ради них, а ради Креста
Христова.
Королеву я за это время видел редко, да и король не давал
мне засиживаться без работы. Много пришлось делать щекотливых
дел. Король как только убедился, что я служу за совесть, не продаю
своих услуг, не домогаюсь, как другие, всяческих подачек, то
постоянно стал выезжать на мне и посылать в разные концы. Иной
раз, едва сойдя с коня, приходилось опять лезть в седло и ехать
по другому делу.
Но и мне пришлось однажды отпроситься на несколько недель
к матери, которая выдавала замуж мою сестру за Подхороденьско-
го, богатого землевладельца. Ей хотелось непременно залучить
меня на свадьбу в качестве королевского придворного; и величали
меня скарбником, хотя я не только не был им, но даже с трудом
бы мог сказать, каковы, собственно, мои функции при короле. На-
1 Под самой Веной.
2 Слова, слова, и больше ничего (лат.).
108
чиная от письмоводства и кончая приемом гостей, на мне лежали
всяческие тяготы.
Особое расположение, которое питал ко мне король в связи с
тем необъяснимым обстоятельством, что я не богател и не шел в
гору, возбуждало подозрение и зависть. Королева ненавидела меня;
попыталась, однако, привлечь на свою сторону, но я ловко
увильнул. Многие высказывали догадку, что я тайком загребаю капиталы
за свои услуги. Но, клянусь Богом и правдой истинной, что сам
я не гнался за вознаграждением, а король все только обещал, так
что я ничуть не богател.
Среди всей этой суеты, ибо иначе не могу определить рода
своей службы, я, по крайней мере, утешался мыслью, что дела
помогут мне стряхнуть с себя глупую влюбленность. Но Шанявский
был прав, говоря, что я стряхну с себя любовь не раньше, чем
влюбившись в другую.
Тем временем моя очаровательница, державшаяся при дворе
необычайной ловкостью и умением пресмыкаться перед королевой,
ибо не пользовалась ничьей любовью — ни Летре, ни панны Бес-
сон, ни Болье, ни Федерб, — так искусно разыгрывала передо
мною свою роль угнетенной жертвы, что я жалел ее и даже немного
помогал.
Я не жалею тех денег, которые она выманивала у меня по
мелочам, так как была очень сребролюбива: Бог с ними... Но,
порой, зайдешь к ней, прекрасно зная, какова ей, собственно,
цена... посидишь часок, послушаешь... и, бывало, так она опутает,
что, право, готов на стену лезть в защиту ее невинности и невесть
какие принести ей жертвы.
Очевидно, овдовев и видя, какие я делаю успехи в милости у
короля, она задумала заставить меня на себе жениться. Зная мою
слабость, она прибегала к всяческим уловкам; но Господь Бог
хранил меня, так что я не попался в расставленные сети. Если бы я
принципиально не относился с уважением ко всякой женщине, в
особенности же к такой, которая могла бы быть мне парой,
пользовался бы ее авансами или забылся, она, с помощью королевы,
легко могла бы добиться брака. Но я уважал ее, и это послужило
мне на пользу.
Возможно, что я и сдался бы, если бы она была осторожнее и
сосредоточила на мне все свои старания; но обычно она имела про
запас двоих или троих воздыхателей, полагая, что я слеп. Но я
был зрячим.
Трудно перечислить и невозможно рассказать о всех увертках
этой женщины. С каждым поклонником она держалась
по-разному и одновременно водила за нос двоих или троих. Настоящий
хамелеон, она без малейшего усилия переходила от веселого
настроения к слезам, от гнева к грусти. Никогда не слышал я от
нее слова правды. Если же она замышляла провести кого-нибудь,
то самые предусмотрительные попадались на ее невинную
гримаску.
109
Помню, как в одну из таких минут, она, заигрывая и смеясь,
сказала:
— Вы постоянно начеку; придерживаетесь оборонительной
тактики и думаете, что я не проглочу вас, если вздумаю? Не
беспокойтесь: женитесь. Но я не тороплюсь... Стоит только захотеть, и
поведете меня к аналою...
Меня даже в жар бросило, и я прошептал: «Quod Deus avertat»1..
На свадьбу сестры столько понаехало гостей, что для них
пришлось очистить все усадебные постройки, кладовые, подвалы, часть
конюшен... и то не поместились.
Мать и я старались устроить все как следует. У сестры было
заготовлено богатое, прекрасное и обильное приданое; даже
свадебные вина много лет хранились в погребе и всего было в волю.
Скучно было только без брата Михаила, но он не мог приехать,
так как состоял при миссии в Бранденбурге.
Подхороденьские принадлежали к старинному местному
дворянству; семья была зажиточная, породнившаяся с лучшими домами,
и все-то должны были съехаться на свадьбу. Немало было родных
и с материнской стороны. Свадебные празднества продолжались
день в день целую неделю, а потом прихватили еще несколько
дней, когда часть гостей разъехалась. За стол садилось человек по
десять и больше посторонних.
Из множества барышень, среди которых было немало красавиц,
выбор был большой. Но тут-то я заметил, что испортил себе вкус.
После француженок они казались простоватыми и неотесанными.
По совету Шанявского, я хотел влюбиться и, с Божьей помощью,
по окончании войны вернуться, жениться и осесть в деревне. Я
присаживался по очереди ко всем красавицам, старался вызвать их
на разговор, но... дело не клеилось... Не их была вина, а моя, так
как я набил себе оскомину на пряной пище. Мать не спускала с
меня глаз и вздыхала, видя мое равнодушие.
Впрочем, мне и без того было не до амуров. Я знал, что король
наверняка даст себя уговорить, пойдет выручать Вену, а я с ним.
Я никоим образом не мог оставить доброго и ласкового государя
одного среди походной суеты; надо было ехать, хотя бы для надзора
за матрацами, корзинами с плодами, бутылками с вином, чтобы
их не забывали возить следом... Я очень торопился вернуться к
королю, раньше чем двор успеет выехать в Краков.
Итак, сейчас же после свадьбы, одарив сестру и зятя и
попрощавшись с друзьями дома, я выехал по направлению к Жолкви,
на Яворов, не зная, где именно застану короля. Известия доходили
тогда очень медленно, даже касавшиеся высочайших особ; притом
сведения часто получались малодостоверные.
Королевскую семью я застал накануне выезда в Краков.
Королева сопровождала мужа и была олицетворенная заботливость и
нежность, от чего король давно отвык. Возможно, что в данном
1 «Оборони Боже» (лат.).
ПО
случае королева была искренна; ибо, оборони Боже, в случае чего,
у нее не было достаточно друзей, на которых она могла бы
рассчитывать в собственных интересах и в интересах детей. Верен был
ей только Яблоновский, тогда великий коронный гетман.
Короля я застал веселым, чрезвычайно увлекавшимся
предстоявшим походом. Он целыми днями изучал карты, которые ему
присылали отовсюду. Следил по ним за передвижением войск, за
положением Вены, искал места переправы через Дунай и проч.
Все знали, что никто лучше короля не был осведомлен о
действиях турок, о их намерениях и планах. Может показаться
сказкой, но даже в верховном их совете, в Диване, у короля были
свои, хорошо оплачиваемые лазутчики. Также и татары, в
особенности некоторые орды, были в тайных сношениях с Собеским и
исполняли его приказания. Такие добрососедские отношения
установились в значительной мере потому, что король хорошо говорил
по-турецки и по-татарски, знал эти языки, и много пленников
работали у него сначала в Яворове, а позже в Вилянове, в садах
и при постройках. Он частенько разговаривал со своими узниками,
а иногда отпускал на волю с богатыми подарками и поручениями
в орду. Насмотревшись на богатство и могущество короля в
Польше, отпущенники разносили по ордам добрую о нем славу и
превозносили его великодушие. Случалось, что иные татарские
царьки, из желания выслужиться, посылали к нему гонцов, чаще
всего христианских пленников, с предупреждением, куда и когда
они намерены идти с ордой.
Потому Собеский, несомненно, был лучше других осведомлен
о намерениях турок и первый дал знать в Вену, что Кара-Мустафа
идет на столицу. Вначале предупреждение произвело переполох;
стали деятельно готовиться к обороне, хотели сжечь предместья,
но потом немцы остыли и убедили самих себя, что все это пустое
и их напрасно напугали. Им казалось, что турки не посмеют
посягнуть на кесарскую столицу. Потому они до последней минуты
действовали спустя рукава, не принимая никаких мер, а только
озирались на Венгрию, уверенные, что война ограничится
венгерской территорией.
Только тогда, когда не войско, а, так сказать, целая орда
неверных навалилась на Габсбургские земли, а венгры предпочли
платить дань туркам, нежели жить под игом ракушан, — тогда, в
последний час, среди ночи, кесарь должен был спасаться со своей
семьей из Вены, так как не мог надеяться удержать столицу.
Поздненько убедились немцы, что сведения у Собеского были
верные, а потому с тем большею настойчивостью добивались его
помощи.
Принц Карл Лотарингский был, несомненно, дельный
полководец и воин, что неоднократно доказал. Но одно было воевать с
европейскими войсками, а другое — с татарскими и турецкими
ордами, не зная ни их языка, ни приемов, ни способов ведения
войны. Известность имени Собеского, нагонявшего ужас на невер-
111
ных, была так велика, как оказалось впоследствии, что сильные
твердыни, которые немцы подолгу осаждали и не могли принудить
к сдаче, поднимали белый флаг при одном упоминании о Собеском.
Нужно и то сказать, что король приказал обращаться довольно
человечно даже с нехристианскими военнопленными. Многих
употребляли на легкие работы, заставляли стеречь замки и усадьбы;
те же, которые работали в окопах, получали здоровую пищу,
такую, к какой привыкли дома.
Когда, вернувшись, я явился к королю, он встретил меня весело
и был, несомненно, рад.
— Вот молодец, — сказал он, дернув меня за ухо, что было
признаком хорошего настроения духа, — люблю за то, что даже
в мелочах сдерживаешь слово... Ну, готовься в путь-дорогу!.. Не
знаю, будет ли чем наполнить вьюки, но, во всяком случае, сдам
их на твое попечение... и от себя не отпущу. Берегись только пуль,
потому что ты мне нужен.
— Ваше величество, — ответил я, вспомнив татарскую стрелу
под Журавном, — такое уж мне счастье: где пули да стрелы, там
мне несдобровать...
— Так смотри, по крайней мере, чтобы у тебя всегда был под
боком Дюмулен: он сейчас наложит перевязку.
Редко мне случалось видеть короля более жизнерадостным,
крепким и более деятельным, чем тогда. Он повсюду рассылал
универсалы и письма, непременно желая вести с собою казаков;
но те сильно запоздали. Столько же хлопот было и с Литвой:
литовские полки совсем опростоволосились и были так же кстати,
как ложка после обеда.
Целыми днями король сидел с Дюпоном и другими инженерами
над планами, жалуясь на отсутствие хороших атласов и карт, хотя
выписывал их отовсюду и платил большие деньги. Обо всем
приходилось думать самому, даже о пиках для латников и копьеносцев.
Действительно, впоследствии обнаружился большой недостаток в
копьях, так что мы стругали их в пути и везли с собой целыми
возами.
Другие, видя, как хлопочет и увлекается король, а также из
желания выслужиться стали входить во все мелочи. При всем том
дело подвигалось туго, и многого, о чем своевременно напоминал
король, потом не оказалось, а запоздавшие с поставками так и не
выполнили их до конца войны.
В составе войск было немало скептиков, таких как наш
родственник Поляновский, коронный стольник, выдающийся воин, муж
рыцарского духа, бывший у короля в большом почете. Но он был
ипохондрик и сурово осуждал все предприятие, предсказывая самые
печальные последствия. Я сам слышал, как он говорил, что король
идет навстречу гибели и ведет с собой цвет рыцарства. Одно дело,
говорил он, биться за родные пепелища и преследовать врага на
собственной земле, и совсем другое воевать в чужих краях, не
имея в нужном количестве продовольствия, среди враждебного, чу-
112
жого населения. Притом сражаться не сам на сам с врагом, а иметь
союзников, настроение, силы и характер которых совершенно
неизвестны. Некоторое время спустя Поляновский, упав духом,
вернулся восвояси с полпути, ибо убедился, что короля ничем не
отклонить от участия в походе. Поляновский, в числе многих,
предвидел неблагодарность кесаря, которому ложный стыд помешает
помириться с фактом, что спасением своим он обязан чужеземному
властителю.
Королева что ни день, то меняла настроение. То ей хотелось
воспользоваться обстоятельствами в династических интересах сына,
то боялась за мужа и за Фанфаника, бывшего тогда ее любимцем.
Как легко можно было предвидеть, сын не очень-то подчинялся
матери и проявлял собственную волю.
Яков, которому было уже около двадцати лет, с юношеским
пылом рвался в поход; те же, которые знали его лучше, говорили,
будто он стремится идти с отцом не ради рыцарских подвигов, а
просто по ребяческому легкомыслию и любопытству, думая
использовать свободу, посмотреть людей и поразвлечься. Отец же был
очень рад увлечению Якова и был не прочь дать ему впервые
понюхать пороху под своей опекой. О безопасности юноши было
кому позаботиться, потому что вместе с нами шел во главе полка
брат королевы кавалер де Малиньи, муж великого сердца и
отважный рыцарь.
Все население Кракова, в особенности духовенство, восторженно
принимали короля и королеву. Мы шли точно в Крестовый поход...
Во всех костелах служились за нас молебны. Старейшие
священнослужители, окруженные ореолом святости и набожности,
благословляли нас на подвиг и пророчили победу.
Необходимо отметить, что все вообще приметы и предсказания
сулили нам великие успехи. Что ни день, то разносились слухи о
новых небесных знамениях, о таинственных голосах в костелах, о
видениях, сопутствовавших королю. Он все время был окружен
густой толпой; костелы были переполнены, и король с королевой,
чуть ли не каждый день присутствовали на молебнах то в том, то
в другом костеле.
Когда мы еще только собирались двинуться к Кракову, но
медлили, поджидая запаздывавшие части войск, стали приезжать гонцы от
князя Лотарингского и Любомирского, уже бывшего под Веной, с
несколькими тысячами человек. Гонцы с мольбой торопили короля, ибо
турки сильно угрожали городам, и со дня на день можно было
опасаться приступа и падения столицы. После таких вестей король в
конце концов перестал ждать запаздывавших и двинулся вперед с
имеющимися силами. Правда, были некоторые основания
предполагать, что Лотарингский вместе с осажденными умышленно
преувеличивает тяжесть положения, чтобы вынудить Собеского поторопиться;
однако и на самом деле время не терпело, хотя тем временем
Лотарингский получил кой-какие подкрепления из немецких государств:
Саксонии, Баварии, Вюртемберга и других.
113
О том, с какой торжественностью мы двинулись из Кракова
вслед за полками, вышедшими раньше нас, я описывать не буду:
достаточно распространялись о том другие очевидцы. Королева, как
я уже сказал, проявляла по отношению к мужу и сыну
необычайную заботливость и беспокоилась за их судьбу. Она решилась
проводить их до Тарновских гор, а потом вернуться в Краков и
остаться до конца войны, чтобы получать более частые и
достоверные известия.
В Тарновских горах мы впервые испытали, что значит поход
по чужой и незнакомой стране, с людьми непривычными к горным
экспедициям. Мне был поручен надзор за частью королевского
обоза и его личного походного имущества, оружия, платья, и я сам
не знал, что делать. Когда в Кракове наши возницы стали,
крестясь, сначала опережать нас, а потом отставать в пути, ломать
оси и колеса, терять груз... я думал, что сойду с ума раньше, чем
все приведу в порядок.
Но это не суть важно, все это мелочи, о которых можно было
не заботиться. Я присматривался к королю, к королеве, ко всей
высочайшей семье, их друзьям и прихлебателям. Это были дни
глубокого смысла и значения, в особенности для государя,
олицетворявшего собой Божию грозу, рыцаря и поборника христианства.
Он как бы сознавал величие миссии и подвига, запечатленных на
его лице, и все его слова были проникнуты великим вдохновением.
Окружающие до известной степени тревожились. Королева, да
простит мне Бог, не из любви к супругу, а из страха за свою
судьбу, плакала почти без перерыва. Из приближенных короля едва
ли не большинство, в том числе и стольник Поляновский, в душе
были исполнены боязни и не верили в успех. У короля же была
только одна забота: как бы не оказалось нехватки во всем, что
нужно для похода. В общем же он шел с такою надеждою на Бога,
с такой верой в свои силы, что всем придавал бодрость.
Если бы король сам, как я писал, не заботился даже о таких
мелочах, как копья, то не знаю, кто бы о них подумал. Достаточно
сказать, что в походе, несмотря на квартирмейстеров, на гонцов,
предупреждавших о приезде короля, о необходимости приготовить
помещение и .продовольствие, редко где бывало всего вдоволь.
Король, чтобы приучить себя к седлу, большую часть пути проезжал
верхом. А так как он был грузен и дороден, то лошадей постоянно
приходилось заменять новыми.
После прощания с королевой, падавшей раз за разом в
обморок — хотя, конечно, я не могу ручаться, действительно ли
она теряла сознание или только так, ради людей — король,
помолившись, продолжал путь очень бодро и не слишком печалясь
о разлуке.
Так как я вспомнил об обмороках королевы, то еще прибавлю,
что кто-то из друзей ее величества задним числом сочинил
впоследствии такую версию: на вопрос, чем она, собственно, так
удручена, при прощании с Якубком, королева будто бы ответила:
114
— Я плачу, потому что мой любимый сын1 еще слишком молод,
чтобы сражаться бок о бок с отцом.
Спартанского ответа королевы тогда никто не слышал и не
оценил. Он появился только в дневниках, написанных по
триумфальном возвращении. Такой ответ совсем не в духе Марии-Казимиры,
и я очень сомневаюсь, промелькнула ли у нее при расставании
хотя бы мысль о чем-нибудь подобном. Но она, действительно, и
тогда уже предпочитала Якову второго сына. Впрочем, я ведь Фома
неверующий — не могу поверить даже в материнскую любовь в
таком иссохшем и остывшем сердце.
Выбравшись 22 августа из Тарновских гор, мы двинулись на
Гливиц, в Силезии. Там, в монастыре реформатов, были отведены
и приготовлены для нас квартиры. Целый день догоняли нас
отставшие, в том числе и брат королевы Малиньи, для которого
заботливый король велел оставить свободную палатку.
На пути же были получены письма, которых король не успел
получить в Кракове. Из писем король узнал и громко потешался,
что сумасшедший и заносчивый Дюверн, когда ему предложили
убраться восвояси, сначала очень упирался; ссылался на то, что
он будто бы не французский, а трансильванский посланник, хотел
остаться в Гданьске, но наконец вынужден был подчиниться и
уехать. Что касается морштыновского шифра, которого король
домогался от французов, то под разными предлогами они его не
выдали. Как было установлено впоследствии, история с шифром была
своего рода сделкой: надо было предварительно помочь Морштыну
сбежать из-под ареста и дать ему спастись.
Если бы по тому, как нас приветствовали, принимали и
ухаживали за нами по пути в Гливицы и в Гливицах, судить о
том, как будет дальше, то можно бы, пожалуй, заключить, что
ближе к Вене нас будут на руках носить. Духовенство чуть ли
не везде приветствовало нас возгласами «Ave Salvator!»2, а разные
вельможи, комиссары и титулованные кесарские чинодралы
кишели по пути кишмя до тошноты. Королю тащили дичь, зверье,
фазанов и всякое другое отборнейшее продовольствие в таком
количестве, что невозможно было съесть. Вплоть до Тарновских гор
король расставил подставы и гонцов для получения
корреспонденции, и все-таки почтовая гоньба была в высшей степени
неаккуратная.
Устав медленно тащиться с тяжелыми родами оружия, король
за Гливицами отделился от главной массы войск и во главе
двадцати с чем то хоругвей легкой конницы и восьмисот драгун
поспешил вперед через Опаву на Оломунец3. Там должен был
ожидать нашего государя кесарев гонец граф Шафготш.
1 Александр, второй сын Собеского от брака с Марией-Казимирой, любимец
матери.
2 «Привет Спасителю» (лат.).
3 Ольмюц.
115
Начало нашей тяги (не могу иначе назвать способ нашего
передвижения) протекало весьма благоприятно: жара была еще
большая, но сносная; погода чудная; страна казалась жизнерадостной,
обильной, плодородной, население приветливым и дружелюбным.
В Ратиборе, из которого лежал прямой путь на Опаву, какой-то
граф устроил королю пышный прием у себя в замке, но за счет
кесаря. Графиня, окруженная целым штатом дам, занимала короля
перед обедом, и ему пришлось сесть с ними за карточный стол.
Все были на удивление почтительны; даже в народе слышались
приветственные возгласы и благословения за помощь.
Уже в Ратиборе король говорил, что надобно спешить, а то
турки отступят из-под Вены и вырвут у нас из рук долгожданную
победу. Потому он непременно хотел подойти к столице Австрии
ранее начала сентября. Таким образом, самый поход был как бы
осенен ореолом чаемой победы, было радостно, и все шло как по
маслу.
В Ратиборе нас обильно кормили и поили, как и под Опавой,
где всякие немецкие барыни приходили поглазеть на короля и
поблагодарить, хотя квартиру отвели ему попросту в сарае. Опаву,
прекрасное местечко, мы прошли походом, не сделав дневку. На
другое утро, переночевав в миле от города, шли несколько часов
по восхитительной местности, а там уже начались Моравские горы.
Могу только сказать, что для наших глаз, вовсе непривычных
к красотам горных местностей, дорога была в высшей степени
приятная, но, помилуй Бог, не для обозов и не для лошадей. Скалы,
камни и промоины, вырытые горными потоками, чрезвычайно
затрудняли движение, так что мы только поздней ночью добрались
до ночлега, измучив лошадей и поломав много повозок, не
выдержавших превратностей пути.
На этом ночлеге поджидал нас обещанный кесарский гонец,
граф Шафготш. Не знаю, какие были у них разговоры с королем
и остались ли они довольны друг другом. Я заметил только, что
король насупился, принял гордый вид и довольно холодно
простился с кесарским послом. Отсюда я догадываюсь, что, вероятно,
граф чем-нибудь досадил королю и получил щелчок по носу. Это
было только началом всех тех неприятностей, которых мы
натерпелись после, благодаря заносчивости и удивительному
самомнению кесарского военного совета. Но Собеский все это
предвидел и своевременно давал отпор. Так, несолоно хлебавши,
первым отчалил пресловутый граф: хотел учить чему-то короля
и получил чувствительный урок. Я слышал, как король негодовал
и пожимал плечами.
На другой день мы почти до самого полудня шли горными
тропами; дальше, к Оломунцу, расстилалась роскошная равнина.
Короля страшно утомляли торжественные приемы. Приходилось
облачаться во все регалии, менять лошадь, выступать с подобающей
осанкой... Но зато и наслушался он хвалебных речей до сыта до
отвала! Восхвалений и благословений!
116
Такой же прием ожидал нас и в Оломунце со стороны иезуитов
и остального духовенства. Король, желая избежать мучительных
оваций и сопряженных с ними церемоний, потребовал, чтобы ему
отвели квартиру за стенами города.
Однако просьбу не исполнили, а разместили нас в каменном
доме среди города, с огромными пустыми комнатами, где всем
пришлось быть вместе. Я отмечаю все эти подробности, чтобы
показать, как нас чествовали и встречали при вступлении и как
впоследствии все это резко изменилось к худшему. Любовь
подогревалась, очевидно, великим страхом перед турками.
Король чрезвычайно торопился. Он получил известия от князя
Лотарингского, что у него уже были стычки с неприятелем, а
потому боялся, как бы не расстроились все его предположения и
планы. Нельзя было жаловаться, что мы не были осведомлены о
действиях кесарских войск. Напротив того, мы по два раза в день
получали военные депеши, и король неизбежно приходил в
волнение и подгонял нас, чтобы как можно раньше добраться до Дуная.
Итак, мы шли форсированными маршами. Король удивительно
бодро переносил и утомление, и жару, но на королевича перемена
образа жизни подействовала странно: лицо, губы и щеки покрылись
прыщеватой сыпью. Впрочем, Дюмулен уверял, что это очень
хорошо и очищает кровь.
По пути повторялись торжественные встречи со стороны разных
князей и вельмож. Между прочим, встречала нас также некая
княжна Лихтенштейн, которая будто бы состояла при королеве
Элеоноре и была знакома с королем.
В день усекновения главы Иоанна король и свита
присутствовали на обедне в Брюнне, или, вернее, Брно, прелестном городке,
над которым высится мощный замок на крутой горе. А вокруг
расстилается страна, плодородная и зажиточная, как Украина. В
Брно нас с великой помпой встречали отцы францисканцы, а в
городке было полным полно людей, собравшихся частью ради
праздника, частью ради нас
Мы с завистью любовались богатством и счастливой жизнью
местных жителей. У них в изобилии не только хлеба, но и вина,
а кладовые полны прекраснейших плодов. Крестьянские постройки
и жилища лучше иных наших помещичьих усадеб.
Обедом угостил нас в Брно граф Коловрат; наши в шутку,
прозвали его Коловоротом, потому что он ворочает всею окольною
страной. Король был доволен и приемом, и обедом.
Здесь же были получены на имя короля письма от князя
Лотарингского. Он именем Бога и всего святого заклинал короля
спешить, так как Штарнберх1 писал (письмо было приложено), что
долго не продержится: турки сидят в одном равелине с немцами
и ведут подкоп под так называемый «кесарский» бастион. Они уже
так близко, что солдаты, роющие контрмину, чуют их совсем под
1 Комендант Вены.
117
боком. Получались другого рода сведения, что со дня на день
ожидались подкрепления от всех электоров, за исключением бранден-
бургского; что турки восстановили разрушенные под Веною мосты,
а теперь насыпают перед ними панцы.
Король был в более спокойном настроении. Я слышал, как он
сказал Волынскому воеводе:
— Бог даст, завтра услышим грохот венских пушек и напьемся
воды из Дуная.
Теперь была у короля одна забота, почему ничего не было
слышно о казаках, которых он хотел выставить против татар, и о
Литве, неизвестно где запропастившейся.
Собственно, литовские войска были королю уже не нужны, и
он желал только, чтобы они вступили на территорию Венгрии.
Так добрались мы до Хейлигенброна, недалеко от Тульма, где
король велел построить мост. Оттуда он с несколькими всадниками
ездил в Никельсбург, который хотел осмотреть сам, не полагаясь
на других. И посторонние, и мы не могли надивиться, какой король
деятельный, подвижный, как он неутомим и нетребователен. Он,
который в будничной обстановке частенько бывал тяжел на подъем
и жаловался на разные недомогания, стал теперь неузнаваем.
Бодрый дух вселился в короля и наполнил его чудодейственной силой.
Он недосыпал, недоедал, переутомлялся, но был так свеж, что Яку-
бек, как ни старался, подражать ему не мог.
Но в Якубке была другая кровь, совсем иной характер; он как
бы многое унаследовал от матери и в душе был иностранцем.
Нельзя упрекнуть его в недостатке рыцарского духа; но в обществе
канцлера Малиньи или Дюпона он чувствовал себя гораздо лучше,
чем с польскою дружиной; сердце влекло его к чужим. В нем не
осталось ни следа, ни признака польского шляхтича.
Возвращаюсь, однако, к нашим приключениям, и в первую
очередь к прославленному князю Лотарингскому, о котором мы давно
были наслышаны как о знаменитом полководце, и потому все, не
исключая короля, страшно желали его видеть.
Он выехал навстречу королю во главе небольшого конного
отряда и cum debita reverentia1. Было очень важно знать, каково
будет его решение: пожелает ли он при короле играть роль
самостоятельного генералиссимуса, или же подчинится нашему
государю. Он был настолько благоразумен, что не заявил претензии на
независимость, а сам добровольно отдал себя в распоряжение
короля, ибо, когда начальствующих двое, бывает хуже, нежели когда
нет ни одного.
Рядом с королем австрийский полководец показался нам в
высшей степени невзрачным: не вышел ни осанкой, ни одеждой.
Среднего роста, заурядный, ничем не выделяющийся; хотя, в общем,
не без отпечатка силы духа. Лицо обветренное, красное; нос как
у попугая; только глаза живые и умные. Несмотря на то что от-
1 С должным уважением (лат.).
118
правлялся к королю, он даже не принарядился: в каком-то
сереньком кафтане, скупо обшитом галунами, с золотыми пуговками;
шляпа без перьев; на ногах желтые ботфорты, забрызганные грязью
и сильно потертые.
Но впоследствии я слышал, что король отзывался о нем очень
лестно. Хвалил его за простоту и скромность и знание военного
дела. Слышал я также, как король сказал ему, смеясь:
— Незачем нам так бояться ни турок, ни Кара-Мустафы; ибо
враг, дающий нам беспрепятственно строить на Дунае мост,
ничего о нем не знающий или знать не желающий, право, не так
страшен.
И Лотарингского, и других гостей, в которых не было
недостатка, король принимал по-лагерному, считаясь с военным временем,
прекрасно и по-барски: было вволю и пищи и питья, и, хотя никто
не пил, все повеселели, не исключая Лотарингского. Тот, впрочем,
пил сначала только легкое вино с водой, а потом снизошел и до
венгерского.
Король был в очень хорошем настроении, ибо все заявили, что
будут повиноваться даже в мелочах и выполнять его приказания.
Конечно, это льстило его самолюбию; но главное, радовало в
смысле обеспечения успеха, зависящего от единства исполнения и
мысли. По обхождению австрийцев с нашим государем, по почестям,
которыми его окружали, по воодушевлению их при виде наших
войск было ясно, насколько кстати было наше появление и что
недаром короля встречали как спасителя.
До поры до времени нам все благоприятствовало. Мосты,
которые король так стремился построить без помехи, были почти
готовы; войска, несмотря на утомление, имели очень бравый вид, за
исключением нескольких полков пехоты, пришедших в довольно
неказистом виде. Однажды мы наблюдали на небе в течение
нескольких минут какую-то особенную радугу; потом не то светлую
полоску, не то знамение, не то огромнейшую букву, значение
которой никто не мог истолковать. Во всяком случае, она не имела
грозной внешности, не была похожа ни на розгу, ни на метлу, а,
напротив, приветливо и ясно улыбалась. А нам, да простит нас
Всемогущий, улыбка всегда милей грозы.
Король по-прежнему был радостен и деятелен. Всем
интересовался, заботился о людях и о лошадях, рад был всякого накормить
и напоить. Сам ел очень мало, и то по преимуществу плоды.
Мои записки служат лучшим доказательством: перед выездом
из Кракова я заказал переплетенную приходно-расходную
тетрадку, и все, что видел, заносил на ее поля.
О князе Лотарингском, которого мы все разглядывали с великим
любопытством, король постоянно отзывался очень уважительно,
несмотря на его потертые сапоги и несуразнейший парик. Я сам
слышал, как он, сейчас после отъезда князя, сказал МатчинСкому:
— Добрый, по-видимому, человек, хорошо знает военное дело
и постоянно изучает его. Я вижу его насквозь и знаю, что он
119
именно такой, каким мне представляется. Он достоин лучшей
участи и более щедрых даров судьбы.
Из Стетельедорфа, в расстоянии четверти мили от моста,
который мы построили с великим поспешением и без малейшего
препятствия со стороны неприятеля, король, по случаю болезни
секретаря Таленти, стал диктовать мне письмо к королеве, частью
же написал его собственноручно. По этому случаю припоминаю,
что он извинялся перед королевой за неаккуратность в письмах:
постоянные совещания с Лотарингским и другими, гонцы,
приветственные речи, встречи в городах не только не давали писать
письма, но даже ни поесть и ни поспать в положенное время.
Неприятель был от нас в четырех милях, а тут при каждой
встрече местничество: кому где стать, позади ли, впереди, слева или
справа.
Королева, по-видимому, очень беспокоилась, как будет
смотреться его королевское величество рядом с кесарским
великолепием. На это король ответил, что по внешности имперцы могут
считать всех поляков крезами, так роскошно разодеты гайдуки, и
пажи, и челядь, и лакеи; лошади в серебряных наборах; внутренние
помещения шатров, королевского и князя Якова, обиты
золотистыми глазетами, а общая приемная парчой. У них же (т. е. немцев),
на лошадях ни блестки серебра, мундиры простенькие, полунемец-
кие-полувенгерские. А повозки самые обыкновенные; пажей или
лакеев нет и в помине.
Князь Саксонский, прибывший вчера же, был одет очень
просто: в красный кафтан с малиновым поясом и кистями. Роста
среднего, с добрым выражением лица и старонемецкой бородой.
На вид простоват и, что удивительнее всего, не говорит ни на
каком языке, кроме немецкого, да и то не речист и мямлит.
Зато усердно пьет.
Князь также предоставил себя в полное распоряжение короля;
и, хотя сам он был весьма непрезентабелен, его пехота, которой
король произвел смотр, была в превосходном состоянии, чисто
одета и хорошо вооружена.
До сих пор король все опасался, как бы под Веной у него не
перехватили инициативу и не расстроили намеченного плана. Но
из разговоров с местными военачальниками он мог убедиться, что
не только не было о чем беспокоиться, но даже приходилось
поторапливать и побуждать запаздывающих.
Очевидно, что, не слишком надеясь на свои силы, они
колебались перед битвой, которая должна была решить судьбы города и
государства.
Поведением королевича Якова король был весьма доволен. За
неимением выбора он еще не назначил ему постоянных спутников,
и потому оба, граф Малиньи и королевич, неотступно следовали
за королем. Спали по соседству, кроме нас также придворный под-
скарбий Модженовский и Луцкий староста Миончинский, которых
король мог потребовать к себе каждую минуту.
120
Еще и еще раз должен подтвердить великое преклонение свое
перед нашим государем, которого я до того никогда не знал
таким трудоспособным, таким неутомимым. Он забывал об
отдыхе, о пище и о сне. Проскакать десять миль туда и столько
же обратно, от главной квартиры армии до строившихся мостов,
все время меняя лошадей и почти без передышки, было для
него безделицей.
Но Дюмулен и Януш уверяют, что король уже несколько
похудел, и пророчат, что он еще больше похудеет, а это ему на
пользу. На лице у него здоровый румянец, но щеки несколько
ввалились.
Подъезжая к мосту под Тульном, мы встретили специального
папского посла, которого король и все встречали с величайшим
подобострастием. Хотя, прости мне Боже, на вид он был не лучше
наших причетников, а одет был даже хуже: ряса из грубого сукна,
одетая на голое тело, босоногий.
Был то прославленный своей благочестивой жизнью отец Марк,
капуцинский монах, которого людская молва чуть ли не при жизни
причислила к лику святых и приписывала ему дар предвидения.
Описать, каков он, не сумею, но таким я представлял себе святого
Капистрана, о котором читал в житиях святых. Осанка
благородная; но весь он одни кости да кожа, загорелая и лоснящаяся, как
пергамент. Глаза горят особенным огнем; а когда он молится, то
весь точно уходит в другой мир... Одежда грубая; подпоясан
простой веревкой; на ногах сандалии. Только руки не соответствуют
лицу: красивые и белые, но очень худые.
Короли и князья для него пустой звук, как будто ему даже и
знать не надо, что они вообще живут на свете; со всеми, даже с
последним батрачишкой, он держится совершенно одинаково.
Вероятно святой отец дал ему особые поручения к королю, потому
что отец Марк сам разыскал его и, приветствуя, благословил чуть
ли не со слезами на глазах; а потом еще отдельно беседовал с ним
около получаса. Я слышал, как король рассказывал после графу
Малиньи, что отец Марк виделся раньше с кесарем и увещевал
его, перечисляя все те беззакония, за которые Господь так строго
накажет его страну. Притом отец Марк заверил короля, что кесарь
даже издали не покажется войскам, ибо он не только отсоветовал,
но даже воспретил ему это.
Король был очень рад, так как вмешательство кесаря было бы
очень нежелательно. Да и кесарь сам не обнаруживал особенной
охоты впутываться в эту кутерьму, потому что войска шли к Вене
горными тропами, через ущелья и леса, где татары свободно могли
атаковать тыл.
Богослужение, в том виде, как совершал его отец Марк, совсем
не было похоже на обычное. Король и все начальство причастились
святых тайн из рук преподобного служителя алтаря, причем тот
громко спрашивал каждого, надеется ли он на Бога, и заставлял
повторять за собой по несколько раз подряд «Иезус-Мария»...
121
Святитель вдохнул в сердца всех присутствовавших великую
бодрость духа, как будто сам Господь послал его в то время, когда
мы нуждались в ободрении и в мужестве. Переправа по мостам,
которые были наконец готовы, продолжалась долго, ибо то здесь
то там что-нибудь ломалось, а дождь и слякоть затрудняли
движение подвод. Нас предупреждали, что за Дунаем вся страна
опустошена и голодает, потому что татары хозяйничали там в течение
нескольких недель. А после них, как после саранчи, не очень-то
попользуешься.
Дороги через горы, ущелья и лесную чащу были очень
ненадежны; проводников и в помине не было, а карты и атласы
оказывались, на что очень жаловался король, либо неверными, либо
недостаточно подробными.
Пехота должна была идти вперед, чтобы утоптать путь для
конницы, расширить полотно дороги, вырубить, где нужно, лес.
Больше всего мучились с гружеными возами. Бросить их было
нельзя; тащить следом невыразимо трудно, особенно из-за лошадей
и подножного корма, ибо в этих местах травы в редкость, не
наберешь и на лекарство. Да и сработаны повозки были не для таких
каменистых дорог, по которым нам пришлось идти с тяжело
груженными возами.
До сих пор король был всем доволен и ни на кого не жаловался.
Князья Лотарингский и Саксонский оба ему повиновались,
получали его приказы по армии и выполняли их. Кроме
вышеупомянутых, понаехало со всех сторон, кто с чем, множество немецких
императорских князей, опоздавших к началу похода. Теперь же,
заслышав о нашем короле, они стали торопиться и днем и ночью.
Поименно называли Баварского, двух Нейбургских, Ганноверского,
Ангальтского и других, имен которых не припомню. Кроме этих
титулованных добровольцев, мнимых защитников креста, во
множестве съезжались воители всевозможных народностей, горевшие
желанием сразиться под предводительством такого вождя, как наш
король. Их размещали в разные отряды.
Князь Саксонский, к великому изумлению кавалера Малиньи,
все время объезжал войска в своем вылинявшем красном одеянии,
следуя по пятам нашего короля не как коронованное лицо, а точно
какой-то свитский. В конской сбруе у него кое-где едва
поблескивало серебро. Ни пажей, ни лакеев при нем не было; палатки его
были обыкновенного тика. Адъютанты простые офицеры; у иных
отвислое брюшко и багровый цвет лица.
Почти каждый день мы доставали «языка». Все пленники в один
голос утверждали, что в турецком лагере ничего не знают о
присутствии короля, или, лучше сказать, не вс;рят. Наши разъезды,
возвращаясь, сообщали, что канонада под стенами слабая; палят
все больше из мушкетов и, вероятно, ведут подкоп. Говорили
также, что Кара-Мустафа, ради сохранности добычи, не собирается
брать город штурмом, так как во время приступа чрезвычайно
трудно предотвратить грабеж. А ему непременно хочется завладеть
122
теми несметными сокровищами, которые, как он предполагает,
находятся в Вене. Этим объясняется его нерешительность. Короля эти
вести чрезвычайно обрадовали, так как он постоянно опасался, как
бы дело не обошлось без нас и кто-нибудь бы нас не опередил.
Из сказанного ясно, что король напрасно беспокоился, и, если
бы не наша помощь, Вена бы сдалась.
Прибытию короля здесь так мало верили, так его не ждали,
что когда к Лотарингскому прибыл гонец от Текели, с
предложением посредничества с целью перемирия, то, увидев нашего
государя, он едва не лишился языка. Не помню, писал ли я, что Текели
питал к королю величайшее почтение, потому что его боялся и
должен был ему повиноваться. С этим же гонцом король велел
Таленти послать Текели напоминание, чтоб он держался данных
обязательств.
Чем ближе к Вене, тем больше мы страдали от жары. О нас
и говорить нечего; но сам король и тот терпел от недостатка
удобств и необходимого ухода. Частенько нельзя было достать для
него чистой воды, чтобы напиться, а вместо пищи приходилось
целый день довольствоваться кусочком хлеба. Король так радостно
нес свои лишения на алтарь Всевышнего, как будто утопал в
излишествах.
Едва проснувшись и перекрестившись, он уже спрашивал о
новостях, о «языке», посылал письма и отправлял с поручениями.
Беспокойнее всего он бывал тогда, когда подолгу не получал вестей
от королевы. А последние доставлялись весьма неаккуратно, хотя
сношения были устроены со всевозможной тщательностью, чтобы
не было задержки из-за гонцов, трабантов, скороходов и подстав.
На подкрепления, на казаков Менжинского, который еще стоял
с ними во Львове, король совсем больше не рассчитывал, ибо
главное зависело теперь от качества, а не от численного превосходства
войск.
Трудно описать, по каким дорогам, с какими страшными
мучениями и испытаниями для лошадей, кормившихся почти одними
листьями деревьев, мы наконец добрались до Каленберга под
Веной, со значительным опозданием в сравнении с расчетами короля.
Истинное чудо, что мы не натолкнулись почти ни на какое
сопротивление со стороны врага. Во-первых, потому, что он никоим
образом не предполагал продвижения неприятеля среди лесов и гор,
а во-вторых, потому что до конца не верил в присутствие короля.
Присоединился к нам князь Баварский, человек еще молодой,
лицом не безобразен; осанка лучше чем у саксонца и все вообще
чище и изящнее; лошади прекрасные, но совсем без свиты.
Познакомившись с королевичем Яковом, он очень запросто сошелся с
ним, чему король весьма был рад и обращался с ним с большой
предупредительностью. Оба князя, державшиеся сначала несколько
вдали от короля, теперь, с приближением к врагу, являлись по
несколько раз в день; узнавали пароль, сами спрашивали приказ
по армии и охотно подчинялись.
123
Вчера король сказал с большим удовлетворением:
— Обыкновенный капитан и тот не может быть исполнительнее
их. Верю, что, с Божьего соизволения, конец увенчает дело...
Конечно, не без тяжелых жертв, ибо положение хуже и совсем иное,
нежели представлялось в донесениях.
То, что я выше вспомянул о нашем движении горными тропами
под Каленберг, не дает и отдаленнейшего представления о том,
чего мы на самом деле натерпелись. Местами было так, что ни
пройти и ни проехать; приходилось буквально карабкаться ползком
на крутые склоны без признака дороги, перебираться через
вырытые дождевой водою пропасти и завидовать, что у нас не козьи
ноги: наши, по крайней мере, не годятся для подобных
упражнений. А все-таки каким-то образом мы, с Божьей помощью,
выбрались сюда без особенных потерь и незаметно для врага
расположились прямо над турецким лагерем. И днем и ночью шли
у нас военные советы, где и какие расположить войска.
Все свои подводы с провиантом, утварью, лучшими палатками
и шанцевым инструментом король оставил, за исключением самого
необходимого, на берегу Дуная, в безопасном, как он считал, месте.
Я восхищался, видя, как бодро он переносит всякие лишения,
ни на что не жалуясь. Я приказал возить для него позади седла
легкий матрац, чтобы королю не приходилось, отдыхая, лежать
на голой земле. Но он редко успевал дождаться, пока матрац
расстелят.
Турецкая беспечность, или, лучше сказать, ослепление Божи-
им произволением, были для нас непонятны. Наши драгуны и
казаки подкрадывались к самому их лагерю, захватывали скот и
пленных, но все эти случайности турки приписывали другим, а
о нас точно не имели представления. Дня два мы были с королем
совсем без войск; войска еще не подошли, а он хотел лично
осмотреть позиции. Здесь нас ожидало страшное разочарование,
сначала едва было не повергшее короля в полное отчаяние. Из
всех карт и планов явствовало, что раз мы на Каленберге, путь
к городу открыт и не сулит никаких препятствий. Тем временем
вместо виноградников, которыми будто бы была покрыта весьма
пологая гора, мы, когда взобрались на вершину, увидели у своих
ног огромнейший турецкий лагерь. Далее как на ладони
оцепленная Вена и лишь за нею громаднейшая площадь, тянувшаяся
вдаль на много миль. Но вправо, где по нашему расчету были
нивы, рос густой лес, чернели бездны и высилась крутая, как
стена, обрывистая падь.
Князь Лотарингский, прижатый к стене, должен был сознаться,
что был введен в заблуждение картами; королю же пришлось
изменить план кампании и, вместо внезапного нападения врасплох,
подходить крадучись, медленно наступать, теснить.
К счастью, турки, как было видно с первого взгляда, совсем не
окопались. Лагерь был открытый, да и укреплять его, ввиду
обширности, было невозможно.
124
Венский комендант Старенберг, осведомленный о прибытии
армий для снятия осады, приветствовал нас ночью ракетами.
Войско наше занимало фронт около полумили в ширину, а
правое его крыло расположилось среди лесов и гор. Король
переночевал на самом фланге, где стояли пехотные полки и как на ладони
виднелся весь турецкий лагерь, а ночью нельзя было уснуть из-за
грохота орудий.
Бог весть, какая ожидала нас судьба. Но видеть, что мы видели,
доводится не всякому. Дивная картина окрестной страны,
расстилавшийся под ногами город, палатки, рассыпанные как грибы,
огненные ленты, бороздившие ночное небо, дым, клубами
подымавшийся над башнями, все вместе представляло
восхитительное зрелище, величественное в своей безбрежной красоте. Не жалея
о вынесенных муках, я благодарил Бога, что он сподобил меня
быть здесь. Не нагляделся бы, казалось, и не наслушался, ибо и
для ушей было чего послушать.
Когда ветер, которого в горах всегда достаточно, долетал к нам
с равнины, то приносил с собой грохот орудий, и далекий звон
колоколов, дикий рев верблюдов, ржание коней, скрип колес, лязг
и звяканье оружия... так что мороз продирал по коже. Никакая
музыка не может так глубоко взволновать нас. Изумление и
тревога овладевали умами, и поневоле возникал вопрос, какую судьбу
готовит нам Господь, ибо неисповедимы пути Его.
Если не ошибаюсь, то у короля были какие-то расчеты на татар,
ибо он постоянно спрашивал о них и посылал узнать, где они
стоят. Но пока что никто не мог допытаться.
В течение двух дней я расхаживал по лагерю, где у меня много
было знакомых, и могу только сказать, что никогда не видел
войска, так рвавшегося в бой и настолько уверенного в своих силах,
как тогда. Все питали необычайную веру в короля; о гетманах
даже не вспоминали. Он был верховным главнокомандующим, а
все иностранцы, князья Лотарингские, смотрели ему в рот.
Ежедневно видясь с королем, могу засвидетельствовать, что не только
никто и никогда не противоречил королю, но постоянно, о каждой
мелочи, спрашивали его мнения; и следовали его советам, зная,
что он чаще и больше, чем кто-либо сталкивался с турками и
знаком с их тактикой.
Смеясь, король показывал нам рубец от раны, полученной под
Берестечком, говоря, будто этим путем проникло в его мозг
уразумение турецкой стратегии.
Когда приводили «языка» и не было под рукою переводчика,
вызывало всеобщее удивление то, что король вызывался сам
допрашивать татар и прекрасно с ними объяснялся. По пленникам,
когда они узнавали, что здесь король, было заметно, как они
робели и смирялись.
Насколько можно было видеть с высоты, Кара-Мустафа
расположился под Веною по-барски. Его собственные помещения,
шатры с гаремом и с прислугой, евнухами, янычарами, состояв-
125
шими при его особе, раскинулись огромным городом. Между
пурпурными и златоткаными палатками, с полумесяцами на
верхушках, обитыми жестью, зеленели деревья, искрились фонтаны. Едва
ли сам султан, если бы собрался на войну, мог
продемонстрировать больший блеск и пышность. Но в стане совсем не было
заметно войск. Только у самых стен и башен, под которые велись
подкопы и делались проломы, происходили перемещения воинских
частей. Осада велась вяло и неровно; резко выделялись часы
молитвы и отдохновения.
Орудия города стреляли непрерывно, но, по-видимому,
безрезультатно. По ночам Старенберг пускал с башен огненные ракеты,
значение которых было, вероятно, понятно королю и князю Лота-
рингскому, потому что они взлетали в разных сочетаниях по
нескольку и с промежутками. Слышали мы также, что из Вены в
наш лагерь и обратно приходил переодетый янычаром поляк. И
еще я слышал, как король говорил, будто Старенберг очень
торопит, но ничего нельзя сделать из-за коварной штуки, подстроенной
нам непредусмотренной планами горою.
Тем временем осень сильно давала себя знать.
Здесь я должен отметить мудрую находчивость нашего государя
при смотре войск, который он производил в присутствии князей
Лотарингского и Саксонского. Я был при том, когда приехал сильно
смущенный гетман с докладом, что часть пехоты в таких рваных
мундирах и так плохо одета, что ее необходимо убрать в тыл,
иначе будет стыдно перед иностранцами.
— В особенности же, — прибавил он, — рядом с саксонской
пехотой, одетой с иголочки, нашу невозможно показать.
Король пожал плечами.
— Оборони Боже! — воскликнул он. — Не прячьте этого
полка, ведите его смело: я сумею втолковать князю Лотарингскому,
как это случилось.
Дошла очередь и до несчастного полка, в котором было много
бравых солдат, но, вместо мундиров, почти одни лохмотья.
Король, увидев приближение оборванцев, громко обратился к
иностранцам:
— Прошу вас, господа, обратить особое внимание на этих
храбрецов. Перед каждым походом они одеваются как можно хуже и
дают клятву вырядиться в мундиры, содранные с убитых
неприятелей. Еще ни разу не случалось, чтобы они не вернулись
расфранченные. Я и теперь ручаюсь, что они скоро разоденутся, как
янычары визиря.
Князья Лотарингский и Саксонский с великим любопытством
разглядывали оборванцев, а потом обменивались впечатлениями.
Король же посмеивался.
Татары, о которых мы ничего не могли узнать, кочевали где-то
далеко, а когда попавшие в их лапы наши фуражиры упомянули
о короле, те только издевались. Знали, что Любомирский здесь, а
в короля до конца не хотели верить.
126
С другой же стороны, находясь постоянно при особе государя,
который при мне обо всем рассуждал без всякого стеснения, могу
свидетельствовать, что, когда уже было решено атаковать лагерь
Кара-Мустафы и король сам подписал диспозицию для войск,
никто, ни даже сам он не думал, что дело разрешится одним
натиском. Предполагалось только положить начало, перевести
войска в долину, а затем, не спеша, оцепить и взять турецкий
лагерь.
Всеми овладело большое нетерпение. Тревожились, чтобы
операции не затянулись до глубокой осени, а потому удар
подготовлялся к двенадцатому сентября. Волнение было большое. Что-то
Бог пошлет? Каждый приводил в порядок доспехи, подбирал копье,
осматривал оружие.
У короля и теперь не видно было ни малейшего признака
тревоги, но он был полон неустанной заботы, все ли его приказания
исполнены. Потому он то и дело посылал меня и других с
напоминаниями, где и кому стоять, у кого быть под началом и проч.
Ночью если он и засыпал, то ненадолго; все больше ходил взад
и вперед, шепча молитвы. Уже было совсем поздно, когда он послал
за служилыми татарами и отправил их на разведку.
В пять часов утра на следующий день послышались орудийные
выстрелы со стороны Каленбергского замка, там где стояли
саксонцы, открывшие огонь. А вслед за тем загремели турецкие
орудия, громившие крепостные стены. Король в полном одеянии вышел
из палатки, и все мы уже были на ногах.
Войска занимали места, назначенные согласно диспозиции
короля. На нашем правом крыле стоял гетман Яблоновский, а с ним
все наши гусары, — почти против середины турецкого лагеря. На
левом, доходившем почти до Дуная, пехота кесаря и саксонцы. Во
главе этих войск стояли наиболее известные немецкие полковые
командиры и князья. Сам князь Саксонский предводительствовал
отдельным отрядом. Король очень хвалил саксонских солдат, в
особенности пехоту, прекрасно обученную и закаленную в боях.
Вместо немецкой конницы был здесь князь Любомирский с отрядом
польских конных войск. Всем левым крылом командовал князь Ло-
тарингский. Центр составляло кесарское войско и баварцы, под
главенством разных немецких владетельных князей, стольких, что
и не перечесть. Было их вдоволь; набрались они отовсюду,
полным-полно, и не столько в строй, сколько в командный состав. За
исключением самого кесаря, были представители всех входивших
в состав его империи земель. Кесарю же капуцин сказал, что он
будет лишним. Вместо него был наш король, предводивший не
только правым крылом, но и всей армией.
Орудийный огонь, который саксонцы вели с пяти часов утра,
был открыт по приказанию короля, распорядившегося еще с вечера
развернуть батарею у самого Камедульского монастыря на опушке
леса. Установленные на батарее орудия были направлены против
центра турецкого расположения, по совету Контского. Поэтому всю
127
ночь рыли окопы и ставили орудия, замеченные турками еще до
рассвета. Здесь было сделано со стороны турок первое неистовое
нападение на батарею. Здесь началось сражение и был сейчас же
ранен храбрый князь Крой и убит князь Максимилиан.
На этом фланге уже кипел горячий бой, во время которого в
особенности отличился Любомирский. Король неоднократно
присылал сюда ординарцев и являлся лично для руководства
диспозицией. Часов около восьми утра с великою поспешностью прибыл
князь Лотарингский за распоряжениями и для совещаний, как раз
в момент, когда отец Марк собирался служить обедню в маленькой
часовенке.
— Помолимся перед началом Богу, — сказал Собеский Лота-
рингскому, — а потом я сяду на коня, и уже не сойду до конца
дня.
С этими словами король бросил мне свой мягкий шлык и вошел
в сакристию, потому что сам хотел быть за причетника. Угадав
намерение короля, все присутствующие в изумлении
переглянулись, а у меня навернулись слезы... Капуцин же служил так
сосредоточенно и умиленно в Боге, что, может быть, даже не видел,
кто шел впереди его и отвечал на возгласы.
Я не мог отвести глаз от короля. Почти в течение всей мессы
он горячо молился, воздев руки и вперив взоры в небо; а глаза
его были полны слез. Может быть, в этот великий миг вся жизнь,
от юных лет, прошла перед его духовными очами, когда он так
умалялся перед Богом.
Король, Лотарингский и часть начальствующих приобщились
святых тайн из рук святителя-капуцина. Сердце у меня сжималось
при мысли, что все готовились, как бы перед смертным часом.
Говорили, чего я, впрочем, не слыхал, будто отец Марк, сам того
не зная, в конце обедни вместо слов «ite missa est» пророчествовал,
в припадке ясновидения, о победе. Король впоследствии ничего
подобного не говорил.
Прямо от алтаря пришлось садиться на коней. Только при
выходе из часовни королю и князю подали по кубку вина и по куску
хлеба, так как не было времени позавтракать.
Наши гусары уже собирались спускаться с крутой горы в
равнину. Спуск был неимоверно труден, ибо местность была взрытая,
засыпанная камнями, покрытая неровностями, промоинами и
рытвинами, в которые валились кони. Было чрезвычайно трудно
сохранять боевой порядок, и поминутно то одна то другая из пяти
шеренг должна была останавливаться и выравниваться, поджидая
запаздывающих. Не было возможности ускорить шаг, так как все
бы перепутались и поломали шеи. Тем временем кесарские полки
уже с успехом расположились на равнине, ибо виноградники и
пасеки служили хорошими прикрытиями. Около десяти часов утра
полки Лесле, раненый князь Крой и князь Саксонский значительно
подвинулись вперед, завладев всеми теснинами. А наши гусары все
еще спускались, так что король Ян послал сказать австрийцам
128
немного подождать, пока конница не выберется из ущелий. Только
в одиннадцать часов вся наша конница, преодолев преграды,
выровнялась сомкнутыми рядами в поле и была радостно
приветствована кесарскими войсками.
Пришлось передохнуть немного, чтобы дать людям и коням
оправиться и подкрепиться хотя бы куском хлеба. Король и Лота-
рингский прилегли с несколькими князьями под деревом и
приказали подать завтрак, приготовленный неважно.
Тем временем около полудня стало невыносимо жарко. В
доспехах, в кафтанах, обремененные оружием, люди изнывали. Едва
перекусив, король сел на коня, на этот раз со всею пышностью:
впереди бунчужный с бунчуком, сзади оруженосец с золотою тар-
чей1, и стал объезжать войска вместе с Лотарингским, обращаясь
к немцам по-немецки, к другим то по-французски, то
по-итальянски, вливая в сердца бодрость и мужество.
У турок было достаточно времени выстроиться против нас и
приготовиться к битве, которой они не придавали особого значения.
Можно сказать, что еще за час до развязки никто не предвидел и
не догадывался, какой будет конец.
Завязался кровавый бой, в особенности вдоль крутого спуска
около Нейдорфа, где наша конница с трудом держалась против
турок. Правда, своим напором она расстраивала их ряды, сминала,
но зато потом не могла ни двинуться, ни повернуться. Тяжелая,
как молот, она дробила все; но и поднять ее было тяжело, как
молот. В первой же стычке был убит юный, пылкий и храбрый
сын каштеляна Потоцкого, любимец отца, страшно рисковавший
жизнью. Пал также дельный полковник Асверус. Наши гусары едва
избегли полного разгрома, и, если бы не баварцы, прибежавшие
на помощь, их бы перебили.
Король, расстроенный, сам ринулся на турок во главе второй
линии конницы, подбодряя и воодушевляя людей к бою. Этою
атакой он решил судьбу дня, потому что турки не выдержали натиска
и побежали.
В начале битвы турки не думали, так же как и мы, что
сражение может сделаться решительным. Только около полудня они
заметили, что имеют дело с более сильным неприятелем, нежели
предполагали. А татары первые со страхом доложили Кара-Муста-
фе, что во главе армии, пришедшей снять осаду с Вены, стоит
польский король, при одном имени которого они дрожали; они
видели, что приходится иметь дело не с одними войсками Лота-
рингского или с несколькими тысячами Любомирского, а с
многочисленною ратью, которая чудесным образом пробралась через
лесистые, пересеченные пропастями горы, чтобы напасть оттуда,
где ее никто не ждал. Теперь уже вышли в бой сам Кара-Мустафа,
и Ибрагим, и волошские подкрепления. А татары, которые, как
говорят, очень неохотно собрались воевать, стали подумывать о
1 Тарча, или тарч, — гербовый, почетный щит, знак гетманского достоинства.
129
том, как бы спасти собственную шкуру, а до визиря им дела не
было.
Когда наша вторая линия, во главе с королем, опрокинула
турок, она остановилась только перед самыми окопами их лагеря,
где навстречу вышел сам Кара-Мустафа с большим зеленым
знаменем Пророка.
Здесь начался бой не на жизнь, а на смерть. В это время на
правом крыле Яблоновскому удалось рассеять уже дрогнувших
татар; на левом молодецки напирал на турок Лотарингский, а в
центре сам король с отборным рыцарством крушил и опрокидывал
янычаров Кара-Мустафы. Еще около пяти часов пополудни судьба
сражения не была решена. Король собирался было, удержав за
собою поле битвы, отложить окончательный удар до завтра; а
великий визирь был, по-видимому, так спокоен за свою судьбу, что
приказал на поле битвы раскинуть свою красную палатку и прилег
в ней отдохнуть вместе с сыновьями.
Но тут король, объезжая ряды войск и знакомясь с положением,
вдруг, как бы осененный свыше, дал знак к бою.
— Все должно решиться сегодня! — воскликнул он. — Завтра
будет слишком поздно.
Контский получил приказ подготовить пушки, ибо вначале боя
была такая нехватка в снарядах, что король обещал платить от
себя за каждый выстрел по пятидесяти талеров, а один француз
вместо пыжа забил в дуло парик и носовой платок. Теперь же
была занята возвышенность, непосредственно господствовавшая над
лагерем Кара-Мустафы, и подвезли снаряды. Артиллерия открыла
жесточайший огонь, а гусары как бешеные ринулись в атаку.
Король стоял на пригорке с королевичем и первый заметил,
как дрогнули и разорвались турецкие ряды и стали отступать.
Король сейчас послал кого-то с приказом к Лотарингскому посильнее
надавить на центр, а сам прямо двинулся на красный шатер визиря.
Матчинский с тарчем, скакавший рядом с бунчуком и орлиным
крылом, едва поспевал за государем. Король скакал не глядя,
подняв саблю, ничего не видел, кроме мчавшегося впереди доблестного
войска, и громким голосом взывал:
— Non nobis, поп nobis! Sed nomini Yuo ad gloriam1!
При этом последнем натиске гусары поломали почти все копья.
Тут произошло нечто неописуемое: все преисполнились
непреоборимым духом, против которого не устояли бы двойные силы.
Он сеял ужас... Недавно еще горделивый и спокойный, мнивший
себя в полной безопасности, визирь увидел, что погиб...
Невыразимая тревога охватила турок; потеряв головы, они стали
разбегаться во все стороны, побросав оружие... Можно смело
утверждать, что в такой момент бессильны и разум, и военный
гений, и опыт полководца: сам Господь Бог гонит одних вперед,
других, как под ударами бича, назад... Как только начался пе-
1 «Не нам, не нам, а имени твоему слава!» (лат.).
130
реполох и вся лавина беглецов покатилась к ставке визиря, день
был решен. Как вихрь метет песок, так страх гнал перед собой
толпы, пораженные ужасом.
Наши гусары первые вклинились в самую гущу турок и
раскроили их на две части. Здесь погибли наши Алепский и Силист-
рийский и еще четверо других на правом крыле, у Яблоновского.
Потом рассказывали, будто визирь, вбежав в большой шатер,
плакал от растерянности... С ним был еще тогда крымский хан, Се-
лим-Гирей.
— Выручай! — кричал визирь. — С ними король польский,
против него мы бессильны! Лишь бы уцелеть самим!
Распускали слухи, будто измена татар была куплена заранее.
Но я этому не верю: королю незачем было бросать татарам золото;
довольно было слова.
На основании того, чего мы наслушались и насмотрелись после,
можно бы написать целые книги об одном этом дне. Но охватить
как целое всю массу тогдашних впечатлений невозможно.
Около шести часов пополудни король первый доскакал до
ставки визиря, несмотря на то что янычары еще продолжали стрелять.
Он немедленно приставил к шатрам стражу, чтобы никто не смел
ни грабить, ни разорять, а на завтра обещал войскам полное
удовлетворение.
Итак, сама судьба отдала нашему королю несметные богатства
Кара-Мустафы, расположившегося под Веной с пышностью
повелителя и государя, явившегося на войну в предвкушении победы,
со всеми сокровищами и достоянием. Было это для нас в одно и
то же время и большое счастье и великое несчастье, как мы увидим
ниже.
О том, как сам я провел этот самый памятный в жизни моей
день, мне не следовало бы вспоминать. Я был как песчинка,
уносимая бурей.
С самого утра я, по приказу короля, старался быть около него,
со стаканом, фляжкою воды с вином, куском хлеба с ветчиной. Но
никто не прикоснулся к этому до ночи; да и у меня, хотя
полопались от зноя губы, в мыслях не было напиться. Я старался
поспевать за королем, насколько позволяла лошадь и условия
местности; а все же случалось остаться далеко позади. Догнать же
было нелегко; я все время следил взором за бунчуками и орлиным
крылом, но и они по временам скрывались за гусарскими значками.
Частенько я терялся и потом совсем не мог найти дорогу. Только
внизу, в долине, мне удалось догнать короля, когда он уже опять
садился на лошадь.
Когда мы вторглись в ограду лагеря, какой-то негодяй янычар
попотчевал меня пулей. Таким образом, оправдалось правило, что
я никогда не оставался невредим. Кроме меня, из королевской
свиты не пострадал никто; ясно, что пуля не предназначалась никому
иному. Шальная, на излете, она разорвала только рукав кафтана
и содрала кожу и так застряла в рукаве, что я ее потом мог
131
вытащить и сохранить на память. Рана была пустячная, но,
конечно, не обошлось без потери крови.
Я все время следил глазами за королем, с тех пор как он,
перебравшись через окопы, мчался к ставке визиря. Он был очень
утомлен, тяжело дышал и все время оглядывался на сына. Лицо
его было удивительно ясным и величавым. Он все время точно
шептал молитвы. Конечно, молиться о победе уже не приходилось,
ибо мы хозяйничали в самом вражьем стане. Очевидно, король
молился за своих ближних, которых не видел вокруг себя и о
которых постоянно спрашивал: о кавалере Малиньи, о гетманах, о
близких сердцу людях. Матчинский в течение всей битвы ни на
шаг не отходил от короля. Королевич также, надо отдать ему
справедливость, был очень стоек под огнем. Все время смотрел на отца
и повиновался малейшему с его стороны знаку.
Едва успели мы остановиться у шатров, как со всех сторон
стали сбегаться командующие отдельными частями с
поздравлениями. Князь Саксонский чуть ли не со слезами бросился в объятия
короля. В эту первую минуту все прекрасно понимали, сколь
многим они обязаны Собескому и нам. Но все это очень скоро
изменилось.
Здесь же у палаток невольник визиря подвел к королю лошадь
Кара-Мустафы и поднес его золотое стремя. Это стремя король
отправил королеве с первым же гонцом и вестью о победе.
Князь Лотарингский подошел к самым стенам города, чтобы
очистить все подступы к нему и окопы от засевших янычаров.
Некоторые отряды были посланы в погоню, но турки уходили так
поспешно, что догнать их было трудно.
Всех точно вымели метлой из огромнейшего стана: их как не
бывало. Лагерь был завален снятыми и неубранными палатками,
трупами лошадей и верблюдов и многим множеством всякой
добычи, доставшейся в наши руки. Было запрещено грабить, но как
усмотришь за войсками ночью!
Достаточно вспомнить хотя бы о шатрах визиря, доставшихся
королю; они образовали среди лагеря как бы отдельный городок,
сооруженный для беспечального существования с такой
уверенностью в полной безопасности, как будто ниоткуда ничего не
угрожало. Сады, фонтаны, бани, беседки, киоски, дорожки, устланные
сукном; палатки из драгоценнейших тканей с золотою бахромой;
внутри неимоверное количество изящнейшей утвари: сундуки,
ларцы, седла, ковры, одежды в невероятном изобилии. Глазам не
верилось при виде той пышности, с которою визирь шел на
завоевание империи, будучи так уверен в будущей победе, как
будто бы уже преодолел все препятствия. И вот в течение часа,
никак не больше, все рухнуло и разлетелось в прах!
Король мог бы в тот же день уехать на отдых в город, но не
захотел, а провел ночь на поле битвы, под деревом; а так как
нечего было есть и мы весь день, сами того не замечая голодали,
то Старенберг прислал немного продовольствия. Дальше я расскажу
132
все, что потом случилось; теперь же должен описать внезапную
перемену в настроениях, происшедшую на другой же день после
победы, очень для нас чувствительную.
После первого припадка радости те, которые вначале едва не
лобызали ноги короля, понемногу поостыли и одумались. Тогда и
вожди, и воины сообразили, что львиная доля славы и добычи
досталась чужеземцу. Лавры победы увенчали чело нашего
государя; в его же руках было великое знамя Магомета, все сокровища
визиря, его шатры; одним словом, большая часть всей добычи;
вышло так, что имперцы играли вспомогательную роль,
победителем же и главным вождем был наш король. Отсюда зависть, даже
со стороны тех, коим было известно лучше, нежели другим, сколь
многим они обязаны королю, направлявшему все своим разумным
руководством и приведшему к победе. Отсюда чувство
недовольства, отсюда же и чудовищная клевета.
Итак, главная добыча, весьма и весьма немалая, но значительно
преувеличенная пылкой фантазией завистников, досталась королю.
Она была взята для короля нашими гусарами и принадлежала ему
по праву. Хотя впоследствие король щедрою рукою раздал очень
многое, тем не менее продолжали говорить о целых сундуках с
золотыми монетами и об огромных сокровищах, которые он будто
бы присвоил. И хотя на долю короля действительно пришлось
немало, но он должен был со всеми поделиться. Многое вырвали у
него почти из рук; поживились даже самые ледащие, обозные
нестроевые негодяи, а во все последующие дни солдаты за бесценок
продавали драгоценнейшую утварь и сокровища. Из ближайших
соратников короля никто не ушел с пустыми руками.
Правда, что и во всех других палатках было что пограбить и
чем делиться, столько накопилось в турецком лагере богатств.
Сколько было одной только добычи, навезенной из других
завоеванных краев! Одних сабель, седел, конских сбруй, начельников,
усыпанных драгоценными каменьями, набралось столько, что после
раздачи всем соратникам у короля все-таки осталось по несколько
десятков каждой вещи. О золоте в монетах, которого также было
вдосталь, не могу ничего сказать наверняка, так как эта часть
была поручена Матчинскому.
Прочим вспомогательным войскам достались наиболее
удаленные части лагеря. Там также было чем поживиться, но гораздо
меньше, нежели вокруг ставки визиря. Отсюда чувство
неудовлетворенности; так что на короля смотрели как на расхитителя,
обвиняя его в алчности. Всех поляков стали обзывать грабителями,
хотя мы взяли только то, что отвоевали собственною кровью.
Такова-то была тленная и мизерная награда за все принесенные нами
жертвы, ибо и нам, и королю отплатили впоследствии черной
неблагодарностью.
Впрочем, король заранее предвидел такой оборот дела и
ежечасно повторял еще в походе, до самой встречи с Лотарингским,
что ничего не ждет от кесаря, кроме неблагодарности. Кесарь же,
133
спасенный нашею победой, не ударив сам палец о палец, должен
бы чувствовать себя неловко. Вместо того он еще более напыжился.
Очевидно, считал себя каким-то идолищем, которому все должны
служить, все охранять, без всякой с его стороны взаимности.
На своем убогом тюфячке заночевав под деревом, король,
вероятно, размышлял о том, что ожидает его на следующий день в
спасенной Вене... и далее, за Веною...
Я видел его спокойным, с молитвой на устах, но очень
утомленным. Нелегко пережить такой день человеку немолодому,
отяжелевшему и телом, и духом. От ранней обедни отца Марка и до
шести часов пополудни дух короля был в напряжении: приходилось
много раз бороться за победу, сеять ужас, опрокидывать врагов...
Потом, после первого переполоха, паника смела их, так что не
осталось и следа.
Хотя король велел приставить стражу к палаткам визиря, чтобы
предупредить грабеж, наутро и в следующие дни оказалось, что
множество величайших драгоценностей было расхищено обозною
прислугой, растеряно, частью бесцельно уничтожено. А что простой
народ не имел понятия о ценности награбленного, видно из того,
что в последующие дни начальствующие платили талеры за
тысячные вещи. Не мешает отметить, что, когда турки убедились в
своем поражении, они сами уничтожали многое, чтобы оно не
досталось в руки победителей. В лагере нашли множество зарезанных
невольниц, которых они не могли захватить с собой.
Король очень жалел об убитом страусе и многих других
животных, которых визирь держал для развлечения; они либо погибли,
либо разбежались.
На долю немцев совсем не досталось ценной добычи, знамен,
палаток, ибо они не овладели ни одной частью лагеря. Господь
Бог споспешествовал королю и нам, но зато преумножил число
наших врагов.
Как провел король ночь после битвы, я не знаю, хотя был при
нем вместе с Матчинским и многими другими. Но я часто слышал
его голос сквозь сон или наяву, потому что король несколько раз
вскакивал и ходил взад и вперед... Ему было над чем
призадуматься: предстояло свидание с кесарем, и, несмотря на то что
король был его спасителем, надо было приготовиться ко всяким
тонкостям церемониала и кислым взглядам.
Уже с вечера король объявил итальянскому секретарю Таленти,
что тот будет иметь счастье на другой же день отвезти и повергнуть
к стопам его святейшества большое знамя Магомета. Итальянец
чуть не сошел с ума от радости; честь была действительно великая,
и было чем кичиться до могилы.
Все это не могло быть по вкусу кесарю: Собеский извещал папу
о победе... Собеский же захватил главную добычу... Он же послал
гонца с вестью о поражении турок к «христианнейшему» королю
французов... Везде на первом месте был король; а кесарь,
спасшийся из Вены бегством, представлял довольно жалкую фигуру.
134
Как же было ему любить такого избавителя! Правда и то, что
достаточно сделать кому-нибудь добро, и немедленно возникнет
неприязнь... Так-то уж сотворены сердца людей!
Но об этом лучше промолчать.
На другое утро не было времени вздохнуть. Человеческий язык
не в силах описать ужасную картину вчерашнего побоища: вид
развалин, трупов, покинутых палаток... Чуть свет, король разослал
гонцов во все концы.
Обедом должен был кормить нас в Вене Старенберг;
предполагалось отслужить только в костеле благодарственный молебен и не
задерживаться.
Так как ни одни ворота не были еще открыты для проезда,
нам, спасителям, пришлось проникнуть в город через брешь и
узенькую улочку. Народ, несомненно, встретил бы своего
избавителя возгласами восторга, толпился бы на улицах, но кесарские
власти воспретили всяческие выражения восторга, чтобы сохранить
их ко дню въезда кесаря. Таким образом, только изредка, как бы
исподтишка доносились до нас заглушённые приветствия.
Король первым делом заехал по пути в Августовский костел,
и душа его горела такою жаждой вознести хвалу Творцу, что,
когда духовенство, не получившее распоряжении, не очень-то
торопилось начать молебен, король сам, встав на колени перед
главным алтарем, запел амвросианский гимн. Вторично, при более
торжественной обстановке он был пропет в соборе св. Стефана, где
король, слушая пение, лежал крестом на полу церкви.
Здесь ксендз приветствовал его словами, оказавшимися
необычайно кстати:
«Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Iohannes»1.
Так-то, довольно холодно, встречали немцы своего избавителя,
хотя Старенберг сам признался, что дольше пяти дней не мог бы
продержаться, и мы сами видели, что творилось в городе: стены
были разбиты ядрами и везде огромные выбоины от подкопов.
Его величество король был чрезвычайно обрадован тем, что
хоругвь младшего сына его Александра, которого звали тогда
Минионком (от «mignon», так как ему не исполнилось восьми
лет), опрокинула телохранителей визиря. Он послал о том
донесение королеве, зная, что та любит младшего больше
остальных детей. Но никто не мог предвидеть, что из этого получится
впоследствии.
Надо было обладать извращенностью ума и дерзостью королевы,
чтобы использовать невинное известие во вред старшему сыну
Якову, а Александра незаслуженно провозгласить на весь мир героем.
Король сам пожелал, чтобы на основании писем, которые он
посылал королеве, печатались летучие листки, которые расходились
по всей Европе.
1 «Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн» (лат.). (Евангелие от
Иоанна, гл. I, ст.6.)
135
В тех листках, которые направлялись из Кракова в английские
и голландские газеты, все подвиги князя Якова приписывались
Александру, как будто тот все время состоял при особе короля.
Делалось это так ловко, что трудно было бросить тень обвинения
на королеву. Думаю, что Пац прекрасно понимал, в чем дело, и
реагировал по-своему, всячески выдвигая на первый план Фанфа-
ника.
Невозможно доискаться, почему стала тогда королева питать
неприязненные чувства к своему старшему сыну. Неприязнь росла
и крепла, а Фанфаник приспособлялся, писал письма и ничем не
супротивил матери.
Сразу же после кислого приема в Вене со стороны Старен-
берга, холодок, установившийся во взаимоотношениях, усилился.
Другие владетельные князья, пришедшие с вспомогательными
войсками, также чувствовали себя обиженными и уходили.
Первым ушел князь Саксен-Лауенбургский. Когда он пришел
откланяться, король щедро одарил его: дал двух коней в очень богатых
сбруях, два турецких знамени, четырех невольников, две чудные
фарфоровые чаши и богатый полог. Из той же добычи король
поднес генералу Гольцу саблю в золотых ножнах, офицеру
лошадь, и т. п.
Король хотел как можно скорей начать преследовать
отступавшего врага, но его предупредили о скором приезде императора, с
которым непременно надо было повидаться, а потому король
остался.
Это было не особенно приятно, потому что на месте побоища
лежало столько трупов и конской и верблюжьей падали, что из-за
невыносимой вони нельзя было дышать. А зарыть все и засыпать
было невозможно.
Мы долго ждали обещанного кесаря, пока наконец король,
и так уже расстроенный тем, что нам ничего не старались
облегчить, а, напротив, всячески оказывали удивительное
невнимание, оставив для кесаря подканцлера с одной хоругвью, сам
отступил на две мили, когда Галецкий нагнал нас ночью и от
имени графа Шафготша настоятельно просил, чтобы король
благоволил лично переговорить с его величеством, а не через
подканцлера, и т. д.
Прискакал и сам Шафготш с разъяснениями, очень смущенный,
не говоря определенно, в чем дело. Однако было ясно, что их
мучила какая-то деталь, о которой они не смели упомянуть.
Во всей заваренной австрийцами каше король проявил такой
высокий ум и дух, настолько затмил тактом и умением всех ке-
сарских прислужников и церемониймейстеров, не исключая самого
Леопольда, что мы с гордостью взирали на нашего государя. Шаф-
готшу он сказал напрямик:
— Скажите ясно, в чем же дело; верно, какая-нибудь
придворная церемония: когда и где нам встретиться, где встать, как
кланяться...
136
Тогда граф признался, что кесарь, к крайнему прискорбию, не
может подать королю правз'ю руку, потому что имперские
курфюрсты... и т. д. и т. п.
Король рассмеялся.
— Не нужно мне ни правой руки, ни левой, — сказал он
холодно. — Когда кесарь приблизится к моим войскам, с которыми
я выступлю в поход, я выеду ему навстречу и поприветствую его
несколькими словами. На этом и покончим: я хочу преследовать
врага.
Мы были свидетелями встречи.
Король был во всем блеске своего достоинства, окруженный
сенаторами, гетманами, личной стражей. Кесарь выехал в сопутствии
баварского князя и не очень большой свиты. Впереди шли
несколько трубачей и дворцовая стража. Рядом с императором министры,
придворные кавалеры и чины; далее охрана. Лицо у Леопольда
было грустное и хмурое, как у пленника, и он не смел поднять
глаза. Конь под ним был чудный — гнедой, испанской крови.
Кесарь был в немецком платье, с богатым золотым шитьем. Шляпа
с пряжкой и перьями: белыми с коричневым.
Подскакав к кесарю, король дотронулся до шапки и весело
приветствовал его кратким латинским словом. Кесарь вежливо ответил
на том же языке, но говорил тихо, заикаясь. Немедленно по знаку
отца подъехал королевич Яков, которого король представил
императору. Но тот даже не поднял глаз на юношу, не поднес руку к
шляпе; и я сам видел, как король побледнел от оскорбления. Было
ясно, что свидание в поле не продлится. Представив сенаторов и
гетманов, на которых кесарь также не взглянул, король, произнеся
громко несколько прощальных слов, слегка кивнул головой и гордо,
с достоинством уехал. А так как кесарь пожелал видеть наше
войско, то государь поручил воеводе русскому произвести смотр.
Поведение кесаря вызвало в войсках всеобщее бурное
негодование. Когда же немцы увидели, что кесарь в грош не ставит таких
как мы союзников и не считает себя чем-либо нам обязанным, то
совершенно изменили свое к нам отношение. Они совсем не хотели
больше знать нас. Когда потом негодовал на такую неблагодарность
даже верный кесарский слуга воевода белзский (Вишневецкий), то
я слышал, как король ему ответил:
— За что же стал бы кесарь распинаться? Ведь он знает, что
я здесь не ради него, а ради креста Христова; спасаю не его, а
христианство. Потому он и не чувствует себя обязанным.
Нужно было обладать сверхчеловеческим долготерпением,
чтобы перенести все козни немцев. Мы не дождались от них ни
помощи, ни провианта, ни даже помещений для больных, которым
пришлось лежать частью на навозе под открытым небом, частью
под какими-то навесами. Король не мог допроситься несчастного
суденышка, чтобы водой перевезти страдальцев вслед за собой до
Пресбурга, так как невозможно было оставить их здесь на милость
и немилость немцам. Затем король ходатайствовал о разрешении
137
похоронить в склепах при костелах членов некоторых наших
аристократических семейств, павших в бою. Отказали и в этом. А
хуже всего то, что их драгуны и ландскнехты, встречаясь с нашими
отрядами, если только были в большинстве, то нападали на них,
били, калечили и грабили.
Жаловаться было совершенно бесполезно. Тем не менее король
решил использовать победу и не собирался уходить, хотя гетманы
были бы очень рады такой перемене.
Охладел к нам даже Лотарингский — за то, что мы отняли у
него победу. Поэтому он очень равнодушно выслушивал
настоятельные просьбы короля отвести пастбище для лошадей, иначе все
могут погибнуть от бескормицы. Капитан, которого король послал
с этим делом в Вену, проглотил только ряд ядовитых упреков в
вымогательстве и ничего не добился.
Король, крайне возмущенный такой неблагодарностью, должен
был сдерживаться, принимая испытания как жертву на алтарь
Всевышнего. Он написал только королеве с просьбой доложить обо
всем нунцию. Я слышал также его жалобы на то, что все его
обрекли на гибель, так как одни союзники сейчас же после битвы
разошлись по домам, а другие не спешили с помощью.
Незачем было дальше стоять под Веной, где уже грозили, что
прогонят нас выстрелами из орудий. Лотарингский не хотел быть
ни помощником, ни посредником. Кровь кипела в нас... а король
только повторял:
— Все это я предвидел и, если бы не святой отец и не его
настоятельные просьбы, я бы никогда не пошел на эти унижения.
Некоторые представители духовенства, в том числе
благочестивый отец Марк и несколько ксендзов, старались помочь нам и
оказать покровительство. Однако усилия их ни к чему не привели
или, во всяком случае, принесли очень мало пользы.
Король не разрешил даже опубликовать в газетах о своих
справедливых огорчениях, в той мере, как он их тогда испытывал.
«Кесарские комиссары, — диктовал он секретарям, — очень
урезали наши войска во всяком продовольствии, на которое святым
отцом были отпущены огромнейшие суммы; до сих пор не построен
мост; войско терпит большие лишения; кесарские войска еще стоят
под Веной, саксонцы ушли домой; король в походе, преследует с
конницею неприятеля; и, если бы не страшное разорение страны,
не позволяющее подвигаться вперед с достаточною скоростью, ни
один враг не ушел бы целым!»
Значительная часть наших войск стала стремиться домой;
рядовые уходили даже самовольно. Те же, которые под Веной
вознаградили себя всякою добычей, убегали тайком, чтобы у них не
отняли награбленного.
Немного отойдя от Вены, мы убедились, каким влиянием
пользуется среди турок имя короля. Мы набрели на небольшой замок,
в котором когда-то содержали львов. Теперь же из него слышалась
стрельба.
138
Король послал узнать в чем дело, и оказалось, что там
заперлась кучка янычаров. Они отчаянно защищались и не хотели
сдаваться. Король отправил к ним именного гонца, и они немедленно
сложили оружие.
Так, одиноко, шли мы к Пресбургу, окруженные обаянием
великой победы, осиявшей нас ореолом славы, и с таким тяжелым
сердцем, исполненным тоскою, что и сказать трудно! Не всякий
мог бы так по-христиански, со смирением и ясною душою,
перенести неблагодарность, как наш король, бывший воистину воином
Христовым. На пути бывали и удачи, случались и огорчения. К
счастью, когда мы уже стали опасаться за судьбу нашей конницы,
то наткнулись вдоль берега Дуная на подножный корм. В то самое
время догнал нас из Вены один из кесарских конюших, прося
подарить кесарю несколько доставшихся нам от турок лошадей.
Кесарь со своей стороны обещал отдарок.
Король только пожал плечами и ответил:
— Значит, вместо того чтобы получить дары за наши подвиги,
мы сами должны откупаться подношениями... Впрочем, так даже
лучше.
Из наших магнатов некоторые засиделись в Вене, чем король
был не особенно доволен: воевода Волынский по болезни, а из
прочих коронный гродненский подстольник, коронный
хорунжий Лотарингский и другие. Все они должны были нагнать нас
позже.
В течение всех этих дней я, частью по человеческому
любопытству, частью из привязанности к королю, не мог оторвать от
него глаз, стараясь угадать его мысли. Кажется, что мне это
неоднократно удавалось, так как вследствие продолжительного
общения с королем, я привык сопоставлять выражение его лица с
состоянием души.
После победы он стал, как я могу заверить, еще гораздо
набожнее, искренно веря в свое посланничество для разгрома врагов
святого креста. Он во всем полагался на помощь Божию, однако
не в смысле полной беспечности; напротив того, он совсем
по-человечески заботился о нуждах войска и старался удовлетворить их.
Он не очень надеялся на Провидение.
После выступления из Вены мы нигде не видели ни следа, ни
признака врагов: только трупы и падаль вдоль дорог, разгром и
жесточайшее разорение страны. Те же немцы, которые, пока мы
шли на помощь, так заискивали перед нами, льстили, унижались,
называли избавителями, теперь обратились во врагов. Виной тому
была в значительной степени человеческая жадность. Было всем
известно, что мы захватили главнейшие палатки и сокровищницы
визиря; и, хотя король впоследствии щедрой рукой раздавал
направо и налево, предполагали все же, что в его руках
сосредоточились баснословные богатства: говорили о целых ларцах жемчуга
и драгоценностей и т. п. Первейшие европейские газеты,
вышедшие после битвы, все приписывали королю, изображали его глав-
139
ным действующим лицом, а это чрезвычайно огорчало Лотаринг-
ского и прочих. О кесаре и говорить нечего: о нем снисходительно
умалчивали.
Дальнейший поход наш к Дунаю и к мостам, которые мы сами
должны были построить, отличался многими особенностями. Мы
остались совершенно одинокими, ничего не зная о других
союзниках. Нас предоставили судьбе. Мы не знали даже, каковы
намерения немцев и как они собираются использовать победу. Король
несколько раз посылал им напоминания, но встречал такую
враждебность, холодность и желание отделаться, что в конце концов
должен был рассчитывать только на собственные силы.
Король намеревался, захватив еще две или три крепости,
вернуться. Ни на какую добычу, кроме пороха и пуль, мы не могли
рассчитывать, но король говорил, что хочет вернуть Богу
несколько оскверненных костелов, обращенных в мечети, и шел вперед
едва ли не только ради такой цели. Всем было известно, что
еще со времен первой осады Вены на башне святого Стефана,
по настоянию турок, был водружен полумесяц; и, хотя
впоследствии над ним водружен бь!л крест, полумесяц все-таки остался,
как символ унижения.
Король требовал теперь, чтобы немедля сняли полумесяц, так
как все прежние трактаты уже ни к чему не обязывали. Старенберг
обещал сейчас же послать на колокольню работников и сбросить
полумесяц; но потом стал умышленно оттягивать, чтобы не
казалось, будто полумесяц снят по воле польского короля. Таким
образом, первою мыслью короля повсюду было низвергнуть
полумесяц и водрузить крест. Но об этом ниже.
Довольно поздно, по пути к Дунаю, когда король уже перестал
вспоминать о немцах, они подали о себе весть. Король, исполняя
желание кесаря, послал ему в подарок пару чудных лошадей,
которых выбрал сам. Послал с богатейшими наборами и седлами,
осыпанными рубинами и смарагдами. А у одной поводья были с
бриллиантами.
Кесарь, с своей стороны, либо одумался, либо постыдился
нареканий за нанесенную королевичу Якову обиду, прислал ему,
через одного из своих придворных, довольно приличную шпагу,
осыпанную бриллиантами.
После гонцов, которые начали прибывать от князя Лотаринг-
ского, от кесаря и других имперских князей, как будто только
теперь вспомнивших о нашем существовании, пришло известие о
предстоящем приезде в армию самого генералиссимуса. За эти дни
так затравили нас послами и гонцами, с которыми приходилось
посылать ответы, что король не мог даже улучить минуты и
отдохнуть с книгой; ибо чтение было всегда его любимейшим
развлечением. У нас было с собой книг больше чем достаточно, и я
всегда заботился о том, чтобы у постели короля лежала последняя
начатая книжка. Но у него не было времени даже раскрыть ее.
Чужие и свои ходатаи не давали ни минуты покоя; после убитых
140
осталось много вакансий, и на них был произведен со всех сторон
натиск.
Уже над Дунаем король получил из Кракова письма, весьма
его порадовавшие. Из них мы узнали, что первую весть о победе
королева получила в костеле и едва не упала в обморок от избытка
радости. А стремя визиря, которое ей доставили в качестве трофея,
она сейчас же велела повесить на том кресте, перед которым стояла
на молитве.
Из Вены король получил сообщение от духовенства, что
преподобный отец Марк д'Авинно отправился из Вены в Линц, а оттуда
назад в Италию. Говорили, будто он громко и сурово выступал
против столицы кесаря и его двора; жаловался на гордость,
несправедливость и разврат придворных кругов, с которыми
император либо не хотел, либо не мог бороться.
За нашими несчастными больными, которых везли за нами на
частью выпрошенных, частью приобретенных за деньги барках,
ухаживали ксендз Хацкий, Пеккорини и все, сколько их было,
доктора и фельдшера. Больных было неимоверное количество;
редко кто не переболел лихорадкой от скверной пищи и дурной воды.
Раненые что ни день, то умирали сотнями. Только теперь мы
собрались подсчитать наши потери, цвет павшего на поле брани
рыцарства. Не было хоругви, под которой бы не насчитывались
десятки выбывших из строя.
Теперь, когда стали прибывать немецкие князья, оказалось, что
не только наш король чувствовал себя в обиде на неблагодарность
австрийцев. Правда, он переносил оскорбление легко, непрестанно
повторяя, что выступил в поход не ради кесаря, а ради креста
Господня... Гораздо тяжелей переживал обиду князь Саксонский,
ушедший со своим вспомогательным отрядом. Он видел в том
величайшую несправедливость, что кесарь поблагодарил его кивком
головы, а Старенбергу дал фельдмаршала, орден Золотого руна и
сто тысяч талеров.
Кроме курфюрста Саксонского, который был крайне возмущен
и никак не мог успокоиться, я слышал такие же речи от Капрары
и Лесли. Оба принимали деятельное участие в освобождении
столицы, жаловались и вели очень дерзкие речи:
— Зачем было приходить спасать его; пусть бы погиб со всей
своею спесью.
Некоторые из них, тем не менее, потащились вслед за нами и
встали под начальство короля, как, например, курфюрст
Баварский. Когда догнал нас Лотарингский, он опять ежедневно стал
бывать у нас. Но и у него ке было заметно никаких знаков
кесаревой милости, ни даже чувства удовлетворенности. Был он,
впрочем, тихий и скромный человек.
Насколько я помню эти дни, король от переутомления
чувствовал себя не очень хорошо; собирался, добравшись до
какого-нибудь города, полечиться и посоветоваться с Пеккорини, но и на
это не хватило времени. Что касается лекарств, то их было доста-
141
точно. В числе другой добычи королю досталась личная аптечка
визиря с разными бальзамами и редчайшими драгоценными
снадобьями.
Чем ближе к Пресбургу, тем с большим удовлетворением мы
замечали, что подножный корм для лошадей становится лучше и
обильнее, так что наши исхудалые клячи стали опять входить в
тело, тогда как мы уже боялись, не придется ли возвращаться
домой пешком. Зато среди больных свирепствовала ужасная
лихорадка. Среди начальствующих было множество больных. Пластом
лежали воеводы краковский и люблинский, кастелян сандомирский;
а воевода волынский был почти при смерти. Подчашник Галензов-
ский умер; Кизинк скончался от раны. Случалось, что некому было
сдать команду и наблюдать за порядком.
Король, слава Богу, был здоров; за неимением других плодов,
он грыз терн и барбарис; ездил сам осматривать крепость Яворин.
Тем не менее по совету врача принимал лекарство. Он посылал
меня в Пресбург, к воеводе коховскому. Я вернулся оттуда в ужасе:
весь город показался мне одной большой больницей, столько в нем
лежало и умирало наших.
Воевода жаловался, что смертность чрезвычайная, и очень
беспокоился, так как люди умирали безустанно. Очень дорого
пришлось нам поплатиться за помощь, оказанную кесарю, и
впоследствии мы не досчитались великого множества цветущей
молодежи. О турках доходили до нас вести, что визирь, свалив
неудачу на пашей, велел нескольких повесить.
Из немецких князей, насколько я мог заметить, в самых
лучших отношениях был с ними князь Баварский. Он с должным
уважением относился к королю и весьма сердечно к королевичу.
Он отличался силою и ловкостью во всех воинских упражнениях;
молодецки ездил верхом, плавал как рыба, всегда был добр и
весел.
Королевич и король отдали ему также добрую часть добычи.
Необходимо отметить, что король очень милостиво относился к
Текели и к венграм и всячески их выгораживал, насколько было
можно не нарушая интересы веры и христианства. Текели обещал
отправить к королю посольство и, согласно данному слову,
воздерживался от всяких враждебных действий против нас и Речи Поспо-
литой.
Наши войска как выступили первыми из-под Вены, так и
продолжали идти в голове армии, несмотря на свирепствовавшую
болезнь. Лотарингский шел за нами следом. Немцы, с которыми у
нас постоянно случались небольшие трения, огорчались, главным
образом, не тем, что мы из-под носа увели у них победные лавры,
а пресловутыми миллионами, доставшимися будто бы королю в
наследство после визиря. Я сам слышал, как король откровенно
сказал кому-то из немцев, сколько именно ему досталось после
визиря, не считая того, что он пораздавал. Полную правдивость
короля могу лишь подтвердить, так как все сокровища были под
142
моим надзором. В реестре значились пять ожерелий, алмазный
пояс, двое часов с алмазами, пять ножей в драгоценных ножнах,
осыпанных самоцветными каменьями; пять сагайдаков чрезвычайно
ценных, сверкавших рубинами, смарагдами и жемчугом; несколько
десятков сороков соболей и других мехов удивительнейшей
красоты. К этому надо прибавить — седла и конские наборы, золотые
шкатулки, множество безделушек художественной работы... вот и
все... Сколько досталось лошадей — не знаю, но половину король
раздарил.
По лагерю ходили слухи, будто Миончинский в первые же
дни скупкой у нестроевых чинов и челяди набрал великое
множество добра. Возможно, что он наткнулся на счастливую
палатку. Знаю, что король из любопытства спрашивал его и хотел
посмотреть. Но он уже загодя отправил все на Волынь, под
охраной верных людей. Миончинский же уверял, будто ему достался
только пояс с бриллиантами, да и тот он купил за несколько
талеров у мальчика.
Наличных денег, о которых болтали очень много, никто не
видел в составе добычи. Этот клад либо расхитили первые
наткнувшиеся на него люди, либо присвоили все понемногу. Мы
никакого клада не видели, ни даже места, где бы он мог
храниться.
Очень поддерживала бодрость духа короля мысль о крепостях,
в которых засели и все еще держались турки. Так что он забыл
и о неблагодарности, и о разочарованиях и только думал о том,
как бы скорей завладеть укрепленными местами.
Он отправился за семь миль от лагеря осмотреть Яворин, не
считаясь с усталостью, ибо внезапно воспрянул духом. Он был так
неутомим, так деятелен, что, глядя на него, я невольно вспоминал
когда-то слышанное мною о состоянии духа, именуемом «gratiae
status»1, которое Бог ниспосылает своим избранникам. Верно, что
Бог избрал короля для настоящего похода, ибо обычные
человеческие силы были бы недостаточны для такого грандиозного дела.
Они прямо были непосильны.
Отсюда король отправил в Краков, через некоего Зджанского,
кой-какие доставшиеся ему диковинки; в том числе несколько
турецких пленников, занявшихся впоследствии торговлей. Для
королевы, своей сестры, княгини, для отца Маркиза и для дочурочки
Терезы (Пупусеньки) было отправлено немало всевозможных
шкатулочек, ковриков, занавесок, прекраснейших материй,
великолепные, хотя несколько пострадавшие палатки... Последние были
оставлены в Жолкви. Не знаю, как примирилась королева с тем,
что король забыл о ее возлюбленном Минионке; когда же я
осмелился о нем напомнить, король промолчал.
Болезни все не прекращались; смертности немало содействовало
и лечение. Ибо, когда не могли дозваться Пеккорини или наших
Состояние благодати (лат.).
143
фельдшеров, то звали первых попавшихся евреев. А те давали
больным опиум и другие яды, как когда-то князю Пшиборовскому;
больные же умирали.
Что касается дальнейшего похода, то вышло разногласие с
немцами. Немцы хотели идти прямо на Буду1 и жалели, что
послушались короля. Но и король намеревался идти туда же, только по
другому берегу Дуная, чтобы попутно брать укрепленные места.
Королю казалось, что это легко достижимо. Из воюющих у нас
было тайное соглашение с Текели и с князем Семиградским.
Последний шел с турками по принуждению, потому что великий
визирь не хотел его отпустить.
Необходимо заметить, что в письмах королева обнаружила
необычайную заботливость о военной добыче и постоянно приставала
к королю с упреками, будто он позволил силой отнять у себя
большую часть сокровищ. А король оправдывался и объяснял, как
и что случилось. Ей казалось мало, что мы победили; мало тех
сокровищ, которые достались на нашу долю. Между тем
единственным средством охранить от грабежа палатки было бы приставить
стражу, чтобы не могли забраться в них ни челядь, ни обозные
холопы. Но и там, где стояли часовые, воры вырезали сзади из
палаток целые полотнища и тащили лучшее.
Некоторые предприимчивые люди, как, например, Галецкий,
не дорвавшийся до драгоценностей, подражали поваренку
хорунжего: скупали скот, собирали брошенную медь, потом
перепродавали и таким образом составили порядочные состояния.
Мне ничем не удалось похвастать, за исключением разных
мелочишек, которые я скупал у солдат. Мне не к лицу было гоняться
за добычей. Король же, видя, что у меня нет ни времени, ни охоты
к наживе, сам подарил мне кой-какие безделушки. Те же, которые
имели талант к легкой наживе и не упускали подходящих случаев,
порядком заработали. Но многие из них потом все растеряли на
обратном пути.
Оборони Боже, чтобы я даже врага осудил легко или
пристрастно; и не напраслину возвожу я, если что пишу о дальнейшем
нашем походе: о том, как мы уцелели только по Божией милости,
как король едва спасся от смерти и как все это приключилось.
Одно важно, что немцы умышленно уклонялись от совместных
действий, шли позади на много миль, хотя князь Лотарингский
превосходно знал, что впереди нас подавляющие численностью
турецкие зойска.
Когда мы должны были тронуться дальше со стоянки при Ост-
шигоне, или Гране, на берегу Дуная, король, предвидя
столкновение с турками, послал к Лотарингскому ксендза Зебжидовского
с приказанием спешно идти на помощь. А передовым отрядам
король велел, идя берегом, забирать на Дунае лодки для казаков,
а затем в расстоянии одной мили от моста остановиться, ждать
Будапешт.
144
и быть начеку. Было условлено, что если турки от предмостного
местечка, звавшегося Парканы, отступят на ту сторону и
разрушат мост, то мы займем Парканы. Если же в Парканах окажутся
войска и станут защищаться, то остановиться в расстоянии мили
от врага и поджидать кесарскую пехоту и артиллерию, очень от
нас отставшую.
Но передовые отряды без спросу и даже не послав к королю
гонца подошли вплотную к мосту и здесь застали турок,
перешедших ночью через реку. Наши, расхрабрившись после одержанной
под Веной победы, немедля, без оглядки вступили в потасовку с
турками.
В начале стычки прискакал русский воевода и, не
предполагая, что имеет дело с большими силами, велел драгунам
спешиться, так как в отряде не было пехоты. Но тут из-за кустов
и зарослей появились густые колонны турок. Отступать было
слишком поздно, так как можно было погубить драгунские полки
и остальное войско.
Видя опасность положения, русский воевода стал отправлять к
королю гонца за гонцом, прося подмоги и спасения.
Но гонцы ничего не говорили о численности турецких войск,
а потому мы с королем пошли спасать драгун почти голыми
руками: без пехоты, без орудий. Тем временем турки отрезали драгун
и стали окружать их.
Король не имел ни малейшего представления о численном
превосходстве неприятеля; поставил уже полки в боевой порядок,
когда внезапно не далее как в ста шагах появились многочисленные
турецкие отряды.
Наших было не более пяти тысяч человек. Мы потеряли много
людей от болезней; много осталось в тылу армии охранять обозы,
военную добычу, скот и прочее. Увидев впереди турецкие войска,
король, правда, омрачился, но не растерялся и стал только
посылать нас друг за дружкой к Лотарингскому, требуя пехоты. Своим
же полкам приказал стоять не двигаясь.
Он лично, в сопровождении небольшого числа приближенных,
объезжал ряды, отдавал приказания, старался удлинить фронт,
чтобы ввести врага в заблуждение относительно численности войск.
Но полки были сборные и людей в них не хватало. На правом
фланге король поставил русского воеводу; на левом краковского;
в центре Мартына Замойского, люблинского воеводу. Меня уже не
было в это время при короле, так как я мчался сломя голову за
пехотой. Король, отправляя меня, сказал: «Не жалей коня».
Дальнейшее пишу со слов пана Черкаса.
Битва еще не началась, когда к королю прискакал в высшей
степени смущенный русский воевода и заклинал поскорее
отступить, ибо в войске замечается великое смятение и попытки к
неповиновению. Драгуны отказываются спешиться; несколько
хоругвей, уже назначенных на определенные позиции, не двигаются
с места и кричат, что их привели на бойню.
145
Но король не мог отступать и проявлять малодушие, раз он
зашел так далеко: призрак страха отнял бы у войск последние
остатки мужества.
Потому он остался на избранной позиции, имея при себе
генерала Диневальда, прибывшего из кесарской армии, чтобы следить
за действиями неприятеля. Диневальд также оценил превосходство
турецких сил и, с своей стороны, послал гонцов к Лотарингскому,
требуя немедленно присылки конницы.
Бог ему судья, не хотел ли, или не мог поторопиться Лотаринг-
ский; или же попросту не знал о крайне стеснительном положении
отряда. Многие потом доказывали, будто подмога запоздала
преднамеренно, в надежде, что мы, с горсточкой людей,
предоставленные собственным силам, сдадимся и осрамимся.
Турки, подсчитав нас, не стали медлить, обрушились на правое
крыло русского воеводы и стали его теснить. Потом ударили
вторично, и оно не выдержало. Тогда турки, обнаглев, налетели в
третий раз, ударили нашим в тыл, охватили их, спутали ряды...
Произошел переполох, и люди, кто как мог, стали уходить. В это
время король, считая себя в безопасности среди гусарской конницы
и не думая об отступлении, двинулся против турок, которые
заскакали в тыл русскому воеводе. Король, несомненно, спас бы
положение, если бы по примеру правого крыла не стал отступать
центр, а за ним и левое крыло. Тогда турки начали наседать на
нас с беспримерной яростью, густыми массами и гнали отступавшие
войска более полумили, почти до нашей пехоты и кесарских войск,
стоявших невозмутимо и спокойно.
Королю осталось только возложить все свои надежды на бы-
строногость лошади и уходить вслед за остальными. Но
предварительно он послал вперед королевича Якова, приказав уходить
насколько можно спешно и спасать жизнь. О себе король вовсе
не заботился, но очень тревожился за сына, трепеща от страха
за его жизнь. С королем были тогда коронный конюший Луцкий,
староста Пекарский, затем Устишицкий, литвин Черкас и какой-
то рейтар из гусарской хоругви короля; с ним вместе восемь
человек.
То, что творилось в это время, не в состоянии были рассказать
сплотившиеся вокруг государя люди. Они мчались таким плотным
клубком, что доспехами задевали короля; налетали друг на друга,
падали, загораживали один другому путь, скакали наобум, в
смертельном страхе.
Воевода Поморский, несколько отставший от других, был
окружен турками и погиб, а вместе с ним храбрейшие из рыцарства.
Что король успел спастись, было знаком особого Божьего к нему
благоволения, ибо все, бывшие при нем, считали свою гибель
неминуемой. В бешеной скачке приходилось поминутно
перескакивать через канавы, трупы, брошенные среди поля барабаны и
оружие; давить ногами, объезжать кругом; лошади путались,
бросались в сторону...
146
Под сандомирским старостой, скакавшим по пятам короля, два
раза пала лошадь. Его каждый раз спасали, но бывший при нем
итальянец-секретарь погиб. Дворецкий короля был в это время при
кесарских войсках, а потому ничего не видел. А Лотарингский,
хотя вся описанная драма разыгралась почти на его глазах, не
двинулся с места, под предлогом, что не успел подтянуть другое
крыло своего войска. Между тем в его распоряжении было
достаточно и времени и простора, чтобы поддержать короля.
В первую минуту по возвращении в наш лагерь я застал там
неописуемый переполох. Я едва не умер на месте, когда услышал,
что король будто бы убит, королевич взят в плен, а все воеводы
полегли костьми. Воеводы русский и люблинский уже искали на
месте побоища государев труп. Но король уцелел, благодаря горсти
людей, оцепивших его непроницаемой стеной. Только его руки и
ноги были так избиты поножами и латами, что пришлось делать
перевязки и всячески лечить. К физической боли присоединилось
беспокойство о сыне, о котором доходили совершенно
противоречивые слухи: то будто бы он невредим, то почти смертельно ранен.
А что бы сталось с сердцем старика, если б он узнал, что сына
чуть ли не умышленно поставили в опаснейшее место!
Когда я несколько позже вышел к королю, он отдыхал на
матраце и тяжело дышал. Король горько жаловался, но не на
собственную долю, а на то, что неудача должна была прибавить дерзости
врагу и побудить визиря перейти в наступление.
Напрасно русский воевода и другие упрашивали короля и
уговаривали не идти дальше, а вернуться, так как сделано
достаточно. Они объясняли ему весь риск дальнейшего похода с
наполовину больным войском. Он и слышать не хотел об
отступлении без отместки и никому не дал сказать слова, а собирался
на другой же день, когда подойдет пехота и орудия, штурмовать
мост и Парканы.
— То, что нас постигло, — говорил он, — примем как кару
Божию за ограбление костелов, за разбойничество, за жестокости,
которые позволяло себе войско. Я видел, что творилось, болел
душою, угрожал уехать прочь из армии, над которою нависла Божия
гроза; убеждал, что так не может продолжаться...
После король сделал строгие внушения военачальникам, что
войско распустилось, забыло воинские упражнения; офицеры
обленились, пренебрегают службой; солдаты своевольничают.
Оказалось, что у большинства драгун не было зажженных фитилей и
всех их бесславно перерезали.
Но все это было горчицей после ужина.
Немцы, вероятно, в душе торжествовали, что мы наказаны за
самомнение; но наружно выказывали полное сочувствие и
чрезвычайно удивились заявлению короля, что он не успокоится, пока
не отомстит.
После поражения и потери в людях почти все приближенные
короля противились новому походу; умоляли его, чуть ли не це-
147
ловали ноги, убеждали, что негоже проливать кровь за немецких
предателей... Но он повторял свое:
— Я должен отстоять собственную честь и честь войска. Мы
отступим, но, Бог даст, загладим вчерашнюю беду.
Мужеством своим король понемногу заразил и остальных. Видя
его твердость, многие набрались храбрости.
Было то восьмого октября. А, по милости Господней, король
уже на третий день мог воскликнуть:
— После вчерашней победы я точно помолодел на двадцать
лет!
Честь дня принадлежала всецело нашему государю; ибо после
несчастной битвы под Парканами чуть ли не все в один голос
кричали:
— Воротимся! Довольно полегло нас из-за них!
Но, спасая рыцарскую честь польского народа, король не мог
согласиться на отступление и с необычайной быстротой
приготовился к новому сражению. В ту же ночь полетели приказания, и,
хотя король был весь избит, а все его тело было черное от синяков,
он не обращал на это ни малейшего внимания, по-видимому,
ничего даже не чувствовал. На военном совете, когда все подавали
голос за возвращение домой, я своими ушами слышал, как король,
лежа, восклицал:
— Войско вчера немного приуныло, а завтра совсем оправится:
так всегда бывает. Немцы ничуть не беспокоятся; неужели мы
утратим мужество? Что же касается фортуны, как вы говорите, то
я ее ни в грош не ставлю; а, помолившись Богу, покажу вам завтра
полную смену декораций.
Надо отдать справедливость также ксендзу Скоповскому,
который красноречивой проповедью немало посодействовал подъему
духа в войске и оживлению в нем упования на Бога.
Впрочем, трудно было бы даже избегнуть битвы, так как турки,
набравшись храбрости, перешли в наступление, вызывая нас на
бой. Кара-Мустафа, стараясь использовать свою удачу, двинулся
со всеми силами по обеим берегам Дуная, а также велел выступить
в поход венграм с Текели и татарским полчищам.
В долине под Парканами кишмя кишели турки, спешно
надвигавшиеся из-за гор от Буды и через мост под Остшигоном. Всю
ночь слышали мы их ликование; а так как в их войске разошлась
молва, что король польский убит, они чрезвычайно осмелели.
Других вождей они ни в грош не ставили.
Как оказалось впоследствии, неверные заняли позицию в
полной надежде на победу. Их правый фланг опирался на теснины,
по которым с минуты на минуту могли подойти венгры. Этим
крылом командовал новый будапештский паша Кара-Магомет,
назначенный вместо Ибрагима. Центр занимал силистрийский паша, а
на левом фланге был паша Карамуни-Али.
С нашей стороны было выведено в поле до сорока тысяч
смелого, но уже очень утомленного походом войска.
148
За час до рассвета, несмотря на синяки, к которым
прикладывали компрессы из вина с розовой водой, король был уже в седле
и лично размещал войска в три линии, вперемежку польские полки
с немецкими. Только около девяти часов, средь бела дня, вся армия
свободным шагом двинулась на турок. Король был на правом
фланге, который должен был обрушиться на Парканы. Лотарингский с
Баденским и прочими занимали центр. Левым крылом командовал
Яблоновский.
Первый натиск турок был на левое крыло, они хотели
окружить и отрезать гетмана. Удар был страшный, но наши линии
выдержали натиск и не подались назад. После вторичной атаки
турок Лотарингский с большой удачей двинулся на них с пехотой
и прорвал линию врага. Кара-Мустафа был ранен; паша Кара-
манский также, причем попал в плен нашим гусарам. Паша Си-
листрийский, зарвавшись во главе сорока всадников, был окружен
немцами и после отчаянной обороны сдался Яблоновскому.
Король же, несмотря на орудийный огонь из Остшигона, прямо шел
на Парканы под защитой взгорий и без потерь дошел до самых
стен.
Увидев короля, турки перетрусили и отступили от Паркан,
бросившись на мост, ведущий в крепость. Наше войско, охватив
широким кольцом отступавших турок, прижало их к Дунаю, чем
обеспечило окончательный разгром турецкой армии, после чего
король без труда овладел крепостью.
И вот поляки снова добыли победу, а король стал героем дня!
Текели, как король, правильно предвидел, не участвовал в
сражении. Присутствовали, как свидетели разгрома, два присланных
от него юнца. Татары явились также больше для вида, в числе
нескольких сот человек. Король послал к ним пленника с приветом
хану и благодарностью за верность договору о союзе.
Здесь я должен упомянуть, что, как под Веною, отец Марк
видел парившую над королем белую голубку, так перед
рассказанной неудачей поминутно перебегала нам через дорогу черная
собака и опускался над рядами войск черный орел. Теперь король
сам видел, как впереди его летел голубь.
Королевич Якоб, чудом спасшийся во время поражения, и на
этот раз остался цел, несмотря на жестокий огонь из Остшигона.
После такого счастливого оборота дел и победы, которую король
ставил значительно выше, чем победу под Веной, так как одержал
ее после страшных потерь, со значительно поредевшею армией, мы
смело могли бы предоставить немцев собственным их силам. Но,
как правильно предвидел гетман Яблоновский, хорошо знавший
натуру короля, после Паркан ему захотелось взять также Остши-
гон, хотя визирь послал туда из Буды многотысячные
подкрепления. Короля нисколько не пугала ни поздняя осенняя пора, ни
утомление войск, ни испорченная пища, ни свирепствовавшие
вследствие того болезни. Не выдержали даже некоторые из
королевской дворни. Умерли в пути, лежа на возах, Калмычок и Дом-
149
бровский, любимый королевский паж. Больным не было числа;
ежедневно кого-нибудь да хоронили.
Боевых товарищей, холопов, челяди валилось с ног гораздо
больше, чем у немцев, хотя на вид они были тщедушнее, чем мы.
После победы начались ропот и недовольство. Особенно много
недоразумений возникло по поводу замещения вакансий,
открывшихся после убитых и умерших. Король умышленно делал вид,
будто ничего не видит и не слышит, хотя имел достоверные
сведения обо всем происходившем. Коронный референдарий,
домогавшийся Поморского воеводства после павшего в сражении Денгофа,
публично позволил себе будто бы в майдане1 такие речи:
— Я заберу свою хоругвь и отправлюсь восвояси; потому что
этот мост через Дунай строят только для того, чтобы завлечь нас
под Буду и погубить всех до единого.
Литовский маршал Радзивилл, с своей стороны имевший виды
на воеводство и ничего не получивший, также перешел в лагерь
недовольных.
Король все это пропускал мимо ушей и смеялся над теми, кто
спешил вернуться к своим курным избам и плохому пиву; только
понапрасну: свое сусло и полупиво были всем милей, нежели чужие
замки и токайское вино.
Так как я постоянно близко видел короля и поневоле знал все,
что его касалось, то не мог достаточно надивиться величию его
души. Вокруг него было мало довольных своей судьбой; каждый
требовал милостей не по заслугам. Отсюда кислые лица и упреки.
Что касается немцев, то, будь они хоть семи пядей во лбу, король
не мог им верить, так как убедился в их лживости и знал, что
они гонятся только за добычей. Наконец, последним огорчением,
о чем мы только могли догадываться, были для короля письма
королевы. Вместо утешения, они чаще всего приносили одни
попреки, жалобы, нарекания и самые чудовищные требования.
Королева с удовольствием силою вернула бы короля домой,
только жалела, что он не сумел набрать побольше пленников и
военной добычи.
Королева в душе завидовала даже Яблоновскому из-за тех
пашей, которых он взял в плен и надеялся на большой выкуп, хотя
тот, кому паши достались, занимал в сердце королевы — да
простит ей Бог! — столько же места, сколько сам король. Когда
приходили письма от Астреи, король с нетерпением хватался за них,
и руки у него дрожали. Иногда вместе с письмами королева
присылала шарфик или бантик, и тогда король не мог достаточно
нарадоваться; когда же начинал читать, то хмурился, бросал
письма, опять к ним возвращался, снова отталкивал, и так по несколько
раз брал их в руки, причем порою градом катился с него пот. Мы
знали, что королева не прочь была распоряжаться из Кракова
вакансиями, всем заправлять и отдавать распоряжения.
1 Сборное место для командного состава.
150
Ничто не было ей по нраву. Она завидовала даже лаврам,
которые пожинал Фанфаник. Хотя на самом деле он не слишком
рисковал, так как за ним всячески следили, а король заботился о
его безопасности больше, нежели о собственной. Королевич, без
сомнения, был очень смел, но из всех стычек вышел невредим.
Ему не давали даже утомиться вволю. Потому нечего дивиться его
храбрости, раз обо всем заботились другие. После той первой
неудачи под Парканами, когда король вернулся в лагерь живой, но
весь избитый, он не мог в первые минуты ничего узнать о сыне
и от беспокойства едва не помешался. Самому же королю жизнь,
полная превратностей и беспокойства, была удивительно на пользу,
чему не могли надивиться Пеккорини и Дюмулен. Он не доедал
и не досыпал, частенько пил такую воду, в какой дома не захотел
бы даже вымыть руки; сильно похудел от постоянных трудов и
утомления, как ясно показывали пояса и перевязи, которые
пришлось суживать. Тем не менее он был значительно бодрей, чем
дома, и почти помолодел. Ксендз Скоповский говорил:
— Его поддерживает дух; даже если бы он ничего не ел, то
все-таки бы выдержал... Он весь пылает внутренним огнем.
Святая истина.
Несмотря на ропот, король приказал строить под Остшигоном
мост, законченный к 20 октября. Как только неприятель догадался
о намерении короля, так немедленно сжег предместья, часть города,
и один из замков на горе Святого Фомы, очевидно собираясь
защищаться до последней капли крови. Король же опять твердил,
что особенно удачлив в осаде замков и, несомненно, вскоре вместо
полумесяца на старом костеле будет водружен крест.
Когда мы, едва закончив мост, начали переправляться через
реку, турки, заслышав о нашем наступлении, спешно оттянули
войска к Белграду, распустив венгерский и валахский
вспомогательные отряды. Таким образом венгерская земля, несколько сот
лет бывшая под властью турок, получила свободу из рук нашего
государя. А Остшигонский замок, занять который мы надеялись
наверняка, был турецким без малого полтораста лет.
Чтобы оценить ангельское сердце нашего богатыря, надо было
видеть и слышать его заботы и старания облегчить горькую участь
беднейшего населения. Я сам слышал, как он всем по очереди
повторял:
— Ради Бога, да за что же страдают несчастные сельчане?
Я отпускаю на волю даже венгерских военнопленных, чтобы
выбить им из головы, будто мы воюем с христианами или с
кальвинистами; пусть знают, что враги нам одни только неверные!
Весь народ с мольбою возносит руки к небу, молясь за нас
Господу Богу, отдается под наше покровительство, возлагает на нас
свои надежды, а мы вдруг станем его резать! Резать тех, которые
нас кормят и будут впредь кормить! Надо гарцевать да величаться
под стенами турецких крепостей, а не над бедными земляными
червяками!
151
После взятия Остшигона, на вершине которого королю так
хотелось водрузить крест, он собирался перейти обратно через Дунай
и, пробравшись несколько далее, к Пешту, оттуда возвратиться в
пределы Польши, чтобы разместить войска на зимние квартиры.
Но королева, а равно и большая часть соратников, бывших при
короле, настаивали, чтобы он немедленно вернулся восвояси. Того
же требовали приходившие из Кракова письма, полные отчаяния
и тревоги.
Однако, хотя король всегда уступал желаниям ее величества,
он на этот раз не хотел отказаться от намеченного похода и,
пренебрегая письмами, двинулся дальше. Королеве же отписал так:
«Верно, что великое множество людей пишут и писали, чтобы
я вернулся. Но желали и желают они моего возвращения не ради
меня, а в личных интересах! Здоровье свое, жизнь и счастье я
посвятил Божию произволению и возвеличению Его имени; что же
касается риска, которому я подвергаю самого себя, то делаю я не
более того, сколько полагается всякому честному человеку, на
подвиги которого взирает весь мир. Жизнь мила мне служения ради
Богу, христианству и отчизне; мила ради вашего величества, ради
детей, родных и близких; но в равной мере я должен дорожить и
честью, которой посвятил всю жизнь, и надеюсь, что, с Божия
произволения, сумею сохранить и ту и другую».
Таков дословно был ответ государя королеве.
Чем более настаивали приближенные, чтобы на зиму вывести
войска из Венгрии, тем упорнее держался король своего плана
освободить венгерское царство и перезимовать на его территории.
В Остшигоне был турецкий гарнизон, численностью до пяти
тысяч человек. Король осадил замок собственными силами, без
всякой помощи, за исключением небольшого бранденбургского
отряда. Несмотря на дождь, на холод, на отсутствие подножного
корма для лошадей, на истомленное болезнями и лишениями
войско, успех был полный: замок сдался на четвертый день
осады, на слово короля. Радость была необычайная и торжество
великое!
За эти несколько дней Остшингонская крепость храбро
защищалась, не причиняя нам больших потерь. А наши бомбы и гранаты
наносили защитникам большой вред, разбивая стены и губя людей.
С восторгом смотрели мы на удалявшихся неверных под
предводительством двух пашей, Аленского и Никопольского. Они очень
нападали на визиря, бросившего их на произвол судьбы и бывшего
виновником позора, беспримерного в их жизни.
Сразу же после ухода турок мы вступили в замок, который
стоит на довольно высокой горе. Гора, целиком из красного
мрамора, сквозь трещины которого всюду сочатся теплые ключи, а в
ключах лягушки задают в день святого Симона Иуды такие же
концерты, как у нас в мае.
Сердце мое исполнилось невыразимой радостью при виде
государя, когда он в первый раз вошел в мраморную часовню, бывшую
152
когда-то христианской церковью, а затем превращенную в мечеть.
Ныне же, силою оружия, она была возвращена служению и
возвеличению истинного Бога после стосорокалетнего пленения. Надо
было видеть восторг короля... в особенности в день двенадцати
апостолов, когда впервые раздались под сводами звуки нашего «Те
Deum»!
Часовня выстроена целиком из мрамора; в ней сохранились
остатки алтарей и даже изображения Божьей Матери. Только лик
умышленно испорчен.
По взятии замка, когда осеннее время года препятствовало
преследованию врага, да и сам он уходил так спешно, что трудно
было бы догнать, войска наши отделились от кесаревой армии,
чтобы было легче добывать продовольствие. Мы, согласно решению
короля, не перестававшего изучать и рассматривать карты
местности, пошли дальше, минуя турецкую крепость Щецин, в обход
Филее на Кошице и Эпериес. Но предварительно необходимо было
дать отдых лошадям и людям, страшно утомленным, и дождаться
более благоприятного времени года, так как слякоть, снег, вихри,
холода изводили нас невыносимо.
На пути все опасались, как бы король, минуя крепости, еще
занятые турками, не соблазнился и не вздумал попытать счастья,
всегда благоприятствовавшего ему при осаде замков. Я слышал
ропот и нарекания на его геройские якобы замашки, хотя мы-то
лучше всего знали, что дело вовсе не в геройстве, а в ревности к
святой вере и к христианству.
Король выслал в Краков к королеве с письмами плутоватого
француза Делерака, которого по пути сцапали турки и увели в
неволю, сообщив об этом королю. Король был очень озабочен, так
как турки приняли француза за очень высокую персону и
требовали за него такой выкуп, что не было возможности уплатить его.
Тем более что сам француз, и с мясом и с костями, не стоил и
половины затребованного.
Я нисколько не ошибся в своих предчувствиях, услышав, будто
мы будем обходить стороною занятые турками твердыни. И
действительно, когда мы приблизились к Щецину, государем овладело
большое беспокойство: он ни за что не хотел оставить у себя в
тылу вражеское гнездо. Был созван военный совет, порешивший в
один голос не трогать крепость. Тем не менее король послал на
разведку сына с люблинским воеводой и Диневальда, кесарского
генерала, с Труксом, начальником бранденбургского отряда.
Вернувшись, они донесли, что замок не произвел на них впечатления
особенно сильной или непобедимой крепости.
И вот, в канун дня святого Мартына, мы стали под крепостью,
в страшную метель. Но укрепления показались королю гораздо
сильней, чем ему докладывали. Город был окружен двойным рядом
частоколов, рвами, стенами, башнями и стоял на возвышении.
Гарнизон недавно был усилен свежими полками янычаров. Разглядев
в чем дело, наши командиры, зная повадку короля, начали роп-
153
тать... А король, улыбаясь, повторял свое, что он удачлив по части
крепостей и они легко ему сдаются.
Едва лишь мы расположились, как из замка началась стрельба,
и наши солдаты стали падать, а турки, собираясь защищаться,
подожгли предместья. Король немедленно послал только что
прибывших казаков помешать жечь пригороды. Каким-то чудом
казаки, не особенно старавшиеся во время похода, ринулись вперед с
такою яростью, что не только захватили все предместья, но даже
овладели первой линией окопов с частоколом и воротами, на
которых сейчас же водрузили крест и знамя. Успех казаков так
воодушевил пехоту и орудия, что уже к ночи все палисады были
взяты.
Орудийный огонь длился с нашей стороны не более трех часов,
и на башне замка взвился белый флаг, как раз в то время, когда
в обозе поднялся громкий ропот, будто король напрасно ведет
солдат под пули. Огонь был прекращен, и город сдался на милость и
немилость короля. Я слышал, как король успокаивал лежавших
ниц и умолявших даровать им жизнь выборных:
— Не бойтесь, волос не упадет с вашей головы. Мы в счастье
не спесивы, так как счастье все от Бога!
Действительно, только необычайной удачливости короля можно
приписать тот страх, который он нагнал на турок. Они прекрасно
могли бы защищаться в течение нескольких недель, так было у
них вдосталь и пороха и продовольствия.
— На Святого Мартына отслужим молебен в обеих мечетях! —
повторял король с неописуемой радостью.
Отсюда мы решительно должны были идти на Эпериас, не
покушаясь на замки и даже обходя их, потому что наши
военачальники соскучились по дому и по отдыху, и только он единственный,
король наш, продолжал мечтать о подвигах во славу Божию.
Поход наш от Щецина, минуя сгоревший Филек, проходил,
благодарение Богу, довольно гладко. Небо прояснилось, и уже в
ноябре прихватил такой мороз, как у нас бывает на Крещение. Но
мерзлая земля лучше, чем болото, а стужа предпочтительней
распутицы.
Король очень жаловался на карты и на описания попутных
стран, так как они были очень далеки от действительности. Нас
заверили, будто местность совершенно ровная; между тем от самого
Дуная до границ Польши только мы и видели что горы да дремучие
леса.
В течение похода король все время получал письма и известия
от Текели.
Трудно даже сказать, как полезны были нам эти сношения в
походе.
Таким образом, мы шли да шли и никак не могли добраться
в Кошицы так скоро, как бы хотелось нашим воеводам. Король
больше всего роптал на неаккуратную доставку писем от королевы;
а из Кракова жаловались на то же самое, да еще на ложные и
154
очень скупые сведения, помещавшиеся в иностранных газетах.
Действительно, мы не мастера разносить о своих подвигах по свету;
не умеем также запасаться новинками и сплетнями о том, что
делается в мире.
Дошло до нас несколько статеек из специально учрежденного
в Риме и получавшего субсидию листка, долженствовавшего
служить специально интересам армии и помещать сведения о нашем
крестовом походе против неверных. Издавал листок некий Кракус,
о котором ничего не знаю, был ли он итальянец, или другой
национальности.
Чем ближе к Кошице, тем безотрадней становилось положение
армии. Все города и замки, встречавшиеся на пути, были заняты
войсками Текели и не открывали нам своих ворот. В Кошице было
несколько тысяч гарнизона.
Сам же Текели, до тех пор уважавший волю короля и
старавшийся приноровиться к его желаниям, за что тот обещал ему
полную неприкосновенность, убежал вместе с женой к туркам, войскам
же отдал приказание обходиться с нами как с врагами. Мы же,
понадеявшись на мирные отношения, нарвались на врагов, которые,
начиная от Сатмар, стреляли в нас.
Из Кошице была сделана на нас вылазка. В Прешове ядром
убило старого, испытанного в боях воина, пана Моджевского,
начальника галицкого ополчения. Голод, холод и болезни донимали
нас в стране, где мы надеялись устроиться на зимние квартиры и
отдохнуть.
Прешов пришлось обойти стороной, даже не сделав попытки
завладеть им, лишь бы скорей уйти из проклятого края. Тем
временем нам неожиданно повезло в Сыбине. Староста луцкий,
повстречавшись с венгерской конницей, немного потрепал ее; а в
самый день Непорочного Зачатия, когда мы подошли с королем
под стены города, литовская артиллерия выпустила несколько
десятков снарядов и город сдался безоговорочно. Отсюда мы не
останавливаясь шли до Любовли, где должны были встретить
королеву и сделать продолжительную остановку, так как королю
предстояли большие заботы и беспокойства.
Действительно, мы дошли до предела, его же «не прейдеши»;
король, можно сказать, разрывался надвое. С одной стороны,
необходимо было прийти к какому-либо определенному решению
относительно Венгрии; с другой же — все мысли и страстные
желания влекли его к королеве. Да и та очень нервничала, желая
поскорей опять покоролевствовать, и была готова поспешить
навстречу королю хотя бы через Сонч, тогда как его величество
советовал ей ехать более длинной, но безопасной дорогой на
Чорштын и Новый Торг. Меня король послал с подводами на
Чорштын, откуда я должен был отвезти часть доверенных мне
сокровищ прямо в Краков.
Итак, после без малого четырехмесячной службы, принесшей
мне хотя бы то удовлетворение, что я собственными глазами видел
155
многое такое, о чем другие не могли даже услышать, я вернулся
в декабре в Краков, заручившись разрешением от короля съездить
на святки к матери, о чем я мечтал.
В Кракове я оказался далеко не единственным; многие упредили
меня здесь, частью дезертиры, частью сбежавшие из армии с
ведома и без ведома короля. Потому мне не слишком досаждали с
расспросами, и я с большим любопытством относился к местным
новостям, нежели встречавшие меня к известиям с войны. Ибо от
самого Остшигона, а, может быть, и раньше, многие на свой страх
пробирались к границе, и чем ближе к Любовле, тем более росло
число беглецов.
Мой Шанявский, который поневоле должен был остаться в
Кракове, чрезвычайно обрадовался, увидев, что я жив, потому что
слухи доходили обо мне разноречивые. Кроме Шанявского в
Кракове оказалось много старинных и новых знакомых, приобретенных
во время похода, и тут-то я мог убедиться, как искажается истина
в устах людей и в каком различном свете могут представляться
одни и те же события в глазах множества свидетелей. Чего-чего
только мне не пришлось наслушаться о битвах и походах, в
которых я участвовал и видел собственными глазами! Уши вяли от
рассказов о короле и прочих наших полководцах. Я привез с собой
величайшее преклонение перед королем; будучи постоянно рядом
с ним, вслушиваясь в его речи, никогда еще я не видел его столь
великим; и вот, ненависть, ослепление и легковерность
представляли его в совершенно ином свете. Чуть ли не на каждом шагу
приходилось сталкиваться с проявлениями неприязни. Особенно
возмущались королем, все будто бы принесшим в жертву своему
тщеславию, в тех семьях, которые потеряли близких и родных на
полях сражений. Другие уверяли, будто только непомерной
жадностью короля к добыче можно объяснить, что мы, испытав
неблагодарность немцев, не вернулись в Польшу сейчас же после Вены,
а пошли дальше, навстречу таким ужасам, как первая стычка под
Парканами.
В самом начале разговора Шанявский сообщил мне, что я
увижу в Кракове также госпожу Бонкур. Он убеждал меня уклониться
от свидания, так как она подстерегает возвращающихся с добычей
из-под Вены и наверняка обдерет меня как липку. У меня же изо
всей добычи было ровно столько, сколько я скупил у нестроевых
солдат; сам же я ничем не поживился. В моих вьюках едва-едва
хватало на скромные подарки для семьи и для друзей. На долю
Шанявского достался довольно красивый пояс, приобретенный в
Парканах, — вот и все, чем ему пришлось удовлетвориться; для
себя же я оставил только саблю в великолепно украшенных
ножнах. А так как Фелиция порядком выдохлась и испарилась из моего
сердца, то я совсем не искал встречи с ней. Напротив того, у меня
было твердое намерение, дав отдохнуть лошадям и людям,
немедленно пуститься в путь, чтобы припасть к ногам родительницы в
самый Рождественский сочельник. Но в одно приятнейшее утро,
156
собравшись к ранней обедне в костел Девы Марии, я встретил на
площади у дома, где осталась часть придворных королевы,
разодетую как куколка... госпожу Бонкур.
При виде ее я остолбенел... Мысленно я представлял ее себе
состарившеюся, увядшей... а встретил свежею, румяною,
помолодевшею, совсем как будто бы она омылась той живой водой, о
которой рассказывается в сказках. Она первая подошла ко мне,
сложив губки бантиком.
— Отчего же старый друг меня не жалует? — спросила она. —
Я напрасно прождала с тех пор, как узнала о его приезде.
Возгордились же вы, господа, так, возгордились, разгромив неверных,
что знать нас не хотите.
И, даже не дав мне раскрыть рот, сейчас же продолжила:
— Вы также, вероятно, состоя при короле, поживились, как
Миончинский и другие в шатрах визиря. У нас только и разговоров,
что о жемчуге, который вы загребали корцами.
Я рассмеялся.
— О других не знаю, — молвил я, — о себе же скажу, что
из турецкого похода я возвращаюсь гол, как турецкий сокол. Пока
другие промышляли для себя, я думал только о короле.
— Ого! — перебила она. — Так я и поверю!
Мы вместе вошли в костел.
— Хоть и с пустыми руками, без гостинца, — прибавила
она, — будьте милым гостем, не откажите навестить.
Так мы распростились. А вернувшись на постоялый двор, мне
пришлось подумать о подарке. Выбор был невелик. Сверх
припасенного для матери и для сестры, у меня была только красивая
завеса, вышитая золотом, каких в обозе были тысячи. Уложив ее
в турецкий сундучок, художественно изукрашенный резьбой на
меди, я снес его красавице. Я думал ограничиться кратким
приветствием и подношением; но сирена так стала улещать меня
ангельским голоском, так улыбаться, завлекать и весело смотреть
в глаза, что я опять расчувствовался и размяк. Она задержала
меня до поздней ночи, и только появление нового поклонника
спасло меня от опасности. Боже упаси, если женщина хоть раз прочно
водворится в сердце! Я знал, что она играет моей любовью, что
она негодница; Шанявский многое порассказал мне о ее новых
приключениях; но ничего не помогло: она опять одурманила меня,
и я вышел опьянев от страсти.
Однако, так как все уже было приготовлено в дорогу, я
превозмог себя и на другой же день, несмотря на искушение, выехал
домой. Уже в пути, на свежем воздухе, среди здоровой обстановки,
обуреваемый воспоминаниями сельской жизни, я несколько пришел
в себя.
Родительницу, даже если б я хотел, то не мог бы предупредить
о своем приезде, и она меня не ожидала. На пути же приключилось
так, что, спеша домой по ночам и по сугробам, я едва только в
сочельник утром прибыл в Луцк. Здесь же охватило меня такое
157
нетерпение, что я бросил измученных людей и лошадей и, наняв
жидовских кляч, почти не отдохнув пустился в путь.
Еще не зажглась звезда, с которой в этот день подают на стол
вечерю, как возок мой подкатил к крыльцу, и я, выскочив как
сумасшедший, с разбега прямо бросился к ногам родительницы...
Как я предчувствовал, дома были не только сестра с мужем,
но и брат Михаил. О, минуты восторга, минуты, когда я услышал
их голоса, почувствовал материнские объятия! Когда меня охватило
неизъяснимое сознание родимого гнезда, которое человек ни на что
не променяет, даже на золоченые хоромы! У матери в руках был
артос... она расплакалась и расцеловалась первая со мной. Когда
я въехал во двор, они как раз говорили обо мне и, по слухам,
думали, что я либо еще в Любовле, либо на пути в Краков.
Сверх семейных и старшего брата, я застал у нас в гостях зятя.
Мы вместе сели за стол, и одному Богу известно, каким вкусным
показалось мне все, что подавали: я точно переживал вторично
дни счастливой юности. Посыпались вопросы, и здесь, слово в
слово, повторилось то же, что и в Кракове: бездна лжи и фальши,
мало правды.
Рукописные листки, ходившие здесь по рукам, содержали
выдержки из королевских писем, искаженные до неузнаваемости;
а рядом с ними помещались сведения из других источников,
противоречившие письмам короля. Мне пришлось знакомить своих
семейных с королем, видя, что они представляют его себе совсем
иным, нежели он был в действительности. Никто не видел его в
свете защитника христианства и богатыря; того богатыря, каким
он явился нам со времени вступления в страну, ждавшую от него
освобождения от неверных, со времени обедни, за которой он
исполнял обязанности причетника в день победы на Каленберге.
Брат Михаил опять показался мне сильно изменившимся и
постаревшим; но, как и в первый раз, он был вполне доволен своей
судьбой и не стремился достигнуть большего. У него была
степенная осанка, а благочестие его и набожность были для нас примером
и обращали к Богу. Из всех сочельников, которые я, по милости
Божией, встречал в кругу семьи, ни один не показался мне более
торжественным. Когда мы встали из-за стола, я принялся
развязывать дорожные мешки, чтобы достать гостинцы. Матери я привез
роскошнейшие четки в золотой оправе; ибо, как известно, турки
также молятся по четкам и, сидя, постоянно перебирают их. Надо
было только, чтобы патер Михаил освятил их, как принадлежавшие
неверным. Зятю я привез нож в красной оправе. Но, так как
никогда не следует дарить, по какому-то поверью, ничего ни острого,
ни режущего, он должен был заплатить мне грош. Неудачнее всего
был подарок брату зятя, на которого я не рассчитывал. Пришлось
ограничиться разрозненным от пары пистолетом. Правда, он был
прекрасно украшен резьбою по слоновой кости с бирюзою, но в
кобуре оставалось одно пустое место. Он был принят с
благодарностью. Сестре досталась чудная застежка с изумрудом.
158
Доведя свои записки до этого места, я только со стесненным
сердцем могу писать их дальше. Я не стану жаловаться на
собственную долю, хотя, конечно, и она могла сложиться лучше. Но
можно бы многое сказать о тяжких испытаниях, выпавших на долю
короля, и бросить упрек неумолимому року, если бы судьбы наши
не лежали в руке Божией и не складывались по его Божественному
произволению. Герой и муж, немало послуживший на благо
христианству, претерпел многие жестокие удары. Его не только
оскорбляли, не только отрекались и преследовали в родной стране,
но, даже умирая, он не мог завещать потомству упований на
лучшее, счастливейшее будущее.
Почти немедленно вслед за венским походом и возвращением
с войны начались раздоры, заговоры, происки иностранных держав,
тайные интриги против Собеского среди людей, которых он считал
своими лучшими друзьями. Все его начинания вызывали
недовольство, вели к открытому противодействию.
Душою оппозиции, ее поддержкой и опорой была королева. Она
уже при жизни своего благодетеля и мужа отрекалась от него, не
прочь была бросить и отступиться. Она преследовала своего первого
сына Якова, шла наперекор всем планам мужа, старалась навлечь
на него всеобщую ненависть. Не хватает сил и покорности судьбе,
чтобы описать все, что тяжелым бременем угнетало короля все
последующие годы жизни, вплоть до смерти.
Вся Европа окружала его величайшим почитанием и
прославляла его имя. Неверные падали перед ним во прах и дрожали при
одном его имени, а в родном гнезде устраивали против него
заговоры те, которых он вознес, осыпал милостями, одарил.
Проследить шаг за шагом все, что творилось с 1684 года до
кончины короля не в моих силах. Разве только, быть может, один
епископ Залуский, имевший сведения о всех тайных пружинах,
руководивших действиями и побуждениями современников, мог бы
дать полный отчет об этом печальном времени, так как король
нередко беседовал с ним как на исповеди. Но и Залуский обо
многом мог только догадываться, ибо король нередко, из чувства
стыда и жалости к своей семье, умалчивал о том, что угнетало
его душу.
Очень уж легко зовутся теперь люди мучениками и
присваивают себе славу, на которую имеет право только тот, кто
страдает молча, кто возносит огорчения свои небу, к престолу
Божию и улыбается на Голгофе. Вот именно таким мучеником
с ясным челом был за все годы своей жизни наш король: он
никогда не жаловался. Только раз, доведенный до отчаяния, он
хотел отказаться от престола, так как бремя власти стало ему
не под силу; и тогда только подданные его уразумели, как
много он значил. Французские интриги, кесарские происки и
возмутительная неблагодарность Габсбургов, тайные подкопы матери
против собственного сына, внутренняя смута, приведшая к
междоусобице, все обрушилось на его правление, и всему виною
159
была королева. Ему пришлось вынести на своих плечах всю
тяжесть ее прегрешений.
Я не присутствовал при том, когда король, встретившись в
конце похода с королевой, вместе с ней въезжал в Краков в тот же
самый святочный сочельник, когда я припал к ногам родительницы.
Их встречали с великим ликованием, устроили к приезду
триумфальные ворота: он возвращался героем не только своего народа,
но всего мира христианского, и блеск его имени осенял всю
Польшу. Прежняя воинская слава, которую мы утратили при Яне
Казимире и при Михаиле, вновь озарила имя Польши. Слава короля
гремела в первое время даже в самой Франции, вызывая большое
неудовольствие в Людовике XIV. Много говорилось о заслугах
папы, призывавшего к войне, оказывавшего денежную помощь; но
сам Иннокентий XI, послав Собескому освященный меч, а королеве
Золотую Розу, этим самым показал, кому принадлежала честь
разгрома турок, кто окончательно сломил могущество неверных и
положил предел дальнейшим, их успехам и завоеваниям.
С разрешения короля, которое выхлопотал для меня Шаняв-
ский, я оставался в деревне к великой радости родительницы,
которая охотно задержала бы меня совсем, настаивая, чтобы я
женился. Но у меня не было ни малейшего желания связывать
себя брачными узами. За время затянувшегося пребывания в По-
лонке я знакомился с хозяйством, занимался лошадьми,
разъезжал по соседям, принимавшим меня с большой сердечностью и
радостью. Случалось, что выехав в гости на день, я не мог
вырваться целую неделю. Матушка, в конце концов, научилась
выручать меня: посылала за мной нарочного, с требованием
вернуться.
Приятно проведя среди своих свободное от службы время,
отдохнув и подкрепившись, я только летом вырвался из домашнего
уюта и поспешил вернуться на службу государеву, когда Шаняв-
ский известил меня, что король собирается лично вести войска под
Каменец.
Вернувшись, я застал короля среди блестящего сонма
придворных, владетельных князей и кавалеров различных
национальностей, которые все добивались чести служить у нашего государя и
учиться у него рыцарскому ремеслу.
Не поддается описанию, какою пышностью и блеском было
окружено пребывание наше в Яворове, а за кулисами придворной
суеты скрывались тайные подвохи кесарских приспешников и
агентов Франции. Жизнь обратилась для меня в каторгу, когда я в
первые же дни убедился во всесильном влиянии королевы, которая
собиралась не только политиканствовать, но и сопровождать
государя на войну, присутствовать при осаде крепостей и сосредоточить
на своей особе взоры христиан. Притом она нарочно делала так,
чтобы рядом с ее именем упоминалось имя Александра, тогда как
королевич Яков умышленно отодвигался ею в тень. Уже и тогда
стала нарождаться неприязнь между братьями, соперничество, вза-
160
имная вражда, которая впоследствии лишила всю семью наследия,
завоеванного для них отцом.
Поход на этот раз сопровождался музыкой, шатрами,
роскошными буфетами, многочисленным придворным штатом,
бесконечной вереницей колясок и карет и скорее походил на пикник или
прогулку, нежели на боевое предприятие. Королева отстала только
тогда, когда появилась настоящая опасность; а вместе с нею остался
в тылу ее отец и вся ненужная толпа тягостных, любопытных
шалопаев. Частенько, когда королю некого было послать за
«языком» или на разведку, люди бывали заняты разбивкою палаток
для придворных, для маркиза, для графов, для послов; накрывали
на столы, убирали их с такой же королевской пышностью, как,
бывало, в Яворовском парке.
Сильно окопавшись против Каменца и нанеся большие потери
неприятелю, король не мог, однако, принудить город к сдаче и
направился на Днестр, чтобы добиться встречи в открытом поле.
Но гетман воспротивился, и мы вернулись в Жолков, под иго
возлюбленной Марысеньки. Король, как мог, затаил неудовольствие;
зато ее величество, окруженная блестящим штатом французских
кавалеров, увивавшихся вокруг нее, не скрывала своего торжества.
Несмотря на славу, которою покрыл себя король, не было человека
несчастнее его, так как благоверная тиранила его ежечасно. Он
всегда уступал ей во имя домашнего спокойствия, и каждая уступка
укрепляла власть Марии Казимиры.
Ряды завистников и недовольных возрастали с каждым днем,
и среди них были Сапеги и Яблоновский. Раздавались громкие
жалобы на то, будто король все надежды возлагает на основание
династии и укрепление наследственной монархии с австрийской
помощью: так, по крайней мере, нашептывали всем французы,
подымая волну негодования против короля. Его упрекали также,
что он так и не отнял Каменец, что присваивал себе всю
военную добычу, тогда как гетманы и войско бесполезно
жертвовали жизнью.
На следующий сейм, обещавший быть крайне бурным, я поехал
вместе с королем, на муку себе и на досаду, так как все время
приходилось тщетно возмущаться выходками всяческих нахалов.
Видя, что делалось в Варшаве, как куражились Пацы, какую
черную неблагодарность проявляли Сапеги, сколько смуты
вносили эти отношения в жизнь короля, можно было бы на веки
вечные заречься от избрания на трон потомков Пяста. Свидетели
двух царствований, Михаила и Яна, совершенно справедливо
требовали исключения Пястов из списка правомочных кандидатов на
престол.
Все сенаторы считали себя им ровней, не хотели оказывать
должного чинопочитания и держались в лагере непримиримых.
Видя, как завидуют его победным лаврам, король добровольно
уступил командование Яблоновскому, сам же занялся садоводством и
углубился в книги. Но гетману не повезло; не удалось ни собрать
161
войска, ни даже подойти под Каменец, так что весь поход
окончился безрезультатно. Но, конечно, хотя король держался в стороне
и не принимал участия в воинских делах, Яблоновский приписал
ему свое бессилие. Отсюда новый повод к трениям и взаимному
неудовольствию.
Королева тем временем начала переговоры с французами и
втянула в них короля. Бетюн, она, Велепольский, отправленный
послом в Париж, хлопотали о соглашении с Францией. Страх напал
на неблагодарных австрийцев, не сдержавших ни единого из
обещаний, данных Собескому. В это-то время, как будто ненароком,
появился, будто бы проездом в Москву, отец Вота, иезуит,
снискавший себе доверие у короля, завоевавший его сердце и
благоволение. Началось с бесед на сон грядущий, которые так любил
король, и так в них втянулся, что иной раз, за недостатком
собеседников, приглашал Янаша, Аарона и кого попало. Следует
признать, что отец Вота был точно создан для короля. Ученый, или,
по крайней мере, обо всем осведомленный, он был ходячей
энциклопедией. Возможно, как я слышал от очень многих, что Вота не
обладал глубокими познаниями ни в одной отрасли знаний. Но и
не было такой темы разговора, к которой бы он вовсе не был
подготовлен. Таким образом, он развлекал и удовлетворял
любознательность короля, потому что мог дать ответ на любой вопрос.
Притом он прекрасно умел щадить самолюбие короля, говорил
только о научных и возвышающим ум предметах и тонко льстил.
После первого же появления при дворе отца Воты можно было
предсказать, что он сделается незаменимым. Сколько раз
прислушивались мы у дверей к вечерним разговорам, затягивавшимся иногда
за полночь. Можно было только удивляться отцу Воте: с такою
легкостью и самоуверенностью он находил ответ на любой вопрос, так
мягко, вежливо умел касаться всякого предмета. Притом он был
неутомим, а когда загостился дольше, и мы могли присмотреться к нему
ближе, то поневоле стали преклоняться перед ним.
У него не было ни единой слабости; его ничем нельзя было
подкупить: ни пищей, ни питьем, ни побрякушками. В
отборнейшей среде он держался так свободно, как в своем кругу. Как
священник был благочестив, но не святоша; со многим мирился, но
никогда не преступал границ дозволенного; одним словом, он был
точно создан для роли любимца и наперсника утомленного и
угнетенного духом короля, каким был наш государь, когда явился
Вота.
Конечно, он не сразу добился того влияния и силы, какими,
нисколько не кичась, пользовался позже. Но с первого же дня он
снискал благоволение не только короля, но почти всех его
придворных. Он умел с каждым принять сердечный, проникающий в
душу, тон.
Искренно ли, притворно ли, ведомо одному Богу, но он обладал
исключительным умением располагать к себе людей и в этом
отношении воистину был чародеем. При всем том, у отца Воты не
162
было завистников, настолько все были далеки от мысли с ним
тягаться. Когда же, впоследствии, отец Вота стал нужен государю
во всякое время дня, ради ли совета, ради ли необходимых
разъяснений, он старался неотлучно быть рядом с королем и, случалось,
спал, не раздеваясь: то на скамье, в прихожей или в кабинете, то,
закрыв лицо платком, дремал, примостившись, на диване, чтобы
всегда быть под рукой. Железная или, лучше сказать, гибкая как
сталь натура, ничему не поддававшаяся.
Понятно, что, как только раскусили, чем дело пахнет, все стали
всячески стараться втереться в доверие к отцу Воте. Легко было
заметить, что он телом и душой был предан кесарю и
Габсбургскому дому, потому многие предполагали, не подослан ли он
заранее, с целью стоять на страже кесарских интересов.
Ясно, что королева, всегда завидовавшая людям, имевшим
влияние на мужа, не могла любить отца Воту и охотно бы
сплавила его подальше. Но тот сумел снискать благоволение
даже самой королевы перспективой удовлетворения всех ее
династических поползновений с помощью кесаря, единственного будто
бы авторитетного в данном отношении лица. Короля же как
нельзя легче было привлечь на свою сторону приманкой славы
вождя христианских ополчений, главы европейской лиги против
турок, задачей которой было изгнание неверных из Европы.
Французы ничего не могли противопоставить столь
соблазнительным перспективам.
Так дотянули мы до 1686 года, когда отяжелевшего,
пресыщенного короля еще раз вынудили выступить в поход во главе войска.
До выступления государь тешился охотой, причем обстановкою
и блеском едва ли мог сравниться с ним кто-либо из коронованных
особ. Загонщиками были турецкие пленники, взятые на войнах.
Выбирались самые способные и ловкие; из них были сформированы
две егерские роты, одетые и вооруженные наподобие турецких
янычаров. Польские начальники командовали ими по-турецки, потому
что многие из наших, так же, как король, прекрасно владели
турецким языком. Подбор янычар производился весьма тщательно,
так что король мог вполне полагаться на это войско. Зато и
содержали их прекрасно. В военное время они шли с обозом, разбивали
и ставили палатки, устраивали ставки и ночевки для короля и его
свиты, так что государь, прибыв на дневку, заставал все в полной
готовности. В мирное же время янычары служили для охотничьей
потехи. Накануне дня, назначенного для облавы, их отправляли
вперед с повозками, сетями и собаками. У каждого был топор и
огнестрельное оружие. Королевский ловчий указывал им участки
леса, предназначенные для охоты, а они оцепляли их сетями,
оставляя один лишь выход. Напротив выхода выстраивались псари с
гончими и псовыми.
Прибыв к месту охоты, король выбирал место у единственного
выхода. Спутники его становились полукругом на вперед
назначенных местах; небольшая кучка оставалась вблизи короля. Тогда
163
спускали смычки псов, гнавших зверя на охотников. А от сетей
отгоняли его янычары громким криком и стуком. На каждого зверя
имелись особые, натасканные, псы.
Король любил не только облавы, но и давно забытые охоты с
кречетами и соколами. Он не боялся ни вепрей, ни медведей,
которых часто добивал ножом, если им случалось искалечить
слишком много собак.
После сейма страна сейчас же стала готовиться к войне. В
особенности много хлопот было с Литвою, где войска были
расположены на очень отдаленных от границ зимовьях. Король же
проживал пока в Вилянове, благоустройством которого был
чрезвычайно занят и так увлекался новой летней резиденцией, что
забросил Жолков и Яворов. В Виляново свозили редчайшие
деревья, растения, цветы, а король собственноручно с увлечением
занимался их посадкой, прививкой и посевом.
Но уже в конце мая пришлось распроститься с садоводством и
отправиться в лагерь, где король остался весьма доволен войсками,
так как все хоругви были в готовности, а конница имела блестящий
вид. Орудия и артиллерийские парки ни разу еще не были так
многочисленны и так прекрасно оборудованы, как на этот раз,
благодаря стараниям Контского и его помощников-французов.
Напросился к нам в охотники маркиз де Куртанво, с блестящей
свитой, поджидавшей его здесь, так как брат маркиза проживал уже
некоторое время в Польше. Вместе с Куртанво приехали три
французских офицера, о которых вспоминаю только потому, что один
из них, Данвиль, чрезвычайно понравился вдове Бонкур, и она
ему взаимно: обстоятельство, освободившее меня от необходимости
играть роль претендента, так как я никогда и ни с кем не пускался
в состязания на этом поприще.
Поход наш пусть опишут другие, лучше меня владеющие пером.
Скажу только, что мы шли к берегам Днестра, на Буковину.
Переправлялись у Журавна и у Галича; потом через Покутье
вступили в Буковину. Неприятель нигде не появлялся вплоть до границ
Молдавии, за теми пущами, которые отмечены в истории наших
войн тяжелыми разгромами.
Когда мы наконец выбрались на открытую равнину, то увидели
перед собой пустыню, а города — с ужасными следами разрушения
и бедствий причиненных войнами. На заброшенных полях кой-где
рос самосевом хлеб, и до Ясс нам нигде не повстречалось живого
человека.
Король везде по заброшенным крепостям оставил небольшие
гарнизоны, а на реках велел построить мосты на случай
отступления. Дерева было в изобилии, и постройка подвигалась скоро,
из целых бревен. Не трз'дно было переходить и вброд, потому что
от большинства рек после засухи остались только одни сухие русла.
Уверяли, будто уже три года не было дождя; все высохло, как
порох; но травы, увлажняемые росами, разрослись прекрасно и, в
особенности на низинах, были по пояс. Но Боже упаси заронить
164
огонь: они вспыхивали как трут, потому что вся земля была
покрыта толстым слоем истлевших листьев и стеблей.
Не успели мы пройти через Буковину, как явился к королю,
с выражением покорности от имени господаря, его родственник и
приглашал нас в Яссы, чтобы упредить бегство оттуда жителей.
Однако король не придавал значения его клятвам верности и
просьбам принять в подданство, так как он уже многократно изменял
нам. За три перехода от Ясс послан был вперед отряд,
численностью в восемь тысяч человек, чтобы занять город. Но передовое
войско не застало уже там ни господаря, так сердечно
приглашавшего нас в гости, ни его семьи. Все упорхнули, забрав свои
сокровища.
Местоположение Ясс чрезвычайно живописно. Город хорошо
обстроен, церкви защищены стенами, точно замки. Вокруг сады и
виноградники. Одним словом, после лесов и бесплодных равнин мы
очутились точно в раю. Главный замок построен на горе; стены
безобразные и старые, но чрезвычайно толстые. Внутри комнаты
и залы, богато украшенные мозаикою и позолотой, с изумительным
и неожиданным в таких местах искусством. Народ рослый, сильный
и красивый. Мужчины воинственны на вид. Язык похож на
итальянский. По войскам был отдан строжайший приказ, не чинить
никому ни обиды, ни насилия, совсем как в Венгрии: король всегда
заботился о том, чтобы рабочий, мирный люд не пострадал невинно
от войны. Сердце его всегда было полно забот о меньшей братии.
Мы остановились с королевской ставкой за шесть миль от Ясс
и здесь же принимали высланное городом посольство от горожан
и духовенства во главе с епископом. Король не хотел подойти
ближе к городу, чтобы войско невольно не легло бы тяжким
бременем на горожан, так как чрезвычайно трудно обуздать обозную
прислугу. Но, по просьбе епископа и местных старейшин,
чрезвычайно ласково приглашавших короля в город, он поехал туда с
несколькими сотнями всадников.
Городские власти выразили пожелание, чтобы король уведомил
их о своем приезде, намереваясь устроить ему торжественную
встречу. Но король хотел уклониться от оваций, и мы двинулись
в путь неожиданно. Переправившись через Прут у его устья к
местечку Бахлуи, мы роскошной луговой дорогой прибыли в Яссы
прямо в замок. Едва в городе заметили наше приближение, как
епископ с множеством духовенства и монахов вышел нам
навстречу. Король милостиво разговорился с ними и, после трапезы,
верхом объехал церкви, город, рынки. Местоположение весьма ему
понравилось, так как имело красивый и веселый вид. Весь город
опоясан садами и виноградниками. Вернувшись в лагерь, король
послал в Яссы гарнизон в полторы тысячи пехоты с восемьюстами
всадников. Остальных же отозвал. Собеский намеревался занять
всю Валахию, дойти до Дуная, пооставлять войска в оставленных
неприятелем городах и замках и, в случае чего, остаться здесь на
зимние квартиры. Через своих татар и турок, которых он к себе
165
приблизил и сумел заставить полюбить как отца родного, король
всегда получал верные сведения о том, что делалось в
Константинополе. Так и теперь он знал, что турки собирались выслать против
него в поле сорокатысячную армию. Больше они не могли собрать,
так как со всех сторон на них надвигались неприятели. К туркам
должны были примкнуть ногайские и будакские татары. Король
рассчитывал одним удачным натиском ошеломить татарские орды
и выгнать их из Бессарабии и соседних областей. Поход наш,
однако, затянулся, потому что, кроме Прута, нигде не было воды и
мы должны были все время придерживаться берегов реки.
От лагеря, разбитого среди этой равнины, принадлежавшей
когда-то римским цезарям, оплакав смерть своего деда и отслужив
заупокойную по нем обедню, король целых две недели тащился с
войском до Фалези: все из-за воды, как выше было сказано. Короля
уверили, что замок брошен неприятелем на произвол судьбы, как
прочие, и так же мало пострадал. Вместо того, в действительности
от укреплений и построек остались только груды мусора. Ни одного
строения, ни одной даже уцелевшей стены, за исключением
костела. Но если б даже крепость оказалась в лучшем состоянии, все
же, как говорили инженеры, ее нельзя было бы использовать, ибо
она вся окружена господствующими высотами и стоит как в
котловине, открытая для выстрелов.
Засуха, усталость войска, пустынная страна, все склонило
короля вернуться и отложить окончание похода на следующий год.
Оставалось только усилить поставленные в замках гарнизоны. В
Галаце выстроили мост и переправились на другой берег Прута,
изобиловавший лесом и подножным кормом.
На четвертый день после отступления от Фалези впервые
показались татарские разъезды, и тут-то началась такая гонка, что
оставалось только смотреть да любоваться. А кто видел, тот
никогда не позабудет этих дней. Сначала татары шли по одной
стороне реки, мы по другой: шаг в шаг и нога в ногу. Но они
почти не смели нападать, ограничиваясь криком и громкой
перебранкой. Потом переправились на нашу сторону, но держались
вдалеке.
Между казаками и обозными конвойными с одной стороны и
татарами с другой начались бесконечные стычки. Не проходило
часа, чтобы нам не приводили языка. На татар устраивали засады
по ущельям над рекой, по зарослям и по оврагам и ловили их
десятками. Татары, чтобы мешать нашему движению, зажигали
сухую траву, горевшую, как солома. Ветер разносил обуглившиеся
стебли, пепел и черную золу. А так как солдаты на жаре были
всегда в поту, то от садившейся на лица сажи все почернели как
арапы. Короля нельзя было узнать, но он только смеялся да
отплевывался. Ничего нельзя было поделать. Королевич Яков,
сопровождавший нас с небольшой горсточкой французов, делал с
казаками очень удачные и смелые набеги на татар, так что по
многу раз бывал в опасности. Одним словом, вел себя молодецки.
166
Еще дальше появились и турецкие войска с орудиями.
Однако держались по другую сторону реки, подойти к которой
было очень трудно, и нельзя было поить коней, не попав под
выстрелы. В пустыне, где мы находились, нечем было
поживиться, кроме огурцов да арбузов. А от них делалась лихорадка
и усиливалась смертность.
Несмотря на трудности похода и непрестанные тревоги днем и
ночью, несмотря на жару, пожары и постоянную опасность, дух
войска был так бодр, что на стычки с турками смотрели как на
развлечение. Особенно же отличались казаки. Среди этих степей
на каждом шагу попадаются безвестные могилы, огромные,
завещанные стариной курганы, с высоты которых можно оглядеться
несколько по сторонам. Как только мы успевали отойти от такой
могилы, сейчас же вслед за нами взбирались на нее татары.
Молодежь пользовалась этим, чтобы подстроить им какую-нибудь
штучку: закапывали бомбы с длинным фитилем и прикрывали
дерном. Татары толпою лезли на верхушку кургана и взлетали на
воздух. Или же наши начиняли для них бомбами дохлых лошадей,
на которых татары очень падки, и много их гибло таким образом
в засадах. Король очень радовался, что сын что ни день отличался
и приводил пленных; но, боясь за его жизнь, он дал ему сильную
охрану, так как Яков попадал несколько раз в такую кутерьму,
что его с трудом удавалось вызволить. С татарами войска на тысячу
ладов вели кровавую игру: ловили их на курганах, на конской
падали, на старых изломанных повозках, нагруженных всякой
дрянью. Татары так жадно кидались даже на самую что ни на есть
жалкую добычу, что неизменно попадались на приманку.
Теперь уж не упомнить всех мелких стычек, повторявшихся
изо дня в день. Они не давали нам покоя, хотя мы не несли
больших потерь. Однако войска были чрезвычайно утомлены
нескончаемым походом.
Несколько раз турки на излучинах реки шли нам наперерез с
орудиями и как будто искали боя. Однако наша артиллерия очень
скоро заставляла их прекратить огонь, и они отступали. Наша
легкая конница также по многу раз переправлялась на ту сторону
реки, ночью нападала на турецкие обозы и учиняла жестокую
резню. Переполох подымался страшный, но без всякой пользы и
последствий.
Король так легко и счастливо переносил неимоверные трудности
похода, что можно было только радоваться. Во всех этих
передрягах, заботах о войсках, в холод и жару, я ни разу не видел короля
в таком угнетенном состоянии, как, бывало, в Жолков, или в Яво-
рове, когда королева, сварливая, сердитая, отравляла ему жизнь и
сеяла вражду.
Так-то мы опять добрались до приснопамятного поля под Це-
цорой, где было решено окончить на этот год кампанию и только
усилить ясский гарнизон пехотой и орудиями, снарядами и
порохом. Королевич Яков, несколько французов и я с ними доехали
167
до самого памятника и пирамиды, поставленных на том самом
месте, где пали Жолкевский с сыном. Мы прочли сохранившуюся
еще надпись на латинском языке.
Везде в замках король расставил гарнизоны и велел усилить
укрепления и насыпать новые окопы. Можно было утешать себя,
что хотя и не одержано ни одной значительной победы, однако
стараниями короля опустошенный край вновь открыт для жизни и
торговых караванов, которые проходили этими путями.
Я, может быть, чересчур уж расписался о том, что видел, так
сказать, из королевского шатра. Но мне вся наша кампания
казалась далеко не столь несчастной и неудачной, как ее описывали
потом другие на моих глазах. Трудно все припомнить. Случалось,
что король встречал противодействие, что его торопили
возвращаться, что войско выражало недовольство, роптало; однако мы не
понесли потерь, и король полагал, что занятие Валахии само уже
представляло как бы часть определенной, удачно выполненной
программы действий.
Вместе со всем двором и с государем я вернулся в Жолков, где
порою служба была потрудней, чем в поле. В Жолков нам был
обещан отдых; но нас уже поджидало здесь московское посольство,
огромный съезд сенаторов и шляхты и обычные заботы, от которых
король никогда не мог освободиться.
Было на что посмотреть и чего наслушаться. Охотники на
каждую вакансию являлись целыми десятками и так
заблаговременно, что покойник, занимавший староство или иную должность,
еще не успевал остыть, а иной раз даже умереть. Все кандидаты
трубили о своих заслугах перед отечеством и изводили короля.
Старались подловить его в саду, в конюшне, тайком забирались
в лакейскую, подкупали слуг, ухаживали за Вотой, за Юношей,
за Бетсалем, за Аароном, за Варденским... И король, измученный,
сдавался.
Едва успевал он согласиться, как врывалась королева, заявляя,
что вакансия уже обещана другому. Начиналась война, хлопанье
дверями, обмороки, крик, упреки, притворная болезнь, запрет
показываться на глаза... Но Собеский, раз дав слово, оставался ему
верен; а потому, уступив просьбам, ему самому приходилось потом
отмаливаться и заклинать, ради всего святого, не требовать
обещанного, иначе хоть в гроб ложись да помирай. Тогда являлись
на подмогу Матчинский, или отец Вота, или кто-либо из близких
и начинали наседать на претендента, чтобы тот отказался и
избавил короля от пытки. А случались такие истории не по разу в
месяц, а почти каждый день. Королева открыто продавала
должности и только изредка предоставляла королю замещение вакансий.
Единственным утешением для старика было собирать по
вечерам, после тяжкого дневного искуса, ученых, духовных и светских
лиц, большей частью иностранцев. Велись разговоры о бессмертии
души, о кончине человека, о религии, обычаях, о новых открытиях,
к которым король относился с особой любознательностью и горяч-
168
ностью. И старик забывал о своих дневных мучениях, чтобы наутро
начать все сначала.
Хотя король ежедневно был у нас перед глазами, так что нам,
домашним людям, менее была бы заметна надвигавшая старческая
слабость и отяжеление; но и мы все чаще и чаще подмечали
приступы недомогания. Заботы о семье, нелады с женой,
политические происки и, в конце концов, грозившая распря между
сыновьями, обостренная нелюбовью матери к старшему Якову и
расточаемыми ласками Александру и Константину, — все это в
совокупности должно было исковеркать душу человека,
отличавшегося ангельским терпением. Он потерял веру в людей и охоту
жить; чувствовал, что как теперь, при жизни, над ним чинят
насилие, так и после смерти никто не исполнит его волю. Так,
медленно, он угасал на наших глазах, проникаясь полным
равнодушием и безразличием.
Бывало, когда я спал с Моравцем рядом в комнате, я,
просыпаясь, первым видел короля, уже на ногах.
Теперь же у него часто пухли ноги, начинал болеть рубец от
раны, полученной еще под Берестечком; старые ушибы отзывались
ломотой в костях. Потому первыми являлись к нему после ночи
француз слуга и фельдшер; а потом уж только мы с одеждой.
Частенько король удостаивал нас тогда разговором и выспрашивал.
Раз как-то в Жолкви я был при нем один, так как Моравца он
сам услал в сад за плодами.
— Ну, что же, старина, — спросил он, улыбаясь, — не
думаешь ли жениться? А пора бы!
— Неохота, — ответил я.
— Ого! И умно делаешь, — заметил он, — а как же госпожа
Бонкур?
— Она-то и виной моего отвращения к женитьбе, — сказал я
смело, — от ее прелестей я и теперь еще, положим, без ума... но
что же красота без сердца... и ветрена она без меры...
— Не все же, как она, — сказал король, — можно найти
другую.
— Ваше величество, — возразил я смело, — к другой не лежит
сердце, а его избранница сама без сердца. Значит, остается только...
— Что? Идти в капуцины? — засмеялся король. — Знаешь, я
для возлюбленнейших чад святого Франциска строю в Варшаве
монастырь. Хочешь быть первым бородатым польским монахом?
А?..
— Ваше величество, для монашеского подвига не чувствую
призвания. У меня брат в иезуитах...
— Знаю.
— Будет и одного, — прибавил я.
— Благоразумно рассуждаешь, — молвил, подумав, Собе-
ский, — но это не решение. Остаться старым холостяком нехорошо.
Конечно, род Поляновских не угаснет: много вас. Но что с тобою
станется под старость?
169
— Кто знает, доживу ль до старости, ваше величество, —
сказал я.
На этом кончилась беседа; но король впоследствии всегда
превозносил мое благоразумие и объяснял, за что и почему: за то что
я, влюбившись в недостойную, не поддался влечению животной
страсти.
— Страсть то же рабство, — повторял он, — д кто ей раз
поддастся, будет рабом ее до смерти.
Он намекал на самого себя. Мне же представлялось, что эта
якобы любовь к прелестям несравненной Марысеньки порядком уже
поостыла. Королева была еще хороша собой, но, когда перевалит
за пятьдесят, никакие заботы о красоте и свежести лица, никакие
ни румяна, ни притирки, ни белила, ни мушки не могут вернуть
молодость.
Королю жилось на Руси и приятнее, и свободнее. Он был как
дома и охотно проживал подолгу. Правда и то, что он глаз не
спускал с Каменца и ни о чем так не мечтал, как о его отвоевании.
Королева же, не из любви, а из корысти, хотела бы спровадить
его отсюда в Варшаву или Виляново, опасаясь, как бы он не
задумал опять идти в поход.
Она очень опасалась его смерти, зная, сколько трудностей это
повлечет за собой. Королеве непременно хотелось отстранить от
престолонаследия сына Якова, как рожденного, когда Собеский был
только маршалом, и подсунуть вместо него Александра, как сына
короля. Но Собеский не хотел об этом слышать. Он равно любил
всех своих детей, а к Якову питал особенную слабость, видя
несправедливость к нему матери. Королева же не скрывала нелюбви
к старшему сыну; да и он охладел к ней в результате и почти
перестал видаться с братом Александром, за исключением
официальных приемов во дворце.
Пробыв целый год в Жолкви, мы поехали во Львов, где
король опять отдыхал несколько недель, постоянно окруженный
толпой панов и шляхты. На следующий год король уже не пошел
в поход, а послал королевича Якова с Яблоновским и Сапегой.
Но те ничего не сделали, только всполошили турок. Сейм снова
отравил жизнь короля и окончился ничем благодаря французским
проискам.
Литва и Польша в это время чуть не передрались; так что дня
не было без огорчений. Королева, гетман и вся французская клика
травила несчастного государя, и нам приходилось все время быть
настороже, как бы ему не попались на глаза бесстыднейшие
пасквили и карикатуры, выставлявшие короля на посмешище всего
света; ибо их расклеивали даже на воротах и дверях королевского
дворца.
Короля изображали, вместе с Вотой и иезуитами, во главе
непристойной процессии, а между слугами находились негодяи,
разбрасывавшие рисунки в самых покоях короля... Сердце
надрывается, перо с отвращением записывает эти мерзости.
170
Много раз слышал я, как король жаловался епископу Залускому
и скорбел о будущности Польши. Король в былые времена льстил
себя надеждой, что оставит престол Якову; но родная мать
оказалась против возвеличения сына заодно с его врагами. А австрийский
дом не хотел дать своего согласия на установление в Польше
наследственной монархии.
О сеймах не хочу и не могу писать. Когда-нибудь найдутся
отчеты о их заседаниях, нам на позор и на поругание. Ни
геройство Яна, ни его великий ум, ни благородство сердца ничего
не могли поделать против козней королевы, метавшейся от одной
партии к другой, ни против происков вельмож, ни против
соперничества частных интересов. Под конец царствования Яна
огромное здание древней Речи Посполитой возвеличенное победами
Собеского, стало грозить падением, несмотря на то, что блеск
оружия мог бы содействовать ее спасению. Правда и то что во
многом были виноваты происки чужеземных государств. На
кровавой шашечнице Польши состязались дворы французский и
австрийский. А все же, не будь нашей разрухи, розни и борьбы
личных интересов, иноземные интриги не могли бы довести
страну до крайности.
Только привязанность к королю удерживала меня при дворе,
настолько все мне опротивело. Иной раз, с трудом протискавшись
в палату, где заседал сейм, я не знал, плакать ли, или рубить и
гнать обнаглевших горлодеров! Они во всеуслышанье называли
несчастного государя тираном, деспотом, угнетателем, стремившимся
попрать свободу. Требовали, чтобы он отказался от престола, а
когда же король сам хотел отречься, не допускали.
Помню потрясающую сцену, когда после града обвинений,
прозвищ и насмешек король встал и почти со слезами, голосом, в
котором слышались рыдающие нотки, молвил:
— Бог дал мне счастье в битвах, но я не мог спасти отчизну...
Остается только вручить жребий ее слепому случаю, ибо я
христианин и верю в Провидение и Божие произволение. Я не верю
ни в дружбу, ни в предсказания, ни в пророческие сны. Вера меня
учит, что пути Божий должны исполниться. Силою и правдою
Того, Кто правит миром, решаются судьбы народов. Но где еще при
жизни правящего государя вольно чинить ему всякие обиды; где
люди воздвигают алтари над алтарями; где идут на поклонение
чужим богам, — там, наверное, нависла месть Всевышнего.
Господа сенаторы, перед лицом Бога и всего мира, перед лицом Речи
Посполитой свидетельствую о глубоком уважении своем к свободам
и клянусь сохранить их неприкосновенными, какими принял их из
рук народа. Ничто не может поколебать верность мою
священнейшим заветам прошлого, ни даже черная неблагодарность,
чудовищное исчадие земли. Я готов последние дни жизни принести на
алтарь веры и Речи Посполитой, в надежде на милость Божию, в
которой Всевышний Судия никогда не отказывал тем, которые
посвятили себя служению отчизне.
171
Речь короля взволновала всех присутствовавших. Кардинал Рад-
зиевский подошел к подножию престола и от имени Речи Поспо-
литой выразил протест против не доверяющих помазаннику Божию.
Всю палату охватил порыв жалости и умиления, и она голосовала
как один человек... Но единодушия хватило ровно до выхода из
зала... Заливавшиеся в ней слезами уже смеялись, едва переступив
порог палаты; ибо у нас горячка возбуждения приходит и уходит
с одинаковою легкостью.
После сейма выступления враждебных партий отличались
такою же настойчивостью, как и раньше, и во главе смуты по-
прежнему стояла королева. Если бы участие ее не было так явно,
так несомненно, оно могло бы показаться маловероятным.
Конечно, королева не выставляла напоказ своей заинтересованности в
интригах Яблоновского, Опалинского, Любомирского, Рафаила Ле-
щинского и других; но король, несомненно, либо обо всем
догадывался, либо был вполне осведомлен черев Матчинского и
епископа Залуского.
Обычно короля представляли на карикатурах в образе гаера
или кривляки, но, конечно, не указывали его имени. Однако легко
было догадаться по тучности и по усам, кого хотели изобразить.
Как тогда, в процессии с отцом Вотой, так и теперь, по случаю
заключения договора с Нидерландами, его изображали купцом,
которому евреи помогают набивать карманы.
Беспримерное у нас до того времени кощунственное
издевательство над верховной властью не могло поднять престижа короля. А
так как выходки оставались безнаказанными, то все обрушивались
на Собеского, как на беззащитную жертву: епископ холмский Опа-
линский на сеймовом суде бросил королю в лицо оскорбительную
фразу:
— Будь справедлив, либо откажись от власти!
Положим, наглая выходка епископа не прошла ему даром. Все
возмутились, а каштелян сандомирский крикнул, что вся Польша
больна белою горячкой и не выздоровеет, пока ей не пустят кровь.
Опалинский, перетрусив, скрылся. Его поймали; привели к королю
и заставили на коленях просить у короля прощения, который всегда
и все прощал. Не было случая, чтобы он кого-либо преследовал;
но такая доброта не обезоруживала, а прибавляла наглости.
Матчинский, воевода белзский, дрожа от негодования,
воскликнул, что всех епископов следовало бы скопом перевязать да выслать
в Рим... Но тут обиделся Залуский.
— Ты забываешь, воевода, — возразил он, — что до
епископства мы были шляхтой и имеем такое же право заседать здесь,
как и ты.
Тут уж король своей обычной мягкою манерой помирил их.
Весь сейм прошел в раздорах. Ибо произошло столкновение с
Сапегами из-за радзивилловских недвижимостей на Литве, которые
предполагалось конфисковать для королевича Якова. Сначала один,
потом другой буян сорвали сейм, так как королевские неблагоже-
172
латели не хотели допустить конфискацию имений. За вторым
буяном устроили погоню и выследили его вплоть до самого дворца
гетмана литовского, где он напрасно пытался замести следы. А
гетман, куривший в окне трубку, на вопрос о беглеце ответил
иронически, что Бог не поставил его стражем брата своего.
Наступила ночь. В палате царил невероятный беспорядок.
Литвин по ошибке дал пощечину епископу... сверкнули сабли,
выхваченные из ножен... дохнуло ужасом! Бранденбургский посол
обронил письмо, в котором черным по белому пояснялось, что
Сапеги получили шестьдесят тысяч за то, что сорвут сейм... И
Сапегам это сошло с рук! Они безнаказанно вернулись восвояси,
оставив на мели и короля, и сейм.
Но на этом огорчения не закончились. Тяжким бременем
обрушилось на короля дело Лещинского, обвиненного в неверии и
осужденного на мучительную смерть. Этого не мог одобрить ни
святой отец, папа Иннокентий XI, ни перенести без тайных мук
и огорчения король, так как в Польше издавна не было в обычае
предавать безбожников жестокой казни. Были и такие, которые
обвиняли Лещинского в измене.
Доведенный до отчаяния Собеский приказал уже канцлеру
заготовить акт отречения; но королева в ужасе, не уверенная в
завтрашнем дне, помешала королю привести в исполнение
намеченное.
В это время я попеременно то состоял при короле, то проживал
в имении. Ибо горячо любимая моя родительница чувствовала
упадок сил и хотя не выпускала из рук хозяйства, но не могла во
все входить сама и то прибегала к помощи зятя, то уговаривала
меня не прилепляться так к королевскому двору. А в сущности,
король, хотя давно наобещал мне многое, но не мог ничего
исполнить, потому что всякую свободную, даже самую мизерную,
вакансию сейчас предвосхищала и замещала королева; я же всегда
оставался ни при чем.
В конце концов, несмотря на французские интриги, королю
удалось женить Якова на княжне Нейбургской. Бетюн
неистовствовал, сыпал деньгами, но не мог ничего сделать. Конечно, можно
было предсказать, что ее величество не оставит в покое свою
невесту и отравит ей жизнь. Так и случилось. Супруга Якова,
молодая, красивая, родовитая, не могла понравиться и должна была
переносить всяческие оскорбления. Александр, еще
несовершеннолетний, всегда держал сторону матери против родного брата.
А король?
Король медленно, не имея сил бороться, на наших глазах
цепенел умом, становился равнодушным и холодным. Ничто его не
возмущало: ни пасквили, ни злые шаржи, ни сеймовые бури, ни
придворные интриги, начинавшиеся обычно тем, что кто-либо из
прислуги королевы задирал дворовых короля, и снизу рознь
подымалась в высшие сферы и кончалась столкновением между
королевскою четою. Ян в устах возлюбленной Марысеньки
173
по-прежнему был на словах все тем же Селадоном и Ородантом;
но временами эти эпитеты отзывались горькою иронией, когда,
давно забытые, внезапно выплывали на Божий свет... После
стольких испытаний их любовь, чисто плотская, должна была
остыть. А другой любви нельзя было питать долго к королеве. Ясно
было и для короля, что Мария-Казимира с удовольствием вышла
бы за Яблоновского, если бы тот был выбран в короли. Что она
гораздо выше ценила сокровища, хранившиеся частью в Жолкви,
частью в Варшаве, частью в Гданске, нежели сердце мужа.
Доходило до того, что, когда король заболевал, она всячески
старалась склонить его через кого-нибудь составить завещание, под
предлогом мира и благополучия семьи. А затем с
беззастенчивостью и нахальством пыталась отвоевать львиную долю для себя
самой и для Александра. Но тут-то оказалось, что сердце короля
охладело не только к ней, но и ко всем детям, исключая Якова.
Таким образом, настойчивость, напоминания и всякие иные
средства, к которым прибегала королева, чтобы склонить мужа
составить завещание, разбились о его холодность, равнодушие и
полное оцепенение. Случалось, что когда Залуский, епископ
киевский, являлся к королю и между ними начиналась долгая
беседа, дверь между спальнею и кабинетом, где всегда находился
кто-либо из нас, оставалась настежь. Легко было подслушать все,
о чем они говорили. Трудно теперь восстановить в подробности
содержание бесед, но общий смысл их крепко засел в моем уме,
как будто все это происходило вчера.
Епископ, в качестве священнослужителя и духовника, все
объяснял Божиим произволением. То же думал и король, но пускался
в общие рассуждения о судьбах человека, о бренности всего
земного, об извращенности и пустоте сердечной. Он горько жаловался
на склоне жизни на судьбу, невольно выдавая свои мысли, что
виновницею злоключений считал королеву и свою любовь к ней.
— Господь Бог дал мне, точно на посмешище, все, что только
можно пожелать, — говаривал он епископу, — победу над
врагами, славу меж людей, пурпур и корону, и богатство... но не дал
мне счастья. На дне чаши наслаждений всегда сидел червь и
отравлял мне жизнь. Посторонним я мог казаться триумфатором, а
был глубоко несчастным человеком. А мои страдания никому не
пошли на благо: ни детям, ни Марысеньке, ни Речи Посполитой!
Я не умел быть строгим: не такова была моя натура. Но и доброта
не снискала мне друзей. Из бывших благожелателей почти никто
не сохранил мне верность. Одним словом, всегда и во всем была
мне неудача.
Иногда, смеясь, он доказывал киевскому епископу, что
благодарнее всего бывали ему деревья, которые он сажал, потому что
цвели и приносили плод.
— Они были единственной моей отрадой, — говорил он, — а
как подумаешь, что все аллеи в сады, которые я так старательно
развел в Олеске, в Жолкви, в Яворове, в Вилянове, постигнет
174
общая всему людскому участь! Когда меня не станет, одно
заглохнет, другое вырубгтт, и через сто лет от насаждений не останется
следа...
Епископ Залуский, любивший государя, знавший его
странности, всячески склонял его составить завещание. Он видел, как оно
необходимо, в предупреждение неизбежных столкновений между
Яковом, с одной стороны, и Александром с матерью — с другой.
Но, как только речь заходила о завещании, король сейчас же
принимал холодный тон.
— Отче, — говорил он, — я при жизни никогда не мог
настоять на своей воле: заставить выслушать меня, уважать мои
желания. А вы думаете, что подчинятся моей посмертной воле?
И сейчас переводил разговор на что-либо другое.
Когда Залуский бывал у короля, королева всегда подслушивала,
возмущалась, но сама не смела наседать, так как потеряла власть
над королем.
В 1681 году король, собравшись в поход вопреки совету
докторов, обращавших его внимание на раны, открывшиеся вновь, на
тучность и на отяжеление, не мог отказать королеве в просьбе
взять с собой Александра. Якову это было как нож в сердце. Он
раскричался и стал жаловаться, что против него все в заговоре и
хотят передать Александру первородство.
Все это могло окончиться очень печально, так как Якуб хотел
обнародовать манифест против отца и брата, а сам решил скрыться
из пределов Польши.
Король очутился в большом затруднении; поступок
первородного сына сильно возмутил его. Он не мог согласиться на
игнорирование Александра, считая таковое несправедливым, и хотел даже
отречься от своего сына, но, к счастью, нашлись люди, заставившие
Якуба опомниться, указав ему, что он сам себе роет могилу.
Якуб, стоя на коленях, вымолил прощение у отца, а затем оба
брата отправились вместе в поход, доставивший королю немало
горечи, так как он был принужден следить, чтобы братья,
сталкиваясь постоянно, не дали бы вылиться наружу ненависти, кипевшей
в их сердцах.
В особенности приходилось сдерживать Якуба, отличавшегося
более вспыльчивым характером, тогда как мягкий Александр
старался себе снискать расположение войска своей необыкновенной
любезностью в обращении и щедростью. Король поговаривал, что
для него эта война более тяжела, чем с турками. Нужно сознаться,
что Якуба подстрекали, да и сам он был очень вспыльчив и к тому
же он рассчитывал на любовь, которую отец питал к своему
первому сыну, но все же в этой борьбе победил Александр, так как
своим поведением снискал расположение отца и всех нас.
Король, хотя никогда не говорил об этом, чувствовал, что это
его последний поход.
Сапега и Яблоновский должны были командовать войском;
королю же все опостылело, и он старался уединяться в свой любимый
175
сад, куда убегал от придворной суеты и шума. Тщетно сенаторы
и вельможи ожидали его в приемной, король в это время
просиживал по целым часам в саду, в бесконечных разговорах со своим
садовником Лукашем.
Когда я ему докладывал, что какой-нибудь воевода или каш-
телян ожидает его аудиенции, он иронически отвечал:
— Доложи о нем королеве или скажи Матчинскому, а у меня
нет времени.
При этом он насмешливо улыбался и давал знак рукой оставить
его в покое. Когда собирались гости, то он выходил к ним и казался
в довольно хорошем расположении духа, но лишь только
кто-нибудь из присутствующих в разговоре касался политики, Собеский
круто менял тему, начиная рассказывать о деревьях в своем саду
и т. д., так что собеседник после одной-двух попыток возобновить
прежнюю тему должен был умолкнуть. Королева проводила время
в постоянных увеселениях, принимая у себя гостей, в особенности
иностранцев, с большой роскошью и почетом. Король же по
большей части отказывался присутствовать на этих приемах, ссылаясь
на нездоровье, так как предпочитал проводить время в тесном
кругу своих приближенных, и если иногда и появлялся на приемах
королевы, то лишь на несколько минут, а затем уходил к себе,
раздевался и больше уже не появлялся.
На этих собраниях у королевы обыкновенно первое место
занимал маркграф д'Аркиен — воплощенная гордость, который не
будучи в состоянии играть первую роль во Франции, старался в
Польше занять положение, отвечающее его честолюбию.
Король, конечно, относился к нему с должным уважением, но
всегда старался избегать встречи с ним, так как вся родня уж
порядком ему надоела. Что же касается королевы, то
Мария-Казимира только с одним отцом жила в ладах, но с сестрами и
шурином у нее постоянно бывали разногласия, и те редко
появлялись при дворе. Снискать себе ее расположение было много
легче, чем удержать его, так как королева третировала своих
приближенных, заставляя их исполнять малейшие прихоти, а
потому редко кто мог с ней ужиться продолжительное время. О
моем личном житье-бытье в то время нечего долго
распространяться. Фелиция Бонкур в тщетной надежде найти себе мужа
продолжала служить при дворе королевы, стараясь снискать ее
расположение собиранием сплетен, курсировавших кругом в
изобилии, и даже при случае сама их сочиняла. Она старалась
подцепить многих, но в конце концов всегда возвращалась ко мне,
рассчитывая, что если не найдется лучший, то я, во всяком
случае, всегда буду к ее услугам. Но на сей раз она сильно
ошибалась. Хотя я и питал к ней неизлечимую страсть, но жениться
и не думал. Она не смогла бы жить в деревенской обстановке,
а я твердо решил остаток моих дней провести в родном гнезде.
К тому же начинал появляться призрак старости, и я тем более
отбрасывал всякую мысль о женитьбе.
176
Фелиция Бонкур в постоянных неудачных поисках мужа
пришла наконец в отчаяние и решила окончательно поймать меня в
свои сети. Для этой цели она меня пригласила к себе на чашку
кофе. Этот обычай, угощать кофе, был заимствован из Вены и,
хотя не всем приходился по вкусу, все более и более прививался
у нас. Я, так как это вошло уже в привычку, был с Фелицией
вежлив и старался предупреждать ее малейшие желания. Мы
сидели друг против друга, весело болтая о разных пустяках, но вдруг
неожиданно Фелиция произнесла серьезным тоном:
— Пан Адам! Не пора ли положить конец вашему ухаживанию
за мной, ведь оно Бог знает сколько лет длится. Мне тоже давно
пора выходить замуж... Думаете вы меня назвать своей женой?
Даже пуля, угодившая прямо в грудь, не могла бы меня так
поразить, как этот вопрос... Я молчал несколько минут, стараясь
собрать свои мысли, и наконец произнес:
— Пани Фелиция! Если бы у меня явилось дерзкое желание
стать вашим мужем, я давно бы уже сделал вам предложение.
— Значит, — прервала она, грозно нахмурив брови, — вы
отказываетесь на мне жениться?
— Боже сохрани, — возразил я, — я считаю, что с вашей
стороны это была шутка, а я лично не могу жениться.
— А это почему? — спросила она язвительно.
— Потому что я простой деревенский житель и рано или поздно
должен буду вернуться в свое убогое шляхетское жилище, а для
вас, пани Фелиция, более продолжительная сельская жизнь была
бы немыслима.
— Вы так думаете, ваша милость? — ответила она иронически.
— Я в этом уверен, — твердо произнес я, — мы оба были бы
несчастны; вы — в чуждой для вас обстановке, а я — глядя на
вас и чувствуя себя невольной причиной вашего несчастья.
Фелиция покачала головой и проговорила, кусая губы:
— Как будто бы ради меня вы не могли бы устроиться городе
в более подходящей для меня обстановке, а деревню отдать в
аренду?!
— Это вещь невозможная, — ответил я.
На этом наш разговор прервался. Фелиция обратила всю беседу
в шутку, заявив мне, что она хотела меня только подвергнуть
испытанию. Но с этого момента между нами начались нелады; я
нажил себе в лице Фелиции непримиримого врага, не
останавливающегося ни перед чем, чтобы только иметь возможность мне
навредить. Прежде всего она постаралась меня очернить в глазах
королевы. Я в это время был в распоряжении королевича Якуба
и не знаю случайно ли, но постоянно сталкивался с Фелицией.
Последняя в своей клевете дошла до того, что изобразила меня
перед королевой доносчиком, подстрекавшим короля к действиям,
явно расходившимся с интересами его супруги.
Я сразу заметил интригу, так как Мария-Казимира,
выказывавшая мне до сих пор лишь полное равнодушие, стала относиться
177
ко мне неприязненно. Спустя несколько дней король как-то утром
спросил меня:
— Ты какой провинностью навлек на себя гнев королевы?
— Всемилостивейший государь, я даже мысленно ничем не
провинился перед ее величеством королевой.
— Ты не чувствуешь за собой никакой вины? — продолжал
король. — Но что-нибудь такое да должно было произойти. А ну-ка
поройся в своей совести, вспомни, в чем ты провинился?
— Видит Бог, что я ни в чем не могу признаться, — сказал
я, — но я начинаю догадываться, почему я попал в немилость к
ее величеству.
— В чем же дело? — спросил Собеский.
— Фелиция Бонкур изволит на меня гневаться и старается
причинять всякие неприятности.
— Все еще эта давнишняя любовь! — рассмеялся король.
— Ваше величество, — промолвил я, — вся суть в том, что
Фелиция, которой надоело быть вдовой, заявила мне, что не прочь
выйти за меня замуж, но я поспешил отказаться от этой чести.
— Ты, я вижу, умен, — пробормотал король.
— Я просил бы ваше величество, — продолжал я, — не
обращать внимания на сплетни, которые про меня распускают.
— Будь спокоен. Я сам знаю цену словам этой старой
интриганки, а потому считаю инцидент исчерпанным.
Вскоре после этого мне пришлось спешно выехать домой, так
как сестра уведомила меня о тяжелой болезни моей матери. В
сильном волнении, не щадя ни себя, ни лошадей я мчался к себе,
так как по сообщению сестры мать была при смерти.
С бьющимся сердцем я входил на порог своего дома, не
смея спросить у встревоженной сестры, в каком положении
болезнь матери.
— Слава Богу, — сказала она, обнимая меня, — мать еще
жива, она все время спрашивает про тебя и даже недавно заявила,
что ты уже близко. Пойдем к ней.
Не раздеваясь, я пошел с ней к матери; я застал бедняжку
изнуренной, бледной, сидящей на постели, обложенной со всех
сторон подушками. Увидя меня, она протянула дрожащие руки
и, когда я, приблизившись к ней, упал на колени, обняла мою
голову.
От радости она даже заплакала, но говорить уже не могла: до
того сильно был истощен ее организм. С просветленным лицом она
попрощалась и благословила всех нас.
Когда я приехал домой, был уже десятый час, а около полуночи
мать, измученная перенесенным волнением, захотела отдохнуть,
закрыла глаза — и уже не открыла их больше. Когда рано утром
мы подошли к постели, то нашли ее спящею вечным сном.
Она оставила все дела в таком порядке, что ни похороны, ни
получение оставленного ей наследства не создало для нас каких-
либо затруднений. По старинному обычаю, она уже давно все при-
178
готовила на случай своей смерти. Деньги предназначенные для
раздачи нищим, духовным лицам и церкви были особо отложены и
запечатаны. Тело покойной матери мы схоронили в нашем
фамильном склепе в Луцке.
При дележе наследства между нами тоже не возникло никаких
пререканий. Брат Михаил отказался от наследства, а я с сестрой
покончили дело миром. Имения я отдал в аренду ее мужу с тем
только условием, что во всякое время, когда мне случится
приехать, дом будет предоставлен в мое распоряжение.
Я твердо решил, что после смерти короля не буду служить при
дворе, а вернусь в родную деревню.
Сестра одобрила мои планы; она только уговаривала меня
непременно жениться, — я же отделывался от этих разговоров лишь
шутками, так как решил навсегда остаться холостяком.
Я провел в Полонке еще некоторое время для восстановления
здоровья и вернулся в Варшаву на сейм в 1685 году. И хотя мое
отсутствие продолжалось всего лишь несколько месяцев, но за это
время произошла большая перемена в состоянии здоровья короля,
он значительно ослабел и осунулся.
Он почти совсем перестал принимать гостей, ссылаясь на то,
что ноги ему отказываются уже служить, да и головная боль
мешает. По вечерам у него собирался кружок приближенных лиц, с
которыми он вел ученые диспуты, служившие ему любимым
развлечением. Кружок этот по большей части составляли отец Вота,
затем прибывший из Франции очень веселый и умеющий развлечь
все общество патер Полиньяк, епископ Залуский, доктор О'Коннор
и даже еврей доктор Ионаш, которого король охотно принимал в
числе прочих гостей.
Приближенные к королю евреи — Ионаш, Бетсаль, Аарон —
служили, вообще, оружием в руках его врагов, пользовавшихся
ими с целью досадить ему. Когда все другие способы раздражить
короля бывали исчерпаны, начиналось преследование то Ионаша,
человека ученого и степенного, то Бетсаля, известного в то время
финансиста, то даже Аарона, простого посредника, которого король
часто посылал с различными поручениями. Кончилось тем, что их
обвинили в том, будто они посредничали в продаже должностей и
вакансий, взимая в свою пользу известное вознаграждение.
Я уже упоминал, что еще до времени Марии-Людвики за
раздачу должностей принимались, с согласия короля, различные
подарки, и этот постыдный обычай ни для кого не был тайной.
Королева Мария-Казимира уже с молодых лет воспитывалась в тех
же традициях, а со временем она организовала настоящие торги,
на которых каждую должность или привилегию можно было купить
за известную сумму. А в лицах, желавших получить что-нибудь,
недостатка никогда не было.
Король иногда раздавал что-нибудь даром, так как он никогда
не принимал никаких подарков, но королева, прикрываясь без
ведома своего супруга его именем, поступала иначе, ввиду чего не-
179
редко вспыхивали возмущения и споры, так что иногда приходилось
ради успокоения уничтожать уже подписанную жалованную
грамоту. Этот обычай хотя и существовал уже около полувека и
возбуждал всеобщее возмущение, но никто не смел высказываться
открыто против него, так как в такой сделке равным образом были
заинтересованы обе стороны. Теперь же враги короля
воспользовались им как орудием против него, хотя последний не только ничего
не брал в свою пользу, но, наоборот, жертвовал свои собственные
деньги на приобретение военных припасов и пушек для защиты
родины; они же обвиняли его вместо той, которая была причиной
этого зла.
На одном из сеймов, если не ошибаюсь в Гродне, Бетсаль был
приговорен к смертной казни по обвинению в кощунстве. Ему
вменялось в вину, что он заставлял христиан присягать перед
распятием, которое затем без всякого уважения бросал на пол. Король
едва успел спасти ему жизнь... Затем, чтобы досадить королю, они
начали преследовать доктора Ионаша, который едва избежал
печальной участи
В Литве самовольно распоряжался и вершил все дела род Са-
пегов, милостью короля достигший высоких почестей. Никто не
смел противиться их воле, а во времена сеймов они старались и
в Польше играть первенствующую роль, опираясь на своих
многочисленных приятелей и клиентов. Поссорившись с Виленским
епископом Бжостовским, они не только разорили его имение и издали
пасквильное сочинение, направленное против его особы (De
Episcopo Litigioso), но даже во время сейма 1695 года обвинили
племянника епископа Кришпина в том, что он не принадлежит к
дворянскому сословию, оскорбили его во время заседания
действием — и все это прошло для них безнаказанно.
Король не имел никакой власти, а разные вельможи, имеющие
собственные войска, окруженные толпой приверженцев, делали что
хотели, и ни сеймы, ни судебные установления не могли обуздать
их самовластие.
В Варшаве возмущение против Сапегов достигло такой степени,
что, когда один из числа их приближенных обидел как-то
мальчишек, играющих на улице в солдаты, — присутствующие при
этом польские дворяне бросились на литовцев, и дело, наверно,
дошло бы до кровавого столкновения, если бы Сапеги вовремя не
удалились из Варшавы вместе со своими приверженцами.
Во время этих последних двух лет, вследствие постоянного
недомогания короля, недоразумений с Якубом, происков королевы,
жизнь наша не была особенно приятной.
Мы должны были постоянно следить, чтобы не тревожили его
покой различными жалобами и бесчинствами.
Король предпочитал возиться со своим садом, а не заботиться
о сеймах; вместо того чтобы заниматься государственными делами,
он приказывал читать себе различные книги или же делать опыты
с вновь изобретенными инструментами.
180
Я не раз слышал, что он, оставшись бывало наедине с Мат-
чинским, говорил:
— Что будет с нашей несчастной страной, когда я умру, —
страшно даже подумать. Я, конечно, хотел бы, чтобы трон после
меня перешел к Якубу, но желать ему этой короны я не смею,
ибо и его замучит так же, как меня, как Казимира и Михаила,
царящий у нас беспорядок. Но пусть уж страдание
обрушится на меня, лишь бы эта несчастная Речь Посполитая
преуспевала бы. Мне удалось поднять немного рыцарский дух в
стране — но каков результат? Всюду царствует полнейшая
анархия, против которой все мы бессильны. Якуб постоянно в
ссоре с матерью и братом Александром, и, наверное ни одного
из них не изберут на престол — корона, по всей вероятности,
перейдет в руки француза или немца, выбор которых одинаково
нежелателен.
И он только вздыхал.
Короля постоянно принуждали составить завещание, но он
всеми силами противился этому. Он не раз говорил епископу За-
лускому, что это ни к чему не приведет, так как если ему теперь
никто не повинуется, то тем более не исполнят его последней
воли.
Но возможно, что была другая причина: он не хотел составить
завещания согласно пожеланиям королевы, в противном же случае
она омрачила бы последние дни его существования своими
упреками. Не зная его последней воли, она не смела раздражать его.
Она приходила к нему по несколько раз в день, расспрашивая
о здоровье, давала ему разные врачебные советы, старалась угодить
во всем.
Король по-прежнему был ласков со своей супругой, но любви
уже не было: она выгорела дотла.
Он улыбался при виде ее, но облегченно вздыхал, когда она
уходила.
Кроме всех этих забот, его волновала также участь Якуба:
он ясно видел, что королевич не пользуется любовью народа.
Преобладающей чертой его характера была ничем не
оправдываемая гордость. Хотя не раз он доблестно сражался, но не
обнаруживал талантов полководца. Он не обладал величественной
осанкой, а выражение его лица указывало на скрытый и угрюмый
характер.
Все потомство Собеского, благодаря воспитанию матери,
отличалось чрезмерной гордостью.
Якуб, женившись на княгине Нейбургской, породнился с
немецкими князьями; затем, незадолго до смерти короля, княжна
Тереза вышла замуж за баварского Максимилиана, младшие также
могли рассчитывать сделать хорошие партии.
Наступила весна, и король, вместо того чтобы поправиться, как
рассчитывали доктора, с каждым днем чувствовал себя все более
и более слабым. Он испытывал постоянные головокружения — ма-
181
лейшее усилие его утомляло. На все наши вопросы доктора
отделывались молчанием, что было плохим признаком.
Однако король по-прежнему был весел, часто шутил и,
казалось, совершенно не думал о смерти.
В судьбе многих людей ясно виден перст Божий. Таким
человеком был Собеский, предназначенный Провиденем для великих
задач, но вместе с тем к жизни полной страданий.
Вся его жизнь была тому примером, — и даже кончина совпала
с днем его рождения.
В этот день толпа гостей начала съезжаться в Вилянов, чтобы
поздравить короля с днем рождения и годовщиной призвания на престол.
Он не мог всех принять, так как излишние разговоры сильно его
утомляли. Он постоянно расспрашивал прибывающих из Варшавы:
— Ну, что нового слышно в городе?
Ему отвечали, что все молятся, прося Господа продлить его
жизнь.
Ксендз Вота отслужил в его комнате молебен, который король
выслушал с большим благоговением.
Затем он прошел по комнатам, принимая гостей и разговаривая
с ними. Так счастливо прошел весь день, а Ионаш и О'Коннор
заметили, что король даже пообедал с аппетитом.
Вечером, по заведенному обычаю, к нему пришли те,
присутствие которых доставляло ему больше всего удовольствия и уселись
вокруг постели.
В это время королева вместе с отцом, кардиналом д'Аркиеном,
принимали гостей. Вино лилось рекой, и шум пирующих доходил
даже до спальни короля.
Возле него сидел епископ Залуский, ксендз Полиньяк, ксендз
Вота и несколько придворных. Разговор был самый обыденный.
Пришла королева справиться об его здоровье. Он взглянул на нее,
внезапно вздрогнул, и Залуский заметил, что его голова склонилась
к подушке.
Прибежали доктора, оказалось, что его схватил паралич, — он
не мог больше говорить. На крик королевы сбежались пирующие
сенаторы и окружили ложе. Наступило всеобщее замешательство,
были приняты все меры к спасению. Все разошлись.
Хотя была еще надежда восстановить угасающую жизнь, но
нужно было видеть, какой переполох наступил, какой испуг
овладел всеми.
Многие, велев подать лошадей, уехали в Варшаву, другие
остались дожидаться конца.
Вдруг король вздохнул сильнее, открыл глаза — и громко
произнес:
— Stava bene!
Как будто теперь сознание ему доставило удовольствие.
Надежда на благоприятный исход воскресла в нас, но король
очевидно, предчувствовал, что наступает конец, и приказал
пригласить духовника. Он исповедался и причастился.
182
Королева в волнении бегала по комнатам ломая руки, то
приближаясь к больному, то подбегая к окну, то рассылая людей во
все стороны. Видно было, что она больше была озабочена своей
участью, чем приближающейся смертью супруга.
После причастия король спокойно улегся, но прошло лишь
несколько минут, когда доктор, держащий все время его руку, вдруг
встал и закрыл ему глаза.
Король скончался...
Какой переполох возник в Вилянове, — трудно передать.
Королевич Якуб еще раньше уехал в Варшаву во дворец.
К нему тотчас же был тайно послан кем-то из его приятелей
верховой с сообщением о случившемся...
Я не раз слышал из уст самого короля, что в момент его
рождения свирепствовала страшная буря. И вот, благодаря странному
стечению обстоятельств, лишь только король закрыл глаза,
показалась туча и разразилась такая буря, что в виляновском саду
несколько старых тополей были вырваны с корнем и много крыш
сорвано ветром.
Страх объял всех, и мы с плачем начали молиться. Королеву
на руках унесли в другую комнату.
Такую свирепую бурю редко можно наблюдать и не скоро она
окончилась. Благодаря ей все окончательно потеряли голову.
Первой очнулась королева и послала известить своих приятелей в
Варшаве... Между тем королевич, когда его известили о смерти отца,
по собственной инициативе или следуя чьим-нибудь советам, но
решил не пускать свою мать во дворец.
Ровно в полночь королеве сообщили, что Якуб заставил гвардию
присягнуть себе на верность, что он велел закрыть все ворота,
поставил при них сильные караулы, приказав не впускать никого
без своего разрешения.
Королева, узнав об этом, пришла в страшную ярость.
Некоторые из вельмож предложили свое посредничество для
улаживания конфликта между матерью и сыном... Отправились в
Варшаву, но вскоре вернулись ни с чем.
Было постановлено, что королева отправится вместе с телом
покойника, так как трудно было допустить, что сын не пустит
прах своего отца во дворец, а вместе с ним семью и духовенство.
Тело короля наскоро приодели в первые попавшиеся одежды,
положили на колесницу и повезли из Вилянова в Варшаву. Странно
даже сказать, но сами доктора нашли такую внезапную перемену
в лице короля, что пошли толки об отраве... Но предположения
эти были бессмысленными, ибо кто и зачем мог его отравить?
Но ко всем несчастиям, какие этот человек перенес на своем
веку, еще недоставало, чтобы после его смерти возникла подобного
рода клевета.
Достаточно было и того яду, который ему преподносили
ежедневно и который подтачивал его жизнь. Этим ядом была людская
неблагодарность, раздор между детьми, крушение всех планов...
183
Когда мы с телом покойного короля прибыли в Варшаву, то
застали все улицы запруженными огромными толпами народа. Все
стояли в глубоком молчании и никто не предполагал, какое
постыдное зрелище подготовляет им королевич Якуб.
А именно, он сообщил посланным придворным, чтобы не
подъезжать с телом покойника ко дворцу, так как сторожа их не
пропустят.
Все духовенство, узнав об этом, сильно возмутилось.
Епископы поехали с переговорами, и первый Залуский начал
грозить королевичу, говоря, что он возмутит против себя весь мир,
если не пустит тело родного отца во дворец, тем более что он еще,
собственно говоря, не имеет права распоряжаться в нем.
Он дал понять, что, нарушая права божеские и человеческие,
королевич не избежит достойного возмездия.
Тело покойника стояло у ворот как бы прося милостыню, когда,
наконец, убежденный Якуб велел открыть их, и колесница въехала
во двор. Мы собственноручно внесли гроб в зал, где покойника
должны были одеть в королевскую одежду и украсить знаками
королевской власти. Корона, скипетр и другие регалии были спрятаны у
королевы. Матчинский отправился к ней с просьбой выдать их.
На это королева ответила:
— Не дам, не дам! Королевич Якуб, пожалуй, и эти
драгоценности, стоящие несколько сот тысяч злотых, присвоит себе, как и
все другие сокровища покойника. Не дам!
Матчинский молчал и чуть с ума не сходил. Он стал около
покойника и плакал.
Затем, схвативши золотой шлем, надел его на голову королю...
Вот какова была смерть богатыря и начало междуцарствия после
его кончины!
После всего случившегося чего же можно было ожидать больше?
Разве внутренней междоусобицы. Несмотря на все происки
королевы, ни она, ни дети покойника не возбуждали ни в ком
симпатии. Многие их жалели, но никто не находил способа помочь им
добиться короны, на которую равным образом претендовали
королева и Якуб.
Сразу можно было предвидеть, что Пяст не будет выбран, хотя
кардинал Радзиевский был предан семье Собеского. Но ни он, ни
Залуский, ни добряк Матчинский не сумели привлечь симпатии на
их сторону.
После смерти короля я попросил уволить меня от службы, хотя
и остался в Варшаве, так как меня разбирало любопытство, а к
тому же и здоровье мое, расшатанное последними треволнениями,
до того расстроилось, что я принужден был слечь в постель.
Шанявский тоже, не желая служить ни Якубу, ни Александру,
распрощался со двором...
В столице мы были свидетелями того возбуждения умов и
бесчисленного количества пасквилей, какие появились во время
междуцарствия.
184
В конце концов, королева заботилась теперь уже не о короне,
а о наследстве, которое она хотела сохранить больше для себя, чем
для детей. Поговаривали, что, несмотря на свой шестидесятилетний
возраст, она предлагала своему давнишнему возлюбленному
гетману Яблоновскому руку и сердце при условии поделить между собой
корону. Но Яблоновский слишком хорошо знал ее характер и, имея
перед глазами пример своего друга, покойного короля, убедился,
что корона не так уж соблазнительна.
Мы с Шанявским еще были в Варшаве, когда Якуб, который
не хотел впустить тело отца во дворец и возбудил этим всеобщее
отвращение, убедившись, что его раздор с матерью и братом
восстанавливает против него общественное мнение, решил с ней
помириться. Мы встретили это известие смехом, и помню, что
Шанявский держал пари на три гарнца венгерского вина,
утверждая, что примирение невозможно, но пари не состоялось.
Королева, несмотря на то что со смертью супруга лишилась
короны, по-прежнему держала многочисленный двор и требовала
таких же почестей, как будто ничего не изменилось.
Но среди мужчин у нее не было других приятелей, кроме
подкупленных, враги же насчитывались тысячами, и даже
женщины не любили ее, не исключая семьи Собеского и ее
собственной.
Теперь же было слишком поздно добиваться расположения кого
бы то ни было.
Якубу посоветовали хотя бы для вида помириться с матерью,
но она отвергала все попытки к сближению и предупредила, что,
если он переступит порог ее дома, она прикажет выбросить его
прочь. Якуб долго колебался, но в конце концов решил встретить
ее хотя бы при выходе из костела, упасть перед ней на колени и
таким образом заставить помириться.
Ему сообщили, что королева собирается навестить монастырь
Визиток и в определенное время будет оттуда возвращаться. Он в
сопровождении своих приятелей ожидал ее.
Королева, сопровождаемая караулом, состоящим из татар,
увидев сына и догадываясь о его намерении, приказала кучеру и
татарам повернуть обратно. Ее сопровождал ее приближенный
Савицкий, которому она велела всеми силами помешать встрече.
Но сопровождавшие Якуба сенаторы заняли всю улицу и
окружили коляску, так что нельзя было двинуться ни взад ни вперед.
Якуб, соскочив с лошади, бросился почти под самые колеса
кареты.
Но это не привело ни к чему.
Она даже не хотела его выслушать, закрыла окна и самым
грубым образом отвергла все попытки как сына, так и вельмож к
примирению.
Приятели покойного короля, несмотря на все происки королевы,
долгое время служили ей верой и правдой, стараясь помочь
примирить ее с окружающими.
185
Несмотря на все хлопоты епископа Залуского, кардинала Рад-
зиевского и Потоцких, никаких результатов не было достигнуто,
так как королева мешала им своим поведением.
Я не торопился вернуться к себе домой, так как любопытство
удерживало меня в Варшаве и я решил дождаться конца этой
трагикомедии.
Шанявский дал себя уговорить и поступил на службу к
королеве, так что все сведения о происшедшем я имел непосредственно
через него.
В замке жизнь кипела ключом: для всех было ясно, что вдова
хочет, благодаря замужеству, снова получить корону, готовая ради
достижения этой цели принести в жертву даже интересы своего
любимого сына Александра.
Она расспрашивала у Полиньяка относительно французского
кандидата и равным образом готова была отдать руку австрийцу,
если бы тот не был женат.
Сильно постаревшая и осунувшаяся, хотя еще довольно крепкая
и здоровая, эта когда-то прекрасная Марысенька теперь уже
никому, конечно, не могла понравиться.
Стыдно было смотреть на эти старания, унижающие героя, имя
которого подвергалось такому посрамлению.
Как я уже упоминал, меня здесь удерживало одно лишь
любопытство. Я не хотел служить ни у Якуба, ни у Александра.
Болезнь моя прошла, и я ничем не был связан и хотел быть
только свидетелем всего происходившего, не принимая в нем лич-^
ного участия.
Я не предполагал, что буду принужден остаться здесь не по
своей воле.
А случилось это следующим образом.
Еще покойный король доверил мне ключи от своей
сокровищницы, в которой находилась часть драгоценностей, разных дорогих
вещей, бумаг и денег. Когда мне случалось уезжать по поручению
короля, то ключи я отдавал всегда лично ему, а по возвращении
получал их обратно.
Среди других драгоценных вещей у меня хранились знаменитые
наборы, доставшиеся после битвы при Вене из шатра Кара-Муста-
фы. Они состояли из богато украшенного колчана, сабли, ножа,
часов и седла. Некоторые из этих предметов были усеяны
персидской бирюзой, другие малайскими рубинами, третьи жемчугом и
яхонтами. Столь же драгоценной была их работа; помещены же
они были в красивых ящиках, обтянутых телячьей кожей. Бывало,
король показывал их чужестранцам и гостям, и все приходили в
восторг. В последнее время все эти предметы находились в Яворове,
когда король послал меня оттуда в Вилянов. Ключи я отдал ему
самому и больше их не видел. Я был уверен, что все это осталось
в Яворове.
После смерти короля я даже позабыл об этом, как вдруг
однажды воевода Матчинский присылает за мной, прося навестить
186
его. Я отправился к нему на следующее утро. Я застал его
грустным и больным, что с ним постоянно случалось со смерти короля.
— Поляновский, — сказал он, поздоровавшись со мной, — я
хотел спросить у тебя, что случилось с теми наборами, что
хранились у тебя под ключом? Королева постоянно справляется об
них и, Боже сохрани, кажется, подозревает, что или я, или ты
присвоил эти драгоценности! Более тяжелое подозрение падает на
тебя, так как ты сразу после смерти короля бросил службу.
Он пожал плечами, а я, услышав это, чуть не подпрыгнул.
— Всемогущий Боже! — воскликнул я, покраснев до корней
волос. — Еще никто никогда не обвинял меня в воровстве! Я сию
же минуту бегу во дворец; пусть делают дознание. У меня есть
свидетели, что я, уезжая в Вилянова, отдал королю все ключи и
ящики; кому он после их доверил — не знаю, но и это со временем
откроется. Я не потерплю, чтобы на мое имя легло такое бремя...
— Подожди же, не волнуйся, — ответил, успокаивая меня,
воевода, — тебе должно служить утешением, что ты находишься в
одной компании со мной. Ведь все отлично знают, что подозревать
нас — смешно. Даже сама королева предполагает, что мы отдали
их Якубу, а не присвоили себе. Но ведь ты должен догадываться,
что сделалось с этими ящиками и где они могут быть?
— Вот именно, что я ничего не знаю, мне никто ничего не
говорил об этом. Король все время был нездоров. Я знаю одно,
что, уезжая в Вилянова, я отдал, как всегда, все ключи в руки
короля, и больше ничего не знаю. Я требую подробного
расследования, тогда вся правда обнаружится!
— Перестань, — сказал Матчинский, — они сами будут
разбирать, в чем дело. Сиди смирно и делай вид, что ты ничего не
знаешь, и без этого довольно шуму. Возможно, что Якуб присвоил
себе эти ящики, или...
Он остановился, а затем продолжал:
— Я хотел от вас лично узнать, как обстоит дело. В Яворове
этих ящиков не имеется. Или король отослал их в Жолков, или
Якуб их присвоил, или — не ручаюсь за королеву... Понемногу
все это выяснится. Ни я, ни ты ведь их не взяли с собой...
— Я уже собирался поехать домой, — сказал я, — но теперь
не тронусь отсюда, пока дело не выяснится. Я не допущу, чтобы
подозрение пало на меня, что из страха перед расследованием я
убежал.
Матчинский стоял в задумчивости, покашливая.
— Ты знаешь, — произнес он, — король мне обо всем
рассказывал, он признался бы даже в самом большом грехе, если б
совесть его не была чиста. Об этих несчастных наборах, которыми
он любил хвастаться, он в последнее время никогда не упоминал.
Насколько я могу себе припомнить, их в последний раз показали
Полиньяку, потому что он ими интересовался. Королева при этом
присутствовала и восхищалась ими, утверждая, что наборы никуда
не годны и их нужно переделать. Король очень воспротивился это-
187
му, желая сохранить исторические памятники такими же, какими
они были... В этом состоянии они для него имели pretium offectionis.
Их заперли обратно в сундук, и этим дело закончилось.
— Будь что будет, господин воевода, — возразил я, — прошу
и настаиваю на том, чтобы произвели строгое расследование по
поводу этих наборов. Я не тронусь из Варшавы, пока не узнаю,
что их нашли. Нельзя даже допустить мысли, что кто-либо другой,
кроме королевы или королевича Якова, мог их себе присвоить.
Сундуки были небольшие, всегда находились в закрытой комнате,
не на всяком возу их можно было увезти, и каждый их узнал бы.
— Все выяснится, обожди, — произнес Матчинский, — не
горячись и вовсе не говори об этом, потому что можешь на себя
навлечь гнев. Is fecit cui prodest... Мне кажется, что королева
поэтому-то о них так и допытывается, что, должно быть, сама их
взяла. Мы по ниточке дойдем до клубка, но нужно молчать, потому
что и без того достаточно стыда и срама. Пускай лучше пропадают
десятки тысяч, чем опозорить имя нашего пана. Вы знаете из
Священного Писания, как сыновья Ноя прикрывали его наготу.
Я ему припомнил о том, что сундуки эти, после того как их
обили и оковали, получили такой характерный вид и так
отличались от других, что я их даже в темноте узнал бы. В Вилянове я
осмотрел все потайные уголки и знаю, что их там не было, в замке
их тоже нет. Если их не нашли в Яворове, то следовало их искать
там, где сложена остальная часть королевских сокровищ.
Матчинский, не дав мне окончить, замахал руками и тихо
шепнул:
— Новую корону, скипетр, державу, меч, освященный папой
королева хранит у себя, сундуки тоже, вероятно, у нее, но она
ими делиться не хочет, и в этом весь секрет... Мы до него
доберемся. Если бы действительно наборы пропали, подняли бы
гораздо больший шум, а теперь о них говорят лишь вполголоса
и — sub rosa.
Еще долго после этого мы с ним сокрушались о несчастном
положении семьи нашего любимого пана, преследовавшей его
даже после смерти. Я попрощался с воеводой, поклявшись ему, что
не покину Варшавы, пока не выясню этого дела. Я тотчас же
хотел им заняться, но Матчинский заклинал меня ничего не
начинать и никому не говорить об этом, так как он все возьмет
на себя.
Вот почему я застрял в Варшаве, а так как это могло долго
продолжаться и комнатка в гостинице среди шума и беспокойства,
куда постоянно прибывали новые гости и вечно надо было
остерегаться воров, вовсе не была удобной, то я нанял маленький,
деревянный, невзрачный домик за краковскими воротами, при
котором находилась конюшня лошадей на десять и сарай.
Я тотчас же туда переселился. Но так как дом был
немеблированный, я лучшую мебель выписал из Полонки, а остальное
купил на месте.
188
Собравшуюся у меня старую рухлядь я отослал обратно в
Полонку.
Матчинского, к которому я был очень привязан, я часто
посещал, но о наборах ничего не узнал, так как они как будто в воду
канули. Он говорил, что королева уже о них забыла. Тем временем
примас созвал сейм, и с самого начала австрийская партия провела
исключение кандидата из Пястов... Это был тяжелый удар для
Собеских, которые должны были отказаться от всякой надежды;
впрочем, лишь для сыновей, но не для матери. Для этого сейчас
же нашелся посол Городенский, который, крикнув «veto», сорвал
сейм и, спасая свою шкуру, сбежал под крылышко Барановского;
своим бегством он себя выдал, и ясно стало видно, по чьей
инициативе сейм был сорван, хотя и без того все чувствовали руку
королевы. Она никогда еще не была так деятельна, так безумно
расточительна на подкупы, как в этот раз. В ее комнатах, как мне
Шанявский рассказывал, с утра до вечера стоял шум и гам, как
на рынке.
Барановского, стоявшего во главе военного заговора, я очень
хорошо знал. Это был человек маленький и не игравший большой
роли; он взял на себя предводительство в надежде на годовое
содержанье. Я еще помнил, как он мне униженно кланялся и был
счастлив, когда я его приглашал на рюмку водки и угощал копченой
колбасой. Теперь при встрече со мной он задирал нос кверху, а
другие перед ним низко склоняли головы, что меня очень смешило.
И я постоянно шепотом предостерегал его:
— Эй, осторожно, гляди, чтобы тебя не постигла участь Гон-
севского!
К союзу Барановского впоследствии присоединились и литовцы
с Михаилом Огинским и Кришпинами, соединившись в одно против
Сапегов. Началась война, которую королева должна была оплатить
из собственных средств, а выборы были отложены до следующего
года.
Между тем все так странно разделились и затем соединились,
что даже такой человек, как я, который всех знал, не мог
ориентироваться кто с кем в союзе и против кого. Был настоящий хаос.
Шляхта громко роптала против сенаторов, как оно было в
обычае с давних пор; литовцы враждовали с королевством,
французская партия соперничала с ракусской. Нельзя было предвидеть,
чем эта суматоха окончится, потому что и королева меняла свои
симпатии и склонялась в разные стороны.
Вначале она рассчитывала на Яблоновского, но последний,
рассчитав, что дружба с королевой может повредить его славе и
повергнуть его в позор, оставил ее и перешел на сторону императорских
агентов... Радзиевский, Залуский, Служковы, Лещинский, Потоцкие
из уважения к памяти покойного поддерживали его семью; но она
сама себе так вредила, что никто ее не мог более спасти.
Яков, а королева тем более, не могли приобрести любовь: если
им удавалось что-нибудь сделать, то лишь с помощью денег.
189
Император, шурин Якова, хотя и обещал ему свою помощь и
покровительство, но это было неискренне, так как он не желал
видеть династии Собеских на троне.
Александра, кроме матери, ни одна живая душа не
поддерживала, и, хотя у него было больше достоинств, чем у Якова, ему
не доверяли из-за королевы, которая им руководила.
Аббат Полиньяк пользовался еще большим почетом, королева
ему доверяла, хотя он ей изменял, и благодаря его содействию
помирились с Яковом, и он вместе с Александром поехали к
французскому королю просить покровительства и помощи.
Кто же мог догадаться о том, что Мария-Казимира хлопотала у
Людовика при посредстве Полиньяка о своих собственных интересах,
с условием, что она выйдет замуж за французского кандидата,
который был холост. Полиньяк ее обнадеживал, что это удастся.
Отъезд обоих королевичей в Париж был до того неожиданным,
что мне казалось, что Шанявский надо мной шутит, когда он мне
принес известие об этом. А между тем это было правдой, что они
уехали во Францию и отвезли миллионы. Обманывая своих
собственных детей, королева начала стараться о том, чтобы французский
претендент был человеком холостым...
В завершение всех своих бесстыдных и наглых действии, эта
женщина, исчадие ада, дошла до того, что пожертвовала своими
детьми для своих личных интересов.
Я узнал об этом от Шанявского, который никогда не лгал, а в
особенности передо мной, что королева после отъезда сыновей во
время многолюдного собрания, а у нее ежедневно собиралось
немало народа, главным образом из любопытства, громогласно, не
скрываясь, начала говорить против собственных сыновей. Люди
сначала не хотели верить своим ушам.
Шанявский божился, что повторяет ее собственные слова.
— Хотя я не родилась полькой, — говорила она, — но я здесь
выросла с детских лет и всей душой и всеми мыслями полька.
Лучшим доказательством то, что я люблю и ставлю выше Речь
Посполитую, чем собственную семью и детей и говорю вам,
господа, откровенно, — сохрани вас Господь избрать королем одного
из моих сыновей.
Залуский застонал как от боли, подняв руки вверх. Она
отвернулась от него.
— Я лучше вас знаю своих собственных детей, — продолжала
она. — Если вы выберете одного из них, а в особенности Якова,
то Речь Посполитая погибнет, вы ее погубите!
Залуский прервал ее, заломив руки:
— Ради Бога, ваше величество, будьте осторожны! Разве это
мыслимо? Разве это допустимо, чтобы мать так говорила?
Она не дала ему окончить и порывисто прервала его словами,
произнесенными так громко, что все их слышали.
— Все, что я говорю, это правда, отцы-епископы. Я откровенно
об этом заявляю и не буду сожалеть о том, что я выскажу. Я это
190
делаю исключительно заботясь о судьбе Речи Посполитой.
Изберите, если хотите, Пяста, даже любого из вас. У вас достаточно
заслуживающих быть избранными.
В этот момент рядом с ней стоял киевский воевода, генерал
артиллерии Контский, которому король перед своей смертью хотел
подарить гетманскую булаву, и всем известно было, что королева
воспротивилась этому. Повернувшись к нему и указывая на Конт-
ского, она продолжала:
— Разве у вас нет, например, этого достойного киевского
воеводы, прославившегося в стольких битвах?
Воевода, скорчив гримасу, пожал плечами.
— О, ради Бога! — воскликнул он. — Ваше королевское
величество всего лишь несколько месяцев тому назад не нашли меня
достойным гетманской булавы. Каким же образом я сразу заслужил
скипетр и корону?!
Королева слегка покраснела, но так как она никогда не терялась
и была изворотлива, она тотчас же переменила разговор, засыпала
его потоком слов, что-то доказывала не относившееся к делу так,
что даже возмутила людей наиболее к себе расположенных.
Руки опустились у тех, которые рассчитывали поддержать
Якова.
Не имея возможности рассчитывать на помощь Яблоновского,
который совершенно от нее отвернулся, королева доверилась
изменнику Полиньяку, тонко и ловко обманывавшему ее; он искусно
злоупотреблял ее доверием и пользовался ею, вовсе не думая ей
помогать.
Из того, что я узнавал от людей и что мне сообщал Шанявский,
я не мог многое почерпнуть, потому что и он сам не был особенно
проницателен, а все эти интриги мне так надоели, что я не хотел
даже слышать о них.
Тем временем я был прикован к Варшаве и не мог оттуда
уехать, потому что вследствие отъезда Якова история выборов не
могла быть выяснена.
Вдруг к концу года неожиданно как с неба свалилось имя нового
французского кандидата на польский престол — князя Людовика
де Конти, племянника короля Людовика XIV, известного,
прославившегося вождя, но женатого.
Лишь только стало известно об этой кандидатуре, в замке
поднялся переполох; королева как будто обезумела, велела запрячь
карету и помчалась к Полиньяку.
За несколько дней до этого она в знак своего расположения
подарила ему свой портрет. Увидев его висевшим на стене, она
собственной рукой сорвала его и бросила на пол.
Можно себе представить, какое объяснение между ними
произошло, как французу досталось и как они расстались.
Королева после этого вынуждена была возвратиться к Якову и
к его австрийским покровителям, но последние отказывались от
союзничества с ней и ничего не могли сделать.
191
Император оправдывался тем, что должен повиноваться папе,
который хотел возвести на польский престол саксонского
курфюрста Августа, обязав его отречься от лютеранства и перейти в
католичество и, заручившись его обещанием, стараться о том, чтобы
иезуиты обращали в католичество его подданных. Вскоре после
этого королева так всем надоела своими интригами и поведением,
увеличивавшими только раздоры, что ее попросили удалиться из
Варшавы на время выборов, подобно тому, как и другим
кандидатам было запрещено пребывание там во время сейма. Но от нее
было не так легко отделаться, а насильно Радзиевский не мог ее
удалить, чтобы не быть обвиненным в неблагодарности. Лишь через
три месяца после объявления приговора об изгнании в Данциг
удалось от нее избавиться.
Таким образом, мы были свидетелями того, что наследство
великого человека пошло прахом и память его была осквернена этой
женщиной, которая пагубно повлияла на жизнь мужа, а после его
смерти погубила свою собственную семью.
Несмотря на то что в Варшаве для меня не было больше
никакого дела, потому что совершенно забыли о сундуках с
драгоценностями, а бедный Матчинский от огорчения вскоре скончался,
я там остался до выборов, продолжив срок аренды шурину.
Мне любопытно было узнать конец, которого никто не мог
предвидеть.
Залуский поддерживал де Конти. Нам казалось
неправдоподобным, чтобы выбрали саксонца, которому покровительствует
австрийский двор.
Мы этого понять не могли, каким образом наша Речь Поспо-
литая, столь опасавшаяся влияния австрийского дома, около ста
лет избегавшая всяких союзов с ним, теперь забывает о своих
страхах и добровольно дает наложить на себя иго, несмотря на
свое отвращение.
Когда съехалась шляхта и когда в Воле жизнь закипела и
началась обычная суета, мы с Шанявским почти все время проводили
на полях и под навесом.
К нашему великому изумлению, мы убедились в том, что Яков
имел кучку своих сторонников и кое-где в разных местах
раздавались голоса в его пользу, но легко было предвидеть, что успеха
он не будет иметь.
С одной стороны, французы сыпали деньгами, стараясь во что
бы то ни стало провести кандидатуру князя де Конти, с другой
стороны, холмский кастелян Пжебендовский, совместно с
шурином своим саксонцем, неким Флемингом, щедро раздавали
немецкие талеры в надежде с помощью их приобрести корону. Они
действовали исподтишка, с необыкновенной ловкостью и
подкупали людей не только деньгами, но еще больше заманчивыми
обещаниями.
Однако им не удалось привлечь на свою сторону примаса Рад-
зиевского, голос которого имел самое большое значение, несмотря
192
на то, что папский нунций им секретно оказывал помощь и даже
склонил на их сторону нескольких епископов, в числе которых
находился куявский епископ Домбский, согласившийся на все, даже
на избрание кандидата вопреки желанию примаса.
Когда дело дошло до подачи голосов, часть краковского
воеводства и часть великополян провозгласила Якова, а остальные
заглушили их криками: «Конти!» Представители Плоцка тоже были на
стороне Якова. Лишь потом, когда убедились, что Яков пройти не
может и на его место станет де Конти, они начали высказываться
за саксонца.
Королева и все ее прислужники предпочитали всякого, даже
саксонца, но только не изменника француза.
Мария-Казимира во что бы то ни стало хотела отомстить По-
линьяку.
Таким образом, голоса смешались, и Яков с королевой перешли
на сторону саксонца.
В первый раз, когда мы услышали об этом кандидате, ни я,
ни Шанявский, и мне кажется, что даже большая часть шляхты,
никакого понятия не имели об этом будущем короле. У Пжебен-
довского не было времени, чтобы о нем рассказать, а он сам ничем
особенным не выдавался.
Вначале начали громко возражать против него, указывая на то,
что он лютеранин, но отцы-иезуиты ручались за то, что он отстал
от ереси и обратился в лоно католической церкви.
Некоторые епископы приводили в его пользу, что он проникнут
духом австрийского дома.
Двадцать шестого июня был очень жаркий день, и в ночь на
27 июня, возвращаясь вместе с Шанявским из Воли, чтобы
закусить и отдохнуть, мы пригласили с собой холмского каштеляна,
некого Суского, которого прозвали Саский1, потому что он
громогласно подавал свой голос за саксонца. Он состоял в каком-то
родстве с Шанявским — не знаю лишь, которая вода на киселе, —
и мы с ним подружились и потащили его с собой, желая от него
что-нибудь узнать о человеке, которого мы и другие должны были
выбрать. Суский же хвастался тем, что он и в Дрездене побывал,
и при дворе курфюрста был принят.
Суский пришел ко мне вечером и, застав нас за трапезой,
провел с нами всю ночь до самого утра; мы выпили изрядное
количество алкогольных напитков, и Суский не переставал рассказывать
чудеса об этом кандидате.
Правду сказать, мне не нравился ни сам кандидат, ни тот,
кто его рекомендовал, но из-за любви к Шанявскому я должен
был быть с ним любезным; к тому же мое любопытство было
удовлетворено. Кроме Суского у нас был Моравец, Джевский и
некоторые другие, фамилии которых я не помню, и мы весело
провели время.
1 Саский по-польски означает «саксонский».
193
Расспрашивали Суского об этом кандидате, и он рассказывал
разные небылицы.
— Такого короля у нас еще не было, — говорил он, — со
времен известного Генриха французского, который также был
веселого нрава и любил развлекаться. Август охотник болтать вздор,
хотя он бывает очень серьезен, если хочет; он человек
представительный. Первым делом вы должны знать о нем то, что даже у
вас, где нет недостатка в силачах, никто не в состоянии с ним
справиться — одним взмахом меча он отсекает голову коню или
волу, рукой сгибает подкову, точно лист бумаги. Во время своей
последней поездки в Вену он вез с собой ни более ни менее как
графиню Кеннигсмарк и панну Кленгель, а в самой Вене еще
выбрал панну Альтаун...
— Он холостой? — спросил я.
Саксонец рассмеялся.
— Разве, — произнес он, — следуют примеру Соломона? Он
женат, и у него дети, но это не мешает ему иметь несколько
возлюбленных. Одной или двух ему не хватает! Так у нас принято!
— Ну, — возразил я, — если у вас так принято, то вам нечем
хвастаться.
Моравец добавил:
— В Польше этого не бывает. Хотя мы и не святые, но все-таки
у нас — стыд и совесть.
— Эх! Бросьте это! — прервал Суский. — Саксонец здесь введет
другие нравы... Он человек благовоспитанный и вежливый, когда он
желает таким быть, а если рассердится, то, говорят, превращается в
дикого зверя.
Мы слушали и думали, что он шутит над нами и сочиняет, но
впоследствии оказалось, что он не врал.
— Надо его еще похвалить за то, — продолжал он, — что он
большой любитель выпивки и проглатывает спиртные напитки,
точно воду... У нас немало любителей выпить, но сравниться с ним
никто не может. Он пьет огромными бокалами, а затем садится
на Буцефала и галопом мчится в поле, и когда хочет осадить
лошадь, то, сжимая коня ногами, останавливает его на полном
ходу. Он попадает в ласточку на лету...
— Все это не слишком ли уже много? — со смехом спросил
я. — Он ведь рыцарь и, вероятно участвовал в боях и в них
отличался?
— У него нет недостатка в мужестве, — произнес Суский, —
но я не слышал о том, чтобы ему везло как предводителю. Видите,
что я не хочу вас обманывать. В войне с турками судьба ему не
благоприятствовала... Что правда, то правда. Саксонцы это
объясняют тем, что какой-то ракусский генерал из зависти ему изменил;
я при этом не был и ни о чем не знаю.
— Ну, — прервал Шанявский, — слава Богу, что ты нашел
хоть что-нибудь для порицания, а то я уж полагал, что ты над
нами насмехаешься, рисуя его таким полным совершенством. Труд-
194
но заранее сказать, придемся ли мы друг другу по вкусу... На
каком языке мы с ним будем разговаривать — это тоже очень
любопытно. О Конти всеобщее мнение, что он человек деятельный.
Суский ударил рукой о стол.
— Чего тут говорить о Конти, когда — хотите или не хотите —
будете иметь саксонца своим королем! Если не согласитесь на это
добровольно, то вам его навяжут... Я слышал, что восемь тысяч
отборных солдат стоят наготове на границе... Достаточно, чтобы
десяток товарищей Пжебендовского провозгласили саксонца, и
тотчас же саксонское войско вступит в пределы Польши, а мы уж
заручились согласием такого епископа, который нам пропоет «Те
Deum». Тогда и дело с концом. До тех пор пока Конти узнает о
том, что его выбрали, пока он будет размышлять, выбирать, пока
его дядя деньги пришлет, пока подоспеют корабли, — саксонец
будет хозяйничать, и французы...
— Ни один епископ не осмелится провозгласить короля, —
прервал я, — в то время, когда примас здоров и никому не
передавал исполнение своих обязанностей. А можно ручаться за то,
что Радзиевский не провозгласит саксонца, а лишь Якова или
Конти.
— А я вам ручаюсь за то, что найдется какой-нибудь епископ,
который его заменит, — произнес Суский. — Практиковались ли
раньше подобные вещи или нет, но теперь это случится. Разве вы
не видите, что все так подстроено, что вам его навязывают. Наша
заслуга перед папой будет в том, что, подобно тому, как Собеский
спас Европу от нехристей турок, Август изгонит лютеранство из
Саксонии. Австрийский дом его тоже поддержит, потому что в Цене
его на руках носят.
— Больше, чем шурина Якова? — спросил а.
— Какой прок в таком шурине, — ответил Суский, — когда
он дорого будет стоить императору и ничего не даст. Отцы-иезуиты
тоже что-нибудь да означают, а они этого кандидата выставляют
и ему покровительствуют. Поэтому нам нечего понапрасну
волноваться, метаться и спорить, а лучше пойдем по тому пути, который
нам укажут; ничего другого не остается.
На следующий день мы вместе с другими поехали в Волю
посмотреть, что там происходит, но ни я, ни Шанявский, ни
Дрвенский ни за кого не подали своего голоса. За Августа мы
не хотели голосовать, считая это преступлением; за Конти не
стоило, потому что это было бы напрасно, а за Якова почти никто
не голосовал. Мы были свидетелями того, как выборы распались
на две части.
Судя по голосам видно было, что большинство голосов за Конти,
но сторонники Августа произвели страшный шум, кричали, свистали,
пугали, и в конце концов одни и другие поторопились пропеть «Те
Deum». Затем все осталось невыясненным, неопределенным, но лишь
одно было известно: ни одному из сыновей Яна корона не достанется
в наследство.
195
Избрание саксонца, объявление его королем, коронование,
вступление в управление — все было заранее обдумано и...
навязано. Во что превратился свободный голос народа!.. Ни на грош
правды, и во всем — лишь одно притворство, ложь и запугивания...
Чего можно было ждать от такого короля, который с самого начала
отрекся из-за короны от своей религии, какая бы она ни была;
другие говорили, что он религии не изменил, потому что можно
изменить лишь то, что имеют, а у него никогда никакой веры не
было!
Иезуитов открыто упрекали в том, что их протеже безбожник
и вероотступник. Но они отвечали, что это пустяки, что они его
сына так воспитают, что он без них шагу не ступит, и женят его
на девушке религиозной и утвердят веру в семье.
По окончании выборов мне было незачем, да и желания не
было, больше оставаться в Варшаве и быть свидетелем
совершающихся там печальных событий.
Я решил возвратиться домой. Вместе с Шанявским я пешком
отправился в Виляново, чтобы последний раз поклониться праху
покойного короля.
Закаленные жизнью, не склонные к слезам, постаревшие, мы
вдвоем ходили по опустевшему дворцу и заброшенным огородам.
Нам казалось, что мы видим перед собой нашего улыбающегося
пана, утомленного, с пилой и с ножом в руках, любующегося
своими деревьями. Я не раз слышал из его уст слова: «Это
единственное существо, которое умеет быть благодарным; за мои труды
и старания оно мне принесет цветы и плоды»...
На каждом шагу тут были видны следы работы его рук и ума;
но с его смертью все остановилось. Никто из его детей не
наследовал его духа, ума, сердца, характера. Все, к чему лишь эта
женщина дотронулась, было осквернено и разрушено.
Мы с болью в сердце глядели на эти деревца, собственноручно
им насаженные, о которых теперь никто не заботился. Огородники
разбежались в поисках места. Дворец стоял пустой; книги, которые
он так любил, — а их у него было много, — были сброшены в
кучу, никто теперь к ним не притрагивался. Разве кто-нибудь из
них теперь думал о чтении?
Попрощавшись с Виляновом, я как будто навсегда прощался со
своей молодостью, я покинул Варшаву с твердым намерением
поселиться в деревне, вести благочестивую жизнь и никуда оттуда
не уезжать.
О дальнейшей моей жизни нечего рассказывать; это была
обычная жизнь шляхтича, какую вели наши предки, потому что в
деревнях происходит мало перемен. Я возвратился в Полонку, где
ожидали моего приезда, и временно оставил управление имением
в руках шурина, а сам занялся перестройкой дома, преследуя
цель — не уничтожить дорогих мне воспоминаний.
В течение стольких лет кочевой жизни незаметно собралась
масса рухляди. Глядя на то, как другие приобретали ценное оружие
196
и разные дорогие вещи, и будучи их большим любителем, я, хотя
и не располагал большими деньгами, потому что приходилось и
приятелям одалживать, и на себя тратить, все-таки пользовался
каждым представлявшимся случаем, чтобы дешево купить хорошую
вещь.
А так как я довольно долго служил, то разных вещей у
меня набралась такая масса, что я, оставляя двор и собрав все
сундуки, ящики и узлы из Яворова, Жолквы, Львова, сам
ужаснулся их чудовищному количеству. О существовании некоторых
сундуков я настолько позабыл, что даже не помнил о их
содержимом.
Правда, начиная от похода в Вену, в Венгрии, затем в
Молдавии, в городах и в лагерях, — повсюду представлялись случаи для
покупки. Солдаты наши, застигнутые бедой, продавали за бесценок
все, что имели. Чтобы спасти их, приходилось часто покупать
совсем ненужные вещи.
Когда узнали, что я покупаю все, что для других никуда не
годится, начали ко мне подсылать людей со всяким хламом. Но в
числе этого хлама оказались и дорогие, редкие вещи, так что
многие богатые люди потом мне завидовали.
В Варшаве у какого-то еврея я купил старые обои, на которых
была нарисована история Давида. Когда я их очистил и прикрепил
у себя на стенах, всякий ими любовался. Впоследствии я их
подарил костелу. У меня было несколько турецких палаток; оружия
и бунчуков собралось довольно много. За серебряный шишак с
позолотой, который я очень дешево купил в Молдавии, мне
предлагали заплатить много денег, но я не любил заниматься
торгашеством, а потому оставил его у себя. Ювелиры его оценивали
в несколько сот злотых. Серебро было не особенно высокой пробы,
но работа была художественная.
Я привез с собой в Полонку почти целый воз с роскошными
персидскими и турецкими коврами. Вначале у меня не было
никакой работы, потому что шурин один справлялся в поле, и я
принялся за устройство своей резиденции, стараясь применить
практически многое из того, что я видел. Впоследствии мне ставили
в вину, что я будто бы хотел похвастаться, но в действительности
я просто дурил и ничего больше.
Сестра хотела меня, не откладывая в долгий ящик, женить и,
хотя я подурнел, она все-таки сосватала бы меня с красивой
девушкой, но я отказывался жениться, так как не хотел причинить
несчастья девушке, чувствуя, что не в состоянии ее любить. Из-за
королевы и ее придворных фрейлин все женщины мне до того
опротивели — а я их достаточно насмотрелся, — что я
превратился в женоненавистника. Для этого достаточно было одного
воспоминания о жене Бонкура.
У последней было сильное желание мне отомстить; она это
пробовала сделать различными способами, но ей не повезло. Она
впоследствии обеднела и очутилась однажды в такой нужде, что
197
обратилась ко мне с просьбой о спасении. Я ей простил и помог.
Она затем вышла замуж за старого француза, повара королевы,
удовольствовавшись в конце концов столь малым; а между тем
она раньше так высоко метила... Он назывался Пти; это был
толстый, лысый, некрасивый, остроумный человек; деньжонки у
него водились, он их скопил за время своей службы. Она ему
очень нравилась, и так как он знал, какую женщину берет
себе в жены, то перед свадьбой предупредил ее, что брыкаться
ей не позволит и что он привык бить жесткую говядину до
тех пор, пока она не становится мягкой. Они жили друг с
другом довольно дружно и ни в чем не терпели недостатка;
многие утверждали, что ей не раз от него доставалось...
Впрочем, Господь с ними.
Я уже находился в деревне, когда пришло известие, что Конти
с французами на военных кораблях прибыл в Данциг. Говорили о
нескольких тысячах рыцарей...
Все в миг у нас по-прежнему закипело против австрийского
ставленника и немца, — поднялись некоторые паны, тронулась
шляхта, но некому было предводительствовать ею.
Кто-то разослал воззвание, чтобы всякий под страхом гибели
стал на стороне Конти, другие же кричали о том, чтоб никто не
смел трогаться.
Моравец на тройке примчался ко мне, уговаривая поехать с
ним.
У меня не было никакой охоты тронуться с места, да я и
не верил тому, что это может иметь благоприятный исход, но
он начал меня так упрашивать, умолять, убеждать, наконец, даже
позволил себе высмеивать меня, что я опустился, стал никуда
не годным, и я поддался и приказал, чтобы слуги и лошади были
приготовлены к отъезду; я решил: купишь или не купишь, а
прицениться можно.
Я заранее предупредил Моравца:
— Я ни к чему руки своей не приложу, пока не буду убежден
в том, что там сила и порядок, потому что ввезти беспорядок в
свою страну — это грех. Поедем посмотреть, с чем Конти прибыл
и кто его сопровождал. Упрямый Моравец твердил о том, что
слышал, что сенаторы с войском спешили в Данциг.
Сестра и шурин не хотели меня отпустить и всеми силами
противились моему отъезду, но я их успокоил и тронулся в путь
вместе с Моравцем.
Мы поехали довольно быстро, заручившись по дорогое
сведениями, которые до того противоречили друг другу, что из них ничего
нельзя было извлечь. Каждый ^ас приносил что-нибудь новое. Одни
утверждали, что это предприятие ничем не окончится, так как
саксонцы вступили уже в страну. Король короновался, паны все
больше и больше присоединяются к избранному, и даже апхиепи-
скоп смягчился.
Другие говорили:
198
— Саксонца, прислужника австрийского дома, никто не хочет
признать, и все льнут к Конти и к французам. Конти великий
богатырь и достоин быть наследником Собеского.
Мы слышали, что при нем находятся уже Залуский, Контский,
Лещинский, Потоцкий и много других. Предсказывали, что лишь
только Конти тронется из Данцига, он прогонит саксонцев, так
что даже следа от них не останется. Припоминали Максимилиана
и т. п. Все эти слухи были до того разноречивы, что мы должны
были доехать до самого места, чтобы лично удостовериться.
Любопытство меня разбирало увидеть город, который я не знал, но о
котором много слышал.
Мы ехали торопясь, не щадя лошадей. Нас одно лишь удивляло,
что этих войск, о которых мы столько слышали, мы нигде по дороге
не встретили. Шляхты мы тоже очень мало встретили.
Наконец мы доехали до города, и я помню об этом, как будто
оно сегодня случилось. Это было утром в хорошую погоду. Ворота
как в крепости; при них городская стража, порядочно вооруженная.
Мы должны были здесь остановиться, потому что как раз в это
время оттуда выходил отряд драгун.
Приглядываясь к ним, я узнал Жеребского, старого наместника,
которого я знал со времен сражений при короле Яне.
— Бью челом господину наместнику! — воскликнул я.
Удивленный старик остановился, покручивая усы.
— А вы что тут делаете? — спросил он.
— Я прибываю туда, где и другие, — произнес я, — для того,
чтобы служить новому королю. Вероятно, Конти выступит в поход?
Жеребский сотворил крестное знамение и оглянулся кругом.
— Хорошо, что вовремя ноги уносим! — произнес он. —
Француз наговорил нам кучу комплиментов, но теперь его и след
простыл. Он сел обратно на корабль, на котором приехал, и
возвращается восвояси, оставивши нас ни с чем.
Дрожь прошла по моему телу. Старый наместник поклонился
и уехал, сказав:
— Поезжайте в город, там вы узнаете все остальное.
В городе было большое движение, беготня, суматоха. Тотчас
при въезде на рынке я встретил дворового слугу епископа За-
луского.
— Вы здесь? — приветствовал я его с радостью.
— Мы здесь, — ответил спрошенный, — но мы сегодня или
завтра уезжаем отсюда в Варшаву, ибо здесь делать нечего, —
француз сел на корабль и поминай как звали.
Я взглянул на Моравца.
— Ну что?..
Мы поехали в гостиницу. Все они были переполнены
прибывшими приветствовать нового короля, который увидев, что войска,
готового к его услугам, нет, и узнав о саксонцах и о
присоединившихся к ним, раздумал бороться; извинившись перед своими
приверженцами, он возвратился во Францию.
199
Что же тут можно было сделать?..
Осмотрев красивый город с его постройками и костелом,
накупив перца и разных пряных кореньев, вдоволь посетовав вместе с
другими за черным пивом на нашу судьбу, мы, после того как
лошади отдохнули, тронулись в обратный путь.
Это было мое последнее искушение и мое последнее
продолжительное путешествие. После этого я остался в Полонке вспоминая
прошлое.
Гетманские грехи
Был июньский вечер, лучшая пора года, когда не началась еще
летняя жара, но уже окончились весенняя распутица и бури. Вся
земля была покрыта зеленью, потому что рожь еще не начала
колоситься, и нескошенные поля пестрели тысячами разноцветных
звездочек и благоухали юностью; так чудесно было жить, дышать,
расти и забывать обо всем, что есть дурного на свете!
Был июньский вечер, тихий, спокойный и
мечтательно-задумчивый; солнце заходило в царственном величии, довольное своими
подданными, с ясным челом; высоко в небе вились ласточки, и
весело кружились в воздухе рои мошек. На Подлесской равнине,
среди лесов и полянок, виднелась маленькая деревенька и хутор.
Деревенька эта, отгороженная от всего мира высоким бором,
лепилась к своему хутору, обсаженному вербами и ольхами, окружая
его со всех сторон, и так ей было спокойно и хорошо, как у Христа
за пазухой.
Поместье это было не из видных, — хат немного, деревянная
церковка на холме; да и хутор, с соломенной крышей, с убогими
хозяйственными пристройками, выглядел неказисто.
Поблизости от деревеньки не видно было проезжей дороги, к
усадьбе вела капризно извивавшаяся и круто заворачивавшая
дорожка, которая пропадала где-то в зарослях. На холме, пониже
церкви, раскинулось деревенское кладбище. Над низенькими
хатками возвышалось несколько журавлей от колодцев да несколько
старых груш и сосен.
В этой картине было что-то печальное и привлекательное в то
же время; привлекательное прелестью деревенской тишины, под
сенью которой угадывалась спокойно, без изменений и потрясений,
текущая жизнь.
Ничто не проникало сюда в течение многих веков из веяний
вечно меняющего свои формы мира. Прошли целые столетия с тех
пор, как из земли выросла эта хата и приросла к ней; изъеденные
старостью, они снова и снова обновлялись по старому обычаю и
продолжали свое существование.
Внучка была похожа на прабабушек. Подгнившие кресты,
сваленные бурей, делались заново, но по старому образцу; у корней
засохшего дерева разрастались новые молодые побеги; также и лю-
203
ди сменялись одно поколение другим, но их лица, язык и обычаи
оставались прежними.
Усадьба была обращена одной стороной к господскому дзору, а
другой к старому саду с липами на переднем плане, грушами —
в глубине и клумбами — посередине. Здесь ни в чем не было
заметно желания позаботиться о красивой внешности. Сад
заканчивался огородом, а во дворе был устроен водопой и сараи, где
стояли возы, и лежали груды бревен.
Бедность не позволяла думать о приманках для глаз, о
приятности для людей.
Однако вдоль всего фасада дома, на грядке, отгороженной
старательно сплетенным плетнем, виднелись заботливо выращенные
цветы, почти заслонявшие низкие окна дома. И только по этим
цветам можно было догадаться о присутствии в доме женского
существа, которому нужна была весна с ее улыбками и благоуханием.
Во дворе стояла необычная для этого времени дня тишина, хотя
вечерние занятия обитателей хутора шли своим порядком. Кони
возвращались с водопоя, женщины несли только что надоенное
молоко, работники хлопотали около сараев; но все это делалось
молча, и, казалось, люди знаками напоминали друг другу о
необходимости соблюдения тишины. Только гуси, с которыми не
могла объясниться пастушка, загонявшая их длинным кнутом,
заканчивали громкий разговор, начатый где-то на лугу. Куры, как
всегда в хорошую погоду, давно уже спали на насесте.
В деревне тоже было малолюдно; и здесь было так же тихо,
как на хуторе.
Двери на крыльцо были открыты настежь, и заходящее солнце
ярко освещало пустые лавки и через порог прокрадывалось в сени.
На фоне темных деревьев маленькая усадьба, освещенная солнцем,
имела очень живописный вид, несмотря на свою простоту и
заброшенность. Даже скромные цветы, выглядывавшие из-за плетня,
мальвы, орлики, ноготки, пестро расцвеченные, красиво выделялись
на сером фоне стен дома.
Пользуясь тем, что никто им здесь не мешает, ласточки без
боязни, не спеша, возвращались под стрехи, в свои гнезда; а
воробьи, рассевшись на спинках лавок и на полу, хозяйничали, как
в собственной квартире.
Но вдруг они испуганно вспорхнули от стука отворявшейся в
сенях двери.
На крыльцо медленно вышла женщина средних лет,
погруженная в глубокое раздумье: ее фигура, лицо и движения так мало
гармонировали со всем окружающим, что трудно было признать в
ней обитательницу этого дома.
Хоть годы отняли у нее прелесть молодости, и она сама, по-
видимому, нисколько не заботилась о том, какие перемены
произошли в ее наружности, — она все еще была прекрасна той
изысканной, породистой красотой, в которой сказывается
благородное происхождение. Правда, и в убогих хатах попадаются такие
204
райские цветы, такие избранные существа, но поэзия, которою
облекает их природа, имеет совсем другой характер.
По этой женщине можно было узнать с первого взгляда, что
она родилась и выросла во дворцах, что счастье и довольство
баюкали ее с молодости, и только жизненная буря загнала ее сюда.
И теперь она была хозяйкой маленькой усадьбы, скромно одетая,
всеми забытая, ко всему равнодушная, печальная и страдающая.
Одного только не могла отнять у нее бедность — того, что
природа дала ей при рождении, как талисман или как бремя:
прекрасной фигуры, напоминавшей статую, лица с изумительной
чистотой линий, выразительного и пламенного взгляда черных глаз,
мраморной белизны лба и королевского величия в осанке и
движениях. Руки, скрещенные на груди, поражали своей чудесной
формой, несмотря на то что они, видимо, не составляли предмета
забот их обладательницы; небрежно свернутые на голове волосы,
в которых уж серебрились белые нити, лежали пышными, густыми
прядями и своей тяжестью, казалось, нагибали голову.
Ее темное платье, скромного, почти монашеского покроя, было
сильно поношено, на шее была надета белая косынка, а в руках
она держала смятый белый платочек, которым она только что
отерла покрасневшие от слез глаза.
Скрытая боль и напряженное раздумье испортили все еще
красивые линии ее рта, придав всему лицу выражение суровости. Лоб
был прорезан глубокими складками.
Она медленно подошла к краю крыльца, вперила взгляд куда-то
в даль, туда, где был лес, и виднелась дорога... смотрела, но ничего
еще не видела; слушала, но звуки не доходили до ее слуха. По
ее лицу было видно, что все ее мысли и вся сила духа
сосредоточились где-то внутри ее существа и раздирали ее: там мелькали
образы, и раздавались голоса, заглушая все звуки извне. Всем
существом ее овладело какое-то оцепенение.
Что то придавило ее такой страшной тяжестью, что она едва
могла двигаться. Боль часто ложится камнем на грудь и свинцом
на голову.
Так она стояла некоторое время в полной неподвижности, но
вдруг какое-то неуловимое для других внешнее впечатление
вернуло ее к жизни. Она вздрогнула и оглянулась. Полная
нечувствительность вдруг сменилась обостренной чуткостью. По тому, как
она смотрела в сторону деревни, как будто прислушиваясь к
чему-то, можно было догадаться, что она кого-то оттуда поджидала.
Но из молчаливой деревеньки едва-едва доносился шум
возвращающегося с поля стада, скрипение колодцев да пощелкивание
аистов.
Ухо нормального человека не уловило бы ничего в этом хаосе
звуков; но женщина находилась сейчас в том состоянии духа,
который дает ясновидение. Еще минуту тому назад она не заметила
бы пушечных выстрелов, теперь она слышала то, что не было
доступно обыкновенному человеку, и видела сокрытое от всех глаз.
205
С напряженным вниманием она прислушивалась к каким-то звукам
вдали, и лицо ее понемногу оживлялось.
По песчаной дороге стучало что-то, и, может быть, только она
одна различала эти звуки.
Но стук становился с каждой минутой все более громким, и
она могла вздохнуть свободней.
Теперь она была уже почти уверена, что приближается то,
чего она ждала. Но прошло довольно много времени, прежде чем
она убедилась, что ожидания ее не напрасны; наконец, у больших
ворот при въезде в усадьбу показалась довольно элегантная
коляска, в которую были запряжены две рослые лошади в нарядных
хомутах.
На козлах сидел кучер в ливрее с гербами и нашивками, а в
коляске — маленькая фигурка в треуголке и французском мундире
восемнадцатого века, с тростью в руке и в плаще песочного цвета
на плечах.
Прибывший был уже немолод, но отличался живостью и
подвижностью, а его иноземный наряд и круглое загорелое лицо с
черными быстрыми глазками, пухлое, бритое, бабьего вида,
обнаруживали в нем человека нездешнего и какой-то иной породы.
В ту минуту, когда парадно одетый кучер собирался с шиком
подъехать к крыльцу бедной усадебки, маленький человечек
хлопнул его по плечу, давая знать, чтобы он остановился у ворот.
Важный кучер с неудовольствием повиновался, показывая всем
своим видом, как это было ему неприятно: никогда еще ему не
приходилось прятаться за плетнем.
Женщина, поджидавшая на крыльце, завидев гостя, медленно
и величественно пошла ему навстречу, понемногу ускоряя шаг, но
маленький француз предупредил ее, выскочив из коляски, и почти
бегом направился к ней, приподняв шляпу и улыбкой приветствуя
ее.
Хотя он был немолод и некрасив, а костюм не делал его
изящнее, но лицо у него было умное, с проницательным и добродушным
в то же время взглядом; при виде печальной пани во взгляде его
отразилось почтение и сочувствие.
Не успела она еще вымолвить слова, как гость быстро взял ее
руку и с глубоким уважением поцеловал ее. Потом он
вопросительно взглянул на нее, и женщина, поняв его взгляд, отвечала
ему по-французски:
— Да, милый мой доктор, не лучше, нет, не лучше...
— Что же с ним? — живо спросил доктор. — Что-нибудь
новое?
— Сам увидишь, дорогой доктор, — лихорадка не
прекращается, он беспокоится и очень ослабел...
— Но он в сознании? — допытывался доктор.
— Да, бывают минуты, когда он как будто бредит и говорит
неразумные вещи, но когда я обращаюсь к нему, он приходит в
себя.
206
Так разговаривая, они подошли к дому; женщина пошла вперед,
а доктор последовал за нею в сени; она осторожно отворила дверь
в маленькую переднюю и прошла оттуда в большую спальню.
Здесь было совсем темно, потому что окна были задернуты
зелеными занавесками. В комнате, в одном углу которой виднелась
из-за ширм кровать, было немного мебели, да и мебель была
именно такая, какая встречается во всех бедных шляхетских усадьбах.
Стол, заваленный бумагами, а в настоящее время и склянками с
лекарствами, несколько кресел, сундук, шкаф, на стенах ружья и
охотничьи сумки, а в углу — всякая домашняя рухлядь и бочонки
с уксусом; все эти предметы придавали комнате самую
обыкновенную внешность, ничем не привлекающую внимания.
Стук открываемых дверей, шелест платья и шум шагов
доктора — хотя он шел на цыпочках, — должно быть, разбудили
больного. Послышался тяжелый вздох, и слабый голос спросил:
— Это ты, моя добрая Беата? Дай мне пить, — страшная жажда!
Женщина торопливо подошла к кровати, склонилась над
больным и шепнула:
— Доктор Клемент приехал.
Больной снова вздохнул и произнес едва слышно:
— Он уж мне не поможет.
Француз, стоявший поблизости, подошел и на ломаном
польском языке приветствовал больного.
— Ну, как дела? Лучше?
Только теперь, когда глаза привыкли к темноте, доктор
Клемент разглядел лежавшего перед ним человека. На высоко взбитых
подушках лежал мужчина средних лет, еще не старый, но и не
молодой уже, огромного роста и атлетического сложения,
исхудавший и страшно истощенный. Лицо и часть открытой груди, шея и
руки представляли из себя одни только кости, покрытые
пожелтевшей кожей. Из-под нее выступали вздувшиеся жилы, словно
веревки, опоясавшие этот живой скелет. Худые, впалые щеки
заросли темной, начинавшей уже седеть, давно не бритой бородой,
от которой отделялись большие и пушистые шляхетские усы. Эта
жесткая щетинистая растительность закрывала нижнюю часть
лица, а в верхней части — приковывали внимание быстрые,
неспокойные, широко раскрытые глаза, блестевшие огнем если не жизни,
то лихорадки. Прекрасный большой лоб еще более увеличивала
лысина, едва прикрытая редкими волосами.
Лицо это, видимо, сильно измененное болезнью, сохранило от
прежних дней выражение мужества, энергии и стоического
терпения, превозмогавшего боль. При каждом вздохе грудь тяжело
поднималась, а руки беспокойно хватались за одеяло, то натягивая
его, то отталкивая от себя.
Доктор, склонившись над больным и взяв его за руку, следил
за дыханием и считал пульс, не обнаруживая впечатления, которое
производили на него эти наблюдения. Внимательно следившая за
ним женщина по выражению его лица скорее могла бы вывести
207
успокоительное заключение, чем угадать, что он сам утратил
всякую надежду.
Так было в действительности, но доктор Клемент имел
многолетнюю практику и умел владеть собой. Придворный врач
знатного, избалованного пана, он всегда умел найти слово утешения
даже тогда, когда сам сомневался. Медленно выпустив руку
больного, он спокойно заявил, что лихорадка была не сильнее
обыкновенного. Больной пристально вглядывался в лицо доктора своими
черными глазами, как будто хотел что-то сказать ему, — с другой
стороны к нему пытливо приглядывалась женщина.
Доктор, избегая их взглядов, видимо, искал предлогов отвлечь
от себя их внимание.
Он попросил принести не очень холодной воды, чтобы сделать
для больного лимонад, а два лимона вынул из своего кармана.
Пани сама пошла принести ему все необходимое для этого, а
больной живым движением руки подозвал его к себе.
— Не говори ничего моей жене, — таинственно сказал он. —
К чему ей раньше времени огорчаться и тревожиться. Довольно
ей будет горя и потом. Я уж знаю, что мне не поможет ни лимонад,
ни другие лекарства! Разве только Бог один, — но да будет свята
Его воля. Fiat voluntas tua! — слабеющим голосом прибавил он.
— Это все твои фантазии, — возразил доктор, — еще
совершенно нет ничего угрожающего!
— Э, что ты там мне говоришь! — нетерпеливо задвигавшись,
сказал больной, — я это чувствую лучше, чем ты, мой дорогой
доктор! Все напрасно, никто мне не поможет, — гроб ждет меня!
— К чему забивать себе в голову такие мысли? — шепнул
доктор. — Ну, к чему это?
— Ты думаешь, что я боюсь? — возразил больной. — Вовсе
нет! Мне жаль жену, о ней я беспокоюсь; одна как перст на свете.
Правда, сын уж взрослый, но совсем еще неопытный в жизни...
что она будет делать! Ах, Боже мой!
Он глубоко вздохнул.
— Сама-то она еще как-нибудь проживет, но Тодя как раз
теперь нуждается в опеке...
Услышав стук отворяющейся двери и шелест платья, больной
умолк и, меняя тон, прибавил:
— Я бы лучше выпил огуречного кваса, чем этого твоего
лимонада.
Доктор Клемент пожал плечами и невольно рассмеялся.
— Вот он, польский шляхтич! — пробормотал он, идя за
стаканом, чтобы приготовить питье для больного.
Когда он отошел от кровати, женщина приблизилась к
больному, оправила подушки и, слегка приподняв его голову, положила
ее удобнее. В глазах больного засверкали слезы, он схватил белую
руку жены и страстно прижал ее к губам.
Глаза женщины тоже наполнились слезами, но, не желая
показывать их, она отошла к окну. Доктор Клемент, приготовив ли-
208
монад, попробовал его и отнес больному, которого сам и напоил,
потому что у того дрожали руки.
— Ну, теперь ты отдохни и засни, а я попрошу пани дать мне
кофе и, может быть, приготовлю еще лекарство на ночь.
Больной, действительно, как будто вконец утомленный этою
беседой, прикрыл глаза и стиснул губы, словно удерживая
судорожное рыдание. Жена его, отойдя от окна, провела доктора в
приемную комнату.
Эта низкая, довольно обширная комната с окнами,
выходившими на двор, имела очень странный вид: она была, видимо,
заброшена, заставлена простою и уже сильно подержанною мебелью; но
среди нее виднелись кое-где по углам, как бы остатки лучших
времен, — изысканная мебель и дорогие безделушки, покрытые
пылью. Как сама пани рядом со своим мужем невольно возбуждала
мысль о соединении двух совершенно различных существ,
принадлежавших к разным слоям общества, только случайно связанных
судьбой, так и эта комната имела две не сходные между собою
внешности: одну — простую, бедную шляхетскую, другую —
составленную из остатков и обломков былой роскоши. И эта другая
стыдливо пряталась и нигде не высовывалась на передний план, —
словно чувствовала себя здесь в гостях, не соответствующей
общему тону. Несколько саксонских чашечек, шкафчик с бронзовыми
инкрустациями, прекрасной работы, столик с поломанной
ножкой, — все это было засунуто так, что трудно было заметить эти
предметы за неуклюжими стульями и столами.
Пани торопливо отдала приказание служанке, появившейся в
дверях, и, повернувшись к доктору, устремила на него полные слез
глаза. Старик сначала немного смутился, но, быстро овладев собой,
придал своему лицу спокойное выражение и принялся расхаживать
по комнате, поправляя свой парик.
— Скажи мне правду, — заговорила Беата, и в голосе ее
звучали сдержанные рыдания. — Я чувствую, что ему все хуже, я
умею страдать и ко всему готова; но я хочу знать, что меня
ожидает, чтобы подумать о своем будущем...
Доктор еще ниже опустил голову, — но молчал. Тогда она
заговорила с ним по-французски: она владела этим языком в
совершенстве, как человек, говоривший на нем с детства.
— Поверьте мне, — пораздумав, начал доктор, — что мы,
бедные врачи, часто знаем о жизни и смерти не больше, чем люди,
не изучавшие медицины. Я сам видел сотни случаев, когда
больные, осужденные на смерть целым факультетом, —
выздоравливали. Природа располагает чудесными средствами, и мы даже
понятия не имеем о ее силах. Врач должен до последней минуты
не терять надежды, — и я тоже надеюсь!
— Ты утешаешь меня, — с покорностью вымолвила Беата, —
но из твоих речей, мой добрый друг, я ясно вижу, что надеяться
можно только на чудо Божие, но кто же достоин чуда?
Она отвернулась, отирая платком глаза.
209
— Я жду сына, — тихо сказала она, — он должен был
приехать еще вчера, но em нет! Письмо я отправила по почте уже
давно...
— По почте! По почте! — прервал доктор. — Почему же вы
не переслали его мне? Я попросил бы Бека; послали бы его с
эстафетой от гетмана в Варшаву, и дошло бы скорее!
Беата покраснела и живо возразила:
— Вы знаете, что я не могла прибегнуть к этому
посредничеству.
Клемент покачал головой.
— Но ведь не вы, а я устроил бы это дело, и никто бы не
знал, кто послал письмо...
— Да, но знали бы к кому! — сказала пани. — И это главное.
Спасибо тебе, доктор, но я не имею и не могу иметь никаких
сношений с двором пана гетмана.
Доктор хотел сказать еще что-то, но, заметив нахмуренное лицо
своей собеседницы, прибавил только:
— Вы... упрямы.
Служанка, принесшая кофе, вовремя прервала эту тягостную
для обоих беседу.
В сервировке кофе была заметна та же двойственность, как и
во всем доме. Кофе подавался в простом кофейнике на старом,
потертом подносе, но тут же стояла саксонская чашка и лежала
тонкая салфетка. Служанка, уже не молодая, в простом
крестьянском платье, видимо, не употребляла ни малейших стараний, чтобы
скрыть от людских глаз недостатки хозяйства. Сама она была
босая, с засученными рукавами, в грязноватом переднике,
наводившем на мысль, что она только что побывала в хлеву у коров.
Клемент, не ожидая, чтобы ему налили кофе, принялся сам
хозяйничать, стараясь принять более веселый вид.
— Я уж, право, не знаю, как вас и благодарить, — печально
сказала хозяйка, присаживаясь к столу. — Я понимаю, как вам
трудно хоть на минуту уехать из Белостока, там всегда кто-нибудь
болен, и вы там всегда нужны. Я надеюсь, что вы не скажете, что
были у меня, не признаетесь в этом преступлении... Я очень прошу
вас об этом, мой старый друг, — прибавила она дрожащим голосом,
подавая ему руку. — Я не хочу, чтобы там упоминали обо мне,
пусть не знают, что со мной!
— Будьте спокойны! — живо возразил Клемент. — Отсюда
недалеко до Хорощи, а там у меня есть больной — бургграф,
которого очень любит гетманша. Мой визит к вам — на его счет.
С минуту длилось неприятное молчание; доктор поглядывал на
хозяйку, но та устремила застывший взгляд в стену, а в глазах
ее все еще стояли слезы. Несколько раз она хотела заговорить, но
не решалась сказать того, что лежало у нее на душе.
— Я бы очень хотела, — шепнула она наконец, опустив глаза
на стол, — чтобы Тодя поспешил и успел застать его. Он так
желает видеть его... и... меня...
210
И она взглянула на доктора заплаканными глазами.
— Скажи мне, а если он не успеет приехать сегодня?
Клемент смутился и нетерпеливо задвигался на месте.
— Ну что вы, — сказал он, запивая смущение глотком
кофе, — что за мысль, ведь еще нет ничего угрожающего!
— Тодя должен приехать с минуты на минуту, — прибавила
она, отвернувшись к окну. — Я знаю его сердце, оно горячо, нежно
любит своего доброго отца. Только бы он получил письмо! Но
отдадут ли ему вовремя? Найдут ли его?
— Ведь он был у Пиаров? — спросил Клемент.
— Я не знаю; науку он окончил, — сказала пани Беата, —
но ксендзы задерживали его; ксендз Копарский находил, что он
мог бы быть им полезным, поступив в монастырь, но мальчику не
нравится черная одежда. Он хотел устроиться при дворе... Не писал
мне, однако, где и у кого.
— Без протекции, один... я сомневаюсь, чтобы его где-нибудь
приняли... Если его не найдут у Пиаров, — прибавил в утешение
ей доктор, — то там уж будут знать и укажут, где он находится.
Письмо, вероятно, дошло, но я ручаюсь, что, если бы оно шло
через мои руки, то пришло бы скорее.
Женщина задумалась и не ответила. Доктор Клемент взглянул
на часы и встал с места.
— Посмотрим еще на нашего больного, — сказал он, — я дам
ему порошки; на всякий случай я захватил их с собой, чтобы не
пришлось посылать за ними в Белосток.
Говоря это, доктор Клемент вынул из бокового кармана
маленький, завернутый в бумагу, пакетик, от которого по всей
комнате распространился сильный запах мускуса.
Вошли в комнату больного. Еще в дверях они услышали
тяжелое дыхание как будто спавшего человека, но потом послышался
вздох, кашель и беспокойный голос спросил:
— А Тоди все еще нет? Боже мой, как я хотел бы еще увидеть
его!
Вместо ответа доктор Клемент взял руку больного и задержал
ее в своей.
— Мы дадим вам порошок, — сказал он, — и он вам поможет.
— Я уже чувствую его запах, — отвечал больной, — но...
разве это необходимо?
Жена, предупреждая доктора, воскликнула умоляюще.
— Если Клемент советует, значит, необходимо, а я прошу.
Больной закрыл глаза, помолчал немного и послушно
шепнул:
— Ну, разве для того, чтобы дождаться Тоди!
Доктор сам дал больному первый порошок и, пожав его руку,
простился с ним, обещая приехать завтра.
Больной, лежавший с закрытыми гллзами, медленно открыл их
и взглянул на доктора, словно проверяя, не обманывают ли его
этой надеждой на завтра. Клемент твердо повторил:
211
— До свиданья, до завтра! Прошу спать спокойно и ни о чем
волнующем не думать. Я надеюсь, что мои порошки будут очень
полезны.
Больной закрыл глаза и пробормотал что-то, чего доктор не
разобрал.
Пани сама проводила доктора до самого экипажа, около
которого важный кучер как раз в это время угощался каким-то
прохладительным напитком. Босой мальчишка почтительно держал
перед ним зеленую фляжку.
Произнеся несколько слов утешения провожавшей его женщине,
доктор накинул на себя плащ, коляска выехала из ворот и скоро
исчезла совсем из глаз хозяйки, которая в забывчивости все еще
продолжала стоять на месте. Солнце зашло.
Она стала всматриваться в ту сторону, откуда должен был
приехать сын, но на дороге ничего не было ни видно, ни слышно.
Ночная тишина спускалась на землю; только где-то вдали
слышался стук колес удалявшегося экипажа и лай обеспокоенных
деревенских собак. Опустив голову, Беата медленно доплелась до
крыльца, упала на лавку, прижалась к колонне и долго-долго
сидела так, измученная и потерянная.
Глаза ее слипались от усталости, но внутреннее беспокойство
отгоняло сон; на минутку забывшись, она тотчас же в испуге снова
приходила в себя.
Ночь прошла довольно спокойно для больного, хотя он
несколько раз просыпался, прислушивался и шептал что-то, как будто
молился или о чем-то просил. Жена, сидевшая в кресле подле него,
при малейшем его движении вставала и прикладывала ладонь к
его лбу, что действовало на него успокаивающе. Он снова засыпал.
Уже слабый дневной свет прокрадывался сквозь щели ставен,
когда чуткое ухо бодрствовавшей Беаты уловило какой-то шум у
ворот усадьбы. В один миг она сорвалась с места и побежала к
дверям. Отворив их с величайшей осторожностью, чтобы не
разбудить больного, она вышла на крыльцо и тотчас же увидела
шедшего от ворот высокого мужчину, закутанного в плащ. С слабым
криком она крепко обхватила его за шею и разразилась долго
сдерживаемыми рыданиями.
Приехавший схватил ее руку и стал целовать ее.
— Тодя! Мой Тодя! — повторяла она, рыдая. — Боже мой! А
я уж боялась, что мы тебя не дождемся!
— Дорогая матушка! — свежим, молодым голосом отвечал
прибывший. — Я ехал день и ночь!
Юноша сбросил с себя плащ и представился глазам матери во
всем блеске своей молодости. Трудно было вообразить себе более
красивого юношу, и сердце матери могло быть довольно таким
зрелищем. Он был не только прекрасно сложен и поразительно
хорош собою, но его лоб, глаза, линии его рта и каждое его дви-
212
жение обнаруживали мужскую энергию, быстрый, находчивый ум,
силу воли, и какое-то исключительное благородство. Так же, как
и мать его, он казался царственным изгнанником под этой бедной
кровлей, — существом, отмеченным судьбою и предназначенным
для иной доли. Ему недоставало только аристократической
ветрености и легкомыслия того времени, в нем как раз поражало
обратное: серьезность вдумчивой натуры, желающей во что бы то ни
стало подняться над толпою.
Скромный, почти бедный дорожный костюм не только не портил
его, но еще сильнее подчеркивал изящество всей его фигуры и
лица. Это был живой образ его матери в молодости, доведенный
до идеала прибавлением черт мужественности и энергии.
Характерным отличием этого рыцарственного юноши была мягкость и
умение владеть собою, усмирявшие проявление энергии. Правилч
монашеского ордена, в котором он получил воспитание, привили
ему скромность и терпение и научили его управлять сознаваемыми
в себе силами.
Все это угадывалось в его лице, мужественном и ласковом в
то же время, в смелом и мягком взгляде, в линиях рта, хранивших
строгую сдержанность речи.
Мать всматривалась в его лицо с невыразимой нежностью, ища
в нем отражения того влияния, которое могло оказать на него
знакомство с чужими людьми. Глазами материнской любви она
угадала бы все эти изменения. Но не было заметно следов
малейшей порчи на чистом мраморе юности — все отскакивало от него,
и он остался, каким был.
Мать еще раз обняла его. Юноша молчал, не решаясь спросить
про отца; а ей не хотелось спешить огорчать его печальной вестью.
Утомленная волнением, она опустилась на лавку.
Между тем весть о прибытии паныча разнеслась по всей
усадьбе. На двор отовсюду сбегались люди, поглядывая на крыльцо.
Пани долго сидела, опустив голову на руки, словно собираясь с
силами. Тодя молча стоял подле нее.
— Отец очень плох, — сказала она наконец, — так плох, что
я должна была вызвать тебя, чтобы он мог увидеть тебя и
благословить, — чтобы он мог порадоваться на тебя!
— Но отчего же произошло ухудшение? — с беспокойством
спросил юноша.
— Ах, это подготовлялось уже давно, — со вздохом сказала
Беата. — Ты знаешь, какой он был всегда сильный и здоровый,
но он себя совершенно не берег. Чтобы облегчить мне жизнь,
чтобы помочь тебе, он работал сверх меры, трудился без отдыха
день и ночь. И железный человек не выдержал бы такого труда
и забот. Сколько раз я упрашивала его, но он не хотел слушать
ни меня, ни кого-нибудь другого. Он всюду хотел поспеть сам,
за всем присмотреть, и, если не хватало чужих рук, не жалел
своих. И однажды, разгоряченный, измученный, он напился где-
то воды, — простудился, захворал, начал кашлять, а лечиться
213
не хотел. И даже доктора не позволил позвать. И только когда
я увидала, как усилилась, болезнь, я хитростью добилась того,
что он позволил Клементу выслушать себя и подчинился его
увещаниям.
Ее голос заметно ослабел.
— Ты увидишь его, — прибавила она. — Клемент еще
надеется, я — отчаиваюсь. Он страшно изменился, ослабел, все время
лихорадит.
Она опустила голову, заплакала и не могла продолжать.
Было уже совсем светло; во дворе, несмотря на запрет хозяйки,
началась хозяйская суета, нарушившая тишину; женщина пошла
взглянуть, не проснулся ли больной. Сын тихо шел за нею. Едва
только она переступила порог, как послышался слабый, торопливый
в прерывающийся голос больного:
— Тодя здесь! Приехал! Я знаю.
— Да, — отвечала женщина, неторопливо подходя к нему, —
но откуда ты об этом знаешь?
— Я это почувствовал! Он только что приехал!
Больной зашевелился, вытягивая вперед руки, словно призывая
к себе прибывшего! Тодя торопливо подошел и, став на колени,
стал целовать худые руки отца, — а тот прижал его голову к
своей груди.
Мать, стоявшая сзади, горько плакала, тщетно стараясь
удержать слезы.
Несколько минут продолжалось молчание. Больной облегченно
вздохнул, словно тяжесть спала с его души. Казалось, приезд сына
придал ему новые силы, он поворачивался сам, хотя и с усилием,
улыбался, лицо его приняло выражение успокоения.
— Ну, пусть он отдохнет, — сказал он жене, — покормите
его; наговорись с ним, а потом пусть придет ко мне... Нам надо
о многом переговорить... Эти порошки вернули мне силы;
пожалуйста, если есть, дай мне еще один.
Больной проговорил все это необычно сильным и бодрым
голосом, и жена, несколько успокоенная этим, принесла ему
лекарство.
— А теперь, — сказал больной, приняв его, — я помолюсь
Богу и поблагодарю его за то, что Он позволил мне дождаться
тебя. Иди, Тодя, с матерью, отдохни.
Поцеловав отцу руку, юноша вышел от него растерянный и
напуганный, потому что его, давно не видевшего отца, гораздо
больше поразила перемена в отце, который еще недавно казался
несокрушимым гигантом, — чем тех, которые окружали его и
видели постепенное исхудание этого сильного челоиека.
Едва только они очутились вдвоем с матерью, как Тодя, в
отчаянии ломая руки, воскликнул:
— Но что же говорит Клемент? Разве нельзя ничем помочь?
— Ты сам увидишь его, — сказала мать, — я ничего не могу
поставить ему в упрек: он был всегда внимгтелен, относился к нам
214
скорее как друг, чем как врач, и делал все что мог, но не в силах
человеческих справиться с этой болезнью.
Печально было возвращение в родной дом любимого сына;
погруженные в глубокую, грустную задумчивость долго сидели мать
и сын. Теодору не хотелось говорить о себе, и он неохотно отвечал
на задаваемые ему вопросы.
Он не решался тревожить мать, но вид отца поразил его и
отнял у него всякую надежду. Будущее после этой смерти
рисовалось ему черным, грозным и страшным, как бездна.
Но о себе он совершенно не думал; он чувствовал себя
достаточно сильным, чтобы бороться с судьбою; тревожила его только
мать, которая должна была остаться без опеки...
Отсутствие средств рисовало будущее только как тяжелую
борьбу и как вечный траур по умершему. Тот, которого они вскоре
должны были лишиться, был душою и руководителем всего дома,
он был для них всем...
Около полудня больной, оставшись наедине с Тодей и
убедившись, что жены нет поблизости, поспешно обратился к сыну.
— Я хотел непременно дождаться тебя, — медленно заговорил
он, сдерживая голос и дыхание. — Я знаю твое сердце и надеюсь
на него, но все же должен был поговорить с тобою. Мне очень
плохо, — да, я не обманываю себя, — пусть свершится воля
Божья! Я уже исповедывался, и совесть моя спокойна, — но меня
тревожит мысль о матери твоей и о тебе! Ты, слава Богу, уже
взрослый и сумеешь пробиться в жизнь, но она! Что будет с нею!
— Моя первая священная обязанность — заботиться о
матери, — горячо прервал Тодя.
— Но она-то не позволит тебе заботиться о себе, — с
беспокойством возразил больной. — Я ее знаю, она и себя, и все свое
принесет в жертву тебе! А себя замучит вконец! Но рок... ты ведь
знаешь это — при самом большом труде едва доставляет средства
на самое убогое существование. Пока я был в силах, я делал что
мог, но, когда меня не станет... Боже Всемогущий! Вам... ей...
может быть, есть будет нечего... А ведь она смолоду привыкла к
довольству... Она...
— Дорогой мой батюшка, — прервал Тодя, — если бы твоя
болезнь затянулась и у тебя не было бы сил работать, я останусь
в деревне, надену сермягу и буду трудиться, как простой рабочий...
Ты знаешь, как я люблю мать и тебя... Ты укажешь мне, что
делать.
— Она не позволит этого! — вскричал больной. — Обо мне
нечего говорить, со мной нельзя считаться. Но она мечтает о
блестящей карьере для тебя, а сама готова обречь себя на нужду и
даже не покажет, что страдает. Ах, Тодя, эта мысль не дает мне
умереть спокойно!
Тодя задумался.
— Я, батюшка, — сказал он, помолчав немного, — ни о какой
карьере для себя не думаю. Я знаю свой долг и исполню его...
215
Глаза больного на миг блеснули любопытством; он слушал
жадно, ловя каждое слово, но беспокойство его не уменьшилось.
— Да, наконец, — сказал Тодя, понизив голос, — ведь
дедушка еще жив, и он очень богат; и хотя он был обижен на матушку,
но не может же быть, чтобы он не простил ей всю жизнь. Я
упрошу его!
Больной вздрогнул всем телом и изменившимся голосом горячо
заговорил:
— Дед, дед... старый чудак за то только гневался на твою мать,
что она вышла замуж за меня, бедного шляхтича; и ни за что
больше... — прибавил он, — только за это! Я был всему виною!
— Но если бы я, его внук, пришел к нему с покорной просьбой
о прощении... — продолжал Теодор, — может быть, я смягчил бы
его гнев.
Эта мысль, видимо, так обеспокоила больного, что он схватил
сына за руку и выговорил поспешно твердым и решительным
тоном:
— И не думай об этом и не смей этого делать! Если ты любишь
мать, если у тебя есть хоть капля привязанности ко мне... Никогда,
слышишь, никогда не обращайся к деду!
Он выговорил это с большой страстностью, но потом, видимо,
сообразил что-то и прибавил в объяснение:
— Не думай, что я сохранил к нему дурное чувство: я давно
уж простил и ему, и всем другим; но старик — вспыльчив и
необуздан. Я не хотел бы, чтобы ты услышал от него какую-нибудь
клевету на твою мать. Воеводич ничем не стесняется, и если вобьет
себе что-нибудь в голову, то уж оттуда трудно выколотить. Не
ходи к деду и ни о чем не проси его, я прошу тебя об этом, а
если нужно, то и приказываю!
— Я исполню твое желание, — отвечал несколько смущенный
юноша, — но ведь пан гетман очень ценил твои услуги, батюшка,
любил тебя и относился к тебе с большим уважением... Даже и
тогда, когда ты оставил двор...
При имени гетмана бледное лицо больного вспыхнуло; кровь
ударила ему в голову и сжала грудь; он сильно закашлялся и не
скоро успокоился.
— С гетманом я порвал навсегда, — заговорил он, справившись
с кашлем, — и верь мне — не без причины!.. Ни я, ни мать твоя
знать его не хотим! Всякое сближение с ним было бы неприятно
мне, но еще больше — твоей матери... Она не допустит до этого,
я тоже!..
Теодор печально опустил голову.
— Гетман, — с горечью прибавил больной, — ведет себя как
кролик и забывает, что он человек. Гордость и барская
распущенность испортили его сердце.
— Ну, довольно о нем, а при матери ни слова!
Когда он говорил это, послышались шаги Беаты, и муж с
вымученным смехом обратился к сыну:
216
— Ну, расскажи же мне о своих успехах в Варшаве. Я очень
интересуюсь.
— Я тоже не успела ни о чем еще расспросить его, —
подхватила Беата. — Знаю только, что учение он окончил и что с
помощью ксендза Копарского надеется получить место.
— И даже очень выгодное, — сказал Теодор, — но я без
всякого сожаления готов отречься от всех этих надежд и обещаний,
если только могу быть полезным отцу.
Родители переглянулись, как будто спрашивая друг у друга,
как ответить ему, и наконец отец, подумав, сказал с горькой
улыбкой:
— Что же это за блестящие надежды? Если они основаны на
каких-нибудь милостях магнатов, то не забывай, что этому нельзя
особенно доверяться.
— Да я и не особенно на них рассчитываю, — почти
равнодушно возразил Тодя. — Дело в том, что ксендз Копарский,
пользующийся большим влиянием у князя-канцлера и русского
воеводы, рекомендовал меня молодому князю-генералу как
полкового секретаря. Мне помогло еще и то, что я, благодаря матушке,
научился бегло говорить и писать по-французски. Так как теперь,
по-видимому, у князей много работы, то меня обнадежили, что
меня возьмет к себе сам князь-канцлер. У него многому можно
научиться, так как он имеет теперь большое влияние в
государственных делах Речи Посполитой.
Во время его речи родители взглядами переговаривались друг
с другом. Беата вздрогнула, но не от радости — лицо ее отражало
внутреннее страдание, — муж был более спокоен внешне.
— Что ты на это скажешь?
Мать покачала головой, но не решилась высказаться прямо.
— Одно только смущает меня, — прибавил Теодор, —
служа интересам «фамилии», я, несомненно, должен был бы
оказаться в неприязненных отношениях с паном гетманом, потому
что, хотя граф женат на племяннице канцлера, отношения
между Волчином и Белостоком, по слухам, ухудшаются с каждым
днем.
Не подумав, Беата живо и гневно воскликнула:
— У нас нет никаких обязательств по отношению к
гетману.
Беспокойный взгляд больного остановил жену, которая
смутилась и замолчала.
Сын, стоявший ближе к матери, заметил в ее глазах искорки
гнева и сильного волнения.
Больной, опустив голову, задумался.
— Придворная жизнь имеет свои темные стороны, — тихо
договорил он, потому что силы его оставляли... — Там, пока ты
нужен, тобой дорожат, а на маленького человека все взвалят, —
всю работу; правда и то, что человек чистый и дорожащий своей
репутацией из всего сумеет выйти незапятнанным, но к чему лезть
217
в грязь, если рядом есть сухая дорога? Не может быть, чтобы ты
не чувствовал в себе рыцарской крови и не имел призвания к
воинскому делу. Вместо того чтобы сидеть в грязных канцеляриях,
не лучше ли было бы служить в войске под каким-нибудь
литовским знаменем? В коронном войске мне бы не хотелось тебя
видеть, — прибавил больной.
— И я тоже, — подтвердила мать, не объясняя причины. —
Я бы не позволила тебе этого...
Тодя сидел в задумчивости.
— Я ничего не имею против службы в войске, — ответил он, —
но мне казалось, что она будет для меня не по средствам. Человека
без средств нигде не примут; ведь я должен был бы иметь свою
свиту, а я ни в каком случае не хотел бы вводить родителей в
расходы.
— Мы с радостью сделали бы это для тебя, — с глубоким
вздохом отвечала мать, — но в настоящее время это было бы...
невозможно У нас нет ничего, кроме Борка, да и тот весь в
долгах.
— Ну, тогда лучше всего, — воскликнул юноша, вставая и с
веселым лицом целуя руку матери, — лучше всего совсем об этом
не думать. У меня еще есть время! Никто меня не торопит! Пусть
сначала батюшка поправится, — прибавил он, — а потом мы
подробно все обсудим.
Все замолчали. Мать обняла его за голову. Больной закрыл
глаза, утомленный разговором. Беата с сыном на цыпочках отошли
от кровати. Мать задернула занавеску у окна и вышла вместе с
сыном из комнаты.
Когда под вечер приехал доктор Клемент, больной спал.
Доктор сердечно поздоровался с юношей и стал приглядываться
к нему, очень обрадованный видом этой расцветающей юности. Он
целовал и обнимал его, оглядывал со всех сторон, ощупывал и на
некоторое время даже забыл ради него о своем пациенте.
О нем напомнила ему сама пани, после чего он поспешил к
больному.
Приход их не разбудил спящего. Они подошли к кровати, и
доктор, осторожно взяв руку больного, начал щупать пульс.
Больной не открывал глаз. Он тяжело дышал, в груди у него что-то
хрипело. Лицо Клемента нахмурилось, прежде чем он успел
сообразить, что выдает этим себя.
Он отошел от больного и с минуту стоял в молчании,
напряженно думая.
Беата ждала, что он скажет ей, когда Клемент сделал ей знак
рукой и стал со смущенным видом подвигаться к дверям.
Когда они вышли на крыльцо, Беата спросила с
беспокойством:
— Что же делать доктор?
— Пока ничего, — ответил Клемент. — Теперь, когда мы
исчерпали все средства, какие знает наука, предоставим все благо-
218
детельной природе и не будем ни в чем мешать ей. Больной спит;
пусть он успокоится; может быть, в этом его спасение...
Потом он начал расспрашивать — не слишком ли взволновал
больного приезд сына? не утомил ли его разговор с ним? — и
кончил тем, что теперь должно последовать облегчение. Но говорил
он это с таким видом, что Беата, хорошо его знавшая, не
осмелилась расспрашивать больше, и лицо ее приняло выражение
покорности судьбе.
Доктор, который обладал большим тактом, перевел разговор на
посторонние темы, потом подошел к Тоде, подсел к нему, а когда
хозяйка вышла на минутку, чтобы приказать приготовить для него
кофе, он быстро наклонился к уху юноши и шепнул ему:
— Когда я буду уезжать, проводи меня, пожалуйста, до ворот.
Мне нужно переговорить с тобой отдельно.
Тодя встревожился, но не успел ничего спросить, потому что
мать уже возвращалась, и доктор тут же перевел разговор на
Варшаву.
— Ну, как здоровье его величества?
— Не знаю, — ответил юноша, — слышал только, что силы
его слабеют. А доказательством служит то, что он отменил
любимую свою охоту и ограничился стрельбой в цель и в псов.
— Ну, — заметил Клемент, — дал бы только Бог здоровья
нашему министру Брюлю и пану коронному маршалу, тогда мы
не пострадаем от немощи его величества. Он уже не может
охотиться, но зато в состоянии бывать каждый день в опере и
доставлять себе всякие другие удовольствия.
Задав юноше еще несколько вопросов о Брюле, его сыновьях и
о различных особах, по своему положению стоявших близко ко
двору, и, наконец, о французском министре-резиденте пане Дюра-
не, о котором Тодя не мог рассказать ему ничего нового, доктор
пошел пить кофе и, заканчивая разговор, заметил:
— Мы здесь, в Белостоке, поджидаем всех этих матадоров на
святого Яна, в том числе и французского резидента.
За кофе разговор шел о весне и о различных посторонних
вещах, в присутствии пани Беаты доктор не упоминал больше ни о
Белостоке, ни о придворных делах. Торопливо допив свою чашку,
Клемент взглянул на часы и схватился за шляпу...
— Я не хочу закармливать больного лекарствами, — обратился
он к хозяйке. — Но если бы он, проснувшись, попросил лекарства,
можно ему дать вчерашний порошок. Самое главное, чтобы он ни
в коем случае не волновался и не утомлялся, — пусть природа
делает свое дело.
Все это не уменьшило беспокойства Беаты. Доктор спешил
уехать, и она не смела задержать его; все трое вышли на крыльцо,
и Тодя пошел проводить его до коляски. Здесь Клемент завязал с
ним живую беседу и так увлекся, что приказал кучеру ехать за
собой, а сам пошел пешком за ворота, непрерывно разговаривая с
Тодей.
219
Мать осталась ждать сына на крыльце. Между тем доктор,
пропустив вперед коляску с кучером, замедлил шаги и, очутившись
уже за воротами, взял юношу за руку...
— Ну, милый мой пан Теодор, ты уже взрослый мужчина, и
я должен поговорить с тобой прямо, — сказал он изменившимся
голосом. — Отец твой... не переживет этой ночи; этот сон —
последняя борьба жизни со смертью. Силы уже истощились. Будь
готов к тому, что тебя ожидает. Не показывай матери своей
тревоги, ты должен успокоить и подбодрить ее!
Приговор этот, произнесенный тоном лихорадочной решимости
и, видимо, стоивший больших усилий доброму французу, произвел
на Тодю ошеломляющее впечатление; он испуганно оглянулся
назад в сторону матери, словно боялся, не услышала ли она этих
слов, или не догадалась ли о значении их перешептывания.
— Будь мужествен, дорогой мой пан Теодор, будь
мужествен, — все так же торопливо говорил доктор Клемент. — От
матери нельзя этого требовать, но твой долг — справиться со своим
горем и успокоить ее. Ты начинаешь жизнь в тяжелых условиях,
но что делать — никто не избавлен от страданий!
Теодор все еще молчал; тогда доктор заговорил менее
решительным тоном:
— Ты знаешь, что я всегда был и останусь верным другом вашего
дома; знаешь, что я высоко ценю все достоинства твоей матери и был
бы рад избавить ее от всяких, малейших даже, неприятностей. Самая
смерть эта будет для нее страшным ударом... Я говорю с тобой как
друг; я знаю, что в доме у вас нет сбережений, а смерть — дорогой
гость... В первую минуту вам трудно будет думать о деньгах, а на
свете, к сожалению, приходится платить за все! Вот тут у меня деньги,
которые мне совершенно не нужны, но избави тебя Бог сказать ей,
что ты их взял у меня! Скажи, что хочешь, ну, хоть то, что ты привез
их с собой из Варшавы...
Говоря это, Клемент насильно всунул сверток золотых дукатов
в руку Тоде. Тот сопротивлялся и не хотел брать, но доктор, все
время тревожно оглядывавшийся в сторону крыльца, прибавил с
выражением нетерпения в голосе и в лице:
— Бери, не смущайся и не отказывайся, тут ведь дело идет о
спокойствии твоей матери. Потом вы мне отдадите, — ведь это
просто небольшой заем. Sapristi!
— Но, дорогой доктор!
— Ну, смотри, мать видит нас и может забеспокоиться. Спрячь
деньги; sacre tonnere! И будь здоров!
— Если что-то случилось, завтра я буду об этом знать.
Он сделал Тоде прощальный знак рукою, приказал кучеру
остановиться и, усевшись в коляску, велел как можно скорее ехать
в Хорощу, словно боялся погони.
Тодя, как громом пораженный страшным известием, не сразу
подошел к матери. Он боялся, что она угадает по его лицу то
впечатление, которое оставил на нем приговор доктора, ему очень
220
хотелось избежать сейчас разговора с нею, но Беата не уходила с
крыльца, видимо, поджидая его.
Первый раз в жизни Теодор очутился в таком невыносимо
тяжелом положении, которое налагало на него обязанность решать
и действовать. Любовь к отцу, который был для него в детстве
нянькой, учителем, товарищем и лучшим другом, сжимала ему
сердце страшной болью. Тщетно стараясь придать своему лицу
более спокойное выражение, он медленно направился к крыльцу.
По дороге он выдумал себе какое-то занятие в конюшне и хотел
зайти туда, но мать позвала его к себе. Он молча подошел и сел
рядом с ней на лавку.
— Меня беспокоит этот сон, — обратилась она к сыну, — за
всю его болезнь я еще ни разу не видела, чтобы он так беспробудно
спал. Однако Клемент не видит в этом ничего угрожающего...
Теодор ничего не ответил.
Так они просидели на крыльце, изредка обмениваясь словами,
до позднего вечера. Беата несколько раз входила в комнату
больного, но он все также спал глубоким, хотя и беспокойным сном.
Несмотря на запрещения доктора, она заговаривала с ним, стараясь
разбудить его, но больной, с трудом открыв глаза и пробормотав
что-то невнятное, снова впадал в тяжелую дрему.
Под вечер жар усилился. Мать с сыном сидели у постели
больного; ни она, ни он не предчувствовали, что сон этот будет
последним, хотя Клемент и предсказывал ему скорую смерть.
Тодя начинал уже надеяться.
Около полуночи больной затих и, казалось, успокоился. Беата,
подойдя к постели больного и видя, что грудь его перестала
лихорадочно вздыматься, отошла несколько успокоенная.
Уже светало, когда задремавшая в кресле женщина вскочила
и, не замечая никаких признаков жизни у лежавшего на кровати
больного, встала и подошла к нему.
Он лежал на спине; лицо его со спокойным выражением крепко
спящего приняло синеватый оттенок. Прижав сложенные руки к
груди, он, казалось, спал.
Беата дотронулась ладонью до его лба — и страшный крик
вырвался из ее груди.
Лоб его был холоден, как у трупа, больной не дышал — он
был мертв.
Беата упала на колени, и подоспевший сын лишь успел
подхватить ее на руки, когда она лишилась сознания.
Услышав ее вопль, все обитатели усадьбы побежали к
господскому дому, предчувствуя несчастье.
В царствование Августа III во всей Польше и Литве не было
более великолепной резиденции, чем польский Версаль, дворец
тогдашнего великого коронного гетмана Яна Клеменса с Рущи Бра-
ницкого, последнего потомка старого рода, который славился своим
221
богатством еще при Пясте, — внука по женской линии и
наследника гетмана Чарнецкого.
Резиденция была только отстроена; чудесный замок казался
возникшим по мановению волшебной палочки и перенесенным с
другой планеты на подлесскую равнину.
Этой волшебной палочкой была воля одного человека и его
миллионы.
Рассказывали, что, когда в городе был пожар, — это было еще
до возникновения польского Версаля, — гетман Браницкий сказал
будто бы, что он этому очень рад, потому что может создать его
снова из пепла, но уже по своему плану.
И действительно, улицы Белостока с их чистенькими,
беленькими, веселыми домиками, утопавшими в зелени садов,
напоминали какие-то иноземные города; многие из этих домиков
принадлежали придворным и служащим французского и немецкого
происхождения, составлявшим многочисленную свиту гетмана, и
отличались таким изяществом и изысканностью постройки и таким
удобством приспособлений, о каких и не слышали в стране.
В Белостоке, Вельске, Тыкоцине, Хороще и Высоком-Сточке
все, начиная от костелов, — летние помещения, башенки, ворота,
здания ратуш, гостиницы и маленькие усадьбы гетмановых
служащих, — все было устроено с таким вкусом и с такой
расточительной роскошью, которые объяснялись только тем, что
бездетный владелец считал себя вправе оставить такую память
после себя.
Гетманский Белосток принимал уже в своих стенах королей и
мог без особого для себя труда удовлетворить вкусы царствующих
особ даже саксонской династии. Весь обиход гетманского двора не
уступал по пышности королевскому.
Дворец и все хозяйственные пристройки были чрезвычайно
вместительны, а соответственно был очень велик и придворный штат
служащих. В день святого Яна, на именины гетмана, сюда
съезжалась вся Варшава и все представители Короны. Заграничные
послы и резиденты, депутаты от магистров и правительства и
множество вельмож из союзных стран и польской шляхты
съезжались сюда из дальних краев, чтобы отдать дань уважения
могущественному магнату, первому государственному мужу Польши.
И только те, кто был к нему ближе всех, с кем он породнился
через жену, — Чарторыйские, — вот уже несколько лет не
появлялись в Белостоке. Ни для кого не было тайной то, что гетман,
несмотря на близкое родство, был с ними в более чем холодных
отношениях. Жена его, прекрасная графиня Изабелла, к которой
он уже начал остывать, не имела достаточно влияния, чтобы
расположить его в пользу своих родных.
Все политические идеи и убеждения гетмана и фамилии
совершенно расходились между собой. Конечно, и вопросы личного
самолюбия играли тут определенную роль, но главной причиной были
разные взгляды на вопросы государственной политики.
222
Чарторыйские мечтали о реформе местных учреждений, об
отмене привилегий, поддерживавших политическое самоуправство;
они желали коренного изменения всего государственного строя —
возрождения страны по плану Чарторыйских и Конирского. Они
имели смелость взяться за эту грандиозную задачу, превышавшую
их силы, но манившую и обольщавшую их блестящими
перспективами.
Тот, кто позволяет себе увлечься такой реформаторской идеей,
часто оказывается настолько ослепленным ею, что теряет
способность считаться со средствами и не желает видеть ничего, что
заслоняет ему его цель... Так было с Чарторыйскими — обаяние
великой идеи заставило их не считаться с невозможностью
выполнения ее.
В планы реформ по необходимости должно было войти и
сокращение власти гетманов, этих посредников intra libertatem et
majestatem. Князь канцлер, увлеченный идеей образования новых
форм политической жизни, был мечтателем и доктринером, а
потому должен был быть деспотичным. Его раздражало все, что
становилось у него на пути.
Для снискания расположения старого гетмана отдали ему в
жертву прелестную племянницу, но расчет на его слабость не
удался.
В оправдание князя-канцлера следует сказать, что правление
саксонской династии и зрелище деморализации и упадка страны
могли внушить самые смелые планы на будущее. Ведь дело шло
о жизни и смерти! Многое можно простить тому, кто спасает
утопающего.
Чарторыйские ясно видели положение государства; но гетман
Браницкий не имел ни остроты их ума, ни их смелости и
решительности в проведении самых радикальных изменений. В его
понимании Речь Посполитая, в которой так долго царствовала
анархия, не могла быть долговечною... Саксонская династия,
которая для Чарторыйского была гибелью для страны, являлась в
глазах Браницкого защитой и щитом для нее.
Таким образом, антагонизм между Браницким и Чарторый-
ским был неизбежен, и ничто не могло его устранить. Близко
зная характеры обоих, легко можно было предвидеть и
окончательную развязку.
Великолепная, прекрасная, обаятельная личность Браницкого
имела в себе что-то общее с теми героями, которые от рождения
предназначены к гибели и никогда не выходят победителями. Это
был мечтатель, любивший жить и блистать в свете, собирать дань
поклонения и пользоваться готовыми формами жизни, но не
способный создать что-нибудь новое...
В нем соединялись две, а может быть и три, совершенно
различные натуры проявлявшиеся поочередно под влиянием
невидимого давления на какие-то тайные пружины, приводившие их в
движение.
223
В нем жили одновременно польский магнат и шляхтич,
французский царедворец и рыцарь... В торжественные дни в нем оживал
потомок старого рода, гетман, пан краковский, кавалер Золотого
Руна, магнат, перед которым все должны были склонить головы;
в кругу добрых приятелей он становился простосердечным
шляхтичем, а когда приезжали французы и он устраивал им пиры,
можно было поклясться, что он родился над Секваной.
Как политик гетман держался довольно туманных идей,
представлявшихся ему грандиозными и блестящими; легко верил в то,
что было приятно для него самого, и охотно позволял увлекать
себя красивыми речами...
А в конце концов — кто знает? — быть может, он был скорее
вынужден действовать по обстоятельствам, а не планировать свою
политику. Вокруг гетмана сплотились все ненавидевшие Чарторый-
ских или боявшиеся их. И гетман, подстрекаемый с разных сторон,
разжигаемый и натравляемый, волей-неволей выступал в главной
роли, не соответствовавшей его силам.
Все, видавшие его в ту пору в Белостоке, могли подтвердить,
что он без особенной охоты исполнял навязанную ему роль...
Будучи уже пожилым человеком, гетман недолюбливал
серьезные занятия и предпочитал им легкую, остроумную, веселую
беседу, в которой не содержалось всяких неприятных намеков на его
семейные размолвки.
Его сан требовал от него занятия вопросами государственной
важности, но это бремя он свалил в значительной степени на Ма-
цея Стаженьского, старосту браньского, на своих приятелей и на
друга дома Мокроновского.
Жизнь в доме гетмана шла с королевскою пышностью. У гет-
манши был свой двор, свой круг знакомых и друзей, а с мужем
ее соединяли официально-дружеские и добрые отношения; но все
знали, что давно уже угасла любовь старика к красавице жене, а
что Мокроновский был доверенным другом и любимцем графини
Изабеллы. Гетман ничего не имел против этого; он требовал только
соблюдения известных форм — и невмешательства фамилии в свои
планы. У него были тоже свои несерьезные увлечения, которые
были известны всем, даже его жене, но возбуждали скорее
соболезнование, чем другое чувство.
Никто здесь не говорил открыто и прямо того, что думал, в
парадных комнатах встречали друг друга приветливыми улыбками,
а по углам перешептывались и интриговали; приличие заставляло
на многое закрывать глаза и о некоторых вещах говорить только
намеками или острыми словечками...
Староста браньский, Радзивиллы, некоторые члены рода Сапе-
гов и Потоцкие всяческими способами старались воздействовать на
гетмана, который уже не так легко поддавался влечениям.
И возраст, и воспитание, и самый характер Браницкого
заставляли его относиться если не с полной холодностью, то с
достаточным равнодушием ко многим очень важным вопросам; он
224
смотрел на разрешение их свысока, по-барски, с рыцарским
стоицизмом.
Однако в тех случаях, где было задето его личное самолюбие,
еще можно было разогреть соответствующим способом остывающую
кровь гетмана. Антагонизм Чарторыйских казался ему дерзостью.
В маленьком кабинете нижнего помещения дворца,
называвшегося Лазенками, где собирались по вечерам самые близкие
приятели, раздавались угрозы по адресу Чарторыйских; в салоне о них
старались не говорить и не вспоминать.
Приближался день святого Яна, когда обычно в Белосток
наезжало множество гостей; гетману, собиравшемуся выступить в
качестве монарха, было о чем подумать и что привести в ясность...
Немалый труд ожидал магната, не любившего серьезной работы.
Гости привозили с собой поклонение, целый запас любезных и
сладких слов, но, кроме того, многие из них запасались
различными планами, проектами, просьбами о протекции и
посредничестве и т. д. Гетман хорошо знал, какое бремя ляжет на его плечи...
И, может быть, для того, чтобы уйти от неприятных
впечатлений, он охотно искал развлечения в разговоре о самых
легкомысленных вещах — чаще всего о прекрасных дамах и даже о
субретках.
Такие разговоры, происходившие в мужской компании,
приводили его даже в веселое настроение; он бывал очень оживлен за
обедом, но, оставшись наедине с самим собою или с домашними,
тотчас же становился молчаливым и угрюмым.
Уже несколько лет это настроение гетмана тревожило тех, кто
лучше других знал его. Тем, кто видел его только в салоне, среди
многолюдного и парадного общества, он неизменно казался
человеком высшего света, с полным самообладанием относившимся ко
всему, что могло с ним случиться в жизни.
Печаль и страшное утомление овладевали им всецело только
тогда, когда никто из посторонних не мог его видеть. Он так владел
собой и так привык к своей роли, что вместе с парадным платьем
к нему возвращался и тот тон высокого представительства, который
никогда не изменял ему в салонах.
Утро приносило с собой ту же грусть, которая потом
разгонялась, как облака солнцем, различными удовольствиями.
Постепенно и как будто нехотя он приходил в хорошее настроение.
Камердинер его, француз, носивший банальную фамилию
Lafleur, обыкновенно входил первый в спальню гетмана; за ним
наступала очередь доктора Клемента осведомиться о здоровье
своего высокого пациента.
И в этот день гетман пил еще в постели свой шоколад, когда
с обычной своей усмешкой вошел француз.
Браницкий очень любил его. У него было много приятелей,
которым он верил, но ни к кому из них он не испытывал такого
доверия, как к доктору. Уже несколько лет Клемент состоял при
дворе и ни разу не злоупотребил этим доверием.
225
При виде входящего доктора, камердинер на цыпочках
удалился.
Лицо гетмана показалось в этот день доктору еще более
пасмурным, чем Есегда. Он подошел к кровати, и гетман, указав ему
на кресло, попросил его придвинуться к нему поближе.
Взглянули друг на друга. Браницкий, словно угадав по лицу
доктора, что он принес неприятное для него известие,
отвернулся.
— Ну, как же? — тихо спросил он.
— Егермейстер умер, — коротко ответил Клемент.
Гетман с испугом взглянул на говорившего.
— Умер! — тихо повторил он.
— Я сделал все, что было в моей власти, силы истощались,
жизнь угасла...
— Что же будет с этой несчастной? — с живым сочувствием
заговорил Браницкий. — Я уполномочиваю тебя прийти ей на
помощь. Ты знаешь, что ни она, ни он не примут помощи от меня;
ты...
— Предвидя катастрофу, — отвечал Клемент, — я заставил
сына, который как раз подоспел приехать из Варшавы, взять от
меня под видом займа сто золотых.
— Пусть кассир вернет тебе их! — воскликнул гетман. —
Значит, первые расходы на похороны будут покрыты, но что же
дальше?
— Я ничего не знаю, — тихо отвечал Клемент, — поеду туда
сегодня и узнаю все. Насколько я понял из разговора, юноша надеялся
пристроиться в Варшаве... И я боюсь, как бы его не перетянула к себе
семья Чарторыйских; он что-то упоминал о князе-канцлере...
Гетман нахмурился, но он не сказал ничего на это и
неожиданно спросил:
— А где будут похороны?
Клемент, словно испугавшись этого вопроса, подхватил
торопливо:
— Но ведь ваше превосходительство не думает...
Гетман пожал плечами, как бы удивляясь, что он еще
сомневается.
— Я хочу знать, где его похоронят, чтобы предупредить
ксендзов, что все расходы я беру на себя и что об этом не должны
знать.
— Это тоже надо сделать осторожно, чтобы вдова не
догадалась, — добавил доктор.
— Дорогой мой Клемент! — возразил гетман. — Я вижу, что
ты или считаешь меня большим простаком, или боишься, что я
уж от старости совсем поглупел.
Доктор хотел было оправдываться, но Браницкий, не давая ему
говорить, продолжал:
— Дорогой Клемент, поверь мне, что если я иногда и кажусь
на вид отупевшим, так это потому, что на голове и на плечах
226
моих лежит слишком тяжелое бремя. На самом же деле я еще не
утратил ни чувства наблюдательности, ни памяти.
— Ах, ваше превосходительство, — прервал доктор.
— Я сделаю все, что должен сделать, и притом самым
подобающим образом, — со вздохом сказал гетман. — А ты, мой дорогой
Клемент, поезжай туда, сделай, что можешь, и привези мне
известия о них.
Клемент хотел было сказать, что он никогда не был дурного
мнения о гетмане, но вошедший камердинер принес привезенные
с эстафетой письма из Варшавы и доложил о прибытии старосты
Браньского.
— Здоровье мое недурно, — тотчас же сказал Браницкий,
обращаясь к доктору. — На меня всегда оказывают чудесное влияние
весна и тепло.
Он улыбнулся на прощанье; староста Браньский входил уже в
комнату.
В течение дня все шло обычным порядком. К обеду съехалось
несколько новых лиц из провинции, шляхтичей, с которыми гетман
весело и свободно разговаривал.
После обеда решено было ехать в Хорощу, но гетманша
чувствовала себя не совсем здоровой, а Браницкий изъявил желание
совершить эту поездку в небольшой компании и взял с собою
одного только полковника Венгерского.
По дороге разговора почти не было; гетман был сумрачен и
задумчив, а когда он бывал в таком настроении, никто не решался
с ним заговорить.
Карета остановилась около летнего дворца. Когда Венгерский
вышел из нее, гетман велел ему похлопотать об ужине, а сам
выразил желание зайти в расположенный поблизости от дворца
монастырь доминиканцев. Слугам, которые хотели было
сопровождать его, он приказал остаться, а сам медленно направился к
доминиканцам.
Здесь о всяком посещении высокого гостя знали обыкновенно
заранее, и духовенство устраивало ему торжественную встречу. Но
на этот раз Браницкий захотел явиться к братии неожиданно; когда
он появился у ворот, привратник заметил и узнал его и поднял
такой трезвон, что все монахи повыбегали из своих келий, как
будто на пожар. В монастыре поднялась невообразимая суматоха.
Браницкий был уже в коридоре, когда навстречу ему выбежал
запыхавшийся, вспотевший настоятель и при виде гетмана в
отчаянии всплеснул руками.
— Отец Целестин, — с улыбкой обратился к нему гетман, —
я зашел к вам на минуточку поговорить об одном деле. Проведите
меня в свою келью. Я не отниму у вас много времени...
Так как в это время успела уже сбежаться чуть не вся братия,
привлеченная звоном у ворот, то гетмана, старавшегося принять
веселый вид, с почетом проводили до помещения настоятеля и здесь
оставили их вдвоем.
227
Отец Целестин хотел было усадить гостя в парадное кресло,
угостить его чем-нибудь прохладительным, но гетман поблагодарил
его и, оглянувшись, сказал:
— Я должен сказать вам несколько слов, отец мой. Здесь, в
Борке, умер мой давний слуга, егермейстер; я хотел бы устроить
ему хорошие похороны. Не знаю уж, чья тут вина, но он за что-то
был в обиде на меня. Вдова от меня ничего не примет. Поэтому
я и прошу вас теперь же заняться погребением, не считаясь с
ними; я плачу за все... Но обо мне ни слова...
Настоятель склонил голову в знак послушания.
— Готовы исполнить желание вашего превосходительства
теперь, всегда и во веки веков... Духовенство совершит погребение,
не входя ни в какие денежные переговоры с семьей покойного,
и ксендз-распорядитель займется устройством погребальной
процессии.
— Но все это надо сделать поскорее, — прибавил гетман, —
а о моем посредничестве...
— Я помню... ни слова никому, — сказал настоятель.
Гетман все еще не садился и, чтобы переменить тему разговора,
спросил:
— Ну, как поживает ваш отец Елисей? Что он, жив? Здоров?
Вопрос этот был, по-видимому, неприятен настоятелю; он в
замешательстве опустил голову и, помолчав, тихо сказал:
— На несчастье наше, человек этот жив! Жив, хотя, говоря
по совести, если бы Бог во славу свою взял его от нас, то это
было бы лучше, чем продолжить его жизнь нам на горе.
Настоятель прервал свою речь, помолчал и докончил с грустью:
— Мы были вынуждены отвести ему отдельную келью,
запретив выход из нее в костел и проповеди с кафедры.
— Что же, он провинился в чем-нибудь? — спросил Браниц-
кий.
— Нет, это старец богобоязненный и примерной жизни, —
ответил настоятель, — его можно было бы поставить в пример
младшим, если бы не странные заблуждения, в которые он иногда
впадает и от которых одно спасение — принудить его к молчанию.
Ксендз Целестин вздохнул.
— Может быть, вам это покажется странным во мне, —
нерешительно начал гетман, — если я попрошу вас провести меня к
бедному старику. Сочтите это просто грешным любопытством
светского лица.
На лице настоятеля отразилась печаль и сильная растерянность.
— Я не хотел бы, — сказал он, — противиться желанию
вашего превосходительства, но... такое любопытство если не грешное,
то, во всяком случае, нескромное. Это — забава, от которой слезы
навертываются на глаза, потому что разум человеческий сходит с
прямого пути.
— Но ведь он был в полном сознании в последний раз, когда
я его видел? — возразил Браницкий.
228
— Лучше бы он уж не казался таким, чтобы не вводить никого
в заблуждение, — заметил настоятель.
— Но один разговор с ним ведь не повредит мне! — настаивал
гетхман.
— Я совершенно этого не боюсь, — запротестовал
доминиканец, — но, может быть, он произведет на вас неприятное
впечатление, потому что старик не желает и не умеет ни к кому
отнестись с почтением. Зачем же вашему превосходительству
подвергаться этому?
Браницкий, уже не возражая ничего на эти доводы, пошел к
дверям и сказал:
— Впустите меня на минуточку в его келью. Прошу вас.
Отец Целестин, исчерпав все убеждения, последовал за
гетманом, лицо его имело недовольное и озабоченное выражение.
Выйдя в коридор, он указал рукою дорогу к келье отца Елисея
и молча проводил его до нее. Шепнул только, что хотел бы
предупредить старика о посещении такого почетного гостя.
Пройдя еще несколько шагов, они остановились у порога кельи,
и настоятель отворил дверь в нее; в глубине маленькой,
полутемной кельи гетман различил старого, сгорбленного, совершенно
лысого монаха, стоявшего на коленях перед распятием со сложенными
руками и молившегося. У ног его лежал череп мертвеца.
Настоятель наклонился к нему и стал что-то шептать, но монах,
казалось, не слушал его и не обращал на него внимания; прошло
довольно много времени, прежде чем он, склонившись головой до
самой земли, медленно поднялся, и гетман увидел перед собою
совершенно дряхлого, высохшего, но не от лет, а от жизни монаха
в сильно поношенной одежде, который, поглядывая на дверь, искал
его взглядом.
Но в этом взгляде не было ни смирения, ни раболепства,
которое выказывали по отношению к такому высокому сановнику
все, не исключая и духовных лиц; вошедший был в глазах монаха
не гетман, а грешник и ближний.
Вся фигура этого старца, словно сошедшего с картины, была
идеалом аскета, который, живя в мире, не принадлежит ему. Следы
добровольного умерщвления тела и небесных восторгов
запечатлелись на его лице, внушая уважение и тревогу, а взгляд его
выказывал твердость и силу духа, которым ничто не могло противиться.
Глубоко запавшие живые глаза смотрели ясным взглядом,
проникавшим до глубины души и, казалось, видевшим то, что было
скрыто для всех. В линии крепко сжатых губ была горечь и
большая доброта, вернее, большое сострадание к людям, и печаль,
вызванная зрелищем их ошибок и неправедной жизни. На его лбу,
покрытом так же, как и все лицо, мелкими морщинками, лежала
печать задумчивости, окутывавшая его как бы облаком.
Гетман, войдя в комнату, склонил голову перед отцом Елисеем,
а настоятель, обеспокоенный предстоящим свиданием и как бы
предчувствуя, каким оно будет, поклонился Браницкому и, знаком
229
объяснив ему, что будет поджидать его неподалеку, вышел в
коридор.
Отец Елисей долго смотрел на вошедшего, не говоря ни слова;
он оглядел его с ног до головы, и еще яснее обозначилось на его
лице выражение сострадания.
— Что же, отец, разве ты не узнал своего старого
кающегося? — сказал гетман, приближаясь к нему.
Монах пожал плечами.
— Дитя мое, — сказал он, — если бы я сам забыл вас,
настоятель напомнил бы мне; поэтому не бойтесь, что я совершил
ошибку, не приветствуя вас, как надлежит. Но чего же вы хотите
от меня?
Он горько усмехнулся.
— Я жду от вас утешения, отец мой, — сказал гетман.
— Утешения? От меня? — повторил отец Елисей. — Такого
утешения, какое вам нужно, я вам дать не могу, а то, что я вам
могу дать, не будет для вас утешением!.. Дитя мое! — прибавил
он, как бы про себя. — Между вами, детьми света, и мною,
ушедшим из него, нет ничего общего. Я не понимаю вас, вы — меня!
Что мне до вас, и что вам до меня? Утешения, утешения! —
говорил он. — А заслужили вы его?
Он взглянул на гетмана.
— Я был и остался верным сыном костела, — сказал гетман.
— Да, так это называется, — возразил отец Елисей. — Раз в
год вы ходите к исповеди, а грешите ежечасно, основываете
монастыри, строите костелы, но все это для людей, а не для славы
Божией; раздаете милостыню, чтобы стоны бедных не прерывали
вашего блаженного сна; целуете руки у ксендзов, чтобы они
позволяли вам грешить и не осуждали. Ну, что же, может быть, вы
и сыны костела, но сыны Бога... сомневаюсь.
Гетман сделал невольное движение протеста.
— Но ведь наш костел вместе со своим главою есть
представительство Бога на земле.
Монах улыбнулся.
— И большего от вас требовать не может, — сказал отец
Елисей, — иначе вы бы все стали еретиками. Костел никого не
принуждает и многое оставляет на разрешение совести, с которою вы
входите в компромиссы.
Он вздохнул и помолчал.
— Чего вам нужно от меня? — уже другим тоном сказал он. —
Говорите прямо.
Браницкий опустил глаза.
— Отец, — внезапно решаясь, заговорил он, — вы умеете чк-
тать в людских душах; вы знаете, что я несчастлив; я пришел к
вам за советом и утешением. Вы знаете, кто я; все мне завидуют,
я достиг высшей власти, есть у меня ьсе: и богатство, и уважение
людей, и сила большая, какую только может дать мир... а здесь, —
он ударил себя в грудь, — пустота и мука.
230
Отец Елисей слушал в задумчивости.
— Языка моего не поймете, совета моего не послушаете, жизни
своей не будете в состоянии изменить, зачем же попусту бросать
слова, которые не принесут никому пользы. Счастье не там, где
вы его искали; вы добились всего, чего желала душа; неужели же
вы думаете, что если теперь будете ударять себя в грудь, дадите
денег на монастырь, построите еще костел, а жить будете
по-прежнему, то Бог приготовит для вас какое-то особенное счастье и даст
его вам, как своему избраннику? Вы думаете, мое дитя, что Бог
особенно озабочен судьбою графа Браницкого? Нет, право греха и
добродетели одинаково для тебя и для нищего! С тебя только
больше спросится, потому что тебе больше дано. То, что тебе кажется
твоей привилегией, явится для тебя бременем.
Гетман слушал, не прерывая ни одним словом.
— Отец мой! — сказал он наконец.
— Не говори ничего, потому что я хорошо знаю, что ты
можешь сказать в свою защиту. Вы — не дети Христа, потому что
Христос к своим детям предъявляет строгие требования.
— Значит, вы осуждаете меня и не даете никакой надежды? —
сказал гетман.
— Я не облечен властью от Бога и никого не осуждаю, —
возразил монах. — Бог может простить тебе, потому что ты из
тех, которые не ведали, что творили.
— Отец мой! — снова прервал Браницкий. — Вы владеете
пророческим даром, это всем известно.
— У меня нет этого дара, — отвечал монах, — но, глядя на
поступки людей и оценивая их, я вижу последствия, безразлично,
кто бы ни совершал их.
Гетман в замешательстве умолк; суровые ответы монаха
начинали уже раздражать его.
— Вы хотите знать ваше будущее? — с соболезнованием
спросил монах. — Бог не без причины скрыл его от вас и от других
людей. Вы желаете того, что было бы для вас гибелью и что сделало
бы невыносимою вашу жизнь! Оглянитесь на прошлое и догадаетесь
о будущем. Я вам ничего не могу сказать, кроме того, что ваши
поступки — это зерна для будущего посева. Господь Бог не сделает
для вас исключения, и если вы забросите в душу плевелы, то они
не обратятся ради гетмана в пшеницу. Поступки ваши мстят за
себя, подумайте об этом!
— На совести моей нет тяжких грехов, — сказал гетман.
— А вы думаете, что множество маленьких грехов менее весят,
чем тяжелые?
— Я вижу, что вы сегодня не расположены говорить со мной, —
сказал гетман, собираясь уходить, — может быть, другой раз я
попаду в более благоприятное время.
Отец Елисей взглянул на него.
— Это обычное человеческое рассуждение! Обычное! У меня
нет неприязни к вам, бедный человек, напротив, я очень вас жа-
231
лею, но мое сожаление ничему не поможет. Я знаю, — прибавил
он, — нам было бы во сто раз приятнее, если бы я говорил вам
не то, что думаю, если бы я сказал вам, что Бог наградит особыми
милостями основателя и покровителя стольких монастырей, если
бы я прославлял ваши добродетели, курил фимиам вашему
тщеславию и как ваш снисходительный исповедник в конфессионале
спросил вас: чем изволил ясновельможный гетман прогневить Бога?
Я не могу угощать вас такими речами, и потому отец-настоятель
прячет меня в келью, запрещает говорить проповеди с кафедры и
выслушивать исповедь кающихся: я больше считаюсь с Богом, чем
с ним... К чему же вы пришли сюда? Я могу напоить вас только
горечью...
У Браницкого зашевелилось что-то в душе, и на глазах
показались слезы.
— Я несчастлив, — сказал он, — а вы меня не жалеете.
— Ошибаетесь, — уже другим тоном возразил монах, — я вас
жалею, но бессилен помочь вам. Моя жалость вам не поможет; вы
скованы цепями, которые сами на себя надели. А за вами вслед
идут ваши дела... Сам Бог не может отнять у вас ваше прошлое
и то, что исполнилось, обратить в несовершившееся. Вы желали
от жизни наслаждений, она вам их дала; у вас были жены,
наложницы, любовницы, а между тем вы уйдете из жизни без
потомства, последним в своем роде, пустым колосом! У вас была
власть, но она может выскользнуть из ваших рук, потому что вы
легкомысленно разделили ее между людьми... Да будет милосердие
Божие над тобой!
Гетман стоял с выражением страдания и испуга на лице; это
пророчество совсем придавило его.
— Я не уйду из мира бездетным, — возразил он, — вы
ошибаетесь, отец.
— Нет? я не ошибаюсь, — сказал монах, — у вас могут быть
дети по крови, но они не признают вас, а вы — их... И кто знает,
не станут ли они по воле Божией врагами собственного отца...
В эту минуту гетман, видимо, вспомнил что-то, потому что
вздрогнул всем телом и вдруг бросился к выходу, словно убегая
от этих угроз, произнесенных с унизительным состраданием. Отец
Елисей сделал несколько шагов к нему, протягивая руки.
— Прости мне, дитя мое, — воскликнул он, — я напоил тебя
горечью; но чего можно еще ждать от сосуда, полного желчи?
Браницкий торопливо обернулся и, схватив руку монаха, стал
молча целовать ее.
— Ищи утешения в самом себе, а не во мне. Бог с тобой, Бог
с тобой.
Гетман немного пришел в себя.
— Но разве чистосердечная исповедь, раскаяние в грехах и
добрые дела не могут исправить прошлого?
— Они могут перетянуть чашу весов, но тяжести не снимут с
них, — возразил отец Елисей. — Не думай только, что твое золото
232
и то, что можно купить на него, будут что-нибудь весить на весах
ангелов. Нет, только слезы, печаль о содеянных грехах, смирение
и покорность...
Вдали послышался звон монастырского колокола, и отец Елисей
прервал свою речь.
— Настало время молитвы, — сказал он, — для гетмана я не
могу забыть Бога; иди с миром!
Говоря это, он повернулся и медленно со сложенными руками
направился к распятию, даже не взглянув на стоявшего у дверей
гетмана, который, несколько оправившись от первого впечатления,
не спеша вышел из кельи.
В коридоре его поджидал отец Целестин; с первого же взгляда
на гетмана он увидел, что разговор был не из приятных. Но
настоятель и не ожидал ничего иного и, желая загладить
впечатление, заметил сокрушенным тоном:
— Какая жалость, что у такого богобоязненного человека такое
замешательство в мыслях! Он страшно несдержан, а иногда с
амвона позволял себе такие выражения, которые могли бы сойти за
ересь, и поэтому-то мы должны были запретить ему проповеди.
Один раз он до того увлекся, что сказал своим слушателям в
костеле: если надо выбирать между домом и костелом, то лучше уж
пропустить обедню, чем отложить кормление голодного! А в другой
раз под видом слова Божиего проповедовал такую ересь, что мы
перепугались, как бы кара Божия не постигла весь монастырь, если
мы еще потерпим такие речи. Когда ваше превосходительство
пожелали видеться с отцом Елисеем, я предвидел, — прибавил
настоятель, — что вы рискуете подвергнуться каким-нибудь
неприятным увещаниям. Но не стоит принимать к сердцу того, что
болтает желчный старик!
— Это святой человек, — коротко возразил гетман.
— Но при своей святости он тем опаснее, — подхватил отец
Целестин. — Было бы лучше всего, если бы его перевели куда-
нибудь, где говорят на другом языке, там он оказал бы меньше
вреда, и я буду просить об этом у магистра ордена.
Браницкий не отвечал ничего и с пасмурным лицом вышел из
монастыря, сопровождаемый смиренным настоятелем, который
вывел его за монастырскую ограду. И хотел уже свернуть на площадь,
но в это время из главных монастырских ворот стали выходить
попарно доминиканцы, перед которыми несли черный крест и
траурную хоругвь.
Настоятель не сказал Браницкому о том, о чем ему только что
сообщили, что к монастнрю приближалось бедное погребальное
шествие с останками егермейстера из Борка. Впереди шел в черной
одежде один только ксендз... Вдали виднелась небольшая группа
провожатых, шедших за деревенской телегой с простым гробом,
прикрытым покровом; в телегу была впряжена пара черных волов.
Среди провожатых была одна женщина под густой черной
вуалью, — ее вел под руку высокий муж-шна. Несколько поодаль
233
медленно шли двое-трое приятелей. Заметив похоронное шествие,
к которому торопливо вышли навстречу, чтобы присоединиться к
нему, доминиканцы, гетман побледнел и, не желая быть узнанным,
не вышел на площадь, а остался около калитки, — отделенный от
площади толстой каменной стеной.
Настоятель, уже попрощавшийся с гетманом и собиравшийся
уходить, заметил, что он остановился, и занял выжидательную
позицию в нескольких шагах от него.
Между тем похоронное шествие медленно пересекло площадь и
направилось к кладбищу; раздался погребальный звон, в маленьком
местечке жители, выбегая из ворот, присоединялись к процессии.
Браницкий, не двигаясь с места, печальным и внимательным
взглядом следил за процессией, пока она не скрылась за оградой
кладбища.
Он ни на минуту не отрывался от этого печального зрелища,
которое произвело на него необычайно сильное впечатление: может
быть потому, что он еще слышал странные и суровые слова отца
Елисея.
В костеле еще звонили и на кладбище развевались хоругви,
когда Браницкий, уже не боясь, что его увидят, поспешил перейти
пустую площадь и направился к своему дворцу.
Обеспокоенный его долгим отсутствием, полковник Венгерский
ждал его. Зная пристрастие гетмана к веселой и легкомысленной
болтовне, которою его обычно развлекали, он еще издали
приветствовал его и сказал с улыбкой:
— Точно назло ксендзы вышли встречать ваше
превосходительство колокольным звоном и процессией! Как будто бы они,
зная о вашем прибытии, не могли отложить своих обрядов! Хо-
роща скоро станет совсем неинтересной, если вас будут так
принимать.
Браницкий сделал недовольную гримасу.
— Что же ты хочешь, полковник, — возразил он, — везде
люди умирают, невозможно же для меня задерживать похороны.
— Нет, извините, пожалуйста, — настаивал Венгерский, —
главное внимание должно быть обращено на высокопоставленных
людей. При первом же свидании с ксендзом я ему это скажу.
Гетман, усевшийся на лавке в садовой беседке, выглядевший
задумчивым и рассеянным, вместо того чтобы похвалить усердие
полковника, сказал только:
— Оставь меня, пожалуйста, в покое.
Тогда полковник перевел разговор на скандальную историю
Франи Черкасской, камер-юнгферы гетманши, которая согласилась
бежать с богатым паном, но и это не развеселило пасмурного
магната, который выслушал всю историю с презрительным и
равнодушным видом; должно быть, эту Франю он знал лучше, чем
Венгерский.
В этот день его трудно было развлечь; он отказался от
ужина, поел только немного земляники и так просидел молча до
234
прихода доктора Клемента, который только что вернулся с
похорон. Увидев его, гетман встал с места и, сделав ему знак,
медленно двинулся в глубину сада. Полковник остался на
крыльце. Отойдя на некоторое расстояние от дома, Браницкий
обратился к доктору.
— Возвращаешься с похорон? — спросил он.
— А вы, ваше превосходительство, совершенно напрасно
очутились там сегодня, — с упреком сказал доктор. — Жизнь дает
нам и без того достаточно печальных впечатлений, чтобы мы еще
сами искали их.
Гетман, не отвечая на эти слова, снова задал вопрос:
— Ну, что же там?
Вопрос этот был бы непонятен для другого, но Клемент понял
сразу.
— Великая сила духа у этих людей, — сказал он, —
жена не проронила ни одной слезы, сын собственными
руками уложил его в гроб и обсыпал цветами, а потом подвел
мать к гробу.
— Что же они думают делать? Мне их сердечно жаль...
— С этой силой духа они, без сомнения, сумеют примириться
с судьбой. Юноша любит мать и готов для нее на все...
— И что же, — сказал гетман ироническим тоном, — он
намерен работать на этом жалком клочке земли и вложить в него
все будущее?
— Я думаю, что нет, — отвечал Клемент, — мать не
согласится на это.
Разговор оборвался. Гетман, стоя над прудом, загляделся на
воду.
— Прошу тебя, дорогой Клемент, придумай средство, как бы
помочь им, не открывая источника помощи. Если неудобно
выступить тебе, то найди кого-нибудь, кому ты мог бы доверить это
дело. У егермейстера было много приятелей, потому что это был
человек добрый и великодушный. Ко дню святого Яна здесь
соберется множество народа: выбери кого-нибудь и заинтересуй его
судьбой этого мальчика и вдовы...
— Эта роль подошла бы лучше всего старому Кежгайле, —
сказал доктор.
— С этим сумасшедшим гордецом нельзя иметь никакого
дела, — прервал гетман, — ты должен выбрать кого-нибудь другого.
— Брат покойного тоже мало принесет пользы, — сказал
Клемент.
Гетман пренебрежительно махнул рукою.
Вдали показался полковник Венгерский с каким-то другим
мужчиной в мундире; гетман, увидев их, вздохнул и, обращаясь к
доктору, ворчливо пробормотал.
— И здесь не дают мне покоя. Несносные приставалы!
Но, окончив эту фразу, гетман, привыкший к своей роли
высокого сановника, придал своему красивому лицу спокойное выра-
235
жение, гордо выпрямил стан и с улыбкой поджидал приближения
гостя, которого он назвал приставалой, готовясь встретить его как
можно любезнее.
В этот вечер в Борках была та же зловещая тишина, которая
царила в усадьбе со времени болезни егермейстера. На короткое
время она была прервана молитвами ксендзов и рыданиями слуг;
но теперь она воцарилась снова, еще более страшная, потому что
за ней уже не было ни одной искры надежды...
Клемент не преувеличил ничего, рассказывая гетману о силе
духа, проявленной вдовой.
Горе привело ее в состояние оцепенения, но глаза ее не
проронили слез.
Вернувшись с сыном из Хорощи, она села рядом с ним
на крыльцо, где так часто сиживала раньше вместе с мужем,
думая и разговаривая о Теодоре; держа в холодных руках
руку сына и всматриваясь во мрак наступающей ночи, она
молчала.
На небе показались звезды, но мрак стал еще гуще; у Беаты
не было сил, чтобы подняться и войти в пустой дом. Несколько
раз сын напоминал ей, что холод и роса могут быть вредны
для нее; но она, не отвечая, только отрицательно качала
головой.
Казалось, в этом долгом молчании она приводила в ясность
мысли, которыми хотела поделиться с сыном.
Слуги ждали, обеспокоенные тем, что господа еще не ложатся
спать, и не решались укладываться раньше их.
Старая ключница несколько раз подходила к пани и
напоминала ей, что уже поздно и пора уходить с крыльца в дом. Но
вдове, вероятно, было легче дышать на открытом воздухе.
Около полуночи она глубоко вздохнула, пошевелилась и, снова
схватив руку сына, которую она в забывчивости выпустила из
своих холодных рук, обратилась к Теодору:
— Того, кто один на свете любил нас обоих, больше нет!
Этот лучший, благороднейший из людей, замучил себя работой
для нас. Только я одна знала, сколько в нем было
самопожертвования и молчаливого героизма! Даже ты не можешь оценить
его так, кгк я.
— Ах, дорогая матушка, ведь и я любил его не меньше, чем
ты! — воскликнул Теодор.
— Но ты не мог знать его так, как я, — прервала мать, —
ты не мог знать этого мученика и святого человека. Теперь моя
очередь принять на себя завещанное им и работать...
— Прошу извинения, матушка, — сказал юноша, целуя руку
матери, — очередь не за тобой, а за мной. Вы оба несли тяжесть,
которой я даже не чувствовал и даже не понимал, что она лежит
на ваших плечах.
236
— Слушай меня и не прерывай, — повелительно сказала
мать. — От бремени никто не избавлен, нам надо только
справедливо поделить ношу. У тебя тоже будут свои заботы... Я — твоя
мать и опекунша и я должна подумать о твоей судьбе... Ты говорил
мне о ксендзе Конарском и о князе канцлере; не следует
отказываться от предложения; ты должен скорее вернуться в Варшаву,
завязать знакомства и все силы употребить на то, чтобы подняться
как можно выше.
— Я не честолюбив, — возразил Теодор.
— Ты должен быть таким если не для себя, то для меня, —
живо подхватила мать. — Моя семья отшатнулась от меня, отец
от меня отрекся... — Тут рыдания прервали ее речь. — И я хочу,
чтобы ты собственными силами поднялся так высоко, чтоб и меня
поднять вместе с собой... Я вымолю тебе у Бога успех: у тебя есть
способности, тебе нужна только воля, какую я хотела бы вдохнуть
в тебя. Ты будешь работать не для себя, а для меня, — и выведешь
меня из этой бездны отвержения.
Она встала и закончила тоном все возрастающего
воодушевления:
— Это была воля покойного, — а также и моя, и теперь это
должно быть твоим предназначением...
— Ах, дорогая моя матушка, — ломая руки, отвечал юноша, —
ты возлагаешь на мои плечи тяжелое бремя, хотя и не то, которое
я сам себе выбрал. Но там я знал, что справлюсь, а здесь — я не
в силах один снести его... Где же силы? Где оружие? Радом с
людьми, которые вырастают в силе и влиянии, я чувствую себя
маленьким и слабым. То, чего ты от меня желаешь, требует не
только талантов, но и силы духа, и железной воли, которой у меня
мало.
— Любовь ко мне даст тебе ее, — воскликнула мать.
Теодор почти в испуге склонил голову.
— Это выше моих сил, матушка, — отвечал он. — В
продолжение всех этих лет, которые я провел в Варшаве, я, хотя и
находился в стенах монастыря, куда меня приняли неизвестно по
чьей милости...
— Милости? — прервала мать. — Да это вовсе не была
милость; видели твои способности и оценили их!
— Во время моего пребывания в нем, — продолжал
Теодор, — хотя я и был вдали от света, который является ареной
для честолюбивых, я все же немало разных вещей наслушался
о нем, а иной раз передо мной вдруг приподнимался уголок
занавеси, закрывавшей сцену; я уже знаю о нем кое-что, знаю,
какими способами и усилиями люди добиваются власти и
значения... Теми путями, которыми взбираются в гору, ты сама не
позволила бы идти своему сыну. Величие это покупается дорогой
ценой...
— Ты ошибаешься, — прервала его егермейстерша, — путь к
вершине славы не один. Тот, который ты видел и который пока-
237
зался тебе омерзительным, ведет в гору тех, что потом скатываются
с нее в бездну... Рано или поздно презрение людей свергнет их
оттуда... Но есть другой путь — путь труда и применения своих
способностей, и этим можно всего добиться.
— У нас? Теперь? — возразил Теодор.
Мать, услышав этот вопрос, насторожилась.
— Дитя мое, — воскликнула она, — чего же ты там
насмотрелся? Где видел зло?
— Если бы я закрыл глаза, то и тогда увидел бы его, —
отвечал Теодор. — Достаточно мне было послушать моего учителя,
который особенно благоволил ко мне, ксендза Конарского...
— Но именно этот твой учитель, — возразила мать, —
принадлежит к числу тех, которые несут лекарства против зла.
— Но еще не нашли его, — сказал Тодя. — Зло росло слишком
долго и пустило слишком глубокие корни; люди питались им и
отравились. Все стало продажным, загрязнилось и испортилось...
— Но именно там, где так много зла, и является большая
потребность в исправлении его, честный человек имеет огромную
цену, — сказала егермейстерша. — К сожалению, я знаю этот свет
лучше тебя. Испорченность дошла там до крайности; но уже
пробуждается стремление к чему-то лучшему. Конарский
рекомендовал тебя Чарторыйским — иди же, иди!
Теодор молчал.
— Дорогая матушка, у нас еще будет время поговорить об
этом, — проговорил он наконец, — а теперь не пойти ли тебе
отдохнуть?
— Мне? Отдохнуть? — со страдальческой улыбкой отвечала
она. — Иди ты, если тебе нужен отдых, а я отдохну только тогда,
когда истощатся все силы и я упаду от усталости, — тогда и
отдохну, а теперь...
Она пожала плечами и села на лавку.
— Разве ты хотела бы, — сказал Теодор, подумав, — чтобы
я оставил тебя здесь одну со всеми заботами и хлопотами бедного
маленького хозяйства?
— Но что же делать? — спросила егермейстерша.
— Ну уж, наверное, не это, — сказал Теодор. — Покойный
отец не позволял тебе заниматься этим; и я не позволю...
— Я — твоя мать, — сказала Беата. — У меня есть своя воля,
и я не позволю тебе противиться ей. И притом должна тебе сказать,
что из великой любви ко мне ты рассуждаешь неправильно. Это
жалкое хозяйство оторвет меня от моего горя, направит мысли мои
на другое, утомит меня, и это уже будет для меня благодеянием.
Я не позволю тебе закопать себя в деревне, в этом убогом Борку.
Теодор подумал немного.
— Ну, так послушай же и ты меня, — сказал он, — может
быть, и я не всегда рассуждаю неправильно. Может быть, нам
удастся согласовать твои требования с моими опасениями за тебя.
— Каким же образом?
238
— Послушай, — сказал Теодор. — Отец имел что-то против
гетмана...
Он взглянул на мать, сурово сжавшую губы.
— Гетман сохранил расположение к отцу. И наверняка охотно
возьмет меня к себе на службу. Из Белостока я смогу хоть каждый
день приезжать к моей дорогой матушке и таким образом, работая
для своего будущего, буду заботиться и о тебе.
Пока он говорил это, нахмурившееся лицо матери так меняло
выражение, что он встревожился и умолк.
Видно было, что Беата боролась с собою, всячески сдерживала
готовый вспыхнуть гнев или какое-то другое чувство.
Теодор, не давая ей заговорить, прибавил:
— Все хвалят гетмана, говорят, что это магнат из магнатов,
щедрый, благородный, добрый...
— Да, да! — с горечью возразила егермейстерша. — Добрый,
щедрый, благородный; бывают минуты, когда он увлекает людей,
искусно обманывая их несбыточными надеждами, — и пользуется
их доверием. Но на все эти его добрые качества и на его
великодушное сердце совершенно нельзя рассчитывать. Это
комедиант большого света; я даже не знаю, чувствует ли он сам,
когда он играет, а когда бывает самим собою; никто теперь не
разгадает этой загадки. Он умеет быть великодушным и
беспощадно жестоким, искренним и лживым; ни одна минута его
жизни не имеет связи с другой, в ней нет никакого порядка, а
совесть его не знает угрызений. Он пресыщен и утомлен жизнью,
все ему надоело; переходя от добра ко злу, он стал существом,
которым, как игрушкой, забавляются те, которые ему же
отвешивают поклоны... В моих глазах он хуже последнего из людей;
тот, по крайней мере, не носит личины, и от него можно
убежать, как от ядовитой змеи; он же не умеет быть ни злым, ни
добрым, — и достоин только презрения, — закончила
егермейстерша.
Теодор, пораженный этими словами и как бы не желая верить
им, воскликнул:
— Матушка, неужели же гетман таков?
— Да, все это так, — отвечала Беата, — другие пусть
кланяются, угождают ему, но я не хочу, чтобы у тебя было ложное
представление о нем. Таким я знаю его и потому я не допущу,
чтобы ты вдохнул в себя при его дворе эту атмосферу лжи и
обмана, испортился и погиб. Сын обязан продолжать дело отца и
воплощать в жизнь его заветы. Если отец, как ты сам говоришь,
имел что-то против него, ты должен считаться с этим, не
рассуждая; он лзбегал гетманского двора, ты должен следовать его
примеру. Если бы ты поступил иначе, ты оскорбил бы память отца.
Теодор чувствовал, что мать была права; егермейстерша
взглянула на сына и продолжала более спокойным тоном:
— Возможно, что гетман, исполненный тщеславия и не
терпящих!, чтобы кто-нибудь держался от него в стороне, захочет при
239
посредстве своих доверенных прийти к нам на помощь и навязать
нам какое-нибудь благодеяние; мы не можем принять его! Ни я,
ни ты.
Она кинула быстрый взгляд на сына, словно желая проникнуть
в глубину его души; но не нашла в ней ничего, кроме слепого
послушания.
Теодор молчал, решив уступить ей во всем, и мать села подле
него, подперев руками голову.
Прошло довольно много времени, прежде чем Теодор заговорил.
— Не могу ли я узнать, в чем же провинился гетман перед
вами с отцом? Отец никогда не хотел говорить со мною об этом.
Пока я был ребенком и пока он был жив, я мог оставаться в
неведении, но теперь...
На лице егермейстерши отразилось сильное волнение, но она
овладела собой и сказала:
— Отец унес эту тайну с собой в могилу, и, если он так
поступил, значит, у него были свои причины, которых мы не должны
доискиваться! Не спрашивай меня! С твоей стороны будет гораздо
большей заслугой, если ты будешь просто слушаться меня.
И, говоря это, она обхватила руками его голову и со слезами
начала целовать его.
— Дитя мое, —- сказала она, — будущее в твоих руках, оставь
нам прошлое; два бремени лягут на твои плечи, и я не знаю,
которое из них тяжелее; останься там, где ты был, и будь мне
послушен!
Теодор, взяв ее руки, прижался к ним губами и замолчал.
Разговор этот занял большую часть ночи. Наконец силы
женщины истощились, она позволила проводить себя в дом и там, упав
на кушетку, погрузилась в состояние полубодрствования-полусна;
тело жаждало отдыха, но нервное возбуждение и душевное
страдание отгоняли сон. Сын и служанка не оставляли ее до утра.
Бесконечно долго тянулась весенняя ночь; но настало утро, а с
ним — успокоение и сон.
Теодор не смел послать за доктором Клементом, но надеялся,
что тот сдержит свое обещание и приедет сам. Однако только после
полудня, уже ближе к вечеру, послышался стук знакомой каретки,
подъезжавшей к самому крыльцу усадьбы.
Егермейстерша должна была лечь в постель, и юноша один
вышел к доктору. Внимательный Клемент, узнав о состоянии
здоровья Беаты, тотчас же поспешил к ней. Тут ему нечего было
делать — опасности никакой не было, — а утомление, упадок сил
и печаль лучше всего излечиваются временем.
Посидев немного около бедной женщины, доктор сделал знак
Теодору, что не следует утомлять ее разговором, и вышел вместе
с юношей в сад.
Из всех прежних знакомых и приятелей семьи егермейстера
Клемент был известен как самый верный друг, от которого не было
тайн.
240
Добрый француз с чувством отеческой нежности взял юношу
под руку и начал утешать и ободрять его, видя, что он совсем
упал духом.
— Ты молод и должен владеть собою, — сказал он, — печаль
о том, что совершилось и чего нельзя поправить, только напрасно
истощает силы человека... У тебя есть мать, о которой ты должен
думать, и — будущее открыто перед тобой...
— Я и думаю о матери, — возразил Тодя, — о себе думать —
не время; но к чему эти размышления, когда все пути для меня
закрыты?
Доктор стал расспрашивать, и Тодя передал ему весь свой
разговор с матерью, не скрыв и того, что ему было запрещено
обращаться к гетману или к деду и что мать требовала от него, чтобы
он, не заботясь о ней, возвращался поскорее в Варшаву и поступил
на службу к Чарторыйским.
— Что касается твоей матери, то ты можешь о ней не
беспокоиться, — сказал Клемент, — потому что мы, то есть я, будем
заботиться о ней; но вот служба у Чарторыйских мне не нравится.
Мне было бы приятнее видеть тебя на службе у гетмана.
— Но мать не согласится на это! — сказал Теодор.
— Нужно переждать немного, — шепнул доктор, — может
быть, нам удастся уговорить ее.
— Я в этом очень сомневаюсь, — закончил сын. — Она
предвидела даже то, что совершенно невозможно, — именно, что
гетман сам захочет перетянуть меня к себе, и она заранее
заявила мне, что всякое благодеяние с его стороны для нас
неприемлемо.
Клемент взглянул на него, пожал плечами и не сказал ничего.
— Должен тебе признаться, — начал он снова, когда они
очутились в глубине сада, — что я, имея на все это свою точку
зрения, имел для тебя некоторые проекты. Убежденный в том, что
мать со временем смягчится и изменит свое несправедливое
отношение к гетману, я предполагал сам отвезти тебя в Белосток и
представить нашему пану. Приближается торжество святого Яна,
у нас будет множество гостей, — в толпе легко можно пройти
незамеченным. Вот я и думал, что ты смешаешься с толпой, потом
представишься гетману, и я уверен, что гетман отнесся бы
благосклонно к сыну своего прежнего служащего, которого он всегда
любил... Кто знает, каковы были бы последствия?
Теодор, которому понравилось это предложение, не отвечал
ничего, потому что был уверен, что оно неисполнимо. Воля матери
была слишком ясно выражена.
Доктор не настаивал больше; он в задумчивости прошелся
несколько раз по саду, потом взглянул на часы и вместе с Теодором
вернулся к егермейстерше. Он сел подле ее кровати и, видя, что
она не спит, завел разговор на посторонние темы.
Беата жаловалась, что силы оставили ее как раз тогда, когда
они ей всего нужнее.
241
— Они быстро вернутся, — сказал Клемент, — и я мог бы
найти средство, чтобы это случилось в самое непродолжительное
время, но для этого надо... для этого надо...
— Чего же надо? — спросил сын.
— Чтобы вы, сударь, приегали ко мне сами завтра утром за
лекарством, которое я приготовлю, и осторожно, не взболтнув,
привезли его матери.
— Да я готов хоть сейчас ехать! — воскликнул Теодор.
— Как? Он должен ехать в Белосток? — прервала мать.
— А что же такое? Белосток и мой дом зачумлены, что ли?
Что же случится с вашим сыном, если он заглянет в мою усадьбу?
Беата, сдвинув брови, хмуро поглядела на доктора.
— Было бы просто смешно, — прибавил Клемент, — если бы
вы запрещали ему даже по своим делам ездить в город только
потому, что вы не желаете иметь сношений с гетманским двором.
Егермейстерша слегка покраснела и не решилась возразить, а
доктор прибавил добродушным тоном:
— Ну, значит решено! Я буду ждать завтра его и никого
другого. Юноша проедется, рассеется, и это будет ему полезно.
Говоря это, он встал и, избегая возражений со стороны больной,
поцеловал ее руку и поскорее ушел. Уже сидя в кабриолете,
Клемент еще раз напомнил Теодору, чтобы он сам приехал к нему.
Когда сын вернулся к матери, он вынужден был выслушивать
ее упреки доктору за чудачество и за упрямство, с которым он
требовал выполнения своих сумасбродных проектов. На другой день
обеспокоенная егермейстерша снова призвала к себе Теодора,
готовившегося к отъезду, и стала упрашивать его не задерживаться
в городе и у доктора, а поскорее возвращаться, так как она будет
бояться за него.
— Никакое лекарство не поправит того, что причинит мне это
беспокойство. Ты знаешь, как я ненавижу этот город, самого
гетмана и всех тех ничтожных людей, которые его окружают. Только
доктор составляет исключение. Бери коня и поезжай, но не
задерживайся там и скорее возвращайся.
Повторив ему это несколько раз, мать наконец отпустила его.
Теодор, выбрав в конюшне лучшего коня, уехал с твердым
решением сделать все так, как хотела мать.
Доктор Клемент просил его приехать после обеда, так как в
это время он был свободнее, и Тодя рассчитал время, чтобы
прибыть как раз в назначенный час.
Домик доктора находился рядом с главными воротами в виде
башни, которая образовывала великолепный въезд во дворец
гетмана. Домик был окружен садом, к которому примыкал дворцовый
парк.
Незаметная тропинка, начинавшаяся за служебными
постройками, вела к самому гетманскому дворцу. Француз любил комфорт
и изящество, и потому небольшой домик, выстроенный для него,
принадлежал к числу красивейших во всем белостокском посаде.
242
Подъехав ближе, Теодор заметил на большом дворе оживление и
движение: здесь стояли экипажи гостей, уже начинавших
съезжаться на празднества святого Яна. Около башни и сторожевого поста
сновали отдельные группы военных: тут была венгерская пехота,
янычары, гусары.
Подъехав к самому домику, Тодя некоторое время не знал, как
ему быть с конем, но в это время из дверей выбежал мальчик-
слуга, взял коня и указал гостю, куда идти. Клемент встретил его
с улыбкой и провел в свой изящно убранный салон, уставленный
цветами и загроможденный множеством безделушек на память от
пациентов в благодарность за выздоровление. Здесь даже в ясный
день царствовал полумрак, потому что окна были закрыты цветами
и ветвями деревьев.
Поздоровавшись с гостем, Клемент усадил его.
— Дорогой доктор, — сказал Теодор, — мать велела мне
сейчас же возвращаться.
— Но дай же отдохнуть коню и себе! — вскричал Клемент с
оттенком нетерпения в голосе. — Выпьешь кофе, или это тоже
преступление? Но без угощения я тебя не отпущу; это уж ваш
польский обычай...
— Но мать, мать! — прервал Тодя. — Ведь я дал ей слово.
— Без лекарства ведь не вернешься, — почти с гневом
вымолвил доктор, — а у меня этого лекарства нет, я еще должен послать
за ним. И это лекарство не что иное, как старое венгерское,
которое егермейстерша должна будет пить по рюмке в день. Только
не взболтай его по дороге. Пока его принесут мне из гетманских
погребов, ты успеешь отдохнуть, и конь твой тоже.
Сказав это, доктор вышел и, шепнув что-то на ухо слуге,
вернулся к гостю с повеселевшим лицом.
В шкафу нашлась уже начатая бутылка. Клемент налил вина
в рюмки и почти силою заставил Теодора выпить.
— Выпей, ведь и тебе необходимо подкрепиться после всех этих
огорчений, которые тебе пришлось вынести.
Потом он спросил его о здоровье матери, заговорил о себе и,
стараясь развлечь хмурого юношу, рассказал ему несколько
анекдотов, ходивших по городу.
Теодор слушал, едва понимая, что ему говорят, и все время
посматривая в окно и на дверь, не возвращается ли посланный;
прошло с полчаса, в сенях послышался шум шагов, двери широко
раскрылись, и Теодор увидел входившего в комнату высокого,
статного, уже не молодого мужчину, в котором по лицу и одежде
нетрудно было узнать гетмана. Юноша смертельно побледнел, не
зная, что ему делать, но Клемент живо подскочил к гетману, низко
поклонился ему и выразил свое несказанное удивление по поводу
его посещения.
— Я три раза посылал за тобою, — ласково сказал гетман, —
но что же делать, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет
к горе.
243
Говоря это, Браницкий повернулся в сторону растерявшегося
юноши и громко спросил у доктора: кто это?
— Это сын недавно умершего егермейстера Паклевского, —
отвечал Клемент, — имею честь представить его вашему
превосходительству.
Покрасневший Теодор поклонился и хотел отойти в сторону.
— Я очень уважал вашего отца, сударь, — сказал гетман. —
Это был человек справедливый, высоких душевных качеств, и,
когда он по какому-то капризу оставил службу у меня, я всегда жалел
о нем, потому что никто не мог заменить такого друга, а не слугу.
Гетман медленно прошел к дивану, сел и, внимательно
приглядываясь к Теодору, напрасно избегавшему его взгляда, начал
расспрашивать его:
— Где же вы, сударь, были все время? Ведь уж, наверное, не
сидели при родителях?
Теодор волей-неволей принужден был отвечать; доктор
незаметно подталкивал его вперед.
— Я проходил науки у ксендзов пиаров в Варшаве, — сказал
он.
— И что же вы, сударь, думаете делать с собой дальше? —
продолжал гетман, не спуская глаз с терявшегося все более и более
Теодора.
— Пока я еще ничего не решил... Все зависит от воли матери...
Гетман умолк; рука его машинально играла стоявшей перед
ним рюмкой, а глаза не отрывались от лица смущенного и
растерянного юноши.
— Да, — прибавил он неторопливо, — я очень уважал вашего
отца, сударь, и очень жалею о нем. Он был на меня за что-то в
обиде, держался вдали от Белостока; я знал об этом, но не хотел
принуждать его... Но теперь, когда вы, сударь, остались сиротой,
а я хорошо помню все заслуги вашего отца, я прошу вас
рассчитывать на меня как на друга...
Теодор поклонился молча, но без преувеличенной
почтительности.
— Если вы, сударь, окончили науки у пиаров, то, верно, знаете
ксендза Конарского? — спросил гетман.
— Могу похвалиться его расположением ко мне, — отвечал
Теодор.
— Это великий государственный муж и разумный человек, —
вполголоса заговорил Браницкий, — жаль только, что он увлекся
мечтами, хотя и прекрасными, но неисполнимыми в жизни. Это
большое несчастье, потому что к большим заслугам присоединяется малая
осведомленность о своем обществе. Почтенный капеллан хотел бы
сделаться основателем Речи Посполитой, а это совсем не его дело!
Гетман проговорил это, как бы про себя, горестно
усмехнувшись.
— Не уговаривал ли он вас вступить в число братии? —
обратился он к Теодору.
244
— У меня нет к этому призвания, — коротхо отвечал молодой
Паклевский.
— Это высокое и прекрасное призвание, но не для всех, —
говорил гетман. — Иу, а как вы относитесь к рыцарской службе?
Теодор молчал, боясь проговориться о чем-нибудь, что могло
бы связать его. Браницкий, не дождавшись ответа, прибавил сам:
— Ив канцелярии можно с пользою послужить родине. Почему
же нет?
Видя, что юноша молчит, гетман выразительно посмотрел на
доктора, тот ответил ему едва заметным наклонением головы,
после чего Браницкий медленно поднялся с дивана, словно собираясь
уходить, но почему-то медлил и поглядывал на Поклевского, как
будто чего-то ожидал от него. Но тот, боясь только одного, как
бы не преступить воли матери, упорно молчал.
— Прошу вас, сударь, во всяком случае, считать меня своим
другом и опекуном, — прибавил гетман, видя молчаливое
упрямство бедного юноши.
Проговорив это, он еще раз взглянул на него и медленным
шагом, сопровождаемый доктором Клементом, вышел из дома и
пошел по тропинке, которая вела к самому дворцу.
Когда француз, проводив его, вернулся к покинутому им в
салоне Теодору, он нашел юношу еще под впечатлением этого
свидания, которое, по-видимому, больше растревожило, чем
обрадовало его.
Доктор, напротив, вернулся в самом веселом настроении.
— Вот счастливая случайность, — начал он, входя, — она
может принести вам, сударь, больше пользы, чем все старания.
Гетман говорил мне, что вы понравились ему, как своими манерами,
так и своей скромностью...
— Умоляю вас, доктор, — прервал его Теодор, — об этом
счастливом или несчастном случае не говорите моей матери... Она бы
могла заболеть от огорчения, если бы узнала...
Клемент пожал плечами.
— Всякий другой на твоем месте воспользовался бы этим! —
прибавил он вполголоса.
— Но я не распоряжаюсь сам собою!
Француз прошелся взад и вперед по комнате, засунув руки под
полы фрака, с несколько кислым видом.
— Мать ждет меня и беспокоится, — тихо проговорил Теодор.
— Ну, так и поезжай с Богом, — сердито ответил доктор и,
принеся откуда-то из глубины дома бутылку старого венгерского,
осторожно завернул ее в бумагу, отдал юноше, напомнив еще раз,
что ее надо положить за пазуху и везти как можно осторожнее.
Получив лекарство, Теодор поспешил к своему коню и выехал
из Белостока с чувством какой-то совершенной им оплошности;
хотя не было никакой возможности предупредить то, что случилось.
Только в пути он несколько успокоился; гетман, во взгляде и
речах которого было много доброты и предупредительности, про-
245
извел на него совершенно иное впечатление, чем то, к какому он
был подготовлен рассказами матери. Он не чувствовал в нем
неискренности и искусственности; а его добрые слова об отце и
высокое великодушие, прощавшее прошлые обиды, тронули его до
глубины сердца. И ему было жаль терять то, что могло бы дать
ему расположение Браницкого.
Погруженный в мечты и бережно храня вино, спрятанное на
груди, ехал Теодор домой, заранее придумывая объяснения своего
опоздания перед матерью; но вдруг на дороге, ведущей в Хорощу,
он увидел огромный тарантас в шесть коней, с которым,
по-видимому, что-то случилось, потому что он лежал на боку на земле,
а около него суетились люди; тут же стояли две дамы в кринолинах
и светлых платьях с локонами на голове, склонившись над третьей,
которая лежала на траве как будто в обмороке.
Теодору невозможно было проехать незамеченным мимо
сломанного тарантаса. Сначала он подумал было свернуть с дороги и
объехать полем, но потом ему показалось неловким избегать
встречи с людьми, которые могли нуждаться в помощи. А может быть,
и юношеское любопытство заставило его подъехать поближе к этим
кринолинам в локонах.
Сдерживая коня, он начал медленно приближаться к ним,
внимательно присматриваясь к этим путешественницам, вынужденным
ждать на проезжей дороге чьей-нибудь помощи.
И экипаж, и кони, очевидно, принадлежали людям
состоятельным, заботившимся о пышности выезда.
У тарантаса была сломана ось, и он лежал на боку на земле.
Кучер и форейтор стояли рядом с лошадьми, еще один слуга
доставал что-то из глубины перевернутого тарантаса. До слуха
Теодора долетали пискливые женские голоса. Несколько раскрытых
коробов лежали на земле.
Паклевский не мог рассмотреть лежавшую на земле даму,
потому что ее заслоняли две другие, суетившиеся подле нее.
Обе они были еще не стары, а та, что помоложе, поражала с
первого взгляда своей необыкновенной красотой. Это был нежный
цветок, а причудливый наряд сидел на ней так, как будто бы она
в нем и родилась. Ее маленькая, изящная фигурка, с головкой,
украшенной светлыми локонами, уложенными в изысканную
прическу, в кружевах, в шелковом платье, затканном веселыми
букетами, в туфельках на высоких каблуках, которые еще более
уменьшали ее и без того крошечную ножку, имела в себе что-то
такое неотразимо привлекательное, что невозможно было оторвать
от нее взгляда. Несмотря на катастрофу в открытом поле на
проезжей дороге, несмотря на обморок спутницы, это жизнерадостное
юное создание бегало, прыгало, хлопало в ладоши, кружилось, как
птичка, и, казалось, веселилось от души и забавлялось создавшимся
положением.
Розовое личико девушки напоминало изображение ангелов в
костеле; на этом милом личике сияли васильковые глаза, а когда
246
яркие губки украшались улыбкой, то на щечках выделялись две
ямочки как будто предназначенные для поцелуев. И вся она была
такая юная и нежная, как будто и воздух, и солнце не касались
ее лица.
Рядом с этим игрушечным созданием стояла высокая, довольно
полная дама, лет тридцати с небольшим, очень красивая и очень
нарядная, с мушками на продолговатом лице, с черными глазами,
волосами и бровями, в платье с воланами, подхватами, кокардами,
шнурками, очень сильно декольтированная, что было ей к лицу,
и, склоняясь над лежавшей на земле, старалась успокоить ее и
привести в чувство.
У дамы, лежавшей на земле, была под головой подушка,
взятая из тарантаса, прическа ее была растрепана, лицо бледно,
глаза закрыты. Первое впечатление испуга при падении уже прошло,
и она начинала успокаиваться, но время от времени из груди
ее доносился стон, и тогда желтые, худые и некрасивые руки ее
конвульсивно подергивались. При каждом таком припадке
старшая из женщин, стоявшая над нею, старалась уговорить и
успокоить ее.
— Chere! — воскликнула она. — Не надо же так волноваться.
С тобой может сделаться истерика.
— A, a! Cest plus fort que moi!1 — говорила лежавшая дама.
— Да ведь никто из людей и из нас не пострадал...
— Примите, тетя, бобровые капли, они всегда вас
успокаивают! — вступила в разговор хорошенькая паненка.
Но лежавшая, не обращая внимания на все уговоры и
успокоения, не переставала издавать сдавленные крики.
Как раз в эту минуту дамы заметили подъезжавшего Теодора.
Он был еще настолько далеко, что не мог их слышать. Дама
брюнетка первая смерила взглядом знатока приближавшегося юношу,
и так как Паклевский был, действительно, на редкость красив
собою, то она не могла удержаться от негромкого восклицания:
— Но какой прелестный юноша! Какой прелестный!
Девушка с любопытством повернулась, и Теодор увидел
устремленные на него с детской смелостью голубые глазки, но что
всего удивительнее, — лежавшая в обмороке дама подняла голову
и принялась торопливо оправлять рассыпавшиеся волосы,
совершенно забыв о спазмах. Зажмуренные глаза ее раскрылись и вместе
с другими обратились на Антиноя, который, заметив устремленные
на него любопытные взгляды, страшно смутился и уже хотел
подхлестнуть коня, чтобы свернуть и проехать мимо дам, которым он
был, по-видимому, не нужен, когда старшая пани, брюнетка,
повелительным знаком приказала ему остановиться. Не было никакой
возможности противиться воле женщины, очутившейся в подобном
положении. Теодор задержал коня и, соскочив с седла, с поклоном
приблизился к дамам.
1 Это выше моих сил! (фр.)
247
— Пан — местный житель? — спросила брюнетка.
— Я здесь всего несколько дней, — сказал Теодор, — но мои
родные живут недалеко отсюда.
Когда он говорил это, все три женщины с нескрываемым
любопытством разглядывали его.
Молоденькая девушка не уступала старым в смелости и
решительности взгляда.
— Ради Бога, — прибавила брюнетка, — достаньте нам
кузнеца, каретника, людей и помощь. Полчаса тому назад наш слуга
поехал в этот... в эту... Ну, как это называется? — спросила она,
указывая рукою на видневшуюся вдали Хорощу.
— Местечко Хороща, — сказал Тодя.
Женщина, сидевшая на земле, прервала его.
— Ma foi — прелестное местечко! И оно еще имеет претензии
называться местечком?
Розовый амурчик расхохотался, показывая жемчужные зубки.
Смех этот был так заразителен, что даже Теодор, не имевший ни
малейшей охоты смеяться, взглянув на смеющуюся куколку, не
удержался от улыбки.
— Я как раз еду в Хорощу, — сказал он, — и постараюсь
прислать оттуда людей!
— Но в Хороще... а чье это местечко? — спросила Старостина.
— Пана гетмана из Белостока, — отвечал Паклевский.
— Но там же должны быть экипажи, — пусть вышлют нам!
— Вы, сударь, наверное, состоите при этом дворе, — сказала
сидевшая на земле.
Но юноше показалось обидным даже самое предположение о
том, что он мог принадлежать к этому двору; он покраснел и смело
отвечал:
— Я не принадлежу никому, кроме самого себя, — а к этому
дворцу не имею никакого отношения!
Брюнетка закивала головой, амурчик зарумянился и растерялся,
а главная пострадавшая приняла гордый вид и сказала недовольным
тоном:
— Принадлежите ли вы ко двору или нет, но, видя дам из
хорошего общества в таком положении, кавалер обязан тем или
иным способом помочь им.
Выговор этот смутил Теодора.
— Як вашим услугам, милостивая государыня, и готов, чем
только могу, помочь вам; скажу только в свое оправдание, что моя
мать больна, и я спешу домой с лекарствами для нее. Кроме того,
я только недавно приехал сюда и мало кого знаю. Но я тотчас же
поеду в Хорощу и дам знать при дворе...
Тодя собирался уже вскочить на коня, когда Старостина,
следившая за ним не спуская глаз и, может быть, недовольная тем,
что он так скоро исчезает, прочитала ему еще наставление.
— Слушай, сударь, и запомни это, что тот, кто имеет счастье
встретиться на пути с высокопоставленными дамами и приблизить-
248
ся к ним, не убегает от них как от зачумленных, не открыв своего
имени. Кто вы, сударь? От кого вы родились?
Этот навязчивый и смешной вопрос, вызвавший у блондинки
взрыв заглушённого смеха, совсем смутил бедного Теодора. Он
покраснел, как девушка.
— Мое имя мало кому известно, — сказал он, — а для
высокопоставленных дам не представляет интереса, — меня зовут Пак-
левский...
Дамы переглянулись между собой, как бы недоумевая, как мог
такой красивый юноша носить такую обыкновенную фамилию.
— Но кто же ваша родительница? — прибавила настойчивая
Старостина, надеясь найти разгадку породистого вида простого
шляхтича в имени его матери.
— Моя мать урожденная Кежгайловна, — отвечал Теодор с
оттенком нетерпения.
Услышав это имя, Старостина всплеснула руками, брюнетка с
любопытством склонилась к ней, и обе оживленно заговорили
между собой, понизив голос, так что розовая паненка, чтобы услышать
их разговор, должна была наклониться к ним, но брюнетка
оттолкнула ее.
Бедняжке, поплатившейся так жестоко за свое любопытство, не
оставалось ничего иного, как только устремить на красивого юношу
васильковые глаза. Он как раз приготовлялся сесть на коня, но,
встретив этот взгляд, так растерялся, что потерял всякое
самообладание, и, стоя на дороге, на глазах у всех, они принялись
переглядываться и усмехаться друг другу, забыв обо всем на свете.
И только когда таинственное совещание старших окончилось,
брюнетка, оглянувшись, увидела, что происходит, и дернула куколку
за платье. Та даже вскрикнула, испуганная и смущенная тем, что
ее поймали на месте преступления.
Старостина, раз уж впав в поучительный тон, видимо, желала
продолжать в том же духе и не отпускать юношу, пока не научит
его правилам приличия.
— Ну, сударь, послушай еще, — заговорила она. —
Отрекомендовав себя высокопоставленным дамам, ты имеешь право
вежливо осведомиться: с кем имею честь? И тогда ты узнал бы, по
крайней мере, что я Старостина Кутская, а вот эта дама — моя
сестра, — генеральша, а эта вертушка — ее дочь и моя
племянница... А если бы ты так поехал, ничего не спросив, то и не мог
бы даже рассказать, кого встретил случайно на дороге.
На этот раз Теодор не только не разобиделся, но улыбнулся,
почтительно поклонился и обвел взглядом всех дам, а когда дошел
до амурчика, то взгляд его стал таким пристальным и горячие,
что девушка вся зарделась, смутилась, засмеялась и, не обращая
внимания на тетю и маму, изящно присела перед ним, кивнув
головкой и как бы говоря: до свиданья на том или ином свете!
И ничего не было удивительного в том, что Теодор долго не
мог попасть ногой в стремя и еще несколько раз оглянутся на
249
амурчика. Получив скромное воспитание, вдали от женского
общества, и в первый раз в жизни встретившись с таким ангелочком,
он на минуту потерял голову.
Ветреная паненка так пленила его, что он долгое время ничего
не видел перед собой: в глазах его так и стояли розовые губки,
две ямочки около них, васильковые глаза и вся кукольная фигура
девушки. Наконец ему и самому стало стыдно, что он так поддался
впечатлению этой встречи.
Он хотел заехать в Хорощу, чтобы похлопотать об экипаже для
Старостины и генеральши, но, приблизившись к местечку,
убедился, что посланный верховой уже исполнил данное ему поручение
и сопровождал экипаж для дам.
Таким образом, Тодя мог, не задерживаясь, ехать прямо в
Борок.
В пути ему поневоле пришлось собрать свои мысли, с тем
чтобы вразумительно объяснить матери свое опоздание; о гетмане
он не смел ей рассказывать и решил скрыть встречу с ним;
пришлось все свалить на Старостину и генеральшу. Поразило его то
обстоятельство, что, когда он вымолвил имя своей матери, обе
дамы, словно испугавшись чего-то, принялись перешептываться
между собой. Значит, они знали ее имя, по крайней мере,
слышали о ней.
Как известно, род Кежгайлов был одним из самых старых и
богатых в Литве. Но теперь он считался вымершим.
Отец Беаты, воеводич, носивший раньше другую фамилию, стал
называться Кежгайлом, доказывая, что фамилия эта перешла к
нему от старшей, уже вымершей линии. Из-за этого была даже
тяжба с последним наследником Кежгайлов, но воеводич упрямо
стоял на своем. Правда, он уж не был теперь так богат, как его
предки, но недостаток богатства он восполнял надменностью и был
известен своим чудачеством и сумасбродными выходками. Никому
не было охоты спорить с ним, потому что для того, чтобы настоять
на своем, он не жалел ни сабли, ни карабина, ни даже собственной
жизни, ничего вообще, кроме денег.
Было уже совсем темно, когда Теодор подъехал наконец к
усадьбе и был очень удивлен, заметив на крыльце свою мать в
обществе кого-то постороннего. Он издали успел только
разглядеть чью-то белую одежду и не сразу заметил, что сидевший
рядом с матерью гость был старый монах-доминиканец с лысой
головой и пожелтевшим лицом. В этом не было ничего
удивительного, потому что к ним иногда заезжали ксендзы из Хорощи
и из Вельска, среди которых у егермейстера Паклевского было
много приятелей и знакомых; но этого старца Теодор никогда
перед тем не видал.
Мать, увидев сына, пошла к нему навстречу, с беспокойством
расспрашивая его о том, что с ним случилось, и Теодор тотчас же
поспешил оправдаться, свалив всю вину на случай с
опрокинувшимся экипажем и на болтливость Старостины.
250
Пока сын с матерью разговаривали между собой, монах,
сидевший на крыльце, имел время присмотреться к новоприбывшему.
Хозяйка, вспомнив о госте, взяла Теодора за руку и подвела его
к старцу, шепча юноше на ухо: «Отец Елисей — родной брат
твоего деда, это святой человек...»
Теодор с глубоким смирением подошел к монаху и,
склонившись к его руке, поцеловал ее. Тот, растроганный, долго молча
смотрел на него, потом обнял его и поцеловал в голову.
— Вот, вот, — громко заговорил он, — вот каким Бог посылает
человека в мир в состоянии невинности — прекрасным, как цвет
весенний, и светлым, как херувимы; а что делает из него жизнь!
В могилу сходят тряпки и сор!
Егермейстерша, очевидно, привыкшая к чудачествам отца
Елисея, не удивилась этому восклицанию, вырвавшемуся из его уст;
но Теодор, едва понявший, к кому это относилось, был очень
изумлен. Старец смотрел на него с восхищением.
— Мать, должно быть, сказала тебе, — прибавил Елисей, —
что я вам близок по крови. Это по мирским понятиям; но теперь
я одинаково близок и одинаково чужд всем людям... Все, что было
во мне земного, стерла вот эта одежда; теперь я кающийся Божий
молитвенник — пес Господень, Domini-canis.
Старец рассмеялся.
— Нельзя же псам, хотя бы и Господним, признаваться в своем
кровном родстве с тщеславными светскими людьми. К чему это?
Хозяйка рассеянно слушала.
— Я пришел к вам, потому что долг велит нам утешать
огорченных, — сказал старец, — хоть бы я был вам совсем чужой, я
должен принести вам слово Божие и стучаться в ваши сердца, пока
они откроются... Мир вам! Мир вам!.. Юноша, — передохнув
немного и подняв глаза на Теодора сказал старец, —- мне хочется
услышать твой голос! В голосе выражается душа! Говори! Какую
деятельность ты выбрал?
— Дорогой отец, пока никакой! — отвечал Теодор с полным
доверием к монаху, в котором чувствовал приязнь к себе. —
Я учился у пиаров и науки окончил; теперь, что Бог даст, и
как судьба сложится — не знаю сам. Большого выбора нет у
меня...
— А что же тебя привлекает? — спросил отец Елисей. — Но
только правду мне говори, потому что я все равно отгадаю, хоть
бы ты и скрывал.
Теодор взглянул на него таким ясным взглядом, что старец
возрадовался и весело воскликнул:
— Tabula rasa!1
— Ксендз Конарский, — вмешалась мать, — хочет устроить
его при канцелярии князя канцлера.
Отец Елисей покачал головой.
1 Чистая доска! (лат.)
251
— Далеки от меня ваши дворы и владыки, — сказал он, — не знаю
я ваших канцлеров... С Богом можно идти всюду, а Бог в сердце...
— Только не ко двору пана гетмана, — резко прервала
хозяйка, — туда я не пущу его.
И, как бы поняв друг друга, она и монах обменялись взглядами;
а отец Елисей прибавил:
— Гетмана нельзя назвать злым, но у него слабая воля; а кто
слаб, тем пользуются злые люди, и каждый порыв ветра нагибает
того по-своему...
Он снова взглянул на прекрасного юношу и, указав ему место
рядом с собою, с глубокой нежностью всматривался в его ясное
лицо, словно не мог налюбоваться им вдоволь.
— Дай Боже, чтобы ты, мое дитя, вышел из ожидающей тебя
битвы с таким же честным, правдивым, открытым и ничем не
затуманенным лицом, какое у тебя теперь. Чистым выходишь ты
на арену, и хорошо, если бы ты вернулся хотя и израненным, но
не запачканным. Ты вступаешь в свет, в котором нет Бога. Все
там говорят о нем, но слово Его мертво для них, и слава
бездушна... Они называют это большим светом, а на самом деле это —
малый свет, потому что между ними и Богом — ворота закрыты.
Все земное там на первом плане, а небесное — на последнем. Но
без борьбы нет победы! Ты должен идти, чтобы получить не хлеб
насущный, а вечную пищу для души. Итак, иди с Богом, дитя!
Говоря это, старец уже не смотрел ни на Теодора, который
внимательно слушал его, ни на егермейстершу, со слезами на
глазах жадно хватавшую его слова; взор его был устремлен в небо,
озаренное закатным сиянием.
Но вдруг, словно вспомнив что-то, он вскочил с лавки и
принялся искать палку, которую он где-то поставил.
— Ах, Господи, Боже мой! Вот и солнце зашло, а настоятель,
отпуская меня, строго приказал чтобы я вовремя вернулся, ведь
путь не близкий!
— Но мы не пустим вас пешком, отец, — возразила Беата. —
Тодя, беги скорее, вели заложить бричку...
— Мне бы более приличествовало идти пешком, — сказал отец
Елисей, — но, правда, ноги у меня слабые.
Теодор был уже около конюшни. Беата подошла и поцеловала
старцу руку.
— Спасибо тебе, отец, за доброе слово! Оно падет в молодую
душу как здоровое зерно. Меня так заботит его судьба!
— Заботиться надо, — возразил капеллан, — но и тревожиться
слишком не годится. Бел? Бог на свете! Он ни для кого не делает
исключений, но справедлив ко всем... Что Он приготовил для него,
то и следует принять... У юноши по глазам видна чистая душа.
Пусть идет в свет...
Он покачал головой.
— Только не на гетманский двор, в эту лужу сиропа, в которой
мухи тонут и увязают. Пошли его куда гочешь, только не туда!
252
— Да я и не могу туда! — опустив глаза, разбитым голосом
отвечала Беата. Доброе дитя колеблется и не решается оставить
меня, хочет остаться здесь со мною, а я тревожусь, как бы его у
меня не похитили... Ты, отец, знаешь мое сердце и знаешь
жизнь, — поговори с ним, склони его к тому, чтобы уехать отсюда!
Теодор уже подходил, когда она оканчивала эти слова; отец
Елисей стоял в задумчивости.
— Будь послушен матери, — сказал он, обращаясь к
Теодору, — сердце материнское если и не видит, то чувствует и
предчувствует, что полезно и спасительно для ее ребенка! Я, верно,
уж не увижу тебя, потому что ты вернешься в Варшаву, дай же
я благословлю тебя...
Тодя, не смея возражать, склонил голову, и монах сделал над
нею знак креста.
Бричка была уже готова к отъезду; Тодя помог старцу
взобраться на сиденье, и скоро вечерние тени скрыли из глаз
провожавших белую одежду монаха и его черный плащ...
Сыну пришлось теперь подробно объяснить матери причину
своего опоздания и описать особ, встреченных им на дороге.
Услышав их имена, Беата покраснела, но не показала виду,
что они были ей знакомы. О гетмане и о самом Белостоке она не
решилась спрашивать, избегая всякого напоминания о них.
На другой день Беата уж принялась хлопотать по хозяйству,
видимо, превозмогая себя, но желая показать сыну, что она сумеет
со всем сама справиться. А вечером она уже спросила его, когда
он думает вернуться в Варшаву?
Теодору не хотелось спешить, чтобы успокоиться относительно
здоровья матери, кроме того, он хотел привести в порядок
документы и бумаги, оставшиеся после отца. Егермейстерша сказала
ему на это, что отец, почувствовав себя слабым, сам привел их в
порядок и отдал ей.
Таким образом, отпадал еще один повод к тому, чтобы
остаться, да и не хотелось обнаружить излишние опасения за
здоровье матери.
День отъезда не был еще окончательно намечен, но Беата уже
делала приготовления к нему и, несмотря на всю свою любовь к
сыну, видимо, желала, чтобы он уехал.
Приближался день святого Яна, торжество именин гетмана, на
которые со всего края съезжались гости, среди них были и друзья,
и знакомые егермейстера Паклевского еще со времен его службы
при дворе, и Беата, не говоря об этом сыну, терзалась боязнью,
как бы кто-нибудь из родных или друзей покойного мужа, узнав
о его смерти, не вздумал приехать в Борок и смущать Теодора.
Но то, чего человек боится, обыкновенно и случается. Так было
и теперь. Родной брат егермейстера, служивший в одном из
коронных полков, приехал в качестве депутата от своего полка в
Белосток. Он ничего не знал о смерти брата, но, услышав об этом
из уст самого гетмана, тотчас же отправился в Борок.
253
И вот, в один прекрасный день перед крыльцом усадьбы
появился верхом на статном жеребце пан Гиацинт из Паклева, Пак-
левский.
Братья, похожие друг на друга по внешности, во всем
остальном были различны, как небо и земля. Поручик, не имевший
за душой ничего, кроме коня и сабли, с юных лет зачислился
в войско и был воин с головы до ног, отважный и смелый
человек, но ветреный и недалекий. Он любил шумные забавы, был
горд и заносчив, первый начинал споры и драки и никому не
уступал. Расточительный и легкомысленный, он всегда нуждался
в деньгах и всегда был занят мыслью, где бы их перехватить и
поскорее, попусту времени не тратя. Сердце у него было доброе,
но голова — пустая и упрямая. Услышав в Белостоке о
племяннике и не зная, чем занять себя, он вбил себе в голову, что
должен устроить его судьбу и непременно уговорить его поступить
на военную службу.
С тем и поехал. Теодор видел его несколько раз в детстве, а
когда около крыльца раздался шум и стук, он вышел к нему
навстречу и скорее угадал, чем узнал в приезжем дядю.
Поручик с громким восклицанием и с выражениями нежной
любви, со слезами обнял его, оплакивая смерть брата и радуясь
тому, что снова увидел Борок.
Торопливо вышла и егермейстерша, догадавшись, кто приехал,
и надеясь предупредить всякие попытки приезжего сбить с толку
ее сына.
В первую минуту свидания поручик шумно оплакивал
покойника, попеременно обнимая племянника и целуя руки невестки.
Но это продолжалось недолго, наступила hora canonica.
— Голубушка невестка, — воскликнул, отирая слезы, Паклев-
ский, — ради Господа Бога, дай ты мне заморить червяка, — я
выехал из Белостока на пустой желудок. Жара страшная, а я
мчался во весь опор и устал чертовски.
На столе живо очутились водка и закуска, и гость, не теряя
времени, принялся за еду. Он хотел выпить за здоровье племянника
и собирался налить и ему, но тот отказался.
— Это что же? Водки не пьет? Славно, нечего сказать! —
сказал поручик. — Ни дать ни взять, красная девушка! Что из тебя
будет? Хорошо же тебя воспитали! Я в твоем возрасте ничего не
боялся, ни водки, ни вина, ни...
Мать хотела прервать его, но он поцеловал ее руку и докончил:
— Голубушка моя, мы должны сделать из него воина! Ей-Богу!
Что же ему еще выбирать! Разве это плохая служба — особенно
при протекции? Честное слово, если бы я не был таким
бездельником, у меня уж была бы собственная деревенька.
— Он готовился к иной карьере, — возразила мать.
— К какой же? Да помилуйте! Может быть, он хотел быть
каким-нибудь писакой? Сохрани Боже! В нашем роде все были
рыцари. Его покойный отец тоже сначала служил в войске. И,
254
ей-Богу, по-моему, только это и есть настоящее дело! Что-что?
Гнить здесь на затоне, ходить за плугом? Что же это за жизнь!
Он взглянул на Теодора, стоявшего около стола.
— Он как будто родился воином! — говорил он, не
переставая. — Прелесть что за юноша! Здоровый, сильный, красивый!
Он наклонился к руке хозяйки и опять поцеловал ее.
— Я для того сюда и приехал, — сказал он. — Ведь я его
опекун. Я уже замолвил за него словечко гетману, он обещал
протекцию. Стоит только записаться, и гуляй душа! Честное слово!
Поручик оглянулся и с удивлением заметил, что лица хозяев
были пасмурны.
— Дорогой брат, — серьезно сказала егермейстерша, —
позволь же и мне, как самому близкому человеку и опекунше моего
сына, иметь свое мнение. Покойный муж, царство ему небесное,
не без причины разорвал с гетманом.
— Ну, ну! — крикнул поручик, наливая себе вторую рюмку
водки. — Позволь уж и мне сказать, — правда не грех, — у
покойного были свои причуды. Что-то там его задело, что-то ему
показалось, вот он и надулся — гордая душа в убогом теле, честное
слово, он и сам не знал, почему оттолкнул от себя свое счастье.
— Брат мой! — вскричала Беата. — Я его знала хорошо и
знаю лучше вас, что все, что он делал, он делал обдуманно и
вовсе не опрометчиво. Он не нуждался в милостях гетмана, и я
не хочу, чтобы сын мой добивался их.
Поручик даже перекрестился.
— Да помилуйте! — вырвалось у него. — Кто вы, мы, — и
он? Сударыня! И это мы будем затевать войну с этим
могущественным магнатом? И только потому, что покойнику... что-то там
померещилось! Да знаете ли вы, что гетман может сделать? Что
он такое? Он — первый после короля. Без него — ничего нет, а
в нем — все... Вы, сударыня, обрекаете своего сына на вечную
нужду!
Егермейстерша отвернулась и умолкла.
— Нет, этого не может быть, — говорил взволнованный
поручик. — Я лечу сломя голову, чтобы спасти свою кровь и
позаботиться о нем, а тут...
— Это была воля покойного, — горячо возразила
егермейстерша, — чтобы Теодор никогда ни за чем не обращался к гетману.
И его воля свята для меня! Тодя завтра или послезавтра едет и
поступит ьа службу в канцелярию князя канцлера.
Услышав это имя, поручик даже привскочил на месте.
— Ну, это же, ей-Богу, комедия, чистая комедия! Да разве ты
не зьаешь, сударыня, что тахое канцлер и русский воевода? Да
ведь это же враги родины, да ведь это же мятежники, которые
только того и добиваются, как бы свергнуть с престола Карла и с
помощью императрицы посадить на трон кого-нибудь из своих!
Пойти к ним, — значит объявить войну гетману, присоединиться
к числу его врагов! Вот-то будет для меня радость, когда Паклев-
255
ский появится среди тех, кого нам, может быть, придется рубить
саблями!
Поручик орал во весь голос, по-солдатски, так что голос его
разносился по всей усадьбе. Он был страшно взволнован и
раздражен. Бледная как мрамор егермейстерша бесстрашно смотрела
прямо на него. Теодор стоял подле нее, не смея вмешиваться.
— И стоило мне приезжать сюда, — прибавил пан Гиацинт, —
чтобы только узнать, что моя кровь будет служить Чарторыйским.
— Но, помилуй, — возразила вдова, — ваш гетман сам в
родстве с фамилией.
Поручик махнул рукой.
— Вернул ему, сударыня моя, шпиона в дом, — закричал
поручик. — Мудрая это политика иметь союзника в чужом лагере!
Но пан гетман не позволит опутать себя, его не так-то легко
заманить или запугать! За Чарторыйским стоит императрица, а за
нами король французский и саксонцы. Мы им покажем! Ха, ха!
Поручик как раненый зверь метался по комнате, но,
очутившись поблизости от стола и заметив на нем графин с водкой, налил
себе третью рюмку и закусил куском посоленного хлеба. Эта
операция умерила его пыл, и он несколько пришел в себя.
— Прости меня, голубушка невестка, — сказал он,
наклонившись к руке хозяйки, — что я немного погорячился. Но что
правда, то правда, не хотел бы я, чтобы моя кровь шла на погибель...
Если только фамилия начнет действовать, мы уничтожим ее всю,
со всеми ее приверженцами. Это явные враги. Лучшего из королей,
нашего милостивого государя мучают, дразнят, составляют против
него заговоры... Это одна клика с Масальским, Огинским, Бжо-
стовским, Флемингом; но тут не поможет ни лига, ни императрица;
пусть только гетман даст знак — пес locus ubi Troia fuit!
Егермейстерша, по-видимому, не обращала внимания на все эти
восклицания, а может быть, даже и не слушала их; они не
производили на нее ни малейшего впечатления; и тот, кто их
произносил, не был в ее глазах достоин того, чтобы вступать с ним в
спор.
И с шумным родственником она поступила с чисто женской
находчивостью: под предлогом переговоров со служанкой она
вышла на минутку из комнаты. Воспользовавшись этим, поручик
снова было принялся обнимать и уговаривать племянника, но хозяйка
не спеша вошла снова в гостиную, неся в руках саблю в прекрасной
позолоченной оправе.
Это была фамильная драгоценность, с помощью которой она
хотела выкупить сына. Поручик был очень лаком на такие
презенты.
— Мне кажется, — сказала она, входя, — что эта сабля Пак-
левских, по справедливости, должна принадлежать поручику,
потому что Тодя, наверное, не будет служить в войске...
Она взглянула на сына.
— Я чувствую, что, отдавая ее вам, исполняю волю покойного.
256
Страшно обрадованный, пан Гиацинт прежде всего расцеловал
руки невестки, а потом, забыв обо всем, схватил саблю и принялся
рассматривать ее.
Начав с прекрасных ножен и кончая рукояткой, он оглядел ее
с величайшим вниманием и восхищением всю, сверху донизу,
потом полюбовался клинком с надписями и, выхватив ее из ножен,
размахнулся ей в воздухе с такой силой, что в ушах засвистело.
Лицо его оживилось и просияло. Затем, осторожно вложив
саблю обратно в ножны, он поцеловал ее, прижал к груди и положил
рядом со своей шапкой... В эту минуту доложили, что обед подан.
Поручик уже не решился больше нападать на невестку;
разговор перешел на военные темы, и пан Гиацинт, словно намеренно
противореча сам себе, принялся жаловаться на всевозможные
притеснения, обиды и неудобства, которые испытывало войско, и
описывал все это в таком же преувеличенном виде, в каком недавно
еще расхваливал эту же службу.
Теодор больше молчал, изредка вставляя какое-нибудь
замечание, егермейстерша не мешала поручику разглагольствовать,
довольная тем, что тот забыл обо всем остальном. В продолжение
всего обеда, сопровождавшегося обильным возлиянием, воин не
изменял темы разговора и только перед отъездом вернулся к
прежнему.
— С матерью трудно бороться, когда речь идет о сыне, —- со
вздохом сказал он, — но побойся Бога, голубушка невестка, отдай
его, куда хочешь, только не фамилии. Гетман узнает об этом и
сочтет за смертельную обиду.
— Ничем мы ему не обязаны и ничего от него не ждем, — с
гордостью отвечала вдова.
— Так только говорится, — возразил поручик, — но сила у
него, вы сидите у него под боком, и, если он захочет мстить, он
без всякого усилия уничтожит вас.
Вдова только головой покачала. Видя, что с ней не сговоришься,
поручик взял Теодора с собой в сад и попробовал еще раз повлиять
на него, однако тот остался холоден и решительно заявил, что
исполнит волю матери.
— Самое скверное то, — прибавил поручик, — что я из-за вас
принужден буду лгать и изворачиваться. Спросит меня гетман: а
где же ваш племянник? Ну что я ему скажу? Ни то, ни другое!
Буду так замазывать, чтобы он понял, как ему хочется...
Наказание Божие! Вот уж не ожидал, что мне не удастся уговорить твою
мать.
Он рассмеялся и, словно забывая, что говорит с сыном,
прибавил:
— Она держала покойника под туфлей, привыкла к
деспотизму, а я с бабами не умею разговаривать! Честное слово!
Все же поручик с большим чувством распрощался с родными,
выпил еще рюмку на прощанье и, крепко привязав сбоку саблю,
которая ему очень нравилась, поскакал по дороге к Белостоку.
257
Егермейстерша вздохнула с облегчением, видя, что он уже
подъезжает к лесу.
— А теперь, — сказала она, обращаясь к сыну, — дорогой
мой Тодя, поезжай без промедления в Варшаву. Не для чего
тратить попусту время... Когда получишь место, тогда, может быть,
опять навестишь меня... Не слушай того, что говорил поручик:
иди к князю канцлеру; вся эта кажущаяся сила гетмана
рассыпется, когда дело дойдет до борьбы. Ты слышал дядю? Вот так
все они — многословны и крикливы, а для дела нет силы и
способностей... И пусть они гибнут, — сурово прибавила она, — они
это заслужили.
Пан поручик Паклевский, несмотря на угощение и пескрасную
саблю, подаренную ему невесткой, отъехав на некоторое расстояние
от Борка, сразу утратил веселое настроение, а за две мили от
Белостока погрузился в такое глубокое и печальное раздумье, что
конь его, пользуясь этим, несколько раз останавливался и
принимался щипать траву, за что ему порядком досталось от хозяина.
Поручик не мог смириться с тем, что женщина одержала над
ним победу, и только теперь, все обдумав и взвесив, он сообразил,
что она своим подарком заткнула ему рот. Теперь и сабля ему не
так нравилась, как сначала, и, осмотрев ее еще раз, он нашел ее
далеко не такой красивой, как ему казалось перед тем.
«Ишь ты, хитрая женщина! — думал он. — Как она меня ловко
провела! А я должен сам себе назначить наказание за то, что
оказался таким болваном и дал себя обмануть!»
Так, мучая себя угрызениями совести, доехал поручик до
местечка, где он остановился на квартире — у одного мещанина,
потому что нечего было и думать о размещении менее знатных
гостей во дворце или в дворцовых флигелях. Все помещения в них
и в ближайших домах придворных служащих приготовлялись к
приезду Радзивиллов, Пацов, Мнишка, Потоцких, Сапегов и
других знатных гостей.
Кроме именин самого гетмана и праздновавшегося на третий
день после них рожденья гетманши, имелись еще ввиду различные
вопросы политической и общественной жизни, которые следовало
осветить и разрешить для публики. Король слабел, врачи не
надеялись надолго продлить ему жизнь. Между тем Чарторыйские не
скрывали того, что их приверженцы оставили вместе с ними
конфедерацию, поэтому противная им партия, главой которой считался
гетман, а правой рукой воевода киевский, должна была
противодействовать этому. Виленский воевода уже собирал войска, делал
приготовления к возможному выступлению, и Потоцкий, а значит,
и гетман, под властью которого были скорее воображаемые, чем
действительные войска, должны были держаться настороже.
Именины были хорошим предлогом для того, чтобы съехаться
и обсудить положение Речи Посполитой, которой номинально
258
управлял король, а Брюль, саксонский министр, продавал его, но
в действительности она была уже в руках фамилии. Легко можно
было предвидеть, что люди разумные, деятельные, решительные,
не жалевшие денег и не разбиравшие средств возьмут верх над
теми, которые строили воздушные замки, а для дела не годились.
Гетман еще скрывал свои мечты о короне, но воевода киевский
открыто заявлял, что будет добиваться престола; те же планы
лелеяла саксонская династия, хотя старший сын Августа III не мог
держаться на ногах от слабости.
Кандидатом Чарторыйских был их племянник, на которого
возлагались все надежды.
Фамилия распространяла но всей стране издания Monitora,
призывавшего к реформам и к сопротивлению всемогуществу
магнатов, особенно Радзивилла. В этом издании обитатели Речи
Посполитой призывались к воскрешению «духа старинных
польских добродетелей».
Но и противная сторона также восхваляла свободу отношений
в прежней Речи Посполитой.
Ко всей непредусмотрительности и бестолковости сторонников
гетмана следует еще прибавить то, что князь виленский, воевода,
больше развлекался, чем относился серьезно к делу, которое он
сваливал на других. А о всех результатах совещаний в Белостоке
тотчас же узнавалось в Волчине, как говорили одни — через гет-
маншу, а другие — через любимца ее Мокроновского.
И прежде чем здесь начинали действовать, фамилия уже
принимала свои меры предосторожности.
Итак, сторонники гетманской партии съезжались со всех сторон
в Белосток для совещаний по очень важным вопросам, и поручик
Паклевский, прибыв в город и увидя толпы народа, заполнявшие
все улицы, площади, дворы, дворцы и сады, бесчисленных
экипажей, гайдуков, казаков, гусар, янычар, придворных, коней,
повозки, рыцарей в панцирях, татарские знамена и разный люд,
осаждавший Белосток, — получил еще более преувеличенное
понятие о могуществе этого пана, к протекции которого так
пренебрежительно отнеслась его невестка.
Действительно, под вечер вся резиденция выглядела
по-королевски: огромный дворец светился тысячами огней, у
сторожевых ворот стояло войско в парадных мундирах, оркестры
музыки гремели в зале на хорах и на возвышении в саду...
Повсюду на террасах и галереях пестрели великолепные
старопольские костюмы и новомодные французские, всюду виднелись
разряженные декольтированные, надушенные женщины в
пышных прическах, повсюду сновали лакеи в раззолоченных
ливреях; а толпы народа приглядывались издали к живой картине
кануна торжества.
Был уже поздний час, но ко дворцу то и дело подъезжали новые
экипажи, подвозившие знатных панов, имена которых тотчас же
подхватывались и повторялись в толпе.
259
Староста Стаженьский, Браницкий и генерал Мокроновский
принимали гостей на террасе и провожали в комнаты...
Эта обманчивая картина всемогущества могла ввести в
заблуждение не одного только простодушного Паклевского. Людям,
гораздо более сообразительным, приходило иногда в голову, что
Чарторыйские не в состоянии бороться с гетманом. Прислушиваясь
к самодовольному и самонадеянному тону разговоров гетманских
приверженцев, легко можно было вывести заключение, что здесь
все средства для борьбы были обдуманы и оставалось только начать
победоносную войну.
Поручик Паклевский, пробравшийся в салоны дворца только
благодаря своему парадному мундиру, увидев вблизи великолепную
фигуру и прекрасное лицо гетмана, окруженного общим уважением
и поклонением, мог в душе только удивляться слепоте своей
невестки, которая отказывалась от всяких связей с этим двором,
имевшим возможность при содействии шляхты превратиться в
королевский.
Спокойствие и полное доверие к будущему ясно читалось не
только на лице самого хозяина, но и в манерах всех его
окружавших. То и дело раздавались взрывы смеха, глаза светились
радостью, одни обнимались, другие шумно разговаривали, некоторые
шептались по углам, но все лица отражали лучезарную уверенность
в завтрашнем дне и в победе.
На их стороне был король, саксонцы, Франция.
Как могла бороться с ними небольшая группа людей,
вынужденных обращаться за помощью к чужому войску из страха перед
радзивилловскими драгунами!
Так думал Паклевский, стоя в углу и любуясь всем этим
великолепием, элегантностью, драгоценностями, всей этой
пышностью, мелькавшими перед его восхищенными глазами.
«И эти смешные люди хотят померяться с ним силами? —
рассуждал сам с собой Паклевский. — В головах у них не ладно! Они
сами ведут себя к гибели!»
Громкие титулы гостей, непрерывно проходивших мимо него,
наполнили его гордостью. Это были все воеводы, каштеляны,
маршалы, подчашие, конюшие, старосты и, наконец, князья, носившие
иностранные титулы графов, и князья настоящие. В ушах его
звучали имена магнатов, при одном имени которых по привычке
склонялись шляхетские головы...
В дворцовых залах уже накануне торжества все приняло
праздничный, вид. Слуги надели парадные ливреи с гербами, залы
блестели тысячами огней, играла музыка, столы сгибались под
тяжестью серебра, хрусталя и фарфора, слуги разносили на
подносах самые разнообразные и изысканные яства.
Поручик протянул руку за бокалом вина, стоявшим в сторонке,
вдохнул в себя его аромат, поднес ко рту и с почтением выпил.
Затем он стал соображать, сколько могла стоить бочка такого
вина в Венгрии и сколько таких бочек могла осушить эта толпа.
260
И это было для него очевидным доказательством могущества
гетмана.
Вино стояло на всех столах, и асе, кто только хотел,
пользовались им, а гетманские придворные усиленно всех угощали.
Приготовления к ужину привели поручика в полное восхищение. Тут
уж поварское искусство выступало в полном своем блеске и
могуществе. На блюдах рыбы отливали всеми цветами радуги;
некоторые из них как будто плыли, другие, казалось, собирались
выскочить. Фазаны в перьях, жаркое, покрытое, словно хрусталем,
разноцветным желе, кабаны с лимонами и хреном в мордах и еще
какие-то неизвестные поручику существа, пирамиды из бисквитов
и леденцов, спелые плоды с ветками... Паклевский смотрел на все
это, и богатство гетмана умиляло его до слез.
«И подумать только, сударь мой, что какая-то баба
осмеливается перечить такому магнату и не желает иметь с ним дела! С
ума сошла, ей-Богу...»
И никогда еще Браницкий не казался ему более сильным
и великим, чем в этот день. В глубоком размышлении о его
мощи, он ходил из комнаты в комнату, присматриваясь к
убранству столов, как вдруг заметил спешившего к нему
навстречу, в светлом фраке, с кружевными манжетами, в новом парике
с красивыми локонами, круглолицего улыбающегося доктора
Клемента.
— Ну, что же? Были вы, сударь?
Доктор знал о том, что поручик собирался ехать в Борок; увидя,
что он вернулся, он живо схватил его за руку и, отведя в сторону,
торопливо зашептался с ним.
— Ну еще бы, был, конечно...
— И что же?
Паклевский развел руками и хотел было ответить французу
какой-нибудь замысловатой и мудрой фразой, но не сумел. Он
склонился к уху француза и сказал:
— Кто сладит с женщиной, когда она упрется на своем. Я
охрип, измучился и вернулся ни с чем! Сына погубит, но что тут
поделать?!.. Отправляет его в Варшаву...
Клемент вздохнул. На поручика у него было мало надежды, но
он рассчитывал на его роль опекуна и дяди.
— Хоть бы мне кто-нибудь объяснил, — говорил
Паклевский, — что имеет эта женщина против гетмана, дал бы тому
оседланного коня. Я признаюсь вам, господин доктор, что ещё при
жизни брата я долго ломал себе голову над тем, почему он так
внезапно бросил службу при дворе, разорвал со всеми и больше
здесь не показывался. Несколько раз спрашивал его об этом, но
он не хотел сказать. Теперь я вижу, что у этого владыки, должно
быть, ангельская доброта, потому что он высказывает самое горячее
сочувствие к сыну покойного, вместо того чтобы мстить ему, а моя
невестка и слушать не хочет. Что? Как? Для чего? Я просто
отказываюсь понимать.
261
Он бросил взгляд на доктора, как будто ожидая, что тот что-
нибудь объяснит ему, но тот вытянул губы, покачал головой и
ничего не сказал.
Паклевский, обрадованный тем, что в этой толпе нашел себе
собеседника, продолжал говорить:
— Я не удивился бы, если бы это была другая женщина, но
ведь это же не простая какая-нибудь, а с образованием, она сама
знает и самого гетмана, и его двор, потому что бывала здесь при
первой его жене. Так пусть же мне кто-нибудь скажет, откуда
такое предубеждение? Такая упорная неприязнь?
Доктор, казалось, ничего не мог, а может быть, просто не хотел
говорить по этому поводу: он только слушал и моргал глазами.
— Уж если Бог, — закончил поручик, беря стаканчик
бургундского из рук проходившего лакея, — если Бог захочет покарать
какой-нибудь род, то уж не дает ему вылезть из болота; не то,
так другое помешает! Вот я служил, а многого ли дослужился —
вы сами видите; у покойного брата тоже всего несколько изб
осталось, а другие и поглупее его — сотни рабочих рук приобрели!
Странно устроен свет!
Он выпил бургундское, а когда окончил и опустил голову, ища
доктора, его уже не оказалось поблизости.
Поручик вздохнул и занялся обдумыванием своей позиции за
ужином, чтобы не оказаться слишком неделикатным, но в то же
время принять в нем известное участие.
«Если мне и здесь повезет так, как Паклевским везло в
жизни, — размышлял он, — то я, пожалуй, только понюхаю всяких
вкусных вещей, а другие будут есть их!»
Мы не имеем сведений о том, удалось ли поручику
попользоваться чем-нибудь более реальным, чем запахи вкусных
кушаний, но нам известно, что, вернувшись поздно ночью в свой дом
и войдя в комнату, которую он занимал, он увидел на постели,
которую считал своей, своего знакомого, ротмистра Шемберу,
спавшего крепким сном; после тщетных усилий растолкать его
он вынужден был в конце концов постлать себе на полу попону
и на ней улечься спать. А так как он перепробовал много вин
различных сортов и был сильно утомлен, то и на полу заснул
так крепко, что только утром его разбудила пушечная стрельба
в честь гетмана, от которой тряслись оконные рамы, и сыпалась
штукатурка с потолка.
Пушечные выстрелы заставили Паклевского тотчас же вскочить
на ноги — иначе он спал бы до полудня.
На кровати не оставалось и следа ночного пребывания
ротмистра Шемберы. Поэтому поручику не с кем было и побраниться;
он торопливо оделся, чтобы поспеть с поздравлением к гетману,
хотя в такой толпе гетман легко мог не заметить его отсутствия.
Когда Паклевский с помощью своего денщика привел себя в
надлежащий вид, около дворца была уже такая толпа, что
протолкаться было чрезвычайно трудно. Пушки все еще гремели, кроме
262
того, пехота и венгры с янычарами, установленные вокруг всего
двора, непрерывно стреляли холостыми зарядами из ружей...
Все поздравления были уже сделаны, и поручик узнал только
одно, а именно, что депутатам от трибуналов и полков, к числу
которых и он принадлежал, были назначены различные подарки и
денежные вознаграждения. Он надеялся, что и он воспользуется
этой счастливой привилегией. Гетман, гетманша и гости — одни
в экипажах, запряженных шестеркой лошадей, другие — пешком
или верхом, отправились на торжественное богослужение в Фари;
но многие, приехав туда, уж не могли войти в костел, который
был битком набит народом, любопытными и духовенством, в
большом числе съехавшимся сюда из Вельска, Тыкоцина и других
гетманских поместий. Кармелиты, доминиканцы, миссионеры и
светское духовенство заняли весь prezbyteryum, а некоторые
должны были разместиться на лавках.
Во время торжественной обедни, в которой была опущена
проповедь, слышна была стрельба из ружей драгунского и других
полков, а иногда и пушечные выстрелы. К этому присоединилась и
небесная артиллерия, так как в конце обедни небо покрылось
черными тучами, и раздались удары грома; гроза была так близко,
что молния опалила несколько деревьев около местечка, а после
этого начался такой страшный ливень, что, когда, по окончании
бури, пришлось возвращаться во дворец к обеду, немногие
приехали сухими и не загрязнившимися. Спаслись только те важные
персоны и дамы, у которых были экипажи; все остальные,
вынужденные идти пешком, должны были долго мыться и чиститься,
прежде чем появились к столу.
Поручик, хотя и опоздавший, оказался настолько удачливым,
что нашел себе место за одним из небольших столов, и притом
недалеко от жены полковника Венгерского, которая ему всегда
очень нравилась.
Полковница была одной из всеми признанных красавиц при
гетманском дворе, славившемся красотою своих дам. Рассказывали
даже, что в последний свой приезд сюда князь Радзивилл,
(прозванный «пане коханку»1 за то, что он ко всем одинаково
обращался с этими словами), будучи в веселом настроении и
взобравшись верхом на коне по ступеням театра, как уселся подле
пани Венгерской, так и не отходил от нее во все время спектакля.
Лицо прекрасной полковницы то и дело покрывалось румянцем,
такие горячие комплименты он говорил ей. Паклевский был давно
знаком с пани Венгерской: он знал ее еще панной и тогда уж
вздыхал по ней, а она была так с ним мила, что всегда, завидя
его, хотя бы здесь было сто свидетелей, приветливо кивала ему
головкой. И на этот раз, заметив Паклевского, она улыбнулась
ему, а тот, пользуясь этим, переменился местом с разделявшим их
шляхтичем и очутился подле самой пани.
1 Голубчик.
263
Среди общего говора можно было разговаривать без стеснения.
Венгерская спросила его:
— Где же вы, сударь, были вчера, что вас не было видно?
— Я должен был трястись верхом в Борок в усадьбу моей
овдовевшей невестки, — отвечал Паклевский, — да это бы еще
ничего, если бы я чего-нибудь добился! Л то пришлось даром
проехаться, потому ч^о... потому что...
— Вы, должно быть, ездили утешать вдову, которая, вероятно,
еще красива? — спросила Венгерская.
— О красоте ее я и не думал, даю вам слово, сударыня, —
начал Паклевский, — хотя в свое время она была красива, этого
нельзя от нее отнять.
— Да как же, — загадочным тоном отвечала полковница, —
предание о красоте панны Кежгайлувны сохранилась и до сих пор
при дворе.
Слова эти, сопровождавшиеся недоброй улыбкой, очень
заинтересовали полковника.
— Егермейстерша и теперь еще сохранила следы замечательной
красоты и выглядит очень величественной, — прибавил он. — Я
ездил к ней с утешением и с разумным советом отдать сына ее,
очень красивого юношу, в войско, в чем сам гетман обещал мне
протекцию.
Пока он говорил это, Венгерская так посмотрела на него и
приняла такой не то любопытный, не то насмешливый, но в то
же время полный таинственности вид, что удивленный Паклевский
смешался и замолчал.
— Ну, и что же? Что? — спросила она.
— Женщина эта, милостивая государыня, имеет очень
странные понятия: она и сына не отдает, и от протекции
отказывается.
— Да что вы говорите! Вот ведь! — воскликнула Венгерская,
улыбаясь своей загадочной улыбкой. — До того дошло дело!
Паклевский, не будучи особенно проницательным, догадался,
однако, по выражению лица и улыбкам Венгерской, что то, что
для него было тайной в прежних отношениях брата и его жены к
Белостоку, было известно Венгерской. Ему было страшно
любопытно что-нибудь выпытать у нее, и он сказал:
— Хоть бы кто-нибудь объяснил мне, что это значит, что и
брат мой, и невестка так дуются на гетмана, дорого бы я заплатил
за это.
Он взглянул на Венгерскую, которая показала ему белые зубки,
улыбнулась, покачала головой и сказала:
— Я ничего не знаю. Спрашивайте, сударь, у тех, кто бывал
раньше при дворе.
Глаза ее ясно говорили, что она отлично знала обо всем, что
тогда делалось, но все же поручик понял, что ему она ничего не
скажет. Он обратил свое внимание на кусок серны, а когда начал
пить за здоровье гетмана, гетманши и гостей и загремели выстрелы
264
из мортир, — то, если бы даже ему и говорили что-нибудь, он все
равно бы не услышал.
До конца обеда Паклевский довольно удачно занимал свою
даму, забавляя ее грубоватыми комплиментами и остротами, которые,
наверное, были менее солоны, чем те, которыми щеголял князь
Радзивилл.
А так как при этом все время приходилось пить за чье-нибудь
здоровье, то вскоре Паклевский сделался таким веселым и смелым,
что в конце концов полковница должна была вместе с другими
женщинами выйти из-за стола. Он даже и не заметил, когда она
исчезла.
Некоторые вставали из-за стола, другие присаживались на их
место, образовались различные группы, и Паклевский сам не
заметил, как он вслед за другими, с бокалом в руке, очутился в
следующей зале, где играла музыка и вино лилось рекой. Он почел
своей обязанностью протискаться к самому виновнику торжества и
был награжден за это тем, что гетман положил на минуту свою
белую руку на его плечо.
Ни о каком разговоре не могло быть и речи в этом страшном
шуме при звуках оркестра. Кто хотел быть услышанным,
прикладывал своему собеседнику руки к уху и трубил в них изо всех
сил.
Поручик не помнил, чтобы когда-нибудь в жизни ему было
так весело, как в этот день: его рюмка, которую он то и дело
опоражнивал, была каким-то чудом постоянно полна; знакомые
и незнакомые подходили к нему и сердечно с ним обнимались.
Лица, люди мелькали перед ним, как в волшебной сказке;
проплывали мимо восхитительной красоты дамы, украшенные
орденами сановники, величественные фигуры, усы и парики, — все
это розовое, лоснящееся, потное, счастливое и улыбающееся.
Только удавалось Паклевскому остановить кого-нибудь, как тот
уже исчезал, а на его месте оказывался другой. Ему казалось,
что он стоял на одном месте, а между тем залы менялись, и
каким образом он очутился на террасе в саду — этого уж он
решительно не мог сообразить.
Но здесь, опершись о колонну, он, обвеянным свежим воздухом,
почувствовал себя так, как будто доплыл до гавани. Так ему было
хорошо.
Сзади него, в темном углу, шел разговор, отрывки которого
долетали до его слуха.
Он не мог хорошенько разобраться в нем, потому что ему
казалось, что в такой день все должно было звучать во славу
виновника торжества. А между тем до него, как нарочно, доходили
особенно неблагоприятные для гетмана отрывки.
— Великолепно, слов нет! Только бы было прочно и не
рухнуло.
— Пир Сарданапала, а в конце концов — груды развалин!
— Пусть себе перепьются, тем выгоднее для тех, кто трезв!
265
— Прелестная, великолепная гетманша, но она ему супруга
для представительства, а не для сердца. Мокроновский — ее
адъютант!
Раздался смех.
— И как же это превосходно устроено, потому что графиня
через него знает обо всем, а через нее — канцлер и воевода.
— Лучшего надзора и не надо!
— А приличия соблюдены. Гетманша собирает дань
поклонения, на которое она так падка, а старик по-прежнему припрятывает
у себя гурий.
— Ну, теперь уж ему мало от нее удовольствия! — прибавил
другой голос.
Паклевскому захотелось увидеть лица тех, которые осмелились
так отзываться о хозяевах, но, прежде чем он повернулся и
разглядел что-нибудь во мраке ночи, все исчезло и разговор оборвался.
Он услышал только крики:
— Vivat Jan Kracowski!
Пора уже было идти в театр: Паклевский догадался об этом по
тому, что вся толпа двинулась в ту сторону. И вот, вмешавшись
в этот человеческий поток и предоставив ему свою судьбу,
Паклевский поплыл вместе с другими. Люди шли такими густыми
колоннами, что он, хоть и спотыкался о ступени, упасть не мог. В
театре, стиснутый со всех сторон и только выставив локти, в виде
защиты от неприятеля, поручик мог вдоволь налюбоваться
зрелищем, какого ему не приходилось видеть никогда в жизни.
В комедии, очень живо разыгранной на французском языке, он
понял только то, что какая-то хорошенькая дамочка чрезвычайно
искусно обманывала своего старого мужа. Все смеялись до слез,
потому что муж, к довершению всех неприятностей, был несколько
раз избит палкою, а в конце концов оказался предовольным своею
судьбою.
Но еще больше, чем комедия, понравился Паклевскому балет,
в котором танцовщицы были так одеты, что Паклевский не верил
своим глазам и несколько раз протирал их, пока убедился, что они
действительно выделывали ногами такие штуки, какие ему не
удалось бы проделать и руками. Вместе со всеми зрителями он громко
аплодировал им, едва веря сам себе, что это он любовался всеми
этими чудесами.
Представление продолжалось до самого ужина, но за ужином
поручик не нашел полковницы, а очутился рядом с подкоморием
Вельским, который вычислил ему все расходы на расквартирование
и содержание войска, — что вовсе не было интересно.
Они даже чуть не повздорили, когда Вельский принялся было
резко осуждать коронное войско, но их тут же примирили:
заставили выпить вина и прекратить ссору.
Паклевский, почти не притронувшийся к пище, решил тотчас
же после ужина, когда начнутся танцы, идти домой и оберегать
свою кровать от захвата ее ротмистром. Так он и сделал и, найдя
266
свое ложе свободным, забаррикадировал дверь в свою комнату и
лег спать.
Спал он до тех пор, пока его не разбудил настойчивый стук в
дверь. На дворе был уже не белый, а золотой день, и, как потом
оказалось, двенадцать часов пополудни. Приятели и знакомые Пак-
левского, опасаясь, как бы с ним не случилось чего-нибудь дурного
после вчерашних возлияний, — пришли к нему и заставили его
встать.
Едва только он успел освежиться и вымыться около колодца
водой, которую денщик лил ему на руки из ведра, как уж во
дворце стали сзывать к обеду.
Он надеялся, что сегодня ему удастся занять место за столом
поближе к полковнице, которая вчера очень заинтриговала его
своими загадочными улыбками и словечками, и выведать от нее то,
что она сама знала.
Но ему пришлось сильно разочароваться, так как из вчерашних
гостей почти никто не уехал и теснота была такая же, как и
накануне. Полковница, окруженная этой толпой, едва успела
издали кивнуть ему головой.
Вся разница была только в том, что сегодня меньше стреляли
из пушек и ружей, и общество за столом, утомленное вчерашним
днем, вело себя спокойнее и сдержаннее...
Более знакомых гостей усадили в огромные лодки, покрытые
ярко-красной материей, и повезли катать по прудам; тут же на
маленьких катерах ехали музыканты. Так как погода была
чудесная, то остальные гости пошли бродить вдоль берега, где были
разбиты палатки со всевозможными напитками.
Паклевский как раз в этот день испытывал страшную жажду
и пил все, что попадалось под руку, кроме прохладительных
миндальных и фруктовых вод, предназначенных для слабого пола. А
так как он повстречался со своим давним приятелем и чудесным
человеком, ротмистром Германовским, с которым он в дружеской
беседе провел время до самого вечера, разгуливая по берегу и
попивая понемногу, то к вечеру Паклевский почувствовал себя
совершенно бодрым и здоровым и с удовольствием дождался ужина.
Но, однако, и в этот день он рано ушел к себе, потому что на
другой день праздновались именины гетманши, для которых тоже
надо было набраться сил. Это торжество справлялось обедом в Хо-
роще, для чего поручику надо было проехать верхом добрые две
мили. А присутствовать ему было необходимо, во-первых, ради
того, чтобы быть там, где гетман, а во-вторых, ради фейерверка,
иллюминации и других великолепий, которыми ему хотелось
полюбоваться.
На этот день небольшой дворец в Хороще не вместил всех
гостей, и для них были разбиты палатки в саду, и там поставлены
столы.
Приехав сюда и отправляясь на прогулку перед обедом,
Паклевский невольно вспомнил о том, что Борок совсем близко отсюда,
267
а племянник его ничего не увидит, потому что мать, наверное, не
позволит ему выходить из дома. Ему стало жаль юношу и
захотелось доехать верхом до Борка, тайком увезти племянника, но
страх перед невесткой удержал его. Он принялся в душе ругать
женщин и бабье воспитание. Между тем прием гостей все
продолжался; правда, про гетманшу тоже шли слухи, что она выдает
врагам гетмана его тайны, но, однако, если сам Браницкий
оказывал ей уважение, то и другие должны были почитать ее, к чему
располагала и великолепная внешность этой знатной дамы. Ей
приписывали большой ум, унаследованный от той же семьи Чарто-
рыйских, к которой она принадлежала, а доказательством этого
служило то, что она с таким достоинством умела держать себя в
своем опасном положении, не разрывая со своими и сохраняя
вполне приличные отношения с мужем.
В этот день на пирамидах из леденца, расставленных на
всех столах, красовались рядом с гербами Браницких гербы По-
нятовских, и первый тост, при грохоте пушек, был провозглашен
за здоровье пани Краковской. Некоторые становились при этом
на колени, говорили речи, декламировали стихотворения Друж-
бацкой и Матусевича; поручик усиленно заливал тоску
венгерским вином.
Однако зная, что к вечеру готовилось особенно интересное
зрелище, потому что весь сад, оба берега пруда и деревья были убраны
цветными фонариками, которые должны были зажечься с
наступлением темноты, а, кроме того, специально для этого выписанным
из Варшавы мастер подготовлял великолепный фейерверк,
Паклевский никак не мог расстаться с мыслью представить племяннику
эти огненные доказательства могущества гетмана. Во все время
обеда, продолжавшегося до самого вечера, он раздумывал над тем,
не съездить ли ему в Борок и не захватить ли Теодора.
На то, чтобы получить согласие на это матери юноши, он и не
рассчитывал, зная ее упрямство; ему казалось, что все это можно
устроить потихоньку от нее и доставить юноше удовольствие; в то
же время ослепить его блеском гетманского могущества и показать
воочию, чью милость они отвергли.
Борок был так близко от Хорощи, что там, наверное, слышны
были обеденные тосты.
Встав из-за стола, Паклевский почувствовал себя гораздо более
смелым и решительным, чем до обеда. Прежде всего он хотел
посмотреть, что сталось с его конем и денщиком.
Паклевский с трудом нашел своего Мартина среди бричек,
колясок, коней и слуг, которых угощали больше пивом и водкой,
которых было вволю, чем съестным: кроме обыкновенного хлеба
соленых огурцов и колбасы для людей, не было ничего
приготовлено. Поручик нашел своего Мартина б таком разнеженном
состоянии, что тот при виде своего пана принялся ударять себя в грудь
и уверять его в своей любви и в том, что за него он готов идти
в огонь и в воду!
268
Это было для поручика лучшим доказательством, что Мартин
был сильно навеселе. Напоенный и накормленный конь стоял тут
же наготове. Поручика прельщала мысль о поездке в Борок по
холодку, после сытного обеда. Приказав Мартину, который не
переставал повторять, что готов идти за него в огонь и в воду,
остаться и ждать, Паклевский подтянул подпругу, сел верхом и,
посвистывая, поскакал в Борок.
Отличное венгерское освежающим образом подействовало на его
голову, и на сердце у него стало весело.
«Если увижу мальчика одного — заберу его с собой, если
наткнусь на невестку, ну что же, она ведь меня не съест! Скажу ей,
что приехал навестить ее».
За лесом был уже виден и Борок.
Там, действительно, слышна была канонада в Хороще, и она
произвела такое неприятное впечатление на егермейстершу, что та
заперлась в своей спальне, велела закрыть ставни и осталась
наедине со своим горем. Теодор, уже собравшийся ехать, чувствовал
себя расстроенным и печальным.
Прежде всего его беспокоило здоровье матери, потом
тревожила неуверенность в будущем, огорчала смерть отца и, может
быть, и запрещение матери иметь какие-либо отношения с
гетманом, с помощью которого так легко было получить всякие
льготы и протекцию.
Дворовые люди рассказали Теодору о больших приготовлениях
в Хороще и возбудили в нем любопытство; а старый эконом уверял
его, что стоит только выйти за лес, и оттуда будет виден фейерверк
и иллюминация.
Теодор, выслушав его, оделся хотя и очень скромно, но к лицу,
так что и в этом наряде казался элегантным, — и медленно
направился пешком к лесу, как вдруг на дороге перед ним вырос на
коне поручик Паклевский.
— Да ведь это же просто чудо! — крикнул Паклевский. —
Смотрите пожалуйста, я — к вам за тобой, а ты, как будто
предчувствовал это, вышел мне навстречу. Ах ты молодчинище!
— Как это за мной? — спросил Тодя.
— Ну да, за тобой, — сказал поручик, — даю слово, если это
еще не называется любить свою кровь, то пусть я буду пес. Я
бросил всякие марципаны и токайское и помчался за тобой, чтобы
показать тебе все это великолепие.
— Но ведь я не могу ехать в Хорощу, — возразил Тодя, —
это очень бы рассердило матушку!
— Что это значит — не могу? — прервал Паклевский. — Что
ты, ребенок, которого водят за ручку, что ли? Никто не увидит
тебя в Хороще; а ты насмотришься таких чудес, каких не видал
и в Варшаве. Мой конь свезет нас обоих как ни в чем не бывало;
садись за мною, подъедем к парку и пойдем с тобою в тенистые
аллеи...
— Но как же матушка?
269
— Слушэй, ведь ты никого не убьешь, не обокрадешь и не
совершишь никакого смертного греха, — живо заговорил Паклев-
ский. - - Hyv спросит тебя, положим, мать, где ты был. Скажи ей,
что заблудился в лесу, или что ты издали смотрел на фейерверк.
Это уж не такая большая ложь, потому что так ведь и будет...
Ну, будь мужчиной, влезай на коня!
Юноша все еще колебался. Паклевский подал ему руку.
— Ну, чего там, черт побери! Неужто ты такой слюнтяй!
Теодор вскочил на коня позади него. Два всадника весили
порядочно, но добрая лошадь еще прибавила ходу, и они даже не
заметили, как очутились около парка.
Теодор беспокоился, не устал ли конь.
— Э, ничего ему не будет! — весело отвечал Паклевский. —
Я раз, когда мы стояли на Украине, как сумасшедший мчался на
нем две мили с девкой, да она еще вырывалась от меня, а конь
хоть бы что! Даже и не задохнулся!
Мартин, заметив издали своего пана, подбежал и взял у него
коня, едва держась на ногах.
Паклевский, хорошо помнивший Хорощу еще с прежних
времен, сразу узнал улочку, по которой можно было пройти в парк.
Теодор очень упрашивал его сесть так, чтобы никто их не заметил.
Поручик обещал ему это и даже поклялся, но потому только, что
не принял во внимание действительного положения вещей.
Огромный парк был полон гостей, искавших тени и прохлады,
и трудно было пройти в нем незамеченным. Все лавки, диванчики
из дерна, газоны, дорожки и даже более глухие части были
заполнены зрителями всех классов, число которых к вечеру все
увеличивалось...
Пройдя несколько шагов по парку вместе со своим проводником,
Тодя понял, что если и останется здесь незамеченным, то только
потому, что его тут никто не знает.
Спустилась темнота, и всюду началось движение.
По всему парку рассыпались слуги с лучинами и светильнями,
зажигая фонарики, развешенные по берегу озера и на деревьях,
окружавших беседки.
Отведенные специально для этого дня в каналах воды Нарвы с
устроенными на этих каналах искусственными водопадами
представляли поистине живописное зрелище.
Последние лучи заходящего солнца и свет цветных фонариков
отражались в фонтанах и водопадах. По берегам прудов стояли
группы разряженных дам и господ, жаждавших покататься на
лодке. Издали доносились звуки музыки.
Во всей своей жизни Тоде не приходилось видеть такого
волшебного зрелища, может быть, он и в мечтах своих не представлял
ничего подобного, и теперь он был совершенно подавлен и растерян
от всего виденного.
— Ну, что? — смеялся Паклевский. — Стоило трястись на
коне, хоть и не очень удобно было, чтобы посмотреть на все эти
270
чудеса? Да ведь это, сударь мой, прямо сон какой-то! Вот что
может сделать пан гетман!
— Это — король, а не гетман!
Но при всем своем восхищении Тодя старался избегать людских
взоров, как ни подталкивал его вперед Паклевский.
Так, медленно подвигаясь от дерева к дереву, от лужайки до
лужайки, они добрели до пруда...
Как раз в эту минуту от пристани отошла лодка, которою,
вместо гребцов, одетых на манер венецианских гондольеров,
вызвались управлять два любителя в старопольских костюмах,
очевидно, сильно возбужденные многочисленными тостами.
Пригласив в лодку нескольких дам, они схватились за весла и,
хотя не особенно твердо держались на ногах, уселись сами, громко
восклицая:
— Ну, что ж такого? Ведь не боги горшки обжигают!
— Я, милостивый государь, переправлялся раз через Вилию в
челноке вдвоем с рыбаком, — прибавил другой.
Слуги гетмана, приставленные к этой лодке, напрасно
отговаривали двух любителей кататься на воде, из которых один был
староста, а другой — кастелянич, от этой поездки.
— Мы справимся сами; оставьте нас в покое, мы сами хотели
покатать этих дам.
— Повезем их, — прибавил другой, — и покажем всем,
что шляхтич благодатью Божией что захочет, то и сможет
сделать...
Теодор, стоявший на берегу, поблизости от этой компании,
успел разглядеть, что в лодке находилась знакомая уже ему по
встрече на проезжей дороге Старостина.
Спутница ее брюнетка и хорошенькая барышня с
васильковыми глазами оказались на этот раз менее отважными и
отказывались сесть в лодку, куда настойчиво зазывали их
гребцы-любители.
Начался спор. Старостина, нервная и упрямая, сама первая
подав добрый пример, тянула за собой и своих товарок; брюнетка
всплескивала руками и ни за что не позволяла дочке спуститься
на мостки.
— Ну, тогда слово чести, — тонким голоском кричала
Старостина, — я поеду одна с кастеляничем.
— Тетя! — восклицал амурчик.
Староста, оскорбленный таким недоверием со стороны
генеральши, громко закричал кастелянкчу:
— Слушай-ка, покажем им, как мы управляемся! Отчаливай
со Старостиной! Отчаливай!
И с такой энергией погрузил весло в воду, что потерял
равновесие и полетели головой вниз в воду. Но этим дело не кончилось,
потому что, падая, он опрокинул лодку с сидевшей в ней старо-
стиной, которая ухватилась было за накренившуюся часть. Гребцы,
стоявшие на берегу, бросились спасать утопавших, но, прежде чем
271
они решились погрузиться в воду в своих новых костюмах, Теодор
соскочил с мостков и вытащил на берег барахтавшуюся в воде
Старостину.
Он и сам потом не помнил, как это случилось, что он без
размышлений выбежал из-за деревьев, за которыми он прятался,
бросился спасать немолодую уже и некрасивую Старостину,
подвергая себя опасности быть узнанным и невольно оказаться в роли
героя.
Паклевский стоял совершенно растерянный, даже и не подумав
броситься вслед за племянником. А пока он успел прийти в себя,
тот уже вынес из воды и положил на траву потерявшую сознание
женщину.
Можно легко себе представить, какое впечатление произвел на
всех присутствовавших этот случай, по счастью, не имевший
других последствий, кроме купания в холодной воде.
Гребцы вытащили из воды старосту и каштелянича, сразу
отрезвившихся, — сконфуженных и сваливавших друг на друга вину
во всем случившемся. Не успели они еще воду отряхнуть с себя,
как уже переругались между собой.
Между тем генеральша с дочкой и многие дамы, сбежавшиеся
на крик, занялись приведением в чувство Старостины, которая то
принималась браниться, то снова лишалась чувств, то требовала
привести к ней ее спасителя.
И брюнетка, и амурчик сразу узнали его, хотя он только на
мгновение промелькнул перед ними, бросившись с мостков; такого
красавца-юношу не так-то легко забыть. Теодор рассчитывал тотчас
же спастись бегством и скрыться от людских глаз, тем более, что
отовсюду сбегались толпы любопытных, узнавших о происшествии
и желавших услышать и увидеть все своими глазами. Но
Паклевский, который был очень горд отважной выходкой юноши, не
пускал его, а дочка генеральши, в свою очередь, ухватилась за него
и велела остаться.
— Тетя не успокоится, пока не поблагодарит вас... Ну,
подождите же... Ведь вы спасли ей жизнь.
Какой-то шляхтич, стоявший в сторонке, подперся руками в
бока и пробормотал вполголоса:
— Да уж это, действительно, геройский поступок: баба стара
и дурна собой как смертный грех! В прежнее время таких
топили!
Старостину тем временем подняли с земли; с ней еще делались
припадки, и она испускала какие-то бессвязные восклицания, но
тут же призывала своего спасителя, просила дать ей выпить чего-
нибудь теплого, спрашивала про свои успокоительные капли,
приказывала отнести себя в постель и ругала старосту, который, по
ее мнению, был всему виной.
— Ради Бога! У меня будет лихорадка! Я умру... Этот негодный
пьяница! Но где же этот герой юноша? Генеральша, подержите, у
меня ноги совсем одеревенели... Леля, возьми меня под руку! Ах,
272
какой ужасный день... Мне кажется, что я проглотила жабу...
Сжальтесь, ради Бога, дайте чего-нибудь теплого. Но ще мой
избавитель? Ах, я никогда этого не забуду... Но что же сделалось с
моей прической!.. И кружева мои пропали...
В таком роде болтала без умолку Старостина, судорожно
хватаясь при этом за голову, растирая лицо, отплевываясь,
притворяясь потерявшей сознание и, видя себя окруженной
любопытными, изо всех сил стараясь разыграть роль
интересной жертвы.
Никто не сумел бы удержать вырывавшегося Теодора, если бы
не Лелины глазки, точно приворожившие его. Розовый амурчик на
глазах у тысячной толпы мучил бедного Тодю под видом
благодарности за спасение тетки. Он уже видел, что его прогулка может
открыться и навлечь на него гнев матери, и понимал, что ему
необходимо удирать из парка, но не было никаких сил противиться
этой девочке. Лишь только он делал шаг к отступлению, как Леля
бежала за ним и приводила его назад, как будто сознавая свою
силу и власть над ним...
Единственным средством спасения было бегство. Уже Тодя
скрылся за дядей в густую тень зарослей, но дочка генеральши
тотчас же очутилась подле него.
— Что же вы так невежливо убегаете? Надо же, чтобы тетя
поблагодарила вас.
— Сударыня, послушайте, — тихо заговорил Тодя, — я не
имею права показываться здесь, я должен уйти, я очутился
здесь случайно, привлеченный зрелищем, я не принадлежу к
числу гостей.
— Да ведь и мы здесь только случайно, — живо возразила
Леля, — если бы не сломалась ось, мама и тетя никогда бы сюда
не приехали... потому что...
Но здесь прекрасная Леля остановилась.
— Я не заслужил благодарности, — продолжал Теодор, — а
одно слово из ваших уст...
— Тетя будет в отчаянии, — с иронической усмешкой
болтала паненка, — ну сделайте же ей это одолжение... Я
сомневаюсь, чтобы мы еще когда-нибудь встретились, потому что
завтра мы едем в Варшаву... Только бы Старостина не
расхворалась...
— И я тоже собираюсь ехать в Варшаву, — живо прибавил
Теодор, — значит...
У молоденькой дочки генеральши заблестели глазки.
— Ах, вот и тетя... Идемте со мною!
Как раз в это время Старостину вели ко дворцу, а так как
прическа ее была в самом жалком виде, то она просила отвести
ее наиболее уединенными и тенистыми улочками.
Но Леля загородила ей дорогу, ведя своего пленника.
— Вот, тетя, ваш спаситель; поблагодарите его поскорее,
потому что он вырывается, и я еле могу его удержать.
273
При виде юноши Старостина чуть снова не лишилась сознания,
вспомнив о минувшей опасности; она разразилась рыданиями,
потом взглянула на Теодора и сентиментально произнесла:
— Благородный юноша, подвергавший свою жизнь опасности
ради меня, я до самой смерти сохраню благодарность к тебе! Ах!
Теодор поклонился и хотел удалиться, но генеральша и ее дочка
удержали его.
Старостина непременно хотела подарить ему что-нибудь на
память. А Тодя клялся, что не может ничего принять...
Краска выступила на его лице.
Паклевский, присутствовавший при этой сцене, шептал ему на
ухо:
— Да ну, не ломайся... Баба богатая... ведь ты весь промок
из-за нее; чего еще церемониться.
— Спасите вы меня, — взмолился Теодор к Леле, — я ничего
не могу принять! Ничего!
— А от меня? — спросила паненка, бросив на него быстрый
взгляд. — От меня можете?
Теодор молчал; панна Леля быстро сняла с пальца кольцо и,
прежде чем Старостина и ее сестра, вполголоса совещавшиеся
относительно подарка, пришли к соглашению, вскричала, подбежав
к ним:
— Тетя! Я уж дала ему от вас мое колечко! Дело сделано!
Все это произошло среди общего замешательства так быстро и
неожиданно, что ни Старостина, ни мать ее не имели уже времени
возражать. Теодор, взяв колечко, схватил ручку, подававшую ему
его, молча поднес ее к своим губам и услышал тихий шепот:
— Смотрите же, не отдавайте его другой; избави вас Бог!..
— Буду носить его до самой смерти!
Паклевский отбежал от них и скрылся в чаще деревьев.
Дядя, не поспевавший за ним, бежал, задыхаясь от усталости.
Оба остановились уже за парком.
— Да постой же, сумасшедший! — кричал поручик.
— Дядя милый! Дай мне своего коня доехать до Борка, ради
Бога...
— Дам, хоть бы он сдох после этого! Но постой же, дай мне
попрощаться с тобой, — говорил повеселевший Паклевский. —
Даю тебе слово, так ты меня обрадовал, что просто сердце прыгает.
Ну и молодчина! Ты сам не знаешь, как тебе повезло!
Старостина — вдова, бездетная, сентиментальная дура... сидит на деньгах...
а ее племянница — хороша как ангел.
И он принялся обнимать и целовать племянника.
— И надо же иметь т!кое счастье! Ведь они здесь случайно,
проездом... они не принадлежат к числу друзей гетмана. А панна
дала тебе колечко?
Но Тодя уже не слышал дальнейших слов; он так рвался на
коня и домой, что дядя не мог его соблазнить даже пуншем, чтобы
согреть после купания...
274
Так как разнеженность Мартина дошла уже до того, что он
лежал под желобом и никто не мог его добудиться, то другой
мальчик-слуга привел Теодору коня.
Над парком взрывались ракеты и римские свечи, когда Тодя
поскакал в Борок, уже не оглядываясь назад, мучимый
угрызениями совести и тревогой за мать, но увозя в душе воспоминания о
второй уже встрече с этой чародейкой Лелей, которую он уж не
рассчитывал больше встретить в жизни.
Ее колечко жгло его палец, а перед глазами неотступно стояли
голубые глаза и розовые уста паненки, и звучали в ушах ее
последние слова, сказанные на прощанье...
Не доезжая до усадьбы, он слез с коня, дал на чай мальчику,
провожавшему его на чужом коне, чтобы отвести его коня домой,
и начал потихоньку прокрадываться во двор, чтобы не встретиться
с матерью и успеть переменить намокшую одежду и тем избегнуть
объяснений и лжи. Он чувствовал себя виноватым, но счастливым...
Между тем, пока все это с ним происходило, егермейстерша,
выйдя из своей спальни и спросив о сыне, узнала от людей, что
он пошел пешком к лесу и еще не вернулся. Тогда она,
обеспокоенная, села ждать его на крыльце. Она легко догадалась, что те
самые выстрелы, которые ее напугали и разгневали, могли
привлечь ее сына в Хорощу.
Именно этого-то она и боялась.
Чем дольше тянулось время, тем с большим нетерпением, в
лихорадочном волнении поджидала она его возвращения. В том же
состоянии болезненного напряжения, в каком она перед смертью
мужа прислушивалась к малейшему шуму, поджидая доктора и
сына, вышла она и теперь к воротам... Ухо ее уловило далекий
топот коня; она отворила калитку и выбежала на дорогу...
Это было как раз в ту минуту, когда Теодор, отдав коня,
пешком шел к дому. Скорее угадав, чем разглядев во мраке чью-то
тень, мать бросилась навстречу, уверенная, что это ее сын и никто
другой.
— Тодя! — плачущим голосом воскликнула она. — Тодя, что
случилось с тобой!..
Теодор уже не мог и не хотел скрываться: он сам побежал к
матери. Она бросилась ему на шею, но тотчас же отшатнулась,
почувствовав, что он был весь мокрый.
— Где же ты был? Что с тобой? Весь в воде! Тодя!
— Мамочка! Все это пустяки, я все тебе расскажу, пойдем
домой, я тебе скажу всю правду. Ничего со мной не случилось.
Торопясь изо всех сил, задыхаясь от скорой ходьбы и крича
еще со двора слугам, чтобы зажгли свет, егермейстерша пошла к
дому, увлекая за собой сына.
Теодор, хотя и успел немного высохнуть в дороге, имел
ужасный вид.
Огорчение и беспокойство матери так растрогали Теодора, что
он решил ничего не скрывать от нее.
275
— Я виноват, — сказал он, — прости меня! Я поступил
легкомысленно. Меня заинтересовала эта несчастная Хороща. Я пошел
за лес, оттуда, как мне сказали, был виден фейерверк!
Егермейстерша презрительно вздернула плечами.
— Ребенок! — пробормотала она вполголоса.
— На полпути я встретил дядю, — продолжал Теодор, — и,
на несчастье, согласился ехать вместе с ним до варка.
— Говори мне все! Как на исповеди! — грозно прервала его
егермейстерша с пылающим от гнева лицом. — Говори мне все,
Тодя!
Она не докончила. Тодя прервал ее.
— Я ничего не скрываю от тебя. Мы стояли вместе с поручиком
в кустах около пруда, когда в лодку села Старостина Кунисская,
та самая, которую я встретил на дороге в Хорощу вместе с
генеральшей и ее дочкой.
— Что же они там делали? — воскликнула егермейстерша.
— Мне кажется, что они там очутились случайно из-за
сломанной оси.
Беата презрительно засмеялась.
— Ах, случайно! — шепнула она.
— Какие-то неловкие господа, пожелавшие покатать этих дам
по пруду, опрокинули лодку. Старостина упала в воду, а я ее
вытащил.
Мать пожала плечами, и брови ее нахмурились.
— Ну, вот, — сказала она, — тебя, конечно, там видели,
повторяли твое имя, и все узнали, что ты был там, где — ради
меня и в память об отце — тебе не следовало быть! Ты сам
не знаешь, какое огорчение ты мне причинил, какую рану ты
мне нанес!
— Мамочка! — упав к ее ногам, умоляюще воскликнул Тодя.
— Люди подумают, что мы туда вторгаемся, напоминаем о
себе, лезем к ним насильно, — говорила мать с возрастающим
одушевлением. — Ты не знаешь и не можешь знать, что ты
наделал, что из-за тебя коснется и меня, твоей матери... К
сожалению, — со слезами в голосе прибавила она, — я не могу
сказать тебе того, что измучило мое сердце, отравило мою жизнь,
а ты...
Слезы не дали ей продолжать. Но она быстро овладела собой,
вскочила с места и сказала:
— Ступай, сейчас же перемени платье и собирай свои вещи;
еще до рассвета ты должен уже быть на пути в Варшаву. Ты не
можешь больше оставаться здесь. Мое сердце разрывается, но я
должна отправить тебя.
Бледная как мрамор, она повернулась к сыну.
— Не думай только, Тодя, что я, твоя мать, поступаю
опрометчиво, повинуясь каким-то причудам и капризам. Честь,
спокойствие и жизнь твоей матери требуют от тебя, чтобы ты избегал
всяких отношений с гетманом. Гетман сурово, жестоко, без сожа-
276
ления, бессовестно поступил с твоей матерью! Не спрашивай
больше! Ты должен быть ее мстителем, ты...
Она вдруг остановилась, словно боясь, что и так сказала
слишком много.
Сын был так встревожен и подавлен ее словами, что уже не
смел отговариваться или хотя бы просить об отсрочке дня отъезда.
— Пойдем со мной, — прибавила она, — посчитаем, что у нас
есть... Возьми все себе, я дам тебе еще несколько оставшихся у
меня драгоценностей, — они уже не нужны мне и только
напоминают дни слез и горечи... Продай их... Поезжай, поезжай,
поезжай!
Выговорив все это с страстной стремительностью, егермейстерша
тотчас же пожалела о своих словах при взгляде на бледного,
уничтоженного, с виноватым видом стоявшего перед ней Теодора и с
такой же страстностью бросилась ему на шею.
— Дитя мое! Я должна прогонять тебя из дома!.. Ох,
несчастная судьба моя!
Слезы и рыдания опять прервали ее речь, а Теодор не мог
ничем утешить ее, кроме уверений в послушании.
Было уже около полуночи, когда Теодор пошел переодеться и,
повинуясь приказанию матери, приготовиться к отъезду. Она не
только не отговаривала его, но еще торопила укладываться, чтобы
выехать еще до рассвета.
Самая поездка в такое время представляла известные
неудобства; ее можно было совершить только верхом и притом без
провожатого; проезд слуги и стоил бы дорого, да и не было в Борку
никого подходящего.
Плача, бегая из комнаты в комнату, собирая все, что могло
пригодиться сыну, егермейстерша всю эту ночь провела в хлопотах,
не соглашаясь прилечь, пока не уложит всего. Теодор также
спешил укладываться, стараясь успокоить мать. День начинался, когда
юноша сел на коня, а вдова, проводив его пешком до опушки леса,
где стоял крест, крепко обняла его, обливая слезами, и, когда конь
с всадником скрылись из виду, упала на колени, вознося молитву
к Богу...
Слуги, присутствовавшие при ее лихорадочных сборах, издали
следовали за нею, когда она вышла проводить сына, и, отведя ее
в полуобморочном состоянии домой, уложили в постель.
Предчувствие не обмануло вдову, которая ожидала из Белостока
гостей к сыну: после обеда приехал доктор Клемент и привез с
собой поручика.
Французу хотелось разузнать сначала от слуг, признался ли
Тодя матери во вчерашнем приключении.
Старая служанка рассказала ему о возвращении паныча, о
страшном гневе пани и о том, что она отправила сына куда-то в
дальнюю дорогу.
Егермейстерша еще не вставала, когда ей доложили о приезде
гостей; она тотчас же вышла к ним. Увидев ее лицо, доктор понял,
277
что она провела ужасную ночь: глаза ее лихорадочно блестели, и
сама она была очень бледна.
Поручик, более простодушный, чем доктор, и в надежде, что
невестка многое может простить ему, начал сразу с того, как Тодя
отличился накануне, причем он и не думал скрывать своего участия
в этом приключении.
— Я не могу считать себя благодарной поручику за то, что он
доставил Тоде случай утонуть, — сурово отвечала вдова. — А все
это привело только к тому, что я сегодня должна была отправить
его из дому, чтобы он здесь не баловался и не встречался больше
с белостокским обществом.
— А что же это за белостокское общество? — с негодованием
возразил поручик.
— Для других оно, может быть, самое лучшее, но для моего
сына оно не подходит.
— Милостивая государыня! — воскликнул оскорбленный
доктор.
— Для моего сына, — гордо возразила егермейстерша, — это
слишком знатное общество; мы бедные люди; Теодор должен
работать, а не развлекаться...
— Вы очень раздражены, — мягко заметил доктор,
— Да, я раздражена, — отвечала Беата.
— Именно теперь, когда вы, сударыня, должны бы Бога
благодарить! — воскликнул поручик. — Это просто какое-то
ослепление. Мальчику привалило такое счастье, что ему сто человек
позавидовали бы. Он спас Старостину из воды, а генеральская дочка
влюбилась в него.
— Поручик! — воскликнула егермейстерша. — Я не выношу
шуток.
— Да это же не шутки, сударыня, — повторил поручик, —
влюбилась в него панна. Я сам был свидетелем, что она с ним
выделывала, а кончилось тем, что она за тетку дала ему свое
колечко на память и наказала, чтобы он его не отдавал другой. Я
слышал это собственными ушами.
Паклевский засмеялся торжествующе, заметив, что невестка,
удивленная его словами, слушала молча.
— Так-то, сударыня, я уж не знаю, чья тут вина: того ли, кто
доставляет возможность счастья, или того, кто его отталкивает...
— Вы, сударь, слишком легко смотрите на эти вещи, — после
некоторого раздумья отвечала вдова, — не будем больше об этом
говорить. Я сама отправила сына и не жалею об этом...
Клемент, заложив по привычке руки под фалды фрака, ходил
по комнате. Поручик был возмущен.
— Я могу на это сказать только одно, — воскликнул он, —
что больше я не желаю вмешиваться ни в вашу судьбу, ни в
судьбу моего племянника! А если случится какая-нибудь беда от
такого бабьего хозяйничанья, то уж это не моя вина, — я
умываю руки!.
278
— Я ловлю вас на слове, — прервала его вдова, — и вот
свидетель, что вы не будете заботиться о моем сыне; предоставьте его
мне и самому себе!
Поручик хотел сначала оскорбиться таким резким ответом, но
сдержался, рассудив, что при постороннем человеке было бы
неуместно ссориться с невесткой; он только поклонился и, не
дожидаясь доктора, хотел уже уйти, когда егермейстерша крикнула ему
вслед:
— Прошу не обижаться на меня, поручик, мы можем остаться
добрыми друзьями, только оставьте в покое моего сына.
— Ну, слово сказано, — отвечал Паклевский, — делай с ним,
сударыня, что хочешь. Видно, наши простые шляхетские понятия
о жизни не годятся для этого любимчика, пусть же он исполняет
маменькину волю, посмотрим, что из этого выйдет...
Клемент, не вмешиваясь в их разговор, с пасмурным видом
ходил по комнате.
По знаку хозяйки служанка внесла бутылки и рюмки. Это было
верное средство умилостивить поручика, который, избаловавшись
белостокскими и хорощинскими возлияниями, не очень-то доверял
шляхетским угощениям, однако не в его обычае было пренебрегать
чем-нибудь.
Доктор попросил себе кофе, а Паклевский уселся побеседовать
с бутылкой, которая оказалась гораздо более ценной по
внутреннему содержанию, чем это могло казаться; Клемент, видя, что
егермейстерша сильно возбуждена и разгневана, предложил ей
выписать успокоительные порошки.
— Это все пройдет само по себе, — шепнула вдова, — мне
ничего не нужно.
— Милая моя невестка, — заговорил поручик, выпив первую
рюмку, — спасая сына от какой-то воображаемой опасности, вы,
сами того не ведая, подвергли его настоящей опасности.
Егермейстерша нахмурила брови.
— Каким же это образом? — спросила она.
— Сегодня, раным-ранешенько, Старостина, генеральша и ее
дочка выехали в Варшаву, а пан Теодор выбрал ту же дорогу. А
значит, — смеясь, закончил поручик, — совершенно ясно, что они
встретятся и захватят с собой кавалера. Ведь это же спаситель
Старостины, а генеральская дочка окончательно вскружила голову
и себе, и ему.
— Оставьте меня в покое с вашими догадками! — резко
оборвала его егермейстерша. — Вам непременно хочется сделать мне
неприятность!
Поручик, допивавший вторую рюмку, вытер усы, встал,
подошел поцеловать руку невестки и, оставив у нее доктора, собрался
уезжать.
— Пусть доктор останется у вас для консультации, — сказал
он, — а я, не будучи в состоянии ничем угодить вам, уезжаю.
Никто его не удерживал; он сел на коня и уехал.
279
Клемент, оставшись наедине с егермейстершей, долго не мог
начать разговор.
— Дорогая пани, — сказал он наконец, — такою
поспешностью и нетерпением вы действительно могли навлечь на сына
различные неприятности. Я считаю себя другом дома и поэтому
считаю возможным спросить, с какими средствами он уехал из
дома?
Егермейстерша покраснела.
— Теодор, — сказала она, — привез с собой какие-то деньги,
заработанные им или у кого-то взятые; он их употребил на
похороны отца, но так как это стоило нам недорого, потому что добрые
ксендзы ничего не хотели брать с нас, даже за освещение, то ему
осталась еще порядочная сумма на отъезд. Ах, да я бы сняла с
себя последнюю рубашку, чтобы только поскорее отправить его
отсюда! Если бы он даже выехал с небольшими средствами и
должен был бы экономить, то это не будет ему во вред. Я
предпочитаю, чтобы он испытал смолоду нужду, чем приучился к
расточительности.
Говоря это, она опустила глаза и, покраснев, умолкла.
— Все это было бы великолепно, — возразил доктор, — если
бы действительно было необходимо. Вы позволите мне говорить
прямо? Для молодого человека, вступающего в свет и ищущего
связей в обществе, всегда очень много значит, если он ни в чем
не нуждается и располагает хоть какими-нибудь средствами.
Таланты не заменят того, что требует от него свет и по чему будут
судить о нем.
— Но я не могла ничего больше сделать для сына, потому что
и сама ничего не имею! — возразила вдова, и по выражению ее
лица видно было, что ей дорого стоило это признание.
— Вот в этом вы ошибаетесь, — медленно выговорил доктор.
— Как ошибаюсь? Кто же знает об этом лучше меня самой? —
с горьким смехом сказала она.
— Значит, вы должны знать и о том поручении, которое дал
мне егермейстер, — так же медленно продолжал доктор.
— Что же это за загадка?
— Будучи уже больным, покойник поручил мне продать одну
драгоценность, которую он, по его словам, получил в наследство
от прадеда.
Егермейстерша перекрестилась. Клемент казался смущенным и
рассерженным.
— Какая драгоценность? Что вы говорите? — прервала
вдова. — Я не знаю ни об одной; а если бы у него действительно
было что-нибудь подобное, неужели он скрыл бы это от меня?
— Но ведь не думаете же вы, что я лгу? — живо воскликнул
доктор. — Это был большой сапфир, вделанный в запонку и
окруженный бриллиантами, камень очень большой и стоивший
больших денег; егермейстер говорил мне, что эту последнюю семейную
драгоценность, унаследованную им от деда, бывшего с Собеским
280
под Веной, он долго берег и не хотел расставаться с ней, но в
конце концов был вынужден это сделать...
— Что вы мне там рассказываете! — воскликнула егермей-
стерша.
Доктор обиделся.
— Вот это великолепно! — воскликнул он почти гневно. —
Желая услужить приятелю, я сам попал в беду. Камень с запонкой
я продал, а деньги привез вам. Делайте с ними, сударыня, что вам
будет угодно! Знали вы об этом или нет, но я не хочу и не стану
присваивать себе чужую собственность.
Говоря это, доктор живо вынул из кармана жилетки три свертка
и гневно бросил их на стол.
Горячий румянец выступил на лице егермейстерши, взгляд ее,
казалось, пронизывал доктора, брови нахмурились.
Не говоря ни слова, она так смотрела на него, что Клемент
смутился.
— И вы думаете, сударь, — медленно заговорила она голосом,
в котором звучала боль и горечь, — что вы меня проведете этой
сказкой? Я восхищаюсь, доктор, твоей наивностью и удивляюсь
твоему непониманию меня. Эту штуку я понимаю и знаю, от кого
она идет; а если не сержусь на тебя, добрый мой друг, то только
потому, что ты действительно был всегда верным другом и ему, и
мне в тяжелые минуты жизни. Но, пожалуйста, не рассказывай
мне об этом сапфире Паклевских! Покойник сто раз повторял мне,
что его дед не привез из Вены ничего, кроме раны и седла,
стремена которого казались ему золотыми, когда он их брал, а
оказались позолоченной медью; если бы Паклевские имели такой
сапфир, то уже давно проели бы его!
Она рассмеялась.
— Но я ведь не лгу вам, — возразил растерявшийся доктор.
— Лжешь, дорогой приятель, — отвечала вдова, — и денег
этих я не возьму.
Она опять густо покраснела.
— Я знаю, от кого они присланы, — закончила она,
оживляясь, — я не притронусь к ним. Делай со своими сапфирами, что
тебе вздумается. Прошу тебя об этом.
Клемент стоял совершенно смущенный и растерянный.
— Но ведь и я не могу взять этих денег, — пробормотал он
наконец.
— Отдай их, кому хочешь, — воскликнула егермейстерша, —
подари, если хочешь, или просто выброси! Если бы я до них
дотронулась, они обожгли бы мне ладони...
Она выговорила это с такой страстностью, что Клемент в
отчаянии упал в кресло. Оба помолчали. У вдовы на глазах были
слезы.
— Несчастная моя судьба! — тихо заговорила она, не глядя
на доктора. — Я должна бросать милостыню людям в лицо! Как
это больно и страшно!..
281
Клемент, ни слова не отвечая, подошел к столу и, взяв свертки,
с недовольным видом запрятал их в карман.
— Отдам их на госпиталь, — пробормотал он.
— Кому хочешь, — отвечала вдова.
Доктор держал уже шляпу в руке и готовился уйти, но ему
неприятно было оставить вдову одну и в таком состоянии духа.
— Ну, не сердитесь же на меня, — сказал он, беря ее за
руку. — Если я поступил опрометчиво, то только потому, что видел
там сокрушение, печаль и истинное чувство, и я не мог
противиться.
Егермейстерша иронически засмеялась, повторяя:
— Печаль, сокрушение, истинное чувство! Ах, прошу вас, не
говорите мне этого. Вы так заботитесь о моей судьбе, дайте же
мне успокоиться. То, что я имею с этого несчастного Борка, хватит
мне на жизнь даже при самом плохом хозяйничанье. Правда, я
прежде была приучена к другой жизни; но теперь —- кусок хлеба,
немного молока... и больше мне ничего не надо. А это у меня
есть... Платья я донашиваю старые; и надеюсь, что когда они
совсем износятся, то не будут уже мне нужны, а воспоминания,
которые я ношу в сердце, потеряют свою горечь и забудутся...
Теодор должен собственными усилиями выбиться наверх; или,
или... — Она замолчала и задумалась. — Может быть, Господь
Бог не всегда карает детей за грехи родителей и смилуется над
ним... Я знаю Теодора: у него доброе сердце; но я больше боялась
бы для него богатства, чем бедности. Эта красивая головка могла
бы легко закружиться.
И, покраснев, она опять прервала себя.
— Да, да, так будет лучше всего. Отец Елисей говорит, что
надо заботиться, но не надо слишком тревожиться и огорчаться.
Клемент поцеловал ей руку и вышел потихоньку, сильно
смущенный, бормоча себе под нос какие-то французские проклятия,
как будто облегчая ими тяжесть, давившую грудь.
Кабриолет его покатил прямо в Белосток к занимаемому им
дому. В этот день во дворце, несмотря на то что многие гости уже
уехали, все еще было много народа, и когда Клемент явился к
ужину, по-видимому, желая поговорить с гетманом, он только
после окончания ужина успел протиснуться к нему.
Гетман еще за ужином пристально смотрел в его лицо, словно
надеясь прочесть что-то, а когда они после ужина оказались рядом,
отвел доктора в сторону и спросил:
— Я вижу по выражению твоего лица, что у тебя ничего не
вышло.
— Уж не знаю, по моей ли вине, за что и почему, но я
встретил только брань и неприятности, а вместо утешения причинил
боль и огорчение — словом, ничего не добился.
— А история с сапфиром? — прервал гетман.
Клемент только пожал плечами.
Гетман нахмурился.
282
— Ваше превосходительство отклонили мою мысль, которая
была во сто раз удачнее, а теперь уж ее нельзя привести в
исполнение. Надо было деньги выслать из Вильно или из Варшавы,
все равно откуда, — но непременно в виде возврата долга от
неизвестного.
Гетман задумчиво смотрел куда-то в сторону.
— Что же она думает делать с сыном? — спросил он.
— Его уже нет! — воскликнул Клемент.
— Как так? Но что же случилось?!
— Ах, — сказал доктор, — после вчерашнего его приключения
в Хороще она так перепугалась и рассердилась, что не позволила
ему остаться даже до рассвета. Он рано утром выехал в Варшаву.
Браницкий рассеянно слушал.
— Можно найти и там средство как-нибудь незаметно для него
прийти ему на помощь, — сказал он.
— После явно обнаруженной мной неловкости в таких делах
я уж не берусь за это, — сказал Клемент.
— А я не хочу никого другого.
Говоря это, гетман дружески протянул ему руку.
— Дорогой Клемент, прошу тебя, обдумай это, найди способ...
Сделай что хочешь. История с сапфиром была мною придумана,
и ответственность за неуспех падает на меня. Но скажи, почему
она не хотела верить в сапфир? Мне казалось, что все так хорошо
обдумано!
— Кроме того, что мы не знали, что этот самый дед,
сопутствовавший Собескому, как раз жаловался, что привез из Вены
только раны да позолоченные стремена, которые он принял за
золотые...
Разговор, вероятно, продолжался бы, но в это время
приблизился с одной стороны староста браньский, а с другой пробирался
к гетману его секретарь Бек. Оба они, казалось, караулили гетмана
и перегоняли один другого, чтобы поскорее занять его внимание.
При дворе Браницкого оба они соперничали во влиянии на гетмана,
по наружному виду казались очень дружными между собой, а на
самом деле неустанно старались навредить один другому.
О них рассказывали, что оба они питали слабость к табакеркам
и сверткам с деньгами, которые посетители очень ловко забывали
у них в канцелярии. И тот и другой пользовались влиянием и
доверием у гетмана, оба были ему нужны.
Бек великолепно вел всю заграничную корреспонденцию, а
староста браньский умел разговаривать со шляхтой, устраивал
сеймики, любил выпить в компании, а при случае мог и написать
что-нибудь в правительственном стиле.
В глаза Бек расхваливал Стоженьского, а староста превозносил
до небес стиль швейцарца; за глаза первый называл Стоженьского
болваном, а тот в свою очередь ругал швейцарца лапсердаком.
Гетман, со своим равнодушием и терпимостью большого
вельможи, ни к кому особенно не привязывался, но и ни к кому не
283
питал ненависти, в обществе Бека называл его «большим умницей»,
а говоря о нем со Стоженьским, выражал свое мнение словами «он
не глуп». Оба они получали подарки от гетмана и пользовались
его милостями, но ни один не был в состоянии спихнуть другого.
Гетман, заметив, что оба соперника приближаются к нему,
перехитрил их и, проходя по очереди между ними, направился прямо
к литовскому стольнику, с которым вступил в веселую беседу.
Поручик Паклевский не отличался склонностью к
предчувствиям — разве только в том случае, если из кухни доносился запах
чеснока, он догадывался о баранине на жаркое; Господь Бог не
сотворил его пророком, да и жизнь не развивала в нем этого дара,
но замечательно то, что все его слова, в шутку сказанные егер-
мейстерше и предвещавшие встречу ее сына на дороге в Варшаву
со спасенной им из пруда Старостиной, исполнились точка в точку.
В тот же самый вечер, когда Теодор, отведя коня в конюшню
при постоялом дворе, вышел подышать свежим воздухом, так как
стояла ясная и теплая погода, к крыльцу подкатил тарантас,
исправленный в Белостоке, и, прежде чем он успел спрятаться, а
может быть, он вовсе и не хотел прятаться, из тарантаса
высунулась белокурая головка, и амурчик крикнул:
— Ей-Богу, мамочка, это он!
В тарантасе все заволновались.
Старостина, которая, несмотря на свои пятьдесят шесть лет,
была сентиментальна, получила твердую уверенность в том, что
сама судьба, как чья-то невидимая рука, направляла на их путь
юношу.
Что думала ее племянница, когда, выйдя из тарантаса, подошла
к проезжему и от имени тетки пригласила его поужинать с ними,
об этом мы не знаем. Но зубки ее так и сверкали, глазки сияли,
и чем он был нерешительнее, тем она становилась смелее и
предприимчивее; генеральша держала нейтралитет; любя дочку, она
позволяла ей очень многое, и хотя излишняя фамильярность ее с
первым попавшимся шляхтичем могла и не нравиться матери, но
она считала, что все это не так важно, потому что не может иметь
никаких последствий.
Но на замечание, сделанное ей потихоньку дочке и
призывавшее ее к большей сдержанности в обращении, та отвечала с
плутовской улыбкой:
— Но, милая мамочка, как же я могу быть равнодушной к
тому, кто спас жизнь моей дорогой тете! Да ведь ты же и сама
говорила, что он очень красивый и умным юноша, значит, ты не
права...
Обыкновенно, все кончалось тем, что права была одна Леля.
Старостина, в ожидании гостя, приглашенного к ужину,
занялась приведением з порядок своей прически; покрыла
белилами свое утомленное лицо, налепила мушки и при помощи
284
зеркальца, висевшего в главной горнице корчмы, оделась с
кокетливостью прежних лет, а когда Леля привела юношу, тетка
посадила его поближе к себе. Амурчик удовольствовался тем,
что сел напротив, но так стрелял глазами, что Тодя часто не
понимал ровно ничего из обращенных к нему слов спасенной
им сентиментальной вдовы.
Однако разговор дам был очень для него поучителен. Потому
ли, что дамам не было оказано особенно почетного приема, или
потому, что они издавна принадлежали к противному лагерю, но
они вовсе не казались восхищенными и очарованными белосток-
ским великолепием и поведением Браницкого.
— Конечно, слов нет, — поджимая губы, заметила
генеральша, — все это очень эффектно, красиво и на широкую ногу
задумано, но видно, что гетман занят совсем другим, чего он не
добьется, и весь он отдается своим мечтам, а богатство свое тратит
попусту. Ради популярности собирает массу народа, кого только
там не было, а высокопоставленных особ совсем мало!
— И за столом, — подхватила Старостина, — никакого
порядка... Венгерскую, она там, по-видимому, в фаворе, посадили выше
генеральши, а она ведь полковница и даже неизвестно, какого она
происхождения.
— А вы, сударь? — спросила брюнетка. — Не принадлежите
к гетманскому двору?
— Мы не имеем никакого отношения к нему и даже не
знакомы, — сказал Теодор.
Женщины с удивлением переглянулись между собой.
— Так как судьба свела меня с вами, сударь, — забавно
жеманясь, вымолвила Старостина, — то я прошу вас ничего скрывать
от меня. Я даю вам слово, что меня это очень интересует... Что
вы будете делать в Варшаве?
— Я, милостивая государыня, — сказал юноша, — имею
обещание от ксендза Конарского устроить меня, а теперь получено и
согласие от князя-канцлера на получение места в его канцелярии.
Женщины снова переглянулись, пожимая плечами от
удивления.
— Скажите пожалуйста, — сказала Старостина, — как это
все странно складывается! У князя-канцлера! Ну, а потом какие
планы?
— Я не строю планов на будущее, — откровенно признался
Тодя, — средств у меня нет, я должен служить, а там что Бог даст...
Он взглянул на генеральскую дочку, которая, казалось, была
готова поручиться за самого Господа Бога, что все пойдет отлично,
а Старостина шепнула со вздохом:
— Я верю в предназначенья... Такой милый и благородный
юноша должен быть счастливым на свете...
Глаза ее, окруженные морщинками, с такой нежностью
смотрели на Теодора, что Леля едва удержалась от смеха. Тетя
забавляла ее.
285
— Я, — прибавила Старостина, — пользуюсь доверием
княжны, часто бываю в Волчинс, если вы позволите, сударь, я поговорю
с нею о вас...
Тодя очень мило поблагодарил ее.
Во время ужина, который продолжался долго и, несмотря на
то что был изготовлен по-дорожному, отличался изысканностью,
дамы не переставали задавать Теодору всевозможные вопросы о
доме, о матери, об отце, сами рассказывали ему много интересного,
а в конце концов Леле удалось втянуть мать и тетку в оживленный
разговор между собой, так что на ее долю выпала обязанность
занимать гостя, которого она отвела к окну.
О чем она разговаривала с этим едва знакомым ей человеком
и как удалось ей побороть его робость, осталось тайной. Наконец
генеральша стала уже поглядывать с беспокойством на дочку, так
красноречиво выражавшую свою благодарность за спасение тетки.
Но молодые люди разговаривали так спокойно о совершенно
посторонних вещах, что ни в чем нельзя было их упрекнуть; а того,
что говорили их глаза и улыбки, не могли отгадать ни Старостина,
ни мать ее.
Старостина в душе говорила себе: если бы это не был еще такой
цыпленок, то я могла приревновать ее; но у Лели еще ветер в
голове... ей бы только посмеяться да пошалить...
Главной темой разговора между Лелей и юношей было колечко,
подаренное ею от имени тетки. Леля сразу же призналась ему,
что она осталась в выигрыше, потому что получила взамен гораздо
более красивое с изумрудом и бриллиантом. Теодор возразил ей,
что если бы колечко, которое он получил от нее, было соломенное,
то он и тогда не отдал бы его ни за какие сокровища в мире.
Панна делала вид, что совершенно этому не верит, и Теодор
должен был поклясться ей. Затем она сделала предположение, что он
может влюбиться и тогда... Юноша уверял ее, что он совершенно
не может влюбиться. Леля, конечно, очень заинтересовалась,
почему. Ответ на это был так труден, что Теодор не решился
выговорить его, но стоял на своем.
Тогда Леля сделала новое предположение, что у него каменное
сердце. Теодор очень удачно заметил на это, что действительно на
нем, как на камне, остается навеки все, что раз оттиснется.
Тут Леля ввернула новое забавное предположение, что он,
вероятно, влюбился в тетю, уверяя в то же время, что он может
рассчитывать на взаимность, так как тетя сама им увлеклась и
постоянно говорила о своем спасителе.
Она смеялась и безжалостно вышучивала его. В конце этого
разговора, заметив, что нельзя больше продолжать его в стороне
от других, не навлекая на себя неудовольствия матери, Леля
понизила голос и от имени тети отдала ему наказание дальнейшее
свое путешествие согласовать с остановками и ночными отдыхами,
которые они будут делать в пути.
Эта мысль сильно заняла ее.
236
— Знаете, тетя, — заявила она, подбегая к Старостине, — что
было бы прямо невежливо и даже оскорбительно для нас, если бы
пан Паклевский, встретившись с нами и едучи с нами по одному
пути, не пожелал бы сопровождать нас до самой Варшавы. Ведь
правда? Едут бедные женщины одни, слуги ненадежны. Кто знает,
что может с нами случиться. Неужели ему не жаль нас? Ну, тетя,
скажите вы ему сами... Это было бы совершенно естественно и
необходимо для нас!
Напрасно генеральша пожимала плечами, Старостина горячо
ухватилась за предложение племянницы.
— Я даже и в мыслях не допускала, чтобы так хорошо
воспитанный юноша мог оставить нас! — воскликнула Старостина. —
На его совести был бы грех, если бы с нами что-нибудь
случилось.
— Ага, видите, сударь! — прибавила Леля. — Это был бы ваш
грех, ну, а иметь на совести тетю, маму и меня, пожалуй, было
бы слишком тяжело! Значит, надо подчиниться судьбе...
Плутовка засмеялась, хлопая в ладоши; подбежала к Старостине
и шепнула ей на ухо: «Ну что, тетя? Хорошо я придумала? Тетя
неравнодушна к нему, да и он так поглядывает!»
— Ах ты противная девчонка! — рассмеялась Старостина,
машинально оправляя прическу.
На другой день, гораздо раньше, чем дамы двинулись в путь,
выехал и Теодор и остановился отдохнуть как раз там, где и они
должны были задержаться.
Генеральша, которая также не имела ничего против юноши,
удостоила его на этот раз исключительным вниманием и долго
разговаривала с ним на тему о счастье вообще, о счастье в
супружестве, в любви, о чувствах, сердце и тому подобных интересных
вещах, о которых Тодя знал только понаслышке.
Леля была в дурном настроении духа...
И когда они, отдохнув, снова пустились в путь, она обратилась
к матери с упреком за то, что та заняла собой все внимание их
спутника, тогда как он должен был разделить его между всеми
дамами.
Генеральша ответила ей, что сделала это умышленно, чтобы
панна Леля не кружила голову мальчику и сама не забывалась.
До самой ночи в тарантасе все дамы имели кислый вид. Но за
ужином на постоялом дворе Леля опять сумела заставить мать и
тетку так оживленно разговориться между собой, что Теодор снова
оказался ее собеседником.
Старостина с недовольным видом заметила генеральше:
— Смотри пожалуйста, твоя ветреница совсем потеряла голову
с Паклевским и страшно надоедает ему, потому что о чем ему с
ней говорить? Ведь это такой сорванец, который ни в чем не знает
меры.
Однако Леля, несмотря на то что Старостина иначе не называла
ее, как сорванцом, дала неопровержимое доказательство логиче-
287
ского мышления, возобновив разговор, начатый ими во время
первой остановки.
Тодя решился сказать ей, что если она отдаст кому-нибудь
свое второе колечко, то он, оставляя у себя ее подарок, мог бы
оказаться в неловком положении и был бы вынужден вернуть
его.
Леля уверяла, что она вовсе не так охотно раздает кольца;
Тодя высказал предположение, что ее могли бы заставить. Тогда
Леля поклялась, что никакая человеческая сила не может ее
заставить сделать что-нибудь против ее воли.
Однако ни тот ни другой не пошли дальше гипотез и общих
мест, а что за этим следовало, какой можно было сделать из всего
этого вывод, было ясно для обоих. Леля прямо заявила ему, что
если бы тот, кому она отдала сердце, изменил ей, то она отомстила
бы ему, а сама умерла бы от чахотки.
Что она там еще шептала, об этом не узнали ни Старостина,
ни генеральша, ни одна душа человеческая. А когда пришло время
расстаться, поведение Лели обратило на себя внимание матери,
которая напала на дочку с выговорами за легкомыслие и кокетство,
на что та отвечала ей, что она может быть «чем маме угодно, но
никогда не будет кокеткой».
Так Теодор въехал в Варшаву, совершенно опьяненный этой
встречей, забыв думать и о канцлере, и о ксендзе Конарском, и о
всей своей будущности, но полный мыслей об одной только Леле.
Он чувствовал, что этот сон скоро должен был рассеяться, что
сорванец в несколько недель совершенно забудет о нем и что
основывать на этом какие-нибудь надежды было то же, что строить
замки на песке, но невозможно было устоять перед обаянием этой
цветущей молодости.
Эти неразумные мечты помешали ему даже остановиться у
ксендзов пиаров, так как он боялся своим видом выдать им свою
тайну; он заехал в гостиницу и решил там переночевать и к утру
протрезвиться окончательно. На другой день, печальный, он пошел
в коллегию, и по счастливой случайности в тот же день опекун
проводил его к канцлеру.
То, что рассказывали о нем, внушало Теодору страх.
И действительно, когда он увидел сидящего в кресле мрачного
надменного князя-канцлера, с проницательным взглядом, с печатью
великого ума на высоком челе, с выражением силы и огромной
воли, и коща князь обратился к нему, как к младшему и
низшему, — сурово и в то же время слишком фамильярно — Теодор в
первую минуту очень смутился.
Но вскоре, однако, канцлер принял более мягкий тон, может
быть, заметив произведенное им на юношу впечатление,
попробовал заговорить с ним по-французски, чтобы испытать его познания,
и был приятно удивлен ими. Затем он заставил его написать под
диктовку и похвалил орфографию. Можно было надеяться, что
Теодор будет принят на службу.
288
Но хчязь заявил, что он должен сначала оставить его на
испытание.
— Я очень требователен к молодежи, — сказал он, — и вы,
сударь, должны заранее приготовиться к тому, что я суров,
нетерпелив, не терплю рассуждений и требую послушания...
Шляхетского гонора я не люблю. Кроме того, я требую, чтобы держали
язык за зубами. Я не прощаю даже случайной несдержанности в
словах, а измены — не допускаю...
Князь-канцлер говорил все это, обратившись спиной к
стоявшему в дверях юноше и только изредка бросая на него взгляд
через плечо. Затем он начал выпытывать Теодора о его семейном
и имущественном положении. Ему надо было знать, кто такие Пак-
левские, откуда они и сколько их есть на свете; потом спросил,
кто была его мать. Когда Теодор назвал Кежгайлов, князь
обернулся к нему.
— Где? Какая? Не дочка ли воеводича?
— Да, она его дочь, — отвечал Теодор, — но дед, по
неизвестным мне причинам, после замужества матери с моим отцом
совершенно к ней переменился и стал нам чужим. У нас нет никаких
отношений к ним...
— Это очень дурно, — возразил князь.
— Я не имею права судить моих родителей.
— Да, но я имею это право, — сказал князь-канцлер. — Семья
должна жить в согласии и держаться вместе... Разделившиеся семьи
гибнут; страна, в которой нет семьи и любви к своим, распадается
на отдельные куски.
Теодор ничего не ответил на это, и канцлер прекратил этот
разговор. Помолчав немного, он объявил Теодору, что вскоре
выедет из Варшавы в Волчин, и секретарь должен сопровождать его
в это путешествие...
Может быть, князь и еще дольше подвергал бы этой пытке
бедного Теодора, но ему доложили о приходе Сосновского,
секретаря литовского; князь повернулся лицом к стоявшему в дверях
юноше и сделал ему знак удалиться.
Первые дни пребывания при дворе князя-канцлера были для
молодого и не знавшего свет Паклевского целым рядом ошибок,
неприятностей и горьких открытий. Он совершенно иначе
представлял себе свое положение и значение, а оказался здесь на
второстепенных ролях, среди чужих и недружелюбно настроенных
людей.
Он очень скоро заметил, что его всячески старались выжить и
устроить так, чтобы он наделал как можно больше ошибок и
раздражил этим нетерпеливого по натуре, а в отношениях к
подчиненным очень резкого и неумолимого князя так, чтобы тот пожелал
избавиться от секретаря, принятого на испытание.
Все эти расчеты завистливых придворных не оправдались;
отчасти, может быть, потому, что князь их заметил или догадался
о них и именно назло завистникам решился оставить Теодора, а
289
может быть, он нашел в нем такие качества, которые могли
пригодиться ему для дела.
Какого-нибудь чувства или более мягкого отношения к юноше
со стороны князя-канцлера трудно было и ожидать; имея перед
собой великую цель, Чарторыйский пользовался ради нее людьми,
но не привязывался к ним; награждал, где было нужно, но старался
действовать главным образом страхом, ловкими маневрами,
знанием характеров и протекцией в судебных и общественных
учреждениях, чем собственными капиталами, которых здесь не
разбрасывали, как у Браницкого.
Теодор попал в хорошую школу. Здесь ему некогда было
вздохнуть свободно, а его обязанности в канцелярии были так
разнообразны и неопределенны, что никогда нельзя было предвидеть
заранее, что принесет сегодняшний день и какая работа от него
потребуется. Один день уходил на переписывание какого-нибудь
безымянного материала, который потом распространялся по всей
стране, другой день всецело посвящался корреспонденции на
французском языке, третий был занят распутыванием каких-нибудь
сложных вычислений; иногда ему приказывали съездить
куда-нибудь верхом с устным поручением, а иной раз случалось ему
занимать шляхту, приехавшую с просьбами и за инструкциями к
канцлеру.
Как известно, князь обладал поразительной памятью на лица,
отношения, связи, характеры; но еще больше, чем память,
помогало ему удивительное уменье обходиться с людьми.
Когда съезжалась шляхта, случалось, что Теодору,
приставленному развлекать их, давалось поручение разузнать об их
именах, о занимаемых ими должностях и землях, откуда они
прибыли.
Достаточно было самых поверхностных сведений, чтобы
канцлер тотчас же припомнил все, что касалось той семьи, с одним
из членов которой он имел дело. Если же ему не удавалось
заранее собрать сведения о шляхтиче, который приезжал к нему,
то он принимал его как доброго знакомого и старался озадачить
его так, чтобы выяснить все, что ему было нужно для
дальнейшего разговора.
Он сердечно обнимал братьев-шляхтичей, прижимал их к
пуговицам своей одежды, выказывал им всяческое сочувствие, а так
как болтливые провинциалы очень охотно шли на откровенность,
то канцлер всегда умел выведать у них все, что было нужно, и
потом, в удобную минуту, припоминал и пускал в дело, удивляя
всех своей памятью.
Был у него и еще один талант: он безжалостно вышучивал
всех этих простодушных людей, но так, что они даже и не
замечали его иронии. Пока он хотел быть добрым, он умел
очаровывать всех, в ком нуждался, но, если кто-нибудь не
соглашался с ним, он также умел быть жестоким, неумолимым
и невежливым до грубости...
290
Одним словом, с канцлером не так-то легко было иметь дело:
увлеченный великими планами, он смотрел на всех простых
смертных как на орудия, и если они ломались, это его мало
интересовало.
Теодор в несколько дней инстинктом почувствовал, как
осторожно здесь надо действовать.
Тут могло повредить даже излишнее усердие, потому что князь
не допускал, чтобы кто-нибудь переступал границы данной им
инструкции, как бы присваивая себе право быть умнее его.
Надо было соблюдать осторожность в каждом слове, на каждом
шагу и не ждать похвал, на которые князь был очень скуп.
Каким образом удалось Теодору с первых же дней службы
снискать доверие канцлера, этого не знал и он сам, а для старших
чиновников канцелярии это было просто загадкой.
Князь ничего не говорил ему и никогда не хвалил, но
охотнее пользовался услугами новичка, чем старших служащих,
уверенный в том, что он с большей точностью выполнит его
приказания; завистники пробовали высмеять его перед канцлером
и повредить ему, но без успеха, потому что канцлер доверял
только самому себе, и никто не мог похвалиться своим влиянием
на него.
Уже и в Варшаве Теодору пришлось много работать в
канцелярии; а когда канцлер выехал в Волчин, дела еще прибавилось...
При этом дворе молодежь не имела никаких развлечений и
даже не имела доступа в салоны. Канцлер принимал у себя только
высших сановников; карточная игра была здесь единственным
удовольствием, но и во время игры шли разговоры. В пище здесь
соблюдалась умеренность, стол был очень скромный, и только в
дни больших приемов допускалась некоторая роскошь для
представительства.
Днем и ночью сюда приезжали и уезжали гонцы и посланные,
прибывали служащие с донесениями, завязывались узлы
всевозможных интриг, придумывались способы подчинить себе трибуналы
и сеймики и создать сильную партию, и все это держало вождей
партий в постоянном напряжении. Составляя открытую оппозицию
королю и таким могущественным магнатам, как виленский воевода
и гетман Браницкий, Чарторыйские должны были иметь на своей
стороне шляхту, чтобы она поддержала Россию, готовую прийти
на помощь, и не поставила их в глупое положение перед нею
своим равнодушием к вождям фракции. Поэтому надо было
непрерывно рассылать гонцов, спаивать, уговаривать, мирить, устраивать
споры, заманивать обещаниями, и то, что было непопулярно в
самой реформе правления, покрыть обещаниями других благ в
будущем. Щедро раздавались будущие места при различных
учреждениях, всевозможные титулы, награды и земли, а в конце
концов старались извлечь пользу даже из неприязненного
расположения к противной партии или обид против них. Князь,
виленский воевода, в известной степени облегчал Чарторыйским эту
291
задачу, позволяя себе всякие нелепые выходки и наживая
неприятелей, которых те тотчас же привлекали на свою сторону.
Самым тяжелым для Теодора во время его пребывания в
Варшаве, в путешествии и в Волчине было то, что все избегали его,
никто не относился к нему с участием и все смотрели на него с
завистью и недружелюбием.
Над большинством из них Теодор имел то преимущество, что
он, благодаря материнскому воспитанию, свободно владел языком
тогдашнего большого света, то есть французским. А так как у
пиаров он хорошо изучил латынь и кое-как мог объясняться и
по-немецки, то его услугами пользовались постоянно.
Между тем другие канцелярские служащие самое большее, что
знали — несколько фраз судебной латыни, и поэтому они с
завистью смотрели на своего нового сотрудника.
Ничто не кажется таким тяжелым в молодости, как одиночество
и недоброжелательность окружающих, когда самый возраст
располагает к откровенности и сердечности. Но Теодор молча и
терпеливо покорялся своей судьбе и не давал никакого повода к
открытым ссорам.
Юноша надеялся встретиться в Варшаве со своей
покровительницей, Старостиной, но обстоятельства сложились так, что ему
некогда было искать ее, а потом он уехал с канцлером в Волчин.
Здесь ему, конечно, отвели самое плохое помещение, какую-то
темную избенку, а так как дела было много, то и канцелярия была
полна служащих, и Теодору приходилось делать свою работу с
другим, старшим, секретарем, неким Вызимирским, который
служил раньше у какого-то адвоката, понахватался там кое-каких
сведений и страшно чванился своим превосходством перед Теодором,
которого он не хотел признавать.
Особенно сердило Вызимирского то обстоятельство, что Теодор,
который вел всю французскую корреспонденцию, имел более
частый доступ к канцлеру; и он мстил беззащитному юноше только
за то, что завидовал его положению. Сослуживцы пробовали
сделать Теодора орудием для различных интриг, советовали ему
передать князю то то, то другое, но он неизменно отвечал: это не
мое дело, я здесь чужой и ни во что не могу вмешиваться.
Несколько раз после этого Вызимирский, который относился к
нему особенно неприязненно, говорил ему без обиняков:
— Не воображайте себе, сударь, что здесь всего можно
достигнуть, зная французский! Французов, которые к нам просятся, хоть
отбавляй; рано или поздно вас сгонит с места тот, кто еще лучше
вашего умеет это parle france... И потом выбейте себе из головы,
что здесь можно сделать карьеру лисьей покорностью!.. Мы —
старшие — лучше знаем, чем все это кончается. В один
прекрасный день князь-канцлер скажет: скатертью дорожка ступай, куда
глаза глядят! Тем все и кончится. Нам здесь не нужны господа
студенты, которые хотят быть умнее нас и задирать нос кверху.
Мы вас выставим, вот увидите!
292
На все эти придирки и угрозы Теодор отвечал обыкновенно
молчанием, и только иногда, вынужденный сказать что-нибудь,
коротко возражал:
— Если мне прикажут уходить, то я уйду.
— Вы, сударь, кажется, мечтаете о высокой карьере? —
говорил Вызимирский. — Ну, ну, выбейте себе это из головы; есть тут
такие, что и законы знают, и различные проекты могут
представить, да и тем не легко вскарабкаться наверх, а что же тут говорить
о вас?
Должно быть, и князю нашептывали про новичка Бог знает
что, но князь отличался большой наблюдательностью и знанием
людей; ему было нелегко что-нибудь внушить, он выслушивал
клеветников, но это служило Теодору не во вред, а только на пользу.
Особенно встревожило канцеляристов то обстоятельство, что
несколько раз, когда надо было отправить к Флемингу посла с устным
поручением, канцлер выбирал для этой цели Паклевского. Ему
удалось, буквально придерживаясь инструкций, с честью выйти из
испытания, и это сразу подняло его престиж.
Князь любил, чтобы его слушали и не высказывали собственных
суждений. Но велико было общее удивление, когда, желая снестись
с Масальскими по поводу дел виленского трибунала, князь
отправил к епископу Теодора, снабдив его рекомендательным письмом
и поручив этому молокососу переговорить с Масальским
относительно радзивилловского самовластия и способов борьбы с ними.
Когда при дворе узнали об этом, то старшие были уверены,
что Теодор споткнется об это препятствие и разобьет на нем себе
голову, а князя прогневит и лишится его доверия.
Молодому послу поручено было не только переговорить с
епископом, но также повидаться с конюшим Бжостовским и одним из
Огинских... Все дело было в том, чтобы это посольство из Волчина
не обратило на себя ничьего внимания.
Отправка более важного лица была бы сейчас же замечена; но
никому неизвестный юноша вряд ли мог внушить подозрение в
том, что он везет важные документы. По приказанию канцлера
все путешествие Паклевского было обставлено таким образом,
чтобы никто не предположил в нем служащего при дворе «фамилии».
Зависть была большая, хотя, кроме хлопот и неприятностей,
путешествие это не давало ничего. Но самая эта миссия облекала
неизвестного канцлерского служащего большим доверием со
стороны канцлера и ставила его на известную высоту.
В числе других поручений одно особенно удручало и смущало
Теодора. Канцлер дал ему письмо к воеводичу Кежгайле, его
родному деду, с которым все семейные связи были давно порваны. В
первом своем свидании с князем, когда Паклевский говорил ему о
своем происхождении, он назвал воеводича, не утаив и того, что
дед не хотел их знать. Он не допускал и мысли, что канцлер забыл
об этом обстоятельстве. Принимая от него письмо, он еще раз
хотел напомнить ему о нем, но князь, взглянув на него и как
293
будто отгадав, что он хотел сказать, так закончил свою
инструкцию:
— В Божишках, у воеводича Кежгайлы, тебе, сударь,
вменяется в обязанность отдать письмо в собственные руки и привезти
мне ответ.
Еще раз бросив быстрый взгляд на смущенного секретаря, князь
прибавил:
— Прошу все хорошенько запомнить и исполнить в точности,
без всяких отговорок и ссылок на невозможность...
Каковы были намерения князя, когда он посылал юношу в Бо-
жишков к родному деду? Желание ли испытать его, или оказать
ему услугу, или же его склонила к этому решению настоятельная
необходимость — юноша не мог знать.
Паклевскому дали конюха, двух коней, всякие дорожные
принадлежности и довольно большую сумму денег, и на другой день
он уже отправился в путь, предоставляя своим сослуживцам
строить всевозможные догадки относительно секретной миссии, данной
ему князем, хотя никто не знал, куда он едет.
Заметив, что он готовится к отъезду, Вызимирский старался
выпытать у него цель поездки, но Теодор сразу прекратил все эти
вопросы откровенным признанием:
— Мне приказано не говорить, ни куда я еду, ни с какой
целью; и я никому же выдам этой тайны.
Так он и отправился в путь, а дело было под осень, стараясь даже
в выборе дороги следовать указаниям канцлера. Путешествие в эту
пору нельзя было назвать легким и приятным; вся страна
волновалась. Каждую минуту ожидали какого-нибудь взрыва, готовились к
кровавому столкновению между двумя конфедерациями или хотя бы
одной конфедерации со своими противниками. На проезжих дорогах
стояла стража, скакали туда и сюда гонцы, но еще быстрее доходили
самые невероятные сплетни. Короля уже не было в Варшаве; между
дворами магнатов шло усиленное сообщение; более спокойная
шляхта, которая мечтала только о том, чтобы избежать всякого
столкновения, тяжко вздыхала, предвидя внутреннюю войну.
Теодор хорошо знал, что в дороге его могут захватить и
подвергнуть допросу с пристрастием, но его рыцарский и шляхетский
инстинкт отгонял опасения и помог бы ему сохранить присутствие
духа в худшем случае.
Ему было приятно после душных канцелярских кабинетов
очутиться на свободе, дышать чистым воздухом, не видеть
неприязненных лиц и не слышать насмешек и издевательств.
Во время остановки в пути и на ночлеге редко кто из
проезжих не спрашивал у него, откуда он ехал и с какой целью.
Он отвечал уклончиво, ссылаясь на семейные обстоятельства, как
на цель поездки.
Ведя замкнутую жизнь, он мало интересовался делами
политики, но все же его поражала общая растерянность, беспокойство
и тревожное предчувствие какой-то неизбежной катастрофы. Одни
294
бранили Радзивиллов, другие — а таких по мере приближения к
Вильне становилось все больше и больше — возмущались Чарто-
рыйскими.
Наконец Теодор добрался до Вильно и тотчас же поспешил к
епископу Масальскому. Он нашел в нем не духовное лицо, как он
себе представлял, а человека большого света, надменного и
честолюбивого, ведшего строгий и роскошный образ жизни и только
тогда оказавшего ему некоторое внимание, когда он заметил в нем
знание французского языка. Этот союзник показался ему очень
ненадежным, так как в нем не чувствовалось серьезности и
глубины мысли, какую он предполагал в помощнике канцлера. Он
показался ему человеком страстным, но в то же время
легкомысленным. Но не ему было судить о нем. Поручение, которое ему
велено было устно передать епископу, состояло в том, что Радзи-
вилл, вместо того, чтобы вступить в споры и пререкания, как от
него ожидали, оказал входящим войскам радушный прием и
снабдил их провиантом. Масальские были возмущены этой
осторожностью, на которую они не рассчитывали.
Передав то, что ему было поручено, и приняв взамен поручения
к канцлеру от Огинских и Бжостовского, Теодор отдохнул только
два дня в Вильно и затем отправился в Божишки, предчувствуя,
что именно здесь заключается самая трудная часть его миссии.
Надо было заранее обдумать, как держаться с дедом, общение с
которым было ему строго запрещено отцом и матерью и к которому
его направил канцлер. Как податель письма, он не был обязан ни
представляться ему, ни вступать с ним в беседу; потому он заранее
решил избегать всякого намека на какие-нибудь более близкие
отношения и держаться, как с совершенно чужим человеком, к
которому он послан с поручением.
С этими мыслями не без страха, но с твердым решением
исполнить свою роль до конца, молясь в душе Богу и прося его о
помощи в затруднительных случаях, Тодя очутился в одно
прекрасное утро на земле, где протекал Божеский ключ, о чем он
узнал из надписи на огромной таблице, прибитой к столбу и
украшенной четырьмя гербами на всех углах.
Тот, кто не знал воеводича Яна Гвальберта Августа на Больших
и Малых Божишках, в Вартове, Соботишках и Жердях, пана Кеж-
гайлы, вывел бы некоторое заключение уже по одному внешнему
виду самой резиденции.
Издали она имела очень внушительный и величественный вид:
было ясно, что из шляхетской усадьбы она возвысилась до
обиталища магната; но, приблизившись к ней, всякий мог легко
догадаться, что здесь было больше показного блеска. Замок, стоявший
на возвышении, был хотя и деревянный, но оштукатуренный,
побеленный и даже раскрашенный в далеком прошлом, и как-то
слишком широко раскинувшийся. Крыша в два этажа без всякой
295
надобности устремлялась кверху; огромное крытое крыльцо,
подпиравшееся утолщенными посередине столбами, неуклюже
выступало вперед. Низкие галереи, примыкавшие к нему с обеих сторон,
соединяли его с огромными боковыми пристройками таких же
размеров, как и самый корпус, называемый одними дворцом, а
другими замком.
Крыльцо на каменном фундаменте было так приподнято, что
возвышалось над крышей и было украшено наверху тяжелой и
непропорциональной скульптурой, окружавшей герб, покрытый
митрой; все это было покрыто позолотой и раскрашено, издалека
привлекая к себе внимание.
Но краска и золото стерлись и пооблупились, а над гербом и
митрой видны были гнезда ласточек.
С одной стороны замка возвышалось нечто вроде башни,
выстроенной по плану какого-нибудь домашнего художника или
самого хозяина дома; она поражала своей вычурностью и
неуклюжими окнами.
На вершине ее металлический рыцарь держал в руке
инструмент, в котором предоставлялось угадать фамильную
драгоценность.
Во двор вели каменные ворота в виде башни; ворота эти были
всегда отворены настежь, так как они были слишком тяжелы и,
кроме того, сорваны с петель. На башне также красовался герб,
но без карниза, краски полиняли и стерлись от времени, но
отчетливо выделялась надпись над гербом: «Nemini cedo».
Забавнее всего выглядел самый дворец, несуразно длинный,
несмотря на вытянутую кверху крышу, неуклюжий, запущенный и
как бы вросший в землю.
Многие окна были забиты досками и закрыты ставнями, другие
замазаны до половины. Дожди и непогода по-своему разукрасили
давно не обновлявшуюся штукатурку, а недавно
отремонтированная крыша пестрела заплатами всевозможных форм. Здесь шли
рука об руку стремление к показному блеску и крайняя
запущенность всего хозяйства; глина, облеплявшая каменные ворота и окна,
потрескалась и отпадала кусками, а стены боковых пристроек были
просто декоративными ширмами, за которыми скрывались самые
жалкие клети.
Из-за этих строений виднелись крыши еще каких-то странных
зданий, может быть, каплицы кладовой или еще каких-нибудь
дворцовых пристроек.
Подъезжая к усадьбе, Теодор заметил во дворе несколько
обтрепанных людей, возившихся около конюшен и кухни. Огромный
старый тарантас, подвешенный на ремнях, стоял перед сараем, и
человек с топором что-то долбил около него.
И от усадьбы, и от всех ее пристроек веяло грустью и
запустением. Сжалось сердце у бедного юноши при виде этого
дедовского наследия, в котором было еще печальнее, чем в убогом
Борку.
296
Теодор медленно подъехал к воротам. Здесь он увидел
заспанного сторожа, который высунул голову в окошко и в испуге
спрятался. Внутри у стен виднелись лестницы, сани, старые бочки,
поломанные возы... Он беспрепятственно въехал на песчаный двор,
поросший бурьяном, теперь засохшим, и изрытый следами
проходящих по нем стад. Единственным его украшением была засохшая
лужа у конюшни.
При появлении на дворе постороннего человека из окон и
дверей дворца и флигелей стали показываться люди и, не зная, как
отнестись к этому обстоятельству, снова прятались за ними. В
самом дворце из предосторожности закрыли огромные входные
двери.
Не зная, как ему поступить, подъехать ли к крыльцу или в
качестве посла смиренно подождать где-нибудь в стороне, Теодор
еще колебался, когда из дома выбежал навстречу ему старый слуга,
поспешно накидывавший на себя верхний кафтан, так что одна
его рука была уже в рукаве, а другая еще искала второй.
Во дворце еще никого не было видно, но сквозь запыленные
окна виднелись лица людей. Несколько худых псов, лежавших
около кухни, поднялись, полаяли немного, зевнули и, увидя старого
слугу, снова улеглись с ворчаньем на прежние места.
Седой человек в кафтане, приглаживая себе волосы и стараясь
держаться со степенным достоинством, подошел к Теодору. Он
смотрел на него и ждал, что тот скажет.
— Я привез письмо от князя-канцлера литовского из Волчи-
на, — сказал посол, — мне приказано вручить его пану воеводичу.
— Гм... гм... вот оно что! — пробормотал старик, почесывая
голову и глядя на юношу выцветшими глазами.
— Пан ваш дома? — спросил Теодор.
На этот, дважды повторенный, вопрос слуга не дал ответа,
пристально вглядываясь в слезавшего с коня посла.
После минутного раздумья, заикаясь и усиленно указывая в
сторону двери, он заговорил охрипшим голосом:
— Зайдите сюда! Вот, вот сюда! Зайдите сюда!
— Да дома ли ваш пан? — в третий раз спросил Теодор.
— Да вы, сударь, зайдите в дом! — повторил упрямый старик
и потянул гостя за собой в пустые сени. Из сеней он отворил
дверь в огромную горницу, в которой стояли большой стол и
несколько запыленных и погнутых стульев. В горнице пахло
сыростью и затхлостью, а на столе и стульях толстым слоем лежала
пыль.
Отерев полою кафтана стол и часть лавки, старый слуга
покачал головой и, ни слова не говоря, побежал по направлению к
дворцу.
Прошло довольно много времени, и вот из окна комнаты, где
он сидел, Теодор увидел выбежавших на двор людей, подростков,
мальчиков, работников и женщин, которые, толкаясь, ссорясь и
стараясь опередить один другого, спешили к дому, входили в него
297
и, немного спустя, бегом возвращались в боковые флигеля, откуда
доносились шум голосов, хлопанье дверей, жалобы и смех. В руках
у людей, возвращавшихся из дворца, он заметил одежду, а у
некоторых обувь.
На крыльце старый слуга, видимо, распоряжался всей этой
церемонией, он несколько раз выходил и делал знак руками.
О Теодоре, по-видимому, совершенно забыли; он догадывался
только, что ему готовили торжественный прием. Наконец на
крыльце главного здания показался тот самый старый слуга, который
еще недавно надевал простой кафтан, идя навстречу Теодору.
Теперь он вырядился в длинный темно-красный кафтан,
подпоясанный узким пояском такого же цвета, около шеи видна была полоска
чистой рубахи, застегнутой блестящей запонкой. Сапоги на нем
тоже были когда-то цветные, но теперь трудно было различить их
цвет. Новая одежда придала старику более степенный и важный
вид; он как-то и шел иначе, мерным шагом, задумавшись о том,
как ему сыграть свою роль дворецкого.
Не спеша, открыл он дверь горницы и, став так, чтобы из окна
было видно крыльцо дворца, поклонился и откашлялся.
— Пан, верно, дома? — проворил Теодор, встав с места и
приготовляясь идти.
— А как же, как же! Дома! — забормотал старик, все время
посматривая в окно. — Но ясновельможный пан очень занят с
ксендзом-секретарем отправкою срочных депеш, поскольку теперь
как раз время сеймиков.
— Значит, мне надо подождать? — спросил Теодор.
— Одну капельку, одну минуточку, — сказал старик, — тут
скверно, но мы сейчас пойдем во дворец. А все это через эти
сеймики, потому что наша братия шляхтичи лезут со всеми своими
делами к ясновельможному пану; они его считают своим оракулом.
Как он скажет, так и будет. И вот из-за этих шельмовских
сеймиков у нас во дворце все вверх дном. Слуг разослали во все
четыре стороны света, придворные разъехались, и даже повара
ясновельможный пан одолжил кастеляну.
Он вздохнул и ладонью пригладил волосы.
— Наш ясновельможный пан чересчур снисходительный, его
всякий обдует, кто только хочет, — прибавил он, — и хоть он
пан над панами, и у нас всего вдоволь, разве только птичьего
молока не достает, но как примется шляхта есть, то так, как
теперь, объест нас, видит Бог. Ну, а наш пан, он там об удобствах
не заботится, хоть у него всего много, а ему все равно. Но чтобы
он был скупой, этого нет, избави Бог, только у него свои фантазии,
ему не нужны всякие там финтифлюшки.
На дворцовом крыльце показался какой-то человек и махнул
белым платком, старик тотчас же засуетился и сказал:
— Ну, теперь можно идти во дворец!
Двинулись не спеша, впереди важно выступал дворецкий. На
крыльце не было никого; старик открыл дверь и впустил гостя в
298
обширные сени с лавками по стенам, грязные и закопченные; с
одной стороны виднелась огромная, никогда не закрывавшаяся
печь, зиявшая черной пастью, а перед ней, как перед чудовищем,
которого надо было постоянно кормить, лежала груда только что
нарубленных дров.
По обеим сторонам сеней Теодор увидел выстроившихся в два
ряда слуг различного роста, наскоро причесанных и умытых и
одетых в какие-то старые и, очевидно, не на них сшитые ливреи. У
некоторых она доходила до пят, а у других виднелись из-под нее
нижние рубахи.
Обувь на них была самая разношерстная. Все они старались
держаться прямо и с достоинством, но некоторые затыкали рот
рукою, чтобы не смеяться над самими собою. Суровый взгляд
дворецкого отбил у них охоту к веселости, и они ограничились тем,
что подталкивали друг друга локтями.
Из этих сеней дворецкий отворил двери в огромную залу.
Окна в ней были, должно быть, недавно только открыты, потому
что оконные рамы в некоторых окнах, очевидно, державшиеся
всегда закрытыми, теперь позакрылись сами собою. Здесь также
стоял страшный холод и пахло сыростью, как в склепе. Когда-то
зала эта имела очень внушительный вид, но теперь
покрывавшие ее обои поразорвались и вылиняли; по стенам залы висели
какие-то темные картины, а по обеим сторонам стояли, как
будто на страже, две громадные кафельные печи. По углам
пряталась старая, потертая и поломанная мебель. Должно быть, не
успели стереть пыль, потому что она покрывала толстым слоем
все столы.
В зале никого не было; дворецкий указал на двери налево: в
них стоял мужчина в узкой, черной, поношенной одежде, с
каким-то знаком отличия на шее, по виду духовная особа, с
бледно-желтым лицом, ястребиным носом и неприятно запавшим ртом.
Орден, очевидно, специально для этого случая надетый, был
украшен какими-то камешками грубой работы и висел на тонкой
томпаковой цепочке.
Не произнеся ни слова, ксендз-секретарь рукою указал Теодору
на дверь, приглашая его следовать за собою.
Вторая зала была вся увешана портретами, принадлежавшими
кисти одного художника и, очевидно, недавнего происхождения.
Портреты эти были так написаны, что о предках дома получалось
прямо страшное представление. У всех изображенных на них
рыцарей, дам и духовных особ лица были так искривлены, как будто
их подвергали пытке. Двери этой залы были закрыты. В ней тоже
никого не было; и только в следующей комнате, в кабинете,
находился сам хозяин. В кабинете этом, отличавшемся наилучшим
убранством и выглядевшим не таким заброшенным, как остальные
комнаты, стоял у окна стол, заваленный бумагами, а перед ним в
кресле, когда-то покрытом позолотой, сидела маленькая круглая
фигурка с выбритой на висках головой и коротко остриженным и
299
торчавшим ежиком чубом спереди, с выпуклыми глазами и
уродливо выпяченными губами.
Это и был воеводич Кежгайло, уже старый и седой, но еще
очень живой и бодрый; лицо его имело выражение страшного
упрямства, гордости и скрытого, всегда готового вылиться наружу
гневного раздражения.
Он сидел на своем троне лицом к дверям, одетый во что-то
похожее на кунтуш и имевшее прежде темно-красный цвет. На
нем были вышиты две звезды, должно быть святого Губерта и
Божогробека; рассмотреть их хорошенько было трудно, так как
шитье было грубое и поистерлось от времени. В руке он держал
какую-то бумагу, но взгляд его был устремлен на входившего, и
держался он с величием магната.
Секретарь каноник, указывая на входившего, промолвил:
— От князя-канцлера!
Воеводич ничего не ответил, только тряхнул головой, ожидая
приветствия.
Теодор был так смущен, что не сразу и в коротких словах
тихим голосом объяснил воеводичу, что ему приказано передать от
князя поклон и письмо, а ответ тотчас же привезти обратно.
— Приветствую! Приветствую! — резким голосом отрывисто
заговорил хозяин. Взяв от Теодора письмо, он передал его
канонику, который распечатал пакет и вручил его обратно Кеж-
гайле, став позади него так, чтобы можно было прочитать
письмо.
Сморщив брови и еще сильнее выпятив губы, воеводич принялся
за чтение.
В начале чтения по лицу его нельзя было отгадать впечатления,
производимого на него письмом, но чем дальше он читал, тем
сильнее изменялось выражение его лица. Бросив на стоявшего
перед ним Паклевского уничтожающий взгляд, он побледнел,
подскочил со сжатыми кулаками на кресле, уронил при этом письмо,
которое торопливо поднял каноника, и крикнул:
— Пусть он не суется не в свое дело! Как он смеет меня
учить! — Гнев этот показался ксендзу-канонику таким
неуместным, что для подавления его он схватил воеводича за локоть
и, нагнувшись к нему, начал что-то быстро шептать ему на
ухо.
Кежгайло снова уселся в кресло, но весь еще трясся от гнева.
Теодор, догадываясь, что в письме было, вероятно, упомянуто о
нем, и не желая подвергать себя неприятному столкновению с
дедом, отошел к дверям и, остановившись у порога, сказал:
— Я буду ждать ответа!
Проговорив это и почти не оглядываясь назад, он вышел из
кабинета, и когда двери за ним закрылись, он услышал за собой
страшный шум. Повышенным, возбужденным, гневным голосом,
доведенный почти до бешенства, КежгЧйло кричал так, что Теодор
ясно расслышал его слова:
зоо
— А ему какое дело? Что он мне будет нотации читать?!.. Я
не знаю никакой дочери, не хочу ее ни знать, ни видеть! Что
посеяла, то пусть и пожнет. А господа, которые ей так
покровительствовали, пусть дадут ей приданое и усыновляют; я ей гроша
ломаного не дам! Я...
Теодор, поспешно удаляясь, не разобрал дальнейшего. Он шел
растерянный, смущенный, раздумывая, нельзя ли ему сесть на коня
и, не дожидаясь ответа, ехать отсюда. Он уж был в первой зале
и собирался идти за конем, когда ксендз-каноник догнал его и
схватил за руку; он был сильно взволнован.
— Знаешь ли, сударь, это опасная игра! С нашим воеводичем
ничего из этого не выйдет!
Теодор обернулся к нему.
— Я ничего не понимаю, — сказал он.
— Как это? Чего вы не понимаете, сударь? — крикнул
секретарь. — Это мне нравится! Кажется, это ясно и очевидно, что вы,
сударь, просили князя-канцлера о заступничестве, а тот написал
воеводичу письмо, как префект к студенту! Неужели же он думает,
что убедит или устрашит воеводича?
— Я могу засвидетельствовать под присягой, — сказал
Теодор, — что я не имел ни малейшего представления о письме,
которое я привез. Я знаю, какие узы связывают меня с отцом моей
матери, но никогда по собственной воле не переступил бы порога
этого дома, если бы не приказание князя-канцлера, у которого я
нахожусь на службе, и которому я повинуюсь. Мне приказано,
чтобы я привез ответ; прошу дать мне его; я еду немедленно.
Каноник, выслушав его, видимо, успокоился.
— Может ли это быть? — недоверчиво спросил он.
— Я могу, подтвердить это под присягой, — направляясь к
дверям, воскликнул Теодор, весь пылая от стыда и негодования. —
Ответа я буду ждать во дворе, — прибавил он.
Каноник схватил его за руки.
— Подождите, сударь! Прошу покорно, сударь, подождите.
Говоря это, он бросился к воеводичу. Теодор остался один и
стал прохаживаться по пустой зале.
Между тем ксендз-секретарь вернулся к воеводичу, который,
глядя исступленным взглядом на письмо, сжимал кулаки, как бы
собираясь мстить тому, кто его писал. Однако первый порыв
бешенства уже миновал; он начал успокаиваться.
Каноник, вбежав в комнату, вскричал с порога:
— Он клянется на евангелии, что не знал содержания письма.
Это просто затея самого князя-канцлера, который любит всех
учить; глупая затея.
— Негодная, подлая! — крикнул, нетерпеливо двигаясь в своем
кресле, воеводич. — Но я ему отпишу, этому гордецу! Я ему
отпишу ответ!
— Ну-ну, — тихо остановил его каноник, — прежде чем
ссориться с князем-канцлером, надо хорошенько подумать.
301
— Я поеду с князем-воеводой! —- возразил Кежгайло. —- К
черту Чарторыйских! Пойду с гетманом!
— Как? Что? С гетманом? — вскричал каноник. — Что с
вами? С каким гетманом? Не с Браницким же? Может быть, со
старым Масальским?
Ксендз вздернул плечами, а воеводич в гневе отвернулся от
него и крикнул:
— Прошу меня не учить!
Оскорбленный секретарь молча отошел к окну. Кежгайло
бормотал что-то несвязное; вдруг он бросил письмо на землю и стал
топтать его ногами; потом, подперев рукой голову, уселся, весь
пылая гневом.
Каноник направился к дверям. Услышав его шаги, воеводич
порывисто повернулся.
— Куда? Зачем? Остаться здесь! Прошу покорно; кто уходит
в такую минуту, тому не для чего возвращаться!
Секретарь, стоявший спиной к нему, сжал крепко губы, оперся
на локоть и остановился на месте, немой и недвижимый.
Кежгайло, излив свой гнев, заговорил спокойнее, отрывистыми
фразами, как бы сам с собой:
— Желает играть роль наставника! Это со мной! Я ему дам,
я ему покажу, как со мной разговаривать! Так ему напишу, чтобы
его хорошенько проняло! Я знаю, как мне надо поступать, и если
что делаю, так уж назад не беру. Он еще хочет учить меня
катехизису! Садись, сударь, и пиши.
Медленно и неохотно каноник подошел к столику у окна, перед
которым стояло небольшое кресло; он так грузно опустился на
него, что дерево затрещало.
Воеводич повернул голову.
— Это еще что? Кресла еще будете мне ломать?
Секретарь положил перед собой бумагу и перо. Он приготовился
писать и сбоку иронично, поглядывал на воеводича, который
нахмурился и молчал.
Прошло, вероятно, не менее четверти часа, а Кежгайло так и
не начинал диктовать.
— Если теперь с ним поссориться, то он пришлет ко мне
войско, и они у меня все поедят, — сказал он, вздыхая. — Что? —
Он обернулся к секретарю. — Вы что-то говорите?
— Ничего, это уж мое дело! — возразил каноник.
— Но ради Христа, не сердись же еще ты на меня! — заорал
Кежгайло. — Что еще такое? Вы, сударь, знаете, что я не выношу
противоречия!
— Да я и не противоречу! — пробурчал каноник, грызя перо.
— Ты просто в бешенство меня приводишь! — завопил
воеводич. — Я тут голову теряю! Между молотом и наковальней. Не
могу раздражать этого всемогущего вельможу, а исполнить то, что
он мне приказывает, — лучше сдохнуть! Никогда, ни за что на
свете!
302
Он обернулся к секретарю.
— Ну, сделай это для меня, сочини сам; поставь себя на мое
место, как бы ты написал? Я знаю, что ты человек разумный и
политик... Пиши сам.
Слова эти польстили секретарю; он медленно склонился над
бумагой, обмакнул перо и начал что-то писать.
Воеводич смотрел издали, нетерпеливо ожидая окончания
спрашивая поминутно:
— Ну что? Готово?
Каноник, не отвечая ему, продолжал писать.
У Кежгайло пот выступил на висках. Когда секретарь, окончив
писать, стал перечитывать про себя, он крикнул:
— Да не мучь же ты меня!
Но ему пришлось подождать, пока каноник, хорошенько его
помучив, начал медленно читать письмо:
— «Всегда и во всем беспрекословно подчиняясь требованиям
Вашей княжеской милости, моего особенного покровителя, я и
теперь почел бы за счастье их удовлетворить, так как и
христианские заповеди, и кровные узы меня к этому бы склоняли,
но это совершенно невозможно. И я не преувеличиваю, так как
дочери, которая бы вышла замуж за какого-то Паклевского, у
меня нет, и я о ней ничего не знаю. Правда, была у меня дочь,
по имени Беата, от которой я не по причине ее супружества,
но по другим причинам, как не признававшей моей власти и
учинившей мне позор, открыто и с соблюдением всех формальностей
отрекся, не желая признавать ее своей единокровной дочерью и
наследницей. Этот акт отречения аннулировать не могу, и
никакая сила на свете не может меня к этому принудить. Ни о
какой Паклевской я ничего не знаю, а что вышеупомянутая особа
была доведена до погибели не Паклевским, это я могу
доказательно подтвердить. Сердце мое наполняется горечью, так как я
не могу исполнить воли Вашей княжеской милости, которую
нижайше прошу собрать более достоверную информацию в этом
предмете и очистить меня от упрека в нежелании подчиниться
священным для меня приказаниям князя. Изъявляя готовность во
всех прочих распоряжениях, приказаниях и поручениях оказывать
послушание, остаюсь всегда и вечно с величайшим уважением и
почтением...»
Во время чтения так удивительно стилизованного письма,
которое своими преувеличенно-почтительными выражениями не раз
заставляло воеводича изображать на своем лице гримасы
неудовольствия, он попеременно высказывал то неодобрение, то живую
радость во поводу искусного оборота или объяснения. Тонкая
аргументация ксендза-секретаря искупила недочеты письма, и
воеводич, не возражая против общего содержания, приказал еще раз
прочитать его себе.
Несколько подредактировав письмо и похвалив каноника, он
поручил ему переписать его начисто.
зоз
Сам он уселся поглубже в кресло и задумался.
Но жестоко ошибся бы тот, кто заподозрил бы, что в сердце
его пробудилось хотя бы малейшее чувство при виде внука. Он
испытывал только гнев и даже не хотел познакомиться с ним
поближе. Неприязнь к дочери укоренилась в нем слишком
глубоко, затвердела слишком давно, постоянно поддерживаемая
старшей сестрой и ее мужем, — чтобы такой человек, как воеводич,
который никого, кроме себя, не любил, мог когда-либо избавиться
от нее.
Письмо на полулисте бумаги, старательно отрезанном, уже
переписывалось, когда в комнату поспешно вошел старый слуга и
несколько раз задыхающимся голосом проговорил:
— Хорунжий! Хорунжий!
— Вот тебе раз! — вскричал Кежгайло. — Как раз в пору!
Пусть бы его...
Каноник обернулся.
— Сказать, что болен!
Старый слуга в испуге замахал руками.
— Где там! Хорунжий прибыл с каким-то страшно важным
известием. Он стонет, ломает руки и кричит: пусти, мне нужно
до зарезу!
Секретарь и Кежгайло обменялись взглядами.
— Что же это может быть?
Слуга, спеша по своему обыкновению, зашептал несвязно:
— Какие-то бумаги! Накажи меня Бог! Что-то случилось!
Воеводич сорвался с места.
— Проведи его сюда!
Он сделал канонику знак спрятать письмо. Слуга, заменявший
дворецкого, только что успел выбежать, спотыкаясь от
поспешности, как тотчас же вернулся, ведя за собой хорунжего.
Слышны были его торопливые, беспокойные шаги, а когда
двери открылись, вошел огромный мужчина в зеленой бекеше,
обшитой лисьим мехом, с растрепанной головой, бледный, с
открытым ртом и вытянутым лицом, на котором застыло
выражение испуга.
— Пропали мы, сироты! Погибли!.. — прокричал он ломая
руки.
— Что с вами? О чем вы, сударь? — воскликнул Кежгайло.
— Вы ничего не знаете? Конец света! Конец нашему счастью!
Погибли мы! Погибли!
Он вздохнул, как кузнечные меха.
— Несчастные! Сироты! Погибли мы, пан воеводич!
— Но что же случилось? Скажите, ради Бога, — спрашивал
воеводич.
Секретарь тоже подошел к хорунжему и торопил с ответом:
— Говори же, ради Христа, что случилось?
— Наш всемилостивейший государь Август III, в царствование
которого мы наслаждались миром, — умер! Нет его больше!
304
Кежгайло схватился за голову; каноник в отчаянии сжал руки;
в комнате наступила тишина, слышны были только всхлипывания
хорунжего...
— Пришел последний час нашему счастью! — повторил он.
Все опустили головы.
— Внутренняя война неизбежна, — воскликнул хорунжий, —
с одной стороны — гетман Браницкий, Радзивиллы и все их
приспешники, а с другой — Чарторыйские и войска императрицы...
Конфликт неизбежен, а мы, невинные овечки, будем раздавлены
и уничтожены!
Кежгайло, упав на кресло, закрыл глаза рукой и тяжко
вздыхал.
— Во всей стране кипит как в котле, — продолжал
хорунжий, — летают курьеры, шляхта вооружается! Что тут делать?
Кто отгадает? На чьей стороне будет победа? С кем вместе надо
идти? И куда идти? Направо или налево? И надо же ему было
умереть в такое время.
— Но, может быть, все это только измышления фамилии, —
прервал каноник.
— Какие там измышления? — подхватил хорунжий, доставая
из кармана бекеши смятую бумагу. — Вот газета из Варшавы...
Пятого октября, в пять часов с чем-то пополудни, скончался наш
всемилостивейший государь. Еще утром в костеле он прослушал,
коленопреклоненный, всю обедню и застудил ноги так, что ему
было предписано лечь в постель. До полудня не предвиделось
никакой опасности, и только около двенадцати часов он ослабел и
ему сделали кровопускание. Доктора же сразу потеряли головы и
разбежались, призвав к нему духовника. Едва только он успел
очистить душу исповедью, как Бог взял ее. Во всей стране
неописуемая печаль, и только в Волчине и у Чарторыйских великая
радость.
Воеводич и секретарь переглянулись между собой. Измученный
хорунжий присел отдохнуть.
— Что же вы скажете? Что нам делать? — обратился он к
молчавшему Кежгайле.
Воеводич отнял руки от лица и пожал плечами.
— Я сам не знаю, — простонал он, — не спрашивай меня! Не
жди моего совета! Ничего не знаю...
— Я должен дальше ехать с этою вестью, — быстро прервал
его хорунжий, — чтобы мы все могли, взявшись за руки, идти
вместе, объединенные мужеством, и что-нибудь предприняли; поеду
к кастеляну!
— Поезжай к кастеляну! — со вздохом отозвался воеводич. —
Решите что-нибудь, и я к вам присоединюсь.
Хорунжий окинул их взглядом и, видя, что от них толку не
добьется, потому что и сам хозяин, и секретарь его сидели как
окаменелые, в глубокой задумчивости, встал с места.
Видя это, воеводич с беспокойством также поднялся с кресла.
305
— Дайте же мне знать! Дайте знать! Я с вами! Я неразлучно
пойду с братьями; не хочу быть диссидентом! Где вы, там и я!
Мое правило: что все решат, на то и я согласен!
Хорунжий сделал знак канонику.
— Ради Бога, я совсем без сил... нет ли чего перекусить?
Секретарь взглянул на хозяина, но тот делал вид, что он
поглощен своим горем и не слышит.
— Поезжай же, поезжай, хорунжий, советуйтесь, решайте! Не
надо терять ни минуты! Бог вам поможет. Я совсем потерял голову.
Он присел около столика и оперся головой на руку.
Между тем хорунжий вместе с каноником вышли в залу с
портретами. Здесь стоял, ожидая приказаний, старый дворецкий.
— Дайте закусить пану хорунжему, он замерз и
проголодался! — сказал каноник.
Можно было заподозрить, что он и сам не прочь был
воспользоваться случаем поесть...
Старый слуга окинул его проницательным взглядом.
— Сейчас, сейчас, — начал он поспешно своим угасшим
голосом, — но у нас в это время нет ничего готового! Повара нет, и
прежде чем что-нибудь сготовят... И пан хорунжий, точно на зло,
всегда в такой день! Ей-Богу же, правда!
— Ну, дай что-нибудь! — прервал каноник.
— Что-нибудь всегда найдется, но я вижу, что милостивый пан
очень торопится! — сказал старик.
— Рюмку водки и кусок хлеба с солью, — выкрикнул
хорунжий, — если уж у вас и яйца вкрутую нельзя получить!
— Как это нельзя? — с удивлением возразил дворецкий. — У
нас все можно, всего вдоволь; только милостивый пан всегда в
такое время... или ключница на другом фольварке, или повар
болен. Благодаря Всевышнему, у нас всего достаточно, но бывают
такие дни... это каждый знает.
— Дай же водки и хлеба! — нетерпеливо крикнул
хорунжий. — Я ничего у тебя больше не прошу!
Старый слуга заковылял из комнаты; хорунжий и секретарь
остались вдвоем. Каноник мрачно смотрел то в окно, то на гостя,
который, преисполненный невыразимой печали, казалось, забыл о
том, где он и что с ним происходит.
— Погибли мы! — забормотал он.
— Пан хорунжий, ведь это уж не первый случай
междуцарствия, — возразил каноник, — благодаря Богу, у нас есть примас
и другие достойные блюстители общественной безопасности...
— Да, вам хорошо так говорить! — вскричал хорунжий. —
Вам-то, наверное, ничего не будет, сутаны и креста с вгшей
милости не снимут; но нас съедят, задушат, разорят, потому что
внутренние распри неизбежны... потому что Бог отвернулся!
Угадай, Христос, кто тебя бьет!.. Не знаешь, куда обернуться!
Пока они так говорили, на пороге показался медленно идущий
старик дворецкий, неся на деревянном подносе в виде дощечки с
306
почерневшим металлическим ободком квадратную фляжку,
заткнутую простой пробкой, прикрепленной веревкой к горлышку. Рядом
с ней на маленьком блюдечке было немного соли, а на другом —
несколько кусков черного хлеба.
Он улыбнулся и проговорил:
— Не прогневайтесь, пан хорунжий, буфетчик спрятал все
серебро... я схватил, что нашлось под рукой, тороплюсь подать вам,
а то пришлось бы долго ждать!
Гость, иронически усмехнувшись, взял бутылку, в которой
виднелась мутная жидкость. Вынул пробку, поднес к носу и покачал
головой.
— Ну и варево у вас! — пробурчал он...
— Что нашлось под рукою; гданьскую водку и домашние наливки
ключница позакрывала, а та как пойдет хлопотать по хозяйству...
Секретарь, к которому обратился хорунжий, не выказывал
особого желания попробовать водку, но все же выпил полрюмки. Оба,
выпив, сплюнули и закусили хлебом с солью.
Хорунжий еще пережевывал хлеб, идя к выходу. Каноник
проводил его на крыльцо. Здесь он увидел конюха Паклевского,
державшего коня под уздцы. Это зрелище вызвало у него недовольную
гримасу.
В эту критическую минуту, после привезенного хорунжим
известия о кончине короля, следовало хорошенько обдумать ответ
канцлеру, чтобы не рассердить его.
Каноник поспешно вернулся в кабинет, где застал воеводича
стоящим перед распятием, со сложенными на груди руками и
закрытыми глазами, бормочущим молитву, после которой он изо всей
силы принялся бить себя в грудь. Затем, подняв глаза к небу, он
глубоко вздохнул, поцеловал распятие и, обращаясь к канонику,
живо воскликнул:
— Хотел бы я, чтобы эти проклятые сумасброды свернули себе
шею!
Секретарь, должно быть, привык к таким внезапным переходам
от набожности к проклятьям, потому что он ничуть не удивился
этому возгласу.
— Какие сумасброды? — спросил он.
— А эта милая фамилия, с которой человек волей-неволей
должен действовать заодно, чтобы набить себе шишку! — объяснил
воеводич.
— Я именно с тем и пришел к пану воеводичу, — сказал
секретарь, — что теперь надо дважды и трижды подумать над ответом
канцлеру, а его посол уже велел конюху приготовить коней к
отъезду, так как он торопится ехать после оказанного ему приема!
— Прием, прием, — проворчал воеводич. — Какой там прием!
Я его и не принимал и не разговаривал с ним. Знать не знаю!
Оставьте меня, сударь, в покое!
— Но прежде чем он уедет, — сказал каноник, — надо
накормить его и его коней...
307
— Сейчас уж и кормить! — вскричал Кежгайло. — Разве же
он не получил на дорогу, когда князь-канцлер отправлял его сюда!
Сейчас и кормить! Вы, сударь, только бы и кормили всех и
каждого, а такое гостеприимство ни к чему не ведет, только портит.
Что же по-вашему? Просить его к обеду? Гм?..
Говоря это, Кежгайло погрузился в глубокое раздумье.
— Вы знаете, сударь, что у нас сегодня все постное? —
прибавил он.
— Так ведь и он может есть постное, а... — шепнул секретарь
и не докончил.
— Действительно, вы правы; ну, пусть он придет к столу; так
будет лучше. Я ему покажу, что я для него чужой и чужим
останусь.
— Пусть ваша милость прикажет накрыть на стол в зале; там
еще есть бутылка вина, которую мы должны были откупорить для
регента. На три рюмки хватит. Велите Ошмянцу дать пива.
— Ну, и просите его; что делать! Просите...
В дверь постучали; опять вбежал с испуганным видом Ошмянец.
— Посланный требует немедленно ответа, — живо заговорил
он. — Он узнал от людей хорунжего о смерти короля и говорит,
что ему надо спешить в Волчин.
Он почесал голову.
— Посол будет обедать с нами, — сказал каноник, — так
приказал пан воеводич.
— Да как же это? Обед! Гм... Какой у нас обед! Ваша милость
знает, — сказал он.
— Какой есть, такой и есть! Я и не подумаю угощать его
разносолами! У князя-канцлера служащие не привыкли к роскоши.
Что же у нас на обед?
Слуга беспокойным жестом пригладил волосы.
— Что на обед? — сказал он. — Наша постная похлебка,
селедка, зажаренная в масле, и каша с маком. Вот и все...
— А чего же еще? — воскликнул воеводич. — Накрывай на
стол в зале, понимаешь?
Ошмянец вышел. В продолжение всего этого времени Теодор,
сильно обеспокоенный и взволнованный, выйдя из дворца,
прохаживался по пустой горнице во флигеле. Он думал о том,
как бы ему получить ответ и поскорее вырваться из этого
дома...
Невыразимая боль сжимала его сердце. Эта заброшенная
усадьба была родным гнездом его матери! Здесь она провела свое
детство. Печаль всей ее жизни открылась перед ним при виде этой
страшной усадьбы.
Он сам не знал, сколько времени прошло, пока вернулся
Ошмянец, но ему казалось, что пытка эта тянулась целый век. Слуга,
которого здесь называли паном дворецким, хотя под его командой
было всего шесть оборванных работников, взятых наспех из
конюшни и из псарни, с важным видом вошел в комнату.
308
— Скоро подадут обед, — сказал он, — и ясновельможный пан
приказал мне просить, чтобы вы, сударь, откушали с ним. У нас
теперь пост, и каноник требует соблюдения постных дней. Он
говорит: отними корм у тела, и душа будет сыта. Что же делать?
Мы должны в эти дни затягивать пояс потуже. У нас всю неделю,
когда есть повар, кухня такая, что, как говорится, пальчики можно
облизать; но в пост мы едим так, чтобы только не быть голодными.
Вы, сударь, понимаете это?
Теодор не очень-то понимал, что он болтает, да и не до пищи
ему было; он был страшно смущен этим приглашением к столу,
но молчал.
После выкриков Кежгайлы он уже не думал еще раз увидеть
его. Но невозможно было отказываться.
Ошмянец, видя, что его трудно втянуть в разговор, потихоньку
вышел из комнаты. Теодор остался в еще более возбужденном
состоянии, раздумывая, как ему держаться за столом, когда
дворецкий вернулся и заявил, что воеводич ждет его.
Читая про себя молитву «Под твою защиту», Теодор
пошел, словно на заклание. В сенях он не нашел уже
встречавших его слуг, а каноник оказался в большой зале. Вместе
с ним он вошел в залу с портретами, где стоял стол,
накрытый на три прибора, но так, что место Теодора
находилось в некотором отдалении от хозяина и ксендза, на другом
конце стола.
На верхнем конце стояло на небольшом возвышении кресло
с ручками для воеводича, по правую его руку — стул для
каноника, в конце стола — другой, для гостя. Около его прибора
стояла откупоренная бутылка с пивом, а рядом с прибором
Кежгайлы виднелась начатая бутылка вина и две рюмки. Скатерти
и все убранство стола были так запущены, что, наверное, в
фольварках у экономов можно было найти и более чистое и лучшего
качества.
Каноник и гость подождали, стоя, пока дверь кабинета
открылась, и воеводич, надувшись еще сильнее, чем раньше, прошел,
не глядя ни на кого, к своему месту и опустился на свой трон.
Каноник поспешно занял приготовленное для него место и, сложив
руки, громко прочитал молитву, которую воеводич повторял за
ним, набожно сложив руки у рта.
Когда все уселись, мальчик в ливрее под руководством
дворецкого начал разносить похлебку. Во время еды за столом
царствовало полное молчание, воеводич ел с жадностью, обжигаясь,
опустив голову и ни на кого не глядя.
Каноник, неизвестно только, по собственной инициативе или
по приказанию свыше, заговорил.
— Известие о смерти светлейшего государя является для нас
совершенно неожиданным; думаю, что оно должно было произвести
впечатление и в Волчине.
Он обернулся к Теодору в ожидании ответа.
309
— Я не сомневаюсь в этом, — стараясь сохранить
спокойствие, — отвечал гость, — и поэтому я хотел бы ехать как можно
скорее туда, где я могу быть полезным...
Принесли селедки, зажаренные в постном масле, их было две
на троих, и в это время Кежгайло сказал:
— Я надеюсь, что князь-канцлер здоров?
— Благодарение Богу, — ответил Теодор.
— Он, вероятно, поспешил из Волчина в Варшаву? — прибавил
воеводич.
Это предположение не требовало ответа.
— Вы, сударь, ехали прямо в Божишки? — не поднимая глаз
от тарелки, тихо спросил Кежгайло.
— Я возвращаюсь из Вильно, куда тоже отвозил письма, —
сказал Теодор.
— А нельзя узнать к кому?
Паклевский с минуту колебался; он не знал, имеет ли он
право обнаруживать отношения канцлера, и, желая быть
осторожным, сказал:
— Писем было много и к разным лицам.
Услыша этот ответ, Кежгайло кинул быстрый взгляд сначала
на говорившего, а потом на каноника, как будто желая сказать:
«Каков франт!»
Когда принесли третье блюдо, все снова молчали; каша была
сложена в виде холмика со срезанной и выдолбленной верхушкой.
В этом углублении наверху горки находилось конопляное масло с
лимонным соком, и все обедавшие имели право взять его себе
понемножку.
Сам воеводич перед кашей налил себе рюмку вина, потом
вторую рюмку — канонику и под конец, приказав подать третью
рюмку и давая этим понять, что он оказывал гостю особенную
милость, которую не считал для себя обязательной, налил остатки
мутной жидкости Теодору и послал с Ошмянцем. Правда, как
он ни цедил, вина не хватило на полную рюмку, но и это уже
была милость.
Теодор плохо отдавал себе отчет в том, что он ел и что пил;
ему хотелось только поскорее вырваться отсюда, и он в душе
просил Бога положить конец его мучениям.
Подкрепившись кашей, которую он ел с таким же
удовольствием, как и предшествовавшие блюда, Кежгайло вытер рот, сложил
руки на груди и произнес:
— Прошу передать мое нижайшее почтение его милости князю
и заверить его, что мы все готовы встать под его знамя в
теперешнее превратное время, убежденные в том, что высокая мудрость
канцлера проведет корабль республики к счастливой пристани.
Сказав это, воеводич перекрестился *: встал, каноник тоже
поднялся, сложил руки и прочитал латинскую молитву. Кежгайло,
уже не оглядываясь в сторону внука, большими шагами направился
к двери кабинета, которую открыл перед ним Ошмянец.
310
Каноник подошел к Теодору.
— Я покорнейше прошу дать мне ответ! — сказал Паклевский.
— Вы его сейчас, сударь, получите, — сказал ксендз, — он
уже почти готов.
Они обменялись поклонами; Тодя, схватившись за шапку,
торопливо выбежал из залы. Старый дворецкий, только этого и
ожидавший, протянул уже руку к рюмке мутной жидкости, до которой
Теодор не дотронулся, как вдруг дверь кабинета открылась, и во-
еводич закричал:
— Ах ты эдакий! Слить в бутылку! Смотрите пожалуйста! Ему
вина захотелось!
Ошмянец пробормотал что-то, и тем дело и кончилось. В
кабинете секретарь торопливо дописывал письмо, а Кежгайло в
задумчивости ходил по комнате.
— Что скажешь, сударь, про этого... — Тут он употребил
выражение, которое невозможно повторить. — Редкое присутствие
духа; хотя бы он смутился или взял не тот тон!!! Хоть бы выказал
немного смирения! Ничего подобного: уселся, поел и даже не
поблагодарил! А до вина не дотронулся! Гордая душа! А? Каково?
Паклевский! Чудесная фамилия — что и говорить! Но хоть бы он
назывался Свиноухом, что мне за дело! Мне все равно...
Каноник дал ему для подписи письмо, которое воеводич прочел
с большим вниманием и, собственноручно дописав скончание,
подписался с выкрутасом...
Затем каноник припечатал его большою печатью, стоявшею у
него на столике; воеводич следил за ним глазами, а когда все было
готово, проверил, хорошо ли отпечатались все гербы.
— А теперь с Богом! Пусть пан Паклевский уезжает и пусть
он не трудится еще раз приезжать в Божишек. Не для чего!
— Я уж не могу ему этого внушить, — отвечал каноник.
— Я думаю, что он и сам догадается, — сказал воеводич. —
А если князь-канцлер попробует еще раз пристать ко мне с
разными советами, увещаниями и приказаниями, то я уж буду знать,
что делать. К счастью, теперь не время для частных дел!
Вся площадь перед белостокским дворцом была полна колясок,
бричек, коней, войска, придворных и слуг; но на этот раз в
гетманской резиденции не гостей принимали, а сам пан с
чрезвычайною пышностью и в сопровождении большой свиты выезжал в
Варшаву.
С ним вместе ехали его супруга, все их резиденты и служащие,
начальники войсковых частей и канцелярия, а целый обоз всяких
вещей и провизии были уже отправлены заранее, свидетельствуя
о намерении Браницкого остаться надолго в столице. Хоть всем
была известна преданность Браницкого саксонскому двору и
династии и ему приписывали даже старания возвести на польский трон
старшего сына Августа III, здесь не заметен был траур или печаль
311
по умершему королю; напротив, лица придворных, окружавших
гетмана, сияли от удовольствия, а шляхта перешептывалась между
собой, что только он один достоин трона. Правда, все это
говорилось негромко, и гетман, казалось, и не слышал, и не знал ничего
об этих пересудах; но по его фигуре, манере держаться, по
величавому и уверенному выражению его лица можно было отгадать
мысли, волновавшие его душу.
Гетман мечтал о короне.
Стаженьский, Бек и все друзья гетмана, съехавшиеся в
Белосток при первом известии о кончине короля, обнаруживали
необычайную деятельность и выказывали полную уверенность в
будущем, видимо, ни на минуту не сомневаясь, что оно
принадлежит их партии.
И только на лице молчаливой и растерянной гетманши можно
было прочесть скрытую тревогу и предчувствие тяжелых
испытаний, о которых и не подозревали другие.
Из провинции доходили вести, приводившие в восторг Стажень-
ского. Шляхта уже заранее провозглашала королем пана гетмана
и клялась, что знать не хочет никого другого. Но официально здесь
говорилось только о старшем сыне покойного короля, однако
выражались опасения, как он будет управлять двумя государствами,
когда и с одним-то не мог управиться, будучи чрезвычайно слаб
здоровьем.
Горевали и о том, что саксонцы не пользовались популярностью
в стране. А из других кандидатов, имена которых были на устах
у всех, никто не мог сравняться с гетманом как по тому
расположению к себе, которое он умел заслужить в народе, так и по
богатству и могуществу.
— Если надо выбирать Пяста, — говорили жители Подлесья, —
то никто, кроме нашего гетмана, не носит в самом себе
королевского отличия!
Итак, все было готово к отъезду; и ясный, слегка морозный
осенний день был как раз хорош для путешествия. Гетман еще
накануне заявил, что едет во что бы то ни стало, а между тем
еще с утра он неожиданно уехал куда-то верхом в сопровождении
одного только доверенного конюха и до сих пор не возвращался.
Гетман редко позволял себе такие фантазии; образ жизни в
Белостоке отличался большою правильностью, и потому все были
удивлены его отсутствием.
Гетманша несколько раз посылала узнать о нем, и всякий раз
приходил Мокроновский с известием, что он еще не возвращался.
— Что же это значит? — слегка нахмурившись, спрашивала
прекрасная гетманша. — Я ничего не понимаю.
— И я тоже, — смеясь, отвечал Мокроновский, — но я думаю,
что он сейчас будет здесь. Ему хотелось, вероятно, собраться с
мыслями в одиночестве.
— У нас будет для этого достаточно времени на пути в
Варшаву.
312
Время близилось к полудню; некоторые кареты были уже
наполовину запряжены; поглядывали с беспокойством на проезжую
дорогу; гетман все не возвращался.
Никто не знал, куда он поехал, хотя некоторые утверждали,
что видели его едущим по направлению к Хороще.
Было раннее утро, когда Браницкий, появившись неожиданно,
велел подать себе коня. Доктор Клемент отговаривал его от поездки
и потерь сил перед путешествием, которое само по себе должно
было утомить немолодого уже гетмана, но тот отвечал, что ему
хочется проветриться и побыть наедине с самим собою.
Выбравшись из местечка почти никем не замеченным,
Браницкий, ехавший сначала не торопясь, выехав на дорогу к Хороще,
пустил коня рысью и быстро проехал небольшое пространство по
хорошо ему знакомой дороге. Минуя дворец, он остановился перед
доминиканским костелом и здесь сошел с коня. Хоть был не
праздник, ксендзы еще служили обедню, и, как это часто бывает,
гетман, войдя, увидел, что в боковом алтаре ксендз в черной одежде
служил заупокойную обедню.
Зрелище это несколько смутило его, но отступать было поздно,
и он потихоньку приблизился к алтарю. Здесь его слишком хорошо
знали, чтобы его приход мог долго оставаться незамеченным.
Тотчас же дали знать настоятелю, и тот, заметив из сакристии
траурную службу, немедленно распорядился служить вторую обедню
в красных одеждах перед главным алтарем.
Однако гетман остался на своем месте и дослушал первую
службу; только когда ксендз удалился, он прошел в монастырь. Здесь
его уже поджидал настоятель, сильно удивленный его прибытием,
так как он знал о готовившемся отъезде в Варшаву.
— Я хотел проститься с вами, — сухо и немного смущенно
заговорил гетман.
И прежде чем настоятель успел промолвить что-нибудь в ответ,
он направился вглубь коридора, как бы отыскивая келью отца Елисея.
— Я хотел бы также повидаться с вашим старцем, — прибавил
он.
На этот раз не делая никаких возражений и не противясь
желанию гетмана, отец Целестин сам проводил его до кельи;
склонившись и отворив дверь, он впустил его в келью, но сам не вошел,
за что гетман поблагодарил его наклоном головы.
Старец сидел у окна, сложив руки на коленях, и смотрел в
сад. В тени его травы и маленькие веточки еще серебрились от
утренней изморози.
Тихо было в монастырском саду, окруженном стенами, в
котором еще кое-где на деревьях, на концах веток, виднелись
уцелевшие зеленые листья.
На окне старца, вероятно, привлеченные кормом, который тот
бросал им, сидели и ссорились между собой воробьи.
Заметив, что кто-то входит к нему, старец стал всматриваться
в гетмана слабыми глазами, не узнавая его. Но и узнав, он не
313
поторопился встать ему навстречу, а когда гетман поздоровался с
ним, он тихо сказал:
— А, это вы, милостивый пан! Господи Боже мой, что же вас
приводит к такому недостойному грешнику, как я?
— Я хотел проститься с вами, отец Елисей, и попросить вашего
благословения в дорогу! — сказал гетман. — А так как отец
настоятель позволяет вам служить обедни, то я хотел просить вас
отслужить за мое здоровье.
Говоря это, гетман положил на окне какой-то сверток,
завернутый в бумажку, а отец Елисей, заметив этот дар, начал весело
смеяться и отдал его обратно гетману.
— Ну зачем мне это! — воскликнул он. — Это все равно,
что вы бы стали бросать за окно воробьям дукаты, которых они
даже разгрызть не могут; я давно отказался от всего земного.
Отдайте это в монастырь: они примут и отслужат вам служб
сколько хотите; а я и без этих кружочков помолюсь за обедней
за грешника... Да, да, — прибавил он, — хоть вы и великий
гетман, но и грешник не меньший.
Браницкий густо покраснел.
— В чем же я так нагрешил? — спросил он глухо.
— А вот я вам расскажу сказку, — отвечал отец Елисей. —
В давние времена татары подошли к этой несчастной стране; их
ожидали с часу на час и все время караулили, чтобы заметить,
когда они подойдут совсем близко. Вот выбрали человека и
велели ему влезть на лестницу высоко-высоко, чтобы сразу увидеть
врага. Он поднялся, стал смотреть и видит: направо и налево
качаются на фруктовых деревьях спелые золотые яблоки, которые
никто до него не мог достать. Вот он и говорит себе: почему
бы мне за то, что я сторожу, не сорвать себе райских яблок?
Сорвал он одно и съел, очень оно ему понравилось, потом и
другое съел, которое было не хуже первого, а там и третье, но от
него он откусил только кусочек, остальная часть была изъедена
червями. И пока он наслаждался, сидя наверху лестницы,
неприятель подошел совсем близко, и он заметил его только тогда,
когда тот ворвался в сад. Погиб и сад, и вся земля, но и
стражник не уцелел.
Гетман слушал с краской на лице.
— Вдумайтесь в вашу жизнь, разве вы тоже не срывали яблок
на деревьях?
— Но я не пускал неприятеля в страну, — сказал
Браницкий. — Этого у меня нет на совести.
— А кого же вы называете неприятелем? — подхватил
монах. — Врагом нельзя назвать ни народ, ни войско, ни
побежденную внешнюю силу; враг наш наше распутство, слабость и
ничтожество. А что же вы делали всю жизнь, если не поили
пьяных и не вводили в обман заблудившихся?.. Забавляли их
собой, себя — ими, и ради сегодняшнего дня предавали
завтрашний...
314
— Вы не в меру суровы и ожесточены в своем одиночестве! —
с волнением возразил Браницкий. — Должно быть, мои враги
восстановили вас против меня, а вы...
Отец Елисей улыбнулся с состраданием.
— Я никого не слушал, — сказал он, —- и никого не
спрашивал. Я сам долго присматривался. И стал суровым и неумолимым,
потому что вижу не только сегодняшние раны и боль, но и то,
что было в прошлом.
— Да разве это моя вина? — вспылив, заговорил гетман. —
Моя?
— Твоя и многих других, и отцов ваших, и бесчисленного
множества грешников, — сказал старец. — Но менее виновны те,
которые позволили ввести себя в грех, чем те, которые их вели за
собой.
— Что же? Я их вел? Я? — вскричал Браницкий.
— Вы! Лгать не могу! — говорил Елисей. — Вы хотели моего
благословения, я благословляю вас правдой, которую вы от меня
слышите. Вы! — повторил он. — Ваша жизнь была как бы
трагикомедией на сцене, и тысячи глаз следили за вами. Со сцены шел
свет, играла музыка, было много шуму; вы носили плащ, красиво
подбитый горностаем; но в то время, когда надо было работать в
поте лица, вы разыгрывали легкомысленную комедию, пан гетман.
Разве ваш двор не должен был служить примером добродетели, а
был вместо того воплощением легкомысленного поведения?!
— Какого легкомыслия? — спросил гетман. — Вы, отец, не
знаете света; то, что вам кажется ветреным поступком, для нас
является средством.
Старец рассмеялся.
— Действительно, трудно мне понять ваш свет, — сказал
он, — потому что, по-моему, человеческое общество должно быть
как единый народ Божий, а вы тут ведете войну между собой,
откладывая покаяние и добродетель для иной жизни, за гробом.
Вы думаете, что ксендзы вымолят вам прощение грехов, что вклады
в монастырь выведут вас из чистилища, что маленькие добрые дела
искупят все большие прегрешения.
Гетман направился к выходу.
— Я, отец мой, не чувствую себя таким грешным, — живо
заговорил он, — каким вы меня изображаете. Провинился много
раз, но на совести ничего не имею.
Ксендз встал.
— Не доканчивай, пан гетман, — тихо сказал он.
И, наклонившись к его уху, шепнул несколько слов; Браницкий
сильно побледнел.
— Я не отпираюсь, — прерывающимся голосом заговорил
он, — но Бог мне свидетель, я делал все, что было в моей власти,
чтобы исправить зло.
— Кроме того единственного, что могло действительно
исправить содеянное, — прибавил ксендз.
315
— Вы знаете, отец, что это было невозможно! — вскричал Бра-
ницкий.
— Грех был естественен, а исправление его невозможно! —
говорил отец Елисей. — Вот какова мораль вашего света!
Браницкий, расстроенный и печальный, начал ходить по
комнате.
— Верьте мне, — в волнении заговорил он, — я сделал бы и
сделаю все...
— Ничего не надо делать, надо только болеть душою за то,
что случилось. Вы, паны, за все хотите платить.
— Я платил раскаяньем и слезами.
— Потому что не мог золотом! — прибавил ксендз.
— Отец мой! — воскликнул Браницкий, подходя к нему и
хватая его руки. — Скажи, что делать?! Я все сделаю, как ты
скажешь.
Старец промолчал.
— Бог все прощает, неужели он не простит мне этого
проступка?
— Просите об этом Бога, не меня, — возразил ксендз, — я
не поставлен им в судьи.
Гетман, все еще не успокоившийся, прошелся несколько раз по
комнате, а отец Елисей снова загляделся на своих воробьев.
— Вы знаете о цели моей поездки, — обратился к нему
гетман. — Скажите же мне вы, перед которым открыто будущее...
— Не спрашивай меня, ведь сам же ты сказал, что я суров и
озлоблен, — отвечал старец. — Вы едете исполненный надежд,
заранее приветствуемый криками толпы; а возвратитесь печальным
и удрученным, потому что грехов ваших больше, чем союзников
и приверженцев.
— А разве нет их у моих противников? — возразил гетман.
— Почем же вы знаете их судьбу? — сказал ксендз. — Может
быть, победа будет для них убийством и самоубийством, а корона —
их тернием, а жезл — тростником, который сломает ветер? Откуда
вы знаете, что в борьбе не погибнут все вожди и все войска за
то, что брат восстал против брата, и то, что должно быть соединено,
разъединилось из-за себялюбия? Истинно говорю тебе: ни один грех
не останется не отомщенным — ни твой, ни брата твоего, ни отцов
наших, ни детей, которые в грехах придут в мир!
Произнося эти слова, отец Елисей весь преобразился и из
смиренного старца превратился во вдохновенного пророка; а гетман,
который вначале еще пробовал протестовать и возмущаться, стоял
перед ним побежденный и подавленный, убитый приговором,
который прозвучал над его головою.
— Как страшно вы говорите, — шепнул он.
— Вы сами вырвали у меня эти слова из глубины души, я не
вызывал их, чтобы перед глазами не стоял призрак, от которого
навертываются на глаза запоздалые слезы.
И, опустив голову, старец умолк.
316
— Скажите же мне хоть одно слово утешения, — сказал
гетман, — скажите, что я должен сделать?
— Загляните глубже в вашу совесть и не позволяйте
недостойным людям руководить вами, — заговорил отец Елисей. —
Сбросьте с себя духовную леность; будьте гетманом воистину для добра;
ведите толпу к свету, а не во тьму! Добродетель покроет вас
большим блеском, чем свечи ваших хвалителей.
Услышав в келье повышенные голоса и, может быть, опасаясь,
чтобы беседа с монахом не оскорбила гетмана, настоятель,
стоявший около дверей и схвативший слухом только отдельные
выражения и, вероятно, придавший им более серьезный смысл, чем
было в действительности, не выдержал наконец, приоткрыл дверь
и вошел в келью, чтобы прервать затянувшуюся беседу с отцом
Елисеем.
Увидев его, старец с некоторой тревогой склонил голову и
отошел к окну; гетман, должно быть, не был особенно доволен тем,
что ему помешали открыто высказаться перед отцом Елисеем, он
подумал немного, взглянул на Целестина и, обращаясь к старцу,
сказал:
— Помяните меня в своих молитвах!
Елисей молча наклонил голову; настоятель бросил на него
суровый взгляд и вышел вместе с гетманом в коридор. Он
внимательно следил за выражением его нахмуренного лица.
— Я не хотел противиться воле вашего превосходительства, —
сказал он, — чтобы моя осторожность по отношению к отцу
Елисею не была ложно истолкована. Старец — богобоязненный, но в
голове у него все перемешалось; он не умеет с должным почтением
отнестись к людям, с которыми говорит.
— Не мешает, — холодно отвечал гетман, — выслушать
иногда горькую правду из уст того, кто ушел из мира.
— Я прошу и умоляю только об одном, — прибавил
настоятель, — чтобы за то, что болтает этот бедняга, не отвечал весь
монастырь... Ваше превосходительство можете мне поверить, что
мы в своих сердцах питаем к вам величайшее почтение. Горе для
меня этот старик! — прибавил он. — Я уж давно добиваюсь, чтобы
его или перевели в другой монастырь, или позволили жить при
родном брате...
— Брат? А нельзя ли узнать, как было мирское имя отца
Елисея? — спросил гетман.
— Это — родной брат воеводича Кежгайлы! — сказал
настоятель.
Ничего не отвечая на это, гетман, передав настоятелю
пожертвование на монастырь, поспешными шагами направился к
калитке, где остался его конь.
Конюх, державший его, как раз в эту минуту допивал кубок,
принесенный ему из монастыря; Браницкий, сев на коня, приказал
ему ехать во дворец в Хорощу и там ждать его. Сам гетман
поскакал по дороге к зарослям в лесу и исчез из виду.
317
Лицо его выражало сильное волнение и хакую-то твердую
решимость, что придало этому всегда равнодушному лицу характер
давно утраченной им энергии.
Дорога, которую избрал гетман, вела в Борох.
Со дня отъезда Теодора в осиротевшей усадьбе царила хахая-то
мертвая тишина. Вдова редко показывалась даже на крыльце.
Большую часть дней она проводила запершись в своей комнате, за
чтением религиозных книг или в молитве. Хозяйство целиком
перешло в руки эконома и ключницы; она ни во что нг вмешивалась
и позволяла им делать, что они хотят. Рассеянно выслушивала их
донесения и снова возвращалась в свой угол, в хотором
просиживала целые дни, почти не двигаясь...
И тольхо одно могло еще выводить ее из этого оцепенения:
письма Теодора; она с жадностью перечитывала их по несколько
раз, немножко оживлялась на время, но потом снова впадала в
прежнюю апатию которая сделалась ее обычным состоянием духа.
И за эти несхольхо месяцев со дня смерти мужа вечное беспо-
хойство и полнейшее нежелание позаботиться о себе оказали
огромное влияние на егермейстершу; наружность ее страшно
изменилась. Даже слуги, для которых эти изменения происходили
постепенно, видели, что их пани тает у них на глазах. От ее еще
недавней храсоты почти не осталось следов; теперь это был схелет,
в котором еще светились по временам, как догорающая лампа,
когда-то прекрасные, черные глаза. Волосы ее быстро начали
седеть, кожа пожелтела, а голос с таким трудом выходил из ее груди,
что ей тяжело было говорить.
Когда, насидевшись у себя в комнате, она выходила на свежий
воздух, ноги отказывались служить ей, воздух хружил голову, и
она чувствовала себя еще более слабой.
Дохтор Клемент, хоторый не имел времени часто навещать ее,
встретил у нее самый холодный прием; она просто не захотела его
видеть, и он, полагая, что ее обидела история с сапфиром, перестал
ездить совсем.
В это утро старая служанха, все более привыхавшая играть
роль барыни, сидела с чулхом на хрыльце, похрихивая на
работниц, хогда вдруг у ворот послышался хонехий топот, и в воротах
похазался немолодой мужчина, направлявшийся прямо х хрыльцу.
Ключница Барщевская, правда, несколько раз видела издали
гетмана, но в парадном платье и окруженного свитой; ей и в голову
не могло прийти, чтобы этот могущественный магнат, почитаемый
наравне с королем, мог один приехать в Борох. Она приняла
гетмана хах совершенно незнахомого ей человеха и, хогда мальчих
взял у него хоня, а гетман поднялся на хрыльцо, смело преградила
ему дорогу.
— Я хочу видеть пани, — сказал он повелительно.
— С нашей пани не так легко теперь увидеться, — отвечала
ключница, которая ках раз освободила от петель одно спицу и
вотхнула ее себе в волосы, равнодушно посматривая на таинствен-
318
ного гостя. — Наша пани больна, вечно недомогает и не принимает
даже доктора Клемента, хотя он наведывался к ней... И лекарств
она не хочет пить.
Она пожала плечами.
— Но я должен с ней видеться! — воскликнул гетман,
направляясь в сени.
Барщевская стала в дверях, заграждая ему путь собою.
— Нельзя же так вламываться без всякой церемонии, когда я
вам говорю, что пани больна!
Гетман нахмурился.
Ему показалось, что золотой ключ легче всего откроет ему
двери, и, вынув несколько дукатов, он сунул их в руку ключнице.
— Нет уж, извините, пожалуйста, — пятясь от него,
воскликнула разобиженная Барщевская. — Я не нуждаюсь в презентах, а
что нельзя — то нельзя.
Такая настойчивость поразила и испугала ее.
— Да вы скажите, кто вы? И по какому делу? А я схожу и
приготовлю пани...
Гетман смешался и растерялся; он и не хотел называть себя,
и предчувствовал, что, назвав себя, не будет принят.
— Вот что, сударыня моя, — повелительным тоном сказал он
ключнице, — скажу вам только одно, что у меня нет никакого
злого умысла, и я должен увидеться с егермейстершей, хотя бы
мне пришлось простоять полдня и кричать, чтобы вызвать ее.
Подумай об этом и не мешай мне...
Барщевская, на которую оказал свое действие и самый тон,
и слова гетмана, вдруг, точно у нее открылись глаза, начала
догадываться и узнавать, кто перед нею. Не зная, как ей поступить,
она отступила от дверей, а Браницкий, воспользовавшись этим
моментом, бросился в сени и, открыв двери гостиной, вошел в
нее.
Комната, где обыкновенно сидела вдова, примыкала к гостиной
и отделялась от нее только незапертой дверью. Гетман стоял
посреди комнаты, почти со страхом приглядываясь к ее убогому и
неряшливому убранству. Беата, внимание которой привлек сначала
шум, а потом шаги в гостиной, хотела встать и выйти, но прежде
чем она собралась с силами, гетман появился на пороге.
При виде этого призрака, показавшегося перед нею, егермей-
стерша онемела и замерла на месте; краска выступила на ее
бледном лице, а рот открылся, словно для крика.
Но и Браницкий был так поражен видом этого скелета,
стоявшего перед ним, что не мог выговорить ни слова. Весь этот
молчаливый и опустевший дом, эта женщина в костюме кающейся, с
колен которой упала книга и соскользнули четки, лишили его той
смелости, с какой он ехал, и заставили забыть все приготовленные
им слова.
Медленно поднялась сухая рука и указала ему на дверь; гнев,
овладевший женщиной, мешал ей говорить.
319
— Тебе все еще мало? — сказала она наконец. —
Понадобилось снова напомнить забытое и покрыть меня новым позором!
— Беатриса моя! — мягко сказал гетман. — Ты слишком
жестока!
— А ты был таким и остался, пан гетман, — заговорила
женщина, не совладав с собою. — И я от тебя научилась этой
жестокости. Уйди с моих глаз! — прибавила она изменившимся
голосом. — Между мной и вами нет ничего общего, ничего.
Гетман сидел неподвижно.
— Два слова, но только спокойно, — медленно заговорил он. —
Я позволил вам бранить себя; я заслужил это и все приму
смиренно; но в интересах...
Крик Беаты прервал его слова.
— Тебе мало моих мучений, ты хочешь еще заклеймить
жертву, — вскричала она, — хочешь положить на ней знак позора,
чтобы никто не мог ошибиться или сомневаться и чтобы весь свет
знал о моем унижении! Тебе мало меня, ты хочешь запятнать
могилу этого мученика, потому что я теперь беззащитна... Ты
ошибаешься: нет, правда, того, кто имел мужество защитить меня,
хотя бы против тебя; но есть еще рука, готовая по моему
приказанию вооружиться стилетом.
— У тебя хватит духа направить эту руку против меня? —
спросил гетман.
— А почему бы нет? Что же нас связывает? •— в гневе
вскричала женщина. — Мое прошлое заглажено жертвой друга, которого
я теперь потеряла; сын его может быть защитником матери против
насильника, посягающего на ее честь!
— Да ведь это же безумие! Чистое безумие! — шепотом
сострадания вымолвил гетман.
Беата, закрыв лицо обеими руками, громко зарыдала; гетман
вошел в узенькую горницу.
— Ради Бога, послушайте же меня! Я пришел к вам со
смирением, с покорной просьбой позволить мне, хотя отчасти,
исправить зло, которое я вам причинил в минуту увлечения и
безумства... Я хочу устроить его судьбу...
— Его судьба уж решена, — резко выговорила Беата. — Я
отдала его в распоряжение твоих врагов, чтобы он помог им
сломить твое величие, которым ты так гордишься, я отдала его
фамилии, чтобы он там научился презирать тебя!
Гетман стиснул зубы.
— Это безумие, — повторил он, — я скажу еще раз, что это
безбожное и преступное безумие... И вы, сударыня, молитесь
целыми днями, проводя все время за религиозными книгами и с
четками в руках, а в сердце, как я вижу, носите месть против
того...
— Который заслужил самую страшную... — докончила егер-
мейстерша. — Скорее Бог простит мне мое упорство, чем тебе твое
преступление!
320
— Преступление! — повторил гетман, который начинал уже
овладевать собой. — Как вам известно, преступления этого рода
являются самым обычным грехом в том сьгте, в котором мы жили...
Если я виноват, то, может быть, хоть часть греха падает и на
вас...
— Конечно! — иронически засмеялась егермейстерша. — Моя
вина в том, что я поверила разводившемуся с женой пану гетману,
что он женится на мне; ведь у меня был его перстень, его клятвы
и уверения... Вера моя в вашу порядочность — вот моя вина!
Гетман умолк.
— Но ведь вы видели мое положение... Я не мог распоряжаться
сам собой и подчиниться велениям своего сердца.
— Еще бы! Гетман убил з вас человека, гордость уничтожила
совесть, а расчет порядочность.
— Но вы должны признать, что в то время, — прервал ее
гетман, — я старался, насколько мог, удовлетворить совесть. Хотел
взять сына и даже усыновить его, а вам создать блестящую
обстановку...
— Блестящее пятно, — сказала егермейстерша. — Но в то
время, видя мое отчаяние, видя, что я готова лишить жизни себя и
ребенка, нашелся человек, хотя и не знатный, но с большим
сердцем и умением жертвовать собою, который взял на себя покаяние
за мой грех, дал нам опеку и имя, спас нас и научил в убожестве
искать очищения... забвения... отказаться от унизительных
благодеяний...
Слезы подступили к горлу егермейстерши и прервали ее речь;
гетман воспользовался этим, чтобы снова заговорить.
— Вы были вольны отказаться от моей помощи для себя, —
сказал он, — но принести в жертву своей гордости будущность
своего ребенка — это уж не годится, сударыня.
— Вы думаете, сударь, — сквозь слезы прервала его Беата, —
что сын честного Паклевского может позавидовать тем безымянным
воспитанникам гетмана, которых так много в Белостоке? Что вся
будущность человека зависит от его денежных средств? Ему
поможет сам Господь Бог... Иди себе, сударь! Здесь тебе нечего делать!..
И не врывайся ко мне насильно! Это — постыдная дерзость!
Гетман принял гордый вид.
— Если я когда-нибудь чувствовал угрызения совести за свое
легкомыслие, — прибавил он, — то теперь вы, сударыня,
караете меня так жестоко, что часть моих грехов должна проститься
мне.
Егермейстерша с презрением взглянула на него.
— Вы, сударь, напрасно теряете здесь время, когда там
собираются провозгласить вас королем и посадить на трон! И, стоя на
нем одной ногой, ты воображал, что окажешь величайшую милость
женщине, никому неизвестной, если с панским великодушием
протянешь ей руку... Но это рука клятвопреступника, ее не примет
даже такая падшая, как я... Никогда не будет она держать жезла,
321
никто не увидит короны на твоей голове: ты умрешь последним
наследником своего рода и богатства, всеми забытым и потерявшим
свое величие, а та, которой ты принес меня в жертву, будет твоим
домашним врагом. Иди же!
Сказав это, она отвернулась с плачем и снова повелительно
повторила:
— Иди, оставь меня!
Гетман стоял, не двигаясь, охваченный жалостью к ней,
уничтоженный пророчеством.
— Нет, так нельзя, — тоном мольбы заговорил он. — Бог
относится с состраданием к величайшему грешнику, и люди должны
поступать так же. Надо быть существом без сердца, чтобы после
стольких лет сохранить в душе одну жажду мщения и жить, чтобы
не уметь простить, не желать разобраться во всем спокойно и
стараться внушить свою ненависть даже тому...
Браницкий понизил голос: в соседней комнате послышались шаги;
испуганная егермейстерша закрыла руками лицо и, вся дрожа,
прислонилась к стене; гетман осторожно выглянул в отворенную дверь и
увидел входившего, с перепуганным лицом, доктора Клемента.
Он вздохнул свободнее и поспешно направился к нему
навстречу. Смещенный француз забормотал, глядя на Браницкого:
— Но разве можно было так рисковать собою! Это
непростительно!
Гетман отвечал ему с печальным выражением лица:
— Ну, я прошу тебя, не бранись; мне казалось, что этим шагом
я исправлю хоть отчасти то, что я наделал...
— Ах! Каждый ваш шаг влечет за собою непредвиденные
последствия!
Он наклонился и сказал Клементу на ухо:
— Дорогой мой, постарайся успокоить ее; она совсем потеряла
рассудок; ты не можешь себе представить, чего я здесь наслушался.
— И очень даже могу, — возразил Клемент, — я бы заранее
предсказал вам это, зная характер егермейстерши. Значит, нам
остается только одно — удалиться, — сказал доктор. — В
Белостоке страшно беспокоятся; ходят самые невероятные слухи. Нам
надо возвращаться. И я тоже не могу остаться здесь, я должен
сопровождать вас.
Браницкий с явным неудовольствием выслушал эти слова.
— Что мне за дело! — сказал он. — Я не хотел бы и не могу
уехать с такой тяжестью на совести, как судьба этой несчастной.
Знаешь ты, сударь? Она послала сына в распоряжение Чарторый-
ских! Его! Понимаешь ты это?
Доктор опустил голову.
— И сделала это умышленно, — пробормотал гетман. — Для
меня все это не может иметь никакого значения но очень меня
расстраивает...
Говоря это, гетман рукою показал доктору на дверь комнаты
Беаты, давая понять, чтобы он вошел к ней.
322
Клемент решился не сразу, но когда он уже почти приблизился
к ним, двери с шумом закрылись изнутри. Несколько минут оба
стояли, не зная, на что решиться; доктор опять стал уговаривая
гетмана уезжать.
Было уже поздно. Прогулка гетмана, наверное, была уже
замечена и вызвала комментарии и самые разнородные толки.
Француз почти силою увлек его за собой и заставил сесть на
коня. Браницкий, нахмуренный и задумчивый, с усилием влез на
седло и взял поводья в руки. Кабриолет Клемента издали следовал
за ним.
Когда они уже были далеко, перепуганная всем происшедшим
Барщевская постучалась в дверь спальни и, не услышав изнутри
ни малейшего движения, побежала позвать слуг. Вынули окно и в
углу комнаты нашли лежавшую в обмороке егермейстершу.
Прошло немало времени, прежде чем удалось привести ее в
чувство и успокоить. Ее уложили в постель и сделали все, что
подсказал инстинкт; устав от слез и рыданий, Беата уснула
тревожным и чутким сном.
Жизнь только чудом держалась в этом хрупком теле; через
несколько дней она встала и снова засела за свои книги с
описаниями жизни святых мучеников.
Среди этого чтения пришло письмо от Теодора, написанное из
Волчина после возвращения из Божишек. Разумеется, в нем не
упоминалось ни о какой другой поездке, кроме путешествия в
Вильно.
Теодор застал в Волчине большое оживление, лихорадочную
деятельность и беспрерывные совещания, происходившие не только
днем, но и ночью. Пока партия Браницкого и Радзивилла шумела,
кричала и угрожала, почти уверенная в победе, пока он собирал
войско, вербовал шляхту и спешил в столицу, Чарторыйские
делали таинственные приготовления к тому, чтобы нанести Браниц-
кому смертельный удар.
Князь-канцлер, который прекрасно знал характер страны, в
которой ему приходилось действовать, знал и то, что в пустословии,
манифестациях и криках потеряет силу для энергичного действия.
Он сберегал силы и приготовлялся втихомолку.
Теодор писал матери, что ему дано было секретное
поручение, и он снова должен был ехать. Должно быть, он хорошо
выполнил свою первую миссию и скромно и толково отдал в
ней отчет князю канцлеру; было оценено и то, что он умел
молчать. И потому, несмотря на молодость и неопытность, ему
опять было поручено передать несколько слов (а может быть,
и не только слов) ксендзу Млодзеевскому, любимцу старого
примаса Лубенского...
Об этом он не писал матери и только в общих чертах
распространился о снисходительности и благосклонном отношении к нему
князя-канцлера, за что он чувствовал к нему глубокую
признательность.
323
Вернувшись из Божишек, он застал в Волчине такое волнение,
все были так заняты политическими делами, что привезенное им
письмо воеводича несколько дней лежало нераспечатанным. Князь-
канцлер случайно взял его в руки, распечатал, посмеялся над его
стилем и над самим автором, не слишком деликатно выражался о
нем, пожал плечами и забыл о нем.
На этот раз Теодор в сопровождении нескольких слуг
направился по дороге в Скерневицы.
Есть люди на свете, как бы с рождения предназначенные для
известных целей; но прежде чем они попадут на свой настоящий
путь, они долго пребывают в неизвестности и ждут своего часа;
когда же судьба укажет им путь, на который они должны вступить,
они начинают с каждым днем вырастать в своем значении и
становятся до неузнаваемости непохожими на то, чем были раньше.
Но есть такие, которые никогда не дождутся своего часа в жизни,
завянув и погибнув никем не узнанные, потому что замкнулись в
самих себе. Одни носят в себе сознание своего предназначения,
другие узнают о нем только в решительную минуту.
Пан Теодор Паклевский принадлежал к числу тех счастливых
людей, которым не приходится долго ждать, пока откроется
ожидающая их судьба. Воспитание у пиаров было просто
подготовительной школой жизни без определенного назначения в ней; он
только знал, что должен служить и работать, чтобы выбиться
наверх и быть признанным.
Странное и счастливое для него стечение обстоятельств в самом
начале карьеры открыло ему двери канцелярии одного из
умнейших сановников Речи Посполитой; орлиный взгляд князя тотчас
же подметил в этом служащем отличное орудие для своих планов,
и он, не обращая внимания на завистников и недоброжелателей,
забрал его в свои руки. Этого было достаточно чтобы в солнечном
тепле надежды развернуться с неслыханной быстротой и
поразительным талантом. Из робкого юноши он сразу стал острожным
дипломатом и сам почувствовал, что, строго следуя указаниям
своего патрона, может надеяться играть впоследствии более
деятельную и значительную роль, чем он предполагал раньше.
Он поставил себе за правило слепо подчиняться своему
руководителю, буквально выполнять его указания. Князь канцлер,
который как раз в это время особенно нуждался в толковых, но
не выдающихся своей инициативой людях, способных, но не
слишком известных, а главное, безусловно преданных ему и не
поддающихся чужим влияниям, — сразу оценил юношу и
ухватился за него.
Действительно, Теодор за несколько месяцев своего пребывания
в Волчине стал совсем непохожим на неловкого, малоподвижного
и ненаходчивого мальчика, каким мы его видели в Борку и по
дороге в Варшаву.
324
Наблюдая за пробуждением в нем сил, которые до этого
времени не подавали признака жизни, каждый, кто видел его, должен
был бы прийти к невольному заключению, что кровь и род
заключают в себе какое-то наследство и сразу ставят потомка на той
высоте, которой достигли его предки.
Правда, Паклевские никогда не отличались дипломатическими
или политическими способностями, но кто знает, может быть, мать
передала Теодору находчивость и самообладание, мало того, —
знание, и как бы предчувствие многого, что было недоступно для
других.
Иначе трудно было бы объяснить ту необыкновенную легкость,
с которой Тодя умел разобраться в каждом положении и сыграть
именно ту роль, которая ему в данном случае соответствовала.
Князь-канцлер, боясь разбудить в нем тщеславие и самомнение,
никогда не хвалил его, иногда даже выговаривал ему то за то, то
за другое; давал ему самые трудные поручения и, к своему
удивлению, не мог поймать его ни на одной слабости. Не в его обычае
было выказывать кому-либо большую милость; но зато в его
обращении с Теодором совершенно исчез оттенок высокомерного
пренебрежения. Князь, через руки которого прошло много людей,
подававших надежды, но не оправдавших их в жизни, хорошо знал
эту загадку человеческой натуры, состоящую в том, что первый
расцвет молодости заключает в себе иногда высшее напряжении
сил данного существа, что не всегда из гениальных юношей
выходят герои и министры, и часто блестящая жизненная прелюдия
кончается отупением и полной непригодностью к чему-либо.
И канцлер решил использовать эту силу, не входя в то, какая
будущность ждет ее.
Теодор, посылаемый по самым разнообразным делам, часто не
имеющим серьезного значения, но трудным по выполнению, с
честью выходил из всех испытаний.
Все это раздражало его сотоварищей по канцелярии, которые
всячески старались, хотя и безуспешно, повредить ему.
Пребывание в Волчине не только сделало из скромного
воспитанника пиаров в высшей степени изящного, с прекрасными
манерами, придворного, но и придало ему уверенность в себе и
неустрашимую смелость.
И понемногу даже те, которые ненавидели его, стали относиться
к нему с невольным уважением.
В канцелярии он занимал второстепенное место и совершенно
не заботился о повышении; сидел в коние стола, ни в чем не
противоречил панам секретарям *; всякие мелкие работы, которые
ему поручали, исполнял без тени неудовольствия; но не проходило
дня без того, чтобы какой-нибудь чакей или придворный служащий
не приходил за ним:
— Пан Паклевский, пожалуйте к его превосходительству.
Все, находившиеся в это время в канцелярии, переглядывались
между собой и пожимали плечами. Случалось, что Паклевский,
325
отозванный к канцлеру, день и два не возвращался в канцелярию,
а когда приходил снова, никто не мог добиться от него, где он был
и что делал.
Не во вред пану Теодору было и то, что он отличался
чрезвычайной красотою лица и сложения, что во всей его фигуре было
какое-то особое породистое достоинство и что он нигде не
чувствовал себя оробевшим. Этой красоте его предсказывали при дворе
блестящие успехи в свете; она привлекала к нему ласковые взгляды
всей женской половины двора; но пан Теодор вовсе не был
легкомысленным. Он был очень вежлив с женщинами; по-видимому,
охотно бывал в их обществе, но ни к одной из них не подходил
ближе, хоть его всячески поощряли к тому и завлекали.
— Я вам говорю, — отзывался о нем Вызимирский, — это
такая штучка, подобной которой нет ни в Польше, ни в Литве! Он
задумал продать как можно дороже свой ум и красивое личико!
Никто его не поймает, ни старая Бочковская своими локонами и
мушками, ни мы своими комплиментами, ни князь канцлер —
обещаниями... Он ввинчивается потихоньку, осторожно, но когда-
нибудь мы все почувствуем его на своих боках!
Прежде чем князь канцлер и русский воевода добрались до
Варшавы, Паклевский с секретной миссией выехал в Скерневицы.
Цель его поездки была тайной для всех.
Переговоры с князем-примасом Лубенским казались фамилии
очень трудными, потому что тот был обязан всей своей карьерой
саксонскому двору и в прошлом принадлежал к противной партии;
все отдавали справедливость его характеру, набожности,
скромности, учености; и потому-то казалось невероятным привлечь на свою
сторону человека, который достиг вершины власти и ничего больше
не мог уже желать, так что ничем нельзя было купить его.
Но без примаса фамилии трудно было достигнуть своей цели;
в истории бывали случаи, когда события разыгрывались без его
участия; но в данных обстоятельствах это могло грозить
осложнениями внутренней войны, которая была нежелательна.
В то время как никому неизвестный человек выезжал из Вол-
чина по направлению к Скерневицам, двор примаса переехал в
Варшаву, чтобы там стать на страже безопасности и покоя Речи
Посполитой. Друзья примаса хотели, чтобы он был не только по
имени, но и в действительности королем на время междуцарствия,
который стоял бы выше партий и союзов, не позволяя им броситься
друг на друга.
С самого начала пройденного им длинного пути и теперь в
первой столице Речи Посполитой примас оставался всегда
одинаковым: тихим, трудолюбивым человеком, без всякой суетности,
прямым по характеру, но охотно позволявшим руководить собою
в мирских делах, которые не казались ему особенно важными.
Там, где завязывались политические интриги и составлялись
открытые заговоры, как это было в царствование саксонцев, Лу-
бенский охотно отстранялся, уступая свое место другим. Он не
326
умел во всем этом отчетливо разобраться, а может быть, и не
придавал такого значения роли отдельных личностей в истории
мира, как другие; спокойный и рассудительный, неторопливый в
решениях, примас был скорее пассивным зрителем, чем деятельным
участником событий. Эту черту его характера, еще резче
обозначившуюся с возрастом, отлично подметили Чарторыйские и знали,
что сумеют воспользоваться тем, что они называли слабостью
примаса. Так же хорошо изучили они чрезвычайно подвижного,
способного, честолюбивого, стремившегося возвыситься и каким бы то
ни было способом увеличить свое значение Млодзеевского, который
с каждым днем приобретал все большую власть над стареющим
примасом.
Млодзеевский был из числа тех, для которых одежда служит
только орудием, прикрытием или паспортом для проталкивания в
толпе. С одной стороны, он старался усердием,
предупредительностью, смирением, находчивостью и уступчивостью
снискать доверие и расположение Лубенского, а с другой — ловкий
послушник примаса изучал край и его политическое положение,
чтобы извлечь из этого пользу для себя.
Человек новый, без прошлого и без связей, которые заставили
бы его примкнуть к одному из лагерей, Млодзеевский мог смело
обещать свою помощь тому, кто больше дает, или, по крайней
мере, больше пообещает. Наблюдательность и сообразительность
позволяли ему заранее предвидеть будущее. Лагерь, в котором
главными вождями были веселый и надменный «пане коханку»,
сильно поживший и ко всему охладевший гетман Браницкий,
неловкий, но самонадеянный воевода киевский, за которым стояла
бессильная Саксония и мифическая Франция, не имел будущего!
Чем шумнее и на вид оживленнее было в нем сегодня, тем яснее
становилось, что тихо вступающий Салтыков и фамилия сметут
его без всякой борьбы. Заблуждаться могли только те, кто были в
центре гетманской партии, но не те, которые находились вне ее
рамок. Кандидатура саксонского королевича казалась
бесперспективной даже тем, которые ее выдвигали; в том же самом лагере
другие провозглашали гетмана и тут же шептались о приказаниях
Огинского и Потоцкого, не говоря уже о других...
В противном же лагере фамилия отказалась от всяких
притязаний и единственным своим кандидатом выставила молодого
стольника литовского. Поддержка же, которая была ему
обеспечена, превышала все несбыточные надежды на Францию и Саксонию.
Млодзеевский ясно видел все это; притом это не был человек,
способный принести в жертву действительность ради излюбленных
фантазий, тем более что единственной его фантазией было занять
поскорее видное положение. Но вначале ни он, ни другие не
вдавались в разгадывание будущего; старались постепенно, осторожно
и рассудительно, по способу примаса, подготовить его.
Приехав в Варшаву, пан Теодор узнал здесь, что примас со
всем своим двором только что прибыл сюда и расположился, по-
327
видимому, надолго. Отовсюду съезжались сюда наиболее
деятельные и влиятельные государственные люди Речи Посполитой.
Приехал гетман из Белостока, Потоцкий из Кристинополя, поджидали
русского воеводу и еще многих других.
Пребывание при дворе в Волчине, быть может, слова матери
и, в конце концов, незаметное для него самого влияние
окружающей атмосферы воспитали в Паклевском особенную неприязнь и
презрение к гетману. Он смеялся над его чванством, считал его
изменником по отношению к фамилии и бессильным гордецом. А
в душе он желал одного — чтобы Чарторыйские столкнули его,
как хотели, с той высоты, на которой он бездеятельно блистал.
Таким образом, Теодору не для чего было ехать в Скерневицы,
а в Варшаве — хоть он и мог проскользнуть к примасу
незамеченным — выполнение инструкции князя-канцлера представляло
гораздо более затруднений, чем если бы это было в Ловиче или
другой резиденции примаса.
Здесь уже надо было проталкиваться сквозь толпы народа,
заполнявшего все улицы.
Теодор решил передохнуть и первый день своего пребывания
в Варшаве употребить на то, чтобы оглядеться и разобраться...
Ему дали адреса некоторых людей, между прочими адрес
старого Теппера, отца того, который потом заслужил такую громкую
известность и так бесславно погиб; но он предпочел
прислушиваться и разбираться во всем без помощи других. Город
заполнялся магнатами, съезжавшимися сюда из провинции вместе со
своими придворными; движение на улицах было так велико, что
между рядами экипажей трудно было протискаться пешеходу.
Теодор переходил площадь Краковских ворот, когда карета,
запряженная четверкой лошадей, так близко проехала мимо, что он
едва спас от ее колес полы своего кунтуша. Он бросил в окно
гневный взгляд, и в ту же минуту внутри кареты послышался
женский крик.
Не успел еще Теодор разглядеть лиц пассажиров, как кучеру
был отдан приказ остановиться, и пани Старостина, высунувшись
из окна, приветствовала своего избавителя. Но крик,
услышанный Теодором, принадлежал не ей, а панне Леле, дочке
генеральши, которая раньше всех заметила его. Все, не исключая
генеральши, сердечно поздоровались с юношей. Леля не столько
словами, сколько взглядом старалась показать ему, что она его
не забыла.
— Что вы тут делаете, сударь? — спросила Старостина,
подозвав его к двер.;м и протягивая ему для поцелуя свою худую руку.
Раньше чем Паклевский успел ответить, живо вступила Леля.
— Ах, тетя тетя! Разве можно разговаривать на улице?
Слышите, как кричат, чтобы мы проезжали. Еще задавят пана Теодора!
Пусть он придет к нам обедать! Придите к обеду, — обратилась
она к нему от имени тетки, — в дом на Старом Месте, через час...
Только поскорее, потому что мы сейчас вернемся...
328
Старостина подтвердила это приглашение самой любезной
гримасой, какую только она могла изобразить на своем лице; карета
тронулась, а Паклевский остался на месте, размышляя, что ему
делать?
Ему не надо было долго убеждать себя отправиться к
Старостине; это отвечало и его собственным интересам, и пользе дела. В
этом доме он надеялся получить кое-какие справки и знал, что
там жили сторонницы фамилии.
Побродив еще по городу и зайдя к старому Тепперу, которому
он отдал записочку князя-канцлера, Теодор поспешил к
указанному дому.
Он принадлежал генеральше, и первый этаж его, не отданный
в наем, служил постоянной квартирой этих дам, часто
наведывавшихся в столицу. Здесь нельзя было делать большие приемы,
потому что дом был невелик, но обе сестры, привыкшие к
великолепию саксонского двора, умели скрасить изящным
убранством темные и невысокие комнаты старого дома.
В самой большой комнате, салоне, стояла изысканная мебель,
виднелись повсюду зеркала, гобелены, ковры, фарфоровые
безделушки, и все это было насквозь пропитано дорогими духами,
запахом пудры, куреньями и ароматом цветов. Генеральша особенно
заботилась о том, чтобы ей не стыдно было принимать у себя своих
знатных гостей и чтобы они не стыдились за нее.
Старостина тоже очень любила красивую обстановку, а Леля
постоянно подавала им благие советы, так что все комнаты были
завалены всякими безделушками и украшениями.
Здесь был полумрак даже в полдень; но Старостина была как
раз в таком возрасте, когда любят полутень, а Леля, хотя ей было
здесь тесно, душно, скучно и темно, находила в этой темноте
оправдание своей легкомысленной веселости, которая оживляла эти
угрюмые, похожие на монастырские, стены. Генеральше, которая
была менее богата и более требовательна, было очень выгодно
пребывание у нее сестры, помогавшей ей поддерживать дом на
должной высоте.
Здесь было все, чего требовали обычаи того времени от
зажиточной семьи хорошего рода во время пребывания ее в городе:
хорошая кухня и множество хорошо вымуштрованных слуг.
Здесь, как и у других, прислуги этой было гораздо больше, чем
требовалось. У старших слуг тоже были свои слуги, а у тех —
служанки....
Когда Теодор в назначенный час подходил к дому, карета
Старостины только что подъехала к нему, и все дамы карабкались по
довольно темной и неудобной лестнице наверх. Старостине
необходимо было перед обедом сменить туалет и поправить прическу,
так как этот избавитель, постоянно направляемый к ней судьбой,
сильно интересовал пожилую даму. Генеральша также пошла
переодеться, и когда Паклевский вошел в темную залу, он нашел в
ней одну только Лелю, которую удержало какое-то предчувствие.
329
Стоя перед трюмо и подняв руки кверху, она поправляла ленты
и банты, вплетенные в ее локоны и немного измявшиеся во время
прогулки.
Она увидела в зеркале входившего Теодора и с плутовской
улыбкой сказала ему:
— Подождите, пожалуйста, не подходите близко и не смотрите
на меня! Должна же я нарядиться для вас, если уж тетя и мама
дали мне хороший пример... Я хочу быть сегодня очень красивой,
вот вы увидите...
— Мне кажется, — с поклоном отвечал Теодор, — что вам не
надо ни желать этого, ни стараться об этом...
— Я не люблю комплиментов! — отвечала кокетка, топая
маленькими ножками и принимая перед зеркалом всевозможные
позы, как будто она танцевала менуэт. Но все это так шло к ней,
что Тодя мог бы долго простоять так, любуясь изящными
движениями и грациозными позами, которые принимала для него
паненка, если бы ей самой не надоело смотреться в зеркало и не
захотелось взглянуть на поклонника.
Она повернулась к нему неожиданным движением и, взяв в обе
ручки растянутую на кринолине юбку, проделала перед гостем
медленный и торжественный реверанс. Но тотчас же рассмеялась и
подошла к нему.
— Поиграем в колечко, — сказала она, — ну, покажите же
колечко!
Теодор быстро снял перчатку: колечко блестело на пальце,
поглядывая светлым глазком на свою бывшую госпожу...
— Ваше счастье! — заметила она, грозя ему розовым пальчиком.
— Если это игра, — сказал Теодор, — то надо, чтобы она была
равная. Я показал колечко, а что вы мне покажете?
— Скажите пожалуйста, какой дерзкий, —- засмеялась
девушка, — я могла бы показать на это кончик моей туфельки, который,
как вы видите, сударь...
— Я могу поцеловать его? — прервал ее Теодор.
Девушка бросилась от него в сторону, шелестя платьем, как
куропатка, которая срывается с кустов...
— Если бы Старостина увидела это, она упала бы в обморок! —
шутливо заговорила она. — А мама назначила бы мне покаяние,
а вас, сударь, отправила бы в изгнание. Я позволяю вам любоваться
моей красотой только издали, осторожно.
Теодор поклонился. Тон разговора позволил ему ответить на
эти слова прижатием руки к сердцу.
— Что вы тут делаете? — живо спросила Леля. — Я ни за
что не поверю, чтобы вы приехали сюда за Старостиной. Теперь
уж вам будто будет еще раз спасти ее, потому что она с тех пор
так боится воды!
— Кто знает, а может быть, из огня! — сказал Теодор.
Леля засмеялась.
— А давно вы здесь?
ззо
— Со вчерашнего дня.
— Знали, что мы здесь?
— Совершенно не знал!
— И даже не предчувствовали?
Тоодор опустил голову.
В эту минуту в комнату вошла Старостина.
— Драгоценная тетечка! — защебетала девушка, подбегая к
ней. — Пан Паклевский даже не предчувствовал, что вы здесь.
Ведь между спасителем и спасенной должна быть какая-нибудь
связь, по которой передается чувство и...
— Да полно тебе болтать, сорока! — прервала Старостина,
слегка ударив племянницу веером, который она держала в руке.
И, обратившись к Теодору, прибавила:
— Я очень рада видеть вас, сударь.
И подала ему руку для поцелуя.
Леля, стоявшая позади тетки, снова торжественно присела, но
в это время появилась генеральша и удержала ее от дальнейших
шалостей. Теодору пришлось усесться на диване вместе с дамами
и вести с ними серьезный разговор.
Обстоятельства действительно сделали его более серьезным, чем
обычное щебетание этих дам. Даже и они поддались впечатлению
событий, которые сопутствовали им.
Говорили о красавце литовском стольнике, о Мстиславской и
ее сопернице; о калеке-королевиче, о гетмане и о фамилии.
Дамы, только что вернувшиеся из города, привезли с собой
целую массу сплетен и рассказывали, перебивая друг друга.
Теодор слушал с интересом.
И Старостина, и ее сестра, не стесняясь, высказывали свою
симпатию к Чарторыйским перед служащим князя-канцлера.
Генеральша была особенно очарована стольником и намекала,
что и он был к ней не совсем равнодушен.
— Все, что говорят о Мстиславской и о княжне, — тихо
сказала она, — все это преувеличено и просто выдумано. Стольник
еще не сделал выбора, а когда сделает, то, поверьте, у него
окажется больше вкуса, чем ему приписывают.
Старостина, которая уже отреклась от всех видов на
будущее, ограничившись одною нежностью к своему спасителю,
хотела играть роль в политике и уверяла, что будет стараться
привлекать союзников для Чарторыйских, отбивая их у
противной партии.
— Вот вы увидите, сударь, что в конце концов при гетмане
останется один староста браньский; все от него сбегут! Надо только
умеючи за это взяться.
— Я и не подумаю уехать в деревню, мы с генеральшей тоже
будем принимать участие в сеймиках!
Сказав это, Старостина с таинственным видом наклонилась к
своему спасителю, может быть, для того, чтобы быть к нему
поближе, и начала шептать:
331
— Первое условие — даю вам слово, что это так, — надо
употребить все усилия, чтобы перетянуть на свою сторону примаса. А
для этого есть средство...
Она сделала при этом плутовскую гримаску, которая
рассмешила Лелю, очевидно, придавшую разговору другой смысл...
— Какое средство? — спросил Теодор.
— О, я не скажу! Это моя государственная тайна.
— Неужели вы и мне не откроете? — заговорил юноша. — Я
ведь не выдам вас...
Старостина опустила глаза на кончики своих пальцев,
некрасиво высовывавшихся из черных митенок, и покачала головой.
— Я знаю одного человека, — тихо вымолвила она.
Теодор покраснел от радости, и это было так явно, что Леля,
видя этот румянец и перешептывания с теткой, которая тоже как-
то странно переглядывалась с ним, почувствовала некоторое
беспокойство.
— Может быть, окажется по счастливой случайности, что
мысли моего патрона совпадут с мнением пани Старостины, —
сказал Теодор. — Я признаюсь вам под секретом, что я, — тут
он еще понизил голос, — имею поручение от князя к Млодзе-
евскому...
Старостина всплеснула руками и даже подскочила на диване,
чем возбудила живейшее любопытство в Леле и генеральше; обе
дамы подошли к ним поближе.
— Пожалуйста, прошу вас — не подслушивать нашего
разговора, мне нужно переговорить наедине с моим спасителем об очень
важном и секретном деле...
Леля и мать ее, не зная, что тут и думать, отошли в сторону,
а Теодор быстро прибавил:
— Я рассчитываю на то, что пани Старостина поможет мне...
Встреча здесь, на нейтральной почве...
— Ах, плут! Ах, какой плут! — громко сказала Старостина. —
Прошу покорно, кто бы мог ожидать этого, глядя на его скромную
и смиренную физиономию.
— Уверяю вас, тетя, — издали отозвалась Леля, — я всегда
считала этого пана страшным плутом.
— А я нет! — нарочно прибавила генеральша.
Между тем Теодор, целуя руку Старостины, чтобы еще более
умилостивить ее, тихо сказал:
— Я рассчитываю на вас, пани Старостина!
Подали к столу, и счастливая вдова подала руку своему
спасителю, потому что никого больше в этот день не было. Пока они
шли в столовую, она, подумав немного, шепнула ему что-то на
ухо.
Лелю смешило кокетство тетки, но генеральша начинала не на
шутку беспокоиться.
— Кто знает, — рассуждала она про себя, — может быть,
юноша рассчитал, какие доходы приносит сестрице ее имение, и со-
332
бирается вскружить ей голову? Что же? Разве не бывало таких
браков?
Для генеральши страшнее всего была мысль, что кто-нибудь
может отнять у нее ее дорогую сестрицу и лишить ее права на
наследство.
Она смотрела на Теодора суровым взглядом, а у того было
такое счастливое, веселое, сияющее лицо, что действительно
можно было испугаться. Судьба была к нему чрезвычайно
милостива.
Леля тоже смотрела на них, силясь отгадать, какая
таинственная причина могла связать общей радостью тетку и Теодора. Для
нее это было необъяснимой тайной, потому что не могла же она
допустить, что Теодор объяснился тетке и получил согласие.
За обедом шел разговор на тему о том, кто приехал, где
остановился, из кого состоял двор примаса, кто из кастелянов играл
при нем роль маршала, какие вести шли из Дрездена и т.д. Как
только обед кончился бедная генеральша тотчас же отвела сестру
в сторону для секретного разговора, а Леля воспользовалась этим,
чтобы подойти к Теодору.
— Можно вас поздравить? — спросила она
— Не знаю, с чем!
Леля подошла еще ближе.
— Вы объяснились Старостине? Она согласна? А когда
обручение? С удовольствием потанцевала бы на свадьбе.
Теодор улыбнулся.
— Благодарю вас за счастливую мысль и за участие ко мне.
И он серьезно поклонился ей. Леля смутилась.
— Но ведь так всегда бывает, — прибавила она. — Во всех
романах, которые вы читали и которых вы не читали, всегда тот,
кто спасает героиню из воды, или от огня, или у края пропасти,
непременно должен жениться на ней. Значит, и вы обязаны это
сделать!
— А если бы я спас генеральшу, у которой есть муж? —
спросил Теодор.
— Тогда вы должны были бы, по крайней мере, влюбиться в
нее и умереть от любви, — ответила Леля, — другого выхода нет.
Значит, вы видите, сударь, что я права.
— Вижу, — весело сказал Теодор, — но клянусь вам, что,
спасая вашу уважаемую тетушку, я делал это для вас; значит...
— Ровно ничего из этого не следует, — вскричала Леля, —
все это только отговорка, а правды вы все-таки не говорите...
— Вы хотите, чтобы я вам все сказал? — спросил Теодор тоном
неустрашимой уверенности в себе.
— И вовсе лет! Я и сама сумею отгадать правду, и никто меня
не обманет... Только скажите мне, потому что я страшно
любопытна, о чем вы так таинственно шептались с тетей?
— Я могу торжественно заверить вас, что это не касается ни
тети, ни вас, ни меня!
ззз
— А кого же? Султана турецкого? — спросила Леля.
Теодор засмеялся, и на этом кончился разговор, потому что
Старостина подозвала к себе гостя, чтобы шепнуть ему на ухо, что
скоро он получит от нее одно известие.
В чрезвычайно веселом настроении вышел Паклевский из дома
на Старом Месте: судьба, очевидно, благоприятстровала ему. Он
был уверен в том, что Старостина, желая играть роль, устроит ему
свидание с Млодзеевским, а кроме того, и генеральская дочка
очаровывала его своей веселостью, болтливостью и грацией
беззаботной пташки. Теодор не мог бы сказать, что он влюбился в нее,
но она не выходила у него из ума, и при одной мысли о ней
сердце его билось учащенно, но слишком велико было расстояние
между дочкой генерала и бедным шляхтичем Паклевским. Он мог
болтать, смеяться с нею, мог без памяти влюбиться в нее, но
просить ее руки — это было совершенно невозможно... Он вздохнул:
девушка была прелестна, но самая ее ничем не омраченная
веселость доказывала, что в сердце Лели не могло ужиться серьезное
чувство.
Нечего было и думать об этом...
На следующий день вечером, вернувшись из города, он нашел
у себя записочку Старостины, пахнувшую ее духами. В записочке
некрасивым почерком и с сомнительной орфографией было
изложено краткое приглашение на обед — на завтра.
О Млодзеевском даже не упоминалось.
В назначенный час Паклевский явился к дамам, и хотя в
обычное время он мало заботился о своем костюме, но теперь, сам не
зная зачем, он несколько раз взглянул на себя в зеркало, поправил
волосы, подтянул пояс и вычистил сапоги. Очень ему хотелось
иметь изящный вид.
К счастью для него, ему не приходилось прилагать к этому
особенные старания — в отношении наружности природа щедро
одарила его. Он невольно привлекал к себе все взгляды, и многие
подозревали в нем какого-нибудь потомка княжеского рода,
путешествовавшего incognito. Вызимирский, который не выносил его,
уверял, что такая кукольная красота не идет мужчине. Но правда
и то, что сам он был очень некрасив и имел на лице следы оспы.
В салоне Теодор застал уже сгоравшую от нетерпения
Старостину, поджидавшую его и быстрыми шажками ходившую по
комнате рядом с Лелей. В этот день у нее было веселое и плутоватое
выражение лица. Увидев Теодора, она присела перед ним и,
подавая ему руку, защебетала, подражая Леле:
— Это делает честь кавалеру, что он так аккуратен и является
в назначенное время. Я уже около четверти часа жду вас, сударь!
Леля иронически шепнула ему:
— Видите, сударь!
— У вас есть много добрых качеств, говорю это без лести, —
закончила Старостина, — много качеств, которых не достает
другим молодым людям.
334
— Право же, я не заслужил такой похвалы! — отвечал Пак-
левский.
Старостина внимательно взглянула в лицо говорившего и,
поджимая губы, сказала:
— Я пригласила вас на семейный обед, но опять в узком кругу.
Из гостей никого больше не будет.
Слово «никого» она произнесла особенным голосом. Леля
взглянула на него, интересуясь, какое впечатление произведут на него
эти слова.
Теодор быстро ответил, что чувствует себя счастливым
возможностью быть без посторонних в таком приятном обществе.
Старостина прикусила губы.
— Сказать по правде, — вполголоса сказала она, — я
пригласила еще кое-кого, но без результата.
По глазам Лели Паклевский мог догадаться, что любопытная
паненка выпытала у тетки ее секрет и что для нее уже не были
тайной их секретные переговоры.
Вскоре явилась и генеральша, но ее манера держаться и прием,
оказанный ею Теодору, не предвещали ничего хорошего; легко
можно было заметить, что его частые визиты, все равно с какой
целью, ради Лели или ради Старостины, не нравились ей.
Она держалась холодно и гордо, говорила мало и почти не
обращалась к гостю. Должно быть, это было уж слишком явно и не
понравилось балованной дочке, потому что она тотчас же отвела
мать в сторону и прочитала ей нотацию.
Потом, за обедом, генеральша смягчила тон по адресу Теодора, а
так как он сам не решался заговаривать с ней, то она раза два
обращалась к нему с вопросами и была награждена за это улыбкой Лели.
Уже подали десерт, и Старостина все время потихоньку
подсмеивалась над паном Теодором, когда лакей открыл дверь, и на
пороге показался молодой, красивый мужчина с румяным и веселым
лицом, правда, в одежде духовного лица, но по виду гораздо
больше напоминавший какого-нибудь итальянского аббата или
французского кюре, чем серьезного польского капеллана.
Одетый с большим тщанием и даже кокетством, не отвечавшим
его положению, с каким-то орденом на шее, в кружевных
манжетах, со множеством богатых брелков на часах, вошедший окинул
все общество быстрыми черными глазами и, с веселой
бесцеремонностью остановив взгляд на генеральше, подошел в Старостине.
Леля сделала гримаску, генеральша сильно покраснела, а Старостина
чинно приветствовала гостя, торжествующе поглядывая на Теодора.
Юноша без труда угадал в нем ксендза Млодзеевского, аудитора
канцлера, правую руку примаса.
Все его внимание обратилось к этому человеку, которого он
хотел бы сразу узнать и отгадать. У него не было ни большой
опытности, ни знания людей, но Бог дал ему чудесный инстинкт,
а ксендз Млодзеевский вовсе не представлял из себя человека,
которого трудно понять.
335
Все обнаруживало в нем честолюбца, носившего духовную
одежду только ради своих целей; но и ее он носил с небрежностью
и свободой светского человека; все его лицо, глаза и крупные
румяные губы дышали жизнерадостностью; в нем не заметно было
ни измождения, ни умеренности в образе жизни. Вокруг его
цветущего рта, как паутина вокруг цветка, змеилась легкая
саркастическая усмешка. Быстрый проницательный взгляд смотрел
испытующе, но не допускал в себя.
Глаза беспокойно бегали и постоянно меняли выражение. В них
светилась и гордость, и вера в себя, и презрение к свету, но в
источнике этого презрения лежало не христианское отрицание и
презрение к благам мира, а пренебрежение сильного, готового
воспользоваться чужой слабостью.
Это духовное лицо, имевшее такой светский, даже придворный
и несколько иностранный вид, обладало в гораздо большей степени
горячим темпераментом, чем находчивостью и умом. Горячая кровь
одерживала в нем верх над насмешкой, над испорченностью и над
стремлением к внешнему лоску. Теодор не столько понял, сколько
почувствовал это и получил надежду, что переговоры с ксендзом-
аудитором приведут к благополучному разрешению вопроса.
Ксендз-канцлер — так его называли потому, что он исполнял
канцелярские обязанности при примасе, — очевидно, был в этом
доме желанным и частым гостем. Поздоровавшись со Старостиной,
которая что-то шепнула ему, он тотчас же обратился к генеральше
и развязным и фамильярным тоном принялся делать ей
комплименты, прерываемые смехом и сопровождаемые поцелуями ручек.
Генеральша, смутившаяся было сначала, скоро смягчилась и
отвечала ему очень любезно.
Леля держалась в отдалении и всеми своими гримасками ясно
показала, что новоприбывший не пользуется ее милостями. Млод-
зеевский подскочил к ней и заговорил шутливо, как с ребенком,
но это не поправило дела. Надувшаяся девушка выбежала в другую
комнату.
Когда дошла очередь до Паклевского, и Старостина представила
его гостю, канцлер устремил на него пристальный взгляд, который
ничуть не смутил юношу, и, сказав ему несколько слов, снова
обратился к дамам.
Генеральша, обеспокоенная поведением Лели, пошла за нею. А
Старостина, знаком пригласив Теодора подойти поближе, сделала
вид, что забыла что-то в соседней комнате, и оставила их вдвоем.
Не было сомнения, что ксендз-канцлер догадывался о миссии,
относившейся к его особе, но, по-видимому, он думал, что она
будет поручена более солидному лицу и потому свысока и небрежно
взглянул на Паклевского.
— Я очень счастлив, — тихо и вежливо начал Теодор, подходя
к дивану, на котором сидел капеллан, — что встретил здесь ваше
336
преосвященство, так как среди других поручений, данных мне из
Волчина, я имею приказ принести зам свое нижайшее почтение...
Для этого я хотел ехать в Скерневицы...
— А разве князь-канцлер не имеет намерения приехать сюда
на консилиум? — прервал его Млодзеевский. — Это было бы очень
желательно и очень кстати.
— Он приедет, без сомнения, — отвечал Теодор, — но так как
он может запоздать, то и поручил мне поскорее передать вашему
преосвященству, что ему наконец удалось устроить у генерала Кай-
зерлинга с давно уже просроченной ликвидацией собственность
князя примаса, которая остается за ним!
Млодзеевский, как будто совершенно не ожидавший услышать
это, не сумел скрыть своей радости; он вскочил с места, всем своим
изменившимся видом обнаружив то впечатление, которое
произвело на него это известие, и, приблизившись к послу, заговорил
совершенно другим тоном.
— Это будет очень кстати для его высокопреосвященства; если
междуцарствие затянется надолго, то повлечет за собою большие
издержки для него... Но, — прибавил он, близко заглядывая в
глаза своему собеседнику и понижая голос, — что же дальше? Что
еще? Есть ли какое-нибудь добавление к этой доброй вести, которое
придало бы ей немного перцу?
— Нет никакого, — сказал Теодор, — все дело ясно и просто.
Его высокопреосвященство князь-примас получил только то, что
ему принадлежало по священнейшему праву, а князь-канцлер
старался не только о том, чтобы устроить эту ликвидацию, но и о
том, чтобы она отвечала понесенным убыткам...
— А! Вот как! — вскричал Млодзеевский с еще более
прояснившимся лицом. — Этот поступок тем прекраснее со стороны
князя-канцлера, что он, вероятно, разделяет общее убеждение в том,
что мы совершенно преданы саксонской кандидатуре?
Теодор помолчал немного.
— Мне кажется, — сказал он, подумав, — что князь-канцлер
слишком хорошо знает высокие качества и ум первого советника
князя-примаса и его ясное представление о положении дел в Речи
Посполитой, чтобы сомневаться в том, что и князь-примас, следуя
его советам, принесет на алтарь отечества свои личные
привязанности.
Ксендз Млодзеевский, которому польстила эта несколько
преувеличенная лесть, был удивлен той смелостью и свободой, с
которой она была ему преподнесена. Он поднял руку и, слегка
хлопнув по плечу Паклевского, отвечал ему:
Благодарю.
Потом, оглянувшись кругом, он сказал:
— Пойдем к окну...
Теодор поклонился с почтением, какое заслуживала духовная
особа, и последовал за Млодзеевским. Такая скромность тоже
понравилась ксендзу-канцлеру.
337
— Можете, сударь, передать князю, — очень тихо вымолвил
он, — что я всеми силами постараюсь избегнуть внутренних
раздоров и ненужной борьбы. Конечно, там, где замешано столько
различных интересов, самолюбий и мелких честолюбий, надо быть
очень осторожным и сдержанным.
— О, ваше преосвященство, можете рассчитывать на полное
молчание: ведь этого требует обоюдный интерес.
— Да, — сказал Млодзеевский, снова понизив голос, — и
чтобы избежать ложных толков, хорошо было бы до времени сохранить
в тайне и эту ликвидацию. Ведь люди злы! Люди злы!
— Нет никакой необходимости примешивать это частное дело
к делам общественным, — сказал Теодор, — человеческая злоба
не знала бы границ, если бы увидела в этом что-нибудь выходящее
из обычных рамок.
Ксендз Млодзеевский, проникаясь все большим доверием к Пак-
левскому, склонился к его уху с каким-то вопросом, на который
Теодор отвечал также тихо: высчитывая, сколько принесла
ликвидация, и какая сумма высвобождалась после нее для нужд
канцелярии. Он упомянул и о Теппере.
Легкий румянец на минуту окрасил лицо прелата, который
повторил еще раз:
— Полная тайна прежде всего...
Теодор наклонил голову.
— Мое поручение носит совершено частный характер, —
сказал он, — и я очень счастлив, что успел выполнить его, по
счастливой случайности, на нейтральной территории, на которой мыл
в случае надобности, можем встретиться еще раз, не навлекая на
себя ничьих подозрений и не возбуждая толков.
На этом и окончились переговоры, о которых с такой тревогой
думал Паклевский и которые прошли так легко и счастливо.
Ксендз Млодзеевский сделал еще несколько замечаний и, как
бы испытывая Теодора, предложил ему несколько вопросов на
разрешение, а затем, заметив в дверях Старостину, стоявшую в
выжидательной позе, громко сказал ей:
— Почему же дорогая пани Старостина оставила нас вдвоем?
А здесь опасность была огромная, потому что мы с паном...
как?
— Паклевским.
— Да, Паклевским, — закончил ксендз Млодзеевский, —
принадлежим к двум противоположным лагерям... Я, как слуга
князя-примаса, держу сторону саксонцев, а пан... за Пяста.
Старостина вошла, посмеиваясь, потому что видела по
выражению лиц обоих, что конференция окончилась хорошо.
Слуга внес на подносе старое вино, бисквиты и конфеты,
которые любил Млодзеевский, пристрастившись к ним в Италии.
Вскоре пришла и генеральша, к которой Млодзеевский пристал
с просьбой сделать хоть один глоток, чтобы убедить его, что это
не яд.
338
— Я подозреваю, что пани Старостина и генеральша
сочувствуют фамилии, а потому были бы не прочь сжить со света такого
саксонца, как я. А для этого, — галантно прибавил он, — не
нужно даже яда, достаточно одного убийственного взгляда прекрасной
Армиды...
Армадой называли в обществе генеральшу — это было ее
прозвище.
Старостина и Армада принялись угощать ксендза, аппетит
которого равнялся его юмору. Но как ни приятно было ему в
обществе дам, он, взглянув на часы, поднялся и заявил, что должен
ехать, чтобы не заставить ждать примаса.
Все проводили его до дверей, а Теодор издали отвесил ему
глубокий поклон. Взгляды их встретились.
Не успели закрыться за ними двери, как Старостина с шутливым
смехом подала руку своему спасителю, говоря ему:
— Поцелуй, сударь, и поблагодари меня; видишь, как
женщины, если что-нибудь захотят, умеют настоять на своем. Млодзеев-
ский долго отговаривался, но должен был послушаться.
Она присела перед юношей.
— Моя благодарность не имеет большой цены, — сказал
Теодор, поднося к губам ее руку, — но князь-канцлер сам принесет
вам, сударыня, свою благодарность, потому что я не премину
сказать ему, чем я обязан вам...
— А мне довольно и вашей благодарности! — с
многозначительным взглядом шепнула Старостина.
На счастье Паклевского, приход Лели прекратил дальнейшие
нежности со стороны хозяйки, угрожавшие Теодору. Паненка опять
была в своем обычном веселом настроении и спешила
воспользоваться минутой, чтобы снова поддразнить Теодора.
Она очень искусно вмешалась в разговор и постаралась навести
его на такую тему, чтобы забрать себе Паклевского.
Конечно, он не противился этому!
— Прошу вас, — заговорила она, отводя его в сторону, — не
ухаживать за тетей. Мама беспокоится... Шутки в сторону, но
Старостина чересчур уж нежна к своему спасителю. А я из-за вашей
милости получила неприятность. Ради вас пригласили к нам
ксендза Млодзеевского.
— Но почему же ради меня? — запротестовал Теодор.
— Прошу мне не противоречить, — говорила Леля. — Да! Да!
Его пригласили для вас, а я его терпеть не могу. И я должна была
четверть часа смотреть на него.
— Почему вы его так не любите?
— Потому, что я люблю, чтобы уксус был кислый, а мед
сладкий; чтобы птица не представлялась рыбой, а рыба не стремилась
летать. Вы понимаете меня? Ксендз Млодзеевский — это рыба,
которая хочет летать; у него одежда духовного лица, а глаза —
драгуна, и потом, он пристает к моей маме, как... Я его видеть
не могу!
339
Паклезский ничего не ответил ей на это.
Леля болтала еще о многом, но то и дело возвращалась к ксендзу
Млодзеевскому и громко повторяла: не ксендз, а Бог знает что.
— Я уж предпочитаю ксендза-канцлера Прокопа, хоть у него
очень грязные босые ноги.
Мать приказала ей замолчать, но она разболталась еще сильнее;
Старостина смеялась и обнимала ее.
Паклевский, простившись с дамами, направился прямо от них
во дворец князя-канцлера, чтобы узнать там, когда его ожидают,
и в зависимости от ответа обдумать, что делать? Ехать ли к нему
с докладом, или подождать его здесь.
Хорошее настроение, овладевшее им со времени свидания с
прелатом, скоро омрачилось приездом в столицу гетмана Браницкого.
Теодор, поджидавший прибытия волчинского двора, был свидетелем
въезда гетмана.
Под влиянием людей, среди которых он жил, в нем развивалась
все большая ненависть к Браницкому, которой он ни перед кем
не скрывал.
Все то, что пришлось ему видеть и слышать в столице, вращаясь
в обществе приверженцев Чарторыйских, доказывало ему, что
победа фамилии совершенно обеспечена...
И потому прием, оказанный Браницкому его друзьями и
сторонниками, произвел чрезвычайно сильное впечатление на его
юношеское воображение.
Это был единственный акт в деятельности партии, который
удался ей вполне.
Браницкий был еще в Белостоке, когда шляхте дали знать, что
он едет, и они выезжали ему навстречу, увеличивали его свиту и
всячески показывали ему, что считают его своим будущим королем.
Так как ловкие посланники старосты браньского умели привлекать
к себе союзников и заставлять их делать то, что им внушат, то
гетмана на всем пути встречали овациями, аплодисментами,
криками, приветствиями и речами.
Гетман, вероятно, догадывался, что все это было заранее
подготовлено, но ему приятно льстили эти выражения преданности,
которые перетягивали на его сторону симпатии легко увлекающейся
страны...
Это путешествие могло зародить у гетмана обманчивое
представление о том, что голос народа был за ним и ему уготовлена
великая будущность.
Призрак короны прельщал и гетманшу, хотя она и не имела
такой уверенности в том, что это сбудется. Везде, где только
останавливался Браницкий со своей свитой, шляхта толпами
съезжалась к нему на поклон, и во всех речах, поскольку упражнение
в ораторском искусстве было любимейшим развлечением шляхты,
все намеки, указания и пророчества сводились к одному выводу,
что высшее место принадлежит тому, кто умел привлечь к себе
сердца братьев — шляхтичей.
340
Этот заразительный энтузиазм сопровождал пышный въезд
гетмана в столицу и овладел частью ее обитателей. И здесь встреча
гетмана была заранее подготовлена старостой браньским; всем было
известно о часе его прибытия, улицы были заполнены толпами
любопытных, среди которых оппозиция, если она только была
здесь, не смела поднять голоса.
Въезд был действительно великолепный, ослепительный, —
можно сказать, почти королевский и притом устроенный с
соблюдением старинных традиций. Шли отряды парадных полков,
гусары, кирасиры, татары, янычары; за ними следовали бесчисленные
ряды возов, фургонов, тарантасов, конной свиты, гайдуков, драгун
и пестро одетых слуг. Ехали чиновники, сопровождавшие гетмана,
вся его канцелярия, маршал двора; везли знамена, шли музыканты.
Весь этот огромный лагерь вступил в полном параде — яркий,
красочный, шумно движущийся — в столицу, имея целью
произвести впечатление на жителей.
Бесконечно длинной разноцветной змеей тянулась процессия, так
что один конец ее въезжал во дворец, а другой был еще в Праге. По
обеим сторонам улиц, где проезжал двор гетмана, стояли тесными
рядами массы народа — мещане, евреи, шляхтичи, — а умело
расставленные среди них сторонники гетмана приветственными криками
разжигали толпу и увлекали ее своим деланным энтузиазмом.
Нет ничего легче вдохновить толпу, ослепленную зрелищем и
уже достаточно наэлектризованную. Поэтому на всем протяжении
пути гетмана раздавались приветственные возгласы, летели в
воздух шапки, и веселый шум наполнял улицы.
По всей Варшаве разносилось эхо этих криков, и все были
совершенно убеждены, что именно гетман и никто другой должен
быть королем, так как он уже теперь принимает королевские
почести.
Весть эта разнеслась по городу, и фамилия, приверженцы
которой косо посматривали на это торжество, на минуту даже
испугалась этой демонстрации, являвшейся доказательством известной
силы и уверенности в себе.
Теодор, смотревший из окна на эту процессию, первый
встревожился и опечалился.
После встречи гетмана Чарторыйские, явно избегая всякого
соперничества с ним, прибыли в столицу, как всегда, с большой
свитой, но без всякого шума и огласки.
Паклевский уже ожидал во дворце князя-канцлера и был одним
из первых, о котором спросил, отдохнув немного, его высокий
покровитель.
Его впустили к князю в то время, когда тот, еще не успев
сбросить собольей шубы, согревался шоколадом. В комнате не было
больше никого. Канцлер обернулся, увидел юношу :i, сидя спиной
к нему, начал спрашивать:
— Ну, что, сударь? Сделали какую-нибудь глупость? Одну?
Или, может быть, две? Сколько же?
341
— Я не считал, — возразил Теодор, — а вы, ваша княжеская
милость, соблаговолите оказать мне снисхождение при подсчете.
— Вы знаете, сударь, что снисходительность не в моей натуре;
молодых это портит, а старых вводит в заблуждение. Что же вы
сделали?
— Я видел прелата, объявил ему о сохранении собственности
князя-примаса, и он не выказал ни малейшего неудовольствия, —
сказал Теодор.
— Я был в этом уверен, — пробормотал канцлер.
Он взглянул через плечо и слегка усмехнулся, но не сказал
ничего, не удостоил своего посла ни единым словом похвалы.
— Просили держать все в секрете, — сказал Теодор.
Князь и на это не ответил и, казалось, был гораздо более занят
своим шоколадом, чем докладом.
— Прошу не отлучаться, вы мне можете понадобиться,
сударь, — сказал он, — мы не на отдых приехали сюда. Я не
рекомендую вам осторожности и умения хранить тайны, потому что
вы уже и так знаете, что это — первое условие службы у меня.
Как в школе... Знаете, сударь? Если бы даже пекли и жарили в
смоле!
Паклевский склонил голову.
В этот день в первый раз и как раз под конец разговора он
имел счастье увидеть того, о котором уже столько наслышался,
еще не зная его. Нарушая строгий приказ не впускать никого в
кабинет, к канцлеру вошел, поздравить его с приездом, молодой
и красивый литовский стольник. Паклевский был поражен его
наружностью и манерой держаться, в которых было столько
непринужденного и в то же время царственного величия, как ни у кого
больше. Лицо его освещалось прекрасной улыбкой, невольно
располагавшей к себе каждого. В манерах его было что-то
иностранное, с печатью аристократизма, избалованности и княжеского
изящества.
В ту минуту, когда вошедший бросился обнимать дядю, князь-
канцлер сделал Теодору знак удалиться.
За закрытыми дверьми он слышал оживленные голоса; один
был веселый, другой — суровый.
Прошло несколько дней в обычных занятиях, беготне и такой
массе разнообразных поручений, что Паклевскому просто некогда
было вздохнуть. На третий день его вызвали к канцлеру, который
встретил его с нахмуренным лицом.
— Где вы были, сударь? С кем болтали? Кому открылись в
данном вам поручении? Говори правду.
Теодор остолбенел.
— Ваше сиятельство! — воскликнул он. — Я могу поклясться
на евангелии, что не проговорился ни перед кем. Я нигде не
был.
— Этого не может быть! — крикнул канцлер. — Ты меня
выдал!
342
— Никогда я этого не делал — это ложь! — сказал Паклев-
ский, ударяя себя в грудь.
— Сплетня ходит по всему городу — откуда? Кто? Прелат не
стал бы этим хвалиться; я тоже; а кроме нас и тебя, никто об
этом не знал.
— Только одна пани Старостина, в доме которой я
встретился с ксендзом Млодзеевским, — отвечал Паклевский, —
могла что-нибудь рассказать, но разговора нашего никто не
слышал.
— Очень тебе нужно было лезть к бабам, чтобы у них
встречаться с ксендзом Млодзеевским? — воскликнул князь. — Разве
не нашлось бы другой дороги?
Паклевский ничего не ответил, но спустя немного времени,
чувствуя себя без вины обиженным, заметил:
— Хотя я высоко ценю службу у вашего сиятельства, но, если
я уже утратил ваше доверие...
— Да не будь же ты... — оборвал его князь. — Это еще что
за штуки, сударь? Вы отказываетесь от службы у меня? Вот это
мне нравится... Настоящая шляхетская натура! Нос кверху! И ни
слова ему не скажи!
Князь дал волю своему гневу и бушевал. Теодор стоял перед
ним спокойно и молча, но чем грознее хотел казаться князь, тем
сильнее закипала кровь у Теодора, и ни с того ни с сего он твердил
про себя: «Брошу службу!»
Быть может, он сознавал свою полезность при дворе канцлера,
а юношеская гордость, так долго дремавшая в нем, вдруг
пробудилась от резких слов не стеснявшегося в выражениях князя-
канцлера.
Несколько раз князь умолкал, как будто желая услышать
оправдание, смиренное извинение, но Теодор сжал зубы и молчал.
Это еще более выводило из себя властного вельможу, привыкшего
к тому, чтобы все склонялись перед ним.
Теодор стоял с побледневшим лицом, и когда канцлер на
минуту умолк, он молча поклонился и вышел.
С горячностью, свойственной его возрасту, Паклевский, выйдя
из кабинета князя, не вернулся больше в канцелярию, но
отправился прямо к себе домой. Здесь он написал почтительное письмо
канцлеру с выражением благодарности к нему, запечатал его и
оставил на столе. После этого он вышел на улицу с твердым
намерением оставить службу у канцлера.
Бродя без цели по улицам, он случайно оказался около дома
на Старом Месте. Он не имел намерения упрекать Старостину за
ее болтовню, хотя и был уверен, что это была ее вина; но так как
ему, очевидно, приходилось уехать из Варшавы, то надо же было
проститься с дамами.
Был предобеденный час, но он, не смутившись этим, поднялся
по лестнице. Слуга сказал ему, что Старостина и генеральша дома.
Он попросил доложить о себе.
343
Уже у дверей он услышал голосок Лели, которая шла к нему
навстречу, опередив тетку.
— А, наконец-то! Догадались-таки, сударь, что после того обеда
следовало сделать нам визит! — вскричала она, подбежав к
нему. — Может быть, вы опять думаете встретить у нас этого
несносного Млодзеевского?
— Я пришел проститься с вами! — сказал Теодор.
— Это что еще значит? — сказала Леля, ведя его в
гостиную. — Вы думаете, что с нами можно проститься и отделаться
от нас? Никогда в жизни! Тетя соединена со своим спасителем
узами благодарности, а я — мы же играем в колечко?
На эту легкомысленную шутку Паклевский ответил таким
печальным взглядом, что и Леля сразу стала серьезнее.
Старостина переодевалась для гостя и просила его подождать;
таким образом, молодые люди имели возможность поговорить
наедине.
— Ну, скажите серьезно, что значит это прощанье? —
спросила девушка.
— Князь-канцлер за что-то прогневался на меня, а я не
чувствую, чтобы заслужил его гнев, поэтому поблагодарил за службу
и не знаю, что теперь делать.
Леля, которая из всего того, что ей приходилось слышать о
канцлере, имела чрезвычайно высокое представление о его
могуществе, сначала взглянула на юношу с недоверием, а потом с
сочувствием к его мужеству...
— Ну, и что же вы думаете делать? Говорите скорее! —
шептала она, приблизившись к нему и сразу утратив всю свою
веселость.
— Я еще не имел времени обдумать, — отвечал Теодор, — но
мне кажется, что проще всего, и это мой первый долг теперь,
поехать к матери и посоветоваться с нею!
Девушка вопросительно смотрела на него и, видимо, сама не
знала, что ему сказать...
— Мне кажется, — шепнула она, — что вы слишком
поспешили с отставкой; князь мстителен; вы затрудняете себе путь...
— Что делать! — возразил Паклевский. — Дело сделано,
теперь не стоит об этом говорить...
— Наверное, нашелся бы кто-нибудь, кто мог бы упросить
князя, — шепнула Леля.
— Я именно не хочу ни сам просить eio, ни других заставлять
просить за меня, — сказал Теодор. — А князь меня не простит,
я в этом уверен...
В эту минуту вошла Старостина, к которой, опережая Теодора,
бросилась Леля и закричала ей, хлопая в ладоши:
— Пусть тетя хорошенько проберет своего спасителя! Какая-то
муха его укусила! Канцлер что-то ему там сказал, а он
поблагодарит за все и бросил его. Пришел к нам проститься, хочет ехать
в деревню и еще там Бог знает что!
344
— Что я слышу! Что я слышу! — прервала ее сильно
взволнованная Старостина. — Но почему же, как это случилось? Этого
не может быть... мы этого не позволим...
— Тетя, — шепнула Леля на ухо тетке, — пожалуйста,
спросите его хорошенько обо всем и побраните, да не позволяйте, чтобы
он там закопался в деревне, потому что это просто глупо...
Проговорив это, Леля выбежала из комнаты, оставив тетку
наедине с ее спасителем.
— Ах, сударь, говорите же скорее, что случилось, —
заговорила встревоженная Старостина.
— По-видимому, — сказал Паклевский, — в городе узнали о
моем свидании в вашем доме с ксендзом Млодзеевским; из этого
тотчас же сделали различные заключения, пошли сплетни, и князь
стал выговаривать мне сегодня, что я проболтался... Канцлер очень
запальчив и не щадит никого, а я молод, и в жилах у меня течет
кровь, а не вода. Находя этот выговор несправедливым, я
поблагодарил за все милости и откланялся.
— Но, помилуйте, — с жаром прервала его Старостина, — да
вы, может быть, приобрели себе врага на всю жизнь! Князь не
прощает никому, а Чарторыйские приобретают все больше власти.
— Что делать! — тихо сказал Теодор. — Ни канцлеру, ни
кому другому на свете я не позволю пренебрегать собою!
Напрасно Старостина старалась внушить Теодору мысль о
возможности исправить дело и вернуться на службу к канцлеру; он
молчал. Она чуть не расплакалась, видя его упорство. Хотела
уговорить его не удаляться пока из Варшавы, делая ему какие-то
неясные намеки, давая какие то неопределенные надежды и сама
путаясь в том, что она хотела — не сказать ему, а только дать
понять. Но Паклевский, поблагодарив ее за участие, не ответил
ничего на ее намеки и, взявшись за шапку, хотел удалиться. Ни
Леля, ни Старостина не могли удержать его; первой удалось только
взять с него слово, что он не уедет из Варшавы, не попрощавшись
с ними перед отъездом. Она проводила его до самых дверей,
повторяя:
— Если вы не сдержите слова, то я не желаю никогда больше
вас видеть!
Выйдя от них, Паклевский не сразу сообразил, что ему делать;
он не хотел даже заходить во дворец: был уверен, что письмо его
успели уже передать канцлеру, и, зная его, не сомневался в том
впечатлении, которое оно должно было произвести на него. Не для
чего было возвращаться туда, где его неминуемо ожидала
неприятная встреча с товарищами по канцелярии, которые, конечно, не
преминули бы, пользуясь его опальным положением, досадить ему,
чем могли.
Он решил временно снять где-нибудь комнатку, послать за
своими вещами и подготовиться к отъезду в Борок.
Погруженный в эти размышления, он неожиданно встретился
на краковском предместье — ведь бывает же такая судьба — с
345
доктором Клементом, приехавшим в Варшаву вместе с гетманом.
Увидев его, доктор пошел прямо к нему навстречу.
— Постой, ради Бога! — воскликнул он. — Я тебя ищу, прямо
охочусь на тебя; но никто из нас не может, проникнуть во дворец
канцлера, не возбудив подозрения с той или с другой стороны. Я
непременно должен поговорить с тобой.
Оглянувшись вокруг, Клемент затащил Теодора в первый
попавшийся ресторанчик, велел провести себя в отдельный кабинет
и, едва только они остались вдвоем, француз поднял обе руки и
воскликнул:
— Что ты тут выделываешь, сударь? Сделался чуть ли не
другом канцлера, худшего врага нашего гетмана? Мы, сударь,
осведомлены о всех ваших делах. Слышали и о том, что ты перетянул
на сторону фамилии Млодзеевского. Все говорят о том, что ты с
необычайной ловкостью сделал нам самый страшный удар... Разве
можно так поступать? Гетман всегда любил всю вашу семью и
всегда готов был прийти ей на помощь, а ты, сударь, становишься
его неумолимым врагом!
Теодор слушал его, удивленный и смущенный; но так как он
уж и без того был раздражен, то эти нападки еще сильнее
возбудили его.
— Дорогой доктор, — сказал он, — я не могу понять ваших
упреков. Я свободный человек и не имею никаких обязательств по
отношению к гетману, а мой отец и мать моя, которую я люблю
больше всего на свете, учила и заклинала меня не иметь никакого
дела с гетманом... Я так верю словам моей матери, что совершенно
убежден в справедливости ее возмущения гетманом. Это одно,
дорогой доктор. А второе: за время моей службы у князя-канцлера
я стал смотреть совсем иными глазами на нужды страны и людей.
Ничто на свете не может изменить моих убеждений — я был и
буду всегда противником гетмана, и если я, маленький человек,
пригожусь кому-нибудь, как орудие против гетмана, то будьте
уверены, что я охотно пойду на это и буду служить тому.
Доктор онемел; он сложил руки жестом мольбы и отчаяния и
воскликнул с горечью:
— Тодя, ты приводишь меня в ужас! Я могу сказать тебе
только то, что твоя ненависть преступна и безбожна!
Тодя пожал плечами.
— Я не понимаю вас! — холодно ответил он.
— Но ведь ты веришь мне, что я желаю добра и вам, и себе? —
вскричал Клемент. — Что я не лгун и не обманщик? Я даю тебе
слово чести, что твоя ненависть преступна и непозволительна!
— С вашей точки зрения, — закончил Теодор. — Дорогой
доктор, если бы вы сто раз повторили мне то же самое, вы все-таки
не убедили бы меня; даже если бы вы поклялись под присягой, я
не мог бы измениться; да в конце концов, я не отвечаю за свое
чувство, а это чувство — отвращение и неприязнь к гетману.
Никогда еще он не представлялся мне так ясно, как в канцелярии
346
князя. Он горд, тщеславен, но в то же время слаб и ни к чему
не способен; у него нет ни ясного ума, ни сильной воли... Отдать
ему в руки судьбу Речи Посполитой, значит, обречь ее на прежний
беспорядок и погибель... Это — не государственный муж, а только
тень человека, который издали выглядит как каменная статуя, а
вблизи оказывается призрачным видением. Не говорите мне больше
о нем.
Слушая его, Клемент схватился за голову.
— Довольно! — вскричал он. — Теперь довольно! Ты
предубежден, несправедлив, ты весь под влиянием фамилии,
когда-нибудь ты, может быть, пожалеешь о том, что добровольно отдал ей
себя в жертву...
— Я не отдал ей себя в жертву, — холодно отвечал Теодор. —
Я с сегодняшнего утра оставил место в канцелярии князя-канцлера.
Я сам отказался от службы у него...
Клемент даже подскочил на месте, не веря своим ушам.
— Это еще что за новость? Как же это случилось? Что же ты
думаешь делать?
Паклевский довольно спокойно рассказал доктору о том, как
он, заподозренный в нескромности и болтливости, не мог снести
несправедливых обвинений и сам отказался.
Лицо доктора прояснилось.
— Это самое лучшее, что могло случиться с тобой! —
воскликнул он, обнимая юношу. — Ради Бога, оставь ты теперь свои
предубеждения и позволь мне за тебя поговорить с гетманом; у
него ты займешь в сто раз более блестящее положение, чем то,
на какое ты мог рассчитывать у канцлера после десяти лет
унижений. Староста браньский все чаще жалуется на ревматизм, Бек
совсем не знает страны, нам нужен кто-нибудь...
— Ни за что на свете я не буду этим кем-нибудь у гетмана! —
крикнул Тодя. — Ни за что!
— Да ведь ты даже понять не можешь, какая будущность
может открыться перед тобой; это безумие, это самоубийство! —
восклицал, подскакивая на месте, доктор Клемент.
— А в противном случае это навлекло бы на меня, кроме
укоров собственной совести, проклятие матери, — прервал Теодор.
Доктор в отчаянии ударил рукой о стол и подпер голову
ладонью; с сожалением и укором взглянул он на Паклевского.
— По крайней мере, не соглашайся уступить канцлеру и
вернуться к нему, — медленно заговорил он, снова овладев собой, —
и не вмешивайся ни в какие дела. Все говорят, что у тебя
необыкновенные способности, что ты находчив и разумен не но
летам... Если ты не хочешь служить у гетмана, то мы устроим тебя
у коронного подтгольника или у киевского воеводы.
— Благодарю, — отвечал Теодор, — это было бы то же самое,
что служить гетману; у канцлера я не буду служить, потому что
ушел от него, но порядочность требует, чтобы я не переходил в
противный лагерь, и я этого не сделаю.
347
— Ты упрям так же, как мать! — сказал доктор.
— Хорошо было бы, если бы я имел все ее качества, —
сердито отозвался Паклевский, — тогда я согласился бы
унаследовать все ее недостатки! Это упрямство указывает на силу
характера...
Заметив, что он обиделся, Клемент поспешил обнять его.
— Не сердись на меня, у тебя, наверное, нет и не будет на
свете лучшего друга, чем я. К чему же дуться? Что же ты думаешь
делать?
— Поеду в Борок, — отвечал Паклевский, — я должен дать
матери отчет в том, что случилось, и выслушать ее совет.
— Но только не спеши ехать, — прервал француз, — отдохни,
выжди и подумай еще, прошу тебя об этом.
В уме француза, очевидно, зародились какие-то новые планы:
он ходил по комнате, упорно над чем-то думая, останавливался и
снова ходил.
— Где ты живешь теперь? — спросил он.
— У меня еще нет квартиры...
— Остановись у меня! — воскликнул Клемент.
— Во дворце гетмана! — рассмеялся Теодор. — Вы же сами
понимаете, что это невозможно. Меня бы сочли не только
неблагодарным, но и предателем.
— Ну, хорошо, тогда, по крайней мере, приди ко мне завтра, —
попросил доктор, — приди так около полудня, я тебе скажу что-
нибудь, дам совет...
Он упрашивал Теодора, крепко пожимая его руку.
— Для вас я без преувеличения пошел бы в огонь и в воду,
но только не во дворец гетмана! — воскликнул Теодор.
— А, да ну тебя! — крикнул француз, выведенный из
терпения.
Теодор, услышав довольно-таки грубое проклятие, которое даже
неловко повторить, вместо того чтобы рассердиться, от души
расхохотался и начал обнимать доктора.
Настроение его вдруг изменилось: молодость редко сохраняет
надолго раздражение и гнев.
Клемент сейчас же воспользовался этим.
— Что же, черт возьми, — воскликнул он, — тебе уже
запрещают посещать друзей, и все это потому, что ты просидел
несколько месяцев в этом притоне заговорщиков, который называется
канцелярией канцлера! Значит, ты остался их рабом, хоть и скинул
с себя ярмо! Стыдись!
— Я не хочу показаться предателем, — сказал Теодор.
— Но, если совесть твоя чиста, что тебе за дело до чужих
толков? Приди вечером, когда юлько захочешь, никто тебя не
увидит.
— Это имело бы такой вид, как будто я стыжусь того, что
делаю, и скрываю свои мысли! Нет! Нет! — сказал Теодор.
Француз с сердцем выругался на новый лад.
348
— Ну, послушай, — сказал он серьезно, — я желаю от тебя
и требую, чтобы ты ко мне пришел! Ты это должен сделать. Это
твой долг! Понимаешь?
— Тогда только днем, около полудня, — отвечал Теодор. —
Пусть люди болтают, что хотят, но если вы, дорогой доктор,
думаете, что можете сделать из меня сторонника гетмана, то вы
жестоко ошибаетесь!
— Ну, приходи только, — коротко, но решительно сказал
Клемент, обнимая его, — только приходи.
На этом они расстались.
Доктор Клемент занимал во дворце гетмана несколько комнат,
отделенных только сенями от спальни Браницкого, который желал
во всякое время иметь его около себя. Гетман, как почти все люди,
хорошо пожившие и любившие жизнь, под старость становился
мнительным и всякое легкое нездоровье готов был считать
серьезной болезнью. Если он не спал ночью, а днем, утомившись,
чувствовал слабость, к нему немедленно вызывали доктора Клемента,
чтобы он своим искусством вернул ему утраченную бодрость и
веселость. Но в возрасте гетмана это было нелегко для врача, хотя
самый образ жизни магната, бездеятельный и в то же время
суетливый, требовавший от него непрерывного напряжения,
подвижности и постоянного ношения актерской маски, способствовал
борьбе со старостью и не позволял ему засидеться и закиснуть.
Разговоры с доктором происходили, как правило, по утрам или
по вечерам, когда день кончался и Бек со старостой браньским
удалялись к себе, а гетман собирался укладываться в постель.
Жизнь в Варшаве не отличалась от белостокской, распорядок
жизни был тот же самый, но здесь Браницкого больше беспокоили
всякими делами и просьбами, его услугами пользовались
беспрестанно и, не стесняясь, вызывали его на советы. Французский
резидент, секретные послы из Дрездена, эмиссары киевского воеводы,
коронного подстольника и примаса и множество просителей и
придворных льстецов тревожили его постоянно. Самые усердные из
них то и дело приносили какие-нибудь невероятные известия, и
хотя Браницкий уже привык к этому и не так легко поддавался
первому впечатлению, но и он начинал чувствовать, что, имея
седьмой десяток за плечами, трудно выдержать долго такое
положение.
Выработав в себе привычку в обществе сохранять неизменное
хладнокровие, гетман часто возвращался за полночь к себе в
комнату, совершенно разбитый, неузнаваемый и сразу ослабевший.
Лишь только проходило время, когда он должен был играть роль
и показать себя, силы его совершенно исчерпывались.
Тогда Стаженьский, вечно пристававший к гетману и мучивший
его различными требованиями, удалялся, а на его место приходил
доктор Клемент. Тот приготовлял успокоительные капли, приносил
349
охлаждающие напитки, закутывал, согревал старика, и тот
восстанавливал ослабевшие силы...
И в этот день вечером Клемент ждал звонка, чтобы пройти к
спальню своего пациента, и, услышав его, торопливо подбежал к
постели. Гетман лежал уже раздетый, с завязанной головой, а слуга
грелкой согревал постель около ног.
Обыкновенно Клемент заставал гетмана измученным и слабым;
но в этот день он был раздражен и слегка лихорадил. Был тяжелый
день, и много неприятных впечатлений подействовали на старца
возбуждающим образом. Особенно задела гетмана встреча в совете
у примаса с русским воеводой и князем-канцлером. Оба Чарторый-
ские едва поклонились ему, держались с ним очень сухо и как бы
с оттенком вежливого пренебрежения. Несколько раз канцлер, не
отвечая на его вопросы, презрительно заговаривал о другом. Но
что хуже всего, примас, всегда сочувствовавший гетману, теперь
начинал возражать ему, не давал говорить и в обращении с ним
обнаруживал еще большую перемену, чем в мыслях. В то же время
он выказывал большое почтение к фамилии и был с ними
чрезвычайно предупредителен.
Сердила гетмана и неслыханная смелость Млодзеевского,
который очень решительно высказывал свое мнение во всех тех
случаях, когда Лубенский колебался или совсем умолкал, и всегда
примас соглашался с ним, склоняя голову в знак одобрения.
Собственно говоря, все это еще не давало повода особенно тревожиться,
но гетман чувствовал неприязнь к нему и какую-то тайно
подготовляемую перемену.
Кроме всех этих причин, способствовавших дурному
расположению духа гетмана, была еще одна, особенно уязвлявшая
старика. В своем положении великого гетмана и в качестве шурина
стольника литовского, которого фамилия с помощью императрицы
явно старалась посадить на трон, Браницкий имел право ожидать
от него хотя бы соблюдения известных внешних форм приличия
первого визита или вообще какого-нибудь признака внимания к
себе.
Но стольник литовский, имевший здесь открытый дом,
задававший блестящие балы, на которые собиралась вся знать столицы,
по совету фамилии или, повинуясь голосу собственной гордости и
чем-то оскорбленного самолюбия, встречаясь чуть не ежедневно на
улице с зятем, не желал делать ему визита и оказывал ему явное
пренебрежение.
Гетманша, видя это, заливалась горькими слезами.
Другой брат, генерал (коронный подкоморий), тоже не был
у гетмана. Зная стольника литовского, трудно было приписать ему
лично инициативу такого отношения; он был очень мягок ко
характеру и если не отличался особенной искренностью, то все же
был всегда до крайности любезен и вежлив даже по отношению
к врагам. Естественно, что Браницкий видел в этом лишнее
доказательство непримиримости Чарторыйских по отношению к се-
350
бе, мстительности канцлера и воеводы. Они не могли простить
ему, что обманулись в нем и что он обнаружил перед всеми их
ошибку...
Поэтому-то Клемент нашел доктора неспокойным,
раздраженным и почти гневным. Целый день он сдерживал себя и только
теперь дал волю этому гневу. Клемент, привыкнув узнавать о
результатах каждого дня по симптомам, которые он видел вечером,
заметил тотчас же, что Браницкий должен был пережить что-то
очень тяжелое...
— Для вашего превосходительства, — сказал он, беря его за
руку и нащупывая неровно бившийся пульс, — настали
чрезвычайно трудные дни.
— Настоящая пытка, — отвечал лежавший, — и не видно
конца ей!
Он вздохнул, говоря это.
— Надо многое, — сказал доктор спокойно, стараясь своим
собственным хладнокровием подействовать на пациента, — оставить
на ответственность других людей, а не принимать все на себя; есть
прекрасная формула, которая заключается в том, чтобы большие
дела считать небольшими, а небольшие — ни за что не считать.
— Прекрасная формула, но едва ли выполнимая, — возразил
гетман. — Это все равно, что сказать больному, что он не должен
болеть.
Он иронически усмехнулся.
После нескольких вопросов о состоянии здоровья, гетман
склонился к доктору.
— Мне удалось, — сказал он, — проверить то, что говорили
о Млодзеевском. Этот коварный человек уже начинает изменять
нам, и нет сомнения, что он увлечет за собой примаса. Старец
уже не видит своими глазами и не слышит иначе, как его ушами...
А к довершению всех неприятностей я должен думать, что сын
Беаты приложил свои старания к тому, чтобы устроить мне этот
сюрприз. Но нет — это басня. Этого не может быть!
— К сожалению, — сказал доктор, — я имею серьезные
причины думать, что это правда. Юноша — от природы необычайно
одаренный, и не удивительно, — с улыбкой прибавил он, — буйно
развернулся в школе канцлера! Я виделся и говорил с ним
сегодня... Мать внушила ему очень дурные чувства по отношению к
вам...
И прежде чем гетман успел прервать его, Клемент быстро
закончил:
— На счастье — я знаю это от него самого, — он в чем-то
не сошелся с канцлером, и гордый мальчик, не желая сносить его
грубые выговоры, поблагодарил его за службу.
Браницкий быстро приподиал голову на подушке и, схватив
доктора за руку, воскликнул с живым нетерпением:
— Да может ли это быть? Это была бы большая удача для
нас!
351
— В том, что это так, нет ни малейшего сомнения, — сказал
доктор, — но нам-то в этом мало проку... Я говорил с ним, и он
окончательно вывел меня из терпения; я не хочу обманывать ваше
превосходительство, он весь пылает ненавистью!
— Ах, это бесчестно с ее стороны, — прервал гетман, — она
не могла выдумать более ужасной мести! Ты, дорогой мой Клемент,
для тебя у меня нет тайн, — ты знаешь, что это мое единственное
дитя, что в нем одном течет моя кровь!.. И вот мой сын стал моим
неумолимым врагом!
Проговорив это, гетман снова опустился на подушки и прикрыл
глаза рукой. Клемент осторожно пожал другую его руку.
— Пожалуйста, прошу вас успокоиться и не отравлять себя
такими мыслями. С того пути, на который вступил бедный юноша, мы
сможем постепенно отвлечь его. Разорвав с фамилией, вырвавшись
из их когтей, он, наверное, изменится... Мы уж постараемся об этом.
— Как? — спросил Браницкий.
— Я надеюсь, что обстоятельства помогут нам, — говорил
Клемент, — а я между тем постараюсь не терять его из виду. Он уже
хотел уезжать в Борок, я упросил его остаться. Уговорил прийти
завтра ко мне, на что он едва согласился, потому что не хотел
даже показываться во дворце.
— Он придет к тебе завтра? — спросил гетман. — Завтра? В
котором часу?
— Около полудня, — сказал доктор.
Браницкий помолчал немного.
— Будь что будет, хоть бы это было мне страшно тяжело, —
шепнул он, подумав, — я должен видеть его завтра.
Клемент не возражал.
— Я тоже думал, — сказал он, — что надо было испробовать
это последнее средство, чтобы заставить его опомниться. Чего не
в силах достичь ни я, ни кто другой, то, может быть, совершите
вы: ваш высокий сан, возраст и имя произведут свое действие на
впечатлительного юношу. Ваше превосходительство сумеете добрым
словом рассеять его предубеждения.
— Я постараюсь, — задумчиво сказал гетман, — хотя не знаю,
удастся ли мне это... я уже охладел к нему; постыл мне весь свет;
а еще эта мысль, что, может быть, последняя капля благородной
крови, которую я ношу в себе...
Он не докончил.
— Уже поздно, — прервал доктор, поглядывая на часы и
умышленно прерывая дальнейшую исповедь, волновавшую его
пациента, — пора вам отдохнуть...
— Но завтра, пожалуйста, дай мне знать... я приду
непременно, даже если бы у меня были важнейшие дела. Я должен его
увидеть, я должен говорить с ним. Голос крови — иначе не может
быть — должен заговорить в нем.
Доктор, сказав еще несколько успокоительных слов, вышел из
спальни гетмана.
352
На другой день около полудня Клемент поджидал с некоторым
волнением прихода Теодора.
Зная его, он не сомневался, что юноша должен прийти. Двор
перед дворцом гетмана уже наполнился прибывшими войсками и
шляхтичами, ежедневно съезжавшимися ко двору, когда, верный
своему слову, появился около полудня Паклевский, с гордо
поднятой головой, и стал расспрашивать служащих, как пройти к
доктору.
Узнав его шаги, француз сам отворил ему дверь, весело
приглашая войти.
— Вот видите, доктор, я держу свое слово, — сказал Теодор. —
Без сомнения, у вас тут есть шпионы, и хоть я — не важная
птица — о моем приходе, наверное, сейчас же донесут. Вот-то
посыпятся громы на неблагодарного и предателя!
Он пожал плечами.
— В конце концов, что мне за дело!
— Это хорошо, что ты открыто разрываешь с ними, —
заговорил доктор, — я искренно этому рад; это избавит тебя от
рабства, потому что с ними нельзя быть в союзе и дружбе; они желают
иметь только послушных рабов. Такой благородный характер, как
у вас, не позволил бы заковать себя в оковы.
— Если хотите знать мое мнение, — тихо сказал
Паклевский, — то я признаюсь вам, дорогой доктор, что сегодня, когда
я могу рассуждать трезво, между нами говоря, мне кажется, что
я сделал глупость. Не сдержался... Канцлер был ко мне довольно
милостив, все придворные мне завидовали, у меня было будущее
впереди, а теперь — что теперь?
— То есть ты не хочешь сам об этом позаботиться, — сказал
Клемент, дружески положив руку на колени Теодора. — Ведь не
одна же фамилия на свете; есть и другие магнаты, которые
способны оценить тебя.
— Дорогой доктор, — смеясь, прервал его юноша, — вам это
может показаться странным, но я скажу вам, что если фамилия
не имеет еще теперь полной власти, то она будет ее иметь очень
скоро.
— Каким же образом?
— Этого я не знаю! Я только вижу, что в то время, когда, с
одной стороны, много слепоты, вечные колебания и все рвется и
лопается, с другой стороны — потихоньку плетутся сети,
соединяются люди и в молчании строится будущее.
— Пусть Бог сохранит нас от этого, — сказал Клемент.
Но Теодор был сегодня в веселом настроении.
— Я уже не буду смотреть на это зрелище, — сказал он, —
поеду в Борок, возьмусь за хозяйство; по крайней мере,
позабочусь сам о бедной матери. То, что я испытал уже в самом
начале моей неинтересной карьеры, не внушает желания
продолжать ее. Вы сами сказали, что меня ждало рабство, если не у
канцлера, так у кого-нибудь другою. Поха человек не добьется
353
такого положения, чтобы сделать рабами других, он сам должен
быть рабом.
— Есть французская пословица, — сказал Клемент, — очень
старая, но мудрая: «Умный слуга служит себе».
Теодор равнодушно пожал плечами.
Он стоял спиной к дверям, когда в коридоре, отделявшем
комнаты доктора от апартаментов гетмана, послышались шаги;
француз, покраснев, обнял Паклевского и начал что-то быстро болтать,
представляясь очень веселым и стараясь расшевелить гостя. В это
время двери открылись; Теодор оглянулся, увидел входившего
гетмана в халате и укоризненно взглянул на доктора.
Француз подошел к гостю — поздороваться. Гетман,
привыкший в обществе носить маску, без труда разыграл удивление при
виде гостя, встреченного им у доктора. Он вошел к доктору как
будто по неотложному делу и, заметив Паклевского, очень любезно
улыбнулся ему.
— А, пан Паклевский! Рад вас видеть!
Смутившийся Тодя поклонился, догадываясь, что попал в
ловушку, расставленную для него доктором, — и это возмутило его.
— Ну, я не буду мешать! — сказал он, взявшись за шапку и
собираясь уходить.
— Вы нам нисколько не помешаете! — удерживая его, сказал
Браницкий. — Для меня лично очень приятна встреча с вами,
сударь. Я слышал, что вы находитесь при дворе князя-канцлера и
пользуетесь там большим успехом!..
— Я уже не состою при дворе канцлера, — отвечал Теодор, —
и не могу похвалиться никакими успехами...
— Но, однако же! — возразил гетман.
— Я ничего об этом не знаю, — сказал Теодор, как бы избегая
разговора.
Гетман стал так, чтобы, помешать ему уйти. Положение было
неприятное, яркая краска выступила на лице юноши, но гетман
и Клемент, хотя и видели его смущение, казалось, были готовы
вести борьбу до конца. Особенно гетман, которому не раз
случалось преодолевать упорство равнодушных и не расположенных
к нему, — сильно надеялся что ему удастся уговорить молодого
Паклевского.
— Князь-канцлер теряет в вас очень нужного помощника, —
заговорил Браницкий, — молодую силу, которой не может
заменить даже старая опытность. Что же произошло между вами,
сударь, и вашим патроном?
Этот допрос, видимо, не понравился Теодору, который взглянул
на доктора с упреком за то, что-тот поставил его в неприятное
положение.
— Сущие пустяки, не стоит рассказывать, — коротко отвечал
Паклевский.
Гетман подошел к нему и с большой ласковостью во взгляде ч
нежностью в голосе сказал ему:
354
— Я бы хотел, чтобы вы верили в мое расположение к вам и
готовность прийти на помощь: может быть, я и теперь мог бы быть
вам полезен?!
— Я бесконечно благодарен вам, — коротко поклонившись,
отвечал Теодор, — но я не хочу уже поступать ни на какую службу,
поеду лучше в деревню...
— Не следует так огорчаться из-за пустяков, — прервал его
Браницкий, — и жаль, если прекрасный талант, который уже
заставил говорить о себе, похоронит себя в деревне.
— Я не чувствую в себе никаких талантов, — пробормотал
Теодор, поглядывая на двери, как будто только выжидая момент,
чтобы удрать отсюда.
— Вы, сударь, были в доброй школе, где можно было многому
научиться, — сказал Браницкий. — А в моей канцелярии Бек как
раз нуждается в помощнике, который со временем мог бы его
заменить.
Он взглянул на него вопросительно; Теодор молчал.
Из передней кто-то позвал доктора Клемента, который
торопливо вышел. Они остались одни. Гетман, все еще загораживая
собою двери, не терял уверенности в себе.
— Ну, что же вы мне ответите, сударь, на мое предложение? —
мягко сказал гетман.
— Я вам бесконечно благодарен, но я твердо решил вернуться
в деревню.
— В деревне, в Борку, вам, сударь, нечего делать.
— Я обязан заботиться о матери.
Гетман покачал головой.
— Пане Теодор, — сказал он голосом, в который старался
вложить как можно больше чувства. — Послушайте меня; вы
знаете, что я так желаю вам добра, как, может быть, никто на
свете... Если у вас есть предубеждения, отбросьте их, примите
мое покровительство, а я ручаюсь за блестящее будущее для вас,
сударь. У вас есть все, что для этого нужно: внешность,
воспитание, талант и — что тоже не мешает — протекция, которую
я вам охотно окажу. Ну можно ли отказываться от такого
предложения?
Паклевский поклонился, опустив глаза и не зная что сказать.
— Прошу вас быть со мной откровенным, — прибавил
Браницкий. — Я понимаю, что пребывание в Волчине должно было
оказать влияние на вашу юную, впечатлительную натуру. Вы,
верно, наслушались там про меня всяких ужасов; но почему бы вам
не захотеть самому познакомиться со мной, узнать этого
оклеветанного человека и иметь о нем собственное суждение? Вы можете
остаться при дворе, не принимая на себя никаких обязательств.
Прошу вас об этом.
— Если бы я не имел никаких других причин для отказа от
вашего предложения, — сказал Теодор, — то было бы достаточно
и того, что я, перейдя к вам прямо от канцлера, мог бы показаться
355
изменником, который продал его тайны за кусок хлеба. Мне дорога
моя честь!
— В этом вы, сударь, совершенно правы, — живо подхв&хил
гетман. — Я понимаю тонкость ваших чувств, но, спустя некоторое
время...
Теодор приходил все в большее волнение, еще не решаясь
высказаться прямо. Но проницательный взгляд, который он бросил
на гетмана, смутил старика.
— Говорите, сударь, без оговорок, — сказал он, — что вы
имеете против меня? Молодой человек, только что вступивший в свет,
не имеющий ни денег, ни протекции — не отказывается от такого
предложения, которое я вам делаю, не имея на то серьезных
причин. Я желаю, чтобы вы высказались определенно. Я требую этого.
Если бы не ваша молодость, сударь, я чувствовал бы себя
оскорбленным.
Паклевский, припертый к стене, не мог больше сдерживаться.
— В свое оправдание, — не без гордости отвечал он, — я могу
сказать только то, что я только повинуюсь приказаниям моих отца
и матери. Я не знаю, что руководило ими, но и отец и мать
требовали от меня, чтобы я не имел никаких сношений с вашим
двором и никогда не пользовался милостями пана гетмана.
— Ваша мать, — порывисто заговорил гетман, — особа, к
которой я питаю глубокое уважение, но я должен сказать, хотя бы
перед сыном ее, что она человек страстный, вспыльчивый,
неуравновешенный и несправедливый!
— Пан гетман — это моя мать! — прервал Теодор.
Браницкий замолчал; он был страшно возбужден и весь дрожал;
взглянув на Паклевского затуманенными от слез глазами, он
воскликнул:
— Я один имею право говорить это, потому что я...
Тут он подошел к Теодору и, раскрыв объятия, произнес с
глубоким чувством:
— Потому что я — твой отец!
Паклевский остолбенел от удивления; ему казалось, что эти
безумные слова свалят его с ног, как удар грома. Гетман, видимо,
рассчитывал, что юноша, ошеломленный этим признанием,
бросится к его ногам. Кровь ударила в голову Паклевскому; он вздрогнул
и попятился от гетмана.
— Это клевета! — с возмущением крикнул он. — Мой отец
тот, кто дал мне свое имя, кто вынянчил меня на своих руках и
был мужем моей матери... Это клевета, и после такого страшного
оскорбления, которое вы бросили той, которая мне дороже всего
на свете, мне больше нечего здесь делать, и я не чувствую
надобности сохранять с вами какие-либо отношения... Только ваши седые
волосы, пан гетман, охраняют вас от мести за то слово, которым
вы меня ударили по лицу...
Говоря это, Теодор бросился к дверям, но Браницкий закрыл
их собою и не пускал его.
— Делай что хочешь, подними на меня руку, если посмеешь, —
заговорил он с лихорадочным оживлением, — но я тебя так не
отпущу... То, что я тебе сказал, не клевета. Твоя мать чиста и
невинна; виноват один только я, но я всегда хотел и хочу теперь
загладить свою вину.
Теодор стоял как окаменелый.
— Я не могу судить о поступках моей матери, — сказал он. —
Что же касается меня, пан гетман, то я никогда не признаю вас
своим отцом, хотя бы вы и желали признать во мне своего сына.
Ваши благодеяния будут позором для меня, я не хочу их и
понимаю теперь, почему моя бедная мать запретила мне приближаться
к вам...
Браницкий стоял, опершись о двери, которые давно уже
старался открыть Клемент, услышавший повышенные голоса и
недоумевавший, кто напирает на двери с той стороны. Когда он с
усилием толкнул их, гетман, ослабевший от волнения,
отодвинулся, и доктору удалось приоткрыть одну половинку дверей; Паклев-
ский, заметив это, бросился к ней и, оттолкнув Клемента, как
безумный выбежал вон.
Это произошло так быстро, что гетман, который непременно
желал удержать беглеца, так и остался с вытянутой рукой,
зашатался, оглянулся вокруг, ища взглядом диванчик, и с
изменившимся лицом упал на него. Француз подбежал к нему на помощь,
опасаясь какого-нибудь припадка. Старец сидел безмолвно, ослабев
от волнения и огорчения.
Они не обменялись ни одним словом. Бегство Тоди открыло
Клементу глаза на то, что произошло за короткое время его
отсутствия; здесь разыгралась одна из самых страшных драм, какие
только случаются в жизни человека.
Сын отрекся от отца, являясь мстителем за мать.
Гетман, который хотел этим признанием вернуть себе сына,
обрел в нем неумолимого врага. Теперь он видел ошибку, в
которую вовлекла его гордость. Ему казалось, что бедный человек
примет это признание с чувством признательности и умиления; он
даже и в мыслях не допускал гневного отказа.
Это было для него смертельным ударом. Доктор, не спрашивая
о том, что произошло, и не упоминая о Теодоре, старался только
вернуть силы своему пациенту. Он схватил капли, стоявшие на
столе, и подал ему на сахаре, принес воды и с беспокойством
оглянулся на дверь в коридор, откуда доносились чьи-то
приглушенные голоса, а над ними выделялся недовольный голос старосты
браньского, который настойчиво спрашивал о гетмане.
Обыкновенно Браницкий спешил навстречу Стаженьскому; но
теперь он был так погружен в свои мысли, что даже не показал
вида, что узнал его голос, хотя он звучал достаточно
внушительно.
Вскоре подошел и Бек, который всегда гоцкараулива;' свидания
гетмана со старостой; он также стал требовать, чтобы его впустили
357
к гетману... Клементу пришлось шепнуть на ухо Браницкому, что
два его секретаря давно уже ждут его. Новый глоток воды освежил
старика, который тяжело вздохнул и, словно пробуждаясь от
страшного сна, оглянулся вокруг себя. Дрожь пробежала по его телу. Но
прошло еще некоторое время, прежде чем он окончательно пришел
в себя.
Понемногу жизнь и сознание действительности возвращались к
нему. Прежде всего Браницкий подошел к зеркалу, чтобы
взглянуть на себя и решить, может ли он в таком виде показаться
людям, чтобы не обнаружить перед ними своего страдания, которое,
как в данном случае, непосвященные могли истолковать совсем
иначе. Расстроенные черты лица, блуждающий взгляд могли
внушить людям, видевшим в нем вождя, мысль о проигранной битве
и посеять в их душах сомнение и тревогу.
Поэтому Браницкий должен был внимательно изучить свое
лицо перед зеркалом, искусственно оживить его и привести в такое
состояние, в каком он мог бы показаться своим подчиненным.
Между тем Клемент незаметно прошел в соседний кабинет и
шепнул Беку, с которым он был в лучших отношениях, — Ста-
женьского он не любил (как и многие другие), — что гетман
чувствует себя не совсем хорошо, принял лекарство и нуждается еще
в отдыхе.
Бек выслушал это спокойно, но Стаженьский, всегда много
позволявший себе и не понимавший, что могло задержать гетмана,
очень непочтительно ворчал и швырял бумаги. Когда Браницкий
наконец вышел к своим секретарям, на лице его уже почти не
было следов того, что он пережил.
Слуги гетмана едва не задержали, в качестве подозрительного
субъекта, убегавшего с гневным выражением лица Теодора,
задевавшего по пути людей, никого и ничего не замечавшего и почти
обезумевшего. Очутившись наконец на свежем воздухе, он свернул
в первую попавшуюся улицу и побежал по ней куда глаза глядят,
только бы уйти подальше от этого дворца. Им овладел такой
страшный гнев, что он почти терял самообладание. И если бы на его
пути встретилось препятствие, он был в таком состоянии, что мог
совершить преступление. Сам не зная как, он очутился у подъема
на мост через Вислу.
Прохожие толкали его, потому что он шел, никому не уступая
дороги, только инстинкт помогал ему пробираться между возами
и экипажами, но давка на мосту была так велика, что в конце
концов ему пришлось остановиться. Был торговый день, толпы
народа шли в город и из города; навстречу ему шли войска, ехали
экипажи, пробирались пешеходы, двигались кони и рогатый скот.
Стоял страшный шум... Видя, что вперед пробраться трудно, он
пошел назад с твердым намерением зайти к себе на квартиру и
уехать из Варшавы. Измученный быстрой ходьбой и волнением,
он замедлил шаги: у него перехватывало дыхание, и кровь молотом
стучала в голове.
358
Теодор свернул в боковую улочку и по ней уже не шел, а едва
тащился, то и дело останавливаясь, отдыхая и чувствуя, что вместо
того, чтобы сесть на коня, он вынужден буд^г лечь в постель. Как
раньше он незаметно для самого себя добрел до Вислы, так теперь
он с удивлением увидел себя около беряардинов и, прежде чем
решил куда-нибудь свернуть, заметил ехавший ему навстречу
хорошо знакомый экипаж князя-канцлера.
Он был в таком состоянии, что не отступил бы ни перед какою
опасностью; поэтому он не свернул в сторону, и в ту минуту, когда
канцлер проезжал мимо, он стоял так близко, что сидевший в
карете заметил его, и не успел он сделать трех шагов, как экипаж
остановился.
Князь высунул голову в окно и делал ему знаки подойти
поближе. Паклевский не хотел показать себя трусом, хотя и
предвидел, что здесь его снова ждет публичное унижение на виду у
слуг, так как со стариком, когда он сердился, шутки были плохи;
а после письма, оставленного Теодором, гнев был неизбежен.
Однако же недовольное и нахмуренное лицо канцлера вовсе не
показалось Теодору более страшным, чем всегда. Он подошел к
карете. Князь, не спуская глаз, смотрел на него; обвиненный уже
стоял перед ним, а он не сказал еще ни слова.
Так выдержал он его довольно долго.
— Что это вы, сударь, больны? — спросил князь.
Теодор не посмел ничего ответить.
— Мне сказали, что вы больны, так не лучше ли вместо того,
чтобы бродить по улицам с таким лицом, на котором видна
болезнь, пойти и лечь в постель. Прикажите заварить себе ромашки
и, как только будет полегче, сейчас же приходите на службу. Я
бы, конечно, мог обойтись и без вас, сударь, но вы мне нужны...
Посоветуйтесь со старым Миллером, которого Флеминг привез
сюда, с Моретти или Энглем и прошу быть здоровым.
Тут канцлер — о чудо! — усмехнулся покровительственно и,
не дожидаясь ответа Паклевского, крикнул кучеру: «Трогай!»
Кони тотчас же тронулись, а Теодор остался как вкопанный на
месте; он совершенно не мог понять загадочного появления
канцлера и его исключительной мягкости по отношению к себе, — но
что же сталось с письмом?
Подумав немного и еще не решив окончательно, что он будет
делать, Теодор вернулся в свою квартиру во дворце
князя-канцлера. Управляющий дворцом Заремба встретил его первым около
флигеля. Это был единственный человек здесь, относившийся к
нему с некоторою приязнью. Увидев его, он живо подбежал к нему
и воскликнул:
— Боже милосердный! Что с вами, сударь, случилось? Мы уж
думали, не произошло ли, сохрани Бог, какого-нибудь несчастья.
Князь рассылал ?а вами в разные стороны...
— Я был болен и теперь еще не поправился, — сказал
Паклевский.
359
— Боже милосердный, да где же тут хворать, если не здесь,
где есть и доктора и уход за каждым служащим. Даже сторожу,
если он захворает, сейчас же дают лекарство. Тут все страшно о
вас тревожились. Ну, теперь уж канцлер успокоится.
Поговорив так еще немного, Паклевский поднялся наверх
взглянуть, что сталось с его жилищем. Оно было пусто, но кто-то
протопил его, и комнаты имели такой вид, как будто поджидали
хозяина. Как только он вошел сюда, Вызимирский, очевидно
заметивший его со двора, поднялся за ним.
— Пан Теодор! — воскликнул он еще в дверях. — Что с вами
было? Мы тут чуть траур по вас не надели! Молили Бога, чтобы
он вернул вас хотя с того света, потому что князю никто не может
угодить: бросает нам в лицо бумаги и то и дело спрашивает о
своем любимце...
Теодор все еще надеялся узнать о судьбе своего письма, которая
очень его беспокоила; поговорив немного с Вызимирским и еще не
приняв никакого решения относительно своего дальнейшего
поведения, он под предлогом болезни лег в постель и стал поджидать
прихода мальчика, который был у него в услужении, чтобы от
него узнать о судьбе письма.
Но вместо Яська, который не торопился приветствовать своего
хозяина, начали приходить все служащие и знакомые с
выражением соболезнования и с расспросами.
Теодор ссылался на свою болезнь, и они все поверили, что
его исчезновение и отсутствие объяснялось просто секретной
миссией для князя, о которой Паклевский не хотел говорить. Под
вечер пришел Заремба узнать, не надо ли ему чего-нибудь. Слуга
принес ему ужин; одним словом, Теодор почувствовал себя как
дома, а так как он действительно чувствовал себя слабым, то и
не выходил больше никуда. Поздно вечером ему удалось
поговорить с Яськом.
На вопрос, что сталось с письмом, оставленном на столике,
смутившийся мальчик поспешно отвечал, что он не видел его и
ничего о нем не знает. Но было сразу видно, что это ложь.
Паклевский, который всегда хорошо относился к нему, стал
уговаривать его сказать правду, доказывая, что он не мог его не видеть.
Ясек отрекался, изворачивался, выдумывал всякие отговорки, но в
конце концов сознался, что письмо он отдал дворцовому маршалу
и что видел, как тот долго вертел его в руках и понес к князю,
а потом, быстро вернувшись, пригрозил Яську выдрать его кнутом,
если он перед кем-нибудь обмолвится о письме.
Было очевидно, что письмо попало в руки канцлера, который
сделал вид, что не читал и не видел его, давая этим доказательство
исключительной снисходительности к юношеской горячности.
Это так поразило Теодора, что после долгих размышлений он
решил остаться по-прежнему на службе у канцлера.
Наступил 1764 год* в судьбе нашего героя немногое изменилось,
но положение Речи Посполитой становилось все более сложным.
360
Обе партии усиленно боролись на областных сеймиках,
поддерживая своих кандидатов, но, в то время как Чарторыйские
вместе с Массальскими, с Флемингом и с Огинскими щедро
сыпали деньгами и обещаниями, особенно же в Литве, и были
почти повсюду уверены, что за ними большинство, — гетман
Браницкий колебался созывать совещания и, не находя помощи
ни во Франции, на которую он рассчитывал, ни в разоренной
Саксонии, не мог решиться ни на какие действия. Его
приверженцы, видя его колеблющимся и ослабевшим, тоже не
предпринимали решительных шагов и втайне помышляли о том, как
бы поудобнее ретироваться и подготовить себе переход на другую
сторону.
Ни Потоцкие, ни киевский воевода, ни коронный подстольник,
ни Любомирский, считавшиеся сторонниками гетмана, денег не
давали так же как Радзивилл и виленский воевода, а князь «пане
коханку» мечтал о том, чтобы перетянуть на свою сторону
Массальских, а пока что — вытворял Бог знает что, уверенный в своих
силах, которые он бесцельно растрачивал.
Анархия царила в лагере гетмана, в то время как фамилия шла
дружно, как один человек, руководимая железною рукой канцлера,
искусно увеличивая число своих явных и тайных приверженцев.
Для людей сообразительных яркой характеристикой положения в
стране мог служить следующий пример. Примас очень вежливо
просил Кайзерлинга вывести войска; ему это было обещано; а
между тем они шли все далее в глубь страны; время шло, и о
князе-примасе Лубенском говорили уже, что, следуя советам Млод-
зеевского, он склонялся на сторону фамилии, видя в этом благо
для Речи Посполитой.
Но в Белостоке все еще тешили себя надеждами, и на Новый
год сюда должны были съехаться все, кто держал сторону гетмана.
Поджидали и князя «пане коханку», хотя на него вообще трудно
было рассчитывать: не было случая, чтобы он куда-нибудь попадал
в назначенное время. Путешествия из Несвежа в Вильно, в
Белосток и в Белую — да и куда бы то ни было, даже по самым
нужным делам, — совершалось не иначе как на почтовых. По
дороге то и дело встречались усадьбы и хутора Радзивилла, где он
мог остановиться, поохотиться и отдохнуть, — да и
многочисленные его клиенты всегда были рады принять его у себя. Остановка
в пути затягивалась иногда на несколько дней, и ничего нельзя
было с этим поделать, потому что, если к князю посылали гонцов,
он их поил, угощал, но сам ничьей воле не подчинялся.
В Белостоке его поджидали на праздники Рождества Христова,
но знали заранее, что и то было бы счастье, если бы он поспел
ко дню Трех Королей.
Обо всем, что делалось около гетмана Браницкого, с ним самим
и его окружающими, фамилия была так хорошо осведомлена через
его же друзей и приверженцев, что каждый едва слышный шепот
громким эхом повторялся в Волчине и Варшаве.
361
Зорко следили за каждым движением не столько самого Бра-
ницкого, который был известен своей апатией и нерешительностью,
сколько его помощников, и не потому, что опасались результатов
их деятельности, сколько потому, что они всегда старались как-
нибудь помешать работе фамилии. По счастью, прежде чем там
принимались за выполнение постановлений совета, Вол чин уже
перекапывал дорогу и расставлял рогатки.
Дошло до того, что гетман, видя, как постоянно
обнаруживаются его самые тайные планы, подозревал в измене свою жену,
боялся Мокроновского и принужден был в собственном доме
скрывать свои мысли, не смея даже признаться в этом недоверии.
Стаженьский, злой, раздражительный, измученный болезнью,
интриговал против Мокроновского, обвинял Бека, а Бек, в свою
очередь, давал понять, что староста браньский охотно принимал
подарки.
Князь-канцлер знал заранее, что на Рождество в Белостоке
ожидался большой съезд, но он только усмехался про себя.
Паклевский, который вернулся на службу ни в чем не замечал,
что его опрометчивое письмо оставило след в памяти канцлера. Он
пользовался все возрастающей милостью своего покровителя. Правда,
эта милость выражалась только в увеличении работы, потому что
князь не был особенно щедр на подарки и награды, но зато пан Теодор
приобрел уважение у окружающих, и это было для него
доказательством, что князь его ценил. Вызимирский совершенно изменил свою
тактику по отношению к нему: из насмешливого сделался
предупредительным и почтительным и, видимо, старался сгладить
впечатление своих прежних выходок против Паклевского.
Как-то утром, незадолго до Рождества Христова, принимая от
Теодора письма, которые ему велено было составить накануне, и
не выразив ему ни удовольствия, ни порицания, — князь подумал
немного и сказал, обращаясь к нему.
— Я слышал, сударь, что у вас есть семья?
— Да, ваше сиятельство, — отвечал Паклевский, — у меня
еще жива мать.
— А братья или сестры?
— Бог не дал мне их!
— А в каких же сторонах живет ваша матушка? — спросил
князь, как будто не знал об этом раньше.
— Около Белостока.
— Вот как!
Тут, помолчав немного, князь прибавил:
— Вы, сударь, давно не видели матери, да и надо вам немного
отдохнуть. Если бы вы дали мне слово, что вернетесь сейчас же
после Трех Королей, — гм, я, может быть, дал бы вам отпуск.
Теодору давно уже хотелось повидаться с матерью — ее
короткие и печальные письма сильно беспокоили его, и на это
предложение он только низко поклонился князю, не скрывая своей
радости.
362
Князь передал ему, видимо, заранее приготовленный сверток с
тридцатью дукатами и сказал:
— Ну, поезжай себе, сударь, поезжай, только прошу вернуться
после Трех Королей.
Паклевский поклонился еще раз и хотел уже выйти, когда князь
обернулся к нему и прибавил:
— Я вовсе не поручаю вам, сударь, шпионить за ними, потому
что и так все мне известно; но сообразительный человек должен
ко всему прислушиваться; у гетмана соберется там совет, а у вас
там есть знакомые, и мне было бы интересно узнать, как они там
будут говорить о нас и чем угрожать!
И, неожиданно добавив: «Счастливого пути!» — князь снова
отвернулся и принялся просматривать бумаги, лежавшие на
столике перед ним.
С того страшного дня, когда гетман причинил ему такую боль
своим признанием, Теодор имел время примириться со своей
судьбой, оплакивая несчастье матери, и оправдать ее; теперь ему
хотелось увидеть эту мученицу, хотелось пойти на могилу
егермейстера, которого он любил, как своего настоящего отца,
только теперь, после его смерти, оценив все достоинства и золотое
сердце этого человека. Душа его рвалась в бедный, печальный Бо-
рок, где он провел первые годы жизни, даже не догадываясь о том,
что ожидало его на свете. Возможно, что серьезность и печаль,
несвойственные его возрасту, овладевшие им и изменившие его
характер после встречи с Браницким, привлекли к нему особенную
симпатию канцлера. Он вел уединенный и замкнутый образ жизни,
весь отдаваясь работе и сторонясь всех, даже женщин.
Ходили слухи о том, что у прекрасного юноши была несчастная
любовь, и дамы, которым он нравился, только этим объясняли себе
его равнодушие к их заигрываниям.
Из всех женщин, с которыми ему приходилось встречаться в
Волчине и в Варшаве, только одна генеральская дочка Леля крепко
засела в его памяти, но и о ней он думал, как о милом, но
недоступном существе, занимавшем слишком высокое положение в
свете и притом слишком веселом и счастливом, чтобы какое-нибудь
серьезное чувство могло удержаться в ее сердечке.
Он видел ее после того еще несколько раз и всегда встречал
радушный прием в их доме, особенно со стороны Старостины; но
потом вся семья выехала в свое подлесское имение, и не было
надежды на скорую встречу. Колечко ее сн продолжал носить на
пальце и иногда с грустью смотрел на него.
И постоянно ждал вести, что Леля выходит замуж.
Имение Старостины и деревенька, принадлежавшая генеральше,
лежали довольно далеко от Белостока, так что не было никакой
возможности проехать туда, — и Паклевский совершенно об этом
не думал.
Получив отпуск. Теодор начал тотчас же готовиться к отъезду,
но, так как неудобно было ехать накануне сочельника, т> пришлось
363
отложить поездку до праздников. Но на второй день Рождества,
хоть это и редко у нас случается, полил такой сильный дождь, что
все дороги сразу испортились, и надо было переждать, пока они
подмерзнут.
Наконец, на третий день Теодор выехал в наемном экипаже,
меняя лошадей в каждом местечке, что сильно затягивало
путешествие. Но ехать верхом тоже было невозможно из-за
переменчивой погоды и дурной дороги.
Так, путешествуя очень медленно, усталый Паклевский
добрался наконец в крестьянских санях, имея при себе саблю и
ружье, в Васильково, расположенное всего в полуторах милях от
Белостока.
Было уже совсем темно, когда он въехал в хорошо знакомое
ему местечко и стал искать, где остановиться на ночь. Его
поразило, что во всех окнах гостиниц, сколько их тут было, горел свет,
а у ворот виднелись громадные толпы народа. Среди них можно
было заметить и уличных оборванцев, сбежавшихся со всего
местечка полюбоваться невиданным зрелищем, и вооруженных
придворных, гайдуков, казаков и других. Две огромные колымаги на
полозьях, которые не могли бы проехать через самые широкие
ворота гостиницы, стояли на улице... Во всем местечке царило
такое оживление, какого Паклевский никогда еще здесь не видел.
Время от времени уличная толпа, стоявшая под окнами одного
заезжего дома, вдруг с шумом и криком, словно гонимая невидимой
силой, бежала к воротам другого, потому что все дома казались
переполненными проезжими; из окон первого стреляли вдогонку
убегавшим холостыми зарядами, потом раздавался громкий смех, и
любопытные снова возвращались на прежний пост. Теодор
предположил, что в местечке справляют свадьбу или какое-нибудь другое
торжество; но кто и кого мог угощать в Василькове, находившемся так
близко от Белостока, — это было трудно сказать.
В поле свирепствовала такая метель, что невозможно было
ехать дальше; кони, и без того уже измученные, нуждались в
отдыхе, волей-неволей приходилось остановиться здесь на ночь.
Возница, испуганный шумом и криками, боязливо оглядывался
по сторонам, но все заезжие дома на главной улице казались
совершенно переполненными; повсюду горели огни; везде виднелись
толпы любопытных — гайдуки, рейтары и шляхтичи выглядывали
из ворот и калиток.
Настроение этой сильно подгулявшей толпы выражалось в
песнях, криках и выстрелах. Не было сомнения, что в Василькове
остановился двор какого-то важного вельможи, с большой
пышностью направлявшийся в Белосток.
Так как оробевший возница, забравшись в какоь-то пустой
сарай, чтобы там укрыться от метели, не решался искать лучшего
помещения для ночлега, предпочитая, по-видимому, спать на снегу,
чем попытаться пройти в одну из переполненных гостиниц, —
пришлось Теодору самому отправиться на поиски. На всякий случаи
364
он прикрепил к поясу саблю и осмотрел пистолет, не вымок ли
он в дороге.
Приказав вознице не трогаться с места и присматривать за
санями, Теодор поехал по улице, приглядываясь к домам, чтобы
выбрать гостиницу, куда легче было проникнуть. Но выбор был
труден — повсюду слышались шум, крики, всюду виднелось
множество пьяных. Во мраке он мог спокойно смешаться с толпой, не
боясь возбудить подозрений; пользуясь этим, Паклевский подошел
совсем близко к гостиницам, еще не понимая, кто мог так
хозяйничать в спокойном Василькове.
Подойдя к одной корчме, около которой стояла толпа более
приличных людей, Теодор, к своему великому удивлению, заметил
в ней знакомого ему слугу Старостины, которого он не раз видел
в Варшаве. Его приперли к ограде и так стиснули, что он, хватаясь
за колья, собирался уж перепрыгнуть по ту сторону изгороди.
— Что ты тут делаешь, Степан? — воскликнул Теодор,
удерживая беглеца.
Слуга, не веря своим ушам, оглянулся, чтобы рассмотреть
говорившего, и, страшно обрадованный при виде Теодора, поспешно
заговорил, понизив голос:
— Провидение Божие послало вас сюда: Старостина,
генеральша и панна заперлись в избе; мы не можем защитить их!
— От кого защитить? — спросил Теодор.
— Да от пана воеводы виленского, от Радзивилла, — отвечал
слуга. — Все его люди и весь двор второй день безобразничают
здесь. И черт нас дернул остановиться здесь! Князь как осадил нас
в корчме, так и не выпускает!
— Что за черт! — вскричал Паклевский. — Да не может этого
быть!
— Как не может быть! Старостина и генеральша, зная, что он
вытворяет, когда выпьет, не хотят его пустить к себе, а он
поклялся, что должен увидеть их! Вот уж полдня как он осаждает
корчму; нас всего несколько человек, и мы не можем с ними
справиться...
— Я тоже без слуги! — вскричал Теодор. — И моя помощь
немного пользы принесет. Воевода, когда хмель ударит ему в
голову, ни на кого не обращает внимания и ни с кем не считается;
надо, чтобы кто-нибудь съездил в Белосток за помощью, а я
проберусь в корчму и буду охранять женщин, пока не придут на
выручку. Ты только скажи мне: как пройти в корчму? Откуда ты
вышел из нее?
— Да меня выгнали радзивилловцы, — отвечал Степан. —
Если пан хочет пробраться в корчму, то есть только одно средство:
стучать с заднего хода в окна, потому что они знают, что женщины
не могут уйти через окно в такую метель, и не сторожат окон.
— А пока что, — заговорил Теодор, к которому вернулись
силы, и пропала всякая усталость после того, как он узнал об
опасности, угрожавшей его знакомым дамам, — пока что возьми мои
365
санки, которые стоят там, подле сарая, и поезжай в Белосток...
Но чего же нужно князю от этих женщин?
— А кто же знает? Он хотел было спьяну прийти к ним с
поклоном, а они его не пустили; он это счел за обиду себе и
поклялся, что возьмет корчму измором. Приказал окружить ее со
всех сторон; его люди стреляют в воздух, орут, шумят, а Старостина
от испугу едва жива...
— Ну, поезжай же и расскажи об этом гетману в
Белостоке, — заторопил его Паклевский. — Если мои кони не
пригодятся, то ты хоть укради первого попавшегося коня и скачи во
весь дух, чтобы прислать оттуда подмогу. С князем, когда он
загуляет, шутки плохи...
— Да они уж тут второй день гуляют! — вздохнул Степан.
Так они разговаривали потихоньку около изгороди, и, к
счастью, никто не следил за ними и не подслушивал их. Паклевский
перелез через забор и стал пробираться к окнам, около которых
не было никакой стражи. Оглянувшись назад, он увидел через
калитку в воротах открытые двери в сени, а дальше, подле дверей
в главную комнату, стол, а на нем бочку; вокруг стола на полу
лежали разбросанные в беспорядке сабли и пистолеты, а на
лавках сидело несколько человек, которые во все горло распевали
какую-то песню.
Это был князь со своими спутниками, державшие в осаде
Старостину и генеральшу.
Страшный гнев овладел Паклевским при этом зрелище. Он
тихонько подкрался, держась ближе к стене, к одному из окон; но
что делать дальше? Постучать — значило бы напугать женщин,
которые могли заподозрить злой умысел... Позвать их громко —
они не услышали бы его голоса за этим пением и шумом с улицы.
Сквозь щель в ставне можно было просунуть только один палец...
Не долго думая, Теодор завернул в клочок бумажки кольцо,
подаренное ему Лелей, сильным нажатием раздавил стекло сквозь
щель в ставне и в отверстие просунул колечко.
По этому колечку Леля легко могла угадать, кто его бросил.
Треснувшее стекло вызвало крик ужаса, потом наступила
тишина... и как будто успокоение: за окном послышался шепот.
Между тем Паклевский пытался открыть ставень, но он был закреплен
изнутри. Пока он мучился с ним, послышался голос Лели.
— Кто там?
— Тот, кто спас Старостину!
Громкий крик радости был ответом ему.
— Откройте мне, пожалуйста, ставень; я пришел помочь
вам, — говорил Паклевский.
Изнутри сняли ставень с петель, Теодор осторожно приоткрыл
его и вскочил ь отворенную половину окна, но тотчас же, даже
не здороваясь, принялся снова закрывать окно и задвигать ставень.
Бедные жертвы осады находились в ужасном положении;
Старостина, в полуобморочном состояние, лежала на диване, прикры-
366
тая черным платком, и тихо стонала; генеральша со злости плакала
и ломала руки; и только Леля, вооружившись кухонным ножом,
не утратила бодрости духа и была готова защищаться!
В дверях, ведших в соседнюю комнату, толпилось несколько
оробевших служанок. Из сеней доносилась песня радзивилловских
приспешников...
Живо к ней!
Хоть не пускает,
В гнев не верю ни минутки.
Если любит — проклинает,
А сквозь смех — роняет слезы.
Живо к ней!
К ней! К ней!
Песня эта звучала как угроза и сопровождалась звоном сабель
о стаканы и выстрелами из пистолетов.
Леля, увидев защитника, так неожиданно явившегося к ним на
помощь, первая бросилась к нему.
— Вы всегда появляетесь вовремя! Я теперь ничего не боюсь.
Посмотрите, что выделывает этот князь... Держит нас в осаде и
требует, чтобы мы ему сдались.
— Но как же это случилось? — спросил Паклевский, подходя
к генеральше.
— Да вот, на несчастье, пришло нам в голову остановиться
здесь на отдых, — отвечала красивая генеральша, машинально
оправляя распустившиеся волосы. — Князь узнал об этом, а так как
он подозревает, или, вернее, знает, о том, что мой муж стоит на
стороне фамилии, то он хотел как будто оказать нам любезность
визитом, а на самом деле устроить какую-нибудь неприятность.
Мы заперлись и не пожелали его принять, а он поклялся, что
заставит нас сдаться и возьмет измором....
Генеральша опустила глаза и умолкла.
— Но каким образом вы очутились здесь? — подхватила
Леля.
— Проездом, случайно. Я хотел здесь переночевать... Я послал
Степана в Белосток за помощью.
— А! Белосток! Белосток нас не спасет, — возразила
генеральша, — там будут, напротив, рады нашей беде.
— Этого не может быть! — сказал Теодор.
Старостина, которая продолжала стонать, прикрыв глаза
платком, услышав чужой голос и, может быть, узнав в нем голос своего
спасителя, осторожно приоткрыла лицо; потом оглянулась вокруг
себя испуганными глазами и, заметив стоявшего Паклевского,
вдруг отбросила платок и с криком бросилась к нему. Схватив его
за руку, она громко воскликнул^:
— Спаси нас, спаси!
Небрежный костюм и исказившееся от страха лицо делали
бедняжку такой смешной, что Леля, несмотря на то *тто сама была
испугана, не могла удержаться от смеха.
367
— Не бойтесь, пожалуйста, пани Старостина, — сказал
Теодор. — Я уверен, что они пошумят только и тем дело и кончится.
В случае если они захотят ворваться сюда, я стану защищать вас
до последней возможности. Все-таки Степан поехал в Белосток!
Несмотря на эти уверения, женщины, за исключением Лели,
при каждом новом взрыве смеха и криков начинали ломать руки
и пронзительно кричать, что, по-видимому, забавляло воеводу, так
как после этого он и его товарищи начинали петь и кричать еще
громче. Несколько раз нападающие принимались стучать в дверь,
словно собираясь вломиться в них силою; Паклевский, держа в
одной руке пистолет, а в другой — саблю, стал на страже.
Женщины отбежали в другой угол комнаты. Самая смелая из них,
Леля, стала впереди всех с кухонным ножом наготове.
Забавно было смотреть на нее. Волосы она отбросила назад,
голову держала гордо приподнятой, широкую сборчатую юбку
заколола на боках, чтобы она не слишком отставала, засучила рукава
на своих прекрасных ручках, и хотя дрожала всем телом, но нож
держала крепко в вытянутой руке и так им размахивала, что
страшно было за нее, как бы она себя не поранила.
— Военный совет, — охрипшим голосом басил один из
спутников Радзивилла, — постановил большинством голосов, после того
как осажденным дан был срок для ответа, согласны ли они
добровольно уступить и сдаться на милость победителя, по прошествии
этого срока овладеть ими штурмом, выломать двери, а все
население, не выпуская из крепости, уничтожить до одного!
Заявление это вызвало смех за дверьми.
— Эй! Тут не до шуток, пане кохану! Князю воеводе вилен-
скому одна генеральская юбка нанесла тяжкое оскорбление,
возмездие неминуемо и без всякой пощады... Командируется генерал
Фрычиньский, чтобы в последний раз образумить неприятеля и
принудить к послушанию.
В дверь постучали, Паклевский подошел к ним.
— Кто там?
— Армия князя воеводы! — отвечали ему.
— Этого не может быть! — во весь голос закричал Теодор. —
Князь воевода пан над панами, разумный и серьезный, он не будет
вести войну с путешествующими женщинами. Я защищаю честь
Радзивилловского дома; ступайте прочь, самозванцы!
За дверями вдруг воцарилась мертвая тишина.
— Что он там болтает, пане коханку? А?
У дверей послышался какой-то шум.
— Повтори, что сказал?
Паклевский слово в слово повторил то, что сказал раньше.
Опять настало глухое молчание.
— Кто же там дает ответ, пане коханку?
— Придворный, находящийся на службе у пани Старостины.
— Не глупый человек, пане коханку, ей-Богу, не глупый...
Послышался снова шепот, потом кто-то сказал:
368
— Высылаем делегатом пана Боженцкого, подскарбника, чтобы
он разобрал дело, выяснил требования и постарался заключить
трактат...
В дверь снова постучали.
— Кто там?
— Парламентер князя воеводы, — отвечал новый голос.
— Смотри же не осрамись, пане коханку, и не скажи
какой-нибудь глупости на мой счет, — сказал князь. — Я это,
если захочу, и без посредника сумею сделать. Ну, говори, да
смелее.
— Есть там кто-нибудь? — осведомился делегат Боженцкий.
— Я есть, — сказал Паклевский.
— Князь воевода без всяких злых намерений домогается от
пани генеральши только позволения выпить за ее здоровье и
поцеловать у нее ручку за несколько смелую шутку!
— Если делегат ручается словом Радзивилла за то, что он не
будет ни в чем стеснять больных и испуганных женщин, —
возразил Паклевский, — тогда мы согласны!
Женщины крикнули, не соглашаясь с ним, но Теодор сделал
им знак, и они замолкли.
— Мы желаем иметь слово Радзивилла... — повторил Теодор.
— Да это какой-то юрист, пане коханку!
У дверей послышались шаги, сопение, звон оружия, и чей-то
мощный голос сказал:
— Слово Радзивилла!
Едва он произнес это, как раздалось около тридцати ружейных
выстрелов в знак приветствия.
Паклевский, не выпуская из рук ни сабли ни пистолета, открыл
двери и сам стал подле них на страже.
Через минуту на пороге показался сам князь-воевода в красном
кунтуше и плаще, обшитом соболями, в шапке, сдвинутой на одно
ухо; в одной руке он держал огромную чашу, а другой придерживал
саблю.
Пройдя несколько шагов, он остановился, снял шапку,
поклонился женщинам (Леля тем временем спрятала нож за спину, но
не бросила его), потом оглянулся на своих, входивших поодиночке
вслед за ним. Все шли с открытыми головами, с разгоревшимися,
красными лицами, держа в одной руке кубок с вином, а другой
рукой придерживая сабли, шли степенно, но глаза их блестели
озорством.
Князь поднял кубок.
— За здоровье генеральши! — гаркнул он. — Трубить в трубы!
Труб не было, но ?г дверьми с десяток гайдуков затрубили в
кулаки так пронзительно, что Старостина крикнула:
— Умираю!
Воевода, не обращая на это внимания, обернулся и
крикнул:
— Вина! Нельзя же обидеть Старостину и розовый бутончик.
369
Услышав это, Леля сделала сердитую гримаску. Подбежали двое
слуг с бутылями и начали наливать вино.
Воевода стоял, не спуская глаз с Паклевского.
— Итак, здоровье пани Старостины... Трубы и литавры!
Опять затрубили в кулаки, а потом стали колотить в доски.
Старостина испустила тоненький стон, как будто умирала.
Князь очень серьезно выпил кубок и дал знак, чтобы ему
налили еще раз. Он все смотрел на Паклевского, который тоже не
опускал перед ним взгляда.
— За здоровье розового бутончика — генеральской дочки;
пусть расцветает по примеру матери, и все прочее.
— И все прочее! — со смехом гаркнула вся толпа.
Генеральша покраснела от гнева.
— Попрошу дать мне лавку, чтобы я мог сесть, отдохнуть и
поговорить с этими дамами, — заговорил князь. — Второе,
прошу закрыть двери, потому что Борей веет на розы и бутоны...
Господа Фрычиньский, Боженцкий и Пашковский останутся со
мною...
Приказание князя было моментально исполнено; он сел,
поставил кубок подле себя на лавке и, хотя видел волнение все еще не
пришедших в себя женщин, решил, по-видимому, немного
помучить их.
— Пани генеральша, откуда вы, сударыня, едете? Из Китая
или из царства Марокского, пане коханку?
Ответа не было.
— Я очень просил бы ответить мне.
— Но, что же это за вопрос? — осмелилась произнести
генеральша.
— Вот видите ли, сударыня, папе коханку, — говорил
воевода, — с виду вопрос как будто бессмысленный, а на деле разумный.
Потому что если бы сударыня возвращалась из Сморгони или из
Пацанева, то, поверьте, знала бы, что у виленского воеводы —
несколько тысяч войска, и не запирала бы ворот перед самым его
носом. Но это так только говорится, размышления, без обиды, пане
коханку! Я также смолоду очень любил путешествовать, пане
коханку, вот генерал Фрычиньский может это засвидетельствовать.
Генерал низко поклонился.
— Вот однажды, когда мы, переплыв океан на спине черепахи,
имея парусом передник моей первой жены, который я всегда носил
с собою и который всегда спасал нас во время штиля на море,
потому что имел ту особенность, что он сам развевался и вызывал
ветер...
Тут князь прервал себя и, обращаясь к Боженцкому, спросил:
— На чем я остановился, пане коханку?
— На передничка ее сияасльства княгини, — отвечал
Боженцкий.
— А вот и неправда, пале коханку, на черепашьей спине, —
сказал князь, — у вас, сударь, плохая память.
370
Боженцкий опять поклонился.
— Переплыв счастливо океан, управляясь вместо весел
ухватом, который у меня сохранился от того времени, когда я служил
помощником повара, пане коханку...
Женщины, слушая его, переглядывались и пожимали плечами,
а Леля, роняя нож, принуждена была закрыть рот платком, чтобы
не рассмеяться. Нож зазвенел, упав на пол, и князь оглянулся
посмотреть, что случилось.
— Что же это, пане коханку? Какое-то оружие? Которая же
из дам была так вооружена?
— Я! — отвечала Леля, выступив вперед и поднимая нож.
— Раны Господни! Пане коханку, вы хотели зарезать меня,
как каплуна или как Юдифь Олоферна. Вот это мило!
Леля улыбнулась.
— Героиня, пане коханку! — вскричал Радзивилл. — Надо
выпить за ваше здоровье и непременно из туфельки! Эй!
Подскочил пан Боженцкий.
— Из туфельки, пане коханку...
Леля хотела убежать; тяжелый и неповоротливый воевода
бросился за ней, она крикнула, и на защиту ее поспешил с пистолетом
и саблей Паклевский.
— Ваше сиятельство! Слово Радзивилла! — сказал он.
— Туфельке я его не давал, пане коханку! Если
пропадет пара туфелек, беда не большая, а честь большая, если я
прикоснусь губами там, где лежала пятка паненки!
Поэтому прошу дать мне туфельку или — пане коханку — война!
Война!..
Леля, спрятавшаяся за мать, очень решительно сняла с ноги
туфельку на высоком каблучке и смело подала ее.
Увидев это, Старостина вскрикнула. Князь взял двумя толстыми
пальцами предмет своих желаний, еще теплый от маленькой
ножки, которая в нем покоилась, — и причмокнул.
Туфелька из голубого атласа, обшитая ленточкой канареечного
цвета и вся расшитая по атласу мелкими цветочками, казалась
прелестной безделушкой.
— Да ведь это наперсток, пане коханку, — воскликнул
князь, — если бы вы, сударыня, увидели туфлю моей сестры,
панны Теофили! Из нее можно напиться!.. А это... это просто шутка!
Пане коханку!
Леля краснела, генеральша улыбалась и даже Старостина
приняла такое выражение, которое могло означать, что и ее ножка
не больше этой.
Прибежал гайдук с бутылкой вина и, по обычаю, хотел
поставить кубок в туфельку, но князь не позволил.
— Нет, пане коханку; выпью-ка я из туфельки. Лей!
Смеясь, гайдук только начал наливать вино, как оно уже
потекло на пол, а князь поднес туфельку ко рту, выпил и бережно
спрятал мокрый сувенир за кунтуш...
371
И только после этого он приказал подать себе кубок и выпил
из него. Женщины надеялись, что теперь он выйдет и даст им
отдохнуть, но он уселся на лавке.
— На чем же мы остановились? — спросил он Боженцкого.
Тот пожал плечами, а князь покачал головой.
— Пани генеральша, — сказал он, — едет, вероятно, в
Варшаву, на совет сенаторов?
— Мы еще не образовали его, — отвечала оскорбленная
пани, — но, когда он составится, кто знает, — будет ли это очень
приятно некоторым мужчинам-сенаторам?
— Гм! — сказал Радзивилл. — Я страшно боюсь женщин.
Одна уж начала нами распоряжаться; но, может быть, мы не
сдадимся, пане коханку, если только другие дамы не придут ей на
помощь... Очень прошу вас в Варшаве заступиться за Радзивилла,
чтобы там на него не гневались, пане коханку; это добрый человек
я его знаю с детства, не любит только, чтобы кто-нибудь дул ему
в кашу... Однажды был такой случай...
Было очевидно, что князь начинал свей рассказ только для того,
чтобы помучить женщин, но в это время Пщолковский, немой шут
князя, странная и смешная фигура с совершенно выбритою
головою, с бледным и одутловатым лицом, без усов, вечно
неестественно кривлявшийся, вбежал в комнату.
Он не говорил, но умел забавлять князя жестами, которые
тот отлично понимал, и мимикой. Он вошел, указывая на
кого-то за собой и, приняв гордую позу, взявшись руками за бока,
вытянул палец по направлению к князю и снова указал за
дверь.
— Что с ним? — спросил князь. — Кажется, кто-то приехал.
Может быть, Кашиц, который должен был догнать меня, или ксендз
Кучиньский.
Боженцкий выбежал за дверь и, вернувшись, тотчас же доложил
князю:
— Полковник Венгерский из Белостока.
Князь встал.
— Доброй ночи, пане коханку, генеральше и Старостине, а
также и розовому бутону, чью туфельку я прикажу оставить в
назидание потомству в моем музее в Несвеже. Желаю вам всем
доброй ночи, — прибавил он, отвешивая поклон дамам, — и
чтобы вам не снилась бомбардировка и резня невинных
младенцев... Этот господин, — он указал на Теодора, — спас крепость
хитростью, за которую ему следует сказать спасибо... Поручаю
его — кому?.. Пане коханку, пусть уж дамы разыграют его на
узел! и.
Проходя мимо Теодора, князь остановился на минутку.
— Если захочешь поступить в Несвежскую гвардию, — я
прикажу, чтобы тебя приняли.
Паклевский помолчал, и князь, надвинув шапку на ухо. мед-
ченно выплыл из комнаты... Так окончилась эта история, счаст-
372
ливее, чем можно было ожидать, и — благодаря Паклевскому —
не имела никаких дурных последствий...
Как только князь вышел, Старостина крикнула, чтобы запрягали
лошадей.
Но хорошо было отдавать такие приказания, сидя в доме и не
имея понятия о том, что делается на дворе.
Снежная метель так разбушевалась, что от одного дома до
другого ничего не было видно, а в поле и совсем невозможно было
выехать. И сам Паклевский решил переночевать здесь и переждать,
пока затихнет вьюга. Перепуганная Старостина приказала
забаррикадировать все двери, а Теодор обещал ей, что всю ночь проведет
на страже в комнате, которую он снял для себя у еврея и которая
находилась как раз напротив корчмы...
Теперь, когда опасность миновала, генеральша и Старостина,
которые целый день ничего не ели, почувствовали голод; всем
пришло в голову, что надо бы покормить и защитника и заодно
протопить комнату, которая совсем выстыла...
Паклевский, устроив своего возницу с санями, явился к дамам
и предложил им свою помощь. Все они, не исключая генеральши,
которая меньше всех благоволила к нему, не могли надивиться
счастливому стечению обстоятельств, приведшему его к ним, — и
удивительной находчивости, с какой он сумел обезоружить князя.
Все благодарили его без конца. Леля с особенным усердием
отдавала ему этот долг признательности и, вернув ему колечко, надев
новые туфельки и предоставив Старостине излить свою
благодарность, — завладела им и отвела к камину.
— Видите, сударь, — лукаво заговорила она, — ничего уж не
поделаешь, если сам Бог так устраивает, что навязывает нас пану
Теодору. Теперь Старостина окончательно потеряет голову... Что
же вы думаете, сударь? Позволите ей предаваться отчаянью?
— Не шутите, пани, — с оттенком грусти отвечал Теодор. —
С того времени, когда нам было так весело в Варшаве и
Белостоке, — я много пережил и сильно состарился...
Он взглянул на нее; личико Лели мгновенно стало серьезным.
— Ну, рассказывайте же мне, — убедительно сказала она, —
я хочу знать, что случилось?
— Ничего нового, — отвечал Теодор, — но то, что
преследовало меня с детства, теперь угнетает меня еще сильнее. Мне нечего
рассказывать: я — бедный человек, и нехорошо шутить со мною.
Леля быстро протянула ему руку, оглянувшись на тетку, не
следит ли она за нею.
— Я тоже умею не быть веселой, — тихо сказала она. —
Верьте мне, что, если б я могла вас утешить, ах, как это было бы мне
приятно! Ах, как я была бы счастлива!
Тесдир пристально взглянул на нее; она потупила глаза.
— Вы могли бы меня утешить, но я недостоин этого!
— О, — отвечала девушка, — скажите мне только, что надо
сделать!
373
— Симпатизировать мне немножко, — сказал Паклевский. —
Я всегда буду держаться вдалеке, мне нельзя будет
приблизиться, но...
Он прижал руку к груди и умолк. Леля покраснела.
— Верьте мне, что я вам очень симпатизирую и я так упряма,
что то, что сердце раз почувствовало, останется в нем навеки!
Выговорив эти слова, полные значения, и присовокупив к ним
еще более выразительный взгляд, Леля убежала к тетке...
На другой день к утру вьюга затихла, но был страшный мороз,
и, хотя дороги были занесены снегом, колымага Старостины
двинулась в дальнейший путь, а жалкие санки Теодора потащились
к Борку, с трудом преодолевая снежные сугробы...
Когда крик служанки заставил испуганную егермейстершу
выйти из спальни, она — при виде стоявшего перед нею сына —
схватилась за ручку двери, чтобы не упасть от волнения.
Паклевский не имел времени, чтобы предупредить ее письмом
о своем приезде; и этот приезд и обрадовал стосковавшуюся по
сыну мать, и испугал ее предчувствием чего-то неизвестного; она
больше всего боялась узнать, что отношения, на которых покоилось
его будущее, были разорваны...
Долго обнимала и целовала она его, не смея спрашивать и
только глазами пытая, что случилось.
— Говори, — заговорила она тревожно, — тебя уволили?
— Нет, — отвечал Теодор, — мне позволили навестить тебя.
— Князь?
— Он так добр ко мне, как только умеет быть...
— Это правда? — спросила сна.
— Истинная правда, я ничего не скрываю от тебя.
Егермейстерша вздохнула свободнее.
Сын, оглядевшись, имел основание сильно опечалиться. Он
нашел мать страшно изменившейся, сильно постаревшей,
изможденной этой жизнью в посте и молитвах, в тоске и воспоминаниях, —
согнувшейся и побледневшей. Исчезло и свойственное ее лицу
выражение гордости и чувства собственного достоинства, которое
теперь сменилось выражением смирения, неуверенности в себе и
подавленности. Дом весь был страшно запущен, но она,
по-видимому, не видела этого и вообще не замечала того, что делается
вокруг.
Теодор мучился, видя все это запустение и не зная, чем тут
помочь. Причиной всему был упадок духа, а против этого нельзя
было бороться.
Прежде он еще пробовал вдохнуть в нее охоту к жизни, но
теперь, после страшного признания, сделанного ему безжалостным
гетманом, — он не решался заговорить и не умел найти утешения
для ее великой боли. Из любви к матери он должен был скрывать
в себе то, что жгло ему сердце, как клеймо преступника.
Разговор шел о его будущем, о надеждах, которые он питал,
мать спрашивала про деятельность фамилии и, наконец, о надеж-
374
дах гетмана и настроениях в стране: видно было, что она боялась,
как бы этот человек, чье имя было ей ненавистно, не одержал
победы; она желала для него отмщения и унижения.
Из ее вопросов и замечаний Теодор убедился, что признание
Браницкого было правдой,
И горько стало у него на душе...
Разговор продолжался несколько часов, но никому из них не
принес утешения.
Приглядываясь к окружающей обстановке, Теодор находил в
ней все новые следы изменившегося образа жизни и болезненной
набожности матери, заставившей ее забывать обо всем остальном.
Спальня была увешана образками святых, реликвиями, листочками
с молитвами, прибитыми к стенам; столики были завалены книгами
религиозного содержания и четками. Из-под черного платья,
сшитого по образцу монашеского одеяния, Теодор заметил власяницу.
Страшная худоба говорила о строгих постах. И в этот день для
егермейстерши не готовили обеда, потому что она, только что
закончив один пост, уже начинала новый.
Когда наступило время молитвы, егермейстерша начинала
беспокоиться: ей жаль было расстаться с сыном, но в то же время
она боялась не выполнить своих религиозных обязанностей. И
беспокойство ее свидетельствовало о том, что ей тяжела была эта
новая жизнь, изменившаяся с приездом сына. И даже во время
разговора она уносилась мыслью куда-то далеко, становилась
рассеянной и казалась гостьей на этой земле. Напрасно Теодор
старался развлечь ее своими рассказами. Со времени смерти мужа
это была совершенно другая женщина, согнувшаяся под
непосильной тяжестью. Даже молитвы, в которых она так пламенно искала
утешения, не облегчали ее боли; она возвращалась заплаканная и
еще более рассеянная, чем раньше.
Паклевский объяснял такое состояние одиночеством, на
которое Беата обрекла себя; обвинял себя за то, что оставил ее,
и употреблял все усилия, чтобы вернуть ей спокойствие и
примирить с жизнью. Ему казалось, что и он должен был что-
нибудь сделать для той, которая пожертвовала ему всем, и,
проведя с нею несколько печальных дней, он начал заговаривать
о том, что было бы, может быть, лучше всего, если бы он
остался с матерью.
Но при первом же его намеке Беата в испуге заломила руки,
не желая и слышать ни о чем подобном; она решительно заявила
ему, что не допустит этого, и с особенной живостью настаивала
на том, чтобы он не бросал службы у канцлера.
— Как это может быть, -- сказала она, — чтобы такой
молодой человек, как ты, не имел честолюбия? Люди достигают всего
талантами и трудом, и ты тоже должен добиться положения.
— На это у меня нет ни прав, ни способностей, — заметил
Теодор. — Никто не упрекаег меня за леность, но никто и не
признает во мне особых дарований.
375
Мать была недовольна такою скромностью и спустя несколько
дней начала выпытывать у него, надеясь узнать все подробности
его жизни в Варшаве и по ним судить о настоящем положении
вещей. Желая развлечь мать, Теодор понемногу рассказал ей
некоторые свои приключения и, между прочим, о встречах со ста-
ростиной и генеральской дочкой.
Говоря о последней, он невольно отозвался о ней с симпатией,
которая не укрылась от матери. Она не спрашивала больше, но
как всякая мать, которая ни одну невестку не считает годной для
своего сына, так и она не считала генеральскую дочку подходящей
партией для Тоди, потому что мать ее пользовалась дурной
репутацией. Не показывая ему, что она подозревает его в увлечении
Лелей, она начала рассказывать, как будто между прочим,
различные вещи о Старостине и матери панны, не особенно лестные для
них...
— Обе пани и панна готовы были бы вскружить тебе
голову, — прибавила она, — это похоже на них, но ты должен
знать, что это легкомысленные женщины, и им ни в чем нельзя
верить.
— Но я ведь и не строю никаких планов, — отвечал
Теодор, — с моей стороны было бы большой самонадеянностью
иметь какие-нибудь надежды. Генеральша имеет, благодаря
мужу, хорошее положение в свете. Старостина богата, а Леля так
красива, что, имея такую мать и тетку, может рассчитывать
на блестящую партию.
— А ты слишком мало ценишь себя, — прервала егермейстер-
ша, — как в этом случае, так и в других. У генеральши нет ни
средств, ни больших связей в свете; Старостина так легкомысленна,
что, если они ее не уберегут, она еще выскочит замуж. Поэтому
ты, со своими способностями, красивой внешностью и протекцией
Чарторыйских вовсе не был бы плохой партией для Лели. Но я
советую тебе не думать об этом, потому что тебя ожидает более
блестящая будущность. Я рассчитываю, что канцлер, испытав твои
способности, определит тебя на службу к молодому королю,
которого ты, как говорил мне, уже знаешь... Перед тобой широкое
будущее.
— Дорогая мама, ты говоришь о молодом короле так, как будто
он уже выбран, — с улыбкой заметил Теодор.
— Но он должен быть избран, хотя бы ради того, чтобы не
был избран гетман!
— Кроме гетмана есть и другие, — прибавил Паклевский.
— Пусть их будет как можно больше, лишь бы этот
тщеславный, вкрадчивый, на вид такой приветливый, а на деле —
бессердечный человек, самонадеянный эгоист, не достиг того, к чему
стремится! — горячо воскликнула она...
Паклевский, не отвечая на эти страстные выкрики, перевел
разговор на другую тему. Он страдал от того, что мать старалась
внушить ему ненависть к гетману; он и сам чувствовал неприязнь
376
к нему, но в то же время чувствовал, что ему следовало только
держаться в стороне от него, а не вредить ему.
После нескольких дней, проведенных в обществе сына, егер-
мейстерша казалась такой измученной и неспокойной, что Теодор
решил выбрать одно из двух: или остаться здесь и целиком
посвятить себя матери, или уехать как можно скорее, потому что
временное отступление от своих религиозных обязанностей, видимо,
мучило и угнетало вдову.
Сама она наконец спросила сына: когда ему приказано
вернуться... Паклевский, удрученный таким состоянием здоровья матери,
еще колебался, что делать, когда однажды к воротам подъехали
плохие сани, запряженные худой клячей, и из них вышел человек,
одетый в кожух, в шапке странного вида.
Он долго о чем-то расспрашивал у ворот, видимо, не решаясь
войти, но потом, поминутно оглядываясь, вошел, крадучись, во
двор...
Паклевский, смотревший в окно, с удивлением признал в нем
болтливого дворецкого воеводича Кежгайлы — Ошмянца. Но
откуда он взялся? И с какой целью приехал?
Опасаясь какого-нибудь неожиданного для матери известия,
Теодор сам вышел к нему навстречу. Заметив его на крыльце, старик
торопливо подошел и живо заговорил:
— Пан, может быть, не узнает меня? Я попросил бы
позволения переговорить где-нибудь по секрету, я привез важные известия.
Паклевский провел его в комнату, которую он занимал после
отца. Отряхнув с себя снег у порога, старик вошел, озираясь,
и тотчас же начал расстегивать кожух и что-то вынимать из-за
пазухи.
Паклевский смотрел на него с беспокойством. Шляхтич достал
бумагу, завернул в платок, но держал ее, не разворачивая, в руке.
Он взглянул на Паклевского, погладил усы и как будто
раздумывал, как начать.
— Вельможный пан, все мы смертны. Русские говорят: как ни
крути, а помирать придется. Так и воеводич, мой милостивый пан,
умер.
Теодор выслушал эту весть спокойно.
— Помяни Господи его душу! — равнодушно сказал он.
— И умер покойничек вот так, ни с того ни с сего! Был здоров,
мог бы прожить еще много лет, а вот только то, что он страшно
гневался и не помнил себя, а потом еще морил себя голодом из-за
постов... Ведь у нас в доме, слава Богу, всего было вволю, пан
был у нас и видел, разве только птичьего молока не доставало.
Только вот эти посты, за которые его каноник уж распекал, да
потом еще гнев...
Тут старый Ошмянц вздохнул.
— Ну, вот и умер!
Теодор стоял и смотрел на него, не обнаруживая ни печали,
ни любопытства.
377
— У меня есть здесь письмо к панне Беяге, то есть не знаю,
как теперь ее фамилия, егермейстерше Па^левской, так? —
спросил старик.
— Да, так, — отвечал Тодя, — но вы очень хорошо сделали,
сударь, что не отдали его прямо ей; моя мать больна, и хотя она
очень давно уже не видела отца, все же не может быть, чтобы эта
новость не произвела на нее впечатления. Будь что будет!
— А вот видите, — прервал его шляхтич, — все болтали,
что он отказался от родной дочери и все оставил старшей, Ку-
насевич, которая за подкоморием, ее зовут Тереза; а это
неправда. Кунасевич очень этого хотела; но старик, когда захворал,
изменил завещание, и ьот вам это лучше будет видно из письма
каноника.
Он взглянул на Теодора, думая, что это известие радостно
поразит его; но тот остался совершенно холоден. Он взял письмо,
взглянул на надписанное на нем имя матери и начал вертеть
письмо в руках...
— Садитесь, сударь, и будьте гостем, — обратился он к
старику. — Я должен приготовить мать; я не знаю, что она решит...
— Как это, что решит? — воскликнул удивленный шляхтич.
— Если отец столько лет отрекался от собственного ребенка,
не желая его знать, и позволял ему страдать, — сказал Паклев-
ский, — кто знает, стоит ли принимать то, что он изменил только
в час смерти. Мать моя...
Старик открыл рот и произнес:
— Ах, Боже милосердный!
И оба умолкли.
Пока они так разговаривали, егермейстерша, находясь в
обычном состоянии внутреннего беспокойства, увидела в окно сани и
испугалась, потому что к ним редко заглядывали чужие; она
позвала служанку, отправила ее на разведку и, узнав, что шляхтич
с сыном пошли в его комнату, вбежала за ними. Глаза ее искали
сына и незнакомого приезжего, который, заметив ее, отступил
назад, вперив на нее затуманенный слезами взгляд.
Некоторое время все молчали.
— Что за дело? Ко мне? Или к сыну? Что случилось? —
спросила Беата, стараясь угадать, что еще грозило ей.
— Да, есть дело, о котором мы еще поговорим, дорогая мама, —
сказал Теодор, — а теперь надо принять и угостить этого пана...
Говоря это, он кивнул головой шляхтичу и проводил мать в ее
комнату.
Она шла за ним, вся дрожа и повторяя только: «Что случилось,
что счучшссь?»
— Дорогая матушка, — начал Теодор, — вот письмо из Бо-
жишек от секретаря воеводича.
Беата побледнела и вытянула руку вперед.
— Насколько я мог понять из отрывистых слов посланного,
старик умер...
378
Услышав это, она бросила письмо, которое подал ей сын, и,
подойдя к молитвенному столику, стала на колени. Это была и
молитва, и необходимое успокоение души; брызнули слезы, она
поплакала и поднялась с колен, подкрепленная.
— Дай мне письмо, — сказала она.
Теодор счел за лучшее предупредить ее сейчас же о той
новости, которую привез шляхтич.
— По-видимому, дед перед смертью, несмотря на происки
тетки, изменил свое решение и иначе распорядился своим
имуществом, — сказал он.
Зная гордый характер матери, Паклевский думал, что она
отклонит запоздалое доказательство отцовской любви... Но у нее
оживилось лицо, заблестели глаза и задрожали руки, разрывавшие
конверт; она хотела сказать что-то и не смогла: не хватило
дыхания.
— Ах, этого не может быть, не может быть! — тихо шепнула
она.
Быстро пробежав глазами письмо, она передала его сыну и
снова, плача, опустилась на колени и стала молиться.
Каноник писал, что покойник воеводич, чувствуя угрызения
совести и сознавая незаслуженную суровость свою перед дочерью,
которую он оттолкнул при жизни, уничтожил первое свое
завещание и оставлял Беате равную часть с сестрой ее Кунасевич. Однако
же он давал понять, что, хотя первоначальное лишение
наследственных прав было им отвергнуто и новое завещание было
составлено с соблюдением всех формальностей, все же можно было
ожидать процесса с подкоморием Кунасевичем, который будет
доказывать, что воеводич последнее свое завещание писал не в
полном рассудке и сознании. Секретарь советовал пану Теодору
прибегнуть к покровительству Чарторыйских и постараться
поскорее вступить во владение имуществом, хотя бы для того, чтобы
войти с Кунасевичем в более выгодное для себя соглашение.
Помолившись, егермейстерша бросилась на шею Теодору,
обнимая его и обливая слезами.
— Бог сжалился надо мной, — вскричала она, — я страдала
долго и много, но тебя не оставлю обездоленным, ты не будешь
бедняком, нуждающимся в чужих милостях... Ты должен вернуть
себе все, что тебе принадлежит; сестра никогда не была мне
сестрой, а только врагом; мне не для чего щадить ее, я не хочу
ничего прощать ей и не буду с ней считаться!
Паклевский с удивлением смотрел на эту неожиданную
перемену в настроении матери, еще не понимая ее. Она сразу ожила...
Теодору приказала тотчас же сесть и писать письмо канцлеру с
докладом и извинением, а потом тотчас же собираться в дорогу —
в Божешки.
— Не следует пренебрегать канцлером и службой у него, —
сказала она, — но теперь, когда Бог дал тебе кусок земли, ты
займешь совсем другое положение в глазах всей фамилии; теперь
379
ты можешь проявить себя совсем иначе по отношению к гетману
и его ничтожным союзникам. Теперь у тебя есть почва под ногами,
и ты должен подняться так высоко, чтобы иметь возможность смело
смотреть в глаза тем, кто бесчестил твоих отца и мать.
Паклевский не решался ничего сказать. Та, которая вчера
провела весь день в молитве и казалась наполовину умершей, теперь
интересовалась будущим гораздо живее, чем Теодор, который еще
не особенно верил в него.
К столу пригласили и старого слугу, помнившего, как
оказалось, маленькую паненку еще в детстве. Из его рассказов можно
было сделать вывод, что наследство после воеводича было гораздо
значительнее, чем предполагали. Страшная скупость умершего,
несмотря на самое возмутительное ведение хозяйства, позволяла ему
откладывать ежегодно очень большие суммы, которые он помещал
в выгодные предприятия.
Старик не скрывал, что спор о наследстве с обоими Кунасеви-
чами будет не легок, так как сам Кунасевич пользовался славой
известного юриста и большого сутяги. Подкоморий принадлежал к
числу приверженцев князя воеводы Радзивилла и верил в силу
радзивилловского трибунала; но теперь обстоятельства очень
изменились. Масальские и фамилия приобретали все большую власть,
и дело могло решиться не в пользу Кунасевича в пику виленскому
воеводе. Эта неожиданная перемена, вернувшая жизнь вдове, не
произвела на Теодора особенно сильного впечатления. Он не
доверял обещаниям судьбы, завещанию и связанным с ним надеждам
на лучшее, а знал только одно, что будет брошен в бурный поток,
в котором трудно будет плыть без руля и без помощи. В то время
как егермейстерша не помнила себя от счастья, Теодор чувствовал
себя встревоженным и смущенным.
Старого дворецкого попросили остаться, чтобы ехать вместе с
Теодором в Божишки. На другой день вдова села писать письмо к отцу
Елисею, донося ему о том, что случилось, и прося благословить сына.
И только теперь, взглянув на письмо, Теодор догадался, что монах
оказал несомненное влияние на состояние духа матери. Его святое
вдохновение осенило эту угнетенную душу и вызвало в ней
беспокойные порывы религиозности, в которых было еще слишком много
земного, для того чтобы принести ей облегчение и утешение.
Так было на самом деле: жалостливый отец Елисей часто
приезжал к ней со словами утешения, но он не измерял и не
взвешивал бросаемого в душу посева и, воспламеняя душу, не мог
утолить ее. Вероятно, со временем буря стихла бы и волны
успокоились, но сейчас все еще бушевало и кипело.
Вдова была уверена, что старец, узнав такую важную новость,
приедет непременно, но скорее с советом, чем с поздравлением...
На третий день санки, нанятые в Хороще, подкатили к
крыльцу, несмотря на сильный мороз. Теодор со старым шляхтичем
почти вынесли на руках закостеневшего ксендза. Он сам смеялся над
своим бессилием.
380
Когда вдова встретила его в дверях, он чуть было не
расплакался.
— Ах вы, мои бедные дети! — сказал он, сложив руки
вместе. — Богу угодно было послать вам испытание, потому что то,
что вам кажется счастьем, есть только введение в искушение. Но
берегитесь, чтобы гордость не захватила вас в свои когти, чтобы
вами не овладела жадность и не отравила вас ядом ненависти к
братьям...
Он обернулся к Теодору.
— Хорошо тебе было, юноша, вступать в жизнь убогим и
учиться смирению; теперь у тебя вырастут рога... и беда той душе,
которая носит рога и ищет, кого бы ей забодать... О, свет, свет!
Если он кого-нибудь не пригнет нуждой, то опоганит золотом. Как
же мне жаль вас! Как жаль!
— Отец мой, — прервала его несколько встревоженная этими
словами вдова, — вы в самом деле видите в этом опасность?
— Для вашей души есть опасность, — отвечал старец. —
Люди, кланяясь вам, будут желать счастья; я же плачу, потому что
знаю, что чем выше стоит человек, тем труднее ему быть добрым,
даже если он имеет Бога в сердце! На высотах кружится голова!
Бедняжки вы мои! Настал для вас час испытания: помните же,
что вам послан крест, а не радость.
Старец умолк.
— Несите же этот крест, как нес свой Христос: спокойно, с
достоинством, перенося насмешки и бичевание и не возмущаясь в
душе...
Он обратился к вдове.
— Вижу по твоему лицу, — сказал он, — что тебя эта весть
обрадовала и вернула к земной жизни; дай Бог, чтобы она была
для тебя легка. Слезы набожности слаще, чем улыбки, которые
дает земля...
Старец обвел взглядом окружающих и, словно пожалев их,
удержался от того, что хотел сказать еще; жалостливая улыбка
осветила его лицо...
— Ну, — сказал он, — Бог знал, за что давал; скажем же
вместе с Давидом и Иовом: да будет благословенно Его имя.
Никто не ответил ему на это, и отец Елисей, взглянув еще раз
на хозяев, попросил, чтобы ему рассказали о смерти брата и о его
распоряжениях. К нему позвали старого шляхтича, который,
поцеловав его руку, принялся несвязно и пространно описывать
жизнь и смерть воеводича.
Монах, давно уже оторвавшийся от семьи и потерявший ее из
виду, слушал его с молчаливым удивлением, только изредка
прерывая рассказ негромкими возгласами.
Все еще сидели за столом, когда у крыльца остановился экипаж,
запряженный огромными конями, на которых всегда приезжал док-
юр Клемент. Через минуту вошел промерзший француз, потирая
руки от холода и с необыкновенно веселым лицом. Заметив старого
шляхтича, увидев письмо на столе и угадав по оживленному лицу
вдовы, что он опоздал со своей новостью, доктор воскликнул:
— Вот-то не везет мне у вас! Вы уже все знаете?
— О смерти моего отца мы уже знаем, — серьезно отвечала
егермейстерша.
— Смерть всегда несет с собою скорбь, — подхватил
Клемент, — но когда с нею вместе приходит запоздавшая
справедливость, тогда горечь ее смягчается. Друзей можно узнавать при
различных обстоятельствах: вот, например, пан гетман, который
вам так неприятен, так противен, узнав о завещании воеводича и
думая, что вы еще о нем не знаете, тотчас же отправил меня к
вам.
Никого не отвечал ему, как будто и не слышал его слов. Отец
Елисей смотрел в камин, не обращая внимания на доктора.
Тогда Клемент обратился к Теодору:
— Вы давно здесь?
— Я уж с неделю в отпуске, — сказал Паклевский. — Ничего
не зная о воеводиче, я просто приехал навестить мать и прибыл
в Васильково как раз в тот самый день, когда приятель князя
гетмана, виленский воевода, проведя шумную ночь в Василькове,
отправился в Белосток.
Доктор Клемент недовольно нахмурился.
— Что же делать? — сказал он. — Политика предъявляет свои
требования, — ради нее приходится вступать в не всегда приятные
споры... Действительно, у нас гостит воевода, который уже раз
поднялся верхом на коне по лестнице театра и наговорил пане
Венгерской таких приятностей, что она чуть не упала в обморок.
Он уже обстреливал у нас площадь в местечке, а гетманша должна
запираться от него...
Отец Елисей тихонько вышел в соседнюю комнату, чтобы не
слушать этого разговора.
— Зато князь может нам дать несколько тысяч своего
войска, — сказал Клемент.
— Под предводительством своих двух сестер в костюмах
амазонок, — иронически заметил Теодор. — Поздравляю гетмана с
таким союзником, но еще больше поздравляю фамилию, потому
что для нее нет опасности... ни армия, ни амазонки не будут
драться!
— А, — сказал Клемент, — вы все еще на стороне фамилии?
Теодор поклонился.
— Если бы я даже не был на службе у крязя канцлера, —
прибавил он, — я видел бы и тогда то, что есть: из большой
гетманской тучи будет маленький дождь, а может быть, — прогто
небольшой ветерок!
Клемент быстро взглянул на него.
— Вы так думаете? — спросил Клемент.
— Мне кажется, что из всех союзников, на которых вы
рассчитываете, ни один не пойдет с вами до конца, — сказал Пак-
382
левский. — Если бы я был в числе приятелей, а не противников
гетмана, я дал бы ему один совет: постараться через жену
примириться с фамилией, пока еще не поздно, и сидеть себе спокойно:
о короне нечего ему и мечтать; калека саксонец также не получит
ее, а Любомирский и Огинский не числятся даже кандидатами, их
поддерживают разве только их собственные экономы и
управляющие...
Доктор Клемент задумался серьезно.
— А разве такое примирение было бы возможно? — спросил
он.
— Прошу извинения, дорогой доктор, — отвечал Теодор, — я
ничего не знаю, а то, что говорю, — мое личное мнение.
— Может быть, то, что вы говорите, и было бы самым
разумным для гетмана, — вздохнул Клемент, — но так как больной
всегда хочет именно того, чего ему нельзя, так и во всех других
делах. То, что ведет к спасению, кажется особенно неприятным.
Жаль мне гетмана, я к нему привязан и люблю его!
Егермейстерша приказала подать кофе. Пришел и молчаливый
отец Елисей. У старца был такой обычай: он всегда больше молчал
в обществе посторонних людей, а там, где нельзя было говорить
искренно все, что думаешь, от него нельзя было добиться слова.
И теперь, усевшись в сторонке рядом со старым шляхтичем из
Божишек, он вел беседу только с ним: они хорошо понимали друг
друга. Клемент разговаривал с вдовой и Теодором и тотчас же
после кофе уехал.
— Я тоже должен с вами проститься, — более веселым тоном
сказал отец Елисей, — француз вас утомил своей болтовней, а я,
как Кассандра, всегда ношу с собой боль предчувствия; довольно
с вас, пора и вам на отдых.
— Благословите же Тодю! — сказала вдова, подталкивая сына
к ксендзу, который долго стоял молча с поднятыми кверху руками.
— Благословляю тебя, дитя мое, — сказал он, — желаю,
чтобы ты не испортился и Бога не забыл, не слишком доверяй счастью
и не особенно печалься в несчастье и больше всего люби
добродетель. Благословляю тебя и желаю, чтобы Бог не посылал тебе
непосильных испытаний ни в горе, ни в разочаровании!
Сказав это, старец поцеловал его в голову.
— За душу воеводича, если ксендз-настоятель позволит мне, я
сам отслужу заупокойную обедню.
— Господь с вами! Господь с вами!
И старец медленно пошел к саням, прося, чтобы ему
хорошенько укутали ноги соломой от мороза.
Беспокойная егермейстерша стала уговаривать сына поскорее
ехать в Божишки. Не желая, чтобы он там произвел невыгодное
впечатление бедняка, она старалась достать ему коней и дорожные
принадлежности, что было нелегко, несмотря на соседство с
Белостоком. Все это отдаляло желанный день отъезда, а когда все
приготовления были закончены, в одно прекрасное утро на засыпанной
383
снегом дорожке в усадьбу показались огромные сани, запряженные
четырьмя лошадьми; перед ними ехал верховой; другие же сани,
меньших размеров, ехали вслед за первыми. Шляхтич из Божишек,
стоявший на крыльце, вбежал в комнату Теодора с известием, что
если глаза не обманывают его, то к ним едет сам подкоморий
Кунасевич.
В усадьбе поднялась страшная суматоха.
Пан Петр Фелициан из Кунасов — Кунасевич был в свое время
известен не только в своем округе, но и в целом воеводстве. Все
единодушно считали его умницей. Что касается других качеств
подкомория, то о них выразительно молчали. Кунасы, которые он
теперь включал в свою фамилию, назывались Малыми Кунасами
и насчитывали — когда он получил их в наследство от отца —
всего около десятка дворов. Молодой и очень предприимчивый
человек, при жизни отца прошедший хорошую школу под
руководством адвокатов при трибуналах и в канцеляриях, сделался с
годами знаменитым юристом. В то время это имело совсем другое
значение, чем теперь; человек, изучивший юридические законы,
вовсе не должен был утруждать себя чрезмерно теорией прав и их
историей, достаточно было знать обязательные местные законы и
дополнения к ним и так искусно их применять, чтобы всегда иметь
возможность проскользнуть и выскользнуть. Практически
изученные права сводились к какой-то сложной игре, в которой не
пренебрегали никакими средствами, помогавшими избегнуть
опасности. Хороший адвокат всегда знал, когда и в котором часу
выгоднее начать дело, пользуясь отсутствием одних и присутствием
других, послеобеденным настроением судей или последствием
затянувшегося накануне ужина после вечернего заседания; ловкий
адвокат умел обойти, напугать, не допустить возражений,
приготовить заранее декрет, подвести неприятеля, обмануть его каким-
нибудь обещанием, — одним словом стратегически обдумать всю
кампанию и гениально провести ее.
Таким-то практическим юристом оказался пан Кунасевич,
когда, приехав на похороны отца и усевшись после поминок
за отцовский стол с бумагами, открыл в них золотые россыпи...
Вскоре после этого начались процессы, которые велись так
искусно, что после каждого очищалась известная сумма в виде
отступного.
Он купил сначала одну деревеньку, потом взял другую в
заклад, а уж сделаться собственником заложенного имения было
прямо пустяком для такого ловкого юриста.
Женитьба на панне Терезе тоже была проведена артистически,
потому что старик воеводич не хотел ничего дать за ней и все
обещал завещать ей после своей смерти. Кунасевичу удалось
сначала отвоевать у него приданое матери своей жены, а потом взять
у него в аренду часть имения и не платить ничего.
384
Он же содействовал тому, что воеводич, узнав о скандале при
белостокском дворе, где была его младшая дочка, состоявшая при
гетманше, отрекся от нее и лишил ее наследства. И когда
впоследствии брак с Паклевским поправил дело в глазах света, подко-
морий уговорил старика не изменять своего решения, изображая
ему замужество Беаты как акт, позорящий честь семьи, и т. п.
Росло богатство подкомория, и росли вместе с ним уважение и
почтение, соединенное с некоторым страхом перед ним у людей, —
любви же никто к нему не чувствовал. Во всех делах, за какое
бы он ни взялся, он никогда не позволял провести себя и победить,
всегда умел настоять на своем. Он умел говорить с пафосом,
пространно, долго, ошеломляя слушателей множеством аргументов,
сравнений и образов, в которые он облекал свою мысль, как дети
куклу, когда, заворачивая в тряпки хотя бы самую маленькую,
устраивают из нее огромный чурбан. Он умел говорить целыми
часами — все равно о чем, — и это не стоило ему ни малейшего
труда. Но в случае надобности он умел молчать, как никто, и
тогда его лицо делалось непроницаемым. При этом он был очень
приятным собеседником, любил бывать в обществе, не прочь был
и выпить, и поесть, не предъявляя больших требований к тому,
что подавали, а при случае, несмотря на свой рост и толщину,
пускался даже танцевать; говорили также, что, если это нужно
было для его дела он приставал с нежностями к старым бабам.
Ему передавали иногда безнадежные процессы, и первым
последствием этого было то, что неприятель тотчас же робел, а
подкоморий умел этим воспользоваться и от всякого самого
безнадежного дела извлекал выгоду, по крайней мере для себя.
Таково было начало карьеры пана Кунасевича, который теперь,
окрепнув, хоть и не утратил своих способностей, но делал из них
иное употребление. Важное положение подкомория, которое он
занимал в своем округе, и значительное состояние, требовавшее его
внимания, не позволяли ему заниматься чужими делами и брать
их под свою ответственность; он был только советчиком, ментором,
посредником и протектором: ездил, хлопотал и устраивал, и хотя
это делалось в виде приятельской услуги, но ходили слухи, что за
все надо было платить ему тем или иным способом — деньгами
или натурой.
Тереза, сестра Беаты, на которой он женился, отлично
уживалась с ним и во всем переняла его точку зрения.
Это была гордая и тщеславная женщина, любившая во все
вмешиваться и привязанная только к своим детям. Ничем не
примечательная и даже по наружности не походившая на свою
сестру, несмотря на свое единомыслие с мужем, она постоянно
ссорилась с ним, тем не менее оба стремились к одной и той
же цели: накоплению богатства и приобретению влияния среди
людей.
Подкоморий до самой смерти тестя был совершенно спокоен
относительно завещания, хотя они несколько раз поспорили в во-
385
еводичем. Ни он, ни Тереза не допускали мысли, чтобы отец мог
изменить свое решение.
Воеводич не раз гневался на то, что ему не платят аренды,
и угрожал припомнить им это, но они не обращали никакого
внимания на его слова. И, конечно, все это не имело бы никаких
последствий, если бы подкоморий не оскорбил каноника
секретаря, а отец Елисей не прислал вовремя грозного письма,
привлекающего к суду Божьему за обиду, нанесенную собственному
ребенку.
Воеводич отличался набожностью, а секретарь, руководясь
неприязнью к Кунасевичам, поддержал впечатление, произведенное
письмом отца Елисея, и не давал ему ослабнуть. В конце концов,
Кежгайла потребовал вернуть ему первое завещание и исключил
из него отречение от дочери, предоставляя ей равную часть
наследства вместе с сестрой.
Когда известие о его смерти и о новом распоряжении дошло до
Кунасевичей, подкоморий бросился сначала в Божишек, надеясь
завладеть завещанием и уничтожить его; когда же это оказалось
невозможным и раздел наследства представлялся неизбежным, он,
посоветовавшись с женой, решил ехать в Борок и там, в расчете
на бедность Паклевских, войти с ними в выгодное для себя
соглашение. Издали ему казалось вполне возможным обойти вдову и ее
сына и воспользоваться их деревенской наивностью. И он, и его
жена, не имевшие понятия о том, в каком положении находится
егермейстерша и ее сын, думали найти их в большой нужде и
одиночестве, готовыми с благодарностью принять всякую милость.
Кунасевич рассчитывал на свою опытность и на деньги, которые
он вез с собой.
Когда его огромные сани, в которых, кроме высокого и плотного
подкомория, помещались еще слуга и мальчик для услуг, одетые
в старомодные венгерские костюмы, подкатили к крыльцу, Теодор
уже приготовился к встрече гостя, цель посещения которого была
ему ясна. Но вдова, присутствовавшая при докладе старого
шляхтича о том, кто едет, увидя, что сын собирается выйти на крыльцо,
сделала ему рукой знак, чтобы он остался.
— Я сама приму его! — сказала она. — Будь спокоен!
Глаза ее засверкали былым огнем, и Теодор, повинуясь ее
приказанию, остался в своей комнате.
Егермейстерша запретила и старому шляхтичу выходить на
крыльцо, и навстречу гостю вышла старая жена сторожа.
— Госпожа ваша дома? — закричал, не выходя из саней,
Кунасевич.
— Должно быть, дома, — равнодушно отвечала женщина.
— А молодой пан? — прибавил он.
— Да, наверное, дома, — все тем же тоном отвечала женщина.
Не добившись ничего больше, так как никто из хозяев не
показывался, подкоморий, охая, стал высаживаться из саней при
помощи мальчика и слуги. Затем они ввели его в сени, где Кунасевич
386
должен был разоблачиться и снять с себя шубу, меховые сапоги и
шарф, которым он был укутан. Никто из хозяев не появлялся.
Тогда он спросил бабу: куда же ему пройти? И она указала ему
на дверь гостиной.
Кунасевич вошел, сопя и отирая заиндевевшие усы;
оглядевшись, он увидел на пороге соседней комнаты женщину в черном
платье с серьезным и даже суровым лицом, которая произвела на
него неприятное впечатление.
— Да будет благословен Иисус Христос! — начал подкоморий
не столько из набожности, сколько из желания угодить егермей-
стерше, о набожности которой он услышал по дороге сюда.
— Вовеки веков...
Подкоморий поклонился.
— Исполняется давнишнее желание моего сердца; я могу
выразить свое почтение уважаемой егермейстерше и представить ей
в своей особе близко с ней связанного и покорного слугу — Петра
Кунасевича, мужа Терезы, в девичестве панны Кежгайло.
Вдова сдвинула брови.
— А! — сказала она. — Что же вы здесь, сударь, делаете?
— Как это что делаю? — отвечал несколько смутившийся
Кунасевич. — Приехал с поклоном, хотя и поздно. А если и поздно,
то не мы в этом виноваты, а покойник, который под угрозой своей
немилости запретил нам видеться с вами. Если бы не это...
Егермейстерша взглянула на говорившего таким взглядом, что
он должен был опустить глаза.
— О том, что вы умеете говорить и перетолковывать все по-
своему, мне давно известно, — сказала егермейстерша, — но все
это напрасно. Слова не нужны там, где жизнь говорит за себя. В
продолжение стольких лет вы ни разу не вспоминали о нас и не
желали нас знать; теперь же, когда покойный отец простил меня,
вы хотите примириться с нами, чтобы нас обидеть. Слишком
поздно, пан подкоморий!
Кунасевич, совершенно не ожидавший такого энергичного
отпора, с минуту стоял, не находя слов для ответа; но удивление не
лишило старого плута присутствия духа.
— Милостивая государыня, — начал он, — страдание и горечь
не знают меры, поэтому я не принимаю близко к сердцу тех резких
выражений, которыми вы меня встретили. Вы, сударыня,
несправедливы: покойник взял с нас клятву, что мы не будем иметь
отношений с вами; и хоть сердце наше разрывалось, мы должны
были подчиниться ему!
— Все это пустые слова, — повторила вдова, -ая скажу вам
еще раз: кто не знал нас в несчастье, того мы не хотим знать при
изменившихся обстоятельствах.
— Милостивая государыня, — отвечал, приняв гордую осанку,
подкоморий, — вы можете признавать или не признавать нас как
родных, но у нас есть с вами общие дела; следовательно, нам
приходится быть знакомыми. Это одно, а второе: у нас тоже есть
387
своя честь; если нас оскорбляют, мы умеем отплатить за это.
Следует и с этим считаться.
— Для ведения дел мы призовем людей, которые знают в них
толк, а мы можем и не встречаться.
Она поклонилась, как бы собираясь уходить или давая ему
понять, что ему нечего больше здесь делать. Подкоморий стал
пунцовым.
— Милостивая государыня, — повысив голос, воскликнул
он, — так не принимают зятя!
— Иначе я не умею вас принять, потому что это было бы
ложью; я не верю во внезапную любовь.
— Да тут вовсе не любовь, а общее дело! — гневно сказал
Кунасевич. — Я приехал с самыми лучшими намерениями —
помочь вам все устроить, а вы, сударыня, не желаете даже выслушать
меня.
— Потому что я знаю, что вы рады были бы воспользоваться
моей неопытностью, бедностью и беззащитностью, как вы всю
жизнь проделывали это с другими.
Подкоморий рассердился окончательно.
— Вы, сударыня, пользуетесь своим правом женщины, —
крикнул он.
— Я говорю то, что. думаю, — отвечала вдова, — ваша
покорная слуга; мое нижайшее почтение!
Кунасевич совсем растерялся: взъерошил свой чуб, вздохнул,
словно ему не хватало воздуха; язык не повиновался ему.
— Я советовал бы вам подумать хорошенько, — тоном угрозы
сказал он, — над тем, что значит — сделать Кунасевича своим
врагом!.. Это не шутка, милостивая пани!
— Приятелем моим он все равно не будет, — гордо возразила
егермейстерша, — мое нижайшее почтение, сударь.
Подкоморию оставалось только одно — удалиться.
— Значит, вы объявляете мне войну? — спросил он.
— Не хочу ни войны, ни союза с вами, — отвечала вдова. —
Мой сын на службе у князя-канцлера, он найдет у него и
покровительство, и добрый совет. Дело ясное, а я с вами не буду вступать
ни в какие сделки.
Упоминание о князе-канцлере было неприятно Кунасевичу,
потому что он знал, что теперь фамилия везде одерживала верх,
следовательно, и ее приверженцам и слугам отдавалось
предпочтение перед другими.
— А, значит, — сказал Кунасевич, — я должен удалиться ни
с чем? Прекрасно; после такого долгого пути, предпринятого ради
восстановления любовного согласия и семейного примирения, ке
отдохнув и не перекусив, я должен возвращаться домой. Даже и
у татар со мной этого не случалось!
Он злобно засмеялся; егермейстерша, еще раз взглянув на него,
повернулась и пошла к себе, оставив его в одиночестве. Но не
так-то легко было отделаться от настойчивого подкомория. Он по-
388
стоял, огляделся вокруг, потом присел отдохнуть, и, несмотря на
явно выраженное хозяйкой желание отделаться от него, не думал
уходить. Было очевидно, что он надеялся на какую-то перемену.
Он совершенно не мог понять, как женщина осмелилась выгнать
его так смело, да еще наговорила при этом самых оскорбительных
вещей, и все это совершенно безнаказанно...
Между тем вдова, оправившись немного, послала за Теодором,
шепнула ему несколько слов и, видя, что подкоморий сидит даже
не помышляя об отъезде, отправила его к нему. Мы уже упоминали
о внешности Паклевского, который среди красивейших мужчин
своего времени считался самым красивым, имел очень внушительный
вид и, побывав при дворе князя, приобрел еще более лоска и
смелости.
Когда Теодор переступил порог комнаты и подкоморий
догадался, что этот гордый панич, должно быть, сын вдовы, он смутился
еще больше. При первом взгляде на него он понял, что с ним
нелегко будет бороться. Выражение лица Теодора говорило о том,
что он твердо решил избавиться от навязчивого посетителя.
Войдя, он слегка наклонил голову.
— К вашим услугам! Чем могу быть полезен? — холодно
спросил он.
— Я — Кунасевич, подкоморий, этого достаточно, чтобы
объяснить мое присутствие здесь.
Теодор улыбнулся.
— Не имею честь знать! — коротко отвечал он.
— Так, значит, и вы, сударь, встречаете меня так же
любезно, — воскликнул, обиженный подкоморий, — вместо примирения,
вы хотите, чтобы мы начали войну?
— Но какое же теперь может быть примирение? — возразил
Паклевский. — Мы не знаем дела, не имеем документов и не
спешим покончить с ним. Нам неизвестен даже текст завещания.
— Вот именно, — подхватил подкоморий, — я все это и привез
с собой. У меня есть копия с завещания и прочее... Мы можем
вместе обсудить какие-нибудь неясные пункты; а то кто знает,
может быть, завтра я, вместо того чтобы глупо протягивать вам
руку примирения, захочу подать в суд жалобу и буду протестовать
против завещания. И если уж я захочу это сделать, то сделаю, и
вам не достанется ничего, ровно ничего!
— Если бы это было возможно, пан подкоморий, — прервал
его Теодор, — то я глубоко уверен, что мы не имели бы тогда
счастья видеть вас у себя! Да в конце концов, ну, положим, вам
удастся доказать недействительность завещания, ну что же? Мы,
правда, ничего не получим, но, по крайней мере, нам не придется
иметь дела с тем, кто столько лет наговаривал на нас и вредил
вам.
— Мы? Кто? Я? Жена? Мы наговаривали на вас? — крикнул
подкоморий. — Мы вас старались защищать, но старик и слушать
ничего не хотел.
389
— А если бы я сейчас вот привел вам свидетеля, который мог
бы повторить ваши собственные слова?
Кунасевич побледнел и растерялся.
— Свидетеля! Обманщика, который к вам теперь
подлизывается! — заговорил он с возрастающим гневом. — О! О! Ну, значит,
мне здесь больше нечего делать! Как постелешь, так и выспишься.
Хорошо же! Будьте здоровы! Будьте здоровы!
Он прощался, направляясь к дверям, но на самом деле и не
думал уходить: и зло его брало, и стыдно было так уезжать. Он
надеялся, что Паклевские опомнятся и вернут его. Уж он не думал
даже о собственной выгоде, которая была сопряжена с большими
трудностями, но лишь о том, как бы все уладить и исправить свои
ошибки.
Теодор, заложив руки в карманы, стоял совершенно спокойно.
Кунасевич хватался за шапку, руки у него дрожали, он мял
ее, встряхивал, поднимал кверху и снова опускал, и все никак не
мог решиться переступить через порог. Насмешливая холодность,
с которой его встретили, и полное равнодушие к его угрозам,
казались ему чем-то совершенно непостижимым.
— А! Значит, у вас есть уже и копия завещания? — спросил
он.
— Нет, у нас ее нет.
— А знаете, что вам назначено?
— Нет, не знаем и не торопимся узнать, — отвечал Теодор.
Подкоморий пожал плечами.
— Что же, вы думаете этими увертками и отговорками
провести меня, старого воробья? Эге! Так я и поверю, что вы не
знаете, что вам завещаны Божишки.
— Я в первый раз слышу об этом от вас, — равнодушно сказал
Теодор.
— Но это не может так остаться, — сказал подкоморий.
— Если не может, то и не останется, — отвечал Паклевский.
— Да ну вас ко всем чертям... — взвизгнул подкоморий,
надевая шапку на уши. — Юзька, давай сапоги!
И он бросился в сени. Но мальчик ушел куда-то погреться, и
подкоморий, выйдя на крыльцо, долго кричал во все горло,
призывая его; в это время взгляд его нечаянно упал на стоявшего в
противоположном конце сеней дворецкого, приехавшего из Божи-
шек; сложив руки на груди, он не выражал ни малейшего желания
прийти на помощь гостю.
Вид этого приезжего многое объяснил подкоморию; он кивнул
головой.
Между тем Юзек, не предполагая, чтобы его пан мог так быстро
покончить все свои дела здесь, уже успел раздеться и отвел коней
в конюшню. Люди подкомория, встречавшие во всех самых богатых
усадьбах радушный прием, не церемонились в этом бедном
фольварке. Коней распрягли и собирались кормить их; а когда Юзек
помог одеться ругавшемуся на чем свет стоит пану, сам оделся и
390
побежал за санями, кучер долго не хотел верить ему и не запрягал
коней.
Кунасевич, сидя на лавке на крыльце, бормотал что-то,
плевался, проклинал, посылал кому-то угрозы, но, к своему
огорчению, не имел даже зрителей, кроме старой бабы, выглядывавшей
из кухни.
В первый раз в жизни его планы разбились об упорство
женщины. Что скажет жена и люди, когда разнесется весть что,
славного старого волка наконец провели!
Если бы не стыд, подкоморий попросту заплакал бы от злосги.
В это время подъехали сани с его людьми, такими же
рассерженными, как он сам. Кунасевич сказал себе:
— Теперь они меня узнают! Теперь уж я начну процесс!
Разорю их, доведу до горя и отчаяния и, хотя бы самому пришлось
лишиться всего, покажу им, как бороться с Кунасевичем! Увидят
они у меня! Что ж, они этого сами хотели!
Он уселся в сани и, так как кони были сильно загнаны,
приказал ехать в Хорощу, чтобы там отдохнуть.
Но все складывалось против него. В гостинице, куда он заехал
на отдых, остановился и как раз переодевался шляхтич, посланный
из Вильно князем воеводой. Это был некий Подбипента, которого
Кашиц, чудзиновский староста, часто посылал с разными
поручениями, ценя в нем находчивость и ловкость.
Подбипента ехал в Белосток, надеясь застать там князя, и в
Хороще менял свой дорожный костюм на парадный. А так как на
постоялом дворе была всего одна комната, то они волей-неволей
должны были познакомиться.
Подкоморий не открыл ему, куда и зачем он едет. Но
Подбипента и сам догадался ввиду близости Белостока, что проезжий
принадлежал к лагерю гетмана и воеводы и что его можно было
считать своим. Вместе они выпили водочки, и завязалась беседа о
том, что делается.
Подбипента не хотел, да и не мог после водки скрыть то, что
тяжелым камнем лежало у него на сердце. По природе это был
человек осторожный и знал, с кем можно быть откровенным.
На вопрос, что нового, он горячо заговорил:
— Плохо, чрезвычайно плохи наши дела! Фамилия забирает
все больше власти, и только слепые не замечают, что они со своим
стольником выиграют дело, а мы — или будем вынуждены сдаться,
или они нас раздавят. К чему утешать себя фантазиями? У них и
войска императрицы, и сильная партия в стране, и — разум; а
мы — накричим, нашумим, а толку никакого.
Подкоморию, который хорошо помнил, чтс Паклсвский состоял
при дворе канцлера, не хотелось верить в такое неприятное для
него положение вещей.
— Да помилуйте! — воскликнул он. — За гетманом сюит все
коронное войско, у Радзивилла — несколько тысяч милиции,
Потоцкие, Любомирские, Огинские, что же перед ними фамилия?
391
— Фамилия поддерживает своих кандидатов на всех сеймиках,
во всех округах, — сказал Подбипента. — Князь воевода слеп и
не видит опасности — развлекается да угощается; гетман стар и
слаб... А мы, что стоим за их плечами, — если они упадут, будем
отданы в жертву неприятелю. Так бывало всегда и так будет и
теперь, что паны выкрутятся, а мы бедняки, попадемся.
Подкоморий опечалился; он хорошо знал, что значит власть
сильных, и мог опасаться, как бы Паклевский не преследовал его
так, как он когда-то угнетал других в трибунале, когда имел за
собой протекцию. Подбипента, надевая пояс, прибавил грустно:
— Вот везу я эти огорчения князю воеводе; мне не для чего
скрывать и умалчивать... я знаю, что будет. Пан Богуш покачает
головой, князь выстрелит из пистолета и гаркнет во все горло,
гетман пожмет плечами, а на другой день они опять соткут
какие-нибудь надежды из паутины и скажут, что Подбипенте все это
приснилось... Ничто не поможет, если нечем помочь.
После отъезда шляхтича подкоморий, расхаживая по комнате,
долго что-то обдумывал и делал себе выговоры за то, что не был
достаточно терпелив во время переговоров; ему казалось теперь,
что надо каким-нибудь способом еще попытать счастья; тут он
вдруг припомнил отца Елисея у доминиканцев, и хотя ни разу в
жизни не видел его, но решил воспользоваться своим свойством с
ним и выразить ему свое почтение и в то же время попробовать
сделать его посредником. Было еще не поздно; отдохнув немного,
подкоморий отправился в монастырь. Но, когда он попросил
провести себя к ксендзу Елисею, пришлось обратиться за разрешением
к настоятелю, так как никто здесь не знал подкомория. Отец
Целестин, расспросив подробно приезжего и дав ему понять, что
святой человек отличается некоторою резкостью и странностями,
позволил ему пройти в его келью. Это был час, когда старец
кормил своих воробьев; увидев входившего к нему незнакомого
человека, он закрыл окно и сделал несколько шагов навстречу гостю.
— Проезжая через Хорощу, я счел бы грехом со своей
стороны, — сказал подкоморий, — если бы не пришел поклониться
святому отцу... Я горжусь тем, что меня связывают с вами кровные
узы.
— Дитя мое, — отвечал отец Елисей, — у меня нет другого
родства, кроме отца в небе и братьев доминиканцев на земле.
Подкоморий поцеловал ему руку.
— Я женат на Терезе Кежгайло, — сказал он.
— На здоровье, дитя мое, — отвечал отец Елисей.
Разговор не клеился; подкоморий не без основания догадался,
что отец Елисей, очевидно, поддерживал отношения с Паклевскими
*i был предубежден против него.
— Кроме того, что я хотел поклониться вашему преподобию, —
сказал он, — я приношу вам жалобу на прием, сделанный мне
Паклевскими, от которого у меня сердце разрывается.
— Как же это так? — спросил старец.
392
— Они знать меня не хотят и даже не разговаривают со мной.
— А раньше вы были знакомы? — спросил монах.
— Мы и не могли быть знакомы, — сказал подкоморий, —
свято соблюдая заповедь Божию, я должен был слушаться воево-
дича, как отца; а он не позволял нам встречаться.
— Боже мой, — заметил отец Елисей, — как же приятно
слышать о таком послушании заповеди и родительской власти! Вот-то,
верно, болело у вас сердце!
Подкоморий вздохнул.
— Скажу вам правду, ваше преподобие; как только покойный
закрыл глаза, я летел сюда как одержимый, чтобы с открытым
сердцем протянуть им руку! И что же? Паклевская приняла меня
с презрением, а сын ее — как чужого. Даже говорить не желал.
Я уехал от них в слезах...
Бедняга вытер сухие глаза. Отец Елисей слушал и смотрел.
— Это нехорошо вышло, — сказал он.
— А нельзя ли уговорить их, чтобы они одумались? — сказал
подкоморий. — Если они меня не хотят слушать, то, может быть,
голос святого капеллана...
Он еще раз поцеловал его руку. Отец Елисей улыбался.
— Мой голос, — сказал он, — немного значит в мирских
делах, да к тому же я, как чужой им, могу заблуждаться. Думается
мне вот что: Беата, сестра вашей жены, долгие годы жила в
отчуждении от семьи и терпела нужду; дайте ей доказательство
вашей любви не в словах, а на деле, — это заставит ее одуматься,
она, наверное, ничего от вас не примет, но должна будет признать,
что вы относитесь к ней по-братски.
— А если примет? — живо и неосторожно сказал подкоморий.
На этот раз старец рассмеялся громко.
— Отец мой, — объяснил Кунасевич, — у нее только один
сын и то такой, что для него свет не будет тесен; а у меня четверо
заморышей, и все такие худые, несчастные, которым нужно что-
нибудь оставить, потому что они сами ничего не сумеют
заработать... Но, в конце концов, дорогой отец, — что важно? Дело
делом, пусть люди судят, а правительство утверждает приговор; но
ведь мне всего важнее любовь и мир да добрый пример...
— Это все очень хорошо, — сказал отец Елисей, — ну, так
что же?
— Я обращаюсь, отец, к вашему заступничеству, чтобы мне
не вернуться со стыдом, — горячо заговорил Кунасевич, — вот я
вернусь домой, жена придет в отчаянье...
Старец задумался.
— Хорошо, я помирю вас и выпрошу вам прощенье, потому
что вы виноваты, — сказал он неторопливо, — но вы дайте мне
письменное обещание, что ни в чем не будете противиться воле
покойного.
— Письменное обещание? Собственноручно? — возразил
подкоморий. — Я? Ты хочешь, чтобы я связал себя собственноручной
393
подписью? Во имя Отца и Сына! Да за кого же вы меня
принимаете? Хе, хе!
Вся эта речь, произнесенная совершенно изменившимся тоном,
обнаруживала ясно, что подкомооий совсем не знал отца Елисея
и относился к нему как к обыкновенному человеку, с которым
можно было разговаривать по-человечески.
Старец поднял руки.
— Сколько тебе лет? — спросил он.
Подкоморий стоял молча, не понимая цели вопроса.
— Лет? Мне? Метрику сожгли, но известно, что я родился при
саксонце, полвека с лишком на моих плечах.
— А сколько думаешь еще прожить? — сказал ксендз.
Этот второй вопрос окончательно огорошил Кунасевича.
— Это воля Божья. Кто же знает, сколько кому
предназначено...
— Судя по-человечески, тебе, дитя мое, осталось прожить де-
сяток-два, — сказал отец Елисей, — но как же ты заботишься,
чтобы озолотить этот остаток жизни, не думая о вечности! Боишься
собственноручного заявления, готов судиться, чтобы урвать
что-нибудь для себя и детей, и не побоишься взвалить тяжесть на душу,
лишь бы мошна была полна. Ох, бедный ты мой!
Он сложил руки.
— Дорогой отец, — сказал подкоморий, — я пришел сюда не
для проповеди, а за помощью и советом.
— Я и даю тебе, какой могу: заботься больше о душе, чем о
мошне.
Говоря это, он повернулся к чирикавшим воробьям.
— Вот эти негодники, — сказал он, — стоит только бросить
им зерно, как они сейчас же в драку. Взгляни-ка, сударь. Это
совсем как у людей!
Кунасевичу вовсе не хотелось смотреть на воробьев; он только
теперь начинал понимать, почему настоятель называл старца
чудаком.
— Признаюсь вам, ваше преподобие, — заговорил он, — что
я шел к вашему преподобию с приятной надеждой, как к
духовному лицу святой жизни, что вы во имя Христа помирите
нас, а вы...
— Да, ты хотел, чтобы я во имя Христа велел вам
поцеловаться, чтобы тебе удобнее было укусить! Эге!
Кунасевич жалобно простонал:
— Весь мир осуждает меня!
— Покажи же всему миру, что они неправильно судят, —
сказал отец Елисей. — Ты пркшел ко мне, считая меня добродушным
простаком, погруженным в мысль о небесном, пришел за тем,
чтобы с моей помощью опутать невинных. Разве это хорошо? Ведь
мы же знаем тебя!
— Ну, это уж слишком! — чыговорйл подкоморий, пятясь от
него.
394
— Нет, этого еще мало, — разгорячившись, сказал отец
Елисей. — Господь Бог научил меня читать в людских сердцах: дела
твои свидетельствуют о беспокойстве, которое тебя привело ко
мне, и о том, что ты грешен, несправедлив в том, что делаешь,
а хочешь, чтобы слуга Божий помогал тебе и загораживал
собой! Ступай в конфессионал, на исповедь, на покаяние,
старый закоренелый грешник! Бог с тобой! Я лучше останусь с
воробьями.
И, указав ему на двери, отвернулся к окну.
Подкоморий смутился до такой степени, что не нашел ответа;
пробормотав что-то, он хотел объясниться, потом махнул рукой,
оглядел келью и, не прощаясь, вышел вон.
Очутившись за порогом, он отер со лба холодный пот, а отец
Целестин весело приветствовал его.
— Ну, что же старичок? Как он вас принял?
— Как принял? Как? — рассердился подкоморий. — Очень
хорошо, нечего сказать!
И он пошел к выходу.
— Не принимай этого слишком к сердцу, — прибавил
настоятель, — это чудак, но святой человек.
Кунасевич уже не слушал утешений и выбежал из монастыря
до того взбешенный, что, когда на постоялом дворе слуги стали
спрашивать его, останется ли он ночевать или хочет ехать дальше,
он не знал, что ответить, и послал всех к черту.
Спал он плохо и всю ночь обдумывал план мести. На рассвете
он вскочил и приказал запрягать лошадей, чтобы как можно скорее
возвращаться домой. Благодаря хорошему санному пути, он очень
быстро проехал расстояние, отделявшее его от дома. По дороге он
успел все обдумать и успокоиться, а когда жена, не ожидавшая
его так скоро, вышла к нему навстречу, расспрашивая, что
случилось, он спокойно отвечал, что с этими упрямцами ничего нельзя
было поделать.
Отдохнув один день дома, подкоморий снова собрался в дорогу
и пропадал целую неделю. А вернувшись, объявил жене, что
завещание недействительно, потому что написано стариком под
чужим влиянием и в болезненном состоянии, и потому он уж начал
хлопоты о том, чтобы отменить его.
Никогда, может быть, в жизни подкоморий не обнаруживал
большей энергии и не применял всех средств, необходимых для
успеха дела. Прежде всего он отправился к одному из
предводителей партии, стоявшей на стороне фамилии, и предложил ему
свои услуги взамен поддержки его процесса по делу о наследстве.
Подкомория знали здесь и ценили его ловкость, поэтому
перебежчик был встречен радушно, как ценный союзник.
Был вынесен приговор: признать завещание недействительным;
а тем временем подкоморий, собрав у себя и подготовив шляхту,
чапал однажды ночью на Божишки и занял их, а попутно и другие
фольварки.
395
Прежде чем Теодор успел выбраться из дома в Божишки, ему
дали знать, что понадобилось бы несколько сот вооруженных
людей, чтобы отобрать их у Кунасевича.
Князь-канцлер, к которому он обратился с просьбой о помощи,
приказал ответить ему, что надо переждать; он хорошо знал о
состоявшемся соглашении, девизом которого было: рука руку
моет, — но его гораздо больше интересовали депутаты и исход
сеймиков, чем судьба фаворита, которому он приказал возвращаться
в канцелярию.
Подкоморий имел перед Паклевским еще то преимущество, что
он мог щедро сыпать деньгами, тогда как они не имели лишнего
гроша для ведения дела. Правда, юристы, с которыми они
советовались, уверяли их, что в конце концов завещание будет признано
и они выиграют дело; но процесс мог затянуться на многие годы,
а тем временем подкоморий сидел бы себе в Божишках и извлекал
бы из имения все выгоды.
Так рассеялись великие и блестящие надежды егермейстерши,
которые вернули ее к жизни, а теперь она снова погрузилась
в уныние, близкое к отчаянию... Теодор, не решаясь оставить
ее одну в таком состоянии, писал князю-канцлеру, извиняясь
и прося продлить ему отпуск. Ему приходилось ходить к
юристам, собирать документы, делать выписки из актов и
расходовать последние гроши на то, чтобы получить дедовское
наследство.
В таком положении находилось это несчастное дело, о котором
уже говорили повсюду, когда в Борку неожиданно появился давно
туда не заглядывавший доктор Клемент.
Он только случайно был в Белостоке, откуда намеревался
вскоре вернуться в Варшаву.
Теодор, который ездил в поле взглянуть на озимые, как они
всходят, встретил его по дороге.
— А я еду к вам, — сказал Клемент, — я слышал, что вы с
высоты снова упали в бездну. Я еду не для того, чтобы выразить
сожаление, но с предложением помочь. От вас зависит принять его
или отклонить.
Теодор вопросительно взглянул на него.
— Я уверен, что гетман охотно поможет вам вернуть
захваченное у вас имение и переговорит с этим разбойником...
— Поговорите с моей матерью, — сказал Теодор, — я не
решусь ничего делать без нее.
Когда они приехали в усадьбу, Клемент поздоровался со вдовой
и тотчас же сказал ей, что приехал ее навестить, потому что
слышал, что она чувствовала себя нездоровою.
— От моей болезни, — отвечала вдова, — меня вылечит
только смерть! Оставьте меня в покое с вашими лекарствами.
— Может быть, вам помогла бы и уверенность в будущем
вашего сына, не правда ли? — прибавил Клемент.
Она не ответила на это.
396
— Этот несчастный процесс мучает вас, — говорил француз. —
А есть простой способ закончить его.
Егермейстерша бросила на него быстрый взгляд.
— Какой?
— Принять помощь гетмана! — закончил Клемент.
— Гетмана? Нам? Мне? — отвечала Беата, гордо подняв
голову. — Ни за что на свете! Скорее погибну! Принять помощь от
этого человека — это все равно, что получить пощечину!
Она вскочила с места и, не прощаясь с доктором, вышла из
комнаты. Доктор не решился настаивать на своем предложении;
опустив голову, он вышел на крыльцо и уехал опечаленный.
Теодор крепко пожал ему руку на прощание.
— Я был в этом уверен! — тихо сказал он.
Для Теодора настали тяжелые дни; на его неопытные плечи
свалилась тяжесть, которую трудно было нести, даже обладая
большим мужеством. Мать молилась, плакала и, желая помочь ему
советом, выдумывала невозможные проекты, не исполнимые на
практике, чего она не могла понять, и с нетерпением требовала
осуществления их в жизни.
Надо было, с одной стороны, следить за процессом с
непримиримым Кунасевичем, который умел пользоваться всякими
случайностями, а с другой стороны — позаботиться о том, чтобы не
утратить своего места и расположения у князя-канцлера, и в то
же время успокаивать и утешать мать.
Так как от канцлера постоянно приходили письма с
требованиями возвращения, а на ответные письма Теодора с просьбами о
продлении отпуска, там, по-видимому, не обращали никакого
внимания, то егермейстерша решительно заявила сыну, что ему
необходимо хоть на несколько дней съездить в Варшаву и лично
сообщить канцлеру о своем положении.
Теодор, видя увеличивающуюся слабость матери, под
различными предлогами откладывал свой отъезд, но наконец, подчиняясь
ее настояниям, решил ехать, чтобы вернуться в самом
непродолжительном времени. Как раз в это время началась отвратительная
осенняя распутица, и Теодору пришлось ехать верхом в
сопровождении одного только мальчика-слуги и с небольшим багажом. Он
рассчитал заранее место и время остановок и выбрал кратчайший
путь.
Несмотря на плохие дороги, размытые дождями, и на время,
привязывавшее шляхту к своим домам, на проезжей дороге было
большое оживление. Уже по внешнему виду страны видно было,
что она переживает период напряжения всех сил и борьбы.
Некоторые шляхтичи ехали в столицу, другие — на сеймиковые
предвыборные собрания в города своих округов. С одной стороны
собирались сторонники гетмана и Радзивилла, с другой —
приверженцы фамилии. Нередко на проезжей дороге или на постоялых
397
дворах встречались представители двух неприятельских лагерей,
часто находившиеся в родстве между собой, но расходившиеся в
своих политических воззрениях, начинались горячие споры, и дело
доходило иногда до сабель...
Теодор всячески старался избегать этих шумных собраний,
чтобы не быть втянутым в спор. С первого же взгляда ему стало ясно,
что сила была на стороне фамилии, а друзья гетмана были не
уверены в себе и держались не дружно.
Приехав в Варшаву, он тотчас же явился во дворец к канцлеру,
которому дали знать о возвращении беглеца. Князь думал, что он
вернулся окончательно, приказал позвать его к себе и прежде всего
начал с выговоров.
— Что же вы там, сударь, застряли? Хорош, нечего сказать!
Поехал на две недели, а сидит два месяца! Двум богам служить
нельзя; я такой службы не понимаю... И не допускаю.
— Ваше сиятельство, — отвечал Теодор, — со мной случилось
то, чего я не мог предвидеть. Мать моя опасно больна, а я не могу
ее оставить. Дед мой умер недавно, и хотя он оставил самое
легальное завещание, мое имение взяли захватом.
— Кто? Где? — воскликнул канцлер.
— Я уж писал об этом вашему сиятельству: подкоморий Ку-
насевич, — сказал Теодор.
— А! Этот мне нужен, — прервал его канцлер, — и я не
могу пожертвовать общественным интересом для вашего частного
дела.
— Но мне нанесли обиду, которая требует отмщения.
Произошло превышение власти...
— Но ведь все это только временное, — сказал канцлер, — в
свое время справедливость возьмет верх, а пока вы должны
потерпеть. Наследство в руках подкомория...
— Но моя мать! Моя мать, — с тоской выговорил Теодор.
— Да будьте же благоразумны! — крикнул канцлер. — Нельзя
же достигнуть всего сразу...
Паклевский, по старому патриархальному обычаю, склонился
до самых колен князя-канцлера.
— Сжальтесь же, ваше сиятельство, не надо мной, а над моей
бедной больной матерью.
Князь вскочил с места и крикнул с раздражением:
— А я прошу вас, сударь, запастись разумом и терпением!
Придет время, разберем и твое дело.
— А я между тем терплю убытки и потери, которых никто ке
в состоянии мне возместить, — вскричал Теодор.
Канцлер вздернул плечами.
— Оставь меня в покое. Теперь не время думать об этом... Иди
в канцелярию и займись просмотром корреспонденции.
Паклевский не двигался с места.
— Я приехал только с поклоном к вашему сиятельству и с
просьбой продолжить мне отпуск; моя мать больна.
398
Услышав это, князь с раздражением бросил на стол бумаги,
которые он держал в руках, отвернулся и крикнул повелительно
и гневно:
— Даю тебе, сударь, не только отпуск, но и полную отставку.
Прошу оставить меня.
Теодор, пораженный таким результатом разговора, означавшим
утрату княжеской милости, с минуту стоял как окаменелый; канцлер
сердито и нетерпеливо перелистывал бумаги, из которых несколько
упало на пол; Паклевский инстинктивно нагнулся, поднял их и
положил на стол. Князь повернул к нему свое лицо, пылавшее гневом.
— Жаль мне вас, сударь, — порывисто воскликнул он, — но
двум богам нельзя служить. Это невозможно!
— Ваше сиятельство, — отвечал Паклевский, которому
придала смелость безвыходность его положения, — как бы я ни был
предан вашему сиятельству, но не могу принести в жертву службе
мою мать. Пусть Бог будет мне судьей.
Князь взглянул на него и смягчился.
— Ну, так поезжай к матери, — сказал он, — а когда она
поправится, чего я ей желаю и на что надеюсь, возвращайся не
теряя времени сюда ко мне. Мать имеет более прав, чем я. Возьми
из кассы пятьдесят дукатов, — прибавил он, — и не трать времени
понапрасну.
Теодор, поцеловав князю руку, хотел уже уходить, но тот
бросил ему на стол пачку писем и сказал:
— Хоть эти отправь мне сегодня, а потом поезжай к матери.
Таким образом, несмотря на всем известную суровость князя,
Теодору удалось счастливо избегнуть его немилости. Весь остаток
дня и часть ночи Паклевский посвятил написанию ответных писем,
которые он снес князю и получил полное одобрение; а на другой
день утром он уже ехал домой...
Теодор проехал через всю многолюдную и шумную столицу, в
которой не оставалось ни одного свободного уголка, не замечая
никого и ничего. Правда, ему очень хотелось узнать что-нибудь о
Старостине или генеральше и увидеть Лелю; но нельзя было
медлить, надо было скорее ехать в Борок.
В течение этих немногих дней егермейстерша, предоставленная
самой себе и своим тревожным мыслям, от слез и огорчения
расхворалась еще больше, и когда сын вернулся, она лежала в постели
с кашлем и лихорадкой. Его приезд заставил ее подняться, но под
вечер она снова слегла.
Не будучи уверен в том, уехал ли доктор Клемент в Варшаву
или остался еще в Белостоке, Теодор на другой же день поехал
верхом в Хорощу узнать о нем и был очень обрадован, узнав, что
он только что приехал недели на две. Он послал к нему еврейчика
с просьбой навестить его больную мать.
Клемент приехал в тот же день, но в качестве гостя,
приехавшего просто проведать своих друзей. Егермейстерша лежала
в постели.
399
— А что же это вы, сударыня, хвораете? — с напускной
веселостью заговорил француя, присаживаясь на кровать. — Что же
это с вами? Весенний катар?
Он выслушал ее, прописал тепло и отдых, а главное — хорошее
настроение и, по возможности, удаление от всего, что тревожит.
Лекарство, которое все доктора, словно в насмешку, прописывают
пациентам.
Когда они вышли потом вместе с Паклевским на крыльцо,
доктор нахмурился и на вопрос сына отвечал озабоченно:
— Опасности нет, нет даже болезни, но мало жизни, силы
исчерпаны, а я тут ничего поделать не могу, разве Бог поможет...
Это может тянуться долго, но облегчить положение трудно. Надо
стараться оберегать ее от излишних волнений.
После этого доктор заговорил о делах гетмана и в первый раз
признался, что он желал бы для него примирения с фамилией,
потому что нельзя рассчитывать на какой-либо успех.
— Но у вас есть для этой цели самый лучший в свете
посредник в особе пани гетманши, — сказал Теодор. — Кому же, как
не ей, удобнее всего переговорить с дядями, с двоюродными
сестрами и даже со стольником?
— Да, это правда, — сказал доктор, — но я все же хотел бы,
чтобы примирение это совершилось при мужском посредничестве.
Женщины ничего не умеют делать наполовину, а тут уж в силу
необходимости обе стороны должны будут пойти на половинные
уступки.
— Я не могу судить об этом, — отвечал Паклевский, — но,
насколько я могу заключить по известным мне фактам, фамилия
не удовлетворится половинными уступками. Возможность
соглашения уже запоздала, и теперь фамилия потребует от гетмана
безусловного присоединения к партии...
Доктор взглянул на него.
— Неужели наши дела так плохи? — спросил он.
— Я ничего не знаю; это мое личное и, может быть,
неправильное суждение, — закончил Теодор. — Насколько я мог
заключить, зная характер канцлера, который стоит во главе партии,
от него нельзя ждать ни малейшей уступки.
— А русский воевода? — подхватил доктор.
— И воевода так же, как и вся семья, добровольно подчинился
руководству канцлера, поэтому он сам от себя не начнет никаких
действий.
Клемент печально опустил голову.
Прекраснейшая весна протекала самым печальным образом для
Паклевского: он или сидел над актами процесса, или, посидев около
матери, целые часы проводил на крыльце, глядя на лес или слушая
воркованье голубей.
Не с кем было перекинуться словом. Короткие визиты к отцу
Елисею ке приносили облегчения: старец за всеми преходящими
радостями жизни видел всегда черную бездну печального конца всех вещей.
400
Среди этой пустоты жизни Теодор думал иногда о Леле, но
воспоминание о ней вспыхивало и сразу гасло.
Однажды, когда он сидел, по обыкновению, на крыльце и
скучал, заглядевшись на лес, послышался конский топот, и у ворот
показался всадник на коне, совершенно незнакомый Теодору.
Шляхтич был очень худ, высок, слегка сгорблен — усы у него
начинали уже седеть, — он сидел на крепком гнедом коне с
ременной сбруей, — и ехал совершенно один, даже без слуг.
Заметив, его нерешительность и думая, что он заблудился,
Теодор подошел к воротам, а всадник, с большим любопытством
приглядывавшийся к Теодору, тотчас же слез с коня. Прежде чем они
заговорили, они уже почувствовали симпатию друг к другу. У
приезжего шляхтича, несмотря на то что он был уже стар и некрасив,
было что-то очень привлекательное в выражении рта и во всем
лице, исполненном доброты.
Когда Паклевский подошел к нему, он также сделал навстречу
к нему несколько шагов и, не спуская с него взгляда, заговорил
таким же ласковым голосом, как ласково было выражение его
рта:
— Прости меня, милостивый пан и брат, что я являюсь к тебе
нежданным гостем и беспокою тебя. Смешно признаться, но я —
заблудился!
Он выговорил это так просто, что можно было бы поверить
ему, если бы слабый румянец, выступивший на его лице, не выдал
в нем какого-то беспокойства, возбуждавшего сомнение.
— Меня зовут Макарий Шустак, бывший ротмистр, — с
улыбкой говорил старик. — Я приехал в Хорощу, чтобы навестить пана
Порфирия Пенчковского, старого товарища по оружию; мне
указали дорогу в Ставы, а я, сам не знаю каким образом, заехал
сюда.
— Это еще не так в сторону, — сказал Теодор, — но от нас
из Борка ведет туда такая запутанная дорога, что лучше всего я
дам пану ротмистру проводника.
Говоря это, Паклевский начал, по шляхетскому обычаю,
перебирать в уме всех Шустаков, о каких только он когда-либо слышал
в жизни, и вдруг ему пришло в голову, что Старостина и
генеральша были из рода Шустаков.
— А может быть, пан ротмистр, дали бы отдохнуть коню, —
приветливо сказал он. — До Ставов порядочный путь, но к вечеру
можно поспеть. Правда, у меня здесь убого, и мать моя больна,
так что я не могу принять вас роскошно, но если не взыщете, то
я всем сердцем готов служить вам.
Ротмистр протянул ему обе руки.
— От всей души буду рад отдохнуть у вас, а если вы дадите
мне стакан молока, то это будет самое лучшее угощение.
Теодор крикнул работнику, чтобы он взял коня, и пошел вместе
с ротмистром к крыльцу. Старик с любопытством осматривался
кругом.
401
— Здесь у меня не на что смотреть, — сказал Паклевский, —
окрестности, как везде на Подлесье, — плоские и печальные.
— Ах, государь мой, — весело заговорил ротмистр, — я там
не знаю, как другие, но мне, в какой бы, хотя самый пустой, угол
на нашей земле ни завели меня, — мне все кажется красивым и
приятным. Это, может быть, оттого происходит, что я долгие годы
из конца в конец странствовал по этой земле, и мне кажется, что
у нас всего красивее. Для нас Господь Бог сотворил эти равнины
и леса, которых мы не ценим, и эти поля, эти болота так подходят
к нашему настроению, к нашим мыслям, что, вероятно, нигде
больше мы не чувствовали бы себя лучше...
Хозяин и гость уселись на крыльце.
— Но я еще не представился пану ротмистру, — сказал
Паклевский, — я Теодор Паклевский, а имение называется Борок.
Ротмистр пристально смотрел на него.
— И что же, так вы смолоду и хозяйничаете здесь?
— О нет! Я, к сожалению, ничего не понимаю ни в
землепашестве, ни в хозяйстве, — печально смеясь, сказал Теодор, — я
служу в канцелярии князя-канцлера, но Бог наказал меня
болезнью матери и процессом. Я временно должен переждать в деревне.
А могу я спросить пана ротмистра, не находится ли он в родстве
со Старостиной Куниской и генеральшей?
— В родстве! — с громким смехом воскликнул ротмистр. —
Эта чудачка, сентиментальная Старостина, и прекрасная
генеральша — мои родные сестры!
Теодор даже привскочил с лавки при этих словах.
— Да не может быть! — воскликнул он, обрадованный.
— Это самая настоящая правда! — сказал ротмистр. — Но
постой, сударь, я что-то припоминаю. Паклевский! Старостина все
время рассказывает о каком-то прекрасном юноше, носящем эту
фамилию, который спас ее от смерти.
Теодор рассмеялся и покраснел.
— Ну, смерть ей не угрожала, и даже не было ни малейшей
опасности, если не считать холодного купания.
— Так это вы, сударь, ее спаситель? — начал Шустак. —
Значит, я вам обязан за сестру; наверное, никто другой не пошел бы
ради нее в воду, хоть в свое время — трудно даже поверить этому
теперь — она была хороша как ангел.
Паклевский, взволнованный этой встречей, решил принять
гостя как можно радушнее и, когда тот принялся пить принесенное
ему молоко, Теодор поспешил рассказать матери о неожиданном
госте.
Для нее гость этот был более чем безразличен, но надо было
принять его.
Теодор предложил ему кофе и попросил позволения отвести
коня в конюшню и накормить там; Шустак на все охотно
согласился. Он казался удивительно добрым и общительным
человеком, и так как он, по обычаю своего времени, знал всю
402
шляхту, все ее дела, симпатии и отношения, то с ним легко было
разговориться.
Когда он в разговоре опять упомянул о Старостине и
генеральше, Теодор решился спросить: не выходит ли замуж дочь
генеральши.
— Она бы давно вышла, если бы хотела, — отвечал Шустак, —
но это — упрямый козленок, и это так у нее засело в голове, один
Бог про то знает! У матери и Старостины множество планов
относительно нее, но с Лелей не легко справиться! Ей нельзя силою
навязать мужа. И признаюсь, — прибавил ротмистр, — что я не
хотел бы быть ей навязанным в мужья — это хищное создание.
Теодор не спрашивал больше. Между тем подали кофе.
— Вот вы, сударь, упоминали о процессе, — заговорил
ротмистр. — Я, старый лентяй и бродяга, слышу обо всем
понемножку; не из-за Божишек ли вы ведете тяжбу с Кунасевичем?
— Значит, пан ротмистр слышал об этом?
— Да, слышал; Кунасевич — изворотливая шельма и без
совести, — я его знаю! Знаю давно! И мне приходилось иметь с ним
дело!
— Он захватил у меня Божишки! — вздохнул Теодор.
Ротмистр, чрезвычайно заинтересованный предметом разговора,
приглядывался к своему собеседнику с большим любопытством и
внимательно прислушивался к его словам.
— А князь-канцлер? — спросил он. — Разве не мог бы помочь
вам отобрать их у захватчика?
— Мне обещана помощь, но пока солнце взойдет, роса глаза
выест, — вздохнул Паклевский, — а между тем мать моя все
слабеет, а князь щадит подкомория, потому что он нужен ему для
сеймиков...
— Что за черт! — горячо воскликнул ротмистр. — Да неужели
же у вас не нашлось бы друзей, которые помогли бы вам отвоевать
Божишки?
— У меня? Друзей? — воскликнул Теодор. — С какой стати?
— Да уж хотя бы по той причине, что подкомория ненавидит
пол-округа, — он всем успел насолить. Ему льстят только те,
которые его боятся.
Ротмистр задумался.
— А почему бы вам, сударь, не воспользоваться тем, что вы
вытащили Старостину из воды? Для Старостины генеральша сделает
все, что та ей скажет, потому что она любит Старостину и
нуждается в ней; а для генеральши сделает все, что она прикажет, ее
муж, потому что он у нее под башмаком, ну вот, если бы вы
только заикнулись, генерал дал бы людей из своей команды, хотя
бы пришлось переодеть их; собралась бы шляхта, и ночью можно
было бы напасть на Божишки!
Паклевский слушал равнодушно и недоверчиво.
— Это только мечты, пан ротмистр, — сказал он, — и не стоит
об этом говорить.
403
Старик взглянул на него и, помолчав, сказал:
— А я вам говорю, что это не мечты. — При этих словах он
встал и протянул Паклевскому руку. — Это не мечты и не
роман, — сказал он, — а вот, вы, сударь, задали мне задачу своим
романом. Что мы там будем в прятки играть? Я вовсе не заблудился
и совсем не ехал в Ставы, а прямо в Борок. Скажу прямо: вы
очаровали мою прелестную племянницу, — не краснейте и не
стыдитесь. Я люблю это дитя, как свое собственное, и жаль мне ее
от всего сердца; годы уходят, надо вас поженить!
Теодор бросился через стол обнимать и благодарить его.
Ротмистр сел с таким видом, как будто с души его спала
тяжесть.
— Давайте потолкуем, — сказал он, — чтобы генерал и
генеральша приняли вас зятем надо отвоевать Божишки. Я обещал
Леле помочь вам в этом. Мы должны собрать людей...
— Если бы мы даже захватили Божишки, мой милостивый
покровитель, — заговорил Теодор, которому надежда вернула
юношескую энергию, — допустим даже, что мы нападем на них
врасплох, но как мы удержимся там? У Кунасевича там свои люди.
Это будет война без конца.
— Никогда этого не будет! — возразил ротмистр. — Я все это
беру на себя; захватом закончим все дело. За это я отвечаю.
— Но как?
— О! Как? Этого я не скажу, — отвечал Шустак, — вы
меня, сударь, не знаете, но даю слово, можете на меня
положиться... Кончим дело — по-шляхетски. — Что делать, — прибавил
он, — в какой стране живешь, таких обычаев и
придерживаешься.
Теодор поцеловал его в плечо.
— Но как же это будет? — повторил он.
Ротмистр обнял его в свою очередь.
— Не скажу! — решительно заявил он. — Достаточно того,
что по-шляхетскому (Обычаю.
Шустак закрутил усы.
— Ну, теперь, слава Богу, первый лед сломан, пусть же
расседлают моего коня, и пока подойдут мои люди, прикажи набросить
на него попону в засыпать овса... мы должны подробно все
обсудить, поэтому я останусь ночевать. А матери скажи, что не хочешь
тревожить ее...
Ротмистр чувствовал себя как дома; отправив Теодора к матери,
он сам пошел в конюшню, пе сомневаясь, что его приказания будут
выполнены.
Когда Теодор появился в дверях матерингкой комнаты, егер-
мейстерша, обеспокоенная долгим визитом незнакомца, бросила
на сына тревожный взгляд и удивилась еще больше, заметив, что
ок выглядел таким веселым, каким она давно его не видала. В
первую минуту ей показалось это признаком легкомыслия и
эгоизма.
404
Он, весь дрожа от волнения, подошел к ней и стал целовать
ей руки.
— Ни о чем, мамочка, не спрашивай, только верь мне, что
явилась надежда получить Божишки. Этот незнакомец, о котором
мне нельзя рассказывать тебе, просто ангел, посланный нам с
неба!
Паклевская испугалась и, как это часто бывает с больными и
ослабевшими людьми, приняла это известие с тревогой.
Сын успокоил ее. Она хотела расспросить его, но он только
повторил еще раз, что нашел союзника для того, чтобы вернуть
себе Божишки, и что все это должно до поры до времени остаться
тайной.
Когда Теодор вышел из спальни, вдова схватила четки и
принялась с лихорадочной набожностью молиться за сына и
благодарить Бога за помощь ему.
Шустак, вернувшись из конюшни, где он сам распорядился
отправить мальчика в Хорощу за своими людьми, даже не спросив
на то разрешения у хозяина, пошел с ним в его комнату и,
запершись там, принялся обсуждать с ним задуманное дело.
Из различных намеков и недомолвок ротмистра, Паклевский
догадался, что все это было делом рук прекрасной Лели. Она
перетянула дядю на свою сторону, она через него убедила отца дать
своих людей на помощь Паклевскому, она же в конце концов
отправила старого Шустака в Борок, чтобы он вытащил оттуда
Теодора и уговорил его действовать. Ротмистр был в полном
подчинении у нее.
Добрый старик так принял к сердцу все это дело, что не
отказался даже разыграть вначале маленькую комедию, правда,
недолго продолжавшуюся, но очень его тяготившую.
Решено было, что Теодор поедет вместе с ротмистром в Пше-
валки, куда понемногу будут съезжаться и остальные заговорщики
из тех шляхтичей, которых им удастся уговорить участвовать в
этом деле.
В Божишках, по уверению ротмистра, было не более двадцати
людей, вооруженных скверными ружьями, заржавленными саблями
и дубинками с металлическими наконечниками. Была там и одна
старая пушка, но она могла принести больше вреда тем, кто
вздумал бы стрелять из нее, чем предполагаемым врагам.
Обитатели Божишек жили в полной беспечности, не ожидая
ниоткуда нападения. В усадьбе находился сам подкоморий, его
супруга, двое старших сыновей и слуга. Ротмистр для
успокоения Теодора, который боялся, как бы не произошло
кровопролития, дал ему клятву, что Кунасевичи сдадутся при первом
же выстреле, а слуги тоже не будут сопротивляться, и самое
большее, что может случиться, несколько человек набьют себе
шишки.
Шустак был так уверен в правоте своего мнения, что ге слушал
никаких возражений и беспрестанно повторял:
405
— Положись во всем на меня, мне уж случалось участвовать
в наезде на Речицу, а другой раз на Городище. Я был ротмистром
и беру командование на себя...
На другой день егермейстерша, несмотря на свою слабость,
встала с постели, потому что ей непременно хотелось увидеть этого
спасителя, в которого она с трудом верила. Ротмистр легко завоевал
ее расположение, но не выдал своих планов и твердил ей только
одно, что он от всей души сочувствует Теодору и непременно
поможет ему. Шустак так торопил с отъездом, что они в тот же день
выехали в Пшевалки, деревеньку, которую ротмистр уже много
лет арендовал у князя воеводы несмотря на то, что был в плохих
отношениях с Несвежу из-за Богуша, виленского подвоеводы.
В Пшевалках, расположенных среди лесов, был огромный
фольварк, в свое время построенный для гетмана Радзивилла в стиле
охотничьего домика; ротмистр, сделавшись здесь хозяином, все
переиначил по-своему.
Всех своих слуг он вырядил в полувоенное одеяние, все шло
здесь как на полковой службе, все подчинялись строгой
дисциплине, но старого пана любили крепко. К обеду и к ужину
собирались под звуки труб, охотой занимались с увлечением,
оружия было много, псы великолепные, в погребах множество
всевозможных вин и во всем полный достаток; жизнь была здесь
широкая и обильная, но простая и скромная. Баб тоже было
немало и даже, может быть, слишком много для усадьбы старого
холостяка, но все они были по большей части стары и
непривлекательны. Не успел хозяин с гостем приехать в Пшевалки, как
во все стороны поскакали гонцы с приглашениями принять
участие в охоте.
Разослали гонцов и к таким соседям, которые никогда не
брали ружья в руки, но так как у ротмистра было всегда весело
и кормили хорошо, то каждый охотно ехал для компании. В
назначенный день как начали съезжаться кареты, тарантасы,
брички, дрынды и даже телеги, так до самого полудня, казалось, и
конца этому не будет. Завтрак с утра стоял на столе, а об охоте
не было и речи. В полдень подали обед, который продолжался
до позднего вечера, хотя блюда давно стояли пустые, и беседа
велась за бутылками и рюмками. Так досидели до ужина. Здесь
очень искусно, между прочим и как бы случайно, разговор
коснулся Кунасевича. Хорошо подобранные гости не знали, какими
словами назвать его. Ротмистр заметил тогда, что шляхта осрамит
себя, если позволит ему обижать сироту-племянника. Все
согласились с этим. Тут только Шустак представил им Паклевского
в качестве обиженного и нуждавшегося в их поддержке,
потихоньку прибавив, что генерал согласится дать несколько десятков
вооруженных людей.
Тогда все стали давать шляхетское обещание действовать заодно
с Шустаком и Паклевским. Начали припоминать различные темные
делишки подкомория: как он содрал с одного крупную сумму, а
406
от другого оттянул по суду кусок леса, у третьего забрал землю
и т. п. Нашлось множество обиженных им, готовых отомстить ему
и с жаром изъявлявших свое согласие.
Словом, все шло как по маслу, и ротмистр опасался только
одного: как бы союзники не проговорились перед кем-нибудь
раньше времени. Чтобы предотвратить это, он решил в ближайший
срок назначить день совместного выступления, в зависимости от
обещанной помощи генерала.
Для шляхты, среди которой вряд ли нашелся бы хоть один,
который в своей жизни не участвовал сам в каком-нибудь наезде
или не имел какого-нибудь приятеля или родственника,
подстреленного или раненного в одно из таких нападений, все это было
самым обычным делом, давно установившейся шляхетской
традицией, но Теодору это предприятие казалось чудовищным.
Воспитанный уже в других понятиях о законности и справедливости, он
смотрел на готовившееся нападение как на преступление, в
котором он должен был принять участие. Его мучила мысль, что кто-
нибудь из семьи тетки мог находиться в доме, на который
готовилось вооруженное нападение.
Ротмистр смеялся над его простодушием.
— Ах ты мой добрый, честный и невинный кавалер! — говорил
он, слушая эти речи. — Подумай только о том, что они первые
захватили твою деревню с оружием в руках. Они же знали, что
им могут отплатить тем же. Я ручаюсь тебе, что тетя упорхнет
вовремя; кузены тоже удерут со всех ног, и не прольется ни одна
капля крови.
Чем ближе был роковой час, тем большее беспокойство
овладевало Паклевским, так что ротмистр подумывал уже о том, не
оставить ли его в Пшевалках. Но Теодор решил разделить
опасность со всеми остальными и не согласился остаться.
Постановили собраться на другой день к вечеру в лесу под
Божишками. Ротмистр так весело и живо всем распоряжался, что
заражал своей веселостью и других.
Мы уже описывали великолепную усадьбу покойного воеводича,
которому, вероятно, и не снилось, чтобы его имение могло сыграть
когда-нибудь роль осажденной крепости. Подкоморий завладел им
при помощи небольшой кучки людей и, зная положение Паклев-
ских, нисколько не боялся, что они могут отнять у него добычу.
Дворовые люди воеводича, вынужденные признать нового
владельца, исполняли его волю; ксендз-каноник, против которого был
особенно неприязненно настроен подкоморий, убежал задним вы-
хсдом qepcd сад; разбежались и некоторые слуги, но часть осталась.
Весь этот наезд произошел без всякого кровопролития и был тольпо
облит чернилами и припечатан манифестом; но так как подкоморий
Бее же допускал возможность отступления, то он решил вытянут*
из Божишек, что только будет можно.
И вот постепенно начали перевозить оттуда все, что поценнее,
в соседнюю усадьбу Кунасевича.
407
Подкоморий с женой и двумя старшими сыновьями сидел здесь
как у Христа за пазухой, особенно теперь, когда настала весна и
не надо было отапливать весь дворец, что требовало больших
расходов; в доме были заняты всего несколько комнат.
Так как скупость покойного воеводича наводила на мысль о
скрытых капиталах, то немедленно после занятия усадьбы начались
тщательные поиски по всем углам в надежде на какой-нибудь клад.
Нашлось немало тайных помещений, но все они оказались
пустыми, и тогда возникли подозрения, что ксендз-каноник в интересе
Паклевских отослал скрытые капиталы куда-нибудь в монастырь
на сохранение.
Кунасевичи, жившие до сих пор в старом деревянном доме и
без особых удобств, находили дворец довольно приятным для
жилья. Он начинал нравиться и самому отцу семейства, который
охотно показывал его гостям в повторял при этом, что он уж не
выпустит его из своих рук.
Прошло несколько месяцев, и, убедившись в том, что никакой
опасности и препятствия во владении имением не грозит,
подкоморий совершенно успокоился, а на протесты судебной власти
отписывался пространно, не жалея чернил и бумаги.
— Это, сударь мой, голыши, — говаривал он, — а у нас без
денег шагу ступить нельзя. Пусть себе протестуют, мне-то что? В
усадьбу я их все равно не пущу! Завещание было написано в ту
пору, когда воеводич был уже не в здравом рассудке. Его
продиктовал ему обиженный на меня каноник, нельзя даже ручаться и
за то, что подпись настоящая, а не поддельная.
Так утешал подкоморий себя и других. Жена его выражала
вначале готовность отдать сестре одну деревеньку, чтобы та не
умерла с голода; но впоследствии муж убедил ее, что воля
покойного должна быть для них священна. И притом как-то так все
складывалось, что имущества было ровно столько, чтобы поделить
его на всех детей.
Если бы что-нибудь уменьшить, то пришлось бы обидеть
бедняжек.
Нет ничего на свете более деморализующего для человека, как
несправедливое обладание чужой собственностью: совесть тотчас
же входит в компромисс с эгоизмом и в конце концов всегда
приходит к убеждению, что не следует упускать того, что попало
в руки.
Подкоморий и его жена убедили себя окончательно, что они
были бы обижены, если бы им пришлось поделиться.
В этот памятный вечер вся стража замка состояла из трех
человек; было еще несколько слуг в боковых пристройках и несколько
рабочих в конюшне; из деревни присылали в усадьбу четырех
сторожей: одни сторожили гумча, другие амбары, третьи стояли около
дворца. Женсксй прислуги было довольно много, но она годилась
только на то, чтобы поднять шум. Старые ружья, не все даже
заряженные, стояли в углу в сенях Все другие роды оружия были
408
сложены в пустой горнице флигеля, где Теодор ждал когда-то
приглашения на прием к деду.
В этот день подкоморий сидел довольно долго на крыльце,
разговаривая с управляющим и экономами; наконец вся семья,
спугнутая холодком весенней ночи, разошлась по своим комнатам.
Слуги давно уже спали, а сторожа, пришедшие с трещотками и
давшие знать о своем приходе, отправились искать удобных
местечек для отдыха.
Подкоморий имел обыкновение вечером, когда все затихало,
сидеть еще в канцелярии, где ему ставили две сальные свечи в
подсвечники с колпаком. Здесь, среди ночной тишины, приходили
ему в голову почти гениальные планы апелляций и манифестов,
которыми он изумлял самых искусных юристов. Он просматривал
бумаги, делал заметки, а устав, начинал расхаживать по комнате,
бормоча молитвы, так как он отличался некоторою набожностью,
и только после этого, ударив себя несколько раз кулаком в грудь,
удалялся в общую спальню.
Сыновья ложились спать раньше родителей.
Кунасевич перед ночью удалился, как всегда, в канцелярию,
но свежий весенний воздух, как всем известно, действует на
человека усыпляюще; на подкомория напала страшная зевота, и он
после каждого зевка торопливо крестил рот от напасти дьявола
маленьким крестиком. Усевшись в кресло, он почувствовал себя
таким сонным, что, начав перелистывать документы, — не
совладал с собой и, откинувшись в кресло, задремал.
Сальные свечи, с которых не снимали нагара, оплывали, на
них нарастали целые грибы, но он не обращал на это внимания.
В полусне он думал о чем то, хорошенько не отдавая себе отчета
в своих мыслях. Где-то жужжали мухи, но так громко, что он,
хоть и не видел их, отгонял от себя.
Наконец, этот шум показался ему совсем не похожим на
жужжанье мух и шел он как будто со стороны двора. Это не был
шелест листьев, колеблемых ветром, или спокойный шум
весеннего дождя. Подкоморию показалось, что он слышит чьи-то шаги
и тихие голоса под окном. Но так как слуг в доме было мало,
а сторожа бродили поодиночке, то он решил, что это ему
послышалось.
Не имея ни малейшей причины тревожиться, Кунасевич все же
стал прислушиваться, обеспокоенный странным звуком, смутившим
ночную тишину Божишек.
Что это могло быть? Встать или не вставать? Он еще
раздумывал, когда во дворе послышался страшный шум и раздались жалкие
крики. Прозвучало несколько выстрелов.
Подкоморий, не отличавшийся смелостью и не без основания
полагавший, что люди могут мстить ему, сорвался с места, и
первым его побуждением было бежать к дверям, не прихватив с собой
даже сабли.
Но двери были заперты снаружи!
409
Он подбежал к окну, но окно было заперто снаружи ставней.
Между тем шум и крики, сопровождавшиеся выстрелами, не
умолкали... Кунасевич узнал голоса своих слуг и домашних.
На дворе раздавался топот коней, а из сеней доносились звуки
борьбы и крики: «Хватай!.. Бери!.. Вяжи!»
А над всем этим звучали громкие приказания людей, голоса
которых были незнакомы Кунасевичу.
Однако, он сообразил, что за его наезд на Божишки ему
отплачивали той же монетой; но откуда могли взять Паклевские
людей? Кто оказал им поддержку, кто внушил им эту смелую
затею? И для чего его так тщательно заперли, как узника в
тюрьме? Этого он не мог понять. Перекрестившись дрожащей рукой,
он призвал Бога на помощь, так как хорошо знал, что неприятель,
не встречая сопротивления, конечно, одержит победу...
Теперь все его заботы свелись к тому, чтобы спасти самого
себя, так как было ясно, что по отношению к нему у врагов
имелись какие-то особые намерения, — недаром же они заперли его
в одиночестве и, наверное, приставили хорошую стражу.
Не было никакой возможности выскочить из канцелярии через
дверь или окно: о трубе в камине нечего было и думать при
толщине подкомория; оставалось только одно: погасить свечи и
забиться куда-нибудь в угол, а когда неприятель ворвется,
постараться каким-нибудь способом выскользнуть. Подкоморий
торопливо побежал к свечам и необдуманно задул их, так что в
комнате распространился предательский запах, указывавший на то,
что они были только что погашены.
Сам он в темноте прокрался к дверям, рассчитывая на то, что,
когда люди войдут в темную комнату, он успеет выскользнуть в
сени, а потом и в сад.
Между тем шум значительно ослабел; можно было думать, что
пришли к какому-то соглашению. Люди бегали взад и вперед,
выстрелов не было больше слышно.
Приближалась решительная минута...
Голоса раздавались уже около самых дверей, приказывали
подать ключ. Перепробовали несколько ключей, пока наконец дверь
открыли, и в нее просунулось сразу столько голов, что нечего
было и думать о бегстве. Подкоморий прижался всем телом к
стене.
Впереди всех шел огромный мужчина с шапкой набекрень,
вооруженный пистолетом и саблей.
За ним несли свечи. Это и был ротмистр Шустак.
Входя, он бросил взгляд в глубину комнаты и, не видя там
Кунасев^ча, крикнул:
— Да его здесь нет!
Но в это время другие, шедшие за ним следом, заметили
прижавшегося к стене подкомория и громки сказали:
— Здесь! Здесь! Сидит заяц у опушки... Xa-xaf
Шустак тотчас же повернулся ь нему.
410
— Бьем вам челом, подкоморий! — сказал он. — Мы, сударь,
пришли отдать вам немножко запоздалый визит, но в другое время
нам было неудобно...
Он обернулся к слуге, несшему фонарь:
— Зажги свечи и прошу оставить нас вдвоем, — нам нужно о
многом переговорить. Пусть для безопасности поставят стражу у
дверей. Экипаж и лошади для подкомория должны быть наготове,
так как, покончив переговоры, он, наверное, захочет ехать домой.
Так как Кунасевич не двигался с места, двое шляхтичей взяли
его под руки и провели к столу, около которого стоял Шустак.
Волей-неволей пришлось подкоморию сесть в кресло. Между
тем шляхта отступила к дверям, посмеиваясь, поглядывая на
осужденного и шумно затворяя за собою двери.
— Ну, что же? Нашла коса на камень? Вы, сударь, взяли Бо-
жишки захватным правом, и мы таким же манером отобрали их
у вас для Паклевских, с той только разницей, что у вас, сударь,
не было никаких прав, а мы захватили их по праву.
— Это мы еще посмотрим! — пробурчал подкоморий. —
Арестовывать шляхтича никто не имеет права, и мы еще будем иметь
с вами дело за сегодняшнюю расправу.
— А я полагаю, — помолчав, сказал ротмистр, — что мы здесь
потолкуем и все уладим...
Кунасевич, не отвечая, покачал головой.
— А вы как думаете, пан подкоморий? — прибавил Шустак.
— Я? Я что думаю? Да я думаю, что это не наезд, а просто
разбой, за который вы все, сколько вас тут есть, будете в ответе.
— Ну, чтобы посадить нас всех, не хватило бы тюрем, —
возразил Шустак, — нас здесь очень много, чуть не пол-округа.
Сосчитай на всех людей, которых ты в продолжение нескольких
десятков лет обижал, стараясь с каждого содрать хоть понемногу!
Сегодня все явились сюда для реванша... Рано или поздно эта
история повторяется со всеми, кто перетягивает струну, — в конце
концов она может лопнуть.
Подкоморий бросил на говорившего сердитый взгляд и надулся,
но молчал.
— Я хочу сделать вам одно предложение, — сказал Шустак. —
Все здесь присутствующие просили позволения — в виде возмездия
дать вам по одному удару кнутом...
Кунасевич вскочил с громким криком.
— Садись, сударь, и не производи шума раньше времени, —
сказал ротмистр, — это ничему не поможет, и можешь только
раззадорить тех, которые поджидают там моего сигнала...
— И вы, сударь, называете это наездом, — закричал
подкоморий, гневно сверкая глазами, — да это нападение, разбой, это
криминальное дело! Как это? Меня, одного из первых людей в
округе, вы посмели бы...
— Бнвали примеры, известные и в судебной практике, что ч
подкомориев к тли на ковер, особенно в тех случаях, когда
411
великие люди учиняли бесправие, глумились над справедливостью,
обижали невинных, обижали сирот; это не будет ни новым, ни
экстраординарным, если мы воздадим вам, что следует...
Кунасевич не мог даже говорить; он метался по комнате в
диком гневе.
— Послушай, пан подкоморий, — сказал Шустак, — я,
которому выпала честь руководить этой компанией, не стремлюсь вовсе
к наказанию грешника плетью, но к его раскаянию и исправлению.
Для меня ясно и очевидно, что вы совершенно правильно
написанное и официально подтвержденное, одним словом, настоящее
завещание старались объявить недействительным, вы старались
обидеть сестру своей жены и противились воле покойного, завладев
ее частью наследства. Мы этого допустить не можем. Мы откажемся
от вполне заслуженных вами ударов плетью только под тем
условием, что вы сейчас же, в присутствии нотариуса и при свидетелях,
признаете завещание действительным и написанным в полной
памяти и здравом рассудке, — сознаетесь в своей вине и вернете
убытки.
— Ах, так? — вскричал Кунасевич. — Ни за что на свете!
— Подумайте еще, — сказал Шустак, — вы можете выбрать.
Божишки мы уже заняли и больше их вам не отдадим, — за это
я ручаюсь: если будет процесс, мы найдем протекцию; мы вас
отпустим на свободу, и что вам не уйти от плетей — в этом уж
можете быть уверены...
Сказав это, он встал и хотел ударить в ладоши; подкоморий
соскочил с кресла и схватил его за руки.
— Послушайте, пан ротмистр, — сказал он, — предположим,
что я подпишу. На что это вам пригодится? Прямо отсюда я поеду
в город и подаю жалобу о насилии. Это уголовное дело!
— Ну, что же? Значит, остаются плети, — вздохнул
Шустак, — ничего не поделаешь! Мы должны получить какое-нибудь
удовлетворение и мы его получим на ковре...
Он снова встал.
— Послушай, сударь! Так же невозможно! Боже
милосердный! — простонал подкоморий.
Ему хотелось плакать, в отчаянии он ломал руки.
— Вы должны отказаться от Божишек и несправедливых
притязаний на них, — прибавил ротмистр.
— Этого не может быть!
— Это должно так быть! — подтвердил Шустак. — Решение
зависит от вас.
— У меня четверо детей! — простонал Кунасевич.
Кунасевич плакал потихоньку, бормотал молитвы, надеялся на
чудесное избавление, — и был почти без чувств! А время шло.
Между тем ротмистр подошел к дверям, открыл их и громко
произнес:
— Призываем нотариуса Богаловича и шестерых приглашенных
свидетелей. Пан подкоморий, побуждаемый сочувствием к судьбе
412
вдовы, пани Паклевской, сам добровольно и немедленно
отказывается от процесса с нею, признает завещание действительным,
прекращает начатый процесс и обещает изъять его из актов.
Пока он говорил это, в дг.ерях показалась маленькая, но очень
задорная фигурка нотариуса с зачесанными кверху волосами,
который шел, подпрыгивая и самодовольно улыбаясь, держа под
мышкой книгу и бумагу.
— Просим пана Богаловича прочитать нам приготовленный
документ!..
Кунасевич, закрывший было рукою глаза, открыл их и
приготовился внимательно слушать.
Когда чтение довольно длинного документа наконец
закончилось, а некоторые его пункты были повторены несколько раз,
наступило продолжительное молчание.
Подкоморий опять разыграл падающего в обморок, но Шустак
настаивал не на шутку. Среди этих споров прошла ночь, и настал
день, шляхта грозно роптала, перед подкоморием держали перо со
свежими чернилами, и в конце концов он со злостью схватил его
и, подписавшись под диктовку Богаловича, бросил перо на землю.
По приказанию Шустака запряженная бричка ждала подкомо-
рия, смущенный Кунасевич вскарабкался на нее, ударил возницу
кулаком в спину и выехал, сопровождаемый громкими виватами,
смехом и ироническими восклицаниями.
Утром широкий двор усадьбы и все окружавшие его постройки
представляли очень живописное зрелище.
Посередине его расположилась лагерем шляхта с конями,
повозками и слугами в самых разнообразных одеждах.
На двор вытащили бочки, поставили столы и приложили все
старания к тому, чтобы угостить это войско и задержать хоть часть
его в Божишках, потому что, несмотря на подписанный им
документ, подкоморию не доверяли. Шустак советовал Паклевскому,
по крайней мере в продолжение нескольких месяцев, держать
вооруженную стражу для охраны Божишек, пока Кунасевич не
успокоится и не откажется от планов мести.
Паклевский очутился в этой пустой усадьбе с опустошенными
амбарами и сараями в еще более плачевном положении, чем
раньше. Но в первый же вечер после наезда Шустак предложил ему
взять в аренду Божишки со всеми прилегавшими к ним деревнями,
оставив Паклевскому жилой дом.
— Это будет лучше всего и в том отношении, — сказал он
Теодору, — что я буду охранять свое имущество и контракт
присоединю к актам процесса, а подкоморий, если бы и хотел
посчитаться, не решится иметь дело со мною.
Это было благодеянием для Теодора, который тотчас же выехал
к матери, чтобы лично сообщить ей обо всем, что произошло.
Перед отъездом ро/мистр шепнут ei*iy:
— Сначала к матери, а потсм к гекералыпь, там уж вас будут
ждать; а я извещу их о возвращении Еожишек.
413
С беспокойством в душе, еще не смея верить своему счастью,
хотя к нему примешалось много черных предчувствий и серых
мыслей, Паклевский поспешил в Борок.
Он застал егермейстершу в постели, в жару. Рассказ сына о
возврате деревни и об отказе от нее подкомория, правда, очень
обрадовал вдову, но она не могла хорошенько понять, что побудило
этих чужих людей заняться судьбой ее сына, а Теодор не без
основания не решался теперь же сказать ей всю правду. Он хорошо
знал, что мать будет против его женитьбы. Проведя несколько днег
в Борку и не говоря матери, куда едет, только сославпгог* на
неотложные дела, Теодор прямо оттуда направился в имение
Старостины, где жили и генеральша с дочкой.
Рацевичи, наследственное имение Старостины, было очень
красиво расположено на берегу Немана и славилось в свое время
прекрасным, полным вкуса устройством дома и сада. Сентиментальная
пани не жалела средств, чтобы сделать из своего имения нечто
подобное тому, что она видела заграницей. Но так как трудно было
найти хороших художников и ремесленников, то приходилось
довольствоваться тем, что случайно попадалось. Каменный дом, хотя
и небольшой по размеру, выглядел очень красиво, окруженный
парком, в котором на каждом шагу попадались то хорошенький
мостик, то избушка, то китайская беседка или японский домик,
потому что при Саксонце китайское и японское были в большой
моде. Все это содержалось в большом порядке, а дворня бездетной
Старостины, многочисленная, нарядная, хорошо питавшаяся,
обращала на себя внимание своим довольным и веселым видом.
На дворе было заметно некоторое оживление, как будто
готовились к приему гостей. Так прошло около часа; наконец, вбежал,
запыхавшись, тот самый мальчик, который встретил Паклевского,
и пригласил его следовать за нам.
Паклевского провели в маленькую овальную залу внизу, с
окнами в сад, в которой никого не было. Мальчик исчез; прошло
еще несколько минут, осторожно отворились боковые двери, и
медленно не вошла, а проскользнула в комнату нарядная, розовая,
хотя немножко чем-то опечаленная Леля.
Она молча остановилась перед Паклевским, взглянула ему в
глаза, она казалась такой встревоженной, взволнованной и в то
же время была так неотразимо прекрасна и так серьезно настроена,
несмотря на свою молодость, что Теодор опустился перед ней на
колено.
Она приложила палец к губам, а другую руку подала ему для
поцелуя.
— Ну, вы видите теперь, что и вертушки имеют сердце? —
шепнула она. — Я даже сама не думала, что я могу быть такой
отвратительно навязчивой и упрямой. Одно слово еще, и я должна
бежать, а вы поздороваетесь со мной, как будто мы еще не
видались, одно слово! С мамой надо быть очень внимательным и
почтительным и очень ее любить. Вы понимаете меня? Да ведь это
414
совсем не трудно, потому что мама очень милая и красивая и,
правда же, очень, очень добрая!
Она еще раз протянула ему руку, боязливо оглянулась и
выскользнула в те же самые двери.
Паклевский стоял еще, очарованный, когда кто-то подошел
мелкими, быстрыми шажками к другим дверям: вошла
принаряженная, подкрашенная и еще более безобразная, чем когда-либо,
Старостина, с выражением безмерной нежности на улыбающемся
лице.
Она подбежала к Теодору, протянула ему обе руки и
воскликнула:
— Мой дорогой спаситель!
Бедная женщина была взволнована, как молодая паненка,
которая находила наконец своего возлюбленного. Сердце ее было
полно любви к красивому юноше, хотя она уже ни о чем не
мечтала и ни на что не надеялась после признания Лели, которая
сумела привлечь ее на свою сторону.
Она шутливо погрозила ему пальцем и вздохнула.
— Я все знаю, все знаю, — шепнула она. — С сестрой будет
много хлопот, но мы с Лелей как-нибудь справимся с ней, да и
ротмистр поможет.
Говоря это, она с невольной кокетливой гримаской взглянула
на Теодора, и вдруг ей стало жаль этого Антиноя.
— Леля — очень добрая девочка, но ведь это дитя, дитя! У
мужчин странный вкус. Вам будет много возни, потому что с ней
трудно столковаться. Она готова порхать, как птичка.
Не успела она докончить своих слов, как в комнату вплыла
торжественная, очень серьезная в величественная генеральша, а за
нею скромно вошла прекрасная Леля, изображая из себя невинную
простушку. Встреча была холодная.
Леля, однако, успела шепнуть Теодору: «Завтра приедет дядя!
С ним пойдет легче!»
При входе генеральши разговор примолк. Она точно заморозила
всех.
Наутро, когда еще все спали, Теодор вышел, одетый, из своей
комнатки в сад и пошел прогуливаться, вдыхая в себя нежный
аромат молодой зелени и только-только распустившихся цветов.
Тут на всяком шагу можно было напасть на следы утренних
прогулок Старостины: на скамейках, на столбах, на древесных
стволах были начертаны ее рукою цитаты из любимых авторов, стихи,
прозаические изречения.
Паклевский разбирал эти надписи, с трудом восстанавливая их
стертый текст, как вдруг увидел мелькнувшую фигурку Лели. На
ней была широкополая пастушеская шляпка и белое кисейное
платьице.
— Кто позволил вам так рано гулять в парке? — вскричала
она. — Боже сохрани, если бы мама узнала, вот-то бы нам попало!
Но, к счастью, она еще спит...
415
Девушка заглянула ему в глаза.
— Почему вы такой печальный? Я этого не люблю... Для
печали будет достаточно времени потом...
— Никогда, — становясь смелее, возразил Теодор, — только
бы мы были вместе!
— Тише! Тише! Пока не будет формального предложения,
мама не даст своего согласия, мы можем говорить о будущем
только фигурально... Сегодня приедет дядя, — живо прибавила
она, — но пока его еще нет, ради Бога, ухаживайте за мамой,
старайтесь ей услужить. К тете тоже будьте внимательны, ну,
а со мной можете не считаться. Ротмистр, как только приедет,
возьмет все в свои руки и устроит так, что я пана возьму в
неволю. Да, да! Вы должны будете меня слушаться, потому что
я привыкла к тому, чтобы меня все слушались. Потом уж
из благодарности буду немножко слушаться вас, но... очень
немножко!
Так шуткою начался очень серьезный разговор обо всем, что
касалось будущего. Леля желала знать, как выглядят Божишки и
что можно из них сделать; спрашивала его о матери, строила
тысячи прекрасных планов. Стук открываемого окна или
приподнимаемых жалюзи в доме, знаменовавший пробуждение генеральши,
заставил Лелю скрыться в комнаты, а Теодор пробрался в свой
флигель.
День прошел в разговорах о Варшаве, канцлере и видах
будущего избрания короля. Не было сомнения в том, что красивый
стольник литовский был кумиром всех дам. Их мечты окружали
будущий трон радужным сиянием. Генеральша, которая имела
счастье видеть его, разговаривать с ним и даже получить одну из
улыбок стольника, отзывалась о нем с энтузиазмом, как она сама
выражалась.
Ротмистр явился как раз к тому времени, когда собирались
садиться за стол, и весть о его приезде вызвала краску на щеках
матери и тетки. Теодор поспешил к нему навстречу.
Старик с беспокойством спросил его:
— Ну, что, как дела?
— Ничего, — отвечал Теодор, — только генеральша в дурном
настроении.
— Это естественно, — сказал Шустак, — я еще не видел
матери, которая, выдавая дочь замуж, не позавидовала бы тому
радостному волнению молодости, которое никогда уж не повторяется.
Даже матери могут ревновать!
Вычистившись от пыли, ротмистр тотчас же пошел к столу,
зная, что Старостина не любит ждать. За исключением Лели,
которая бросила дяде благодарный взгляд, остальное общество
встретило ротмистрг холодно и принужденно. Обе дамы хорошо знали,
чти езиачает его проезд.
Ротмистр, которой, кесмитря на свою кажущуюся
флегматичность, не любкл откладывать дела з долгий ящик, едва дождавшись
416
окончания обеда, передал сестрам покорную просьбу
Паклевского — принять его в качестве зятя.
Мать, хотя и не выражала прямо своего неодобрения, начала
расспрашивать подробно, ставила условия и в конце концов, дав
свое благословение и согласие, настояла на том, чтобы свадьба
ввиду молодости Лели была отложена на год.
Несмотря на усиленные уговоры ротмистра, заступничество
Старостины и огорчение Лели, генеральша осталась непреклонной. Она
желала иметь доказательство постоянства чувств любящих, —
кроме того, надо было заготовить приданое, а в конце концов, просто
ей так хотелось, и она не желала уступать.
В тот же день в тесном кружке состоялось обручение: на этой
формальности настаивал ротмистр.
Через месяц после этого решительного в жизни Паклевского
события, как раз в то время, когда он собирался постепенно приготовить
больную мать к близкой перемене в своей жизни и, упав к ее ногам,
испросить благословения, — егермейстерша, здоровье которой все
ухудшалось, расхворалась так сильно, что Теодор ночью поскакал в
Белосток — узнать на всякий случай, не здесь ли доктор Клемент.
Случилось так, что в Белостоке временно находился гетман,
который сбежал из столицы, а при нем был и Клемент.
Паклевский тогда же ночью поднял его с постели и привез в
Борок, но никакие лекарства не могли уже спасти больную.
На рассвете егермейстерша умерла, благословив сына и в
первый раз после многих лет обретя душевный мир и покорность
судьбе. Отец Елисей, вызванный к умирающей, — спокойно и
торжественно читал над ней молитвы.
— Не плачь, — сказал он, обняв Теодора, — Бог сжалился
над нею и послал ей избавление от многих и долгих страданий.
Да будет благословенно имя Господне.
Для Паклевского смерть матери была тяжелым ударом, но
добрые друзья помогли ему перенести горе: приехал ротмистр, а
доктор Клемент все время не отлучался от него.
Обряд похорон по желанию покойной должен был совершиться
так же скромно, как был похоронен ее муж. И могилу ей выбрали
рядом с ним.
Желание матери было так твердо выражено, что сын не
решился отступить от него, но каким-то странным образом, несмотря на
то что сам он не заботился об этом, приготовления к похоронам
сложились очень торжественно. Духовенство само предложило свои
услуги и привезло с собою все принадлежности обряда, а отказаться
было невозможно, потому что никто ничего не хотел бргто ьа это,
и все ссылались на глубокое почтение, которое внушала к себе
личность умершей.
Кроме светского духовенства из Тыкоцина приехали кармелиты
и миссионеры.
Утром в тот день, коцп должно было состояться погребение,
гроб с телом покойной, окруженный цветами, стоял на катафалке
417
в зале, а ксендзы по очереди совершали около него отпевания; как
вдруг Паклевский, на минутку вышедший в соседнюю комнату,
чтобы немного отдохнуть, услышал какой-то шум, конский топот
и странное смятение во дворе усадьбы. Был ранний утренний час,
и — по странному контрасту с печальным обрядом — стояла
прелестная весенняя погода; соловьи едва не заглушали своим пением
печальных мелодий погребального обряда.
Теодор, выйдя на крыльцо, заметил у ворот усадьбы чей-то
экипаж, который показался ему похожим на экипаж доктора
Клемента.
Каково же было его удивление, когда, приблизившись к дверям
залы, он увидел гетмана, стоявшего на коленях перед катафалком
и плакавшего, закрыв руками лицо.
Старик долго оставался в таком положении, то отстраняя руки
от лица и вглядываясь в исхудавшее, бледное лицо умершей, то
снова закрывая лицо и погружаясь в свои мысли и нескрываемое
горе.
Лицо умершей — с печатью успокоения, которое смерть кладет
почти на всех умирающих, — казалось, посылало из гроба
прощение старику, который пришел сюда с изломанной душой, словно
совершая покаянное паломничество...
Глаза всех были обращены на него, но гетмана не смущало это
внимание; испытываемое им чувство заставляло его забыть о всех
светских приличиях. Он так долго пробыл у подножия катафалка,
что, казалось, не имел сил оторваться от него. Теодор,
наблюдавший за ним издали и в первую минуту, когда он увидел этого
ненавистного матери человека, — возмутившийся до глубины души
и почти оскорбленный таким знаком внимания к ней, постепенно
поддался впечатлению, которое произвел на него этот седой,
важный старый человек, согнувшийся под тяжестью настоящего тихого
страдания.
Он почувствовал в сердце своем, что теперь и она могла бы
простить и забыть, а потому и он должен забыть все вины. Теперь
он ясно понимал, как должен поступать в будущем: не принимать
никаких благодеяний, но и отказаться от ненависти. Ему было
жаль старика, могущество и величие которого рассеялись в его
глазах, а будущее — оставляло только печальную память о
совершенных ошибках.
Во все продолжение этой немой молитвы Паклевский стоял, не
двигаясь, за дверями, наблюдая за гетманом. Доктор Клемент,
приехавший вместе с гетманом, шепнул ему что-то на ухо и почти
насильно оторвал его от этого печального зрелища. Теодор отступил
в сторону, чтобы не встретиться с ним.
Этот случай произвел на него глубокое впечатление; он
вернулся к ротмистру взволнованный, растроганный и почти
благодарный.
Теперь он не сомневался, что все приготовления к похоронам
совершались по распоряжению гетмана.
418
По окончании печального обряда Теодор съездил на несколько
дней в имение Старостины, чтобы повидаться с Лелей, к которой
привез его ротмистр, и заявил о своем непременном желании
съездить в Варшаву — попрощаться с канцлером. Генеральша очень
одобрила это намерение.
Для него было во всех отношениях полезно не сидеть в
осиротевшем Борку, а провести некоторое время в столице. Дальнейшая
служба у канцлера была невозможна, но те, которые, подобно Пак-
левскому, оставляли ее для независимой жизни, оставались
клиентами дома и его агентами в уездах. Они считались своими и при
случае могли рассчитывать на протекцию.
В столице Паклевский застал всех, начиная с самого канцлера,
занятыми приготовлениями к избранию короля. Приверженцы
саксонской династии и гетманская партия видели ясно, что они не
будут в состоянии противиться выбору стольника.
Лагерь фамилии увеличивался с каждым днем за счет его
противников. Делали еще попытки склонить на свою сторону примаса,
старались воздействовать на Кайзерлинга, гетман вел свои войска
в Варку, но фамилия составила в Вильно конфедерацию, а
Потоцкий, киевский воевода, тайно присоединился к ней, чувствуя
близкую победу фамилии.
Понемногу переходили во вражеский лагерь и другие
сторонники гетмана.
Паклевский, явившись во дворец к канцлеру, должен был долго
ждать, прежде чем его приняли. Гордый старик принял его с
небрежным и рассеянным видом и, едва взглянув на него, промолвил
вместо приветствия:
— Ты мне, сударь, ничего не говори; ты меня покинул — это
твое дело; но я обижен на тебя за то, что ты выбрал такое время
для бегства, когда мне нужны были все силы.
— Болезнь матери и смерть ее, — сказал Паклевский.
— Я слышал и о том, что ты, сударь, собираешься жениться;
все это — безумие; а затем — с Богом, желаю быть счастливым.
— Я думаю пробыть в Варшаве еще несколько недель, —
сказал Паклевский, — и если я могу быть чем-нибудь полезен вашему
сиятельству...
— Ба! — воскликнул канцлер. — Вам кажется, сударь, что к
таким важным делам, какими у меня полна голова, можно так
сразу подойти и отойти, как к обеденному столу!
Паклевский, который вовсе не хотел навязывать своих услуг,
поклонился и хотел удалиться.
— Подожди же; ведь ты действительно можешь быть мне
полезен, и я не отказываюсь от твоего предложения, — сказал князь,
беря со стола бумаги. — Возьми письма и сделай, что можешь;
мне и это пригодится.
С чтою дня Паклевский, не принимая на себя никаких
обязательств приходил ежедневно по собственной охоте в канцелярию
и работал по несколько часов; иногда его задерживали там до ве-
чера, и он снова познакомился со всеми делами фамилии и ее
приготовлениями к избирательному сейму.
Письма, которые проходили через его руки, убедили его в том,
что значительная часть кажущихся приверженцев гетмана или
решительно склонялась на сторону противника, или старалась
откупаться от мести обещаниями остаться бездеятельными. Ему
становилось жаль человека, который так безгранично верил людям,
совершенно не заслуживающим его доверия, или утешался
поддержкой таких ни к чему не способных и легкомысленных людей,
как виленский воевода. Стране угрожала внутренняя война, но
ясно было для всех, что гетман ни в каком случае не выйдет из
нее победителем.
Он счел своими долгом, не вмешиваясь в это лично, постараться
примирить гетмана с фамилией. Правда, он не обдумывал
возможных способов, но был готов воспользоваться первым удобным
случаем. Он сам не пошел к доктору Клементу, но, встретившись
однажды на улице с Беком, которого он встречал у француза, и
заговорив с ним на политические темы, Паклевский вскользь
заметил, что он был бы рад примирению, и дал понять, что гетману
ничего другого и не остается, если он не хочет получить сурового
наказания и обречь страну на рискованные и грозные испытания.
— Я не много могу сделать, но что сумею, то сделаю, — сказал
Теодор.
— А где мы встретимся?
— У доктора Клемента.
Несколько дней спустя Паклевский, в разговоре с канцлером,
заметил, что теперь нетрудно было бы склонить на свою сторону
гетмана небольшими уступками.
— Вы очень ошибаетесь, сударь, — возразил князь, —
гетман слеп и упрям; того, чего бы он пожелал теперь, мы ему
не дадим, потому что мы превосходно обойдемся и без его
поддержки; а того, что мы могли бы предложить ему, он из гордости
не захочет принять.
— Если бы стольник, хотя бы из простой вежливости, сделал
один шаг к нему навстречу! — шепнул Теодор.
— Кандидат, претендующий на корону, не может унижать себя
перед своими явными врагами, даже если это его зять.
Князь махнул рукой.
— Да нам он и не очень теперь нужен. Кончились дни
могущества гетмана.
Придя к доктору Клементу, Теодор узнат от него, что гетман
был бы не прочь пойти на некоторые уступки.
— Пусть же супруга гетмана возьмет это дело в свои руки л
положит начало сближению, — сказал Теодор, — а я, как только
представится случай, буду склонять другую сторону к уступчивости
при переговорах.
Было бы всего удобнее устроить встречу у супруги секретаря
литовского (Огишлсуй), дочери канцлера.
42)
Подав эту мысль, Паклевский в продолжение нескольких дней
ничего не слышал о том, была ли она приведена в исполнение, но
вот однажды утром Клемент прибежал к нему с известием, что
гетманша переговорила уже со своей кузиною и уговорила мужа
быть у нее; теперь все дело было за канцлером и русским воеводой,
которые должны были согласиться приехать и вести переговоры.
Теодор, относя князю бумаги, очень ловко ввернул словцо
о том, что по городу ходят слухи, будто гетман собирается
приехать к супруге литовского секретаря в надежде встретиться там
с канцлером.
Старик бросил на него быстрый взгляд и пренебрежительно
пожал плечами.
— Почему же это невозможно? Если он изъявит нам свою
готовность быть с нами заодно, как следовало давно уже сделать,
мы не закроем перед ним двери; но если он вздумает ставить нам
условия...
Князь рассмеялся и заговорил о чем-то постороннем.
Начав это дело, Паклевский не успокоился до тех пор, пока
не состоялось свидание Чарторыйских с Браницким в доме Огин-
ской. На несчастье гетмана, выезжая из дома, по нерешительности
своего характера, он нашел нужным спросить совета у больного
старосты браньского, который несколько дней перед тем страдал
ревматизмом. Раздражительный и надменный Стаженьский,
имевший преувеличенное понятие о величии гетмана, хотя и не
высказался против примирения, но желал выторговать его на хороших
условиях; он советовал гетману не быть слишком уступчивым.
Гетман застал во дворце Огинских канцлера и русского воеводу.
Оба они встретили гетмана с веселыми лицами и довольно
дружелюбно. Но видно было по их обращению с ним, что, будучи
уверены в себе, они даже не удостаивали гневом противника, который
был им не страшен; этот легкий оттенок в обращении князей уже
с первого впечатления задел гетмана.
Беседуя, трое мужчин прошли в кабинет и остались одни, но
гетман не торопился говорить о своем деле.
— Сейм приближается, как же ты ко всему этому относишься,
граф? — Канцлер умышленно титуловал гетмана графом, чтобы
игнорировать в нем гетмана. — Я надеюсь, что, видя вещи яснее,
чем другие, пойдешь вместе с нами, не правда ли?
— Зная ваш ум и вашу любовь к Речи Посполитой, я тоже
питаю эту надежду, — прибавил русский воевода. — Все усилия
наших противников не приведут ни к чему. Князь «пане коханку»
может обстрелять площадь, но войны не объявит.
Гетман молчал и слушал.
— Прошу верить мне, что я был бы очень рад, l-ля бы мог
быть с вами.
— А что же вам мешает? — спросил канцлер — Я думаю,
что вашего желания вполне достаточно. Вы должны знать
настроение страны. Литва наша, и большая часть короны заодно с нами.
421
— Многие из тех, — прибавил воевода, — на которых вы
рассчитываете, хоть и не разрывают с вами открыто, но тайно
протягивают нам руки. Я не привожу имени, можно и так легко
догадаться.
— Будьте с нами, — сказал канцлер, — и мы забудем все
прежние обиды... Я знаю, что вы недовольны стольником за то,
что он первый не сделал вам визита. Но вы не могли и требовать
этого от него так же, как от примаса. Претендент на корону не
может навязывать себя даже родственникам.
Гетман, который был неприятно задет этими словами, слегка
смешался, но не ответил и не поднял этого вопроса
— Но, в конце концов, — сказал он, — я не для того сюда
приехал, чтобы говорить об обидах. Поговорим об условиях. Вы
хорошо понимаете, что я не могу оставить тех, которые шли за
мной, не обеспечив их чем-нибудь, что могло бы их удовлетворить.
Я не отказываюсь от соглашения, но прошу сказать мне условия.
Русский воевода и князь-канцлер переглянулись между собою,
и последний, выждав немного, равнодушно спросил:
— Ну, как же идут ваши постройки в Белостоке? Мы слышали,
что вы прилагаете усилия к тому, чтобы сделать из него второй
Версаль?
Воевода встал и заговорил о погоде. Гетман, видя, что никто
и не думает обсуждать с ним условия, гордым молчанием закончил
разговор.
Несколько минут оба князя старались поддерживать легкий
салонный разговор, очень искусно избегая всего, что могло иметь
хотя бы отдаленное отношение к политике.
Гетман также, оправившись от первого впечатления,
произведенного на него этим пренебрежительным отказом от переговоров,
старался казаться веселым и равнодушным.
Этот странный разговор, в котором все участвовавшие в нем
старались говорить не о том, что было у них на уме, продолжался
довольно долго, к большому неудовольствию гетмана.
Видя, что он собирается уходить, канцлер прибавил еще:
— Дорогой граф, прошу тебя верить, что мы примем тебя с
распростертыми объятиями, если ты захочешь идти с нами.
Можешь не сомневаться в этом.
— Да, но вы не можете требовать от меня, чтобы я, сам
сдаваясь на вашу милость, обрекал на немилость тех, которых честь
повелевает мне защищать.
— Кого? — с улыбкой спросил воевода.
— Прежде всего Радзивилла! — сказал гетман.
Наступило выразительное молчание, причем взгляд канцлера
блуждал вокруг, как будто ему не хотелось слушать.
— А потом киевского воеводу! — закончил Браницкий.
Тут воевода пожал плечами и отошел к окну.
— Дорогой граф, — сказал канцлер, — думай только о себе и
о пас, а все остальное предоставь Богу.
422
Больше не о чем было говорить: гетман пошел проститься с
супругой секретаря, откланялся и уехал.
Канцлер после его отъезда как будто повеселел.
— Наша совесть чиста, — сказал он, — а теперь все в воле
Божьей!
Так кончились ничем все усилия Теодора, который уж не
решился продолжать старания в этом направлении.
С каждым днем в гетманском лагере увеличивались раздоры и
недоразумения. В день открытия сейма Браницкий, опасаясь
кровавого столкновения, не поставил стражи около своего замка и
позволил придворным людям Чарторыйских занять его. Белинский,
коронный маршал, под каким-то пустым предлогом отказался
прислать ему свою венгерскую пехоту. Когда началось заседание и
Мокроновский выступил с протестом, шляхта взялась за сабли.
Гетман не знал, что делать, и не решался ничего предпринять.
Ему советовали уехать из Варшавы и составить новую
конфедерацию.
Так и было решено. Как раз тогда, когда противная партия
могла опасаться соединенных сил гетмана и Радзивилла, которые
могли вовлечь их во внутренние распри, оба предводителя и
несколько тысяч преданного им войска сами выехали из столицы.
Фамилия вздохнула свободно, когда ей донесли, что гетманские
и радзивилловские повозки, окруженные конвоем, и кареты,
сопровождаемые войском, уже прошли под Волей, направляясь к Ко-
зеницам.
Им позволили уйти беспрепятственно, хотя повсюду на дорогах
стояли вооруженные войска. В эту минуту решились судьбы двух
партий, и для всех было очевидным падение оппозиции. Вечером
партия канцлера праздновала победу, а гетманша, сидя в глубине
кареты, тихо плакала, закрыв глаза платком. Браницкий уже не
обманывал себя никакими надеждами, но до конца не покинул
своих приверженцев...
Последний раз Паклевский видел его в этом печальном
шествии, напоминавшем погребальную процессию.
И действительно, это были похороны всех надежд гетмана,
который, утратив власть, вынужденный отдаться на милость
фамилии, вернулся потом прозябать в Белосток, не чувствуя в себе
решимости расстаться с родиной и быть осужденным на изгнание.
Нужно ли досказывать историю пана Теодора и прелестной
генеральской дочки, соединенных узами брака в том же самом году,
когда в стране начиналось новое, полное напежд, царствование?
В этот период распространения легкомысленных нравов в
обществе легко можьо было бы предположить, что ветреная молодая
дгмочка возьмет пример с очень многих своих подруг и бросится
в вихрь светских удовольствий, забыв о своем избраннике. Но на
самом деле этого не ел; ллось. Паклевский поселился в Божишках,
423
и Леля не оставила его, а свое стремление к веселью и
удовольствиям удовлетворяла тем, что очаровывала всю окрестную шляхту.
Старостина и генеральша, которые перебрались совсем в
Варшаву, не раз пробовали вытащить Лелю из глубины лесов и ввести
в широкий свет. Особенно мать, которая не могла жить без
общества и была уверена в том, что дочь ее имела бы блестящий успех
при дворе, старалась перетянуть ее к себе, убеждая не
закапываться в деревне; но Леля, будучи королевой в Божишках, не
стремилась к второстепенной роли в столице. Привязанность Паклевского,
который обожал ее и был ей так послушен, как она того желала,
совершенно удовлетворяла это сердечко, бившееся живым, но
равномерным темпом. Это затворничество в деревне в эпоху общей
распущенности спасло прелестную Лелю.
Она очень долго оставалась прекрасной, а когда перестала ею
быть, то и тогда пан Теодор считал ее прекраснейшей женщиной
в целом мире.
Маслав
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Был печальный осенний вечер; солнце, закрытое тучами,
которые кое-где проницали слабые лучи, склонялось к закату. Весь
небосклон заслоняли серые разорванные облака, сливавшиеся на
горизонте в одну темную одноцветную завесу.
В воздухе можно было различить глазами ветер, срывавшийся
из-за туч на землю и пролетавший над верхушками дерев, сгибая
их, обламывая ветви и снова улетая куда-то ввысь.
Земля, облаченная в траурные одежды, лишенная зелени,
казалась умершей или уснувшей, а быстро проносящиеся над нею
странно разорванные, причудливо очерченные облака то и дело
меняли краски, то румянясь, как бы от гнева, то становясь синими
от злости. Там, где под ними угадывалось солнце, они горели
желтоватым пламенем, а в местах их разрыва небо светилось
зеленоватыми огнями. Серые тучи, казалось, спешили на восток, чтобы
там собраться вместе, как войско в бою, и двинуться вперед одной
грозной черной массой.
Но и внизу пейзаж не представлял приятного зрелища.
Низкая болотистая долина была окружена черными стенами лесов.
Кое-где на ней виднелись одинокие деревья, наполовину
высохшие или обгорелые, как бы в отчаянии поднимавшие кверху
обнаженные ветви. Осенние ветры сорвали с них последние
пожелтевшие листья.
Среди болота вилась дорога, на которой остались еще свежие
следы страшного и еще недавнего прошлого, которые не успели
еще смыться водою, высохнуть или зарасти травою.
По этой дороге можно было угадать, что делалось здесь вчера,
а может быть, еще и сегодня. Пронеслась по ней страшная буря:
она была вытоптана и убита, как будто по ней прошло множество
народа и целые стада животных; взрыли ее колеса, изрезали острия
пик; повсюду валялись деревья, части сломанных повозок,
окровавленные куски материй, клочки одежды, обрывки веревок. Видно
было, что здесь :тоял огромный военный лагерь или прошла
какая-то громадная тслпа людей. Hi скользкой почве кое-где
отпечатались следы босых ног детских рядом со стариковскими,
человеческих радом со звериными; а вот и человеческое тело: след
волока с черными пятнами заставшей крови.
427
То были, по-видимому, страшные следы войны, несущей с
собою смерть и опустошение.
На изъезженной дороге птицы питались остатками пищи, клевали
рассыпавшееся зерно и, может быть, пили пролившуюся кровь.
Вдали, на холме, виднелись обгоревшие стены, а ниже, в
долине, одиноко торчали черные балки и разрушенные постройки
указывали на остатки человеческого поселения, в котором сейчас
не было ни одной души.
Над всей этой пустынной местностью господствовало глухое
молчание, и только ветер, пролетая, приносил откуда-то отголоски
жалобного собачьего воя. Стая ворон и воронов носилась в воздухе,
то припадая к земле, то с шумом и громким карканьем устремляясь
вверх и кружась над опустошенной долиной. Теперь птицы были
здесь хозяевами, а лесные звери все смелее выходили из леса,
собираясь заменить здесь человека. С жалобными криками летали
над болотом встревоженные чайки. Старая жизнь кончилась здесь,
начиналась новая.
Вглядевшись внимательнее в то место, где, судя по уцелевшим
частям стен, должно было находиться человеческое жилье, можно
было различить еще едва заметные струйки дыма, поднимавшегося
над пожарищем: напрасно стремясь взлететь кверху, они,
поднявшись немного, тяжело опускались вниз и расстилались по земле.
В воздухе стоял запах обгоревшего человеческого тела.
На тропинке, ведущей к ближайшему лесному участку, показался
всадник на коне. Он медленно выехал из-за деревьев, остановился и
долго, долго приглядывался и внимательно прислушивался, прежде
чем решился ехать дальше.
Взгляд его блуждал по окрестностям, где не было ни одной
живой души, не слышно голоса, не видно даже тени человека.
Этот всадник, с темной растрепанной бородой, мужчина средних
лет, имел такой вид, как будто он только что вырвался с поля
битвы; он был весь избит и окровавлен. Панцирь его был весь
исцарапан ударами вражеского оружия, одежда на нем была
изорвана, и во многих местах виднелось израненное и покрытое
кровью тело. На непослушных темных кудрях едва держались
остатки поломанного шлема, за поясом виднелась рукоятка разбитого
меча; в одной руке он держал кусок сломанного копья; его броня
и видневшаяся из-под нее одежда были в нескольких местах
пропитаны, как будто ржавчиной покрыты, засохшей кровью.
Его конь был также избит и изранен и ступал медленно,
прихрамывая и опустив голову, а если останавливался, то сейчас же
принимался искать под ногами засохшей травы, а в канавах воды.
Однако, несмотря на теперешний печальный вид, можно было
догадаться, что всадник и его конь знали лучшие времена. Черты
лица бедного беглеца дышали благородством и гордостью, а
усталый затуманенный взгляд выражал не женственную печаль, а
мужественное рыцарское страдание. И разорванная одежда, и
вооружение были когда-то дорогими и красивыми.
428
Осмотрев окрестность, он со вздохом сошел с коня, потрепал
бедное животное по шее, взял в руку узду и, опираясь на пику,
медленно пошел по направлению к пожарищу. Раненый в ногу, в
грудь и в голову, он шел не спеша, часто останавливаясь для
отдыха. Иногда казалось, что он зашатается т: упадет, что сил его
не хватит на то, чтобы выжить; опершись на коня, оч стоял
некоторое время неподвижно, тяжело дыша, и отдохнув, снова через
силу шел вперед. Конь, тоже прихрамывая и едва двигаясь,
послушно шел или, вернее, позволял вести себя, пощипывая кое-где
уцелевшую траву, встречавшуюся на дороге.
Так понемногу приближались конь и всадник к холму, где на
отгороженном валом пространстве торчали остатки почернегших
стен.
Страшное опустошение царило здесь: кучи углей да груды
развалин. Кое-где в окопах торчали обгорелые поломанные рогатки;
ворота, также обгоревшие и сломанные, лежали в грязи на земле.
Незнакомец медленно прошел внутрь окопов. Должно быть, он
хорошо знал это место, взглядом он искал среди развалин что-то,
что напомнило бы ему прошлое.
В огороженном валами пространстве не уцелело ни одного
строения, только кое-где торчали еще обломки толстых каменных стен,
устоявших среди разгрома. Но тут же рядом вся земля была
изрыта, как будто в ней искали что-то. Черепки разбитой посуды,
колеса, бревна, старая лежалая солома, изгрызанные белые кости
покрывали почти все пространство. В стороне лежала конская
падаль, полусъеденная вороньем, с обнажившимися ребрами.
Перепуганные птицы взлетели было кверху с неистовым карканьем, но
тотчас же снова опустились на свою добычу.
Незнакомец пасмурным взглядом окинул лежавшее перед ним
пространство и, оставив коня у входа, начал медленно пробираться
среди обломков утвари и развалин строений к самому замку,
внимательно приглядываясь и как бы ища каких-нибудь следов, по
которым можно было бы установить историю этого разрушения.
Но если и были следы, то их засыпали развалины, стерли обломки.
Может быть, он надеялся найти трупы, но и их не было видно.
Несколько раз, приглядываясь к лежавшим на земле предметам,
он поднимал какую-нибудь тряпку, обгоревший лоскут одежды и
с гневом и отвращением отбрасывал его от себя. Обойдя одну груду
развалин, он подошел к самой стене замка, но и здесь был тот же
беспорядок и опустошение. Только у самой стены осыпавшаяся
земля как будто приоткрыла пещеру, в глубине которой не было
ничего видно. Из темной бездны кое-где только торчали концы
поломгняых бревен. Незнакомец, прикрыв глаза рукою, с трудом
и долго всматривался в глубину ямы.
Он уже собирался уйти с этого кладбища, когда его чуткий
слух уловил среди глухой тишины кагсиго слабый шум, словно
отзвук человеческих шагов.
Он обернулся к выходу и прислушался.
429
Там никого не было видно, только конь торопливо подъедал
найденную им на валах траву. Тогда он снова двинулся вперед,
пробираясь среди бревен и обломков к тому месту, где были ворота
замка, и в ту же минуту в них показалась человеческая фигура.
Человек этот входил или, вернее, прокрадывался в ворота, но при
виде коня остановился в испуге, оглядываясь по сторонам.
Рассмотрев издали вооруженного мужчину, шедшего к нему от
развалин, он в первую минуту готов был обратиться в бегство, но,
взглянув еще раз на воина, всплеснул руками и, пробежав
несколько шагов, упал перед ним на колени.
Это неожиданное среди руин появление вполне соответствовало
всему окружающему: пожилой мужчина, с обнаженной головой, не
имел на голом теле ничего, кроме старой, порванной сермяги, а
под нею виднелись штаны из грубого полотна, привязанные внизу
к ногам тесемками. Желтое, истощенное лицо с выцветшими
глазами, обросшее волосами, делало его более похожим на мертвеца,
вставшего из гроба, чем на живого человека. Упав на колени, он
поднял руки кверху.
— Вы живы? — крикнул он.
Воин вместо ответа указал ему на свою разорванную броню,
на израненное и искалеченное тело.
— Жив, — отвечал он беззвучно, — жив, но на что мне
жизнь, когда все мои погибли, когда мне остались только могилы?..
И поглядел вокруг себя.
Человек, стоявший на коленях, встал и дрожащим хриплым
голосом сказал:
— Я четвертый день скитаюсь в лесу, грызу траву, сосу листья,
ем сухую кору и грибы, душа едва держится в теле.
— Благодари Господа и за это, — проворчал воин, — я сам
не знаю, жив ли я и как жив?.. Да и на что теперь жизнь?
Человек, вставший с колен, молча подвинулся к воину и
поцеловал ему руку. Так они стояли рядом, не в силах вымолвить
слова.
Потом он тихо спросил:
— Как же вы спаслись?
— Мы пытались под Шродой выдержать битву с чехами. Нас
было немного, но все мужественные воины. Пали все, и меня тоже
сочли за убитого, меня спасла ночь. Конь сначала ушел, но потом
вернулся к тому месту, где я лежал... я почуял его дыхание над
собой, когда открыл глаза. Я тоже скитался по лесам, питаясь
одной водой. А здесь придется умирать! Да, умирать!
Он умолк и опустил голову.
— Где же люди? Почему нет трупов? Где же ваши гдечане? —
спросит он потом.
— 'Согда пришли чехи, я был в лесу, — начал другой, —
вернулся, чтобы увидеть пожарище, незачем было возвращаться. Все
население, несмотря на мольбы о пощаде, было угнано, остались
только мертзъе. Город разграблен.
430
Он бросил взгляд на долину, глубоко вздохнул и спросил:
— А ваши? Ваши где, милостивый государь?
— У меня больше нет никого, — понуро ответил первый.
И, проговорив это, взял коня за узду и начал медленно
пробираться к выходу из замка. Человек в серой сермяге шел за ним.
У подножия замкового холма чернело огромное сплошное
пожарище на том месте, где прежде было большое селение.
Среди обгоревших развалин торчали кое-где журавли колодцев,
остатки уцелевших от огня стен, столбы от ворот и колы от
изгороди да высокие подпорки разрушенных строений.
В костеле уцелели только боковые стены, возведенные из
гранита, крыша рухнула. Они подошли ближе и остановились у входа.
В глубине алтаря валялась обгорелая костельная утварь, высокие
деревянные подсвечники были сброшены с него. Вход в склеп,
находившийся под зданием костела, был наполовину разрушен.
Должно быть, и там искали сокровищ. Не пощадили никого. На одной
стене висело только черное распятие, а на нем полуобнаженный
Христос еще держался одной рукой. Птицы, приготовлявшиеся к
ночлегу, заслышав шум, встрепенулись, вспорхнули и принялись
с криком кружиться над головами.
Последние лучи солнца, проглянув сквозь тучи, осветили эту
картину опустошения желтовато-красным, похожим на зарево
пожара, пламенем.
Двое мужчин с тревогой приглядывались к окружающему.
Всюду сохранились следы недавней жизни: около стен хат валялись
домашняя посуда, разбитые ведра, брошенная пряжа, забытые
детские колыбельки, камни от попорченных жерновов.
Воин и спасшийся бедняк в сермяге, постояв около костела,
пошли дальше, по направлению в спаленной деревне.
Надвигалась ночь, надо было искать пристанища.
— Милостивый государь, владыка Лясота, — жалобно
заговорил человек в сермяге, следуя за ним, — если бы хоть кусочек
хлеба, я сразу набрался бы сил и устроил как-нибудь шалаш.
К седлу коня, которого вел Лясота, была привязана пустая
сумка. Воин поискал в ней и достал кусок чего-то черного и
заплесневевшего, разломал его и дал просившему.
С невероятной торопливостью изголодавшийся человек схватил
в обе руки пищу и с заблестевшими глазами начал грызть сухой
хлеб с жадностью зверя, забыв обо всем на свете.
Лясота, не глядя на него, шел вперед, утомленные глаза его
искали какого-нибудь убежища, но все хаты и все постройки из
досок и тростника стали жертвой огня, от них остались только
углы, которые легко могли упасть и не защищали даже от ветра.
Человек в сермяге съел свой хлеб до последней крошки и только
тогда догнал воина. По дороге он заглядывал в колодцы, думая
утолить жажду, но нечем было достать воду.
Наконец, Лясота нашел где-то с краю две уцелевших стены под
крышей; проведя коня в ближнюю ограду, он сам свалился на
431
землю. Он уже и сюда шел так5 как будто искал места, где можно
было бы лечь и умереть, теперь он закрыл лицо обеими руками
и застыл в полной неподвижности.
Между тем сухой хлеб и немного воды оживили голодного его
спутника.
Это был один из обитателей разрушенного посада Гдеча, еще
недавно принадлежащего к числу главнейших королевских
владений, а теперь ограбленного напавшими на него чехами, которые
увели с собою все население.
Человека этого звали Дембец.
У Лясоты были обширные владения под Шродой, поэтому он
часто заезжал и в город, и в замок. Дембец, по профессии
каретник, часто оказывал ему различные услуги; они уже давно знали
друг друга. Важного магната и бедного ремесленника сравняла
теперь общая беда. Замок Лясоты был также разорен, и он сам не
знал, где преклонить голову. У Дембеца остались только
обгоревшие развалины его хаты.
И теперь он направился к ней, с трудом пробираясь среди
обломков разрушенных строений и, может быть, питая тайную надежду
найти что-нибудь уцелевшее от пожара. Дойдя до знакомого места,
которое даже трудно было узнать теперь, он остановился как
вкопанный. На месте прежней хаты возвышалась большая куча углей.
Становилось все темнее. Дембец отер глаза, взобрался на груду
развалин и стал медленно раскапывать кучу пепла и головешек
поднятой на земле палкой. Под хатой был вырыт в земле
прохладный погребок, в котором иногда кое-что прятали.
Ему пришло в голову, что там могли сохраниться припасы.
Быть может, горсть муки, немножко круп, засохшего мяса или
краюха заплесневевшего хлеба. Роясь палкой в куче, он
действительно нащупал дверь погреба, уцелевшую от пожара, встал на
колени и, разбросав руками завалившую дверь землю и угли, начал
с усилием открывать ее. Работа эта была тяжела для него; он
прерывисто дышал, ложился на землю и снова вставал, пока
наконец ему не удалось, подперев дверь колом, приподнять ее. Там,
по-видимому, все оставалось нетронутым, никто не рассчитывал
найти добычу в этой убогой хате. Голодный Дембец, спустившись
вниз, не удержался от радостного крика, убедившись, что его
кладовая цела.
С беспокойной торопливостью он принялся выбрасывать из нее
все, что попадалось под руку, не гнушаясь и тем, к чему раньше
отнесся бы с пренебрежением, и что теперь он ценил дороже
золота. Скоро он выбрался из ямы, забрал всю скудную провизию,
найденную в ней, и поспешил к тому, кто только что поделился
с ним куском хлеба. Он чашел его лежащим у стены в полудремоте
от истощения и полумертвого от голода.
Мрак все более сгущался.
— Милостивый пан. — промолвил Дембец, склонившись к
нему, — у меня есть пища, я нашел ее в своем погребке. Должно
432
быть, ее хотели там спрятать!.. Я сейчас разведу огонь, и мы будем
есть, будем есть.
Он несколько раз повторил это слово, как будто в нем была
надежда на спасение. Лясота медленно поднял голову.
— Огонь развести, — пробормотал он, — огонь! Чтобы нажить
себе беду! Не смей и думать об этом.
— Никто не придет сюда на огонь, — вздохнул Дембец, —
взгляните, дорогой мой пан, и там и здесь еще тлеют угли и
поднимается красный дымок! Безбожные злодеи чехи ушли прочь,
кругом пусто, надо спасать свою жизнь. Иначе мы умрем с голода.
Лясота снова закрыл лицо руками и не отвечал ничего. Его
мучила жажда еще сильнее, чем голод, а жажда эта происходила
от голода и от лихорадки.
Не обращая внимания на запрещение, каретник принялся
разводить огонь. На пожарище не трудно было раздобыть тлеющую
головню. Из своей хаты он вынес какой-то горшок, найденный им
в погребе. Он собирался уже готовить ужин, когда Лясота попросил
его достать воды.
И вот при помощи этого единственного, какой у них был,
черепка и длинного шеста, найденного на пожарище, Дембец достал
в колодце воды и принес ее Лясоте. Схватив горшок обеими
руками, воин выпил всю воду до последней капли.
Каретник достал воды снова и принялся было за приготовление
ужина, как вдруг порыв ветра принес с собой явственный звук
топота конских копыт.
Забыв о своей слабости, Лясота сорвался с места, крича Дембе-
цу, чтоб тот гасил огонь. Костер был тотчас же погашен.
Мрачное небо еще увеличивало густую тьму ночи. И только в
том месте, где только что зашло солнце, небо еще светилось, и,
всматриваясь в ту сторону, беглецы заметили на большой дороге,
проходившей посередине поселения, тени двух всадников, медленно
подвигавшихся к ним.
В отблеске вечерней зари они казались двумя призраками, хотя
издали невозможно было рассмотреть их.
Лясота и Дембец приглядывались с любопытством и
беспокойством. Лясота скоро узнал в них таких же, как он сам,
бездомных беглецов, вырвавшихся ночью из мест чешских погромов и
побоищ.
Они были вооружены, потому что над головами их торчали
острия копий, которые они держали в руках, и ехали на статных
конях. Султаны шлемов развевались над их головами. Но разве
можно было поручиться, что это не были чехи, искавшие добычи
среди этого разгрома и опустошения?
Всадники остановились перед сожженным костелом... Ветер
стих, и можно было различить отдельные слова, которыми они
обменивались между собой.
— Собачьи дети!
— Звери дикие! Дьявольское племя!
433
После таких проклятий не оставалось сомнения в том, что это
были свои. Лясота сложил руки трубой у рта и закричал им,
напрягая силы.
При этом звуке всадники в первое мгновение повернули коней,
собираясь обратиться в бегство, но потом остановились и стали
приглядываться.
— Свои! — закричал Лясота. — Подъезжайте сюда к нам!
Дембец, который еще раньше Лясоты признал в них своих,
встал с земли и поспешил к ним навстречу.
Вместе все как-то безопаснее.
При виде этой фигуры, выступившей из мрака, всадники
остановились, собираясь защищаться или обратиться в бегство, но
каретник приблизился к ним, узнал соседей и стал звать их по
имени... Это были два брата Д оливы, соседи Лясоты по имению,
Вшебор и Мшщуй.
Утомившись блуждать в лесу без пищи и питья после того,
как владения их были преданы разгрому и огню, они теперь,
узнав Дембеца, охотно сошли с коней и пошли за ним к тому
месту, куда он их вел. Обрадованный каретник шел вперед и
кричал Лясоте:
— Это ваши соседи из Доливян, Вшебор и Мшщуй.
Лясота с усилием приподнялся, опираясь на локоть, а каретник
опять принялся разводить огонь.
Никто не приветствовал друг друга, потому что не с чем было
приветствовать. Разве со спасением жалкой жизни, с которой
теперь не знали что делать. Шляхтичи обменялись только
печальными взглядами.
Когда огонь разгорелся, младший из братьев Долив, рассмотрев
порванную одежду с кровавыми пятнами на ней и исхудавшее лицо
Лясоты, не мог удержаться от проклятий врагам.
— Вот до чего мы дожили! — крикнул он. — Вот что сталось
с нашей землей! Будь проклят тот день и час, когда нами стали
править Мешко и Рыкса!
Дембец взял их коней под уздцы и отвел их в соседнюю ограду,
где они могли найти немного травы. Все сели на земле. И из всех
уст по очереди полились жалобы на судьбу.
— Познань, — начал Мшщуй, — тоже вся разгромлена. Чего
не успела увезти немка Рыкса, то забрали чехи. Она ушла к своим,
к немцам, а за нею должен был идти и сын Казимир. Нет у нас
князя, границы стоят без охраны, в стране безначалие, бери
всякий, кто что хочет. Разорили чехи и Гнезьно, ограбили костел,
забрали все сокровища, а наших братьев погнали перед собой, как
скот. Села выжжены, и куда ни взглянешь, пустыня!
— Погибло Болеславово королевство, — прибавил Вшебор, —
перебито наше рыцарство; все с нами воюют, потому что у нас
безначалие. Нет у нас головы!
— Только и остается нам умереть, чтобы не дожить до
конца, — сказал Лясота.
434
— Чехи чехами и немцы немцами, — сказал Мшщуй, — но
и наш собственный народ разоряет костелы, возвращается в
язычество, наша жизнь висит на волоске! Ходят толпами и призывают
по-старому Ладо, а если повстречают какого-нибудь магната,
ругаются над ним и прибивают его к кресту.
— Что тут делать? Остается одно — умирать, — проговорил
Лясота.
Но Мшщуй отрицательно покачал головой.
— У кого есть силы, пусть идет за Вислу к Маславу, там,
говорят, еще спокойно, у него сила большая. Что делать?
Присоединяться к сильным, а иначе погибнем все, — говорил Вше-
бор. — Мы вот тоже не знаем, идти ли к нему, чтобы спасти
свою жизнь?
— К Маславу? — слабым голосом переспросил Лясота. — Что
ты выдумал? Это человек бесчестный, беспокойный, он — причина
всех наших бед.
Мшщуй пожал плечами.
— Да, это правда, но теперь для нас всякий хорош, кто
поможет нам спастись.
— Лучше умереть! — пробурчал старик.
Так перебрасывались они отрывочными фразами, пока Дембец
не прервал их беседы вопросом, — не голоден ли кто-нибудь из
них.
— А кто же теперь не голоден! — вскричал Мшщуй.
— Что у меня есть, тем я поделюсь и с вами, — сказал
каретник. — Правда, всего понемногу, только бы голод заморить.
И с этими словами он начал раскладывать перед ними копченое
мясо и крупу, сваренную в черепках посуды, найденных им на
пожарище. Ужин был плохой, но изголодавшимся людям он
показался вкуснейшей пищей на свете. И они были ему бесконечно
благодарны.
— Пусть Бог тебе заплатит за нас, — говорили они ему.
— Заплатите лучше вы сами, — отвечал Дембец. — Вы здесь
не останетесь, пойдете куда-нибудь дальше, возьмите и меня с
собой, а то я здесь погибну. Вероятно, завтра перед рассветом вы
двинетесь к лесу, позвольте же и мне пойти за вами. Я поделюсь
с вами своими запасами.
— Кто же из нас может сказать, что будет завтра? — сказал
Лясота.
— Надо идти в лес и за Вислу, — прибавил Мшщуй, — больше
нечего нам делать. Маслав принимает всех.
— И не говорите мне этого, постыдитесь даже думать об
этом! — прервал его старый Лясота. — Кто не знал Маслава,
крестьянского сына при дворе Мешка? Неизвестно, откуда и как
выскочил этот паршивец из хлева, лизал панам пятки, всячески
угодничал и добился того, что стал подчашим, а потом сохранил
Мешку жизнь, королеву выгнали своими заговорами и государя
своего Казимира тоже вынудили удалиться. Это все его штуки!
435
— Ну, конечно, его, — сказал Мшщуй, — я тоже его не
люблю и не защищаю, знаю, что он собачий сын... А кто теперь власть
имеет? У кого сила? Приходится или голову сложить, или идти к
нему на службу.
— Да, что делать, — вмешался Дембец, стоявший поодаль от
всех, — приходится служить кому попало, хоть бы рыжему псу,
только бы не оставаться без власти.
Все умолкли, опустив головы; Лясота, отдохнув немного и
успокоившись, с усилием поднялся, чтобы осмотреть свое израненное
тело и разорванную одежду. В нем виден был человек много
выстрадавший в жизни и научившийся спокойно переносить
страдания; почти без стона, смело, спокойно он начал раздеваться,
отдирая от тела пропитанную засохшей кровью одежду. Тогда из
ран выступила свежая кровь, и он, разрывая на куски белье, стал
прикладывать эти куски к израненному и исколотому телу. Все
смотрели на него с почтительным удивлением. Все-таки это было
доказательством того, что он желал вернуться к жизни и искать
какого-нибудь выхода. Все молча ждали, когда старик окончит свое
дело: надо было договориться, что делать дальше, где укрыться и
куда направиться.
В то время во всей стране не осталось почти ни одного уголка,
который бы не подвергся разбойничьему набегу чехов, поморов или
пруссаков. Особенно тяжелым было положение богатых помещиков,
духовенства и рыцарства, которые при Мешке Первом в Болеславе
приняли христианство. Ни один костел, ни один монастырь не был
пощажен грабителями, ни одно кладбище не избежало осквернения.
Почти все капелланы пали от руки убийц, и великое дело
обращения в христианство, совершенное при помощи христианских
народов, было уничтожено. Это было отчасти на руку немцам,
которые приобретали таким образом право обращения мечом,
завоевания и захвата верховной власти над вновь отстроенным
костелом.
Русь и венгры, со своей стороны, ждали только удобного
момента, чтобы вырвать у Польши земли, завоеванные Болеславом.
Чешский Бжезислав мечтал даже о завоевании всего Польского
королевства и о присоединении его к своим владениям. Он начал
с ограбления Кракова, Гнезьна и Познани и опустошения всех
областей, которыми он хотел править.
Когда Лясота, перевязав свои раны, снова лег на землю, а
Дембец уселся в сторонке, братья Дол ивы, переглянувшись между
собой, продолжили прерванный разговор.
— Как же вы думаете? — заговорил Мшщуй. — Что нам
делать? Говорите вы первый, мы хотим послушать старшего.
Лясота поднял голову, как бы для того, чтобы убедиться, что
эта речь относилась к нему.
— Вы меня спрашиваете? — сказал он. — Да разве я сам
знаю, что надо делать? Я знаю, чего не надо делать. Я не пойду
за Вислу к Маславу, потому что стыд и срам кланяться сыну
436
батрака после того, как человек служил помазанным королям. Мы
все держались всегда вместе с вашими государями: были верны
вдове Мешка, потом сыну его, Казимиру... И теперь мы пойдем
к тому, кто их от нас отнял? А если бы мы и пошли к нему,
то разве для того, чтобы он снял с нас головы: ведь кормить
нас он не будет.
Братья Доливы не возражали ему.
— Может быть, вы не знаете Маслава так, как я его знаю, —
прибавил Лясота. — Я помню, как он рос при дворе и был сначала
мальчишкой при псарне, потом носил полотенца и кувшины,
приручал соколов, наливал мед и понемногу вкрадывался в доверие и
милость, дошел постепенно до цепи на шее и рыцарского пояса,
стал доверенным и советчиком. Но и этого было мало его
ненасытному честолюбию. По смерти Мешка он задумал жениться на
королеве и стать королем, а Казимира извести. Но мудрая
государыня отвергла его и окружила себя своими. Тогда стал ее же
ругать за та, что она не хочет думать о пользе страны и нас всех,
и так ее преследовал, что она, забрав с собой все драгоценности,
уехала к своим на Рейн. Остался Казимир, которого взял под свою
опеку Маслав с намерением погубить его. И тот должен был
бежать. Маслав легко от него отделался. А мы остались без государя
и вместо него попали в лапы к волку. Страну нашу грабят и
разоряют чужие люди. Ну, скажите, разве все это не его рук дело?
Мы все отступились от изменника, а он тогда сделался язычником,
чтобы расположить к себе чернь. И все язычники, сколько их там
есть, пруссаки и поморы, все с ним. Что же мы там будем делать?
Мы, крещеные и верующие в Иисуса Христа? Тела не спасем, а
душу погубим.
Так говорил старик Лясота, а братья Доливы молчали.
— Да разве правда все, что говорят, — медленно заговорил
наконец Мшщуй, — может ли быть, что он сделался язычником?
Разве для видимости только, потому что я не верю, чтобы он им
был взаправду.
Тут Дембец, сидевший поодаль, громко сказал:
— О, милостивый государь! Это всем видно, что он с
язычниками заодно. Из земли вырыл старые жертвенники, везде расставил
камни и столбы, как они стояли раньше, языческие обряды
справляются по-прежнему средь бела дня, открыто. Ни одному ксендзу
не дают пощады, где только увидят, сейчас же расправляются.
Маслав говорит, что с ксендзами пришла неволя.
— Да, дурной человек Маслав, — сказал Вшебор, — но как
же спастись и где укрыться? В Чехии тоже ждут нас цепи и стрелы,
Русь далеко, да и кто знает, как бы нас там приняли? А скитаться
по лесам и умирать с голода... нет, лучше повеситься на первом
суку.
Костер, около которого они сидели, погас; Дембец подбросил
еще несколько головешек и снова развел его.
— Что делать? Что делать? — горестно повторяли они.
437
— Маслава я знаю, — отозвался Мшщуй после некоторого
молчания, — мы служили с ним вместе при дворе и были очень
дружны. Это человек смелый до бешенства, дерзкий до безумия, ему
мерещится корона, потому что еще смолоду ему предсказала
какая-то гадалка, что он взлетит высоко. Правда и то, что он не
пощадил бы никого из нас, если бы ему это понадобилось для
чего-нибудь, но что пользы ему в нашей гибели?
Они еще долго разговаривали, когда во мраке послышался
какой-то шелест. На три шага не было ничего видно; все в испуге
вскочили и стали внимательно прислушиваться; один только Лясота
остался неподвижен; сначала всем показалось, что это кони
шарахнулись в сторону, увидев какого-нибудь зверя.
Но в это время ветер раздул пламя от костра, и оно осветило
часть пожарища и какую-то фигуру.
Старый человек придерживался исхудавшей рукой за выступ
уцелевшей стены, и достаточно было взглянуть на него, чтобы
избавиться от всякого страха и узнать в нем несчастную жертву,
скрывавшуюся где-то среди развалин и пришедшую на звук
голосов.
Это был старик в потертой и загрязнившейся черной одежде,
очень бледный и истощенный. Шея у него была длинная, худая,
костистая, голова — коротко остриженная. Он горбился от
старости, а страшная худоба едва позволяла ему держаться на ногах.
Сухие губы его были раскрыты, глаза сохранили выражение испуга
и недоумения, жизнь в нем едва теплилась.
Он поглядывал на сидевших, как бы отыскивая среди них
знакомые лица, но, видно, язык не слушался его. Вдруг Мшщуй
вскочил на ноги и подбежал к нему, крича:
— Это вы, отец Ян, это вы?
Старик качнул головой: голод и жажда лишили его сил и
не позволили вымолвить слова; придерживаясь за выступ стены,
он не решался приблизиться, чтобы снова не упасть, и дрожал
всем телом. Долива, подбежав к нему, подал ему руку и повел
к огню.
Это был известный всем им настоятель городского костела. Он
три дня скрывался в костельном склепе, питаясь крошками хлеба
и утоляя жажду водой, по каплям стекавшей со стен. Услышав
голоса людей и узнав своих, он собрал последние силы и вышел
из своего убежища, в котором готовился уже к смерти.
Из всего своего имущества он сохранил самое драгоценное —
книжку с молитвами, которую держал в руках, прижимая к
груди.
Дембец поспешил на помощь старику: его поместили около
огня; каретник принес ему воды, а Лясота отдал ему свой
зачерствевший хлеб. Со слезами на глазах отец Ян благодарил судьбу и
их, но еще долго от него нельзя было добиться ничего, кроме
отрывочных фраз. Ужас и боль не за себя, а за участь костела и
паствы лишили его голоса.
438
Но отдохнув хорошенько и подкрепившись водой и пищей, он
набрался сил и начал говорить как будто в лихорадке, все повышая
и повышая голос.
— Смотрел я на нашу гибель, — говорил он, — и, если бы
прожил еще несколько веков, глаза мои никогда не забудут этого
страшного зрелища! Как буря налетели на нас грабители за грехи
наши. Город не мог защищаться, со всех окрестностей сбегались
люди в замок, рук было больше, чем надо, а оружия — мало
и больше всего — страха. Кроме нашего воеводы и жупана
прибежали люди от Шроды, сбежалась шляхта из ближних поместий.
Было так тесно, что нечем было дышать в окопах. Я остался
при костеле, — мне нельзя было оставлять его. Я облачился в
священнические одежды и взял в руки крест, ведь все же они
были христиане, хоть и враги наши! Никто и не думал
сопротивляться, потому что некому было защитить нас, выслали
навстречу к ним старшину Прокопа с просьбой о помиловании и
с изъявлением покорности. Но не помогли наши униженные
мольбы. Весь народ был уведен в неволю, город — разрушен и
разграблен. То был судный день гнева Господня. Меня на пороге
костела чернь схватила за волосы, бросила на землю и топтала
ногами. Но воля Божья направила этих людей на поиски
сокровищ, а я успел в это время укрыться между гробницами за
каменными плитами. Разбойники пришли и туда, проходили около
меня, чуть не задевали меня одеждой, а я каждую минуту ждал,
что они схватят меня в потянут на смерть, но Бог ослепил их.
Они разбили гробы, вытащили оттуда трупы, а меня оставили.
Я слышал, как над головой моей пылал костел, слышал, как
падали бревна, как рухнула крыша, и обгоревшие части ее,
провалившись в раскрытые двери склепа, упали почти у самых моих
ног. Я остался невредим! Для чего Богу угодно было продлить
мою жизнь, — я не знаю, — прибавил старец и, помолчав
немного, продолжал. — Если для чего-нибудь была сохранена моя
жизнь, то, верно, для того, чтобы я услышал ваш ропот и жалобы
и принес вам утешение. С могилы, на которой я стою, глаза
мои видят ясно. Не тревожьтесь о том, что крест упал, и
вернулось язычество, — не думайте бить поклоны Маславу. Как
проносятся вихрь и буря, так пройдет и гнев Божий; ветви
обломаются, но стволы останутся целы и снова зазеленеют весной.
Но плакать и роптать, ломать в отчаянии руки и падать на
землю — не ваше дело, вам надо собираться вместе и защищаться.
Плачут женщины, мужчины — борются. Бог поможет
мужественным, если они вознесут к нему сердца. Разве уж погибло все
наше рыцарство, что завоевывало земли с Болеславом? Разве
осталась только чернь, которая и тысячами не страшна, если одно
сердце станет за тысячу? Вы теперь все порознь идете, но, если
соберетесь вместе и возьмете в руки крест, — победа будет за
вами. Напуганная чернь бросится в леса, а изменники понесут
головы под меч и в петлю. Кланяться Маславу, — с жаром го-
439
ворил старец, — это то же, что отречься от Бога и святого
креста. Бог дает злым временное торжество, но не дает им власти.
Ступайте, собирайтесь вместе, советуйтесь и выбирайте себе
князя. С вами будет Бог. Мне жаль костела, но глаза мои видят,
как он скоро поднимется, как зазвучат в нем гимны в честь и
славу Господа Бога! Не падайте духом, имейте веру в Бога! Бог
вас спасет.
Говоря это, старец чувствовал все большую и большую слабость;
дрожащею рукою он благословил на все четыре стороны
слушателей, склонивших перед ним головы, и умолк, опускаясь на землю.
Прибежал Дембец с охапкой соломы, которую он приготовил было
для себя: на ней он уложил ослабевшего ксендза, который сложил
руки на груди и сомкнул веки, как бы засыпая.
Все молчали; огонь потухал, и остальные тоже готовились ко
сну.
Небо понемногу очищалось от туч; среди разорванных облаков
мигали кое-где бледные звезды. Затихал ветер, и тишина, все реже
прерываемая шумом в воздухе, распространялась над долиной,
погруженной во мрак. И только узкая полоска неба еще светилась
отблеском вечерней зари.
Вдохновенные слова старца оживили сердце надеждой; все
думали о том, что предпринять завтра, и, хотя не высказывали вслух
своих предположений, мыслили все одинаково. Надо было искать
своих и соединиться вместе, не теряя надежды на лучшее.
Новая тяжесть легла на плечи трех всадников: им надо было
забрать с собой ослабевшего старца, которого они не могли
обречь на голодную смерть или на поругание врагам. Младшие
еще могли идти пешком, но Дембец, который тоже собирался
идти с ними, не мог ходить быстро, да и кони не годились
для быстрой езды. Об этом думали все, не смея высказать своих
мыслей, и, сидя у потухавшего огня, впадали понемногу в
дремоту.
Отец Ян, утомившись, очевидно, заснул крепко, — не слышно
было даже дыхания.
Лясота тоже, видимо, не очень заботился о своей судьбе и
равнодушно ждал, что будет дальше. Так прошла ночь.
Уже рассветало, когда братья Доливы начали совещаться между
собой, в какую сторону направиться. Они уже не говорили о Мас-
лаве, но намеревались лесами пробраться к Висле, чтобы укрыться
где-нибудь в Мазурской земле, потому что там чернь еще не
поднялась.
День занимался, когда петухи, каким-то чудом уцелевшие на
пожарище, прокричали приветствие утренней заре, объявляя
опустевшей земле о начале нового дня. Услышав этот крик, все
встрепенулись. Он так напомнил им лучшие времена, в спокойных
усадьбах! А единственный обитатель опустевшего поселения, не
заботясь о том, что его окружало, испустил, может быть, в
последний раз громкий крик, — призывая к жизни смерть и пепел,
440
и крик этот прозвучал в одно и то же время как страшное
издевательство, и как напоминание. Объятые различными чувствами —
одни тревогой, другие бодростью, все начали подниматься с земли,
словно пристыженные этим бдительным сторожем.
— И мы, пока живы, должны так сзывать друг друга! —
вскричал Лясота, силясь подняться.
— В дорогу!
II
Тихая и спокойная ночь сменилась пасмурным утром, ветер,
словно разбуженный, снова, как вчера, погнал облака. Сначала
пронеслись маленькие, румяные посланники зари, а за ними
потянулась целая вереница серых, сливавшихся в огромные клубки,
изрезанные по краям, и вот все небо, затянулось как будто
печальной полотняной пеленой, а по ней клубились и свивались все
новые громады туч. Ветер принялся подметать и землю,
опрокидывая кое-где обуглившиеся части строений; они падали на
пепелище, а дым и смрад неслись вверх и распространялись далеко
вокруг.
Холодный западный ветер принудил всех подняться с земли.
Надо было позаботиться о более удобном убежище.
В этой болотистой, отовсюду открытой низине всякое нападение
грозило опасностью; негде было укрыться, нельзя защищаться.
Гораздо выгоднее было схорониться в ближних лесах.
Первыми встали братья Доливы, которым надо было напоить
коней.
Дембец тоже приготовлялся разложить костер, чтобы
подкрепить теплой пищей хотя бы раненого Лясоту и закостеневшего от
холода старца. Мшщуй, встав с места, хотел прикрыть своим
плащом отца Яна, но, наклонившись над ним, заметил, что лицо его
было мертвенно-бледно, и, приложив руку к его голове, убедился,
что капеллан был мертв. Он, должно быть, умер спокойно, точно
с молитвой на устах, руки его были сложены вместе на книжке,
которую он вынес из костела. Эта книжка была единственным
наследством, оставшимся после него.
Мшщуй не был ни удивлен, ни огорчен этой смертью: для
отца Яна она была благодеянием, для путников освобождением
от тяжести, с которой они не знали, как справиться.
Переговорив с братом и убедившись окончательно, что отец Ян умер
и совершенно закостенел, Мшщуй занялся прежде всего
погребением старца. Нельзя же было оставить труп на съедение
диким зверям и воронам; на общем совете решено было
похоронить его в костельном склепе, из которого он вчера
вышел к ним.
Дембец предлагал им свою помощь в этом богоугодном деле,
но братья послали его присмотреть за конями, а сами, подняв труп
441
за голову и ноги, в молчании отправились на рассвете к развалинам
костела, находившегося неподалеку оттуда.
Здесь, как бы готовясь принять бренные останки капеллана,
ждал его раскрытый дубовый гроб, из которого грабители вытащили
мертвеца... В этот гроб братья благоговейно опустили отца Яна и
прикрыли его на вечное отдохновение тяжелой крышкой. Потом,
задвинув каменной плитой, закрывавшей раньше вход в гробницу,
отверстие под землей, вернулись к сожженной хате. Лясота, давно
уже проснувшийся, смотрел с каким-то каменным равнодушием на
все, что происходило вокруг него; так смотрят люди, перенесшие
большое горе: он не скорбел о чужой смерти и не побоялся бы
своей собственной.
Дембец, стоя на коленях, варил что-то в горшке, кони были
напоены, и хоть не нашли обильной пищи в наполовину
выжженных оградах, все же выглядели бодрее, чем накануне.
Утро, сначала пасмурное, начинало светлеть, когда братья До-
ливы собрались двинуться в путь. Лясота еще лежал, подперев
голову рукою.
— Отец, — обратился Мшщуй к старику, который,
по-видимому, и не думал о путешествии, — нам надо ехать, и вы должны
ехать с нами.
Лясота покачал толовой.
— Дайте мне спокойно умереть, — произнес он едва слышным
голосом. — К чему столько мучиться только для того, чтобы спасти
жизнь, которая ни на что уже не нужна. Если бы я мог владеть
руками!
— Но мы вас здесь не оставим! — вскричал Мшщуй.
— Ксендзу Господь закрыл глаза, Он поможет и мне умереть
здесь, — сказал старик.
— Видно, Бог не хочет этого, если спас вам жизнь, — прибавил
другой брат.
Доливы не захотели предоставить старика его участи и, почти
силою подняв его, посадили на коня, у которого раны уже
присохли. Дембец деятельно помогал им. Все двинулись в путь,
оставляя за собой сгоревший поселок, которому уж никогда, видно,
не суждено было достигнуть прежнего богатства и значения.
Проезжая мимо селения, все еще раз оглянулись назад, на картину
разрушения.
Гдеч был в то время ярким образом всей Польши, сожженной
и разрушенной, разграбленной и пустой и вдобавок не имевшей
верховного вождя. И болело сердце у тех, кто видел ее еще недавно
полной жизни и веселья, залитой шумной толпой, сновавшей по
всем улицам, — с богатыми усадьбами, с костелами, в которых
раздавались звуки гимнов. Теперь город молчал, как огромное
кладбище, вороны носились над развалинами, а обезумевшая чернь
уничтожала все, что еще уцелело после погрома.
В мрачном молчании путники проехали мимо разрушенного
замка и направились по дороге к лесу.
442
Окрестности были совершенно безлюдны, все, кому удалось
спастись от чехов, скрывались в лесах. И наши путники почувствовали
себя в сравнительной безопасности, когда очутились среди деревьев.
Здесь нелегко было выбрать дорогу, хотя все хорошо знали
местность. Самая большая тропинка была неудобна для беглецов,
потому что на ней легко могли встретиться с вооруженными отрядами
или с чехами, бродившими по всей стране.
Вооруженная чернь не давала пощады рыцарям, а чехи —
брали в неволю. Следовательно, они должны были свернуть с
главной дороги и ехать прямо лесом, — а Мшщуй, который
любил охотиться, уверял, что сумеет вывести всех к Висле,
руководясь корою деревьев. Не было другого пути, как только ехать
за Вислу, хотя в спокойствие, которое будто бы там царствовало,
никто не верил, никто не мог поручиться за безопасность, а
четверо беглецов, из которых один был беззащитен, а другой
изранен и истощен голодом, не могли обороняться даже против
небольшой кучки людей.
Вся пища, которую они имели, заключалась в мешке, который
нес на плечах Дембец, а братья Доливы везли остатки в своих
торбах, привешенных к седлам, и всего этого не могло хватить
надолго. Осталась только надежда на Провидение.
В лесной чаще осень еще не произвела таких опустошений,
как на опушке: здесь уцелело много листьев, травы и зелени,
и ветер был не так силен. Проехав лесную опушку и вступив
в чащу, путники поехали медленнее, внимательно прислушиваясь
и чувствуя себя в безопасности. Впереди ехал Мшщуй, показывая
дорогу, за его конем шел Дембец, за ним, опустив поводья,
похожий на живого мертвеца, тащился на коне Лясота, а Вшебор
замыкал шествие.
Раза два или три у них из-под ног выскочил зверь, но никто
не соблазнился им; гнаться за ним было невозможно, а бросить в
него копьем — не попадешь. И только несколько часов спустя
Мшщую удалось удачно попасть копьем в молоденькую серну,
выбежавшую из лесу и в испуге остановившуюся перед ними. Дембец
побежал за нею и догнал раненое животное. Это была хорошая
добыча, и, добравшись до полянки, чтобы дать корм и отдых коням,
они могли полакомиться жареной дичью.
В лесной чаще ничто не обнаруживало присутствия людей,
всюду царило молчание, и хотя Мшщуй для безопасности
прислушивался, он не услышал ничего, что могло бы пробудить опасение.
Подождав, пока кони вволю наелись хорошей травы, напились воды
в ручье и посвежели, путники двинулись дальше.
Дорога шла почти все время бором, самой его чащей, в том
направлении, где, по уверениям Мшщуя, который уже высчитал
дни и часы, когда они достигнут цели, — протекала Висла. Никто
не спорил с ним, потому что он лучше других знал эти места и
имел вид человека, уверенного в себе. Лясота был ко всему
равнодушен, он послушно следовал за другими, ни о чем не расспра-
443
шивая и почти не замечая окружающего. Делал то, что ему
говорили, и, как бы лишившись собственной воли, позволял поить и
кормить себя, но сам ничего не просил. Спутники его заботились
о нем, не удивляясь его состоянию; они знали, что он потерял
семью, и видели, что и в нем самом оставалось уж немного жизни.
День уже склонялся к вечеру, когда Мшщуй, медленно ехавший
впереди и зорко вглядывавшийся вдаль, чтобы вовремя заметить
опасность, дал знак остальным, чтобы они остановились. Всадники
сдержали коней и насторожились. Мшщуй, сойдя со своего коня,
пошел, наклонившись, вперед, а потом пополз на животе.
Сквозь ветви деревьев, с которых уже облетела часть листьев,
на лужайке, у подножия дуба, виднелось что-то, чего нельзя было
хорошенько разглядеть. Как будто белело платье, обнаруживавшее
присутствие людей. Мшщуй тихонько подкрался к самому стволу
старого дерева, но тут, оглядевшись хорошенько, смело встал на
ноги.
Ехавшие за ним догадались, что бояться нечего. Он кивнул и
им, чтобы подъезжали ближе.
Зрелище, которое открылось перед ними, поразило всех, но
возбудило в них не страх, а жалость. У подножия сидела с
распущенными волосами прелестная девушка лет пятнадцати. Но этот
свежий цветок уже согнулся под дуновением ветра; на бледном
личике запечатлелось глубокое страдание. Подняв глаза к небу,
она сидела так, неподвижная, как статуя. Из голубых глаз
медленно текли слезы. Руки ее были подложены под голову и
опирались на дерево, а на коленях у нее лежала другая женщина,
покрытая какой-то одеждой, так что головы ее не было видно,
спящая, больная или просто усталая. Около двух женщин валялись
на земле брошенные узелки, платья, корзина с пищей и мелкая
утварь.
Они были одни — никого вблизи не было видно. Их одежда
обнаруживала знатных женщин из рода жупанов или владык. На
младшей верхняя одежда была обшита мехом, старшая была
закрыта платьем из тяжелой драгоценной парчи. На шее девушки
блестела золотая цепочка с украшениями, в ушах были серьги, а
на белых руках, закинутых за голову, сверкали перстни.
Мшщуй, первый увидевший ее, стоял как вкопанный. Он
никогда в жизни не видел более красивой девушки; она казалась ему
королевой или зачарованным лесным духом. А женщины точно
окаменели: не видели и не слышали приближения людей и
оставались по-прежнему неподвижными. Мшщуй догадался, что
женщина, лежавшая на коленях у девушки, вероятно, спала, а та
боялась малейшим движением нарушить ее сон.
И только тогда, когда кони подошли ближе и послышалось их
фырканье и топот копыт, девочка с криком рванулась с места и
стала будить спавшую... С испуга потеряв всякую способность
соображать, она не знала, что делать, потому что старшая женщина,
проснувшись, не сразу пришла в себя.
444
Но когда она поднялась, то оказалась уже не молодой, но еще
свежей и красивой женщиной, с прекрасными чертами лица, с
черными бровями и глазами, смотревшими гордо и повелительно.
Густые темные брови двумя полукруглыми дугами выделялись над
веками, прикрывавшими большие пламенные глаза. В них была
тревога, но и гнев в то же время. Девушка, гораздо больше
испугавшаяся, старалась схватить ее за руку, увлечь за собой, но в это
время показался Мшщуй и поспешил крикнуть им, что им нечего
бояться.
При звуках этого голоса, убедившись, что это были свои, —
женщины, хоть еще не решались оторваться друг от друга, все же
заметно успокоились. Старшая встала, гордо выпрямилась,
прикрылась плащом, который закрывал ее во время сна, и принялась
довольно смело приглядываться к Доливе. Младшая спряталась за
ее спину и скорее инстинктивно, чем сознательно, стала собирать
длинные пряди рассыпавшихся волос, покрывавших ее плечи как
бы золотистым плащом.
Мшщуй, которому часто приходилось бывать при княжеском
дворе и в усадьбах окрестной шляхты, не мог припомнить, кто могли
быть эти две женщины; между тем наружность их была такова, что
их невозможно было забыть тому, кто хоть раз их видел.
Расцветающая красота девушки невольно приковывала внимание и уже навек
запечатлевалась в памяти. Но и старшая женщина была поразительно
красива и интересна и выражением лица, и манерами, обличавшими
в ней чужеземку. У нее и цвет лица был более смуглый, чем у
польских женщин, а на верхней губе виднелся черный пушок. Крепкая,
высокая, полная, она имела вид и манеры королевы, а взгляд ее
обнаруживал привычку властвовать.
Хотя сама эта встреча в чаще леса и испуг младшей из женщин
свидетельствовали о том, что они находились в отчаянном
положении, одни, всеми покинутые и преследуемые дикой чернью,
которая не щадила ни костелов, ни женщин, однако, несмотря на
это, в выражении лица старшей не было заметно особенной
тревоги. Только черные дугообразные брови сдвинулись над глазами,
и две морщины прорезали лоб. Она долго приглядывалась к
Мшщую, ожидая чтобы он заговорил первый.
— Не бойтесь, милостивая пани, — сказал новоприбывший, —
мы не разбойники, мы сами уходим от разбойников. Вот здесь нас
двое братьев Долив, а это — Лясота из-под Шроды, а тот —
служащий человек из замка. Мы едем из разоренного края, от Гдеча,
где уж не осталось ни одной живой души.
Пока Мшщуй говорил это, женщина не спускала с него
внимательного взгляда и потом с таким же вниманием стала
присматриваться к подъехавшим спутникам Мшщуя; из-за ее плеча
выглядывало встревоженное бледное личико девушки, кутавшейся
в материнский плащ.
При виде этих одиноких, беззащитных женщин в чаще леса
все остановились, глядя на них с глубоким сожалением. Бороться
445
со всякого рода несчастьями — мужское дело, но когда
беспомощной и бессильной женщине приходится стать лицом к лицу с
разнузданной чернью, когда гибнет девушка во цвете лет, тогда
сжимается болью самое равнодушное сердце.
Объятые глубокой жалостью, подъехавшие мужчины молча
смотрели на женщин; и даже Лясота, который вспомнил свою
семью, шире раскрыл угасавшие глаза и задвигался на своем
коне.
— Благодарение Всевышнему за то, что Он привел вас
сюда, — заговорила старшая женщина, — благодарение Господу!
Вот уж третий день, как мы сидим здесь одни, плача и дрожа.
Последний слуга, который был с нами, пошел разузнать, что
делается в окрестностях, и еще не вернулся. На нашу усадьбу, По-
нец, напали жестокие полчища — целая масса людей... Мы с
дочкой едва-едва успели спастись, захватив с собою старого слугу.
Но и тот ушел и не вернулся, а нас здесь ждет голодная смерть
или звериная пасть... Бог один ведает, что сталось с домом и с
мужем!..
Прикрыла рукой глаза, из которых брызнули слезы, и умолкла.
Все сошли с коней и подошли к ним ближе. Молодая девушка,
все еще не отделавшаяся от страха, пряталась за мать. Имя мужа
этой женщины было известно рыцарям: сама она была родом с
Руси, родилась от матери гречанки, а замуж вышла за
могущественного владыку Леливу. Звали ее Мартой.
При Болеславе Великом, когда отношения с Русью были теснее
и отличались большим дружелюбием, князья жупаны часто
женились на русинках, а иногда русины выбирали себе жен при дворе
короля или в шляхетских усадьбах.
Никто из рыцарей не знал Марты Леливы и ее дочери и
никогда в жизни не встречался с ними. Но мужа ее Спицимира,
или Спытка, как его называли, недавно поселившегося в усадьбе
Понец, видали не раз и Лясота, и братья Доливы. Это был уже
пожилой человек, рыцарь в полном смысле этого слова,
беззаветно храбрый, прославившийся своими смелыми походами.
Страшно было даже подумать о том, что с ним могло статься,
но всем было одинаково ясно, что если в момент нападения он
был дома, то скорее отдал бы жизнь, чем спасся бегством. Он
мог устроить побег жены и дочери, но сам, наверное, выдержал
нападение.
Но, не желая напрасными словами увеличивать горе женщины,
никто не спрашивал о нем; она сама, ломая руки, начала
рассказывать о нем, потому что, как все женщины, перенесшие тяжелое
горе, она не могла уж больше сдерживаться и должна была
говорить о себе.
— Бог один ведает, что сталось с моим любимым мужем, —
говорила она. — Он хотел биться со своими людьми до последней
крайности, но разве мыслимо, чтобы он мог, хотя бы с боем
прорваться сквозь ту толпу, что его окружила со всех сторон?
446
Тут обе женщины принялись плакать. Тогда Лясота, не
проронивший до сих пор ни слова, подошел к ним и показал им свою
растерзанную одежду и окровавленное тело, кое-как перевязанное
тряпками, на которых проступали пятна крови.
— Теперь уж не надо роптать, а надо благодарить Бога тем,
в ком еще есть кровь, — сказал он. — Мои все погибли. Я спасся
только чудом. Кого Бог осиротил, тот должен покориться судьбе,
оплакав погибших. Благодарите Бога, что вас не изрезала в куски
чернь, которая озлилась на всех рыцарей, жупанов и владык и
решила уничтожить наше племя во всех землях. Я знал Спытка
и думаю, что он не посрамил себя и сражался до конца. Да и нам,
мне и многим еще уцелевшим, немного уж осталось жить. Знаете
ли вы, милостивая пани, что из тех панов, что укрылись в Гдече,
не спаслась ни одна живая душа: кто остался жив, того увели в
неволю.
Женщины снова заплакали, громко причитая и ропща на
судьбу, все остальные молчали, не было слов, которыми можно было
бы утешить их. Между тем наступил вечер, и решено было
расположиться здесь на ночлег, чтобы не оставлять женщин одних, а
те не могли двинуться дальше в ожидании слуг. Но кто знал,
суждено ли им дождаться их?
Хотя положение беглецов было настолько серьезно и опасно,
что как будто и не время было думать о женской красоте и
поддаваться ее обаянию, но братья Дол ивы, оба молодые, неженатые
и горячие сердцем, увидев дочку Спытка, сразу влюбились в нее
и не могли налюбоваться ею.
Девушка, видя, как они следили за ней взглядами, пряталась
за мать; но это плохо помогало, потому что братья под предлогом
различных мелких услуг старались подойти к ним поближе, чтобы
хоть посмотреть на нее и полюбоваться красотой. Правда, оба
лагеря были на известном расстоянии один от другого, и женщины
отошли в сторонку, но молодые люди без труда находили предлоги,
чтобы подойти к ним.
Слуга Спытков, которого она ждала с вестями от мужа, не
возвращался; и становилось все более вероятным, что его или
схватили где-нибудь по дороге, или он заблудился в лесу, или стал
жертвой дикого зверя, хотя был очень толковый человек,
чувствовавший себя в лесу, как дома.
Для Долив ясно было только то, что нельзя было оставить в
таком состоянии этих несчастных женщин. У них не было лишних
коней, и маленький их отряд, увеличенный ими, должен был еще
медленнее двигаться в сторону Вислы, а опасность этого
путешествия еще усиливалась. Но никто не жаловался на это. Обоим
братьям очень нравилась совместная поездка с дочерью Спытка, в
которую оба они сразу влюбились.
К ночи, когда возвращение слуги становилось все более
сомнительным, — начали советоваться о том, что делать утром, потому
что недостаток в пище не позволял откладывать выступление в
447
путь. Спыткова со слезами начала умолять не оставлять их на
произвол судьбы. На это отозвался старый Лясота, снова обретший
дар слова.
— Об этом никто не думает. Но и с нами вам не будет
спокойнее и удобнее, потому что мы и сами не можем защитить себя
и пробираемся крадучись, чтобы ни с кем не встречаться.
— А куда же вы направлялись? — спросила Спыткова.
— Мы?.. Да к Висле, — отвечал старик. — Но одно дело идти
нам одним, а другое — брать с собою женщин. Доливы вели нас
к Висле, где, говорят, еще спокойно в Мазурских землях; там этот
негодяй Маслав держит народ в железных руках. Но мы знать его
не хотим и тем более не должны показывать ему женщин, потому
что у него тоже нет ничего святого; он упился, как медом, своей
силой. Вот мы и бредем на Вислу, а куда? — Бог один ведает...
Долго никто не возражал ему.
— Эх, — отозвался наконец Мшщуй, — не вечно же все будет
так, как теперь. Все придет в порядок; наши соберутся вместе, а
мы пока построим шалаши и переждем безвременье.
— А голод? — опустив голову, промолвил Лясота.
— Ну, этого нам нечего бояться, — улыбаясь, отвечали братья
Доливы, — что-нибудь придумаем... В конце концов, что у нас
осталось? Мы должны позаботиться о самих себе и спасать свою жизнь!
Старик ничего не отвечал на это, женщины перешептывались
между собой, и, не придя ни к какому решению, все умолкли.
Была уже ночь, когда среди лесной тишины послышались звуки,
перепугавшие всех, особенно женщин. Все явственно услышали
шелест среди кустов. Мшщуй и Вшебор бросились к коням и оружию.
Теперь уже можно было различить чьи-то шаги, а скоро из-за
чащи деревьев показался, внимательно осматриваясь, человек,
опиравшийся на палку и имевший за поясом топор и дротик. Это и
был слуга, посланный Спытковой на разведку о муже.
Женщины, узнав его, бросились к нему с вопросами, но,
вглядевшись в него внимательнее, приостановились, выжидая.
Он шел или, вернее, брел, едва передвигая ноги от усталости,
а по страшно исхудавшему и пасмурному лицу не трудно было
отгадать, что вести, принесенные им, никого не могли утешить.
Приблизившись к огню, он остановился, опираясь на посох и
поглядывая на свою госпожу, как бы приготовляя ее к тому, что ей не
о чем было и спрашивать. И Спыткова не решалась спрашивать,
предпочитая продлить минуты неизвестности, чем услышать известие,
которое она угадывала сердцем. Тогда старый Собек, не выдержав
взгляда своих госпож, — потерял все свое мужество и заплакал.
Зловещее молчание — предвестник надвигающейся бури, воцарилось
около костра. Первым заговорил Лясота.
— Спытек погиб? А что сталось с усадьбой?
Собек, покрутив рукой в воздухе, указал ею на землю.
— Я смотрел издали, как дымилось наше гнездо, — сказал
он, — его уж нет больше, и никого нет в нем, ничего не осталось...
448
Раненый Жугва, дотащившийся с пожарища до лесу, где я и нашел
его умирающим, сказал мне только то, что пан наш уложил целую
ГОРУ трупов, пока добрались до него, и погиб рыцарскою смертью.
Злодеи рассекли его на куски.
Женщины, услышав это, с громкими рыданиями упали на
землю, но никто не посмел удерживать их от слез! А Собек, не
прибавив больше ни слова, повалился в изнемождении тут же, где
стоял. Доливы и Лясота отошли в сторону, оставив плачущих
оплакивать свое горе и советуясь между собой о том, что предпринять
дальше.
Теперь их отряд увеличивался тремя пешими людьми, потому
что и Собек ведь должен был присоединиться к ним. Братья
согласились на том, чтобы посадить женщин на коней, а самим идти
пешком. Лясоту нельзя было лишить его старой исхудавшей клячи,
потому что он не мог идти. Но такой способ путешествия
значительно усложнял дело.
Два брата отошли в сторону посоветоваться между собой, и
хотя в решении своем оба были единодушны, но тем не менее
поглядывали друг на друга так, как будто собирались кусаться, и
взгляды, которыми они обменивались, были полны недоверия. А
всему виной была девушка, на которую зарились оба, и потому
пытливо заглядывали в глаза друг другу; Мшщуй подозревал Вше-
бора, а Вшебор Мшщуя.
— Я дам моего коня девушке, — сказал Мшщуй,
подбоченившись, — и сам пойду рядом с нею, чтобы он не испугался чего-
нибудь и не упал.
— Почему ты, а не я? — насмешливо заметил Вшебор. — Ведь
и я это могу сделать.
— А почему же непременно тебе должна достаться девушка? —
сердито оборвал другой.
Они обменялись неприязненными взглядами.
— Потому что девушка мне нравится! — засмеялся Вшебор.
— И мне тоже, — возразил Мшщуй.
— Ну, и мне!
— И мне!
Они начали перебрасываться резкими словами, измеряя друг
друга такими взглядами, как будто собирались вызвать на бой.
Ни один не желал уступать.
А так как оба были пылкого нрава и легко раздражались, то
и теперь, казалось, готова была разразиться буря. Но, к счастью,
им стало стыдно перед людьми и перед самими собой.
— Ну, послушай, — сказал Вшебор, понизив голос, — не
время нам драться из-за чужой девки, бросим все это. Прежде надо
спасти ее и мать, а потом уж решать, чья она будет. Пусть Спыт-
кова и дочка сами выберут себе коня, а мы оба пойдем за ними.
Мшщуй кивнул головой.
— Только ты не воображай, — прибавил он, — что я тебе так
легко уступлю ее. Ты знаешь, что со мной шутки плохи.
449
— Да и со мной тоже... Мы знаем друг друга.
— Ну, разумеется... Да и нечего тут спорить. Никто не может
взять девушку силой.
Вшебор презрительно усмехнулся.
— Почему? — спросил он. — Женщин чаще всего берут силой.
— Ну, силой так силой, — пробормотал другой.
И снова чуть-чуть не поссорились. Еще хорошо, что вся их
ссора происходила в стороне, так что никто не мог их подсмотреть
и подслушать. Они замолчали на время, но, расходясь, затаили в
душе гнев и неприязнь друг к другу.
Ночью надо было, кое-как сложив шалаши, затушить огонь,
чтобы он не выдал их, а одному, по очереди, стоять на страже.
По счастью, еще хмурое осеннее небо в тот день не разлилось
дождем по земле.
С рассветом стали готовиться в путь. Вчерашнее соревнование
началось снова, но без слов пока. Оба брата спешили подать коней
женщинам, беспокоясь о том, какого выберет себе девушка. И,
торопя друг друга, они обменивались вызывающими взглядами, и
никто в этом споре не думал уступить другому.
Уже были связаны узлы и мешки, которые должен был
захватить с собой Собек, мать и дочь оделись и ждали, когда все
двинутся в путь. В это время перед ними появились братья Доливы
со своими конями. Марта Спыткова поблагодарила и выбрала себе
коня Вшебора, потому что этот конь был крепче и сильнее, а она
хотела посадить дочку позади себя, чтобы не расставаться с нею
в пути, но тут вмешался Мшщуй и заявил, что кони их ослабели,
а путь предвиделся долгий и нельзя было ехать вдвоем на одном
коне.
Девушка стояла в нерешимости, не желая расставаться с
матерью, да и матери не хотелось отпустить ее от себя. Они уже
готовы были идти пешком. Доливы все еще стояли перед ними,
мешкать было невозможно.
— Милостивая пани, — сказал Мшщуй, — теперь некогда
раздумывать. Садитесь вы на одну лошадь, а девушка — на другую, —
мы пойдем рядом с вами, и она будет у вас на глазах.
Но девушка жалась к матери, и Спыткова не могла решиться.
Лясота, которому помогли сесть на коня, заметил:
— Что тут торговаться, когда надо спасать жизнь!
Тогда мать, обняв дочку и шепнув ей что-то на ухо, села на
коня Вшебора, а Касю предоставила Мшщую, который бросил на
брата презрительный и насмешливый взгляд.
Девушку звали Катериной — по имени одной из наиболее
уважаемых в то время святых.
Итак, с Божьей помощью, все двинулись в путь лесными
тропинками, — так что ехать приходилось гуськом и девушка
очутилась за матерью, но она так закуталась и закрылась, что Мшщуй
не видел даже ее глаз.
Проходя мимо брата, Вшебор шепнул ему на ухо:
450
— Не надейся, что ты долго будешь наслаждаться с нею, я
возьму ее потом себе.
— Ну, увидим, — сказал Мшщуй.
— Увидим...
— Посмотрим.
Маленький караван нарочно выбирал самые глухие места, по
которым не ступала еще нога человеческая. Лес тянулся
непрерывно и, как льстил себя надеждою Долива, должен был вывести
их к Висле; в то время вся страна представляла из себя один
огромный лес, только местами вырубленный и расчищенный.
Куда бы ни пошел человек — ближе или дальше, везде перед
ним был лес, а если и попадалась иногда поляна или луг, то за
ней сейчас же снова начинался бор. Так ехали они долго, — но
вдруг лес начал редеть с юга, и Мшщуй, забежав в испуге вперед,
увидел перед собой широкую, плоскую, открытую со всех сторон
равнину.
Правда, за этой равниной снова расстилались густые леса, но
так далеко, что при медленном передвижении потребовался бы
целый день, чтобы доехать туда. Как раз в той стороне и должна
была протекать та Висла, за которой они хотели укрыться. Надо
было хорошенько обдумать положение, чтобы не стоять долго на
виду среди поредевшего леса.
Дым, в различных местах поднимавшийся над землею,
свидетельствовал о том, что долина эта не была совершенно опустошена.
Собек влез на дерево и увидел вдали спаленный замок,
полуразрушенные стены костела, но, что хуже всего, ему показалось,
что он видит огромный лагерь конных и пеших людей, несколько
больших костров, около которых паслись стада, лежал рогатый скот
и кони и возвышались кучи каких-то сваленных вместе предметов.
Он догадывался, что они, по несчастию, набрели на один из
тех караванов, которые, переходя от селения к селению, грабили
и разоряли усадьбы, замки, монастыри и костелы, равняя их с
землей.
Была ли это окрестная чернь, пруссаки или Маславово войско —
об этом трудно было догадаться, но для беглецов все было
одинаково плохо.
Женщины встревожились и хотели было сейчас же
возвращаться назад, в лесную чащу, хотя лагерь был расположен на большом
расстоянии от того места, где они находились; все сошлись на том,
чтобы взять влево и пробираться в ту сторону, где виднелись леса,
и этими лесами обойти долину.
Собек, который был смелее других, советовал переждать в лесу,
пока он проберется вперед и все разузнает.
Хоть Лясота отговаривал его от этого намерения, и женщины
боялись лишиться слуги, но для путешественников было очень
полезно узнать, что делалось в той стороне, куда они направлялись.
Спор продолжался недолго; Собек был так уверен в себе и
выражал такую готовность отправиться на разведку, что пришлось
451
ему уступить. Человек бывалый, он знал, что и как надо говорить,
кем прикинуться перед разными людьми, и надеялся, что в толпе
черни никто не обратит на него внимания. Крестьянская одежда
и простой говор давали ему возможность пробраться, не возбудив
подозрения.
Лагерь был расположен на значительном расстоянии от опушки
леса, и Собек должен был прокрадываться так, чтобы никто не
заметил, что он вышел из лесу.
Долину пересекал ручей, по берегам которого росли густые
вербы и лозняк. Собек до самого берега этого ручья полз по земле
через весь луг.
Очутившись среди кустов и осторожно пробираясь среди них,
он мог подойти к самому лагерю и, никем не замеченный, появился
в нем, как будто шел от стада, пасшегося над водой.
С ловкостью дикого человека, которым так же, как зверем,
руководит инстинкт и опыт, Собек вошел в лозняк. Издали
только зоркий глаз охотника мог бы заметить слегка колыхавшиеся
ветви там, где он, осторожно пробираясь, задевал их. Но он
избегал и этого и, где только было можно, держался около самой
воды.
Это осторожное передвижение над речонкой заняло у него
довольно много времени; наконец он услышал ржание коней, рев
скота и шум и говор огромной людской толпы. Он был уже около
самого обоза. Ловкий и смелый Собек спрятал свой топор в лозах,
а сам вышел из них, неся в руках пук наломанных ветвей; идя
по дороге, он изгибал их и переплетал между собой.
Никто даже не оглянулся на него, и он, с лозами под мышкой,
вошел в стадо рассыпавшихся по лугу коней.
Отсюда он уж хорошо разглядел, что перед ним было не войско,
не чехи и не пруссаки, а просто толпа разнузданной черни,
бродившей с кольями и дубинами от усадьбы к усадьбе.
Со смехом и криками они делили награбленную добычу. В
центре лагеря лежали связанные женщины и подростки, взятые в
неволю.
Немного поодаль валялись выброшенные из лагеря трупы, а
около них с ворчаньем бегали собаки. Грабители не сооружали ни
палаток, ни шалашей и спали под открытым небом на голой земле.
Повсюду виднелись громадные костры, а на них жарились
бараны и зарезанный скот. Тут же стояли раскрытые бочки, из
которых каждый черпал, сколько хотел. На земле кучами лежало
награбленное в костелах и усадьбах богатство.
В различных местах лагеря возвышались изображения
языческих богов. Старых было недостаточно, поэтому наделали новых,
грубо и неумело вытесанных из дерева.
Раздавались языческие песни, толпа была пьяна, но пела с
жаром.
Собек стоял так, среди стада коней, не зная, на что
решиться, — идти ли дальше, или возвращаться, — когда к нему подошел
452
подвыпивший работник, который с бичом в руке присматривал за
стадом, и стал внимательно присматриваться. Старик, нимало не
перетрусив, продолжал плести ветви, в свою очередь приглядываясь
к нему.
— Плохой корм! — забормотал он, чтобы начать разговор.
— Да, для коней, — сказал Собек, — но для нас всего вдоволь.
Что же ты, голоден, что ли? — смеясь, прибавил он.
— Я-то нет, да мне скотину жаль.
— Э, что с нею станется! Ведь она нам даром досталась, ты
сгонял ее по усадьбам, что ж за беда, если которая-нибудь и
подохнет. Надо же и воронам чем-нибудь питаться, — спокойно
говорил Собек.
— Ну, ну, — пробурчал работник, — пора бы уж бросить
все это... В окрестностях не осталось ни одной усадьбы, ни
одного монастыря или хоть костелишка, — а я уж стосковался
по хате.
— Что же ты в ней оставил? — спросил Собек. — Девку,
что ли?
— Да, может, еще и не одну, — возразил работник. — Я не
бобыль, могу их взять.
Он повернул голову по направлению к лагерю.
— Вон там их сколько! Как старшины повыберут себе, нам
останутся только бабы!
— А ты вернешься к своей, оно и лучше будет. Там никто ее,
верно, не обидел, если все ушли, — говорил Собек.
— Да, да, — забормотал работник, — может быть, все, а
может быть, и не все.
Он зевнул и одновременно вздохнул, а потом ни с того, ни с
сего так хлопнул бичом, что кони шарахнулись в сторону, а пастух
рассмеялся.
— Ну, уж теперь, верно, вернемся, видно, дальше делать
нечего, когда ничего уж не осталось, — заметил Собек. — И я уж
скучаю без хаты.
— Да, как же, так тебе и вернулись! — сказал пастух. —
Осталось еще Ольшово. Там в замке заперлись магнаты, а у них
сокровища большие и девок сила, и никак их не взять! Вот мы и
должны выкурить барсуков из норы!
— Это что еще за Ольшово, я не слыхал? — возразил старик.
— Потому что ты старый и глухой! — смеялся пастух. — А
где же ты был, когда мы туда ходили?
— Я? — сказал Собек. — Да я же пас коров, я ничего не
знаю.
— Там они много наших положили, мы должны были уйти,
но мы их возьмем!
Проговорив это, пастух принялся свистать и как будто потерял
охоту к дальнейшему разговору.
Собек тоже никак не мог справиться со своей работой, лоза не
гнулась, а ломалась, и он, ругаясь и проклиная, заявил, что пойдет
453
искать лучших прутьев. Никто не обращал на него внимания. Он
снова пошел в кусты над речкой. Скрылся в них весь, постоял,
прислушался, притаившись, нашел спрятанный топор, засунул его
за пояс и, заметив, что пастух опять улегся на земле, пустился в
обратный путь, с прежней осторожностью пробираясь между
кустами по направлению к лесу.
Смелая вылазка окончилась благополучно, потому что никто
не обратил на него внимания.
Все ускоряя шаги, он дошел так до лесной опушки и,
выбравшись ползком из кустов, добежал, никем не замеченный, до чащи
леса.
Здесь по следам конских копыт на влажной земле он
добрался до того места, где с нетерпением ожидали его остальные
путники, со страхом думая о том, удастся ли ему что-нибудь
разузнать. Спыткова уверяла, что он такой опытный и ловкий
человек, какого нет больше на свете, поэтому и покойный муж
выбрал его в провожатые ей и дочери. Собек вернулся раньше
даже, чем его ожидали. Завидев его издали, все окружили его
с расспросами.
— Ну что же вы там видели? Что это за люди? — спросила
Спыткова.
— Да все та же чернь, которая была и у нас в Понце, —
сказал Собек. — Я не только видел их собственными глазами, но
даже и разговаривал с их пастухом. Пожалуй, скоро они,
разделивши добычу, разбредутся по своим хатам, — для них уж ничего
не осталось, кроме одного только Олыповского замка. Там
заперлись вельможные паны и побили у них немало людей; они думают
взять их голодом, потому что иначе никаких не могут.
— Ну, ну, — прервал его Лясота, — этого уж они не дождутся.
В Олыпове сидит старый Белина, он уж ко всему раньше
приготовился и не дастся им в руки, хоть бы пришлось и год
продержаться. Я Белину знаю. Люди смеялись над ним, что он, живя в
безопасном месте, так всегда укреплялся, вооружался, окапывался
и собирал запасы хлеба, как будто готовился к осаде. Видно, он
один знал, что делал. При Болеславе все думали, что уж всякая
опасность миновала; он один только не верил в обращение и
пророчил, что когда-нибудь язычники разрушат костелы, а нас всех,
христиан, вырежут. Он один только знал и ведал, что должно было
случиться, — со вздохом прибавил Лясота.
— А почему же бы нам, милостивый пан, — заговорил Собек,
кланяясь ему в ноги, — вместо того, чтобы ехать за Вислу, — до
которой так трудно добраться, — не направиться в Олыповский
замок? Я бы нашел туда дорогу!
Все помолчали.
— А ты разве хорошо знаешь дорогу? — спросил Лясота.
— Да уж провел бы вас, — поглаживая себя по голове и
покачивая ею, отвечал старик.
— Да примут ли нас там? — прибавил старший Долива.
454
— Ну как же они могут не принять? — возразил Лясота. —
Мы с ними одного рода. Они мне близкая родня. Белина никогда
еще не отказывал в гостеприимстве христианину и рыцарю.
— Да ведь мы не съедим его! — прибавила Спыткова, которая
ухватилась за эту мысль.
Не возражали и братья Доливы, да и никто не оспаривал этой
счастливой мысли, — все дело было только в том, каким способом
и с какой стороны добраться до Белины. По словам Собка, до
Ольшова было полтора или два дня дороги, и надо было подходить
к замку осторожно, потому что хоть чернь и отступила от него,
но легко можно было попасть в их руки.
Мшщуй напомнил об этом, а Лясота одобрил план действий.
По всей вероятности, чернь не отказалась от мысли овладеть Оль-
шовым и потому оставила рядом с замком небольшой отряд.
И на этот раз Собек с готовностью вызвался пойти на разведку.
Этого человека, узнав его хорошенько, невозможно было не
полюбить; он никогда не обнаруживал утомления, вечно готов был
служить своим панам, ел мало и спал немного, спрошенный о совете,
давал его охотно, но, если его не спрашивали, мог молчать хоть
полдня и никому не надоедал. Еще до наступления вечера путники,
ради безопасности, углубились в лес, и Мшщуй тут же уступил
Собку свою роль провожатого.
Весь следующий день можно было потратить на переезд в Оль-
шовский замок. И женщины повеселели, ободренные надеждой
оказаться вскоре среди своих и не ночевать под открытым небом в
лесной чаше, где всегда можно было ожидать нападения Маславо-
вых отрядов и пленения.
III
До рассвета, в пасмурную погоду, пустились в путь. Еще
ночью зачастил спокойный, осенний дождь, похожий на густую
мглу. По уверению Собка, такие дожди предвещали долгое
ненастье. Лесные тропинки размокли и стали скользкими, промокли
вскоре и путники.
Спыткова утешала себя разговором с провожатыми, но как
только разговор смолкал, тяжелые мысли овладевали ею, и она с
трудом удерживалась от слез.
Мшщуй и вчера, и сегодня старался не отлучаться от девушки,
ведя под уздцы ее коня и отстраняя ветви, чтобы они не ударяли
ее. Но Кася избегала даже глядеть на него, а дождь позволял ей
так кутаться, что даже глаз ее не было видно.
Старшая пани охотно разговаривала с шедшим около нее Вше-
бором, изливая на него свои бесконечные жалобы.
А так как тот, кто хочет приобрести расположение дочери,
должен понравиться и матери, то Вшебор не тратил времени даром.
И в душе своей посмеивался над Мшщуем. Мшщуй и без того был
455
сильно не в духе; уже несколько раз на свои вопросы Касе он не
дождался от нее ответа.
Девушка была скромна, боязлива и поразительно молчалива,
как будто не сознавала своей молодости. Может быть, впрочем,
так повлияли на нее душевная боль и испуг. Долива не мог
допытаться от нее ни слова, — если же она шептала что-то в ответ,
то так быстро и тихо, что ничего нельзя было разобрать.
Зато мать говорила за двоих. Вшебор мог узнать от нее не
только все, что было ему нужно, но и ненужное. Марта
Спыткова рассказала ему про свою молодость, проведенную на Руси,
про первое сватовство, свадьбу, отъезд в Польшу, — про жизнь
свою с мужем и все свои и его приключения до самых
последних событий, — не раз, а несколько раз, все с новыми
добавлениями, рассказала она ему всю историю своей жизни.
При этом она то плакала, то смеялась, вспоминая что-нибудь
веселое и забывая о печальном, потом опять плакала и опять
смеялась, поблескивая черными глазами, как будто еще чувствуя
себя молодой.
Рассказывала о себе, о муже, о всех своих поклонниках,
которые готовы были влюбиться в нее, если бы только она позволила,
и обо всем, что только приходило ей на память. Эти разговоры,
видимо, были ей необходимы, потому что, если не было при ней
Доливы, она подзывала Собка, обращалась к дочери и только на
короткое время умолкала.
Этим способом она, вероятно, боролась со своим горем, потому
что, как только она переставала говорить, слезы текли из ее глаз.
Вшебор отвечал ей коротко, но достаточно было одного слова,
чтобы нескончаемая повесть потянулась снова.
За один день он так подружился с матерью Каси, как будто
они были знакомы сто лет.
А так как в то время люди были искреннее, чем теперь, то он
мог смело перевести разговор на дочку и, осыпав ее похвалами,
дал матери понять, что она ему очень приглянулась.
— Ну, да ведь она еще ребенок, совсем еще незрелая и
слабая, — недовольно возразила Спыткова, — ее еще рано отдавать
мужчине. Ей бы еще забавляться с голубями да песенки петь.
Хозяину мало было бы от нее толку, какая она хозяйка! Да где там!
Ей еще далеко до этого.
И она покачивала головой.
Вшебор не настаивал, может быть, даже радуясь в душе, что
Спыткова не имела намерения поскорее сбыть дочку.
Положение Мшщуя было гораздо хуже — он прямо мучился.
Кася ему не отвечала, поэтому он сам, чтобы позабавить ее,
рассказывал ей все, что приходило в голову. Иногда она
приоткрывала лицо, чтобы взглянуть на мать или поправить платок, и
тогда Мшщуй видел голубой глазок, часть белой шейки или
румяной щечки, из-за платка выбивались колечки золотых волос, —
но она крепче куталась в платок, а перед Мшщуем снова были
456
только складки покрывала, по которому стекал дождь. И так
печален был этот взгляд молоденькой, балованной девушки, столько
было в нем еще страха и страдания!
Старый Лясота по-прежнему молчал всю дорогу. Дембец с Со-
бком, быстро подружившиеся между собой, шли впереди и
тихонько разговаривали. Они сошлись так легко и так хорошо понимали
друг друга, как будто долго ели похлебку из одной миски. Смелая
вылазка Собка внушила Дембцу такое уважение к товарищу, что
он стал относиться к нему, как к отцу или начальнику, и исполнял
все его приказания. Собек зорко следил за тем, чтобы в пути не
натолкнуться на людей и не встретиться с бродягами, поэтому он
избегал лесных дорог, а шел прямо по лесу.
Все удивлялись его зоркости, тонкости слуха и остроте
обоняния, позволявшим ему различать малейший свет, звук или запах.
Если в воздухе чувствовался запах гари, то он наверное знал, где
горит, и далеко или близко, и что именно — дерево, мокрые листья
или прогнившее дупло. Втягивая носом воздух, он узнавал, близко
ли вода, нет ли где поля, и издалека, по одному виду, мог отличить
лес от бора. Он первый замечал, если что-нибудь мелькало в чаще,
и безошибочно узнавал, зверь это или птица, самый
незначительный шум, незаметный для других, тотчас же улавливало его чуткое
ухо. Иногда в кустах раздавался шелест или хлопанье птичьих
крыльев, а он, не поднимая даже головы, определял, что
перебежало через дорогу и что взлетело кверху. След на земле был для
него как бы открытой книгой, в которой он спокойно читал. Он
замечал все: и сломанную ветку, и брошенную подстилку, и луг,
объеденный скотом, и замутившуюся воду.
Благодаря этому, у них всегда была пища: он указывал Доли-
вам, где искать зверя и какого именно, — а в речке сам, без
всякого сачка, руками ловил рыбу. При всем своем спокойствии
он никогда не оставался без дела: собирал по дороге грибы и ягоды,
прислушивался, приглядывался и все это делал с таким видом, как
будто это не стоило ему ни малейшего усилия.
А Доливы, положившись на его опытность, уже не вмешивались
и не давали ему советов, а следовали его указаниям, потому что
он никогда не ошибался.
Так они подвигались понемногу в глубь леса, но, несмотря на
все предосторожности, все же несколько раз в продолжение дня
испытали тревогу.
Посреди леса Собек почуял запах гари, но уверял, что костер,
наверное, давно уже потух, и остался только дым, курившийся над
отсыревшими головнями. Присматриваясь внимательнее, он
заметил кучу наломанного и сложенного вместе хвороста, очевидно,
приготовленного для постройки шалаша. Осторожно
приблизившись, они нашли спящего человека, который, внезапно
пробудившись, сделал движение, чтобы вырваться и убежать. Но Дембец и
Собек бросились на него и повалили его на землю, боясь, как бы
он не донес о них врагам.
457
Собек едва не размозжил ему голову топором, но вовремя
сообразил, что это просто беглец, скрывающийся в лесу, а вовсе не
член разбойничьей шайки, грабящей города и села. На него было
просто страшно глядеть, хотя он был молод и силен, — так он
страшно исхудал без пищи, питаясь только водой, листьями и
кореньями. Голодная лихорадка сделала его полубезумным и отняла
силы. Глаза его сверкали таким страшным пламенем, как будто у
него все горело внутри.
Когда путники, оправившись от испуга, поняли, с кем имеют
дело, они почувствовали жалость к несчастному. Его подняли с
земли, а когда подъехали остальные, Спыткова дала ему кусок
черствого хлеба, на который он набросился, не помня себя, и ел
его, не видя и не слыша того, что происходило вокруг.
В первую минуту от него ничего нельзя было добиться. Он
жадно ел и понемногу успокаивался после испуга внезапного
пробуждения от горячечного сна.
Лясота, всегда с особенной жалостью относившийся к таким же
несчастным, как он сам, пристально всматривался в худое,
почерневшее лицо беглеца. В изменившихся чертах его он уловил что-то
знакомое, как будто где-то им виденное.
Беглец тоже взглянул на него, и из его уст вырвалось первое
слово:
— Лясота!
— Боже милосердный! Да ведь это Богдан Топорчик! —
крикнул старик, всплеснув руками. — Что же ты делаешь
здесь, в лесу? Ведь ты же был вместе с Казимиром, и мы
думали, что ты ушел с ним за границу к немцам, потому что
ты был всегда при нем. Королевич любил тебя и не должен
был тебя оставлять.
Только теперь развязался язык у Топорчика.
— Он и не оставил меня, — сказал Богдан, — это добрый и
богобоязненный государь, только люди нехорошо и нечестно
поступили с ним! Я случайно отстал от его двора, раньше чем он
уехал к матери. Потом уже не к кому было ехать, и невозможно
было догнать его. Разразилась буря, и вот что сталось со мной.
Невольный стон вырвался из груди Богдана при этих словах.
Все, стоя вокруг него, смотрели на него с глубоким сочувствием.
И вот маленький караван увеличился еще одним беженцем, а пока
его накормили и сговорились между собой, как быть дальше, настал
вечер.
Олыповское городище было уже недалеко; теперь надо было
решить, ехать ли дальше, или переждать до следующего вечера и
с наступлением мрака подойти к замку.
Спыткова, неспокойная и усталая, настаивала на том, чтобы
ехать сейчас же, другие колебались. Бросить Богдася Топорчика
на произвол судьбы было немыслимо, и всем невольно пришла в
голову одна и та же мысль, — что чем больше народа явится в
замок, тем неохотнее их примут. Теперь их было уже восемь, а
458
в голодное время прокормить в осажденном замке столько людей
было нелегкой задачей.
Белины были известны своим христианским милосердием, но и
они должны были прежде всего позаботиться о безопасности и
прокормлении собственной семьи.
Никто, однако, не заговаривал об этом первый — всем было
неловко. Когда спросили Собка, он посоветовал ехать немедля,
пользуясь наступившей темнотой. Богдась, подкрепленный пищей
и немного оживившийся, предлагал идти с ними, пока хватит силы.
Спыткова достала из своей корзины несколько капель какого-то
напитка и велела дать ослабевшему Топорчику, который
почувствовал себя несколько свежее.
Перед вечером дождь затих, и, несмотря на мрак, все двинулись
в путь. По расчету Собка, а он никогда не ошибался, они должны
были еще до рассвета подойти к долине, среди которой находилось
Олыповское городище Белинов.
Впереди шли Собек с Дембцем, за ними ехал Лясота и обе
женщины, возле которых шли братья Доливы; Богдана Топорчика
Мшщуй вел под руку, потому что он был еще слаб.
Лясота, отвечая на вопросы Спытковой, рассказал ей о Топо-
рчике следующее: он вырос при дворе королевича Казимира в
качестве товарища его игр, так как происходил из старого и знатного
рода. Ему предсказывали блестящее будущее, учили его
бенедиктинские монахи и поражались его способностям, что, однако, не
помешало ему, отдаваясь науке, сохранить в себе рыцарский дух.
Во время пути Лясота подозвал его к себе, желая узнать от
него, как он попал в беду, из которой спасся только чудом. Но
Топорчику, видимо, не хотелось рассказывать об этом, и он всю
вину сваливал на собственную неосторожность, и об одном только
можно было догадаться, — что его послали с целью подготовить
помощь для королевича, которому угрожало такое изгнание,
какому уже подверглась незадолго перед тем его мать.
И вот, принеся себя в жертву, преследуемый врагами,
отрезанный от Казимира, он был вынужден блуждать по лесу в то время,
как вся страна была объята грабежами и пожарами...
При имени Маслава Богдан затрясся всем телом, зарычал, сжал
кулаки, как будто готовясь к борьбе, и громко воскликнул, что он
предпочел бы погибнуть с голода или от руки черни, чем
рассчитывать на милость Маслава.
— Я не мог вымолвить даже имени этого собачьего сына, так
оно мне ненавистно! — говорил он. — Он — изменник. Пусть вся
наша кровь падет на его голову! Не может быть, чтобы Бог не
покарал его! Сначала преследовали и выгнали королеву, которая
презирала его, как он того и заслуживал, а потом задумал
умертвить королевича и забрать власть в свои руки. Негодяй знал
отлично, что когда страна превратится в пустыню, то люди будут
звать на помощь хоть разбойника! Но лучше уж погибнуть, чем
искать у него милостей!
459
И, по обычаю того времени, Топорчик принялся осыпать
ругательствами и проклятиями Маслава, которого никто и не думал
защищать.
— Он хуже пса, это правда, — прервал его Лясота, — но если
у него будет сила, то те, кому мила жизнь, придут с поклоном к
нему!
— Нет, не дождется этого разбойник, не дождется, пока нас
осталась хоть небольшая горсточка! — заговорил Богдан. — Разве
мы не можем призвать снова внука Болеслава? Он теперь ушел
от нас, но, если мы его попросим, он вернется и будет править
нами, — не как отец, а как дед, потому что он рыцарь по духу,
муж богобоязненный и разумный. Неужели же нас уже истребили,
как пчел, всех до единого? Если сохранится хоть горсточка,
император поможет ему для того, чтобы не позволить чехам чрезмерно
увеличиться присоединением нашей земли. Надо идти к нему,
просить и умолять!
— Да ведь он сын Рыксы! — тихо проговорил один из Долив.
— Я это знаю, — горячо прервал Топорчик, — я знаю, что
у нас никто не любил королевы-матери и ей приписывали все
дурное. Но я ведь там жил, я все видел. Все это иначе было!
Королева — набожная и разумная, — ее не любили за то, что
она была сурова к людям, но она была милостива и справедлива.
Говорили про нее, что она не любила наших, а окружала себя
немцами, все это правда, но ведь и наши к ней не шли с
доверием, а старые языческие обычаи отталкивали ее и возмущали.
Она боялась наших и предпочитала проводить время с набожными
и мудрыми людьми и беседовать о святых делах. У них она
спрашивала совета, потому что больше не у кого было спросить. А
наши косились на нее за это... Ах, Боже мой! — отдохнув
немного, продолжал Топорчик. — Трудно понять, как все это
случилось с нами! Чувствуем только, что на нас обрушился Божий
гнев за то, что мы не уважали собственных государей. За это
теперь чернь села нам на плечи!
После долгого и утомительного перехода, глубокой ночью,
Собек приказал ехавшим впереди остановиться, потому что лес
начинал редеть, и можно было предполагать, что скоро откроется
долина, посреди которой находится Ольшовское городище.
Небо тоже прояснело, из-за облаков выглянул край месяца.
Собек снова пошел вперед, чтобы высмотреть, нет ли около замка
стражи или отряда, оставленного чернью для охраны. Все
притаились в чаще, а Собек, согнувшись, вошел в кусты и исчез.
Действительно, перед ними была Олыновская долина,
пересеченная речкой Олынанкой, а на этой речке виднелось на довольно
высоком и хорошо укрепленном холме городище Белинов. Оно было
окружено со всех сторон крепостным валом и рогатками, из-за
которых только кое-где выглядывали крыши домов.
В долине Собек не заметил ни одной живой души, но над
речкой остались свежие следы огромного табора: трава была примята,
460
даже вытоптана, а во многих местах выжжена. Повсюду валялись
потухшие головешки, виднелись выкопанные в земле ямы для
костров, колья, к которым привязывали коней, остатки разрушенных
шалашей и груды белых костей.
А замок, к которому пробирался Собек, казался совершенно
вымершим, — не слышно было в нем звуков жизни, не видно огня.
И только вслушавшись хорошенько он различил мерные шаги
часовых на валах.
Разглядев, с которой стороны надо было подойти к замку, он
поспешно вернулся назад, чтобы под покровом темноты, пока все
было тихо вокруг, провести свой маленький отряд.
Но лишь только они выбрались из леса в долину, на валах
послышались окрики: очевидно, бдительная стража, завидев их,
подняла тревогу. Собек, который ночью видел так же хорошо, как
кот, заметил, что над рогатками, в разных местах, показались
люди. И чем ближе они подвигались к замку, тем больше усиливалось
движение. К воротам вела извилистая тропинка, умышленно
загроможденная камнями и бревнами и во многих местах разрытая;
ехать по ней ночью было и неудобно, и небезопасно.
Старый Лясота, словно разбуженный от сна, вдруг двинулся
вперед, оставляя за собой своих спутников. Его уже поджидали у
ворот, потому что как только он крикнул: «Белина!» — из замка
тотчас же отозвались.
— Кто вы и откуда?
— Раненые, несчастные, две женщины и несколько калек,
просят у вас милосердия. Помогите, кто в Бога верует, и приютите
нас!
Долго не было ответа на это первое обращение. Тогда Лясота,
потеряв терпение, начал звать самого Белину:
— Белина, старый друг, отзовись, ради Бога!
Опять долгое ожидание. А за воротами слышны были только
тихий говор и чьи-то шаги. Наконец наверху, на мосту, показалась
какая то темная фигура, мужчина в высокой шапке с белым
посохом в руке.
— И двор, и замок наш битком набиты людьми, — хлеба
недостаточно. Мы бы душой рады принять еще... Но сами едва можем
прокормиться...
— Позвольте же нам, хоть без хлеба, спокойно умереть у вас,
чем попасть в позорную неволю к убийцам и злодеям, — крикнул
Мшщуй.
Долго не было ответа. Наконец голос сверху спросил:
— Кто вы?
Лясота назвал сначала себя, потому что они знали его и даже
были с ним в родстве, потом вдову и дочь Спытка, двух братьев
Доливов и, наконец, Топорчика и двух слуг.
— Восемь душ! Восемь ртов! — закричали сверху. — Это
невозможно, здесь не хватит места и на троих.
— Женщин возьмем! — закричал другой голос.
461
— Белина, старина, — заговорил Лясота, усиливая голос, в
котором слышался гнев. — Ты хочешь, верно, чтобы мы полегли
все здесь у ворот и чтобы все знали, какое у тебя христианское
сердце? Ладно... Мы ляжем все, пусть же нас волки сожрут у
вас на глазах!
На мосту послышались крики и споры — одни требовали
милосердия, другие противились этому. Лясота и Доливы молчали.
Топорчик молча сидел на земле. Спыткова громко жаловалась и
причитала, а Кася потихоньку плакала.
— Пустили бы хоть нас, — говорила Спыткова, — я тогда
брошусь им в ноги и выпрошу и для вас приют.
Спустя некоторое время, кто-то, нагнувшись вниз из-за рогаток,
крикнул:
— Богдась Топорчик, ты ли это?
— Это я, или тень моя, потому что я едва жив, — сказал
Богдась, подняв голову. — Был бы уже мертвым, если бы не
милосердие этих людей.
— Двух женщин, Лясоту и Топорчика! — крикнули сверху. —
Больше никого. Да будет воля Божья!
Наступило молчание. Спыткова пошла было к воротам, но
Богдась встал и сказал:
— Женщин впустите, а я не пойду без других, останусь с ними.
Если бы последний из слуг должен был остаться за воротами, я
останусь с ними. Или всех, или никого. Пойдем под нож к Маславу.
Ослабевший Богдась так вдруг возвысил голос, что все
перепугались, — жизнь возвращалась к нему со всем пылом
молодости. Наверху снова начались переговоры и споры, а ворота все
еще были на запоре. Богдась заговорил с лихорадочным
возбуждением:
— Впустите женщин, — пусть хоть их не бесчестит чернь и
не глумится над ними. А если не хотите спасти своих же братьев
христиан и разделить с ними кусок хлеба — черт с вами! Вы
стоите того, чтобы вас взяли и повырезали или угнали в неволю.
Но эти смелые слова не имели действия, — все умолкло. Потом
послышался чей-то укоризненный голос, а другие замолчали. Среди
этой тишины слышался плач Спытковой и гневные проклятия
Мшщуя.
Усталые путники уселись на камнях и бревнах у ворот. Никому
уж не хотелось больше просить о милости, страшный гнев овладел
всеми.
Так продолжалось некоторое время, и никто не знал, что будет
дальше, как вдруг за воротами показался свет, послышались шаги
и стук отбиваемых засовов и опрокидываемых тяжестей, которыми
была завалена калитка.
Никто не поднимал голоса и ни о чем не просил. Наконец,
после долгой и напряженной возни у ворот, калитка с трудом
открылась, и в ней показался, опираясь на меч, сам Белина, тучный,
сильный, высокого роста старик с длинной белой бородой.
462
— Идите все, — угрюмо сказал он, — идите, но не
удивляйтесь тому, что увидите.
Спыткова, увлекая за собой дочь, первая прошла в ворота и,
очутившись внутри двора, упала на колени, благодаря Бога и
хозяина, который стоял с опущенной головой, погруженный в свои
думы.
Потом вошли Лясота, Топорчик, Доливы и двое слуг, ведших
за собою коней. Двое юношей-слуг стояли с факелами у ворот, и
как только все прошли в них, тотчас же снова началась работа
над приведением их в прежний вид. Белина молча шел впереди,
не было времени на приветствия.
Действительно, внутренность городища представляла странное
и ужасное зрелище, которое могло вызвать жалость. На голой
земле, на соломе и просто в грязи лежали в страшной тесноте,
один к другому, люди всех возрастов и сословий, так что негде
было пройти между ними. Тут были матери с детьми на руках,
подростки, жавшиеся к коленям стариков, воины в разорванных
кожаных панцирях и старые сморщенные старики с непокрытыми
головами и обнаженной грудью — полураздетые. Кому негде
было лечь, сидел, опираясь спиной о плечи соседа. Некоторые от
истощения, а может быть, от голода спали так крепко, что их
не могли разбудить ни свет, ни шум голосов, ни даже толчки
проходивших мимо них и задевавших их ногами. Другие же,
страдавшие бессонницей, сидели, подперев голову руками, с
рассыпавшимися в беспорядке волосами. Еще третьи в испуге
срывались с земли, не понимая, что произошло, и с криком хватаясь
за дротики в защиту от неприятеля.
Около конюшен и амбаров, в сенях, всюду виднелись целые
массы этих несчастных. По их изжелта-бледным исхудалым лицам
видно было, что и здесь с трудом только можно было поддерживать
жизнь. Новоприбывшие, войдя в эту толпу и следуя за Белиной,
часто должны были невольно наступать на ноги и руки лежавшим.
Белине достаточно было показать прибывшим, что у него делалось,
чтобы сразу оправдаться в своем первоначальном отказе впустить
их.
Пройдя другие ворота, путники очутились во внутреннем дворе,
где стоял дом Белины. Они увидели несколько разбитых палаток
и наскоро сложенных шалашей, но и здесь была такая же
невообразимая давка: все было заполнено людьми, лошадьми, коровами
и овцами. Скот прятали в хлеву и конюшне и зорко стерегли,
чтобы изголодавшиеся люди, как это уже случилось несколько раз,
не убивали ночью потихоньку животных себе в пищу.
В палатках жило знатнейшее рыцарство и шляхта. Их жены,
дети и более слабые из них жили в самом доме. Старый хозяин с
пасмурным лицом ввел их сначала в нижнюю горницу, которая в
лучшие времена служила столовой. Это была большая, длинная
зала, с дубовыми колоннами; в ней стояли столы и лавки, а в
одной стене был вделан огромный камин, обложенный камнем. Все
463
остальные стены были увешаны сверху до низу одеждой и оружием
всякого рода. Здесь тоже вповалку лежали люди, разместившиеся
где попало: на полу, на лавках, на столах, а некоторые чуть не
в самом камине.
— Смотрите, — сказал хозяин, обращаясь к
новоприбывшим, — смотрите и не вините меня. Уж давно у нас не осталось
ничего, кроме небольшого количества соленого мяса, круп и муки.
Мы варим из этого похлебку и тем питаемся.
Он указал рукой на пол и пробормотал, избегая лишних
объяснений:
— Размещайтесь, как и где можете. Женщин я отведу к своим.
Что Бог дал, то и дал!
Люди, лежавшие на полу, на столах и на лавках, разбуженные
светом и разговором, подняли головы и стали приглядываться к
вошедшим. Из разных концов послышались возгласы:
— Лясота! Мшщуй! Вшебор!
Богдася Топорчика захватил в объятия сын Белины, с которым
они были в большой дружбе еще при дворе королевы и королевича.
Молодой Белина обнимал друга и восклицал:
— Не вини нас, брат, не вини, а взгляни только.
Старый Лясота, едва державшийся на ногах от утомления, —
ни о чем не расспрашивал, а присмотрел себе местечко среди
лежавших да тут же и свалился головой кому-то в ноги. Тот даже
и не шевельнулся. Старик сейчас же громко захрапел и застонал
во сне.
Проснувшиеся охотно подвинулись, давая место вновь
прибывшим. Так, в тесноте и духоте, провели приезжие первую ночь,
расположившись где пришлось, — молодой Томко Белина, уложив
Богдася в удобном уголке, сам пошел на вал.
Как только свет погас, все снова улеглись, а не спавшие лежали
тихо, чтобы не мешать другим.
Собек и Дембец остались на первом дворе вместе с конями.
Так окончилось это путешествие, полное опасностей, и окончилось
более счастливо, чем можно было надеться.
На другой день, уже на рассвете, многие стали подниматься и
выходить из духоты на валы, где уже слышен был говор
проснувшихся людей, плач детей, монотонное убаюкивание женщин и
громкие голоса споривших.
Вся эта картина днем казалась еще страшнее, чем ночью, когда
нельзя было разглядеть лица человеческого и когда сон смягчал
страдания. Теперь, пробужденные от сна, все задвигались и
заговорили, словами и стонами жалуясь на свою долю. Матери,
имевшие грудных детей, теряли молоко, и ночью несколько
новорожденных умерло от холода и голода. Громко плакали и
причитали женщины, обступившие пожелтевшие и посиневшие
трупики. Стонали больные, просили пищи голодные, а все, кто был еще
в силах, носили воду и прислуживали немощным. Старшины,
выбранные Белиной, расхаживали с посохами в руках, наводили по-
464
рядок и призывали к тишине. Здесь ни одна ночь не обходилась
без жертв. В эту ночь умерло несколько больных взрослых и
несколько детей.
Много хлопот доставляли похороны, ради которых приходилось
открывать калитку в воротах; люди с лопатами шли в ближайший
лес, где и погребали умерших. При этом надо было торопиться и
все время быть настороже, чтобы не напала на них караулившая
их чернь.
Это было первое, что бросилось в глаза прибывшим, когда они
вышли утром на валы. Не успели они спуститься вниз, как
раздался призыв к обедне на втором дворе; служил ежедневно
бенедиктинец Гедеон, человек святой жизни, спасшийся из
Пшемешеньского монастыря и пользовавшийся этим обрядом для
ободрения и подкрепления несчастных.
Он один среди всех этих людей, жертв страшного разорения
и уничтожения, в отчаянии своем усомнившихся в милосердии
Божием, остался тверд и спокоен и умел вливать надежду в их
души.
Для того чтобы вся эта многочисленная толпа могла молиться
в часы Великой Жертвы, алтарь был устроен на возвышенном
помосте, который был виден издали. Все, кто хотел, могли видеть
капеллана через широкие ворота из первого двора во второй и
могли молиться вместе с ним.
Это было печальное, но и прекрасное зрелище, когда все стали
тесниться, — мужчины и женщины, чтобы продвинуться поближе
и вознести молитвы к тому Богу, в котором теперь была вся их
надежда на спасение.
Настала глубокая тишина, прерываемая только плачем и
вздохами женщин. Здесь было много таких, которые, подобно Спыт-
ковой и ее дочке, потеряли мужей, отцов и братьев, погибших в
битвах или пропавших без вести. Большая часть из них в белых
кисейных покрывалах, чепцах и намитках сидели или стояли на
коленях в сторонке, так что невозможно было разглядеть их лиц.
По приказанию отца Гедеона в этой тесноте и давке женщины
стояли по одну сторону, мужчины — по другую.
Все эти люди, происходившие, подобно Лясоте, из зажиточной
шляхты, теперь не имели на себе даже целого платья и были одеты
в чужие сермяги, в рваные плащи, забрызганные грязью, кто в
чем пришлось, некоторые были почти в лохмотьях. Белина,
сжалившись над старым израненным Лясотой, принес ему утром
чистых тряпок для перевязки ран и приличный плащ. Панцирь
выбросили, да и кафтан, насквозь пропитанный кровью, уже
никуда не годился; Собек, который умел и за ранеными ухаживать,
обмыл и перевязал ему раны. Со своей стороны, Томко Белина
одел Топорчика, у которого от сырости давно уже испортилась и
прогнила одежда. Но в этот день ослабевший Богдась не мог даже
встать в час обеда, и когда подали пищу, пришлось отнести ему
его порцию в тот угол, где он лежал.
465
Пища была плохая. Уже давно нельзя было печь хлеба, и все
обитатели замка — мужчины и женщины — довольствовались
мучной похлебкой, к которой иногда прибавляли кусочек мяса или
жира.
Никто не смел жаловаться на голод, — все тревожились только
о том, надолго ли хватит пищи на всех, если положение не
изменится к лучшему. Старый Белина сам ежедневно заглядывал в
мешки и бочки.
Хотя чернь, осаждавшая замок, и отступила от него, но все
отлично понимали, что мир был не прочный и что враг рассчитывал
взять их измором.
Не раз высказывались предположения — прорвать осаду и уйти
за Вислу. Но тогда надо было или покориться Маславу, или
вступить с ним в бой. Большая часть рыцарства, находившегося за
валами Олыновского городища, относилась с презрением к Маславу
с его язычеством и не хотела даже думать о спасении благодаря
ему.
Каждый день происходили совещания, не приводившие ни к
какому решению, и отец Гедеон заканчивал все споры и беседы
всегда одними и теми же словами:
— Помолимся Господу и будем верить, что Он нам поможет!
И только молодость счастлива тем, что, даже в такой тесноте,
она хоть на минуту может забыть обо всем.
Трудно было поверить, что на другой день первой заботой обоих
братьев Долив было проследить, где скрывались голубые глазки
Каси. Они оба, как только встали, принялись всюду бегать и
расспрашивать, где расположились мать с дочерью.
Уже в дороге поссорившись из-за девушки, они избегали
смотреть в глаза друг другу и почти не разговаривали между собой.
Вшебор за одни сутки дороги так расположил к себе мать, что мог
быть уверен в ее сочувствии, однако он не принял в расчет того,
что веселая и бодрая еще женщина заглядывалась на него не ради
дочки, а ради себя самой. Остаться вдовой без защиты, говорила
она себе, было очень трудно... И она искала мужа... не столько
для себя, сколько для дочери, которой он мог заменить отца, а
она охотно принесла бы ей эту жертву.
Мечты Вшебора были совсем иные.
Мшщуй, ничего не добившийся во время пути от пугливой
Каси, влюбился в нее еще сильнее. И оба брата думали только о
том, как вести дальше свои сердечные дела.
В обоих текла одна и та же горячая кровь, но, как это часто
случается в семьях, нравы у обоих были не одинаковые. Оба легко
воспламенялись, но шли к своей цели разными путями. Во время
охоты Вшебор выслеживал зверя, а Мшщуй загонял его и убивал;
первый готов был провести целый день в шалаше в ожидании
зверя, второй не терпел долгого ожидания и охотнее гнался и
преследовал. Так и во всем. Вшебор всего добивался упорством и
ловкостью, Мшщуй — горячим сердцем и собственными усилиями.
466
В Ольшовском городище, где женщины были отделены от
мужчин, трудно было в этой давке найти кого-нибудь вообще и еще
труднее — увидеть женщин. Вместе с женою и дочерью Белины
они занимали отдельное помещение, и почти никто из них не
выходил из него уже потому, что не было такого укромного уголка,
где бы за ними не следило несколько пар глаз и не подслушивали
чьи-нибудь уши.
Поэтому и оба влюбленные, расхаживая по дворам и задирая
головы кверху, словно высматривали воробьев под крышей, не
могли нигде увидеть тех, кого искали. А тут еще нашелся третий
соперник в лице молодого Белины. Придя утром к лежавшему То-
порчику, он принялся с жаром расспрашивать его о Касе Спытко-
вой, заинтересовавшей его своим серьезным личиком. Топорчик
тоже завидел ее издали, но был так измучен и угнетен, что даже
женская красота не произвела на него впечатления.
— Оставь ты меня в покое! — отвечал он. — Я не знаю и не
ведаю, что это за женщина! Я встретил их в пути, когда был сам
едва жив; старшая дала мне напиться, — да наградит ее за это
Бог. Спрашивай о ней Доливов, если они захотят только тебе
ответить, потому что мне сдается, что они сами точат зубы на этого
подростка. Мне же не до того.
— Девочка как малина! — сказал Белина.
— Да хоть бы она была как ангел, каких ставят в костелах,
не время теперь думать о девушках, когда враг схватил нас за
горло, — сказал Топорчик.
Белина рассмеялся и умолк, но, должно быть, грешные мысли
засели крепко у него в голове, потому что, когда братья Доливы,
проискав напрасно по дворам, вернулись в горницу, он пристал и
к ним, расспрашивая их о женщинах, с которыми они приехали.
Но те неохотно отвечали на его вопросы. Им было неприятно, что
еще кто-то, кроме них, заинтересовался девушкой.
Так среди туч засияло на радость молодым глазам, как ясное
солнышко, чудное девичье личико. Такова уж привилегия
молодости, что и под самым страшным гнетом она не перестает
волноваться сердцем и мечтать. Старшие беседовали о защите замка да
о хлебе, а молодые только и думали о голубых глазах Каси.
Хозяйскому сыну, Томку Белине, который мог свободно входить в
помещение женщин, среди которых была его мать и сестра,
посчастливилось раньше всех полюбоваться хоть издали на прекрасную
девушку. Доливы же и думать не смели о том, чтобы приблизиться
к ней.
Но под вечер Спыткова-мать вышла из горницы проведать того,
кто так хорошо услуживал ей во время дороги и так внимательно
слушал ее рассказы. Оба брата, увидев ее издали, так и бросились
к ней навстречу. Вдова, помня услуги Вшебора, вынесла ему под
платком немного съестного, оставшегося от дорожного запаса,
чтобы угостить своего опекуна, — и, увидев его брата, разделила свое
приношение на две части.
467
Оба принялись расспрашивать ее о ней самой и о дочери.
— Благодарение Богу, — со вздохом отвечала вдова, — что
мы попали сюда. По крайней мере, здесь мы среди людей, и
что они имеют, то и нам дают. Здесь было бы легче и умирать!
Обе мы здоровы, хоть долго еще не забудем этот путь и все
наши несчастья.
Так начав разговор, Спыткова повеселела и, блестя белыми
зубами, то и дело бросала взгляды на Вшебора.
Начав болтать, она уж не могла остановиться: ей надо было
так много рассказать такого, чего Мшщуй еще не слышал, — о
своем прежнем богатстве, о величии и могуществе своего рода,
о любви мужа и обо всем, что она испытала в жизни. Теперь она
уже помышляла о том, как бы ей пробраться на Русь к своим, где
она надеялась найти защиту, помощь и нового мужа, так как там
еще многие вздыхали по ней.
Долго болтала вдова, сопровождая свою речь то смехом, то
слезами, кокетливо поглядывая живыми черными глазами то на
одного брата, то на другого и энергично жестикулируя. Живая
и говорливая, она отлично знала, что может еще нравиться
мужчинам, — но братья стояли перед ней в безмолвии и
неподвижности.
Подходили и чужие люди послушать и посмотреть на нее, а
она с увеличением слушателей становилась еще более
словоохотливой, и, когда пришла пора прощаться и возвращаться к дочери,
глаза ее были уже совершенно сухи.
IV
В одно осеннее утро двое людей, одетых по-крестьянски, в
простых сермягах, верхом на плохих конях с подостланным вместо
седла куском толстого сукна, медленно подъезжали к широко
разлившейся Висле, переполненной осенними дождями.
На возвышенном берегу ее виднелся издалека замок на холме
и старый город, раскинувшийся у подножия его.
В городе и его окрестностях царило оживление. Около замка,
окруженного валами, из-за которых выглядывал маленький костел
без креста, принадлежавший бенедиктинцам (потому что еще в
1015 году их поселил здесь Болеслав), передвигались массы народа,
напоминавшие войско, разделенное на отряды. Над толпой
возвышались изображения языческих богов на длинных древках, вбитых
в землю, и красные знамена.
Всадники переглянулись между собой. Один из них,
обветренный, морщинистый и уже в годах, хотя бодрый, был Собек, верный
слуга Спытковой, другой — молодой и более видный из себя, хотя
и на нем была простая сермяга, был скорее похож на воина, чем
на простого крестьянина. Это был Вшебор Долива. Обоих послали
на разведку из Олыновского городища и велели добраться хоть до
468
самого Маслава, лишь бы знать, что дальше делать и как выйти
из беды.
Долива, принимая поручение, не обнаружил большой
готовности: не хотелось ему уезжать от Спытковой и ее дочери, но
нельзя было отказаться, потому что все настаивали на его выборе,
помня его уверения, что при дворе Мешка он был коморником
вместе с Маславом и пользовался его дружбой и доверием. Теперь
этот самый Маслав, нечестным путем превратившись из
ничтожного мальчишки в плоцкого князя, мечтал уже о завоевании всей
страны.
Сидевшим в замке надо было разузнать, как обстоит дело, и
пристало ли им, спасая жизнь от черни, рассчитывать на Маслава.
Вшебору не грозила опасность, и, кроме того, он надеялся на свою
находчивость.
Собек — простой человек — не боялся ничего. Долива был бы
очень рад избегнуть всякой встречи с Маславом, но делать было
нечего. В городище были на исходе запасы пищи: попасть в руки
черни значило то же самое, что положить голову на плаху,
следовательно, надо было искать каких-нибудь путей к спасению.
Проводником Доливе дали старого Собка, который не терял
присутствия духа в самых трудных ситуациях; он остался верен
себе и на этот раз, когда надо было постоянно обходить стороною
вооруженные отряды, избегать поселений и двигаться чаще ночью,
чем днем. Собек провел его так искусно, что они, не встретив
никого по дороге, добрались целыми и невредимыми до берега
Вислы. Вшебор, который сначала говорил очень уверенно о встрече с
Маславом и надеялся на его дружбу, теперь, когда увидел перед
собой город и представил себе, как он предстанет перед Маславом,
задумался не на шутку.
Он уже начал сильно сомневаться в том, как его примут и
вспомнят ли о прежней дружбе. С тех пор, как они оба встречались
при дворе, многое изменилось, а вести, доходившие со всех сторон
о Маславе, не предвещали ничего хорошего.
Но нельзя же было возвращаться назад!
Собек молча взглянул ему в глаза и указал на реку.
Вшебору пришло в голову, нельзя ли как-нибудь, не открывая
своего имени, издали все высмотреть и не встречаться совсем с
Маславом. Здесь было много народа, и они могли незаметно
смешаться с толпой. Что из этого выйдет, он и сам не знал. Они
ехали шагом, и Долива еще придерживал свою лошадь. Поначалу
они сговорились с Собком, что он постарается добраться до самого
Маслава. Но теперь это казалось и неудобным, и опасным.
— Послушайте-ка, — тихо сказал Вшебор товарищу. — Не
лучше ли будет не лезть на рожон, а только издали присмотреться?
Нас здесь никто не знает.
— Как вы решите, так и будет, — ответил Собек. — Я ничего
не знаю!
— Но как вы думаете? — спросил Долива.
469
Вместо ответа Собек указал ему рукой на Вислу. Они стояли
на лугу, на открытом месте.
Отсюда видны были как на ладони — неподалеку от них, на
реке, две связанные вместе большие ладьи, на которых гребли к
тому месту, где они стояли.
В ладьях были кони и люди.
Вшебор увидел издали, что люди были вооружены и одеты в
рыцарскую одежду, и, вероятно, это были какие-нибудь знатные
рыцари, потому что доспехи их блестели на солнце; на голове у
одного из них развевался красивый султан, а на плечи был накинут
богатый плащ, из-под которого сверкало оружие.
Мальчик, стоявший позади него, держал в руке птицу, другой
слуга приманивал взлетевшего сокола, а третий держал на привязи
собак.
Лиц еще нельзя было различить.
Впереди стоял мужчина с султаном на шапке, а несколько
поодаль — придворные его или слуги. Должно быть, они ехали на
берег Висляны на соколиную охоту.
Нетрудно было отгадать, кто был тот, кто мог свободно
забавляться охотой в такое время.
Таким образом, счастливый или несчастный случай, как раз в
минуту нерешимости и колебания, облегчил Вшебору выполнение
задачи.
Уклониться от встречи было невозможно, спасаться бегством —
опасно, значит, надо было смело идти навстречу судьбе.
Так и решил в душе Долива.
Не задерживая больше коня, он спокойно поехал вперед, а тем
временем и ладьи пристали к берегу, и можно уже было различить
лица сидевших в них людей.
Вшебор узнал Маслава, хотя он сильно изменился с того
времени, когда Долива помнил его взбалмошным и дерзким мальчиком
при королевском дворе. Он держался или, вернее, старался
держаться с княжеским достоинством.
Бедно одетые, Вшебор и его спутник не привлекли его
внимания, — Маслав горделиво оглядывался по сторонам. Заложив руки
в боки, задрав кверху голову и поставив одну ногу на край ладьи,
он имел такой вид, как будто ему хотелось поскорее выскочить на
землю.
Человек этот, крепкий и ловкий, был словно вырублен
секирой.
Сквозь панскую внешность в нем ясно проглядывала холопская
кровь. Лицо у него было румяное, обветренное и самое
обыкновенное; в маленьких юрких глазках и рыжей бороденке не было
ровно ничего княжеского, но он был силен и хорошо сложен, а
так как ему, видимо, везло в жизни, то он возомнил о себе и
держался с людьми надменно и свысока. Его светлые брови
непрерывно морщились, и даже когда он молчал, казалось, что он
обдумывает новые приказания, чтобы ни на минуту не сойти с того
470
пьедестала, на который ему удалось взобраться. С первого взгляда
в нем чувствовалась сильная и предприимчивая натура, которая
ни перед чем не останавливалась.
Когда ладьи приблизились к берегу и всадники подъехали
ближе, Маслав, окинув взглядом их серые сермяги, хотел с
пренебрежением отвернуться от них, но что-то в лице Вшебора поразило
его. Он не узнал его сразу и, строго нахмурив брови, стал
пристально всматриваться в него. В это время Вшебор, не спеша, снял
меховой колпак и поклонился ему.
Как раз в эту минуту Маслав, одетый совсем не
по-охотничьему, а так, как будто собирался принимать у себя послов, — ив
рыцарском поясе, с которым он никогда не расставался, —
готовился выйти на берег.
За ним шли его приближенные, одетые так же неуместно, как
и он сам, в колпаки с султанами, пояса и нарядные плащи.
Вшебор едва не рассмеялся при виде этой ненужной пышности,
но вовремя сдержался, вынужденный думать о своей безопасности.
Маслав, заметив его поклон, вздрогнул и, взглянув на
окружающих, по-видимому, собирался отдать приказ схватить его, но
Вшебор, приблизившись к нему, сказал вполголоса:
— Як вашей милости, пришел к вам с поклоном.
Маслав уже не сомневался, что видит перед собой прежнего
знакомого. Тревога снова овладела им, — он не знал, как
отнестись к нему, и недоумевал, что могло его сюда привести.
В нерешимости он отступил назад, присматриваясь к Вшебору.
Видя его колебания, Долива быстро распахнул сермягу и
показал ему, что, кроме небольшого меча, у него не было больше
никакого оружия. Топор остался привязанным к седлу коня, с
которого Долива сошел, оставляя его на попечение Собка.
— Что вас сюда привело? Что вы хотите от меня? — заговорил
Маслав, стараясь придать своему голосу гневный и строгий тон. —
Говори, да поскорее, у меня нет времени!
Проговорив это, Маслав подступил к Вшебору, словно желая
показать, что он его не боится, а когда тот не сразу ответил,
Маслав отошел от своих людей, принудив и Вшебора следовать за
собою.
— Милостивый пан! — начал Вшебор. — Не так это легко
рассказать в двух словах свое дело. Вы знаете, что у нас теперь
делается, и только вы можете нам сказать, что будет с нами завтра.
К вам и надо идти — спрашивать, что делать дальше.
Маславу, видимо, польстило, что ему приписывают власть над
будущим. Его мужественное и энергичное лицо приняло
выражение еще большей гордости и самомнения, и он вымолвил уже
без гнева:
— Что делать? Все, кто хочет сохранить голову на плечах,
должен мне повиноваться. Кроме меня, ни у кого здесь нет силы.
Скоро мы освободимся от немецкого и чешского гнева, и я буду
править!
471
Говоря это, он оглянулся, чтобы проверить впечатление,
которое производили эти слова, и засмеялся диким, насильственным и
неискренним смехом.
Вшебор молчал, не поднимая головы. Маслав ударил рукой по
мечу, который висел у него за поясом.
— Спроси меня, по какому праву я буду править, — прибавил
он. — Вот мое право! Кто силен — тот и должен править, а у
кого есть ум — у того есть и сила, если же нет ума — то и сила
не поможет, потеряют ее, как они там потеряли! — Он указал
рукой на запад. — Обленившееся, ни к чему не годное,
онемеченное племя надо было выбросить за дверь, а крестьянам — вернуть
старую свободу и прежнюю веру. Мы должны жить по-своему, а
не перенимать чужих обычаев. Не нужно нам ни чужих богов, ни
чужих князей. Пясты продавали нас императорам и папам. От
немецких матерей рождались онемеченные дети. Казимир, мать
которого записалась в монахини, пусть себе сидит у дяди в Хольне
и поет в хоре, — там его место, а не здесь на царстве. Мы ведь
не монахи!
Говоря это, он шел вперед и бросал пытливые взгляды на До-
ливу, подзадоривая себя собственными словами.
— Мазурская земля — моя, а со мной пойдут пруссаки и
литовцы; все те, которые привязаны к своей старой вере. Нас
множество, а вас — горсть, да и той скоро не станет. Земля без
государя достанется тому, у кого сила. А сила — у меня! У меня!
Он горячился все больше, поглядывая на Вшебора. Но не
дождавшись от него никакого ответа, стал перед ним и повелительно
сказал:
— Говори же мне, кто тебя послал?
К Доливе, ввиду грозящей опасности, вернулись мужество и
хладнокровие. Он равнодушно пожал плечами.
— Кто же у нас может посылать? — сказал он. — Из старого
рыцарства, шляхты и магнатов немногие уцелели — на паству
волкам. Мы, двое братьев, спаслись от чехов и черни. Может быть,
найдется еще несколько человек, спасшихся и укрывающихся в
лесах. Кто бы мог меня послать? Вы были когда-то мне другом,
теперь могли бы взять меня хоть в слуги! Моя жизнь не имеет
для вас никакой цены, но, может быть, я вам на что-нибудь
пригожусь.
Маслав, задумался. Речь Вшебора понравилась ему.
— Ой! Знаю я вас! — выговорил он насмешливо. — Если бы
вы только могли мной завладеть, вы охотно отдали бы меня в руки
Казимира или еще кого-нибудь. Много их там шляется у немцев.
Вы, все окрестившиеся и видавшие другие времена, — не многого
стоите.
— А вы разве не были крещены? — смело спросил Вшебор.
Маслав запылал мгновенным гневом и оглянулся назад на
своих, — не слышали ли они этих слов. Но те стояли далеко и не
могли слышать их разговора. Он промолчал и опять задумался.
472
— Слушай, Долива, — заговорил он после молчания,
взявшись за бока и отойдя несколько шагов назад. — Правда, я
дружил с тобой на том песьем дворе, хочу быть для тебя теперь
добрым паном, но смотри, береги голову на плечах, она тебе
нужнее, чем мне. Я возьму тебя одного, брата твоего не хочу
и никого больше не хочу, пусть чернь вырежет их без остатка.
Я себе наделаю магнатов из тех крестьян, которые будут мне
благодарны, а бояться их мне нечего. Если хочешь служить мне,
я возьму тебя!
Вшебор поклонился, потом поднял голову и смело взглянул ему
в глаза.
— Почему же мне не служить тебе, если я умираю с голоду
и не имею пристанища? Но что будет с братом?
— Да где ты его оставил? — спросил Маслав.
— В лесу, на поляне, два дня пути отсюда, он занемог.
— Пусть его там волки съедят, — смеясь и похлопывая Вше-
бора по плечу, сказал новый князь. — Ты останешься у меня, а
больше я знать никого не хочу.
Вшебор промолчал и не настаивал больше. Ссылка на брата
была только лазейкой, которую он оставил себе для того, чтобы
иметь предлог уйти от Маслава. Но он все же надеялся с помощью
Собка уйти тем или иным способом.
Маслав, как бы не доверяя ему, продолжал пытливо
поглядывать на него, но выражение его лица прояснилось.
— Это мне будет очень кстати, — сказал он, — мне как раз
надо устроить себе двор. Я назначу тебя охмистром. Эти мои
мужички во всем хороши, но беда в том, что они не знают панских
и королевских обычаев. У меня должен быть свой двор, как у всех
королей и князей. Вот ты мне подберешь людей и обучишь их. Я
хочу, чтобы у меня были такие же порядки, как при дворе старого
Мешка и Болька.
Вшебор, делая вид, что он вполне разделяет эту мысль, и не
обнаруживая отвращения, с готовностью подхватил:
— Вот и отлично! Но пока я научу людей, пройдет немало
времени.
— Пустое! — нахмурив брови, возразил Маслав. — Я умею
скоро учить. Надо построже, тогда все пойдет хорошо.
И снова похлопал его по плечу.
— Я беру тебя, — повторил он, — но помни, я — добр и
щедр, но и грозен в то же время.
На этом разговор окончился. Маслав обернулся к своей свите,
стоявшей поодаль, и крикнул:
— Пустить сокольничьих псов! Если что-нибудь попадется,
спустить соколов!
Он дал знак и сам медленно пошел к своим людям,
сопровождаемый Вшебором. Услышав за собой его шаги, князь как будто
одумался.
— Подождите здесь при ладьях, — вернетесь вместе со мной!
473
Долива послушно остановился, а псы, соколы, мальчики, слуги
и Маслав со своим двором потянулись вдоль берега реки.
Долива вернулся к Собку, который стоял в стороне с конями.
Иначе невозможно было спасти свою голову и добыть
необходимые сведения, как только приняв то предложение, которое
милостиво сделал ему Маслав.
Охотники удалились, а Вшебор подошел к Собку, который
заглядывал ему в глаза, стараясь отгадать, какие вести он принес с
собой.
— Едем ко двору, — тихо проговорил Долива. — Я приехал
в добрый час, если голова моя осталась еще на плечах. Мы
пробудем здесь некоторое время, но вы и кони должны быть каждую
минуту готовы к отъезду, когда настанет время.
Собек кивнул.
— Вырваться отсюда не так уж трудно, — сказал он. — Они
не очень-то берегутся, видно, не боятся никого. Удалой пан!
Удалой! — тихо прибавил он.
Они присели отдохнуть, а коней пустили попастись на траве.
Но Маслав недолго забавлялся охотой, — приказав людям
пройтись с соколами, он сам вернулся, ища глазами Вшебора.
Тот встал и подошел к нему.
Казалось, новому повелителю приятно было поговорить о себе
с каким-нибудь свежим человеком, — переряженная чернь,
окружавшая его, не удовлетворяла его, и его тянуло к Вшебору.
Подойдя к нему, он указал на город, расположенный на холме.
— Это будет моя Познань! — сказал он, смеясь. — Ты
понимаешь? Отсюда я буду владеть обоими берегами Вислы!
И, вытянув руку, обвел ей вокруг.
— Пруссаки и литовцы пойдут со мной. Чехов погоним вон и
поколотим, немцам не позволим подойти к Лабе. Вырежем их. Все,
кто ненавидит христиан, пойдут со мной. — Он все время
оглядывался на Вшебора, как будто ожидал от него похвалы и
одобрения. — Ну, что ты скажешь на это?
— Что ж, только бы у вас было войско!
— Есть войско и еще будет, и я сам обучу их, — быстро
заговорил Маслав. — Я хоть вырос при дворе, но в душе всегда был
и остался воином. Пруссаки предприимчивый народ. Это те самые,
что убили Войташка, которого Болько выкупил и похоронил в
Гнезьне, а теперь чехи взяли его оттуда! Те самые, что не сдались
старому Болько. Ну, а я им брат и сват!
Он засмеялся, с довольным видом потирая руки.
— Ну, что же ты ничего не говоришь? Маслав не глуп, правда?
Увидишь сегодня сам, от них придут ко мне послы. А знаешь,
почему так случилось? Потому что я сделался язычником и
повыдергал кресты. Весь народ со мной.
Должно быть, молчание Вшебора было ему неприятно; он
спросил его:
— Что же ты об этом думаешь?
474
— Вы очень счастливы в жизни, это все знают! — пробормотал
Долива.
— В Плоцке, в замке, были отцы-бенедиктинцы — теперь от
них не осталось и следа. Из костела я устроил языческий храм
так же, как и они из храмов делали костелы. Гусляры хлопали в
ладоши и кланялись мне в ноги от радости: люди повыкопали
старых богов, прикрепили их к древкам и повтыкали в землю, крича
перед ними: «Ладо!» Вот где моя сила! Ну, что же вы все
молчите? — смеясь, повторил он.
— Удивляюсь всему этому, — не спеша, выговорил Долива, —
но советую вам хорошенько счесть свои силы в борьбе с
христианами. Вас много, но и тех не мало. Я не хочу вам льстить. На
Руси водружены кресты, чехи — крещены, венгры и немцы тоже
христиане. А их всех вместе соберется много.
Маслав утвердительно кивнул головой, потом остановился,
осмотрелся вокруг и, подойдя ближе к Вшебору, зашептал, близко
глядя ему в лицо:
— Ты ничего не понимаешь. Чей Бог окажется сильнее, тому
я и поклонюсь. Мне что? Теперь взяла верх старая вера, а что
будет завтра — почем я знаю? Князья и короли все крестятся,
когда приходит время. И я буду таким, каким захочу быть, чтобы
получить власть, а теперь хорошо и так, как есть. Долой кресты
и долой немцев, которые их принесли. Понял?
Он засмеялся, не раскрывая рта и блестя глазами. Но ему не
понравилось в новом слуге, что тот не удивлялся, не льстил ему
и даже не соглашался с ним.
— Эх ты, человече, — возвысив голос, заговорил Маслав. —
Ты, может быть, думаешь, что мне приснилась моя сила? Ну, так
я покажу ее тебе воочию. Увидишь и сам поверишь.
Он взглянул вдаль, где стояли люди с собаками и соколами.
Две собаки выслеживали дичь в болоте, но осенний день не
благоприятствовал охоте, — до сих пор не встретилось ни одной
цапли и ни одной птицы. Маслав подозвал к себе ближайшего
слугу.
— Гей, Дидко, выпустите соколов проветриться и потом
возвращайтесь с ними. Губа поедет со мной, здесь больше нечего
делать.
И он указал рукой на ладьи, к которым и направился.
Вшебор глазами дал знак Собку, чтобы он не тревожился о
нем, сам Долива пошел вслед за князем. Маслав, как бы торопясь
вернуться, поспешно спустился к ладьям, вскочил в одну из них
и приказал забрать коня для него самого и Губы.
Взгляд его упал на бедно одетого Вшебора, стоявшего перед
ним в ожидании приказании.
— Ты не можешь ехать со мной в этой сермяге, — сказал
он, — останешься пока в ладье, а потом пойдешь пешком в замок.
Когда мы вернемся, Губа прикажет выдать тебе одежду из моей
гардеробной, и ты будешь одет, как пристало моему охмистру. Не
475
бойся, — со смехом прибавил он, — будет тебе и цепь, и все
прочее! У меня всего этого вдоволь. Я хочу, чтобы люди
восхищались моим двором, а не смеялись над ним.
Он подозвал Губу и шепнул ему что-то на ухо, указывая на
Вшебора. Между тем ладьи, в которых сидели на веслах и стояли
с баграми несколько Мазуров, стали быстро переезжать реку. В
глубоких местах все брались за весла, а на мели отталкивались
баграми. Люди работали живо, подгоняя друг друга, как будто
чувствовали, что пан их не любит ждать!
Маслав, стоя в ладье, уже не говорил ничего, хотя слушателей
было достаточно, он только несколько раз указал Вшебору рукой
на замок, видимо, гордясь и чванясь тем, что он им владел.
Действительно, замок, расположенный на возвышенном берегу
реки, имел очень величественный вид, а на валах виднелся народ,
видимо, поджидающий своего господина. Когда ладья причалила к
берегу и из нее вывели коней, Маслав наклоном головы простился
с Доливом, сел на своего великолепно убранного коня и в
сопровождении Губы поехал в замок, высоко подняв голову и приняв
вид грозного владыки... Снизу было видно, как раздвигались люди
наверху при его приближении, а через минуту на валах раздались
громкие крики многочисленной толпы, приветствовавшей Маслава.
Вшебор, задумчивый и хмурый, поплелся вслед за ним к замку.
Быть может, он вспомнил то время, когда видел Маслава
маленьким и жалким перед королевой, которая относилась к нему с
презрением.
По пути к замку Вшебор внимательно присматривался ко всему,
что окружало Маслава. Народу везде было много, и хоть он уже
был собран в сотни и полки, но всем своим видом и одеждой более
напоминал полудиких людей, чем воинов. И вооружены они были
не одинаково. Начальников трудно было отличить от простых
солдат. Все они сидели и ходили в полном беспорядке, кричали и
ссорились между собой.
Во дворах замка стояли бочки и кадки с пивом; часть людей,
сидя на земле, ели и беседовали, другие, лежа, отдыхали.
Около прежнего бенедиктинского костела стояла толпа гусляров,
колдунов, старых баб и черни, вышедшей из лесов.
Внутри открытого храма горел уже огонь, около которого
двигались женщины в белых одеждах. Перед вывороченными дверьми
костела стояли длинные древки, вбитые в землю, с изображениями
богов, сделанными наспех, грубыми и безобразными.
Между ними стоял выкопанный из земли каменный чурбан,
который должен был изображать божество в трех шапках, с
заложенными на груди руками, в которых он держал меч и каравай.
Гусляры, рассевшись на земле под ним, бренчали на гуслях и
подпевали, а народ, окружавший их, внимательно слушал.
У дверей вновь отстроенного деревянного замка стояла толпа
народа, и суетились слуги нового князя в нелепых пестрых
одеждах.
476
Очевидно, старались одеть их попышнее, но не умели этого
сделать, и каждый, выбрав, что ему нравилось, напялил на себя,
заботясь только о том, чтобы било в глаза. Только на некоторых
было полунемецкое платье, видимо, награбленное из королевского
замка.
Важнейшие граждане, — несмотря на свои дорогие платья и
жупаны, цепи и позолоченные пояса, несмотря на то что были и
умыты, и причесаны, все же выглядели простыми пастухами.
Видно, на этом дворе, собранном наспех и кое-как одетом, не было
никакого порядка. Там и сям в этой толпе вспыхивали ссоры,
завязывались драки и слышались удары дубинок и шум борьбы.
Толкали друг друга и дрались до тех пор, пока дубинка одного из
старшин не прекращала ссоры.
Визг и вой собак, ржание коней и отдаленный шум воинского
лагеря сливались в один непрерывный гул, в котором трудно
было разговаривать, не повысив голоса, чтобы быть
услышанным, — и эти повышенные голоса еще более увеличивали
общую шумиху.
Вшебор без труда пробрался сквозь толпу; никто даже не
взглянул на него, но он не знал бы, куда идти, если бы не вышел в
это время из замка Губа и не повел его за собой.
По знаку Губы приблизился старик, которому Губа и передал
Вшебора. В сенях замка тоже толпилось много народа. Пройдя
через какие-то темные закоулки, переходы и коридоры, по которым
сновала челядь, Вшебор со своим проводником вошел в полутемную
избу. Ее маленькие окошечки, закрытые изнутри ставнями, едва
пропускали свет. Это был, должно быть, какой-нибудь склад или
гардеробная владельца замка, вся заваленная одеждой, оружием и
всевозможными, очевидно награбленными, вещами, которые
лежали на полу и висели по стенам. Все, что доставляла война, было
захвачено и сложено здесь Маславом. Целыми кучами свалены
были вещи, собранные из разных замков, от разных владельцев, со
всех концов страны, различной ценности и самого разнообразного
вида. Те, что сложили их здесь, не умели даже отличить более
ценных вещей от менее ценных. Дорогое и дешевое, хорошее и
плохое — все было свалено вместе в одну кучу, как рожь или
сено, свезенные в амбар.
— Эй, вы! — крикнул старик, отворив дверь. — Берите что
хотите. Так приказал пан! Не стесняйтесь! — И он указал на кучи
одежды и полки, загроможденные всяким добром. — Выбирайте,
чего душа пожелает! Вы видите, у нас есть что выбрать!
И, поглаживая голову, старик усмехнулся. На одной из полок
лежали отдельной кучкой золотые и позолоченные цепи. Старик
подошел и, выбрав несколько, взвесил их на руке, остановился на
самой тяжелой цепи и хотел уже подать ее Вшебору, но вдруг
заметил на ней следы засохшей крови, пробурчал что-то себе под
нос и пошел к дверям, где стоял чан с водой. Выполоскав в нем
цепь, он начал вытирать ее полой своей одежды.
477
Вшебор с отвращением стал одеваться, — отказаться было
невозможно.
Старик с готовностью помогал ему и все время советовал
выбирать все самое лучшее, но не тратить даром времени. У него
была только одна забота — выполнить как можно лучше
приказание своего пана.
— Только поторопитесь, — говорил он. — Его милость не
любит ждать и желает, чтобы вы были при нем за столом... А давно
уж пора...
Из разных углов он вытащил пояс с мечом, меховую шапку,
богатое верхнее платье и все, что было нужно для того, чтобы
Вшебор угодил новому пану. Сверх всего этого старик накинул ему
на шею золотую цепь и, с улыбкой осмотрев его, повел к выходу.
Из гардеробной в столовую снова пришлось идти темными
коридорами и переходами... Уже издали Вшебор услышал
доносившиеся из нее громкие голоса. Старый плоцкий замок не отличался
большим великолепием внутреннего убранства: стены его были
черными от дыма, а все убранство горниц составляли самые простые
деревянные столы и лавки. Каким он был с незапамятных времен,
таким остался и теперь — со столами из толстых досок, с
огромными лавками, устланными теперь кожами и сукном. В других
горницах не было даже полов, а только утоптанная земля,
засыпанная листьями, а зимой — соломой и вереском.
В горнице, игравшей роль столовой, было много разряженных,
как на празднике, гостей. Для князя было устроено сиденье на
небольшом возвышении, прикрытое черным сукном. Около него
занимали места сразу бросавшиеся в глаза своей непохожей на
остальных внешностью пруссаки с зверскими лицами, вооруженные
топорами, дротиками, луками и кремневым оружием.
Главою их был кунигас, относившийся к Маславу совершенно
запросто, а тот волей-неволей должен был принимать
доказательства его расположения.
Это был человек среднего роста, широкоплечий, толстый, с
заплывшими глазами, едва видневшимися из под бровей, в
обхождении решительный и не обращавший никакого внимания на
торжественность обстановки, какую пытался поддержать Маслав.
Он считал себя совершенно равным ему и отвечал ему гордо и
высокомерно. Новый князь, должно быть, нуждался в нем, потому
что, хотя лицо его часто выражало неудовольствие и гнев, он все
же терпеливо переносил такое обхождение гостя.
Иногда он обводил взглядом своих придворных, ему хотелось,
чтобы двор его произвел на пруссаков впечатление настоящего
княжеского, и потому-то все были разряжены, как на праздник, и
вооружены.
По старому обычаю, в горнице не было женщин.
Заняв место в конце стола, Маслав посадил около себя кунигаса,
приказав подостлать ему на сиденье красное сукно. Перед ними
были поставлены серебряные блюда, а так как для других уже не
478
хватило серебра, то остальные удовольствовались глиняной и
деревянной посудой.
Вшебору Маслав указал место за другим столом, приказав ему
распоряжаться там.
За исключением пруссаков, которые, нисколько не стесняясь и
громко разговаривая, сейчас же принялись есть и пить, все
остальные, сидевшие за столом, придворные Маслава, вероятно, соблюдая
приказание своего пана, хранили боязливое молчание. Но так как
они к этому не были приучены, то время от времени и среди них
вырывался у кого-нибудь громкий возглас или взрыв смеха,
который сейчас же затихал под грозным взглядом повелителя.
Слугк прислуживали неумело, сталкивались друг с другом, а
за дверями слышались угрозы, брань и жалобные крики; но все
же пир окончился бы вполне благопристойно, если бы не кубки,
стоявшие перед гостями и постоянно наполнявшиеся. Мед развязал
язык этим людям, не привыкшим сдерживать вспышки гнева и
веселья. К концу пиршества ничто уже не могло остановить шума
и криков, хотя выражение лица князя становилось все угрюмее. А
тут еще явилась целая стая своих и чужих псов, бросившихся
глодать брошенные под стол кости и своим лаем и визгом еще
более усиливших общий гомон.
В конце трапезы, по старому обычаю, все гусляры и певцы,
сидевшие около храма, собрались в обеденную горницу. Они
ворвались целой толпой, торопясь занять места на лавках около стены,
а те, кто не нашел места, расселись на земле; зазвучали гусли, и
раздались крикливые напевы.
Но Маслав и с этими должен был считаться, — ведь за ним
шел весь народ; перед ними поставили пиво и мед, слушали их
пение и игру, а некоторые из сидевших за столом, подогретые
вином, стали вторить им и хлопать в ладоши.
Все это мало напоминало пир в княжеском доме, — но, видно,
иначе и не могло быть.
Пруссаки этим не смущались: они с удовольствием попивали
мед, подставляя для этого рог, который носили у поясов, и
похваливая угощение.
Трапеза близилась к концу, — все угощение понемногу исчезло
со столов, и остались только жбаны, — как вдруг двери из
внутренних покоев замка с шумом отворились, и в горницу вбежала
какая-то странная фигура. При виде ее пруссаки в испуге
повскакали с лавок, а Маслав побледнел как мертвец.
Да и было чего испугаться!
Вошедшая была старая, худая и высокая женщина, с седыми,
растрепанными волосами, падавшими ей на плечи, едва прикрытая
грубым бельем и даже не подпоясанная, босая и как бы
вырвавшаяся из тюрьмы или из рук палачей.
Ее бледное сморщенное лицо и горевшие пламенным гневом
серые глаза с красными, опухшими от слез веками выражали
глубокое, почти безумное горе.
479
Она вбежала с громким, неудержимым, бессмысленным криком,
в котором ничего нельзя было разобрать, — перепуганная,
рассерженная, оглядывавшаяся назад, как будто за ней гнались.
Отталкивая руками тех, кто стоял у нее на дороге, она
добежала до стола и стала как вкопанная перед Маславом, вперив в
него безумный взор.
Князь, бледный, не владеющий языком, вскочил с места и
руками указал своим придворным на это привидение, которое они
пропустили в горницу. Пруссаки, перепугавшись неизвестно чего,
хватались за ножи, остальные повскакивали с мест, — ив горнице
все пришло в смятение. Тогда и Вшебор двинулся от стола.
В это время люди, вбежавшие за бабой, схватили ее за руки,
но она, вырываясь от них, упала на землю, как раз подле того
места, где сидел князь. Маслав в ужасе отшатнулся.
Раздались испуганные крики, потом в толпе произошло
движение, и придворные, схватив безумную на руки, поспешно вынесли
ее из горницы.
Некоторое время еще слышались ее жалобные крики, сначала
громкие и напряженные, потом все затихавшие по мере удаления
и, наконец, превратившиеся в глухой стон, затерявшийся где-то в
глубине замка.
Маслав, с вытаращенными от испуга глазами, стараясь придать
своему лицу подобие улыбки, опустился на свое место.
На вопрос кунигаса он холодно ответил, что это была бедная
старая помешанная, и, налив себе кубок, выпил его залпом, но,
как он ни старался принять равнодушный вид, не мог удержать
охватившей его дрожи.
Часть гусляров вышла за дверь, и после этого шумного
приключения вдруг настала страшная тишина; князь сделал знак,
чтобы подали мед, но и это не помогло, — все были испуганы и
смущены появлением несчастной женщины. Скоро все умолкло, а
некоторые из тех, которые особенно много пили, захрапели,
положив головы на стол. Наконец, и сам Маслав, приказав проводить
своих гостей на отдых в предназначенные для них горницы,
двинулся неверным шагом из столовой, предшествуемый коморниками,
которым он приказал нести перед собою меч. Начали расходиться
и остальные, за исключением уснувших за столом.
Вшебор, не имевший понятия о своих дальнейших обязанностях,
остался почти в одиночестве. Перед глазами его стоял образ
странной бабы, испортившей своим появлением весь пир. Откуда она
могла взяться здесь, при дворе? Кто она была и чего хотела?
Догадаться самому было невозможно, хотя из ее криков и отрывочных
фраз можно было понять, что она пришла с какой-то просьбой к
Маславу.
Князь тоже, видимо, был более напуган ее видом, чем
рассержен, из уст его не вырвалось ни одного проклятия, он — такой
смелый и суровый до жестокости — не имел на этот раз силы
вымолвить слово!
480
Вшебор, расхаживая взад и вперед по горнице, раздумывал об
этом, когда вошел Губа.
Лица придворных имели после этого приключения то же самое
выражение, которое Вшебор подметил у Маслава. Губа был угрюм
и озабочен.
— Что это была за женщина? — спросил его Вшебор.
Губа взглянул на него и пожал плечами.
— Да старая баба какая-то, я не знаю, — отвечал он, но видно
было, что он знал больше, чем хотел сказать. И, чтобы избежать
дальнейших расспросов, тотчас же удалился.
Вбежал мальчик, посланный за Вшебором, которого князь
приказал привести к себе.
Горница князя, куда ввели Вшебора, была убрана по образцу
Мешкова двора, — с видимым желанием произвести впечатление
богатства и пышности.
Маслав нагромоздил в ней огромное количество всякой посуды,
ковров и материй, как бы умышленно выставляя их напоказ.
Вшебор, войдя, застал его лежавшим на кровати; увидев его,
князь быстро поднялся и сел.
Лицо его страшно изменилось. Румянец сошел с него, губы
посинели, глаза сверкали диким огнем, морщины сдержанного
гнева избороздили щеки и лоб. Он всматривался в лицо Вшебора, как
бы желая узнать по его выражению, с чем он пришел.
— Видели, — заговорил он, — как мне испортили праздник!
Эта глупая челядь! У дверей не было стражи!
Вшебор молчал.
— Сумасшедшая, старая ведьма! — продолжал Маслав. —
Только из жалости приютил ее. На нее иногда что-то находит, духи ее
мучают, и тогда она сама не знает, что делает и что плетет.
Он встал и, опустив голову, заходил по горнице.
— Я уж давно приказал держать ее взаперти!
Он, видимо, был разгневан и с трудом сдерживал себя, потом,
как бы сделав над собой усилие, подошел к нему с просветлевшим
лицом, на котором еще ясно видны были следы плохо скрытого
волнения.
— Вот ты видишь, шлют ко мне послов и просят вступить с
ними в союз те самые, с которыми не мог справиться Болеслав!
Стоит им кликнуть клич, и поднимутся тысячи мне на помощь, а
я выгоню немцев.
Вдруг голос его дрогнул, словно он что-то вспомнил, и он
прибавил:
— Если захочу срубить кому-нибудь голову или повесить, из-за
стола прямо отдам палачу приказ, виновных могу строго наказать.
Что захочу, то могу.
Вшебор все молчал и слушал. Тогда Маслав спросил настойчиво:
— Ну, что же вы скажете?
— Присматриваюсь и дивлюсь вашей силе, — отозвался Доли-
ва. — Всюду виден у вас достаток. Могу вас поздравить.
481
— Может быть, ты думаешь, — живо прибавил Маслав, — что
я не имел на это права? Ты слышал басни, которые рассказывали
при дворе? Все это одна ложь и клевета, во мне течет кровь старых
мазурских князей. Как у Лешков, так и у нас Пясты украли
наследство, а мы теперь отберем его у них. Моя кровь стоит Пясто-
вой.
Проговорив это, он опустился на сиденье, покрытое медвежьей
шкурой, перед огнем и в задумчивости облокотился на руку.
— Пясты не вернутся никогда, — заговорил он, как будто сам
с собой. — Казимир не захочет подставлять свою голову, и никто
ему не поможет... А с чехами...
— Что же вы думаете делать с чехами? — спросил Вшебор,
вынужденный так или иначе поддержать разговор.
— Против чехов направлю пруссаков и Мазуров, а в конце
концов поделюсь с ними.
— Бржетислав не захочет делиться.
— Захочет! — возразил Маслав. — Я дам ему Силезию, пусть
уж возьмет и Краков, и вместе пойдем на императора.
Все это, высказываемое отрывочными фразами, походило скорее
на горячечные фантазии, чем было ответом на вопрос: казалось,
он себе самому бросал эти мысли в ответ на рождавшиеся в нем
сомнения, надеясь отогнать их.
— Я объявлю себя королем, — продолжал он. — Рыкса увезла
с собою все короны, но я в тех и не нуждаюсь, пусть император
хранит их у себя. Мне выкуют новую — еще дороже и красивее.
И не ксендз наденет мне ее на голову, а я сам! Я сам!
Он засмеялся, блеснув глазами, но вдруг оглянулся тревожно
и нахмурился. Откуда-то издалека долетел заглушённый крик.
Маслав вздрогнул и прислушался: все было тихо; он вздохнул
свободнее. Мысль его продолжала свою работу,
— Если бы даже чехи и немцы оттяпали у меня все за Вислой,
здесь я останусь паном. Отсюда меня никто не прогонит, я здесь —
дома. Тут и пруссаки, которые идут со мною рука об руку. Почему
же бы мне не жениться на девке прусского кунигаса? Разве он
отказал бы мне? Даст за ней в приданое землю, все как следует.
Мы будем везде поддерживать старую веру! Говорят: крещеная
Русь, крещеная Польша, крещеная Чехия! Ложь все это! Окрестили
их под страхом и угрозой. Народ будет с нами, потому что мы
отдадим им старых богов. Разрушим костелы, а монахов прогоним.
Вдали снова послышался слабый крик, и все снова стихло.
Маслав побледнел, оглянулся назад осоловевшими глазами и
умолк.
Вшебор тоже не посмел заговорить или спросить его.
Вдруг князь обратился к нему.
— Ведь ты — христианин? — дрожащим голосом спросил он.
— Да, я христианин, — сказал Долива, — и вам это хорошо
известно, потому что и вы вместе со мною ходили в костел и к
исповеди. Правда, — прибавил он, — на свете еще много некре-
482
щеных людей, да и таких, которые, окрестившись, все еще тайно
держатся старой веры тоже, должно быть, немало, но и христиан
ведь множество, а там, где надо постоять за веру и крест, все
пойдут вместе.
— И много у них хорошего оружия, — вырвалось у
задумавшегося Маслава. — У нас рук-то хватит, но не хватит мечей.
Он потер лоб, как бы стараясь стереть с него назойливую мысль,
и, понурив голову, сказал:
— Они умеют делать чудеса!
— Христиане? — спросил Вшебор.
— Нет, их черные монахи, — таинственно шептал Маслав. —
Как они это делают? Никто не знает. Никого не щадили, всех
приказано было убивать, и мало кто из них уцелел. Что это,
колдовство?
Маслав содрогнулся, словно охваченный внутренней тревогой.
— Все это россказни глупых людей, — шепнул он, прерывая
себя самого. — Басни для запугивания людей, — ложь и клевета.
Он взглянул на Вшебора и, подойдя к нему, взялся за конец
золотой цепи, спускавшейся к нему на грудь.
— Ты поступай как знаешь, только будь мне верен, — сказал
он, — а своим христианством не хвались. Мы здесь не хотим знать
этой веры! А завтра, — прибавил он, — выбери мне людей,
молодец к молодцу, и вели выдать им всем одинаковую одежду, чтобы
у меня была, как пристало князю, своя дружина. Ты будешь
начальником ее и охмистром при моем дворе. Понял?
Вшебор молча поклонился и вышел.
Очутившись один в сенях, Долива горько усмехнулся сам над
собою. Вот чего он дождался! Быть слугой и охмистром холопского
сына, которого он помнил мальчишкой для услуг при княжеском
дворе. Все, что он видел здесь, вызывало в нем гнев и возмущение,
и он не рассчитывал остаться здесь надолго, но все же надо было
ко всему присмотреться, чтобы разузнать, в каком положении было
дело Маслава. Ему это было тяжело, он принужден был
притворяться, но, попав в это осиное гнездо, надо было быть осторожным.
Он еще не знал даже, к кому обратиться и куда направиться, когда
Собек, поджидавший его, молча поклонился ему.
Почти весь двор уже спал, только немногие бродили еще по
темным углам и переходам, через которые должны были пройти,
чтобы попасть во второй двор. Вышли и Собек с Вшебором, и здесь
Собек обратился к Доливе и сказал ему:
— Вам отвели плохую хату, но что делать? Весь двор полон
пруссаков и поморян... Я просил для вас отдельную, чтобы вы
могли выспаться, но где там! Едва нашлась какая-то коморка.
Хотели дать клетушку, где даже нельзя было развести огня.
483
Говоря это, он провел Вшебора к строению, в котором с одной
стороны слышался женский голос, а с другой — несколько пруссаков
охраняли покои своих панов. Из узких сеней Собек провел Вшебора в
маленькую горницу, в которой Собек уже развел огонь. Узкая,
грязная, пахнувшая смолой комнатка эта, видимо, только что была
освобождена для княжеского охмистра. В ней была только одна лавка, в
углу лежала охапка сена, покрытая шкурой, а по стенам было вбито
множество деревянных гвоздей, очевидно, оставшихся от прежних
постояльцев, которые развешивали на них одежду.
Собек, проводив Вшебора, имел явное намерение кое-что
рассказать ему и спросить самому, но удержался и даже приложил
палец к губам в знак молчания. В хате были еще другие жильцы,
и говорить было не безопасно. Только по выражению лица старого
слуги Вшебор мог догадаться, что ему не особенно нравился этот
двор. Собек сказал ему, что идет к лошадям, а Вшебор, задвинув
деревянный засов на ночь, в задумчивости уселся перед огнем.
О многом надо было ему подумать.
На всем, что он здесь видел, лежала печать дикой, но
несомненной силы, с которой по численности ее не могло сравняться
пястовское рыцарство, хотя бы оно и противопоставило ей смелость
и мужество.
В ушах у него звучали еще крики и возгласы пирующих, песни
гусляров и жалобный плач сумасшедшей старухи, нарушившей
веселье, он вспомнил все, что говорил ему Маслав, и сердце его
сжалось печалью и тревогой. Неужели и им суждено было
покориться звериной силе этого человека, отрекшегося от веры и
стремившегося возвратить народ в прежнее варварское состояние?
Вспомнилось ему и Олыповское городище с горсточкой
укрывшихся в нем людей, которых ждала верная гибель, потому что не
было средств к спасению их.
Так раздумывал он, когда вдруг рядом с ним послышался чей-то
жалобный голос. Вшебор замер на месте, боясь пошевелиться, и
стал прислушиваться. За тонкой деревянной перегородкой шел
какой-то отрывочный разговор. Вшебор различил женский голос. Он
потихоньку подвинулся ближе к перегородке и приложил ухо.
Теперь он ясно слышал женский жалобный голос и другой, все время
прерывавший и заглушавший его.
Подойдя вплотную к стене, Вшебор только теперь заметил, что
в ней было отверстие в форме окна, соединявшее между собою обе
половины хаты. Отверстие это было закрыто деревянным ставнем.
Долива попробовал осторожно отодвинуть едва державшийся,
ссохшийся ставень, и он легко подался. Таким образом, в
образовавшуюся широкую щель он мог заглянуть в соседнюю горницу и
рассмотреть, что там делалось.
Сначала, пока глаз не привык к полумраку, царствовавшему в
просторной горнице, освещенной только слабым отблеском
догоравшего пламени, он не различал ничего. Но, всмотревшись
внимательнее, он заметил две женские фигуры, из которых одна сидела
484
на земле, а другая стояла над ней. В первой из них Вшебор узнал
ту старую помешанную, которая ворвалась во время пира; теперь
она сидела на земле, на соломе, успокоенная, изменившаяся,
обхватив руками колени. Дрожащий свет пламени падал на ее сухое,
морщинистое лицо. Вшебору показалось, что на глазах ее блестели
слезы.
В грубой рубахе, едва прикрывавшей ее тело, босая,
полуобнаженная, она сидела, устремив взгляд в огонь, и покачивалась всем
туловищем, как плакальщица, причитающая над покойником.
Другая женщина, стоявшая над ней, молодая, стройная,
красивая и нарядно одетая, смотрела на старуху с выражением скуки и
равнодушия. Не было в ее лице ни сострадания, ни участия, а
только нетерпение и досада.
— Послушай-ка ты, тетка Выгоньева, — говорила она,
наклонившись над ней, — ты своим безумием доиграешься до того, что
тебя бросят в яму и заморят голодом. О чем ты думаешь? Что ты
вбила себе в голову?
Старуха даже головы не повернула к говорившей, она,
по-прежнему покачиваясь, смотрела в огонь и, казалось, не слышала
обращенных к ней слов.
— Ты должна поблагодарить меня за то, что тебе не дали
сегодня ста розог. Князь был в бешенстве.
При имени князя старуха слегка повернула голову.
— Что он говорил? — спросила она.
— Сто розог старой ведьме! — отвечала молодая женщина,
поправляя волосы на голове. — Сто розог дать сумасшедшей бабе!
— Это он так говорил? Он? — с расстановкою спросила
старуха. — И справедливо, справедливо! Почему нет у бабы
разума? — язвительно пробормотала она.
— Ага, видите, вот вы и сами говорите! — подхватила молодая.
— И не будет у нее разуму, хотя бы дали ей сто и даже двести
розог.
— Что это вы выдумываете, — начала другая, — зачем
перебегаете дорогу князю? Если бы он был такой злой, как другие, да
он давно велел бы вас повесить!
— Ну, что же! — сказала старуха. — Пусть прикажет, и пусть
вешают.
Она опустила голову и после небольшого молчания затянула
охрипшим голосом:
— Люли, малый, люли
На руках мату ни,
Спи, детка золотая,
Молочком вспоенная,
Кровью моей вскормленная,
А живи счастливо,
Люли, малый, люли.
Так я певала ему, когда кормила его вот этой самой высохшей
грудью, — прибавила она, судорожно раздирая на груди рубаху, —
485
а теперь! Повесить старую суку! Сто розог ведьме! Эй, эй, вот как
он вырос мне на счастье!..
Старуха подперлась рукой и задумалась.
— Ну, что же в том, что вы его кормили грудью? Если
бы даже так и было, — заговорила молодая, топнув ножкой
о землю. — Разве мало мамок кормит чужих детей, когда нет
матери.
— Мамка! — крикнула старуха, подняв на нее грозный
взгляд. — Ты, ты, кто ты такая, что смеешь меня называть
мамкой? Не была я мамкой никогда! Ты позволяешь себя целовать,
хоть и не жена... на то ты такая уродилась, а я прикладывала к
своей груди только собственное мое дитя! Ах ты негодница!
Молодая женщина в гневе отскочила от нее прочь.
— Ах ты, старая ведьма, страшилище проклятое! А тебе какое
до меня дело? Ты видела, как он меня целовал?
— Кто и не хочет, так увидит, у тебя на лице написано, —
заворчала старуха, откидывая седые волосы. — Ну-ка, посмотри
на меня, — написано ли на моем лице, что я могла кормить чужое
дитя?
— Там написано, — рассмеялась молодая, — что домовой взял
у тебя разум и спрятал его в мешок, вот что! Но смотри, старая,
ты дождешься того, что тебя повесят...
— Ну, что же, ветер высушит мои слезы! — сказала старуха.
Она умолкла, и голова ее снова стала покачиваться из стороны
в сторону ритмическим движением... Молодая, надувшись и
нахмурив брови, стояла над ней.
— Меня прислали к вам в последний раз, — заговорила она. —
Поумнеете ли вы наконец или нет? Сидите спокойно, тогда
доживете без печали до смерти, и ни в чем не будет у вас недостатка...
Вы и так не можете ходить... Разве вам плохо в хате? Дают вам
есть, пить и все что душа захочет. Есть у вас лен для пряжи,
прядите, сколько сил хватит. Не холодно, не голодно! Чего вам
еще? Сидели бы смирно.
— Для вас, Зыня, было бы этого довольно, только бы еще
парень приходил, — заговорила старуха. — А я взаперти и без
солнца не выживу здесь... Нет!
— Уж конечно, — прервала ее Зыня, — если бы вам открыли
дверь, как сегодня, когда слуга забыл ее закрыть, вы побежали бы
пугать людей и лезть князю на глаза.
— Потому что у меня есть на то право. Слышишь ли ты,
бесстыдная ветреница! — крикнула старуха. — Я имею право быть
там, где он, сидеть там, где он сидит, и ходить, куда он пойдет...
Понимаешь?
Зыня разразилась язвительным смехом.
— Видно, старухе надоела жизнь!
— Ой, надоела, надоела! — повторила старуха, обращаясь не
то к огню, не то к самой себе. — Зажилась я на свете, все глаза
выплакала, руки поломала, всю грудь от стонов разбило мне. Не
486
мила мне жизнь, ой не мила! А тебе, бесстыдница, не желаю
ничего, ничего, только моей судьбы и моей старости!
Зыня невольно вскрикнула... Ее напугали эти слова, которые
старуха произнесла как проклятие.
— За что же вы мне этого желаете? За что вы меня
проклинаете, — возразила она, — разве я по своей воле так говорю?.. Я
делаю, что мне приказывают...
— Уж молчала бы лучше, — прервала ее старуха.
Зыня отступила от нее на несколько шагов и принялась ходить
по горнице. Выгоньева даже не взглянула на нее. Несколько раз
молодая женщина бросала на нее боязливый взгляд, но та не
оглянулась и не промолвила ни слова. Старуха, погруженная в свое
горе, казалось, ни о чем, кроме него, не хотела знать. Слезы,
высохшие было на ее щеках, потекли снова.
В то время все боялись старых ведьм и их колдовства; и этим
объяснялось то, что Зыня, услышав проклятие старухи, теперь
старалась как-нибудь умилостивить ее, чтобы она не произнесла над
ней заклятья.
Покружившись по горнице, Зыня присела на полу возле старухи
и изменившимся голосом заговорила:
— Ну, не сердитесь на меня. Чем же я виновата? Меня
посылают, и я должна идти. Зла я вам не желаю, а говорю вам для
вашей же пользы. Вы сами себе портите жизнь. Сидите спокойно,
и вы будете счастливы.
Выгоньева повернула голову.
— Счастлива? — повторила она. — Я счастлива? Счастье и
дорогу ко мне потеряло. Не бреши, брехунья, а лучше помалкивай.
Она отмахнулась от нее рукой, а испуганная Зыня отодвинулась
от нее подальше.
Огонь угасал в очаге, молодая женщина встала и подбросила в
него несколько щепок; она уже не пыталась больше заговаривать
со старухой и молча ходила по горнице, бросая на Выгоньеву
тревожные взгляды.
— Дать вам воды? — спросила она.
Выгоньева затрясла головой.
— Может быть, меду?
— Дай ты мне яду, — шепнула старуха, — да такого, чтобы
скоро убивал, долго не мучил; принеси мне дурману, приготовь
зелье, — вот за это я тебя поблагодарю!
— Рехнулась старуха, — тихо пробормотала Зыня.
Наступило молчание, а так как и во дворах и в замке князя
все уже спали, то в наступившей тишине можно было уловить
малейший шорох. Вшебор, с любопытством наблюдавший и
прислушивавшийся, услышав быстрые и нетерпеливые шаги вблизи
хаты, испугался, уж не к нему ли кто-нибудь идет...
В эту минуту широко раскрылись двери, которые вели в
помещение женщин, кто-то вошел к ним и торопливо задвинул за собою
засов. Старая Выгоньева устремила на вошедшего пристальный
487
взгляд, а молодая женщина, словно испуганная, отбежала в
дальний угол, вся зарумянившись.
Вошедший стоял в тени и не был виден Вшебору. Но вот он
очутился в полосе света и остановился перед старухой, которая,
вскрикнув и подняв руки кверху, распростерлась перед ним лицом
к земле. Это был Маслав в простом плаще поверх одежды, с
гневным и беспокойным выражением лица.
Он стоял, будучи не в силах вымолвить слово, потом оглянулся
вокруг и дал знак Зыне, чтобы она вышла; испуганная девушка,
пробираясь вдоль стены, приблизилась к двери, выскользнула из
нее и исчезла.
Старуха, подняв голову, заплаканными глазами смотрела на
Маслава; на ее лице сменялись выражения радости, гнева, отчаяния
и счастья. Маслав стоял перед ней разгневанный, но и
встревоженный в то же время.
— Послушай, старуха, — заговорил он слегка охрипшим
голосом. —- Я сам пришел к тебе, чтобы еще раз сказать тебе: береги
свою голову! Маслав терпелив до поры до времени, но в гневе —
хуже бешеного волка. Велит засечь, прикажет убить!
— Говори, — шепнула старуха. — Я хоть послушаю твой
голос, говори еще! Я дала тебе жизнь, а ты мне за это дашь смерть!
— С ума сошла баба! — крикнул Маслав. — Как ты смеешь
называть меня, княжеское дитя, своим сыном! Ах ты!..
—- Говори, сынок, говори, — сказала Выгоньева, —- приятно
мне слушать твой голос... Я всегда говорила над твоей колыбелькой,
что ты заслуживаешь быть князем и королем!
Она протянула к нему руку.
— Я называла тебя королем, я — старая помешанная!
Вспомни, — тихо говорила она. — Вспомни только... Пощупай свой лоб...
на правой стороне у тебя есть шрам... Ты был еще маленький тогда,
упал и разбил себе голову о камень, я, как пес, лизала тебе рану, а
ты... укусил меня... это было предзнаменованием того, что будет с
тобой и со мной... Я лижу твои ноги, а ты меня топчешь ими!
Старуха закрыла лицо руками и залилась горькими слезами.
Маслав все стоял. Вшебор видел, как он бледнел, как менялось у
него лицо, как он слабел и снова овладевал собою..
— Плетешь ты небылицы, старуха! — сказал он. — Нет у
меня никакого шрама на лбу, и я не знаю тебя! Мне только жаль
тебя... Хочешь уцелеть, так сиди себе смирно и молчи. Придержи
язык за зубами и не смей говорить, что ты моя мать.
Помолчав, он прибавил тихо:
— Если бы ты была моей матерью, ты бы не портила мне
жизнь, не стыдила бы меня перед людьми. Я — князь и князем
буду... а ты — Пастухова вдова.
— А ты, милый мой князь, пастуший сын! — печально сказала
старуха. — Лучше бы тебе было ходить с бичом за коровами, чем
приставлять меч к чужому горлу, чтобы потом подставить свое
горло другим! Что тебе это княжество, ну что?
488
Маслав бормотал что-то, чего нельзя было разобрать.
— Будешь ли ты молчать? — спросил он.
Выгоньева задумалась.
— Выпустите меня отсюда, — печально вымолвила она, — я
уйду и буду молчать. Не скажу никому, что ты мой сын. Будь себе
королем, если хочешь! Но выпусти меня на свободу! Туда, в старую
хату, пустите меня, пустите! Пусть глаза мои не видят, сердце не
обливается кровью... Не скажу никому, только пустите меня.
Она стала на колени и руки сложила. Маслав, нахмурив брови,
пощипывал рыжеватую бородку.
— Что тебе, плохо здесь? Не хватает только птичьего молока!
Ты вернешься на черный хлеб, в нужду, а сама все равно не
выдержишь, будешь свое болтать... Нет... нет!
— Тогда прикажи убить меня! — говорила старуха. — Пусть
убьют разом, как умеют это твои люди. Я с ума сойду в неволе,
я к ней не привыкла... Я дала тебе жизнь, а ты возьми мою.
С плачем она упала на землю, но потом быстро подняла голову
и начала жадно всматриваться в Маслава; видно, какая-то мысль
вдруг пришла ей в голову, она делала усилие, чтобы подняться.
Князь отступил от нее, но она, с трудом поднявшись, вперила в
него взгляд, точно забыв о себе. Глядела на него и не могла
наглядеться. Взгляд ее пронизывал князя, и он с беспокойством
отодвинулся от нее.
— Постой, — промолвила она, — я ни о чем тебя больше не
прошу, дай только насмотреться! Так давно я не видела тебя! А-а,
вот что из него вышло! Как тело-то побелело! Как выросло дитя!
Каким важным паном стал мой сын! Думала ли я, няньча его на
руках, что выращу такого богатыря!
Она медленно приближалась к нему; лицо ее из гневного
становилось умиленным, вот она упала на колени и, обхватив его
ноги, стала целовать их. Маслав дрожал, как в лихорадке.
— Князь мой, голубок мой, уж не совы ли выели твое сердце,
не вороны ли выклевали твои очи?.. Ты не знаешь своей матери?
Ох, золотой ты мой, ничего я не хочу от тебя, пусти ты старую
на волю; меня здесь душат эти стены, не дают мне шагу ступить,
слова вымолвить не позволяют... Сжалься ты надо мной!
Когда она окончила говорить, князь быстро повернулся и пошел
к дверям. С порога он обернулся к ней.
— Не глупите, если хотите остаться целой! Я вам это в
последний раз говорю. Сидите, где вам велят, слышите?
Послышался шум отодвигаемого засова, старуха как лежала на
земле, у ног его, так и не двинулась с места, закрыв лицо руками
и распростершись на земляном полу.
Она еще лежала и плакала, когда вошла еще женщина, но не
Зыня, а старуха в грубой и бедной одежде, с засученными по
локоть рукавами, с растрепанными волосами, прикрытыми грязным
платком, на вид еще крепкая и сильная. Нахмурившись, она
смотрела на лежавшую.
489
— Эй, ты, слышишь? — громко закричала она. — Пора тебе
на покой, старая ведьма! Довольно этих глупостей!
Говоря это, она обхватила старуху сильными руками,
приподняла ее и бросила без всякого сопротивления с ее стороны на
соломенную подстилку в углу. Потом сняла с гвоздя сермягу,
покрыла ее, постояла еще и пошла затушить огонь.
Вшебор, не слыша больше ничего, кроме глухих стонов и храпа,
задвинул ставень. Испугавшись, как бы завтра не догадались, что
он мог подслушать, он повесил на ставень свое платье и улегся в
углу на приготовленную ему постель.
На другой день, чуть свет, кто-то постучал в дверь; Вшебор
открыл ее и увидел Собка, который пришел развести огонь. В замке
уже начиналось движение. В то время день начинался с рассветом
и кончался с наступлением сумерек. Когда Вшебор открыл ставень
у окна, выходившего на двор, то увидел, что Маслав был уже на
коне посреди двора и сам расставлял своих людей, подбирая их по
росту, осматривал оружие, а тех, что сидели на конях, заставлял
гарцевать перед собой.
Войско это, набранное отовсюду, необученное и дикое, казалось
все же отважным и способным к выучке. Теперь ему еще не с кем
было воевать, потому что рыцарство короля разбежалось во все
стороны, а с чехами, превосходившими их в числе и отлично
вооруженными, они еще не решались померяться силами. Казалось,
Маслав готовился к борьбе, которую он предвидел в будущем. В
окно было видно, как князь, объезжая новые полки, то обращался
с ними по-княжески, то вдруг, забыв, кто он, превращался в
простолюдина, каким он и был, и в гневе своем давал волю рукам,
уча непонятливых.
Вшебор и Собек, стоявший за ним, наблюдая эту сцену,
покачивали головами. Старый слуга то улыбался невольно, то хмурился.
Грозный и крикливый голос князя долетал и до них.
Так молча стояли они некоторое время, пока Собек не отвел
Вшебора в сторону, тихо говоря ему:
— Нам тут нечего долго оставаться... осмотритесь... и едем назад...
Вы уж видели, что у него есть... Это все, что нам надо было знать.
— У него большая сила, а у нас — никакой, — вздыхая,
возразил Вшебор.
— А мы все же не пристанем к нему, — шепнул старик. —
Своими глазами видели то, о чем люди рассказывали... Нам тут
нечего больше делать.
Вшебор только кивнул утвердительно головой.
В дверь постучали, и с поклоном вошел Губа.
— Во дворе собраны люди, из которых вам надо выбрать
дружину для князя, — сказал он. — Кладовая открыта. Князь велел
всем слушаться вас. Вас ждут.
Долива волей-неволей должен был следовать за Губой.
Во дворе стояла толпа отборной молодежи, молодец к молодцу,
с веселыми лицами, крепкие и самоуверенные. Все они были ото-
490
рваны от плуга и секиры, не обучены и не усмирены, как дикие
кони, только что взятые из стада.
Долива сначала осмотрел их всех, потом начал выбирать. Одни
шли охотно, другие убегали, но тут же стоял Губа с дубинкой в
руке, и никто не смел ослушаться.
Скоро дружина князя была подобрана, и Вшебор повел ее к
вчерашней избушке, где было собрано платье и оружие и где ждал
их старый надсмотрщик. Всего было здесь вдоволь, но подобрать
для всех одинаковую одежду и вооружение не было возможности.
Награбленное из разных домов и от разных хозяев добро лежало
кучами без всякого порядка, и очень трудно было подобрать более
или менее сходную одежду для всех. Не успел еще Вшебор
покончить с этим, как его позвали к княжескому столу. Здесь снова
были пруссаки, которых приветствовали еще более шумно, чем
накануне, и с которыми ударяли по рукам в знак вечного союза.
Вшебор наблюдал издали за этим братанием и слышал, как
кунигас рассказывал Маславу, сколько у него войска, и
договаривался с ним относительно дальнейших походов. Маслав не скрывал
своих планов и намерений.
— С Пястами у меня еще не покончено, — говорил он ку-
нигасу.
— Их нет в стране, мы их выгнали, но они заодно с немцами
и могут вернуться вместе с ними. Чернь вырезала рыцарство и
подожгла их замки, но вся эта погань только разбежалась, а как
только оправится, снова соберется вместе. Это еще не конец! Еще
есть много нетронутых замков, и не все головы попадали с плеч...
Вшебор побледнел, услышав эти слова и заметив, что Маслав,
произнося их, взглянул на него. Итак, завязывалась дружба с
пруссаками, а старая вера и языческие боги брали верх над
христианством.
Мед шумел в головах, и шум увеличивался; пир продолжался
до самого отъезда кунигаса, которого Маслав и его приближенные
проводили во двор, где стояли кони. Когда пруссаки, сев на коней,
выезжали из замка, множество народа и гусляры с
приветственными криками провожали их за валы.
Вшебор стоял, глядя вслед отъезжавшим и прислушиваясь к
разговорам толпы, когда Маслав подозвал его к себе и велел
привести к нему напоказ подобранную им дружину. Он тотчас-же
пошел исполнять приказ, но в это время в те двери, через которые
он хотел выйти, вошло новое посольство, и князь взглядом
приказал ему остаться.
Новоприбывшие имели еще более странный вид, чем дикие,
но воинственные прусские послы. Это была толпа черни,
посланная в качестве депутатов от разбойничьих шаек взбунтовавшихся
крестьян, грабивших страну. В окровавленных сермягах, с
разгоряченными и возбужденными медом и пивом лицами, они
ворвались со смехом и шумом, без всякого почтения к княжескому
двору.
491
Начальник их, высокий детина, на голову выше всех
остальных, с густыми падавшими ему на плечи волосами, увидев Мас-
лава, снял не спеша баранью шапку и слегка склонился перед
ним. Ни он, ни его товарищи, весело поглядывавшие вокруг, не
испытывали ни малейшего страха в этой торжественной
обстановке княжеской столовой... Опустошения, которые они чинили
по всей стране, научили их ничего не ценить, они чувствовали
свою силу...
— Ну, вот мы пришли к вам, князь наш, — заговорил
начальник, — посоветоваться и порадовать тебя. Ты наш! Ты наш!
И вся толпа весело замахала шапками, приветствуя его
громкими восклицаниями. Маслав хмурился и молчал.
— Там, за Вислой, мы уже очистили тебе почти весь край.
Иди и наводи порядок... Восстанови старые храмы, верни старых
богов немцам и их богам на погибель!
Снова раздались крики, и шапки полетели кверху. Оратор
почесал бороду и огляделся вокруг.
— Рыцарей и немецких ксендзов нет больше нигде, и замков
уже немного осталось, и те мы возьмем голодом или разнесем в
щепы... Но с чехами мы не можем справиться. Это, милостивец,
твое дело. Если хочешь княжить, надо от них избавиться...
Все, окружавшие посла, кивали головами, подтверждая его
слова. Маслав слушал.
— Рыцарей нет больше? — спросил он.
— Да все равно что нет, — смеясь отвечал посол, — хоть
некоторые еще прячутся по лесам, но придут холода, морозы, —
волки и тех доедят.
— А замки сожжены?
— Если где и остались еще-то недолго продержатся, —
возразил посол.
— Вот только один есть поблизости, с тем мы, пожалуй, не
справимся. Если бы нам дали воинов на помощь, нам было бы
легче овладеть им.
— Что же это за замок? — спросил Маслав.
И вся толпа, перебивая друг друга, закричала в ответ:
— Олыыовское городище!
Вшебор почувствовал, как вся кровь бросилась ему в лицо.
— Окопались там, собачьи дети, — продолжал оратор, —
защитились машинами и так крепко держатся, что их трудно взять.
Голод их изведет, это правда, но что хорошего? Там женщин много,
они бы нам пригодились, а за это время похудеют, запасы все
поедят, — а вдруг придут чехи, возьмут их и ограбят. Там большие
богатства собраны жалко будет потерять.
— Олыыовское городище? — еще раз спросил Маслав.
Посол указал рукой в ту сторону, где оно было расположено.
— Дайте нам людей, — сказал он. — Если мы бросимся со
всех сторон на валы, они не выдержат... Если поделимся хоть
пополам, там хватит богатства на всех. — Туда свезли сокровища
492
со всех сторон, да и сам Белина имел достаток... Надо истребить
это гнездо без пощады.
Маслав несвязно бормотал что-то; послам от черни принесли
пиво, и тут же началось угощение. Все взяли по кубку и с
поклонами обратились к пану, принимавшему их у себя, но сам пан
был не весел: не по нраву ему была эта бесцеремонная простота
простого народа. Да и они, поглядывая на этого «своего» князя,
видимо, не очень им восхищались. Он казался им слишком
высокомерным и чересчур походил на прежних панов. Вшебор, который
уже собирался уходить, услышав, что началось обсуждение
готовившегося совместного нападения на Ольшовское городище, остался
послушать, к какому решению придут.
Трудно было разобрать что-нибудь в общем говоре и шуме. Из
толпы то и дело слышались отдельные голоса, заглушавшие
говорившего и прерывавшие рассказ. Вшебор понял только одно, что
послы старались разжечь в Маславе жадность, описывая ему
собранные в замке сокровища, но князь гораздо менее интересовался
добычей, чем местоположением замка и численностью охранявших
его людей.
Но одним эти силы казались далеко превосходящими их
собственные по той причине, что принудили их к отступлению,
другие же старались доказать противное, таким образом, нельзя
было установить точное количество защитников. В одном только
все были согласны — именно в том, что в городище укрылось
много рыцарей, и уж ради этого следовало взять замок, чтобы
эти опасные люди как-нибудь не выбрались оттуда и не
спаслись.
Для Маслава тоже было гораздо важнее избавиться от тех,
которых он считал своими злейшими врагами, чем завладеть богатой
добычей. Когда толпа, угостившись и нашумев вдоволь, удалилась,
милостиво отпущенная князем, Маслав, утомленный, опустился на
скамью, а Вшебор, воспользовавшись тем, что день уже сменился
вечером, побежал под предлогом взглянуть на коней по
направлению к конюшням — искать Собка.
Как при Болеславе замок и дворовые постройки были полны
рыцарства, так теперь при Маславе все было полно простым людом,
который надо было поить и кормить. Около храмов — гусляры и
певцы, на валах — воины, а в обоих дворах толпы народа,
стекавшиеся со всех сторон на поклон и располагавшиеся здесь
лагерем. Трудно было даже пробраться среди этих шалашей,
деревянных балаганчиков, сараев и повсюду разложенных костров.
Слышалось пение и смех. Кое-где производилась купля и продажа
еще окровавленной одежды и дорогих материй, награбленных по
шляхетским усадьбам.
Вшебор, минуя все эти группы, добрался до сарая, где он еще
издали заметил Собка, но и здесь сновала челядь и надсмотрщики
за стадами коней и рогатого скота, так что трудно было поговорить
без опаски.
493
Сделав знак старому слуге, Дол ива повел его за собою в ту
сторону, где на валу почти не было народа.
Проведя его в безопасное место, Вшебор сказал ему:
— Ваша правда, нам надо скорее возвращаться. Сейчас только
приезжали посланные к Маславу, требуют от него помощи, чтобы
взять Олыповское городище; мы должны предупредить наших об
опасности и быть уже среди них для защиты замка. Может быть,
удастся вырваться оттуда заранее.
Собек хлопнул в ладоши.
— Но как же выбраться отсюда? — спросил Долива. — И
попасть-то сюда было не легко, а уж выйти — еще труднее.
Старик беспокойно задвигался.
— Мне-то легко отсюда уйти, — сказал он, — когда захочу,
тогда и уйду, и никто меня не спросит, вам труднее.
Он покрутил головой.
— Вот потому-то я вас и спрашиваю, — сказал Вшебор.
— Вы старайтесь только выбраться в лес за Вислу, — сказал
Собек, — а там уж мое дело вывести вас дальше.
Долива подумал немного.
— В эту ночь? — спросил он.
— А чего же нам ждать? Они еще могут заподозрить нас.
Пока они совещались, наступил вечер, и Вшебор должен был
вернуться в замок, чтобы показаться на глаза Маславу. Решено
было бежать в эту же ночь.
Долива, допущенный к князю за получением приказаний,
нашел его полусонным после меда и пива и не расположенным к
каким-либо разговорам; он только знаком дал ему понять, что
хочет отдохнуть. Вшебор тотчас же вышел и пошел в свою хату во
дворе. В этот вечер никто не приходил за ним и не заглядывал к
нему в горницу.
На другой день утром князь вышел к своим людям, чтобы
сделать смотр вооружению воинов и их коням. Вернувшись к себе,
он приказал позвать охмистра.
Ждали, что он займется обмундированием новоизбранной
дружины, но нигде не могли его найти. Хата, где он помещался, была
открыта настежь, и огонь в очаге давно выгорел; никто не видел,
как он входил в нее.
Люди князя разбежались искать его, но прежде всего заглянули
в конюшню; ни Собка, ни лошадей их там не было.
Известие о том, что Вшебор исчез, привело Маслава в ярость;
в погоню за беглецами были посланы самые надежные слуги и
кони. Князь клялся, что не пощадит ни одного рыцаря, хотя бы
тот в ногах у него вымаливал прощение.
На него напал какой-то непонятный страх. Он целый день
провел на валах, поджидая, не привезут ли тех, за которыми была
отправлена погоня. Для них уже была приготовлена виселица.
Только к ночи стали возвращаться посланные с известием, что
Вшебор исчез без следа. Паромщики на Висле клялись, что ночью
494
никто не переезжал на тот берег Вислы и никто в окрестностях
не видел всадников. Несколько дней искали их следов по обеим
сторонам реки. Все было напрасно.
Губа ходил в храм к гадателям, чтобы они сказали ему, где
искать беглецов. Но каждый из них говорил свое.
Не скоро еще все успокоилось в Плоцке; но приезд новых
посланных, совещания с ними и приготовления к походу стерли
понемногу воспоминание о Вшеборе. Готовились в поход на
Олыыовское городище; люди Маслава должны были соединиться с
окрестными жителями, обложить замок и принудить его к сдаче.
VI
В то время как в Плоцке Маслав при одном воспоминании о
Вшеборе Доливе бил кулаками по столам и по лавкам, грозя
мщением, издеваясь над своим товарищем, понося его и ругая шляхту,
подославшую к нему изменника, чтобы разузнать его тайны, Вше-
бор вместе с Собком, переправившись ночью вплавь через Вислу
в том месте, где они раньше заметили брод, забирались все глубже
и глубже в чащу леса, подальше от лесных дорог и постоянно
меняя направление, как звери, преследуемые охотниками и
сбивающие с толку собак. Так, не жалея лошадей, ехали они до тех
пор, пока не выбрались на более безопасное место. Старый Собек
был в этом случае большой помощью для Вшебора, потому что у
него был инстинкт лесного жителя, который никогда его не
обманывал. Он узнавал дорогу по коре деревьев, направлению ветра,
а ночью по звездам.
Однако, заботясь прежде всего о том, чтобы замести следы и
обмануть преследователей, он в конце концов очутился в
совершенно незнакомом месте. Он не боялся заблудиться, но боялся
прибыть слишком поздно в Олыновское городище.
Была поздняя осень, и трудно было прокормить коней,
которые вынуждены были питаться иногда молодыми побегами. В этот
первый день бегства они достигли только того, что забрались в
болота, поросшие густой зарослью, где чувствовали себя в
безопасности. На ночь расположились на лугу между деревьями, не
позаботившись даже о том, чтобы сложить шалаш: не было ни
времени, ни желания; с коней сняли сукно, служившее вместо
седел, и, установив по очереди ночную стражу, расположились
на отдых до утра.
На рассвете Собек напоил коней и исследовал местность,
соображая, как выбраться отсюда. Старый слуга поехал вперед,
внимательно разглядывая дорогу и стараясь выяснить, какой стороны
следует держаться.
Было уже около полудня, и лесная чаща начинала редеть,
указывая на близость поляны и ручья. Они съезжали с небольшого
холма, когда Собек вдруг придержал коня. С той стороны, где лес
495
кончался, слышался шум голосов, ясно указывавший на то, что
там было довольно много людей.
Страх овладел стариком: кто же мог так блуждать толпою,
как не чехи или чернь, скитавшаяся по всей стране, разорявшая
и грабившая города и усадьбы? Попасть к ним в руки, спасшись
от Маслава, было бы вдвойне обидно. Лицо Собка побледнело,
в первую минуту он совершенно растерялся и не знал, что делать
дальше.
В том месте, где они стояли, широкие стволы деревьев и
разросшиеся на опушке леса кусты скрывали их, но малейший шорох
мог выдать. Собек тихо сошел с лошади и привязал ее к дереву,
его примеру последовал и Вшебор, пешему не грозила такая
опасность, как конному. Оба стали тихонько прокрадываться к тому
месту, откуда доносился шум голосов. Они стояли на холме,
укрытые деревьями; у подножия холма протекала маленькая речка;
а в долине, расстилавшейся перед ними, они увидели довольно
большой лагерь, окруженный возами; на лугу паслись
стреноженные кони. В центре лагеря возвышалось несколько палаток, в
наскоро выкопанных ямах были разложены костры, и возле них
суетилась вооруженная челядь. Можно было различить фигуры
нескольких мужчин в рыцарских доспехах, переходивших от одной
палатки к другой. Еще несколько лежало на разостланной на земле
подстилке. Все они были хорошо вооружены, а между ними, на
воткнутом в землю древке, развевалось знамя, но такое смятое и
порванное, что невозможно было различить, кому оно
принадлежало. Вшебору и Собку одновременно показалось, что это должны
быть чехи, но прежде чем они успели отойти назад, чьи-то сильные
руки обхватили их сзади и повалили на землю. Вшебор, вспомнив
про меч, висевший у него за поясом, собирался защищаться и уже
столкнул с себя двух нападавших, но, нечаянно заглянув им в
лица, узнал в них слуг своих знакомых магнатов, а те тоже узнали
его.
Люди, принявшие Вшебора, благодаря его крестьянской одежде,
за простолюдина и повалившие его на землю, были слуги Шренявы.
Собка опрокинул высокий детина, бывший оруженосцем у одного
из Яксов.
— Что вы тут делаете? — воскликнул Вшебор. — Это ваш
обоз?
Слуги ответили утвердительно.
Обрадованный Вшебор, меньше всего ожидавший встретить
своих, неожиданно очутился между ними. Он даже не думал, что
разбитое рыцарство могло где-нибудь собраться в таком большом
количестве. Оставив коней Собку, он поспешил к этому лагерю,
который был ему как будто послан с неба. Значит, были еще
люди, которые, не потеряв надежды, собирались вместе и держали
совет.
Чем ближе он подходил к обозу, тем сильнее была его радость.
Отряд не был особенно велик, но все же вместе с челядью и ору-
496
женосцами он составлял около ста человек. И все знатные рыцари,
из которых он состоял, имели хорошее крепкое вооружение и
далеко не выглядели такими истощенными, как Лясота и Топорчик,
которых он встретил раньше на дороге.
В лагере были тишина и порядок, а захват Вшебора доказывал,
что спуск в долину тщательно охранялся.
Глубоко взволнованный Вшебор, перейдя через речку по
переброшенному через нее бревну, возблагодарил в душе Бога и почти
бегом пустился к расположившемуся здесь лагерем рыцарству. Егб
заметили уже издали, и так как он был плохо одет и его сразу
не узнали, то сначала поднялась суматоха, воины торопливо
поднимались с земли, а некоторые хватались за оружие, но человек,
стоявший на сторожевом посту, присмотревшись к Вшебору, с
криком бросился к нему навстречу.
Это был прежний товарищ Доливы, служивший вместе с ним
в Казимировой дружине, Самко Дрыя, друживший с обоими
братьями, и которого они оба потеряли из вида, когда королевич был
изгнан из края и вся его дружина распалась.
— Вшебор!.. Самко! — крикнули оба, с протянутыми руками
бросаясь друг к другу.
На этот призыв все, кто был поближе, подошли и окружили
их, забрасывая вопросами.
А из большой палатки вышло несколько человек, вероятно
предводителей отряда, к которым и повели Вшебора.
Первый, кого он увидел, был старый, седой, почти
восьмидесятилетний старик Трепка, помнивший еще времена Мешка
Первого. Старик сидел на бревне, покрытом шкурой, весь
сгорбившийся, зябко кутавшийся в кожух и все-таки трясшийся от
холода, а подле него стояли два его сына; за ними Яксы, Ка-
невы, Шренявы и знатнейшее рыцарство Болеслава, Мешка и
Рыксы. Все это были остатки блестящих полков когда-то
великолепного королевского двора: жупаны, владыки, воеводы, под-
комории, о которых Вшебор даже не знал, что им удалось
спастись; тем менее ожидал он встретить их всех вместе, потому
что ходили слухи, что те, которые уцелели, бежали за границу
и там скитались, ожидая смерти.
И прежде всего Вшебор поднял руку кверху, благодаря Бога за
то, что позволил ему еще увидеть остатки собравшегося вместе
рыцарства.
И те тоже, увидев его, засыпали бесчисленными вопросами и
тянули каждый к себе, радуясь, что их небольшой отряд
пополнился еще одним спасшимся.
Тем, которые не знали раньше Доливы и удивлялись, за что
был оказан такой сердечный прием этому бродяге в крестьянской
одежде, Дрыя и другие рассказали, кто он был и как назывался.
Имя Доливы было у всех на устах.
В палатке стало так шумно, что нельзя было разобрать, кто и
что говорит; тогда старый Трепка, который, видимо, был здесь
497
главным вождем и начальником, начал стучать посохом в землю
и ударять в ладоши, призывая к порядку. Иначе невозможно было
разузнать что-нибудь от Вшебора. Поглаживая рукою огромную
седую бороду, старец начал расспрашивать его, откуда он шел, как
удалось ему спастись и не знал ли он чего-нибудь о других?
Долива рассказал им о своих несчастьях, начиная от бегства
из замка и встречи с Лясотой в Гдече и кончая прибытием в
Олыповское городище.
Не приписывая особого значения спасению женщин из Понца,
он даже не упомянул о них в своем повествовании, и только когда
рассказывал о приеме их Белиной, назвал в числе других и двух
женщин.
Его начали расспрашивать, кто они были, и Долива назвал
пани Спыткову и ее дочь Катерину. Как только он вымолвил
это имя, за спиной старого Трепка, с земли, на которой лежало
какое-то существо, закутанное в кожухи и плащи, послышался
густой голос.
— Хвала Господу в вышних!
Все взоры устремились в ту сторону, откуда слышался голос, и
Вшебор увидел, как из-под покрывал, словно освобождаясь из
пеленок, выглянуло бледное лицо и показалась жилистая рука.
Окровавленные повязки, обвивавшие всю эту голову, оставляли
свободной только небольшую часть этого угрюмого и печального
лица: бледную щеку, налившийся кровью глаз и синюю распухшую
губу.
— Кто этот старец? — спросил Вшебор Дрыю.
— Это же муж Спытковой, который чудом уцелел под грудою
трупов и был вовремя спасен подоспевшими воинами, — тихо
сказал Дрыя.
— А нам сказали, что его рассекли на куски, — вскричал
Долива.
— Да и немного прибавили, — сказал, услышав его, Спы-
тек. — У меня нет ни одного живого места на теле; все изрублено,
исколото и изрезано, а сколько из меня крови вытекло, другому
хватило бы на всю жизнь!
Вшебор смотрел с удивлением на изрубленного владыку,
который, в свою очередь, отдернув повязку, старался разглядеть его,
но в эту минуту край палатки отогнулся, и Собек, ворвавшись как
безумный, огляделся по сторонам, а потом с криком радости упал
на землю около своего пана.
Все умолкли при этом зрелище, и сам Спытек не мог ничего
говорить и только бормотал несвязно.
— Хвала Богу, хвала Господу в вышних.
Пока старый слуга вел в уголке палатки тихий разговор со
своим паном, рассказывая ему обо всем, что пережили они с
госпожою, все остальные снова обратились к Вшебору, расспрашивая
его об Олыповском городище, но когда он между прочим
рассказал, что был в Плоцке у Маслава на разведках и что теперь
498
возвращался оттуда цел и невредим, снова поднялся страшный
шум: любопытные так стеснили рассказчика, что Трепка должен
был пустить в ход и посох и плетку, чтобы призвать забывшихся
к порядку.
Никто не хотел верить Вшебору, что он осмелился лезть в пасть
волку, и ему пришлось сослаться на Собка как на свидетеля.
Тогда снова посыпались вопросы, что это был за человек, хотя
почти все знали его и раньше, велики ли были его силы, и что
он замышлял. Все говорили о нем с ненавистью, и ни одного голоса
не раздалось в его защиту.
Когда Вшебор начал рассказывать о многочисленном войске,
которое Маславу удалось собрать, снова все отказывались верить;
в конце концов рыцарство, как всегда, заявило, что один хорошо
вооруженный воин легко может разбить и уничтожить целую толпу
таких сермяжных вояк, оторванных от земли и плуга.
— Слава Богу, что Его всеведение привело меня сюда, —
сказал Вшебор. — Из одного милосердия вы должны идти в Оль-
шовское городище на помощь Белине и всем запертым в нем
владыкам, иначе Маслав может каждую минуту явиться и овладеть
замком...
Когда Вшебор сказал это, вдруг воцарилось молчание,
которое продолжалось очень долго. Люди поглядывали друг на друга,
спрашивая глазами, что ответить, но никто не решался
заговорить первым. Долива был особенно поражен тем, что Спытек,
лежавший на земле, хотя и слышал, о чем шла речь, и знал,
что в замке схоронились его жена и дочь, — не вымолвил ни
слова.
Тогда он повторил еще раз, что с такими силами, какие были
в лагере, смело можно идти на помощь осажденным и
неожиданным нападением на врагов разбить их и уничожить. Но и
на это предложение, кроме бессвязного бормотания, не последовало
иного ответа. Глаза всех обратились на предводителя, и старый
Трепка, покачав головой, сказал:
— Дай-то Господь, чтобы мы могли вовремя прийти на помощь
осажденным замкам... но час еще не пришел. Дороже всех замков,
дороже даже, чем кровь наших братьев, для нас — вся наша земля,
королевство и святая вера, которую мы приняли, и их надо спасать
прежде всего!
Все стоявшие вокруг негромко заговорили, вторя ему. Старец
продолжал свою речь:
— Если бы Маславова орда знала, что нас осталось еще
несколько человек, то они постарались бы сейчас же рассеять нас и
уничтожить. Но нас еще мало, и не время нам вступать с ними
в борьбу, пока между нас нет помазанного вождя, который вел бы
нас вперед. Для нас теперь самое важное — тайно собрать
значительные силы, вернуть государя, поставить во главе вождя, и
только тогда мы будем в состоянии подумать об угнетенных и
несчастных наших братьях.
499
Никто не ответил на это, потому что мнение старца, видимо,
разделялось всеми остальными, но Вшебор, у которого лежала на
сердце забота об участи осажденных в городище, заметил:
— Неужели мы дадим погибнуть нашим кровным, которые
нам дороже всего! Ведь там весь цвет рыцарства, а если бы они
были отданы на поругание Маславу, то это была бы непоправимая
утрата.
— Прежде всего должны мы думать о спасении земли нашей
и веры, — сказал старик. — Если мы будем думать о себе, то
рано или поздно все попадем в петлю!
Он поднял обе руки кверху.
— Бог видит, нам дороги все наши! Все они нам родные — по
крови, по вере, по духу и оружию, — но земля и вера дороже
нам, чем собственная кровь.
Снова одобрительно загудели голоса присутствующих. Вшебор,
опустив голову, взглянул на Спытка, который, подняв кверху на
говорившего свой налившийся кровью глаз, слушал с раскрытым
ртом и трясущимися синими губами. Он был уверен, что Спытек
вымолвит слово за своих. Но из глаза старика выступили не слезы,
а капли крови и потекли по бледной щеке.
Старик молчал. Среди глубокой тишины тяжкий вздох вырвался
из его груди. Медленно поникая израненным челом, он спрятал
голову в изголовье постели. И все, кто смотрели на него,
почувствовали, как он должен был страдать, и умолкли.
— Как вы решите, так пусть и будет, — сказал Долива. — Я
знаю только то, что, отправленный из городища на разведку, я
должен туда спешить обратно, чтобы хотя предупредить об
опасности и отдать в их распоряжение мои руки и голову...
Никто не пробовал отговаривать его. В это время стоявший
подле старого Трепки Болько Шренява спросил:
— А сколько же в замке народу?
— Сколько могло поместиться, — отвечал Долива, — ночью
все лежат вповалку на земле в обоих дворах, так что невозможно
пройти, не наступив кому-нибудь на руку или на ногу. Главная
беда в том, что скоро исчезнет весь запас провизии.
Печально выслушали этот рассказ начальники отряда.
— Что же делать? — сказал Трепка. — Пусть сопротивляются,
сколько могут, спасение придет для нас тогда, когда мы сами
увидим перед собою лучшее будущее. Если бы мы теперь задумали
оказывать помощь осажденным замкам, то вскоре и нас самих не
стало бы.
Беседа снова оборвалась, и продолжались только
перешептывания между отдельными лицами; но, подумав немного, Трепка
прибавил:
— Скорее от них надо было бы перетянуть к нам лучших
людей, чем нам отдавать им своих. Бог один ведает, не заключается
ли в этом нашем маленьком лагере все будущее этой земли и посев
для будущего королевства.
500
Говоря это, он обвел странным взглядом всех присутствовавших,
и они, тоже переглянувшись между собой, как будто тайно
сговаривались о чем-то, замолкли. Затем Трепка спросил у Вшебора
имена осажденных, спросил также, сколько там было женщин,
какую жизнь они вели там и как питались, но Вшебор, убедившись,
что эти расспросы ни к чему не поведут, отвечал неохотно.
Непреклонная суровость начальников отряда произвела на него такое
тяжелое впечатление, что он потерял всякую охоту беседовать с
ним, и, сделав знак Собку, вышел из палатки. Такая взяла его
досада на них, что он решил, дав отдохнуть коню, тотчас же
отправиться в дальнейший путь. Но Собек, выйдя из палатки и
подойдя к Вшебору, взглянул на него со смешанным выражением
страха и смущения.
— Нам пора и в путь! — сказал Вшебор.
Собек пригладил волосы.
— Да, конечно, конечно, — пробормотал он.
Но сам он, говоря это, не двигался с места. Потом, после
некоторого колебания, касаясь рукой его колена, спросил:
— А как же я брошу здесь моего израненного старого пана?
— А что же я сделаю без вас? — крикнул Вшебор, с трудом
сдерживая свой гнев. — Проведите меня в городище, а потом
поступайте, как знаете. Вы обязались сделать это, и я могу силою
принудить вас...
Собек с изменившимся лицом снова склонился к его коленам.
— Здесь есть кому заступиться за меня, — сказал он без
гнева, — вы ничего не можете сделать со мною силою. Если вам
нужно от меня только то, чтобы я указал вам дорогу, я это сделаю.
Вшебор в гневе отвернулся от Собка, не отвечая на слова. Он
уже собирался идти за своим конем, когда к нему подошел Дрыя
и, положив руку ему на плечо, сказал:
— Не сердись на нас! Мы тут не виновны. Старый Трепка
правду говорит! Хоть бы сердце разорвалось, хоть бы там были у
нас мать, жена, сестра, мы должны помнить о другом.
Долива сердито взглянул на него.
— О чем же, черт побери! О себе, что ли?
Дрыя нахмурился.
— Об этом говорили ясно, — сказал. — Ты должен был понять!
— А я понимаю так, — возразил Вшебор, — что вы с вашей
горстью людей страны не спасете, а того, что могли бы сделать
хорошего, спасая людей, не хотите сделать.
— А если эта горсть только начало? — сказал Дрыя. — Если
с каждым днем к ней примыкают все новые силы, и скоро она
станет настоящим войском. А если из этой горсти выйдут те,
которые несут нам избавление?
— Где? Откуда? — спросил Долива.
Дрые, видимо, хотелось навести своего старого друга так, чтобы
он сам догадался, но Вшебор не был так понятлив, и его всегда
интересовало то, что ближе всего его касалось.
501
— Пойдем в мою палатку, — сказал Самко, взяв его за
руку, — пока накормят коня, поешь и ты всего, чем я могу с тобой
поделиться, и поболтаем с тобой, как прежде.
Преодолев свою досаду, Долива уступил уговорам Самко и
вошел в небольшую палатку, которую тот занимал вместе с тремя
товарищами. Вся обстановка странного жилища этого рыцаря была
верным отражением переживаемого времени, когда человек возил
за собой все, что ему удалось спасти, убегая от чешских орд. Были
тут и необходимые для рыцаря вещи, и то, что ему просто жаль
было отдать грабителям, и то, что было для него одной обузой.
Рядом с седлами, сбруями, предметами рыцарского вооружения,
раскрашенным шлемом и богатым оружием на возу виднелась
позолоченная посуда, и лежали груды кожухов и всякой одежды,
стоял непочатый еще бочонок меда и уже начатая кадка с соленым
лосиным мясом. Слуга возился с блюдами и мисками, потому что
приближался час обеда. Паны уселись — один на куче одежды,
другой — на бочонке, а обеденным столом служила боковая
решетка, снятая с воза и чем-то покрытая.
Вшебор был грустен, потому что перед глазами у него стояли
все те, кого он оставил в Олыповском городище и которых ждала
смерть, — а больше всех мучило его белое девичье личико. Одна
мысль о том, что этот цветок может достаться первому
попавшемуся негодяю, поднимала целую бурю в его душе, а кровь закипала
в нем с такою силою, что он готов был сам погибнуть, защищая
ее, а ее убить, чтобы она не попала в недобрые руки.
Пока он обдумывал все это, Дрыя, оглянувшись вокруг,
заговорил.
— Не беспокойся, — тихо сказал он, — старый Трепка не
может говорить иначе о том, что близок час избавления.
— Какого же, какого? — подхватил взволнованный Вшебор.
— Нам нечего таиться перед тобой, и напрасно тебе не хотят
этого сказать, — спокойно вымолвил Самко. — Мы со дня на день
ожидаем к себе королевича и уже имели о нем известия.
Вшебор с удивлением взглянул на Дрыю, а тот, склонившись
к нему, продолжал:
— У нас оказалось столько рыцарей, что мы нашли кого
послать к королеве-вдове, умоляя ее отдать нам сына.
— Не спорю, — возразил Долива, — особа королевича и самый
звук его имени — много значит. Но что же дальше? Уж если
Маславу удалось один раз выгнать его, то он будет стараться и
вторично избавиться от него угрозами или погубит его. А разве у
нас хватит силы, чтобы вступить в борьбу с ним?
— Найдутся, — отвечал Дрыя, и глаза его блеснули
надеждой. — Император немецкий поможет ему, и кто знает, может
быть, и с другой стороны придет помощь...
Он усмехнулся.
— И что же, королевич согласен? — спросил Вшебор. — Вы
откуда знаете об этом?
502
— Вот видишь, — сказал Дрыя, — нас здесь небольшая кучка,
а все же кое-что мы делаем. Вчера вернулась часть послов,
ездивших к королеве.
— Что же? С чем они вернулись?
— Пока ни с чем, — говорил Самко. — Королева, с позором
изгнанная из страны, и слышать не хочет о королевстве, которое
она назвала языческим. Ее нашли в монастыре, потом у костела,
который строят по ее приказанию... Сначала не хотела даже
говорить с ними. «Я тружусь для иного королевства и для лучшего, —
сказала она, — для того, которое обещал нам дать Иисус Христос.
Не искушайте меня и не вводите в искушение мое дитя. Пусть
лучше мирно прославляет Бога, чем будет обречен на несчастную
жизнь вместе с вами».
— Но ведь из этого ясно, — сказал Вшебор, — что там нечего
ждать!
— Неверно судишь, потому что не все знаешь, — сказал
Дрыя. — Наши послы — разумные люди: прежде чем идти к
королевичу, они были у императора и получили обещание, что он
им окажет милость и помощь, вернет корону, а с чехами вступит
в борьбу. Если Бжетиславу дать свободу, то скоро он станет
угрожать империи. Император и папа римский укротят его... И я, и
те, что пошли к Казимиру, знаем его. Государь — набожен, но
он не долго выдержит в монашеской одежде, если только показать
ему меч и пообещать царство. В нем течет кровь Болеслава! Не
удержит его ни привязанность к матери, ни страх, ни привычка к
безделью, это — человек с великой душой, и, если бы не мать,
призвавшая его к себе, он ни за что не уступил бы Маславу власть.
— Все это, мой милый Самко, — со вздохом отозвался
Вшебор, — далекие и сказочные надежды. Я еду от Маслава и видел
сам, что там творится, — как силен теперь сын пастуха! Если бы
и дал император немного войска и все мы присоединились к нему,
то все-таки всех нас будет слишком мало, чтобы начать борьбу
против всей черни, которой целые тысячи.
— Но подожди же — это еще не все! — прервал его Самко. —
На помощь нам придет Русь. Наши начальники все обдумали: были
отправлены послы в Киев к Ярославу... к нам на помощь придут
поляне из Киева и печенеги.
— Так же, как чехи, — хмуро улыбнулся Вшебор.
— Вовсе не так, — отвечал Дрыя. — Твой глаз все видит в
черном свете.
— А у вас — все светлое. Пропели первые петухи — тебе
кажется, что день занимается, а это просто — зарево пожара, —
махнув рукой, сказал Долива.
Дрыя чокнулся своим кубком с кубком Вшебора и промолвил:
— Выпей и будь повеселее.
— Если бы ты, как я, возвращался из Плоцка, — сказал
Вшебор, — и если бы в ушах твоих стоял шум от криков этой своры,
и видел бы ты весь этот муравейник, да послушал бы, как Маслав
503
хвалится своей силой и своими союзниками, пруссаками и
поморянами, — пожалуй, и ты бы запечалился.
— Ну, пусть с ним будут пруссаки и поморяне, зато с нами —
императорские и Ярославовы полки, — возразил Самко. — У него
дерзость и высокомерие, а у нашего государя — корона, и будет
он помазан на царство и благословлен, и Бог будет с ним!
Проговорив это, Дрыя встал и обнял печального Доливу.
— Брат мой, — сказал он, — если бы была у меня сила, чтобы
удержать тебя с нами, я бы в ноги тебе поклонился... останься с
нами...
— И не говори мне об этом, — с нетерпением отвечал Вше-
бор, — я там оставил брата, — меня отправили, заставив
поклясться, что я вернусь, хотя бы с опасностью для жизни.
Самко пристально взглянул ему в глаза, и Вшебор невольно
зарумянился под этим взглядом.
— Вшебор, брат мой, кого ты там оставил, кроме брата?
Долива, слегка рассерженный и пристыженный в то же время,
отвернулся.
— Клянусь жизнью, что ты там больше оставил, чем брата. И
отгадаю кого, — говорил Дрыя. — По дороге вы спасли Спыткову,
она и сама недурная бабенка, а дочка у нее — красавица. Должно
быть, вскружили тебе голову либо черные, либо голубые глаза?
Ну, говори же, да не лги...
Вшебор взглянул ему в лицо.
— С чего ты это выдумал?
— Я знаю обеих женщин, или, вернее, видал их у отца, —
сказал Дрыя. — Спыткова рада — хотя бы ради забавы —
вскружить голову мужчине, а Кася, хотя бы и не хотела того, тянет к
себе всякого, потому что она чертовски хороша собой.
— Ах, хороша! — невольно вырвалось у Доливы, но он сейчас
же спохватился и умолк.
Дрыя, смеясь, снова принялся обнимать его.
— Я уж знал, что тебя туда тянет, — сказал он. — А так как
я знаю обеих, то дам тебе совет. Марта Спыткова хоть и любит
позубоскалить, толку из этого не выйдет никакого; она, может
быть, считала себя вдовой, теперь узнает, что ее старик жив, —
а с ним шутки плохи. Это крепкий человек, он вылечится от всех
своих ран, хоть другой на его месте уже четыре раза бы умер...
А что касается Каси, то хотя ваш род не хуже их рода, но до нее
добраться нелегко. Надо знать старого Спытка!
— Да ведь это же я спас ему и жену и дочь, — возразил
Вшебор.
— Ну, он тебе скорее заплатит за это, когда будет чем, — а
дочки не даст.
Долива возмутился и оскорбился: подпирая рукою в бок,
сплюнул перед собою.
— Слушай, Дрыя, — да чем же мы плохи? А они — чем
лучше?
504
— Что Долива, что Тренява — все одинаковы, но у старого во
лбу не ладно, что ты тут поделаешь, — сказал Дрыя. — Он скорее
засушит ее, держа взаперти дома, чем отдаст за кого-нибудь из
нас. Для дочки он ищет князя, потому что они и себя причисляют
к княжескому роду.
Вшебор пожал плечами.
— Далеко еще до этого, — сказал он, — дай нам Бог уйти
оттуда целыми. А если Бог вызволит нас из беды — ты ведь знаешь
меня, Дрыя! — неужели я буду еще спрашивать старика да в ноги
ему кланяться? Возьму девку, так он назад не отберет.
— Так она тебе пришлась по сердцу? — спросил Самко.
Вшебор смотрел на леса, которые были ему видны из открытой
палатки, колебался в душе и не спешил с ответом, но после
раздумья — вместо ответа — протянул руку Самко.
— Ну, делать мне у вас нечего! — сказал он. — Пора мне
ехать в Олыповское городище. — Прощайте.
— Подите же сперва попрощаться со старшим, — таков
обычай, и нельзя от него уклоняться, — сказал Самко, увлекая его
за собой в другую палатку. — Но не упоминайте о том, что я
говорил вам о Казимире.
Они пошли к той палатке, около которой сидел старый
Трепка, окруженный знатнейшими рыцарями. Все молча расступились
и пропустили их к вождю, дремавшему со склоненной головой
подле Спытка, который устремил выжидательный взгляд на Вше-
бора.
Старик тотчас же проснулся и кивнул головой подошедшим.
Вшебор подошел к Спытку.
— Я еду в Олыповское городище, — сказал он, — где
милостивая пани ваша и дочка нашли себе приют, потому что я отвез
их туда, встретив в лесу... Что мне передать им от вас, милостивый
пан?
Пока он говорил это, Спытек внимательно смотрел на него
своим кровавым взглядом.
— Долива? — спросил он.
— Так точно.
— Ваш отец водил полки на Русь? — хриплым голосом
произнес старик.
— Да, водил и возвращался с добычей, — прибавил Вшебор.
— Бог да наградит вас за услугу, — сказал лежавший. —
Поклонитесь от меня матери и Каське моей.
И прибавил с хмурым видом:
— Да пусть там никто к моим не пристает. А то беда!
— Только бы нам оттуда живыми уйти, — не до приставаний
теперь! — сказал Долива.
— На это и в другое время нет разрешения, — пробурчал
старик. — Ну, поклонитесь им от меня, — поклонитесь!..
Вшебор почувствовал, что этим напоминанием об ухаживании
он мог быть обязан только Собку, — ив душе возмутился, но
505
сдержался и ничего не сказал. Тут старый Трепка, потрясая
посохом, подозвал его к себе.
— Скажите от меня Белине, чтобы он держался, сколько
может, до последней пушинки муки, до последнего бойца. Как
только у нас прибудет силы, мы сейчас же двинемся ему на помощь.
Пусть не беспокоятся и не сдаются. Держитесь крепко, Бог
милосерд!
Это были последние слова Трепки; едва он договорил их, как
опустил голову и снова задремал...
У входа в палатку стоял Дрыя, за ним — знатнейшие рыцари,
а в стороне Собек держал за узду коней.
Вшебору не терпелось скорее двинуться в путь, он быстро
попрощался со всеми, сел на коня и, окруженный рыцарством,
провожавшим его, поскакал вперед. Многие завидовали ему в том,
что он не будет, как они, сидеть на месте и выжидать, — этих
людей, привыкших к движению, томило бездействие.
Хотя Дол иве объяснили, почему эта горсточка рыцарей не
считала возможным идти на выручку осажденным, и хотя он
и сам понимал, что так и должно было случиться, однако сердце
его было полно гнева, боли и досады при мысли о том, как
малоутешительны будут вести, которые он принесет ожидающим
его.
Собек, и вообще не отличавшийся разговорчивостью, теперь
молчал как убитый и даже головы не поворачивал к своему
спутнику, только ехал впереди и указывал дорогу.
Вшебор, подозревавший его в выбалтывание его сердечных тайн,
также не выражал желания вступать с ним в разговор. И только
под вечер, когда они остановились, чтобы передохнуть немного
самим и дать отдых коням, он спросил его, скоро ли они доберутся
до Олыыовского городища и где он его покинет.
— Я не покину вас, милостивый пан, — отвечал старик.
— Что же, одумались?
— Нет, — получил приказание от владыки; он — мой пан,
его и воля, а я должен повиноваться. Завтра под вечер доберемся,
Бог даст, до городища, хорошо, если бы вовремя поспели!
— Да ведь не выберется же Маслав так скоро? — сказал
Вшебор.
— Он-то нет, но чернь... Они ведь решили обложить замок,
чтобы оттуда не могли охотиться в лесу и запасаться пищей. А
если между нами и замком стоит целое войско? Поедем ночью и
будем ехать до самого замка, хотя бы кони пали, только бы нам
не опоздать!
Собек указал рукой вперед... И одного взгляда было достаточно,
чтобы убедиться, что ехать ночью не представлялось возможным.
В осеннем мраке хмурого неба даже на шаг перед собой не
было ничего видно. На сером фоне выступали, странно
переплетаясь между собой, откуда-то вдруг вырастая во мраке и снова в нем
пропадая, засохшие ветви обнаженных деревьев. Кроме этой сетки
506
над головами и кустарника, который надо было нащупывать
руками, все тонуло в глубокой тьме. Самое мужественное сердце
содрогнулось бы, когда глаза перестают видеть, а уши — слышать.
Над этой пустыней как будто распростерлась тишина смерти.
Казалось иногда, что даже завывания дикого зверя были бы приятнее
для слуха, чем эта могильная тишина, в них все же отражалась
бы жизнь, опасность, борьба... В этом глухом мраке и безмолвии
угасала надежда на грядущий свет, надежда на возвращение к
жизни. Казалось, ничто уже не в силах было рассеять этого мрака,
ничто не могло нарушить этой тишины.
Собек приложил ухо к влажной земле, чтобы удостовериться в
безопасности и в возможности развести огонь. Все было тихо, не
слышно было даже шелеста ветвей, колеблемых легким ветерком.
Старый слуга достал два куска сухого дерева, которые он всегда
носил с собою, и начал тереть их один о другой.
VII
На Олыповском городище жизнь текла под вечным страхом
и вечной угрозой. Время шло черепашьим шагом, бесконечные
дни сменялись бессонными ночами. Иногда всем начинало
казаться, что теперь земля вращалась как-то иначе, так что дни и ночи
удвоились.
Леса вокруг замка однообразно шумели, нагоняя сон. Люди,
лежа на земле, ворчали, проклинали судьбу, недовольные теми,
кто давал им приют, жалуясь на голод и грозя кулаками. Из
жалости старый Белина должен был быть строгим, из милосердия —
жестоким.
Народ на первом дворе можно было сдерживать только
угрозами. По ночам они сходились вместе и о чем-то сговаривались.
Около амбаров и кладовых день и ночь стояла бдительная стража.
Стоило только сторожам задремать, как пропадали овцы,
исчезали кони, скот, и на другое утро от них не оставалось и следа,
и только по испуганным взглядам можно было догадаться, кто
были виновники. Со дня отъезда Вшебора почти каждый день
кто-нибудь взбирался на возвышение за рогатками и
высматривал, не возвращается ли он. Но в долине была страшная пустота.
Иногда из леса выходил волк и с воем уходил обратно, выбегала
серна, оглядывалась вокруг, испуганная производимым ею же
шумом, убегала что есть духу назад в чащу леса; иногда же из
леса появлялась как будто тень человека, подходила к замку,
окидывала его взглядом, словно угрожая запертым в нем людям,
но, когда на валах показывались люди, грозила кулаком и
исчезала.
Один день мало чем отличался от другого, их считали по
несчастьям и бедам и говорили так: это было в тот день, когда умер
ребенок, или тогда, когда тот-то повесился на перекладине.
507
И было о чем вспоминать, потому что почти каждый день,
когда досмотрщики обходили оба двора, они натыкались на
печальные сцены: то это была мать, оплакивавшая своего новорожденного,
семья, окружавшая труп умершего ночью старика, или же они
находили следы насилия, а то и убийства, неизвестно кем
совершенного под покровом ночи. В этой толпе, объятой отчаянием,
рождались во тьме ночной самые дикие желания и безумства.
Привыкнув к деятельной жизни, не умея найти выхода из этого
вынужденного безделья, люди метались, как звери, повинуясь
разнузданной фантазии. Днем же на этих бледных лицах можно
было прочесть только усталость и апатию.
Иногда, пользуясь мраком, какой-нибудь несчастный,
доведенный до отчаяния, срывался с места, бежал на вышку за рогатками
и, обвязав себя веревкой, спускался с валов вниз, предпочитая там
голодную смерть, чем это бездействие наверху.
Таким способом убежало уже несколько человек, это понудило
Белину увеличить стражу и усилить бдительность: можно было
опасаться, что беглецы приведут чернь и укажут ей наименее
укрепленные места в замке, откуда легче всего было пробраться
внутрь.
Замок был опоясан с двух сторон рекой Ольшанкой и болотами,
по которым она текла; оттуда, пока река и болота не замерзли,
доступ был затруднителен. С третьей и четвертой стороны городище
было защищено только валами, на которые легко можно было
взобраться. Народ, стоя на вышках над рогатками, бросал вниз бревна
и камни, лил горящую смолу, но и эти материалы для обороны
уменьшились в количестве.
Когда чернь отступила, часть этих предметов была снова
втащена в замок, но легко можно было предвидеть, что при
следующем приступе материала для защиты не хватит и придется
разобрать постройки. Олыповское городище, окруженное валами,
имело во внутреннем дворе обширные хозяйственные строения,
амбары, сараи и конюшни, отделявшие первый двор от второго. На
втором дворе находился замок владельца имения, амбары, кладовые
и часть конюшен, в которых теперь жили вместе и люди, и звери.
Большой дом, где спали вповалку прежние владыки, жупаны и
шляхтичи, был окружен широкими открытыми стенами под
крышей, опиравшимися на деревянные столбы.
Около этого главного строения сосредоточилась теперь вся
жизнь. Простой народ устраивался как мог на первом дворе, под
открытым небом или под навесами, а более знатные собирались
днем или в сенях, окружавших замок, или в большой зале у
камина. Здесь всегда были шум и теснота; спорили о том, что
произошло, и старались понять, возможно ли было предотвратить все
обрушившиеся на них беды. А так как ни у кого не было никакого
дела, то весь день проходил в этих разговорах и спорах, которые
иногда едва не доходили до драки. Но, как только спорщики
хватались за дубинки или подскакивали друг к другу с кулаками,
508
тотчас же появлялись старшины и разводили их по сторонам, браня
и призывая к порядку.
Жена Белины, по имени Ганна, и дочка ее Здана играли
главную роль в своей женской половине, которая занимала всю
верхнюю часть замка, включая и два темных чулана
Но и здесь трудно было добиться порядка. Старшие из женщин
спорили из-за веретена, из-за пряжи, а иной раз из-за
какого-нибудь выражения в песне или просто из-за взгляда, младшие тоже
ссорились потихоньку. Пани Ганне так же, как ее мужу на нижней
половине, приходилось употреблять все свое влияние для
установления спокойствия, а если и оно оказывалось недостаточным, то
на помощь вызывался старый Белина, и при одном его появлении
все затихало.
Наибольшая ответственность за все лежала на самом хозяине,
а как мы уже убедились, это был человек не быстрый на слова,
умевший в случае необходимости быть суровым, но в душе —
добрый. Однако эта доброта не переходила в мягкосердечие, потому
что он знал, что если бы люди заметили это в нем, то сейчас же
все пришло бы в беспорядок, а вместе с этим пришла бы и гибель
для всех. Он был здесь хозяином над жизнью и смертью, и хотя
охотно прислушивался к людским советам, но никому не позволял
руководить собой.
Истинный христианин, помнивший лучшие времена, Белина
был так угнетен несчастиями, выпавшими на долю родной страны,
что если бы не вера в Провидение и не духовная поддержка отца
Гедеона, то он, пожалуй, потерял бы надежду на спасение. Но все
меньше веря в возможность спастись, он исполнял свой долг
неустанно. Ложился спать не раздеваясь, а вставал чуть свет, и если
уж очень утомлялся, то засыпал сидя; днем он обходил весь замок,
осматривал все углы, разбирал все дела, присутствовал при раздаче
пищи и редко когда имел время, чтобы присесть днем и отдохнуть.
А ночью просыпался от малейшего шороха, и если с первого двора
до него долетал шум ссоры, тотчас же мальчик-слуга зажигал
смоляной факел, и он шел смотреть, в чем дело. Почти всегда
оказывалось необходимым наказать какого-нибудь зачинщика и
посадить его в яму. Это создавало новых недовольных, но ведь без
них нельзя было обойтись! Точно так же Белина требовал
послушания и от рыцарей и шляхтичей и никому не позволял
противоречить себе. Он был здесь хозяин, государь и вождь!
Как при Ганне правой ее рукой была дочка Здана, так отцу
помогал во всем сын Томко. Его он посылал с приказаниями и
ему же поручал наводить порядок. Юноше очень нравилась его
служба, потому что благодаря ей он мог часто заглядывать на
верхнюю женскую половину, где хозяйничала его мать.
Старая пани, в белой накидке на голове и в переднике,
хлопотала весь день, наблюдая за слугами, приготовлявшими пищу,
ухаживая за больными, за детьми и за домашними животными,
которых осталось уже немного.
509
В большой горнице верхней половины, так же, как внизу, в
прежней столовой, собирались все обитательницы ее, чтобы
взаимными беседами поддерживать в себе бодрость духа. Как только
начинался день, служанки разводили огонь, варили пищу из
оставшихся еще припасов, а затем расставляли на лавках веретена.
Каждая старалась заполучить себе веретено, чтобы было чем занять
руки и мысли. По мере того как нить вытягивалась, закручивалась
и навивалась, мысли приходили в порядок, и на сердце становилось
спокойнее. Припоминался домашний очаг в тишине собственной
усадьбы, в совсем еще недавнее, невозвратно ушедшее время.
Ганна Белинова особенно огорчалась тем, что ее постоянно
отрывали от пряжи и не позволяли вдоволь насладиться веретеном.
Со страхом шли теперь женщины в чулан, где были сложены
мотки золотого льна. Что будет, когда они закончатся? За пряжей,
после обмена новостями о том, кто умер в эту ночь, а кто подрался,
кого посадили в наказание в яму, кто захворал и кто выздоровел,
чаще всего кто-нибудь запевал старую, с незапамятных времен
сохранившуюся песню, иногда еще пол у языческую, так что ее
решались петь только в том случае, если не было поблизости отца
Гедеона, потому что ксендз строго запрещал такие песни: он знал,
что в них таилась старая вера, которая на невинных крыльях песни
влетала в сердца обращенных.
Ее напевали вполголоса, потихоньку, но ведь песня
заразительна: затянут одни, сейчас же присоединяются и другие, да и те,
что молчали, невольно повторяют слова про себя — так овладевает
она сердцами!
Молодые мужчины рвались хоть в щелочку заглянуть, чтобы
увидеть эту горницу с сидевшими в ней женщинами. Посередине
ее был очаг, в котором всегда горел огонь и всегда что-нибудь
варилось: либо еда, либо питье, либо какое-нибудь лекарство. На
лавках и на земле, на разостланных кожухах, сидели женщины.
Сидевшие на лавках пряли, другие — шили, некоторые играли с
детьми. Были тут молодые и красивые, были пожилые, были и
совсем старые и сморщенные. Одни сидели с распущенными косами,
у других головы были повязаны белыми платками, у некоторых
полотенцами.
Младшие из них всему предпочитали песни — целый день пели
бы, как пташки, потому что песни заменяли им речь. Старшие же
любили поговорить о прошедших временах. А так как нельзя было
не слушать, то только тогда, когда все, утомившись, начинали
дремать, — кто-нибудь, более смелый, вполголоса заводил песню.
Поначалу слова произносились почти шепотом, потом песня
становилась все более громкой, смелой, живой и веселой, —
присоединялись и другие, и случалось, забывшись, начинали подпевать
и старшие женщины. Кончалась одна песня, сейчас же запевали
другую. Эти песни навевали только печаль, а болтовня баб часто
доводила до того, что некоторые грозили друг другу веретенами.
Но это делалось в отсутствие старой Ганны, которая умела поддер-
510
живать порядок и часто, взяв за плечи спорщиц, насильно сажала
их обратно на лавку. Всякое там случалось, — не было недостатка
и в смехе, хотя события не располагали к веселью, но и
невозможно же было жить в вечной тревоге.
Спытковой отвели здесь почетное место на лавке, а дочку она
посадила рядом с собою. Русинка не особенно охотно занималась
пряжей и уверяла, что смолоду вышивала шелком платки, и
только... Зато Кася пряла за двоих. Марта почти никогда не сидела
молча, дочка ее рта не решалась открыть, но зато тем быстрее
были взгляды голубых глаз, успевавших увидеть и то, о чем не
догадывались другие.
Уже все приключения Спытковой были известны ее товаркам.
Болтливая женщина, не довольствуясь своими слушательницами,
выходила иногда на верхний мост, который был открыт со стороны
красного двора и вел на вышки, и здесь охотно заводила разговор
с кем-нибудь стоявшим внизу, если только он был не прочь
посмеяться и поболтать, а так как черные глаза Марты еще блестели
огнем, то недостатка в слушателях не было.
Зато Кася не смела никуда выйти без позволения, да и не
стремилась к этому. Особенно боялась она встреч с Мшщуем До-
ливой, который, слоняясь по целым дням без дела и постоянно
мечтая о девушке, подкарауливал ее повсюду. Если мать посылала
ее куда-нибудь, она знала наверное, что Мшщуй непременно
пристанет к ней с поклоном и улыбкой. Девушка краснела,
отворачивалась, не отвечала ни на поклон, ни на улыбку и спешила
поскорее уйти.
Но если можно было уйти от Доливы, то от Томка некуда было
спрятаться. А впрочем, кто же может поручиться, что Кася
избегала его? На него она украдкой посматривала совсем другими
глазами, а один раз или даже два раза, когда он взглянул ей в глаза,
она не сразу опустила ресницы.
Сын хозяина то и дело прибегал с поручением от отца к матери
или от себя к сестре. Он единственный из мужчин имел доступ на
этот заколдованный верх, куда не допускались другие. И теперь
он чаще, чем раньше, пользовался своим правом.
Здана — потому ли что отгадала сама тайну брата, или была
его поверенной — от всего сердца помогала ему. Как только Томко
показывался на пороге, тотчас же Здана, к которой у него было
дело, подходила к Касе так, чтобы, идя к ней, они должны были
подойти и к Спытковой. Так они болтали с братом, а Кася
инстинктом угадывала, что относится к ней самой в этом разговоре
брата с сестрой и как она может принять в нем участие.
В первые дни, когда это только что начиналось, Кася только
вспыхнула, опустила глаза на пряжу и стала прясть еще усерднее,
только руки у нее дрожали. Потом, когда прошел первый страх,
глаза осмелились взглянуть, а уста — улыбнуться. Сначала она
украдкой посматривала на мать, не замечает ли та, а потом кинула
взгляд и на Томка. Тот сразу и говорить перестал.
511
Здана, хотя и была всего немногим старше Каси, — отличалась
не по годам зрелым умом, при этом была очень красива и под
крылышком матери выросла на диво свежим и веселым созданием...
Она была ростом выше Каси, стройна, как березка, грациозна,
как молодая серна, смех ее напоминал кукушку весной, а речь —
веселого воробышка. Плутовская улыбка неизменно светилась в ее
темных глазах и не исчезала даже тогда, когда розовые уста
складывались в сердитую гримасу. Она была любимицей матери,
баловницей отца, забавой всех домашних, а теперь — утешением и
радостью всех гостей...
Старая Белинова хлопотала целый день, но быстро ходить не
могла; зато Здану не утомляла никакая беготня и суетня, а когда
она смирно сидела за пряжей, кудель скакала вместе с нею,
веретено ворчало, а лен смеялся и тряс бородою.
Была она еще совсем юная и ничего в жизни не испытавшая,
но на то и песенка, чтобы разбудить печаль, разволновать сердце
и унести мысль далеко-далеко в широкий свет! У Зданы радостно
билось сердце от одной мысли, что она помогает брату в его
тайной любви, да и сама своими глазами посмотрит, как это люди
любят.
Вскоре они стали с Касей как сестры, а если шли вместе, то
непременно обнявшись и прижавшись головой к голове. Часто,
боясь говорить при посторонних в большой горнице, где их могли
подслушать, они выбегали вместе в темный чулан и, забившись в
уголок, обнимались, болтали и смеялись без конца.
Но вдруг Спыткова замечала отсутствие дочки — а она вечно
беспокоилась за нее — и принималась звать ее и искать повсюду...
Кася, вся разгоревшаяся, выбегала из чулана, а с ней и Здана,
чтобы не позволить матери бранить ее. И вот обе снова на месте,
скромно сидят за пряжей, опустив глаза, — но как только взглянут
друг на друга, так губы их невольно складываются в улыбку, и
Здана зажимает рот рукой, а Кася концом передника.
И здесь дни казались слишком длинными, старшие успевали
выспаться до ночи, младшие наплакаться от скуки, — но в общем
жизнь все же текла сносно. Многим, жившим внизу, верхняя
половина замка казалась райской обителью, каждый не прочь был
бы пробраться туда, но мужчинам было строго запрещено ходить
наверх.
Старого Белину никто не смел ослушаться, с ним шутки
были плохи, он бы не стал церемониться и с сыном владыки.
И только издали, расхаживая на красном дворе, молодежь зорко
следила, не выйдет ли которая-нибудь из женщин за водой или
пробежит по мосту, чтобы хоть взглянуть на них и поймать
их взгляд.
Мшщую совсем не везло с Касей. Спыткова время от времени
выходила к нему, потому что ей нужны были все новые слушатели.
Но Каси он так и не мог дождаться. Он только иногда видел ее
во время богослужения, но голова ее была так закутана белым
512
полотенцем, что ее даже трудно было узнать. А на него она даже
ни разу не взглянула. Долива терзался в душе, а так как по натуре
он имел много общего с братом, то и он говорил себе, как говорили
все в то время: «Возьму девушку хоть силой, — а должна быть
моей во что бы то ни стало!»
Но где и как он возьмет ее и похитит отсюда, когда и над
собственной его головой и над головами всех остальных нависла
смертельная опасность, — об этом молодежь никогда не
задумывается!
Скоро к великой своей досаде Мшщуй заметил, что Томко часто
ходил наверх и подолгу оставался там, и в сердце его вспыхнула
ненависть к юноше, происходившая от ревности. Однажды даже он
не удержался и, когда Спыткова, спустившаяся вниз, вступила с
ним в беседу, — он шепнул ей:
— Пусть ваша милость хорошенько бережет дочку. Для нас
верх — заперт, но для Томка — дверь туда открыта с утра до
вечера. А как он уж попадет туда, так там и сидит.
Пани Марта рассмеялась.
— Не может этого быть, — сказала она, — Томко приходит
к матери и к сестре, а к Касе он не смеет подойти, потому что,
хоть он и хозяйский сын, — я бы ему показала, как ухаживать!
Ведь она — ребенок, она еще об этом и не думает...
И так уверена была Спыткова в правоте своих слов, что, когда
в тот же вечер Томко пришел к Здане, а Здана подошла к Касе,
и между ними завязался разговор, мать даже не взглянула в ту
сторону. А Томко, разговаривая с сестрой, умел дать понять той,
которая как будто и не слушала его, что он любит ее больше всего
на свете и охотно отдал бы за нее жизнь. Кася, по-видимому, не
относила этих слов к себе, она долго смотрела на него ясными
глазами, потом — вдруг заворчало веретено, нить закружилась и
веретено упало на землю. Томко нагнулся за ним, и, когда подавал
ей, руки их, может быть и встретились, — а мать ничего не
видала...
Иногда, просидев в напрасном ожидании целый день на красном
дворе, Мшщуй шел в главную горницу, где собирались все старшие,
и, усевшись в углу, закрыв лицо руками, думал только о своем
горе.
В эту горницу входил тогда и старый Белина, садился на лавку
и вмешивался в разговор, вставляя короткие фразы.
Тут же проводил целые дни, почти никуда не выходя, старый
Лясота, раны которого понемногу заживали, — и лежал
неподвижно молодой Топорчик; но, кроме них, были здесь еще многие
другие.
Все они тосковали по охоте, по своим усадьбам, по свободе и
даже по войне, — она, по крайней мере, вырвала бы их из этих
оков и цепей, потому что здесь они все чувствовали себя рабами.
Никто не знал, долго ли протянется эта затворническая жизнь и
чем все это кончится, но все чувствовали, что, когда придет для
513
них последний решительный час, они скорее позволят изрубить
себя и погибнут, чем перейдут на сторону черни или Маслава.
Маслав был главной темой их разговоров. Мало кто из них не
знал его и не видел, старшие помнили, как драли его за уши,
младшие — как выгоняли его из сеней и даже били... Никто в то
время не предполагал, что из мальчишки, который умел к каждому
подлизаться и на другое утро после побоев целовал руку обидчика,
выйдет заносчивый наглец, который возмутит весь край и выгонит
государя! Выросло это зелье, как крапива под забором, — никто
и не заметил, когда она успела подняться от земли, — а она лезет
все выше, выше, так что и забора уже не видно.
Старики со вздохом говорили, что, если бы можно было
предвидеть это заранее, кто-нибудь, наверное, придушил бы его в
уголке и выбросил вон. Тогда за него никто бы и не вступился. И
только потом, когда Мешко ослабел и рассудок у него помутился, —
ловкий придворный приобрел влияние над своим господином... И
случилось то, что должно было случиться, — сын пастуха погубил
все то, что было до него сделано для блага страны двумя великими
королями, и чернь растоптала ногами плоды их трудов!
В свободное время и отец Гедеон приходил в главную горницу —
побеседовать. И тогда все окружали благочестивого старца, который
приносил слова утешения, согревавшие сердца. Старец рассказывал
им, что уже не один раз и не одно царство претерпевало внутренние
неурядицы и казалось всем разоренным и погибшим, но, по
повелению Божьему, зрелый муж или слабый отрок, получив от Бога
откровение и помощь, чудом спасали страну.
После этих слов лица прояснялись и надежда осеняла сердца;
люди говорили друг другу: не может быть, чтобы Бог оставил нас,
Он накажет тех, что разрушил костелы и вырвал кресты из земли,
Он утешит невинных.
Отец Гедеон приносил с собою надежду даже тогда, когда
людьми овладевали самые печальные предчувствия, вызванные
зловещими снами и слухами.
После отъезда Вшебора городище было совершенно отрезано от
мира. Никакие вести извне в него не доходили. И только стоя на
возвышении можно было разглядеть иногда каких-то людей,
выходивших из леса и присматривавшихся к замку.
Они появлялись с разных сторон и в разное время дня, а один
раз несколько всадников подъехали так близко к замку, что в них
можно было пустить стрелы, и одна из стрел вонзилась в шапку
стоявшему поблизости. Он поскакал прочь с криком и
проклятиями, — и все исчезли в лесу.
По всей вероятности, это были разведчики от черни, желавшие
убедиться, не ушли ли из замка все те, что заперлись в нем.
Очевидно, над ними был бдительный надзор со всех сторон, враги
поджидали, когда они ослабеют от голода, утомятся долгим
сидением в замке и съедят все запасы пищи, — чтобы потом легче
было сломить их упорство.
514
Но, несмотря на осаду, трудно было удержать молодежь от
вылазок в лес. Белина сначала противился этому, но потом,
сообразив, что мясо необходимо для питания, а в лесу его легко достать,
и особенно после того как с охоты принесли двух лосей и
нескольких серн, согласился отпускать охотников на опасное предприятие.
Каждый раз, когда собирались ехать на охоту, все, кроме стариков
и детей, просились принять в ней участие, но Белина отпускал
только самых сильных и тех, у которых были хорошие кони. А
тех, кто не мог идти сам (Белина всегда ограничивал число
охотников, жалея людей), Белина расставлял на сторожевых постах,
чтобы они могли хоть издали следить за счастливцами. В эти дни
было много тем для разговоров и были причины для двойного
беспокойства. Вернутся или не вернутся? Что их там ожидает? А что,
как на них набросится чернь?
До позднего вечера высматривали охотников, а когда из леса
показывался конный отряд, тут-то раздавались крики:
— Едут! Зверя тащат! Едут!
Ворота растворялись широко, словно для приема победителей,
и на мгновение радость и любопытство овладевали всеми, все
спешили к воротам, приветствуя возвратившихся.
А потом было о чем порассказать ночью у очага в большой
горнице, — кто удачнее всех попал копьем, кто раньше забежал
вперед, кто добил упавшего зверя и кто догнал раненое животное.
Когда несколько таких вылазок прошли удачно, Белина перестал
противиться такому способу добывания пищи для осажденных.
Лосиное мясо солили и складывали в бочки, чтобы приберечь на
будущее. Потом почти вошло в обычай каждый день выпускать
молодежь со сворой собак пробовать счастья на охоте. И редко
случалось, что охотники возвращались с небольшой добычей. Леса
вокруг были полны дичью, которая, убегая в более отдаленные
участки от вооруженных отрядов, искала убежища в ближних к
городищу лесах, где было тише и спокойнее.
Однажды Мшщуй, измученный напрасным ожиданием
появления прекрасной Каси, не выходившей из верхних горниц,
пожелал присоединиться к другим охотникам. Надоело ему ждать
возвращения брата, который был ему нужен, чтобы вместе с ним
как-нибудь отвадить молодого Белину от дочери Спытка.
Вшебор давно должен бы был вернуться обратно, если не погиб.
Об этом говорили каждый день, и Спыткова ручалась только за
одно, что ее верный слуга Собек не пропадет сам и его вызволит
из всякой беды.
В тот день, когда Мшщуй собирался на охоту, утро выдалось
пасмурное и холодное: это было хорошо для собак, которым легче
было выследить зверя на влажной земле, но неприятно для
охотников. Но все же это никого не остановило, и десяток хорошо
вооруженных воинов, которые не побоялись бы вступить в борьбу
не только со зверями, но и с людьми, выехали за ворота. Мшщуй,
вырвавшись на волю в первый раз после сидения в городище, сразу
515
повеселел, увидев широкие поля и леса. Встрепенулась в нем душа,
и он бодро поскакал среди других за проводником из лесных
крестьян, обещавшими указать им логовища зверей.
Только тот, кто никогда не сидел взаперти, не знает, с каким
чувством возвращается человек к этой свободе движения, так
необходимой ему для жизни. В первую минуту стирается всякая
мысль о том, что может случиться, — пусть завтра снова ждет
тюрьма, но хоть сегодня человеку есть чем дышать и не надо
биться головой о стену! Мшщуй совершенно бессознательно для
себя затянул песню, но, услышав свой голос, испугался и умолк.
Едва только охотник въехал в лесную чащу, как повстречал
стадо серн — из них двух подстрелил к общей радости. Полные
надежд, все отправились дальше, к тому месту где, как их уверяли,
были лоси. И действительно, удалось окружить его на лужайке,
но чуткое стадо тотчас же обратилось в бегство; Янек Канева,
который хотел пересечь им дорогу, был сбит с коня и помят ими.
Однако удалось ранить двух лосей, и охотники пустились догонять
их, так как они, видимо, ослабевали и истекали кровью. Бросали
копья и стрелы, стараясь добить их, но сильные животные убегали,
несмотря на страшные раны, и, догоняя их, охотники забрались в
самую глубину леса. Только около полудня удалось добить одного
из лосей, и решено было возвратиться с добычей. Пока привязали
его к коням, которые должны были тащить его за собой, пока
собрали всех охотников, а пострадавшего Каневу положили на
носилки между двух коней, начало уже понемногу смеркаться. Ехать
быстро было невозможно, и проводник обещал только к ночи
вернуться в городище. Проехали уже с полдороги, когда Мшщуй
увидел в нескольких саженях впереди себя двух всадников и по одному
из коней узнал брата. При пылком темпераменте Мшщуй обладал
горячим сердцем; досада на брата уступила место радости, и,
припустив коня, он стал звать Вшебора.
Это действительно был он, на обратном пути из поездки к
Маславу. С одинаковой радостью оба бросились друг другу на
шею и принялись обниматься и целоваться; тут подоспели и
другие охотники, осыпая возвращавшихся вопросами. Вшебор
допытывался у брата, что делается в городище, и радовался, что
встретил его на охоте, потому что это было доказательством, что
замок не был осажден. На радостях все забыли о соблюдении
осторожности. Когда они очутились у опушки леса, стояла уже
темная ночь.
Собек, ехавший впереди всех, вдруг издал короткий свист и
сделал знак остановиться на месте.
Только теперь все опомнились и взглянули на долину...
Утром, когда они проезжали по ней, она была совершенно
пуста, но теперь во мраке ночи они заметили пламя костров,
разложенных по берегу речки... Их было немного, но около них видны
были движущиеся массы людей. Это не мог быть отряд,
выпущенный из замка, потому что Белина не позволял ему выходить из
516
ворот, особенно к ночи; даже когда приходилось хоронить умерших,
церемонию эту откладывали до утра.
Не оставалось сомнения, что чернь, давно точившая зубы на
городище, решила начать осаду.
Воины, еще за минуту перед тем ехавшие в веселом настроении,
окаменели при этом зрелище, которое грозило им гибелью.
Никто не мог произнести слова. Поглядывали друг на друга,
совещались взглядами, что делать дальше.
Более нетерпеливые хотели, бросив добычу, сейчас же уходить
в лес. Но старый Собек не потерял головы. Он подошел к Мшщую
и Вшебору и велел им тихо ждать у деревьев, пока он вернется.
По его мнению, нельзя еще было отчаиваться, — отряд был,
по-видимому, невелик, а небольшое количество костров
показывало, что это был сторожевой отряд, высланный на разведку. Сойдя
с коня, Собек пропал во мраке. Все замерли в ожидании, не сводя
взглядов с этих зловещих костров. Около них двигались люди,
фигуры которых выступали на светлом фоне пламени и дыма. Иногда
порыв ветра доносил смутный шум разговора. На городище тоже
что-то шевелилось на валах, за рогатками несколько раз мелькнули
смоляные факелы, видно, и там уж принимали свои меры.
—• Если десяток хорошо вооруженных и смелых людей
неожиданно нападет ночью хотя бы на сотню таких, у которых только
палки, — то непременно разобьет их! — тихо сказал Вшебор.
Мшщуй поддакнул ему, другие же только покачали головами,
толпа могла состоять не из сотни, а из нескольких сотен человек.
Помятый лосем Канева со стоном приподнимал голову с носилок,
стараясь разглядеть, что делается вдали.
Собек долго не возвращался. Наконец он появился, усталый,
запыхавшийся, и объявил, что там было несколько сотен люден и
среди них начальники — хорошо вооруженные. Все они
расположились около речки, так что, обойдя кругом по лесу, можно было
осторожно пробраться с противоположной стороны к замку. Надо
было только ехать в полном молчании, обвязав ноги коням, чтобы
не слышно было топота копыт.
Совет Собка был единодушно одобрен... Но не легко было
пробраться в городище этой дорогой: два раза приходилось переходить
вброд извилистую Олыпанку, а топкое болото по кочкам.
В полном молчании маленький отряд двинулся в путь, не
спуская глаз с костров, которые были видны им с разных сторон, так
что они могли составить суждение о количестве войск.
С опушки леса видны были люди, жарившие мясо на костре,
другие варили что-то, подбрасывая сучья в огонь. Никто не спал,
очевидно, опасаясь ночной вылазки из замка. В городище в третий
уже раз пели петухи, когда маленький отряд добрался до такого
места, откуда он должен был уже без всякого прикрытия,
проскакать часть долины, отделявшей его от замка.
В середине поместили раненого Каневу, который, завернувшись
в плащ, молча готовился к смерти; его окружили тесным кольцом
517
остальные всадники, держа наготове топоры и дротики, — и весь
отряд выступил из леса.
Собек и здесь шел впереди всех, ведя за узду коня, чтобы
в случае опасности вскочить на него... Толпа черни, занятая
своим делом, не обращала внимания на то, что делается в пустой
долине...
Опасность ждала их вблизи окопов, около ворот замка, которые
были освещены пламенем от костров. Выйдя из тени в освещенную
часть долины, они должны были скакать что есть духу к воротам,
чтобы их успели отворить, пока толпа опомнится и бросится на
них. Сначала все шло благополучно. Доливы, присматривавшиеся
к людям у костров, — страшно жалели, что с ними был раненый
Канева и невозможно было, не рискуя его жизнью, неожиданно
наброситься на эту чернь, — им казалось, что они легко
справились бы с нею.
Собек тоже не советовал этого делать.
Ехали молча, плотной группой, поглядывая на валы, — не
заметят ли их там и не откроют ли вовремя ворота. Выехав в полосу
света, пустили коней рысью.
В эту минуту наблюдательный Собек заметил, как люди около
костров задвигались, поднялись с земли, и весь табор зашумел и
заволновался. Охотники уже приближались к рогатке, и Собек,
размахивая платком, давал знать о своем прибытии. Но уже из
толпы бежали к ним, размахивая палками, со страшными криками
гнались за ними вслед.
Доливы, ехавшие позади всех, взялись за топоры — погоня
была уже совсем близко. В воздухе просвистело несколько стрел.
Первые кони уже подскакали к воротам, но они еще не были открыты.
Мшщуй и Вшебор, повернувшись лицом к нападавшим,
приготовились защищаться, и едва только успели это сделать, как уже
надо было сечь и рубить, потому что вражеские руки стаскивали
их с седел.
Это была страшная минута, — но наконец железные засовы с
шумом сдвинулись и упали, и ворота открылись настолько, чтобы
первые въехавшие могли укрыться за ними. Доливы, не помня
себя, рубили топорами и пятились к воротам, Мшщую ранили
копьем руку, Вшебору попала в лицо стрела, но наконец, отбиваясь от
нападавших, они успели войти в ворота и оба упали с коней.
Ворота тотчас же закрылись за ними, и на осаждавших
посыпались сверху камни и стрелы, а потом сбросили огромное бревно,
которое повалило и придавило некоторых, а остальных вынудило
отступить.
Когда оба раненые поднялись, все в крови, с земли, они увидали
над собой старого Белину, бледного и молчаливого. За ним
теснились толпами почти все обитатели городища, приветствуя чудом
спасшихся охотников.
Всех поразило неожиданное появление Вшебора, который одною
рукою вынимал стрелу из щеки, а другую подавал для пожатия.
518
Между тем на валах, где командовал молодой Белина,
продолжалась горячая битва, — оттуда все время бросали камнями, и
толпа осаждавших понемногу начала отступать.
Охотники прошли в главную горницу внизу — обмыть и
перевязать свои раны.
Перепуганные женщины сбежались хоть издали, из другого
двора, поглядеть на то, что делалось; вышла и Спыткова, которая
здоровалась с Вшебором, когда неожиданно появился Собек и, упав
ей в ноги, закричал, сложив руки вместе:
— Милостивая пани, радуйтесь, я приношу вам добрую весть
и поклон. Наш милостивый пан — жив!
Услышав это, Марта вскрикнула и упала без сознания, но
женщины сейчас же привели ее в чувство. Было ли это выражением
великой радости или какого-нибудь другого чувства, отгадать
трудно; но верно то, что из глаз ее полились обильные слезы и что
всю ночь после того, как она подробно расспросила обо всем Собка,
она стонала и плакала.
Да и никто, кроме детей, не спал в эту ночь в городище; стража
бодрствовала на валах; в горнице и на обоих дворах горели костры,
и все с нетерпением ожидали дня, чтобы хорошенько присмотреться
к толпе осаждавших и определить их число.
Вшебор, хотя и был ранен и перевязан, держался того мнения,
что если число осаждающих невелико, то надо неожиданно
напасть на них из замка и попробовать счастья в открытом поле.
На это Белина не сказал ничего, только нахмурился и покачал
головою.
Прежде всего Долива должен был рассказать о своей поездке:
что он видел, чего добился и с чем приехал.
Тут были новости для всех, на любой вкус. Для одних —
могущество Маслава, для других — надежды старого Трепки. Все
ободрились и повеселели. Маслав — несмотря на рассказ Вшебора
о его грозной силе — никому не казался непобедимым.
Всем больше хотелось верить в возвращение Казимира и
помощь немцев, чем в огромные силы язычников.
По выражению лица Белины трудно было догадаться, что он сам
обо всем этом думал, — лицо его не выражало ни радости, ни тревоги.
Он внимательно слушал, взвешивал что-то про себя, но... молчал.
Что касается Вшебора, то он не особенно верил в обещанную
Казимиру помощь и гораздо больше боялся собранного Маславом
войска, — это ясно было видно из его речей. Одних они напугали,
других — возмутили. Но все же надежда на возвращение Казимира
и, следовательно, на лучшее будущее — восторжествовала над
страхом перед Маславом; осажденные решили держаться до
последней возможности, хотя бы пришлось питаться одной водой и
похлебкой и во всем себе отказывать, чтобы только подольше
выдержать осаду. Среди шума противоречивых разговоров все
взоры обращались к молчаливому старцу, словно прося его высказать
свое мнение.
519
Когда все умолкло, Белина поднял голову.
— Осмотреть ворота, стража по местам, внимание на валах!
И, не прибавив больше ни слова, медленно удалился.
VIII
На другое утро, с самого рассвета, началось усиленное движение
в замке, — все, кто-только мог, побежали к рогаткам,
присмотреться поближе к толпе нападавших. Даже пугливые женщины
выглядывали из слуховых окон и отдушин.
Когда совсем уже рассвело, все убедились, что, вчерашнее
войско рассеялось в беспорядке и, по-видимому, не собиралось
нападать. Одни варили пищу, другие ухаживали за конями,
некоторые лежали, отдыхая, а несколько всадников объезжали
городище вокруг, приглядываясь к нему со всех сторон, пробовали
перейти речку вброд и трясину по кочкам.
С той стороны, где городище было окружено водой и болотами,
окопы были ниже и не так тщательно укреплены, рогатки хуже,
и в тех местах, где они поломались, дыры были заткнуты старыми
досками и дерном.
Белина, который постоянно осматривал валы сам, увидел, что
неприятель непременно выберет для нападения эту сторону,
особенно если бы настали морозы, которых можно было ожидать на
днях.
Он понимал, что к замку легче всего было подойти со стороны
речки, а потому, не теряя времени, приказал согнать людей на
укрепление рогаток и валов. Но так как дерева, необходимого для
этих работ, не было, то пришлось разобрать деревянные постройки,
где люди укрывались в ненастное время. Тут уж нельзя было
рассуждать: надо было пожертвовать этим кровом для спасения жизни
и тотчас же приняться за дело.
Волнение, вызванное в обитателях городища появлением
неприятельских орд, отразилось и на внутреннем распорядке их жизни.
На богослужение, отправляемое отцом Гедеоном, сошлись все: и
мужчины, и женщины; женщины плакали и громко причитали во
время службы. Раненые и слабые, оставшиеся дома, вели между
собою нескончаемые разговоры. Тем, у которых не было никакого
дела, все то, что делали другие, казалось недостаточным и
бесцельным. Вшебор, не веривший в лучшее будущее, стоял за
необходимость вылазки из замка.
— Нам все равно нечего терять, — говорил он, — так
или иначе придется погибать; но, по крайней мере, человек
хоть упьется поганой кровью и выместит свой гнев на этих
дикарях...
Эти слова услышал старый Белина, который всюду заглядывал
и за всем присматривал; он нашел, что ему следует вмешаться и,
закрутив усы, промолвил:
520
— И думать об этом не смейте! Здесь никто шагу не смеет
сделать без моего разрешения, а я вам говорю — не позволю!
— А почему? — спросил Вшебор.
Белина поднял голову.
— Почему? — повторил он. — Об этом никто не имеет права
спрашивать. Я здесь — владыка и хозяин. Но я все же скажу вам
почему. Потому, что я верю в избавление, буду держаться до
последней возможности и не позволю пролить без надобности ни
одной капли крови.
Сказав это, Белина окинул взглядом всех остальных и медленно
пошел прочь, не ожидая ответа.
Вшебор нахмурился, но должен был повиноваться.
Со вчерашнего дня и он, и брат его были злы на всех Белинов.
А причиной было то, что Томко отбивал у них понравившуюся
им девушку. Им грозила смерть, голод и нужда, а они только
и думали о любви. Хуже того, эта несвоевременная любовь
отнимала у них охоту к тому делу, которое в это время требовало
их усилий.
Будущая судьба городища меньше их беспокоила, чем
равнодушие к ним Каси.
Они было поссорились из-за нее между собой, но теперь, видя,
что она ускользает от них, примирились на том, что не отдадут
ее никому третьему.
Все это увлечение было чисто юношеское, но именно в этом
возрасте если уж что взбредет в голову, так уж все другое отходит
на задний план.
Ни один из них не хотел даже говорить с младшим Белиной,
а при встрече отворачивались от него, хоть к стене, только бы не
видеть его и не глядеть ему в глаза.
Особенно Вшебор, заметив, что и Спыткова приняла его не
по-прежнему, ходил злой и: угрюмый, и все в городище казалось
ему плохо устроенным, ненужным и бесполезным. По натуре своей
он не терпел подчинения кому бы то ни было, а напротив, любил
командовать.
Но по отношению к Белине это было немыслимо. Всякую
попытку к возражениям он обрывал коротким замечанием и никому
не позволял руководить собой. Мшщуй, очень похожий по
характеру на брата, уже испробовал это на себе.
Теперь оба они, недовольные положением вещей, сошлись
вместе, чтобы ругать все порядки. Когда старик Белина вышел из
горницы, в ней остались около камина Лясота, в углу — Топорчик,
а на земле — Канева и еще несколько калек...
Некоторое время все молчали. Только Вшебор расхаживал взад
и вперед и что-то бормотал сам про себя. Другие следили за ним
глазами.
Наконец, не в силах сдерживать накопившейся в нем досады и
горечи, он начал говорить, сначала тихо, а потом все громче и
раздраженнее.
521
— Все это ни к чему! — сказал он. — Ждать Маслава — все
равно, что ждать смерти! Он придет с такими полчищами, что
наши валы покроются ими, как муравьями, и нечем нам будет
обороняться. Есть нам дают с каждым днем все меньше, так что
в конце концов мы должны будем умереть с голоду. От одной
похлебки человек не будет силен...
Услышав это, некоторые повернули к нему головы.
— Ну, а что же надо делать? Говори, коли ты так уж умен! —
сказал Лясота. — Дай совет.
— Собрать в середину женщин и больных, а кругом поставить
вооруженных людей и уходить в лес, — сказал Вшебор. — Соединимся
с Трепкой или еще с кем-нибудь, а если и погибнем, то все вместе!
— А те люди, что тут у нас схоронились, — у них ведь нет
оружия, как же с ними быть? — спросил Топорчик.
— Их не тронет чернь, их можно оставить в городище, да и
есть там кого жалеть, — проворчал Вшебор. — Что мы, погибать
будем из-за них, что ли? Им и так нечего опасаться.
— Кто знает, что лучше? — проговорил Канева.
— Старый Белина упрям, об этом с ним нельзя и говорить, —
заметил Лясота.
— Он верит в милость Божию, — сказал Топорчик. — Вы ведь
слышите, что нам ежедневно говорит отец Гедеон.
— Милость Божия — сама собою, но человек должен и сам
заботиться о своем спасении, — возразил Вшебор. — Белине жаль
своего добра и отцовского наследия, поэтому он готов уморить всех
нас, лишь бы не расставаться с своей требухою.
Старый Лясота сердито оборвал его.
— Не смей так говорить.
— Почему же не говорить, если я так думаю, — сказал Вшебор.
Все на время умолкли, но вдруг из угла раздался голос,
принадлежавший бледному, худому шляхтичу в плаще.
— Гм, — сказал он, — да разве мы его рабы, что непременно
должны исполнять его волю? У нас свой ум и своя воля, соединимся
вместе и уйдем в лес — кто нам запретит? Пусть гниют здесь те,
кто этого хочет.
Вшебор, пойманный на слове, в первую минуту смутился.
Он ясно видел по лицам других своих товарищей, что они не
одобряли его намерения, и потому он сделал знак своему
неожиданному союзнику, чтобы тот пока помолчал.
Старый шляхтич, закутанный в плащ, накинутый на голое тело,
умолк. Мшщуй потянул брата за руку.
— Пойдем отсюда.
И они отправились на валы совещаться.
Оставшиеся, неодобрительно отнесшиеся к предложению Вше-
бора, долго молчали. Лясота хмурился и вздыхал.
— Если только пойдут нелады и споры, как поступить, —
пробурчал он наконец, — и если мы разделимся на два лагеря, —
добра не будет, и все мы погибнем.
522
— Э! Что там! — отозвался Топорчик из своего угла. — Я
знаю обоих Доливов; из упрямства они на все готовы, но только
на словах; наболтают, наспорят, а когда дойдет до дела, то и они
от других не отстанут.
— Дай Бог! — закончил Лясота. — Я тоже знаю их с детства, —
беспокойное племя, но сердца — добрые...
Доливы, выйдя вдвоем, снова начали роптать и возмущаться,
причем то тот, то другой подливали масла в огонь: Вшебор все
приписывал старости и неумелости Белины, Мшщуй охотно
поддакивал ему.
— Они всех нас здесь погубят! — воскликнул он.
— Если дождемся прихода Маслава в городище, то останется
только готовиться к смерти, — говорил Вшебор. — Нам их не
одолеть. У нас во всем недостаток.
— А если так, — прибавил Мшщуй, — соберем всех, кто с
нами заодно, и уйдем отсюда, хотя бы пришлось ломать ворота.
— Да разве многие пойдут с нами? — спросил Вшебор.
Мшщуй не сомневался в этом. Они начали потихоньку
сговариваться, склонившись головами друг к другу. Вшебор жалел
только о том, что он неосторожно проболтался перед всеми, и боялся,
как бы Лясота не предупредил Белину и как бы за ними не
установили слежку. Но Мшщуй, который был еще более горячего
нрава, чем брат, не придавал этому значения.
— Надо только потихоньку добиваться своего, — и тогда все
удастся! Но, — прибавил он, понизив голос, — неужели мы
оставим здесь Спыткову с дочкой? Как ты думаешь?
— Ну, этого уж они не дождутся! — воскликнул Вшебор.
— А если они не захотят бежать с нами?
Взглянули друг на друга и что-то прошептали.
— Почему нельзя? — громче выговорил Мшщуй. — Придется
завязать рот и вынести их на руках, если сами не захотят, — ведь
это же их спасение.
— Ну хорошо, мы похитим их, если только сможем, —
возразил Вшебор, — а дальше что?
И только что налаженный мир едва не рухнул: огонь блеснул
во взглядах обоих братьев. Ни тот, ни другой не решались выдать
свои мысли, — никто не хотел уступать другому. И, поняв это,
потому что братья хорошо знали друг друга, оба умолкли. Так
стояли они, смотря в разные стороны и уже не разговаривая друг
с другом. Вся их горячность охладела. И только после долгого
молчания Вшебор сказал:
— Надо делать свое дело, а что дальше... это уж мы рассудим
между собой... потом.
Мшщуй только молча пожал плечами.
— Пойдем каждый в свою сторону, — закончил Вшебор, —
надо потолковать с людьми и вразумить их.
И они пошли в разные стороны — позади рогаток, где в то
время находилось множество шляхты, присматривавшейся к рас-
523
положенному в долине лагерю. Вшебор присоединился к одной
группе, Мшщуй — к другой.
Между тем Белины, отец и сын, подобрав себе верных
помощников, следили за тем, как укрепляли валы со стороны
речки.
Тут носили землю, вбивали колья, а неподалеку разрушали
постройки, чтобы воспользоваться деревом для кольев.
Работа подвигалась медленно, люди сильно ослабели и
разленились от долгого лежания, от плохой пищи и от безделья.
В этот день им дали по куску мяса и по кубку кислого пива,
но и это не помогло.
В долине вчерашние враги по-прежнему стояли лагерем и не
двигались с места. За ними все время наблюдали из замка.
Но вот, подкрепившись пищей и напившись, некоторые из них
стали приближаться к вратам замка. Доложили Белине, и он,
выбрав лучших стрелков, расставил их у ворот, приказав подпустить
врагов на расстояние выстрела и осыпать их стрелами. Но те,
очевидно, предвидели это и остановились так далеко, что стрелы не
могли долететь до них. Стояла полная тишина, и слова отчетливо
доносились издалека.
Пьяная толпа махала в воздухе веревками, привязанными к
колесам, и кричала защитникам замка:
— Готовьте руки для цепей! Скоро мы вас выкурим из этой
ямы!
А с валов кричали им в ответ:
— Ах вы, собачьи дети! Язычники, разбойники! Подождите
немного, всех вас здесь уложим!
И та, и другая сторона грозили кулаками, и у кого что было
на сердце и на языке, — все высказали!
Пока продолжалась вся эта перебранка, ярость охватила и
осажденных, и нападавших, так что последние, забыв об опасности,
начали рваться к воротам, а первые — стоявшие за рогатками,
наполовину высунулись из-за них. В это время стрелки натянули
луки, и несколько стрел засвистело в воздухе. Одна из них выбила
глаз нападавшему; он схватился за него, свалился с коня, а другие
окружили его и с бранью и проклятиями, подхватив раненого,
вернулись в лагерь.
Так прошел почти весь день в непрерывном движении и
заботах, и никто не обращал внимания на братьев Доливов,
расхаживающих в толпе. Вшебор стремился пробраться к Спытковой или
вызвать ее к себе, но Собек сказал ему, что она почти весь день
пролежала в слезах и лихорадке, так расстроили ее известия о
муже.
К вечеру все как-то успокоилось. Пани Марта, хотя и с
заплаканными глазами, вышла на верхний мост, а Вшебор, увидев ее,
сейчас же поспешил к ней навстречу. Хотя мужчинам строго
запрещалось подходить к женщинам на мосту, но Долива не обращал
на это внимания.
524
Пани была польщена тем, что он спешил подойти к ней, хоть
теперь это уж ни к чему не могло привести. Вшебор же задался
целью уговорить ее добровольно оставить городище.
Он начал с того, что спросил ее о ней самой и о дочери, а
потом начал сокрушаться над положением городища.
— Мы здесь ничего хорошего не высидим! — вполголоса
прибавил он. — Я ведь недаром ездил и здоровья своего не жалел —
я видел своими глазами, какая сила у Маслава. Если он сюда
придет, никто из нас не останется в живых.
Спыткова вскрикнула от страха.
— Неужели нет спасения?!
— Могло бы быть, если бы у людей был разум, — отвечал
Вшебор, — легко бы вырваться из замка и соединиться где-нибудь
со своими. Не все они погибли. Легче в поле защититься небольшой
кучке, чем в этой дыре тысячам. Но беда в том, что старый Белина
упрям.
Спытковой неприятно было, когда дурно говорили о Белинах.
Она бросила сердитый взгляд на Вшебора: сама она
недолюбливала их, но боялась...
— Не говорите мне о нем ничего, он знает, что делать!
— А мне кажется, что он и сам не знает, — возразил
Вшебор. — Он больше всего дрожит над своим богатством и не хочет
его бросить.
Марта молча покачала головой.
— Мне жаль вас и вашу дочку, — прибавил Долива. — Ну
что, если вы из-за его упрямства попадете в руки мужиков!
Спыткова с криком закрыла лицо руками.
— Бог не допустит этого! — плача, воскликнула она.
Немного погодя, она спросила тихо:
— Но что же делать? Что делать? Неужели нет спасания?
— Остается только одно средство: прорваться отсюда, пока еще
есть время.
— Но куда?
— Отыщем где-нибудь своих, — сказал Долива. — Тот самый
лагерь, в котором находится муж вашей милости, или другие. Не
все рыцарство погибло.
— Но ведь Маслав и их преследует, и рыцарству негде
укрыться.
— Но зато нам будут открыты все пути, — хоть на Русь, хоть
к немцам, — везде нам будет спокойнее, чем здесь.
И склонившись к самому уху испуганной женщины, Вшебор
признался ей, что он и другие хотят попробовать прорваться из
замка, оставив на произвол судьбы всех, кто еще упрямится.
— И ваша милость должна ехать с нами!
Слова эти так напугали Спыткову, что ей захотелось спрятаться
куда-нибудь и не слушать его! Но Вшебор, насильно удержав ее,
стал умолять, чтобы она, по крайней мере, не выдавала их Бели-
нам, если уж сама не может решиться ехать.
525
Тогда она поклялась ему, целуя крестик, молчать о том, что
он ей сказал, и обдумать его предложение. И, чувствуя себя
совершенно расстроенной и сбитой с толку, попрощалась с ним и
ушла к себе, чтобы хорошенько взвесить то, что сказал ей Вшебор.
Женщины, сидевшие, как всегда, за прялками около камина, сразу
догадались по встревоженному и задумчивому виду Спытковой, что
у нее какая-то тяжесть на сердце. Не обращая внимания на
вопросы своих товарок, она прошла прямо на свое место и тяжело
опустилась на лавку, как будто не замечая подбежавшей к ней
дочери. Но понемногу привычный шум веретен, заглушённый смех
и говор женщин вокруг нее вывели ее из задумчивости; Кася
принесла ей воды, отерла слезы, и Спыткова несколько успокоилась.
В этот день и в женской горнице было заметно беспокойство.
То та, то другая женщина выбегали на чердак, смотрели в
слуховое окошечко и приносили почти разные вести, то пугая, то
утешая друг друга.
По-прежнему, не спеша и не волнуясь, двигалась по горницам
старая Ганна и на все вопросы отвечала только одно:
— Уж столько раз они приходили сюда и уходили ни с чем.
Так будет и теперь.
С другой стороны, те, которые слышали от мужей и братьев,
как Вшебор рассказывал о могуществе Маслава, тревожились и
плакали; некоторые, напротив, мечтали о Казимире и о скором
избавлении. Но беспокойство мешало работе и портило настроение.
Всякий раз, когда Томко входил в комнату, все взгляды
обращались к нему, не скажет ли он что-нибудь; но на лице молодого
Белины, так же как на лице его отца, ничего нельзя было прочесть;
оно всегда дышало одинаковым спокойствием и достоинством, и в
час опасности, и в минуту радости. И только тогда, когда Томко,
пробираясь к Здане, оказывался поблизости от Каси, взгляд его
прояснялся, губы улыбались и все выражение его лица говорило о
надежде на лучшее будущее.
Кася напрасно старалась допытаться у матери о причине ее
испуга; она не отвечала ей и только тихо плакала и вздыхала. И
теперь, когда Томко пришел к ним, — сердце Каси было так
встревожено материнским горем, что она прежде всего спросила его,
через Здану, не случилось ли чего-нибудь нового, о чем могла
узнать ее мать.
Белина задумался и ответил Здане так, чтобы Кася слышала
его, и при этом он смотрел ей прямо в глаза, — что Спыткова
очень долго разговаривала на мосту с Вшебором, и, вероятно, он
и нагнал на нее такого страха. Томко прибавил еще:
— Неспокойные люди эти братья Доливы; им бы хотелось,
чтобы прежде всего их слушали, а в одном замке не может быть двух
начальников. За ними тоже надо будет хорошенько последить.
Снизу уже звали Томка к отцу, и он, взглянув еще раз в глаза
Каси, которая только зарумянилась в ответ, вышел из горницы,
чтобы помогать отцу в надзоре за работами.
526
Собек, несмотря на страшную усталость после дороги и на
ушибы, полученные им во время борьбы с чернью у ворот,
пролежав всего какой-нибудь час на соломе около коней, —
другого места не было, да он и сам не искал, — встал и
пошел искать себе дела. Его энергичная и любознательная
натура не выносила бездействия; в часы, свободные от службы,
он плел корзинки из прутьев или мешки из веревок, а если
этого не было под рукой — строгал лучину. Но, найдя занятие
рукам, он глазам и ушам не давал отдыху и прислушивался
к малейшему шуму.
Вместе с другими Собек поплелся на валы, но скоро ему
надоело это созерцание. Он пошел на другую сторону, где
производились земляные работы, но и здесь не простоял долго:
люди ходили взад и вперед, в тесноте задевали друг друга и
заводили ссоры. Обойдя весь замок кругом, Собек вернулся в
конюшню. Дощатая перегородка отделяла стойла от сарая, где
размещался простой люд из первого двора. Многих из них
выгнали на работы по укреплению валов, но старики, жены и
дети их остались дома.
За перегородкой слышен был шум разговоров, плач и жалобные
причитания. Собек, прислонившись к стене, сидел в полудремоте,
придумывая себе работу. Но ничего не приходило в голову!
В это время до слуха его долетели слова, которых он, может
быть, и не хотел бы слышать.
— Они только о себе думают, — говорил старческий голос, —
что им за дело, если кто-нибудь из нас сдохнет, — лишь бы они
были целы...
— С голоду помираем, — сказал второй.
— Есть не дают, а на работу выгоняют, — заметил женский
голос.
— Хорошо тому, кто помер, — говорил еще кто-то. — Они
ушли к своим и не знают горя.
— Самое горькое начнется тогда, когда нас осадят, — снова
заговорил старик. — Они будут стрелять из луков, а нас заставят
таскать тяжелые бревна и камни. А в кого будут попадать стрелы,
как не в нас? У них и броня, и кольчуга, и щит, а у нас что?
Нашу сукману стрела легко пробьет.
— Верно, верно, — подхватил другой, — пусть только
побольше наших соберется вместе, надо нам что-нибудь придумать... Если
они о нас не думают, будем сами о себе заботиться. Что худого
могут нам сделать те, за валом? Ведь они — наши. Снюхаемся с
ними, и пусть тогда шляхта пойдет в цепи... Мы вернемся, хоть
на погорелые места.
— А как же с ними сговориться? — возразил старик. — Разве
это так легко? Думаешь, они не следят за нами, верят нам? Небось,
они тоже догадываются, что у нас на уме.
— Сговориться, — подхватил первый, — не так уж мудрено.
— Ну, как же? Как же?
527
— Ночью легко спуститься с валов, — смеясь, отвечал
спрошенный.
Наступило долгое молчание. Потом послышалось
перешептывание.
— Так и надо сделать, — сказал старик, — а не то все
подохнем.
— Поговорите с Репцом, поговорите с Веханом...
— Почему бы нет...
— Надо думать о себе...
Голоса стали совсем тихими, так что Собек ничего не мог
разобрать, но он слышал ясно злорадное пересмеивание и оживленное
бормотание. Но и того, что он слышал, было достаточно.
Осторожно, чтобы не выдать своего присутствия, встав с
соломы, он вышел из конюшни и прошел на двор с другой стороны,
желая увидеть лица заговорщиков. Обойдя здание, он подошел ко
входу в сарай, мужчины уже ушли из него, остались только две
женщины; младшая кормила ребенка, а старшая, завернувшись в
платок, дремала рядом с ней. Но Собек твердо запомнил имена
Репки и Вехана.
Невольный трепет охватил старика. Он сам не знал, что теперь
делать.
Сейчас же дать знать, кому следует? А вдруг вся эта болтовня
окажется просто глупостью, и он только напрасно поднимет
тревогу? Собек, всю свою жизнь проведший в замках своих панов,
глубоко к ним привязанный и разделявший все их надежды и
опасения, встревожился не на шутку.
С наступлением сумерек он осторожно вышел из конюшни,
выбрался из первого двора и при входе во второй стал поджидать
старого Белину. Он увидел его издали, спокойно отдающего
приказания, и не решился тревожить его всякими вздорными слухами.
Собек решил последить еще, решив, что его серая сермяга
поможет ему подслушать больше и лучше разузнать дело, — чтобы
не поднять напрасной тревоги. Может быть, он жалел и людей,
устами которых говорили голод и утомление, и на которых он мог
навлечь грозное наказание.
Пока Собек стоял, приглядываясь к тому, что делалось вокруг,
и раздумывая, что ему делать, из-за строений послышался шум и
крики.
Люди бежали в ту сторону.
— Бей, стреляй! — кричали им вслед.
Бросился туда старый Белина, а за ним и Собек; шум и крики
все усиливались.
Никто не знал, что произошло. И только выбежав на валы
старик узнал, что кто-то, пользуясь темнотой, спустился с валов
и ушел в лагерь нападавших, хотя вслед ему пустили несколько
стрел.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
На следующие дни в долине все оставалось по-прежнему: новых
сил не прибавилось в неприятельском лагере, а ранее прибывшие
не отваживались подойти ближе. Замок усердно готовился к
обороне; старый Белина почти не уходил с валов, — прохаживался
по дворам или заглядывал за рогатки, зорко следя за людьми,
строго карая за всякий проступок и почти не зная отдыха. Когда
голод начинал давать знать о себе, он шел и кричал, чтобы ему
принесли пищу, и ему подавали ту самую похлебку, которую ели
все, даже не присаживаясь, он подкреплял свои силы и снова
возвращался к своим занятиям.
Вид этого старца и его личный пример не позволяли и другим
требовать большего; никто не осмеливался роптать.
Валы со стороны речки и болот были увеличены, ограждены
новыми рогатками, бревна и каменья были втащены наверх и
приготовлены на случай нападения, а со времени бегства из замка
одного из простолюдинов, днем и ночью повсюду была расставлена
бдительная стража.
Напротив валов возвели, как будто для забавы, несколько
виселиц и, показывая на них, кричали:
— Это — для вас!
Но этим и закончились все труды осаждающих. Они себе
расхаживали по долине и над речкой, пели песни, ели и пили; ночью
разводили костры, а днем отправлялись на охоту.
Вшебору так и не удалось уговорить кого-нибудь покинуть
замок; а вдвоем с братом он не отваживался, да и не хотел бежать.
Спыткова, которую он всячески убеждал, оставалась непреклонной
и даже слушать об этом не хотела.
Другие тоже отворачивались от него, когда он начинал говорить
об этом, и только пожимали плечами; наконец, и сам Долива
порастерял свой пыл, хотя и продолжал думать, что сидеть в Оль-
шовском городище было равносильно смерти.
Доливы были уже всем известны тем, что они всегда носились
с каким-нибудь планом, поэтому им давали выболтаться, пока они
не охладевали сами и не выдумывали себе чего-нибудь нового.
И осажденные, и осаждавшие развлекали себя тем, что
посылали друг другу ругательства и угрозы. Небольшая группа людей
529
подходила к воротам замка и, подперев руки в бока, вызывала
противников на словесный поединок, в котором ни та, ни другая
сторона не скупились на бранные слова. Плевали друг на друга,
грозили кулаками, показывали на виселицы, на которых уже
висели две собаки, — иногда кто-нибудь позадорнее бросал камень
или пускал стрелу, — и только ночь прекращала раздоры.
Доливы почти с каждым днем все больше и больше тяготились
этой однообразной жизнью. Они хотели устроить вылазку и
предлагали себя в качестве предводителей, но и на это не последовало
согласия. Так прошло дней десять, и так как братья, проводя целые
часы в бездействии у камина в большой горнице, постоянно с кем-
нибудь ссорились, то в конце концов все от них отвернулись, и
они расхаживали в одиночку, угрюмые и недовольные.
Но ссоры эти были несерьезные, на другой день все уже
забывали о них, и разговоры начинались заново, и опять заканчивались
спором. Когда наступал вечер, а с ним холод и тьма, братьев
начинало тянуть в теплую горницу, — они смирно усаживались у
камина и молча слушали, но потом кто-нибудь из них не
выдерживал и вставлял резкое замечание, ему отвечали также в резкой
форме, и ссора разгоралась.
И вот однажды — это было уже на одиннадцатый день, — не
заметив того, что старый Белина потихоньку вошел в горницу и
остановился поодаль, Вшебор в ответ на жалобы о том, что осада так
затянулась и не видно было конца ей, заговорил недовольным тоном:
— Что за диво! Сидим в этой дыре, как кролики. Мужики
смеются над нами и нисколько с нами не считаются. Да и правда!
Уж давно надо было показать им, что мы еще сильны и не дрожим
перед ними, так что даже носа не смеем из-за ворот высунуть.
— Попробуй-ка показать им нос, они его тебе оботрут! —
сказал Лясота.
— Никогда! — воскликнул Вшебор. — Если бы только
нашлись хоть десять охотников, с таким же сердцем, какое чувствую
в себе, то уж проучил бы я эту сволочь! Уж повисели бы они у
меня на собственных виселицах, рядом с собаками!
Канева, который успел уже оправиться после своей несчастной
охоты на лося, воскликнул:
— А в придачу к этим десяти — и я с вами!
— И я, и я, — раздались еще голоса.
— Но все это напрасные слова, — рассмеявшись, сказал
Вшебор, который имел зуб против старого Белины, — наш вождь и
князь не позволит этого; он скорее позволит нам заживо сгнить...
В это время Вшебор почувствовал, что чья-то огромная ладонь
ударила его сзади по плечу, и в то же время в горнице раздался
громкий голос:
— Ну, что же — с Богом! Я позволяю, я жалел вашей крови,
но кровь не вода, если уж вашей милости так не терпится! Идите!
Вшебор, слегка смущенный, повернулся, узнав по голосу старого
Белину, который стоял за ним.
530
— У вас кровь горячая, — закончил старик, — вот как набьют
вам шишек, так она у вас остынет... Идите, если хотите, но
глупости не делайте.
— И пойдем! — воскликнул Долива, срываясь с места. —
Видит Бог, я сдержу слово. Я не на ветер говорил и исполню все,
что задумал. Пусть же и те, что соглашались идти со мной, сдержат
обещание.
Тогда все, которые вызывались с ним раньше, закричали:
— Идем, идем, — говори, когда?
— Когда? — смеясь, возразил горячий Вшебор. — А зачем нам
откладывать? Ночь темная, как и нужно, сверху не каплет, чернь
легла уже спать. Почему же сегодня — хуже, чем завтра?
Белина, стоя позади, внимательно слушал.
— А что бы вы не говорили, — пробурчал он, — что у Белинов
не хватает мужества, то с вами пойдет и Томко.
Из дверей послышался бодрый, веселый голос:
— Я готов идти!
Кровь закипела у Вшебора, он бросился к дверям, за ним —
другие, побежали в конюшню к коням, потом в горницы — надеть
кафтаны и меховые колпаки, подвязать к поясу меч, найти копье;
тут же советовались, брать или не брать с собой щиты, запастись
ли на случай топорами или оставить их, топор уже и в то время
начинал выходить из употребления. Каждому предоставлено было
одеваться и вооружаться по собственному усмотрению; так все и
сделали: кто больше полагался на меч, взял с собой меч, а кому
было удобнее действовать секирой и молотом, тот привязывал их
сбоку. По всему двору как молния разнеслась весть о вылазке.
Кто-то побежал с этой вестью наверх, на женскую половину, где
девушки еще сидели у огня за пряжей: здесь поднялся страшный
плач и ропот.
Белиновой очень не хотелось отпускать сына, но она не смела
вступаться, так как это была воля мужа. Бедная женщина
всплакнула потихоньку и отошла в сторону вытереть слезы. Расплакалась
и Здана, увидев слезы матери: жаль ей было и брата, и Мшщуя,
хоть она и не хотела признаться в этом. Мшщуй Долива пленил
сердце хорошенькой девушки. Случилось это совершенно для нее
незаметно. Он старался подружиться с нею, чтобы через нее
добраться до Каси. Здана взглянула на него, засмеялась, заболтала,
и между ними завязалась дружба, а теперь они уже поглядывали
друг на друга так, как будто из этой дружбы успело вырасти другое
чувство. Чем же был виноват бедный Мшщуй? Кася даже и не
смотрела на него, а эта не боялась ни взгляда, ни разговора, ни
веселого смеха; да и трудно сидеть без занятия в осажденном замке.
Кася Спыткова так перепугалась и расплакалась, что чуть не
выдала матери свою тайну. Она вместе с Зданой выбежала даже
на мост, чтобы увидеть Томка в полном рыцарском наряде.
Бедняжка совсем потеряла голову и только потом, опомнившись,
крадучись вернулась назад. Но на ее счастье, мать Спыткова, занятая
531
повествованием о собственной жизни, не заметила отсутствия
дочери.
В вылазке приняли участие, кроме Доливов, двенадцать
добровольцев, молодец к молодцу, крепкая, сильная, горячая молодежь,
хорошо вооруженная и не боявшаяся идти хотя бы против тысячи,
а к черни относившаяся с пренебрежением и смотревшая на
вылазку как на охотничью прогулку. Все шли спокойно, со смехом
и радостью в сердце. У ворот все уже было готово к тому, чтобы
осторожно отворить их и быть настороже, чтобы вовремя впустить
назад, если бы за осажденными была погоня.
Собек, который, должно быть, никогда не спал, подошел к
маленькому отряду и дал дельный совет. Кони врагов паслись
обыкновенно ночью около стога сложенного сена, который находился в
некотором отдалении от костров. Старый слуга предложил
подкрасться к стаду и потихоньку отогнать его подальше, чтобы враги не
могли воспользоваться конями для погони. План этот всем казался
трудно исполнимым и опасным, но Собек был известен тем, что
он никогда не брался за такое дело, которого не мог выполнить.
Его выпустили вперед и стали поджидать, когда он, выскользнув
как мышь из ворот, исполнит задуманное и даст им знак, что кони
отогнаны от стога.
Нетерпеливой молодежи минуты ожидания казались слишком
долгими, но вот наконец послышался топот бегущих коней, а в
городище осторожно открылись ворота, и по одному стали выезжать
всадники. Спустившись с холма и сбившись в кучу, они с громким
криком пустили коней вскачь прямо к догорающим кострам.
Посты даже не были выставлены, чернь не ожидала этого
нападения. Большая часть людей уже спала, когда Вшебор, ехавший
впереди, влетел как вихрь в самую середину лагеря. Поднялась
страшная суматоха и тревога и, начиная с того места, где рубили
спящих, распространилась на другой конец лагеря.
Разбуженная чернь вскакивала, не понимая, что происходит, и
предполагая, что враг гораздо сильнее, чем он было на самом деле.
Просыпаясь во мраке, охваченные страхом, слыша вокруг себя
крики и стоны, все бросались бежать, кто куда: одни в лес, другие к
речке и болотам, а третьи — куда попало, и, не различая дороги,
попадались в руки неприятелям.
Вшебор и Мшщуй, сидя на конях, били, секли, топтали
упавших, бешено размахивая топорами, другие энергично помогали им,
и хотя судьба им благоприятствовала, и толпа черни не успела
еще опомниться, они решили возвращаться в замок; забросив
нескольким петлю на шею, Вшебор, Мшщуй, Топорчик и Томко
стали громко созывать своих. И прежде чем застигнутая врасплох
чернь успела опомниться, смельчаки уже скакали назад к городищу
и удосужились даже повесить пойманных на приготовленных
виселицах.
Все это произошло так быстро, неожиданно и удачно, что, когда
они въехали обратно в ворота, просто не верилось глазам! Окро-
532
вавленные мечи, топоры и руки свидетельствовали о том, что они
недаром хвастались.
Толпа черни даже не погналась за ними, так как большая часть
разбежалась и боялась скоро вернуться. Пока все собрались,
разложили костры, посчитали оставшихся — нападавших уж и след
простыл.
Вшебор возвращался веселый, гордый, счастливый, как
настоящий победитель.
Его приветствовали рукоплесканиями, и только Белина,
обнимая сына, сказал сдавленным голосом:
— Я не мог запретить вам. Но дай-то Бог, чтобы мы не
заплатили дорого, слишком дорого за эту кратковременную радость!
До самого утра не произошло никаких перемен; только в лагере
все время шумели, кричали и суетливо двигались. Едва только
рассвело, пришли люди и поснимали трупы с виселиц, чтобы ясный
день не увидел их позора.
Утром не разложили, как всегда, костров, и все чего-то
суетились, бегали туда и сюда и ссорились, — наконец, отделилась
небольшая группа и отправилась в лес.
День этот прошел сравнительно спокойно, разговор вертелся по
преимуществу вокруг вылазки, которая доставила обильный
материал для рассказов. Внизу, в главной горнице, и вверху за пряжей
только об этом и говорили. Здана гордилась братом, но, рассказывая
о нем, нет-нет да и ввернет словечко о Мшщуе. А потом сама же
заливалась румянцем и тревожно оглядывалась, — не подсмотрел ли
кто и не отгадал ли ее тайны, — и сердце ее билось учащенно.
На лице старого Белины нельзя было заметить особенной
радости по поводу одержанной над врагом победы; лоб его, как
всегда, был покрыт глубокими морщинами, которые провели на нем
тревога и забота; он по-прежнему заглядывал во все углы, требовал
от стражи усиленного внимания и отдавал приказы.
Может быть, он догадывался, что простой народ, наружно
выказывавший ему полное послушание, что-то замышляет про себя.
Между тем Собек, которому удалось подслушать разговор, не
торопился сообщить о нем хозяину. Но бегство одного из этих людей
обеспокоило его, и он решил проследить это дело до конца. Он уже
давно замечал косые взгляды, перешептывания по углам, признаки
недовольства под маской послушания, а иной раз и явное
сопротивление и даже взрыв отчаянья, тотчас же подавляемый страхом.
Никого так не боялись, как старого Белину; он умел быть
неумолимым, наказывал сурово и не прощал никогда. Когда один из
простолюдинов, поругавшись со стариками и нагрубив им, сбежал
вниз, стали подозревать всех, и отдан был приказ установить
строгий надзор за обитателями первого двора, — это, в свою очередь,
усилило общее недовольство.
Собек ни о чем еще не доносил, а только всюду расхаживал и
прислушивался... Ему хотелось найти тех двух коноводов, имена
которых остались у него в памяти. Но это ему удалось не сразу;
533
очевидно, это были не имена, а прозвища, и он ни от кого не мог
узнать о них. Старый слуга давно уже отдалился от простого
народа, к которому он принадлежал по рождению, и всей душой
сочувствовал шляхте, среди которой он жил с детства.
Нелегко было ему, в силу его положения преданного панам
слуги, выследить зачинщиков: народ не доверял дворовым людям
и всячески избегал разговоров с ними; едва только кто-нибудь из
них показывался, как все умолкали, обмениваясь взглядами, или
начинали говорить о посторонних вещах. Напрасно старик
вмешивался в толпу, притворяясь то полуглухим, то придурковатым. Где
бы ни показался верный слуга, все разговоры обрывались и все
глаза следили за каждым его движением.
Но угрюмое и грозное выражение их лиц убеждало его в том,
что среди них затевалось что-то недоброе. То же самое чуял и
старый Белина, который особенно часто заглядывал сюда и не
оставлял без внимания ни одного уголка.
Когда Вшебор с охотниками готовился к вылазке, на большом
дворе, несмотря на позднее время, все зашумело и заволновалось.
Кто только мог, бросились на валы, чтобы увидеть своими глазами,
чем кончится эта смелая затея.
Собек, воспользовавшись этим, укрылся в темном уголке и
подслушал угрозы, проклятья и ропот, когда на виселицах показались
трупы.
Народ этот чувствовал в нападающих своих братьев по крови
и им сочувствовал, поэтому в замке надо было бояться не только
открытых, но и тайных, до поры до времени затаившихся, врагов.
Чернь ждала только удобного момента, чтобы броситься на шляхту
и выдать ее в руки осаждавших, и Собек замечал даже некоторые
признаки того, что между простолюдинами в городище и
нападающими было соглашение. Несколько раз ночью ему удалось
подкараулить переговоры из-за рогаток, к которым подкрадывались
снизу люди из лагеря.
С каждым днем народ становился все более дерзким и
непослушным, и замечалось в нем какое-то нетерпеливое ожидание.
Старый слуга не хотел никого пугать, но ждал удобной
минуты, чтобы самому переговорить с Белиной. Однако трудно было
отвести его в сторону и задержать разговором, не возбудив
подозрения.
На следующий день после вылазки Белина казался еще более
неспокойным, чем всегда, он стоял, задумавшись, на валу со
стороны речки, когда Собек увидел его издали и подбежал к нему,
униженно кланяясь.
Белина только кивнул головой, как будто не желая тратить
время на беседу, и уже собирался уйти, но Собек слегка удержал
его за полу кафтана.
— Милостивый пан! Иной раз не мешает выслушать
ничтожного червя.
— Ну, что еще там? — спросил Белина.
534
— Там, — сказал Собек, указав рукою в сторону двора, —
там творится неладное.
Старик смотрел на него, ожидая объяснения.
— Там что-то много болтают и ворчат, — говорил Собек. —
Должно быть, снюхались с теми, что стоят за валами. В недобрый
час, оборони Боже, могут взбунтоваться и убежать. Надо хорошо
доглядывать, надо беречься, милостивый пан.
Белина пробурчал что-то невнятное, чего Собек не расслышал,
и только махнул рукой.
— Милостивый пан, для вас это, верно, не новость, —
прибавил Собек.
— Не новость, — коротко ответил хозяин. — Смотрите и
слушайте, вы добрый человек. Лишний глаз никогда не мешает.
Собек поклонился, несколько успокоенный: оба они не были
особенно разговорчивы, и этих слов было достаточно, чтобы они
поняли друг друга.
Следующие дни не принесли Собеку успокоения, зловещих
признаков становилось все больше. Только взглянув Белине в глаза,
он на некоторое время переставал тревожиться, но потом опять
открывал что-нибудь новое, и волнение овладевало им снова.
Как в лесу и на охоте Собек всегда знал, куда надо идти и
где искать зверя, так и среди людей он угадывал, как и с кем
говорить, но здесь его сторонились, поэтому он должен был
прибегнуть к хитрости.
Сарай, где стояли кони, был обращен одной стороной к
большому двору, на котором целыми днями вповалку лежал и сидел
народ, жалуясь на свою судьбу и беседуя между собой.
Собек устроил себе здесь наблюдательный пункт на бревне,
полузакрытый воротами. Он выделывал половики из соломы или
долбил ножом по дереву и представлялся так погруженным в свое
занятие, что даже головы не поднимал. Это не мешало ему видеть
все, что ему было надо. Его задача заключалась в том, чтобы найти
среди этой праздно сновавшей взад и вперед толпы ее тайных
руководителей. Он угадывал их присутствие, но не видел их самих.
Наконец на второй или на третий день Собек заметил
плечистого, бледного крестьянина с длинными, черными, падавшими ему
на плечи волосами, который расхаживал по двору, ни на кого не
глядя, заложив руки за пояс и надвинув шапку на лоб, но, не
произнося ни слова, он каким-то непонятным способом передавал
свои мысли другим людям, которые, повинуясь какому-то
таинственному знаку, уходили прочь, поднимались с места или молча
уступали ему дорогу.
Как Белина целый день расхаживал по своим владениям, так и он
без устали слонялся по двору, почти не присаживаясь и ни с кем не
разговаривая, но по одному его знаку люди торопливо исполняли его
волю. Собек подсмотрел однажды, как он движением руки приказал,
голодному человеку, жадно поедавшему свою порцию пищи, отдать
ее женщине, которая кормила ребенка, потому что у нее не хватало
535
молока в грудях. Бедняга, только что принявшийся за принесенную
ему похлебку, крепче стиснул в руках деревянную миску, и глаза его
засверкали, но, не дотронувшись до нее больше, он встал и поставил
миску перед голодной женщиной. И все это совершилось по одному
его взгляду — он не промолвил ни слова. Когда происходила какая-
нибудь ссора, люди шли на суд не к старосте, поставленному Белиной,
а прямо к молчаливому крестьянину, и тот, пробормотав что-то,
быстро разрешал спор.
Собек словно невзначай спросил как-то, как его зовут, но никто
ему но ответил, и только ребенок, которого он приманил мясом,
назвал его Миськом-Веханом.
Теперь, открыв одного из руководителей, он рассчитывал найти
и второго, подсмотрев, с кем он чаще всего разговаривает.
У Собка была в натуре страсть выслеживать и подкарауливать,
если не зверя, то человека. Скоро он приметил место, где
укладывался на ночь Мисько-Вехан. Он был уверен, что все совещания
происходят ночью. И вот однажды он проскользнул к этому месту
и улегся неподалеку, притворившись спящим.
Надежда не обманула его. Поздно ночью приполз еще один, и,
улегшись рядом, они долго беседовали шепотом.
Ночь была темная, так что лиц нельзя было разглядеть, да и
слова не долетали до него, но утром, когда они расходились, Собек
узнал в товарище человека, которого он часто видел днем на
страже у рогаток пристально высматривающим что-то в лесу...
Это и был Репец, о котором упоминали в толпе, и оба эти
человека руководили простым народом, укрывавшимся в замке.
С этих пор Собек не переставал следить за ними. С Веханом,
вечно слонявшимся по двору и ни с кем не разговаривавшим,
трудно было завязать знакомство, и потому он начал с Репца и утром
же на другой день подошел к нему.
Они взглянули друг на друга, но ни один не произнес ни слова.
Репец отвернулся, видимо, желая избавиться от него, но упрямый
Собек чуть не полдня простоял около него, не вступая в разговор,
но также пристально всматриваясь вдаль и вздыхая.
Репец был немолод уже, невелик ростом, бледен, с какими-то
пятнами на лице, — рыжеватые усы и борода и выцветшие глаза
на пятнистом лице производили впечатление чего-то пестрого, как
змеиная кожа ядовитых змей. Когда он злился, то всегда облизывал
губы языком, словно облизываясь при мысли о своей жертве.
Соседство Собка наконец вывело его из себя.
— Ты откуда? — спросил он Собка.
Не отвечая, Собек указал рукой в сторону леса.
— Что за человек?
— Лесничий.
— Панский? Дворовый?
— Какой там панский! У меня лес был паном.
И намеренно замолчал, чтобы не выдать своего желания завязать
разговор. И снова оба, вздыхая, стали смотреть в сторону леса.
536
Наконец Собек заговорил, обращаясь к Репцу:
— Эй, послушай, — долго еще так будет?
Рыжий передернул плечами.
— За что мы здесь помираем с голоду?
— За что? Ишь какой любопытный, — возразил Репец. — А
за то, что мы глупы!
Он умолк, отвернувшись, и некоторое время оба молчали.
На первый день этим все и ограничилось, но знакомство
завязалось.
На другой день Собек снова очутился у рогаток. Репец, увидев
его, сплюнул, словно увидев поганого зверя, взглянул грозно и
отодвинулся.
Не проронил ни слова.
В этот же день случилось то, что Белина предчувствовал и чего
боялся.
Под вечер в горницу, где все сидели, греясь у огня, вбежал
слуга-подросток, носивший меч за старым Белиной, и крикнул:
— Идут, идут!
Все сорвались с места, но, прежде чем успели расспросить
перепуганного мальчика, кто идет, он уже исчез. Мальчик обежал
все жилые помещения и всюду внес испуг и волнение.
Вся шляхта высыпала на валы.
Стояла поздняя осень, вечер выдался морозный, но ясный. За
лесами заходило солнце, разливая волны бледно-желтого и
пурпурного пламени; небо, зеленоватое в нижней своей части, вверху
сияло чистой бледной лазурью. Тихо стояли вдали черные и
коричневые массы лесов.
Ужасное зрелище представилось осажденным, когда они
взглянули с валов на долину. И даже раньше, чем они бросили на нее
взгляд, они услышали в воздухе глухой шум далеких криков, звуки
песен, топот и ржание коней.
Из леса выходили один за другим отряды пеших и конных
воинов, все они, увидев издали городище, приветствовали его
страшными воинственными криками.
Отряды двигались один за другим, впереди некоторых из них
несли знамена на длинных древках, пастухи гнали целые стада
рогатого скота и лошадей, отбитых где-нибудь по пути.
Толпа черни, расположившаяся лагерем около речки,
приветствовала их, подбрасывая шапки вверх, поднимая руки и чуть ли
не воя от радости.
Вновь прибывшие заполняли всю долину и, располагаясь в ней,
в противоположность первым пришедшим, не ограничивались
берегом речки, а смело шли под самые окопы. Шум и крики этих
тысяч людей становились все громче и смелее, и эхо, словно
издеваясь, повторяло их в лесу. Рыцарство, укрытое в городище и
внезапно разбуженное этим страшным шумом, бросилось на валы
и мосты. Туда же бежал и простой народ с выражением плохо
скрытой радости на лицах.
537
Вехан и Репец стояли впереди всех у рогаток, поглядывая
смеющимися глазами то на своих, то на горсточку замковой стражи.
Вся долина, насколько хватало глаз, наполнилась народом, а
из лесу все еще двигались новые толпы, окружая Ольшовское
городище плотной стеной осаждающих.
Среди серых масс крестьянства можно было различить
предводителей отрядов на конях, указывавших места своим
подначальным, которые тут же вбивали колья в землю.
Один из отрядов, довольно значительный, тотчас же отделился
от своих и, приблизившись к валам, остановился. Сверху, затаив
дыхание, наблюдали за ними все, кто только успел пробраться к
рогаткам.
Распространяли слухи о том, что это прибыл сам Маслав, но
Вшебор, у которого было хорошее зрение, долго всматривался и
нигде не мог его найти, поэтому он уверял, что среди начальников
еще не было пастушьего сына. Не видел он также ни пруссаков,
ни поморян, которых легко можно было узнать по одежде и поясам.
Это была та самая чернь, которая грабила и разрушала замки и
города, это были язычники, вылезшие из лесов, чтобы свалить
кресты и разрушить костелы.
Вышел на валы и старый Белина, долго осматривался во все
стороны и, указав рукой стоявшему около него Вшебору, кивнул
головой, словно хотел сказать: «Это вы их сюда приманили!»
В молчаливом испуге стояли все, прислушиваясь и
присматриваясь, когда вдруг все пришло в движение, люди стали расступаться
и медленно опускаться на колени.
Из глубины двора шел сюда отец Гедеон в белой комже, в
вышитой шапочке на голове, неся в руках святые Дары...
Мальчик-служка нес перед ним деревянный крест. Ксендз медленно
следовал за ним, набожно произнося слова молитв, весь погруженный
в себя, с опущенной головой и полузакрытыми веками. Они шли
к воротам, поднимаясь по ступеням на мост, вынесенный за
рогатки.
Все снимали колпаки и шапки, многие становились на колени.
Взойдя на мост, отец Гедеон поднял кверху руки с чашей и, устремив
глаза к небу, начал громко молиться, творя крестное знамение на все
четыре стороны света и как бы отгоняя им злого духа.
Люди, стоявшие внизу у валов, не могли не заметить этой
белой фигуры, возвышавшейся на помосте, и черного креста перед
нею. Они видели, как он, подняв руки к небу, взывал к Богу
христиан или, как они думали, совершал заклинания.
Этих заклинаний и чудес особенно боялись язычники. И теми,
которые готовились первыми начать осаду, овладел невольный
страх! Они начали осаживать коней и пятиться задом, и хоть им
было стыдно обратиться в бегство, однако устоять на месте они не
были в силах. Как бы отступая перед знамением креста, они
пятились все дальше и дальше, съехали совсем вниз и исчезли в
долине, смешавшись с основной толпой.
538
Солнце уже закатилось, и тень от лесов заволокла долину;
только вершина холма еще была освещена бледным светом последних
лучей. Громадные полчища, покрывавшие долину, тонули во мраке.
Часть людей отделилась и пошла в лес собирать хворост и ломать
сучья; послышался стук топоров, и скоро после этого в разных
местах долины засветилось пламя костров. Влажный воздух не
позволял дыму свободно подниматься кверху, и он густыми
удушливыми клубами стоял над речкой и лугом, заслоняя, словно пеленой,
страшную картину вражеского лагеря от глаз осажденных. Вдали
трудно было даже рассмотреть что-нибудь, мелькали только там и
сям красные огоньки костров, да двигались около них черные
фигуры людей.
Никто не уходил с валов, все смотрели как завороженные,
предчувствуя ужас завтрашнего дня и неравной борьбы. До замка
долетали смешанный гул голосов, звуки песен, и в том состоянии, в
каком находились осажденные, все это казалось жестокой
насмешкой над ними.
На женской половине никто не дотрагивался до пряжи: девушки
и женщины стояли на коленях и, сложив руки, молились,
заливаясь слезами.
Наверху, перед покрытой чашей со святыми Дарами, стоял на
коленях отец Гедеон и то возносил руки кверху, то падал ниц,
распростершись на земле, то снова поднимался и смиренно
складывал руки. Ночь застала его здесь коленопреклоненным, и когда
он наконец встал, глаза его были сухи и лицо озарилось светом
надежды на лучшее будущее.
Старец почувствовал в своем сердце, что Христос посылает его
на подвиг, как своего рыцаря, и потому он тотчас пошел к людям,
чтобы нести им слова утешения, согревать их сердца и вливать в
них мужество.
Прежде всего он встретил старого Белину.
— Отец мой, — сказал хозяин, склоняясь перед ним и целуя его
руку, — благослови меня, благослови нас всех, как ты
благословляешь готовящихся к смерти. Мы будем бороться, пока у нас хватит сил,
пока не победим врага... Он уже перед нами, он среди нас!
— Мужайтесь! — воскликнул отец Гедеон. — Не теряйте
мужества, а Бог вас не оставит. Творятся чудеса! Война эта
направлена не против вас, а против святого креста. Я молился, и на меня
снизошло, не знаю откуда, успокоение и уверенность, что рука
Всевышнего нас не оставит.
Белина поднял руки кверху.
В нескольких шагах позади него стоял, вертя что-то в руках,
Собек.
— Милостивый пан, — шепнул он, — прошу слова!
Хозяин повернулся к нему.
— Двух людей надо посадить под замок, чтобы не случилось
беды...
И, тихо перешептываясь, они отошли вместе.
539
По дороге Белина сделал знак нескольким вооруженным людям,
чтобы следовали за ним. Так они прошли в первый двор. Стоя у
рогаток, Вехан и Репец о чем-то совещались, глядя на толпы черни
внизу. Собек указал на них. Когда в толпе заметили вооруженных
воинов, раздался ропот возмущения, два вожака метнулись в
разные стороны, быть может, догадавшись, что пришли за ними; Вехан
хотел перескочить через рогатки, Репец обратился в бегство; обоих
схватили... Раздались крики, народ в гневе и волнении окружил
Белину и оруженосцев.
Стоявшие ближе к нему начали дерзко приставать к Белине,
требуя выдачи арестованных, некоторые стали грозить кулаками,
другие дергали старика за полу кафтана. Белина повернулся к
своему оруженосцу и, не отвечая ни слова, выхватил меч из
ножен.
— Посадить их в яму! — крикнул он. — До суда и обвинения
с ними ничего не сделают, но, если хоть одна рука поднимется в
их защиту, они поплатятся головами!
Глухой ропот пронесся по всему двору, и все сразу стихло.
Репец и Вехан со связанными назад руками шли к яме,
окруженные стражей, дико оглядываясь вокруг. Толпа, лишившись своих
вожаков, стояла неподвижно на месте.
— Ведите их к яме! — повторил Белина, и сам, обнажив меч,
пошел вслед за стражей и арестованными бунтовщиками.
Все это видели рыцари, шляхтичи и воины; некоторые
хватались за мечи, как будто готовясь к нападению и защите.
Толпа, двинувшаяся было вслед за узниками, отступила,
вернулась во двор и легла на земле, оглашая воздух жалобами и
плачем. Плакали женщины, а мужчины, сбившись в кучку,
шептались и совещались между собой. Сотники ходили между ними и
призывали к порядку и молчанию.
Была уже ночь, когда двери темницы закрылись за Репцом и
Веханом. Около них поставили вооруженную стражу. На валах
удвоили число караульных; рыцари начали медленно расходиться
с валов по горницам, чтобы приготовиться к завтрашней битве.
Наступила тишина, прерываемая только звуком шагов часовых да
бряцаньем мечей, изредка слышался плачущий голос ребенка.
В главной горнице у огня никто не пытался начать разговор —
не о чем было рассуждать и строить предположения, грозная
действительность стояла перед глазами.
Лясота, который после последней битвы не мог уже владеть
руками, чтобы держать лук или меч, спокойно подбрасывал
топливо в камин, другие осматривали свои мечи и доспехи. И, словно
сговорившись, почти все взялись за оселки и принялись точить
оружие; остальные же пробовали пальцами острия стрел и тетивы
у луков.
В горнице все пришло в движение, каждый, усевшись где
пришлось, точил, чистил и направлял оружие и чинил доспехи. Среди
наступившего молчания вдруг раздался голос Вшебора:
540
— Я вижу, что старик хочет свалить на нас вину и показать,
что это мы своей вылазкой привлекли чернь. Он не сказал этого
прямо, но я догадался. Но уверяю вас, что, когда я был в Плоцке
у Маслава, там уже сговаривались идти на Олыповское городище,
и я спешил привезти вам эту новость.
— Рано или поздно это должно было случиться, — прибавил
Топорчик. — Я благодарю Господа Бога за то, что он мне позволил
набраться сил, теперь и я не буду сидеть в углу, сложив руки.
То же самое повторил и Канева, который еще не вылечил своих
шишек и синяков, но уже готов был действовать. Так, до поздней
ночи, шли приготовления во всем замке, кроме женщин, никто не
сомкнул глаз.
Белина даже и не присаживался. Опасаясь, как бы сон не
одолел его, если он присядет на лавку, он, когда почувствовал, что
веки у него слипаются от усталости, скрестил руки на мече,
прикрыл глаза и так, стоя, подремал немного.
Уже рассветало, и петухи пели в третий раз, когда все спавшие и
только что проснувшиеся были напуганы страшным шумом и
криками; все сорвались со своих мест, боясь каких-нибудь козней со
стороны неприятеля, и бросились разузнавать, что случилось. Но никто
еще ничего не знал: крики доносились со стороны тюремных дверей,
где столпились вооруженные воины, и на их зов сбегались все.
Вшебор, бежавший впереди всех с обнаженным мечом, нашел
здесь обоих Белинов, их дворню и еще многих других.
У входа в яму, куда бросили Вехана и Репца, глазам
присутствовавших представилось страшное зрелище. На том месте, где
стояла ночная стража, лежали теперь два трупа. Незаметно было
на них каких-нибудь следов крови, шеи были обмотаны веревками
и так сильно стянуты, что глаза выскочили из орбит, а языки
вывалились изо рта. Около них валялось на земле оружие.
Двери у входа в яму были выломаны, а между тем ночью никто
не слышал ни малейшего шума, никто не двигался даже и не
проходил по двору. В яме не хватало и других узников, ушедших
вместе с беглецами; оставался только старый дворовый человек
Белины, посаженный за какое-то бесчинство; его никто не тронул,
он остался цел и невредим, но не мог сказать ничего путного,
кроме того, что, проснувшись, заметил дуновение свежего воздуха
сквозь открытые двери темницы.
Люди разбежались искать беглецов, которым, по-видимому,
трудно было уйти за рогатки, охраняемые многочисленной стражей.
В замке было волнение и замешательство, а среди простого
народа крики, шум, плач и стоны женщин и возгласы тех, которых
избивала стража, потому что надо было как-нибудь навести
порядок и сразу усмирить бунтовщиков и зачинщиков.
Накинув на себя что попало, выбежали перепуганные
женщины, узнать, что случилось. Некоторым из них казалось, что чернь,
воспользовавшись темнотою, вторглась в городище и бой разгорелся
во дворе.
541
Более мужественные из них хватали топоры, и многие решили
лучше защищаться, сколько хватит сил, чем позорно сдаться.
Другие же ломали руки и плакали.
День застал всех обитателей замка в тревоге и смятении, а
караульных в тщетных поисках беглецов... Нигде не было и следа их!
Это бегство еще более увеличило общую тревогу, потому что
Репец и Вехан, пробыв долгое время в городище, хорошо его знали
и могли быть хорошими проводниками для черни, указав ей слабые
стороны обороны.
Солнце всходило в густой тьме, и в долине нельзя было ничего
различить, заметно было только усиленное движение среди густых
масс черни.
Наконец утренний туман рассеялся, и тогда все наблюдавшие
из замка ясно увидели отряды войска, направлявшегося к валам.
Так как болота еще не замерзли, а речка, переполненная осенними
дождями, вышла из берегов, то с этой стороны нельзя было ожидать
нападения; но вскоре заметили, что именно с этой стороны
двигалась большая толпа народа, бросавшая в трясину бревна и доски
и устраивавшая мостки для перехода. Осажденные вынуждены
были терпеливо смотреть на все эти приготовления, потому что
стрелы не могли преодолеть такое расстояние.
Защитники могли оказаться в безвыходном положении, если бы
нападающие бросились на замок сразу со всех сторон. У
осажденных было мало войска, а простой народ, находившийся на первом
дворе, годился только на то, чтобы под строгим надзором, разбив
их на небольшие кучки, заставить переносить тяжести. Эти
приготовления вызвали в защитниках новую тревогу, — все только
молча переглянулись между собой.
Пока люди суетились на валах, приготовляясь к обороне, отец
Гедеон, по заведенному им обычаю, взошел с восходом солнца на
возвышение, где был устроен алтарь, чтобы совершить
богослужение. Собрались все женщины, дети и старики и, опустившись на
колени, горячо молились. Рыцарство же, едва успев осенить себя
крестным знамением, спешило надеть доспехи и идти на валы.
При свете восходящего солнца, рассеявшего утреннюю мглу,
защитники увидели у ворот замка небольшой отряд всадников,
среди которых Собек узнал Вехана и Репца. Беглецы указывали на
замок, объясняя, с какой стороны к нему было легче подобраться.
Но нападающие не спешили штурмовать, может быть, они
поджидали кого-нибудь, может быть, не для чего было торопиться, и
они рассчитывали дождаться, когда готов будет мост через болота,
и тогда ударить со всех сторон.
До полудня не в кого было пустить стрелу, враг держался в
отдалении, и некоторые из осажденных решили, что нападающие
ждали приближения ночи, чтобы с помощью беглецов из замка
предпринять какие-нибудь действия.
Городище имело теперь совершенно другой вид. Пока опасность
была еще далеко, люди имели возможность и отдохнуть, и пере-
542
кинуться между собой словами и шутками, а иной раз поспорить
и побраниться; случалось, что только уважение к Белине
удерживало их от расправы с помощью меча. Теперь все это забылось,
все снова объединились между собой, и даже те, которые отвыкли
от всякой борьбы, проводя все время в праздности, почувствовали
в себе прилив мужества. Все хорошо понимали, что нужны были
нечеловеческие усилия, чтобы сопротивляться этим полчищам
врагов, затянуть борьбу и, может быть, дождаться помощи от своих.
Только на них была вся надежда. Если бы помощь эта запоздала,
то защитники городища, истощенные голодом, измученные борьбой
без надежды на избавление, должны были бы уступить. Ни люди,
ни укрепления замка не выдержали бы штурма.
Весь этот день прошел в томительном ожидании.
Неприятельские отряды подходили к замку и снова отходили, проходили мимо
ворот, осыпая защитников насмешками и угрозами. Не успевали
осажденные, воспользовавшись отдалением одной группы, прилечь
и отдохнуть тут же валах, как уже приближались новые отряды,
пешие и конные, подкрадывались потихоньку, приглядываясь и
прислушиваясь.
Всадники подъезжали к замку на расстояние стрелы, пущенной
из лука, и начинали вызывать защитников по именам.
— Белина, старый волк! Вылезай из ямы! Эй, Белина!
Другие ругали и высмеивали Доливов, Лясоту и всех, кто там
был. Вехан и Репец обо всем им донесли.
Но больше всего брани и насмешек выпало на долю старого
Белины. Он все слышал, но молчал. А когда ему надоела вся эта
брань, он вышел на мост, оперся на рукоятку меча и так стоял
перед ними, спокойно выслушивал их поношения.
В толпе, должно быть, узнали его; один из нападавших с
насмешливым поклоном снял шапку и потом, надвинув ее снова на
голову, погрозил кулаком.
— Эй, ты, старый разбойник, пивший нашу кровь! Пришел
твой час! Слышишь ты! Теперь ты уж не вырвешься из мужицких
когтей. Знаем мы, что у вас там делается, — живете одной
гречневой похлебкой, и людей у вас нет, мы вас скоро выкурим!
Сдавайтесь-ка лучше сразу. Ведь все равно будете висеть, а так мы
хоть мучиться вам не дадим, если отворите ворота... И детей не
тронем! Если же возьмем силою, живой души не оставим.
Другой зарычал с диким смехом:
— Эй, живо, псы паршивые, отворяйте ворота!
И снова посыпались насмешки и брань. Белина все стоял
неподвижно; ни один мускул на его лице не дрогнул, ни одного слова
не вырвалось из его уст; зато другие, менее терпеливые, приходили
в бешенство, ругались и проклинали, некоторые даже не могли
удержаться и пустили стрелы, хотя и знали, что они не долетят.
Полетели и камни сверху; более смелые, дальше всех
выдвинувшиеся вперед, оказались пораненными, остальные с криками и
бранью отступили.
543
В этот день не было никаких решительных действий —
неприятель ждал... Вшебор думал, что ждут Маслава.
Между тем мост через болото все удлинялся и приближался к
окопам. Следя за работами, можно было предположить, что гати
и мостки будут закончены на третий день.
Среди этой неизвестности и томительного ожидания, более
мучительного, чем борьба и опасность, наступила ночь.
На другой день погода изменилась: пошел холодный дождь,
задул сильный ветер, зашумел лес с северной стороны, словно вторя
шумихе в лагере осаждающих. Видно было, как пригибались к
земле верхушки деревьев, как ломались ветки, а дым от костров
разлетался вместе с искрами по долине. Некоторые костры загасли
под дождем и ветром. Нападающие ничего не предпринимали, а
работы над гатями шли непрерывно.
Наконец, около полудня со стороны лесов послышались громкие
крики и эхом прокатились по всему лагерю. Люди поспешно
вставали и строились в отряды.
Из леса показался небольшой конный отряд, перед которым
несли на шесте красное знамя: издали нельзя еще было различить
ни лиц, ни одежд; всадники ехали быстро, пересекли долину и
взяли путь прямо к воротам замка.
Вшебор, стоявший у рогаток, крикнул первым:
— Это Маслав!
Все сбежались посмотреть на него; из рыцарей почти все
помнили Маслава при дворе Мешка и Рыксы; каждому хотелось
увидеть его теперь.
Действительно, это был он. Сидя на черном коне с длинной
гривой, весь закованный в броню, в шлеме с султаном, в пурпурном
плаще с золотом, наподобие королевского, он ехал окруженный
дружиной. Один оруженосец нес за ним щит, другой лук и стрелы,
третий — огромный меч. Нарядно одетая и прекрасно вооруженная
свита окружала нового князя, а тот, высоко задрав голову, ехал прямо
к замку, окидывая городище пренебрежительным взглядом.
Мшщуй, прицелившись из лука, собирался уже пустить в него
стрелу, рассчитав, что она попадет в него, но его удержали. Целая
толпа людей, обнажив головы, окружила Маслава, о чем-то
докладывая ему и выслушивая его приказания.
Судя по их жестам, можно было заключить, что разговор шел о
гати, которую прокладывали к замку с другой стороны. Маслав
слушал рассеянно и, почти презрительно отвернувшись от докладчиков,
указал в нескольких саженях от себя, напротив ворот замка, место,
где должны были поставить палатки для него и для его свиты.
Между тем подъехали возы с княжеским добром и остальная
часть придворных. Из городища хорошо было видно, как вбивали
колья для палаток, рыли ямы для костров, привязывали коней и
приготовлялись к ночлегу.
К месту княжеского лагеря тотчас же стала сходиться
любопытная чернь в самых разнообразных одеждах: приходили с по-
544
клонами старшины, с возов снимали бочки и потчевали гостей...
Веселый шум доходил до валов замка.
Так наступил темный вечер, может быть, последний перед
смертельным боем.
Он должен был скоро начаться.
Белина боялся ночного нападения; поэтому он велел всю ночь
поддерживать огонь на валах и, отпустив половину защитников на
отдых, другую оставил на страже. В эту ночь никто уже не думал
об экономии: на городище тоже открыли бочки с пивом и наварили
вдоволь мяса. В главную горницу внизу внесли кадку с медом,
чтобы подкрепить и подбодрить людей.
А на женской половине никто в эту ночь не прял и не пел
песни. Девушки шептались между собой, женщины плакали или
тихонько молились. Поминутно то та то другая выбегала из
горницы, чтобы самим увидеть и услышать что-нибудь новое и,
воспользовавшись общим замешательством перекинуться словом с кем
было надо. Даже Кася выбегала несколько раз вместе с Зданой, и
они, прижавшись друг к другу, заглядывали вниз, в окопы. Но ни
Томка, ни Мшщуя не было видно. Крепко обнявшись и
склонившись друг к другу, девушки тоскливо шептались, прислушиваясь
к далеким голосам и стараясь угадать, кому они принадлежат.
— Слышишь? Это голос моего брата! Я узнала бы его в
тысячной толпе!
Кася качала головкой, стыдясь признаться, что она еще раньше,
чем сестра, узнала голос Томка.
— А это? Слышишь? — тихонько шепнула она, стараясь
отплатить тем же. — Я могла бы поклясться, что это голос Мшщуя Доливы.
Здана, как будто не доверяя, покачала головой.
— А что мне Мшщуй? — небрежно сказала она.
— Ой, неправда! Ты узнала его голос раньше, чем голос Томка!
Но Здана не всегда признавалась в том, что Мшщуй нравился
ей, а она ему. В этот день она как-то не верила ему и сердилась
на него. Мшщуй стоял на страже и весь день не подходил к ней
и не старался встретиться с нею, со вчерашнего дня он словно
забыл о ней, — и она не хотела о нем знать.
— Э, Мшщуй! — отвечала она. — Время ли теперь думать об
этом. Боже мой милостивый! Что-то с нами будет! Эти мужики,
эта страшная чернь!
Кася взглянула на нее, и в ее голубых глазах вспыхнул огонь
рыцарской отваги, унаследованной ею от предков.
— Мы скорее сами себя убьем, чем отдадимся им в руки! —
вскричала она. — Никогда этого не будет! Отец Гедеон говорит,
что Бог сотворит чудо и спасет нас, а ведь отец Гедеон — святой
человек, и Бог не раз говорил через него!
Кася еще не окончила говорить, когда внизу показался Томко.
Слова замерли у нее на устах, потому что он взглянул на нее
таким пронизывающим взглядом, который проник до глубины ее
сердца, даже дыхание у нее замерло.
545
Здана принялась бранить его за то, что он своим внезапным
появлением испугал их обоих, а Кася встретила его улыбкой. В это
время наверху, в женской половине, послышался голос Спытковой:
— Кася! Ах ветреная девчонка! Где же она пропала?
Девушка, вырываясь из рук Зданы, улыбнулась еще раз Томку
и исчезла.
II
На женской половине все еще спали, измученные долгим
бодрствованием, когда их внезапно разбудил страшный шум диких голосов,
сливавшийся со стуком и грохотом, от которых дрожал весь дом.
Первый звук, долетевший до их слуха, был воинственный призыв к бою.
Грохот сбрасываемых бревен и камней смешивался с криками
бешенства, среди которых иногда можно было различить стон
раненого или брань рыцарей. На крыши летел град камней,
бросаемых из пращей осажденных, а стены тряслись, и все городище
гудело от топота ног и беготни кругом всего замка по мостам.
Слышно было, как целыми толпами защитники срывались с
одного места и бежали в другое, туда, ще грозила опасность. Иногда
весь этот хаос звуков покрывался голосом начальника обороны, и
тотчас же тонул в море криков. Слышался треск разбиваемых рогаток,
гул срывающихся камней и стоны тех, на кого они обрушивались.
Женщины с плачем вскакивали с постелей, набрасывали на себя
одежду и, торопливо крестясь, бежали, сами не зная куда, крича,
толкая друг друга и почти не сознавая, что они делают...
Только одна Ганна Белинова стояла посреди горницы бледная,
но спокойная; она была уже одета и с грустью и жалостью смотрела
на свое испуганное и переполошившееся стадо.
— Они уж ломятся в ворота! — с громким плачем кричала
Спыткова, наблюдавшая из чердачного окошка. — Что делать?
Боже милосердный! Что делать? Спасайтесь, кто может!
В горницу то и дело вбегали служанки.
— Уже подходят от Ольшанки! — кричала одна. — Перешли
через болото!
— Идут всей громадой к воротам! — говорила другая.
— Камни летят градом, а из-за стрел света не видно! —
докладывала третья...
— Эмо подстрелили, когда она несла воду, — вся запыхавшись,
вбежала еще одна, — с перепуга она уронила кувшин и разбила.
—- Кувшин мой! — прервала ее с жестом отчаянья Ганна
Белинова. — Мой хороший кувшин!
Ей не столько было жаль подстреленную девушку, сколько
кувшин. Не успела она докончить этих слов, как в горницу вбежала
немолодая женщина с заплаканным лицом и окровавленной рукой.
Стрелы в ране уже не было, но кровь еще сочилась из нее, а из
глаз обильно текли слезы, и от страху она не могла вымолвить ни
546
слова. Здана сейчас же принялась обмывать и перевязывать рану,
а Кася помогала ей. Поднялся плач и причитания.
Не успели еще они успокоиться после этого случая, как в дверь
постучали. Все со страха отскочили от нее.
— Отец Гедеон идет служить утреню! — раздался голос за
дверью.
Женщины совсем забыли о службе, а молитва была так нужна
теперь их душам! Все принялись торопливо одеваться, чтобы
поспеть к утрене. Даже Спыткова, не любившая рано вставать и
одеваться, набросила что-то на себя, чтобы идти вместе с другими.
Среди стен, дрожавших от разыгравшегося боя, на своем
обычном месте, под легкою крышею, на которую сыпался град камней,
отец Гедеон приносил бескровную жертву так невозмутимо
спокойно, как будто бы он находился в своем тихом монастыре в
прежнее счастливое время.
Во дворе, на открытом возвышении, отзвуки борьбы на валах
казались такими громкими и страшными, что перепуганные
женщины, едва только вышли из дома, упали на колени и, не в силах
молиться, обратили заплаканные глаза на капеллана, которого,
казалось, не волновал ни этот шум, ни грохот камней,
скатывающихся с крыш, ни стоны раненых. Старец был весь в молитве и
в Боге, душа его витала в ином мире!
Его окружали только женщины и маленькие дети. Все мальчики
постарше, — как их ни прогоняли прочь и ни удерживали, пошли
на окопы метать из пращей и стрелять из маленьких луков. Воины
не могли от них избавиться!
Среди заплаканных женских лиц выделялось спокойное лицо
старой Белиновой и полудетское еще с широко открытыми глазами
и полуоткрытым ртом лицо Каси, дышавшее почти мужским
воодушевлением. Она, казалось, готова была каждую минуту сорваться
с места, чтобы принять участие в борьбе. Нахмуренное личико ее
горело пламенным гневом и неудержимым желанием драться. Здана
несколько раз с изумлением оглянулась на нее.
— Что с тобой?
— С мной? Я хотела бы тоже сражаться! — тяжело переводя
дыхание, отвечала Кася. — Ах, я так хотела бы сражаться!
Белинова закрыла ей рот рукою.
Борьба казалась тем более страшною, что не видно было, как
она происходит, и сюда доносились только отзвуки ее.
Прислушиваясь к ним, молящиеся женщины, девушки и дети
старались угадать, с какой стороны исходили эти крики боли и
гнева и из чьей груди вырывались.
Когда, наконец, отец Гедеон повернулся и, описав в воздухе
большой крест, благословил женщин, детей и тех, которые
сражались за них, — все женщины с плачем упали на землю... Капеллан
уже удалился к себе, а они все еще не решались встать. Только
одна Кася вскочила на ноги и, вся дрожа от желания быть там,
где разгорался бой, смотрела в сторону ворот.
547
Здана схватила ее за руку и почти силой увела в горницу.
Как завидовала Кася старой Ганне Белиновой, которая, не
обращая внимания на камни и стрелы, пролетавшие над ее головой и
падавшие во дворе, пошла взглянуть собственными глазами на то, что
там делалось, и разделить опасность со своим паном и мужем.
У нее было смелое и мужественное сердце, стойко выдержавшее
потерю двух дочерей и сына. Из пятерых детей осталось только
двое, и один был в эту минуту, наверное, там, где кипел самый
жаркий бой, где была наибольшая опасность!
В нижней горнице никого не было: старые, слабые, раненые —
все потащились на валы, чтобы принести там посильную пользу.
В тот день никто не был там лишним, даже самые слабые могли
на что-нибудь пригодиться. Сюда прибегали только раненые, чтобы
перевязать рану и остановить кровь, — и тотчас возвращались на
свое место. Подстреленный Топорчик перевязывал себе рану, из
которой обильно текла кровь, торопясь бежать к своим.
Словно муравьи, копошились люди вокруг городища, стремясь
взять его приступом. Оставшиеся в долине напирали на передние
ряды. Отступление было невозможно даже при желании; огромные
бревна и камни, сбрасываемые вниз, в толпу, придавливали
напиравших, разбивали им руки и ноги, но им некуда было податься,
потому что на них напирали сзади. Живые карабкались по телам
убитых и искалеченных, образовавшим целый вал у рогаток.
Маслав, стоя в стороне, приказывал трубить в рог, чтобы
поддержать воодушевление. Осаждавшие окружили замок такою плотной
стеной, что не было места на валах, где бы не приходилось обороняться.
И даже со стороны речки по наскоро положенным жердям и
мосту двигалась толпа, напиравшая с особенным упорством, потому
что рассчитывала, что здесь встретит наименьшее сопротивление.
При небольшом количестве защитников участие простого народа
могло бы принести большую пользу, но Белина пользовался ими
только разделяя их на маленькие группы, смешивая их с рыцарями
и устанавливая над ними строгий надзор. У ворот же не было ни
одного простолюдина. Народ же шел неохотно, лениво, с угрюмым
видом, побуждаемый угрозами и едва исполняя приказания.
Выражение скрытого гнева не сходило с их лиц, и казалось, что они
каждую минуту могли взбунтоваться. Они таскали бревна,
передвигали камни, носили кипящую смолу, но за ними, как за рабами,
все время присматривали старшины.
Вехан и Репец, вертевшиеся в толпе нападающих, давали знаки
своим и громко призывали их восстать против осажденных.
Бледные лица загорались зловещим румянцем, но руки не осмеливались
бросить работу. Белина с мечом в руках не спускал с них глаз.
Всякое сопротивление грозило им смертью.
Женщины простолюдинки с грудными детьми на руках
выбегали с распущенными волосами, возбужденные шумом борьбы, к
своим мужьям и братьям и призывали их к бунту, но их, как скот,
загоняли в сараи, и оттуда доносились только крики и стоны.
548
Положение было отчаянное и ухудшалось с каждым часом. Со
стороны речки, там, где только что подсыпали валы и установили
новые рогатки, после первого же натиска была разрушена большая
часть заграждения... Образовалась брешь. Все, кто-только мог,
тотчас же бросились к этому месту и принялись заваливать его всем,
что нашлось под рукой. К счастью, удалось поправить дело с
помощью досок и кольев от разобранных строений. Братья Доливы
показывали чудеса, работая за десятерых.
Оба они, сварливые и неспокойные в обычной мирной жизни,
горячие духом, всегда готовые повздорить и поссориться, теперь
оказались дельными, неутомимыми, и несмотря на то что кровь
обильно струилась из их ран и стрелы торчали в них, как иглы у
ежей, а от камней все тело было в шишках и синяках, ни один
из них не пошел перевязывать раны.
Каждый удар врага удваивал их силы, они передвигали такие
тяжести, каких ни один из них в другое время не мог бы сдвинуть с
места, и даже не чувствовали утомления, посмеивались, довольные
собой. Глядя на них, старый Белина чувствовал себя счастливым и в
самый разгар боя обнял Мшщуя и поцеловал его в голову. Между тем
люди, напиравшие на замок со всех сторон, оказались в довольно
опасном положении. Довольно большой отряд переправлялся через
узкую часть, отделенный от остального войска быстро текущей рекой.
Вшебор, присмотревшись к ним, сбежал с валов к Белине.
— Смилуйся, отец! — сказал он. — Дай мне горсточку людей!
Много не надо, но дай сколько-нибудь! Выпустите меня через
какую-нибудь щель на эту чернь, я их потоплю в болоте!
— Где? Каким образом? — спросил Белина.
— Смотрите, какая узкая гать. Они не рассчитывают на
нападение. А если мы на них бросимся, они отступят. Ведь это не
воины и не рыцари, все они взяты от сохи и бороны. Их можно
живо разметать в разные стороны.
Белина, подняв руки, защищался и не хотел уступить.
— Ведь пойдете на гибель! Жаль мне вас!
— Вернемся невредимыми, отец; пусти, а то я не выдержу и
один брошусь на целую толпу! — воскликнул Вшебор.
Предприятие это в первую минуту всякому могло показаться
безумным. Броситься какому-нибудь десятку-двум воинов на толпу
в несколько сот людей казалось немыслимым. Но надо было
помнить, что весь этот народ, согнанный под городище, был
безоружен, одет в рубахи и сермяги и не мог противостоять вооруженным
рыцарям. Вшебор ручался и клялся, что прогонит чернь, если
только ему дадут нескольких вооруженных людей на помощь. Для
осажденных было очень важно отогнать отсюда нападающих, чтобы
обратить все внимание на другие стороны.
Но Белина долго колебался и не давал согласия. Не так-то
легко было выпустить отряд из городища.
Главный вход в городище находился с противоположной
стороны, а со стороны речки была только небольшая калитка, давно
549
уже забитая и засыпанная, так что ее трудно даже было отыскать
среди заграждений. Ее надо было теперь открыть, рискуя тем, что,
в случае неуспеха, чернь прорвется через нее в городище.
Поэтому старый Белина упорно отказывал и готов был бороться
в городище до последней крайности, но не пускаться в рискованные
и опасные предприятия. Но с Вшебором трудно было справиться,
когда он что-нибудь задумывал: он так уговаривал, упрашивал,
настаивал, что в конце концов получил разрешение.
И как только Белина кивнул головой в знак согласия, Вшебор
полетел как безумный сзывать добровольцев; на его призыв
отозвались все пылкие головы.
— Идем пробовать счастья!
Сражаться, стоя в этой тесноте, никому не было особенно
приятно, и Вшеборов план вылазки всем вскружил головы.
Нападающие, очевидно, не могли ожидать натиска с этой стороны.
Начали открывать калитку, отваливая землю и тяжести, но,
прежде чем эта работа была окончена, отряд Вшебора стоял уже
наготове.
— Здесь не надо мечей, возьмем топоры и дротики, как на
диких зверей, — крикнул предводитель.
Воины схватили топоры и дротики и, прикрытые панцирями, а
некоторые укрываясь за щитами, выбежали из ворот.
Толпа черни, напиравшая на замок с этой стороны, не ожидала
вылазки; и в первую минуту, когда открылась калитка, они
подумали, что это измена внутри замка и что ее открыл простой народ,
желавший соединиться с ними. Они немного отступили из
предосторожности... Но в ту же минуту Вшебор с товарищами врезался
в самую толпу и принялся колоть и рубить. С валов, по данному
знаку, сбросили огромные бревна, а на ближайших начали лить
кипящую смолу. Вшебор напирал на них. Растерявшаяся
перепуганная чернь в беспорядке бросилась к гатям и мосту, но навстречу
им шли новые отряды; отступавшие столкнулись с наступавшими,
и значительная часть первых, убегавшая от топоров и копий,
должна была соскочить в воду и трясину...
Вшебор и его товарищи воспользовались этой первой минутой
замешательства и стали напирать сзади еще сильнее. Необузданная
толпа всегда склонна бежать по первому примеру. И вот весь этот
муравейник вдруг обратился в бегство. Те, которые шли вперед,
повернулись и с воплями побежали назад; многие оступались,
падали в болото, сталкивались с другими бежавшими. А Вшебор
беспощадно бил, рубил топором и несся дальше. Между тем
осаждающие, отделенные водой и не видевшие за стенами
городища, что делалось с той стороны, даже не догадывались о
происходившем и потому не могли своевременно прийти на помощь своим.
Доливы отделались в этом первом столкновении только легкими
ранами и, что всего удивительнее, они не увлеклись и не забрались
слишком далеко вперед. Дойдя до половины моста, они начали
рубить его и срывать доски, а покончив с этим, вернулись в замок.
550
Отброшенная таким образом чернь уже не смела и не могла
вернуться и оставалась пока на противоположном берегу. Дерзкой
безумной выходке Вшебора городище было обязано тем, что
оборона могла сосредоточиться там, где сосредоточились главные силы
Маславова войска.
Их огромное количество только увеличивало общую суматоху,
но не приносило существенной пользы. Большая часть их, стоявшая
бездеятельно в долине, теснила своих, бросала камни из пращей,
которые часто падали на головы их же товарищей, а подойти ближе
не имела возможности. Окопы были завалены трупами и ранеными.
Бревна придавливали людей до полусмерти, но они не могли
из-под них выбраться. По телам убитых осаждавшие шли уже не
так стремительно, потому что из-за рогаток на них сыпался град
камней, а на головы их лилась кипящая смола.
Яростный бой длился до полудня. Маслав, надеявшийся
покончить с замком в каких-нибудь два-три часа, приходил в бешенство,
наблюдая упорную борьбу защитников, которая стоила им уже
стольких жизней и отнимала мужество у остальной черни. Тогда,
выбрав надежных людей из своего войска, он приказал им подойти
к главным воротам, поджечь их и начать рубить.
Но около ворот давно уж были приняты все меры для обороны.
Самое их положение облегчало защиту. Главный вход находился
в узком проходе, в котором могли поместиться в ширину всего
несколько человек.
Белина еще с утра отдал приказ облить водой доски, чтобы они
не могли легко загореться.
На верхнем мосту над воротами, защищенном навесом,
находились лучшие воины, первые смельчаки из молодежи. Навес охранял
их от града стрел и камней, и они, защищенные таким образом от
вражеских ударов, могли успешно обороняться. Тут же были свалены
груды камней и толстых бревен, да и рук было достаточно. Маслав,
подъехав сам с этой стороны, указывал своим на ворота, побуждая их
напирать отсюда; подбежало несколько десятков воинов с липовыми
щитами, обитыми кожей, которые были пригодны в поле против
мечей, но не могли защитить от камней и бревен.
Их подпустили к самому узкому месту среди валов, и они,
держа в руках смоляные факелы, успели добежать до ворот, но
тут на них сбросили заранее приготовленное бревно, перед которым
они не успели отступить. Несколько человек было убито на месте,
остальные отошли назад. Видя, что подойти ближе будет трудно,
они начали складывать кучи сухого хвороста, чтобы поджечь его
и потом подсунуть к воротам. Но пока они это выполнили,
наступила темнота. Стояли самые короткие дни поздней осени, люди
были так измучены, что с окончанием дня штурм значительно
ослабел. Кое-где еще остались кучки наиболее упорных, но и те
уже начинали редеть. Осажденные ждали, как избавления, прихода
ночи, хотя хорошо понимали, что им не удастся отдохнуть и
придется попеременно стоять на страже.
551
Первый день неимоверных усилий измучил рыцарство, и многие
из них должны были на время оставить свои места на валах, чтобы
перевязать раны и отдохнуть; день этот, правда, прошел счастливо,
но он не нанес неприятельским полчищам существенного ущерба
и только довел до бешенства. Для них не играла значительной
роли потеря нескольких десятков и даже нескольких сотен людей.
Отброшенные со стороны речки, отступив с позором, они пришли
в ярость и собирались с новым упорством возобновить штурм.
Вид трупов, лежавших на валах и под валами, пробуждал в
толпе жажду отмщения, и, унося их к себе, нападающие осыпали
своих врагов угрозами и проклятиями... По языческому обычаю,
трупы эти сжигались на кострах.
Наступавшая ночь хоть и не усмирила возбуждения толпы, но
все же принудила их сделать временную передышку.
На расстоянии выстрела из лука от валов развели огонь и
расположились так близко, что до замка долетали из их лагеря говор,
шум* песни и грубая ругань по адресу защитников.
Но в замке не сидели без дела. За целый день боя запасы
бревен, камней и стрел почти исчерпались, хотя всем раньше
казалось, что их должно было хватить надолго. В пылу сражения
люди забывали о необходимости экономии и часто бросали без
нужды или делали промахи, и врагу удавалось увернуться.
В городище оставалось уже небольшое количество бревен, досок
и камней, рассчитывали, главным образом, на деревянные строения
и камни от фундаментов. Старый Белина отдал вечером приказ
разобрать деревянные постройки. Согнали народ, и при свете
смоляных лучин, под наблюдением надсмотрщиков закипела работа.
К утру надо было заготовить груды бревен, досок, кольев и камней.
Если бы защита продлилась, пришлось бы уничтожить не только
все хозяйственные постройки, но и самый дом Белины и жить под
открытым небом.
Эта ночь прошла без сна и отдыха: надо было не спускать глаз с
внутреннего врага и надо было сторожить на валах и у ворот, чтобы
снаружи не подкрался Маслав со своими людьми. В нижней горнице
располагались на короткий отдых по несколько человек, которых
сменяли другие. Здесь перевязывали раны и кормили воинов, старшие
из них укладывались на полу, чтобы дать отдых рукам и ногам.
В некоторых местах, где напор был сильнее, пришлось
защищаться не только стрелами и камнями, но также копьями и
топорами. Когда чернь карабкалась по трупам своих и достигала уже
заграждений, иногда не успевали вовремя сбросить бревно, и тогда
приходилось сходиться грудь с грудью. Хватали друг друга за
волосы и рубились топорами. Старый Лясота не выдержал, кинулся
в самую гущу врагов и был ранен.
В этот день почти все получили раны, но они были не опасны
для жизни; у многих были синяки и шишки от камней, но особенно
болезненны были раны от каменных стрел. У осаждавших
количество раненых и сильно искалеченных было гораздо значительнее.
552
Всю ночь в обширном лагере заметно было движение и какие-то
приготовления. В палатке Маслава горел огонь, и все время в нее
входили и выходили люди.
Во мраке ночи нападающие несколько раз пытались подкрасться
к замку, но защитники были наготове и встретили врагов градом
стрел. Везде расхаживали часовые. Этот страшный день, наверное,
показался более коротким для тех, которые провели его в пылу
сражения, чем для бедных женщин, вынужденных сидеть без дела
и только тревожно прислушиваться к отголоскам боя, пугаясь
каждого более сильного шума. Услышав громкие крики, все выбегали
посмотреть, не прорвалась ли чернь в ворота и не повалила ли
рогаток. Служанки, которые должны были, несмотря на бой,
заботиться о приготовлении пищи для всех и разносить ее, постоянно
приносили тревожные вести, рисовавшие положение защитников в
самом мрачном свете, так что Кася и Здана, как самые смелые,
выбегали и сами старались разузнать правду.
Девушка, казавшаяся такой тихой и спокойной в обычное
время, теперь превратилась в героиню, так что Спыткова не верила
своим глазам и несколько раз должна была приказывать ей бросить
секиру, за которую она хваталась.
А о том, что делалось со старым Бел иной, мог бы рассказать
только тот, кто был с ним вместе. Его видели везде, где кипел
самый яростный бой. Он молча поднимался на валы и, размахивая
своим огромным мечом, который надо было держать обеими
руками, рубил на обе стороны. Из одного места он переходил в другое,
где необходимо было его присутствие, и зычным голосом
подбадривал сражающихся и побуждал их к новым усилиям.
К вечеру и он сам, и большая часть его воинов едва держались
на ногах. Как подкошенные они падали на землю, тяжело переводя
дыхание и набираясь новых сил. Теперь не было недостатка в пище
и питье, часы защитников были сочтены, для кого же было беречь
запасы?
Вся надежда была на Провидение, как говорил отец Гедеон.
Осажденные могли выдержать еще день-два такой осады, но, если
бы она продлилась, ничто не могло бы их спасти... Никто не смел
говорить об этом громко, но все сознавали это. Старшие украдкой
ходили к исповеди и готовились к смерти.
Предчувствие близкого конца и решимость бороться до конца
сплотили эту горсточку людей, усмехавшихся друг другу и не
обнаруживавших своей тревоги перед лицом смерти.
Чтобы забыть о том, чем полна была душа, говорили о самых
обыденных вещах. Семья, жены, дети, опустошенные усадьбы
предков стояли перед глазами обреченных, но мужские глаза не смели
проливать слез.
Ласково подшучивали друг над другом, показывали свои раны
и рассказывали о происшествиях этого дня. И только глаза их
выдавали тайную мысль, какою обменивались между собою
римские гладиаторы:
553
— Мы обречены на смерть!
Всю ночь двери горницы оставались открытыми; одни выходили,
другие входили, прислушиваясь, едва успевали присесть или
прилечь, как уже надо было уходить.
Большая часть воинов приходила перевязать кровавые раны и
угрюмо молчала; покончив с перевязкой, искали места на соломе,
чтобы прилечь и хоть немного отдохнуть.
— Вот, кому что назначено, тот не уйдет от судьбы, — говорил
Лясота, с улыбкой осматривая свои рубцы от старых ран. — Я
лежал как труп на поле битвы, был уже полумертв, но судьба
оживила меня и направила сюда, чтобы я мог здесь во второй раз
умереть! Вытащили меня из Гдеча, где я мог бы спокойно закрыть
глаза и не страдать больше, а то здесь я только объел Белину и
все же должен погибнуть!
Белина тяжело вздохнул.
— Что там погибать! Нам, старым, это еще ничего... А вот
молодых жаль, детей ваших, девушек, сыновей.
— Пусть лучше они не видят того, что теперь делается, —
раздался голос одного из лежавших у огня.
Это говорил шляхтич из Познанских земель, по имени Потурга.
Он не проявлял большого рвения в бою, хотя вертелся повсюду,
громко охал и вздыхал и все критиковал. Подняв голову, он
обратился к Белине:
— К чему еще защищаться? Ведь все равно дело проиграно!
Белина сердито отвечал ему:
— А что же по-вашему? Лучше в петлю влезть, чем погибнуть
от топора? Просить у них пощады?
— Что толку биться, когда мы все равно не победим их?
— Ну, так умрем в бою! — весь дрожа от гнева, крикнул
Белина. — Погибнем, потому что мы не можем иначе поступить.
Только чернь падает лицом на землю, чтобы вымолить себе жизнь!
Потурга молча качал головой.
— А если вы желаете отправиться к Маславу, то я прикажу
отворить для вас ворота или спущу вас на веревках.
В это время из темного угла раздался с пола еще другой
хриплый голос, подхвативший прерванный разговор.
— Что правда, то правда! Надо было сделать так, как раньше
советовал Долива, потому что он умно рассуждал. Надо было
прорваться из замка и схорониться в лесах.
— А потом? — грустно спросил Лясота.
На это не последовало ответа, но послышался шум чьих-то
тихих шагов, и в слабом свете догорающего пламени все увидели
темную фигуру отца Гедеона со скрещенными на груди руками, в
черной одежде и маленькой шапочке на голове. На бледном лице
его лежала печальная и жалостливая улыбка. Он молча смотрел
на догорающее пламя в очаге, но мысли его витали где-то далеко.
Молчали и все окружающие. Наконец монах, как бы отрываясь
от своих мыслей, обвел взглядом своих слушателей и проговорил
554
ласковым голосом, в котором звучала непонятная для них
веселость:
— Милые мои братья! Роптать на прошлое, в котором все равно
ничего уже нельзя изменить, или заглядывать в будущее и
огорчаться раньше времени не пристало христианам. Разумнее всех
поступает тот человек, который исполняет положенное на
сегодняшний день и не заботится о завтрашнем, предавая себя в руки
Божий. Именно так вы и поступили сегодня, и день этот был
истинно рыцарский, великий и прекрасный! Так неужели же Бог,
Который смотрит на нас с неба, не увенчает этой святой борьбы
за жен и детей полной победой!
— Эх, батюшка! — иронически смеясь, отозвался из своего
угла Потурга. — Вы шутите над нами? Если бы и сам Бог вмешался
в нашу борьбу, то и он бы нам не помог! Попали мы в западню,
и ничто нас не спасет...
Гневный румянец покрыл лицо отца Гедеона во время этой
нечестивой речи; он поднял руки кверху.
— Безбожный человек! — вскричал он с возмущением. —
Молчи, чтобы не навлечь гнева Божьего на этот дом. Разве для
Бога есть что-нибудь невозможное?
Потурга, смеясь, махнул рукою. И кроткий, простодушный
капеллан, объятый святым гневом, вдруг стал величественным и
грозным, как будто вырос у всех на глазах, и вся его фигура приняла
повелительное и пророческое выражение. Он уже не владел собой.
— А я говорю тебе, жалкий человек, что глаза твои еще увидят
спасение, и ты, не желавший верить в него, не полагавшийся на
Божие могущество, ты один не будешь спасен!
Он грозно указал на него пальцем и умолк. Все, пораженные
этими словами, обернулись в сторону Потурги. Отец Гедеон стоял
молча, и лицо его понемногу принимало прежнее выражение. Он
поправил шапочку на голове, опустил глаза вниз и, как бы
устыдившись своего мгновенного порыва, медленно вышел из горницы.
Потурга сидел с побледневшим лицом, весь дрожа от страха.
Скоро поднялся и Белина и, взглянув на него, вышел вслед за ксендзом.
Повсюду на валах горели огни, расхаживали часовые; глухой
шум долетал со стороны долины; иногда вырывались отдельные
ругательства часовых в ответ на угрозы черни.
Старик хозяин вскарабкался на укрепленное возвышение над
мостом, чтобы взглянуть, что делается в долине. В ночной темноте
обозначались красными пятнами догоравшие костры и желтыми —
только что разведенные. Почти никто не спал. Мелькали черные
тени людей; около палатки Маслава глухой шум людскою говора
сливался с шумом ближнего леса. Внизу еще виднелись неубранные
трупы, лежавшие среди бревен и камней. Часовые не позволяли
никому подходить к ним и всякую попытку встречали стрелами.
Псы с воем бегали среди трупов, вдали слышалось ржание и
фырканье коней. Всюду виднелись ряды костров, тянувшихся до самой
опушки леса, где старые смолистые сосны, подожженные снизу,
555
пылали, как огромные свечи. На черном небе не было даже
облаков, только вдали, словно зарево пожара, отражались на нем
красные клубы дыма, то разгораясь, то потухая... Белина смотрел на
все это с вершины замка своих предков и думал: «Завтра он
превратится в груду пепла, а мы, быть может, будем лежать здесь,
как вот эти трупы!»
На верхней половине ни одна из женщин не хотела ложиться
спать, боясь ночного нападения. Все сидели на земле или на лавках
вокруг огня, ни у кого не хватило духа взяться за пряжу. Пальцы
не повиновались, ладони дрожали.
Девушки, сложив праздно руки на коленях, сидели в глубокой
задумчивости. О пении забыли и думать, и только изредка шепотом
переговаривались между собою. Только неугомонная Марта Спыткова
своими жалобами и ропотом еще увеличивала печаль своих товарок.
— О, если бы я только это предчувствовала! — вздыхала
бедняга. — Если бы я только знала, что меня ожидает в этой
несчастной стране, никогда бы я не согласилась увезти себя с Руси. За
меня сватались князья и бояре, жила бы я в каменных палатах,
в полной безопасности, в Киеве златоверхом, либо в Полоцке, либо
в Новгороде, хотя этих самых новгородцев и называют повсюду
плотниками! А здесь! Здесь!
Она вздернула плечами.
— За грехи мои пришлось мне здесь жить!
— Да разве на Руси не бывает войны? — несмело спросила
Здана.
— Да уж не так, как у вас, — возразила Спыткова. — Иной
раз побьются варяги с нашими, порубятся друг с другом в поле,
а нам, женщинам, какое до этого дело. Мужчины выходят из
замков, выезжают в долины, а в замках все спокойно!
Никто не прерывал повествования Спытковой, но вдруг Здана,
которая проскользнула на темный чердак и выглянула в окошечко,
громко вскрикнула.
Все с криком вскочили с мест.
В замке поднялась какая-то странная суматоха и беготня.
Сквозь щели чердачных стен виднелось где-то близко огромное
зарево, видно было, как в воздухе летали искры.
— Пожар, пожар! — кричала Здана.
Все с криком бросились к дверям.
— Огонь! Пожар!
Шум во дворе замка все увеличивался.
Действительно, — пожар был внутри городища. Подожженные
руками злодеев, горели сараи. А так как все хозяйственные
постройки соприкасались между собой крышами и ветер раздувал
пламя, то пожар угрожал и главному строению, мостам и рогаткам,
составляющим всю защиту замка.
Чернь, притаившаяся под валами в ожидании этой минуты
общей растерянности, теперь выскочила и с громким криком
бросилась на окопы.
556
Стены сараев, сложенные из сухого хвороста, солома и сено
под ними горели, как огромный сноп. Одни бросились тушить
огонь, другие должны были защищать заграждения на валах, на
которые напирали осаждающие.
Казалось, что настал уже последний час. Оставалось только или
погибнуть в огне, или отдаться в руки дикой черни. Белина с
горстью защитников, не теряя мужества, тушил огонь, а Томко с
Доливами побежали на валы.
И снова бой закипел как в аду. Треск обрушивавшихся балок
сопровождался дикими воплями черни.
Но, как будто бы Бог, сжалившись над отчаянными стонами
несчастных, захотел прийти им на помощь, — вдруг полил
обильный дождь, затушивший пожар гораздо скорее, чем это сделали
бы люди. На валах продолжали сбрасывать последние бревна и
камни, а под конец выхватывали с пожарища горящие головни и
бросали их в толпу осаждающих.
Убедившись в том, что огонь, на который они так рассчитывали,
угас, обманутые в своих надеждах нападающие начали понемногу
отступать и прятаться от ливня. А с неба продолжал литься этот
дождь милости и чуда Божьего, как будто вызванный молитвами
отца Гедеона.
Бедные женщины не скоро оправились после этого
происшествия. Некоторые из них упали без сознания и долго пролежали, не
приходя в себя. Спыткову пришлось положить на постель и
приводить в чувство водой. Крики женщин были так ужасны, что
Белина два раза посылал к ним с угрозами и приказаниями не
отнимать мужества у защитников и быть сдержаннее.
Уже светало, когда пожар стих, и в это же время начал
затихать и дождь, и, что очень редко случается в позднюю осень, к
утру поднялся ветер, разогнал густые тучи и очистил небо. День
обещал быть ясным и солнечным.
Что это было? Предзнаменование или злая насмешка судьбы?
Над долиной стлались клубы дыма; переполненная дождевой водой
речка и болота казались одним огромным озером. Видны были
подхваченные водой и рассыпавшиеся стоги сена, заготовленного для
лошадей. Стада уходили в лес, люди бродили в воде и грязи. Блеск
восходящего солнца отражался в лужах на лугу.
— На валы! К рогаткам! — кричал старый Белина.
Все поспешили на свои места, а старик хозяин снова пошел на
мост взглянуть, что делается...
А делалось что-то такое, чего нельзя было даже понять!
Хоть и день уже настал, и солнце всходило, и во всем лагере
чувствовалось особенное оживление и движение, но оно было,
по-видимому, направлено к иной цели. На замок не обращали уже внимания.
Палатка Маслава была видна как на ладони. Здесь седлали коней,
поспешно собирались люди и что-то делали около палатки, как будто
собираясь сложить ее. Одни выбегали оттуда, другие галопом
подъезжали к ней... Трубили в рога и сзывали войско.
557
Группы людей, еще вчера бродившие в беспорядке, теперь
устанавливались и образовывали правильные отряды. Не слышно
было больше ни криков, ни угроз, — вся чернь была поглощена
какими-то спешными приготовлениями. И даже те, которые
провели всю ночь под валами городища, побросали потухшие костры
и присоединились к остальному войску в долине.
Вечером и ночью перед ливнем Собек подсмотрел и подслушал,
что на речке и через трясину собирались проложить новые гати и
мосты. Теперь же Белину известили, что работу эту бросили, а
всех людей оттуда забрали. Что могли означать эти неожиданные
сборы в долине, беспокойные передвижения и особенно это
равнодушие к осажденному замку — не знал никто. Одним хотелось
видеть в этом обещанное чудо, другие боялись нового приступа,
более подготовленного и лучше обдуманного. Эти необъяснимые
передвижения внушали защитникам еще большую тревогу.
Когда взошло солнце, палатка Маслава была уже увязана и
положена на воз. А сам он — в том самом наряде, в котором он
появился перед замком в первый день, — выехал с дружиной в
долину. Объезжая отряды своего войска, он как будто делал им
смотр и отдавал приказы.
Вчера еще шумливая и дерзкая чернь теперь казалась
молчаливою и чем-то подавленною. Около городища никого не оставили,
так что измученные защитники могли спокойно отдыхать до того
момента, когда их призовут к бою.
Этим временным затишьем воспользовался старый вождь,
приказывая сносить наверх доски и бревна, уцелевшие от пожарища,
чтобы заранее подготовиться к новой осаде.
Все вздохнули свободнее. Особенно женщины, у которых вообще
легко сменяются тревога и веселье, печаль и улыбки, —
подбодрились и оживились надеждой.
Томко нашел время навестить мать и Здану, а так как Спыт-
кова еще не оправилась после вчерашнего перепуга и лежала, то
Кася очутилась в соседней горнице наедине с Томком и его сестрой.
Его бледное лицо со следами крови от свежих ран пробудило в
девушке чувство, которое выразилось в открытом и смелом взгляде.
— Ой! — со смехом говорила Здана. — Кто бы мог поверить,
что это слабая Кася вчера несколько раз хваталась за секиру, и
ее пришлось силой удерживать.
Стыдливая Кася, смутившись тем, что тайна ее была
обнаружена, зарумянилась, отвернулась и даже глаза рукой прикрыла,
собираясь отпираться от приписываемого ей поступка, но стоявшие
тут же девушки подтвердили слова Зданы, а Томко взглянул на
нее с радостью и гордостью.
— Если Бог чудом спасет нам жизнь, — обратился Томко к
сестре, — нам будет о чем вспоминать. Что тут творилось, что мы
пережили, — трудно будет потом поверить!
— О, это правда, — говорила Здана, приходя на выручку Ка-
се, которая отвечала ему только взглядом. — Мне и теперь все
558
кажется каким-то сном! Я и сама не знаю, сплю я или грежу
наяву.
Кася качала головкой и то бросала на Томка смелый взгляд,
то опускала ресницы, то снова вызывающе смотрела на него, но,
встретив его взгляд, — тотчас же теряла самообладание.
— Очень вам больно от ран? — спросила она тихо, желая хоть
что-нибудь сказать.
— Нет, — отвечал Томко. — Что же это за раны! Больно мне
только оттого, что вам у нас так неспокойно жить, что вы даже
беретесь за секиру...
Зарумянившаяся Кася покачала головой, и длинная золотая коса
обвернулась вокруг ее руки. Она взяла эту косу и стала играть ею.
— А без вашего гостеприимства, — сказала она наконец, —
нам бы пришлось, пожалуй, умереть с голоду в лесу!
Здана, видя их лица, улыбки и взгляды, вспоминала о
неблагодарном Мшщуе. Она потихоньку спросила о нем у брата, который
глаз не спускал с Каси. И у него было такое странное чувство,
как будто чернь и не подходила еще к замку, и ничьей жизни не
грозила ни малейшая опасность, и как будто на свете была весна
и полное спокойствие. Забыл обо всем и таким блаженным себя
чувствовал...
— Ах, когда же это наконец окончится, — вздохнула Кася. —
Я не боюсь! Ведь отец Гедеон говорил, что Бог сотворит чудо!
— А для меня, хотя бы все счастливо кончилось, никогда не
будет счастья, — отозвался тихо Томко. — Как настанут лучшие
времена, вы уедете от нас далеко, а с вами...
Кася в испуге отшатнулась от него и схватила Здану за руку,
так что Томко не решился договорить.
Девушки обменялись взглядами. Добрая сестра прижала Касю
к себе и вместе с ней подошла к брату.
— Послушай, что Томко говорит тебе, — настойчиво сказала
она, — я ручаюсь за него, что он говорит правду. Я его знаю!
Остальное она договорила на ухо Касе. Та пятилась назад, как
будто не желая слушать, а сама улыбалась довольная.
— А вдруг мама подслушает да увидит нас! — живо говорила
она. — Я боюсь...
— Только бы Бог помог покончить с этим, — торопясь
высказаться, начал Томко, — если милостивая пани, ваша матушка, не
захочет меня выслушать... если мне откажут отдать вас, то, видит
Бог, хоть бы силою пришлось увезти, а будешь моя!
Выговорив это, Томко повернулся и выбежал. Кася с испугом
оглянулась вокруг, не подслушал ли кто... Но слышала только
Здана, а та поцеловала ее в лоб и молча крепко обняла.
Между тем над воротами собрались на совет все главные
защитники замка.
— Что с ними случилось? Что это значит? — говорили все. —
Чего они там собираются и строятся в отряды? Почему оставили
нас в покое? Что делается там в долине?
559
— Это все хитрости черни! — говорил подозрительный Лясо-
та. — Они хотят успокоить нас, чтобы потом напасть неожиданно
и разбить. Не верю я, чтобы они так легко отступились.
— И все свои трупы оставили, — прибавил Топорчик. — Даже
костров не развели, так и побросали их.
— Они, должно быть, считают нас за глупцов и думают, что
проведут нас, как малых детей, — сказал Белина.
— Кто знает, что надумал Маслав, — говорил Вшебор Доли-
ва. — Одно только верно, что по доброй воле они нас не оставят.
Судили да рядили, но никто не понимал того, что творилось
во вражеском лагере, и почему вчерашний штурм так внезапно
сменился сегодняшним миром... Отец Гедеон также вышел на мост
посмотреть.
— Отец Гедеон, — закричали ему со всех сторон, — ты,
наверное, скажешь нам, что это значит.
— Я не военный человек, — спокойно возразил капеллан,
окидывая взглядом долину, — одно только я знаю и вижу, что, если
Бог захочет кому-нибудь оказать милость, тому он посылает с неба
неожиданную помощь... Во время пожара — ливень, а для
усталых — отдых. Бог велик!
В то время как одни начинали успокаиваться, и надежда
вселилась в их сердца, другие были охвачены отчаяньем и тревогой.
Простой народ, вчера еще грозивший и упорствовавший,
убедившись утром в отступлении Маславовых полчищ, начал проклинать
тех, кто обманул их надежды.
Разделенные на небольшие группы, они сидели в окопах, угрюмые
и погруженные в себя. Только женщины и дети, оставшиеся во дворе,
громко плакали. Все боялись мести со стороны рыцарей, проклинали
своих и напевали потихоньку погребальные песни. И все они не могли
понять, что означало это внезапное успокоение после вчерашней
битвы, когда ослабевшее городище уже не могло бы защищаться...
Вчерашний шумный лагерь затих, и только иногда порыв ветра
доносил в замок звуки рога или неясный гул, смешанный с шумом
леса.
Но толпы черни не ушли совсем; лагерь расположился на
опушке леса и, казалось, чего-то ждал. Сначала в замке думали, что
ждут новых подкреплений, но они были вовсе не нужны для взятия
городища, потому что и так осаждающих было более чем
достаточно.
Сам Потурга, еще вчера отказывавшийся верить в чудо Божие
и в возможность для Божьего могущества спасти осажденных, стоял
в задумчивости и не знал сам, чему все это приписать. Вчерашнее
пророчество отца Гедеона пугало его, и при одном воспоминании
об этом он чувствовал холод во всем теле.
— Вот теперь, — невольно вырвалось у Белины, — как раз
бы пригодился этот хваленый Собек Спытковой.
Старый слуга, стоявший неподалеку у стены, усмехнулся и
подошел с низким поклоном.
560
— Пусть только немного стемнеет, — сказал он, — и если все
останется без перемены, то я спущусь с валов и поползу.
Но и к вечеру все оставалось по-прежнему. В долине движение
толпы черни усилилось. Во мраке из леса показался новый отряд,
встреченный приветственными криками, и присоединился к остальным.
Все, умевшие различать людей по одежде, уверяли, что это
пруссаки, — это подтверждал и Вшебор. Но другие стояли за
поморян. Отряд этот расположился отдельно.
По-видимому, на сегодняшнюю ночь городищу ничто не угрожало.
Расставив стражу на валах и у ворот, рыцари ушли в горницу
на отдых.
Собек исчез с наступлением мрака.
В этот вечер не было ни споров, ни разговоров, все улеглись,
где кто мог, довольные одной возможностью забыться сном. Только
стража менялась, и одни вставали и шли на смену, другие
приходили на отдых. В городище было так тихо, что делалось даже
страшно. Женщинам то и дело казалось, что пожар и крик снова
разбудят их, как в ту ночь.
Перед рассветом, когда старшие, которые не нуждаются в
длительном сне, проснулись, а молодежь еще спала, старый Собек
неожиданно появился в горнице и принялся разводить потухающий
огонь, потому что и ему надо было согреться.
Белина увидал его и поспешил подойти к нему.
— Это ты? — спросил он.
— Я сам, милостивый пан, как видите! Только вот весь
испачкался, ползая по земле.
— А какие вести принес?
— Да почти что никаких! — вздохнул смутившийся Собек. —
Мне удалось подкрасться под самые палатки, но я ничего не мог
разузнать. По-видимому, там ожидают какого-то неприятеля. Но
кого? Откуда? Невозможно понять. Люди Маслава ходили по всему
лагерю и всем говорили, что сюда тащится какой-то небольшой
отряд и что они его раздавят как червяка. Со вчерашнего дня поят
всех пивом, велено не бросать оружия и не ложиться, а держаться
всем вместе...
Собек был, видимо, сконфужен и огорчен тем, что ему не
удалась вылазка и что он вернулся ни с чем. Его спросили, не говорят
ли о городище.
— Они с нами совсем не считаются, — возразил старик. —
Говорят, что возьмут, когда захотят, и нисколько об этом не
беспокоятся. Им теперь важно разбить неприятеля, которого они
поджидают.
Стали строить догадки о том, кто мог быть этим неприятелем
Маслава, избегавшего борьбы с чехами. И все сходились на том,
что это, наверное, какая-нибудь часть уцелевшего польского
рыцарства.
— Если это те, с которыми мы встретились, — заметил
Вшебор, — и которых ведет старый Трепка, то мы выиграем только
561
то, что, прежде чем погибнем сами, увидим собственными глазами
их поражение и гибель.
Погрустнели рыцари при этих словах.
— Но не может быть, — прибавил, помолчав немного, Доли-
ва, — чтобы они решились идти с такими силами против всей
черни.
— А если они ничего не знают и попадут в западню, а вся
чернь бросится на них? — сказал Лясота.
Вшебор не сразу ответил.
— Оборони Боже, — промолвил он сумрачно. — Все это
храбрые воины, знатнейшее рыцарство, но не может же один идти
против ста или даже двухсот, — это возможно только в сказке.
Как бы они ни были храбры и хорошо вооружены, но, свалив
десятерых, каждый из них в конце свалится и сам.
— А разве Трепка собирался ехать именно в эту сторону? —
спросили Вшебора.
— Да и не думал даже! Напротив, когда я просил его об этом,
он отказал мне.
— А кроме них, кто же это может быть? — спросил Лясота. —
Мы о других не слышали и не знаем.
— Да ведь и о Трепке мы не имели никаких известий, —
возразил Долива, — а он вот нашелся. Почему же и другим не
прийти сюда? Только трудно допустить, чтобы кто-нибудь шел,
ничего не зная о Маславе, или, зная о нем, вздумал бы поме-
ряться с ним силами. Посчитайте-ка, сколько этого народа
пришло сюда?
— Да ведь это чернь! — сказал Белина.
— А среди черни есть и вооруженные и обученные Масла-
вом, — говорил Долива. — Сама по себе эта шушера ничего не
значит, но, соединившись с воинами, она будет страшна!
Так печально совещались между собой рыцари. Собек отошел
от них с опущенной головой, бормоча что-то про себя, очень
недовольный самим собою. Радость и успокоение, овладевшие всеми
сердцами утром, теперь сменялись опасениями. Мукам осажденных
не предвиделось конца, никто уже не смел надеяться на
освобождение. Тяжесть придавила сердца. Друг перед другом старались не
обнаруживать своих чувств, но взгляды их говорили ясно о потере
всякой надежды на спасение. Долго ли придется им еще мучиться
ожиданием и неизвестностью?
Между тем в долину спускался тихий, спокойный морозный
вечер, небо заискрилось веселыми звездами, а вдали загорелись
костры, от которых поднимались над лесами целые столбы дыма.
Лагерь гудел, как пчелиный улей, в ясном воздухе слышалось
ржание коней и звуки рога.
Все более темнело небо, все ярче сверкали звезды, — настала
еще ночь без сна и отдыха.
562
Ill
Под утро часовые на валах зорко всматривались в долину —
не двинутся ли полчища на городище; но они стояли по-прежнему
на том же месте, что и вчера, и ждали приказаний. Всадники
отвели коней от стогов и держали их около себя, несколько
посланных поскакало в разные стороны. Наступил ясный и морозный
день, покрывший инеем деревья и траву. По мере того как солнце
поднималось кверху, белая пелена инея таяла и исчезала.
В замке все были полны тревожным ожиданием, только отец
Гедеон в обычное время совершил богослужение, а по окончании
его встал на колени перед алтарем и долго молился.
Он еще стоял на коленях, когда до слуха его долетели крики
с валов и мостов городища.
Вдали заметили выдвинувшееся из леса, широко раскинувшееся
войско, которое шло навстречу полчищам Маслава.
Но можно ли было назвать его войском?
Это был скорее сильный отряд вооруженных рыцарей, в которых
защитники сразу узнали своих.
По численности он не мог сравниться с теми, которых привел
с собою Маслав, но все это рыцарство имело совсем иной, более
блестящий и как будто чужеземный облик и шло оно в
торжественном молчании и спокойствии.
У Маслава было не более двух сотен вооруженных и обученных
воинов, все же остальные — простой народ в сермягах, с палками
и обухами, без всяких доспехов, которые могли бы их защитить
от ударов копий и мечей; войско это могло быть страшно только
своей многочисленностью.
Отряд же, показавшийся из леса, весь состоял из людей,
вооруженных с ног до головы, причем почти все они были на конях.
Лясота и Белина узнали на одном крыле по доспехам и пикам
с маленькими треугольными знаменами, по шапкам с кованым
верхом, над которыми развевались султаны, какое-то немецкое войско.
В центре отряда несколько всадников, в блестящих панцирях,
со щитами в руках, в рыцарских поясах, окружали и заслоняли
собою кого-то, в ком легко можно было отгадать вождя отряда.
Здесь развевалось новое знамя с каким-то раскрашенным
гербом. На древке знамени блестел золотой крест.
Оба старые рыцаря не могли удержаться от слез при
воспоминании о временах Болеслава Великого, когда насчитывались тысячи
таких рыцарей. А теперь от них уцелела только небольшая горсточка.
Когда войско это, выйдя из леса, стало устанавливаться
широким полукругом, как бы готовясь к бою, — зашевелились и Мас-
лавовы полки. Раздались звуки рога, а самозваный князь стал
объезжать отдельные группы своего войска, обозначая места, где
они должны были стоять.
Желая поразить неприятеля численностью, он рассыпал своих
людей на огромном пространстве; все громче и яростнее звучали
563
рога, и толпы черни колебались, как рожь в поле под напором
ветра. Но все стояли неподвижно на месте.
Железная стена против них тоже молчала и не двигалась.
Из леса выходили и примыкали к ней все новые шеренги и так
же безмолвно, как первые, выстраивались позади. Здесь не слышно
было звуков рога, люди стояли, как бронзовые статуи.
А со стороны Маслава поднялся шум и крики, замелькали в
воздухе палки, угрожая неприятелю и вызывая его на бой.
И вот, наконец, дрогнули ряды рыцарей, опустились пики,
заколебались султаны, зашелестело знамя, зазвенели доспехи, и весь
отряд ринулся как один человек сначала рысью, потом вскачь в
самую гущу полков, которые вел в бой сам Маслав.
Толпы черни тоже двинулись им навстречу, но несмело и
неохотно.
Между тем закованные в броню рыцари, рысью спустившись с
пригорка, врезались в толпу, которая, не выдержав первого же
натиска, отступила и разбежалась в разные стороны.
Однако растерянность продолжалась недолго. Маслав со своей
дружиной в свою очередь бросился на врага. Все смешалось,
сплелось вместе, и началась сеча.
Маслав сражался мужественно, напирая, с высоко поднятым
мечом, на ту группу, которая окружала, по-видимому, вождя этого
отряда.
Три раза бросался Маслав и отступал под ударами мечей...
Первые ряды его воинов уже пали, сраженные мечами и пиками
рыцарей, но другие упорно шли в бой, хотя и здесь уже видны были
бреши и чувствовалось, что и эти не выйдут живыми.
В то время как около обоих вождей шел настоящий бой, на
флангах небольшие отряды вооруженных рыцарей, врезавшись в
пеших воинов Маслава, разметали их ряды и гнали в лес,
продолжая работать мечами и пиками.
Здесь царило такое замешательство, что никто уже и не думал
о защите: толпа черни, только для виду увеличивавшая войско
Маслава, спасалась бегством в леса, предоставляя своего вождя с
его немногочисленной дружиной собственной судьбе.
Но молодые, едва обученные воины Маслава не могли
сравняться с привыкшими к боям и шедшими в сражение как на
веселую охоту польскими и немецкими рыцарями. Они не
отставали от своего вождя и бились храбро, но вдруг неожиданно
поворачивали, отступали, потом возвращались с отчаянием, и
было очевидно, что холодное мужество железных людей брало
верх.
Когда толпа черни с криками бросилась к лесу и исчезла в
нем, а два главные отряда еще продолжали упорную битву, в
городище Вшебор, Топорчик, Канева и еще несколько молодых и
пылких рыцарей, не спрашивая разрешения у старого Белины,
покинули свои посты.
Невозможно было удержать их.
564
— На коней! — крикнул Вшебор. — Мы нападем на них с
другой стороны, — на коней, на помощь нашим!
— На коней! — пронесся призыв по всему городищу.
Все, кто только мог, бросились в конюшни седлать коней, о
доспехах нечего было заботиться, потому что с самого утра все
были готовы к бою.
С конями справились быстро, не было времени особенно
украшать их, — перебросили кусок сукна вместо седла да
взнуздали...
Белина молча смотрел на эти приготовления и своим молчанием
как будто давал разрешение — разве мог он запрещать, когда
сердце его стремилось навстречу к своим. К охотникам примкнул
и сын его Томко. Открыли ворота, и старику едва удалось
уговорить небольшую горсточку воинов остаться в замке, чтобы не
оставлять его совсем без защитников.
Отряд Маслава, боровшийся с польскими рыцарями, был
обращен тылом к городищу и, вероятно, не ждал вылазки оттуда. И
только тогда, когда за их спинами послышался конский топот и
воинственные крики, часть его обернулась навстречу мчавшимся
всадникам. Маслав, окруженный железным кольцом, не покинул
поля битвы и продолжал отчаянно защищаться.
С окровавленным мечом, с пылающим лицом, он метался от
одной группы своих воинов к другой, оказывая помощь там, где
силы начинали слабеть.
Вшебор, добиравшийся до него, чтобы сразиться с ним лично,
никак не мог его настичь. Их разделял ряд Маславовых воинов,
заслонявший своего вождя.
— Ах ты, рыжий пес! — кричал во все горло Долива,
подскакивая с пикой к Маславу. — Иди сюда, рыжая собака, иди, не
трусь, померяемся с тобой силами!
— А ты, змея, — возразил Маслав, заметив его, — я еще
должен поблагодарить тебя за службу! Иди сюда, смердящая лиса,
что умеет подкрадываться к курятнику! Иди, иди! Посмотрим,
сумеешь ли ты так биться, как умеешь ползать!
— А ты, пастуший сын, — отвечал Долива, — где же ты
оставил свое стадо?
— Постой, паршивец, вот я тебе дам пастушьим бичом! —
верещал, наскакивая на него, Маслав.
Так они ругались и срамили друг друга, стремясь сойтись в
боевой схватке, но каждый раз, когда Маслав приближался к Вше-
бору, на него напирали сзади, и он должен был обороняться оттуда.
А Долива все время вызывал его:
— Ну, что же ты, улитка, чего копаешься! Я тебя!..
Наконец, выбравшись из сечи, Маслав стал лицом к лицу с
Доливой, но вместо пики у него оставался только обломок ее,
который он, размахнувшись, бросил в Вшебора, но только оцарапал
ему плечо. В свою очередь Вшебор бросил в него дротиком и
поранил коня в шею.
565
Они были так близко друг от друга, что теперь уж исход битвы
зависел от мечей. У Маслава был огромный двухсторонний широкий
саксонский меч, который он, держа его обеими руками, направлял на
Вшебора с намерением перерубить ему шею. В ту же минуту Вшебор,
замахнувшись своим мечом, отбил удар, меч заколебался, но не
выпал из рук Маслава. Мазур с проклятиями снова подхватил его и,
понукая коня, приготовился ударить Вшебора.
Но именно в эту минуту Вшебор, более ловкий и быстрый,
ударил его в бок своей пикой. Удар Маслава был этим ослаблен,
но все же пришелся по шее Вшебора, и из нее брызнула кровь.
Они продолжали бы свое единоборство, потому что Долива не
чувствовал потери крови, но дружина Маслава, защищавшая его
сзади, рассеялась под натиском поляков и немцев; он обернулся,
услышав их крики, и заметив, что с ним осталась всего небольшая
горсточка людей, испугался и пустился в бегство с такою
быстротою, что Вшебор не успел даже пуститься за ним в погоню. Под
ногами коня лежали трупы и раненые, что еще более затрудняло
погоню. Долива наудачу бросил ему вслед копьем.
Ужасны были замешательство и последняя, почти безумная,
борьба черни; даже железное рыцарство изменило своему
хладнокровию и добивало без пощады всех, упиваясь кровью...
В долине видны были только отдельные группы пеших и конных
воинов, торопливо уходивших от погони.
В последних отчаянных схватках погибали воины Маслава.
Некоторые раненые падали с коней, другие цеплялись за их
шею, третьи шли пешком, истекая кровью, то и дело припадая к
земле, снова с усилием поднимаясь и проходя несколько шагов,
пока не падали в последний раз лицом в землю.
Маслав со своей дружиной пробивался сквозь ряды рыцарей и
громким, полным отчаяния и гнева голосом сзывал беглецов,
приказывая трубить в рога и собираться вместе. Ему удалось сплотить
вокруг себя уцелевших, и он еще раз ударил с ними на рыцарей, число
которых было так невелико, что мазур не боялся сразиться с ними.
Но это последнее усилие продолжалось недолго: из городища
выехал свежий отряд воинов, который так стремительно напал на
Мазуров, что вся их толпа рассеялась и разбежалась... Видно было,
как сам Маслав повернул коня и пустился в лес, а его примеру
последовали и все его соратники.
Отъехав на некоторое расстояние, князь остановился на
пригорке и поднял окровавленный меч.
— Ни одна душа ваша не уцелеет! — кричал он. — Залью вас,
засыплю, не пощажу никого! Еще я вернусь к вам, вы меня увидите!
Будете висеть на одном суку вместе с вашими немцами и псами!
Весь пылая яростью, осыпая врага проклятиями, — он только
тогда повернулся и поехал прочь, когда к нему бросилось несколько
рыцарей. Вместе с уцелевшими воинами он скрылся в лесу.
Победа осталась на стороне рыцарства, которое, подняв руки
кверху, громко восклицало: «Осанна!»
566
Только теперь Вшебор мог подъехать поближе и присмотреться
к тем мужественным рыцарям, которые, несмотря на свою
малочисленность, не побоялись напасть на Маслава...
Большая часть воинов сошла с раненых коней и прилегла на
землю, некоторые же снимали шлемы и прятали в ножны
окровавленные мечи... Лица их горели воинственным жаром и радостью
победы.
Не успел еще Вшебор поравняться с ними, как воины, стоявшие
в центре группы, расступились, и глазам его представился
королевич, а теперь король Казимир.
Его окружали поляки и немцы, поздравляя с победой, которая
являлась добрым предзнаменованием.
Но, опустив глаза в землю, как будто задумавшись или творя
тихую молитву, Казимир стоял не обнаруживая особенной радости.
Его юное, прекрасное лицо носило уже следы испытаний и
разочарований в жизни и в людях, преждевременных огорчений и
замкнутой монастырской жизни, — и было лишено выражения
юной веселости и непринужденности. Он казался преждевременно
созревшим и как бы состарившимся. Но во всей его фигуре
выражалось королевское величие, смягченное христианским смирением
и соединенное со спокойствием духа и мужеством.
Высокий, статный, гибкий и сильный Казимир отличался
матово-бледным цветом лица, при черных выразительных глазах,
оттененных длинными ресницами; темные волосы густыми локонами
падали ему на плечи.
Это был истинный рыцарь, но в рыцаре виден был в то же
время вождь и король; и теперь этот человек, облеченный такой
великой властью, печально стоял на месте своего первого сражения
после первой своей победы.
Среди своих немецких воинов и своей верной польской дружины
он, младший из них, выглядел истинным паном и королем, хотя
меньше всего желал это обнаружить.
И наряд его при всем своем великолепии отличался скромностью.
На нем был короткий кафтан, на панцире его были нашиты
большие металлические бляхи, блестевшие на его груди; к
рыцарскому поясу, украшенному драгоценными камнями, был подвешен
двусторонний меч, а рядом на цепочке висел другой, небольшой,
с украшениями и золотой рукояткой. Такие же металлические
бляхи были и на ногах, а на левой ноге виднелась длинная и
остроконечная шпора.
Юноша оруженосец, стоявший за ним, держал прекрасный щит,
блестевший золотом. По краям его были вделаны золотые гвозди
на пурпурном фоне. Другой оруженосец держал огромный
обоюдоострый меч — знак королевской власти.
Казимир снял с головы золоченый шлем без перьев с
опущенным забралом, закрывавшим верхнюю часть лица, — и черные
локоны, рассыпавшись по плечам, загорелись золотым отливом под
лучами солнца.
567
На шее у молодого короля виднелся на золотой цепочке крестик
с реликвиями, которым благословил его при отъезде из Кельна его
дядя.
Взгляд Казимира блуждал по полю, усеянному трупами.
Вид этот, быть может, был приятен для рыцарского самолюбия,
но в человеческом сердце он пробуждал печаль. По всей долине,
до самой опушки леса, лежали кучами и в одиночку уже застывшие
тела убитых, израненные, растерзанные, с торчавшими в них
стрелами и копьями. Там и сям среди них поднимались головы
умирающих, делавших последние усилия, чтобы сдвинуться с места,
и бессильно падавших на землю. Среди людских тел лежали и
конские трупы, бродили искалеченные лошади, а уцелевшие с
чисто животным равнодушием паслись тут же, обрывая примерзшие
и засохшие стебельки.
Из всех громадных полчищ людей остались только те, которые
не были убиты во время бегства. Пруссаки раньше других, после
первого же неудачного столкновения с железным рыцарством,
отступили поспешно к лесу и больше не вернулись. Многие из них
утонули в разлившейся реке, другие попали в трясину и, не сумев
выбраться из нее, погибли, изрубленные мечами рыцарей.
Но и в войске Казимира почти все были избиты и окровавлены,
но остались живы, потому что их защищали панцири и щиты.
Теперь они сошли с коней и воткнули в землю поломанные пики,
а тяжелые шлемы поснимали с голов.
Вшебор, заметив того, кому он был товарищем в детстве и в
более позднее время придворным и слугою, с радостью поспешил
к нему. Лицо его светилось счастьем и невыразимой радостью.
Для него появление короля было признаком близости победы.
По-видимому, и Казимир еще издали узнал его. Подбежав к
нему, Вшебор припал к ногам короля, сидевшего на коне, и
радостно воскликнул:
— Ты ли это, милостивый государь! Какой счастливый день!
От волнения он не мог больше говорить.
В это время подбежали и другие: Мшщуй, Канева и, наконец,
особенно любимый королем Топорчик. Все они с восторженными
восклицаниями, с радостными лицами обступили короля.
— Привет тебе, привет тебе, наш дорогой государь!
Казимир, видя эту радость, весь зарумянился, слезы волнения
выступили у него на глазах, и, широко раскрывая объятья, он
произнес:
— Привет вам, дети мои! Дай Бог, чтобы этот день послужил
добрым предзнаменованием для нас и для всего королевства. Аминь.
— Ты с нами, дорогой государь! — в восторге кричал Топорчик.
— Ты с нами, и счастье будет с нами. Нам тебя недоставало.
— Все разваливалось без государя и без головы! Теперь все
изменилось, вернутся лучшие дни!
— Дай Боже! Но это будет не скоро, мы сами должны их
вернуть! — серьезно проговорил Казимир. — Все в Божьей власти.
568
Крики и шум не смолкали, и, казалось, радость была всеобщая,
но тот, кто всмотрелся бы внимательнее в лица людей, окружавших
Казимира, и заглянул в их сердца, заметил бы там тревогу,
беспокойство и неуверенность.
Изгнание короля лежало на совести у многих из тех, что его
окружали; они боялись мести своих врагов и самого короля,
вспоминали свои грехи и не верили, чтобы король мог забыть о них.
В самом лагере Казимира, в замке Белины много было таких,
которым голос народный ставил в вину, что они попались на удочку
Маславовых козней. Те держались в стороне, смотрели недоверчиво
и боялись будущего.
Так радость одних смешалась с опасениями других и завистью
к тем, которые остались верны Казимиру и теперь могли ждать
награды.
В лагере его и теперь чувствовалось то же тайное раздвоение,
которое было причиной изгнания сына Рыксы.
В минуты радости на поле битвы, после одержанной победы,
все эти споры и разногласия были забыты, но завтра они снова
могли возродиться.
Между тем те, что остались в Олыповском городище и были
свидетелями победы, испытывали глубокое успокоение. Они еще
не знали, кто был этот Богом посланный спаситель, но видели,
что свершилось чудо, предсказанное капелланом.
Настежь раскрылись ворота... Белина со старшими рыцарями,
только теперь узнав о прибытии Казимира, хотел тотчас же
спешить к нему и припасть к его ногам.
Все собирались идти вместе с ним с поклоном и благодарностью,
когда Потурга, очень беспокоясь, как бы на нем не исполнилось
пророчество отца Гедеона, побежал к нему, чтобы умолить его
отвести от него грозящую ему судьбу.
Отец Гедеон как раз готовился идти вместе с Белиной к королю,
когда Потурга, испуганный, бледный, упал ему в ноги и, обнимая
их, говорил:
— Отец мой! Смилуйся, ради Бога! Я виновен, я согрешил, но
не карай меня! Вот я каюсь и исповедуюсь перед вами, умоляя о
прощении. Сжальтесь надо мной!
— Чего вы хотите от меня? Я не понимаю вас! — мягко
выговорил он.
— Но как же, отец мой? Ведь вы мне предсказали, что я дождусь
чуда, но не испытаю его на себе, потому что не верил в него.
Отец Гедеон стоял в задумчивости. Он уже не помнил всех
слов, сказанных им в гневе и досаде.
— Это я говорил? Я? — спрашивал он, обводя взглядом
присутствовавших.
— Да, отец мой, вы это сказали! — отозвался, склоняя голову,
Белина. — Вы сказали так!
— Не знаю, не знаю! Может быть, какой-нибудь дух говорил
через меня! — опустив глаза, отвечал отец Гедеон. — Я не помню.
569
Пусть Бог простит тебе твой грех. Идите с миром. Я же могу
молиться и буду молиться. Я — человек. Только Бог властен
простить нашу судьбу.
Потурга обнял ксендза за ноги, но не был доволен ответом.
Он не выпускал его, плакал, умолял, и окружавшие напрасно
старались успокоить его.
Все это происходило как раз около открытых настежь ворот,
над которыми на укрепленном возвышении лежала груда камней,
приготовленных для защиты. Белина делал знаки своим, напоминая
им, что пора двинуться в путь навстречу королю, как вдруг наверху
раздался треск: треснула доска, и огромный камень с шумом
обрушился вниз; все отскочили в разные стороны, и только Потурга,
который не успел встать с колен, был раздавлен на месте.
Все были так поражены неожиданностью происшедшего, что не
сразу пришли в себя, только отец Гедеон, опустившись на колени
подле убитого, поднял его голову, уже покрывшуюся мертвенной
бледностью.
Тихо зашептали молитвы. Был ли это случай или перст Божий?
Этого не мог объяснить и сам капеллан, забывший о грозном
пророчестве, вырвавшемся у него в припадке гнева. Со слезами
склонился он над убитым. Труп его тотчас же распорядились
унести прочь, чтобы вид его не испортил радостных минут встречи
короля.
Белина с сыном, Лясотой и оставшимися в городище магнатами,
все в богатых нарядах, двинулся навстречу государю. У всех были
веселые лица, влажные от слез радости глаза, — все сердца ликовали.
Казимир уже сошел с коня и собирался расположиться лагерем
под городищем, не желая обременять заботами обитателей замка,
и так уже истощенных и измученных длительной осадой. Он уже
знал, сколько они там вытерпели, и хотел дать им теперь отдых.
Когда Белина явился к нему с поклоном и просьбой пожаловать к
нему в замок, Казимир обещал посетить его в другое время, теперь
же он хотел быть вместе со всеми своими товарищами по оружию
и делить с ними все трудности и неудобства походной жизни.
Немцы и поляки уже устанавливали палатки на том самом месте,
где перед тем стоял Маслав со своими людьми.
Рыцари не имели времени на отдых; все хорошо понимали, что
Маслав, побежденный в одной битве, не так-то легко покорится
своей судьбе. Он еще располагал большими силами, да и союзники
его могли дать ему много людей; при этом он знал, что Казимир
был еще слаб и не имел опоры в своем королевстве. Это было
только начало битвы, и до окончания ее, возвращения королевства,
водворения порядка, усмирения бунта и разгрома язычества, было
еще очень далеко. Те, кто знал Маслава еще в бытность его при
дворе, были уверены, что самый характер этого вождя черни
указывает на возможность долгой и кровавой борьбы.
Возвращение Казимира было гораздо опаснее для самозваного
князя, чем те силы, которые действовали против него. Теперь все,
570
которые раньше, обманутые Маславом, выступали против Казимира
и содействовали его изгнанию, должны были сгруппироваться около
короля. Уже одно появление этого смелого юноши, внука
Болеслава, вернувшегося с небольшим войском в опустошенную и
разоренную страну, возбуждало радость, бодрость и мужество.
По пути, из опустевших селений, выходили откуда-то, словно
по волшебству, уцелевшие толпы людей — бледные мужчины,
ободранные женщины, исхудавшие дети — и, протягивая к нему
руки, называли его своим спасителем.
И по прошествии многих веков, со страниц хроник того времени
до нас долетают эти возгласы, которыми вся страна единогласно
приветствовала молодого короля:
— Привет тебе, привет, дорогой наш государь!
Но все эти добрые признаки приближающихся лучших дней не
могли заставить Казимира забыть его главную заботу:
освобождение страны от насилия и разбоев врага, который по численности
в десять раз превосходил горсточку верных слуг короля,
присоединившихся к нему.
Простой народ, испугавшийся мести, готовился к отчаянной
обороне. Маслав, боявшийся показаться, также должен был сражаться
для спасения своей жизни, потому что для него не было прощения.
Казимир стоял за крест и христианство, — Маслав боролся во имя
умирающего язычества, которое упорно отстаивал народ. Готовился
страшный, смертельный бой без пощады и милосердия.
Молодой король предвидел это и потому, оглядывая поле
сражения, устланное трупами, он не мог удовлетворить себя первой
победой, так как она не являлась залогом уверенности в
будущем.
Пока устанавливали палатки, Казимир стоял, окруженный
своими верными слугами. В это время подъехали к нему Белина,
Лясота и другие послы из городища и, обнажив головы, склонились
перед ним. Потом, подняв руки кверху, они воскликнули:
— Привет тебе, милостивый пан! Привет тебе, наш спаситель!
Король, заметив среди прибывших капеллана, тотчас же
двинулся к нему навстречу и, смиренно целуя его руку, попросил
благословить его.
Растроганный старец, осеняя монарха крестным знамением,
произнес с чувством:
— Бог победы да будет с тобой!
За ним подошел к руке короля Белина, один из самых
преданных слуг королевы и ее сына.
— Я видел тебя, государь, еще ребенком, — сказал он, — и
вот ты явился передо мной как ангел-спаситель. Без тебя и я, и
все мои домашние, весь мой скарб и все наследие моих предков
стали бы добычей черни. Да благословит тебя Господь, государь!
Но напрасны были просьбы старика, чтобы король отдохнул в
уцелевшем замке. Казимир уже заранее объявил свою волю о том,
чтобы осажденные не несли заботы о прокормлении войска. И те-
571
перь он опять повторил Белине свое обещание заехать к нему в
другое, более спокойное, время.
Все теснились к Казимиру, целуя его руки и край одежды, так
были все счастливы видеть снова у себя этого государя, который
нес стране надежду на возвращение мирного времени.
Молодой король принимал все эти знаки доверия и преданности
с великим смирением и скромностью почти болезненной.
Невольно вспоминалась ему страшная ночь, когда он должен
был, как беглец и изгнанник, бежать из дома своих предков,
гонимый собственными детьми.
И немало было людей среди низко кланявшихся ему магнатов,
которым приходилось краснеть при этом воспоминании.
Заметив, что палатка его уже готова и у дверей ее стоит его
верный слуга Грегор, молодой король пошел к ней, и, прежде чем
закрылась за ним завеса, все видели, как он встал на колени,
вознося Богу благодарственную молитву.
На страже у королевской палатки стоял человек, обративший на
себя внимание всех прибывших из замка. Многим из них он улыбался,
как давно знакомым, другие сами подходили поздороваться с ним;
среди них были и пожилые люди, однако положение этого человека вовсе
не заслуживала такого почтения. Это был старый верный слуга
королевского дома. Теперь уже совсем седой, он еще помнил старые
времена при дворе Болеслава. Он был дядькой королевича, первый сажал его
на коня, натягивал ему детский лук, учил стрелять, пристегивал ему к
поясу маленький меч, приручал для него птиц. Привязался к
Казимиру, как к собственному ребенку, и уже никогда с ним не расставался.
По внешнему виду это был человек простой, невзрачной наружности,
молчаливый, неповоротливый и неловкий в обращении, но очень зорко
ко всему приглядывавшийся и обладавший благородной душой.
Когда королеву Рыксу изгнали из страны и Маслав принялся
бунтовать и настраивать магнатов против ее сына, Грегор остался
при своем гонимом и преследуемом государе. Когда же тому
пришлось бежать и из собственного дома, старый слуга пошел за ним
в изгнание, и хотя не выносил заключения в монастырских стенах,
которое казалось ему неволей, однако остался вместе с королевичем
в бенедиктинском монастыре.
Если бы Казимир принял монашество, наверное, и Грегор
попросил бы принять его в служки и надел бы черное платье только
для того, чтобы быть при нем и вместе с ним. За это Казимир
платил ему полным доверием и почти детской привязанностью.
Когда сын Рыксы был увезен из монастыря, чтобы занять
дедовский престол, обрадованный Грегор, как верный пес, последовал
за ним. Во время боя он всегда стоял подле него с мечом наготове,
чтобы отразить удар, предназначенный его питомцу; он ложился
ночью поперек входа, а днем стоял на страже у дверей.
Магнаты и рыцари, окружавшие Казимира, относились к
старику с уважением за то, что он, не играя никакой видной роли
при дворе, в действительности нес службу за всех.
572
Старик никогда не пользовался своим влиянием на короля,
молчаливо выслушивал различные просьбы, но ни в какие дела не
вмешивался и смиренно уступал свое место другим; но, если что-нибудь
казалось ему подозрительным и вредным, он умел оказывать
противодействие. Не выходя на первый план, он всегда был рядом с
Казимиром. Король его был еще беден, и он совмещал должности его
казначея, кассира и эконома, и часто бывал послом и с утра до ночи
бессменным привратником и подкоморием. Но он этим нисколько не
гордился и с почтением склонялся перед магнатами.
Люди, знавшие Грегора и раньше, теперь подходили к нему с
низким поклоном, над чем он в душе посмеивался. Это был
человек, умевший беззаветно любить и заботившийся только о том,
как бы без помехи охранять дорогое ему существо.
Когда король прошел в свою палатку и опустил за собой завесу,
прибывшие начали уже без стеснения разглядывать королевских
приближенных. Одни обнимались и целовались, другие с нахмуренным
лицом отворачивались от своих прежних врагов. Слышались возгласы
радости и приветствия, громко назывались имена рыцарей.
Вшебор встретился с Самко Дрыей, Топорчик со своим отцом,
другие — с братьями, родными и родственниками.
Велика была радость, но для некоторых пришли и печальные
вести об убитых и забранных в неволю.
Вместе с Казимиром приехали старый Трепка и все те, кого
Вшебор встретил в лесу. К ним присоединились по пути и другие
скитавшиеся без цели отряды уцелевших рыцарей, узнавших о
возвращении государя.
Опираясь на посох, с обвязанной головой, стоял тут и Спытек,
несколько оправившийся от своих ран; старику было тяжело
общество своих прежних врагов: тем, которые спасли его, — Трепке
и всем сторонникам короля, — он не мог простить своей
собственной вины.
Воевода Топор обнимал сына, которого давно уже считал
погибшим. Янко принадлежал к числу тех, которых устранили от
двора, а теперь они отправились искать короля в немецких землях
и сумели склонить его к возвращению.
Счастье было бы полным, если бы будущее представлялось
таким же безмятежными, как сегодняшний день, и не обещало
никаких неожиданностей и перемен. Общая радость нарушалась
тревожной мыслью — что-то будет завтра?
Приятелей и неприятелей с одинаковым радушием приглашал
Белина отдохнуть в городище, хотя и не мог оказать им
подобающего гостеприимства. Некоторые приняли это приглашение и
поехали за ним, другие же предпочли расположиться в палатках
около короля.
Но еще раньше, чем Белина уговорил своих гостей, Собек,
ведомый каким-то тайным предчувствием, прибежал в лагерь искать
своего старого пана, хотя и трудно было рассчитывать найти его
среди приближенных короля, перед которыми он так тяжко про-
573
винился. Но предчувствие не обмануло его: Спытек, сойдя с
повозки, стоял почти один, когда Собек подбежал к нему и бросился
ему в ноги, упрашивая поспешить к жене и дочери.
Он и сам спешил, но не столько на свидание с женой и дочерью,
сколько на отдых. Старик, суровый и жестокий со всеми, не делал
исключения и для женщин и был для них еще более тяжелым в
обращении, чем для своей мужской братии. Его дикость и
неукротимость были всем известны, хотя, по существу, он не был ни
злым, ни жестоким. Мужественный воин, он и в доме своем ввел
военный образ жизни; и не терпел малейшего беспорядка или
неповиновения его воле. Все домашние трепетали перед ним.
И редко можно было встретить в супружеском союзе два такие
неподходящие друг к другу существа, как Спытек и его жена.
Старик или бранился, или молчал и в женщинах не терпел
болтливости. Марта, напротив, любила и поболтать, и пококетничать,
хотя бы ради забавы; ей хотелось быть хозяйкой в доме и
незаметно управлять и самим мужем... Все это не удалось ей. А так
как борьба со Спытком была немыслима, то ей пришлось из страха
покориться ему и молчать.
Да и по возрасту они не подходили друг другу. Старому воину
было уже под шестьдесят, а жене его только что исполнилось тридцать.
Не имея времени на женитьбу, Спытек и не стремился к ней,
но, будучи на Руси, пленился прелестной молоденькой девочкой,
красивее которой он еще не встречал в жизни. Он легко добился
ее руки и увез ее с собою, хотя она вовсе не хотела выходить за
него, плакала и дулась. Но он на это не обращал внимания.
Должно быть, Спытку дорого стоила эта поздняя женитьба, но
он никогда не жаловался. Жену держал в строгости и под
бдительным надзором. Касю по-своему любил, но не мог ей простить, что
она не была мальчиком, потому что Бог не дал ему других детей.
Девочка скорее боялась его, чем любила; от отца она, кроме брани
и окриков, ничего другого почти и не видела.
Женщины в городище усиленно следили за ходом сражения. Их
провела Ганна Белинова, чтобы удовлетворить их любопытство.
Когда исход битвы ни в ком уже не оставлял сомнения, взрыв
радости был так же силен, как перед тем припадок отчаяния. С
громкими восклицаниями все бросились на колени.
Потом все разбежались по дворам и мостам, — наверху и внизу
везде виднелись группы женщин. В эти минуты безумной радости
никто не обращал внимания на женщин, им предоставили, а может
быть, они сами себе дали полную свободу.
И только тогда, когда наступило некоторое успокоение, старая
Белинова начала собирать свое разбежавшееся стадо и звать всех,
начиная от служанок, наверх, в женскую половину.
С самого утра пища, питье, огонь в очаге и все нужное для
жизни было забыто.
Сразу изменилось выражение лиц и даже самый звук голоса у
женщин. Верхняя половина, где еще недавно царствовала тишина,
574
теперь дрожала от смеха, пения и беготни. Забыта была вчерашняя
смертельная тревога, никто не думал и о завтрашнем дне, и даже
уважение к хозяйке не могло сдержать их. Все это женское
царство, еще недавно такое крепкое и покорное, теперь явно выходило
из-под ее власти.
Спыткова, разрумянившаяся, разгоряченная, жаждавшая
расспросов и рассказов, за неимением под рукой мужчин-слушателей
обращалась к женщинам, задерживая по очереди девушек, которые
стремились вырваться и убежать.
У нее не было ни малейшего предчувствия близости мужа.
Правда, она знала от Собка, что он жив, но тут же ей приходили
в голову печальные соображения: старый, израненный, он мог и
умереть, не выдержав неудобств лагерной жизни. И она была почти
уверена, что так оно и случилось. Собек подробно рассказал ей о
его страшных ранах и о том, что он лежал совершенно без
движения, и потому она никак не ожидала увидеть его среди
прибывшего рыцарства и особенно еще в свите Казимира, перед которым
провинился Спытек.
В городище готовились к приему гостей: женщины собирались
расспросить их обо всем подробно и надеялись встретить среди
прибывших родных, знакомых и друзей. С этой же мыслью и Марта
Спыткова усиленно занялась своим нарядом. Сначала заплела Касе
ее длинные косы и выбрала ей платье, а потом приказала ей
упрятать под белый чепец черные волосы и помочь ей одеться.
Достали уцелевшие платья, драгоценности, шейную цепочку и
золотые кольца: для девушки ожерелье, для матери перстни. Мать
выглядела немного бледной после всех пережитых ею тревог и
невзгод, но черные глаза ее по-прежнему блестели тем неугасимым
огнем, который придавал ей вид настоящей молодости.
Она уже была совершенно одета и, подперев голову белой ручкой,
выглядывала из окна вниз — не появится ли кто-нибудь,
вернувшийся с поля битвы, как вдруг услышала чей-то басистый голос, сразу
наполнивший ее тревогой, до такой степени он напомнил ей голос
Спытка, когда тот бранил ее в доброе старое время.
В страхе она вскочила с места в стала прислушиваться, не веря
собственным ушам, — испытывая скорее тревожное, чем радостное
чувство. «Неужели глаза мои не обманывают меня? Да неужели
это он?»
Она взглянула вниз, во двор, и увидела призрак мужа. Да, это
был Спытек. Спытек, которого никак нельзя было назвать
красивым и который давно перестал быть молодым, теперь явился перед
нею с окровавленным глазом и отвисшей синей губой, с обвязанной
головой, опирающийся на посох, постаревший и искалеченный.
Верный Собек поддерживал его, помогая медленно идти.
При этом виде прекрасная Марта если и не упала в обморок,
то только потому, что муж ее не выносил подобных изъявлений
нежности; она вскрикнула и, сразу проникаясь чувством
супружеского долга, сбежала сверху, громко призывая Касю.
575
Спытек остановился, узнав знакомый голос, и оглядывался
вокруг, ища жену. И вдруг он почувствовал, что она уже обнимает
его колени, — это был обычный способ тогдашних женщин
приветствовать своих мужей. Старец молча склонился и поцеловал ее
в голову. В эту минуту подбежала и Кася и тоже припала к
отцовским коленям.
На все эти проявления любви старый воин не ответил ни одним
словом; он также молча склонился к дочери и поцеловал ее в лоб
и тотчас же оглянулся, ища скамью, потому что больные ноги его
дрожали, и он еле стоял.
Марта, забыв о том, что муж не терпит излишней болтливости,
дала волю и языку, и рукам, сопровождавшим рассказ энергичными
жестами.
— Ах, господин наш, — кричала она, — если бы вы только знали,
что мы тут вытерпели! Боже милосердный! Тысячи смертей! Голод,
слезы, страх! Да всего не перечесть! Пожар, крестьянский бунт!
Спытек знакомым жестом руки, замыкавшим уста жене,
остановил ее жалобы. Он обратил к ней свой налитый кровью глаз,
приподнял повязку на голове, показал кровавое веко, под которым
остался только след другого глаза, и пробормотал:
— На всем теле нет живого места. — Он покачал головой. —
Только чудом осталась душа в теле.
Кася с плачем поцеловала руку отца. Старик с любопытством
приглядывался к разряженным женщинам, словно стараясь
отгадать, что они тут задумали без него.
— Не скоро заживут мои раны, не скоро построятся спаленные
усадьбы и костелы! Некуда нам и возвращаться! От Понца осталась
только груда развалин!
Он поднял к небу дрожащие руки и умолк.
Словоохотливая Спыткова тотчас же заговорила о том, как много
сделал для них Вшебор Долива. Вшебор по-прежнему пользовался ее
расположением. Уж наверное зоркий глаз пани Марты заметил
ухаживания Томко за Касей, но дело в том, что она терпеть не могла
Белинов, хотя и пользовалась их гостеприимством. У нее накопилось
множество обид против них. Ганна никогда не слушала с надлежащим
вниманием ее рассказы, многие ее капризы оставались без внимания,
а Томко ничуть не старался понравиться ей.
Вшебор, напротив, умел и взглядом приласкать, и слушал
внимательно, и услуживал пани Марте, не боясь обидеть других.
Теперь, когда муж ее воскрес из мертвых, она уже не рассчитывала
выйти за него замуж, но желала отблагодарить его за все, высватав
ему дочку.
Спытек нахмурился при упоминании о Доливах.
— Знаю, что он вас спас, — сухо молвил он, — да что за
диво, если молодой малый займется бабами?
Жена его залилась румянцем.
— Теперь король Казимир будет платить долги за всех нас, —
для этого мы его и привели.
576
— Молодой король! — хлопая в ладоши, прервала его Спыт-
кова. — Слава Богу, что он вернулся к нам.
— А хоть бы и молодой! — передразнил ее недовольный Спы-
тек. — Да только бабам от этого мало пользы, потому что он
наполовину монах!
И, сказав это, он умолк, словно утомленный беседой, и,
опершись на посох, задумался.
Вот он нашел жену и ребенка, но что делать дальше с ней и
дочерью, да и с самим собою, он не знал. Дома не было, — значит,
некуда было возвращаться; воевать не было силы, а оставаться
лишним бременем в доме Белинов — не очень-то было приятно
когда то могучему владыке. Из окровавленного глаза его
выкатилась слезинка.
Между тем в городище становилось все шумнее: съезжались
гости. И, желая достойно отпраздновать великое торжество победы,
Белина не пожалел откопать из земли бочку старого меду,
называемого Мешком. Служанки уже варили соленое мясо, пекли
лепешки, заменявшие хлеб, и готовили кашу.
Все приезжие собирались в большой горнице внизу, — в замок
прибыли только те, которые привезли с собой Казимира.
Тут был старый Янко Топор, седовласый воевода, опиравшийся
на руку сына Трепка, Лясота и много других.
Для многих приезд Казимира казался просто чудом.
Все знали, что он уезжал из страны глубоко опечаленный и
возмущенный, навеки отрекаясь от своих прав на престол, и что
королева Рыкса, не желая для сына такого неблагодарного
королевства, отдала его корону в императорскую сокровищницу. Ходили
слухи, что Казимир, живя в Кельне у дяди, намеревался стать
монахом, чтобы потом унаследовать его высокий духовный сан.
И в конце концов, каковы же были силы у молодого короля,
чтобы отвоевать королевство, наполовину завоеванное чехами, а
наполовину присвоенное себе дерзким Маславом?
Когда гости вошли в главную горницу внизу, все расступились
перед ними, приглашая занять места ближе к огню и уступая свои
места. Всем было любопытно послушать, что они расскажут, и раньше
чем прибывшие заговорили сами, их уже засыпали вопросами.
На первом месте сидел Янко Топор. Это был человек преклонного
возраста, но еще сильный и крепкий, с ясным веселым лицом, с
кудрявой седой бородой и с длинными белыми волосами, которые падали
локонами на плечи и составляли оригинальный контраст с румяным
лицом. Лицо это носило выражение ума и энергии, и каждый,
взглянув на него, сразу угадывал в нем рыцаря и государственного мужа;
его мужество, его ум и сердце никогда еще не возбуждали сомнения,
и никто, поверив ему, не был введен в заблуждение.
Пока Мешко слушался его советов, все шло хорошо, и Рыкса,
поступая согласно с его мнением, никогда в этом не раскаивалась.
Но завистливые люди стали нашептывать им, что Янко Топор
хотел властвовать и управлять всеми. Понемногу отстранили его от
577
двора, исключили из числа приближенных короля и перестали
прислушиваться к нему.
А он отправился в свой Тенчин и стал там жить, развлекаясь
охотой на оленей.
Только тогда, когда погнали Казимира, когда чехи разграбили
Краков, Познань и Гнезьно и Маслав святотатственной рукой
посягнул на корону, старый Янко поднялся и сказал:
— Не время сидеть у очага!
И, собрав около себя уцелевшее рыцарство, уговорил их идти
вместе с ним искать государя, наследника короны Пястов...
— Это просто чудо Божьего милосердия, — вскричал Лясота,
стоявший подле Янко, гревшегося у очага. — Как же все это
произошло? Как же вы нашли короля? И как удалось вам уговорить
королеву-мать, чтобы она отдала его?
— Да мы и не пытались этого делать, потому что знали, что
ничего из этого не выйдет, — возразил Топор. — Кто же из нас
не знает королевы? Это женщина святой жизни, но она всегда
помнит, что мать ее была дочерью императора. Живя на нашей
земле, она никогда не любила ее и всегда чувствовала себя у нас
только гостьей. И душой и сердцем она всегда была среди своих
немцев. От нас слишком еще пахло язычеством. Зная, что у нас
делается, могла ли она отдать нам в жертву сына?
— А как же можно было обойтись без нее? — спросил Белина.
— Воля и милость Бога помогли нам, — продолжал Топор. —
Я знал, что мы не обойдемся без императора и что вся надежда
на него. Ведь если чехи теперь грабили и опустошали нашу
землю, то впоследствии они могли угрожать и ему. И вот мы решили
явиться к императору Генриху. Император сначала не хотел ни
видеть нас, ни выслушать. Велел возвращаться. Вот тут-то мы
вооружились терпением. Выгнанные со двора, мы остановились за
стенами, на посмешище слуг, но не теряли надежды на милость
Божью. Генрих Черный несколько раз проезжал мимо нас, пока
ему не надоело смотреть на эту толпу упрямцев. Однажды, в
счастливую для нас минуту, когда император возвращался в свой
замок, окруженный свитой из духовных и светских лиц, мы, по
обычаю, поклонились ему. Он, заметив нас, долго не отрывал
от нас взгляда, а немного погодя, нас вызвали к нему. Прежде
чем мы решились заговорить, он сам начал речь о том, что мы
напрасно приехали к нему, так как он не может и не хочет
ничего для нас сделать... «Всемилостивейший государь, —
возразил я. — А я крепко надеялся на Бога и на вашу помощь. Для
костела — потеряна страна, в которой процветало христианство,
а империя ничего не выиграла от того, что верх взяли
изменники, которые хотят освободиться из-под ее власти. Неужели же
все эти костелы, разрушенные язычниками, разграбленные
сокровища и попранные права жителей захваченных земель не вопиют
к Богу о мщении? Если же ни римский папа, ни вы, милостивый
государь, не вступитесь за нас, то весь наш край погибнет, язы-
578
чество займет его, а Рим и империя одинаково пострадают от
этого». Я говорил горячо, со слезами в голосе. Император
призадумался. И с этой минуты все и определилось. На другой день
я узнал от самого Генриха, что он похлопочет перед папой об
участи костелов, а Казимиру, если он задумает вернуться в
Польшу, даст в помощь шестьсот вооруженных воинов. Оттуда мы уже
ехали успокоенные; нам оставалось только найти короля. При
дворе королевы Рыксы тщательно скрывали местопребывание
Казимира. Известно было только то, что он обучается наукам среди
духовных и что мать была бы рада видеть его в монашеском
одеянии. Пришлось ездить из одного монастыря в другой, стучась
в двери и просить гостеприимства, как бедные странники. Из
опасения, что от нас спрячут того, кого мы искали, мы даже не
говорили, откуда и с какою целью путешествуем, и боялись
признаться, что едем от Гнезьна... Но в монастырях, когда мы
упоминали о сыне Рыксы, все молчали, не желая или не умея ничего
сказать о нем. Печально было это наше путешествие, когда мы,
как бедные покорные сироты, искали своего короля, который
скрывался от нас.
— Но как же вы нашли его? — спросил Лясота.
— Как? Просто каким-то чудом! — вздохнув, отвечал Топор.
Мы уж было совсем потеряли надежду. Но однажды вечером,
когда мы остановились на ночь в маленьком бенедиктинском
монастыре и сидели за столом за общей трапезой, один из
странствующих монахов начал рассказывать о богобоязненном
юноше, который недавно только прибыл туда из Зальфельда и
прилежно занимался науками. А был он, как говорила молва,
знатного, чуть не королевского рода, хотя имя его держали в
строгой тайне.
Тут уж на нас снизошло как бы откровение Божие, и мы
решили, что рассказ этого монаха является для нас указанием неба.
На другой день, никому ни слова не говоря, мы пустились в путь
в указанный город и после долгих и томительных скитаний по
опасным дорогам постучались у дверей монастыря при костеле
святого Иакова.
Нас привели к настоятелю монастыря Альберту, который
спросил нас о цели путешествия, и когда мы сказали ему, что нас
привело сюда желание увидать лично святые места и поклониться
им, — приказано было принять нас в монастыре.
Когда мы въезжали во двор, некоторые из наших случайно
встретились с королевским слугою Грегором и узнали его; после этого мы
уже были вполне уверены, что найдем здесь и самого короля.
С бьющимися сердцами шли мы на трапезу в общую столовую.
Уже много лет многие из нас не видели Казимира, но все
хорошо помнили черты его юношеского лица, и когда он вошел в
черной одежде и занял назначенное ему место подле настоятеля, —
все внутри нас перевернулось. А сам королевич, хоть уж, конечно,
не ждал, что мы искали его, и, может быть, даже и лиц наших
579
не помнил, — все же, заметив нас издали, задвигался на месте,
словно что-то вспомнив. Но наше молчание успокоило его, и он
перестал обращать на нас внимание.
Когда трапеза окончилась и была произнесена благодарственная
молитва, Казимир поднялся и пошел вслед за другими. Но нами
овладело беспокойство, и нам уже трудно было оставаться в
неизвестности, мы заступили ему дорогу и пали перед ним на колени. Он
испугался и отступил, сложив руки и говоря: «Что вам нужно от меня?
Кто вы такие?»
Монахи тотчас окружили его, словно собирались защищать от
нас. Тогда, целуя край его одежды, я решился заговорить, прося
его смилостивиться и спасти нас так, как будто через меня умоляла
его вся наша страна: «Государь наш милостивый! Смилуйся над
нами! Тебя скрыли здесь от нас, но мы и сюда пришли за тобой.
Сжалься над опустошенным краем, в котором ты родился, сжалься
над разрушенными костелами, где находят себе приют дикие звери,
сжалься над рыцарством своим, осужденным на резню, над
неотомщенной кровью и слезами. Вернись к нам, умоляем тебя об
этом, вернись и царствуй над нами!»
Слезы потекли из глаз королевича, и он сказал растроганным
голосом: «С вами случилось только то, что вы заслужили своей
изменой мне и матери моей. Вы сами изгнали от себя кровь
ваших королей. Оставьте же меня мирно окончить здесь мою жизнь.
Я навсегда отказываюсь от земной короны, чтобы приобрести
взамен нее корону небесную. Хочу жить в тишине и служить только
Богу».
Но когда он отступил, как бы собираясь уходить, мы на
коленях поползли за ним и преградили ему дорогу. «Если не
нас, то хоть детей наших пожалей, спаси веру христианскую, —
вскричал я, протягивая к нему руки. — Ту веру, которую
привил нам своей кровью твой дед и прадед и которую ты должен
беречь и охранять. Ты, государь, рожден не для тишины
монастыря, а для суда и расправы над нами, для власти и для
борьбы. К тебе протягивает руки несчастная страна — спаси,
мы гибнем без тебя!» — «Спаси нас!» — закричали за мной
и все остальные, обнимая его ноги. Рыдания прерывали наши
речи, и с нами вместе плакал королевич и все бывшие с ним
монахи. Но на все наши мольбы Казимир повторял только одно:
«Я не могу идти с вами... Я исполняю приказание императора,
волю моей матери и мою собственную, принося мою жизнь в
жертву Богу». Но мы лежали у ног его — и просили
неотступно, так что он под конец смягчился и стал колебаться
в своем решении.
Потом мы проводили его до его жилища, которое находилось
рядом с монастырем, и он расспрашивал нас о Польше, о костелах
и замках и о всех наших несчастных.
Он жил здесь как духовное лицо, почти как монах, окруженный
небольшим двором, совершенно не соответствовавшим его княже-
580
скому сану, ел за общим столом со всеми монахами и
присутствовал на их общих молитвах. Казалось, он не желал ничего другого
и совершенно не стремился к власти. «Милостивый государь! —
говорили мы ему. — Мы приносим тебе не золотую, но терновую
корону, и ты должен принять ее во имя Христа, который носил
ее. Смилуйся над бедными! Чехи опустошили землю, язычество
подняло голову и повсюду взяло верх. Маслав с пруссаками ведет
с нами борьбу и берет в плен твоих рыцарей. Неужели дело, за
которое мы проливали нашу кровь, так бесславно погибнет?» —
«Если бы я отдал вам всю свою кровь, — возразил Казимир, —
то и это не принесло бы вам пользы. Моих двух рук недостаточно
для борьбы с тысячеруким врагом». И только тут я признался ему,
что, прежде чем придти сюда, мы побывали у императора и
заручились его помощью. Тогда он оживился и стал расспрашивать,
были ли мы у королевы матери, — но мы искренно отвечали ему,
что до сих пор не были у нее, зная, что наши мольбы будут
напрасны.
Поздно ночью, когда уже звонили к молитве, мы расстались
с ним, не получив от него никакого обещания. На другой день
утром мы все отправились к обедне в костел Святого Иакова
и здесь застали Казимира, распростертым на земле. По
окончании службы он сделал нам знак, чтобы мы следовали за ним
в его жилище. Мы еще не знали, что нас там ожидает. При
входе он сказал нам: «Я искал в костеле откровения воли
Божьей, и Бог повелел мне идти с вами. Пусть не говорят,
что я жалел для вас своей жизни и крови. Вот я, берите меня
с собою». Обливаясь радостными слезами, мы все пали перед
ним на колени. Нельзя описать словами нашего счастья! Тотчас
же мы начали готовиться в путь, хотя аббат Альберт и монахи
пытались оказать нам противодействие, обратившись за помощью
к епископу Нитхарту, — чтобы тот задержал Казимира и не
отпускал с нами.
И вот, вызванные в епископский замок, мы должны были
явиться к этому владыке, который из руки императора принял и
духовную и светскую власть. В одной руке он держал крест, а в другой —
меч, и так, в рыцарских доспехах, отправляет богослужение и
заседает на епископском троне, как король. Выслушав наш рассказ
о том, как унижена вера христианская, он приказал выдать нам
короля. Да и сам Казимир, раз уже согласившись ехать с нами,
был непреклонен в своем решении, и на третий день мы выехали
вместе с ним в Регенсбург к императору Генриху — напомнить
ему о данном им обещании.
Император принял нас чрезвычайно ласково и слово свое
сдержал. Он приказал достать из своей сокровищницы обе короны и
выдать их нам, а в войске отобрать шестьсот хорошо вооруженных
людей и предоставить в распоряжение нашего короля...
— Что же такое случилось с немцем, что он вдруг так
разжалобился над нами? — пробормотал Лясота.
581
— Уж наверное, он это сделал не из любви к нам, — произнес
Топор, — но из справедливого опасения, как бы Бретислав не
слишком усилился и не распространил своих владений за чешскую
границу. Из Регенсбурга король решил ехать к матери, чтобы
проститься с ней и взять у нее благословение. Напрасно старались мы
отговорить его от этого: он, как любящий и послушный сын, не
хотел идти без ее ведома и разрешения. Пришлось нам уступить
его желанию. Королеву Рыксу мы нашли в Кобленце, где она была
всецело занята постройкой великолепного костёла. Ее уже
уведомили о том, что сын выехал без ее разрешения ко двору
императора, намереваясь отправиться в Польшу. Мы застали ее сильно
разгневанной и возмущенной. Казимира, прибывшего вместе с нами
и окруженного императорской свитой, она не сразу допустила к
себе. Но он терпеливо ждал, когда она назначит ему свидание, а
вместе с ним ждали и мы. Вошли мы все вместе и видели, как
он, склонившись к ее коленям, нашел у нее материнский прием.
«Вижу, милостивый государь, — сказала она, — что уговоры тех,
которые уже раз изменили нам, имеют для вас большую цену, чем
предостережения и воля матери. Вы снова хотите вернуться в
неблагодарную и дикую страну на жертву язычникам для новой
измены и оставляете здесь спокойное пристанище и счастливую
жизнь. Что же я могу еще сказать, чтобы слово мое имело для
вас значение? Император дал свое согласие, ваша милость рвется
ехать, подвергая себя ненужным опасностям, и у меня нет силы,
чтобы задержать вас. Я повторяю вам еще раз, что все это делается
против моей воли, что я этого не хотела и не хочу. И так как
ваша милость не хочет считаться с волей матери, то и мать
распорядится своим наследным состоянием во славу Божию, а не в
пользу вашей милости. Эти люди позорно изгнали меня и
принудили вашу милость удалиться, — и мы после этого будем еще
добиваться этого жалкого королевства?» Так говорила королева, и,
конечно, если бы не то откровение Божие и.не воля императора,
Казимиру трудно было бы устоять против просьб и убеждений
матери. До последней минуты она продолжала отговаривать сына, а
из сокровищ, вывезенных из Польши, не хотела ничего дать ему,
повторяя, что предпочитает употребить их во славу Божию, нежели
отдать на разграбление язычникам. Так мы и расстались с
неумолимой королевой, и Казимир поехал с нами.
— И Господь Бог уже дал ему победу! — воскликнул Лясота.
— Около него соберется все рыцарство, ободрятся все наши
сердца, а в войске Маслава поднимется тревога... С нами Бог!
С нами Бог! — прозвучало в горнице, и, словно окрыленные
новой надеждой, все стали с мест, подняли руки кверху и
воскликнули:
— С нами Бог!
582
IV
Поблизости не было ни одного безопасного места, где бы
Казимир мог устроить свою временную столицу, и ею сделалось на
время Олыповское городище.
Внук Болеслава, еще помнивший все великолепие его двора,
вынужден был принять гостеприимство бедного шляхтича и
остановиться в его старом, плохом замке.
Его собственные поместья лежали в руинах. В опустошенных
землях все усадьбы были разграблены чехами, все города
обезлюдели или разорились. И там, где Бог дал ему первую победу,
Казимир решил отдохнуть и подождать, пока подойдет к нему второй
императорский отряд и соберутся разрозненные остатки рыцарства,
за которым повсюду разослали гонцов. Отсюда надеялись нанести
поражение Маславу, зная, что он со своими союзниками готовится
к упорному сопротивлению.
Среди лесов, на месте недавнего боя, предав земле трупы
убитых, выбрали место для стоянки и начали рыть окопы. Скоро
отовсюду стали съезжаться отдельными группами уцелевшие рыцари,
привлеченные сюда слухами о возвращении Казимира во главе
императорских отрядов.
Белина, освободив часть главного дома и прилежащих к нему
построек, разместил в городище короля и его приближенных.
Стали изыскивать способы добыть продовольствие. Все, что только
уцелело поблизости, свозили сюда; но этого было недостаточно.
Известие о первой победоносной битве каким-то чудом
передавалось из уст в уста. Весть эту несла с собою бежавшая под
натиском рыцарства чернь, скрывавшаяся по лесным хижинам, боясь
мщения за все совершенные ими злодеяния. Весть эту
распространяли сами воины Маслава.
И, услышав ее, все блуждавшие и прятавшиеся в лесах
приверженцы Казимира выходили из своих убежищ и спешили к нему
под защиту. Печален был вид этих людей, изголодавшихся,
истощенных и оборванных; они уже потеряли всякую надежду на
спасение, а теперь, обретя ее снова, спешили в упоении и радости
приветствовать спасителя.
Если бы сын Рыксы не имел в душе твердого решения —
избавить страну от невзгод и упадка, то уже один вид этих людей
наполнил бы его сердце мужеством и стойкостью.
Всякий раз, когда Казимир появлялся среди них, они с плачем
бросались ему в ноги, называя его спасителем.
Небольшой сначала лагерь все разрастался, словно из земли
вырастал. Люди прибывали со всех сторон. Устанавливали новые
палатки, строили шалаши, подъезжали возы, число зажженных
костров все увеличивалось. В лагере царило оживление; все были
заняты какой-нибудь нужной работой. Воины приезжали в
поцарапанных и изорванных доспехах, с поломанными или
затупившимися мечами и копьями. Надо было исправлять погнутые
583
шлемы, точить оружие, обделывать топоры, чинить доспехи и
одежду. Те, кто имел что-нибудь лишнее, охотно делился с
неимущими.
Но беспокойство не оставляло воинов короля. Пока одни
готовились к бою, другие шли на разведку к Висле и в Мазовецкие
земли, чтобы узнать, как обстоят дела у Маслава.
Среди королевских советников не все держались одного мнения
в вопросе о времени нападения на Маслава. Часть польского
рыцарства и все рыцари императора стояли за то, чтобы, не
дожидаясь, пока Маслав оправится и соединится со своими союзниками,
пруссаками и поморянами, напасть на него теперь же. Но Казимир,
Топор, Трепка и еще многие другие держались того мнения, что
там, где дело шло о большой битве, которая должна была решить
судьбу королевства, следовало поступать с осторожностью,
выжидать и стараться увеличивать свои силы.
Уже раньше были посланы гонцы на Русь с просьбой о помощи,
и теперь ждали оттуда ответа.
Старый Собек тоже должен был идти на разведку, хотя Спы-
тек был этим не особенно доволен. Подвижному и юркому
старику гораздо больше нравилось бродить по лесам и городам, везде
подсматривать и подслушивать, чем сидеть в четырех стенах.
Зная Плоцк и побывав в нем еще недавно, он был уверен, что
сумеет пробраться туда незамеченным в одежде нищего. И когда
он наконец получил приказ отправиться в путь и надел
приготовленные для этого путешествия лохмотья, повесил на веревке
у пояса горшочек, взял в руки посох, надел на ноги старые
лапти, а за плечи закинул мешок, он так изменился, что трудно
было узнать его.
Едва только он исчез, пробираясь в лесу известными ему одному
тропинками, как явился бежавший из плоцкого плена шляхтич
Носала, который едва выбрался из ямы. Его тотчас же провели к
королю, и он рассказал ему, что только чудом спас жизнь: его
заподозрили в укрывании где-то зарытых кладов и заставляли
указать место. Так со дня на день откладывалась его смерть, пока
ему наконец не удалось бежать из темницы.
Носала говорил, что Маслав вернулся в Плоцк, взбешенный
неудачей, и тотчас же разослал гонцов к своим прусским и
поморским союзникам, прося их о помощи, и что он собирал огромное
войско, намереваясь напасть на короля раньше, чем к нему
подоспеет помощь. Он уверял, что те отряды, которые Маслав приводил
с собой в городище, были только частью его войск. Главные полки
стояли под Плоцком, и, кроме пруссаков и поморян, поджидали
еще Мазуров из лесных областей.
Измученный неволей, напуганный всем виденным, Носала,
оглядевшись в лагере и сравнив с тем, что он оставил за собой,
советовал не рисковать с такой небольшой кучкой людей идти
против полчищ Маслава. Хотя здесь он видел и лучшее вооружение,
и больший порядок, все же ему казалось безумием это намерение
584
рыцарства — вступить в бой с грандиозными массами черни,
предводительствуемой таким упрямым, стойким, железной воли
человеком, каким был Маслав.
Самое имя Маслава рождало в нем тревогу, так что он при
одном упоминании о нем хватался за голову и испуганно озирался
кругом, словно боясь увидеть его перед собой.
Король и его советники признавали справедливость слов Носа-
лы, но молодежь вышучивала его и дразнила трусом, на что
бедняга даже не отвечал.
Более осторожная часть рыцарства выслала людей на разведку,
расставила в окрестностях сторожевые посты и днем и ночью
охраняла лагерь. Маслав мог решиться на все, даже на похищение
короля. Ввиду этого позаботились также об укреплении замка, в
котором случайно оказался король со своей свитой. Теперь в замке
было достаточно людей, поэтому черни приказано было разойтись
по домам, где они жили раньше. На рассвете вся эта толпа
бесшумно, в грозном молчании вышла из городища и укрылась в
лесах. Ее место заняли знатнейшие рыцари, окружавшие
Казимира, двор его и слуги. Разрушенные сараи были вновь отстроены,
и в них разместили коней и слуг.
День и ночь шли в замке работы, и царило оживление в лагере,
приходили и уходили посланные, собирались беглецы из разных
земель. С утра до ночи двери дома, где жил Казимир, были
открыты для них: всякий хотел видеть его, рассказать ему о себе и
пожаловаться на судьбу.
Поблизости от короля поместили тяжело раненных в битве,
которых было довольно много, но едва только раны их начали
подживать, как они уже стали возвращаться в палатки. Среди
пострадавших находился также Вшебор, которому удар Маслава
разрубил шею до самой кости. Только кусочек железа,
приделанный сзади к шлему, сделал этот удар не смертельным и сохранил
Доливе жизнь. Рана была глубокая, а так как больной не отличался
терпением, то нельзя было надеяться на скорое выздоровление.
Все пострадавшие лежали вместе внизу, в нескольких горницах
во втором дворе; утешением для них были женские голоса, которые
доходили до них сверху; но случалось, что женщины и заглядывали
к ним.
Для старого Спытка тоже не нашли сначала другого помещения,
и он лежал вместе со всеми.
Вшебор, лежа поблизости от него, рассчитывал, что к старику
каждый день будут приходить жена и дочь и что соседство это
даст ему возможность приобрести расположение Спытка.
Хоть не время было думать о таких вещах, когда опасность
висела над головами, да и тяжелая рана внушала беспокойство за
собственную жизнь, но пылкий воин каждый раз при входе женщин
приподнимал голову, чтобы полюбоваться на девушку и
перекинуться взглядом с ее матерью, как будто он был здесь просто в
гостях, в самой мирной обстановке.
585
Заискивая перед отцом, он всячески старался угодить ему, но
тут трудно было добиться какой-нибудь близости или поощрения.
Редко кому удавалось вытянуть слово из Спытка, а уж тронуть
его сердце не мог никто. Уже и в молодости он получил от людей
прозвище ежа, что же было ожидать от него теперь, после всех
испытанных им бед и несчастий, после всех ран, болезней и в том
состоянии неуверенности в будущем, которое его угнетало.
Вшебор, тоже не отличавшийся миролюбием, давно уж начал
бы грызться со стариком, но ради милой девушки он готов был
переносить все его чудачества, воркотню и даже брань.
Владыка, привыкший у себя дома к неограниченной власти над
людьми, здесь, очутившись на равном положении с другими,
целыми днями ворчал и возмущался, всеми недовольный, всех браня
и на все жалуясь. Все, что он узнавал нового, не встречало его
одобрения. То он уверял, что без нужды слишком торопились, то
ему казалось, что все ленятся. Марту и дочку свою он так
запугивал, что они уже переставали понимать, что ему нужно и как
им угодить ему. Когда они приходили к нему, он сердился, что
они без толку шатались по дворам, приказывал побольше
заниматься пряжей и их приход объяснял женским любопытством и
недостойным кокетством; а когда они некоторое время не являлись,
он упрекал их за то, что они забыли старика и предпочитали
болтать с кем-нибудь другим.
Не будь он таким ежом, ему было бы хорошо у Белинов, да и
Вшебор ради прекрасных глаз Каси исполнял бы все его причуды.
Томко, полюбивший девушку, готов был бы носить ее отца
на руках, а родители, видя это, старались расположить его к себе.
Но он был неприступно суров со всеми. Ему отвели отдельную
горницу, чтобы удалить его от Вшебора, но он не захотел
перебраться в нее, чтобы не пришлось и за это еще быть
благодарным Белине.
Еще никто не чувствовал себя хорошо с ним, да и ему никто
не был мил. Но, хоть от него и доставалось людям, его все же
уважали за его мужество и храбрость.
Вшебор и Томко, два соперника, смотрели друг на друга такими
глазами, как будто хотели съесть. Только Мшщуй, полюбив Здану
и убедившись, что и она платит ему взаимностью, несколько отстал
от брата и сблизился с Белинами.
В то время как в лагере все дышало войной и все были заняты
приготовлениями к ней, в городище, около молодого короля,
мало-помалу сплеталась та сеть заискиваний и просьб о милостях,
забот о возвышении своего рода и напоминаний о своих заслугах,
которая всегда окружает всякую власть. Те, что дали Казимиру
доказательство своей верности, требовали теперь признательности
и доверия к себе; виноватые старались вымолить прощение,
оправдываясь в своих прошлых прегрешениях. И все смотрели в глаза
новому государю, стараясь понять его. Но никто не мог этим
похвалиться.
586
Молодой король был замкнут в себе и молчаливо, неохотно
слушал разговоры о прошлом, о котором ему хотелось забыть, и,
будучи одинаково доступным для всех, ни перед кем не раскрывал
своей души. Он вел почти монашеский образ жизни и
довольствовался малым.
Перед боем с Маславом Топор и те, которые были вместе с
ним, сомневались сначала, пробудится ли в нем воинский дух. Но
они ошиблись. В первую минуту, когда начался бой, Казимир стоял
пораженный и как бы в нерешимости, что ему делать. Но когда
рыцари врубились в ряды врага, когда зазвенели доспехи,
засверкали мечи, бледное лицо короля загорелось румянцем, глаза
заблестели, и, выхватив из ножен меч Болеслава, он неудержимо
рванулся вперед. Грегор и ближайшие его советники должны были
заслонять его собственной грудью, так он мало думал об опасности.
И из этой первой битвы он вышел рыцарем, приняв в ней
крещение кровью и победой. С этой минуты он изменился до
неузнаваемости, так рыцарь и воин взяли в нем верх над монахом.
На него все смотрели с уважением, любопытством и тревогой,
потому что никто не знал его близко, даже те, что с юных лет жили
при дворе и считались его друзьями, как Топорчик, и которым
всегда был открыт доступ к нему. Несколько лет изгнания и
замкнутой жизни совершенно изменили эту молодую натуру. И
именно потому, что он был для всех такой загадкой, все старались быть
к нему ближе и понять его. Рыцарем он уже показал себя, теперь
желали видеть в нем короля.
Между тем приближенные короля тревожились за него. Хоть
император Генрих и пришел на помощь Казимиру, и вооруженный
отряд, который он предоставил в его распоряжение, был только
началом той будущей силы, которая должна была сплотиться
вокруг него, хоть немцы стойко выдержали рядом с польскими
рыцарями первую битву, но друзья молодого короля уже беспокоились
о том, как бы избавиться от императорской опеки и дружбы с
немцами. Никто не хотел видеть на польском троне вторую Рыксу
или Оду.
В интимных беседах между собой, несмотря на то что Маслав
со своими грозными союзниками стоял за Вислой, а король не имел
на собственной земле пристанища, верные ему рыцари обсуждали
его будущее, устраивали его брак, искали для него союзников и
отстраивали Краков, Познань и Гнезьно.
Топор хотел как можно скорее подыскать ему подругу жизни,
чтобы быть уверенным, что он не покинет страну, но эта подруга
должна была иметь хорошее приданое, чтобы пополнить
опустошенную казну Польши, красоту и грацию, чтобы дать Казимиру
семейное счастье, и сильного союзника в представителе своего
рода.
— Пусть бы только не была немкой, — говорили одни, — и
не какая-нибудь внучка или родственница императора, чтобы мы
опять не попали в кабалу к немцам. Мы еще помним время Оды...
587
— Но пусть не будет и чешкой, — прибавлял Лясота, которого
изранили чехи, — эти братья сидят у нас костью в горле.
Пользуясь нашим несчастьем, ограбили нас, как разбойники, без всякого
милосердия. Гнезьна, Познани и Гдечи мы им никогда не забудем.
— Пусть бы взял польскую красавицу, на что ему
королевна? — сказал другой. — Кого он посадит рядом с собой, та и будет
королевой, хоть бы родилась крестьянкой.
— Этого еще недостаточно, — заметил Топор, — нам нужно
получить приданое и союзника при помощи этого брака. Все добро
у нас растащили! При Болеславе серебра было сколько угодно, а
теперь и железа не хватает.
— Ну, тоща уж лучше всего искать ему жену на Руси, —
вымолвил Трепка. — Там богатства большие, и, если мы протянем
руку киевским князьям, они не оттолкнут нас. Оттуда бы нам и
невесту брать!
— А почему бы нет! — подхватили другие. — Если правда,
что они обещали нам помощь против Маслава, то легко будет
сговориться с ними и насчет жены. После великого князя Владимира
остались дочери и большие богатства, и слава у него большая.
Довольно уж было у нас немцев, и чехами мы по горло сыты. С
Руси Болеслав привозил много всякого добра, и красных девок там
немало найдется. Одну могут нам дать.
Так окрепла первая мысль о сватовстве, когда Казимир еще и
не думал ни о жене, ни о семье, потому что между ним и Маславом
судьба еще не сделала выбора. Весть о сватовстве на Руси дошла
и до женской половины, и когда узнала об этом Марта Спыткова,
то очень обрадовалась и возгордилась, потому что рассчитывала
быть первой при дворе королевы-русинки. Только Спытек, когда
ему об этом сказали, решительно потряс головой.
— Вы лучше меня спросите, что такое русинка, — говорил
он, — на цепи ее надо держать, а ко рту замок привесить.
Все посмеивались над ним, но воркотня старика не умаляла
славы русинок; и только Марта, которой передали его слова,
залилась горючими слезами.
Все эти разговоры и совещания оставались тайной для короля;
сам он занимался только военными делами. Ждали Собка, который
должен был или подтвердить известия, принесенные Носалой, или
обрадовать более утешительными сведениями.
Старый слуга вернулся через несколько дней. Дело было под
вечер, и король вместе с графом Гербертом, предводителем
императорского отряда, Топором и Трепкой совещался о том, когда и
каким образом идти на Маслава. Старый Грегор возвестил о
приходе Белины и Собка, так как король желал от него лично
услышать принесенные им вести.
Король помещался в главной горнице внизу, несколько
приукрашенной в честь его. Сюда снесли все лучшее, что у кого нашлось,
но убранство все же не отличалось роскошью. Только на полу
набросали звериных шкур вместо ковров, да стены закрыли мате-
588
риями, поверх которых блестело развешенное оружие, а на столе
стояло небольшое количество серебра. Но, кроме серебра, на этом
же столе лежало то, что в то время редко встречалось даже и в
королевских замках: перед креслом короля лежали на столе две
книги, обделанные в дерево и медь. Одна из книг была открыта,
и пергаментные страницы были заложены золотым крестом.
Казимир сидел в кресле, окруженный стоявшими вокруг него
магнатами, по большей части старыми, с седыми волосами и бородами,
которые составляли оригинальный контраст с его юношескими
черными локонами. Топорчик стоял за креслом короля, Грегор, со
сложенными на груди руками, присматривал одновременно за
огнем в очаге и за входной дверью. Он как будто самою судьбою
был назначен играть роль придверника, мало нашлось бы людей,
которые решились бы вступить с ним в борьбу. Его мускулистые
руки и ноги и жилистая шея свидетельствовали не только о
почтенном возрасте, но также о большой силе, окрепшей с возрастом
и в непрестанных трудах, а спокойное морщинистое лицо выражало
непоколебимую веру в эту силу.
Когда Собек в одежде нищего показался у входа в сопровождении
Белины, все молча расступились. Старый слуга упал в ноги королю.
Прежде чем он начал говорить, Топор тихо спросил у Белины:
— Что нового?
Старый хозяин с хмурым видом покачал головой. Все притихли,
и Собек, поглаживая себя, по своему обычаю, по голове, начал не
спеша, отрывочными фразами рассказывать о виденном. И он
подтверждал, что силы у Маслава были огромные, и, задавшись целью
отомстить за первое поражение, он еще набирал их везде, где
только мог. Собек видел войска, стоявшие под Плоцком и собиравшиеся
окружить со всех сторон Казимировых рыцарей, чтобы никто из
них не ушел живым. Каждый день прибывали новые подкрепления,
и было их столько, что Собек, не умея сосчитать, повторял только,
что они двигались всюду, как муравьи, и лагерь их над Вислой
был, по его словам, в пять или шесть раз больше королевского
войска.
Окружающие Казимира, опасаясь впечатления, которое мог на
него произвести рассказ Собека, старались уличить старика в
преувеличении, но старый слуга упрямо стоял на своем и повторял
только одно: что с Маславом всякая борьба была немыслима.
Король молчал, и никто не мог бы догадаться по его спокойному
лицу, как он отнесся к рассказу Собека. Он слушал, не шевелясь
на своем сиденье и держа руку на книге...
Когда же слуга, рассказав все, что узнал, удалился, Казимир
обратился к окружавшим его с такими словами:
— Неужели мы будем бояться количества вражеских войск, как
будто бы мы не верим в правоту нашего дела? Мы боремся за
крест и веру...
Топор и другие склонили головы, и только один сказал со вздохом:
— Надо бы нам поторопиться, пока чернь не двинулась на нас.
589
— И мы так бы и сделали, — сказал король, — если бы не ждали
возвращения послов, отправленных за помощью. Со дня на день мы
их ждем. А как только они вернутся с благоприятным ответом, мы не
будем медлить. Пусть меч решит наш спор во имя Божие!
Никто не возражал на это, мужество и спокойствие короля
передались всем остальным; надежда оживила сердца воинов. Те, что
сражались в долине, припомнили, какая масса людей была и тогда у
Мае лава. И что же? Все они рассеялись при первом же столкновении.
Королевские слова явились как бы пророчеством добрых вестей;
наутро прискакал высланный вперед гонец и возвестил королю,
что за ним едут послы, отправленные в Киев, а с ними и бояре
с приветом от князя и обещанием скорой помощи. Известие это
было встречено в лагере с большой радостью, которой из упрямства
не разделял только Спытек. Верный слуга его Собек в таком виде
изобразил ему могущество Маслава, что он считал всякую борьбу
с ним гибельной для короля и рыцарства.
На третий день после этого прибыли послы вместе с
княжескими боярами, старостой Торчином, Парамоном и Добрыней.
Окруженные небольшой, но богато одетой и хорошо вооруженной
свитой, они счастливо пробрались к королю, минуя отряды
Маслава, разъезжавшие по всей стране.
В городище уже заранее приготовились к встрече бояр: особенно
Грегор употреблял все усилия, чтобы как-нибудь скрыть бедность
своего короля, которая могла повредить ему в глазах будущих союзников.
Благодаря его стараниям, королевскую горницу убрали как
только могли наряднее, чтобы она не слишком проигрывала по
сравнению с киевской «гридницей», пособрали даже столовое
серебро, чтобы послы не могли упрекнуть короля, как некогда
упрекала Владимира дружина, что он заставляет их есть деревянными
ложками. В этот день и король принарядился, надел на шею
богатую цепь, а к поясу прикрепил самый красивый свой меч.
Около полудня перед воротами замка появился небольшой
конный отряд, сопровождавший киевских послов. Впереди всех ехал
староста Торчин, мужчина средних лет, с веселым лицом и живыми
карими глазами.
На послах были длинные богатые кафтаны, высокие шапки и
оружие в позолоченных ножнах; у поясов висели сумки с деньгами,
а платки у них были шелковые.
Парамон и Добрыня держались с достоинством, но и добродушно
в то же время; видно было, что они люди добрые, не очень «себе
на уме». Низко кланяясь королю, они передали ему привет от
князя Ярослава и обещали от его имени помощь, а Торчин
принялся расхваливать своих воинов, выставляя их героями и
богатырями, которые готовы были завоевать весь мир.
Король в кратких словах поблагодарил послов и приказал своим
доверенным заняться их угощением.
Для них уже был приготовлен стол, богато убранный и
заставленный всевозможными яствами, хоть ради этой пышности весь
590
лагерь был поставлен на ноги. Так как в палатках неудобно было
угощать их, то на этот день женщины уступили свои горницы, и
здесь заранее был накрыт стол. Топор, Трепка и все приближенные
короля уселись за стол вместе с гостями, которые резко выделялись
среди угрюмых и печальных лиц рыцарей своей веселостью.
Еще Торчин, старший, немного сдерживался, и Парамон не
отличался болтливостью, но зато Добрыня говорил и смеялся за всех.
Хозяева усердно угощали и упрашивали гостей, подкладывая им в
тарелки и подливая в кубки, и мало-помалу и староста Торчин, и
Парамон разговорились без стеснения. Началась такая живая
беседа, какой давно уж здесь не слыхали, а в конце концов хозяева
и гости так подружились, что принялись обниматься и целоваться.
— Вы как будто робеете, — говорил Добрыня — а по-моему,
надо весело идти на врага, тогда сам подбодряешься, а его пугаешь.
Было плохо, а теперь будет хорошо, — весело продолжал он. —
Пусть только подойдут наши молодцы, вот вы увидите! Они и гору
с места сдвинут, а соснами, как палками, размахивают; ни один
из тех людей не уйдет живым, и следа после них не останется!
— Вот вы нам теперь поможете, — сказал Трепка, — а если,
не дай Бог, придет беда и для вас, мы пойдем проливать свою
кровь за вашего князя.
Опять наполнились кубки, пили за здоровье друг друга,
обнимались и целовались, как вдруг из соседней горницы появилась
разряженная Спыткова, которая не могла выдержать, чтобы не
поздороваться со своими земляками.
При одном появлении красивой женщины лица послов
просияли, а когда она заговорила с ними по-русски, они просто
вскрикнули от радости. Спыткова стала расспрашивать их о своих, но
киевляне, по-видимому, не имели сведений о полочанах, по
крайней мере, никто из них не знал ее родных, хоть все с одинаковым
восхищением любовались прекрасными глазами русинки и охотно
поделились бы с ней хорошими вестями.
А Спыткова щебетала без умолку.
— Сам Господь Бог привел вас к нам! — говорила она,
кланяясь низко, как приличествовало женщине перед такими важными
гостями. — Говорят, что ваш князь посылает помощь нашему
князю. Да наградит его за это Господь! И еще одно должен был бы
сделать ваш князь для нашего короля, чтобы между нами было
братство навеки...
И Спыткова таинственно умолкла, загадочно улыбаясь послам.
— Ну, что же, красавица-боярыня? — спросил Добрыня. —
Либо совсем не начинать, либо уж надо докончить.
— Что? Что? — медленно выговорила Марта, окидывая
взглядом послов. — Неужели же вы, такие мудрые люди, дружина
государева, не догадываетесь, что нужно молодому королю, чтобы
он был счастлив?
Добрыня, прикрываясь ладонью и втянув голову в плечи,
принялся смеяться.
591
— Ах, хитрая красавица! — воскликнул он. — Захотелось тебе
быть государевой свахой!
Все засмеялись, и даже самый серьезный из послов, Тивун
Парамон, покраснел и хихикнул про себя.
— А почему бы нет? — отозвалась Спыткова.
— И вы удачно попали, — весело заговорил Добрыня, — нигде
нет таких красивых девушек, как у нас в Киеве, а что там болтают
злые люди, что все они ведьмы, так это сущее вранье! Ой, ой,
что за девки! Можно бы их продавать на вес золота, и то было
бы недорого, а другу можно и даром отдать — мы не таковские.
— Да и у вашего князя, наверное, есть дочки? — спросила
Спыткова.
— Покойного князя Владимира дочка — как раз вашему королю
пара, — говорил Добрыня. — Пусть будет в добрый час сказано!
Польские шляхтичи переглянулись между собой.
— А как звать вашу княжну? — спросил Трепка.
— И имя хорошее, а уж девушка — красавица собой, —
говорил Добрыня, — зовут ее Доброгневой, потому что она даже в
гневе бывает добра. Личико у нее белее снега, а щечки румянее
малинового сока. А как распустит золотые свои косы, так они у
нее по земле волочатся, а как взглянет голубыми глазами — у
людей на сердце становится веселее; улыбнется — словно
солнышко на небо взойдет. Когда красавица выходит из терема, птицы
слетаются к ней с неба, а голуби садятся к ней на плечи; когда
запоет песенку, львы ложатся у ее ног, а если вышьет золотом
или шелком полотенце — только и место ему на алтаре.
— Отдайте же ее нам в королевы, — вскричала Спыткова...
Со смехом чокнулись кубками, — а старики только головами
покачивали... И долго еще до поздней ночи, тянулась дружеская беседа.
Несколько дней спустя граф Герберт и начальники королевских
отрядов, выйдя под вечер от короля, молча шли к своим палаткам...
Там уж собиралось все рыцарство; как молния разнеслась по всей
долине весть о том, что на другой день войска должны были
выступить в поход к Висле, не дожидаясь Маслава, чтобы напасть
на него врасплох. Такова была воля короля. В назначенный день
ожидались войска из Киева, которые должны были переправиться
с той стороны в ладьях.
Едва только было принято это решение, как все городище
задвигалось и заволновалось. Ожидание было утомительно для всех,
и все желали борьбы. Не радовались только те, кто был лишен
возможности принять в ней участие.
В городище надо было оставить хоть немного войска, чтобы оно
не оказалось совершенно беззащитным. Некоторые тяжелораненые
тоже вынуждены были остаться. Белина должен был охранять свое
добро, а Спытек ни на что уже не годился.
У Вшебора только что поджила рана на шее, но горячая кровь не
давала ему покоя. Его тянуло в поход и в то же время хотелось
остаться, потому что Томко оставался в городище, чтобы помогать отцу.
592
Он мог воспользоваться этим временем и опередить его со
сватовством. Долива не знал, что делать, и, встав с лавки, долго ходил по
горнице с опущенной головой, пока ему не пришло в голову
посоветоваться с матерью девушки. Он тотчас же пошел на верхнюю
половину и попросил одну из служанок вызвать к нему Спыткову.
Марта явилась слегка испуганная. Наверху было уже темно, но
по голосу она узнала Вшебора.
— Что с вами случилось? — вскричала она. — И что вы тут
делаете? В эту пору вызывать меня на беседу, а если кто
подсмотрит, что подумают люди?
Вшебор склонился к ее коленям и поцеловал у нее руку.
— Дорогая пани, — попросил он, — посоветуйте мне, как
мать, как королева... Завтра мы идем на войну... Должен ли я
идти и оставить тут Томка, чтобы он высватал Касю? Если я ее
потеряю, опостылеет мне свет и жизнь...
— Что же делать? Вы тоже едете? — спросила Марта.
— Я должен идти ради короля и ради самого себя; рана почти
зажила, мне нельзя остаться.
Марта призадумалась немного и вдруг ударила в ладоши.
— Вы ведь в милости у короля? — сказала она. — Почему бы
не попросить его быть у вас сватом? Спытек боится его, потому
что у него есть что-то на совести против него. Если король его
попросит, он не откажет.
Услышав это, Вшебор бросился в ноги Спытковой и, прежде чем
она успела что-нибудь прибавить, бегом пустился по лестнице вниз.
Он и раньше был в приятельских отношениях со старым Гре-
гором, который знал его как верного слугу короля. Не теряя ни
минуты времени, Вшебор побежал прямо к нему. Грегор
осматривал и чистил дорожное платье короля и был очень удивлен
приходом Доливы в такое позднее время...
— Мне надо видеть нашего милостивого государя, — заговорил
Вшебор...
— Теперь поздняя ночь, а завтра мы идем в поход, теперь не
время... — сказал старик, покачав головой.
— Я должен видеть его еще сегодня! — отозвался Долива. —
Смилуйтесь надо мной. Я не задержу его, только брошусь к его
ногам и скажу два слова...
Ни слова не отвечая, Грегор сделал ему знак, чтобы подождал,
а сам вошел в горницу. Немного спустя двери открылись, и верный
привратник пригласил Вшебора войти.
Король был один; он стоял около догорающего очага и
повернулся от него лицом к входящему.
Долива, который никогда не умел ни сдержаться, ни
промолчать, ни выждать, тотчас же упал к его ногам и, обнажив свою
рану, вскричал:
— Милостивый государь, я сражался за тебя и буду сражаться
до смерти, но будь же моим благодетелем и окажи мне милость.
Король знаком заставил его подняться с колен.
593
— Говори, что ты хочешь от меня! — ласково сказал он.
Вшебор встал, но долго не мог начать говорить от душившего
его волнения.
—• Стыдно мне в такую минуту просить о милости, — сказал
он наконец, — и особенно тебя, милостивый государь, у которого
совсем другое на уме; но прости моей молодости.
И он снова склонился перед королем.
— Говори, о чем просишь? — повторил Казимир.
— Ах! — вполголоса сказал Вшебор. — Хочу просить тебя
быть моим сватом.
Казимир отшатнулся с краской на лице. Видно было, что он
ожидал совсем иной просьбы.
— Не время нам думать о свадьбе, — печально сказал он, —
и не скоро найдется место, где можно будет ее отпраздновать.
— И я тоже не думаю еще о свадьбе, я хочу только получить
согласие отца и матери, — настойчиво повторил Вшебор, целуя
руку короля. — Хочу посвататься к дочери Спытка — влюбился
до смерти в эту девушку!
Король слушал его, опустив глаза, с румянцем почти девичьего
стыда.
— Нас только два брата, — горячо говорил Вшебор, —
родителей у нас нет, будь нашим опекуном и отцом. Спытек чувствует,
что у него есть вина против вашей милости, и был бы рад получить
прощение; стоит вам только слово сказать, и он отдаст мне дочку.
И снова он склонился к коленям короля, а тот ласково
отстранил его от себя.
— Охотно сделаю это, когда мы вернемся с войны, — сказал
он, — теперь не время для сватовства.
— А потом тоже будет не время, потому что ее высватает кто-
нибудь другой, — прервал его Вшебор. — Король мой и государь,
сегодня или завтра — иначе нельзя.
Казимир колебался, не зная, как ему поступить, когда вошел
Трепка за приказаниями на завтрашний день. Король с
облегченным сердцем обратился к нему.
— Мой старый друг, — сказал он Трепке, — замените меня
и от моего имени замолвите слово за моего верного слугу, которому
я был бы рад отплатить за его преданность мне.
Трепка не понял сразу, в чем дело, и с изумлением переводил
взгляд с короля на юношу, но тут Вшебор в коротких словах
объяснил ему свою просьбу.
Старик слегка нахмурился.
— Эх вы, молодые! — сказал он. — Храбро сражаетесь, но в
голове у вас не все в порядке... Теперь, когда надо спасать страну,
вы думаете о девчонках...
— А если ее возьмет кто другой, а я жить без нее не могу! —
возразил Вшебор.
Старик пожал плечами.
— Кто же может взять у тебя это сокровище? — спросил он.
594
— Томко Белина увивается около нее. Он останется здесь с
родителями, а меня не будет!
— Томко? Он идет с нами, — возразил Трепка. — Вы видите,
что он ради девчонки не забывает службы королю и нашему делу.
Вшебор несколько смутился.
— А я все-таки прошу, — прибавил он упрямо, — хоть бы он
и шел с нами, я хочу иметь согласие родителей и тогда охотно
пойду на войну.
Казимир стоял молча. Трепка взглянул на него.
— Согласны ли вы на это, милостивый государь? — сказал он.
— Сделайте это для него, чтобы у него было спокойно на
сердце, — печально отозвался король. — Не откладывайте...
Вшебор схватил старика за руку.
— Государь и отец мой...
Трепка рассмеялся добродушно и, видя его волнение, низко
поклонился королю и вышел вместе с Вшебором.
— Что же это? — буркнул он в дверях. — Какой я сват, когда
у нас даже полотенец нет с собой.
Они направились во второй двор.
Старый Спытек занимал по-прежнему то место, которое он сам
себе выбрал среди больных и калек. Только ложе его было лучше
убрано и окружено сосновыми ветками. Он уже лежал, но не спал
еще, у ног его стоял на коленях верный Собек. Остальные раненые
или спали, или пошли в лагерь попрощаться с уходившими утром
товарищами.
Заметив подходившего к нему Трепку, который ухаживал за
ним во время болезни, Спытек приподнялся на локте.
— Что же, разве уже едете? Пришли проститься?
— Нет, я еще не прощаться пришел, — отвечал старик,
подходя к нему и оглядываясь на Вшебора, который тоже подошел
ближе. — Я пришел к вам послом от короля.
Спытек беспокойно заворочался и поднял свой окровавленный
глаз.
— От короля ко мне? Что же хочет от старого калеки
милостивый государь?
— Он желает, чтобы вы ему дали доказательство своей
преданности его воле, — сказал Трепка. — Не имея чем вознаградить
свое рыцарство, он желает, чтобы вы заплатили долг за него.
Спытек, не понимая, к чему клонится речь, широко открыл
рот, а лоб его нахмурился.
— Не смейтесь над старым калекой, — сказал он.
— Не время для насмешек, — отвечал Трепка. — Вот перед
вами тот, кому вы должны заплатить королевский долг — Вшебор
Долива!
Спытек, очевидно, догадался, и грозные морщины перерезали
его лоб от охватившего его гнева; он только шевелил губами и
долго не мог произнести ни звука.
— Что же я ему дам? У меня у самого ничего нет! — вскричал он.
595
— У вас есть дочь... Король просит ее руки для Вшебора.
Долива молча склонился к руке старика, но тот отнял ее.
— Я ничего не имею против Доливы, — заговорил он
наконец, — хотя единственная дочь Спытка могла бы найти
кого-нибудь познатнее, чем он. Ей и князь бы подошел, но пусть
свершится королевская воля... Она будет его.
Долива молча поблагодарил его, а старик продолжал все с
большим волнением:
— Скажите королю, что делаю это только для него, потому
что хочу, чтобы он вернул мне свою милость, все это только для
него... вы понимаете?
— Итак, я могу передать королю ваше обещание? — спросил
Трепка.
Спытек, вместо ответа, обратился к слуге:
— Пусть придет сюда Марта с дочерью...
Вшебор, который чувствовал себя безмерно счастливым,
взглянул на старика, лежавшего с приподнятой кверху головой и
смотревшего на него взглядом, полным затаенной злобы, и также
ощутил в груди нарождающийся гнев и оскорбленное самолюбие.
Но не время было ссориться, приходилось терпеть молча.
Пока Собек бегал исполнять поручение своего пана, Трепка и
Долива стояли в молчании, а Спытек вздыхал и грузно ворочался,
как будто внутри его происходила какая-то борьба. Наконец
послышались женские шаги, и в дверях показалась Марта с
торжествующим блеском в глазах, увлекая за собою бледную и
перепуганную Касю; увидев Доливу, девушка пошатнулась и
быстро повернулась назад, как будто собиралась убежать, но мать
насильно удержала ее.
Спытек еще больше нахмурился при виде жены.
— Король, наш милостивый государь, сам сватает нашу дочь, —
сказал он. — Я не могу отказать королю.
Он указал на Доливу.
— Вот будущий твой муж! — сказал он, обращаясь к Касе. —
Такова воля короля и моя. Когда придет время, отпразднуем свадьбу.
Марта склонила голову, но на лице Каси отразились совершенно
неожиданные в такой молоденькой девушке чувства. На этом юном
лице, вместо слез и печали, запылал гнев, глаза засверкали
угрозой, а сжатые губы отразили упрямую и вызывающую решимость.
Ни одна девушка не осмелилась бы в то время явно противиться
воле отца и государя. И Кася не возразила ни слова. Но Вшебор
понял значение ее взгляда...
Спытек не обращал уже больше внимания на дочь; а Марта,
подведя ее к Вшебору, хотела, по старому обычаю, скрепить
обручение пожатием руки и поцелуем. Но Кася как прикованная
стояла на месте, а когда мать потянула ее за собою, она вырвала
руку и отступила на несколько шагов.
Вшебор и не настаивал на соблюдении обычая; он решил про
себя, что в будущем сумеет подавить этот девичий стыд, а пока
596
ограничился почтительным целованьем рук отца и матери в знак
благодарности.
Трепка направился к выходу.
— Ну, пойду к королю с доброй вестью, — сказал он.
Спытек кивнул ему головой и, уже не обращая внимания на
присутствие будущего зятя, на жену и дочь, упал на подушки,
приказывая слуге:
— Собек, закутай мне ноги.
Закрыл глаза и закутался с головой...
Марта неслышно выскользнула из горницы, за нею шла
бледная, с горящим взглядом Кася. Когда они очутились на дворе и
Вшебор решился в присутствии матери приблизиться к девушке,
Кася отскочила от него и бегом, даже не оглядываясь назад,
бросилась на свою половину.
— Да она же еще ребенок, — с улыбкой сказала мать, подавая
руку Вшебору, — молодая пташка... что тут удивительного.
Приласкаешь ее потом, когда будет твоя. Времени будет довольно.
И начала тихо разговаривать с ним.
На верхней половине послышался громкий плач, стоны и гневные
возгласы. Двери неожиданно открылись, из них выбежала Здана,
которая, минуя Марту, бросила на нее гневный взгляд и исчезла.
Старый Белина, Томко и Ганна — все сошлись вместе на
женской половине и о чем-то тихо совещались... Потом Томко с сестрой
отошли в сторону и тоже о чем-то долго шептались между собой,
а коща Вшебор ушел, провели и Мшщуя на общий совет.
Группа эта то расходилась, то снова собиралась вместе и
беседовала до поздней ночи, а когда Мшщуй вернулся на ночь к себе,
то, против обыкновения, не обменялся с братом ни одним словом,
а тотчас же лег спать, укрывшись с головой.
Вшебор почувствовал, что он сердится на него, и даже не
решился поговорить с ним о своем счастье.
Весна пришла в том году так рано, что только жаворонки не
удивились ей, а люди еще верили в зиму; пришла она неожиданно
в одну темную ночь, прилетела с юга на теплых крыльях ветра.
Еще вчера лежал повсюду белый снег, блестя на морозе
заиндевевшим покровом, на реках трещал лед, и тяжелые облака, словно
мешки, наполненные снегом, тянулись синею полосою с севера.
Пропели беспокойные петухи, ветер прижался к земле и заснул,
настала полная тишина. Вдруг вдали что-то зашумело, налетел
ветер с юга, влажный, стремительный и упорный, и к утру начал
таять почерневший снег, потекла вода поверх ледяной коры, и,
как невеста, сбрасывающая с себя снежные покровы, обнажилась
земля, взвился кверху жаворонок, откуда-то явился измученный
перелетом аист, и засуетилась хлопотливая ласточка.
597
Те, что спали зимой, пробудились, испуганные шумом ручьев,
которые, журча, пробивали себе повсюду дорогу, разрыхляя
снежные сугробы, так что к полудню чернели огромные черные пласты,
а к вечеру только кое-где еще виднелся ломкий лед. Из-под
зимнего покрова выглянули зеленеющие травы и посевы. В воздухе
запахло весной, набухшими почками, теплым дождем и водяными
испарениями. На берегах рек образовались озера, на реках вода
вздулась, и лед трещал, разламываясь в куски, но еще упорно
борясь с действием солнца и тепла. И те, что ждали оттепели и
не хотели верить в приход весны, должны были принять
победительницу... Аист нес ее на крыльях, жаворонок распевал в облаках,
верба приветствовала ее бархатными почками, волчьи ягоды —
розовыми цветами, а небо — лазоревой одеждой.
И с каждым днем укреплялась власть весны, не той благовонной
и спокойной, что приходит позднее исцелять раны, одевать
изрытую землю, взращивать цветы, светить горячим солнцем и поливать
теплыми слезами, а весны воинственной; вступающей в поединок
со старой зимой и борющейся до тех пор, пока не победит ее.
Горячий ветер пролетал среди разорванных облаков, град
рассыпался стеклянным горохом, в небесах грохотало, на земле шумело,
стремительно неслись освобожденные воды, сталкивались
разорванные льдины, ручьи подрывали посевы, буря ломала деревья.
Страшная была эта весна, опередившая весну зеленую; от нее
прятались звери, запирались люди в своих жилищах, а птицы,
слишком ранние гости, погибали от холода и голода.
В один из таких вечеров молодой весны после пронесшейся
только что грозы над Вислой выглянуло солнце и осветило
закатными лучами военный лагерь.
Громадное пространство кверху от разлившейся реки было
завалено грудами человеческих тел. На пригорке с одной стороны
виден был почти опустевший лагерь, а внизу на лугу и полях
длительная борьба оставила повсюду следы смерти и разрушения.
С левой стороны виднелись беспорядочные группы людей, с криком
убегавших от гнавшихся за ними конных рыцарей.
В некоторых местах бой еще продолжался. За убегавшим Мас-
лавом, у которого шлем слетел с головы и рыжие волосы
развевались по ветру, гнался неукротимый Вшебор. Беглец иногда
оглядывался назад, конь его устал, товарищи оставили его. На поле
битвы их было только двое: побежденный мазур и разгоряченный
победой Долива. Левую ногу с острой шпорой он прижимал к
брюху коня, чтобы заставить его скакать скорее. Они готовились
сразиться насмерть, когда неожиданно из зарослей выскочила
притаившаяся там кучка людей и бросилась на помощь убегавшему.
Вшебор очутился один лицом к лицу с несколькими
нападавшими.
Маслав остановился, а догонявший его, видимо, колебался, не
зная, какое выбрать направление; теперь роли их переменились.
Маслав, воспользовавшись своим положением, бросился на него, а
598
Вшебор принужден был спасаться от него; лицо его покрылось
краской, глаза заблестели.
Убегать от побежденного, побитого, от изменника! Убегать,
чтобы спасти свою жизнь!
Он оглянулся вокруг, но не увидел никого из своих. Все
разъехались в разные стороны, преследуя бежавших, — он был один.
Оставалось только одно: или пожертвовать жизнью, или позорно
спасать ее!
— Убегать от Маслава...
Но взбешенный неудачей мазур был не один, к нему
присоединилось неожиданное подкрепление, и они гнались за ним все
сразу.
Вшебор держал в руке сломанное копье, сбоку висел погнутый
щит, панцирь его был весь исколот, и сам он был сильно утомлен
боем, продолжавшимся весь день.
В нескольких шагах показался Белина с небольшим отрядом
и смотрел на него... Мстительное чувство загорелось в его душе.
Маслав должен был наказать Вшебора за него. Для этого
достаточно было, чтобы Томко отступил назад и не торопился с
помощью... Долива пал бы от руки мазура, а невеста его была бы
свободна...
Черная мысль как молния промелькнула в его голове и
пронзила его в самое сердце. Пусть гибнет тот, кто хотел отнять ее у
него... Пусть гибнет!
Вшебор все оглядывался, не пошлет ли ему судьба помощи. Он
заметил неподвижно стоявшего Томка и в душе сказал самому себе:
«Этот скорее добьет меня, чем спасет».
Белина все стоял, чувствуя, как вся кровь загорается в нем, а
в голове настойчиво звучит: «Пусть гибнет!»
Маслав со своими людьми уже настигал Вшебора. И в тот же
миг черная с кровавым завеса спала с глаз Томка, в душе его все
прояснилось, согретое лучшим чувством, и он бросился на помощь
Вшебору с криком:
— За мной!
Мазуры, окружив Вшебора, старались поранить его коня,
потому что сам он еще оборонялся обломком копья, но вдруг, как гром
и буря, налетел на них Томко... Маслав, уже готовившийся нанести
удар противнику, зашатался сам от удара меча, и все его воины
тотчас же разбежались в разные стороны. Вшебор был спасен, но,
ослабев от полученной в бою раны, упал с коня.
Все это происходило на поле сражения, в месте, где убегавшие
пруссаки и поморяне могли, вернувшись, окружить их или добить;
надо было поспешно уходить отсюда к своим.
Белина слез с коня и с помощью двух вооруженных воинов,
которые были с ним, поднял Доливу и снова посадили его на коня...
Пришедший в чувство Вшебор молча приглядывался к своему
спасителю, словно не веря, что видит его перед собой. Белина также
не говорил ничего и только указал рукой по направлению к лагерю.
599
В эту минуту подъехали еще воины, намереваясь броситься в
погоню за убегавшими. Мшщуй заметил бледного и окровавленного
брата. Они давно уже не разговаривали друг с другом. Он увидел
также рядом с ним Томка и остановился удивленный,
вопросительно глядя на него.
Белина взглядом же отвечал ему.
— Где король? Не знаете ли, где король? — стали спрашивать
подъехавшие. — Где наш государь?
— Я не знаю, — отвечал Белина. — Сначала я сражался рядом
с ним, но потом нас разделили. Он бросился в самую гущу!
—- Где Маслав? Маслав убит... А кто видел его труп? —
говорили другие.
— Он спасся с небольшой горстью людей, некому было гнаться
за ним, — слабым голосом отозвался Вшебор. — Я последний
бился с ним. Он уж был без шлема и весь в крови.
— А в какую сторону он ушел?
Им показали рукой направление, и несколько наиболее ретивых
пустилось в погоню.
— Где король? — кричали другие, подбегая к группе
приостановившихся всадников. — Что нам победа, если его не будет у нас...
— Где король? — раздавались крики по всему полю битвы.
Но никто не мог сказать, что случилось с королем.
Солнце заходило в таком кровавом зареве, как будто облака
отразили эту битву, во время которой ручьями лилась кровь.
Чернь, находившаяся при лагере, как хищные птицы, сбегалась со
всех сторон и грабила трупы. Из лагеря доносились торжествующие
и насмешливые возгласы.
То и дело подъезжали всадники и спрашивали:
— Где король?
— Маслав убит?
Вшебор медленно ехал по направлению к лагерю,
поддерживаемый двумя воинами. За ним с хмурыми лицами ехали
Мшщуй с Белиной. Что толку было в этой победе, если король
заплатил за нее своей жизнью. Навстречу им показались вдали
старый Трепка, граф Герберт и русский воевода Иеловита.
Кони их ехали шагом, и они, сидя в понуром молчании, с
опущенными головами, поглядывали на трупы, устилавшие поле
битвы. Их молчание и весь вид говорили о том, что они искали
короля и нигде не находили его.
— Он бился как лев! — сказал Иеловита. — Я видел это
собственными глазами... Он геройски рубил врагов, и там, где он
показывался, все разбегалось перед ним.
— Я видел его раненным! Из его руки текла кровь, — сказал
граф Герберт.
— Кто же был с ним? Как могли оставить его? — спросил
Трепка. — Верная дружина ни на шаг не должна была отходить
от него!
Старик был в сильном волнении.
600
Мимо них проезжали раненые, проходили пешие, потерявшие
в битве коней.
— Не видели ли вы короля?
Все видели его в начале битвы, когда он еще молился, стоя на
пригорке и измеряя взглядом все эти полчища в три раза
сильнейшего врага: диких поморян в крепких железных доспехах,
пруссаков с палками для метания за поясом, Мазуров с огромными
щитами и всю эту страшную, крикливую, дикую орду, которая
рассчитывала окружить королевские войска и уничтожить их;
видели также многие, как он, помолившись, бросился навстречу
войскам Маслава и долго гнался за самим вождем, которого легко
можно было узнать.
К концу сражения, когда победа явно клонилась на сторону
поляков, русских и императорских полков, когда дрогнули и начали
отступать даже непоколебимо и стойко державшиеся пруссаки,
когда все пришло в замешательство и трудно стало различать своих
от врагов — король неожиданно исчез. Никто не знал, кто остался
с ним и в какую сторону он поехал. Рыцарство, обеспокоенное его
исчезновением, разбежалось во все стороны, до самых границ поля
сражения; многие шли, склонившись к земле и осматривая грудами
наваленные одно на другое тела.
Страшно горевали те, что привели с собою молодого государя
и невольно обрекли его на гибель.
В это время из-за Вислы послышались торжествующие клики,
как будто возвещавшие о новой победе. Вдали показалась медленно
двигавшаяся группа людей; Трепка и все остальные бросились в
ту сторону...
Все сразу узнали верного Грегора, шедшего впереди всех и
помогавшего нести носилки из ветвей, на которых лежал раненый
или труп, покрытый окровавленным плащом. Рядом с носилками
шел ксендз, прибывший вместе с королем и каждое утро, на
рассвете, совершавший богослужение. Когда рыцари приблизились,
они тотчас же узнали в лежавшем короля...
Он был весь в крови, но черные глаза были открыты, и губы
кривились полустрадальческой-полублаженной улыбкой. Король
взглянул на Трепку и произнес слабым голосом:
— Хвала Богу! Мы победили!
Но, произнеся эти слова, он потерял сознание. Носилки
поставили на землю, и все, встав на колени, принялись приводить его
в чувство водою. Только теперь заметили, что за носилками
тянулась кровавая дорожка, и сам король был весь в крови. Нечего
было и думать о том, чтобы нести его в лагерь, в палатку, надо
было тут же на месте поскорее омыть и перевязать раны.
Одни побежали за повязками, другие — за хлебом и вином.
Грегор, отстраняя всех, сам осторожно поворачивал израненное
тело, снимая доспехи, расстегивая платье, с материнской нежностью
и заботливостью отирал лоб и старался угадать все желания своего
воспитанника.
601
Придя в сознание, Казимир обвел всех взглядом, улыбнулся и
шепнул еще раз:
— Победа за нами!
Тут же, на поле битвы, перевязали королевские раны. Они были
тяжелые, и много вытекло из них драгоценной крови, но для жизни
они не представляли опасности.
Настала уже ночь, и месяц взошел над лесом, когда Грегор
снова взялся за носилки и направился с ними к лагерю. Король,
почувствовавший себя лучше после нескольких глотков вина,
данных ему графом Гербертом, оглядывал поле и тихо спрашивал о
судьбе своих рыцарей.
— Милостивый государь, — сказал Трепка, — мы еще не
считали своих и не знаем, кто жив, а кто погиб; мы думали только
о тебе, ты исчез от нас, а с тобой погибло бы все...
— Я перестал быть вождем, — сказал Казимир, — когда
почувствовал себя воином. Я сам не знал, что со мной сделалось. Помню
только, что, когда конь мой был убит и я упал вместе с ним, я увидел
над собой лицо Грегора и его меч, которым он размахивал вокруг,
защищая меня. Он на руках вынес меня, ослабевшего и раненного, в
более безопасное место, и ему я обязан жизнью.
Грегор, который с угрюмым видом стоял, склонившись над
королем, не отвел глаз и не сказал ни слова... Трепка снял перед
ним шапку и подал ему руку.
— Высшая честь принадлежит тому, кто спас нам дорогого
государя.
Грегор, снова взявшийся за носилки и молча шедший впереди,
не повернулся на эти слова и, может быть, даже и не слышал их.
Лагерь уже был близко; королевские слуги, завидев носилки,
бежали навстречу с плачем и криками, испугавшись, что несут
тело короля.
Но как же велика была общая радость, когда все узнали о
спасении его. Со всех сторон съезжались рыцари, возвращавшиеся
с погони, и сходились раненые, которых оставили на поле битвы,
считая убитыми, а они пришли в чувство и сами явились в лагерь;
возвращалась и чернь, грабившая трупы.
Зажигались огни, всюду слышались радостные голоса и песни.
Не оставалось сомнения в том, что поражение, нанесенное Масла-
ву, было решительной победой короля. Этой победой он был обязан
вовремя подоспевшим русским отрядам, а также шестистам
рыцарям императорского отряда и собственному войску, сколько его
нашлось во всей стране.
Бой продолжался почти целый день, потому что Маслава,
превосходившего королевские войска численностью, не так-то легко
было победить. Пруссаки и поморяне бились мужественно, мазуры
тоже не отставали от них, и до самого вечера неизвестно было,
на чьей стороне будет успех, и только в последней стычке, когда
сам король во главе своего лучшего рыцарства бросился на
Маслава, его главные силы дрогнули и отступили.
602
В палатку короля приносили вести отовсюду; начальники
отрядов собрались здесь на совет; сюда же вносили добычу, знамена
и изображения языческих богов, оружие, брошенное на поле битвы,
копья и мечи. Целыми грудами навалили около палатки эту
жалкую добычу; но неизмеримо более ценным, чем весь этот хлам,
было поражение человека, бывшего причиной всей этой войны и
виновником всех несчастий в стране.
Неподалеку от палатки короля находилась небольшая палатка,
где помещались Вшебор с Топорчиком и Каневой. Сюда принесли
израненного и ослабевшего Доливу. Рыцари перевязывали друг
другу раны и, несмотря на боль и утомление, настроение у них было
почти веселое, такой радостью наполняло их сердца сознание
одержанной победы. Только Вшебор выглядел угрюмым и печальным
среди своих веселых товарищей.
Слуги разносили пищу и напитки, какие только могли достать.
У графа Герберта нашлось даже вино.
— Что тебя так удручает, что ты и нос повесил? — заметил
Канева, всегда отличавшийся хорошим настроением духа.
И он слегка подтолкнул Доливу.
— Ран и ушибов я не чувствую, — отвечал Долива, — меня
мучает другое.
— Может быть, доспехи натерли? Так я дам тебе жиру, — это
поможет.
Вшебор опустился на подушки, подложив руки под голову.
— На что мне твой жир? — ворчливо отозвался он. — Другая
забота у меня на сердце.
— Ну, так я знаю. Хочется тебе поскорее жениться на Касе!
Подожди, уж теперь недолго. Мы уж разбили наголову Маслава,
скоро настанет мир, и мы все поженимся! И я бы не прочь!
— Что ты там болтаешь глупости! — рассердился Долива. —
Ты знаешь, кто меня спас, знаешь? Маслав упился бы теперь моей
кровью, если бы не...
— Белина тебя выручил! — докончил Канева. — Ну, и что же?
— Да ведь он -— мой враг, мой враг! — сказал Вшебор. —
Мне было бы приятнее биться с ним, чем быть ему обязанным
жизнью.
— Всему виною эта несчастная Кася Спыткова, — с улыбкой
заметил Канева, — потому что вы оба за нею ухаживали. Правда,
что если бы на месте Томка был кто-нибудь другой, то непременно
сказал бы себе: «Пусть Маслав его убьет, а девушка будет моя».
Вшебор стремительно поднялся на подушках.
— Вот это-то и мучает меня! — крикнул он. — Вот теперь ты
угадал. Я чувствую, что, если бы я был на его месте, а он на
моем, — он ударил себя в грудь, — ни за что не пошел бы его
спасать. Значит, я хуже его...
— А он глупее... — рассмеялся Канева.
— А теперь я еще должен ему поклониться и быть ему братом
на всю жизнь!
603
— И он будет ездить к тебе в гости и скалить зубы перед твоей
супругой.
Оба помолчали немного.
— Уж лучше бы меня зарубили эти мазуры, чем быть ему
обязанным жизнью, — прибавил Вшебор.
Другие посмеивались над ним.
Всю ночь шла беседа, и в лагере до рассвета никто не ложился;
чернь и слуги искали добычи на поле битвы, возвращались и снова
уходили... Надо было подумать о том, что делать дальше.
Решено было завтра до рассвета выслать войско, чтобы занять
Плоцк.
Отовсюду приходили вести, что Маслав, разбитый наголову,
должен был бежать вместе с пруссаками, следовательно,
непосредственной опасности не предвиделось, но надо было воспользоваться
плодами победы и расстройством вражеских войск.
Весь следующий день считали убитых и сносили их на костры;
многие утонули в Висле, но и без них насчитывались тысячи
трупов. Немало воинов пало и в королевском войске, и им готовили
погребение по христианскому обряду.
Весна была еще черная, деревья не отзывались на ее зов, и
только молодая травка украшала луга зеленью. Стаял лед, исчезли
снежные покровы, дождь уничтожил последние остатки
почерневшего снега и освободил из оков то, что лежало под ним.
С юга летели птицы, в полях и лесах просыпалась шумливая
жизнь. Заспанный медведь, исхудавший за время зимней спячки,
шел на охоту.
Из ульев вылетали пчелы на первые цветы, прохаживались
аисты, вступая во владение лугами. Орлы и ястребы летали в небе...
Из глубины лесной чащи вышла, тревожно оглядываясь, старая
женщина, опиравшаяся на посох... Стан ее согнулся, губы посинели,
седые волосы в беспорядке падали на плечи. Измятая и испачканная
толстая сермяга прикрывала грубое, черное от грязи белье, ноги были
босы, а за плечами не видно было ни узелка, ни мешка. Она шла,
опираясь на посох, не разбирая дороги и не раздумывая, шла, как
будто ведомая какой-то непреодолимой силой.
Если на дороге попадалось бревно, она перелезала через него,
даже не пробуя обойти, если был ручей, влезала прямо в воду, не
ища перекладины. Что-то влекло ее, что-то гнало вперед куда-то,
куда стремилось сердце. Так прошла она сквозь зеленую чащу,
пробралась через болота. Ночью ложилась на мокрую землю и
засыпала мертвым сном. Волки подходили, смотрели на нее и, не
дотронувшись, скрывались в лесу; медведи глядели на нее, присев
на земле, и следили за ней взглядом, когда она шла; с ветки над
ее головой зелеными глазами всматривалась в нее дикая кошка,
но не двигалась с места. Стада зубров паслись на лугу; они
поднимали головы и разбегались, завидя ее.
604
Проголодавшись, она срывала травинки и жевала их; иногда
ладонью зачерпывала воды и утоляла жажду. И так шла она уже много
дней, шла, чувствуя, что все ближе и ближе цель ее странствий...
Лес расступился, в долине вьется дымок над хатами, на холме
господский дом, около него хлопочут люди.
Старуха остановилась, подперлась посохом, и смотрит... втянула
воздух... села. Кровь выступила из ее босых ног, она смотрела на
них, но боли не чувствовала. Приближался вечер, до деревни было
еще далеко, но она не спешила. Отдохнув, поднялась снова и
медленно пошла вперед. Иногда она останавливалась, потом снова шла.
Что-то толкало ее вперед и в то же время тянуло назад; она и
хотела идти, и как будто чего-то боялась. Кругом было пусто. Две
черные вороны сидели на дубу и ссорились между собой; то одна,
то другая срывались с места, хлопали крыльями и угрожающе
каркали... Старуха взглянула на них... Втянула глубже воздух; что-то
оборвалось в ее груди, какое-то далекое воспоминание; она в
изнеможении опустилась на землю. Слезы потекли из ее глаз,
побежали по морщинкам, как ручейки по вспаханному полю,
добежали до раскрытого рта и исчезли в нем. И она выпила свои
слезы. Подперлась рукой и стала покачиваться из стороны в
сторону, как ребенок, укачиваемый матерью. Не старались ли она
усыпить собственные мысли?
Становилось темно, до деревни было далеко, в поле пусто:
только вороны каркали, летая над нею.
Старуха прошла еще несколько шагов, потом легла на землю
и прижалась к ней лицом. Может быть, жаловалась на что-нибудь
старой матери-земле, потому что слышны были глухие стоны. С
криком поднялась и снова упала.
А тьма сгущалась.
Над лесами, из-за черных туч, показался серп месяца,
красный, кровавый, страшный, как вытаращенный глаз, из которого
сочится кровь... Он поднимался все выше и выше по небу.
Черная тучка перерезала его пополам, он выглянул из-за леса,
словно раненый, огляделся вокруг, побледнел и пожелтел.
Старуха поглядела на него и кивнула головой, как старому
знакомому... И, казалось, хотела сказать ему: «Посмотри, что со
мной сталось!»
Но месяц, не отвечая ей, поплыл дальше; она презрительно
махнула на него рукой, встала и побрела.
На пригорке против господского дома стоял огромный высохший
дуб. Кору с него содрали, весь он был опален снизу, ветер обломал
ветви, и только несколько толстых сучьев отделялись от ствола,
как обрезанные руки. Две вороны уселись на нем, продолжая ссору.
На самом толстом суку висело что-то. Легкий ветер раскачивал
этот груз, и он поворачивался, как живой. Это был труп человека
с рыжими волосами на поникшей голове, которые развевались по
ветру. На лбу виднелась корона, сплетенная из соломы. Открытые
глаза были пусты: их выклевали вороны. И тело его было страшно
605
изуродовано людьми или зверями; мясо черными клочьями
отставало от костей.
Внизу два бурых волка, сидя псд деревом и задрав пасти
кверху, поджидали, скоро ли ветер сбросит им добычу. Ждали
терпеливо, высунув из пасти голодные языки. Иногда который-нибудь
из них поднимется, завоет, толкнет товарища и снова сядет
спокойно, задрав голову кверху. Вверху вороны, а внизу волки
спорили из-за трупа, который медленно вращался на веревке.
Старуха шла, и вдруг взгляд ее упал на повешенного. Она
остановилась, вздрогнула, сильнее оперлась на посох и рассмеялась
громким, страшным диким хохотом, — и эхо из чащи леса повторило его.
Волки бросились в сторону, вороны улетели. Уселись немного
подальше. Старуха подошла ближе, приглядываясь к трупу.
Подошла к самому дереву, посох поставила, сама села и, оперев
руки на коленях, опустила на них голову. И снова засмеялась. А
слезы текли по извилинам морщинок и забирались ей в рот.
Сук, на котором висел труп, трещал и скрипел, словно жалуясь,
что ему приходится держать такую тяжесть. Старуха мокрыми от слез
глазами смотрела на мертвеца, и месяц присматривался к нему, не
сводили с него глаз волки, а ночь все окутывала черным покровом.
Стемнело... Старуха снова раскачивала головой, а из уст ее
лилось тихое-тихое пение, как поют матери над колыбелькой
засыпающего ребенка.
Долго пела она, глядя вверх, и, устав, плакала до тех пор,
пока в груди не стало дыхания, а на глазах — слез... Тогда, вперив
в него неподвижный взор, она сидела молча, не двигаясь с места.
В это время в лесу послышался далекий шум — летел король-
ветер! Черные тучки несли его по небу.
Старуха обрадовалась ему, глаза ее заблестели.
Зашумело и в долине, труп начал метаться из стороны в сторону.
Ветер так закружил его, что корона упала, волосы развеялись,
полы сермяги раздулись широко, — это был танец повешенного!
И старуха, глядя на него, взялась за полы своей сермяги и
принялись кружиться вокруг дерева, распевая все громче и быстрее и
прерывая себя смехом.
Волки завыли, подняв кверху пасти, — а ветер дул все сильнее.
И, казалось, все кружилось в этом танце смерти: труп, старуха,
вороны в воздухе, волки, бегавшие вокруг дерева, и даже тучи на
небе, из-за которых то показывался побледневший месяц, то снова
прятался за них. Свист ветра в ветвях деревьев и в сухих
тростниках болот походил на звуки какой-то дикой музыки.
Старуха, напевая себе под нос, все кружилась с какой-то
бешеной быстротой, — вдруг что-то затрещало наверху, она
остановилась.
Труп повешенного сорвался с сука и упал к ее ногам.
Старуха остановилась над ним... месяц выглянул из-за туч...
Она медленно подошла, села под деревом и осторожно положила
себе на колени голову с выклеванными глазами.
606
И в ту же минуту снова вспомнила колыбельную песенку,
затянула ее и заплакала.
Вороны, сидя на дереве, каркали над ее головой, волки
придвинулись ближе и стали обнюхивать труп. Теперь он вполне
созрел для них — этот дубовый плод!
В темноте четыре разбойничьих глаза сверкнули перед
старухой, отнимавшей у них добычу, — блеснули белые зубы. Взгляды
их скрестились. Она взяла палку и погрозила им.
— Прочь, собаки, от княжеского тела, вон ступайте, —
хриплым голосом закричала она. — Не знаете разве, кто это? Это —
плоцкий князь! Король Маслав! А! Он — мой сын! Мой сын!
Прочь, проклятые собаки, вон убирайтесь!
Волки отступили, старуха была смелее их, защищая дорогое ей
тело... Голову она положила к себе на колени и что-то бормотала
про себя.
— Так ему суждено было погибнуть! Так! Все он имел, а
захотел еще большего! Еще ребенком он так ко всему тянулся. Враги
не смогли, так друзья повесили! Ха-ха, — я-то знала, что так и
случится!
Она опять закачала головой и заплакала. Взглянула в лицо
месяцу, словно спрашивая у него совета.
— Правда ведь? Мы не дадим его на съедение волкам? Мать
вырастила, мать похоронила... А кто мать похоронит? Волки
съедят... — Она засмеялась. — Ну, и на здоровье!
И, положив голову мертвеца на землю, она встала, отряхивая
седые волосы... Взяла посох и пошла прямо на волков, отгоняя их,
как собак...
— Не можете подождать, паршивые собаки! — говорила она
им. — Отдам вам за него свои кости. Его — не отдам!
И подняла палку; волки, попятившись назад, прилегли на
земле. Она с улыбкой взглянула на месяц.
— Ну, помогай! — сказала она ему.
Стала на колени подле трупа, запустила в песок костлявые
руки, отбросила мох и сухую траву и начала копать землю.
Сначала работа шла медленно: песок сыпался обратно в яму;
тогда она стала отбрасывать его далеко в сторону. Рыла поспешно,
обеими руками, разравнивала землю, выбрасывала ее далеко от
себя.
Иногда бросала взгляд на труп и тихонько шептала:
— Не бойся, я устрою тебе мягкую постельку, найду и камень
под голову и обверну его полотном, засыплю тебе глаза сухим
песком, чтобы не болели... Будешь спать спокойно, как в
колыбельке!
Задохнувшись от усталости, она отдыхала немного, стоя на
коленях, потом снова принималась за работу. Яма увеличивалась,
расширялась и углублялась.
Месяц заглядывал в нее одним боком, другой закрывала тень
от дуба. Старуха все спрашивала у месяца совета.
607
— Князь мой, брат мой, — достаточно ли глубоко? Может
быть, надо еще глубже? Волки тоже умеют глубоко рыть землю,
ну подождите же! Вместо камня я лягу сама, а как меня съедят,
так уж его не захотят есть...
Еле дыша от усталости, она снова села отдохнуть, уронив на
колени окровавленные руки. Роя яму, она наткнулась пальцами
на корни и, пока вырывала их, поранила себе пальцы, а когда и
пальцы не могли справиться, стала рвать зубами.
— Что это была за жизнь! — говорила она, продолжая рыть
могилу. — Ох, какая жизнь! Ребенок бегал босиком, а потом ходил
весь в золоте, командовал тысячами, а некому вырыть ему могилу!
Вот тебе корона... корона...
На земле лежала сделанная в насмешку соломенная корона,
старуха отбросила ее подальше. Яма была уже достаточно глубока,
она влезла в нее, разгребая кругом осыпавшуюся землю; песок был
мягкий, и рыть было легко.
Когда голова ее едва выделялась над землей, она высунула ее
и зашептала, обращаясь к мертвецу.
— Подожди! Еще не готово! Мать стара, руки у нее
закостенели.
Месяц все плыл по небу и постепенно опускался. Старуха все
еще рыла, напрягая последние силы, потом начала утаптывать
ногами дно ямы.
Поздно ночью, когда ветер стих, и месяц куда-то скрылся, она
вылезла из могилы, задыхаясь от усталости.
— Князь мой, господин мой! Постель твоя готова. Есть в
ней и камень, завернутый в полотно, а на дне — моя сермяга.
Иди...
Говоря это, она обеими руками охватила труп и, почувствовав
его около своей груди, которая когда-то кормила его, прижала его
к ней и долго не могла отпустить, лаская, как ребенка, и сама
плача над ним, как ребенок...
А над могилой стояли два волка, и четыре волчьих глаза
блестели во тьме.
Месяц спрятался, наступила темнота; старуха вскочила и
потащила труп в могилу. Он скатился с края ямы и упал на дно
лицом к земле... Старуха влезла за ним, чтобы уложить его на
вечный покой, и с огромными усилиями повернула лицом кверху.
Закрыла ноги, поцеловала в лоб.
— Спи, спи! — тихонько шепнула она. — Здесь хорошо, никто
тебе не изменит...
Она взялась руками за края ямы, — мягкий песок осыпался
вниз; волки щелкали зубами.
— Ну, подождите! — сказала она. — Что обещала вам, то и
сделаю. Ведь до утра еще далеко.
Бросила последний взгляд на сына и начала засыпать его
песком, поспешно, с нетерпением, почти с яростью, работала руками
и ногами... И все поглядывала вниз.
608
Лицо еще виднелось, ей жаль было засыпать его; но наконец
закрылось и оно.
— Спи спокойно!
Песок, как живой, выскальзывал из-под ее ног и из ладоней,
падая вниз и заполняя яму, — остался только след вскопанной
земли и утоптанное место под дубом...
Старуха, окончив работу, тяжело вздохнула и оглянулась вокруг.
Над лесами уже светлело, и среди разорванных облаков
выглянула бледная звездочка утренней зари.
Старушка шепнула:
— Кому вставать, а мне надо ложиться... Прощай и ты!
Рассмеялась, вытянулась во всю длину на свежем песке, одну
руку подложила себе под голову, другой закрыла себе глаза,
вздохнула тяжело и — уснула.
Волки сидели и смотрели издали. Один встал и подошел
поближе, потом снова сел в ожидании; другой тоже подошел.
Первый стал в головах, другой в ногах; оба, ворча, о чем-то
переговаривались. Старуха спала.
В небе рассветало, розовело и светлело.
Двое мужчин шли от усадьбы в лес.
— Смотри-ка, висельника сняли с дуба!
— А что, нет его?
— Это ветер обломал сук и сбросил его.
Они боязливо подошли и остановились. Один из них в ужасе
вскрикнул:
— Смотрите! Да он был чародей! Мы повесили мужика, а здесь
лежит баба, которую разорвали волки.
Оба постояли в раздумье.
— Да, он был чародей! — повторил другой. — Хорошо сделал
Кунигас, что замучил его и повесил! Сколько наших погибло из-за
него! Чародей и есть!
И они пошли в лес.
Долго белели под дубом кости старухи, а ветер перебрасывал
соломенную корону.
VI
За несколько дней перед битвой, которая дала Казимиру победу
и корону, в Олыповском городище было великое смятение.
Захворал старый Спытек.
Весна, которая зовет других к жизни, его тянула в могилу; он
чувствовал, что не увидит больше зеленых деревьев Его душил
насыщенный воздух, и ночью он лежал в жару, а днем дремал.
Был неспокоен и рвал на себе одежду.
Все заботы Собка его раздражали, он не выносил болтовни
жены, слезы дочери были ему неприятны. И он всех гнал от себя
прочь.
609
Ганна Белинова, хотя и была на него в обиде, жалела его и
приносила ему всякие снадобья и лекарства, но старик ничего не
хотел и от всего отказывался.
— А зачем же мне жизнь, — бормотал он, — калеке? На коня
не могу сесть, топора не могу поднять, — света не вижу. На что
мне жизнь?
Зашел к нему отец Гедеон со словом утешения; он выслушал
его, покачивая головой, — но исповедался, принял благословение
на смерть и просил не беспокоить его больше. В последнюю ночь
Собек, по обыкновению, сидел подле него; в полночь запел петух;
больной зашевелился и подозвал к себе слугу.
— Старик, — сказал он едва слышным голосом, — не могу
умереть. Послушай, вынь у меня все из-под головы, мне легче
будет умирать.
Слуга, плача, послушался его и вынул все, что у него было
под головой; Спытек вытянулся во всю длину, скрестил руки на
груди, закрыл глаза, и прежде чем занялся день, он лежал уже
холодный и окостенелый.
Прибежала Марта, распустив по плечам волосы, ломая руки,
громко причитая и страшно плача, так что голос ее слышался
по всему замку. Пришла заплаканная Кася, а за нею все
остальные женщины; послали за плакальщицами, чтобы
причитали над телом.
В тот же день начались приготовления к христианскому
погребению. Дубовый гроб, по всей вероятности, заготовленный Белиной
для самого себя, он отдал старику; крышку забили, гроб перенесли
на пригорок в лесу, ксендз Гедеон совершил обряд похорон, и все
обитатели замка отдали покойному последний долг.
В городище никто не почувствовал горечи утраты, напротив,
без него всем стало спокойнее, плакал только старый Собек.
Госпожа, которая накануне так кричала и заливалась слезами,
сидела теперь в раздумье и вздыхала. На третий день она уже
смеялась, но, опомнившись и сама себя устыдившись, тотчас же
всплакнула.
Кася ходила печальная.
Все ждали вестей от своих, Белина от сына, Спыткова от
будущего зятя.
В течение нескольких следующих дней в голове Марты Спыт-
ковой зародились новые мысли: ей стало казаться, что было бы
жестокостью насильно выдать Касю за Вшебора. «Что ж, если
девушке полюбился другой, и тот другой тоже ее любит и сам
человек хороший, да и родители — почтенные люди! Какое дело
королю до моей дочери. Покойник мог дать слово за нее, потому
что мужчины ведь ничего не понимают в этих вещах! А почему
бы мне самой не выйти за Вшебора? Он так жал мне руки, что в
жар кидало, и смотрел такими глазами, словно съесть хотел. Это
он за Касей из ревности приволокнулся. Не было бы Каси, так он
непременно женился бы на мне».
610
Так рассуждала сама с собой пани Спыткова, а однажды
вечером, когда Ганна Белинова подсела к ней, она заговорила с ней
по душам.
— Пошли Бог вечный мир моему покойному мужу, — тихо
сказала она Ганне, — но при жизни тяжело мне с ним было. Ой,
рука у него была железная! Да и Касю мне жаль, что он так легко
отдал ее по первому слову короля. Девочка не любит Вшебора,
хотя я ничего не могу сказать против него, но я-то знаю, что ей
нравится кто-то другой.
И она как-то странно покачала головой.
— Вы думаете, что я ничего не вижу? Хе-хе! Кася худеет,
плачет по ночам, а кто виноват? Я знаю, я-то знаю...
Она улыбнулась и сказала на ухо Ганне:
— Это все Томко ее очаровал! Дай ему Бог здоровья!
— Но ведь все кончено, вы дали слово королю, — шепнула
Ганна.
Спыткова отрицательно покачала головой
— Эх, все бы это устроилось, — сказала она, — только я не
смею вам признаться.
— Ну, ничего, говорите, — спокойно сказала Ганна, глядя ей
прямо в глаза, — говорите, пожалуйста, ведь вы знаете, что я
ваша приятельница...
— Только чтобы об этом никто не знал, — беспокойно
оглядываясь, говорила Спыткова. — Знаете ли вы, что, когда Доливы
спасли нас с Касей в лесу, то ведь мы все думали, что мужа моего
нет на свете. И я была как будто, вдова. Всю дорогу до городища
Вшебор шел подле моего коня и глядел мне в глаза. Да если бы
вы только видели, как смотрел! А коща помогал мне слезать с
коня, так сжимал мне руку, что я вся заливалась румянцем. Он
никогда не был влюблен в Каську, только в меня. Он просто хотел
через нее приблизиться ко мне...
Ганна все еще с недоверием качала головой.
— И даже потом, моя Ганна, — продолжала рассказывать
вдова, — никогда не старался увидеть Касю, а всегда вызывал меня,
и, как бывало, станет внизу, а я наверху, да как начнет говорить,
а сам с меня глаз не сводит! Мне иной раз, как молоденькой
девочке, стыдно было! Ну что тут еще говорить! Что же делать,
милая Ганна, когда он такой упрямый и так влюблен! Уж пошла
бы я за него, чтобы только человек не мучился!
Удивилась Белинова, а Марта шепнула ей на ухо:
— Пусть бы только ваш женился на Касе!
У матери, крепко любившей сына, даже лицо просветлело, и
она молча обняла Марту за шею.
Между семьей Белинов и Спытковой завязалась самая горячая
дружба.
С того времени как войска ушли из Олыповской долины, о них
не было почти никаких известий. Иногда заезжал какой-нибудь
заблудившийся по дороге шляхтич, ехавший к королю, и приносил
611
с собой услышанную где-нибудь новость. Белина мало надеялся на
успех и очень тревожился. Повсюду шли разговоры о больших
силах Маслава, и хотя русские обещали прислать помощь, но нельзя
было рассчитывать, что она подоспеет вовремя.
Каждое утро старик хозяин поднимался на возвышение над
воротами, смотрел в долину и слушал.
Не едет ли кто-нибудь? Не раздается ли топот копыт? Нет! Все
тихо вокруг! Только лес угрюмо шумит, да плывут в небе облака;
иногда из лесу выбежит дикая коза, осмотрится вокруг черными
глазами, топнет сухой ножкой и умчится.
Однажды утром старик спустился с вышки над воротами и,
медленно перебирая ногами, пошел к дому. Теперь около рогаток
почти не было стражи; девушки, стиравшие белье, как раз
собирались развесить его на солнце, потому что весенний ветер и
солнце покрывают загаром человеческие лица, но белят полотно. В
это время старая Эля взглянула в сторону леса.
— Аи! — крикнула она. — Смотрите-ка, смотрите, вон скачет
как бешеный какой-то всадник прямо к городищу! Смотрите, он
пригнулся к шее коня и гонит его во всю прыть. Ой, ох, наверное,
бежал из боя — наши разбиты!
И все женщины крикнули в ужасе:
— Аи, наши разбиты!
— Наши разбиты! — разносилось по всему городищу.
И девушки, бросив мокрое полотно, побежали на женскую
половину, крича:
— Наши разбиты!
Одни бежали к воротам, другие — на вышку над воротами, все
смотрели в долину.
А там скакал что есть духу всадник, то и дело подгоняя коня.
Заметив стоявших на валах, он стал знаками что-то объяснять
им. Всадник летит во весь опор, вот он уже близко. Старый
Белина узнал в нем сына и возблагодарил Бога за то, что он
остался жив.
— Ганна! Томко жив! Это он едет! — крикнул он.
Мать молитвенно сложила руки. Оба затаили дыхание. Вот уже
слышен топот коня, вот он под воротами, на мосту... Въехал и, на
ходу соскочив с коня, бросился к ногам родителей.
Поодаль стояла бледная Кася; он взглянул на нее, дыхание у
него перехватило, схватился рукою за грудь. Молчание его,
казалось, подтверждало догадку о поражении.
Но вдруг из уст его вырвались первые слова:
— Маслав разбит наголову!
— А король?
— Король тяжело ранен! Все поле усеяно трупами! Бой был
упорный, долгий, жестокий, смертельный, но в конце концов чернь
не выдержала — бросилась в бегство.
Все стали на колени и, сложив руки, поблагодарили Бога.
— Осанна! — подняв руки кверху, возгласил отец Гедеон.
612
Великий страх сменился столь же великою радостью. Все плача
обнимали друг друга, а ксендз тотчас же повел всех к алтарю.
Когда он окончил молитву, все окружили Томка; сестра так и
повисла у него на шее, мать гладила его по голове, а Кася тайком
от людей переговаривалась с ним взглядом, значение которого
понимал только он один.
Спыткова никогда еще не была с ним так нежна, как сегодня,
и все закидывали его вопросами, слушали внимательно и не могли
наслушаться...
Весь день с утра и до вечера он рассказывал, но и этого было
мало, и как только он поднимался с места, его удерживали и
упрашивали: говори еще!
И только вечером Здана завладела им: выбежала к нему во
двор и обняла его руками.
— А Мшщуй? — тихо спросила она.
— Мшщуй здоров и храбро бился, — отвечал Томко. —
Посылает тебе шелковый платок; уж не знаю, где он его раздобыл
и прилично ли тебе принять его. Если он не взял его у убитого
мазура, то, верно, купил у русина.
Платок был очень красив, но не потому зарумянилось лицо
Зданы. Она быстро схватила его, спрятала, чтобы не увидели люди.
Слезы выступили у нее на глазах.
Томко тяжело вздохнул.
— Послушай, Здана! Я знаю, что Кася обручена с другим, и мне
не следует думать о ней, но я не могу перестать любить ее... Вот здесь
нитка жемчуга для нее, отдай ей тихонько, чтобы мать не заметила.
Слез моих прольется в десять раз больше, чем здесь жемчужин!
Он не мог продолжать и помолчал, стараясь овладеть собой.
— Что же делать? Видно не судьба, — закончил он. — Если
бы не я, Вшебор грыз бы теперь песок, а Кася была бы моя. Я
вырвал его из рук Маслава!
И Томко поник головой, как бы сожалея о своем добром поступке.
— Он мне и спасибо не сказал! Только поглядел на меня таким
взглядом, словно съесть хотел.
Здана слушала одним ухом, а сама все любовалась своим
платком и прижимала его к груди.
— А знаешь ли, что Спытек умер? — сказала она.
Днем как-то не довелось спросить о нем, да и супруга его не
вспоминала о покойнике, и теперь Томко вскрикнул от удивления.
— Да неужели?
— Умер, бедняга! Спыткова теперь вдова. И кто знает? Еще
многое может измениться... Такая стала с нами ласковая, так с
мамой подружилась!
Луч надежды проник в душу молодого воина. Здана пожала
ему руку и, зажав жемчуг в руке, побежала к Касе.
Прошло несколько недель; на деревьях распускались почки, над
речкой зазеленели лозы, и черемуха уже разворачивала свои
листочки, когда однажды к воротам замка подъехали братья Доливы.
613
Томко, стоявший случайно в воротах, приветливо поздоровался
с Мшщуем, а на Вшебора даже не взглянул. Зато Спыткова,
узнав о его приезде, оделась как на праздник и вышла к нему.
Касе она позволила остаться в горнице, и та со слезами заперлась
у себя.
Прекрасная вдова встретилась с будущим зятем на втором
дворе. Он кинул взгляд позади нее, нет ли где ее дочери, но его
приветливой улыбкой встречала только мать...
— Знаешь ли ты о моем несчастии? — сказала она, тотчас
же сделав печальное лицо. — Умер мой муженек! Осталась я
сиротой! Не знаю, что делать, не знаю, кто позаботится о бедной
женщине!
И, говоря это, она взглянула прямо ему в глаза и взяла его за
руку, словно забывшись от великого горя.
Вшебор все еще высматривал Касю; но он не смел спросить о
ней, а вдова совсем не упоминала о дочери.
— Если бы вы видели, как он умирал, — рассказывала она
о покойном муже, — так тяжело ему было умереть... И перед
смертью хоть бы сказал мне доброе слово!.. Пусть Бог мне
простит, но жизнь моя с ним была тяжелая...
Мшщуй с Томком пошли искать Здану. Ее нетрудно было
найти. Как будто случайно, она пошла на валы с девушками,
которые расстилали на траве пряжу. Она стояла среди них, вся
зарумянившаяся, засунув в рот конец фартучка, головку
опустила, а глаза из-под опущенных ресниц уж издали выследили
Мшщуя. Маленький узелок шелкового платка выглядывал из-под
белой рубашки.
А когда он подошел к ней, то в первую минуту ни он ни она
не могли вымолвить ни слова, и Томко, стоявший поблизости,
отчетливо слышал биение их сердец, а потом тихий смех. Здана
убежала к девушкам.
Кася, сидя в темном чулане, горько плакала, прижавшись
головой к стене.
Между тем Вшебор должен был выслушивать излияния вдовы.
Наконец, он решился спросить о Касе.
Мать опустила глаза, видно, ей был неприятен этот вопрос.
—- Да ведь она еще ребенок, —- сказала она, —- и что-то плохо
себя чувствует. Даже не знаю, что с нею.
И так вышло, что в этот день Вшебор не видел Каси и был
очень этим встревожен и зол прежде всего на мать.
Отсюда братья Дол ивы предполагали ехать в свои земли; в
стране наступило спокойствие, и все спешили к своим домам, хотя они
и были разрушены; надо было заново отстраиваться, налаживать
хозяйство, собирать разбежавшихся крестьян и заставлять их
приняться за работу. И тот и другой очень спешили вернуться, а
уехать не могли.
Вшебор ходил повесив нос, да и Мшщуй не лучше себя
чувствовал. На второй или на третий день по приезде, посоветовавшись
614
с Томком, он пошел к матери Зданы и с низким поклоном попросил
у нее руки ее дочери.
Ганна Белинова не отличалась многоречивостью, — услышав
то, о чем она уже догадывалась, она покачала головой и отвечала
так:
— Здана еще так молода! Рано еще ей думать о муже. Да мы
и не отдадим ее прежде, чем Томко женится.
— Милостивая пани! Да может ли это быть?
— Это — воля моего мужа! — сказала Ганна. — Вот пожените
Томко, тогда увидим...
Мшщуй понял, в чем дело, и вечером набросился на брата.
— Ты все еще думаешь о Касе.
— Ну разумеется! Ведь мы уже обручены! Вот ксендз даст нам
благословение, и я заберу ее с собой в наш дом.
— Дома-то еще нет, — возразил Мшщуй, — но не в этом дело.
Дом можно быстро поставить. Хуже всего то, что Кася слышать о
тебе не хочет.
— А мне какое дело! — отвечал Вшебор. — Пусть только
отдадут ее мне, — мы уж как-нибудь поладим.
— Послушай, Вшебор, если бы у тебя было хоть
сколько-нибудь разума, ты бы не женился на ней, — сказал Мшщуй. — Взял
бы лучше Спыткову, а с ней — половину ее имений и еще то,
что она получит с Руси. Та с тебя глаз не спускает...
Вшебор страшно рассердился.
— Вот еще выдумал сватать мне старую бабу! — вскричал
он. — Я тебя насквозь вижу и понимаю, чего тебе нужно. Ты
хотел бы взять Здану, вот и стараешься прислужиться к ее родным,
а я должен за тебя расплачиваться. Не дождешься этого от меня!
Вшебор, не отвечая, улегся на землю и закрыл глаза, давая
понять, что не желает продолжать разговор.
Доливы все еще не уезжали; каждый день Спыткова вызывала
Вшебора и болтала с ним, пока ему не надоедало ее слушать, но
ее очень сердило, что он, вместо того чтобы делаться все более
нежным, становился все молчаливее и угрюмее.
И однажды он прямо спросил ее, когда же будет свадьба.
— Чего же так спешить? Ведь еще совсем недавно у нее умер
отец, — отвечала Спыткова. — Разве вы забыли? Еще
вдове-сироте можно простить, если она не выждет до срока каких-нибудь
шести недель, а уж дочери никак нельзя не выдержать.
Делать было нечего, приходилось ждать. Стараясь развеселить
его, вдова болтала, шутила, смеялась, сверкала глазами и белыми
зубами, и в конце концов ей удавалось вызвать у него улыбку.
В это же самое время подготовлялась страшная измена: Вшебору
рыли яму, а он и не подозревал об этом.
Хуже всего то, что и сама пани Спыткова, воспылав любовью
к Вшебору, которую она неожиданно открыла в себе, если и не
принадлежала к числу заговорщиков, то знала о заговоре и
смотрела на это сквозь пальцы.
615
И кто знает, не втянули ли в этот заговор и самого отца
Гедеона? А уж Белины приложили все усилия, чтобы он удался.
Задумали похитить Касю!
В трех милях от Ольшовского городища, вглубь страны, у Бе-
линов был кусок земли, деревня и господский дом. Каким-то чудом
он уцелел от погрома; из него только взяли все, что можно было
увезти.
Старая усадьба была теперь всеми оставлена, потому что после
поражения Маслава чернь, боясь мести, смирно сидела по своим
углам, и все возвращалось к прежним порядкам. Томко в
сопровождении нескольких вооруженных воинов выехал в Борки,
которые отец отдал ему во владение, и сам осмотрел их.
Там было тихо и спокойно как в могиле. Усадьба была
совершенно заброшена; в жилой дом свободно залетали птицы,
забегали куницы и лисицы, но стены были целы. Люди, которые
еще недавно дерзко грабили, разрушали, убивали, — теперь
присмирели и делали вид, что они ни о чем не слышали и
не знают.
За то время что Томко провел в Борках, он наслушался там
всяких чудес. Приходили к нему деревенские люди, кланялись ему
в ноги, вздыхали, охали, жаловались на плохие времена и
потихоньку шептали один на другого.
— Вот Мутка — тот, правда, ходил с этой чернью, у него
полны чуланы награбленного добра, да и Турга не лучше его. А
я все время дома сидел, да грыз сырую репу.
А потом приходил еще кто-нибудь и доносил на первого:
— Кисель всему виною, а теперь притаился и представляется,
что ничего не знает.
Томко не судил и не обвинял никого, все осмотрел, отдал
распоряжения и поехал назад в городище, не признаваясь никому,
кроме отца, куда ездил.
Доливы все еще не уехали; каждый день собирались в путь и
все не могли выбраться.
Мшщуй ждал, чтобы ему пообещали отдать Здану, Вшебор —
Касю.
Братья относились друг к другу с полным равнодушием;
вечером, сходясь вместе в горнице, почти не обменивались ни взглядом,
ни словом, — позевывали и ложились спать.
Однажды, когда они только что проснулись, но еще не вставали,
во дворе послышался страшный крик и жалобные причитания, как
будто кто-то умер или был близок к смерти.
Вшебор вскочил и стал прислушиваться. Он сейчас же узнал
голос Спытковой, — никто не умел так звонко голосить, как она.
Он поспешно оделся и выбежал во двор.
Посреди красного двора стояла Спыткова, одетая, как всегда,
очень нарядно, и, в отчаянии ломая руки, в которых был белый
платок, как будто нарочно приготовленный для вытирания слез,
плакала.
616
— Спасите меня бедную! Помогите мне сироте! Похитили
дочку мою, единственное мое сокровище! Кася моя дорогая! Где ты
теперь? Ох, доля моя несчастная!
Тут же стояли старый Белина и Ганна, Здана и все женщины,
было много слуг и служащих; все смотрели на вдову, слушали ее
причитания, но никто не двигался с места.
Не было только Томка.
Вдруг как буря налетел Вшебор.
— Что с вами, милостивая пани, что случилось?
— Ах, что случилось! Несчастная я сирота, Касю мою,
единственную мою радость, которую я берегла как зеницу ока, Касю
мою похитили!
— Как? Где? Когда? Кто такой? И на ваших глазах? Среди
белого дня? — вскричал Долива.
— Ничего я не знаю, ни кто, ни когда! Не знаю ничего!
Пропала, словно в воду канула! Нет мне утешения...
Спыткова снова заплакала и прикрыла глаза платком. Вшебор,
повинуясь первому побуждению, побежал в конюшню за конем,
глаза его засверкали жестоким гневом.
— Убью! — кричал он. — Знаю я, кто это мог сделать, знаю.
Не будет ему пощады! Догоню, убью, живым не уйдет он от меня,
хоть бы скрылся под землю, добуду его из-под земли! Не уйдет
он от меня!
Но, сообразив, что он один не может броситься в погоню,
побежал назад в горницу за Мшщуем.
Мшщуй, хотя двери остались открытыми, и он слышал все,
вовсе не спешил вставать; он лениво взялся за рукав своего
кафтана и высунул босые ноги из-под шкуры.
— Вставай скорее! На коня, за мной! Похитили мою невесту.
Мы должны догнать! Я убью насильника!
— А ты знаешь, кто ее похитил? — небрежно спросил Мшщуй.
— И ты еще спрашиваешь! Ты! Разве ты сам не знаешь? Кто
же мог это сделать, если не Томко Белина? — крикнул Вшебор.
— Может быть, и он, — спокойно отвечал брат. — Значит,
если ее похитили, и она пошла за похитителем, не позвав никого
на помощь, по доброй воле, — что же ты-то, с ума сошел, чтобы
скакать за ней? Что тебе в ней? Да люди будут в глаза тебе
смеяться, что ты взял ее после другого, оставил себе чужие
огрызки!
— Убью насильника! Убью! — зарычал Вшебор. — Кровью
смою свой позор!..
— Убьешь его за то, что он спас тебе жизнь? — возразил
Мшщуй. — Да неужели же твоя жизнь не дороже какой-то там
девчонки?
Мшщуй посмеивался равнодушно; ему-то хорошо было смеяться
над чужой бедой! В это время в открытую дверь вбежала Спыткова.
— Вы хотите гнаться за ними? Ах, я несчастная! Еще и вас
убьют! Не пущу я вас! Безумный человек, вы готовы бить и уби-
617
вать всех ради девушки! Да он вас убьет! А у меня нет никого на
свете, кроме вас! Не пущу я вас! Делайте со мной, что хотите!
Эти слова Спытковой и спокойствие брата охладили Вшебора.
Он бросился на лавку с опущенной головой, скрипя зубами,
бормоча сквозь зубы проклятья, ерошил и рвал на себе волосы;
кулаки у него сжимались, глаза выскакивали из орбит, пот
выступил на лбу, ногами он бил о землю.
— Гнаться за ними не буду, но из этого дома мы должны
сейчас же уехать! Меня здесь встретило не гостеприимство, а
измена. Я знать их не хочу! Вставай, Мшщуй, уедем отсюда! Я не
буду спать под одной крышей с ними, не хочу есть их хлеб.
— Ну, и поезжай, — сказал Мшщуй, — только меня оставь в
покое, я не могу с тобой ехать, потому что у меня захромал конь,
да я и не желаю уезжать. К чему мне спешить?
Спыткова слушала этот разговор, не отходя от несчастного
Вшебора; она даже подсела к нему на лавку и ласковым голосом
заговорила с ним.
— Я отрекусь от неблагодарной дочери! — говорила она. —
Не пущу ее к себе на глаза! Но что же делать? Что сделано, того
уж нельзя поправить! Кто знает, где они теперь, и, наверное,
ксендз благословил их... Да вы успокойтесь, давайте лучше
поговорим о чем-нибудь другом. Ведь вы же не можете оставить меня
здесь одну, — осталась я совсем сиротой, и кто же позаботится
обо мне в моем вдовстве, если не вы?
Услышав, какой оборот принимал разговор вдовы с братом,
Мшщуй поспешно набросил на себя плащ и пошел осмотреть своего
захромавшего коня, предоставив их друг другу.
Так они просидели на лавке часа два — никто им не мешал.
Порешили на том, что Вшебор непременно уедет из городища, но
только... за ворота. А там подождет Спыткову и вместе с ней поедет
в Понец.
Она так мило упрашивала его, так умела и всплакнуть, и
глазами блеснуть, что Вшебор наконец сдался.
По-видимому, дорога в Понец была вполне безопасна. Собек
уже два раза ходил туда на разведку и уверял, что никогда еще
не было там так спокойно, как теперь. Много людей разбежалось,
и убытки были огромные, но не так, как в Борках, да и повсюду
в стране все уже возвращалось к старым порядкам.
Вдова непременно хотела вступить во владение имением мужа
и распоряжаться там как хозяйка, а в помощь и в защиту себе
она везла Вшебора, чтобы братья Спытка не исключили ее из
общего наследства.
Она внушила ему, что он должен взять на себя заботу о ней,
потому что покойник именно ему хотел вверить опеку над своей
семьей и даже завещал ей это.
Каким образом ей удалось уговорить потрясенного всем
происшедшим Вшебора, чтобы он сопровождал ее, это осталось ее
тайной, — но в результате Долива согласился.
618
Он тотчас же, ни с кем не прощаясь, выехал из городища,
велел разбить себе палатку на лугу и до следующего утра поджидал
в ней Спыткову.
Весь этот день Спыткова провела в приготовлениях к дороге и
в прощальных разговорах с Белинами и остальными своими
товарищами по заключению в замке. Она болтала не переставая,
шептала что-то на ухо то одной, то другой, всех обнимала, плакала
и смеялась, вздыхала, молилась, торопилась укладываться, о Касе
же не было и речи.
Рано утром в сопровождении небольшого отряда, данного ей
для охраны, Спыткова двинулась в путь к Понцу вместе со своим
опекуном, который всю дорогу молчал как рыба и был зол и
бледен.
Через несколько дней после этого Мшщуй, оставшийся в
городище из-за своего коня, торжественно обручился со Зданой, и на
этот день Кася с мужем приехали из Борков. Так как свадьбу
нельзя было справить так, как полагалось по обычаю, то решено
было отпраздновать оба эти события вместе тогда, когда Мшщуй
приедет за Зданой. Прежде всего надо было устроить мягкое
гнездышко, чтобы ввести в него золотую пташку. Так окончилась
двумя свадьбами осада Олыповского городища, надолго сохранившаяся
в местных преданиях.
Прошло еще несколько месяцев... Король Казимир совершал
победоносное шествие по стране, в которой он восстанавливал
порядок и спокойствие, укреплял христианскую веру, радостно
приветствуемый всем населением.
Шутливое сватовство Спытковой в присутствии русских послов
наполнилось реальным смыслом после победы, одержанной с
помощью Руси.
Из Киева получили обещание выдать за молодого короля дочку
Владимира Доброгневу, которая должна была пополнить
истощенную казну богатым приданым.
Чехи по приказанию папы и под угрозами Генриха понемногу
оставляли все завоеванные ими земли. Возвращалось духовенство,
и заново освящались костелы.
Бог снова взглянул милостивым оком на выдержавшую столько
тяжелых испытаний страну.
Приближалась осень, и окрестные леса зазолотились желтыми
листьями, когда Белины стали рассылать приглашения родным и
соседям на торжественное празднование свадьбы сына и дочери.
Мшщуй, который жил отдельно от брата и имел собственное
хозяйство, а с братом после того дня, когда он счел его чуть
не изменником за его расположение к Белинам, виделся редко,
почувствовал своим долгом, едучи на свадьбу, явиться к
старшему брату, как к главе семьи, и попросить у него
благословения.
Отправляясь к нему, он заранее был уверен, что встретит
неласковый прием. Но он готов был на все, лишь бы совесть
619
его была спокойна сознанием выполненного долга перед старшим
братом.
У Вшебора, который всегда горячо брался за всякое дело, уже
многое было налажено за это короткое время. Жилой дом был
заново отстроен, а в хозяйственных пристройках было мною коней
и псов, слуг и всякого вооружения.
Он как раз возвращался с охоты, когда брат подъезжал к дому.
— Пришел к вам с поклоном, рушником и караваем, — сказал
Мшщуй. — Не смею просить вас на свадьбу в городище, потому
что знаю, что вы гневаетесь на Белинов, на меня и на Касю, но
не откажите, как старший брат, благословить меня.
Говоря это, Мшщуй встал на колени перед старшим братом,
как перед отцом, и склонил голову.
Вшебор обнял его за плечи и молча поцеловал.
— Пусть Бог благословит! — коротко сказал он. — Пойдем со
мной в дом. Ты меня совсем забыл, а я, ты знаешь, не люблю
кланяться тем, которые меня забывают.
— И я тоже, — отвечал Мшщуй. — Мы, брат, одной с тобой крови.
Оба рассмеялись веселее... Вошли в горницу. Вшебор приказал
подать меду, хоть молодого, потому что старый выпила чернь, но
крепкого. Чокнулись братья.
Но разговор долго не клеился.
— Ну, а что бы ты сказал, — буркнул Вшебор, — если бы и
я тоже женился?
— Милый мой брат, я пожелал бы тебе счастья, как самому себе.
— Ну, так и пожелай, — рассмеялся старший брат. — А
знаешь ли, на ком я женюсь? Да на Спытковой! От своей судьбы не
уйдешь. Околдовала меня ведьма! Красота и молодость скоро
проходят! Вдова, правда, не так уж молода, но еще хорошо держится
и сумела взять меня за сердце. Если кто почувствует, что его
любят, то уж и сам полюбит из благодарности! А баба страшно в
меня влюбилась!
Подумав, Вшебор прибавил:
— А что бы ты сказал, если бы все три свадьбы отпраздновать
сразу?
— Чего же лучше! — воскликнул Мшщуй. — И началась бы
в мире и спокойствии новая жизнь!
Братья поцеловались.
— Завтра же поедем к моей бабе! — сказал Вшебор. — Если
я ей скажу, что мне так хочется, она сделает все, как я пожелаю.
Она пошла бы за мной в огонь и в воду. Ну, значит, завтра на
рассвете едем в Понец, заберем мою бабу, а возы я тотчас же
следом за нами вышлю в городище!
Как решил Вшебор, так и сделали; двинулись в путь к той
несчастливой долине, в которой все пережили такие страшные дни.
Три свадьбы были отпразднованы в воскресенье. Погода
благоприятствовала торжеству, съехалось много рыцарства, и дом старого
Белины выглядел теперь совсем иначе, чем раньше.
620
В большой горнице внизу, в которой в тревожные дни
собирались все главные участники обороны, теперь были поставлены
столы для гостей. Шум веселья и громкие возгласы разносились по
обоим дворам замка.
Был уже поздний вечер, и празднество становилось все более
шумным и оживленным, когда вдруг все — и гости, сидевшие за
столом, и молодежь в соседней комнате — вздрогнули от
неожиданности и испуга.
У ворот замка раздался громкий и какой-то необыкновенный,
никем не слыханный звук трех труб... Рога и трубы соседей были
всем уже известны, их можно было легко распознать, но тут было
что-то совсем новое и страшное.
В горнице все повскакали с мест, поспешно хватаясь за мечи;
невольно вспомнилось всем недавнее грозное время. Все бросились
к воротам. Белина уже стоял на возвышении над ними, но, едва
взобравшись, он проворно спустился вниз, приказывая раскрыть
ворота настежь.
— Король, король! — раздавались крики в замке.
Это был, действительно, сам король. Он стоял лагерем
неподалеку от городища. Ему сказали, что в замке справляют целых три
свадьбы сразу, и государь пожелал повеселиться в кругу своих
верных слуг и дружины. Вся горница сразу наполнилась народом,
потому что всем хотелось поглядеть поближе на своего дорогого
короля. Заняв приготовленное ему место, король снял свою соболью
шапку и осмотрелся вокруг.
— Хозяин! — сказал он. — Не думайте, что я приехал к вам
только как гость, нет, я явился сюда как судья. Здесь есть
виновные, которые должны предстать передо мною на суд.
Король сделал знак старому Трепке, и тот начал свою речь
такими словами:
— Да, милостивый государь не может простить того, что его
воля и его приказ не были выполнены. Подойдите ближе,
подлежащие королевскому суду, вы, Марта, вдова Спытка, вы, дочь
Спытка Катерина и ты, Томко Белина! По воле государя дочь
Спытка должна была достаться Вшебору Доливе, вы дали ему слово
и не сдержали его!
Хоть Трепка говорил все это далеко не грозным тоном, все
переглянулись между собой и не знали, что сказать и как
поступить. Тогда Томко, взяв за руку жену, сиявшую в тот день
великим счастьем и радостью, подошел к королю и опустился перед
ним на колени.
— Если и есть тут виновные, то только я один. Пусть же и
наказание падет на меня одного!
Подошел и Вшебор и поклонился королю.
— У ног королевских прошу за него; он спас мне жизнь! А
вот доказательство того, что я не пострадал из-за него: сегодня я
повел к алтарю ту, с которой стою перед тобой...
Король улыбался.
621
— Хорошо было бы, если бы все были грешны только таким
непослушанием! — сказал он, весело смеясь. — Но все же без
наказания нельзя этого оставить! — прибавил, он, делая знак
одному из своих приближенных.
Тот выступил вперед и подал королю золотые цепи.
— Чтобы вы всегда помнили о своей вине, — сказал он, —
носите вот эти цепи и, как только взглянете на них, думайте обо
мне.
Все стали на колени перед Казимиром, а он возложил цепи по
очереди женщинам и мужчинам. Радостные крики зазвучали в
замке, а король, взяв кубок из рук хозяина, выпил за здоровье
новобрачных.
И день этот сохранился в преданиях, и память о нем
передавалась из поколения в поколение, как и воспоминание о страшных
днях тревоги и ужаса, за которые он был щедрой наградой.
СОДЕРЖАНИЕ
ЯНСОБЕСКИЙ 5
Часть 1 7
Часть II 103
ГЕТМАНСКИЕ ГРЕХИ 201
МАСЛАВ 425
Часть 1 427
Часть II 529
Юзеф Игнацы
КРЛШЕВСКИЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 10 ТОМАХ
ТОМ 5
Редактор Д. Глазков
Художественный редактор И. Марев
Технический редактор Н. Привезенцева
Корректор В. Антонова
ЛР№ 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 04.03.96.
Уч.-изд. л. 46,05. Цена 24 900 р.
Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.
Оригинал-макет подготовлен ТОО «Макет».
141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.
Scan Kreyder - 02.04.2018 - STERLITAMAK