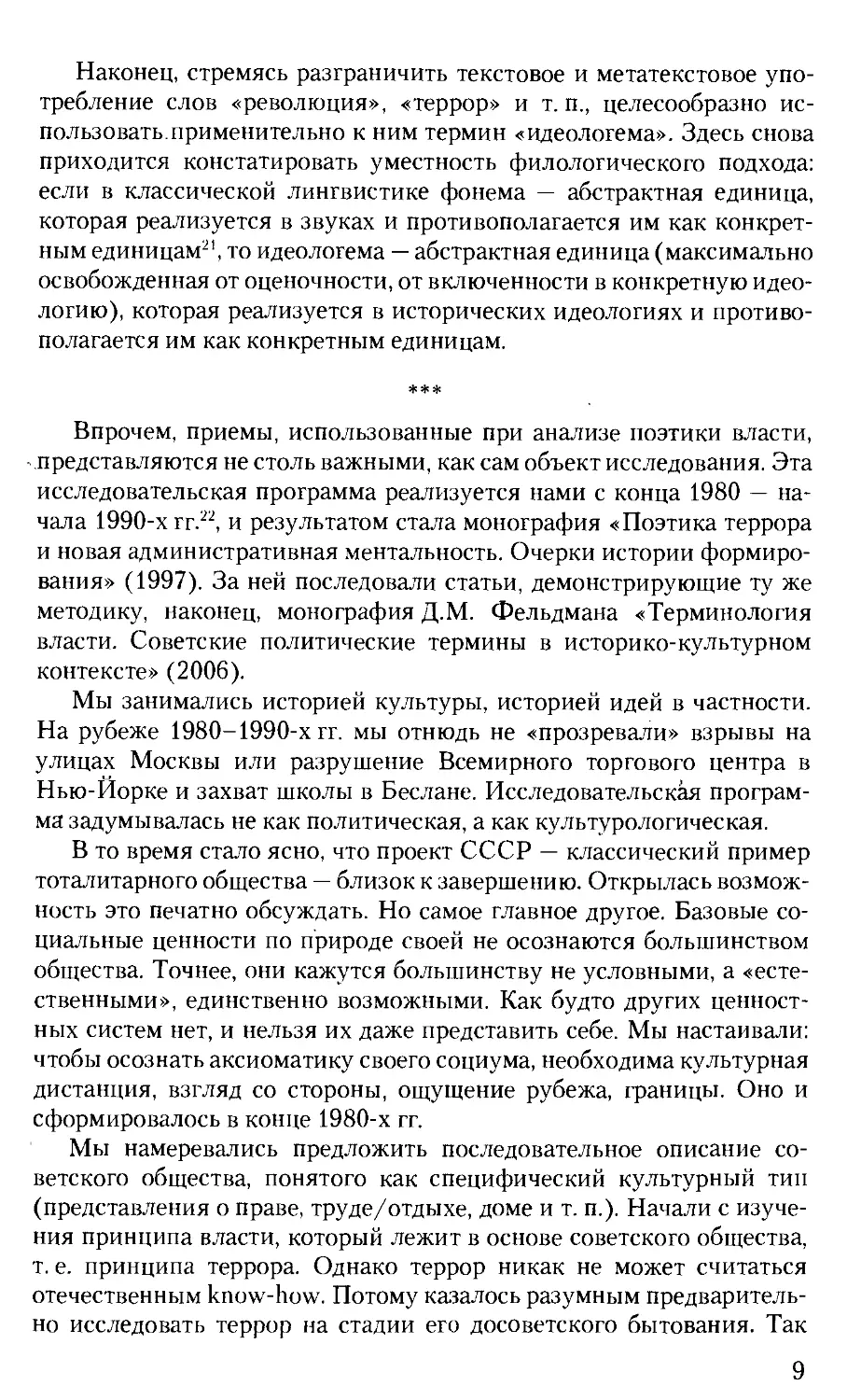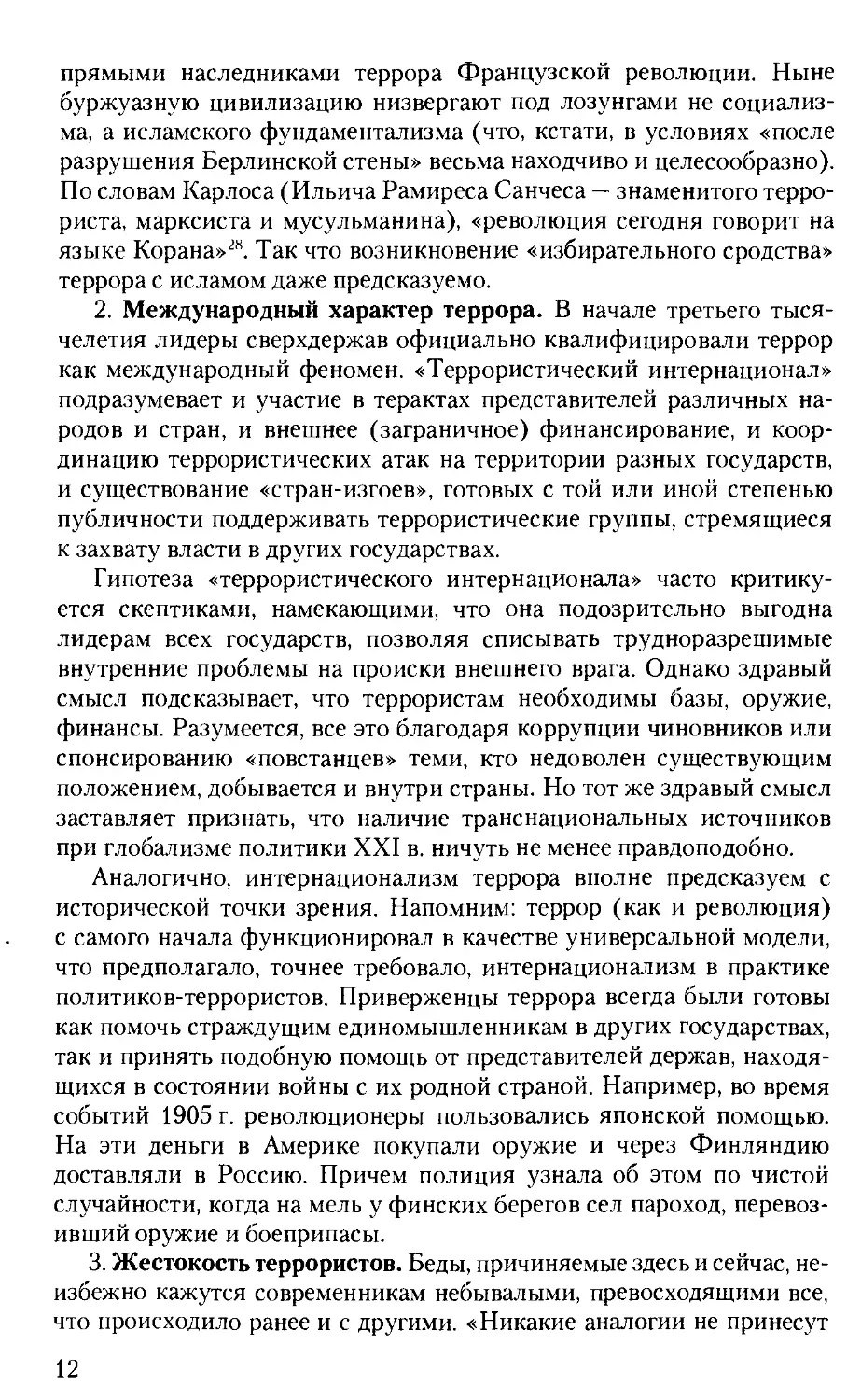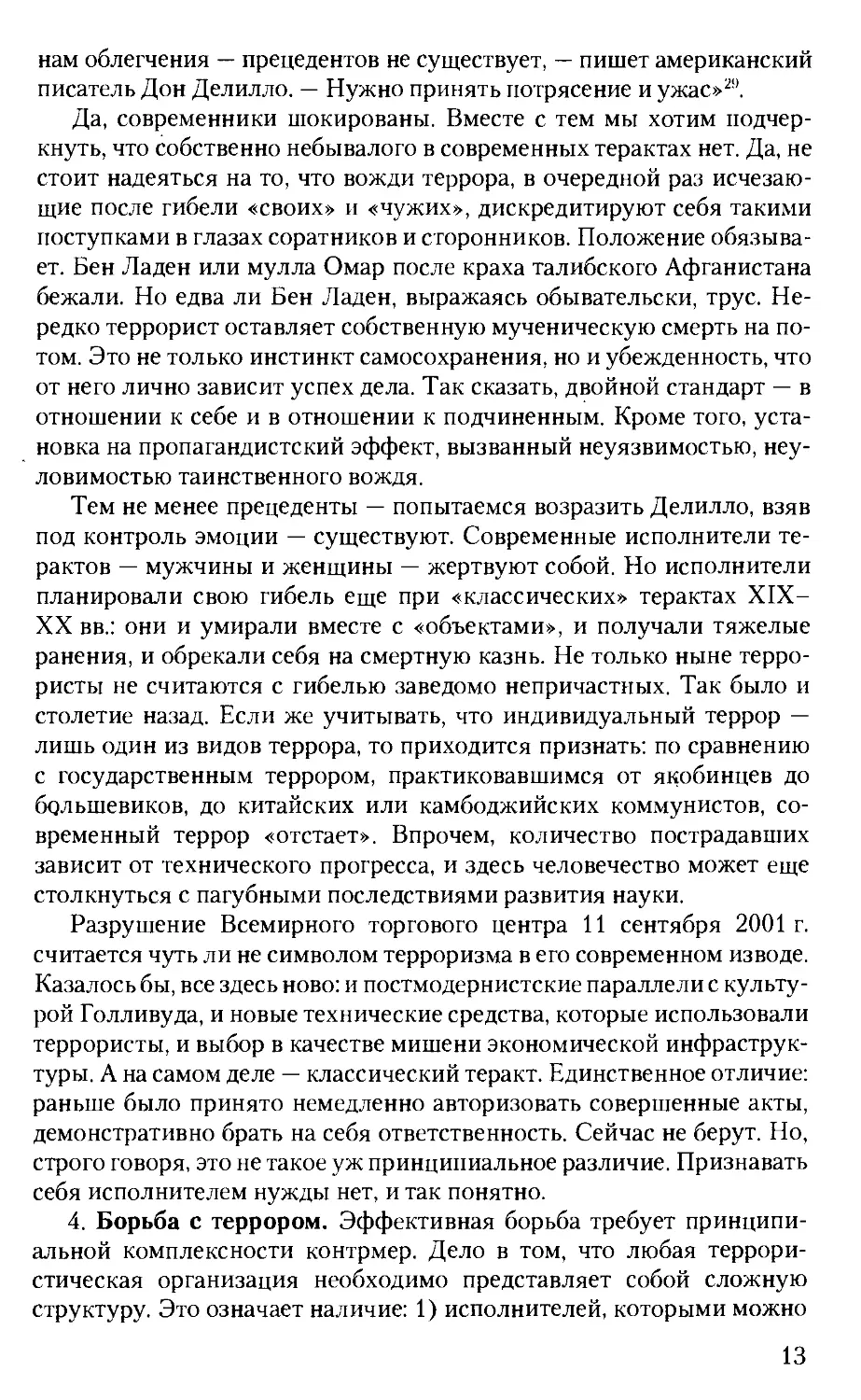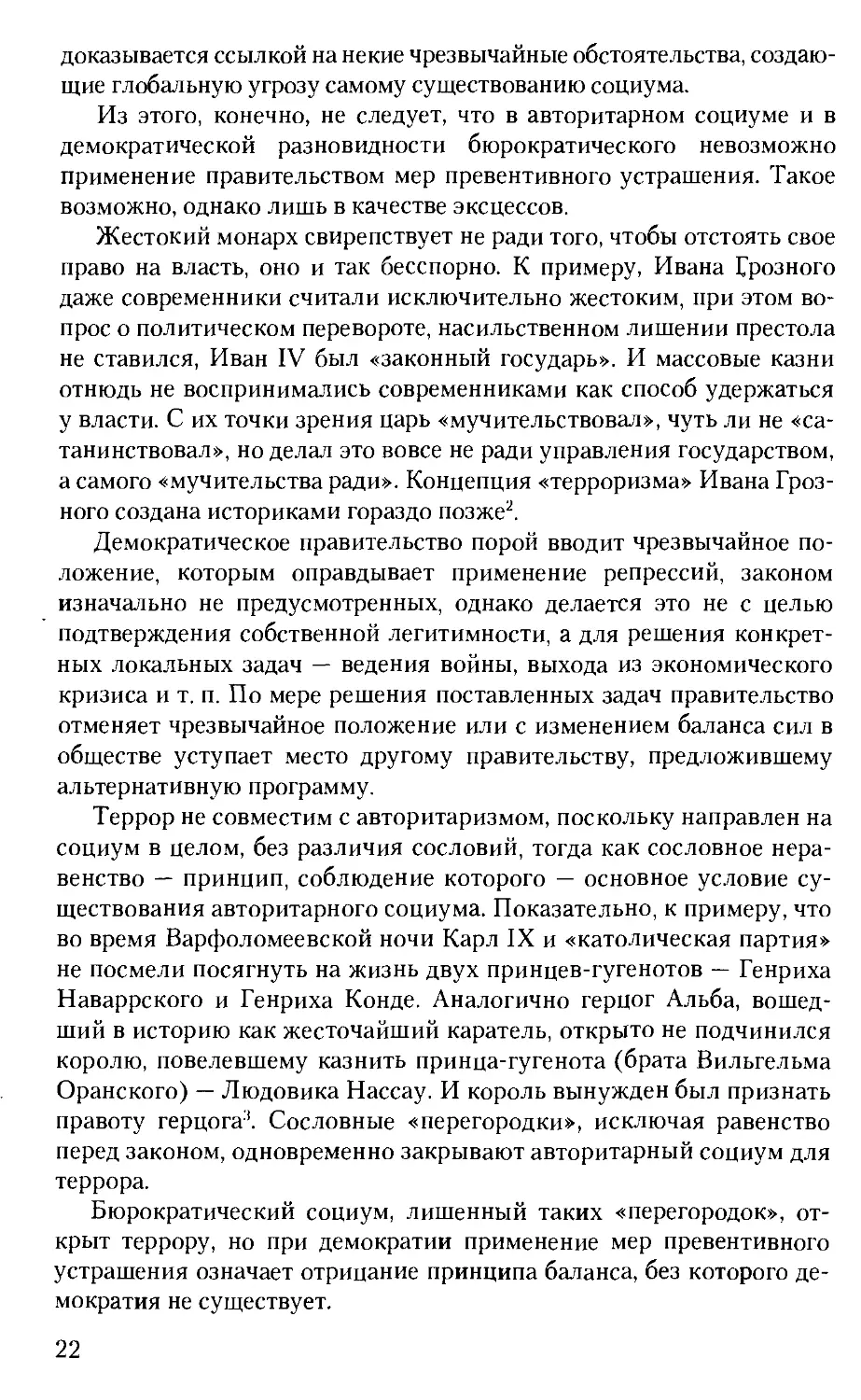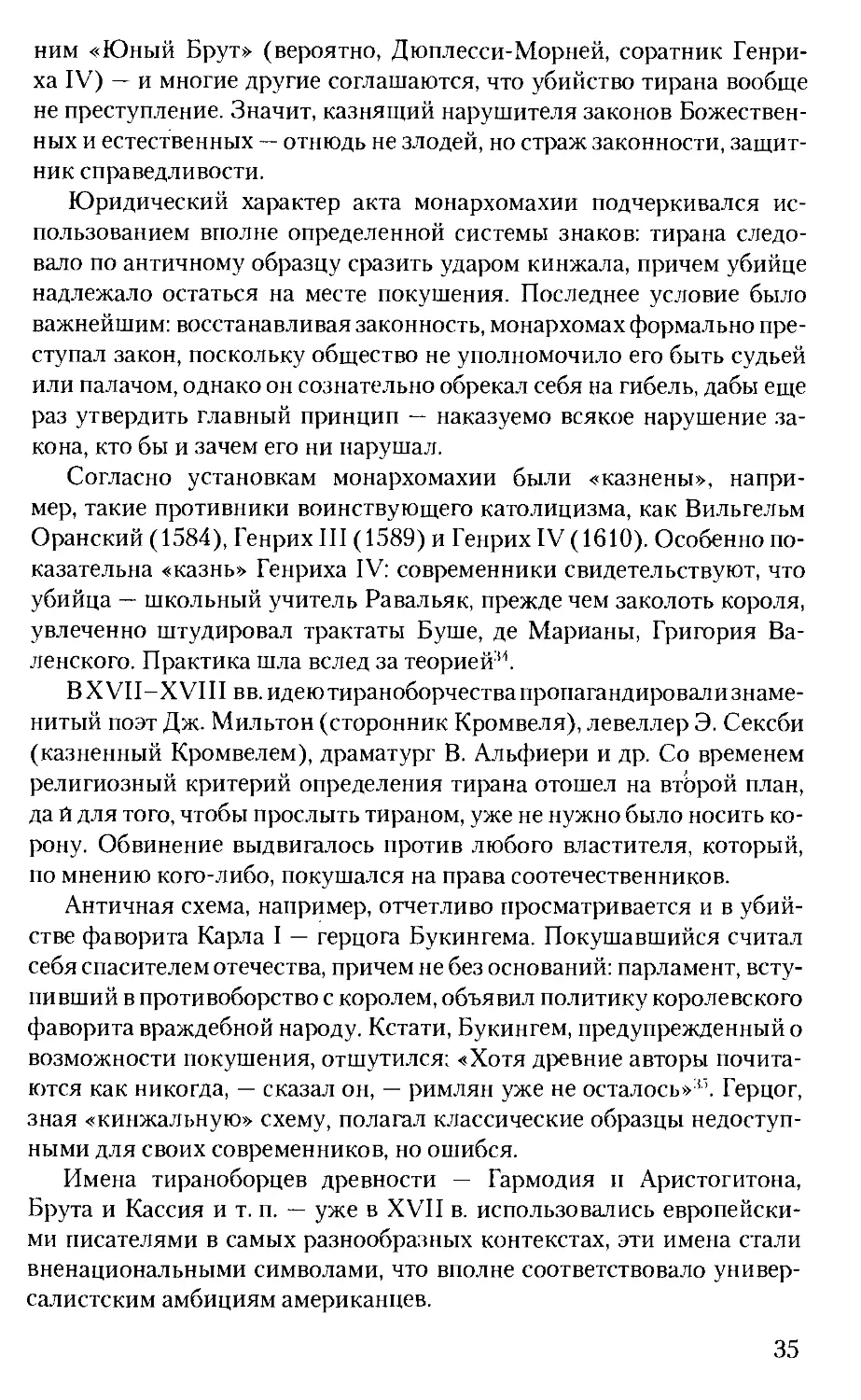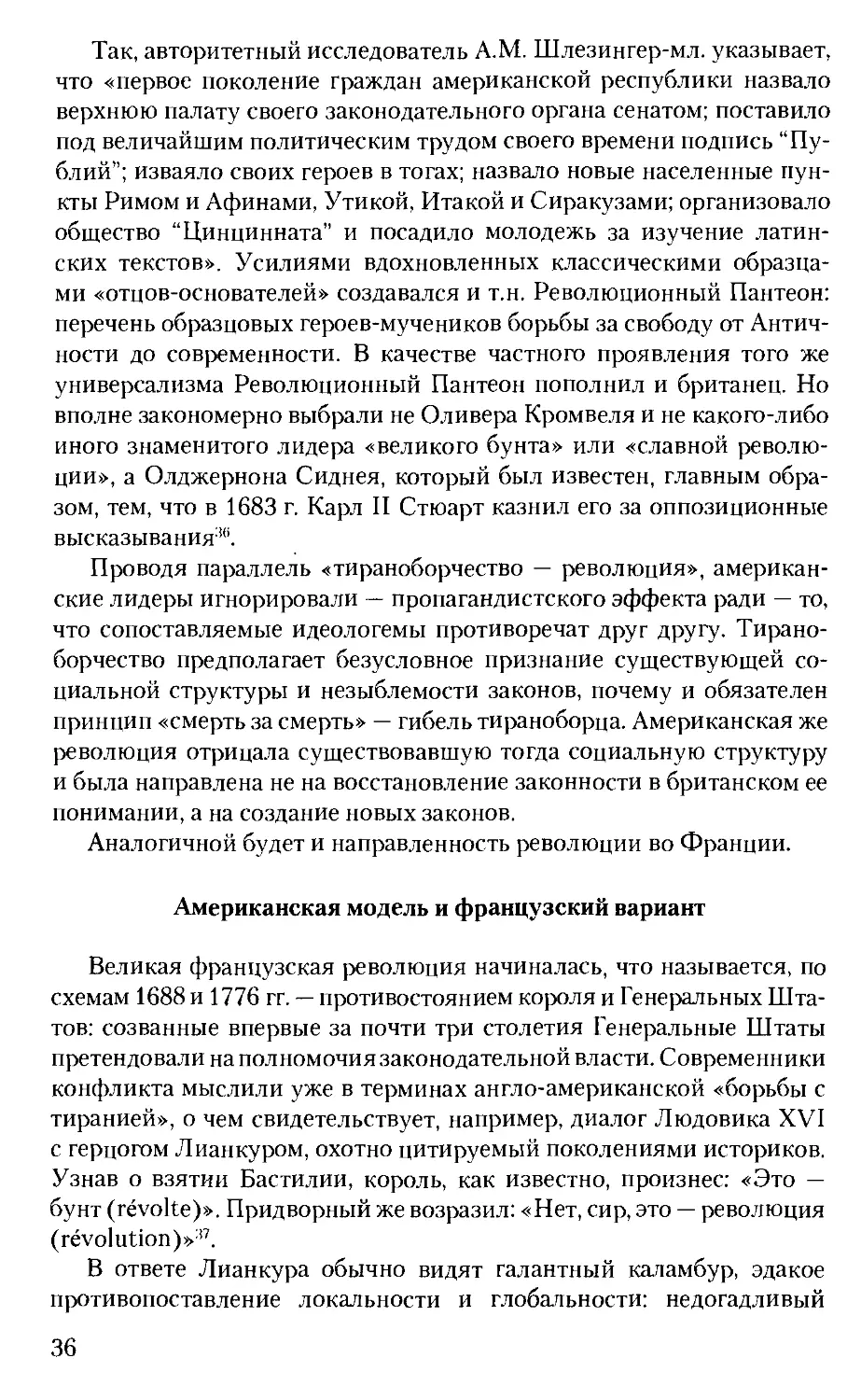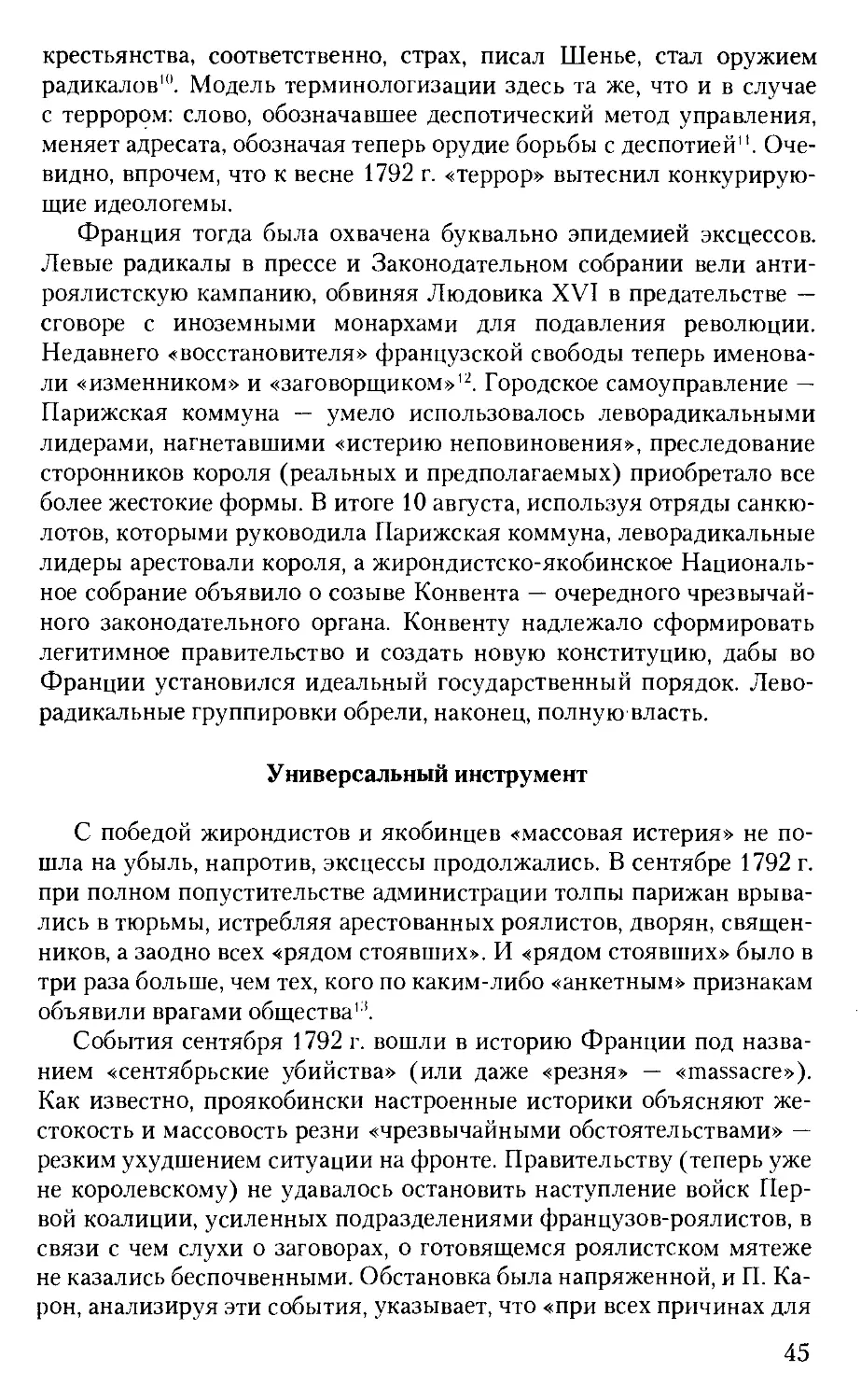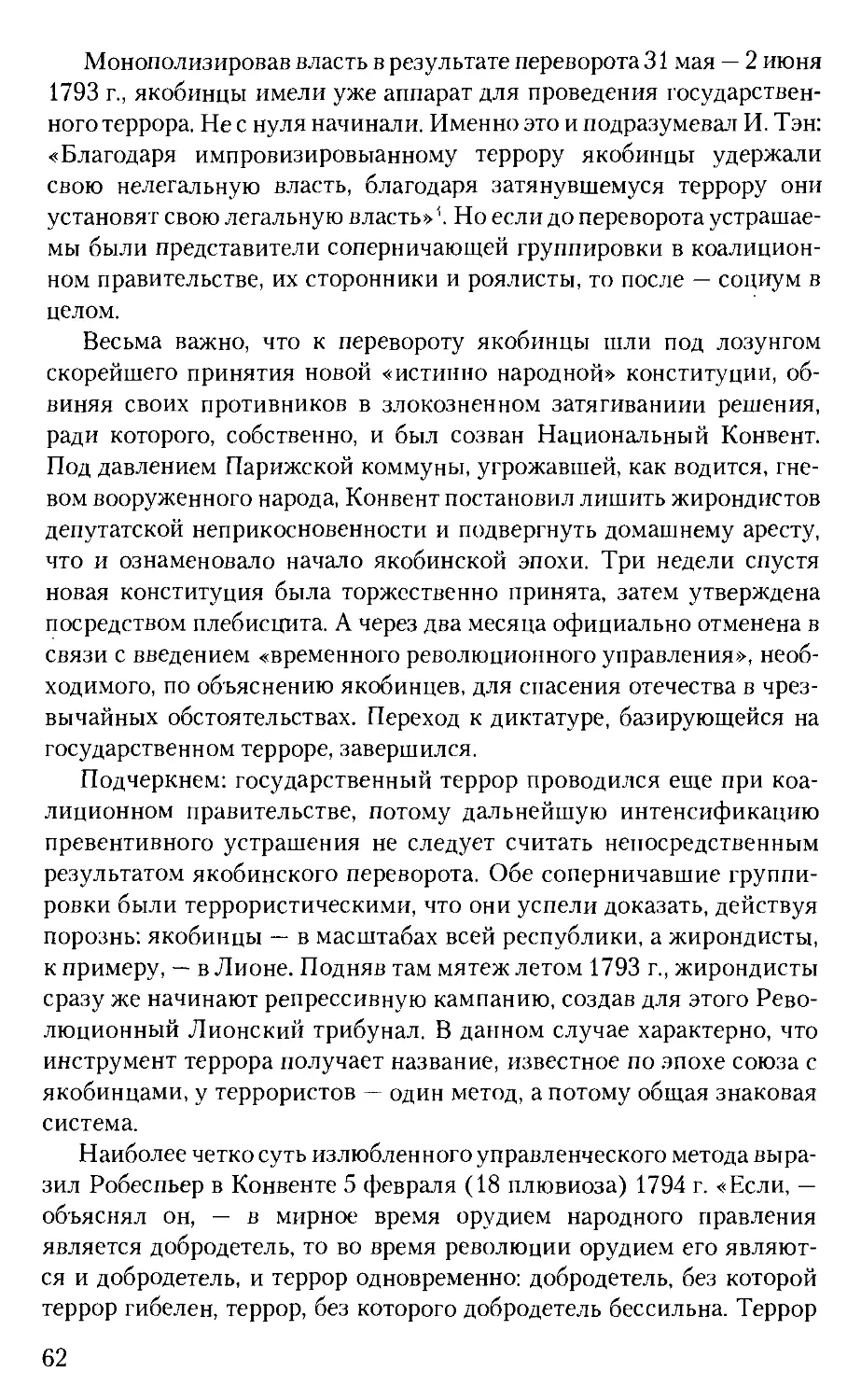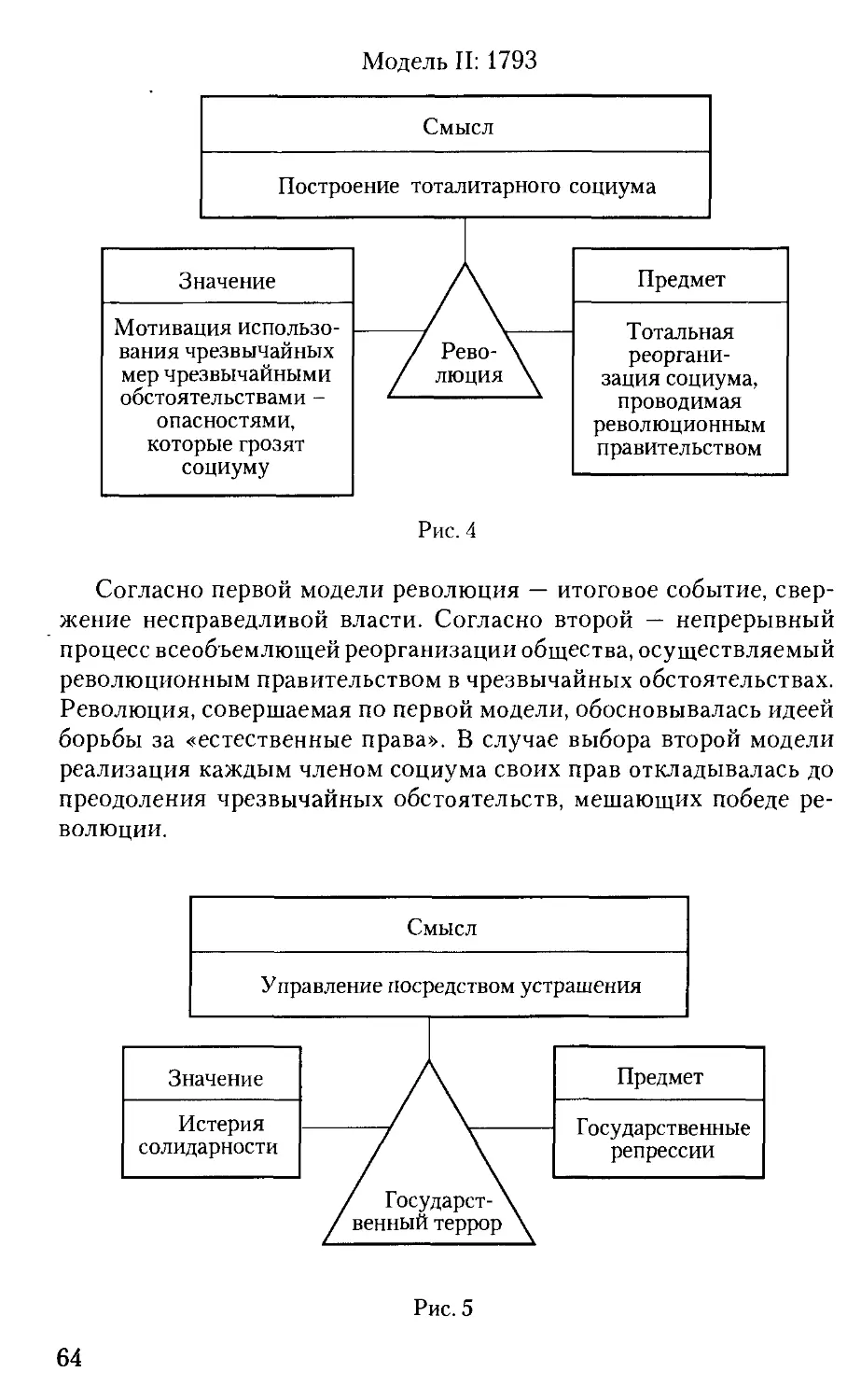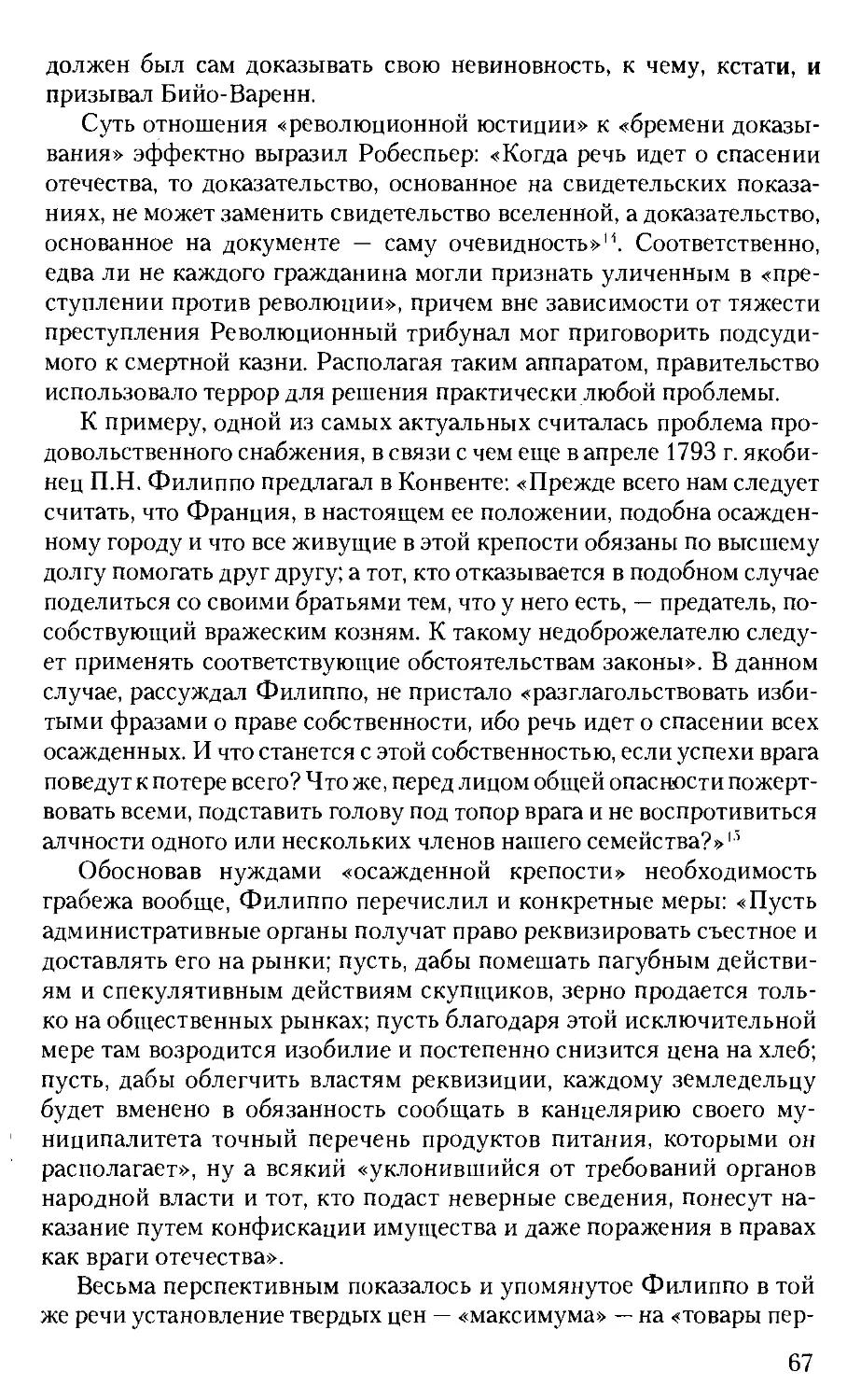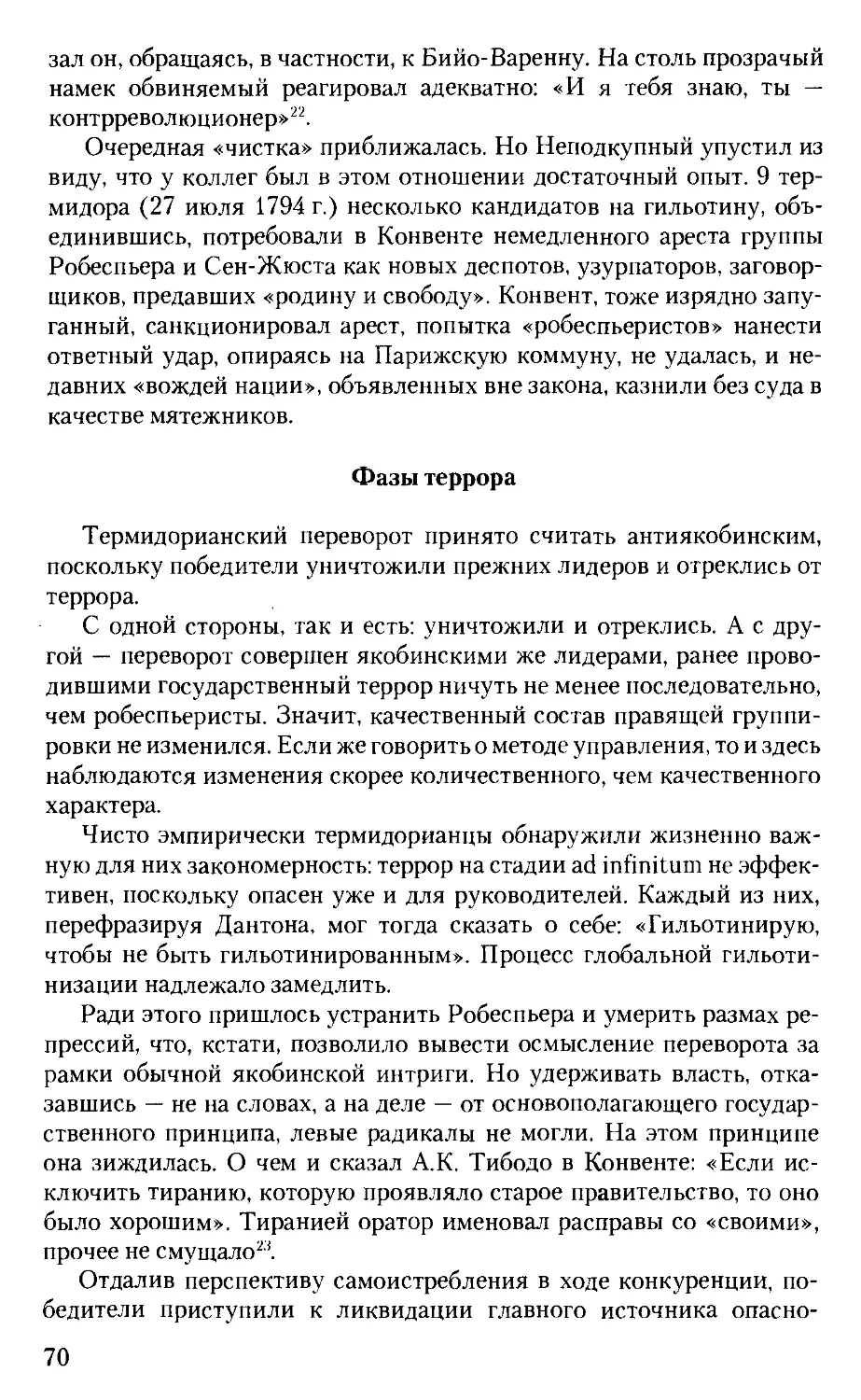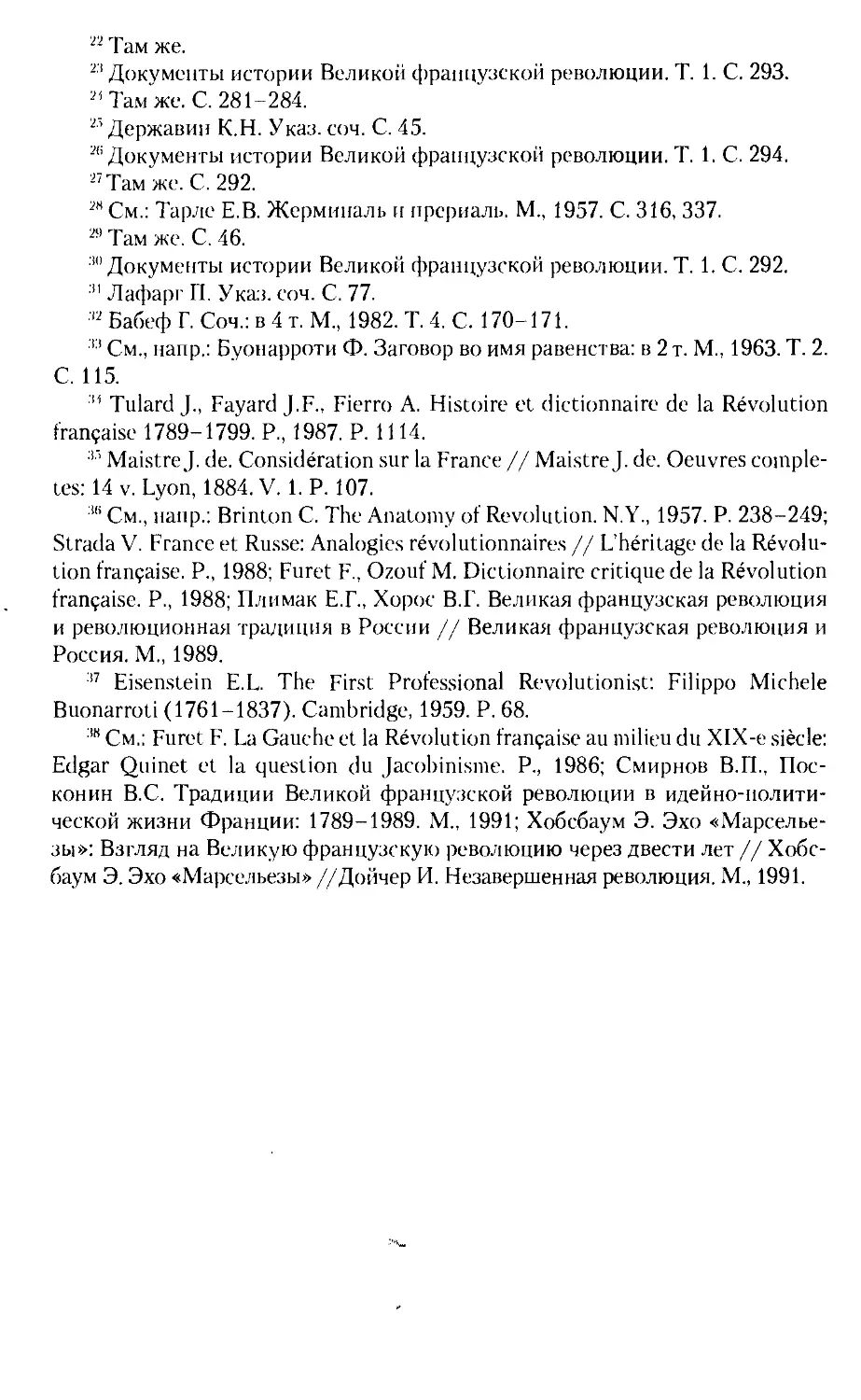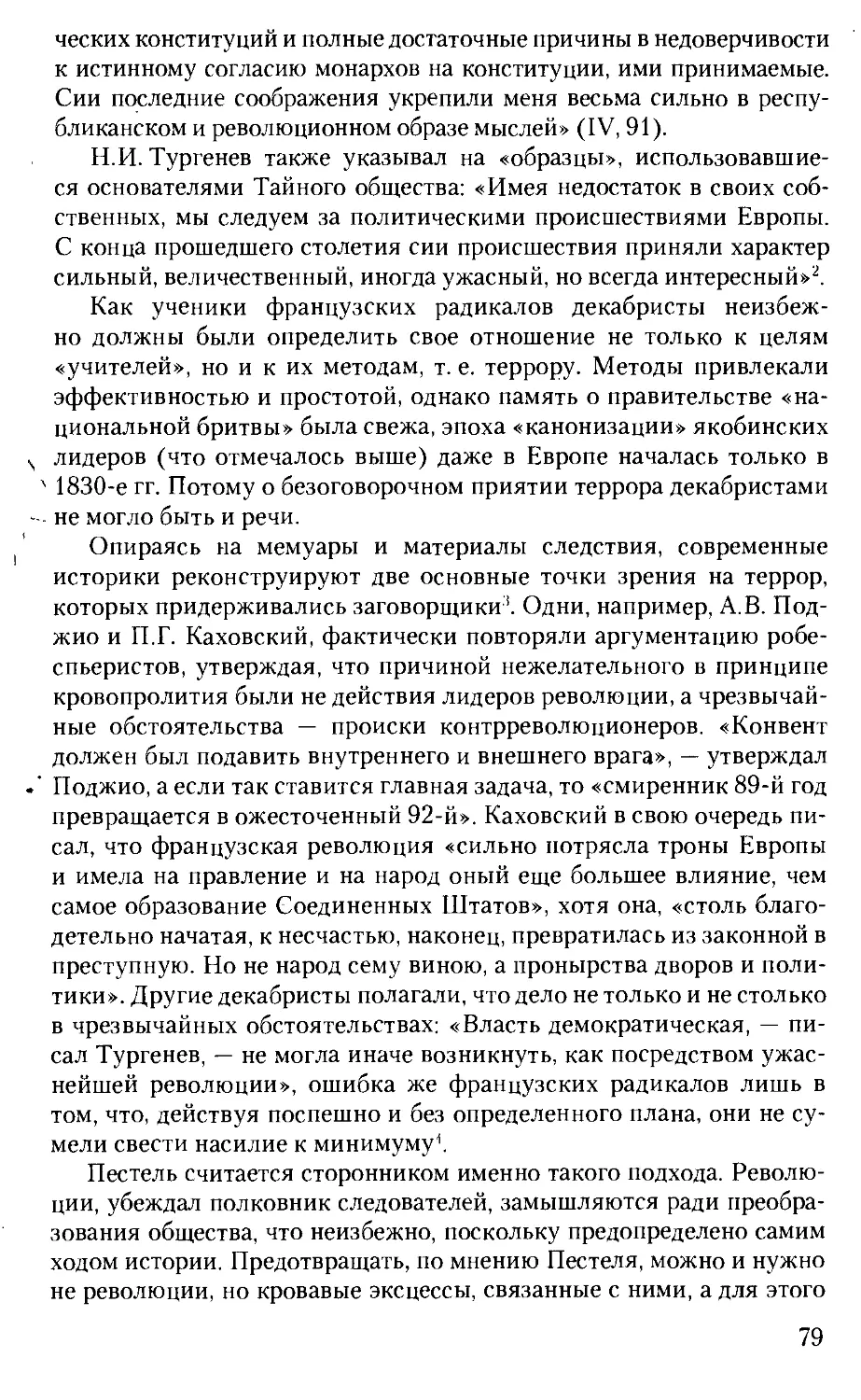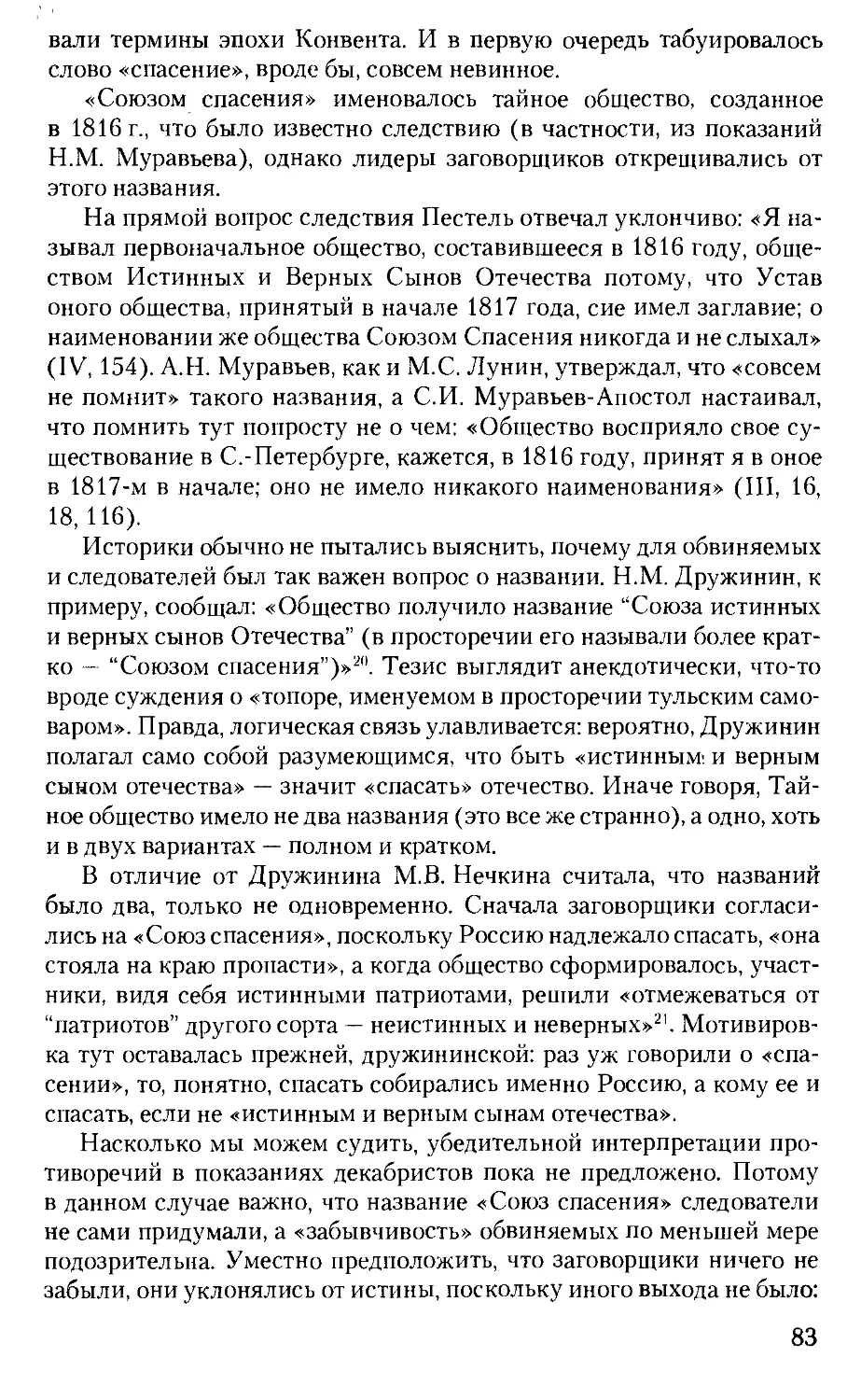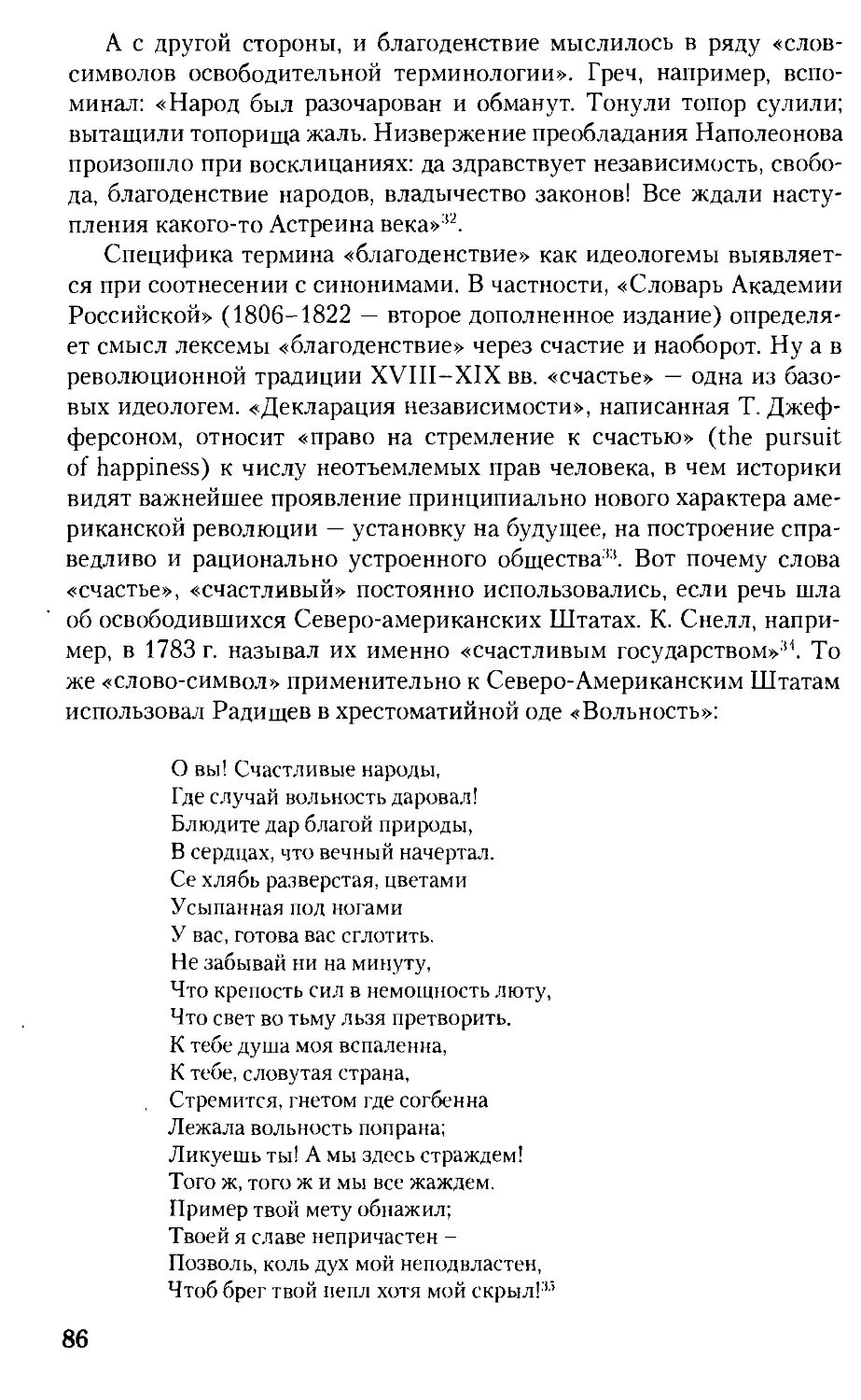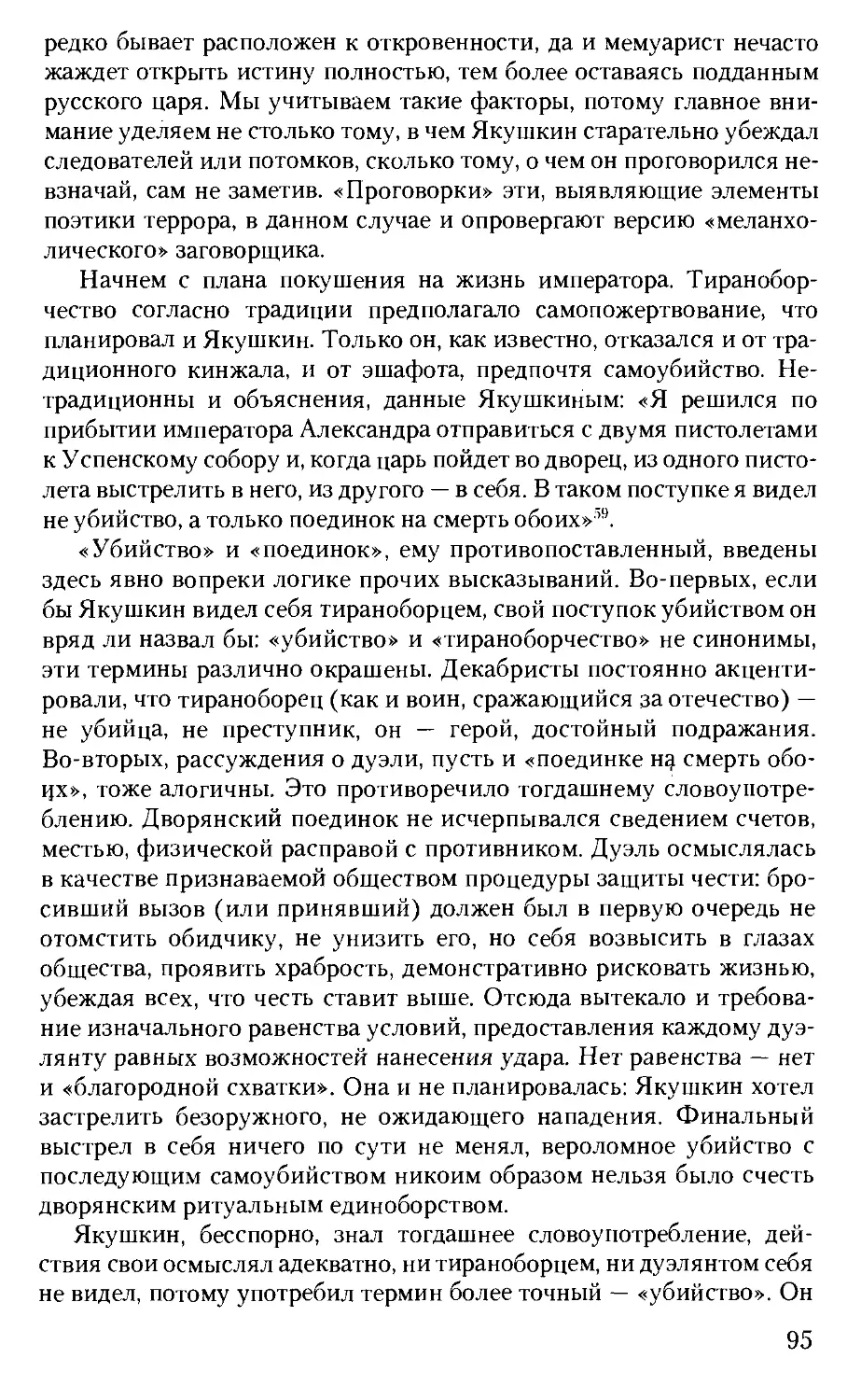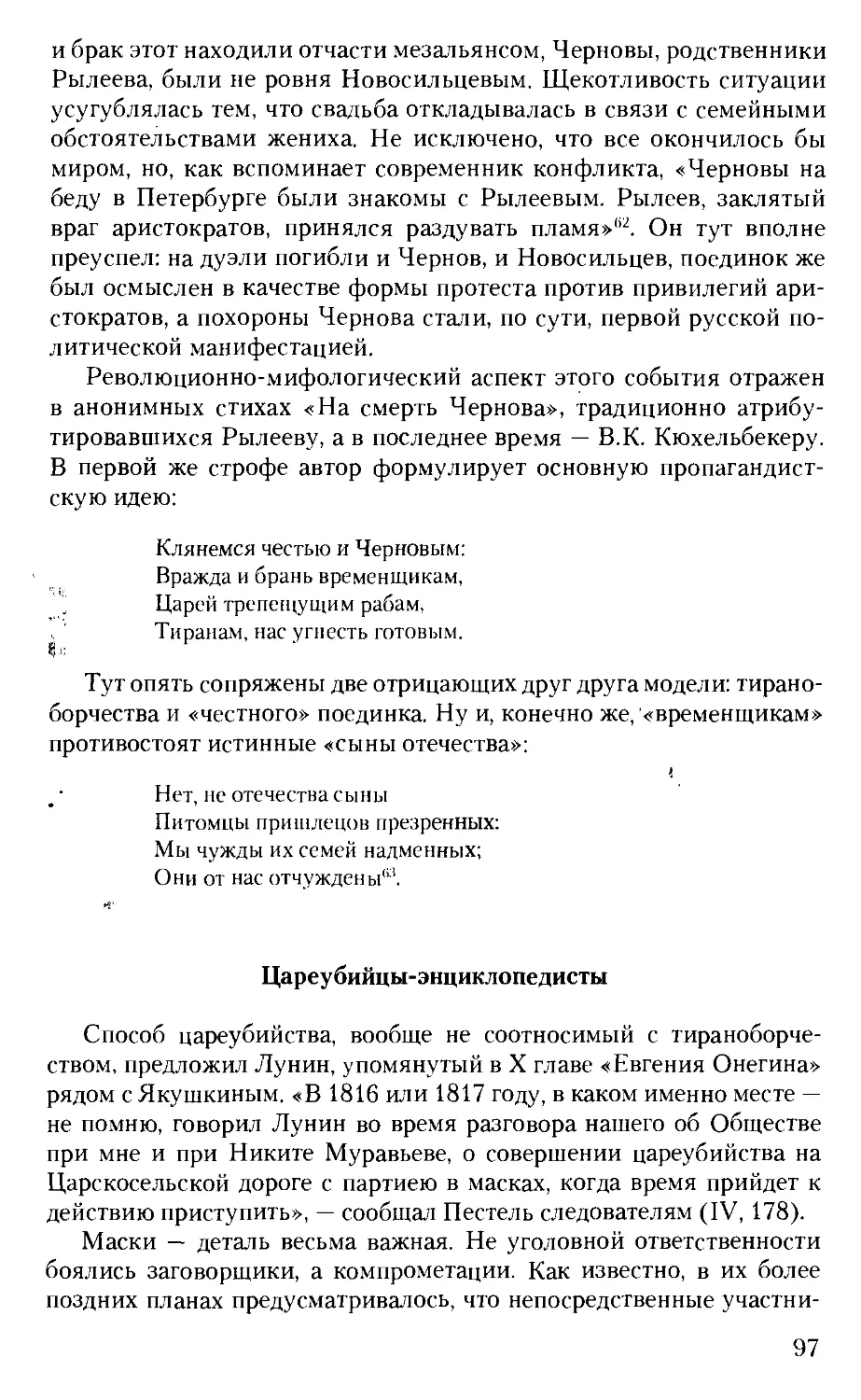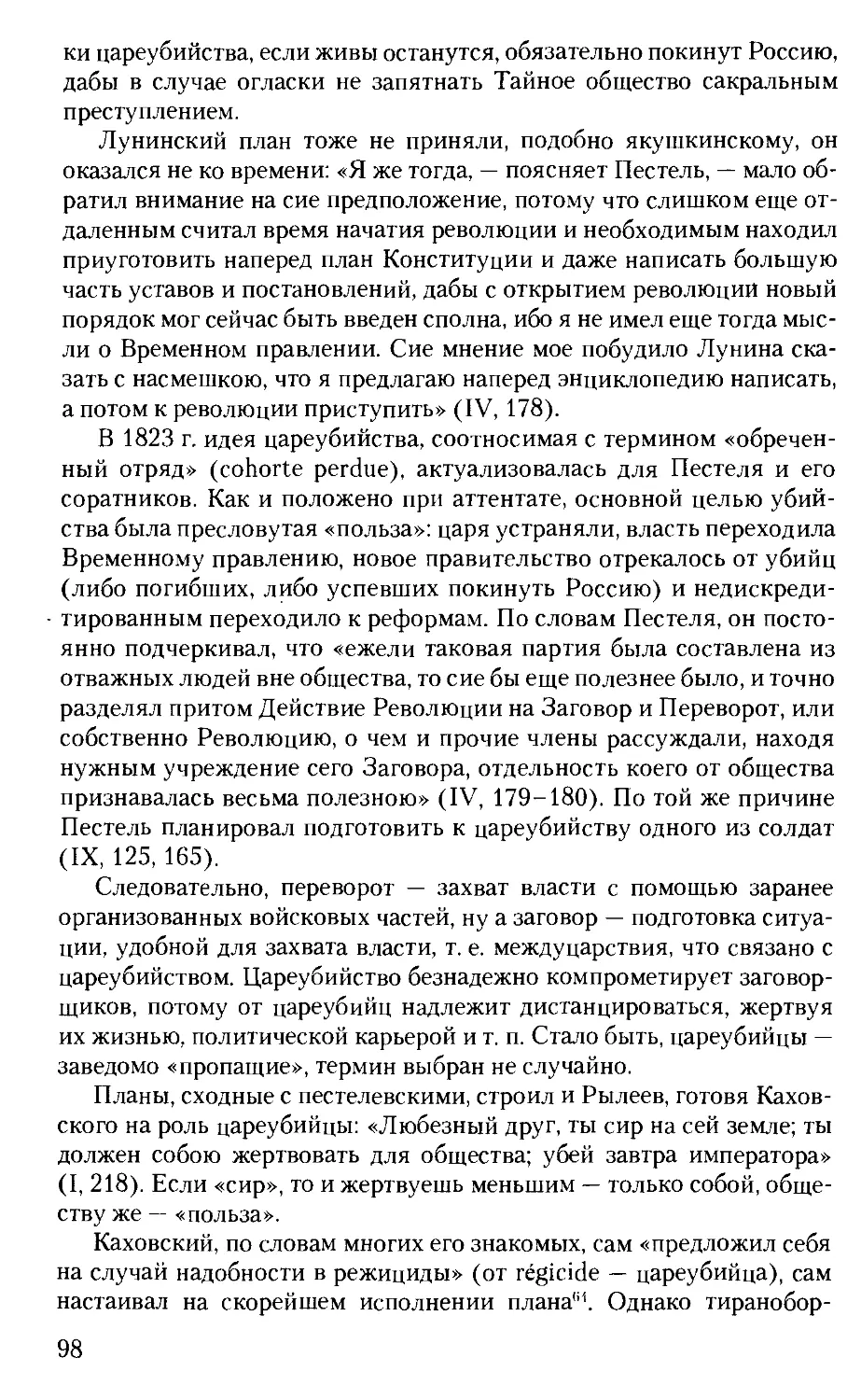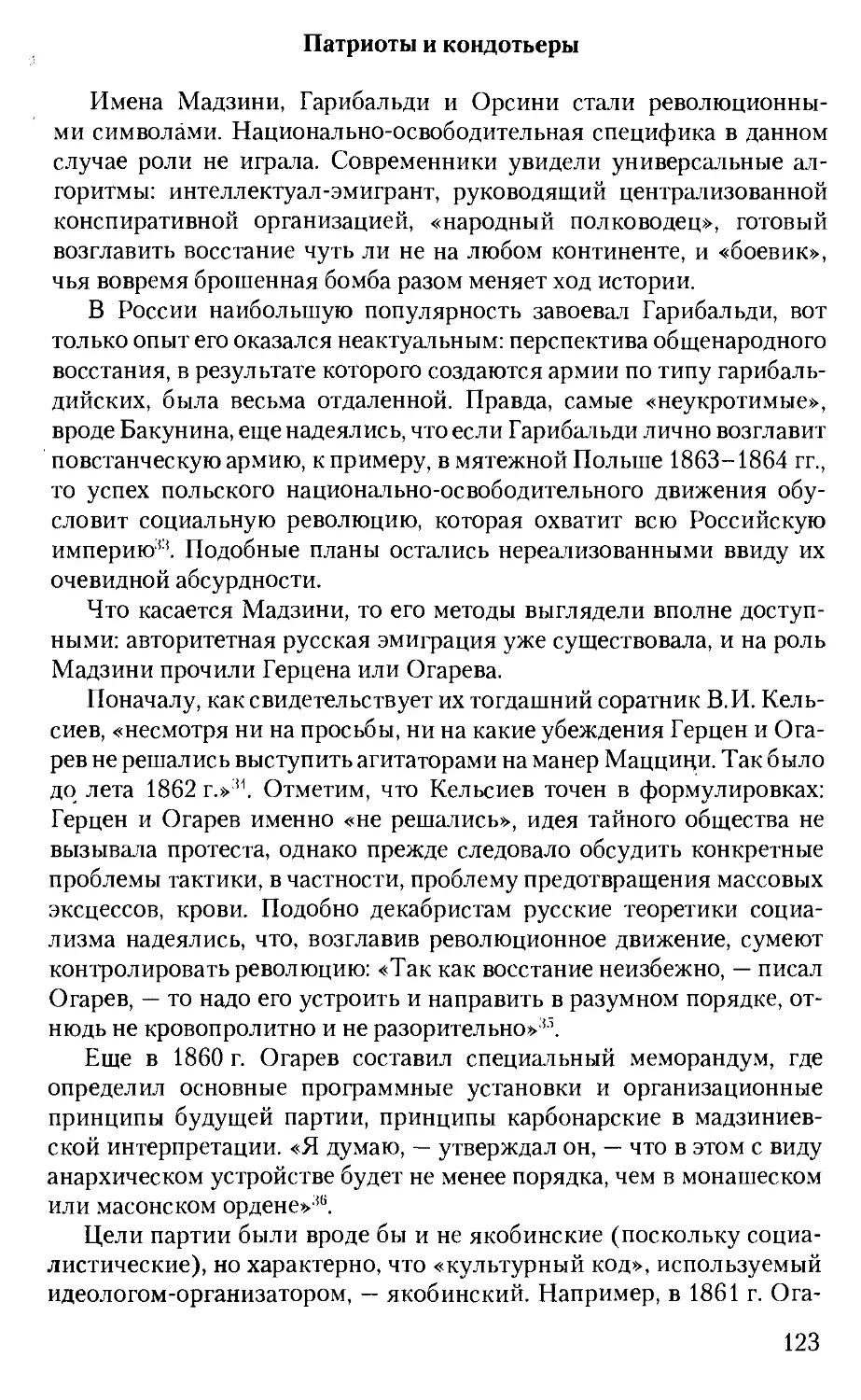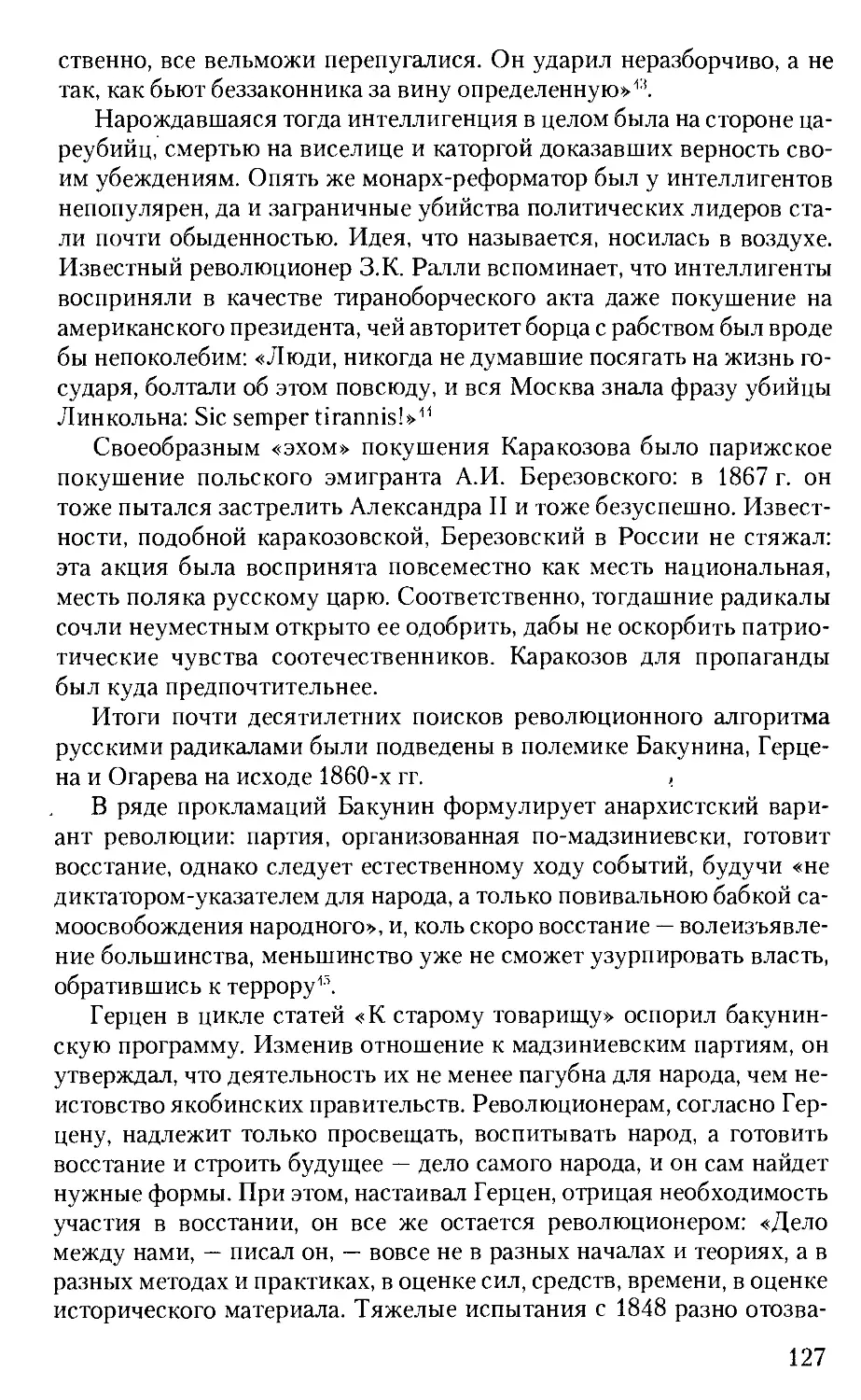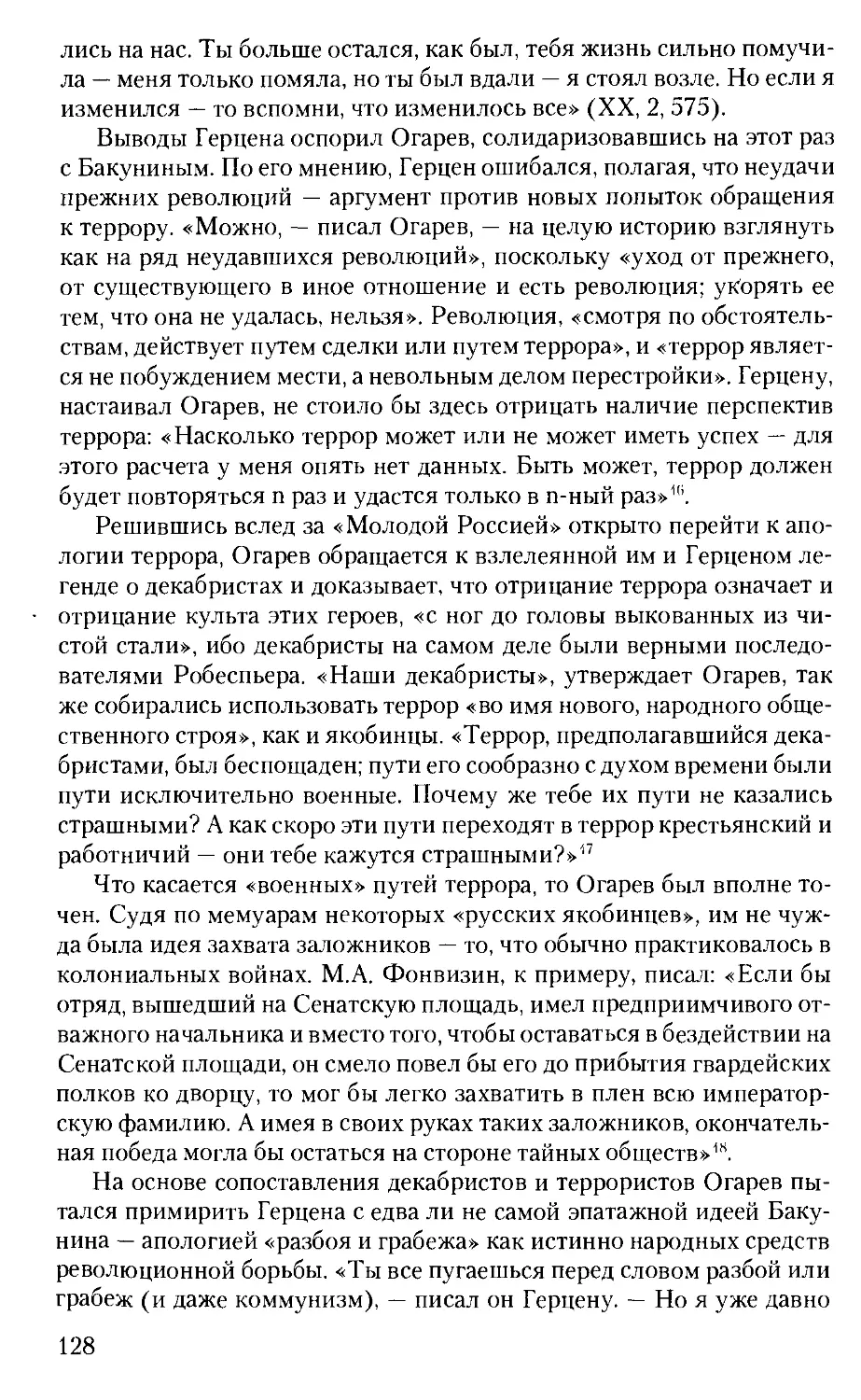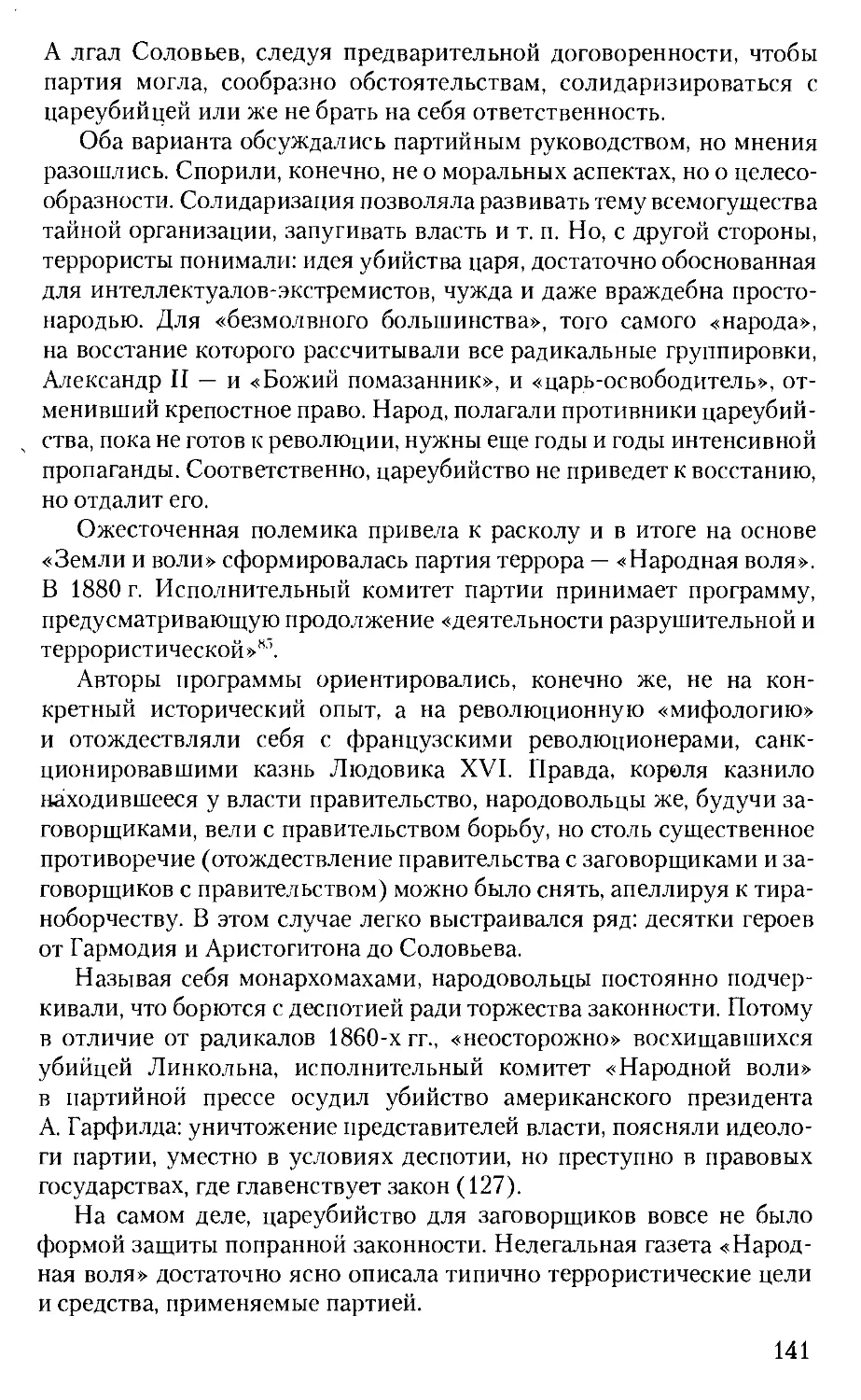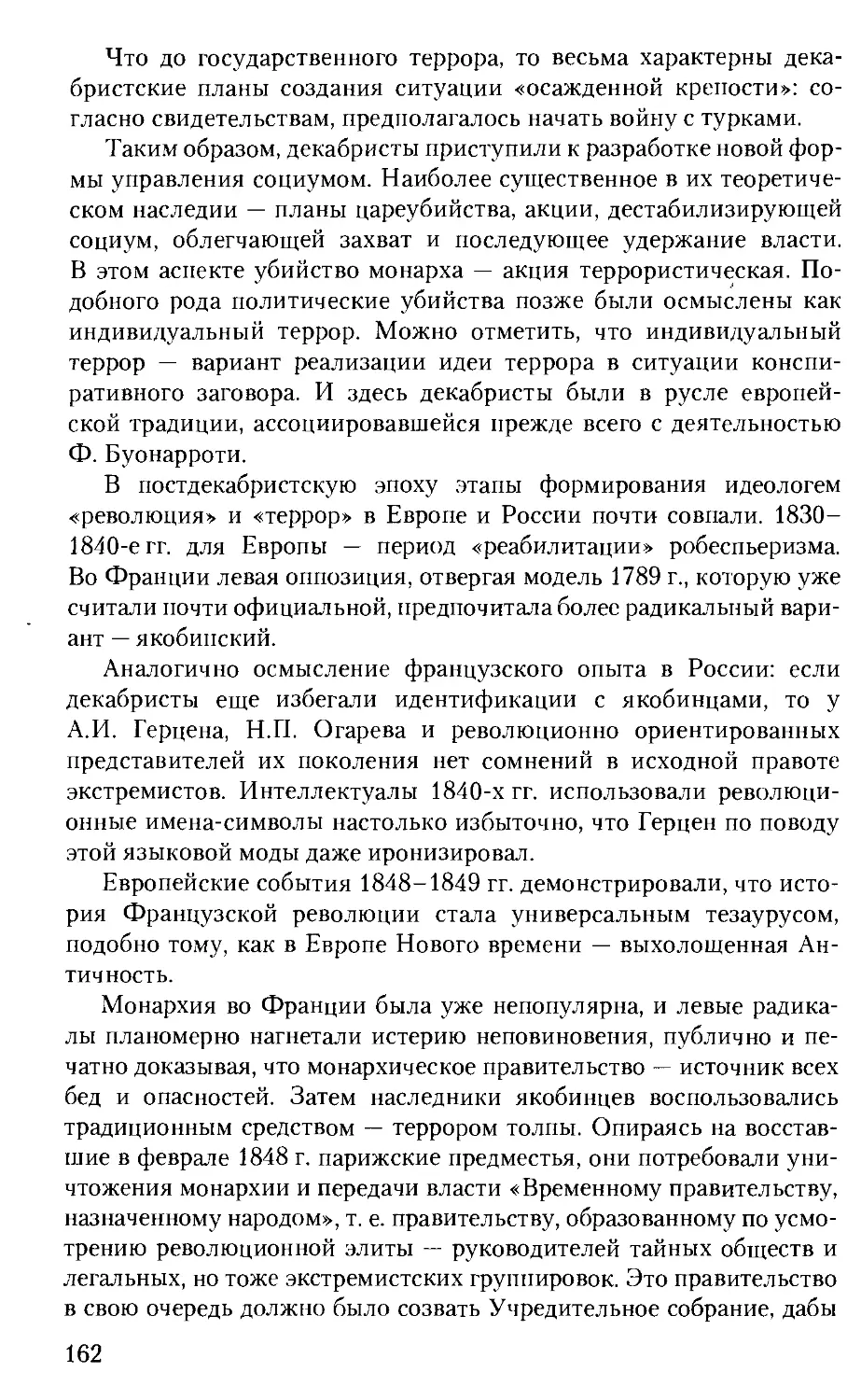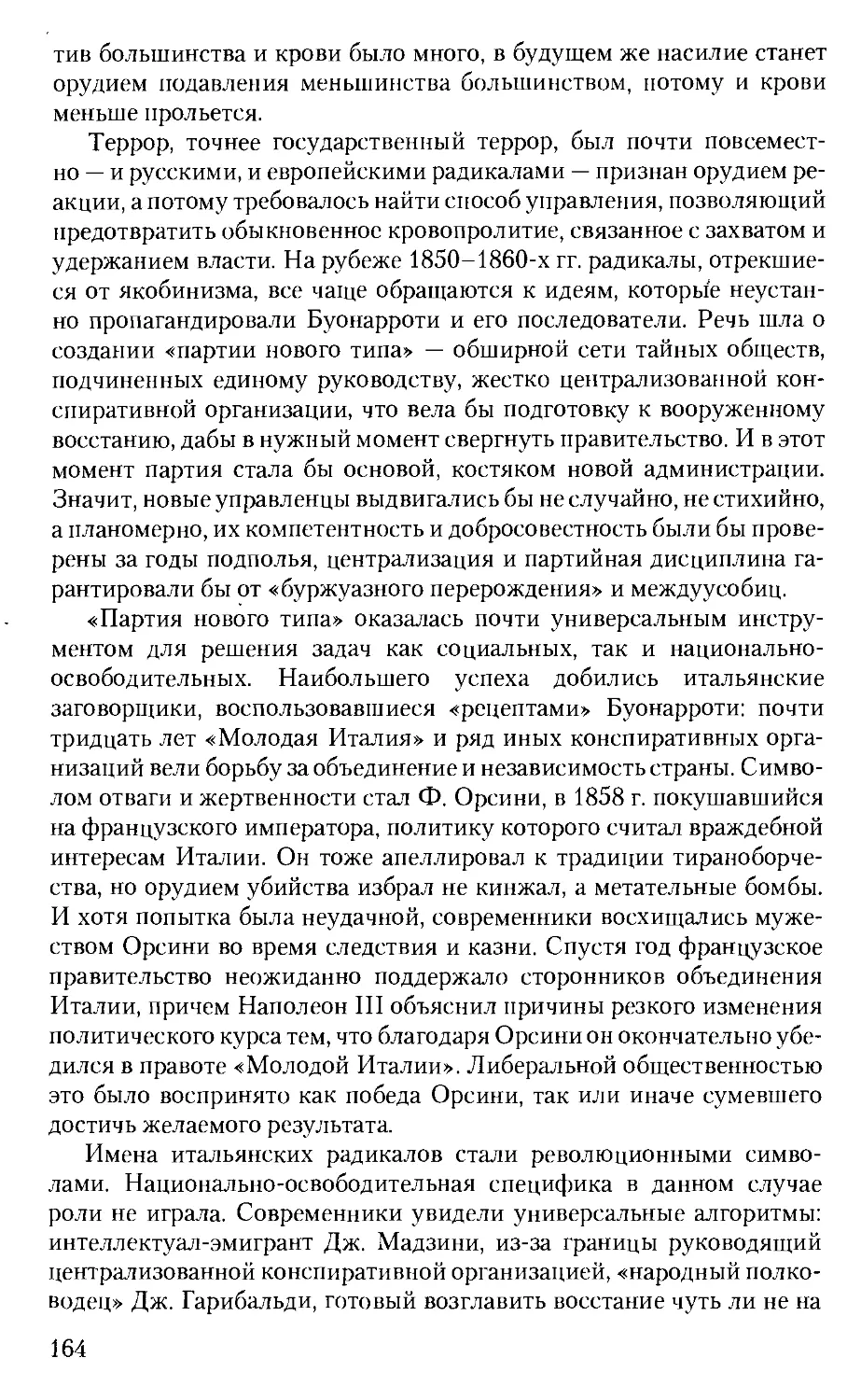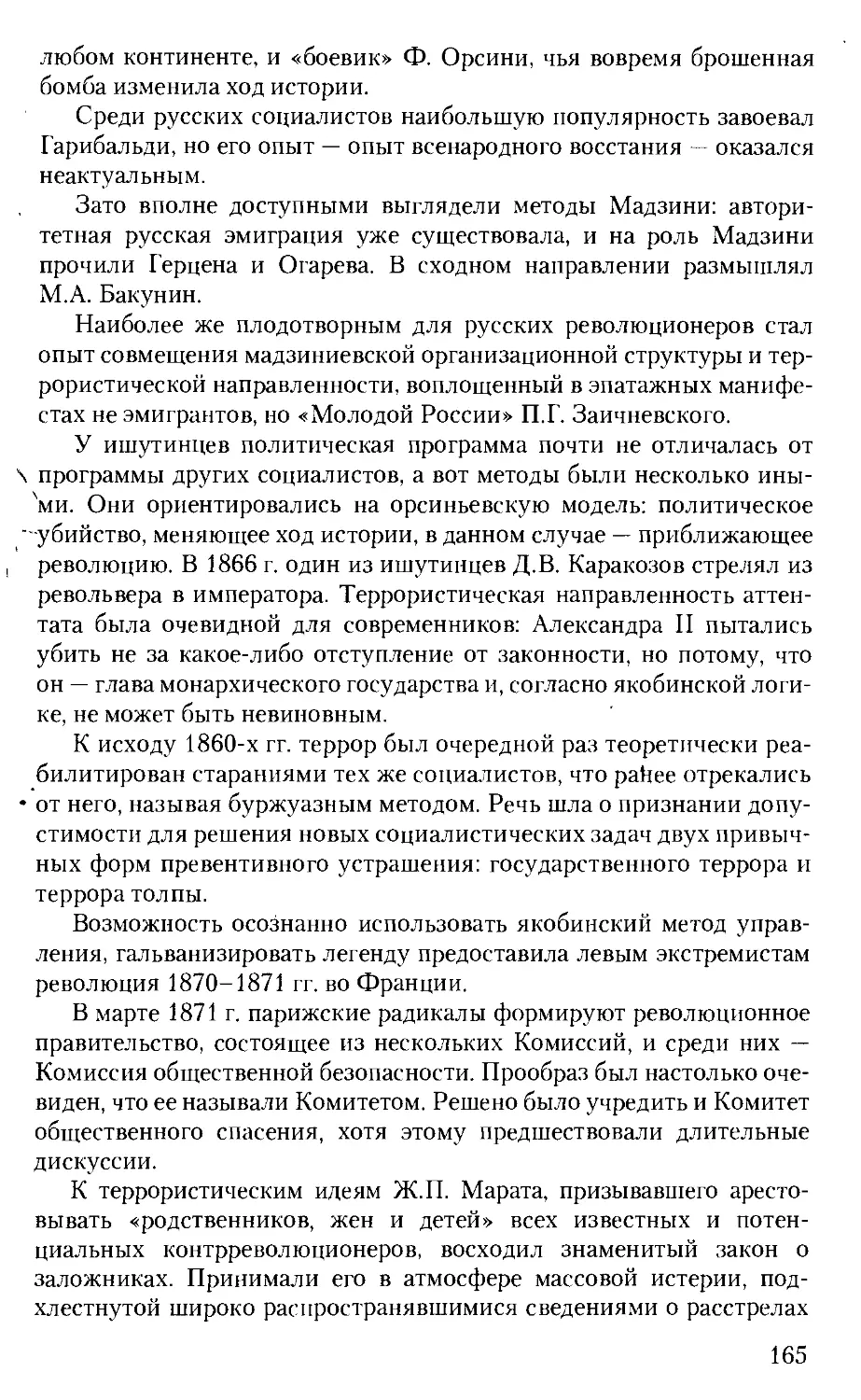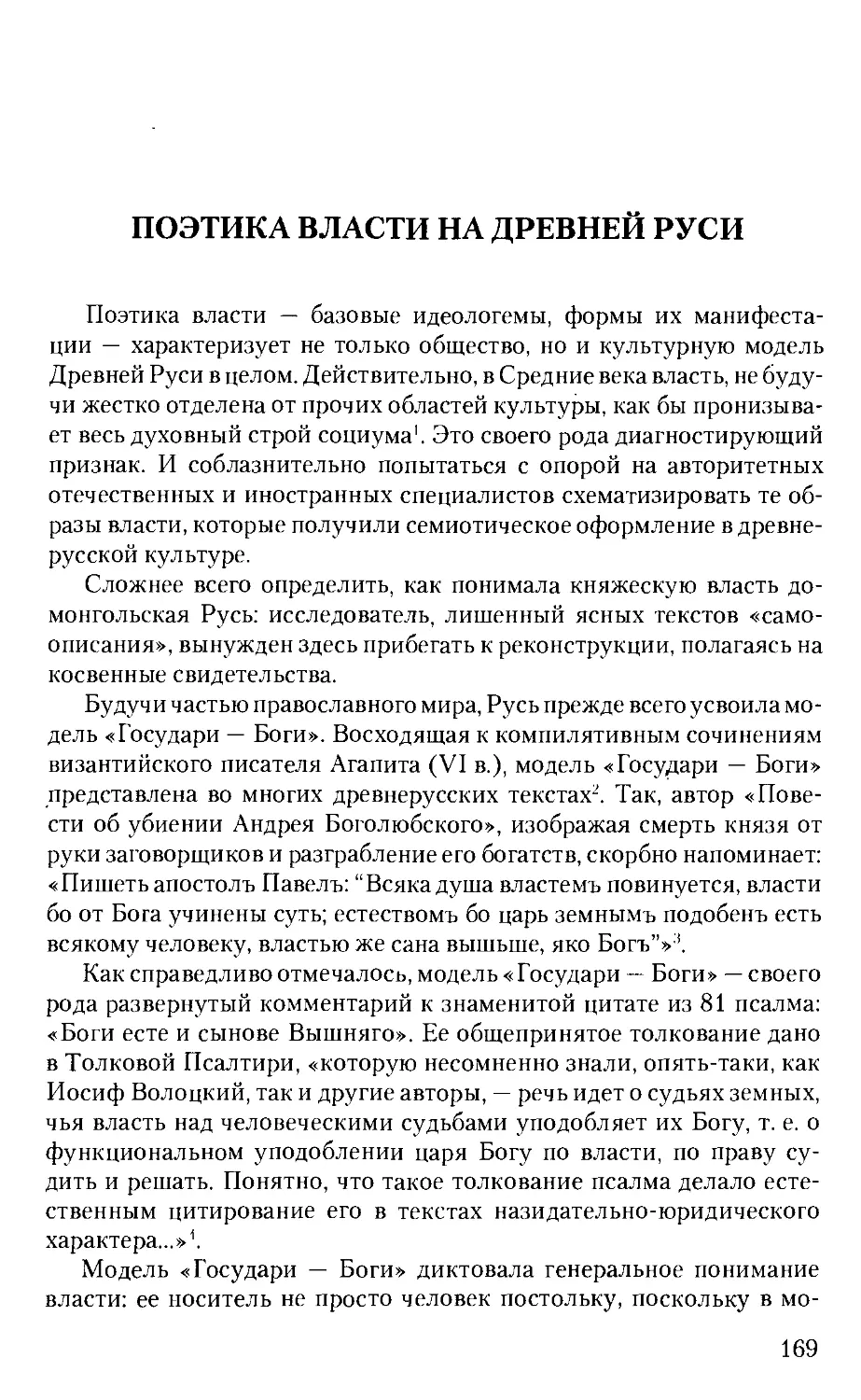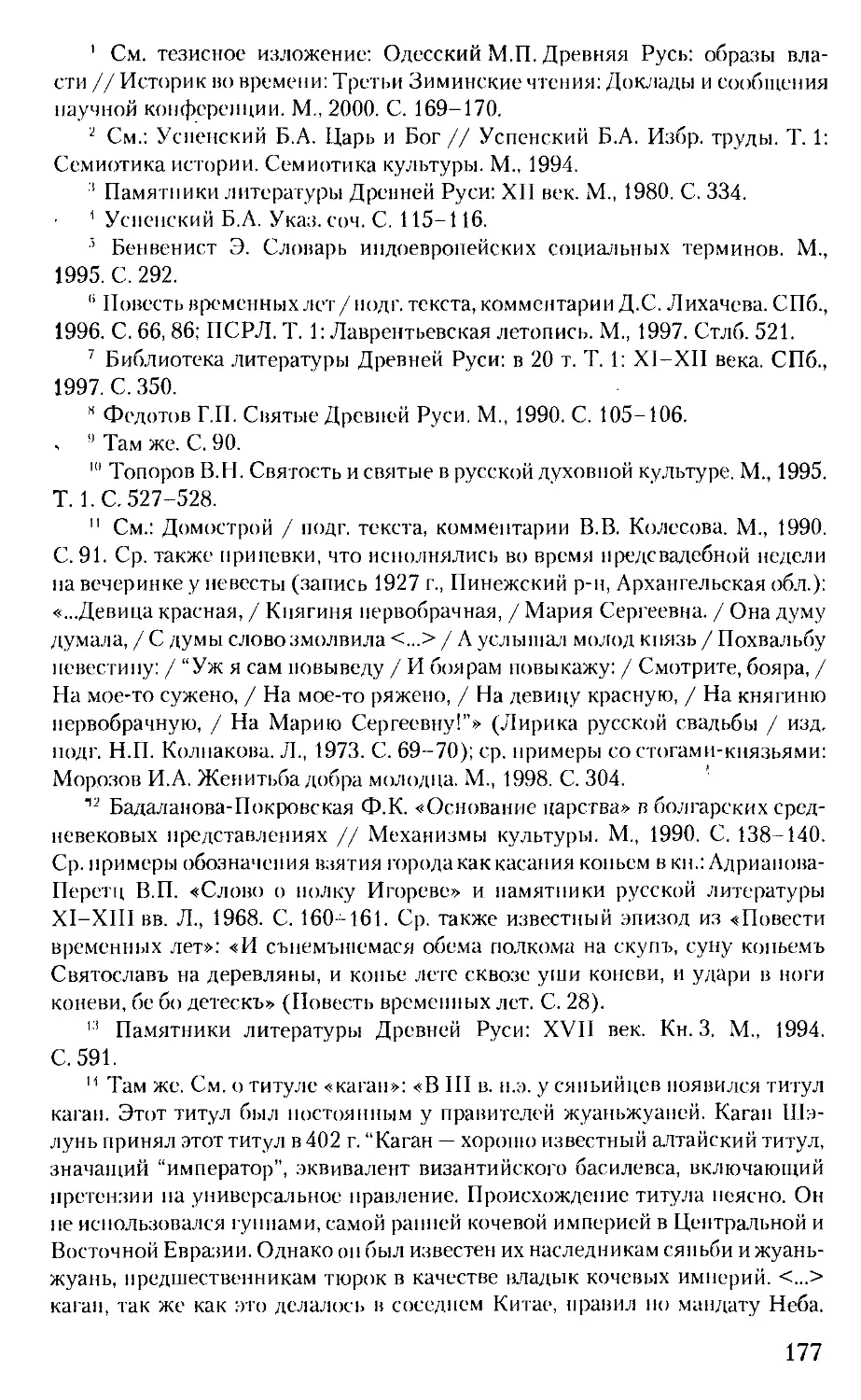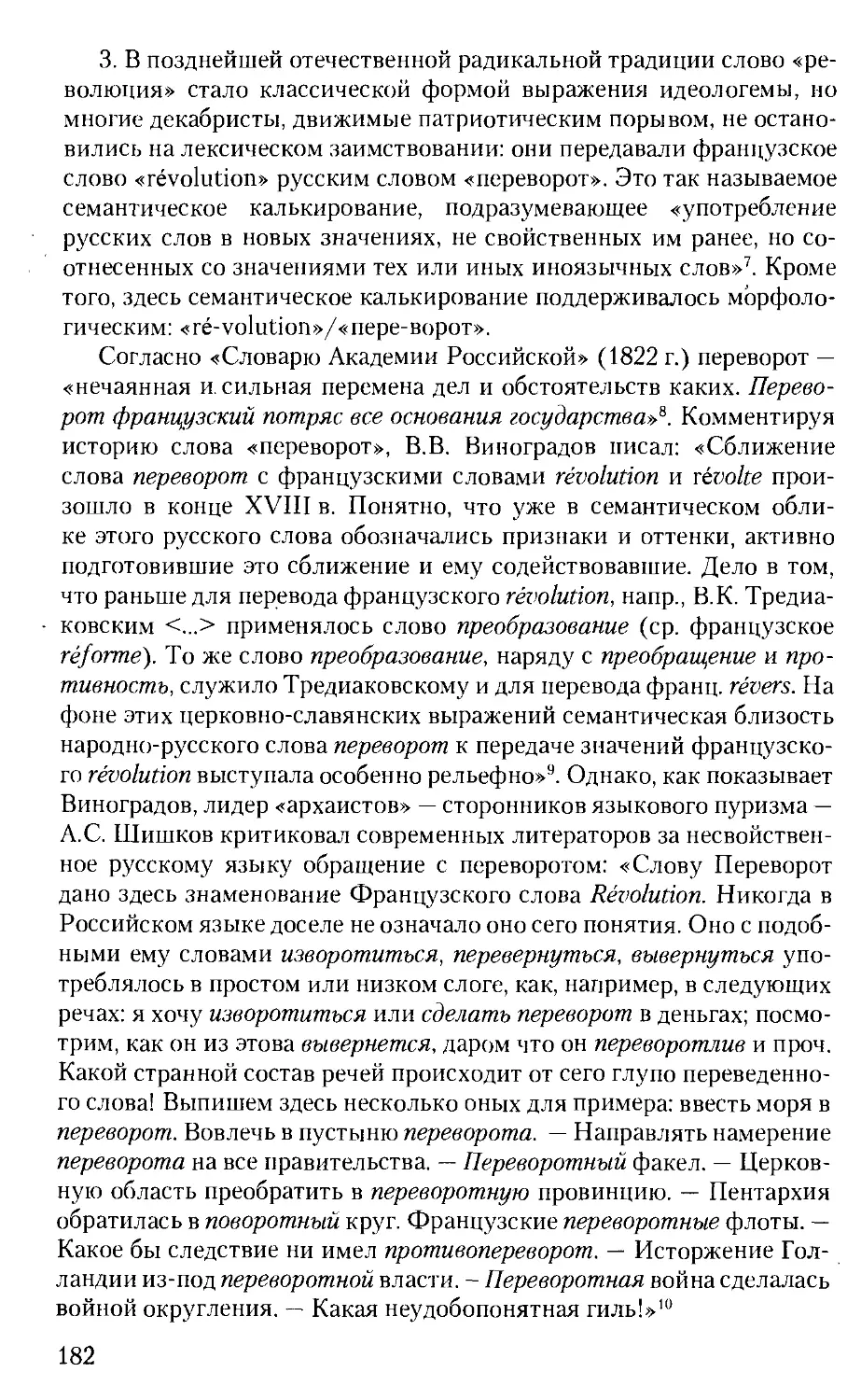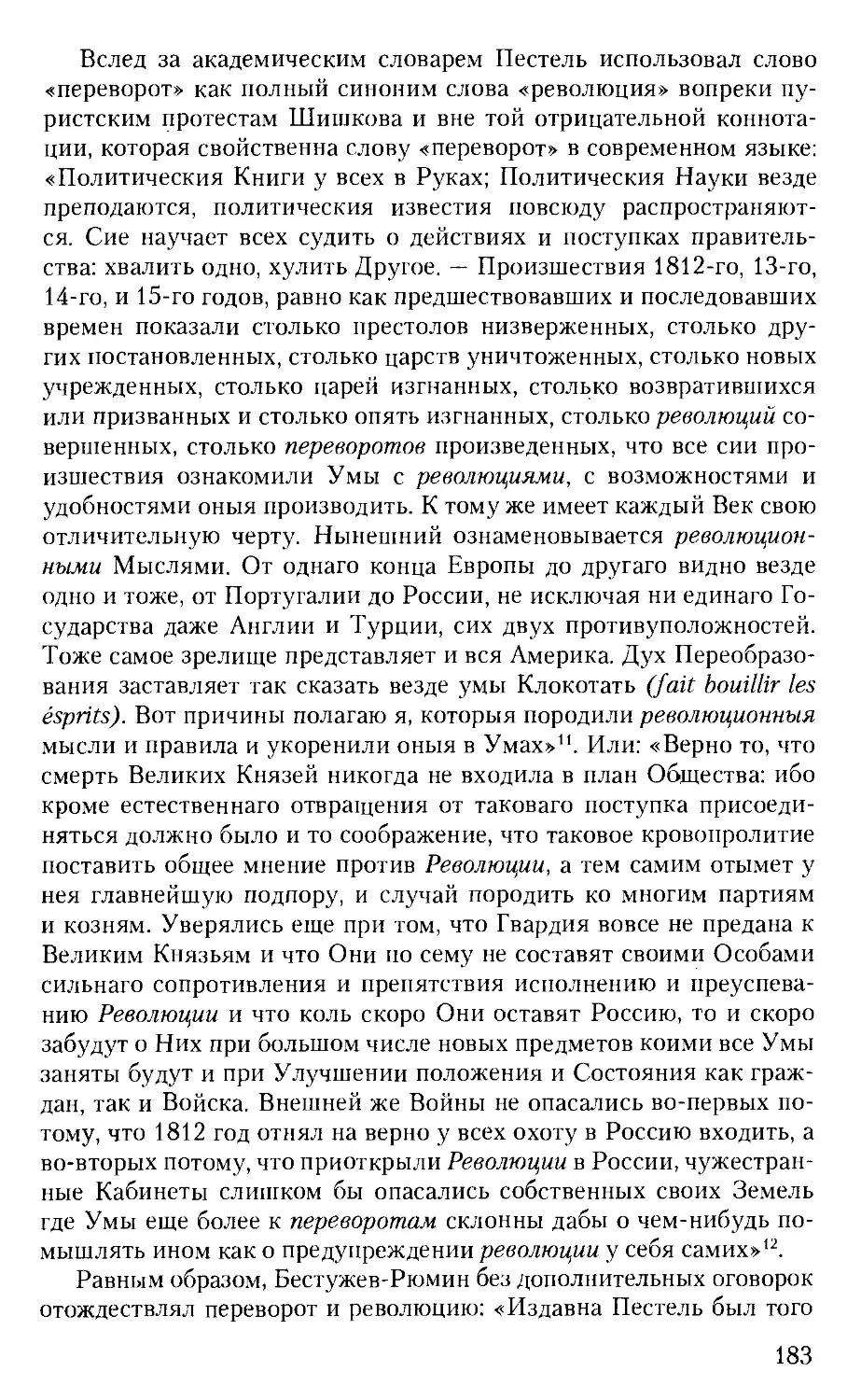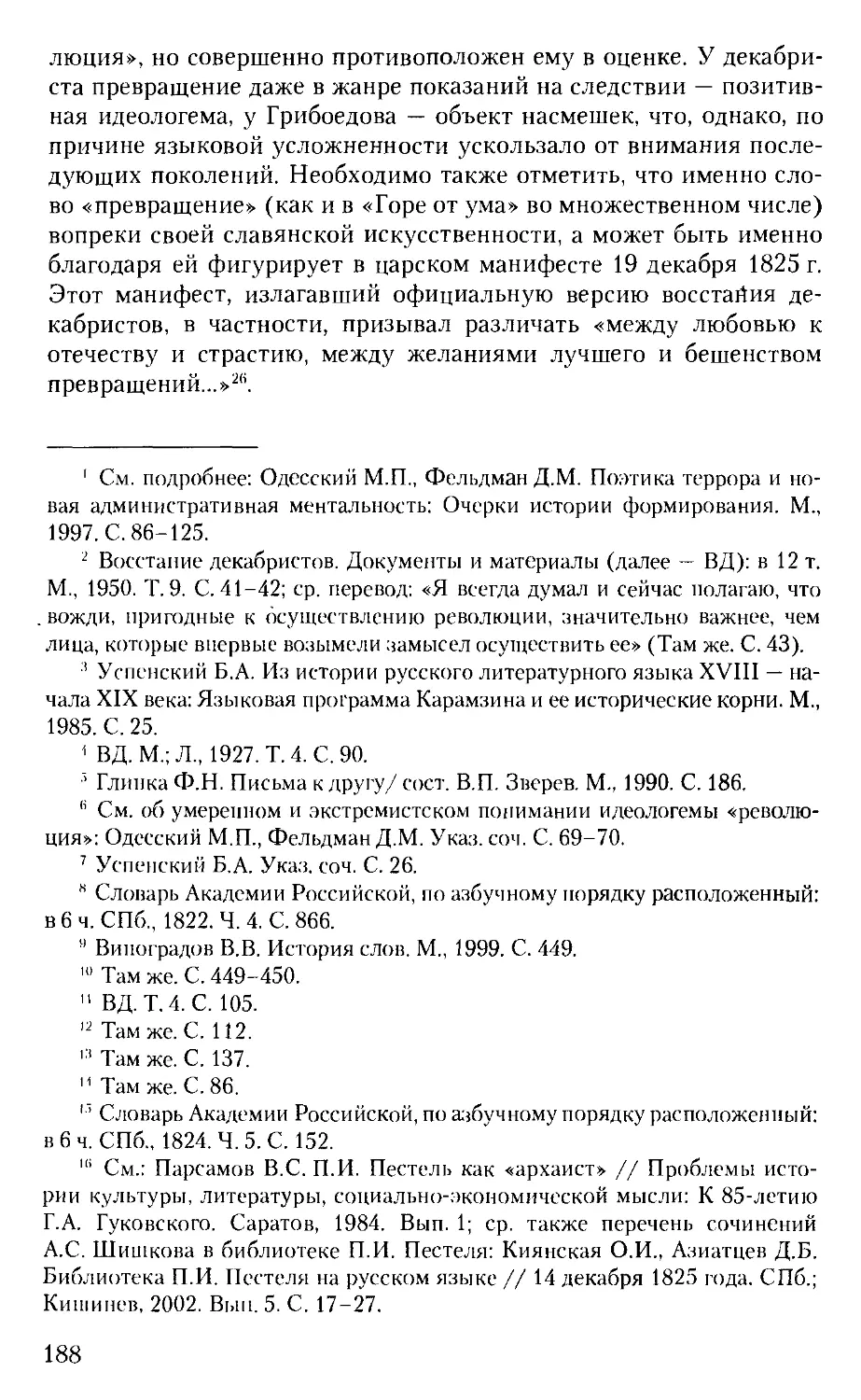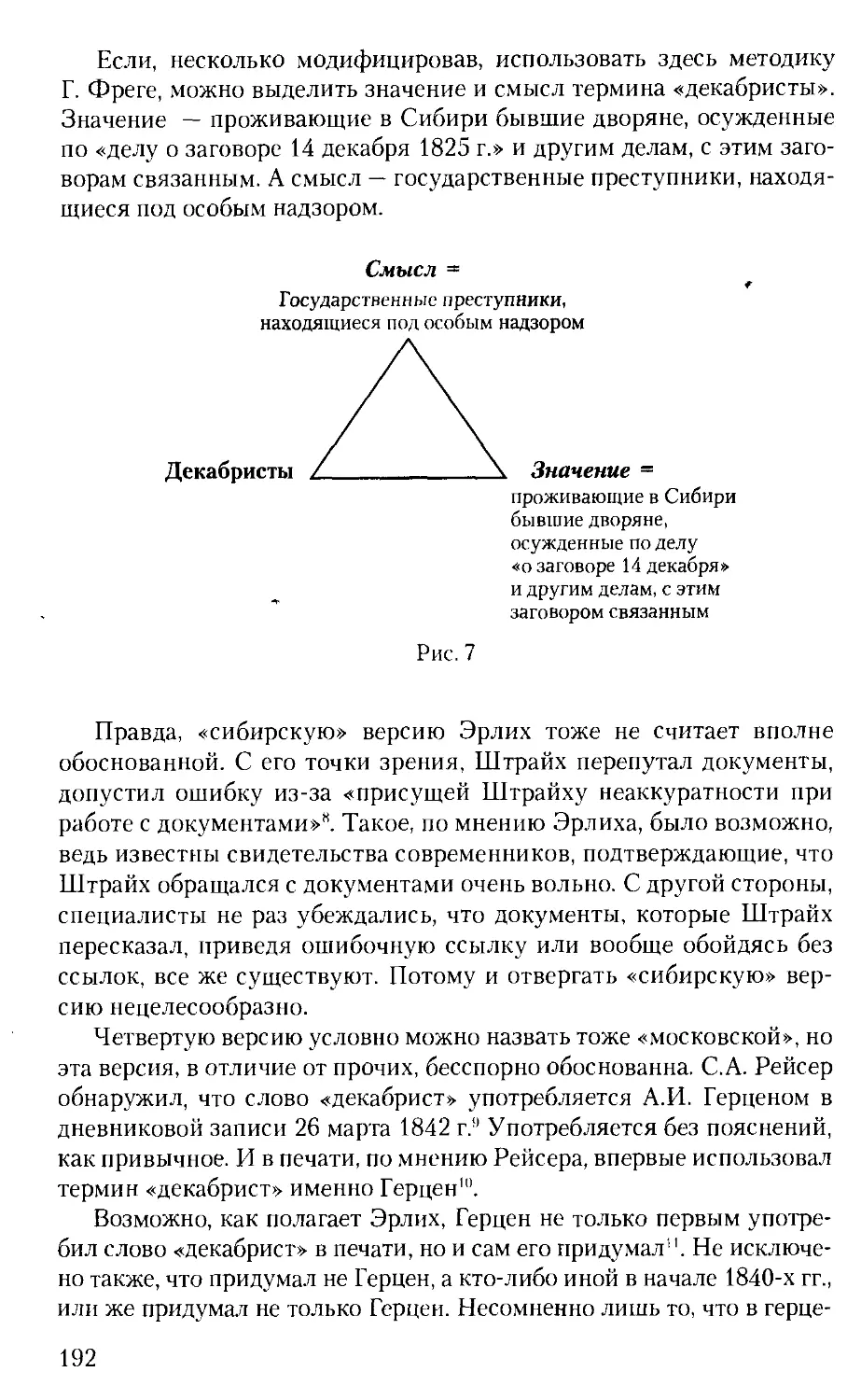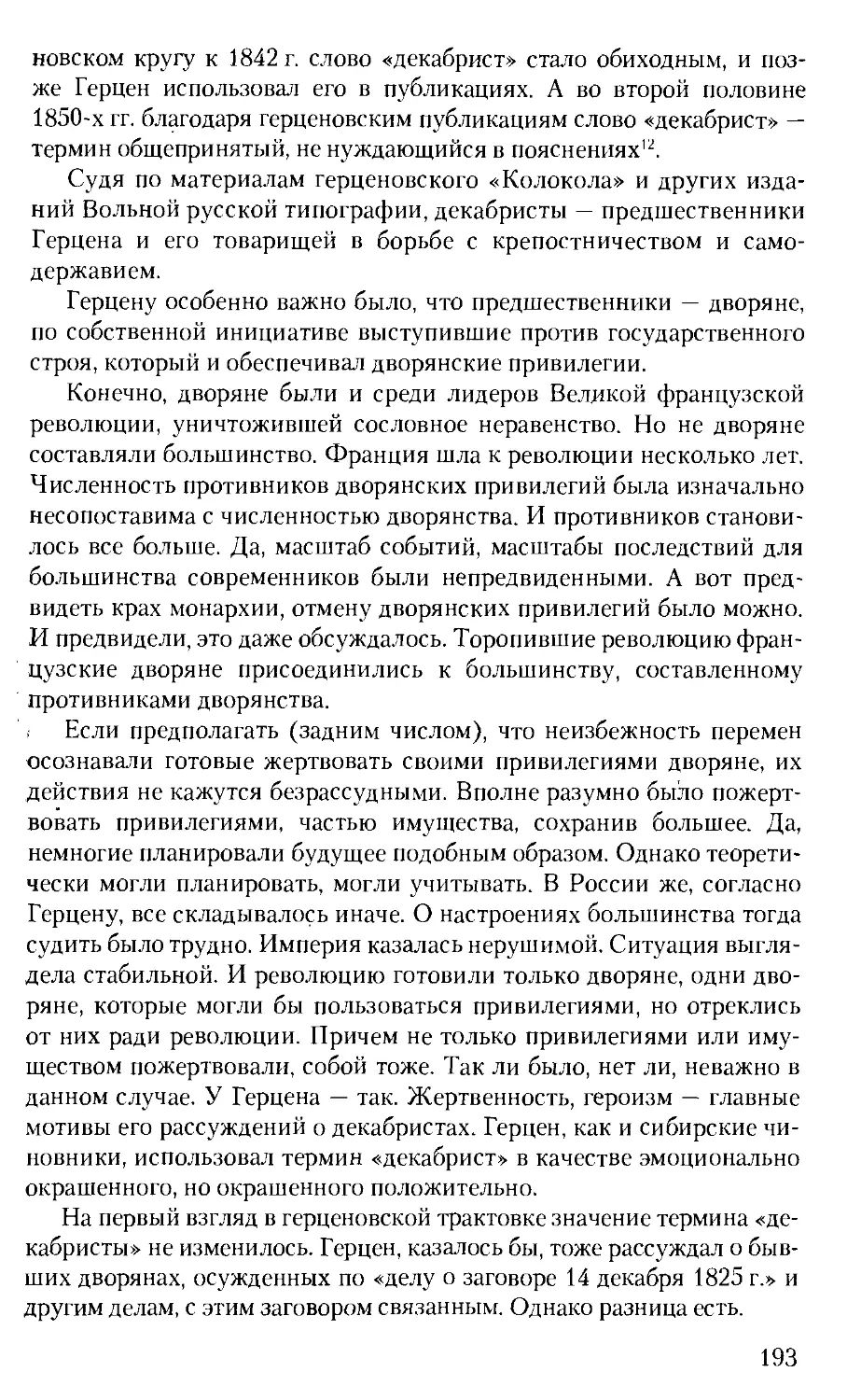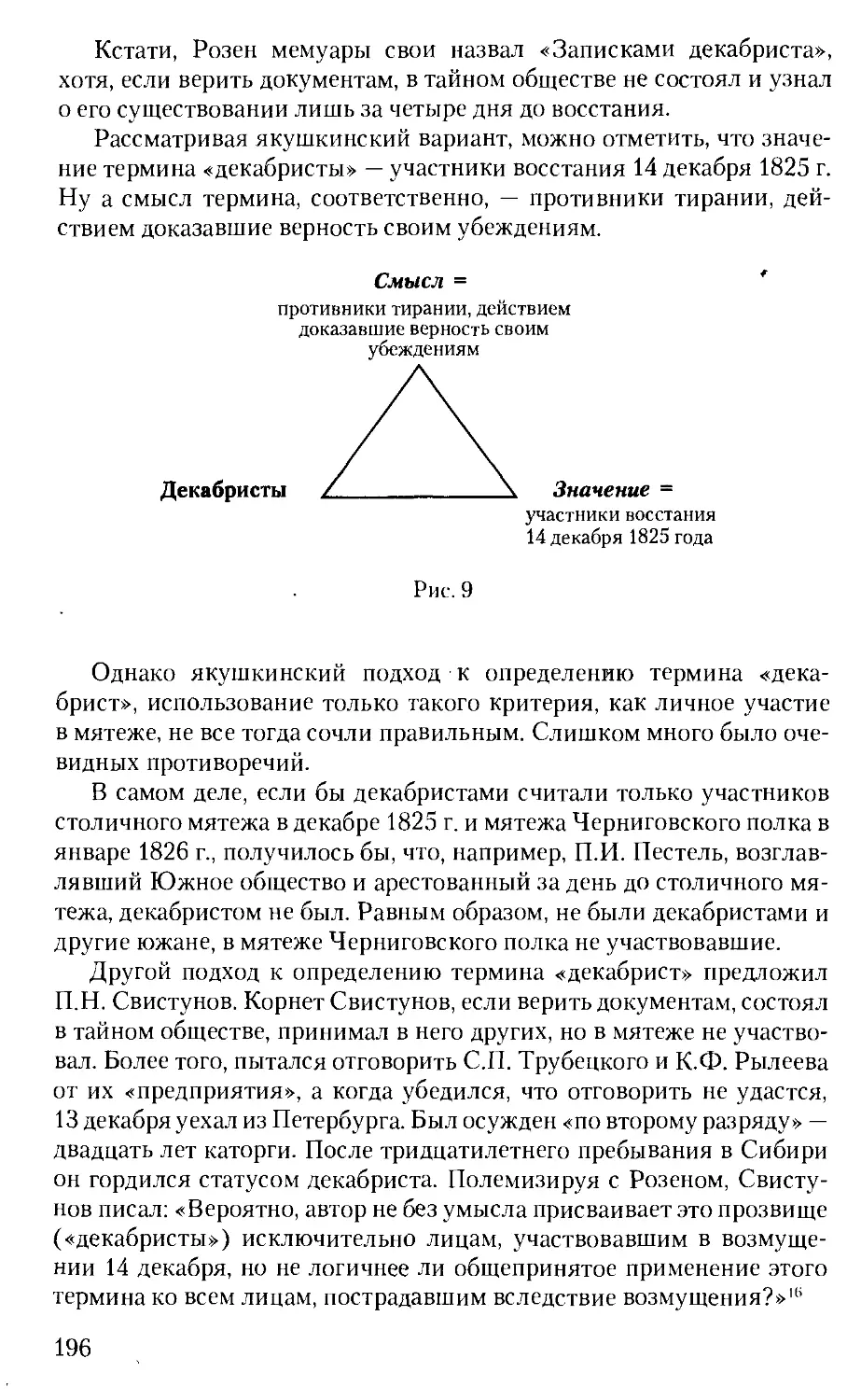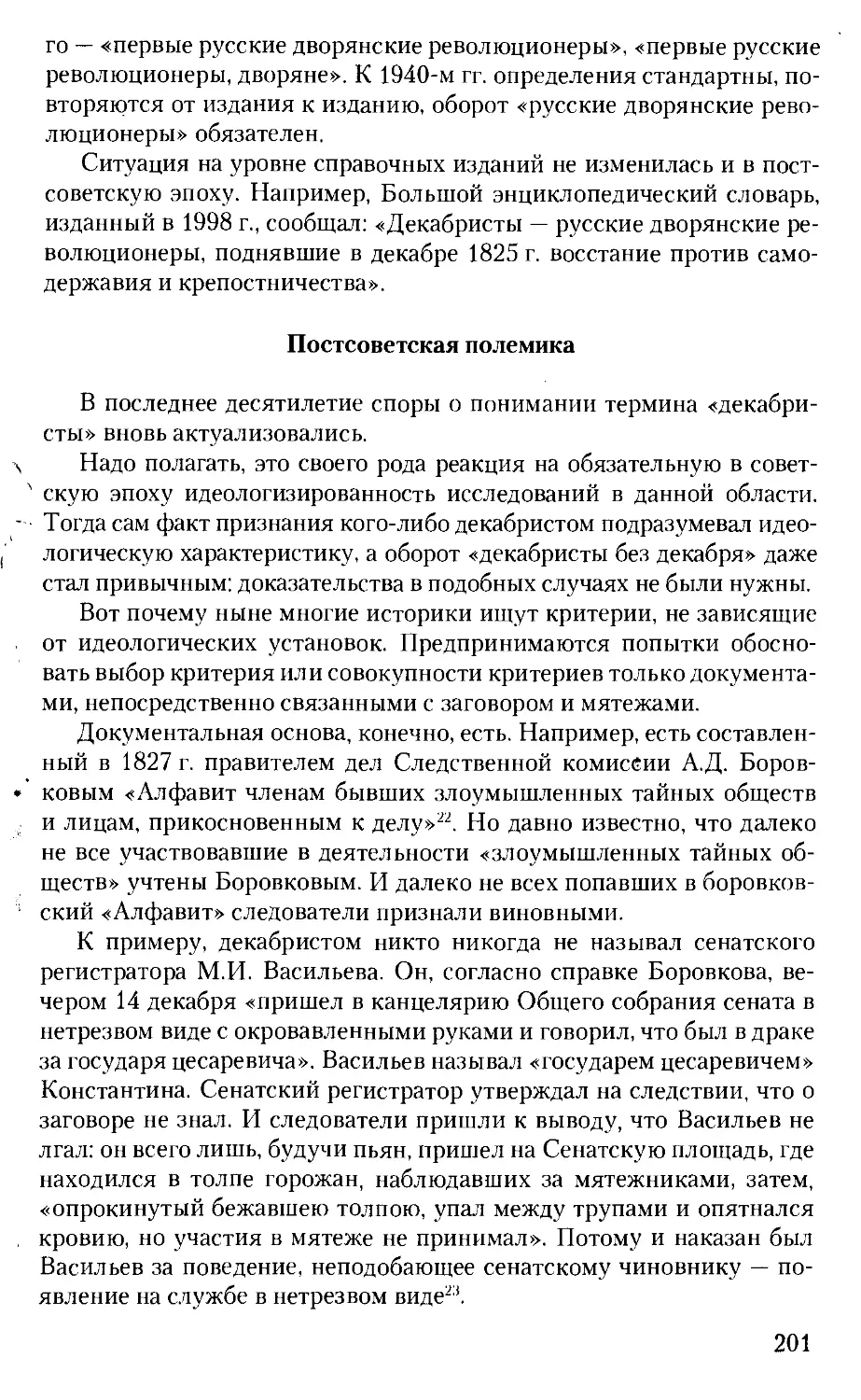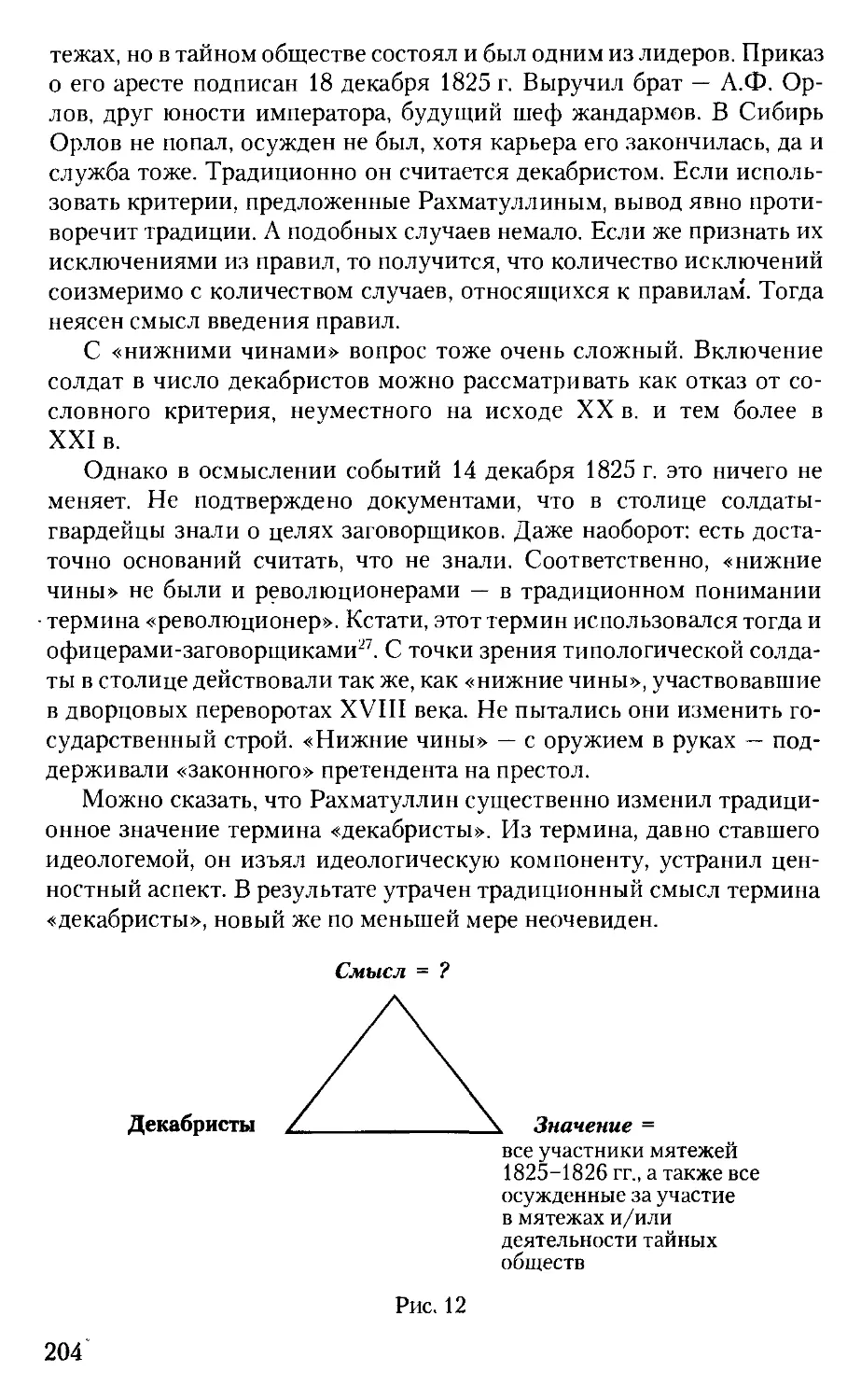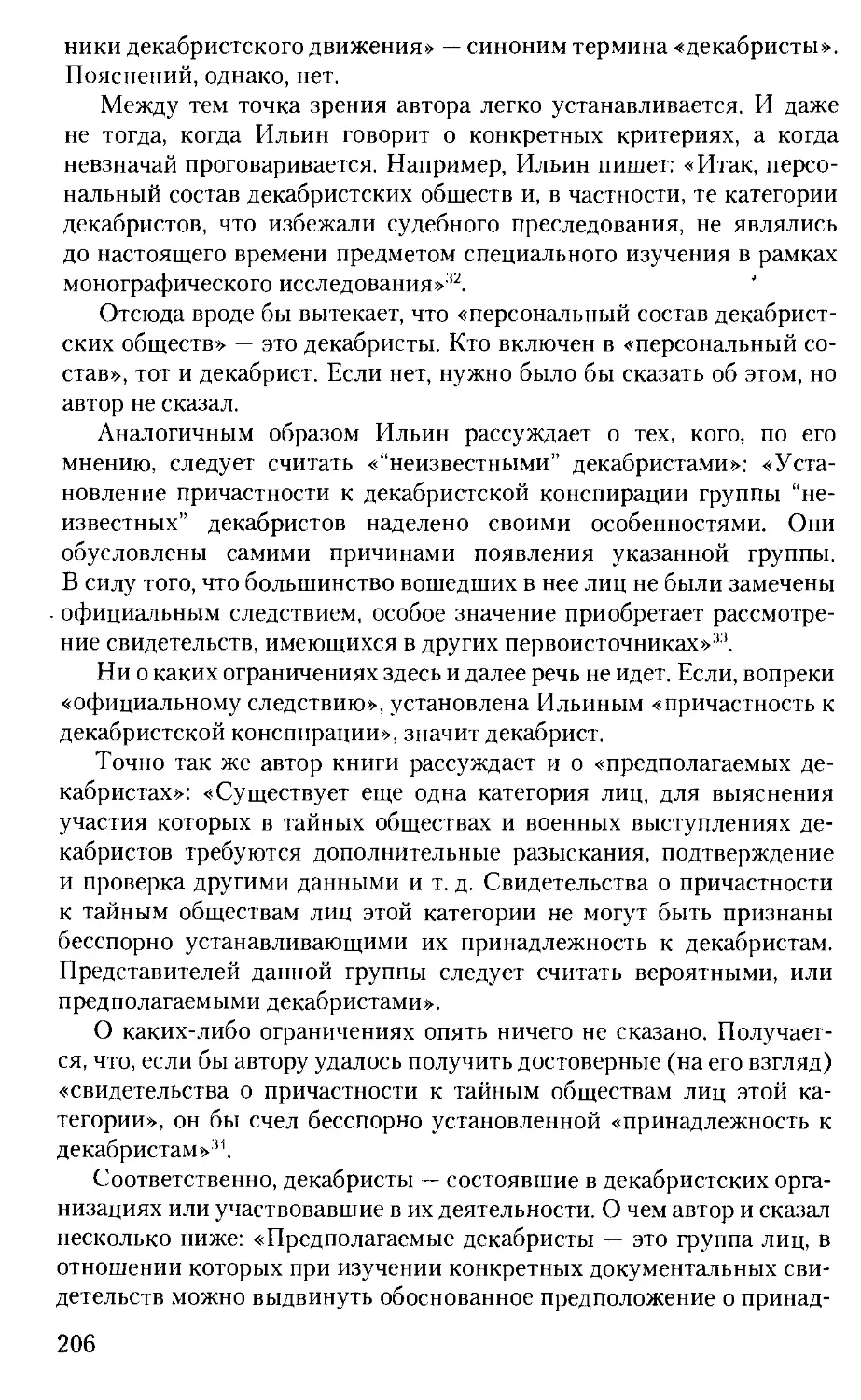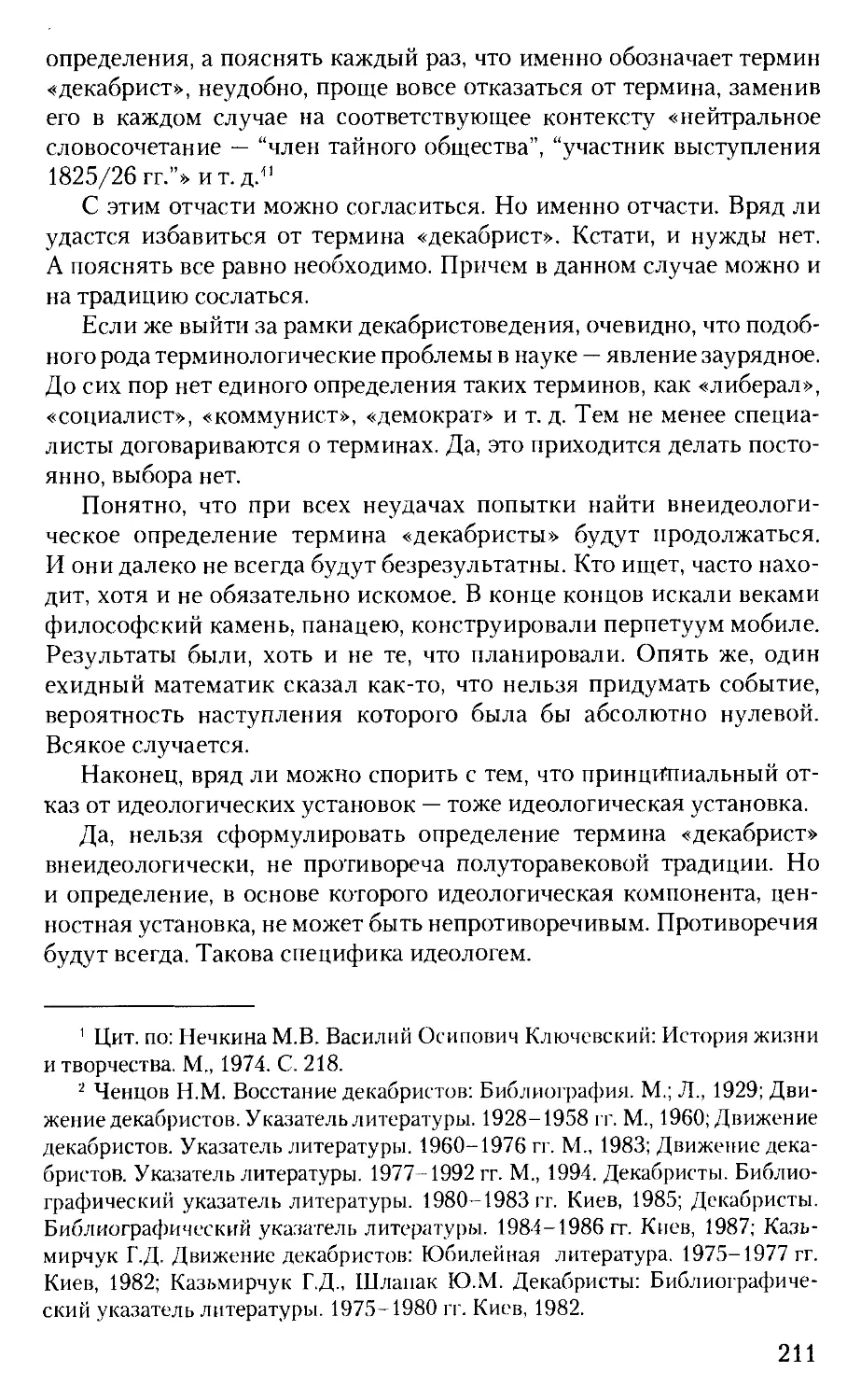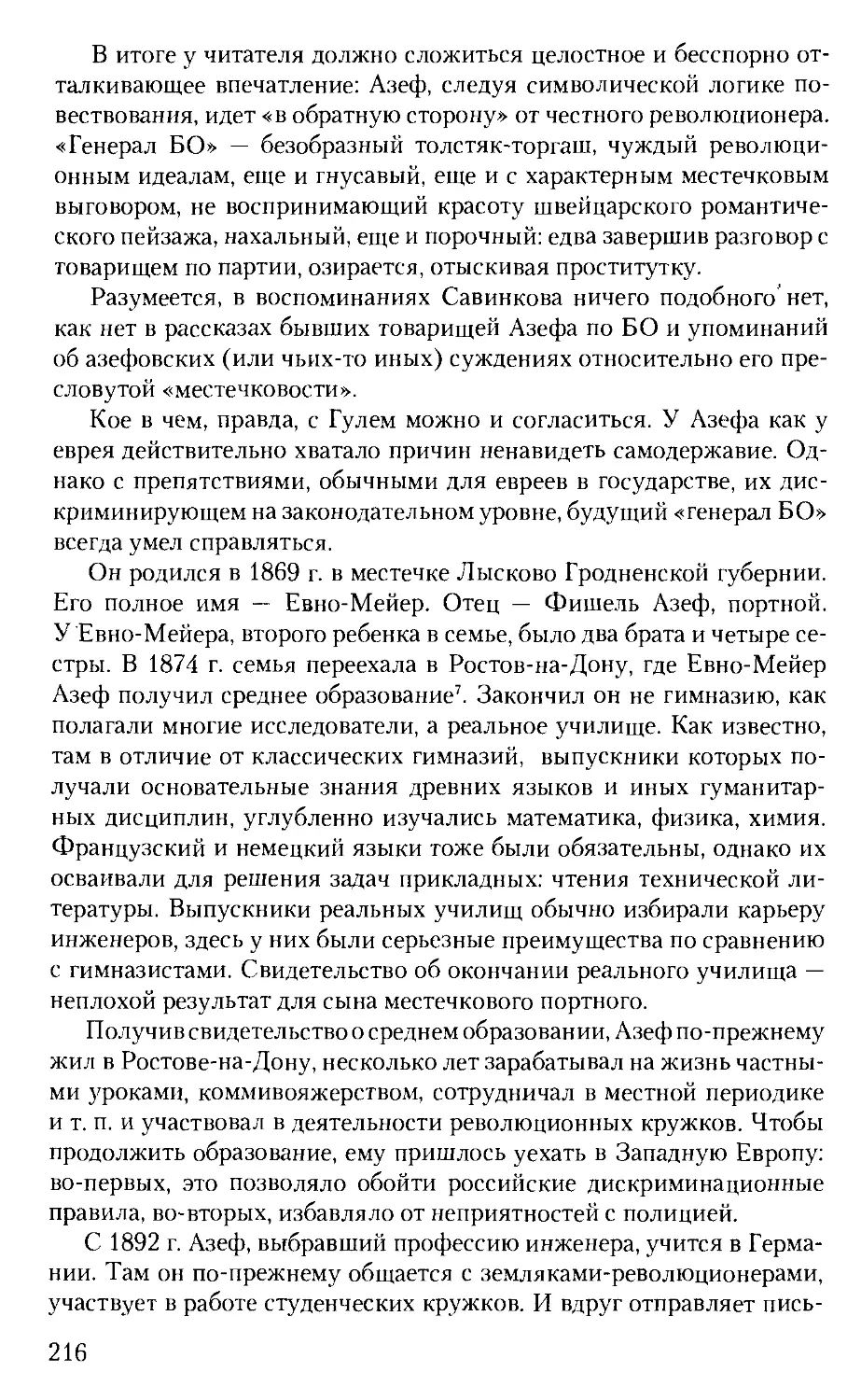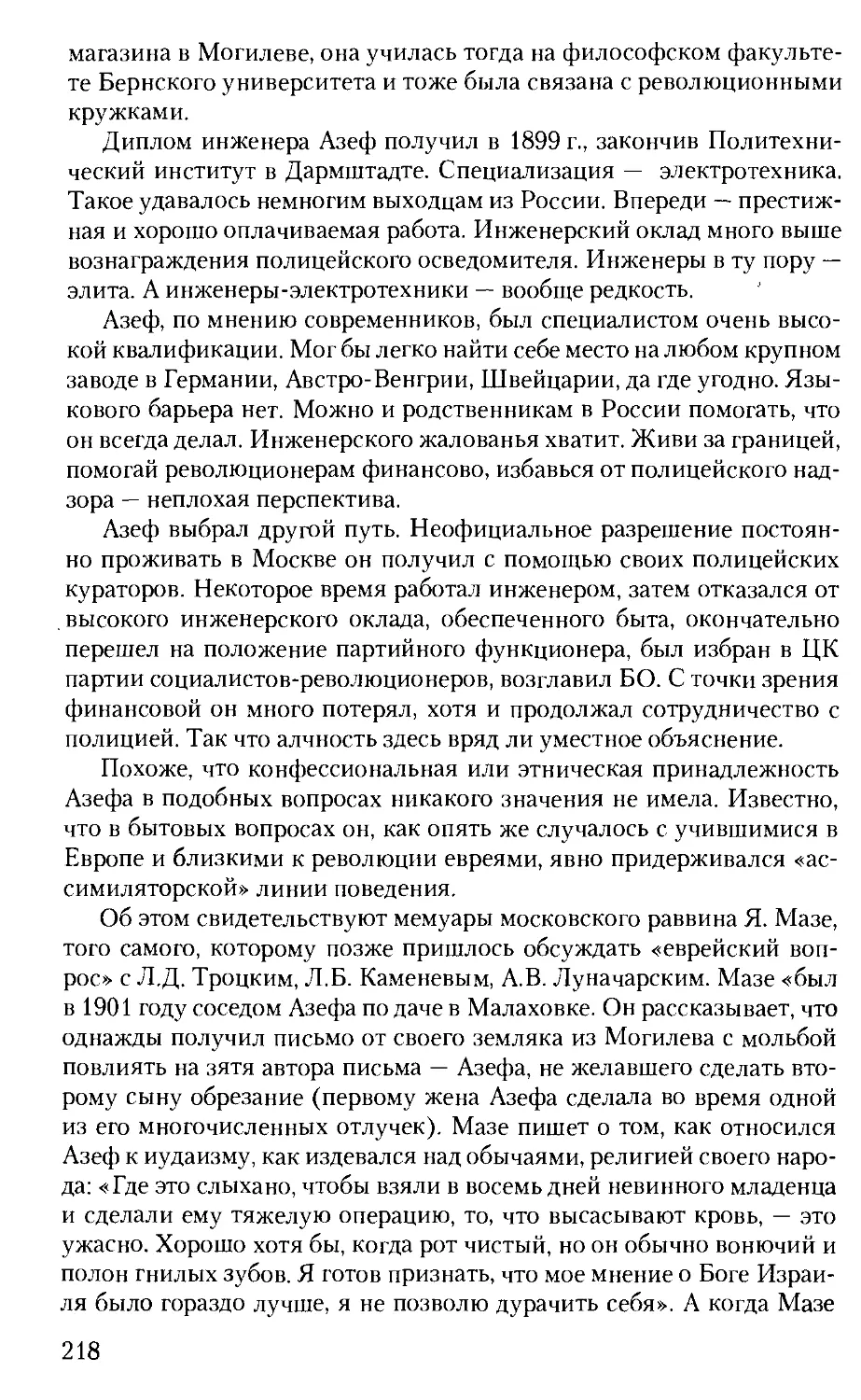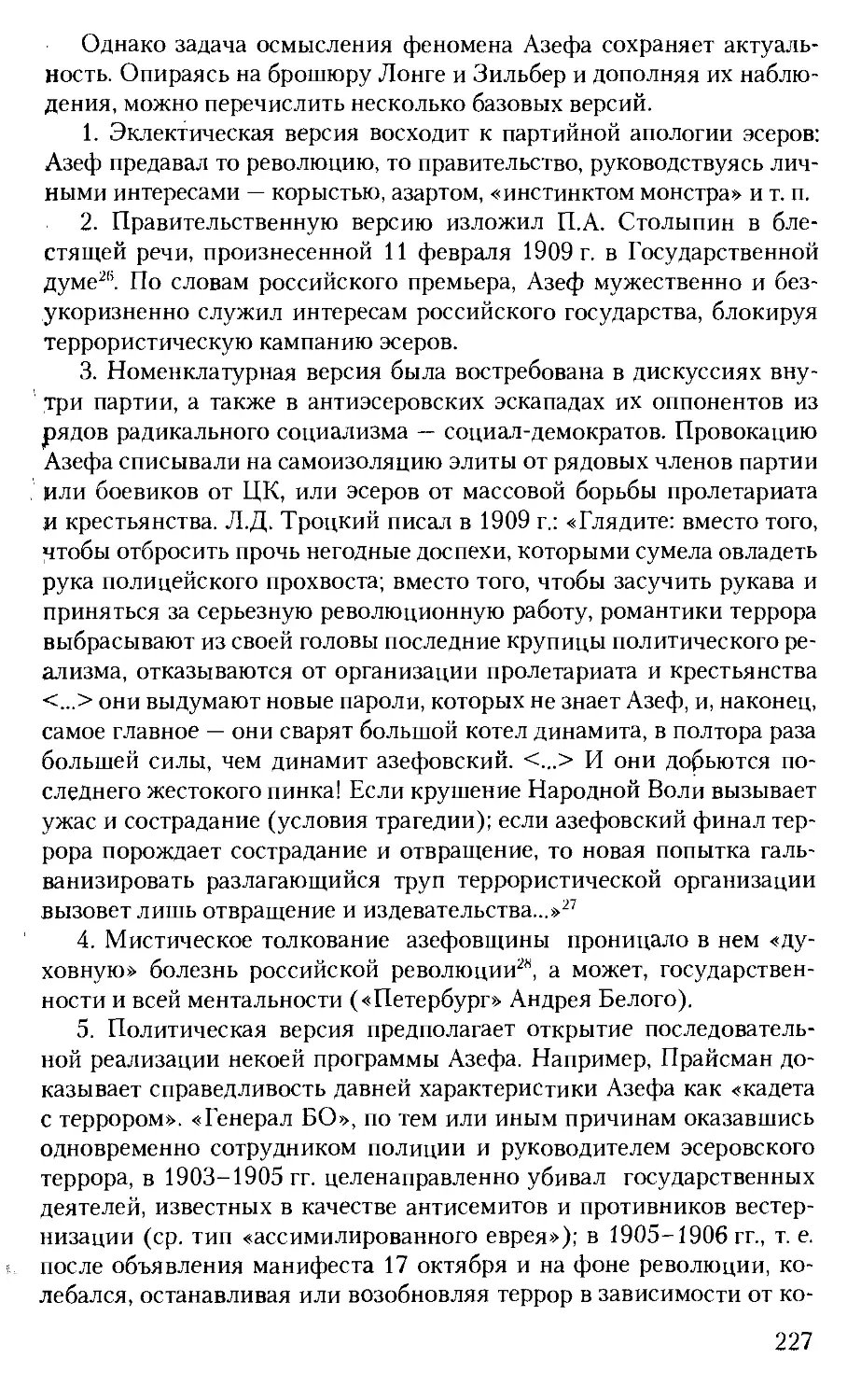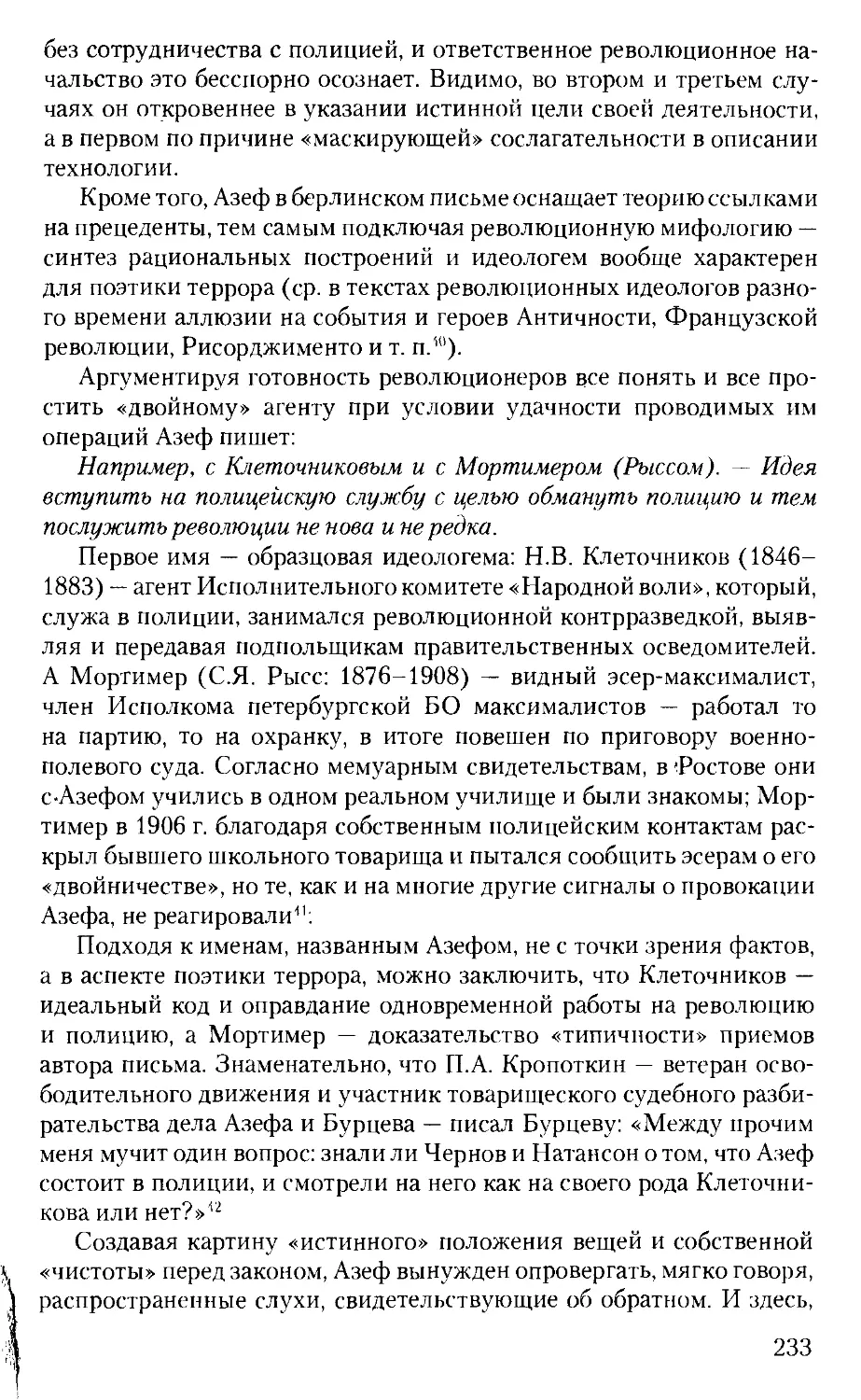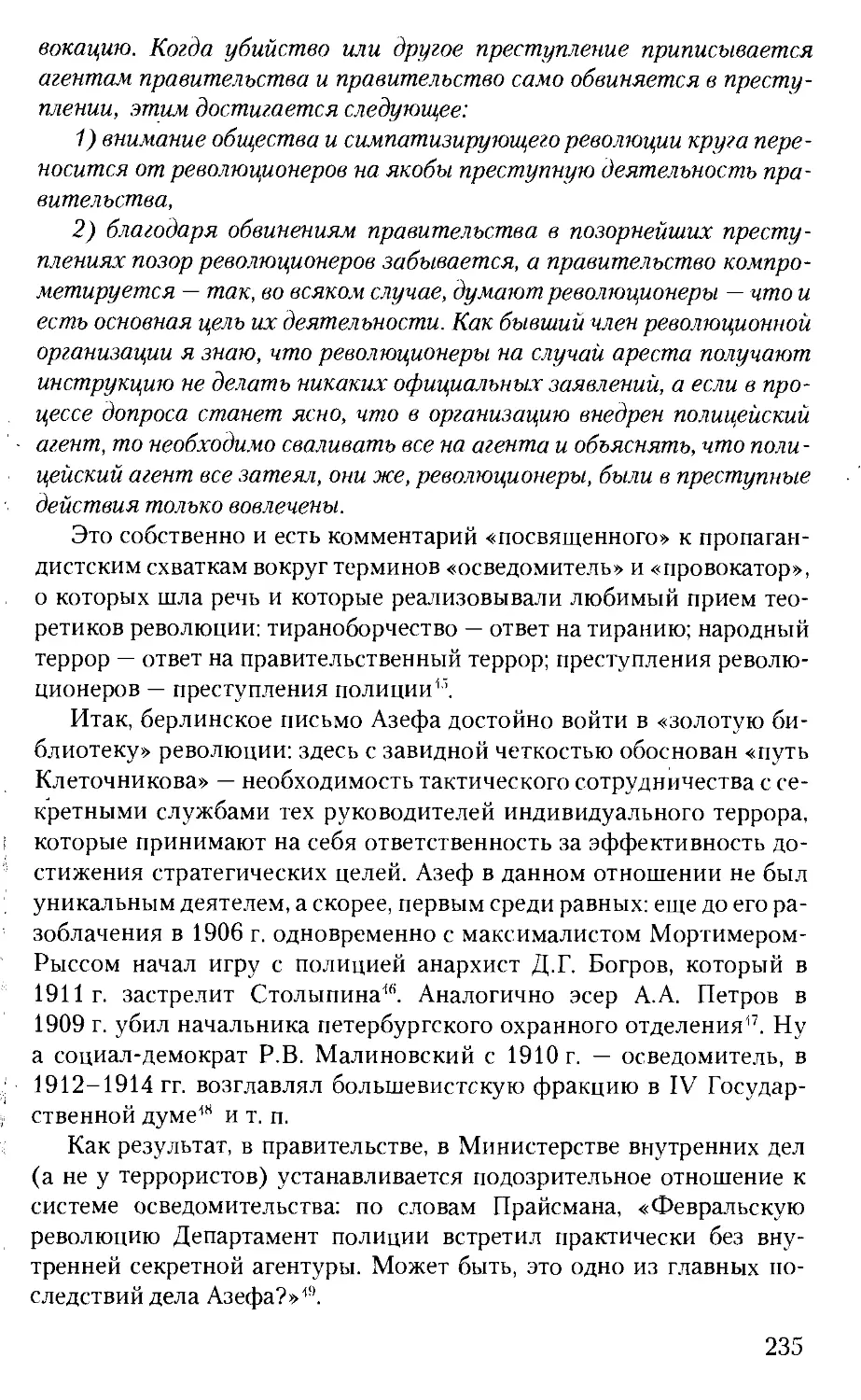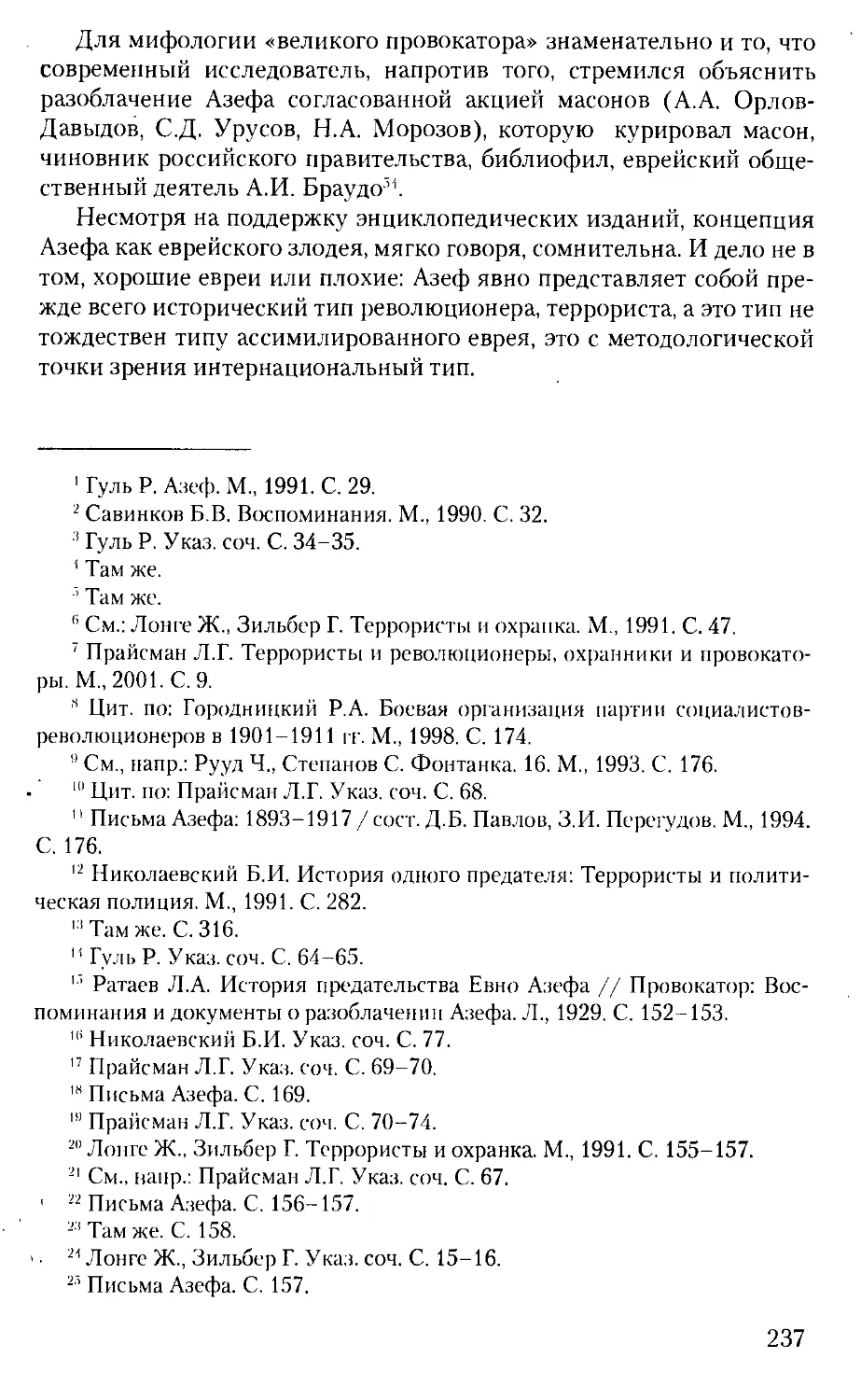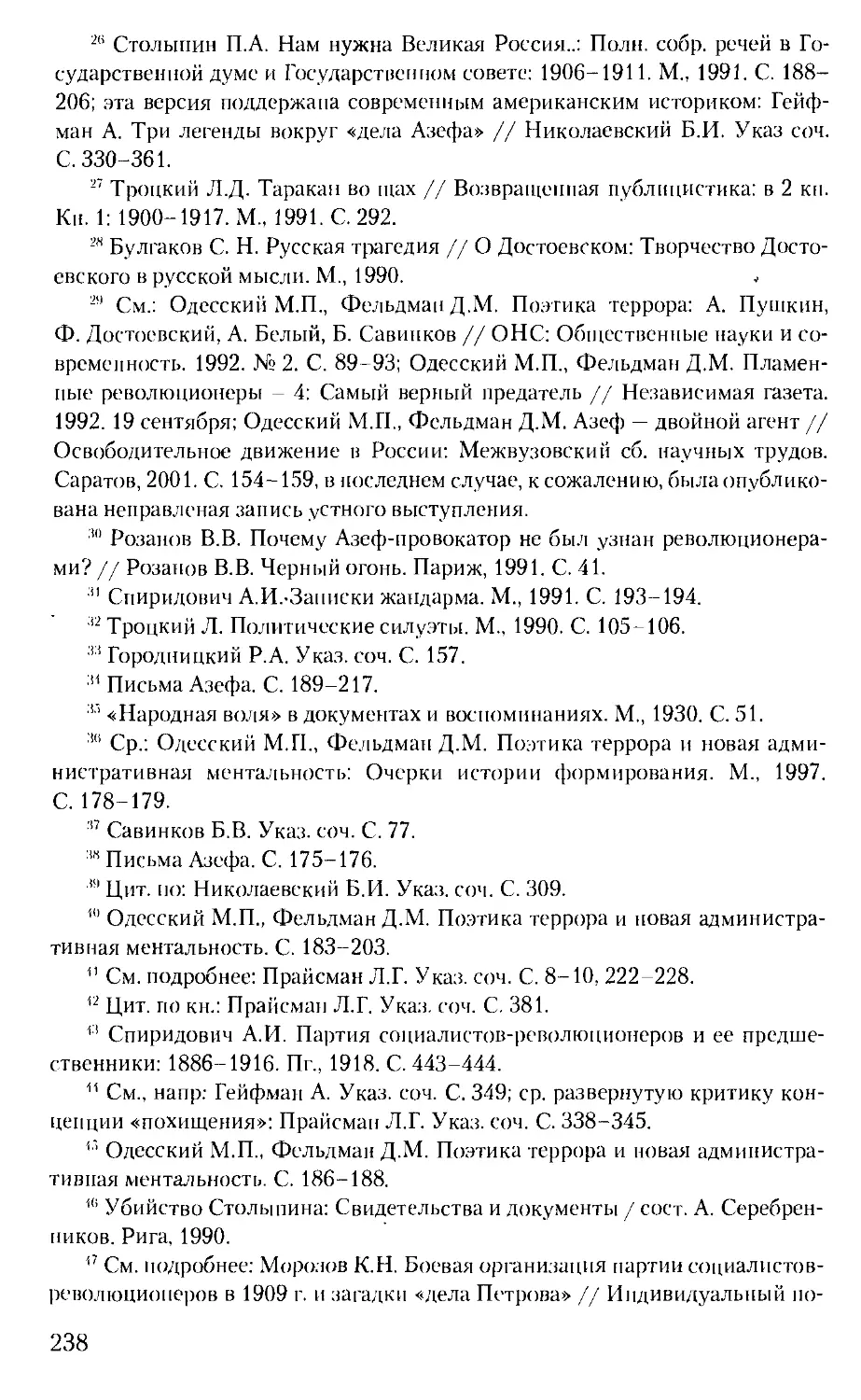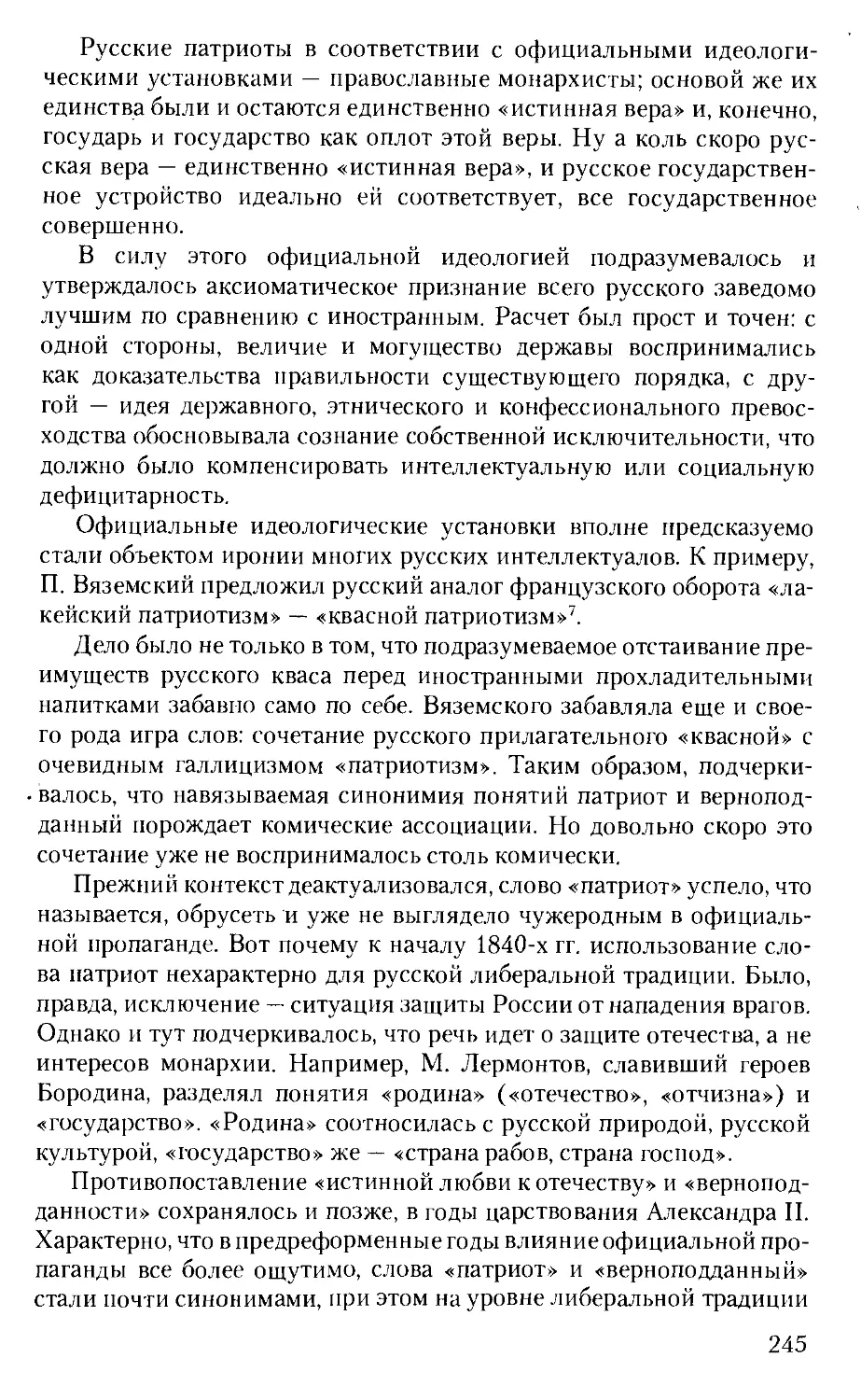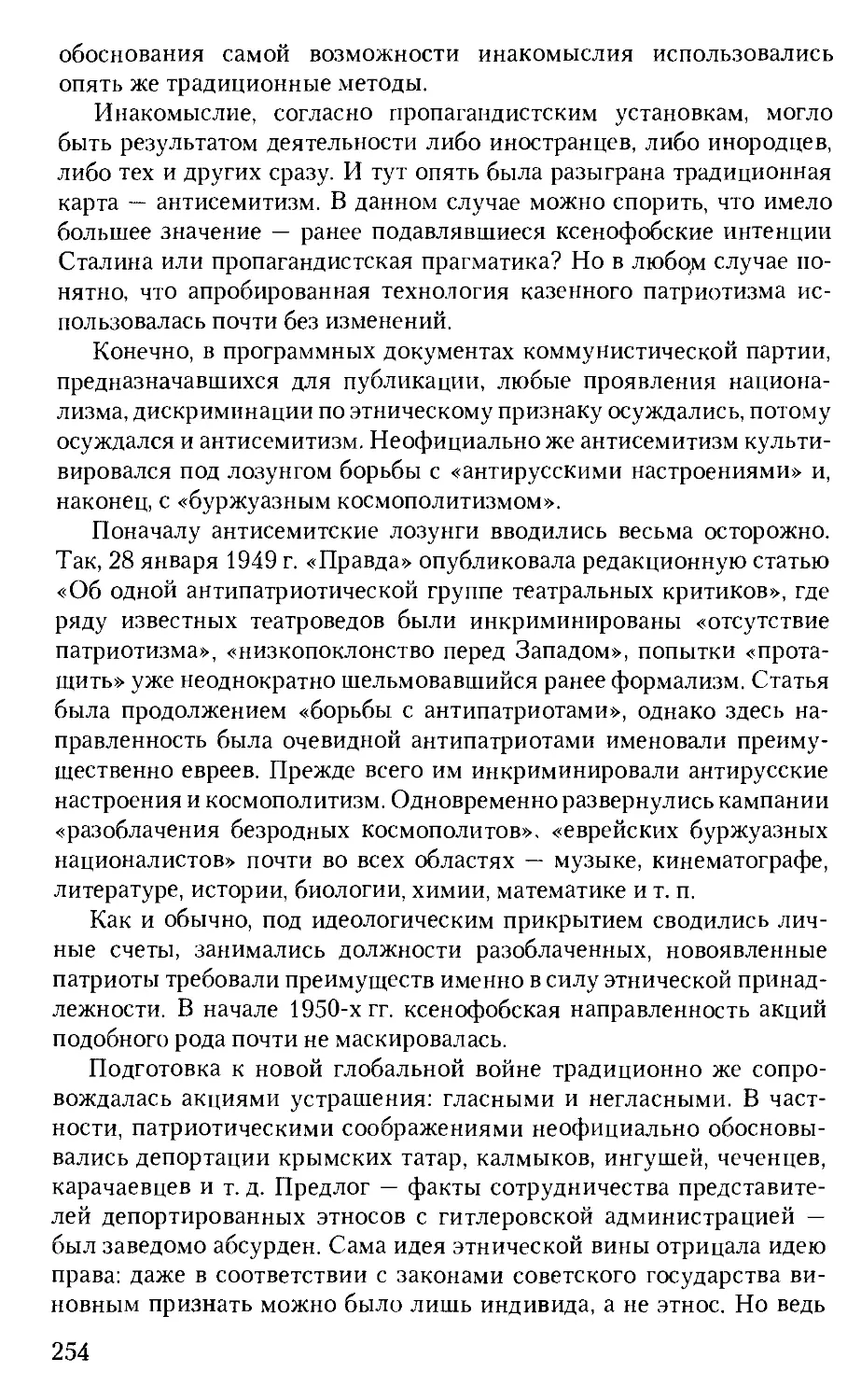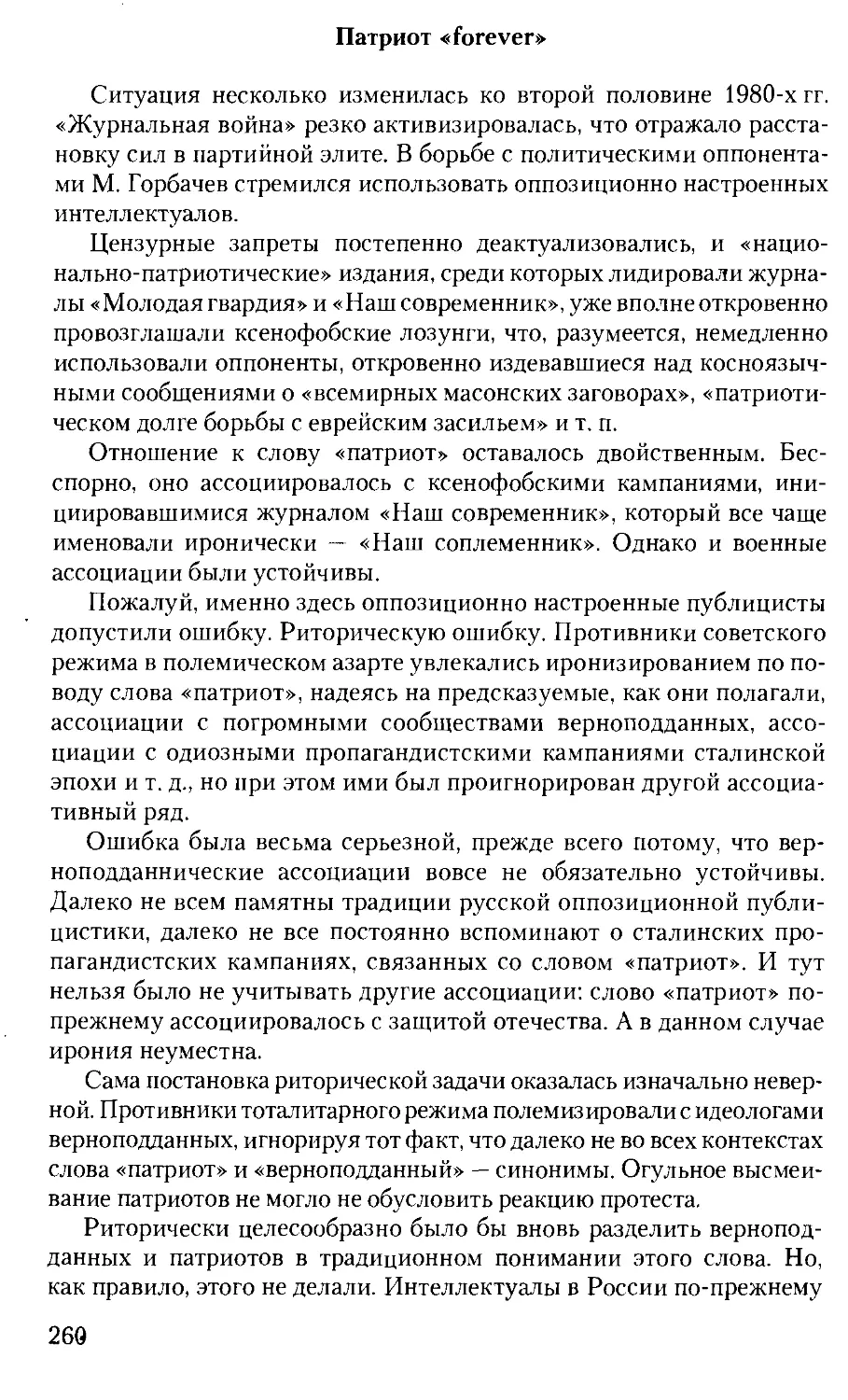Автор: Одесский М. Фельдман Д.
Теги: отношение между народом и государством внутриполитическая активность внутреннее положение внутренняя политика всемирная история революционное движение политология классовая борьба
ISBN: 978-5-8243-1702-2
Год: 2012
.71. Одесский
Д. Фельдман
ПОЭТИКА
ВЛАСТИ
ТИРАНОБОРЧЕСТВО
РЕВОЛЮЦИЯ
ТЕРРОР
Москва
РОССПЭН
2012
УДК 323.28
ББК 66.3
0-41
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект № 12-03-16013д
Одесский М., Фельдман Д. Поэтика власти. Тирано-
0-41 борчество. Революция. Террор — М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2012. — 263 с.
ISBN 978-5-8243-1702-2
Авторы книги анализируют европейскую революционную традицию
от Великой французской революции до террористической борьбы рус-
ских народовольцев. Философско-исторический подход, учитываю-
щий достижения филологии, социологии, культурологии, обусловил и
специфическую методологию. Революционная традиция анализирует-
ся в ракурсе «поэтики власти». Понятием же «поэтика власти» авторы
книги обозначают систему средств выражения, традиционно исполь-
зуемую для управления общественным сознанием. Особое внимание
авторы книги уделяют истории базовых терминов и пропагандистских
конструкций. В указанном аспекте анализируются и примыкающие к
основной проблематике вопросы «поэтики власти» в древнерусском
обществе, семантические особенности и пропагандистский потенциал
терминов «провокатор», «декабрист», «патриот».
Книга адресована историкам, филологам, социологам, культуро-
логам, политологам, равным образом широкому кругу читателей,
интересующихся современной общественно-политической проблема-
тикой.
УДК 323.28
ББК 66.3
ISBN 978-5-8243-1702-2
© Одесский М. Фельдман Д.,
2012
© Российская политическая
энциклопедия, 2012
ВЛАСТЬ ПОЭТИКИ
Опыт показывает, что формула «поэтика власти» не всегда пони-
мается однозначно. Приходилось слышать, что имеется в виду «по-
этизация власти». Так что стоит оговорить сразу, термин «поэтика»
использован здесь в русле филологической традиции.
Как известно, термин «поэтика» восходит к заглавию классиче-
ского трактата Аристотеля и буквально означает «поэтическое искус-
ство». Причем смысловое ударение приходится на второе слово, т. е.
«искусство», «мастерство», почти «ремесло». Отсюда современное
употребление термина: поэтика — (1) литературоведческая дисци-
плина, которая изучает систему средств выражения в литературном
произведении (в отличие от идейного содержания литературного
произведения)1, а также (2) сама эта система средств выражения2.
В российской науке XX в. «поэтика» функционировала в качестве
боевого лозунга. «Поэтика» — демонстративное заглавие сборников,
которые издавали сторонники так называемого формального метода.
Они, апеллируя к «Исторической поэтике» А.Н. Веселовского и кри-
тикуя предшественников за подчинение литературоведения соседним
дисциплинам — социологии или психологии, требовали переключить
исследовательское внимание на искусство слова. Соответственно,
«Теория литературы. Поэтика» (1925 г.) — демонстративное загла-
вие учебника Б.В. Томашевского.
В пору господства официально-марксистской науки термин (как
и сам «формальный метод») подвергся гонениям и запретам. По-
тому заглавие опубликованной в 1936 г. монографии О.М. Фрей-
денберг «Поэтика сюжета и жанра» воспринималось как дерзкое
напоминание о формализме. Напротив того, в 1960-1980-е гг., когда
уже официально считался допустимым отказ от унификации, имена
и идеи формалистов были возвращены в научный оборот. Именно
тогда выступают их авторитетные сторонники и продолжатели, что
закономерно эмблематизировалось новой популярностью термина
«поэтика». При посмертном переиздании трудов В.В. Виноградова,
В.М. Жирмунского, Ю.Н. Тынянова2 слово «поэтика» включается в
заглавие, даже если оно отсутствовало в первых изданиях. В.Я. Пропп
3
печатает «Поэтику фольклора», Е.М. Мелетинский — «Поэтику
мифа», В.П. Григорьев — «Поэтику слова» и т. д.
Однако парадоксально наибольшую известность обрели сочине-
ния, авторы которых хотя и озаглавливали их «Поэтиками», но были
далеки от симпатий к формалистам. Имеются в виду «Поэтика ро-
манов Достоевского» М.М. Бахтина (в первом издании 1929 г. книга
именовалась «Проблемы творчества Достоевского» и лишь во втором
издании 1963 г. получила хрестоматийное заглавие) и «Поэтика сю-
жета и жанра» О.М. Фрейденберг. Общее в этих двух «культовых»
трудах заключается в том, что и Бахтин, и Фрейденберг посредством
«системы средств выражения» изучали мировоззренческие, культу-
рологические проблемы.
Отсюда — финальный логический ход. Поскольку филологиче-
ские методы (при поддержке семиотики) получили широкое при-
менение в культурологии, постольку представляется продуктивным
именовать «поэтикой» «систему средств выражения» не только при-
менительно к литературному роду, литературному направлению,
сюжету, жанру1 и т. п., но и, например, к власти, террору и т. д.5, это
во-первых. Во-вторых, поэтика — наука, изучающая искусство сло-
ва, а власть, ее защитники и критики также выражают себя в слове, в
своего рода тексте власти.
В таком случае поэтика власти — это регулярно воспроизводимая
«система средств выражения», которая в конкретных текстах раз-
личного характера может манифестироваться более или менее пол-
но и которая служила (служит) как для защиты власти (например,
апологетические модели монархии), так и для ее ниспровержения
(например, апология тираноборчества, революции, революционно-
го террора).
Под средствами выражения здесь подразумеваются топосы, при-
сущие текстам власти: повторяющиеся пропагандистские аргументы,
образцовые исторические параллели, базовые идейные понятия («ре-
волюция», «террор» и пр.). Изучение этих понятий особенно важно:
ведь по причине вековой авторитетности они представляются самоо-
чевидными, не нуждающимися в толковании, «нейтральными»6.
* * *
При интерпретации понятий «революция», «террор» и т. п. ока-
зались эффективными приемы, выработанные на дисциплинарном
пересечении логики и филологии.
Прежде всего семантическая теория Г. Фреге позволяет разли-
чать, с одной стороны, «имя понятия» и «понятие»7, а с другой —
«смысл» и «значение» понятия (так называемый треугольник Фреге).
4
Немецкий логик справедливо настаивал на принципиальности
своего открытия. В письме Э. Гуссерлю (1891 г.) он представил схемы,
иллюстрирующие два подхода к понятию — традиционный (включая
адресата письма) и его собственный.
Фреге писал: «У Вас, мне кажется, эта схема выглядела бы при-
мерно так:
Имя понятия
Смысл имени понятия
(понятие)
Предмет,
который
подпадает под понятие
так что у Вас от имени собственного (обозначение единичного пред-
мета. — М.О.,Д.М.) до предмета было бы столько же шагов до пред-
метов, как и от имени понятия»8.
«Мое мнение может прояснить следующая схема:
Имя собственное Имя понятия
Смысл имени собственного Смысл имени понятия
Значение имени собственного (предмет) Значение имени понятия (понятие) Предмет, который подпадает иод понятие
От имени понятия до предмета одним шагом больше, чем в случае
имени собственного, и этот последний шаг может отсутствовать, т. е.
понятие может быть пустым, однако тем самым имя понятия не пере-
стает использоваться в науке. Последний шаг от понятия к предмету
я обозначил как шаг в сторону, чтобы дать понять, что это происходит
на одном и том же уровне...»9
Схемы Фреге иллюстрируют идеи, сформулированные им в ста-
тье «Смысл и значение» (1892). Различая два этих термина, логик
писал, что «некоторый знак (слово, словосочетание или графический
символ) мыслится не только в связи с обозначаемым, которое можно
было бы назвать значением знака (Bedeutung), но также и в связи с
тем, что мне хотелось бы назвать смыслом знака (Sinn), содержащим
способ данности [обозначаемого]»111.
Не вдаваясь в нюансы истории логики, можно отметить, что «зна-
чение» и «смысл» правомерно истолковываются как два способа по-
нимания «обозначаемого», так сказать, «внутреннее», которое почти
тождественно «обозначаемому» (а в случае имени собственного —
5
тождественно), и «внешнее», которое собственно и есть традици-
онное определение. Между «значением» и «смыслом» существует
принципиальный интерпретативный «зазор». Фреге уточняет статус
этого «зазора»: «Всестороннее знание значения предполагало бы, что
о каждом данном смысле мы могли бы сразу решить, относится ли
оно к этому значению или нет. Но этого мы никогда не достигнем»11.
Рассуждения автора статьи «Смысл и значение» позволяют уста-
новить логический генезис сосуществования двух указанных спо-
собов понимания обозначаемого. Фреге подчеркнул: «Когда слово
употребляют обычным образом, тогда то, о чем хотят сказать, явля-
ется его значением. Но иногда хотят сказать что-либо о самих сло-
вах или об их смысле. Такое случается, например, когда мы передаем
чужие слова посредством прямой речи. Тогда произносимые нами
слова обозначают прежде всего слова другого человека, и только эти
последние имеют обычное значение. <...> Отсюда ясно, что при таком
способе речи слова имеют не свое обычное значение, а означают то,
что обычно является их смыслом. В целях краткости мы будем гово-
рить: в косвенной речи слова выступают в косвенном употреблении
или имеют косвенное значение. В соответствии с этим мы отличаем
обычное значение некоторого слова от его косвенного значения и его
обычный смысл от его косвенного смысла. Косвенным значением не-
которого слова является, таким образом, его обычный смысл»12.
Используя позднейшую терминологию, можно сказать, что если в
некотором тексте «А» некое имя функционирует как значение, то в ме-
татексте «В» (текст о тексте «А») то же имя функционирует как смысл,
и наоборот. Другими словами, что авторы некоторых текстов власти
понимают как «революция» или «террор» (значение), то исследова-
тели текстов власти, давая этим словам собственное понимание, обра-
щают в смысл «революции» или «террора». И наоборот, т. е. «смысл»,
открытый исследователями, в свою очередь обратим, а найденный ими
способ понимания отнюдь не претендует на завершение.
Симптоматично, что Фреге, проверяя свои выводы, постоянно
прибегает к анализу естественного языка. Более того, Фреге сам ис-
пользовал свою теорию для исследования «поэтики власти»: «Из-
вестно, что в логике недопустима неоднозначность выражений, ибо
она является источником логических ошибок. Я полагаю, что не
менее опасны псевдоимена, которые лишены значения. История
математики знает много заблуждений, которые возникли по этой
причине. Псевдоимена, по-видимому, даже в большей степени, чем
неоднозначные выражения, способствуют демагогическому злоупо-
треблению языком. “Воля народа” может служить этому хорошим
примером: легко можно установить, что у этого выражения нет ника-
кого, по крайней мере общепринятого, значения»11.
6
По словам авторитетного специалиста, Фреге «желал дать общее
объяснение функционирования языка»11. Действительно, он, сопо-
лагая логику и лингвистику, анализировал связь значения предло-
жения с наклонением глаголов, установив кардинальное отличие
изъяснительного наклонения от повелительного или сослагатель-
ного: в первом случае критерий истинности приложим, а во втором
и третьем — не приложим. Тем самым (плюс соображения о косвен-
ных/обычных значениях и смыслах слов) Фреге в рамках логических
штудий описал подходы к проблемам, решение которых в лингвисти-
ке обусловило создание учения о функциях языка. И это учение, как
и семантическая теория Фреге, вошло в инструментарий исследова-
ний поэтики власти.
В 1916 г. участник формалистского проекта Л.П. Якубинский
опубликовал статью «О звуках стихотворного языка», где четко
противопоставил две функции языка: «Явления языка должны быть
классифицированы с точки зрения той цели, с какой говорящий
пользуется своими языковыми представлениями в каждом данном
случае. Если говорящий пользуется ими с чисто практической це-
лью общения, то мы имеем дело с системой практического языка
(языкового мышления), в которой языковые представления (звуки,
морфологические части и пр.) самостоятельной ценности не имеют
и являются лишь средством общения. Но мыслимы (и существуют)
другие языковые системы, в которых практическая цель отступает на
задний план (хотя может и не исчезать вовсе) и языковые представ-
ления приобретают самоценность»15. >.
.Если тезис Якубинского, не вдаваясь теперь в нюансы истории
лингвистики, — начало пути, то финал — это статья P.O. Якобсона
«Лингвистика и поэтика» (1960), где вычленено шесть функций языка
в соответствии с шестью компонентами речевого события и шестью его
основными целевыми установками. Не удивительно, что с тех пор счет
функций стал увлекательным объектом языковедческих исследова-
ний, но, как представляется, в статье Якобсона принципиально другое.
Он подчеркивал, что хотя «словесная структура сообщения зависит
прежде всего от преобладающей функции» и «лингвист-исследователь
должен учитывать и побочные проявления прочих функций», но «уста-
новка на референт, ориентация на контекст — короче, так называемая
референтивная (денотативная, или когнитивная) функция — является
центральной задачей многих сообщений»'fi.
Другими словами, сохраняется при всей утонченности и уточнен-
ное™ подхода базовая оппозиция. Традиционно подразумеваемая
оппозиция функции языка, подчиненной установке на «практиче-
скую цель» (Якубинский), «на референт, ориентация на контекст»
(Якобсон), на описание окружающего мира, подлежащее оценке
7
в категориях истина/ложь (Фреге), и другой функции (других функ-
ций), подчиненной (подчиненных) установке, как ее ни назови и ни
дифференцируй, на псевдоописание и псевдоимена. А потому уче-
ние о функциях языка фатально предназначено для исследования
поэтики власти.
В 1928 г. А.М. Селищев, воспользовавшись превратностями фрак-
ционной борьбы в коммунистической партии17, смог напечатать
дерзкую монографию «Язык революционной эпохи». Предложив,
подобно другим лингвистам, свой список функций языка (комму-
никативная, эмоционально-экспрессивная, номинативная, эстети-
ческая1*), он в согласии с указанными функциями взялся за «язык
революционной эпохи», по сути создав авторитетную версию языка
советской власти.
В частности, Селищев в разделе об эмоционально-экспрессивной
функции анализировал такие распространенные в советской публици-
стике прилагательные, как «решительный», «безоговорочный», «тру-
довой», «жесткий», «красный», «народный» и т. д. Селищев пришел
к неожиданному с научной, а не бытовой точки зрения заключению:
«Во всех этих случаях эмоциональный элемент выражен весьма слабо
или же он совсем отсутствует. Совсем нет его в сочетаниях с эпите-
тами красный, трудовой, народный. Отсутствуют ощутительные следы
особой эмоциональной значимости и в сочетаниях с другими прилага-
тельными, указанными выше. Слабость эмоционального элемента или
отсутствие его обнаруживается между прочим в следующем. Обратите
внимание на интонацию, с какой произносятся сочетания с этими эпи-
тетами: интонация ровная, спокойная, как при произношении обыч-
ных сообщений. Вот, например, на собрании докладчик спокойным,
деловитым тоном предлагает послать пламенный привет по такому-то
адресу. — Согласны? — Согласны, — отвечают отдельные голоса со-
бравшихся. Иногда это отсутствие эмоциональности сознается гово-
рящими: их уже не удовлетворяет содержание того или иного слова,
когда-то эмоционально окрашенного. Например, чтобы выразить горя-
чий привет, пользуются превосходной степенью для прилагательного
“пламенный”: “Мы шлем самый пламенный привет нашим дорогим за-
рубежным братьям” (Правда. 1926. № 100)»11. Таким образом, воздей-
ствие эмоционально-экспрессивной функции отнюдь не выражается
собственно в эмоциональности эпитетов, которая в силу неизбежной
повторяемости автоматизируется и перестает ощущаться.
Естественно пойти и дальше, гипостазировав специальную «поли-
тическую функцию языка»20. Однако снова повторим: дело не в коли-
честве функций языка, а в факте допустимого языком «нелогичного»
функционирования социально значимых понятий, что и есть сигнал
присутствия поэтики власти.
8
Наконец, стремясь разграничить текстовое и метатекстовое упо-
требление слов «революция», «террор» и т. п., целесообразно ис-
пользовать, применительно к ним термин «идеологема». Здесь снова
приходится констатировать уместность филологического подхода:
если в классической лингвистике фонема — абстрактная единица,
которая реализуется в звуках и противополагается им как конкрет-
ным единицам21, то идеологема — абстрактная единица (максимально
освобожденная от оценочности, от включенности в конкретную идео-
логию), которая реализуется в исторических идеологиях и противо-
полагается им как конкретным единицам.
* * *
Впрочем, приемы, использованные при анализе поэтики власти,
- представляются не столь важными, как сам объект исследования. Эта
исследовательская программа реализуется нами с конца 1980 — на-
чала 1990-х гг.22, и результатом стала монография «Поэтика террора
и новая административная ментальность. Очерки истории формиро-
вания» (1997). За ней последовали статьи, демонстрирующие ту же
методику, наконец, монография Д.М. Фельдмана «Терминология
власти. Советские политические термины в историко-культурном
контексте» (2006).
Мы занимались историей культуры, историей идей в частности.
На рубеже 1980-1990-х гг. мы отнюдь не «прозревали» взрывы на
улицах Москвы или разрушение Всемирного торгового центра в
Нью-Йорке и захват школы в Беслане. Исследовательская програм-
ма задумывалась не как политическая, а как культурологическая.
В то время стало ясно, что проект СССР — классический пример
тоталитарного общества — близок к завершению. Открылась возмож-
ность это печатно обсуждать. Но самое главное другое. Базовые со-
циальные ценности по природе своей не осознаются большинством
общества. Точнее, они кажутся большинству не условными, а «есте-
ственными», единственно возможными. Как будто других ценност-
ных систем нет, и нельзя их даже представить себе. Мы настаивали:
чтобы осознать аксиоматику своего социума, необходима культурная
дистанция, взгляд со стороны, ощущение рубежа, границы. Оно и
сформировалось в конце 1980-х гг.
Мы намеревались предложить последовательное описание со-
ветского общества, понятого как специфический культурный тип
(представления о праве, труде/отдыхе, доме и т. п.). Начали с изуче-
ния принципа власти, который лежит в основе советского общества,
т. е. принципа террора. Однако террор никак не может считаться
отечественным know-how. Потому казалось разумным предваритель-
но исследовать террор на стадии его досоветского бытования. Так
9
получилась книга, посвященная истории террора от возникновения
идеи в эпоху Французской революции до образцовой интерпретации,
предложенной русскими народовольцами. В первую очередь нас за-
нимала модель террора, его логика и «язык» — образы и аргументы,
привычно пускаемые в ход апологетами.
Мы полагаем, что при описании поэтики террора наиболее важ-
но:
1) различение террора (как факта гражданской истории трех по-
следних веков) и извечной жестокости, царящей в мире (Иван Гроз-
ный — жестокий правитель, но отнюдь не террорист);
2) первоначальная неразрывная связь террора с идеологией лево-
го радикализма (якобинцы и т. п.);
3) толкование террора как управления обществом посредством
превентивного устрашения в условиях массовой истерии («исте-
рии неповиновения» правительству в период борьбы террористов за
власть, «истерии солидарности» в период утверждения и нахождения
у власти);
4) обязательное оправдание террора чрезвычайными обстоятель-
ствами;
5) существование трех разновидностей террора (в зависимости от
средств устрашения и условий их эффективного использования) —
индивидуальный террор, террор толпы, государственный террор.
Свое понимание террора мы развили, кратко и под соответствую-
щим углом зрения анализируя события английской, американской,
Французской революций, деятельность якобинцев, декабристов, на-
конец, бомбистов «Народной воли». И разумеется, мы были рады
вниманию специалистов: фрагменты «Поэтики террора» были разме-
щены (без нашего ведома) на интернет-сайте по Французской рево-
люции, «декабристский» сюжет подробно обсуждался уважаемыми
отечественными историками В.М. Боковой и В.С. Парсамовым23, а
«народовольческий» сюжет был переведен на болгарский язык21. Тем
не менее признаемся: оставалось сожаление, что сам подход к террору
как социальной модели (чем мы особенно дорожили) далеко не все-
ми был понят. Знай мы, при каких обстоятельствах актуализируется
интерес к поэтике террора, не сожалели бы. Пусть все это оставалось
бы в рамках академического рассмотрения.
***
В 1998 г. газета «Новые известия» поместила статью Т. Мамалад-
зе «Будильник для террориста». Статья открывалась краткой инфор-
мацией: «За 30 секунд все было кончено, — рассказывает очевидец
гибели генерала Прокопенко и его товарищей на старой кавказской
дороге 16 апреля с.г. — Теракт, как правило, быстротечен, но терро-
10
ризму конца не видать. Конец века, как конец света, каждый день —
Судный, и в роли Судии — то человек в маске и с “узи” в руках, то
Асахара с зарином в голове. И все беззащитны — что президенты в
“Мерседесах”, что пассажиры в метро». Автор привел многочислен-
ные факты, иллюстрирующие тезис о всеприсутствии террора в со-
временном обществе, а затем предпринял исторический экскурс: «В
городе, где я рос, была улица Желябова и Перовской, переулок За-
сулич и даже овраг Каляева. Сегодня место моей работы — бывшая
Каляевская. Как видно, в городах нашего детства власти уважали
цареубийц. Мы получали убежденность в дозволенности “революци-
онного убийства” вместе с почтовым адресом родительского гнезда.
<...> И если декабристы разбудили Герцена, то декабристов разбу-
дили Робеспьер с Маратом. И хотя декабристы всячески открещи-
вались от якобинства, убить самовластительного злодея и его детей
все-таки намеревались. Иначе говоря, Рылеев с Пестелем разбуди-
ли и Юровского, палача царской семьи Романовых. Есть у револю-
ции начало, и в этом начале было слово, и это слово было — terreur.
В переводе с французского “ужас”, “устрашение”. “Революция” и “тер-
рор” — близнецы-братья. Взявшись за ручки, близнецы из “времен
Ужаса” (выражение Пушкина) перебрались в наше столетие. Как это
происходило, описано в книге Михаила Одесского и Давида Фельд-
мана “Поэтика террора”»21.
К нашему сожалению, дальше — больше. Террор в виде индивиду-
ального террора оказался «у ворот»21’, и авторам этой книги снова и
снова приходилось анализировать очередные теракты в интервью раз-
личным СМИ («Огонек», «Аргументы и факты», «Новое время»)27.
С точки зрения теории исследование специфики новейшего тер-
рора требует рассмотрения нескольких принципиальных моментов.
1. Террор и ислам. С одной стороны, ислам — мировая религия
с продолжительной историей, потому немыслимо детерминировать
современный террор особенностями мусульманского мировидения.
С другой стороны, в теперешней ситуации столь же немыслимо иг-
норировать связь террора с исламом. По крайней мере, на уровне
деклараций: едва ли манифесты террористов — фальшивка, а мусуль-
манам теракты приписаны христианами или иудеями. Более того, по-
скольку любой террор эффективен именно по причине воздействия
на общественное мнение, постольку декларативная составляющая
терактов — далеко не второстепенная.
В книге мы стремились доказать, что террор всегда был сопри-
роден леворадикальной идеологии, которая объявила войну бур-
жуазной цивилизации. В частности, социалисты на разных этапах
движения то объявляли террор буржуазным искажением бескровной
идеи социального освобождения, то, наоборот, позиционировали себя
11
прямыми наследниками террора Французской революции. Ныне
буржуазную цивилизацию низвергают под лозунгами не социализ-
ма, а исламского фундаментализма (что, кстати, в условиях «после
разрушения Берлинской стены» весьма находчиво и целесообразно).
По словам Карлоса (Ильича Рамиреса Санчеса — знаменитого терро-
риста, марксиста и мусульманина), «революция сегодня говорит на
языке Корана»28. Так что возникновение «избирательного сродства»
террора с исламом даже предсказуемо.
2. Международный характер террора. В начале третьего тыся-
челетия лидеры сверхдержав официально квалифицировали террор
как международный феномен. «Террористический интернационал»
подразумевает и участие в терактах представителей различных на-
родов и стран, и внешнее (заграничное) финансирование, и коор-
динацию террористических атак на территории разных государств,
и существование «стран-изгоев», готовых с той или иной степенью
публичности поддерживать террористические группы, стремящиеся
к захвату власти в других государствах.
Гипотеза «террористического интернационала» часто критику-
ется скептиками, намекающими, что она подозрительно выгодна
лидерам всех государств, позволяя списывать трудноразрешимые
внутренние проблемы на происки внешнего врага. Однако здравый
смысл подсказывает, что террористам необходимы базы, оружие,
финансы. Разумеется, все это благодаря коррупции чиновников или
спонсированию «повстанцев» теми, кто недоволен существующим
положением, добывается и внутри страны. Но тот же здравый смысл
заставляет признать, что наличие транснациональных источников
при глобализме политики XXI в. ничуть не менее правдоподобно.
Аналогично, интернационализм террора вполне предсказуем с
исторической точки зрения. Напомним: террор (как и революция)
с самого начала функционировал в качестве универсальной модели,
что предполагало, точнее требовало, интернационализм в практике
политиков-террористов. Приверженцы террора всегда были готовы
как помочь страждущим единомышленникам в других государствах,
так и принять подобную помощь от представителей держав, находя-
щихся в состоянии войны с их родной страной. Например, во время
событий 1905 г. революционеры пользовались японской помощью.
На эти деньги в Америке покупали оружие и через Финляндию
доставляли в Россию. Причем полиция узнала об этом по чистой
случайности, когда на мель у финских берегов сел пароход, перевоз-
ивший оружие и боеприпасы.
3. Жестокость террористов. Беды, причиняемые здесь и сейчас, не-
избежно кажутся современникам небывалыми, превосходящими все,
что происходило ранее и с другими. «Никакие аналогии не принесут
12
нам облегчения — прецедентов не существует, — пишет американский
писатель Дон Делилло. — Нужно принять потрясение и ужас»29.
Да, современники шокированы. Вместе с тем мы хотим подчер-
кнуть, что собственно небывалого в современных терактах нет. Да, не
стоит надеяться на то, что вожди террора, в очередной раз исчезаю-
щие после гибели «своих» и «чужих», дискредитируют себя такими
поступками в глазах соратников и сторонников. Положение обязыва-
ет. Бен Ладен или мулла Омар после краха талибского Афганистана
бежали. Но едва ли Бен Ладен, выражаясь обывательски, трус. Не-
редко террорист оставляет собственную мученическую смерть на по-
том. Это не только инстинкт самосохранения, но и убежденность, что
от него лично зависит успех дела. Так сказать, двойной стандарт — в
отношении к себе и в отношении к подчиненным. Кроме того, уста-
новка на пропагандистский эффект, вызванный неуязвимостью, неу-
ловимостью таинственного вождя.
Тем не менее прецеденты — попытаемся возразить Делилло, взяв
под контроль эмоции — существуют. Современные исполнители те-
рактов — мужчины и женщины — жертвуют собой. Но исполнители
планировали свою гибель еще при «классических» терактах XIX-
XX вв.: они и умирали вместе с «объектами», и получали тяжелые
ранения, и обрекали себя на смертную казнь. Не только ныне терро-
ристы не считаются с гибелью заведомо непричастных. Так было и
столетие назад. Если же учитывать, что индивидуальный террор —
лишь один из видов террора, то приходится признать: по сравнению
с государственным террором, практиковавшимся от якобинцев до
большевиков, до китайских или камбоджийских коммунистов, со-
временный террор «отстает». Впрочем, количество пострадавших
зависит от технического прогресса, и здесь человечество может еще
столкнуться с пагубными последствиями развития науки.
Разрушение Всемирного торгового центра И сентября 2001 г.
считается чуть ли не символом терроризма в его современном изводе.
Казалось бы, все здесь ново: и постмодернистские параллели с культу-
рой Голливуда, и новые технические средства, которые использовали
террористы, и выбор в качестве мишени экономической инфраструк-
туры. А на самом деле — классический теракт. Единственное отличие:
раньше было принято немедленно авторизовать совершенные акты,
демонстративно брать на себя ответственность. Сейчас не берут. Но,
строго говоря, это не такое уж принципиальное различие. Признавать
себя исполнителем нужды нет, и так понятно.
4. Борьба с террором. Эффективная борьба требует принципи-
альной комплексности контрмер. Дело в том, что любая террори-
стическая организация необходимо представляет собой сложную
структуру. Это означает наличие: 1) исполнителей, которыми можно
13
жертвовать, используя их жизнь для реализации терактов, а смерть —
для пропаганды образа героев-мучеников, 2) финансистов, техников,
3) литераторов, журналистов, которые порой и не входят собственно
в подпольную группу, а становятся искренними апологетами терро-
ристов, 4) руководителей, обязанных сохранять свою жизнь (в инте-
ресах общего дела), способных и уполномоченных менять тактику и
даже контактировать с враждебной властью, вплоть до сотрудниче-
ства с полицией.
Исполнитель — самая дешевая и легкозаменяемая часть механиз-
ма. Ведь стоимость обучения одного взрывника, даже взрывника-
смертника, ничтожна в сравнении с прибылью, какую он приносит.
Представим себе, сколько заработали те, кто знал. Кто, например, пе-
ред 11 сентября вовремя скупал подорожавшие акции или кто перевел
большие суммы долларов в другую валюту, зная, что курс снизится.
Отсюда — широко обсуждаемая в СМИ проблема трансформации
террора в бизнес. По-видимому, современный терроризм — не только
метод управления, но и удачное вложение капитала. Впрочем, и это
было. Потому финансовая сторона террора обычно не обсуждается
террористами. Значит, выявление и уничтожение исполнителей или
организаторов — дело необходимое, но этого недостаточно. Надо ис-
кать и разрушать финансовые потоки.
Особого внимания требует работа с агентурой: вербовка агентов,
внедрение. Конечно, оперативная работа сопряжена с подкупом и
шантажом. Потому агентуристы не вызывают таких симпатий обще-
ства, как «чистые» аналитики, элегантные технократы или бойцы
антитеррористических подразделений. Опять же финансовая дея-
тельность тут, мягко говоря, непрозрачна: деньги идут из рук в руки.
Далее: переговоры с «умеренными» террористами целесообразно
использовать лишь как одно из тактических средств перманентной
с ними борьбы. Стратегически с террористом договориться нельзя,
потому что его реальные цели не имеют ничего общего с его деклара-
циями. Для него террор — форма политического существования, ме-
тод захвата и удержания власти. Он лидер до тех пор, пока он — лидер
террористов. Если кто-то с кем-то договаривается, то у одной стороны
есть одни требования, у другой — другие. Допустим, пришли к выво-
ду: всем выгоднее уступить в своих требованиях, чем вести войну на
уничтожение. И договорились. Но для этого стороны должны знать
политические требования друг друга, декларируемые же требования
террористов, как правило, не соответствуют их истинным задачам.
А если лидер террористов по прагматическим соображениям встанет
на путь переговоров, то его жизнь окажется в опасности, а его место
займут более «последовательные» соратники.
14
Наконец, самая длительная, но и самая перспективная задача: раз-
рушать логику и поэтику террора, отслеживать информационную
среду, чтобы не нагнеталась «истерия неповиновения». Надо проти-
вопоставлять аргументам, которые используют пропагандисты тер-
рора, контраргументы.
5. Террор и демократия. Наблюдая жестокость последних терак-
тов, многие мечтательно возвращаются к былым временам, когда,
например, в СССР терактов не было. Да, практически не было, по-
тому что государство могло использовать в борьбе против террори-
стов — реальных или потенциальных — террористические же методы
подавления. Но опыт показывает, что такое государство обязательно
применяет террористическую методику против как террористов, так
и нетеррористов. Террор — универсальный метод управления, а не
способ решения локальных проблем. Характер государства или тер-
рористический, или нет.
На самом деле, беззащитность демократии — одна из иллюзий.
Это уже не раз доказывалось. Цивилизованный мир с идеей либера-
лизма, лежащей в его основании, способен защищаться. И в техниче-
ском отношении, и в идейном тоже. Потому мы убеждены, что хоть
когда-нибудь, пусть и не скоро, наша книга утратит политическую
актуальность.
1 См., напр., статью М.Л. Гаспарова: Литературная энциклопедия терми-
нов и понятий. М., 2001.
2 Пропп В.Я. Поэтика фольклора. М., 1998. С. 25.
‘ 3 Виноградов В.В. Поэтика русской литературы / ред. М.П. Алексеев,
А.П. Чудаков. М., 1976; Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика.
Стилистика / изд. подг. Н.А. Жирмунская. Л., 1977; Тынянов Ю.Н. Поэтика.
История литературы. Кино / изд. подг. Е.А. Тоддес, А.П. Чудаков, М.О. Чу-
дакова. М., 1977.
' См., напр.: Одесский М.П. Поэтика русской драмы: вторая половина
XVII - первая треть XVIII в. М„ 2004.
5 Ср. функционально близкое использование терминов «дискурс», «се-
миотика», «текст».
6 См. тип издания, представленный, в частности, брошюрой авторитетно-
го историка: Vovelle М. Les mots de la Revolution. P., 2004.
7 Macbeth D. Frege’s Logic. Harvard; London, 2005.
8 Письма Г. Фреге Э. Гуссерлю// Фреге Г. Избр. работы /сост. В.В. Анаш-
вили, А.Л. Никифорова. М., 1997. С. 155.
9 Там же. С. 154.
Фреге Г. Смысл и значение // Фреге Г. Избр. работы. С. 26.
" Там же. С. 27.
12 Там же. С. 27-28.
13 Там же. С. 40.
15
11 Duinmett M. Frege: Philosophy of Language. L., 1973. P. 83.
Якубинский Л.П. О звуках стихотворного языка // Якубинский Л.П.
Язык и его функционирование. М., 1986. С. 163.
16 Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против».
М„ 1975. С. 198.
17 Одесский М.П. Вокруг полемики Г.О. Винокура и А.М. Селищева: на-
учный и социальный аспекты // Язык. Культура. Гуманитарное знание: На-
учное наследие Г.О. Винокура и современность. М., 1999.
18 Там же. С. 52-53. Селищев предпочитал говорить о функциях не языка,
а речи.
19 Там же. С. 180-181.
211 Lassewell H.D., Leites N. Language of Politics. N.Y., 1949. P. 8.
21 См., напр.: Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
22 Одесский М., Фельдман Д. Целесообразность или необходимость //
Новый мир. 1989. № 11. С. 262-267; Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэти-
ка террора: (А. Пушкин, Ф. Достоевский, А. Белый, Б. Савинков) // ОНС:
Общественные пауки и современность. 1992. № 2. С. 81-93.
21 Бокова В.М. Больной скорее жив, чем мертв: (Заметки об отечествен-
ном декабристоведении 1990-х годов) // 14 декабря 1825 года: Источни-
ки. Исследования. Историография. Библиография. СПб.; Кишинев, 2001.
Вып. 4. С. 510-521; Парсамов В.С. Семиотика террора: (Размышления над
книгой М.П. Одесского и Д.М. Фельдмана «Поэтика террора») // Освободи-
тельное движение в России. Саратов, 2001. Вып. 19. С. 116-126.
21 См. перевод Э. Димитрова и его интервью с авторами книги: Демокра-
тически преглед. София, 2001/2002. Кн. 48. С. 441- 458.
25 Мамаладзе Т. Будильник для террористов // Новые известия. 1998.
21 апр. № 74 (113). С. 5.
26 См. корректный справочник, включивший террористов и террористи-
ческие организации, причем представляющих как индивидуальный, так и
государственный террор: Ланцов С.А. Террор и террористы. СПб., 2004. Ср.
также показательное массовое издание: Вагман И., Ильченко А., Евминова С.
50 знаменитых террористов. Харьков, 2005. Здесь фигурируют деятели ин-
дивидуального террора от А.И. Желябова и А.И. Ульянова до Бен Ладена и
Хаттаба.
27 Три наивных вопроса <Иптервью Д.М. Фельдмана> // Огонек. 2001.
№ 38 (4713). С. 10-13; Терроризм в разрезе <Интервью М.П. Одесского и
Д.М. Фельдмана> // Аргументы и факты. 2001. Сентябрь. №39 (1092). С. 7;
Именем Аллаха <Интервью М.П. Одесского и Д.М. Фельдмана > // Аргу-
менты и факты. 2001. Октябрь. №41 (1094). С. 5; «Талибы те же больше-
вики. Только глупее» <Интервыо М.П. Одесского>// Новое время. 2002.
10 февр. № 6 (2934). С. 32-35; Они не сепаратисты, а террористы <Интервью
М.П. Одесского и Д.М. Фельдмана > // Огонек. 2002. № 43 (4771). С. И.
28 Санчес И. Р. Кто я? // Иностранная литература. 2004. № 9. С. 205.
29 Делилло Д. На руинах будущего // Иностранная литература. 2004.
№ 9. С. 239.
ПОЭТИКА ТЕРРОРА
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Наша книга — о понимании. Мы анализируем стереотипы мыш-
ления, выявляющие принадлежность личности к специфической
культуре, прежде всего советской. Этими стереотипами в значитель-
ной мере детерминированы мышление и, соответственно, поведение
граждан бывшего СССР/современной России.
Говоря о специфике советской культуры, мы имеем в виду прежде
всего характер осмысления фундаментальных категорий обществен-
ного бытия: законности, труда, здоровья и т. п., точнее представлений
о сути этих категорий, их ценностное восприятие. Специфические
черты советского быта обусловливались характерной для стран со-
циализма интерпретацией этих категорий, относящихся к уровню
социальной аксиоматики.
При общении с носителями иной культуры первичное непони-
мание возникало (и возникает) как раз на этом уровне. Иные пред-
ставления о сути фундаментальных категорий воспринимаются в
качестве извращения, аномалии, что провоцирует конфликт и при
идеологической близости, не говоря уж о разногласиях.
Подчеркнем еще раз: ценностные аксиомы советской культуры
усвоены всеми возрастными группами, воспитанными в этой куль-
туре, вне зависимости от отношения каждого индивидуума к некогда
господствовавшей идеологии.
Первичное непонимание было б легко устранить, сопоставив две (и
более) системы социальных аксиом не как норму и ее нарушения, а как
две (и более) равноправные нормы. Но сопоставление возможно толь-
ко тогда, когда ценностные аксиомы в качестве таковых и осознаются.
Указанный подход предполагает исследование ключевых идеоло-
гем, определивших возникновение, развитие и уникальность совет-
ского социума.
На наш взгляд, целесообразно описывать эти идеологемы, осно-
вываясь на результатах анализа формирования и функционирова-
ния важнейшей из них — базовой идеологемы «террор». Разумеется,
связь террора и фундаментальных категорий общественного бытия
if:
(«законности», «труда», «болезни», «здоровья» и т. д.) далеко не оче-
видна. Она и не станет очевидной, пока не будут устранены некото-
рые противоречия терминологического характера.
Обычно террором именуют акции демонстративно беззаконные:
убийства или покушения на убийства политических противников,
захват заложников и диверсии. Однако террором называют и мас-
совые репрессии, официально санкционированные государственной
властью на законодательном уровне. Получается, что явления прин-
ципиально разнородные охватываются одним термином. Более того,
далеко не во всех случаях политическое убийство, диверсия или офи-
циально санкционированные массовые репрессии воспринимаются
как террор. Что считать, а что не считать террором, каждый решает
сам, в зависимости от идеологических установок, опираясь на соб-
ственную интуицию. Единого определения сущности террора пока
нет, его еще предстоит ввести.
Определим понятие, отметив прежде всего, что в данном ис-
следовании термин «террор» не имеет эмоциональной окраски,
употребляется вне осуждения или оправдания. Террор — способ
управления социумом посредством превентивного устрашения.
Сами по себе убийства, диверсии, массовые репрессии, захват за-
ложников и т. п. — феномены внеисторические. Террористически-
ми эти акции становятся тогда и только тогда, когда используются
для превентивного устрашения социума в целом. Именно превен-
тивного, что очень важно.
Устрашение как таковое применяется в любом социуме, где нормы
права регламентируют поведение: кара, которой подвергается пре-
ступник, должна (помимо иных функций) устрашать прочих членов
общества, предупреждая нарушение закона. Однако в рамках права
наказание возможно лишь после того, как будет установлен факт на-
рушения конкретного закона, причем объект наказания — конкретный
индивидуум-правонарушитель, и только он один. Это непременное
условие. И сейчас, как в римском праве, постулируется: sine legi — sine
criminae, sine criminae — sine poenae*. Превентивное же устрашение
отрицает законность в принципе. Здесь соотнесенность нарушителя
и кары вовсе не обязательна. Репрессии могут обрушиться на тех, кто
никаких законов вообще не нарушал: на родственников обвиняемо-
го, заложников и т. д. Превентивное устрашение используется не для
охраны принятых законов, а для того, чтобы подавить волю к сопро-
тивлению, заставив беспрекословно повиноваться террористам.
Мы реконструируем не только террористическую ментальность в
целом, т. е. логику террора (основные категории, парадигматические
* Нет закона - нет преступления, нет преступления — нет наказания
(лат.).
18
способы построения суждений), но и поэтику террора, что предпола-
гает, по выражению Р. Кебнера, «семантический подход к истории»,
т. е. исследование конструкций и терминов, используемых носителями
террористического менталитета на каждом историческом этапе'.
Метод этот, хорошо известный исследователям Античности и
Средневековья, сравнительно редко используется при анализе до-
кументов новой и новейшей истории. Как правило, предполагается,
что смысл терминов очевиден для носителей культуры и не может
меняться. Неслучайно X. Арендт настаивала на том, что, определяя
«такие общие политические феномены, как революция, националь-
ное государство, империализм, тоталитаризм, следует, конечно же,
обратиться к дате появления на исторической арене термина, охва-
тывающего данный феномен»2.
С учетом особенностей постановки задачи и методов ее решения,
мы заведомо признаем нецелесообразными попытки пессимистиче-
ски осмыслить террор в качестве неотъемлемого элемента политиче-
ской истории чуть ли не с древнейших времен3.
В связи с этим можно отметить, что возникновение идеологемы
«террор» обусловлено развитием идеологемы «революция», которая
сформировалась в XVII-XVIII вв„ но никак не ранее1.
Изучение революционно-террористической ментальности целе-
сообразно проводить, абстрагируясь (по возможности) от поли-
тических, экономических, философских доктрин, с которыми ее
привычно ассоциируют — якобинство, социализм и т. д. Несмотря на
многообразие леворадикальных группировок, исповедующих подоб-
ные доктрины, эти группировки весьма схожи, и очевидное сходство
обусловлено общим управленческим идеалом.
Террор — апробированный алгоритм управления социумом.
Предлагаемая концепция террора несовместима с популяр-
ными теориями «происков злонамеренных лидеров», «искаже-
ний социально-чуждыми элементами истинного порыва масс»
или «диктата экстремальных обстоятельств». И не только потому,
что подобные теории, ныне используемые академическими спе-
циалистами, ранее пропагандировались участниками событий не-
посредственной политической выгоды ради. Хуже другое. Все,
трактующие террор как импровизацию, на которую леворадикаль-
ных политиков вынуждают непредвиденные и непреодолимые об-
стоятельства, игноририруют (причем с удивительным упорством)
само революционно-террористическое учение. А ведь это учение про-
кламировалось радикалами почти два столетия и периодически реа-
лизовывалось, в полном согласии с прокламациями. Вот почему мы
обращаемся не столько к событийной, сколько к словесной канве.
19
Вынужденные анализировать тексты, которые создавались на про-
тяжении более трех веков, мы заранее соглашаемся с фактическими
замечаниями, которые могут быть нам сделаны. В оправдание заме-
тим, что понимание каждого из этих текстов остается недостаточным
вне учета изучаемой здесь традиции. Сошлемся также на методоло-
гический опыт авторов образцовых работ по исторической поэтике,
авторов, которые в силу сходных причин отваживались на схемати-
ческое изложение сложных процессов. Как писал в 1873 г. А.Н. Весе-
ловский, «нет ничего неблагодарнее для исследователя, как широкие
задачи, обнимающие не одно одиночное явление, а несколько, или
одно какое-нибудь явление, но во всем разнообразии его историче-
ских выражений. Сколько труда он ни положит на собирание мате-
риалов, на выяснение частностей, работа всегда остается неполною,
потому что нет возможности поручиться, чтоб от внимания его не
ускользнула та или другая мелочь, иногда очень важная для его соб-
ственной теории, но иногда и такая, знакомство с которою могло бы
удержать его от несвоевременных обобщений. С другой стороны, во
всякой широкой задаче есть своя выгода, есть много привлекающего,
вызывающего к дальнейшему исследованию»5.
Итак, базовые термины — «революция» и «террор».
' Koebner R., Schmidt H.D. Imperialism: The Story and Significance of a Po-
litical Word: 1840 1960. Cambridge, 1964. P. XIII.
2 Arendt H. On Revolution. Harmondsworth, 1977. P. 43.
' См., наир., о терроризме валашского господаря Влада III Дракулы: Flo-
rescu R., McNally R. Dracula: A Biography of Vlad the Impaler: 1431-1476. N.Y.,
1973.
1 Данная концепция была изложена в статьях: Одесский М.П., Фельд-
ман Д.М. Целесообразность или необходимость?// Новый мир. 1989. № И;
они же. Поэтика террора: (А. Пушкин, Ф. Достоевский, Андрей Белый,
Б. Савинков) // ОНС: Общественные науки и современность. 1992. № 2;
Богданов А.А. Пять недель в ГПУ / подг. текста, предисловие, примечания
Одесского М.П., Фельдмана Д.М. // De visu. 1993. №7; Одесский М.П.,
Фельдман Д.М. Выйти живым из строя: Русская литература: поэтика болез-
ни, здоровья и труда // Дружба народов. 1994. № 3; они же. Революция как
идеологема: К истории формирования // ОНС: Общественные науки и со-
временность. 1994. № 2; они же. Террор как идеологема: К истории формиро-
вания // Там же. 1994. № 5; 1995. № 1; они же. Декабристы и террористиче-
ский тезаурус // Литературное обозрение. 1996. № 1. По материалам книги
читался курс в Российском государственном гуманитарном университете.
3 Веселовский А.Н. Наблюдения над историей некоторых романтических
сюжетов средневековой литературы // Веселовский А.Н. Собр. соч. Т. 8: Ро-
ман и повесть. Вып. 2. Л., 1930. С. 419.
ГЛАВАI
Революция и тип социума
В европейской истории Нового времени конкурируют два типа
организации социума: авторитарный (традиционно-сословный) и
бюрократический. В первом из них сословное расслоение настолько
жестко, что права каждого человека определяются прежде всего при-
надлежностью к определенному сословию, а «человека вообще» нет
и быть не может. Для второго типа характерно признание в качестве
аксиомы изначального правового равенства всех, чем и обосновы-
ваются требования обязательного соблюдения «естественных прав
человека». Соответственно формулируется и отношение к государ-
ственной власти.
В авторитарном обществе носитель власти — монарх — сакрали-
зован. Он считается особой священной, его право повелевать — Бого-
данно. Потому убийство и даже покушение на убийство «помазанника
Божиего» — тягчайшее преступление не только против государства,
но и против религии. В христианской культуре это — тягчайшее пре-
ступление, сопоставимое с отцеубийством.
Социум в целом осознает (и признает), что законный монарх рож-
ден властвовать и властвует по природе своей, отличной от природы
подданных. Коль так, вопрос о том, кому быть (стать) монархом — во-
прос происхождения. Согласие же общества на подчинение законному
монарху само собой подразумевается. Но также само собой подразуме-
вается, что власть монарха ограничена традиционными установления-
ми — авторитетом церкви, привилегиями сословий и т. п.1
В отличие от авторитарного социума, в бюрократическом постули-
руется, что природа у всех одна. Следовательно, право повелевать уже
не признается изначальным (Богоданным), оно по определению нуж-
дается в обосновании. Правительство вынуждено добиваться согласия
социума, без чего перестает быть правительством.
У бюрократического социума две разновидности — демократиче-
ская и тоталитарная.
В условиях демократии согласие, полученное правительством от
социума, есть результат компромисса, баланса мнений и сил — поли-
тических партий, различного рода ассоциаций, центра и провинций
и т. п. Компромисс обеспечивается демократической процедурой вы-
боров, гарантирующих представительство всех социальных групп в
структурах власти.
Тоталитарное же правительство добивается согласия, используя
террор, т. е. меры превентивного устрашения, необходимость которых
21
доказывается ссылкой на некие чрезвычайные обстоятельства, создаю-
щие глобальную угрозу самому существованию социума.
Из этого, конечно, не следует, что в авторитарном социуме и в
демократической разновидности бюрократического невозможно
применение правительством мер превентивного устрашения. Такое
возможно, однако лишь в качестве эксцессов.
Жестокий монарх свирепствует не ради того, чтобы отстоять свое
право на власть, оно и так бесспорно. К примеру, Ивана Грозного
даже современники считали исключительно жестоким, при этом во-
прос о политическом перевороте, насильственном лишении престола
не ставился, Иван IV был «законный государь». И массовые казни
отнюдь не воспринимались современниками как способ удержаться
у власти. С их точки зрения царь «мучительствовал», чуть ли не «са-
танинствовал», но делал это вовсе не ради управления государством,
а самого «мучительства ради». Концепция «терроризма» Ивана Гроз-
ного создана историками гораздо позже2.
Демократическое правительство порой вводит чрезвычайное по-
ложение, которым оправдывает применение репрессий, законом
изначально не предусмотренных, однако делается это не с целью
подтверждения собственной легитимности, а для решения конкрет-
ных локальных задач — ведения войны, выхода из экономического
кризиса и т. п. По мере решения поставленных задач правительство
отменяет чрезвычайное положение или с изменением баланса сил в
обществе уступает место другому правительству, предложившему
альтернативную программу.
Террор не совместим с авторитаризмом, поскольку направлен на
социум в целом, без различия сословий, тогда как сословное нера-
венство — принцип, соблюдение которого — основное условие су-
ществования авторитарного социума. Показательно, к примеру, что
во время Варфоломеевской ночи Карл IX и «католическая партия»
не посмели посягнуть на жизнь двух принцев-гугенотов — Генриха
Наваррского и Генриха Конде. Аналогично герцог Альба, вошед-
ший в историю как жесточайший каратель, открыто не подчинился
королю, повелевшему казнить принца-гугенота (брата Вильгельма
Оранского) — Людовика Нассау. И король вынужден был признать
правоту герцога3. Сословные «перегородки», исключая равенство
перед законом, одновременно закрывают авторитарный социум для
террора.
Бюрократический социум, лишенный таких «перегородок», от-
крыт террору, но при демократии применение мер превентивного
устрашения означает отрицание принципа баланса, без которого де-
мократия не существует.
22
Что же касается тоталитарного социума, то здесь варьируют лишь
формы устрашения, а суть самого способа управления, равным обра-
зом ссылки на чрезвычайные обстоятельства, неизменны1.
Динамика преобразования авторитарного типа социума в бюро-
кратический, а также противопоставление в рамках последнего де-
мократии тоталитаризму и отражены в идеологеме «революция».
Терминология и аксиоматика
Потребность в управлении посредством превентивного устра-
шения возникает тогда, когда ставится задача построения обще-
ства тоталитарного типа. Как уже отмечалось выше, тоталитаризм,
по определению, лишен легитимной основы. Если в авторитарном
(традиционно-сословном) обществе законность власти обосновы-
вается всеобщим признанием сакральности персоны властителя и
династической традиции, а в демократическом — представительно-
стью выборов, то законность тоталитарного правительства обосно-
вать нельзя ничем. Не будучи легитимным, а потому не зная сроков
своих полномочий, тоталитарный лидер страшится в любой момент
утратить их. Отметим, что, говоря о страхе, мы имеем в виду не эмо-
ции как таковые и не особенности психики тех или иных политиков,
но общую социальную установку, которая, кстати, может оказывать
влияние и на психику.
Страх двунаправлен. Боязнь незаконного правительства лишить-
ся власти обусловливает превентивное устрашение социума, соот-
ветственно, правительство — объект и одновременно субъект страха.
Однако тоталитарный тип общества — разновидность бюрократиче-
ского, потому правительство декларирует, что превентивное устраше-
ние обращено вовсе не против социума, а против врагов, угрожающих
социуму. Иными словами, тоталитарное правительство навязывает
общественному сознанию модель «осажденной крепости», возлагая
на себя функции «командующего гарнизоном», т. е. «правительства
чрезвычайного положения»5.
Сходный термин — «осажденный город» — использовал Ж. Делю-
мо применительно к истории церкви XIV-XVII вв.6 Согласно его ин-
терпретации, церковь, опасаясь утратить влияние, запугивала социум
происками «агентов Сатаны» (ведьм, колдунов и т. и.), а устрашенное
общество санкционировало неслыханно жестокие по тому времени
меры против еретиков и представителей иных конфессий7.
Мы не будем рассматривать причины, в силу которых церковь
отказалась от навязывания общественному сознанию модели «осаж-
23
денного города». Укажем только, что церковь веками обходилась и
обходится без нее. Тоталитаризму же модель «осажденной крепости»
имманентна. Дабы чрезвычайное положение, оправдывающее полно-
мочия «командующего гарнизоном», не отменялось, угроза социуму
должна быть постоянной. Если врагов нет уже или еще, правитель-
ству надлежит выдумать их, «назначить» и мобилизовать социум на
устрашение такого рода «назначенцев». Все, не желающие санкцио-
нировать меры устрашения, рискуют быть объявленными врагами
внутренними (пособниками внешних) уже на том основании, что в
«осажденной крепости» неуместны разногласия. Ну а для согласных
с действиями правительства готовность устрашать является объек-
тивно выражением страха. В тоталитарном обществе социум, как и
правительство, одновременно субъект и объект страха8. Для обозна-
чения этой особенности тоталитаризма мы в дальнейшем используем
термин «массовая истерия», причем в аспекте скорее социологиче-
ском, нежели психологическом. Массовая истерия — непременное
условие успеха превентивного устрашения.
Террор — способ управления социумом посредством превентив-
ного устрашения в условиях массовой истерии. Соответственно,
террор — и основополагающий государственный принцип, и способ
создания тоталитарного общества в условиях общества иного типа,
авторитарного или демократического.
Направленность массовой истерии определяется задачами, ко-
торые ставят террористы. Если идет борьба за власть, террористы
провозглашают правительство источником всеобщего зла, точно так
же, как, пребывая у власти, объявляют все антиправительственные
силы непримиримыми врагами общества. В первом случае от социу-
ма добиваются одобрения самых жестоких мер устрашения власть
имущих, во втором — вынуждают санкционировать подавление про-
тивников правительства - реальных и «назначенных». Нежелающие
одобрить террор в обоих случаях идентифицируются с врагами обще-
ства. Иными словами, для террористов социум является субъектом
и объектом устрашения как в период борьбы за власть, так и после
ее захвата. Массовая истерия необходима им в любом случае. Когда
террористы рвутся к власти, эффективность террора обеспечивается
истерией неповиновения правительству, солидарности с антиправи-
тельственными силами, а когда власть захвачена и действует тота-
литарное правительство, то опора режима — истерия солидарности
с правительством, выступающим в роли единственного гаранта безо-
пасности и самого существования социума.
В зависимости от того, ведут ли террористы борьбу за власть или
уже захватили ее, санкция социума выражается различно. В первом
случае, когда террористы сравнительно немногочисленны (группа за-
говорщиков), санкцией является одобрение наиболее авторитетными
24
членами социума любых акций, что готовятся и проводятся антипра-
вительственными силами. При этом меры, принимаемые правитель-
ством ради сохранения стабильности, выдаются за попытку сохранить
выгодный меньшинству строй. Во втором случае, когда террористы
у власти, устрашенный социум практически весь солидаризуется с
правительством. Для одних такого рода солидарность — проявление
искренней ненависти к «врагам народа», внешним и внутренним, для
других — следствие страха перед правительством. Кроме того, много-
численный аппарат репрессивных организаций непосредственно за-
действован в проведении репрессий, а значит, не только заинтересован
в них, но и несет за них ответственность.
Следует отметить, что значительная часть социума может ис-
пользоваться в качестве послушного орудия партии террористов,
ведущей борьбу за власть. Речь идет о так называемой толпе — груп-
пе, где, во-первых, сглажены социальные отличия индивидов, ее со-
ставляющих, во-вторых, ограничена численность (это не народ, не
чернь, крестьяне, горожане и т. п.), в-третьих, объединяет группу
установка непременно агрессивного характера (даже если цель —
защита, проявление солидарности с кем-либо преследуемым, то
достигается она все равно средствами агрессии); и, наконец, это
группа, обязательно управляемая, причем управляемая не стихий-
но выделившимися лидерами, а руководителями, группу сформиро-
вавшими или же заблаговременно предусмотревшими возможность
стихийного ее возникновения9. Можно сказать, что толпа или, со-
гласно классификации Г. Лебона, «преступная толпа»10'.— своего
рода единый субъект, чрезвычайно подверженный воздействию
массовой истерии, а следовательно и легко провоцируемый на акты
насилия. В условиях нагнетания, истерии неповиновения хорошо
организованная и управляемая толпа — весьма эффективное орудие
давления на правительство и устрашения его сторонников.
Таким образом, террор как способ управления социумом прини-
мает различные формы: политические убийства, совершаемые заго-
ворщиками, акции толпы и государственные репрессии.
Выше уже указывалось, что далеко не всегда явления, сходные с
вышеперечисленными, являются формами именно террора. Полити-
ческие убийства — феномен внеисторический, они могут быть обу-
словлены, к примеру, династическими интригами или дворцовыми
переворотами, характерными для «всех времен и народов». То, что
иногда считают действиями «преступной толпы», может оказаться
спонтанной (причем без какой-либо политической окраски) мас-
совой реакцией на конкретные ситуации, например, голод или без-
работицу. Государственные же репрессии (пусть и массовые) порой
проводятся в соответствии с принципами законности.
25
Истребление политических противников, бесчинства «преступ-
ной толпы», диверсии и государственные репрессии становятся тер-
рором тогда и только тогда, когда в условиях массовой истерии они
используются как способ управления социумом посредством превен-
тивного устрашения.
Определим терминологически описанные выше формы террора.
Политические убийства, совершаемые террористами-заговорщиками
с целью захвата власти в условиях нагнетания истерии неповинове-
ния — индивидуальный террор. Применение организованных групп
по модели «преступной толпы» для захвата или же сохранения вла-
сти — террор толпы. Государственные репрессии, проводимые как
превентивное устрашение в условиях нагнетания истерии солидар-
ности с правительством — государственный террор".
В терминах, используемых Г. Фреге, можно выделить три аспек-
та: предмет террора, значение террора и смысл террора. Политиче-
ские убийства, совершаемые заговорщиками, буйства управляемой
толпы и государственные репрессии с целью превентивного устра-
шения — предмет террора, массовая истерия и апеллирующие к ней
суждения — значение террора, акцентирование признаков предмета,
наиболее важных для исполнителей, а способ управления посред-
ством превентивного устрашения — смысл террора.
Рис. 1
Нас интересует прежде всего область «значения», т. е. террористи-
ческий менталитет. Сюда входят принципы осмысления террора его
теоретиками и практиками — наиболее типичные схемы умозаклю-
чений, аргументация, базовые мифологемы (ситуации, герои, терми-
ны), а также образ действия, характерный для террористов.
26
1 См., напр.: Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской
власти. Пг., 1916. С. 437-438.
2 О «терроризме» Ивана IV Грозного см.: Скрынников Р.Г. Царство терро-
ра. СПб., 1992 (ср. нашу рецензию в «Русской мысли» от 5 февраля 1993 г.).
Erlanger Ph. Le massacre de la Saint-Barthelemy. P., 1960. P. 159, 192-193.
1 См., напр.: Токвиль А. де. Старый порядок и революция. СПб., 1898;
Toennies F. Gemeinschaft und Gesellschaft. В., 1920; Богданов А.А. Новый
мир// Богданов А.А. Вопросы социализма. М., 1990; Weber М. Staatssoziologie.
В., 1966; Камю А. Бунтующий человек. М., 1990; Арон Р. Демократия и тота-
литаризм. М., 1993; Talmon J.L. The Rise of Totalitarian Democracy. N.Y., 1970;
Sorokin P. Social and Cultural Dynamics: 4 v. N.Y., 1962. V.2.
’ В сочинениях многих теоретиков и практиков тоталитаризма просле-
живается модель «осажденной крепости», порой они даже буквально вос-
производят данное словосочетание. См., напр.: Мартов Л. Общественные
движения и умственные течения в период 1884-1905 гг. // История русской
литературы XIX века. М., 1910. Т. 5. С. 44; Богданов А.А. Вопросы социализ-
ма. М., 1990. С. 337; Троцкий Л.Д. Преданная революция. М., 1991. С. 21. Ср.
также: Шеварднадзе Э.А. Мой выбор: В защиту демократии и свободы. М.,
1991. С. 109.
( i Delumeau J. La Peur en Occident (XIV-XVII): Une cite assiegee. P., 1978.
P. 27. Образ социума-«осажденной крепости» вообще принадлежит к древ-
нейшим, архетипическим представлениям. См.: Guenon R. Le regne de la
quantite et les signes des temps. P., 1945. P. 230.
7 Кстати, идея «общего врага», непременно соотносимая с моделью «осаж-
денной крепости», разумеется, тоже архетипична: в годы правления импера-
тора Констанция, например, определение «враги рода человеческого», ис-
пользовавшееся ранее применительно к христианам, было перенесено на тех,
кого обвиняли в колдовстве (см.: Лекки В.Э.Г. Рационализм в Европе. СПб.,
1871. Т. 1. С. 35).
8 Ср. также: Arendt Н. The Origins of the Totalitarianism. N.Y., 1973. P. 306.
9 Принципы социологии толпы классически сформулированы в таких тру-
дах Г. Лебона, как «Психология народов и масс», «Психология социализма»,
«Французская революция и психология революции», «Психология револю-
ции». См.: Nye Р.А. The Origins of Crowd Psychology. L., 1975. Об интерпре-
тации идей Лебона психологами и историками см., напр.: Фрейд 3. Массовая
психология и анализ человеческого «Я» // Фрейд 3. «Я» и «Оно». Тбилиси,
1991. Кп. 1; Lefebvre G. Etudes sur la Revolution fran<?aise. P., 1954. P, 278; Rude
G. The Crowd in History: A Study of Popular Disturbances in France and in Eng-
land: 1730-1848. N.Y.; L., 1964.
1( 1 Le Bon G. Psychologic des foules. P., 1965. P. 96-99.
11 Используемая в данной работе классификация разновидностей терро-
ра представляется нам корректной, поскольку она отражает основные этапы
формирования идеологемы, хотя, безусловно, возможны и другие класси-
фикации. См., напр.: Gross F. The Revolutionary Party. L., 1974. P. 163-170;
Wilkinson P. Political Terrorism. N.Y., 1974. P. 40.
И тут же существенно расширил свои полномочия, приняв «Деклара-
цию прав», а затем на ее основе знаменитый «Билль о правах».
Так, в результате династического переворота установился прин-
ципиально новый государственный строй — конституционная мо-
нархия, что предполагало ограничение исполнительной власти
(королевской) властью законодательной (парламента). По мнению
Дж. М. Тревельяна, «объявление Вильгельма и Марии королевской
четой диктовалось нуждами момента. Но так получилось, что при
этой оказии нужды момента совпали с магистральными тенденциями
века, и перед нацией открылись наилучшие перспективы»12.
Первоначально определение «славная» отражало отношение к
«славному Вильгельму III», захватившему трон при «славных» же
обстоятельствах, а термин «революция» показался удачным, посколь-
ку в изменении порядка управления современники видели возврат
традиционных свобод, на которые якобы покушались узурпаторы-
Стюарты. Соответственно, термин получил диаметрально противо-
положный смысл: если ранее революция понималась как переворот,
возвративший власть законной династии, то теперь революцией име-
новали переворот, посредством которого нация возвращает похищен-
ные тираном законные права.
В формировании идеологемы немалую роль сыграли «Два трак-
тата о правлении» Дж. Локка, изданные в 1690 г. Благодаря англий-
скому философу впервые было обосновано право народа «не только
избавляться от тирании, но и не допускать ее», равным образом,
«создавать новый законодательный орган всякий раз, как будет не-
доволен прежним». Исходя из этого, восставшие против тирана со-
вершили не противозаконное деяние — мятеж (rebellion), а вполне
законную революцию, тогда как тираны, посягнувшие на права на-
ции, оказались «виновными в мятеже» («guilty of Rebellion»)13, т. е.
«мятежниками из мятежников»11.
К столь экстравагантным выводам Локк пришел, систематически
изложив учение о договорной природе государственной власти —
обоюдных обязательствах властителя и народа — и «естественных
правах человека». Принцип договорного характера власти сам по
себе отрицал идею сакральности власти и властителя. Не случайно
учение Локка в отличие от политических систем его современни-
ков — Т. Гоббса, Б. Спинозы — стало своего рода теоретической ба-
зой, программой будущих революций, уже знавших свое имя15.
В течение XVIII в. термин «революция» в локковском значении
все более распространяется, поскольку английский государствен-
ный строй признается образцовым. В связи с чем образцовым при-
знается и способ его установления. По словам Вольтера, неутомимо
пропагандировавшего британский опыт, «то, что стало в Англии
30
революцией (revolution), в других странах было не более как мяте-
жом (sedition)»16. Расширяется и смысловое поле термина, век Про-
свещения буквально бредит идеей революции: особую популярность
обретает жанр «истории революций» (сочинения П.Ж. Дорлеана,
P.O. Верто, Ф. Дюпора-Дютетра и др.)17. К «революции духа» при-
зывают великие просветители, считая свое время переломной эпохой
в судьбах всего человечества (Вольтер, Кондильяк, Кондорсе, Мар-
монтель, Рейналь, Руссо и др.)18.
Новый мир в Новом Свете
Окончательно идеологема «революция» была вычеканена амери-
канцами в годы войны за независимость. Доказывая британцам за-
конность своих претензий, американские политики апеллировали
поначалу к «славным» традициям 1688 г.: если, утверждали они, ан-
гличане имели право бороться с узурпатором Яковом II, покусившим-
ся на исконные свободы нации, то и колонисты в качестве британских
же подданных имеют право бороться с новыми узурпаторами — Геор-
гом III и его министрами. Сопоставление колониального конфликта
со «славной революцией» оказалось вполне убедительным аргумен-
том по обе стороны океана, и английский либерал Дж. Уилкс, прогно-
зируя в 1773 г. развитие событий в колониях, риторически вопрошал,
не будут ли американцы через несколько лет праздновать годовщину
своей революции, как британцы — годовщину «славной»19.
Прогноз был точен, причем Уилкс и дату указал правильно —
1775 г. Более того, американцы явно следовали выбранной модели:
добившись независимости, приняли в 1789 г. «Билль о правах», на-
звание которого напоминало об английском «Билле о правах» 1689 г.
Английские примеры пропагандировали и популярнейшие амери-
канские лидеры Дж. Джей, А. Гамильтон и Дж. Мэдисон. В знаме-
нитых статьях «Федералиста» они (под коллективным псевдонимом
«Публий») доказывали соотечественникам, что «только с революци-
ей 1688 года, вознесшей принца Оранского на трон Великобритании,
свобода в Англии окончательно восторжествовала», а потому амери-
канцам надлежит следовать «опыту Великобритании, давшей челове-
честву столь много политических уроков, когда остерегающих, когда
образцовых»20.
Однако ссылки на британский опыт оказались удобными лишь в
качестве аргументов, обосновавших правомерность восстания про-
тив «тирана» — британского монарха. Буквальное же следование
традициям «славной революции» было невозможно: это противоре-
чило бы идее независимости. «Славная революция» привела к заме-
не монарха в рамках одной страны, значит, американцам, коль скоро
31
законность их действий подкреплялась английской традицией, над-
лежало бороться не за отделение от метрополии, но за установление
в пределах всей Великобритании власти того правительства, которое
они объявили бы законным. Такую задачу они не ставили и ставить
не собирались. «Пока мы называем себя подданными Британии, —
рассуждал Т. Пейн, — иностранные державы должны считать нас мя-
тежниками»21.
Дабы избежать обвинений в мятеже, идеологи американской рево-
люции создают «Декларацию независимости», где доказывается, что
североамериканские колонисты — не взбунтовавшиеся британцы, а
совсем иная нация, чью свободу пытается отнять тиран, т. е. британ-
ский король22.
Т. Джефферсон, автор «Декларации независимости», уходит от
исторических аналогий, обосновывая необходимость борьбы с Бри-
танией исключительно учением о «естественных правах» — учением,
которое он считал лишенным национальной специфики. Ценностный
приоритет «естественных прав» обусловливал и возможность отказа
американцев от монархии как государственной формы.
Имя Локка автор «Декларации независимости» не упоминал,
и много лет спустя один из соратников Джефферсона обвинил его
в плагиате, буквально — «копировании» локковских трактатов
(«copied from...»). Джефферсон с обвинением не согласился, сказав,
что использовал труды не только Локка, но и других философов, в
частности античных23. Ученик желал отречься от учителя, не отрека-
ясь от учения.
Сочетание ориентации на британский опыт и демонстративного
отказа от соответствующих аналогий вообще характерно для мента-
литета идеологов американской революции. Они видели в революции
не просто борьбу колонистов за свои права, но переход к абсолютно
новому, справедливо и рационально устроенному обществу21.
Именно это провозглашалось главной целью отделения от ме-
трополии. Вот почему еще в 1765 г. Дж. Адамс писал: «Я рассма-
триваю обустроение Америки как начало реализации грандиозного
замысла (scheme) Божьего — просвещения и освобождения пребы-
вающей в невежестве и рабстве части человечества»23. Много позже
он подчеркивал, что «истинной американской революцией» было
«радикальное изменение в принципах, чувствах и страстях»26. Пейн,
узнав об официальном признании независимости североамерикан-
ских территорий, ликовал: «Славно и счастливо свершилась вели-
чайшая и полнейшая революция из всех, что когда-либо знал мир»,
та, «которая до скончания времен — честь века, ее свершившего, и
которая более способствовала просвещению мира и распростране-
32
нию духа свободы и либерализма среди людей, чем любое предше-
ствующее событие»27.
Это «чувство апогея», характерное для «отцов-основателей», Пейн
выразил и в более парадоксальной форме: «Революции, что ранее
имели место, не содержали в себе ничего поучительного для осталь-
ного человечества. Они простирались лишь до смены личностей или
методов управления, но не принципов, а потому, независимо от по-
беды или поражения, они оставались событиями сиюминутными. То,
что мы созерцаем ныне, вполне может быть названо контрреволюци-
ей (counter-revolution)»28.
Джефферсон пошел еще дальше, попытавшись снять противопо-
ставление революции — бунту, и тем отчасти «реабилитировав» бунт:
«Я считаю, — писал он, — что происходящий время от времени не-
большой бунт (little rebellion) — хорошее дело и так же необходим
в политической жизни, как в мире физических явлений»29. Личную
печать Джефферсона украшал девиз: «Бунт против тиранов — долг
перед Богом»1".
Парадоксализм Пейна и терминологический эпатаж Джефферсо-
на — проявление менталитета, формировавшегося в период борьбы за
независимость. Доминанта нового сознания — установка на будущее,
надежным фундаментом которого считаются собственные «демокра-
тические» завоевания. Вот почему слово «бунт» отчасти утрачивает
негативные коннотации, а «революция» — внутреннюю форму, бук-
вальный смысл («обращение», «переворот»): оборот назад (пусть и к
«исконным» свободам) уже не актуален, вперед — возможен лишь в
направлении упадка, поскольку демократия «по-американски» при-
знана апогеем.
Видя в американской революции наиболее отчетливое прояв-
ление глобальной закономерности, универсальную модель, «отцы-
основатели» предрекали аналогичные события и в других странах.
Не случайно Пейн, став свидетелем и участником Великой француз-
ской революции, акцентировал ориентацию французских лидеров на
американскую схему. «Американские Установления, — утверждал
Пейн, — были для свободы тем, чем является грамматика для языка:
они определяют части речи свободы и организуют их в предложение»,
в силу чего французские добровольцы, «офицеры и солдаты, которые
отправились в Америку, оказались помещенными в школу Свободы и
назубок выучили как практику, так и ее принципы» ”.
Здесь Пейн указывает на обстоятельства, действительно сыграв-
шие немаловажную роль в формировании революционной идеологии.
Иностранцы, сражавшиеся за американскую независимость (напри-
мер, француз М.Ж. Лафайет, поляк Т. Костюшко), обрели опыт, бла-
33
годаря которому еще до начала революционных процессов в своих
странах знали, как «делать революцию», и стремились к этому. Ниче-
го подобного ранее не было. К примеру, вождь «славной революции»
принц Вильгельм обладал опытом отнюдь не революционным: ранее
у себя на родине, в Голландии, он заслужил репутацию беспощадного
искоренителя традиционных «народных вольностей».
Поиски аналогий
Перейдя к демонстративному отрицанию преемственной связи с
традициями «славной революции», американские лидеры не отка-
зались от исторических аналогий как таковых. Предшественниками
они объявили прежде всего хрестоматийных героев — борцов с тира-
нией — Брута, Катона и пр.32 Логическое обоснование нашлось: рево-
люция — борьба с тиранией, а во имя борьбы с тиранией жертвовали
собою Брут и Катон. В аспекте пропагандистском сопоставление вы-
глядело весьма эффектно, поскольку традиция тираноборчества была
одной из самых почитаемых в христианском мире.
Как известно, сформировалась она в эпоху ожесточенного со-
перничества папского Рима с королевскими династиями Европы.
Представители светской власти посягали на прерогативы власти
церковной, и в ответ авторитеты католичества — Фома Аквинский и
Иоанн Солсберийский — в XII-XIII вв. обосновали правомочность
убийства монархов подданными33.
Без богословского обоснования тут было не обойтись, раз уж по го-
сподствовавшей концепции монарх и члены его семьи признавались
фигурами сакральными. Объявив монарха тираном, попирающим за-
коны Божеские и человеческие, церковь лишала его сакрального ста-
туса. Потому убийца оставался уголовным преступником, однако его
действия не квалифицировались как преступление против религии.
Доводы Фома Аквинский и Иоанн Солсберийский черпали
преимущественно из сочинений Платона, Аристотеля, Цицерона.
Соответственно, традиция монархомахии, сложившаяся как ре-
зультат глобального процесса усвоения феодальной Европой клас-
сической культуры, была ориентирована на пример образцовых
героев-тираноборцев Античности — Гармодия и Аристогитона, Брута
и Кассия.
К XVI в. идея монархомахии становится необычайно актуальной:
это своего рода реакция на укрепление европейского абсолютизма.
Представители различных конфессий и политических течений — ие-
зуиты Ж. Буше, Хуан де Мариана, пресвитерианин Дж. Нокс, а также
известный публицист-гугенот, демонстративно избравший псевдо-
34
ним «Юный Брут» (вероятно, Дюплесси-Морней, соратник Генри-
ха IV) — и многие другие соглашаются, что убийство тирана вообще
не преступление. Значит, казнящий нарушителя законов Божествен-
ных и естественных — отнюдь не злодей, но страж законности, защит-
ник справедливости.
Юридический характер акта монархомахии подчеркивался ис-
пользованием вполне определенной системы знаков: тирана следо-
вало по античному образцу сразить ударом кинжала, причем убийце
надлежало остаться на месте покушения. Последнее условие было
важнейшим: восстанавливая законность, монархомах формально пре-
ступал закон, поскольку общество не уполномочило его быть судьей
или палачом, однако он сознательно обрекал себя на гибель, дабы еще
раз утвердить главный принцип — наказуемо всякое нарушение за-
кона, кто бы и зачем его ни нарушал.
Согласно установкам монархомахии были «казнены», напри-
мер, такие противники воинствующего католицизма, как Вильгельм
Оранский (1584), Генрих III (1589) и Генрих IV (1610). Особенно по-
казательна «казнь» Генриха IV: современники свидетельствуют, что
убийца — школьный учитель Равальяк, прежде чем заколоть короля,
увлеченно штудировал трактаты Буше, де Марианы, Григория Ва-
ленского. Практика шла вслед за теорией1'1.
BXVII-XVIII вв. идею тираноборчества пропагандировали знаме-
нитый поэт Дж. Мильтон (сторонник Кромвеля), левеллер Э. Сексби
(казненный Кромвелем), драматург В. Альфиери и др. Со временем
религиозный критерий определения тирана отошел на втЬрой план,
да й для того, чтобы прослыть тираном, уже не нужно было носить ко-
рону. Обвинение выдвигалось против любого властителя, который,
по мнению кого-либо, покушался на права соотечественников.
Античная схема, например, отчетливо просматривается и в убий-
стве фаворита Карла I — герцога Букингема. Покушавшийся считал
себя спасителем отечества, причем не без оснований: парламент, всту-
пивший в противоборство с королем, объявил политику королевского
фаворита враждебной народу. Кстати, Букингем, предупрежденный о
возможности покушения, отшутился: «Хотя древние авторы почита-
ются как никогда, — сказал он, — римлян уже не осталось»1’. Герцог,
зная «кинжальную» схему, полагал классические образцы недоступ-
ными для своих современников, но ошибся.
Имена тираноборцев древности — Гармодия и Аристогитона,
Брута и Кассия и т. п. — уже в XVII в. использовались европейски-
ми писателями в самых разнообразных контекстах, эти имена стали
вненациональными символами, что вполне соответствовало универ-
салистским амбициям американцев.
35
Так, авторитетный исследователь А.М. Шлезингер-мл. указывает,
что «первое поколение граждан американской республики назвало
верхнюю палату своего законодательного органа сенатом; поставило
под величайшим политическим трудом своего времени подпись “Пу-
блий”; изваяло своих героев в тогах; назвало новые населенные пун-
кты Римом и Афинами, Утикой, Итакой и Сиракузами; организовало
общество “Цинцинната” и посадило молодежь за изучение латин-
ских текстов». Усилиями вдохновленных классическими образца-
ми «отцов-основателей» создавался и т.н. Революционный Пантеон:
перечень образцовых героев-мучеников борьбы за свободу от Антич-
ности до современности. В качестве частного проявления того же
универсализма Революционный Пантеон пополнил и британец. Но
вполне закономерно выбрали не Оливера Кромвеля и не какого-либо
иного знаменитого лидера «великого бунта» или «славной револю-
ции», а Олджернона Сиднея, который был известен, главным обра-
зом, тем, что в 1683 г. Карл II Стюарт казнил его за оппозиционные
высказывания36.
Проводя параллель «тираноборчество — революция», американ-
ские лидеры игнорировали — пропагандистского эффекта ради — то,
что сопоставляемые идеологемы противоречат друг другу. Тирано-
борчество предполагает безусловное признание существующей со-
циальной структуры и незыблемости законов, почему и обязателен
принцип «смерть за смерть» — гибель тираноборца. Американская же
революция отрицала существовавшую тогда социальную структуру
и была направлена не на восстановление законности в британском ее
понимании, а на создание новых законов.
Аналогичной будет и направленность революции во Франции.
Американская модель и французский вариант
Великая французская революция начиналась, что называется, по
схемам 1688 и 1776 гг. — противостоянием короля и Генеральных Шта-
тов; созванные впервые за почти три столетия Генеральные Штаты
претендовали на полномочия законодательной власти. Современники
конфликта мыслили уже в терминах англо-американской «борьбы с
тиранией», о чем свидетельствует, например, диалог Людовика XVI
с герцогом Лианкуром, охотно цитируемый поколениями историков.
Узнав о взятии Бастилии, король, как известно, произнес: «Это —
бунт (revolte)». Придворный же возразил: «Нет, сир, это — революция
(revolution)»37.
В ответе Лианкура обычно видят галантный каламбур, эдакое
противопоставление локальности и глобальности: недогадливый
36
король подумал о бунте парижской черни (всего-навсего!), тогда как
находчивый герцог разглядел начало новой эры. Но если учесть, что
Ф. де Лианкур был признанным либералом, а не просто придворным
острословом, то ответ его вообще не сводим к шутке. Речь шла не
столько о масштабах события, сколько о правовой оценке: «бунт» —
покушение на законную власть, а «революция» — борьба за исконные
свободы, за восстановление справедливости.
Следуя той же схеме, Генеральные Штаты, провозгласив себя, на-
конец, Учредительным собранием и отменив сословные привилегии,
постановили торжественно именовать Людовика XVI «восстановите-
лем (restaurateur) французской свободы»38. Очевидно, что экстреми-
сты не сочли возможным сразу отвергнуть принцип монархии, ведь
многие французы попросту не понимали, какая иная власть может
быть законной, кроме власти Божиего помазанника, потому и при-
шлось пойти на компромисс. Таким образом, Людовик XVI оставал-
ся, по крайней мере номинально, властителем, коль скоро признавал
законными решения Учредительного собрания. В противном случае
его можно было объявить не «восстановителем» мифической свобо-
ды, новым Вильгельмом III, а «тираном», и борьбу с ним надлежало
продолжать.
Активно используя понятийную систему эпохи «славной
революции», французские лидеры тем не менее постоянно ссыла-
лись на американский опыт, пропагандировали его. Символ взятия
Бастилии — ключи — были торжественно переданы Дж. Вашингтону.
Учредительное собрание, получив известие о смерти Б. Франклина,
объявило трехдневный траур, и характерно, что предложение это,
внесенное О. Мирабо, было поддержано непримиримым противни-
ком Мирабо — Ж.П. Маратом39. Ну а Т. Пейн в 1792 г. стал депута-
том Конвента. Более того, по американскому образцу Учредительное
собрание приняло «Декларацию прав человека и гражданина»,
написанную М.Ж. Лафайетом (своего рода связующим звеном
двух революций) с помощью автора «Декларации независимости»
Т. Джефферсона, тогдашнего посла во Франции1". Наконец, печаль-
но известный Комитет общественной безопасности (Comite de surete
generale) получил свое имя по аналогии с американскими Комитета-
ми безопасности (commitees of safety), которые колонисты создавали
в начале войны за независимость, чтобы контролировать действия
сторонников метрополии.
Однако в отличие от «славной» и американской революций ан-
глийский «великий бунт» 1640-1650-х гг. был для французских
лидеров примером отрицательным. И это закономерно, поскольку
аналогия вела к пугающим перспективам: положительный, так ска-
37
Так, авторитетный исследователь А.М. Шлезингер-мл. указывает,
что «первое поколение граждан американской республики назвало
верхнюю палату своего законодательного органа сенатом; поставило
под величайшим политическим трудом своего времени подпись “Пу-
блий”; изваяло своих героев в тогах; назвало новые населенные пун-
кты Римом и Афинами, Утикой, Итакой и Сиракузами; организовало
общество “Цинцинната” и посадило молодежь за изучение латин-
ских текстов». Усилиями вдохновленных классическими образца-
ми «отцов-основателей» создавался и т.н. Революционный Пантеон:
перечень образцовых героев-мучеников борьбы за свободу от Антич-
ности до современности. В качестве частного проявления того же
универсализма Революционный Пантеон пополнил и британец. Но
вполне закономерно выбрали не Оливера Кромвеля и не какого-либо
иного знаменитого лидера «великого бунта» или «славной револю-
ции», а Олджернона Сиднея, который был известен, главным обра-
зом, тем, что в 1683 г. Карл II Стюарт казнил его за оппозиционные
высказывания36.
Проводя параллель «тираноборчество — революция», американ-
ские лидеры игнорировали — пропагандистского эффекта ради — то,
что сопоставляемые идеологемы противоречат друг другу. Тирано-
борчество предполагает безусловное признание существующей со-
циальной структуры и незыблемости законов, почему и обязателен
принцип «смерть за смерть» — гибель тираноборца. Американская же
революция отрицала существовавшую тогда социальную структуру
и была направлена не на восстановление законности в британском ее
понимании, а на создание новых законов.
Аналогичной будет и направленность революции во Франции.
Американская модель и французский вариант
Великая французская революция начиналась, что называется, по
схемам 1688 и 1776 гг. — противостоянием короля и Генеральных Шта-
тов: созванные впервые за почти три столетия Генеральные Штаты
претендовали на полномочия законодательной власти. Современники
конфликта мыслили уже в терминах англо-американской «борьбы с
тиранией», о чем свидетельствует, например, диалог Людовика XVI
с герцогом Лианкуром, охотно цитируемый поколениями историков.
Узнав о взятии Бастилии, король, как известно, произнес: «Это —
бунт (revolte)». Придворный же возразил: «Нет, сир, это — революция
(revolution)»37.
В ответе Лианкура обычно видят галантный каламбур, эдакое
противопоставление локальности и глобальности: недогадливый
36
король подумал о бунте парижской черни (всего-навсего!), тогда как
находчивый герцог разглядел начало новой эры. Но если учесть, что
Ф. де Лианкур был признанным либералом, а не просто придворным
острословом, то ответ его вообще не сводим к шутке. Речь шла не
столько о масштабах события, сколько о правовой оценке: «бунт» —
покушение на законную власть, а «революция» — борьба за исконные
свободы, за восстановление справедливости.
Следуя той же схеме, Генеральные Штаты, провозгласив себя, на-
конец, Учредительным собранием и отменив сословные привилегии,
постановили торжественно именовать Людовика XVI «восстановите-
лем (restaurateur) французской свободы»38. Очевидно, что экстреми-
сты не сочли возможным сразу отвергнуть принцип монархии, ведь
многие французы попросту не понимали, какая иная власть может
быть законной, кроме власти Божиего помазанника, потому и при-
шлось пойти на компромисс. Таким образом, Людовик XVI оставал-
ся, по крайней мере номинально, властителем, коль скоро признавал
законными решения Учредительного собрания. В противном случае
его можно было объявить не «восстановителем» мифической свобо-
ды, новым Вильгельмом III, а «тираном», и борьбу с ним надлежало
продолжать.
Активно используя понятийную систему эпохи «славной
революции», французские лидеры тем не менее постоянно ссыла-
лись на американский опыт, пропагандировали его. Символ взятия
Бастилии — ключи — были торжественно переданы Дж. Вашингтону.
Учредительное собрание, получив известие о смерти Б. Франклина,
объявило трехдневный траур, и характерно, что предложение это,
внесенное О. Мирабо, было поддержано непримиримым противни-
ком Мирабо — Ж.П. Маратом ®. Ну а Т. Пейн в 1792 г. стал депута-
том Конвента. Более того, по американскому образцу Учредительное
собрание приняло «Декларацию прав человека и гражданина»,
написанную М.Ж. Лафайетом (своего рода связующим звеном
двух революций) с помощью автора «Декларации независимости»
Т. Джефферсона, тогдашнего посла во Франции10. Наконец, печаль-
но известный Комитет общественной безопасности (Comite de surete
generale) получил свое имя по аналогии с американскими Комитета-
ми безопасности (commitees of safety), которые колонисты создавали
в начале войны за независимость, чтобы контролировать действия
сторонников метрополии.
Однако в отличие от «славной» и американской революций ан-
глийский «великий бунт» 1640-1650-х гг. был для французских
лидеров примером отрицательным. И это закономерно, поскольку
аналогия вела к пугающим перспективам: положительный, так ска-
37
зать, эффект — свержение Карла I и провозглашение республики —
«перечеркивался» военной диктатурой Кромвеля, а затем и
реставрацией монархии.
«Великий бунт» стал в какой-то мере жупелом. Встревоженный
нерешительностью и монархическими симпатиями большинства де-
путатов Учредительного собрания Марат писал в сентябре 1789 г.:
«Если судить по современному положению о положении в будущем,
то ход событий в точности соответствует тому, который при Карле II
заставил англичан, утомленных собственными раздорами, отдаться,
наконец, снова в руки деспота»11. Месяц спустя, когда Лафайет, ко-
мандовавший Национальной гвардией, счел необходимым без охраны
явиться во дворец, который окружили тысячи взбудораженных
парижан, он услышал реплику, брошенную кем-то из королевской
свиты: «А вот и Кромвель!» Лафайет, отвергая намек на честолюби-
вые помыслы о диктатуре, сказал: «Кромвель не пришел бы один»12.
Кстати, Людовик XVI в это время читал книгу о Карле 11!.
С «дерзким ханжой Кромвелем»11 Лафайета сравнивали не толь-
ко монархисты, но и левые радикалы. В 1792 г. Лафайет направил
из действующей армии письмо парламентариям, где сформулиро-
вал ряд политических обвинений, на что один из депутатов отве-
тил речью: «Когда Кромвель заговорил на подобном языке, свобода
в Англии перестала существовать. Я не могу себе представить, что
последователь Вашингтона способен подражать поведению лорда-
протектора»15. Кстати, в России Радищев, напоминая монархам, что
тираническое правление чревато бунтом и ссылаясь на пример Кар-
ла I, называл Кромвеля «ханжой» и «злодеем»16. Подобные паралле-
ли были также популярны в Англии. К примеру, известный либерал
Э. Бёрк, некогда признавший американцев наследниками британских
традиций свободомыслия, резко критиковал французских лидеров.
«Радикалы-французы и британские их апологеты, — писал Бёрк, —
безответственно утверждают, что события во Франции развиваются
в соответствии со “славным” примером 1688 г., но на самом деле из-
бран совсем иной образец — кровавый опыт “Великого бунта”»17.
Впрочем, если американцы, уходя от британских аналогий, все
же ввели в «Революционный Пантеон» О. Сиднея, то и французы,
открещивавшиеся от параллелей с «великим бунтом», пополнили
список героев-мучеников революции Джоном Гемпденом — одним
из лидеров оппозиции Карлу I. Гемпден, кстати, приходился кузеном
Кромвелю, чье имя по-прежнему было ненавистным. Как и Сидней,
Гемпден прославился, в основном, благодаря героической кончи-
не — погиб чуть ли не в первом сражении с королевскими войсками.
Робеспьер даже поставил их рядом: «Я знаю, — патетически восклик-
38
нул он, — многих людей, которые, коль это понадобится, послужат
свободе наподобие Гемпдена и Сиднея»18.
Подчеркнем, что «Революционный Пантеон» изначально мыс-
лился как «интернациональный», общий для «борцов с тиранией» во
все минувшие и грядущие века. Общим до поры было и осмысление
идеологемы «революция» в Америке и Франции.
Модель!: 1776-1789
Рис. 2
1 Истории слова и понятия «революция» посвящен фундаментальный
труд К. фон Гриванка (Der neuzeitliche Revolutionsbegriff: Entstehung und
Entwicklung. Weimar, 1955), где указаны астрономические контексты слова
«revolutio» в сочинениях И. Кеплера, Г. Галилея (s. 171-173). См. также: Бу-
дагов Р.А. Развитие французской политической терминологии в XVIII веке.
Л., 1941.
2 Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977. С. 201-202.
3 Гуревич А.Я. К истории средневековой культуры. М., 1984. С. 140.
1 Perefixe Н. de. Histoire du Roy Henry le Grand. Amsterdam, 1661. P. 219
(цит. но kh.: Griewank K. von. Op. cit. S. 173-174).
•’ Clarendon Hyde E. The History of the Rebellion and Civil Wars in England,
Begun in the Year 1641. 1 ed. 1702-1704. Вопрос о классификации граждан-
ских смут в Англии 1640-1660-х гг. остается открытым. Очевидно лишь, что
в сознании современников концепция «великого бунта» бесспорно предше-
ствовала всем прочим — «революции», «пуританской революции», «буржу-
азной революции» и др.
39
•’Трактат Т. Гоббса «Бегемот» цитируется ио кн.: Griewank К. von.
Op. cit. S. 176.
7 Montesquieu Ch. De 1'esprit des lois. P., 1956. P. 123.
8 См., напр.: Рюльер K.K. История и анекдоты о революции в России в
1762 году // Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989.
9 Русский архив. 1866. № 1. С. 407-410.
Бабкин Д.С. Процесс А.Н. Радищева. М.; Л., 1952. С. 164. Об отноше-
нии Екатерины II к идеологеме «революция» см. также: Былинин В.К., Одес-
ский М.П. Екатерина II: Человек, государственный деятель, писатель // Ека-
терина И. Сочинения. М., 1990. С. 8-9.
11 См., напр.: Memoires de la derniere Revolution d’Angleterre... (La Haye,
1702). Указано у Гриванка: Op. cit. S. 179-180.
12 Trevelyan G.M. England under the Stuarts. L., 1960. P. 430.
13 Locke J. Two Treatises of Government. Cambridge, 1960. P. 429, 432, 433-
434; Локк Дж. Соч.: в 3 т. М. 1988. Т. 3. С. 389, 392, 393-394.
11 В английском тексте «мятежниками» (rebels) названы посягающие на
законную власть, а те, кто, будучи у власти, посягают на «общественный до-
говор», определены посредством тавтологической апгло-латинской химеры
«rebels rebellantes» — «бунтующие», «пребывающие в мятеже». Этот нюанс
упущен в цитируемом выше русском издании.
13 Соловьев Э.Ю. Прошлое толкает нас: Очерки по истории философии и
культуры. М., 1991. С. 150-151.
16 Voltaire. Lettres philosophiques. Р., 1964. Р. 56.
17 Griewank К. von. Op. cit. S. 182-192.
18 Ibid. S. 193-213.
19 Colbourne H.T. The Lamp of Experience: Whig History and Intellectual
Origins of the American Revolution. N.Y., 1974. P. 188. Ср. высказывание
Дж.Ч. Фокса, по мнению которого «американцы совершили не более того,
чем англичане в борьбе с Яковом II» (Becker С. The Declaration of Indepen-
dence: A Study in the History of Political Ideas. N.Y., 1945. P. 228).
20 Федералист: Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса
Мэдисона и Джона Джея. М., 1993. С. 179, 378.
21 Paine Th. The Complete Writings: 2 v. N.Y., 1945. V. 1. P. 39.
22 Becker C. Op. cit. P. 203.
23 Ibid. P. 25-26.
21 Ibid. P. 134; Colbourne H.T. Op. cit. P. 191-193; см. также: Arendt H. On
Revolution. Harmondsworth, 1977. P. 179-214.
23 Adams J. The Works: 10 v. Boston, 1851. V. 3. P. 452.
26 Ibid. V. 10. P. 282-283.
27 Paine Th. Op. cit. P. 232.
28 Ibid. P. 356.
29 Jefferson Th. A Letter to J. Madison (January 30, 1787) // The American
Age of Reason. M„ 1977. P. 122.
30 Джефферсон T. Автобиография // Заметки о штате Виргиния. М.,
1990. С. 99. Ср.: Александров Н., Одесский М. Пламенные революционе-
40
ры: Томас Джефферсон и госпожа де Ламбаль // Независимая газета. 1992.
11 июня. С. 8.
11 Paine Th. Op. cit. P. 299-300.
12 Colbourne H.T. Op. cit. P. 24-25.
33 О тираномахии см., напр.: Лорд Актон. Очерки становления свободы.
London, 1992; Треймап Р. Тираноборцы. СПб., 1906; Ковалевский М.М.
От прямого народоправства к представительству и от патриархальной
монархии к парламентаризму: в 3 т. М., 1906. Т. 2; Гессен В.М. Проблема
народного суверенитета в политической доктрине XVI века. СПб., 1913;
см. также: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора (А. Пушкин,
Ф. Достоевский, Андрей Белый, Б. Савинков) // Общественные науки и
современность. 1992. № 2.
31 Erlanger Ph. L’etrange morte de Henry IV. P., 1957: P. 172.
35 Цит. no kh.: Rapoport D. C. Assassination and Terrorism. Toronto, 1971.
P. 9.
16 Шлезингер A.M. Циклы американской истории. M., 1992. С. 18; Col-
bourne H.T. Op. cit. P. 44-45.
37 Cm., напр.: Карлейль T. Французская революция: История. M„ 1991.
С. 130.
33 Buchez Р., Roux Р. Histoire parlementaire de la Revolution fran^aise, ou
Journal des assemblees nationals depuis 1789 jusqu’en 1815: 40 v. P., 1834. V. 2.
P. 242.
39 Марат Ж.П. Избр. пр.: в 3 т. М„ 1956. Т. 2. С. 146-148.
Согрин В.В. Джефферсон: Человек, мыслитель, политик. М., 1989.
С. 124.
11 Марат Ж.П. Указ. соч. Т. 2. С. 66.
12 Черкасов П.П. Генерал Лафайет: Исторический портрет. М., 1987.
С.-73.
13 Кропоткин П.А. Великая французская революция 1789-1793. М., 1979.
С. 119.
" Марат Ж.П. Указ. соч. Т. 1. С. 154.
Черкасов П.П. У каз. соч. С. 115.
16 Радищев А.Н. Поли. собр. соч.: в 3 т. Т. 3. М.; Л., 1938. С. 7-8.
17 Burke Е. Reflections on the Revolution in France. N.Y.; Toronto, 1959.
P. 17.
13 Робеспьер M. Революционная законность и право: Статьи и речи. М.,
1959. С. 165.
ГЛАВА III
Террор как идеологема: происхождение легенды
«Как известно, — писал Е.В. Тарле в 1918 г., — эпохою террора
называются обыкновенно 1793-1794 гг., точнее, время от падения
жирондистов (31 мая 1793 г.) до падения Робеспьера — 9 термидо-
ра — 27 июля 1794 г. Некоторые исследователи склонны считать на-
чалом террора сентябрьские дни 1792 года (избиение толпою — при
попустительстве властей — политических арестантов в парижских
тюрьмах); другие относят начало этой грозной годины к 13 октября
1793 года, когда Конвент постановил отсрочить введение консти-
туции в действие и заменить ее “революционным правительством”,
иными словами, фактической диктатурой Комитета общественного
спасения. Относительно конечной даты разногласий нет. Робеспьер
был душой террористической системы и (особенно после убийства
Марата 13 июля 1793 г.) главным вдохновителем террора». Пото-
му, заключает авторитетный русский историк, после отстранения от
власти Неподкупного «сразу рухнула вся террористическая система,
достигшая своего апогея именно в последние два месяца жизни и вла-
дычества Робеспьера»'.
Понятно, что, издавая цитируемую нами книгу «Революционный
трибунал в эпоху Великой французской революции», Тарле весьма
прозрачно (насколько это вообще было возможно в большевистском
Петрограде того времени) намекал соотечественникам: использова-
ние правительством якобинского опыта неизбежно приведет к анало-
гичным результатам. Не солидаризуясь полностью с авторитетным
историком, подчеркнем здесь главное: террор как метод управле-
ния — открытие Великой французской революции.
Само слово «terreur», т. е. «ужас», или «устрашение», вошло в по-
литический лексикон стараниями жирондистов и якобинцев, объ-
единившихся в 1792 г., дабы вынудить короля заменить прежних
министров лидерами леворадикальных группировок.
В качестве давления на правительство была выбрана угроза на-
родным восстанием (по модели 1789 г.), которое объявлялось не-
минуемым, если король не уступит. Естественно, возникал вопрос о
правомерности насилия, неизбежно связанного с восстанием, вопрос
об ответственности.
Левые радикалы возлагали ответственность за возможные жерт-
вы не на правонарушителей, а на короля, доказывая, что эксцес-
сы — всего лишь стихийная реакция народа на беззаконное насилие,
постоянно практикуемое королевской властью. Например, депутат
42
Законодательного собрания жирондист П.В. Верньо во время одного
из выступлений воскликнул, указывая на Тюильри: «Ужас и террор
(I’epouvante et la terreur) в прежние времена часто исходили во имя
деспотизма из этого дворца, так пускай же теперь они возвратятся
туда во имя закона!»2 О терроре в контексте восстания говорили и
другие идеологи революции.
Слово было выбрано не только из-за присущей ему эмоциональ-
ной заразительности. Называя террор непременным атрибутом деспо-
тизма, Верньо и его соратники следовали философским традициям
века Просвещения, и прежде всего традициям Монтескье. Описывая
три формы государственности, которые он считал основными, Мон-
тескье утверждал, что специфика каждой обусловлена соответствую-
щим базовым принципом: монархия зиждится на «чести» (honneur),
республика -- на «добродетели» (vertu), а деспотия, будучи формой
аномальной, проявлением беззакония, — на «страхе» (crainte)1. Тер-
рор для Монтескье — окказиональный синоним «страха», причем си-
ноним, встречающийся крайне редко1.
Разумеется, идеологи революции, приспосабливая для своих
нужд авторитетную систему Монтескье, существенно изменили ее.
Они были заинтересованы в максимальной дискредитации монархии
и потому отождествляли ее с деспотией, словно забыв, что у Монте-
скье эти формы государственности противопоставлялись. Благодаря
столь несложным трансформациям Людовик XVI, что б он ни делал,
оказывался не «восстановителем французской свободы», а деспо-
том, устрашавшим и вновь пытающимся устрашить свой народ. Ну
а Коль так, доказывали радикалы, то и народ, устрашая представи-
телей власти, не попирает, но восстанавливает законность, да и во-
обще, привыкший к террору монархов, народ просто не знает иных
средств. «Именно на низший класс человечества правительство целе-
направленно воздействовало посредством ужаса (by terror), — писал
Пейн, — на низшем же классе и сказались худшие результаты этого
воздействия. Низшему классу хватило здравого смысла, чтобы осо-
знать себя жертвой устрашения и в свою очередь воспроизвести те
примеры ужаса (examples of terror), на которых его воспитывали»5.
Слово «террор», став термином, ассоциировалось прежде всего с
массовыми антиправительственными выступлениями, посредством
которых лидеры леворадикальных группировок устрашали против-
ников. Практика паразитирования на «гневе народном» складыва-
лась, конечно же, до терминологического оформления, и характерно,
что пресловутый «гнев» идеологи революции обращали не только
против короля.
Например, когда один из недругов Марата, которого тот в своей
газете «Друг народа» объявил «правительственным шпионом», обра-
43
тился в суд, требуя защиты от клеветы, толпа приверженцев «Друга
народа», регулярно приходя на заседания суда и срывая их, в 1791 г.
угрозами и побоями вынудила истца забрать жалобу1’.
Отметим, что обвинительный приговор (если б его и вынесли) не
был связан с угрозой жизни и даже угрозой свободе Марата: соглас-
но заявлению истец настаивал лишь на публичном извинении или
штрафе, наложенном на типографию. Однако Марата и его соратни-
ков масштабы предполагаемой опасности не занимали. Суд надлежало
сорвать, чтобы впредь никто более не пытался найти управу на «Друга
народа». Потому-то сторонников журналиста, каждый раз якобы сти-
хийно собравшихся, не останавливало даже присутствие мэра. Кстати,
с точки зрения стихийности сборища эти достаточно характеризует
их состав: почти все защитники Марата принадлежали к формировав-
шейся в предместьях санкюлотской организации «Победители Басти-
лии», а руководил ими уже тогда небезызвестный А.Ж. Сантер, через
полтора года возглавивший Национальную гвардию.
Алгоритм использования «стихийного волеизъявления народа»
как способа давления на правительство быстро совершенствовал-
ся. И если в столице радикалы еще не могли решиться на открытый
вооруженный конфликт, то в провинциях они действовали куда бо-
лее агрессивно. Например, в 1792 г. хорошо организованные и воору-
женные группы «революционных» марсельцев ворвались в соседние
Арль и Авиньон, где громили государственные учреждения, убивали,
грабили, мотивируя это «антинародной» политикой городских чи-
новников. Марат, солидаризовавшийся с погромщиками, назвал их
действия осуществлением «доктрины “Друга народа”, которая еще
один раз спасает Францию»7. Из чего, естественно, следовало, что
марсельцы вовсе не преступники, а настоящие патриоты.
Далеко не все столичные лидеры левых радикалов были столь эпа-
тирующе откровенны, но не так уж сложно было проследить их связь
с марсельскими экстремистами. И прослеживали. А. Шенье, в част-
ности, писал, что именно в якобинских клубах «авиньонские мон-
стры нашли друзей и усердных защитников», именно «отсюда вышли
люди, которые избавили их от тюрьмы и законного наказания», имен-
но «здесь подстрекатели, заговорщики величали патриотами своих
друзей — этих воров и убийц, отбросы рода человеческого, а жертвы
сих негодяев получили ярлык врагов общества»8. Методы, применяе-
мые якобинцами в борьбе за власть, Шенье именует «террором»9.
Термин этот Шенье принял не сразу. Ранее, в апреле 1791 г.,
Шенье, нападая на радикалов, говорил не о терроре, а о страхе, упо-
требляя один из расхожих синонимов слова «crainte» — «реиг». Но и
в данном случае выбор был не случаен. «Великим страхом» («Grande
реиг») называли слухи о некоем заговоре аристократов против
44
крестьянства, соответственно, страх, писал Шенье, стал оружием
радикалов"’. Модель терминологизации здесь та же, что и в случае
с террором: слово, обозначавшее деспотический метод управления,
меняет адресата, обозначая теперь орудие борьбы с деспотией". Оче-
видно, впрочем, что к весне 1792 г. «террор» вытеснил конкурирую-
щие идеологемы.
Франция тогда была охвачена буквально эпидемией эксцессов.
Левые радикалы в прессе и Законодательном собрании вели анти-
роялистскую кампанию, обвиняя Людовика XVI в предательстве —
сговоре с иноземными монархами для подавления революции.
Недавнего «восстановителя» французской свободы теперь именова-
ли «изменником» и «заговорщиком»12. Городское самоуправление —
Парижская коммуна — умело использовалось леворадикальными
лидерами, нагнетавшими «истерию неповиновения», преследование
сторонников короля (реальных и предполагаемых) приобретало все
более жестокие формы. В итоге 10 августа, используя отряды санкю-
лотов, которыми руководила Парижская коммуна, леворадикальные
лидеры арестовали короля, а жирондистско-якобинское Националь-
ное собрание объявило о созыве Конвента — очередного чрезвычай-
ного законодательного органа. Конвенту надлежало сформировать
легитимное правительство и создать новую конституцию, дабы во
Франции установился идеальный государственный порядок. Лево-
радикальные группировки обрели, наконец, полную власть.
Универсальный инструмент
С победой жирондистов и якобинцев «массовая истерия» не по-
шла на убыль, напротив, эксцессы продолжались. В сентябре 1792 г.
при полном попустительстве администрации толпы парижан врыва-
лись в тюрьмы, истребляя арестованных роялистов, дворян, священ-
ников, а заодно всех «рядом стоявших». И «рядом стоявших» было в
три раза больше, чем тех, кого по каким-либо «анкетным» признакам
объявили врагами общества1’.
События сентября 1792 г. вошли в историю Франции под назва-
нием «сентябрьские убийства» (или даже «резня» — «massacre»).
Как известно, проякобински настроенные историки объясняют же-
стокость и массовость резни «чрезвычайными обстоятельствами» —
резким ухудшением ситуации на фронте. Правительству (теперь уже
не королевскому) не удавалось остановить наступление войск Пер-
вой коалиции, усиленных подразделениями французов-роялистов, в
связи с чем слухи о заговорах, о готовящемся роялистском мятеже
не казались беспочвенными. Обстановка была напряженной, и П. Ка-
рон, анализируя эти события, указывает, что «при всех причинах для
45
нервозности, существовавших в сентябре 1792 г., трения и столкнове-
ния неизбежны, извинимы»14.
Подобные аргументы кажутся довольно убедительными. Од-
нако так ли уж «извинимы» с точки зрения именно правительства
налеты на тюрьмы, ему принадлежащие? Акция эта явно антиправи-
тельственная, значит, граждане, опасавшиеся мятежа, хоть и демон-
стрировали лояльность, стали мятежниками. Так ли уж «неизбежно»
попустительство новой власти мятежникам? Очевидно ведь, что сен-
тябрьская позиция самоубийственна для правительства, чья цель —
укрепить тыл и предотвратить массовые волнения. Почему же тогда
правительство бездействовало?
В данном случае следует учесть, что к сентябрю 1792 г. оно уже не
было единым в своих устремлениях. Победив, две основные левора-
дикальные группировки стали противниками. При этом жирондисты
добились перевеса в министерствах и Законодательном собрании,
якобинцы же опирались на городское самоуправление — Парижскую
коммуну. Конфликт резко обострился 30 августа, когда Законода-
тельное собрание приняло декрет о роспуске Парижской коммуны:
лидерам ее надлежало утешиться лишь признанием собственных за-
слуг перед отечеством1'’.
Если предположить, что бесчинствами толпы якобинцы, кон-
тролировавшие ситуацию в городе, устрашали не столько потенци-
альных мятежников, сколько недавних союзников, то в политике
попустительства никакого противоречия нет. После «сентябрьских
убийств» Парижская коммуна существенно упрочила свое положе-
ние, и вопрос о ее роспуске стал нерешаемым. Этого результата и
добивались экстремисты. Вот почему Дантон, занимавший пост ми-
нистра юстиции, демонстративно игнорировал просьбы тюремных
служащих о помощи, а в разгар резни даже недвусмысленно заявил
одному из них: «Мне плевать на узников»"’.
Для истории идеологемы «террор» события сентября 1792 г. —
весьма важная веха: толпами убийц и погромщиков руководила офи-
циальная организация, и акцию эту руководители демонстративно
именовали террором17. «Парижская коммуна, — гласил циркуляр от
3 сентября, — спешит уведомить своих братьев во всех департамен-
тах, что часть содержащихся в тюрьмах кровожадных заговорщиков
убита народом; это явилось актом справедливости, который казал-
ся народу неизбежным, чтобы посредством террора (par la terreur)
удержать легионы изменников»18. Можно сказать, что по сути
это было проявление государственного террора, хотя по форме —
террор толпы.
Программа захвата власти посредством устрашения социума
псевдостихийными погромами последовательно изложена в сочи-
46
нениях Марата. Им же сформулировано и основное условие реа-
лизации этой программы — «нервозность», «возбуждение» или, в
терминологии данной работы, «массовая истерия». Без нервозности,
тщательно культивируемой якобинцами, они просто не смогли бы
управлять парижанами. В ноябре 1790 г. Марат писал, что «великая
цель» защитников народа «должна состоять в том, чтобы постоянно
поддерживать народ в состоянии возбуждения до того времени, когда
в основание существующего правительства не будут положены спра-
ведливые законы»19. Кстати, с этой точки зрения Марат оценивал и
газету «Друг народа», утверждая, что влияние газеты на революцию
обусловлено прежде всего «страшным скандалом, распространяемым
ею в публике»29.
Считая скандал, провоцирующий возбуждение, залогом успеха,
Марат эпатировал читателей и количественным критерием эффектив-
ности народного восстания. Напоминая о четырех правительственных
'чиновниках, растерзанных толпою парижан 14 июля 1789 г., «Друг
-.Народа» указывал: всего четыре «отрубленные головы», и король со-
гласился с «Декларацией прав человека и гражданина»21, значит, во
сколько раз следующая задача важнее предыдущей, во столько раз
больше следует отрубить голов. Строя нехитрую пропорцию в духе
механицизма века Просвещения, Марат пришел, наконец, к хресто-
матийной формулировке: «500-600 отрубленных голов обеспечили
бы вам покой, свободу и счастье»22.
Количество голов, которые надлежало отрубить во имя всеоб-
щего счастья, возрастало постоянно. В декабре 1790 в. Марат писал:
.’«Шесть месяцев тому назад 500, 600 голов было бы достаточно для
того, чтобы отвлечь вас от разверзшейся бездны. Теперь, когда вы
неразумно позволили вашим неумолимым врагам составлять заго-
воры и накапливать силы, возможно, потребуется 5-6 тысяч голов;
но, если бы даже пришлось отрубить 20 тысяч, нельзя колебаться ни
одной минуты. Если вы не опередите ваших врагов, они варварски
перебьют вас самих»23.
Августовский захват власти никак не повлиял на концепцию Ма-
рата. Теперь, уверял он, головы нужно рубить ради закрепления по-
беды: «Чтобы привести в соответствие человеческие обязанности с
заботой об общественной безопасности, я предлагаю вам казнить че-
рез каждого десятого контрреволюционных мировых судей, членов
муниципалитета, департамента и Национального собрания»2’.
Зная, что каждая его статья воспринимается руководством Париж-
ской коммуны как директива, Марат озаботился поиском оптималь-
ного способа управления «гневом народа». С такой задачей, пояснял
он, лучше всего справились бы несколько официально наделенных
особыми полномочиями координаторов, которые с помощью могу-
47
щественной Коммуны объясняли бы, где и кого убить «стихийно»
собравшейся толпе.
Естественно, у многих новоявленных республиканцев возникали
сомнения: а не предлагает ли Марат установить диктатуру этих самых
«особоуполномоченных»? Нет, отвечал Марат оппонентам, бояться
властолюбия координаторов не приходится: «Для гарантии их чест-
ного поведения достаточно, чтобы лицам, которым вручается госу-
дарственная власть, были даны полномочия только для уничтожения
врагов революции, но не для подавления своих сограждан, и чтобы их
миссия закончилась бы в тот же момент, когда враг не сможет боль-
ше подняться»25. Разумеется, «Друг народа» не сообщил, чем «враги
революции» отличаются от лояльных сограждан, кто, если не сами
координаторы, вправе определять срок истечения особых полномо-
чий, и смогут ли «сограждане» оспорить решение координаторов, не
рискуя при этом попасть в разряд «врагов революции».
«Сентябрьские убийства», ужаснувшие Францию, Марат, ничуть
не смущаясь, интерпретировал как очередное доказательство своей
правоты. Нужно было, сетовал он, слушать советы «Друга народа»,
который, «глубоко огорченный при виде того, что террор поражает
без различия всех виновных, смешивая мелких преступников с круп-
ными злодеями, стремясь направить его только на головы главных
контрреволюционеров», хотел изначально «подчинить эти бурные и
беспорядочные движения мудрой воле вождя»21’. Иначе говоря, на-
значили бы координаторов, и толпа убивала бы не всех подряд, а тех,
кого непременно следовало. Но, подчеркнул Марат, в любом случае
беда невелика: «гнев народа» поразил лишь «виновных», а невино-
вные в революционных тюрьмах не сидели, потому и не пострадали.
Осенью 1792 г. окончательно сложилась модель управления, ко-
торую вполне обоснованно именовали террором. Впервые она была
реализована как террор толпы, т. е. непосредственным орудием устра-
шения стала якобы стихийно действующая толпа.
С формальной точки зрения ситуация 1789 г. — взятие Басти-
лии — аналогична ситуации 1792 г. — «сентябрьским убийствам».
Различия качественные: в 1792 г. пресловутая «толпа» была практи-
чески постоянного состава наподобие армейского подразделения, а
руководила ею официальная организация.
Понятно, что в обстановке государственной стабильности невоз-
можно создание подобного орудия устрашения. Но при ослаблении
эффективности существующего управленческого аппарата и воз-
никновении конфликтующих друг с другом административных ор-
ганов террор толпы — вполне подходящий алгоритм захвата власти.
Обязательно лишь обеспечить перманентное нагнетение массовой
истерии, которая по мере монополизации власти якобинцами моди-
48
фицировалась: «истерия неповиновения» «королю-деспоту» перешла
в «истерию солидарности» с «истинно народной» фракцией нового
правительства.
Итак, универсальный способ управления социумом посредством
превентивного устрашения впервые был опробован в форме террора
толпы.
Рис. 3
Логика террора
Террор толпы оказался для революционных группировок сред-
ством весьма эффективным, как при захвате власти, так и в ситуа-
ции междуусобицы. Однако для решения государственных задач
это средство было уже недостаточным. И поскольку революцион-
ные лидеры никакими иными навыками управления, кроме тер-
рористических, не владели, террору толпы неизбежно предстояло
модифицироваться в государственный террор не только по сути, но
и по форме.
20 сентября 1792 г. Конвент, сменивший Законодательное со-
брание, провозгласил Францию Республикой — государством, по
определению вынужденным противостоять коалиции европейских
монархий. Апеллируя к модели «осажденной крепости», Конвент в
дополнение к обычным формам исполнительной власти организу-
ет 2 октября Комитет общественной безопасности (Comite du surete
generale) для проведения чрезвычайных мер по «защите Отечества»
от врагов внешних и внутренних.
Использование термина «безопасность» применительно к по-
добного рода административным структурам обусловливалось ори-
ентацией французских радикалов на американскую модель. Право
49
на безопасность (safety), согласно хрестоматийной «Декларации
независимости», было объявлено неотъемлемым правом свободной
нации, и, как известно, в эпоху Войны за независимость Комитеты
безопасности (commitees of safety) следили за «лоялистами», сторон-
никами метрополии, предотвращая враждебные акции.
Комитеты безопасности состояли из добровольцев и назначались
в каждом штате местными органами самоуправления — ассамблеями.
Французские же радикалы с их приверженностью к централизации
сделали Комитет общественной безопасности государственным
учреждением. На такой основе можно было приступать к строи-
тельству системы превентивного устрашения в общенациональном
масштабе.
Система эта строилась постепенно, и важнейшим этапом стал суд
над королем — знаменитый «процесс Людовика XVI».
Завершившийся казнью 21 января 1793 г., он изначально был, что
называется, очевидныим и вопиющим беззаконием: согласно дей-
ствовавшей тогда конституции 1791 г. монарх, пусть и отстранен-
ный от власти, оставался неприкосновенным. Суду он не подлежал.
А если б и подлежал, король все равно не нарушил ни одного закона.
Инкриминировать ему было нечего, значит, и судить — именно су-
дить — не за что. Тем не менее заведомо абсурдный процесс начался,
причем с соблюдением некоторых норм судопроизводства: Людови-
ку XVI предъявили обвинение, дали защитников и т. д., хотя никаки-
ми усилиями защитники не сумели б спасти короля — их попросту не
слушали.
Разумеется, можно предположить, что экстремистам мешал сам
факт существования короля как Божиего помазанника, единствен-
ного законного в глазах многих представителей социума носителя
верховной власти, и пока был жив монарх, реставрация казалась
более вероятной. Но, во-первых, убийство Людовика XVI не исклю-
чало реставрации. Во-вторых, если уж результат — убийство — был
предопределен, зачем понадобилось добиваться его столь нелепым
образом: играть в законность, демонстративно попирая законы? За-
чем, наконец, затягивать расправу, если она сочтена необходимой, не
проще ли прибегнуть к испытанному «сентябрьскому» способу, ими-
тируя «гнев народа»?
Конечно, проще. Однако логика террора диктовала тогда иную
схему. Суд над Людовиком XVI стал итогом соперничества группи-
ровок, прорвавшихся к власти.
В октябре 1792 г. с инициативой уничтожения свергнутого монар-
ха выступила контролируемая якобинцами Парижская коммуна27.
Для разжигания массовой истерии якобинцам понадобился очеред-
ной повод — борьба за возможность отомстить тирану. У жирондистов
50
(таких же левых радикалов) не было принципиальных возражений,
но и уступить сразу они не пожелали. Во-первых, нецелесообразно
было б во всем соглашаться с набиравшим силу агрессивным сопер-
ником. Во-вторых, как партия большинства жирондисты заботились
о престиже правительства и стабильности: казнь «Божиего помазан-
ника» провоцировала волнения в провинциях, все еще привержен-
ных традиционным установлениям.
Ситуация открытого противостояния сложилась, и теперь жирон-
дисты попытались, уступив, нанести ответный удар. Да, соглашались
они, король и в самом деле заслужил казнь, но казнить его нужно с со-
блюдением необходимых формальностей: устроить гласный процесс
и осудить Людовика XVI и как тирана, и как преступника, посягав-
шего на «революционную законность».
Тактически это был очень сильный ход. Осуждение короля в каче-
стве тирана обуславливало репрессии по отношению ко всем властво-
вавшим представителям августейшей семьи, стало быть, возникал
вопрос об аналогичной виновности примкнувшего к якобинцам гер-
цога Орлеанского. То, что он демократически именовал себя Фи-
липпом Эгалите, ничего не меняло2*. А главное, прецедент судебного
разбирательства неизбежно повлек бы расследование деятельности
таких нарушителей «революционной законности», как «сентябри-
стов» и Марата.
Якобинцы попали в сложное положении: уступка оказалась ло-
вушкой, что, впрочем, легко было предвидеть. Вот почему надлежало
устроить суд, обойдясь без расследования, т. е. подготовить уже не
«стихийную» расправу, но еще и не процесс в традиционном понима-
нии. Этим, собственно, и занялись.
К чему формальности, заявил Сен-Жюст, если известно, что вооб-
ще «царствовать без вины нельзя», сответственно, «всякий король —
мятежник и узурпатор», значит, монарх виновен по определению,
а коль так, разбираться не в чем и суд должен лишь сослаться на
указанные обстоятельства, санкционируя вполне законную казнь29.
К этому же призывал депутатов Конвента и Робеспьер, причем он
был гораздо откровеннее: выдвинутое народом требование, объяснял
бывший адвокат, вполне законно, поскольку народ, согласно учению
Локка, имеет право свергнуть тирана, и в данном случае смерть Лю-
довика XVI — не цель, а средство. Цель — «внедрить глубоко в сердца
презрение к королевской власти и поразить ужасом (буквально —
“de frapper de stupeur”) приверженцев короля»30.
«Неподкупный» даже не скрывал: речь идет именно о превентив-
ном устрашении. Однако недавние союзники Робеспьера понимали,
что и на этот раз якобинцы устрашают не столько роялистов, сколько
жирондистов. «Да, я не стану скрывать, — восклицал в Конвенте жи-
51
рондист Жансонне, — существует крамольная партия, которая явно
посягает на державную власть народа и хочет стать вершительницей
его судеб; партия, которая лелеет преступную надежду господство-
вать посредством террора над Национальным Конвентом, а посред-
ством Национального Конвента — над всей Республикой, которая,
быть может, простирает свои честолюбивые замыслы еще дальше»31.
В данном случае очевидно, что оратор не приемлет террор, к чему
призывает и слушателей, однако ведь года не прошло, как Верньо,
соратник Жансонне, требовал использовать тот же самый террор в
борьбе против короля.
Якобинская схема расправы с монархом в качестве «естествен-
ного» завершения восстания оказалась неприемлемой для жирон-
дистов, а жирондистскую программу суда над всеми нарушителями
«революционной законности» не принимали якобинцы. Тем не ме-
нее суд должен был состояться: междуусобицы не заслоняли от обе-
их леворадикальных группировок общую задачу — разработку новой
системы управления.
Тут процесс Людовика XVI был очень кстати. Появилась возмож-
ность создать образец государственно-террористической политики,
искомую модель, которой в дальнейшем надлежало следовать, на-
конец, убедить соотечественников, что единственный непреложный
закон — «революционная целесообразность».
Наиболее отчетливо идею «моделирорования» выразил Сен-
Жюст: «Не упускайте из виду, — указывал он, — что в каком духе
вы осудите короля, в таком же и устроите свою республику. Теория
вашего суда будет и теорией вашего правления; мера вашей филосо-
фии в этом процессе будет и мерой свободы в вашей конституции»32.
Проще говоря, посредством процесса Людовика XVI коалиционное
правительство убеждало народ, что «в интересах революции» осу-
дить и казнить можно каждого гражданина, даже если тот и не на-
рушал законы.
«Моделирование» принципиально новой системы управления
обусловило введение новой поэтики, основанной на авторитетных
исторических аналогиях. Наиболее очевидными здесь были казнь
Карла I и провозглашение республики.
Известно, что брошюры с популярным изложением соответствую-
щих эпизодов английской истории издавались тогда во множестве33.
Равным образом, Кромвель и Карл I постоянно упоминались ора-
торами Конвента. Однако английская параллель была официально
отвергнута еще в 1789 г., поскольку предполагала диктатуру и ре-
ставрацию. И на сей раз английский опыт признали неудачным по
причинам юридического характера. Правда, лидеры якобинцев и жи-
рондистов, доказывая этот тезис, прибегли к различным аргументам.
52
Смертный приговор Карлу I, утверждал жирондист Мель, был
незаконным, хоть и справедливым, тогда как приговор Конвента бу-
дет и справедлив, и законен. Парламент «не предоставлял нации во
всей полноте ее державной власти; он представлял ее только лишь
на основании конституции. Он, стало быть, не мог ни сам судить
короля, ни передавать права суда над ним другой инстанции. Он
должен был поступить так же, как поступило во Франции Зако-
нодательное собрание, т. е. предложить английской нации созвать
Конвент»31. «Конвент же, — настаивал Мель, — сам создает консти-
туцию и, по определению, представляет нацию в целом, значит, его
права ничем не ограничены».
Робеспьер защищал якобинскую программу иначе, но тоже ссы-
лался на необходимость отказа от «дореволюционных» законов:
«Народы, — объяснял Неподкупный, — судят не так, как судебные
палаты: они не выносят приговоров, а мечут громы и молнии; они не
осуждают королей, а повергают их в прах, и это правосудие не усту-
пает судебному. Если народ восстает против угнетателей для своего
спасения, то может ли он применить к ним такой род наказания, кото-
рый представлял бы новую опасность для него самого? Мы введены
в заблуждение примерами других стран, не имеющих ничего обще-
го с нами. Если Кромвель судил Карла I через судебную комиссию,
находившуюся под его руководством, если Елизавета приговорила к
смерти Марию Стюарт через посредство судей, то это естественно:
тираны, приносившие себе подобных в жертву не народу, а своему
собственному властолюбию, стремились обмануть простаков при-
зрачной внешностью; речь шла здесь не о принципах, не о свободе,
а лишь об интригах и обмане. Но народ? — какому закону может он
повиноваться, если не справедливости и разуму, находящим опору в
его всемогуществе?»3’
Итак, английские параллели не годились и с точки зрения закон-
ности, и ввиду ее отрицания. Куда более перспективной показалась
«вненациональная» традиция тираноборчества.
От легенды к легенде
Предложив интерпретировать процесс Людовика XVI в терминах
тираноборчества, Сен-Жюст удачно сформулировал основную идею
«революционного процесса»: право «восстания против тирании есть
право личное, — рассуждал он, — весь державный народ не мог бы
принудить и одного гражданина простить тирану». А потому, требо-
вал якобинский оратор, «поспешите судить короля; ибо нет гражда-
нина, который не имел бы на него такого же права, какое Брут имел
на Цезаря»33.
53
Сен-Жюст произвел нехитрую подмену: в роли монархомахао-
диночки, жертвующего собой и смертью своей искупающего нару-
шение закона, выступала нация в целом, народ, который неподсуден
по определению.
Прием был не нов. Еще в августе 1791 г. после попытки королев-
ской семьи бежать из Парижа (тем самым лишив революционное
правительство легитимной основы) группа радикалов, объединив-
шихся в клуб «Кордельеры», объявила себя сторонниками респу-
блики и тираноубийцами37. Смысл понятия «тираноборчества»
искажался ими ради решения сиюминутных политических задач.
Однако большинство революционных лидеров сочли инициативу
«кордельеров» несвоевременной, в связи с чем она осталась не бо-
лее чем эффектной декларацией.
Через полтора года ситуация сильно изменилась, и ранее отвер-
гнутые терминологические новации пришлись кстати. С их помо-
щью вопрос об ответственности Конвента в качестве коллективного
представителя французского народа снимался раз и навсегда. Апро-
бировался и новый алгоритм политического процесса — осуждение
на смерть не за конкретные правонарушения, не в соответствии с су-
ществующими законами, а для конкретной цели — устрашения со-
граждан. Таким образом, закладывались основы «революционного
правосознания». Впоследствии алгоритм менялся, но основная идея
оставалась той же; не «за что», а «зачем».
Казнью короля решалась еще одна, хоть и локальная, но весьма
серьезная задача: угрожая «гневом народа», якобинцы потребовали
поименного голосования при вынесении приговора и тем буквально
«повязали кровью» весь Конвент, да и не только Конвент. Все голо-
совавшие за смерть, а также все одобрившие их решение (пусть и под
угрозой террора толпы), поставили свои жизни в зависимость от со-
хранения республики. Пути назад уже не было: предполагалось, что
убийц и соучастников убийства монарха не пощадят в случае рестав-
рации.
Символы и мифы
Смерть Людовика XVI под ножом гильотины стала важнейшей
исторической вехой: американские аналогии утратили актуальность,
французским радикалам приходится создавать революционную ми-
фологию самим33.
Гильотина считается символом эпохи террора, хотя, как известно,
рождением своим она обязана не террору и даже не революции. При-
способления такого типа обсуждались еще до прихода левых ради-
калов к власти: идеологи Просвещения отвергали демонстративную
54
жестокость казней. Раз уж государство не могло обойтись без убий-
ства преступников, то саму процедуру лишения жизни надлежало с
помощью специального механизма сделать безболезненной. Револю-
ция лишь актуализовала тему «механизации».
Лозунг «На фонари аристократов!», ставший рефреном санкю-
лотских куплетов, выражал не только требование установить равен-
ство посредством физического уничтожения «высших», но и призыв
унизить их самим способом убийства: вешать полагалось преступ-
ников из простонародья, тогда как дворян обычно приговаривали
к обезглавливанию мечом.
Произошла, можно сказать, «переадресация» по той же схеме,
цто и в случае с термином «террор»: казнь, грозившую только «низ-
< щим», — удушение петлей — объявили уделом «высших». Появился и
' рпецильный глагол «lanterner» (от lanterne — фонарь), обозначавший
рту расправу. Будучи формой террора толпы, она пропагандирова-
- рось как справедливое, а потому законное проявление «гнева наро-
да», в связи с чем Демулен даже заработал прозвище «Генеральный
прокурор фонаря»39.
Отмена сословных привилегий уравняла всех осужденных в
праве на обезглавливание — дворянскую казнь (т. е. уравняла «по
высшим»), развитие же революции обусловило резкое увеличение
количества смертных приговоров. Специальный механизм стал про-
сто необходим.
Знаменитый палач Ш.А. Сансон писал в то время, что «завершить
дело при помощи меча» можно лишь при соблюдении трёх важней-
ших условий: исправности инструмента, ловкости исполнителя и
абсолютного спокойствия приговоренного. Меч, по словам Сансо-
на, следовало выправлять и точить после каждого удара, иначе при
публичной казни быстрое достижение искомого результата стано-
вилось проблематичным. А если казнить сразу нескольких, сетовал
заплечных дел мастер, то времени на заточку нет, значит, нужны за-
пасы дефицитного инвентаря, но и это не выход, поскольку осужден-
ные, наблюдая за гибелью предшественников, оскользаясь в лужах
крови, часто теряют присутствие духа, и тогда палачу с подручными
приходится работать, как мясникам на бойне, что изрядно снижает
пропагандистский эффект. Словом, забот хватало.
В связи с этим 25 марта 1792 г. был принят «Закон о смертной каз-
ни и способах приведения ее в исполнение», сообщавший без всяких
экивоков, какие задачи предполагалось решить посредством «меха-
низации» убийства. «Национальное собрание, — гласил закон, — при-
нимая во внимание ненадежность способа исполнения смертной
казни», предусмотренного Уголовным уложением, который «не
дает возможности казнить нескольких преступников», и необходи-
55
мость «исправить это неудобство, могущее иметь нежелательные по-
следствия», а также учитывая, что смертная казнь должна быть «по
возможности безболезненна, декретирует спешность». Спешно сле-
довало сконструировать приспособление, позволяющее облегчить
работу палача, а список медико-технических требований к этой кон-
струкции Национальное собрание поручило подготовить «несменяе-
мому секретарю хирургической академии» доктору А. Луи.
Он подошел к задаче как истинный ученый и внятно объяснил
дилетантам, что, собственно, им нужно: механизм, действующий по-
добно часам, чья работа требует лишь минимального человеческого
вмешательства, ведь человек — самый ненадежный элемент, посколь-
ку «находится в тесной зависимости от условий нравственных или
физических». После чего известный анатом вкратце описал устрой-
ство, усовершенствованное другим выдающимся медиком — Ж. Ги-
льотеном, давним энтузиастом этой идеи. Совокупными их усилиями
и была решена в апреле 1792 г. проблема технического обеспечения
«революционного правосудия»'”'.
Введение гильотины закономерно и в аспекте процесса десакра-
лизации государственной власти. Идея «общественного договора»
вытеснила идею «Богоданности» королевского права повелевать,
Людовик XVI лишился трона, профессия палача утратила ореол са-
кральности, присущий ей в «авторитарном» социуме, и вершитель
воли «помазанника Божия» стал обычным служащим, деталью госу-
дарствнной машины, отрубившей голову «гражданину Луи Капету».
Проблема сословного неравенства была, наконец, решена, гильотину
прозвали «национальной бритвой», и глагол «лантернировать» в зна-
чении «казнить» вышел из употребления, замененный другим, с тем
же смыслом — «гильотинировать»11.
При таких обстоятельствах гильотина не могла не стать символом.
Если в роли тираноборца мыслится вся нация, то «быстродействую-
щий механизм доктора Гильотена», орудие уничтожения тирана и его
пособников — аналог античного кинжала.
По той же античной модели, апробированной на процессе Лю-
довика XVI, оформлялись и новации в системе управления. Более
того, ссылка на античные аналогии стала обязательным элементом
политической риторики. Например, признанный лидер якобинской
журналистики — Демулен — сначала поддерживал Робеспьера в по-
лемике с жирондистами, оперируя примерами из римской истории,
а затем нападал на Неподкупного, ссылаясь опять-таки на римские
параллели12. Кстати, стремление левых радикалов обосновать любой
свой поступок аналогиями из классической древности весьма раздра-
жало не менее образованных современников: Робеспьер и ему подоб-
56
ные, иронизировал Шенье, «опьяненные суетными успехами, рыщут
по истории, изыскивая, кому бы из уважаемых личностей, вызвав не-
годование рода человеческого, нанести оскорбление своим выбором
в качестве образцов»11. А К.Ф. Вольней, к примеру, писал о «мании
цитировать и подражать грекам и римлянам, которая в эти последние
времена поразила нас как приступ безумия»1’.
В безумии, однако, была своя логика. Правительство, нагнетая
«истерию солидарности», призывало французов к самопожертвова-
нию «на благо отечества» в духе «великих граждан» Греции и Рима,
чьи имена практически не сходили с газетных страниц и театральных
афиш.
Сочетание культа героев Античности и повсеместно насаждаемо-
го культа новых «мучеников революции» давало порой результаты
комические: так, после гибели Марата одна из городских якобинских
организаций — «Общество св. Максима» — обратилась к руководству
с просьбой о переименовании в «Марафонское общество», поскольку
это название, по мнению просителей, напоминало не только о победе
республиканцев-афинян в битве с войсками персидского монарха, но
также о Друге народа (Marat/Marathon)15.
Пропагандистское неистовство породило буквально моду на
Античность, появился даже глагол «грецизироваться» (se greciser),
т. е. одеваться и причесываться на античный манер”’. Имена тоже
меняли моды ради. Так, будущий организатор «заговора равных»
Ноэль-Франсуа Бабеф назвал себя в 1790 г. Камилом, а три года
спустя, решив, что лично ему более подходит образ не полководца,
а народного трибуна, стал Гракхом, сыновей же нарек Эмилием, Ка-
милом и Гаем. Понятно, что моде следовали и вне столицы: только
в Монпелье меньше чем за год появились 25 Брутов, 13 Корнелиев,
8 Сцевол, 7 Цезарей, 5 Ахиллов, 1 Сципион, 3 Публиколы, 1 Леонид,
1 Тимолеон17. Приведенный список показывает, что далеко не все
переименовавшиеся были сильны в истории (к примеру, Цезарь и
Брут — «тиран» и «тираноубийца» — попали в один ряд), зато тен-
денция вполне очевидна: «античное» стало едва ли не синонимом
«революционного».
Республика мыслилась в качестве завоевания революции, и граж-
дане стали как бы братьями по оружию, совместно защищающими
«осажденную крепость». Фригийский колпак, считавшийся голов-
ным убором освобожденных рабов, символизировал свободу братьев
по оружию, а гильотина, аналог тираноборческого кинжала, была еще
и символом республиканского равенства перед законом. «Свободе,
равенству, братству» надлежало расцветать под эгидой террора, за-
щищающего граждан от тиранов.
57
1 Тарле Е.В. Революционный трибунал в эпоху Великой французской ре-
волюции. Пг., 1918. С. 3.
2 Aulard A. Les orateurs de la Revolution: La Legislative et la Convention. P.,
1906. V. l.P. 323.
3 Montesquieu Ch. De 1’esprit des lois. P.,1955. L. III.
1 Ibid. P. 156. В данной работе мы намеренно не касаемся лингво-
философской проблемы смысловых аспектов понятий «страх» и «ужас», рав-
ным образом, проблемы столь характерного для Англии XVIII в. сопостав-
ления терминов «terror» и «horror». Об этом см., напр.: Орел В.Э. Еще раз о
Страхе и Ужасе // Палеобалканистика и античность. М., 1989; Varma D. The
Gothik Flame. L., 1957. P. 130-132. В политический лексикон Европы слово
«террор», согласно наблюдениям исследователей, вошло еще в XIV в., когда
на французский были переведены сочинения Тита Ливия, однако во време-
на Монтескье широкого распространения оно еще не получило. См., наир.:
Floresku R., McNally R. Drakula: A Biography of Vlad the Impaler: 1431-1476.
N.Y., 1973. P. 177.
’ Paine Th. Rights of Man // The Completed Writings: 2 v. N.Y., 1945. V. 1.
P. 266.
6 См.: Марат Ж.П. Избр. пр.; в 3 т. М„ 1956. Т. 2. С. 360.
7 Марат Ж.П. Указ. соч. Т. 3. С. 305-306. О «терроре» марсельцев см. так-
же: Кропоткин П.А. Неликая французская революция 1789-1793. М., 1979.
С. 260.
к Chenier A. Oeuvres completes. Р„ 1950. Р. 322.
4 Ibid. Р. 332.
10 Ibid. Р. 360.
" Lefebvre G. La grande peur de 1789. P., 1932. P. 187; Февр Л. Бои за исто-
рию. М, 1991. С. 414-421.
12 См., напр.: Документы истории Великой французской революции: в 2 т.
М., 1990. Т. 1. С. 144-148.
13 Caron Р. Les massacres de septembre. P., 1935. P. 98-101.
H Caron P. La premiere terreur (1792). I. Les missions du Conseil Executif
provisoire et de la Commune de Paris. P., 1950. P. 141.
15 Документы истории Великой французской революции. Т. 1. С. 203.
См.: Caron Р. Les massacres de septembre. P., 1935. P. 246. Почти два
столетия культивировавшаяся легенда о якобинцах как революционерах-
праведниках оказалась настолько живучей, что и сейчас обвинение Данто-
на и его соратников в причастности к «сентябрьским убийствам» вызывает
протест у российских ученых. Ср.: Александров Н„ Одесский М. Пламенные
революционеры — 4: Шарлотта Корде и Татьяна Леонтьева // Независимая
газета. 1992. 31 июля. С. 8.
17 Rude G. The Crowd in the French Revolution. Oxford, 1960. P. 242-257;
Rude G. Crowd in History: A Study of Popular Disturbances in France and Eng-
land: 1730-1848. N.Y., 1964. P. 106, 211-212.
Is Buchez P„ Roux P. Histoire parlementaire de la Revolution fran<;aise, ou
Journal des assemblies nationales depuis 1789 jusqu’en 1815: 40 v. P., 1835. V. 17.
P. 432.
58
Марат Ж.П. Указ. соч. Т. 2. С. 222-223.
211 Там же. Т. 3. С. 78.
21 Там же. Т. 2. С. 176.
22 Там же. С. 185.
21 Там же. С. 235.
21 Там же. Т. 3. С. 104.
25 Там же. С. 121.
2<i Там же. С. 159.
27 Беркова К.Н. Процесс Людовика XVI. Пг., 1920. С. 32.
23 Там же. С. 83.
29 Там же. С. 50.
Там же. С. 57 (ср.: Robespierre М. Textes choisis. Р., 1957. V. 2. Р. 71).
" Там же. С. 136.
12 Там же. С. 50.
:й Карлейль Т. Французская революция: История. М., 1991. С. 413.
11 Беркова К.Н. Указ. соч. С. 42.
35 Там же.
30 Там же. С. 50.
17 Кропоткин П.А. Великая французская революция 1789-1793. М., 1979.
С. 183.
33 О принципиальном различии характера американской и французской
революций. См.: Arendt Н. On Revolution. Harmondsworth, 1977. Р. 141-178;
Raynaud Р. Revolution fran<?aise et revolution americaine // Heritage de la Revo-
lution fran^aise. P., 1988. P. 35-55.
19 Лафарг П. Язык и революция. М.; Л., 1930. С. 26, 86.
1 (1 Фельдман Д.М. Нужен ли нам палач? // Даугава. 1990. № 7. С. 100—
101.
11 Державин К.Н. Борьба классов и партий в языке Великой французской
революции //Язык и литература. Л., 1927. Т. 2. Вып. 1. С. 41.
12 Mosse С. L’Antiquite dans la Revolution franfaise. P., 1989. P. 95-97,120—
121.
13 Chenier A. Op. cit. P., 1950. P. 339.
11 Цит. no kh.: Mosse C. Op. cit. P. 65.
15 Mosse C. Op. cit. P. 133-134.
“ Державин К.Н. Указ. соч. С. 50.
17 Mosse С. Op. cit. Р. 136. А.И. Герцен, высмеивая приверженцев тра-
диций 1794 г., создал собирательный образ некоего буржуа, в прошлом
«темного сподвижника Сантера, солдата армии Марсо и Гоша, гражданина
Спартакюса-Брютюса-жюниора, детски верного своему преданью и гор-
до держащего лавочку рукой, которой держал пику с фригийской шапкой»
(Собр. соч.: в 30 т. М„ 1959. Т. 16. С. 152).
ГЛАВА IV
Государственный террор: бессилие добродетели
После завершения процесса Людовика XVI якобинцы не собира-
лись останавливаться на достигнутом, нужно было максимально ра-
дикализовать систему судопроизводства, приспособить ее к нуждам
террора в масштабах государства. Стратегические задачи здесь соот-
ветствовали тактическим: борьба за радикализацию судопроизвод-
ства революции ради способствовала нагнетению массовой истерии,
необходимой для давления на жирондистов.
10 марта 1793 г. Дантон требует в Конвенте немедленно создать
Революционный трибунал для принятия «самых решительных мер»
против контрреволюционеров.
Свое предложение один из самых популярных якобинских ли-
деров аргументировал так: «Спасение народа требует применения
серьезных средств и чрезвычайных мер. Я не вижу середины между
обычными формами судопроизводства и революционным трибуна-
лом». Дантон пугал Конвент повторением «стихийной» резни на-
подобие «сентябрьских убийств», что, по его словам, удалось бы
предотвратить и в 1792 г., если б своевременно был учрежден Рево-
люционный трибунал, непосредственно выражающий волю народа.
«История, — угрожал он, — подтверждает эту истину, а так как в этом
собрании осмелились напомнить те кровавые дни, о которых скорбят
все добрые граждане, то я скажу, что если бы тогда существовал три-
бунал, то народ, который так часто и жестоко упрекали за эти дни, не
запятнал бы их кровью; я скажу — и со мной согласятся все те, кто
был свидетелем этого движения — что никакая человеческая сила не
могла бы остановить бурный поток народного мщения». «Мы,— при-
зывал Дантон, — будем сами применять террор, чтобы избавить народ
от необходимости его применения; мы организуем трибунал не иде-
альный, ибо это недостижимо, но возможно менее несовершенный,
чтобы меч закона висел над головой всех врагов»1.
Примечательно, что учреждению Революционного трибунала
решительно воспротивились жирондисты. На первый взгляд это
может показаться странным: еще в августе 1792 г. они, свергнув ко-
роля, вместе с якобинцами сформировали для расправы с роялиста-
ми именно трибунал.
Как известно, термин «трибунал» в европейской юриспруденции
употреблялся по отношению к судам, наделенным чрезвычайными
полномочиями или действующими в исключительных обстоятель-
ствах. Название указывало на возможность нарушений буквы зако-
60
на «в интересах народа», и жирондисты это одобряли. Определение
«революционный» само по себе тоже не могло бы шокировать: по-
нятие «революция» было сакральным. Что же тогда насторожило
жирондистов?
Современники понимали причину: термин «революция» обрел
новое значение. И если в 1776-1789 гг. революция осмыслялась как
событие, результат которого — переход к принципиально новому
политическому режиму, то в 1793 г. революцией называли длитель-
ный процесс борьбы за утверждение такого режима. В связи с этим
близкий к жирондистам философ Кондорсе отмечал появление но-
вого прилагательного — «революционный»2. Будучи соотнесенным
с названием, к примеру, государственного учреждения, определение
указывало: данное учреждение борется, точнее, продолжает борьбу
за победу революции, т. е. наделено чрезвычайными полномочиями.
Слова «революционный» и «чрезвычайный» стали синонимами. Сле-
довательно, сочетание «революционный трибунал» понималось как
«чрезвычайно-чрезвычайный суд», продолжающий борьбу за победу
революции. По отношению к жирондистам целью продолжающейся
революции было бы оттеснение их от власти якобинцами, для чего и
понадобился «чрезвычайно-чрезвычайный суд».
Исход полемики о создании Революционного трибунала отразил
тогдашнее соотношение сил среди радикалов: с одной стороны, пред-
ложение Дантона реализовали, с другой стороны, трибунал все-таки
не получил название революционного.
Почти одновременно с Дантоном другой идеолог террора — Ма-
рат — предложил реформировать не только судопроизводство, но и
в целом управление государством, ориентируясь на превентивное
устрашение. Он выдвинул идею формирования двух комитетов —
«общей безопасности» и «общей обороны», наделенных чрезвычай-
ными полномочиями, главным образом, карательного характера.
Согласно Марату, ради спасения революции надлежало еще и учре-
дить институт «заложничества», арестовывая «родствеников, жен и
детей» известных и потенциальных контрреволюционеров3. Таким
образом, «Друг народа» описал универсальную систему борьбы с вра-
гами внутренними и внешними.
Одна из организаций, о которых писал Марат, уже существова-
ла — Комитет общественной безопасности, созданный совместно жи-
рондистами и якобинцами. Вторая организация возникла сразу после
предложения Марата — Комитет общественного спасения. Замена
конкретной «обороны» всеобъемлющим «спасением» свидетельство-
вала о намерении беспредельно расширить функции нового коми-
тета. Речь шла уже не о чрезвычайном военном министерстве, но об
универсальной управленческой структуре мессианского характера.
61
Монополизировав власть в результате переворота 31 мая — 2 июня
1793 г., якобинцы имели уже аппарат для проведения государствен-
ного террора. Нес нуля начинали. Именно это и подразумевал И. Тэн:
«Благодаря импровизировыанному террору якобинцы удержали
свою нелегальную власть, благодаря затянувшемуся террору они
установят свою легальную власть»1. Но если до переворота устрашае-
мы были представители соперничающей группировки в коалицион-
ном правительстве, их сторонники и роялисты, то после — социум в
целом.
Весьма важно, что к перевороту якобинцы шли под лозунгом
скорейшего принятия новой «истинно народной» конституции, об-
виняя своих противников в злокозненном затягиваниии решения,
ради которого, собственно, и был созван Национальный Конвент.
Под давлением Парижской коммуны, угрожавшей, как водится, гне-
вом вооруженного народа, Конвент постановил лишить жирондистов
депутатской неприкосновенности и подвергнуть домашнему аресту,
что и ознаменовало начало якобинской эпохи. Три недели спустя
новая конституция была торжественно принята, затем утверждена
посредством плебисцита. А через два месяца официально отменена в
связи с введением «временного революционного управления», необ-
ходимого, по объяснению якобинцев, для спасения отечества в чрез-
вычайных обстоятельствах. Переход к диктатуре, базирующейся на
государственном терроре, завершился.
Подчеркнем: государственный террор проводился еще при коа-
лиционном правительстве, потому дальнейшую интенсификацию
превентивного устрашения не следует считать непосредственным
результатом якобинского переворота. Обе соперничавшие группи-
ровки были террористическими, что они успели доказать, действуя
порознь: якобинцы — в масштабах всей республики, а жирондисты,
к примеру, — в Лионе. Подняв там мятеж летом 1793 г., жирондисты
сразу же начинают репрессивную кампанию, создав для этого Рево-
люционный Лионский трибунал. В данном случае характерно, что
инструмент террора получает название, известное по эпохе союза с
якобинцами, у террористов — один метод, а потому общая знаковая
система.
Наиболее четко суть излюбленного управленческого метода выра-
зил Робеспьер в Конвенте 5 февраля (18 плювиоза) 1794 г. «Если, —
объяснял он, — в мирное время орудием народного правления
является добродетель, то во время революции орудием его являют-
ся и добродетель, и террор одновременно: добродетель, без которой
террор гибелен, террор, без которого добродетель бессильна. Террор
62
есть не что иное, как быстрая, строгая, непреклонная справедливость;
следовательно, он является проявлением добродетели, он не столь-
ко особый принцип, сколько вывод из общего принципа демократии,
применяемого отечеством в крайней нужде»5.
Легко заметить, что Неподкупный опирается на учение Мон-
тескье об основополагающих государственных принципах, где для
республики в качестве такового названа «добродетель», а для деспо-
тии — «страх» или «террор».
Однако интерпретировано это учение весьма вольно. Будучи, как
отмечал Ж. Сорель, «строгим юристом, преисполненным сознания
своего долга, озабоченным, как бы не уронить звание адвоката»6, Ро-
беспьер понимал, что тождественность добродетели и превентивно-
го устрашения (террора) по меньшей мере не очевидна, а коль так,
то и государственный строй, утверждаемый в якобинской Франции,
трудно назвать республиканским. Противоречие снималось казуи-
стически: террор — опора добродетели, а Франция — подлинная ре-
спублика, вот только основополагающий государственный принцип
ей приходится отстаивать в экстремальных условиях (в «осажденной
крепости»), чем и обусловлены все настоящие и будущие эксцессы.
Тот же тезис отстаивает и Сен-Жюст в речах 1794 г.7 Высказыва-
ние Робеспьера уже стало своего рода манифестом государственной
политики превентивного устрашения.
Давая определение террору, Неподкупный стремился сформули-
ровать «теорию революционного правительства», которая не своди-
лась бы к положениям Монтескье, но была бы «так же нова, как и
революция, ее породившая»8. В привычных терминах бывший адво-
кат описал явление, совершенно новое в государственной практике.
Во-первых, отныне основой управления вообще и юстиции в частно-
сти становится превентивное устрашение, что открыто декларируется
и реализуется. Во-вторых, дабы обосновать сохранение правитель-
ством чрезвычайных полномочий, постоянно нагнетается массовая
истерия. Но это уже не истерия неповиновения, как при терроре тол-
пы, а истерия солидарности с правительством — единственной защи-
той нации от врагов внешних и внутренних.
Классическое выражение «государственный террор» получил,
к примеру, в декрете Конвента о «подозрительных» (17 сентября
1793 г.), согласно которому преступниками, подлежащими каре, объ-
являлись те, кто в силу происхождения или иных причин имел осно-
вания (даже не умысел) быть нелояльным9.
Доктрина Робеспьера — свидетельство того, что окончательно
утвердилась новая модель осмысления идеологемы «революция», от-
личная от прежней, «американской».
63
Модель II: 1793
Рис. 4
Согласно первой модели революция — итоговое событие, свер-
жение несправедливой власти. Согласно второй — непрерывный
процесс всеобъемлющей реорганизации общества, осуществляемый
революционным правительством в чрезвычайных обстоятельствах.
Революция, совершаемая по первой модели, обосновывалась идеей
борьбы за «естественные права». В случае выбора второй модели
реализация каждым членом социума своих прав откладывалась до
преодоления чрезвычайных обстоятельств, мешающих победе ре-
волюции.
Рис. 5
64
Соответственно, изменился и объективный смысл революции. По
первой модели — это построение общества бюрократического типа,
где все граждане равны перед законом. По второй — построение тота-
литарной разновидности бюрократического общества, т. е. социума,
где все граждане равно беззащитны перед законодательно утверж-
денным всевластием революционного правительства.
Кстати, хоть термин «тоталитаризм» и появился лишь в XX в., но
уже современники якобинской диктатуры симптоматично использо-
вали применительно к революции определение «тотальная».
Технология устрашения
Декретом Конвента от 19 вандемьера (10 октября 1793 г.) во
Франции был установлен «временный революционный порядок
управления». Необходимость революционного, т. е. чрезвычайного,
режима обосновывалась чрезвычайными обстоятельствами: военным
противостоянием революционной Франции Австрии, Великобрита-
нии, Пруссии и др. странам I коалиции.
В основе декрета была идея «осажденной крепости»: прави-
тельству якобинцев предоставлялись ничем не ограниченные
полномочия, а действие якобинцами же принятой Конституции
приостанавливалось. Характерно, что якобинцы шли к власти имен-
но под лозунгом принятия «справедливой» конституции, но, запо-
лучив эту власть, сочли, что собственная Конституция — помеха,
поскольку «интересы революции» требуют применения чрезвычай-
ных мер в течение пока еще неопределенного срока. «Временное
правительство Франции, — гласил декрет, — будет революционным
до заключения мира». Иначе говоря, правительство, объявив себя
революционным, объявило себя несменяемым.
Комитет общественного спасения получил от Конвента неогра-
ниченную власть: маратовскому детищу подчинялись «министры,
генералы и все учреждения». Даже главнокомандующие назначались
Конвентом «по представлению Комитета общественного спасения».
Указывалось также, что «всякая мера общественной безопасности»
должна приниматься правительством «с утверждения Комитета»"’.
Решения Комитета общественного спасения реализовывал Коми-
тет общественной безопасности, в задачи которого входили розыск
и арест подозреваемых, а роль вершителя правосудия в этой схеме,
изобретенной террористами, отводилась трибуналу, который, нако-
нец, по воле победителей стал Революционным. Настаивая на этом
названии, один из наиболее агрессивных якобинских лидеров —
Ж.Н. Бийо-Варенн — писал в связи с процессом жирондистов: «Когда
вы создали трибунал, долженствующий судить заговорщиков, то мя-
65
тежная шайка, главные вожди которой понесут наказание, сообраз-
ное их преступлениям, прибегла ко всякого рода уговорам для того,
чтобы этот трибунал получил название чрезвычайного трибунала: у
них была своя цель — они хотели связать его формальной стороной
дела. Но мы, желающие, чтобы он судил по-революционному, назы-
ваем его революционным».
Формулируя основы «революционного правосудия», Бийо-
Варенн призывал: «Проникнитесь той истиной, что заговорщики со-
вершенно не оставляют материальных следов своих преступлений.
Свидетели дают показания об отдельных фактах, но какая нужда
в свидетелях при наличии заговора, засвидетельствованного всем
народом?» Соответственно, трибуналу надлежало проявлять мак-
симальную жестокость. «Вспомните, — буквально заклинал Бийо-
Варенн, — слова Саллюстия: “При заговоре нельзя быть достаточно
строгим”. Слабость губит революцию»".
Трибунальские полномочия постоянно расширялись, и в итоге
Декрет Конвента от 22 прериаля (10 июня 1794 г.) предельно упро-
стил судебную процедуру, сведя ее к чистой формальности. Объ-
являть «врагами народа» — а значит, казнить — следовало всякого,
«кто старается либо силой, либо хитростью посягнуть на народную
свободу», в чем бы ни выражалось «посягательство». Равным обра-
зом, казни подлежали все, «кто пытаются унизить или уничтожить
Народный Конвент», а в качестве «унижения» Конвента можно было
рассматривать все, что угодно. «Единственным руководством для
вынесения приговора, — гласил Декрет, — должна быть совесть при-
сяжных, просветленнная любовью к отечеству; их целью является
торжество Республики и гибель ее врагов»’2.
Примечательно, что этот декрет принят, так сказать, на гребне оче-
редной волны массовой истерии, причем именно истерии солидарно-
сти с правительством. 1 прериаля (20 мая 1794 г.) было совершено
покушение на жизнь Робеспьера, а потому ужесточение репрессий
мотивировалось как бы волеизъявлением народа: «Если Большой
Террор, — указывает Ж. Лефевр, — последовал за Декретом от 22 пре-
риаля, то глубинные причины следует искать не в самом Декрете и
не в той практике, что он обусловил, а в возбужденном стремлении
к возмездию, которое спровоцировало покушение, поскольку, —
утверждает авторитетный французский историк, — именно так всегда
и происходило с 1789 г., когда распространился страх перед загово-
ром аристократов»13.
Декрет окончательно избавил Революционый трибунал и от не-
обходимости устанавливать факт преступления, и от исследования
доказательств вины подсудимого. Если ранее onus probandi — «бре-
мя доказывания» — возлагалось на обвинение, то теперь подсудимый
66
должен был сам доказывать свою невиновность, к чему, кстати, и
призывал Бийо-Варенн.
Суть отношения «революционной юстиции» к «бремени доказы-
вания» эффектно выразил Робеспьер: «Когда речь идет о спасении
отечества, то доказательство, основанное на свидетельских показа-
ниях, не может заменить свидетельство вселенной, а доказательство,
основанное на документе — саму очевидность»11. Соответственно,
едва ли не каждого гражданина могли признать уличенным в «пре-
ступлении против революции», причем вне зависимости от тяжести
преступления Революционный трибунал мог приговорить подсуди-
мого к смертной казни. Располагая таким аппаратом, правительство
использовало террор для решения практически любой проблемы.
К примеру, одной из самых актуальных считалась проблема про-
довольственного снабжения, в связи с чем еще в апреле 1793 г. якоби-
нец П.Н. Филиппо предлагал в Конвенте: «Прежде всего нам следует
считать, что Франция, в настоящем ее положении, подобна осажден-
ному городу и что все живущие в этой крепости обязаны по высшему
долгу помогать друг другу; а тот, кто отказывается в подобном случае
поделиться со своими братьями тем, что у него есть, — предатель, по-
собствующий вражеским козням. К такому недоброжелателю следу-
ет применять соответствующие обстоятельствам законы». В данном
случае, рассуждал Филиппо, не пристало «разглагольствовать изби-
тыми фразами о праве собственности, ибо речь идет о спасении всех
осажденных. И что станется с этой собственностью, если успехи врага
поведут к потере всего? Что же, перед лицом общей опасности пожерт-
вовать всеми, подставить голову под топор врага и не воспротивиться
алчности одного или нескольких членов нашего семейства?»1’
Обосновав нуждами «осажденной крепости» необходимость
грабежа вообще, Филиппо перечислил и конкретные меры: «Пусть
административные органы получат право реквизировать съестное и
доставлять его на рынки; пусть, дабы помешать пагубным действи-
ям и спекулятивным действиям скупщиков, зерно продается толь-
ко на общественных рынках; пусть благодаря этой исключительной
мере там возродится изобилие и постепенно снизится цена на хлеб;
пусть, дабы облегчить властям реквизиции, каждому земледельцу
будет вменено в обязанность сообщать в канцелярию своего му-
ниципалитета точный перечень продуктов питания, которыми он
располагает», ну а всякий «уклонившийся от требований органов
народной власти и тот, кто подаст неверные сведения, понесут на-
казание путем конфискации имущества и даже поражения в правах
как враги отечества».
Весьма перспективным показалось и упомянутое Филиппо в той
же речи установление твердых цен — «максимума» — на «товары пер-
67
вой необходимости», т. е. прежде всего продовольствие: никто под
страхом наказания не имел права не только продавать, но и покупать
по цене, выше установленной правительством.
Все эти предложения вскоре были реализованы в соответствую-
щих правительственных актах, непосредственно же реквизиции про-
водились подразделениями так называемой Революционной армии,
созданной согласно Декрету от 5 сентября 1793 г."’ По сути, это была
не армия (хоть Декрет предусматривал даже наличие артиллерии),
а организованные на военный манер отряды горожан-добровольцев,
причем главным их оружием был страх крестьян перед беспощадным
Революционным трибуналом.
Вопросы обеспечения сельского хозяйства дополнительной ра-
бочей силой также предполагалось решать директивно, посредством
некоего подобия рекрутских наборов, виновные в уклонении от ко-
торых подлежали суду Революционного трибунала. Ну а возмож-
ности избавления от финансовых проблем правительство видело в
добровольно-принудительных государственных займах17.
Аналогичным был подход к проблеме обеспечения армии, в част-
ности, снабжения сукном. Согласно специально принятому декрету,
«всякий гражданин, владеющий синими и голубыми плащами», обя-
зывался «сдать их муниципалитету той местности, где он находится»,
а иначе он подлежал смертной казни, родственники же приравнива-
лись к «подозрительным»18, что и было реализацией маратовской
идеи о «заложничестве».
Пожалуй, главную управленческую установку якобинцев наи-
лучшим образом сформулировал «финансовый гений» Комитета
общественного спасения П.Ж. Камбон: «Хотите ли вы заниматься
своими делами? Гильотинируйте! Хотите ли вы оплачивать необъ-
ятные расходы ваших армий? Гильотинируйте! Хотите ли вы выдер-
жать неоплатные долги, которые вами сделаны? Гильотинируйте!
Г ильотинируйте!»19
Устрашение ad infinitum*
Когда правительство переходит к государственному террору,
казнь сама по себе уже не воспринимается как мера экстраординар-
ная, в силу чего стабильность устрашения может обеспечиваться
только за счет количества и массовости акций. Тенденция эта наи-
более отчетливо проявилась в провинциях, куда центр посылал
«чрезывычайные миссии», представители которых — «комисса-
* До бесконечности (лат.).'
68
ры» — буквально состязались друг с другом, постоянно увеличивая
число жертв. Энтузиазм карателей сдерживался чисто технически-
ми факторами, потому приходилось изобретать: в Нанте, например,
Ж.Б. Каррье топил баржи с арестованными, а в Лионе Ж. Фуше рас-
стреливал группы узников из пушек.
Приближение к пику истерии солидарности выразилось и в ха-
рактерном для периода якобинской диктатуры аксиоматическом
отождествлении нейтралитета с враждебностью. Сен-Жюст, напри-
мер, призывал членов Конвента «наказать тех, кто пассивен и ничего
не делает для Республики», уничтожать «не только предателей, но
даже самих равнодушных»2".
Якобинское правительство постоянно требовало от граждан
подтверждения преданности, и недостаточная агрессивность по от-
ношению к «врагам народа» могла быть сочтена проявлением контр-
революционности. По меткому выражению Тэна, гражданам респу-
блики был предъявлен ультиматум: «Между вами те — заговорщики
и контрреволюционеры, которые не захотят быть палачами»21.
Террор распространялся не только «вширь», но и «вверх». Пра-
вительство, увеличивая масштабы репрессий ради стабильности эф-
фекта устрашения, как бы само подсказывало социуму: если «врагов
народа» не становится меньше и действуют они все активнее, значит,
у них много влиятельных покровителей. Массовая истерия, свой-
ственная модели «осажденной крепости», порождала вполне после-
довательное объяснение — изменники в высшем руководстве.
Эта ситуация провоцировала обострение борьбы за власть среди
идеологов и вождей революции: удачной интригой можно было от-
править на эшафот самого авторитетного конкурента, благо институт
привилегий ликвидирован, высокое общественное положение — не за-
щита, социум же одобрит любую казнь, стоит лишь объявить жертву
контрреволюционером. И вот жирондистов — Верньо, Жансонне и
других «пламенных трибунов республики», поднимавших парижан на
штурм Тюильри, — судят и казнят недавние союзники, затем следует
череда аналогичных процессов: осуждены и гильотинированы руково-
дители Парижской коммуны, некогда обеспечивавшие террор толпы,
после чего на эшафот попадают организаторы «якобинского терро-
ра» — Дантон, Демулен, Филиппо, участь которых решают в Комитете
общественного спасения ближайшие соратники — Робеспьер, Сен-
Жюст, Бийо-Варенн, да и те уже видят главных врагов друг в друге.
Иначе быть не могло: для прорвавшихся к власти максимальную
опасность представляли именно сподвижники, а не противники. По-
тому напряженность в Комитете общественного спасения нарастала,
и вскоре после казни «дантонистов» Робеспьер прямо на заседании
обвинил коллег в подготовке заговора. «Теперь я тебя знаю», — ска-
69
зал он, обращаясь, в частности, к Бийо-Варенну. На столь прозрачый
намек обвиняемый реагировал адекватно: «Ия тебя знаю, ты —
контрреволюционер»22.
Очередная «чистка» приближалась. Но Неподкупный упустил из
виду, что у коллег был в этом отношении достаточный опыт. 9 тер-
мидора (27 июля 1794 г.) несколько кандидатов на гильотину, объ-
единившись, потребовали в Конвенте немедленного ареста группы
Робеспьера и Сен-Жюста как новых деспотов, узурпаторов, заговор-
щиков, предавших «родину и свободу». Конвент, тоже изрядно запу-
ганный, санкционировал арест, попытка «робеспьеристов» нанести
ответный удар, опираясь на Парижскую коммуну, не удалась, и не-
давних «вождей нации», объявленных вне закона, казнили без суда в
качестве мятежников.
Фазы террора
Термидорианский переворот принято считать антиякобинским,
поскольку победители уничтожили прежних лидеров и отреклись от
террора.
С одной стороны, так и есть: уничтожили и отреклись. А с дру-
гой — переворот совершен якобинскими же лидерами, ранее прово-
дившими государственный террор ничуть не менее последовательно,
чем робеспьеристы. Значит, качественный состав правящей группи-
ровки не изменился. Если же говорить о методе управления, то и здесь
наблюдаются изменения скорее количественного, чем качественного
характера.
Чисто эмпирически термидорианцы обнаружили жизненно важ-
ную для них закономерность: террор на стадии ad infinitum не эффек-
тивен, поскольку опасен уже и для руководителей. Каждый из них,
перефразируя Дантона, мог тогда сказать о себе: «Гильотинирую,
чтобы не быть гильотинированным». Процесс глобальной гильоти-
низации надлежало замедлить.
Ради этого пришлось устранить Робеспьера и умерить размах ре-
прессий, что, кстати, позволило вывести осмысление переворота за
рамки обычной якобинской интриги. Но удерживать власть, отка-
завшись — не на словах, а на деле — от основополагающего государ-
ственного принципа, левые радикалы не могли. На этом принципе
она зиждилась. О чем и сказал А.К. Тибодо в Конвенте: «Если ис-
ключить тиранию, которую проявляло старое правительство, то оно
было хорошим». Тиранией оратор именовал расправы со «своими»,
прочее не смущало23.
Отдалив перспективу самоистребления в ходе конкуренции, по-
бедители приступили к ликвидации главного источника опасно-
70
сти — непомерного могущества Комитетов общественного спасения,
обществнной безопасности и Революционного трибунала. Власть
следовало распределить заново. Разумеется, распределяли ее среди
той же «новой элиты», в связи с чем деятельность Комитетов поста-
вили под жесткий контроль Конвента21. Затем были отменены наи-
более одиозные постановления эпохи Робеспьера (например, закон
от 22 прериаля, «максимум» и т. п.), наделявшие Революционный
трибунал практически неограниченными полномочиями.
Но, рассредоточив власть, термидорианцы позаботились о со-
хранении в сознании социума модели «осажденной крепости», не-
обходимой для государственного террора. Вот почему реформы не
коснулись антиэмигрантского законодательства, неразрывно связан-
ного с этой моделью.
До 1789 г. эмигрантами обычно называли уезжавших в Новый
Свет, и никаких отрицательных коннотаций термин не имел2’. Си-
нонимами слова «эмигрант», «роялист» и «контрреволюционер»
стали благодаря массовой истерии: предполагалось, что покинуть
революционную Францию, т. е. «осажденную крепость», стремятся
только враги.
Наличие антиэмигрантского законодательства давало термидо-
рианцам возможность объявлять пособниками эмигрантов реальных
или потенциальных противников и расправляться с ними не менее
решительно, чем при Робеспьере, даже после принятия новой Кон-
ституции.
Таким образом, механизм государственного террора был не уни-
чтожен, а лишь трансформирован. Победители нашли способ ре-
гулировать его ход. Террор то нарастал, то вновь «тормозился»
посредством мини-термидора, затем процесс повторялся сообразно
конкретным задачам управления. И случалось, что среди жертв опять
оказывались представители «новой элиты»: к примеру, Бийо-Варенн,
которого бывшие коллеги сослали в Кайенну — «на сухую гильоти-
ну», по тогдашнему выражению.
Чередовние «детерроризация»/«ретерроризация» продолжалось
до бонапартистского переворота 18 брюмера. Это чередование — суть
термидора как фазы государственного террора. В отличие от фазы
ad infinitum, когда масштабы репрессий и массовая истерия посто-
янно и стремительно возрастают. Стало быть, совершив переворот,
якобинцы все же остались якобинцами.
Зато пропагандистское оформление режима и впрямь карди-
нально изменилось. Декларативное отречение от предшественников
обусловило попытки термидорианцев предать забвению все, что в
массовом сознании ассоциировалось с террором: учреждения, орга-
низации и даже конкретных лиц, чьи имена сами по себе считались
71
символами робеспьеристской эпохи. Якобинский клуб был закрыт,
запрещен культ Марата, прекращено издание его собрания сочине-
ний (предпринятое ранее по решению Конвента), изображения «Дру-
га Народа» вынесены из присутственных мест, прах — из Пантеона,
руководство Революционного трибунала во главе с Фукье-Тенвилем
гильотинировано. Специальным декретом 12 июня 1795 г. термидо-
рианское правительство запретило употребление эпитета «револю-
ционный» по отношению к государственным учреждениям26.
Но если определение «революционный» табуировалось законо-
дательно, то само понятие «революция» по-прежнему оставалось са-
кральным. Свержение робеспьеровской диктатуры термидорианцы в
свою очередь именовали революцией, а диктатуру — отклонением от
правильного пути27.
Аномалиям террора противопоставляли норму — революцию,
защищаемую «честными патриотами», т. е. термидорианцами. По-
бедители подчеркивали, что режим стабилен, а террор - отнюдь не
основополагающий государственный принцип, но результат деспоти-
ческих устремлений и прямой измены. Потому термин использовался
исключительно для обозначения контрреволюционной деятельно-
сти. Появился даже терминологический монстр «1е terrorisme et le
royalisme reunis» — «террористско-роялистский блок», и Робеспьера
уподобляли казненному Людовику XVI, называя обоих «les chefs de
la tyrannie» — «главами тирании»26.
Разумеется, право решать, кого признать пособником эмигрантов
и террористом, а кого избавить от подобных обвинений, принадле-
жало только термидорианцам. И это позволяло им буквально терро-
ризировать возможных оппонентов в Конвенте, где практически все
были причастны к репрессиям. Недаром очередной пособник врага
внешнего — «Нантский наместник» Каррье — так и заявил парламен-
тариям: «Тут виновны все, вплоть до звонка председателя!»29 Правота
Каррье была очевидна, и не исключено, что именно по этой причине
соратники отправили его на гильотину.
Падение Неподкупного вывело из-под запрета английские анало-
гии, причем не только «славную революцию», нои события эпохи «ве-
ликого бунта». И если раньше сопоставление Робеспьер — Кромвель
было неуместно в официальной пропаганде, поскольку напоминало
о Реставрации, то теперь можно было считать, что вероятность ее не-
велика, о чем, собственно, и сказал Д.Т. Лезаж в Конвенте: «У нас уже
был свой Кромвель, обойдемся же, по крайней мере, без своего Карла
II»30. Соответственно, получил хождение глагол «cromvelliser» — от-
стаивать политическую систему Кромвеля31, что инкриминировали
робеспьеристам.
72
Напротив того, левые оппоненты термидорианцев, еще недавно
приветствовавшие гибель робеспьеристов, канонизировали вождей
террора, в связи с чем предпочитали пропагандировавшиеся при Не-
подкупном античные параллели.
Бабеф, например, говорил о себе и своих соратниках по заговору
как о «вторых Гракхах Французской революции», подразумевая, что
первыми Гракхами той революции были якобинцы. «Ныне я чисто-
сердечно признаю, — писал он, — что упрекаю себя в том, что некогда
чернил и революционное правительство, и Робеспьера, и Сен-Жюста,
и других. Я полагаю, что эти люди сами по себе стоили больше, чем
все остальные революционеры, вместе взятые, и что их диктаторское
правление было дьявольски хорошо задумано»32.
Организацию, которой надлежало руководить антиправитель-
ственным восстанием, бабувисты назвали «Тайной директорией об-
щественного спасения»33. Здесь слово «директория» соотносилось с
названием органа исполнительной власти в термидорианской Фран-
ции, а сочетание «обществнное спасение» явно напоминало о некогда
всемогущем Комитете.
Отметим, что, признавая террористический Комитет обществен-
ного спасения образцом, «новые левые» в то же время называли
термидорианские репрессии «белым террором», т. е. террором пособ-
ников роялистов31. Скомпрометированность идеологемы принима-
лась в расчет всеми.
Бабувисты вообще выворачивали наизнанку официальную ин-
терпретацию термидорианского переворота. Если официально при-
знавалось, что побежденные — контрреволюционеры, то для левой
оппозиции контрреволюционерами были победители. Вот почему
можно сказать, что спорили приверженцы одной идеологии, в осно-
ве которой — принцип сакральности революции. Соответственно, и
для бабувистов, и для термидорианцев слово «контрреволюционер»
было бранным.
Ну а точку зрения всех неприемлющих эту систему ценностей
афористически сформулировал Ж. де Местр: «Одни злодеи погуби-
ли других»33.
Однако вне зависимости от истолкования смысла переворота сам
термин «термидор» прилагался исключительно к событиям 9 тер-
мидора — конкретному эпизоду Великой французской революции.
Обобщенно-типологическое значение термин приобрел лишь в XX в.
благодаря концепциям русских революционеров31’.
Негативное отношение термидорианцев к идеологеме «террор»
было усвоено и последующими режимами — от Бонапарта до Рестав-
рации. Слово оказалось настолько скомпрометированным, что более
73
четверти века в общественном сознании оно ассоциировалось преи-
мущественно с кровавыми беззакониями робеспьеристской эпохи.
Исключения были немногочисленны и относились прежде все-
го к деятельности заговорщиков — тех, кто считал главной задачей
свержение Наполеона I, а позже — Бурбонов. Наиболее авторитет-
ным лидером подобных заговоров стал Ф. Буонарроти, бывший
комиссар Конвента, сподвижник Бабефа. Многочисленные конспи-
ративные организации, которые он создавал и возглавлял, отразили
очередной этап в истории формирования революционнй менталь-
ности: осознание того, что революцию надо всемерно приближать, а
не пассивно ожидать «стихийного волеизъявления народа». Вот по-
чему историки называли Буонарроти «первым профессиональным
революционером»17.
Мы не собираемся спорить об истинности или ложности такого
рода выводов. Для нас важно лишь то, что утверждению в обществен-
ном сознании термина «революционер» предшествовало утвержде-
ние терминов «революция» и «революционный».
Это вполне закономерно. До 1789 г. революция понималась как
событие, после — как процесс. В силу чего и возникла потребность
в термине «революционный» для обозначения учреждений, ведущих
перманентную борьбу во имя победы нового режима. В условиях же
частичной реставрации «старого порядка» за прилагательным «ре-
волюционный» должно было появиться существительное «револю-
ционер», поскольку продолжалась деятельность тех, кто занимался
подготовкой новой революции.
Революционер, по определению, разрушитель «старого порядка».
В общественном сознании он противопоставлен администратору-
чиновнику, государственному служащему. Парадокс здесь в том, что
революционер — такой же администратор. Действует он вне рамок
государственной административной системы, поскольку ставит зада-
чу ее разрушения, однако задача эта — управленческая. И разрушение
«старого порядка» — отнюдь не самоцель, а лишь этап на пути реали-
зации альтернативной управленческой модели. Соответственно, ре-
волюционная конспиративная организация — не просто инструмент
захвата власти, но еще и своего рода школа, где обучаются будущие
администраторы революционного государства.
Описание такой образцовой «кузницы кадров» предложил Буо-
нарроти, издав в 1828 г. книгу «Заговор во имя равенства». Эта апо-
логия терроризма и бабувизма быстро завоевала популярность среди
левых экстремистов.
Отметим, что именно среди экстремистов: большинство интеллек-
туалов ориентировалось на труды тоже оппозиционных Бурбонам,
но более умеренных ученых и литераторов — Ж. де Сталь, Ф. Минье,
74
А. Тьера и др. Пропагандировали они «революцию без террора» — ан-
глийскую модель 1688 г. и французскую модель 1789 г. “
Июльская революция 1830 г., лишившая престола Карла X, была
осмыслена участниками именно в этих категориях. Преемственность
демонстративно подчеркивалась: должность командующего Нацио-
нальной гвардией получил, как и в 1789 г., Лафайет (традиционное
«связующее звено»), а государственным флагом, вновь сменившим
«бурбонские лилии», стал знаменитый «триколор» эпохи Великой
революции. Да и новый король — Луи-Филипп, сын Филиппа Эгали-
те — тоже некогда числился в революционерах. Идеологема «револю-
ция» была полностью реабилитирована.
1 Документы истории Великой французской революции: в 2 т. М., 1990.
Т. 1.С. 210.
2 Condorcet. Stir le sens du mot revolutionnaire. Cm.: Griewank K. von. Op.
cit. S. 235-239.
" Марат Ж.П. Избр. произведения.: в 3 т. М., 1956. Т. 3. С. 288.
’ Тэн И. Происхождение современной Франции: в 5 т. СПб., 1907. Т. 3.
С. 153. Ср. критику сочинения Тэна с позиций «диктата экстремальных об-
стоятельств» в работе А. Олара, где, в частности, указаны некоторые неточ-
ности фактографического характера: Aulard A. Taine: Histoire de la Revolution
fran<?aise. P„ 1908. P. 326.
•’ Робеспьер M. Революционная законность и право: Статьи и речи. М.,
1959. С. 210.
- " Sorel G. Reflexions sur la violence. P., 1921. P. 146.
7 Ср.: Сен-Жюст Л.А. О лицах, содержащихся в тюрьмах //Сен-Жюст Л.А.
Речи. Трактаты. СПб., 1995.
8 Робеспьер М. Указ. соч. С. 194.
9 Документы истории Великой французской революции. С. 265.
'"Там же. С. 237-239.
11 Тарле Е.В. Революционный трибунал в эпоху Великой французской ре-
волюции. Пг., 1918. Т. 1. С. 110.
12 Документы истории Великой французской революции. С. 275-277.
’’’ Lefebvre G. Etudes sur la Revolution fran^aise. P., 1954. P. 81.
11 Робеспьер M. Указ. соч. С. 211.
Документы истории Великой французской революции. Т. 2. С. 92.
10 Там же. С. 121.
17 Там же. С. 121-128, 131-133.
18 Цит. по кн.: Тэн И. Происхождение современной Франции: в 5 т. СПб.,
1907. Т. 4. С. 39-40.
19 Цит. по кн.: Leroy М. Histoire des idees sociales en France: De Montesquieu
a Robespierre. P„ 1946. P. 312.
211 Документы истории Великой французской революции. Т. 1. С. 232.
21 Тэн И. Указ. соч. Т. 4. С. 122.
75
22 Там же.
21 Документы истории Великой французской революции. Т. 1. С. 293.
2’Там же. С. 281-284.
25 Державин К.Н. Указ. соч. С. 45.
26 Документы истории Великой французской революции. Т. 1. С. 294.
27 Там же. С. 292.
28 См.: Тарле Е.В. Жерминаль и прериаль. М., 1957. С. 316, 337.
29 Там же. С. 46.
111 Документы истории Великой французской революции. Т. 1. С. 292.
Лафарг П. Указ. соч. С. 77.
12 Бабеф Г. Соч.: в 4 т. М„ 1982. Т. 4. С. 170-171.
33 См., напр.: Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства: в 2 т. М., 1963. Т. 2.
С. 115.
и Tulard J., Fayard J.F., Fierro A. Histoire et dictionnaire de la Revolution
framjaise 1789-1799. P., 1987. P. 1114.
:i’ Maistre J. de. Consideration sur la France // Maistre J. de. Oeuvres comple-
tes: 14 v. Lyon, 1884. V. 1. P. 107.
36 См., напр.: Brinton C. The Anatomy of Revolution. N.Y., 1957. P. 238-249;
Strada V. France et Russe: Analogies revolutionnaires // [.'heritage de la Revolu-
tion fran^aise. P., 1988; Furet F., Ozouf M. Dictionnaire critique de la Revolution
framjaise. P., 1988; Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Великая французская революция
и революционная традиция в России // Великая французская революция и
Россия. М., 1989.
37 Eisenstein E.L. The First Professional Revolutionist: Filippo Michele
Buonarroti (1761-1837). Cambridge, 1959. P. 68.
38 Cm.: Furet F. La Gauche et la Revolution framjaise au milieu du XIX-е siecle:
Edgar Quinet et la question du Jacobinisme. P., 1986; Смирнов В.П., Пос-
конин B.C. Традиции Великой французской революции в идейно-полити-
ческой жизни Франции: 1789-1989. М., 1991; Хобсбаум Э. Эхо «Марселье-
зы»: Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет // Хобс-
баум Э. Эхо «Марсельезы» //Дойчер И. Незавершенная революция. М., 1991.
ГЛАВА V
Революция вместо террора
Следующий этап формирования идеологемы «террор» связан
прежде всего с деятельностью русских революционеров 1870-х гг.
Опирались они не только на общеевропейскую, но и на вполне сло-
жившуюся отечественную традицию. Традиция же эта восходит к де-
кабристам.
Мы не вдаемся в рассмотрение вопроса о русских предшествен-
никах декабристов. Точнее, вопроса о том, кого можно (или нельзя)
назвать в аспекте идеологическом русскими предшественниками
заговорщиков, 14 декабря 1825 г. выводивших гвардейские полки
на столичные улицы. Равным образом, не анализируем этапы девя-
тилетнего формирования декабристских организаций и эволюцию
планов заговорщиков — от спонтанного переворота, произведенного
силами войсковых частей, до постепенного, многолетнего (по мере
служебного роста) выдвижения участников заговора на ключевые
государственные посты для захвата верховной власти при удобном
случае.
Мы также отнюдь не намерены заново характеризовать декабри-
стов и рассуждать о справедливости оценок, дававшихся (современ-
никами и позднейшими исследователями) каждому заговорщику и
всей организации. В данном случае не столь важно( считать ли дека-
бристов «сотней прапорщиков», чье избыточное честолюбие и неуме-
ренный авантюризм едва не привели Россию к хаосу междуусобицы,
видеть ли в них кристально честных «рыцарей без страха и упрека»
или же «дворянских революционеров», талантливых, но «классово
ограниченных», и пр.
Для нас существенно другое: впервые в русской истории заговор-
щики полагали необходимым не только свергнуть правительство, но
и провести радикальные государственные реформы, привычно ассо-
циируемые с наследием Великой французской революции. Речь идет
о преобразовании социума традиционно-сословного — авторитарно-
го — в социум, основанный на принципе всеобщего равенства перед
законом, т. е. бюрократический.
«Люди 14 декабря» считали «старый порядок» порочным. «Воз-
вращение Бурбонского дома на французский престол, — писал
арестованный полковник П.И. Пестель, — и соображения мои впо-
следствии о сем происшествии могу я назвать эпохою в моих поли-
тических мнениях, понятиях и образе мыслей, ибо начал рассуждать,
что большая часть коренных постановлений, введенных революциею,
77
были при ресторации (sic!) монархии сохранены и за благие вещи
признаны, между тем как все восставали против революции, и я сам
всегда против нее восставал. От сего суждения породилась мысль, что
революция, видно, не так дурна, как говорят, и что может даже быть
весьма полезна, в каковой мысли я укреплялся другим еще суждени-
ем, что те государства, в коих не было революции, продолжали быть
лишенными подобных преимуществ и учреждений. Тогда начали сии
причины присовокупляться к выше уже приведенным, и начали во
мне рождаться, почти совокупно, как конституционные, так и рево-
люционные мысли»1.
Ставя задачи преобразования социума, заговорщики вполне адек-
ватно осознавали и называли свою деятельность революционной.
«Революционные же мысли существовали в тайном обществе прежде
еще учреждения оного, — указывал Пестель, — и в них-то состояло
главное средство, обществом предполагаемое для достижения своей
цели. Сии мысли все члены без всякого изъятия в ровной (sic!) сте-
пени разделяли, ибо в них-то и состояла сущность тайного общества»
(IV, 111).
Члены тайного общества намеревались построить новую государ-
ственную административную систему. Кстати, будучи офицерами,
они полагали, что обладают достаточными навыками управления.
И, декларируя верность лозунгам 1789 г., они ориентировались на
опыт революционного поколения военных заговорщиков бонапар-
тистского и постбонапартистского периода, опыт конспираторов-
профессионалов, объединенных в организации типа Тугендбунда,
масонских лож и вент карбонариев. Тайное общество было для дека-
бристов и удобным инструментом захвата власти, и школой будущих
администраторов, чья задача — создание нового идеального государ-
ства всеобщего равенства и управление таким государством.
«Мне казалось, - писал Пестель, — что главное стремление
нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и
аристокрациями всякого рода, как на богатстве, так и на правах на-
следственных основанными. Я судил, что сии аристокрации сделают-
ся, наконец, сильнее самого монарха, как то в Англии, и что они суть
главная препона государственному благоденствию и притом могут
быть устранены одним республиканским образованием государства»
(IV, 91). А для образования такого государства, полагал энергичный
полковник, нужен военный переворот, нужны войска, предводитель-
ствуемые революционным офицерством, как это было в Италии, Ис-
пании, Португалии в 1820-х гг.
«Происшествия в Неаполе, Гишпании и Португалии, — утверждал
Пестель, — имели тогда большое на меня влияние. Я в них находил, по
моим понятиям, неоспоримые доказательства в непрочности монархи-
78
ческих конституций и полные достаточные причины в недоверчивости
к истинному согласию монархов на конституции, ими принимаемые.
Сии последние соображения укрепили меня весьма сильно в респу-
бликанском и революционном образе мыслей» (IV, 91).
Н.И. Тургенев также указывал на «образцы», использовавшие-
ся основателями Тайного общества: «Имея недостаток в своих соб-
ственных, мы следуем за политическими происшествиями Европы.
С конца прошедшего столетия сии происшествия приняли характер
сильный, величественный, иногда ужасный, но всегда интересный»2.
Как ученики французских радикалов декабристы неизбеж-
но должны были определить свое отношение не только к целям
«учителей», но и к их методам, т. е. террору. Методы привлекали
эффективностью и простотой, однако память о правительстве «на-
циональной бритвы» была свежа, эпоха «канонизации» якобинских
ч лидеров (что отмечалось выше) даже в Европе началась только в
' 1830-е гг. Потому о безоговорочном приятии террора декабристами
- не могло быть и речи.
Опираясь на мемуары и материалы следствия, современные
историки реконструируют две основные точки зрения на террор,
которых придерживались заговорщики ’. Одни, например, А.В. Под-
жио и П.Г. Каховский, фактически повторяли аргументацию робе-
спьеристов, утверждая, что причиной нежелательного в принципе
кровопролития были не действия лидеров революции, а чрезвычай-
ные обстоятельства — происки контрреволюционеров. «Конвент
должен был подавить внутреннего и внешнего врага», — утверждал
• ’ Поджио, а если так ставится главная задача, то «смиренник 89-й год
превращается в ожесточенный 92-й». Каховский в свою очередь пи-
сал, что французская революция «сильно потрясла троны Европы
и имела на правление и на народ оный еще большее влияние, чем
самое образование Соединенных Штатов», хотя она, «столь благо-
детельно начатая, к несчастью, наконец, превратилась из законной в
преступную. Но не народ сему виною, а пронырства дворов и поли-
тики». Другие декабристы полагали, что дело не только и не столько
в чрезвычайных обстоятельствах: «Власть демократическая, — пи-
сал Тургенев, — не могла иначе возникнуть, как посредством ужас-
нейшей революции», ошибка же французских радикалов лишь в
том, что, действуя поспешно и без определенного плана, они не су-
мели свести насилие к минимуму1.
Пестель считается сторонником именно такого подхода. Револю-
ции, убеждал полковник следователей, замышляются ради преобра-
зования общества, что неизбежно, поскольку предопределено самим
ходом истории. Предотвращать, по мнению Пестеля, можно и нужно
не революции, но кровавые эксцессы, связанные с ними, а для этого
79
к преобразованиям надлежит готовиться заблаговременно и прово-
дить их под жестким контролем. «Ужасные происшествия, бывшие
во Франции во время революции, — отмечал арестант, — заставляли
меня искать средства к избежанию подобных, и сие-то произвело во
мне впоследствии мысль о временном правлении и о его необходимо-
сти и всегдашние мои толки о всевозможном предупреждении всяче-
ского междуусобия» (IV, 90-91).
Прилагательное «ужасные» у Пестеля, как и у Тургенева, — по-
литический термин: «ужас», т. е. террор — обозначение якобинской
государственности. Аналогично Н.М. Карамзин в 1811 г. напоминал
Александру I об «ужасах Французской революции», излечивших Ев-
ропу «от мечтаний гражданской вольности и равенства», а четверть
века спустя А.С. Пушкин писал, что «чувствительный и пылкий»
сторонник идей Просвещения не мог «не содрогнуться при виде
того, что происходило во Франции во времена Ужаса». Точно так же
Н.И. Греч называл деспотическое правление Павла I «царствованием
ужаса, не уступавшим Робеспьерову»5.
Согласно Пестелю, террор предотвращался управляемой ре-
волюцией. В этой системе исходных посылок управляемая рево-
люция — альтернатива террору. Такова была базовая установка
декабризма, что подтверждается суждениями многих заговорщи-
ков. М.П. Бестужев-Рюмин, например, объяснял на следствии, что
заговор подготовлен, дабы избегнуть «долговременности и ужасов
революций». Те же аргументы приводил С.П. Трубецкой, заявляв-
ший, что цель Тайного общества — «поставить Россию в такое по-
ложение, которое упрочило бы благо государства и оградило его от
переворотов, подобных Французской революции, и которые, к не-
счастью, продолжают еще угрожать ей в будущности»1’. Аналогично
и А.А. Бестужев, обращаясь к Николаю I, писал, что поскольку «ро-
пот народа от истощения и злоупотребления земских и гражданских
властей происшедший грозил кровавою революциею, то общества
вознамерились отвратить меньшим злом большее и начать свои
действия при первом удобном случае»7.
Сходные тезисы Пестель сформулировал не только на следствии,
но и в «Русской правде» — программном документе им возглавляе-
мой организации: «Все происшествия в Европе, в последнем полу-
столетии учинившиеся, доказывают, что народы, возмечтавшие о
возможности внезапных действий и отвергнувшие постепенность в
ходе государственного преобразования, впали в ужасные (!) бедствия
и вновь покорены игу самовластия и беззакония. Сие доказывает не-
обходимость приступить к преобразованию государства постепен-
ными мероприятиями. Кому может быть поручено исполнение сего
важного дела, как не Временному Верховному Правлению: прежняя
Верховная власть довольно уже доказала враждебные свои чувства
80
противу народу русского, а представительный собор не может быть
созван, ибо начала представительного порядка в России еще не суще-
ствуют» (VII, 118).
Пестель планировал диктатуру на срок от 5 до 10 лет. Затем, по
мнению преобразователя, внешняя и внутренняя политика стаби-
лизируются, общество будет готово к введению представительного
правления и верховенству закона. Однако в этом, как бы антияко-
бинском проекте просматривается якобинская основа. И там и тут
в перспективе — представительное правление и верховенство зако-
на, причем путь к благоденствию — через диктатуру, без которой не
обойтись. И в аспекте организационном Пестель повторял все ту же
якобинскую модель, предлагая полностью централизованную бюро-
кратическую систему с наместниками-комиссарами в провинциях8.
Значит, для предотвращения якобинских «ужасов» планировалось
воссоздание именно того управленческого аппарата, что необходим
для проведения государственного террора.
Вряд ли можно считать случайным и сходство названий: француз-
ских — «Временное правительство», «временный революционный
порядок управления», и русского — «Временное правление»9. Кстати,
для обозначения руководства Тайного общества использовался тер-
мин «директория», безусловно ассоциировавшийся с управленчески-
ми структурами революционной Франции.
Трудно сказать, сознательно обманывал Пестель следователей и
соратников или же добросовестно заблуждался. Несомненно лишь
то, что многие ставили ему в вину бонапартизм. Называли его и «су-
щим Робеспьером»1". Даже в намерении лютеранина Пестеля «по
окончании революции» уйти «в монахи в Киево-Печерскую лавру»
современные историки видят признание (пусть имплицитное) неиз-
бежности преступлений, связанных с «управляемой» революцией,
тех грехов, что только в монастыре и замаливать". Отметим также,
что вожди революций, проводимых по якобинскому образцу, крайне
редко признают свое дело завершенным.
Якобинский тезаурус
В общем, отношение руководства заговорщиков к «террористиче-
скому наследию» было достаточно сложным. С одной стороны, дека-
бристские лидеры не отвергали его полностью, с другой — старались
не афишировать якобинские образцы в программных документах.
Сообразно этим установкам лидеры заговора использовали и рево-
люционный тезаурус.
Некоторые идеологемы, т. е., по определению Г.А. Гуковского,
«слова-символы освободительной терминологии», в частности, «за-
81
кон», «вольность», «свобода», «тиранство» сами по себе не были
одиозны12. А.С. Шишков, например, говоря о начале царствования
Александра I, сетовал: «Имена вольности и равенства, приемлемые
в превратном и уродливом смысле, начали твердиться пред младым
царем»13. С консерватором в данном случае был согласен радикал —
А.А. Бестужев: «Вот начало свободомыслия в России. Правительство
само произнесло слова: “Свобода, освобождение!” Само рассевало со-
чинения о злоупотреблении неограниченной власти Наполеона»11.
К абсолютно одиозным не относился и термин «революция»:
Екатерина II, к примеру, использовала его без отрицательных кон-
нотаций, в традиции XVII-XVIII вв.’’ Правда, сын ее, Павел I, устра-
шенный «французскими событиями», а еще более желая во всем
перечить покойной матери, законодательно воспретил именовать ре-
волюцией что бы то ни было, даже и «течение звезд», немало озадачив
астрономов таким указом”’. Но при Александре I запреты отменили,
и державный внук Екатерины II называл революцией дворцовый пе-
реворот 1801 г., благодаря которому сам пришел к власти17. Кстати,
один из самых высокопоставленных участников заговора, генерал-
майор М.Ф. Орлов, оправдываясь, ссылался именно на воззрения
Александра I: «Я тогда в полном смысле следовал правилу его им-
ператорского величества, ненавидел преступления и любил правила
французской революции»|К.
Соответственно, декабристы, признаваясь на следствии в наме-
рении покончить с тиранством посредством революции, не счита-
ли, что таким образом уличают себя в преступлениях более тяжких,
нежели «прикосновенность» к военному заговору или прямое уча-
стие в мятеже. Революционаризм не столь уж сильно компроме-
тировал заговорщиков и в общественном мнении. Отчасти даже
наоборот, революции, согласно тогдашнему пониманию, соверша-
лись великими людьми, а коль так, признание событий 14 декабря
1825 г. революцией косвенно подразумевало бы признание вели-
чия декабристов.
Заговорщики были буквально оскорблены тем, что, несмотря на
многочисленные их декларации, правительство старательно избе-
гало упоминаний о революционной программе Тайного общества,
отказывало мятежу в статусе революции. Здесь отчетливо проявля-
ется специфика функционирования самой идеологемы «революция»
в первой трети XIX в. Потому П.А. Вяземский, слывший, кстати,
князем-либералом, «декабристом без декабря», писал, желая дистан-
цироваться от заговорщиков: «Прапорщики не делают революции, а
разве производят частный бунт. 14 декабря не было революцией»19.
Настаивая на «революционности» своих намерений, декабристы
упорно отрекались от аналогий с якобинцами и террором, табуиро-
82
вали термины эпохи Конвента. И в первую очередь табуировалось
слово «спасение», вроде бы, совсем невинное.
«Союзом спасения» именовалось тайное общество, созданное
в 1816 г., что было известно следствию (в частности, из показаний
Н.М. Муравьева), однако лидеры заговорщиков открещивались от
этого названия.
На прямой вопрос следствия Пестель отвечал уклончиво: «Я на-
зывал первоначальное общество, составившееся в 1816 году, обще-
ством Истинных и Верных Сынов Отечества потому, что Устав
оного общества, принятый в начале 1817 года, сие имел заглавие; о
наименовании же общества Союзом Спасения никогда и не слыхал»
(IV, 154). А.Н. Муравьев, как и М.С. Лунин, утверждал, что «совсем
не помнит» такого названия, а С.И. Муравьев-Апостол настаивал,
что помнить тут попросту не о чем: «Общество восприяло свое су-
ществование в С.-Петербурге, кажется, в 1816 году, принят я в оное
в 1817-м в начале; оно не имело никакого наименования» (III, 16,
18, 116).
Историки обычно не пытались выяснить, почему для обвиняемых
и следователей был так важен вопрос о названии. Н.М. Дружинин, к
примеру, сообщал: «Общество получило название “Союза истинных
и верных сынов Отечества" (в просторечии его называли более крат-
ко - “Союзом спасения”)»20. Тезис выглядит анекдотически, что-то
вроде суждения о «топоре, именуемом в просторечии тульским само-
варом». Правда, логическая связь улавливается: вероятно, Дружинин
полагал само собой разумеющимся, что быть «истинным', и верным
сыном отечества» — значит «спасать» отечество. Иначе говоря, Тай-
ное общество имело не два названия (это все же странно), а одно, хоть
и в двух вариантах — полном и кратком.
В отличие от Дружинина М.В. Нечкина считала, что названий
было два, только не одновременно. Сначала заговорщики согласи-
лись на «Союз спасения», поскольку Россию надлежало спасать, «она
стояла на краю пропасти», а когда общество сформировалось, участ-
ники, видя себя истинными патриотами, решили «отмежеваться от
“патриотов” другого сорта — неистинных и неверных»21. Мотивиров-
ка тут оставалась прежней, дружининской: раз уж говорили о «спа-
сении», то, понятно, спасать собирались именно Россию, а кому ее и
спасать, если не «истинным и верным сынам отечества».
Насколько мы можем судить, убедительной интерпретации про-
тиворечий в показаниях декабристов пока не предложено. Потому
в данном случае важно, что название «Союз спасения» следователи
не сами придумали, а «забывчивость» обвиняемых по меньшей мере
подозрительна. Уместно предположить, что заговорщики ничего не
забыли, они уклонялись от истины, поскольку иного выхода не было:
83
название «Союз спасения» следователи могли истолковать в каче-
стве прямого указания на Комитет общественного спасения, прави-
тельство якобинцев22. Если бы заговорщики открыто признали себя
учениками именно террористов, то рассчитывать на снисхождение
уже не приходилось в условиях авторитарного социума.
Привычка избегать слова «спасение» осталась надолго. К приме-
ру, Трубецкой, описывая в мемуарах начальный период деятельности
заговорщиков, сообщает: Пестель «поселил в некоторых членах неко-
торую недоверчивость к себе», когда заявил, что «Франция блажен-
ствовала под управлением Комитета общественной безопасности»2’.
Однако общеизвестно, что «правительством чрезвычайного положе-
ния» — государственной властью — был Комитет общественного спа-
сения, а Комитет общественной безопасности — аналог министерства
внутренних дел. И Трубецкой, и Пестель историю Великой француз-
ской революции знали, путаница здесь обусловлена причинами, так
сказать, психоаналитического характера. Не случайно мемуарист,
упомянув о недоверчивости, еще раз подчеркивает, что слова Песте-
ля оставили «невыгодное для него впечатление, которое никогда не
могло истребиться»21. Трубецкой снова и снова отрекается от яко-
бинства, но даже в этом контексте не может нарушить запрет, давно
ставший подсознательным, не может произнести некогда табуиро-
ванный термин «спасение».
В данном случае немаловажно, что название «Комитет обществен-
ной безопасности», вероятно, показалось Трубецкому менее одиоз-
ным, нежели «Комитет общественного спасения». Здесь Трубецкой
ориентируется на тогдашнее словоупотребление. К примеру, в период
реформаторских исканий Александра I было возможно создание та-
кой полицейской инстанции, как Комитет охраны общественной бе-
зопасности 1807 г.2’ Однако о Комитете общественного спасения как
чрезвычайном органе, осуществляющем государственные преобразо-
вания, даже тогда можно было говорить только «в шутку»26. Кстати,
современные исследователи, цитируя Трубецкого, порой устраняют
его очевидную «ошибку», не оговариваясь при этом27. Классический
случай гиперкоррекции.
Итак, для заговорщиков «спасение» — идеологема. Использо-
вание этого термина в названии общества — прямая ссылка на яко-
бинство, потому и не было непременной нужды пояснять, что будет
спасено. Аналогичным образом слово «революция», обозначая дей-
ствие, не требует указания объекта, чей «переворот» («обращение»)
подразумевается.
Революционныйтезаурусиспользуетсяивпоследующихназваниях
декабристских организаций, но, вероятно, заговорщики становились
осторожнее, избегая терминов откровенно «самодоносительских»,
84
что порой создавало дополнительные затруднения для исследова-
телей русской революционной традиции. К примеру, М.В. Нечкина
соотносила название «Общество истинных и верных сынов отече-
ства» с заглавием трактата А.Н. Радищева «Беседа о том, что есть
сын Отечества»28. Получалось, что декабристы, будучи, по мнению
Нечкиной, продолжателями дела первого русского революционера
Радищева, сочли нужным сослаться на предшественника. Не входя
в обсуждение этой гипотезы, можно предположить и совсем иной ис-
точник — журнал Н.И. Греча «Сын отечества», основанный в 1812 г.
с одобрения Александра I.
Кстати, о характере восприятия этого названия публицист
С.Н. Глинка (брат заговорщика Ф.Н. Глинки) писал: «Счастливая
мысль Н.И. Греча увенчалась блистательным успехом. Не выражу
того пером, что ощутили выходцы московские в Нижнем Новгоро-
де и что ощутил я, кочующий издатель “Русского вестника”, увидя
в первый раз на берегах Волги, на родине Минина, первую книжку
“Сына отечества”. Название, достойное благородного сердца изда-
теля и проявлявшее тогда чувство россиян, обрекших себя в жертву
сыновнюю за Отечество, сбереженное в первый двенадцатый год са-
моотречением предков наших и вновь сохраненное самоотречением
потомков их»2”.
Мнение публициста следует, конечно, принять во внимание, одна-
ко тут не менее вероятна и аллюзия на первую строку «Марсельезы»:
«Allons, enfants de la patrie». Причем одно не исключает другое: соче-
тание «сын отечества» — общепринятая формула, вне «крамольного»
контекста столь же нейтральная, как и большинство «слов-символов
освободительной терминологии». Это и было удобно заговорщикам:
непосвященные видели в названии общества свидетельство лояльно-
сти, посвященные — напоминание о революционных лозунгах.
Сходным образом конструировалось в 1818 г. и название самой
массовой декабристской организации — «Союза благоденствия».
С одной стороны, сочетание «благоденствие народа» было у всех на
слуху и само по себе слово «благоденствие» отнюдь не свидетель-
ствовало о крамольных планах. Оно воспринималось, к примеру, и
в качестве обязательного элемента топики «Золотого века», «века
Астреи», скорое наступление которого пророчили не только револю-
ционеры, но и авторы многочисленных од, посвященных восшествию
на престол Александра Г’". Не случайно Трубецкой, упорно не же-
лавший вспомнить о «Союзе спасения», заявлял: «Общество назва-
но по предмету своей цели Союзом благоденствия» ’1. Понятно, что о
«Союзе спасения» такого — «названо по предмету своей цели» — не
скажешь: цель не очевидна.
85
А с другой стороны, и благоденствие мыслилось в ряду «слов-
символов освободительной терминологии». Греч, например, вспо-
минал: «Народ был разочарован и обманут. Тонули топор сулили;
вытащили топорища жаль. Низвержение преобладания Наполеонова
произошло при восклицаниях: да здравствует независимость, свобо-
да, благоденствие народов, владычество законов! Все ждали насту-
пления какого-то Астреина века»32.
Специфика термина «благоденствие» как идеологемы выявляет-
ся при соотнесении с синонимами. В частности, «Словарь Академии
Российской» (1806-1822 — второе дополненное издание) определя-
ет смысл лексемы «благоденствие» через счастие и наоборот. Ну а в
революционной традиции XVIII-XIX вв. «счастье» — одна из базо-
вых идеологем. «Декларация независимости», написанная Т. Джеф-
ферсоном, относит «право на стремление к счастью» (the pursuit
of happiness) к числу неотъемлемых прав человека, в чем историки
видят важнейшее проявление принципиально нового характера аме-
риканской революции — установку на будущее, на построение спра-
ведливо и рационально устроенного общества13. Вот почему слова
«счастье», «счастливый» постоянно использовались, если речь шла
об освободившихся Северо-американских Штатах. К. Снелл, напри-
мер, в 1783 г. называл их именно «счастливым государством»34. То
же «слово-символ» применительно к Северо-Американским Штатам
использовал Радищев в хрестоматийной оде «Вольность»:
О вы! Счастливые народы,
Где случай вольность даровал!
Блюдите дар благой природы,
В сердцах, что вечный начертал.
Се хлябь разверстая, цветами
Усыпанная под ногами
У вас, готова вас сглотить.
Не забывай ни на минуту,
Что крепость сил в немощность люту,
Что свет во тьму льзя претворить.
К тебе душа моя вспаленна,
К тебе, словутая страна,
Стремится, гнетом где согбенна
Лежала вольность попрана;
Ликуешь ты! А мы здесь страждем!
Того ж, того ж и мы все жаждем.
Пример твой мету обнажил;
Твоей я славе непричастен -
Позволь, коль дух мой неподвластен,
Чтоб брег твой пепл хотя мой скрыл!35
86
Входивший в «Союз благоденствия» Н.И. Кутузов рассуждал
в 1820 г.: «Не главный ли предмет правительства сделать граждан
счастливыми? Не величайшая ли слава царей благодетельствовать
подданным и доставлять им спокойствие? Но часто сия благородная
цель исчезает в глазах честолюбия, часто слышны бывают стоны на-
родные, видны бедствия. Скорбя о человечестве, пожелаем ему сча-
стия, будем надеяться, что благотворная рука промысла иногда ведет
его по пути, усеянному тернием, дабы приблизить его к истинному
благоденствию»’6.
В данном контексте оба термина — «счастье» и «благоденствие» —
политические, причем взаимозаменяемые. И соотносятся они с идеей
республики: «Ежели бы Греция и Рим, — продолжает Кутузов, — мог-
ли основать правление свое, руководствуяся опытом, они избрали бы
народное представительное правление, как сообразное с духом их,
как ближайшее к совершенству; они старались бы сблизить все со-
стояния, уравновесить власть между всеми сословиями, дабы водво-
рить в народе доверенность, согласие и доставить ему спокойствие.
Сия мера для счастия республики необходима», ибо «каждый класс
народа, составляя часть целого», должен «заботиться о сохранении
целого для своего спокойствия и общественного благоденствия» ’7.
Примечательно, что, обосновывая свою теорию «благоденствия»,
Кутузов прямо ссылается на американский революционный опыт,
обусловленный переосмыслением английского. «Даже в Англии, —
подчеркивает он, — власть находится в руках богатых, которые рас-
полагают участию народа иногда по своим видам, а возможность
пожертвований измеряют своим имуществом. Сею ошибкою вос-
пользовались Соединенные Области Америки»’”.
Н.М. Муравьев тоже связывал понятия «благоденствие», «сча-
стье» с американским наследием. В его архиве сохранились выписки
из апологетической книги Д. Рамсея «История американской рево-
люции», впервые изданной в 1789 г. Вероятно, Муравьев собирался
использовать их при работе над проектом конституции, для чего пере-
вел на русский такие, например, фразы: «Бог сделал все человечество
от природы равным и наделил его правами жизни, собственности и
свободы настолько, насколько это было согласовано с правами дру-
гих», и «правительство — политическое учреждение между равными
естественно людьми — существует не для возвеличивания одного или
немногих, но для счастья всего отечества» ’9.
О том, что заокеанский революционный опыт соотносился в со-
знании заговорщиков с идеологемой «счастье», свидетельствует и
А.П. Беляев. Вспоминая декабристские поиски образца государ-
ственного устройства, реализующего «чудный идеал всесовершенно-
87
го счастья человеческого рода на земле», он указывает, что «идеал»
этот «достигла, как мы думали, Америка»40.
На американский опыт ссылался и Пестель, обращаясь к сле-
дователям: «Все газеты и политические сочинения так сильно про-
славляли возрастание благоденствия в Северных Американских
соединенных штатах, приписывая сие государственному их устрой-
ству, что сие мне казалось ясным доказательством в превосходстве
республиканского правления» (IV, 91).
Потому для посвященных слово «благоденствие» в названии орга-
низации — намек на революционную традицию, при необходимости
же оно могло интерпретироваться и в качестве свидетельства лояль-
ности основателей общества, пекущихся о счастье отечества.
Как известно, в 1821 г. «Союз благоденствия» был распущен кон-
спирации ради, однако заговорщики сохранили саму организацию,
разделившуюся на Северное и Южное общества. Новые названия
политически нейтральны, зато терминологическая преемственность
декларировалась в манифесте Южного общества, «Русской правде»,
где благоденствие — ключевое слово. В разделе «Основные понятия о
государственном благоденствии и сопряженных с ним обязанностях»
Пестель указывал: «Цель же государственного устройства должна
быть возможное благоденствие всех и каждого. А посему все ведущее
к благоденствию есть обязанность» (VII, 115).
Государственное благоденствие, по словам Пестеля, «состо-
ит из двух главных предметов: из безопасности и благосостояния»
(VII, 117). Очевидно, что соотношение благоденствия и безопасности
аналогично соотношению функций Комитета общественного спасе-
ния и Комитета общественной безопасности, т. е. благоденствие и
спасение функционально тождественны. Кстати, французское назва-
ние «Comite de salut public» — «Комитет общественного спасения» —
переводилось еще и как «Комитет общественного блага»41. Значит,
избегая открыто террористических терминов, заговорщики сохраня-
ли приверженность якобинской структуре управления.
Аналогичным было и отношение к лидерам якобинцев. Их име-
на избегали упоминать, а если и упоминали, то преимущественно с
осуждением. К примеру, Трубецкой, каясь на следствии, говорил, что
хоть и был заговорщиком, но не участвовал непосредственно в во-
енном мятеже, поскольку не желал стать «истинным исчадием Ада,
каким-нибудь Робеспьером или Маратом» (I, 39).
А.Н. Муравьев тоже писал, что, «дорожа добрым о себе мнением»,
не желает быть сочтенным «за так называемого якобинца». Однако
при имплицитных ссылках на французский опыт в якобинцах всегда
видели образцы для подражания. Так, по воспоминаниям Н.А. Бес-
тужева, Рылеев часто говорил, что «тактика революций заключается
88
в одном слове: д е р з а й»12. Это вполне очевидная дантоновская ре-
минисценция: «De 1'audace, encore de 1'audace, toujours de I'audace».
Точно так же и Тургенев при решении голосованием вопроса о
будущем государственном устройстве России выразил свое мнение
афористически: «Le president sans phrases» — «Президент без даль-
них толков», и единомышленники (равным образом, следователи)
не могли не опознать тут перифраз формулы, использованной ра-
дикалами в Конвенте, когда на голосование был поставлен вопрос о
казни короля — «La mort sans phrases» (IV, 102). Вот почему позже
Тургенев доказывал, оправдываясь, что ничего подобного «никогда
не было произнесено», а те, кто приписывали ему эту фразу, намере-
вались «вызвать кровавое воспоминание Французской революции и
поразить сердца священным ужасом»1’.
Тираноборцы или террористы?
Похоже, якобинские параллели сразу привлекли внимание следо-
вателей, что для обвиняемых, как уже отмечалось выше, представля-
ло особую опасность. Но по мере раскрытия декабристских замыслов
интерес к этим параллелям убывал: следствию они понадобились
прежде всего в качестве доказательства умысла на цареубийство, а
подобных доказательств и так нашли достаточно. Цареубийство же,
согласно российским правовым установкам, было тягчайшим престу-
плением, уголовным и сакральным, соответственно, тяжкими престу-
плениями считались подготовка к нему и даже умысел. Так повелось
издавна: смертную казнь за умысел на цареубийство предусматрива-
ли и Соборное уложение 1649 г., и Артикул воинский 1715 г.11
Пять декабристов были повешены не столько за то, что соверши-
ли (подстрекательство к мятежу, вооруженное восстание), сколько за
то, что совершить намеревались, но не успели: им инкриминировал-
ся помимо умысла на цареубийство умысел «на истребление импе-
раторской фамилии» и подготовка исполнителей, от чего все пятеро,
как утверждало следствие, не отказались вплоть до момента пресече-
ния противозаконной деятельности (XVII, 216-236). Отказавшиеся
(точнее, сумевшие убедить в том следствие) «отделались» каторгой,
ссылкой и пр.
Подчеркнем еще раз: на фоне собранных следствием прямых улик
вопрос о первоначальном названии Тайного общества утратил зна-
чение, разыскания в области терминологии не много прибавляли к
оценке деятельности заговорщиков. Планы цареубийства для захва-
та власти сами по себе свидетельствовали о якобинской направлен-
ности заговора: понятия «цареубийца» и «террорист» следователи
(памятуя о судьбе Людовика XVI и его семьи) полагали синонима-
89
ми. К примеру, следственная комиссия именует А.А. Бестужева и
П.Г. Каховского в связи с их цареубийственными проектами «пла-
менными террористами, готовыми на ужаснейшие (sic!) злодеяния»
(XVII, 51). Основной целью заговора, утверждали следователи, было
прежде всего цареубийство.
Декабристы с этой оценкой не соглашались. Не только на след-
ствии, но и в позднейших апологетических сочинениях они отстаи-
вали точку зрения Пестеля: революция, проводимая планомерно и
под жестким контролем, не подразумевает, а предотвращает террор.
Что же касается именно цареубийства, то, поскольку цели заговора к
нему не сводились, вопрос о физическом устранении монарха никог-
да не был принципиальным и всерьез не обсуждался. Цареубийцами,
по мнению декабристов, были те, кто лишили жизни Петра III и Пав-
ла I, а на Сенатскую площадь выводили солдат революционеры.
«Почти все восшествия на российский престол, начиная с Пе-
тра I, — писал Лунин из ссылки, — отмечены дворцовыми перево-
ротами (par des revolutions du palais), совершенными во мраке и в
интересах отдельных лиц. Воцарение императора Николая, напротив,
ознаменовалось событием, носящим характер публичного протеста
против произвола». «Все обвинения в умысле на цареубийство, —
доказывал бывший каторжник, — безосновательны, и понадобились
победителям только для того, чтобы опорочить побежденных, жерт-
вовавших собой ради блага отечества»15.
Такие же аргументы приводил и Н.И. Тургенев: «Нельзя не удив-
ляться настойчивости, с которой донесение хочет придать серьезный
характер этим мыслям о цареубийстве», — иронизировал заговор-
щик, пребывавший за границей в момент восстания и не пожелавший
вернуться, несмотря на императорское повеление. Правительство, по
словам Тургенева, намеренно игнорировало специфику декабрист-
ских задач и способов их решения: «впервые в этой стране люди,
задавшись целью насильственным путем изменить существующий
строй, открыто водрузили знамя восстания вместо того, чтобы напа-
дать, под покровом ночи, на особу императора»11’.
И декабристы, и оппоненты их были по-своему правы. Да, задачи
Тайного общества к цареубийству не сводились, и тут аргументация
заговорщиков безупречна: если убийство монарха было целью заго-
вора, то гвардейским офицерам нет нужды готовиться почти десять
лет, обычно в России они управлялись куда быстрее47. Но ведь нель-
зя игнорировать и то, что проекты цареубийства постоянно обсужда-
лись, варьировались лишь конкретные способы, и было их немало.
Чаще всего заговорщики соотносили способ с тираноборческой
моделью: деспота, попирающего законы, должен убить «истинный и
верный сын отечества». Подобно «словам-символам освободитель-
ной терминологии» модель эта не обязательно ассоциировалась с
90
деятельностью Тайного общества. К примеру, в годы войны Лунин
(тогда, разумеется, и не помышлявший об антиправительственном
заговоре) подготовил письмо главнокомандующему, где, по воспоми-
наниям Н.Н. Муравьева, «изъявляя желание принести себя в жертву
отечеству, просил, чтобы его послали парламентером к Наполеону
с тем, чтобы, подавая бумагу императору французов, всадить ему в
бок кинжал. Он, — сообщает мемуарист, — даже показывал мне этот
кривой кинжал, который у него на этот предмет хранился под изголо-
вьем. Лунин бы точно сделал это, если бы его послали»1”.
Удар кинжалом, когда его наносит парламентер — типичное ве-
роломство. Но Муравьев отнюдь не осуждает боевого товарища. На-
полеон — узурпатор, тиран, потому кинжал и самопожертвование
Лунина — уместны. Противореча одному кодексу — воинской чести,
будущий декабрист действовал бы в полном согласии с другим — ти-
раноборческим.
В русской литературной традиции идею тираноборчества наибо-
лее отчетливо выразил А.С. Пушкин. К Тайному обществу он, как
известно, не принадлежал, но «Кинжал», написанный в 1821 г., де-
кабристы часто использовали в пропагандистских целях. Более того,
лидеры Тайного общества предлагали соратникам начинать вербовку
новых заговорщиков именно со стихов Пушкина19.
«Кинжал» куда более радикален, чем, например, созданная в 1817 г.
хрестоматийная ода «Вольность», где поэт всего лишь предупреждал,
что нарушение монархами contrat social, общественного договора, па-
губно в равной мере для обоих сторон — власти и общества:
Владыки! Вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!..50
Три года спустя Пушкин требовал казни властителей, тираниче-
ски попирающих законы и традиции. Аналитическое рассмотрение
проблемы заменилось прямой угрозой. Соблазнительно объяснить
замену эволюцией мировоззрения революционностью. Однако все
гораздо сложней. Поэт не развивал схему, данную в оде «Вольность».
Он выбрал другую, более отвечавшую его настроениям. Потому ори-
гинальны в «Кинжале» только поэтический темперамент и лапи-
дарность формулировок. Аргументация же и подбор исторических
примеров — целиком в русле традиции тираноборчества, предусма-
91
тривавшей, что тираном может быть признан не только монарх, но и
любой представитель государственной власти, посягающий на закон
и справедливость.
То, что Пушкин традицию воспринял, подтверждается и его
рассказом о лицейском преподавателе Д. Будри, родном брате
Ж.П. Марата. «Профессор, — вспоминает Пушкин, — “как ни в чем
ни бывало” назвал “вторым Равальяком” Шарлотту Корде, заколов-
шую Марата»51. И хотя жертвой Равальяка был монарх, а жертвой
Корде — «Другнарода», ненавидивший монархию, для Будри и Пуш-
кина в сопоставлении нет парадокса. Марата и других якобинцев,
мысливших себя монархомахами и декларировавших право каждо-
го гражданина на тираноубийство, многие современники называли
именно тиранами, узурпаторами. Как известно, Корде задумала по-
кушение не потому, что была аристократкой, а Марат — революци-
онером. Напротив, Марата она считала противником республики,
врагом законности. И вот, согласно кодексу тираноборчества, де-
спот поражен кинжалом, а убийца не попыталась скрыться.
Кстати, Корде, осмысляя свою миссию в античном духе, имено-
вала себя Геркулесом — истребителем чудовищ, и депутат Майнца
А. Люкс поплатился головой за то, что сказал при ее казни: «Смо-
трите, она величием превосходит Брута». В память Корде А. Шенье
написал стихи, где убийца Марата сравнивалась с Гармодием и Ари-
стогитоном52.
Таким образом, аксиоматику монархомахии Пушкин усвоил еще
в лицее. Традиция акту ал изо вал ас ь для него в эпоху конгрессов Свя-
щенного союза — борьбы европейских монархов с национальными и
освободительными движениями. Европу всколыхнула волна полити-
ческих убийств, подготовленных карбонарскими вентами и другими
конспиративными организациями53.
Непосредственным поводом к написанию «Кинжала» стало убий-
ство в 1819 г. немецкого писателя А. Коцебу студентом-теологом
К. Зандом. Правда, в действиях Занда, как и в неосуществленном
плане Лунина, была явная несообразность. Лунин собирался убить
истинного узурпатора, но способ выбрал не вполне корректно, Занд
же не вполне корректно выбрал объект. В роли грозного тирана вы-
ступил состоявший на русской службе вполне смирный пожилой
литератор, чьи публикации в германской печати студенчество вос-
принимало как доносы. Но зато само покушение выглядело образ-
цово: торжественно сообщив писателю о причинах казни, студент
поразил его кинжалом, после чего предстал перед судом, был приго-
ворен к смерти и обезглавлен.
Либеральная Европа «канонизировала» его, несуразность поку-
шения компенсировались соответствием мифу и традициям. Почти
полвека спустя М.А. Бакунин, называвший действия Занда «чрезвы-
92
чайно нелепыми», поскольку они «не могли принести решительно
никакой пользы», сказал, что «по крайней мере в них проявилась ис-
кренность страсти, героизм самопожертвования и то единство мыс-
ли, слова и дела, без которых революционаризм неминуемо впадает в
риторику и становится отвратительной ложью»51.
«Кинжал» — манифест монархомахии. Античный колорит, отли-
чающий традицию тираноборчества, задается там не только заглави-
ем, но и первой же строфой:
Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия Позора и Обиды.
Определен и правовой пафос тираноубийства — законное наказа-
ние злодея в условиях беззакония:
Где Зевса гром молчит, где дремлет меч Закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд.
И, конечно же, основной тезис иллюстрируется привычным ря-
дом: Гармодий и Аристогитон, Брут, Корде, Занд55. Каждое имя —
символ.
После разгрома восстания Пушкин, основываясь на собственных
воспоминаниях и донесении следствия, писал о собраниях заговор-
щиков в X главе «Евгения Онегина»:
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал56.
Сочетание «цареубийственный кинжал» здесь — символ, указыва-
ющий на тираноборческие замыслы вообще, а не конкретное средство
их реализации. Из донесения следственной комиссии (и приватных
источников) Пушкин знал, что средства декабристами планирова-
лись различные (XVII, 216-236, 277).
И.Д. Якушкин, в частности, выбрал не кинжал, а пистолет. В ме-
муарах он всячески подчеркивал именно тираноборческую установку.
Когда во время одного из совещаний Тайного общества все пришли
93
к выводу, что Александр I — деспот, пренебрегающий интересами от-
ечества ради личных пристрастий, и «Россия не может быть более не-
счастна, как под управлением царствующего императора», мемуарист,
по его словам, заявил: «Тайному обществу тут нечего делать, и теперь
каждый из нас должен действовать по собственной совести и собствен-
ному убеждению»57. Логическая схема очевидна: монархомах — всегда
одиночка, и если он принял решение, то в сообщниках не нуждается.
Однако предложение Яку шкина было отвергнуто. Другие участни-
ки совещания решили, что время для цареубийства выбрано неудач-
но. «Они, — пишет Якушкин, — уверяли меня, что смерть императора
Александра в настоящую минуту не может быть ни на какую пользу
для государства и что, наконец, своим упорством я гублю не только
всех их, но и Тайное общество при самом его начале, которое со вре-
менем могло бы принести столько пользы для России»58.
Понятно, что товарищи несостоявшегося цареубийцы руковод-
ствовались отнюдь не тираноборческими установками: наказание ти-
рана — цель самодостаточная, тираноборец не может по определению
связывать свое решение с конкретной политической прагматикой,
тем более с пользой для организации. Коль скоро такая связь обсуж-
дается, речь идет не о тираноборчестве, но о другой задаче.
Так оно и было. Русские якобинцы намеревались не покарать ти-
рана, а захватить власть, дабы радикально преобразовать социум. Они
быстро пришли к выводу, что вероятность успеха антиправитель-
ственных акций, если режим стабилен, крайне мала и существенно
возрастает, когда административные структуры дезорганизованы. На
это указывал и французский опыт. Внезапную смерть царя заговор-
щики рассматривали прежде всего как фактор, дестабилизирующий
государственное управление. Они надеялись использовать период
междуцарствия, не дать взойти на престол наследнику убитого само-
держца. Но для этого требовался инструмент — войска, готовые пови-
новаться заговорщикам. Войсками они пока не располагали. Значит,
вероятность успеха оставалась пренебрежимо малой, потому от ини-
циативы «меланхолического» цареубийцы пользы не было.
Дуэльный вариант
Якушкин, по его словам, разошелся с товарищами, поскольку,
видя себя тиранобрцем, не желал участвовать в заговоре, связанном с
политическим убийством. Правда, в этой версии опять не все сходит-
ся. В частности, покинув Тайное общество, Якушкин вскоре вернул-
ся туда, товарищам своим деятельно помогал, хотя и не заблуждался
вроде бы относительно их намерений.
Можно, конечно, не принимать частности во внимание, ведь все
в якушкинской версии сходиться и не должно бы: подследственный
94
редко бывает расположен к откровенности, да и мемуарист нечасто
жаждет открыть истину полностью, тем более оставаясь подданным
русского царя. Мы учитываем такие факторы, потому главное вни-
мание уделяем не столько тому, в чем Якушкин старательно убеждал
следователей или потомков, сколько тому, о чем он проговорился не-
взначай, сам не заметив. «Проговорки» эти, выявляющие элементы
поэтики террора, в данном случае и опровергают версию «меланхо-
лического» заговорщика.
Начнем с плана покушения на жизнь императора. Тиранобор-
чество согласно традиции предполагало самопожертвование, что
планировал и Якушкин. Только он, как известно, отказался и от тра-
диционного кинжала, и от эшафота, предпочтя самоубийство. Не-
традиционны и объяснения, данные Якушкиным: «Я решился по
прибытии императора Александра отправиться с двумя пистолетами
к Успенскому собору и, когда царь пойдет во дворец, из одного писто-
лета выстрелить в него, из другого — в себя. В таком поступке я видел
не убийство, а только поединок на смерть обоих»59.
«Убийство» и «поединок», ему противопоставленный, введены
здесь явно вопреки логике прочих высказываний. Во-первых, если
бы Якушкин видел себя тираноборцем, свой поступок убийством он
вряд ли назвал бы: «убийство» и «тираноборчество» не синонимы,
эти термины различно окрашены. Декабристы постоянно акценти-
ровали, что тираноборец (как и воин, сражающийся за отечество) —
не убийца, не преступник, он — герой, достойный подражания.
Во-вторых, рассуждения о дуэли, пусть и «поединке нд смерть обо-
цх», тоже алогичны. Это противоречило тогдашнему словоупотре-
блению. Дворянский поединок не исчерпывался сведением счетов,
местью, физической расправой с противником. Дуэль осмыслялась
в качестве признаваемой обществом процедуры защиты чести: бро-
сивший вызов (или принявший) должен был в первую очередь не
отомстить обидчику, не унизить его, но себя возвысить в глазах
общества, проявить храбрость, демонстративно рисковать жизнью,
убеждая всех, что честь ставит выше. Отсюда вытекало и требова-
ние изначального равенства условий, предоставления каждому дуэ-
лянту равных возможностей нанесения удара. Нет равенства — нет
и «благородной схватки». Она и не планировалась: Якушкин хотел
застрелить безоружного, не ожидающего нападения. Финальный
выстрел в себя ничего по сути не менял, вероломное убийство с
последующим самоубийством никоим образом нельзя было счесть
дворянским ритуальным единоборством.
Якушкин, бесспорно, знал тогдашнее словоупотребление, дей-
ствия свои осмыслял адекватно, ни тираноборцем, ни дуэлянтом себя
не видел, потому употребил термин более точный — «убийство». Он
95
сам с собой не хитрил, что и подтверждается очередной «проговор-
кой»: «Рок избрал меня в жертвы, сделавшись злодеем, я не должен, не
могу жить, совершу удар и застрелюсь» (XVII, 27). Вот тут Якушкин
предельно точен терминологически: вероломное убийство именова-
ли тогда «злодейством», злодеями — «ожесточенных преступников,
закоснелых противников законов божеских и человеческих»60. Одна-
ко героя-тираноборца или дуэлянта, убившего противника, злодеем
не называли.
Планируя аттентат, Якушкин считал смерть царя необходимо-
стью, но понимал, что вероломное убийство неизбежно вызывет об-
щее осуждение. В традиционно-сословном социуме ни сам убийца,
ни его соучастники не могли бы рассчитывать на открыто проявляе-
мое сочувствие и поддержку, поскольку совершили то, что социум в
целом воспринимал как сакральное преступление. И Якушкин пред-
ложил вариант, снимающий с Тайного общества ответственность: вся
вина возлагалась на стрелявшего, который действовал по собствен-
ной инициативе, причем самоубийством заранее исключил арест и
допрос о побудительных причинах.
Таким образом, в качестве модели осмысления аттентата Якушкин
предложил сначала тираноборчество, затем не менее авторитетную
модель — поединок. Товарищам надлежало решить, какая модель бо-
лее выгодна с пропагандистской точки зрения. И не важно в данном
случае, что Тайное общество оказалось неготовым использовать ини-
циативу «меланхолического» заговорщика. Существенно другое: сам
он готов был ради задуманного преображения России жертвовать и
жизнью, и даже честным именем.
Установка, не столь уж необычная для якушкинского круга, клас-
сически сформулированная К.Ф. Рылеевым:
Любя страну своих отцов,
Женой, детями и собою
Ты ей пожертвовать готов...
Ноя, ноя, пылая местью,
Я жертвовать готов ей честью61.
Русские якобинцы и в дальнейшем пытались интерпретировать
аттентат в качестве тираноборческого акта или поединка. Возможно
было и обратное, дуэль интерпретировалась как тираноборческий
акт. Кстати, именно Рылеев проявлял тут максимальную последова-
тельность и настойчивость, доказывая, что поединок — политическая
демонстрация против тиранов.
Особенно характерна в этом контексте история дуэли К.П. Чер-
нова и В.Д. Новосильцева в 1825 г., к которой неоднократно обра-
щались историки. Новосильцев считался женихом сестры Чернова,
96
и брак этот находили отчасти мезальянсом, Черновы, родственники
Рылеева, были не ровня Новосильцевым. Щекотливость ситуации
усугублялась тем, что свадьба откладывалась в связи с семейными
обстоятельствами жениха. Не исключено, что все окончилось бы
миром, но, как вспоминает современник конфликта, «Черновы на
беду в Петербурге были знакомы с Рылеевым. Рылеев, заклятый
враг аристократов, принялся раздувать пламя»62. Он тут вполне
преуспел: на дуэли погибли и Чернов, и Новосильцев, поединок же
был осмыслен в качестве формы протеста против привилегий ари-
стократов, а похороны Чернова стали, по сути, первой русской по-
литической манифестацией.
Революционно-мифологический аспект этого события отражен
в анонимных стихах «На смерть Чернова», традиционно атрибу-
тировавшихся Рылееву, а в последнее время — В.К. Кюхельбекеру.
В первой же строфе автор формулирует основную пропагандист-
скую идею:
Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,
’ Царей трепещущим рабам,
‘ Тиранам, нас угнесть готовым.
Тут опять сопряжены две отрицающих друг друга модели: тирано-
борчества и «честного» поединка. Ну и, конечно же, «временщикам»
противостоят истинные «сыны отечества»:
*
Нет, не отечества сыны
Питомцы пришлецов презренных:
Мы чужды их семей надменных;
Они от нас отчуждены63.
Цареубийцы-энциклопедисты
Способ цареубийства, вообще не соотносимый с тираноборче-
ством, предложил Лунин, упомянутый в X главе «Евгения Онегина»
рядом с Якушкиным. «В 1816 или 1817 году, в каком именно месте —
не помню, говорил Лунин во время разговора нашего об Обществе
при мне и при Никите Муравьеве, о совершении цареубийства на
Царскосельской дороге с партиею в масках, когда время прийдет к
действию приступить», — сообщал Пестель следователям (IV, 178).
Маски — деталь весьма важная. Не уголовной ответственности
боялись заговорщики, а компрометации. Как известно, в их более
поздних планах предусматривалось, что непосредственные участни-
97
ки цареубийства, если живы останутся, обязательно покинут Россию,
дабы в случае огласки не запятнать Тайное общество сакральным
преступлением.
Лунинский план тоже не приняли, подобно якушкинскому, он
оказался не ко времени: «Я же тогда, — поясняет Пестель, — мало об-
ратил внимание на сие предположение, потому что слишком еще от-
даленным считал время начатия революции и необходимым находил
приуготовить наперед план Конституции и даже написать большую
часть уставов и постановлений, дабы с открытием революций новый
порядок мог сейчас быть введен сполна, ибо я не имел еще тогда мыс-
ли о Временном правлении. Сие мнение мое побудило Лунина ска-
зать с насмешкою, что я предлагаю наперед энциклопедию написать,
а потом к революции приступить» (IV, 178).
В 1823 г. идея цареубийства, соотносимая с термином «обречен-
ный отряд» (cohorte perdue), актуализовалась для Пестеля и его
соратников. Как и положено при аттентате, основной целью убий-
ства была пресловутая «польза»: царя устраняли, власть переходила
Временному правлению, новое правительство отрекалось от убийц
(либо погибших, либо успевших покинуть Россию) и недискреди-
тированным переходило к реформам. По словам Пестеля, он посто-
янно подчеркивал, что «ежели таковая партия была составлена из
отважных людей вне общества, то сие бы еще полезнее было, и точно
разделял притом Действие Революции на Заговор и Переворот, или
собственно Революцию, о чем и прочие члены рассуждали, находя
нужным учреждение сего Заговора, отдельность коего от общества
признавалась весьма полезною» (IV, 179-180). По той же причине
Пестель планировал подготовить к цареубийству одного из солдат
(IX, 125, 165).
Следовательно, переворот — захват власти с помощью заранее
организованных войсковых частей, ну а заговор — подготовка ситуа-
ции, удобной для захвата власти, т. е. междуцарствия, что связано с
цареубийством. Цареубийство безнадежно компрометирует заговор-
щиков, потому от цареубийц надлежит дистанцироваться, жертвуя
их жизнью, политической карьерой и т. п. Стало быть, цареубийцы —
заведомо «пропащие», термин выбран не случайно.
Планы, сходные с пестелевскими, строил и Рылеев, готовя Кахов-
ского на роль цареубийцы: «Любезный друг, ты сир на сей земле; ты
должен собою жертвовать для общества; убей завтра императора»
(I, 218). Если «сир», то и жертвуешь меньшим — только собой, обще-
ству же — «польза».
Каховский, по словам многих его знакомых, сам «предложил себя
на случай надобности в режициды» (от regicide — цареубийца), сам
настаивал на скорейшем исполнении плана1’’. Однако тиранобор-
98
цем Каховский не был, хоть Рылеев и называл его, как вспоминает
Е.П. Оболенский, «вторым Зандом»65. Подчеркнем еще раз: истин-
ный тираноборец не ставил бы время покушения в зависимость от
конкретных задач Тайного общества, что делал пламенный «режи-
цид». И уж тем более не был тираноборцем Рылеев, собиравшийся
использовать idee fixe Каховского. Да и не только Каховского: капи-
тан А.И. Якубович, за дуэль переведенный из гвардии в армию и по-
тому желавший отомстить императору, тоже назначался в режициды.
Ничего общего с кодексом тираноборчества не имели и другие пла-
ны «истребления» монарха — непосредственно во дворце, на балу, во
время парада, смотра и т. п. (I, 347, 364, 373; XVII, 27).
Особого внимания заслуживают планы Южного и Северного
общества, касающиеся не только убийства царя, но и уничтожения
всей «императорской фамилии». Так, капитан А.И. Майборода доно-
сил правительству о намерениях заговорщиков: «Слышал я однако
же от полковника Пестеля, что истребление императорской фамилии
должно быть совершено везде, где особы царствующего дома пребы-
вают, и что (вероятно, пред тем) выпущены будут две прокламации,
одна к народу, а другая к войску» (IV, 12). Показаниями Пестеля это
подтверждается (IV, 104). Майборода же сообщает, что в 1824 г. Пе-
стель, вернувшись из Петербурга, рассказывал: «Петербургские чле-
ны общества согласились на истребление императорской фамилии,
кроме государыни императрицы», но благодаря пестелевским дово-
дам удалось «преклонить тех членов на истребление всей без изъятия
царствующей фамилии» (IV, И).
Ход рассуждений заговорщиков очевиден. Социум традиционно-
сословного типа признает лишь монарха законным властителем, и
даже чисто российский опыт дворцовых переворотов доказывает, что
власть переходит от умершего к родственнику, а коль так, следовало
устранить всех родственников без различия пола и возраста.
Согласно свидетельству подполковника А. В. Поджио Пестель в
беседе с ним, загибая пальцы, перечислял «особ царствующей фами-
лии», подлежащих истреблению. Дойдя «до женского пола», рассказы-
вал Поджио, лидер Южного общества сказал, что «это дело ужасное»,
однако счет продолжил, предложив послать за границу специальных
эмиссаров, дабы убить и «особ фамилии, в иностранных краях находя-
щихся». Исключение, хоть и не категорическое, делалось лишь для де-
тей, поскольку, теоретизировал Пестель, вряд ли кто пожелает занять
трон, столько раз обагренный монаршьей кровью (IV, 76).
Сходные показания дал и Рылеев. Дабы, каялся лидер Северно-
го общества, «совершенно успокоить себя, я должен сознаться, что
после того, как я узнал о намерениях Якубовича и Каховского, мне
99
самому часто приходило на ум, что для прочного введения нового по-
рядка вещей необходимо истребление всей царствующей фамилии.
Полагал я, что убиение одного императора не только не произведет
никакой пользы, но, напротив, может быть пагубно для самой цели
общества, что оно разделит умы, составит партии и взволнует при-
верженцев августейшей фамилии и что все это совокупно неминуемо
породит междоусобие и все ужасы народной революции. С истребле-
нием же всей императорской фамилии я думал, что поневоле все пар-
тии должны будут соединиться или, по крайней мере, их легче можно
будет успокоить» (I, 317).
Д.И. Завалишин, собиравшийся, по его словам, основать другую
тайную организацию, по задачам и методам их решения не столь
радикальную, вспоминал позже, что Рылеев, дабы воспрепятство-
вать расколу в декабристском движении, угрожал ему: «Мы смело
можем действовать против вас, не боясь содействовать противной
стороне, так как ваши действия не ослабляют в ближайшее время
правительства и имеют в виду улучшение его в отдаленном буду-
щем, и вы не можете действовать против нас потому, что, ослабляя
нас, вы будете тем самым усиливать зло деспотизма, а мы убеждены,
что этого уж, конечно, вы и не хотите и не сделаете. Нейтралитета
мы вам никак не допустим, мы говорим вам это прямо. Вы може-
те лишь быть нам полезным союзником, и мы охотно примем вас в
число главных деятелей, но если вы не будете действовать с нами,
мы будем действовать против вас и вынудим вас или отказаться от
вашего действия, или выдать нас правительству, — а на это, нечего и
говорить, вы никогда не решитесь»61’.
Угрозы лидер Северного общества умело сочетал с апелляциями
к историческому опыту: «Мы начали действовать прежде вас, и за
нас все исторические примеры, и не будет ли самолюбием с вашей
стороны, что вы справедливее думаете и будете лучше действовать,
нежели как думали и действовали всегда и везде все другие в подоб-
ных обстоятельствах». А с правительством, по мнению Рылеева, над-
лежало бороться, словно «против неприятеля, силой или хитростью
вторгшегося в страну и захватившего ее»67. Иначе говоря, до полного
уничтожения.
Историки обычно с недоверием воспринимают свидетельства За-
валишина, относившегося к Рылееву с нескрываемой неприязнью, да
и вообще известного как «Хлестаков от декабризма»1’8. Но в данном
случае не так и важно, вспоминал Завалишин о действительно проис-
ходившем или же выдумал весь эпизод. Существенно то, какими он
видел рылеевские методы партийной борьбы.
Пестель тоже полагал, что разделение заговорщиков на радикалов
и умеренных вредит общему делу. Когда Северное общество, вспо-
100
минал Якушкин, стало, по мнению лидера южан, «действовать очень
нерешительно, тогда он объявил, что если их дело откроется, то он не
даст никому спастись, что чем больше будет жертв, тем больше будет
пользы — и он сдержал свое слово»1’9.
Таким образом, Пестель недвусмысленно дал понять товарищам,
что они уже в достаточной степени преступники, и если умеренные
рассчитывают на снисхождение в случае провала, то их расчет не
оправдается. Страх — залог единства, а в единстве — сила. Кстати, са-
мостоятельно возникшая на юге группа «Соединенных славян» была
усилиями декабристского руководства инкорпорирована в основную
организацию.
В рылеевских и пестелевских суждениях, в проектах глобального
«истребления императорской фамилии» и методах борьбы за органи-
зационное единство отчетливо прослеживаются типично якобинские
установки. Во-первых, не просто уничтожение конкретного против-
ника, но и превентивное устрашение всех потенциальных претен-
дентов на трон. Во-вторых, предупреждение посредством круговой
поруки возможных разногласий в среде русских революционеров —
«поневоле все партии должны будут соединиться».
Вот почему, сколько б ни настаивали декабристы на случайно-
сти и необязательности обсуждения планов цареубийства, убедить в
том следствие не удалось. Слишком много разработали они планов,
слишком часто и детально их обсуждали. И для следователей, и для
позднейших исследователей было очевидно, что цареубийство — не-
отъемлемая часть политической программы, принятой тайным обще-
ством в целом.
И в программных документах, и на следствии заговорщики
утверждали, что они — патриоты, потому — революционеры, при
этом — не якобинцы, не террористы. Однако анализ революционной
поэтики декабристов показывает, что реально были они именно тер-
рористами. И мыслили в соответствующих терминах, и ориентиро-
вались на генеральную якобинскую модель: революция — диктатура
(в качестве временной меры на переходном этапе), представительное
правление. Декларативное же отречение от учителей-французов об-
условлено тем, что в первой четверти XIX в. якобинцы, равным об-
разом, их опыт еще не были «канонизированы», и открыто признать
«злодеев» за образец — себя компрометировать.
Вслед за якобинцами декабристы поставили перед собой зада-
чу истребления монарха. Якобинцы искали для этого авторитетные
примеры, и декабристам такие примеры тоже понадобились, по-
скольку прямой апелляции к опыту робеспьеристов они избегали.
Наиболее близким примером для русских заговорщиков, как и для
якобинцев, было тираноборчество. Предложенный Якушкиным
101
«дуэльный» вариант — дань прагматике покушения (кинжал не
столь удобен) и национально-сословной специфике: все же царе-
убийство готовили русские дворяне, офицеры. Вариант аттентата —
дань, так сказать, европейской (карбонарской) моде устранения по-
литических противников.
Однако в отличие от якобинцев русские экстремисты связывали
цареубийство в первую очередь с военным переворотом, для перево-
рота же требовались войска, при отсутствии этого инструмента в ца-
реубийстве особой нужды не было, почему акция и откладывалась.
Принимая якобинскую модель, декабристы должны были обра-
титься к якобинским алгоритмам захвата и удержания власти — тер-
рору толпы и государственному террору.
Планы организации террора толпы обсуждались заговорщиками.
Как установили следователи, «Якубович говорил, что надобно раз-
бить кабаки, позволить солдатам и черни грабеж, потом вынесть из
какой-нибудь церкви хоругви и идти ко дворцу, Оболенский и дру-
гие согласились с этим предложением, основанным на опыте Якубо-
вича о русском солдате, которому нужны средства для возбуждения
к действию»7". Характерно также, что Рылеев предполагал в случае
провала заговора отступить с войсками в район военных поселений,
дабы взбунтовать их, а если бы опять не удалось, то поднимать кре-
стьянское восстание, обещая отмену крепостного права. В связи с
этим планом Рылеев даже советовал Каховскому определиться на
службу в военные поселения71.
Подобного рода планы составлены и Пестелем. «На средства он
не был разборчив, — пишет Е.И. Якушкин, — солдаты его не лю-
били. Всякий раз, когда император или великие князья назначали
смотр, он жестоко наказывал солдат. При учреждении военных по-
селений он хотел перейти туда на службу и обещал, что у него скоро
возмутятся»72. О том, какими методами Пестель был намерен «ско-
ро» добиться «возмущения», позволяют предполагать показания его
сослуживца — капитана Майбороды. Приняв командование полком
в 1822 г., свидетельствовал Майборода, новый командир «попускал
явное к нижним чинам послабление», но перед смотрами, где должен
был присутствовать император, приказывал «бить палками» солдат,
чтобы «нижние чины» видели: «чем дальше от них государь, тем на-
чальники к ним добрее», а чем ближе, «тем больше они испытывают
строгостей от тех же начальников» (IV, 17-18).
Пестелю и Рылееву, как известно, не пришлось осуществить
свои планы, что же касается плана Якубовича, то он был отвергнут
изначально. Заговорщики объявили средства не соответствующими
«делу великому».
Вряд ли соображения морали сыграли в данном случае важную
роль, ведь, к примеру, на убийство женщин заговорщики дали согла-
102
сие загодя. Скорее всего, причиной отказа были соображения чисто
тактические: основной инструмент военного переворота — войска,
опыт управления которыми у заговорщиков был, а вот опытом управ-
ления пьяными толпами русские якобинцы не обладали.
Разумеется, в тогдашней российской армии повиновение сол-
дат обеспечивалось главным образом системой телесных нака-
заний, но, с другой стороны, дисциплина держалась не только на
страхе. Солдат подчинялся командиру прежде всего потому, что
видел в нем представителя монарха: право командира повелевать
обуславливалось волею Божиего помазанника. Власть командира
опиралась на стереотипы мышления, присущие социуму автори-
тарного, традиционно-сословного типа. Если же офицер объявлял
себя мятежником, он сразу терял свой статус. А если солдаты сочли
бы себя бунтовщиками, не подчиняющимися воле Божиего пома-
занника, то формальных причин выполнять приказы офицеров у
них более не было бы. Тут требовались неформальные лидеры, чье
право повелевать признавалось бы массами без ссылок на чин, офи-
церские эполеты. Значит, вне привычной армейской дисциплины,
вне чинопочитания реализация командных навыков офицерами-
заговорщиками была бы маловероятна. Потому даже параллельное
использование взбунтовавшегося простонародья выглядело в прин-
ципе опасным: оно создавало угрозу дисциплине в контролируемых
революционерами войсковых частях.
Призывы к «народному возмущению» и сопряженный с ними
террор толпы оказались именно нецелесообразными. ,И вообще, по
.мере конкретизации планов захвата власти становилось все более
ясно, что даже полное «истребление императорской фамилии» еще
не влечет за собой признания социумом законности правительства,
сформированного заговорщиками. Потому при восстании солдатам
была предложена традиционная идеологическая схема: поддержка
легитимного монарха, «царя-милостивца» (Константина Павлови-
ча), которого беззаконно лишили трона неверные царедворцы. Удача
была маловероятна, но и удача эксперимента, связанного с прямым
призывом к мятежу, была еще менее вероятна, что и доказало восста-
ние Черниговского пехотного полка.
За три дня полк, где 29 декабря 1825 г. захватили власть лидеры
Южного общества, превратился в банду погромщиков, мародеров,
насильников, и был легко рассеян подоспевшими частями, верны-
ми правительству. О.И. Киянская, изучавшая материалы следствия
по делу черниговцев, пришла к выводу, что С.И. Муравьев-Апостол,
возглавлявший черниговцев, сознательно не принял никаких мер для
обороны, дабы любыми средствами положить конец неслыханным
бесчинствам пьяных солдат71.
103
Взбунтовав полк, офицеры-заговорщики рассчитывали главным
образом на личный авторитет, они надеялись, что привычка солдат
подчиняться офицерам сохранится, управление не нарушится. Од-
нако бунт разрушил аксиоматическую для «нижних чинов» модель
повиновения «Бог-царь-командир». И солдаты заменили ее другой,
тоже привычной. Если командир восстал против Божиего помазанни-
ка, взбунтовав подчиненных, то он уже не офицер, его подчиненные
более не солдаты: их отношения с командиром, сохранившим личный
авторитет, определяются по модели «атаман и разбойники». Разбой-
никам же традиция предписывает грабить, пьянствовать и т. п„ чему
атаман не должен препятствовать. А когда поимка становится неиз-
бежной, разбойники покупают снисхождение властей, выдав «зачин-
щика», атамана. Это, как известно, и произошло с вожаком мятежных
черниговцев.
Так закончилась декабристская попытка отказаться от принципа
воинской дисциплины, попытка, чреватая переходом непосредствен-
но к террору толпы.
Что касается государственного террора, то о вероятности его при-
менения можно спорить, к власти заговорщики не пришли. Хотя
уже анализировавшиеся пестелевские планы устройства админи-
стративного аппарата свидетельствуют: государственный террор в
якобинском варианте при всей его тогдашней одиозности не исклю-
чался безоговорочно. Похоже, что планировалось и создание ситуа-
ции «осажденной крепости» для нагнетения массовой истерии: по
мнению Пестеля, война с турками — врагом внешним — отвлекла бы
народ от политики внутренней, а это облегчило бы работу «времен-
ного правления» (IV, 144).
Убийство монарха в любом случае осознавалось в качестве неиз-
бежного этапа, тем более что с него и началось законодательное оформ-
ление государственного террора во Франции. С учетом политической
прагматики русские радикалы собирались «истребить императорскую
фамилию до захвата власти», дабы, не компрометируя новое прави-
тельство, устрашить возможных претендентов на трон.
Таким образом, декабристы приступили к разработке новой фор-
мы управления социумом посредством превентивного устрашения,
формы, называемой индивидуальным террором.
В принципе индивидуальный террор — вариант реализации идеи
террора в ситуации конспиративного заговора. И здесь декабристы
были в русле европейской традиции, ассоциировавшейся прежде все-
го с деятельностью Ф. Буонарроти. Наполеон вспоминал о нем: «Это
был очень умный человек, фанатик свободы, но честный, чистый, тер-
рорист и все же хороший и простой человек».
104
При якобинской диктатуре Буонарроти — комиссар Конвента,
в период термидора арестован «как сторонник террора и истребле-
ния населения», по выходе из тюрьмы — один из лидеров «Заговора
во имя равенства», первого опыта подготовки террора конспира-
тивной группой, затем, в бонапартистский и постбонапартистский
период, — создатель нескольких международных конспиративных
организаций, ставивших задачи захвата власти и якобинского пре-
образования социума. Буонарроти, как известно, приложил немало
усилий для «канонизации» якобинцев и якобинства71.
Кстати, декабристы и европейский «апостол террора» связаны не
только типологически: есть сведения, что Буонарроти искал и нашел
через единомышленников-поляков контакты с русскими якобинца-
ми75. «Русские связи» Буонарроти не прервались и после декабрьско-
го восстания. В Париже он встречался с Николаем и Александром
Тургеневыми, о разговорах со «старшиной изгнанников», «живой
хроникой последнего полувека», А.И. Тургенев писал: «Он лелеял в
колыбели дитя-революцию; знавал всех главных ее родителей и вос-
питателей; характеризует каждого с беспристрастием мертвого об
умерших»76.
' Восстание декабристов: Документы: в 18 т. М., 1925-1983. Т. IV. С. 90.
Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием соответствующих
томов и страниц.
- 2 Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Вын. 5. С. 370.
3 См., нанр.: Плимак Е.Г., Хорос ВТ. Великая французская революция и
революционная традиция в России // Великая французская революция и
Россия. М. 1989. С. 229-230.
1 См.: Щеголев П.Е. Каховский. Пг., 1919. С. 30-31. См. также: Архив бра-
тьев Тургеневых. С. 63.
5 См.: Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. М., 1991. С. 44;
Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: в 17 т. М.; Л., 1937-1959. Т. 12. С. 34; Греч Н.И.
Записки о моей жизни. М., 1990. С. 52.
6 Трубецкой С. П. Записки // Мемуары декабристов: Северное общество.
М., 1981. С. 73.
7 Бестужев А.А. Об историческом ходе свободомыслия в России // Из-
бранные социально-политические и философские произведения декабри-
стов: вЗ т. М., 1951. Т. I. С. 492.
6 Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос ВТ. Революционная традиция в Рос-
сии. М., 1986. С. 123 -131; Плимак Е.Г., Хорос ВТ. Указ. соч. С. 230.
6 Одесский М.П., Фельдман Д.М. Революция как идеологема: (К истории
формирования) // Общественные пауки и современность. 1994. № 2. С. 76.
См. также: Семенова А.В. Временное революционное правительство в планах
декабристов. М., 1982. С. 11-16.
105
Цит. по кн.: Лотман Ю.М. Об отношении Пушкина в годы южной ссыл-
ки к Робеспьеру //Лотман Ю.М. Избр. статьи: в Зт. Таллин, 1992-1993. Т. 3.
С. 406.
11 Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Указ. соч. С. 119.
12 Гуковский ГА. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 179.
1:1 Шишков А.С. Записки, мнения и переписка: в 2 т. Берлин, 1870.
Т. 1. С. 84.
11 Бестужев А.А. Указ. соч. С. 491-492.
15 Одесский М.П., Фельдман Д.М. Указ. соч. С. 70.
1(1 Цит. по кн.: Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературно-
го языка XVII-XIX веков. М., 1982. С. 213.
17 См., наир.: Пушкин А.С. Указ. изд. Т. 12. С. 161.
18 Орлов М.Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения, письма.
М. 1963. С. 81.
Вяземский П.А. Записные книжки. М., 1992. С. 145.
211 Дружинин Н.М. Избр. тр.: Революционное движение в России в XIX в.
М., 1985. С. 71-72.
21 Нечкина М.В. Союз спасения //Исторические записки: в 89т. М., 1947.
Т. 23. С. 154-155.
22 Ср.: Рудницкая Е.Л. Феномен Пестеля // Annali: Serione storico-politi-
co-sociale. XI-XII. 1989-1990. Napoli, 1994. P. 107.
21 Трубецкой С.П. Указ. соч. С. 27.
21 Там же. С. 28.
23 Троцкий И. Ш-е Отделение при Николае I. Л., 1990. С. 144.
26 Герцен А.И. Собр. соч.: в 30 т. М. 1954-1966. Т. 20. С. 647.
27 См., напр.: Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 406; Pantine I., Plimak Е.,
Khoros V. Un siecle de luttes et de recherches: Le inouvement revolutionnaire en
Russie. M„ 1986. P. 70.
28 Нечкина М.В. Указ. соч. С. 155.
2‘ ’ Глинка C.H. Записки о 1812 годе // 1812 год в русской поэзии и вос-
поминаниях современников. М., 1987. С. 473.
311 Ср.: Кочеткова Н.Д. Тема «золотого века» в литературе русского сенти-
ментализма // XVIII век. СПб., 1993. Вып. 18. С. 186.
31 Трубецкой С.П. Указ. соч. С. 31.
32 Греч Н.И. Указ. соч. С. 229.
33 Arendt Н. On Revolution. Harmondsworth, 1973. Ch. 3.
31 Цит. ио кн.: Война за независимость и образование США. М., 1976.
С. 360.
33 Радищев А.Н. Поли. собр. соч.: в 3 т. М.; Л., 1938-1952. Т. 1. С. 14.
36 Кутузов Н.И. О причинах благоденствия и величия народов // «Их
вечен с вольностью союз»: Литературная критика и публицистика декабри-
стов. М., 1983. С. 250-251.
37 Там же. С. 255.
38 Там же.
106
33 Цит. по кн.: Волк С.С. Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958.
С. 250.
10 Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствован-
ном: 1805-1850. СПб., 1882. С. 163.
11 Греч Н.И. Указ. соч. С. 222.
12 Бестужев Н.А. Воспоминания о Рылееве // Декабристы: Избр. соч.:
в 2 т. М., 1987. С. 56.
13 Тургенев Н.И. Россия и русские: в 3 т. М., 1915. Т. 1. С. 181.
11 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. Т. 3. М., 1985.
С. 86; Там же. Т. 4. М., 1986. С. 331.
Лунин М.С. Общественное движение в России в нынешнее царствова-
ние //Лунин М.С. Письма из Сибири. М., 1988. С. 1.25, 137.
16 Тургенев Н.И. Указ. соч. С. 184.
17 Лунин М.С. Разбор Донесения тайной следственной комиссии госуда-
рю императору в 1826 году // Лунин М.С. Указ. изд. С. 74.
w Муравьев Н.Н. Записки // Русский архив. 1885. № 10. С. 227.
19 Нечкина М.В. Функция художественного образа в историческом про-
цессе. М., 1981. С. 46-49, 55-57.
3 ,1 Пушкин А.С. Указ. изд. Т. 2. С. 46.
31 Пушкин А.С. Указ. изд. Т. 12. С. 166, 173-174.
32 Chenier A. Oeuvres completes. Р., 1950. Р. 179.
33 Ср.: Ковальская М.И. Движение карбонариев в Италии: 1808-1821 гг.
М., 1971. С. 92-93; The Terrorism Reader / ed. by W. Laquer. N.Y., 1978. P. 53.
31 Бакунин M.A. Государство и анархия // Бакунин М.А. Философия. Со-
циология. Политика. М., 1989. С. 423.
Пушкин А.С. Указ. изд. Т. 2 С. 173-174; ср.: Гуковский Г.А. Указ. соч.
С. 214-215; Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора: А. Пушкин,
Ф. Достоевский, Андрей Белый, Б. Савинков // Общественные науки и со-
временность. 1992. № 2. С. 83-85.
36 Пушкин А.С. Указ йзд. Т. 6. С. 524.
37 Якушкин И.Д. Записки // Декабристы: Антология в 2 т. М., 1975. Т. 2.
С. 390.
’’« Там же. С. 389.
39 Там же. С. 390.
60 См., напр.: Даль В. Словарь живого великорусского языка: в 3 т. М.,
1903. Т. 1. Стлб. 1706.
1,1 Рылеев К.Ф. Войнаровский//Декабристы... Т. 1. С. 292-293.
62 Шениг Н.И. Воспоминания // Русский архив. 1880. № 3. С. 320-321.
63 Кюхельбекер В.К. <На смерть Чернова> // Декабристы... Т. 2. С. 246.
91 См., напр.: Щеголев П.Е. Петр Григорьевич Каховский. М., 1919. С. 45.
65 Оболенский Е.П. Воспоминания о Кондратии Федоровиче Рылееве //
Мемуары декабристов... С. 86.
“ Завалишин Д. Записки декабриста. Мюнхен, 1904. С. 333.
107
67 Там же.
68 Лотман Ю.М. О Хлестакове //Лотман Ю.М. Указ. изд. Т. 1.
69 См. об этом: Якушкин Е.И. Замечания на «Записки» («Mon Journal»)
А.М. Муравьева // Мемуары декабристов... С. 143.
7,1 См., наир.: Котляревский Н. Рылеев. СПб., 1908. С. 150-151.
71 Приложение к докладу следственной комиссии //Русский архив. 1875.
№ 3. С. 437.
7-'Якушкин Е.И. Указ. соч. С. 143.
7:1 См.: Киянская О.И. «Главарь шайки злоумышленников...»: Из размыш-
лений над биографией С.И. Муравьева-Аностола // Литературное обозре-
ние. 1996. № 1.
71 См., наир.: Galante Garrone A. Filippo Buonarroti е i rivoluzionari
dell’Ottocento (1828-1837). Torino, 1951; Eisenstein E.L. The First Profes-
sional Revolutionist: Filippo Michele Buonarroti (1761-1837). Harvard, 1959;
Далин B.M. Комментарии // Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства. М.,
1963. Т. 2.
7;’ Семевский В.И. Политические и общественные идеи декабристов.
СПб., 1909. С. 376-377; Оксман Ю.Г. Из истории агитационной литературы
двадцатых годов XIX века // Очерки из истории движения декабристов: Сб.
статей. М., 1954. С. 506-507.
78 Тургенев А.И. Хроника русского. Дневники (1825-1826 гг.). М.; Л.,
1964. С 516.
ГЛАВА VI
Якобинцы второго призыва
Как известно, в постдекабристскую эпоху контакты русских и за-
падноевропейских революционеров постоянно расширялись1. Оно и
понятно: у них уже был общий язык — язык революции, единая систе-
ма ценностей, одни и те же наставники и герои. Россия, так сказать,
«догоняла» Запад, потому этапы формирования идеологем «револю-
ция» и «террор» в Европе и России почти совпали.
1830 1840-е II. для Европы — период «реабилитации» якобин-
цев и якобинства. Аналогично осмысление «французского опыта» в
России: если декабристы еще избегали сравнений с якобинцами, то
у А.И. Герцена, Н.П. Огарева и большинства их друзей, увлеченных
революционными идеями, нет сомнений в исходной правоте экстре-
мистов.
Сам Герцен неоднократно заявлял, что революционером — на
якобинский лад — видел себя чуть ли не с детства. Так, например,
он описывает состоявшийся на рубеже 1830-х гг. разговор со своим
домашним учителем-французом, который на вопрос о причинах каз-
ни Людовика XVI ответил, что король «изменил отечеству», и, как
подчеркивает мемуарист, сразу же стало ясно — «поделом казнили
короля»2. В данном случае важны не впечатления подростка и аргу-
ментация учителя, а то, что о них счел нужным упомянуть три десяти-
летия спустя маститый теоретик революционного движения. Кстати,
учителя своего Герцен называет «террорист Бушо» (VIII, 56).
Симпатии к радикалам проявлялись и на бытовом уровне. «Мы, —
вспоминает Герцен о товарищах юности, — надели на себя бархатные
береты a la Karl Sand и повязали на шею одинаковые т р е х ц в е т-
ные шарфы!» (VIII, 156). Эпатирующий намек тут вполне прозрачен:
тираномахи и республиканцы. «Культ Французской революции, —
писал Герцен о себе и друзьях — первая религия молодого русского;
и кто из нас не хранил портреты Робеспьера и Дантона» (XXX, 502).
Робеспьер и Дантон здесь — имена-символы, своего рода пароль.
Принято считать, что Герцен и Огарев основали первый в Рос-
сии социалистический кружок. Герцен так и заявил позже: «Мы —
революционеры, социалисты» (IX, 242). Однако социалистическим
в тогдашнем понимании кружок не был. Социализм, точнее, сен-
симоновский «извод» социализма, предполагал отрицание опы-
та террористов, поиск иных, не скомпрометированных способов
управления. В герценовском же сообществе установки сенсимо-
низма и робеспьеризма парадоксальным образом сосуществовали.
109
И характерно, что русские революционеры не считали это противо-
речие существенным: «Проповедовали мы везде, всегда, — вспоми-
нал Герцен. — Что мы, собственно, проповедовали, трудно сказать.
Идеи были смутны, мы проповедовали декабристов и Французскую
революцию, потом проповедовали сенсимонизм и ту же революцию,
мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических
книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего пропо-
ведовали ненависть к всякому насилию, к всякому правительствен-
ному произволу» (X, 318).
В данном случае сочетания «всякое насилие» и «всякий прави-
тельственный произвол» почти синонимичны. К насилию револю-
ционному поклонники Неподкупного, апологеты «робеспьеровской
легенды», не испытывали ненависти. Разумеется, не все из герцено-
огаревского круга сразу стали робеспьеристами, но в большинстве
шли они одним путем — путем радикализации.
В.Г. Белинский, например, ознакомился с трудами историков Ве-
ликой французской революции позже многих своих друзей, зато и
«левел» стремительно.
В июне 1841 г. он утверждал: «Я понял и Французскую револю-
цию, и ее римскую помпу, над которой прежде смеялся. Понял и кро-
вавую любовь Марата к свободе, его кровавую ненависть ко всему,
что хотело отделиться от братства с человечеством хоть коляскою с
гербом»3.
К сентябрю пресловутое понимание перешло в преклонение: «Но-
вый мир открылся передо мной. Я выдумал, что понимал революцию —
вздор — только начинаю понимать. Лучшего люди ничего не сделают».
Ну а если и сделают, считал Белинский, то лишь следуя маратовской
«арифметике»: «Люди так глупы, что их насильно надо вести к сча-
стию. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением миллионов»1.
Идеологи террора стали кумирами русского критика. «Тут нече-
го объяснять, — писал Белинский в апреле 1842 г., — дело ясное, что
Р<обеспьер> был не ограниченный человек, не интриган, не злодей,
не ритор и что тысячелетнее царство Божие утвердится на земле не
сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодуш-
ной Жиронды, а террористами — обоюдоострым мечом слова и дела
Робеспьеров и Сен-Жюстов»’.
Примечательно, что Т.Н. Грановский попытался умерить энтузи-
азм приятеля: «Как государственный человек, в великом значении
слова, Робеспьер был ничтожен, равно как и Сен-Жюст». Неподкуп-
ный, по мнению историка, не заслуживал восторженного поклонения:
«Его добродетель, главною чертою которой было то, что он не крал
и не искал выгодных должностей, очень похвальна в французском
bourgeois, но сама по себе дрянь. Жиронда выше его по тому именно,
110
что у нее недоставало так называемого практического смысла. Она
понимала значение революции, которая должна была изменить не
одни наружные политические формы, но решить все общественные
задачи и противоречия, которыми так давно страдает мир. Жиронда
определила и указала на все вопросы, о которых теперь размышляет
Европа; Жиронда объявила, что революция не есть событие француз-
ское, а всемирное; Жиронда сошла в могилу чистая и святая, испол-
нив свое теоретическое предназначение»6.
Спор Белинского и Грановского весьма характерен для рубежа
1830-1840-х гг. В нем отразились основные положения полемики о
роли различных политических группировок эпохи Великой фран-
цузской революции, полемики, развернувшейся в связи с «реабили-
тацией» левых экстремистов. Процесс шел, так сказать, поэтапно, и
Белинский защищал уже не сенсимонистскую точку зрения, а по-
зицию социалиста-радикала П. Леру, противопоставившего якобин-
цев как истинных революционеров жирондистам, которые, согласно
Леру, хотя и примкнули к народному движению, но защищали инте-
ресы собственников. Белинского поддержал Герцен: «Максимилиан
один истинно великий человек революции, все прочие — необходи-
мые блестящие явления ее и только»7.
По сути, спор о Робеспьере был спором в первую очередь о терро-
ре, и Белинский славил методы якобинцев с присущей ему экзальта-
цией: «Лучшее, что есть в жизни, — это пир во время чумы и террор,
ибо в них есть упоение, и самое отчаяние, самое скорбь похожи на
оргию, где гроб и обезглавленный труп — не более, как орнаменты
торжественной залы»6.
Кстати, в 1842 г. Герцен выскажет свое мнение о Белинском, при-
вычно апеллируя к «робеспьеровской легенде»: «Фанатик, человек
экстремы, но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно лю-
бить или ненавидеть. Середины нет. Я истинно его люблю. Тип этой
породы людей — Робеспьер. Человек для них ничего, убеждения —
все» (II, 242).
К тому же имени-символу обращается и Огарев, описывая в авто-
биографической поэме «Юмор» духовную атмосферу рубежа 1830—
1840 -х гг.:
Есть к массам у меня любовь
И в сердце злоба Робеспьера.
Я гильотину ввел бы вновь.
Вот исправительная мера!9
Интеллектуалы 1840-х гг. использовали революционные имена-
символы повсеместно, в связи с чем Герцен даже иронизировал,
вспоминая, к примеру, о «премилом сравнении немецкой философии
111
с французской революциею. Кант — Мирабо, Фихте — Робеспьер» и
т. и. (III, 117). Тем не менее он находил, что подобное сравнение «не
чуждо некоторой верности», да и сам часто прибегал к привычной
оппозиции «монтаньяры/жирондисты». В частности, размышляя о
значении сократовского наследия, Герцен указывал: «Сократ нанес
существующему порядку в Греции тяжелейший удар, нежели все со-
фисты; он дальше пошел, нежели они, и потому-то он и был их врагом.
Софисты — блестящая Жиронда, а Сократ — монтаньяр» (III, 166).
Сходным образом Герцен противопоставлял «дам полусвета» рус-
ским девушкам, стремившимся получить образование, «студентам-
барышням», как он их называл: «Камелии — наша жиронда», ну а
«студенты-барышни — якобинцы» (XI, 456).
Соответствующие аналогии применялись и к событиям русской
истории. О Петре I, например, Герцен писал в дневнике: «Марат, Ро-
беспьер и Фукье-Тенвиль вместе. Понять, оправдать, отдать не токмо
справедливость, но склониться пред грозными явлениями Конвента
и Петра — долг. Более, в самих гнусностях их не должно терять яв-
ного признака величия. Но не всех актеров 93-го года можно любить,
также и Петра» (II, 348).
Очевидно, что в сравнении с Белинским Герцен воспринимал тер-
рор и террористов не столь восторженно, зато по сути подхода и оце-
нок разногласий нет: террор был исторически необходим.
Революционный тезаурус
1830-1840-е гг. — период решительной переоценки робеспьериз-
ма. Левая оппозиция режиму Луи-Филиппа, отвергая модель 1789 г.,
которую уже считали почти официальной, предпочитала более ради-
кальный вариант — якобинский. В этой среде, как свидетельствует
известный заговорщик М. Коссидьер, катехизисом стала робеспье-
ровская «Декларация прав человека», а насилие мыслилось наиболее
приемлемым способом борьбы за власть111. И характерно, что одна из
самых влиятельных антиправительственных организаций называ-
лась в память о Марате «Обществом друзей народа», а члены обще-
ства, по словам очевидца Г. Гейне, «объявляли своим евангелием»
последнюю речь Неподкупного”.
Оставалось лишь подкрепить теории практикой, о чем и писал
авторитетнейший лидер заговорщиков Г. Кавеньяк (сын депутата
Конвента, кстати): «Великие тени вызывают не речами, а деяниями,
достойными их»12. Мнение это было весьма распространенным, и ре-
волюция 1848 г., инициировавшая по всей Европе «цепную реакцию»
восстаний, совершалась по якобинской модели, античные и англий-
ские аналогии утратили актуальность. Образцом для подражания
стала эпоха Конвента.
112
Изначально левые радикалы различного толка старательно на-
гнетали истерию неповиновения, публично и печатно доказывая,
что монархическое правительство, т. е. правительство Луи Филип-
па, — источник всех бед и опасностей. Монархия к тому времени
была уже весьма непопулярна: как писал Коссидьер, она «была со-
вершенно оттеснена сторонниками политической и даже социальной
реформы. Над возродившимся либерализмом поднималась в свою
очередь и проникалась справедливым сознанием своей силы великая
партия французской традиции, свободы, равенства, братства, партия
народной республики, которую мучили и преследовали в течение
пятидесяти лет»".
Затем радикалы воспользовались традиционным средством — тер-
рором толпы. В феврале 1848 г., опираясь на группы, сформированные
в парижских предместьях, они потребовали уничтожения монархии
и передачи власти «Временному правительству, назначенному наро-
дом», т. е. правительству, образованному по усмотрению революци-
онной элиты — руководителей тайных обществ и легальных, но тоже
экстремистских группировок. А правительству надлежало созвать
Учредительное собрание, дабы утвердить новую конституцию. Толь-
ко таким путем, запугивали радикальные лидеры своих оппонентов,
«можно восстановить спокойствие», избежать новых эксцессов на
улицах столицы".
Якобинская модель, что просматривается тут во всех деталях,
вновь способствовала успеху: король отрекся, отреклись его наслед-
ники, и Временное правительство было сформировано. <
. Однако террор толпы оказался оружием обоюдоострым. Ради-
кальные лидеры, недовольные новым разделом власти, продолжа-
ли нагнетать истерию неповиновения, а правительство не могло ни
успокоить недавних соратников в предместьях, ни преобразовать ис-
терию неповиновения в истерию солидарности. В июне началась, по
сути, гражданская война. Вот тогда наследники Робеспьера проявили
решительность: стянув к Парижу войска, правительство разгромило
предместья. Операция подавления была проведена с необычайной
жестокостью: войска действовали на улицах при поддержке артилле-
рии, не обошлось и без массовых расстрелов пленных. Символично,
пожалуй, что операцию эту планировал и проводил брат и едино-
мышленник неоякобинца Г. Кавеньяка — генерал Л.Э. Кавеньяк, по-
лучивший диктаторские полномочия.
Усмиритель не последовал примеру Наполеона I: исполнив по-
ручение, генерал сложил полномочия. Правительство же отказалось
в дальнейшем от чрезвычайных мер. Но с подавлением предместий
оно, не обретя популярности, ликвидировало тот фактор устраше-
ния, благодаря которому возникло и функционировало. В итоге
ИЗ
«неоякобинцы» почти без сопротивления отдали власть бонапар-
тистам: Луи Бонапарт победил на президентских выборах, а вскоре
установил режим военной диктатуры и объявил себя императором
Наполеоном III. Наследники Робеспьера, соответственно, подвер-
глись репрессиям. До гильотины, впрочем, не дошло.
Именно события 1848 г. окончательно сформировали тип «про-
фессионального революционера» — один из характернейших для
XIX в. «Появились революционеры невиданного типа, — свидетель-
ствовал проницательный А. Токвиль, — которые довели смелость до
безумия, не знали сомнений и колебаний перед осуществлением ка-
кого бы то ни было намерения. И не следует думать, будто эти новые
существа были единичными и мимолетными порождениями извест-
ного момента, осужденными исчезнуть вместе с ним. С тех пор они
образовали целую расу, которая размножилась и распространилась
по всем частям цивилизованного мира, везде сохраняя одну и ту же
физиономию, один и тот же характер. Мы знали ее при ее зарожде-
нии, и до сих пор она у нас перед глазами»15.
Лидеры 1848 г. так и не стали героями новых революционных
«легенд», хотя они и приложили немало усилий, чтобы походить на
своих учителей-якобинцев. А. Токвиль вспоминал: «Декретом Вре-
менного правительства было постановлено, что народные представи-
тели будут носить костюмы членов Конвента и в особенности такой
же белый жилет с отворотами, в каком обыкновенно представляли на
театральных сценах Робеспьера». Но, по словам мемуариста, подра-
жатели не сумели пойти дальше внешнего сходства. «Вялые страсти
того времени, — иронизировал Токвиль, — выражались пламенным
языком 93-го года и беспрестанно делались ссылки на пример и на
имена знаменитых злодеев, подражать которым никто не имел ни до-
статочной энергии, ни даже искреннего желания»1'’.
Другой современник — К. Маркс — называл «Гору 1848-1851 гг.»
фарсовым повторением трагедии: «И как раз тогда, когда люди как
будто тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и созда-
ют настоящее и небывалое, как раз в такие эпохи революционных
кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе
на помощь духов прошлого, заимствуя у них имена, боевые лозунги,
костюмы»17.
Радикалам не довелось возродить террористическую практику,
зато их готовность к тому была несомненна. К примеру, один из ли-
деров правительства упоминал о создании некоего повстанческого
центра, называвшегося Комитетом общественного спасения, которо-
му надлежало установить диктатуру1*. Да и легендарный заговорщик
О. Бланки, сожалея об упущенных возможностях, утверждал: «Один
год диктатуры в 48-м году избавил бы Францию и историю от собы-
114
тий четверти века, клонящегося к закату. Если теперь понадобится
десять лет такой диктатуры, колебаться не следует»19.
Немецкий единомышленник неоякобинцев К. Гейнцен писал:
«Мы не желаем никакого убийства, но если наши враги другого
мнения, если они могут оправдать убийства, считая их своей особой
привилегией, то необходимость вынуждает нас оспорить эту приви-
легию; и лишь один шаг нужно сделать, чтобы стать Робеспьером,
обрекая 100 000 на эшафот в интересах человечества»20. А.И. Герцен
иронизировал позднее по поводу эпатажного терроризма радикала из
Германии, сравнивая его с пугающе нелепым персонажем Н.В. Гого-
ля: «Наружность Гейнцена, этого Собакевича немецкой революции,
была угрюмо груба; сангвинический, неуклюжий, он сердито по-
глядывал исподлобья и был неречист. Он впоследствии писал, что
достаточно избить два миллиона человек на земном шаре — и дело
революции пойдет как по маслу» (X, 60).
Действительно, такого рода угрозы, если заранее известно, что
возможности реализовать их нет, могут вызвать лишь насмешку.
Но в данном случае важно, что и неоякобинцы (Бланки, Гейнцен),
и оппоненты их из правительства уверены: реалии Великой фран-
цузской революции, имена и афоризмы ее лидеров («Комитет об-
щественного спасения», «Робеспьер», «100 000 на эшафот» и т. п.)
общеизвестны. Активный участник событий 1848 г. в Германии —
М.А. Бакунин — свидетельствовал, что «литература французская,
особенно же революционная, проникла всюду. История жиронди-
стов Ламартина, сочинения Луи Блана и Мишле были переведены
на немецкий язык вместе с последними романами. И немцы стали
бредить героями великой революции и распределять между собою
на будущее время роли: кто воображал себя Дантоном или любезным
Камиль-де-Муленом (der liebenswuerdige Camille-Desmoulens!), кто
Робеспьером или Сен-Жюстом, кто, наконец, Маратом. Самим же
собою почти не был никто»2'.
История Французской революции стала универсальным те-
заурусом подобно тому, как в Европе Нового Времени выхолощен-
ная античность. С помощью этого тезауруса революционеры разра-
батывали методы преобразования настоящего, а историки — модели
осмысления прошлого. И если ранее события Французской рево-
люции интерпретировались по английским аналогиям, то теперь
Ф. Гизо или Т. Карлейль, «загнав» хронику «великого бунта» во
французскую парадигму, создают концепции «английской револю-
ции XVII столетия».
Французские события первой трети XIX в., кардинальным обра-
зом изменив отношение к идеологеме «революция», вызвали также
важнейший вопрос: всегда ли уничтожение сословных привилегий,
115
без которого невозможно равенство граждан перед законом, оборачи-
вается всеобщим равенством в беззащитности перед всесильным пра-
вительством, всегда ли за революцией по первой модели начинается
революция по модели второй?
Систематически учение о двух вариантах развития, предлагаемых
революцией, изложил А. де Токвиль, анализировавший американ-
ский опыт в аспекте французского. Гибель «старого порядка», т. е.
сословных привилегий, он считал неизбежностью, однако верил, что
перерождение революции в диктатуру можно предотвратить. Для
этого, с точки зрения Токвиля, следовало обеспечить соблюдение
принципа «свободы» — экономические и политические гарантии
права личности на выражение собственного мнения — пусть даже в
ущерб принципу «равенства»22.
Формулируя выводы Токвиля применительно к истории идеоло-
гемы «революция», можно сказать, что закономерное падение автори-
тарного строя открывает перед обществом два пути — к демократии
или к тоталитаризму, и выбор зависит от конкретных обстоятельств.
Однако и демократия, и тоталитаризм — две ипостаси бюрократиче-
ского социума. А потому обе революционные модели, отрицающие
друг друга, обозначаются одним словом.
Кризис робеспьеризма
Как и в Европе, отношение к террору изменилось в России после
французских событий 1848 г. Едва ли не все революционеры были
буквально потрясены тем, что лидеры партий, которые два десяти-
летия декларировали верность якобинским традициям и составили
правительство после долгожданного свержения монархии, с неверо-
ятной жестокостью подавили затем восстание в рабочих предместьях
Парижа, однако не сумели воспротивиться военной диктатуре и усту-
пили власть Наполеону III.
Осмыслялось это различно. С одной стороны, выдвигались пред-
положения, что якобинские управленческие алгоритмы вообще по-
рочны, потому за Робеспьерами и приходят наполеоны. С другой
стороны, те, кто не отверг «легенду 93-го года», объясняли, что време-
на изменились, повторение великих деяний прошлого невозможно, а
коль так, новые робеспьеристы были и впредь будут отнюдь не истин-
ными якобинцами, им уготована судьба недостойных или неумелых
подражателей.
«Никогда террор 93-го года не доходил до того, до чего дошел тер-
рор теперь, — писал Герцен осенью 1848 г. — Не говоря уже о том,
что характер, обстановка, причины — все разно, я держусь за мате-
риальный факт насилия и меру его. Много голов пало на гильотине,
116
много невинных, в этом нет сомнения, мы знаем их поименно. А кого
расстреливали у фортов, на Карусельской площади, на Марсовском
поле, в подвалах тюльерийского дворца? Мы знаем Фукье-Тенвиля,
Германа и других членов революционного суда. А этих, кто судил,
кто признал виноватыми, и в чем состояла необходимость этих кро-
вавых злодейств? Зачем эта тайна, зачем украли у народа право знать
своих мучеников? Разве Комитет общественного спасения скрывал
свои меры? Самая резня в сентябрьские дни делалась белым днем, а
ныне, — обличал русский революционер бывших единомышленни-
ков, — новым якобинцам хватило смелости лишь на войну со своим
народом, но недостало, чтобы действовать гласно» (V, 154).
В итоге получалось, что ученики — французские радикалы —
опозорили учителей — якобинцев. И это, согласно Герцену, не слу-
чайность, а закономерность. «Террор 93-го года был величественен
в своей мрачной беспощадности, вся Европа ломилась во Францию
наказать революцию, отечество действительно было в опасности».
«Ныне же подобной опасности нет, — рассуждал Герцен, — зна-
чит, новые робеспьеристы не народ защищают, а злоупотребляют
властью» (V, 155).
Робеспьеризм был вновь скомпрометирован, причем скомпроме-
тирован в глазах его недавних апологетов. Огарев, славивший Непод-
купного до 1848 г., вернувшись к поэме «Юмор» позже, сетовал:
Война и кровь!.. Так вот предел,
Где стали мы с образованьем, ,
Где даже сохранился цел
Дух революций с их преданьем
Единства нацьональных дел
И всех языц размежеваньем,
Которых цели так дики,
Что царским жадностям с руки2'.
Разочаровался в робеспьеризме и Н.Г. Чернышевский, обычно
противопоставлявший себя герценовскому окружению, как радикал
либералам, склонным к компромиссам с властью. Изначально и он,
видя в якобинстве идеальную революционную доктрину, вполне со-
вместимую с доктринами более поздними, писал в дневнике: «Мне
кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества ре-
шительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних респу-
бликанцев», т. е. «монтаньяр решительно»2’. Оценивая же парижские
события 1848 г., Чернышевский пришел к выводу: робеспьеризм и со-
циализм несовместимы ныне, потому и «приверженец абсолютизма,
и красный республиканец чувствовали в это время, что у них у обо-
их есть что-то общее, против чего идут социалисты и коммунисты»25.
117
Соответственно, полемику неоякобинцев с их правыми оппонентами
Чернышевский называл бесплодными «спорами об именах и истори-
ческих воспоминаниях»26.
Можно отметить, что и Герцен после 1848 г. обосновывал разрыв
с робеспьеризмом, следуя той же схеме. Пожалуй, осуждение сов-
ременного робеспьеризма — лейтмотив хрестоматийно известных
герценовских мемуаров. Характеризуя в «Былом и думах» неояко-
бинцев, он, к примеру, писал: «В их рядах есть люди умные, острые,
люди очень добрые, с горячей религией и с готовностью ей пожерт-
вовать всем, но понимающих людей, людей, которые бы исследовали
свое положение, свои вопросы так, как естествоиспытатель исследует
явление или патолог — болезнь, почти вовсе нет». «Лозунги, — под-
черкивал Герцен, — выдвигаются традиционные, правильные, но, —
вопрошал он, — как же все это устроить, осуществить? Это последнее
дело. Лишь бы быть во власти, остальное сделается декретами, пле-
бисцитами». Недовольство же народа подавляется штыками. «И ре-
лигия террора, coup d'Etat, централизации, военного вмешательства
сквозит в дырах карманьолы и блузы» (XI, 58).
Понятно, что ни Герцена, ни большинство его товарищей по ре-
волюционному движению разочарование в якобинских методах не
привело к разочарованию в революционной идеологии. Недавние
апологеты Робеспьера доказывали, что террор отнюдь не имманен-
тен революции, не порожден ею, но в качестве средства политической
борьбы использовался всегда, всеми, причем прогрессисты и револю-
ционеры прибегали к террору гораздо реже, нежели реакционеры и
контрреволюционеры, т. е. красный террор — явление куда менее рас-
пространенное, чем белый террор.
Как уже указывалось, сам термин «белый террор» ввели про-
тивники термидорианцев, белым террором именовались репрессии
против оставшихся сторонников Робеспьера. По сути, актуализо-
валась прежняя, жирондистско-якобинская модель осмысления
идеологемы «террор»: деспоты вынудили народ применить по от-
ношению к ним те методы, которые они всегда применяли по от-
ношению к народу, следовательно, красный террор — исключение, а
белый террор — правило.
Развивая этот тезис, Герцен называет террором чуть ли не все
критикуемые им правительственные акции. «В Петербурге, — обли-
чает он, — террор, самый опасный и бессмысленный из всех, террор
оторопелой трусости». Имеются в виду отнюдь не аресты и казни,
Герцен возмущен закрытием либеральной газеты «День», журна-
лов «Современник», «Русское слово» и т. п. (X, 199). Сходным об-
разом действовали и многие другие революционные публицисты.
118
В итоге смысл термина «террор» быстро «размывался», и термин
достаточно часто использовался для обозначения любых форм по-
литического насилия.
Однако, отвергая террор, убежденные революционеры не могли
отречься от насилия даже теоретически: отказ от насилия означал бы
и отказ от революционной аксиоматики. Выход был найден в созда-
нии новой концепции революционного насилия — что называется,
антибуржуазной.
Черпая аргументы в социалистических доктринах, левые радика-
лы объявили своих предшественников вплоть до 1848 г. носителями
«буржуазного сознания», выразителями классовых интересов буржу-
азии, т. е. меньшинства. А грядущие революции, полагали радикалы,
будут антибуржуазными, т. е. совершатся большинством и в инте-
ресах большинства. На основе подобного рода «арифметических»
суждений строилась «обратная пропорция»: раньше насилие приме-
нялось ради меньшинства против большинства, и крови было мно-
го, в будущем же насилие станет орудием подавления меньшинства
большинством, потому и крови меньше прольется. Ну а применение
французами робеспьеристских методов через полвека (и более) после
гибели Неподкупного было результатом своекорыстия или (в луч-
шем случае) политического невежества, что вовсе не порочит саму
идею революции: подлинные революции совершаются народными
массами, и лидеры их сильны, пока следуют воле большинства.
Русские социалисты, разочаровавшиеся в якобинстве, не желали
более, чтобы их деятельность вообще ассоциировалась с «легендой»
Великой революции, поскольку видели себя выразителями интере-
сов неимущих. Соответственно, авторитетнейший лидер тайного об-
щества фурьеристской ориентации М.В. Буташевич-Петрашевский
счел нужным на одном из заседаний весной 1848 г. демонстратив-
но отвергнуть идеологию радикалов XVIII столетия. Их планы
Буташевич-Петрашевский находил ограниченными, буржуазными.
«Слово “свобода” в I В<еликую> Ф<ранцузскую> Р<еволюцию>, —
доказывал он, — употреблялось более для обозначения свободы
п<олитической>», что отвечало лишь интересам имущих, ныне же
этот термин следует использовать «для обозначения св<ободы> со-
циальной», поскольку «человека м<ожно> б<удет> почесть <тог-
да> только пользующимся действительной свободою, когда для
него не только будет возможно развитие полное и гармоничное
всех потребностей его природы, но самое такое развитие б<удет>
действительно»27.
Аналогично и М.А. Бакунин писал, ссылаясь на П.Ж. Прудо-
на: «Предателями всегда могут быть только свои. В 1848 г., как и в
119
1793 г., революцию тормозили те, кто были ее представителями. Наш
республиканизм, как и старое якобинство, есть не что иное, как бур-
жуазная прихоть без принципа и плана». «Потому, — делал вывод Ба-
кунин, — главною особенностью всех буржуазных республиканцев,
верных учеников Робеспьера, является их неизменное пристрастие
к авторитету Государства и ненависть к Революции»28. И поскольку
революционные лидеры буржуазны, буржуазен и тот террор, к кото-
рому они прибегали.
Итак, террор, точнее государственный террор, был почти по-
всеместно -- и русскими, и европейскими радикалами — признан
орудием реакции. Требовалось найти способ управления, позволя-
ющий предотвратить кровопролитие, связанное с захватом и удер-
жанием власти.
Апология заговора
На рубеже 1850-1860-х гг. радикалы, отрекшиеся от якобиниз-
ма, все чаще обращаются к идеям, которые неустанно пропаганди-
ровали Буонарроти и его выученики. Речь шла о создании «партии
нового типа» (как позже определит это В.И. Ленин) — обширной
сети тайных обществ, подчиненных единому руководству, жестко
централизованной конспиративной организации, что вела бы подго-
товку к вооруженному восстанию, дабы в нужный момент свергнуть
правительство. И в этот момент, что само собой подразумевалось,
партия — так сказать, кузница управленческих кадров — стала бы
основой, костяком новой администрации. Значит, новые управленцы
выдвигались бы не стихийно, а централизованно, их компетентность
и добросовестность были бы проверены за годы подполья, центра-
лизация, партийная дисциплина гарантировали бы от «буржуазного
перерождения» и междуусобиц.
«Партия нового типа» оказалась почти универсальным инстру-
ментом для решения задач как революционных, так и национально-
освободительных. Наибольшего успеха добились итальянские
заговорщики, воспользовавшиеся «рецептами» Буонарроти: почти
тридцать лет «Молодая Италия» и ряд иных организаций под руко-
водством Дж. Мадзини вели борьбу за объединение и независимость
страны. «Фанатик и в то же время организатор, — характеризовал
Герцен Мадзини, — он покрыл Италию сетью тайных обществ, свя-
занных между собой и шедших к единой цели. Общества эти ветви-
лись неуловимыми артериями, дробились, мельчали и исчезали в
Аппенинах и в Альпах, в царственных pallazzi аристократов и темных
переулках итальянских городов, в которые никакая полиция не мо-
жет проникнуть», и «восторженные юноши, энергические плебеи,
120
энергические аристократы, иногда старые старики», подчиняясь
«указаниям Маццини, рукоположенного старцем Буонаротти, това-
рищем и другом Гракха Бабефа», шли «на неровный бой, пренебрегая
цепями и плахой, примешивая иной раз к предсмертному крику “Viva
1'Italia!” — “Evviva Mazzini!”» (X, 66-67).
Бескорыстие, отвага, жертвенность вождя и эмиссаров «Молодой
Италии» не подвергались сомнению. Если в 1830-е гг. эталонными
героями были Робеспьер, Сен-Жюст, Дантон, то к 1860-м — Мадзини
и его ученик, «народный полководец» Дж. Гарибальди, возглавляв-
ший армии повстанцев не только на родине, но и в других странах.
Потому Герцен, часто и охотно высмеивавший своих единомышлен-
ников, причем не щадя революционных знаменитостей, о Мадзини
писал сочувственно и с уважением, а о Гарибальди — с нескрываемым
восторгом. Как вспоминал позже В.Г. Короленко, русские революци-
онеры той эпохи полагали самым лестным для себя сопоставление с
героями «типа Гарибальди»29.
Третьим общепризнанным образцом стал Ф. Орсини. Он, как
известно, тоже был учеником и ближайшим соратником Мадзини,
но в итоге нашел методы учителя недостаточно действенными. Ор-
сини решил разом устранить главное препятствие в борьбе за не-
зависимость отечества, главное же препятствие он видел в режиме
Наполеона III, поддерживавшего противников единой Италии. От-
казавшись от апробированной тактики учителя, ученик в 1858 г. со-
вершил покушение на французского императора. И хотя попытка
была неудачной, современники восхищались мужеством Орсини во
время следствия и казни.
• Значительную роль в создании широко распространенной легенды
об Орсини, этом, по словам Герцена, «заговорщике-художнике, муче-
нике и искателе приключений, патриоте и кондотьере», сыграло лич-
ное обаяние героя-итальянца. Слава казненного пугала победителей,
и не случайно Герцен даже вспоминает ходившие тогда слухи, что На-
полеон III приказал «обмакнуть в селитряную кислоту» отрубленную
голову Орсини, дабы «нельзя было снять маски» (X, 74-75).
Сам Орсини причислял себя к «потомкам Брута», Брутом его назы-
вал и Огарев в поэме «С того берега»30. Сравнение однако «хромало»,
ведь новоявленный Брут сознательно игнорировал тираноборческий
ритуал: императора планировалось поразить не ударом кинжала, а
бомбами, точнее гранатами, брошенными издали, предусматривалось
и бегство после покушения.
Применение бомб в людном месте (перед театром) доказывает, что
изначально не исключались и случайные жертвы, а это уж начисто
отрицало традицию, на которую ссылался Орсини. От взрывов, как
известно, пострадало множество парижан (156 раненых, 8 убитых),
зато Наполеон III и его жена остались невредимы.
121
Орсиньевское покушение ничего общего с тираноборчеством
в классическом понимании термина не имело. Обычный аттентат.
Обычный, потому что политические убийства давно вошли в арсенал
карбонарских вент, а затем и «партий нового типа».
Правда, в письме, отправленном перед казнью Наполеону III,
Орсини утверждал, что система идей, ради которой он взойдет на
эшафот, отрицает политические убийства31. И это не было ложью, во
всяком случае, было не вполне ложью: лидеры «партий нового типа»
неоднократно подчеркивали, что в период подготовки общенародно-
го восстания тратить силы на политические убийства, отвлекаясь от
главного дела, нецелесообразно. Речь шла именно о нецелесообраз-
ности, а не принципиальной недопустимости. Целесообразное же
убийство признавалось вполне допустимым.
Ссылаясь на Брута, Орсини следовал примеру авторитетных
предшественников и соратников: карбонарии, равным образом, ле-
вые радикалы середины XIX в. настаивали, что ими подготовленные
покушения — не просто аттентат, но благородное тираноборчество.
С точки зрения пропаганды это было уместно: сходным образом по-
ступали и французские экстремисты XVIII столетия, обосновывая
необходимость смерти короля.
Более полувека спустя цели ставились тоже не тираноборческие.
Потому-то в отличие от тираномахов прошлого эмиссары «партий
нового типа» полагали, что главное — не соблюдение ритуала, зна-
менующего восстановление попранной законности, а эффективность,
устранение конкретного политического противника. Коль так, не
было более нужды и в традиционном «цареубийственном кинжале»:
радикалы еще до гранат Орсини сочли возможным обновить инстру-
ментарий в духе технического прогресса.
К примеру, для убийства предшественника Наполеона III Луи-
Филиппа использовались разнообразнейшие средства, включая
«адскую машину» Дж. Фиески или ящик с гремучими змеями, от-
правленный по почте32. Луи-Филипп, впрочем, уцелел, жертвы, как
водится, были из тех, кто «рядом стояли», что ничуть не смущало за-
говорщиков: последователи Буонарроти действовали с якобинской
решительностью, следуя маратовской «арифметике» целесообраз-
ных убийств. Так что орсиньевский метод нельзя признать ни вполне
новаторским, ни самым экстравагантным.
Год спустя неудавшийся аттентат принес Орсини славу не толь-
ко героя-мученика, но и победителя. Французское правительство
неожиданно поддержало сторонников объединения Италии, причем
Наполеон III объяснил причины резкого изменения политического
курса тем, что благодаря Орсини он окончательно убедился в правоте
«Молодой Италии».
122
Патриоты и кондотьеры
Имена Мадзини, Гарибальди и Орсини стали революционны-
ми символами. Национально-освободительная специфика в данном
случае роли не играла. Современники увидели универсальные ал-
горитмы: интеллектуал-эмигрант, руководящий централизованной
конспиративной организацией, «народный полководец», готовый
возглавить восстание чуть ли не на любом континенте, и «боевик»,
чья вовремя брошенная бомба разом меняет ход истории.
В России наибольшую популярность завоевал Гарибальди, вот
только опыт его оказался неактуальным: перспектива общенародного
восстания, в результате которого создаются армии по типу гарибаль-
дийских, была весьма отдаленной. Правда, самые «неукротимые»,
вроде Бакунина, еще надеялись, что если Гарибальди лично возглавит
повстанческую армию, к примеру, в мятежной Польше 1863-1864 гг.,
то успех польского национально-освободительного движения обу-
словит социальную революцию, которая охватит всю Российскую
империю3’. Подобные планы остались нереализованными ввиду их
очевидной абсурдности.
Что касается Мадзини, то его методы выглядели вполне доступ-
ными: авторитетная русская эмиграция уже существовала, и на роль
Мадзини прочили Герцена или Огарева.
Поначалу, как свидетельствует их тогдашний соратник В.И. Кель-
сиев, «несмотря ни на просьбы, ни на какие убеждения Герцен и Ога-
рев не решались выступить агитаторами на манер Маццици. Так было
до лета 1862 г.» ”. Отметим, что Кельсиев точен в формулировках:
Герцен и Огарев именно «не решались», идея тайного общества не
вызывала протеста, однако прежде следовало обсудить конкретные
проблемы тактики, в частности, проблему предотвращения массовых
эксцессов, крови. Подобно декабристам русские теоретики социа-
лизма надеялись, что, возглавив революционное движение, сумеют
контролировать революцию: «Так как восстание неизбежно, — писал
Огарев, — то надо его устроить и направить в разумном порядке, от-
нюдь не кровопролитно и не разорительно»3’.
Еще в 1860 г. Огарев составил специальный меморандум, где
определил основные программные установки и организационные
принципы будущей партии, принципы карбонарские в мадзиниев-
ской интерпретации. «Я думаю, — утверждал он, — что в этом с виду
анархическом устройстве будет не менее порядка, чем в монашеском
или масонском ордене»36.
Цели партии были вроде бы и не якобинские (поскольку социа-
листические), но характерно, что «культурный код», используемый
идеологом-организатором, — якобинский. Например, в 1861 г. Ога-
123
рев составляет для будущей партии прокламацию, где царь имену-
ется «врагом народа», источник тут очевиден. Прокламация, кстати,
напечатана герценовским «Колоколом» в качестве журнальной пе-
редовицы.
К 1862 г. подготовительный период закончился: в соответствии с
планами Огарева возникла конспиративная партия «Земля и воля».
Название, кстати, предложил Герцен, взяв один из тезисов огарев-
ской прокламации «Что нужно народу?».
Партия вскоре распалась, но методы Мадзини, сам опыт созда-
ния тайного общества были признаны весьма ценными. Подчеркнем
еще раз, что методы обсуждались вне идеологии: Герцен и Огарев
были социалистами, Мадзини — националистом-республиканцем,
противопоставлявшим себя социалистам, но в конечном счете это
роли не играло. «Мадзиниевская идея, — писал Огарев Герцену в
1867 г., — может быть, ошибочна, но она определенна и потому строит
партию»37. Ошибочность мадзиниевской идеи Огарев, понятно, видел
в национально-освободительной ориентации «Молодой Италии», а
определенность — в жесткой централизации. От первого легко было
отказаться, без второго — не обойтись.
Аналогичный подход пропагандировал также другой против-
ник робеспьеризма и мадзиниевской идеи — анархист Бакунин.
Организационная дисциплина, по его мнению, ничуть не противо-
речила принципам анархизма, цель оправдывала средства. В 1862 г.
он писал: «Без дисциплины, без строя, без скромности перед ве-
личием цели мы будем только тешить врагов наших и никогда не
добьемся победы» “.
Как известно, Бакунин, говоря о необходимости дисциплины, об-
ращался к своим русским единомышленникам, молодежному кружку
П.Г. Заичневского, нелегально выпустившему в 1862 г. прокламацию
«Молодая Россия», само название которой должно было также на-
помнить о мадзиниевской организационной традиции.
Новое поколение революционеров оказалось куда радикальнее
«эмигрантской генерации»: отвергнув критический анализ робеспье-
ризма, авторы «Молодой России» заявили о своей солидарности с
якобинцами и готовности обратиться к их методам. «Мы изучали
историю Запада, — сообщали русские робеспьеристы, — и это изуче-
ние не прошло для нас даром: мы будем последовательнее не только
жалких революционеров 1848 года, но и великих террористов 92-го
года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения совре-
менного порядка придется пролить крови втрое больше, чем пролито
якобинцами в 90-х годах».
Одним из условий захвата власти было вооруженное восстание,
причем особую роль младороссы отводили армии: «Мы надеемся на
124
войско, надеемся на офицеров, возмущенных деспотизмом двора,
той презренной ролью, которую они играли и теперь еще играют».
Такого рода планы строились с учетом декабристского опыта, пред-
полагалось, что армия непременно вспомнит «свои славные действия
в 1825 году, вспомнит бессмертную славу, которой покрыли себя
герои-мученики».
Цель была ясна: «Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим
великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком “Да
здравствует социальная и демократическая республика русская!”
двинемся на Зимний дворец истреблять живущих там».
Убийство монарха, обязательную часть программы робеспьери-
стов любого толка, авторы «Молодой России» находили не более
чем полумерой. Для начала, по их мнению, следовало полностью ис-
требить династию, а в перспективе — всех противников, реальных
и потенциальных: «Может случиться, что все дело кончится одним
истреблением императорской фамилии, т. е. какой-нибудь сотни-
другой людей, но может случиться — и это последнее вернее, — что
вся императорская партия как один человек встанет за государя, по-
тому что здесь будет идти вопрос о том, существовать ей самой или
нет». «Тогда, — призывали революционеры, — бей императорскую
партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если
эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных
переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и
селам! Помни, что тогда кто будет не с нами, тот будет против нас, кто
против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами».
.Борцы за «великое дело социализма» были убеждены, что сумеют
избежать ошибок, совершенных предшественниками. Главной ошиб-
кой младороссы считали слепое копирование общепринятой проце-
дуры демократических выборов: «К чему приводит невмешательство
революционного правительства в выборы, доказывает прошлое фран-
цузское Собрание 48-го года, погубившее республику и приведшее
Францию к необходимости выбора Луи Наполеона в императоры»39.
Выборы надлежало контролировать, т. е., по сути, упразднить. Ре-
волюционное правительство оказывалось в итоге несменяемым, как
при якобинцах, чей опыт признавался эталонным.
Экстремизм авторов прокламации обусловил не только репрессии
правительства, но и протесты многих социалистов. Герцен, к примеру,
в статье «Молодая и старая Россия» писал, что столь эпатирующий
документ — лишь во вред революционному движению. Во-первых,
вновь и вновь доказывал он, повторение 1792 г. просто невозмож-
но, а во-вторых, правительство получило козырь и теперь подавит
оппозицию при полном одобрении напуганного общества. Пытаясь
нейтрализовать эффект прокламации и намекая на влияние «Моло-
125
дой Италии», Герцен утверждал, что «Молодая Россия» — «вовсе
не русская; это одна из вариаций на тему западного социализ-
ма, метафизика французской революции, политико-социальные
desiderata, которым придана форма вызова к оружию». По словам
Герцена, «Молодую Россию» создали романтики, поклонники Шил-
лера и Бабефа, почти безобидная молодежь, потому правительству и
общественности беспокоиться не о чем (XVI, 203).
Не вдаваясь в навязанную Герценом дискуссию о народности или
инородности экстремизма «Молодой России», отметим, что имен-
но опыт совмещения мадзиниевской организационной структуры и
террористической направленности оказался наиболее плодотворным
для русских революционеров.
От слов к делу первой перешла группа Н.А. Ишутина. Полити-
ческая программа ишутинцев почти не отличалась от программы
Чернышевского и других социалистов, а вот методы были несколько
иными. Ишутинцы полагались на орсиньевскую модель: политиче-
ское убийство, меняющее ход истории, в данном случае, приближаю-
щее революцию. Пример Орсини был весьма убедителен, и один из
ишутинцев рассказывал позже, что при обсуждении цареубийствен-
ных планов предполагалось выяснить, «какое имели устройство ор-
синиевские бомбы»'10.
Согласно свидетельствам самих ишутинцев, в их группе, которую
называли «Организация», существовало еще и особо секретное сооб-
щество, именуемое в романтически-инфернальном духе «Ад». Имен-
но «Ад» и занимался подготовкой цареубийства, а в случае удачи
предполагалось, развивая успех, истребить землевладельцев и затем
уже беспрепятственно «основать управление государством на социа-
листических началах»'".
В техническом смысле до орсиньевских бомб тогда не дошло: ишу-
тинец Д.В. Каракозов (двоюродный брат лидера группы), совершив-
ший в 1866 г. покушение на Александра II, вооружился револьвером.
С места покушения Каракозов не бежал, поскольку желал выгля-
деть тираноборцем. Однако при аресте у покушавшегося отобрали за-
писку, где император был назван «главным врагом русского народа»,
т. е. несостоявшийся тираномах использовал террористическую тер-
минологию и аргументацию42.
Террористическая направленность каракозовского покушения
была очевидной для современников: Александра II пытались убить не
за какое-либо отступление от законности, но потому, что он — царь, и,
согласно якобинской логике, не может быть невиновным.
Известный революционный публицист В.В. Берви-Флеровский
в листовке, предназначенной специально для простонародья, объ-
яснял: «Как ударил Каракозов-студент в Александра царя цареубий-
126
ственно, все вельможи перепугалися. Он ударил неразборчиво, а не
так, как бьют беззаконника за вину определенную»'13.
Нарождавшаяся тогда интеллигенция в целом была на стороне ца-
реубийц, смертью на виселице и каторгой доказавших верность сво-
им убеждениям. Опять же монарх-реформатор был у интеллигентов
непопулярен, да и заграничные убийства политических лидеров ста-
ли почти обыденностью. Идея, что называется, носилась в воздухе.
Известный революционер З.К. Ралли вспоминает, что интеллигенты
восприняли в качестве тираноборческого акта даже покушение на
американского президента, чей авторитет борца с рабством был вроде
бы непоколебим: «Люди, никогда не думавшие посягать на жизнь го-
сударя, болтали об этом повсюду, и вся Москва знала фразу убийцы
Линкольна: Sic semper tirannis!»’1
Своеобразным «эхом» покушения Каракозова было парижское
покушение польского эмигранта А.И. Березовского: в 1867 г. он
тоже пытался застрелить Александра II и тоже безуспешно. Извест-
ности, подобной каракозовской, Березовский в России не стяжал:
эта акция была воспринята повсеместно как месть национальная,
месть поляка русскому царю. Соответственно, тогдашние радикалы
сочли неуместным открыто ее одобрить, дабы не оскорбить патрио-
тические чувства соотечественников. Каракозов для пропаганды
был куда предпочтительнее.
Итоги почти десятилетних поисков революционного алгоритма
русскими радикалами были подведены в полемике Бакунина, Герце-
на и Огарева на исходе 1860-х гг. ,
В ряде прокламаций Бакунин формулирует анархистский вари-
ант революции: партия, организованная по-мадзиниевски, готовит
восстание, однако следует естественному ходу событий, будучи «не
диктатором-указателем для народа, а только повивальною бабкой са-
моосвобождения народного», и, коль скоро восстание — волеизъявле-
ние большинства, меньшинство уже не сможет узурпировать власть,
обратившись к террору'15.
Герцен в цикле статей «К старому товарищу» оспорил бакунин-
скую программу. Изменив отношение к мадзиниевским партиям, он
утверждал, что деятельность их не менее пагубна для народа, чем не-
истовство якобинских правительств. Революционерам, согласно Гер-
цену, надлежит только просвещать, воспитывать народ, а готовить
восстание и строить будущее — дело самого народа, и он сам найдет
нужные формы. При этом, настаивал Герцен, отрицая необходимость
участия в восстании, он все же остается революционером: «Дело
между нами, — писал он, — вовсе не в разных началах и теориях, а в
разных методах и практиках, в оценке сил, средств, времени, в оценке
исторического материала. Тяжелые испытания с 1848 разно отозва-
127
лись на нас. Ты больше остался, как был, тебя жизнь сильно помучи-
ла — меня только помяла, но ты был вдали — я стоял возле. Но если я
изменился — то вспомни, что изменилось все» (XX, 2, 575).
Выводы Герцена оспорил Огарев, солидаризовавшись на этот раз
с Бакуниным. По его мнению, Герцен ошибался, полагая, что неудачи
прежних революций — аргумент против новых попыток обращения
к террору. «Можно, — писал Огарев, — на целую историю взглянуть
как на ряд неудавшихся революций», поскольку «уход от прежнего,
от существующего в иное отношение и есть революция; укорять ее
тем, что она не удалась, нельзя». Революция, «смотря по обстоятель-
ствам, действует путем сделки или путем террора», и «террор являет-
ся не побуждением мести, а невольным делом перестройки». Герцену,
настаивал Огарев, не стоило бы здесь отрицать наличие перспектив
террора: «Насколько террор может или не может иметь успех — для
этого расчета у меня опять нет данных. Быть может, террор должен
будет повторяться п раз и удастся только в n-ный раз»11’.
Решившись вслед за «Молодой Россией» открыто перейти к апо-
логии террора, Огарев обращается к взлелеянной им и Герценом ле-
генде о декабристах и доказывает, что отрицание террора означает и
отрицание культа этих героев, «с ног до головы выкованных из чи-
стой стали», ибо декабристы на самом деле были верными последо-
вателями Робеспьера. «Наши декабристы», утверждает Огарев, так
же собирались использовать террор «во имя нового, народного обще-
ственного строя», как и якобинцы. «Террор, предполагавшийся дека-
бристами, был беспощаден; пути его сообразно с духом времени были
пути исключительно военные. Почему же тебе их пути не казались
страшными? А как скоро эти пути переходят в террор крестьянский и
работничий — они тебе кажутся страшными?»17
Что касается «военных» путей террора, то Огарев был вполне то-
чен. Судя по мемуарам некоторых «русских якобинцев», им не чуж-
да была идея захвата заложников — то, что обычно практиковалось в
колониальных войнах. М.А. Фонвизин, к примеру, писал: «Если бы
отряд, вышедший на Сенатскую площадь, имел предприимчивого от-
важного начальника и вместо того, чтобы оставаться в бездействии на
Сенатской площади, он смело повел бы его до прибытия гвардейских
полков ко дворцу, то мог бы легко захватить в плен всю император-
скую фамилию. А имея в своих руках таких заложников, окончатель-
ная победа могла бы остаться на стороне тайных обществ»18.
На основе сопоставления декабристов и террористов Огарев пы-
тался примирить Герцена с едва ли не самой эпатажной идеей Баку-
нина — апологией «разбоя и грабежа» как истинно народных средств
революционной борьбы. «Ты все пугаешься перед словом разбой или
грабеж (и даже коммунизм), — писал он Герцену. — Но я уже давно
128
говорил, что разбой или грабеж, который обыкновенно всегда являет-
ся временно, при всякой вспышке (даже 14 Дек<абря> предлагалось
разбить кабаки, а Южное общество шло еще решительнее), я давно
говорю, что разбой может быть и не быть, может явиться как частный
случай восстания — ради его спасения, — но главное дело в неизбеж-
ном восстании»19.
В терминологии данного исследования можно сказать, что речь шла
о признании допустимости двух уже привычных форм превентивного
устрашения: государственного террора и террора толпы.
Таким образом, к исходу 1860-х гг. террор был очередной раз «ре-
абилитирован» в России стараниями тех же социалистов, что ранее
отрекались от него, называя буржуазным методом.
Гальванизация легенды
Возможность осознанно использовать якобинский метод управ-
ления, гальванизировать легенду, предоставила радикалам фран-
цузская революция 1870-1871 гг. Недаром Э. Ренан в известном
трактате «Интеллектуальная и моральная реформа Франции» писал,
что «легенда террора (ведь и он у нас имел свою легенду) вылилась в
отвратительную пародию в Коммуне»
Легендарным образцам следовали изначально и неукоснительно.
Всентябре 1870 г. лионские повстанцы, распустив городскую админи-
страцию, сразу же сформировали Комитет общественного спасения.
Русский социалист М.А. Бакунин составил воззвание к гражданам
революционного города: «Взвесив размеры опасности и принимая
во внимание», что никоим образом нельзя «откладывать отчаянного
выступления народа, делегаты федерированных Комитетов спасения
Франции» вместе с «Центральным Комитетом предлагают»: распу-
стить «все муниципальные организации», заменив их «Комитетами
спасения Франции, которые будут осуществлять все виды власти под
непосредственным контролем народа». Кроме того, послать от «каж-
дого главного города департамента» двух делегатов, что «все вместе
составят революционный Конвент спасения Франции», а «Конвент
немедленно соберется в ратуше Лиона как второго города Франции»,
после чего, «опираясь на весь народ, спасет Францию». Завершался
документ привычным лозунгом: «К оружию!!!»’1
Дальше постановки «очередных задач», правда, дело не двину-
лось, поскольку у власти лионцы продержались недолго. Зато с марта
по май 1871 г. их парижские единомышленники сумели явить миру
примеры истинного робеспьеризма.
Само название революционного города-государства — Парижская
коммуна — напоминало о санкюлотских традициях и оплоте яко-
129
бинства. Символом преемственности был и государственный флаг —
красный. Именно под красным знаменем в августе 1792 г. отряды
санкюлотов, организованные тогдашней Коммуной, шли на штурм Тю-
ильри: в соответствие с «Законом о военном положении» от 21 октября
1789 г., муниципалитету надлежало вывешивать красные флаги в том
случае, когда «для восстановления спокойствия немедленно необходи-
ма военная сила»52. Энтузиасты попытались даже возродить револю-
ционный календарь, в связи с чем 1871 г. от Рождества Христова порой
официально именовали LXXIX годом Республики.
В марте же 1871 г. радикалы формируют революционное прави-
тельство, состоящее из нескольких Комиссий, и среди них — Комис-
сия общественной безопасности. Прообраз был настолько очевиден,
что в некоторых декретах ее и называли Комитетом. Далее по яко-
бинской логике полагалось организовать Революционный трибунал,
возобновить действие «закона о подозрительных» и т. п.
Разумеется, соответствующие предложения в правительстве об-
суждали, однако без Революционного трибунала и «закона о подо-
зрительных» решили обойтись51. А вот без Комитета общественного
спасения не обошлись, хотя его учреждению предшествовали дли-
тельные дискуссии.
«Я хотел бы, — говорил художник-прудонист Г. Курбе, — чтобы
все названия и слова, относящиеся к революции 89-го и 93-го годов,
применялись только к этой эпохе. В настоящее время они не имеют
такого значения и не могут применяться с такой же точностью и в
том же смысле. Названия “общественное спасение”, “монтаньяры”,
“жирондисты”, “якобинцы” и т. д. и т. п. не могут быть применимы
в нынешнем социалистическом, республиканском движении»51. Его
оппонент — бланкист Р. Рига, напротив, полагал, что и в 1871 г. ре-
волюционной республике нужен именно такой Комитет обществен-
ного спасения, какой был в 1793 г.55
По свидетельству очевидца П.Л. Лаврова противников идеи
создания Комитета беспокоила не только терминологическая чу-
жеродность: буквальное копирование обязательно привело бы к яко-
бинским «чисткам», истреблению «своих», чем, собственно, и был
известен пресловутый Комитет56.
Опасения были далеко не беспочвенны. Полемика неоякобинцев
и не столь экстремистски настроенного меньшинства в Коммуне раз-
горалась быстро, исход ее вскоре стал ясен: не прошло и трех недель
с момента учреждения Комитета, как Риго уже подготовил в проку-
ратуре мандаты на арест оппонентов57. Робеспьеристский виток тер-
рора был, похоже, близок, но Коммуну окончательно разгромили до
того, как он начался.
130
Пятьдесят лет спустя, в 1920 г., Л.Д. Троцкий, анализируя опыт
коммунаров применительно к опыту большевистского правительства,
подвел итог: «Создание Комитета общественного спасения было про-
диктовано для многих его сторонников идеей красного террора»™.
К террористическим идеям Марата, призывавшего арестовывать
«родственников, жен и детей» всех известных и потенциальных
контрреволюционеров, восходил и знаменитый закон о заложниках от
5 апреля 1871 г. Принимали его в атмосфере массовой истерии, под-
хлестнутой широко распространявшимися сведениями о расстрелах
версальцами пленных коммунаров, в связи с чем казни заложников
обосновывались прежде всего целесообразностью — предотвращени-
ем очередных «версальских зверств». Правомерность карательных
акций обосновывалась юридическим статусом жертв, согласно за-
кону, «заложником парижского трудового народа», подлежащим при
оказии расстрелу, признавалось «лицо, уличенное в сообщничестве
с версальским правительством»59. Получалось, что революционное
правительство, будучи гуманным, не лишает преступников жизни,
и лишь беззаконная жестокость контрреволюционеров вынуждает
Коммуну прибегать к казням, следовательно, истинные убийцы за-
ложников — версальцы.
Впрочем, террористическая ментальность отчетливо проявилась,
едва дело дошло до применения «гуманного» закона. «Каждый раз,
когда Версаль, у которого, как вы знаете, имеются известные рели-
гиозные понятия, убьет одного из наших, — указывали законодате-
ли, — мы немедленно должны расстрелять не только'.полицейских
Или городских стражников, но и священника»111'.
Устрашение было двунаправленным: с одной стороны, Коммуна
запугивала версальцев, превращая их в соучастников, с другой сторо-
ны, существование института заложников деморализовывало пари-
жан, поскольку любой мог стать жертвой обвинения в пособничестве
врагу. Это, бесспорно, было новаторством: впервые заложничество
переносилось из области военно-административной (чаще — колони-
альной) политики на практику устрашения своей страны, своего на-
рода и, что самое важное, оформлялось законодательно. Якобинский
инструментарий значительно обогатился.
Коммуна стала новым олицетворением террора. Благодаря ее ли-
дерам террор воспринимался уже не в качестве исторической леген-
ды, а как вполне применимый метод управления обществом. И споры
теоретиков революции об «уроках Коммуны» свелись по сути к спо-
рам об эффективности террора.
Лавров, к примеру, считал, что эффективности коммунарского
управления препятствовало «разлагающее влияние революционно-
якобинской рутины», т. е. буквальное копирование политики рево-
131
люционеров буржуазного толка. В подтверждение русский социалист
приводил слова одного из лидеров Коммуны А. Арну: «Революцион-
ная традиция погубила Коммуну, — горько иронизировал неояко-
бинец, — Париж не был осажден в 1793 г.», и «Конвент не принял
никаких мер этого рода», соответственно, коммунары, не найдя авто-
ритетных примеров, не сумели организовать оборону1’1.
Согласно другой точке зрения, причина падения Коммуны не в
подражании якобинцам: обращение к террору было вполне оправ-
данно, однако применять его следовало более решительно, исходя из
того, что террор — универсальный метод управления.
Российские «бесы»
В 1870-е гг. русский терроризм уже сложился как общественное
явление со своей идеологией, теоретиками и мучениками, удачами и
скандальными провалами. В немалой степени тому способствовала
деятельность знаменитого бакунинского протеже С.Г. Нечаева.
Как известно, патриарх анархизма поддержал молодого эмигранта,
выдававшего себя за полномочного представителя могущественной
•русской подпольной организации. Бакунин ввел Нечаева в круги же-
невской эмиграции, помог найти финансовые источники и написать
«Катехизис революционера» — документ, впоследствии действитель-
но ставший пусть не катехизисом, но универсальным «учебным посо-
бием» для поколений экстремистов.
О непреходящей актуальности этого текста свидетельствует, в
частности, признание Э. Кливера, идеолога группы «Черные пан-
теры»: Кливер, по его словам, буквально влюбился в нечаевский
«Катехизис»112.
Причина кливеровского пристрастия вполне очевидна, ведь «Ка-
техизис революционера» предлагает и конспиративную методику, и
эффективную стратегию политических убийств как средства управ-
ления: «Должно руководствоваться мерой пользы, которая долж-
на произойти от смерти известного человека для революционного
дела. Итак, прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно
вредные для революционной организации, а также внезапная и на-
сильственная смерть которых может нанести наибольший страх на
правительство и, лишив его умных и энергичных людей, потрясти
его силу»63.
Вместе с Бакуниным Нечаев написал и прокламацию «Народной
расправы» — программу организации, якобы избравшей его своим
полномочным представителем.
В 1869 г. Нечаев возвращается на родину и, ссылаясь на автори-
тетных лидеров революционной эмиграции, распространяет легенду
132
о некоей всемирной конспиративной партии, одним из руководите-
лей которой он является. Нечаев и в самом деле планировал создать
сеть революционных кружков молодежи, а позже сформировать
на этой основе жестко централизованную партию по мадзиниев-
скому образцу.
Определенных успехов Нечаев добился, но планы его так и не
осуществились. Один из кружковцев решил выйти из организации,
товарищи заподозрили его в шпионаже и убили по наущению лже-
эмиссара, полиция быстро раскрыла преступление, Нечаев снова
бежал за границу, соучастники оказались на скамье подсудимых, а
судебное разбирательство в 1871 г. стало первым российским глас-
ным политическим процессом.
Нечаевцы в отличие от Каракозова не пользовались сочувстви-
ем интеллигенции. Либералы и даже многие революционеры, пора-
женные не столько жестокостью, сколько эпатажной аморальностью
убийц, поспешили тогда отречься от Нечаева. Литераторы консерва-
тивного толка были, разумеется, еще более резки в оценках. В 1871
1872 гг. один из самых популярных журналов — «Русский вестник»
М.Н. Каткова — публикует роман Ф.М. Достоевского «Бесы», книгу
почти документальную в аспекте изучения убийства нечаевца.
В соответствии с замыслом романа Достоевский выявил те нехит-
рые приемы, посредством которых группа заговорщиков получает
возможность запугать и подчинить даже достаточно устойчивый
социум.
Для начала Петр Верховенский и другие «бесы» дестабилизируют
ситуацию в городе: злоупотребляя доверием не вполне психически
здорового губернатора Лембке и его жены, а также играя на тщесла-
вии популярного писателя Кармазинова, «бесы» плетут интриги, рас-
пространяют слухи и сплетни, будоражащие население, организуют с
помощью уголовников поджоги и скандалы, дабы страхом подавить
способность горожан к сопротивлению.
Все это — элементы единого плана, который в пересказе косноя-
зычного «беса»-теоретика Шигалева выглядит примерно так: Рос-
сия покрыта «бесконечной сетью узлов. Со своей стороны, каждая
из действующих кучек, делая прозелитов и распространяясь боко-
выми отделениями в бесконечность, имеет в задаче систематической
обличительной пропагандой беспрерывно ронять значение мест-
ной власти, произвести в селениях недоумение, зародить цинизм и
скандалы, полное безверие во что бы то ни было, жажду лучшего и,
наконец, действуя пожарами как средством народным по преиму-
ществу, ввергнуть страну в предписанный момент, если надо, даже
в отчаяние»1’1.
133
Иначе говоря, предусматривался комплекс акций, посредством
которых нагнеталась бы истерия неповиновения, а в результате
запуганный социум санкционировал захват власти партией рево-
люционеров.
Точно так же — запугиванием (угрозой разоблачения) — Петр
Верховенский вынуждает сообщников убить одного из бывших
кружковцев. «Вместо того, чтобы представить факт в приличном све-
те, чем-нибудь римско-гражданским или вроде того, — возмущаются
бывшие товарищи, — он только выставил грубый страх и угрозу соб-
ственной шкуре»1’5.
В данном случае интересна ссылка на желательность «римско-
гражданской» символики и фразеологии — привычного для ре-
волюционеров обоснования политических убийств традицией
тираноборчества.
Отметим, что хоть элементы террористического алгоритма вполне
узнаваемы в романе, слово «террор» применительно к акциям «бесов»
там не употребляется. Не упоминают о терроре и публицисты, писав-
шие о нечаевском процессе, что может показаться отчасти странным,
поскольку сам термин был на слуху: практически одновременно с
процессом нечаевцев в русской периодике обсуждаются события Па-
рижской коммуны, причем коммунарская практика характеризуется
именно как террористическая. К примеру, консервативные «Москов-
ские ведомости» сочувственно цитируют пассажи Ренана о «легенде
террора», очаровавшей коммунаров, а либеральный «Голос», отнюдь
не склонный к огульному охаиванию парижан, констатирует, что
«победа Коммуны легализирует террор и красную революцию»61’.
Встречаются даже сравнения нечаевцев и коммунаров, указания на
сходство целей и средств русских экстремистов с целями и средства-
ми «покойной Парижской коммуны, т. е. революцией, убийствами,
пожарами, грабежами»67. И все же нечаевцев в отличие от коммуна-
ров террористами не видят.
Причины здесь очевидны. Парижские экстремисты захватили
власть и образовали правительство революционной диктатуры, а
русские радикалы были подпольщиками. Соответственно, коммуна-
ры практиковали насилие в традиционной, опознаваемой форме — на
якобинский манер, а русские подпольщики — в форме аттентатов,
якобинцами и наследниками их не канонизированной. Опять же,
коммунары открыто заявляли об установке на превентивное устра-
шение, базовой для террористов, а в программных документах рус-
ских учеников Мадзини и Орсини подобных установок не было.
Потому государственные репрессии, проводимые Парижской ком-
муной, и политические убийства, подготовленные заговорщиками,
134
не воспринимались как явления аналогичные, которые можно опи-
сать единым термином, термином «террор».
Пока не воспринимались. Очевидно, что даже террористы не
осознавали специфику индивидуального террора, не было еще са-
мого понятия. Но, так сказать, на ощупь все элементы были най-
дены: жестко централизованная партия, псевдотираноборческое
обоснование политических убийств, бомбы и револьверы, т. е. ору-
жие, позволяющее действовать издалека и уйти с места покушения,
определен и выбор жертв — монарх или иные представители госу-
дарственной власти.
Индивидуальный террор: поиски формулировки
Для того чтобы понятие «террор» охватило, наконец, и деятель-
ность заговорщиков, требовалось «увязать» эмпирически найденный
«инструментарий» политических убийств с установкой на управле-
ние посредством превентивного устрашения. К такой установке рус-
ские социалисты осознанно пришли через несколько лет в процессе
усвоения и осмысления опыта Парижской коммуны. Позже один из
лидеров террористов С.М. Степняк-Кравчинский писал об этом пе-
риоде: «С Парижской коммуной, грозный взрыв которой потряс весь
цивилизованный мир, русский социализм вступил в воинствующий
фазис своего развития»6**.
Полемика об «уроках Коммуны» развернулась к середине 1870-х гг.
между журналами русской эмиграции — «Вперед!» и «Набат», в рав-
ной мере претендовавшими на роль герценовского «Колокола».
П.Л. Лавров, чьи статьи задавали тон в журнале «Вперед!», крити-
куя русских мадзинистов, называл их якобинцами и доказывал, что
якобинизм (точнее, рутинное подражание революционерам 1793 г.)
уже погубил Парижскую коммуну, погубит он и грядущую револю-
цию в России. Вероятно, Лавров, будучи социалистом, полагал, что
сравнение с якобинцами явно не украсит его социалистических оп-
понентов.
Ведущий публицист «Набата» П.Н. Ткачев (сотрудник и чуть ли
не учитель Нечаева) от сравнения с робеспьеристами не уклонился.
Напротив, он с готовностью признал себя и своих единомышленни-
ков именно якобинцами-социалистами69.
Вполне последовательно Ткачев солидаризировался с неоякобин-
цами и в оценке Парижской коммуны. Рецензируя доклад одного из
коммунаров, критиковавшего парижское чрезвычайное правитель-
ство с позиций социалистических, лавровских, Ткачев утверждал,
что тот «облыжно обвинил Робеспьера и его товарищей в погибели
Великой французской революции (тогда как всему миру известно,
135
что погубили ее именно те люди, которые погубили Робеспьера) и еще
более заведомо облыжно приписал падение Парижской коммуны, —
Коммуны, воплощавшей в себе принцип полнейшей дезорганизации
власти, принцип безначалия или, что почти все равно, чрезмерного
многоначалия,- приписал падение Коммуны перевесу в ней так на-
зываемых якобинских элементов над анархическими»70.
Исходя из этих посылок, Ткачев предложил русским мадзи-
нистам новый набор образцов для подражания: «Мараты, Фукье
Тенвили, Раули Риго возбуждают к себе наше сочувствие и симпа-
тию, — сочувствие, симпатию всех честных людей, всех искренних
революционеров»71. В итоге якобинизм, социализм и мадзинизм
были объединены в исторической ретроспективе.
Оригинальная историософская концепция Ткачева стала основой
политической программы, той, что предлагал «Набат» российским
радикалам. «Непосредственная задача революционной партии, —
писал Ткачев, — должна заключаться в скорейшем ниспровержении
существующей правительственной власти. Осуществляя эту зада-
чу, революционеры не подготовляют, а делают революцию. Но для
того, чтобы осуществить ее, говорили мы, революционеры должны,
сомкнувшись в боевую централистическую организацию, направить
все свои усилия к подорванию правительственного авторитета, к де-
зорганизации и терроризации правительственной власти»72. «Пото-
му, — настаивал идеолог русского якобинства, — терроризирование,
дезорганизирование и уничтожение существующей правительствен-
ной власти как ближайшая, насущнейшая цель, — такова должна быть
в настоящее время единственная программа деятельности всех ре-
волюционеров (без различия фракций), таков должен быть их mot
d’ordre, девиз их знамени. “И сим знаменем победиши”»77.
Политические убийства Ткачев объявил главным средством борь-
бы с правительством: «Насилие можно обуздывать только насилием
же. Может быть, и кинжалы, и револьверы вас не образумят, но по
крайней мере они отомстят вам за проливаемую вами кровь наших
братий». Впрочем, соображения мести особой роли уже не играли:
«Но оставим в стороне чисто нравственный характер совершенных
нами казней. Помимо своего нравственного значения они имеют еще
и другое и с нашей точки зрения еще более важное значение» — «не-
посредственное осуществление революции»71.
Откровенный экстремизм «Набата» шокировал в России многих
революционеров. Но, по сути, Ткачев лишь выразил то, что Степняк-
Кравчинский назвал «воинствующим фазисом» освободительного
движения. Таково было настроение большинства русских социали-
стов, что воспитывались на мифологизированной истории Великой
французской революции, причем те, кто отверг «якобинское насле-
136
дие», тоже мыслили в якобинских терминах. Не случайно и Лавров,
постоянный оппонент Ткачева, провозглашал в программной «впере-
довской» статье: «Мы зовем к себе, зовем с собою всякого, кто с нами
сознает, что императорское правительство — враг народа русского»7’’.
Вольно или невольно Лавров, назвав императора «врагом народа»,
использовал чисто якобинскую дефиницию, санкционировав тем са-
мым и якобинские методы борьбы с политическим противником.
Споры эмигрантов были весьма актуальны для России, где рево-
люционное подполье быстро набирало силы. По сути речь шла о вы-
боре практических рекомендаций, тех, согласно которым надлежало
действовать революционерам.
В России меж тем продолжалось объединение многочисленных
революционных кружков. Идея жестко централизованной по мад-
зиниевскому образцу партии, обсуждавшаяся еще в 1860-е гг., была,
наконец, реализована, и преемственность декларировалась в самом
названии новой организации — «Земля и воля».
Ученики, кстати, преуспели больше, чем учителя: если соратни-
ки Огарева и Герцена лишь заявляли о необходимости строжайшей
дисциплины, то у «землевольцев» дисциплина — фундаментальный
принцип. В общем партия, способная решать задачи террористи-
ческие, т. е. задачи борьбы за власть посредством превентивного
устрашения, уже существовала, хоть алгоритм индивидуального тер-
рора еще не был найден.
Поиски этого алгоритма велись не без успеха, о чем свидетель-
ствует покушение В.И. Засулич на петербургского градоначальника
Ф.Ф. Трепова. 24 января 1878 г., придя на прием к градоначальнику,
Засулич ранила его выстрелом из револьвера. Бежать не пыталась,
была арестована, предана суду, поступок же свой объяснила тем, что
Трепов ранее отдал приказ о применении телесных наказаний к по-
литическим заключенным, а значит, хоть кто-нибудь должен был
остановить произвол и беззаконие.
Как известно, процесс Засулич, подобно процессу нечаевцев, вел-
ся гласно, однако на этот раз сочувствие общества было на стороне
обвиняемой. В покушении видели не результат заговора, а спонтан-
ный акт тираноборчества, Засулич сравнивали с Гармодием, Шар-
лоттой Корде, Вильгельмом Теллем, использование же револьвера
вместо традиционного кинжала ничего не меняло: стрелявшая пока-
рала того, кто был сочтен деспотом, причем Засулич жертвовала со-
бой. Присяжные оправдали ее, Трепову пришлось уйти в отставку.
Сама Засулич утверждала, что действовала исключительно по
собственной инициативе, как истинный тираноборец, а не эмиссар
партии. Однако это маловероятно.
137
К моменту покушения Засулич — отнюдь не новичок в револю-
ционном движении — начинала еще с нечаевцами. Уместно в данном
случае привести и слова достаточно осведомленного Степняка-
Кравчинского, который в книге «Подпольная Россия» хоть и зая-
вил, что «Засулич вовсе не была террористкой», зато счел нужным
добавить: «Она была ангелом мести, жертвой, которая добровольно
отдавала себя на заклание, чтобы смыть с партии позорное пятно
смертельной обиды»76. Тут Степняк-Кравчинский проговорился,
надо полагать, невольно, зарвавшись в публицистическом азарте:
если Засулич — тираноборец и с партией террора не связана, значит,
ей надлежало бы руководствоваться идеей восстановления законно-
сти, а не радеть о партийной репутации, опять же если, стреляя в Тре-
пова, она не исполняла решение партии, то и пресловутое «позорное
пятно» не могло быть «смыто». Ну а если и впрямь «смыто», значит,
стреляла именно эмиссар партии, террористка.
Примечательна в этом плане прокламация одесского революцион-
ного кружка, заверявшая, что коль Трепов выживет после выстрела
Засулич, его непременно убьет другой мститель, причем прямо де-
кларировалось, что убьет ради достижения цели политической: «Со
смертью Трепова погибнет один из главных столпов государства, по-
гибнет самая главная пружина полицейской административной ма-
шины, которая сверху вниз все давит и давит»77.
Впрочем, как бы ни оценивалось покушение Засулич, несомненно
одно: приговор суда присяжных показал, что режим быстро утрачи-
вает популярность, потому общество, отчасти предрасположенное к
истерии неповиновения, готово санкционировать любые действия
террористов-подпольщиков. «Так, — писал Степняк-Кравчинский, —
возник терроризм. Родившись из ненависти, вскормленный любо-
вью к родине и уверенностью в близкой победе, он вырос и окреп
в электрической атмосфере энтузиазма, вызванного геройским
поступком»76.
Именно на «электрическую атмосферу энтузиазма» указывают
историки, видя здесь важнейшее условие эффективности индиви-
дуального террора в России. «Хотя террор далеко не был уникаль-
но русским явлением в Европе 1870-1880-х гг., — утверждает
А.Б. Улам, — дважды стреляли в германского императора, в Англии
министра убивает ирландский боевик — специфика русской ситуа-
ции заключалась в том, что к этому средству политической борьбы
относились с пониманием и чуть ли не с открытой симпатией многие
солидные граждане — представители среднего и высшего класса»79.
И партия использует сложившуюся ситуацию. В 1878 г. эмиссары
ее буквально охотятся на представителей высшей администрации,
а попутно убивают полицейских осведомителей, жандармов и т. п.
138
Не случайно Степняк-Кравчинский, говоря о покушении Засулич,
настаивал, что оно имело огромное значение для «развития терро-
ризма»: партия приступила к дестабилизации империи, устрашая
правительственных служащих и вообще сторонников правительства.
«У террористов, — подчеркивал Степняк-Кравчинский, — было не-
нарушимым правилом, что с той минуты, как официальное лицо до-
бровольно сходит со сцены и перестает быть вредным, его ни в коем
случае нельзя убивать из одной мести. Нескольким трусам удалось
таким образом избежать назначенной им кары»**".
Однако эффективность превентивного устрашения обеспечивает-
ся в первую очередь неуклонным его нарастанием — ad infinitum. По-
тому террористам приходилось заботиться и о количественном, и о
качественном развитии: ради сохранения «электрической атмосферы
энтузиазма» следовало намечать жертв побольше и все более высоко-
го ранга. «Шестнадцатого августа 1878 года, т. е. через пять месяцев
после оправдания Засулич, — повествует Степняк-Кравчинский, —
терроризм фактом убийства генерала Мезенцева, шефа жандармов и
главы всей шайки, смело бросил вызов в лицо самодержавию»**1.
Дело, конечно, не в малопонятном «вызове», вызывающим по-
ступком можно считать и покушение на Трепова. Зато последова-
тельность была ясна: за градоначальником — «шеф жандармов и глава
всей шайки», в перспективе же — «самодержавие», т. е. самодержец.
Что называется «по нарастающей».
Автор «Подпольной России» не назвал террориста, бросившего
пресловутый «вызов в лицо самодержавию»: книга была йаписана в
1881 г., когда и революционеры, и жандармы уже знали, что генерал
убит Степняком-Кравчинским, а само убийство открыто пропаганди-
ровалось в качестве именно террористической акции.
Но так было в 1881 г., а в 1878 г. пропагандистские установки еще
варьировались. Известно, что сначала Степняк-Кравчинский со-
бирался предложить Мезенцеву поединок — вариант якушкинской
«дуэли». Поединок сочли технически неосуществимым, потому был
выбран традиционный кинжал, в связи с чем убийство объяснили же-
стокостью Мезенцева по отношению к политическим заключенным,
дабы акцентировать на манер покушения Засулич тираноборческую
направленность.
Разумеется, о тираноборчестве здесь опять речи нет и быть не
может. Хотя бы потому, что Мезенцеву противостоял не одиночка-
тираноборец, а группа исполнителей партийного решения, даже не
предполагавших добровольно сдаваться властям. Не из трусости,
просто смысла в подобном самопожертвовании не находили. На-
против, нанеся удар кинжалом, Степняк-Кравчинский немедленно
бежал, а сообщник его стрелял в преследователей, прикрывал отход.
139
Понятно, что, имитируя тираноборчество, Степняк-Кравчинский не
видел нужды следовать традиции во всем: он лишь играл роль, вы-
полнял чисто террористическое задание и сам позже признал это.
Идея ступенчатости, нарастания террора выражена и в сти-
хах А.А. Ольхина «У гроба», посвященных «поразившему Ме-
зенцева». Вскоре стихи эти стали своего рода гимном русских
революционеров:
Как удар громовой, всенародная казнь '
Над безумным злодеем свершилась, -
То одна из ступеней от трона царя
С грозным треском долой отвалилась.
Бессердечный палач успокоен навек.
Не откроются грозные очи...
И трепещет у темного гроба его
В изумлении деспот Полночи82.
Шеф жандармов, стало быть, «ступень от трона», и поскольку та
ступень «отвалилась», «трепетать» пора российскому деспоту. Кста-
ти, это обсуждалось революционерами сразу после выстрела Засулич.
Например, авторы прокламации одесского революционного кружка
прямо заявили, что очередь — за царем: «Недаром в самого государя
императора два раза стреляли Каракозов и Березовский»83. Таким об-
разом, польского эмигранта авторы прокламации воспринимали (или
желали выдать) за последователя Каракозова. Засулич и Степняк-
Кравчинский продолжали этот ряд, «подбираясь» к трону, и, согласно
пропагандистским установкам экстремистов, царь был обречен.
Цареубийство и технический прогресс
2 апреля 1879 г. один из юных радикалов, А.К. Соловьев, несколь-
ко раз выстрелил в императора из револьвера, но промахнулся, был
схвачен, осужден и казнен. Попытка цареубийства опять оказалось
неудачной, однако охота на Александра II только начиналась.
Как известно, Соловьев на допросах утверждал, что действо-
вал в одиночку и к революционным организациям отношения
не имел. Безусловно, это было не так: он консультировался с
единомышленниками-террористами, от них же получил и револь-
вер. Более того, учтен был даже опыт Березовского: партийное руко-
водство, рассматривая кандидатуры будущих цареубийц, отклонило
Г.Д. Гольденберга и Л .А. Кобылянского, поскольку первый был евре-
ем, а второй поляком: императора надлежало убить русскому — Со-
ловьеву, дабы цареубийство не походило на месть национальную81.
140
А лгал Соловьев, следуя предварительной договоренности, чтобы
партия могла, сообразно обстоятельствам, солидаризироваться с
цареубийцей или же не брать на себя ответственность.
Оба варианта обсуждались партийным руководством, но мнения
разошлись. Спорили, конечно, не о моральных аспектах, но о целесо-
образности. Солидаризация позволяла развивать тему всемогущества
тайной организации, запугивать власть и т. п. Но, с другой стороны,
террористы понимали: идея убийства царя, достаточно обоснованная
для интеллектуалов-экстремистов, чужда и даже враждебна просто-
народью. Для «безмолвного большинства», того самого «народа»,
на восстание которого рассчитывали все радикальные группировки,
Александр II — и «Божий помазанник», и «царь-освободитель», от-
менивший крепостное право. Народ, полагали противники цареубий-
ства, пока не готов к революции, нужны еще годы и годы интенсивной
пропаганды. Соответственно, цареубийство не приведет к восстанию,
но отдалит его.
Ожесточенная полемика привела к расколу и в итоге на основе
«Земли и воли» сформировалась партия террора — «Народная воля».
В 1880 г. Исполнительный комитет партии принимает программу,
предусматривающую продолжение «деятельности разрушительной и
террористической»8’.
Авторы программы ориентировались, конечно же, не на кон-
кретный исторический опыт, а на революционную «мифологию»
и отождествляли себя с французскими революционерами, санк-
ционировавшими казнь Людовика XVI. Правда, короля казнило
находившееся у власти правительство, народовольцы же, будучи за-
говорщиками, вели с правительством борьбу, но столь существенное
противоречие (отождествление правительства с заговорщиками и за-
говорщиков с правительством) можно было снять, апеллируя к тира-
ноборчеству. В этом случае легко выстраивался ряд: десятки героев
от Гармодия и Аристогитона до Соловьева.
Называя себя монархомахами, народовольцы постоянно подчер-
кивали, что борются с деспотией ради торжества законности. Потому
в отличие от радикалов 1860-х гг., «неосторожно» восхищавшихся
убийцей Линкольна, исполнительный комитет «Народной воли»
в партийной прессе осудил убийство американского президента
А. Гарфилда: уничтожение представителей власти, поясняли идеоло-
ги партии, уместно в условиях деспотии, но преступно в правовых
государствах, где главенствует закон (127).
На самом деле, цареубийство для заговорщиков вовсе не было
формой защиты попранной законности. Нелегальная газета «Народ-
ная воля» достаточно ясно описала типично террористические цели
и средства, применяемые партией.
141
Цели — «подорвать обаяние правительственной силы, давать не-
прерывные доказательства возможности борьбы против правитель-
ства, поднимать таким образом революционный дух народа и веру
в успех дела и, наконец, формировать годные и привычные к бою
силы», т. е. устрашать представителей власти и дестабилизировать
социум (51).
Главная мишень — царь. Народовольцы прямо заявили, что мо-
нарха следует убить не мести ради, а для уничтожения монархии. «Он
заслуживает смертной казни, — утверждали заговорщики. — Но не с
ним одним мы имеем дело». И если бы Александр II, «отказавшись
от власти, передал ее всенародному учредительному собранию, из-
бранному свободно», то эмиссары партии «оставили бы его в покое»
(51-52). Проще говоря, если император испугается и отдаст власть,
террористы его не убьют.
Основные средства борьбы за власть — взрывы — по орсиниевской
модели, для чего использовался динамит, тогдашняя новинка тех-
ники. Динамит пригодился и для бомб, и для мин, 19 ноября 1879 г.
народовольцы взорвали железнодорожное полотно, по которому сле-
довал царский поезд.
Технические новшества в терроре были предметом особой гордо-
сти заговорщиков. «Мы видели и раньше три покушения на жизнь
царя, — резюмировала “Народная воля”. — Во всех их человек с пи-
столетом в руках шел на повелителя миллионов, лицом к лицу, без
всякой надежды на спасение, с самыми незначительными шансами на
успех. Не то мы видим 19 ноября. Дело, очевидно, было зрело обду-
мано и подготовлено. Значительная сумма денег, значительные рабо-
чие силы, основательные технические сведения». Заговорщики, с их
точки зрения, вышли на качественно новый уровень и, торжествова-
ла партийная газета, «напоминают собой высшую культурную расу,
меряющуюся силами с многочисленными, но дикими ордами прави-
тельства» (48-49).
Торжество партии не омрачило и то, что покушение 19 ноября
опять было не вполне удачным: от взрыва, как водится, пострадал не
царь, но «рядом стоявшие». Впрочем, попытка не считалась послед-
ней, а случайные жертвы не принимались в расчет преемниками Ор-
сини: «на войне — как на войне» (55).
Минный опыт был повторен и непосредственно в царской резиден-
ции: 5 февраля 1880 г. столяр С.Н. Халтурин, работавший во дворце,
пронес туда динамит и попытался взорвать императорский кабинет.
Александр II вновь остался невредим, зато потери среди солдат двор-
цовой охраны оказались немалыми — 11 убито на месте и 56 ранено.
Это были представители того самого «народа», чью волю вроде
бы выражала партия, в связи с чем партийные идеологи сочли нуж-
142
ным выпустить специальную прокламацию: «С глубоким прискорби-
ем смотрим мы на гибель несчастных солдат царского караула, этих
подневольных хранителей венчанного злодея. Но пока армия будет
оплотом царского произвола, пока она не поймет, что в интересах ро-
дины ее священный долг стать за народ, такие трагические столкно-
вения неизбежны»*1’.
Само же столкновение отнюдь не смутило заговорщиков, наобо-
рот, они ликовали по поводу убедительной демонстрации обществу
своих возможностей.
С этой точки зрения весьма интересна брошюра «Террористи-
ческая борьба», которую в 1880 г. издал в Лондоне Н.А. Морозов,
сравнивавший тираноборцев былых времен с народовольцами: «Со-
всем не то современная террористическая борьба. Здесь правосудие
совершается, но исполнители его могут остаться и живы». «Тира-
ны, — утверждал Морозов, — уже не могут жить покойно в своих
раззолоченных палатах. Среди грома музыки, среди восторженных
криков бесчисленной толпы, за десертом изысканного обеда им ка-
жется: вот-вот земля обрушится под их ногами, и невидимый мсти-
тель оглушительным взрывом динамита даст знак врагам свободы,
что их час пробил».
Очевидно, что Морозов перифразирует строки пушкинского
«Кинжала»: «И, озираясь, он трепещет // Среди своих пиров». Од-
нако в данном случае манифест тираноборчества используется для
обоснования практики, начисто отрицающей идею тираноборчества.
Принципиальную установку монархомахов на обязательную гибель
«вершителя правосудия» идеолог террора умышленно игнорирует,
доказывая, что к самопожертвованию вынуждало исключительно
несовершенство оружия. Отсюда легко было сделать вывод: терро-
рист— это и есть тираноборец, отличия здесь несущественны, искать
их надо не на уровне нравственном или политическом, а на уровне
техническом, причем отличия свидетельствуют в пользу террориста,
находящегося на более высокой ступени прогресса.
Осознав индивидуальный террор в качестве высшей формы
управления социумом, Морозов заключает, что практика русских
заговорщиков не просто аккумулирует опыт решения конкретных
политических задач, но позволяет создать универсальный алгоритм
подготовки и проведения революции, захвата власти. «Не в одном
только обуздании существующего русского деспотизма должна за-
ключаться цель террористического движения на нашей родине, —
провозглашал Морозов. — Оно должно сделать свой способ борьбы
популярным, историческим, традиционным»*7.
Пропагандируя превентивное устрашение, применяемое русски-
ми подпольщиками, Морозов счел нужным сослаться на якобинцев
143
как классиков государственного террора, для чего привел известный
лозунг Сен-Жюста: «Каждый человек имеет право убить тирана, и на-
род не может отнять этого права ни от одного из своих граждан». Но
государственный террор был пока в дальней перспективе, основными
же инструментами оставались уже отработанные приемы «борьбы пу-
тем заговоров и политических убийств», т. е. индивидуальный террор
и стихийная массовая борьба — еще не освоенный террор толпыхн.
Практика в данном случае не отставала от теории, «Народная
воля» готовила покушение за покушением. В итоге 1 марта' 1881 г.
император был смертельно ранен взрывом бомбы.
Рис. 6
Утверждение термина
Цареубийство дорого обошлось террористам: жандармы тоже не
бездействовали, в тюрьмах оказалось почти все партийное руковод-
ство, а вскоре разыскали, осудили и казнили непосредственных орга-
низаторов первомартовского покушения.
Престол перешел к сыну Александра II, революционерам так и
не удалось увлечь социалистическими лозунгами пресловутые «на-
родные массы», напротив, реакция на события 1 марта была верно-
подданическая: распространились слухи, что «царя-освободителя»
убили евреи, и вместо долгожданной революции начались еврей-
ские погромы.
Партия, хоть и разгромленная, пыталась продолжать политику
превентивного устрашения: в марте 1881 г. исполнительный коми-
144
тет «Народной воли» обратился с открытым письмом к сыну убитого
императора. Ему предлагалось немедленно приступить к широким со-
циальным реформам, созвать Учредительное собрание, за что партия
обязывалась не прибегать более к убийствам и диверсиям. Наследнику
Александра II объясняли также, что в арсенале партии не только инди-
видуальный террор, но и террор толпы, потому разумнее договориться
с дисциплинированными народовольцами, нежели столкнуться со сти-
хией народного бунта — «страшным взрывом, кровавой перетасовкой,
судорожным революционным потрясением всей России»89. По сути
это был типичный «террористический ультиматум».
Понятно, что российское правительство игнорировало угрозы
террористов, переговоры сына убитого с убийцами были заведомо
невозможны.
Да и партия не могла реализовать свои угрозы в аспекте инди-
видуального террора: для новой «охоты за царем» почти не оста-
лось «охотников». Ну а террор толпы в условия 1881 г. был едва ли
не блефом. Превентивное устрашение социума преступной толпой
(в терминологии Лебона) эффективно тогда и только тогда, когда со-
циум дестабилизирован, правительство не способно координировать
действия административных структур и т. п. В противном случае
действия преступной толпы неизбежно пресекаются полицией или
войсками. Предполагалось, что социум будет дестабилизирован в ре-
зультате убийства монарха, но, как известно, это не произошло.
Не желая смириться с явным поражением, с тем, что режим усто-
ял, лидеры партии уповали даже на еврейские погромы. Тема эта
была почти запретна для поколений леворадикальных историков,
но факт остается фактом: народовольцы, убежденные противники
любой дискриминации, с жаром обличавшие правительственный
антисемитизм, неоднократно заявляли, что еврейские погромы по-
лезны делу революции.
Парадокс тут лишь кажущийся. В погромщиках идеологи терро-
ра видели искомую преступную толпу, группы, охваченные массовой
истерией. То, что погромщики охвачены истерией солидарности —
мстят инородцам за «убиенного царя», — казалось не принципиаль-
ным в данном случае. Главное, полагали радикалы, что погром — акция
противозаконная, правительством впрямую не санкционированная,
и народ, участвуя в погромах, таким образом обретает нужный для
революции опыт, опыт коллективных преступных действий в состоя-
нии массовой истерии. Народ «обучается» мятежу. Значит, партии
остается лишь найти способ обратить истерию солидарности в ис-
терию неповиновения, заменить в лозунгах «жидов» на «тиранов»
(«слугсамодержавия», «врагов народа»), и необходимый инструмент
захвата власти готов.
145
Характерно, что аналогичную оценку погромам дал жандармский
генерал В.Д. Новицкий: «Грабежи с насилием людей и над их иму-
ществом всецело ознакомляют народ с духом революционных на-
чал и движений»90. Новицкий опирался на опыт: он был свидетелем
того, как во время киевского погрома 1881 г. толпа едва не растерзала
генерал-губернатора, который поначалу потворствовал «вернопод-
данным» грабителям и насильникам, а затем, наконец, счел нужным
вмешаться. Потворство высокопоставленного администратора доро-
го обошлось всем: усмиряя не в меру разгорячившихся «вернопод-
данных», войска были вынуждены открыть огонь.
В апологии погромов радикалы доходили чуть ли не до провоци-
рования антисемитских акций. В частности, народовольцами была
выпущена анонимная прокламация, где сообщалось, что меры, при-
нятые правительством для разгона погромщиков, — обычная для
самодержавия защита эксплуататоров, каковыми являются ненави-
димые народом евреи91.
Прокламация, как известно, вызвала возмущение многих рево-
люционеров, не склонных жертвовать социалистической доктриной
ради злобы дня. Соответственно, издатели попытались позже снять с
себя вину, объясняя, что были просто обмануты жандармским аген-
том, от имени партийного руководства, подсунувшим злокозненную
фальшивку, дабы таким образом опорочить партию. Похоже, однако,
причина была не в жандармской злокозненности92.
Настаивая, что погромы хоть и плохи сами по себе, однако хо-
роши как средство революционизации народа, газета «Народная
воля» риторически вопрошала: «Но неужели Робеспьер, Дантон,
Сен-Жюст и Демулен, ввиду крайностей разъяренного притесне-
ниями народа, должны были отказаться от своей роли и своих обя-
занностей в истории Франции?» Далее сообщалось, что в награду
за отсутствие брезгливости «скоро придет за нами волна народного
террора» (140). Социум, однако, остался стабильным, погромы пре-
кратились, не перейдя в революцию, и лидерам партии пришлось
признать, что шанс упущен.
Зато благодаря деятельности русских радикалов индивидуальный
террор вслед за другими формами управления посредством превентив-
ного устрашения сформировался, приобретя, как и надеялся Морозов,
характер «популярный, исторический, традиционный».
Определен был элемент, обуславливающий специфику индиви-
дуального террора: в отличие от террора толпы и государственного
террора здесь необходима нелегальная, жестко централизованная
партия — по мадзиниевскому образцу, партия, готовящаяся к захвату
власти путем государственного переворота.
146
«Итак, наша цель — государственный переворот, — заявлял ис-
полнительный комитет. — Его нужно сделать. Отсюда вытекает
вопрос организационный, самый важный из всех, без которого на-
родовольчество — фарс. Ведь смысл нашего существования — в за-
хвате власти», причем «в перевороте, который может быть только
насильственным, а стало быть, требует силы, силы, и еще
силы». Соответственно задачам формулировались и основные орга-
низационные установки: «Теперь не мешает сказать еще несколько
слов о внутренней организации партии, какую мы ей стараемся дать.
Единомыслие в этом отношении особенно важно. Централизация,
дисциплина, выборы сверху (т. е. пополнение группы высшего поряд-
ка членами группы низшего порядка путем выбора первого, а не по-
следнего) — вот основы нашей организации. Как личности (агенты),
так и кружки (местные и национальные группы) одинаково подчине-
ны этим правилам. Вообще вся система имеет цель создать сильный
центр, усилить Комитет»93.
Партия мадзиниевского типа принципиально руководствова-
лась якобинскими образцами борьбы за народные интересы. Но
вот тут-то и возникала нежелательная проблема: откровенная са-
моидентификация с якобинцами была нецелесообразна, поскольку
народовольцы исповедовали социализм, а социалистическая док-
трина подразумевала негативное отношение к якобинизму, особен-
но после событий 1848 г.
Вот почему лидеры партии требовали от единомышленников из-
бегать отрицательно маркированного термина: «Мы, — провозглашал
исполнительный комитет, — стремимся захватить власть, так как на-
род, пока он раб тысячи других условий, ее все равно не удержит.
Если бы государственный переворот дал нам власть, то мы не выпу-
стили бы ее до тех пор, пока не поставили бы прочно на ноги народ.
Значит ли это, что мы якобинцы?» Понятно, что вопрос был чисто
риторическим. «Но если мы даже якобинцы, то этого мы не пропо-
ведуем, поскольку это была бы болтовня. Этим мы могли бы только
вооружить против себя, дать повод к обвиненьям в деспотизме. Зачем
же говорить? Для того чтобы идея не пропала? Но тут нет никакой
идеи. Каждый честный и сильный человек без всякой идеи не отдаст
власти, если она к нему попадет, иначе как в надежные руки. Стало
быть, толковать об этом бесполезно и только вредно»93.
В итоге получалось, что употребление термина «якобинцы» не-
желательно, хотя, по сути, возражений вроде бы нет. Однако в ли-
беральных кругах, особенно западно-европейских, социалисты не
составляли большинство, для большинства же либералов, исповедо-
вавших иные доктрины, сопоставление с якобинцами было вполне
уместным. Во Франции, например, к середине 1870-х гг. окончатель-
147
но утвердился режим III Республики, были «канонизированы» вож-
ди I Республики, робеспьеристские декларации там пользовались
успехом, и русские якобинцы могли рассчитывать на поддержку.
В связи с этим эмигрант Степняк-Кравчинский, знакомый с особен-
ностями европейского общественного мнения, писал в 1882 г. ис-
полнительному комитету: «Нужно долбить и долбить все по одному
месту», дабы убедить западных либералов, «что современные тер-
рористы — это люди 93-го и 89-го года во Франции, которых вся
Европа под образа сажает»9 ’.
Именуя себя якобинцами и террористами, народовольцы пре-
следовали еще одну важнейшую цель — «отмежеваться» от полити-
ческих убийств, организованных анархистами. Анархисты, будучи
подобно народовольцам социалистами и так же основываясь на
опыте Парижской коммуны, выработали концепцию т. н. пропаган-
ды действием, провозгласив, что убивают лидеров «эксплуататор-
ских» государств не ради отмщения за «тиранию» и «деспотизм», но
с целью «разбудить» общество, «поднять его на бунт».
Волна пропагандистских покушений анархистов хронологически
совпала с террором русских радикалов, инициированным судебным
процессом Засулич: в 1878 г. были совершены покушения на евро-
пейских монархов в Германии, Испании, Италии. Анархисты, что
было общеизвестно, декларировали интернационализм, народоволь-
цы — тоже, потому европейские аттентаты и русская «охота на царя»
закономерно воспринимались в качестве «звеньев одной цепи», ре-
зультатов единого плана. «Европейские правительства не могли
допустить, чтобы покушения на трех королей могли случиться без
существования какого-нибудь международного заговора», — вспоми-
нал позднее один из анархистских вождей П.А. Кропоткин, настаи-
вая, что «никаких решительно данных, подтверждающих подобное
предположение, не существовало»96.
Понятно, что эти «европейские правительства», готовые терпеть
русских эмигрантов — «противников деспотизма», — никогда бы не
согласились поддерживать анархистов: из двух зол выбирали мень-
шее. В России же народовольцам следовало противопоставить себя
анархистам, дабы в русском терроре общество видело «заботу о бла-
ге Отечества», проявление патриотизма, а не послушное исполнение
заграничных директив. Поэтому во время суда над цареубийцами
А.И. Желябов, защищая не себя, но репутацию партии, счел нужным
заявить: «Мы не анархисты»97.
Однако различия анархистской пропаганды действием и народо-
вольческого террора не существенны: пропаганда действием велась
ради дестабилизации социума, аналогичные задачи ставили и наро-
довольцы. Пожалуй, пропаганда действием и «охота на царя» — два
148
варианта осмысления одного управленческого алгоритма: захвата
власти партией заговорщиков.
В исторической перспективе победила русская терминологиче-
ская традиция. И не только потому, что народовольцы были удачли-
вее — настигли и убили монарха великой державы. Народовольцы и
задачи свои формулировали яснее: захват власти партией заговорщи-
ков определялся ими как частный случай управления социумом по-
средством превентивного устрашения.
1 Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в Рос-
сии: 1783-1883. М„ 1986. С. 159.
2 Герцен А.И. Собр. соч.: в 30 т. М., 1954-1966. Т. VIII. С. 61. В дальней-
шем ссылки на это издание даются в скобках с указанием соответствующих
тома и страницы. Об отношении Герцена к Великой французской револю-
ции см. монографию: Туниманов В.А. А.И. Герцен и русская общественно-
литературная мысль XIX в. СПб., 1994. Гл. III.
3 Белинский В.Г. Собр. соч.: в 9 т. М., 1982. Т. 9. С. 468.
1 Там же. С. 484.
’ Там же. С. 511.
в Цит. но изд.: Белинский В.Г. Письма: в 3 т. СПб., 1914. Т. 2. С. 425.
7 Там же. См. также: Литературное наследство. М., 1950. Т. 56. С. 80.
х Белинский В.Г. Поли. собр. соч.: в 12 т. М., 1956. Т. 12. С. 97.
” Огарев Н.П. Стихотворения и поэмы. Л., 1956. (Библиотека поэта.)
С. 403.
Цит. но: Коссидьер М. Канун революции // Революция 1848 года во
Франции (февраль — июнь) в воспоминаниях участников и современников.
М.; Л., 1934. С. 65.
11 Гейне Г. Поли. собр. соч.: в 12 т. М., 1936. Т. 6. С. 47-50.
l2Cavaignac G. Introduction // Paris revolutionnaire. P., 1848. P. 46.
13 Коссидьер M. Указ. соч. С. 59.
11 Цит. по: Стерн Д. Февральская революция // Революция 1848 года...
С. 134,126.
Токвиль А. де. Старый порядок и революция. СПб., 1898. С. 176-177.
1, 5 Токвиль А. де. Воспоминания. М., 1893. С. 84,113-114.
17 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: в 50 т. 2-е изд. Т. 8. С. 119.
|х Менар Л. Февраль — июнь // Революция 1848 года... С. 195.
19 Бланки О. Избр. произв. М., 1952. С. 231.
20 Цит. по кн.: The Terrorism Reader / ed. by W. Laquer. N.Y., 1978.
P. 54-55.
21 Бакунин M.A. Философия. Социология. Политика. M., 1989. С. 442.
22 Токвиль А. де. О демократии в Америке. М., 1992. С. 495-510. Ср.: Одес-
ский М.П. «Свобода» и «Равенство» Алексиса де Токвиля // Литературное
обозрение. 1992. № 2. С. 68.
23 Огарев Н.П. Указ. соч. С. 456-457.
149
21 Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч.: в 15 т. М., 1939-1953. Т. 1. С. 122.
23 Там же. Т. 9. С. 348.
2f i Там же. Т. 5. С. 41.
27 Дело петрашевцев: в 3 т. М.; Л., 1937. Т. 1. С. 523.
28 Бакунин М.А. Указ. изд. С. 232-233.
29 Короленко В.Г. Собр. соч.: в 10 т. М., 1953-1956. Т. 6. С. 192.
39 Огарев Н.П. Указ. изд. С. 667. Об ориентации Ф. Орсини на тирано-
борческие модели см.: Раске M.S.J. The Bombs of Orsini. L., 1957. P. 38; Dan-
sette A. L’attentat d’Orsini. P., 1964. P. 40.
" Цит. no кн.: Орсини Ф. Воспоминания. M.; Л., 1934. С. 488.
32 См., напр.: Du Camp М. L’attentat Fieschi. Р., 1877. Р. 232-271.
33 Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.А. Бакунина. М., 1990.
С. 111-112.
31 Н.П. Огарев в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 375-376.
Примечательно, что бланкизм, т. е. классический вариант «партии нового
типа», среди русских левых радикалов XIX в. практически известен не был
(см.: Шахматов Б.М. Л.О. Бланки и революционная Россия (отзывы, влия-
ния, связи) // Французский ежегодник. 1981. М., 1983. С. 56-64).
31 Огарев Н.П. Избр. социально-политические и философские произв.:
в 2 т. М„ 1952-1956. Т, 2. С. 63.
36 Там же. Т. 2. С. 34.
37 Там же. Т. 2. С. 521.
и Цит. по кн: Стеклов Ю.М. Михаил Александрович Бакунин: в 4 т. М.;
Л., 1927. Т. 2. С. 83.
39 Народническая экономическая литература: Избр. произв. М., 1958.
С. 99-107.
™ Покушение Каракозова: в 2 т. М., 1928. Т. 1. С. 57.
11 Цит. по кн.: Лурье Ф.М. Созидатель разрушения: Документальное по-
вествование о С.Г. Нечаеве. СПб., 1994. С. 91.
12 Покушение Каракозова: в 2 т. Т. 1. С. 24.
13 Берви-Флеровский В.В. Как должно жить по закону природы и прав-
ды // Штурманы будущей бури. М., 1987. С. 90.
11 Клевенский М. Из воспоминаний З.К. Ралли // Революционное движе-
ние 1860-х годов. М., 1932. С. 139.
Цит. по кн.: Пирумова Н.М. Указ. соч. С. 186.
16 Огарев Н.П. Избр. социально-политические и философские произв.
Т. 2. С. 212, 219, 294.
17 Там же. С. 222-223. О приватной переписке, сопровождавшей полеми-
ку, см.: Туниманов В.А. Указ. соч. С. 53-57.
18 См.: Фонвизин М.А. Обозрение проявлений политической жизни в
России // Обозрение проявлений политической жизни в России и других
стран М.А. Фонвизина. Проект конституции Н. Муравьева. М., 1907. С. 97.
19 Огарев Н.П. Избр. социально-политические и философские произв.
Т. 2. С. 224.
Ренан Э. Собр. соч.: в 12 т. Киев, 1902. Т. 4. С. 103.
150
51 Цит. ио кн.: Стеклов Ю.М. Указ. соч. Т. 4. С. 39-40.
52 Документы истории Великой французской революции: в 2 т. М., 1990.
Т. 1.С. 43.
33 См., напр.: Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года: в 2 т.
М., 1959. Т. 1: 28 марта — 30 апреля. С. 212; Парижская Коммуна 1871 г.: в 2 т.
М„ 1961. Т. 1.С. 523-527.
г” Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года. М., 1960. Т. 2:
1 мая — 21 мая. С. 23.
” Там же. С. 20.
39 Лавров П.Л. Парижская Коммуна. М.; Л., 1925. С. 158.
37 Протоколы заседаний... Т. 2. С. 317.
38 Троцкий Л. Соч. М.; Л., 1925. Т. 12. С. 76.
39 Протоколы заседаний... Т. 1. С. 103.
99 Там же. Т. 2. С. 293.
' 111 Лавров П.Л. Указ. соч. С. 211, 108. Ср. сходные суждения Ф. Энгельса
(Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. Т. 37. С. 127), Ж. Сореля (Sorel G. Reflexions
sur la violence. P., 1921. P. 147, 161), П.А. Кропоткина (Кропоткин П.А. Хлеби
воля // Современная наука и анархия. М., 1990. С. 533).
92 Avrich Р. Bakunin and Nechaev. L., 1974. P. 29.
91 Лурье Ф.М. Указ. соч. С. 104.
91 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Л., 1972-1990. Т. 10. С. 418.
Там же. С. 421.
99 Статья «Московских ведомостей» от 10 декабря 1871 г. цит. по изд.:
Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей»: 1871
год. М., 1897. С. 823; статья «Голоса» от 9 апреля 1871 г. цит. по изд.: Париж-
ская Коммуна 1871 г. М., 1961. Т. 2. С. 322. •
w Статья «Голоса» от 4 апреля 1871 г. цит. по изд.: Парижская Коммуна
1871 г. Т. 2. С. 324.
98 Степняк-Кравчинский С.М. Соч.: в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 374.
99 Ткачев П.Н. Избр. соч. на социально-политические темы: в 6 т. М.,
1932-1937.Т. 3. С. 288.
7 ,1 Там же. С. 258-259.
71 Там же. С. 375.
72 Там же. С. 442.
73 Там же. С. 447.
71 Там же. С. 429, 430.
73 Лавров П.Л. Предисловие редакции к т. 1 журнала «Вперед!» // Штур-
маны будущей бури. М., 1987. С. 43.
79 Степняк-Кравчинский С.М. Указ. изд. С. 388.
77 См.: Революционное народничество 70-х гг. XIX века: в 2 т. М.; Л., 1965.
Т. 2. С. 50.
79 Степняк-Кравчинский С.М. Указ. изд. С. 388.
79 Ulam А.В. In the Name of People: Prophets and Conspirators in Prerevolu-
tionary Russia. N.Y., 1977. P. 265.
80 Степняк-Кравчинский С.М. Указ. изд. С. 79.
151
81 Там же. С. 390.
82 Ольхин А.А. У гроба // Былое. 1903. № 3. С. 147-152.
89 См.: Революционное народничество... С. 51.
81 Ulam А.В. Op. cit. Р. 315-317.
“’ Литература партии «Народная воля». М., 1930. С. 51. В дальнейшем все
сноски на это издание приводятся в тексте с указанием страниц.
86 См.: «Народная воля» и «Черный передел»: Воспоминания участников
революционного движения в Петербурге в 1879-1882 гг. Л., 1989. С. 389.
87 Морозов Н.А. Террористическая борьба. Лондон, 1880. С. 9, 12.
88 Там же. С. 13.
89 Исполнительный комитет императору Александру III // «Народная
воля» и «Черный передел». С. 331.
911 Новицкий В.Д. Из воспоминаний жандарма. М., 1991. С. 177.
91 См., напр.: Кузьмин Д. Народническая журналистика М., 1930. С. 150—
151.
92 Обзор сведений об отношении народовольцев к еврейским погромам
см.: Ulam А.В. Op. cit. Р. 369-371.
Письмо Исполнительного комитета «Народной воли» .заграничным то-
варищам // Революционное народничество 70-х гг. XIX века. М.; Л., 1965.
Т. 2. С. 316-317.
91 Там же. С. 321.
95 Там же. С. 345.
98 Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1988. С. 404.
97 См.: «Народная воля» в документах и воспоминаниях. М., 1930. С. 51.
СОЦИОЛОГИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
С социологической точки зрения при всем разнообразии конкрет-
ных доктрин в европейской истории Нового времени конкурируют два
типа организации социума: авторитарный (традиционно-сословный)
и бюрократический. В авторитарном обществе, где люди принципи-
ально неравны, где права каждого индивидуума определяются пре-
жде всего сословной принадлежностью, носитель верховной власти
сакрализован: социум в целом признает, что монарх по природе своей
отличается от подданных, поскольку Богом предназначен повелевать.
В бюрократическом социуме постулируется, что природа у людей
одна, и, следовательно, право повелевать — по определению — нуж-
дается в обосновании.
У бюрократического социума две типологические разновид-
ности — демократическая и тоталитарная. В условиях демократии
согласие, полученное правительством от социума, есть результат
компромисса: баланс мнений и сил — политических партий, различ-
ного рода ассоциаций, центра и провинций и т. п. Тоталитарное же
правительство добивается согласия, используя террор, меры превен-
тивного устрашения, необходимость которых доказывается ссылкой
на некие чрезвычайные обстоятельства — постоянную угрозу социу-
му. То есть тоталитарное правительство навязывает общественному
сознанию модель «осажденной крепости». Для обозначения этой осо-
бенности тоталитаризма мы в дальнейшем используем термин «мас-
совая истерия».
Направленность массовой истерии определяется задачами, которые
ставят террористы. Когда они рвутся к власти, эффективность террора
обеспечивается истерией неповиновения правительству, солидарно-
сти с антиправительственными силами, при этом правительство объ-
является источником всех бед и опасностей. Когда власть захвачена
и действует тоталитарное правительство, то опора режима — истерия
солидарности с правительством, и правительство объявляется един-
ственным гарантом существования социума.
Террор есть управление социумом в условиях массовой истерии.
Учитывая специфику конкретного аппарата управления, можно вы-
делить три основные формы превентивного устрашения.
1. Индивидуальный террор — политические убийства и аналогич-
ной направленности акции, совершаемые централизованной конспи-
ративной террористической партией с целью захвата власти.
2. Террор толпы — использование специально организованных
групп, имитирующих стихийное возмущение народа, с целью захвата
или удержания власти.
153
3. Государственный террор — санкционированные правитель-
ством репрессии, проводимые государственным аппаратом с целью
удержания власти, равным образом, решения любых административ-
ных задач.
С точки зрения поэтики террора социологические процессы мани-
фестируются историей базовых идеологем и всей системы тезауруса
террористической традиции.
Формирование идеологемы «террор» обусловлено развитием идео-
логемы «революция», которая сформировалась в XVII-XVIH вв.
В социологическом аспекте итоговое значение идеологемы «ре-
волюция» — преобразование авторитарного (традиционно-сослов-
ного) типа социума в бюрократический, а также соперничество в
рамках последнего демократии и тоталитаризма. Первоначально
латинское слово «revolutio» использовалось в качестве естествен-
нонаучного термина, означающего «обращение», «оборот», «перево-
рот», «круговорот», применительно к астрономическим процессам.
В эпоху Позднего Возрождения термин инкорпорируется в лекси-
ку политическую и воспринимается чаще всего как антоним «не-
изменности», «постоянства». Но осмысление термина в то время
принципиально отличается от ныне привычного. В XVII в. и на
протяжении XVIII в. параллельно бытовали два основных вариан-
та: захват власти претендентом на трон (в результате дворцового
переворота или гражданской войны) и контрпереворот, возвраще-
ние власти законному владельцу. Для второго варианта осмысления
революция — антоним бунта: восстание против законного повели-
теля, бунт — дело Богопротивное, тогда как революция, контрпе-
реворот с целью восстановления власти законного монарха — дело
Богоугодное, возвращение к норме. Потому свержение и казнь Кар-
ла I в 1649 г. и последующие события называли Великой английской
революцией лишь историки XIX в., современники же если и пыта-
лись охарактеризовать события терминологически, то предпочитали
иные определения: «великий бунт», или нейтральное — «граждан-
ская война». Соответственно, восшествие на престол Карла II, сына
Карла I, современники именовали революцией.
Значение, близкое к нынешнему, термин обретает в 1688-1689 гг.,
когда англичане назвали «славной революцией» изгнание Якова II
Стюарта и восшествие на престол Вильгельма III, посредством чего
нация якобы возвратила исконные права, которыми обладала в не-
коем идеальном прошлом. Эти исконные права нации в целом соот-
носились с идеалом «естественных прав» каждого человека. После
английских событий революцией именовали переворот, связанный
с законодательным оформлением перехода к социуму бюрократиче-
ского типа.
154
На протяжении XVIII в. термин «революция», понимаемый как
возвращение нацией законных прав, похищенных тираном, все бо-
лее распространяется, поскольку английский государственный строй
признается образцовым. Соответственно, образцовым признается
способ установления такого строя. Расширяется и смысловое поле
термина. В век Просвещения особую популярность обрел жанр
«истории революций», а великие просветители призывали к глобаль-
ной «революции духа».
Окончательно идеологема «революция» была вычеканена амери-
канцами в годы войны за независимость. Начав с провозглашения
верности традициям «славной революции», американцы в итоге от-
вергли эти традиции. Революцией они назвали не процесс возвраще-
ния к идеальному прошлому, а прорыв в идеальное будущее, создание
образцового «счастливого» общества универсальной справедливости,
построенного на разумных основаниях.
Видя в американской революции наиболее отчетливое прояв-
ление глобальной закономерности, универсальную модель, отцы-
основатели предрекали аналогичные события и в других странах.
Ничего подобного ранее не было. Иностранные волонтеры, сражав-
шиеся в Америке, обрели опыт, благодаря которому еще до начала
аналогичных процессов в своих странах знали, как «делать револю-
цию», стремились к этому.
Перейдя к демонстративному отрицанию преемственной связи с
традициями «славной революции», американские лидеры не отка-
зались от исторических аналогий вообще. Предшественциками они
объявили прежде всего хрестоматийных героев — античных борцов
с тиранией. В аспекте пропагандистском сопоставление выглядело
весьма эффектно, поскольку традиция тираноборчества, осмысляе-
мая как традиция, связанная с культурой Античности, была одной из
самых почитаемых в христианском мире.
Согласно высказываниям ее апологетов, право монарха на абсо-
лютную власть не подлежит сомнению до тех пор, пока он не поку-
шается на вечные — Божественные — законы. В последнем случае
монарх утрачивает свой статус, а значит, и сакральную неприкосно-
венность. Он более не законный государь, он тиран, узурпатор, непо-
виновение же тирану церковь признавала допустимым, и убийство
нарушителя законов Божеских не считалось сакральным преступле-
нием. Юридический смысл тираноборчества подчеркивался ритуа-
лом: на античный манер надлежало поразить тирана кинжалом, после
чего остаться на месте, принять предусмотренное уголовным законом
наказание, дабы и смертью своей способствовать утверждению за-
конности, убеждая общество, что любое убийство, пусть и с благими
целями, всегда влечет кару.
155
Тираноборчество, освященное авторитетом церкви и преемствен-
ной связью с культурной традицией Античности, было до XVIII в.
единственно возможным идеологическим обоснованием неповинове-
ния монарху. Правомерность сопротивления тирану подразумевали
в свое время еще идеологи «славной революции», американские же
отцы-основатели пошли еще дальше: не имея вовсе в виду убийства
короля, они тираноборчеством обосновали идею построения рацио-
нального общества, условием возникновения которого мыслилась
революция.
Таким образом, можно выделить пять вариантов значения терми-
на «революция», соответствующих историческим этапам формиро-
вания идеологемы.
1. Астрономический термин: оборот, круговорот небесных тел.
2. Политико-астрологический термин, отражающий характер по-
литических событий: государственный переворот, насильственная
смена монарха.
3. Политический переворот, декларируемая цель которого — воз-
вращение власти законному монарху.
4. Политический переворот, осмысляемый как ограничение вла-
сти монарха ради восстановления неких исконных прав нации, обла-
давшей этими правами в идеальном прошлом (английская «славная
революция»),
5. Политический переворот, осуществленный с целью создания
нового, рационально устроенного, социума, где все граждане равны
перед законом (американская революция).
Великая французская революция начиналась по схемам англий-
ским и американским. Однако по мере ее развития был открыт и тео-
ретически осознан такой принципиально новый метод управления
социумом, как террор.
Само слово «terreur», т. е. ужас, или устрашение, вошло в поли-
тический лексикон стараниями левых экстремистов — жирондистов
и якобинцев. Требуя от монарха передела власти, они угрожали на-
родным восстанием, причем ответственность за возможные жертвы
заранее возлагали не на восставших, а на короля. По словам ради-
калов, ужасы предстоящего бунта следует воспринимать в качестве
естественной реакции народа на беззаконную политику королев-
ской администрации, которая держится только на ужасе поддан-
ных, т. е. народный террор — ответ на террор правительственный.
Для усиления угрозы использовались специально организованные
группы горожан, чьи бесчинства пропагандисты выдавали за «сти-
хийное проявление гнева народа». Потому «террор» как термин ас-
социировался прежде всего с массовыми антиправительственными
выступлениями.
156
Модель террористического управления сложилась и впервые она
была реализована в качестве террора толпы. Создание такого ин-
струмента устрашения было возможно только в обстановке неста-
бильности при ослаблении управленческого аппарата. Питательной
средой террора в ситуации борьбы за власть была истерия непо-
виновения правительству, обвиняемому во всех бедах подданных.
В итоге радикалам удалось убедить социум, что к власти надлежит
приобщить тех, кто способен умерить «стихийный гнев народа»,
уберечь страну от хаоса.
Весьма важная веха для истории идеологемы «террор» - т. н.
сентябрьские убийства 1792 г.: существенной целью этой сплани-
рованной якобинцами акции было изменение расстановки сил в
коалиционном правительстве, устрашение бывших союзников, жи-
рондистов. Антиправительственным выступлением открыто руко-
водила официальная организация — столичное самоуправление,
якобинская Парижская коммуна. Объявляя эту акцию террором, ру-
ководители санкционировали кардинальный семантический сдвиг:
идеологема, неразрывно связанная с восстанием, описывала отныне
и деятельность организаций, имеющих государственный статус. Без-
законно в силу чрезвычайных обстоятельств истребляя роялистов и
всех объявленных таковыми, якобинцы превентивно устрашали со-
циум в целом, лишая вероятных оппонентов воли к сопротивлению.
В дальнейшем коалиционное правительство жирондистов
и якобинцев, сохранив суть управленческого метода, изменило
форму его. С использованием государственной административ-
ной структуры был инициирован государственный террор. Здесь
между соперничающими группировками разногласий не было: обе
оставались террористическими. Демонстративное насилие, террор
толпы был отчасти заменен «показательными судебными процес-
сами», исход каждого из которых определялся заранее. Моделью
стал процесс Людовика XVI: требование казнить подсудимого обо-
сновывалось не каким-либо правонарушением бывшего монарха,
а необходимостью «поразить ужасом» реальных и потенциальных
противников режима.
Монополизировав власть в результате переворота 1793 г., яко-
бинцы получили готовый аппарат для проведения государствен-
ного террора: Комитет общественного спасения в качестве органа
верховной исполнительной и одновременно законодательной вла-
сти, Комитет общественной безопасности как своего рода министер-
ство внутренних дел, наделенное чрезвычайными полномочиями,
и верховный Трибунал, чьи действия определялись не законами, а
целесообразностью. Но если до переворота устрашаемы были пред-
ставители жирондистов в коалиционном правительстве, их сторон-
157
ники и роялисты, то после — социум в целом, что было нужно и для
предотвращения любых форм протеста, и ради решения частных
административных задач.
Суть явления, совершенно нового в государственной практи-
ке, теоретически определили Робеспьер и другие лидеры револю-
ционного правительства. Во-первых, основой управления вообще
и юстиции в частности становится превентивное устрашение, что
открыто декларируется и реализуется. Во-вторых, дабы обосновать
необходимость сохранения правительством чрезвычайных полно-
мочий, непрестанно нагнетается массовая истерия. Но это уже не
истерия неповиновения, как при терроре толпы, а истерия солидар-
ности с правительством — единственной защитой нации от врагов
внешних и внутренних.
Соответственно, и термин «революция» обрел новое, шестое, зна-
чение. Если в 1776-1789 гг. революция осмыслялась как событие,
результат которого — переход к идеальному обществу, то в 1793 г.
революцией называли длительный процесс борьбы за утверждение
такого общества. Будучи соединенным с названием, к примеру, госу-
дарственного учреждения, определение «революционный» указыва-
ло: данное учреждение продолжает борьбу за победу революции, т. е.
наделено чрезвычайными полномочиями. Слова «революционный»
и «чрезвычайный» стали синонимами.
Революция, совершаемая по первой модели (1776-1789), обо-
сновывалась идеей борьбы за «естественные права». В случае выбо-
ра второй модели (1793) реализация каждым членом социума своих
прав откладывалась до преодоления чрезвычайных обстоятельств,
мешающих победе. Изменился и социологический смысл революции.
По первой модели это — построение общества бюрократического
типа, где все граждане равны перед законом. По второй — построе-
ние тоталитарной разновидности бюрократического общества, т. е.
социума, где все граждане равно беззащитны перед законодательно
утвержденным всевластием революционного правительства.
На стадии государственного террора леворадикальным прави-
тельством эмпирически было выявлено, что казнь политических
противников сама по себе уже не воспринимается социумом как
мера экстраординарная. Социум «привыкает» к «ужасу». В силу
чего стабильность устрашения может обеспечиваться только за счет
роста количества и массовости акций. Приближение к пику — «тер-
рор ad infinitum» — выразилось в характерном для периода якобин-
ской диктатуры аксиоматическом отождествлении нейтралитета с
враждебностью.
Террор распространялся не только «вширь», но и «вверх». Пра-
вительство, увеличивая масштабы репрессий ради стабильности эф-
158
фекта устрашения, как бы само подсказывало социуму: если «врагов
народа» не становится меньше и действуют они все активнее, значит, у
них много влиятельных покровителей. Массовая истерия, свойствен-
ная террористической модели, порождала вполне последовательное
объяснение — измена в высшем руководстве. Такая установка значи-
тельно упрощала решение задач политической конкуренции на всех
административных уровнях.
С этой точки зрения термидор — насильственное устранение от
власти сторонников Робеспьера — не антитеза, но фаза террора. Про-
ведя некоторые реформы, термидорианцы позаботились о продол-
жении прежней политики. Механизм государственного террора был
не уничтожен, а лишь трансформирован. Победители стремились
регулировать его ход. Террор то нарастал, то вновь «тормозился»,
посредством мини-термидора, затем процесс повторялся сообразно
конкретным задачам управления.
Чередование «детерроризация»/«ретерроризация» продолжа-
лось до бонапартистского переворота. В этом чередовании — от-
личие термидора как фазы государственного террора от фазы ad
infinitum, когда масштабы репрессий и массовая истерия неуклонно
возрастают.
При термидорианцах снова принципиально трансформируется
социальная мифология. Определение «революционный» как атри-
бут «фракции» Робеспьера табуировалось законодательно, само же
понятие «революция» оставалось сакральным. Свержение робе-
спьеровской диктатуры термидорианцы в свою очередь именовали
революцией, а диктатуру — отклонением от правильного пути, под-
черкивая, что террор — отнюдь не основополагающий государствен-
ный принцип, но результат деспотических устремлений и прямой
измены. Потому термин использовался исключительно для обозна-
чения негативной, контрреволюционной деятельности.
Негативное отношение термидорианцев к идеологеме «террор»
было усвоено и последующими режимами. Слово оказалось настоль-
ко скомпрометированным, что более четверти века в общественном
сознании оно ассоциировалось преимущественно с кровавыми безза-
кониями. За исключением немногих маргиналов (например, Ф. Буо-
нарроти), приверженцы революционной традиции пропагандировали
«революцию без террора» — английскую модель 1688 г. и француз-
скую модель 1789 г. В этих категориях и осмысляли свои действия
вожди Июльской революции 1830 г., переворота, лишившего пре-
стола династию Бурбонов и вернувшего оппозиционной мифологии
официальный статус.
Что касается русской истории, то первыми заговорщиками, кото-
рые полагали необходимым не только свергнуть правительство, но и
159
провести радикальные государственные реформы по образцу Великой
французской революции, стали декабристы. Тайное общество было
здесь и удобным инструментом захвата власти, и школой будущих ад-
министраторов, чья задача — создание нового идеального государства
всеобщего равенства, а также управление этим государством.
Отношение декабристов к террору было неоднозначным. Фран-
цузские методы привлекали эффективностью, однако не могло быть
и речи об их пропаганде. Эпоха «канонизации» якобинских лидеров
началась позже.
С учетом этих факторов декабристы декларировали, что их
цель — революция без террора. Более того, сам заговор, по свиде-
тельству его участников, создавался с целью предотвращения тер-
рористических эксцессов. Настаивая, что революция исторически
неизбежна, причем в ближайшем будущем, декабристские идеоло-
ги доказывали, что единственный способ предотвратить террор —
не допустить стихийности, провести революцию организованно,
управлять процессом. Именно победа Тайного общества и моно-
полизация власти Временным правительством, наделенным чрез-
вычайными полномочиями, должны были обеспечить необходимые
социальные преобразования, гарантировав Россию от народного
бунта и «ужасов» экстремизма.
Настаивая на революционности своих намерений, декабристы от-
рекались от аналогий с якобинцами и террором, табуировали терми-
ны эпохи Конвента, особенно во время следствия. В частности, они
пытались отказаться и от первого названия тайной организации —
«Союз спасения», поскольку следователи небезосновательно могли
истолковать сочетание «Союз спасения» как демонстративное указа-
ние на связь с Комитетом общественного спасения, правительством
якобинцев. Заговорщики тогда выглядели бы учениками террори-
стов, цареубийц, и тут уж не пришлось бы рассчитывать на снисхож-
дение монарха.
Выбор других названий декабристских организаций тоже обу-
славливался революционным тезаурусом, но заговорщики, по мере
приобретения опыта, становились осторожнее, избегая терминов
откровенно террористических. Пример тому — самая массовая де-
кабристская организация «Союз благоденствия». С одной стороны,
сочетание «благоденствие народа» было у всех на слуху, и слово
«благоденствие» отнюдь не свидетельствовало о крамольных пла-
нах, с другой — благоденствие, т. е. счастье — одна из базовых ре-
волюционных идеологем, связанная с американской «Декларацией
независимости».
Аналогично проявлялось отношение к лидерам якобинцев. Их
имена избегали упоминать, а если и упоминали, то преимуществен-
но
но с осуждением. Однако имплицитные ссылки на французский
опыт — например, цитирование «крылатых фраз» эпохи Великой
французской революции — свидетельствуют, что декабристы видели
в якобинцах образцы для подражания. И управленческие структуры,
планируемые декабристами, тоже изрядно походили на якобинские.
Получалось, что для спасения от «ужасов» якобинства надлежало
создать административный аппарат, использовавшийся во Франции
для проведения государственного террора.
Вслед за якобинцами декабристы поставили перед собой задачу
«истребления» монарха. Якобинцы искали для этого авторитетные
примеры, и декабристам такие примеры тоже понадобились, по-
скольку прямой апелляции к опыту робесиьеристов они избегали.
Наиболее близким образцом для русских заговорщиков, как и для
якобинцев, было тираноборчество. Правда, у русских якобинцев
\ прагматическая основа этой акции несколько иная: убийство монар-
ха было подготовительным этапом захвата власти. Внезапная смерть
царя мыслилась как фактор, дезорганизующий государственное
управление, а в обстановке нестабильности планировалось при опо-
ре на повинующиеся офицерам-заговорщикам войска не допустить
воцарения наследника убитого императора. С этой целью позже
было решено уничтожить всю царскую семью. Однако сама акция
постоянно откладывалась, поскольку заговорщики не располагали
основным инструментом — войсками.
По мере конкретизации планов захвата власти декабристы уяс-
. пили, что даже полное «истребление императорской фамилии» еще
не влечет за собой признания социумом законности правительства,
сформированного цареубийцами. Потому идеологическое обоснова-
ние мятежа, предложенное солдатам, было традиционным: призыв к
защите прав некоего легитимного монарха, «царя-милостивца».
Принимая якобинскую модель управления, декабристы законо-
мерно планировали обращение к якобинским алгоритмам захвата
и удержания власти — террору толпы и государственному террору.
От террора толпы пришлось отказаться, поскольку любая попыт-
ка открытого призыва к бунту заведомо обрекала мятежников на
поражение: нарушалась базовая для традиционно-сословного со-
циума модель повиновения — «Бог-царь-офицер-солдат». Офицер-
мятежник, призвав солдат к бунту, утратил бы статус представителя
помазанника Божия, а значит, и законное право повелевать. Даже
если бы призыв к бунту был воспринят, офицер все равно терял
свои полномочия, обусловленнные чином, потому что для солдат-
бунтовщиков, отвергших власть помазанника Божия, поставленный
царем командир — более не начальник.
161
Что до государственного террора, то весьма характерны дека-
бристские планы создания ситуации «осажденной крепости»: со-
гласно свидетельствам, предполагалось начать войну с турками.
Таким образом, декабристы приступили к разработке новой фор-
мы управления социумом. Наиболее существенное в их теоретиче-
ском наследии — планы цареубийства, акции, дестабилизирующей
социум, облегчающей захват и последующее удержание власти.
В этом аспекте убийство монарха — акция террористическая. По-
добного рода политические убийства позже были осмыслены как
индивидуальный террор. Можно отметить, что индивидуальный
террор — вариант реализации идеи террора в ситуации конспи-
ративного заговора. И здесь декабристы были в русле европей-
ской традиции, ассоциировавшейся прежде всего с деятельностью
Ф. Буонарроти.
В постдекабристскую эпоху этапы формирования идеологем
«революция» и «террор» в Европе и России почти совпали. 1830-
1840-е гг. для Европы — период «реабилитации» робеспьеризма.
Во Франции левая оппозиция, отвергая модель 1789 г., которую уже
считали почти официальной, предпочитала более радикальный вари-
ант — якобинский.
Аналогично осмысление французского опыта в России: если
декабристы еще избегали идентификации с якобинцами, то у
А.И. Герцена, Н.П. Огарева и революционно ориентированных
представителей их поколения нет сомнений в исходной правоте
экстремистов. Интеллектуалы 1840-х гг. использовали революци-
онные имена-символы настолько избыточно, что Герцен по поводу
этой языковой моды даже иронизировал.
Европейские события 1848-1849 гг. демонстрировали, что исто-
рия Французской революции стала универсальным тезаурусом,
подобно тому, как в Европе Нового времени — выхолощенная Ан-
тичность.
Монархия во Франции была уже непопулярна, и левые радика-
лы планомерно нагнетали истерию неповиновения, публично и пе-
чатно доказывая, что монархическое правительство — источник всех
бед и опасностей. Затем наследники якобинцев воспользовались
традиционным средством — террором толпы. Опираясь на восстав-
шие в феврале 1848 г. парижские предместья, они потребовали уни-
чтожения монархии и передачи власти «Временному правительству,
назначенному народом», т. е. правительству, образованному по усмо-
трению революционной элиты — руководителей тайных обществ и
легальных, но тоже экстремистских группировок. Это правительство
в свою очередь должно было созвать Учредительное собрание, дабы
162
утвердить новую конституцию, что позволило бы избежать новых
эксцессов на улицах столицы.
Новым робеспьеристам успех поначалу тоже сопутствовал: Вре-
менное правительство было сформировано. Но террор толпы ока-
зался оружием обоюдоострым. Радикальные лидеры, недовольные
разделом власти, продолжали нагнетать истерию неповиновения,
правительство не могло ни успокоить парижан, ни преобразовать
истерию неповиновения в истерию солидарности. Наконец, пра-
вительство проявило решительность, регулярные войска подавили
городское восстание с необычайной по тому времени жестокостью.
Более правительство не практиковало чрезвычайные меры, но попу-
лярность оно утратило. На президентских выборах победил племян-
ник Наполеона, который затем установил режим военной диктатуры
и объявил себя императором Наполеоном III, что было осмыслено
как закономерное повторение уже известной последовательности со-
бытий: «революция-террор-бонапартизм».
Правда, французским радикалам не удалось возродить государ-
ственный террор, зато их готовность к тому была несомненна. С по-
мощью террористического тезауруса левые разрабатывали методы
преобразования настоящего, а профессиональные историки и социо-
логи — модели осмысления прошлого.
События 1848 г. окончательно сформировали также тип «профес-
сионального революционера»: тех, кто, создавая конспиративные об-
щества, готовит революцию (причем не обязательно в своей стране),
а не пассивно ожидает событий, благодаря которым сможет обрести
социальный статус.
Однако в итоге революции были подавлены, что заставляло заду-
маться о причинах поражения. Робеспьеризм был вновь, как и в пору
термидора, скомпрометирован, причем скомпрометирован в глазах
недавних апологетов. Разочарование в якобинских методах не при-
вело, впрочем, к разочарованию в революционной идеологии. Недав-
ние апологеты Робеспьера снова доказывали, что террор отнюдь не
имманентен революции и революционеры прибегали к террору прин-
ципиально реже, нежели реакционеры. Красный террор — исключе-
ние, а контрреволюционный белый террор — правило.
Черпая аргументы в социалистических доктринах, левые ради-
калы создали новую концепцию революционного насилия, объявив
своих предшественников носителями «буржуазного сознания», вы-
разителями классовых интересов буржуазного меньшинства. А гря-
дущие революции, полагали радикалы, будут антибуржуазными, т. е.
совершатся большинством и в интересах большинства. На основе
подобного рода «арифметических» суждений строилась «обратная
пропорция»: раньше насилие применялось ради меньшинства про-
163
тив большинства и крови было много, в будущем же насилие станет
орудием подавления меньшинства большинством, потому и крови
меньше прольется.
Террор, точнее государственный террор, был почти повсемест-
но — и русскими, и европейскими радикалами — признан орудием ре-
акции, а потому требовалось найти способ управления, позволяющий
предотвратить обыкновенное кровопролитие, связанное с захватом и
удержанием власти. На рубеже 1850-1860-х гг. радикалы, отрекшие-
ся от якобинизма, все чаще обращаются к идеям, которые неустан-
но пропагандировали Буонарроти и его последователи. Речь шла о
создании «партии нового типа» — обширной сети тайных обществ,
подчиненных единому руководству, жестко централизованной кон-
спиративной организации, что вела бы подготовку к вооруженному
восстанию, дабы в нужный момент свергнуть правительство. И в этот
момент партия стала бы основой, костяком новой администрации.
Значит, новые управленцы выдвигались бы не случайно, не стихийно,
а планомерно, их компетентность и добросовестность были бы прове-
рены за годы подполья, централизация и партийная дисциплина га-
рантировали бы от «буржуазного перерождения» и междуусобиц.
«Партия нового типа» оказалась почти универсальным инстру-
ментом для решения задач как социальных, так и национально-
освободительных. Наибольшего успеха добились итальянские
заговорщики, воспользовавшиеся «рецептами» Буонарроти: почти
тридцать лет «Молодая Италия» и ряд иных конспиративных орга-
низаций вели борьбу за объединение и независимость страны. Симво-
лом отваги и жертвенности стал Ф. Орсини, в 1858 г. покушавшийся
на французского императора, политику которого считал враждебной
интересам Италии. Он тоже апеллировал к традиции тираноборче-
ства, но орудием убийства избрал не кинжал, а метательные бомбы.
И хотя попытка была неудачной, современники восхищались муже-
ством Орсини во время следствия и казни. Спустя год французское
правительство неожиданно поддержало сторонников объединения
Италии, причем Наполеон III объяснил причины резкого изменения
политического курса тем, что благодаря Орсини он окончательно убе-
дился в правоте «Молодой Италии». Либеральной общественностью
это было воспринято как победа Орсини, так или иначе сумевшего
достичь желаемого результата.
Имена итальянских радикалов стали революционными симво-
лами. Национально-освободительная специфика в данном случае
роли не играла. Современники увидели универсальные алгоритмы:
интеллектуал-эмигрант Дж. Мадзини, из-за границы руководящий
централизованной конспиративной организацией, «народный полко-
водец» Дж. Гарибальди, готовый возглавить восстание чуть ли не на
164
любом континенте, и «боевик» Ф. Орсини, чья вовремя брошенная
бомба изменила ход истории.
Среди русских социалистов наибольшую популярность завоевал
Гарибальди, но его опыт — опыт всенародного восстания — оказался
неактуальным.
Зато вполне доступными выглядели методы Мадзини: автори-
тетная русская эмиграция уже существовала, и на роль Мадзини
прочили Герцена и Огарева. В сходном направлении размышлял
М.А. Бакунин.
Наиболее же плодотворным для русских революционеров стал
опыт совмещения мадзиниевской организационной структуры и тер-
рористической направленности, воплощенный в эпатажных манифе-
стах не эмигрантов, но «Молодой России» П.Г. Заичневского.
У ишутинцев политическая программа почти не отличалась от
\ программы других социалистов, а вот методы были несколько ины-
'ми. Они ориентировались на орсиньевскую модель: политическое
—убийство, меняющее ход истории, в данном случае — приближающее
революцию. В 1866 г. один из ишутинцев Д.В. Каракозов стрелял из
револьвера в императора. Террористическая направленность аттен-
тата была очевидной для современников: Александра II пытались
убить не за какое-либо отступление от законности, но потому, что
он — глава монархического государства и, согласно якобинской логи-
ке, не может быть невиновным.
К исходу 1860-х гг. террор был очередной раз теоретически реа-
билитирован стараниями тех же социалистов, что pahee отрекались
• от него, называя буржуазным методом. Речь шла о признании допу-
стимости для решения новых социалистических задач двух привыч-
ных форм превентивного устрашения: государственного террора и
террора толпы.
Возможность осознанно использовать якобинский метод управ-
ления, гальванизировать легенду предоставила левым экстремистам
революция 1870-1871 гг. во Франции.
В марте 1871 г. парижские радикалы формируют революционное
правительство, состоящее из нескольких Комиссий, и среди них —
Комиссия общественной безопасности. Прообраз был настолько оче-
виден, что ее называли Комитетом. Решено было учредить и Комитет
общественного спасения, хотя этому предшествовали длительные
дискуссии.
К террористическим идеям Ж.П. Марата, призывавшего аресто-
вывать «родственников, жен и детей» всех известных и потен-
циальных контрреволюционеров, восходил знаменитый закон о
заложниках. Принимали его в атмосфере массовой истерии, под-
хлестнутой широко распространявшимися сведениями о расстрелах
165
версальцами пленных коммунаров, в связи с чем казни заложников
обосновывались прежде всего целесообразностью — предотвращени-
ем очередных «версальских зверств».
Коммуна стала новым олицетворением террора. Благодаря ее
лидерам террор воспринимался уже не в качестве исторической ле-
генды, а как реально применимый метод управления обществом. И
споры теоретиков революции об «уроках Коммуны» свелись, по сути,
к спорам об эффективности террора. Одни вслед за социалистами
предыдущего поколения считали, что эффективности коммунарского
управления препятствовало «разлагающее влияние революционно-
якобинской рутины», т. е. буквальное копирование политики ре-
волюционеров буржуазного толка. Согласно другой точке зрения
причина падения Коммуны не в подражании якобинцам: обращение
к террору было вполне оправданно, однако применять его следовало
более решительно, исходя из того, что террор — универсальный ме-
тод управления.
В 1870-е гг. сложился как общественное явление русский терро-
ризм — со своей идеологией, теоретиками и «канонизированными»
мучениками.
В результате деятельности печально знаменитого С.Г. Нечаева
были намечены все элементы индивидуального террора: жестко цен-
трализованная партия, тираноборческое обоснование политических
убийств, бомбы и револьверы, т. е. оружие, позволяющее действовать
издалека и уйти с места покушения, определен и выбор жертв — мо-
нарх и/или иные представители государственной власти.
Но хотя процесс нечаевцев происходил практически одновремен-
но с событиями Парижской коммуны, их в отличие от коммунаров
террористами не называют. Причины объяснимы. Парижские экс-
тремисты захватили власть и образовали правительство революци-
онной диктатуры, а русские радикалы были подпольщиками. Если
коммунары практиковали насилие в традиционной якобинской фор-
ме, то русские подпольщики — в форме аттентатов, якобинцами не
санкционированной. Соответственно, коммунары открыто заявляли
об установке на превентивное устрашение, базовой для террористов,
в программных же документах русских учеников Мадзини и Орсини
подобных установок не было.
Потому государственные репрессии, проводимые Парижской
коммуной, и политические убийства, подготовленные заговорщика-
ми, не воспринимались как явления аналогичные, которые можно
описать единым термином, термином «террор». Очевидно, что и сами
нечаевцы специфику индивидуального террора не сознавали. Поня-
тия такого еще не сформировалось.
166
Для того чтобы понятие «террор» охватило, наконец, и деятель-
ность заговорщиков, требовалось «увязать» эмпирически найденный
«инструментарий» политических убийств с установкой на управле-
ние посредством превентивного устрашения. К такой установке рус-
ские социалисты пришли через несколько лет в процессе усвоения
и осмысления в эмигрантской прессе опыта Парижской коммуны.
Якобинизм, социализм и мадзинизм были объединены в историче-
ской ретроспективе.
Споры эмигрантов были весьма актуальны для России, где про-
должалось объединение многочисленных революционных кружков.
Идея жестко централизованной по мадзиниевскому образцу пар-
тии, обсуждавшаяся еще в 1860-е гг., была реализована: «Земля и
воля» — партия, способная решать задачи террористические, т. е. за-
дачи борьбы за власть посредством превентивного устрашения, — в
1878 г. приступила к полномасштабной деятельности по дестабили-
зации империи, устрашая правительственных служащих и вообще
сторонников правительства.
Эффективность превентивного устрашения обеспечивается в
первую очередь неуклонным его нарастанием — ad infinitum. Потому
террористам приходилось заботиться и о количественном, и о каче-
ственном развитии: ради сохранения «электрической атмосферы эн-
тузиазма», которую удавалось распространить в обществе, следовало
намечать жертв в большем количестве и все более высокого ранга.
Ожесточенная полемика привела к расколу: на, основе «Зем-
. ли и воли» сформировалась партия террора — «Народная воля». В
1880 г. Исполнительный комитет партии принимает программу,
предусматривающую продолжение «деятельности разрушительной
и террористической» вплоть до цареубийства. Авторы программы,
ориентируясь на революционную «мифологию», отождествляли
себя с французскими революционерами, санкционировавшими казнь
Людовика XVI. Отсюда легко было сделать вывод, который и был
вычеканен в эмигрантской брошюре Н.А. Морозова «Террористи-
ческая борьба»: террорист — это и есть тираноборец, отличия здесь
несущественны, искать их надо не на уровне нравственном или по-
литическом, а на уровне техническом (от кинжала к бомбам), при-
чем отличия свидетельствуют в пользу террориста, находящегося на
более высокой ступени прогресса.
Осознав индивидуальный террор в качестве формы управления
социумом, Морозов возводит практику русских подпольщиков к
образцам — якобинским классикам государственного террора. Тер-
мин был найден: теоретик террора с полным правом заключает, что
деятельность заговорщиков в России, аккумулируя опыт решения
167
конкретных политических задач, позволяет создать универсальный
алгоритм подготовки и проведения революции.
1 марта 1881 г. Александр II был народовольцами убит, а наслед-
нику Исполнительный комитет отправил открытое письмо, объясняя,
что в арсенале партии не только индивидуальный террор, но и террор
толпы, потому разумнее договориться с дисциплинированными на-
родовольцами, нежели столкнуться со стихией народного бунта. Это
был типичный террористический ультиматум.
Правительство его игнорировало, социум остался стабильным,
аттентаты и погромы прекратились, не перейдя в революцию, и ли-
дерам партии пришлось признать, что шанс упущен. Зато благодаря
деятельности русских радикалов индивидуальный террор вслед за
другими формами управления посредством превентивного устраше-
ния сформировался.
Таким образом, была создана — и социологически, и на уровне
«поэтики» — концепция «индивидуального террора», что завершило
почти столетний процесс формирования идеологемы «террор». А в
начале XX в. во всеоружии имеющегося опыта русским левым экстре-
мистам удалось уже последовательно использовать все три основные
формы превентивного устрашения как метода управления социумом:
индивидуальный террор, террор толпы и государственный террор.
ПОЭТИКА ВЛАСТИ НА ДРЕВНЕЙ РУСИ
Поэтика власти — базовые идеологемы, формы их манифеста-
ции — характеризует не только общество, но и культурную модель
Древней Руси в целом. Действительно, в Средние века власть, не буду-
чи жестко отделена от прочих областей культуры, как бы пронизыва-
ет весь духовный строй социума1. Это своего рода диагностирующий
признак. И соблазнительно попытаться с опорой на авторитетных
отечественных и иностранных специалистов схематизировать те об-
разы власти, которые получили семиотическое оформление в древне-
русской культуре.
Сложнее всего определить, как понимала княжескую власть до-
монгольская Русь: исследователь, лишенный ясных текстов «само-
описания», вынужден здесь прибегать к реконструкции, полагаясь на
косвенные свидетельства.
Будучи частью православного мира, Русь прежде всего усвоила мо-
дель «Государи — Боги». Восходящая к компилятивным сочинениям
византийского писателя Агапита (VI в.), модель «Государи — Боги»
представлена во многих древнерусских текстах2. Так, автор «Пове-
сти об убиении Андрея Боголюбского», изображая смерть князя от
руки заговорщиков и разграбление его богатств, скорбно напоминает:
«Пишеть апостолъ Павелъ: “Всяка душа властемъ повинуется, власти
бо от Бога учинены суть; естествомъ бо царь земнымъ подобенъ есть
всякому человеку, властью же сана вышьше, яко Богъ”» ’.
Как справедливо отмечалось, модель «Государи — Боги» — своего
рода развернутый комментарий к знаменитой цитате из 81 псалма:
«Боги есте и сынове Вышняго». Ее общепринятое толкование дано
в Толковой Псалтири, «которую несомненно знали, опять-таки, как
Иосиф Волоцкий, так и другие авторы, — речь идет о судьях земных,
чья власть над человеческими судьбами уподобляет их Богу, т. е. о
функциональном уподоблении царя Богу по власти, по праву су-
дить и решать. Понятно, что такое толкование псалма делало есте-
ственным цитирование его в текстах назидательно-юридического
характера...»1.
Модель «Государи — Боги» диктовала генеральное понимание
власти: ее носитель не просто человек постольку, поскольку в мо-
169
мент «суда» он совершает Богоподобное действие. Действие, не
превращающее его в Бога, но подобающее именно Богу. Эта модель
«работает» применительно к полномочиям всякого государя и к пол-
номочиям всякого судьи, «судящего», т. е. принимающего решение.
На Руси, впрочем, власть князя хоть и не сводили к власти любого
«судящего», но ставили ее ниже власти царя. Собственно царских ам-
биций в домонгольский период князья не выражали, смиряясь с тем,
что в пределах православного мира царский титул принадлежит ис-
ключительно византийскому императору.
Для домонгольской ситуации специфична модель власти, которую
можно обозначить как «Государь — совершенный человек», подразу-
мевающая понимание властителя как персонификации физических и
душевных достоинств коллектива.
Как и в рамках модели «Государи — Боги», модель «Государь —
совершенный человек» придавала князю сверхчеловевечский ста-
тус. Однако здесь подобный статус обусловлен той элементарной,
«кровной» причиной, что он принадлежал к роду Рюриковичей.
Согласно Э. Бенвенисту, который анализировал царские титулы,
восходящие подобно титулу «князь» к термину kun-ing-az, «“царь”
обозначен по своему происхождению как “тот, кто рожден в цар-
ской семье; тот, кто ее представляет и является ее главой”. Наконец,
всякий раз подчеркивается знатность происхождения. <...> В этой
концепции “царь” рассматривается как олицетворение всех членов
свого племени»’.
Раз Рюрикович — то государь (того или иного масштаба). Симпто-
матично, что летописцам и агиографам безразлична «точка начала»
карьеры Рюриковича: в каком возрасте он приступает к реализации
властных полномочий, какой из русских престолов занимает. Князь
есть князь. Зато столь же симптоматична значимость «точки финала»
княжеской жизни: статус государя, детерминированный принадлеж-
ностью к Рюриковичам, по определению не подлежал отчуждению ни
при каких обстоятельствах: ни при жизни, ни по смерти, — и кончина
каждого (в пределе) Рюриковича — повод для печального некролога, в
котором торжественно перечисляются его добродетели — добродетели
«совершенного человека»: «Бе же Мьстиславъ дебелъ теломъ.черменъ
лицем, великыма очима, храборъ на рати, милостивъ, любяше дружину
по велику, именья не щадяше, ни питья, ни еденья браняше»; «Бе же
Изяславъ мужь взоромъ красенъ и теломъ великъ, незлобивъ нравомъ,
криваго ненавиде, любя правду»; «Бе бо сей князь (Василько Констан-
тонович. — М.О.) лицемъ красень, очима свтелъ, взоромъ грозенъ, паче
меры храборь, на ловехъ вазнив, сердцемь легокъ»1’.
Летописные примеры убедительно демонстрируют, что умерший
государь — «зерцало» всяческих добродетелей: он абсолютно, ме-
170
тафизически красив, силен, отважен, милостив. Аналогичен в жи-
тийном памятнике — «Сказании о Борисе и Глебе» — «взор» князя
Бориса Владимировича: «Телъмь бяше красьнъ, высокъ, лицьмь
круглъмь, плечи велице, тънъкъ въ чресла, очима добраама, веселъ
лицьмь, борода мала и усъ — младъ бо бе еще. Светяся цесарьскы,
крепъкъ телъмь, вьсячьскы украшенъ акы цвьтый въ уности своей,
в ратьхъ хръбъръ, въ съветехъ мудръ и разуменъ при вьсемь и бла-
годать Божия цвьтяаше на немь» (Успенский сборник ХП-ХШ вв„
первоначальный вариант — по реконструкции С.А. Бугославского7).
Особая отмеченность «точки финала» жизни государя воздейство-
вала и на культ места его захоронения. «Повсюду в старых стольных
городах, — констатировал Г.П. Федотов, — в склепах или притворах
соборов народ благоговейно чтил гробницы древних князей, в кото-
рых видел защитников родного города, к которым обращался в годи-
ну военной грозы. <...> Оттого так много святых князей, не имеющих
жития и даже не известных истории. Их почитание вырастало не из
живой памяти о личности, а из немой гробницы»8.
Г.П. Федотов был склонен оценивать почитание святых-князей
в контексте народного христианства: «При малочисленности свя-
тых мирян вообще поражает обширность этой общественной группы
(больше половины русских святых мирян), сословное предпочтение
или избранность ее в небесной иерархии»9. Однако более убеди-
тельным представляется предположение о языческой, «традициона-
листской» (в понимании Ж. Дюмезиля, М. Элиаде) природе модели
«Государь — совершенный человек». Воплощение воинской функ-
ции, князь именно вследствие этого не только воин, но палладиум,
коллективный оберег, откуда и проистекало наделение его всей пол-
нотой достоинств.
Соответственно, если князь - совершенный человек, то и каждый
человек на «вершине» своего жизненного пути — князь. Потому в рус-
ском свадебном обряде князем и княгиней именуют жениха и невесту,
ведь свадебный ритуал манифестирует максимальный расцвет жиз-
ненных сил участников. По формуле В.Н. Топорова, «жених-князь
лишь раз в жизни во время свадьбы выступает как своего рода за-
мена божественного жениха, участника "первосвадьбы” Солнца...»19.
В качестве примера — по необходимости позднего — можно привести
«Чины на свадьбе» (рукопись «Домостроя» 1560-х гг.): «И как ново-
брачный князь приедет с поездом, и короваиники и свешники с фона-
рем приидуть потому ж, и как Бог дасть, новобрачный князь сядет на
месте, и, посидев немного, сваха встанет, да благословляецся у отца
и у матери — новобрачному князю и княине голова чесать, и возмет
соболи, которые держать, и обносить теми собольми около голов но-
вобрачному князю и новобрачной княине по трижды»1'.
171
И князь в момент вокняжения, захвата территории предстает
женихом. Болгарский исследователь, комментируя эпизоды с вон-
занием болгарским вождем копья в ворота Царьграда (славянский
перевод византийской хроники Симеона Метафраста) и с прика-
лыванием щита Вещим Олегом, интерпретирует это как «актуали-
зацию весьма важного для средневековой культуры параллелизма
“женщина-город”, породившего парадигму “взятие города — воцаре-
ние — свадьба” <...> Параллелизм “взятие города — брак” в некото-
рых случаях сопрягается с мотивом “воцарения” <...> Акт “вонзания
копья в Золотые ворота”, демонстрирующий “овладение” Царьградом
(т. е. “воцарение” в нем), имеет “брачную” символику; его “обрядо-
вый” аналог — ритуальное “ломание”, “разбивание”, “прокалывание”
дверей дома невесты во время свадьбы. И еще. Вышецитированный
текст хроники Симеона Метафраста отражает заглохшую память об
одной из важнейших функций царя (и бога) в архаических культу-
рах — функцию “жениха своей земли”...»12.
Значит, христианская церковь не порождает, а скорее, санкцио-
нирует культ святых князей, перекодируя традиционалистскую
модель на новый лад. Такое объяснение подтверждается удивитель-
ной конфессиональной толерантностью, которую книжники пер-
вых десятилетий христианства демонстрировали по отношению к
князьям-язычникам прошлого. Им явно важно не то, какую религию
исповедовал государь, а то, что он — государь. Хрестоматийный об-
разец здесь — «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Славя кре-
стителя Руси, проповедник, в частности, говорил: «Похвалимъ же и
мы, по силе нашей, малыими похвалами виликаа и дивнаа сътворь-
шааго нашего учителя и наставника, великааго кагана нашеа земли
Володимера, вънука старааго Игоря, сына же славнааго Святослава,
иже въ своа лета владычествующе мужьствомъ же и храборъствомъ
прослуша въ странахъ многах, и победами и крепостию поминаются
ныне и словуть»1'. И далее: «Сии славный от славныихъ рожься, бла-
городенъ от благородныих, каганъ нашь Влодимеръ»11.
Прекращение действия модели «Государь — совершенный чело-
век» совпадает приблизительно с периодом краха домонгольской
Руси. «Знаменательно, — рассуждал Г.П. Федотов, — как только Русь
усваивает греческий идеал власти и переносит его вместе с царским
титулом на великих князей московских, так прекращается княжеская
святость. Никто из благочестивых царей московских не был канони-
зирован. Это отрицательное доказательство того, что канонизация
князей не имеет ничего общего с освящением власти»1’. Соглашаясь
с общим ходом мысли знаменитого историка-эмигранта, необходи-
мо уточнить: «канонизация князей» связана с «освящением власти»,
если согласиться, что «освящение власти» — дохристианского про-
172
исхождения, а власть осознается не просто как администрирование,
управление государством, но как исполнение магических защитных
функций. Вот и филолог В.Л. Комарович — создатель спорной, но
эффектной теории об эзотерическом княжеском культе рода и зем-
ли — сходным образом датировал отказ от языческих моделей: «,..по-
луязыческая молитва к неканонизированному церковью предку» и
особые нехристианские княжеские имена исчезают «в поколении сы-
новей Александра Невского в конце XIII столетия»16.
В XIV в. на Руси постепенно складывается иная социально-
политическая ситуация, и показательно, что несколько позже (рубеж
XIV-XV вв.) обретают актуальность новые модели власти, которые
призваны аргументировать и символизировать расширение полно-
мочий государя. Властитель получал право преступать ограничения,
налагаемые традицией, обычаем в той мере, в какой он, по образцу
второй ипостаси Троицы, претендовал на обладание «двойной» при-
родой: и Божественной, и человеческой. Но Христос — Бог, власти-
телю же божественность приписывалась метафорически, по сути,
выражаясь в нахождении условий, что создают особое — сверхче-
ловеческое — положение монарха. Культуролог Эрнст Канторович,
изложивший эту концепцию в знаменитом исследовании о «средне-
вековой политической теологии», различал две важнейших модели
«условной» власти: «Государь — блюститель закона» («Law-Centered
Kingship») и «Государь — гарант стабильности» («Polity-Centered
Kingship»)17.
А.Л. Юрганов убедительно воспроизвел коллизии, связанные с
Моделью «Государь — блюститель закона» на Руси 1370-1380-х гг.
Мамаю, по справедливому замечанию историка, лишь одно обстоя-
тельство препятствовало «стать ханом Золотой Орды: он — не чин-
гизид, в нем не текла “царская” кровь. Судя по всему, в “розмирии”
русских князей (кроме всего прочего) могла не устраивать прежде
всего эта деталь: Мамай не “царь”, а вассал хана, т. е. равный Дми-
трию Ивановичу в иерархии единого тогда для них обоих государ-
ственного образования»18. Модель «Государь — блюститель закона»
интерпретируется в негативном аспекте: великий князь как вопло-
щение закона не принимает «беззаконные» притязания Мамая на
царский титул, что и оправдывает сопротивление золотоордынскому
узурпатору. И, трактуя модель уже позитивно, Дмитрий Иванович
в 1382 г. уступает Тохтамышу, Чингизиду и «законному» царю. Для
великого князя московского, по мнению А.Л. Юрганова, «пока еще
существенной была иерархия русско-монгольского государственного
образования. Вот что писал Рогожский летописец о психологических
нюансах поведения Дмитрия Ивановича, узнавшего о походе на Русь
Тохтамыша: “То слышав, что сам царь идет на него с всею силою сво-
173
ею, не ста на бои противу его, ни подня рукы противу царя, но поеха в
свои град на Кострому”»19.
Через сто лет модель «Государь — блюститель закона» реализует
Вассиан Рыло в послании Ивану III на Угру. Он убеждал колеблю-
щегося великого князя в правомерности отказа от «беззаконного»
подчинения золотоордынскому хану: «...глаголеши, яко “под клят-
вою есмы от прародителей, — еже не поднимати рукы противу царя,
то како аз могу клятву разорити и съпротив царя стати”. Послушай
убо, боголюбивый царю: аще клятва по нужди бывает, прощати от та-
ковых и разрешати нам поведено есть, иже пращаем, и разрешаем, и
благословляем, яко же святейший митрополит, тако же и мы, и весь
боголюбивый събор, не яко на царя, но яко на разбойника, и хищника,
и богоборца...»20
В увещеваниях Вассиана Рыло понятие закона, который надле-
жит блюсти государю, наполняется не только светским, но и кон-
фессиональным содержанием: закон — православие, покушение на
православие — «беззаконие». Московский государь олицетворяет
законность в обоих смыслах21, что в XV-XVI вв. позволяет ему вы-
ступать инициатором созыва соборов, вначале церковных, а потом
земских. Соответственно, от обратного, древнерусской повести из-
вестен амбивалентный образ «грозного» повелителя иноземной дер-
жавы, блюдущего светский, но нарушающего религиозный закон.
Таковы валашский воевода Дракула или турецкий султан Магмет, о
сходстве которых писал А.А. Зимин22.
Логику рассуждений Вассиана Рыло отчасти повторяет Иосиф
Волоцкий. Но его послания метят уже не в «зарубежного» государя,
а в самого московского властителя, двусмысленно маневрировавшего
и искавшего компромисса с еретиками. Это, по выражению В.Е. Валь-
денберга, — «учение, которое с полным основанием может быть
названо учением о правомерном сопротивлении государственной
власти»23: «Аще ли же есть царь, над человеки царствуа, над собою же
имать царствующа скверны страсти и грехи, сребролюбие же и гневъ,
лукавьство и неправду, гордость и ярость, злеише же всех — невер, та-
ковыи царь не Божии слуга, но диаволъ, и не царь, но мучитель. <...>
И ты убо такового царя или князя да не послушаеши, на нечестие и
луквавьство приводяща тя, аще мучит, аще смертию претит»21.
Знаменательно использование Иосифом Волоцким при характе-
ристике «беззаконного» монарха слова «мучитель», что по-гречески
есть «тиран»25. Отсюда возникают удивительные схождения выска-
зываний православного монаха и католических богословов — Иоанна
Солсберийского и Фомы Аквинского, которые в ХП-ХШ вв. обо-
сновывали доктрину тираномахии, т. е. право подданных бороться с
174
«беззаконным» монархом. Если монарх попирал законы Божествен-
ные и человеческие, церковь лишала его сакрального статуса, делая
возможным, даже желательным его физическое устранение26.
Модель «Государь — блюститель закона» мотивирует метафори-
ческую божественность властителя его служением высшей законно-
сти, модель же «Государь — гарант стабильности» — тем, что монарх
в своей фигуре и атрибутах власти олицетворяет непрерывность су-
ществования государства и социума. Эта модель, по Канторовичу,
прежде всего предполагает: 1) культ династической преемственности
(что не тождественно домонгольскому представлению о правящем
роде) и 2) культ монаршего «венца»27.
Актуальность на Руси модели «Государь — гарант стабильности»
демонстрируется простым перечислением фактов. К рубежу XV-
XVI вв. восходит круг идей «Сказания о князьях владимирских»,
где Рюрик назван потомком «римъскаго Августа царя»28, при Иване
Грозном создается монументальный компендиум — «Степенная кни-
га», в которой «русская история становится генеалогически единой
цепью святых московских государей и их предков, “богоутвержден-
ных скиптродержателей”»29. В том же «Сказании о князьях влади-
мирских» декларируется получение Рюриковичами «Мономахова
венца» и прочих атрибутов власти непосредственно от византийских
императоров, которые в свою очеред вывезли их чудесным образом
из величайшей империи древности, из Вавилона («Сказание о Вави-
лонском царстве»), что явно коррелирует с возникновением и совер-
шенствованием русской версии ритуала венчания на царство.
Изучая «средневековую политическую теологию», Канторович
выделил на западно-европейском материале еще модель «Christ-
Centered Kingship», т. е. «Государь — Христос» "'. Он относил эту
модель к началу II тысячелетия, считая ее древнейшей и первичной
по отношению к другим моделям. Напротив того, в России модель
«Государь — Христос» манифестируется достаточно поздно, в прав-
ление Петра Г”. Наиболее выразительным литературным примером
считается рассуждение Феофана Прокоповича «О власти и чести
царской» (1718): «Приложимъ же еще учению сему, аки венецъ, име-
на или титлы властемъ высокимъ приличныя: несуетный же, ибо отъ
самаго Бога данныя, который лучше украшаютъ царей, нежели пор-
фиры и диадимы, нежели вся веденная внешняя утварь и слава ихъ,
и купно показуютъ, яко власть толикая отъ самаго Бога есть. Кия
же титлы? кия имена? Бози и Христы нарицаются»32. Рискованно-
льстивый концепт Феофана Прокоповича порожден языковой игрой:
Христос по-гречески значит помазанник, коль царь помазан на цар-
ство, он по определению Христос33. Модель «Государь — Христос»,
175
функционируя в рамках риторической петровской культуры, обслу-
живала пропагандистскую программу царя-реформатора, кураторы
которой охотно брали на вооружение и разнородные образы, и язы-
ковые каламбуры, и «далековатые» метафоры. Религиозный «код»
в данном случае не свидетельствует о крепости веры, но обосновы-
вает очередное расширение пределов власти: рассуждение Феофана
Прокоповича современно делу царевича Алексея Петровича, утверж-
дая стремление царя отказаться от традиционного порядка престоло-
наследия.
Модель «Государь — Христос», насколько можно судить, сохра-
няла влияние на протяжении всего XVIII в.: к примеру, российские
императрицы, будучи в момент коронации и царского помазания
уподоблены Христу, получали право войти в алтарь (что женщинам
запрещено)11.
В заключение существенно отметить, что древнерусские образы
власти при всех различиях родственны, равно реализуя идеологему
сакральной власти, которая принципиально отличает средневековое
(как частный случай традиционного) общество от бюрократического
общества нового типа. Потому модель «Государи — Боги» характерна
для всей культуры средневековой (и не только) России, сосуществуя
с прочими моделями и легко в них трансформируясь. Ключевую
цитату из 81 псалма с готовностью повторяют и автор «Повести об
убиении Андрея Боголюбского», и Иосиф Волоцкий, и Феофан Про-
копович, и Г.Р. Державин, заслужив гнев Екатерины II «якобинским»
стихотворением «Властителям и судиям».
Далее: средневековые модели «условной» власти, распространен-
ные по всему христианскому миру, на Руси оставили менее заметный
след, чем на Западе. Может быть, по той причине, что для русской
культурной ситуации оказались не столь значимы конфликты церк-
ви и власти или религиозные распри, которые обыкновенно актуали-
зировали соответствующие модели.
Наконец, ясное формулирование условий, при которых государь
наделяется властью, тем самым подразумевает, что нарушение этих
условий ведет к приостановлению властных полномочий. Таким
образом, модели «условной» власти, первоначально привлекаемые
апологетами абсолютизма, вполне логично в дальнейшем перекодиро-
вались, «перехватывались» его противниками. В самом деле, интерна-
циональная революционная идеология и символика XVII-XVIII вв.
преемственно восходят к религиозной тираномахии XII-XIII вв. Но
в силу того, что на Руси модели «условной» власти получили весьма
ограниченный культурный резонанс, русская «поэтика революции»
ориентируется на западные революционные образцы, а не на отече-
ственную традицию.
176
' См. тезисное изложение: Одесский М.П. Древняя Русь: образы вла-
сти // Историк во времени: Третьи Зиминские чтения: Доклады и сообщения
научной конференции. М„ 2000. С. 169-170.
2 См.: Успенский Б.А. Царь и Бог // Успенский Б.А. Избр. труды. Т. 1:
Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994.
3 Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980. С. 334.
1 Успенский Б.А. Указ. соч. С. 115-116.
’ Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.,
1995. С. 292.
’’ Повесть временных лет / нодг. текста, комментарии Д.С. Лихачева. СПб.,
1996. С. 66, 86; ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стлб. 521.
7 Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 1: XI—XII века. СПб.,
1997. С. 350.
3 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 105-106.
. 9 Там же. С. 90.
111 Топоров В.И. Святость и святые в русской духовной культуре. М., 1995.
Т. 1. С. 527-528.
11 См.: Домострой / нодг. текста, комментарии В.В. Колесова. М., 1990.
С. 91. Ср. также припевки, что исполнялись во время предсвадебной недели
на вечеринке у невесты (запись 1927 г., Пинежский р-н, Архангельская обл.):
«...Девица красная, / Княгиня нервобрачная, / Мария Сергеевна. / Она думу
думала, / С думы слово змолвила <...> / А услышал молод князь / Похвальбу
невестину: / “Уж я сам повыведу / И боярам повыкажу: / Смотрите, бояра, /
На мое-то сужено, / На мое-то ряжено, / На девицу красную, / На княгиню
нервобрачную, / На Марию Сергеевну!”» (Лирика русской свадьбы / изд.
нодг. Н.П. Колпакова. Л., 1973. С. 69-70); ср. примеры со стогами-князьями:
Морозов И.А. Женитьба добра молодца. М., 1998. С. 304.
12 Бадаланова-Покрове кая Ф.К. «Основание царства» в болгарских сред-
невековых представлениях // Механизмы культуры. М., 1990. С. 138-140.
Ср. примеры обозначения взятия города как касания копьем в кн.: Адрианоиа-
Перетц В.П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы
XI—XIII вв. Л., 1968. С. 160-161. Ср. также известный эпизод из «Повести
временных лет»: «И сънемъшемася обема полкома на скупъ, суну коньемъ
Святославъ на деревляны, и копье лете сквозе уши коневи, и удари в ноги
коневи, бе бо детескъ» (Повесть временных лет. С. 28).
13 Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 3. М., 1994.
С. 591.
и Там же. См. о титуле «каган»: «В III в. н.э. у сяньийцев появился титул
каган. Этот титул был постоянным у правителей жуаньжуаней. Каган Шэ-
лунь принял этот титул в 402 г. “Каган — хорошо известный алтайский титул,
значащий “император”, эквивалент византийского басилевса, включающий
претензии на универсальное правление. Происхождение титула неясно. Он
не использовался гуннами, самой ранней кочевой империей в Центральной и
Восточной Евразии. Однако он был известен их наследникам сяньби и жуань-
жуань, предшественникам тюрок в качестве владык кочевых империй. <...>
каган, так же как это делалось в соседнем Китае, правил но мандату Неба.
177
Благодаря этому каган был источником всех законов и творцом политики”
(Golden Р.В. The Question of the Rus’ Qaganate // Archivium Eurasic Medii
Aevi. Wiesbaden, 1982. II. S. 82-83). Жены каганов носили титул катунь. <...>
Титул “каган” имели и правители древних киданей, т. е. он был известен в
монголоязычной среде. С монгольской эпохи входит в употребление титул
“хан". Точное время появления этого титула и его соотнесенность с титулом
“каган” тоже остаются неясными. В “Тайной истории монголов” оба титула
употребляются параллельно» (Кычанов Е.И. Кочевое государство //«У вре-
мени в плену»: Памяти С. С. Цельникера: Сб. ст. М., 2000. С. 77-78).
Федотов Г.П. Указ. соч. С. 91.
13 Комарович В.Л. Культ рода и земли в княжеской среде XI—XIII вв. //
ТОДРЛ. 1960. Т. 16. С. 88-89.
17 Kantorowicz Е.Н. The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political
Theology. Princeton, N.J., 1997.
18 Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998.
С. 164.
’« Там же. С. 165.
211 Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XV века. М.,
1982. С. 530.
21 Ср.: Зимин А.А. Россия на пороге нового времени: Очерки политиче-
ской истории России первой трети XVI в. М., 1972. С. 134-141; ср. также
византийскую ситуацию: Рансимеп С. Восточная схизма. Византийская тео-
кратия. М., 1998. С. 152-153.
22 Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники. М., 1958. С. 396-400;
об образе «грозного государя», который «связывает», в его отношении к тра-
диционалистской концепции мира см.: Eliade М. Images and Symbols: Studies
in Religious Symbolism. Princeton, 1991. Ch. III.
23 Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской власти. Пг.,
1916. С. 215.
21 Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на
Руси XIV — начала XVI в. М.; Л., 1955. С. 346; ср.: Лурье Я.С. Идеологиче-
ская борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI века. М.; Л.,
1960. С. 241.
25 См. обсуждение «мучительства» Ивана Грозного в кн.: Юрганов А.Л.
Указ. соч. Гл. IV, разд. 2. О некорректности отождествления «мучительства»
Ивана Грозного и государственного террора см.: Одесский М.П., Фельд-
ман Д.М. <Рец. на кп.: Скрынников Р.Г. Царство террора. М„ 1992> // Рус-
ская мысль. Париж, 1993. 5 февраля. С. 12.
23 О тираномахии см., наир.: Лорд Актон. Очерки становления свободы. L.,
1992; Трейман Р. Тираноборцы. СПб., 1906; Ковалевский М.М. От прямого
народоправства к представительству и от патриархальной монархии к парла-
ментаризму. М., 1906. Т. 2; Гессен В.М. Проблема народного суверенитета в
политической доктрине XVI века. СПб., 1913; Schtriker G. Die politische Den-
ken den Monarchomachen. Heidelberg, 1966; Одесский М.П., Фельдман Д.М.
Поэтика террора и новая административная ментальность: Очерки истории
формирования. М., 1997.
178
27 Kantorowicz E.H. Op. cit. P. 314-383.
28 Памятники литературы Древней Руси: Конец XV — первая половина
XVI века. М„ 1984. С. 426.'
29 Покровский Н.Н. Афанасий // Словарь книжников и книжности Древ-
ней Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. С. 76.
311 Kantorowicz E.H. Op. cit. Р. 42-86.
31 Успенский Б.А. Указ. соч. С. 130-131.
32 Феофан Прокопович. Слова и речи поучительные, похвальные и по-
здравительные: в 3 ч. СПб., 1760. Ч. I. С. 251; см. подробнее: Успенский Б.А.
Указ. соч. С. 129-131.
33 Ср. суждения Георгия Флоровского: «Ему доставляет явное удоволь-
ствие эта соблазнительная игра словами: вместо “Помазанника” называть
Царя “Христом”. Удивляться ли, что встревоженные.противники отозвались
на это: уже скорее Анти-Христ» (Флоровский Г. Пути русского богословия.
Париж, 1983. С. 86).
31 Успенский Б.А. Царь и патриарх: Харизма власти в России: Византий-
ская модель и ее русское переосмысление. М„ 1998. С. 170-174.
ТЕЗАУРУС ВОЛЬНОДУМЦЕВ
(REVOLUTION - РЕВОЛЮЦИЯ - ПЕРЕВОРОТ -
ПРЕВРАЩЕНИЕ)
Как известно, декабристы впервые в русской истории полагали
необходимым не только свергнуть правительство, но и провести ра-
дикальные политические реформы, привычно ассоциируемые с на-
следием Великой французской революции. Отсюда их сознательное
обращение к терминологическому тезаурусу интернациональной
революционной традиции1. В то же время декабристы неизбежно
оказывались втянуты в спор о «старом» и «новом» слоге, консти-
тутивный для отечественной культуры конца XVIII — первых де-
сятилетий XIX в. Эти универсальные и локальные закономерности
определили отношение русских радикалов к исходной идеологеме
«революция».
1. Декабристы нередко прибегали для выражения идеологемы «ре-
волюция» к французскому слову, что вполне предсказуемо в услови-
ях франко-русского двуязычия образованного сословия. Например,
М.П. Бестужев-Рюмин размышлял: «J'avais cru, et il me semble encore,
que les leaders qu'on pent employer dans une revolution (здесь и далее
курсив мой. — М.О.,Д.Ф. ), sont bien autrement importans, que les indi-
vidus qui avaient con^u le projet de les mettre en oeuvre»2.
Но это не было нормой. Примечательно, что цитата с французским
словом «revolution» извлечена из письма, и хотя письмо Бестужева-
Рюмина — официальное (адресовано царю), «приватная» установка
эпистолярного жанра санкционировала использование иностранного
языка даже в обращении к венценосной особе.
2. Нормативным, «приличным», было употребление слова «ре-
волюция» в русифицированном варианте (как лексическое за-
имствование). Потребность в демонстративном освобождении от
иностранного влияния, присущая эпохе, порождала маркированную
вражду к французскому языку, одновременно оправдывая необходи-
мость заимствований из французского языка. По словам авторитет-
ного лингвиста, «здесь нет никакого противоречия: протест против
французского языка как такового никак не распространяется на
отношение к галлицизмам именно потому, что заимствования при-
180
знаются естественным фактором языковой эволюции; иначе говоря,
отношение к заимствованиям определяется тем, что они рассматри-
ваются именно как явления русской речи»3.
Соответственно, П.И. Пестель, представляя на следствии историю
формирования своих убеждений, преимущественно пользовался за-
имствованным словом «революция»: «Возвращение Бурбонского
дома на французский престол и соображения мои впоследствии о сем
происшествии могу я назвать эпохою в моих политических мнениях,
понятиях и образе мыслей, ибо начал рассуждать, что большая часть
коренных постановлений, введенных революциею, были при ресто-
рации (реставрации. — М.О., Д.Ф.) монархии сохранены и за благие
вещи признаны, между тем как все восставали против революции,
и я сам всегда против нее восставал. От сего суждения породилась
мысль, что революция, видно, не так дурна, как говорят, и что может
даже быть весьма полезна, в каковой мысли я укреплялся другим еще
суждением, что те государства, в коих не было революции, продолжа-
ли быть лишенными подобных преимуществ и учреждений. Тогда
начали сии причины присовокупляться к выше уже приведенным и
начали во мне рождаться, почти совокупно, как конституционные,
так и революционные мысли»4.
Такого рода словоупотребление отнюдь не было атрибутом «под-
польного» арго. Ф.Н. Глинка применял слово «революция» к фран-
цузским событиям в подцензурных «Письмах русского офицера»
(1815): «Какие жестокие истины! И как странно слышать их в устах
Наполеона. — Вдруг заговорил он гласом грозного пророка: “Буряре-
волюции, поднявшаяся над Франциею, нагонит мрачную ночь на всю
Европу, и только тогда, когда природа истощит горючие вещества
свои, прекратится гром и наступит ясный день”. Мысль поразительна,
но не совсем нова. “Когда кончится революция?" - спросили однажды
у Мирабо. “Когда обойдет весь свет!” — отвечал он. Сколько бед на-
творит сия всемирная путешественница, если слова его сбудутся»5.
Солидарно обращаясь к слову «революция», Пестель и Глинка
вместе с тем активизировали разные интерпретации идеологемы. Ли-
дер Южного общества, заинтересованный в том, чтобы показать себя
перед следствием конструктивным и благонамеренным политиком,
обозначает словом «революция» — по «умеренной» модели — преоб-
разование традиционно-сословного социума в социум, основанный
на принципе всеобщего равенства перед законом, что (как идеальная
установка) не вызывало принципиальных возражений. Напротив
того, Глинка, в данном случае подчиняя изображение революции ло-
гике апокалиптической катастрофы, акцентирует понимание рево-
люции по экстремистской модели, где она — перманентный процесс
всеобъемлющей реорганизации общества6.
181
3. В позднейшей отечественной радикальной традиции слово «ре-
волюция» стало классической формой выражения идеологемы, но
многие декабристы, движимые патриотическим порывом, не остано-
вились на лексическом заимствовании: они передавали французское
слово «revolution» русским словом «переворот». Это так называемое
семантическое калькирование, подразумевающее «употребление
русских слов в новых значениях, не свойственных им ранее, но со-
отнесенных со значениями тех или иных иноязычных слов»7. Кроме
того, здесь семантическое калькирование поддерживалось морфоло-
гическим: «re-volution»/«nepe-BopoT».
Согласно «Словарю Академии Российской» (1822 г.) переворот —
«нечаянная и сильная перемена дел и обстоятельств каких. Перево-
рот французский потряс все основания государства^. Комментируя
историю слова «переворот», В.В. Виноградов писал: «Сближение
слова переворот с французскими словами revolution и revolte прои-
зошло в конце XVIII в. Понятно, что уже в семантическом обли-
ке этого русского слова обозначались признаки и оттенки, активно
подготовившие это сближение и ему содействовавшие. Дело в том,
что раньше для перевода французского revolution, напр., В.К. Тредиа-
ковским <...> применялось слово преобразование (ср. французское
reforme). То же слово преобразование, наряду с преобращение и про-
тивность, служило Тредиаковскому и для перевода франц, revers. На
фоне этих церковно-славянских выражений семантическая близость
народно-русского слова переворот к передаче значений французско-
го revolution выступала особенно рельефно»9. Однако, как показывает
Виноградов, лидер «архаистов» — сторонников языкового пуризма —
А.С. Шишков критиковал современных литераторов за несвойствен-
ное русскому языку обращение с переворотом: «Слову Переворот
дано здесь знаменование Французского слова Revolution. Никогда в
Российском языке доселе не означало оно сего понятия. Оно с подоб-
ными ему словами изворотитъся, перевернуться, вывернуться упо-
треблялось в простом или низком слоге, как, например, в следующих
речах: я хочу изворотитъся или сделать переворот в деньгах; посмо-
трим, как он из этова вывернется, даром что он переворотлив и проч.
Какой странной состав речей происходит от сего глупо переведенно-
го слова! Выпишем здесь несколько оных для примера: ввесть моря в
переворот. Вовлечь в пустыню переворота. — Направлять намерение
переворота на все правительства. — Переворотный факел. — Церков-
ную область преобратить в переворотную провинцию. — Пентархия
обратилась в поворотный круг. Французские переворотные флоты. —
Какое бы следствие ни имел противопереворот. — Исторжение Гол-
ландии из-под переворотной власти. - Переворотная война сделалась
войной округления. — Какая неудобопонятная гиль!»10
182
Вслед за академическим словарем Пестель использовал слово
«переворот» как полный синоним слова «революция» вопреки пу-
ристским протестам Шишкова и вне той отрицательной коннота-
ции, которая свойственна слову «переворот» в современном языке:
«Политический Книги у всех в Руках; Политический Науки везде
преподаются, политический известия повсюду распространяют-
ся. Сие научает всех судить о действиях и поступках правитель-
ства: хвалить одно, хулить Другое. — Произшествия 1812-го, 13-го,
14-го, и 15-го годов, равно как предшествовавших и последовавших
времен показали столько престолов низверженных, столько дру-
гих постановленных, столько царств уничтоженных, столько новых
учрежденных, столько царей изгнанных, столько возвратившихся
или призванных и столько опять изгнанных, столько революций со-
вершенных, столько переворотов произведенных, что все сии про-
изшествия ознакомили Умы с революциями, с возможностями и
удобностями оныя производить. К тому же имеет каждый Век свою
отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революцион-
ными Мыслями. От однаго конца Европы до другаго видно везде
одно и тоже, от Португалии до России, не исключая ни единаго Го-
сударства даже Англии и Турции, сих двух противуположностей.
Тоже самое зрелище представляет и вся Америка. Дух Переобразо-
вания заставляет так сказать везде умы Клокотать (fait bouillir les
ёхрпгх). Вот причины полагаю я, который породили революционный
мысли и правила и укоренили оныя в Умах»11. Или: «Верно то, что
смерть Великих Князей никогда не входила в план Общества: ибо
кроме естественнаго отвращения от таковаго поступка присоеди-
няться должно было и то соображение, что таковое кровопролитие
поставить общее мнение против Революции, а тем самим отымет у
нея главнейшую подпору, и случай породить ко многим партиям
и козням. Уверялись еще при том, что Гвардия вовсе не предана к
Великим Князьям и что Они по сему не составят своими Особами
сильнаго сопротивления и препятствия исполнению и преуспева-
нию Революции и что коль скоро Они оставят Россию, то и скоро
забудут о Них при большом числе новых предметов коими все Умы
заняты будут и при Улучшении положения и Состояния как граж-
дан, так и Войска. Внешней же Войны не опасались во-первых по-
тому, что 1812 год отнял на верно у всех охоту в Россию входить, а
во-вторых потому, что приоткрыли Революции в России, чужестран-
ные Кабинеты слишком бы опасались собственных своих Земель
где Умы еще более к переворотам склонны дабы о чем-нибудь по-
мышлять ином как о предупреждении революции у себя самих»12.
Равным образом, Бестужев-Рюмин без дополнительных оговорок
отождествлял переворот и революцию: «Издавна Пестель был того
183
мнения, что политической переворот в России должен (для избежа-
ния междуусобной войны) начаться заговором, приведенным в испол-
нение Шайкой отважных людей вне общества состоящими под названием
enfans perdus»13.
4. Впрочем, «национализация» идеологемы, достигаемая ис-
пользованием русского слова «переворот», некоторым интеллек-
туалам первой трети XIX в. казалась по-прежнему неполной. Тот
же Пестель наряду с другими формами мобилизовал славянизм
«превращение»: «На щет времени и образа приведения в исполне-
ние намерений тайнаго общества, как я в прежних показаниях уже
объявил, много было различных мнений и толков. Долгом щитаю
откровенно объяснить, какое мнение было мое или коего я держал-
ся. Во-первых, надлежало решить в подробности, какой новой образ
правления общество желает ввести. Я всегда объяснял, что ежели
сие не будет твердым образом постановлено и соглашено, то легко
родиться могут партии и разныя Козни. Сего однако же до сих пор
постановлено в обществе не было. Во-вторых, надлежало обществу
усилить число своих членов до таковаго количества, чтобы можно
было посредством членов ввести образ мыслей союза в общее мне-
ние и намерения союза передать как можно более в общее жела-
ние, дабы общее мнение предшествовало Революции. А вместе с тем
дабы членов союза так по всему государству распространить, чтобы
чрез них можно было не только повсюду пресечь всякое сопротив-
ление, но даже везде устроить содействие. Общество еще далеко
было от таковаго положения своих Дел, ибо еще было весьма слабо.
В-третьих, наконец, приступая к самому превращению, надлежало
произвести оное в Петербурге яко средоточии всех Правлений и
Властей, а наше Дело в Армии и в Губерниях было бы признание,
поддержание и содействие Петербургу. В Петербурге же произойти
бы опое могло так, как 4 сего Генваря объяснял, чрез Сенат. Вот ход
Революции так как я ее понимал, говоря всегда что лутче не торо-
питься, но Дело сделать Делом, не оставаясь в бездействии и не се-
туя ежели удобные случаи пройдут без употребления: Главное Дело
чтоб не было партий и козней который бы все могли испортить, и
который при слабости союза были бы неизбежны. Сей план требо-
вал еще много времени и потому соединялось с оным предположе-
ние, что удобно будет начать революцию после кончины покойного
Государя, коего смерти никто так скоро не ожидал. Впрочем, время
начатия долженствовало определиться преимущественно обстоя-
тельствами и силою общества. Я с сим мнением всегда был согласен
и о нем всегда говорил» (IV, 87).
Показательно, что если слово «переворот» не требовало никаких
комментариев, то слово «превращение» сопровождается пояснения-
184
ми: «Мой образ жизни, удаленный от большего света, способствовал
много к тому, что я в сии предметы и познания углублялся во времена
и часы свободный от службы. Таким образом чрез протечение вре-
мени составилась в моих понятиях общая полная мысль о Государ-
ственном образовании и Устройстве, которая вмещала в себе как все
отрасли правления в главных их свойствах и отличительном значе-
нии, так равно и все Степени Правительства от нисших до высших;
причем родилась во мне уверенность, что Все отрасли правления, Все
Устройство Народа и все Степени Правительства исключая Верь-
ховной Власти могут в известном каком-нибудь Государстве быть
учреждены одинаковым образом, хоть Верьховная Власть будет
заключаться в Самодержавном Монархе, хоть в Конституционном
Государе, хоть в Избирательном или республиканском Сословии.
Посему большая часть того, что я когда либо писал о предметах По-
литики, касалась прочих предметов более чем Верьховной Власти:
постигая с полна и весьма твердо что Устройство сие зависит от об-
стоятельств более, нежели от планов и проектов, между тем как на
остальные предметы добрые планы могут иметь хорошее Действие и
Влияниие даже без превращения (революции); по сему большая часть
моих записок таким образом составлена была, что можно их было
даже Правительству показать»11.
Действительно, «Словарь Академии Российской» не фиксиро-
вал революционное значение слова «превращение». По словарной
статье, превращение — это «1) Пременение одного вида в другой,
преобразование. Превращение насекомых. Превращения Овидиевы.
2) Разрушение, испровержение, разорение. И изсла Лота от среды
превращения...»'3 Превращение как синоним революции — созна-
тельное новаторство, которое получилось в результате семанти-
ческого калькирования (по подобию слова «переворот»), а также
искусственной поморфемной славянизации слова «переворот»:
«пере-ворот»/ «пре-вращение». Очевидно, сконструированность но-
вой семантики слова «превращение» и заставила Пестеля привести в
скобках известное слово «революция».
В то время как слово «переворот» было общеупотребительным,
слово «превращение» — эпатажный жест. Оно мотивировано особым
«архаистским» характером культурно-языковой программы Пестеля,
которую специалисты давно сблизили с доктриной Шишкова"’.
Однако терминологический опыт явно не удался: слово «превра-
щение» не только не попало в радикальный тезаурус, но стало по-
просту непонятным. Что, в частности, есть причина неадекватной
интерпретации известного фрагмента из комедии А.С. Грибоедова
«Горе от ума» (действие III, явление I)17, где Чацкий произносит
странный монолог:
185
Есть на земле такие превращенья
Правлений, климатов, и нравов, и умов,
Есть люди важные, слыли за дураков:
Иный по армии, иный плохим поэтом,
Иный... Боюсь назвать, но признано всем светом,
Особенно в последние года,
Что стали умны хоть куда18.
Анализируя эти строки, Ю.Н. Тынянов писал: «Реплика о “превра-
щениях”, т. е. изменчивости, изменениях, прежде всего — в оценке и
мнениях, начинается с мысли об изменении “правлений”. Эта мысль о
государственных явлениях, об изменениях (“превращениях”) правле-
ний, которая является в интимном разговоре, подчеркивает значение
всей личной драмы Чацкий-Софья. Несложная лирическая драма
отношений складывается на фоне больших событий общественных,
государственных. “Превращения” совершаются в комедии в связи, в
зависимости от этих превращений, на сцене невидимых, как в класси-
ческой трагедии главные события происходят вне сцены»13.
Тыняновский вывод о личной драме Чацкого как выражении об-
щественной драмы александровской эпохи основывается на придании
слову «превращения» как бы самоочевидного значения — изменчи-
вость, изменения. Однако Грибоедов — мягко говоря, не меньший
«архаист», чем Пестель — просто использовал слово «превращение»
как синоним революции.
Более того, автор комедии «Горя от ума» наделил свое «пре-
вращение» семантической многозначностью французского слова
«revolution»20. Изначально интернациональный термин «революция»
бытовал как естественно-научный: достаточно указать на латинское
заглавие трактата Николая Коперника «De revolutionibus orbium
coelestium» (XVI в.) — «Об обращениях небесных сфер»; в XVIII в.
Орас-Бенедикт де Соссюр, основоположник описательной геологии
(прадед знаменитого лингвиста), призывал видеть в Альпах «заклю-
чительную сцену великой драмы революций на поверхности нашего
шара» - «...la derniere scene du grand drame des revolutions du notre
globe»21. Аналогично в библиотеке Пестеля имелась французская кни-
га в письмах некоего «В» о «les revolutions du globe» (Paris, 1824)22.
Впоследствии (по крайней мере с XVII в.) «естественный» тер-
мин был прикреплен к изменениям в социально-политической сфе-
ре, вначале обозначая насильственный захват власти. Например,
Перефикс (1661 г.) именовал «революцией» занятие Генрихом IV ка-
толического Парижа в 1594 г., а европейские литераторы называли
революциями российские дворцовые перевороты (Ш. Монтескье),
в том числе свержение Петра III (К. Рюльер). На этом фоне знаме-
186
нитый писатель Мармонтель, напоминая, что «принято писать о ре-
волюциях империй» (les revolutions des empires), предлагал придать
термину обобщающий характер и изучать «революции искусств» (les
revolutions des arts)23. У Пестеля из книг такого рода были «Tableau
des revolutions du systeme politique de 1’Europe depuis la fin quenzieme
siecle» прусского литератора Ф. Ансильона («Картина революций
политической системы Европы с конца пятнадцатого века») и запре-
щенное сочинение «гражданина Коха» «Tablette chronologique des
revolutions de 1’Europe» («Хронологическая таблица европейских ре-
волюций»)23.
Наконец, с конца XVII в. формируется то парадигматическое зна-
чение, которое при всех колебаниях интерпретации (от умеренного до
экстремистского) стало привычным и которое фигурирует в текстах
декабристов. Причем морфологическим показателем семантических
изменений стала замена множественного числа на единственное (от
«революций» к «революции»), а синтаксическим — самодовлеющее
употребление слова «революция»: слово идиоматизируется, внутрен-
няя форма стирается, и становится неважно, что же именно «обра-
щается», «поворачивается». Параллельно сохранялось и прежнее
словоупотребление. Это открывало возможность всякого рода калам-
буров. Так, А.И. Герцен ехидно изобразил в «Былом и думах» обыск,
когда полицмейстер «отложил том истории французской революции
Тьера, потом нашел другой... третий... восьмой. Наконец, он не вы-
терпел и сказал: “Господи! какое количество революционных книг...
И вот еще”, — прибавил он, отдавая квартальному речь Кювье “Sur les
revolutions du globe terrestre”»25. В данном случае фрондерская шутка
построена на том, что невежественные представители власти смеши-
вают книги о политической революции и научное сочинение фран-
цузского естествоиспытателя Ж. Кювье «Discours sur les revolutions
de la surface du globe...» — «Рассуждение о переворотах на поверхно-
сти земного шара...».
Сходная многозначность по аналогии передавалась «превраще-
нию», и Грибоедов в «Горе от ума» комически сталкивает «естествен-
ное» и «политическое» значение слов «революция»/«превращение».
Первые две строки монолога Чацкого выдержаны в «высоком» реги-
стре и в пересказе звучали бы приблизительно: «Иногда происходят
революции/перевороты правлений, климатов, и нравов, и умов».
Если согласиться с этим толкованием, то выходит, что продолжение
речи эпатажно «снижает» мысль: «Вот и у нас происходят револю-
ции/перевороты: те, кто справедливо слыли дураками, начинают
признаваться умниками».
Как нетрудно убедиться, Грибоедов совпадает с Пестелем на
основе шишковистской программы в славянизации термина «рево-
187
люция», но совершенно противоположен ему в оценке. У декабри-
ста превращение даже в жанре показаний на следствии — позитив-
ная идеологема, у Грибоедова — объект насмешек, что, однако, по
причине языковой усложненности ускользало от внимания после-
дующих поколений. Необходимо также отметить, что именно сло-
во «превращение» (как и в «Горе от ума» во множественном числе)
вопреки своей славянской искусственности, а может быть именно
благодаря ей фигурирует в царском манифесте 19 декабря 1825 г.
Этот манифест, излагавший официальную версию восстайия де-
кабристов, в частности, призывал различать «между любовью к
отечеству и страстию, между желаниями лучшего и бешенством
превращений...»26.
1 См. подробнее: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора и но-
вая административная ментальность: Очерки истории формирования. М.,
1997. С. 86-125.
2 Восстание декабристов. Документы и материалы (далее — ВД): в 12 т.
М., 1950. Т. 9. С. 41-42; ср. перевод: «Я всегда думал и сейчас полагаю, что
. вожди, пригодные к осуществлению революции, значительно важнее, чем
лица, которые впервые возымели замысел осуществить ее» (Там же. С. 43).
3 Успенский Б.А. Из истории русского литературного языка XVIII — на-
чала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М.,
1985. С. 25.
1 ВД. М.; Л., 1927. Т. 4. С. 90.
5 Глинка Ф.Н. Письма к другу/ сост. В.П. Зверев. М., 1990. С. 186,
6 См. об умеренном и экстремистском понимании идеологемы «револю-
ция»: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Указ. соч. С. 69-70.
7 Успенский Б.А. Указ. соч. С. 26.
к Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный:
в 6 ч. СПб., 1822. 4.4. С. 866.
9 Виноградов В.В. История слов. М., 1999. С. 449.
10 Там же. С. 449-450.
11 ВД.Т.4.С. 105.
12 Там же. С. 112.
13 Там же. С. 137.
11 Там же. С. 86.
Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный:
в 6 ч. СПб., 1824. 4.5. С. 152.
См.: Парсамов В.С. П.И. Пестель как «архаист» // Проблемы исто-
рии культуры, литературы, социально-экономической мысли: К 85-летию
Г.А. Гуковского. Саратов, 1984. Вып. 1; ср. также перечень сочинений
А.С. Шишкова в библиотеке П.И. Пестеля: Киянская О.И., Азиатцев Д.Б.
Библиотека П.И. Пестеля на русском языке // 14 декабря 1825 года. СПб.;
Кишинев, 2002. Вып. 5. С. 17-27.
188
17 См. подробнее: Одесский М.П. «Есть на земле такие превращенья...»:
Тезаурус вольнодумства в «Горе от ума» // Лотмаповский сборник. М., 2004.
Вып. 3.
IS Грибоедов А.С. Соч. в стихах / вст. статья, нодг. текста, примем.
И.Н. Медведевой. Л., 1967.
19 Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 374-375.
211 См.: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Указ. соч. С. 23-27; ср.:
Griewank К. von. Der neuzeitliche Revolutionsbegrif'f: Entstehung und Entwick-
lung. Weimar, 1955.
21 Saussure H.-B. de. Voyage dans les Alpes: 8 v. Neuchatel, 1794. V. 8.
P. 242.
22 Зайончковский П. К вопросу о библиотеке П.И. Пестеля// Историк-
марксист. 1941. № 4. С. 88.
22 Marmontel J.-F. Oeuvres: 17 v. Paris, 1787. V. 9. P. 297.
21 Зайончковский П. Указ. соч. С. 87, 88.
2’ Герцен А.И. Собр. соч.: в 30 т. М„ 1954-1965. Т. 8. С. 112.
26 Цит по: Шильдер Н. Император Николай Первый: Его жизнь и цар-
ствование: в 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 329.
ИДЕОЛОГЕМА «ДЕКАБРИСТ» В РУССКОЙ,
СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Очевидный парадокс
События, связанные с восстанием декабристов, В.О. Ключевский
охарактеризовал как историческую случайность, обросшую литера-
турой1.
Это была, конечно, шутка. Но известно, что в каждой шутке лишь
доля шутки, все остальное — правда.
Действительно, был заговор, был военный мятеж. И если судить
по очевидным последствиям заговора, ничего декабристам не уда-
лось. На русский престол, что и было официально объявлено заранее,
взошел император Николай I. Заговорщики не смогли ему помешать.
Причем в российской истории декабристы не были первыми заговор-
щиками, и другим заговорщикам порой удавалось многое. Однако
другим заговорщикам отечественные историки и литераторы не уде-
ляли и не уделяют столько внимания.
Со времен Ключевского тенденция не изменилась: количество
литературы росло и растет лавинообразно. Сотни книг, тысячи ста-
тей. По истории движения декабристов опубликовано в XX веке
более десятка библиографических указателей2. А чтобы описать из-
данное за последние десять лет, понадобится, вероятно, еще один
увесистый том.
В задачу данной работы не входит анализ причин, по которым
движение декабристов стало столь значимым для русской культуры.
Но можно отметить, что задолго до создания советского государства
сформировались два полярных мнения о тех, кого называют дека-
бристами. С одной стороны, декабристы — «святые мученики за дело
свободы», «жертвы деспотизма», «первенцы свободы» и т. д. С дру-
гой — преступники, изменники, жестокие честолюбцы.
Подобные споры прежде всего об оценках движения продол-
жаются по сей день, и становятся все более ожесточенными. Но
характерно, что до сих пор не удалось договориться о базовом
термине. Договориться, кого и почему считать или не считать
декабристами.
190
Версии происхождения
Даже о том, где и когда возник термин «декабрист», нет единого
мнения.
С.Е. Эрлих, систематизировавший материалы полуторавековой
полемики, выделил четыре основные версии1.
Первая, условно говоря, «петербуржская». Согласно этой вер-
сии термин «декабрист» появился в Петербурге на исходе 1820-х гг.1
Источник — дневник литератора и цензора А.В. Никитенко. Там
слово «декабрист» использовано 30 января 1828 г., 9 апреля и 1 авгу-
ста 1834 г. ’
Правда, дневник был опубликован много лет спустя, рукопись не
сохранилась, кроме того, известно, что дневник в 1880-х гг. редак-
тировала дочь Никитенко. Похоже, что именно она и ввела в текст
дневника термин «декабрист». Иначе он был бы обнаружен в других
источниках.
Вторая версия — «московская». Согласно этой версии термин «де-
кабрист» к началу 1840-х гг. был известен в Москве. Обосновывая
«московскую» версию, С.Ф. Коваль, главный редактор мемуарной
серии «Полярная звезда», ссылался на письмо Н.С. Зыкова, адре-
сованное Н.Д. Фонвизиной, жене декабриста. Зыков, рассуждая о
настроениях московской молодежи 1840-х гг., использовал термин
«декабрист» без пояснений, в качестве общепринятого.
Но Зыков писал Фонвизиной в 1852 г. не из Москвы, а из Тоболь-
ской тюрьмы. Потому не исключено, что о термине автор письма уже
в Сибири узнал.
Третья версия — «сибирская». Она была выдвинута в 1920-е гг. По
мнению С.Я. Штрайха, в документах сибирской администрации тер-
мин «декабрист» употребляется без пояснений, как общепринятый.
Первый известный случай такого словоупотребления фиксируется в
1841 г.6
Уместно предположить, что термин «декабрист» возник раньше,
а к 1841 г. он уже, как говорится, обиходный. Элемент профессио-
нального сленга сибирских чиновников. Использовался для краткого
обозначения осужденных по «делу о заговоре 14 декабря 1825 года» и
делам, с этим заговором связанным7.
Соответственно, слово «декабрист» изначально было эмоциональ-
но окрашенным. И окрашенным негативно, ведь речь шла о преступ-
никах, более того, государственных преступниках. Подчеркнем еще
раз: сибирские чиновники называли декабристами только бывших
дворян, которые находились под особым надзором. Об участвовав-
ших в мятеже «нижних чинах» речь в данном случае не шла.
191
Если, несколько модифицировав, использовать здесь методику
Г. Фреге, можно выделить значение и смысл термина «декабристы».
Значение — проживающие в Сибири бывшие дворяне, осужденные
по «делу о заговоре 14 декабря 1825 г.» и другим делам, с этим заго-
ворам связанным. А смысл — государственные преступники, находя-
щиеся под особым надзором.
Смысл =
Государственные преступники,
находящиеся под особым надзором
Декабристы
Значение =
проживающие в Сибири
бывшие дворяне,
осужденные по делу
«о заговоре 14 декабря»
и другим делам, с этим
заговором связанным
Рис. 7
Правда, «сибирскую» версию Эрлих тоже не считает вполне
обоснованной. С его точки зрения, Штрайх перепутал документы,
допустил ошибку из-за «присущей Штрайху неаккуратности при
работе с документами»8. Такое, по мнению Эрлиха, было возможно,
ведь известны свидетельства современников, подтверждающие, что
Штрайх обращался с документами очень вольно. С другой стороны,
специалисты не раз убеждались, что документы, которые Штрайх
пересказал, приведя ошибочную ссылку или вообще обойдясь без
ссылок, все же существуют. Потому и отвергать «сибирскую» вер-
сию нецелесообразно.
Четвертую версию условно можно назвать тоже «московской», но
эта версия, в отличие от прочих, бесспорно обоснованна. С.А. Рейсер
обнаружил, что слово «декабрист» употребляется А.И. Герценом в
дневниковой записи 26 марта 1842 г.!) Употребляется без пояснений,
как привычное. И в печати, по мнению Рейсера, впервые использовал
термин «декабрист» именно Герцен"1.
Возможно, как полагает Эрлих, Герцен не только первым употре-
бил слово «декабрист» в печати, но и сам его придумал”. Не исключе-
но также, что придумал не Герцен, а кто-либо иной в начале 1840-х гг.,
или же придумал не только Герцен. Несомненно лишь то, что в герце-
192
новском кругу к 1842 г. слово «декабрист» стало обиходным, и поз-
же Герцен использовал его в публикациях. А во второй половине
1850-х гг. благодаря герценовским публикациям слово «декабрист» —
термин общепринятый, не нуждающийся в пояснениях12.
Судя по материалам герценовского «Колокола» и других изда-
ний Вольной русской типографии, декабристы — предшественники
Герцена и его товарищей в борьбе с крепостничеством и само-
державием.
Герцену особенно важно было, что предшественники — дворяне,
по собственной инициативе выступившие против государственного
строя, который и обеспечивал дворянские привилегии.
Конечно, дворяне были и среди лидеров Великой французской
революции, уничтожившей сословное неравенство. Но не дворяне
составляли большинство. Франция шла к революции несколько лет.
Численность противников дворянских привилегий была изначально
несопоставима с численностью дворянства. И противников станови-
лось все больше. Да, масштаб событий, масштабы последствий для
большинства современников были непредвиденными. А вот пред-
видеть крах монархии, отмену дворянских привилегий было можно.
И предвидели, это даже обсуждалось. Торопившие революцию фран-
цузские дворяне присоединились к большинству, составленному
противниками дворянства.
. Если предполагать (задним числом), что неизбежность перемен
осознавали готовые жертвовать своими привилегиями дворяне, их
действия не кажутся безрассудными. Вполне разумно было пожерт-
вовать привилегиями, частью имущества, сохранив большее. Да,
немногие планировали будущее подобным образом. Однако теорети-
чески могли планировать, могли учитывать. В России же, согласно
Герцену, все складывалось иначе. О настроениях большинства тогда
судить было трудно. Империя казалась нерушимой. Ситуация выгля-
дела стабильной. И революцию готовили только дворяне, одни дво-
ряне, которые могли бы пользоваться привилегиями, но отреклись
от них ради революции. Причем не только привилегиями или иму-
ществом пожертвовали, собой тоже. Так ли было, нет ли, неважно в
данном случае. У Герцена — так. Жертвенность, героизм — главные
мотивы его рассуждений о декабристах. Герцен, как и сибирские чи-
новники, использовал термин «декабрист» в качестве эмоционально
окрашенного, но окрашенного положительно.
На первый взгляд в герценовской трактовке значение термина «де-
кабристы» не изменилось. Герцен, казалось бы, тоже рассуждал о быв-
ших дворянах, осужденных по «делу о заговоре 14 декабря 1825 г.» и
другим делам, с этим заговором связанным. Однако разница есть.
193
Для сибирских чиновников декабристы, условно говоря, мно-
жество, задаваемое списком, закрытым списком, перечнем поднад-
зорных. И поднадзорных там столько, сколько есть, не больше и не
меньше. Все имена известны. А Герцену весь перечень имен вообще
не важен. Только имена-символы важны. К примеру, имена «пяти
повешенных». Потому что Герцен рассуждал не только об осуж-
денных. Речь шла о поколении первых русских революционеров.
К этому поколению относились осужденные. Но и не только они.
У Герцена смысл термина «декабристы» — первые русские револю-
ционеры.
Называя декабристов революционерами, Герцен использовал
термин «революционер» в том понимании, что сложилось на исходе
XVIII века, когда термин стал общепринятым. Революционеры — те,
кто стремятся уничтожить государственный строй, признаваемый
ими несправедливым, дабы создать государственный строй, призна-
ваемый справедливым, такое государство, где граждане равны перед
законом".
Герцен выбрал идеологический критерий, удобный в аспекте
пропагандистской прагматики. Русская революционная традиция
должна была начинаться событиями, участники которых не о личной
выгоде помышляли, а пренебрегали выгодой, жертвовали собой ради
свободы всех. Первыми русскими революционерами должны были
стать бескорыстные герои, мученики. Это и формировало репутацию
последователей.
Солдат «нижних чинов», участвовавших в мятежах, Герцен не
причислял к декабристам. Во-первых, солдаты привилегиями не
жертвовали. Не было у них дворянских привилегий. Во-вторых, по-
сле подавления столичного мятежа было официально объявлено,
что заговорщики обманули солдат. Убедили их, что поддерживают
«законного монарха» — Константина, которому гвардейцы уже при-
сягнули до объявления о присяге Николаю. Отсюда следовало, что
солдат нельзя признать революционерами, сделавшими сознатель-
ный выбор. У Герцена же декабристы — в первую очередь револю-
ционеры.
Новый смысл термина «декабристы» — первые русские револю-
ционеры. И новому смыслу соответствовало новое значение термина
«декабристы» — дворяне, отказавшиеся ради революции от сослов-
ных привилегий.
Термин «декабристы» у Герцена — элемент идеологии. Сам Гер-
цен акцентировал смысл термина, ставшего идеологемой, значение
же не конкретизировал. Оно вроде бы само собой подразумевалось.
На самом деле не само собой.
194
Смысл =
первые русские революционеры
Декабристы /\ Значение =
дворяне, отказавшиеся
ради революции от
сословных привилегий
Рис. 8
Спор о прошлом и настоящем
Полемику о понимании термина «декабрист» инициировали те,
кого называли декабристами.
В их среде термин использовался задолго до того, как Герцен
впервые употребил его в печати. Единого понимания, похоже, и у них
изначально не было. А когда термин стал общепринятым, те, кого на-
зывали декабристами, уже возвращались из Сибири. В России начи-
налась «эпоха великих реформ», статус декабриста был почетным.
Вероятно, первым попытался определить значение термина
И.Д. Якушкин. Герцен в некрологе 1857 г. безоговорочно причислил
Якушкина к декабристам, но сам Якушкин успел высказать мнение
прямо противоположное.
Осужденный «по первому разряду» он все же подчеркивал, что
себя декабристом не считает. Такой критерий, как участие в деятель-
ности тайного общества, Якушкин отверг. По его словам, «называть-
ся декабристом имел право лишь непосредственно участвовавший
в восстании 14 декабря». Якушкин не участвовал, и свои мемуары
назвал не «Записки декабриста», а просто «Записки»11.
Можно спорить, было ли это принципиальностью, нежеланием
приписывать себе чужие заслуги или своего рода кокетством вете-
рана, подчеркивавшего таким способом заслуги истинные. В любом
случае свое понимание термина Якушкин описал четко.
Тот же критерий — личное участие в мятеже — использовали и
некоторые товарищи Якушкина. В первую очередь участники восста-
ния 14 декабря 1825 г. Так, М.А. Бестужев в 1869 г. констатировал,
что осталось только три «настоящих декабриста» — три участни-
ка событий 14 декабря 1825 г. «Настоящими декабристами» среди
оставшихся тогда в живых Бестужев считал себя, А.П. Беляева и
А.Е. Розена15.
195
Кстати, Розен мемуары свои назвал «Записками декабриста»,
хотя, если верить документам, в тайном обществе не состоял и узнал
о его существовании лишь за четыре дня до восстания.
Рассматривая якушкинский вариант, можно отметить, что значе-
ние термина «декабристы» — участники восстания 14 декабря 1825 г.
Ну а смысл термина, соответственно, — противники тирании, дей-
ствием доказавшие верность своим убеждениям.
Смысл =
Декабристы
противники тирании, действием
доказавшие верность своим
убеждениям
Рис. 9
Значение =
участники восстания
14 декабря 1825 года
Однако якушкинский подход к определению термина «дека-
брист», использование только такого критерия, как личное участие
в мятеже, не все тогда сочли правильным. Слишком много было оче-
видных противоречий.
В самом деле, если бы декабристами считали только участников
столичного мятежа в декабре 1825 г. и мятежа Черниговского полка в
январе 1826 г., получилось бы, что, например, П.И. Пестель, возглав-
лявший Южное общество и арестованный за день до столичного мя-
тежа, декабристом не был. Равным образом, не были декабристами и
другие южане, в мятеже Черниговского полка не участвовавшие.
Другой подход к определению термина «декабрист» предложил
П.Н. Свистунов. Корнет Свистунов, если верить документам, состоял
в тайном обществе, принимал в него других, но в мятеже не участво-
вал. Более того, пытался отговорить С.П. Трубецкого и К.Ф. Рылеева
от их «предприятия», а когда убедился, что отговорить не удастся,
13 декабря уехал из Петербурга. Был осужден «по второму разряду» —
двадцать лет каторги. После тридцатилетнего пребывания в Сибири
он гордился статусом декабриста. Полемизируя с Розеном, Свисту-
нов писал: «Вероятно, автор не без умысла присваивает это прозвище
(«декабристы») исключительно лицам, участвовавшим в возмуще-
нии 14 декабря, но не логичнее ли общепринятое применение этого
термина ко всем лицам, пострадавшим вследствие возмущения?»16
196
Свистунов называл «пострадавшими» тех, кто был осужден. Этот
критерий был более удобен — наказание за участие в мятежах и/или
деятельности тайных обществ.
Можно отметить, что в данном случае значение термина «дека-
бристы» — осужденные по делу о «заговоре 14 декабря 1825 года» и
связанным с ним делам. Ну а смысл термина, соответственно, про-
тивники тирании, пострадавшие за свои убеждения.
Смысл =
противники тирании, действием
пострадавшие за свои убеждения
Декабристы £.______________\ Значение =
осужденные по делу
о «заговоре 14 декабря»
и связанным с ним
делам
Рис. 10
Но свистуновский критерий тоже не стал общепринятым. Он тоже
не избавлял от очевидных противоречий. В Сибирь ведь отправились
не только мятежники и заговорщики.
Д.И. Завалишин, к примеру, в мятежах не участвовал, да и в
принадлежности к тайному обществу следователи уличить его не
смогли. Уличен лейтенант Завалишин в том, что о заговоре знал, в
кругу заговорщиков объявил себя «сторонником республиканского
,правления».
Был осужден «по первому разряду», в Сибири сумел поссориться
чуть ли не со всеми товарищами и весьма нелестно характеризовал
их в мемуарах. Что, кстати, на репутациях осужденных не отрази-
лось: доказательствами Завалишин пренебрегал, предвзятость была
очевидна, а психическое здоровье мемуариста вызывало у совре-
менников сомнения, усиливавшиеся благодаря странностям зава-
лишинского бытового поведения. Вот почему специалисты крайне
редко ссылались и ссылаются на его мнения. Тем не менее статус
декабриста был важен и для Завалишина. Мемуары свои он тоже
назвал «Записками декабриста»17.
Написал он и статью «Декабристы», где полемизировал с теми,
кто рассуждал о термине «декабрист». Завалишин утверждал, что
такой критерий, как личное участие в мятеже 14 декабря 1825 г., во-
обще неуместен, когда речь идет о статусе декабриста.
197
Критерий неуместен, если верить Завалишину, постольку, по-
скольку мятеж сам по себе славы участникам не прибавил. Закончил-
ся поражением, да и организован был из рук вон плохо. Допустим,
писал Завалишин, что «собственно декабристами могли быть назва-
ны только участвовавшие в бунте 14 декабря, но в таком случае это
название не будет иметь того почетного звания, которое ему втайне
приписывали, а напротив, должно служить укоризной по бессмыс-
ленности предлога к восстанию, по безалаберности ведения дела, по
недобросовестности отношения к солдатам».
Участники восстания, особенно лидеры, настаивал Завалишин,
ответственны и за поражение, и за судьбы всех, кто им подчинялся.
В первую очередь за судьбы солдат, об истинных целях восстания не
знавших. Исходя из этого, Завалишин утверждал: «Название дека-
бристов вовсе неприложимо к большинству тех, кому придают оное;
у тех же, к кому его можно приложить, оно не может иметь того зна-
чения, какое ему придавали».
В итоге Завалишин предложил новые критерии. Декабристы, по
его словам, «это — члены тайных обществ, пожалуй, даже револю-
ционеры эпохи Александра I»18.
Можно отметить, что значение термина «декабристы» в данном
случае — все, кто по идейным соображениям участвовал в заговоре
или сочувствовал заговорщикам. Ну а смысл термина, соответствен-
но, революционеры эпохи Александра I.
Смысл =
революционеры эпохи Александра I
Декабристы \ Значение =
все, кто по идейным
соображениям
участвовал в заговоре
или сочувствовал
заговорщикам
Рис. И
Главный критерий здесь — идеологический.
Согласно Завалишину, декабристов объединяли прежде всего
идеи, а не тайная организация. Можно спорить о том, как сам Завали-
шин понимал слово «революционеры». Но предложенный им крите-
рий был удобен едва ли не каждому, кто считал себя революционером
или по убеждениям к революционерам близким.
198
Словарное осмысление
Характерно, что досоветскими справочными изданиями были ис-
пользованы все критерии. Предложенные и сибирскими чиновника-
ми, и осужденными по «делу о заговоре 14 декабря 1825 года». Это
убедительно доказал Эрлих, исследовавший материалы справочных
изданий19.
Так, термин «декабристы» впервые пояснил в 1863 г. В.И. Даль.
В «Толковом словаре живого великорусского языка» указано, что
«декабристами называют бывших государственных преступников, по
заговору 14 декабря 1825 г.». Даль, стало быть, воспользовался крите-
рием сибирских чиновников. Но можно отметить, что коль скоро шла
речь о преступниках, т. е. осужденных, мнение Даля не противоречи-
ло мнению Свистунова. Имелись в виду пострадавшие.
Год спустя Ф.Г. Толль опубликовал «Настольный словарь для
справок по всем отраслям знания», где сообщалось, что декабристы —
«люди, хотевшие произвести переворот 14 декабря и поплатившиеся
за него ссылкою в Сибирь в каторжную работу, а некоторые жизнью».
Существенно в данном случае было уже не столько наказание, сколь-
ко личное участие. А это уже якушкинский подход.
В дальнейшем большинство справочных изданий с небольшими
изменениями воспроизводили толлевское определение. Но в 1894 г.
был издан двенадцатый том знаменитого Энциклопедического сло-
варя Брокгауза и Ефрона, где автор статьи «Заговор декабристов»
Н.К. Шильдер писал: «Наименование декабристов присвоено в
русской истории членам различных тайных обществ, которые обра-
зовались в России в царствование Александра!, с 1816 г., и существо-
вание которых обнаружилось открытым восстанием в Петербурге
14 декабря 1825 г.» Для Шильдера главный критерий — участие в
деятельности тайных обществ, противоправительственная деятель-
ность.
Шильдеровское определение тоже использовалось как образцо-
вое авторами последующих справочных изданий.
Впрочем, довольно скоро был введен и критерий, предложенный
Завалишиным. В 1898 г. издан «Научно-энциклопедический сло-
варь», где сообщалось: «Декабристы — участники революции 1825 г.»
Не мятежа, не бунта, даже не восстания, а революции.
По мнению Эрлиха, за тридцать лет с 1863 г. определения стано-
вились все шире. И все-таки вопрос о солдатах не рассматривался в
справочных изданиях. «Нижние чины» не причислялись к декабри-
стам, что называется, по умолчанию.
Ситуация несколько изменилась после 1905 г., когда историки по-
лучили, наконец, доступ к материалам следствия. К этому времени,
похоже, было осознано, что вопрос есть и нужен хоть какой-то ответ.
199
В 1914 г. издан был седьмой том «Русской энциклопедии», где
указывалось, что декабристы — «участники возмущения 14 декабря
1825 г. при воцарении императора Николая I, привлеченные по пово-
ду него к следствию (исключая нижних чинов)».
Под следствием, конечно, были и солдаты, участвовавшие в мя-
тежах. Солдатами занимались несколько следственных комиссий.
Но для автора энциклопедической статьи важно было не это. Он не
вполне удачно выразил свою мысль, но суть ясна: нижние чины —
не декабристы. Хотя бы потому, что декабристы ставили Конкретные
политические цели, солдаты же были введены в заблуждение.
Авторы статей в энциклопедических изданиях стремились, как
правило, избегать полемики идеологического характера. Однако
большинством оппозиционных режиму публицистов, литераторов,
историков принят был герценовский подход, идеологический, цен-
ностный: декабристы — дворяне, отрекшиеся от сословных привиле-
гий, революционеры, сторонники справедливого государственного
устройства. Такова была пропагандистская прагматика.
На исходе XIX в. в России окончательно сложилось противопо-
ставление либералов революционерам. И хотя изначально такого
противопоставления не было и не могло быть, старанием радика-
лов оно постепенно утвердилось. Особенно в среде социалистов-
радикалов, противопоставлявших себя в качестве революционеров,
готовых и стремящихся к насильственному изменению режима, ли-
бералам как эволюционистам, неготовым к применению насилия.
Герценовские установки и для радикалов были актуальны. На-
пример, в 1912 г. газета «Социал-демократ» поместила статью
В.И. Ленина «Памяти Герцена», написанную к столетию со дня рож-
дения Герцена. У Ленина декабристы — революционеры-дворяне.
И, конечно, предшественники большевиков: «Декабристы разбуди-
ли Герцена, Герцен развернул революционную агитацию»20. После
создания советского государства в историографии был утвержден
единственный подход, идеологический, ценностный: декабристы —
революционеры21.
Едва ли не первое советское словарное определение термина
содержит изданный в 1924 г. пропагандистский справочник, оза-
главленный «Карманный словарь. В помощь читателю газеты»: «Де-
кабристы — дворяне-революционеры, главным образом военные,
поднявшие восстание 14 декабря 1825 г. с целью добиться конститу-
ции и освобождения крестьян».
Здесь еще не использован оборот «дворянские революционеры»,
но суть почти та же. И вскоре оборот «дворянские революционеры»
стал официально утвержденным. Он употреблялся почти во всех
советских справочных изданиях 1920-1930-х гг. Вариантов немно-
200
го — «первые русские дворянские революционеры», «первые русские
революционеры, дворяне». К 1940-м гг. определения стандартны, по-
вторяются от издания к изданию, оборот «русские дворянские рево-
люционеры» обязателен.
Ситуация на уровне справочных изданий не изменилась и в пост-
советскую эпоху. Например, Большой энциклопедический словарь,
изданный в 1998 г., сообщал: «Декабристы — русские дворянские ре-
волюционеры, поднявшие в декабре 1825 г. восстание против само-
державия и крепостничества».
Постсоветская полемика
В последнее десятилетие споры о понимании термина «декабри-
сты» вновь актуализовались.
л Надо полагать, это своего рода реакция на обязательную в совет-
' скую эпоху идеологизированность исследований в данной области.
- Тогда сам факт признания кого-либо декабристом подразумевал идео-
логическую характеристику, а оборот «декабристы без декабря» даже
стал привычным: доказательства в подобных случаях не были нужны.
Вот почему ныне многие историки ищут критерии, не зависящие
от идеологических установок. Предпринимаются попытки обосно-
вать выбор критерия или совокупности критериев только документа-
ми, непосредственно связанными с заговором и мятежами.
Документальная основа, конечно, есть. Например, есть составлен-
ный в 1827 г. правителем дел Следственной комиссии А.Д. Боров-
• ковым «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ
и лицам, прикосновенным к делу»22. Но давно известно, что далеко
не все участвовавшие в деятельности «злоумышленных тайных об-
ществ» учтены Боровковым. И далеко не всех попавших в боровков-
ский «Алфавит» следователи признали виновными.
К примеру, декабристом никто никогда не называл сенатского
регистратора М.И. Васильева. Он, согласно справке Боровкова, ве-
чером 14 декабря «пришел в канцелярию Общего собрания сената в
нетрезвом виде с окровавленными руками и говорил, что был в драке
за государя цесаревича». Васильев называл «государем цесаревичем»
Константина. Сенатский регистратор утверждал на следствии, что о
заговоре не знал. И следователи пришли к выводу, что Васильев не
лгал: он всего лишь, будучи пьян, пришел на Сенатскую площадь, где
находился в толпе горожан, наблюдавших за мятежниками, затем,
«опрокинутый бежавшею толпою, упал между трупами и опятнался
кровию, но участия в мятеже не принимал». Потому и наказан был
Васильев за поведение, неподобающее сенатскому чиновнику — по-
явление на службе в нетрезвом виде23.
201
Есть и более комичные случаи. Например, генерал-майор
С.М. Трухачев оказался в боровковском «Алфавите» из-за того, что
в письмах знакомым объявил мятежи в столице и на юге результа-
том деятельности евреев и масонов, которые, по его словам, готови-
ли новые мятежи и препятствовали наказанию уже арестованных
мятежников.
Следователи пришли к выводу, что генерал-майор, вероятно, не
вполне здоровый психически, к тайным обществам отношения не
имел, потому и «показание Трухачева оставлено без внимания»21.
В «Алфавит» попали и многочисленные однофамильцы участни-
ков заговора, арестованные по ошибке. И в другие списки, связанные
непосредственно с заговором и мятежами, попали те, кого следовате-
ли позже признали не имевшими отношения к заговору. Очевидно,
что наличие фамилии в списке «прикосновенных» — не критерий.
Пожалуй, суть полемики о термине может быть условно сведена
к двум — полярным — точкам зрения, двум подходам к задаче. Пер-
вый — найти определение термина «декабрист», сформулировать
критерии. Второй подход — не формулировать критерии, а просто за-
дать множество списком, перечислить всех декабристов.
Наиболее четко критерии сформулировал М.А. Рахматуллин. Ха-
рактерный пример другого подхода — работы II. В. Ильина.
Критерии Рахматуллина — это, во-первых, документально
подтвержденный факт участия в вооруженном мятеже, во-вторых,
осуждение за участие в мятеже и/или участие в деятельности тай-
ных обществ. Соответственно, декабристы — не только офицеры
или чиновники, но и участвовавшие в мятежах «нижние чины»2’.
Эта точка зрения кажется вполне аргументированной. Отчасти про-
тиворечия сняты.
Например, если пользоваться критериями, введенными Рахма-
туллиным, однозначно решается вопрос о статусе М.Н. Муравьева.
В тайном обществе он состоял и участвовал в его деятельности.
Принимал Муравьева в тайное общество родной брат — А.Н. Мура-
вьев, один из основателей Союза спасения. Это — с одной стороны.
А с другой стороны, осужден Муравьев не был. Выйдя в отстав-
ку, он жил в имении. Приказ об аресте отставного подполковника
подписан 27 декабря 1826 г. Муравьев был доставлен в Петербург,
содержался под стражей. Полгода спустя его освободили «по вы-
сочайшему повелению». В данном случае император не воспользо-
вался формулировкой «вменить арест в наказание» или «оставить
без внимания». Муравьев не только был признан невиновным, но
и получил так называемый очистительный или оправдательный
аттестат, удостоверяющий его непричастность к заговору. Атте-
стат, как известно, немногие получили. Это ведь не просто призна-
202
ние недоказанности вины, это гораздо больше — признание ареста
ошибкой, официальное удостоверение полной «благонадежности»
бывшего арестанта.
Вернувшись на службу, Муравьев быстро сделал карьеру, достиг
генеральских чинов. К 1863 г. — виленский, ковенский, гродненский
и минский генерал-губернатор, командующий войсками Виленского
военного округа. За подавление польского восстания 1863 г. получил
право именоваться Муравьевым-Виленским. А в либеральных кругах
его называли Муравьевым-вешателем. Да он и сам о себе сказал, что
не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают.
Случай с Муравьевым-Виленским в общем-то ясен. Да, в тайное
общество вступил. Но, похоже, лишь «за компанию», как вступали
тогда в масонские ложи. Декабристом его и не считали. Вывод, сде-
ланный с использованием описанных выше критериев, не противо-
речит традиции. Несколько сложнее случай с А.С. Грибоедовым. Он
тоже получил аттестат после полугодового содержания под стражей.
Кроме того, коллежский асессор был принят императором, приказав-
шим выдать Грибоедову «не в зачет годовое жалование и произвести
в следующий чин»2'’.
Трудно сказать, ошибся ли император. Нет единого мнения.
Судьбою автора комедии «Горе от ума» императорское решение не
подтверждается и не опровергается. Недолго прожил. Если ис-
пользовать критерии, введенные Рахматуллиным, вывод опять не
противоречит традиции. Правда, в случае с корнетом Лейб-гвардии
Конного полка А.А. Суворовым, внуком А.В. Суворова, противоре-
чие намечается. '
' Он в тайном обществе состоял, на следствии не отрицал этого.
И все же следствие было прекращено «по высочайшему повелению».
Николай I якобы заявил, что «внук великого Суворова не может быть
изменником отечеству».
Корнета отправили на Кавказ, и он тоже быстро сделал карьеру.
С 1861 г. Суворов — петербургский генерал-губернатор. Но в отли-
чие от Муравьева-Виленского он от прошлого не отрекался, прослыть
либералом не боялся. Пытался помочь Н.Г. Чернышевскому. А когда
представители петербургского дворянства пригласили его принять
участие в чествовании Муравьева-Виленского, Суворов ответил, что
людоеда чествовать не будет.
Впрочем, случай с «гуманным внуком воинственного деда» — так
Ф.И. Тютчев иронически назвал Суворова — все равно считается
спорным. И критерии, предложенные Рахматуллиным, позволяют
найти однозначное решение, которое в конце концов не отрицает тра-
дицию. А вот случай с М.Ф. Орловым — совсем иной.
Герой войны 1812 г., герой заграничных походов, подписавший
акт капитуляции Парижа, генерал-майор Орлов не участвовал в мя-
203
тежах, но в тайном обществе состоял и был одним из лидеров. Приказ
о его аресте подписан 18 декабря 1825 г. Выручил брат — А.Ф. Ор-
лов, друг юности императора, будущий шеф жандармов. В Сибирь
Орлов не попал, осужден не был, хотя карьера его закончилась, да и
служба тоже. Традиционно он считается декабристом. Если исполь-
зовать критерии, предложенные Рахматуллиным, вывод явно проти-
воречит традиции. А подобных случаев немало. Если же признать их
исключениями из правил, то получится, что количество исключений
соизмеримо с количеством случаев, относящихся к правилам. Тогда
неясен смысл введения правил.
С «нижними чинами» вопрос тоже очень сложный. Включение
солдат в число декабристов можно рассматривать как отказ от со-
словного критерия, неуместного на исходе XX в. и тем более в
XXI в.
Однако в осмыслении событий 14 декабря 1825 г. это ничего не
меняет. Не подтверждено документами, что в столице солдаты-
гвардейцы знали о целях заговорщиков. Даже наоборот: есть доста-
точно оснований считать, что не знали. Соответственно, «нижние
чины» не были и революционерами — в традиционном понимании
термина «революционер». Кстати, этот термин использовался тогда и
офицерами-заговорщиками27. С точки зрения типологической солда-
ты в столице действовали так же, как «нижние чины», участвовавшие
в дворцовых переворотах XVIII века. Не пытались они изменить го-
сударственный строй. «Нижние чины» — с оружием в руках — под-
держивали «законного» претендента на престол.
Можно сказать, что Рахматуллин существенно изменил традици-
онное значение термина «декабристы». Из термина, давно ставшего
идеологемой, он изъял идеологическую компоненту, устранил цен-
ностный аспект. В результате утрачен традиционный смысл термина
«декабристы», новый же по меньшей мере неочевиден.
Декабристы
Смысл = ?
Значение =
все участники мятежей
1825-1826 гг., а также все
осужденные за участие
в мятежах и/или
деятельности тайных
обществ
Рис. 12
204
Появились сотни новых декабристов, не имевших ранее такого
статуса. Но многие из тех, кого традиционно считали декабристами,
статус утратили. Ясности не прибавилось. Одни противоречия сня-
ты, другие возникли. Противоречий стало не меньше, а больше.
Дело, конечно, не в том, что авторитетный исследователь непра-
вильно выбрал критерии, почему и не решил задачу. Она принципи-
ально неразрешима, вот в чем дело.
Именно это невольно доказал П.В. Ильин. Невольно, так как
не собирался это доказывать. Ильин попытался вовсе обойтись без
определения термина, когда решал задачу, «кого считать декабри-
стом». Он буквально считал и составил списки декабристов.
У изданной в 2004 г. итоговой работы Ильина характерное загла-
вие «Новое о декабристах. Прощенные, оправданные и необнаружен-
ные следствием участники тайных обществ и военных выступлений
1825-1826 гг.»28. По словам Ильина, он изначально стремился опи-
сать «персональный состав декабристских тайных обществ»29.
И, наконец, сделал это, игнорируя идеологические установки со-
ветской эпохи: «Теперь историк не скован необходимостью видеть
в декабристах исключительно сторонников радикальных политиче-
ских идей и “революционных” способов действия»3".
Ильин не использовал методику Фреге. Но можно сказать, что он
решил не принимать во внимание традиционный смысл термина «де-
кабристы»: «Преодолев идеологические ограничения и порожденные
ими критерии принадлежности к декабристам, в значительной мере
деформировавшие содержание этого термина, современный иссле-
дователь стоит перед необходимостью пересмотра основополагаю-
щих фактов и обстоятельств, связанных идеологией и политической
деятельностью конспиративных объединений декабристского ряда.
Важной частью этого пересмотра являются как теоретические, так
и конкретно-исторические аспекты научной реконструкции состава
участников “декабристского движения”»31.
Имеются в виду, стало быть, некие новые, научно обоснованные
критерии, в соответствии с которыми надлежит описать значение
термина, т. е. совокупность объектов, термином охватываемых.
Только не вполне ясно, каким же термином.
Поначалу Ильин рассуждал вроде бы о термине «декабри-
сты», затем о «составе участников “декабристского движения”».
Возможно, речь шла об одном и том же, возможно, нет. С одной
стороны, аксиоматически принимается, что все декабристы —
«участники декабристского движения», с другой стороны, давно
принято считать, что не все, состоявшие в тайных обществах или
участвовавшие в деятельности обществ, были декабристами. Тут бы
автору пояснить, полагает ли он, что введенный им термин «участ-
205
ники декабристского движения» — синоним термина «декабристы».
Пояснений, однако, нет.
Между тем точка зрения автора легко устанавливается. И даже
не тогда, когда Ильин говорит о конкретных критериях, а когда
невзначай проговаривается. Например, Ильин пишет: «Итак, персо-
нальный состав декабристских обществ и, в частности, те категории
декабристов, что избежали судебного преследования, не являлись
до настоящего времени предметом специального изучения в рамках
монографического исследования»32.
Отсюда вроде бы вытекает, что «персональный состав декабрист-
ских обществ» — это декабристы. Кто включен в «персональный со-
став», тот и декабрист. Если нет, нужно было бы сказать об этом, но
автор не сказал.
Аналогичным образом Ильин рассуждает о тех, кого, по его
мнению, следует считать «“неизвестными” декабристами»: «Уста-
новление причастности к декабристской конспирации группы “не-
известных” декабристов наделено своими особенностями. Они
обусловлены самими причинами появления указанной группы.
В силу того, что большинство вошедших в нее лиц не были замечены
официальным следствием, особое значение приобретает рассмотре-
ние свидетельств, имеющихся в других первоисточниках»33.
Ни о каких ограничениях здесь и далее речь не идет. Если, вопреки
«официальному следствию», установлена Ильиным «причастность к
декабристской конспирации», значит декабрист.
Точно так же автор книги рассуждает и о «предполагаемых де-
кабристах»: «Существует еще одна категория лиц, для выяснения
участия которых в тайных обществах и военных выступлениях де-
кабристов требуются дополнительные разыскания, подтверждение
и проверка другими данными и т. д. Свидетельства о причастности
к тайным обществам лиц этой категории не могут быть признаны
бесспорно устанавливающими их принадлежность к декабристам.
Представителей данной группы следует считать вероятными, или
предполагаемыми декабристами».
О каких-либо ограничениях опять ничего не сказано. Получает-
ся, что, если бы автору удалось получить достоверные (на его взгляд)
«свидетельства о причастности к тайным обществам лиц этой ка-
тегории», он бы счел бесспорно установленной «принадлежность к
декабристам»3'.
Соответственно, декабристы — состоявшие в декабристских орга-
низациях или участвовавшие в их деятельности. О чем автор и сказал
несколько ниже: «Предполагаемые декабристы — это группа лиц, в
отношении которых при изучении конкретных документальных сви-
детельств можно выдвинуть обоснованное предположение о принад-
206
лежности к декабристским союзам или участии в организованных
ими выступлениях»15.
Ильин не включает солдат в «состав участников декабристского
движения». Зато ко всем остальным подход, что называется, «рас-
ширительный»: «В настоящем исследовании “единицей учета” (или
критерием определения участника декабристского движения) явля-
ется достоверное свидетельство о причастности к тайному обществу,
принадлежащее осведомленному лицу — участнику тайного обще-
ства, заговора и восстаний декабристов, либо человеку, фиксирующе-
му такого рода свидетельства»31’.
Оставим пока вопрос о характеристике тайных обществ, которые
автор считает декабристскими. Не будем спорить и о том, кого можно
считать «осведомленным лицом».
Допустим, все безупречно определено. И все же практически невоз-
можно установить, какое свидетельство достоверное, хотя бы потому,
что «осведомленные лица» свидетельствовали обычно на следствии.
Они давали показания следователям. Потому лгали допрашиваемые,
очень часто лгали. На основании свидетельств «осведомленных лиц»
производились аресты, и нередко арестованных отпускали, не найдя
достаточных подтверждений их виновности.
Главное, однако, даже не это. В данном случае главное, что дека-
бристы — все, чья «причастность к тайному обществу» установле-
на автором работы — на основании «свидетельства осведомленного
лица». У Ильина в декабристы попали не только Грибоедов, Суворов,
Муравьев-вешатель. Декабристом оказался, например* услужливый
доносчик И.В. Шервуд, добровольно ставший соглядатаем, награж-
денный императором и получивший право именоваться «Шервудом-
Верным». Попал в декабристы и другой доносчик — А.И. Майборода,
тоже императором награжденный.
Дайс организациями, которые автор исследования признал дека-
бристскими, тоже не все ясно.
Например, вряд ли стоит считать декабристской организацией
«Всемирный орден восстановления». Учредителем его объявил себя
Завалишин. Однако до сих пор не подтвержден факт существова-
ния «Всемирного ордена восстановления». Вполне вероятно, Зава-
лишин попросту выдумал эту организацию, как выдумал и многое
другое. Причастность же его к столичному заговору следствием не
подтверждена. В мятеже Завалишин не участвовал, стало быть, если
использовать критерии, введенные Ильиным, Завалишин либо не
декабрист вовсе, либо «предполагаемый декабрист». На его счет у
автора классификации есть сомнения, тут четырнадцать лет катор-
ги и семнадцать лет ссылки роли не играют, а вот Шервуд-Верный и
Майборода — «безусловные декабристы», сомнений тут нет. Опять
207
парадоксы. И подобных случаев, как отмечала О.И. Киянская, можно
найти немало37.
Возможно, Ильин не собирался приходить к этим парадоксам. Но
они ведь неизбежны, если пользоваться им предложенными критери-
ями. Следует признать, что применение «расширительного» подхода
хоть и позволяет снять некоторые противоречия, зато обусловливает
возникновение других. В итоге же противоречий становится не мень-
ше, а больше.
Ильин, как и Рахматуллин, существенно изменил традицйонное
значение термина «декабристы». Из термина, давно ставшего идео-
логемой, он тоже изъял идеологическую компоненту, устранил цен-
ностный аспект. Но в отличие от Рахматуллина Ильин не ввел четкие
критерии, позволяющие сократить список тех, кого традиционно на-
зывали декабристами. Он применил расширительный подход, по-
пытался заменить определение списком объектов, охватываемых
термином «декабрист». В результате был опять утрачен традицион-
ный смысл термина «декабристы», новый же опять неочевиден. При-
чем у Ильина в отличие от Рахматуллина неочевидно еще и значение
термина «декабристы».
Декабристы
Смысл = ?
Значение = ?
(возможно, все, а воз-
можно, и не все из тех,
кого П. В. Ильин включил
в списки участвовавших
в военных мятежах
и/или деятельности
тайных обществ)
Рис. 13
Стоит подчеркнуть еще раз: не в том дело, что исследователь не-
правильно поставил задачу, почему и не сумел решить ее. Дело в том,
что задача неразрешима в принципе.
Нельзя сформулировать определение термина «декабрист» вне-
идеологически, не противореча полуторавековой традиции. Однако
любое определение, в основе которого идеологическая компонента,
ценностная установка, не может быть непротиворечивым.
Противоречия будут всегда.
В досоветской, равным образом, советской традиции они тоже
были. Например, в случае с Д.И. Щепиным-Ростовским.
208
14 декабря 1825 г. штабс-капитан Щепин-Ростовский вывел на
Сенатскую площадь Московский полк. Как известно, действовал
решительно и жестоко, ранил несколько офицеров и солдат, пытав-
шихся помешать ему. Был осужден «по первому разряду». На ка-
торге и в сибирской ссылке провел почти тридцать лет. Между тем,
по словам Щепина-Ростовского, он не состоял в заговоре, не знал
о целях тайного общества, а в день мятежа защищал интересы «за-
конного императора» Константина, которому уже присягнул. И от
своей версии Щепин-Ростовский никогда не отступал: ни на след-
ствии, ни в Сибири, ни позже.
Революционером его вряд ли назовешь. По крайней мере 14 дека-
бря 1825 г. революционером он еще не был, но декабристом историки
всегда его считали. Противоречие в данном случае игнорировалось.
И не только в данном случае.
Можно добавить, что неудача Ильина — локальная. Он ведь и
не искал определение специально. Просто без определений (хоть
каких-нибудь) обойтись не смог. И при всех, мягко говоря, парадок-
сах его исследование весьма значимо: введено в оборот много новых
источников, критически осмыслены уже известные, найдены новые
биографические данные и т. п. Да и списки сами по себе — дело не-
маловажное, как их ни толкуй. Наконец, локальная неудача Ильина
тоже ценна по-своему. Он, как отмечалось выше, доказал, что нельзя
найти идеальное определение, хотя и доказал это невольно.
Еще одна попытка сформулировать определение термина «де-
кабрист» была предпринята совместно Эрлихом и Ильиным. В ре-
цензии на сборник материалов международной конференции,
посвященной 175-летию декабрьского восстания, соавторы предло-
жили следующее определение: «декабристы — все участники тайных
обществ (Союз спасения, Военное общество, Союз благоденствия,
Измайловское общество, Общество добра и правды, Общество
Ф.Н. Глинки, Северное и Южное общество, Общество соединенных
славян, Общество Гвардейского экипажа, Практический союз), а
также те участники антиправительственных выступлений (события
14 декабря 1825 г. в Петербурге, выступления Черниговского полка,
инцидент в Полтавском пехотном полку), которые, не будучи чле-
нами тайных обществ, были знакомы с их целями»3*.
Правда, соавторы тут же и признали, что ясны далеко не все пе-
речисленные ими критерии. Во-первых, по словам Эрлиха и Ильи-
на, «список декабристских тайных обществ должен быть уточнен».
Во-вторых, «список антиправительственных выступлений также
требует уточнений». Наконец, по мнению Эрлиха и Ильина, «наи-
более серьезной проблемой представляется установление круга
участников антиправительственных выступлений, знакомых с це-
лями тайных обществ» w.
209
Однако из всего этого логически следует, что определение, пред-
ложенное соавторами, не может считаться определением, пока все
критерии не станут ясными. Вряд ли это скоро случится.
Кроме того, прежде чем уточнять «список декабристских тайных
обществ», надо бы дать определение самому термину «декабристское
тайное общество», что пока никому не удалось. Есть лишь традиция,
в силу которой декабристскими признаются некоторые организации.
Неясно также, что кроме столичного мятежа и мятежа Черниговского
полка следует называть «антиправительственными выступлениями».
Единого мнения тут нет. А что до «установления круга», то опять
придется разбираться, насколько были «осведомленными» преслову-
тые «осведомленные лица», насколько достоверны их свидетельства.
Опять тупик.
Но, даже если удастся найти выход, все равно остаются противо-
речия, о которых речь шла выше: среди декабристов появляются сот-
ни тех, кого ранее не считали декабристами, зато ранее считавшиеся
декабристами статус теряют.
В итоге Ильин и Эрлих доказали, причем тоже невольно, что за-
дача поиска определения все-таки неразрешима.
Доказала это, опять же невольно, и В.М. Бокова, автор опублико-
ванного в 2001 г. обзора декабристоведения 1990-х гг.
По мнению Боковой, противоречия легко снять: «Думается, один
из путей решения проблемы лежит в разграничении понятий “дека-
брист” и “декабризм” и исключения из первого из них идеологиче-
ской компоненты»1".
Каким образом возможно исключить идеологическую компонен-
ту из понятия «декабрист», оставив ее в понятии «декабризм», сразу
не уяснишь. Но, допустим, исключили, приняли результат в качестве
аксиомы.
После этого, утверждает Бокова, остаются два критерия. Участие
в мятеже и, конечно же, установленный строго научным способом
факт участия в деятельности декабристских организаций.
Все здесь вроде бы логично, однако дальше, по предложению Боко-
вой, нужно решать ту же двуединую задачу, неразрешимость которой
Ильин доказал невольно и Эрлих вместе с Ильиным тоже. Следует
определить, какие организации считать декабристскими и почему, а
затем выявить «персональный состав».
Таким образом, задача сводится к предыдущей.
Легче в итоге не будет. Попытка заменить идеологему «декабрист»
идеологемой «декабризм» ничего не дает.
Иной подход предложила Киянская.
По ее словам, если нельзя избавиться от противоречий, мож-
но уйти от бесплодных дискуссий. Коль скоро нет общепринятого
210
определения, а пояснять каждый раз, что именно обозначает термин
«декабрист», неудобно, проще вовсе отказаться от термина, заменив
его в каждом случае на соответствующее контексту «нейтральное
словосочетание — “член тайного общества”, “участник выступления
1825/26 гг.”» и т. д.11
С этим отчасти можно согласиться. Но именно отчасти. Вряд ли
удастся избавиться от термина «декабрист». Кстати, и нужды нет.
А пояснять все равно необходимо. Причем в данном случае можно и
на традицию сослаться.
Если же выйти за рамки декабристоведения, очевидно, что подоб-
ного рода терминологические проблемы в науке — явление заурядное.
До сих пор нет единого определения таких терминов, как «либерал»,
«социалист», «коммунист», «демократ» и т. д. Тем не менее специа-
листы договариваются о терминах. Да, это приходится делать посто-
янно, выбора нет.
Понятно, что при всех неудачах попытки найти внеидеологи-
ческое определение термина «декабристы» будут продолжаться.
И они далеко не всегда будут безрезультатны. Кто ищет, часто нахо-
дит, хотя и не обязательно искомое. В конце концов искали веками
философский камень, панацею, конструировали перпетуум мобиле.
Результаты были, хоть и не те, что планировали. Опять же, один
ехидный математик сказал как-то, что нельзя придумать событие,
вероятность наступления которого была бы абсолютно нулевой.
Всякое случается.
Наконец, вряд ли можно спорить с тем, что принципиальный от-
каз от идеологических установок — тоже идеологическая установка.
Да, нельзя сформулировать определение термина «декабрист»
внеидеологически, не противореча полуторавековой традиции. Но
и определение, в основе которого идеологическая компонента, цен-
ностная установка, не может быть непротиворечивым. Противоречия
будут всегда. Такова специфика идеологем.
1 Цит. по: Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский: История жизни
и творчества. М„ 1974. С. 218.
2 Ченцов Н.М. Восстание декабристов: Библиография. М.; Л., 1929; Дви-
жение декабристов. Указатель литературы. 1928-1958 гг. М., 1960; Движение
декабристов. Указатель литературы. 1960-1976 гг. М„ 1983; Движение дека-
бристов. Указатель литературы. 1977-1992 гг. М., 1994. Декабристы. Библио-
графический указатель литературы. 1980-1983 гг. Киев, 1985; Декабристы.
Библиографический указатель литературы. 1984-1986 гг. Киев, 1987; Казь-
мирчук Г.Д. Движение декабристов: Юбилейная литература. 1975-1977 гг.
Киев, 1982; Казьмирчук Г.Д., Шлапак Ю.М. Декабристы: Библиографиче-
ский указатель литературы. 1975-1980 гг. Киев, 1982.
211
:1 Эрлих С.Е. Декабристы «по понятиям»: определения словарей //14 де-
кабря 1825 года: Источники. Исследования. Историография. Библиография.
СПб.; Кишинев, 2000. Вып. 2. С. 281-302.
1 Рейсер С.А. О слове «декабрист» // Сибирь и декабристы. Иркутск,
1981. Вып. 2. С. 174-177.
’ Никитенко А.В. Записки и дневник (1826-1877): в 3 т. СПб., 1893. Т. 1.
С. 246, 325, 339.
3 Декабрист М.С. Лунин: Сочинения и письма / ред. и прим. С.Я. Штрай-
ха. Пг„ 1923. С. 104.
7 Нечкина М.В. Когда и где возникло слово «декабристы» // Сибирь и
декабристы. Иркутск, 1978. Вып. 1. С. 7-20; Житомирская С.В. Еще о слове
«декабрист» // Сибирь и декабристы. Иркутск, 1981. Вып. 2. С. 181; Таль-
ская О.С. Откуда произошло слово «декабристы» // Сибирь и декабристы.
Иркутск, 1985. Вып. 4. С. 160-165.
* Эрлих С.Е. Россия колдунов. СПб., 2003. С. 208.
9 Рейсер С.А. Из разысканий по истории русской политической лексики.
«Декабрист» //Труды Ленинградского государственного библиотечного ин-
ститута имени Н.К. Крупской. Л., 1956. С. 248.
Там же. С. 250. См. также: Эрлих С.Е. Указ. соч. С. 204-205.
11 Там же. С. 205.
12 См., напр.: Колокол. 1857. № 5. 1 ноября.
13 См. об этом: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора и новая
административная ментальность: Очерки истории формирования. М., 1997.
С. 86-125.
” Якушкин Е.И. Предисловие к изданию 1925 года//Якушкин И.Д. За-
писки. М., 1926. С. 5-6.
Гессен С. П.Н. Свистунов и А.Ф. Фролов в борьбе с Д.И. Завалиши-
ным // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг.: в 2 т.
М„ 1933. Т. 2. С. 345.
1,1 Свистунов П.Н. Несколько замечаний по поводу новейших книг и ста-
тен о событиях 14 декабря и о декабристах // Русский архив. 1870. № 8-9.
Стлб. 1642.
17 Завалишин Д.И. Записки декабриста. Munchen, 1904. Т. 1-2.
13 Завалишин Д.И. Декабристы // Русский вестник. 1884. Февраль.
С. 822.
19 Эрлих С.Е. Декабристы «по понятиям»... С. 281-302; Он же. Кого счи-
тать декабристом? Ответ советского декабристоведепия (по материалам би-
блиографических указателей 1929-1939 гг.// 14 декабря 1825 года: Источни-
ки. Исследования. Библиография. СПб.; Кишинев, 2000. Вып. 3. С. 358-313.
211 Ленин В.И. Поли. собр. соч. М„ 1961. Т. 21. С. 225-262.
21 Эрлих С.Е. Декабристы «по понятиям»... С. 299.
22 Алфавит членам бывших злоумышленных обществ и лицам, прикос-
новенным к делу... // Декабристы: Биографический справочник. М., 1988.
С. 215-345.
23 Алфавит членам бывших злоумышленных обществ и лицам, прикосно-
венным к делу... С. 36, 236.
212
21 Там же. С. 179, 325-326. См. также: Кияпская О.И. Еврейский вопрос
в теории и практике Южного общества декабристов // Параллели: Русско-
еврейский ист.-лит. и библиогр. альманах. М., 2002. С. 51-52.
23 Рахматуллин М.А. Кого считать декабристом? (Историографические
заметки) // Империя и либералы: Материалы международной конференции:
Сб. эссе. СПб., 2001. С. 240.
26 Декабристы: Биографический справочник. С. 250-251.
27 См., например: Восстание декабристов: Документы и материалы (да-
лее - ВД). М„ 2001. Т. 19. С. 39-40.
23 Ильин П.В. Новое о декабристах: Прощенные, оправданные и необна-
руженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений.
СПб., 2004.
29 Пушкина В.А., Ильин П.В. Персональный состав декабристских тай-
ных обществ (1816-1826): Справочный указатель // 14 декабря 1825 года:
Источники. Исследования. Историография. Библиография. СПб.; Кишинев,
2000. Вып. 2. С. И.
111 Ильин П.В. Новое о декабристах. С. 8
31 Там же. С. 9.
32 Там же. С. 12.
33 Там же. С. 386.
31 Там же. С. 481.
33 Там же. С. 487.
36 Там же. С. 12.
37 Кияпская О.И. Кто такие декабристы и за что они боролись? // Отече-
ственная история. 2001. № 5. С, 209.
33 Эрлих С.Е., Ильин П.В. Рец. па: Империя и либералы: Материалы
международной конференции: Сб. эссе. СПб., 2001 // 14 декабря 1825 года:
Источники. Исследования. Историография. Библиография. СПб.; Кишинев,
2004. Вып. 6. С. 530.
39 Эрлих С.Е., Ильин П.В. Рец. на: Империя и либералы... С. 530-531.
1,1 Бокова В.М. «Больной скорее жив, чем мертв» (Заметки об отечествен-
ном декабристоведепии 1990-х годов) // 14 декабря 1825 года: Источни-
ки. Исследования. Историография. Библиография. СПб.; Кишинев, 2001.
Вып. 4. С. 526.
11 Кияпская О.И. Кто такие декабристы и за что они боролись? С. 209. Ср.:
Она же. Термин «декабрист» в отечественной историографии XIX-XX вв.
URL: http://old.sgu.ru/users/project/news/seininar.doc
АЗЕФ: ПРОВОКАЦИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ, ТЕРРОР
1
В 1929 г. берлинским издательством был выпущен роман Р.Б. Гуля
«Генерал БО».
Автор — дворянин, бывший студент, офицер Мировой войны,
корниловец-первопоходник, а затем преуспевающий литератор-
эмигрант — надо полагать, не сомневался, что вынесенная на
обложку аббревиатура БО не нуждается в комментарии. Действи-
тельно, практически любой русский интеллигент был в ту пору
осведомлен о деятельности знаменитой Боевой организации партии
социалистов-револиционеров, о множестве террористических актах
эсеров-боевиков и о разразившемся в 1908 г. скандале, связанном с
разоблачением руководителя БО Азефа, одного из основателей пар-
тии, который оказался платным осведомителем полиции, агентом с
пятнадцатилетием стажем.
Скандал этот обсуждался не только в русской, но и мировой пери-
одике несколько лет. Об Азефе и азефовщине спорили журналисты и
писатели, думские депутаты, жандармы, сановники и революционе-
ры. Даже события Мировой войны, революции, гражданской войны,
распад европейских империй и послевоенный экономический кризис
не сделали тему азефовщины неактуальной, потому книга Гуля стала
почти бестселлером.
В качестве документальной основы Гуль использовал преимуще-
ственно мемуары известного террориста Б.В. Савинкова, заместителя
Азефа в 1903-1909 гг. Соответственно, читателю предлагалось взгля-
нуть на Азефа глазами его товарища и ближайшего сотрудника.
Как известно, ни Азеф, ни Савинков оспорить суждения Гуля
уже не могли: бывший руководитель БО умер в 1918 г., а его быв-
ший заместитель погиб семь лет спустя. Тем не менее книга вне за-
висимости от ее художественных достоинств весьма примечательна.
Создавалась она, можно сказать, по горячим следам, потому вполне
достоверно отражает специфику восприятия многими современника-
ми идеологем и реалий эпохи.
Азеф, по Гулю, не революционер, не интеллигент и даже не рус-
ский. В этом отношении характерно описание первой встречи Савин-
кова и Азефа:
214
Человек был грандиозен, толст, с одутловатым желтым лицом
и темными маслинами выпуклых глаз. Череп кверху был сужен, лоб
низкий. Глаза смотрели исподлобья. Над вывороченными, жирными
губами расплющивался нос. Человек был уродлив, хорошо одет, по
виду неинтеллигентен. Походил на купца. Но от безобразной, раз-
валившейся в кресле фигуры веяло необыкновенным спокойствием и
хладнокровием'.
Азеф массивен, угрюм, хладнокровен, но при этом самое главное —
уродлив и вопиющим образом неинтеллигентен.
В савинковских «Воспоминаниях террориста» описание первого
впечатления сильно отличается от того, что создал Гуль: «Человек
лет тридцати трех, очень полный, с широким, равнодушным, точно
налитым камнем лицом и большими карими глазами»2.
В последующих гулевских описаниях различия становятся прин-
ципиальными. Таков и эпизод, связанный с первым разговором Са-
винкова и Азефа в Швейцарии:
- Если с вами пошли по одной дорожке, а может, еще и висеть вме-
сте придется, — гнусаво говорил Азеф, — надо хоть поближе познако-
миться. Вы ведь из дворян?
- Дворянин. А что?
- Я еврей, — улыбнувшись, сказал Азеф, — две большие разницы '.
Здесь Азеф, выглядевший, по мнению Гуля, отталкивающе (типич-
ный торгаш), еще и гнусавит, что не добавляет ему обаяния. Оборо-
ты же его речи характерны для необразованных евреев-южан — «две
большие разницы». :
Впечатление далее конкретизируется:
— Ну, а зачем же вы в революции? Вы инженер?
Азеф мельком глянул на Савинкова.
- Я другое дело. Я местечковый еврей, не мне, так кому ж и делать
революцию. Я от царского правительства видел много слез.
-Ия видел.
- Что значит, вы видели? Видели одно, вы чужое видели. Я свое ви-
дел, это совсем другое'.
У «местечкового еврея», стало быть, мотивы совсем не те, что у
настоящего революционера, точнее, русского революционера. Азеф,
согласно Гулю, не озабочен будущим России, русского народа, он
действует в интересах своего народа, евреев. Да и вообще Азеф со-
всем не такой, как Савинков или другие эсеры-боевики:
Простившись, Азеф повернул в обратную сторону. Над Женевским
озером, в тучах, выплыл матовый полулунок. Азеф не видел его. Он шел,
тяжело раскачиваясь. Возле знакомого кафе, на рю Жан-Жак Руссо,
Азеф стал оглядываться по сторонам, ища женщину3.
215
В итоге у читателя должно сложиться целостное и бесспорно от-
талкивающее впечатление: Азеф, следуя символической логике по-
вествования, идет «в обратную сторону» от честного революционера.
«Генерал БО» — безобразный толстяк-торгаш, чуждый революци-
онным идеалам, еще и гнусавый, еще и с характерным местечковым
выговором, не воспринимающий красоту швейцарского романтиче-
ского пейзажа, нахальный, еще и порочный: едва завершив разговор с
товарищем по партии, озирается, отыскивая проститутку.
Разумеется, в воспоминаниях Савинкова ничего подобного нет,
как нет в рассказах бывших товарищей Азефа по БО и упоминаний
об азефовских (или чьих-то иных) суждениях относительно его пре-
словутой «местечковости».
Кое в чем, правда, с Гулем можно и согласиться. У Азефа как у
еврея действительно хватало причин ненавидеть самодержавие. Од-
нако с препятствиями, обычными для евреев в государстве, их дис-
криминирующем на законодательном уровне, будущий «генерал БО»
всегда умел справляться.
Он родился в 1869 г. в местечке Лысково Гродненской губернии.
Его полное имя — Евно-Мейер. Отец — Фишель Азеф, портной.
У Евно-Мейера, второго ребенка в семье, было два брата и четыре се-
стры. В 1874 г. семья переехала в Ростов-на-Дону, где Евно-Мейер
Азеф получил среднее образование7. Закончил он не гимназию, как
полагали многие исследователи, а реальное училище. Как известно,
там в отличие от классических гимназий, выпускники которых по-
лучали основательные знания древних языков и иных гуманитар-
ных дисциплин, углубленно изучались математика, физика, химия.
Французский и немецкий языки тоже были обязательны, однако их
осваивали для решения задач прикладных: чтения технической ли-
тературы. Выпускники реальных училищ обычно избирали карьеру
инженеров, здесь у них были серьезные преимущества по сравнению
с гимназистами. Свидетельство об окончании реального училища —
неплохой результат для сына местечкового портного.
Получив свидетельство о среднем образовании, Азеф по-прежнему
жил в Ростове-на-Дону, несколько лет зарабатывал на жизнь частны-
ми уроками, коммивояжерством, сотрудничал в местной периодике
и т. п. и участвовал в деятельности революционных кружков. Чтобы
продолжить образование, ему пришлось уехать в Западную Европу:
во-первых, это позволяло обойти российские дискриминационные
правила, во-вторых, избавляло от неприятностей с полицией.
С 1892 г. Азеф, выбравший профессию инженера, учится в Герма-
нии. Там он по-прежнему общается с земляками-революционерами,
участвует в работе студенческих кружков. И вдруг отправляет пись-
216
мо в Россию, предлагая Департаменту полиции свои услуги. Стать
платным полицейским осведомителем он решил сам, никакого дав-
ления на него не оказывали, арест ему, понятно, тоже не угрожал. По-
лучив согласие полицейских, Азеф с 1893 г. старательно «освещает»
приятелей-радикалов. Это, как и революционная деятельность, был
его собственный выбор.
Объяснения такого выбора предлагались самые различные. Наи-
более часто встречающиеся — элементарное корыстолюбие. Напри-
мер, по мнению ветерана революционного движения Г.А. Лопатина,
Азеф — «это человек, который совершенно сознательно выбрал себе
профессию полицейского агента, точно так же, как люди выбирают
себе профессию врача, адвоката и т. п. Это практический еврей, почу-
явший, где можно больше заработать, и выбравший себе такую про-
фессию»8.
Но признание платного осведомительства типичным занятием для
«практического еврея» — все-таки проявление бытового антисеми-
тизма. Общеизвестно, что платными осведомителями становились и
русские дворяне. И Лопатин хорошо знал об этом по личному опыту,
еще народовольческому. В данном же случае он, как и Гуль, пытался
доказать, что предательство не имманентно революционной среде.
Тут пригодились усвоенные с детства антисемитские стереотипы, ни
Лопатиным, ни Гулем не изжитые полностью, несмотря на то что оба
считали себя русскими интеллигентами. С использованием антисе-
митских стереотипов предательство Азефа объяснялось на диво про-
сто: раз еврей, значит, алчен и небрезглив, потому нашел заработок в
полиции. К примеру, чтобы оплачивать образование в Германии.
Но, во-первых, Азеф умел находить заработок и без помощи поли-
ции. Технических знаний у него было достаточно еще со времен окон-
чания реального училища. Во-вторых, если считать, что полицейское
жалование понадобилось Азефу для оплаты обучения, то непонятно,
почему он не отказался от этих денег, когда в 1899 г. завершил обуче-
ние. Основания для отказа были.
Решив вернуться в Россию, Азеф выяснил, что ему как еврею по-
прежнему запрещено постоянно проживать в Москве, Петербурге и в
иных городах вне черты оседлости: немецкий диплом русские чинов-
ники признавать не желали, Азеф, как и раньше, считался евреем без
высшего образования, а сдать экзамены экстерном, чтобы получить
российский диплом, ему тоже запретили9.
Казалось бы, у него вполне уважительная для полиции причина
прекратить сотрудничество и остаться за границей. Тем более что
есть уже и своя семья: с будущей женой — Л.Г. Минкиной — Азеф
познакомился в 1895 г. Дочь купца-еврея, хозяина писчебумажного
217
магазина в Могилеве, она училась тогда на философском факульте-
те Бернского университета и тоже была связана с революционными
кружками.
Диплом инженера Азеф получил в 1899 г., закончив Политехни-
ческий институт в Дармштадте. Специализация — электротехника.
Такое удавалось немногим выходцам из России. Впереди — престиж-
ная и хорошо оплачиваемая работа. Инженерский оклад много выше
вознаграждения полицейского осведомителя. Инженеры в ту пору —
элита. А инженеры-электротехники — вообще редкость.
Азеф, по мнению современников, был специалистом очень высо-
кой квалификации. Мог бы легко найти себе место на любом крупном
заводе в Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии, да где угодно. Язы-
кового барьера нет. Можно и родственникам в России помогать, что
он всегда делал. Инженерского жалованья хватит. Живи за границей,
помогай революционерам финансово, избавься от полицейского над-
зора — неплохая перспектива.
Азеф выбрал другой путь. Неофициальное разрешение постоян-
но проживать в Москве он получил с помощью своих полицейских
кураторов. Некоторое время работал инженером, затем отказался от
высокого инженерского оклада, обеспеченного быта, окончательно
перешел на положение партийного функционера, был избран в ЦК
партии социалистов-революционеров, возглавил БО. С точки зрения
финансовой он много потерял, хотя и продолжал сотрудничество с
полицией. Так что алчность здесь вряд ли уместное объяснение.
Похоже, что конфессиональная или этническая принадлежность
Азефа в подобных вопросах никакого значения не имела. Известно,
что в бытовых вопросах он, как опять же случалось с учившимися в
Европе и близкими к революции евреями, явно придерживался «ас-
симиляторской» линии поведения.
Об этом свидетельствуют мемуары московского раввина Я. Мазе,
того самого, которому позже пришлось обсуждать «еврейский воп-
рос» с Л.Д. Троцким, Л.Б. Каменевым, А.В. Луначарским. Мазе «был
в 1901 году соседом Азефа по даче в Малаховке. Он рассказывает, что
однажды получил письмо от своего земляка из Могилева с мольбой
повлиять на зятя автора письма — Азефа, не желавшего сделать вто-
рому сыну обрезание (первому жена Азефа сделала во время одной
из его многочисленных отлучек). Мазе пишет о том, как относился
Азеф к иудаизму, как издевался над обычаями, религией своего наро-
да: «Где это слыхано, чтобы взяли в восемь дней невинного младенца
и сделали ему тяжелую операцию, то, что высасывают кровь, — это
ужасно. Хорошо хотя бы, когда рот чистый, но он обычно вонючий и
полон гнилых зубов. Я готов признать, что мое мнение о Боге Израи-
ля было гораздо лучше, я не позволю дурачить себя». А когда Мазе
218
возразил: «...многие эксперты считают, что эта операция очень полез-
на и способствует избежанию заражения», то Азеф сказал: «Тоже мне
мудрость. Почему бы ни сделать несчастному еврейскому ребенку
еще несколько операций? Почему бы еще ни отрезать ему и слепую
кишку, которая известна своей склонностью к заражению, почему
бы им ни вырезать и полипы и так далее, таким образом еврей будет
прооперирован от начала до конца. И мы предоставим много работы
хирургам»1".
Л.Г. Азеф, известная в качестве образцовой революционерки, ока-
залась ортодоксальнее мужа-провокатора.
После разоблачения Азеф, чтобы избавить семью от последствий
скандала, дал жене развод. Это предполагало выполнение некото-
рых религиозных формальностей. К ним он тоже относился более
чем равнодушно: «Ты писала, что обращалась к раввину о разводе,
он ответил, что это должен дать я. Если ты считаешь это нужным и
лучшим, то я готов все сделать. Но ты сама напиши туда и спроси,
как это сделать, т. е. что я должен для этого сделать — достаточно ли
мое письмо? Словом, ты должна взять на себя ответственность моей
безопасности для совершения этого дела, а потому я считаю, что луч-
ше никому об этом не говорить. Когда ты будешь знать, что делать, то
ты мне напишешь об этом»".
Азеф поступил вполне либерально. Однако истинное значение
этого поступка выясняется с учетом дальнейших событий. Бежав от
эсеров, Азеф часто менял имена — у него было несколько паспортов,
выданных полицейским куратором. В итоге местом постоянного жи-
тельства он выбрал Берлин, где поселился с любовницей Хедвигой
Клепфер. Прописался он по подложным же паспортам купца Алек-
сандра Неймейера (нем. Neumeier) и его законной супруги12. Такая
модель уже с трудом может быть истолкована с точки зрения про-
блемы самоидентификации еврея в цивилизованной Европе: это и не
ассимиляция, и не перемена религии, это — криминальное поведение,
свойственное профессиональным конспираторам.
Кстати, возникает соблазнительное предположение о специфиче-
ском языковом юморе паспортных игр Азефа: если его полное имя,
согласно метрическому свидетельству, Евно-Мейер, то берлинский
купец Неймейер (Neumeier) — как бы «новый Мейер», новый Азеф.
Юмор в духе «генерала БО»,
Наконец, в порядке парадокса стоит отметить, что, попав во время
Мировой войны в берлинскую тюрьму, Азеф нашел и вовсе удиви-
тельные «еврейские модели» осмысления своей участи. Арестовали
его по подозрению в причастности к анархистским и террористиче-
ским организациям. Потому, вероятно, учитываявозможность перлю-
страции, он писал X. Клепфер из тюрьмы: «Меня постигло несчастие,
219
величайшее несчастие, которое может постигнуть невинного челове-
ка и которое можно сравнить только с несчастием Дрейфуса»’ ’.
Соответственно, Азеф уподоблял себя А. Дрейфусу — ассими-
лированному еврею, как известно, брошенному в тюрьму по клевет-
ническому обвинению в шпионаже. Но здесь «Дрейфус» — просто
очередная маска. Азеф использовал свою конфессиональную и этни-
ческую принадлежность тогда, когда это полагал целесообразным.
2
Таким образом, ссылка на пресловутую еврейскую практичность
не объясняет полицейскую деятельность Азефа. «Практический ев-
рей» должен был бы выбрать карьеру инженера, а не организовывать
убийства сановников. Но для многих современников антисемитские
стереотипы были слишком привычны, чтобы от них отказаться.
Одни противоречия они пытались снять другими противоречиями.
Например, Гуль в своем романе предложил подобно более ранним
и поздним литераторам, осмыслявшим азефовщину, такое объясне-
ние: Азеф руководил террором не потому, что был революционером,
а потому, что был евреем, его интересовала не революция, он мстил
за свой народ.
В соответствующей сцене романа Гуль дает авторскую версию
того, как Азеф решает организовать убийство министра внутренних
дел В.К. Плеве.
Азеф посещает своего бывшего полицейского куратора П.И. Рач-
ковского, которого Плеве удалил от дел, и ведет с ним многозначи-
тельную беседу:
Рачковский повернулся и, как бы смеясь, сказал:
- А что вы думаете, господин Азеф, о кишиневском деле?
- О каком?
- О погроме.
Азеф потемнел.
- Это его рук?
- Кого-с?
- Плеве?
- А то кого же-с? — захохотал Рачковский. — Полагают право-
порядок устроить! 30 тысяч евреев убил! Я вам по секрету ска-
жу, — наклонился Рачковский, — разумеется, между нами. Ведь
отдушину-то господин министр не столько для себя открыл, сколько
для наслаждения своего тайного повелителя, Сергея Александровича,
чтобы понравиться, так сказать, да не рассчитал, как видите, не
учел Запада, а теперь после статьи-то в «Таймс» корреспондента
высылает, то да се, да с Европой не так-то просто, не выходит, да-с.
Видит, что переборщил с тридцатью-то тысячами, да, не Иисус
220
Христос, мертвых не воскресит, — захохотал Рачковский дребезжа-
ще, не сводя глаз с Азефа.
Азеф выжидал. Хоть это было, кажется, то, зачем он приехал.
- А скажите, Евгений Филиппович, — проговорил Рачковский, вста-
вая, — правда, что революционеры подготовляют большие акты?"
Эпизод этот, естественно, полностью вымышлен. Но романист
развивает две важные для него идеи:
1) убийство Плеве (в перспективе и его «тайного повелителя», ве-
ликого князя Сергея Александровича) — национальная месть
за кишиневский погром 1903 г., тем более что российская ли-
беральная общественность действительно обвиняла министра
i как минимум в «преступном попустительстве»;
2) террористическая деятельность Азефа в качестве руководителя
. БО эсеров тайно направлялась его полицейским начальством.
Основной источник «кишиневской» причины убийства Плеве —
записка Л.А. Ратаева, одного из полицейских кураторов Азефа.
В 1910 г. Ратаев писал: «В апреле 1903 года, как известно, раз-
разился в Кишиневе еврейский погром. Еще памятен шум, который
поднялся по этому поводу в радикальной и революционной печати; в
целях противоправительственной агитации были пущены все сред-
ства до подложного письма министра внутренних дел к бессарабско-
му губернатору. Сколь ни странно, что Азеф, служивший с 1892 г. и
все время находившийся в сношениях с высшими чинами государ-
ственной полиции, мог поверить такому очевидному и нелепому
вздору, тем не менее это было так. Он всему поверил вполне или, по
крайней мере, делал вид, что поверил. Мне стоило большого труда,
чтобы его успокоить и разубедить, что никакому правительству на
свете не может никогда и ни в каком случае быть выгодна смута и
бунт, откуда бы они ни исходили и против кого бы ни были направ-
лены, ибо стихийная бунтарская сила, которая сегодня якобы служит
правительственным интересам, завтра может превратиться в опасное
орудие против того же правительства». Оценивая эмоциональное от-
ношение Азефа к кишиневским событиям, Ратаев сообщал, что, по
свидетельству другого полицейского куратора, «Азеф, говоря о по-
громе, трясся от ярости и с ненавистью говорил о В.К. Плеве, кото-
рого считал его главным виновником». Профессионал сыска, Ратаев
подчеркивает, что не слишком верил в искренность Азефа, утверж-
дая, что «злоба на правительство за кишиневский погром» есть не
причина, а следствие, «истинною же причиною было знакомство и
сближение с Гершуни»11.
Оставив на совести Ратаева сомнения в национальных чувствах
Азефа (тем более что влияние Гершуни на Азефа преувеличено),
можно привести слова историка-социалиста Б.И. Николаевского, ко-
221
торый, цитируя того же Ратаева, иначе оценивает эмоциональное со-
стояние Азефа: «Но евреем он себя все же чувствовал. Судя по всему,
особенно прочно в нем жили воспоминания о тяжелых годах детства:
Ивановская (член БО, автор воспоминаний, крайне враждебных по
отношению к бывшему товарищу и вождю. — М.О., Д-Ф.) рассказы-
вает, что во время их встреч в Варшаве и Вильно, как бы серьезна ни
была тема их разговора (а они встречались там в период подготовки
покушения на Плеве), Азеф никогда не пропускал ни одного из тех
босоногих уличных торговцев — еврейских мальчишек, которых так
много бегало по улицам этих городов, без того, чтобы не купить у него
что-нибудь на грош или два. И его глаза, так часто глядевшие “холод-
ными, навыкате”, наверное, именно в эти минуты чаще всего станови-
лись похожими на обычные “грустные еврейские глаза”. А ведь одной
из самых жутких страниц в рассказах о Кишиневе были сообщения
о зверски убитых детях — о грудных младенцах, которым разбивали
головы ударами о стену»1'1.
Современный исследователь согласен с Николаевским: «Вторая
жертва Азефа, великий князь Сергей Александрович, был таким же
символом антисемитизма, как и Плеве. Назначенный в 1891 году
московским генерал-губернатором, он заявил, что его главная цель
“оградить Москву от евреев”. В 1891-1892 годах из Москвы были
высланы более 20 тысяч евреев из 35-тысячного еврейского населе-
ния города. Многие из них были высланы по этапу зимой вместе с
уголовными преступниками, что привело к многочисленным смер-
тям. Мазе, узнав через много лет, кем был на самом деле его сосед
по даче, писал: “не сомневаюсь, что он обманул правительство, на ко-
торое работал только в том, что касается Сергея Александровича и
Плеве. Это не случайно, это месть со стороны еврея по отношению
к большим преследователям и ненавистникам еврейского народа...
Не зря говорили наши мудрецы: «Мир его праху». Еврей, даже согре-
шив, остается евреем”»’7.
Не исключено, что Азеф и сам в определенной аудитории под-
держал бы подобную точку зрения. Ведь этот осторожный и сдержан-
ный человек позволил себе обнаружить перед полицейскими курато-
рами возмущение политикой Плеве, а о своем даре сопереживания
он в 1909 г. эмоционально писал жене (оспаривая репутацию без-
душного провокатора): «Когда я думаю о своем несчастии и несча-
стии всех близких мне людей, то я сам не понимаю этого парадокса.
В глазах всего мира я какой-то изверг, вероятно, человек холодный
и действовавший только с расчетом. На самом же деле мне кажется,
нет более мягких людей, чем я. Я не могу видеть или читать людское
несчастие, у меня навертываются слезы, когда читаю, в театре или на
лице вижу страдания. Это было у меня всегда. Тоже, вероятно, меня
222
считают теперь человеком сребролюбивым, но меньше всего меня
когда-либо интересовали деньги и [я] никогда не придавал им ника-
кого значения. Во всяком случае, всегда был далек от того, что на-
зывается сребролюбивый. В глазах всех, вероятно, теперь я человек,
насмехавшийся над революцией и враг ее — мне же кажется, что ни-
кто или очень мало людей жило так революцией или радовалось ее
успехам, чем я. И вот благодаря одной ошибке, благодаря глупости
своей получается такой парадокс»18.
Конечно, сокровенные помыслы человека не угадаешь, и непра-
вомерно отрицать вероятность эмоционального фактора в желании
руководителя БО ликвидировать Плеве и Сергея Александровича.
Однако ограничиваться таким объяснением применительно к ор-
ганизатору свыше тридцати террористических актов не стоит. За-
кономерно, что скрупулезный исследователь деятельности Азефа
Л.Г. Прайсман, принимающий еврейский мотив убийства Плеве и
великого князя, немедленно вписывает его в систему политических
воззрений «генерала БО»19. Действительно: когда речь идет о столь
видном политике и революционном лидере, сводить все к эмоци-
ям вряд ли стоит. А то пришлось бы размышлять о переживаниях
В.И. Ленина, которому, согласно хрестоматийной «байке» М. Горь-
кого, бетховенская музыка чуть не помешала «бить по головкам,
бить безжалостно». Политик — профессия, а не эмоции. По крайней
мере в методологическом отношении, в аспекте требований, кото-
рые выдвигаются к толкованиям историков.
Что же касается роли Рачковского и других полицейских на-
чальников как истинных вдохновителей террора БО, эта версия
безоговорочно разделялась тогдашними радикалами и — шире — ли-
беральной общественностью. Так, социалисты Ж. Лонге и Г. Зиль-
бер, суммируя в 1909 г. обсуждение феномена Азефа, выделили три
главные версии20.
Первая — «правящих кругов партии в лице ее центрального
комитета». Лидеры партии характеризуют Азефа «как крупного
авантюриста, чрезвычайно одаренного, но с наличностью ярких па-
тологических свойств, полуреволюционера и полусыщика, “всю свою
жизнь стремившегося болезненно концентрировать на себе общее
внимание, играть первую роль, быть в центре какой-нибудь сложной
и хитросплетенной интриги” и одновременно, а иногда и поперемен-
но служившего революции и полиции».
Вторая — савинковская. Согласно Савинкову, «Азеф был простым
агентом-провокатором, но только не все свои тайны выдавал поли-
ции. Терроризм для него являлся неисчерпаемым источником выгод
и наслаждений, и он считал безрассудным и нерасчетливым убивать
курицу, приносившую ему золотые яйца. Естественно, что он всяче-
223
ски скрывал от полиции некоторые из своих предприятий, оберегал
от нее своих ближайших сотрудников. Сохранить “боевую организа-
цию” значило для него сохранить те тридцать тысяч серебряников,
которые он получал от департамента полиции».
Лонге и Зильбер оспаривают обе эти версии, им ближе третья, та
самая, которую последовательно пропагандировал разоблачитель
Азефа В.Л. Бурцев, историк освободительного движения и Шерлок
Холмс русской революции: «В действительности вся преступная
деятельность провокатора могла быть объяснена только при допуще-
нии известного дуализма царского политического сыска и постоян-
ной общности интересов одной ее части с личными интересами Евно
Азефа», проще говоря, только при допущении роли Рачковского как
«главного вдохновителя предателя».
Ныне «полицейская» модель террористической деятельности Азе-
фа — сведение революционных убийств, подготовленных БО, к вы-
полнению приватных служебных или амурных заказов «кураторов»
из Департамента полиции — специалистами отвергается21. Однако
необходимо напомнить, что ее основательную критику предложил
сам Азеф.
Как известно, он не был теоретиком, сторонился официальных
речей и публицистики. Тем не менее Азеф показал себя «автором»,
выступая в эпистолярном жанре. Это прежде всего относится к тем
письмам (жене, Савинкову, в российские и германские учреждения),
где он начиная со времени партийного суда стремился мотивировать
свои поступки, шокировавшие революционеров, правительство и по-
лучившие широкий резонанс по всему миру.
Своеобразная поэтика поздних писем Азефа определена, во-
первых, отличительной для него способностью к выстраиванию убе-
дительных причинно-следственных цепочек, во-вторых, искусной
трансформацией этих логических конструктов применительно к ожи-
даниям адресата (Савинкову — одно, берлинской полиции — другое),
в-третьих, специфической дистанцированностью, присущей сочине-
ниям политиков (в частности, революционеров), которые отошли от
дел (и чем дальше отошли, тем благотворней это обыкновенно сказы-
вается на их литературных опусах).
Уязвимость концепции Бурцева Азеф выявил в письме к Савин-
кову. Это письмо (от 10 октября 1908 г.), в котором «генерал БО» ин-
структирует заместителя, подсказывая ему аргументы для полемики
с «Шерлоком Холмсом», развернувшейся на партийном суде, знаме-
нито и неоднократно перепечатывалось.
Азеф, в частности, указывает:
Что же с Бурцевым], когда он узнает от тебя биографию? Он
от своей мысли не отказывается, а еще укрепляется и очень просто
224
рассуждает: Плеве — это дело его с согласия Рачковского. Рачковский
был Плеве устранен от дел. Рачковский не у дел. Рачковский зол на
Плеве. Рачковский же придумал. Создавайте БО. Убейте Плеве. Я —
друг Рачковского, не могу же неубитъего врага Плеве. И вот создалась
БО. Просто. Но отчего историку не приходит в голову такой мысли.
Ведь Рачковский не у дел. Департамент и Охрана в Петербурге су-
ществуют (они, конечно, не знают о плане Рачковского и моем), но
ведь все-таки они могут ведь проследить работу БО и арестовать
и, конечно, меня, работающего на Плеве. И что же я, продажный че-
ловек (такой, конечно, в глазах Рачковского), пойду спокойно на висе-
лицу за идею дружбы Рачковского и не скажу совсем, что помилуйте,
да ведь я действовал по приказанию Рачковского, начальника своего,
и что Рачковского ведь тоже наделили бы муравьевским галстухом.
И что же Рачковский готов и на виселицу как член БО и главный ее
вдохновитель. Или Рачковский мог думать, что его за это переведут
на службу только в Сибирь, или что я его не выдам, и уж сам пойду на
виселицу из дружбы к нему, а о нем ни гу-гу. Или Рачковск[ий] дума-
ет, он отвернется. Скажет, что он тут ни при чем, что я, мол, сам
это затеял; а я, мол, хотя и продажный, но все-таки дурак-дураком,
буду рисковать своей жизнью из-за Рачковск[ого], котор[ый], между
прочим, ине у дел, и если попадусь и не сумею доказать, что я дей-
ствовал с Рачковским. Противно все это писать. Но вместе с тем
меня и смех разбирает22.
Далее, конкретизируя, Азеф еще более зло издевается над оппо-
нентами:
- Плеве нет. Рачковский рад. Враг его убит. Он не получает мура-
вьевского галстуха. Знает он состав организации и по каким паспор-
там живем, знает, что она разделилась на 3 части. В Москве, в Питере
и в Киеве. Знает, что ты в Москве, словом, знает все, что ты и я, и в
результате убивают Сергея. <...> Хорош Рачковский. Отчего бы пар-
тии не иметь рачковских таких! Не скверно вовсе2 '.
Свою впечатляющую логическую реконструкцию Азеф дополня-
ет полемическим экскурсом в историю русской революции. Бурцев,
обвиняя Рачковского в проведении терактов руками эсеров, уподо-
блял историю Азефа давней — тридцатилетней давности — «дегаев-
ской истории».
Видный народоволец С.П. Дегаев как полицейский осведоми-
тель работал на жандармского подполковника — инспектора петер-
бургской секретной полиции — Г.П. Судейкина: благодаря этому
сотрудничеству Дегаев превратился в одного из вождей революци-
онного подполья, а Судейкин парализовал деятельность «Народной
воли»; в конце концов Дегаев открылся товарищам по партии и, за-
маливая грехи, организовал зверское убийство «куратора». Среди
225
прочего Дегаев поведал революционерам о злодейских планах Су-
дейкина. По версии революционеров, «пожираемый честолюбием,
Судейкин мечтал о быстром повышении, но все время наталкивался
на непреодолимые препятствия, выдвигаемые против него тогдаш-
ним первым министром (министром внутренних дел. — М.О., Д.Ф.)
графом Толстым. Судейкин всеми силами своей души ненавидел
этого министра, который всячески мешал его карьере, не давая ему
следующих чинов, и ограничивался тем, что за все его исключи-
тельные заслуги вознаграждал его орденами и деньгами». П0и этом
«Дегаев в своей исповеди сообщил эмигрантам все подробности
необыкновенного плана, который явился плодом необыкновенного
сотрудничества террориста с “гениальным сыщиком”, как сами ре-
волюционеры называли тогда Судейкина. Дегаев должен был обра-
зовать террористический отряд, ставивший себе ближайшей целью
казнь первого министра. Судейкин незадолго до покушения под
предлогом переутомления или болезни подавал в отставку. В выс-
ших сферах убийство графа Толстого было бы объяснено, конечно,
уходом Судейкина, на которого там смотрели, как на самый верный
оплот против террористов, и его, разумеется, призвали бы спасать
трон и осыпали бы чинами и наградами»21.
Азеф отмечает:
Уж больно смешон Б[урцев], построив эту гипотезу, да еще со
ссылкой на историю. Мол, в истории это уж было. Судейкин хотел
убить Толстого. Но ведь только хотел, ведь знаем только разговор
с Дегаевым (и то, где его историческая неопровержимость). А по-
чему Судейкин не сделал? Может быть, оттого, что Судейкин по-
боялся виселицы, чего не побоялся, по Б[урцеву], Рачковский. А ведь
Судейкину-то легче было сделать. Ведь он был при делах и все дела
были в его руках. Тогда он царил, он был в смысле выслеживания
революционных] организаций] вне конкуренции и вне контроля.
А Рачковск[ий] не у дел. Кажется, однако, он БО не создал. А вот
историк Б[урцев] ссылается на историю17'.
«Генерал БО» ехидно отмечает, что между его казусом и дегаев-
ским разница велика. Во-первых, он сомневается в «исторической не-
опровержимости» наличия у Судейкина коварного карьерного плана:
ведь единственный информатор здесь — Дегаев, лицо заинтересован-
ное (каково уважение к героям «Народной воли»!). Во-вторых, если
Судейкин имел умысел, то Рачковский совершил преступление, хотя
именно Судейкин был «приделах», а Рачковский, напротив того, «не
у дел». В-третьих, Судейкин — «при делах» — БО не создал, опаль-
ный же Рачковский создал.
Действительно, трудно не согласиться с Азефом: история Бурцева
недостоверна и аналогия неубедительна.
226
Однако задача осмысления феномена Азефа сохраняет актуаль-
ность. Опираясь на брошюру Лонге и Зильбер и дополняя их наблю-
дения, можно перечислить несколько базовых версий.
1. Эклектическая версия восходит к партийной апологии эсеров:
Азеф предавал то революцию, то правительство, руководствуясь лич-
ными интересами — корыстью, азартом, «инстинктом монстра» и т. п.
2. Правительственную версию изложил П.А. Столыпин в бле-
стящей речи, произнесенной И февраля 1909 г. в Государственной
думе21’. По словам российского премьера, Азеф мужественно и без-
укоризненно служил интересам российского государства, блокируя
террористическую кампанию эсеров.
3. Номенклатурная версия была востребована в дискуссиях вну-
три партии, а также в антиэсеровских эскападах их оппонентов из
рядов радикального социализма — социал-демократов. Провокацию
Азефа списывали на самоизоляцию элиты от рядовых членов партии
или боевиков от ЦК, или эсеров от массовой борьбы пролетариата
и крестьянства. Л.Д. Троцкий писал в 1909 г.: «Глядите: вместо того,
цтобы отбросить прочь негодные доспехи, которыми сумела овладеть
рука полицейского прохвоста; вместо того, чтобы засучить рукава и
приняться за серьезную революционную работу, романтики террора
выбрасывают из своей головы последние крупицы политического ре-
ализма, отказываются от организации пролетариата и крестьянства
<...> они выдумают новые пароли, которых не знает Азеф, и, наконец,
самое главное — они сварят большой котел динамита, в полтора раза
большей силы, чем динамит азефовский. <...> И они добьются по-
следнего жестокого пинка! Если крушение Народной Воли вызывает
ужас и сострадание (условия трагедии); если азефовский финал тер-
рора порождает сострадание и отвращение, то новая попытка галь-
ванизировать разлагающийся труп террористической организации
вызовет лишь отвращение и издевательства...»27
4. Мистическое толкование азефовщины проницало в нем «ду-
ховную» болезнь российской революции2*, а может, государствен-
ности и всей ментальности («Петербург» Андрея Белого).
5. Политическая версия предполагает открытие последователь-
ной реализации некоей программы Азефа. Например, Прайсман до-
казывает справедливость давней характеристики Азефа как «кадета
с террором». «Генерал БО», по тем или иным причинам оказавшись
одновременно сотрудником полиции и руководителем эсеровского
террора, в 1903-1905 гг. целенаправленно убивал государственных
деятелей, известных в качестве антисемитов и противников вестер-
низации (ср. тип «ассимилированного еврея»); в 1905-1906 гг., т. е.
после объявления манифеста 17 октября и на фоне революции, ко-
лебался, останавливая или возобновляя террор в зависимости от ко-
227
лебаний царского правительства; наконец, в 1906-1908 гг. искренне
саботировал террор (не в ущерб собственной безопасности и стату-
су), будучи убежденным сторонником Столыпина.
В рамках же политической версии мы в ряде работ предлагали
оценивать Азефа как успешного террориста: безотносительно к при-
чинам начала его сотрудничества с полицией «зрелый Азеф» исполь-
зовал свое «двойственное» положение как единственно возможный
способ вести террористическую борьбу в условиях государства, где
служба безопасности достаточно квалифицирована, чтобы нейтрали-
зовать «обычных», «классических» подпольщиков29.
Со времен Александра II российский политический сыск, следуя
западным (преимущественно, французским) образцам, обратился к
широкому использованию осведомителей, которых жандармы вер-
бовали среди революционеров. Причем во Франции Наполеона III
революционера не могли осудить и даже арестовать лишь за умысел
на теракт. Потому полиция с помощью специально внедренных в
партию агентов иногда провоцировала террористов, чтобы получить
весомые улики для последующего суда. Подобные злоупотребления,
безусловно, не поощрялись, но негласно оправдывались невозмож-
ностью обезвредить опасных преступников методами, предусмотрен-
ными законом. В России же сам умысел на политическое убийство
был вполне достаточным основанием для задержания, а доказатель-
ство подготовки к теракту (любой стадии) — для казни. Значит,
российским жандармам провокация была не нужна. А нужна была
своевременная информация, т. е. осведомители. Однако на практике
различение осведомителей и провокаторов оказывалось не так ясно,
как в теории. Согласно инструкциям, осведомитель не должен был
иметь никакого касательства к самим преступным действиям «осве-
щаемой» им организации. Но чтобы получить доступ к важной ин-
формации, осведомитель должен занимать заметный пост, занимать
же заметный пост и не иметь отношения ни к каким серьезным акци-
ям подпольщиков едва ли возможно. В результате полиция пришла к
разумному компромиссу: нейтрализация революционного подполья
осуществима посредством умеренного с ним диалога — вычленения
«сотрудников», оказания им посильной помощи в их революцион-
ной карьере, игнорировании их незаконных деяний, и так вплоть до
какого-нибудь очередного скандала.
Со своей стороны вели борьбу и противники царского правитель-
ства. Литераторы на теоретическом фронте пустили в ход уже упоми-
навшуюся идеологему «полицейских-террористов», т. е. закулисных
организаторов революционного террора. Получалось, коль скоро
полиция пользуется осведомителями, значит, провоцирует и несет
всю полноту ответственности за революционные преступления, что
228
в терминологическом выражении вело к смешению терминов «со-
трудник полиции» и «провокатор». Знаменательно, что В.В. Роза-
нов, в 1909 г. вспоминая далекие 1890-е гг., свидетельствовал: «Но
слово “провокаторство” еще тогда не сложилось или не было очень
употребительно...»10
Технологи же террора на практическом фронте не могли не
прийти к простейшей комбинации, судя по всему, ноу-хау Азефа.
В целях эффективного руководства масштабной террористической
кампанией необходимо обеспечить такую меру свободы и личной
безопасности, чтобы беспрепятственно въезжать и выезжать из
России, передвигаться по территории страны, контактировать с
«неблагонадежным лицами» и совершать другие подозрительные с
жандармской точки зрения поступки. Следовательно, остается за-
ранее предотвратить возникновение соответствующих подозрений,
т. е. играть роль сотрудника полиции или провокатора, служа рево-
люции, иначе говоря, заниматься дозировкой информации — что
полиции (с уголовными последствиями для товарищей) и что на
благо борьбы с режимом.
Жандарм А.И. Спиридович в связи с этим писал: «Так или ина-
че, но из-за чего же шли в сотрудники деятели различных револю-
ционных организаций? Чаще всего, конечно, из-за денег. Получать
несколько десятков рублей в месяц за сообщение два раза в неделю
каких-либо сведений о своей организации — дело нетрудное... если
совесть позволяет. А у многих ли партийных деятелей она была в по-
рядке, если тактика партии позволяла им и убийства, и грабеж, и вся-
кие* другие, менее сильные, но не этичные приемы?»11
Комментируя репутацию «великого практика» Азефа, Троцкий —
профессионал революции — писал в 1911 г.: «А главный, если не един-
ственный практический талант его состоял в том, что он не попадался
в руки политической полиции. Это преимущество принадлежало не
его личности, а его профессии...»12
Кстати, не исключено, что Азеф нащупал свой оригинальный ме-
тод «на заре туманной юности» — в 1890-х гг. По словам его жены,
«Азеф говорил ей, что думает работать в революции, “но что когда он
будет работать, то он будет делать все не так, как делают теперешние
революционеры”. Азефу не нравились существовавшие тогда “об-
трепанные” революционеры, как он выражался; кроме того, он всег-
да мечтал играть крупную роль в радикальном движении. Л.Г. Азеф
свидетельствовала о политическом направлении мысли Азефа: “Он
всегда говорил, что верит исключительно в террор, и только террор
все сделает, и бомбы — это самое главное”»13.
Интереснейший документ, позволяющий реконструировать тех-
нологию террора «по Азефу», — самое длинное из его поздних пи-
229
сем: составленное по-немецки 7 февраля 1916 г., оно обращено в
полицайпрезидиум Берлина34. Это пространное автобиографическое
эссе должно быть, с учетом предполагаемых ожиданий полицейско-
го адресата, доказать, что Азеф пребывает в заключении совершен-
но безо всяких оснований. Цель предполагает решение трех задач, а
именно объяснить, что
1) эсеры и анархисты — это далеко не одно и то же;
2) в качестве члена ЦК эсеров он, Азеф, не занимался разруши-
тельной революционной деятельностью;
3) вопреки реноме террориста, «не принимал участие ни в каких
аттентатах, ни прямого, ни косвенного».
Изложение первого тезиса оборачивается кратким очерком идей-
ной программы эсеров:
Что русская социал-революционная партия не есть анархистская,
следует:
а) из ее программы. Официальная программа была в партийной
литературе объяснена и в 1904 году предложена Международному
социалистическому конгрессу в Амстердаме: она существует по-
французски и, как мне кажется, также на немецком языке.
Согласно программе, террор должен оцениваться только как
часть общей деятельность партии, только как временное средство
борьбы против господствующего в России, построенного на насилии
абсолютизма. Но как только абсолютизм уступит место другой по-
литической системе, созданной на правовой основе, террор как неце-
лесообразное средство борьбы должен быть ликвидирован. И партия
обратится исключительно к социалистической деятельности, кото-
рая есть распространение социалистических идей среди рабочих и
среди крестьян, составляющих в России 80 % населения. И действи-
тельно, когда была созвана Первая Государственная дума, партия в
манифесте заявила о прекращении террора и снова обратилась к нему
после роспуска, когда насилие снова взяло верх. При собрании Второй
Государственной думы в 1907 году Центральный комитет снова за-
явил о прекращении террора. Вторая Дума была также правитель-
ством через краткий промежуток времени распущена. Тогда партия
снова возобновила террор;
б) из того обстоятельства, что русская социал-революционная
партия была представлена на международных социалистических
конгрессах. В мое время — на Амстердамском 1904 года и Штутгарт-
ском 1907 года. Этот факт один достаточно свидетельствует о том,
что эта партия не есть анархистская. Известно, что анархистские
организации не допускались на международные социалистические
конгрессы. Притом значительнейшие вожди социализма всех стран
высказывались за чисто социалистический характер русской социал-
230
революционной партии, сколь и за допустимость террора как поли-
тического средства борьбы в России при существующем там порядке.
Итак, моя принадлежность к русской социал-революционной
партии — даже если бы она была обусловлена чисто политиче-
скими убеждениями, а не информационными целями — не ставит
на мне клеймо анархиста (выделено автором. — М.О., Д.Ф.).
Азеф озаботился проблемой различения анархистов и террори-
стов по той причине, что для Германии кайзера Вильгельма II анар-
хисты представлялись экстремистской группой, крайне опасной для
государства, а привычные социалисты, на близость к которым эсеров
«нажимает» автор письма, — оппозиционной, но лояльной прави-
тельству и вполне солидной партией.
Однако, решая собственную задачу, Азеф не слишком кривил ду-
шой: русским революционерам было свойственно противопоставлять
себя анархистам. Еще образцовый А.И. Желябов на суде деклариро-
вал: «Мы не анархисты»3’. Ведь европейские правительства, готовые
поддерживать народовольцев — «противников деспотизма» — не
стали бы терпеть анархистов; из двух зол выбирали меньшее. Да и в
России общество приветствовало террористов — борцов за свободу
Отечества, одновременно настороженно воспринимая анархистов,
подозреваемых в тесных связях с интернациональными центрами36.
Аналогично Савинков вспоминает, что убийца великого князя
Сергея Александровича И.П. Каляев говорил: «Но почему именно мы,
партия социалистов-революционеров, т. е. партия террора — должны
бросить камнем в итальянских и французских анархистов?»37 Ясно,
что подобные тирады мог себе позволить только импульсивный Ка-
ляев: он же почти военную тайну выдавал и рисковал эпатировать
общество.
Отстаивая второй тезис, Азеф повторяет, что, будучи членом
эсеровского ЦК, он занимался исключительно расстройством тер-
рористических замыслов и ссылается при этом на весомый автори-
тет покойного премьера Столыпина — на его речь 11 февраля 1909 г.
Подытоживая рассуждения, автор письма снова графически выде-
лил вывод:
Итак, моя принадлежность к Центральному комитету пар-
тии не может рассматриваться с точки зрения государства как
преступная деятельность.
Доказательству третьего тезиса — самого сомнительного и важ-
нейшего — уделено наибольшее внимание.
Настаивая на своей абсолютной непричастности к убийствам
Плеве, великого князя и т. п., Азеф предпринимает обстоятельные
экскурсы в недавнее прошлое, мастерски выстраивает казуальные
схемы, изворачивается. И вдруг он с удивительной отчетливостью
формулирует свою технологию террора:
231
Если бы я действительно осуществил столь важные аттента-
ты, то мог бы это сделать только из революционных убеждений, и
подобные террористические акты были бы так высоко оценены рево-
люционерами, что у меня не было бы никакой надобности бежать от
революционеров. Мне было бы достаточно объяснить, что я действи-
тельно вступил в сношения с политической полицией, однако лишь для
того, чтобы ввести ее в заблуждение, чтобы легче революционные пла-
ны — такие важные террористические акции — реализовать. Я был
бы не презираем революционерами, но чествуем, как оно часто в по-
добных случаях бывало.
Как нетрудно понять, Азеф трансформировал с учетом полицей-
ского адресата свои принципы, прибегнув к сослагательному моду-
су (по модели «я не совершал терактов, но если бы совершил, хотя,
разумеется, не совершал»). При этом изложение прозрачно и, по-
хоже, вполне адекватно действительности. По крайней мере, нечто
подобное он в 1909 г. писал жене-революционерке, хотя в другом,
разумеется, контексте, стремясь защитить перед ней — партийным
функционером, уполномоченным от ЦК в Париже — свой имидж
истинного революционера: «Никто не хочет верить мне, что я мно-
гие годы работал и жил только революцией, что я очищал себя от
позора моей работой, что я все еще считал недостаточным, чтобы
придти и сказать — вот мой позор, вот что я сделал для своего очи-
щения. Судите, на какой стороне перевес. Я хотел довести до конца
дело, как это ни трудно было. Мне казалось, что без меня не доведут
до конца» ’8.
Равным образом, сходную концепцию и в сходных «весовых» тер-
минах Азеф защищал в разговоре с Бурцевым через несколько лет
после их фатального конфликта: «Держа маленькие ладони своих
рук, как чаши весов, он перечислял то, что дает перевес делу рево-
люции, и этому противопоставлял то из содеянного им, что выгодно
было полиции. “Ну, вы сравните сами, — убеждающим голосом гово-
рил он. — Что я сделал? Организовал убийство Плеве, убийство вел.
кн. Сергея...”, — и с каждым новым именем его правая рука опуска-
лась все ниже и ниже, как чаша весов, на которую падают грузные
гири... “А что я дал им? Выдал Слетова, Ломова, ну еще Веденяпи-
на...” — и, называя эти имена, он не спускал, а, наоборот, вздергивал
кверху свою левую руку, наглядно иллюстрируя все ничтожество по-
лученного полицией по сравнению с тем, что имела от его деятель-
ности революция»’9.
Очевидно, что во всех трех источниках — при «незначительных»
фактических расхождениях вроде «убивал»-«не убивал» и при раз-
нице модусов повествования — Азеф формулирует основы одного и
того же управленческого метода: эффективный террор невозможен
232
без сотрудничества с полицией, и ответственное революционное на-
чальство это бесспорно осознает. Видимо, во втором и третьем слу-
чаях он откровеннее в указании истинной цели своей деятельности,
а в первом по причине «маскирующей» сослагательности в описании
технологии.
Кроме того, Азеф в берлинском письме оснащает теорию ссылками
на прецеденты, тем самым подключая революционную мифологию —
синтез рациональных построений и идеологем вообще характерен
для поэтики террора (ср. в текстах революционных идеологов разно-
го времени аллюзии на события и героев Античности, Французской
революции, Рисорджименто и т. п.1Н).
Аргументируя готовность революционеров все понять и все про-
стить «двойному» агенту при условии удачности проводимых им
операций Азеф пишет:
Например, с Клеточниковым и с Мортимером (Рыссом). - Идея
вступить на полицейскую службу с целью обмануть полицию и тем
послужить революции не нова и не редка.
Первое имя — образцовая идеологема: Н.В. Клеточников (1846—
1883) — агент Исполнительного комитете «Народной воли», который,
служа в полиции, занимался революционной контрразведкой, выяв-
ляя и передавая подпольщикам правительственных осведомителей.
А Мортимер (С.Я. Рысс: 1876-1908) — видный эсер-максималист,
член Исполкома петербургской БО максималистов — работал то
на партию, то на охранку, в итоге повешен по приговору военно-
полевого суда. Согласно мемуарным свидетельствам, в ^Ростове они
с-Азефом учились в одном реальном училище и были знакомы; Мор-
тимер в 1906 г. благодаря собственным полицейским контактам рас-
крыл бывшего школьного товарища и пытался сообщить эсерам о его
«двойничестве», но те, как и на многие другие сигналы о провокации
Азефа, не реагировали41:
Подходя к именам, названным Азефом, не с точки зрения фактов,
а в аспекте поэтики террора, можно заключить, что Клеточников —
идеальный код и оправдание одновременной работы на революцию
и полицию, а Мортимер — доказательство «типичности» приемов
автора письма. Знаменательно, что П.А. Кропоткин — ветеран осво-
бодительного движения и участник товарищеского судебного разби-
рательства дела Азефа и Бурцева — писал Бурцеву: «Между прочим
меня мучит один вопрос: знали ли Чернов и Натансон о том, что Азеф
состоит в полиции, и смотрели на него как на своего рода Клеточни-
кова или нет?»42
Создавая картину «истинного» положения вещей и собственной
«чистоты» перед законом, Азеф вынужден опровергать, мягко говоря,
распространенные слухи, свидетельствующие об обратном. И здесь,
233
не ограничиваясь перетолкованием фактов, он обобщает принципы
информационной борьбы, взятые на вооружение революционерами:
Наличие сотрудников полиции в революционной организации обык-
новенно отрицается вождями этой организации, потому что, по мне-
нию большинства революционеров, это оказывает деморализующее
действие на самих революционеров и, главное дело, на симпатизирую-
щие революции круги общественности, которые поставляют револю-
ционерам деньги и приверженцев. Эти круги начнут опасливо избегать
такой организации и распространять позорнейшие слухи о ток, что
эта организация состоит из шпиков, полицейских агентов и т. п. По-
ложение, при котором полицейский агент проник в организацию, рас-
сматривается как величайший позор для организации. И чем выше
организация и чем больше влияние полицейского сотрудника в орга-
низации, тем больше позор и деморализующее действие. Вожди такой
организации стремятся сделать вид, что им эта печальная ситуация
неведома, и стремятся выбраться из столь болезненной ситуации в
тишине, во мраке, без особой публичности. Этим также объясняется
то, что Центральный комитет о моей связи с полицией в течение дли-
тельного времени не хотел слышать и не предпринимал никакого рас-
следования. Расследование проводил Бурцев, который находился вне
организации и опирался на поддержку оппозиционной Центральному
комитету парижской группы.
Действительно, с одной стороны, партийная номенклатура настоль-
ко упорно вопреки тревожной информации поддерживала «своего»,
что, как уже упоминалось, Кропоткин допускал мысль о причастности
Чернова и Натансона к планам Азефа, а с другой — «разоблачителя»
Бурцева поддерживали именно эсеровские маргиналы, заинтересован-
ные в компрометации ЦК. Под «парижской группой» Азеф подразу-
мевал мало известную группу «Инициативного меньшинства» Янкеля
Юделевича и Валериана Агафонова, издававшую газету «Революци-
онная мысль», где выдвигались требования активизировать и рефор-
мировать террор, а кроме того, группа критиковала эсеровский Центр
и поддерживала тех, кто подозревал «генерала БО»И. Именно членов
Группы инициативного меньшинства подозревают в похищении до-
чери А.А. Лопухина, что заставило бывшего директора Департамента
полиции неожиданно помочь Бурцеву «открыть» Азефа'1'.
Другими словами, отношение к Азефу, по его справедливому за-
мечанию, диктовалось внутрипартийными склоками: руководство —
«за», недовольные руководством — «против», а истина здесь вообще
ни при чем.
В связи с этим Азеф писал:
В случае, если подобное дело невозможно скрыть, революционеры
предпринимают маневр — выставить это дело как полицейскую про-
234
вокацию. Когда убийство или другое преступление приписывается
агентам правительства и правительство само обвиняется в престу-
плении, этим достигается следующее:
1) внимание общества и симпатизирующего революции круга пере-
носится от революционеров на якобы преступную деятельность пра-
вительства,
2) благодаря обвинениям правительства в позорнейших престу-
плениях позор революционеров забывается, а правительство компро-
метируется — так, во всяком случае, думают революционеры — что и
есть основная цель их деятельности. Как бывший член революционной
организации я знаю, что революционеры на случай ареста получают
инструкцию не делать никаких официальных заявлений, а если в про-
цессе допроса станет ясно, что в организацию внедрен полицейский
агент, то необходимо сваливать все на агента и объяснять, что поли -
цейский агент все затеял, они же, революционеры, были в преступные
действия только вовлечены.
Это собственно и есть комментарий «посвященного» к пропаган-
дистским схваткам вокруг терминов «осведомитель» и «провокатор»,
о которых шла речь и которые реализовывали любимый прием тео-
ретиков революции: тираноборчество — ответ на тиранию; народный
террор — ответ на правительственный террор; преступления револю-
ционеров — преступления полиции1’.
Итак, берлинское письмо Азефа достойно войти в «золотую би-
блиотеку» революции: здесь с завидной четкостью обоснован «путь
Клеточникова» — необходимость тактического сотрудничества с се-
кретными службами тех руководителей индивидуального террора,
I которые принимают на себя ответственность за эффективность до-
стижения стратегических целей. Азеф в данном отношении не был
уникальным деятелем, а скорее, первым среди равных: еще до его ра-
зоблачения в 1906 г. одновременно с максималистом Мортимером-
Рыссом начал игру с полицией анархист Д.Г. Богров, который в
1911 г. застрелит Столыпина16. Аналогично эсер А.А. Петров в
1909 г. убил начальника петербургского охранного отделения17. Ну
а социал-демократ Р.В. Малиновский с 1910 г. — осведомитель, в
1912-1914 гг. возглавлял большевистскую фракцию в IV Государ-
; ственной думе18 и т. п.
Как результат, в правительстве, в Министерстве внутренних дел
(а не у террористов) устанавливается подозрительное отношение к
системе осведомительства: по словам Прайсмана, «Февральскую
революцию Департамент полиции встретил практически без вну-
тренней секретной агентуры. Может быть, это одно из главных по-
следствий дела Азефа?»19.
235
3
Берлинское письмо подписано «Евгений Азеф, инженер». Этот
нюанс приобретает особое значение, если снова обратиться к книге
Гуля:
— Вы инженер, ЕвноАзеф?
— Да, — сказал Азеф и поморщился: ему было неприятно, что Лопу-
хин назвал его по фамилии, и тот легчайший оттенок антисемитиз-
ма, который показался ему в слове «Евно»м.
Действительно, согласно метрике, Азеф именовался Евно, од-
нако подобно многим ассимилированным евреям, он предпочитал
«европеизированный» вариант имени и отчества: Евгений Филип-
пович. Так он подписывался, так называет Азефа эсеровский ЦК в
официальном документе, где «инженер Евгений Филиппович Азеф,
38 лет (партийные клички: “Толстый”, “Иван Николаевич", “Вален-
тин Кузмич”), состоявший членом партии с.-р. с самого основания,
неоднократно избиравшийся в центральные учреждения партии, со-
стоявший членом “боевой организации” и ЦК, уличен в сношениях с
русской политической полицией и объявляется провокатором» ’1.
Показателен, кстати, своего рода гибрид, использованный в статье
Троцкого: «Евно Филиппович». Похоже, социал-демократ Троцкий
просто не знал, как зовут эсеровского лидера.
А вот практика, установившаяся в советских нормативных издани-
ях, представляется не столь элементарной. Дело в том, что Большая
советская энциклопедия (и зависящие от нее справочники вплоть до
энциклопедии 1996 г. «Политические партии России. Конец XIX —
первая треть XX века») называет Азефа «Евно Фишелевич». Казалось
бы, ничего странного, официальная энциклопедия руководствуется
официальным документом, метрикой, но оказывается, что, например,
Гершуни в энциклопедии — «Григорий Андреевич» (и только в скоб-
ках — «Герш Ицкович»):
Значит, с одной стороны, еврей-Азеф, совершив «героический»
акт убийства Плеве, чествуем как русский: «Сама “бабушка” русской
революции (Е.К. Брешко-Брешковская. — М.О., Д.Ф.), ругавшая его
за глаза “жидовской мордой”, поклонилась ему по-русски до земли»’’2.
А с другой — на языке ономастики получается, что «пламенный рево-
люционер» — русский, «провокатор» же — еврей.
И впрямь: в «деле Азефа» антисемиты получили поразительный
подарок — еврея в роли отвратительнейшего, весь мира шокировав-
шего монстра. К примеру, знаменитая оккультистка А.Р. Минцлова
писала о «вопросе», который «является коренным сейчас в русской
жизни (Азеф — еврей)»’3.
236
Для мифологии «великого провокатора» знаменательно и то, что
современный исследователь, напротив того, стремился объяснить
разоблачение Азефа согласованной акцией масонов (А.А. Орлов-
Давыдов, С.Д. Урусов, Н.А. Морозов), которую курировал масон,
чиновник российского правительства, библиофил, еврейский обще-
ственный деятель А.И. Браудо’1 2 3 * * 6 * * 9 * 11 * 13.
Несмотря на поддержку энциклопедических изданий, концепция
Азефа как еврейского злодея, мягко говоря, сомнительна. И дело не в
том, хорошие евреи или плохие: Азеф явно представляет собой пре-
жде всего исторический тип революционера, террориста, а это тип не
тождествен типу ассимилированного еврея, это с методологической
точки зрения интернациональный тип.
1 Гуль Р. Азеф. М„ 1991. С. 29.
2 Савинков Б.В. Воспоминания. М., 1990. С. 32.
3 Гуль Р. Указ. соч. С. 34-35.
’ Там же.
’ Там же.
6 См.: Лонге Ж., Зильбер Г. Террористы и охранка. М„ 1991. С. 47.
' Прайсман Л.Г. Террористы и революционеры, охранники и провокато-
ры. М., 2001. С. 9.
14 Цит. по: Городницкий Р.А. Боевая организация партии социалистов-
революционеров в 1901-1911 гг. М., 1998. С. 174.
9 См., папр.: Рууд Ч., Степанов С. Фонтанка. 16. М„ 1993. С. 176.
111 Цит. по: Прайсман Л.Г. Указ. соч. С. 68.
" Письма Азефа: 1893-1917/сост. Д.Б. Павлов, З.И. Перегудов. М., 1994.
С. 176.
12 Николаевский Б.И. История одного предателя: Террористы и полити-
ческая полиция. М., 1991. С. 282.
13 Там же. С. 316.
11 Гуль Р. Указ. соч. С. 64-65.
Ратаев Л.А. История предательства Евно Азефа // Провокатор: Вос-
поминания и документы о разоблачении Азефа. Л., 1929. С. 152-153.
19 Николаевский Б.И. Указ. соч. С. 77.
17 Прайсман Л.Г. Указ. соч. С. 69-70.
13 Письма Азефа. С. 169.
19 Прайсман Л.Г. Указ. соч. С. 70-74.
2,1 Лонге Ж., Зильбер Г. Террористы и охранка. М., 1991. С. 155-157.
21 См., папр.: Прайсман Л.Г. Указ. соч. С. 67.
22 Письма Азефа. С. 156-157.
23 Там же. С. 158.
1 • 24 Лонге Ж., Зильбер Г. Указ. соч. С. 15-16.
23 Письма Азефа. С. 157.
237
26 Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия..: Поли. собр. речей в Го-
сударственной думе и Государственном совете: 1906 1911. М., 1991. С. 188-
206; эта версия поддержана современным американским историком: Гейф-
ман А. Три легенды вокруг «дела Азефа» // Николаевский Б.И. Указ соч.
С. 330-361.
27 Троцкий Л.Д. Таракан во щах // Возвращенная публицистика: в 2 кп.
Кн. 1:1900-1917. М„ 1991. С. 292.
2Я Булгаков С. Н. Русская трагедия // О Достоевском: Творчество Досто-
евского в русской мысли. М., 1990. ,
29 См.: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора: А. Пушкин,
Ф. Достоевский, А. Белый, Б. Савинков // ОНС: Общественные науки и со-
временность. 1992. № 2. С. 89-93; Одесский М.П., Фельдман Д.М. Пламен-
ные революционеры - 4: Самый верный предатель // Независимая газета.
1992. 19 сентября; Одесский М.П., Фельдман Д.М. Азеф — двойной агент //
Освободительное движение в России: Межвузовский сб. научных трудов.
Саратов, 2001. С. 154-159, в последнем случае, к сожалению, была опублико-
вана неправленая запись устного выступления.
1,1 Розанов В.В. Почему Азеф-провокатор не был узнан революционера-
ми? // Розанов В.В. Черный огонь. Париж, 1991. С. 41.
Спиридович А.И.-Записки жандарма. М., 1991. С. 193-194.
“Троцкий Л. Политические силуэты. М., 1990. С. 105-106.
33 Городницкий Р.А. Указ. соч. С. 157.
31 Письма Азефа. С. 189-217.
з;’ «Народная воля» в документах и воспоминаниях. М., 1930. С. 51.
3(1 Ср.: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора и новая адми-
нистративная ментальность: Очерки истории формирования. М., 1997.
С. 178-179.
37 Савинков Б.В. Указ. соч. С. 77.
33 Письма Азефа. С. 175-176.
39 Цит. по: Николаевский Б.И. Указ. соч. С. 309.
Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора и новая администра-
тивная ментальность. С. 183-203.
” См. подробнее: Прайсман Л.Г. Указ. соч. С. 8-10, 222-228.
12 Цит. по кн.: Прайсман Л.Г. Указ. соч. С. 381.
” Спиридович А.И. Партия социалистов-революционеров и ее предше-
ственники: 1886-1916. Пг., 1918. С. 443-444.
11 См., напр: Гейфман А. Указ. соч. С. 349; ср. развернутую критику кон-
цепции «похищения»: Прайсман Л.Г. Указ. соч. С. 338-345.
Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора и новая администра-
тивная ментальность. С. 186-188.
10 Убийство Столыпина: Свидетельства и документы / сост. А. Серебрен-
ников. Рига, 1990.
17 См. подробнее: Морозов К.Н. Боевая организация партии социалистов-
революционеров в 1909 г. и загадки «дела Петрова» // Индивидуальный по-
238
литический террор в России: XIX — начало XX в. М., 1996; Городницкий Р.А.
Указ. соч. С. 203-216.
48 См.: Дело провокатора Малиновского. М., 1992; ср. рецензию М.П. Одес-
ского //Литературное обозрение. 1993. № 1/2. С. 80.
19 Прайсман Л.Г. Указ. соч. С. 403.
50 Гуль Р. Указ. соч. С. 81.
Цит. по: Дейч Л.Г. Провокаторы и террористы. Тула, 1927. С. 100.
52 Спиридович А.И. Записки жандарма. С. 158.
,3 Цит. по: Безродный М. О «юдобоязни» Андрея Белого // Новое лите-
ратурное обозрение. 1997. № 28. С. 109.
54 Городницкий Р.А. Указ. соч. С. 148-153; см. критику этой гипотезы:
Прайсман Л.Г. Указ. соч. С. 332-334.
ИДЕОЛОГЕМА «ПАТРИОТ» В РУССКОЙ,
СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ
4
Слово «патриот» весьма часто употребляют в современных рос-
сийских политических дискуссиях. Для одних оно своего рода лозунг
на знамени, другие же используют его в качестве отрицательной ха-
рактеристики оппонентов.
Истолкования полярны. В одних случаях патриот — жертвующий
или готовый жертвовать своими интересами ради интересов отече-
ства. Соответственно, в других случаях патриотами именуют лицеме-
ров, заботу о собственной выгоде маскирующих заботой об интересах
отечества, борьбой с некими врагами. Нет нужды спорить о том, что
считать правильным или неправильным. Интереснее другое: почему
слово «патриот», казалось бы, не подразумевавшее негативной эмо-
циональной окраски, такую окраску все же обрело.
Патриоты и верноподданные
В новых европейских языках слово патриот понималось изначаль-
но как соотечественник, земляк. Здесь очевидна связь с «внутренней
формой» слова, его очевидным значением, соотносимым с подразуме-
ваемым носителями языка происхождением: ведь латинское patria —
«отечество», «земля отцов». Позже в ряде контекстов патриоты — те,
кто заботятся о благе отечества и считают это важнейшей целью. Та-
кой вариант словоупотребления стал наиболее распространенным,
соотносился с контекстом античной культуры, традицией «воспита-
ния любви к отечеству», «гражданских добродетелей». Для обозначе-
ния же понятий «земляк», «соотечественник» начало использоваться
другое слово — компатриот.
Примечательно, что слово патриот употреблялось поначалу до-
вольно редко. Обусловливалось это спецификой представлений о го-
сударстве и месте в нем человека, о его отношениях с государством.
В сословном государстве, где права и обязанности каждого опреде-
ляются прежде всего правами его сословия, вопрос о деятельном
выражении любви к отечеству, т. е. к отечеству в целом, а значит, и
к обществу в целом, был не из актуальных. Там важнейшие полити-
240
ческие характеристики — «верный слуга монарха», «верноподдан-
ный». Богом данный монарх — олицетворение государства. Понятия
«отечество» и «государство» в сословном государстве признаются
тождественными, преданность законному монарху тождественна
преданности отечеству. Соответственно, нет особой нужды в тер-
мине, подразумевающем заботу о благе отечества, т. е. и общества в
целом, без учета сословных границ.
Заметно меняется ситуация к XVII в., а в следующем веке акту-
ально уже противопоставление интересов носителя власти интере-
сам отечества. К примеру, политический климат Великобритании
1730-х гг. определялся борьбой так называемых придворных и па-
триотов. Лидеры парламентской оппозиции именовали себя патрио-
тами, а придворными — своих противников, которых возглавлял
премьер-министр, пользовавшийся поддержкой королевской четы.
Таким образом, лидеры парламентской оппозиции подчеркивали,
что защищают интересы общества в целом, т. е. интересы отечества,
тогда как премьер-министр и его сторонники защищают интересы
короля. Акцентировалось, что патриот ставит долг перед отечеством
выше долга верноподданного. Отсюда недалеко и до окончательного
противопоставления верноподданных патриотам.
Просветительской идеологией постулировалось безусловно по-
ложительное отношение к слову «патриот». Это было определено
аксиоматически признаваемой возможностью противопоставления
интересов отечества интересам монарха, т. е. властителя, не контро-
лируемого обществом.
Такое противопоставление характерно и для идеологов американ-
ской революции. Новый Свет они провозгласили истинным отече-
ством колонистов, следовательно, интересы отечества тождественны
интересам общества колонистов, поэтому и власть метрополии, власть
английского короля, не контролируемая колонистами, была объявле-
на «тиранической». Соответственно, патриотами именовались вос-
ставшие против «тиранической» власти. Т. Джефферсон выразил эту
идею лаконично и с присущей ему полемической агрессией: «Древо
свободы должно время от времени освежаться кровью патриотов и
тиранов»1.
Лидеры колонистов провозгласили своей целью создание ново-
го государства, устроенного в отличие от монархии справедливо,
государства равноправных, государства, охраняющего права каждо-
го гражданина. С момента его создания интересы общества в целом
надлежало считать тождественными интересам государства, благода-
ря чему снималась и сама возможность противопоставления интере-
сов носителей власти — интересам общества в целом, т. е. интересам
отечества.
241
Лидеры Великой французской революции заимствовали амери-
канский опыт. Потому на исходе XVIII в. слово «патриот» ассоции-
ровалось с лозунгами Великой французской революции, что опять
же подразумевало противопоставление интересов отечества интере-
сам монарха.
Это противопоставление особенно актуально в период войны
Франции с коалицией европейских монархов. Хрестоматийно из-
вестным стал тогда лозунг «Отечество в опасности!». И в 1/92 г. был
сформирован даже парижский батальон «патриотов 1789 года». Ука-
занием даты в названии войсковой части подчеркивалось, что речь
идет не просто о любви к отечеству, но о верности идеалам револю-
ции, преобразившей отечество.
В подобного рода контекстах патриот всегда противопоставлен
верноподданному.
Русский иностранный
В России Петра I слово «патриот» обиходным не было. И даже в
царствование Екатерины II оно еще не стало таковым. Тогда его упо-
требляли лишь представители интеллектуальной элиты, конечно же,
знакомые с просветительской идеологией, прежде всего сама Екате-
рина II. Рассуждая о событиях, связанных с отстранением Петра III
от власти, она называла патриотами своих сторонников, противопо-
ставляя их монарху, пренебрегавшему интересами отечества.
Аналогично и русский дипломат Ф. Куракин, характеризуя полити-
ческую ситуацию в Швеции, писал: «Угнетенная вольность и обманом
введенная самодержавная власть занимают еще шведов, находят место
в их рассуждениях и от того довольно основательную подают надежду
со временем число и предприимчивость благонамеренных патриотов к
разрушению настоящей королевской власти умножить»2.
Впоследствии для Екатерины II, да и для Куракина, слово «патри-
от» уже не было положительно окрашенным, что обусловливалось
результатами использования просветительской идеологии в эпоху
Великой французской революции. Эскалация насилия и якобинский
террор ужаснули многих русских интеллектуалов, воспринявших
просветительскую идеологию, в частности А. Радищева. И все же для
Радищева слово «патриот» осталось положительно окрашенным. В
«Беседе о том, что есть сын отечества» Радищев рассуждал о «вели-
чественном наименовании “сына отечества” (патриота)...». Кстати, он
еще подчеркивал, что «под игом рабства находящиеся не достойны
украшаться сим именем»
Примечательно, что для Радищева на исходе 1789 г. слово «патри-
от» — иностранное, нуждающееся в пояснении как еще не вошедшее в
242
обиход, понятное немногим. Зато в царствование Павла I использова-
ние данного слова регламентировалось из-за предсказуемых ассоциа-
ций с якобинизмом. Тут опять подразумевалась оппозиция терминов
«патриот/верноподданный».
В начале царствования Александра I использование слова «па-
триот» было тоже маркированным поступком, но по другой причи-
не. Воспринимаемое в качестве галлицизма, оно ассоциировалось
прежде всего с полемикой о принципах реформирования литера-
турного языка, отстаиваемых Н. Карамзиным и его сторонниками.
Как известно, карамзинисты в отличие от сторонников А. Шишкова
полагали возможным и уместным использование в русской устной
и письменной речи терминов заимствованных, но не имеющих рус-
ских аналогов. Например, В. Измайлов, один из самых известных
тогда карамзинистов, издавал в 1804 г. журнал «Патриот», где, ко
всему прочему, пропагандировалась все та же традиция «воспита-
ния любви к отечеству»1.
Войны с наполеоновской Францией вновь изменили ситуацию.
Характерно, что самый популярный русский журнал в 1812 г. — «Сын
Отечества». Его издатель Н. Греч объяснил позже, что это название
невольно подсказал ему погибший в сражении брат. По словам Греча,
накануне гибели брат отправил письмо, где сообщал, что если при-
дется умереть, то умрет он как «истинный сын отечества». Возможно,
причина такой и была, но возможно, что дело не только в цитате и
не в предсказуемых ассоциациях с журналом Измайлова. Греч, бу-
дучи издателем, ориентировался на конъюнктуру. Хотя традиция
* «воспитания любви к отечеству» считалась тогда актуальнейшей,
1 правительство стремилось минимизировать влияние либеральной
идеологии, поощряло любые проявления неприязни к противнику, а
потому слово «патриот» было не вполне уместно и как .заимствова-
ние из языка противника, и в качестве напоминания о лозунгах Вели-
' кой французской революции. Однако заграничные походы русской
армии еще более расширили круг тех, кто усвоил европейские идео-
логические установки.
У декабристов слово «патриот» было вполне обиходным, поэто-
му часто встречается в материалах следствия. Истолкование в целом
соответствует сложившейся традиции: патриот — защитник интере-
сов отечества, именно отечества в целом, а не только интересов мо-
нарха. Но были тут и свои нюансы. У декабристов слово «патриот»
относилось не столько к политическому, сколько к литературному
дискурсу. Полемику удобнее всего было вести в области литерату-
ры, подразумевая, конечно, реалии политические. Соответственно,
русскому патриоту надлежало способствовать сохранению и про-
паганде того, что тогда называли национальностью, а несколько
243
позже национальной самобытностью, народностью. Вот почему па-
триотами именовали себя прежде всего литераторы — К. Рылеев,
А. Бестужев, А. Одоевский. Кстати, им и в самом деле была близка
идея самобытности русской литературы, они отстаивали ее в печа-
ти, ну а вне печати монарху приписывалось игнорирование всего
русского, т. е. предательство интересов отечества ради интересов чу-
жеземных. Как известно, для солдат была написана Рылеевым и Бес-
тужевым агитационная песня: «Царь наш немец русский, / Мундир
носит прусский...»
Антирусские действия монарха не сводились к предпочтению все-
го иноземного. Монарх, по словам оппонентов, пренебрегал и защи-
той отечества: «Только за парады / Раздает награды...» Поощряя тех,
кто готовил войска не к боям, а к парадам, царь еще и преследовал
истинных защитников отечества, не позволял им служить отечеству:
«А за правду матку / Прямо шлет в Камчатку...»5
Русские патриоты в данном случае опять противопоставлялись
верноподданным. И тираноборческие коннотации опять станови-
лись уместными.
Верноподданные патриоты
Идеологи эпохи Николая I тоже не преминули воспользоваться
словом «патриот». В аспекте пропагандистской прагматики выбор
логичен. Традиция «воспитания любви к отечеству» была автори-
тетна, опирались же на нее те, в ком видели идейных противников
самодержавия. Противников следовало лишить опоры, изменив,
переосмыслив традицию. И слово патриот было переосмыслено, по-
лучило новое истолкование в официальном обиходе: патриот стал
верноподданным. Точнее, правом именоваться патриотом наделяется
лишь верноподданный, признающий монарха единственно возмож-
ным законным властителем, потому что только законный монарх и
может быть властителем богоданным. Соответственно, и самодержа-
вие для русского патриота — в официальном истолковании слова —
не просто лучший, а единственно возможный режим.
Новые идеологические установки были выражены в хрестоматий-
но известной «триаде», предложенной С. Уваровым в 1832 г.: «право-
славие, самодержавие, народность». Именно так, по словам Уварова,
и формировались «охранительные начала»6. Православие осмысля-
лось в качестве государственной религии, органически присущей
России, самодержавие надлежало считать единственно соответству-
ющим православию режимом, позволяющим сохранить пресловутую
народность, т. е. русскую самобытность; наконец, именно правосла-
вие и самодержавие надлежало считать выражением народности.
244
Русские патриоты в соответствии с официальными идеологи-
ческими установками — православные монархисты; основой же их
единства были и остаются единственно «истинная вера» и, конечно,
государь и государство как оплот этой веры. Ну а коль скоро рус-
ская вера — единственно «истинная вера», и русское государствен-
ное устройство идеально ей соответствует, все государственное
совершенно.
В силу этого официальной идеологией подразумевалось и
утверждалось аксиоматическое признание всего русского заведомо
лучшим по сравнению с иностранным. Расчет был прост и точен: с
одной стороны, величие и могущество державы воспринимались
как доказательства правильности существующего порядка, с дру-
гой — идея державного, этнического и конфессионального превос-
ходства обосновывала сознание собственной исключительности, что
должно было компенсировать интеллектуальную или социальную
дефицитарность.
Официальные идеологические установки вполне предсказуемо
стали объектом иронии многих русских интеллектуалов. К примеру,
П. Вяземский предложил русский аналог французского оборота «ла-
кейский патриотизм» — «квасной патриотизм»7.
Дело было не только в том, что подразумеваемое отстаивание пре-
имуществ русского кваса перед иностранными прохладительными
напитками забавно само по себе. Вяземского забавляла еще и свое-
го рода игра слов: сочетание русского прилагательного «квасной» с
очевидным галлицизмом «патриотизм». Таким образом, подчерки-
валось, что навязываемая синонимия понятий патриот и вернопод-
данный порождает комические ассоциации. Но довольно скоро это
сочетание уже не воспринималось столь комически.
Прежний контекст деактуализовался, слово «патриот» успело, что
называется, обрусеть и уже не выглядело чужеродным в официаль-
ной пропаганде. Вот почему к началу 1840-х гг. использование сло-
ва патриот нехарактерно для русской либеральной традиции. Было,
правда, исключение — ситуация защиты России от нападения врагов.
Однако и тут подчеркивалось, что речь идет о защите отечества, а не
интересов монархии. Например, М. Лермонтов, славивший героев
Бородина, разделял понятия «родина» («отечество», «отчизна») и
«государство». «Родина» соотносилась с русской природой, русской
культурой, «государство» же — «страна рабов, страна господ».
Противопоставление «истинной любви к отечеству» и «вернопод-
данности» сохранялось и позже, в годы царствования Александра II.
Характерно, что в предреформенные годы влияние официальной про-
паганды все более ощутимо, слова «патриот» и «верноподданный»
стали почти синонимами, при этом на уровне либеральной традиции
245
официальные пропагандистские установки постоянно высмеивались,
а потому и слово патриот вызывало комические ассоциации.
Например, в 1859 г. Малым театром была поставлена драма
А. Островского «Гроза», где о заведомом превосходстве всего русско-
го по сравнению с иностранным рассуждает невежественная странни-
ца Феклуша — персонаж бесспорно комический. На паломничество
как таковое Феклуша сил не тратит, признаваясь, что «по своей не-
мощи далеко не ходила, а слыхать — многое слыхала». Об услышан-
ном или выдуманном она и рассказывает столь же невежествённым
слушателям. По словам Феклуши, в тех странах плохо, где «нет царей
православных, а салтаны землей правят». Неправославные владыки,
конечно, беда для подданных, так как «что ни судят они, все непра-
ведно». И хотя для характеристики Феклуши драматург не исполь-
зовал слово «патриот», в 1860 г. Н. Добролюбов написал о «Грозе»
статью «Луч света в темном царстве», специально отметив, что «Фе-
клуша принадлежит к партии патриотической и в высшей степени
консервативной»8.
Популярный критик акцентировал таким образом, что не наме-
рен всерьез полемизировать с идеологами «квасного патриотизма».
Он их попросту вышутил.
Зеркало патриота
Над официальными идеологическими установками издевался и
М. Салтыков-Щедрин. В 1857-1859 гг. он опубликовал цикл очер-
ков «Невинные рассказы», вызвавший, как водится, цензурные на-
падки. Причин было достаточно. Например, кредо верноподданных,
сформулированное героем очерка «Наш дружеский хлам»: «Итак,
не корысть и не холодный эгоизм руководит нашими действиями
и побуждениями, а собственно, так сказать, патриотизм. Сей по-
следний в различных людях производит различные действия. Иных
побуждает он лезть на стену, иных стулья ломать... нас же побуж-
дает стоять смирно. Согласитесь, что и это своего рода действие!
Мы до такой степени любим наше Отечество в том виде, в каком
оно существовало и существует издревле (аи natural), что не смеем
даже вообразить себе, чтоб могли потребоваться в фигуре его какие-
нибудь изменения»9.
В 1872 г. было опубликовано щедринское сатирическое обозрение
«Дневник провинциала в Санкт-Петербурге», где вновь пародирова-
лись рассуждения верноподданных публицистов, именующих себя
патриотами. Некий отставной корнет Толстолобов, например, создал
проект, согласно которому следовало «населить поморье Ледовитого
океана людьми, оказавшимися, по испытании, неблагонадежными».
246
После чего, полагал автор проекта, утверждению официальной идео-
логии будет уже гораздо менее препятствий.
Этому автору не уступал в рвении отставной подполковник Сда-
точный, создавший проект с несколько эпатирующим заглавием —
«О переформировании де сиянс академий». Коль скоро, утверждал
щедринский герой, «принято, что без наук прожить невозможно, то и
нам приходится с сею мыслию примириться, дабы, в противном случае,
в наших военных предприятиях какого ущерба не претерпеть. Как ни
велико, впрочем, сие горе, но и оное можно малым сделать, ежели при
сем, смотря по обширности и величию нашего отечества, соблюдено
будет: первое, чтобы науки наши против всех прочих были превосход-
нее; и второе, чтобы оные подлинно распространяли свет, а не тьму»"’.
Решение первой задачи, по мнению щедринского героя, дости-
галось утверждением идеи превосходства всего русского даже и в
области науки, причем изначального превосходства. Если русское,
значит, превосходное. Вторая задача была несколько сложнее, по-
тому как требовалось умение определять, какие именно науки «под-
линно распространяли свет, а не тьму». Но и решение немедленно
предлагалось: «Дабы предотвратить в столь важном предмете всякие
разногласия, всего натуральнее было бы постановить, что только те
науки распространяют свет, кои способствуют выполнению началь-
ственных предписаний»11.
Поставленные задачи подразумевали вопрос о средствах, необхо-
димых для их решения. Ответ предлагался тут же: обе задачи реша-
лись «посредством заведения таких учреждений, которые имели бы в
предмете не распространение наук, а тщательное оных рассмотрение».
«Рассмотрением» верноподданный реформатор именовал оценку и в
аспекте утверждения превосходства всего русского, и с точки зрения
соответствия «начальственным предписаниям».
Императорская Академия наук, по мнению реформатора, была
для решения поставленных им задач непригодна: «Вместо того, что-
бы рассматривать науки, академия де сиянс отчасти распространяла
их, отчасти пребывала к ним равнодушной»12. Причины непригод-
ности Академии наук реформатор считал очевидными. Не хватало
там ревнителей официальной идеологии: «Члены де сиянс академии,
будучи в большей части из немцев, почитают для себя рассмотрение
наук за нестерпимое и несносное»11. Реформатор предлагал создать
новую «де сиянс академию», именно для пресловутого «рассмотре-
ния». Курировать научную деятельность надлежало патриотам, разу-
меется, патриотам в официально утверждаемом истолковании слова,
т. е. верноподданным.
Другой щедринский герой, отставной титулярный советник Фило-
вертов, предложил не менее действенный метод искоренения крамо-
лы. Заглавие поданного им проекта — «О необходимости оглушения
247
в смысле временного усыпления чувств». В данном случае «оглуше-
нием» именовалось состояние, в силу которого человек не мог бы
подвергнуть сомнению уместность «предписаний начальства», а с
другой стороны, получил бы возможности реализовать интеллекту-
альную активность согласно «предписаниям начальства».
Для решения такой двуединой задачи надлежало использовать
прежде всего меры цензурные. Правда, такие меры автор проекта
достаточными не считал; «Ежели я человека посредством искусно
скомбинированной системы воспрещений и сокрытий отвлек^ от
предметов, кои могут излишне пленять его любознательность или
давать его мыслям несвоевременный полет, то этим я уже довольно
много сделаю. Но “довольно” много еще не значит “все”. Человек,
лишенный средств питать свой ум, впадает в дремотное состояние,
но — и только. Самая дремота его будет ненадежна и при первом не-
чаянном послаблении системы сокрытий превратится в бдение, тем
более опасное, что благодаря временному оглушению последовало
сбережение и накопление умственных сил»’1. Дабы ничего подобного
не случилось, надлежало сбереженные «умственные силы» направить
на осмысление неких абстрактных проблем, к реальности отношения
не имеющих. В результате, как утверждал автор проекта, умы «будут
дремотствовать, но дремотствовать деятельно».
Стоит подчеркнуть еще раз, что щедринские персонажи ничего
принципиально нового не предлагали. В их проектах были всего лишь,
словно в зеркале, отражены, а затем доведены до логического завер-
шения тезисы, сформулированные правительственными идеологами,
верноподданными, рассуждавшими о воспитании «патриотизма».
Еще более жестко расставлялись акценты в радикальной социа-
листической традиции, где патриот — защитник режима, охраняю-
щего социальное неравенство. Уместно было использовать слово
«патриот», лишь противопоставляя «лакейству» «истинную любовь
к отечеству», т. е. защиту интересов отечества в целом, и прежде всего
«защиту угнетенных». Но такое истолкование слова патриот было в
России практически запретным. Официально утверждалась нераз-
дельность понятий «отечество» и «государство».
Интеллигенты и патриоты
В эпоху Александра III большинство интеллектуалов восприни-
мали официальный патриотизм враждебно. А к началу XX в. доволь-
но распространенным в периодике было противопоставление таких
понятий, как «интеллигент» и «патриоты».
Понятие «интеллигент», т. е. «понимающий», аксиоматически
подразумевало не только образованность, но и приверженность либе-
248
ральным ценностям. В данном случае это неприятие сословного нера-
венства и конфессиональной дискриминации, в Российской империи
законодательно установленных. Соответственно, интеллигенция —
обозначение внесословного единства оппозиционно настроенных
интеллектуалов. Возникновение понятия «интеллигенция» стало
возможным именно в силу осознания неестественности законода-
тельно утвержденной сословной, этнической и конфессиональной
дискриминации, т. е. неуместности самодержавия как деспотиче-
ского режима. Почему и оппозиционность такому режиму считалась
естественной.
Конечно, оппозиционность интеллигента не всегда была ради-
кальной, соотнесенной с агрессией, стремлением изменить россий-
скую действительность насильственно. А вот именовавшие себя
патриотами акцентировали именно агрессивность в стремлении вы-
разить пресловутую любовь к отечеству. Такова была, что называет-
ся, специфика жанра.
Официальный патриотизм использовался как орудие борьбы с
инакомыслием. Не случайно идеологию подобного рода иронически
называли казенным патриотизмом. В данном случае прилагательное
«казенный» указывало и на связь с официальными идеологически-
ми установками, и на источники финансирования. Этот патриотизм
субсидировался и поощрялся на уровне правительства. Потому ка-
зенным патриотам надлежало проявлять себя в борьбе за интересы
отечества. Значит, нужны были конкретные противники.
Найти таковых труда не составляло. Раз уж речь шла о защите
православия и самодержавия, противники нужны были конфессио-
нальные и политические. На роль первых годились прежде всего ев-
реи, как представители конфессии, официально дискриминируемой
в Российской империи. Политическими же противниками непре-
менно должны были стать все инакомыслящие. Само инакомыслие
в принципе объявлялось результатом иноземного и, конечно, ино-
конфессионального влияния. К врагам, соответственно, относилось и
либеральное студенчество. Вот почему патриотами называли в либе-
ральных кругах воинствующих ксенофобов, черносотенцев, погром-
щиков. Для них агрессивность в охране режима от инакомыслящих
непременно предполагала конкретные выгоды, непосредственно для
погромщиков — безнаказанность.
Погромные сообщества — конечно, профанный уровень казен-
ного патриотизма. Хотя бы минимальное образование подразумева-
ло более сложный уровень. Впрочем, основа идеологии следующего
уровня была все той же — заговор, руководимый иностранцами, за-
говор иноверцев, инородцев и т. п.
249
Русско-японская война способствовала утверждению такого от-
ношения к слову «патриот». Все поражения воспринимались как ре-
зультат бессилия монархии, нежизнеспособности самодержавия.
Примечательно, что в работах многих русских социалистов-
радикалов патриот — либо обманутый невежда, либо наглый лицемер,
ссылкой на «любовь к отечеству» маскирующий стремление грабить
и сохранять награбленное. Были, конечно, и другие истолкования
слова «патриот», но такие исключения — редкость. В либеральной
периодике патриот стал карикатурным персонажем: это уверенный
в своей безнаказанности пьяный лавочник, который, потрясая хоруг-
вью или портретом императора, призывает «бить жидов и студентов»,
дабы «спасать Россию».
Очередной раз ситуация изменилась в годы Первой мировой
войны. Тогда понятия «интеллигент» и «патриот» уже не противо-
поставлялись аксиоматически. Слово «патриот» ассоциировалось
именно с военным противостоянием, защитой отечества, но своего
рода инерция негативного отношения к нему еще долго ощущалась.
Pro et contra
В советском государстве слово «патриот» обиходным стало дале-
ко не сразу, что, конечно, обусловливалось и либеральной традицией,
и марксистскими установками. Зато противники советского режима
сразу объявили себя русскими патриотами. В данном случае «борь-
ба с большевистским режимом» осмыслялась как «патриотический
долг», защита отечества. Характерно, что защита монарха, восстанов-
ление монархии не осмыслялись как «патриотический долг» пода-
вляющим большинством противников советского режима. Наиболее
популярными лозунгами противников советского режима были «за-
щита Учредительного собрания» и «защита единой и неделимой Рос-
сии». Советский режим и самодержавие даже отождествлялись как
режимы тиранические, что и выражал неологизм «комиссародержа-
вие», весьма частотный в периодике, издававшейся на территориях,
не контролируемых советским правительством.
Все это, конечно, не помешало советским пропагандистам исполь-
зовать инерцию прежнего, довоенного отношения к слову «патриот».
Осмеивание патриотов, защищающих «царя, помещиков и капита-
листов», было в начале Гражданской войны важным элементом со-
ветской пропаганды. Противникам советского режима непременно
приписывалось стремление реставрировать монархию, восстановить
«старый режим». Однако и советское правительство использовало
лозунги, контекстуально связанные со словом «патриот», причем
250
с обязательной ссылкой на иностранное вмешательство, интервен-
цию. Наиболее популярный лозунг 1918 г. — «Социалистическое
отечество в опасности!».
Стоит еще раз подчеркнуть: советские идеологи обратились к
хрестоматийно известному примеру. Лозунг эпохи Великой фран-
цузской революции, патриотический лозунг, был лишь несколько
изменен. В отличие от граждан Французской республики гражданам
советского государства надлежало защитить не просто отечество, но
«социалистическое отечество».
Была тут и неочевидная пропагандистская уловка. Обновлен-
ный лозунг оказался, что называется, двунаправленным. С одной
стороны, акцентировалась необходимость защитить так называе-
мые завоевания революции, т. е. ликвидацию сословий, уравнение
в правах и т. п. А с другой стороны, речь шла все же о защите отече-
ства, русских призывали защитить Россию от иностранных войск,
так что имелось в виду именно патриотическое служение. В этом
аспекте обновленный лозунг отчасти не соответствовал традицион-
ным пропагандистским установкам социалистов-радикалов. Впро-
чем, издержки, так сказать, идеологического характера были весьма
незначительны.
Особо актуальным лозунг стал в период Советско-польской во-
йны. Советские идеологи даже воспользовались помощью одного
из самых популярных русских генералов, А. Брусилова, опублико-
вав его обращение ко всем офицерам, призывавшее исполнить долг
патриотов, т. е. служить в Красной армии, защищавшей Россию от
Польши.
Но, используя подобного рода пропагандистские уловки, совет-
ские лидеры бдительно следили за тем, чтобы в иных публикациях
слово «патриот» не соотносилось открыто с идеей национальной
вражды. Подразумевавшееся Брусиловым противопоставление рус-
ских и польских интересов оказывалось уместным лишь в брусилов-
ском воззвании. Официальные же публикации должны были вновь и
вновь утверждать марксистскую идею единства интересов рабочих и
крестьян всех стран.
По мере стабилизации советского режима видоизменяются и
пропагандистские установки. Все более частыми становятся попыт-
ки снять противопоставление интернационального национальному.
И слово «патриот» ко второй половине 1930-х гг. истолковывается
почти что в рамках досоветской традиции. Советское государство
официально объявляется «истинным отечеством всех трудящихся»,
почему и патриотизм, точнее советский патриотизм, не подразумева-
ет идеи национального превосходства.
251
Возрождение традиций
В годы Второй мировой войны марксистские догмы не отбрасы-
ваются, но советский патриотизм уже вполне официально призна-
ется тождественным русскому патриотизму. Послевоенный период
осмыслялся И. Сталиным как подготовка к новой глобальной войне,
а потому был выбран традиционный алгоритм — утверждение нацио-
нализма. Расчет прежний: державная мощь и величие как доказатель-
ство правильности государственного устройства и государственной
идеологии, а этническое превосходство — компенсация социальной
или интеллектуальной дефицитарности.
24 мая 1945 г. на кремлевском приеме в честь высшего командова-
ния Сталин провозгласил русский народ «руководящей силой Совет-
ского Союза среди всех народов нашей страны». Более того, русский
народ Сталин определил как «руководящий народ». Это был вполне
понятный сигнал. Соответственно, выражением «русского патрио-
тизма» должно было стать и стало аксиоматическое признание пре-
восходства всего русского.
Именно тогда советские пропагандисты начали азартно утверж-
дать русский приоритет во всех областях естествознания. Чуть ли не
каждое сколько-нибудь заметное научное открытие или техническое
изобретение — анестезия, паровой двигатель, радиосвязь, электриче-
ское освещение — приписывалось русским ученым или инженерам.
Это была одна из наиболее масштабных и длительных погромных
кампаний — «борьба с низкопоклонством перед Западом» во всех
областях. Даже иностранные названия приборов, механизмов или
кондитерских изделий заменялись из патриотических соображений
русскими аналогами. Так, «французская булка» стала «городской»,
пирожное «эклер» — «трубочкой с кремом» и т. п. Любые попытки
выйти за рамки официальной парадигмы истолковывались как по-
пытка унизить русский народ.
Можно сказать, что анекдотический проект «О переформирова-
нии де сиянс академий», предложенный щедринским героем, был
реализован Сталиным в полной мере. Во-первых, Сталин утвердил,
наконец, в качестве основного постулата неизменное превосходство
русских ученых. Русский приоритет в любой области естествознания
должен был придать — и придал — этому постулату убедительность.
Во-вторых, был создан колоссальный штат цензоров, дополняемый
азартными добровольцами, чьим основным занятием стало пресло-
вутое «рассмотрение» наук. По итогам подобного «рассмотрения» и
решалось, какие науки «подлинно распространяли свет, а не тьму».
Не способствующими «выполнению начальственных предписаний»
оказались признаны, в частности, генетика и кибернетика, в резуль-
252
тате официально объявленные «буржуазными лженауками» и даже
«продажными девками империализма».
Примечательно, что и другой анекдотический проект — «О не-
обходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств» —
тоже реализовался в полной мере. Прежде всего, средствами
цензуры удалось добиться тотального «оглушения», способство-
вавшего «дремотствованию» умов. Пожалуй, советская цензура
еще никогда не была так эффективна. Затем удалось организовать
и псевдоинтеллектуальную деятельность, благодаря которой, как
утверждал шедринский герой, умы «будут дремотствовать, но дре-
мотствовать деятельно». Едва ли не каждому советскому граждани-
ну, получившему хотя бы среднее образование, полагалось изучать
приснопамятный сталинский «Краткий курс истории ВКП(б)»,
впервые опубликованный в 1938 г. Для этого организовывались
специальные группы на заводах, фабриках, учреждениях, в кото-
рых изучались сталинские работы, «разоблачались» всякого рода
«буржуазные лженауки», «буржуазные направления» в различных
научных областях и т. п, что и объявлялось средствами воспитания
истинных патриотов.
Соблазнительна, конечно, была бы гипотеза непосредственной
связи пропагандистских кампаний послевоенных лет и пародийных
щедринских алгоритмов. И все же такое проявление сталинской ма-
кабрической иронии маловероятно. Да, Сталин читал Салтыкова-
Щедрина, часто цитировал, но, скорее всего, выбирал методы
насаждения патриотизма, не ориентируясь на русскую сатирическую
традицию. Вряд ли видел он себя в щедринском зеркале патриота.
Салтыков-Щедрин пародировал, сводил к абсурду официальные
идеологические установки, методы решения пропагандистских задач.
Сталин же решал задачи, весьма сходные с теми, что решали офици-
альные идеологи самодержавия. А сходные задачи, как правило, ре-
шаются сходными методами.
Истерическая общность
Кампания повсеместного утверждения официального патрио-
тизма должна была, как и другие советские пропагандистские
кампании, перейти в предельно истероидную форму. И это отчет-
ливо прослеживается на исходе 1940-х гг. Единство народа дости-
галось посредством демонстрирования общей угрозы, общего врага.
Соответственно, русским патриотам были противопоставлены
не только внешние, враги, так называемое империалистическое
окружение, но и внутренние враги, именуемые антииатриота-
ми. Разумеется, антинатриотами стали инакомыслящие. А для
253
обоснования самой возможности инакомыслия использовались
опять же традиционные методы.
Инакомыслие, согласно пропагандистским установкам, могло
быть результатом деятельности либо иностранцев, либо инородцев,
либо тех и других сразу. И тут опять была разыграна традиционная
карта — антисемитизм. В данном случае можно спорить, что имело
большее значение — ранее подавлявшиеся ксенофобские интенции
Сталина или пропагандистская прагматика? Но в любом случае по-
нятно, что апробированная технология казенного патриотизма ис-
пользовалась почти без изменений.
Конечно, в программных документах коммунистической партии,
предназначавшихся для публикации, любые проявления национа-
лизма, дискриминации по этническому признаку осуждались, потому
осуждался и антисемитизм. Неофициально же антисемитизм культи-
вировался под лозунгом борьбы с «антирусскими настроениями» и,
наконец, с «буржуазным космополитизмом».
Поначалу антисемитские лозунги вводились весьма осторожно.
Так, 28 января 1949 г. «Правда» опубликовала редакционную статью
«Об одной антипатриотической группе театральных критиков», где
ряду известных театроведов были инкриминированы «отсутствие
патриотизма», «низкопоклонство перед Западом», попытки «прота-
щить» уже неоднократно шельмовавшийся ранее формализм. Статья
была продолжением «борьбы с антипатриотами», однако здесь на-
правленность была очевидной антипатриотами именовали преиму-
щественно евреев. Прежде всего им инкриминировали антирусские
настроения и космополитизм. Одновременно развернулись кампании
«разоблачения безродных космополитов», «еврейских буржуазных
националистов» почти во всех областях — музыке, кинематографе,
литературе, истории, биологии, химии, математике и т. п.
Как и обычно, под идеологическим прикрытием сводились лич-
ные счеты, занимались должности разоблаченных, новоявленные
патриоты требовали преимуществ именно в силу этнической принад-
лежности. В начале 1950-х гг. ксенофобская направленность акций
подобного рода почти не маскировалась.
Подготовка к новой глобальной войне традиционно же сопро-
вождалась акциями устрашения: гласными и негласными. В част-
ности, патриотическими соображениями неофициально обосновы-
вались депортации крымских татар, калмыков, ингушей, чеченцев,
карачаевцев и т. д. Предлог — факты сотрудничества представите-
лей депортированных этносов с гитлеровской администрацией —
был заведомо абсурден. Сама идея этнической вины отрицала идею
права: даже в соответствии с законами советского государства ви-
новным признать можно было лишь индивида, а не этнос. Но ведь
254
и право не впервые игнорировалось. Высшим партийным руко-
водством обсуждался и вопрос о возможности депортации евреев,
правда, этому отчасти препятствовали прогнозируемые ассоциации
с режимом нацистской Германии.
Однако истерия вступала в завершающую фазу. 13 января 1953 г.
«Правда» опубликовала статью «Подлые шпионы и убийцы под ма-
ской профессоров-врачей». Это было сообщение о готовящемся су-
дебном процессе: «Сегодня публикуется хроника ТАСС об аресте
группы врачей-вредителей. Эта террористическая группа, раскрытая
некоторое время тому назад органами государственной безопасности,
ставила своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь
активным деятелям Советского Союза. Следствием установлено, что
участники террористической группы, используя свое положение вра-
чей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно, злодейски
подрывали их здоровье, ставили им неправильные диагнозы, а затем
губили больных неправильным лечением. Прикрываясь высоким и
благородным званием врача — человека науки, эти изверги и убийцы
растоптали священное знамя науки. Встав на путь чудовищных пре-
ступлений, они осквернили честь ученых».
Главной целью «шпионов и убийц», если верить статье, было ис-
требление советских военачальников. Обвиняемые, как настаивали
следователи, намеревались буквально обезглавить армию: «В первую
очередь преступники старались подорвать здоровье руководящих со-
ветских военных кадров, вывести их из строя и тем самым ослабить
оборону страны. Арест преступников расстроил их злодейские планы,
помешал им добиться своей чудовищной цели». Понятно, что обви-
няемые должны были руководствоваться именно антипатриотиче-
скими соображениями. Будучи антипатриотами, они сотрудничали с
империалистическим окружением: «Установлено, что все участники
террористической группы врачей состояли на службе у иностранных
разведок, продали им душу и тело, являлись их наемными, платными
агентами».
Теперь оставалось лишь объяснить, как врачи, да еще и кремлев-
ские, вышли на контакт с иностранными разведками. Нужно было
достаточно внятно объяснить, почему антипатриотизм принял та-
кую форму. Тут и предлагалась исчерпывающая, по мнению авторов
статьи, интерпретация. Авторы статьи акцентировали, что обвиняе-
мые — евреи: «Они были завербованы филиалом американской раз-
ведки — международной еврейской буржуазно-националистической
организацией “Джойнт”. Грязное лицо этой шпионской сионист-
ской организации, прикрывающей свою подлую деятельность под
маской благотворительности, полностью разоблачено. Опираясь на
группу растленных еврейских буржуазных националистов, профес-
255
сиональные шпионы и террористы из “Джойнт”, по заданию и под
руководством американской разведки, развернули свою подрывную
деятельность и на территории Советского Союза».
Впечатление от публикации было шоковым. Врач-убийца, врач-
оборотень, перед которым пациент заведомо беззащитен, — фигура
пугающая. Этот прием устрашения был апробирован уже в 1930-е гг.,
когда в советской прессе публиковались сообщения о «врачах-
вредителях». Утверждалось, в частности, что их жертвой стал и
М. Горький. Но тогда этих врачей объединяло лишь стремление на-
нести ущерб советскому государству, а в 1953 г., если верить совет-
ской периодике, «убийцы в белых халатах» руководствовались еще и
соображениями национальной мести, антирусскими устремлениями.
Паника возникла едва ли не во всех медицинских учреждениях.
Многие пациенты требовали, чтобы их лечили только этнически рус-
ские врачи. Абсурдность обвинений была очевидна лишь тем, кого не
захватила истерия, но они не имели возможности публично выразить
свое мнение.
За границей антисемитская направленность явно сфальсифици-
рованного «дела врачей-убийц» тоже вызвала шок, но иного рода.
Там сталинскую интенцию видели, память о холокосте была доста-
точно свежа. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы про-
должилось несколько дольше.
Как известно, Сталин умер в марте 1953 г., а почти месяц спустя
«Правда» опубликовала «Сообщение Министерства внутренних дел
СССР», согласно которому «дело врачей» было без всяких основа-
ний инспирировано руководством уже упраздненного Министерства
государственной безопасности, ибо его следователи никогда не рас-
полагали никакими доказательствами, обвинения строились только
на признаниях самих обвиняемых, не выдержавших пыток.
На этом инцидент официально постановили считать исчерпан-
ным. Истерия шла на убыль, начиналась эпоха, обычно соотносимая
с деятельностью Н. Хрущева, эпоха, вскоре названная «оттепелью».
Новое по-старому
Сталинские преемники несколько снизили накал агрессии в про-
паганде советского и русского патриотизма. Кампания «по борьбе с
космополитизмом» прекратилась, в периодике о ней упоминали до-
вольно редко, да и об антипатриотах тоже.
Но интеллектуалы, уже не столь запуганные, ассоциировали
подобного рода пропагандистские кампании с прежними, досо-
ветскими. Сходных черт хватало. Как и прежде, рассуждениями о
патриотизме прикрывались неуклюжие попытки добиться приви-
256
легий, благоволения начальства, возможности безнаказанно погра-
бить. О патриотизме, о защите интересов отечества чаще всего, как
и прежде, рассуждали в печати именно те, кому не пришлось защи-
щать отечество на передовой. Как и прежде, чем дальше от фронта,
тем больше оказывалось патриотов, как и прежде, где патриоты, там
и погром. И конечно, без фальсификаций, как и прежде, казенные
патриоты не обходились.
К началу 1960-х гг. отношение к слову «патриот»» в среде ин-
теллектуалов было двойственным. С одной стороны, оно вызывало
ассоциации с военной эпохой. И тут не было места отрицательным
коннотациям. С другой стороны, под термином патриот и тогда под-
разумевалась не только идея безоговорочной преданности совет-
скому режиму, но и безоговорочное признание целесообразности
ксенофобских пропагандистских кампаний 1940-1950-х гг., геноци-
да, национализма в самых агрессивных проявлениях. В таких случаях
возникновение отрицательных коннотаций было неизбежно.
Кстати, характерное для советских интеллектуалов отношение к
слову патриот отчетливо прослеживается в стихах одного из самых
популярных и в то же время «обласканных властью» советских поэ-
тов — Е. Евтушенко. В 1965 г. журнал «Юность» публикует его поэму
«Братская ГЭС», где истинными патриотами названы декабристы,
противопоставленные верноподданным, «ура-патриотам», требую-
щим признать холуйство проявлениями истинного патриотизма15.
Разумеется, истинным патриотом здесь назван А. Пушкин, а
противопоставлен ему Ф. Булгарин. Противопоставлялись, конеч-
но же, Россия пушкинская и Россия булгаринская, Россия «ура-
патриотов»:
Какой-то ревностный служака,
Солдат гоняя среди мрака,
Учил их фрукту до утра,
Учил «ура!» орать поротно,
Решив, что «сущность» «патриота» —
Преподавание «ура!».
Булгарин в дом спешил с морозцу
И сразу — к новому доносцу
На частных лиц и на печать,
Живописал не без полета,
Решив, что «сущность» «патриота» —
Как заяц, лапами стучать.
Корпели цензоры-бедняги.
По вольномыслящей бумаге
Потея, ползали носы,
257
Носы выискивали что-то,
Решив, что «сущность» «патриота» —
Искать, как в шерсти ищут псы.
Но где-то вновь под пунш и свечи
Вовсю крамольничали речи,
Предвестьем вольности дразня.
Вбегал в снегу и строчках Пушкин...
В глазах друзей и чашах с пуншем
Плясали чертики огня. <
Пушкин здесь, конечно, идеолог декабристов. Идеолог офицеров,
присягавших монарху и восставших против монарха, пожертвовав-
ших карьерой:
Но игнор заманчивые звоны
Нс заглушали чьи-то стоны
В их опозоренной стране.
И гневно мальчики мужали,
И по-мужски глаза сужали,
И шпагу шарили во сне.
А их в измене обвиняла
И смрадной грязью обливала
Тупая свора стукачей.
О, всех булгариных наивность!
Не в этих мальчиках таилась
Измена родине своей.
Не так уж важно, знал ли Евтушенко, что Булгарин дружил с
Рылеевым, Бестужевым-Марлинским, А. Одоевским и доносов на
них не писал. Булгаринские доносы «на частных лиц и на печать»,
как и «свирепства» цензуры, — реалии николаевской эпохи, а не
александровской. В любом случае понятно, что для Евтушенко ак-
туальны были рассуждения о доносчиках и цензорах, называвших
себя патриотами, но служивших власти, а не отечеству — власти,
по сути предававшей интересы отечества. И автор «Братской ГЭС»
подчеркивал, что истинными патриотами были те, кого объявили
«изменниками»:
Измена тискала указы,
Боялась правды, как проказы.
Боялась тех, кто нищ и сир.
Боялась тех, кто просто юны.
Страшась, прикручивала струны
У всех опасно громких лир.
258
О, только те благословенны,
Кто, как изменники измены,
Не поворачивая вспять,
Идут на доски эшафота,
Поняв, что «сущность» «патриота» —
Во имя вольности восстать!
Аллюзии, типичные для поэзии «шестидесятников», да и для всей
эпохи так называемой оттепели, были тогда очевидны. Евтушенко
полемизировал с «ура-патриотами» сталинской эпохи. Да и не толь-
ко сталинской, что специально акцентировалось. Но это — с одной
стороны. А с другой — Евтушенко славил хрестоматийных револю-
ционеров, что не противоречило советской парадигме.
Правда, в итоге получалось, что себя и читателей-едино-
мышленников автор сравнивал с вольнодумцами александровской и
не только александровской эпохи, вольнодумцами, преследуемыми
«тупой сворой стукачей», казенных патриотов, из-за которых слова
«патриот» и «верноподданный» стали чуть ли не синонимами. От-
сюда следовало, что и в 1960-е гг. истинный патриот не может назвать
себя патриотом, не рискуя быть причисленным к холуйствующим
перед властью.
Несколько лет спустя аллюзии подобного рода стали считаться
в СССР не вполне уместными. Хрущевские преемники вновь ис-
пользовали традиционные пропагандистские технологии. Вновь
актуализовались уже проверенные компоненты — национализм,
ксенофобия.
При этом идеологические установки эпохи «оттепели» не были
признаны официально отмененными. Единства здесь у советских
идеологов не было, и реализовывались сразу два проекта — «оттепель-
ный» и «национально-патриотический». Почему и возникло своего
рода «журнальное противостояние», а затем и «журнальная война».
Среди изданий, пытавшихся отстаивать традиции «оттепели», наибо-
лее влиятельным был «Новый мир», возглавляемый А. Твардовским,
а в группе «национально-патриотических» лидировал «Огонек» под
руководством А. Софронова.
«Журнальная война» в своего рода «активной фазе» завершилась
к началу 1970-х гг. Твардовский утратил пост главного редактора
«Нового мира», редакционная политика журнала изменилась. Пере-
вес «национально-патриотической» группировки стал очевиден.
И хотя официально насаждаемый патриотизм по-прежнему вызывал
протесты многих интеллектуалов, но возможности полемизировать с
откровенными шовинистами у них было все меньше.
259
Патриот «forever»
Ситуация несколько изменилась ко второй половине 1980-х гг.
«Журнальная война» резко активизировалась, что отражало расста-
новку сил в партийной элите. В борьбе с политическими оппонента-
ми М. Горбачев стремился использовать оппозиционно настроенных
интеллектуалов.
Цензурные запреты постепенно деактуализовались, и «нацио-
нально-патриотические» издания, среди которых лидировали журна-
лы «Молодая гвардия» и «Наш современник», уже вполне откровенно
провозглашали ксенофобские лозунги, что, разумеется, немедленно
использовали оппоненты, откровенно издевавшиеся над косноязыч-
ными сообщениями о «всемирных масонских заговорах», «патриоти-
ческом долге борьбы с еврейским засильем» и т. п.
Отношение к слову «патриот» оставалось двойственным. Бес-
спорно, оно ассоциировалось с ксенофобскими кампаниями, ини-
циировавшимися журналом «Наш современник», который все чаще
именовали иронически — «Наш соплеменник». Однако и военные
ассоциации были устойчивы.
Пожалуй, именно здесь оппозиционно настроенные публицисты
допустили ошибку. Риторическую ошибку. Противники советского
режима в полемическом азарте увлекались иронизированием по по-
воду слова «патриот», надеясь на предсказуемые, как они полагали,
ассоциации с погромными сообществами верноподданных, ассо-
циации с одиозными пропагандистскими кампаниями сталинской
эпохи и т. д., но при этом ими был проигнорирован другой ассоциа-
тивный ряд.
Ошибка была весьма серьезной, прежде всего потому, что вер-
ноподданнические ассоциации вовсе не обязательно устойчивы.
Далеко не всем памятны традиции русской оппозиционной публи-
цистики, далеко не все постоянно вспоминают о сталинских про-
пагандистских кампаниях, связанных со словом «патриот». И тут
нельзя было не учитывать другие ассоциации: слово «патриот» по-
прежнему ассоциировалось с защитой отечества. А в данном случае
ирония неуместна.
Сама постановка риторической задачи оказалась изначально невер-
ной. Противники тоталитарного режима полемизировали с идеологами
верноподданных, игнорируя тот факт, что далеко не во всех контекстах
слова «патриот» и «верноподданный» — синонимы. Огульное высмеи-
вание патриотов не могло не обусловить реакцию протеста.
Риторически целесообразно было бы вновь разделить вернопод-
данных и патриотов в традиционном понимании этого слова. Но,
как правило, этого не делали. Интеллектуалы в России по-прежнему
260
были готовы к разговору только с такими же, как они. Аудитория
иного характера попросту не принималась во внимание. Не исклю-
чено, что это происходило неосознанно, но все равно происходило,
происходит и теперь.
Политики, эксплуатировавшие слово «патриот», сумели восполь-
зоваться ошибкой своих соотечественников, боровшихся против
советского режима. Им вновь инкриминировали антипатриотизм.
Это был эффективный прием, и ныне действующий безотказно.
В политической борьбе нельзя не использовать брешь в обороне
противника, нельзя не использовать его ошибки. Свидетельство
тому — партия «Патриоты России», само название которой опять
подразумевает борьбу с некими антипатриотами. И нетрудно пред-
сказать, что оппоненты-интеллектуалы смогут противопоставить
идеологам «Патриотов России» лишь иронические эскапады в связи
со словом «патриот». Печальный результат таких эскапад очевиден.
Казалось бы, не так уж и сложно избегать риторических ошибок,
но полемическая инерция слишком велика.
1 Jefferson Th. A Letter to W.S. Smith // The American Age of Reason. M.,
1977. P. 124.
2 Архив князя Ф. А. Куракина: в 10 т. Саратов, 1899. Т. 8. С. 286-287.
3 Радищев А.Н. Собр. соч.: в 3 т. М., 1938. Т. 1. С. 215.
1 См.: Одесский М. Укрощенный мессианизм: «Руфь» В.В. Измайлова —
библейская инсценировка для детского театра // Quadrivium: К 70-летию
профессора В.А. Москонича. Иерусалим, 2006. С. 147-149.
5 Рылеев К.Ф. Царь наш, немец русский //Декабристы: Антология: в 2 т.
М„ 1975. Т. 1. С. 326-327.
11 См.: Лемке М. Николаевские жандармы и литература. 1826-1865 гг.
СПб., 1908. С. 83.
7 Вяземский П.А. Поли. собр. соч. Т. 1. СПб., 1878. С. 244.
8 Добролюбов Н.А. Луч света в темном царстве // Добролюбов Н.А. Из-
бранное. М. 1937. С. 226.
9 Салтыков-Щедрин М.Е. Невинные рассказы//Салтыков-Щедрин М.Е.
Собр. соч. Т. 2. М. 1951. С. 99.
111 Там же. С. 325.
11 Там же. С. 326.
12 Там же. С. 325.
" Там же.
11 Там же. С. 321.
15 Здесь и далее цит. по: Евтушенко Е. Братская ГЭС // Юность. 1965.
№4. С. 12-15.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВЛАСТЬ ПОЭТИКИ .......................................з
ПОЭТИКА ТЕРРОРА......................................17
Вместо предисловия ................................17
Глава I............................................21
Революция и тип социума ...........................21
Терминология и аксиоматика.........................23
Глава II...........................................28
От астрономии к политике...........................28
Революция, знавшая свое имя .......................29
Новый мир в Новом свете ...........................31
Поиски аналогий....................................34
Американская модель и французский вариант..........36
Глава III .........................................42
Террор как идеологема: происхождение легенды ......42
Универсальный инструмент...........................45
Логика террора.....................................49
От легенды к легенде...............................53
Символы и мифы.....................................54
Глава IV ..........................................60
Государственный террор: бессилие добродетели.......60
Технология устрашения .............................65
Устрашение ad infinitum............................68
Фазы террора.......................................70
Глава V............................................77
Революция вместо террора ..........................77
Якобинский тезаурус................................81
Тираноборцы или террористы? .......................89
Дуэльный вариант...................................94
Цареубийцы-энциклопедисты .........................97
Глава VI .........................................109
Якобинцы второго призыва..........................109
Революционный тезаурус............................112
Кризис робеспьеризма..............................116
262
Апология заговора ..............................120
Патриоты и кондотьеры ..........................123
Гальванизация легенды...........................129
Российские «бесы»...............................132
Индивидуальный террор: поиски формулировки......135
Цареубийство и технический прогресс ............140
Утверждение термина ............................144
Социология и терминология.......................153
ПОЭТИКА ВЛАСТИ НА ДРЕВНЕЙ РУСИ.....................169
ТЕЗАУРУС ВОЛЬНОДУМЦЕВ (REVOLUTION -
РЕВОЛЮЦИЯ - ПЕРЕВОРОТ - ПРЕВРАЩЕНИЕ) ..............180
ИДЕОЛОГЕМА «ДЕКАБРИСТ» В РУССКОЙ,
СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ.................190
Очевидный парадокс .............................190
Версии происхождения............................191
Спор о прошлом и настоящем......................195
Словарное осмысление............................199
Постсоветская полемика..........................201
АЗЕФ: ПРОВОКАЦИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ, ТЕРРОР................214
ИДЕОЛОГЕМА «ПАТРИОТ» В РУССКОЙ, СОВЕТСКОЙ
И ПОСТСОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ ..........................240
Патриоты и верноподданные ......................240
Русский иностранный.............................242
Верноподданные патриоты ........................244
Зеркало патриота ...............................246
Интеллигенты и патриоты.........................248
Pro et contra...................................250
Возрождение традиций............................252
Истерическая общность ..........................253
Новое по-старому ...............................256
Патриот «forever» ..............................260
Научное издание
Одесский Михаил Павлович
Фельдман Давид Маркович
Поэтика власти
Тираноборчество. Революция. Террор
Ведущий редактор Н. А. Богатырева
Редактор Г. Л. Бондарева
Художественный редактор А К. Сорокин
Художественное оформление А. Ю. Никулин
Технический редактор М. М. Ветрова
Выпускающий редактор Н. Н. Доломанова
Компьютерная верстка Е. Н. Мартемьянова
Корректор А. В. Голубцова
ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 25.09.2012.
Формат 60x90/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,5.
Тираж 800 экз. Заказ 9941.
Издательство «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82
Тел.: 334-81-87 (дирекция), 334-82-42 (отдел реализации)
ъ . Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93
www.oaompk.ru, www-ОАОМПК.рф тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685