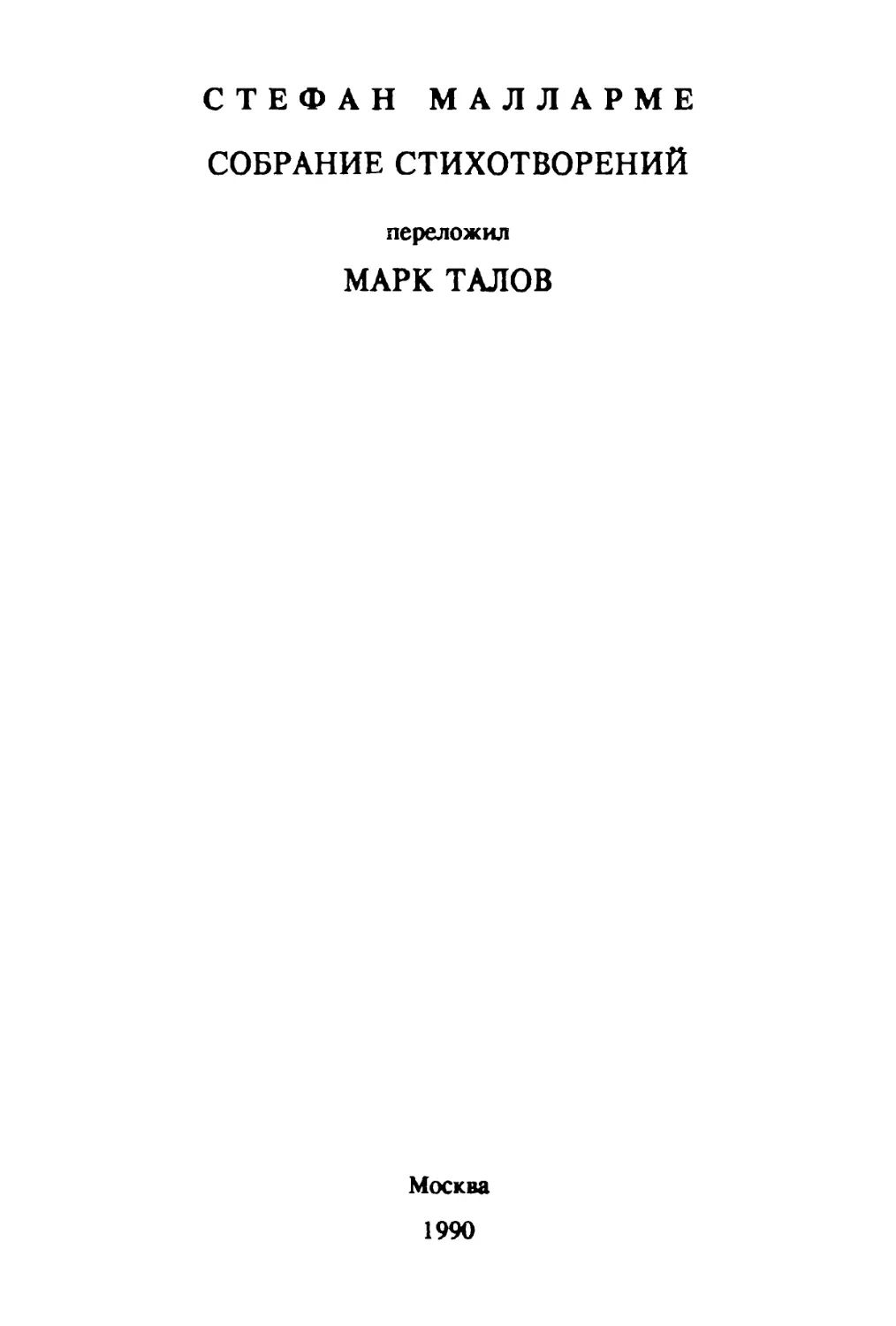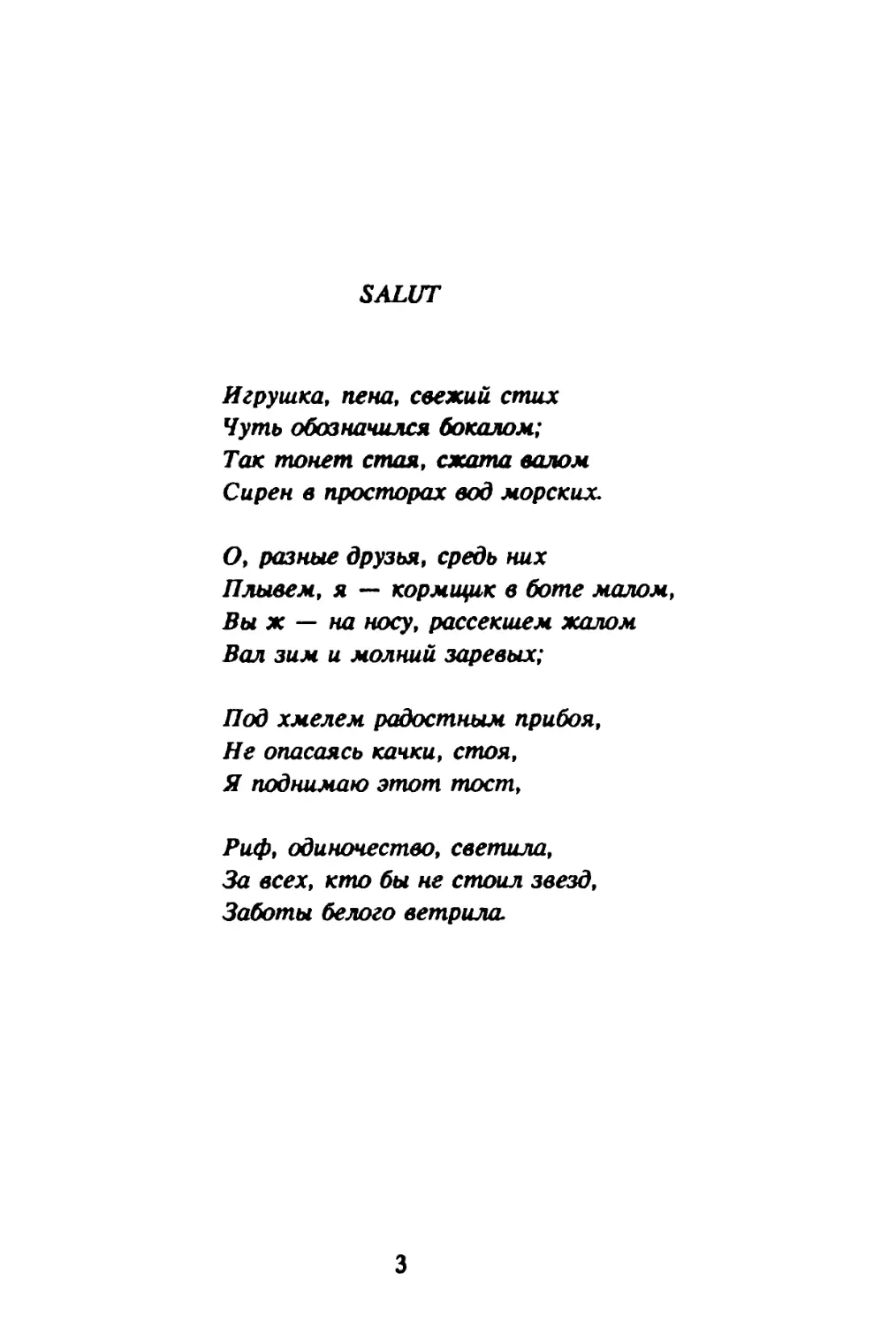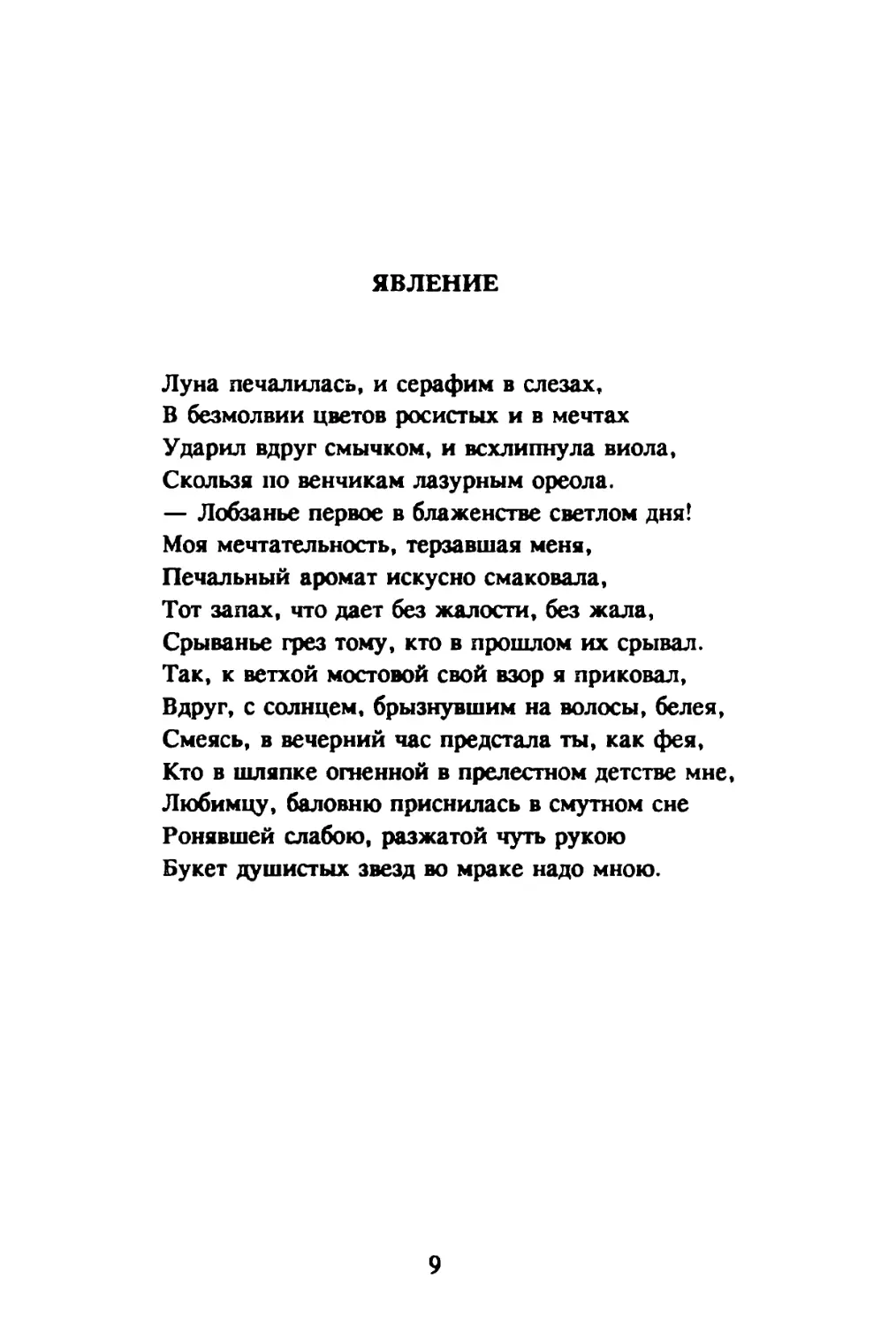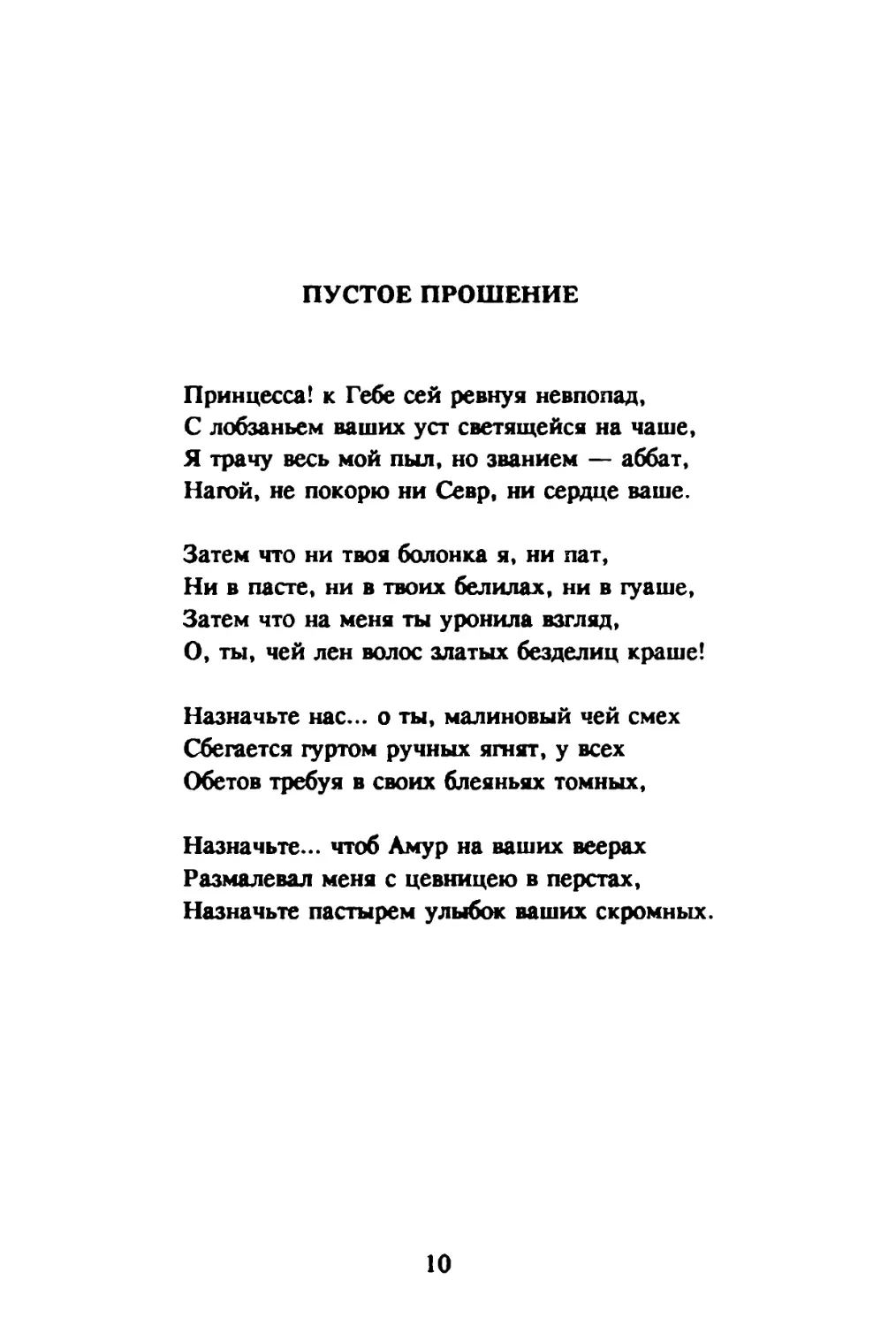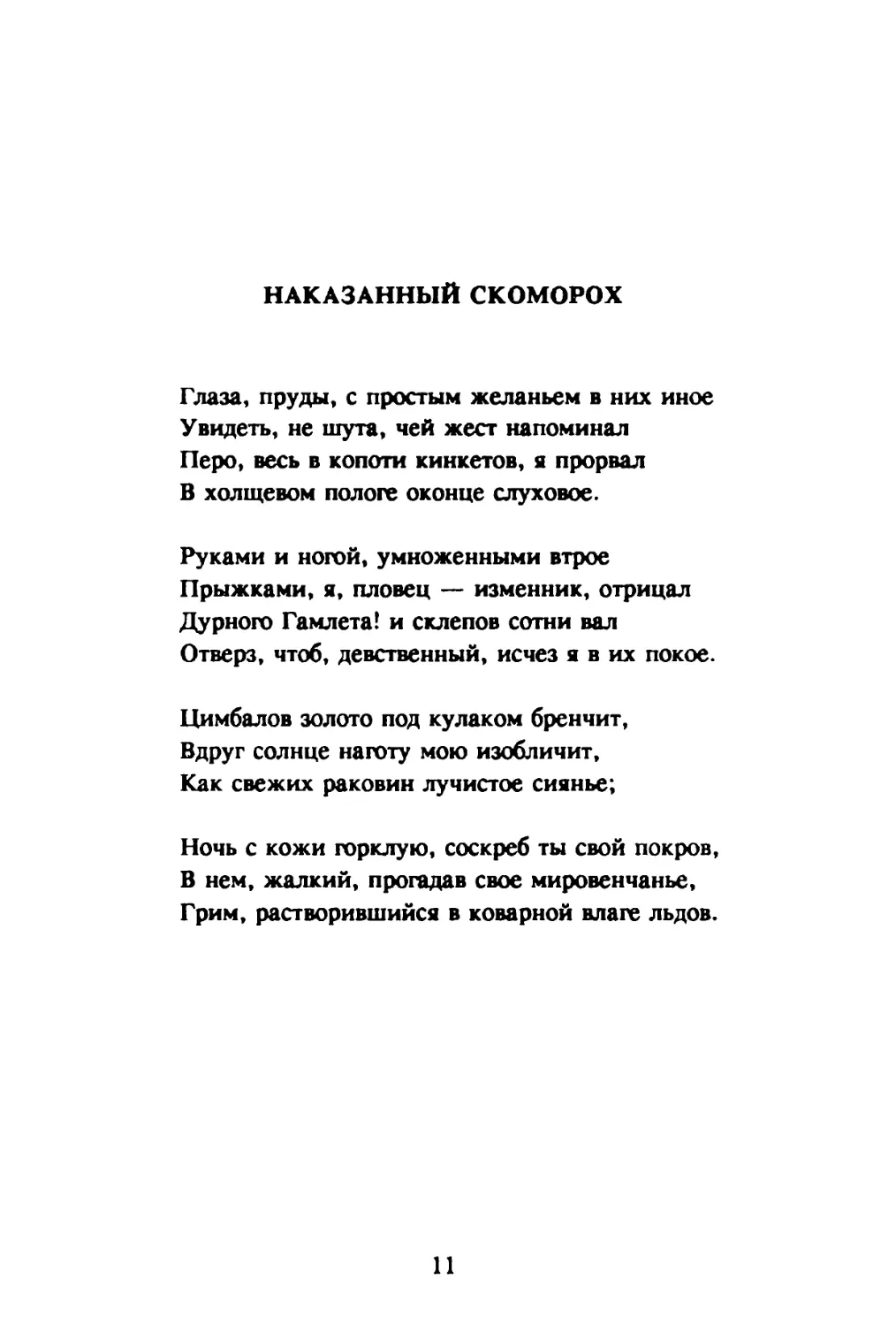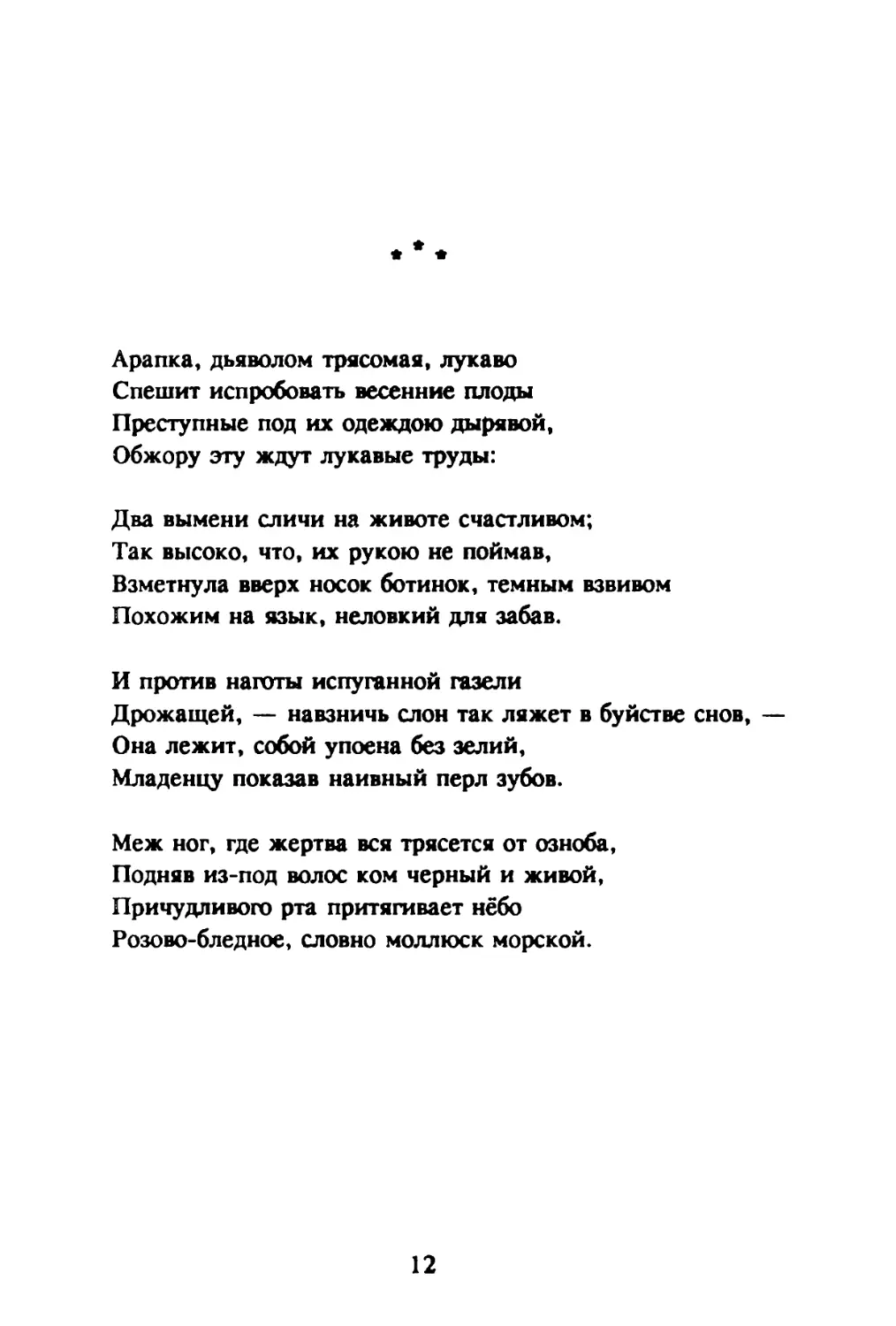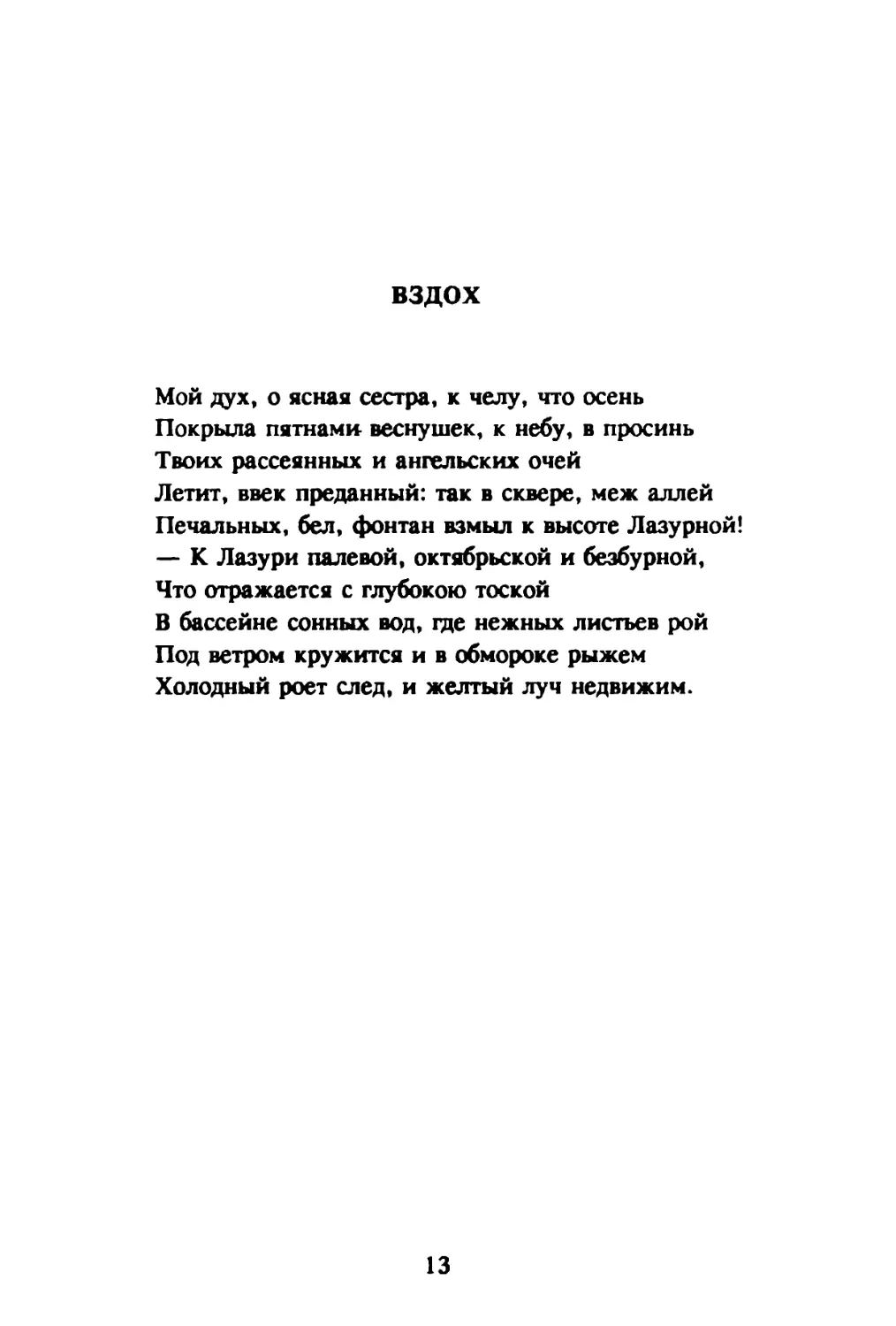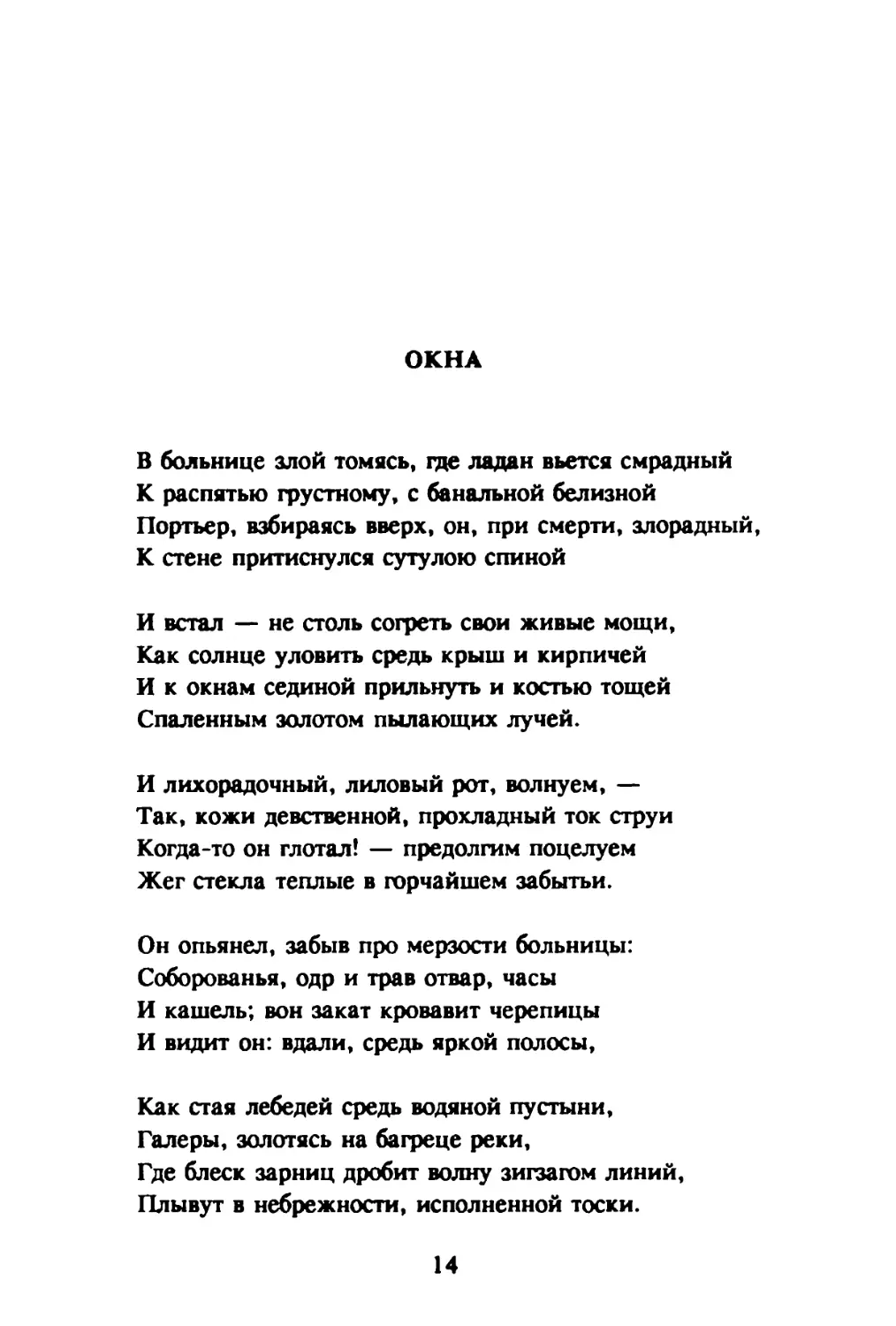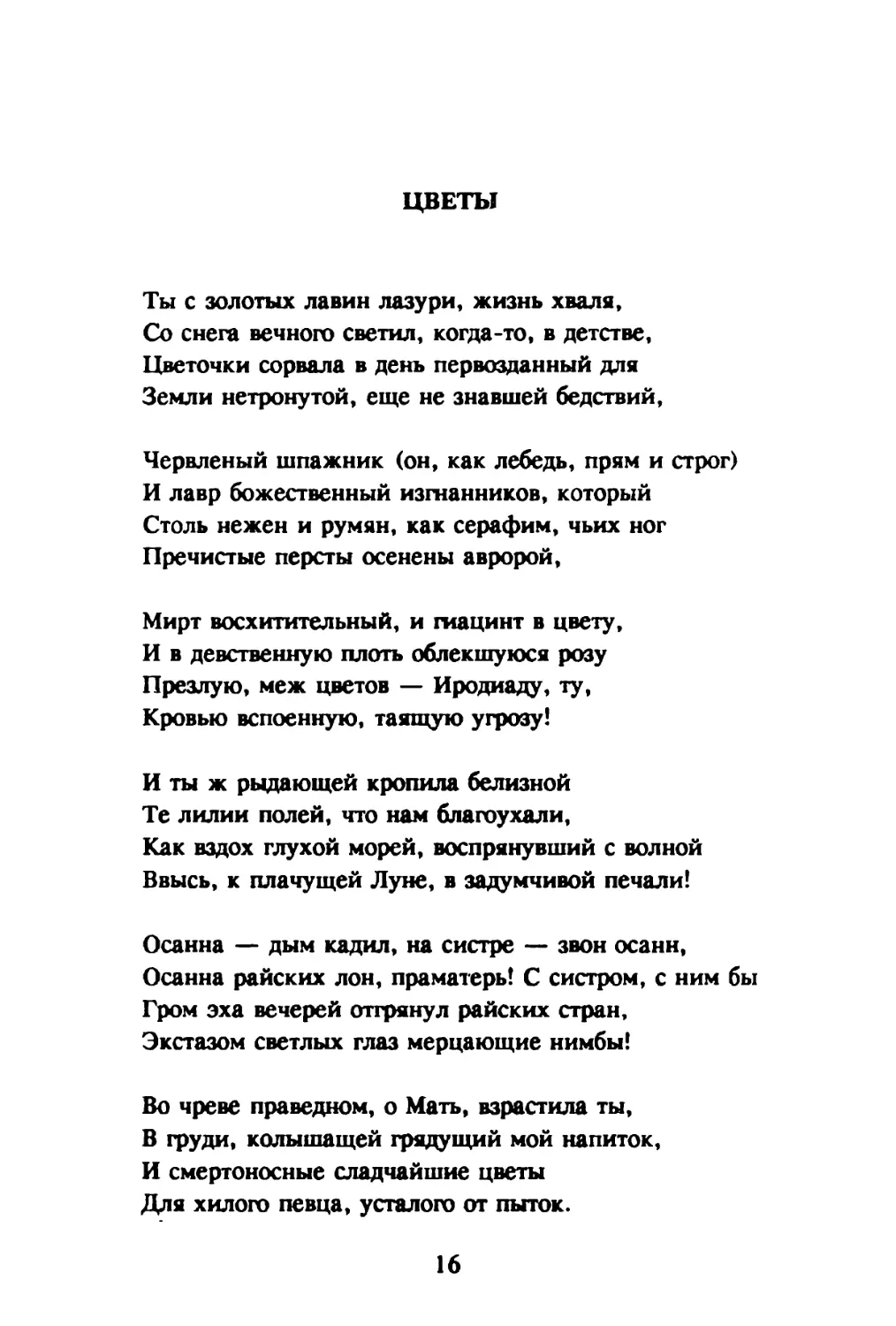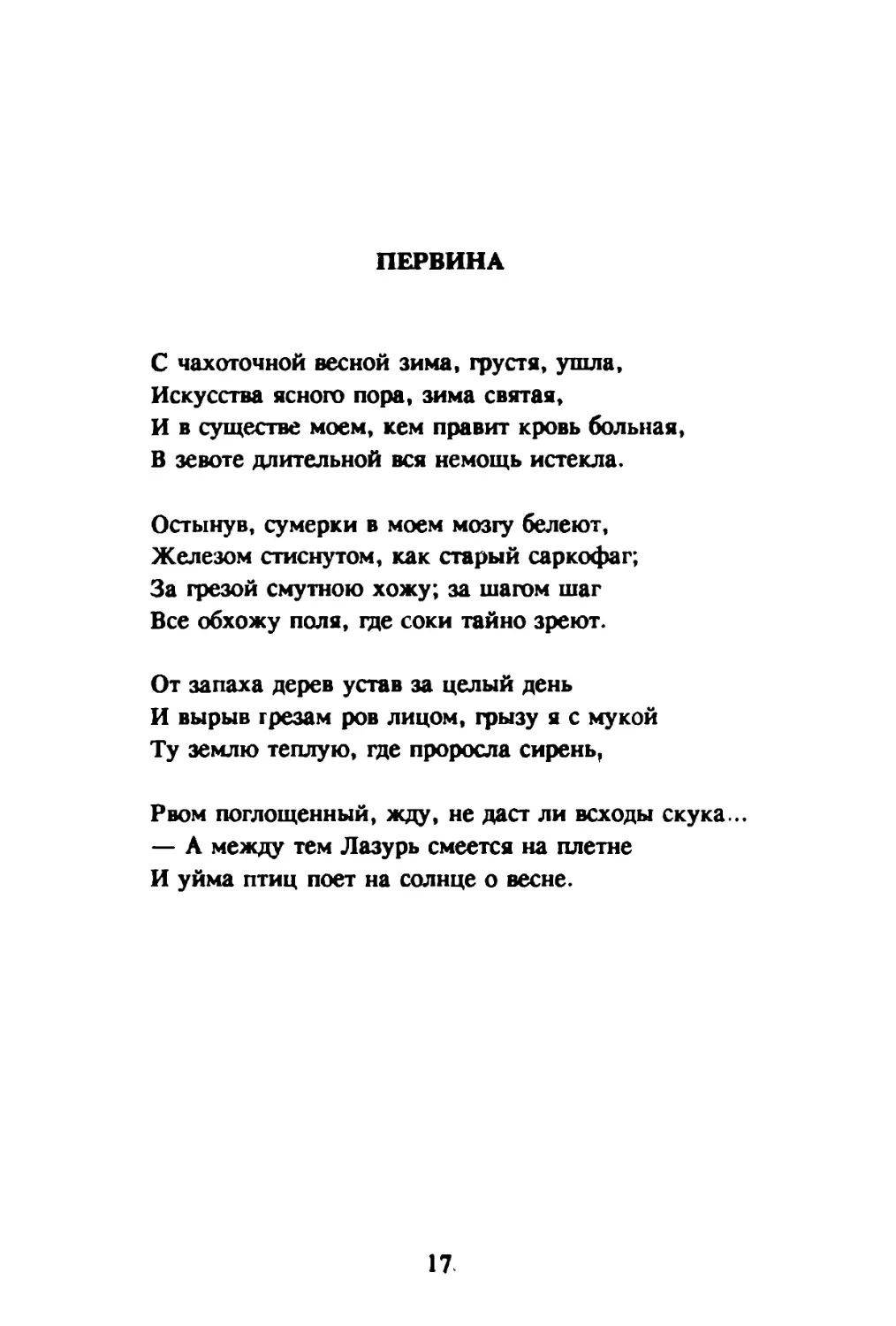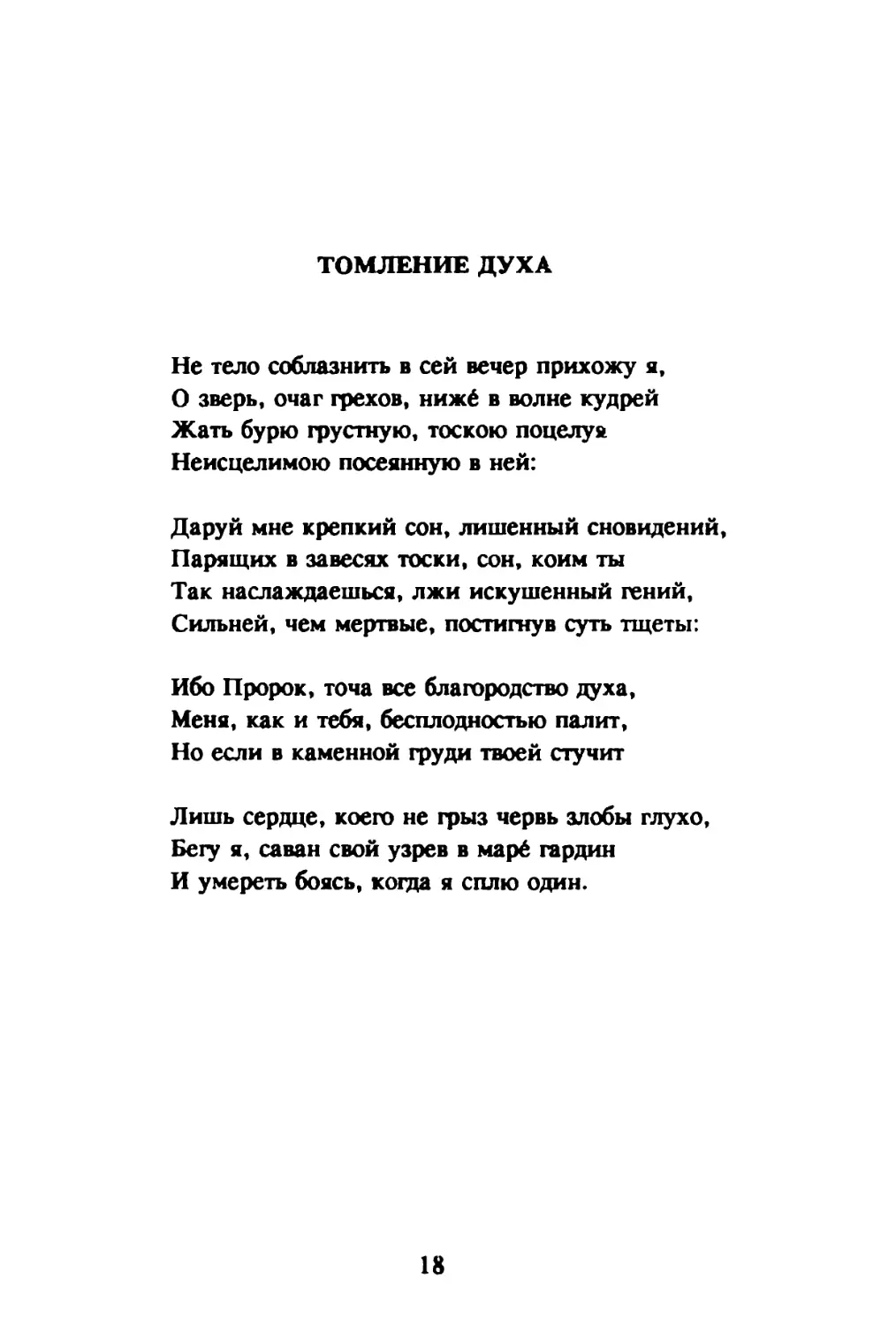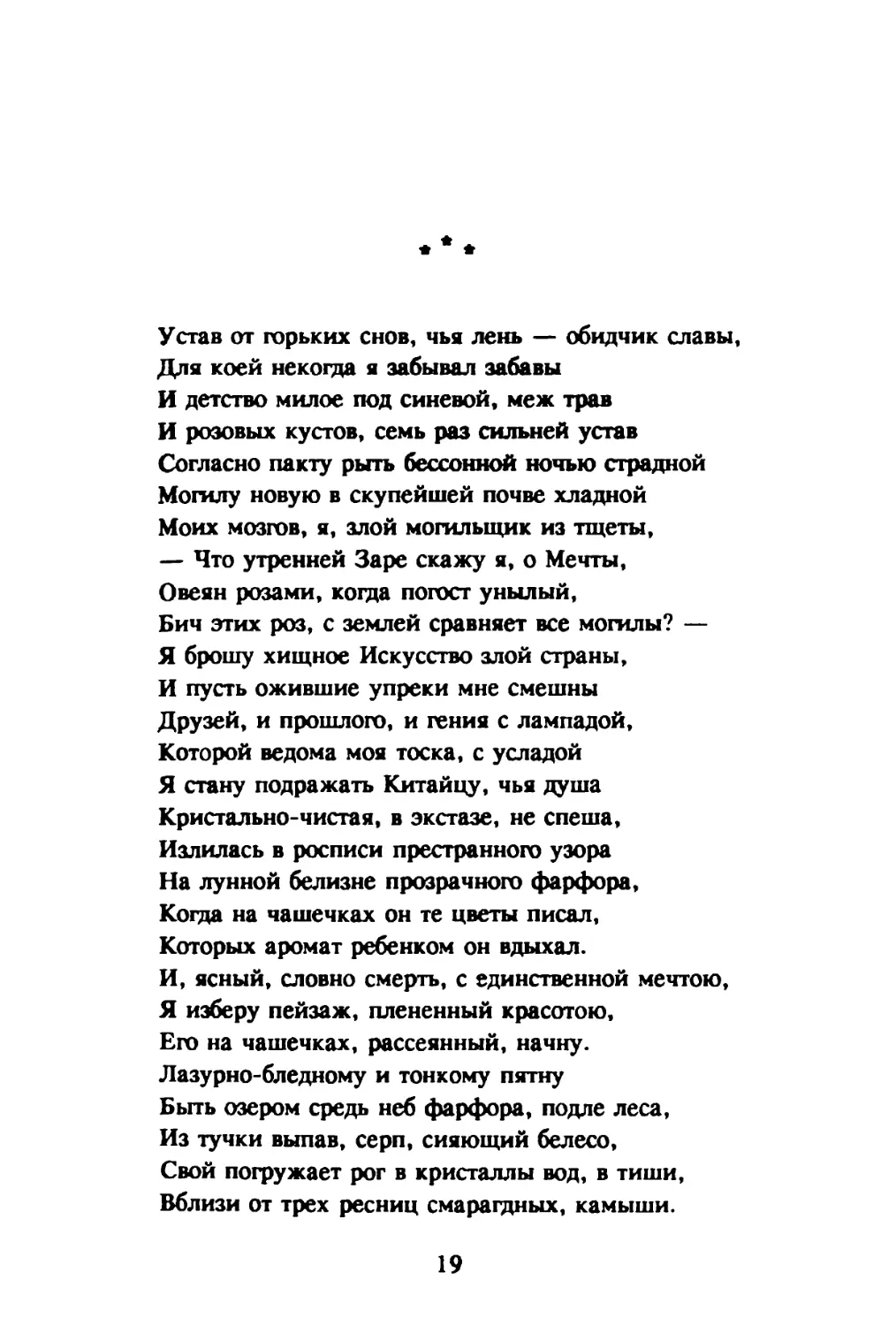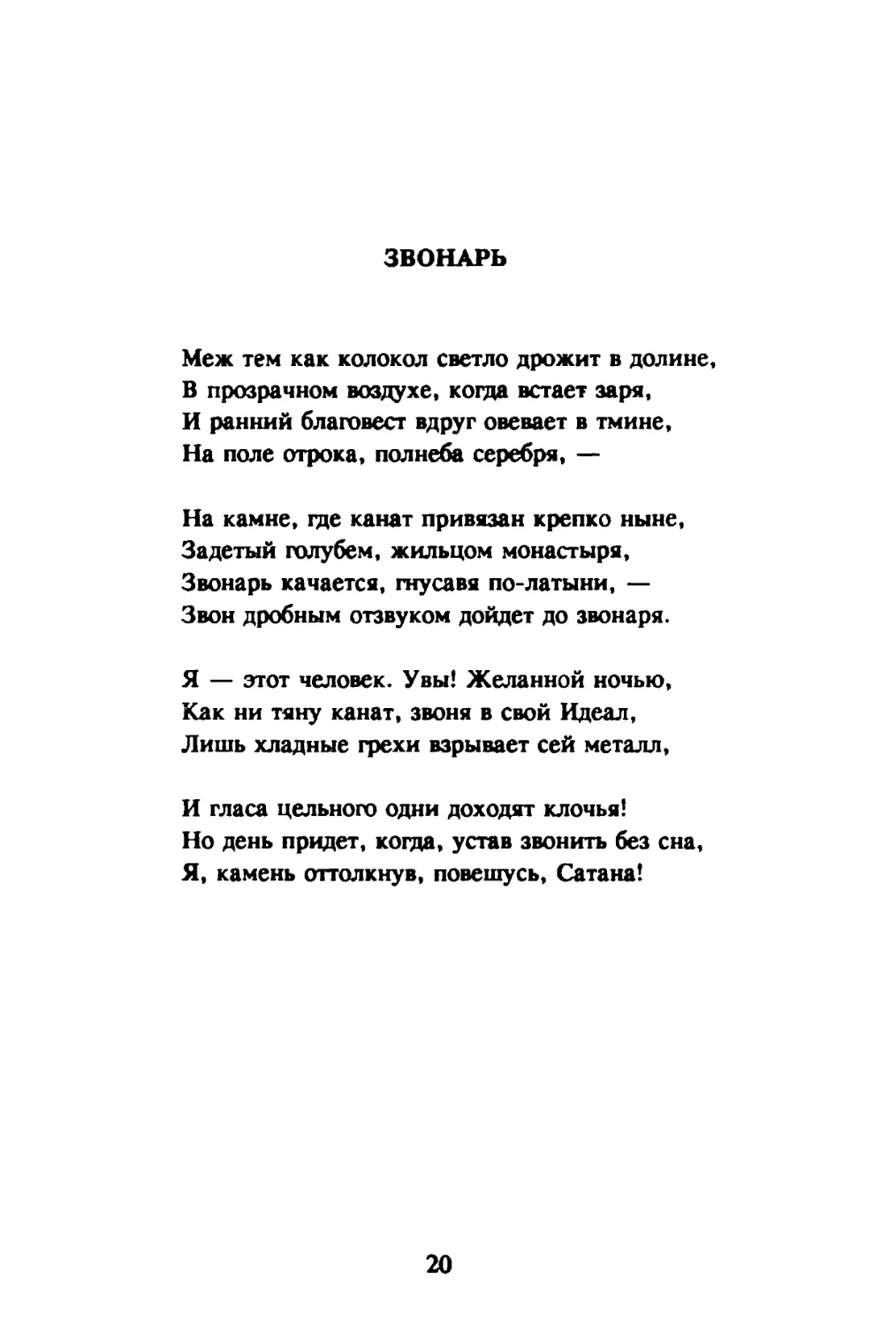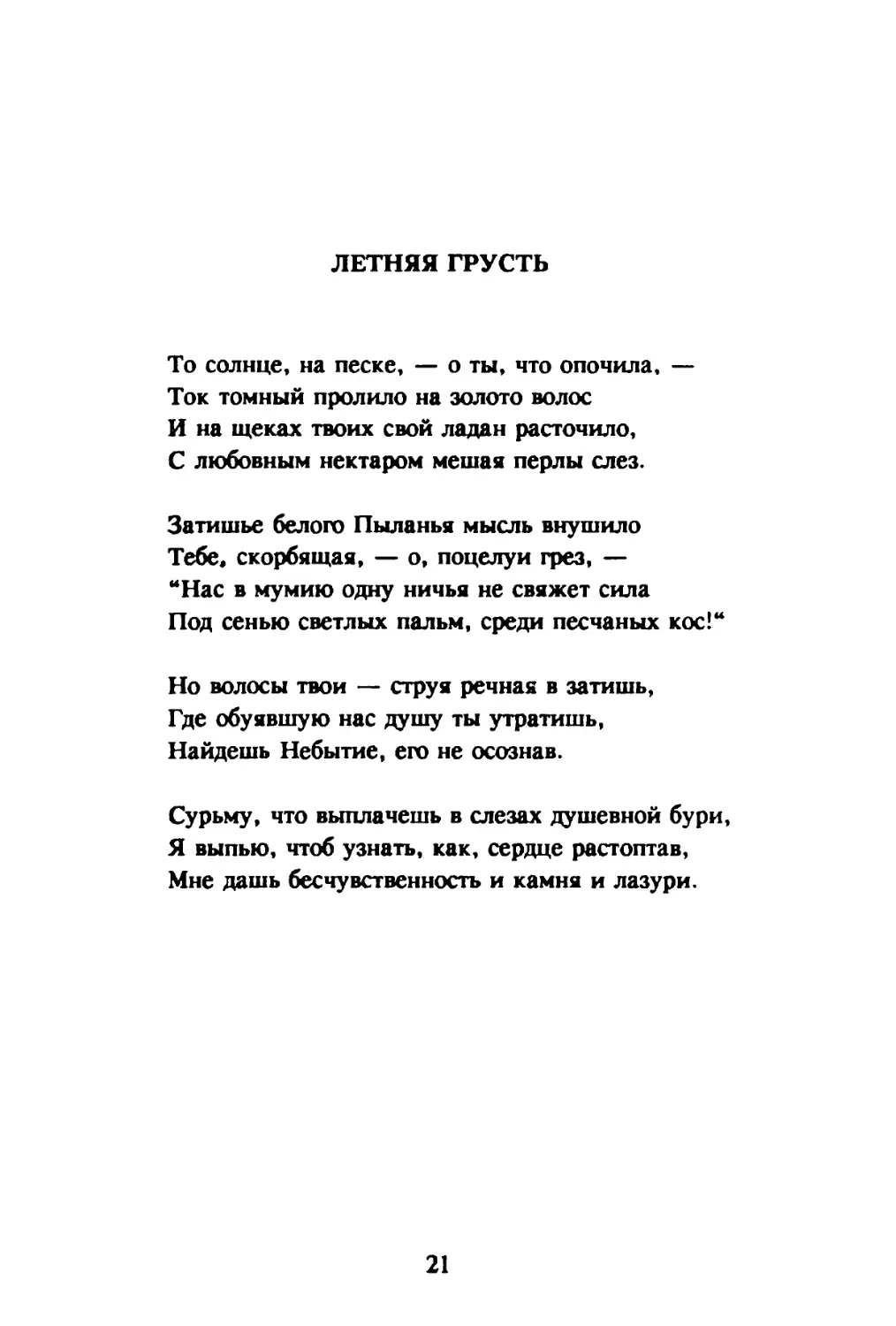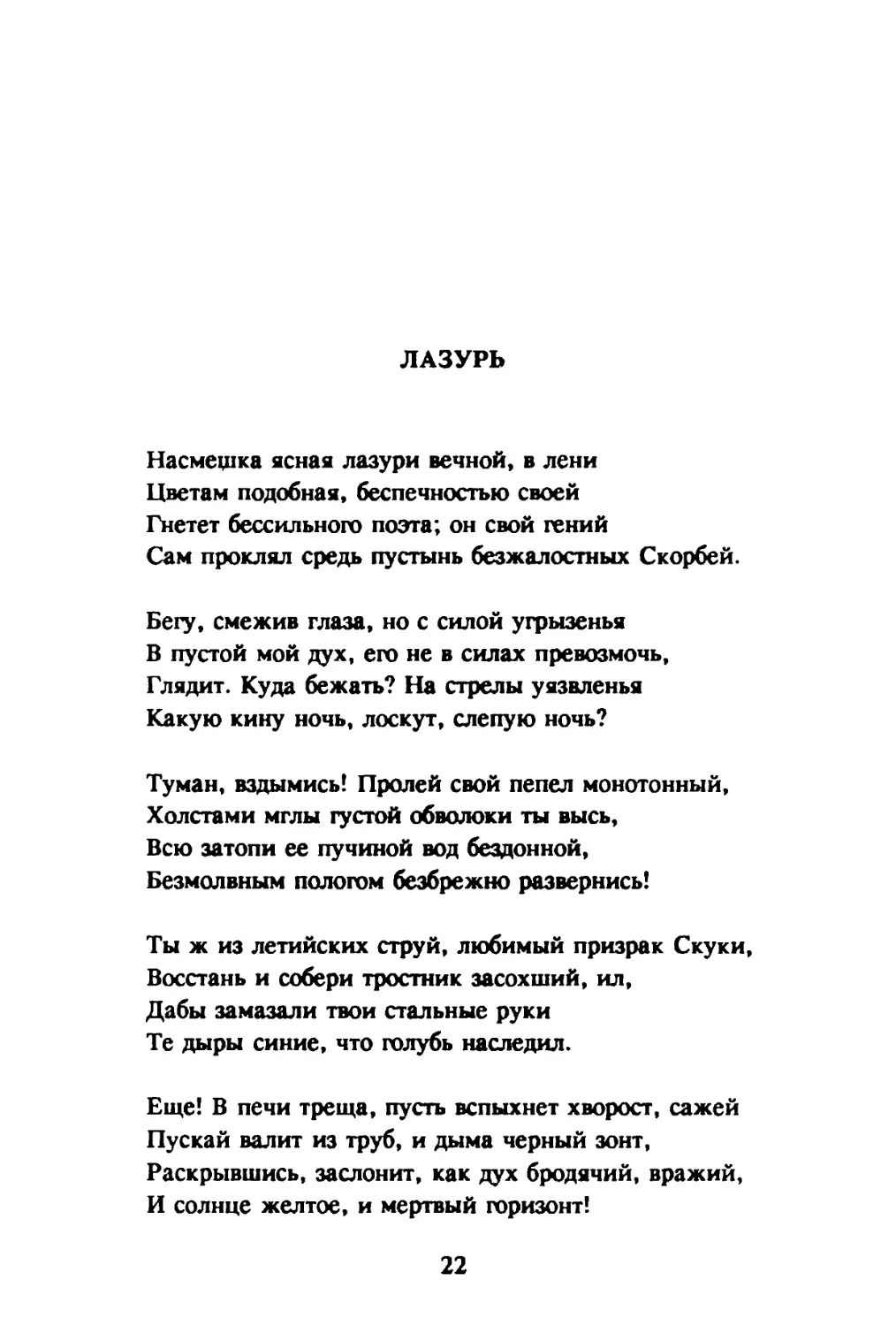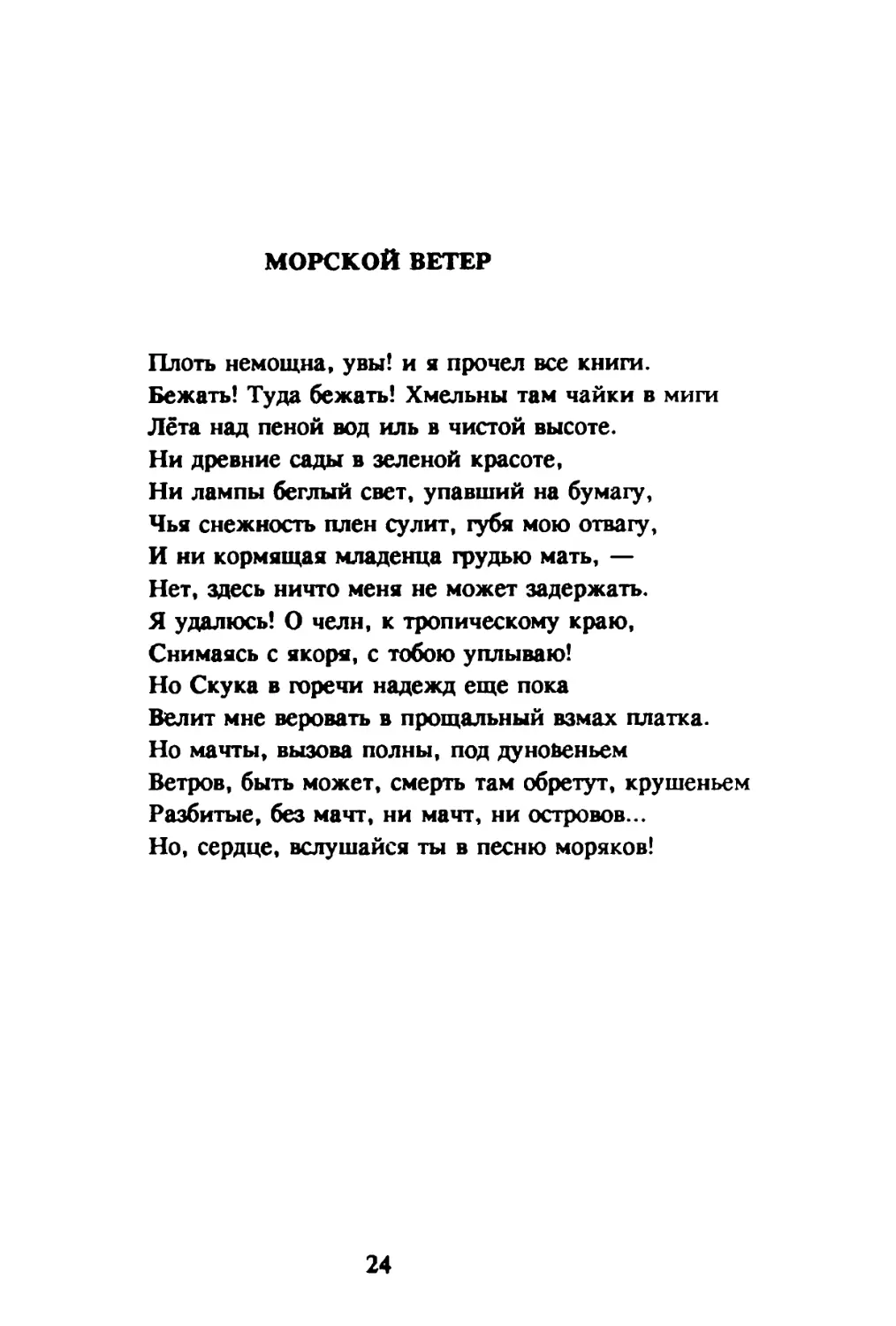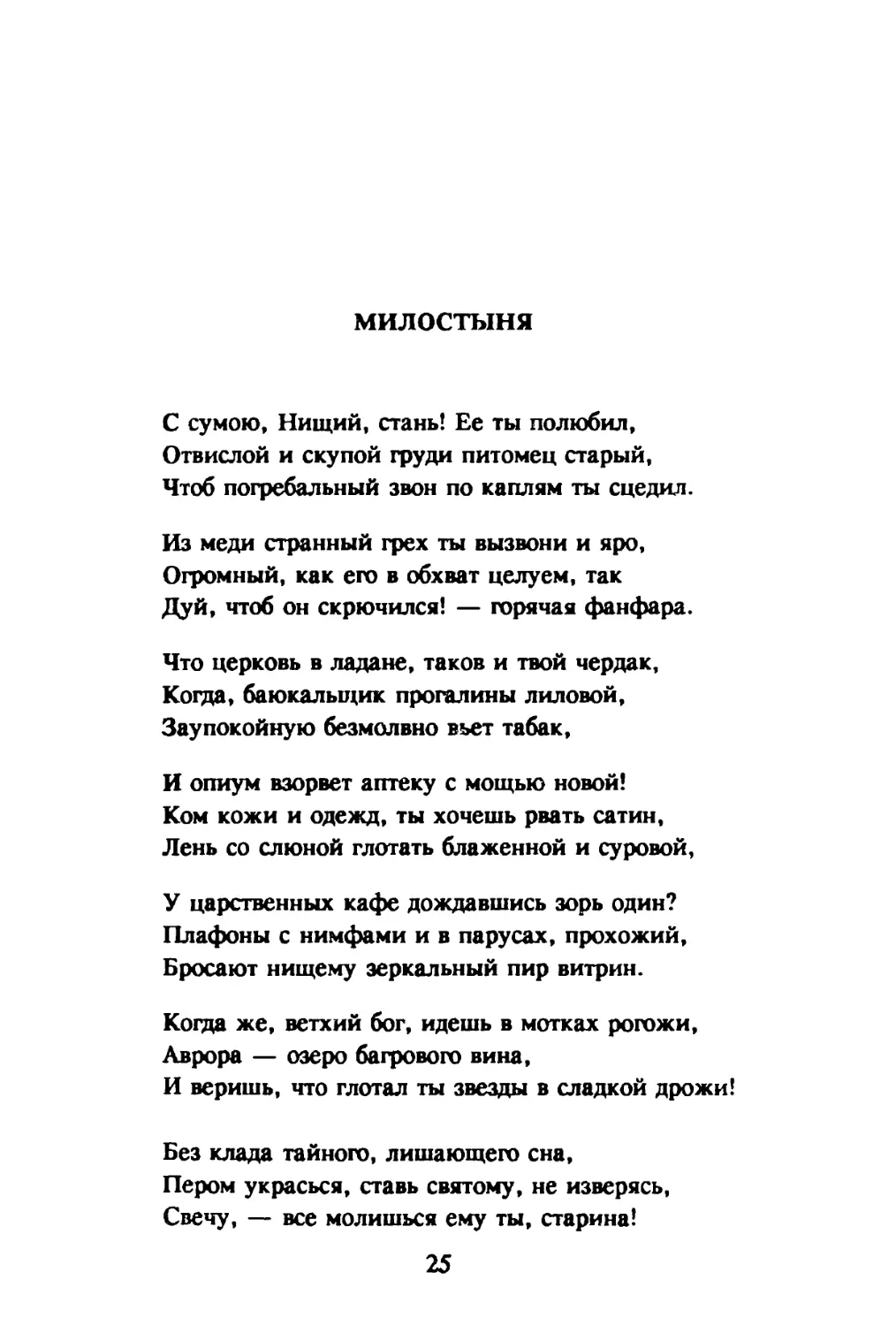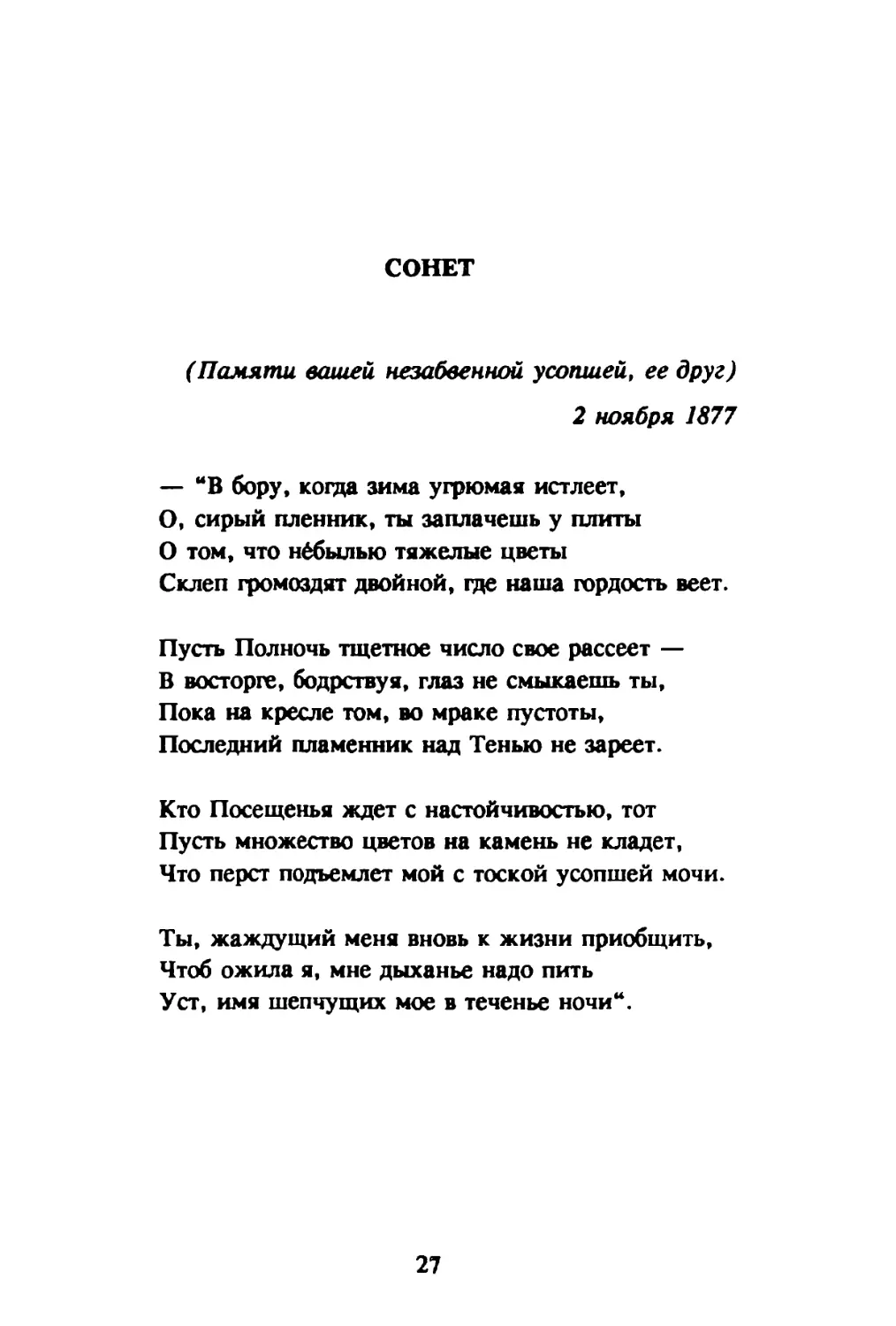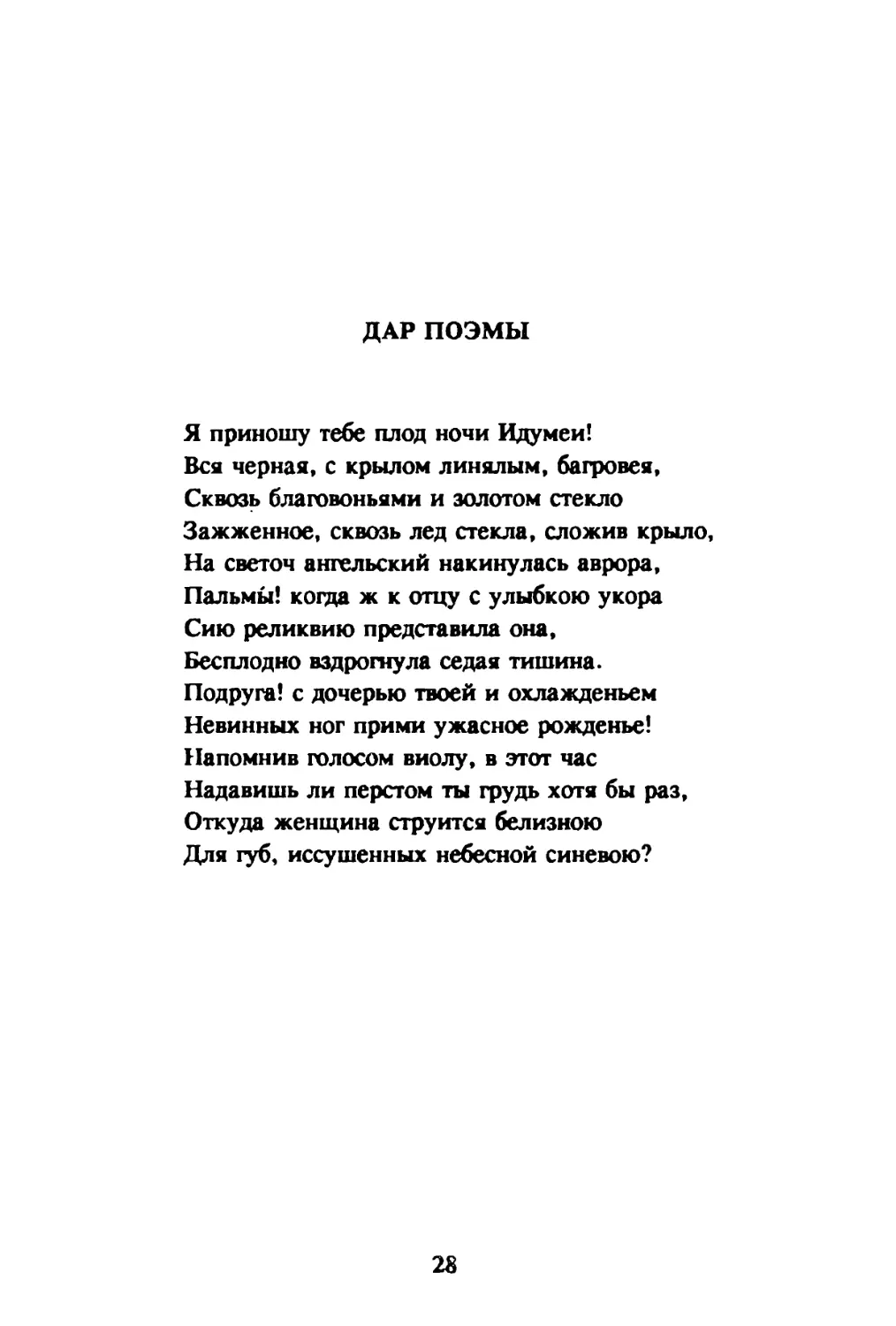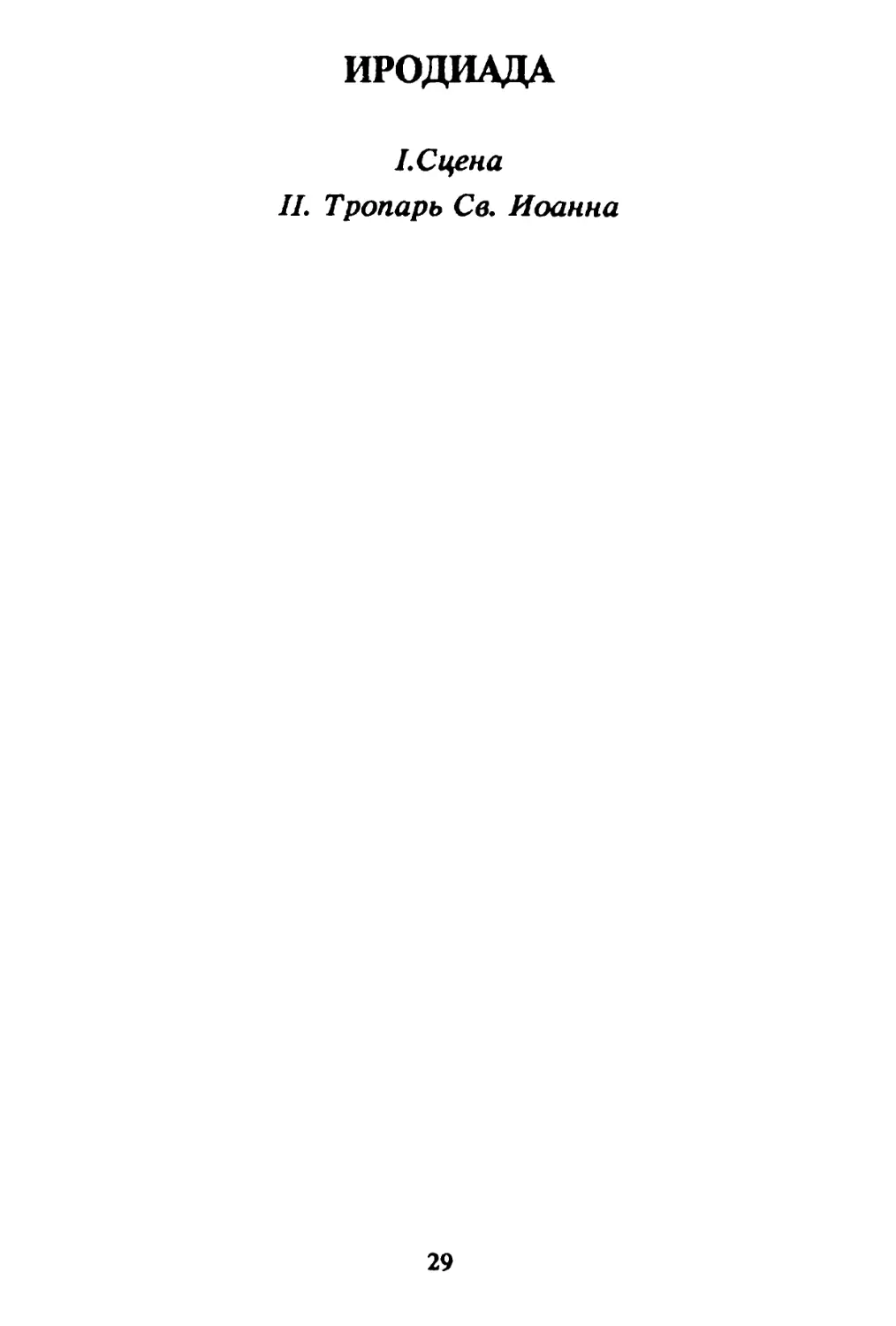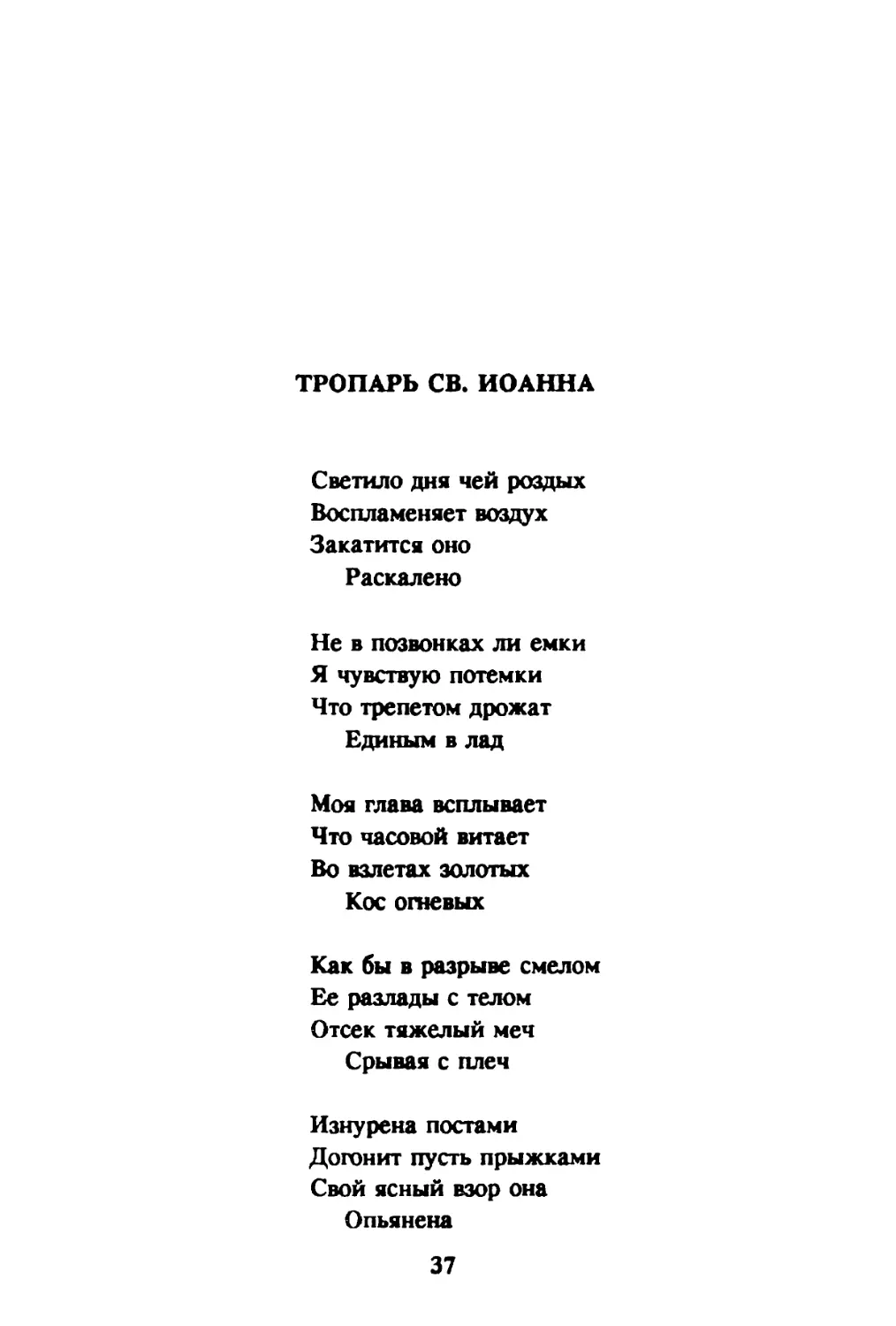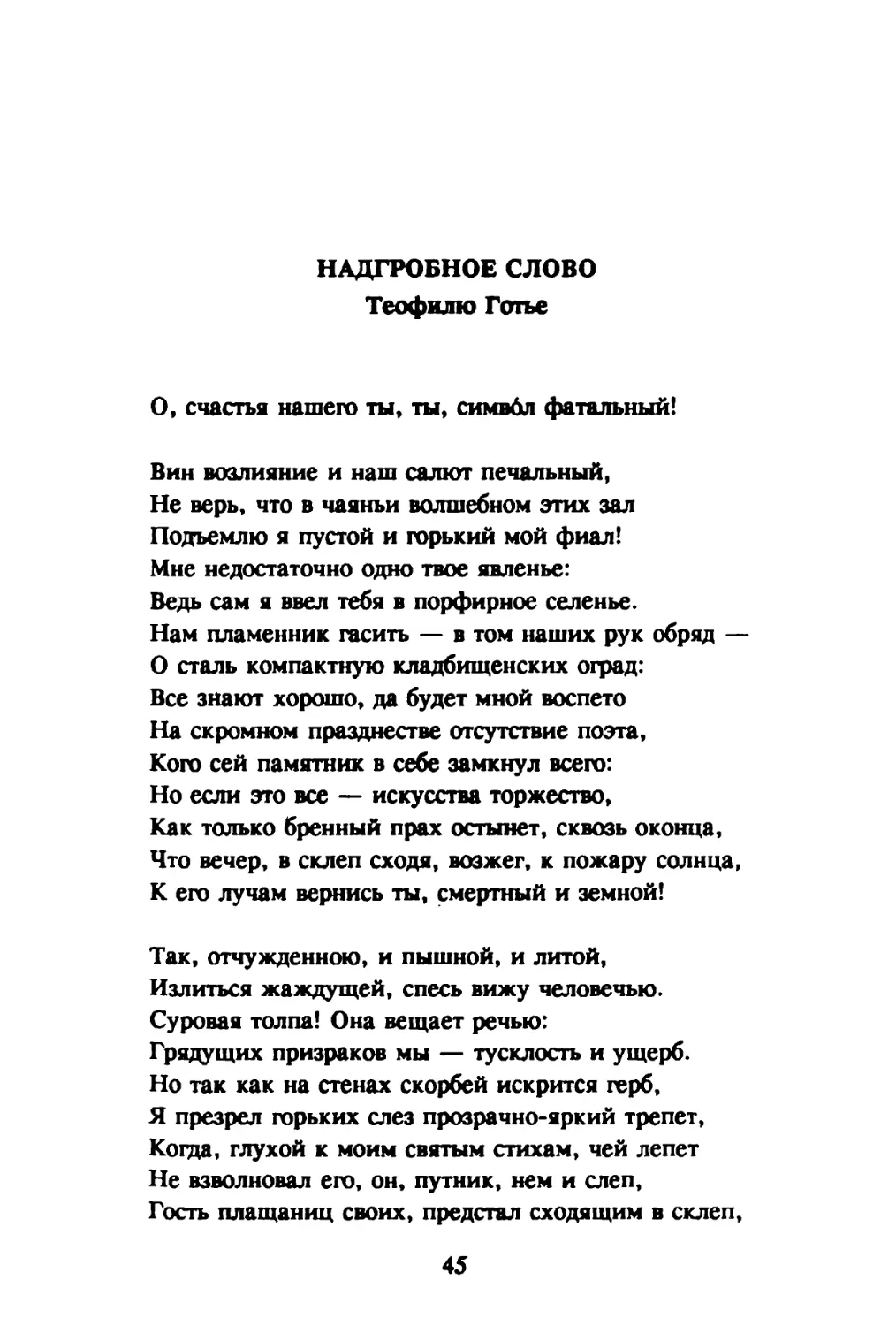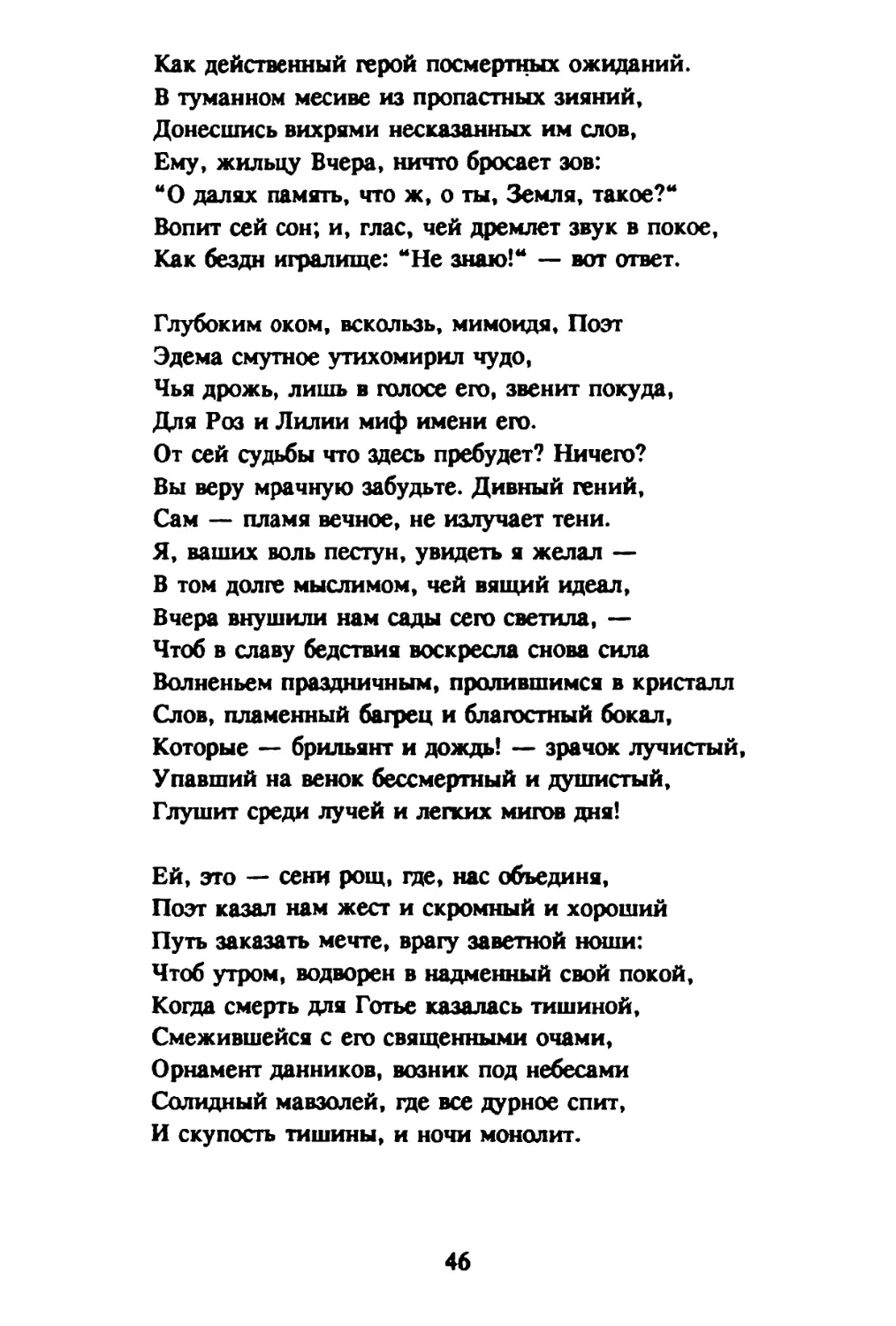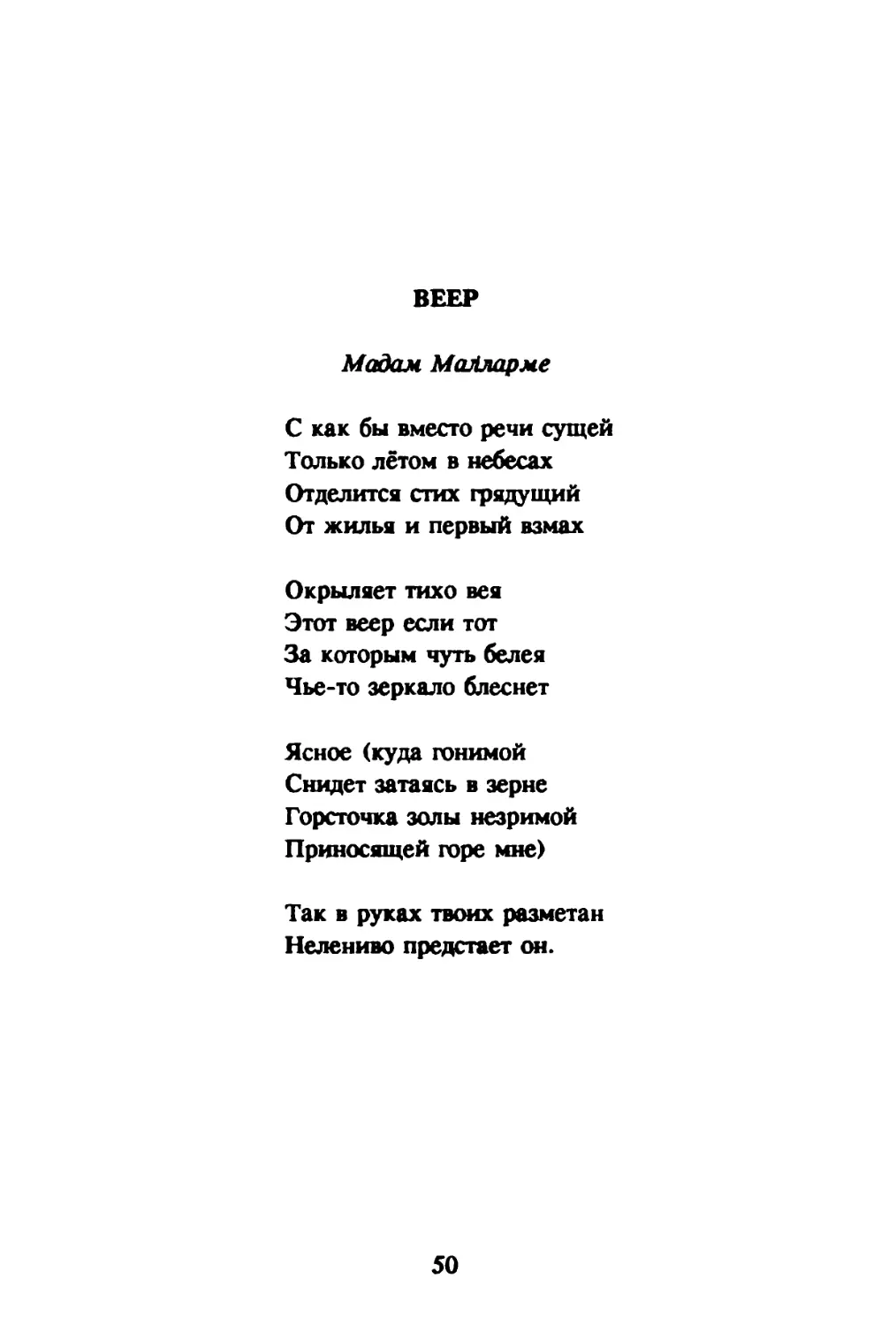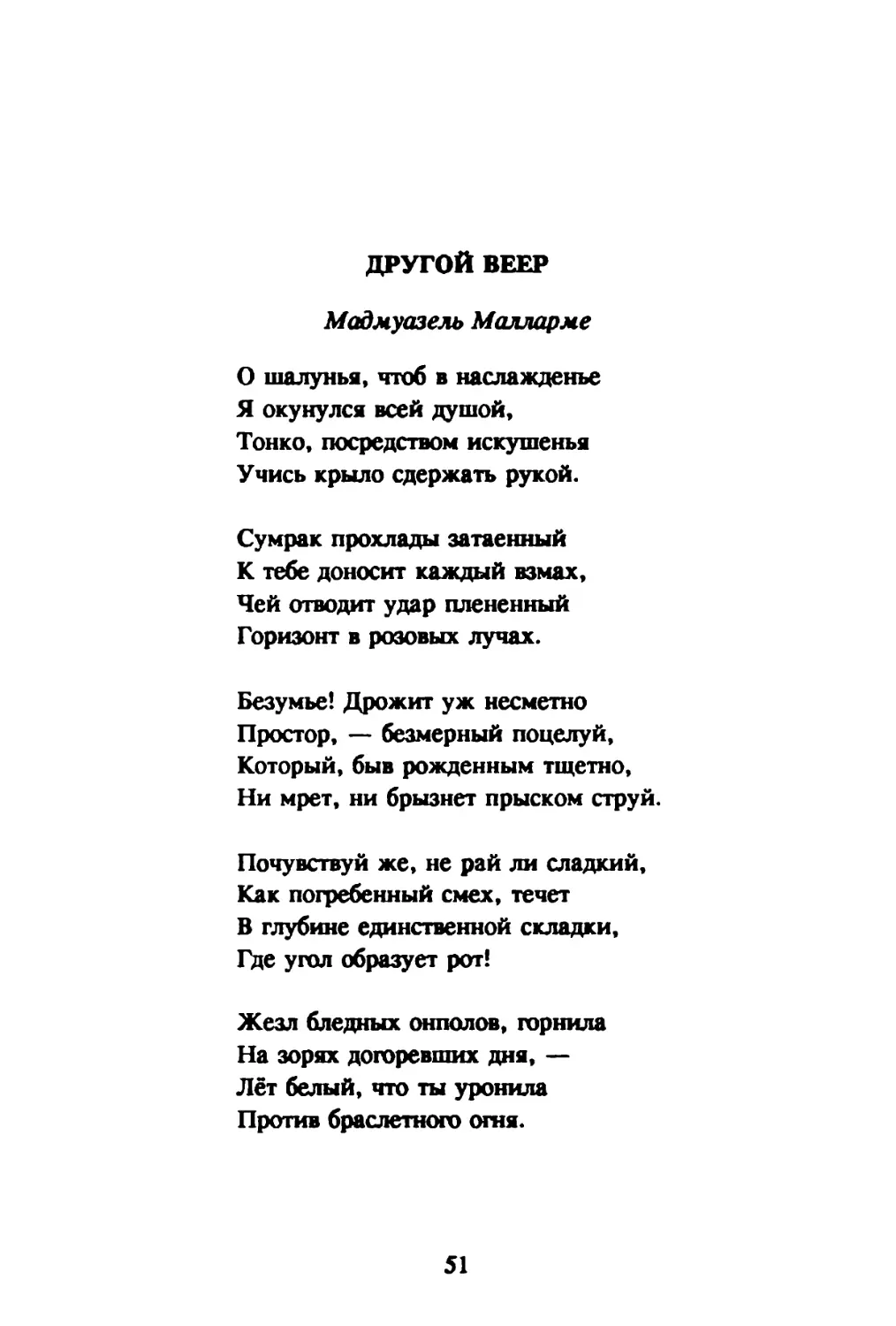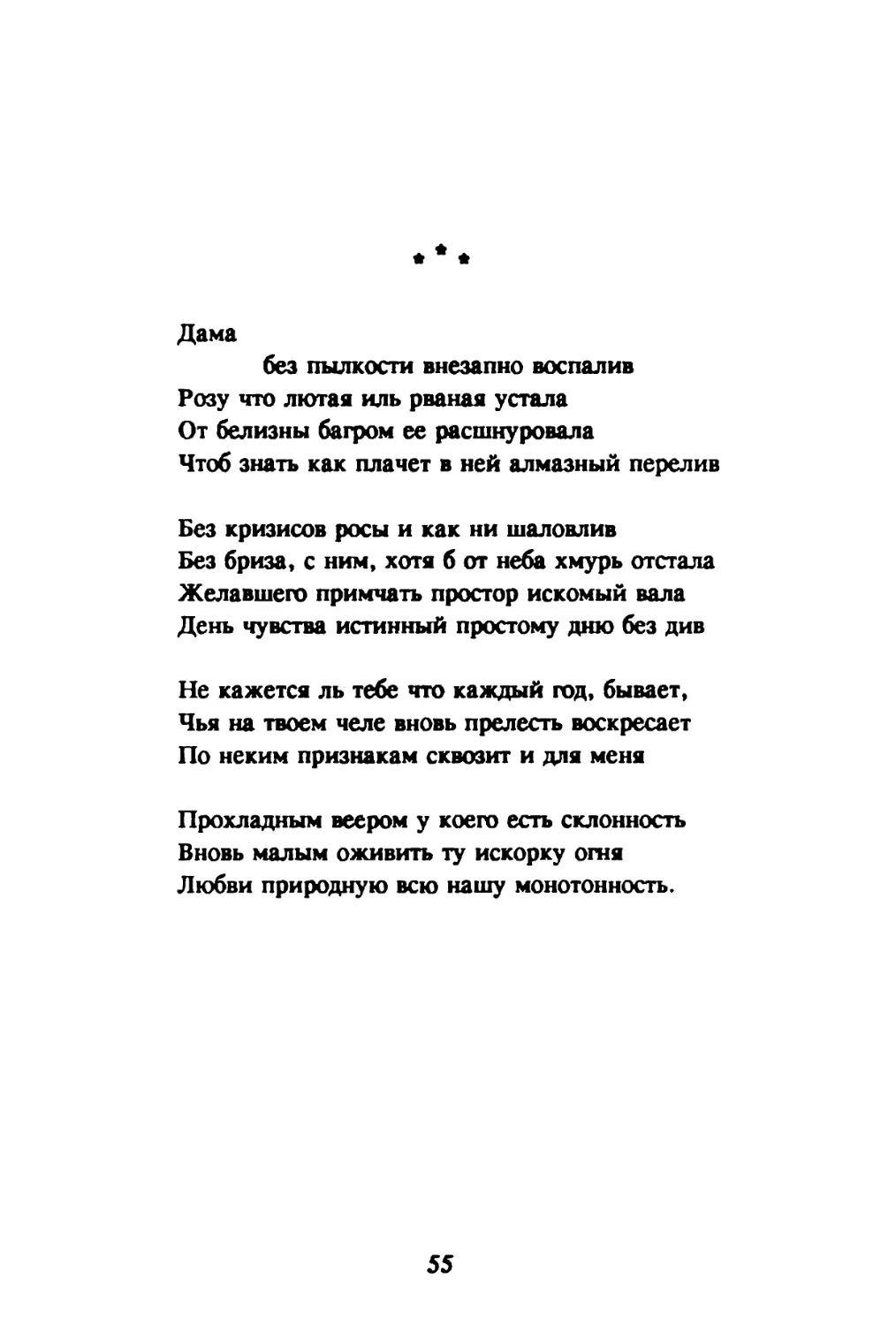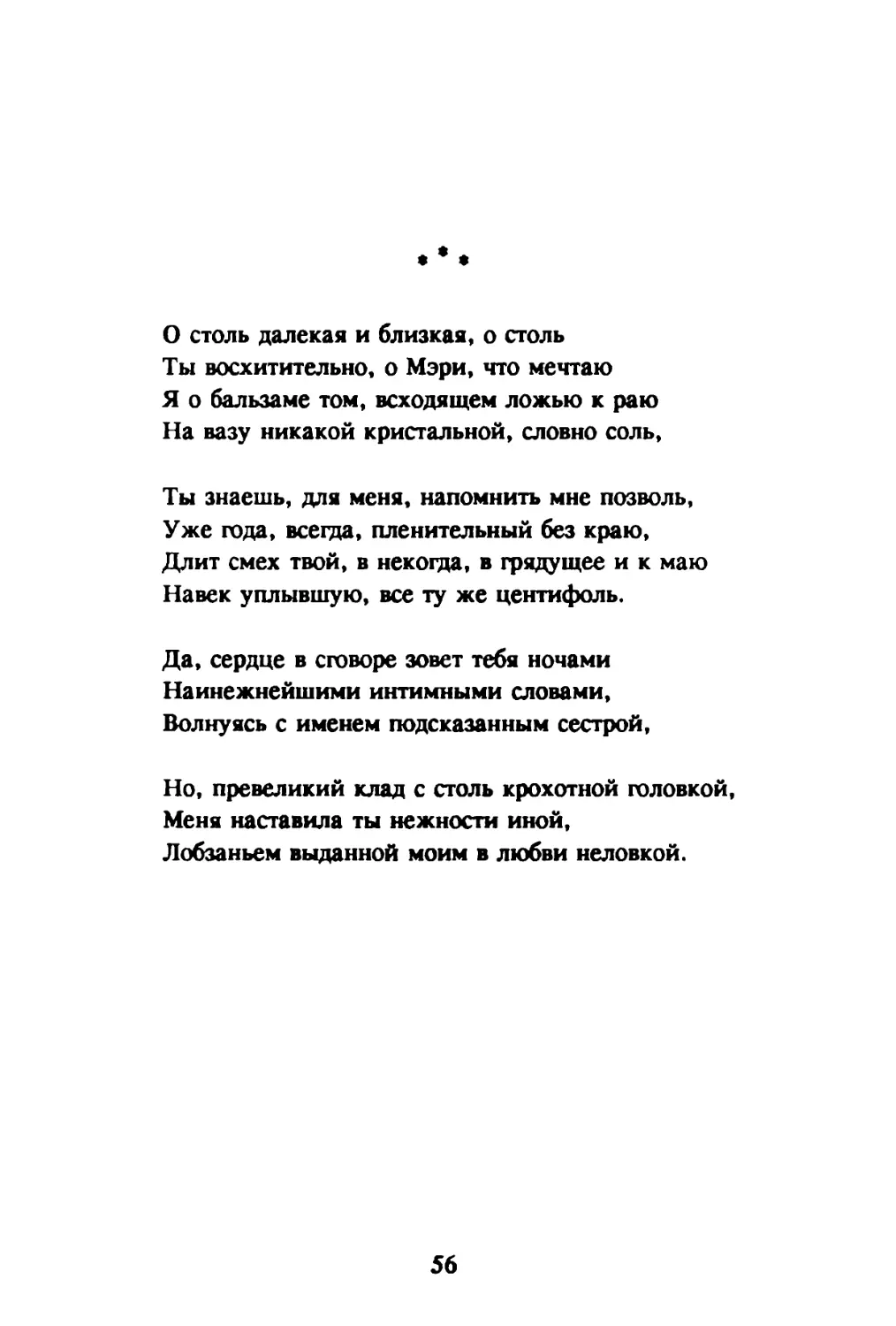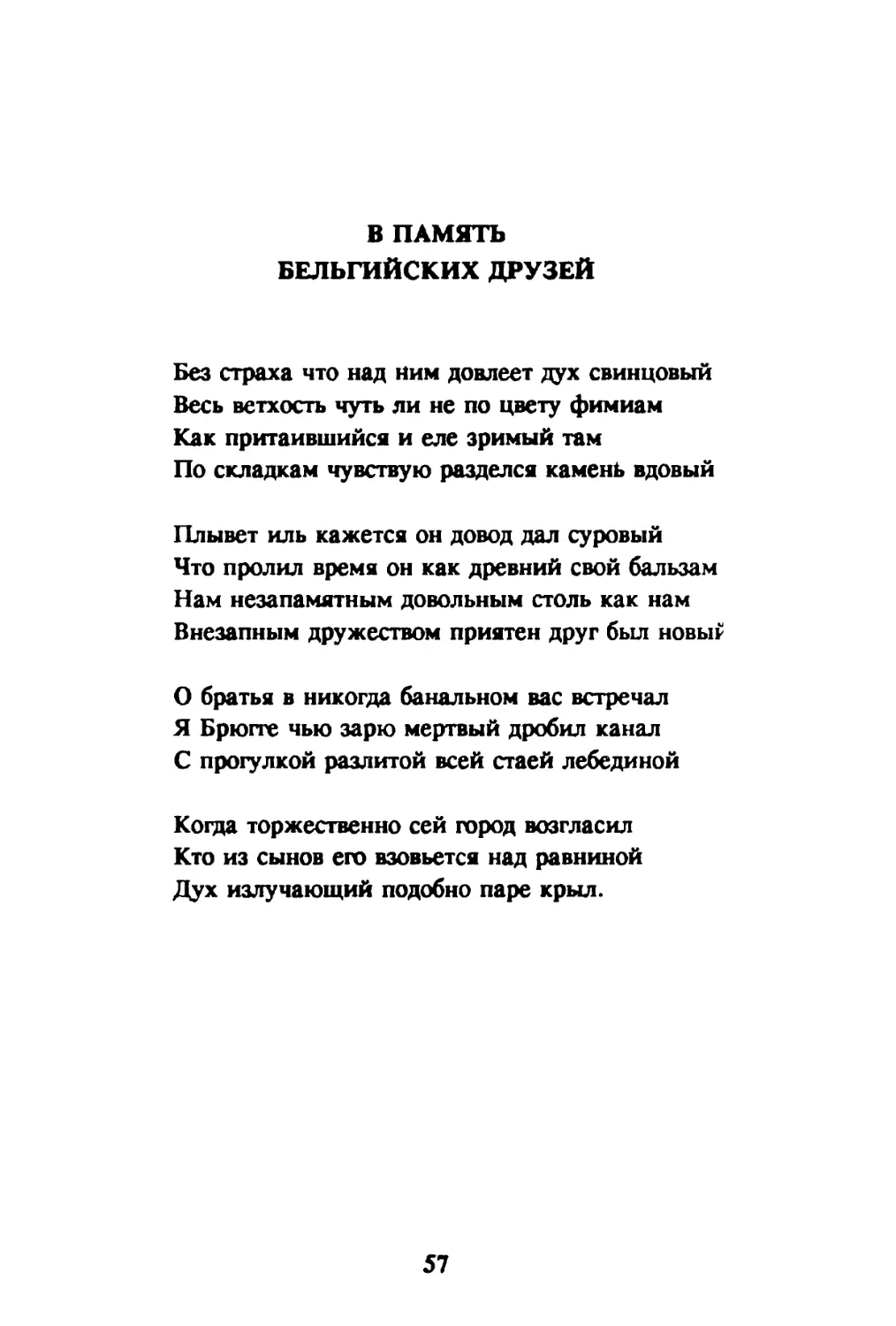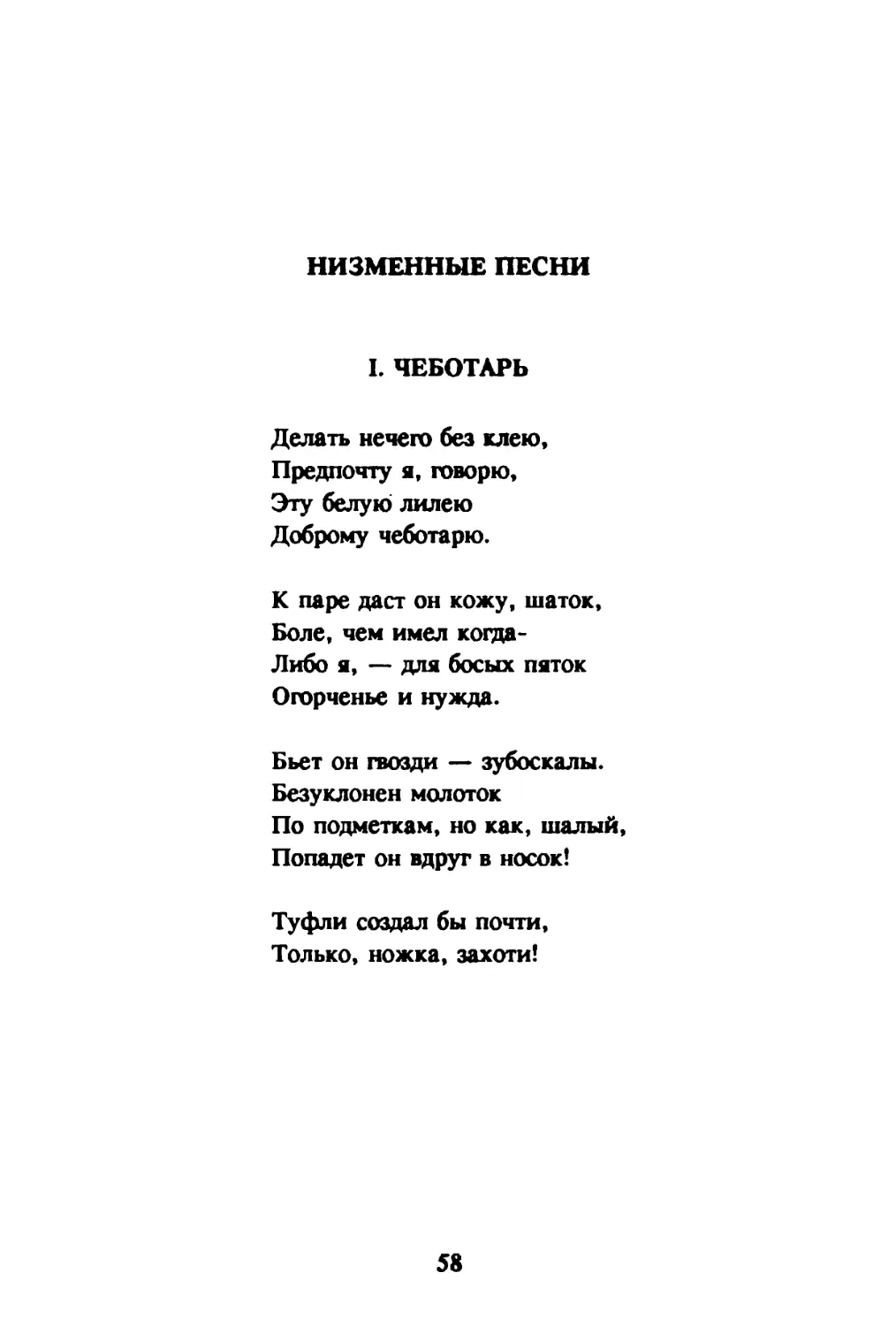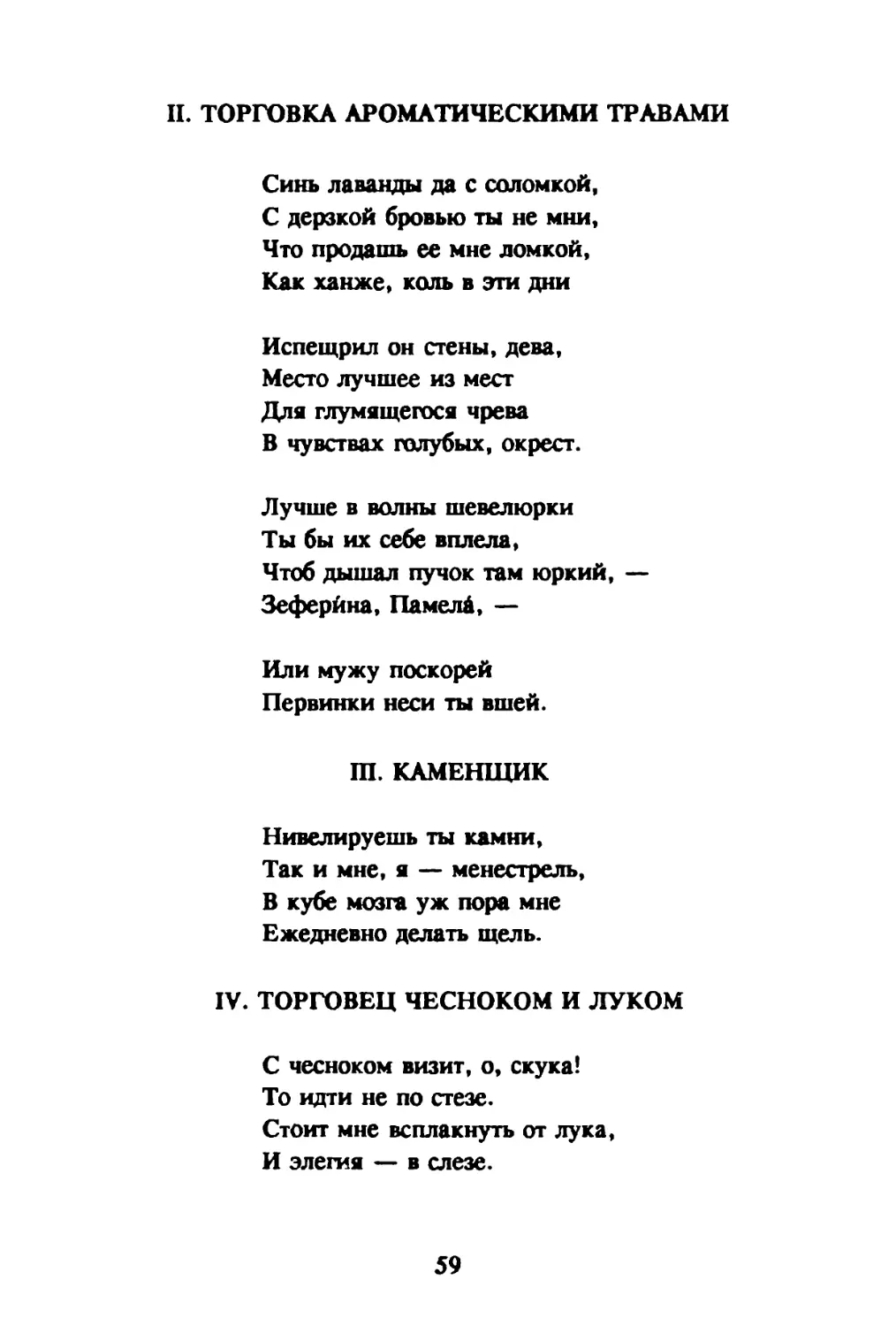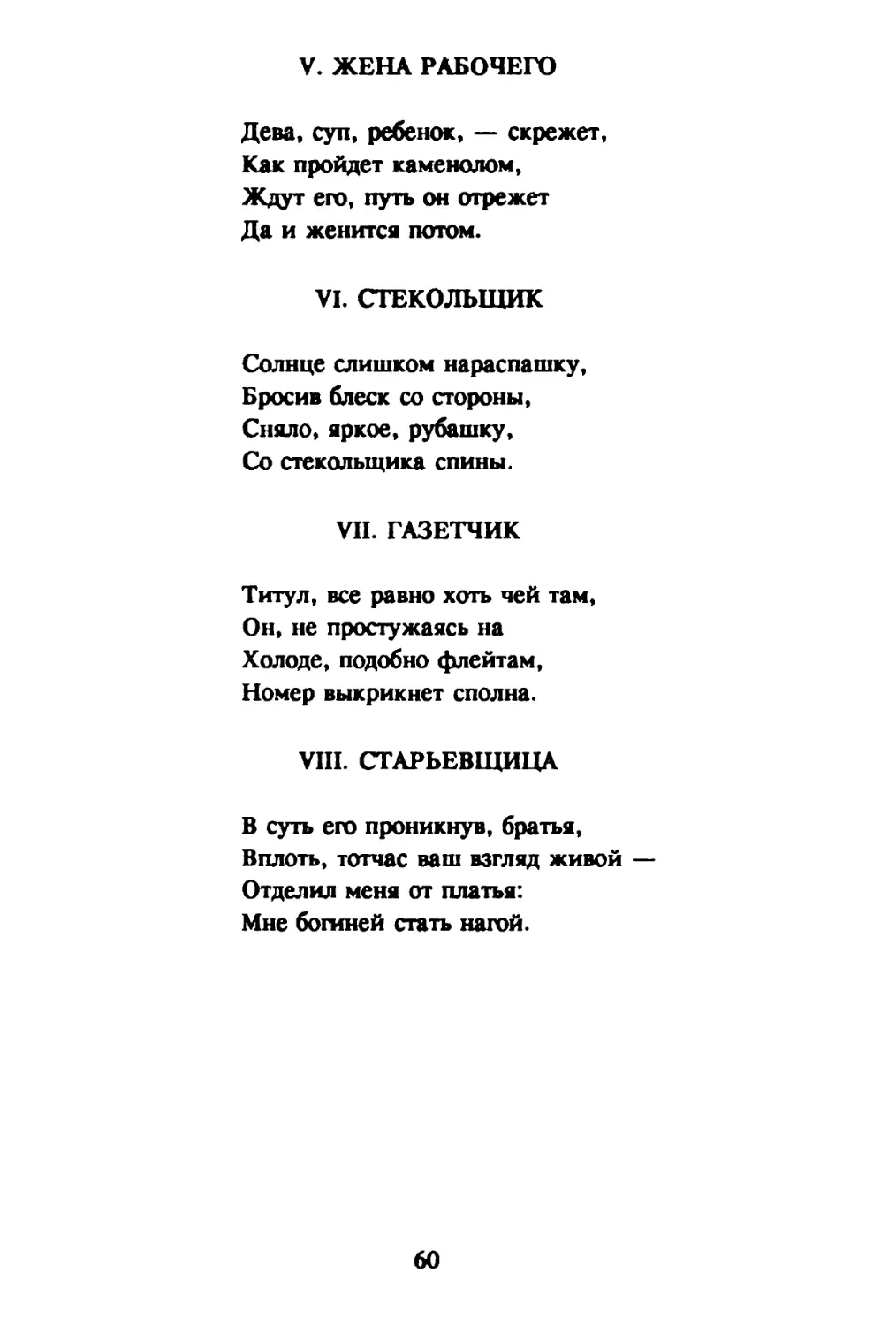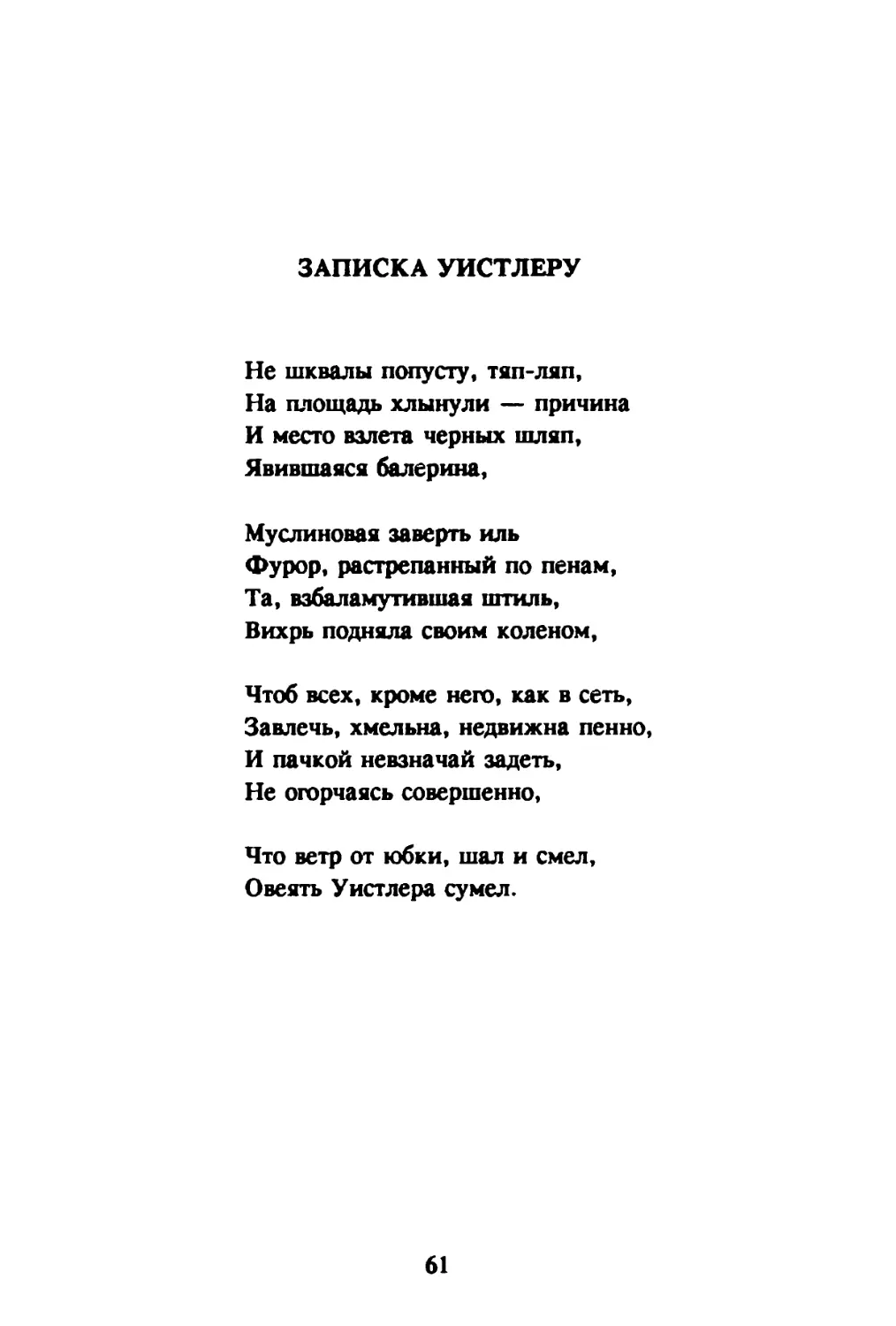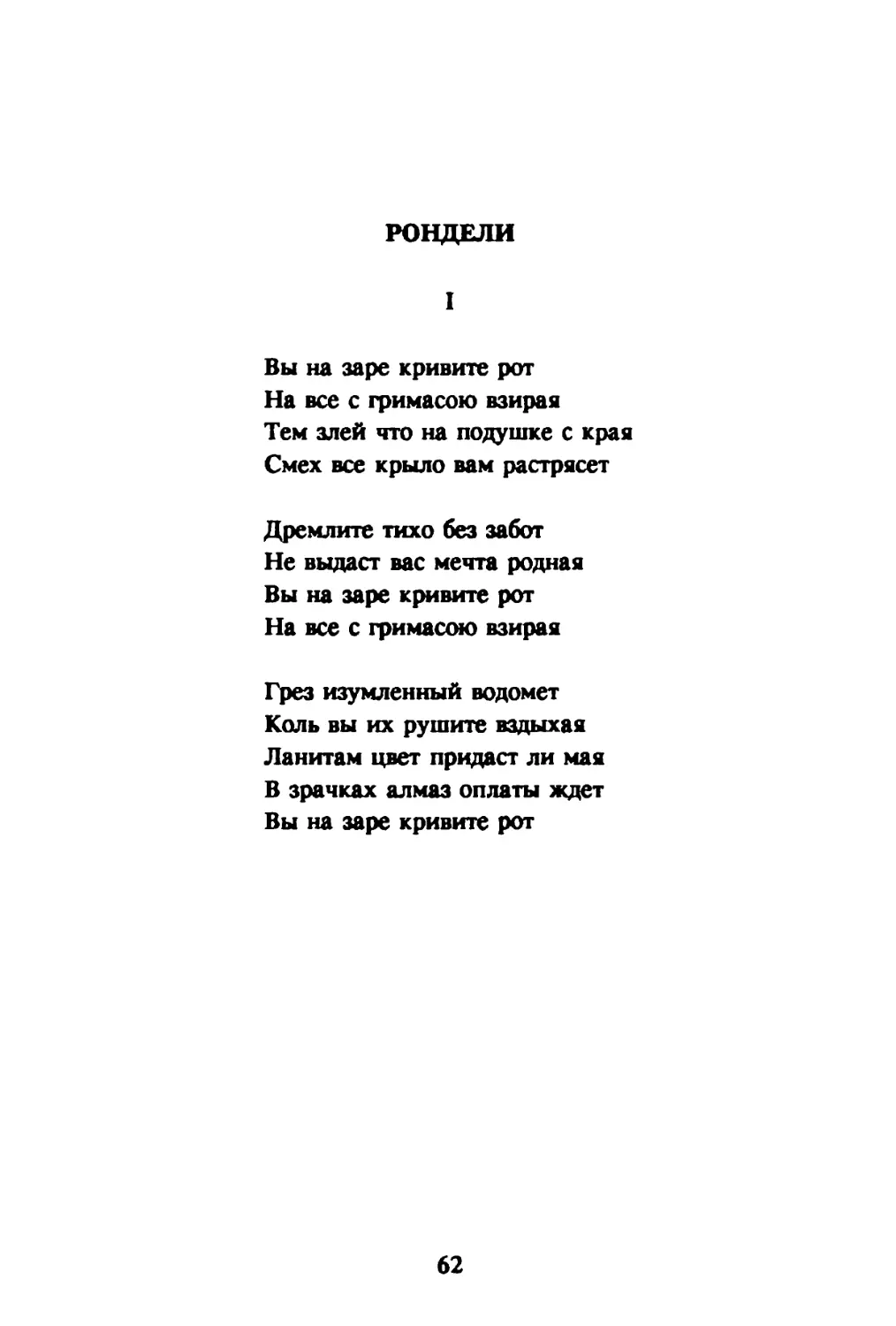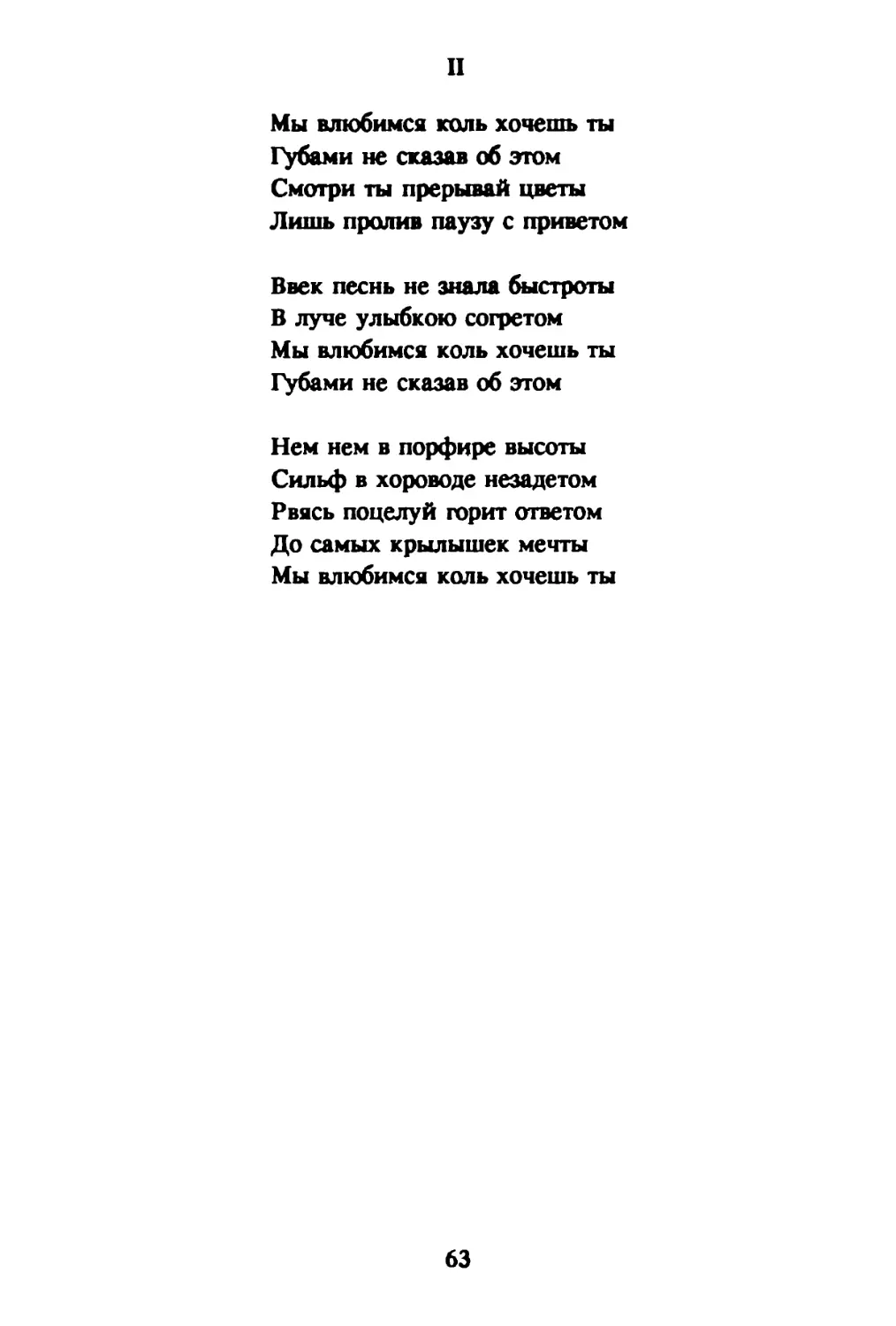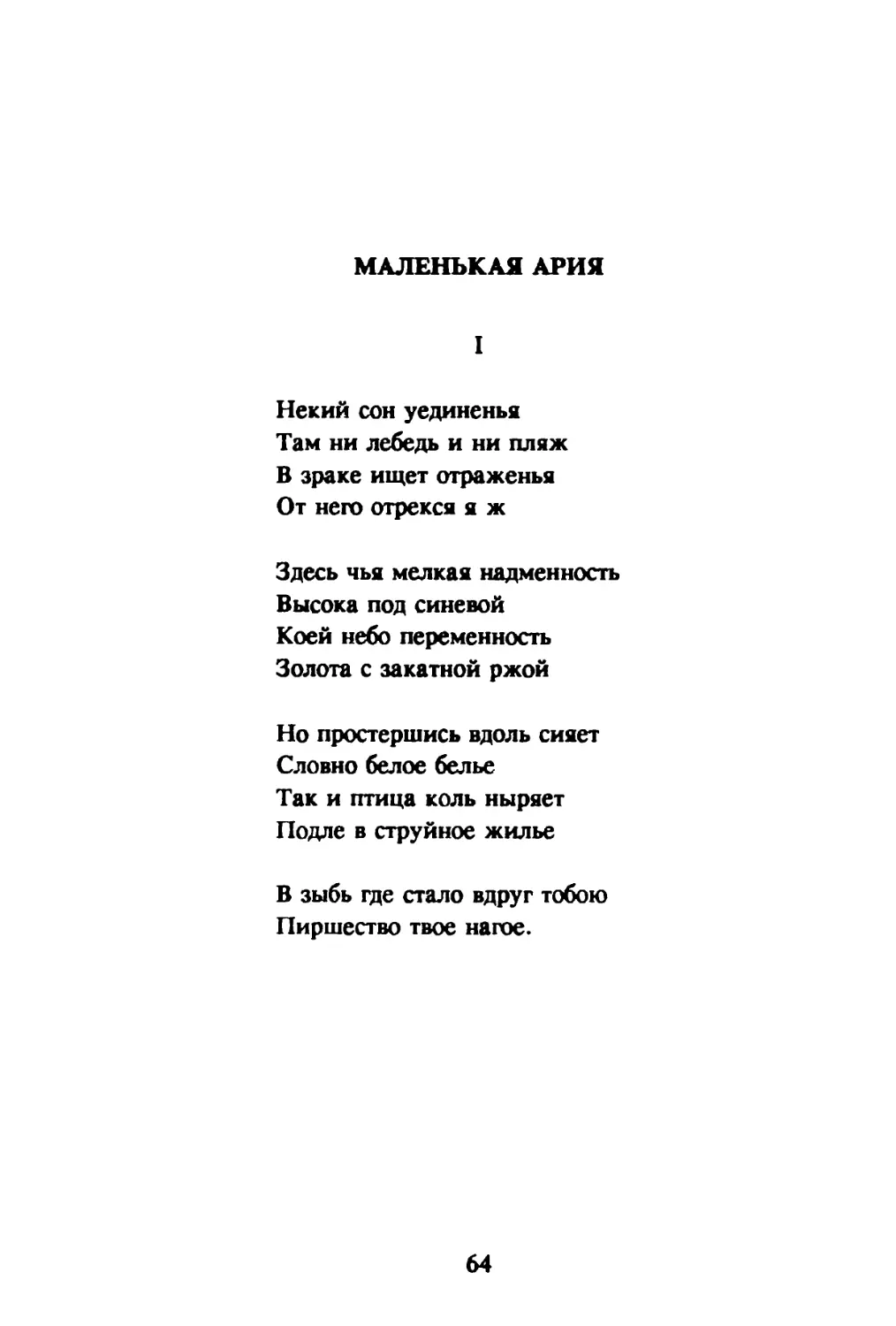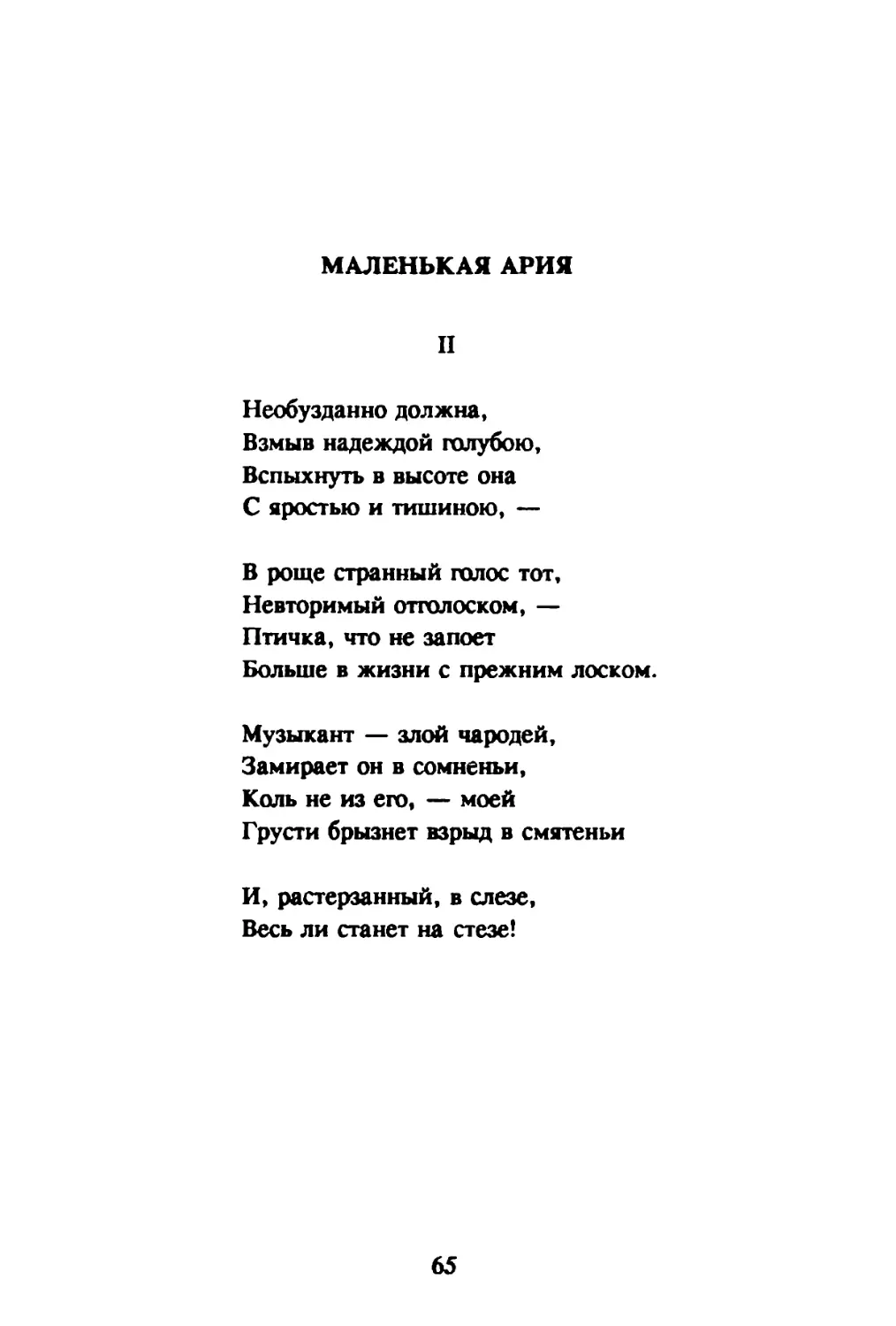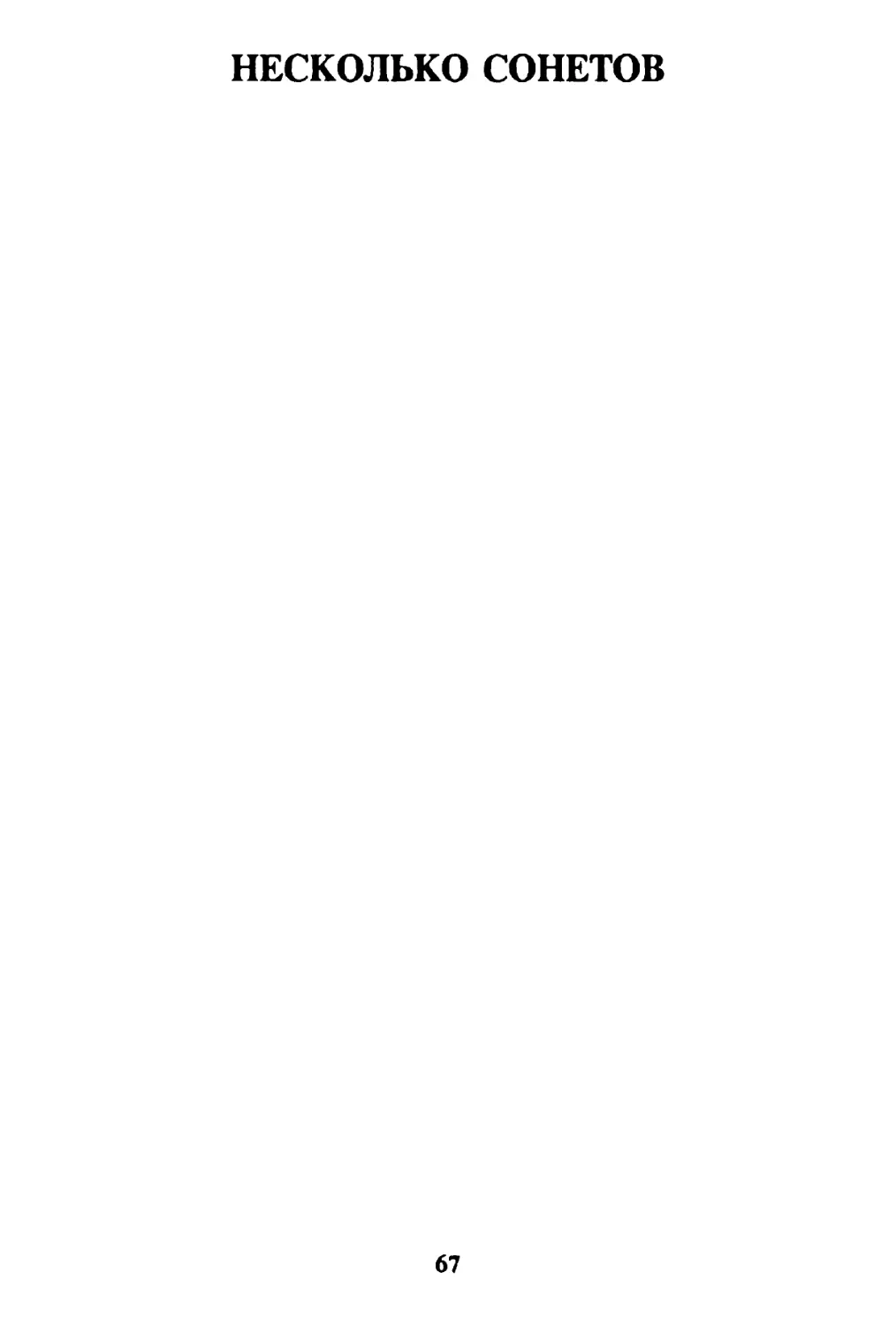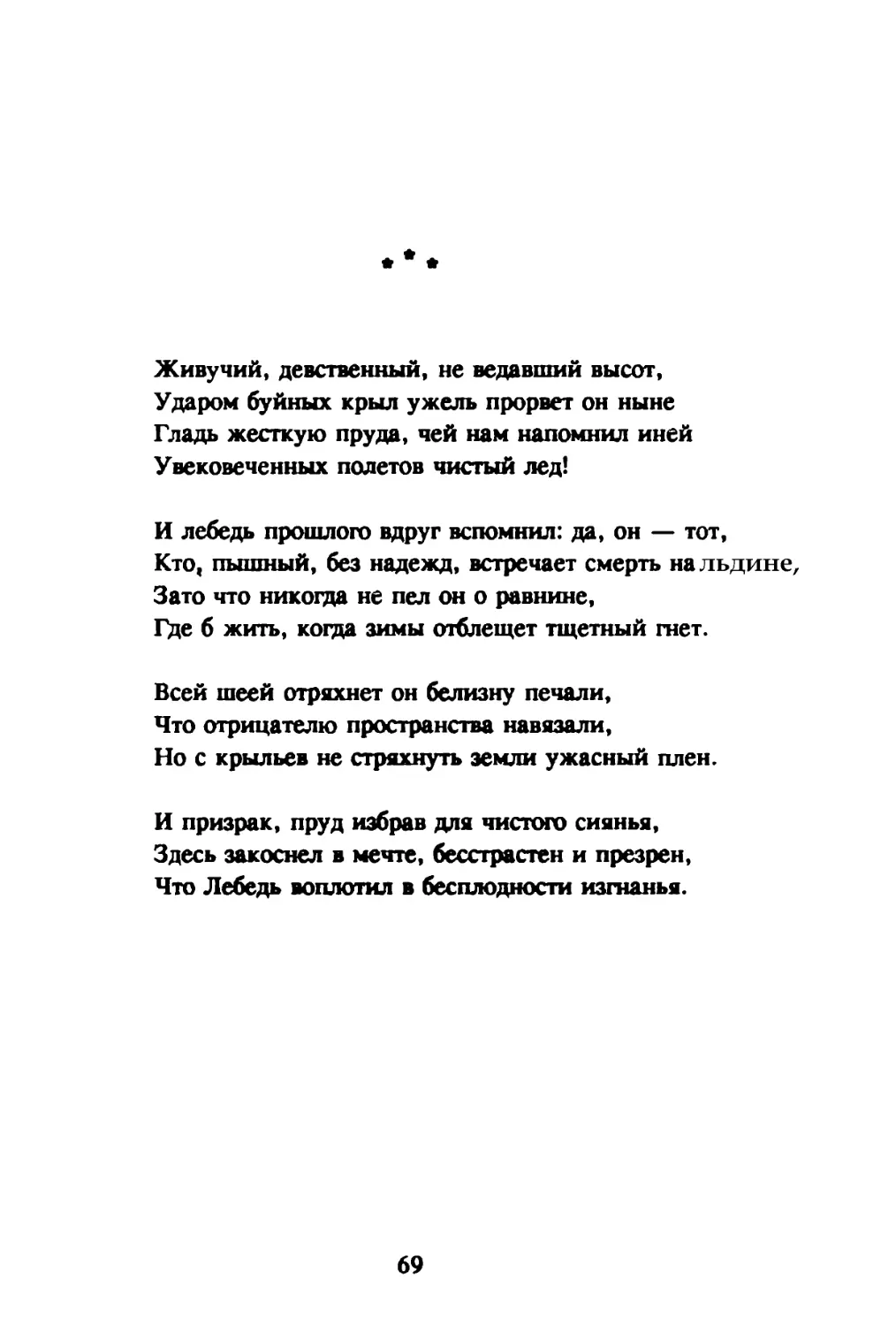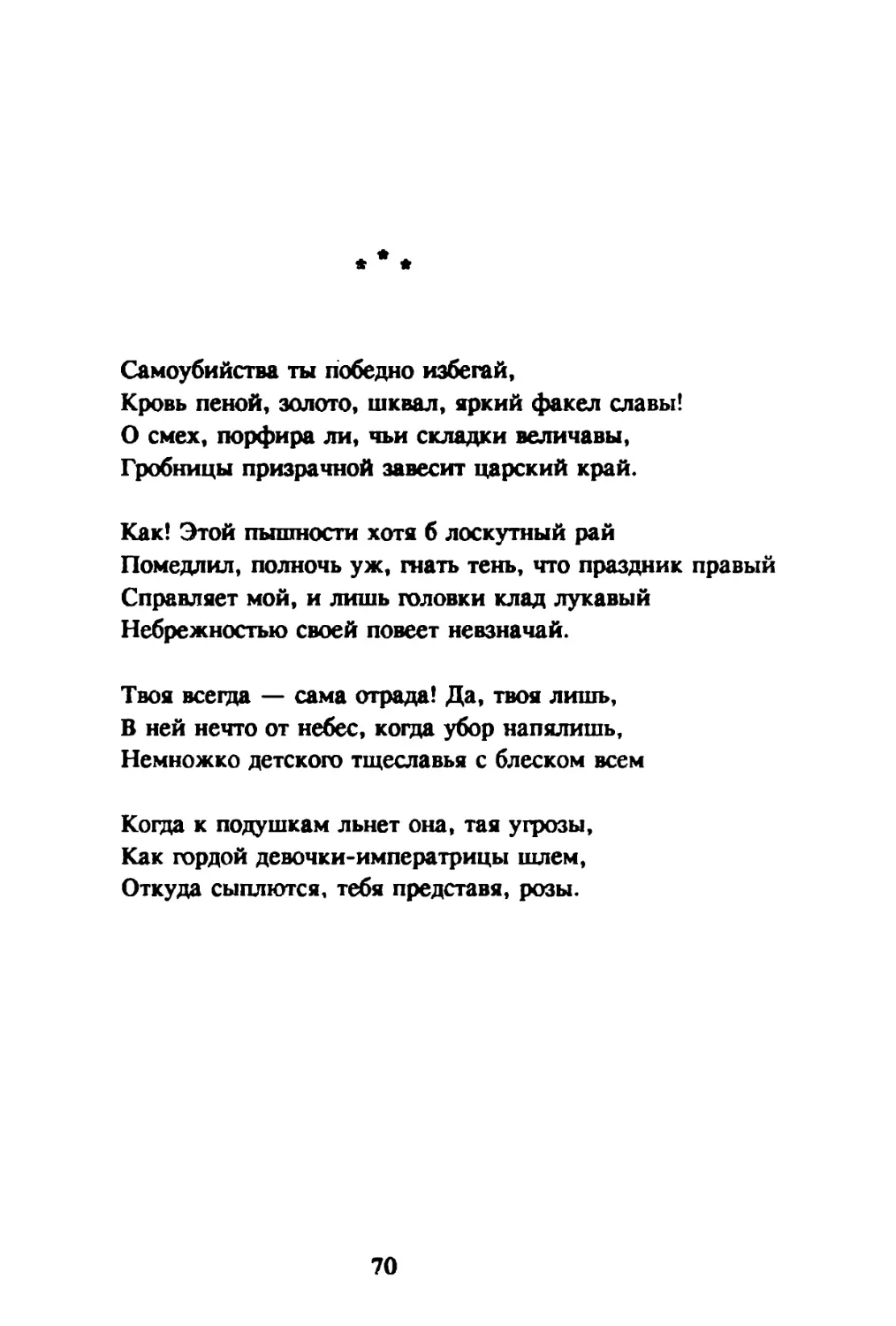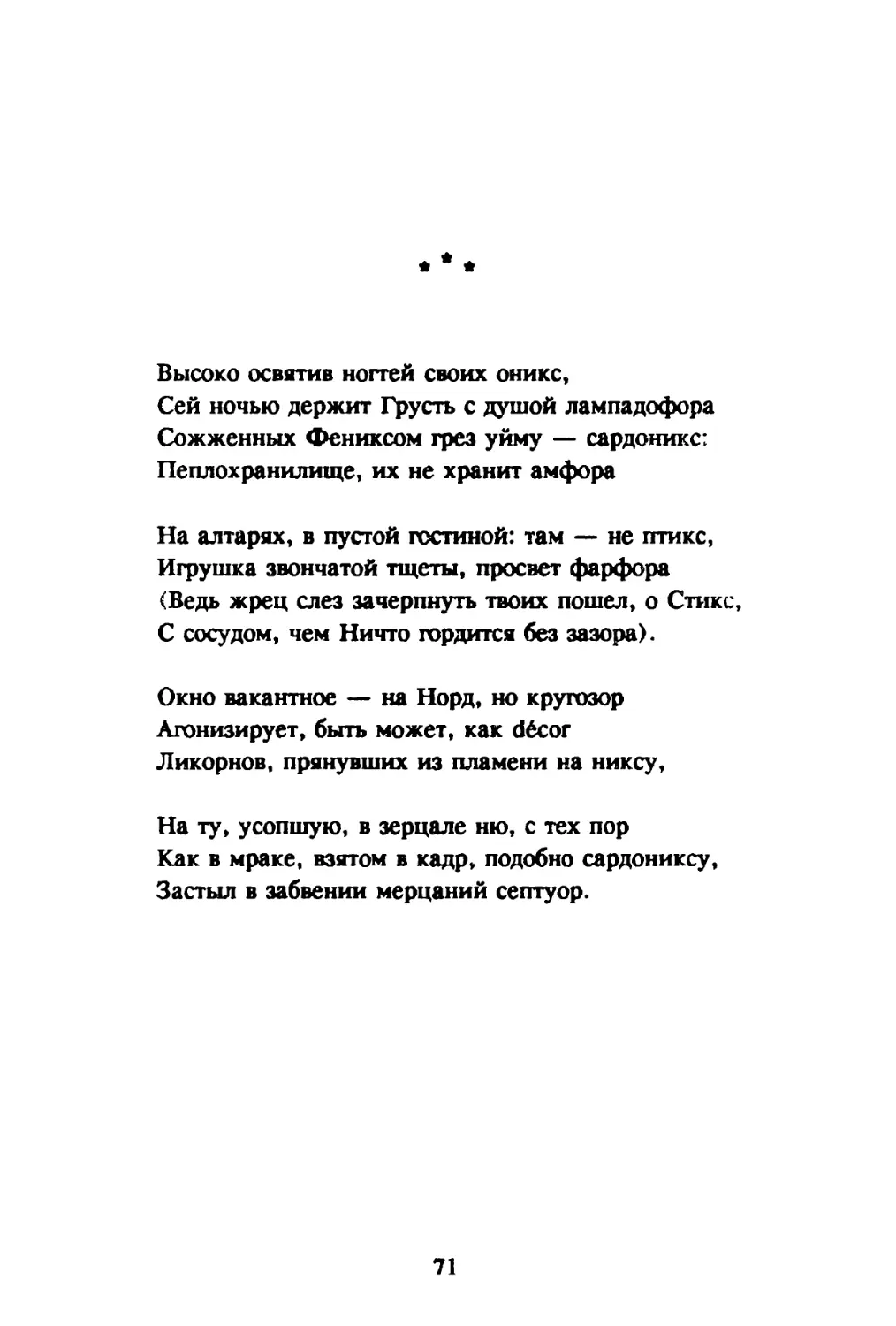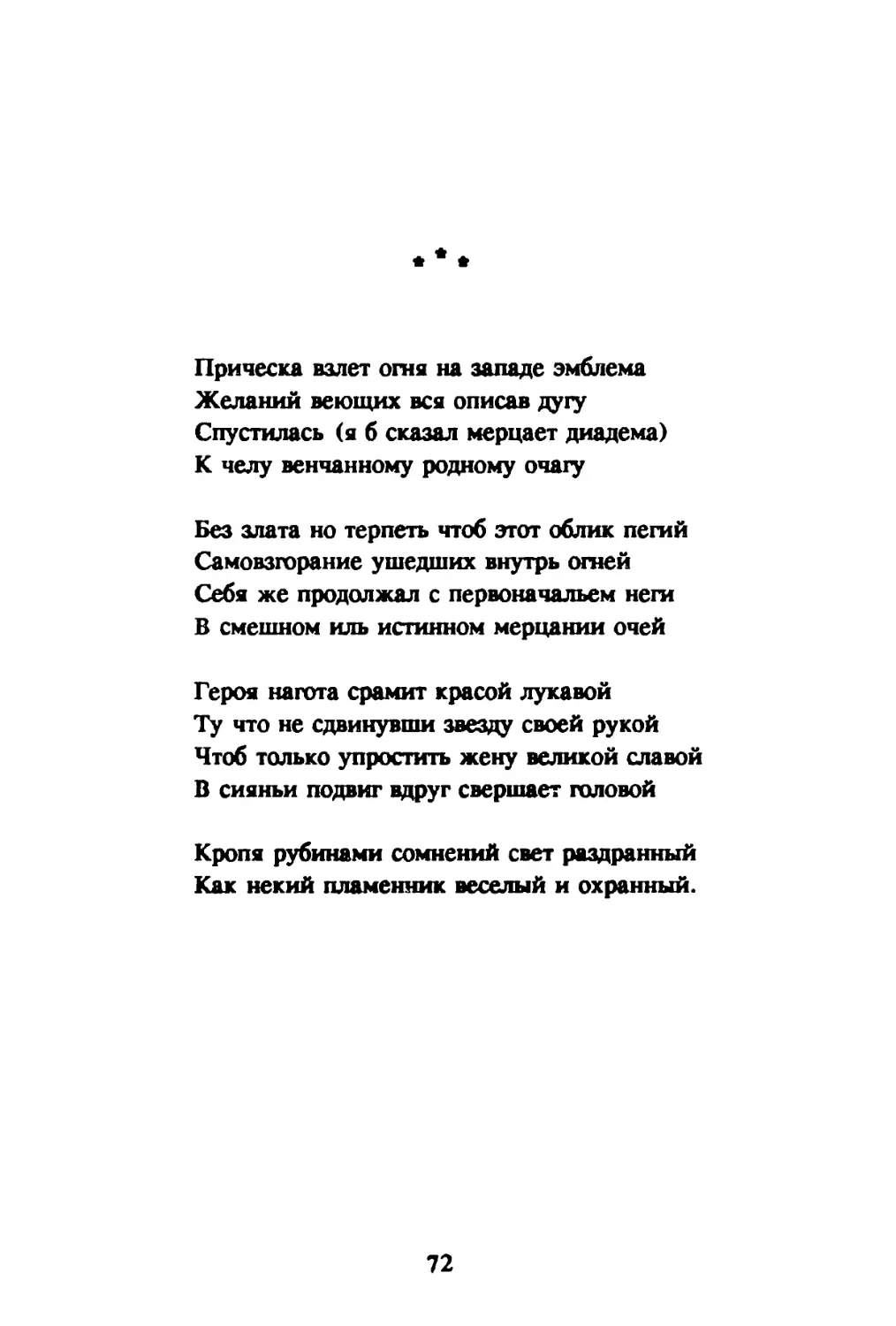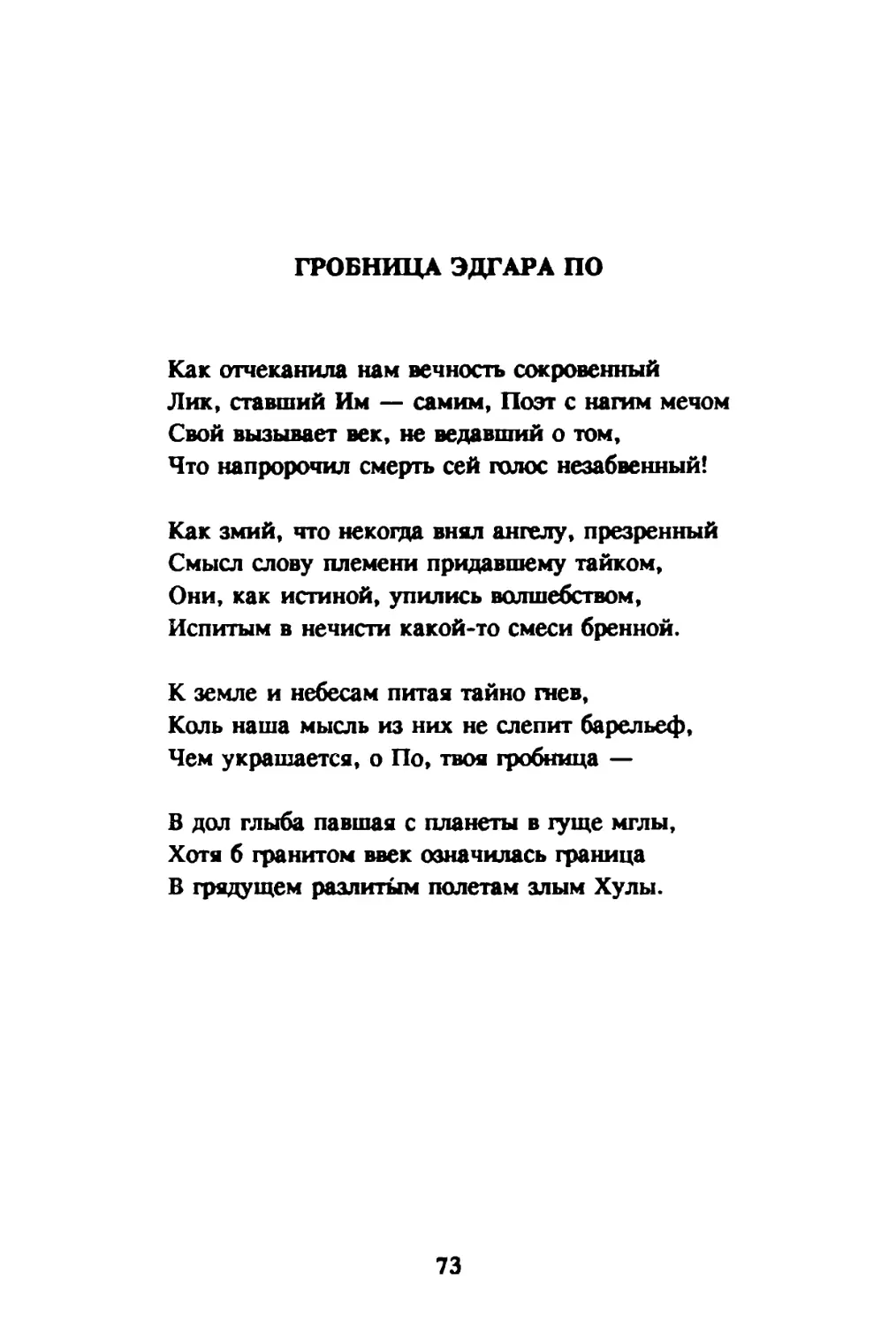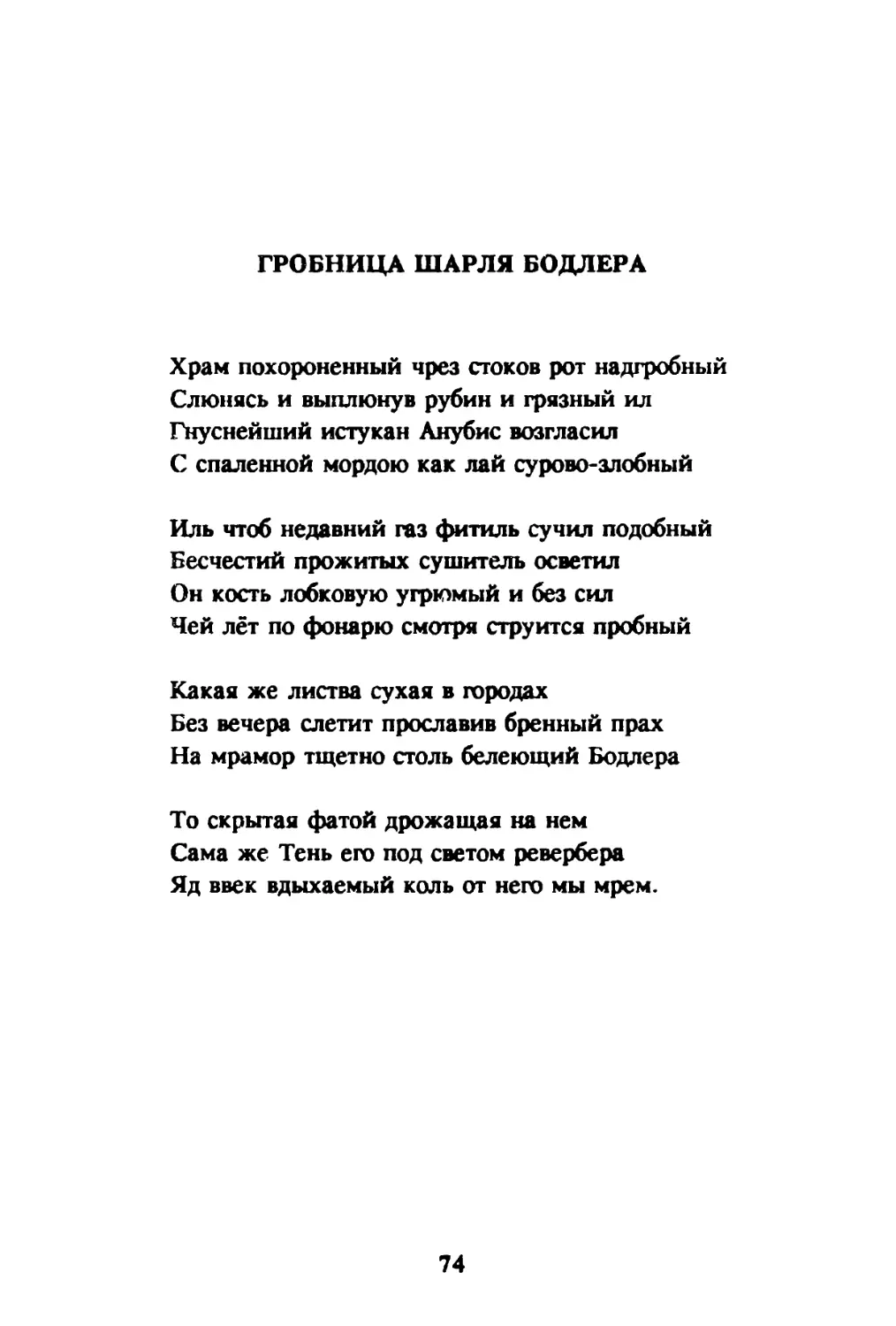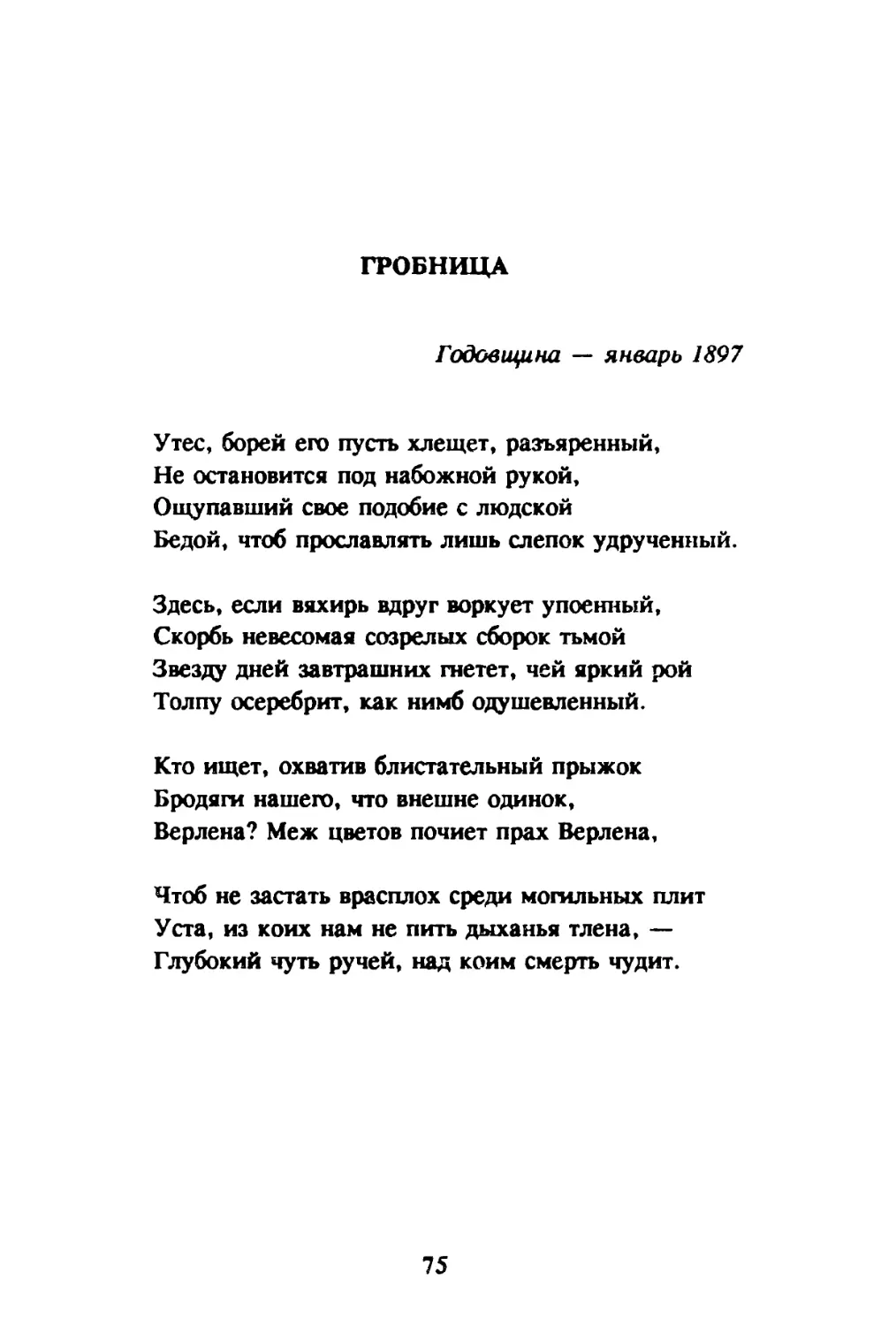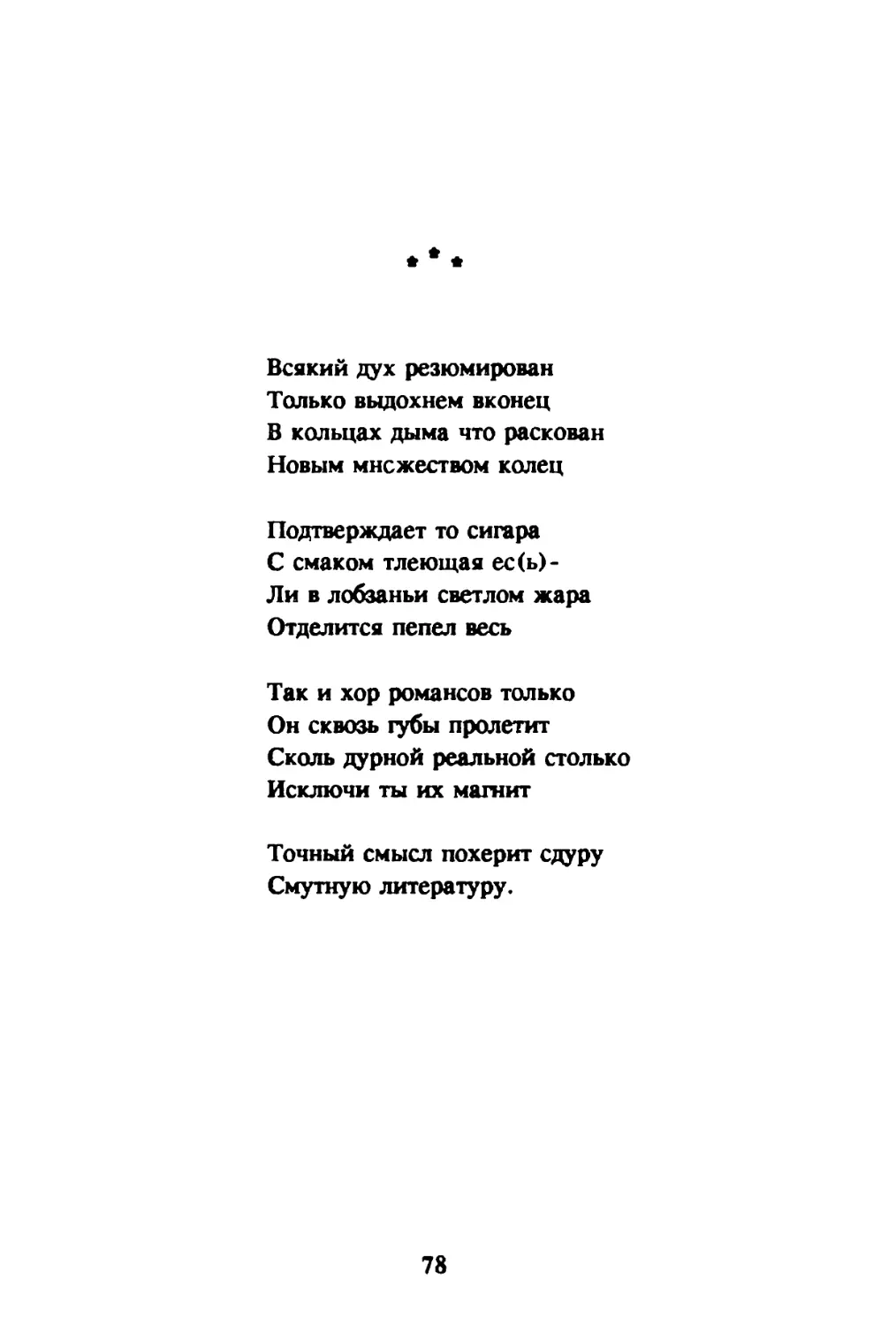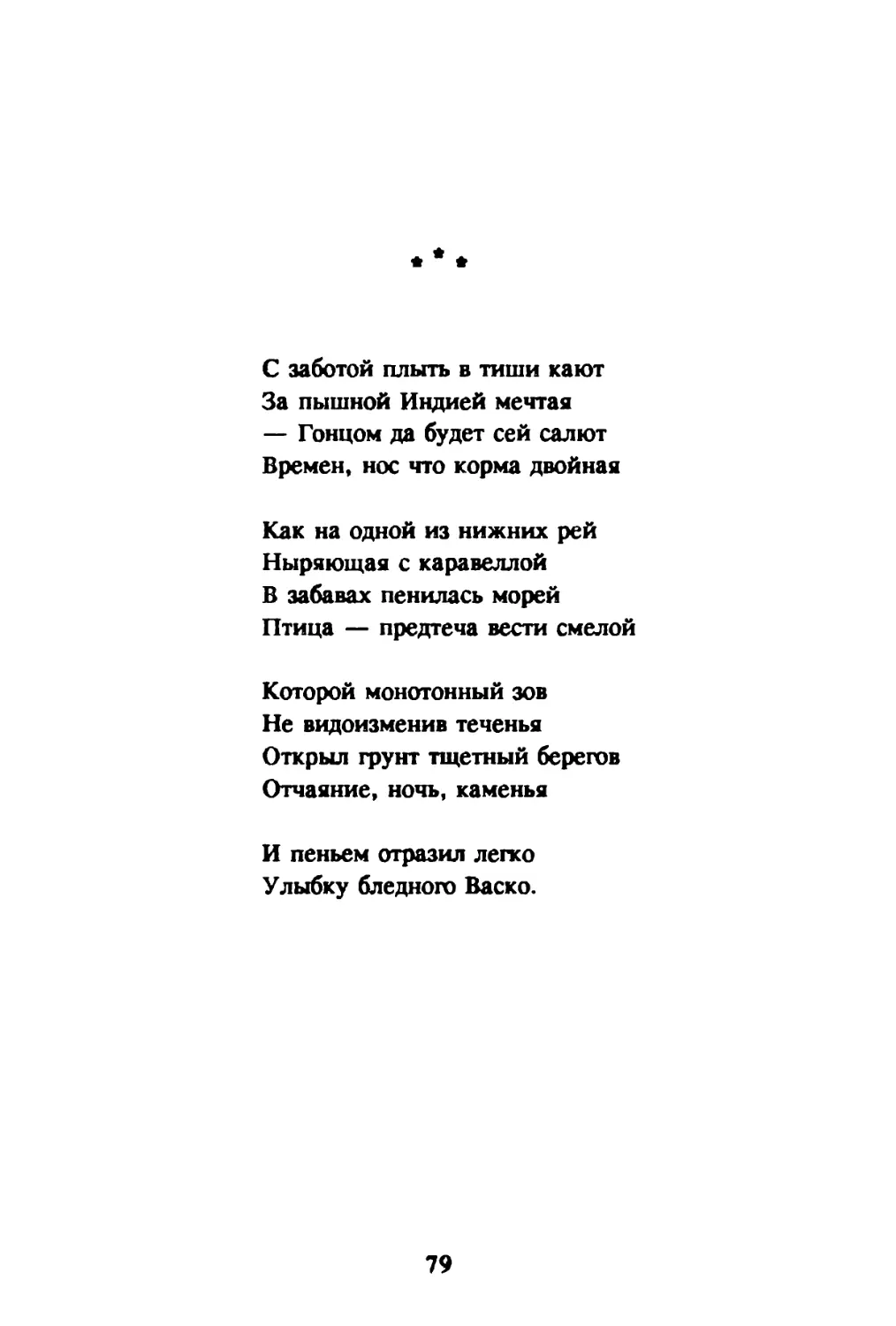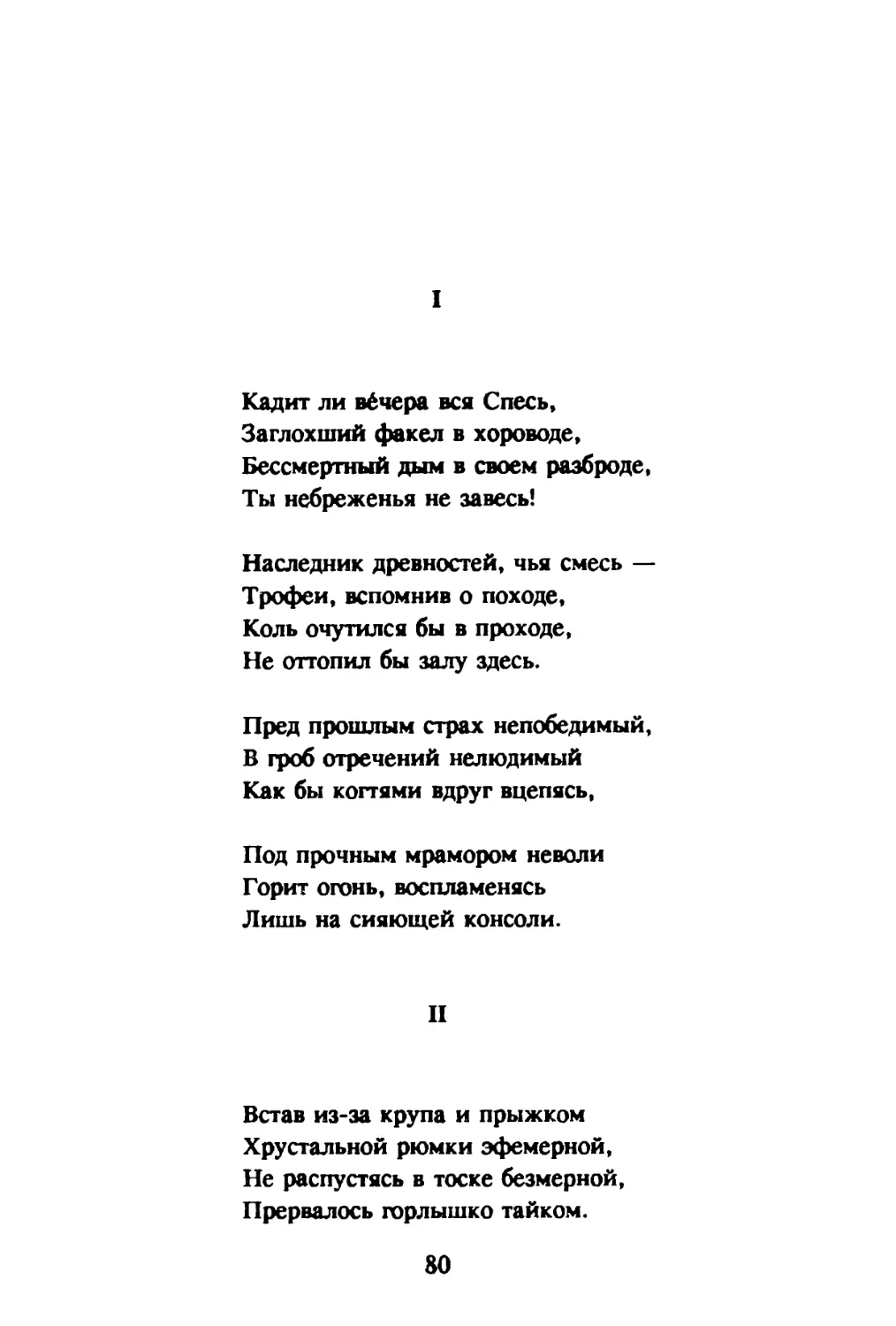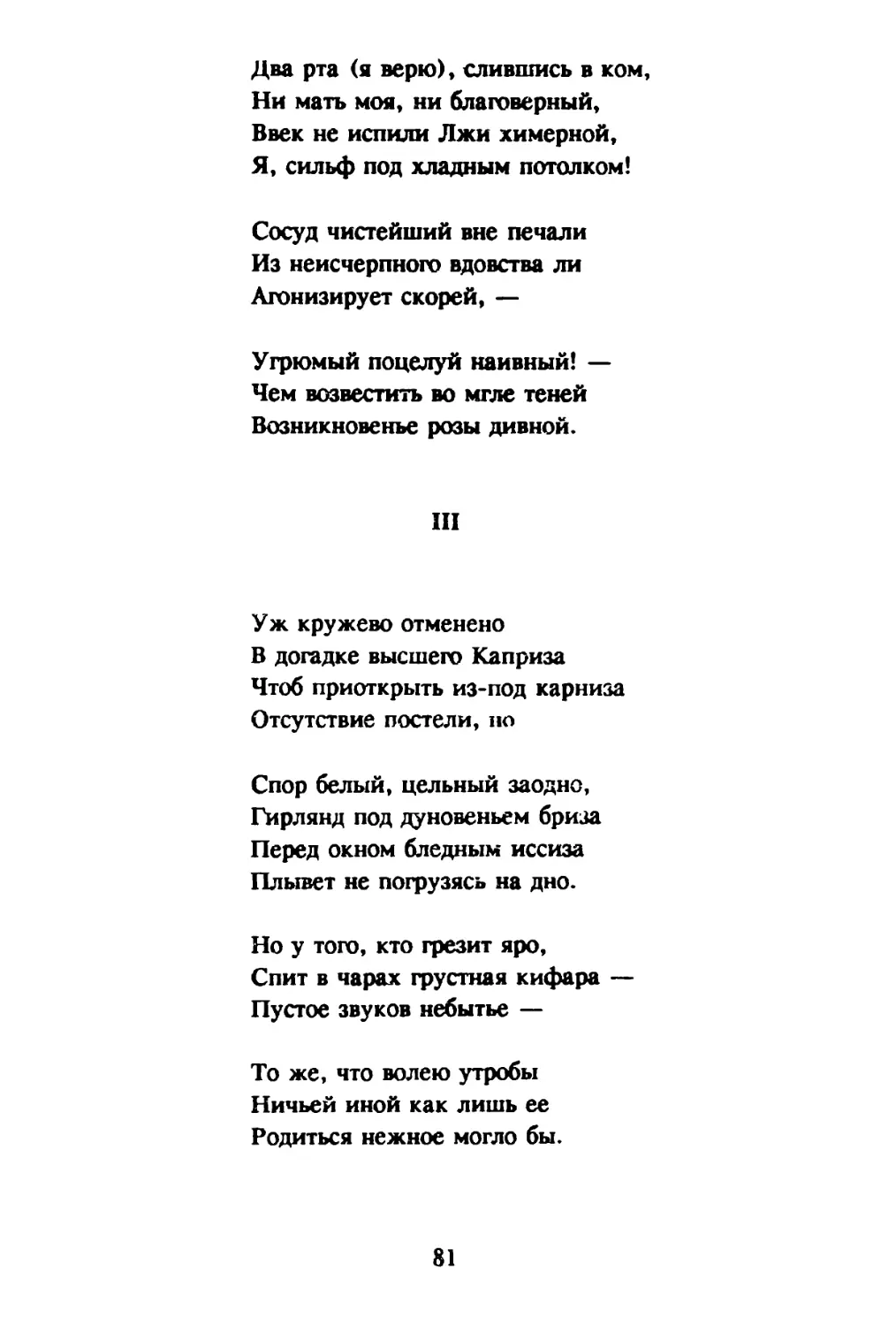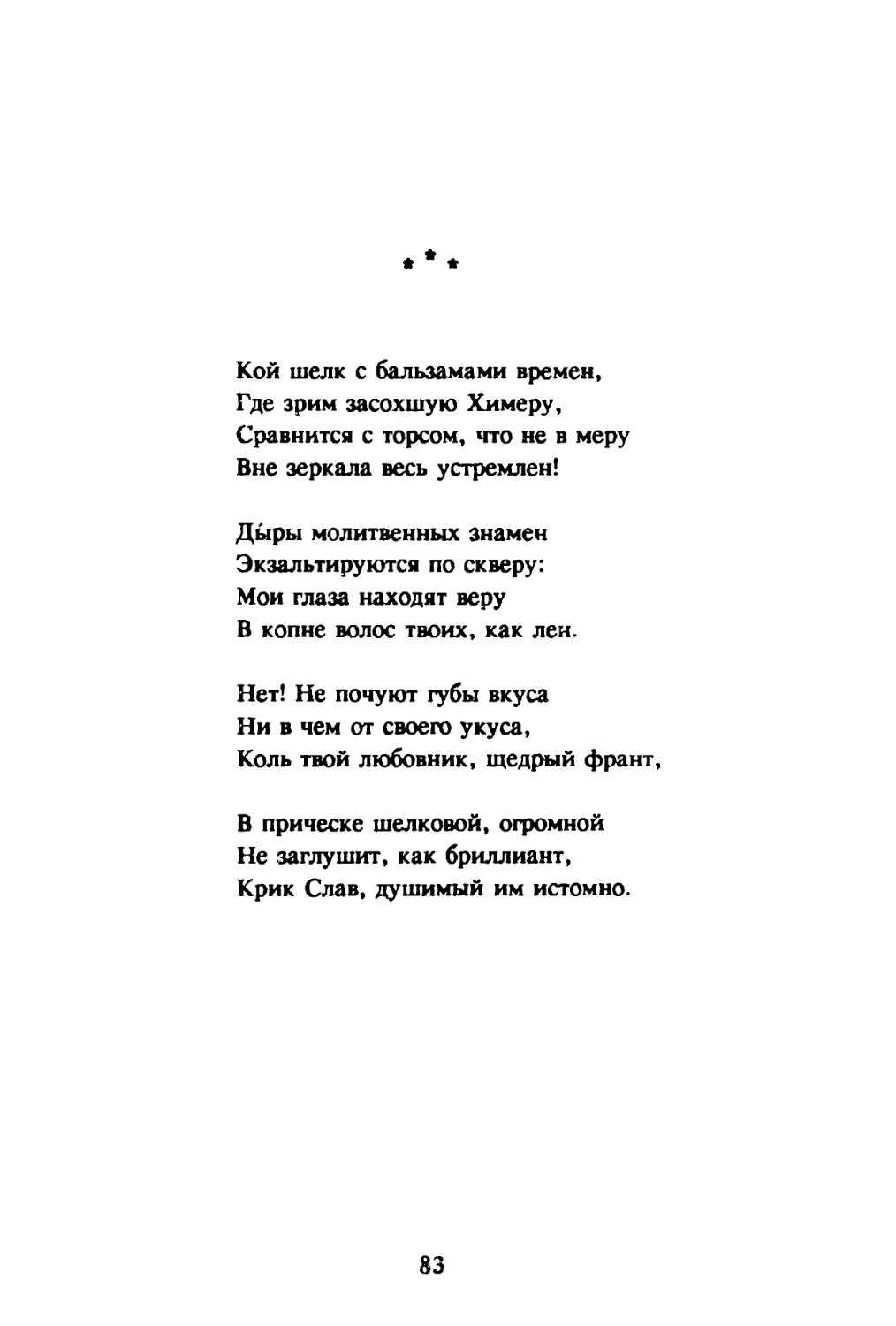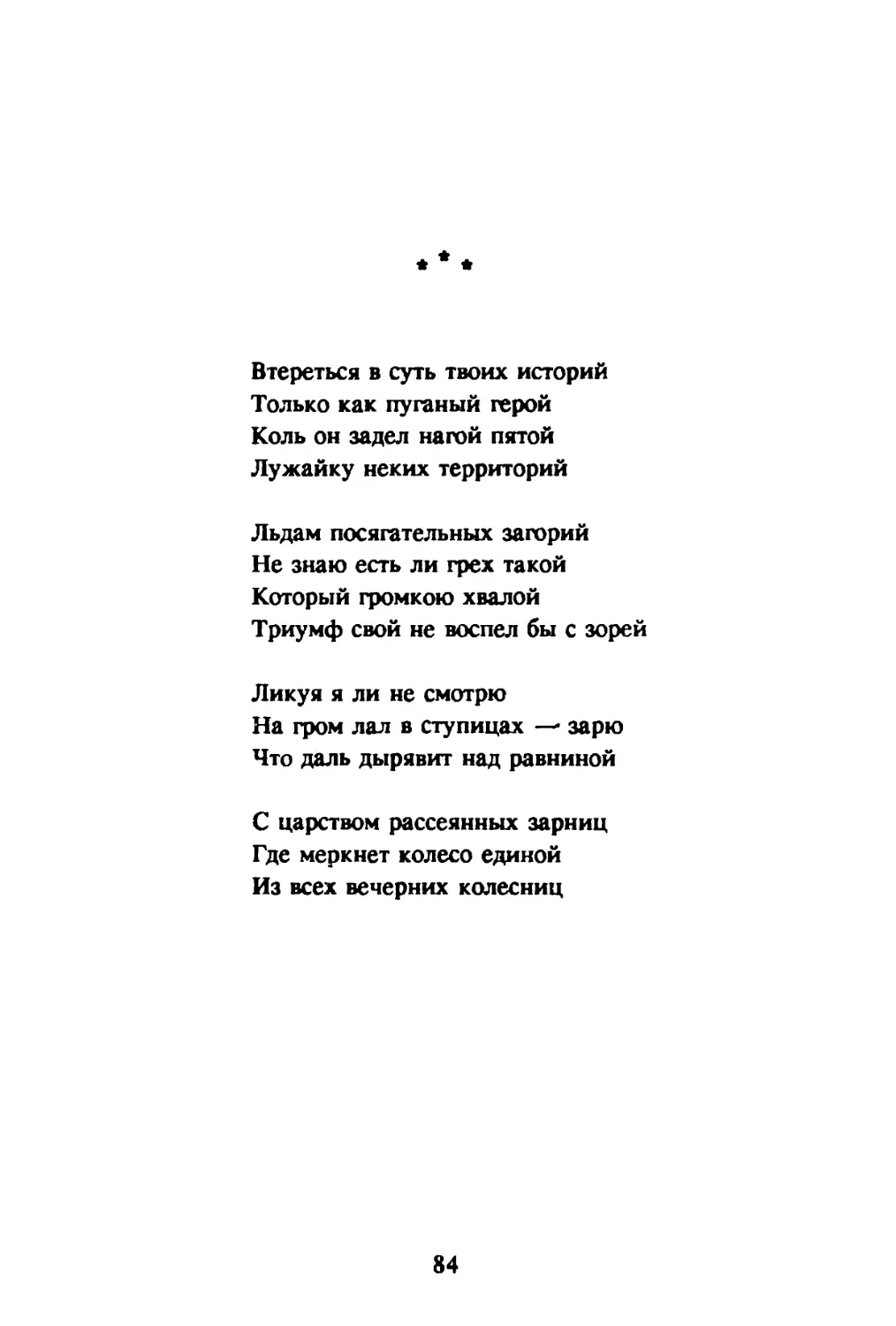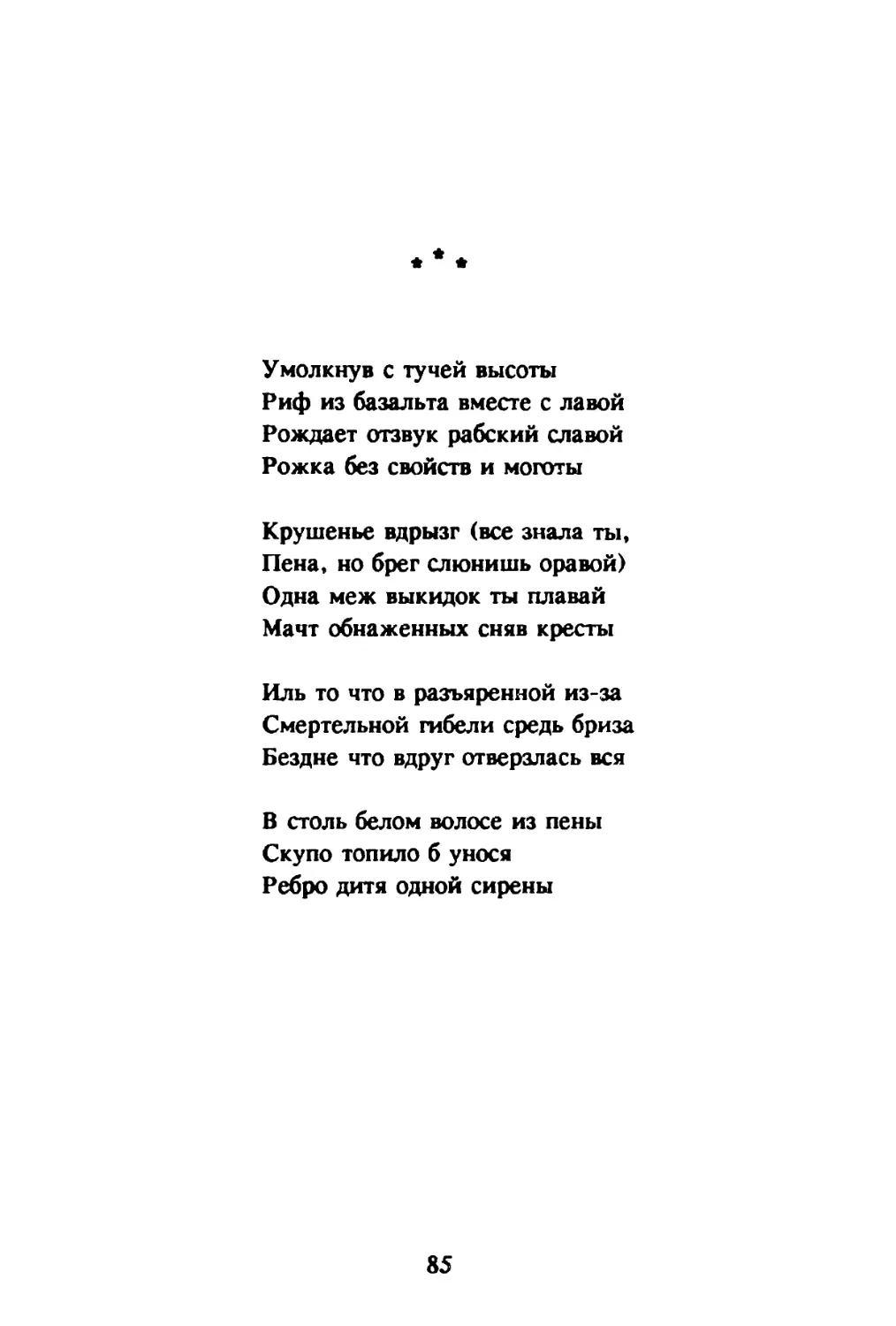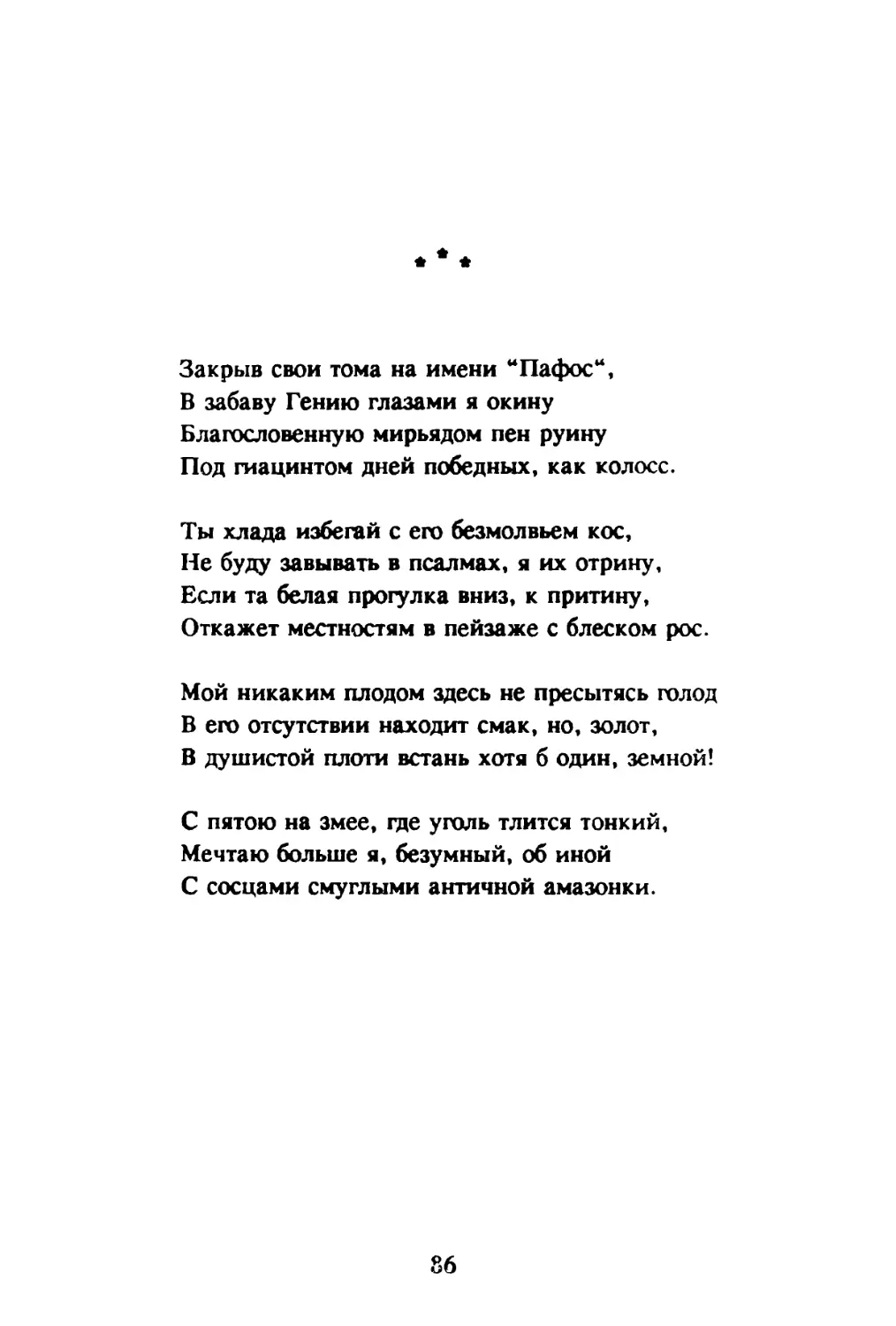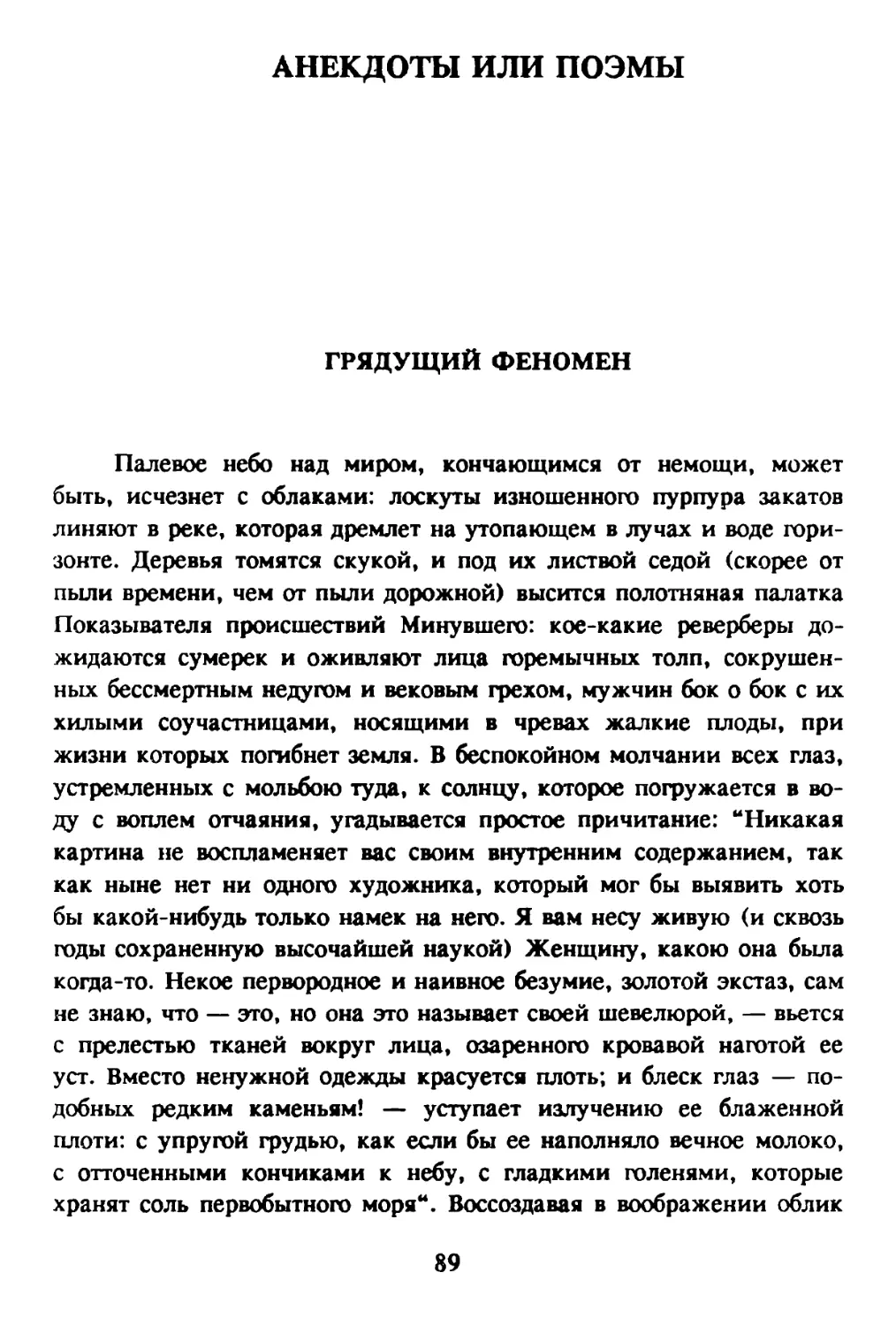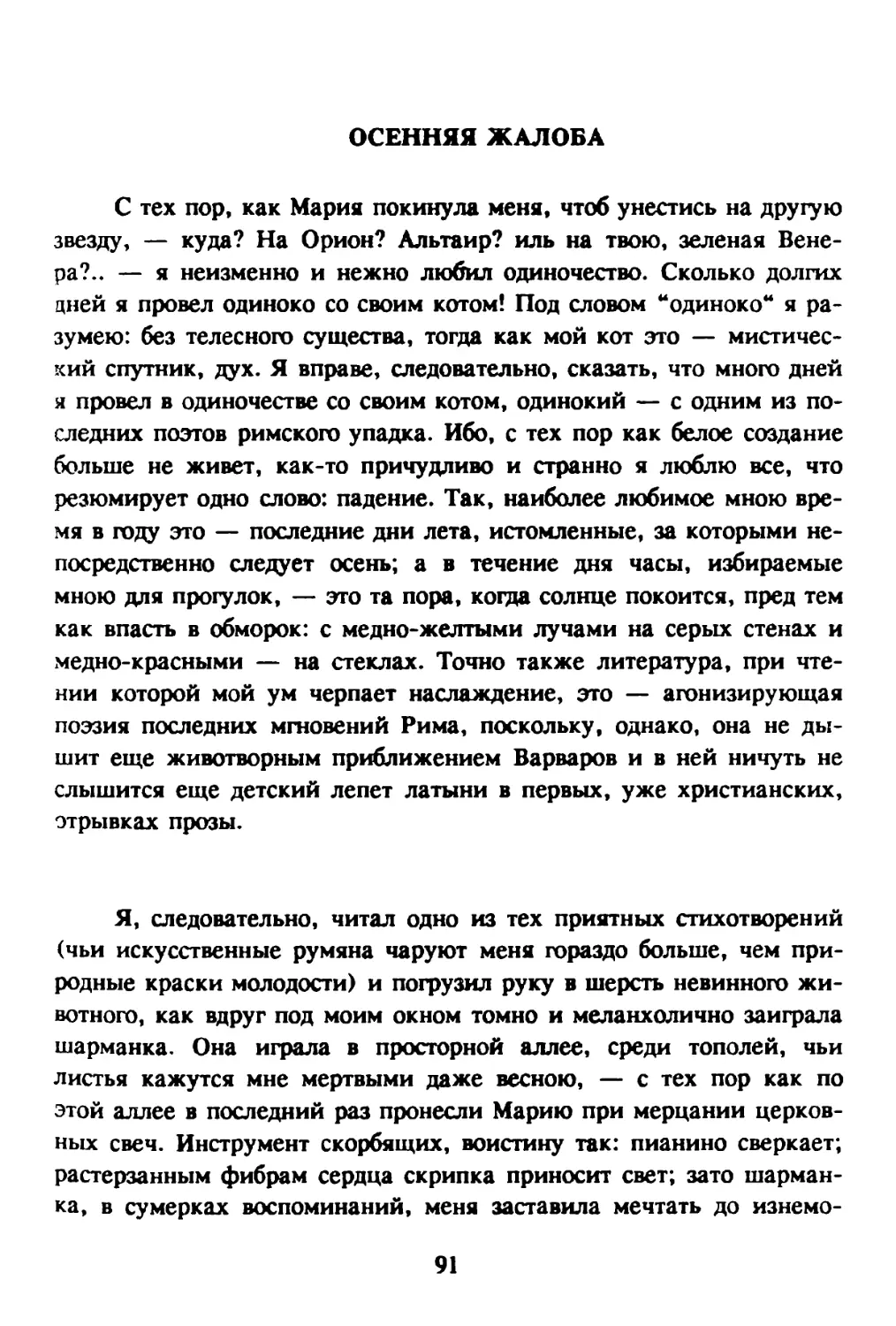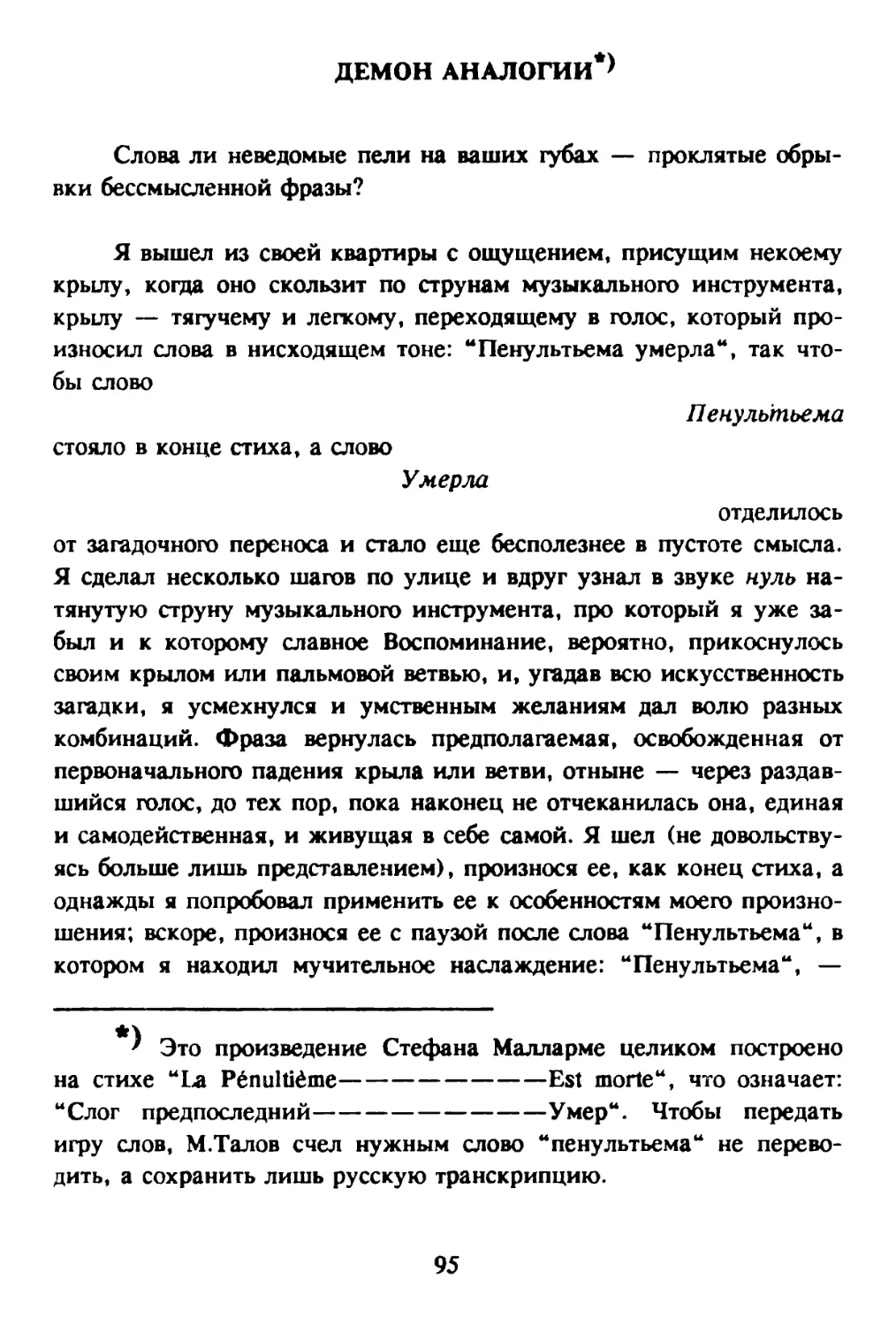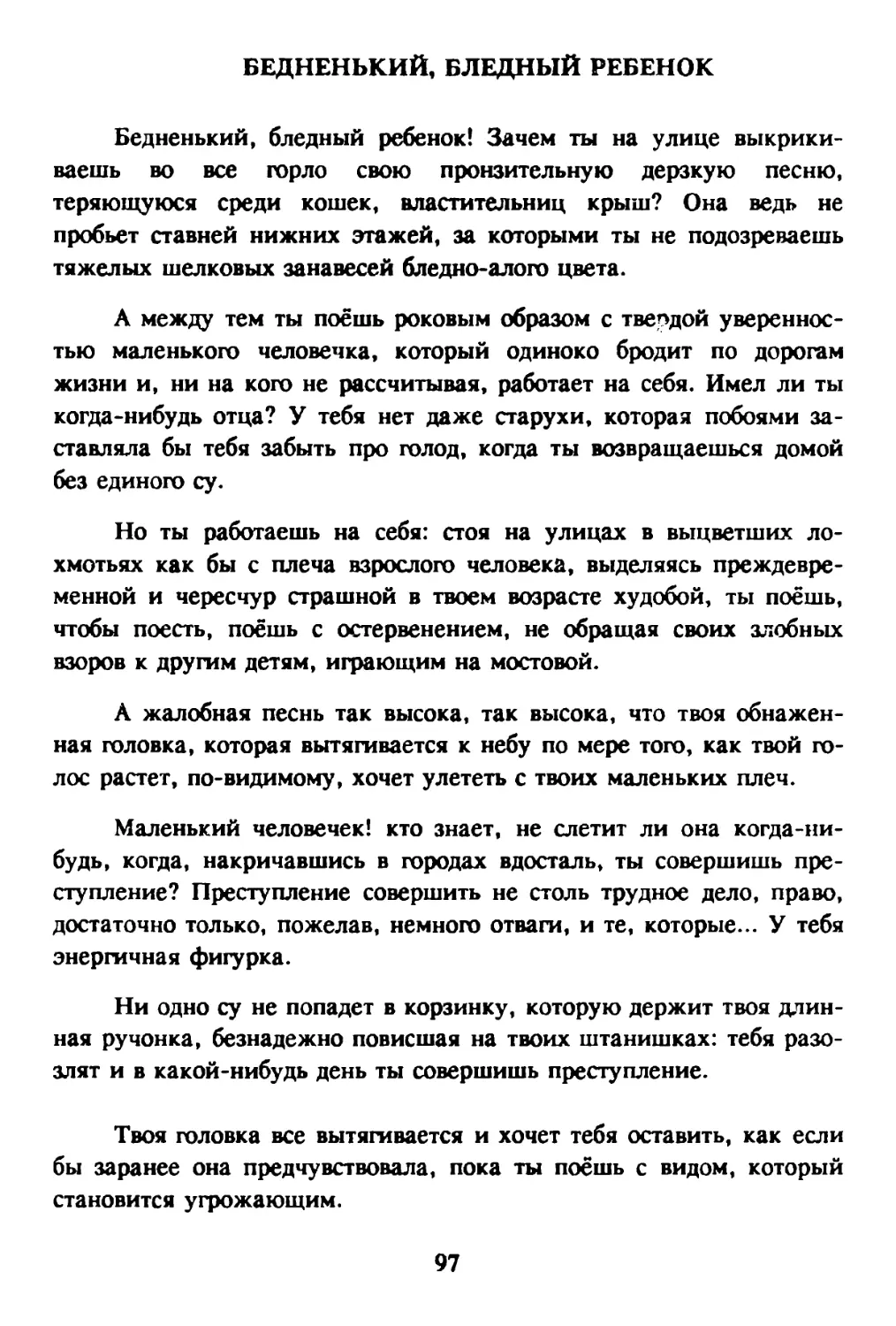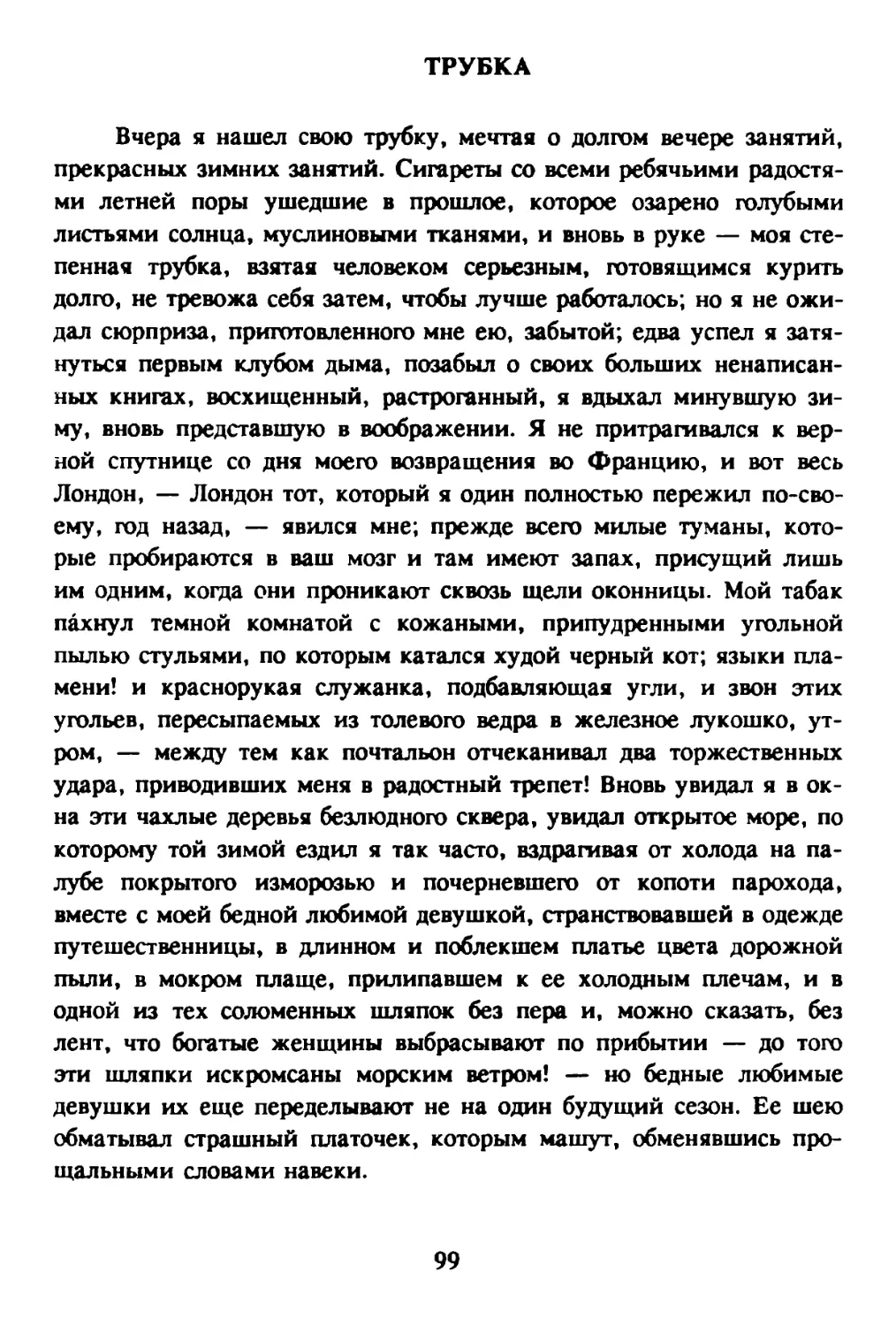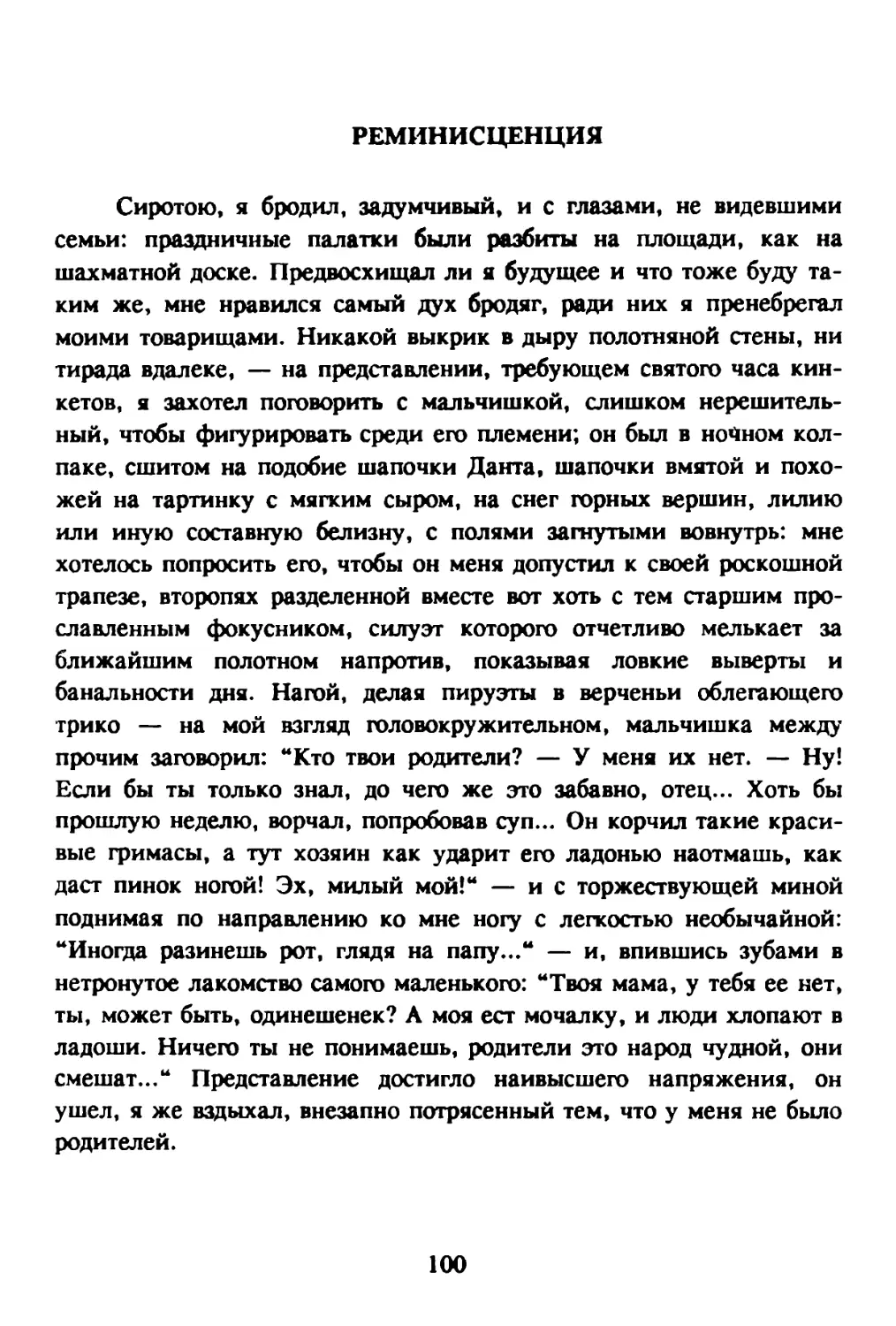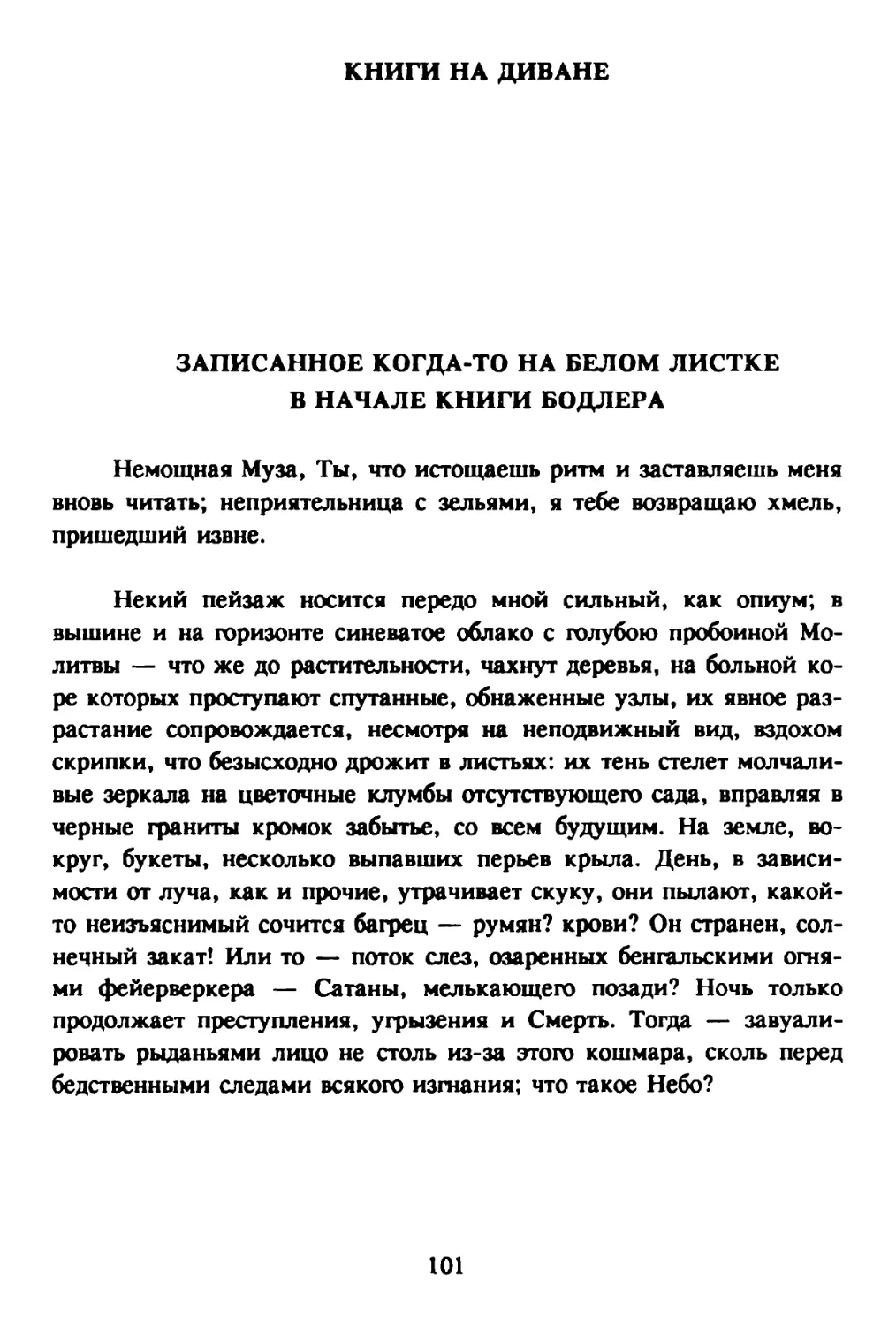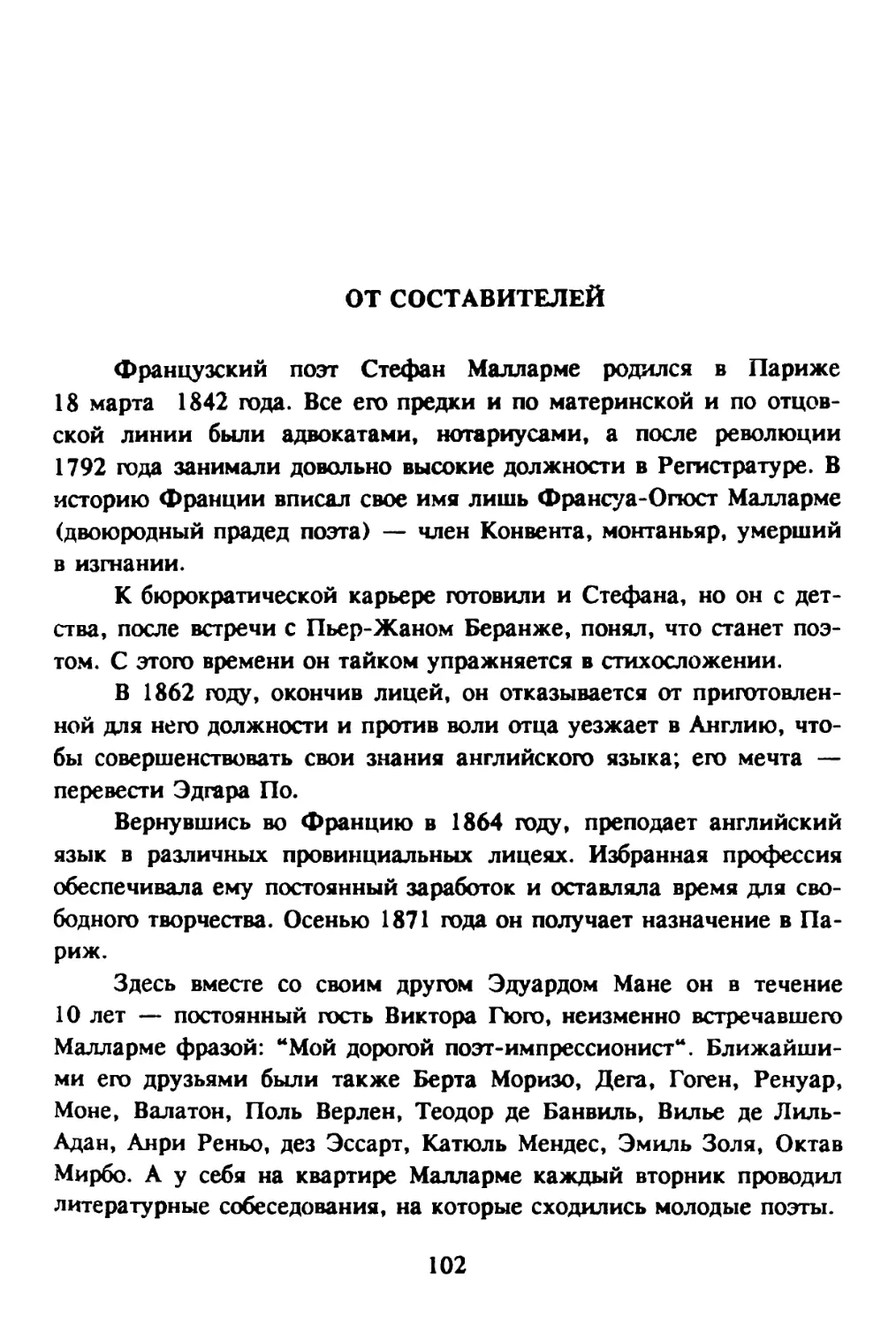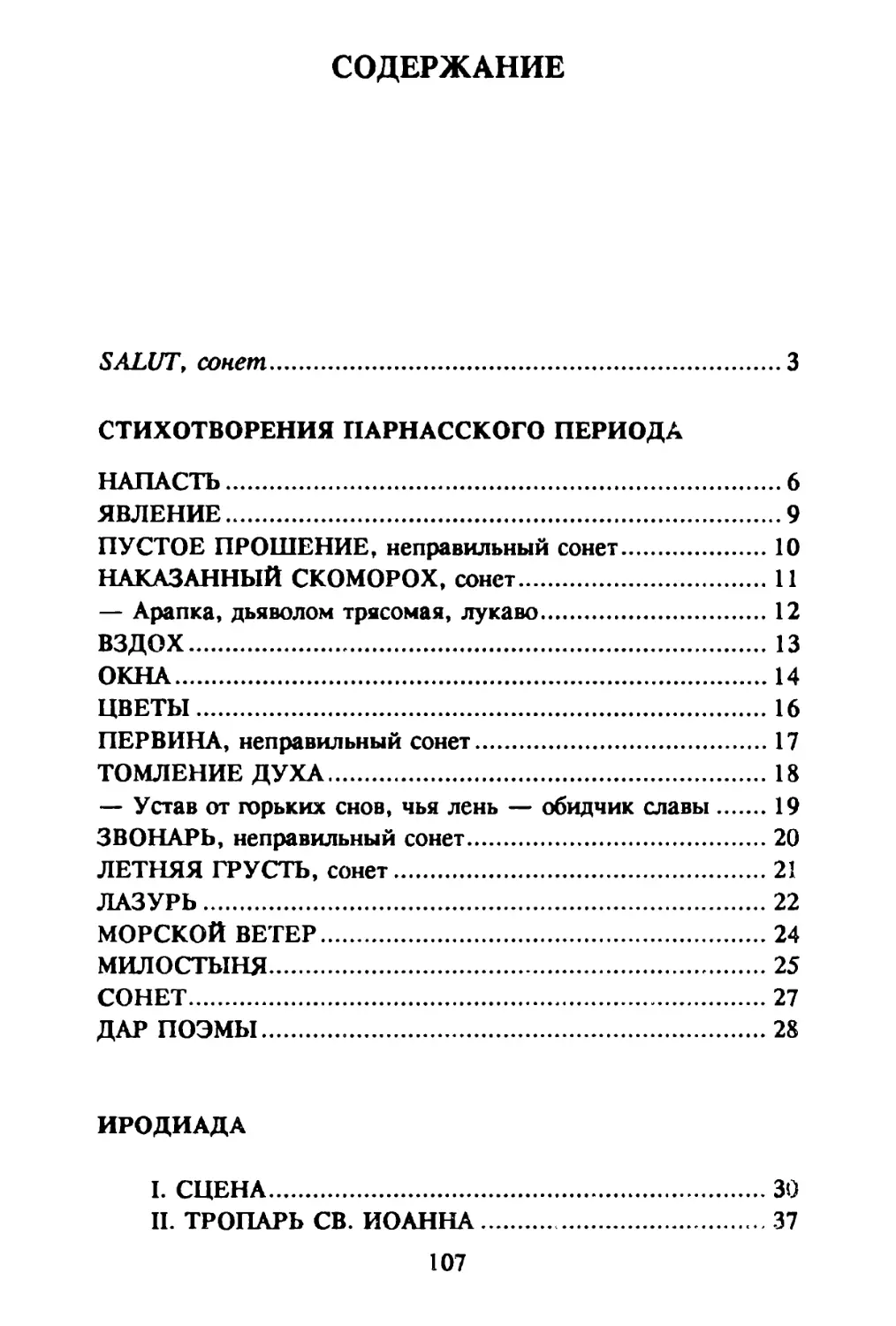Текст
СТЕФАН МАЛЛАРМЕ
СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ
переложил
МАРК ТАЛОВ
Москва
1990
Издание осуществлено за счет средств семьи
МАРКА ТАЛОВА
Составление и послесловие
MA и Т.М. ТАЛОВЫХ
Оформление художника
А.РЕМЕННИКА
© Переводы на русский язык.
Марк Владимирович Талов, 1990 г.
© Мери Александровна Талова,
Татьяна Марковна Талова. Состав
и статья, 1990 г.
SALUT
Игрушка, пена» свежий стих
Чуть обозначился бокалом;
Так тонет стая, сжата валом
Сирен в просторах вод морских.
О, разные друзья, средь них
Плывем, я — кормщик в боте малом,
Вы ж — на носу, рассекшем жалом
Вал зим и молний заревых;
Под хмелем радостным прибоя,
Не опасаясь качки, стоя,
Я поднимаю этот тост,
Риф, одиночество, светила,
За всех, кто бы не стоил звезд,
Заботы белого ветрила.
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПАРНАССКОГО ПЕРИОДА
НАПАСТЬ
Над отупелою звериностью людской
Скакали в отсветах разметанные гривы
Калик лазоревых, на путь наш став пятой.
Хоругвью распустись, дул вслед им ветер сивый,
Шаги их леденя, боль вызвав в их кости,
Дул так, что на песке оставил он извивы.
Они с надеждою до моря добрести,
Без урн, ни посохов, ни хлеба, шли без цели,
Мечт горьких золотой лимон грызя в пути.
Хрипели многие во мгле ночных ущелий, —
Один твой поцелуй, о Смерть, им жег уста! —
И, кровью исходя, блаженные, хмелели.
На горизонте встал с мечом, чья нагота
Сверкнула, херувим; в нем — гибели угрозы:
Засохли на груди пурпурные цвета.
Сосут они печаль, как высосали грезы;
Пред ними мать встает, ниц падает народ,
Когда они идут, свои ритмуя слезы.
Сии утешены, уверены, но вот
Сто братьев тащутся, топча их след глубокий,
Как жертвы злых судеб, — смешной и жалкий сброд.
6
И соль подобных слез им разъедает щеки,
Их снедь любимая по-прежнему — зола,
Но, тривиальный шут, их мучит рок жестокий.
Как тамбурин, они могли б в исчадьях зла
Бесцветно пробудить сочувствий голос верный,
Сильны, как Прометей, не знающий орла!
Но нет, рабы бегут пустыней, ни цистерны,
Взбесясь, монарх-Напасть их гонит наобум,
В догонку бросив им свой хохот беспримерный.
Разлучник, третьим вдруг на круп он вскочит к двум!
Их ввергнет в топь его удар наотмашь грубый
И, сжавшись в ком, чета пловцов теряет ум!
Он — тут, когда к рожку муж прилагает губы,
С руками ж назади, передразнив рожок,
Нас дети уморят, вокруг оря, как трубы.
Он — тут, когда жена, которая невпрок,
Грудь оживив, ее украсит розой томной:
На обреченный же цветок летит плевок.
И этот гном — скелет с пером на шляпе темной,
С подмышками в червях заместо волосков,
Для них — бездонность вся их горечи огромной.
На бой развратника зовя, в конце концов,
С луною, скрежеща, их сцепится рапира,
В каркасе снежная, лучи лишь проколов.
Они, без гордости, чье коронует миро
Беду, бесклювые, костей не отомстив,
Взлелеют ненависть и не обрящут мира.
Они — посмешище под кущами олив
Бродячих скрипачей, оборвышей, скопленья
Блудниц, гогочущих, жбан зелья осушив.
Поэты, падкие до милостыни, мщенья,
Не заподозрив зла померкших сих богов,
Их видят скучными и без воображенья.
"Могли б они бежать, вкусив от всех плодов,
Как конь, весь взмыленный в стремлении упрямом,
Чем в латах так скакать галопом, чуя ков.
Победоносца мы пресытим фимиамом,
Они же, всех моля остановиться, что б
Шутам шарлаховым блеснуть тряпьем и хламом!*4
Когда же в харю им плюет презреньем зоб,
Нули, и, бородой моляся грому слепо,
Герои эти все, без денег хоть на гроб,
Спешат повеситься на фонаре нелепо.
ЯВЛЕНИЕ
Луна печалилась, и серафим в слезах,
В безмолвии цветов росистых и в мечтах
Ударил вдруг смычком, и всхлипнула виола,
Скользя по венчикам лазурным ореола.
— Лобзанье первое в блаженстве светлом дня!
Моя мечтательность, терзавшая меня,
Печальный аромат искусно смаковала,
Тот запах, что дает без жалости, без жала,
Срыванье грез тому, кто в прошлом их срывал.
Так, к ветхой мостовой свой взор я приковал,
Вдруг, с солнцем, брызнувшим на волосы, белея,
Смеясь, в вечерний час предстала ты, как фея,
Кто в шляпке огненной в прелестном детстве мне,
Любимцу, баловню приснилась в смутном сне
Ронявшей слабою, разжатой чуть рукою
Букет душистых звезд во мраке надо мною.
ПУСТОЕ ПРОШЕНИЕ
Принцесса! к Гебе сей ревнуя невпопад,
С лобзаньем ваших уст светящейся на чаше,
Я трачу весь мой пыл, но званием — аббат,
Нагой, не покорю ни Севр, ни сердце ваше.
Затем что ни твоя болонка я, ни пат,
Ни в пасте, ни в твоих белилах, ни в гуаше,
Затем что на меня ты уронила взгляд,
О, ты, чей лен волос златых безделиц краше!
Назначьте нас... о ты, малиновый чей смех
Сбегается гуртом ручных ягнят, у всех
Обетов требуя в своих блеяньях томных,
Назначьте... чтоб Амур на ваших веерах
Размалевал меня с цевницею в перстах,
Назначьте пастырем улыбок ваших скромных.
10
НАКАЗАННЫЙ СКОМОРОХ
Глаза, пруды, с простым желаньем в них иное
Увидеть, не шута, чей жест напоминал
Перо, весь в копоти кинкетов, я прорвал
В холщевом пологе оконце слуховое.
Руками и ногой, умноженными втрое
Прыжками, я, пловец — изменник, отрицал
Дурного Гамлета! и склепов сотни вал
Отверз, чтоб, девственный, исчез я в их покое.
Цимбалов золото под кулаком бренчит,
Вдруг солнце наготу мою изобличит,
Как свежих раковин лучистое сиянье;
Ночь с кожи горклую, соскреб ты свой покров,
В нем, жалкий, прогадав свое мировенчанье,
Грим, растворившийся в коварной влаге льдов.
11
Арапка, дьяволом трясомая, лукаво
Спешит испробовать весенние плоды
Преступные под их одеждою дырявой,
Обжору эту ждут лукавые труды:
Два вымени сличи на животе счастливом;
Так высоко, что, их рукою не поймав,
Взметнула вверх носок ботинок, темным взвивом
Похожим на язык, неловкий для забав.
И против наготы испуганной газели
Дрожащей, — навзничь слон так ляжет в буйстве снов,
Она лежит, собой упоена без зелий,
Младенцу показав наивный перл зубов.
Меж ног, где жертва вся трясется от озноба,
Подняв из-под волос ком черный и живой,
Причудливого рта притягивает нёбо
Розово-бледное, словно моллюск морской.
12
вздох
Мой дух, о ясная сестра, к челу, что осень
Покрыла пятнами веснушек, к небу, в просинь
Твоих рассеянных и ангельских очей
Летит, ввек преданный: так в сквере, меж аллей
Печальных, бел, фонтан взмыл к высоте Лазурной!
— К Лазури палевой, октябрьской и безбурной,
Что отражается с глубокою тоской
В бассейне сонных вод, где нежных листьев рой
Под ветром кружится и в обмороке рыжем
Холодный роет след, и желтый луч недвижим.
13
ОКНА
В больнице злой томясь, где ладан вьется смрадный
К распятью грустному, с банальной белизной
Портьер, взбираясь вверх, он, при смерти, злорадный,
К стене притиснулся сутулою спиной
И встал — не столь согреть свои живые мощи,
Как солнце уловить средь крыш и кирпичей
И к окнам сединой прильнуть и костью тощей
Спаленным золотом пылающих лучей.
И лихорадочный, лиловый рот, волнуем, —
Так, кожи девственной, прохладный ток струи
Когда-то он глотал! — предолгим поцелуем
Жег стекла теплые в горчайшем забытьи.
Он опьянел, забыв про мерзости больницы:
Соборованья, одр и трав отвар, часы
И кашель; вон закат кровавит черепицы
И видит он: вдали, средь яркой полосы,
Как стая лебедей средь водяной пустыни,
Галеры, золотясь на багреце реки,
Где блеск зарниц дробит волну зигзагом линий,
Плывут в небрежности, исполненной тоски.
14
Так, только алчностью влекомый, полон злобы
И человеку мстя, чья черствая душа
Отбросов ищет лишь с упрямством зверя, чтобы
Отдать их женщине, кормящей малыша,
Бегу, цепляюсь я за окна, жизни блеклой
Проклятие послав, благословенный здесь,
Глядясь в омытые росою вечной стекла
И девственной зарей овеянные днесь,
Се, вижу ангелом себя! и умираю, —
Стекло — религия ль, искусство иль мечта —
Я, воскрешен, мечту, как диадему, к раю
Взношу старинному, где зреет Красота.
Увы! Земная жизнь — тиран, чьи проявленья
Меня преследуют и в храмине, где Дурь
Своей блевотиной нечистой, дыхом тленья
Заткнуть заставит нос и не глядеть в лазурь.
Возможно ли — о "Я", постигший скорбь безверья! —
Разбить поруганный чудовищем кристалл,
С руками полететь, дав мысленно им перья,
— Под риском вечность всю стремглав лететь в провал.
15
ЦВЕТЫ
Ты с золотых лавин лазури, жизнь хваля,
Со снега вечного светил, когда-то, в детстве,
Цветочки сорвала в день первозданный для
Земли нетронутой, еще не знавшей бедствий,
Червленый шпажник (он, как лебедь, прям и строг)
И лавр божественный изгнанников, который
Столь нежен и румян, как серафим, чьих ног
Пречистые персты осенены авророй,
Мирт восхитительный, и гиацинт в цвету,
И в девственную плоть облекшуюся розу
Презлую, меж цветов — Иродиаду, ту,
Кровью вспоенную, таящую угрозу!
И ты ж рыдающей кропила белизной
Те лилии полей, что нам благоухали,
Как вздох глухой морей, воспрянувший с волной
Ввысь, к плачущей Луне, в задумчивой печали!
Осанна — дым кадил, на систре — звон осанн,
Осанна райских лон, праматерь! С систром, с ним бы
Гром эха вечерей отгрянул райских стран,
Экстазом светлых глаз мерцающие нимбы!
Во чреве праведном, о Мать, взрастила ты,
В груди, колышащей грядущий мой напиток,
И смертоносные сладчайшие цветы
Для хилого певца, усталого от пыток.
16
ПЕРВИНА
С чахоточной весной зима, грустя, ушла,
Искусства ясного пора, зима святая,
И в существе моем, кем правит кровь больная,
В зевоте длительной вся немощь истекла.
Остынув, сумерки в моем мозгу белеют,
Железом стиснутом, как старый саркофаг;
За грезой смутною хожу; за шагом шаг
Все обхожу поля, где соки тайно зреют.
От запаха дерев устав за целый день
И вырыв грезам ров лицом, грызу я с мукой
Ту землю теплую, где проросла сирень,
Рвом поглощенный, жду, не даст ли всходы скука.
— А между тем Лазурь смеется на плетне
И уйма птиц поет на солнце о весне.
17
ТОМЛЕНИЕ ДУХА
Не тело соблазнить в сей вечер прихожу я,
О зверь, очаг грехов, ниже в волне кудрей
Жать бурю грустную, тоскою поцелул
Неисцелимою посеянную в ней:
Даруй мне крепкий сон, лишенный сновидений,
Парящих в завесах тоски, сон, коим ты
Так наслаждаешься, лжи искушенный гений,
Сильней, чем мертвые, постигнув суть тщеты:
Ибо Пророк, точа все благородство духа,
Меня, как и тебя, бесплодностью палит,
Но если в каменной груди твоей стучит
Лишь сердце, коего не грыз червь злобы глухо,
Бегу я, саван свой узрев в маре гардин
И умереть боясь, когда я сплю один.
18
Устав от горьких снов, чья лень — обидчик славы,
Для коей некогда я забывал забавы
И детство милое под синевой, меж трав
И розовых кустов, семь раз сильней устав
Согласно пакту рыть бессонной ночью страдной
Могилу новую в скупейшей почве хладной
Моих мозгов, я, злой могильщик из тщеты,
— Что утренней Заре скажу я, о Мечты,
Овеян розами, когда погост унылый,
Бич этих роз, с землей сравняет все могилы? —
Я брошу хищное Искусство злой страны,
И пусть ожившие упреки мне смешны
Друзей, и прошлого, и гения с лампадой,
Которой ведома моя тоска, с усладой
Я стану подражать Китайцу, чья душа
Кристально-чистая, в экстазе, не спеша,
Излилась в росписи престранного узора
На лунной белизне прозрачного фарфора,
Когда на чашечках он те цветы писал,
Которых аромат ребенком он вдыхал.
И, ясный, словно смерть, с единственной мечтою,
Я изберу пейзаж, плененный красотою,
Его на чашечках, рассеянный, начну.
Лазурно-бледному и тонхому пятну
Быть озером средь неб фарфора, подле леса,
Из тучки выпав, серп, сияющий белесо,
Свой погружает рог в кристаллы вод, в тиши,
Вблизи от трех ресниц смарагдных, камыши.
19
ЗВОНАРЬ
Меж тем как колокол светло дрожит в долине,
В прозрачном воздухе, когда встает заря,
И ранний благовест вдруг овевает в тмине,
На поле отрока, полнеба серебря, —
На камне, где канат привязан крепко ныне,
Задетый голубем, жильцом монастыря,
Звонарь качается, гнусавя по-латы ни, —
Звон дробным отзвуком дойдет до звонаря.
Я — этот человек. Увы! Желанной ночью,
Как ни тяну канат, звоня в свой Идеал,
Лишь хладные грехи взрывает сей металл,
И гласа цельного одни доходят клочья!
Но день придет, когда, устав звонить без сна,
Я, камень оттолкнув, повешусь, Сатана!
20
ЛЕТНЯЯ ГРУСТЬ
То солнце, на песке, — о ты, что опочила, —
Ток томный пролило на золото волос
И на щеках твоих свой ладан расточило,
С любовным нектаром мешая перлы слез.
Затишье белого Пыланья мысль внушило
Тебе, скорбящая, — о, поцелуи грез, —
"Нас в мумию одну ничья не свяжет сила
Под сенью светлых пальм, среди песчаных кос!*4
Но волосы твои — струя речная в затишь,
Где обуявшую нас душу ты утратишь,
Найдешь Небытие, его не осознав.
Сурьму, что выплачешь в слезах душевной бури,
Я выпью, чтоб узнать, как, сердце растоптав,
Мне дашь бесчувственность и камня и лазури.
21
ЛАЗУРЬ
Насмешка ясная лазури вечной, в лени
Цветам подобная, беспечностью своей
Гнетет бессильного поэта; он свой гений
Сам проклял средь пустынь безжалостных Скорбей.
Бегу, смежив глаза, но с силой угрызенья
В пустой мой дух, его не в силах превозмочь,
Глядит. Куда бежать? На стрелы уязвленья
Какую кину ночь, лоскут, слепую ночь?
Туман, вздымись! Пролей свой пепел монотонный,
Холстами мглы густой обволоки ты высь,
Всю затопи ее пучиной вод бездонной,
Безмолвным пологом безбрежно развернись!
Ты ж из летийских струй, любимый призрак Скуки,
Восстань и собери тростник засохший, ил,
Дабы замазали твои стальные руки
Те дыры синие, что голубь наследил.
Еще! В печи треща, пусть вспыхнет хворост, сажей
Пускай валит из труб, и дыма черный зонт,
Раскрывшись, заслонит, как дух бродячий, вражий,
И солнце желтое, и мертвый горизонт!
22
— Твердь умерла. — Бегу к тебе, хочу забыть я
Жестокий Идеал и Грех, о вещество!
Дай мученику сон, постель хочу делить я
С людьми, познавшими блаженное скотство,
И так как мозг мой пуст, как банка, что, белея,
Валяется в плевках белил там, под стеной,
И неприкрашена стенящая идея,
Хочу средь их скотства зевать пред смертью злой.
Вотще! Злорадствует Лазурь; о сердце, ведай!
Она кричит уже в колоколах, и встал
Тот крик, чтоб нас пугать жестокою победой,
И синим angélus ее исторг металл!
Она, старинная, и съежившись в тумане,
Как верный меч, сразит тоску душевных бурь;
Куда бежать в тщете дерзающих восстаний?
Я одержим. Лазурь! Лазурь! Лазурь! Лазурь!
23
МОРСКОЙ ВЕТЕР
Плоть немощна, увы! и я прочел все книги.
Бежать! Туда бежать! Хмельны там чайки в миги
Лёта над пеной вод иль в чистой высоте.
Ни древние сады в зеленой красоте,
Ни лампы беглый свет, упавший на бумагу,
Чья снежность плен сулит, губя мою отвагу,
И ни кормящая младенца грудью мать, —
Нет, здесь ничто меня не может задержать.
Я удалюсь! О челн, к тропическому краю,
Снимаясь с якоря, с тобою уплываю!
Но Скука в горечи надежд еще пока
Велит мне веровать в прощальный взмах платка.
Но мачты, вызова полны, под дуновеньем
Ветров, быть может, смерть там обретут, крушеньем
Разбитые, без мачт, ни мачт, ни островов...
Но, сердце, вслушайся ты в песню моряков!
24
милостыня
С сумою, Нищий, стань! Ее ты полюбил,
Отвислой и скупой груди питомец старый,
Чтоб погребальный звон по каплям ты сцедил.
Из меди странный грех ты вызвони и яро,
Огромный, как его в обхват целуем, так
Дуй, чтоб он скрючился! — горячая фанфара.
Что церковь в ладане, таков и твой чердак,
Когда, баюкальщик прогалины лиловой,
Заупокойную безмолвно вьет табак,
И опиум взорвет аптеку с мощью новой!
Ком кожи и одежд, ты хочешь рвать сатин,
Лень со слюной глотать блаженной и суровой,
У царственных кафе дождавшись зорь один?
Плафоны с нимфами и в парусах, прохожий,
Бросают нищему зеркальный пир витрин.
Когда же, ветхий бог, идешь в мотках рогожи,
Аврора — озеро багрового вина,
И веришь, что глотал ты звезды в сладкой дрожи!
Без клада тайного, лишающего сна,
Пером украсься, ставь святому, не изверясь,
Свечу, — все молишься ему ты, старина!
25
Но не вообрази, что изрыгаю ересь.
Всем, сдохшим с голоду, земля разверзнет пасть.
Вот милостыня, на, прими ее, не щерясь,
И вот что, братец мой, не ешь ты хлеба всласть.
26
СОНЕТ
(Памяти вашей незабвенной усопшей, ее друг)
2 ноября 1877
— "В бору, когда зима угрюмая истлеет,
О, сирый пленник, ты заплачешь у плиты
О том, что небылью тяжелые цветы
Склеп громоздят двойной, где наша гордость веет.
Пусть Полночь тщетное число свое рассеет —
В восторге, бодрствуя, глаз не смыкаешь ты,
Пока на кресле том, во мраке пустоты,
Последний пламенник над Тенью не зареет.
Кто Посещенья ждет с настойчивостью, тот
Пусть множество цветов на камень не кладет,
Что перст подъемлет мой с тоской усопшей мочи.
Ты, жаждущий меня вновь к жизни приобщить,
Чтоб ожила я, мне дыханье надо пить
Уст, имя шепчущих мое в теченье ночи".
27
ДАР ПОЭМЫ
Я приношу тебе плод ночи Идумеи!
Вся черная, с крылом линялым, багровея,
Сквозь благовоньями и золотом стекло
Зажженное, сквозь лед стекла, сложив крыло,
На светоч ангельский накинулась аврора,
Пальмы! когда ж к отцу с улыбкою укора
Сию реликвию представила она,
Бесплодно вздрогнула седая тишина.
Подруга! с дочерью твоей и охлажденьем
Невинных ног прими ужасное рожденье!
Напомнив голосом виолу, в этот час
Надавишь ли перстом ты грудь хотя бы раз,
Откуда женщина струится белизною
Для губ, иссушенных небесной синевою?
28
ИРОДИАДА
LCUfiHCL
//. Тропарь Се, Иоанна
29
СЦЕНА
КОРМИЛИЦА — ИРОДИАДА
К.
Живешь ты! Или здесь принцессы вижу тень я?
Устами дай прильнуть к руке в перстнях и звенья
Невинных лет своих расторгни ты...
И.
Назад!
Кудрей нетронутых пресветлый водопад
Коснется плоти лишь, я в страхе содрогаюсь,
И волосы мои, в дневных лучах купаясь,
Бессмертны. Поцелуй меня б убил — Жена! —
Но красота сама есть смерть...
Ты пленена
Какою прелестью? Скажи, какой, пророком
Забытый, день взыграл над мреющим востоком
Тоскою празднества? Я, няня, знала плен
Под сводом каменным железных этих стен,
Где рыжий век влачат львы древние поныне.
Там, в душном запахе, среди царей пустыни,
Я, невредима, шла, покорная судьбе,
Но дикий ужас мой знаком ли был тебе?
Мне грезится покой как бы вблизи бассейна,
Где бьет струей фонтан, лобзая тиховейно
Лилеи бледные, которые — во мне;
30
Их обрываю я, сквозь сон и в тишине,
А львы, ловя в воде их лепестки, у края.
Спокойно смотрят мне, с одежды лень свевая,
В стопы, способные даже смирить моря.
Ты, плотью дряхлою волнуясь и горя,
Дрожь сердца укроти и стань передо мною,
И так как волосы растрепанной волною
Пугают столь тебя, — небрежную их прядь
Мне перед зеркалом поможешь причесать.
К.
Когда не смирны вам, хранимой во флаконе,
Похищенных у роз старинных благовоний
Желали б на себе вы свойство испытать
Чудесное?
И.
Оставь духи. Должна ты знать,
Что их не выношу; иль хочешь, чтобы в хмеле
Тонула голова от ароматных зелий?
Нет, волосы мои подобны не цветам,
Несущим забытье и мир людским скорбям,
А золоту, кому не знать благоуханья, —
Пусть волосы хранят в жестоком их сверканьи,
В их смуглой бледности металла тщетный хлад
С дней детства сирого, и вас лишь отразят,
О, украшенья стен: оружие и вазы.
К.
Простите! ваш запрет в моем уме, как фразы
Старинных черных книг, с теченьем лет увял...
И.
Довольно! Зеркало держи.
О, глубь зеркал!
Пруд хладный, от тоски оледеневший в раме,
31
Обманута мечтой, о сколько раз, часами,
Воспоминаний рой, как листья под водой,
В глубокой проруби, искала я с тоской
И появлялась я в тебе, как призрак дальний,
Но — ужас! — вечером, в твоей воде печальной
Моих разлитых грез я зрела наготу!
Прекрасна ль, няня, я?
К.
Звезду затмили б ту,
Но косы падают...
И.
О, бойся преступленья!
Застынет в сердце кровь моя от дерзновенья
Твоих порочных рук, меня ты не волнуй.
Ум бес тебе мутит. О, этот поцелуй,
И благовония, предложенные прежде,
И, наконец, рука в кощунственной надежде
Вновь ласкою своей повергнуть дух мой в гнет —
Все это без беды на башне не пройдет...
О, страшный день, когда гневна Иродиада!
К.
Да, странны времена и вы — небес отрада!
Как тень, вы бродите, скрывая гнев, кляня
Всходящих ваших чувств таимых зеленя:
Но вы пленительны, подобны вы богине —
Прекрасное дитя! Так расцвели вы ныне,
Что...
И.
Кажется, меня ты тронула?
32
к.
...Подчас
Мечту лелею быть тем, кто познает вас.
И.
О, замолчи!..
К.
Он к вам приходит?
И.
О, светила,
Не слушайте!
К.
Пойму ли я, какая сила
Внушает думу вам, меж призраков тревог,
Что будет, вас моля, неумолим тот бог,
Кому клад прелестей своих вы отдадите!
И для кого же вы свой скрытный блеск храните
И тайну тщетную души?
И.
Лишь для себя.
К.
Цветок печальный, здесь ты расцвела, любя
Лишь отражение свое на мертвой глади.
И.
Оставь иронию и жалость, бога ради!
К.
Но объясните... Нет! Когда-нибудь хотя,
Надменность бросишь ты, наивное дитя!
33
и.
Я укрощаю львов одною властью взгляда,
От сущего всего я отрешиться рада,
Изваянная, я жалею лишь о том,
Что вскормлена была твоим я молоком.
К.
О, жертва бедная в руках судьбы жестокой!
И.
Да, только для себя цвету я одиноко!
Сад аметистовый, сокрытый в глубине
Бездн ослепительных, ты все познал во мне;
Ты, слиток золота, хранящий блеск печальный
Под кровом недр глухих земли первоначальной;
Каменья, у кого заимствует мой взор
Их мелодичные мерцанья с давних пор;
И вы, которые моим кудрям придали —
Металлы! — роковой свой блеск, — вы это знали.
А ты, о женщина, всем прочим не в пример,
Косневшая во тьме загадочных пещер,
О смертном говоришь!.. Словам твоим согласно,
Из венчиков моих одежд струей атласной
Исходит нагота, как сладкий фимиам.
Пусть в синий летний день, когда его очам
Я, обнаженная, предстану грезы слаще
И узрит он меня в стыде звезды дрожащей,
Умру!
О девственность! Как я люблю твой страх!
Хочу жить в ужасе и трепетных мечтах,
Внушенных косами, а вечером, на ложе,
Змеей нетронутой впивать в бесплодной дрожи
Сиянье хладное мерцающих лучей,
О, изнемогшая в безгрешности своей,
Ночь льдисто-белая от снега и мороза!
34
И грустною твоей сестрой взнесусь, как греза,
К тебе, о вечная сестра: так уж чиста
Во глубине души рожденная мечта,
Мне чудится, что я — одна в стране печальной,
Что все боготворят стекла овал зеркальный,
В чьей сонной тишине играя, как алмаз,
Вдруг отражается взгляд этих светлых глаз...
О прелесть пред концом! Да, чувствую, одна — я.
К.
Вы, значит, умереть решились?
И.
Нет, родная;
Спокойно удалясь, жестокость мне прости,
Но перед тем, прошу, ты полог опусти:
Лазурью ангельской в глубоких стеклах, вижу,
Смеется день, а я — лазурь я ненавижу.
Валы ласкаются; найдется ли страна,
Где твердь зловещая злым взглядом сожжена
Венеры, что в ночи в листве дрожит далече;
Туда уйду...
Зажги — ты скажешь: прихоть — свечи,
Чей воск, средь золота, от ласки огневой
Слезится некою причудливой слезой
И...
К.
Дальше что?
И.
Прощай.
О, губ моих нагие
Цветы, вы лжете!
Жду неведомой стихии,
Иль, сердца, может быть, не разгадав тайник,
35
Последний, сдавленный вы испустили крик
Младенчества меж грез провидящего в страсти
Прощанье с хладными каменьями запястий.
36
ТРОПАРЬ СВ. ИОАННА
Светило дня чей роздых
Воспламеняет воздух
Закатится оно
Раскалено
Не в позвонках ли емки
Я чувствую потемки
Что трепетом дрожат
Единым в лад
Моя глава всплывает
Что часовой витает
Во взлетах золотых
Кос огневых
Как бы в разрыве смелом
Бе разлады с телом
Отсек тяжелый меч
Срывая с плеч
Изнурена постами
Догонит пусть прыжками
Свой ясный взор она
Опьянена
37
Горе где хлад и вечер
Того не стерпит глетчер
Чтоб мог ты превзойти
Его пути
Но в таинстве начала
Которое венчало
Меня сойдет на дух
Спасенье вдруг
38
ПОПОЛУДНИ ФАВНА
ЭКЛОГА
39
ΦΑΒΗ
Те нимфы, их сберечь хочу я.
Так ясна
Их ал ость легкая, что реет крепость сна
В застылом воздухе.
Или любил мечту я?
Сомненье, ночи столп старинной, разрешу я
Меж нежноствольных верб, что, стоя предо мной,
Как лес и подлинный! — смутили тем покой,
Что я возвел в триумф роз идеальных ложность.
Размыслим...
Женщины ль, чью ты злословишь сложность,
Поймут когда-нибудь твой чувственный экстаз!
Фавн, изливается из хладных, синих глаз
Мечта, как плачущий родник, смиренной часто:
Но та, вторая — вздох и глубина контраста,
Как полдня знойный бриз в твоем цветном руне!
Ал нет! В час утренний, коснея, как в огне,
Когда от духоты все млеет в лени чуткой,
Не шелохнет вода, которую бы дудкой
Я в роще оросил созвучиями; дух,
Готовый вырваться из ствольных трубок двух,
Пред тем как сладкий звук пролить в дожде незримом, —
На дальнем берегу, ничем невозмутимом, —
То — ясный, видимый, искусственный зефир,
Дух вдохновения, вернувшийся в эфир.
40
О, сицилийский брег трясины молчаливой,
Разграбленный моей тщетою горделивой,
Безмолвный меж цветов искристый, РАССКАЖИ,
"Что здесь полый тростник я резал у межи,
Когда на золоте смарагдового фона
Листв,осенявишх ток воды во время оно,
Покоясь, бросилась в глаза мне белизна:
И что с прелюдией, когда свирель слышна.
Взлет этих лебедей,о нет! Наяд ныряет,
Спасаясь..."
Косный, всё час знойный распаляет,
Не выразив, с каким искусством, песнь продля,
Гимена жаждет тот, кто ищет ноту ля:
Тогда я пробужусь для неги первобытной,
Прям и один, облит волною света слитной,
Лотос! и среди всех единый — простота.
Отнюдь не пустячок, который их уста
Мне шепчут, поцелуй наяды богоравной, —
Знак зримый на груди докажет язвой явной,
Что укусил меня священный некий зуб;
Но, стоп! сей талисман мне, как наперсник, люб, -
Тростник, на коем я дудил, плющом увитый:
Кто, спрятав от меня стыдливые ланиты,
В протяжном соло мнил под сенью робких ив,
Что потешали мы прелестницу, смутив
Тревогою меж ней и нашею свирелью;
И, модулируя любовь сладчайшей трелью,
Развеять сей мечты, которую люблю,
Чьих плавных чистых ребр я линии ловлю,
Ноту бесплодную и звонкую без края.
Так попытайся же, бегств инструмент, о злая
Сиринкса, расцвести у вод, где ждешь меня!
Я, гордый, стану я шептать в теченье дня
41
О красоте богинь; боготворя их маски,
Срывать с их призраков я буду опояски:
Так, влагу высосав из ягод золотых,
Чтобы притворством скрыть досаду слез смешных,
Вмиг, к небу летнему, насмешник, гроздь пустую
Подьемля, в шелуху прозрачную я дую
И так до вечера смотрю я сквозь, хмельной.
О нимфы, всколыхнем ВОСПОМИНАНИЙ рой.
"Взор, прободав тростник, в изгиб впивался строгий,
Бессмертный, вверивший волне свои ожоги
И ревом бешеным весь огласивший лес;
И пышный ток волос, средь холода небес,
Исчез в сверканиях и дрожи, о каменья!
Я прибежал; как вдруг ко мне (огнем томленья
Палимые, когда влюбленных жжет недуг)
Рук стаю вскинули сонливицы вокруг;
Их сжатий не разъяв, лечу я через чащи,
На солнце истощив весь запах роз пьянящий,
В лес, ненавидимый тобой, пустая тень,
Где нашим шалостям померкший равен день*4.
Тебя, гнев девственниц, люблю я, о услада
Нагого бремени, что уклониться рада
От знобких губ моих, как вздрагивает вдруг
Зарница! пьющих всласть плоти нагой испуг:
От ног безжалостной до сердца самой скромной,
Днесь проливаемый невинностию томной
В слезах иль в менее трагических парах.
"Тем согрешил я, что, преодолев их страх
Лукавый, гладь волос, взлелеянных богами,
Целуя, жадными я растрепал губами;
Бо вздумал я едва скрыть пламенный свой смех
В блаженных тайниках единой (средь потех
Лишь заградясь перстом, чтоб в робком ореоле
Страсть уяснив сестры, зажглась она,дотоле
Еще стыдливая, наивная еще:),
42
Как, от объятий вдруг освободив плечо,
Добыча вырвалась, лукавая поныне
И равнодушная к моей мольбе в пустыне**.
Что ж! к радости меня другие увлекут,
Мне рожки косами своими обовьют:
Ты знаешь, страсть моя, что, пурпур и столь рдяный,
Что ни гранат — горит, пчелиным гудом пьяный;
В нас кровь течет, влюбясь в ту, что сулит любовь,
Для роя вечного желаний вновь и вновь.
В миг, когда роща — дым из золота и пепла,
В восторге празднества листва как бы ослепла:
То, Этна, на твоей вершине огневой,
Там, где Венера след оттиснула пятой
И где звенит дрема и пламя догорело.
Она — моя!
О час возмездья...
Нет, но тело
Отяжелелое и грусть немой души
Все медлят сдаться мне в полуденной тиши:
Безотлагательно, забыв хулу, вздремну я;
На алчущих песках простертый, как люблю я
Свой рот раскрьпъ звезде действительной вина!
Чета, прощай, смотрю: ты в тень превращена.
43
СВЯТАЯ
В окне свой утаив сантал
Старинный с позолотой бурой
Что и виолу овевал
Когда-то с флейтой иль бандурой
Святая держит наотлет
Свой требник с благостью дочерней
И величание поет
На повечерьи и с вечерней:
Прильнувший к стеклам расписным
Потира с арфою по рангу
В вечернем лёте серафим
Дохнул на тонкую фалангу
Перста, что без сантала та ж
И без молитвенника, клянча,
Инструментальный свой плюмаж
Колеблет пауз Музыкантша.
НАДГРОБНОЕ СЛОВО
Теофилю Готье
О, счастья нашего ты, ты, символ фатальный!
Вин возлияние и наш салют печальный,
Не верь, что в чаяньи волшебном этих зал
Подъемлю я пустой и горький мой фиал!
Мне недостаточно одно твое явленье:
Ведь сам я ввел тебя в порфирное селенье.
Нам пламенник гасить — в том наших рук обряд —
О сталь компактную кладбищенских оград:
Все знают хорошо, да будет мной воспето
На скромном празднестве отсутствие поэта,
Кого сей памятник в себе замкнул всего:
Но если это все — искусства торжество,
Как только бренный прах остынет, сквозь оконца,
Что вечер, в склеп сходя, возжег, к пожару солнца,
К его лучам вернись ты, смертный и земной!
Так, отчужденною, и пышной, и литой,
Излиться жаждущей, спесь вижу человечью.
Суровая толпа! Она вещает речью:
Грядущих призраков мы — тусклость и ущерб.
Но так как на стенах скорбей искрится герб,
Я презрел горьких слез прозрачно-яркий трепет,
Когда, глухой к моим святым стихам, чей лепет
Не взволновал его, он, путник, нем и слеп,
Гость плащаниц своих, предстал сходящим в склеп,
45
Как действенный герой посмертных ожиданий.
В туманном месиве из пропастных зияний,
Донесшись вихрями несказанных им слов,
Ему, жильцу Вчера, ничто бросает зов:
"О далях память, что ж, о ты, Земля, такое?4*
Вопит сей сон; и, глас, чей дремлет звук в покое,
Как бездн игралище: "Не знаю!** — вот ответ.
Глубоким оком, вскользь, мимоидя. Поэт
Эдема смутное утихомирил чудо,
Чья дрожь, лишь в голосе его, звенит покуда,
Для Роз и Лилии миф имени его.
От сей судьбы что здесь пребудет? Ничего?
Вы веру мрачную забудьте. Дивный гений,
Сам — пламя вечное, не излучает тени.
Я, ваших воль пестун, увидеть я желал —
В том долге мыслимом, чей вящий идеал,
Вчера внушили нам сады сего светила, —
Чтоб в славу бедствия воскресла снова сила
Волненьем праздничным, пролившимся в кристалл
Слов, пламенный багрец и благостный бокал,
Которые — брильянт и дождь! — зрачок лучистый,
Упавший на венок бессмертный и душистый,
Глушит среди лучей и легких мигов дня!
Ей, это — сени рощ, где, нас объедини,
Поэт казал нам жест и скромный и хороший
Путь заказать мечте, врагу заветной ноши:
Чтоб утром, водворен в надменный свой покой,
Когда смерть для Готье казалась тишиной,
Смежившейся с его священными очами,
Орнамент данников, возник под небесами
Солидный мавзолей, где все дурное спит,
И скупость тишины, и ночи монолит.
46
ПРОЗА
(для дез Эссента)
Гипербола! Ты, тайна дара,
В воображенья с торжеством
Встань, ныне — правда гримуара
С застежками и под замком:
Ибо, наукой подкрепленный,
В твореньи долгом ввел я встарь
Сей гимн сердец одушевленный,
Гербарий, атлас, стихирарь.
Наш взор скользил, их будоража
(Мы были — двое, настою!),
По многим прелестям пейзажа,
Отождествив с ними твою.
Авторитета меркнет эра,
Когда, без повода, твердим
О полдне, углубленном верой
И бессознанием двойным,
Что, грунт ста ирисов, кто знает,
Существовал взаправду ль он,
Здесь носит имя, что читает
Нам Лета золотой тромбон.
47
Да, да, на острове, в эфире,
Являвшем не виденья, вид.
Любой цветок казался шире,
Хотя никто не говорит
О тех, из коих каждый, краток,
Себя обычно облекал
В прозрачный контур, — недостаток,
Что их с садами разлучал.
Блеск длительной алчбы, Идеи
Во мне все жаждало узреть
Возникшую в грядах аллеи
Семейства ирисовых сеть,
Но нежная сестра метала
Не глубже смеха умный взор,
И я хлопот имел немало,
Чтоб слушать милый разговор.
О, знай. Дух спора, в то мгновенье,
Когда молчу на твой вопрос,
Уж слишком наше представленье
Стебль многих лилий перерос
И не как плачет брег, коль скоро
Его журчанье сонно лжет,
Алча прибытия простора,
Меж дивований шелка вод,
Когда я небу, карте внемлю,
Удостоверившим за мной,
Что эту выдумал я землю
За расступившейся волной.
48
Отрекшись вдруг от катавасий,
Дитя, ученая давно.
Лепечет слово: Анастасий!
Что для пергаментов дано,
Покуда пращур у преддверья
Гробниц, где край был никакой,
Не изрыгнет имя: Пульхерья!
Высокой скрытое травой.
49
BEEP
Мадам МаЛларме
С как бы вместо речи сущей
Только лётом в небесах
Отделится стих грядущий
От жилья и первый взмах
Окрыляет тихо вея
Этот веер если тот
За которым чуть белея
Чье-то зеркало блеснет
Ясное (куда гонимой
Снидет затаясь в зерне
Горсточка золы незримой
Приносящей горе мне)
Так в руках твоих разметан
Нелениво предстает он.
50
ДРУГОЙ ВЕЕР
Мадмуазель Малларме
О шалунья, чтоб в наслажденье
Я окунулся всей душой,
Тонко, посредством искушенья
Учись крыло сдержать рукой.
Сумрак прохлады затаенный
К тебе доносит каждый взмах,
Чей отводит удар плененный
Горизонт в розовых лучах.
Безумье! Дрожит уж несметно
Простор, — безмерный поцелуй,
Который, быв рожденным тщетно,
Ни мрет, ни брызнет прыском струй.
Почувствуй же, не рай ли сладкий,
Как погребенный смех, течет
В глубине единственной складки,
Где угол образует рот!
Жезл бледных онполов, горнила
На зорях догоревших дня, —
Лёт белый, что ты уронила
Против браслетного огня.
51
ДРУГОЙ ВЕЕР
Мадмуазель Малларме
Дабы в усладе безгреховной,
О девушка, мне утопать,
Сумей посредством лжи условной
Мое крыло в руках держать.
Повеет сумрачной прохладой
С полетом крыл моих порой.
Когда с пленительной усладой
Даль заслоню перед тобой.
Безумье! Вот как бы лобзанье
Дрожит пространство, что, без сил
Родясь, безумный от желанья,
Не может укротить свой пыл.
Иль ты не чуешь: рай звериный
И скрытая улыбка та,
Что слита складочкой единой,
Текут в углах невинных рта?
Жезл розовых затонов в злате
По вечерам — не так ли? нет? —
Сей белый лёт, что на закате
Лег на мерцающий браслет.
52
ЛИСТКИ АЛЬБОМА
53
СТРАНИЦА АЛЬБОМА
Нежданно и как бы шутя
О барышня вы захотели
Услышать как поют свистя
Тисы различные свирели
Мне кажется что сей этюд
Испробованный пред пейзажем
Хорош когда оставив труд
На лик ваш посмотрю я скажем
Прикосновеньем флейт к губам
Звук до предела исторгая
Парализованным перстам
Средств не дано чтоб подражая
Я вызвал в памяти у всех
Ваш огласивший воздух смех.
54
Дама
без пылкости внезапно воспалив
Розу что лютая иль рваная устала
От белизны багром ее расшнуровала
Чтоб знать как плачет в ней алмазный перелив
Без кризисов росы и как ни шаловлив
Без бриза, с ним, хотя б от неба хмурь отстала
Желавшего примчать простор искомый вала
День чувства истинный простому дню без див
Не кажется ль тебе что каждый год, бывает,
Чья на твоем челе вновь прелесть воскресает
По неким признакам сквозит и для меня
Прохладным веером у коего есть склонность
Вновь малым оживить ту искорку огня
Любви природную всю нашу монотонность.
55
О столь далекая и близкая, о столь
Ты восхитительно, о Мэри, что мечтаю
Я о бальзаме том, всходящем ложью к раю
На вазу никакой кристальной, словно соль,
Ты знаешь, для меня, напомнить мне позволь,
Уже года, всегда* пленительный без краю,
Длит смех твой, в некогда, в грядущее и к маю
Навек уплывшую, все ту же центифоль.
Да, сердце в сговоре зовет тебя ночами
Наинежнейшими интимными словами,
Волнуясь с именем подсказанным сестрой,
Но, превеликий клад с столь крохотной головкой,
Меня наставила ты нежности иной,
Лобзаньем выданной моим в любви неловкой.
56
В ПАМЯТЬ
БЕЛЬГИЙСКИХ ДРУЗЕЙ
Без страха что над ним довлеет дух свинцовый
Весь ветхость чуть ли не по цвету фимиам
Как притаившийся и еле зримый там
По складкам чувствую разделся камень вдовый
Плывет иль кажется он довод дал суровый
Что пролил время он как древний свой бальзам
Нам незапамятным довольным столь как нам
Внезапным дружеством приятен друг был новые
О братья в никогда банальном вас встречал
Я Брюгге чью зарю мертвый дробил канал
С прогулкой разлитой всей стаей лебединой
Когда торжественно сей город возгласил
Кто из сынов его взовьется над равниной
Дух излучающий подобно паре крыл.
57
НИЗМЕННЫЕ ПЕСНИ
I. ЧЕБОТАРЬ
Делать нечего без клею,
Предпочту я, говорю,
Эту белую лилею
Доброму чеботарю.
К паре даст он кожу, шаток,
Боле, чем имел когда-
Либо я, — для босых пяток
Огорченье и нужда.
Бьет он гвозди — зубоскалы.
Безуклонен молоток
По подметкам, но как, шалый,
Попадет он вдруг в носок!
Туфли создал бы почти,
Только, ножка, захоти!
58
И. ТОРГОВКА АРОМАТИЧЕСКИМИ ТРАВАМИ
Синь лаванды да с соломкой,
С дерзкой бровью ты не мни,
Что продашь ее мне ломкой,
Как ханже, коль в эти дни
Испещрил он стены, дева,
Место лучшее из мест
Для глумящегося чрева
В чувствах голубых, окрест.
Лучше в волны шевелюрки
Ты бы их себе вплела,
Чтоб дышал пучок там юркий, —
Зеферйна, Памела, —
Или мужу поскорей
Первинки неси ты вшей.
ГЛ. КАМЕНЩИК
Нивелируешь ты камни,
Так и мне, я — менестрель,
В кубе мозга уж пора мне
Ежедневно делать щель.
IV. ТОРГОВЕЦ ЧЕСНОКОМ И ЛУКОМ
С чесноком визит, о, скука!
То идти не по стезе.
Стоит мне всплакнуть от лука,
И элегия — в слезе.
59
V. ЖЕНА РАБОЧЕГО
Дева, суп, ребенок, — скрежет,
Как пройдет каменолом,
Ждут его, путь он отрежет
Да и женится потом.
VI. СТЕКОЛЬЩИК
Солнце слишком нараспашку,
Бросив блеск со стороны,
Сняло, яркое, рубашку,
Со стекольщика спины.
VII. ГАЗЕТЧИК
Титул, все равно хоть чей там,
Он, не простужаясь на
Холоде, подобно флейтам,
Номер выкрикнет сполна.
VIII. СТАРЬЕВЩИЦА
В суть его проникнув, братья,
Вплоть, тотчас ваш взгляд живой
Отделил меня от платья:
Мне богиней стать нагой.
60
ЗАПИСКА УИСТЛЕРУ
Не шквалы попусту, тяп-ляп,
На площадь хлынули — причина
И место взлета черных шляп,
Явившаяся балерина,
Муслиновая заверть иль
Фурор, растрепанный по пенам,
Та, взбаламутившая штиль,
Вихрь подняла своим коленом,
Чтоб всех, кроме него, как в сеть,
Завлечь, хмельна, недвижна пенно,
И пачкой невзначай задеть,
Не огорчаясь совершенно,
Что ветр от юбки, шал и смел,
Овеять Уистлера сумел.
61
РОНДЕЛИ
I
Вы на заре кривите рот
На все с гримасою взирая
Тем злей что на подушке с края
Смех все крыло вам растрясет
Дремлите тихо без забот
Не выдаст вас мечта родная
Вы на заре кривите рот
На все с гримасою взирая
Грез изумленный водомет
Коль вы их рушите вздыхая
Ланитам цвет придаст ли мая
В зрачках алмаз оплаты ждет
Вы на заре кривите рот
62
II
Мы влюбимся коль хочешь ты
Губами не сказав об этом
Смотри ты прерывай цветы
Лишь пролив паузу с приветом
Ввек песнь не знала быстроты
В луче улыбкою согретом
Мы влюбимся коль хочешь ты
Губами не сказав об этом
Нем нем в порфире высоты
Сильф в хороводе незадетом
Рвясь поцелуй горит ответом
До самых крылышек мечты
Мы влюбимся коль хочешь ты
63
МАЛЕНЬКАЯ АРИЯ
I
Некий сон уединенья
Там ни лебедь и ни пляж
В зраке ищет отраженья
От него отрекся я ж
Здесь чья мелкая надменность
Высока под синевой
Коей небо переменность
Золота с закатной ржой
Но простершись вдоль сияет
Словно белое белье
Так и птица коль ныряет
Подле в струйное жилье
В зыбь где стало вдруг тобою
Пиршество твое нагое.
64
МАЛЕНЬКАЯ АРИЯ
II
Необузданно должна,
Взмыв надеждой голубою,
Вспыхнуть в высоте она
С яростью и тишиною, —
В роще странный голос тот,
Невторимый отголоском, —
Птичка, что не запоет
Больше в жизни с прежним лоском.
Музыкант — злой чародей,
Замирает он в сомненьи,
Коль не из его, — моей
Грусти брызнет взрыд в смятеньи
И, растерзанный, в слезе,
Весь ли станет на стезе!
65
МАЛЕНЬКАЯ АРИЯ
(Военная)
Мне к лицу, чтоб у камина
Не смолчав я чуять мог
Как солдатская штанина
Красневеет в икрах ног
Штурм врага подкарауля
С гневом девственным точь-в-точь
Прут в перчатке белой пуля
Пехотинца не порочь
Прутья из коры столь вязкой
Не тевтона бить отец
Но как бы грозить их связкой
Отвяжись ты наконец
Сбита догола крапива
Шаловливая на диво.
66
НЕСКОЛЬКО СОНЕТОВ
67
Лишь привидение, как греза, снизошло,
Боль позвонков и страсть, грозя мне злым законом,
Скорбя о гибели под сумрачным плафоном,
Он несомненное сломал мое крыло.
Блеск, зал эбеновый, где пиршество сплело
Гирлянды славные, чтоб взмыл соблазн над троном,
Вы — сон лишь, сумраком солженный в царстве оном
В глазах отшельника, чья вера блещет зло.
В ночную эту даль Земля швырнет, я знаю,
Как бы осколки недр, тайн необычных стаю
В века, чей паморок к ней менее приник.
Ширь в силу зреяний иль самоотречений
Ворочает в тоске огни дурных улик
В том, что от праздничной звезды зажегся гений.
68
Живучий, девственный, не ведавший высот,
Ударом буйных крыл ужель прорвет он ныне
Гладь жесткую пруда, чей нам напомнил иней
Увековеченных полетов чистый лед!
И лебедь прошлого вдруг вспомнил: да, он — тот,
Кто, пышный, без надежд, встречает смерть на льдине,
Зато что никогда не пел он о равнине,
Где б жить, когда зимы отблещет тщетный гнет.
Всей шеей отряхнет он белизну печали,
Что отрицателю пространства навязали,
Но с крыльев не стряхнуть земли ужасный плен.
И призрак, пруд избрав для чистого сиянья,
Здесь закоснел в мечте, бесстрастен и презрен,
Что Лебедь воплотил в бесплодности изгнанья.
69
Самоубийства ты победно избегай,
Кровь пеной, золото, шквал, яркий факел славы!
О смех, порфира ли, чьи складки величавы,
Гробницы призрачной завесит царский край.
Как! Этой пышности хотя б лоскутный рай
Помедлил, полночь уж, гнать тень, что праздник правый
Справляет мой, и лишь головки клад лукавый
Небрежностью своей повеет невзначай.
Твоя всегда — сама отрада! Да, твоя лишь,
В ней нечто от небес, когда убор напялишь,
Немножко детского тщеславья с блеском всем
Когда к подушкам льнет она, тая угрозы,
Как гордой девочки-императрицы шлем,
Откуда сыплются, тебя π ре дета вя, розы.
70
Высоко освятив ногтей своих оникс,
Сей ночью держит Грусть с душой лампадофора
Сожженных Фениксом грез уйму — сардоникс:
Пеплохранилище, их не хранит амфора
На алтарях, в пустой гостиной: там — не птикс,
Игрушка звончатой тщеты, просвет фарфора
(Ведь жрец слез зачерпнуть твоих пошел, о Стикс,
С сосудом, чем Ничто гордится без зазора).
Окно вакантное — на Норд, но кругозор
Агонизирует, быть может, как décor
Ликорнов, прянувших из пламени на никсу,
На ту, усопшую, в зерцале ню, с тех пор
Как в мраке, взятом в кадр, подобно сардониксу,
Застыл в забвении мерцаний септуор.
71
Прическа взлет огня на западе эмблема
Желаний веющих вся описав дугу
Спустилась (я б сказал мерцает диадема)
К челу венчанному родному очагу
Без злата но терпеть чтоб этот облик пегий
Самовзгорание ушедших внутрь огней
Себя же продолжал с первоначальем неги
В смешном иль истинном мерцании очей
Героя нагота срамит красой лукавой
Ту что не сдвинувши звезду своей рукой
Чтоб только упростить жену великой славой
В сияньи подвиг вдруг свершает головой
Кропя рубинами сомнений свет раздранный
Как некий пламенник веселый и охранный.
72
ГРОБНИЦА ЭДГАРА ПО
Как отчеканила нам вечность сокровенный
Лик, ставший Им — самим, Поэт с нагим мечом
Свой вызывает век, не ведавший о том,
Что напророчил смерть сей голос незабвенный!
Как змий, что некогда внял ангелу, презренный
Смысл слову племени придавшему тайком.
Они, как истиной, упились волшебством,
Испитым в нечисти какой-то смеси бренной.
К земле и небесам питая тайно гнев,
Коль наша мысль из них не слепит барельеф,
Чем украшается, о По, твоя гробница —
В дол глыба павшая с планеты в гуще мглы,
Хотя б гранитом ввек означилась граница
В грядущем разлитым полетам злым Хулы.
73
ГРОБНИЦА ШАРЛЯ БОДЛЕРА
Храм похороненный чрез стоков рот надгробный
Слюнясь и выплюнув рубин и грязный ил
Гнуснейший истукан Анубис возгласил
С спаленной мордою как лай сурово-злобный
Иль чтоб недавний газ фитиль сучил подобный
Бесчестий прожитых сушитель осветил
Он кость лобковую угрюмый и без сил
Чей лёт по фонарю смотря струится пробный
Какая же листва сухая в городах
Без вечера слетит прославив бренный прах
На мрамор тщетно столь белеющий Бодлера
То скрытая фатой дрожащая на нем
Сама же Тень его под светом ревербера
Яд ввек вдыхаемый коль от него мы мрем.
74
ГРОБНИЦА
Годовщина — январь 1897
Утес, борей его пусть хлещет, разъяренный,
Не остановится под набожной рукой,
Ощупавший свое подобие с людской
Бедой, чтоб прославлять лишь слепок удрученный.
Здесь, если вяхирь вдруг воркует упоенный,
Скорбь невесомая созрелых сборок тьмой
Звезду дней завтрашних гнетет, чей яркий рой
Толпу осеребрит, как нимб одушевленный.
Кто ищет, охватив блистательный прыжок
Бродяги нашего, что внешне одинок,
Верлена? Меж цветов почиет прах Верлена,
Чтоб не застать врасплох среди могильных плит
Уста, из коих нам не пить дыханья тлена, —
Глубокий чуть ручей, над коим смерть чудит.
75
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Молчание уже печальное муара
По утвари чертит свой не единый сгиб.
Осевший главный столб частями серых глыб
С нехваткой памяти низвергнет злая кара.
Победно-древние забавы гримуара,
Иероглифы, чьи тьмы тем, светясь, могли б
Навеять дрожь крылом! Пока он не погиб,
Нет, лучше — в шкап его, храня, как символ дара.
Но ненавистный вмиг первоначальный треск,
Меж главных отсветов какой-то брызнул блеск
До самой паперти, рожденный для кумира,
Труб золото горе и на веленах, — всплыл
Бог Рихард Вагнер, тот, кто излучает миро,
Лиясь чернилами в рыданиях сибилл.
76
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Всякая Заря пылая
Пястью темной в торжестве
Тронет горны в синеве
В губы их берет глухая
Держит их пастух сбивая
Палкой бьющей по траве
Вслед шагам пока в молве
Ключ не зажурчит играя
Наперед ты так живи
О покинутый Пюви
Де Шаван
на водопой
Время ты привел к заставе
К нимфе без хитона к той
Перед кем предстал ты в Славе.
77
Всякий дух резюмирован
Только выдохнем вконец
В кольцах дыма что раскован
Новым множеством колец
Подтверждает то сигара
С смаком тлеющая ес(ь>-
Ли в лобзаньи светлом жара
Отделится пепел весь
Так и хор романсов только
Он сквозь губы пролетит
Сколь дурной реальной столько
Исключи ты их магнит
Точный смысл похерит сдуру
Смутную литературу.
78
С заботой плыть в тиши кают
За пышной Индией мечтая
— Гонцом да будет сей салют
Времен, нос что корма двойная
Как на одной из нижних рей
Ныряющая с каравеллой
В забавах пенилась морей
Птица — предтеча вести смелой
Которой монотонный зов
Не видоизменив теченья
Открыл грунт тщетный берегов
Отчаяние, ночь, каменья
И пеньем отразил легко
Улыбку бледного Васко.
79
Кадит ли вечера вся Спесь,
Заглохший факел в хороводе,
Бессмертный дым в своем разброде,
Ты небреженья не завесь!
Наследник древностей, чья смесь —
Трофеи, вспомнив о походе,
Коль очутился бы в проходе,
Не оттопил бы залу здесь.
Пред прошлым страх непобедимый,
В гроб отречений нелюдимый
Как бы когтями вдруг вцепясь,
Под прочным мрамором неволи
Горит огонь, воспламенясь
Лишь на сияющей консоли.
II
Встав из-за крупа и прыжком
Хрустальной рюмки эфемерной,
Не распустись в тоске безмерной,
Прервалось горлышко тайком.
80
Два рта (я верю), слившись в ком,
Ни мать моя, ни благоверный,
Ввек не испили Лжи химерной,
Я, сильф под хладным потолком!
Сосуд чистейший вне печали
Из неисчерпного вдовства ли
Агонизирует скорей, —
Угрюмый поцелуй наивный! —
Чем возвестить во мгле теней
Возникновенье розы дивной.
III
Уж кружево отменено
В догадке высшего Каприза
Чтоб приоткрыть из-под карниза
Отсутствие постели, но
Спор белый, цельный заодно,
Гирлянд под дуновеньем бриза
Перед окном бледным иссиза
Плывет не погрузясь на дно.
Но у того, кто грезит яро,
Спит в чарах грустная кифара —
Пустое звуков небытье —
То же, что волею утробы
Ничьей иной как лишь ее
Родиться нежное могло бы.
81
Ill
Испорчен кружевной узор
В борьбе Игры верховной тая
Как бы в хуле приоткрывая
Отсутствие у ложа штор.
Единодушный белый спор
Такой же вязи, что вторая,
Не хоронясь, а лишь витая,
Отхлынул в матовый простор.
Но у того, кто грезит хмуро,
Грустна покоится бандура
С игрой вакантной, ввечеру,
Та же, какую непреложно,
Согласно лишь ее нутру,
И было бы родить возможно.
82
Кой шелк с бальзамами времен,
Где зрим засохшую Химеру,
Сравнится с торсом, что не в меру
Вне зеркала весь устремлен!
Дыры молитвенных знамен
Экзальтируются по скверу:
Мои глаза находят веру
В копне волос твоих, как лен.
Нет! Не почуют губы вкуса
Ни в чем от своего укуса,
Коль твой любовник, щедрый франт,
В прическе шелковой, огромной
Не заглушит, как бриллиант,
Крик Слав, душимый им истомно.
83
Втереться в суть твоих историй
Только как пуганый герой
Коль он задел нагой пятой
Лужайку неких территорий
Льдам посягательных загорий
Не знаю есть ли грех такой
Который громкою хвалой
Триумф свой не воспел бы с зорей
Ликуя я ли не смотрю
На гром лал в ступицах — зарю
Что даль дырявит над равниной
С царством рассеянных зарниц
Где меркнет колесо единой
Из всех вечерних колесниц
84
Умолкнув с тучей высоты
Риф из базальта вместе с лавой
Рождает отзвук рабский славой
Рожка без свойств и моготы
Крушенье вдрызг (все знала ты,
Пена, но брег слюнишь оравой)
Одна меж выкидок ты плавай
Мачт обнаженных сняв кресты
Иль то что в разъяренной из-за
Смертельной гибели средь бриза
Бездне что вдруг отверзлась вся
В столь белом волосе из пены
Скупо топило б унося
Ребро дитя одной сирены
85
Закрыв свои тома на имени аПафоса,
В забаву Гению глазами я окину
Благословенную мирьядом пен руину
Под гиацинтом дней победных, как колосс.
Ты хлада избегай с его безмолвьем кос,
Не буду завывать в псалмах, я их отрину,
Если та белая прогулка вниз, к притину,
Откажет местностям в пейзаже с блеском рос.
Мой никаким плодом здесь не пресытясь голод
В его отсутствии находит смак, но, золот,
В душистой плоти встань хотя б один, земной!
С пятою на змее, где уголь тлится тонкий,
Мечтаю больше я, безумный, об иной
С сосцами смуглыми античной амазонки.
86
СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ
ИЗ КНИГИ "РАЗГЛАГОЛЬСТВОВАНИЯ'
87
Книги те, которые я не люблю* это — разрозненные
и лишенные архитектоники. Никто реиштельно не
избегает, — в журналистике или в чем бы то ни было: в
произведениях, написанных для себя и, надеемся, для
других — того, чтобы некоторые истины не проложили себе
дороги, через головы людей, в мир.
88
АНЕКДОТЫ ИЛИ ПОЭМЫ
ГРЯДУЩИЙ ФЕНОМЕН
Палевое небо над миром, кончающимся от немощи, может
быть, исчезнет с облаками: лоскуты изношенного пурпура закатов
линяют в реке, которая дремлет на утопающем в лучах и воде
горизонте. Деревья томятся скукой, и под их листвой седой (скорее от
пыли времени, чем от пыли дорожной) высится полотняная палатка
Показывателя происшествий Минувшего: кое-какие реверберы
дожидаются сумерек и оживляют лица горемычных толп,
сокрушенных бессмертным недугом и вековым грехом, мужчин бок о бок с их
хилыми соучастницами, носящими в чревах жалкие плоды, при
жизни которых погибнет земля. В беспокойном молчании всех глаз,
устремленных с мольбою туда, к солнцу, которое погружается в
воду с воплем отчаяния, угадывается простое причитание: "Никакая
картина не воспламеняет вас своим внутренним содержанием, так
как ныне нет ни одного художника, который мог бы выявить хоть
бы какой-нибудь только намек на него. Я вам несу живую (и сквозь
годы сохраненную высочайшей наукой) Женщину, какою она была
когда-то. Некое первородное и наивное безумие, золотой экстаз, сам
не знаю, что — это, но она это называет своей шевелюрой, — вьется
с прелестью тканей вокруг лица, озаренного кровавой наготой ее
уст. Вместо ненужной одежды красуется плоть; и блеск глаз —
подобных редким каменьям! — уступает излучению ее блаженной
плоти: с упругой грудью, как если бы ее наполняло вечное молоко,
с отточенными кончиками к небу, с гладкими голенями, которые
хранят соль первобытного моря". Воссоздавая в воображении облик
89
своих несчастных жен, плешивых, болезненных и отвратительных,
мужья теснят друг друга; но и жены, меланхоличные,
подстрекаемые любопытством, хотят увидеть.
Когда все они насладятся образом благородного создания, —
остатка некоей уже проклятой эпохи, — одни из них,
безразличные, пагому что будут не в силах понять, но другие, с надорванной
душою, с ресницами влажными от безропотных слез, обмениваются
многозначительными взглядами; между тем как поэты предстоящих
времен, чувствуя, что их угасшие взоры воспламеняются вновь,
направятся каждый к своему светильнику, с мозгом на мгновение
опьяненным туманным сиянием, неотступно преследуемые Ритмом
и забывая, что они существуют в эпоху, пережившую красоту.
90
ОСЕННЯЯ ЖАЛОБА
С тех пор, как Мария покинула меня, чтоб унестись на другую
звезду, — куда? На Орион? Альтаир? иль на твою, зеленая
Венера?.. — я неизменно и нежно любил одиночество. Сколько долгих
дней я провел одиноко со своим котом! Под словом "одиноко" я
разумею: без телесного существа, тогда как мой кот это —
мистический спутник, дух. Я вправе, следовательно, сказать, что много дней
я провел в одиночестве со своим котом, одинокий — с одним из
последних поэтов римского упадка. Ибо, с тех пор как белое создание
больше не живет, как-то причудливо и странно я люблю все, что
резюмирует одно слово: падение. Так, наиболее любимое мною
время в году это — последние дни лета, истомленные, за которыми
непосредственно следует осень; а в течение дня часы, избираемые
мною для прогулок, —- это та пора, когда солнце покоится, пред тем
как впасть в обморок: с медно-желтыми лучами на серых стенах и
хмедно-красными — на стеклах. Точно также литература, при
чтении которой мой ум черпает наслаждение, это — агонизирующая
поэзия последних мгновений Рима, поскольку, однако, она не
дышит еще животворным приближением Варваров и в ней ничуть не
слышится еще детский лепет латыни в первых, уже христианских,
отрывках прозы.
Я, следовательно, читал одно из тех приятных стихотворений
(чьи искусственные румяна чаруют меня гораздо больше, чем
природные краски молодости) и погрузил руку в шерсть невинного
животного, как вдруг под моим окном томно и меланхолично заиграла
шарманка. Она играла в просторной аллее, среди тополей, чьи
листья кажутся мне мертвыми даже весною, — с тех пор как по
этой аллее в последний раз пронесли Марию при мерцании
церковных свеч. Инструмент скорбящих, воистину так: пианино сверкает;
растерзанным фибрам сердца скрипка приносит свет; зато
шарманка, в сумерках воспоминаний, меня заставила мечтать до изнемо-
91
жения. Теперь, когда она лепетала какой-то вульгарно-игривый
мотив, — как могло случиться, что его припев западал мне прямо в
душу, заставив меня рыдать, как какая-нибудь романтическая
баллада? Я наслаждался им медленно и не бросил в окно ни одного су
из боязни пошевелиться и убедиться, что инструмент пел не один.
92
ЗИМНЯЯ ДРОЖЬ
Эти саксонские часы, которые запаздывают и производят
тринадцать ударов меж своими цветами и богами, кому принадлежали
они? Полагаю, что они прибыли из Саксонии когда-то длительными
маршрутами дилижансов.
(Причудливые тени виснут в обветшалых стеклах.)
А твое венецианское зеркало, глубокое, как холодный водоем,
с его берегом инкрустированных змей, отливающий тусклой
позолотой, кто смотрелся в него? Ах! Я уверен, что не одна женщина
омывала в этой воде грех своей красы; и, может быть, я увидал бы
обнаженный призрак, если бы долго всматривался.
— Злой! Ты часто говоришь неприятные вещи...
(Я вижу паутины вверху больших окон.)
И наш баул, он тоже был очень старый: смотри, как это пламя
окрашивает в алое его печальное дерево; изношенные занавеси дают
чувствовать его давность, а вышивка на креслах, утратившая свои
краски, а старинные стенные гравюры, а вся наша дряхлая ветошь?
Разве тебе не кажется, что даже бенгальский зяблик и синяя птица
выцвели с самим временем?
(Не думай о паутинах, что дрожат в вышине больших окон.)
Все это ты любишь, и потому я могу жить около тебя. Не
хотела ли ты сама того, сестра моя с обращенным к минувшему
взором, чтобы в одном из моих стихотворений появились слова:
"вещей давно поблекших прелесть1*? Новые предметы тебе не нравятся:
они и тебя пугают своей кричащей дерзостью и ты ощущаешь
необходимость износить их, что трудно сделать тем, которые не любят
действия.
93
Подойди, закрой свой старинный немецкий альманах, который
ты перечитываешь с таким вниманием, хотя он вышел сто лет назад
с лишком и помещенные в нем короли все мертвы, и, лежа на
античном ковре, головою приникнув к твоей побледневшей одежде,
между милых коленей, — о мирное дитя, я буду говорить с тобой
часами; больше нет полей и улицы безлюдны, я буду говорить тебе
о нашей мебели... Ты — рассеянная?
(Эти паутины вздрагивают на самом верху больших окон.)
94
ДЕМОН АНАЛОГИИ '
Слова ли неведомые пели на ваших губах — проклятые
обрывки бессмысленной фразы?
Я вышел из своей квартиры с ощущением, присущим некоему
крылу, когда оно скользит по струнам музыкального инструмента,
крылу — тягучему и легкому, переходящему в голос, который
произносил слова в нисходящем тоне: "Пенультьема умерла**, так
чтобы слово
Пенультьема
стояло в конце стиха, а слово
Умерла
отделилось
от загадочного переноса и стало еще бесполезнее в пустоте смысла.
Я сделал несколько шагов по улице и вдруг узнал в звуке нуль
натянутую струну музыкального инструмента, про который я уже
забыл и к которому славное Воспоминание, вероятно, прикоснулось
своим крылом или пальмовой ветвью, и, угадав всю искусственность
загадки, я усмехнулся и умственным желаниям дал волю разных
комбинаций. Фраза вернулась предполагаемая, освобожденная от
первоначального падения крыла или ветви, отныне — через
раздавшийся голос, до тех пор, пока наконец не отчеканилась она, единая
и самодейственная, и живущая в себе самой. Я шел (не
довольствуясь больше лишь представлением), произнося ее, как конец стиха, а
однажды я попрюбовал применить ее к особенностям моего
произношения; вскоре, произнося ее с паузой после слова "Пенультьема", в
котором я находил мучительное наслаждение: "Пенультьема", —
' Это произведение Стефана Малларме целиком построено
на стихе "La Pénultième Est morte", что означает:
"Слог предпоследний Умер". Чтобы передать
игру слов, М.Талов счел нужным слово "пенультьема" не
переводить, а сохранить лишь русскую транскрипцию.
95
затем струна инструмента, столь натянутая в забытьи на звуке нуль,
несомненно, лопнула, и я прибавлял на манер заупокойной:
"Умерла". Я не оставлял попыток вновь и вновь возвращаться к
предпочитаемым раздумьям, ссылаясь, для самоуспокоения, на то, что пе-
нультьема, разумеется, есть термин речи, означающий
предпоследний слог в слове, и что ее возникновение — скверная отрыжка
моих лингвистических занятий, сквозь которые ежедневно плачет
навзрыд, прерываясь, мой благородный поэтический дар: сама
звонкость и покров обмана, усвоенного благодаря поспешности
легковесного утверждения, были причиной муки. Поддразниваемый этим, я
твердо решил предоставить печальным словам свободу
непроизвольно срываться с моих губ, и я шел, лепеча с интонацией, способной
вызвать себе сочувствие: "Пенультьема умерла, она умерла, умерла
навеки, эта отчаявшаяся Пенультьема",— полагая тем самым
приглушить свое беспокойство и не без тайной надежды похоронить ее
в волнах псалмопения, когда — о ужас! — под действием легко
объяснимых и сильных чар я почувствовал, что в момент, когда в
витрине магазина показалось отражение моей руки,
воспроизводившее ее ласкательный жест над чем-то неопределенным, у меня был
и самый голос (первичный, который был, несомненно, и
единственным).
Но где проявляется неопровержимое вторжение
сверхъестественного и начало внутренней тревоги, под гнетом которой
агонизирует мой некогда повелительный дух, — это когда, подняв глаза, я,
инстинктивно движимый по улице антиквариев, увидал, что
очутился перед лавкой продавца развешанных по стенам старинных
струнных инструментов и валявшихся на полу желтых пальм и
зарывшихся в тень крыльев бывших птиц. Отчужденный, я бежал,
как некто, по всей вероятности, осужденный носить траур
неизъяснимой Пенультьемы.
96
БЕДНЕНЬКИЙ, БЛЕДНЫЙ РЕБЕНОК
Бедненький, бледный ребенок! Зачем ты на улице
выкрикиваешь во все горло свою пронзительную дерзкую песню,
теряющуюся среди кошек, властительниц крыш? Она ведь не
пробьет ставней нижних этажей, за которыми ты не подозреваешь
тяжелых шелковых занавесей бледно-алого цвета.
А между тем ты поешь роковым образом с твердой
уверенностью маленького человечка, который одиноко бродит по дорогам
жизни и, ни на кого не рассчитывая, работает на себя. Имел ли ты
когда-нибудь отца? У тебя нет даже старухи, которая побоями
заставляла бы тебя забыть про голод, когда ты возвращаешься домой
без единого су.
Но ты работаешь на себя: стоя на улицах в выцветших
лохмотьях как бы с плеча взрослого человека, выделяясь
преждевременной и чересчур страшной в твоем возрасте худобой, ты поешь,
чтобы поесть, поёшь с остервенением, не обращая своих злобных
взоров к другим детям, играющим на мостовой.
À жалобная песнь так высока, так высока, что твоя
обнаженная головка, которая вытягивается к небу по мере того, как твой
голос растет, по-видимому, хочет улететь с твоих маленьких плеч.
Маленький человечек! кто знает, не слетит ли она
когда-нибудь, когда, накричавшись в городах вдосталь, ты совершишь
преступление? Преступление совершить не столь трудное дело, право,
достаточно только, пожелав, немного отваги, и те, которые... У тебя
энергичная фигурка.
Ни одно су не попадет в корзинку, которую держит твоя
длинная ручонка, безнадежно повисшая на твоих штанишках: тебя
разозлят и в какой-нибудь день ты совершишь преступление.
Твоя головка все вытягивается и хочет тебя оставить, как если
бы заранее она предчувствовала, пока ты поешь с видом, который
становится угрожающим.
97
Она с тобой простится, когда ты поплатишься за меня, за тех,
которые стоят меньше, чем я. Ты, вероятно, появился на свет для
этого, и ты отныне уже постишься, мы тебя увидим на столбцах
газет.
О, бедненькая головка!
98
ТРУБКА
Вчера я нашел свою трубку, мечтая о долгом вечере занятий,
прекрасных зимних занятий. Сигареты со всеми ребячьими
радостями летней поры ушедшие в прошлое, которое озарено голубыми
листьями солнца, муслиновыми тканями, и вновь в руке — моя
степенная трубка, взятая человеком серьезным, готовящимся курить
долго, не тревожа себя затем, чтобы лучше работалось; но я не
ожидал сюрприза, приготовленного мне ею, забытой; едва успел я
затянуться первым клубом дыма, позабыл о своих больших
ненаписанных книгах, восхищенный, растроганный, я вдыхал минувшую
зиму, вновь представшую в воображении. Я не притрагивался к
верной спутнице со дня моего возвращения во Францию, и вот весь
Лондон, — Лондон тот, который я один полностью пережил
по-своему, год назад, — явился мне; прежде всего милые туманы,
которые пробираются в ваш мозг и там имеют запах, присущий лишь
им одним, когда они проникают сквозь щели оконницы. Мой табак
пахнул темной комнатой с кожаными, припудренными угольной
пылью стульями, по которым катался худой черный кот; языки
пламени! и краснорукая служанка, подбавляющая угли, и звон этих
угольев, пересыпаемых из толевого ведра в железное лукошко,
утром, — между тем как почтальон отчеканивал два торжественных
удара, приводивших меня в радостный трепет! Вновь увидал я в
окна эти чахлые деревья безлюдного сквера, увидал открытое море, по
которому той зимой ездил я так часто, вздрагивая от холода на
палубе покрытого изморозью и почерневшего от копоти парохода,
вместе с моей бедной любимой девушкой, странствовавшей в одежде
путешественницы, в длинном и поблекшем платье цвета дорожной
пыли, в мокром плаще, прилипавшем к ее холодным плечам, и в
одной из тех соломенных шляпок без пера и, можно сказать, без
лент, что богатые женщины выбрасывают по прибытии — до того
эти шляпки искромсаны морским ветром! — но бедные любимые
девушки их еще переделывают не на один будущий сезон. Ее шею
обматывал страшный платочек, которым машут, обменявшись
прощальными словами навеки.
99
РЕМИНИСЦЕНЦИЯ
Сиротою, я бродил, задумчивый, и с глазами, не видевшими
семьи: праздничные палатки были разбиты на площади, как на
шахматной доске. Предвосхищал ли я будущее и что тоже буду
таким же, мне нравился самый дух бродяг, ради них я пренебрегал
моими товарищами. Никакой выкрик в дыру полотняной стены, ни
тирада вдалеке, — на представлении, требующем святого часа кин-
кетов, я захотел поговорить с мальчишкой, слишком
нерешительный, чтобы фигурировать среди его племени; он был в ночном
колпаке, сшитом на подобие шапочки Данта, шапочки вмятой и
похожей на тартинку с мягким сыром, на снег горных вершин, лилию
или иную составную белизну, с полями загнутыми вовнутрь: мне
хотелось попросить его, чтобы он меня допустил к своей роскошной
трапезе, второпях разделенной вместе вот хоть с тем старшим
прославленным фокусником, силуэт которого отчетливо мелькает за
ближайшим полотном напротив, показывая ловкие выверты и
банальности дня. Нагой, делая пируэты в верченьи облегающего
трико — на мой взгляд головокружительном, мальчишка между
прочим заговорил: **Кто твои родители? — У меня их нет. — Ну!
Если бы ты только знал, до чего же это забавно, отец... Хоть бы
прошлую неделю, ворчал, попробовав суп... Он корчил такие
красивые гримасы, а тут хозяин как ударит его ладонью наотмашь, как
даст пинок ногой! Эх, милый мой!" — и с торжествующей миной
поднимая по направлению ко мне ногу с легкостью необычайной:
"Иногда разинешь рот, глядя на папу..." — и, впившись зубами в
нетронутое лакомство самого маленького: "Твоя мама, у тебя ее нет,
ты, может быть, одинешенек? А моя ест мочалку, и люди хлопают в
ладоши. Ничего ты не понимаешь, родители это народ чудной, они
смешат..." Представление достигло наивысшего напряжения, он
ушел, я же вздыхал, внезапно потрясенный тем, что у меня не было
родителей.
100
КНИГИ НА ДИВАНЕ
ЗАПИСАННОЕ КОГДА-ТО НА БЕЛОМ ЛИСТКЕ
В НАЧАЛЕ КНИГИ БОДЛЕРА
Немощная Муза, Ты, что истощаешь ритм и заставляешь меня
вновь читать; неприятельница с зельями, я тебе возвращаю хмель,
пришедший извне.
Некий пейзаж носится передо мной сильный, как опиум; в
вышине и на горизонте синеватое облако с голубою пробоиной
Молитвы — что же до растительности, чахнут деревья, на больной
коре которых проступают спутанные, обнаженные узлы, их явное
разрастание сопровождается, несмотря на неподвижный вид, вздохом
скрипки, что безысходно дрожит в листьях: их тень стелет
молчаливые зеркала на цветочные клумбы отсутствующего сада, вправляя в
черные граниты кромок забытье, со всем будущим. На земле,
вокруг, букеты, несколько выпавших перьев крыла. День, в
зависимости от луча, как и прочие, утрачивает скуку, они пылают, какой-
то неизъяснимый сочится багрец — румян? крови? Он странен,
солнечный закат! Или то — поток слез, озаренных бенгальскими
огнями фейерверкера — Сатаны, мелькающего позади? Ночь только
продолжает преступления, угрызения и Смерть. Тогда —
завуалировать рыданьями лицо не столь из-за этого кошмара, сколь перед
бедственными следами всякого изгнания; что такое Небо?
101
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Французский поэт Стефан Малларме родился в Париже
18 марта 1842 года. Все его предки и по материнской и по
отцовской линии были адвокатами, нотариусами, а после революции
1792 года занимали довольно высокие должности в Регистратуре. В
историю Франции вписал свое имя лишь Франсуа-Опост Малларме
(двоюродный прадед поэта) — член Конвента, монтаньяр, умерший
в изгнании.
К бюрократической карьере готовили и Стефана, но он с
детства, после встречи с Пьер-Жаном Беранже, понял, что станет
поэтом. С этого времени он тайком упражняется в стихосложении.
В 1862 году, окончив лицей, он отказывается от
приготовленной для него должности и против воли отца уезжает в Англию,
чтобы совершенствовать свои знания английского языка; его мечта —
перевести Эдгара По.
Вернувшись во Францию в 1864 году, преподает английский
язык в различных провинциальных лицеях. Избранная профессия
обеспечивала ему постоянный заработок и оставляла время для
свободного творчества. Осенью 1871 года он получает назначение в
Париж.
Здесь вместе со своим другом Эдуардом Мане он в течение
10 лет — постоянный гость Виктора Гюго, неизменно встречавшего
Малларме фразой: "Мой дорогой поэт-импрессионист**.
Ближайшими его друзьями были также Берта Моризо, Дега, Гоген, Ренуар,
Моне, Балатон, Поль Верлен, Теодор де Банвиль, Вилье де Лиль-
Адан, Анри Реньо, дез Эссарт, Катюль Мендес, Эмиль Золя, Октав
Мирбо. А у себя на квартире Малларме каждый вторник проводил
литературные собеседования, на которые сходились молодые поэты.
102
В то время уже были опубликованы почти все стихотворения
так называемого парнасского периода, некоторые стихотворения в
прозе, эклога "Пополудни Фавна*4, получившая потом свое
музыкальное продолжение в знаменитой прелюдии Дебюсси, переводы
"Ворона" Эдгара По с иллюстрациями Э.Мане, "Ватека" Бекфорда.
Так как тиражи книг были малы (до сотни экземпляров), Малларме
оставался все тем же "незнакомцем" до 1884 года, когда Гюисманс
выпустил свой роман "Навыворот", герой которого Жан дез Эссент
декламировал отрывок из "Иродиады". Эти восемь строк, а также
опубликованные почти одновременно "Проклятые поэты" Верле-
на сразу доставили громкую славу Ст. Малларме и установили
его репутацию среди "молодых", написавших его имя на
своем знамени. Его "вторники** на улице де Ром стали
легендарными.
Вот каким его увидел Рене Гиль в это время:
"Малларме сам отпер мне дверь и протянул мне руку так
просто и так естественно, как подают ее другу, с которым
расстались накануне. Он попросил у меня позволения принять меня в
своем рабочем кабинете, где по столу были разбросаны в беспорядке
бумаги. Спросил меня, курю ли я? да? — и он протянул мне таба<-
керку и книжку с папиросной бумагой. Я заметил, что у него
самого в руке была пенковая трубка, которой он играл с изящной
небрежностью и которая всегда была как бы дополнением,
завершением его жестов, трезвых и привлекательных.
Малларме было в то время сорок три года. Среднего роста,
хорошо сложенный, широкоплечий, он остался стройным, без худобы,
он обладал какой-то корректностью всех движений, какой-то
размеренной и отчетливой грацией их. В нем не было никакой
тяжеловатости, в выражении же лица была единственная, напряженная
одухотворенность, — напряженная, но спокойная и облегченная
изяществом. Под едва означающимися волнами каштановых волос,
седеющих на висках, его безоблачное чело, широкое и прямоугольное,
придавало его лицу характер спокойной ясности44.
Школу Малларме прошли Постав Кан, Жюль Лафорг, Анд ре
Жид, Поль Клодель, Рене Гиль, Марсель Швоб, Эмиль Верхарн,
Реми де Гурмон, Анри де Ренье, многие другие.
103
"К Малларме шли, — рассказывал Реми де Гурмон, — как к
сибилле; его речь слушали, как оракула. Он был приветлив, но без
фамильярности. Похвала в его устах поражала, как воля судьбы. Я
никогда не забуду, как Анри де Ренье весь покраснел от волнения,
услышав осторожную похвалу учителя44.
Рене Гиль писал: "...каждый вторник посетители выносили
ясные уроки той духовной стыдливости, какая необходимо должна
быть уделом мыслителей и поэтов".
Эти "вторники" продолжались до 1895 года, когда
Ст.Малларме вышел в отставку и поселился в деревне Вальвен под
Парижем, где 9 сентября 1898 года скоропостижно скончался.
Все черновики и неоконченные рукописи согласно завещанию
поэта были незамедлительно уничтожены.
Творческое наследие Малларме по объему невелико, но оно
определило собой развитие европейской литературы XX века.
В его поэзии различают парнасский период, когда Малларме
был под мощным влиянием Бодлера, и последующий, чисто мал-
лармеевский, когда он "выработал свою технику, отличающуюся
еще большей точностью и чистотой линий", создал "среду ясную,
светлую, утонченно-трепетную и психологически исполненную
веяниями непобедимого оптимизма", всегда оставаясь "верным
традициям французской поэзии" (Рене Гиль).
Его стихи не поддаются примитивному логическому и
грамматическому анализу и при первом чтении могут показаться трудными
для восприятия, хотя Малларме черпал свое вдохновение не только
в своих психологических наблюдениях, но и в обыденной жизни и
образах природы. Он стремился к, быть может, недостижимому
совершенству. Недостижимому, потому что слово никогда не бывает
адекватно мысли.
Малларме очистил поэзию от словесной шелухи, всяческой
риторики и декларативности. Он будит творческое воображение,
делает читателя своим соавтором, но никогда не дает до конца разгадать
себя.
104
Неуловимой нитью догадок,
ощупью — к тебе, зиждетелю,
видящему созиждетеля в каждом человеке,
перелистывающем
струны твоей лиры;
воссоздателя твоих намеков,
внезапно обрывающихся
каскадом вольных зияний;
к тебе пробираюсь ощупью,
как Эдип, ведомый Антигоной...
(М.Талое)
К сожалению, русский читатель знаком с достижениями
Малларме только косвенно — через творчество некоторых русских
поэтов начала XX века (Анненекий, Сологуб, Брюсов...)
Несколько слов о Марке Владимировиче Талове (1892—1969).
М.Талов с 1913 по 1922 год жил во Франции. Впервые стихи
Малларме он услышал от художника Модильяни, который, сидя в
знаменитом кафе "Ротонда", мог часами наизусть читать Данте и
Малларме. Он не только "зажег" Талона своим восторженным
отношением к Малларме, но и уговорил взяться за нелегкий труд
перевода поэзии Малларме на русский язык.
К этому времени Талов увлекался переводом
старофранцузских поэтов, печатал свои стихи во французских журналах.
Изучение Малларме привело его к знакомству с верными
учениками мастера — Анри де Ренье и Рене Гилем, которым сам поэт
на своих "вторниках" толковал свои стихи и свои принципы. Рене
Гиль "прошел" с ним всего Малларме. Таким образом через Анри
де Ренье и Рене Гиля к Талову протянулась живая нить от
Малларме.
Талов воссоздал Малларме на русском языке. Он стремился
воспроизвести специфические особенности синтаксиса и
поэтического строя раннего — парнасского и уже по-иному — чисто мал-
лармеевского периода творчества, по возможности дать полную
105
аутентичность образов, наиполнее выразить звуковую сторону. На
эту работу он затратил 17 лет. Возвращался к ней и позже.
Настоящий сборник охватывает все стихи и поэмы Малларме,
вошедшие в издание: Stéphane Maliarmé. Poésies. Edition complète.
NRF, Paris, 1913, состав которого, по-видимому, ближе всего
соответствует намерениям самого Малларме. В настоящий сборник
включены также некоторые стихотворения в прозе.
М.А. и Т.М.Таловы
106
СОДЕРЖАНИЕ
SALUT, сонет 3
СТИХОТВОРЕНИЯ ПАРНАССКОГО ПЕРИОДА
НАПАСТЬ 6
ЯВЛЕНИЕ 9
ПУСТОЕ ПРОШЕНИЕ, неправильный сонет 10
НАКАЗАННЫЙ СКОМОРОХ, сонет 11
— Арапка, дьяволом трясомая, лукаво 12
ВЗДОХ 13
ОКНА 14
ЦВЕТЫ 16
ПЕРВИНА, неправильный сонет 17
ТОМЛЕНИЕ ДУХА 18
— Устав от горьких снов, чья лень — обидчик славы 19
ЗВОНАРЬ, неправильный сонет 20
ЛЕТНЯЯ ГРУСТЬ, сонет 21
ЛАЗУРЬ 22
МОРСКОЙ ВЕТЕР 24
МИЛОСТЫНЯ 25
СОНЕТ 27
ДАР ПОЭМЫ 28
ИРОДИАДА
I. СЦЕНА 30
II. ТРОПАРЬ СВ. ИОАННА ...37
107
ПОПОЛУДНИ ФАВНА, эклога 39
СВЯТАЯ 44
НАДГРОБНОЕ СЛОВО, Теофилю Готье 45
ПРОЗА (для дез Эссент'а) 47
ВЕЕР, мадам Малларме 50
ДРУГОЙ ВЕЕР, мадмуазель Малларме 51
ДРУГОЙ ВЕЕР, мадмуазель Малларме (2-й вариант
перевода) 52
ЛИСТКИ АЛЬБОМА
СТРАНИЦА АЛЬБОМА 54
— Дама без пылкости внезапно воспалив 55
— О столь далекая и близкая, о столь 56
В ПАМЯТЬ БЕЛЬГИЙСКИХ ДРУЗЕЙ 57
НИЗМЕННЫЕ ПЕСНИ:
I. Чеботарь 58
II. Торговка ароматическими травами 59
III. Каменщик 59
IV. Торговец чесноком и луком 59
V. Жена рабочего 60
VI. Стекольщик 60
VII. Газетчик 60
VIII. Старьевщица 60
ЗАПИСКА УИСТЛЕРУ 61
РОНДЕЛИ:
I. Вы на заре кривите рот 62
II. Мы влюбимся, коль хочешь ты 63
МАЛЕНЬКАЯ АРИЯ:
I. Некий сон уединенья 64
II. Необузданно должна 65
МАЛЕНЬКАЯ АРИЯ (Военная) 66
108
НЕСКОЛЬКО СОНЕТОВ
— Лишь привидение, как греза, снизошло 68
— Живучий, девственный, не ведавший высот 69
— Самоубийства ты победно избегай 70
— Высоко освятив ногтей своих оникс 71
— Прическа взлет огня на западе эмблема 72
ГРОБНИЦА ЭДГАРА ПО 73
ГРОБНИЦА ШАРЛЯ БОДЛЕРА 74
ГРОБНИЦА 75
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ (Рихарду Вагнеру) 76
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ (Пюви де Шавану) 77
— Всякий дух резюмирован 78
— С заботой плыть в тиши кают 79
I. Кадит ли вечера вся Спесь 80
II. Встав из-за крупа и прыжком 81
III. Уж кружево отменено 82
III. Испорчен кружевной узор (2-й вариант перевода) 83
— Кой шелк с бальзамами времен 84
— Втереться в суть твоих историй 85
— Умолкнув с тучей высоты 86
— Закрыв свои тома на имени "Пафос4* 87
СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ ИЗ КНИГИ
"РАЗГЛАГОЛЬСТВОВАНИЯ"
— Книги те, которые я не люблю , 88
АНЕКДОТЫ ИЛИ ПОЭМЫ
ГРЯДУЩИЙ ФЕНОМЕН 89
ОСЕННЯЯ ЖАЛОБА 91
ЗИМНЯЯ ДРОЖЬ.. .93
ДЕМОН АНАЛОГИИ 95
БЕДНЕНЬКИЙ, БЛЕДНЫЙ РЕБЕНОК 97
ТРУБКА 99
109
РЕМИНИСЦЕНЦИЯ 100
КНИГИ НА ДИВАНЕ
ЗАПИСАННОЕ КОГДА-ТО НА БЕЛОМ ЛИСТКЕ
В НАЧАЛЕ КНИГИ БОДЛЕРА 101
От составителе й 102
ПО
Стефан Малларме. Собрание
стихотворений. Переложил Марк Талов./Сост. и послесл.
MA. и Т.М.Таловых. — М.: 1990. — НО с.
Творческое наследие французского поэта Стефана Малларме
(1842 —189В) по объему невелико, но оно определило собой развитие
европейской литературы XX веха. Марк Владимирович Талов (1892-1969)
воссоздал Малларме на русском языке.
Настоящий сборник охватывает все стихотворения и поэмы,
вошедшие в издание : Stéphane Mallarmé. Poésies. Edition complète. NRF, Paris, 1913.
111
СТЕФАН
МАЛАРМЕ
Собрание стихотворений
переложил Марк Талов
Редактор Т. Шеханова
Технический редактор Г. Моисеева
Корректор 3. Тихонова
Сдано в набор. 26.02.90. Подписано к печати. 05.09.90. Формат 70χ1001Λ<ν
Бумага офсетная № 1 Гарнитура "Тип Тайме". Печать офсетная.
Усл. печ. л. 4,54 Усл. кр.-отт. 4,70 Уч.-изд. л. 2,92
Тираж 5000. Изд. № Ш-3668. Заказ ГЪ&0&6.
Цена Зр. 80к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Художественная
литература". 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Московская типография № 4 Государственного комитета СССР гш
делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129041, Москва,
Б. Переяславская ул., 46.