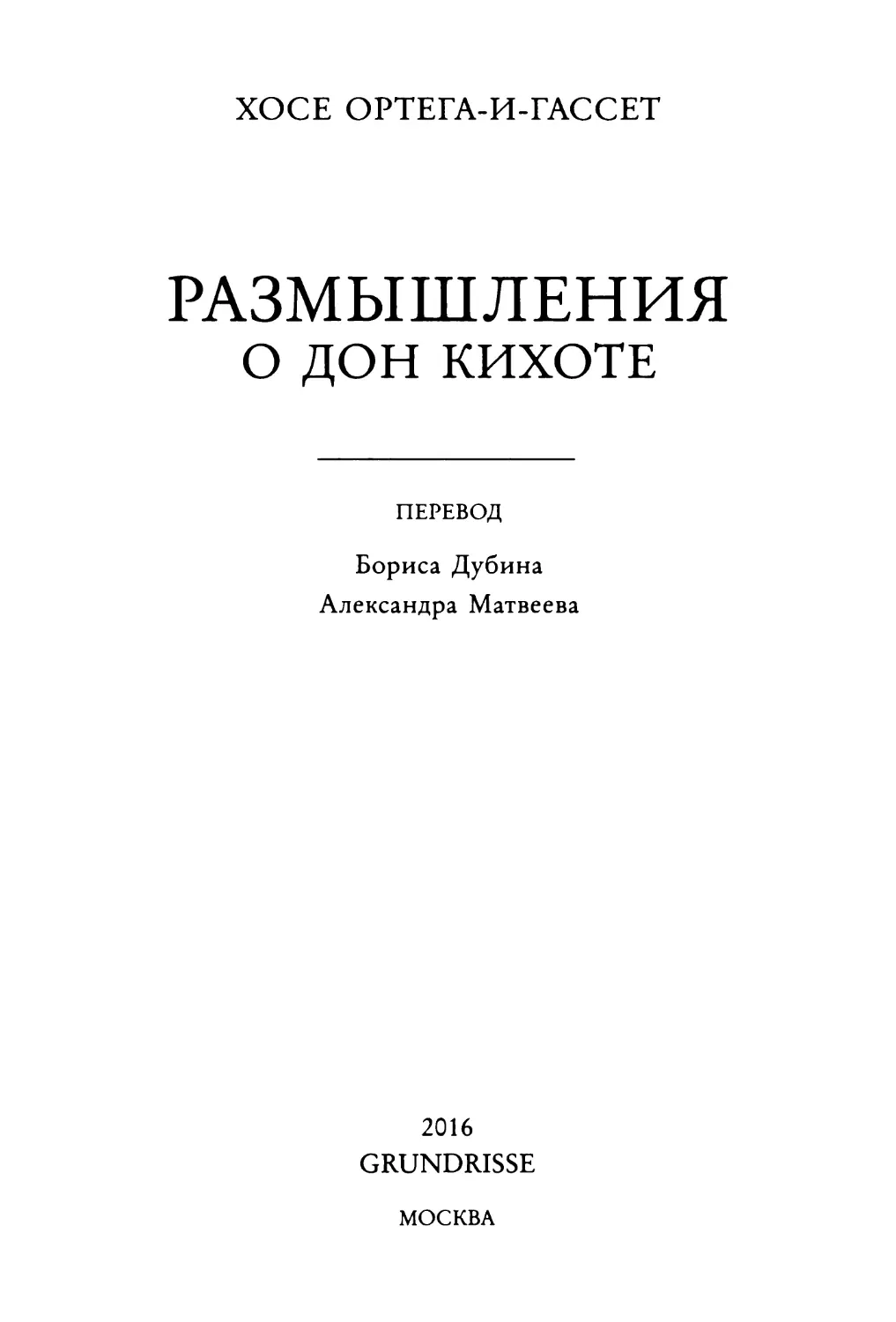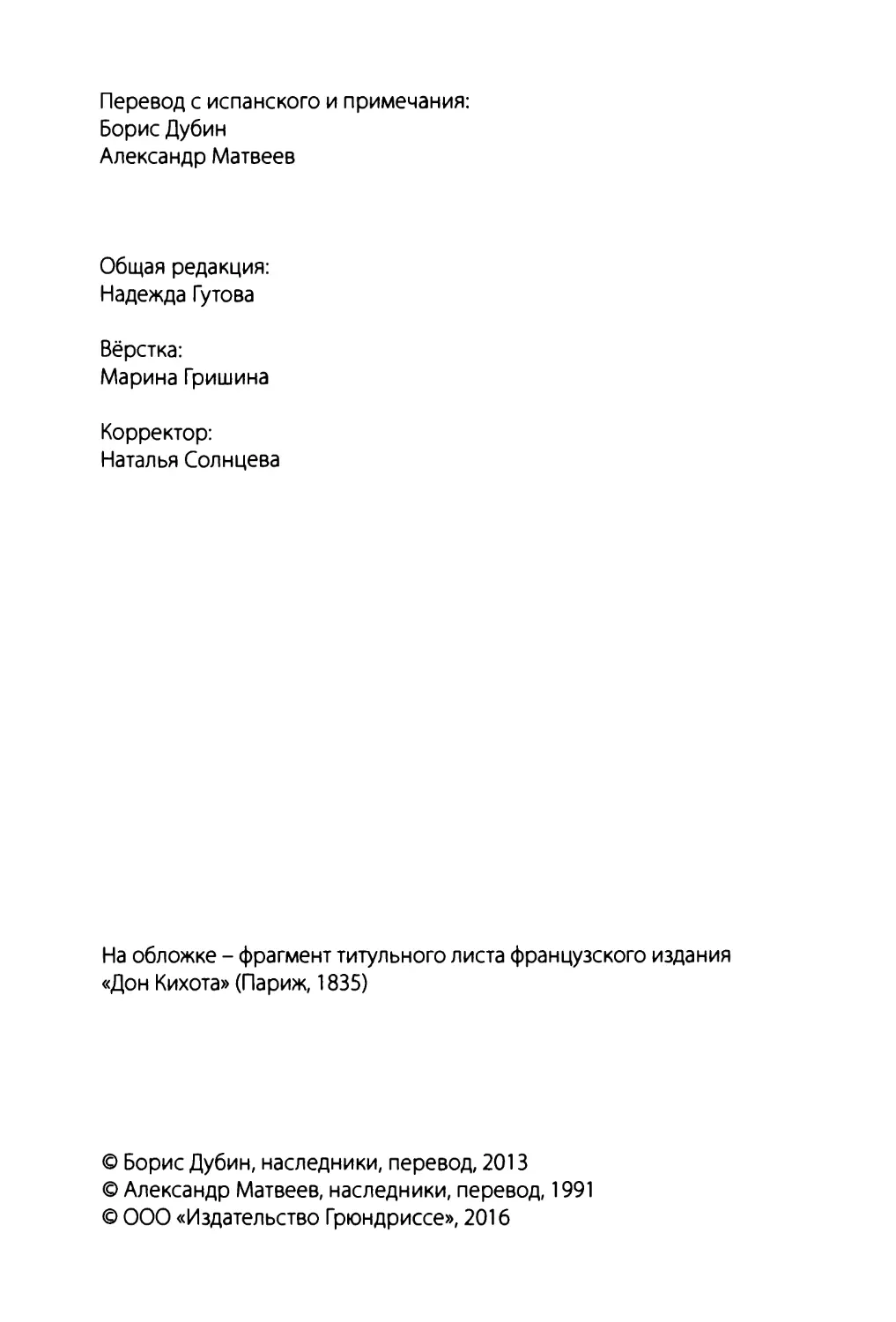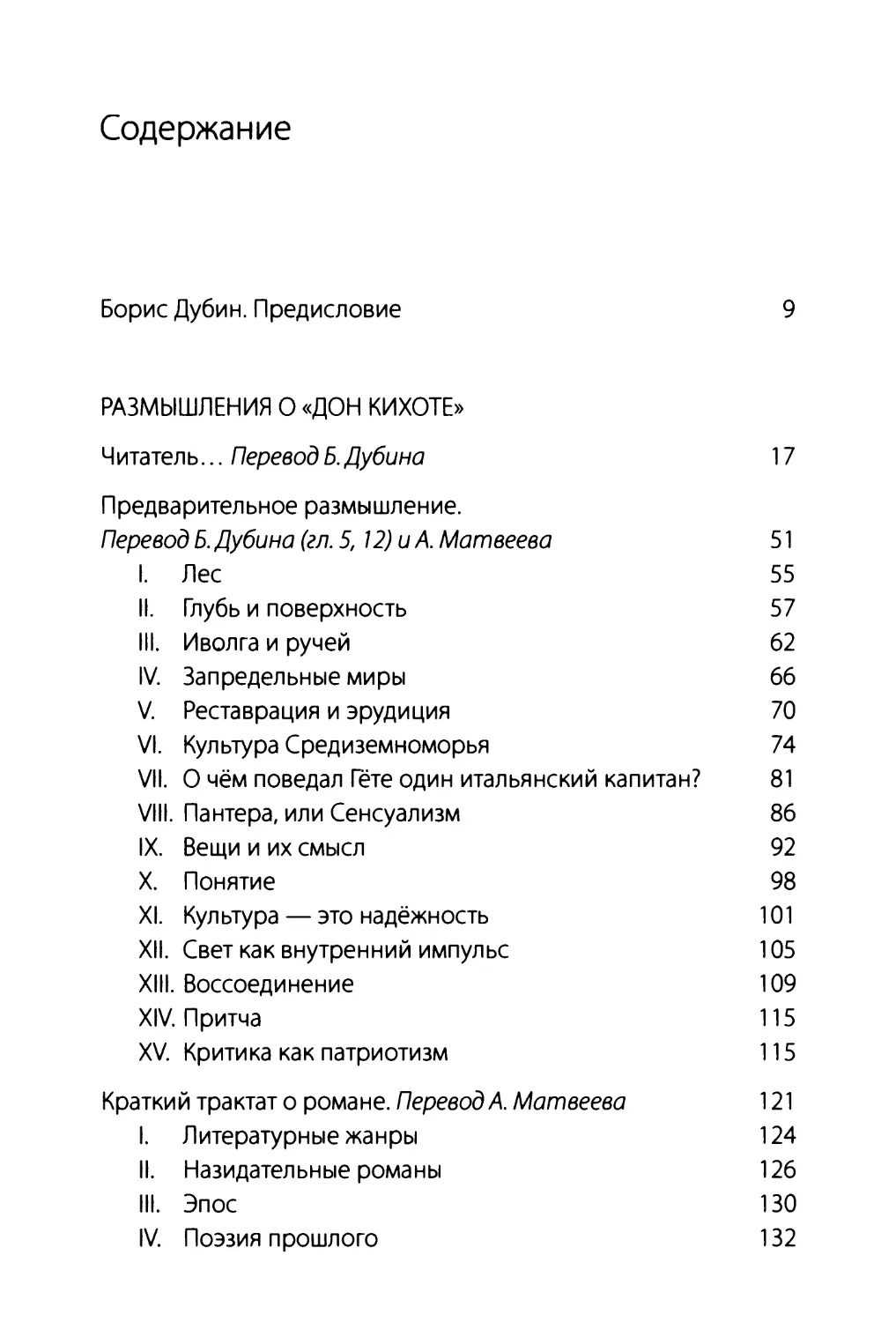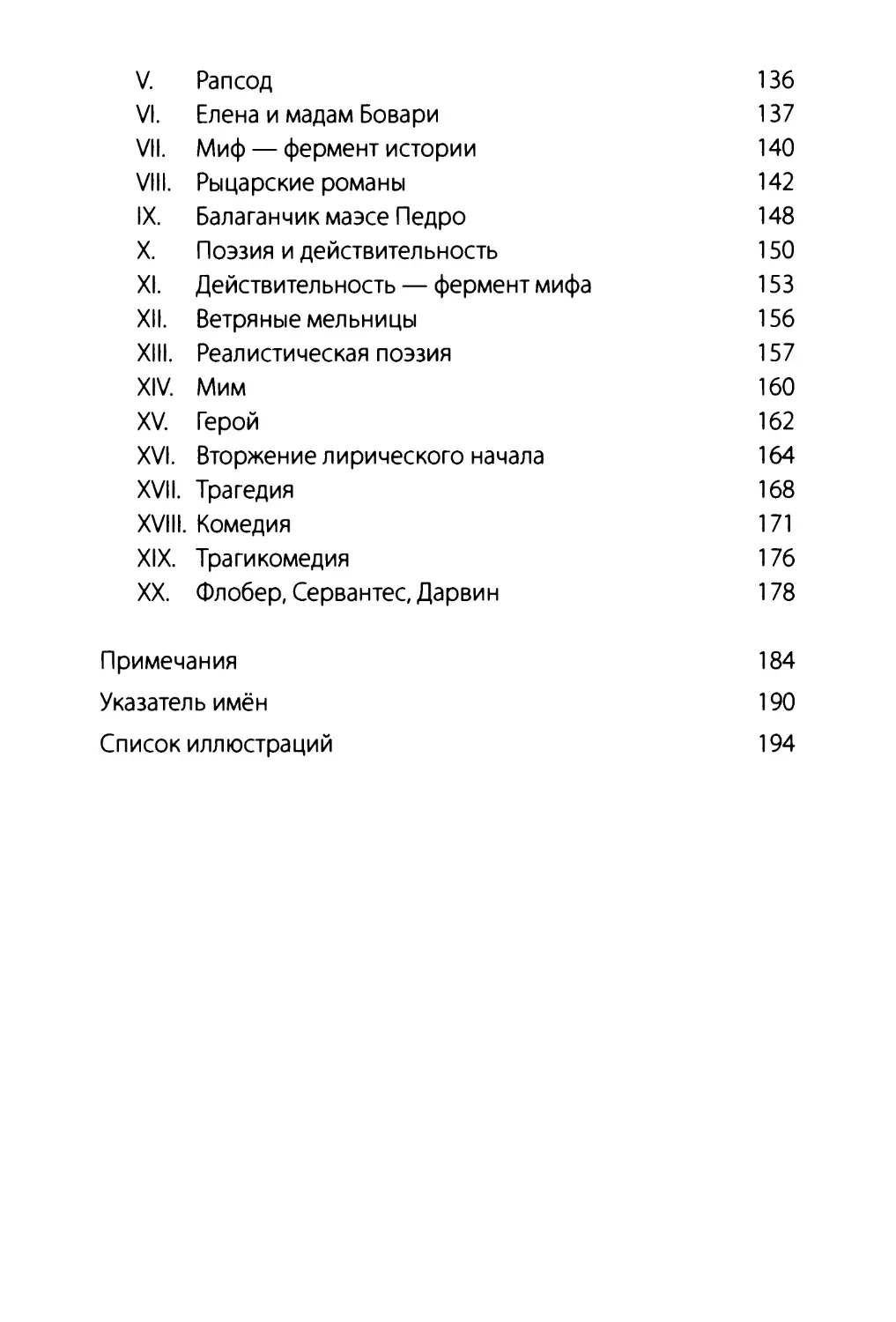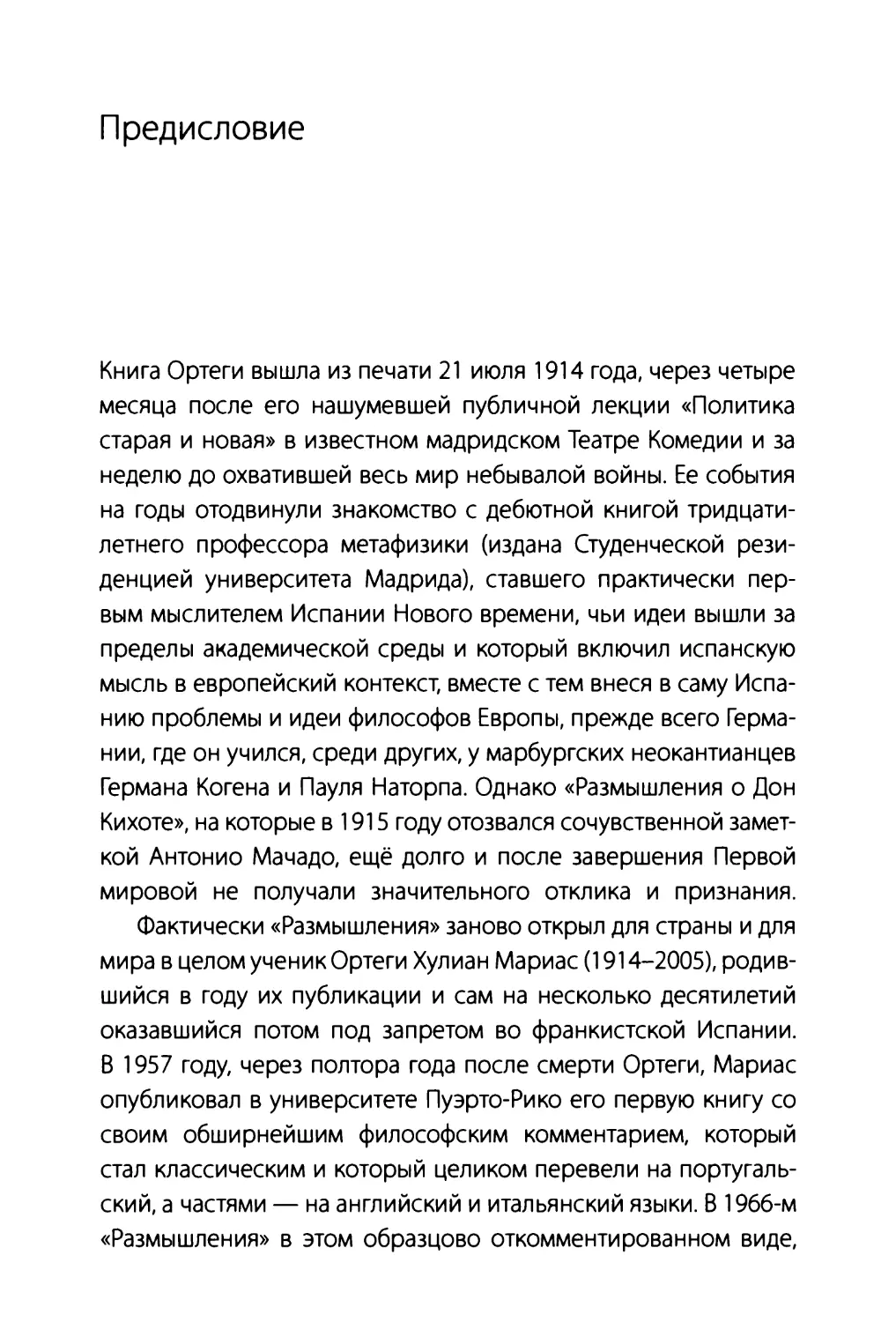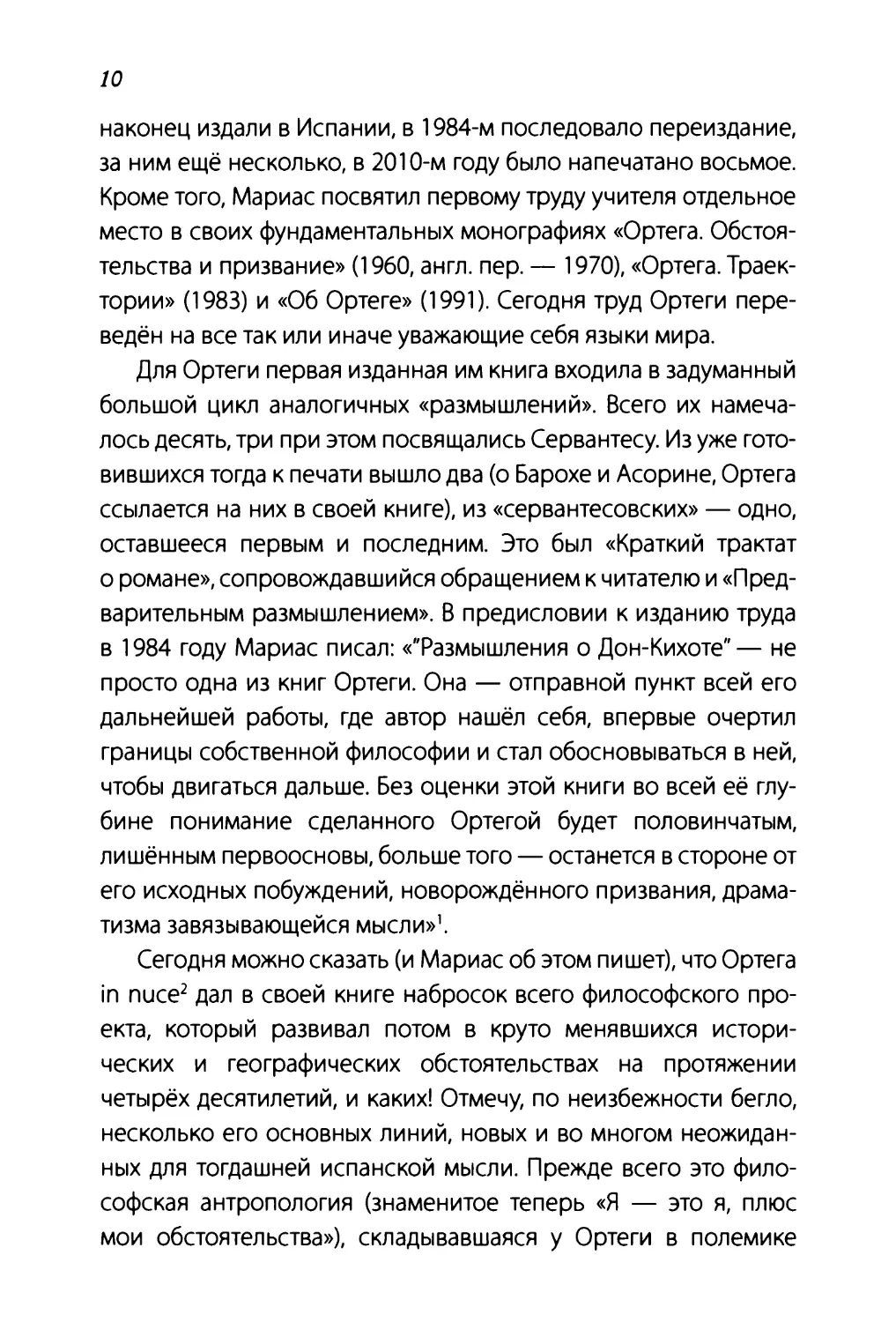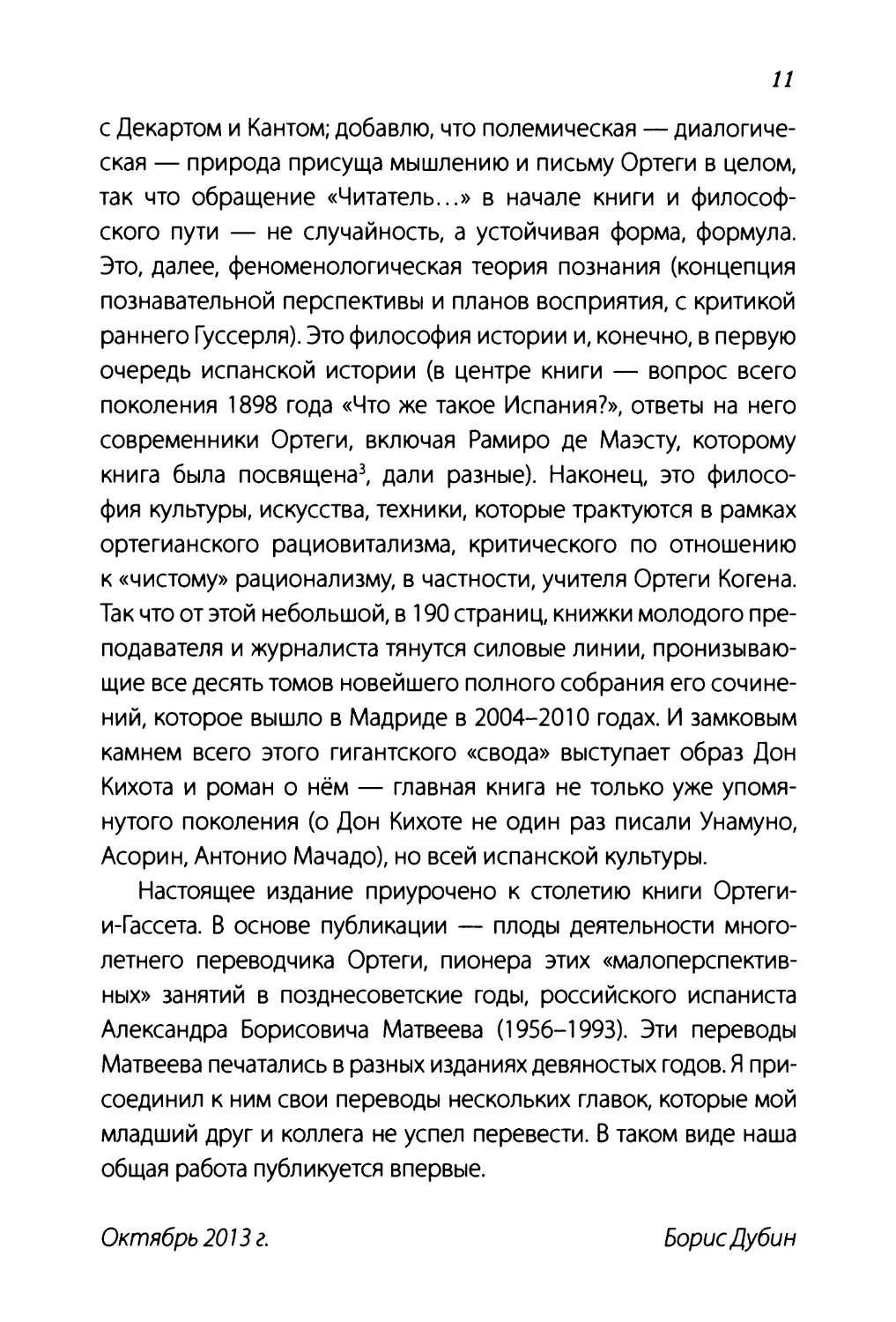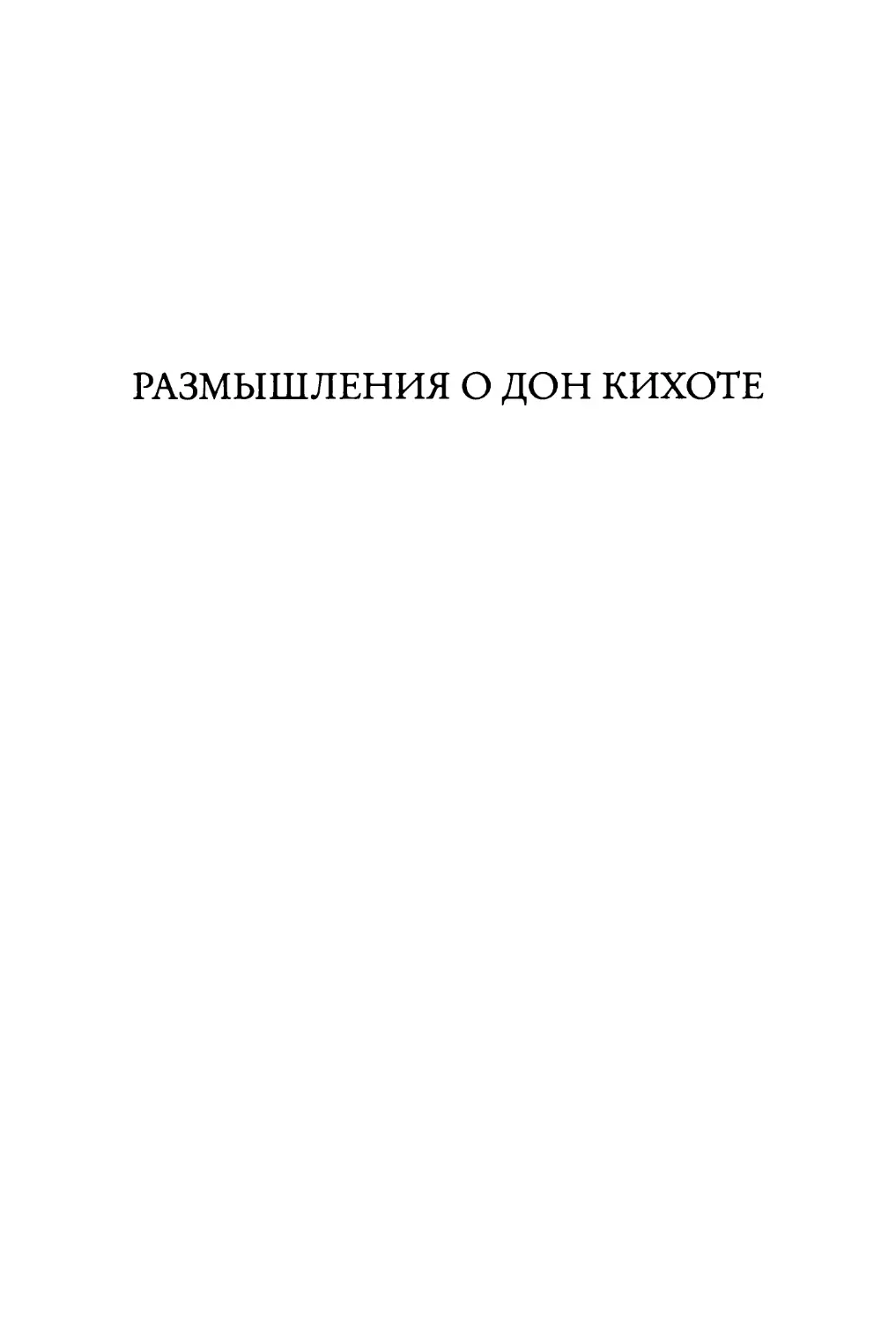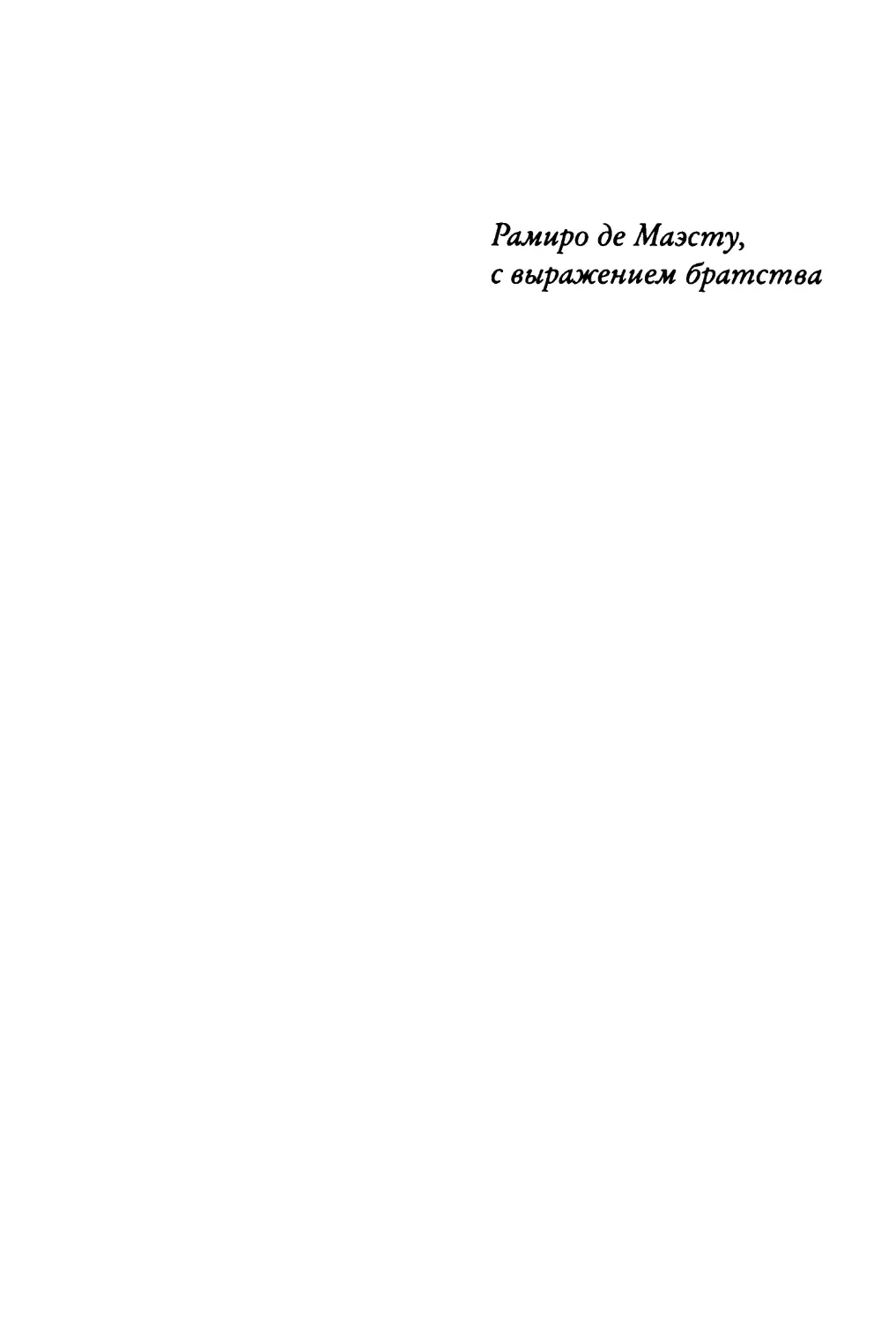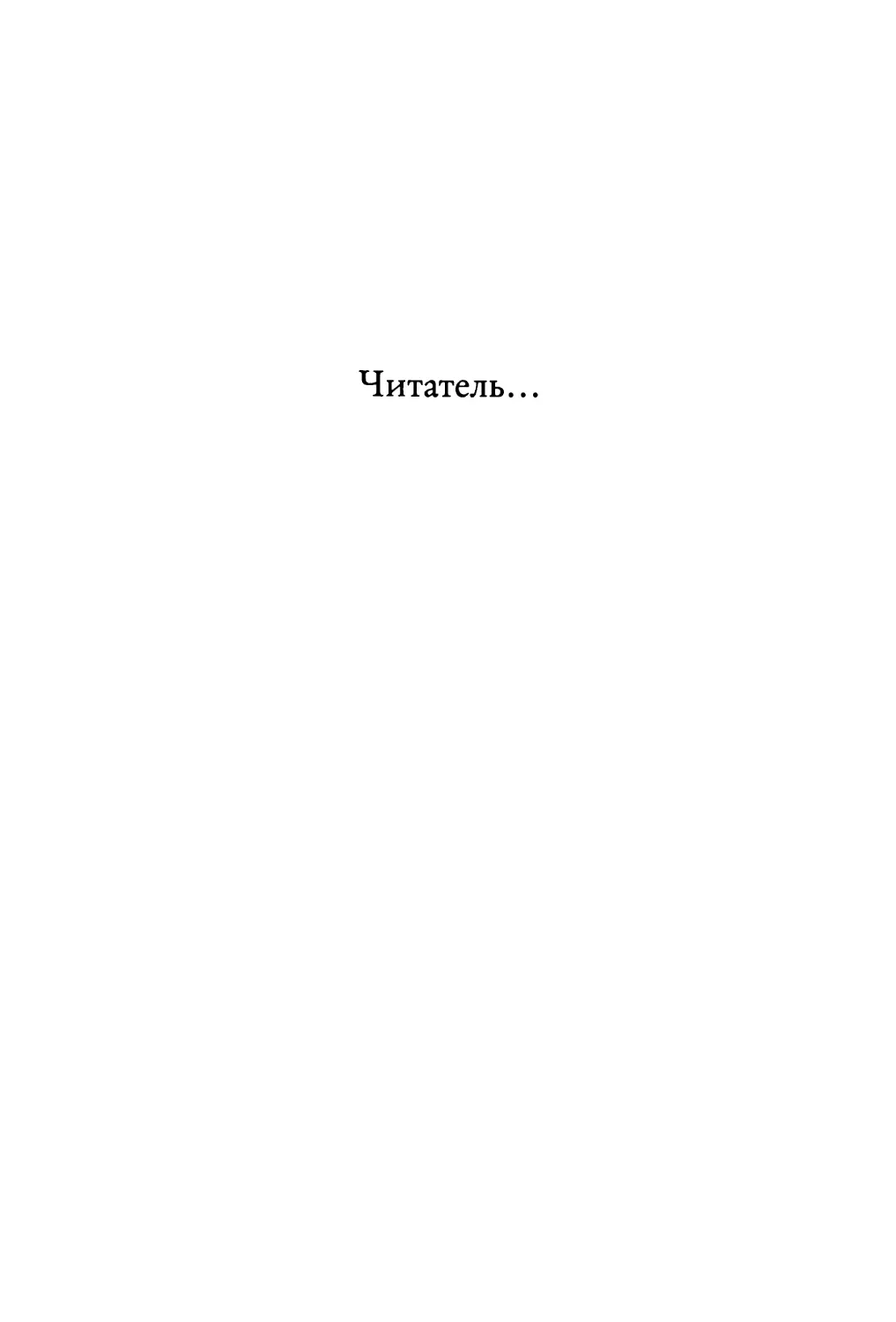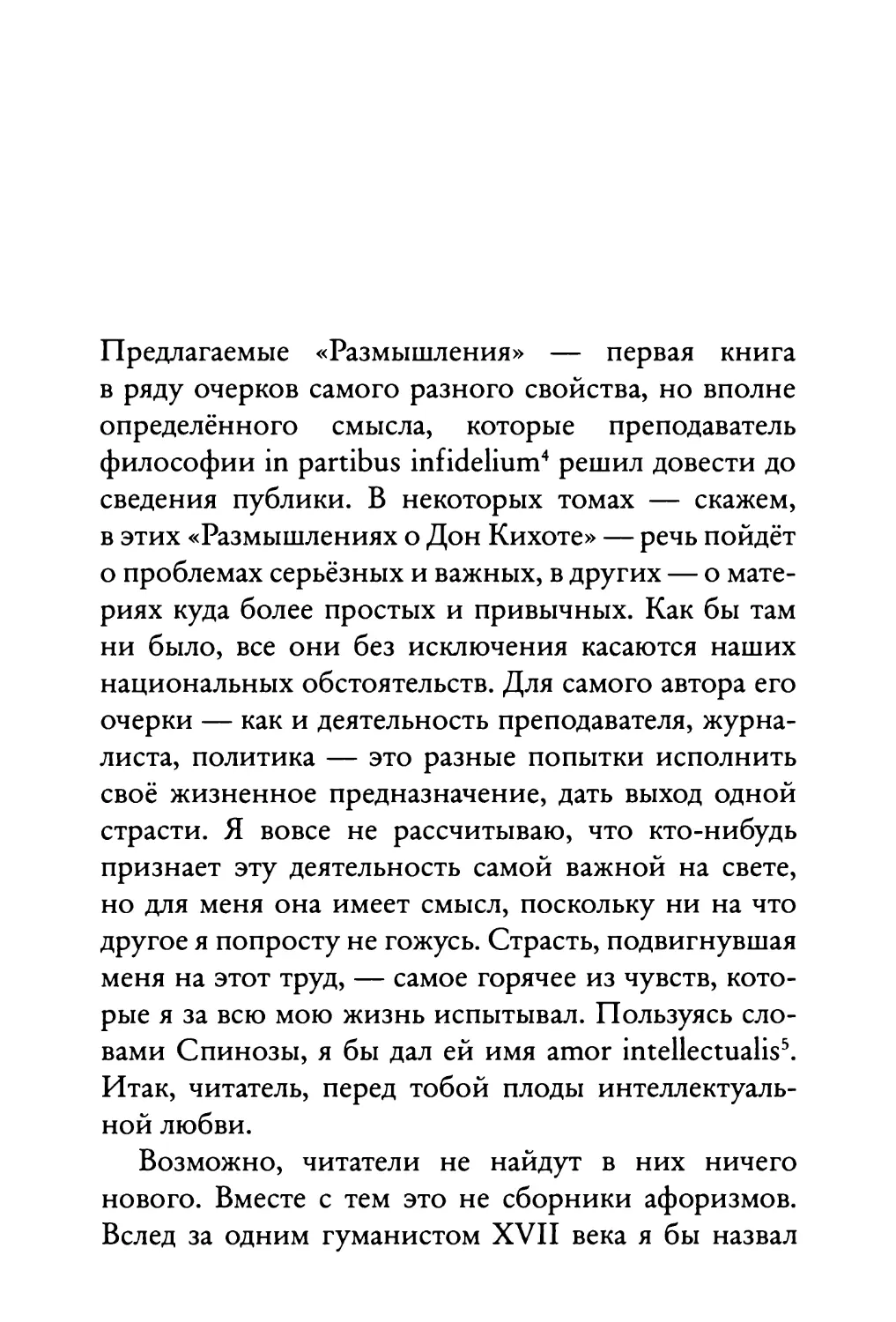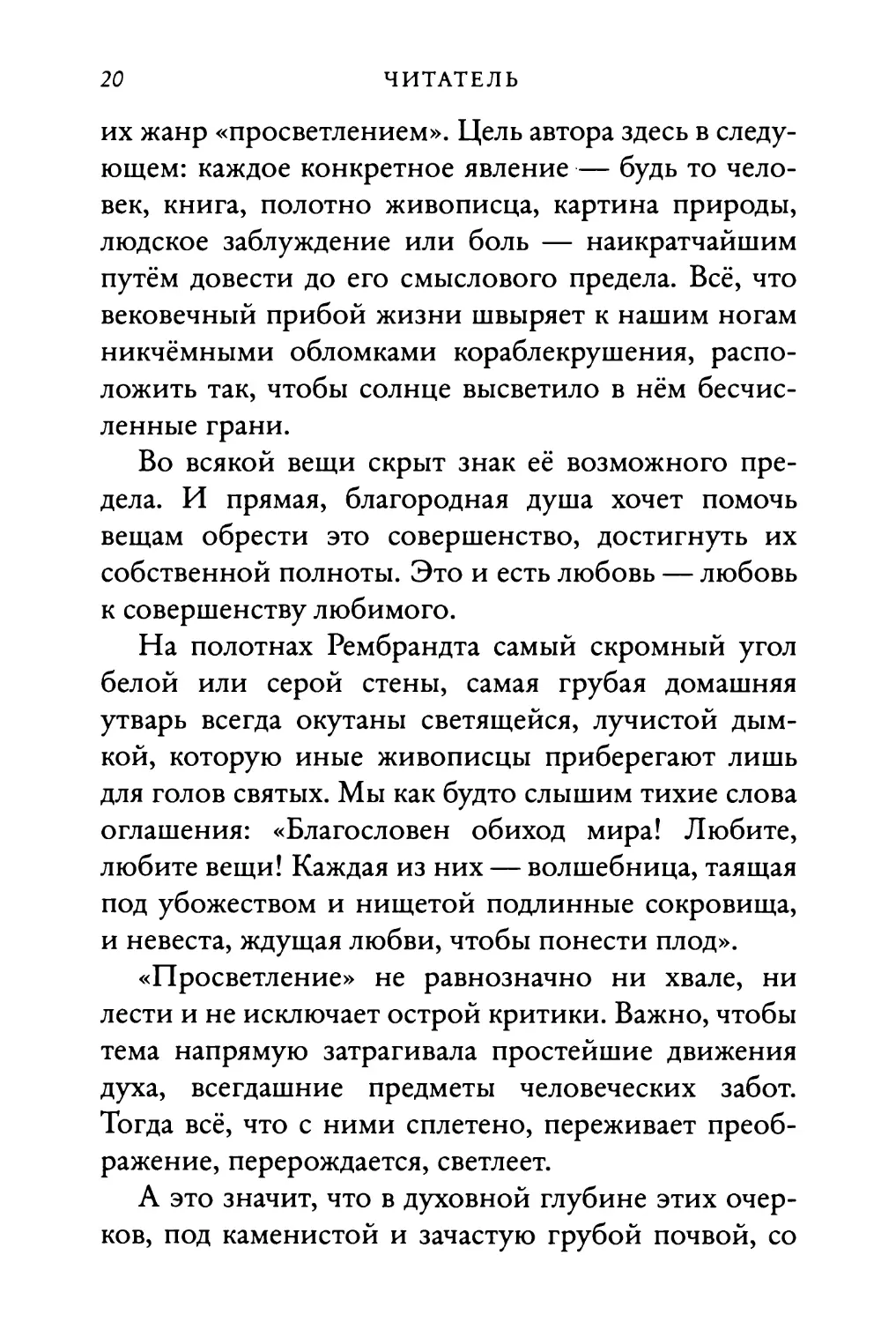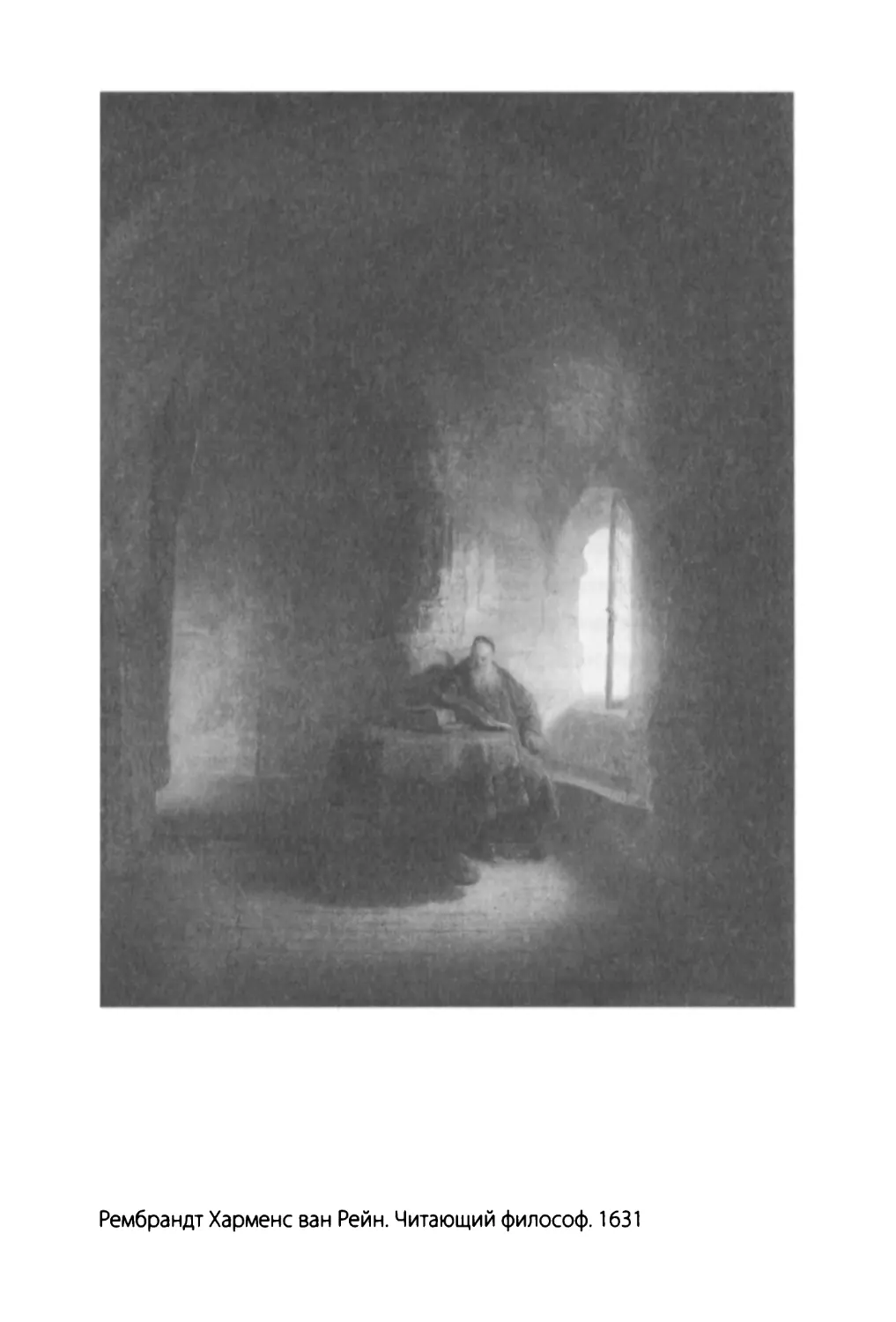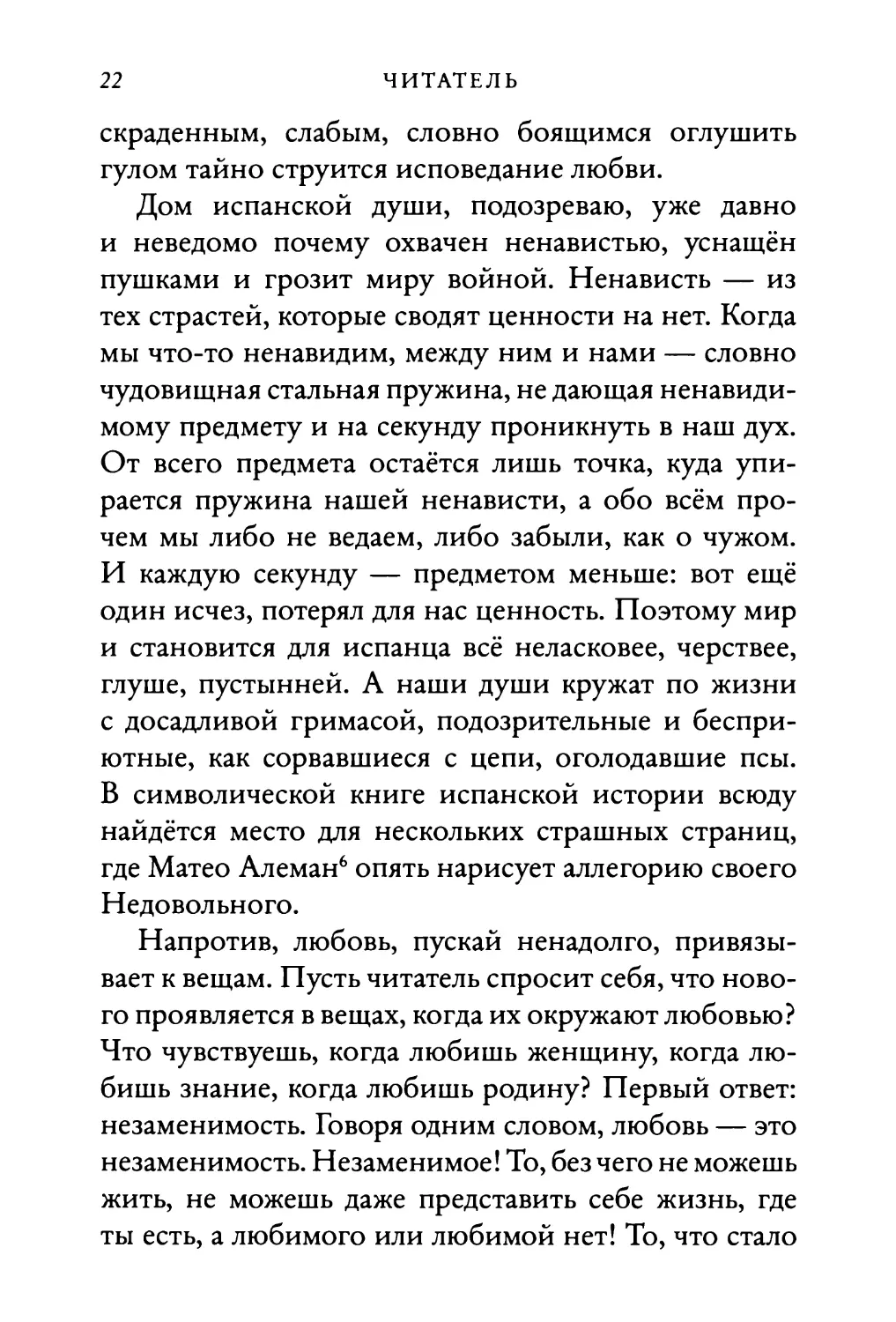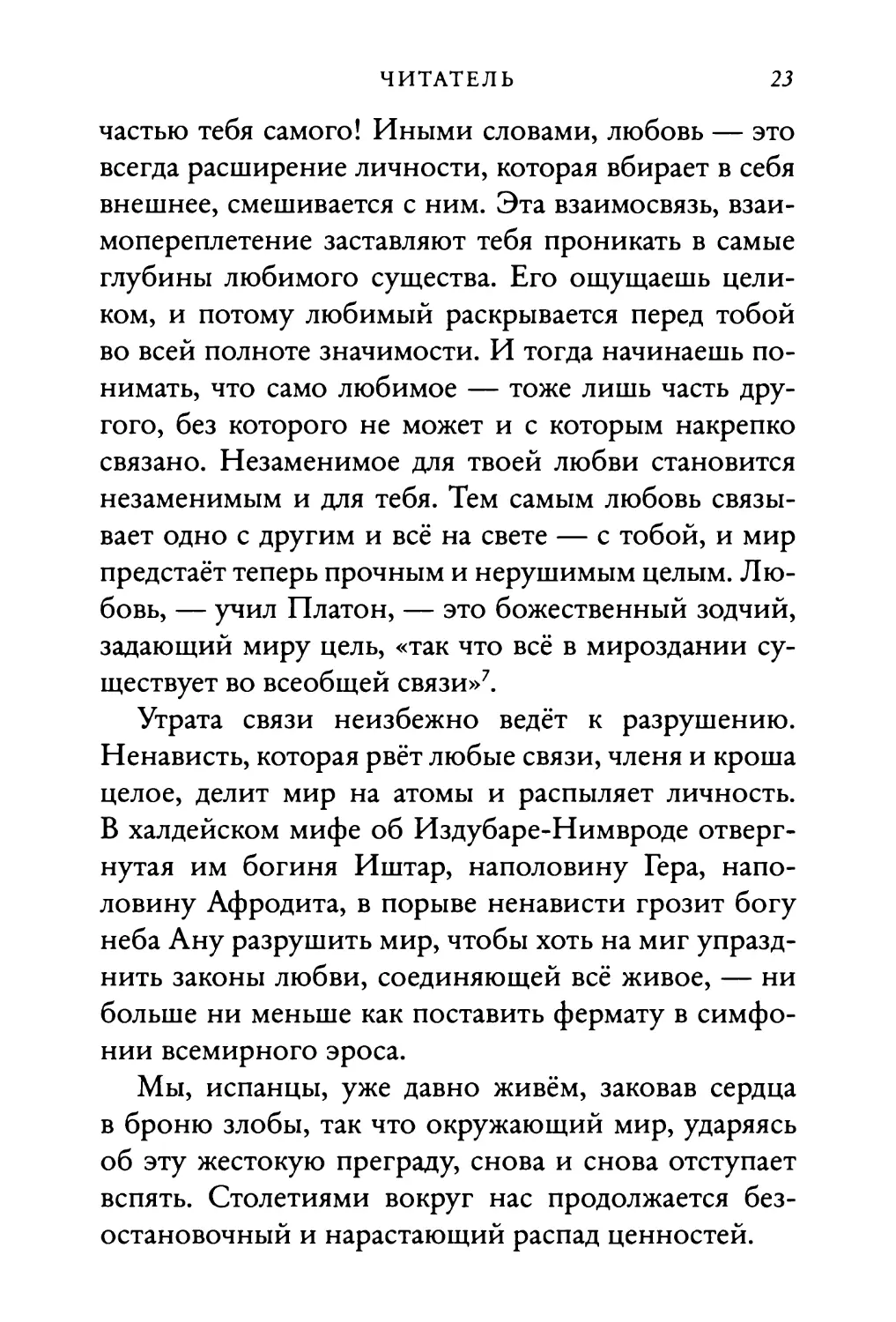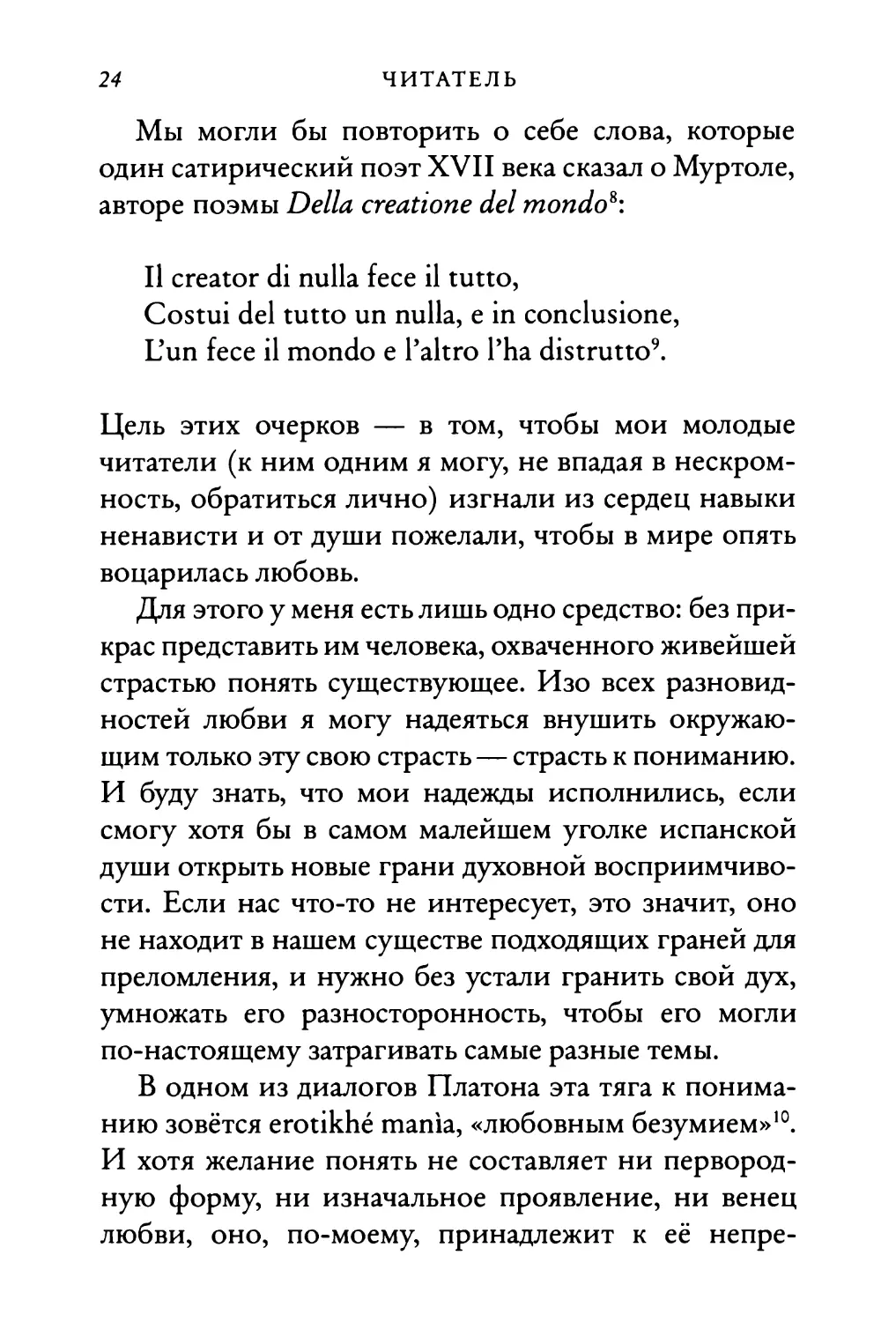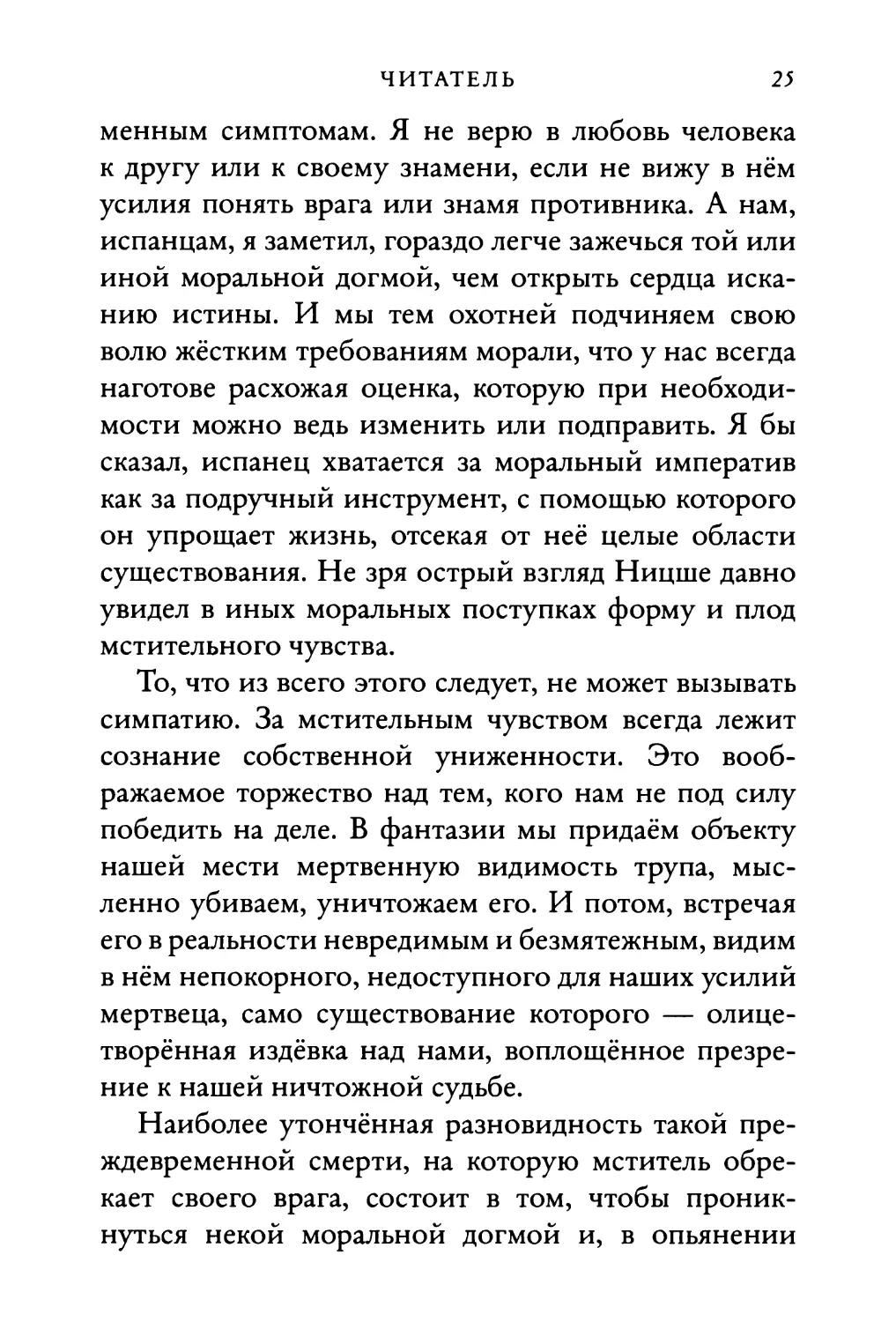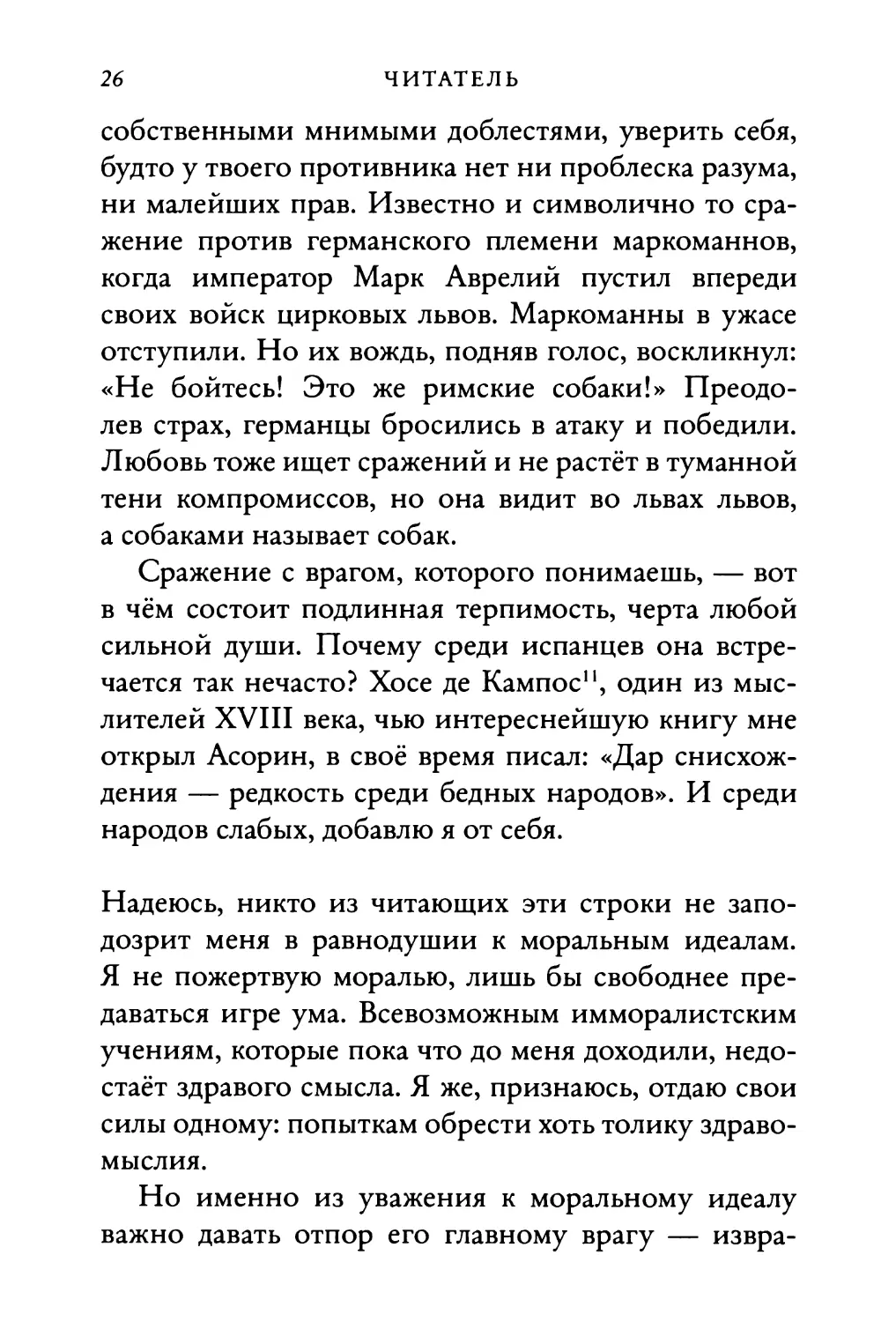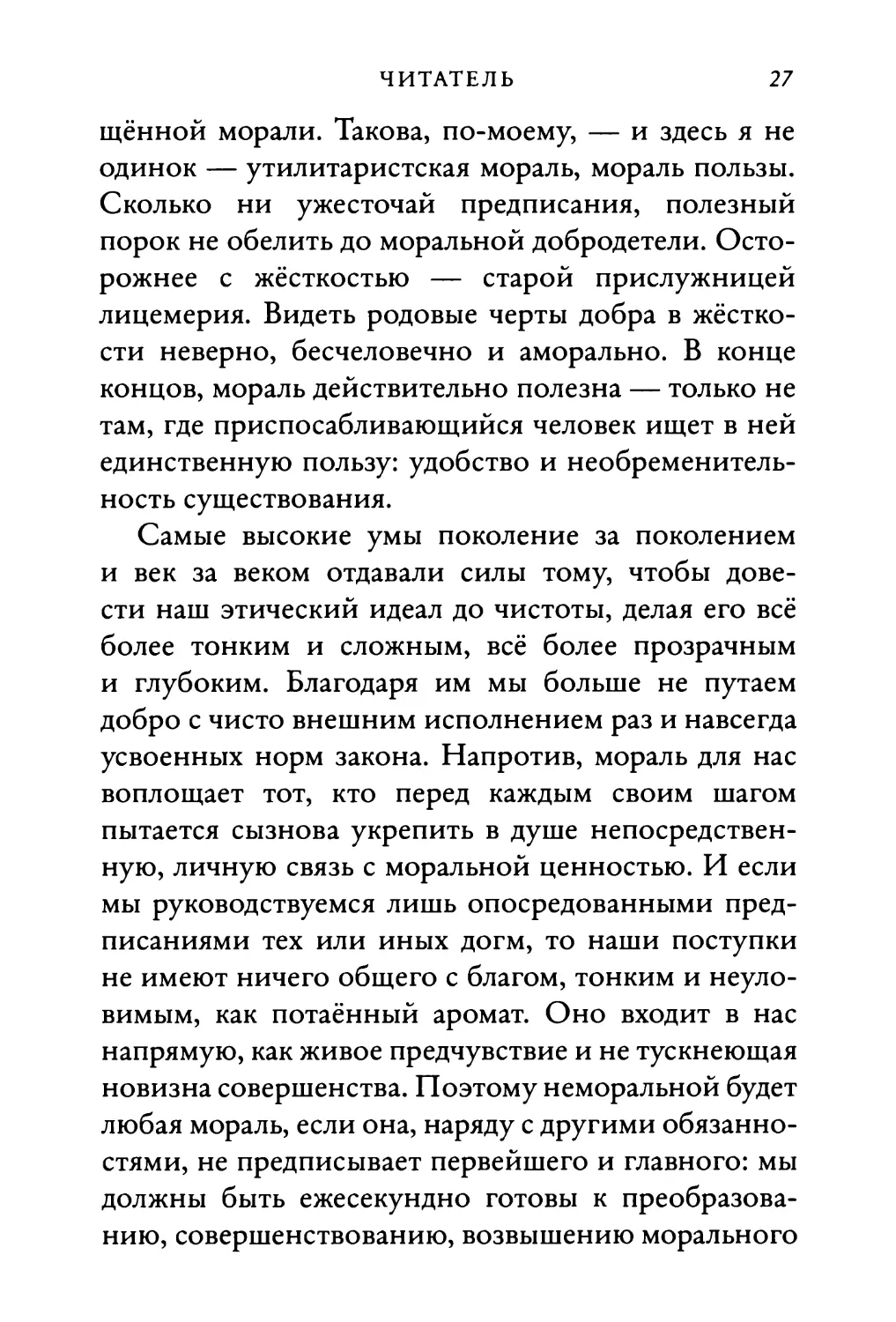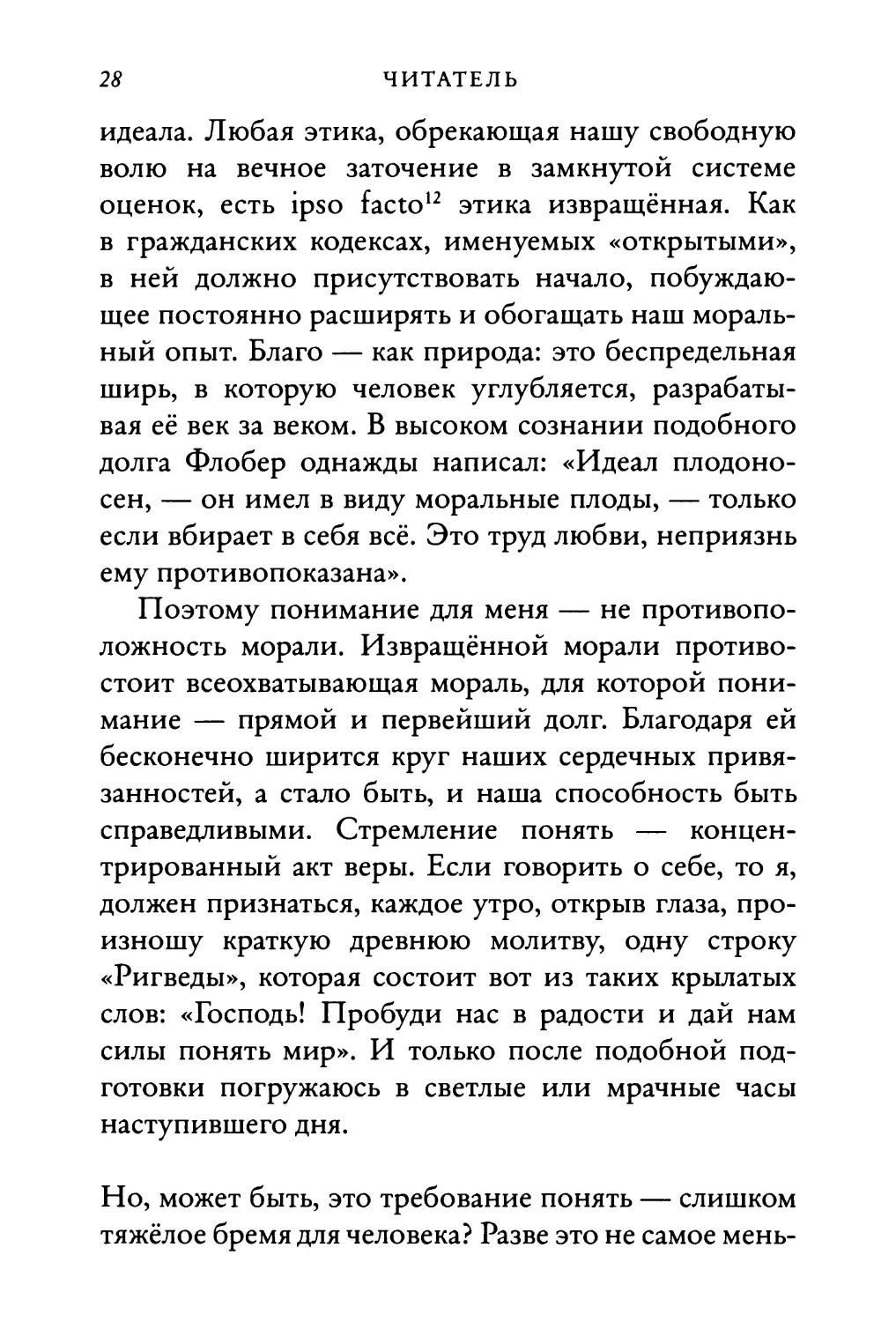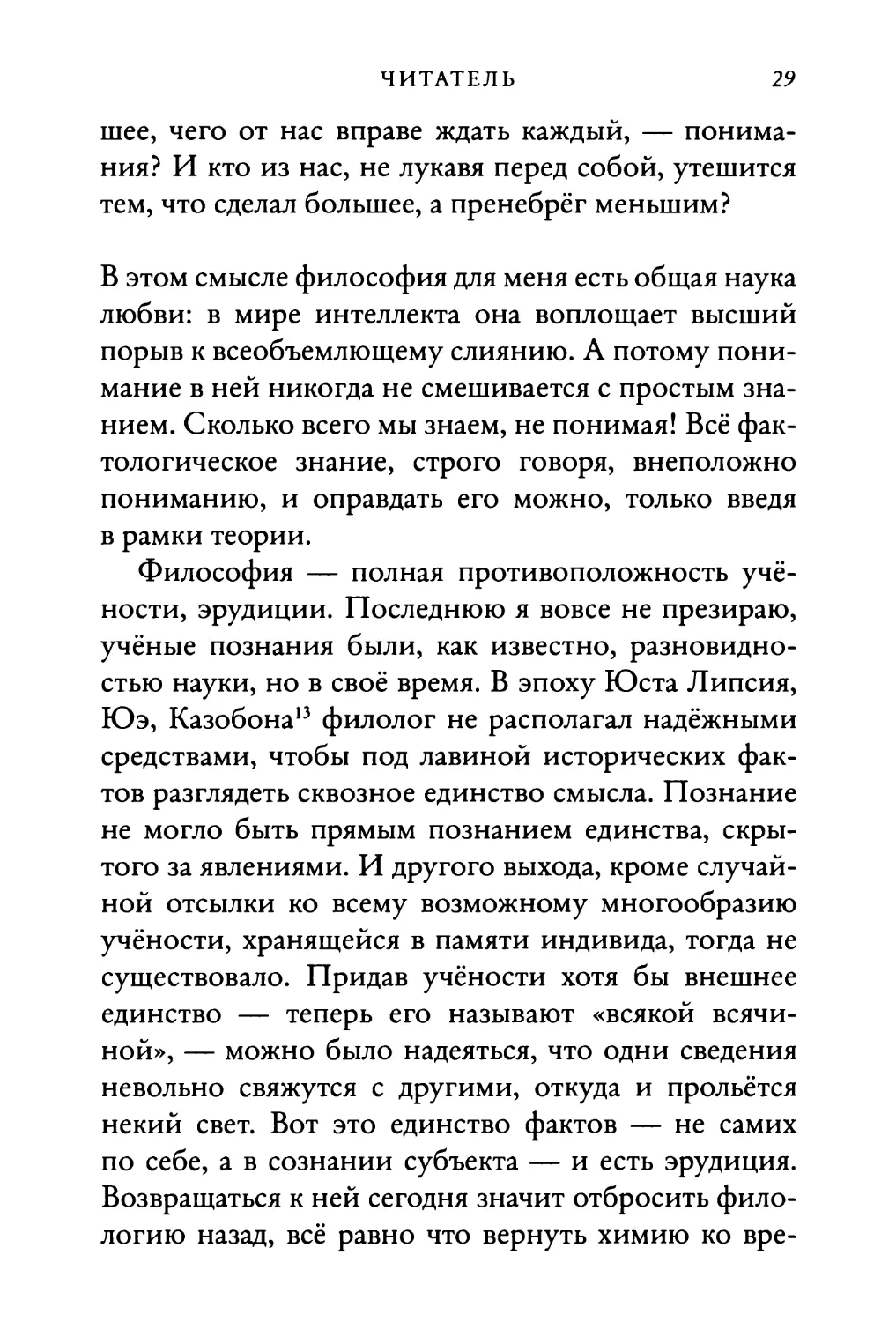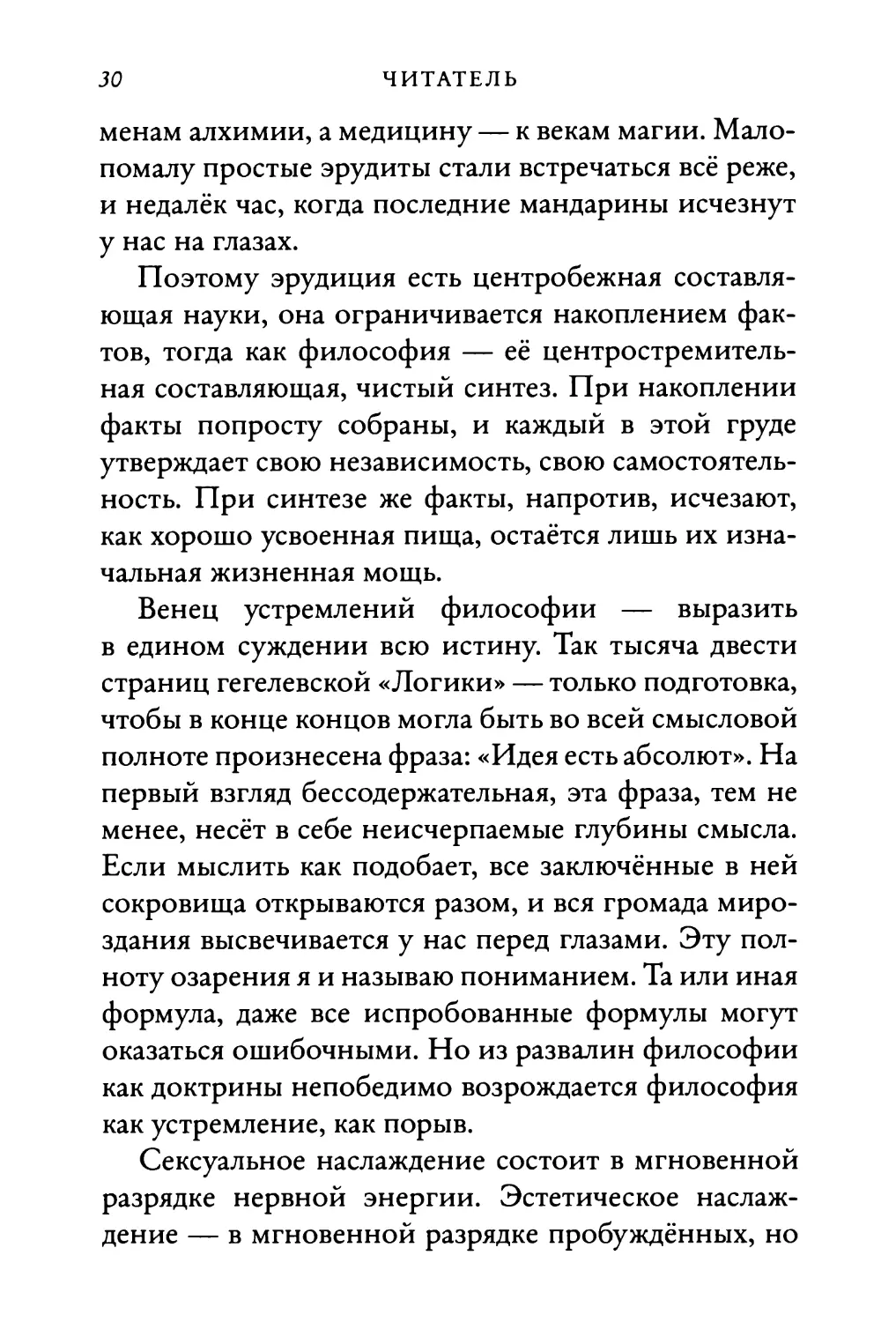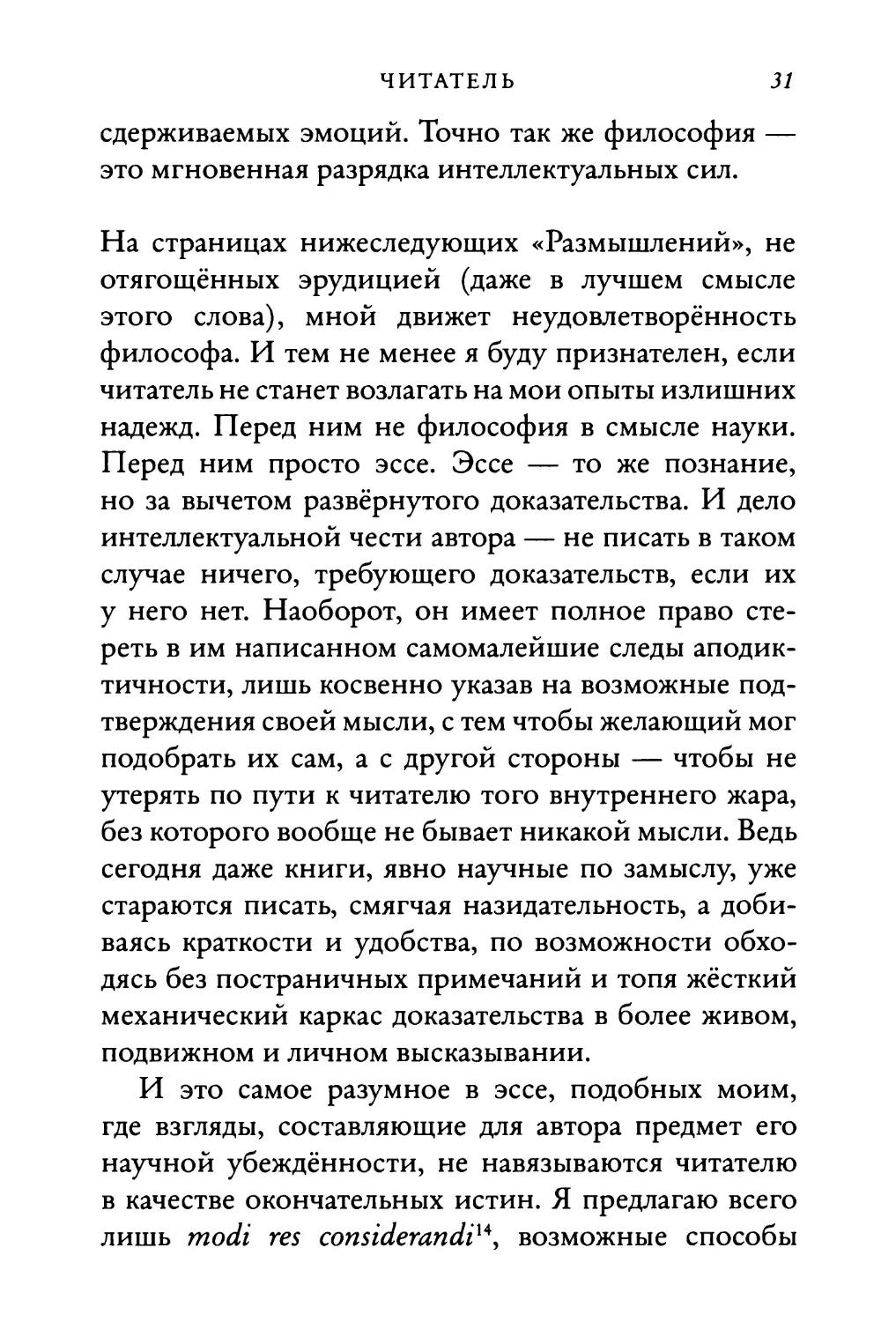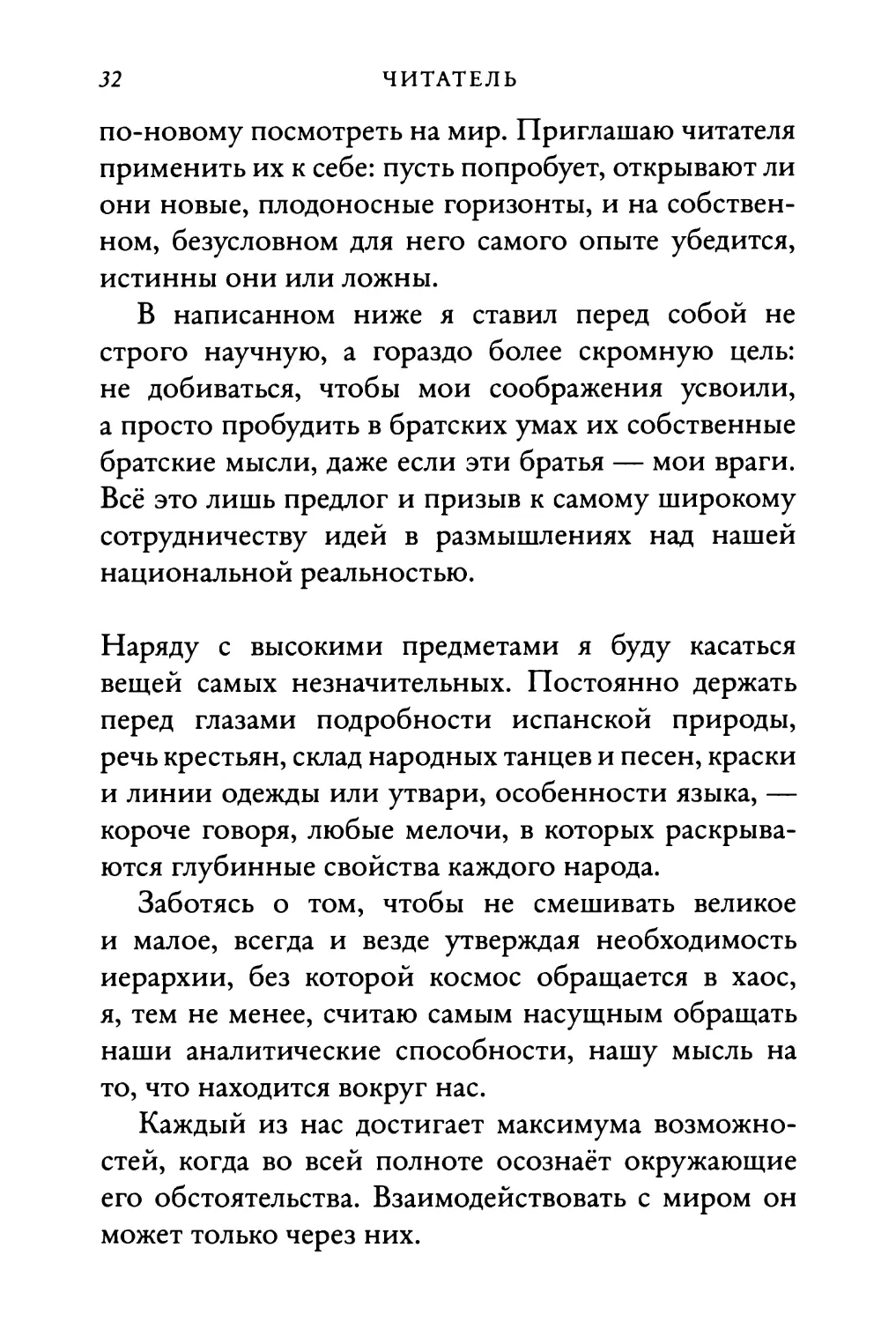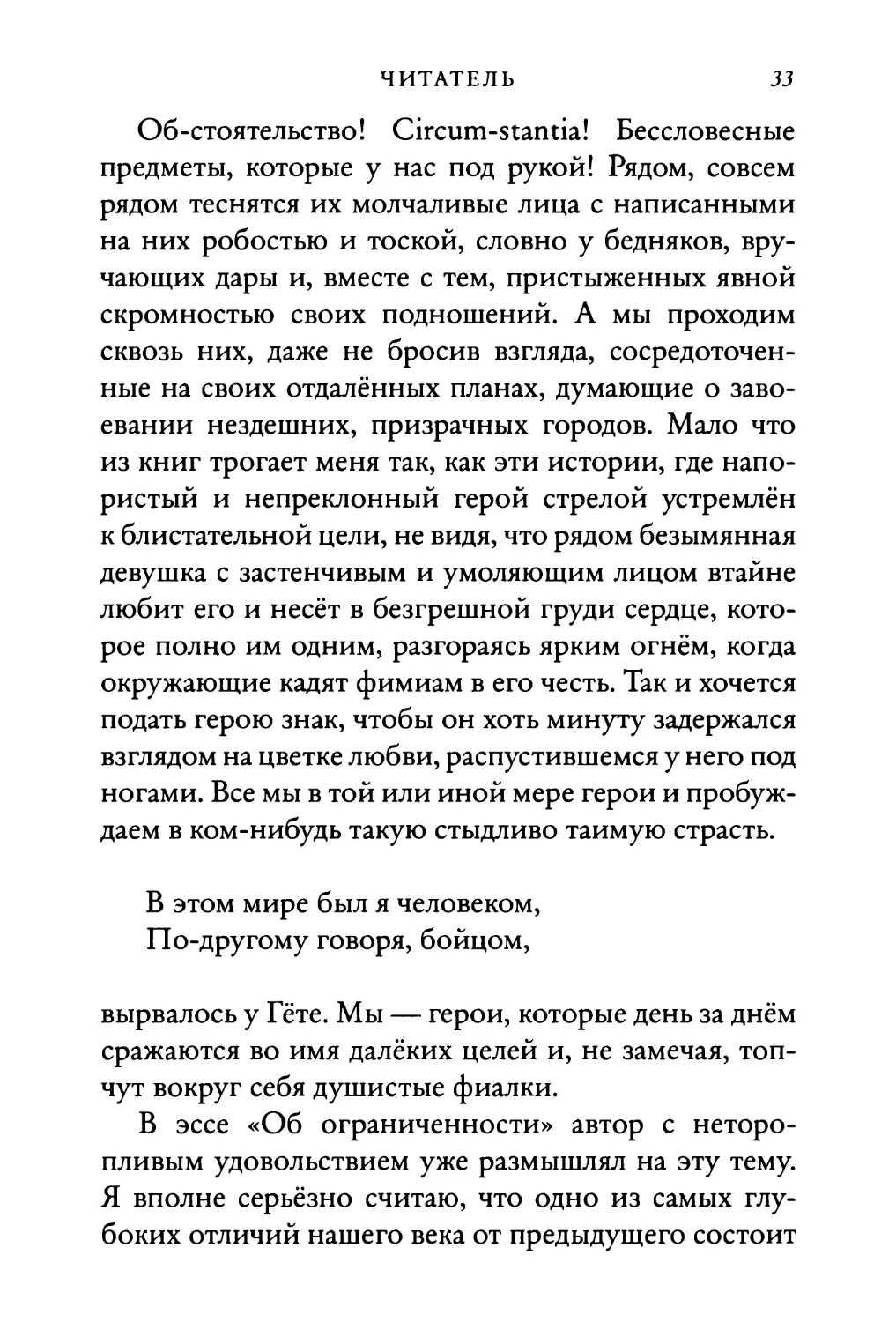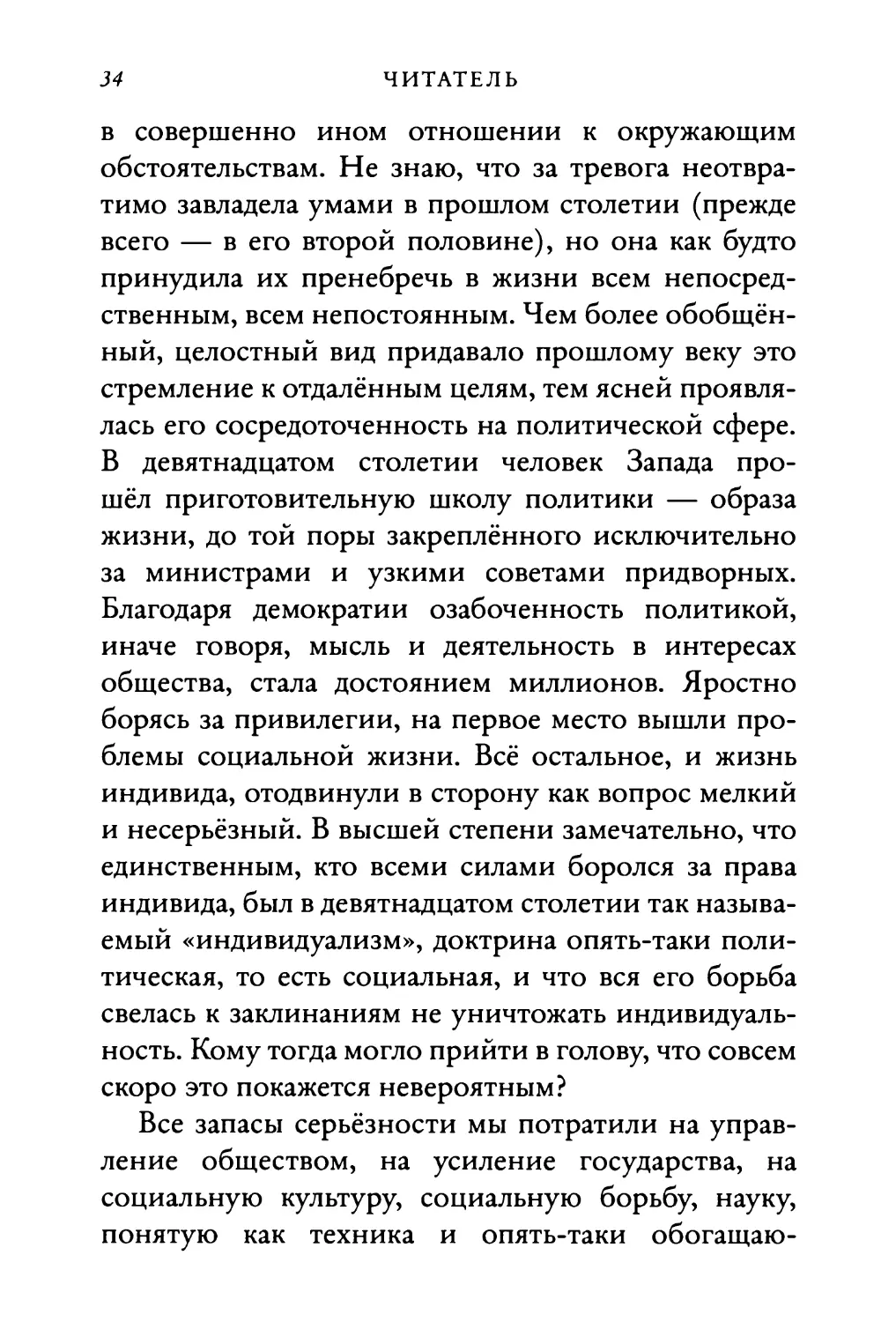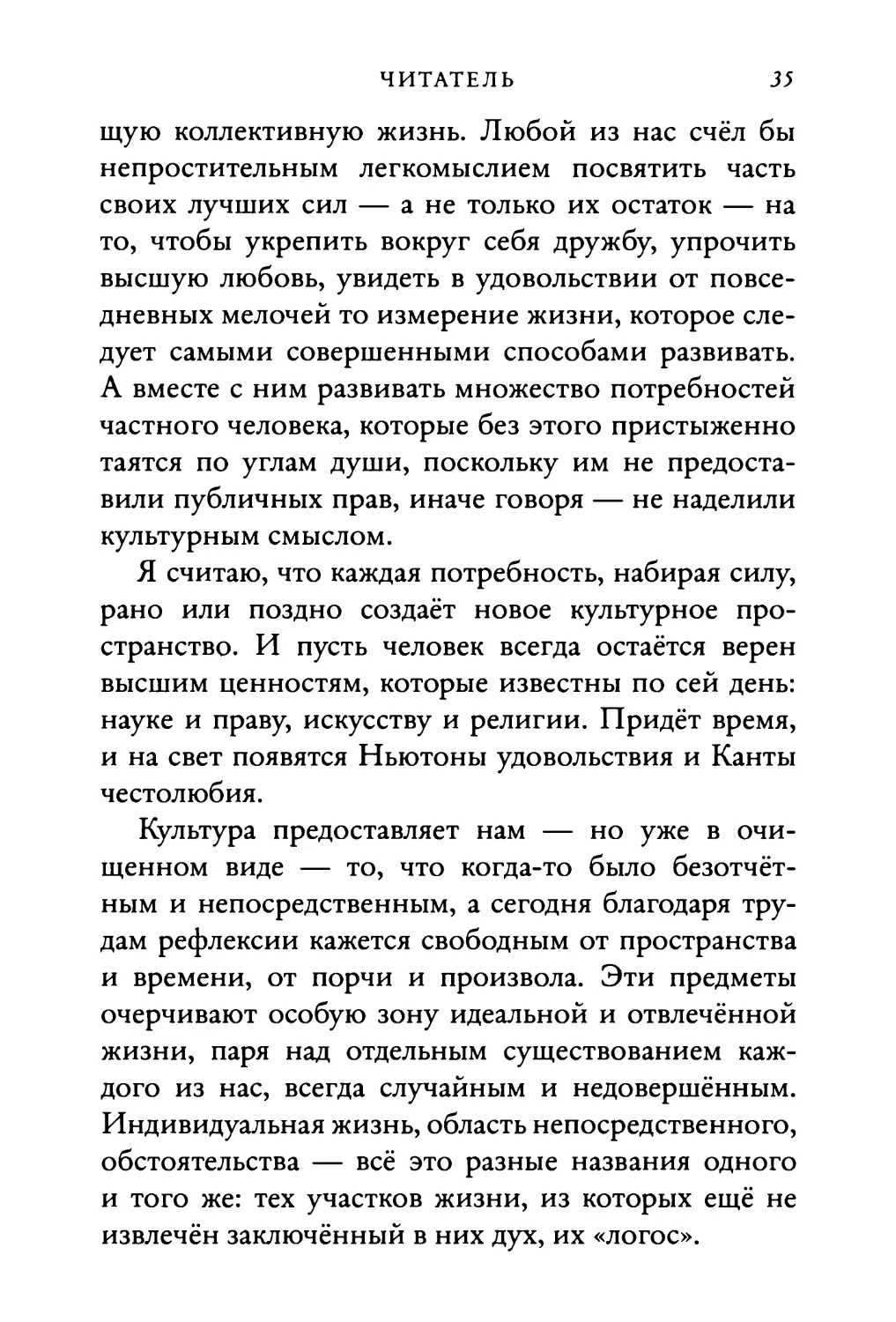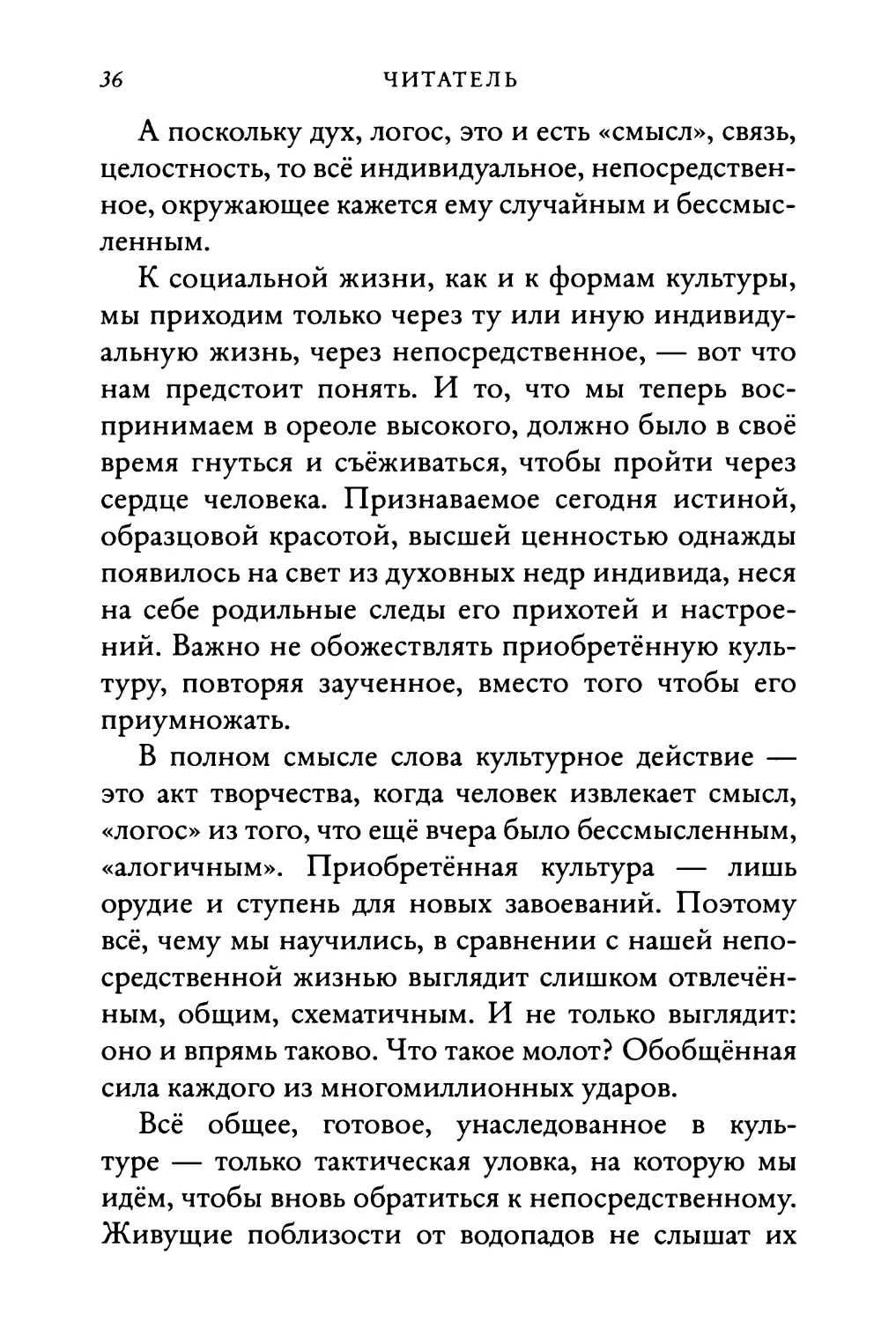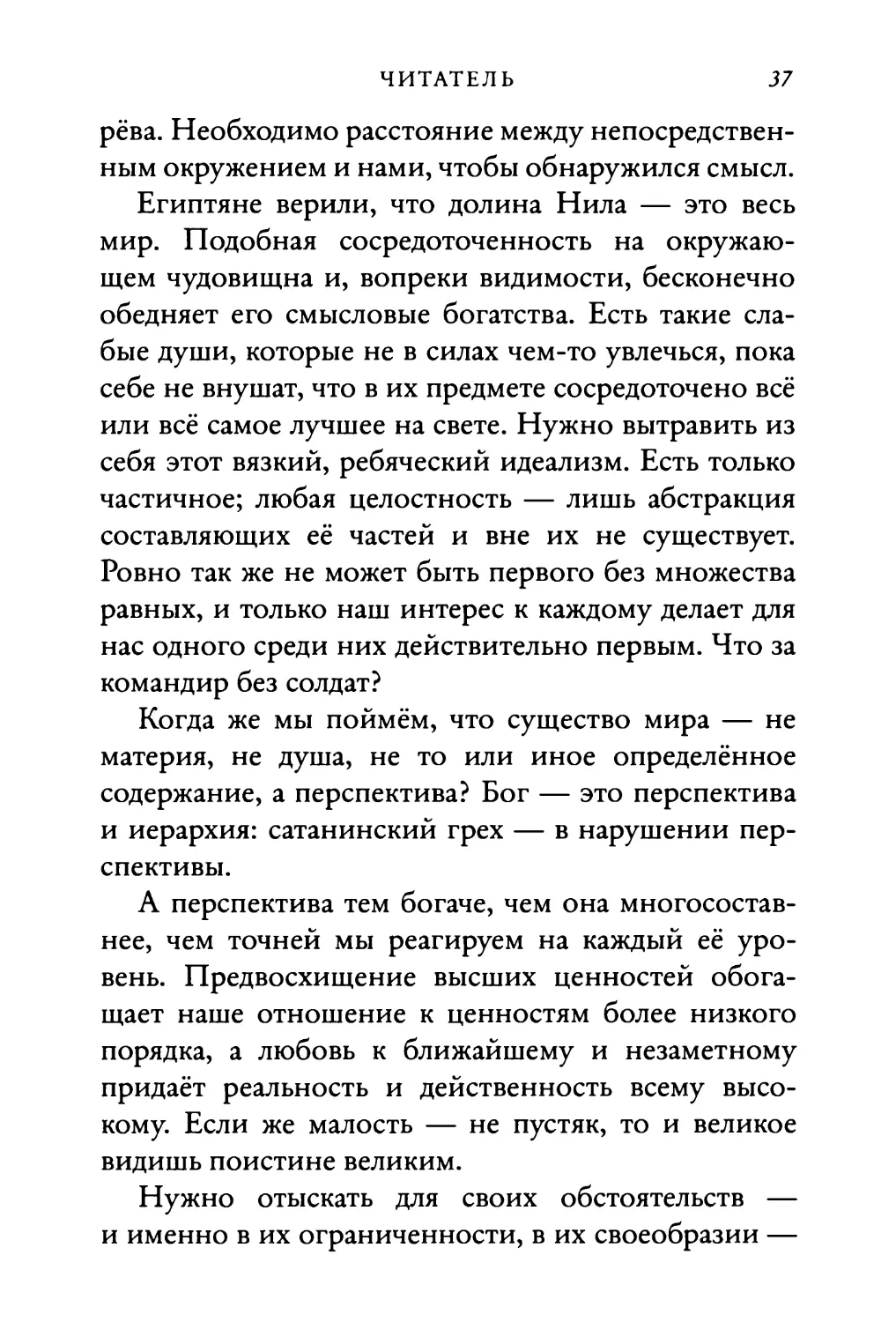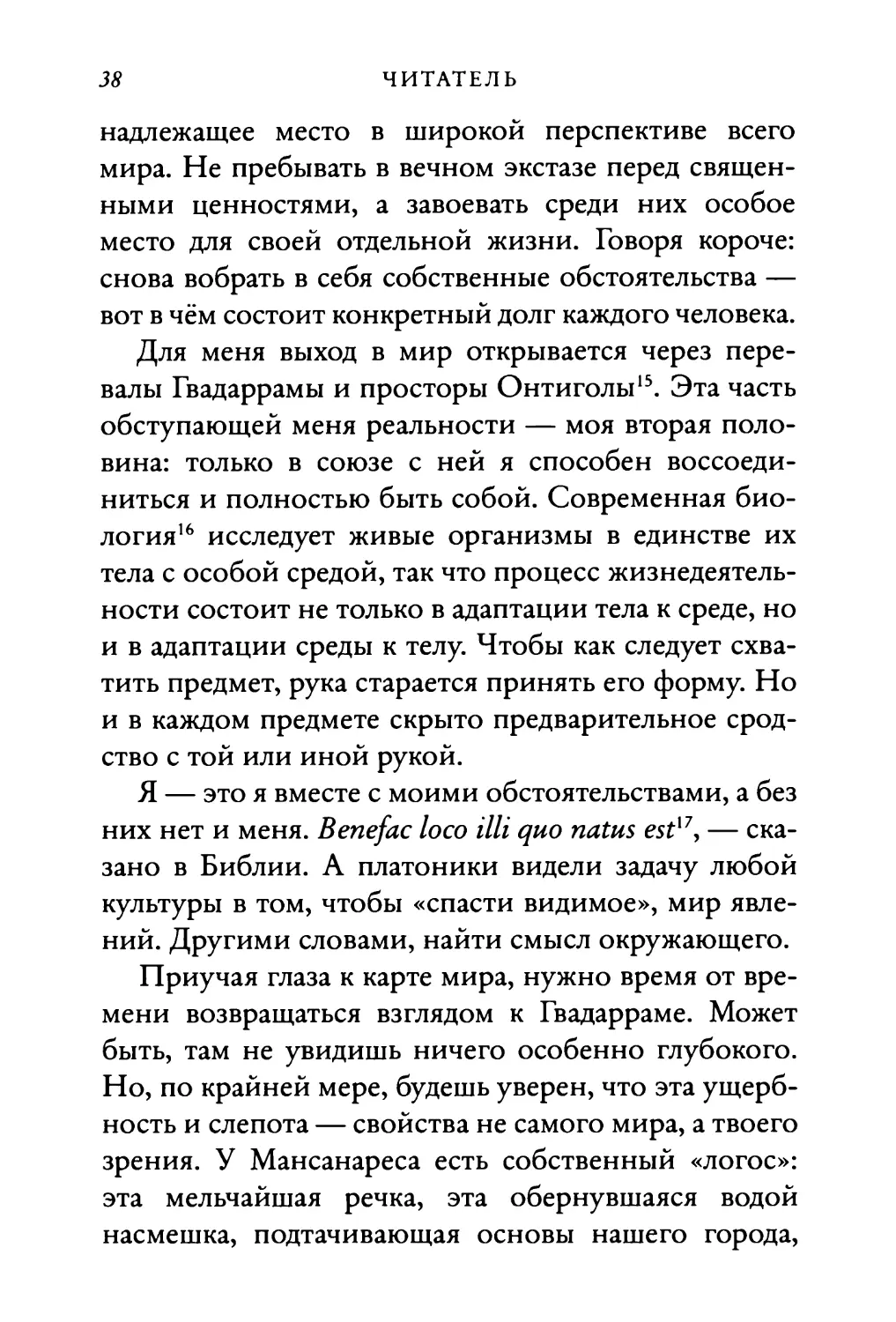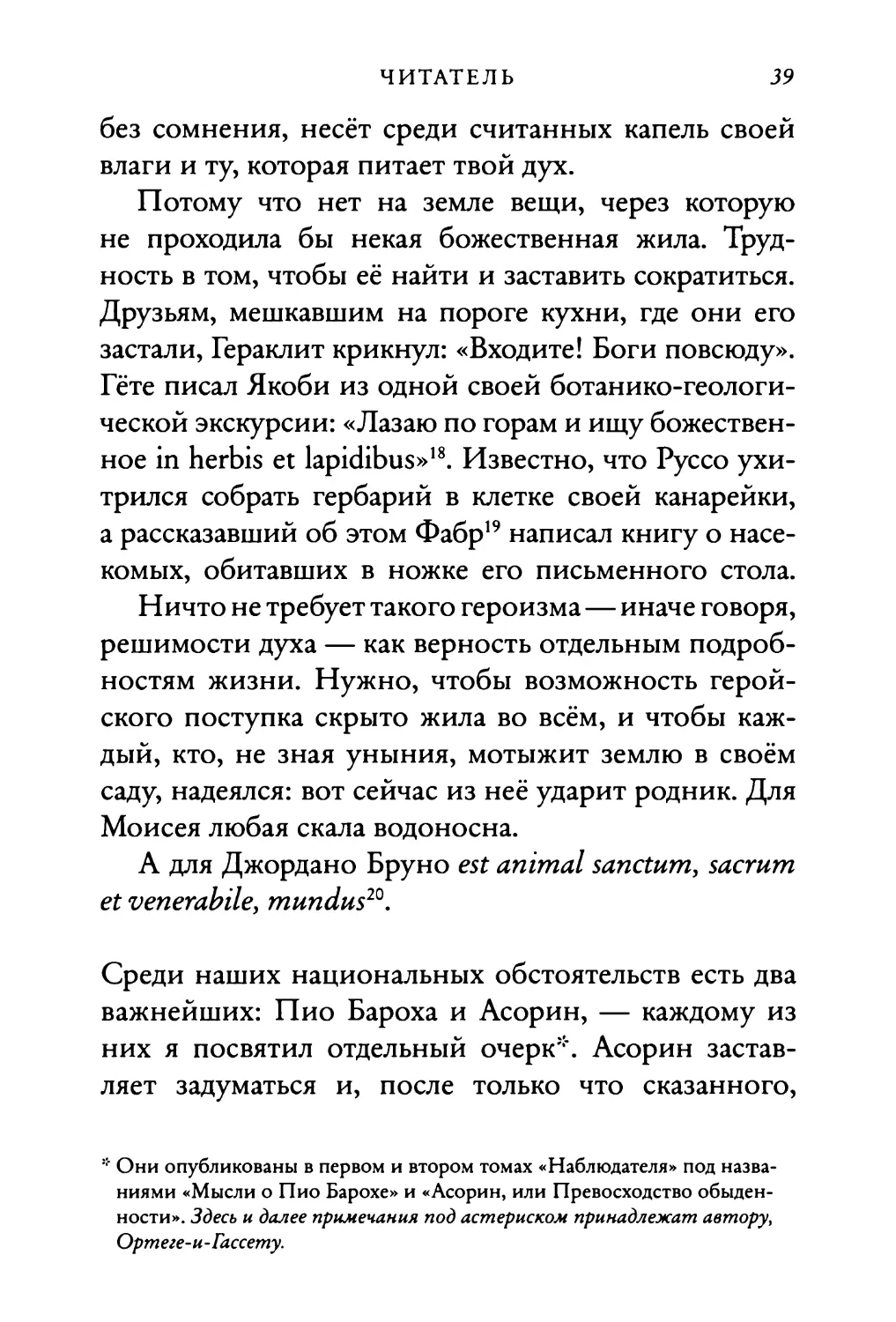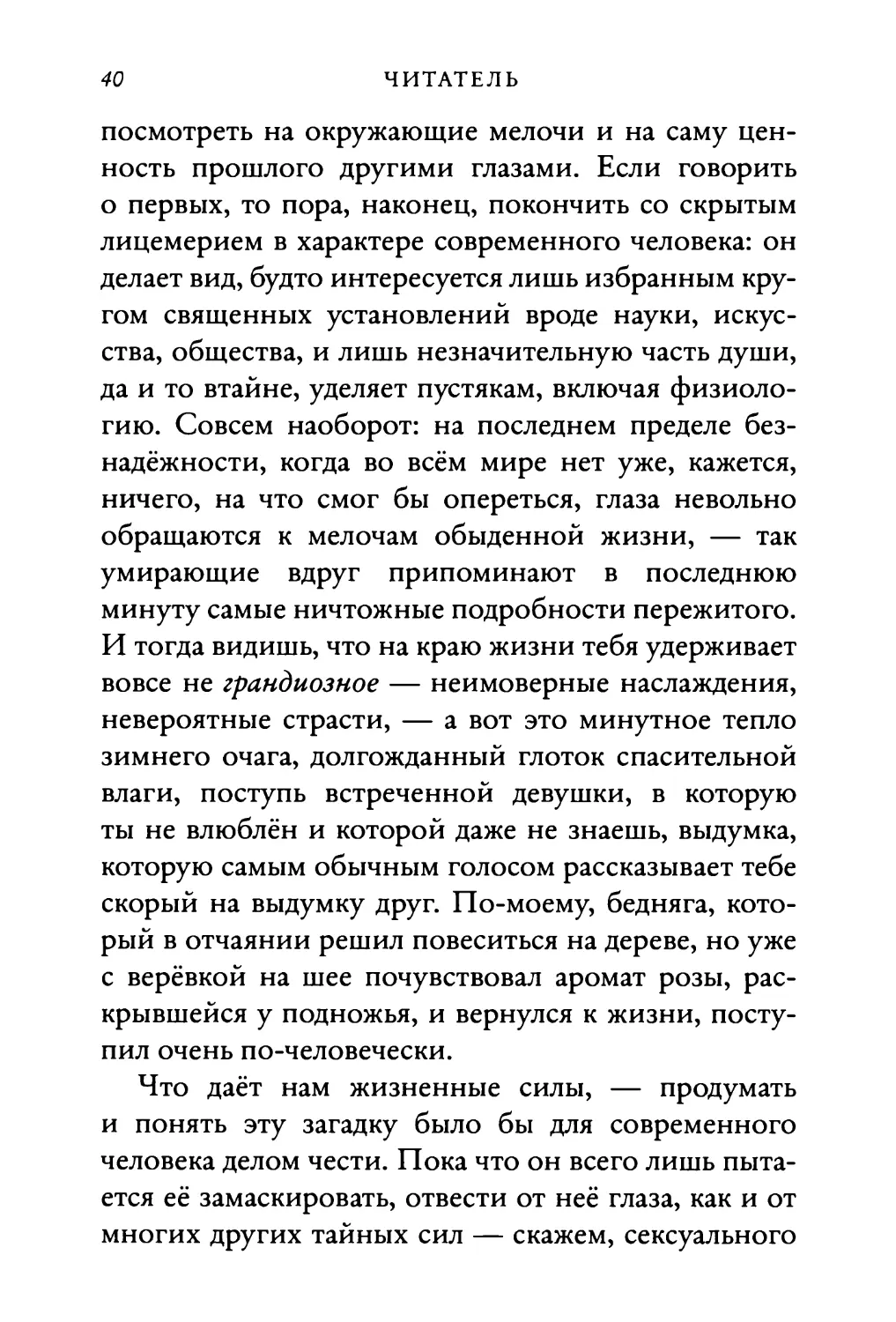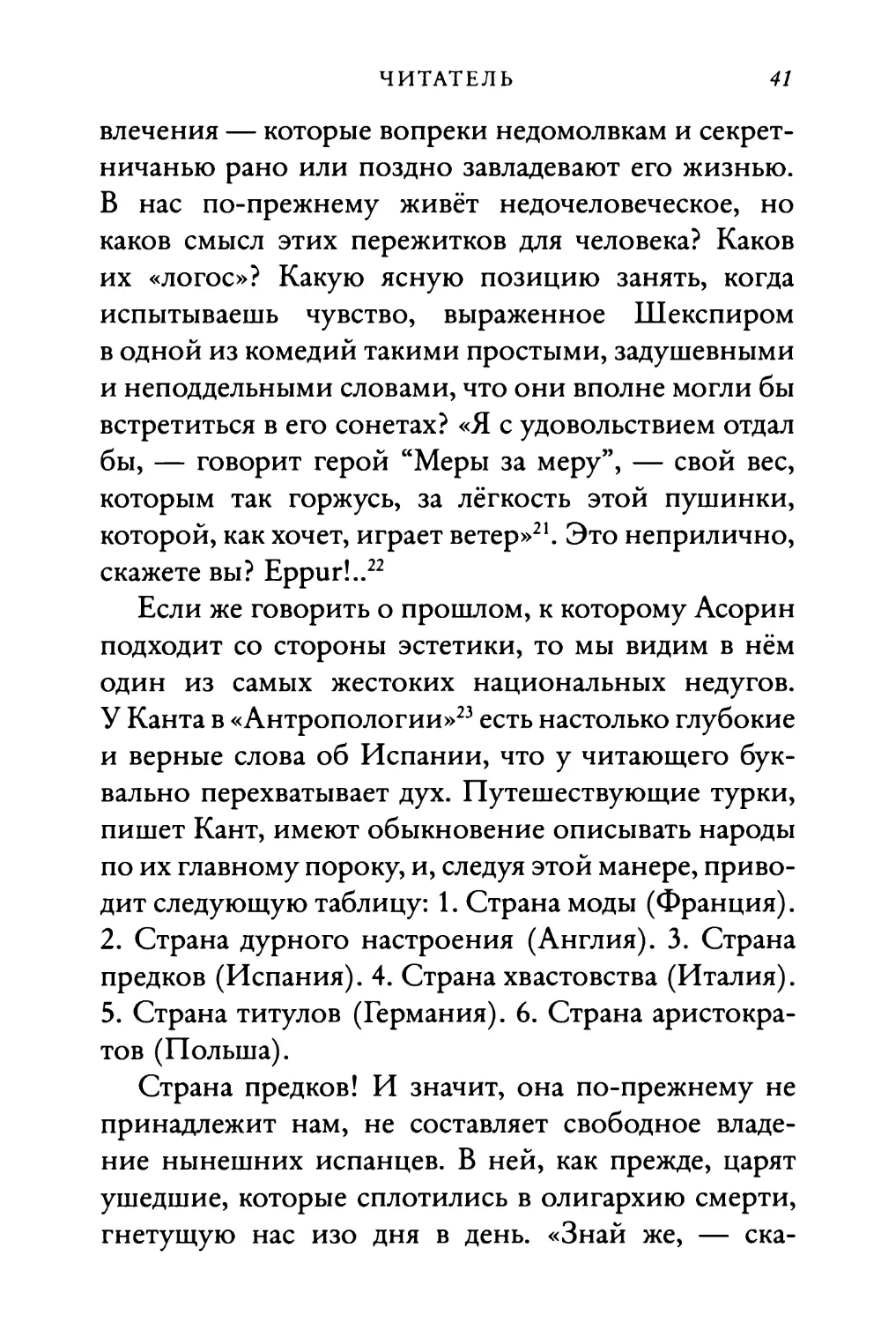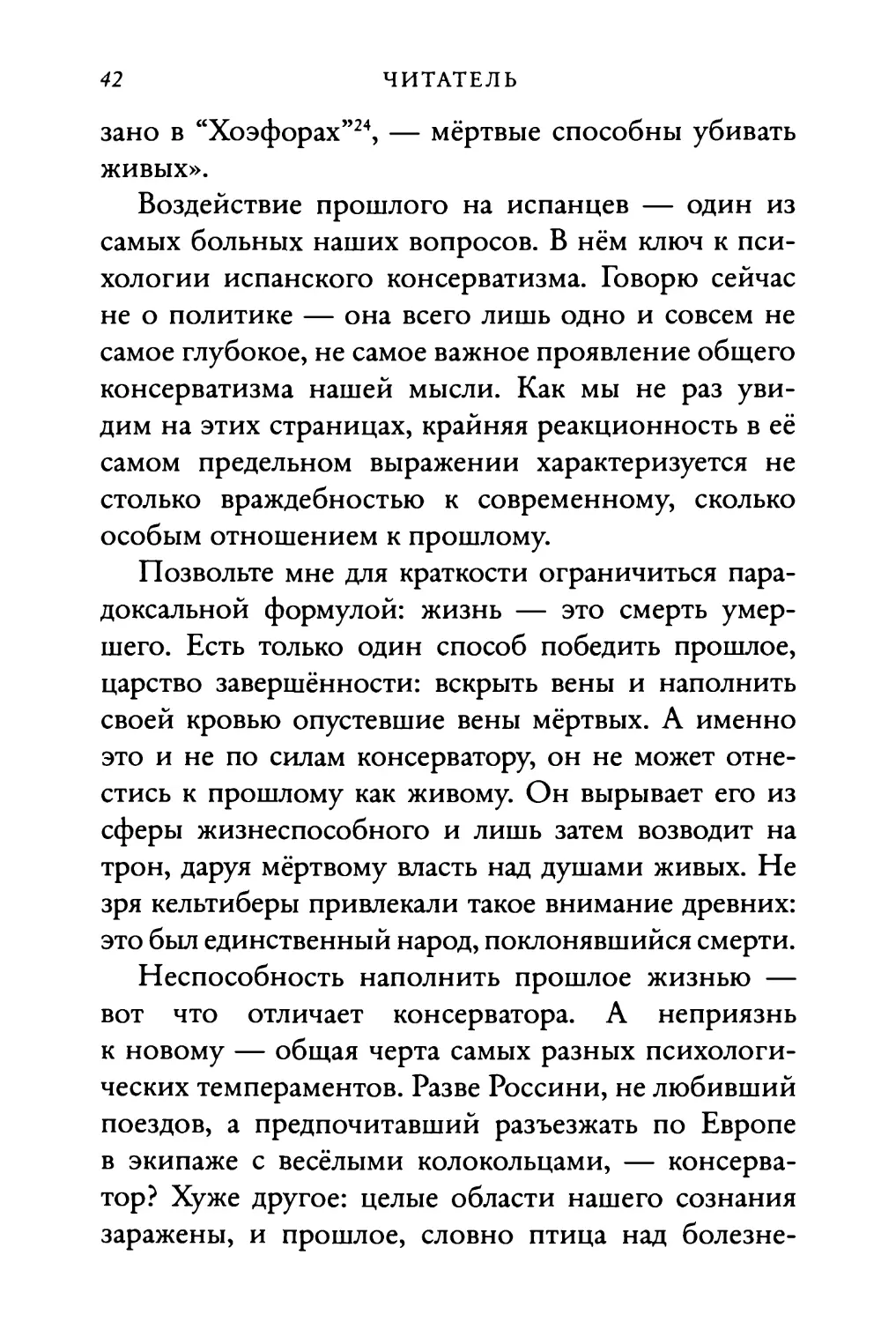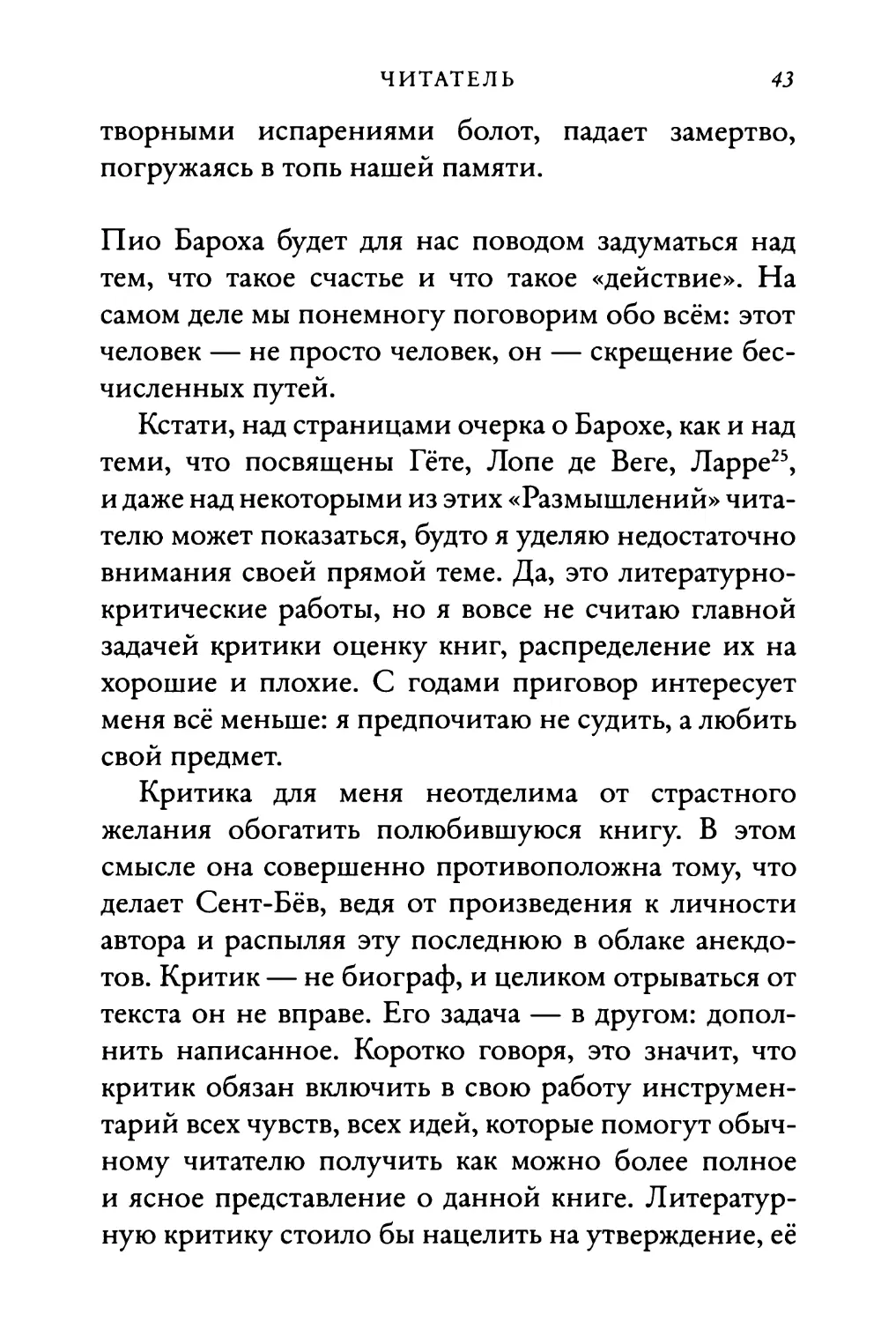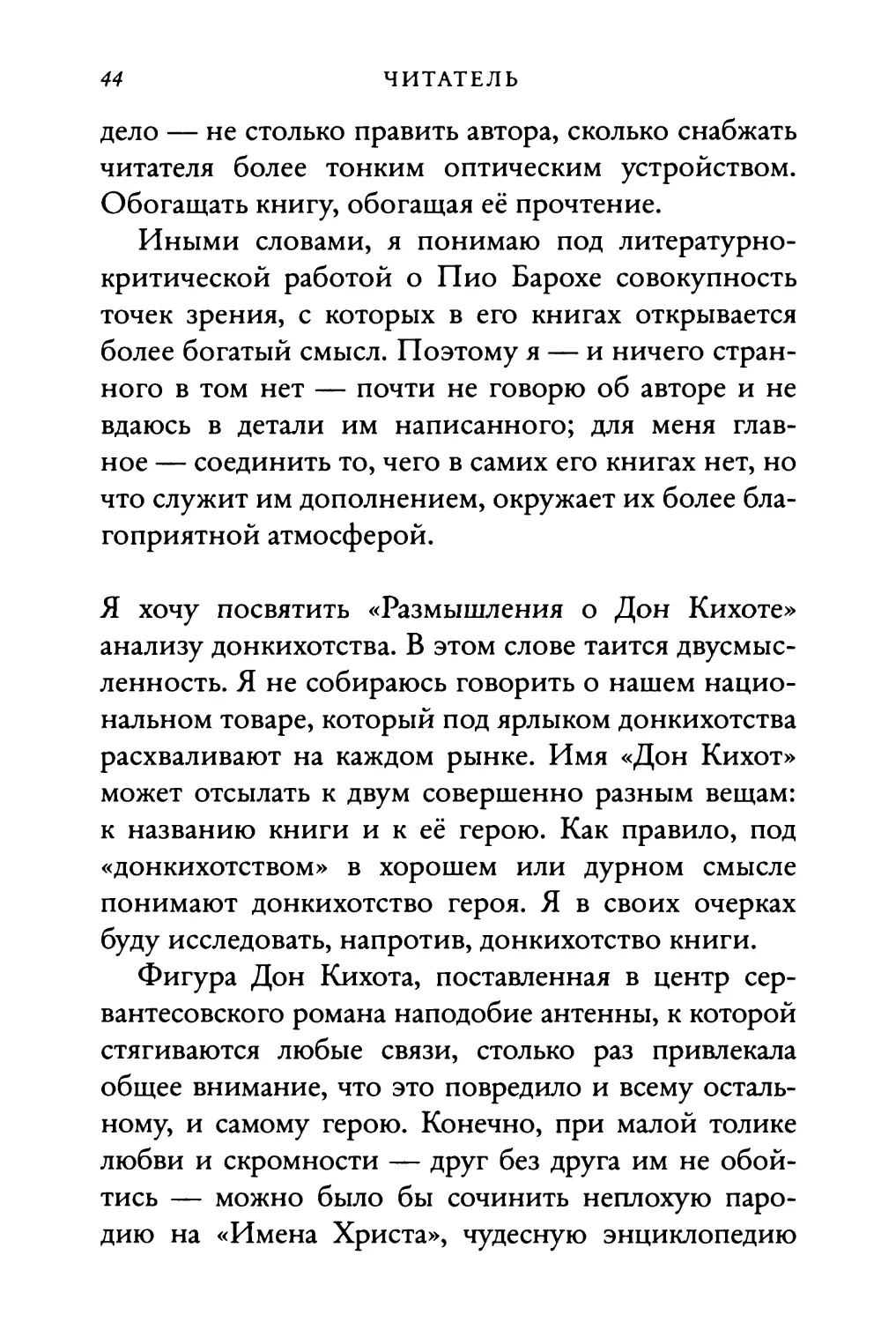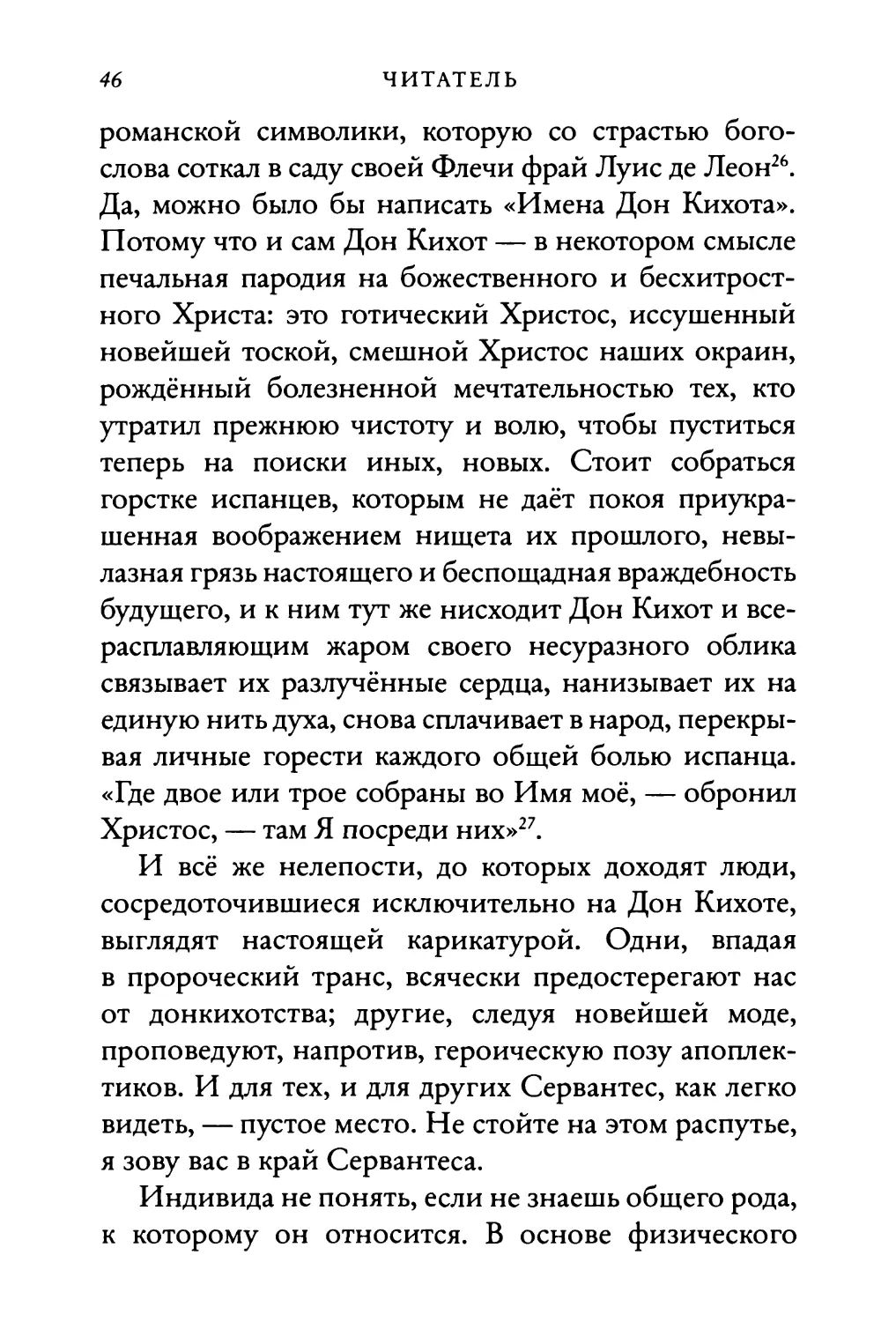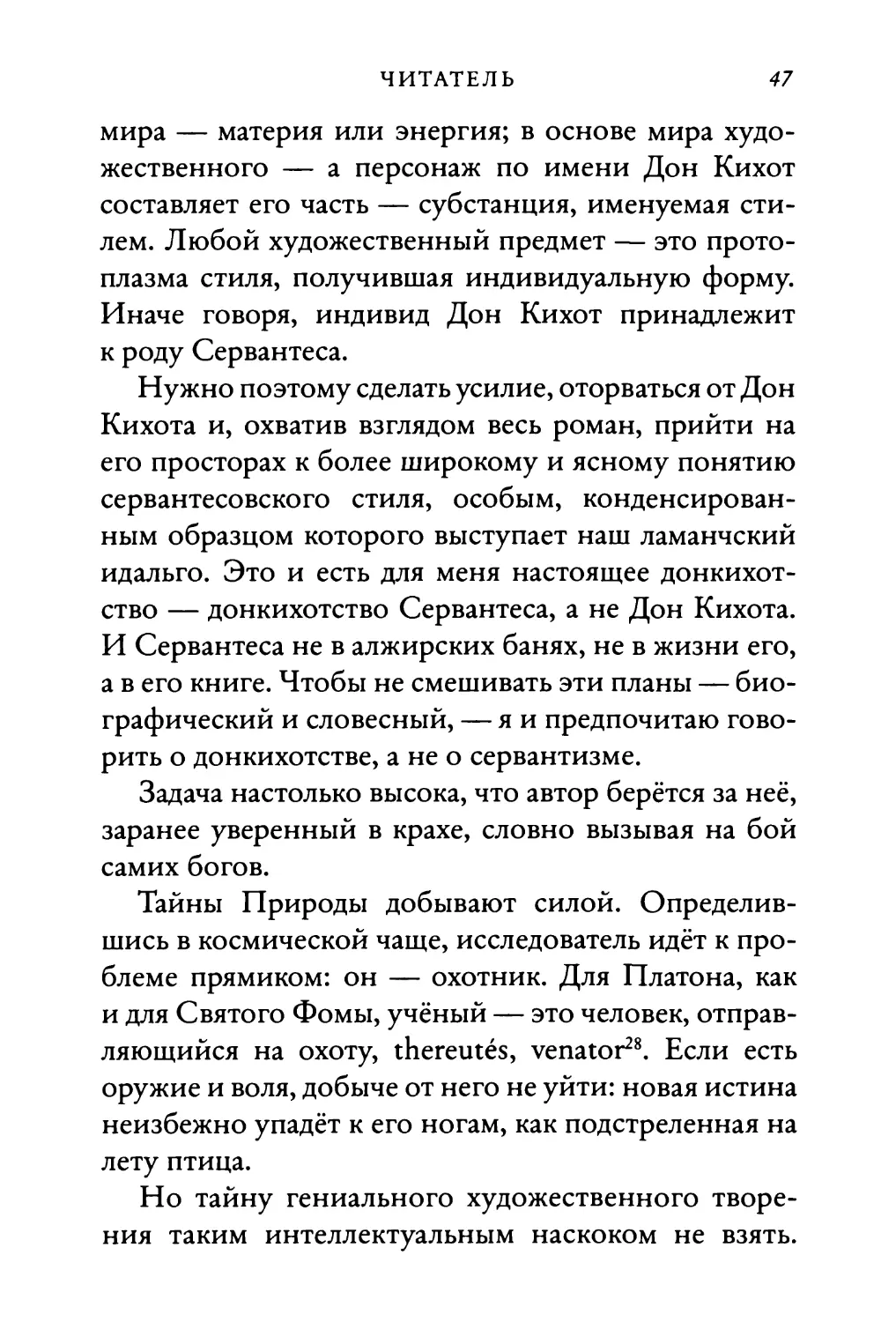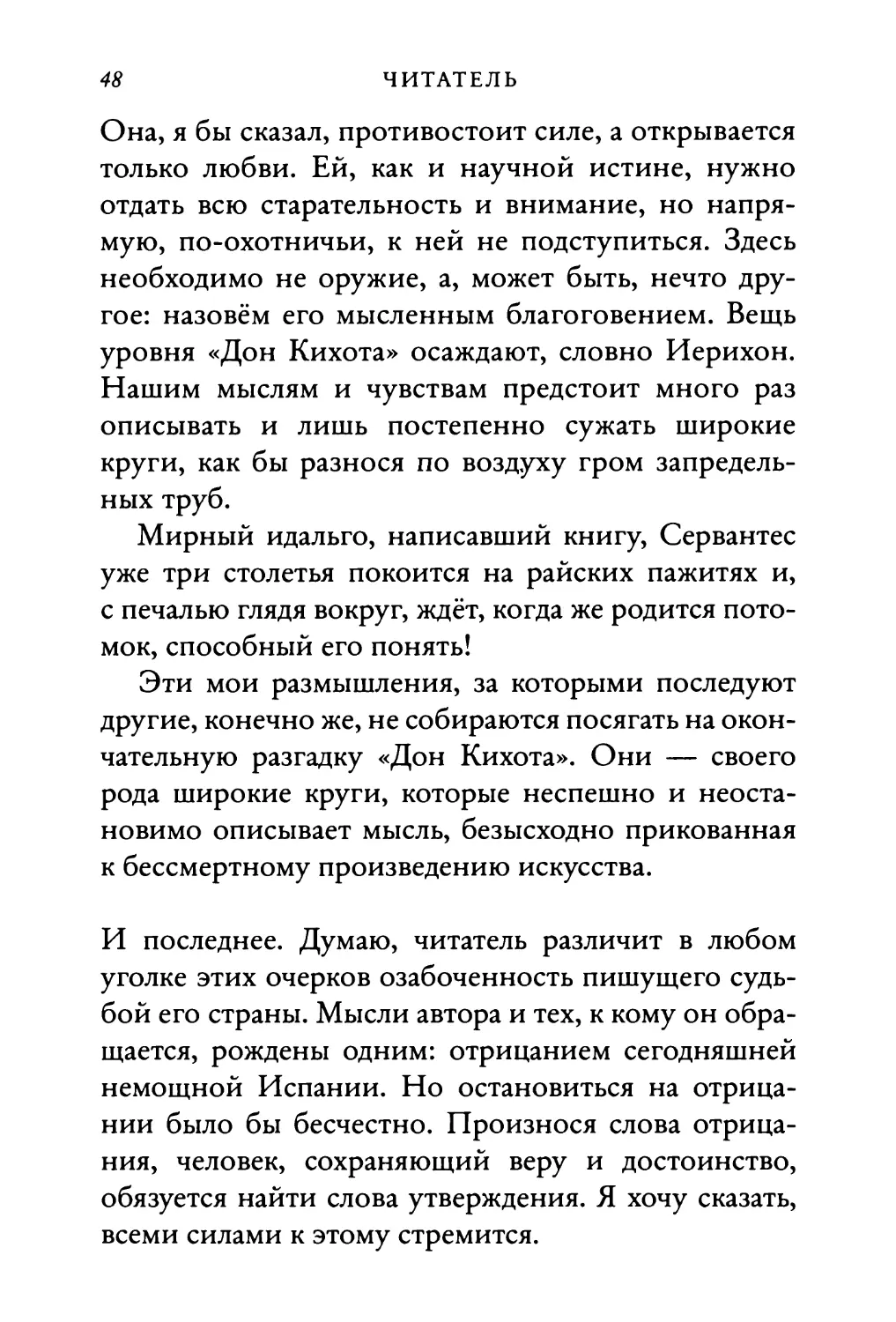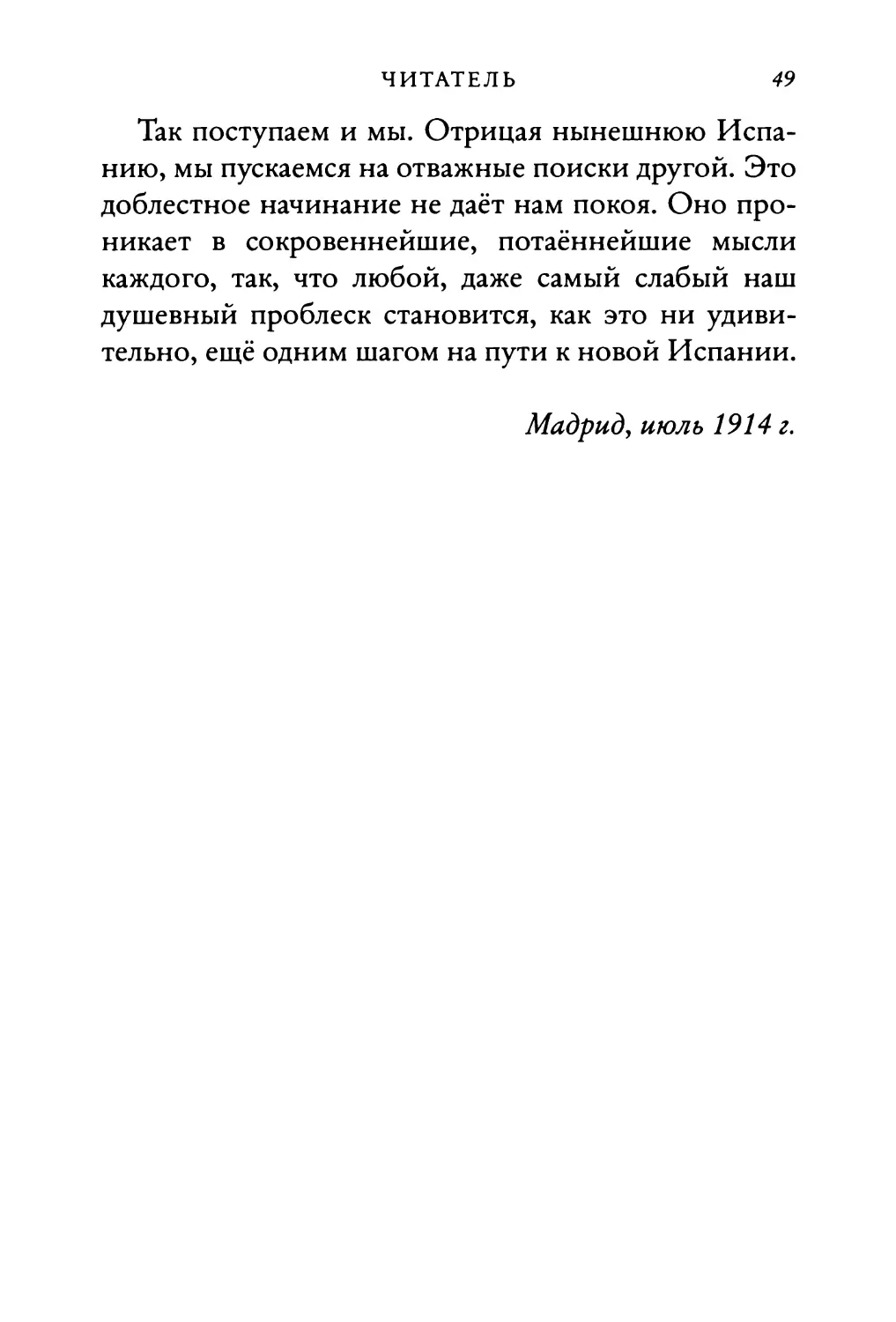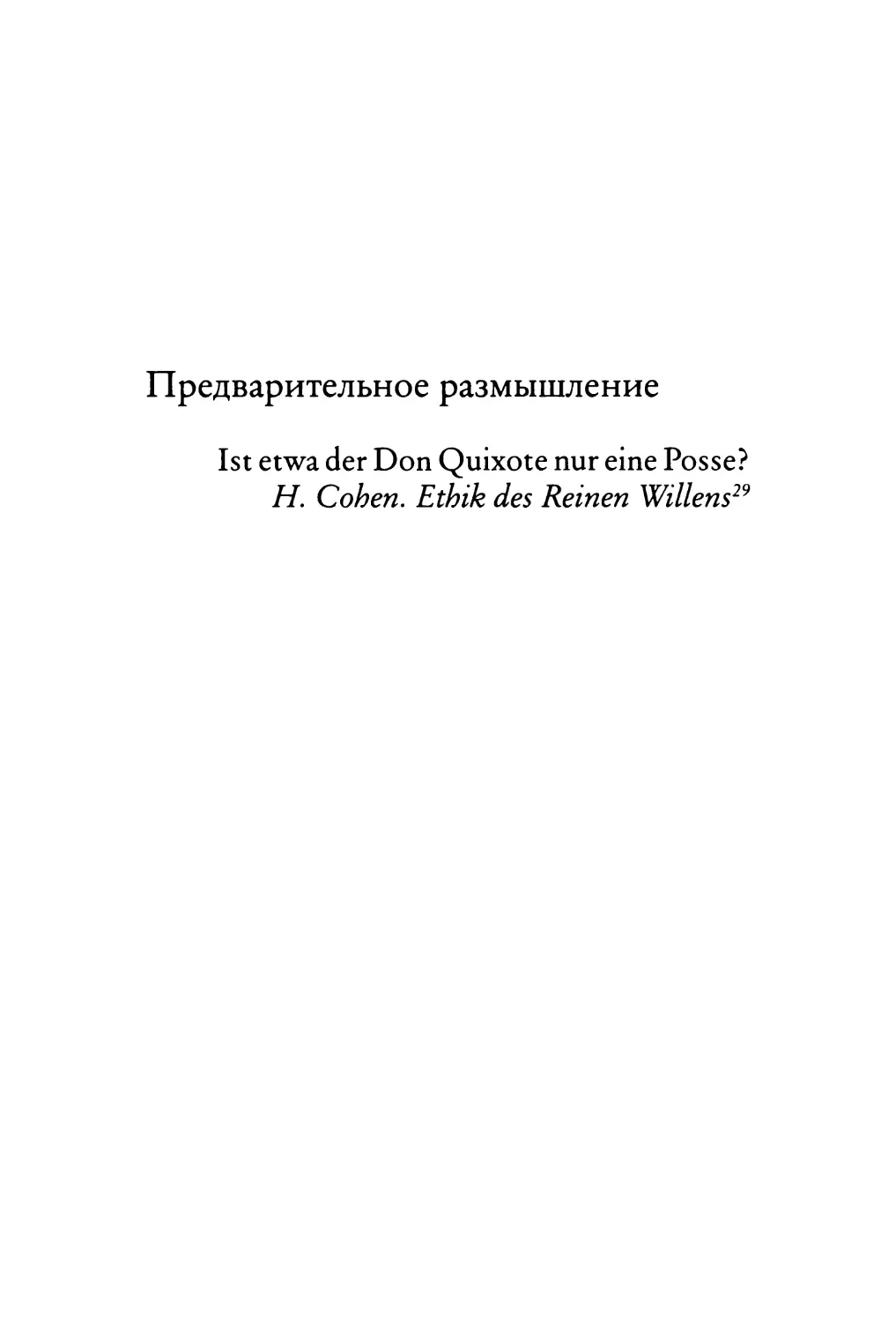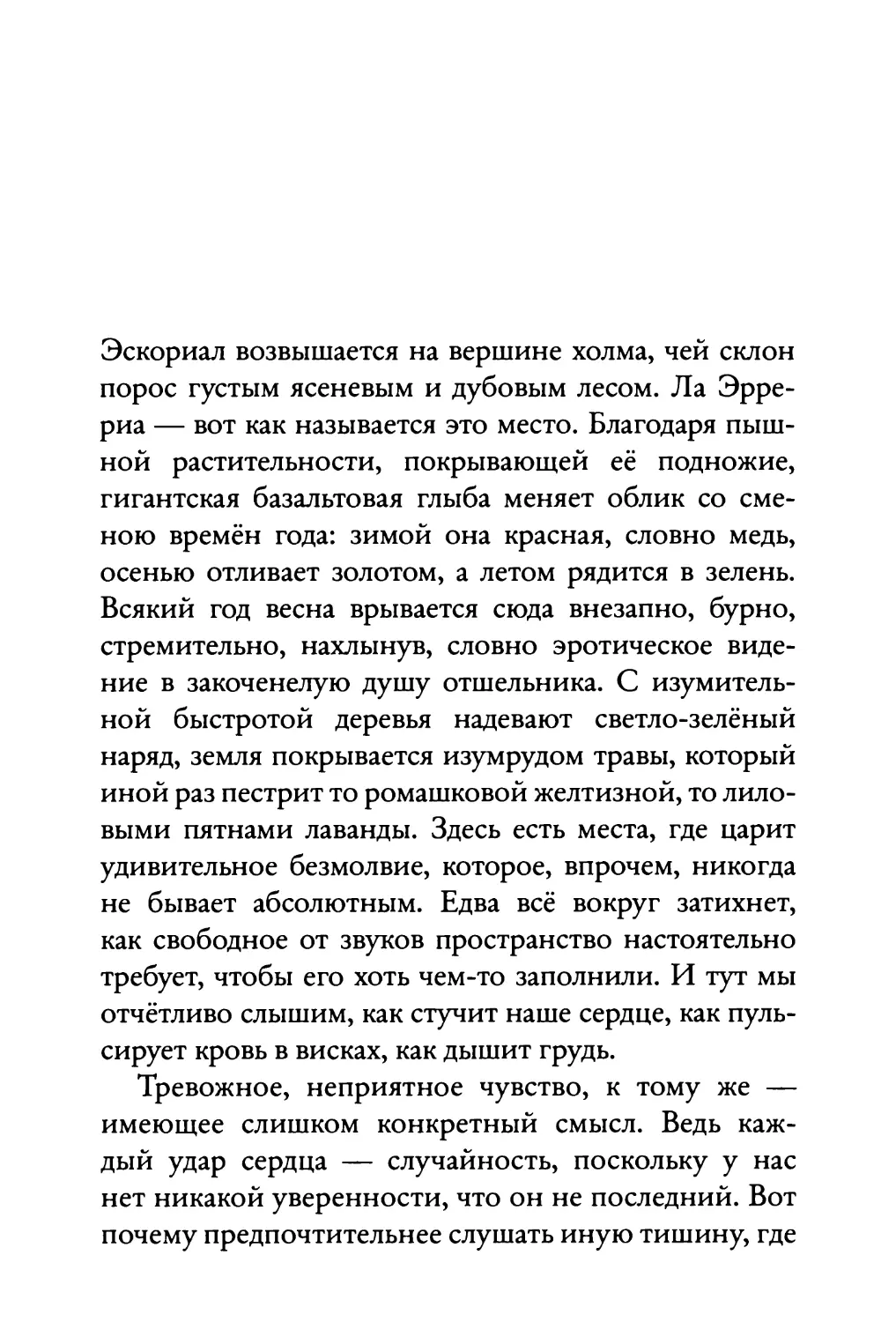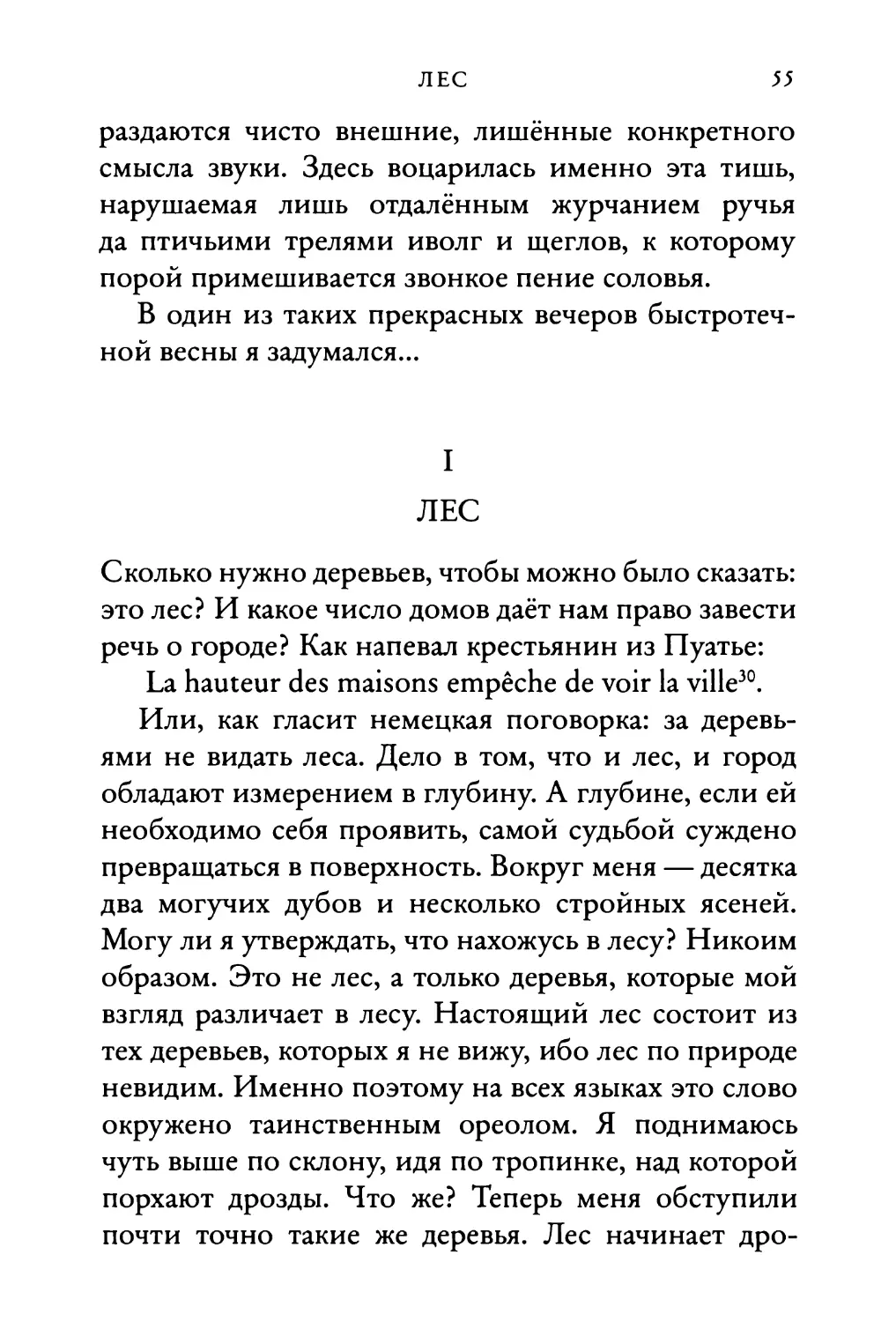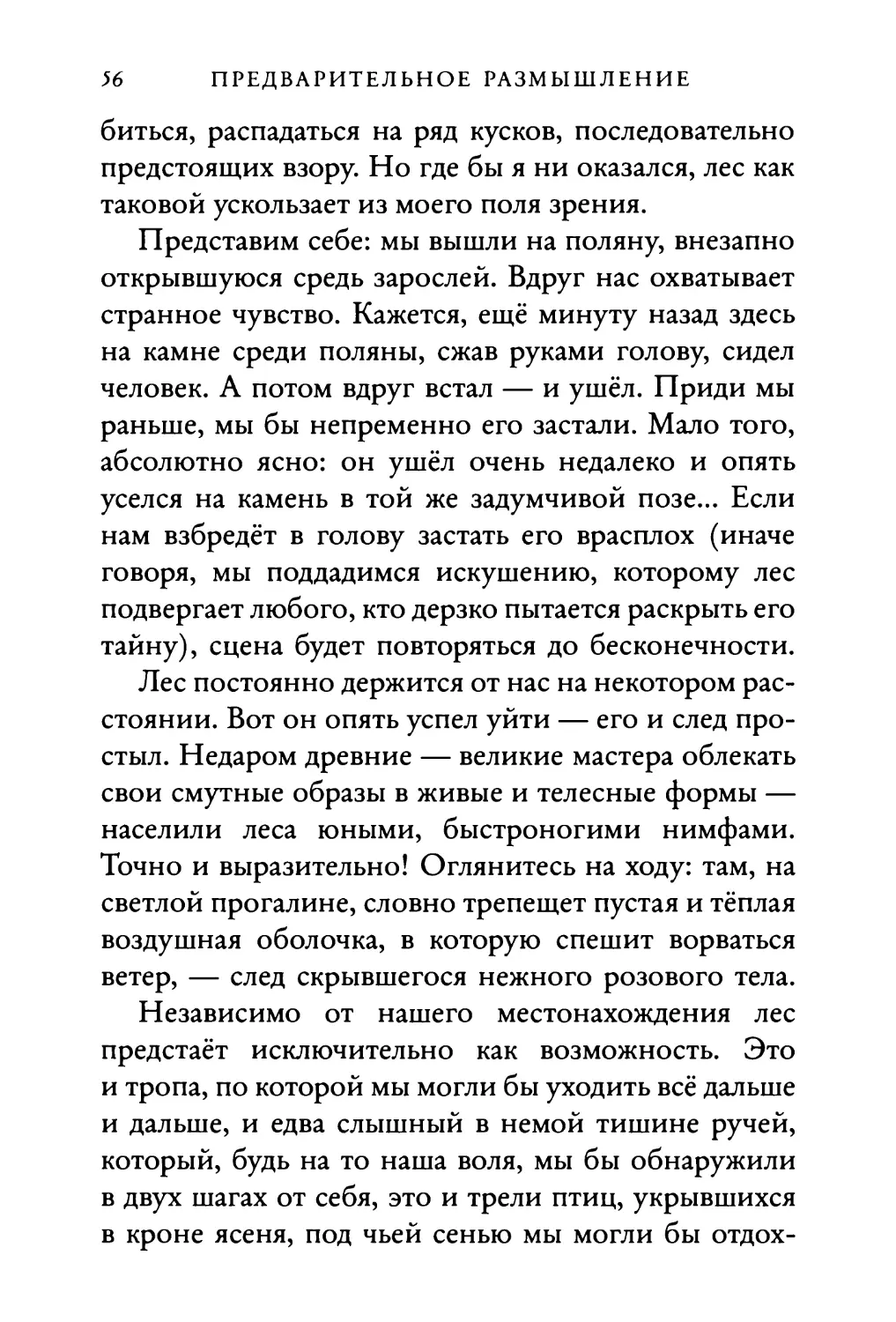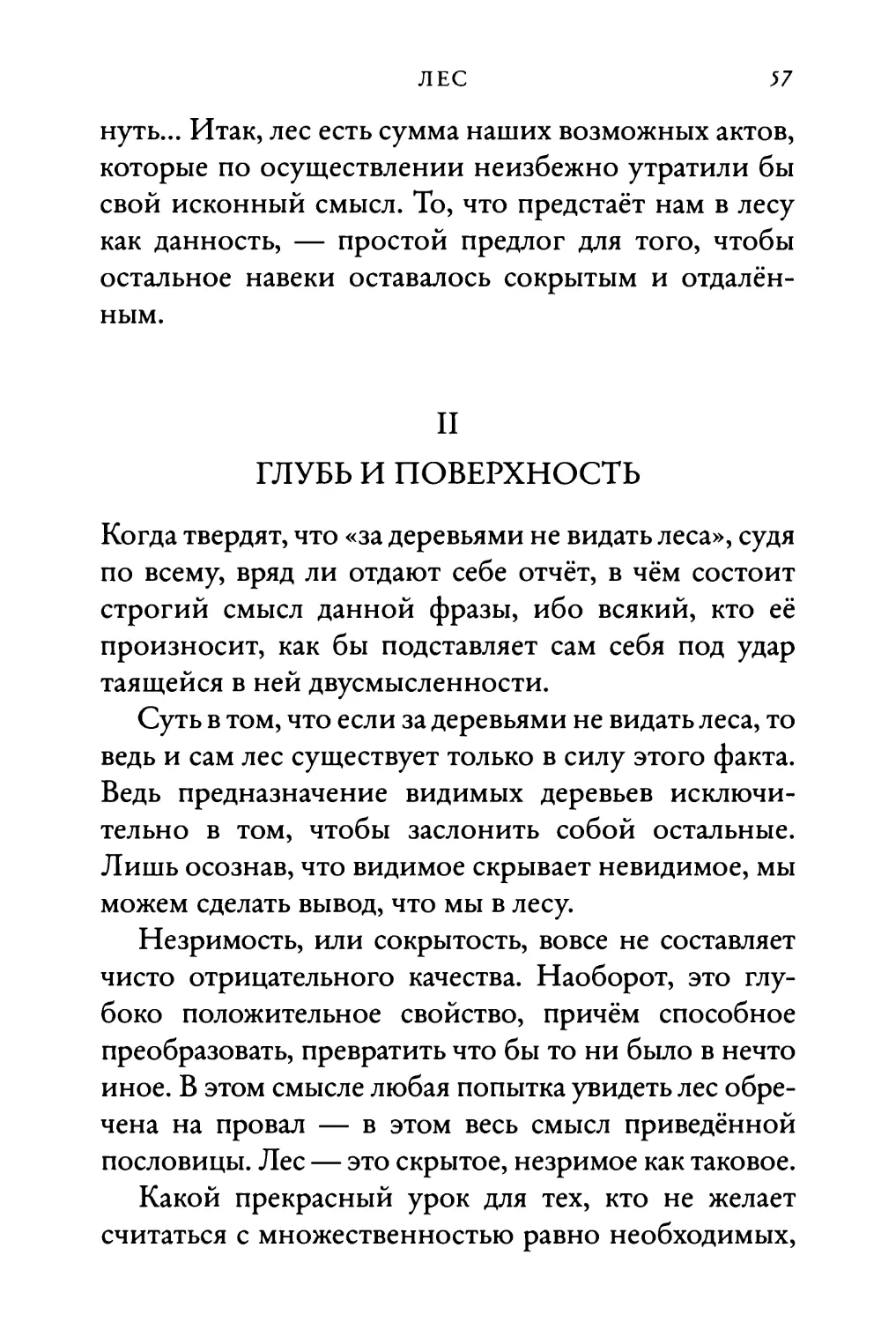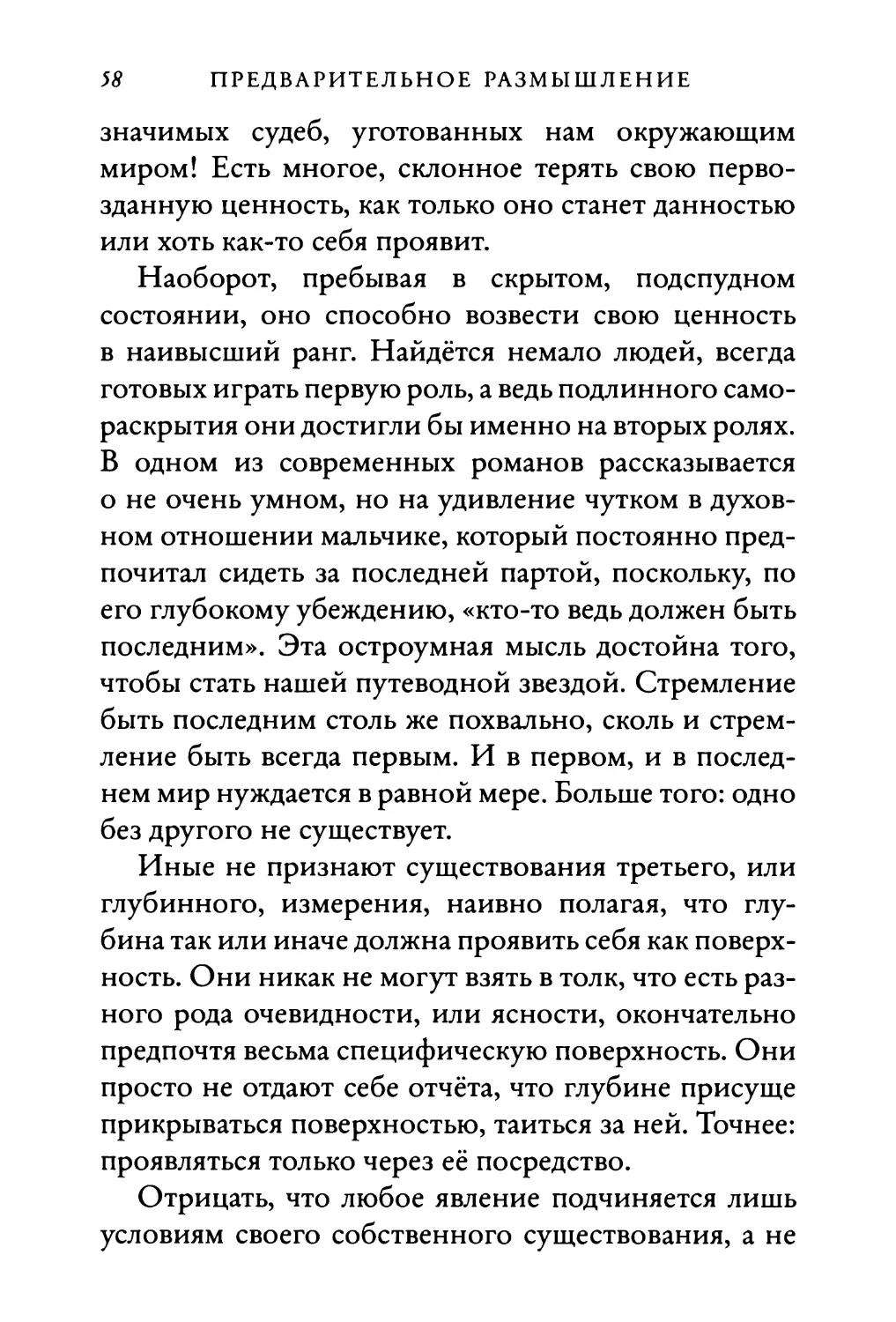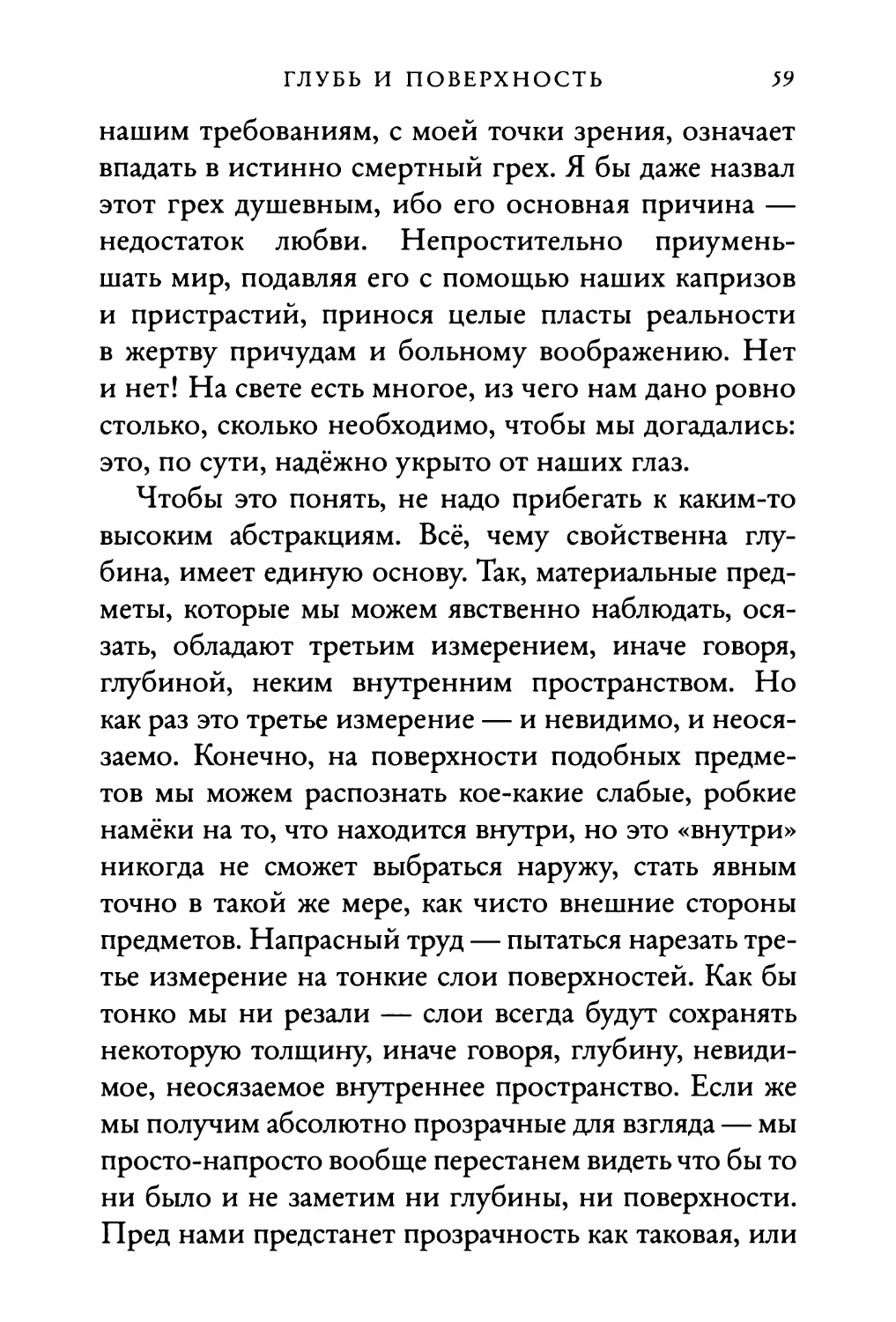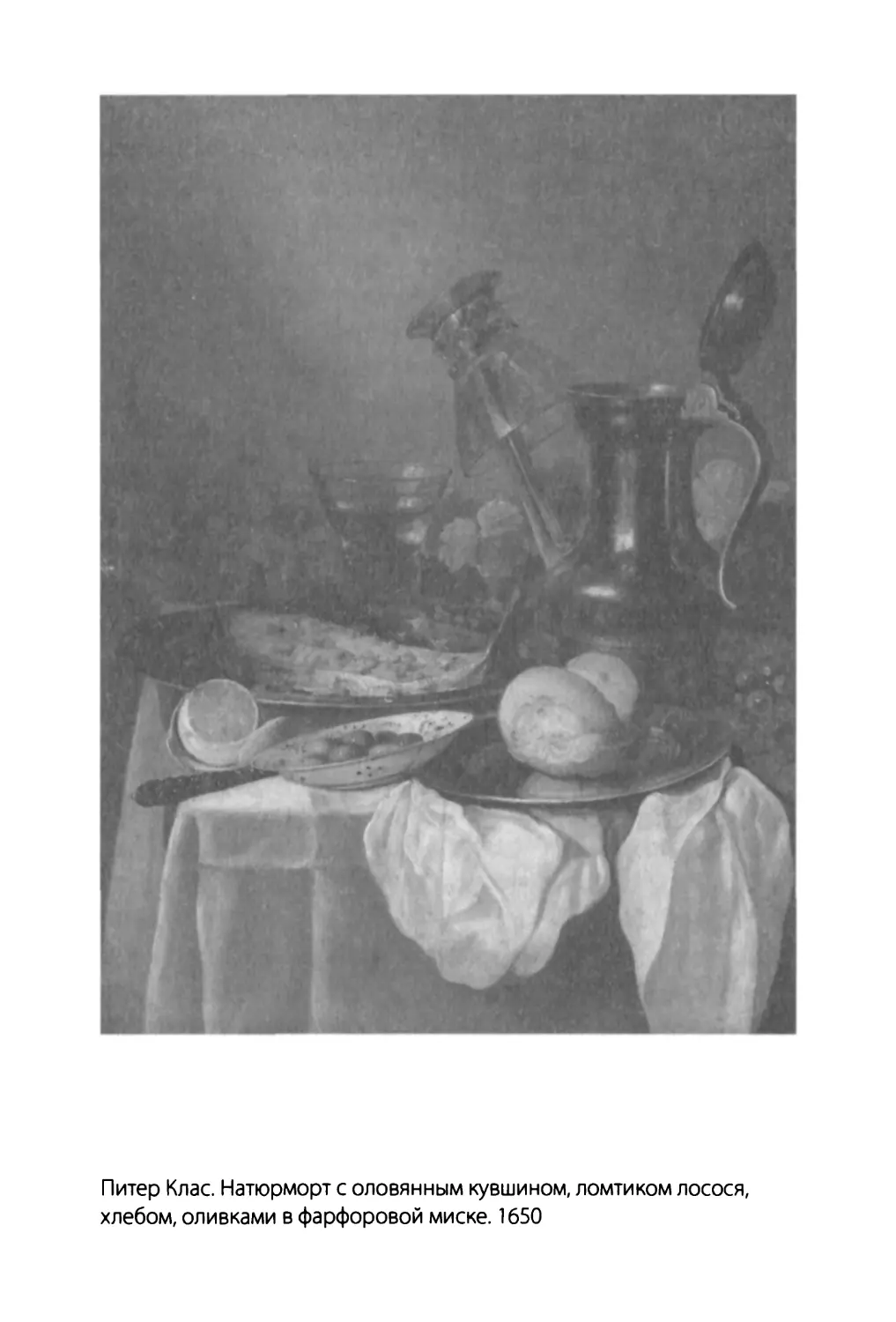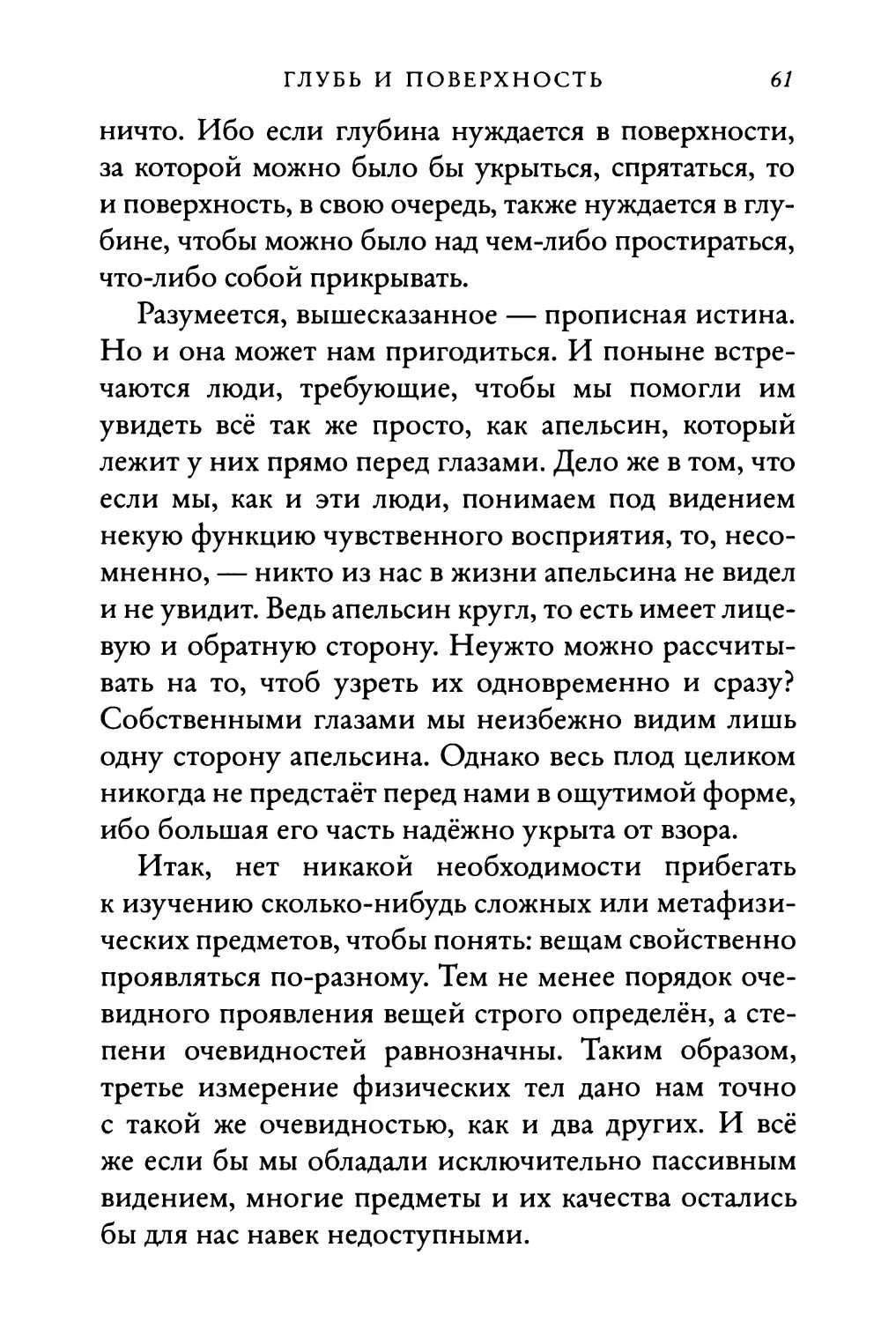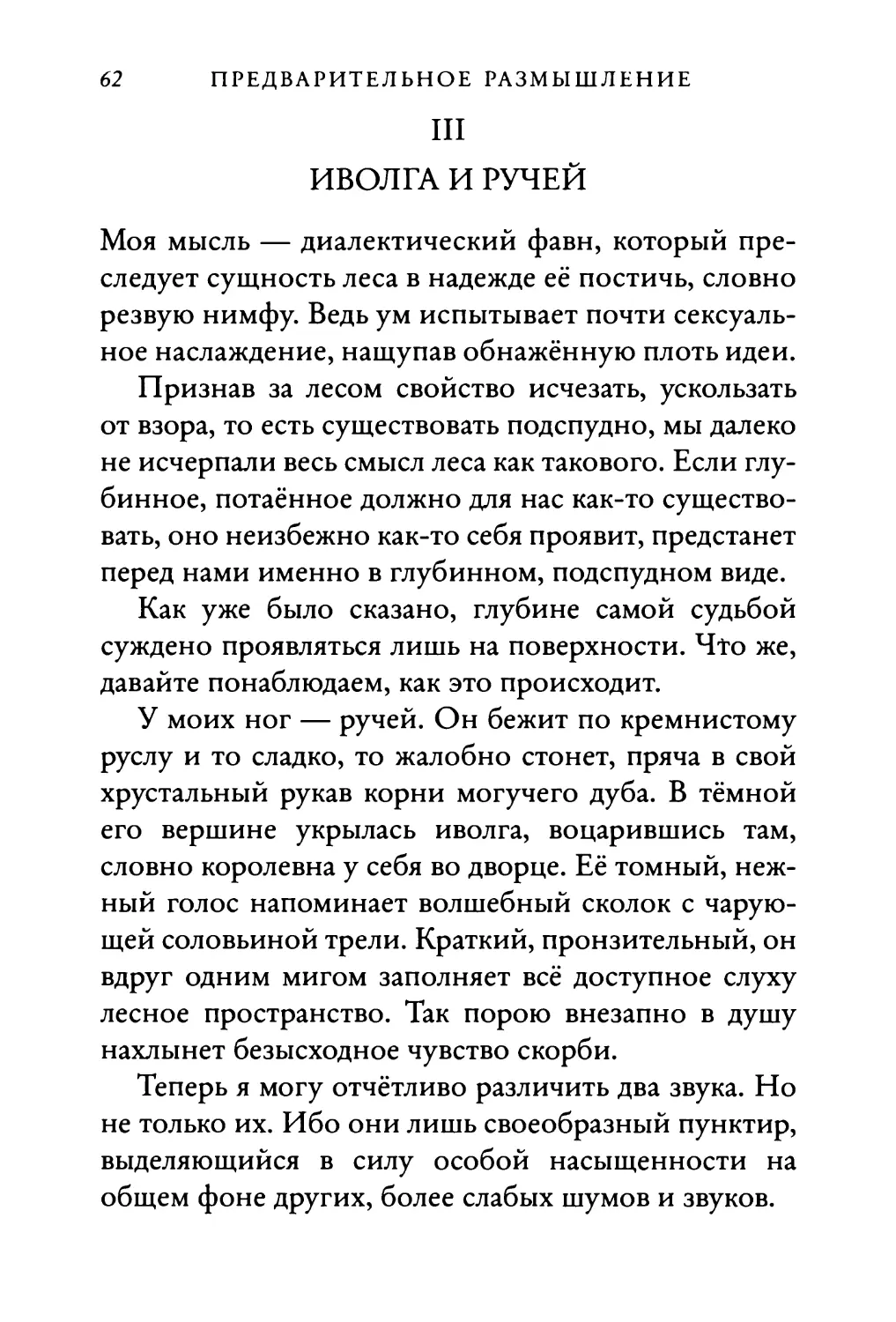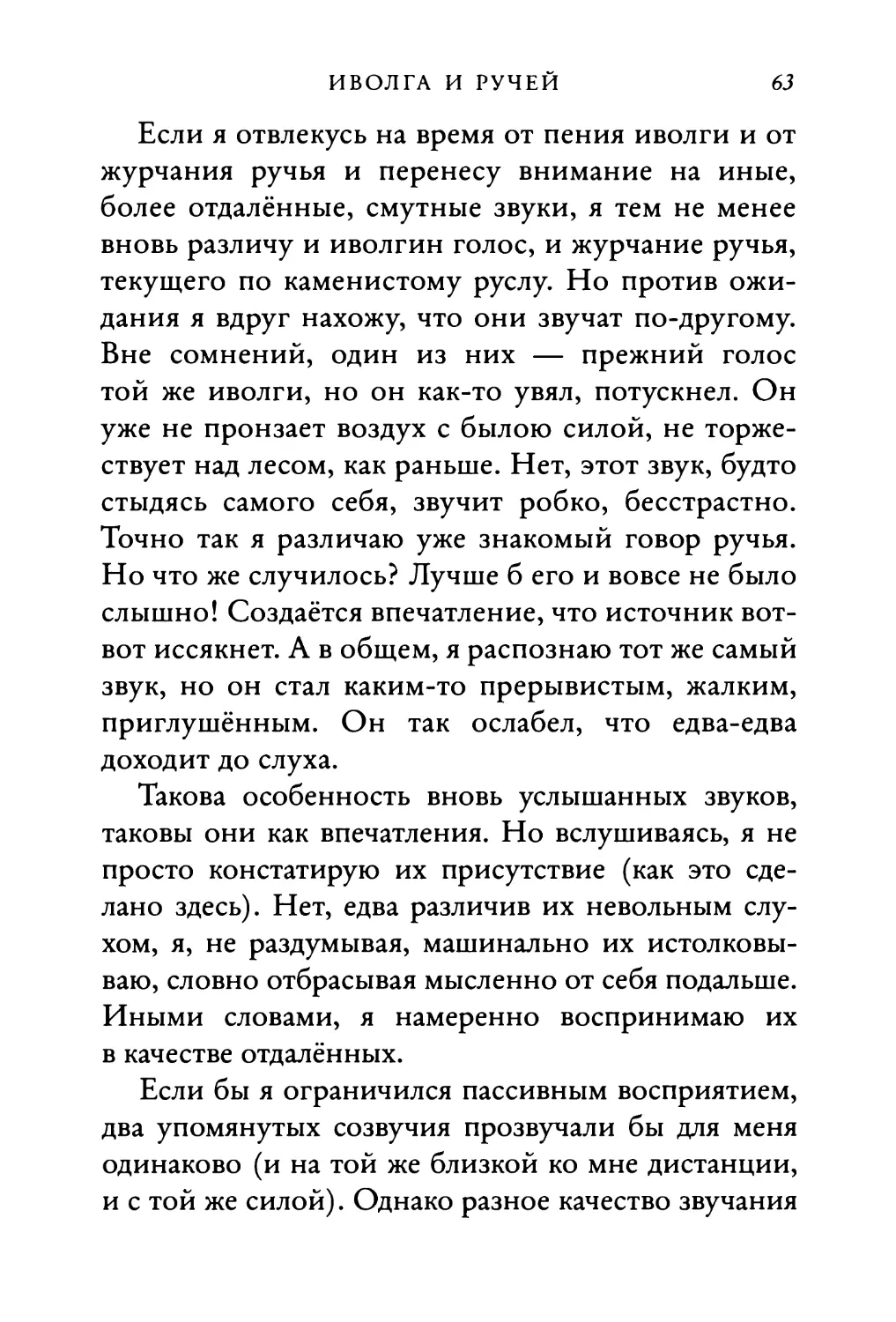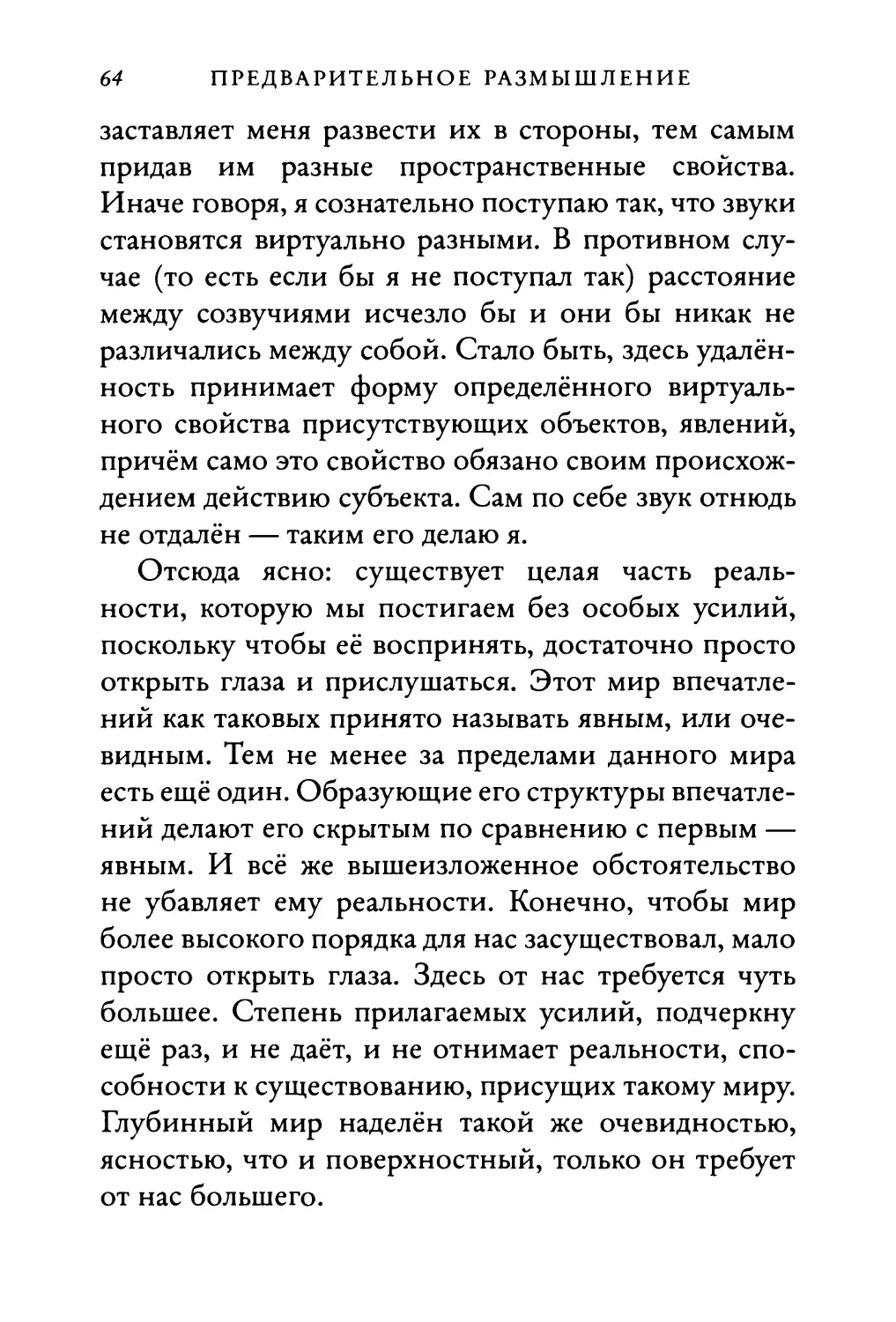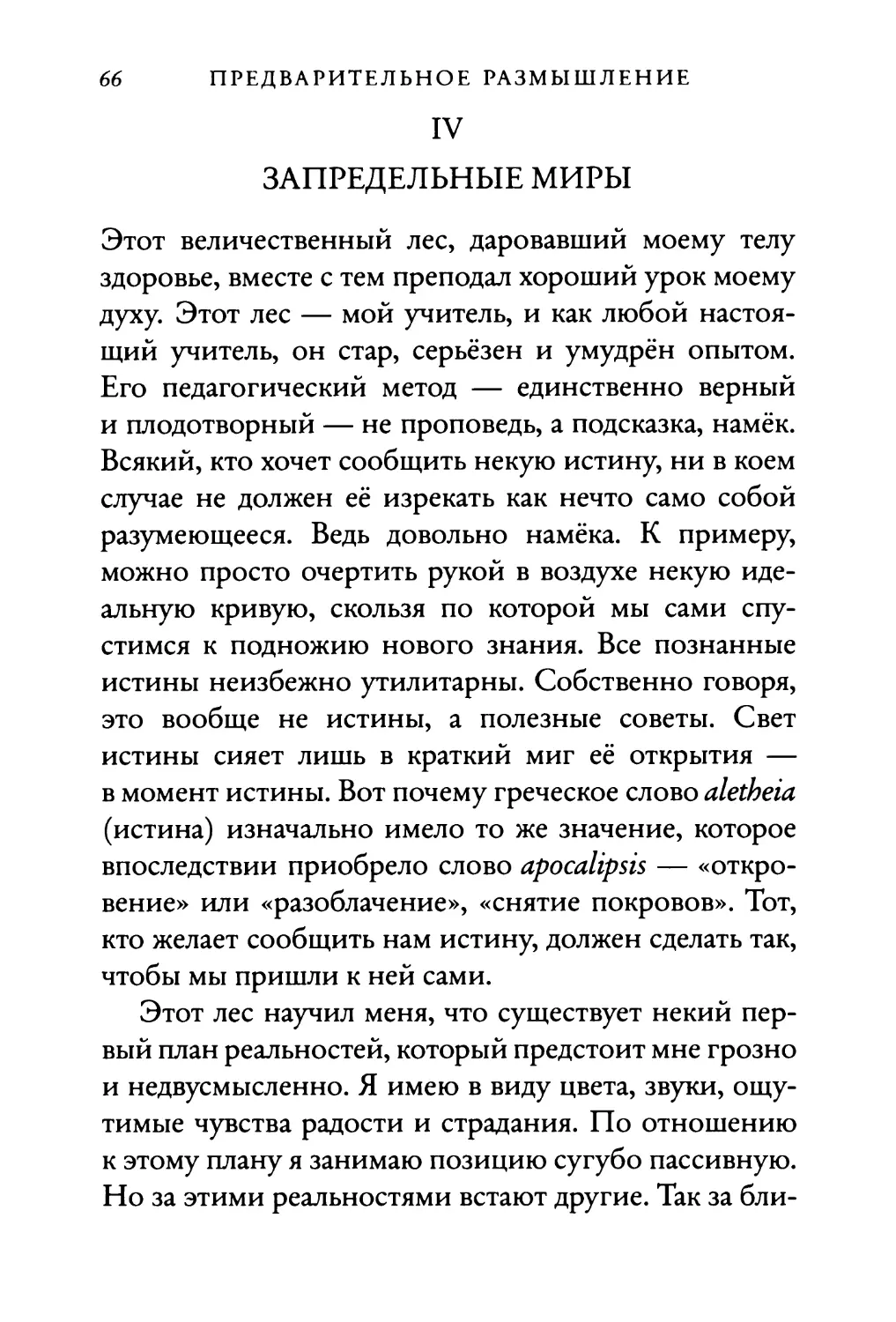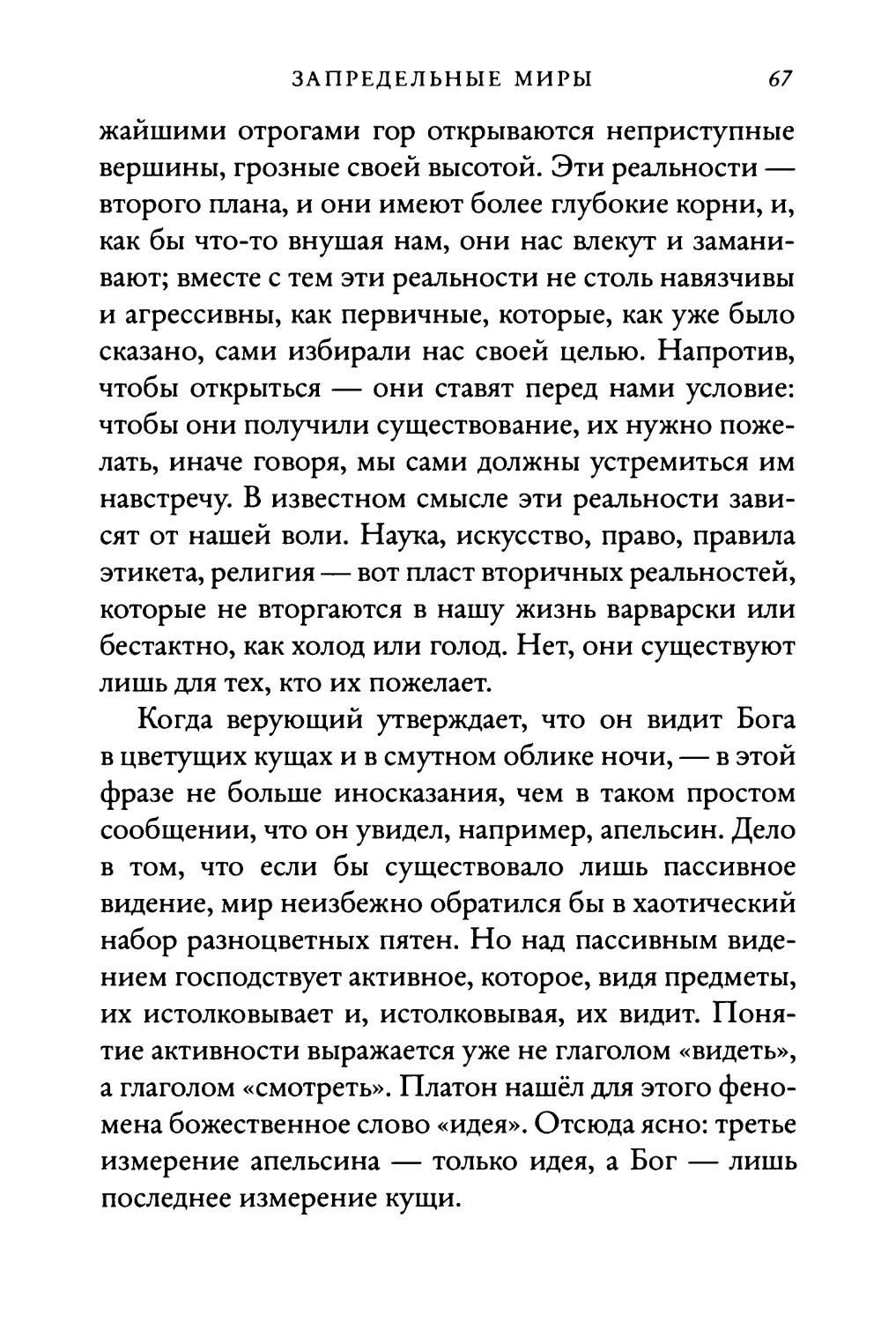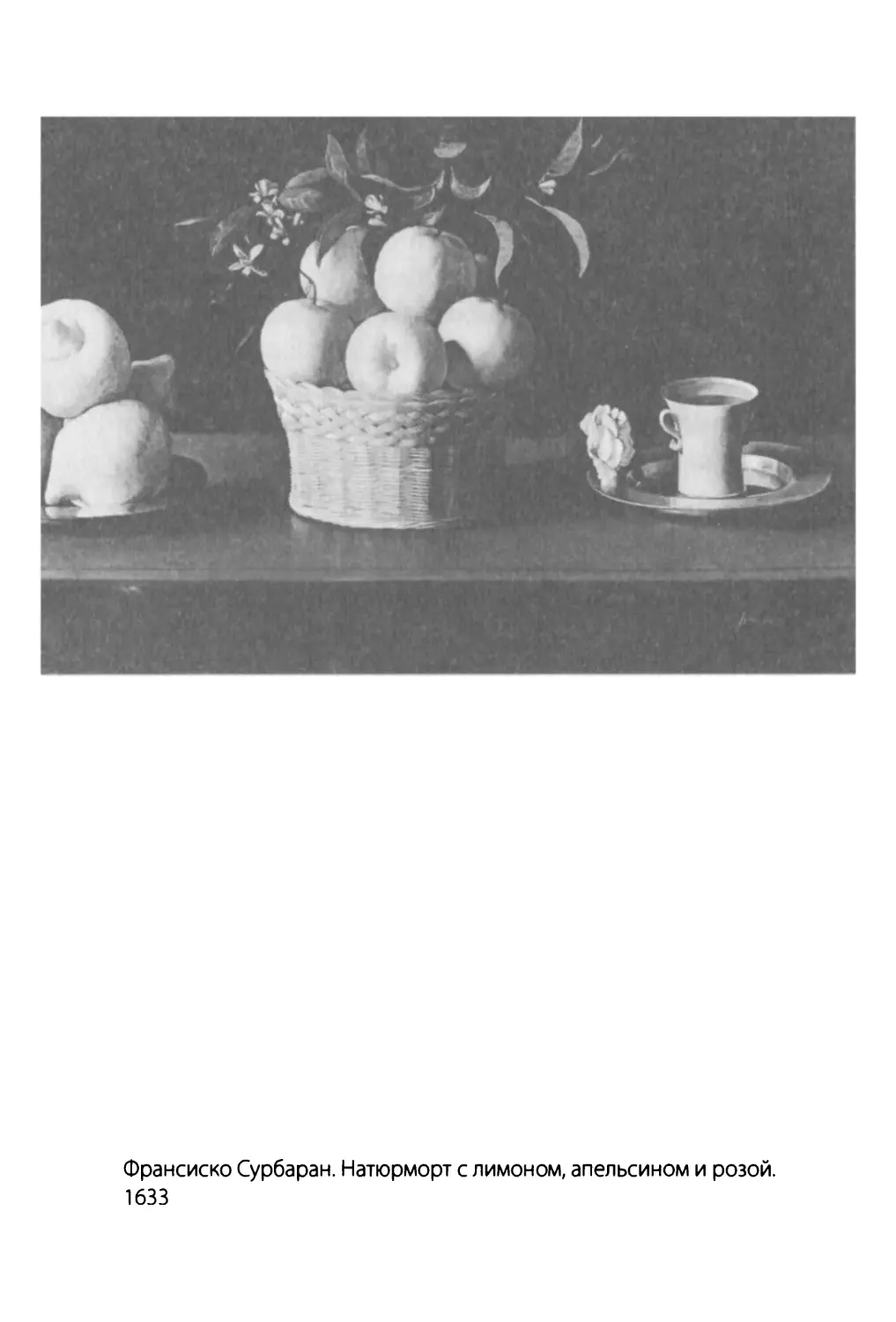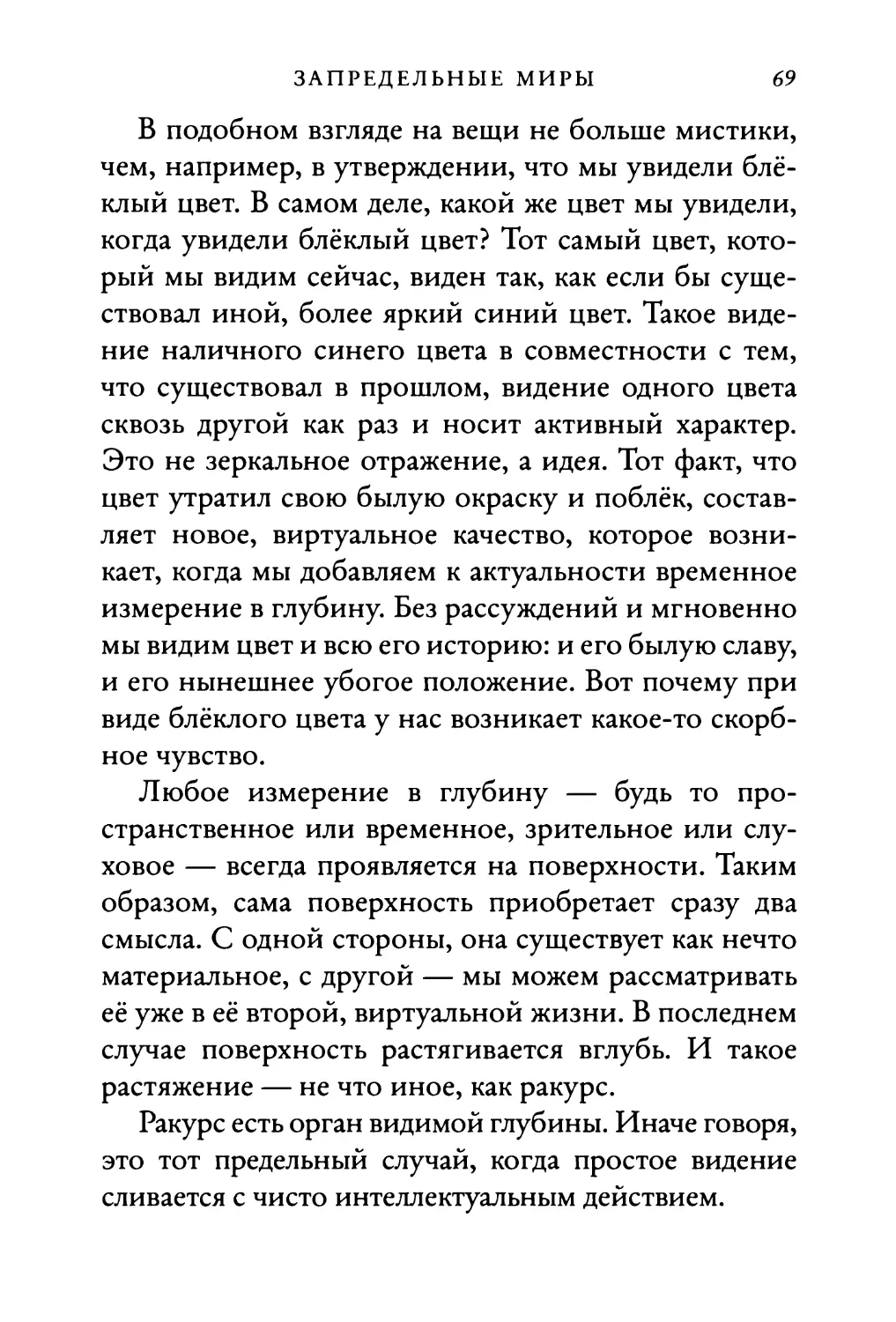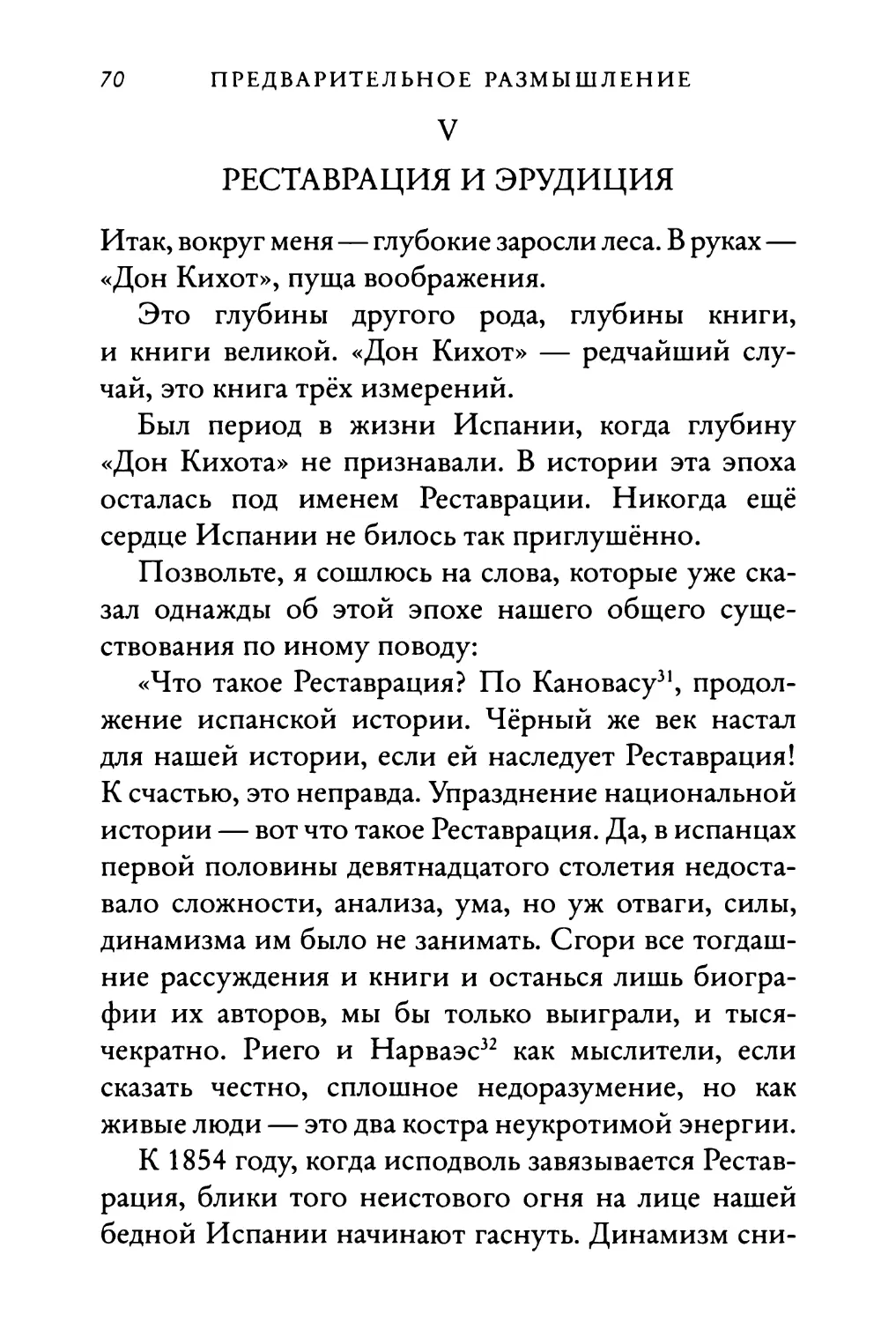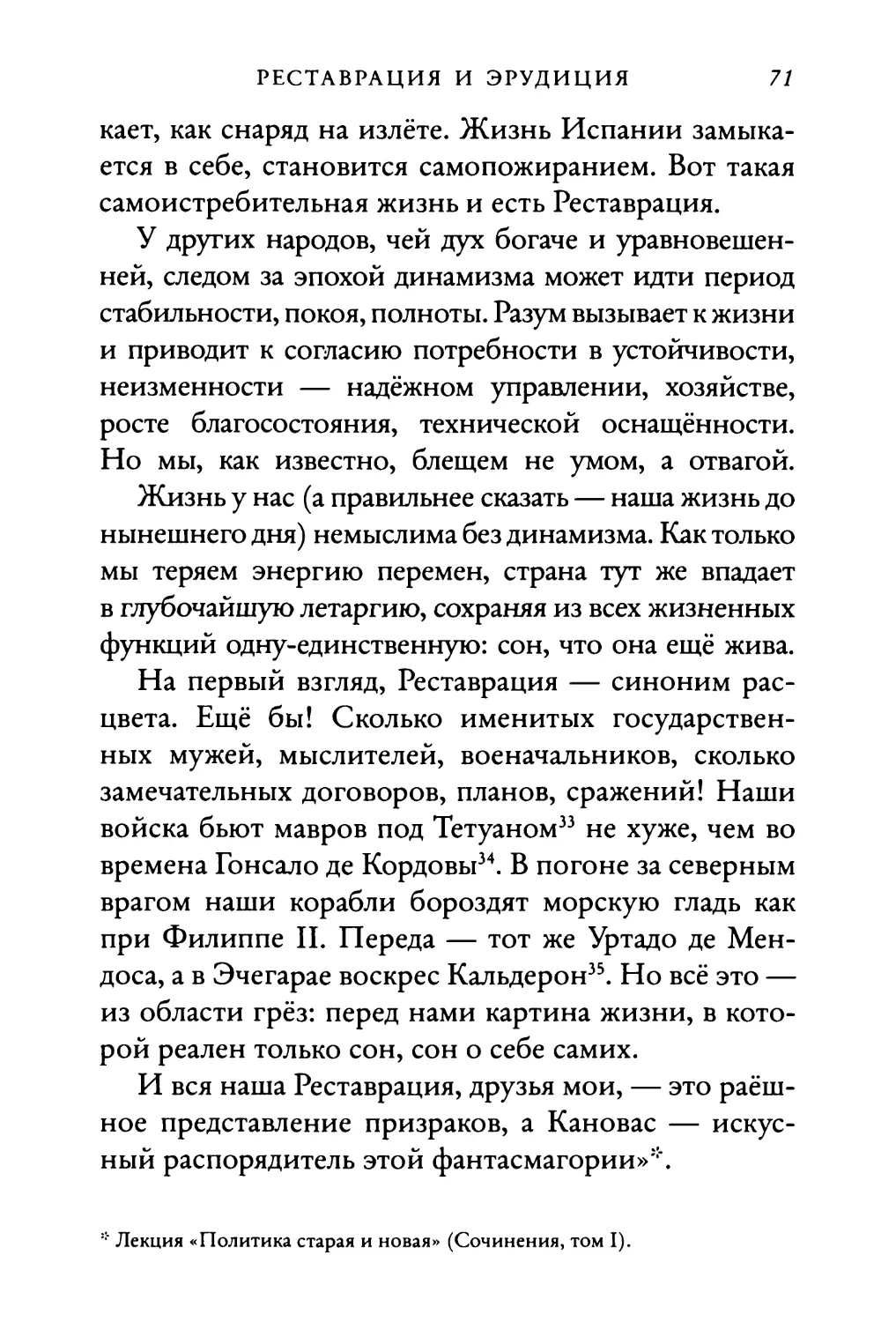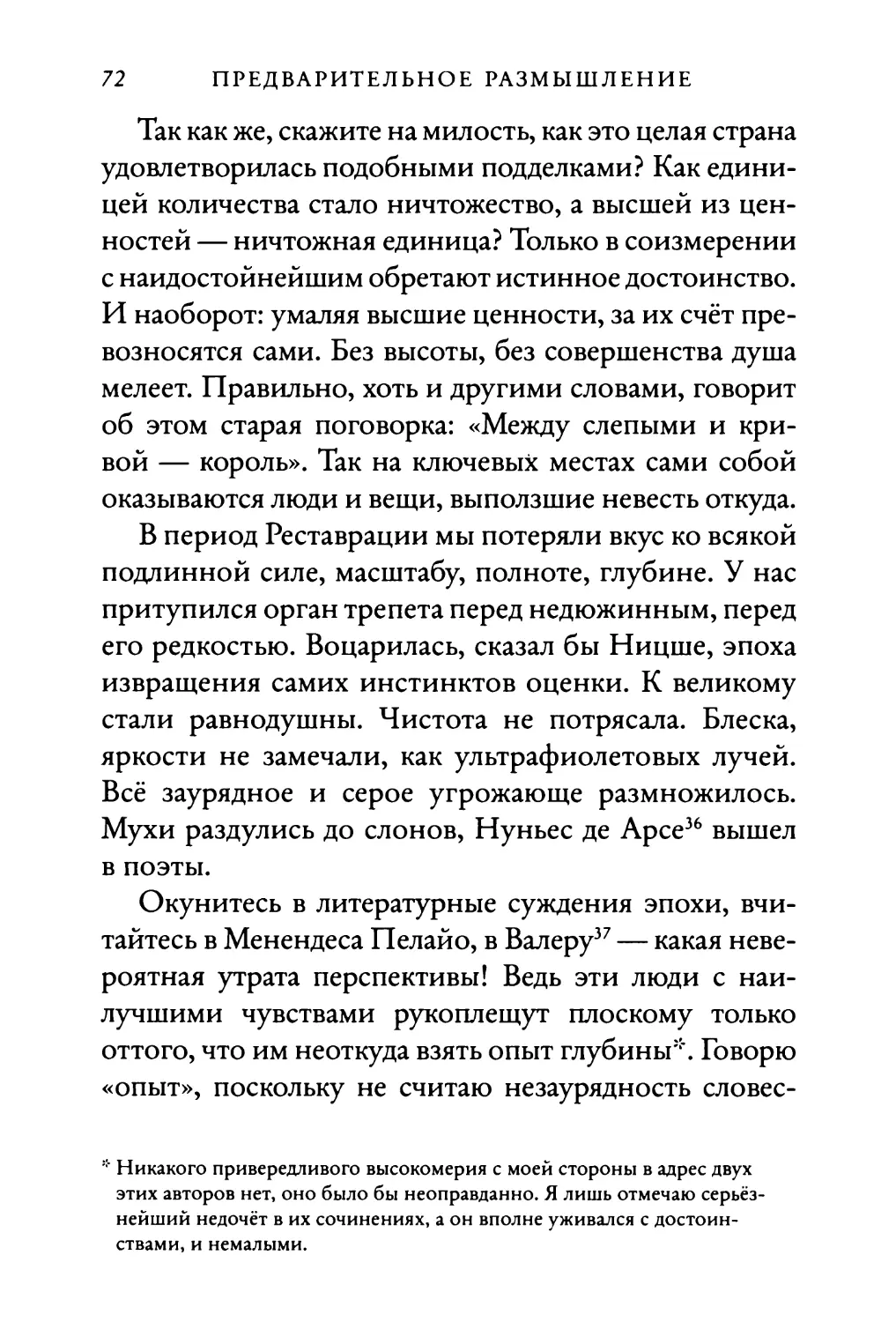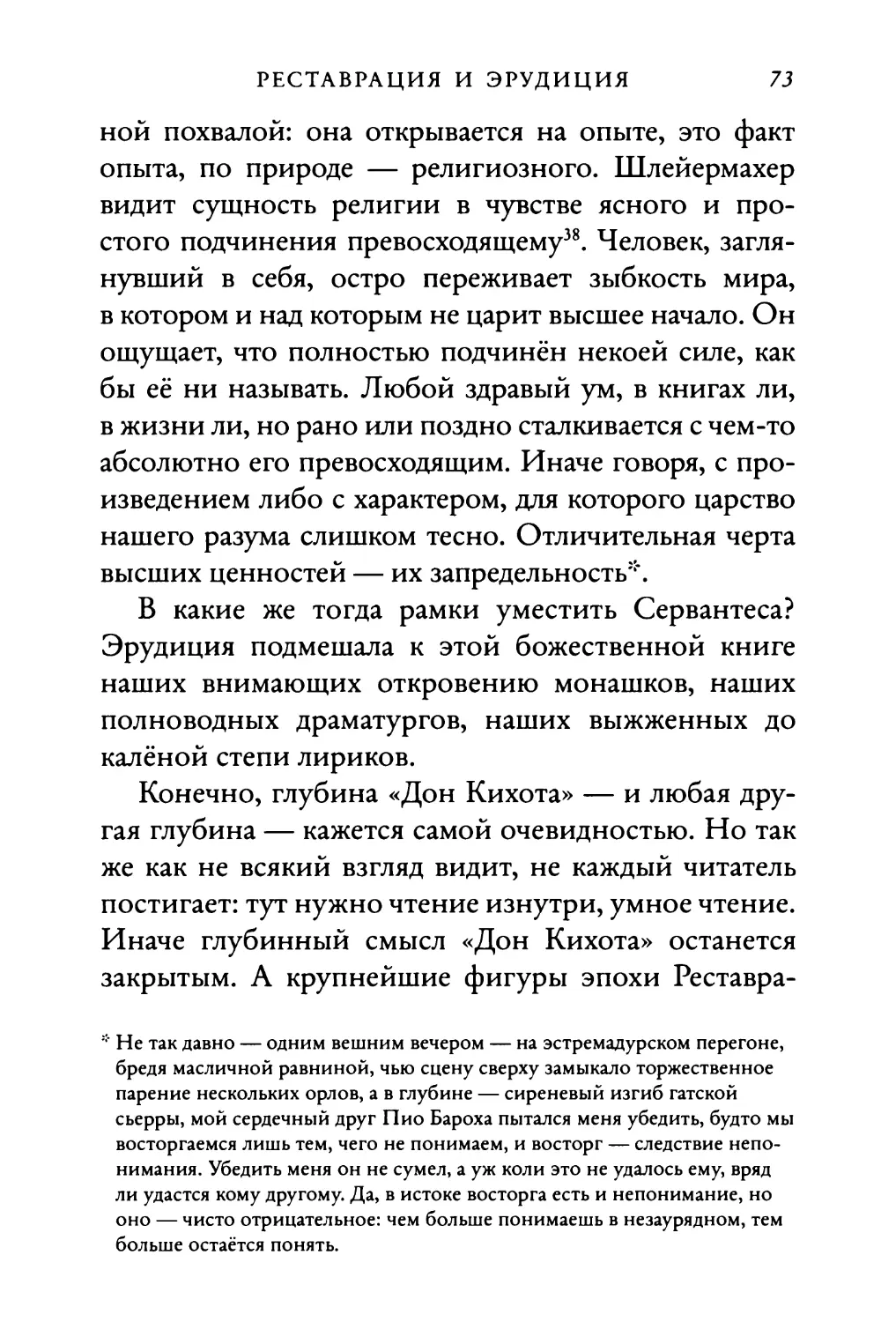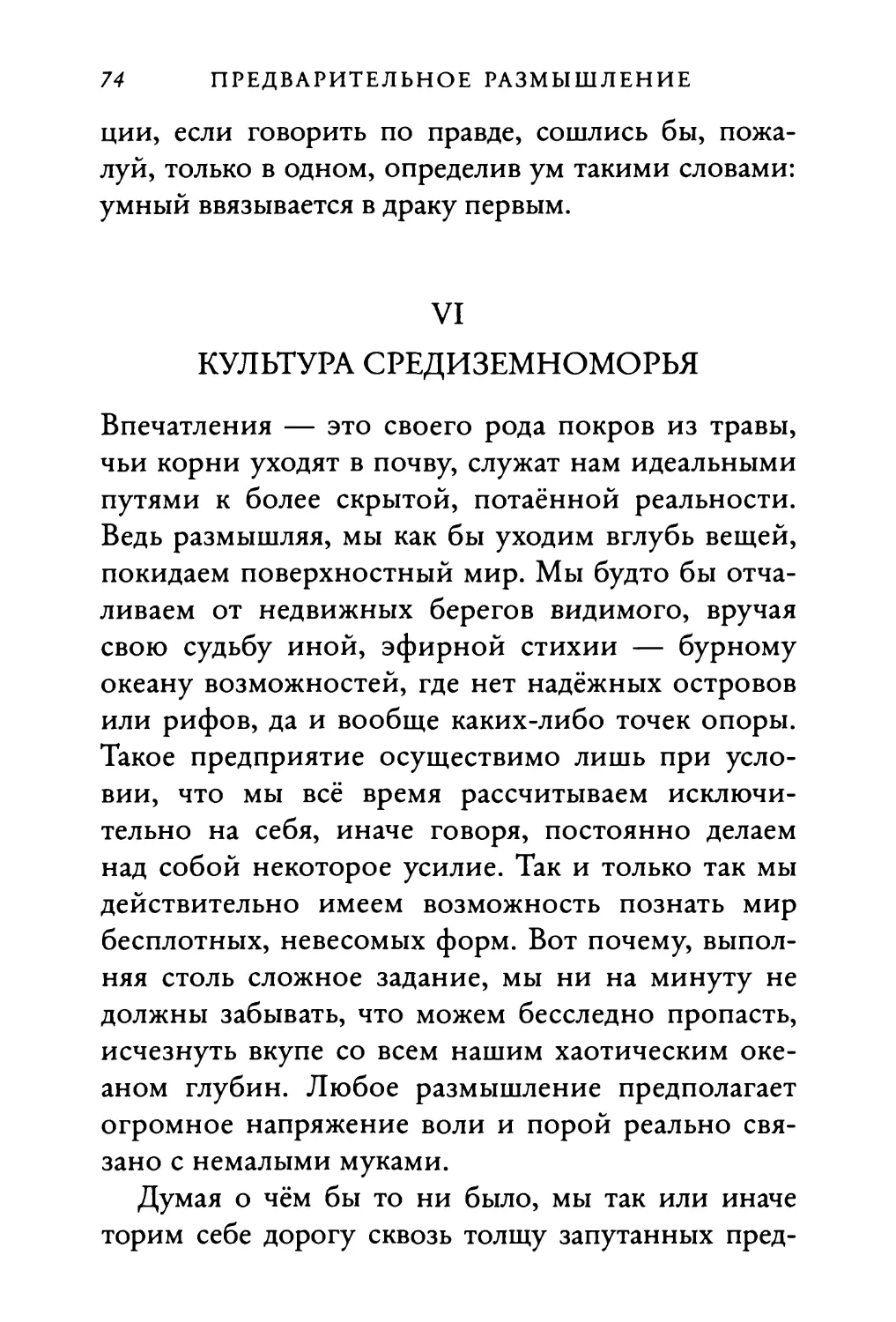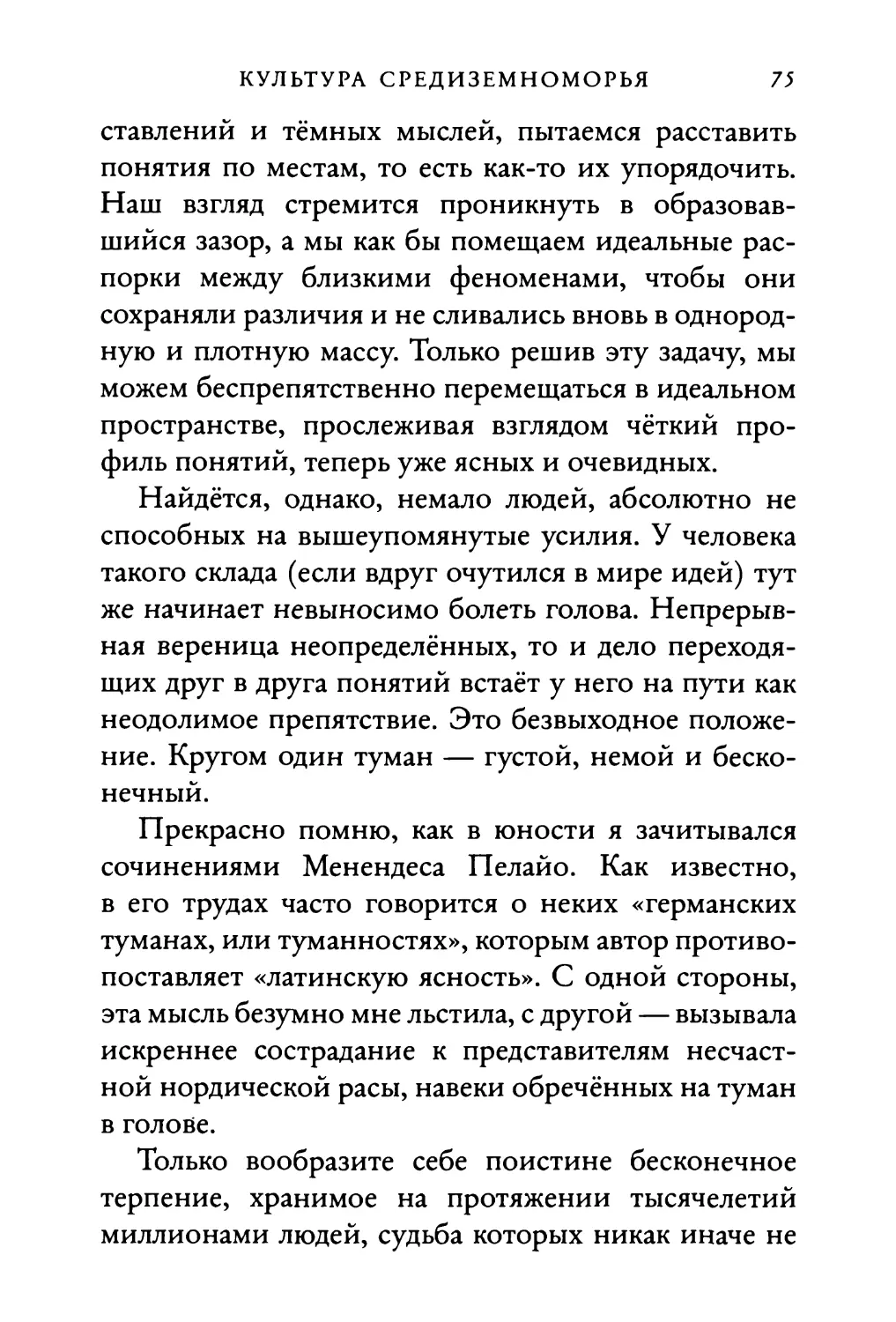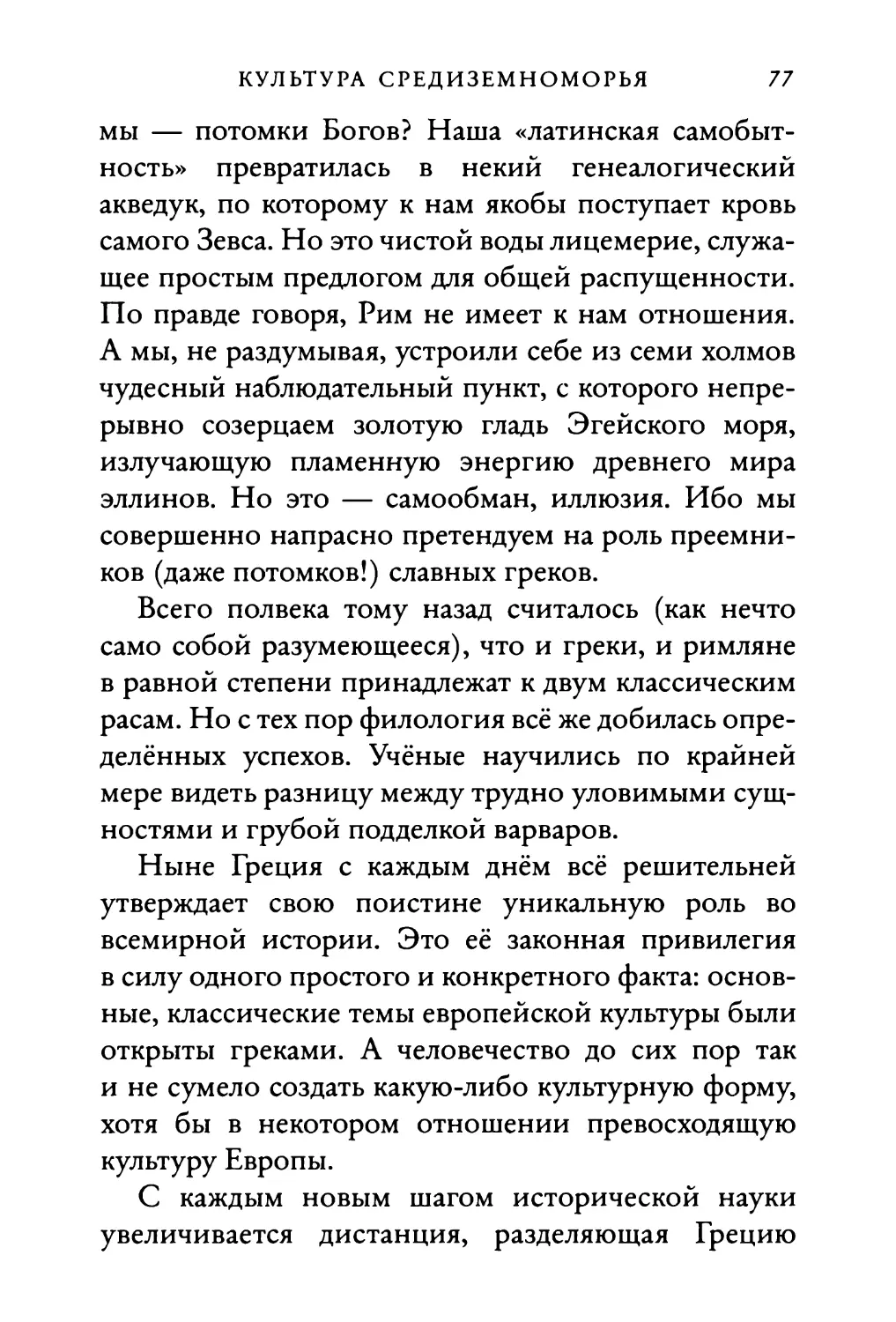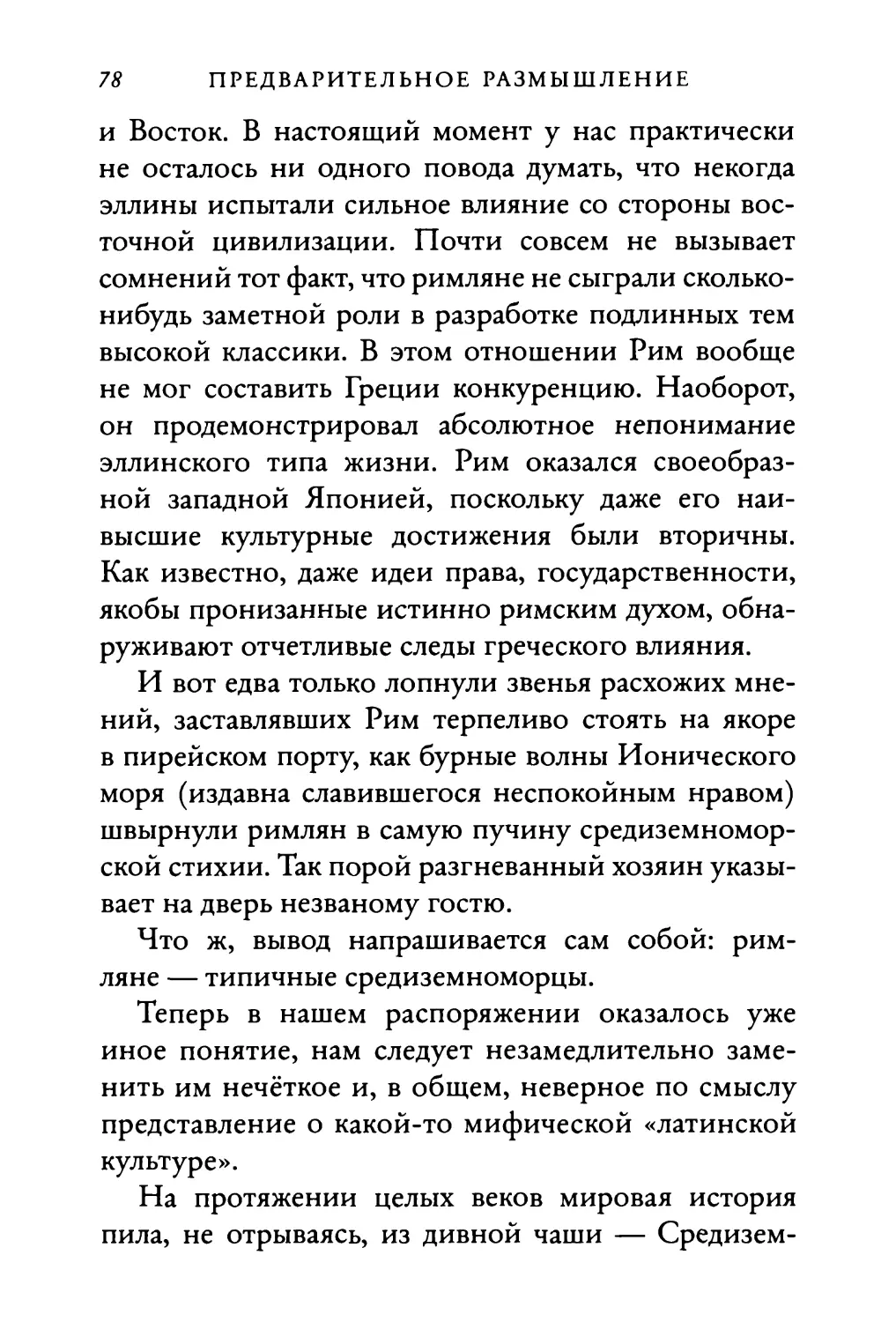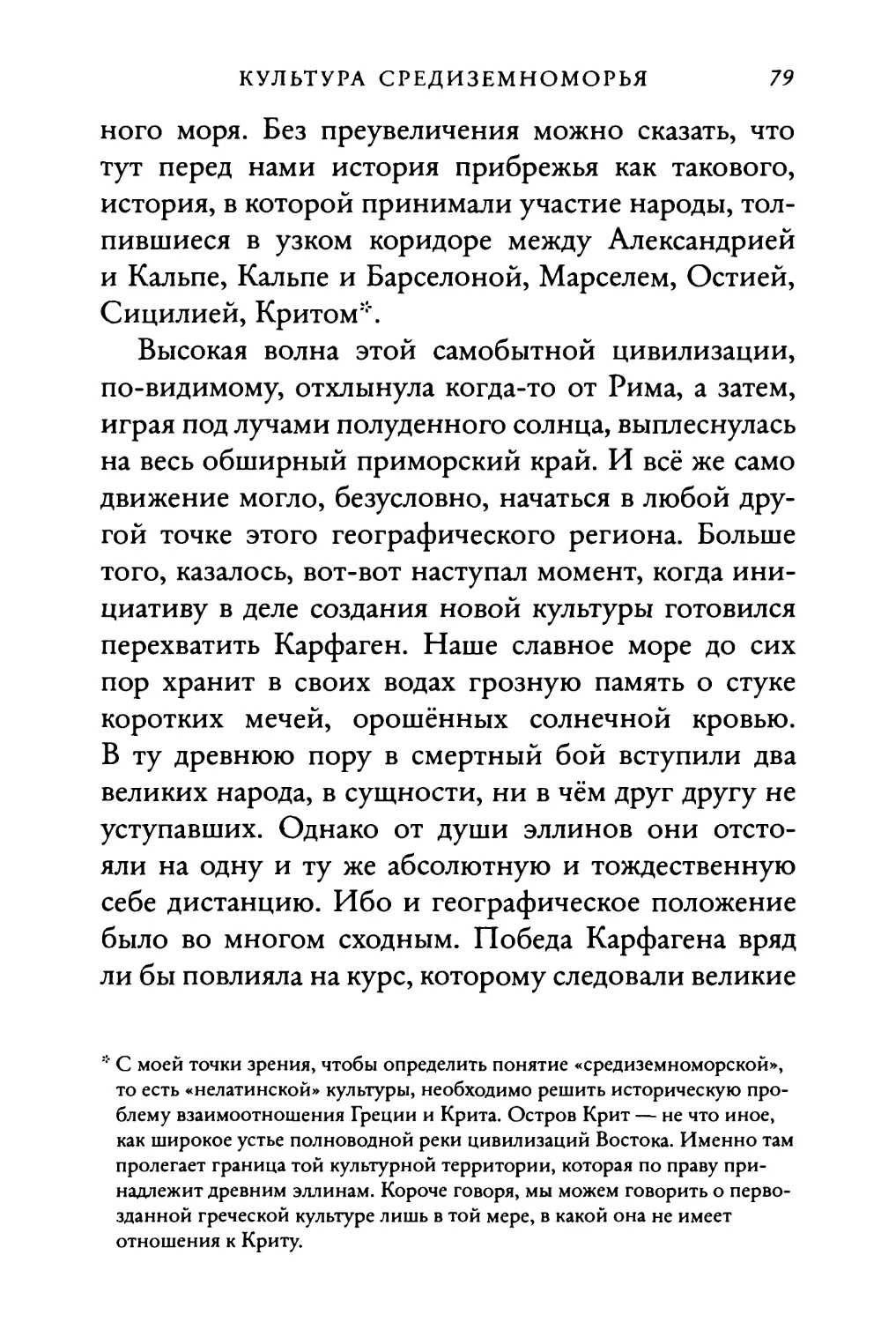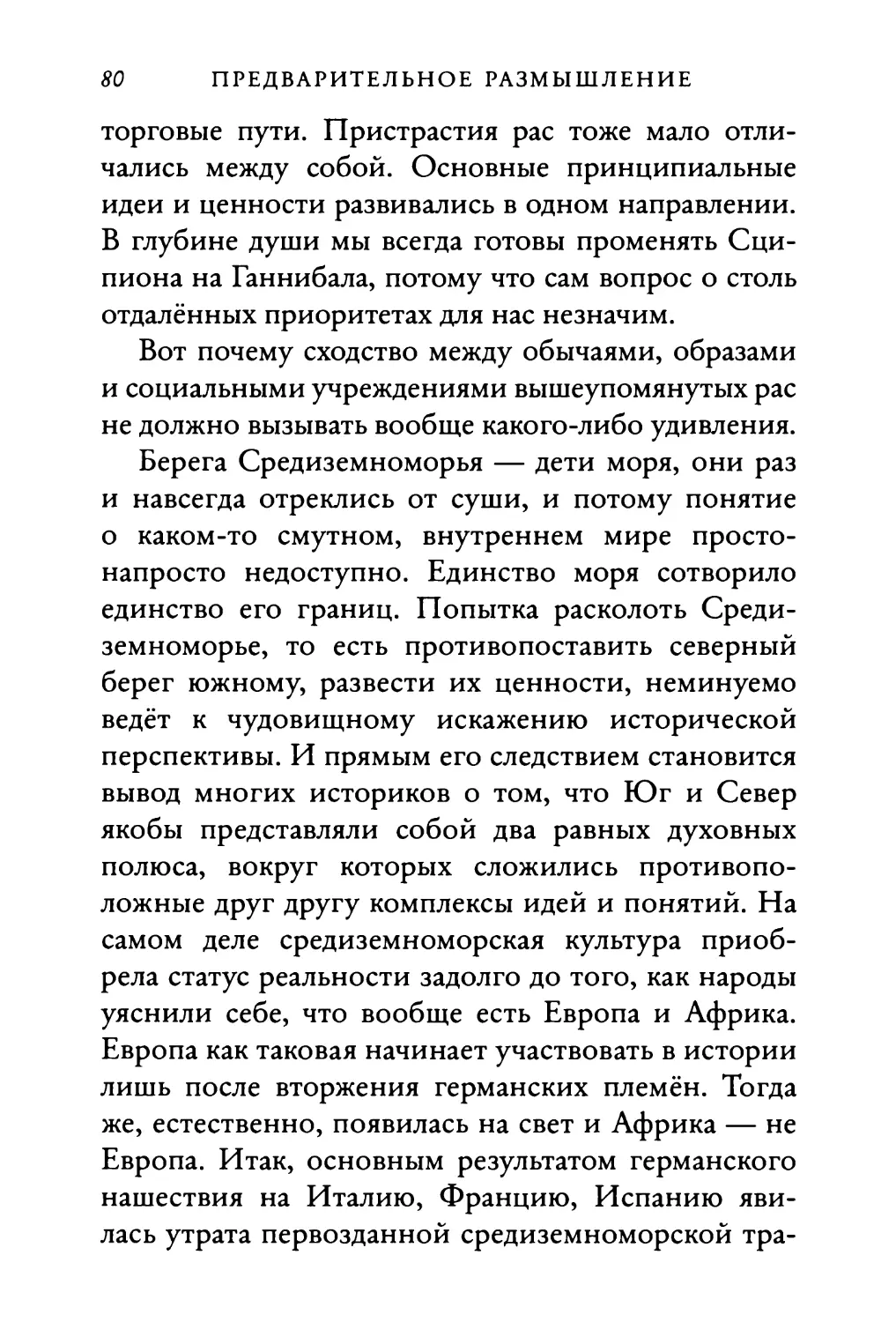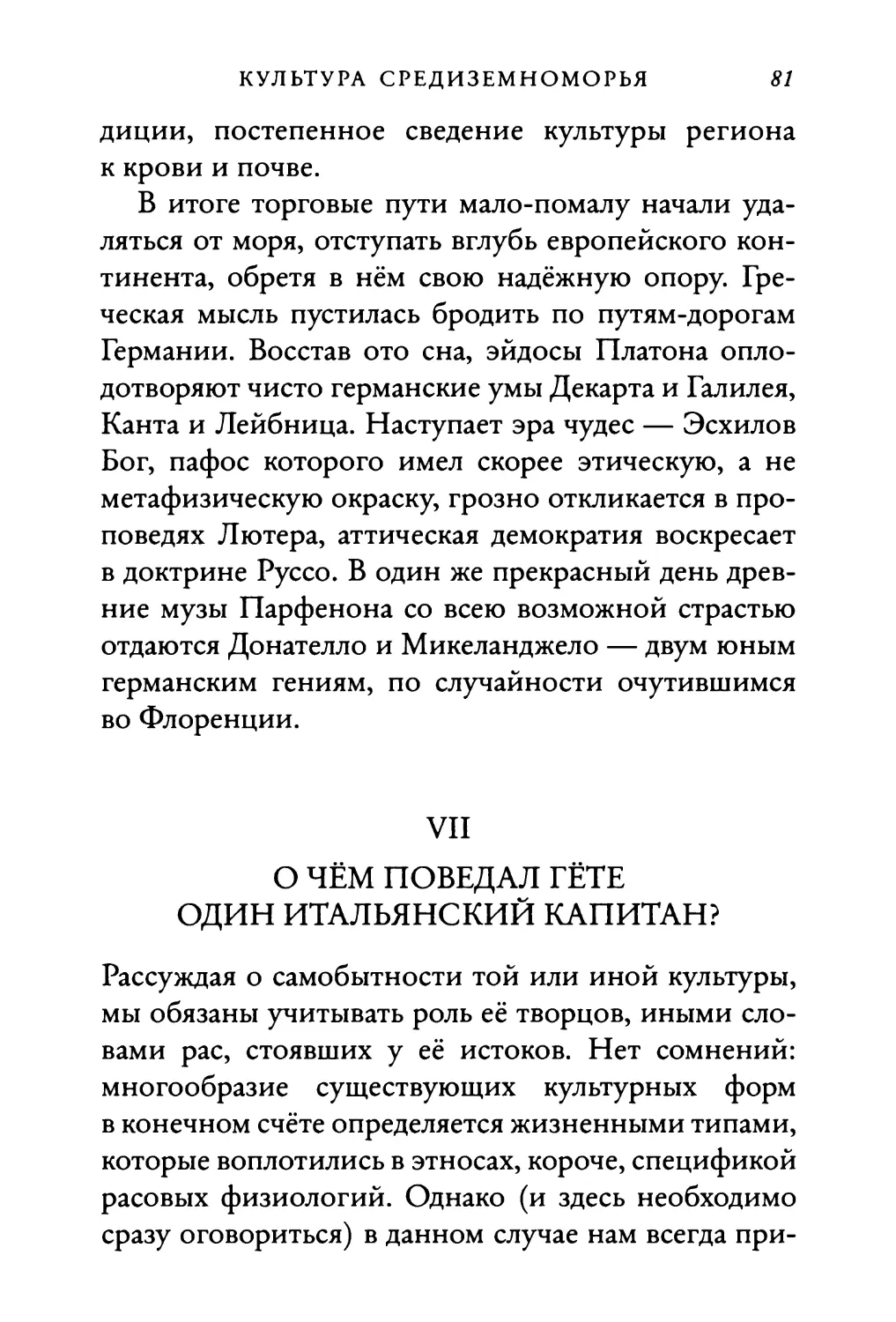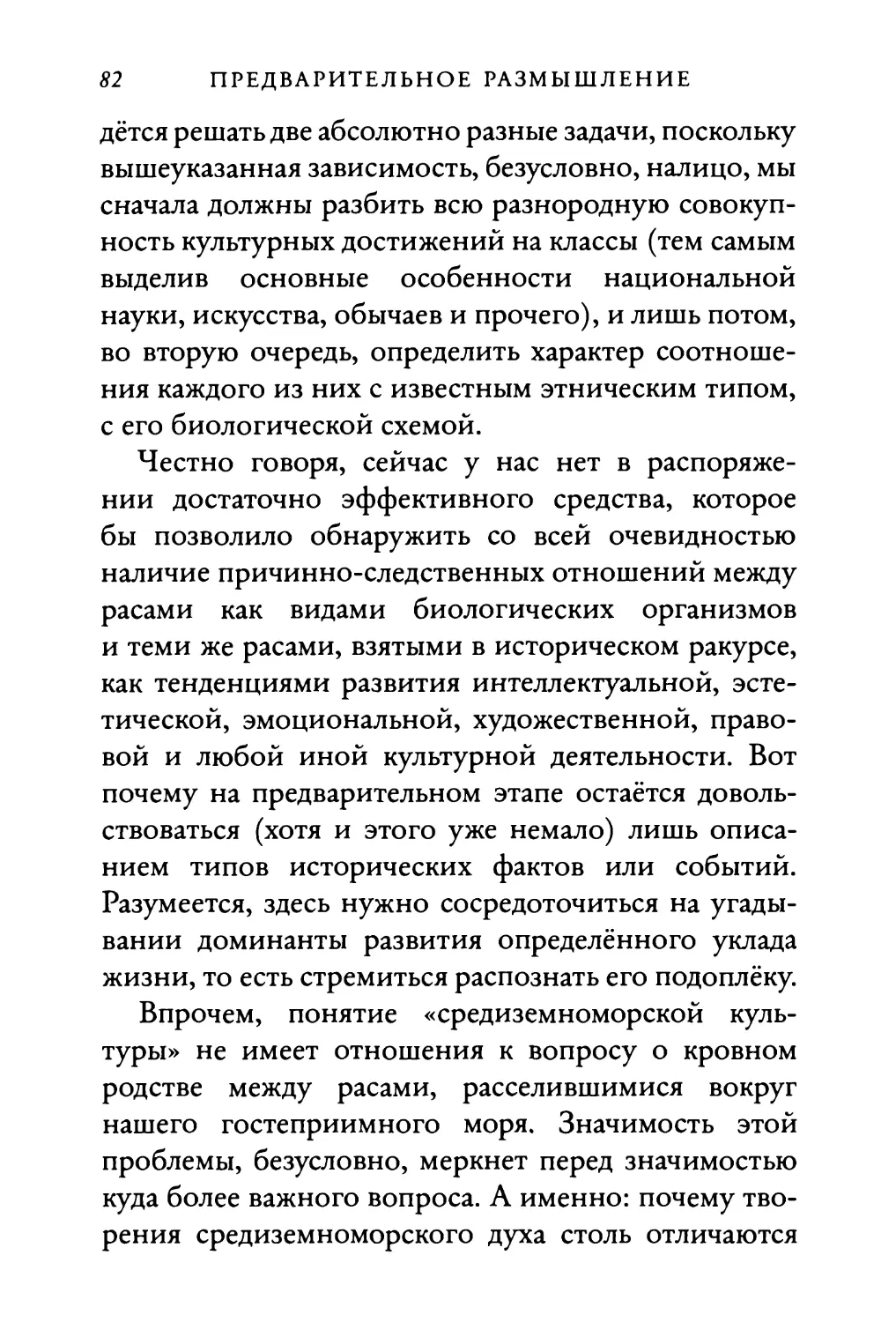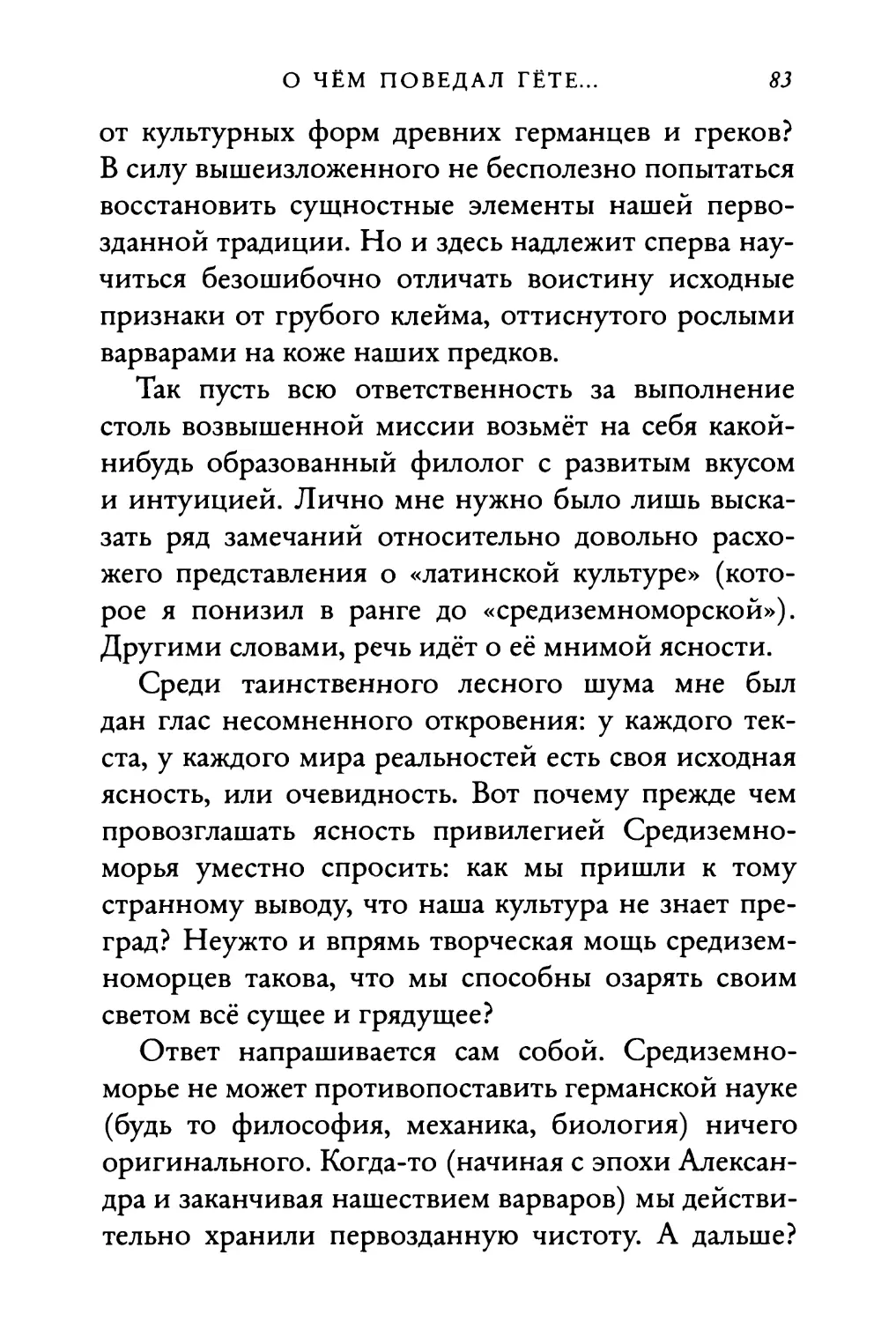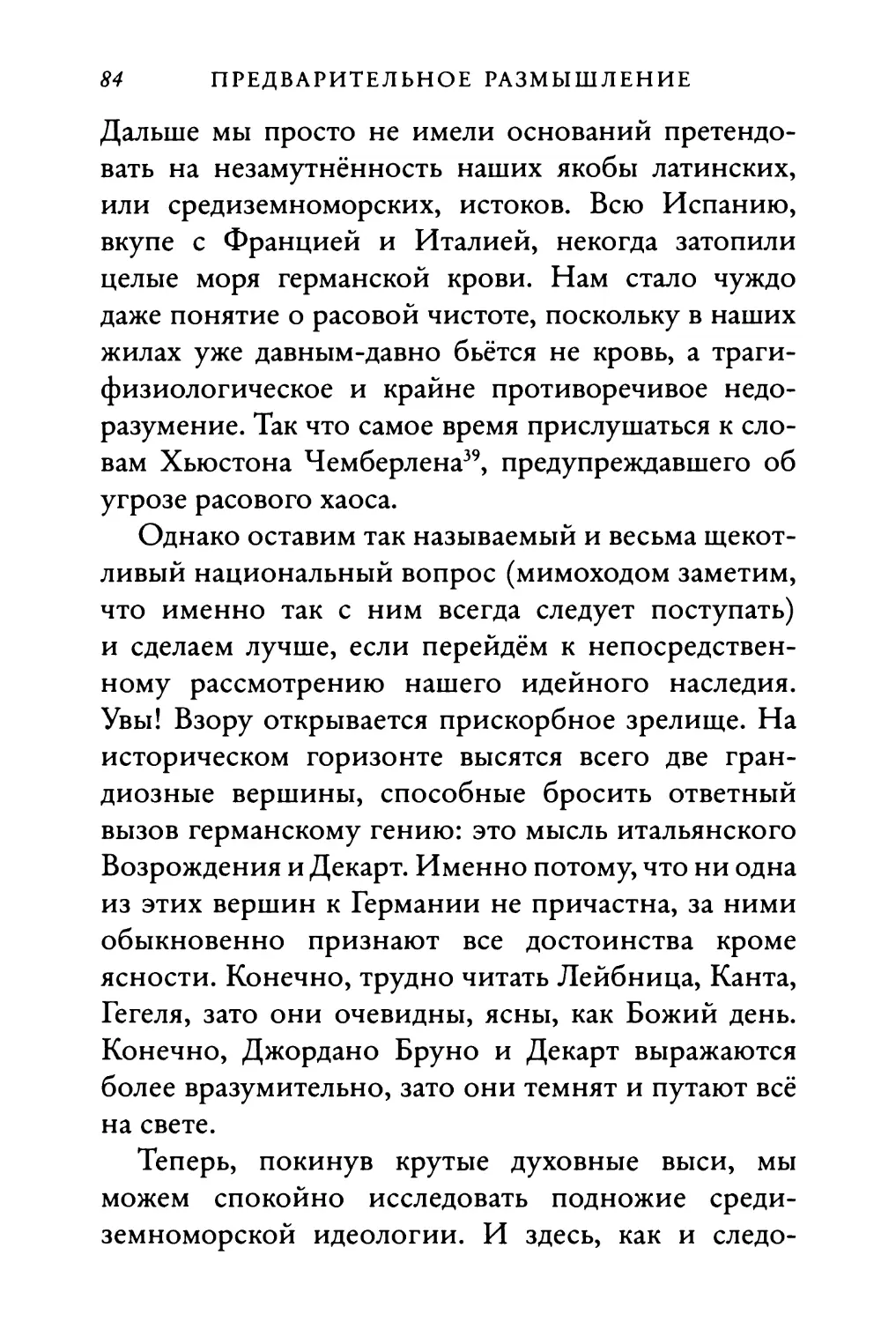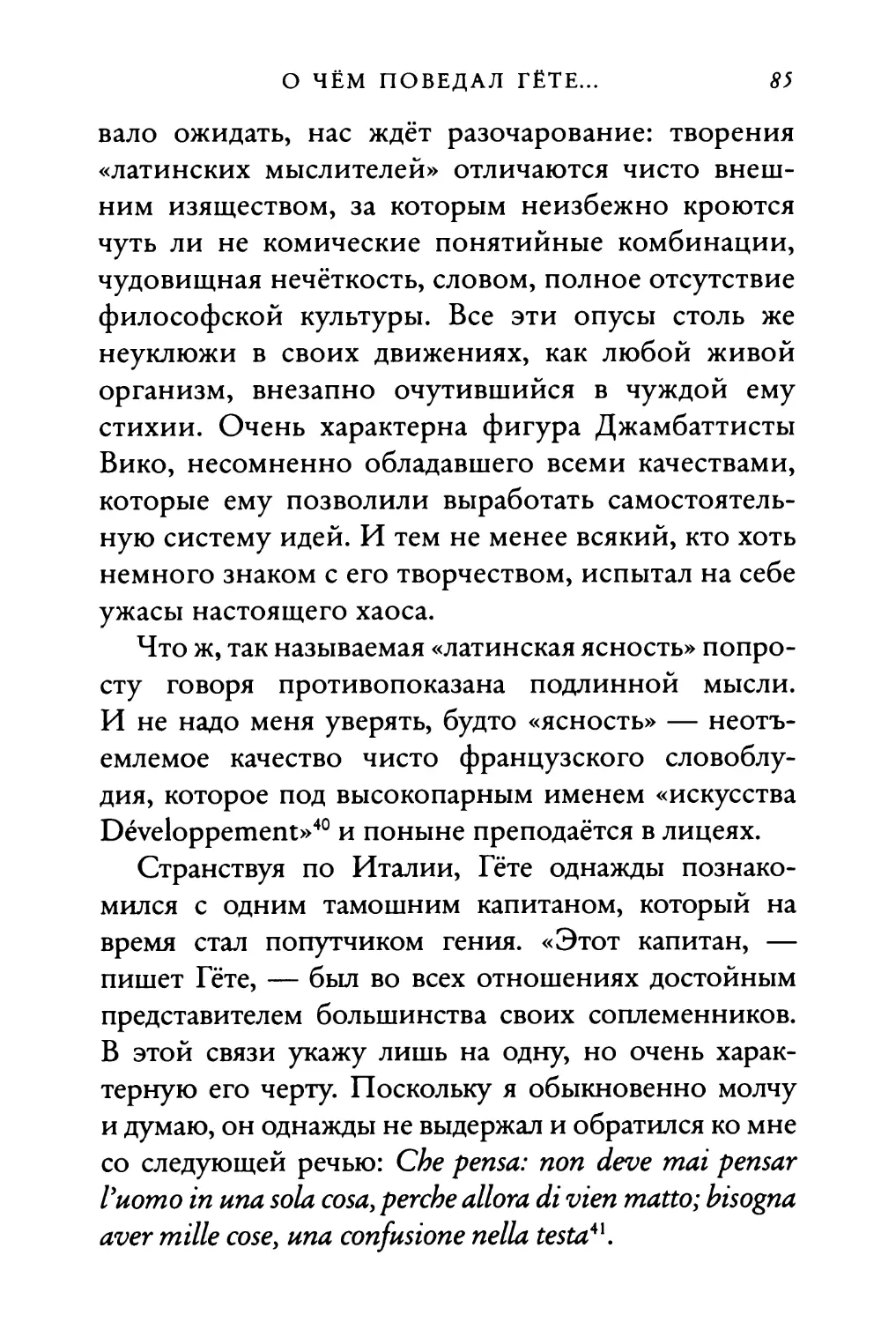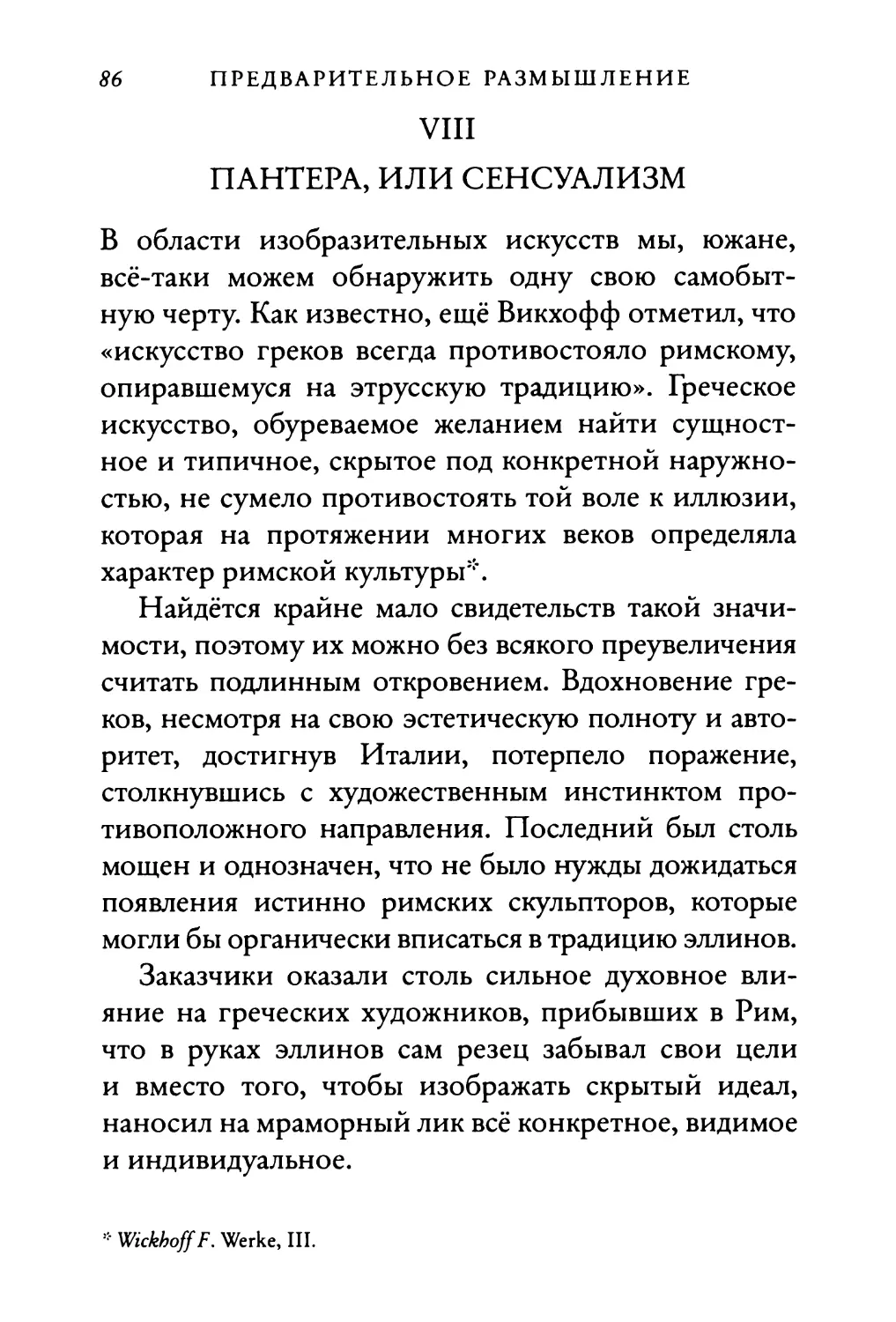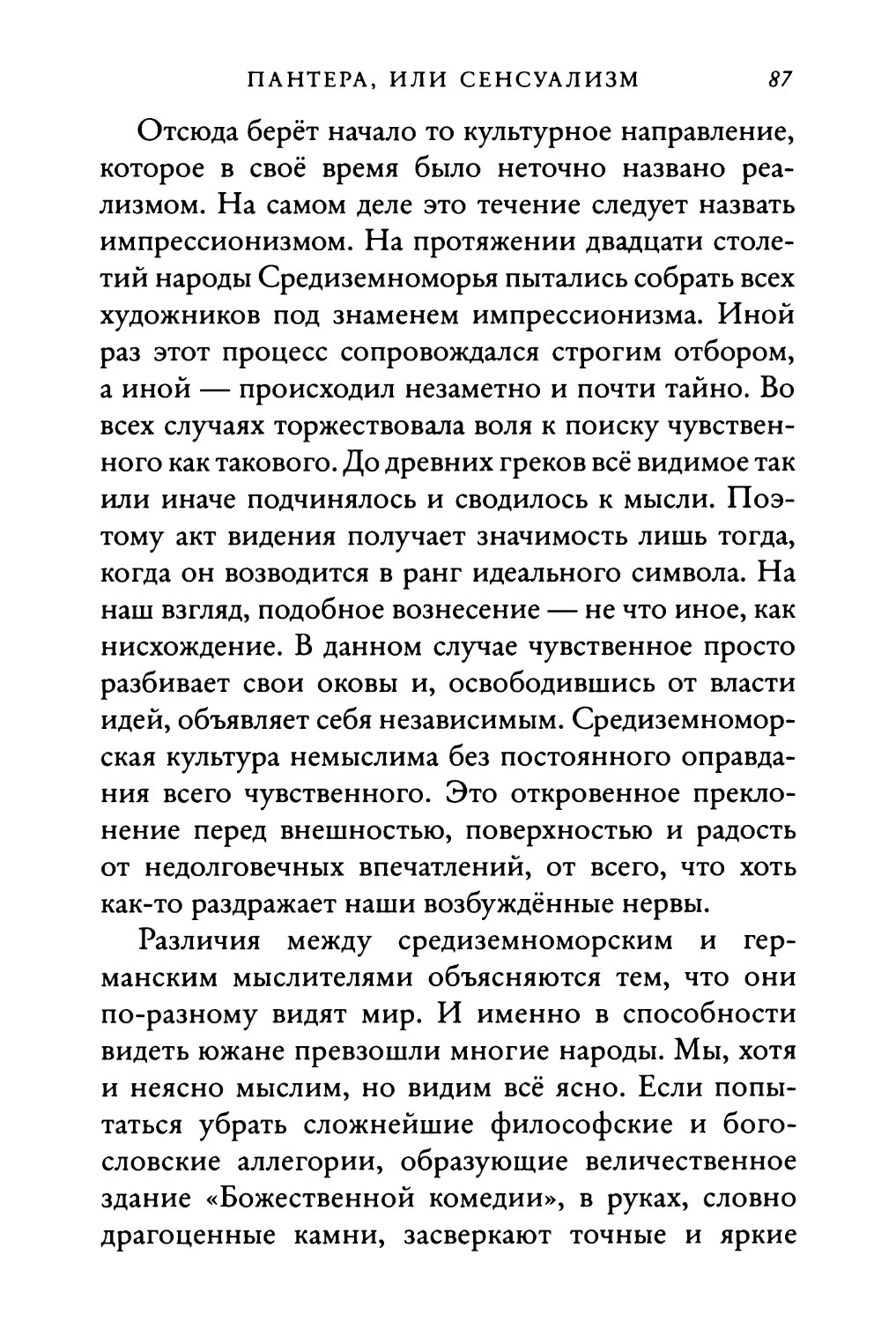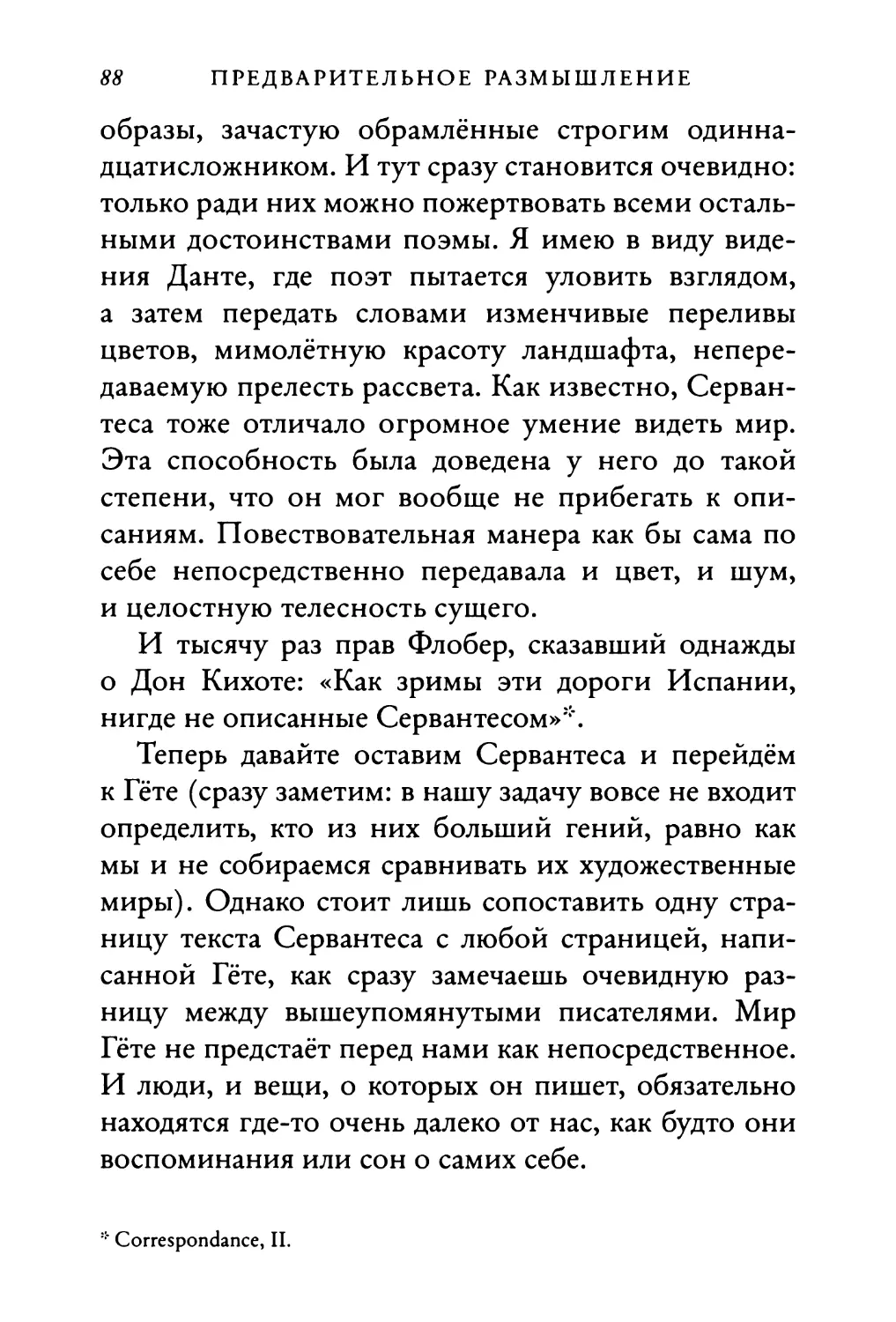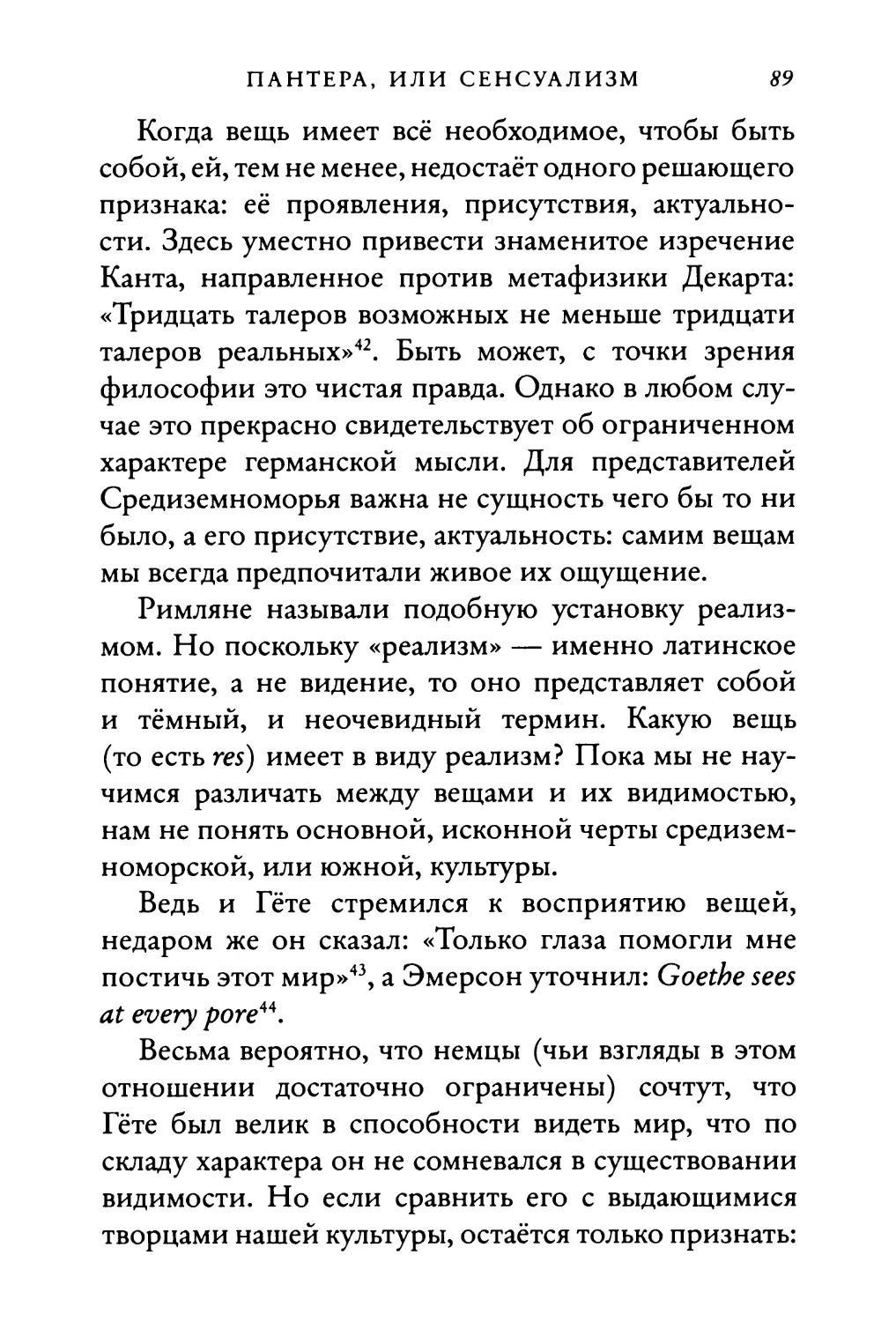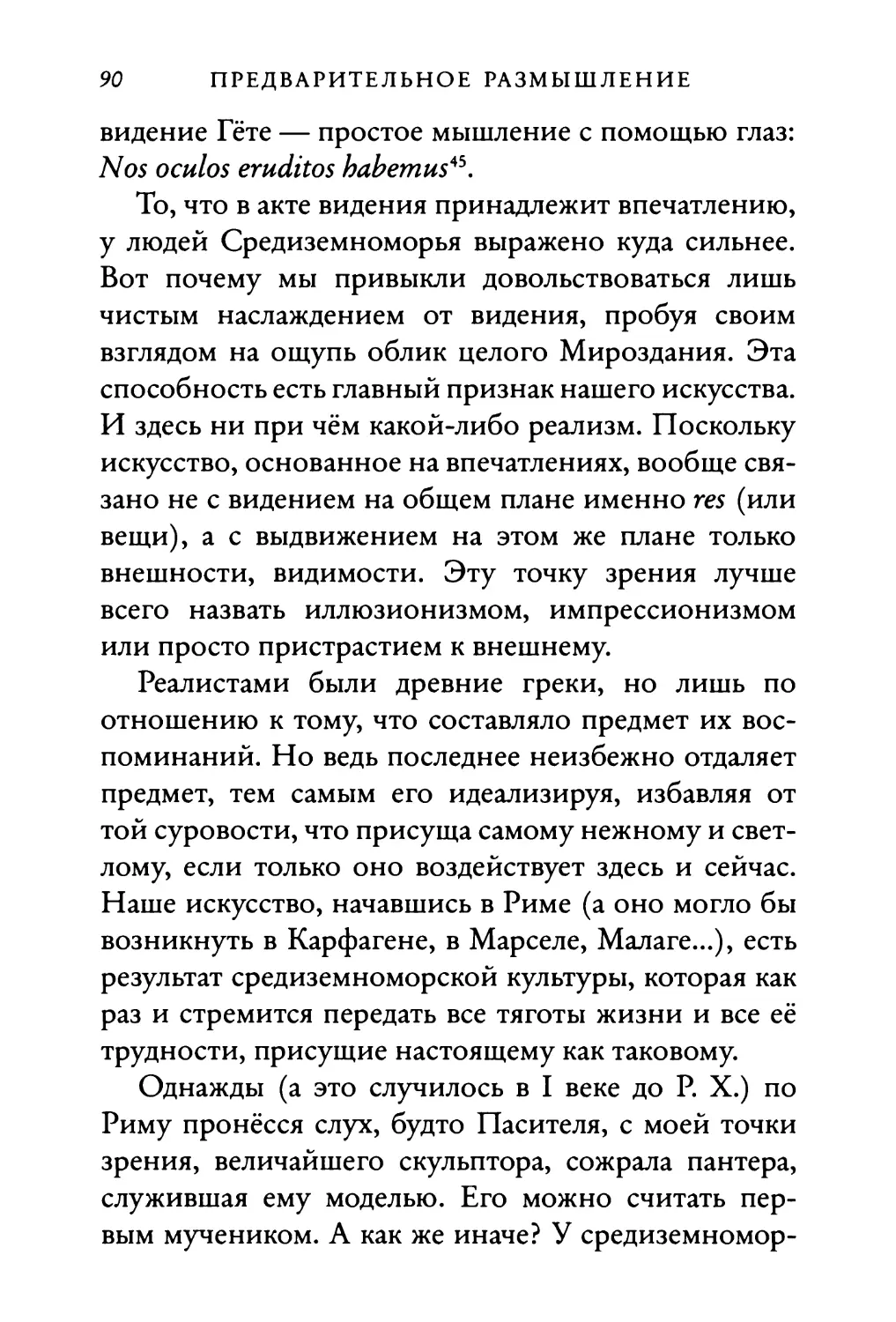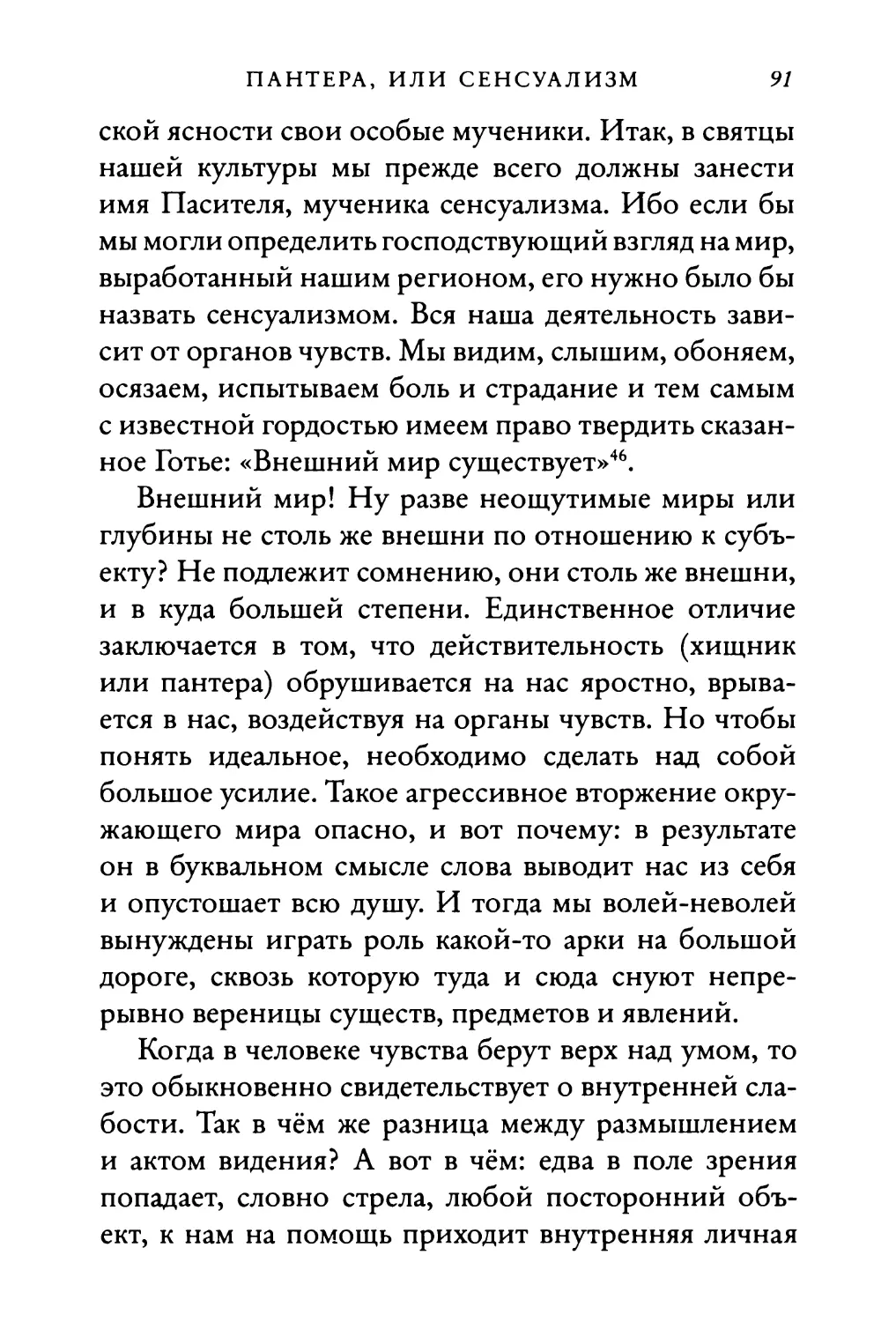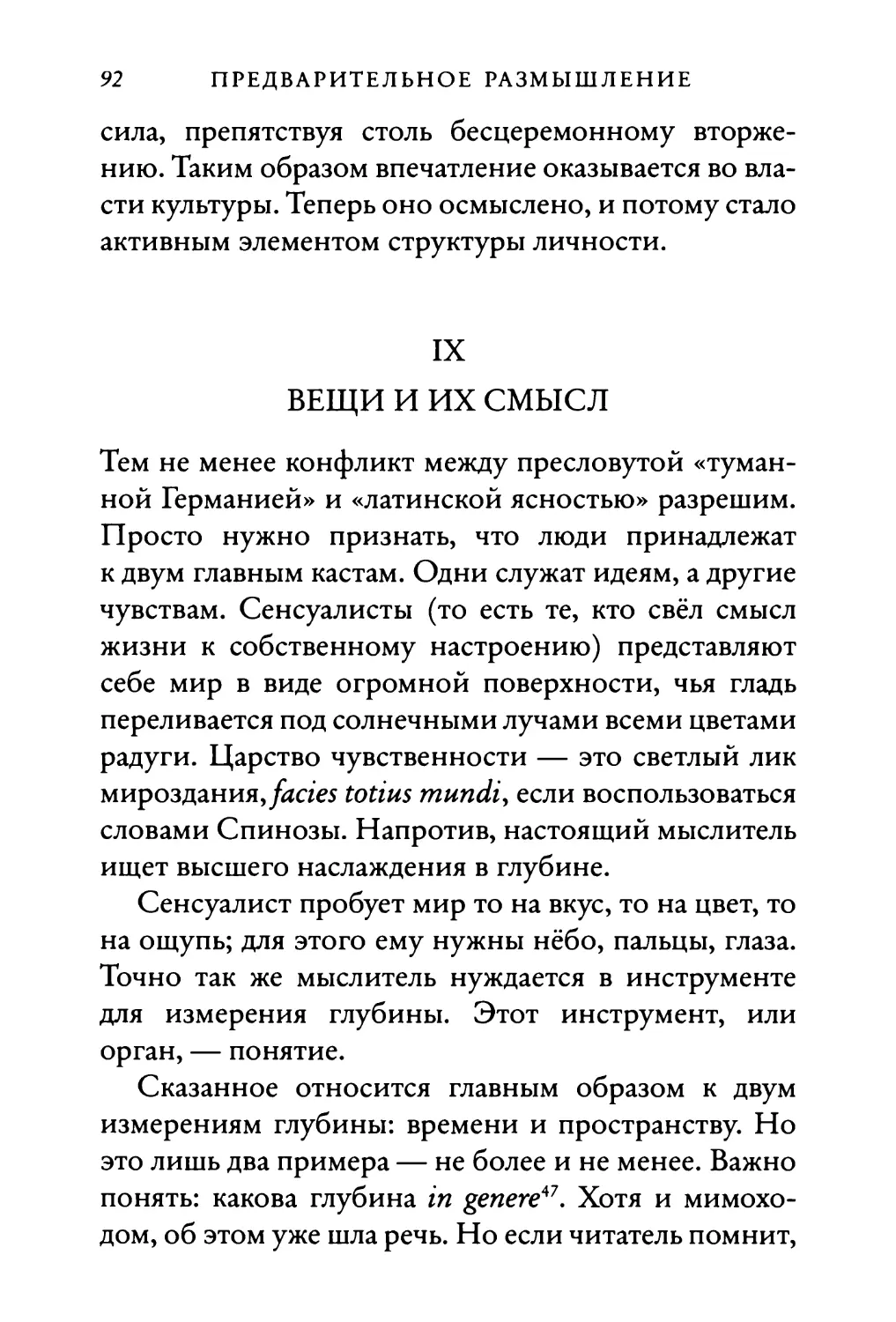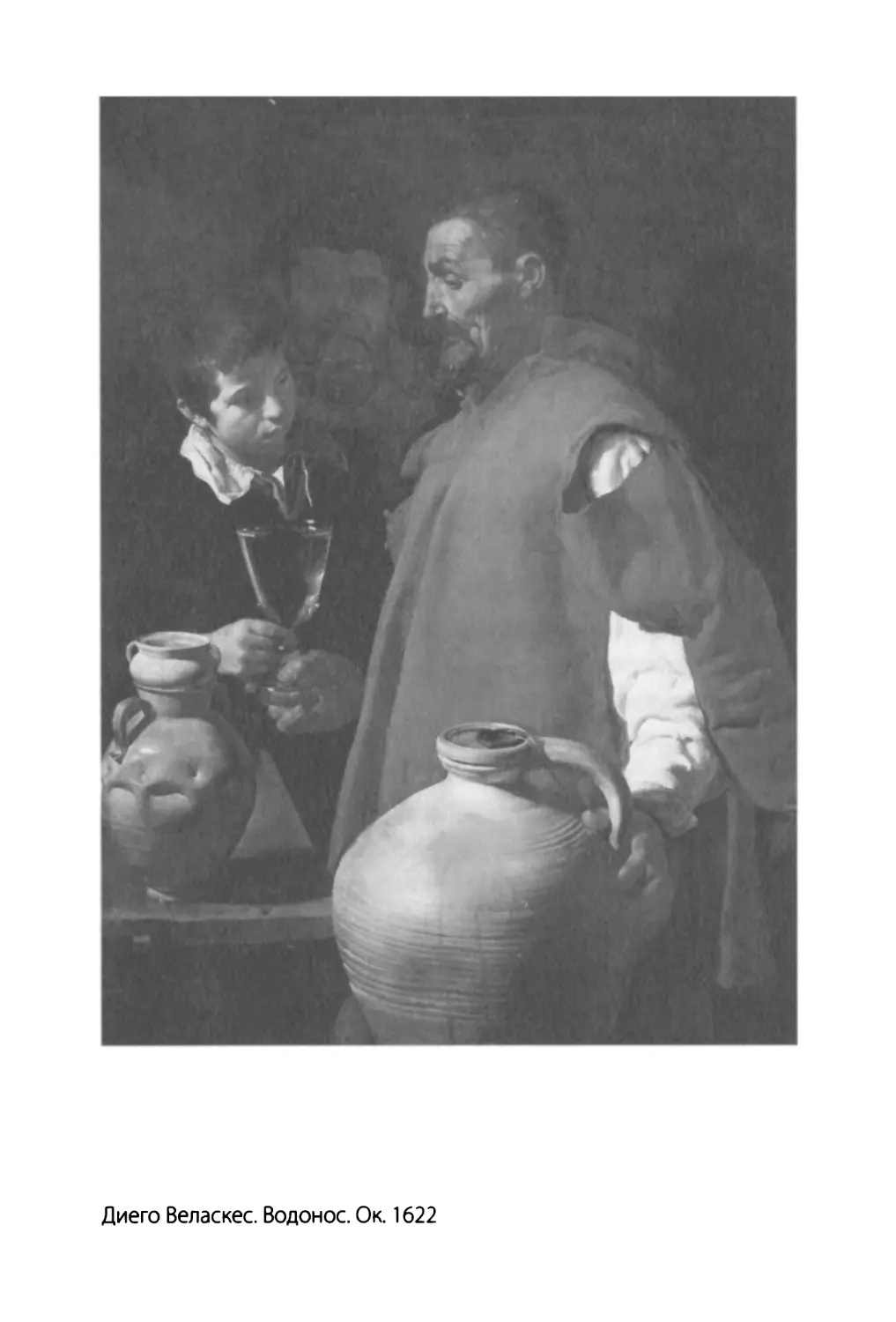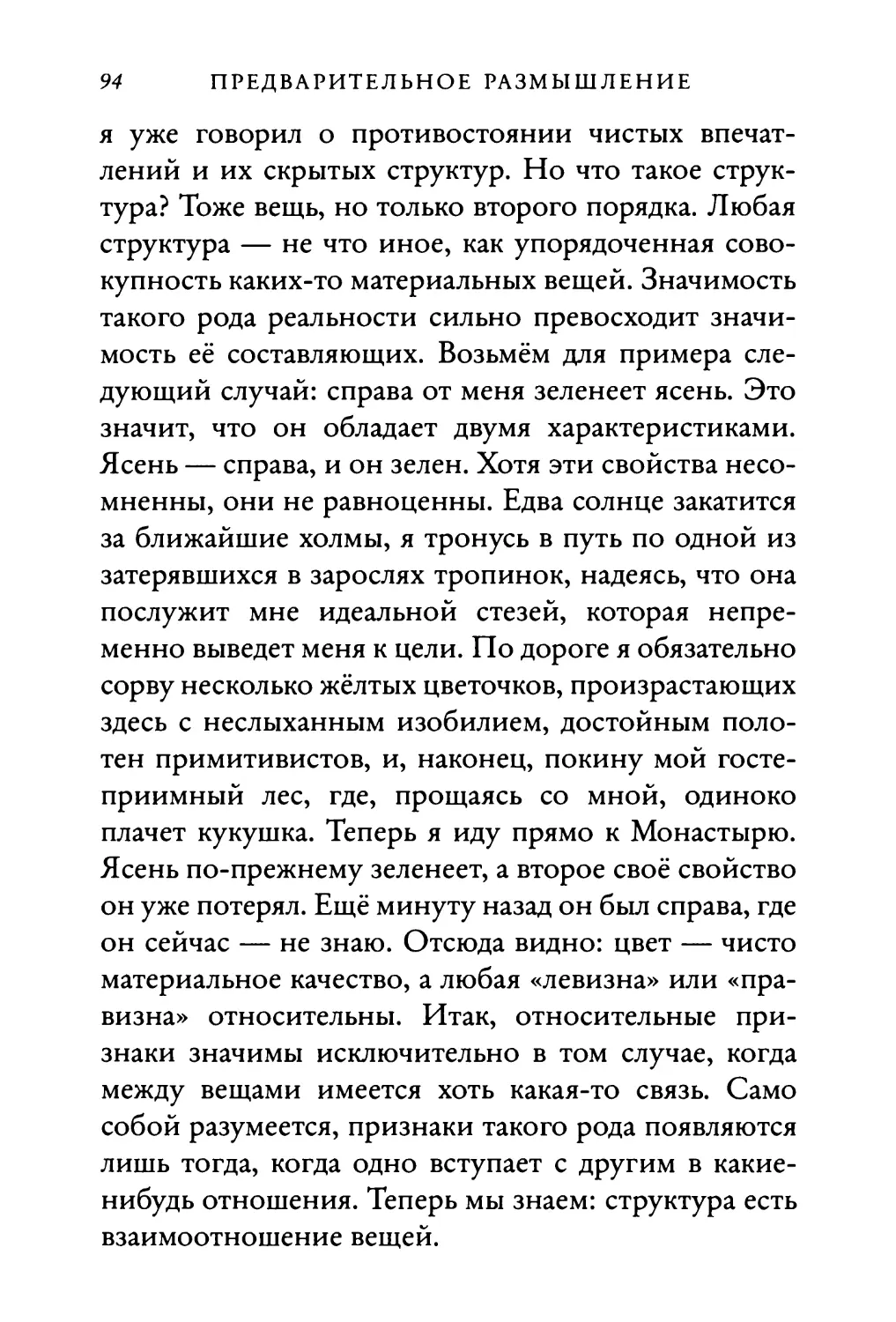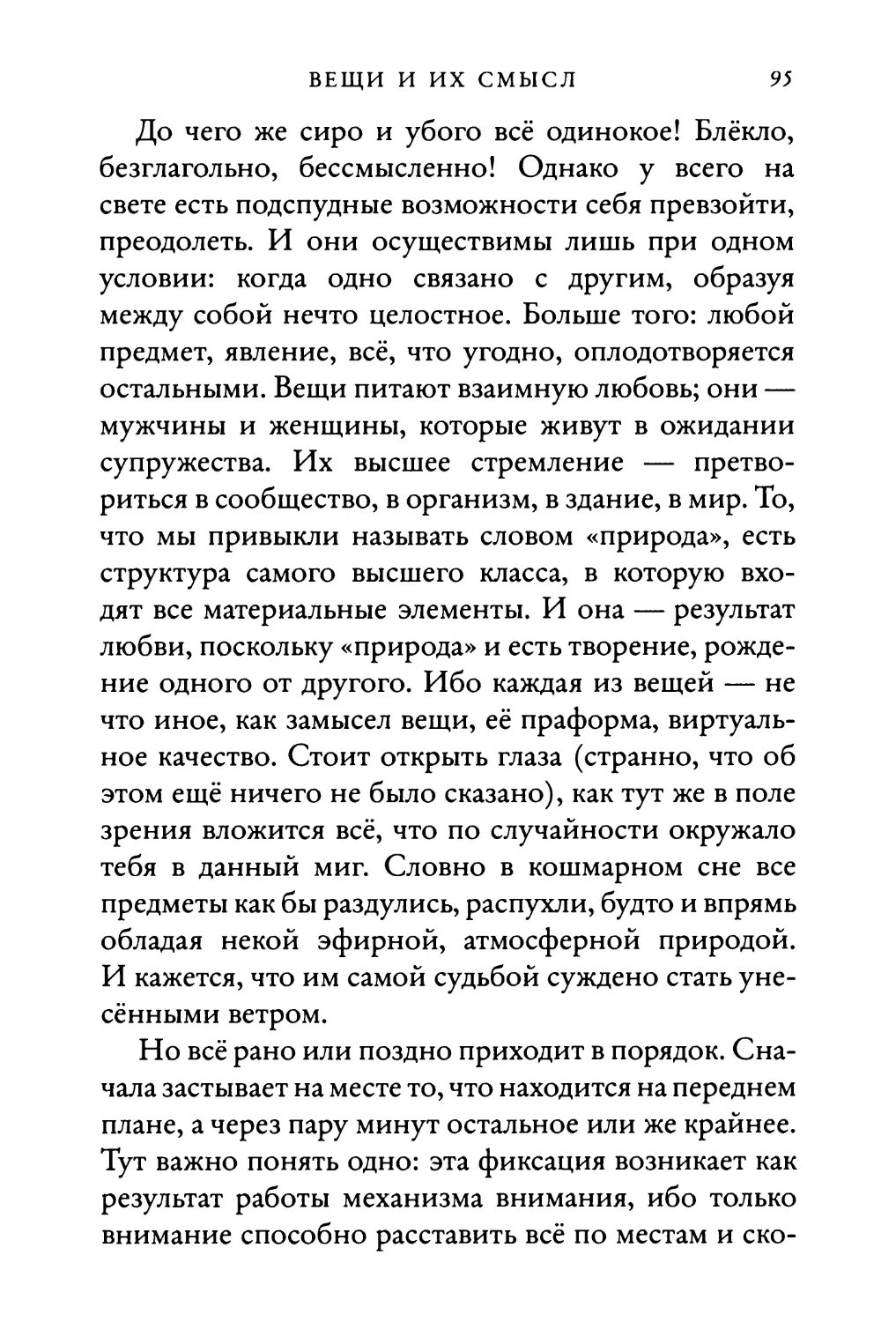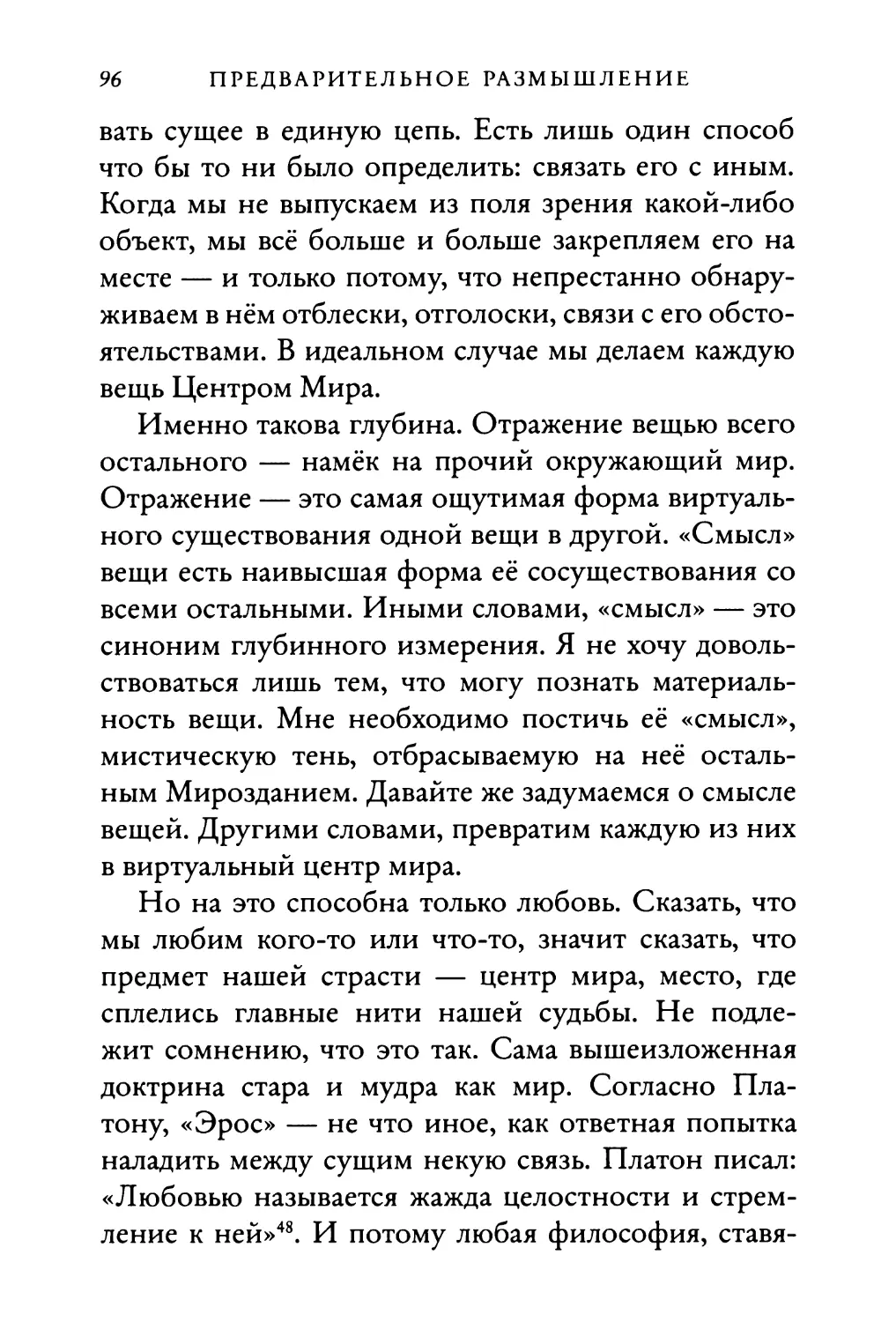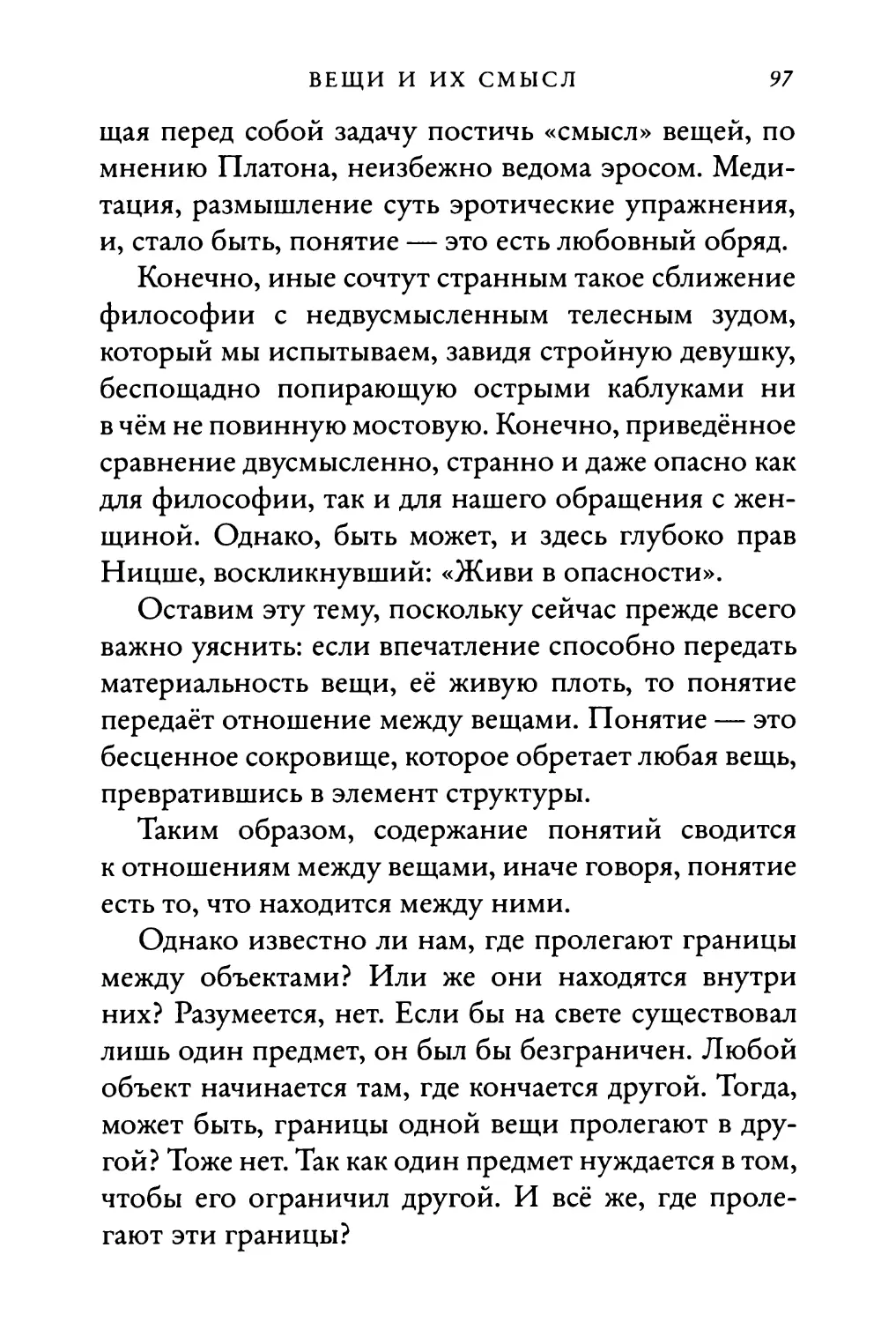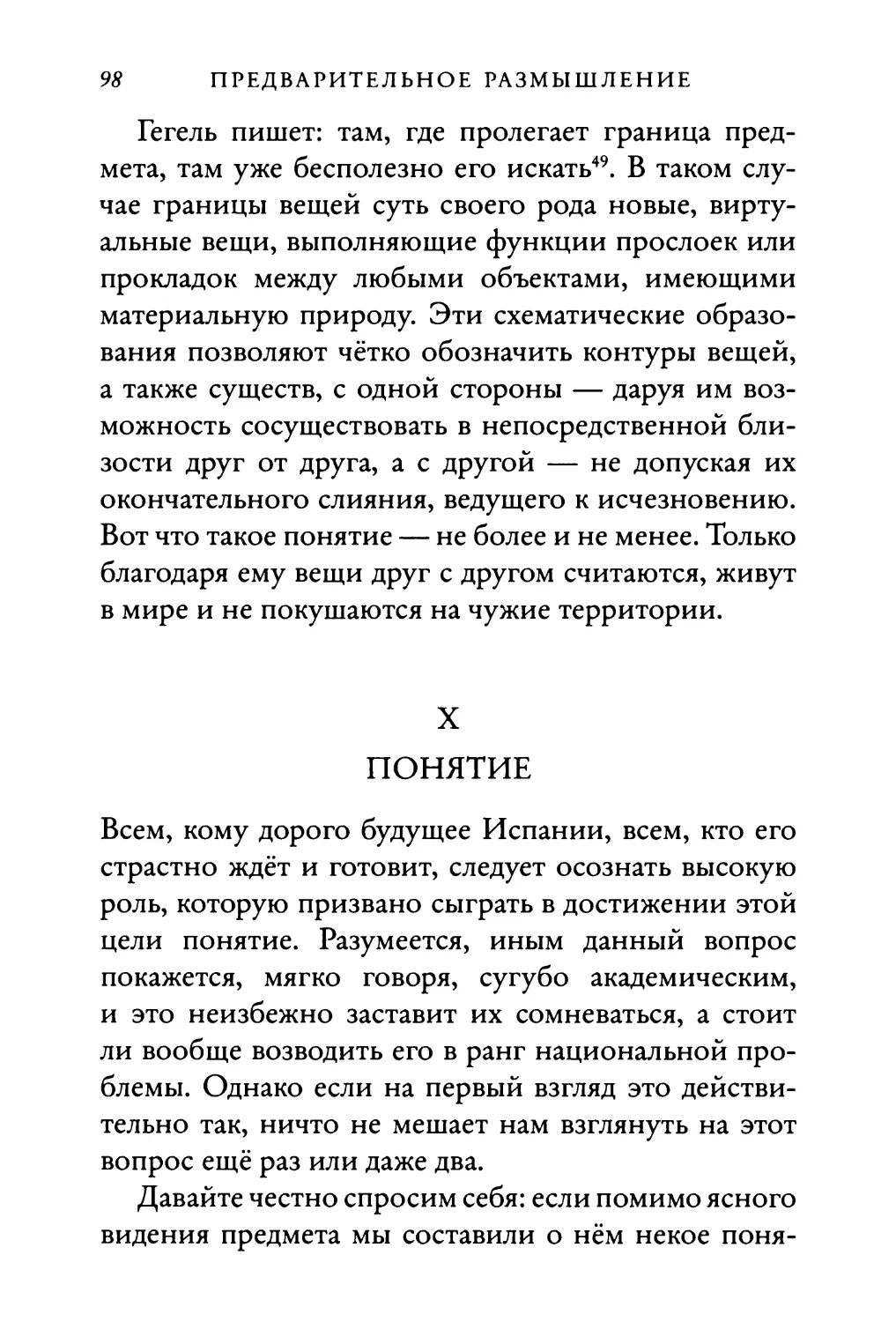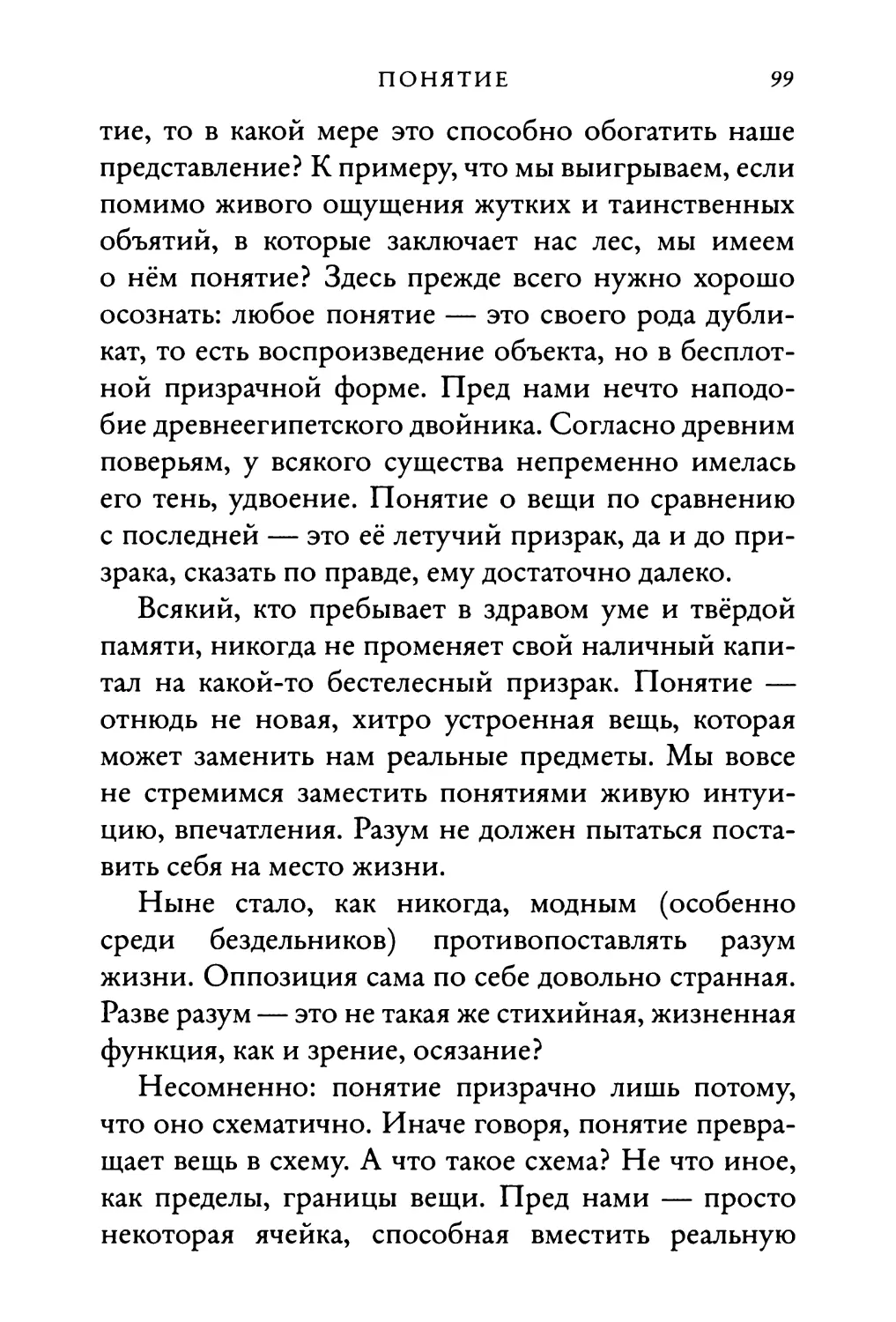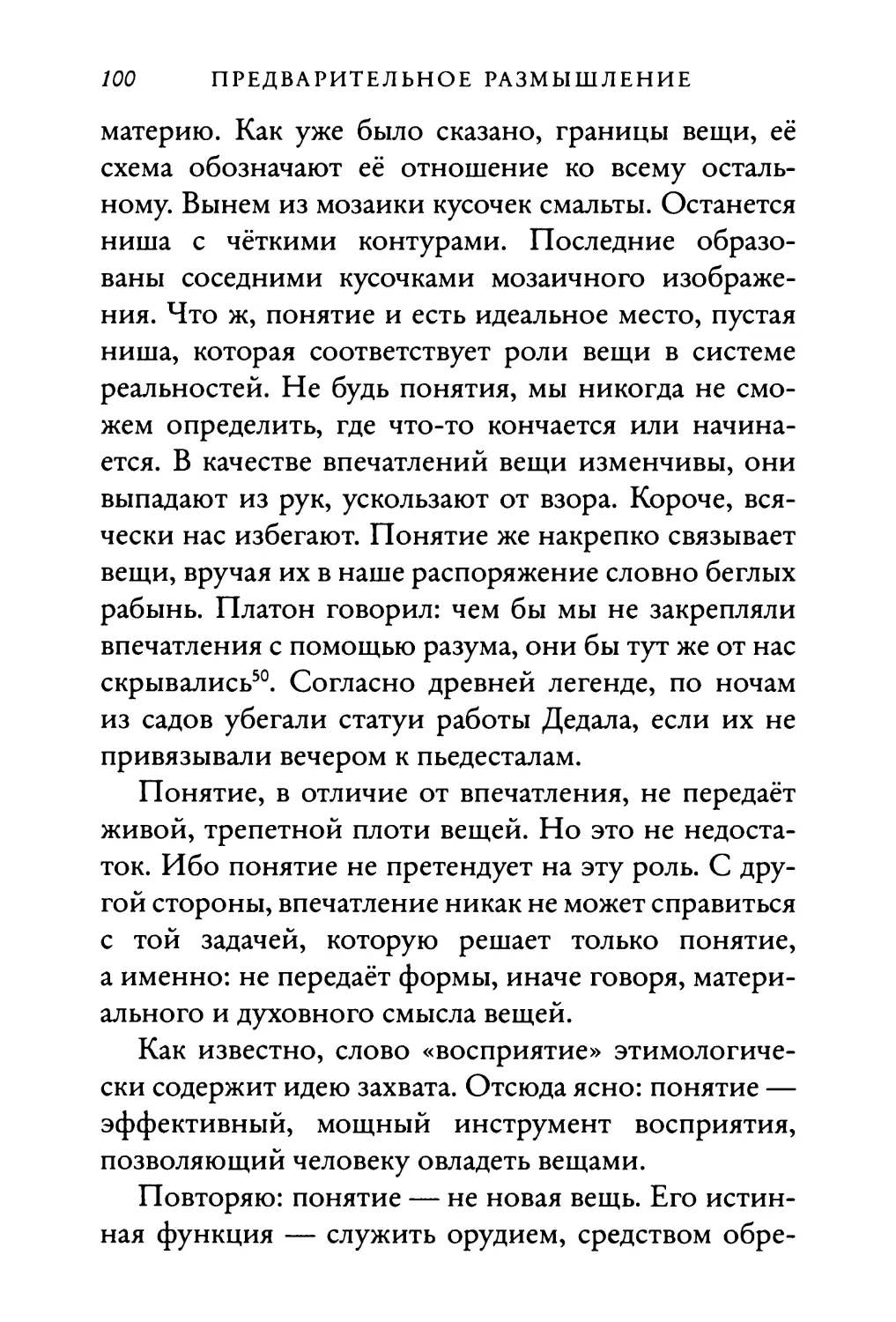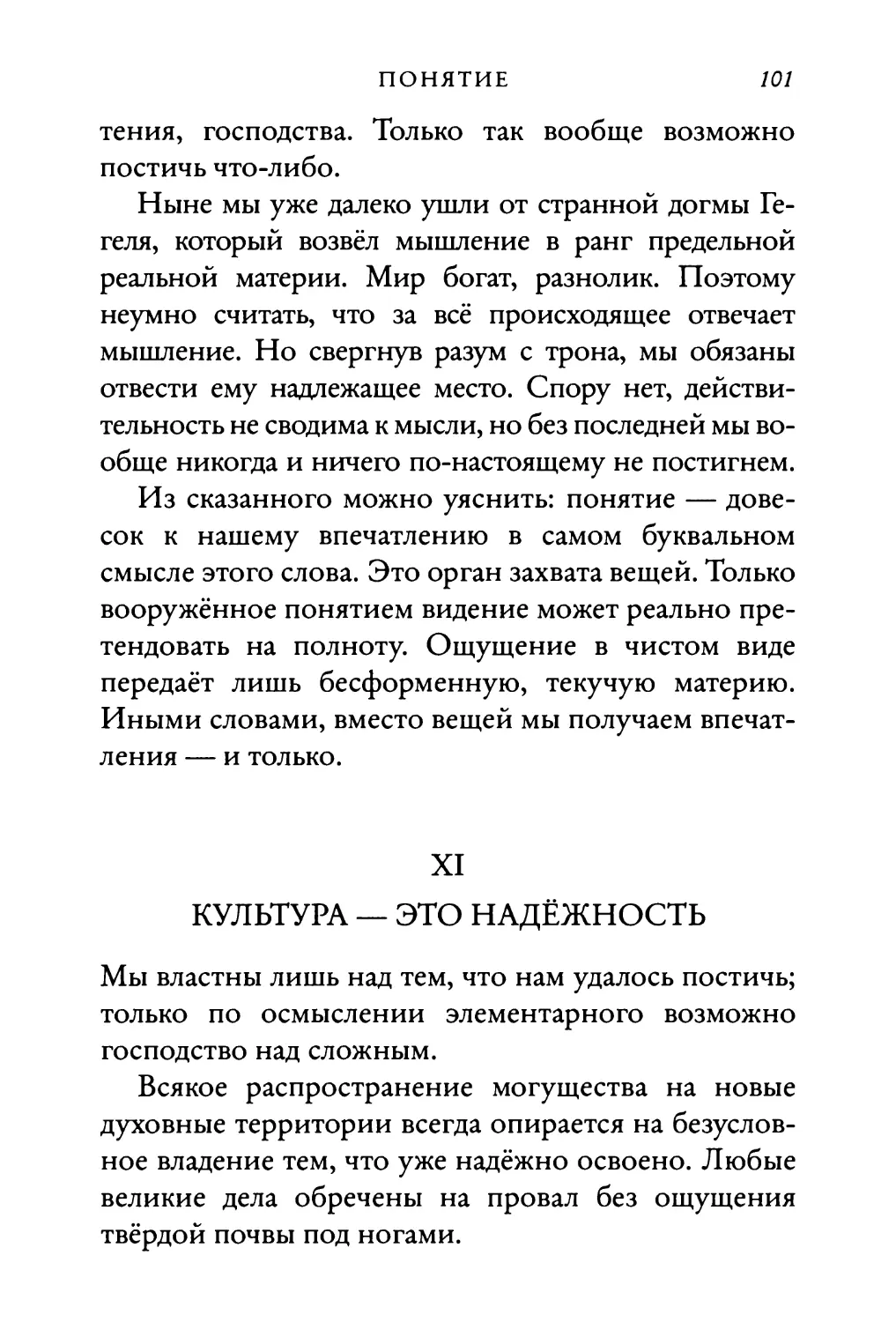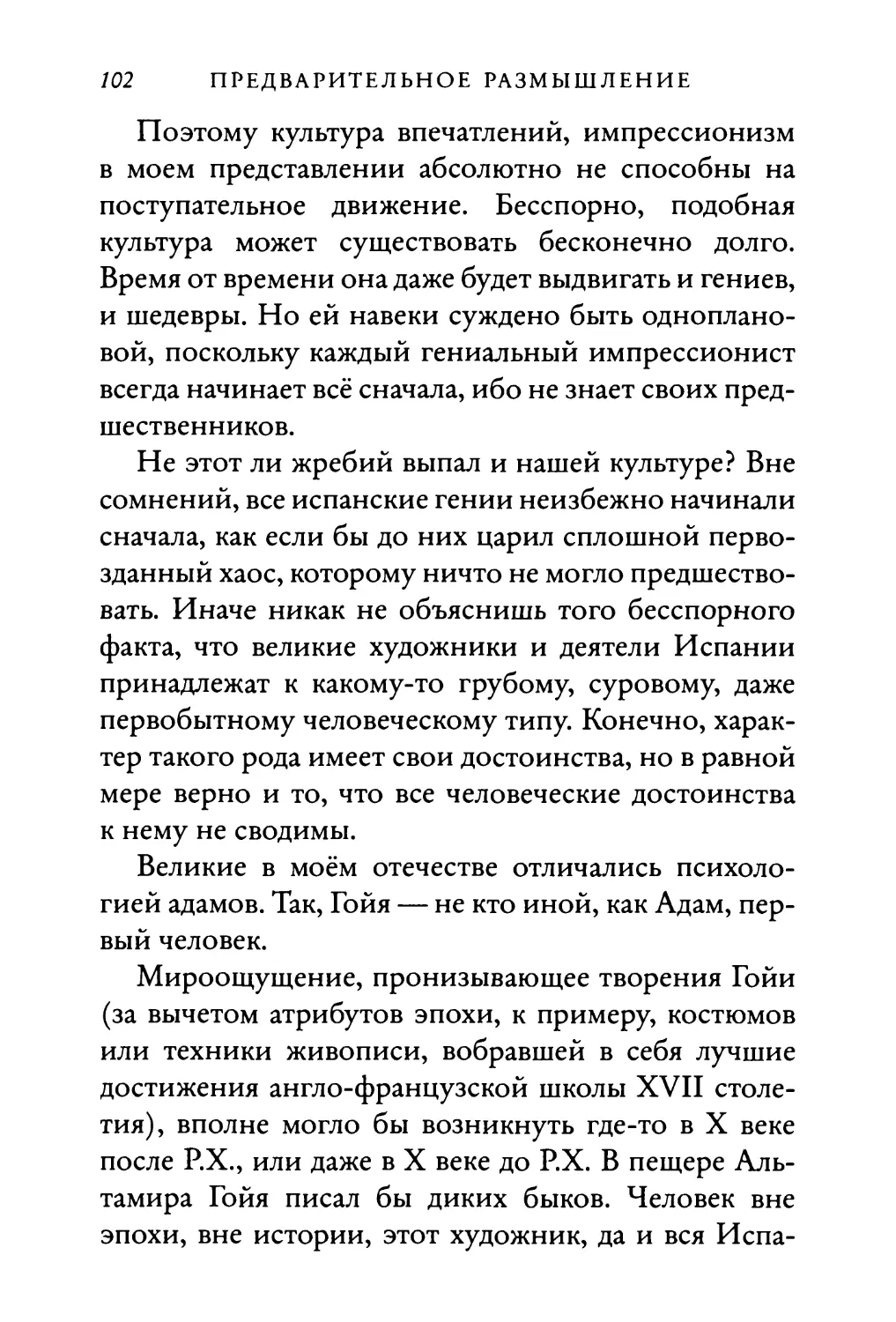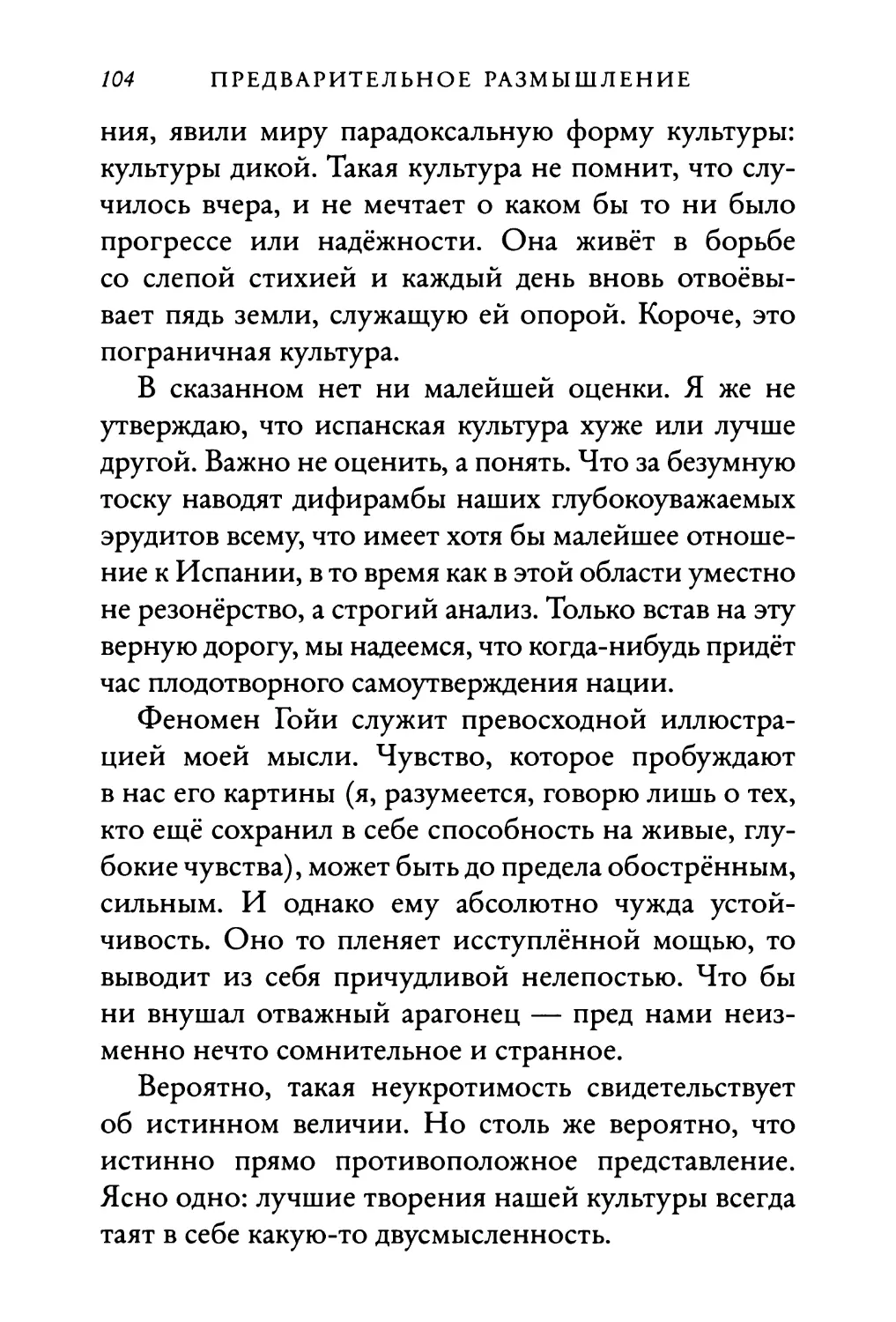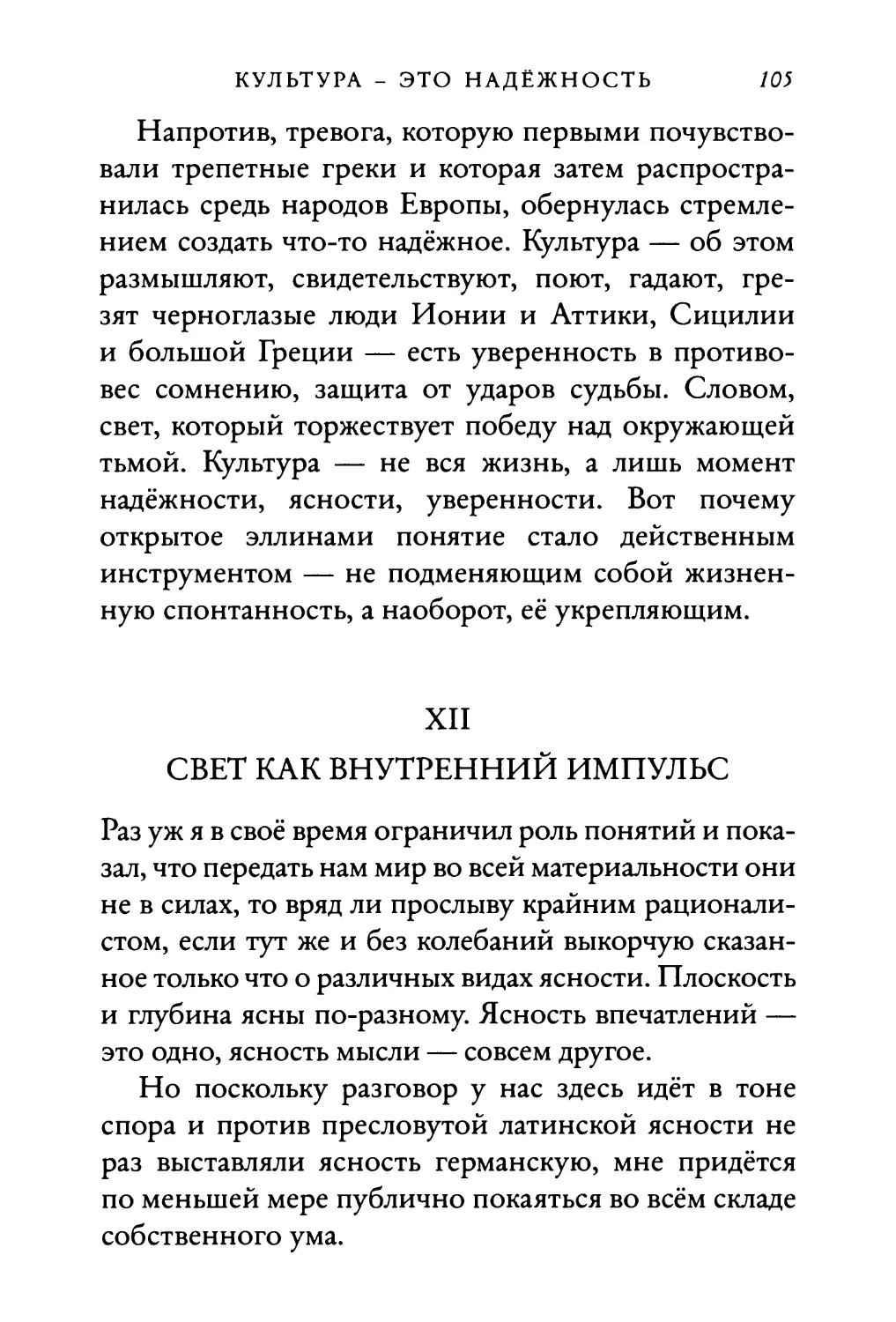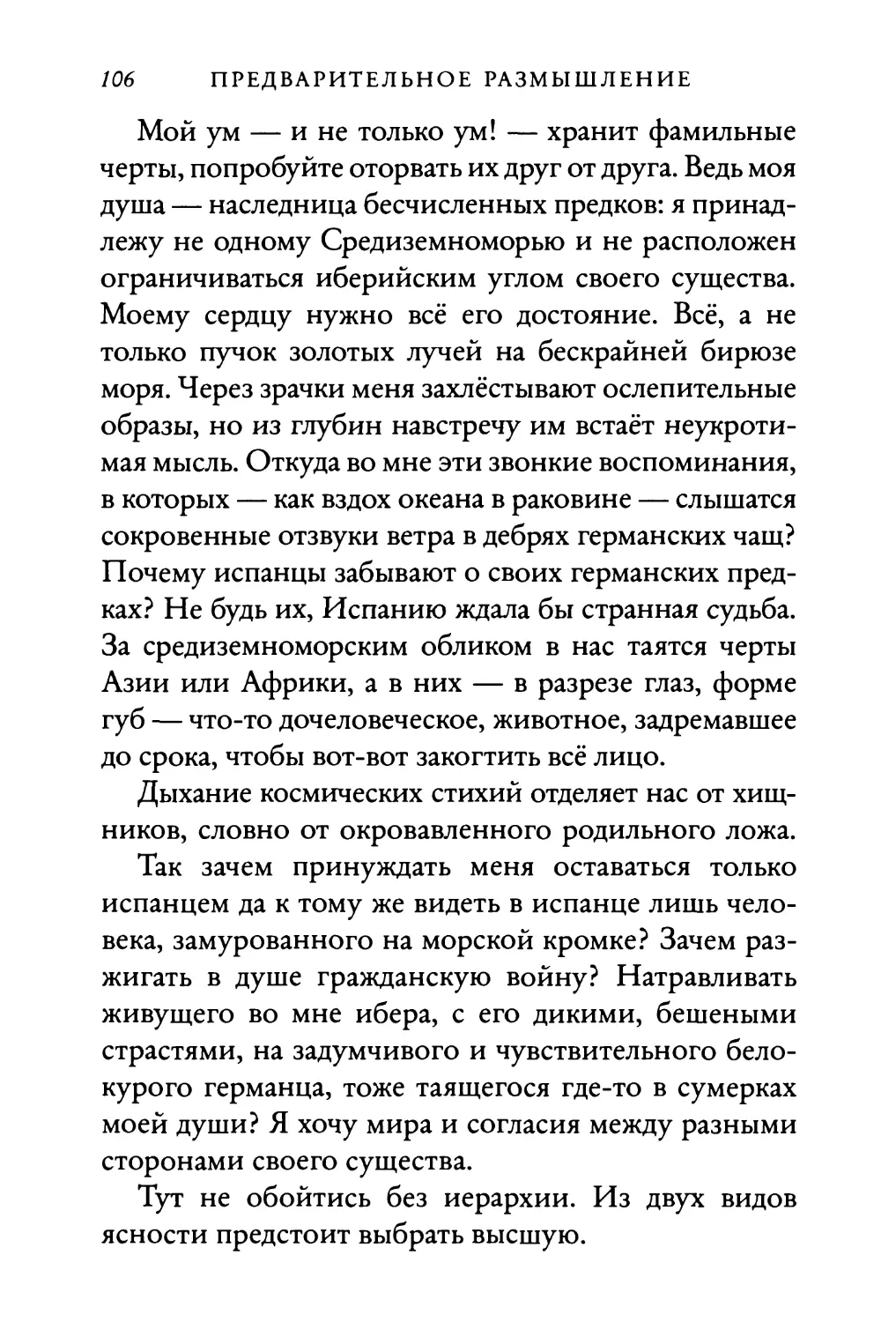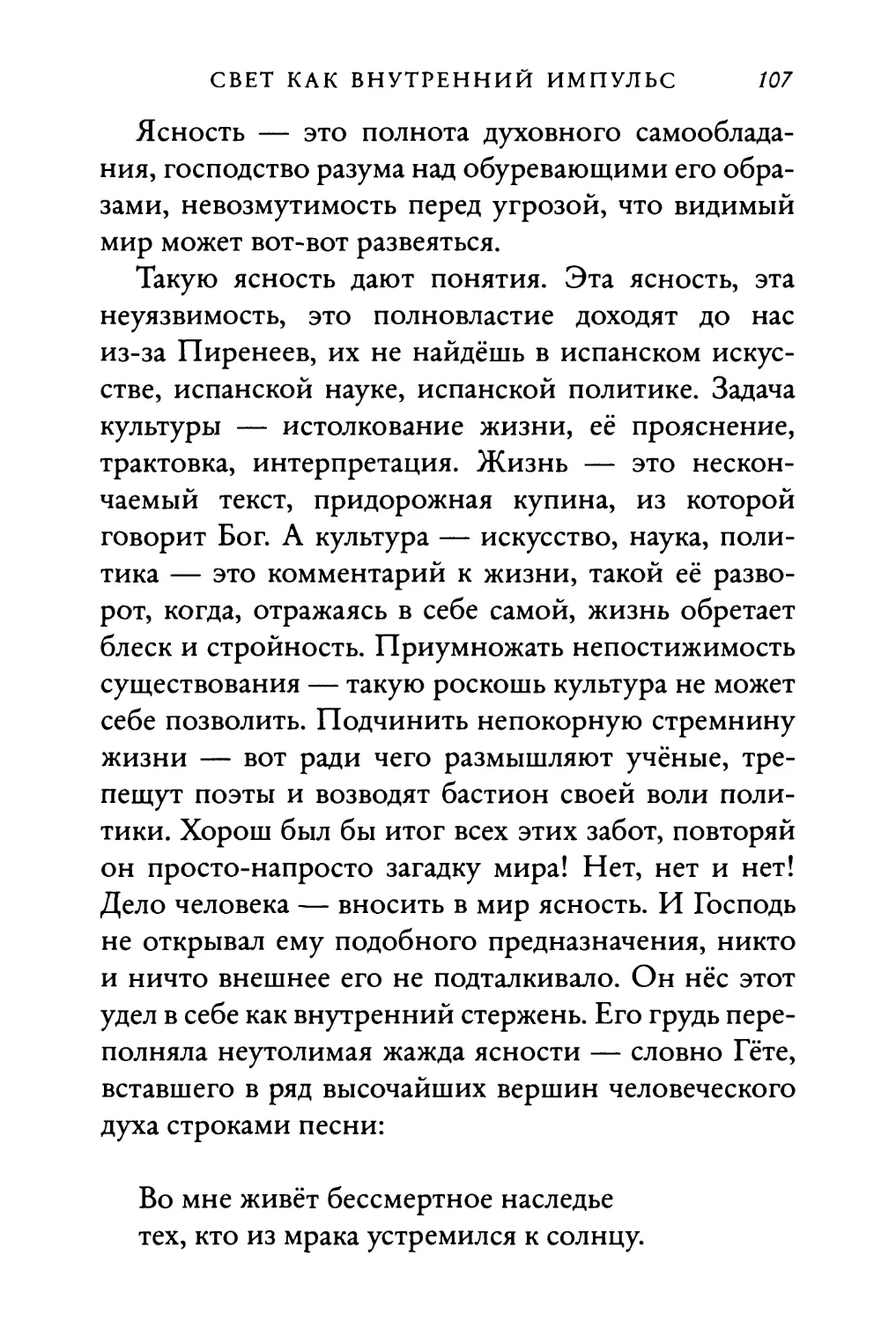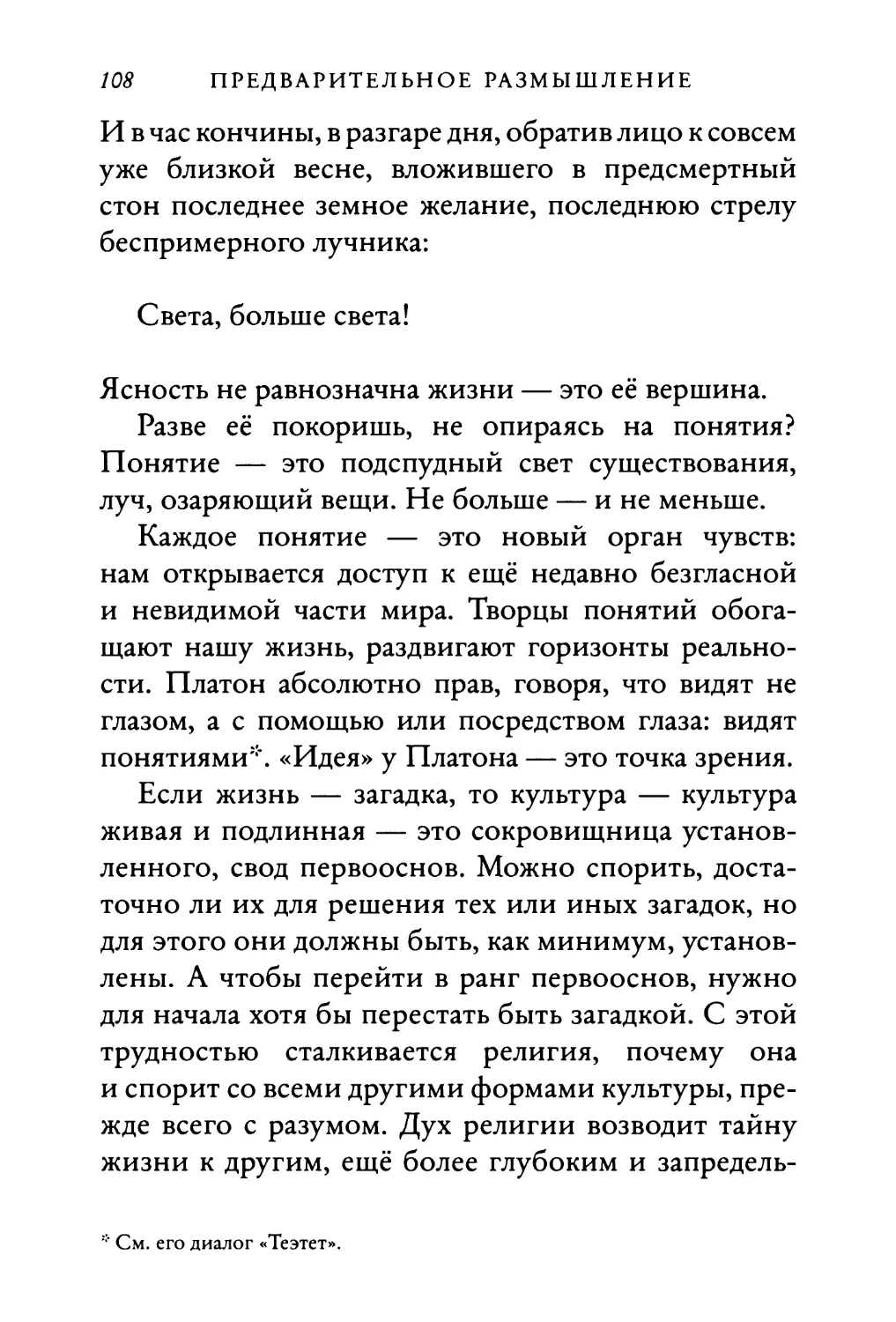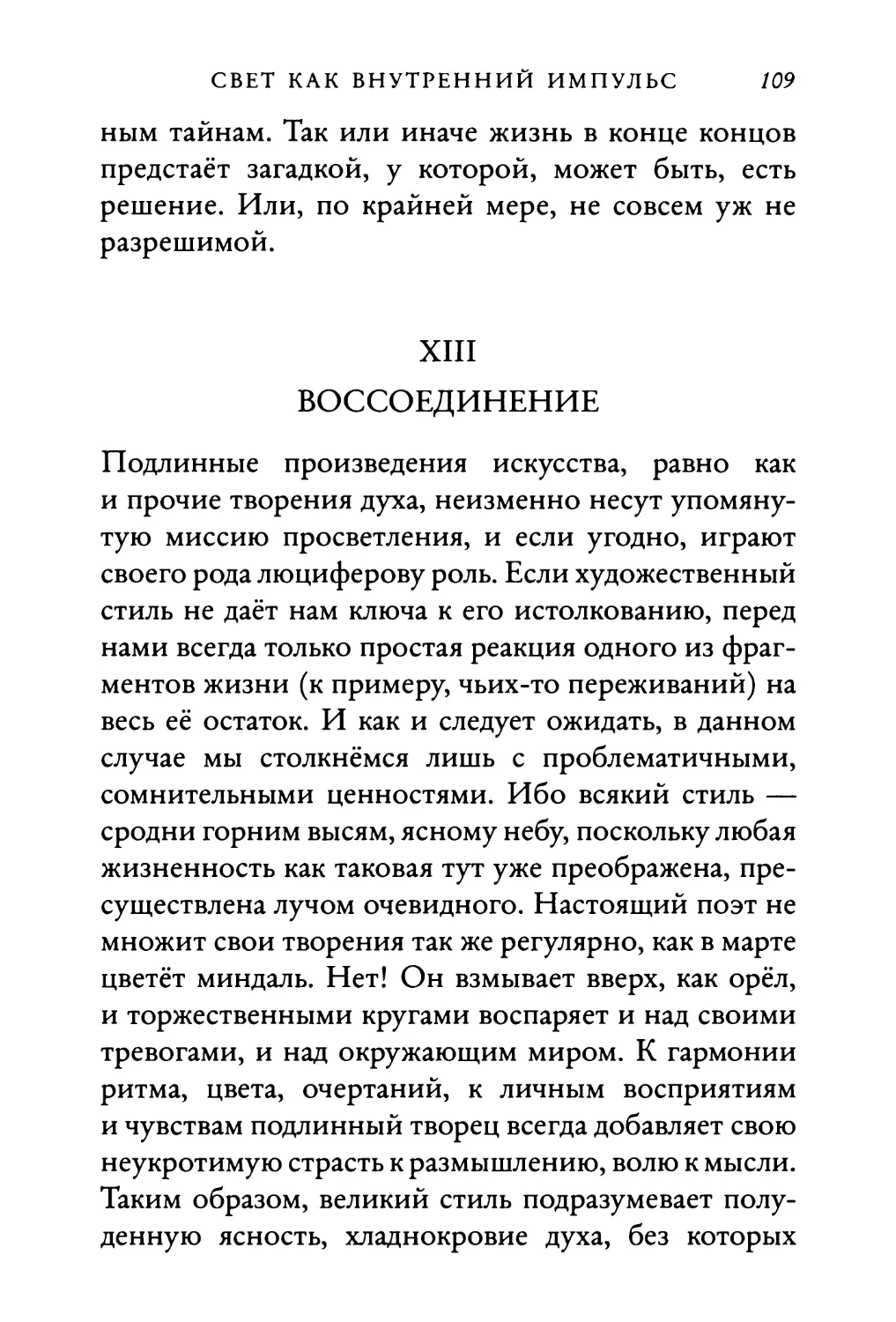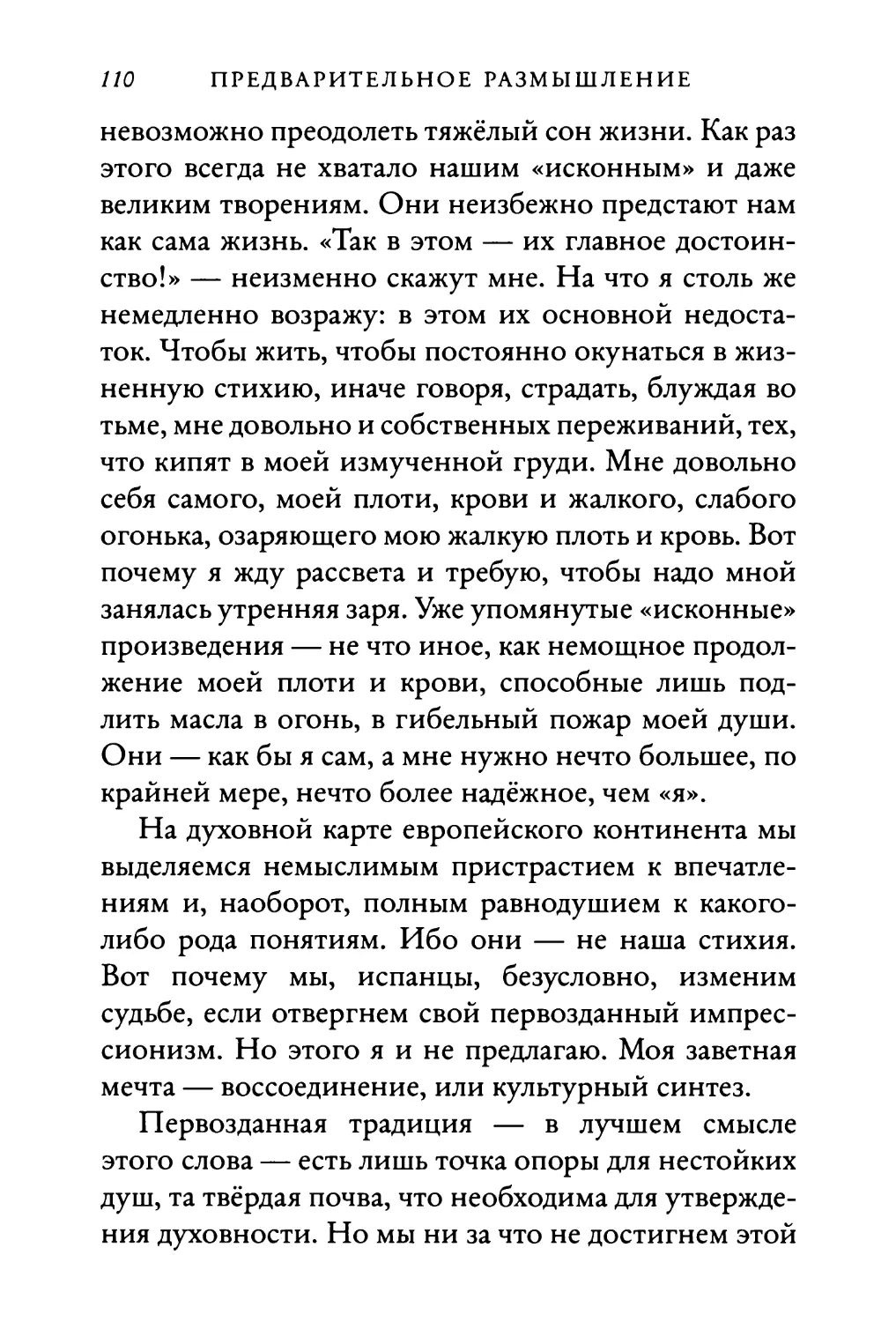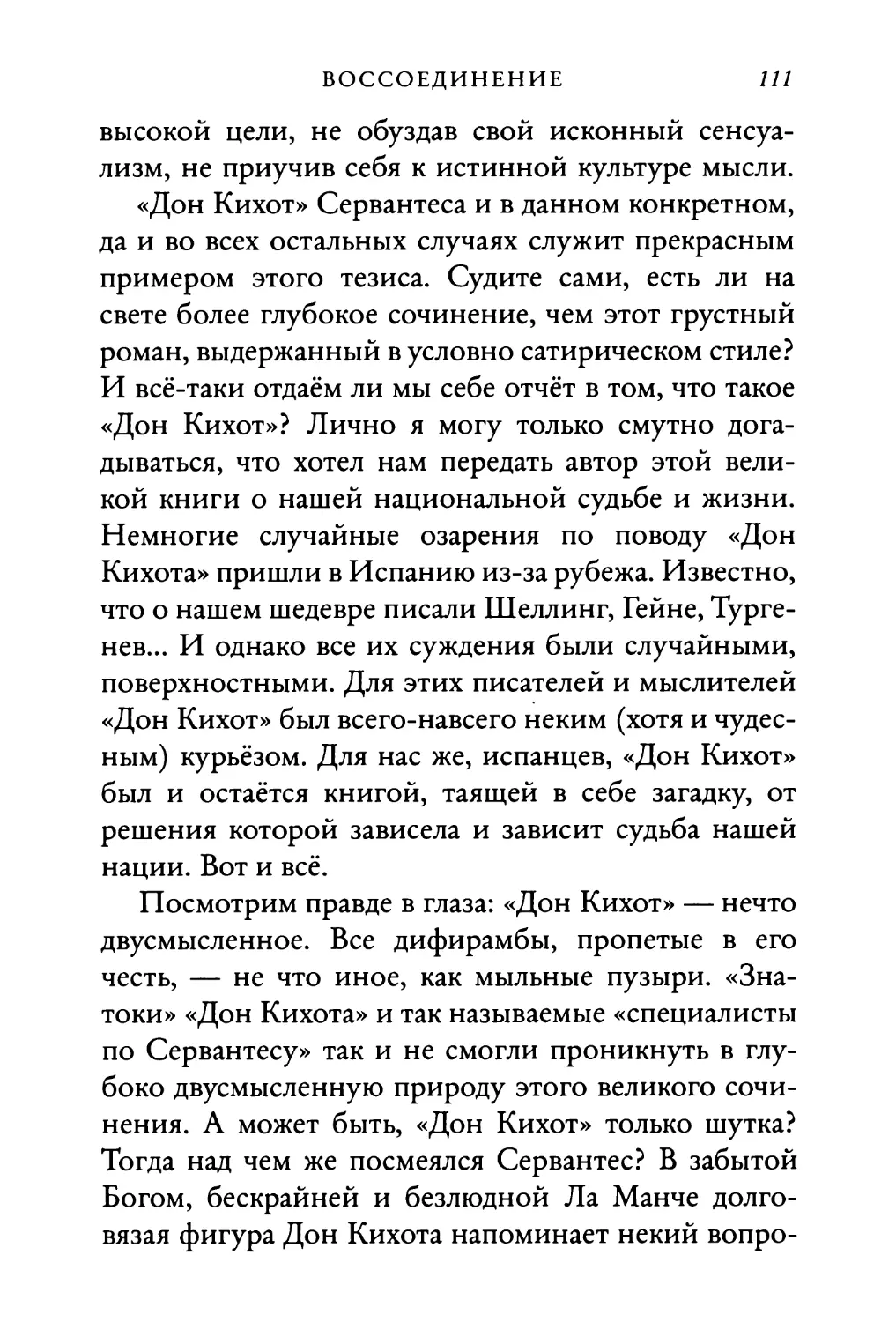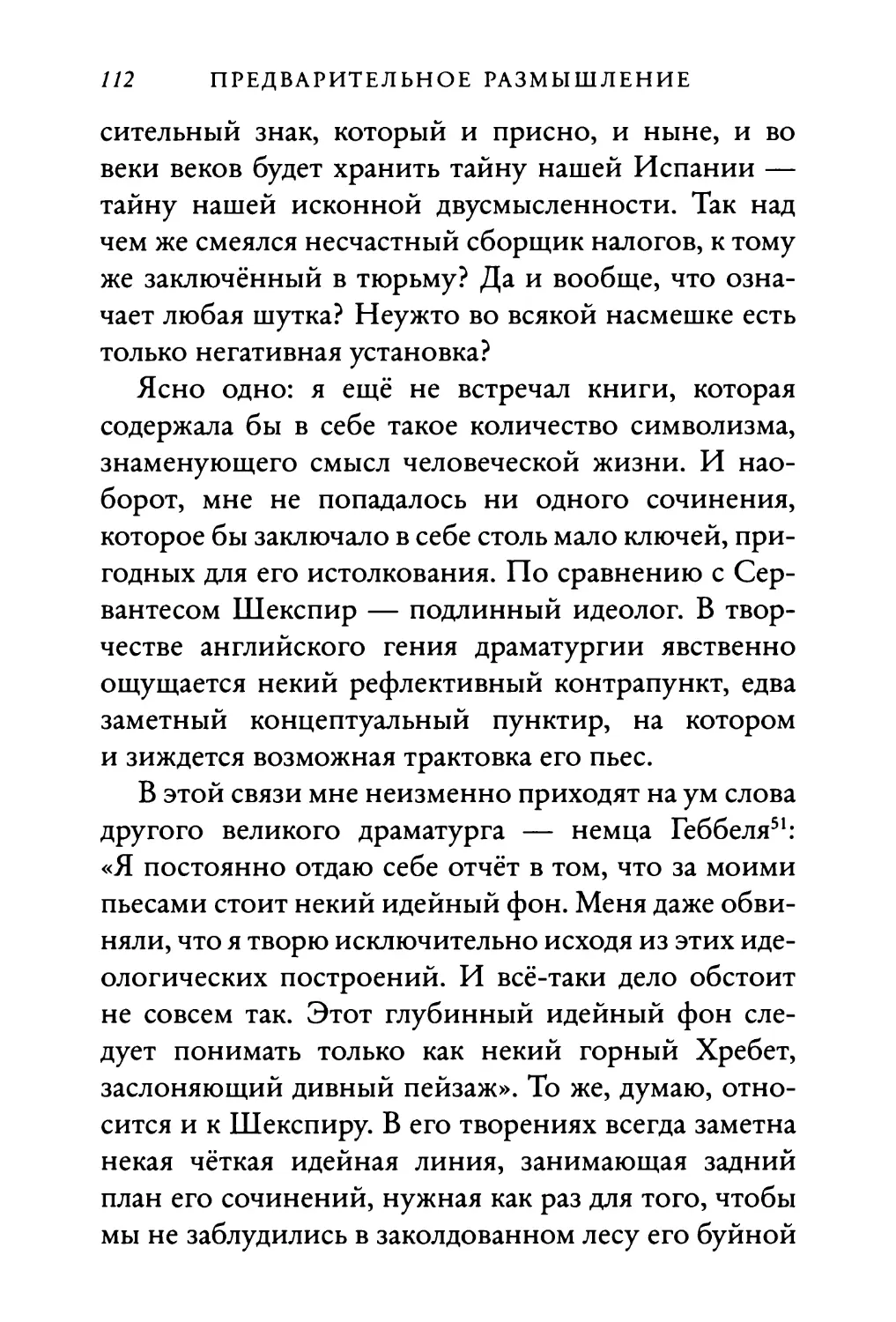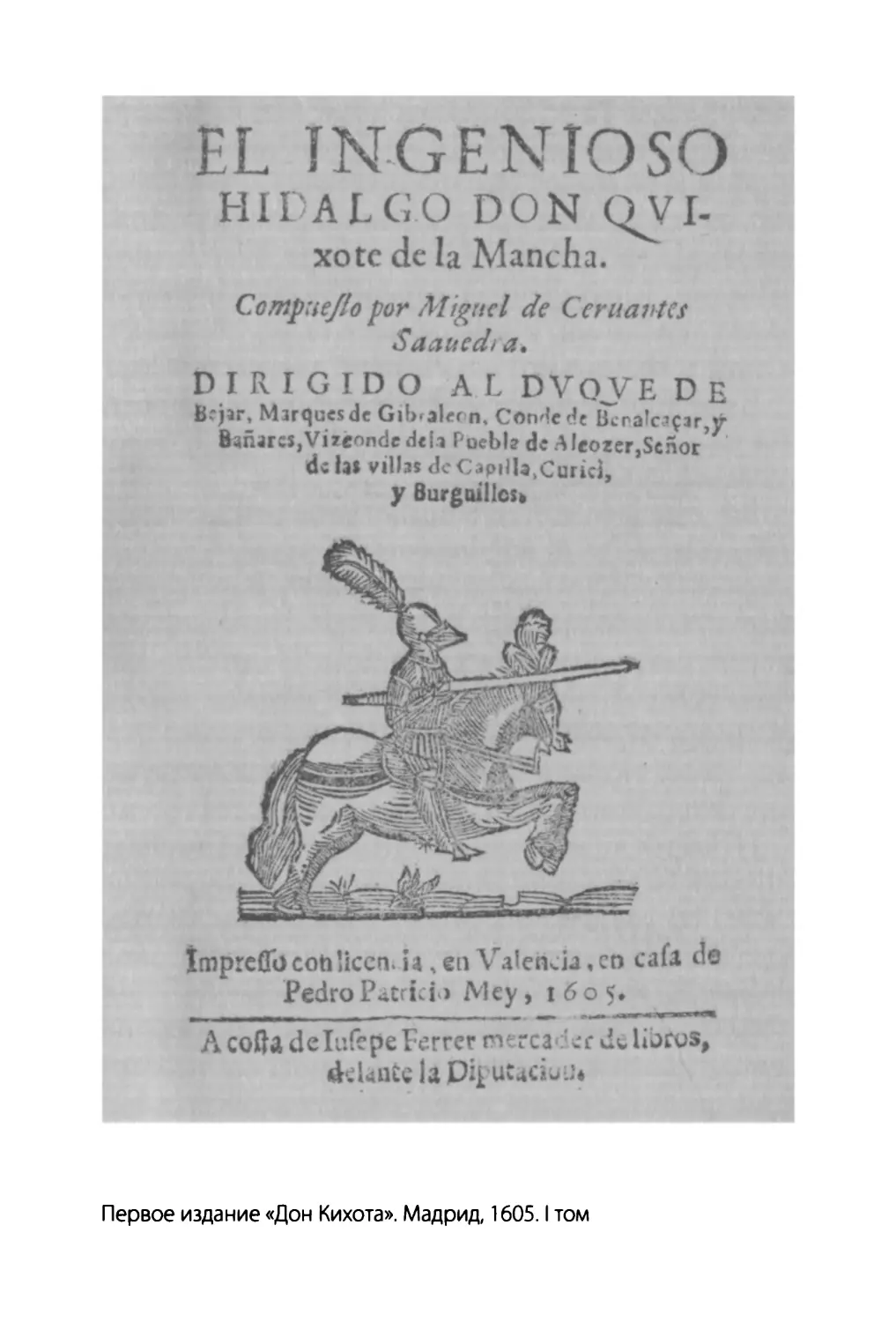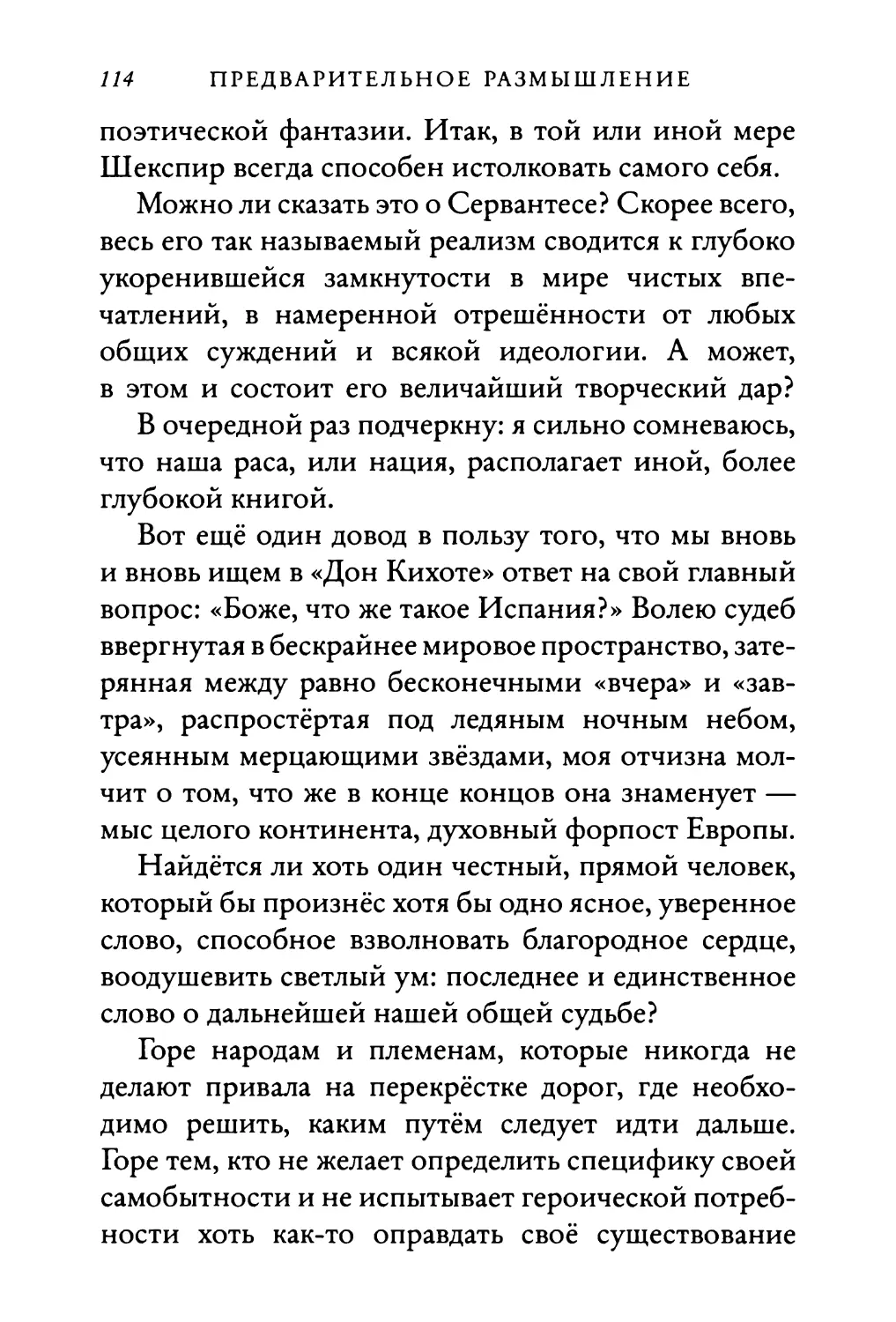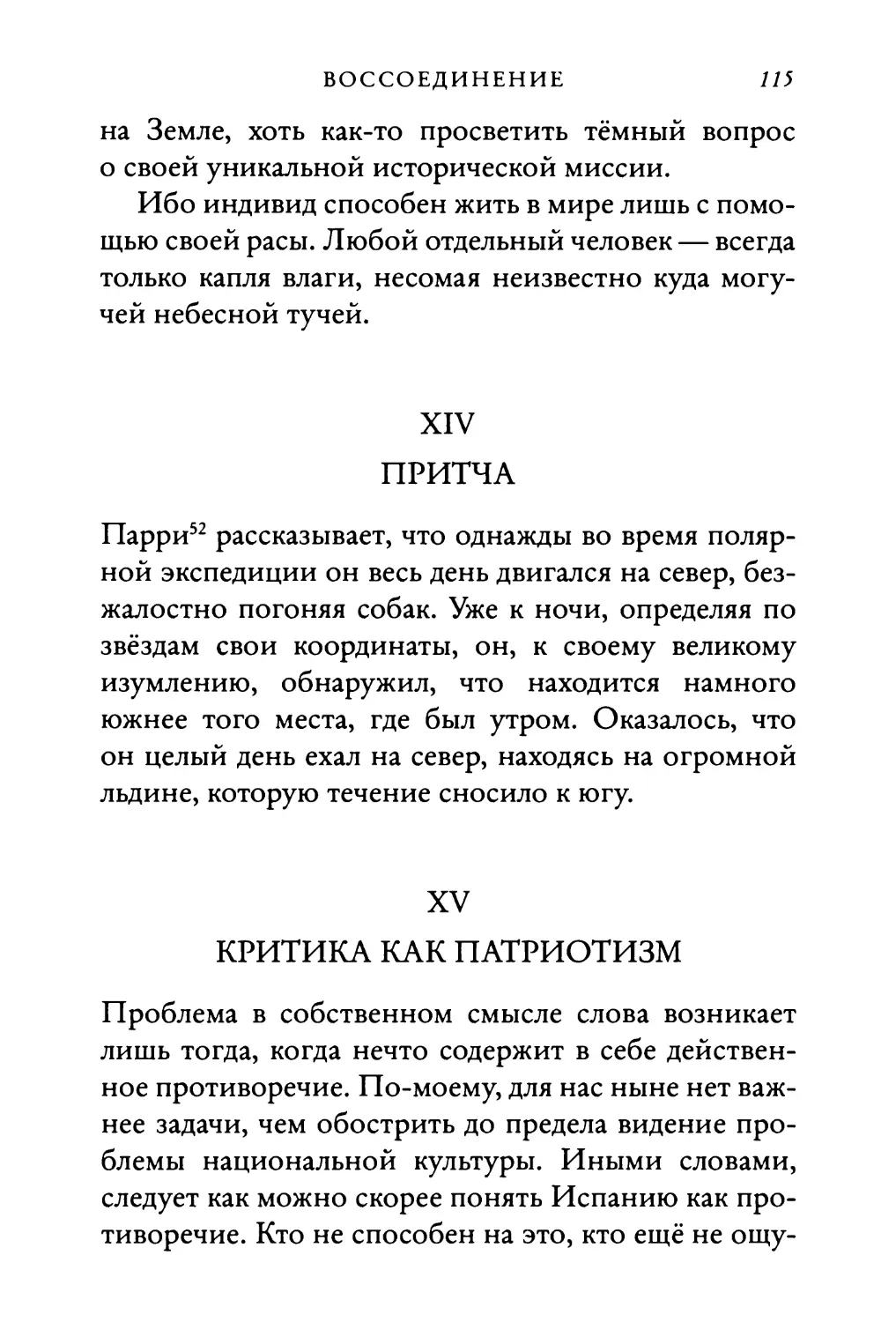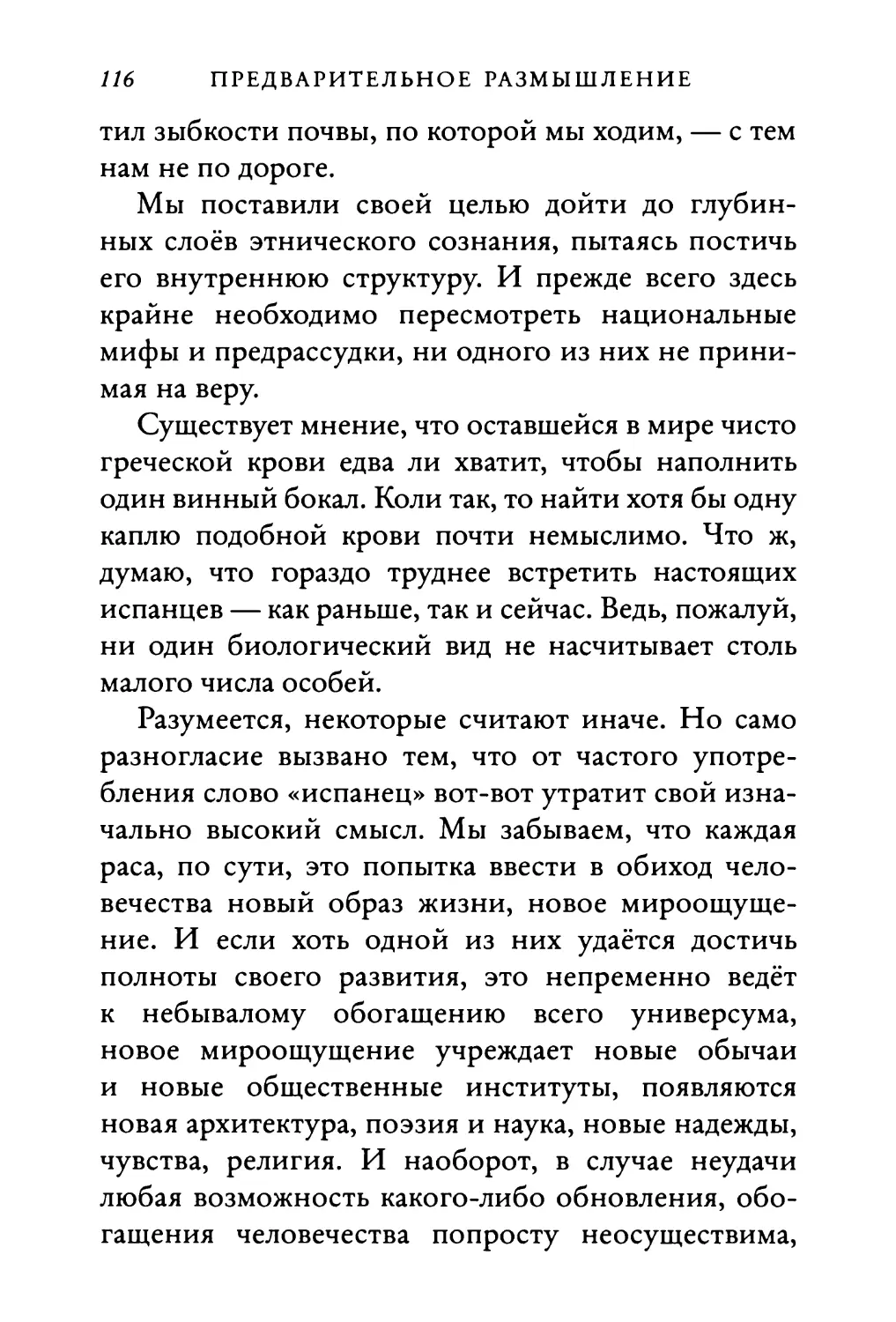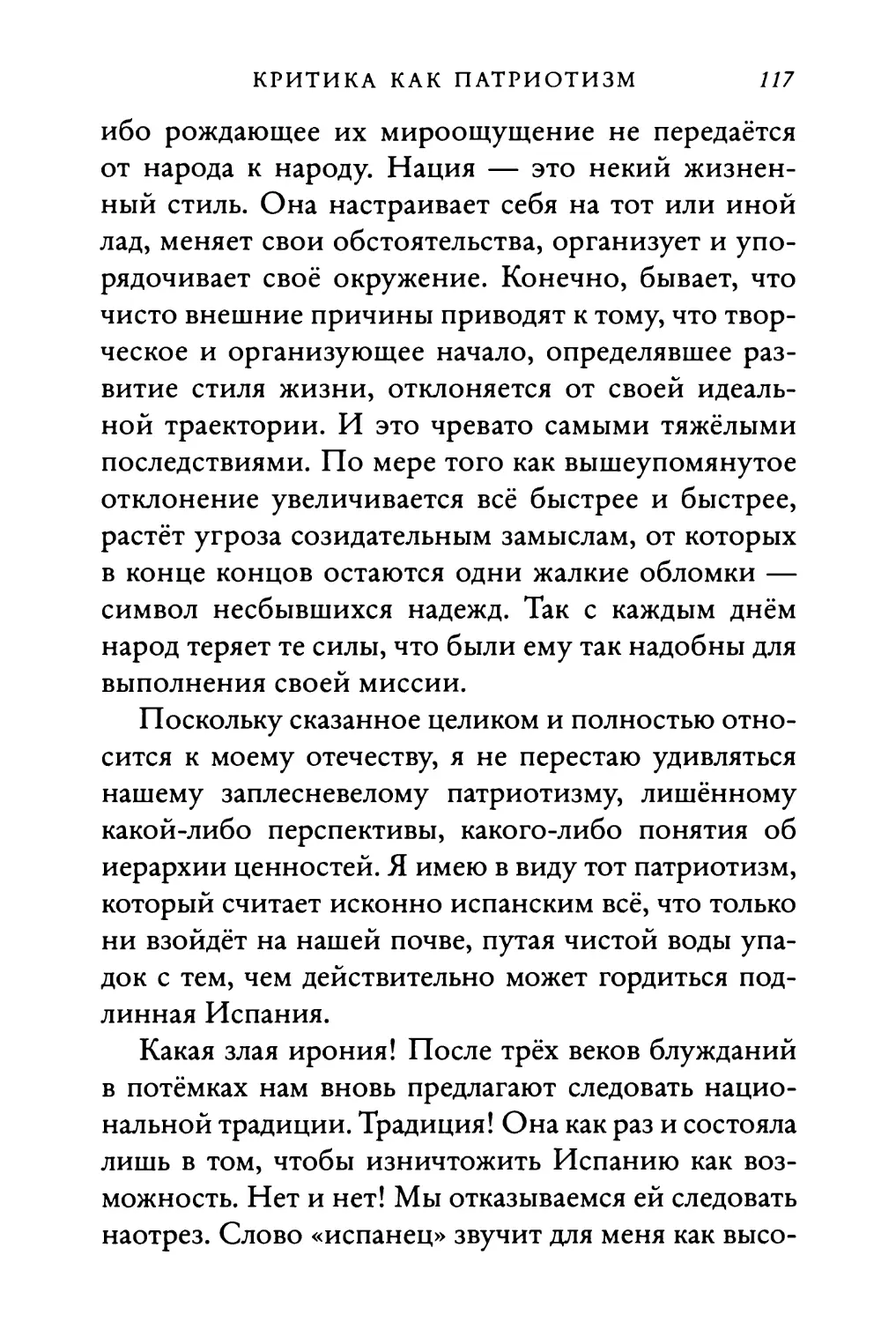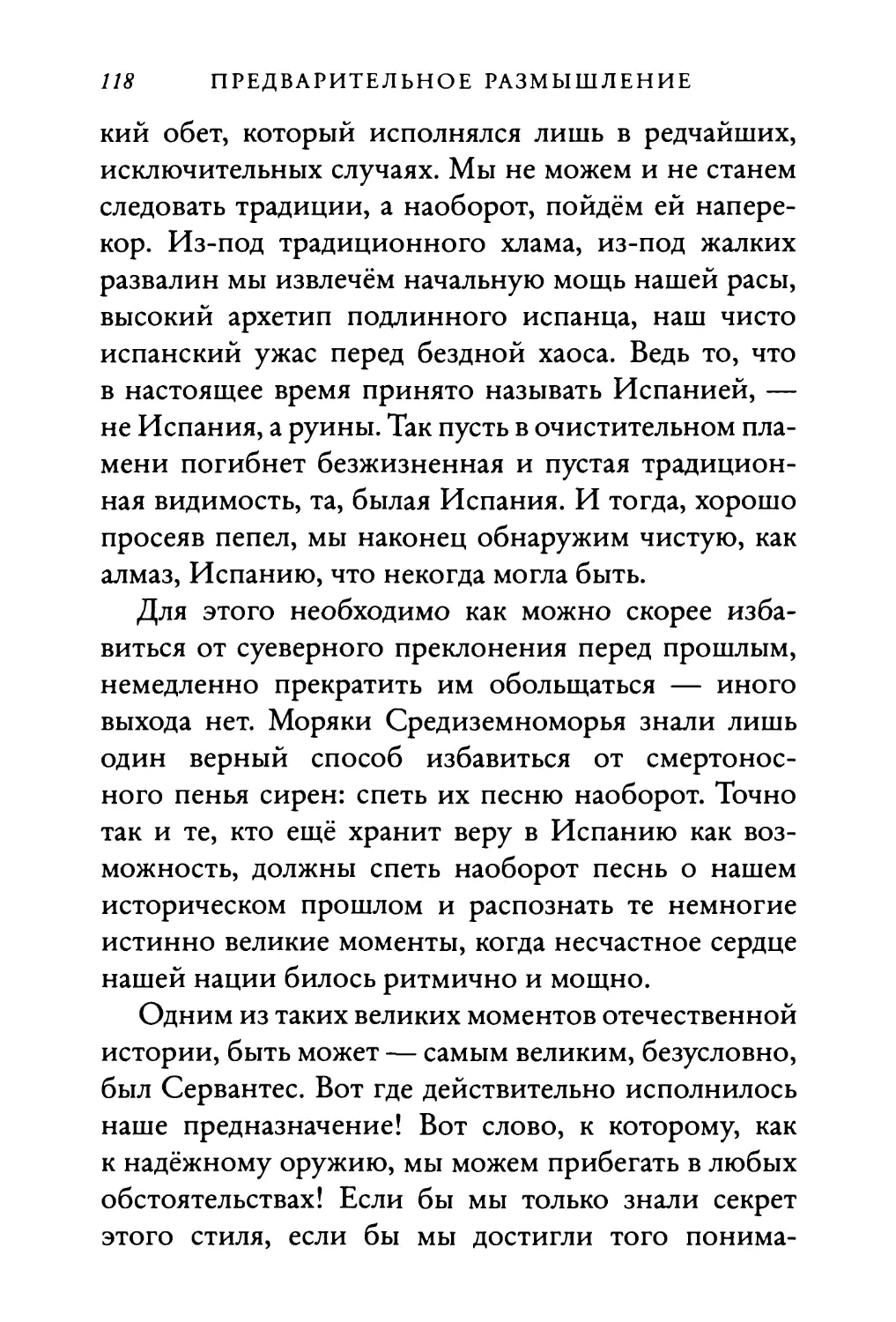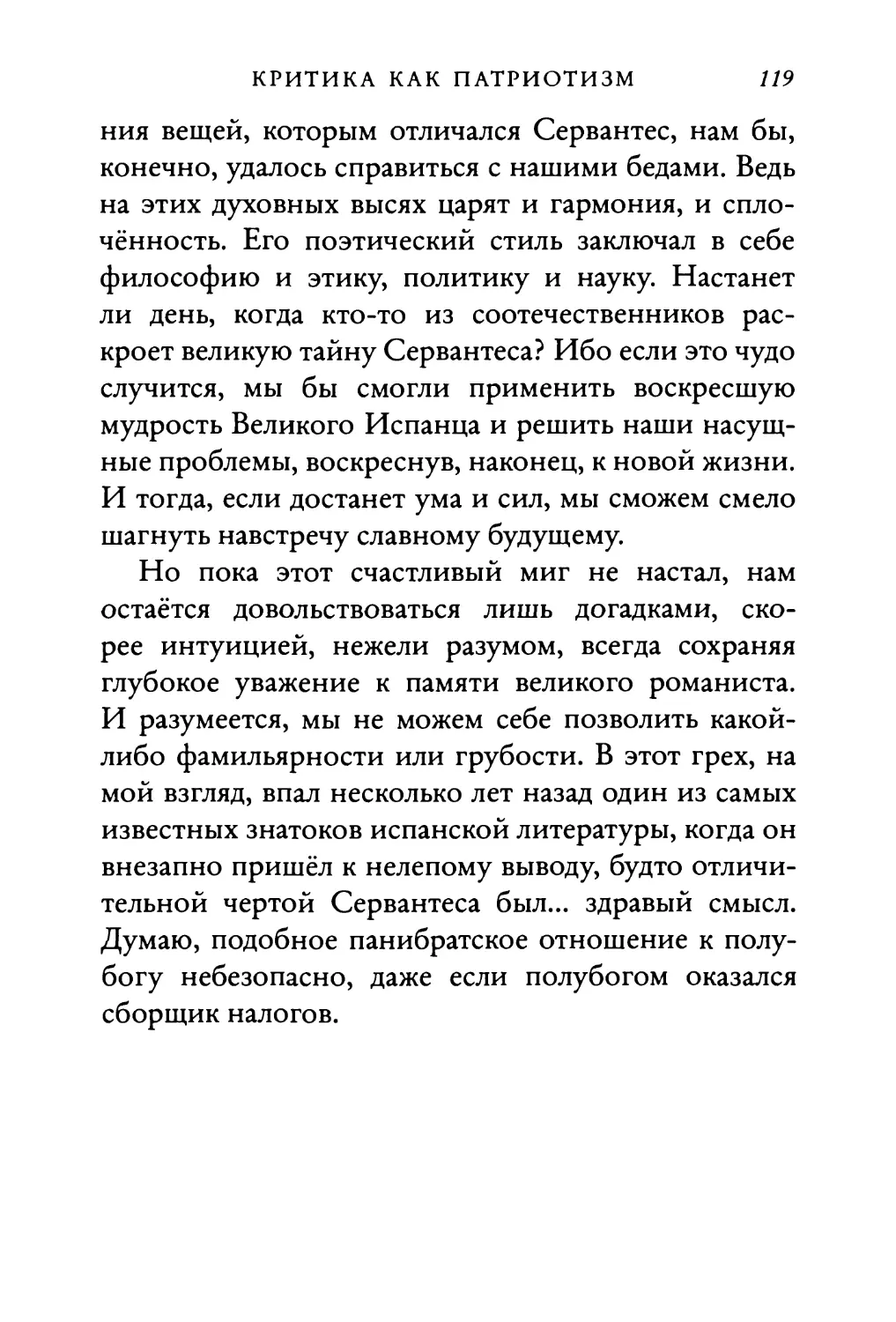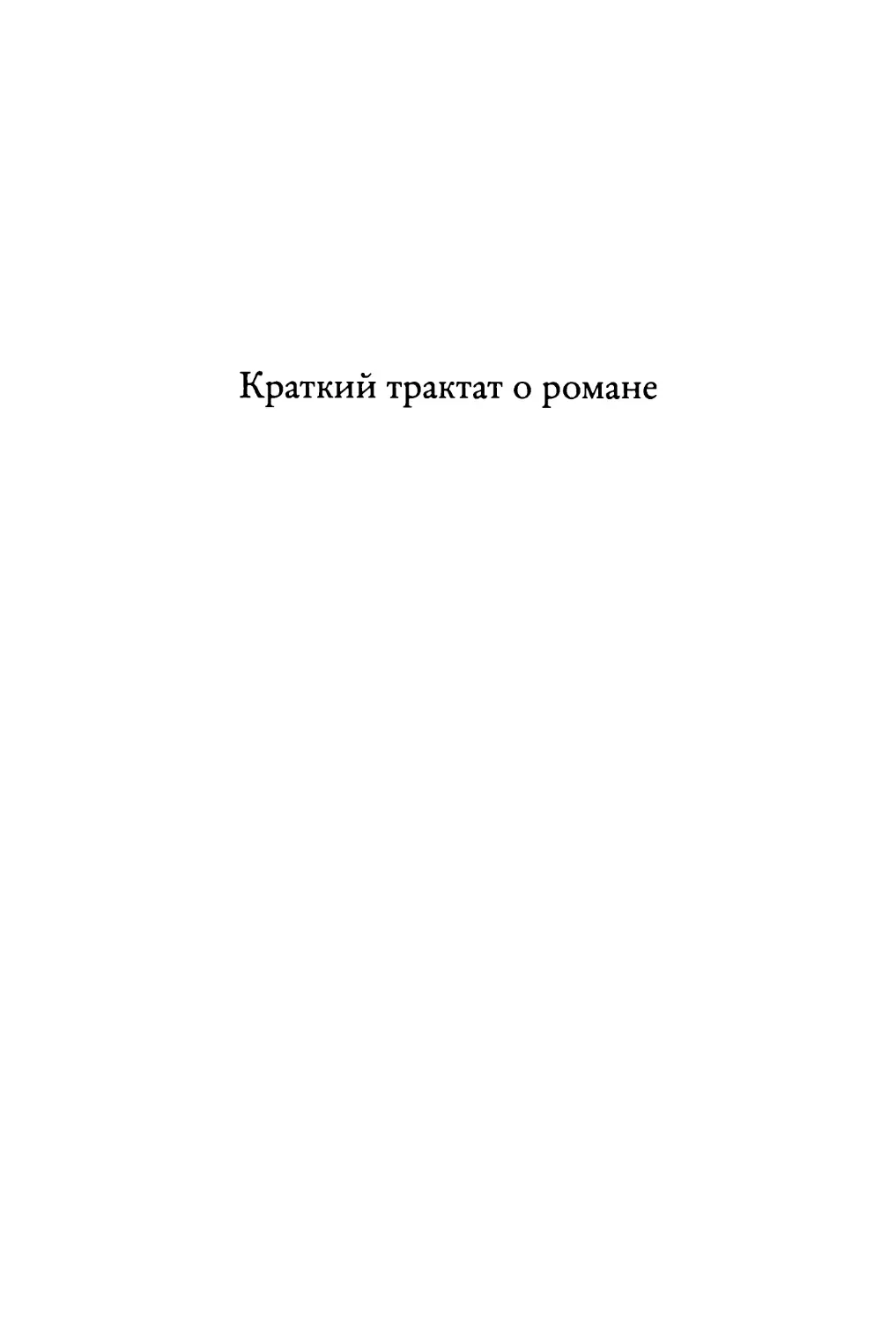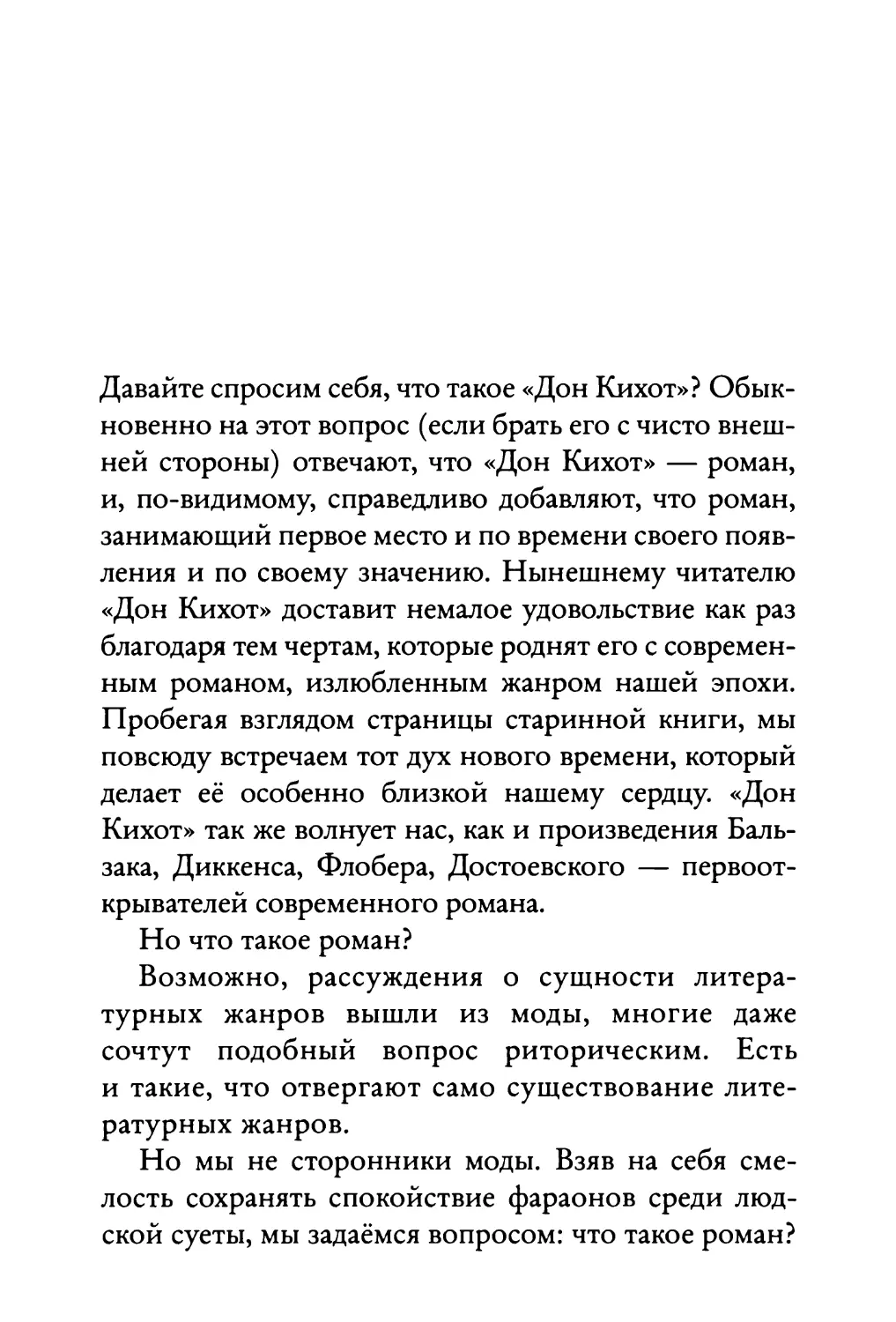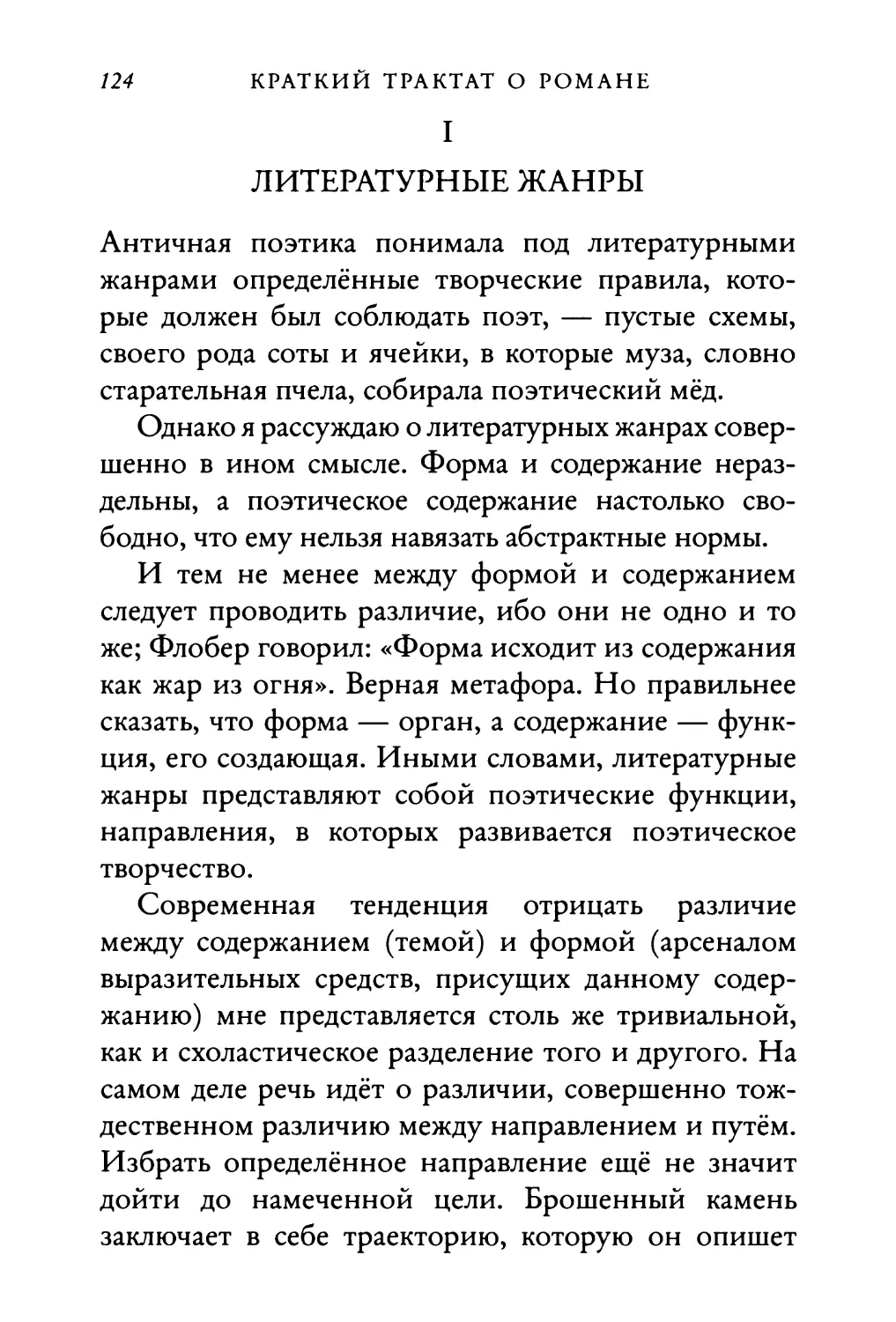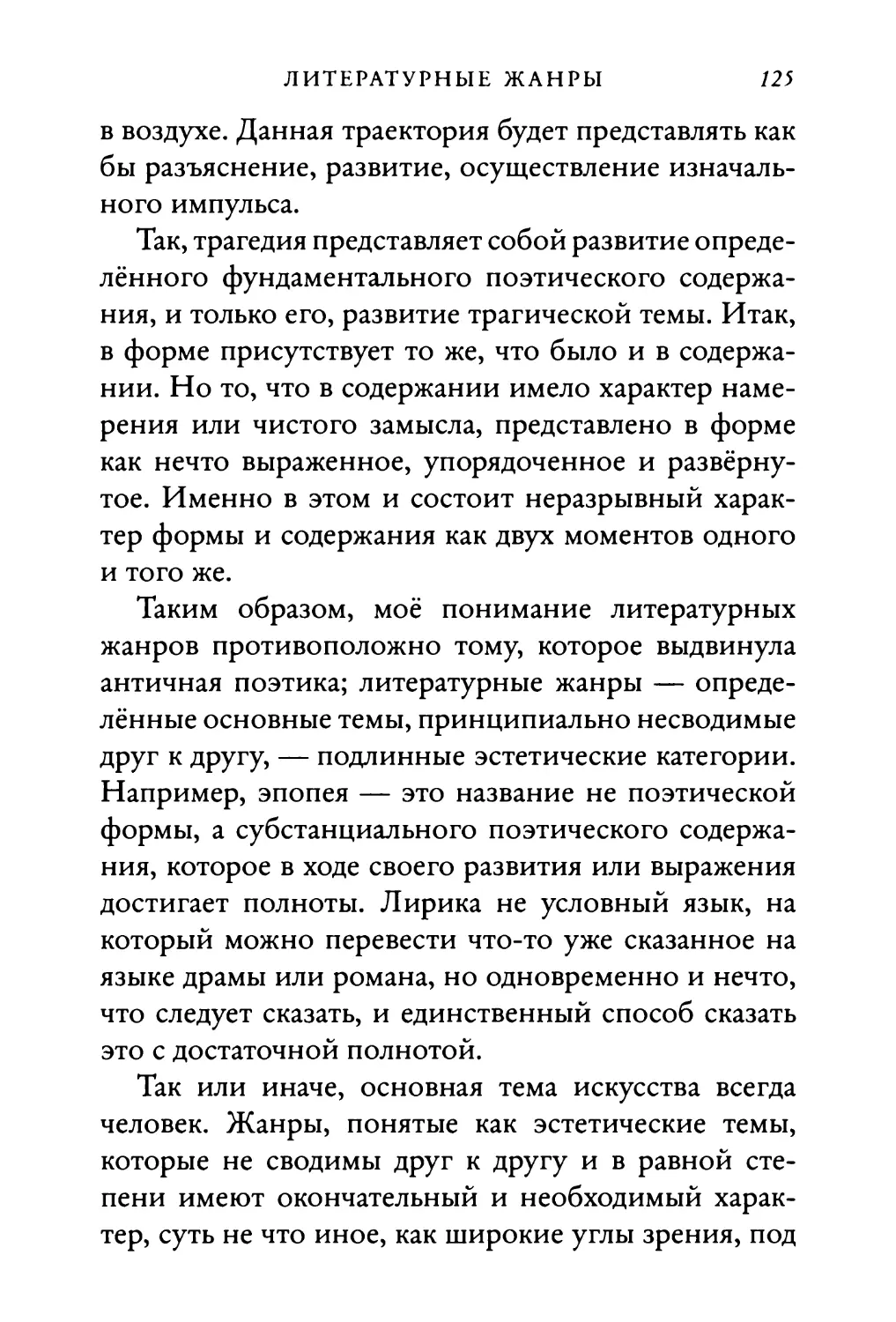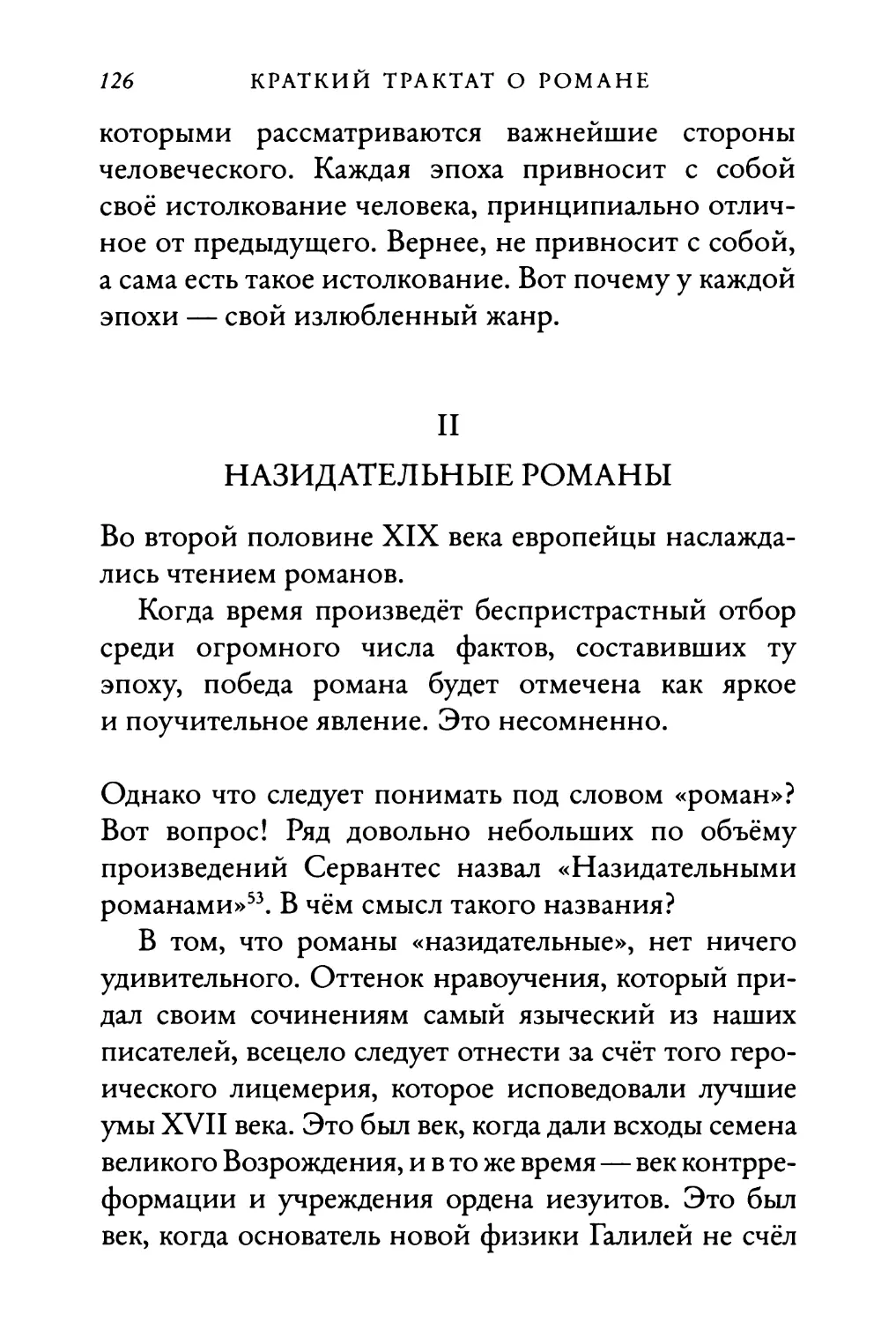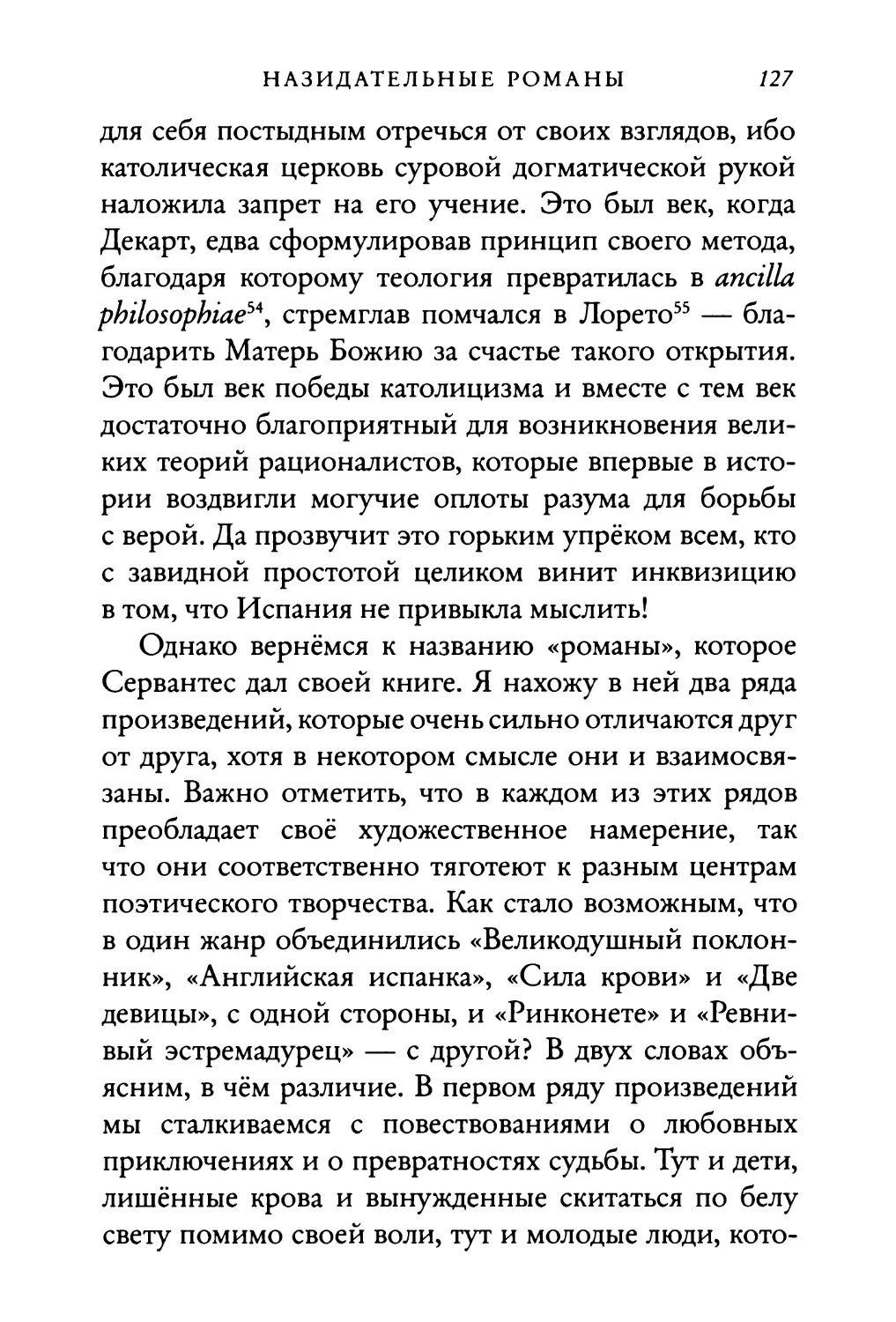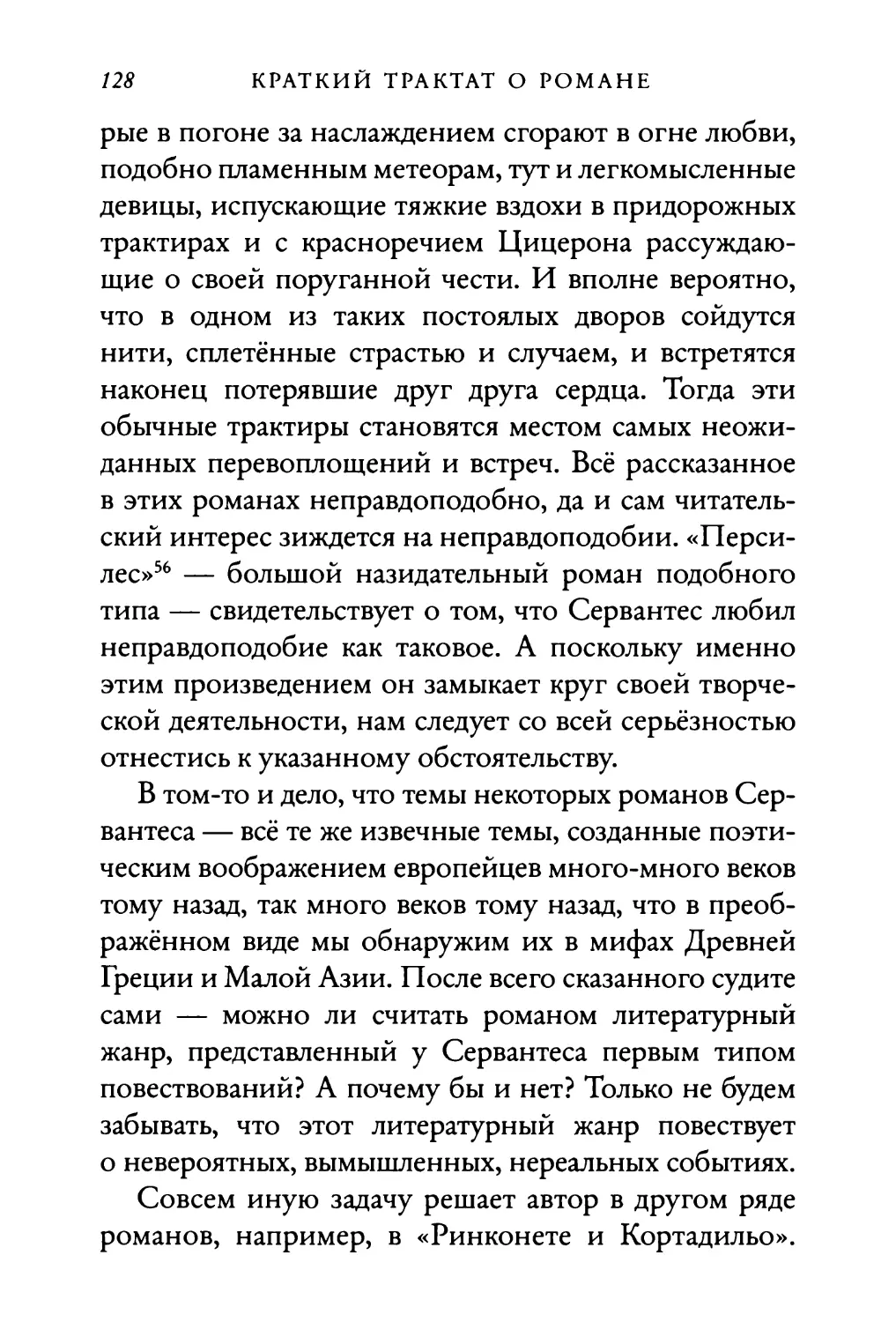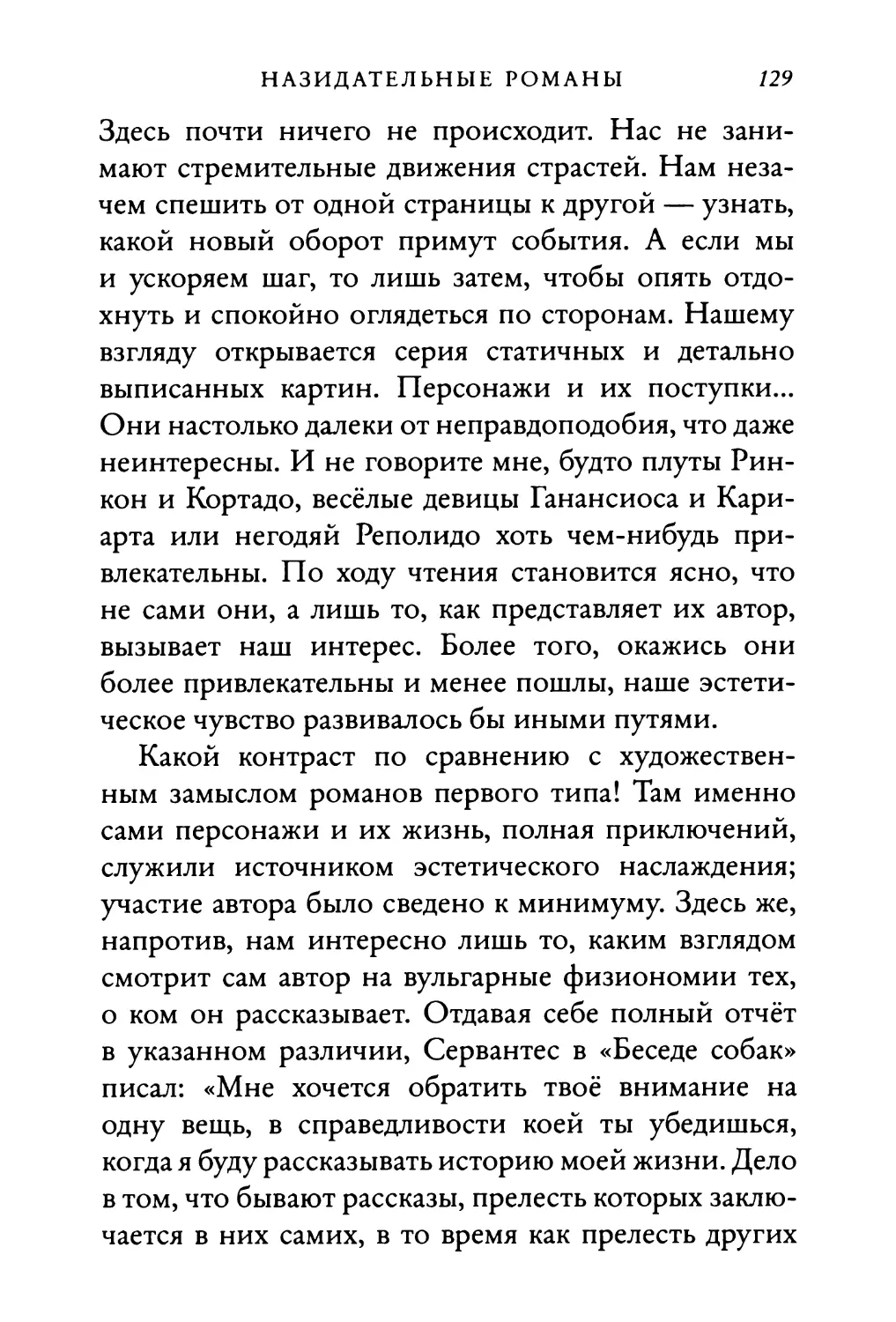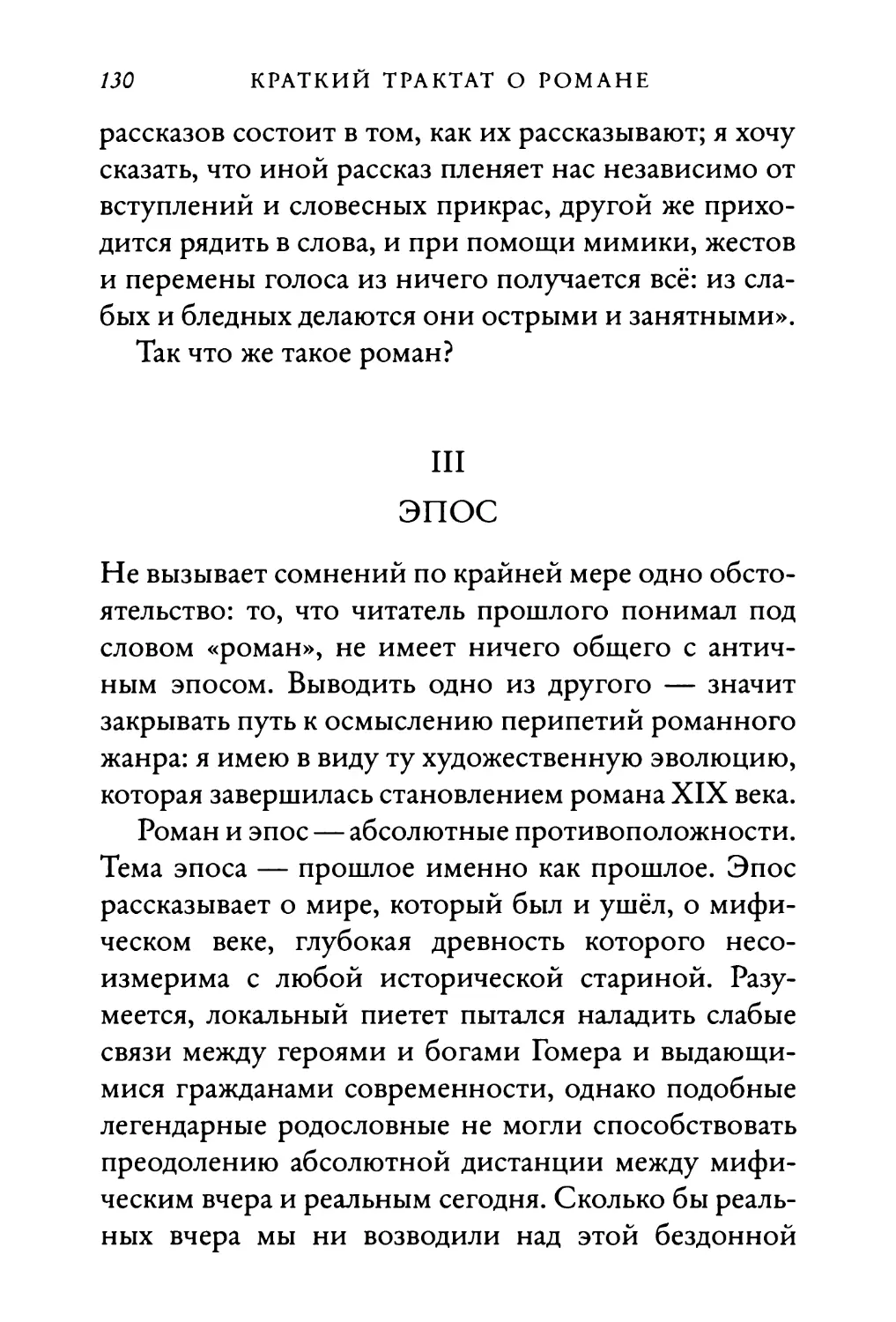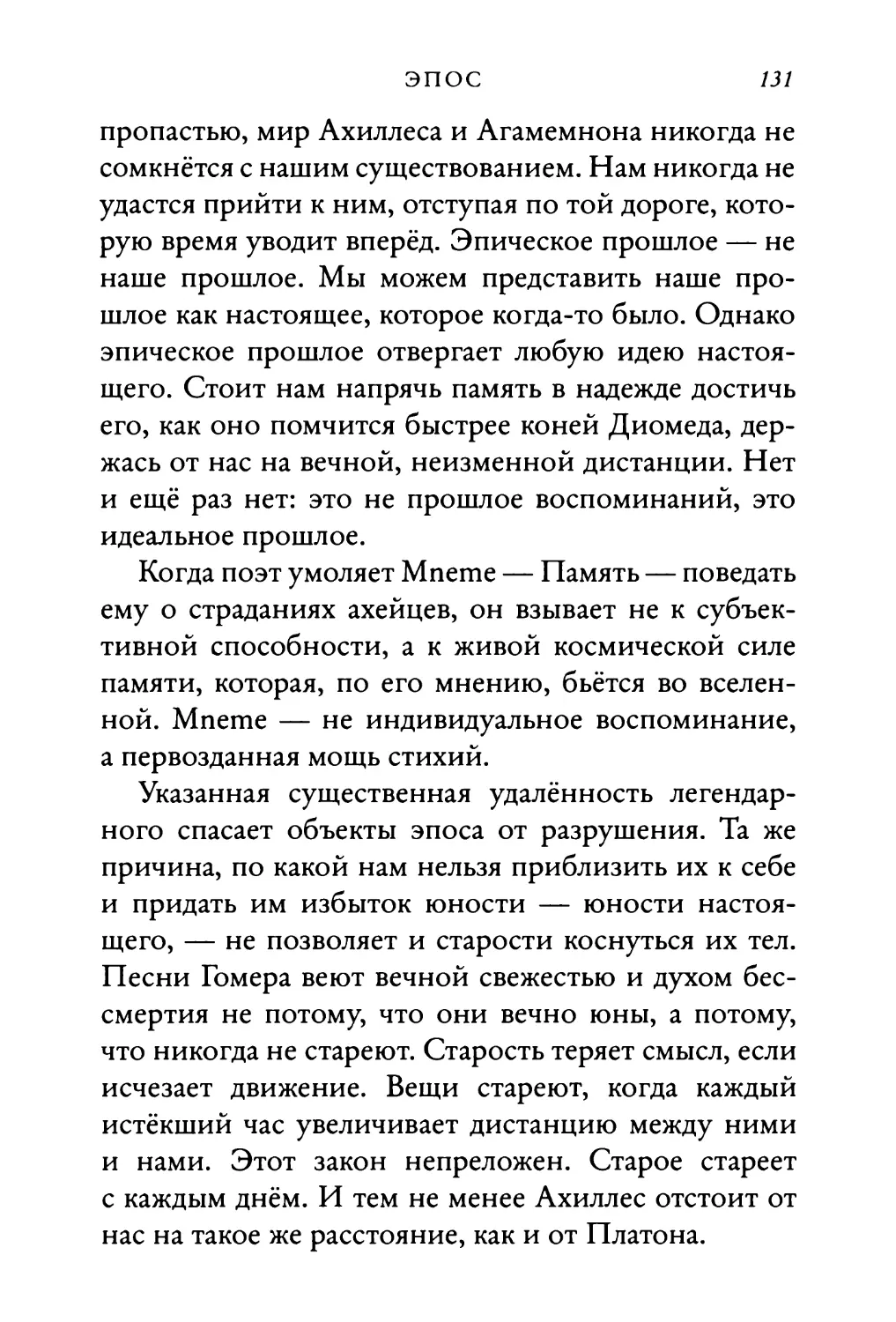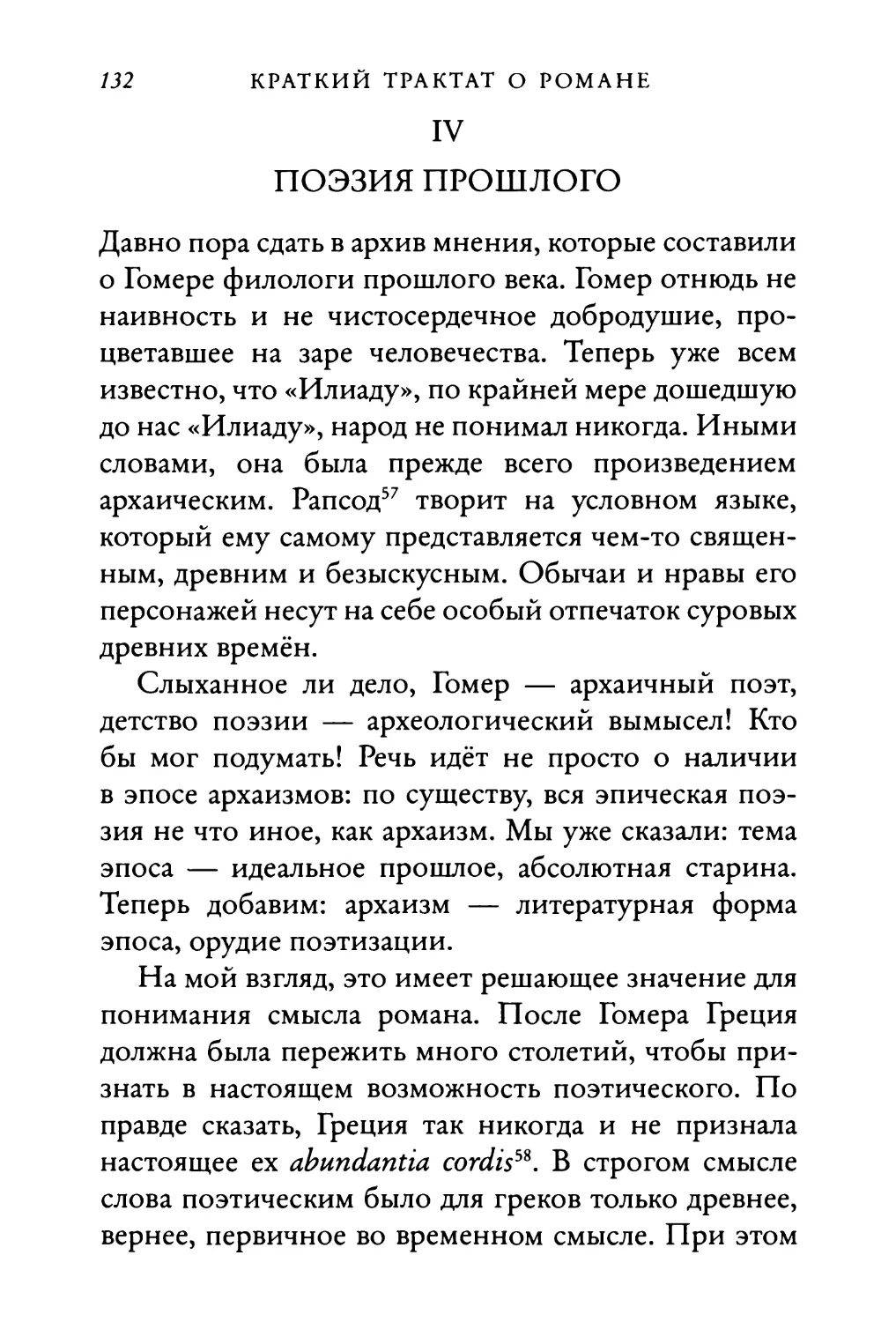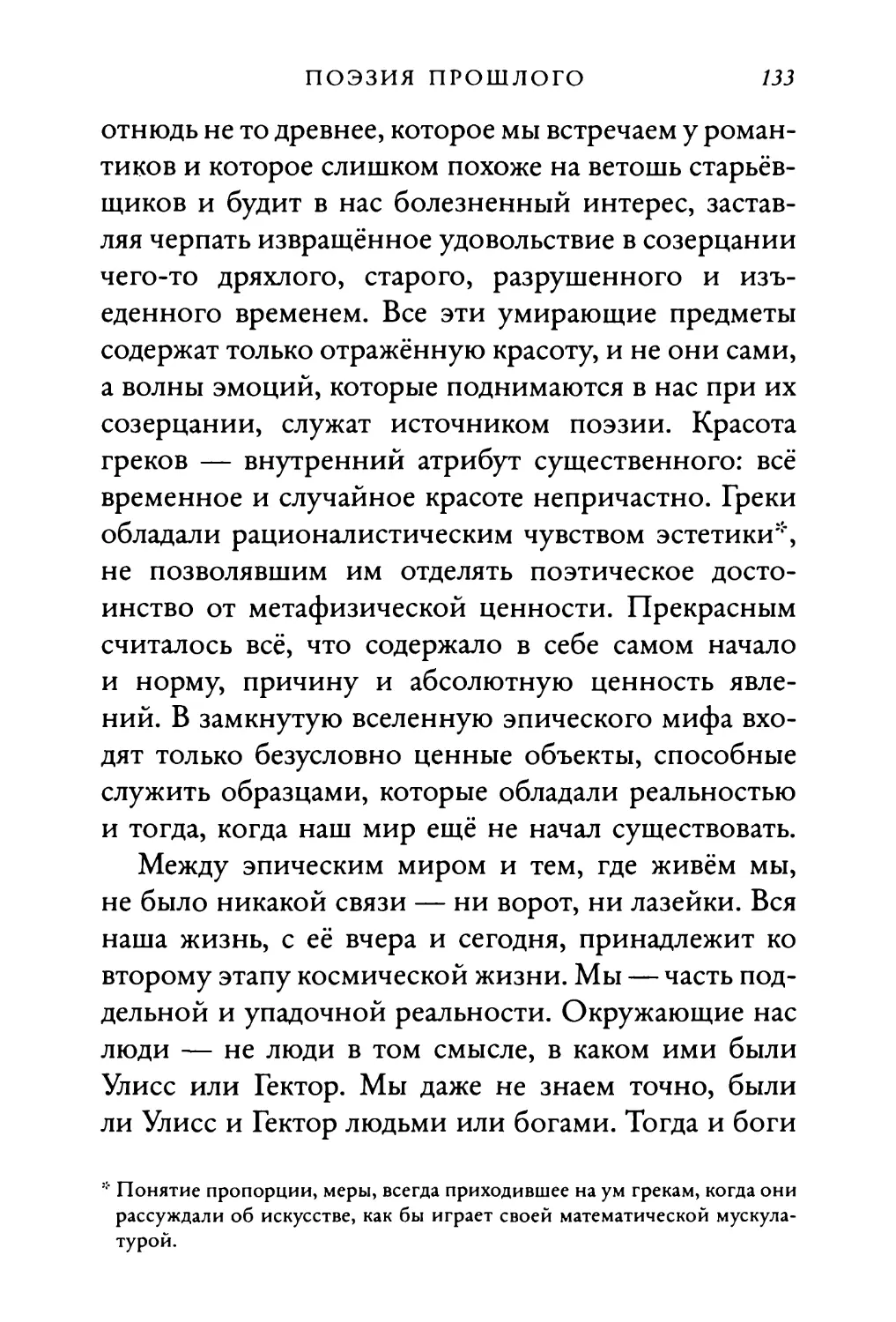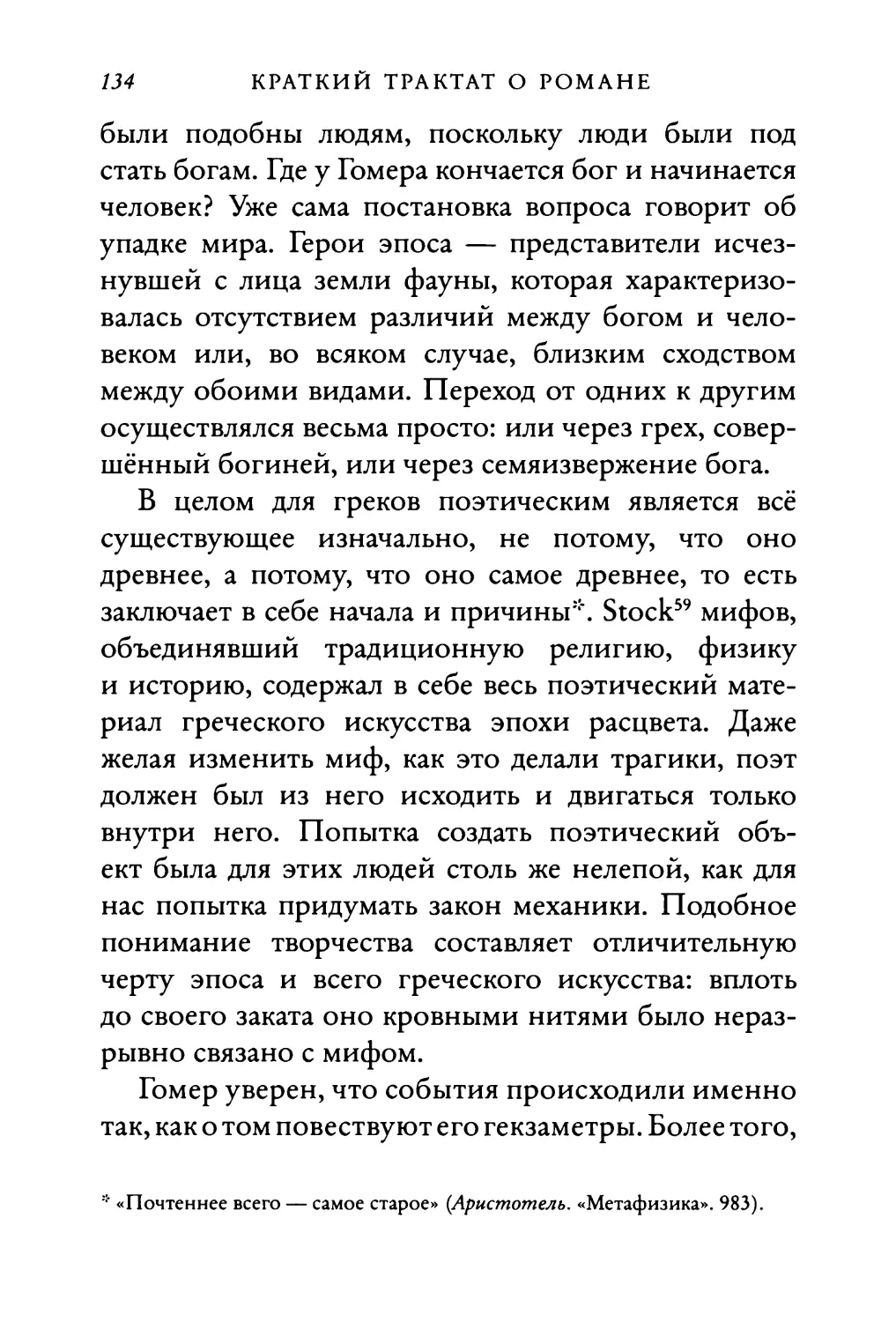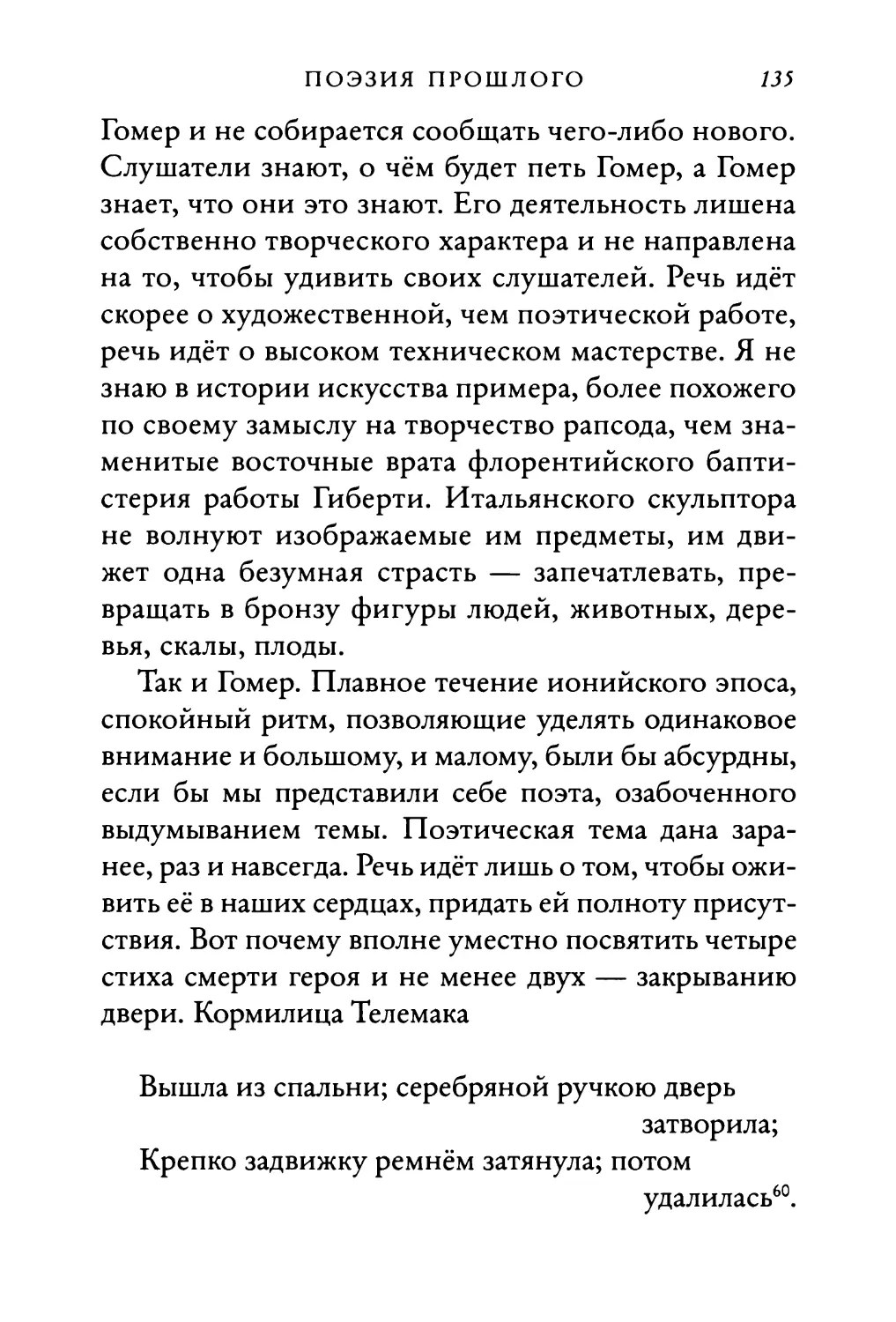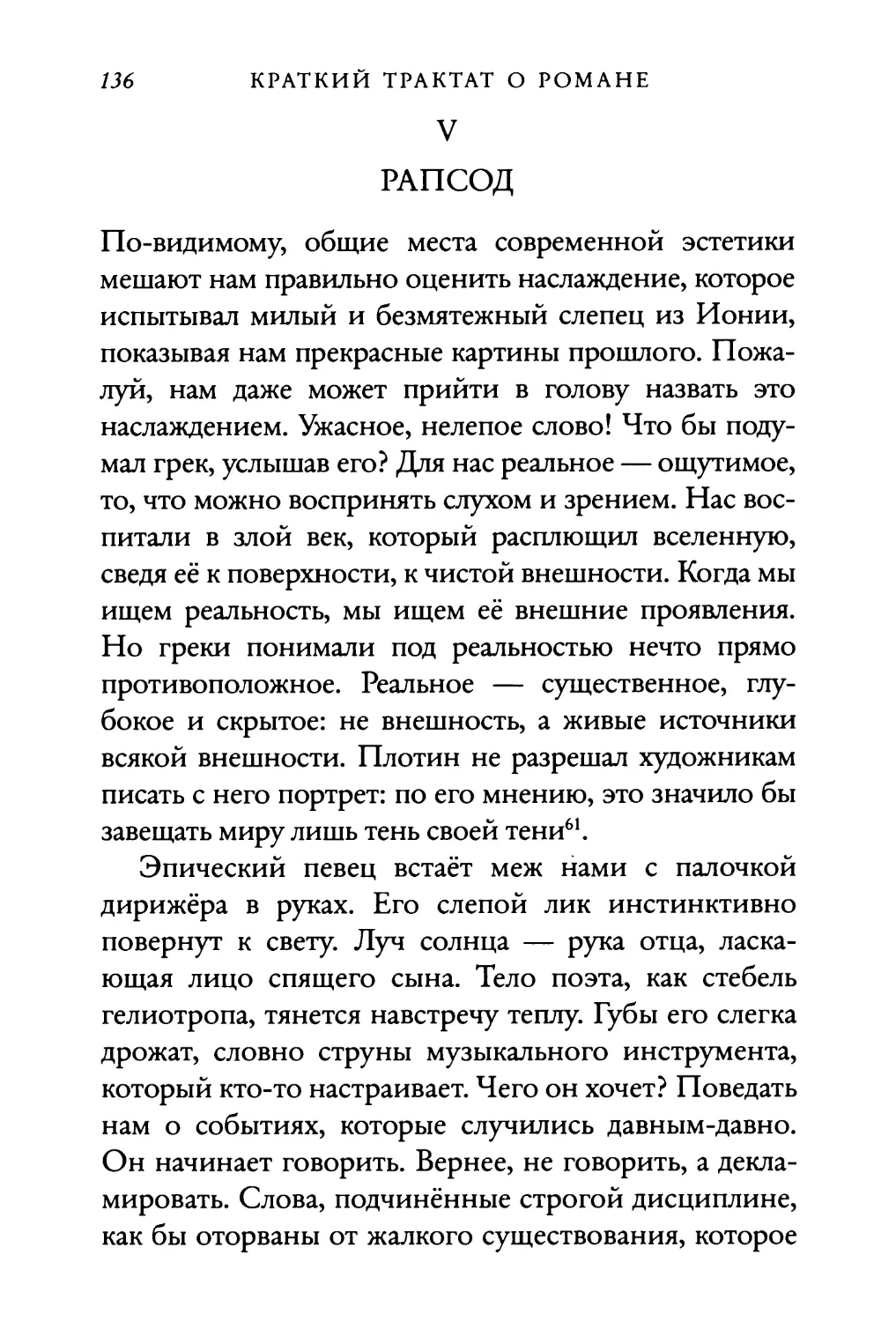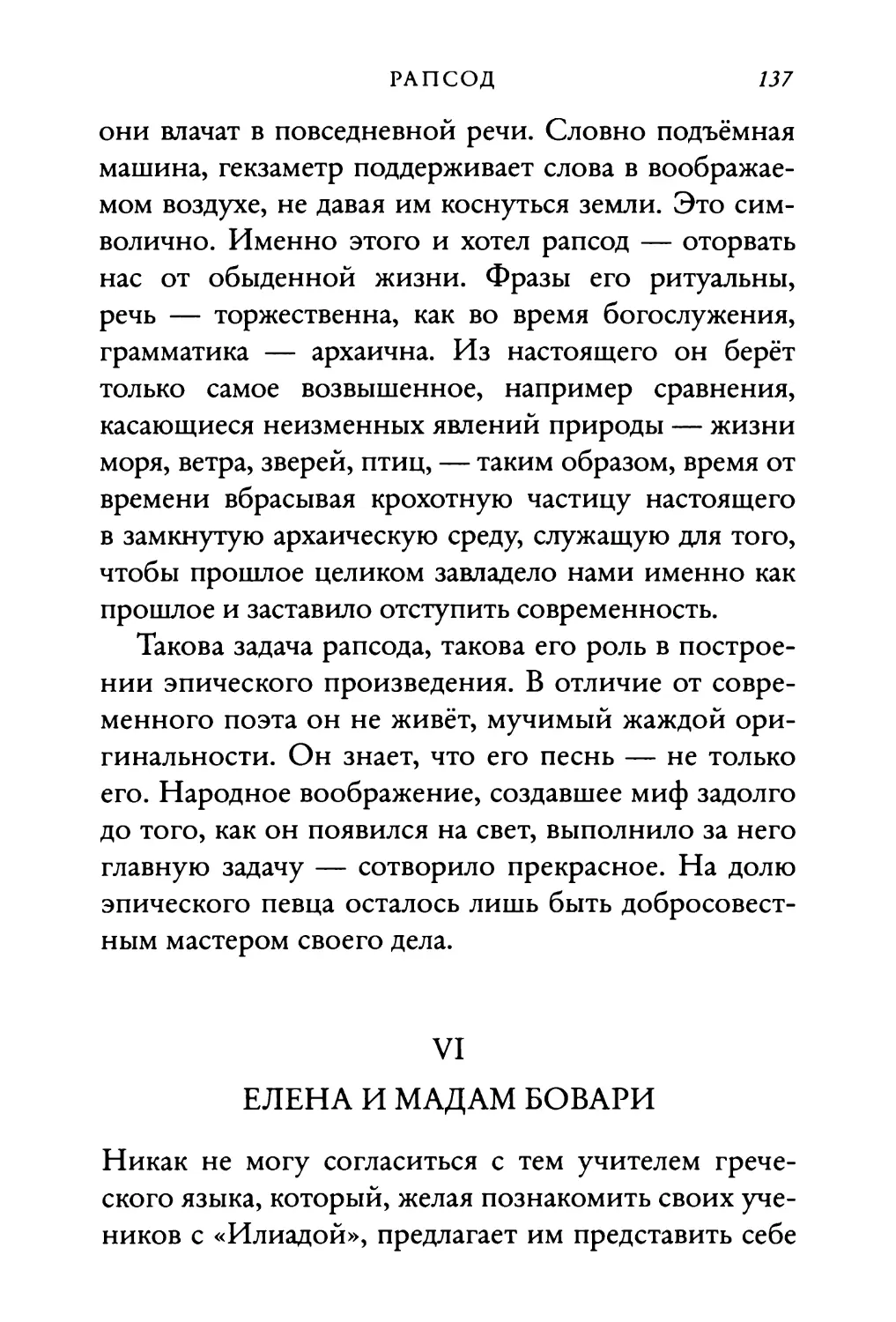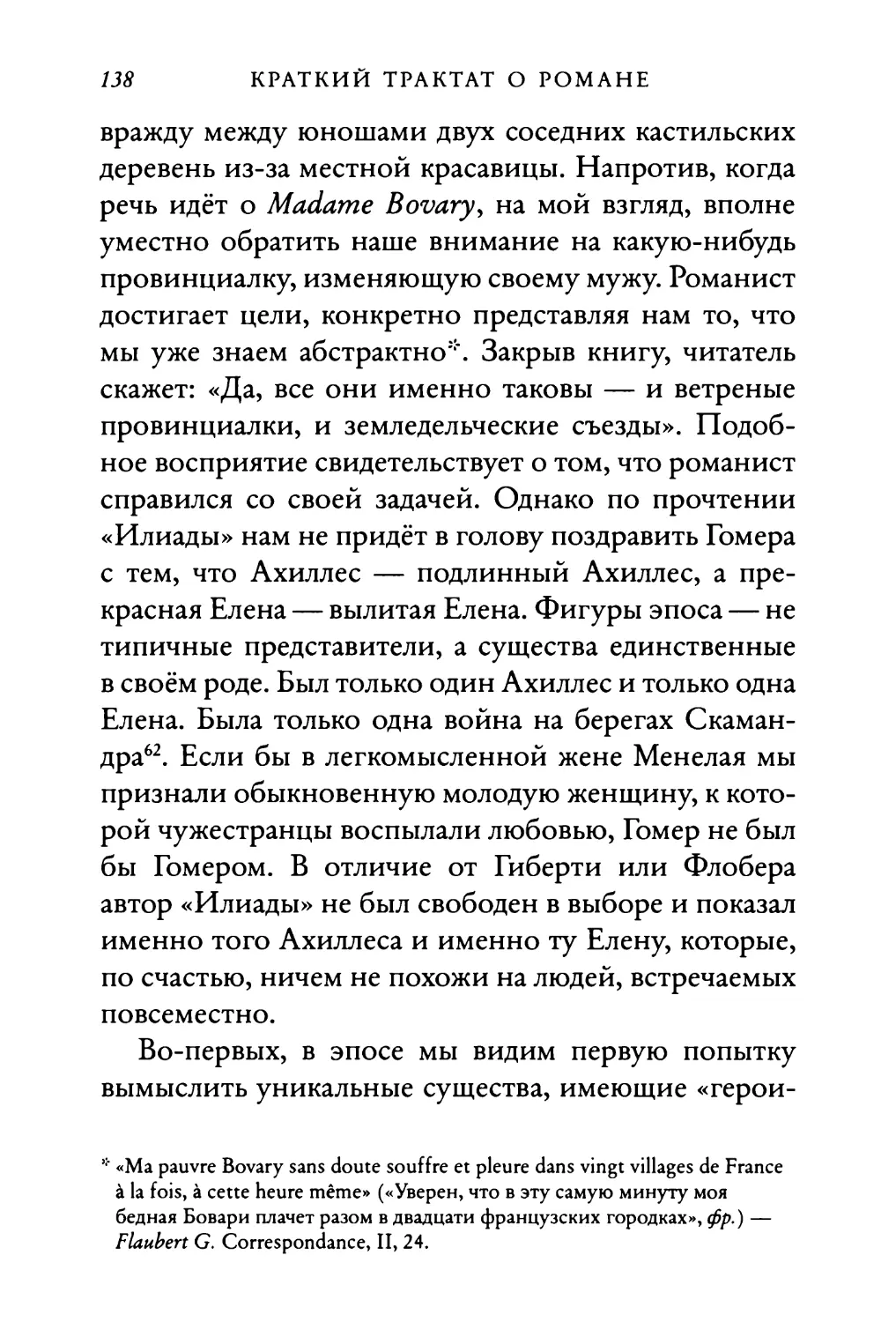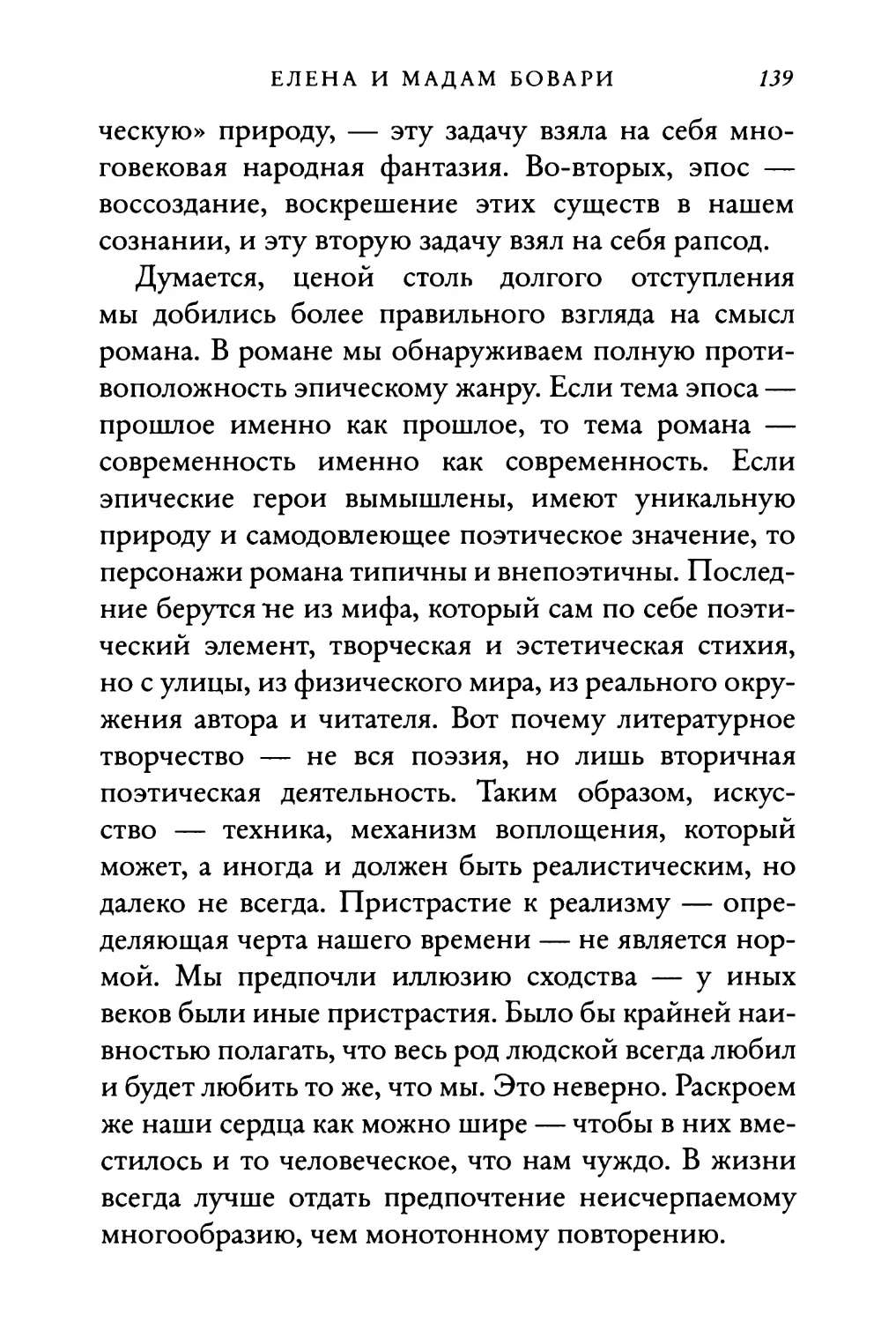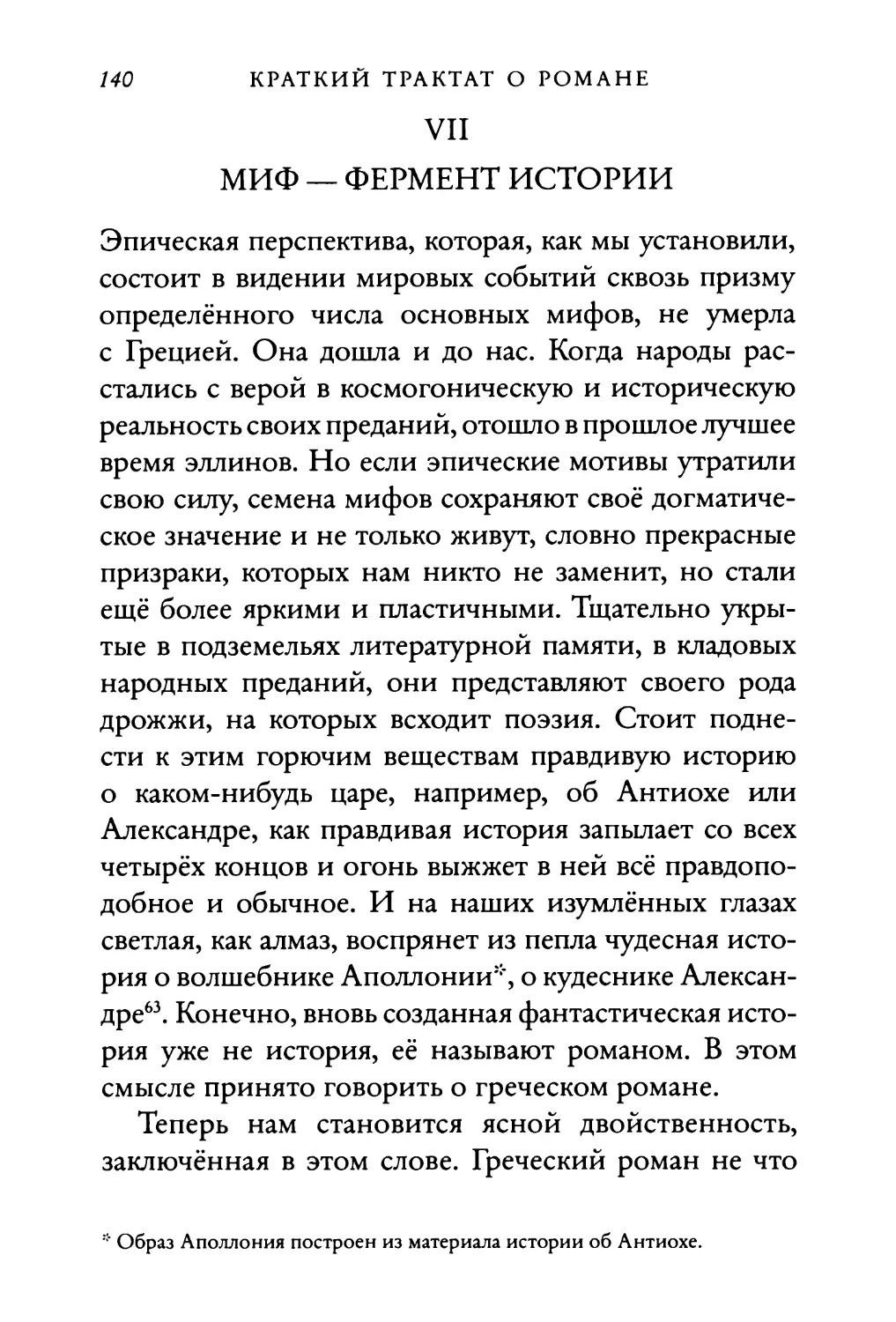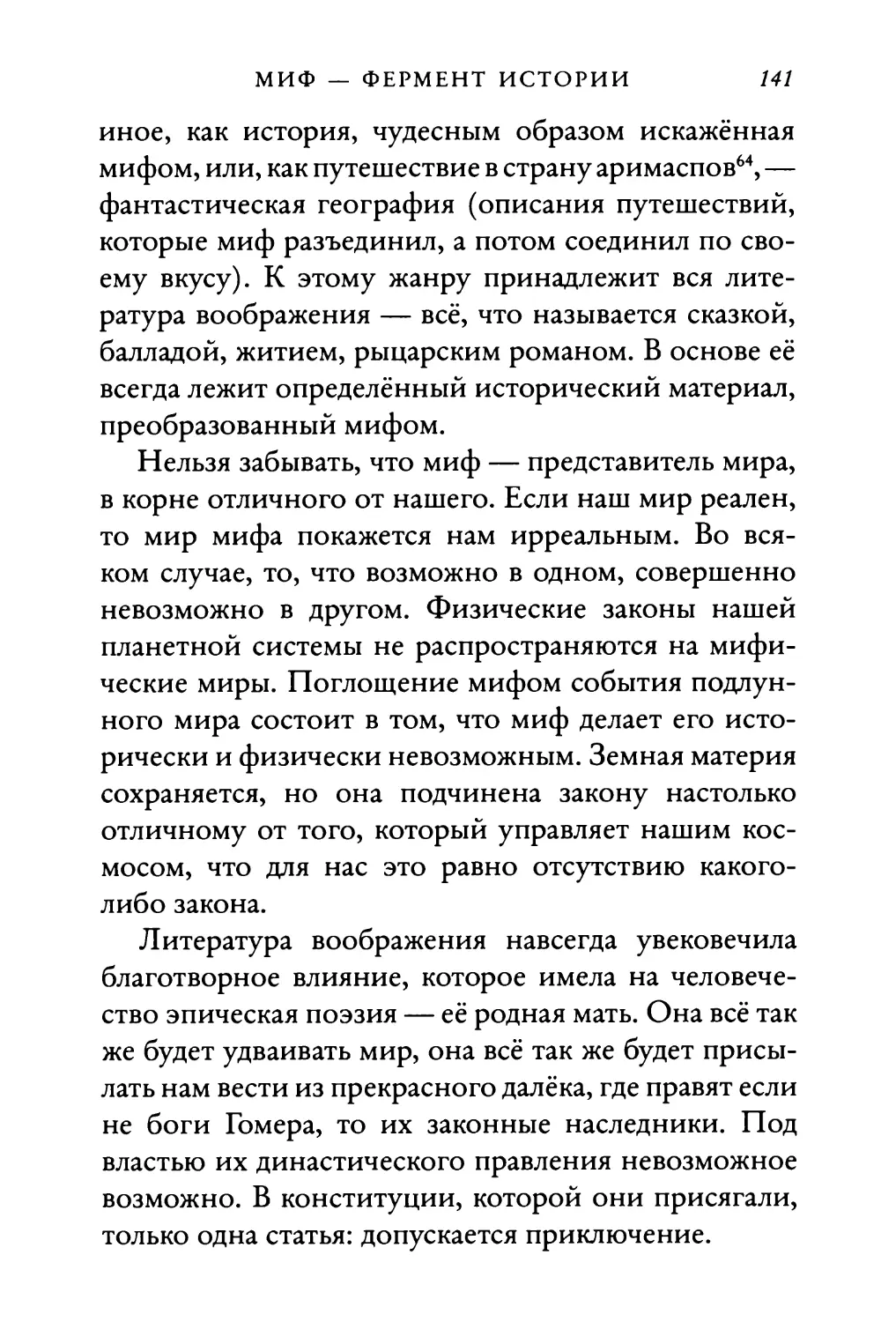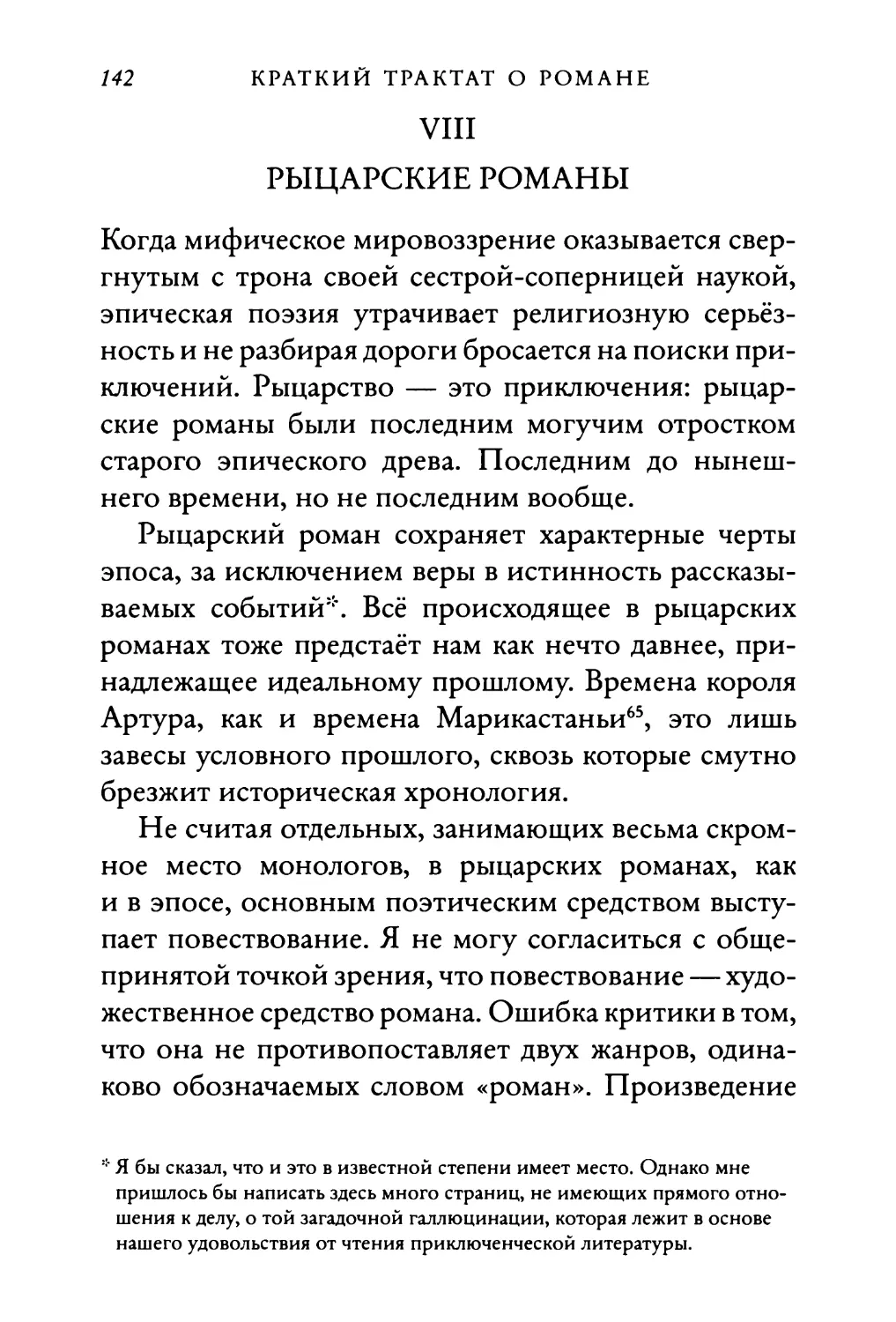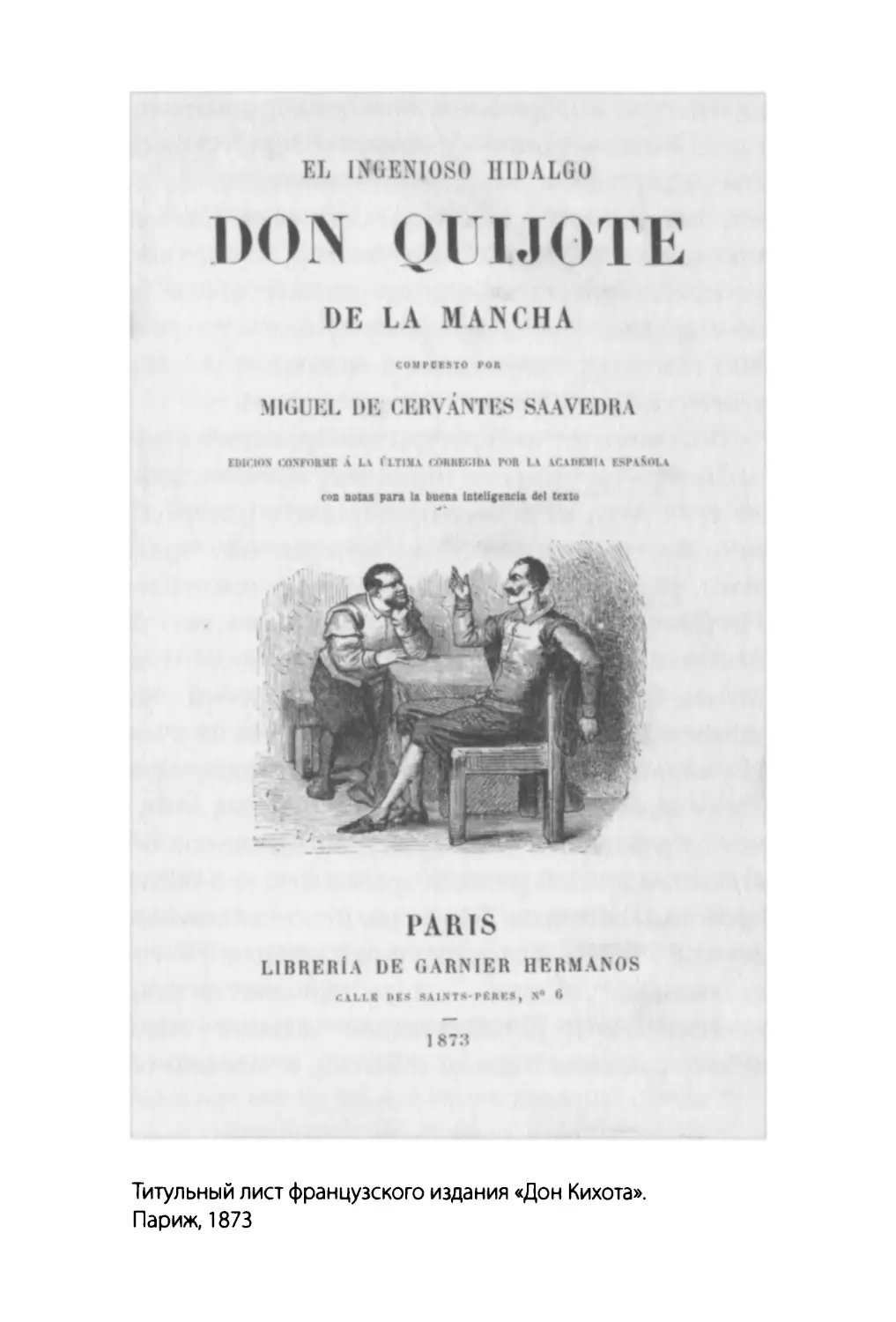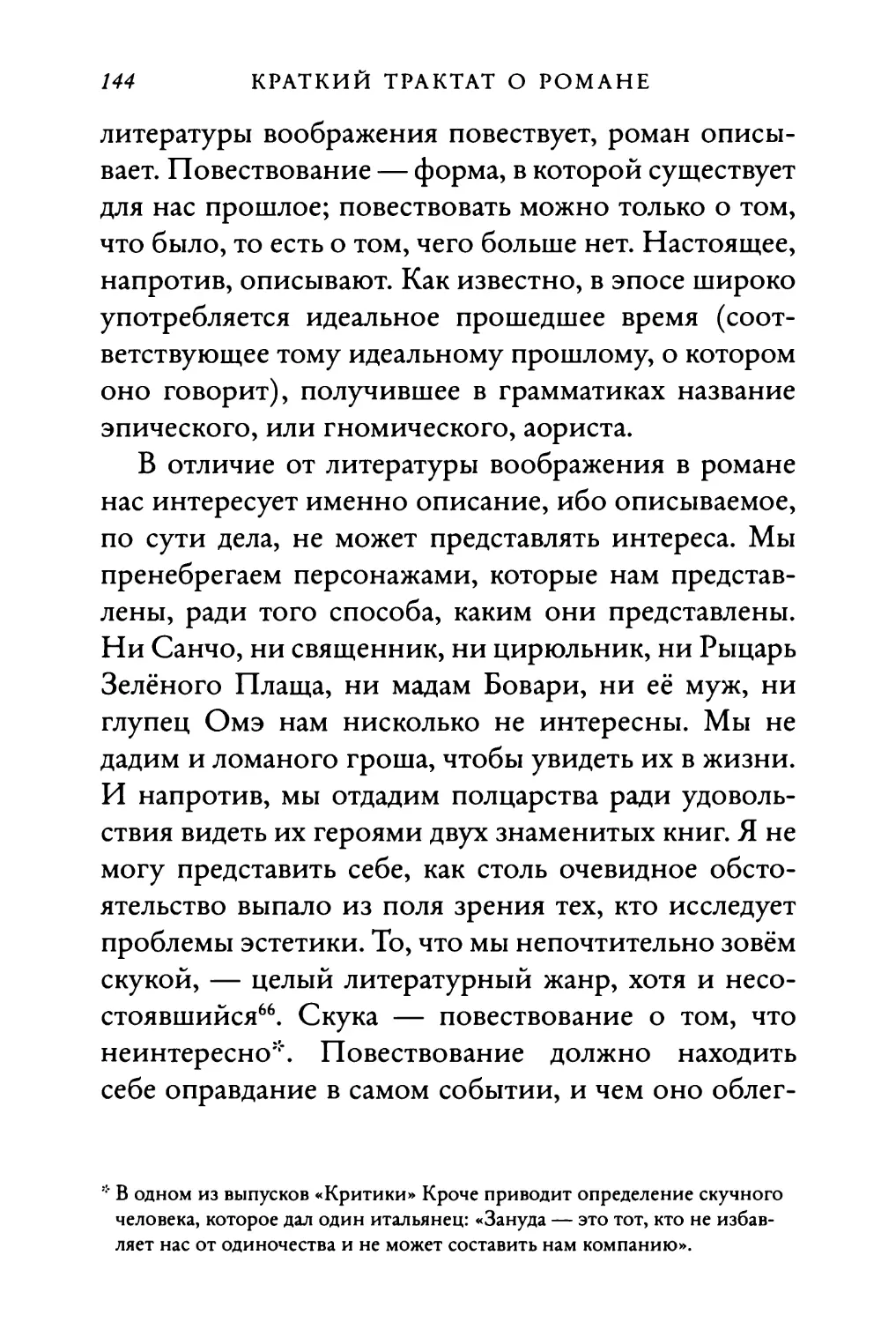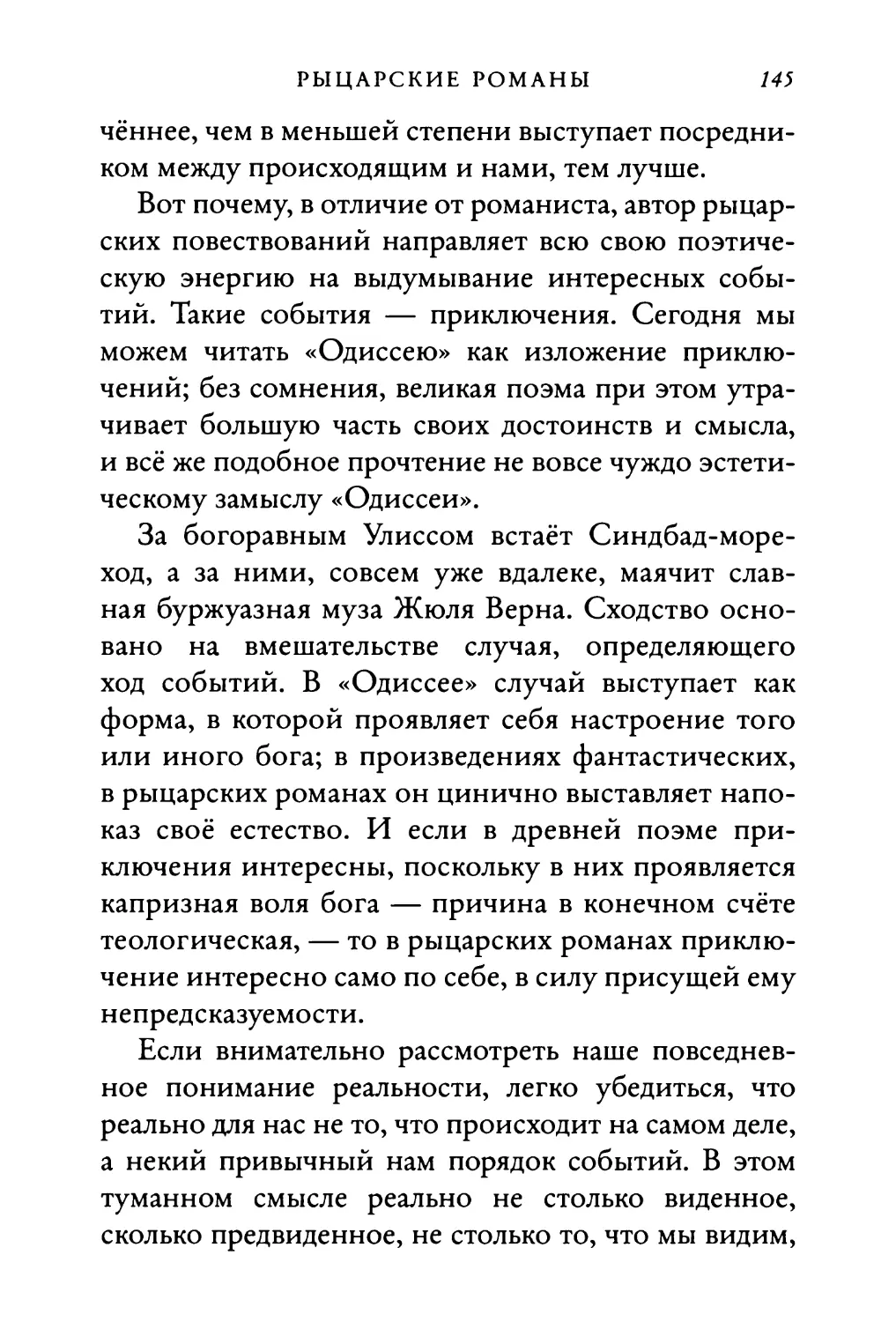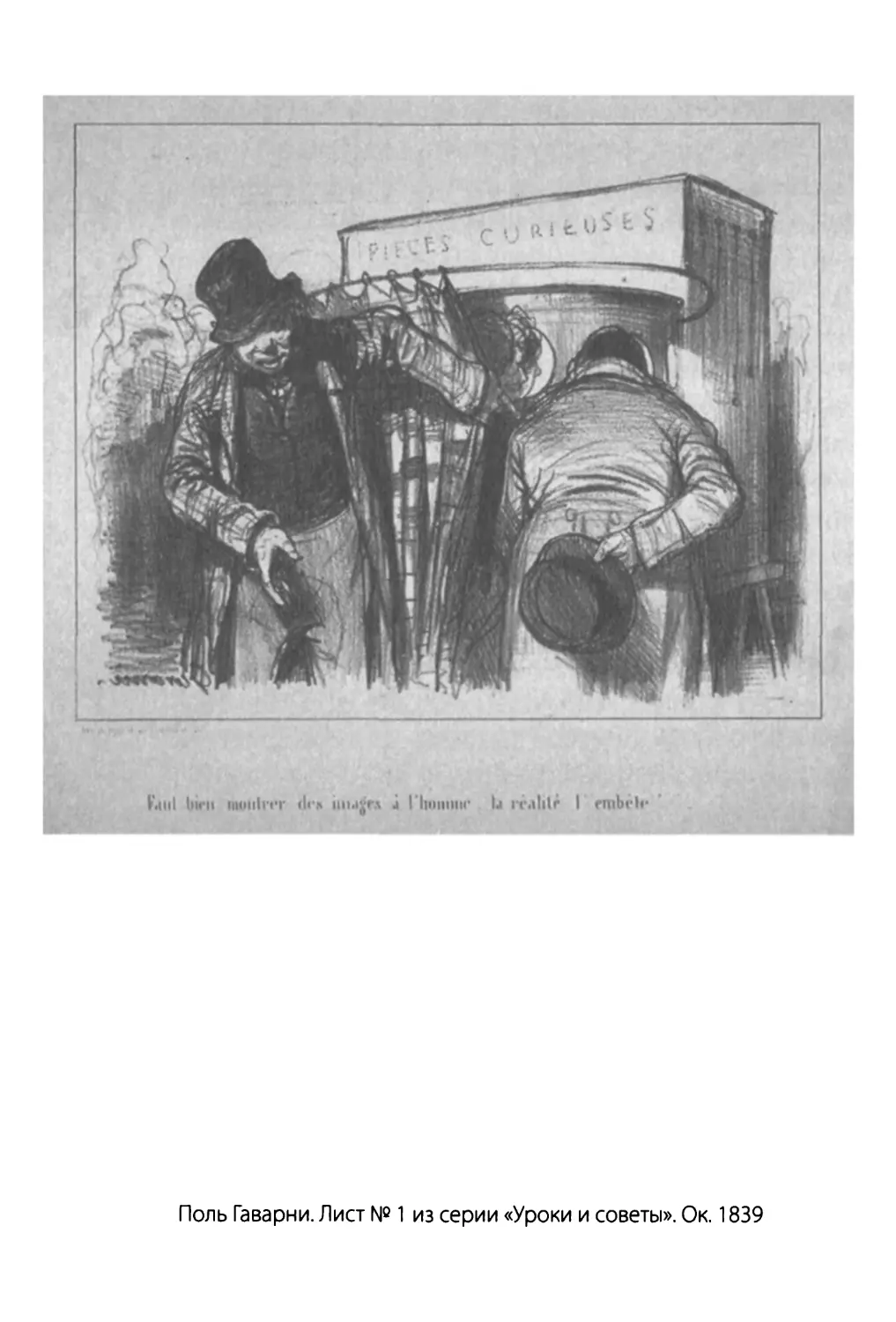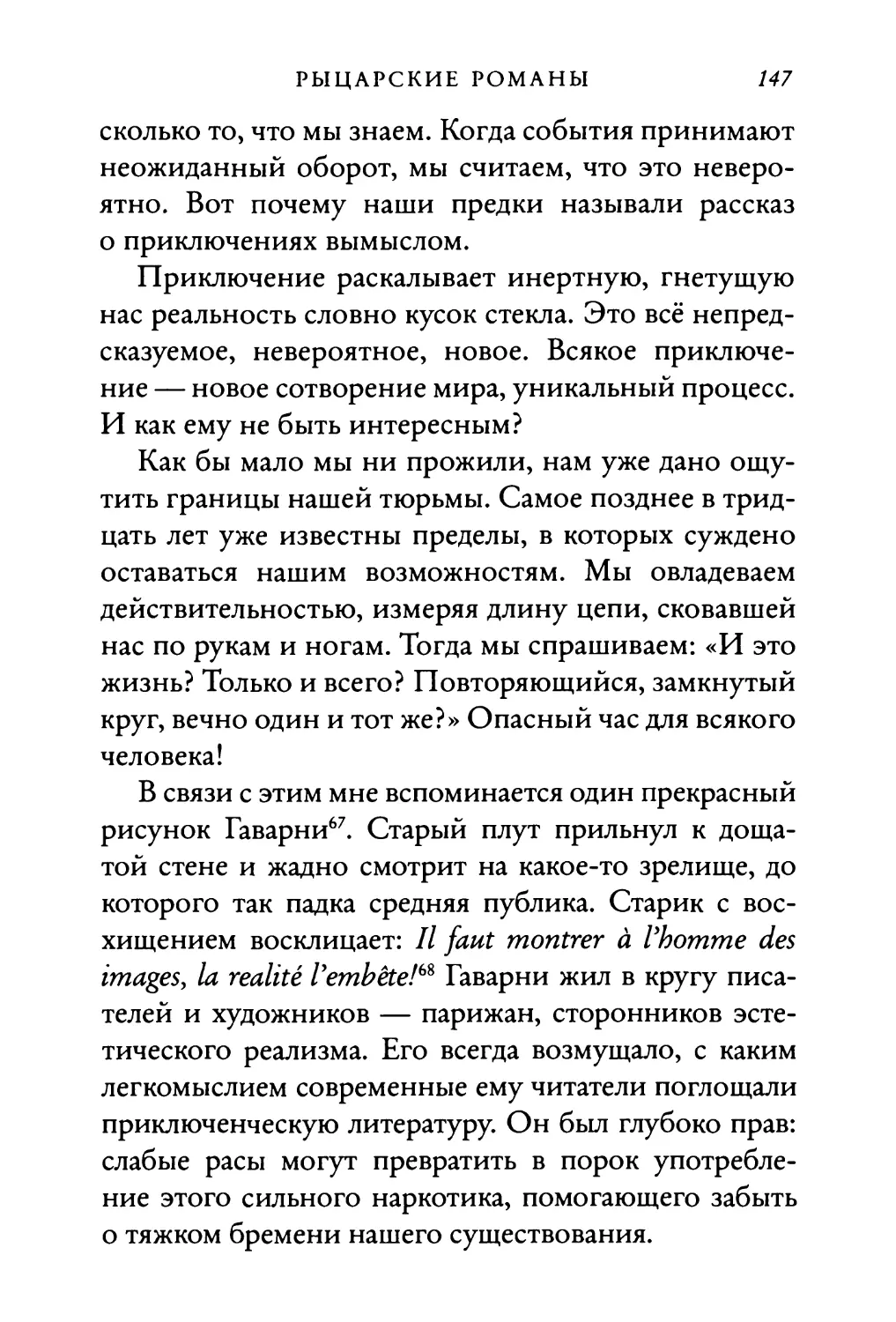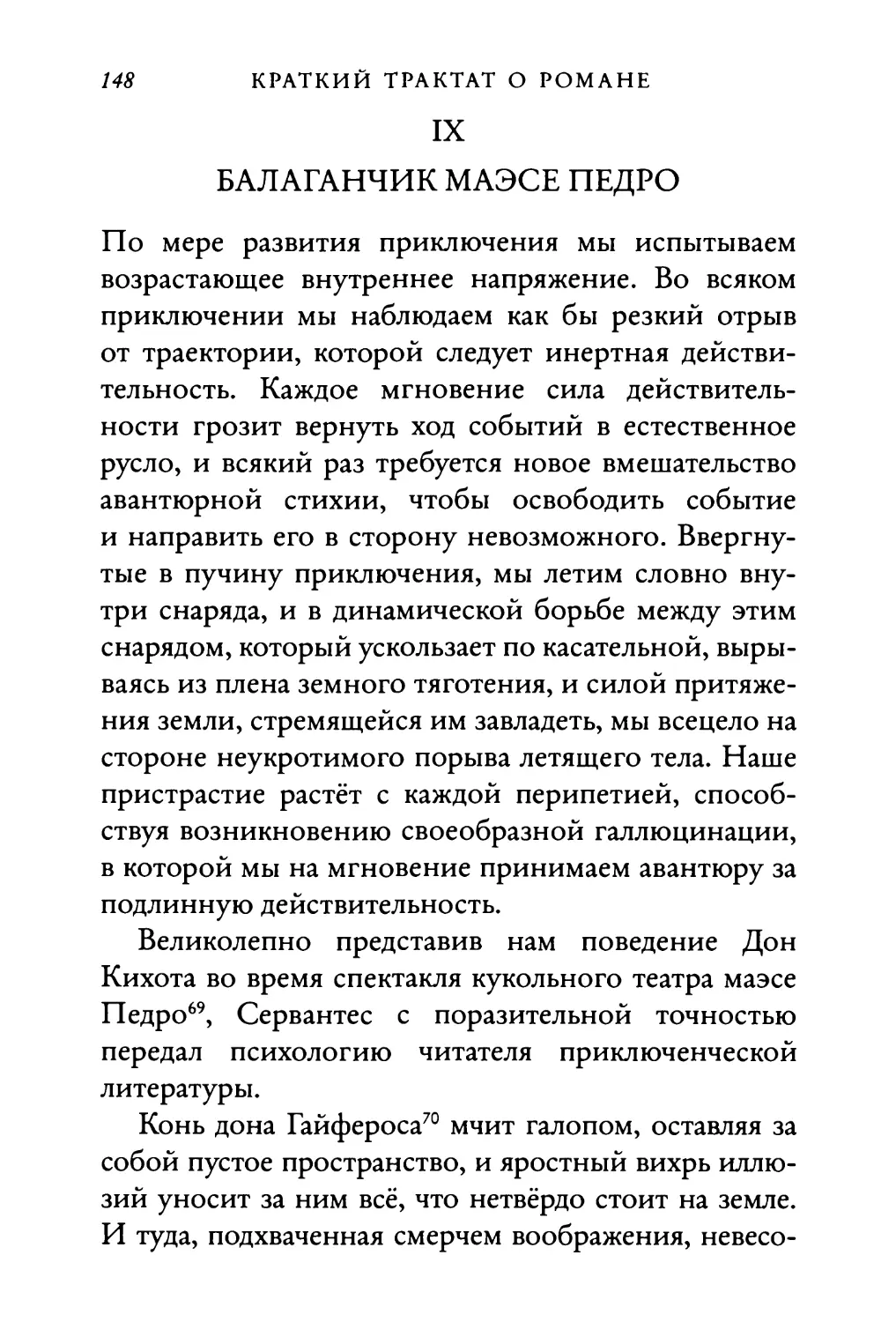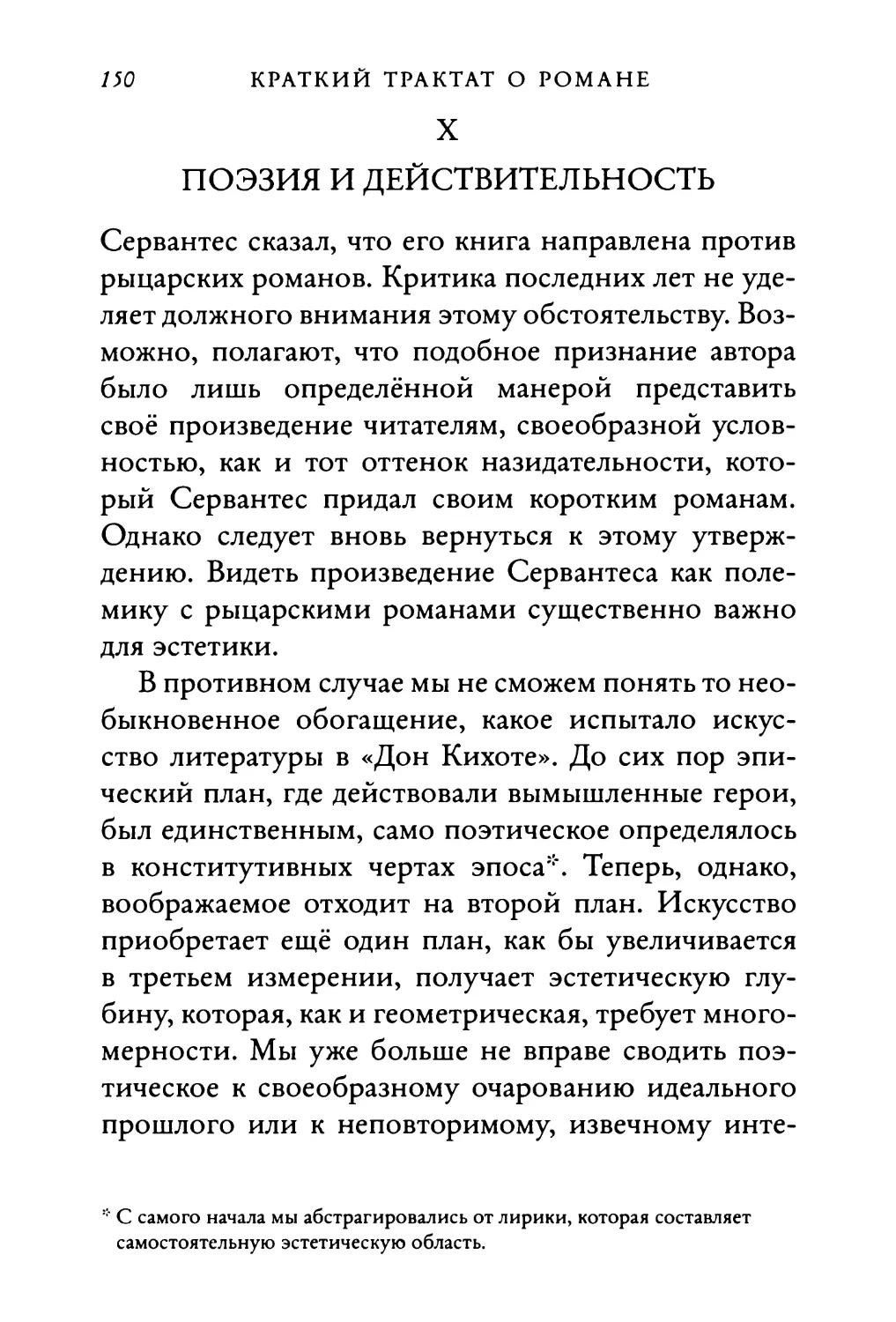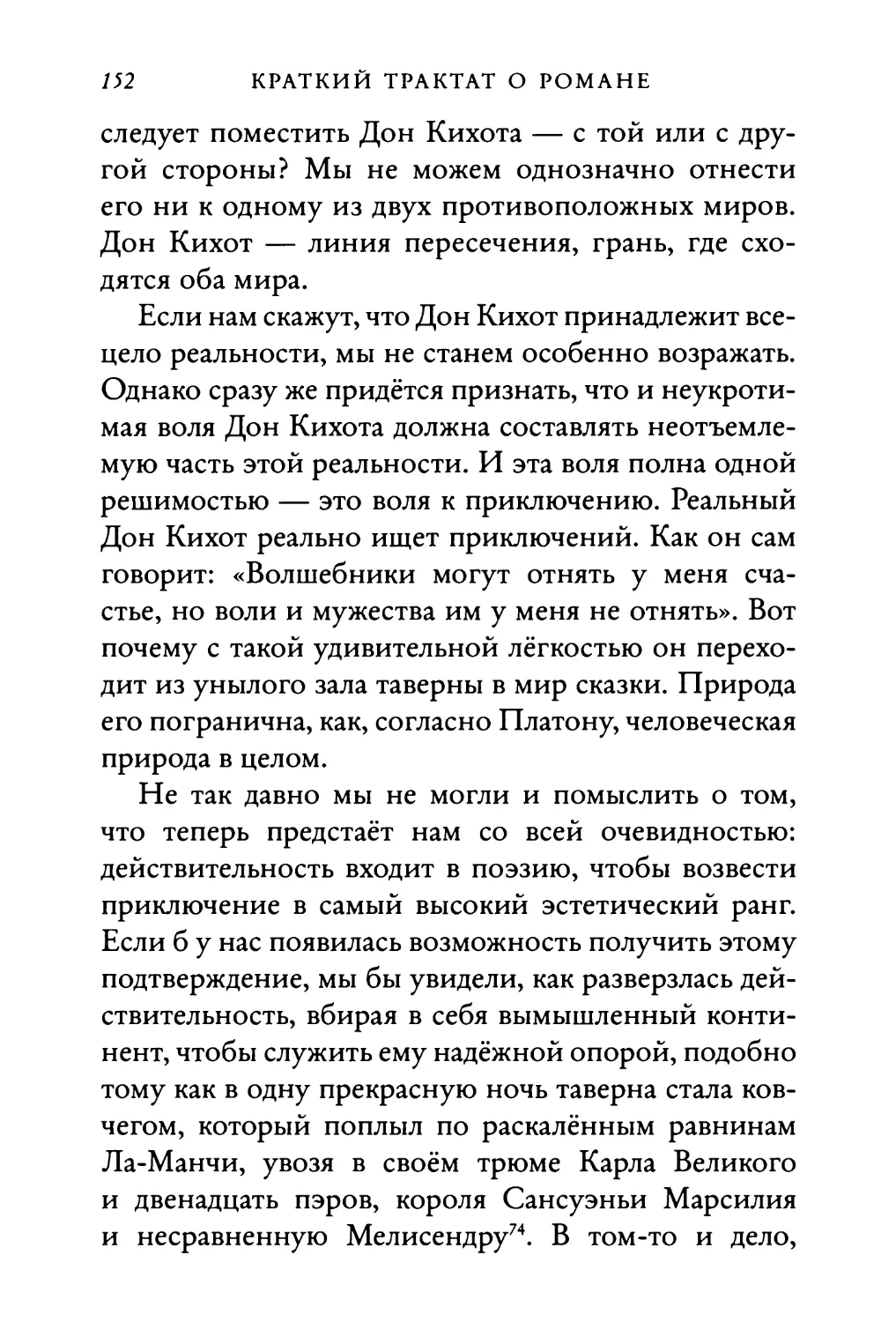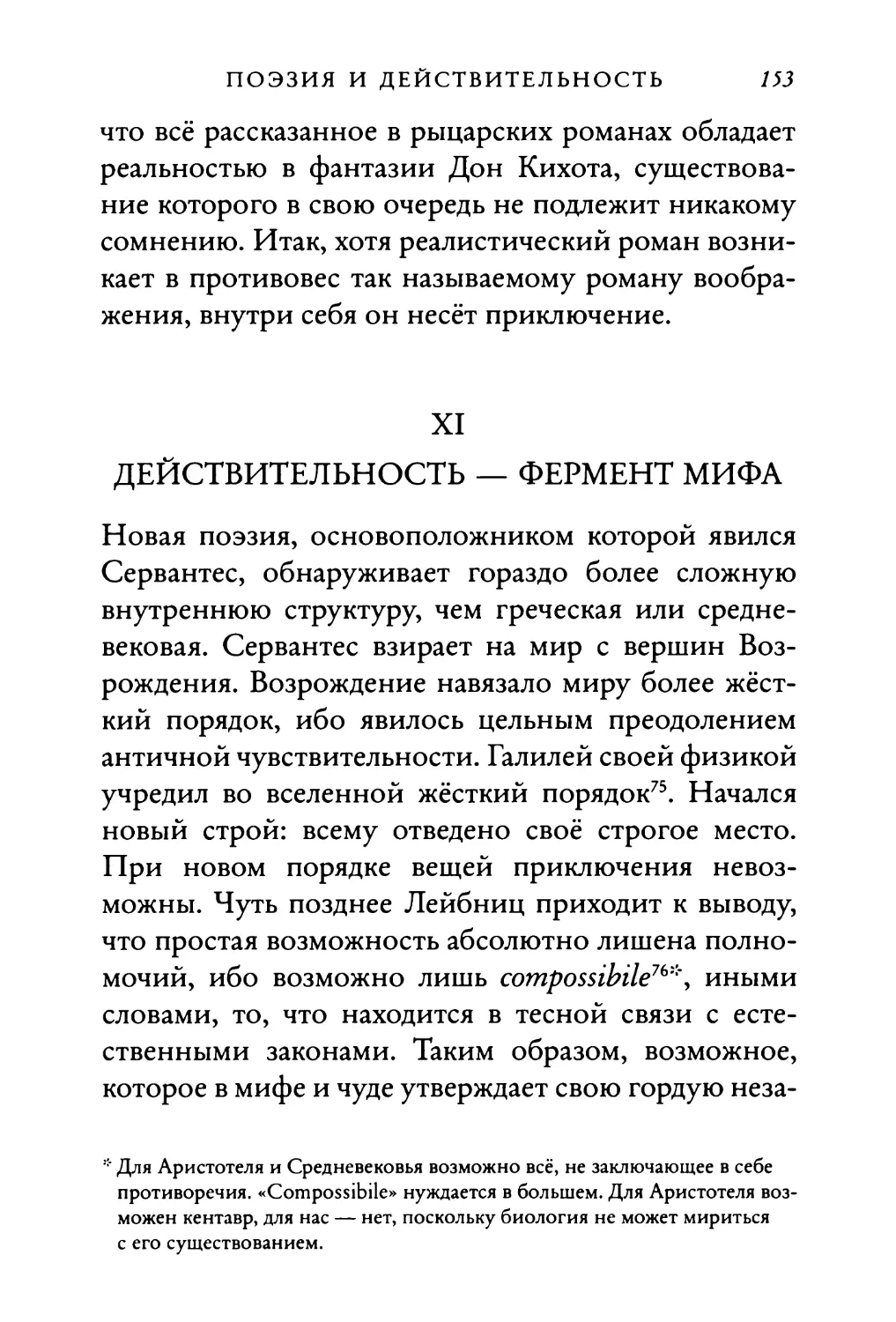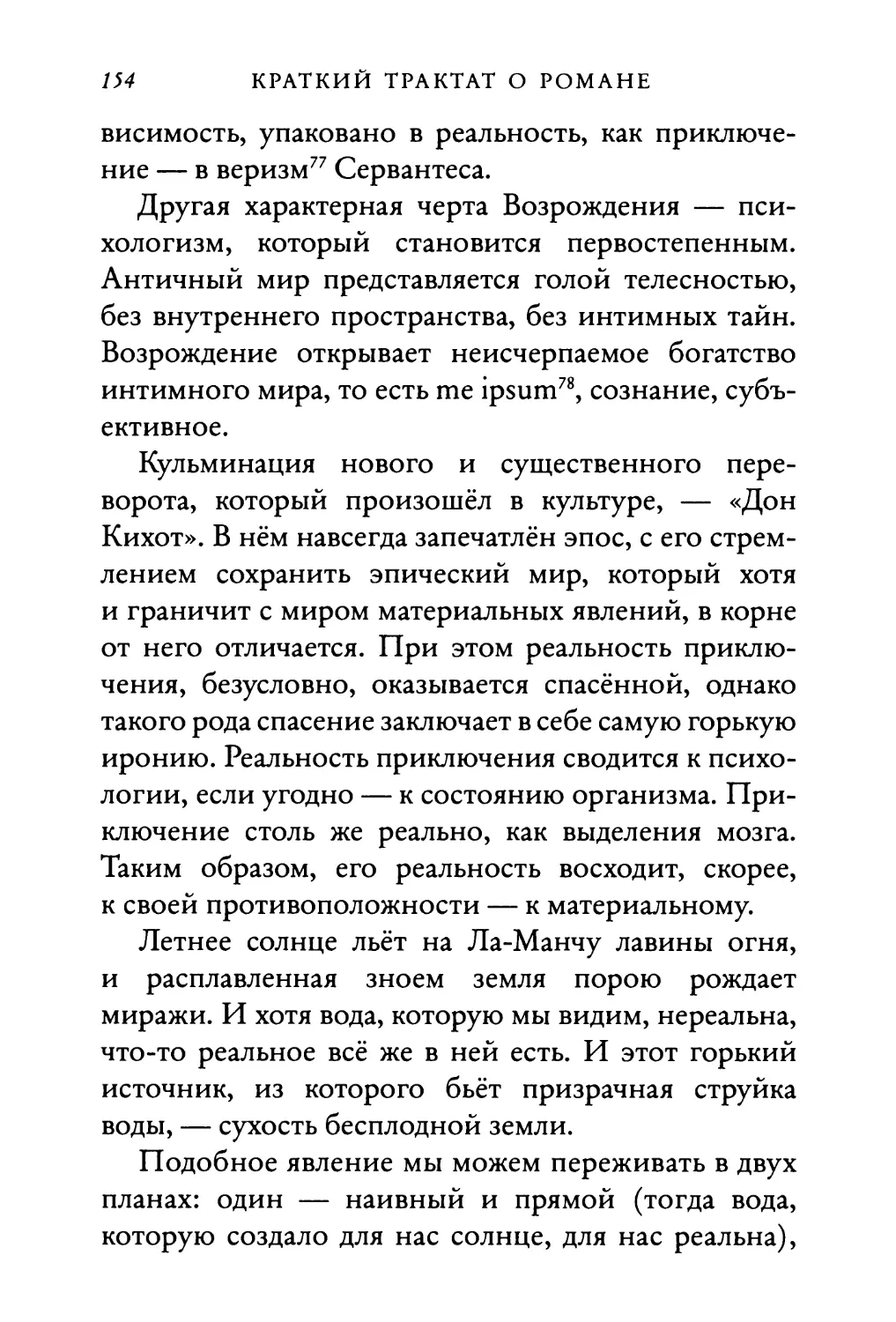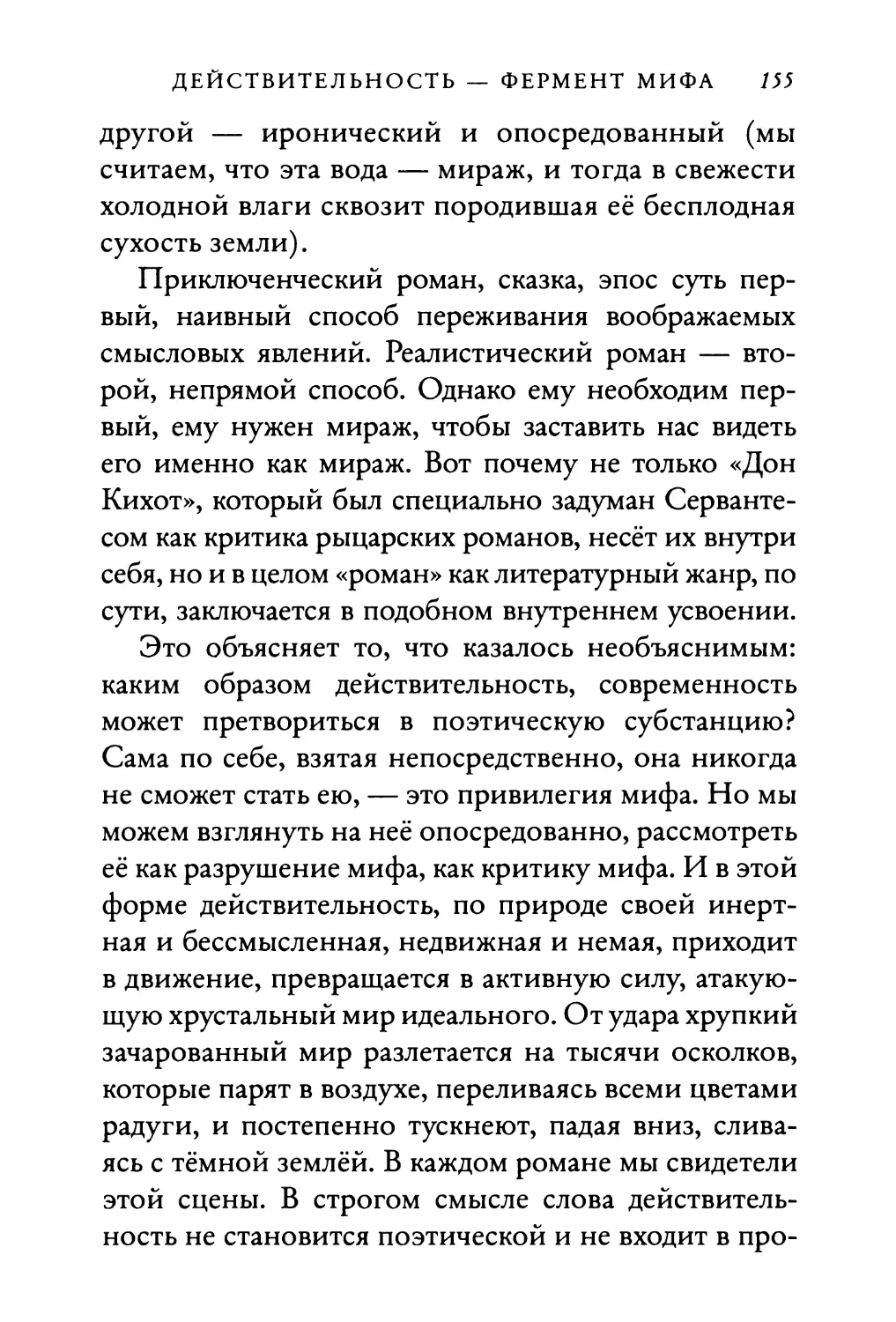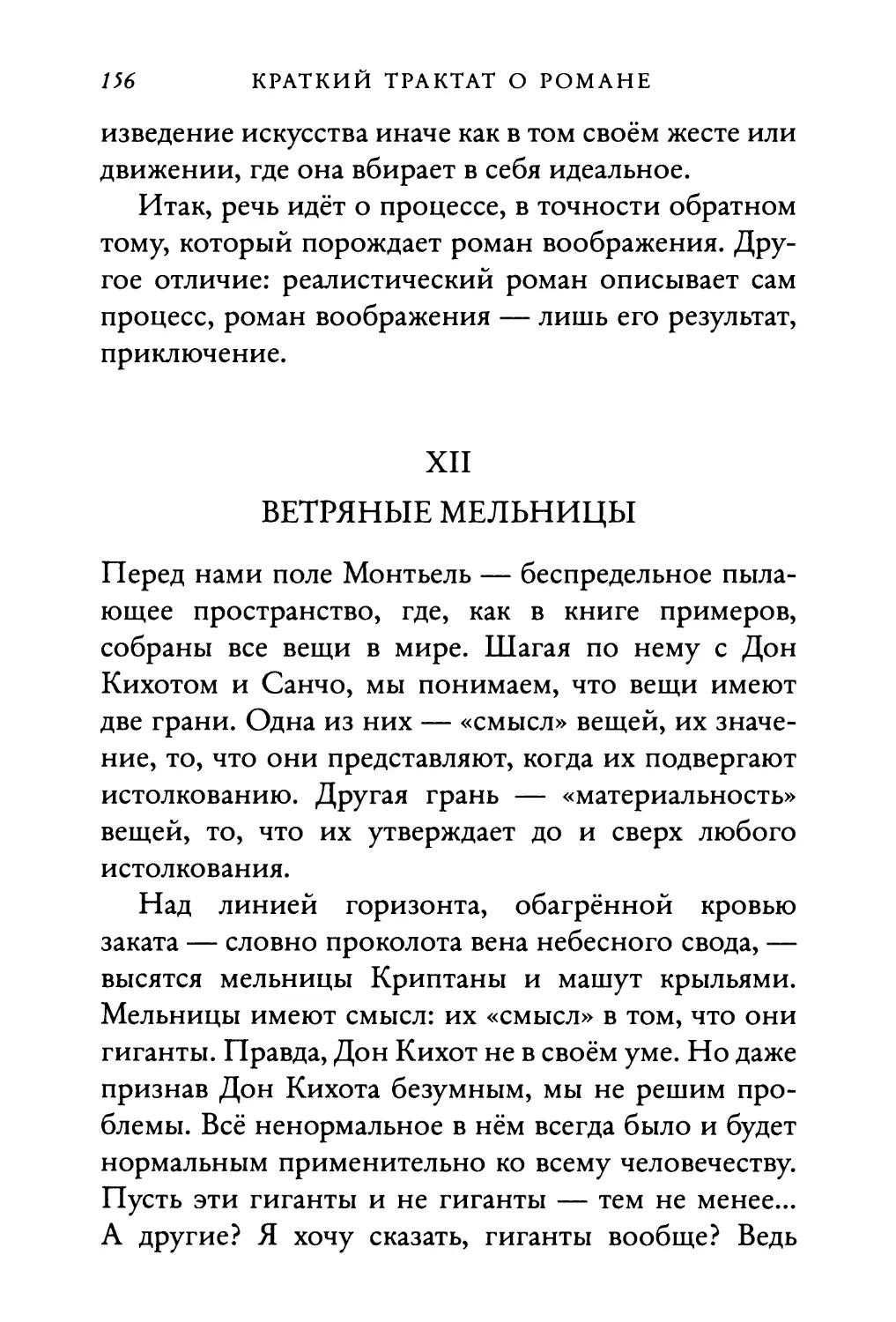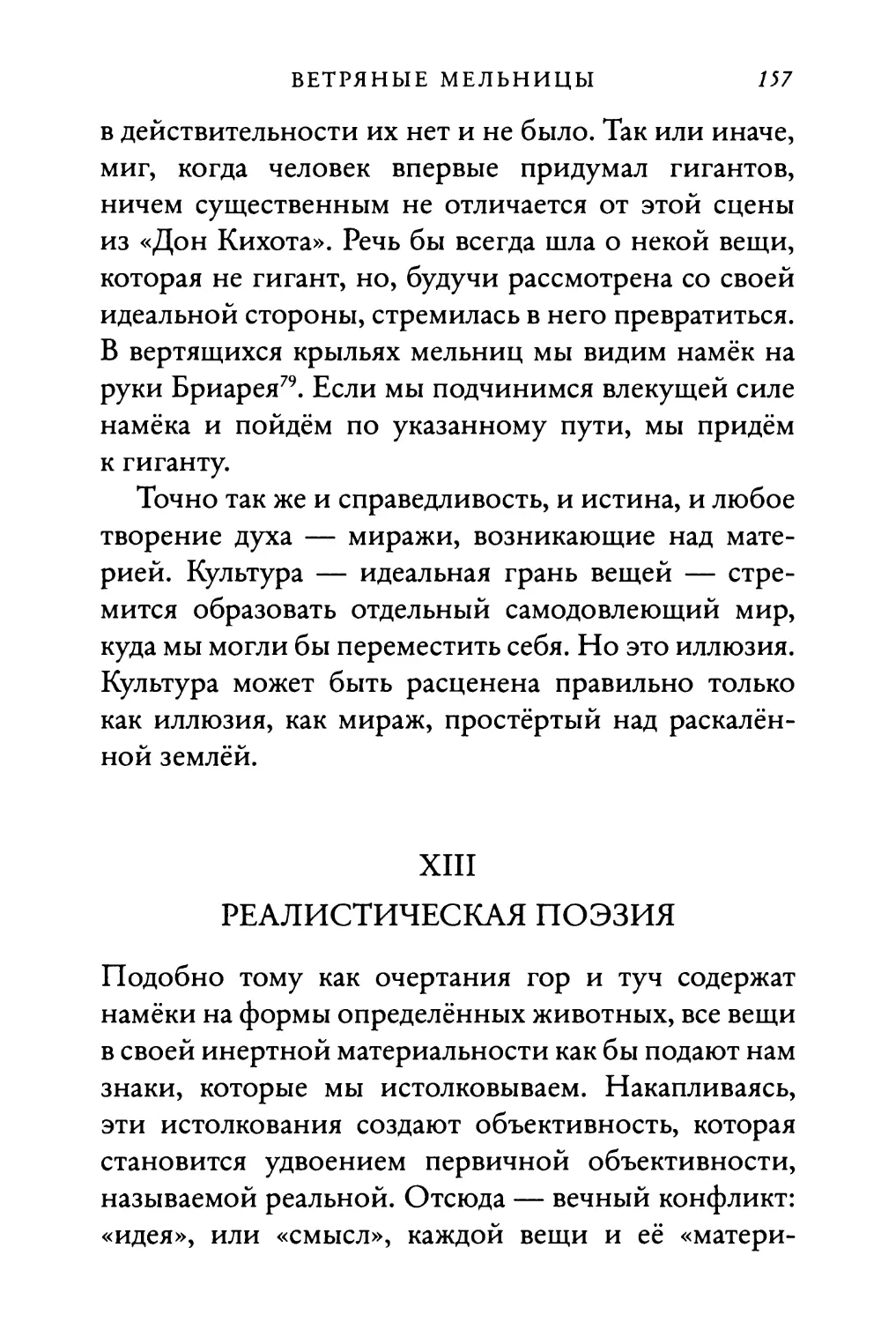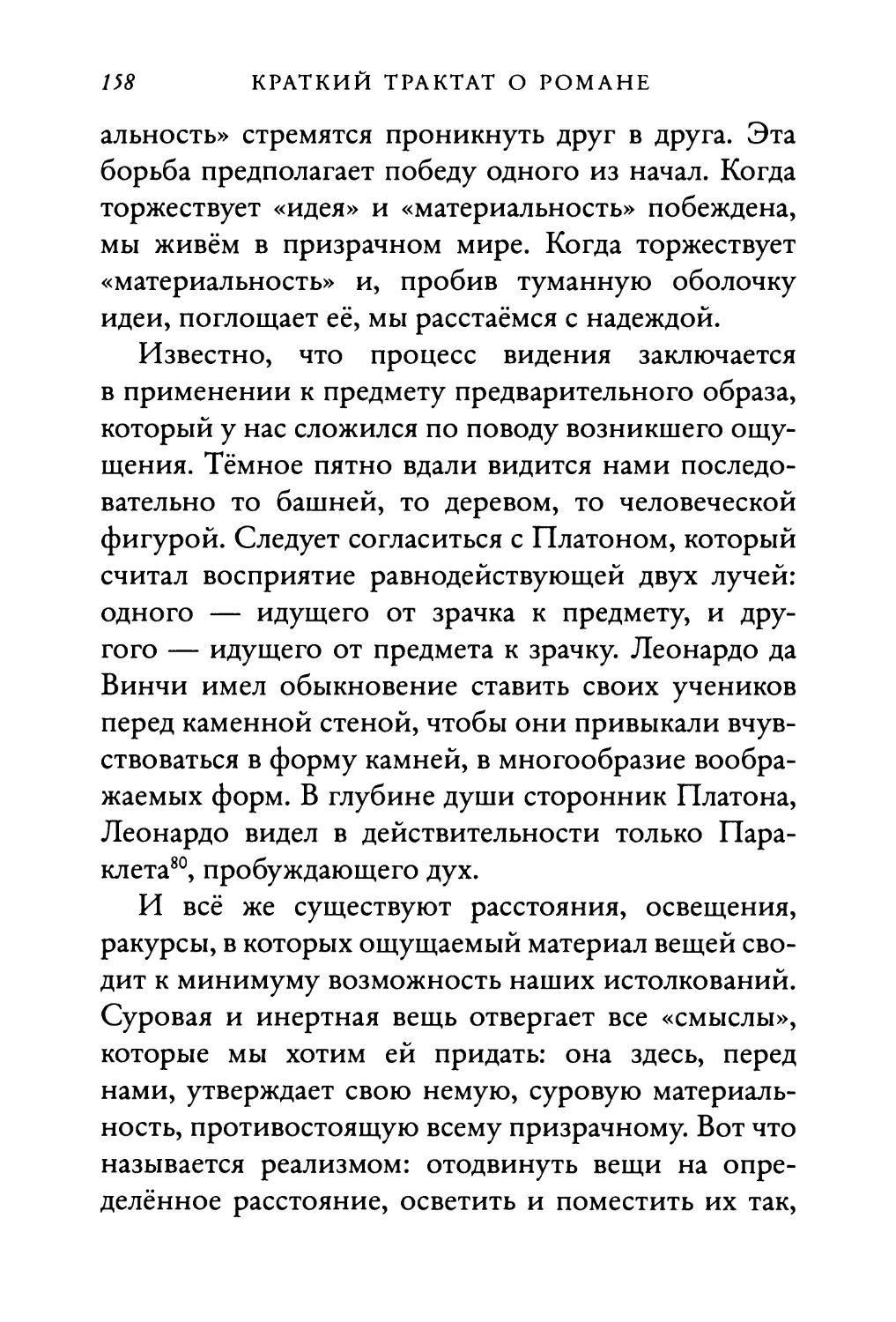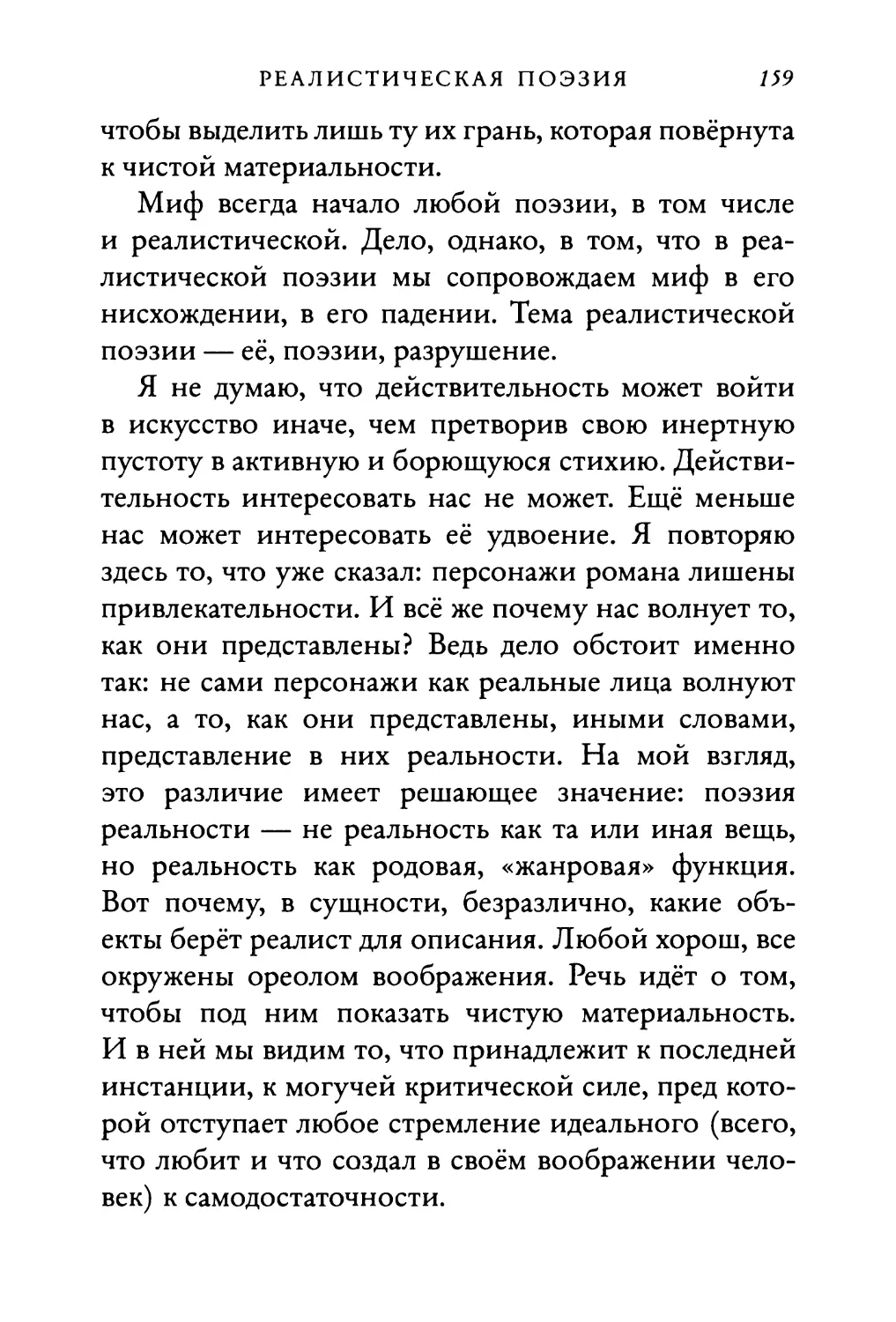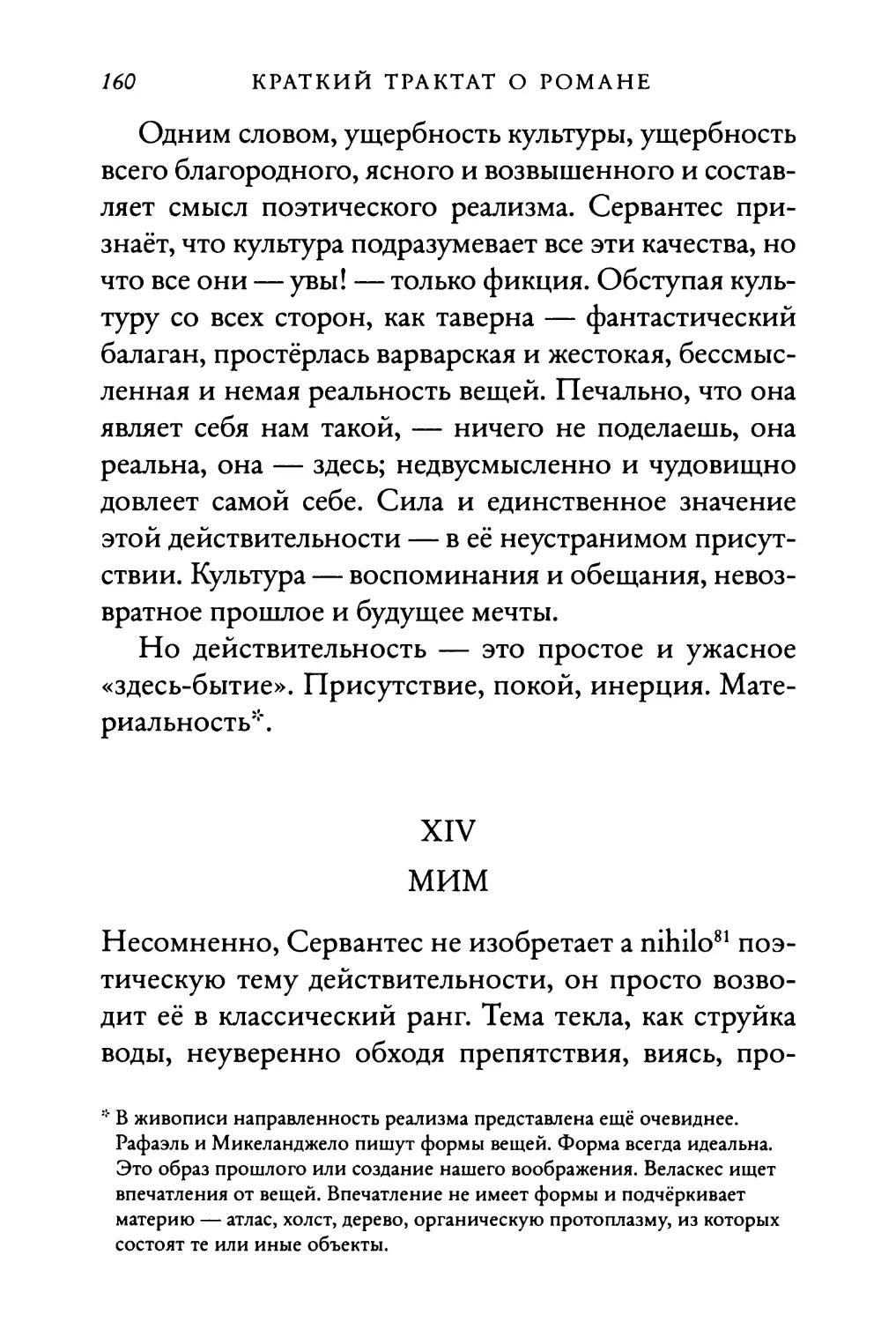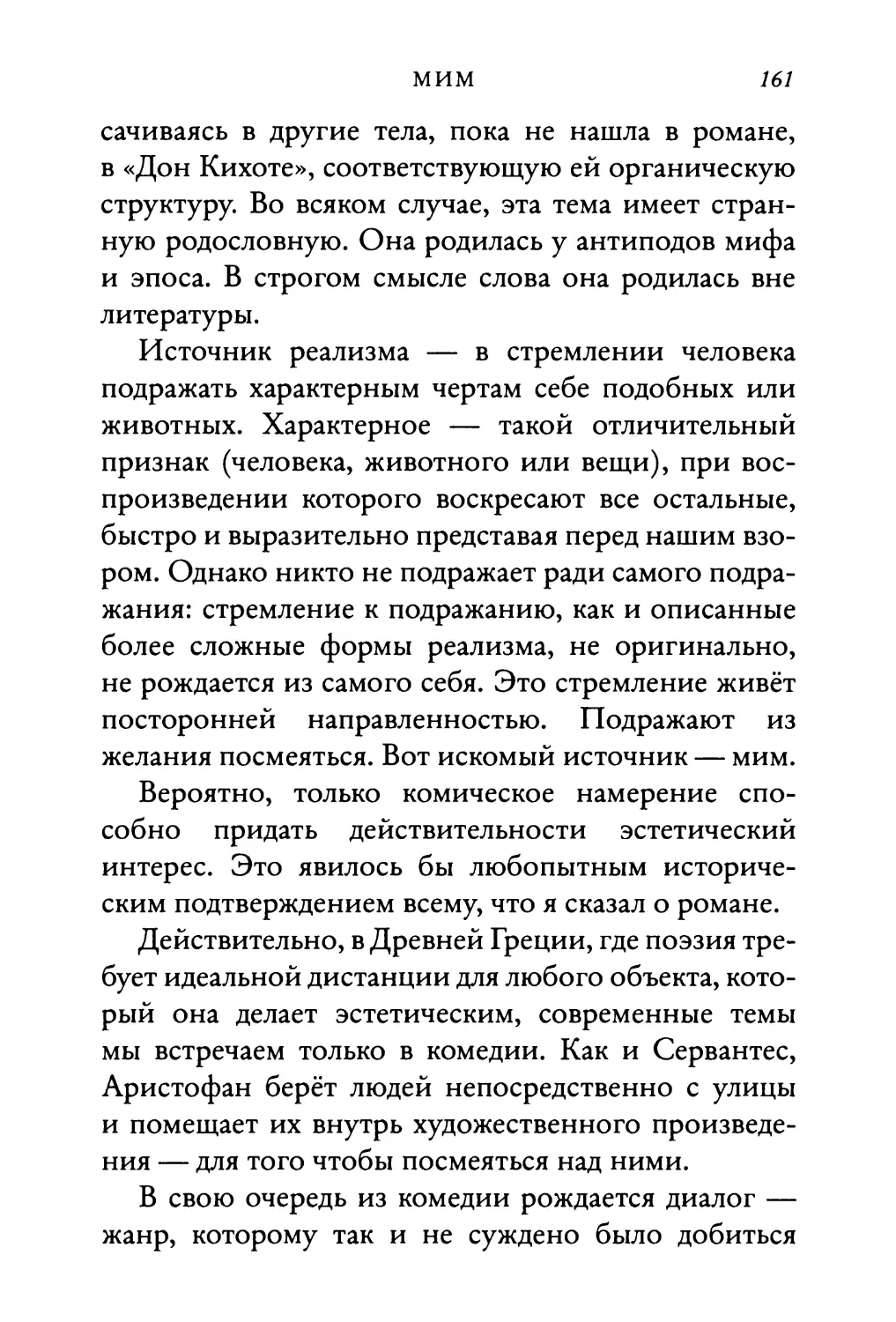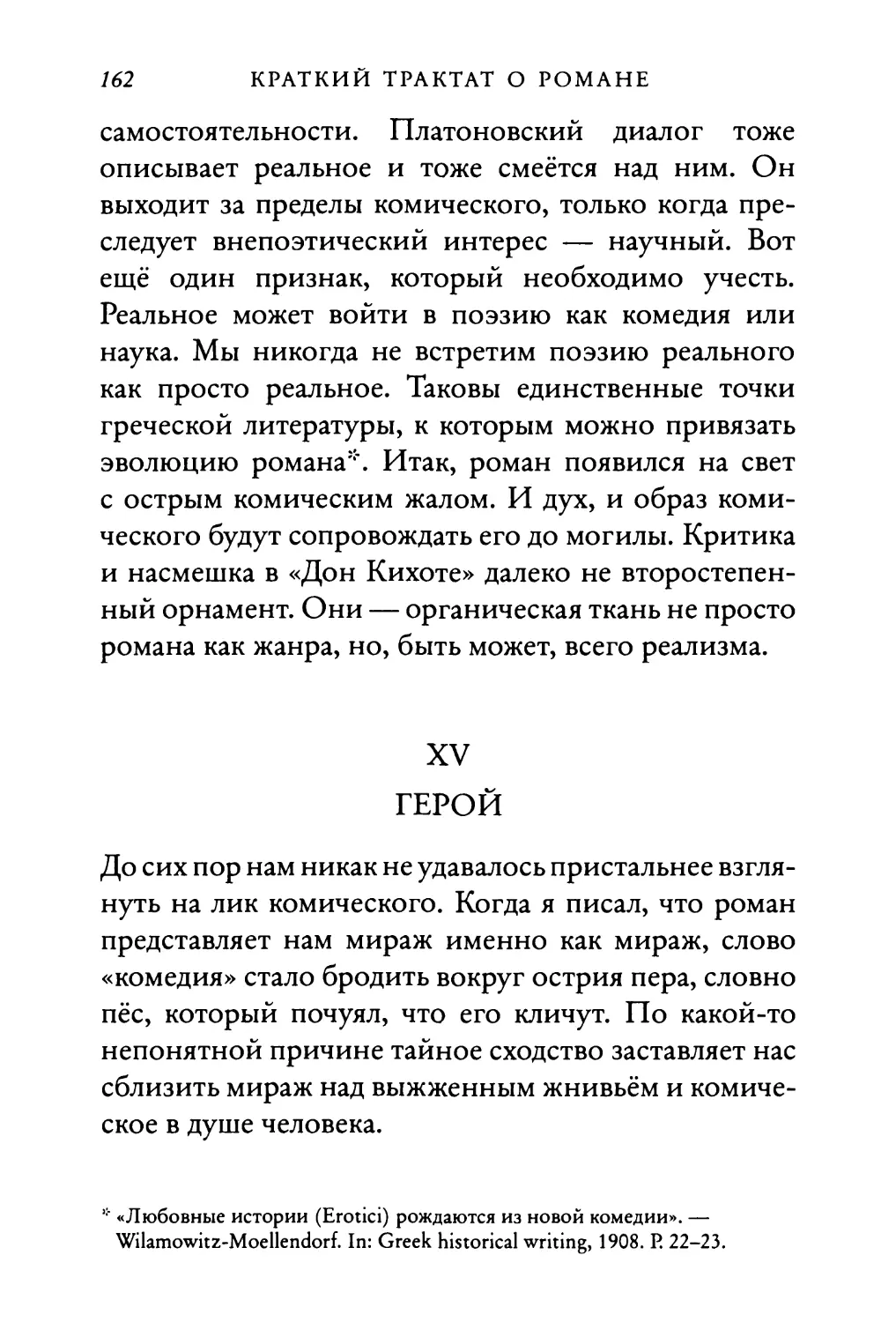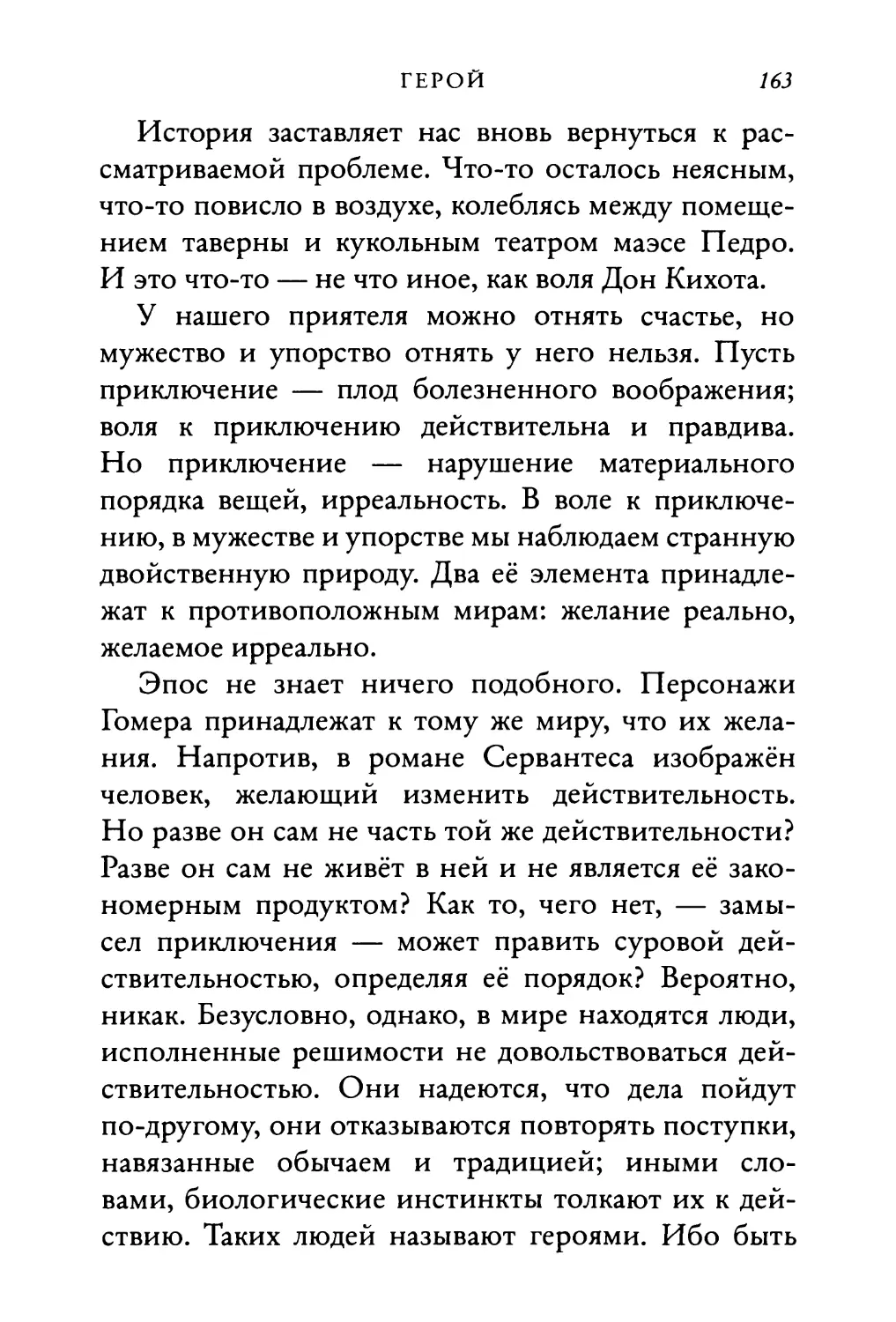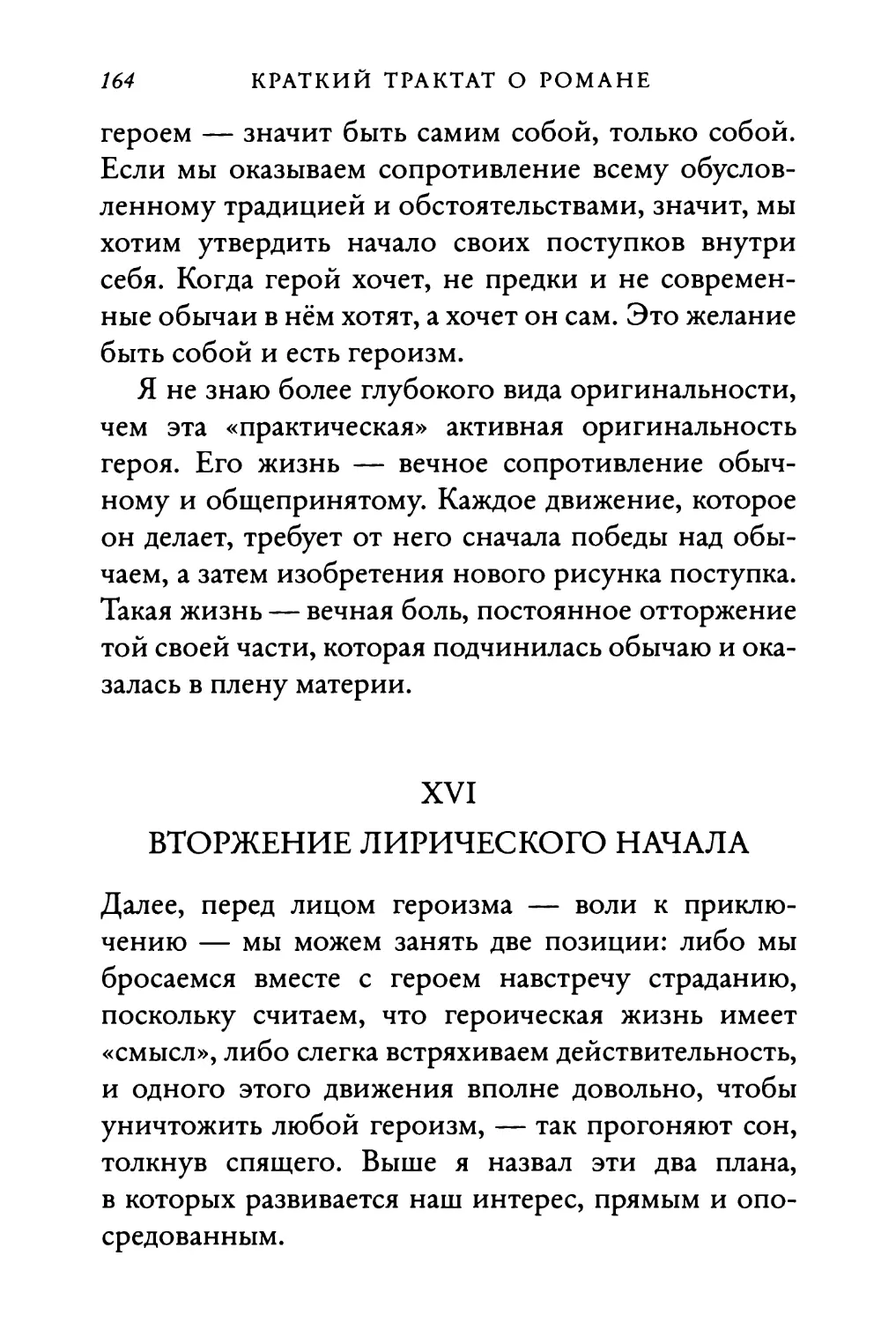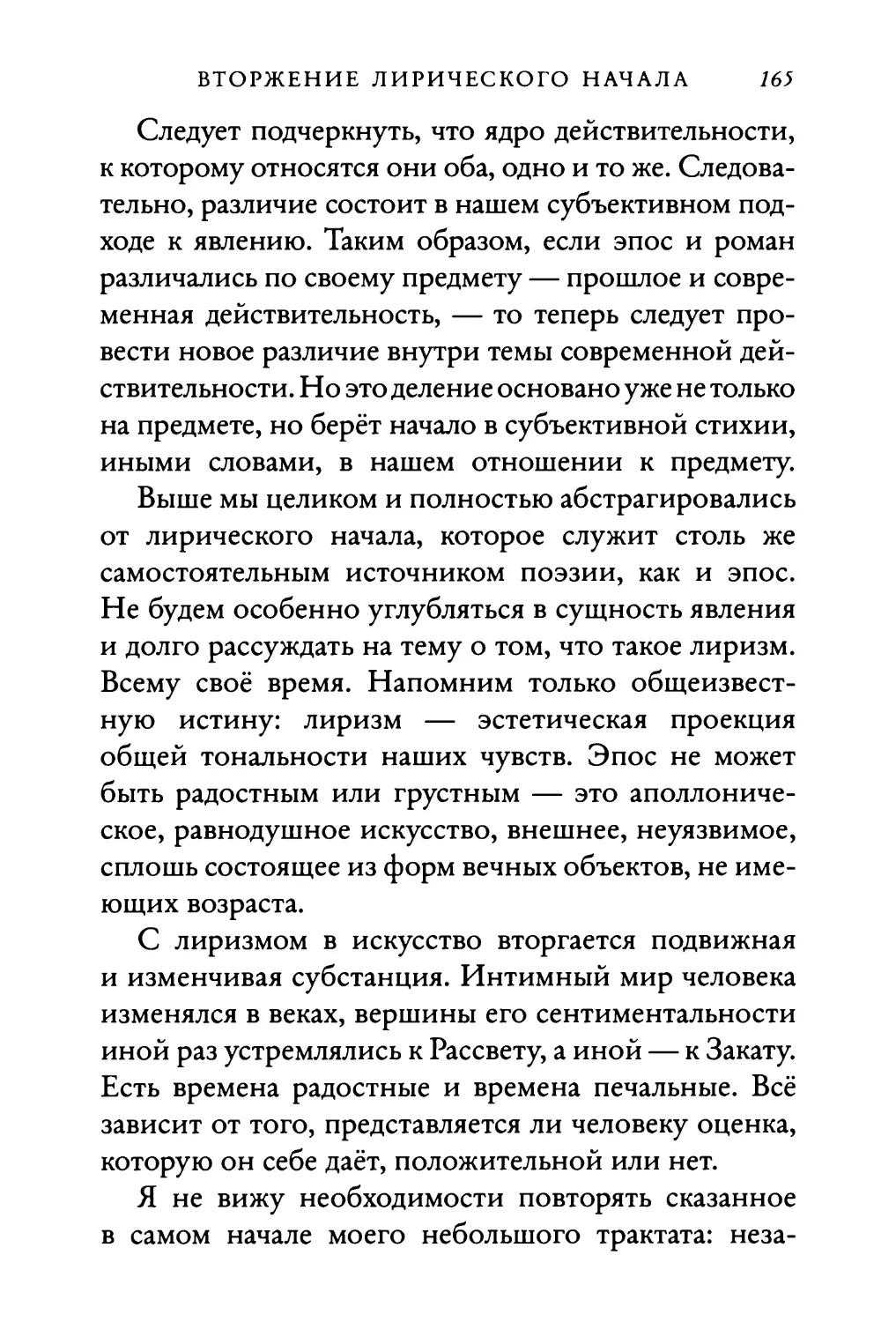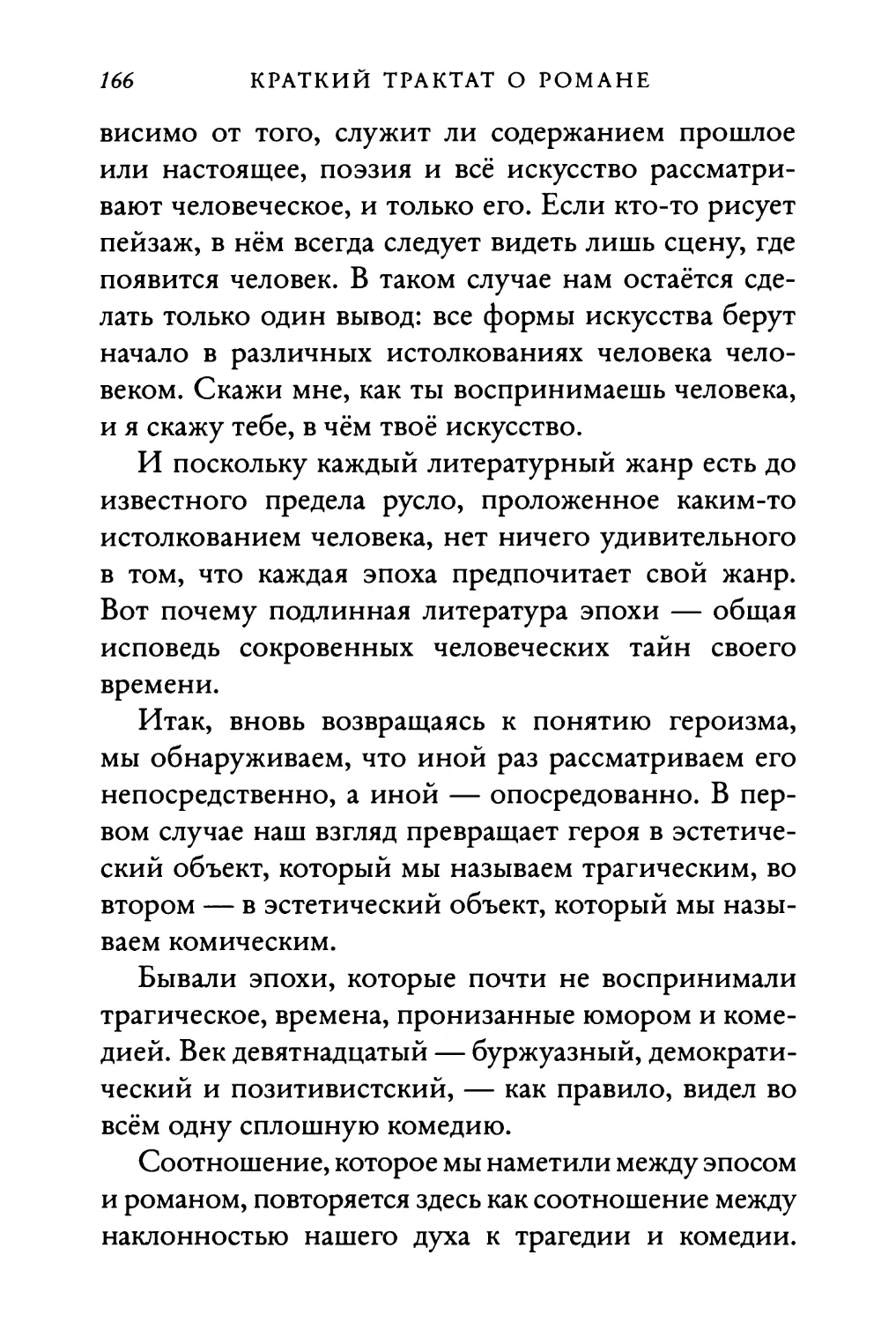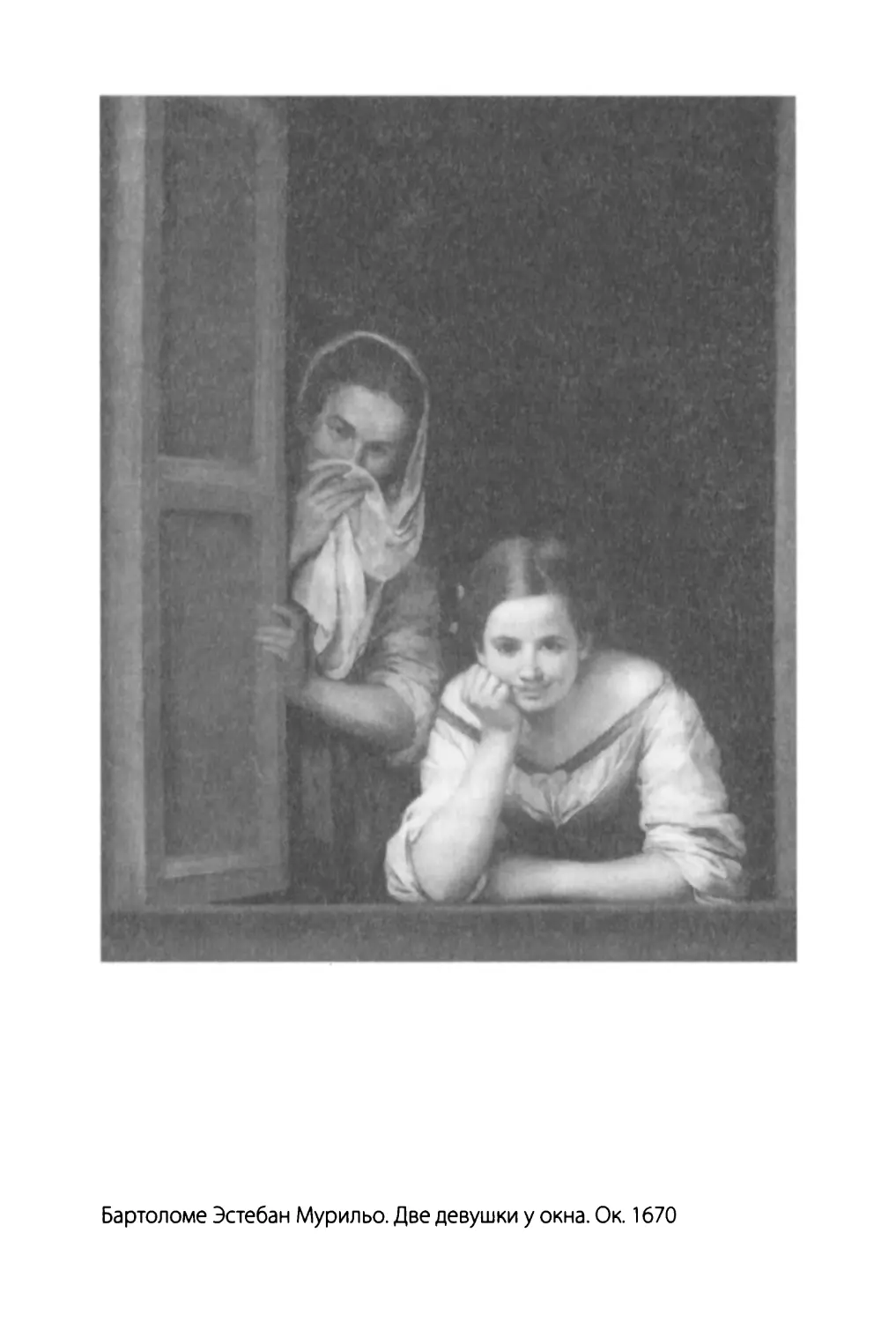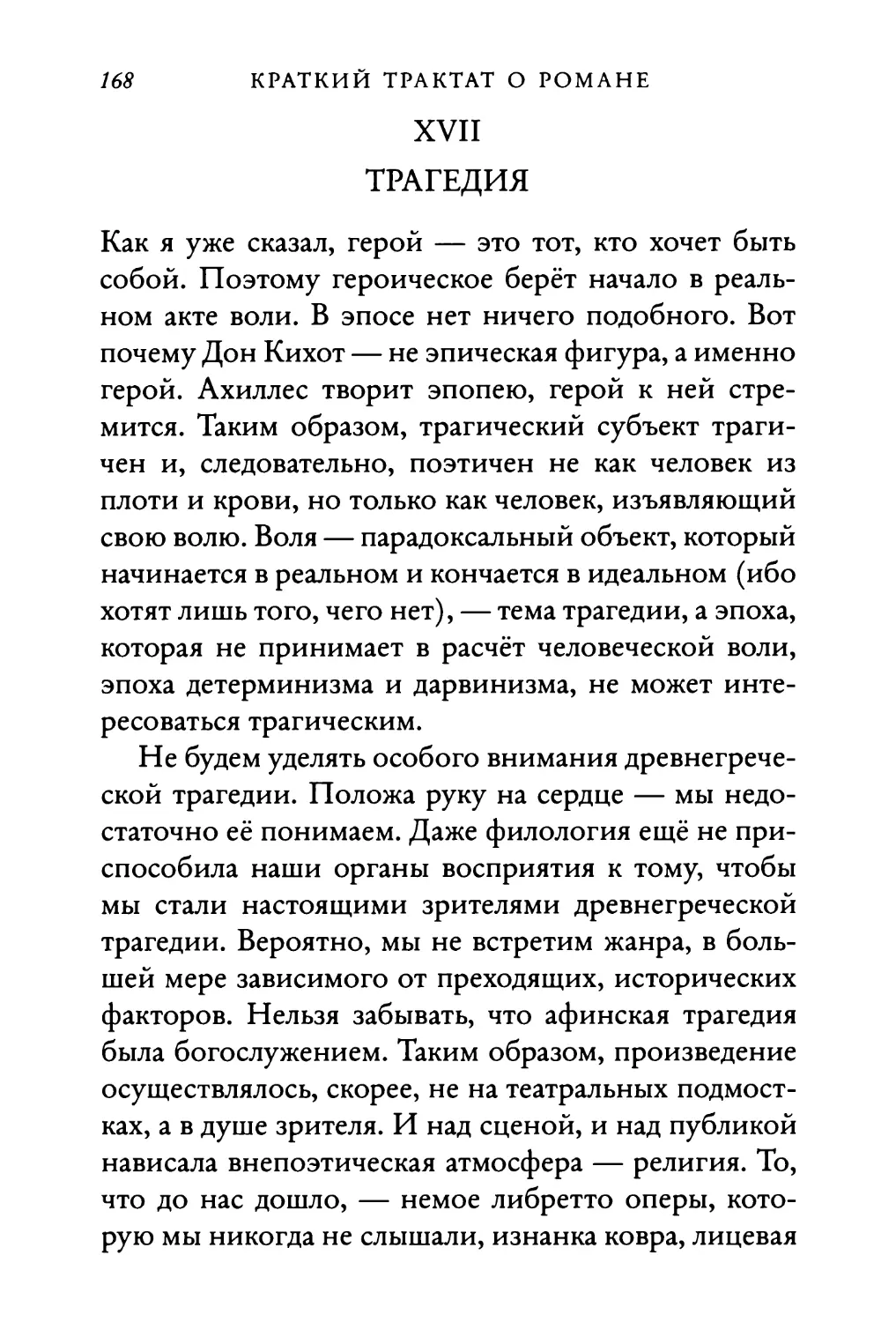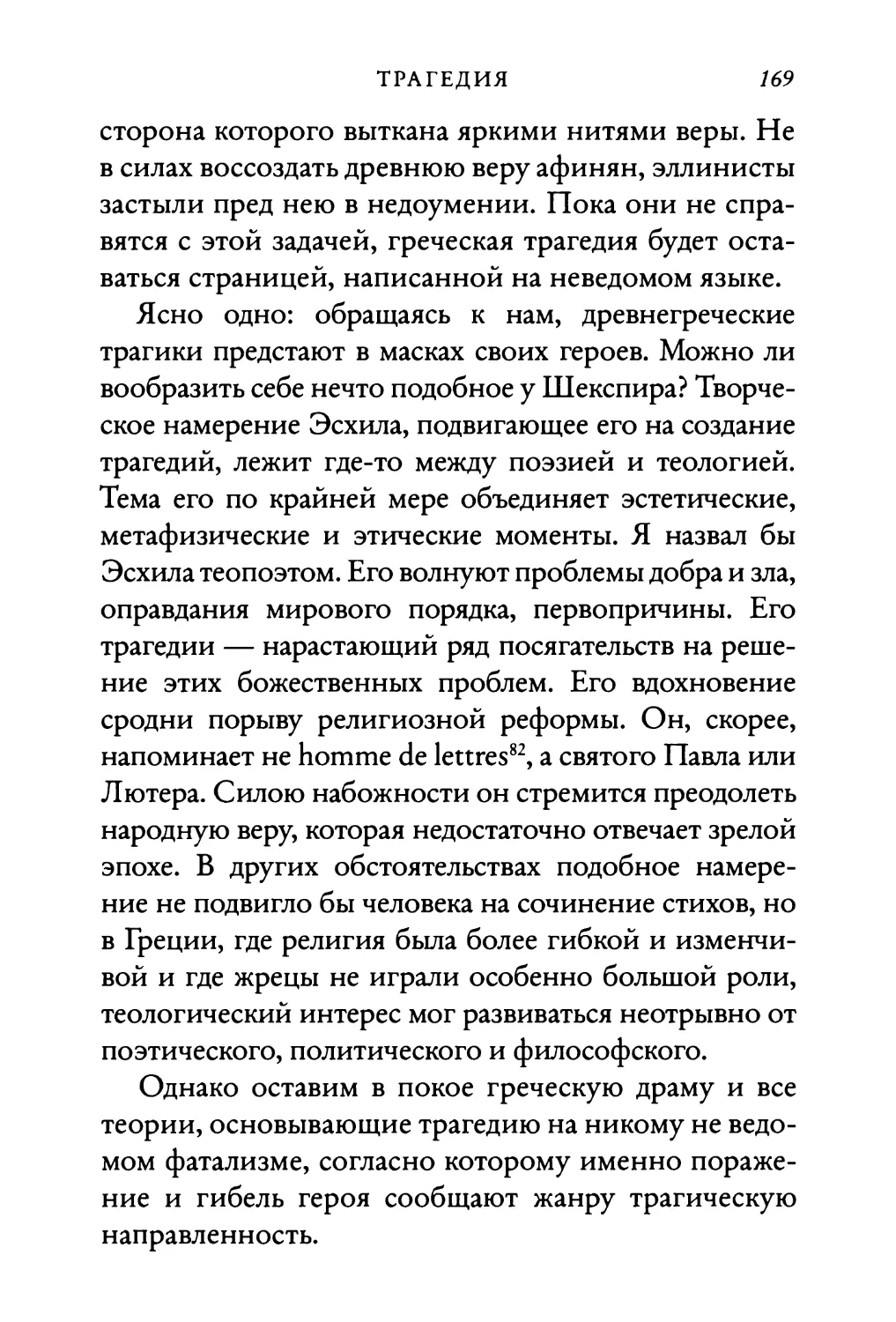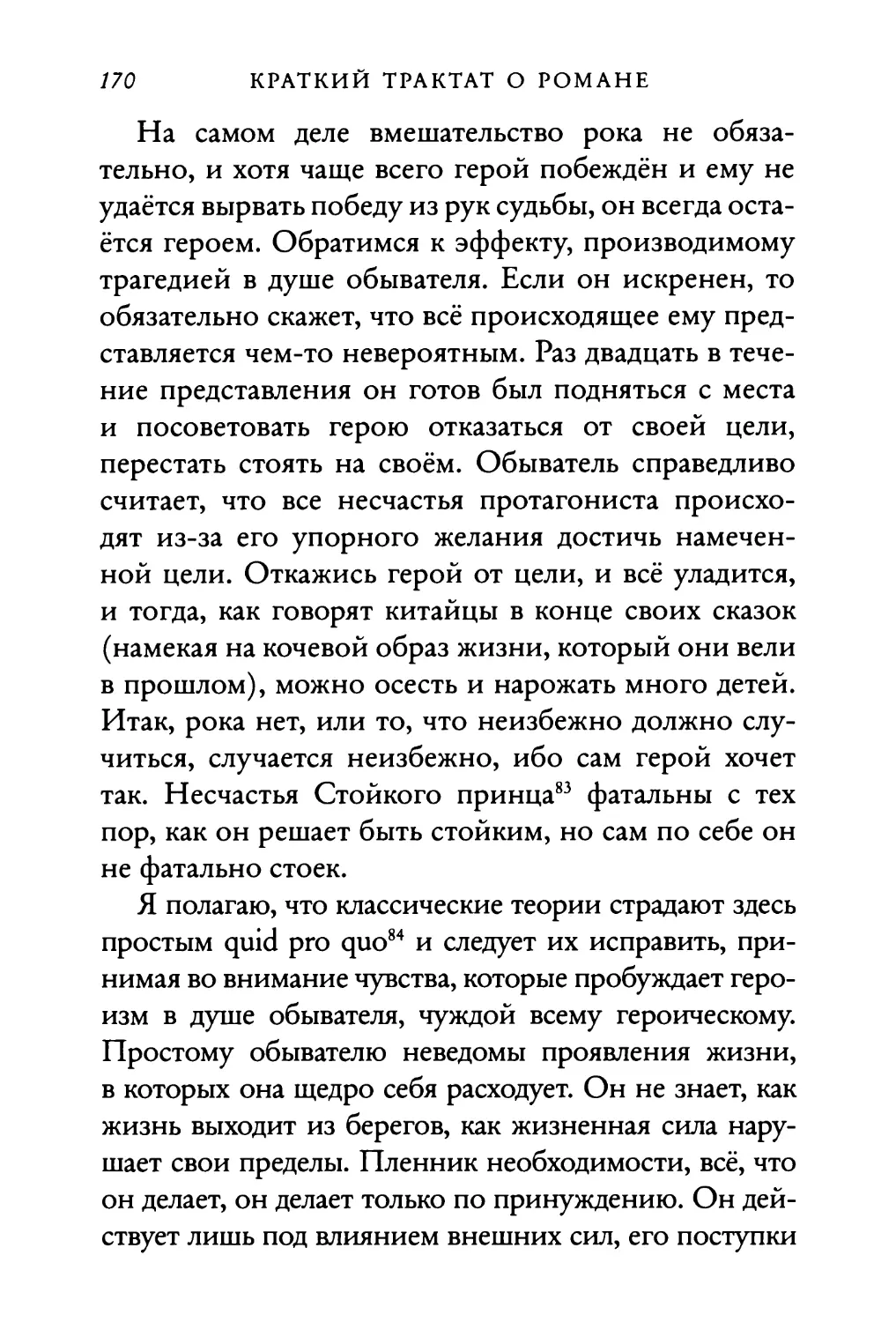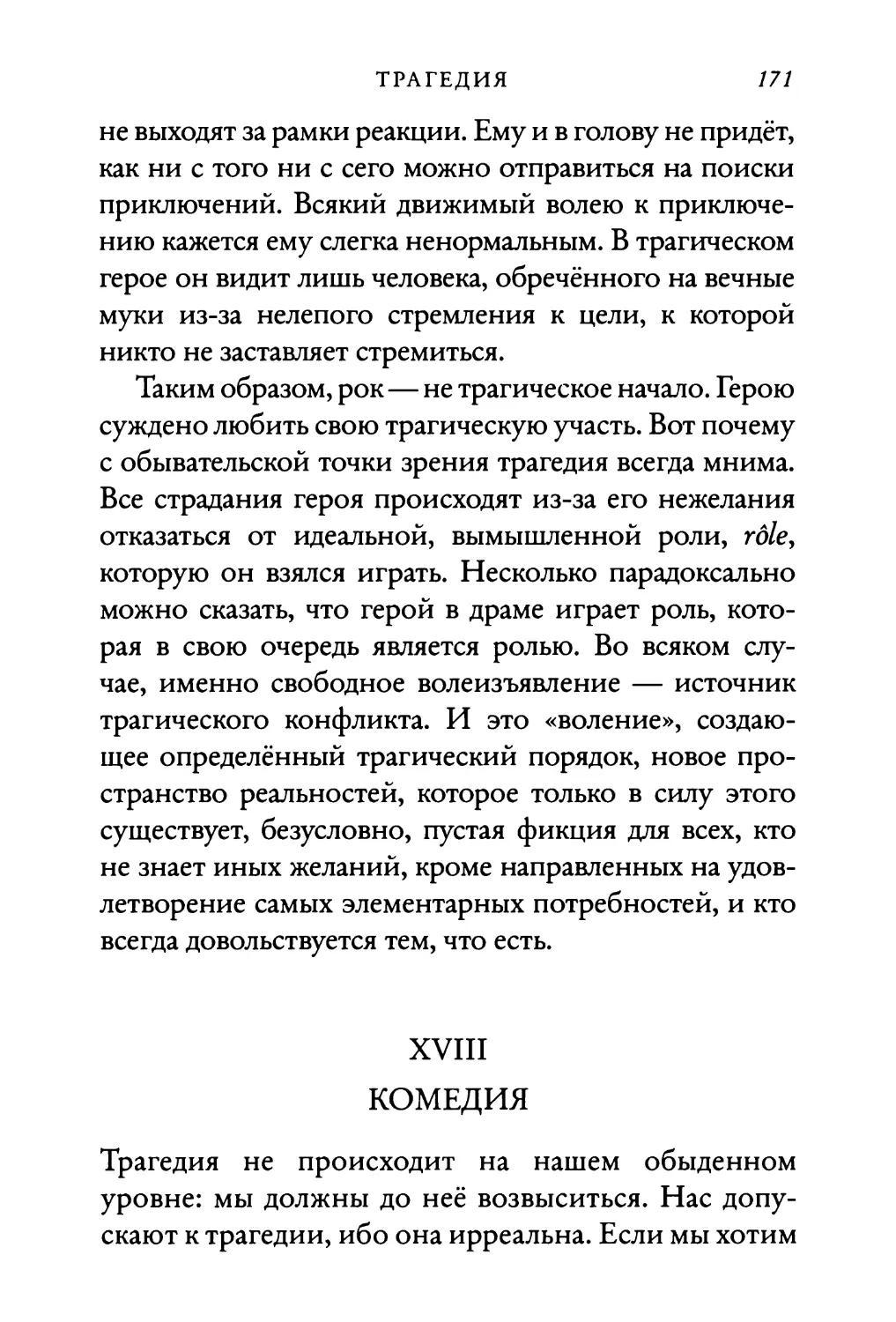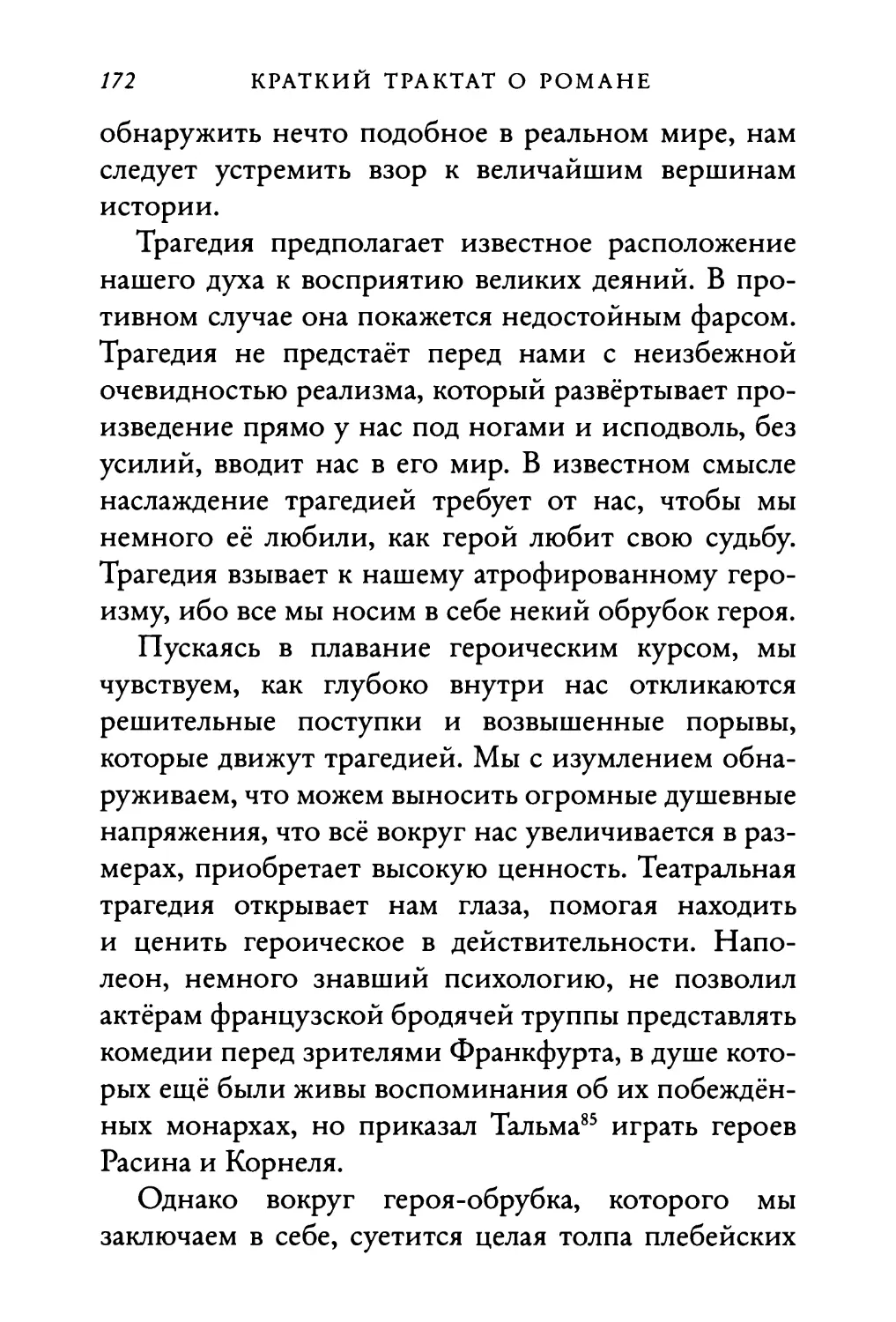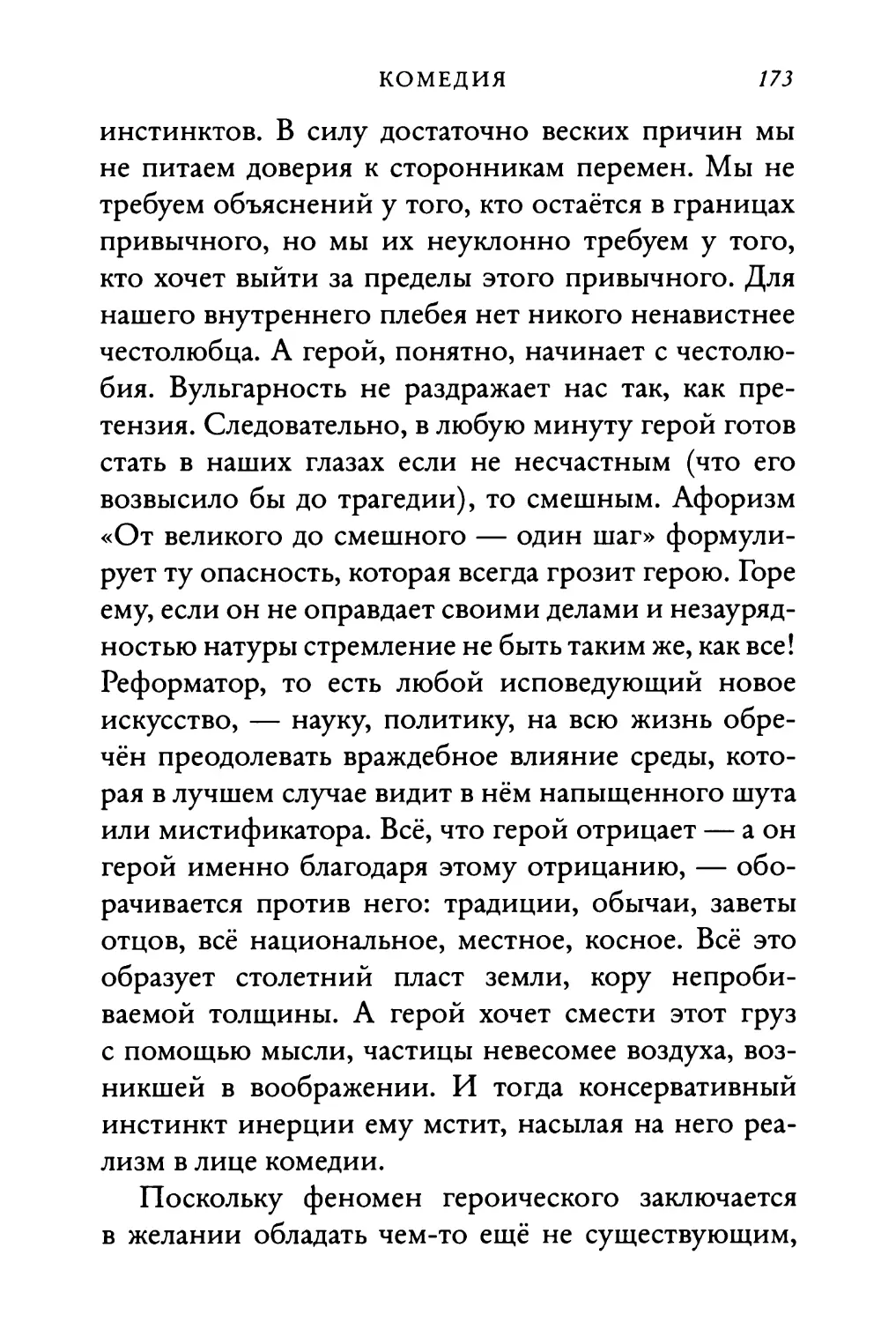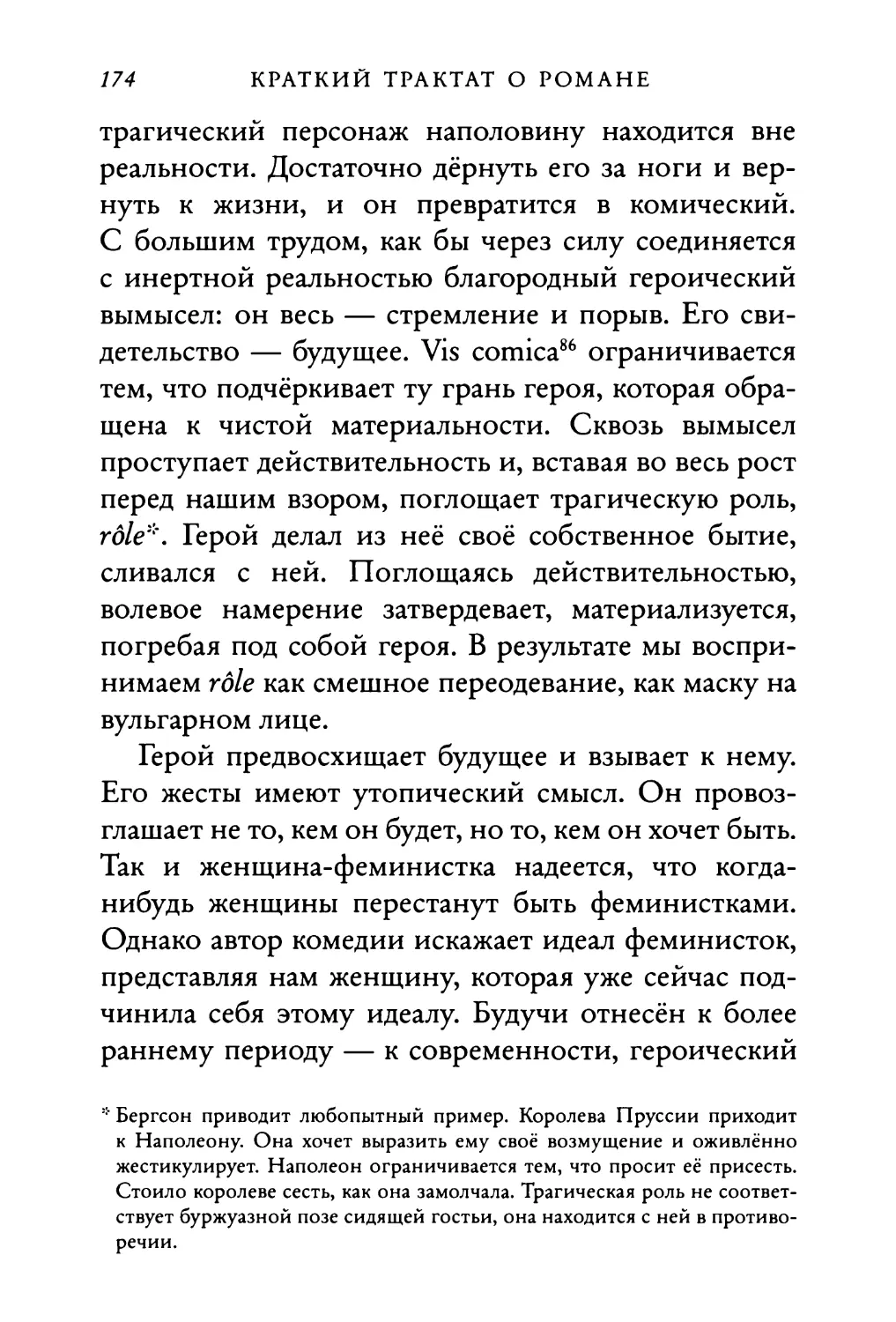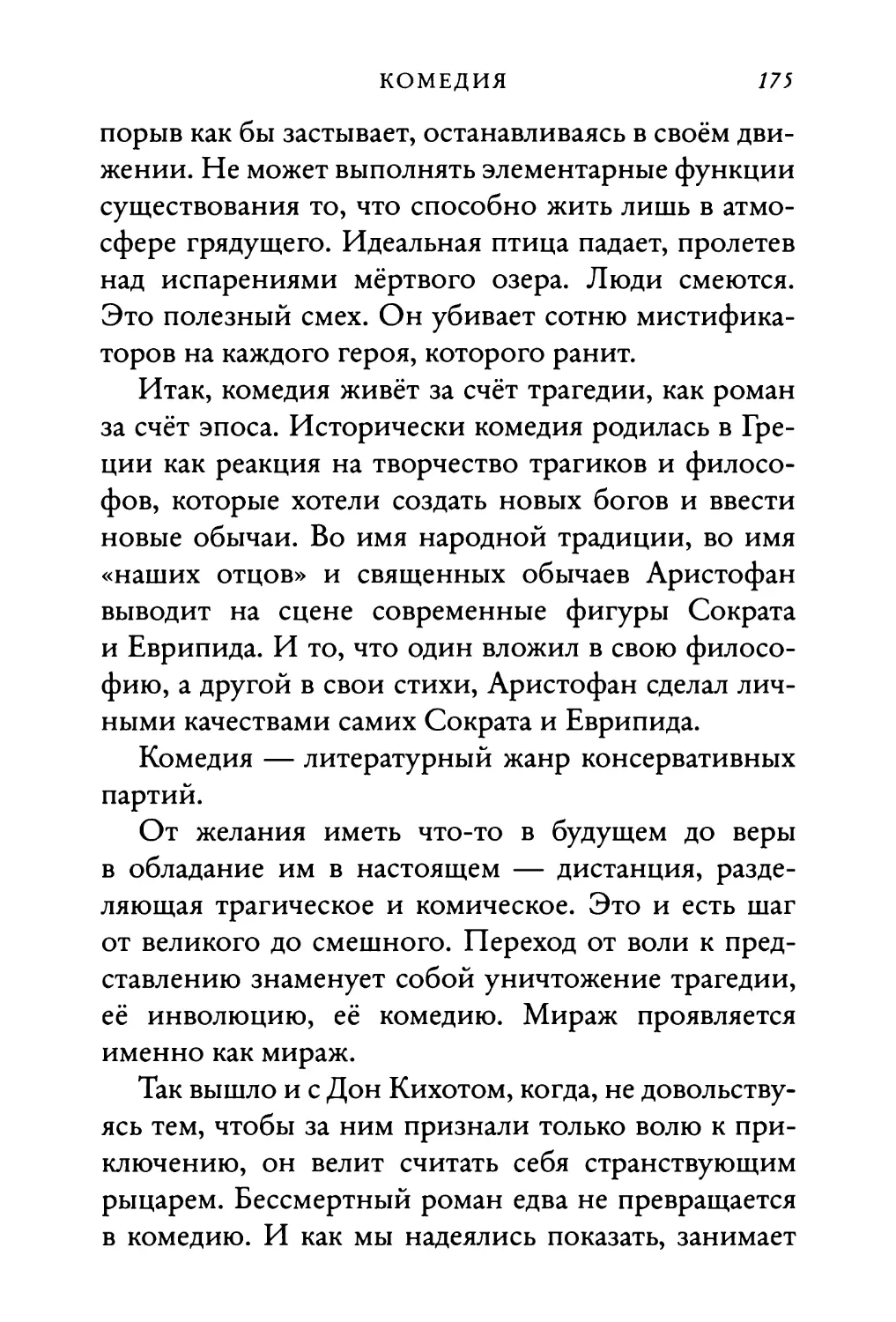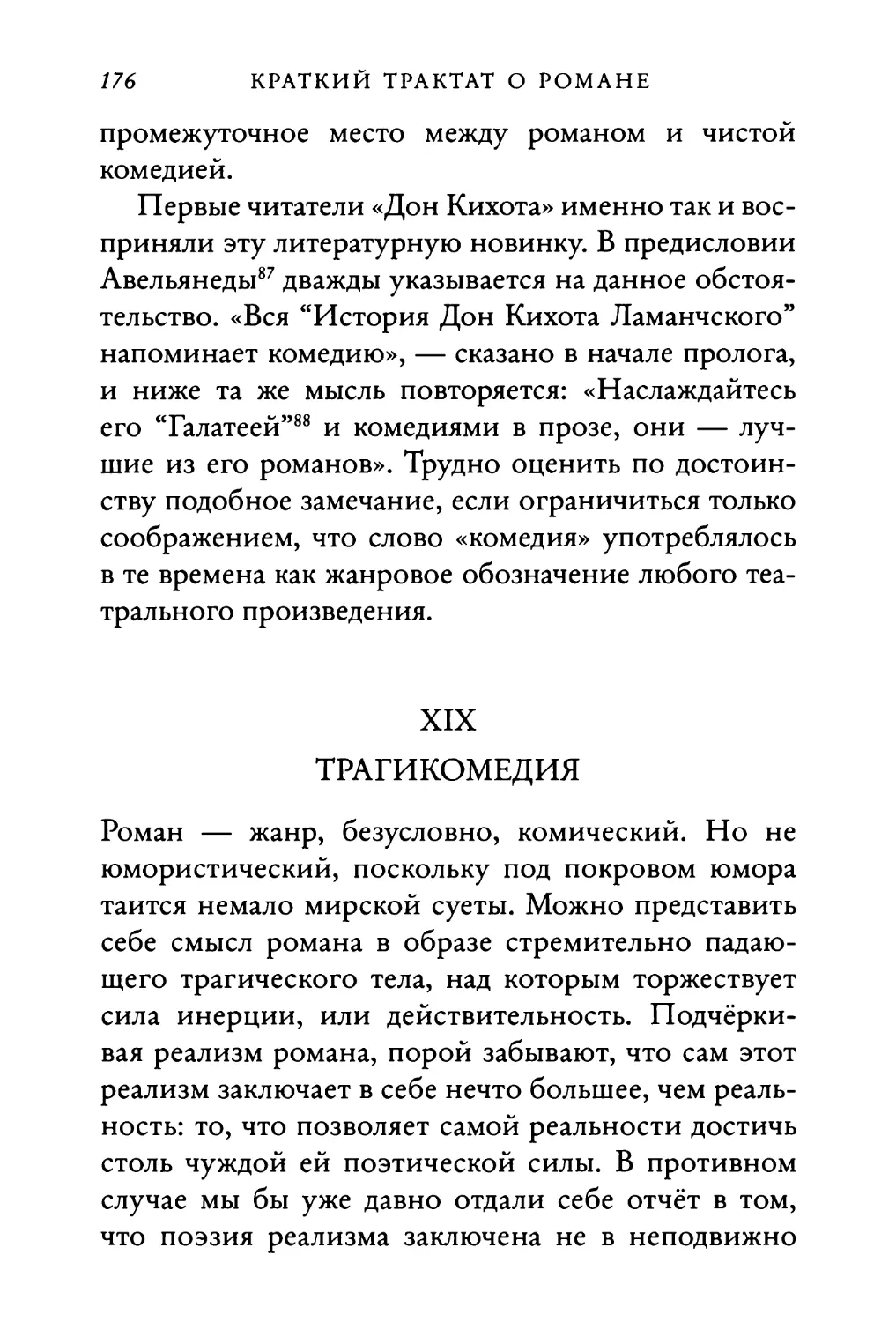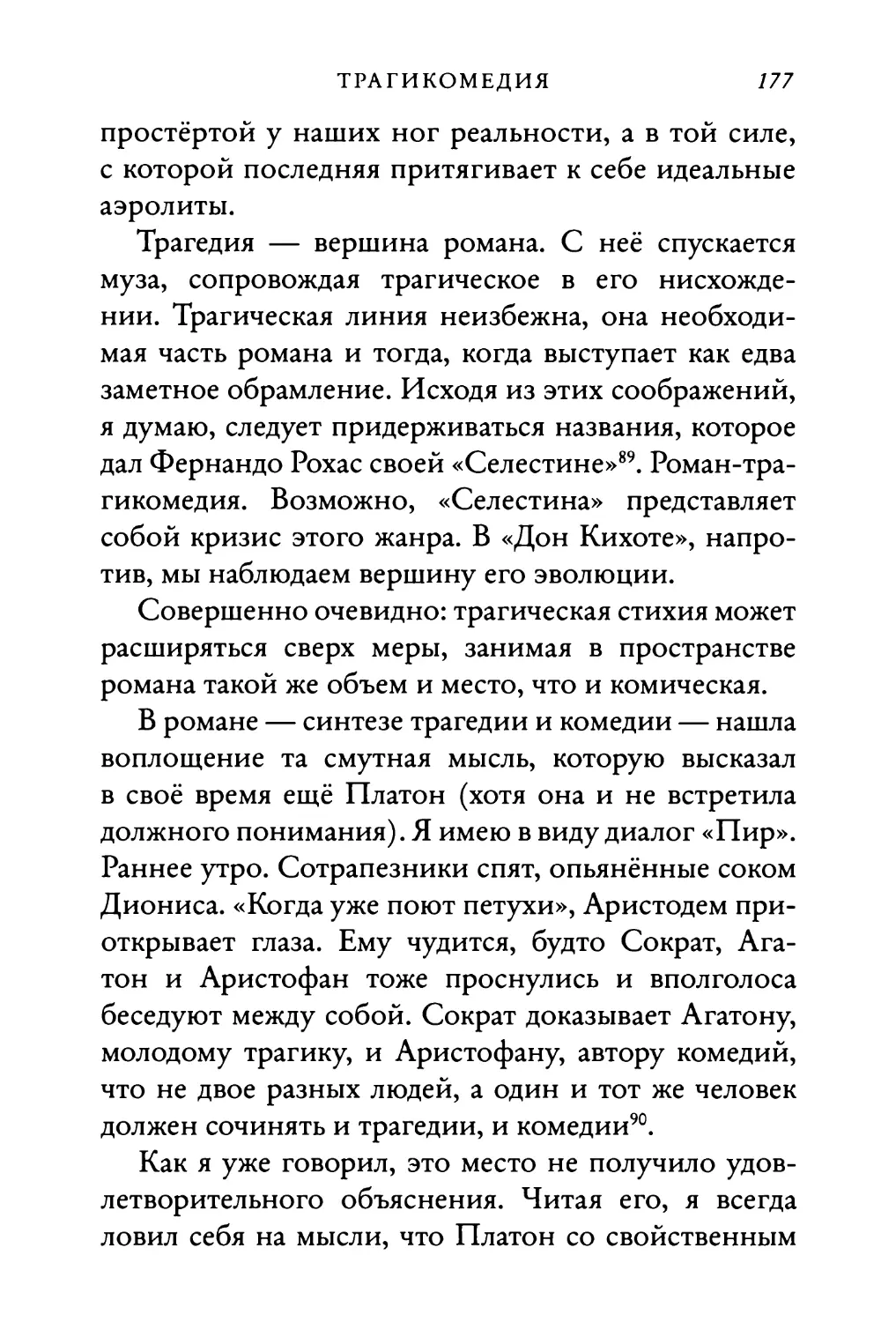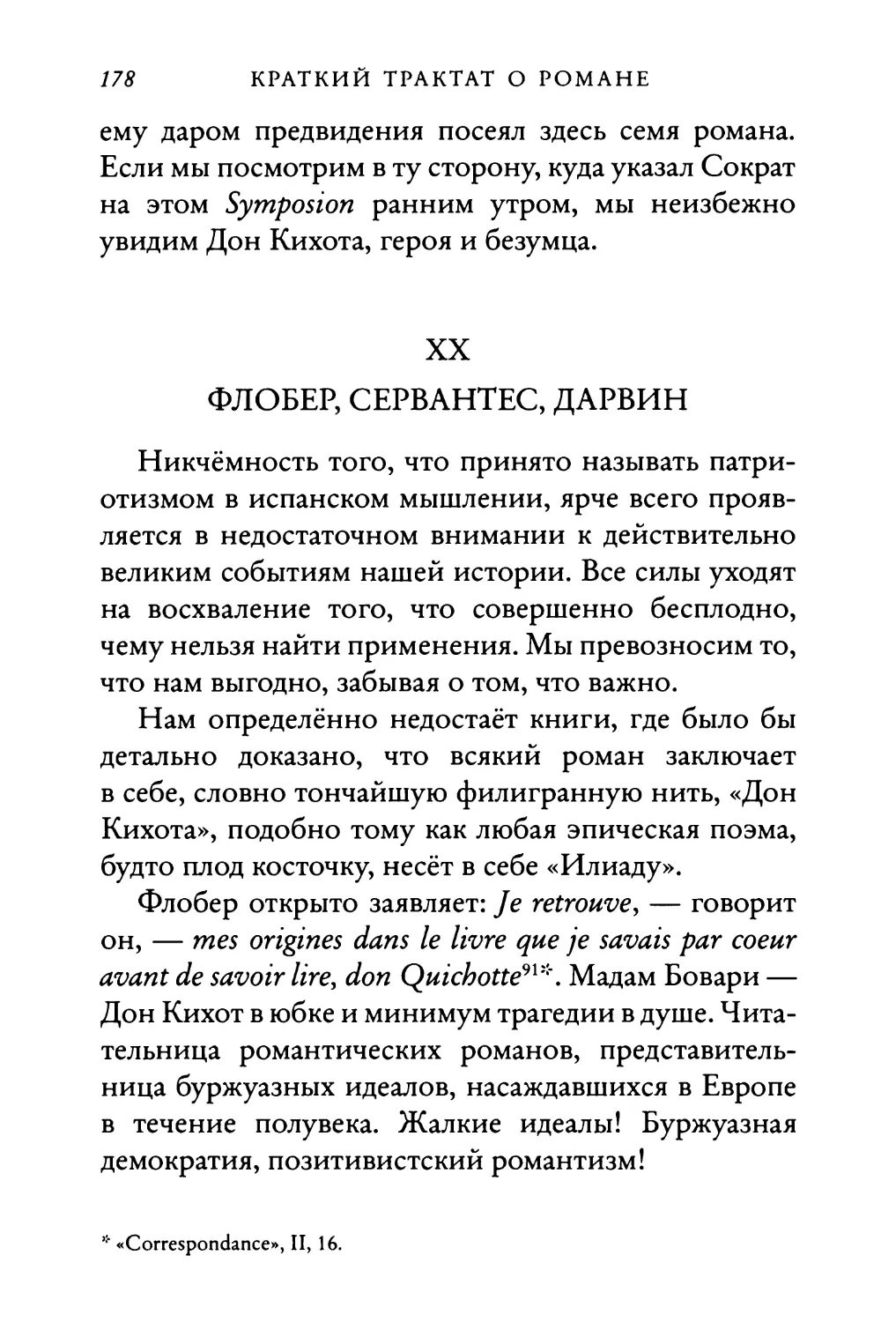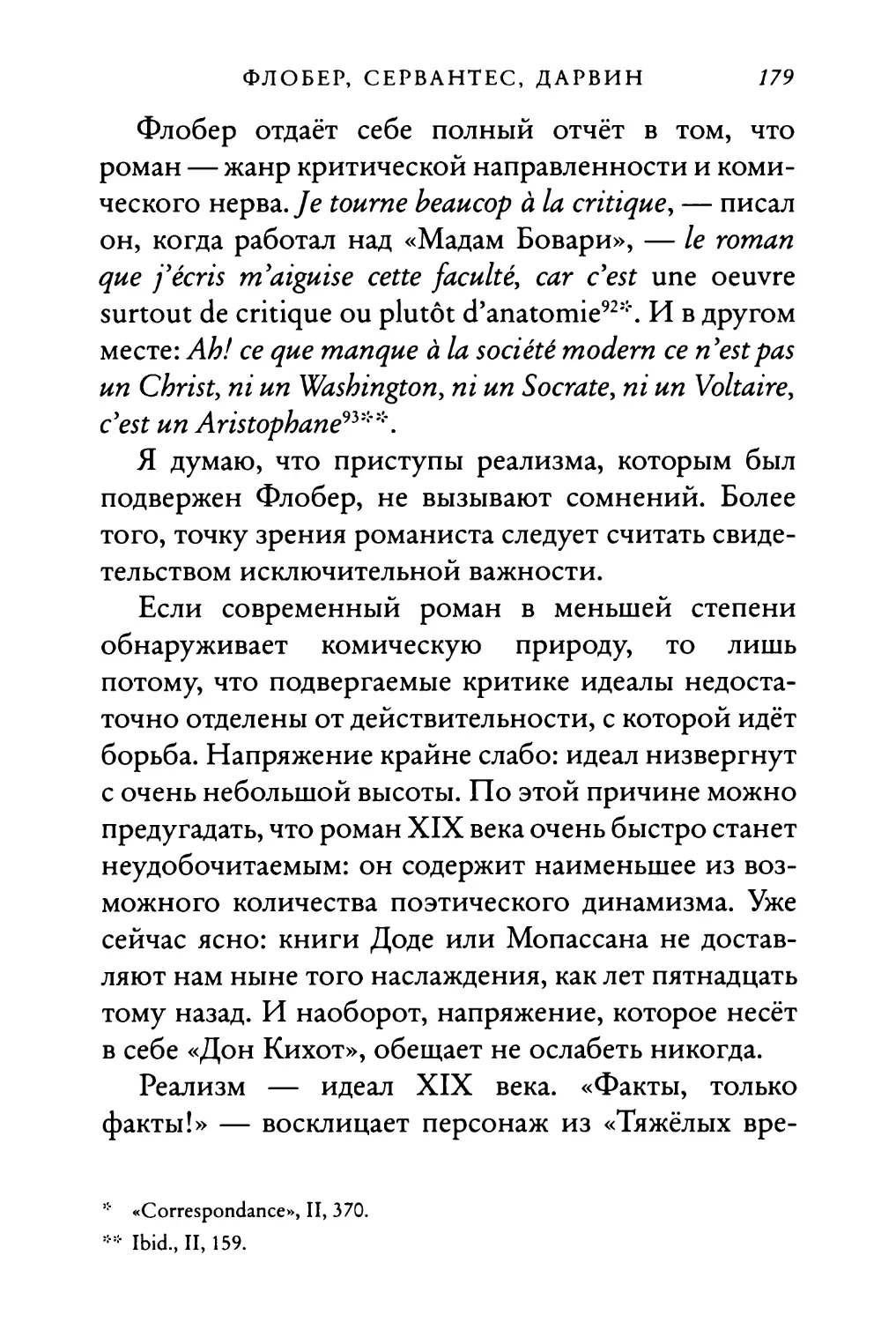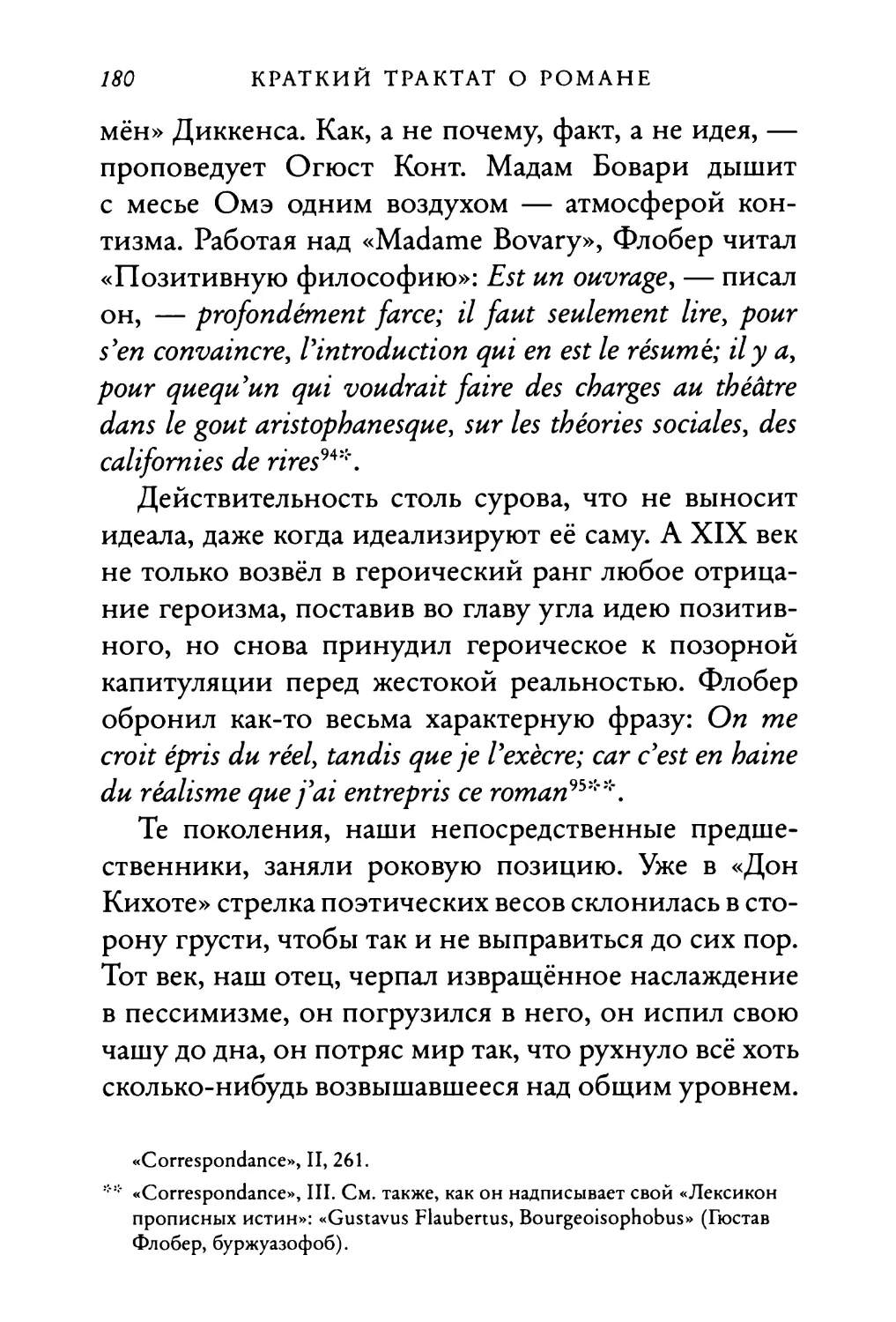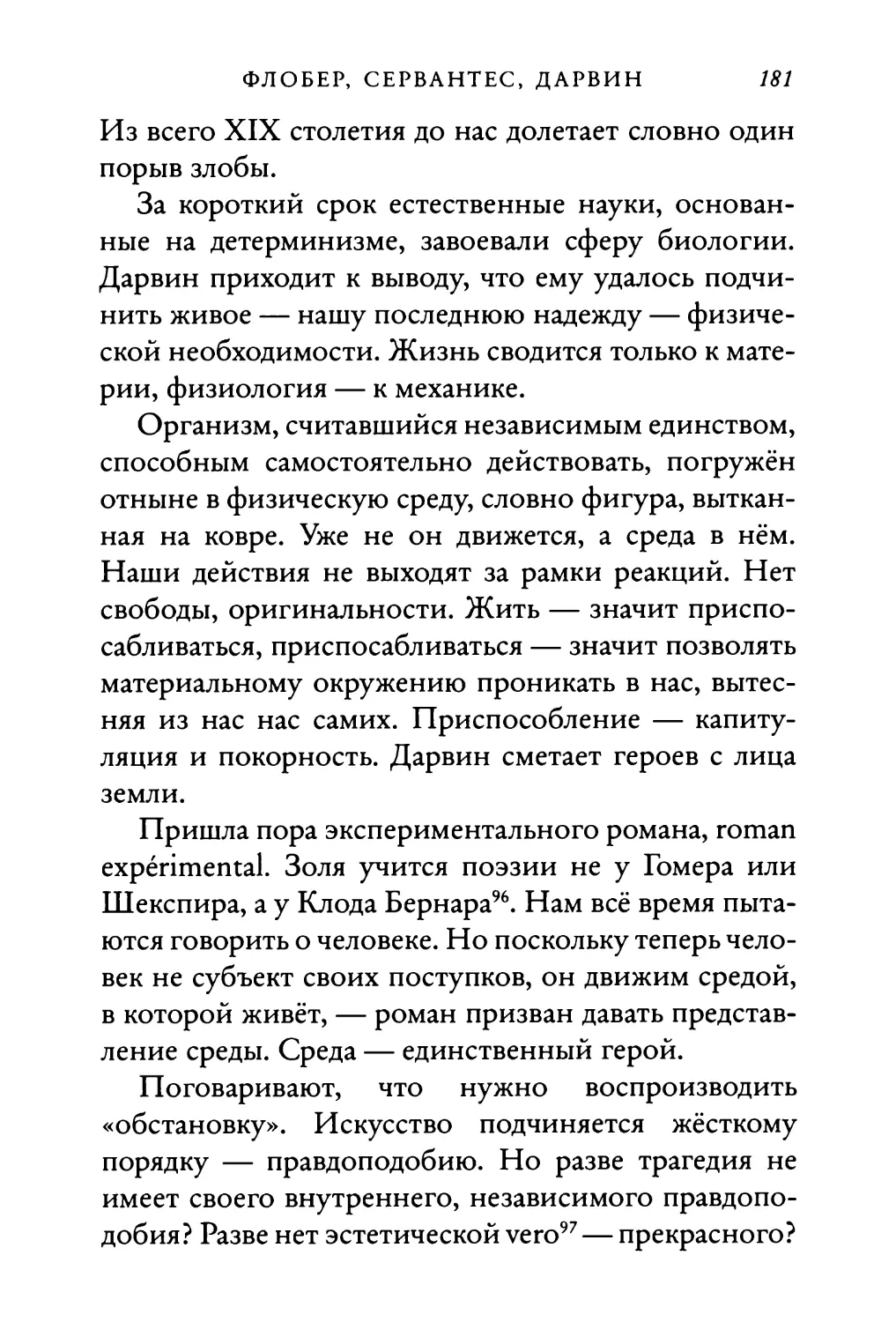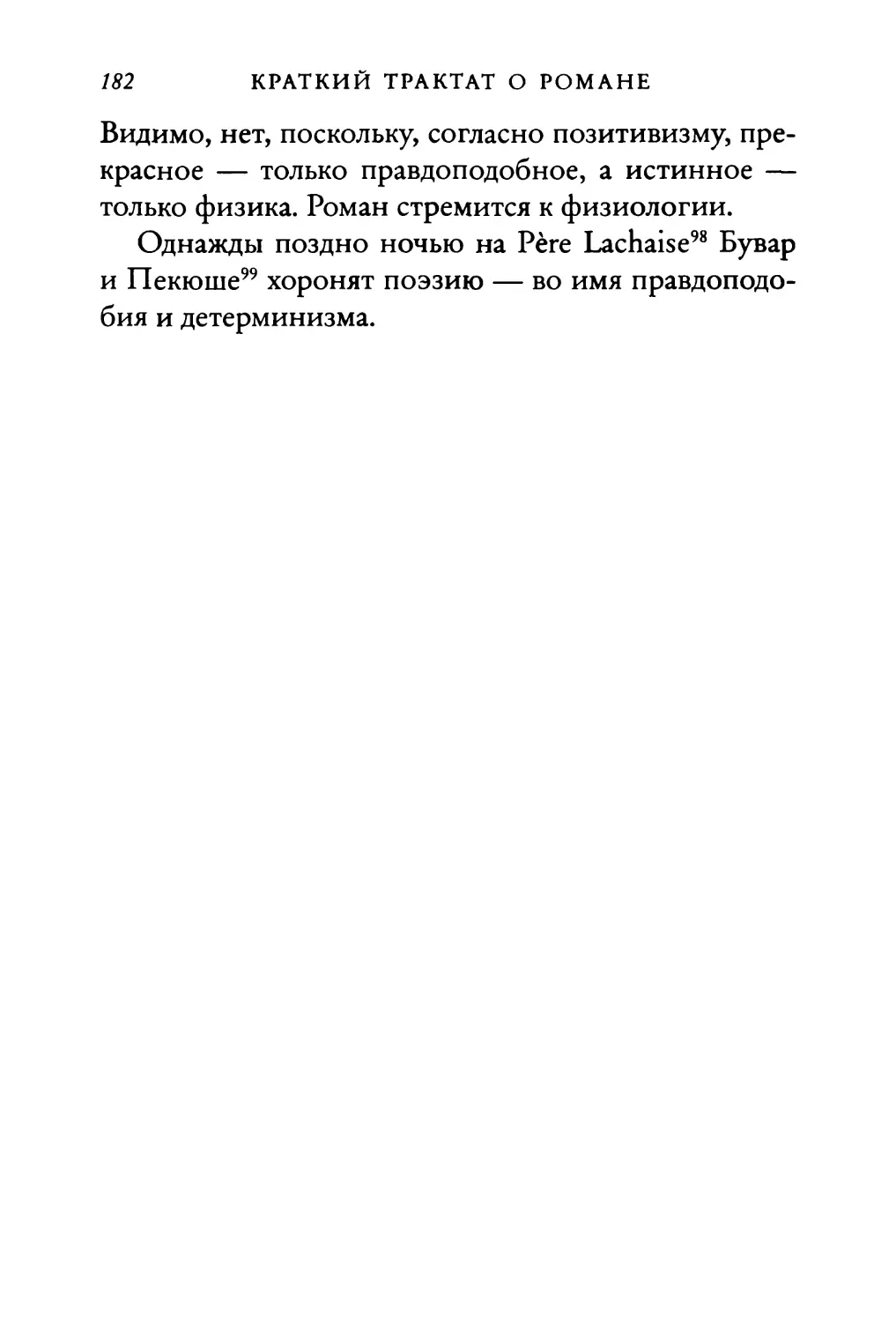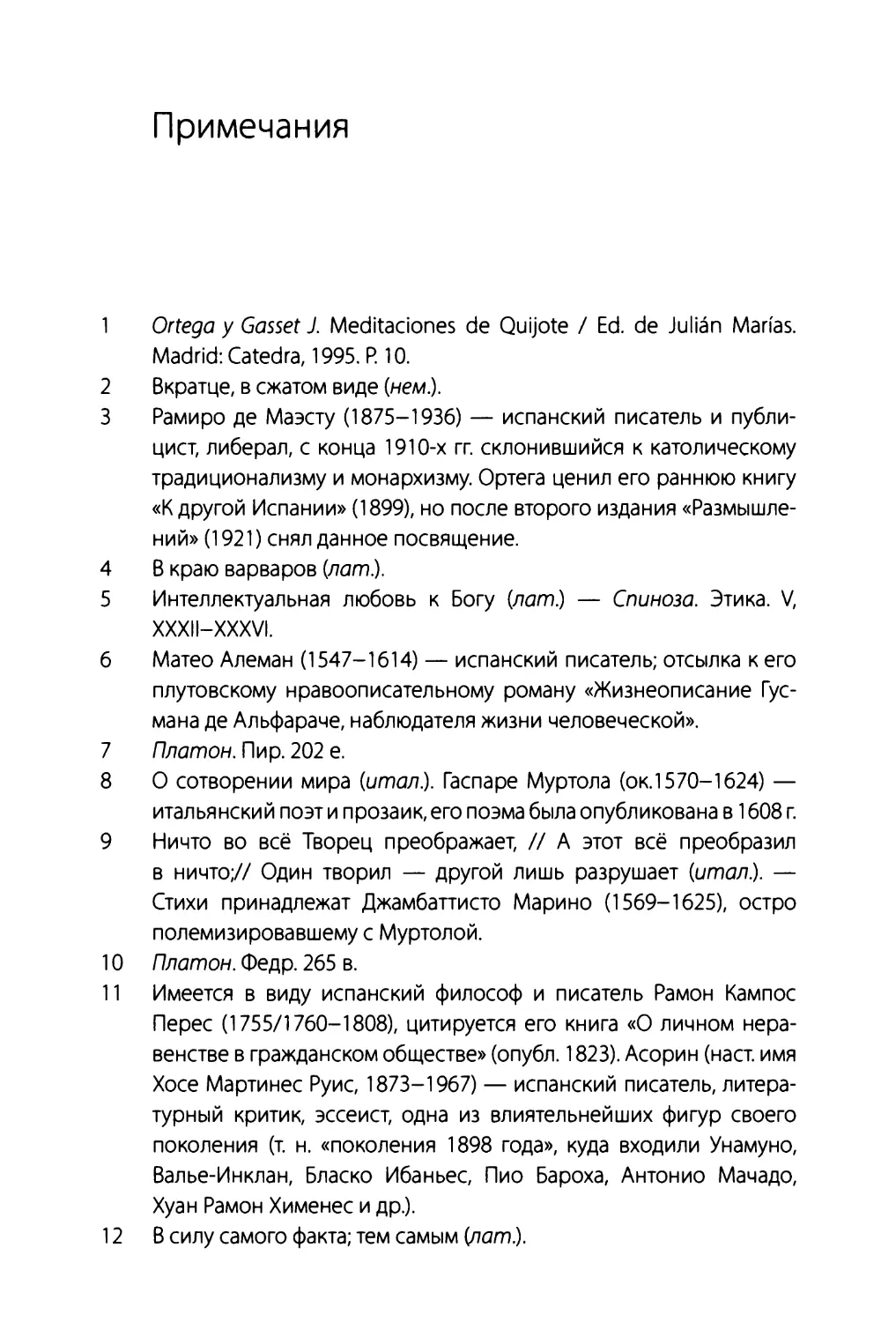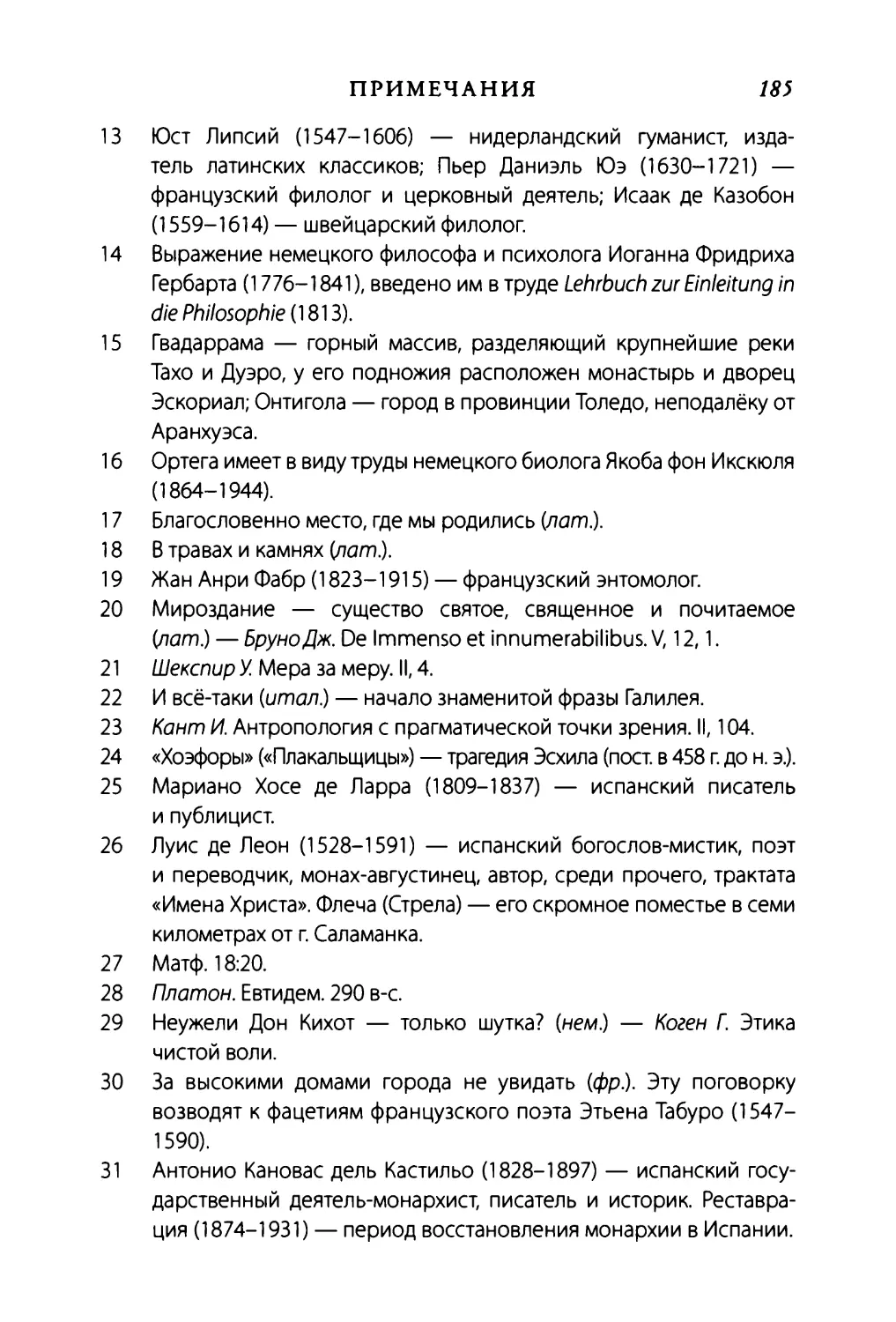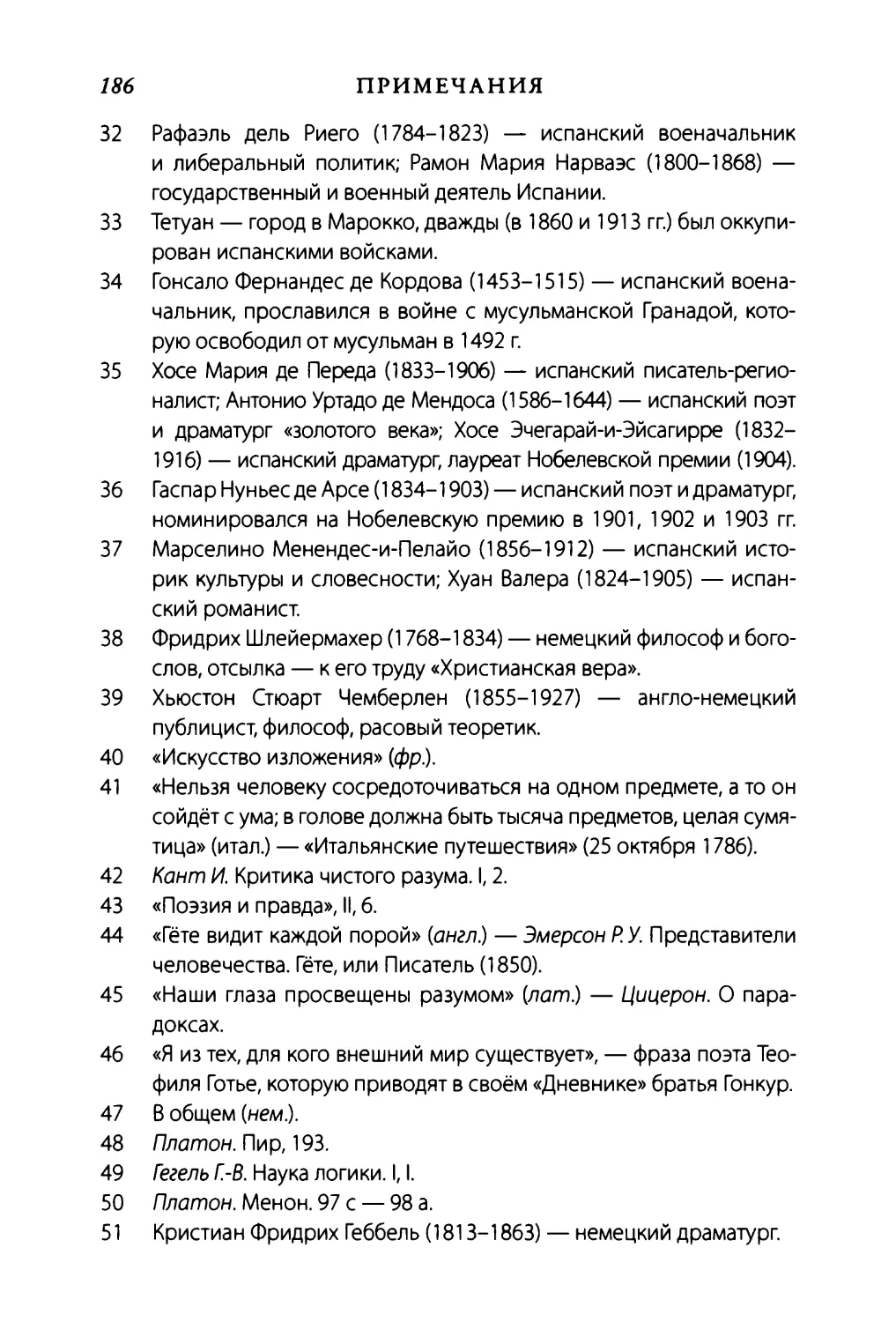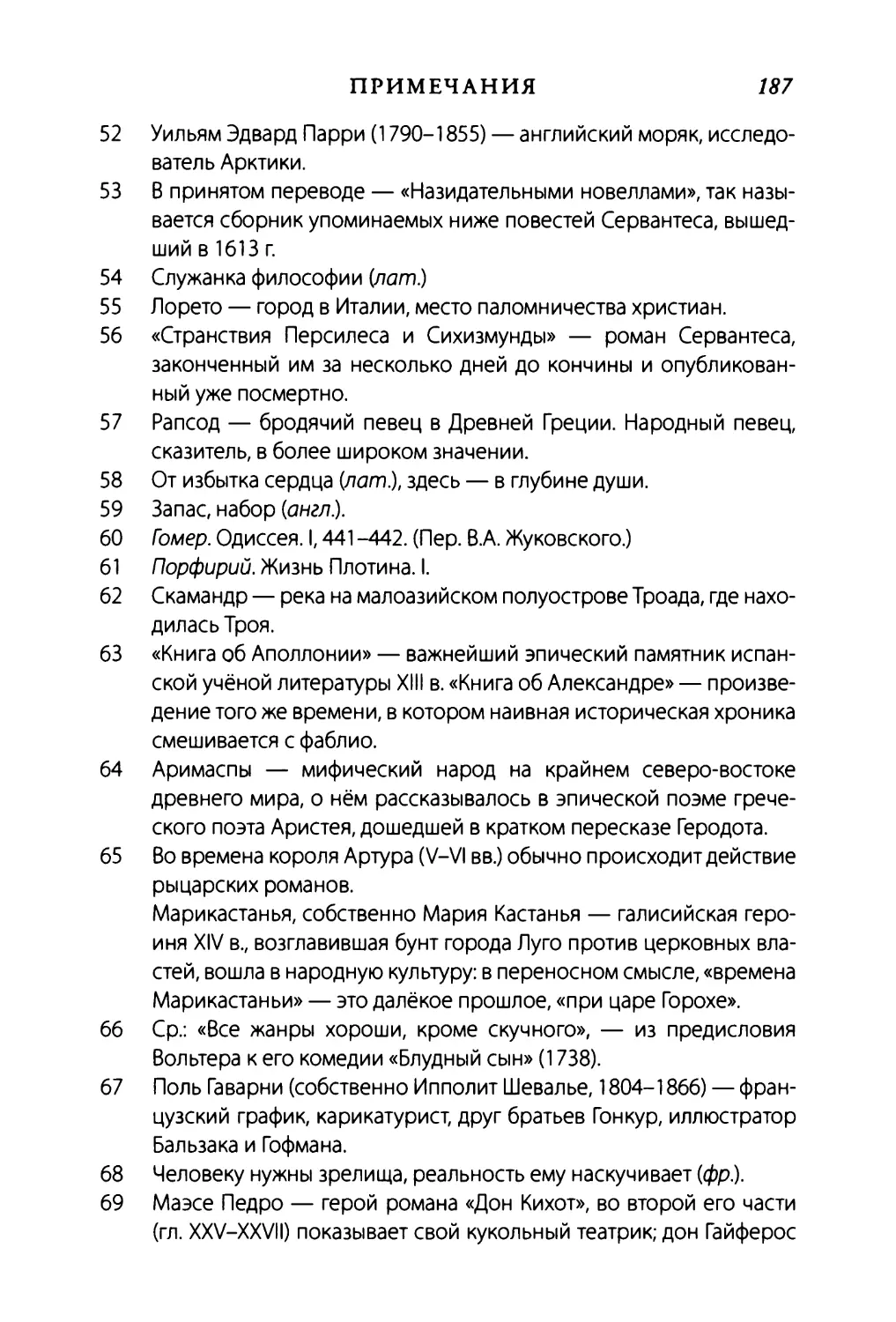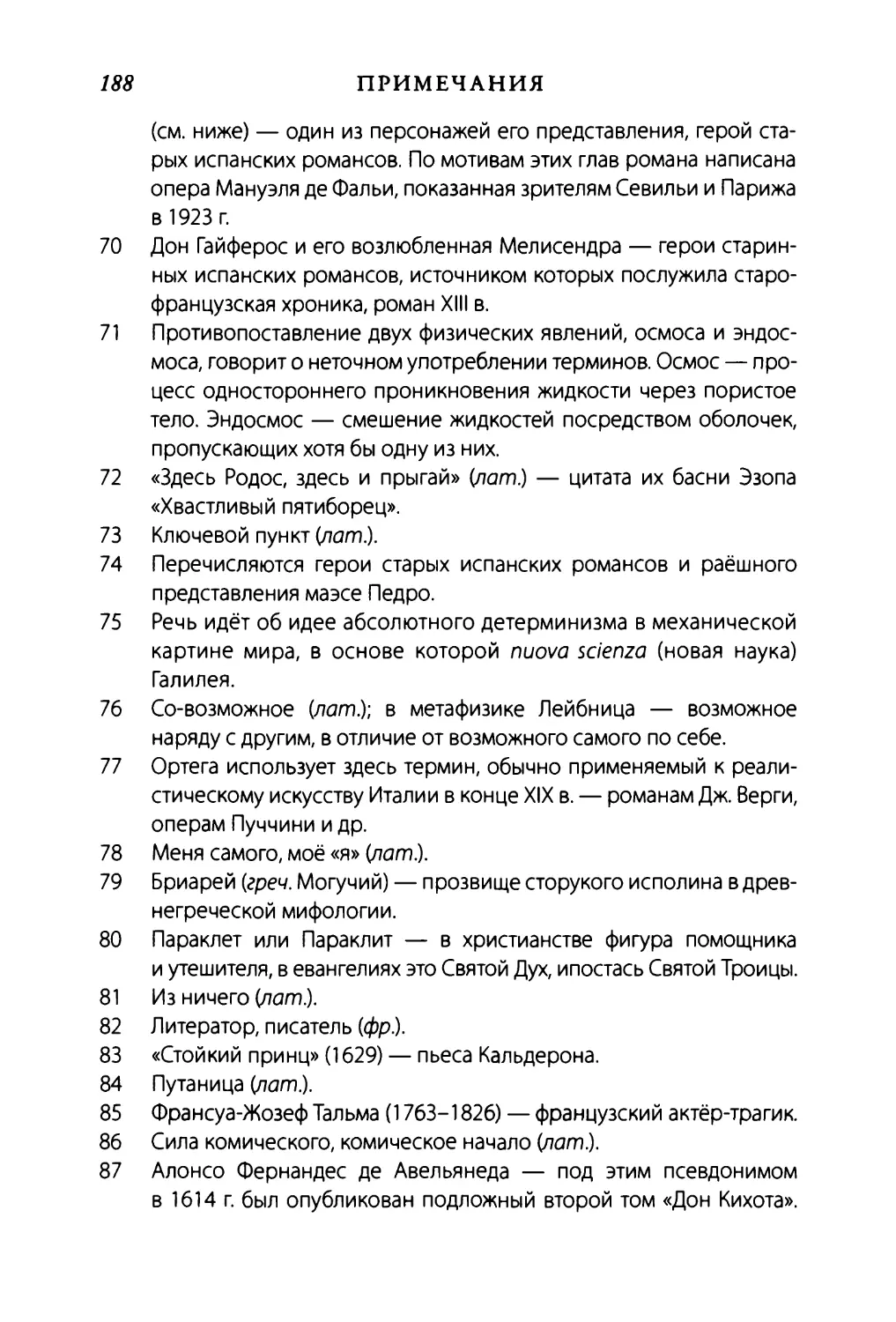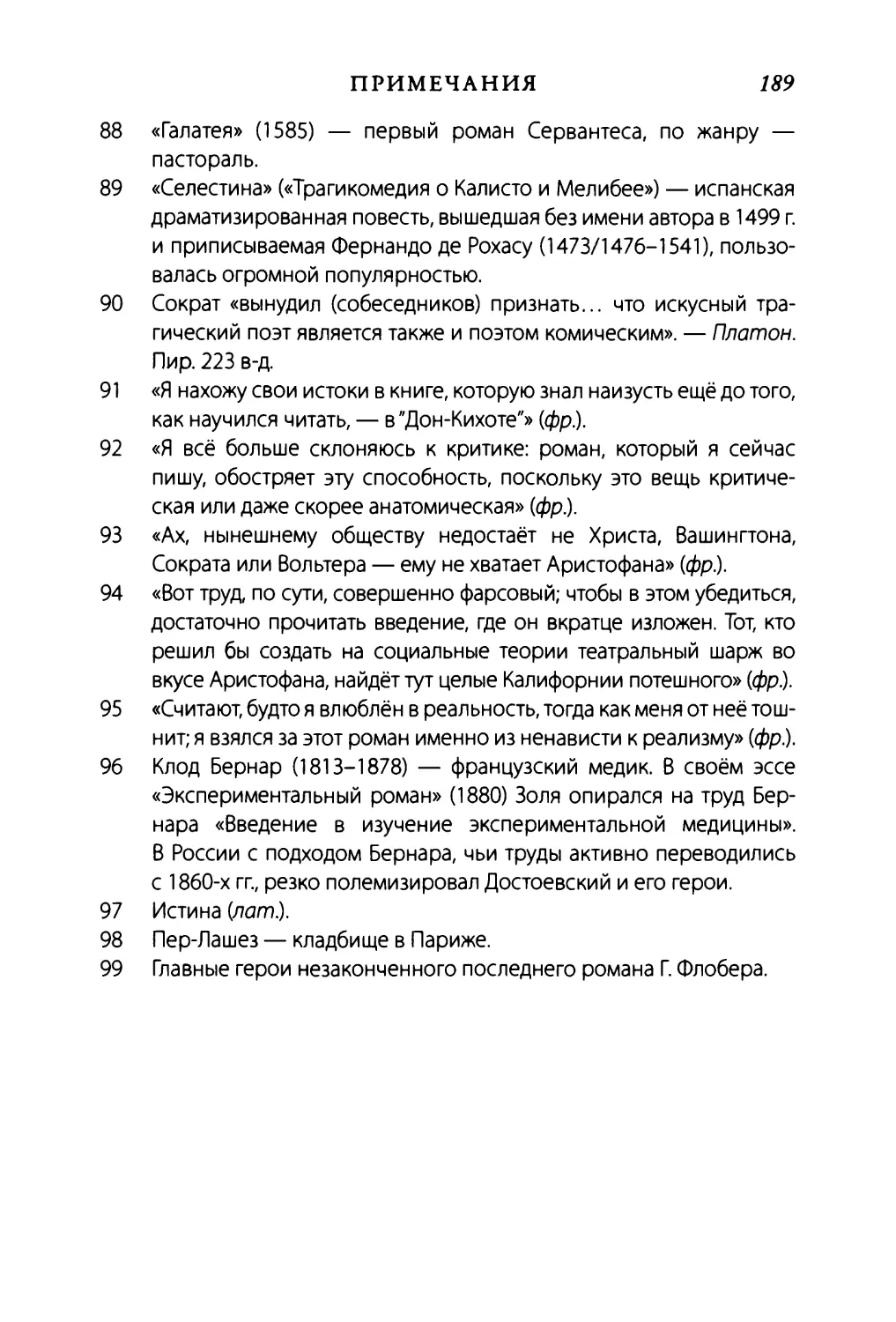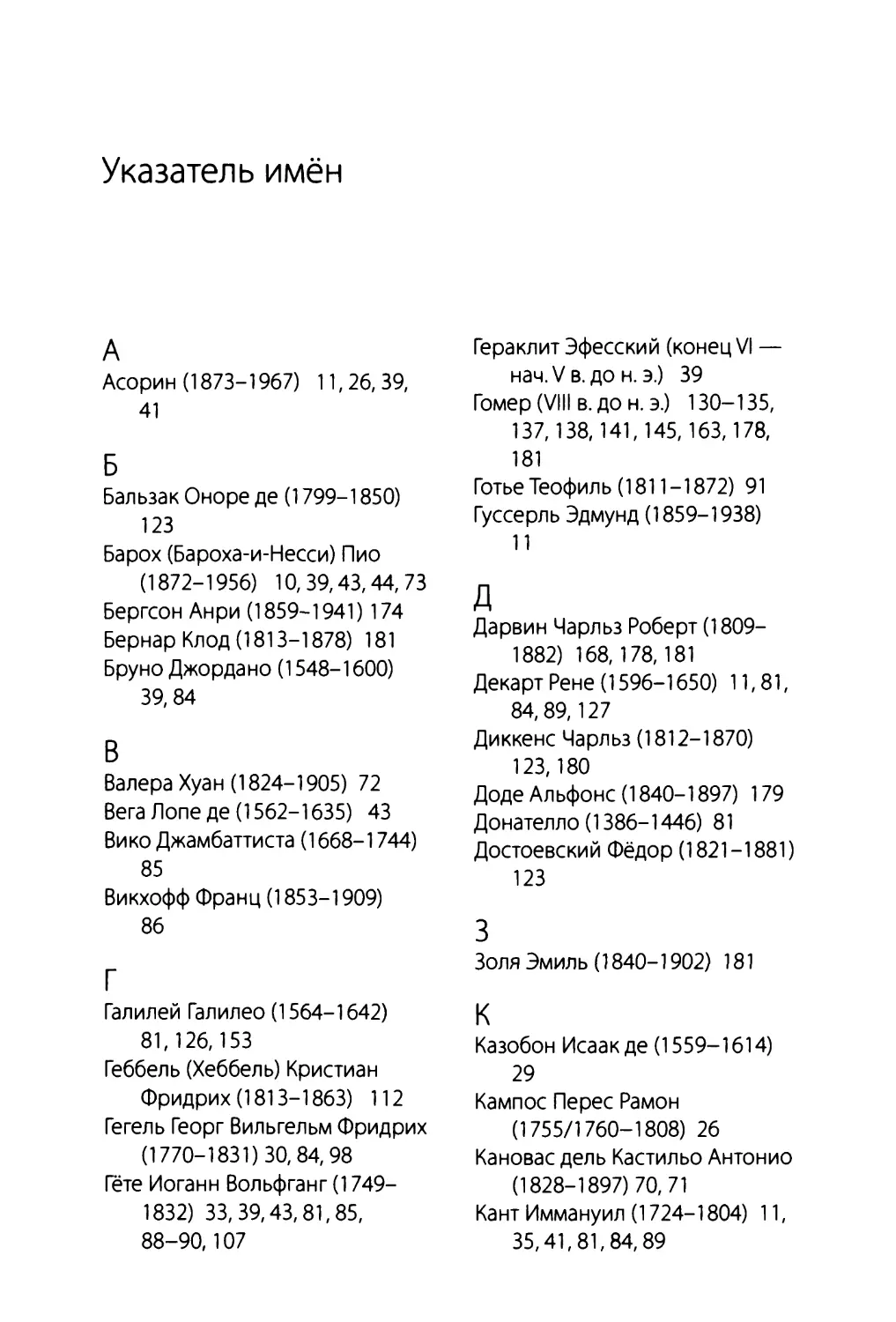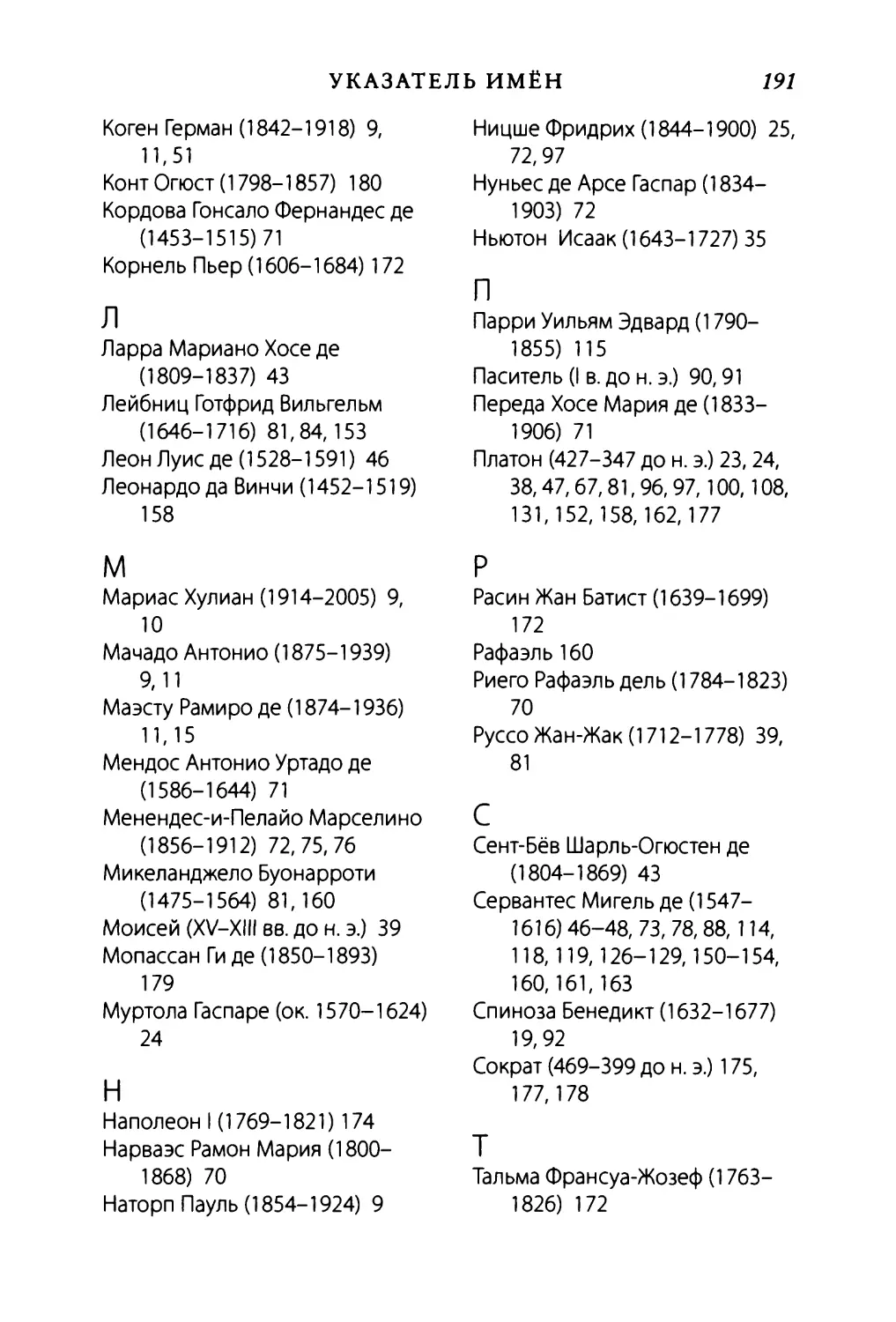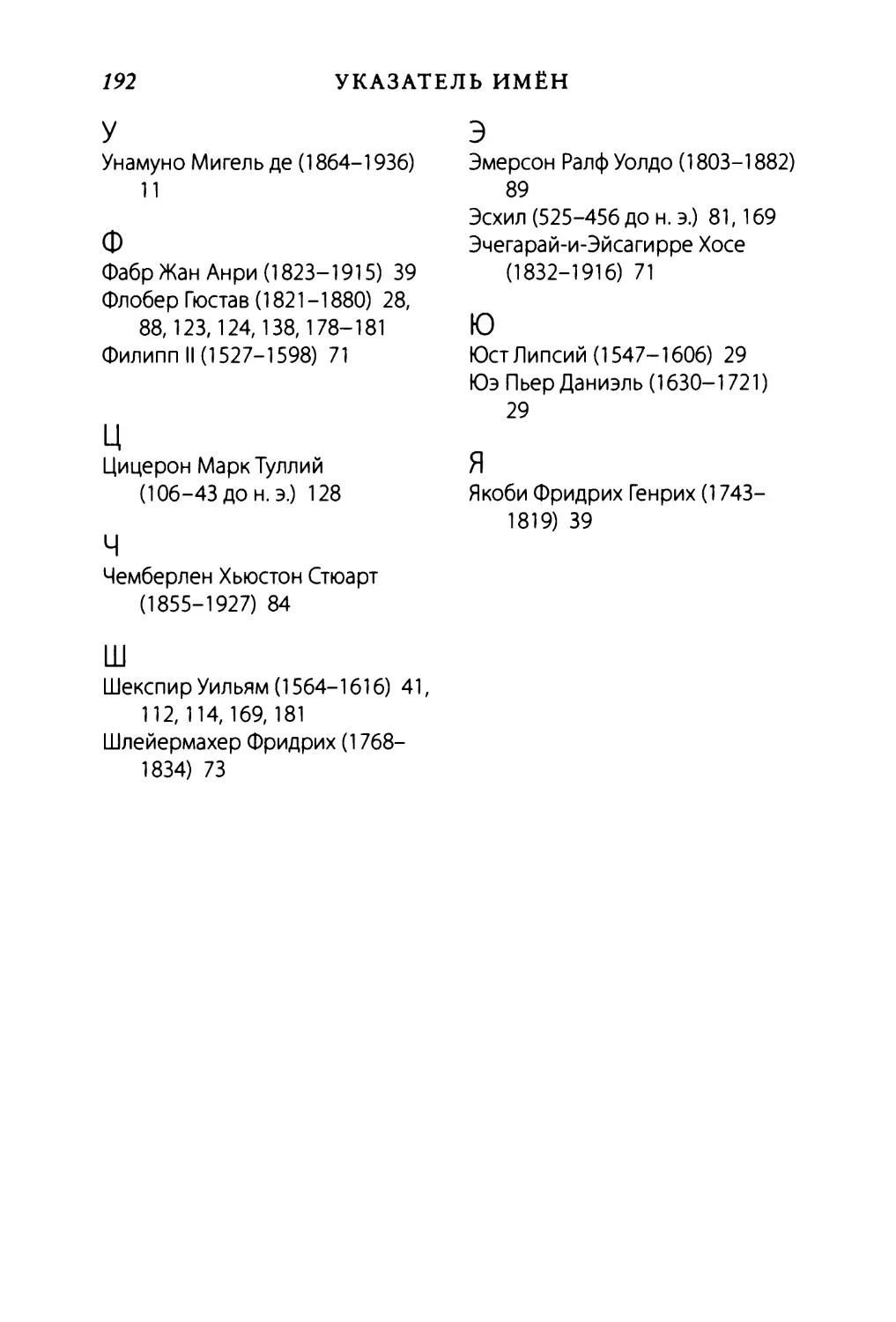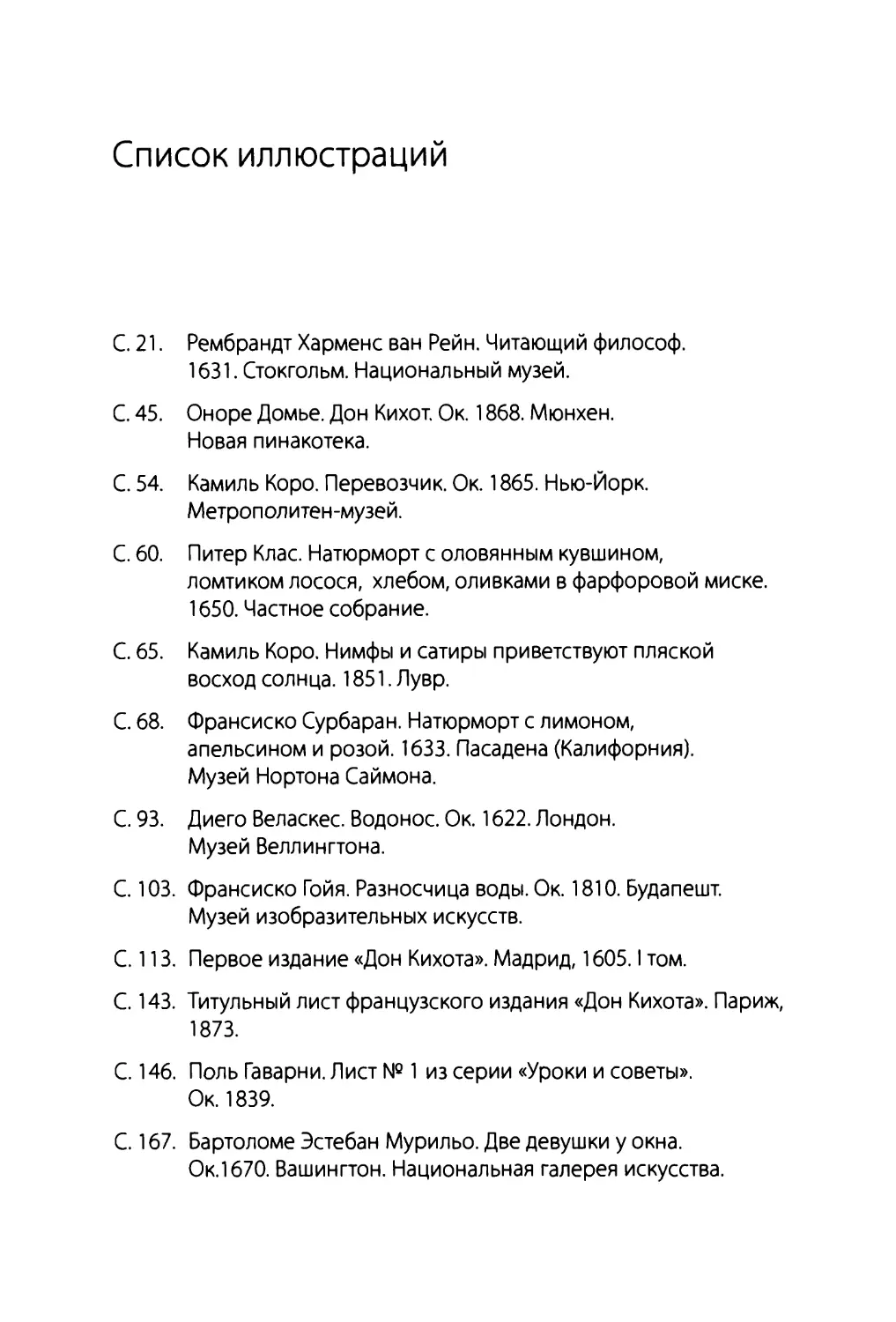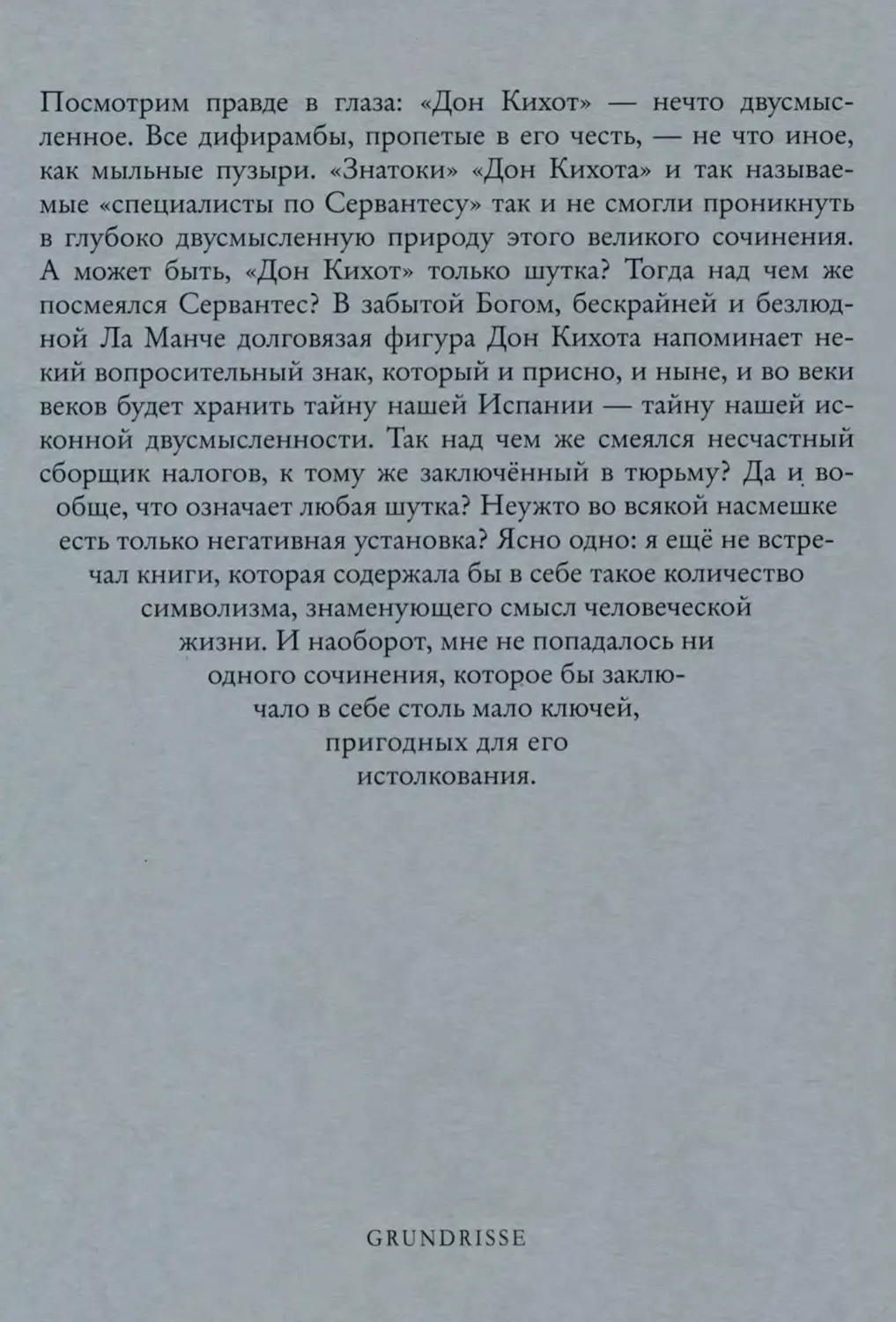Текст
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
MEDITACIONES
DEL QUIJOTE
1914
PUBLICACIONES DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
MADRID
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ДОН КИХОТЕ
ПЕРЕВОД
Бориса Дубина
Александра Матвеева
2016
GRUNDRISSE
МОСКВА
Перевод с испанского и примечания:
Борис Дубин
Александр Матвеев
Общая редакция:
Надежда Гутова
Вёрстка:
Марина Гришина
Корректор:
Наталья Солнцева
На обложке - фрагмент титульного листа французского издания
«Дон Кихота» (Париж, 1835)
© Борис Дубин, наследники, перевод, 2013
© Александр Матвеев, наследники, перевод, 1991
© ООО «Издательство Грюндриссе», 2016
Содержание
Борис Дубин. Предисловие 9
РАЗМЫШЛЕНИЯ О «ДОН КИХОТЕ»
Ч итател ь... Перевод Б. Дубина 17
Предварительное размышление.
Перевод Б. Дубина (гл. 5, 12) и А. Матвеева
I. Лес
II. Глубь и поверхность
III. Иволга и ручей
IV. Запредельные миры
V. Реставрация и эрудиция
VI. Культура Средиземноморья
VII. О чём поведал Гете один итальянский капитан?
VIII. Пантера, или Сенсуализм
IX. Вещи и их смысл
X. Понятие
XI. Культура — это надёжность
XII. Свет как внутренний импульс
XIII. Воссоединение
XIV. Притча
XV. Критика как патриотизм
Краткий трактат о романе. Перевод А. Матвеева
I. Литературные жанры
II. Назидательные романы
III. Эпос
IV. Поэзия прошлого
51
55
57
62
66
70
74
81
86
92
98
101
105
109
115
115
121
124
126
130
132
V. Рапсод
VI. Елена и мадам Бовари
VII. Миф — фермент истории
VIII. Рыцарские романы
IX. Балаганчик маэсе Педро
X. Поэзия и действительность
XI. Действительность — фермент мифа
XII. Ветряные мельницы
XIII. Реалистическая поэзия
XIV Мим
XV Герой
XVI. Вторжение лирического начала
XVII. Трагедия
XVIII. Комедия
XIX. Трагикомедия
XX. Флобер, Сервантес, Дарвин
Примечания
Указатель имён
Список иллюстраций
136
137
140
142
148
150
153
156
157
160
162
164
168
171
176
178
184
190
194
Предисловие
Книга Ортеги вышла из печати 21 июля 1914 года, через четыре
месяца после его нашумевшей публичной лекции «Политика
старая и новая» в известном мадридском Театре Комедии и за
неделю до охватившей весь мир небывалой войны. Ее события
на годы отодвинули знакомство с дебютной книгой
тридцатилетнего профессора метафизики (издана Студенческой
резиденцией университета Мадрида), ставшего практически
первым мыслителем Испании Нового времени, чьи идеи вышли за
пределы академической среды и который включил испанскую
мысль в европейский контекст, вместе с тем внеся в саму
Испанию проблемы и идеи философов Европы, прежде всего
Германии, где он учился, среди других, у марбургских неокантианцев
Германа Когена и Пауля Наторпа. Однако «Размышления о Дон
Кихоте», на которые в 1915 году отозвался сочувственной
заметкой Антонио Мачадо, ещё долго и после завершения Первой
мировой не получали значительного отклика и признания.
Фактически «Размышления» заново открыл для страны и для
мира в целом ученик Ортеги Хулиан Мариас (1914-2005),
родившийся в году их публикации и сам на несколько десятилетий
оказавшийся потом под запретом во франкистской Испании.
В 1957 году, через полтора года после смерти Ортеги, Мариас
опубликовал в университете Пуэрто-Рико его первую книгу со
своим обширнейшим философским комментарием, который
стал классическим и который целиком перевели на
португальский, а частями — на английский и итальянский языки. В 1966-м
«Размышления» в этом образцово откомментированном виде,
10
наконец издали в Испании, в 1984-м последовало переиздание,
за ним ещё несколько, в 2010-м году было напечатано восьмое.
Кроме того, Мариас посвятил первому труду учителя отдельное
место в своих фундаментальных монографиях «Ортега.
Обстоятельства и призвание» (1960, англ. пер. — 1970), «Ортега.
Траектории» (1983) и «Об Ортеге» (1991). Сегодня труд Ортеги
переведён на все так или иначе уважающие себя языки мира.
Для Ортеги первая изданная им книга входила в задуманный
большой цикл аналогичных «размышлений». Всего их
намечалось десять, три при этом посвящались Сервантесу. Из уже
готовившихся тогда к печати вышло два (о Барохе и Асорине, Ортега
ссылается на них в своей книге), из «сервантесовских» — одно,
оставшееся первым и последним. Это был «Краткий трактат
о романе», сопровождавшийся обращением к читателю и
«Предварительным размышлением». В предисловии к изданию труда
в 1984 году Мариас писал: «"Размышления о Дон-Кихоте"— не
просто одна из книг Ортеги. Она — отправной пункт всей его
дальнейшей работы, где автор нашёл себя, впервые очертил
границы собственной философии и стал обосновываться в ней,
чтобы двигаться дальше. Без оценки этой книги во всей её
глубине понимание сделанного Ортегой будет половинчатым,
лишённым первоосновы, больше того — останется в стороне от
его исходных побуждений, новорождённого призвания,
драматизма завязывающейся мысли»1.
Сегодня можно сказать (и Мариас об этом пишет), что Ортега
in nuce2 дал в своей книге набросок всего философского
проекта, который развивал потом в круто менявшихся
исторических и географических обстоятельствах на протяжении
четырёх десятилетий, и каких! Отмечу, по неизбежности бегло,
несколько его основных линий, новых и во многом
неожиданных для тогдашней испанской мысли. Прежде всего это
философская антропология (знаменитое теперь «Я — это я, плюс
мои обстоятельства»), складывавшаяся у Ортеги в полемике
и
с Декартом и Кантом; добавлю, что полемическая —
диалогическая — природа присуща мышлению и письму Ортеги в целом,
так что обращение «Читатель...» в начале книги и
философского пути — не случайность, а устойчивая форма, формула.
Это, далее, феноменологическая теория познания (концепция
познавательной перспективы и планов восприятия, с критикой
раннего Гуссерля). Это философия истории и, конечно, в первую
очередь испанской истории (в центре книги — вопрос всего
поколения 1898 года «Что же такое Испания?», ответы на него
современники Ортеги, включая Рамиро де Маэсту, которому
книга была посвящена3, дали разные). Наконец, это
философия культуры, искусства, техники, которые трактуются в рамках
ортегианского рациовитализма, критического по отношению
к «чистому» рационализму, в частности, учителя Ортеги Когена.
Так что от этой небольшой, в 190 страниц, книжки молодого
преподавателя и журналиста тянутся силовые линии,
пронизывающие все десять томов новейшего полного собрания его
сочинений, которое вышло в Мадриде в 2004-2010 годах. И замковым
камнем всего этого гигантского «свода» выступает образ Дон
Кихота и роман о нём — главная книга не только уже
упомянутого поколения (о Дон Кихоте не один раз писали Унамуно,
Асорин, Антонио Мачадо), но всей испанской культуры.
Настоящее издание приурочено к столетию книги Ортеги-
и-Гассета. В основе публикации — плоды деятельности
многолетнего переводчика Ортеги, пионера этих
«малоперспективных» занятий в позднесоветские годы, российского испаниста
Александра Борисовича Матвеева (1956-1993). Эти переводы
Матвеева печатались в разных изданиях девяностых годов. Я
присоединил к ним свои переводы нескольких главок, которые мой
младший друг и коллега не успел перевести. В таком виде наша
общая работа публикуется впервые.
Октябрь 2013 г.
ЬорисДубин
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДОН КИХОТЕ
Рамиро de Маэстуу
с выражением братства
Читатель...
Предлагаемые «Размышления» — первая книга
в ряду очерков самого разного свойства, но вполне
определённого смысла, которые преподаватель
философии in partibus infidelium4 решил довести до
сведения публики. В некоторых томах — скажем,
в этих «Размышлениях о Дон Кихоте» — речь пойдёт
о проблемах серьёзных и важных, в других — о
материях куда более простых и привычных. Как бы там
ни было, все они без исключения касаются наших
национальных обстоятельств. Для самого автора его
очерки — как и деятельность преподавателя,
журналиста, политика — это разные попытки исполнить
своё жизненное предназначение, дать выход одной
страсти. Я вовсе не рассчитываю, что кто-нибудь
признает эту деятельность самой важной на свете,
но для меня она имеет смысл, поскольку ни на что
другое я попросту не гожусь. Страсть, подвигнувшая
меня на этот труд, — самое горячее из чувств,
которые я за всю мою жизнь испытывал. Пользуясь
словами Спинозы, я бы дал ей имя amor intellectualis5.
Итак, читатель, перед тобой плоды
интеллектуальной любви.
Возможно, читатели не найдут в них ничего
нового. Вместе с тем это не сборники афоризмов.
Вслед за одним гуманистом XVII века я бы назвал
20
ЧИТАТЕЛЬ
их жанр «просветлением». Цель автора здесь в
следующем: каждое конкретное явление — будь то
человек, книга, полотно живописца, картина природы,
людское заблуждение или боль — наикратчайшим
путём довести до его смыслового предела. Всё, что
вековечный прибой жизни швыряет к нашим ногам
никчёмными обломками кораблекрушения,
расположить так, чтобы солнце высветило в нём
бесчисленные грани.
Во всякой вещи скрыт знак её возможного
предела. И прямая, благородная душа хочет помочь
вещам обрести это совершенство, достигнуть их
собственной полноты. Это и есть любовь — любовь
к совершенству любимого.
На полотнах Рембрандта самый скромный угол
белой или серой стены, самая грубая домашняя
утварь всегда окутаны светящейся, лучистой
дымкой, которую иные живописцы приберегают лишь
для голов святых. Мы как будто слышим тихие слова
оглашения: «Благословен обиход мира! Любите,
любите вещи! Каждая из них — волшебница, таящая
под убожеством и нищетой подлинные сокровища,
и невеста, ждущая любви, чтобы понести плод».
«Просветление» не равнозначно ни хвале, ни
лести и не исключает острой критики. Важно, чтобы
тема напрямую затрагивала простейшие движения
духа, всегдашние предметы человеческих забот.
Тогда всё, что с ними сплетено, переживает
преображение, перерождается, светлеет.
А это значит, что в духовной глубине этих
очерков, под каменистой и зачастую грубой почвой, со
Рембрандт Харменс ван Рейн. Читающий философ. 1631
22
ЧИТАТЕЛЬ
скраденным, слабым, словно боящимся оглушить
гулом тайно струится исповедание любви.
Дом испанской души, подозреваю, уже давно
и неведомо почему охвачен ненавистью, уснащён
пушками и грозит миру войной. Ненависть — из
тех страстей, которые сводят ценности на нет. Когда
мы что-то ненавидим, между ним и нами — словно
чудовищная стальная пружина, не дающая
ненавидимому предмету и на секунду проникнуть в наш дух.
От всего предмета остаётся лишь точка, куда
упирается пружина нашей ненависти, а обо всём
прочем мы либо не ведаем, либо забыли, как о чужом.
И каждую секунду — предметом меньше: вот ещё
один исчез, потерял для нас ценность. Поэтому мир
и становится для испанца всё неласковее, черствее,
глуше, пустынней. А наши души кружат по жизни
с досадливой гримасой, подозрительные и
бесприютные, как сорвавшиеся с цепи, оголодавшие псы.
В символической книге испанской истории всюду
найдётся место для нескольких страшных страниц,
где Матео Алеман6 опять нарисует аллегорию своего
Недовольного.
Напротив, любовь, пускай ненадолго,
привязывает к вещам. Пусть читатель спросит себя, что
нового проявляется в вещах, когда их окружают любовью?
Что чувствуешь, когда любишь женщину, когда
любишь знание, когда любишь родину? Первый ответ:
незаменимость. Говоря одним словом, любовь — это
незаменимость. Незаменимое! То, без чего не можешь
жить, не можешь даже представить себе жизнь, где
ты есть, а любимого или любимой нет! То, что стало
ЧИТАТЕЛЬ
23
частью тебя самого! Иными словами, любовь — это
всегда расширение личности, которая вбирает в себя
внешнее, смешивается с ним. Эта взаимосвязь,
взаимопереплетение заставляют тебя проникать в самые
глубины любимого существа. Его ощущаешь
целиком, и потому любимый раскрывается перед тобой
во всей полноте значимости. И тогда начинаешь
понимать, что само любимое — тоже лишь часть
другого, без которого не может и с которым накрепко
связано. Незаменимое для твоей любви становится
незаменимым и для тебя. Тем самым любовь
связывает одно с другим и всё на свете — с тобой, и мир
предстаёт теперь прочным и нерушимым целым.
Любовь, — учил Платон, — это божественный зодчий,
задающий миру цель, «так что всё в мироздании
существует во всеобщей связи»7.
Утрата связи неизбежно ведёт к разрушению.
Ненависть, которая рвёт любые связи, членя и кроша
целое, делит мир на атомы и распыляет личность.
В халдейском мифе об Издубаре-Нимвроде
отвергнутая им богиня Иштар, наполовину Гера,
наполовину Афродита, в порыве ненависти грозит богу
неба Ану разрушить мир, чтобы хоть на миг
упразднить законы любви, соединяющей всё живое, — ни
больше ни меньше как поставить фермату в
симфонии всемирного эроса.
Мы, испанцы, уже давно живём, заковав сердца
в броню злобы, так что окружающий мир, ударяясь
об эту жестокую преграду, снова и снова отступает
вспять. Столетиями вокруг нас продолжается
безостановочный и нарастающий распад ценностей.
24
ЧИТАТЕЛЬ
Мы могли бы повторить о себе слова, которые
один сатирический поэт XVII века сказал о Муртоле,
авторе поэмы Delia creatione del mondo*\
Il creator di nulla fece il tutto,
Costui del tutto un nulla, e in conclusione,
L'un fece il mondo e l'altro Tha distrutto9.
Цель этих очерков — в том, чтобы мои молодые
читатели (к ним одним я могу, не впадая в
нескромность, обратиться лично) изгнали из сердец навыки
ненависти и от души пожелали, чтобы в мире опять
воцарилась любовь.
Для этого у меня есть лишь одно средство: без
прикрас представить им человека, охваченного живейшей
страстью понять существующее. Изо всех
разновидностей любви я могу надеяться внушить
окружающим только эту свою страсть — страсть к пониманию.
И буду знать, что мои надежды исполнились, если
смогу хотя бы в самом малейшем уголке испанской
души открыть новые грани духовной
восприимчивости. Если нас что-то не интересует, это значит, оно
не находит в нашем существе подходящих граней для
преломления, и нужно без устали гранить свой дух,
умножать его разносторонность, чтобы его могли
по-настоящему затрагивать самые разные темы.
В одном из диалогов Платона эта тяга к
пониманию зовётся erotikhé mania, «любовным безумием»10.
И хотя желание понять не составляет ни
первородную форму, ни изначальное проявление, ни венец
любви, оно, по-моему, принадлежит к её непре-
ЧИТАТЕЛЬ
25
менным симптомам. Я не верю в любовь человека
к другу или к своему знамени, если не вижу в нём
усилия понять врага или знамя противника. А нам,
испанцам, я заметил, гораздо легче зажечься той или
иной моральной догмой, чем открыть сердца
исканию истины. И мы тем охотней подчиняем свою
волю жёстким требованиям морали, что у нас всегда
наготове расхожая оценка, которую при
необходимости можно ведь изменить или подправить. Я бы
сказал, испанец хватается за моральный императив
как за подручный инструмент, с помощью которого
он упрощает жизнь, отсекая от неё целые области
существования. Не зря острый взгляд Ницше давно
увидел в иных моральных поступках форму и плод
мстительного чувства.
То, что из всего этого следует, не может вызывать
симпатию. За мстительным чувством всегда лежит
сознание собственной униженности. Это
воображаемое торжество над тем, кого нам не под силу
победить на деле. В фантазии мы придаём объекту
нашей мести мертвенную видимость трупа,
мысленно убиваем, уничтожаем его. И потом, встречая
его в реальности невредимым и безмятежным, видим
в нём непокорного, недоступного для наших усилий
мертвеца, само существование которого —
олицетворённая издёвка над нами, воплощённое
презрение к нашей ничтожной судьбе.
Наиболее утончённая разновидность такой
преждевременной смерти, на которую мститель
обрекает своего врага, состоит в том, чтобы
проникнуться некой моральной догмой и, в опьянении
26
ЧИТАТЕЛЬ
собственными мнимыми доблестями, уверить себя,
будто у твоего противника нет ни проблеска разума,
ни малейших прав. Известно и символично то
сражение против германского племени маркоманнов,
когда император Марк Аврелий пустил впереди
своих войск цирковых львов. Маркоманны в ужасе
отступили. Но их вождь, подняв голос, воскликнул:
«Не бойтесь! Это же римские собаки!»
Преодолев страх, германцы бросились в атаку и победили.
Любовь тоже ищет сражений и не растёт в туманной
тени компромиссов, но она видит во львах львов,
а собаками называет собак.
Сражение с врагом, которого понимаешь, — вот
в чём состоит подлинная терпимость, черта любой
сильной души. Почему среди испанцев она
встречается так нечасто? Хосе де Кампос11, один из
мыслителей XVIII века, чью интереснейшую книгу мне
открыл Асорин, в своё время писал: «Дар
снисхождения — редкость среди бедных народов». И среди
народов слабых, добавлю я от себя.
Надеюсь, никто из читающих эти строки не
заподозрит меня в равнодушии к моральным идеалам.
Я не пожертвую моралью, лишь бы свободнее
предаваться игре ума. Всевозможным имморалистским
учениям, которые пока что до меня доходили,
недостаёт здравого смысла. Я же, признаюсь, отдаю свои
силы одному: попыткам обрести хоть толику
здравомыслия.
Но именно из уважения к моральному идеалу
важно давать отпор его главному врагу — извра-
ЧИТАТЕЛЬ
27
щённой морали. Такова, по-моему, — и здесь я не
одинок — утилитаристская мораль, мораль пользы.
Сколько ни ужесточай предписания, полезный
порок не обелить до моральной добродетели.
Осторожнее с жёсткостью — старой прислужницей
лицемерия. Видеть родовые черты добра в
жёсткости неверно, бесчеловечно и аморально. В конце
концов, мораль действительно полезна — только не
там, где приспосабливающийся человек ищет в ней
единственную пользу: удобство и
необременительность существования.
Самые высокие умы поколение за поколением
и век за веком отдавали силы тому, чтобы
довести наш этический идеал до чистоты, делая его всё
более тонким и сложным, всё более прозрачным
и глубоким. Благодаря им мы больше не путаем
добро с чисто внешним исполнением раз и навсегда
усвоенных норм закона. Напротив, мораль для нас
воплощает тот, кто перед каждым своим шагом
пытается сызнова укрепить в душе
непосредственную, личную связь с моральной ценностью. И если
мы руководствуемся лишь опосредованными
предписаниями тех или иных догм, то наши поступки
не имеют ничего общего с благом, тонким и
неуловимым, как потаённый аромат. Оно входит в нас
напрямую, как живое предчувствие и не тускнеющая
новизна совершенства. Поэтому неморальной будет
любая мораль, если она, наряду с другими
обязанностями, не предписывает первейшего и главного: мы
должны быть ежесекундно готовы к
преобразованию, совершенствованию, возвышению морального
28
ЧИТАТЕЛЬ
идеала. Любая этика, обрекающая нашу свободную
волю на вечное заточение в замкнутой системе
оценок, есть ipso facto12 этика извращённая. Как
в гражданских кодексах, именуемых «открытыми»,
в ней должно присутствовать начало,
побуждающее постоянно расширять и обогащать наш
моральный опыт. Благо — как природа: это беспредельная
ширь, в которую человек углубляется,
разрабатывая её век за веком. В высоком сознании подобного
долга Флобер однажды написал: «Идеал плодоно-
сен, — он имел в виду моральные плоды, — только
если вбирает в себя всё. Это труд любви, неприязнь
ему противопоказана».
Поэтому понимание для меня — не
противоположность морали. Извращённой морали
противостоит всеохватывающая мораль, для которой
понимание — прямой и первейший долг. Благодаря ей
бесконечно ширится круг наших сердечных
привязанностей, а стало быть, и наша способность быть
справедливыми. Стремление понять —
концентрированный акт веры. Если говорить о себе, то я,
должен признаться, каждое утро, открыв глаза,
произношу краткую древнюю молитву, одну строку
«Ригведы», которая состоит вот из таких крылатых
слов: «Господь! Пробуди нас в радости и дай нам
силы понять мир». И только после подобной
подготовки погружаюсь в светлые или мрачные часы
наступившего дня.
Но, может быть, это требование понять — слишком
тяжёлое бремя для человека? Разве это не самое мень-
ЧИТАТЕЛЬ 29
шее, чего от нас вправе ждать каждый, —
понимания? И кто из нас, не лукавя перед собой, утешится
тем, что сделал большее, а пренебрёг меньшим?
В этом смысле философия для меня есть общая наука
любви: в мире интеллекта она воплощает высший
порыв к всеобъемлющему слиянию. А потому
понимание в ней никогда не смешивается с простым
знанием. Сколько всего мы знаем, не понимая! Всё
фактологическое знание, строго говоря, внеположно
пониманию, и оправдать его можно, только введя
в рамки теории.
Философия — полная противоположность
учёности, эрудиции. Последнюю я вовсе не презираю,
учёные познания были, как известно,
разновидностью науки, но в своё время. В эпоху Юста Липсия,
Юэ, Казобона13 филолог не располагал надёжными
средствами, чтобы под лавиной исторических
фактов разглядеть сквозное единство смысла. Познание
не могло быть прямым познанием единства,
скрытого за явлениями. И другого выхода, кроме
случайной отсылки ко всему возможному многообразию
учёности, хранящейся в памяти индивида, тогда не
существовало. Придав учёности хотя бы внешнее
единство — теперь его называют «всякой
всячиной», — можно было надеяться, что одни сведения
невольно свяжутся с другими, откуда и прольётся
некий свет. Вот это единство фактов — не самих
по себе, а в сознании субъекта — и есть эрудиция.
Возвращаться к ней сегодня значит отбросить
филологию назад, всё равно что вернуть химию ко вре-
30
ЧИТАТЕЛЬ
менам алхимии, а медицину — к векам магии. Мало-
помалу простые эрудиты стали встречаться всё реже,
и недалёк час, когда последние мандарины исчезнут
у нас на глазах.
Поэтому эрудиция есть центробежная
составляющая науки, она ограничивается накоплением
фактов, тогда как философия — её
центростремительная составляющая, чистый синтез. При накоплении
факты попросту собраны, и каждый в этой груде
утверждает свою независимость, свою
самостоятельность. При синтезе же факты, напротив, исчезают,
как хорошо усвоенная пища, остаётся лишь их
изначальная жизненная мощь.
Венец устремлений философии — выразить
в едином суждении всю истину. Так тысяча двести
страниц гегелевской «Логики» — только подготовка,
чтобы в конце концов могла быть во всей смысловой
полноте произнесена фраза: «Идея есть абсолют». На
первый взгляд бессодержательная, эта фраза, тем не
менее, несёт в себе неисчерпаемые глубины смысла.
Если мыслить как подобает, все заключённые в ней
сокровища открываются разом, и вся громада
мироздания высвечивается у нас перед глазами. Эту
полноту озарения я и называю пониманием. Та или иная
формула, даже все испробованные формулы могут
оказаться ошибочными. Но из развалин философии
как доктрины непобедимо возрождается философия
как устремление, как порыв.
Сексуальное наслаждение состоит в мгновенной
разрядке нервной энергии. Эстетическое
наслаждение — в мгновенной разрядке пробуждённых, но
ЧИТАТЕЛЬ 31
сдерживаемых эмоций. Точно так же философия —
это мгновенная разрядка интеллектуальных сил.
На страницах нижеследующих «Размышлений», не
отягощенных эрудицией (даже в лучшем смысле
этого слова), мной движет неудовлетворённость
философа. И тем не менее я буду признателен, если
читатель не станет возлагать на мои опыты излишних
надежд. Перед ним не философия в смысле науки.
Перед ним просто эссе. Эссе — то же познание,
но за вычетом развёрнутого доказательства. И дело
интеллектуальной чести автора — не писать в таком
случае ничего, требующего доказательств, если их
у него нет. Наоборот, он имеет полное право
стереть в им написанном самомалейшие следы аподик-
тичности, лишь косвенно указав на возможные
подтверждения своей мысли, с тем чтобы желающий мог
подобрать их сам, а с другой стороны — чтобы не
утерять по пути к читателю того внутреннего жара,
без которого вообще не бывает никакой мысли. Ведь
сегодня даже книги, явно научные по замыслу, уже
стараются писать, смягчая назидательность, а
добиваясь краткости и удобства, по возможности
обходясь без постраничных примечаний и топя жёсткий
механический каркас доказательства в более живом,
подвижном и личном высказывании.
И это самое разумное в эссе, подобных моим,
где взгляды, составляющие для автора предмет его
научной убеждённости, не навязываются читателю
в качестве окончательных истин. Я предлагаю всего
лишь modi res considerandiu> возможные способы
32
ЧИТАТЕЛЬ
по-новому посмотреть на мир. Приглашаю читателя
применить их к себе: пусть попробует, открывают ли
они новые, плодоносные горизонты, и на
собственном, безусловном для него самого опыте убедится,
истинны они или ложны.
В написанном ниже я ставил перед собой не
строго научную, а гораздо более скромную цель:
не добиваться, чтобы мои соображения усвоили,
а просто пробудить в братских умах их собственные
братские мысли, даже если эти братья — мои враги.
Всё это лишь предлог и призыв к самому широкому
сотрудничеству идей в размышлениях над нашей
национальной реальностью.
Наряду с высокими предметами я буду касаться
вещей самых незначительных. Постоянно держать
перед глазами подробности испанской природы,
речь крестьян, склад народных танцев и песен, краски
и линии одежды или утвари, особенности языка, —
короче говоря, любые мелочи, в которых
раскрываются глубинные свойства каждого народа.
Заботясь о том, чтобы не смешивать великое
и малое, всегда и везде утверждая необходимость
иерархии, без которой космос обращается в хаос,
я, тем не менее, считаю самым насущным обращать
наши аналитические способности, нашу мысль на
то, что находится вокруг нас.
Каждый из нас достигает максимума
возможностей, когда во всей полноте осознаёт окружающие
его обстоятельства. Взаимодействовать с миром он
может только через них.
ЧИТАТЕЛЬ
33
Об-стоятельство! Circum-stantia! Бессловесные
предметы, которые у нас под рукой! Рядом, совсем
рядом теснятся их молчаливые лица с написанными
на них робостью и тоской, словно у бедняков,
вручающих дары и, вместе с тем, пристыженных явной
скромностью своих подношений. А мы проходим
сквозь них, даже не бросив взгляда,
сосредоточенные на своих отдалённых планах, думающие о
завоевании нездешних, призрачных городов. Мало что
из книг трогает меня так, как эти истории, где
напористый и непреклонный герой стрелой устремлён
к блистательной цели, не видя, что рядом безымянная
девушка с застенчивым и умоляющим лицом втайне
любит его и несёт в безгрешной груди сердце,
которое полно им одним, разгораясь ярким огнём, когда
окружающие кадят фимиам в его честь. Так и хочется
подать герою знак, чтобы он хоть минуту задержался
взглядом на цветке любви, распустившемся у него под
ногами. Все мы в той или иной мере герои и
пробуждаем в ком-нибудь такую стыдливо таимую страсть.
В этом мире был я человеком,
По-другому говоря, бойцом,
вырвалось у Гёте. Мы — герои, которые день за днём
сражаются во имя далёких целей и, не замечая,
топчут вокруг себя душистые фиалки.
В эссе «Об ограниченности» автор с
неторопливым удовольствием уже размышлял на эту тему.
Я вполне серьёзно считаю, что одно из самых
глубоких отличий нашего века от предыдущего состоит
34
ЧИТАТЕЛЬ
в совершенно ином отношении к окружающим
обстоятельствам. Не знаю, что за тревога
неотвратимо завладела умами в прошлом столетии (прежде
всего — в его второй половине), но она как будто
принудила их пренебречь в жизни всем
непосредственным, всем непостоянным. Чем более
обобщённый, целостный вид придавало прошлому веку это
стремление к отдалённым целям, тем ясней
проявлялась его сосредоточенность на политической сфере.
В девятнадцатом столетии человек Запада
прошёл приготовительную школу политики — образа
жизни, до той поры закреплённого исключительно
за министрами и узкими советами придворных.
Благодаря демократии озабоченность политикой,
иначе говоря, мысль и деятельность в интересах
общества, стала достоянием миллионов. Яростно
борясь за привилегии, на первое место вышли
проблемы социальной жизни. Всё остальное, и жизнь
индивида, отодвинули в сторону как вопрос мелкий
и несерьёзный. В высшей степени замечательно, что
единственным, кто всеми силами боролся за права
индивида, был в девятнадцатом столетии так
называемый «индивидуализм», доктрина опять-таки
политическая, то есть социальная, и что вся его борьба
свелась к заклинаниям не уничтожать
индивидуальность. Кому тогда могло прийти в голову, что совсем
скоро это покажется невероятным?
Все запасы серьёзности мы потратили на
управление обществом, на усиление государства, на
социальную культуру, социальную борьбу, науку,
понятую как техника и опять-таки обогащаю-
ЧИТАТЕЛЬ
35
щую коллективную жизнь. Любой из нас счёл бы
непростительным легкомыслием посвятить часть
своих лучших сил — а не только их остаток — на
то, чтобы укрепить вокруг себя дружбу, упрочить
высшую любовь, увидеть в удовольствии от
повседневных мелочей то измерение жизни, которое
следует самыми совершенными способами развивать.
А вместе с ним развивать множество потребностей
частного человека, которые без этого пристыженно
таятся по углам души, поскольку им не
предоставили публичных прав, иначе говоря — не наделили
культурным смыслом.
Я считаю, что каждая потребность, набирая силу,
рано или поздно создаёт новое культурное
пространство. И пусть человек всегда остаётся верен
высшим ценностям, которые известны по сей день:
науке и праву, искусству и религии. Придёт время,
и на свет появятся Ньютоны удовольствия и Канты
честолюбия.
Культура предоставляет нам — но уже в
очищенном виде — то, что когда-то было
безотчётным и непосредственным, а сегодня благодаря
трудам рефлексии кажется свободным от пространства
и времени, от порчи и произвола. Эти предметы
очерчивают особую зону идеальной и отвлечённой
жизни, паря над отдельным существованием
каждого из нас, всегда случайным и недовершённым.
Индивидуальная жизнь, область непосредственного,
обстоятельства — всё это разные названия одного
и того же: тех участков жизни, из которых ещё не
извлечён заключённый в них дух, их «логос».
36
ЧИТАТЕЛЬ
А поскольку дух, логос, это и есть «смысл», связь,
целостность, то всё индивидуальное,
непосредственное, окружающее кажется ему случайным и
бессмысленным.
К социальной жизни, как и к формам культуры,
мы приходим только через ту или иную
индивидуальную жизнь, через непосредственное, — вот что
нам предстоит понять. И то, что мы теперь
воспринимаем в ореоле высокого, должно было в своё
время гнуться и съёживаться, чтобы пройти через
сердце человека. Признаваемое сегодня истиной,
образцовой красотой, высшей ценностью однажды
появилось на свет из духовных недр индивида, неся
на себе родильные следы его прихотей и
настроений. Важно не обожествлять приобретённую
культуру, повторяя заученное, вместо того чтобы его
приумножать.
В полном смысле слова культурное действие —
это акт творчества, когда человек извлекает смысл,
«логос» из того, что ещё вчера было бессмысленным,
«алогичным». Приобретённая культура — лишь
орудие и ступень для новых завоеваний. Поэтому
всё, чему мы научились, в сравнении с нашей
непосредственной жизнью выглядит слишком
отвлечённым, общим, схематичным. И не только выглядит:
оно и впрямь таково. Что такое молот? Обобщённая
сила каждого из многомиллионных ударов.
Всё общее, готовое, унаследованное в
культуре — только тактическая уловка, на которую мы
идём, чтобы вновь обратиться к непосредственному.
Живущие поблизости от водопадов не слышат их
ЧИТАТЕЛЬ
37
рёва. Необходимо расстояние между
непосредственным окружением и нами, чтобы обнаружился смысл.
Египтяне верили, что долина Нила — это весь
мир. Подобная сосредоточенность на
окружающем чудовищна и, вопреки видимости, бесконечно
обедняет его смысловые богатства. Есть такие
слабые души, которые не в силах чем-то увлечься, пока
себе не внушат, что в их предмете сосредоточено всё
или всё самое лучшее на свете. Нужно вытравить из
себя этот вязкий, ребяческий идеализм. Есть только
частичное; любая целостность — лишь абстракция
составляющих её частей и вне их не существует.
Ровно так же не может быть первого без множества
равных, и только наш интерес к каждому делает для
нас одного среди них действительно первым. Что за
командир без солдат?
Когда же мы поймём, что существо мира — не
материя, не душа, не то или иное определённое
содержание, а перспектива? Бог — это перспектива
и иерархия: сатанинский грех — в нарушении
перспективы.
А перспектива тем богаче, чем она многосостав-
нее, чем точней мы реагируем на каждый её
уровень. Предвосхищение высших ценностей
обогащает наше отношение к ценностям более низкого
порядка, а любовь к ближайшему и незаметному
придаёт реальность и действенность всему
высокому. Если же малость — не пустяк, то и великое
видишь поистине великим.
Нужно отыскать для своих обстоятельств —
и именно в их ограниченности, в их своеобразии —
38
ЧИТАТЕЛЬ
надлежащее место в широкой перспективе всего
мира. Не пребывать в вечном экстазе перед
священными ценностями, а завоевать среди них особое
место для своей отдельной жизни. Говоря короче:
снова вобрать в себя собственные обстоятельства —
вот в чём состоит конкретный долг каждого человека.
Для меня выход в мир открывается через
перевалы Гвадаррамы и просторы Онтиголы15. Эта часть
обступающей меня реальности — моя вторая
половина: только в союзе с ней я способен
воссоединиться и полностью быть собой. Современная
биология16 исследует живые организмы в единстве их
тела с особой средой, так что процесс
жизнедеятельности состоит не только в адаптации тела к среде, но
и в адаптации среды к телу. Чтобы как следует
схватить предмет, рука старается принять его форму. Но
и в каждом предмете скрыто предварительное
сродство с той или иной рукой.
Я — это я вместе с моими обстоятельствами, а без
них нет и меня. Benefac loco Uli quo natus est{7> —
сказано в Библии. А платоники видели задачу любой
культуры в том, чтобы «спасти видимое», мир
явлений. Другими словами, найти смысл окружающего.
Приучая глаза к карте мира, нужно время от
времени возвращаться взглядом к Гвадарраме. Может
быть, там не увидишь ничего особенно глубокого.
Но, по крайней мере, будешь уверен, что эта
ущербность и слепота — свойства не самого мира, а твоего
зрения. У Мансанареса есть собственный «логос»:
эта мельчайшая речка, эта обернувшаяся водой
насмешка, подтачивающая основы нашего города,
ЧИТАТЕЛЬ
39
без сомнения, несёт среди считанных капель своей
влаги и ту, которая питает твой дух.
Потому что нет на земле вещи, через которую
не проходила бы некая божественная жила.
Трудность в том, чтобы её найти и заставить сократиться.
Друзьям, мешкавшим на пороге кухни, где они его
застали, Гераклит крикнул: «Входите! Боги повсюду».
Гёте писал Якоби из одной своей ботанико-геологи-
ческой экскурсии: «Лазаю по горам и ищу
божественное in herbis et lapidibus»18. Известно, что Руссо
ухитрился собрать гербарий в клетке своей канарейки,
а рассказавший об этом Фабр19 написал книгу о
насекомых, обитавших в ножке его письменного стола.
Ничто не требует такого героизма—иначе говоря,
решимости духа — как верность отдельным
подробностям жизни. Нужно, чтобы возможность
геройского поступка скрыто жила во всём, и чтобы
каждый, кто, не зная уныния, мотыжит землю в своём
саду, надеялся: вот сейчас из неё ударит родник. Для
Моисея любая скала водоносна.
А для Джордано Бруно est animal sanctum, sacrum
et venerabile, mundus20.
Среди наших национальных обстоятельств есть два
важнейших: Пио Бароха и Асорин, — каждому из
них я посвятил отдельный очерк"*. Асорин
заставляет задуматься и, после только что сказанного,
* Они опубликованы в первом и втором томах «Наблюдателя» под
названиями «Мысли о Пио Барохе» и «Асорин, или Превосходство
обыденности». Здесь и далее примечания под астериском принадлежат автору,
Ортеге-и-Гассету.
40
ЧИТАТЕЛЬ
посмотреть на окружающие мелочи и на саму
ценность прошлого другими глазами. Если говорить
о первых, то пора, наконец, покончить со скрытым
лицемерием в характере современного человека: он
делает вид, будто интересуется лишь избранным
кругом священных установлений вроде науки,
искусства, общества, и лишь незначительную часть души,
да и то втайне, уделяет пустякам, включая
физиологию. Совсем наоборот: на последнем пределе
безнадёжности, когда во всём мире нет уже, кажется,
ничего, на что смог бы опереться, глаза невольно
обращаются к мелочам обыденной жизни, — так
умирающие вдруг припоминают в последнюю
минуту самые ничтожные подробности пережитого.
И тогда видишь, что на краю жизни тебя удерживает
вовсе не грандиозное — неимоверные наслаждения,
невероятные страсти, — а вот это минутное тепло
зимнего очага, долгожданный глоток спасительной
влаги, поступь встреченной девушки, в которую
ты не влюблён и которой даже не знаешь, выдумка,
которую самым обычным голосом рассказывает тебе
скорый на выдумку друг. По-моему, бедняга,
который в отчаянии решил повеситься на дереве, но уже
с верёвкой на шее почувствовал аромат розы,
раскрывшейся у подножья, и вернулся к жизни,
поступил очень по-человечески.
Что даёт нам жизненные силы, — продумать
и понять эту загадку было бы для современного
человека делом чести. Пока что он всего лишь
пытается её замаскировать, отвести от неё глаза, как и от
многих других тайных сил — скажем, сексуального
ЧИТАТЕЛЬ
41
влечения — которые вопреки недомолвкам и
секретничанью рано или поздно завладевают его жизнью.
В нас по-прежнему живёт недочеловеческое, но
каков смысл этих пережитков для человека? Каков
их «логос»? Какую ясную позицию занять, когда
испытываешь чувство, выраженное Шекспиром
в одной из комедий такими простыми, задушевными
и неподдельными словами, что они вполне могли бы
встретиться в его сонетах? «Я с удовольствием отдал
бы, — говорит герой "Меры за меру", — свой вес,
которым так горжусь, за лёгкость этой пушинки,
которой, как хочет, играет ветер»21. Это неприлично,
скажете вы? Eppur!..22
Если же говорить о прошлом, к которому Асорин
подходит со стороны эстетики, то мы видим в нём
один из самых жестоких национальных недугов.
У Канта в «Антропологии»23 есть настолько глубокие
и верные слова об Испании, что у читающего
буквально перехватывает дух. Путешествующие турки,
пишет Кант, имеют обыкновение описывать народы
по их главному пороку, и, следуя этой манере,
приводит следующую таблицу: 1. Страна моды (Франция).
2. Страна дурного настроения (Англия). 3. Страна
предков (Испания). 4. Страна хвастовства (Италия).
5. Страна титулов (Германия). 6. Страна
аристократов (Польша).
Страна предков! И значит, она по-прежнему не
принадлежит нам, не составляет свободное
владение нынешних испанцев. В ней, как прежде, царят
ушедшие, которые сплотились в олигархию смерти,
гнетущую нас изо дня в день. «Знай же, — ска-
42
ЧИТАТЕЛЬ
зано в "Хоэфорах"24, — мёртвые способны убивать
живых».
Воздействие прошлого на испанцев — один из
самых больных наших вопросов. В нём ключ к
психологии испанского консерватизма. Говорю сейчас
не о политике — она всего лишь одно и совсем не
самое глубокое, не самое важное проявление общего
консерватизма нашей мысли. Как мы не раз
увидим на этих страницах, крайняя реакционность в её
самом предельном выражении характеризуется не
столько враждебностью к современному, сколько
особым отношением к прошлому.
Позвольте мне для краткости ограничиться
парадоксальной формулой: жизнь — это смерть
умершего. Есть только один способ победить прошлое,
царство завершённости: вскрыть вены и наполнить
своей кровью опустевшие вены мёртвых. А именно
это и не по силам консерватору, он не может
отнестись к прошлому как живому. Он вырывает его из
сферы жизнеспособного и лишь затем возводит на
трон, даруя мёртвому власть над душами живых. Не
зря кельтиберы привлекали такое внимание древних:
это был единственный народ, поклонявшийся смерти.
Неспособность наполнить прошлое жизнью —
вот что отличает консерватора. А неприязнь
к новому — общая черта самых разных
психологических темпераментов. Разве Россини, не любивший
поездов, а предпочитавший разъезжать по Европе
в экипаже с весёлыми колокольцами, —
консерватор? Хуже другое: целые области нашего сознания
заражены, и прошлое, словно птица над болезне-
ЧИТАТЕЛЬ
43
творными испарениями болот, падает замертво,
погружаясь в топь нашей памяти.
Пио Бароха будет для нас поводом задуматься над
тем, что такое счастье и что такое «действие». На
самом деле мы понемногу поговорим обо всём: этот
человек — не просто человек, он — скрещение
бесчисленных путей.
Кстати, над страницами очерка о Барохе, как и над
теми, что посвящены Гёте, Лопе де Веге, Ларре25,
и даже над некоторыми из этих «Размышлений»
читателю может показаться, будто я уделяю недостаточно
внимания своей прямой теме. Да, это литературно-
критические работы, но я вовсе не считаю главной
задачей критики оценку книг, распределение их на
хорошие и плохие. С годами приговор интересует
меня всё меньше: я предпочитаю не судить, а любить
свой предмет.
Критика для меня неотделима от страстного
желания обогатить полюбившуюся книгу. В этом
смысле она совершенно противоположна тому, что
делает Сент-Бёв, ведя от произведения к личности
автора и распыляя эту последнюю в облаке
анекдотов. Критик — не биограф, и целиком отрываться от
текста он не вправе. Его задача — в другом:
дополнить написанное. Коротко говоря, это значит, что
критик обязан включить в свою работу
инструментарий всех чувств, всех идей, которые помогут
обычному читателю получить как можно более полное
и ясное представление о данной книге.
Литературную критику стоило бы нацелить на утверждение, её
44
ЧИТАТЕЛЬ
дело — не столько править автора, сколько снабжать
читателя более тонким оптическим устройством.
Обогащать книгу, обогащая её прочтение.
Иными словами, я понимаю под литературно-
критической работой о Пио Барохе совокупность
точек зрения, с которых в его книгах открывается
более богатый смысл. Поэтому я — и ничего
странного в том нет — почти не говорю об авторе и не
вдаюсь в детали им написанного; для меня
главное — соединить то, чего в самих его книгах нет, но
что служит им дополнением, окружает их более
благоприятной атмосферой.
Я хочу посвятить «Размышления о Дон Кихоте»
анализу донкихотства. В этом слове таится
двусмысленность. Я не собираюсь говорить о нашем
национальном товаре, который под ярлыком донкихотства
расхваливают на каждом рынке. Имя «Дон Кихот»
может отсылать к двум совершенно разным вещам:
к названию книги и к её герою. Как правило, под
«донкихотством» в хорошем или дурном смысле
понимают донкихотство героя. Я в своих очерках
буду исследовать, напротив, донкихотство книги.
Фигура Дон Кихота, поставленная в центр
сервантесовского романа наподобие антенны, к которой
стягиваются любые связи, столько раз привлекала
общее внимание, что это повредило и всему
остальному, и самому герою. Конечно, при малой толике
любви и скромности — друг без друга им не
обойтись — можно было бы сочинить неплохую
пародию на «Имена Христа», чудесную энциклопедию
Оноре Домье. Дон Кихот. Ок. 1868
46
ЧИТАТЕЛЬ
романской символики, которую со страстью
богослова соткал в саду своей Флечи фрай Луис де Леон26.
Да, можно было бы написать «Имена Дон Кихота».
Потому что и сам Дон Кихот — в некотором смысле
печальная пародия на божественного и
бесхитростного Христа: это готический Христос, иссушенный
новейшей тоской, смешной Христос наших окраин,
рождённый болезненной мечтательностью тех, кто
утратил прежнюю чистоту и волю, чтобы пуститься
теперь на поиски иных, новых. Стоит собраться
горстке испанцев, которым не даёт покоя
приукрашенная воображением нищета их прошлого,
невылазная грязь настоящего и беспощадная враждебность
будущего, и к ним тут же нисходит Дон Кихот и все-
расплавляющим жаром своего несуразного облика
связывает их разлучённые сердца, нанизывает их на
единую нить духа, снова сплачивает в народ,
перекрывая личные горести каждого общей болью испанца.
«Где двое или трое собраны во Имя моё, — обронил
Христос, — там Я посреди них»27.
И всё же нелепости, до которых доходят люди,
сосредоточившиеся исключительно на Дон Кихоте,
выглядят настоящей карикатурой. Одни, впадая
в пророческий транс, всячески предостерегают нас
от донкихотства; другие, следуя новейшей моде,
проповедуют, напротив, героическую позу апоплек-
тиков. И для тех, и для других Сервантес, как легко
видеть, — пустое место. Не стойте на этом распутье,
я зову вас в край Сервантеса.
Индивида не понять, если не знаешь общего рода,
к которому он относится. В основе физического
ЧИТАТЕЛЬ
47
мира — материя или энергия; в основе мира
художественного — а персонаж по имени Дон Кихот
составляет его часть — субстанция, именуемая
стилем. Любой художественный предмет — это
протоплазма стиля, получившая индивидуальную форму.
Иначе говоря, индивид Дон Кихот принадлежит
к роду Сервантеса.
Нужно поэтому сделать усилие, оторваться от Дон
Кихота и, охватив взглядом весь роман, прийти на
его просторах к более широкому и ясному понятию
сервантесовского стиля, особым,
конденсированным образцом которого выступает наш ламанчский
идальго. Это и есть для меня настоящее
донкихотство — донкихотство Сервантеса, а не Дон Кихота.
И Сервантеса не в алжирских банях, не в жизни его,
а в его книге. Чтобы не смешивать эти планы —
биографический и словесный, — я и предпочитаю
говорить о донкихотстве, а не о сервантизме.
Задача настолько высока, что автор берётся за неё,
заранее уверенный в крахе, словно вызывая на бой
самих богов.
Тайны Природы добывают силой.
Определившись в космической чаще, исследователь идёт к
проблеме прямиком: он — охотник. Для Платона, как
и для Святого Фомы, учёный — это человек,
отправляющийся на охоту, thereutés, venator28. Если есть
оружие и воля, добыче от него не уйти: новая истина
неизбежно упадёт к его ногам, как подстреленная на
лету птица.
Но тайну гениального художественного
творения таким интеллектуальным наскоком не взять.
48
ЧИТАТЕЛЬ
Она, я бы сказал, противостоит силе, а открывается
только любви. Ей, как и научной истине, нужно
отдать всю старательность и внимание, но
напрямую, по-охотничьи, к ней не подступиться. Здесь
необходимо не оружие, а, может быть, нечто
другое: назовём его мысленным благоговением. Вещь
уровня «Дон Кихота» осаждают, словно Иерихон.
Нашим мыслям и чувствам предстоит много раз
описывать и лишь постепенно сужать широкие
круги, как бы разнося по воздуху гром
запредельных труб.
Мирный идальго, написавший книгу, Сервантес
уже три столетья покоится на райских пажитях и,
с печалью глядя вокруг, ждёт, когда же родится
потомок, способный его понять!
Эти мои размышления, за которыми последуют
другие, конечно же, не собираются посягать на
окончательную разгадку «Дон Кихота». Они — своего
рода широкие круги, которые неспешно и
неостановимо описывает мысль, безысходно прикованная
к бессмертному произведению искусства.
И последнее. Думаю, читатель различит в любом
уголке этих очерков озабоченность пишущего
судьбой его страны. Мысли автора и тех, к кому он
обращается, рождены одним: отрицанием сегодняшней
немощной Испании. Но остановиться на
отрицании было бы бесчестно. Произнося слова
отрицания, человек, сохраняющий веру и достоинство,
обязуется найти слова утверждения. Я хочу сказать,
всеми силами к этому стремится.
ЧИТАТЕЛЬ 49
Так поступаем и мы. Отрицая нынешнюю
Испанию, мы пускаемся на отважные поиски другой. Это
доблестное начинание не даёт нам покоя. Оно
проникает в сокровеннейшие, потаённейшие мысли
каждого, так, что любой, даже самый слабый наш
душевный проблеск становится, как это ни
удивительно, ещё одним шагом на пути к новой Испании.
Мадриду июль 1914 г.
Предварительное размышление
Ist etwa der Don Quixote nur eine Posse?
H. Cohen. Ethik des Reinen Willens29
Эскориал возвышается на вершине холма, чей склон
порос густым ясеневым и дубовым лесом. Ла Эрре-
риа — вот как называется это место. Благодаря
пышной растительности, покрывающей её подножие,
гигантская базальтовая глыба меняет облик со
сменою времён года: зимой она красная, словно медь,
осенью отливает золотом, а летом рядится в зелень.
Всякий год весна врывается сюда внезапно, бурно,
стремительно, нахлынув, словно эротическое
видение в закоченелую душу отшельника. С
изумительной быстротой деревья надевают светло-зелёный
наряд, земля покрывается изумрудом травы, который
иной раз пестрит то ромашковой желтизной, то
лиловыми пятнами лаванды. Здесь есть места, где царит
удивительное безмолвие, которое, впрочем, никогда
не бывает абсолютным. Едва всё вокруг затихнет,
как свободное от звуков пространство настоятельно
требует, чтобы его хоть чем-то заполнили. И тут мы
отчётливо слышим, как стучит наше сердце, как
пульсирует кровь в висках, как дышит грудь.
Тревожное, неприятное чувство, к тому же —
имеющее слишком конкретный смысл. Ведь
каждый удар сердца — случайность, поскольку у нас
нет никакой уверенности, что он не последний. Вот
почему предпочтительнее слушать иную тишину, где
Камиль Коро. Перевозчик. Ок. 1865
ЛЕС
55
раздаются чисто внешние, лишённые конкретного
смысла звуки. Здесь воцарилась именно эта тишь,
нарушаемая лишь отдалённым журчанием ручья
да птичьими трелями иволг и щеглов, к которому
порой примешивается звонкое пение соловья.
В один из таких прекрасных вечеров
быстротечной весны я задумался...
I
ЛЕС
Сколько нужно деревьев, чтобы можно было сказать:
это лес? И какое число домов даёт нам право завести
речь о городе? Как напевал крестьянин из Пуатье:
La hauteur des maisons empêche de voir la ville30.
Или, как гласит немецкая поговорка: за
деревьями не видать леса. Дело в том, что и лес, и город
обладают измерением в глубину. А глубине, если ей
необходимо себя проявить, самой судьбой суждено
превращаться в поверхность. Вокруг меня — десятка
два могучих дубов и несколько стройных ясеней.
Могу ли я утверждать, что нахожусь в лесу? Никоим
образом. Это не лес, а только деревья, которые мой
взгляд различает в лесу. Настоящий лес состоит из
тех деревьев, которых я не вижу, ибо лес по природе
невидим. Именно поэтому на всех языках это слово
окружено таинственным ореолом. Я поднимаюсь
чуть выше по склону, идя по тропинке, над которой
порхают дрозды. Что же? Теперь меня обступили
почти точно такие же деревья. Лес начинает дро-
56 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
биться, распадаться на ряд кусков, последовательно
предстоящих взору. Но где бы я ни оказался, лес как
таковой ускользает из моего поля зрения.
Представим себе: мы вышли на поляну, внезапно
открывшуюся средь зарослей. Вдруг нас охватывает
странное чувство. Кажется, ещё минуту назад здесь
на камне среди поляны, сжав руками голову, сидел
человек. А потом вдруг встал — и ушёл. Приди мы
раньше, мы бы непременно его застали. Мало того,
абсолютно ясно: он ушёл очень недалеко и опять
уселся на камень в той же задумчивой позе... Если
нам взбредёт в голову застать его врасплох (иначе
говоря, мы поддадимся искушению, которому лес
подвергает любого, кто дерзко пытается раскрыть его
тайну), сцена будет повторяться до бесконечности.
Лес постоянно держится от нас на некотором
расстоянии. Вот он опять успел уйти — его и след
простыл. Недаром древние — великие мастера облекать
свои смутные образы в живые и телесные формы —
населили леса юными, быстроногими нимфами.
Точно и выразительно! Оглянитесь на ходу: там, на
светлой прогалине, словно трепещет пустая и тёплая
воздушная оболочка, в которую спешит ворваться
ветер, — след скрывшегося нежного розового тела.
Независимо от нашего местонахождения лес
предстаёт исключительно как возможность. Это
и тропа, по которой мы могли бы уходить всё дальше
и дальше, и едва слышный в немой тишине ручей,
который, будь на то наша воля, мы бы обнаружили
в двух шагах от себя, это и трели птиц, укрывшихся
в кроне ясеня, под чьей сенью мы могли бы отдох-
ЛЕС
57
нуть... Итак, лес есть сумма наших возможных актов,
которые по осуществлении неизбежно утратили бы
свой исконный смысл. То, что предстаёт нам в лесу
как данность, — простой предлог для того, чтобы
остальное навеки оставалось сокрытым и
отдалённым.
II
ГЛУБЬ И ПОВЕРХНОСТЬ
Когда твердят, что «за деревьями не видать леса», судя
по всему, вряд ли отдают себе отчёт, в чём состоит
строгий смысл данной фразы, ибо всякий, кто её
произносит, как бы подставляет сам себя под удар
таящейся в ней двусмысленности.
Суть в том, что если за деревьями не видать леса, то
ведь и сам лес существует только в силу этого факта.
Ведь предназначение видимых деревьев
исключительно в том, чтобы заслонить собой остальные.
Лишь осознав, что видимое скрывает невидимое, мы
можем сделать вывод, что мы в лесу.
Незримость, или сокрытость, вовсе не составляет
чисто отрицательного качества. Наоборот, это
глубоко положительное свойство, причём способное
преобразовать, превратить что бы то ни было в нечто
иное. В этом смысле любая попытка увидеть лес
обречена на провал — в этом весь смысл приведённой
пословицы. Лес — это скрытое, незримое как таковое.
Какой прекрасный урок для тех, кто не желает
считаться с множественностью равно необходимых,
58 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
значимых судеб, уготованных нам окружающим
миром! Есть многое, склонное терять свою
первозданную ценность, как только оно станет данностью
или хоть как-то себя проявит.
Наоборот, пребывая в скрытом, подспудном
состоянии, оно способно возвести свою ценность
в наивысший ранг. Найдётся немало людей, всегда
готовых играть первую роль, а ведь подлинного
самораскрытия они достигли бы именно на вторых ролях.
В одном из современных романов рассказывается
о не очень умном, но на удивление чутком в
духовном отношении мальчике, который постоянно
предпочитал сидеть за последней партой, поскольку, по
его глубокому убеждению, «кто-то ведь должен быть
последним». Эта остроумная мысль достойна того,
чтобы стать нашей путеводной звездой. Стремление
быть последним столь же похвально, сколь и
стремление быть всегда первым. И в первом, и в
последнем мир нуждается в равной мере. Больше того: одно
без другого не существует.
Иные не признают существования третьего, или
глубинного, измерения, наивно полагая, что
глубина так или иначе должна проявить себя как
поверхность. Они никак не могут взять в толк, что есть
разного рода очевидности, или ясности, окончательно
предпочтя весьма специфическую поверхность. Они
просто не отдают себе отчёта, что глубине присуще
прикрываться поверхностью, таиться за ней. Точнее:
проявляться только через её посредство.
Отрицать, что любое явление подчиняется лишь
условиям своего собственного существования, а не
ГЛУБЬ И ПОВЕРХНОСТЬ
59
нашим требованиям, с моей точки зрения, означает
впадать в истинно смертный грех. Я бы даже назвал
этот грех душевным, ибо его основная причина —
недостаток любви. Непростительно
приуменьшать мир, подавляя его с помощью наших капризов
и пристрастий, принося целые пласты реальности
в жертву причудам и больному воображению. Нет
и нет! На свете есть многое, из чего нам дано ровно
столько, сколько необходимо, чтобы мы догадались:
это, по сути, надёжно укрыто от наших глаз.
Чтобы это понять, не надо прибегать к каким-то
высоким абстракциям. Всё, чему свойственна
глубина, имеет единую основу. Так, материальные
предметы, которые мы можем явственно наблюдать,
осязать, обладают третьим измерением, иначе говоря,
глубиной, неким внутренним пространством. Но
как раз это третье измерение — и невидимо, и
неосязаемо. Конечно, на поверхности подобных
предметов мы можем распознать кое-какие слабые, робкие
намёки на то, что находится внутри, но это «внутри»
никогда не сможет выбраться наружу, стать явным
точно в такой же мере, как чисто внешние стороны
предметов. Напрасный труд — пытаться нарезать
третье измерение на тонкие слои поверхностей. Как бы
тонко мы ни резали — слои всегда будут сохранять
некоторую толщину, иначе говоря, глубину,
невидимое, неосязаемое внутреннее пространство. Если же
мы получим абсолютно прозрачные для взгляда — мы
просто-напросто вообще перестанем видеть что бы то
ни было и не заметим ни глубины, ни поверхности.
Пред нами предстанет прозрачность как таковая, или
Питер Клас. Натюрморт с оловянным кувшином, ломтиком лосося,
хлебом, оливками в фарфоровой миске. 1650
ГЛУБЬ И ПОВЕРХНОСТЬ
61
ничто. Ибо если глубина нуждается в поверхности,
за которой можно было бы укрыться, спрятаться, то
и поверхность, в свою очередь, также нуждается в
глубине, чтобы можно было над чем-либо простираться,
что-либо собой прикрывать.
Разумеется, вышесказанное — прописная истина.
Но и она может нам пригодиться. И поныне
встречаются люди, требующие, чтобы мы помогли им
увидеть всё так же просто, как апельсин, который
лежит у них прямо перед глазами. Дело же в том, что
если мы, как и эти люди, понимаем под видением
некую функцию чувственного восприятия, то,
несомненно, — никто из нас в жизни апельсина не видел
и не увидит. Ведь апельсин кругл, то есть имеет
лицевую и обратную сторону. Неужто можно
рассчитывать на то, чтоб узреть их одновременно и сразу?
Собственными глазами мы неизбежно видим лишь
одну сторону апельсина. Однако весь плод целиком
никогда не предстаёт перед нами в ощутимой форме,
ибо большая его часть надёжно укрыта от взора.
Итак, нет никакой необходимости прибегать
к изучению сколько-нибудь сложных или
метафизических предметов, чтобы понять: вещам свойственно
проявляться по-разному. Тем не менее порядок
очевидного проявления вещей строго определён, а
степени очевидностей равнозначны. Таким образом,
третье измерение физических тел дано нам точно
с такой же очевидностью, как и два других. И всё
же если бы мы обладали исключительно пассивным
видением, многие предметы и их качества остались
бы для нас навек недоступными.
62 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
III
ИВОЛГА И РУЧЕЙ
Моя мысль — диалектический фавн, который
преследует сущность леса в надежде её постичь, словно
резвую нимфу. Ведь ум испытывает почти
сексуальное наслаждение, нащупав обнажённую плоть идеи.
Признав за лесом свойство исчезать, ускользать
от взора, то есть существовать подспудно, мы далеко
не исчерпали весь смысл леса как такового. Если
глубинное, потаённое должно для нас как-то
существовать, оно неизбежно как-то себя проявит, предстанет
перед нами именно в глубинном, подспудном виде.
Как уже было сказано, глубине самой судьбой
суждено проявляться лишь на поверхности. 4ΐο же,
давайте понаблюдаем, как это происходит.
У моих ног — ручей. Он бежит по кремнистому
руслу и то сладко, то жалобно стонет, пряча в свой
хрустальный рукав корни могучего дуба. В тёмной
его вершине укрылась иволга, воцарившись там,
словно королевна у себя во дворце. Её томный,
нежный голос напоминает волшебный сколок с
чарующей соловьиной трели. Краткий, пронзительный, он
вдруг одним мигом заполняет всё доступное слуху
лесное пространство. Так порою внезапно в душу
нахлынет безысходное чувство скорби.
Теперь я могу отчётливо различить два звука. Но
не только их. Ибо они лишь своеобразный пунктир,
выделяющийся в силу особой насыщенности на
общем фоне других, более слабых шумов и звуков.
ИВОЛГА И РУЧЕЙ
63
Если я отвлекусь на время от пения иволги и от
журчания ручья и перенесу внимание на иные,
более отдалённые, смутные звуки, я тем не менее
вновь различу и иволгин голос, и журчание ручья,
текущего по каменистому руслу. Но против
ожидания я вдруг нахожу, что они звучат по-другому.
Вне сомнений, один из них — прежний голос
той же иволги, но он как-то увял, потускнел. Он
уже не пронзает воздух с былою силой, не
торжествует над лесом, как раньше. Нет, этот звук, будто
стыдясь самого себя, звучит робко, бесстрастно.
Точно так я различаю уже знакомый говор ручья.
Но что же случилось? Лучше б его и вовсе не было
слышно! Создаётся впечатление, что источник вот-
вот иссякнет. А в общем, я распознаю тот же самый
звук, но он стал каким-то прерывистым, жалким,
приглушённым. Он так ослабел, что едва-едва
доходит до слуха.
Такова особенность вновь услышанных звуков,
таковы они как впечатления. Но вслушиваясь, я не
просто констатирую их присутствие (как это
сделано здесь). Нет, едва различив их невольным
слухом, я, не раздумывая, машинально их
истолковываю, словно отбрасывая мысленно от себя подальше.
Иными словами, я намеренно воспринимаю их
в качестве отдалённых.
Если бы я ограничился пассивным восприятием,
два упомянутых созвучия прозвучали бы для меня
одинаково (и на той же близкой ко мне дистанции,
и с той же силой). Однако разное качество звучания
64 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
заставляет меня развести их в стороны, тем самым
придав им разные пространственные свойства.
Иначе говоря, я сознательно поступаю так, что звуки
становятся виртуально разными. В противном
случае (то есть если бы я не поступал так) расстояние
между созвучиями исчезло бы и они бы никак не
различались между собой. Стало быть, здесь
удалённость принимает форму определённого
виртуального свойства присутствующих объектов, явлений,
причём само это свойство обязано своим
происхождением действию субъекта. Сам по себе звук отнюдь
не отдалён — таким его делаю я.
Отсюда ясно: существует целая часть
реальности, которую мы постигаем без особых усилий,
поскольку чтобы её воспринять, достаточно просто
открыть глаза и прислушаться. Этот мир
впечатлений как таковых принято называть явным, или
очевидным. Тем не менее за пределами данного мира
есть ещё один. Образующие его структуры
впечатлений делают его скрытым по сравнению с первым —
явным. И всё же вышеизложенное обстоятельство
не убавляет ему реальности. Конечно, чтобы мир
более высокого порядка для нас засуществовал, мало
просто открыть глаза. Здесь от нас требуется чуть
большее. Степень прилагаемых усилий, подчеркну
ещё раз, и не даёт, и не отнимает реальности,
способности к существованию, присущих такому миру.
Глубинный мир наделён такой же очевидностью,
ясностью, что и поверхностный, только он требует
от нас большего.
Камиль Коро. Нимфы и сатиры приветствуют пляской восход солнца.
1851
66 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
IV
ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ МИРЫ
Этот величественный лес, даровавший моему телу
здоровье, вместе с тем преподал хороший урок моему
духу. Этот лес — мой учитель, и как любой
настоящий учитель, он стар, серьёзен и умудрён опытом.
Его педагогический метод — единственно верный
и плодотворный — не проповедь, а подсказка, намёк.
Всякий, кто хочет сообщить некую истину, ни в коем
случае не должен её изрекать как нечто само собой
разумеющееся. Ведь довольно намёка. К примеру,
можно просто очертить рукой в воздухе некую
идеальную кривую, скользя по которой мы сами
спустимся к подножию нового знания. Все познанные
истины неизбежно утилитарны. Собственно говоря,
это вообще не истины, а полезные советы. Свет
истины сияет лишь в краткий миг её открытия —
в момент истины. Вот почему греческое слово aletheia
(истина) изначально имело то же значение, которое
впоследствии приобрело слово apocalipsis —
«откровение» или «разоблачение», «снятие покровов». Тот,
кто желает сообщить нам истину, должен сделать так,
чтобы мы пришли к ней сами.
Этот лес научил меня, что существует некий
первый план реальностей, который предстоит мне грозно
и недвусмысленно. Я имею в виду цвета, звуки,
ощутимые чувства радости и страдания. По отношению
к этому плану я занимаю позицию сугубо пассивную.
Но за этими реальностями встают другие. Так за бли-
ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ МИРЫ
67
жайшими отрогами гор открываются неприступные
вершины, грозные своей высотой. Эти реальности —
второго плана, и они имеют более глубокие корни, и,
как бы что-то внушая нам, они нас влекут и
заманивают; вместе с тем эти реальности не столь навязчивы
и агрессивны, как первичные, которые, как уже было
сказано, сами избирали нас своей целью. Напротив,
чтобы открыться — они ставят перед нами условие:
чтобы они получили существование, их нужно
пожелать, иначе говоря, мы сами должны устремиться им
навстречу. В известном смысле эти реальности
зависят от нашей воли. Наука, искусство, право, правила
этикета, религия — вот пласт вторичных реальностей,
которые не вторгаются в нашу жизнь варварски или
бестактно, как холод или голод. Нет, они существуют
лишь для тех, кто их пожелает.
Когда верующий утверждает, что он видит Бога
в цветущих кущах и в смутном облике ночи, — в этой
фразе не больше иносказания, чем в таком простом
сообщении, что он увидел, например, апельсин. Дело
в том, что если бы существовало лишь пассивное
видение, мир неизбежно обратился бы в хаотический
набор разноцветных пятен. Но над пассивным
видением господствует активное, которое, видя предметы,
их истолковывает и, истолковывая, их видит.
Понятие активности выражается уже не глаголом «видеть»,
а глаголом «смотреть». Платон нашёл для этого
феномена божественное слово «идея». Отсюда ясно: третье
измерение апельсина — только идея, а Бог — лишь
последнее измерение кущи.
Франсиско Сурбаран. Натюрморт с лимоном, апельсином и розой.
1633
ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ МИРЫ
69
В подобном взгляде на вещи не больше мистики,
чем, например, в утверждении, что мы увидели
блёклый цвет. В самом деле, какой же цвет мы увидели,
когда увидели блёклый цвет? Тот самый цвет,
который мы видим сейчас, виден так, как если бы
существовал иной, более яркий синий цвет. Такое
видение наличного синего цвета в совместности с тем,
что существовал в прошлом, видение одного цвета
сквозь другой как раз и носит активный характер.
Это не зеркальное отражение, а идея. Тот факт, что
цвет утратил свою былую окраску и поблёк,
составляет новое, виртуальное качество, которое
возникает, когда мы добавляем к актуальности временное
измерение в глубину. Без рассуждений и мгновенно
мы видим цвет и всю его историю: и его былую славу,
и его нынешнее убогое положение. Вот почему при
виде блёклого цвета у нас возникает какое-то
скорбное чувство.
Любое измерение в глубину — будь то
пространственное или временное, зрительное или
слуховое — всегда проявляется на поверхности. Таким
образом, сама поверхность приобретает сразу два
смысла. С одной стороны, она существует как нечто
материальное, с другой — мы можем рассматривать
её уже в её второй, виртуальной жизни. В последнем
случае поверхность растягивается вглубь. И такое
растяжение — не что иное, как ракурс.
Ракурс есть орган видимой глубины. Иначе говоря,
это тот предельный случай, когда простое видение
сливается с чисто интеллектуальным действием.
70 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
V
РЕСТАВРАЦИЯ И ЭРУДИЦИЯ
Итак, вокруг меня — глубокие заросли леса. В руках —
«Дон Кихот», пуща воображения.
Это глубины другого рода, глубины книги,
и книги великой. «Дон Кихот» — редчайший
случай, это книга трёх измерений.
Был период в жизни Испании, когда глубину
«Дон Кихота» не признавали. В истории эта эпоха
осталась под именем Реставрации. Никогда ещё
сердце Испании не билось так приглушённо.
Позвольте, я сошлюсь на слова, которые уже
сказал однажды об этой эпохе нашего общего
существования по иному поводу:
«Что такое Реставрация? По Кановасу31,
продолжение испанской истории. Чёрный же век настал
для нашей истории, если ей наследует Реставрация!
К счастью, это неправда. Упразднение национальной
истории — вот что такое Реставрация. Да, в испанцах
первой половины девятнадцатого столетия
недоставало сложности, анализа, ума, но уж отваги, силы,
динамизма им было не занимать. Сгори все
тогдашние рассуждения и книги и останься лишь
биографии их авторов, мы бы только выиграли, и
тысячекратно. Риего и Нарваэс32 как мыслители, если
сказать честно, сплошное недоразумение, но как
живые люди — это два костра неукротимой энергии.
К 1854 году, когда исподволь завязывается
Реставрация, блики того неистового огня на лице нашей
бедной Испании начинают гаснуть. Динамизм сни-
РЕСТАВРАЦИЯ И ЭРУДИЦИЯ
71
кает, как снаряд на излёте. Жизнь Испании
замыкается в себе, становится самопожиранием. Вот такая
самоистребительная жизнь и есть Реставрация.
У других народов, чей дух богаче и
уравновешенней, следом за эпохой динамизма может идти период
стабильности, покоя, полноты. Разум вызывает к жизни
и приводит к согласию потребности в устойчивости,
неизменности — надёжном управлении, хозяйстве,
росте благосостояния, технической оснащённости.
Но мы, как известно, блещем не умом, а отвагой.
Жизнь у нас (а правильнее сказать — наша жизнь до
нынешнего дня) немыслима без динамизма. Как только
мы теряем энергию перемен, страна тут же впадает
в глубочайшую летаргию, сохраняя из всех жизненных
функций одну-единственную: сон, что она ещё жива.
На первый взгляд, Реставрация — синоним
расцвета. Ещё бы! Сколько именитых
государственных мужей, мыслителей, военачальников, сколько
замечательных договоров, планов, сражений! Наши
войска бьют мавров под Тетуаном33 не хуже, чем во
времена Гонсало де Кордовы34. В погоне за северным
врагом наши корабли бороздят морскую гладь как
при Филиппе II. Переда — тот же Уртадо де Мен-
доса, а в Эчегарае воскрес Кальдерон35. Но всё это —
из области грёз: перед нами картина жизни, в
которой реален только сон, сон о себе самих.
И вся наша Реставрация, друзья мои, — это
раёшное представление призраков, а Кановас —
искусный распорядитель этой фантасмагории»"".
* Лекция «Политика старая и новая» (Сочинения, том I).
72 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
Так как же, скажите на милость, как это целая страна
удовлетворилась подобными подделками? Как
единицей количества стало ничтожество, а высшей из
ценностей — ничтожная единица? Только в соизмерении
с наидостойнейшим обретают истинное достоинство.
И наоборот: умаляя высшие ценности, за их счёт
превозносятся сами. Без высоты, без совершенства душа
мелеет. Правильно, хоть и другими словами, говорит
об этом старая поговорка: «Между слепыми и
кривой — король». Так на ключевых местах сами собой
оказываются люди и вещи, выползшие невесть откуда.
В период Реставрации мы потеряли вкус ко всякой
подлинной силе, масштабу, полноте, глубине. У нас
притупился орган трепета перед недюжинным, перед
его редкостью. Воцарилась, сказал бы Ницше, эпоха
извращения самих инстинктов оценки. К великому
стали равнодушны. Чистота не потрясала. Блеска,
яркости не замечали, как ультрафиолетовых лучей.
Всё заурядное и серое угрожающе размножилось.
Мухи раздулись до слонов, Нуньес де Арсе36 вышел
в поэты.
Окунитесь в литературные суждения эпохи,
вчитайтесь в Менендеса Пелайо, в Валеру37 — какая
невероятная утрата перспективы! Ведь эти люди с
наилучшими чувствами рукоплещут плоскому только
оттого, что им неоткуда взять опыт глубины'1". Говорю
«опыт», поскольку не считаю незаурядность словес-
* Никакого привередливого высокомерия с моей стороны в адрес двух
этих авторов нет, оно было бы неоправданно. Я лишь отмечаю
серьёзнейший недочёт в их сочинениях, а он вполне уживался с
достоинствами, и немалыми.
РЕСТАВРАЦИЯ И ЭРУДИЦИЯ
73
ной похвалой: она открывается на опыте, это факт
опыта, по природе — религиозного. Шлейермахер
видит сущность религии в чувстве ясного и
простого подчинения превосходящему38. Человек,
заглянувший в себя, остро переживает зыбкость мира,
в котором и над которым не царит высшее начало. Он
ощущает, что полностью подчинён некоей силе, как
бы её ни называть. Любой здравый ум, в книгах ли,
в жизни ли, но рано или поздно сталкивается с чем-то
абсолютно его превосходящим. Иначе говоря, с
произведением либо с характером, для которого царство
нашего разума слишком тесно. Отличительная черта
высших ценностей — их запредельность*.
В какие же тогда рамки уместить Сервантеса?
Эрудиция подмешала к этой божественной книге
наших внимающих откровению монашков, наших
полноводных драматургов, наших выжженных до
калёной степи лириков.
Конечно, глубина «Дон Кихота» — и любая
другая глубина — кажется самой очевидностью. Но так
же как не всякий взгляд видит, не каждый читатель
постигает: тут нужно чтение изнутри, умное чтение.
Иначе глубинный смысл «Дон Кихота» останется
закрытым. А крупнейшие фигуры эпохи Реставра-
* Не так давно — одним вешним вечером — на эстремадурском перегоне,
бредя масличной равниной, чью сцену сверху замыкало торжественное
парение нескольких орлов, а в глубине — сиреневый изгиб гатской
сьерры, мой сердечный друг Пио Бароха пытался меня убедить, будто мы
восторгаемся лишь тем, чего не понимаем, и восторг — следствие
непонимания. Убедить меня он не сумел, а уж коли это не удалось ему, вряд
ли удастся кому другому. Да, в истоке восторга есть и непонимание, но
оно — чисто отрицательное: чем больше понимаешь в незаурядном, тем
больше остаётся понять.
74 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
ции, если говорить по правде, сошлись бы,
пожалуй, только в одном, определив ум такими словами:
умный ввязывается в драку первым.
VI
КУЛЬТУРА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
Впечатления — это своего рода покров из травы,
чьи корни уходят в почву, служат нам идеальными
путями к более скрытой, потаённой реальности.
Ведь размышляя, мы как бы уходим вглубь вещей,
покидаем поверхностный мир. Мы будто бы
отчаливаем от недвижных берегов видимого, вручая
свою судьбу иной, эфирной стихии — бурному
океану возможностей, где нет надёжных островов
или рифов, да и вообще каких-либо точек опоры.
Такое предприятие осуществимо лишь при
условии, что мы всё время рассчитываем
исключительно на себя, иначе говоря, постоянно делаем
над собой некоторое усилие. Так и только так мы
действительно имеем возможность познать мир
бесплотных, невесомых форм. Вот почему,
выполняя столь сложное задание, мы ни на минуту не
должны забывать, что можем бесследно пропасть,
исчезнуть вкупе со всем нашим хаотическим
океаном глубин. Любое размышление предполагает
огромное напряжение воли и порой реально
связано с немалыми муками.
Думая о чём бы то ни было, мы так или иначе
торим себе дорогу сквозь толщу запутанных пред-
КУЛЬТУРА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
75
ставлений и тёмных мыслей, пытаемся расставить
понятия по местам, то есть как-то их упорядочить.
Наш взгляд стремится проникнуть в
образовавшийся зазор, а мы как бы помещаем идеальные
распорки между близкими феноменами, чтобы они
сохраняли различия и не сливались вновь в
однородную и плотную массу. Только решив эту задачу, мы
можем беспрепятственно перемещаться в идеальном
пространстве, прослеживая взглядом чёткий
профиль понятий, теперь уже ясных и очевидных.
Найдётся, однако, немало людей, абсолютно не
способных на вышеупомянутые усилия. У человека
такого склада (если вдруг очутился в мире идей) тут
же начинает невыносимо болеть голова.
Непрерывная вереница неопределённых, то и дело
переходящих друг в друга понятий встаёт у него на пути как
неодолимое препятствие. Это безвыходное
положение. Кругом один туман — густой, немой и
бесконечный.
Прекрасно помню, как в юности я зачитывался
сочинениями Менендеса Пелайо. Как известно,
в его трудах часто говорится о неких «германских
туманах, или туманностях», которым автор
противопоставляет «латинскую ясность». С одной стороны,
эта мысль безумно мне льстила, с другой — вызывала
искреннее сострадание к представителям
несчастной нордической расы, навеки обречённых на туман
в голове.
Только вообразите себе поистине бесконечное
терпение, хранимое на протяжении тысячелетий
миллионами людей, судьба которых никак иначе не
76 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
могла бы гордо нести тяжкое бремя своей печальной
судьбы и при этом ничуть себя не жалеть.
Позднее я убедился: в точке зрения Менендеса
Пелайо нет ни капли правды. На самом деле это
очередная неточность, или нелепость, которые, словно
проклятие, без конца нависают над нашей несчастной
нацией. Нет никаких «германских туманностей», как,
впрочем, и пресловутой «латинской ясности». Есть
всего-навсего два описательных выражения, которые
не содержат в себе ничего конкретного, кроме хорошо
продуманной и преднамеренной лжи.
Конечно, между германской и латинской
культурами имеется существенное различие. Но оно
сводится лишь к тому, что первая, по сути, жива своей
глубиной, а вторая скользит по поверхности. Итак,
обе культурные формы представляют собой как бы
два измерения единой, цельной европейской
культуры. Следовательно, у нас нет основания считать,
будто вышеназванные формы обладают разной
степенью очевидности или ясности.
Но прежде чем заменить
противопоставление «ясность — неопределённость» на
оппозицию «глубь — поверхность», следует раз и навсегда
исключить возможность ошибки. Ведь источником
заблуждений здесь выступает неверное
истолкование самого термина «латинская культура».
По сути, оно объясняется одной великой
иллюзией, в которой все мы (французы, итальянцы,
испанцы) постоянно находили себе утешение
и оправдание в любую тяжкую пору. Посмотрим
правде в глаза. С какой стати мы возомнили, будто
КУЛЬТУРА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
77
мы — потомки Богов? Наша «латинская
самобытность» превратилась в некий генеалогический
акведук, по которому к нам якобы поступает кровь
самого Зевса. Но это чистой воды лицемерие,
служащее простым предлогом для общей распущенности.
По правде говоря, Рим не имеет к нам отношения.
А мы, не раздумывая, устроили себе из семи холмов
чудесный наблюдательный пункт, с которого
непрерывно созерцаем золотую гладь Эгейского моря,
излучающую пламенную энергию древнего мира
эллинов. Но это — самообман, иллюзия. Ибо мы
совершенно напрасно претендуем на роль
преемников (даже потомков!) славных греков.
Всего полвека тому назад считалось (как нечто
само собой разумеющееся), что и греки, и римляне
в равной степени принадлежат к двум классическим
расам. Но с тех пор филология всё же добилась
определённых успехов. Учёные научились по крайней
мере видеть разницу между трудно уловимыми
сущностями и грубой подделкой варваров.
Ныне Греция с каждым днём всё решительней
утверждает свою поистине уникальную роль во
всемирной истории. Это её законная привилегия
в силу одного простого и конкретного факта:
основные, классические темы европейской культуры были
открыты греками. А человечество до сих пор так
и не сумело создать какую-либо культурную форму,
хотя бы в некотором отношении превосходящую
культуру Европы.
С каждым новым шагом исторической науки
увеличивается дистанция, разделяющая Грецию
78 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
и Восток. В настоящий момент у нас практически
не осталось ни одного повода думать, что некогда
эллины испытали сильное влияние со стороны
восточной цивилизации. Почти совсем не вызывает
сомнений тот факт, что римляне не сыграли сколько-
нибудь заметной роли в разработке подлинных тем
высокой классики. В этом отношении Рим вообще
не мог составить Греции конкуренцию. Наоборот,
он продемонстрировал абсолютное непонимание
эллинского типа жизни. Рим оказался
своеобразной западной Японией, поскольку даже его
наивысшие культурные достижения были вторичны.
Как известно, даже идеи права, государственности,
якобы пронизанные истинно римским духом,
обнаруживают отчетливые следы греческого влияния.
И вот едва только лопнули звенья расхожих
мнений, заставлявших Рим терпеливо стоять на якоре
в пирейском порту, как бурные волны Ионического
моря (издавна славившегося неспокойным нравом)
швырнули римлян в самую пучину
средиземноморской стихии. Так порой разгневанный хозяин
указывает на дверь незваному гостю.
Что ж, вывод напрашивается сам собой:
римляне — типичные средиземноморцы.
Теперь в нашем распоряжении оказалось уже
иное понятие, нам следует незамедлительно
заменить им нечёткое и, в общем, неверное по смыслу
представление о какой-то мифической «латинской
культуре».
На протяжении целых веков мировая история
пила, не отрываясь, из дивной чаши — Средизем-
КУЛЬТУРА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
79
ного моря. Без преувеличения можно сказать, что
тут перед нами история прибрежья как такового,
история, в которой принимали участие народы,
толпившиеся в узком коридоре между Александрией
и Кальпе, Кальпе и Барселоной, Марселем, Остией,
Сицилией, Критом"".
Высокая волна этой самобытной цивилизации,
по-видимому, отхлынула когда-то от Рима, а затем,
играя под лучами полуденного солнца, выплеснулась
на весь обширный приморский край. И всё же само
движение могло, безусловно, начаться в любой
другой точке этого географического региона. Больше
того, казалось, вот-вот наступал момент, когда
инициативу в деле создания новой культуры готовился
перехватить Карфаген. Наше славное море до сих
пор хранит в своих водах грозную память о стуке
коротких мечей, орошённых солнечной кровью.
В ту древнюю пору в смертный бой вступили два
великих народа, в сущности, ни в чём друг другу не
уступавших. Однако от души эллинов они
отстояли на одну и ту же абсолютную и тождественную
себе дистанцию. Ибо и географическое положение
было во многом сходным. Победа Карфагена вряд
ли бы повлияла на курс, которому следовали великие
* С моей точки зрения, чтобы определить понятие «средиземноморской»,
то есть «нелатинской» культуры, необходимо решить историческую
проблему взаимоотношения Греции и Крита. Остров Крит — не что иное,
как широкое устье полноводной реки цивилизаций Востока. Именно там
пролегает граница той культурной территории, которая по праву
принадлежит древним эллинам. Короче говоря, мы можем говорить о
первозданной греческой культуре лишь в той мере, в какой она не имеет
отношения к Криту.
80 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
торговые пути. Пристрастия рас тоже мало
отличались между собой. Основные принципиальные
идеи и ценности развивались в одном направлении.
В глубине души мы всегда готовы променять
Сципиона на Ганнибала, потому что сам вопрос о столь
отдалённых приоритетах для нас незначим.
Вот почему сходство между обычаями, образами
и социальными учреждениями вышеупомянутых рас
не должно вызывать вообще какого-либо удивления.
Берега Средиземноморья — дети моря, они раз
и навсегда отреклись от суши, и потому понятие
о каком-то смутном, внутреннем мире просто-
напросто недоступно. Единство моря сотворило
единство его границ. Попытка расколоть
Средиземноморье, то есть противопоставить северный
берег южному, развести их ценности, неминуемо
ведёт к чудовищному искажению исторической
перспективы. И прямым его следствием становится
вывод многих историков о том, что Юг и Север
якобы представляли собой два равных духовных
полюса, вокруг которых сложились
противоположные друг другу комплексы идей и понятий. На
самом деле средиземноморская культура
приобрела статус реальности задолго до того, как народы
уяснили себе, что вообще есть Европа и Африка.
Европа как таковая начинает участвовать в истории
лишь после вторжения германских племён. Тогда
же, естественно, появилась на свет и Африка — не
Европа. Итак, основным результатом германского
нашествия на Италию, Францию, Испанию
явилась утрата первозданной средиземноморской тра-
КУЛЬТУРА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
81
диции, постепенное сведение культуры региона
к крови и почве.
В итоге торговые пути мало-помалу начали
удаляться от моря, отступать вглубь европейского
континента, обретя в нём свою надёжную опору.
Греческая мысль пустилась бродить по путям-дорогам
Германии. Восстав ото сна, эйдосы Платона
оплодотворяют чисто германские умы Декарта и Галилея,
Канта и Лейбница. Наступает эра чудес — Эсхилов
Бог, пафос которого имел скорее этическую, а не
метафизическую окраску, грозно откликается в
проповедях Лютера, аттическая демократия воскресает
в доктрине Руссо. В один же прекрасный день
древние музы Парфенона со всею возможной страстью
отдаются Донателло и Микеланджело — двум юным
германским гениям, по случайности очутившимся
во Флоренции.
VII
О ЧЁМ ПОВЕДАЛ ГЁТЕ
ОДИН ИТАЛЬЯНСКИЙ КАПИТАН?
Рассуждая о самобытности той или иной культуры,
мы обязаны учитывать роль её творцов, иными
словами рас, стоявших у её истоков. Нет сомнений:
многообразие существующих культурных форм
в конечном счёте определяется жизненными типами,
которые воплотились в этносах, короче, спецификой
расовых физиологии. Однако (и здесь необходимо
сразу оговориться) в данном случае нам всегда при-
82 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
дётся решать две абсолютно разные задачи, поскольку
вышеуказанная зависимость, безусловно, налицо, мы
сначала должны разбить всю разнородную
совокупность культурных достижений на классы (тем самым
выделив основные особенности национальной
науки, искусства, обычаев и прочего), и лишь потом,
во вторую очередь, определить характер
соотношения каждого из них с известным этническим типом,
с его биологической схемой.
Честно говоря, сейчас у нас нет в
распоряжении достаточно эффективного средства, которое
бы позволило обнаружить со всей очевидностью
наличие причинно-следственных отношений между
расами как видами биологических организмов
и теми же расами, взятыми в историческом ракурсе,
как тенденциями развития интеллектуальной,
эстетической, эмоциональной, художественной,
правовой и любой иной культурной деятельности. Вот
почему на предварительном этапе остаётся
довольствоваться (хотя и этого уже немало) лишь
описанием типов исторических фактов или событий.
Разумеется, здесь нужно сосредоточиться на
угадывании доминанты развития определённого уклада
жизни, то есть стремиться распознать его подоплёку.
Впрочем, понятие «средиземноморской
культуры» не имеет отношения к вопросу о кровном
родстве между расами, расселившимися вокруг
нашего гостеприимного моря. Значимость этой
проблемы, безусловно, меркнет перед значимостью
куда более важного вопроса. А именно: почему
творения средиземноморского духа столь отличаются
О ЧЁМ ПОВЕДАЛ ГЁТЕ...
83
от культурных форм древних германцев и греков?
В силу вышеизложенного не бесполезно попытаться
восстановить сущностные элементы нашей
первозданной традиции. Но и здесь надлежит сперва
научиться безошибочно отличать воистину исходные
признаки от грубого клейма, оттиснутого рослыми
варварами на коже наших предков.
Так пусть всю ответственность за выполнение
столь возвышенной миссии возьмёт на себя какой-
нибудь образованный филолог с развитым вкусом
и интуицией. Лично мне нужно было лишь
высказать ряд замечаний относительно довольно
расхожего представления о «латинской культуре»
(которое я понизил в ранге до «средиземноморской»).
Другими словами, речь идёт о её мнимой ясности.
Среди таинственного лесного шума мне был
дан глас несомненного откровения: у каждого
текста, у каждого мира реальностей есть своя исходная
ясность, или очевидность. Вот почему прежде чем
провозглашать ясность привилегией
Средиземноморья уместно спросить: как мы пришли к тому
странному выводу, что наша культура не знает
преград? Неужто и впрямь творческая мощь
средиземноморцев такова, что мы способны озарять своим
светом всё сущее и грядущее?
Ответ напрашивается сам собой.
Средиземноморье не может противопоставить германской науке
(будь то философия, механика, биология) ничего
оригинального. Когда-то (начиная с эпохи
Александра и заканчивая нашествием варваров) мы
действительно хранили первозданную чистоту. А дальше?
84 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
Дальше мы просто не имели оснований
претендовать на незамутнённость наших якобы латинских,
или средиземноморских, истоков. Всю Испанию,
вкупе с Францией и Италией, некогда затопили
целые моря германской крови. Нам стало чуждо
даже понятие о расовой чистоте, поскольку в наших
жилах уже давным-давно бьётся не кровь, а траги-
физиологическое и крайне противоречивое
недоразумение. Так что самое время прислушаться к
словам Хьюстона Чемберлена39, предупреждавшего об
угрозе расового хаоса.
Однако оставим так называемый и весьма
щекотливый национальный вопрос (мимоходом заметим,
что именно так с ним всегда следует поступать)
и сделаем лучше, если перейдём к
непосредственному рассмотрению нашего идейного наследия.
Увы! Взору открывается прискорбное зрелище. На
историческом горизонте высятся всего две
грандиозные вершины, способные бросить ответный
вызов германскому гению: это мысль итальянского
Возрождения и Декарт. Именно потому, что ни одна
из этих вершин к Германии не причастна, за ними
обыкновенно признают все достоинства кроме
ясности. Конечно, трудно читать Лейбница, Канта,
Гегеля, зато они очевидны, ясны, как Божий день.
Конечно, Джордано Бруно и Декарт выражаются
более вразумительно, зато они темнят и путают всё
на свете.
Теперь, покинув крутые духовные выси, мы
можем спокойно исследовать подножие
средиземноморской идеологии. И здесь, как и следо-
О ЧЁМ ПОВЕДАЛ ГЁТЕ...
85
вало ожидать, нас ждёт разочарование: творения
«латинских мыслителей» отличаются чисто
внешним изяществом, за которым неизбежно кроются
чуть ли не комические понятийные комбинации,
чудовищная нечёткость, словом, полное отсутствие
философской культуры. Все эти опусы столь же
неуклюжи в своих движениях, как любой живой
организм, внезапно очутившийся в чуждой ему
стихии. Очень характерна фигура Джамбаттисты
Вико, несомненно обладавшего всеми качествами,
которые ему позволили выработать
самостоятельную систему идей. И тем не менее всякий, кто хоть
немного знаком с его творчеством, испытал на себе
ужасы настоящего хаоса.
Что ж, так называемая «латинская ясность»
попросту говоря противопоказана подлинной мысли.
И не надо меня уверять, будто «ясность» —
неотъемлемое качество чисто французского
словоблудия, которое под высокопарным именем «искусства
Développement»40 и поныне преподаётся в лицеях.
Странствуя по Италии, Гёте однажды
познакомился с одним тамошним капитаном, который на
время стал попутчиком гения. «Этот капитан, —
пишет Гёте, — был во всех отношениях достойным
представителем большинства своих соплеменников.
В этой связи укажу лишь на одну, но очень
характерную его черту. Поскольку я обыкновенно молчу
и думаю, он однажды не выдержал и обратился ко мне
со следующей речью: Che pensa: non deve mai pensar
Vuomo in una sola cosa, perche allora di vien matto; bisogna
aver mille cosey una confusione neüa testa41.
86 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
VIII
ПАНТЕРА, ИЛИ СЕНСУАЛИЗМ
В области изобразительных искусств мы, южане,
всё-таки можем обнаружить одну свою
самобытную черту. Как известно, ещё Викхофф отметил, что
«искусство греков всегда противостояло римскому,
опиравшемуся на этрусскую традицию». Греческое
искусство, обуреваемое желанием найти
сущностное и типичное, скрытое под конкретной
наружностью, не сумело противостоять той воле к иллюзии,
которая на протяжении многих веков определяла
характер римской культуры"".
Найдётся крайне мало свидетельств такой
значимости, поэтому их можно без всякого преувеличения
считать подлинным откровением. Вдохновение
греков, несмотря на свою эстетическую полноту и
авторитет, достигнув Италии, потерпело поражение,
столкнувшись с художественным инстинктом
противоположного направления. Последний был столь
мощен и однозначен, что не было нужды дожидаться
появления истинно римских скульпторов, которые
могли бы органически вписаться в традицию эллинов.
Заказчики оказали столь сильное духовное
влияние на греческих художников, прибывших в Рим,
что в руках эллинов сам резец забывал свои цели
и вместо того, чтобы изображать скрытый идеал,
наносил на мраморный лик всё конкретное, видимое
и индивидуальное.
• Wickhoff F. Werke, III.
ПАНТЕРА, ИЛИ СЕНСУАЛИЗМ
87
Отсюда берёт начало то культурное направление,
которое в своё время было неточно названо
реализмом. На самом деле это течение следует назвать
импрессионизмом. На протяжении двадцати
столетий народы Средиземноморья пытались собрать всех
художников под знаменем импрессионизма. Иной
раз этот процесс сопровождался строгим отбором,
а иной — происходил незаметно и почти тайно. Во
всех случаях торжествовала воля к поиску
чувственного как такового. До древних греков всё видимое так
или иначе подчинялось и сводилось к мысли.
Поэтому акт видения получает значимость лишь тогда,
когда он возводится в ранг идеального символа. На
наш взгляд, подобное вознесение — не что иное, как
нисхождение. В данном случае чувственное просто
разбивает свои оковы и, освободившись от власти
идей, объявляет себя независимым.
Средиземноморская культура немыслима без постоянного
оправдания всего чувственного. Это откровенное
преклонение перед внешностью, поверхностью и радость
от недолговечных впечатлений, от всего, что хоть
как-то раздражает наши возбуждённые нервы.
Различия между средиземноморским и
германским мыслителями объясняются тем, что они
по-разному видят мир. И именно в способности
видеть южане превзошли многие народы. Мы, хотя
и неясно мыслим, но видим всё ясно. Если
попытаться убрать сложнейшие философские и
богословские аллегории, образующие величественное
здание «Божественной комедии», в руках, словно
драгоценные камни, засверкают точные и яркие
88 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
образы, зачастую обрамлённые строгим одинна-
дцатисложником. И тут сразу становится очевидно:
только ради них можно пожертвовать всеми
остальными достоинствами поэмы. Я имею в виду
видения Данте, где поэт пытается уловить взглядом,
а затем передать словами изменчивые переливы
цветов, мимолётную красоту ландшафта,
непередаваемую прелесть рассвета. Как известно,
Сервантеса тоже отличало огромное умение видеть мир.
Эта способность была доведена у него до такой
степени, что он мог вообще не прибегать к
описаниям. Повествовательная манера как бы сама по
себе непосредственно передавала и цвет, и шум,
и целостную телесность сущего.
И тысячу раз прав Флобер, сказавший однажды
о Дон Кихоте: «Как зримы эти дороги Испании,
нигде не описанные Сервантесом»"".
Теперь давайте оставим Сервантеса и перейдём
к Гёте (сразу заметим: в нашу задачу вовсе не входит
определить, кто из них больший гений, равно как
мы и не собираемся сравнивать их художественные
миры). Однако стоит лишь сопоставить одну
страницу текста Сервантеса с любой страницей,
написанной Гёте, как сразу замечаешь очевидную
разницу между вышеупомянутыми писателями. Мир
Гёте не предстаёт перед нами как непосредственное.
И люди, и вещи, о которых он пишет, обязательно
находятся где-то очень далеко от нас, как будто они
воспоминания или сон о самих себе.
* Correspondance, II.
ПАНТЕРА, ИЛИ СЕНСУАЛИЗМ
89
Когда вещь имеет всё необходимое, чтобы быть
собой, ей, тем не менее, недостаёт одного решающего
признака: её проявления, присутствия,
актуальности. Здесь уместно привести знаменитое изречение
Канта, направленное против метафизики Декарта:
«Тридцать талеров возможных не меньше тридцати
талеров реальных»42. Быть может, с точки зрения
философии это чистая правда. Однако в любом
случае это прекрасно свидетельствует об ограниченном
характере германской мысли. Для представителей
Средиземноморья важна не сущность чего бы то ни
было, а его присутствие, актуальность: самим вещам
мы всегда предпочитали живое их ощущение.
Римляне называли подобную установку
реализмом. Но поскольку «реализм» — именно латинское
понятие, а не видение, то оно представляет собой
и тёмный, и неочевидный термин. Какую вещь
(то есть res) имеет в виду реализм? Пока мы не
научимся различать между вещами и их видимостью,
нам не понять основной, исконной черты
средиземноморской, или южной, культуры.
Ведь и Гёте стремился к восприятию вещей,
недаром же он сказал: «Только глаза помогли мне
постичь этот мир»43, а Эмерсон уточнил: Goethe sees
at every pore44.
Весьма вероятно, что немцы (чьи взгляды в этом
отношении достаточно ограничены) сочтут, что
Гёте был велик в способности видеть мир, что по
складу характера он не сомневался в существовании
видимости. Но если сравнить его с выдающимися
творцами нашей культуры, остаётся только признать:
90 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
видение Гёте — простое мышление с помощью глаз:
Nos oculos eruditos babemus45.
То, что в акте видения принадлежит впечатлению,
у людей Средиземноморья выражено куда сильнее.
Вот почему мы привыкли довольствоваться лишь
чистым наслаждением от видения, пробуя своим
взглядом на ощупь облик целого Мироздания. Эта
способность есть главный признак нашего искусства.
И здесь ни при чём какой-либо реализм. Поскольку
искусство, основанное на впечатлениях, вообще
связано не с видением на общем плане именно res (или
вещи), а с выдвижением на этом же плане только
внешности, видимости. Эту точку зрения лучше
всего назвать иллюзионизмом, импрессионизмом
или просто пристрастием к внешнему.
Реалистами были древние греки, но лишь по
отношению к тому, что составляло предмет их
воспоминаний. Но ведь последнее неизбежно отдаляет
предмет, тем самым его идеализируя, избавляя от
той суровости, что присуща самому нежному и
светлому, если только оно воздействует здесь и сейчас.
Наше искусство, начавшись в Риме (а оно могло бы
возникнуть в Карфагене, в Марселе, Малаге...), есть
результат средиземноморской культуры, которая как
раз и стремится передать все тяготы жизни и все её
трудности, присущие настоящему как таковому.
Однажды (а это случилось в I веке до Р. X.) по
Риму пронёсся слух, будто Пасителя, с моей точки
зрения, величайшего скульптора, сожрала пантера,
служившая ему моделью. Его можно считать
первым мучеником. А как же иначе? У средиземномор-
ПАНТЕРА, ИЛИ СЕНСУАЛИЗМ
91
ской ясности свои особые мученики. Итак, в святцы
нашей культуры мы прежде всего должны занести
имя Пасителя, мученика сенсуализма. Ибо если бы
мы могли определить господствующий взгляд на мир,
выработанный нашим регионом, его нужно было бы
назвать сенсуализмом. Вся наша деятельность
зависит от органов чувств. Мы видим, слышим, обоняем,
осязаем, испытываем боль и страдание и тем самым
с известной гордостью имеем право твердить
сказанное Готье: «Внешний мир существует»46.
Внешний мир! Ну разве неощутимые миры или
глубины не столь же внешни по отношению к
субъекту? Не подлежит сомнению, они столь же внешни,
и в куда большей степени. Единственное отличие
заключается в том, что действительность (хищник
или пантера) обрушивается на нас яростно,
врывается в нас, воздействуя на органы чувств. Но чтобы
понять идеальное, необходимо сделать над собой
большое усилие. Такое агрессивное вторжение
окружающего мира опасно, и вот почему: в результате
он в буквальном смысле слова выводит нас из себя
и опустошает всю душу. И тогда мы волей-неволей
вынуждены играть роль какой-то арки на большой
дороге, сквозь которую туда и сюда снуют
непрерывно вереницы существ, предметов и явлений.
Когда в человеке чувства берут верх над умом, то
это обыкновенно свидетельствует о внутренней
слабости. Так в чём же разница между размышлением
и актом видения? А вот в чём: едва в поле зрения
попадает, словно стрела, любой посторонний
объект, к нам на помощь приходит внутренняя личная
92 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
сила, препятствуя столь бесцеремонному
вторжению. Таким образом впечатление оказывается во
власти культуры. Теперь оно осмыслено, и потому стало
активным элементом структуры личности.
IX
ВЕЩИ И ИХ СМЫСЛ
Тем не менее конфликт между пресловутой
«туманной Германией» и «латинской ясностью» разрешим.
Просто нужно признать, что люди принадлежат
к двум главным кастам. Одни служат идеям, а другие
чувствам. Сенсуалисты (то есть те, кто свёл смысл
жизни к собственному настроению) представляют
себе мир в виде огромной поверхности, чья гладь
переливается под солнечными лучами всеми цветами
радуги. Царство чувственности — это светлый лик
мироздания, faciès tonus mündig если воспользоваться
словами Спинозы. Напротив, настоящий мыслитель
ищет высшего наслаждения в глубине.
Сенсуалист пробует мир то на вкус, то на цвет, то
на ощупь; для этого ему нужны нёбо, пальцы, глаза.
Точно так же мыслитель нуждается в инструменте
для измерения глубины. Этот инструмент, или
орган, — понятие.
Сказанное относится главным образом к двум
измерениям глубины: времени и пространству. Но
это лишь два примера — не более и не менее. Важно
понять: какова глубина in génère47. Хотя и
мимоходом, об этом уже шла речь. Но если читатель помнит,
Диего Веласкес. Водонос. Ок. 1622
94 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
я уже говорил о противостоянии чистых
впечатлений и их скрытых структур. Но что такое
структура? Тоже вещь, но только второго порядка. Любая
структура — не что иное, как упорядоченная
совокупность каких-то материальных вещей. Значимость
такого рода реальности сильно превосходит
значимость её составляющих. Возьмём для примера
следующий случай: справа от меня зеленеет ясень. Это
значит, что он обладает двумя характеристиками.
Ясень — справа, и он зелен. Хотя эти свойства
несомненны, они не равноценны. Едва солнце закатится
за ближайшие холмы, я тронусь в путь по одной из
затерявшихся в зарослях тропинок, надеясь, что она
послужит мне идеальной стезей, которая
непременно выведет меня к цели. По дороге я обязательно
сорву несколько жёлтых цветочков, произрастающих
здесь с неслыханным изобилием, достойным
полотен примитивистов, и, наконец, покину мой
гостеприимный лес, где, прощаясь со мной, одиноко
плачет кукушка. Теперь я иду прямо к Монастырю.
Ясень по-прежнему зеленеет, а второе своё свойство
он уже потерял. Ещё минуту назад он был справа, где
он сейчас — не знаю. Отсюда видно: цвет — чисто
материальное качество, а любая «левизна» или «пра-
визна» относительны. Итак, относительные
признаки значимы исключительно в том случае, когда
между вещами имеется хоть какая-то связь. Само
собой разумеется, признаки такого рода появляются
лишь тогда, когда одно вступает с другим в какие-
нибудь отношения. Теперь мы знаем: структура есть
взаимоотношение вещей.
ВЕЩИ И ИХ СМЫСЛ
95
До чего же сиро и убого всё одинокое! Блёкло,
безглагольно, бессмысленно! Однако у всего на
свете есть подспудные возможности себя превзойти,
преодолеть. И они осуществимы лишь при одном
условии: когда одно связано с другим, образуя
между собой нечто целостное. Больше того: любой
предмет, явление, всё, что угодно, оплодотворяется
остальными. Вещи питают взаимную любовь; они —
мужчины и женщины, которые живут в ожидании
супружества. Их высшее стремление —
претвориться в сообщество, в организм, в здание, в мир. То,
что мы привыкли называть словом «природа», есть
структура самого высшего класса, в которую
входят все материальные элементы. И она — результат
любви, поскольку «природа» и есть творение,
рождение одного от другого. Ибо каждая из вещей — не
что иное, как замысел вещи, её праформа,
виртуальное качество. Стоит открыть глаза (странно, что об
этом ещё ничего не было сказано), как тут же в поле
зрения вложится всё, что по случайности окружало
тебя в данный миг. Словно в кошмарном сне все
предметы как бы раздулись, распухли, будто и впрямь
обладая некой эфирной, атмосферной природой.
И кажется, что им самой судьбой суждено стать
унесёнными ветром.
Но всё рано или поздно приходит в порядок.
Сначала застывает на месте то, что находится на переднем
плане, а через пару минут остальное или же крайнее.
Тут важно понять одно: эта фиксация возникает как
результат работы механизма внимания, ибо только
внимание способно расставить всё по местам и ско-
96 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
вать сущее в единую цепь. Есть лишь один способ
что бы то ни было определить: связать его с иным.
Когда мы не выпускаем из поля зрения какой-либо
объект, мы всё больше и больше закрепляем его на
месте — и только потому, что непрестанно
обнаруживаем в нём отблески, отголоски, связи с его
обстоятельствами. В идеальном случае мы делаем каждую
вещь Центром Мира.
Именно такова глубина. Отражение вещью всего
остального — намёк на прочий окружающий мир.
Отражение — это самая ощутимая форма
виртуального существования одной вещи в другой. «Смысл»
вещи есть наивысшая форма её сосуществования со
всеми остальными. Иными словами, «смысл» — это
синоним глубинного измерения. Я не хочу
довольствоваться лишь тем, что могу познать
материальность вещи. Мне необходимо постичь её «смысл»,
мистическую тень, отбрасываемую на неё
остальным Мирозданием. Давайте же задумаемся о смысле
вещей. Другими словами, превратим каждую из них
в виртуальный центр мира.
Но на это способна только любовь. Сказать, что
мы любим кого-то или что-то, значит сказать, что
предмет нашей страсти — центр мира, место, где
сплелись главные нити нашей судьбы. Не
подлежит сомнению, что это так. Сама вышеизложенная
доктрина стара и мудра как мир. Согласно
Платону, «Эрос» — не что иное, как ответная попытка
наладить между сущим некую связь. Платон писал:
«Любовью называется жажда целостности и
стремление к ней»48. И потому любая философия, ставя-
ВЕЩИ и их смысл
97
щая перед собой задачу постичь «смысл» вещей, по
мнению Платона, неизбежно ведома эросом.
Медитация, размышление суть эротические упражнения,
и, стало быть, понятие — это есть любовный обряд.
Конечно, иные сочтут странным такое сближение
философии с недвусмысленным телесным зудом,
который мы испытываем, завидя стройную девушку,
беспощадно попирающую острыми каблуками ни
в чём не повинную мостовую. Конечно, приведённое
сравнение двусмысленно, странно и даже опасно как
для философии, так и для нашего обращения с
женщиной. Однако, быть может, и здесь глубоко прав
Ницше, воскликнувший: «Живи в опасности».
Оставим эту тему, поскольку сейчас прежде всего
важно уяснить: если впечатление способно передать
материальность вещи, её живую плоть, то понятие
передаёт отношение между вещами. Понятие — это
бесценное сокровище, которое обретает любая вещь,
превратившись в элемент структуры.
Таким образом, содержание понятий сводится
к отношениям между вещами, иначе говоря, понятие
есть то, что находится между ними.
Однако известно ли нам, где пролегают границы
между объектами? Или же они находятся внутри
них? Разумеется, нет. Если бы на свете существовал
лишь один предмет, он был бы безграничен. Любой
объект начинается там, где кончается другой. Тогда,
может быть, границы одной вещи пролегают в
другой? Тоже нет. Так как один предмет нуждается в том,
чтобы его ограничил другой. И всё же, где
пролегают эти границы?
98 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
Гегель пишет: там, где пролегает граница
предмета, там уже бесполезно его искать49. В таком
случае границы вещей суть своего рода новые,
виртуальные вещи, выполняющие функции прослоек или
прокладок между любыми объектами, имеющими
материальную природу. Эти схематические
образования позволяют чётко обозначить контуры вещей,
а также существ, с одной стороны — даруя им
возможность сосуществовать в непосредственной
близости друг от друга, а с другой — не допуская их
окончательного слияния, ведущего к исчезновению.
Вот что такое понятие — не более и не менее. Только
благодаря ему вещи друг с другом считаются, живут
в мире и не покушаются на чужие территории.
X
ПОНЯТИЕ
Всем, кому дорого будущее Испании, всем, кто его
страстно ждёт и готовит, следует осознать высокую
роль, которую призвано сыграть в достижении этой
цели понятие. Разумеется, иным данный вопрос
покажется, мягко говоря, сугубо академическим,
и это неизбежно заставит их сомневаться, а стоит
ли вообще возводить его в ранг национальной
проблемы. Однако если на первый взгляд это
действительно так, ничто не мешает нам взглянуть на этот
вопрос ещё раз или даже два.
Давайте честно спросим себя: если помимо ясного
видения предмета мы составили о нём некое поня-
ПОНЯТИЕ
99
тие, то в какой мере это способно обогатить наше
представление? К примеру, что мы выигрываем, если
помимо живого ощущения жутких и таинственных
объятий, в которые заключает нас лес, мы имеем
о нём понятие? Здесь прежде всего нужно хорошо
осознать: любое понятие — это своего рода
дубликат, то есть воспроизведение объекта, но в
бесплотной призрачной форме. Пред нами нечто
наподобие древнеегипетского двойника. Согласно древним
поверьям, у всякого существа непременно имелась
его тень, удвоение. Понятие о вещи по сравнению
с последней — это её летучий призрак, да и до
призрака, сказать по правде, ему достаточно далеко.
Всякий, кто пребывает в здравом уме и твёрдой
памяти, никогда не променяет свой наличный
капитал на какой-то бестелесный призрак. Понятие —
отнюдь не новая, хитро устроенная вещь, которая
может заменить нам реальные предметы. Мы вовсе
не стремимся заместить понятиями живую
интуицию, впечатления. Разум не должен пытаться
поставить себя на место жизни.
Ныне стало, как никогда, модным (особенно
среди бездельников) противопоставлять разум
жизни. Оппозиция сама по себе довольно странная.
Разве разум — это не такая же стихийная, жизненная
функция, как и зрение, осязание?
Несомненно: понятие призрачно лишь потому,
что оно схематично. Иначе говоря, понятие
превращает вещь в схему. А что такое схема? Не что иное,
как пределы, границы вещи. Пред нами — просто
некоторая ячейка, способная вместить реальную
100 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
материю. Как уже было сказано, границы вещи, её
схема обозначают её отношение ко всему
остальному. Вынем из мозаики кусочек смальты. Останется
ниша с чёткими контурами. Последние
образованы соседними кусочками мозаичного
изображения. Что ж, понятие и есть идеальное место, пустая
ниша, которая соответствует роли вещи в системе
реальностей. Не будь понятия, мы никогда не
сможем определить, где что-то кончается или
начинается. В качестве впечатлений вещи изменчивы, они
выпадают из рук, ускользают от взора. Короче,
всячески нас избегают. Понятие же накрепко связывает
вещи, вручая их в наше распоряжение словно беглых
рабынь. Платон говорил: чем бы мы не закрепляли
впечатления с помощью разума, они бы тут же от нас
скрывались50. Согласно древней легенде, по ночам
из садов убегали статуи работы Дедала, если их не
привязывали вечером к пьедесталам.
Понятие, в отличие от впечатления, не передаёт
живой, трепетной плоти вещей. Но это не
недостаток. Ибо понятие не претендует на эту роль. С
другой стороны, впечатление никак не может справиться
с той задачей, которую решает только понятие,
а именно: не передаёт формы, иначе говоря,
материального и духовного смысла вещей.
Как известно, слово «восприятие»
этимологически содержит идею захвата. Отсюда ясно: понятие —
эффективный, мощный инструмент восприятия,
позволяющий человеку овладеть вещами.
Повторяю: понятие — не новая вещь. Его
истинная функция — служить орудием, средством обре-
ПОНЯТИЕ
101
тения, господства. Только так вообще возможно
постичь что-либо.
Ныне мы уже далеко ушли от странной догмы
Гегеля, который возвёл мышление в ранг предельной
реальной материи. Мир богат, разнолик. Поэтому
неумно считать, что за всё происходящее отвечает
мышление. Но свергнув разум с трона, мы обязаны
отвести ему надлежащее место. Спору нет,
действительность не сводима к мысли, но без последней мы
вообще никогда и ничего по-настоящему не постигнем.
Из сказанного можно уяснить: понятие —
довесок к нашему впечатлению в самом буквальном
смысле этого слова. Это орган захвата вещей. Только
вооружённое понятием видение может реально
претендовать на полноту. Ощущение в чистом виде
передаёт лишь бесформенную, текучую материю.
Иными словами, вместо вещей мы получаем
впечатления — и только.
XI
КУЛЬТУРА — ЭТО НАДЁЖНОСТЬ
Мы властны лишь над тем, что нам удалось постичь;
только по осмыслении элементарного возможно
господство над сложным.
Всякое распространение могущества на новые
духовные территории всегда опирается на
безусловное владение тем, что уже надёжно освоено. Любые
великие дела обречены на провал без ощущения
твёрдой почвы под ногами.
102 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
Поэтому культура впечатлений, импрессионизм
в моем представлении абсолютно не способны на
поступательное движение. Бесспорно, подобная
культура может существовать бесконечно долго.
Время от времени она даже будет выдвигать и гениев,
и шедевры. Но ей навеки суждено быть одноплано-
вой, поскольку каждый гениальный импрессионист
всегда начинает всё сначала, ибо не знает своих
предшественников.
Не этот ли жребий выпал и нашей культуре? Вне
сомнений, все испанские гении неизбежно начинали
сначала, как если бы до них царил сплошной
первозданный хаос, которому ничто не могло
предшествовать. Иначе никак не объяснишь того бесспорного
факта, что великие художники и деятели Испании
принадлежат к какому-то грубому, суровому, даже
первобытному человеческому типу. Конечно,
характер такого рода имеет свои достоинства, но в равной
мере верно и то, что все человеческие достоинства
к нему не сводимы.
Великие в моём отечестве отличались
психологией адамов. Так, Гойя — не кто иной, как Адам,
первый человек.
Мироощущение, пронизывающее творения Гойи
(за вычетом атрибутов эпохи, к примеру, костюмов
или техники живописи, вобравшей в себя лучшие
достижения англо-французской школы XVII
столетия), вполне могло бы возникнуть где-то в X веке
после Р.Х., или даже в X веке до Р.Х. В пещере Аль-
тамира Гойя писал бы диких быков. Человек вне
эпохи, вне истории, этот художник, да и вся Испа-
Франсиско Гойя. Разносчица воды. Ок. 1810
104 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
ния, явили миру парадоксальную форму культуры:
культуры дикой. Такая культура не помнит, что
случилось вчера, и не мечтает о каком бы то ни было
прогрессе или надёжности. Она живёт в борьбе
со слепой стихией и каждый день вновь
отвоёвывает пядь земли, служащую ей опорой. Короче, это
пограничная культура.
В сказанном нет ни малейшей оценки. Я же не
утверждаю, что испанская культура хуже или лучше
другой. Важно не оценить, а понять. Что за безумную
тоску наводят дифирамбы наших глубокоуважаемых
эрудитов всему, что имеет хотя бы малейшее
отношение к Испании, в то время как в этой области уместно
не резонёрство, а строгий анализ. Только встав на эту
верную дорогу, мы надеемся, что когда-нибудь придёт
час плодотворного самоутверждения нации.
Феномен Гойи служит превосходной
иллюстрацией моей мысли. Чувство, которое пробуждают
в нас его картины (я, разумеется, говорю лишь о тех,
кто ещё сохранил в себе способность на живые,
глубокие чувства), может быть до предела обострённым,
сильным. И однако ему абсолютно чужда
устойчивость. Оно то пленяет исступлённой мощью, то
выводит из себя причудливой нелепостью. Что бы
ни внушал отважный арагонец — пред нами
неизменно нечто сомнительное и странное.
Вероятно, такая неукротимость свидетельствует
об истинном величии. Но столь же вероятно, что
истинно прямо противоположное представление.
Ясно одно: лучшие творения нашей культуры всегда
таят в себе какую-то двусмысленность.
КУЛЬТУРА - ЭТО НАДЁЖНОСТЬ 105
Напротив, тревога, которую первыми
почувствовали трепетные греки и которая затем
распространилась средь народов Европы, обернулась
стремлением создать что-то надёжное. Культура — об этом
размышляют, свидетельствуют, поют, гадают,
грезят черноглазые люди Ионии и Аттики, Сицилии
и большой Греции — есть уверенность в
противовес сомнению, защита от ударов судьбы. Словом,
свет, который торжествует победу над окружающей
тьмой. Культура — не вся жизнь, а лишь момент
надёжности, ясности, уверенности. Вот почему
открытое эллинами понятие стало действенным
инструментом — не подменяющим собой
жизненную спонтанность, а наоборот, её укрепляющим.
XII
СВЕТ КАК ВНУТРЕННИЙ ИМПУЛЬС
Раз уж я в своё время ограничил роль понятий и
показал, что передать нам мир во всей материальности они
не в силах, то вряд ли прослыву крайним
рационалистом, если тут же и без колебаний выкорчую
сказанное только что о различных видах ясности. Плоскость
и глубина ясны по-разному. Ясность впечатлений —
это одно, ясность мысли — совсем другое.
Но поскольку разговор у нас здесь идёт в тоне
спора и против пресловутой латинской ясности не
раз выставляли ясность германскую, мне придётся
по меньшей мере публично покаяться во всём складе
собственного ума.
106 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
Мой ум — и не только ум! — хранит фамильные
черты, попробуйте оторвать их друг от друга. Ведь моя
душа — наследница бесчисленных предков: я
принадлежу не одному Средиземноморью и не расположен
ограничиваться иберийским углом своего существа.
Моему сердцу нужно всё его достояние. Всё, а не
только пучок золотых лучей на бескрайней бирюзе
моря. Через зрачки меня захлёстывают ослепительные
образы, но из глубин навстречу им встаёт
неукротимая мысль. Откуда во мне эти звонкие воспоминания,
в которых — как вздох океана в раковине — слышатся
сокровенные отзвуки ветра в дебрях германских чащ?
Почему испанцы забывают о своих германских
предках? Не будь их, Испанию ждала бы странная судьба.
За средиземноморским обликом в нас таятся черты
Азии или Африки, а в них — в разрезе глаз, форме
губ — что-то дочеловеческое, животное, задремавшее
до срока, чтобы вот-вот закогтить всё лицо.
Дыхание космических стихий отделяет нас от
хищников, словно от окровавленного родильного ложа.
Так зачем принуждать меня оставаться только
испанцем да к тому же видеть в испанце лишь
человека, замурованного на морской кромке? Зачем
разжигать в душе гражданскую войну? Натравливать
живущего во мне ибера, с его дикими, бешеными
страстями, на задумчивого и чувствительного
белокурого германца, тоже таящегося где-то в сумерках
моей души? Я хочу мира и согласия между разными
сторонами своего существа.
Тут не обойтись без иерархии. Из двух видов
ясности предстоит выбрать высшую.
СВЕТ КАК ВНУТРЕННИЙ ИМПУЛЬС 107
Ясность — это полнота духовного
самообладания, господство разума над обуревающими его
образами, невозмутимость перед угрозой, что видимый
мир может вот-вот развеяться.
Такую ясность дают понятия. Эта ясность, эта
неуязвимость, это полновластие доходят до нас
из-за Пиренеев, их не найдёшь в испанском
искусстве, испанской науке, испанской политике. Задача
культуры — истолкование жизни, её прояснение,
трактовка, интерпретация. Жизнь — это
нескончаемый текст, придорожная купина, из которой
говорит Бог. А культура — искусство, наука,
политика — это комментарий к жизни, такой её
разворот, когда, отражаясь в себе самой, жизнь обретает
блеск и стройность. Приумножать непостижимость
существования — такую роскошь культура не может
себе позволить. Подчинить непокорную стремнину
жизни — вот ради чего размышляют учёные,
трепещут поэты и возводят бастион своей воли
политики. Хорош был бы итог всех этих забот, повторяй
он просто-напросто загадку мира! Нет, нет и нет!
Дело человека — вносить в мир ясность. И Господь
не открывал ему подобного предназначения, никто
и ничто внешнее его не подталкивало. Он нёс этот
удел в себе как внутренний стержень. Его грудь
переполняла неутолимая жажда ясности — словно Гёте,
вставшего в ряд высочайших вершин человеческого
духа строками песни:
Во мне живёт бессмертное наследье
тех, кто из мрака устремился к солнцу.
108 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
И в час кончины, в разгаре дня, обратив лицо к совсем
уже близкой весне, вложившего в предсмертный
стон последнее земное желание, последнюю стрелу
беспримерного лучника:
Света, больше света!
Ясность не равнозначна жизни — это её вершина.
Разве её покоришь, не опираясь на понятия?
Понятие — это подспудный свет существования,
луч, озаряющий вещи. Не больше — и не меньше.
Каждое понятие — это новый орган чувств:
нам открывается доступ к ещё недавно безгласной
и невидимой части мира. Творцы понятий
обогащают нашу жизнь, раздвигают горизонты
реальности. Платон абсолютно прав, говоря, что видят не
глазом, а с помощью или посредством глаза: видят
понятиями"". «Идея» у Платона — это точка зрения.
Если жизнь — загадка, то культура — культура
живая и подлинная — это сокровищница
установленного, свод первооснов. Можно спорить,
достаточно ли их для решения тех или иных загадок, но
для этого они должны быть, как минимум,
установлены. А чтобы перейти в ранг первооснов, нужно
для начала хотя бы перестать быть загадкой. С этой
трудностью сталкивается религия, почему она
и спорит со всеми другими формами культуры,
прежде всего с разумом. Дух религии возводит тайну
жизни к другим, ещё более глубоким и запредель-
* См. его диалог «Теэтет».
СВЕТ КАК ВНУТРЕННИЙ ИМПУЛЬС 109
ным тайнам. Так или иначе жизнь в конце концов
предстаёт загадкой, у которой, может быть, есть
решение. Или, по крайней мере, не совсем уж не
разрешимой.
XIII
ВОССОЕДИНЕНИЕ
Подлинные произведения искусства, равно как
и прочие творения духа, неизменно несут
упомянутую миссию просветления, и если угодно, играют
своего рода люциферову роль. Если художественный
стиль не даёт нам ключа к его истолкованию, перед
нами всегда только простая реакция одного из
фрагментов жизни (к примеру, чьих-то переживаний) на
весь её остаток. И как и следует ожидать, в данном
случае мы столкнёмся лишь с проблематичными,
сомнительными ценностями. Ибо всякий стиль —
сродни горним высям, ясному небу, поскольку любая
жизненность как таковая тут уже преображена, пре-
существлена лучом очевидного. Настоящий поэт не
множит свои творения так же регулярно, как в марте
цветёт миндаль. Нет! Он взмывает вверх, как орёл,
и торжественными кругами воспаряет и над своими
тревогами, и над окружающим миром. К гармонии
ритма, цвета, очертаний, к личным восприятиям
и чувствам подлинный творец всегда добавляет свою
неукротимую страсть к размышлению, волю к мысли.
Таким образом, великий стиль подразумевает
полуденную ясность, хладнокровие духа, без которых
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
невозможно преодолеть тяжёлый сон жизни. Как раз
этого всегда не хватало нашим «исконным» и даже
великим творениям. Они неизбежно предстают нам
как сама жизнь. «Так в этом — их главное
достоинство!» — неизменно скажут мне. На что я столь же
немедленно возражу: в этом их основной
недостаток. Чтобы жить, чтобы постоянно окунаться в
жизненную стихию, иначе говоря, страдать, блуждая во
тьме, мне довольно и собственных переживаний, тех,
что кипят в моей измученной груди. Мне довольно
себя самого, моей плоти, крови и жалкого, слабого
огонька, озаряющего мою жалкую плоть и кровь. Вот
почему я жду рассвета и требую, чтобы надо мной
занялась утренняя заря. Уже упомянутые «исконные»
произведения — не что иное, как немощное
продолжение моей плоти и крови, способные лишь
подлить масла в огонь, в гибельный пожар моей души.
Они — как бы я сам, а мне нужно нечто большее, по
крайней мере, нечто более надёжное, чем «я».
На духовной карте европейского континента мы
выделяемся немыслимым пристрастием к
впечатлениям и, наоборот, полным равнодушием к какого-
либо рода понятиям. Ибо они — не наша стихия.
Вот почему мы, испанцы, безусловно, изменим
судьбе, если отвергнем свой первозданный
импрессионизм. Но этого я и не предлагаю. Моя заветная
мечта — воссоединение, или культурный синтез.
Первозданная традиция — в лучшем смысле
этого слова — есть лишь точка опоры для нестойких
душ, та твёрдая почва, что необходима для
утверждения духовности. Но мы ни за что не достигнем этой
ВОССОЕДИНЕНИЕ
111
высокой цели, не обуздав свой исконный
сенсуализм, не приучив себя к истинной культуре мысли.
«Дон Кихот» Сервантеса и в данном конкретном,
да и во всех остальных случаях служит прекрасным
примером этого тезиса. Судите сами, есть ли на
свете более глубокое сочинение, чем этот грустный
роман, выдержанный в условно сатирическом стиле?
И всё-таки отдаём ли мы себе отчёт в том, что такое
«Дон Кихот»? Лично я могу только смутно
догадываться, что хотел нам передать автор этой
великой книги о нашей национальной судьбе и жизни.
Немногие случайные озарения по поводу «Дон
Кихота» пришли в Испанию из-за рубежа. Известно,
что о нашем шедевре писали Шеллинг, Гейне,
Тургенев... И однако все их суждения были случайными,
поверхностными. Для этих писателей и мыслителей
«Дон Кихот» был всего-навсего неким (хотя и
чудесным) курьёзом. Для нас же, испанцев, «Дон Кихот»
был и остаётся книгой, таящей в себе загадку, от
решения которой зависела и зависит судьба нашей
нации. Вот и всё.
Посмотрим правде в глаза: «Дон Кихот» — нечто
двусмысленное. Все дифирамбы, пропетые в его
честь, — не что иное, как мыльные пузыри.
«Знатоки» «Дон Кихота» и так называемые «специалисты
по Сервантесу» так и не смогли проникнуть в
глубоко двусмысленную природу этого великого
сочинения. А может быть, «Дон Кихот» только шутка?
Тогда над чем же посмеялся Сервантес? В забытой
Богом, бескрайней и безлюдной Ла Манче
долговязая фигура Дон Кихота напоминает некий вопро-
112 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
сительный знак, который и присно, и ныне, и во
веки веков будет хранить тайну нашей Испании —
тайну нашей исконной двусмысленности. Так над
чем же смеялся несчастный сборщик налогов, к тому
же заключённый в тюрьму? Да и вообще, что
означает любая шутка? Неужто во всякой насмешке есть
только негативная установка?
Ясно одно: я ещё не встречал книги, которая
содержала бы в себе такое количество символизма,
знаменующего смысл человеческой жизни. И
наоборот, мне не попадалось ни одного сочинения,
которое бы заключало в себе столь мало ключей,
пригодных для его истолкования. По сравнению с
Сервантесом Шекспир — подлинный идеолог. В
творчестве английского гения драматургии явственно
ощущается некий рефлективный контрапункт, едва
заметный концептуальный пунктир, на котором
и зиждется возможная трактовка его пьес.
В этой связи мне неизменно приходят на ум слова
другого великого драматурга — немца Геббеля51:
«Я постоянно отдаю себе отчёт в том, что за моими
пьесами стоит некий идейный фон. Меня даже
обвиняли, что я творю исключительно исходя из этих
идеологических построений. И всё-таки дело обстоит
не совсем так. Этот глубинный идейный фон
следует понимать только как некий горный Хребет,
заслоняющий дивный пейзаж». То же, думаю,
относится и к Шекспиру. В его творениях всегда заметна
некая чёткая идейная линия, занимающая задний
план его сочинений, нужная как раз для того, чтобы
мы не заблудились в заколдованном лесу его буйной
INGENIÖS
HIDALGO DON QVI-
xotedcla Mancha.
Compueßo par Miguel de Cernantes
Saaucdia.
DI RIGID О ALDVOVEDE
£фг, Marqtscsdc Gibralccn, Concede Bcraîc^çar*
8iinarcs,Viïeondcd<h РоеЫг de AleozeraScnor'
de ht vülas de CapHU>Curid,
y Burgaülcs*
1тргсАГосопПсспЛа,€и Valencia, en cafe do
Pedro P^trkii Mey, t6oJ#
A CQÎU delufcpe Ferrer mercackr dw liotvs,
ddaaie la piputaciuu«
Первое издание «Дон Кихота». Мадрид, 1605.1 том
114 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
поэтической фантазии. Итак, в той или иной мере
Шекспир всегда способен истолковать самого себя.
Можно ли сказать это о Сервантесе? Скорее всего,
весь его так называемый реализм сводится к глубоко
укоренившейся замкнутости в мире чистых
впечатлений, в намеренной отрешённости от любых
общих суждений и всякой идеологии. А может,
в этом и состоит его величайший творческий дар?
В очередной раз подчеркну: я сильно сомневаюсь,
что наша раса, или нация, располагает иной, более
глубокой книгой.
Вот ещё один довод в пользу того, что мы вновь
и вновь ищем в «Дон Кихоте» ответ на свой главный
вопрос: «Боже, что же такое Испания?» Волею судеб
ввергнутая в бескрайнее мировое пространство,
затерянная между равно бесконечными «вчера» и
«завтра», распростёртая под ледяным ночным небом,
усеянным мерцающими звёздами, моя отчизна
молчит о том, что же в конце концов она знаменует —
мыс целого континента, духовный форпост Европы.
Найдётся ли хоть один честный, прямой человек,
который бы произнёс хотя бы одно ясное, уверенное
слово, способное взволновать благородное сердце,
воодушевить светлый ум: последнее и единственное
слово о дальнейшей нашей общей судьбе?
Горе народам и племенам, которые никогда не
делают привала на перекрёстке дорог, где
необходимо решить, каким путём следует идти дальше.
Горе тем, кто не желает определить специфику своей
самобытности и не испытывает героической
потребности хоть как-то оправдать своё существование
ВОССОЕДИНЕНИЕ 115
на Земле, хоть как-то просветить тёмный вопрос
о своей уникальной исторической миссии.
Ибо индивид способен жить в мире лишь с
помощью своей расы. Любой отдельный человек — всегда
только капля влаги, несомая неизвестно куда
могучей небесной тучей.
XIV
ПРИТЧА
Парри52 рассказывает, что однажды во время
полярной экспедиции он весь день двигался на север,
безжалостно погоняя собак. Уже к ночи, определяя по
звёздам свои координаты, он, к своему великому
изумлению, обнаружил, что находится намного
южнее того места, где был утром. Оказалось, что
он целый день ехал на север, находясь на огромной
льдине, которую течение сносило к югу.
XV
КРИТИКА КАК ПАТРИОТИЗМ
Проблема в собственном смысле слова возникает
лишь тогда, когда нечто содержит в себе
действенное противоречие. По-моему, для нас ныне нет
важнее задачи, чем обострить до предела видение
проблемы национальной культуры. Иными словами,
следует как можно скорее понять Испанию как
противоречие. Кто не способен на это, кто ещё не ощу-
116 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
тил зыбкости почвы, по которой мы ходим, — с тем
нам не по дороге.
Мы поставили своей целью дойти до
глубинных слоев этнического сознания, пытаясь постичь
его внутреннюю структуру. И прежде всего здесь
крайне необходимо пересмотреть национальные
мифы и предрассудки, ни одного из них не
принимая на веру.
Существует мнение, что оставшейся в мире чисто
греческой крови едва ли хватит, чтобы наполнить
один винный бокал. Коли так, то найти хотя бы одну
каплю подобной крови почти немыслимо. Что ж,
думаю, что гораздо труднее встретить настоящих
испанцев — как раньше, так и сейчас. Ведь, пожалуй,
ни один биологический вид не насчитывает столь
малого числа особей.
Разумеется, некоторые считают иначе. Но само
разногласие вызвано тем, что от частого
употребления слово «испанец» вот-вот утратит свой
изначально высокий смысл. Мы забываем, что каждая
раса, по сути, это попытка ввести в обиход
человечества новый образ жизни, новое
мироощущение. И если хоть одной из них удаётся достичь
полноты своего развития, это непременно ведёт
к небывалому обогащению всего универсума,
новое мироощущение учреждает новые обычаи
и новые общественные институты, появляются
новая архитектура, поэзия и наука, новые надежды,
чувства, религия. И наоборот, в случае неудачи
любая возможность какого-либо обновления,
обогащения человечества попросту неосуществима,
КРИТИКА КАК ПАТРИОТИЗМ
117
ибо рождающее их мироощущение не передаётся
от народа к народу. Нация — это некий
жизненный стиль. Она настраивает себя на тот или иной
лад, меняет свои обстоятельства, организует и
упорядочивает своё окружение. Конечно, бывает, что
чисто внешние причины приводят к тому, что
творческое и организующее начало, определявшее
развитие стиля жизни, отклоняется от своей
идеальной траектории. И это чревато самыми тяжёлыми
последствиями. По мере того как вышеупомянутое
отклонение увеличивается всё быстрее и быстрее,
растёт угроза созидательным замыслам, от которых
в конце концов остаются одни жалкие обломки —
символ несбывшихся надежд. Так с каждым днём
народ теряет те силы, что были ему так надобны для
выполнения своей миссии.
Поскольку сказанное целиком и полностью
относится к моему отечеству, я не перестаю удивляться
нашему заплесневелому патриотизму, лишённому
какой-либо перспективы, какого-либо понятия об
иерархии ценностей. Я имею в виду тот патриотизм,
который считает исконно испанским всё, что только
ни взойдёт на нашей почве, путая чистой воды
упадок с тем, чем действительно может гордиться
подлинная Испания.
Какая злая ирония! После трёх веков блужданий
в потёмках нам вновь предлагают следовать
национальной традиции. Традиция! Она как раз и состояла
лишь в том, чтобы изничтожить Испанию как
возможность. Нет и нет! Мы отказываемся ей следовать
наотрез. Слово «испанец» звучит для меня как высо-
118 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
кий обет, который исполнялся лишь в редчайших,
исключительных случаях. Мы не можем и не станем
следовать традиции, а наоборот, пойдём ей
наперекор. Из-под традиционного хлама, из-под жалких
развалин мы извлечём начальную мощь нашей расы,
высокий архетип подлинного испанца, наш чисто
испанский ужас перед бездной хаоса. Ведь то, что
в настоящее время принято называть Испанией, —
не Испания, а руины. Так пусть в очистительном
пламени погибнет безжизненная и пустая
традиционная видимость, та, былая Испания. И тогда, хорошо
просеяв пепел, мы наконец обнаружим чистую, как
алмаз, Испанию, что некогда могла быть.
Для этого необходимо как можно скорее
избавиться от суеверного преклонения перед прошлым,
немедленно прекратить им обольщаться — иного
выхода нет. Моряки Средиземноморья знали лишь
один верный способ избавиться от
смертоносного пенья сирен: спеть их песню наоборот. Точно
так и те, кто ещё хранит веру в Испанию как
возможность, должны спеть наоборот песнь о нашем
историческом прошлом и распознать те немногие
истинно великие моменты, когда несчастное сердце
нашей нации билось ритмично и мощно.
Одним из таких великих моментов отечественной
истории, быть может — самым великим, безусловно,
был Сервантес. Вот где действительно исполнилось
наше предназначение! Вот слово, к которому, как
к надёжному оружию, мы можем прибегать в любых
обстоятельствах! Если бы мы только знали секрет
этого стиля, если бы мы достигли того понима-
КРИТИКА КАК ПАТРИОТИЗМ
119
ния вещей, которым отличался Сервантес, нам бы,
конечно, удалось справиться с нашими бедами. Ведь
на этих духовных высях царят и гармония, и
сплочённость. Его поэтический стиль заключал в себе
философию и этику, политику и науку. Настанет
ли день, когда кто-то из соотечественников
раскроет великую тайну Сервантеса? Ибо если это чудо
случится, мы бы смогли применить воскресшую
мудрость Великого Испанца и решить наши
насущные проблемы, воскреснув, наконец, к новой жизни.
И тогда, если достанет ума и сил, мы сможем смело
шагнуть навстречу славному будущему.
Но пока этот счастливый миг не настал, нам
остаётся довольствоваться лишь догадками,
скорее интуицией, нежели разумом, всегда сохраняя
глубокое уважение к памяти великого романиста.
И разумеется, мы не можем себе позволить какой-
либо фамильярности или грубости. В этот грех, на
мой взгляд, впал несколько лет назад один из самых
известных знатоков испанской литературы, когда он
внезапно пришёл к нелепому выводу, будто
отличительной чертой Сервантеса был... здравый смысл.
Думаю, подобное панибратское отношение к
полубогу небезопасно, даже если полубогом оказался
сборщик налогов.
Краткий трактат о романе
Давайте спросим себя, что такое «Дон Кихот»?
Обыкновенно на этот вопрос (если брать его с чисто
внешней стороны) отвечают, что «Дон Кихот» — роман,
и, по-видимому, справедливо добавляют, что роман,
занимающий первое место и по времени своего
появления и по своему значению. Нынешнему читателю
«Дон Кихот» доставит немалое удовольствие как раз
благодаря тем чертам, которые роднят его с
современным романом, излюбленным жанром нашей эпохи.
Пробегая взглядом страницы старинной книги, мы
повсюду встречаем тот дух нового времени, который
делает её особенно близкой нашему сердцу. «Дон
Кихот» так же волнует нас, как и произведения
Бальзака, Диккенса, Флобера, Достоевского —
первооткрывателей современного романа.
Но что такое роман?
Возможно, рассуждения о сущности
литературных жанров вышли из моды, многие даже
сочтут подобный вопрос риторическим. Есть
и такие, что отвергают само существование
литературных жанров.
Но мы не сторонники моды. Взяв на себя
смелость сохранять спокойствие фараонов среди
людской суеты, мы задаёмся вопросом: что такое роман?
124
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
I
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ
Античная поэтика понимала под литературными
жанрами определённые творческие правила,
которые должен был соблюдать поэт, — пустые схемы,
своего рода соты и ячейки, в которые муза, словно
старательная пчела, собирала поэтический мёд.
Однако я рассуждаю о литературных жанрах
совершенно в ином смысле. Форма и содержание
нераздельны, а поэтическое содержание настолько
свободно, что ему нельзя навязать абстрактные нормы.
И тем не менее между формой и содержанием
следует проводить различие, ибо они не одно и то
же; Флобер говорил: «Форма исходит из содержания
как жар из огня». Верная метафора. Но правильнее
сказать, что форма — орган, а содержание —
функция, его создающая. Иными словами, литературные
жанры представляют собой поэтические функции,
направления, в которых развивается поэтическое
творчество.
Современная тенденция отрицать различие
между содержанием (темой) и формой (арсеналом
выразительных средств, присущих данному
содержанию) мне представляется столь же тривиальной,
как и схоластическое разделение того и другого. На
самом деле речь идёт о различии, совершенно
тождественном различию между направлением и путём.
Избрать определённое направление ещё не значит
дойти до намеченной цели. Брошенный камень
заключает в себе траекторию, которую он опишет
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ
125
в воздухе. Данная траектория будет представлять как
бы разъяснение, развитие, осуществление
изначального импульса.
Так, трагедия представляет собой развитие
определённого фундаментального поэтического
содержания, и только его, развитие трагической темы. Итак,
в форме присутствует то же, что было и в
содержании. Но то, что в содержании имело характер
намерения или чистого замысла, представлено в форме
как нечто выраженное, упорядоченное и
развёрнутое. Именно в этом и состоит неразрывный
характер формы и содержания как двух моментов одного
и того же.
Таким образом, моё понимание литературных
жанров противоположно тому, которое выдвинула
античная поэтика; литературные жанры —
определённые основные темы, принципиально несводимые
друг к другу, — подлинные эстетические категории.
Например, эпопея — это название не поэтической
формы, а субстанциального поэтического
содержания, которое в ходе своего развития или выражения
достигает полноты. Лирика не условный язык, на
который можно перевести что-то уже сказанное на
языке драмы или романа, но одновременно и нечто,
что следует сказать, и единственный способ сказать
это с достаточной полнотой.
Так или иначе, основная тема искусства всегда
человек. Жанры, понятые как эстетические темы,
которые не сводимы друг к другу и в равной
степени имеют окончательный и необходимый
характер, суть не что иное, как широкие углы зрения, под
126 КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
которыми рассматриваются важнейшие стороны
человеческого. Каждая эпоха привносит с собой
своё истолкование человека, принципиально
отличное от предыдущего. Вернее, не привносит с собой,
а сама есть такое истолкование. Вот почему у каждой
эпохи — свой излюбленный жанр.
II
НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ РОМАНЫ
Во второй половине XIX века европейцы
наслаждались чтением романов.
Когда время произведёт беспристрастный отбор
среди огромного числа фактов, составивших ту
эпоху, победа романа будет отмечена как яркое
и поучительное явление. Это несомненно.
Однако что следует понимать под словом «роман»?
Вот вопрос! Ряд довольно небольших по объёму
произведений Сервантес назвал «Назидательными
романами»53. В чём смысл такого названия?
В том, что романы «назидательные», нет ничего
удивительного. Оттенок нравоучения, который
придал своим сочинениям самый языческий из наших
писателей, всецело следует отнести за счёт того
героического лицемерия, которое исповедовали лучшие
умы XVII века. Это был век, когда дали всходы семена
великого Возрождения, и в то же время — век
контрреформации и учреждения ордена иезуитов. Это был
век, когда основатель новой физики Галилей не счёл
НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ РОМАНЫ
127
для себя постыдным отречься от своих взглядов, ибо
католическая церковь суровой догматической рукой
наложила запрет на его учение. Это был век, когда
Декарт, едва сформулировав принцип своего метода,
благодаря которому теология превратилась в ancilL·
philosophiae54, стремглав помчался в Лорето55 —
благодарить Матерь Божию за счастье такого открытия.
Это был век победы католицизма и вместе с тем век
достаточно благоприятный для возникновения
великих теорий рационалистов, которые впервые в
истории воздвигли могучие оплоты разума для борьбы
с верой. Да прозвучит это горьким упрёком всем, кто
с завидной простотой целиком винит инквизицию
в том, что Испания не привыкла мыслить!
Однако вернёмся к названию «романы», которое
Сервантес дал своей книге. Я нахожу в ней два ряда
произведений, которые очень сильно отличаются друг
от друга, хотя в некотором смысле они и
взаимосвязаны. Важно отметить, что в каждом из этих рядов
преобладает своё художественное намерение, так
что они соответственно тяготеют к разным центрам
поэтического творчества. Как стало возможным, что
в один жанр объединились «Великодушный
поклонник», «Английская испанка», «Сила крови» и «Две
девицы», с одной стороны, и «Ринконете» и
«Ревнивый эстремадурец» — с другой? В двух словах
объясним, в чём различие. В первом ряду произведений
мы сталкиваемся с повествованиями о любовных
приключениях и о превратностях судьбы. Тут и дети,
лишённые крова и вынужденные скитаться по белу
свету помимо своей воли, тут и молодые люди, кото-
128
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
рые в погоне за наслаждением сгорают в огне любви,
подобно пламенным метеорам, тут и легкомысленные
девицы, испускающие тяжкие вздохи в придорожных
трактирах и с красноречием Цицерона
рассуждающие о своей поруганной чести. И вполне вероятно,
что в одном из таких постоялых дворов сойдутся
нити, сплетённые страстью и случаем, и встретятся
наконец потерявшие друг друга сердца. Тогда эти
обычные трактиры становятся местом самых
неожиданных перевоплощений и встреч. Всё рассказанное
в этих романах неправдоподобно, да и сам
читательский интерес зиждется на неправдоподобии. «Перси-
лес»56 — большой назидательный роман подобного
типа — свидетельствует о том, что Сервантес любил
неправдоподобие как таковое. А поскольку именно
этим произведением он замыкает круг своей
творческой деятельности, нам следует со всей серьёзностью
отнестись к указанному обстоятельству.
В том-то и дело, что темы некоторых романов
Сервантеса — всё те же извечные темы, созданные
поэтическим воображением европейцев много-много веков
тому назад, так много веков тому назад, что в
преображённом виде мы обнаружим их в мифах Древней
Греции и Малой Азии. После всего сказанного судите
сами — можно ли считать романом литературный
жанр, представленный у Сервантеса первым типом
повествований? А почему бы и нет? Только не будем
забывать, что этот литературный жанр повествует
о невероятных, вымышленных, нереальных событиях.
Совсем иную задачу решает автор в другом ряде
романов, например, в «Ринконете и Кортадильо».
НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ РОМАНЫ
129
Здесь почти ничего не происходит. Нас не
занимают стремительные движения страстей. Нам
незачем спешить от одной страницы к другой — узнать,
какой новый оборот примут события. А если мы
и ускоряем шаг, то лишь затем, чтобы опять
отдохнуть и спокойно оглядеться по сторонам. Нашему
взгляду открывается серия статичных и детально
выписанных картин. Персонажи и их поступки...
Они настолько далеки от неправдоподобия, что даже
неинтересны. И не говорите мне, будто плуты Рин-
кон и Кортадо, весёлые девицы Ганансиоса и Кари-
арта или негодяй Реполидо хоть чем-нибудь
привлекательны. По ходу чтения становится ясно, что
не сами они, а лишь то, как представляет их автор,
вызывает наш интерес. Более того, окажись они
более привлекательны и менее пошлы, наше
эстетическое чувство развивалось бы иными путями.
Какой контраст по сравнению с
художественным замыслом романов первого типа! Там именно
сами персонажи и их жизнь, полная приключений,
служили источником эстетического наслаждения;
участие автора было сведено к минимуму. Здесь же,
напротив, нам интересно лишь то, каким взглядом
смотрит сам автор на вульгарные физиономии тех,
о ком он рассказывает. Отдавая себе полный отчёт
в указанном различии, Сервантес в «Беседе собак»
писал: «Мне хочется обратить твоё внимание на
одну вещь, в справедливости коей ты убедишься,
когда я буду рассказывать историю моей жизни. Дело
в том, что бывают рассказы, прелесть которых
заключается в них самих, в то время как прелесть других
130
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
рассказов состоит в том, как их рассказывают; я хочу
сказать, что иной рассказ пленяет нас независимо от
вступлений и словесных прикрас, другой же
приходится рядить в слова, и при помощи мимики, жестов
и перемены голоса из ничего получается всё: из
слабых и бледных делаются они острыми и занятными».
Так что же такое роман?
III
ЭПОС
Не вызывает сомнений по крайней мере одно
обстоятельство: то, что читатель прошлого понимал под
словом «роман», не имеет ничего общего с
античным эпосом. Выводить одно из другого — значит
закрывать путь к осмыслению перипетий романного
жанра: я имею в виду ту художественную эволюцию,
которая завершилась становлением романа XIX века.
Роман и эпос — абсолютные противоположности.
Тема эпоса — прошлое именно как прошлое. Эпос
рассказывает о мире, который был и ушёл, о
мифическом веке, глубокая древность которого
несоизмерима с любой исторической стариной.
Разумеется, локальный пиетет пытался наладить слабые
связи между героями и богами Гомера и
выдающимися гражданами современности, однако подобные
легендарные родословные не могли способствовать
преодолению абсолютной дистанции между
мифическим вчера и реальным сегодня. Сколько бы
реальных вчера мы ни возводили над этой бездонной
эпос
131
пропастью, мир Ахиллеса и Агамемнона никогда не
сомкнётся с нашим существованием. Нам никогда не
удастся прийти к ним, отступая по той дороге,
которую время уводит вперёд. Эпическое прошлое — не
наше прошлое. Мы можем представить наше
прошлое как настоящее, которое когда-то было. Однако
эпическое прошлое отвергает любую идею
настоящего. Стоит нам напрячь память в надежде достичь
его, как оно помчится быстрее коней Диомеда,
держась от нас на вечной, неизменной дистанции. Нет
и ещё раз нет: это не прошлое воспоминаний, это
идеальное прошлое.
Когда поэт умоляет Mneme — Память — поведать
ему о страданиях ахейцев, он взывает не к
субъективной способности, а к живой космической силе
памяти, которая, по его мнению, бьётся во
вселенной. Mneme — не индивидуальное воспоминание,
а первозданная мощь стихий.
Указанная существенная удалённость
легендарного спасает объекты эпоса от разрушения. Та же
причина, по какой нам нельзя приблизить их к себе
и придать им избыток юности — юности
настоящего, — не позволяет и старости коснуться их тел.
Песни Гомера веют вечной свежестью и духом
бессмертия не потому, что они вечно юны, а потому,
что никогда не стареют. Старость теряет смысл, если
исчезает движение. Вещи стареют, когда каждый
истёкший час увеличивает дистанцию между ними
и нами. Этот закон непреложен. Старое стареет
с каждым днём. И тем не менее Ахиллес отстоит от
нас на такое же расстояние, как и от Платона.
132
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
IV
ПОЭЗИЯ ПРОШЛОГО
Давно пора сдать в архив мнения, которые составили
о Гомере филологи прошлого века. Гомер отнюдь не
наивность и не чистосердечное добродушие,
процветавшее на заре человечества. Теперь уже всем
известно, что «Илиаду», по крайней мере дошедшую
до нас «Илиаду», народ не понимал никогда. Иными
словами, она была прежде всего произведением
архаическим. Рапсод57 творит на условном языке,
который ему самому представляется чем-то
священным, древним и безыскусным. Обычаи и нравы его
персонажей несут на себе особый отпечаток суровых
древних времён.
Слыханное ли дело, Гомер — архаичный поэт,
детство поэзии — археологический вымысел! Кто
бы мог подумать! Речь идёт не просто о наличии
в эпосе архаизмов: по существу, вся эпическая
поэзия не что иное, как архаизм. Мы уже сказали: тема
эпоса — идеальное прошлое, абсолютная старина.
Теперь добавим: архаизм — литературная форма
эпоса, орудие поэтизации.
На мой взгляд, это имеет решающее значение для
понимания смысла романа. После Гомера Греция
должна была пережить много столетий, чтобы
признать в настоящем возможность поэтического. По
правде сказать, Греция так никогда и не признала
настоящее ex abundantia cordis58. В строгом смысле
слова поэтическим было для греков только древнее,
вернее, первичное во временном смысле. При этом
ПОЭЗИЯ ПРОШЛОГО
133
отнюдь не то древнее, которое мы встречаем у
романтиков и которое слишком похоже на ветошь
старьёвщиков и будит в нас болезненный интерес,
заставляя черпать извращённое удовольствие в созерцании
чего-то дряхлого, старого, разрушенного и
изъеденного временем. Все эти умирающие предметы
содержат только отражённую красоту, и не они сами,
а волны эмоций, которые поднимаются в нас при их
созерцании, служат источником поэзии. Красота
греков — внутренний атрибут существенного: всё
временное и случайное красоте непричастно. Греки
обладали рационалистическим чувством эстетики"",
не позволявшим им отделять поэтическое
достоинство от метафизической ценности. Прекрасным
считалось всё, что содержало в себе самом начало
и норму, причину и абсолютную ценность
явлений. В замкнутую вселенную эпического мифа
входят только безусловно ценные объекты, способные
служить образцами, которые обладали реальностью
и тогда, когда наш мир ещё не начал существовать.
Между эпическим миром и тем, где живём мы,
не было никакой связи — ни ворот, ни лазейки. Вся
наша жизнь, с её вчера и сегодня, принадлежит ко
второму этапу космической жизни. Мы — часть
поддельной и упадочной реальности. Окружающие нас
люди — не люди в том смысле, в каком ими были
Улисс или Гектор. Мы даже не знаем точно, были
ли Улисс и Гектор людьми или богами. Тогда и боги
* Понятие пропорции, меры, всегда приходившее на ум грекам, когда они
рассуждали об искусстве, как бы играет своей математической
мускулатурой.
134
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
были подобны людям, поскольку люди были под
стать богам. Где у Гомера кончается бог и начинается
человек? Уже сама постановка вопроса говорит об
упадке мира. Герои эпоса — представители
исчезнувшей с лица земли фауны, которая
характеризовалась отсутствием различий между богом и
человеком или, во всяком случае, близким сходством
между обоими видами. Переход от одних к другим
осуществлялся весьма просто: или через грех,
совершённый богиней, или через семяизвержение бога.
В целом для греков поэтическим является всё
существующее изначально, не потому, что оно
древнее, а потому, что оно самое древнее, то есть
заключает в себе начала и причины"'. Stock59 мифов,
объединявший традиционную религию, физику
и историю, содержал в себе весь поэтический
материал греческого искусства эпохи расцвета. Даже
желая изменить миф, как это делали трагики, поэт
должен был из него исходить и двигаться только
внутри него. Попытка создать поэтический
объект была для этих людей столь же нелепой, как для
нас попытка придумать закон механики. Подобное
понимание творчества составляет отличительную
черту эпоса и всего греческого искусства: вплоть
до своего заката оно кровными нитями было
неразрывно связано с мифом.
Гомер уверен, что события происходили именно
так, как о том повествуют его гекзаметры. Более того,
* «Почтеннее всего — самое старое» {Аристотель. «Метафизика». 983).
ПОЭЗИЯ ПРОШЛОГО
135
Гомер и не собирается сообщать чего-либо нового.
Слушатели знают, о чём будет петь Гомер, а Гомер
знает, что они это знают. Его деятельность лишена
собственно творческого характера и не направлена
на то, чтобы удивить своих слушателей. Речь идёт
скорее о художественной, чем поэтической работе,
речь идёт о высоком техническом мастерстве. Я не
знаю в истории искусства примера, более похожего
по своему замыслу на творчество рапсода, чем
знаменитые восточные врата флорентийского
баптистерия работы Гиберти. Итальянского скульптора
не волнуют изображаемые им предметы, им
движет одна безумная страсть — запечатлевать,
превращать в бронзу фигуры людей, животных,
деревья, скалы, плоды.
Так и Гомер. Плавное течение ионийского эпоса,
спокойный ритм, позволяющие уделять одинаковое
внимание и большому, и малому, были бы абсурдны,
если бы мы представили себе поэта, озабоченного
выдумыванием темы. Поэтическая тема дана
заранее, раз и навсегда. Речь идёт лишь о том, чтобы
оживить её в наших сердцах, придать ей полноту
присутствия. Вот почему вполне уместно посвятить четыре
стиха смерти героя и не менее двух — закрыванию
двери. Кормилица Телемака
Вышла из спальни; серебряной ручкою дверь
затворила;
Крепко задвижку ремнём затянула; потом
удалилась60.
136
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
V
РАПСОД
По-видимому, общие места современной эстетики
мешают нам правильно оценить наслаждение, которое
испытывал милый и безмятежный слепец из Ионии,
показывая нам прекрасные картины прошлого.
Пожалуй, нам даже может прийти в голову назвать это
наслаждением. Ужасное, нелепое слово! Что бы
подумал грек, услышав его? Для нас реальное — ощутимое,
то, что можно воспринять слухом и зрением. Нас
воспитали в злой век, который расплющил вселенную,
сведя её к поверхности, к чистой внешности. Когда мы
ищем реальность, мы ищем её внешние проявления.
Но греки понимали под реальностью нечто прямо
противоположное. Реальное — существенное,
глубокое и скрытое: не внешность, а живые источники
всякой внешности. Плотин не разрешал художникам
писать с него портрет: по его мнению, это значило бы
завещать миру лишь тень своей тени61.
Эпический певец встаёт меж нами с палочкой
дирижёра в руках. Его слепой лик инстинктивно
повернут к свету. Луч солнца — рука отца,
ласкающая лицо спящего сына. Тело поэта, как стебель
гелиотропа, тянется навстречу теплу. Губы его слегка
дрожат, словно струны музыкального инструмента,
который кто-то настраивает. Чего он хочет? Поведать
нам о событиях, которые случились давным-давно.
Он начинает говорить. Вернее, не говорить, а
декламировать. Слова, подчинённые строгой дисциплине,
как бы оторваны от жалкого существования, которое
РАПСОД
137
они влачат в повседневной речи. Словно подъёмная
машина, гекзаметр поддерживает слова в
воображаемом воздухе, не давая им коснуться земли. Это
символично. Именно этого и хотел рапсод — оторвать
нас от обыденной жизни. Фразы его ритуальны,
речь — торжественна, как во время богослужения,
грамматика — архаична. Из настоящего он берёт
только самое возвышенное, например сравнения,
касающиеся неизменных явлений природы — жизни
моря, ветра, зверей, птиц, — таким образом, время от
времени вбрасывая крохотную частицу настоящего
в замкнутую архаическую среду, служащую для того,
чтобы прошлое целиком завладело нами именно как
прошлое и заставило отступить современность.
Такова задача рапсода, такова его роль в
построении эпического произведения. В отличие от
современного поэта он не живёт, мучимый жаждой
оригинальности. Он знает, что его песнь — не только
его. Народное воображение, создавшее миф задолго
до того, как он появился на свет, выполнило за него
главную задачу — сотворило прекрасное. На долю
эпического певца осталось лишь быть
добросовестным мастером своего дела.
VI
ЕЛЕНА И МАДАМ БОВАРИ
Никак не могу согласиться с тем учителем
греческого языка, который, желая познакомить своих
учеников с «Илиадой», предлагает им представить себе
138
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
вражду между юношами двух соседних кастильских
деревень из-за местной красавицы. Напротив, когда
речь идёт о Madame Bovary, на мой взгляд, вполне
уместно обратить наше внимание на какую-нибудь
провинциалку, изменяющую своему мужу. Романист
достигает цели, конкретно представляя нам то, что
мы уже знаем абстрактно"". Закрыв книгу, читатель
скажет: «Да, все они именно таковы — и ветреные
провинциалки, и земледельческие съезды».
Подобное восприятие свидетельствует о том, что романист
справился со своей задачей. Однако по прочтении
«Илиады» нам не придёт в голову поздравить Гомера
с тем, что Ахиллес — подлинный Ахиллес, а
прекрасная Елена — вылитая Елена. Фигуры эпоса — не
типичные представители, а существа единственные
в своём роде. Был только один Ахиллес и только одна
Елена. Была только одна война на берегах Скаман-
дра62. Если бы в легкомысленной жене Менелая мы
признали обыкновенную молодую женщину, к
которой чужестранцы воспылали любовью, Гомер не был
бы Гомером. В отличие от Гиберти или Флобера
автор «Илиады» не был свободен в выборе и показал
именно того Ахиллеса и именно ту Елену, которые,
по счастью, ничем не похожи на людей, встречаемых
повсеместно.
Во-первых, в эпосе мы видим первую попытку
вымыслить уникальные существа, имеющие «герои-
* «Ma pauvre Bovary sans doute souffre et pleure dans vingt villages de France
à la fois, à cette heure même» («Уверен, что в эту самую минуту моя
бедная Бовари плачет разом в двадцати французских городках», фр.) —
Flaubert G. Correspondance, II, 24.
ЕЛЕНА И МАДАМ БОВАРИ
139
ческую» природу, — эту задачу взяла на себя
многовековая народная фантазия. Во-вторых, эпос —
воссоздание, воскрешение этих существ в нашем
сознании, и эту вторую задачу взял на себя рапсод.
Думается, ценой столь долгого отступления
мы добились более правильного взгляда на смысл
романа. В романе мы обнаруживаем полную
противоположность эпическому жанру. Если тема эпоса —
прошлое именно как прошлое, то тема романа —
современность именно как современность. Если
эпические герои вымышлены, имеют уникальную
природу и самодовлеющее поэтическое значение, то
персонажи романа типичны и внепоэтичны.
Последние берутся не из мифа, который сам по себе
поэтический элемент, творческая и эстетическая стихия,
но с улицы, из физического мира, из реального
окружения автора и читателя. Вот почему литературное
творчество — не вся поэзия, но лишь вторичная
поэтическая деятельность. Таким образом,
искусство — техника, механизм воплощения, который
может, а иногда и должен быть реалистическим, но
далеко не всегда. Пристрастие к реализму —
определяющая черта нашего времени — не является
нормой. Мы предпочли иллюзию сходства — у иных
веков были иные пристрастия. Было бы крайней
наивностью полагать, что весь род людской всегда любил
и будет любить то же, что мы. Это неверно. Раскроем
же наши сердца как можно шире — чтобы в них
вместилось и то человеческое, что нам чуждо. В жизни
всегда лучше отдать предпочтение неисчерпаемому
многообразию, чем монотонному повторению.
140
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
VII
МИФ — ФЕРМЕНТ ИСТОРИИ
Эпическая перспектива, которая, как мы установили,
состоит в видении мировых событий сквозь призму
определённого числа основных мифов, не умерла
с Грецией. Она дошла и до нас. Когда народы
расстались с верой в космогоническую и историческую
реальность своих преданий, отошло в прошлое лучшее
время эллинов. Но если эпические мотивы утратили
свою силу, семена мифов сохраняют своё
догматическое значение и не только живут, словно прекрасные
призраки, которых нам никто не заменит, но стали
ещё более яркими и пластичными. Тщательно
укрытые в подземельях литературной памяти, в кладовых
народных преданий, они представляют своего рода
дрожжи, на которых всходит поэзия. Стоит
поднести к этим горючим веществам правдивую историю
о каком-нибудь царе, например, об Антиохе или
Александре, как правдивая история запылает со всех
четырёх концов и огонь выжжет в ней всё
правдоподобное и обычное. И на наших изумлённых глазах
светлая, как алмаз, воспрянет из пепла чудесная
история о волшебнике Аполлонии"*, о кудеснике
Александре63. Конечно, вновь созданная фантастическая
история уже не история, её называют романом. В этом
смысле принято говорить о греческом романе.
Теперь нам становится ясной двойственность,
заключённая в этом слове. Греческий роман не что
* Образ Аполлония построен из материала истории об Антиохе.
МИФ — ФЕРМЕНТ ИСТОРИИ
141
иное, как история, чудесным образом искажённая
мифом, или, как путешествие в страну аримаспов64, —
фантастическая география (описания путешествий,
которые миф разъединил, а потом соединил по
своему вкусу). К этому жанру принадлежит вся
литература воображения — всё, что называется сказкой,
балладой, житием, рыцарским романом. В основе её
всегда лежит определённый исторический материал,
преобразованный мифом.
Нельзя забывать, что миф — представитель мира,
в корне отличного от нашего. Если наш мир реален,
то мир мифа покажется нам ирреальным. Во
всяком случае, то, что возможно в одном, совершенно
невозможно в другом. Физические законы нашей
планетной системы не распространяются на
мифические миры. Поглощение мифом события
подлунного мира состоит в том, что миф делает его
исторически и физически невозможным. Земная материя
сохраняется, но она подчинена закону настолько
отличному от того, который управляет нашим
космосом, что для нас это равно отсутствию какого-
либо закона.
Литература воображения навсегда увековечила
благотворное влияние, которое имела на
человечество эпическая поэзия — её родная мать. Она всё так
же будет удваивать мир, она всё так же будет
присылать нам вести из прекрасного далека, где правят если
не боги Гомера, то их законные наследники. Под
властью их династического правления невозможное
возможно. В конституции, которой они присягали,
только одна статья: допускается приключение.
142
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
VIII
РЫЦАРСКИЕ РОМАНЫ
Когда мифическое мировоззрение оказывается
свергнутым с трона своей сестрой-соперницей наукой,
эпическая поэзия утрачивает религиозную
серьёзность и не разбирая дороги бросается на поиски
приключений. Рыцарство — это приключения:
рыцарские романы были последним могучим отростком
старого эпического древа. Последним до
нынешнего времени, но не последним вообще.
Рыцарский роман сохраняет характерные черты
эпоса, за исключением веры в истинность
рассказываемых событий"". Всё происходящее в рыцарских
романах тоже предстаёт нам как нечто давнее,
принадлежащее идеальному прошлому. Времена короля
Артура, как и времена Марикастаньи65, это лишь
завесы условного прошлого, сквозь которые смутно
брезжит историческая хронология.
Не считая отдельных, занимающих весьма
скромное место монологов, в рыцарских романах, как
и в эпосе, основным поэтическим средством
выступает повествование. Я не могу согласиться с
общепринятой точкой зрения, что повествование —
художественное средство романа. Ошибка критики в том,
что она не противопоставляет двух жанров,
одинаково обозначаемых словом «роман». Произведение
* Я бы сказал, что и это в известной степени имеет место. Однако мне
пришлось бы написать здесь много страниц, не имеющих прямого
отношения к делу, о той загадочной галлюцинации, которая лежит в основе
нашего удовольствия от чтения приключенческой литературы.
KL Ι.\ι,KNioso HIDALGO
DON Ol NOTE
DE LA MANCHA
< UM I'CKSIO l'()!\
MIGUEL DK CERVANTES SAAVEDRA
мои оаигтад i u itarau овиком га· u ьсдимд шиши
mn nous para U buena inteligencia del texto
PARIS
L1BRERÎA DE QARlflIl HERMANOS
. VI I.K »Il SAINT·* -l'ÎHKS, Ν" I
IS73
Титульный лист французского издания «Дон Кихота».
Париж, 1873
144
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
литературы воображения повествует, роман
описывает. Повествование — форма, в которой существует
для нас прошлое; повествовать можно только о том,
что было, то есть о том, чего больше нет. Настоящее,
напротив, описывают. Как известно, в эпосе широко
употребляется идеальное прошедшее время
(соответствующее тому идеальному прошлому, о котором
оно говорит), получившее в грамматиках название
эпического, или гномического, аориста.
В отличие от литературы воображения в романе
нас интересует именно описание, ибо описываемое,
по сути дела, не может представлять интереса. Мы
пренебрегаем персонажами, которые нам
представлены, ради того способа, каким они представлены.
Ни Санчо, ни священник, ни цирюльник, ни Рыцарь
Зелёного Плаща, ни мадам Бовари, ни её муж, ни
глупец Омэ нам нисколько не интересны. Мы не
дадим и ломаного гроша, чтобы увидеть их в жизни.
И напротив, мы отдадим полцарства ради
удовольствия видеть их героями двух знаменитых книг. Я не
могу представить себе, как столь очевидное
обстоятельство выпало из поля зрения тех, кто исследует
проблемы эстетики. То, что мы непочтительно зовём
скукой, — целый литературный жанр, хотя и
несостоявшийся66. Скука — повествование о том, что
неинтересно"". Повествование должно находить
себе оправдание в самом событии, и чем оно облег-
* В одном из выпусков «Критики» Кроме приводит определение скучного
человека, которое дал один итальянец: «Зануда — это тот, кто не
избавляет нас от одиночества и не может составить нам компанию».
РЫЦАРСКИЕ РОМАНЫ
145
чённее, чем в меньшей степени выступает
посредником между происходящим и нами, тем лучше.
Вот почему, в отличие от романиста, автор
рыцарских повествований направляет всю свою
поэтическую энергию на выдумывание интересных
событий. Такие события — приключения. Сегодня мы
можем читать «Одиссею» как изложение
приключений; без сомнения, великая поэма при этом
утрачивает большую часть своих достоинств и смысла,
и всё же подобное прочтение не вовсе чуждо
эстетическому замыслу «Одиссеи».
За богоравным Улиссом встаёт
Синдбад-мореход, а за ними, совсем уже вдалеке, маячит
славная буржуазная муза Жюля Верна. Сходство
основано на вмешательстве случая, определяющего
ход событий. В «Одиссее» случай выступает как
форма, в которой проявляет себя настроение того
или иного бога; в произведениях фантастических,
в рыцарских романах он цинично выставляет
напоказ своё естество. И если в древней поэме
приключения интересны, поскольку в них проявляется
капризная воля бога — причина в конечном счёте
теологическая, — то в рыцарских романах
приключение интересно само по себе, в силу присущей ему
непредсказуемости.
Если внимательно рассмотреть наше
повседневное понимание реальности, легко убедиться, что
реально для нас не то, что происходит на самом деле,
а некий привычный нам порядок событий. В этом
туманном смысле реально не столько виденное,
сколько предвиденное, не столько то, что мы видим,
Поль Гаварни. Лист № 1 из серии «Уроки и советы». Ок. 1839
РЫЦАРСКИЕ РОМАНЫ
147
сколько то, что мы знаем. Когда события принимают
неожиданный оборот, мы считаем, что это
невероятно. Вот почему наши предки называли рассказ
о приключениях вымыслом.
Приключение раскалывает инертную, гнетущую
нас реальность словно кусок стекла. Это всё
непредсказуемое, невероятное, новое. Всякое
приключение — новое сотворение мира, уникальный процесс.
И как ему не быть интересным?
Как бы мало мы ни прожили, нам уже дано
ощутить границы нашей тюрьмы. Самое позднее в
тридцать лет уже известны пределы, в которых суждено
оставаться нашим возможностям. Мы овладеваем
действительностью, измеряя длину цепи, сковавшей
нас по рукам и ногам. Тогда мы спрашиваем: «И это
жизнь? Только и всего? Повторяющийся, замкнутый
круг, вечно один и тот же?» Опасный час для всякого
человека!
В связи с этим мне вспоминается один прекрасный
рисунок Гаварни67. Старый плут прильнул к
дощатой стене и жадно смотрит на какое-то зрелище, до
которого так падка средняя публика. Старик с
восхищением восклицает: 77 faut montrer à l'homme des
images, L· realité lyembête!es Гаварни жил в кругу
писателей и художников — парижан, сторонников
эстетического реализма. Его всегда возмущало, с каким
легкомыслием современные ему читатели поглощали
приключенческую литературу. Он был глубоко прав:
слабые расы могут превратить в порок
употребление этого сильного наркотика, помогающего забыть
о тяжком бремени нашего существования.
148
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
IX
БАЛАГАНЧИК МАЭСЕ ПЕДРО
По мере развития приключения мы испытываем
возрастающее внутреннее напряжение. Во всяком
приключении мы наблюдаем как бы резкий отрыв
от траектории, которой следует инертная
действительность. Каждое мгновение сила
действительности грозит вернуть ход событий в естественное
русло, и всякий раз требуется новое вмешательство
авантюрной стихии, чтобы освободить событие
и направить его в сторону невозможного.
Ввергнутые в пучину приключения, мы летим словно
внутри снаряда, и в динамической борьбе между этим
снарядом, который ускользает по касательной,
вырываясь из плена земного тяготения, и силой
притяжения земли, стремящейся им завладеть, мы всецело на
стороне неукротимого порыва летящего тела. Наше
пристрастие растёт с каждой перипетией,
способствуя возникновению своеобразной галлюцинации,
в которой мы на мгновение принимаем авантюру за
подлинную действительность.
Великолепно представив нам поведение Дон
Кихота во время спектакля кукольного театра маэсе
Педро69, Сервантес с поразительной точностью
передал психологию читателя приключенческой
литературы.
Конь дона Гайфероса70 мчит галопом, оставляя за
собой пустое пространство, и яростный вихрь
иллюзий уносит за ним всё, что нетвёрдо стоит на земле.
И туда, подхваченная смерчем воображения, невесо-
БАЛАГАНЧИК МАЭСЕ ПЕДРО
149
мая, как пух или сухая листва, летит, кувыркаясь, душа
Дон Кихота. И туда за ним будет всегда уноситься всё
способное на доброту и чистосердечие в этом мире.
Кулисы кукольного театра маэсе Педро —
граница между двумя духовными континентами.
Внутри, на сцене, — фантастический мир, созданный
гением невозможного: пространство приключения,
воображения, мифа. Снаружи — таверна, где
собрались наивные простаки, охваченные простым
желанием жить, таких мы встречаем повсюду.
Посредине — полоумный идальго, который, повредившись
в уме, решил однажды покинуть родимый кров. Мы
можем беспрепятственно войти к зрителям,
подышать с ними одним воздухом, тронуть кого-нибудь
из них за плечо — все они скроены из одного с нами
материала. Однако сама таверна в свою очередь
помещена в книгу, словно в другой балаганчик,
побольше первого. Если бы мы проникли в таверну,
то вступили бы внутрь идеального объекта, стали бы
двигаться по вогнутой поверхности эстетического
тела. (Веласкес в «Менинах» предлагает
аналогичную ситуацию: когда он писал групповой портрет
королевской семьи, он на том же полотне изобразил
и свою мастерскую. В другой картине, «Пряхи», он
навеки объединил легендарное действие,
запёчатлённое на гобелене, и жалкое помещение, где этот
гобелен изготовлен.)
Чистосердечие и открытость души —
непременные условия взаимного общения двух
континентов. Может быть, именно осмос и эндосмос71 между
ними и есть самое главное.
150
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
X
ПОЭЗИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Сервантес сказал, что его книга направлена против
рыцарских романов. Критика последних лет не
уделяет должного внимания этому обстоятельству.
Возможно, полагают, что подобное признание автора
было лишь определённой манерой представить
своё произведение читателям, своеобразной
условностью, как и тот оттенок назидательности,
который Сервантес придал своим коротким романам.
Однако следует вновь вернуться к этому
утверждению. Видеть произведение Сервантеса как
полемику с рыцарскими романами существенно важно
для эстетики.
В противном случае мы не сможем понять то
необыкновенное обогащение, какое испытало
искусство литературы в «Дон Кихоте». До сих пор
эпический план, где действовали вымышленные герои,
был единственным, само поэтическое определялось
в конститутивных чертах эпоса"". Теперь, однако,
воображаемое отходит на второй план. Искусство
приобретает ещё один план, как бы увеличивается
в третьем измерении, получает эстетическую
глубину, которая, как и геометрическая, требует
многомерности. Мы уже больше не вправе сводить
поэтическое к своеобразному очарованию идеального
прошлого или к неповторимому, извечному инте-
* С самого начала мы абстрагировались от лирики, которая составляет
самостоятельную эстетическую область.
ПОЭЗИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 151
ресу, присущему приключению. Теперь мы должны
возвести современную действительность в ранг
поэтического.
Заметьте всю остроту проблемы. До появления
романа поэзия предполагала преодоление,
избегание всего, что нас окружает, всего современного.
«Современная действительность» была абсолютным
синонимом «непоэзии». Перед нами максимальное
эстетическое обогащение, которое только можно
вообразить.
Но как могут приобрести поэтическую ценность
постоялый двор, Санчо, погонщик мулов и плут
маэсе Педро? Вне всяких сомнений, никак. Будучи
противопоставлены сцене кукольного театра как
зрители, они — формальное воплощение агрессии
против всего поэтического. Сервантес выдвигает
фигуру Санчо в противовес всякому приключению,
чтобы, приняв в нём участие, он сделал его
невозможным. Такова его роль. Итак, мы не видим, как
поэтическое пространство может простираться
поверх реального. Если воображаемое само по себе
поэтично, то сама по себе действительность —
антипоэзия. Hic Rbodus, bicsalta72: именно здесь эстетика
должна обострить своё видение. Вопреки наивному
мнению наших начётчиков эрудитов, как раз
реалистическая тенденция более всех других нуждается
в объяснении; это настоящий exemplum crucis73
эстетики.
В самом деле, данное явление вообще нельзя
было бы объяснить, если бы бурная жестикуляция
Дон Кихота не навела нас на правильный путь. Куда
152
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
следует поместить Дон Кихота — с той или с
другой стороны? Мы не можем однозначно отнести
его ни к одному из двух противоположных миров.
Дон Кихот — линия пересечения, грань, где
сходятся оба мира.
Если нам скажут, что Дон Кихот принадлежит
всецело реальности, мы не станем особенно возражать.
Однако сразу же придётся признать, что и
неукротимая воля Дон Кихота должна составлять
неотъемлемую часть этой реальности. И эта воля полна одной
решимостью — это воля к приключению. Реальный
Дон Кихот реально ищет приключений. Как он сам
говорит: «Волшебники могут отнять у меня
счастье, но воли и мужества им у меня не отнять». Вот
почему с такой удивительной лёгкостью он
переходит из унылого зала таверны в мир сказки. Природа
его погранична, как, согласно Платону, человеческая
природа в целом.
Не так давно мы не могли и помыслить о том,
что теперь предстаёт нам со всей очевидностью:
действительность входит в поэзию, чтобы возвести
приключение в самый высокий эстетический ранг.
Если б у нас появилась возможность получить этому
подтверждение, мы бы увидели, как разверзлась
действительность, вбирая в себя вымышленный
континент, чтобы служить ему надёжной опорой, подобно
тому как в одну прекрасную ночь таверна стала
ковчегом, который поплыл по раскалённым равнинам
Ла-Манчи, увозя в своём трюме Карла Великого
и двенадцать пэров, короля Сансуэньи Марсилия
и несравненную Мелисендру74. В том-то и дело,
ПОЭЗИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 153
что всё рассказанное в рыцарских романах обладает
реальностью в фантазии Дон Кихота,
существование которого в свою очередь не подлежит никакому
сомнению. Итак, хотя реалистический роман
возникает в противовес так называемому роману
воображения, внутри себя он несёт приключение.
XI
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ — ФЕРМЕНТ МИФА
Новая поэзия, основоположником которой явился
Сервантес, обнаруживает гораздо более сложную
внутреннюю структуру, чем греческая или
средневековая. Сервантес взирает на мир с вершин
Возрождения. Возрождение навязало миру более
жёсткий порядок, ибо явилось цельным преодолением
античной чувствительности. Галилей своей физикой
учредил во вселенной жёсткий порядок75. Начался
новый строй: всему отведено своё строгое место.
При новом порядке вещей приключения
невозможны. Чуть позднее Лейбниц приходит к выводу,
что простая возможность абсолютно лишена
полномочий, ибо возможно лишь compossibile76*, иными
словами, то, что находится в тесной связи с
естественными законами. Таким образом, возможное,
которое в мифе и чуде утверждает свою гордую неза-
* Для Аристотеля и Средневековья возможно всё, не заключающее в себе
противоречия. «Compossibile» нуждается в большем. Для Аристотеля
возможен кентавр, для нас — нет, поскольку биология не может мириться
с его существованием.
154 КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
висимость, упаковано в реальность, как
приключение — в веризм77 Сервантеса.
Другая характерная черта Возрождения —
психологизм, который становится первостепенным.
Античный мир представляется голой телесностью,
без внутреннего пространства, без интимных тайн.
Возрождение открывает неисчерпаемое богатство
интимного мира, то есть me ipsum78, сознание,
субъективное.
Кульминация нового и существенного
переворота, который произошёл в культуре, — «Дон
Кихот». В нём навсегда запёчатлён эпос, с его
стремлением сохранить эпический мир, который хотя
и граничит с миром материальных явлений, в корне
от него отличается. При этом реальность
приключения, безусловно, оказывается спасённой, однако
такого рода спасение заключает в себе самую горькую
иронию. Реальность приключения сводится к
психологии, если угодно — к состоянию организма.
Приключение столь же реально, как выделения мозга.
Таким образом, его реальность восходит, скорее,
к своей противоположности — к материальному.
Летнее солнце льёт на Ла-Манчу лавины огня,
и расплавленная зноем земля порою рождает
миражи. И хотя вода, которую мы видим, нереальна,
что-то реальное всё же в ней есть. И этот горький
источник, из которого бьёт призрачная струйка
воды, — сухость бесплодной земли.
Подобное явление мы можем переживать в двух
планах: один — наивный и прямой (тогда вода,
которую создало для нас солнце, для нас реальна),
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ — ФЕРМЕНТ МИФА 155
другой — иронический и опосредованный (мы
считаем, что эта вода — мираж, и тогда в свежести
холодной влаги сквозит породившая её бесплодная
сухость земли).
Приключенческий роман, сказка, эпос суть
первый, наивный способ переживания воображаемых
смысловых явлений. Реалистический роман —
второй, непрямой способ. Однако ему необходим
первый, ему нужен мираж, чтобы заставить нас видеть
его именно как мираж. Вот почему не только «Дон
Кихот», который был специально задуман
Сервантесом как критика рыцарских романов, несёт их внутри
себя, но и в целом «роман» как литературный жанр, по
сути, заключается в подобном внутреннем усвоении.
Это объясняет то, что казалось необъяснимым:
каким образом действительность, современность
может претвориться в поэтическую субстанцию?
Сама по себе, взятая непосредственно, она никогда
не сможет стать ею, — это привилегия мифа. Но мы
можем взглянуть на неё опосредованно, рассмотреть
её как разрушение мифа, как критику мифа. И в этой
форме действительность, по природе своей
инертная и бессмысленная, недвижная и немая, приходит
в движение, превращается в активную силу,
атакующую хрустальный мир идеального. От удара хрупкий
зачарованный мир разлетается на тысячи осколков,
которые парят в воздухе, переливаясь всеми цветами
радуги, и постепенно тускнеют, падая вниз,
сливаясь с тёмной землёй. В каждом романе мы свидетели
этой сцены. В строгом смысле слова
действительность не становится поэтической и не входит в про-
156 КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
изведение искусства иначе как в том своём жесте или
движении, где она вбирает в себя идеальное.
Итак, речь идёт о процессе, в точности обратном
тому, который порождает роман воображения.
Другое отличие: реалистический роман описывает сам
процесс, роман воображения — лишь его результат,
приключение.
XII
ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
Перед нами поле Монтьель — беспредельное
пылающее пространство, где, как в книге примеров,
собраны все вещи в мире. Шагая по нему с Дон
Кихотом и Санчо, мы понимаем, что вещи имеют
две грани. Одна из них — «смысл» вещей, их
значение, то, что они представляют, когда их подвергают
истолкованию. Другая грань — «материальность»
вещей, то, что их утверждает до и сверх любого
истолкования.
Над линией горизонта, обагрённой кровью
заката — словно проколота вена небесного свода, —
высятся мельницы Криптаны и машут крыльями.
Мельницы имеют смысл: их «смысл» в том, что они
гиганты. Правда, Дон Кихот не в своём уме. Но даже
признав Дон Кихота безумным, мы не решим
проблемы. Всё ненормальное в нём всегда было и будет
нормальным применительно ко всему человечеству.
Пусть эти гиганты и не гиганты — тем не менее...
А другие? Я хочу сказать, гиганты вообще? Ведь
ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 157
в действительности их нет и не было. Так или иначе,
миг, когда человек впервые придумал гигантов,
ничем существенным не отличается от этой сцены
из «Дон Кихота». Речь бы всегда шла о некой вещи,
которая не гигант, но, будучи рассмотрена со своей
идеальной стороны, стремилась в него превратиться.
В вертящихся крыльях мельниц мы видим намёк на
руки Бриарея79. Если мы подчинимся влекущей силе
намёка и пойдём по указанному пути, мы придём
к гиганту.
Точно так же и справедливость, и истина, и любое
творение духа — миражи, возникающие над
материей. Культура — идеальная грань вещей —
стремится образовать отдельный самодовлеющий мир,
куда мы могли бы переместить себя. Но это иллюзия.
Культура может быть расценена правильно только
как иллюзия, как мираж, простёртый над
раскалённой землёй.
XIII
РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
Подобно тому как очертания гор и туч содержат
намёки на формы определённых животных, все вещи
в своей инертной материальности как бы подают нам
знаки, которые мы истолковываем. Накапливаясь,
эти истолкования создают объективность, которая
становится удвоением первичной объективности,
называемой реальной. Отсюда — вечный конфликт:
«идея», или «смысл», каждой вещи и её «матери-
158
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
альность» стремятся проникнуть друг в друга. Эта
борьба предполагает победу одного из начал. Когда
торжествует «идея» и «материальность» побеждена,
мы живём в призрачном мире. Когда торжествует
«материальность» и, пробив туманную оболочку
идеи, поглощает её, мы расстаёмся с надеждой.
Известно, что процесс видения заключается
в применении к предмету предварительного образа,
который у нас сложился по поводу возникшего
ощущения. Тёмное пятно вдали видится нами
последовательно то башней, то деревом, то человеческой
фигурой. Следует согласиться с Платоном, который
считал восприятие равнодействующей двух лучей:
одного — идущего от зрачка к предмету, и
другого — идущего от предмета к зрачку. Леонардо да
Винчи имел обыкновение ставить своих учеников
перед каменной стеной, чтобы они привыкали
вчувствоваться в форму камней, в многообразие
воображаемых форм. В глубине души сторонник Платона,
Леонардо видел в действительности только
Параклета80, пробуждающего дух.
И всё же существуют расстояния, освещения,
ракурсы, в которых ощущаемый материал вещей
сводит к минимуму возможность наших истолкований.
Суровая и инертная вещь отвергает все «смыслы»,
которые мы хотим ей придать: она здесь, перед
нами, утверждает свою немую, суровую
материальность, противостоящую всему призрачному. Вот что
называется реализмом: отодвинуть вещи на
определённое расстояние, осветить и поместить их так,
РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
159
чтобы выделить лишь ту их грань, которая повёрнута
к чистой материальности.
Миф всегда начало любой поэзии, в том числе
и реалистической. Дело, однако, в том, что в
реалистической поэзии мы сопровождаем миф в его
нисхождении, в его падении. Тема реалистической
поэзии — её, поэзии, разрушение.
Я не думаю, что действительность может войти
в искусство иначе, чем претворив свою инертную
пустоту в активную и борющуюся стихию.
Действительность интересовать нас не может. Ещё меньше
нас может интересовать её удвоение. Я повторяю
здесь то, что уже сказал: персонажи романа лишены
привлекательности. И всё же почему нас волнует то,
как они представлены? Ведь дело обстоит именно
так: не сами персонажи как реальные лица волнуют
нас, а то, как они представлены, иными словами,
представление в них реальности. На мой взгляд,
это различие имеет решающее значение: поэзия
реальности — не реальность как та или иная вещь,
но реальность как родовая, «жанровая» функция.
Вот почему, в сущности, безразлично, какие
объекты берёт реалист для описания. Любой хорош, все
окружены ореолом воображения. Речь идёт о том,
чтобы под ним показать чистую материальность.
И в ней мы видим то, что принадлежит к последней
инстанции, к могучей критической силе, пред
которой отступает любое стремление идеального (всего,
что любит и что создал в своём воображении
человек) к самодостаточности.
160 КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
Одним словом, ущербность культуры, ущербность
всего благородного, ясного и возвышенного и
составляет смысл поэтического реализма. Сервантес
признаёт, что культура подразумевает все эти качества, но
что все они — увы! — только фикция. Обступая
культуру со всех сторон, как таверна — фантастический
балаган, простёрлась варварская и жестокая,
бессмысленная и немая реальность вещей. Печально, что она
являет себя нам такой, — ничего не поделаешь, она
реальна, она — здесь; недвусмысленно и чудовищно
довлеет самой себе. Сила и единственное значение
этой действительности — в её неустранимом
присутствии. Культура — воспоминания и обещания,
невозвратное прошлое и будущее мечты.
Но действительность — это простое и ужасное
«здесь-бытие». Присутствие, покой, инерция.
Материальность"".
XIV
МИМ
Несомненно, Сервантес не изобретает a nihilo81
поэтическую тему действительности, он просто
возводит её в классический ранг. Тема текла, как струйка
воды, неуверенно обходя препятствия, виясь, про-
* В живописи направленность реализма представлена ещё очевиднее.
Рафаэль и Микеланджело пишут формы вещей. Форма всегда идеальна.
Это образ прошлого или создание нашего воображения. Веласкес ищет
впечатления от вещей. Впечатление не имеет формы и подчёркивает
материю — атлас, холст, дерево, органическую протоплазму, из которых
состоят те или иные объекты.
мим
161
сачиваясь в другие тела, пока не нашла в романе,
в «Дон Кихоте», соответствующую ей органическую
структуру. Во всяком случае, эта тема имеет
странную родословную. Она родилась у антиподов мифа
и эпоса. В строгом смысле слова она родилась вне
литературы.
Источник реализма — в стремлении человека
подражать характерным чертам себе подобных или
животных. Характерное — такой отличительный
признак (человека, животного или вещи), при
воспроизведении которого воскресают все остальные,
быстро и выразительно представая перед нашим
взором. Однако никто не подражает ради самого
подражания: стремление к подражанию, как и описанные
более сложные формы реализма, не оригинально,
не рождается из самого себя. Это стремление живёт
посторонней направленностью. Подражают из
желания посмеяться. Вот искомый источник — мим.
Вероятно, только комическое намерение
способно придать действительности эстетический
интерес. Это явилось бы любопытным
историческим подтверждением всему, что я сказал о романе.
Действительно, в Древней Греции, где поэзия
требует идеальной дистанции для любого объекта,
который она делает эстетическим, современные темы
мы встречаем только в комедии. Как и Сервантес,
Аристофан берёт людей непосредственно с улицы
и помещает их внутрь художественного
произведения — для того чтобы посмеяться над ними.
В свою очередь из комедии рождается диалог —
жанр, которому так и не суждено было добиться
162 КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
самостоятельности. Платоновский диалог тоже
описывает реальное и тоже смеётся над ним. Он
выходит за пределы комического, только когда
преследует внепоэтический интерес — научный. Вот
ещё один признак, который необходимо учесть.
Реальное может войти в поэзию как комедия или
наука. Мы никогда не встретим поэзию реального
как просто реальное. Таковы единственные точки
греческой литературы, к которым можно привязать
эволюцию романа"". Итак, роман появился на свет
с острым комическим жалом. И дух, и образ
комического будут сопровождать его до могилы. Критика
и насмешка в «Дон Кихоте» далеко не
второстепенный орнамент. Они — органическая ткань не просто
романа как жанра, но, быть может, всего реализма.
XV
ГЕРОЙ
До сих пор нам никак не удавалось пристальнее
взглянуть на лик комического. Когда я писал, что роман
представляет нам мираж именно как мираж, слово
«комедия» стало бродить вокруг острия пера, словно
пёс, который почуял, что его кличут. По какой-то
непонятной причине тайное сходство заставляет нас
сблизить мираж над выжженным жнивьём и
комическое в душе человека.
* «Любовные истории (Erotici) рождаются из новой комедии». —
Wilamowitz-Moellendorf. In: Greek historical writing, 1908. P. 22-23.
ГЕРОЙ
163
История заставляет нас вновь вернуться к
рассматриваемой проблеме. Что-то осталось неясным,
что-то повисло в воздухе, колеблясь между
помещением таверны и кукольным театром маэсе Педро.
И это что-то — не что иное, как воля Дон Кихота.
У нашего приятеля можно отнять счастье, но
мужество и упорство отнять у него нельзя. Пусть
приключение — плод болезненного воображения;
воля к приключению действительна и правдива.
Но приключение — нарушение материального
порядка вещей, ирреальность. В воле к
приключению, в мужестве и упорстве мы наблюдаем странную
двойственную природу. Два её элемента
принадлежат к противоположным мирам: желание реально,
желаемое ирреально.
Эпос не знает ничего подобного. Персонажи
Гомера принадлежат к тому же миру, что их
желания. Напротив, в романе Сервантеса изображён
человек, желающий изменить действительность.
Но разве он сам не часть той же действительности?
Разве он сам не живёт в ней и не является её
закономерным продуктом? Как то, чего нет, —
замысел приключения — может править суровой
действительностью, определяя её порядок? Вероятно,
никак. Безусловно, однако, в мире находятся люди,
исполненные решимости не довольствоваться
действительностью. Они надеются, что дела пойдут
по-другому, они отказываются повторять поступки,
навязанные обычаем и традицией; иными
словами, биологические инстинкты толкают их к
действию. Таких людей называют героями. Ибо быть
164
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
героем — значит быть самим собой, только собой.
Если мы оказываем сопротивление всему
обусловленному традицией и обстоятельствами, значит, мы
хотим утвердить начало своих поступков внутри
себя. Когда герой хочет, не предки и не
современные обычаи в нём хотят, а хочет он сам. Это желание
быть собой и есть героизм.
Я не знаю более глубокого вида оригинальности,
чем эта «практическая» активная оригинальность
героя. Его жизнь — вечное сопротивление
обычному и общепринятому. Каждое движение, которое
он делает, требует от него сначала победы над
обычаем, а затем изобретения нового рисунка поступка.
Такая жизнь — вечная боль, постоянное отторжение
той своей части, которая подчинилась обычаю и
оказалась в плену материи.
XVI
ВТОРЖЕНИЕ ЛИРИЧЕСКОГО НАЧАЛА
Далее, перед лицом героизма — воли к
приключению — мы можем занять две позиции: либо мы
бросаемся вместе с героем навстречу страданию,
поскольку считаем, что героическая жизнь имеет
«смысл», либо слегка встряхиваем действительность,
и одного этого движения вполне довольно, чтобы
уничтожить любой героизм, — так прогоняют сон,
толкнув спящего. Выше я назвал эти два плана,
в которых развивается наш интерес, прямым и
опосредованным.
ВТОРЖЕНИЕ ЛИРИЧЕСКОГО НАЧАЛА 165
Следует подчеркнуть, что ядро действительности,
к которому относятся они оба, одно и то же.
Следовательно, различие состоит в нашем субъективном
подходе к явлению. Таким образом, если эпос и роман
различались по своему предмету — прошлое и
современная действительность, — то теперь следует
провести новое различие внутри темы современной
действительности. Но это деление основано уже не только
на предмете, но берёт начало в субъективной стихии,
иными словами, в нашем отношении к предмету.
Выше мы целиком и полностью абстрагировались
от лирического начала, которое служит столь же
самостоятельным источником поэзии, как и эпос.
Не будем особенно углубляться в сущность явления
и долго рассуждать на тему о том, что такое лиризм.
Всему своё время. Напомним только
общеизвестную истину: лиризм — эстетическая проекция
общей тональности наших чувств. Эпос не может
быть радостным или грустным — это аполлониче-
ское, равнодушное искусство, внешнее, неуязвимое,
сплошь состоящее из форм вечных объектов, не
имеющих возраста.
С лиризмом в искусство вторгается подвижная
и изменчивая субстанция. Интимный мир человека
изменялся в веках, вершины его сентиментальности
иной раз устремлялись к Рассвету, а иной — к Закату.
Есть времена радостные и времена печальные. Всё
зависит от того, представляется ли человеку оценка,
которую он себе даёт, положительной или нет.
Я не вижу необходимости повторять сказанное
в самом начале моего небольшого трактата: неза-
166
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
висимо от того, служит ли содержанием прошлое
или настоящее, поэзия и всё искусство
рассматривают человеческое, и только его. Если кто-то рисует
пейзаж, в нём всегда следует видеть лишь сцену, где
появится человек. В таком случае нам остаётся
сделать только один вывод: все формы искусства берут
начало в различных истолкованиях человека
человеком. Скажи мне, как ты воспринимаешь человека,
и я скажу тебе, в чём твоё искусство.
И поскольку каждый литературный жанр есть до
известного предела русло, проложенное каким-то
истолкованием человека, нет ничего удивительного
в том, что каждая эпоха предпочитает свой жанр.
Вот почему подлинная литература эпохи — общая
исповедь сокровенных человеческих тайн своего
времени.
Итак, вновь возвращаясь к понятию героизма,
мы обнаруживаем, что иной раз рассматриваем его
непосредственно, а иной — опосредованно. В
первом случае наш взгляд превращает героя в
эстетический объект, который мы называем трагическим, во
втором — в эстетический объект, который мы
называем комическим.
Бывали эпохи, которые почти не воспринимали
трагическое, времена, пронизанные юмором и
комедией. Век девятнадцатый — буржуазный,
демократический и позитивистский, — как правило, видел во
всём одну сплошную комедию.
Соотношение, которое мы наметили между эпосом
и романом, повторяется здесь как соотношение между
наклонностью нашего духа к трагедии и комедии.
Бартоломе Эстебан Мурильо. Две девушки у окна. Ок. 1670
168
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
XVII
ТРАГЕДИЯ
Как я уже сказал, герой — это тот, кто хочет быть
собой. Поэтому героическое берёт начало в
реальном акте воли. В эпосе нет ничего подобного. Вот
почему Дон Кихот — не эпическая фигура, а именно
герой. Ахиллес творит эпопею, герой к ней
стремится. Таким образом, трагический субъект
трагичен и, следовательно, поэтичен не как человек из
плоти и крови, но только как человек, изъявляющий
свою волю. Воля — парадоксальный объект, который
начинается в реальном и кончается в идеальном (ибо
хотят лишь того, чего нет), — тема трагедии, а эпоха,
которая не принимает в расчёт человеческой воли,
эпоха детерминизма и дарвинизма, не может
интересоваться трагическим.
Не будем уделять особого внимания
древнегреческой трагедии. Положа руку на сердце — мы
недостаточно её понимаем. Даже филология ещё не
приспособила наши органы восприятия к тому, чтобы
мы стали настоящими зрителями древнегреческой
трагедии. Вероятно, мы не встретим жанра, в
большей мере зависимого от преходящих, исторических
факторов. Нельзя забывать, что афинская трагедия
была богослужением. Таким образом, произведение
осуществлялось, скорее, не на театральных
подмостках, а в душе зрителя. И над сценой, и над публикой
нависала внепоэтическая атмосфера — религия. То,
что до нас дошло, — немое либретто оперы,
которую мы никогда не слышали, изнанка ковра, лицевая
ТРАГЕДИЯ
169
сторона которого выткана яркими нитями веры. Не
в силах воссоздать древнюю веру афинян, эллинисты
застыли пред нею в недоумении. Пока они не
справятся с этой задачей, греческая трагедия будет
оставаться страницей, написанной на неведомом языке.
Ясно одно: обращаясь к нам, древнегреческие
трагики предстают в масках своих героев. Можно ли
вообразить себе нечто подобное у Шекспира?
Творческое намерение Эсхила, подвигающее его на создание
трагедий, лежит где-то между поэзией и теологией.
Тема его по крайней мере объединяет эстетические,
метафизические и этические моменты. Я назвал бы
Эсхила теопоэтом. Его волнуют проблемы добра и зла,
оправдания мирового порядка, первопричины. Его
трагедии — нарастающий ряд посягательств на
решение этих божественных проблем. Его вдохновение
сродни порыву религиозной реформы. Он, скорее,
напоминает не homme de lettres82, а святого Павла или
Лютера. Силою набожности он стремится преодолеть
народную веру, которая недостаточно отвечает зрелой
эпохе. В других обстоятельствах подобное
намерение не подвигло бы человека на сочинение стихов, но
в Греции, где религия была более гибкой и
изменчивой и где жрецы не играли особенно большой роли,
теологический интерес мог развиваться неотрывно от
поэтического, политического и философского.
Однако оставим в покое греческую драму и все
теории, основывающие трагедию на никому не
ведомом фатализме, согласно которому именно
поражение и гибель героя сообщают жанру трагическую
направленность.
170 КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
На самом деле вмешательство рока не
обязательно, и хотя чаще всего герой побеждён и ему не
удаётся вырвать победу из рук судьбы, он всегда
остаётся героем. Обратимся к эффекту, производимому
трагедией в душе обывателя. Если он искренен, то
обязательно скажет, что всё происходящее ему
представляется чем-то невероятным. Раз двадцать в
течение представления он готов был подняться с места
и посоветовать герою отказаться от своей цели,
перестать стоять на своём. Обыватель справедливо
считает, что все несчастья протагониста
происходят из-за его упорного желания достичь
намеченной цели. Откажись герой от цели, и всё уладится,
и тогда, как говорят китайцы в конце своих сказок
(намекая на кочевой образ жизни, который они вели
в прошлом), можно осесть и нарожать много детей.
Итак, рока нет, или то, что неизбежно должно
случиться, случается неизбежно, ибо сам герой хочет
так. Несчастья Стойкого принца83 фатальны с тех
пор, как он решает быть стойким, но сам по себе он
не фатально стоек.
Я полагаю, что классические теории страдают здесь
простым quid pro quo84 и следует их исправить,
принимая во внимание чувства, которые пробуждает
героизм в душе обывателя, чуждой всему героическому.
Простому обывателю неведомы проявления жизни,
в которых она щедро себя расходует. Он не знает, как
жизнь выходит из берегов, как жизненная сила
нарушает свои пределы. Пленник необходимости, всё, что
он делает, он делает только по принуждению. Он
действует лишь под влиянием внешних сил, его поступки
ТРАГЕДИЯ
171
не выходят за рамки реакции. Ему и в голову не придёт,
как ни с того ни с сего можно отправиться на поиски
приключений. Всякий движимый волею к
приключению кажется ему слегка ненормальным. В трагическом
герое он видит лишь человека, обречённого на вечные
муки из-за нелепого стремления к цели, к которой
никто не заставляет стремиться.
Таким образом, рок—не трагическое начало. Герою
суждено любить свою трагическую участь. Вот почему
с обывательской точки зрения трагедия всегда мнима.
Все страдания героя происходят из-за его нежелания
отказаться от идеальной, вымышленной роли, rôle,
которую он взялся играть. Несколько парадоксально
можно сказать, что герой в драме играет роль,
которая в свою очередь является ролью. Во всяком
случае, именно свободное волеизъявление — источник
трагического конфликта. И это «воление»,
создающее определённый трагический порядок, новое
пространство реальностей, которое только в силу этого
существует, безусловно, пустая фикция для всех, кто
не знает иных желаний, кроме направленных на
удовлетворение самых элементарных потребностей, и кто
всегда довольствуется тем, что есть.
XVIII
КОМЕДИЯ
Трагедия не происходит на нашем обыденном
уровне: мы должны до неё возвыситься. Нас
допускают к трагедии, ибо она ирреальна. Если мы хотим
172
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
обнаружить нечто подобное в реальном мире, нам
следует устремить взор к величайшим вершинам
истории.
Трагедия предполагает известное расположение
нашего духа к восприятию великих деяний. В
противном случае она покажется недостойным фарсом.
Трагедия не предстаёт перед нами с неизбежной
очевидностью реализма, который развёртывает
произведение прямо у нас под ногами и исподволь, без
усилий, вводит нас в его мир. В известном смысле
наслаждение трагедией требует от нас, чтобы мы
немного её любили, как герой любит свою судьбу.
Трагедия взывает к нашему атрофированному
героизму, ибо все мы носим в себе некий обрубок героя.
Пускаясь в плавание героическим курсом, мы
чувствуем, как глубоко внутри нас откликаются
решительные поступки и возвышенные порывы,
которые движут трагедией. Мы с изумлением
обнаруживаем, что можем выносить огромные душевные
напряжения, что всё вокруг нас увеличивается в
размерах, приобретает высокую ценность. Театральная
трагедия открывает нам глаза, помогая находить
и ценить героическое в действительности.
Наполеон, немного знавший психологию, не позволил
актёрам французской бродячей труппы представлять
комедии перед зрителями Франкфурта, в душе
которых ещё были живы воспоминания об их
побеждённых монархах, но приказал Тальма85 играть героев
Расина и Корнеля.
Однако вокруг героя-обрубка, которого мы
заключаем в себе, суетится целая толпа плебейских
КОМЕДИЯ
173
инстинктов. В силу достаточно веских причин мы
не питаем доверия к сторонникам перемен. Мы не
требуем объяснений у того, кто остаётся в границах
привычного, но мы их неуклонно требуем у того,
кто хочет выйти за пределы этого привычного. Для
нашего внутреннего плебея нет никого ненавистнее
честолюбца. А герой, понятно, начинает с
честолюбия. Вульгарность не раздражает нас так, как
претензия. Следовательно, в любую минуту герой готов
стать в наших глазах если не несчастным (что его
возвысило бы до трагедии), то смешным. Афоризм
«От великого до смешного — один шаг»
формулирует ту опасность, которая всегда грозит герою. Горе
ему, если он не оправдает своими делами и
незаурядностью натуры стремление не быть таким же, как все!
Реформатор, то есть любой исповедующий новое
искусство, — науку, политику, на всю жизнь
обречён преодолевать враждебное влияние среды,
которая в лучшем случае видит в нём напыщенного шута
или мистификатора. Всё, что герой отрицает — а он
герой именно благодаря этому отрицанию, —
оборачивается против него: традиции, обычаи, заветы
отцов, всё национальное, местное, косное. Всё это
образует столетний пласт земли, кору
непробиваемой толщины. А герой хочет смести этот груз
с помощью мысли, частицы невесомее воздуха,
возникшей в воображении. И тогда консервативный
инстинкт инерции ему мстит, насылая на него
реализм в лице комедии.
Поскольку феномен героического заключается
в желании обладать чем-то ещё не существующим,
174
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
трагический персонаж наполовину находится вне
реальности. Достаточно дёрнуть его за ноги и
вернуть к жизни, и он превратится в комический.
С большим трудом, как бы через силу соединяется
с инертной реальностью благородный героический
вымысел: он весь — стремление и порыв. Его
свидетельство — будущее. Vis comica86 ограничивается
тем, что подчёркивает ту грань героя, которая
обращена к чистой материальности. Сквозь вымысел
проступает действительность и, вставая во весь рост
перед нашим взором, поглощает трагическую роль,
role*. Герой делал из неё своё собственное бытие,
сливался с ней. Поглощаясь действительностью,
волевое намерение затвердевает, материализуется,
погребая под собой героя. В результате мы
воспринимаем role как смешное переодевание, как маску на
вульгарном лице.
Герой предвосхищает будущее и взывает к нему.
Его жесты имеют утопический смысл. Он
провозглашает не то, кем он будет, но то, кем он хочет быть.
Так и женщина-феминистка надеется, что когда-
нибудь женщины перестанут быть феминистками.
Однако автор комедии искажает идеал феминисток,
представляя нам женщину, которая уже сейчас
подчинила себя этому идеалу. Будучи отнесён к более
раннему периоду — к современности, героический
* Бергсон приводит любопытный пример. Королева Пруссии приходит
к Наполеону. Она хочет выразить ему своё возмущение и оживлённо
жестикулирует. Наполеон ограничивается тем, что просит её присесть.
Стоило королеве сесть, как она замолчала. Трагическая роль не
соответствует буржуазной позе сидящей гостьи, она находится с ней в
противоречии.
КОМЕДИЯ
175
порыв как бы застывает, останавливаясь в своём
движении. Не может выполнять элементарные функции
существования то, что способно жить лишь в
атмосфере грядущего. Идеальная птица падает, пролетев
над испарениями мёртвого озера. Люди смеются.
Это полезный смех. Он убивает сотню
мистификаторов на каждого героя, которого ранит.
Итак, комедия живёт за счёт трагедии, как роман
за счёт эпоса. Исторически комедия родилась в
Греции как реакция на творчество трагиков и
философов, которые хотели создать новых богов и ввести
новые обычаи. Во имя народной традиции, во имя
«наших отцов» и священных обычаев Аристофан
выводит на сцене современные фигуры Сократа
и Еврипида. И то, что один вложил в свою
философию, а другой в свои стихи, Аристофан сделал
личными качествами самих Сократа и Еврипида.
Комедия — литературный жанр консервативных
партий.
От желания иметь что-то в будущем до веры
в обладание им в настоящем — дистанция,
разделяющая трагическое и комическое. Это и есть шаг
от великого до смешного. Переход от воли к
представлению знаменует собой уничтожение трагедии,
её инволюцию, её комедию. Мираж проявляется
именно как мираж.
Так вышло и с Дон Кихотом, когда, не
довольствуясь тем, чтобы за ним признали только волю к
приключению, он велит считать себя странствующим
рыцарем. Бессмертный роман едва не превращается
в комедию. И как мы надеялись показать, занимает
176 КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
промежуточное место между романом и чистой
комедией.
Первые читатели «Дон Кихота» именно так и
восприняли эту литературную новинку. В предисловии
Авельянеды87 дважды указывается на данное
обстоятельство. «Вся "История Дон Кихота Ламанчского"
напоминает комедию», — сказано в начале пролога,
и ниже та же мысль повторяется: «Наслаждайтесь
его "Галатеей"88 и комедиями в прозе, они —
лучшие из его романов». Трудно оценить по
достоинству подобное замечание, если ограничиться только
соображением, что слово «комедия» употреблялось
в те времена как жанровое обозначение любого
театрального произведения.
XIX
ТРАГИКОМЕДИЯ
Роман — жанр, безусловно, комический. Но не
юмористический, поскольку под покровом юмора
таится немало мирской суеты. Можно представить
себе смысл романа в образе стремительно
падающего трагического тела, над которым торжествует
сила инерции, или действительность.
Подчёркивая реализм романа, порой забывают, что сам этот
реализм заключает в себе нечто большее, чем
реальность: то, что позволяет самой реальности достичь
столь чуждой ей поэтической силы. В противном
случае мы бы уже давно отдали себе отчёт в том,
что поэзия реализма заключена не в неподвижно
ТРАГИКОМЕДИЯ
177
простёртой у наших ног реальности, а в той силе,
с которой последняя притягивает к себе идеальные
аэролиты.
Трагедия — вершина романа. С неё спускается
муза, сопровождая трагическое в его
нисхождении. Трагическая линия неизбежна, она
необходимая часть романа и тогда, когда выступает как едва
заметное обрамление. Исходя из этих соображений,
я думаю, следует придерживаться названия, которое
дал Фернандо Рохас своей «Селестине»89.
Роман-трагикомедия. Возможно, «Селестина» представляет
собой кризис этого жанра. В «Дон Кихоте»,
напротив, мы наблюдаем вершину его эволюции.
Совершенно очевидно: трагическая стихия может
расширяться сверх меры, занимая в пространстве
романа такой же объем и место, что и комическая.
В романе — синтезе трагедии и комедии — нашла
воплощение та смутная мысль, которую высказал
в своё время ещё Платон (хотя она и не встретила
должного понимания). Я имею в виду диалог «Пир».
Раннее утро. Сотрапезники спят, опьянённые соком
Диониса. «Когда уже поют петухи», Аристодем
приоткрывает глаза. Ему чудится, будто Сократ, Ага-
тон и Аристофан тоже проснулись и вполголоса
беседуют между собой. Сократ доказывает Агатону,
молодому трагику, и Аристофану, автору комедий,
что не двое разных людей, а один и тот же человек
должен сочинять и трагедии, и комедии90.
Как я уже говорил, это место не получило
удовлетворительного объяснения. Читая его, я всегда
ловил себя на мысли, что Платон со свойственным
178 КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
ему даром предвидения посеял здесь семя романа.
Если мы посмотрим в ту сторону, куда указал Сократ
на этом Symposion ранним утром, мы неизбежно
увидим Дон Кихота, героя и безумца.
XX
ФЛОБЕР, СЕРВАНТЕС, ДАРВИН
Никчёмность того, что принято называть
патриотизмом в испанском мышлении, ярче всего
проявляется в недостаточном внимании к действительно
великим событиям нашей истории. Все силы уходят
на восхваление того, что совершенно бесплодно,
чему нельзя найти применения. Мы превозносим то,
что нам выгодно, забывая о том, что важно.
Нам определённо недостаёт книги, где было бы
детально доказано, что всякий роман заключает
в себе, словно тончайшую филигранную нить, «Дон
Кихота», подобно тому как любая эпическая поэма,
будто плод косточку, несёт в себе «Илиаду».
Флобер открыто заявляет: Je retrouve, — говорит
он, — mes origines dans le livre que je savais par coeur
avant de savoir lire, don Quichotte91'". Мадам Бовари —
Дон Кихот в юбке и минимум трагедии в душе.
Читательница романтических романов,
представительница буржуазных идеалов, насаждавшихся в Европе
в течение полувека. Жалкие идеалы! Буржуазная
демократия, позитивистский романтизм!
* «Correspondance», II, 16.
ФЛОБЕР, СЕРВАНТЕС, ДАРВИН
179
Флобер отдаёт себе полный отчёт в том, что
роман — жанр критической направленности и
комического нерва. Je tourne beaucop à la critique, — писал
он, когда работал над «Мадам Бовари», — le roman
que j'écris m'aiguise cette faculté, car c'est une oeuvre
surtout de critique ou plutôt d'anatomie92*. И в другом
месте: Ah! ce que manque à la société modem ce η est pas
un Christ, ni un Washington, ni un Socrate, ni un Voltaire,
c'est un Aristophane93**.
Я думаю, что приступы реализма, которым был
подвержен Флобер, не вызывают сомнений. Более
того, точку зрения романиста следует считать
свидетельством исключительной важности.
Если современный роман в меньшей степени
обнаруживает комическую природу, то лишь
потому, что подвергаемые критике идеалы
недостаточно отделены от действительности, с которой идёт
борьба. Напряжение крайне слабо: идеал низвергнут
с очень небольшой высоты. По этой причине можно
предугадать, что роман XIX века очень быстро станет
неудобочитаемым: он содержит наименьшее из
возможного количества поэтического динамизма. Уже
сейчас ясно: книги Доде или Мопассана не
доставляют нам ныне того наслаждения, как лет пятнадцать
тому назад. И наоборот, напряжение, которое несёт
в себе «Дон Кихот», обещает не ослабеть никогда.
Реализм — идеал XIX века. «Факты, только
факты!» — восклицает персонаж из «Тяжёлых вре-
* «Correspondance», II, 370.
** Ibid., И, 159.
180 КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
мён» Диккенса. Как, а не почему, факт, а не идея, —
проповедует Огюст Конт. Мадам Бовари дышит
с месье Омэ одним воздухом — атмосферой кон-
тизма. Работая над «Madame Bovary», Флобер читал
«Позитивную философию»: Est un ouvrage, — писал
он, — profondément farce; il faut seulement lire, pour
s'en convaincre, l'introduction qui en est le résumé; il y a,
pour quequ'un qui voudrait faire des charges au théâtre
dans le gout aristophanesque, sur les théories sociales, des
californies de rires94*.
Действительность столь сурова, что не выносит
идеала, даже когда идеализируют её саму. А XIX век
не только возвёл в героический ранг любое
отрицание героизма, поставив во главу угла идею
позитивного, но снова принудил героическое к позорной
капитуляции перед жестокой реальностью. Флобер
обронил как-то весьма характерную фразу: On те
croit épris du réel, tandis que je l'exècre; car c'est en haine
du réalisme que j'ai entrepris ce roman95**.
Te поколения, наши непосредственные
предшественники, заняли роковую позицию. Уже в «Дон
Кихоте» стрелка поэтических весов склонилась в
сторону грусти, чтобы так и не выправиться до сих пор.
Тот век, наш отец, черпал извращённое наслаждение
в пессимизме, он погрузился в него, он испил свою
чашу до дна, он потряс мир так, что рухнуло всё хоть
сколько-нибудь возвышавшееся над общим уровнем.
«Correspondance», II, 261.
** «Correspondance», III. См. также, как он надписывает свой «Лексикон
прописных истин»: «Gustavus Flaubertus, Bourgeoisophobus» (Гюстав
Флобер, буржуазофоб).
ФЛОБЕР, СЕРВАНТЕС, ДАРВИН 181
Из всего XIX столетия до нас долетает словно один
порыв злобы.
За короткий срок естественные науки,
основанные на детерминизме, завоевали сферу биологии.
Дарвин приходит к выводу, что ему удалось
подчинить живое — нашу последнюю надежду —
физической необходимости. Жизнь сводится только к
материи, физиология — к механике.
Организм, считавшийся независимым единством,
способным самостоятельно действовать, погружён
отныне в физическую среду, словно фигура,
вытканная на ковре. Уже не он движется, а среда в нём.
Наши действия не выходят за рамки реакций. Нет
свободы, оригинальности. Жить — значит
приспосабливаться, приспосабливаться — значит позволять
материальному окружению проникать в нас,
вытесняя из нас нас самих. Приспособление —
капитуляция и покорность. Дарвин сметает героев с лица
земли.
Пришла пора экспериментального романа, roman
expérimental. Золя учится поэзии не у Гомера или
Шекспира, а у Клода Бернара96. Нам всё время
пытаются говорить о человеке. Но поскольку теперь
человек не субъект своих поступков, он движим средой,
в которой живёт, — роман призван давать
представление среды. Среда — единственный герой.
Поговаривают, что нужно воспроизводить
«обстановку». Искусство подчиняется жёсткому
порядку — правдоподобию. Но разве трагедия не
имеет своего внутреннего, независимого
правдоподобия? Разве нет эстетической vero97 — прекрасного?
182
КРАТКИЙ ТРАКТАТ О РОМАНЕ
Видимо, нет, поскольку, согласно позитивизму,
прекрасное — только правдоподобное, а истинное —
только физика. Роман стремится к физиологии.
Однажды поздно ночью на Père Lachaise98 Бувар
и Пекюше" хоронят поэзию — во имя
правдоподобия и детерминизма.
Примечания
1 Ortega у Gasset J. Meditaciones de Quijote / Ed. de Julian Marias.
Madrid:Catedra,1995.R 10.
2 Вкратце, в сжатом виде {нем.).
3 Рамиро де Маэсту (1875-1936) — испанский писатель и
публицист, либерал, с конца 1910-х гг. склонившийся к католическому
традиционализму и монархизму. Ортега ценил его раннюю книгу
«К другой Испании» (1899), но после второго издания
«Размышлений» (1921 ) снял данное посвящение.
4 В краю варваров (лат).
5 Интеллектуальная любовь к Богу (лат.) — Спиноза. Этика. V,
XXXII-XXXVI.
6 Матео Алеман (1547-1614) — испанский писатель; отсылка к его
плутовскому нравоописательному роману «Жизнеописание
Гусмана де Альфараче, наблюдателя жизни человеческой».
7 Платон. Пир. 202 е.
8 О сотворении мира (итал). Гаспаре Муртола (ок.1570-1624) —
итальянский поэт и прозаик, его поэма была опубликована в 1608 г.
9 Ничто во всё Творец преображает, // А этот всё преобразил
в ничто;// Один творил — другой лишь разрушает (итал.). —
Стихи принадлежат Джамбаттисто Марино (1569-1625), остро
полемизировавшему с Муртолой.
10 Платон. Федр. 265 в.
11 Имеется в виду испанский философ и писатель Рамон Кампос
Перес (1755/1760-1808), цитируется его книга «О личном
неравенстве в гражданском обществе» (опубл. 1823). Асорин (наст, имя
Хосе Мартинес Руис, 1873-1967) — испанский писатель,
литературный критик, эссеист, одна из влиятельнейших фигур своего
поколения (т. н. «поколения 1898 года», куда входили Унамуно,
Валье-Инклан, Бласко Ибаньес, Пио Бароха, Антонио Мачадо,
Хуан Рамон Хименес и др.).
12 В силу самого факта; тем самым (лат).
ПРИМЕЧАНИЯ
185
13 Юст Липсий (1547-1606) — нидерландский гуманист,
издатель латинских классиков; Пьер Даниэль Юэ (1630-1721) —
французский филолог и церковный деятель; Исаак де Казобон
(1559-1614) — швейцарский филолог.
14 Выражение немецкого философа и психолога Иоганна Фридриха
Гербарта (1776-1841 ), введено им в труде Lehrbuch zur Einleitung in
die Philosophie (1813).
15 Гвадаррама — горный массив, разделяющий крупнейшие реки
Тахо и Дуэро, у его подножия расположен монастырь и дворец
Эскориал; Онтигола — город в провинции Толедо, неподалёку от
Аранхуэса.
16 Ортега имеет в виду труды немецкого биолога Якоба фон Икскюля
(1864-1944).
17 Благословенно место, где мы родились (лат.).
18 В травах и камнях (пот).
19 Жан Анри Фабр (1823-1915) — французский энтомолог.
20 Мироздание — существо святое, священное и почитаемое
(пат.) — Бруно Дж. De Immenso et innumerabilibus. V, 12,1.
21 Шекспир У. Мера за меру. II, 4.
22 И всё-таки (итал.) — начало знаменитой фразы Галилея.
23 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. II, 104.
24 «Хоэфоры» («Плакальщицы») — трагедия Эсхила (пост, в 458 г. до н. э.).
25 Мариано Хосе де /lappa (1809-1837) — испанский писатель
и публицист.
26 Луис де Леон (1528-1591) — испанский богослов-мистик, поэт
и переводчик, монах-августинец, автор, среди прочего, трактата
«Имена Христа». Флеча (Стрела) — его скромное поместье в семи
километрах от г. Саламанка.
27 Матф. 18:20.
28 Платон. Евтидем. 290 в-с.
29 Неужели Дон Кихот — только шутка? (нем.) — Коген Г. Этика
чистой воли.
30 За высокими домами города не увидать (φρ.). Эту поговорку
возводят к фацетиям французского поэта Этьена Табуро (1547-
1590).
31 Антонио Кановас дель Кастильо (1828-1897) — испанский
государственный деятель-монархист, писатель и историк.
Реставрация (1874-1931) — период восстановления монархии в Испании.
186
ПРИМЕЧАНИЯ
32 Рафаэль дель Риего (1784-1823) — испанский военачальник
и либеральный политик; Рамон Мария Нарваэс (1800-1868) —
государственный и военный деятель Испании.
33 Тетуан — город в Марокко, дважды (в 1860 и 1913 гг.) был
оккупирован испанскими войсками.
34 Гонсало Фернандес де Кордова (1453-1515) — испанский
военачальник, прославился в войне с мусульманской Гранадой,
которую освободил от мусульман в 1492 г.
35 Хосе Мария де Переда (1833-1906) — испанский писатель-регио-
налист; Антонио Уртадо де Мендоса (1586-1644) — испанский поэт
и драматург «золотого века»; Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре (1832-
1916) — испанский драматург, лауреат Нобелевской премии (1904).
36 Гаспар Нуньес де Арсе (1834-1903) — испанский поэт и драматург,
номинировался на Нобелевскую премию в 1901, 1902 и 1903 гг.
37 Марселино Менендес-и-Пелайо (1856-1912) — испанский
историк культуры и словесности; Хуан Валера (1824-1905) —
испанский романист.
38 Фридрих Шлейермахер (1768-1834) — немецкий философ и
богослов, отсылка — к его труду «Христианская вера».
39 Хьюстон Стюарт Чемберлен (1855-1927) — англо-немецкий
публицист, философ, расовый теоретик.
40 «Искусство изложения» (φρ.).
41 «Нельзя человеку сосредоточиваться на одном предмете, а то он
сойдёт с ума; в голове должна быть тысяча предметов, целая
сумятица» (итал.) — «Итальянские путешествия» (25 октября 1786).
42 Кант И. Критика чистого разума. 1,2.
43 «Поэзия и правда», II, 6.
44 «Гёте видит каждой порой» {англ.) — Эмерсон Р. У. Представители
человечества. Гёте, или Писатель (1850).
45 «Наши глаза просвещены разумом» (лат.) — Цицерон. О
парадоксах.
46 «Я из тех, для кого внешний мир существует», — фраза поэта Тео-
филя Готье, которую приводят в своём «Дневнике» братья Гонкур.
47 В общем (нем.).
48 Платон. Пир, 193.
49 Гегель Г.-В. Наука логики. I, I.
50 Платон. Менон. 97 с — 98 а.
51 Кристиан Фридрих Геббель (1813-1863) — немецкий драматург.
ПРИМЕЧАНИЯ
187
52 Уильям Эдвард Парри (1790-1855) — английский моряк,
исследователь Арктики.
53 В принятом переводе — «Назидательными новеллами», так
называется сборник упоминаемых ниже повестей Сервантеса,
вышедший в 1613 г.
54 Служанка философии {пот)
55 Лорето — город в Италии, место паломничества христиан.
56 «Странствия Персилеса и Сихизмунды» — роман Сервантеса,
законченный им за несколько дней до кончины и
опубликованный уже посмертно.
57 Рапсод — бродячий певец в Древней Греции. Народный певец,
сказитель, в более широком значении.
58 От избытка сердца (пат), здесь — в глубине души.
59 Запас, набор (англ).
60 Гомер. Одиссея. 1,441 -442. (Пер. В.А. Жуковского.)
61 Порфирий. Жизнь Плотина. I.
62 Скамандр — река на малоазийском полуострове Троада, где
находилась Троя.
63 «Книга об Аполлонии» — важнейший эпический памятник
испанской учёной литературы XIII в. «Книга об Александре» —
произведение того же времени, в котором наивная историческая хроника
смешивается с фаблио.
64 Аримаспы — мифический народ на крайнем северо-востоке
древнего мира, о нём рассказывалось в эпической поэме
греческого поэта Аристея, дошедшей в кратком пересказе Геродота.
65 Во времена короля Артура (V-VI вв.) обычно происходит действие
рыцарских романов.
Марикастанья, собственно Мария Кастанья — галисийская
героиня XIV в., возглавившая бунт города Луго против церковных
властей, вошла в народную культуру: в переносном смысле, «времена
Марикастаньи» — это далёкое прошлое, «при царе Горохе».
66 Ср.: «Все жанры хороши, кроме скучного», — из предисловия
Вольтера к его комедии «Блудный сын» (1738).
67 Поль Гаварни (собственно Ипполит Шевалье, 1804-1866) —
французский график, карикатурист, друг братьев Гонкур, иллюстратор
Бальзака и Гофмана.
68 Человеку нужны зрелища, реальность ему наскучивает (фр).
69 Маэсе Педро — герой романа «Дон Кихот», во второй его части
(гл. XXV-XXVII) показывает свой кукольный театрик; дон Гайферос
188
ПРИМЕЧАНИЯ
(см. ниже) — один из персонажей его представления, герой
старых испанских романсов. По мотивам этих глав романа написана
опера Мануэля де Фальи, показанная зрителям Севильи и Парижа
в 1923 г.
70 Дон Гайферос и его возлюбленная Мелисендра — герои
старинных испанских романсов, источником которых послужила
старофранцузская хроника, роман XIII в.
71 Противопоставление двух физических явлений, осмоса и
эндосмоса, говорит о неточном употреблении терминов. Осмос —
процесс одностороннего проникновения жидкости через пористое
тело. Эндосмос — смешение жидкостей посредством оболочек,
пропускающих хотя бы одну из них.
72 «Здесь Родос, здесь и прыгай» [лат.) — цитата их басни Эзопа
«Хвастливый пятиборец».
73 Ключевой пункт (лат.).
74 Перечисляются герои старых испанских романсов и раёшного
представления маэсе Педро.
75 Речь идёт об идее абсолютного детерминизма в механической
картине мира, в основе которой nuova scienza (новая наука)
Галилея.
76 Co-возможное (лат); в метафизике Лейбница — возможное
наряду с другим, в отличие от возможного самого по себе.
77 Ортега использует здесь термин, обычно применяемый к
реалистическому искусству Италии в конце XIX в. — романам Дж. Верги,
операм Пуччини и др.
78 Меня самого, моё «я» (лат).
79 Бриарей (греч. Могучий) — прозвище сторукого исполина в
древнегреческой мифологии.
80 Параклет или Параклит — в христианстве фигура помощника
и утешителя, в евангелиях это Святой Дух, ипостась Святой Троицы.
81 Из ничего (лат).
82 Литератор, писатель (фр).
83 «Стойкий принц» (1629) — пьеса Кальдерона.
84 Путаница (лат).
85 Франсуа-Жозеф Тальма (1763-1826) — французский актёр-трагик.
86 Сила комического, комическое начало (лат).
87 Алонсо Фернандес де Авельянеда — под этим псевдонимом
в 1614 г. был опубликован подложный второй том «Дон Кихота».
ПРИМЕЧАНИЯ
189
88 «Галатея» (1585) — первый роман Сервантеса, по жанру —
пастораль.
89 «Селестина» («Трагикомедия о Калисто и Мелибее») — испанская
драматизированная повесть, вышедшая без имени автора в 1499 г.
и приписываемая Фернандо де Рохасу (1473/1476-1541),
пользовалась огромной популярностью.
90 Сократ «вынудил (собеседников) признать... что искусный
трагический поэт является также и поэтом комическим». — Платон.
Пир. 223 в-д.
91 «Я нахожу свои истоки в книге, которую знал наизусть ещё до того,
как научился читать, — в "Дон-Кихоте"» {φρ.).
92 «Я всё больше склоняюсь к критике: роман, который я сейчас
пишу, обостряет эту способность, поскольку это вещь
критическая или даже скорее анатомическая» (φρ.).
93 «Ах, нынешнему обществу недостаёт не Христа, Вашингтона,
Сократа или Вольтера — ему не хватает Аристофана» {φρ.).
94 «Вот труд, по сути, совершенно фарсовый; чтобы в этом убедиться,
достаточно прочитать введение, где он вкратце изложен. Тот, кто
решил бы создать на социальные теории театральный шарж во
вкусе Аристофана, найдёт тут целые Калифорнии потешного» {фр).
95 «Считают, будто я влюблён в реальность, тогда как меня от неё
тошнит; я взялся за этот роман именно из ненависти к реализму» {φρ.).
96 Клод Бернар (1813-1878) — французский медик. В своём эссе
«Экспериментальный роман» (1880) Золя опирался на труд Бер-
нара «Введение в изучение экспериментальной медицины».
В России с подходом Бернара, чьи труды активно переводились
с 1860-х гг., резко полемизировал Достоевский и его герои.
97 Истина {лот.).
98 Пер-Лашез — кладбище в Париже.
99 Главные герои незаконченного последнего романа Г. Флобера.
Указатель имён
А
Асорин (1873-1967) 11,26,39,
41
Б
Бальзак Оноре де (1799-1850)
123
Барох (Бароха-и-Несси) Пио
(1872-1956) 10,39,43,44,73
Бергсон Анри (1859-1941 ) 174
Бернар Клод (1813-1878) 181
Бруно Джордано (1548-1600)
39,84
В
Валера Хуан (1824-1905) 72
ВегаЛопеде (1562-1635) 43
Вико Джамбаттиста (1668-1744)
85
Викхофф Франц (1853-1909)
86
Г
Галилей Галилео (1564-1642)
81,126,153
Геббель (Хеббель) Кристиан
Фридрих (1813-1863) 112
Гегель Георг Вильгельм Фридрих
(1770-1831)30,84,98
Гёте Иоганн Вольфганг (1749-
1832) 33,39,43,81,85,
88-90,107
Гераклит Эфесский (конец VI —
нач.Vв. до н.э.) 39
Гомер (VIII в. до н.э.) 130-135,
137,138,141,145,163,178,
181
ГотьеТеофиль(1811-1872) 91
Гуссерль Эдмунд (1859-1938)
11
д
Дарвин Чарльз Роберт (1809-
1882) 168,178,181
Декарт Рене (1596-1650) 11,81,
84,89,127
Диккенс Чарльз (1812-1870)
123,180
Доде Альфонс (1840-1897) 179
Донателло (1386-1446) 81
Достоевский Фёдор (1821-1881)
123
3
Золя Эмиль (1840-1902) 181
К
Казобон Исаак де (1559-1614)
29
Кампос Перес Рамон
(1755/1760-1808) 26
Кановас дель Кастильо Антонио
(1828-1897)70,71
Кант Иммануил (1724-1804) 11,
35,41,81,84,89
УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН
191
Коген Герман (1842-1918) 9,
11,51
КонтОгюст (1798-1857) 180
Кордова Гонсало Фернандес де
(1453-1515)71
Корнель Пьер (1606-1684) 172
Л
Ларра Мариано Хосе де
(1809-1837) 43
Лейбниц Готфрид Вильгельм
(1646-1716) 81,84,153
Леон Луис де (1528-1591) 46
Леонардо да Винчи (1452-1519)
158
M
Мариас Хулиан (1914-2005) 9,
10
Мачадо Антонио (1875-1939)
9,11
Маэсту Рамиро де (1874-1936)
11,15
Мендос Антонио Уртадо де
(1586-1644) 71
Менендес-и-Пелайо Марселино
(1856-1912) 72,75,76
Микеланджело Буонарроти
(1475-1564) 81,160
Моисей (XV-XUI вв. до н. э.) 39
Мопассан Ги де (1850-1893)
179
Муртола Гаспаре (ок. 1570-1624)
24
H
Наполеон 1(1769-1821) 174
Нарваэс Рамон Мария (1800-
1868) 70
Наторп Пауль (1854-1924) 9
Ницше Фридрих (1844-1900) 25,
72,97
Нуньес де Арсе Гаспар (1834-
1903) 72
Ньютон Исаак (1643-1727) 35
Π
Парри Уильям Эдвард (1790-
1855) 115
Паситель (I в. до н. э.) 90,91
Переда Хосе Мария де (1833-
1906) 71
Платон (427-347 до н. э.) 23, 24,
38,47,67,81,96,97,100,108,
131,152,158,162,177
Ρ
Расин Жан Батист (1639-1699)
172
Рафаэль 160
Риего Рафаэль дель (1784-1823)
70
Руссо Жан-Жак (1712-1778) 39,
81
С
Сент-Бёв Шарль-Огюстен де
(1804-1869) 43
Сервантес Мигель де (1547-
1616)46-48,73,78,88,114,
118,119,126-129,150-154,
160,161,163
Спиноза Бенедикт (1632-1677)
19,92
Сократ (469-399 до н. э.) 175,
177,178
Τ
Тальма Франсуа-Жозеф (1763-
1826) 172
192
УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН
У
Унамуно Мигель де (1864-1936)
11
Φ
ФабрЖанАнри (1823-1915) 39
Флобер Гюстав (1821-1880) 28,
88,123,124,138,178-181
Филипп II (1527-1598) 71
Ц
Цицерон Марк Туллий
(106-43 до н.э.) 128
Ч
Чемберлен Хьюстон Стюарт
(1855-1927) 84
Ш
Шекспир Уильям (1564-1616) 41,
112,114,169,181
Шлейермахер Фридрих (1768-
1834) 73
э
Эмерсон Рал φ Уолдо (1803-1882)
89
Эсхил (525-456 до н. э.) 81,169
Эчегарай-и-Эйсагирре Хосе
(1832-1916) 71
ю
ЮстЛипсий (1547-1606) 29
Юэ Пьер Даниэль (1630-1721)
29
Я
Якоби Фридрих Генрих (1743-
1819) 39
Список иллюстраций
С. 21. Рембрандт Харменс ван Рейн. Читающий философ.
1631. Стокгольм. Национальный музей.
С. 45. Оноре Домье. Дон Кихот. Ок. 1868. Мюнхен.
Новая пинакотека.
С. 54. Камиль Коро. Перевозчик. Ок. 1865. Нью-Йорк.
Метрополитен-музей.
С. 60. Питер Клас. Натюрморт с оловянным кувшином,
ломтиком лосося, хлебом, оливками в фарфоровой миске.
1650. Частное собрание.
С. 65. Камиль Коро. Нимфы и сатиры приветствуют пляской
восход солнца. 1851. Лувр.
С. 68. Франсиско Сурбаран. Натюрморт с лимоном,
апельсином и розой. 1633. Пасадена (Калифорния).
Музей Нортона Саймона.
С. 93. Диего Веласкес. Водонос. Ок. 1622. Лондон.
Музей Веллингтона.
С. 103. Франсиско Гойя. Разносчица воды. Ок. 1810. Будапешт.
Музей изобразительных искусств.
С. 113. Первое издание «Дон Кихота». Мадрид, 1605.1 том.
С. 143. Титульный лист французского издания «Дон Кихота». Париж,
1873.
С. 146. Поль Гаварни. Лист № 1 из серии «Уроки и советы».
Ок.1839.
С. 167. Бартоломе Эстебан Мурильо. Две девушки у окна.
Ок.1670. Вашингтон. Национальная галерея искусства.