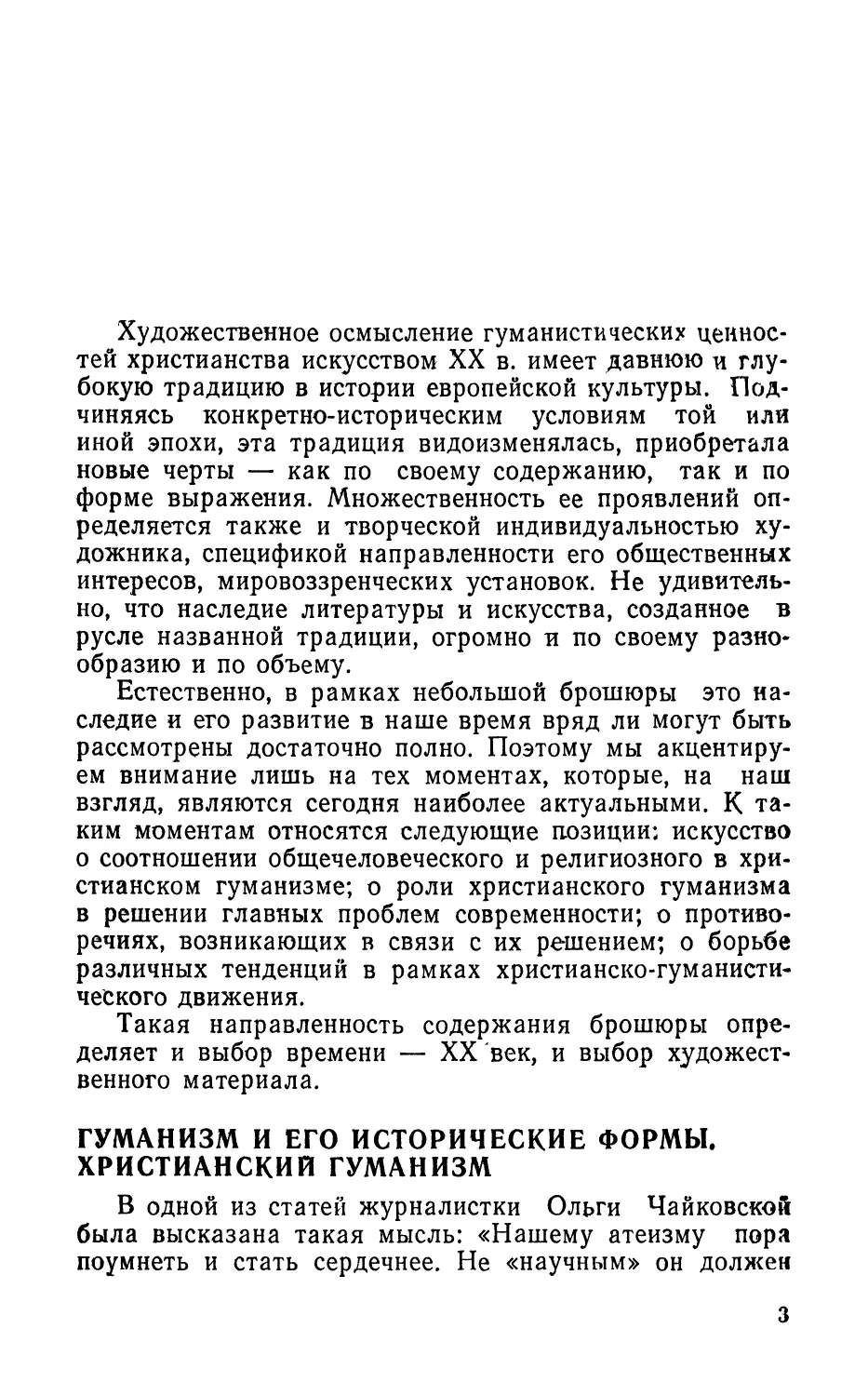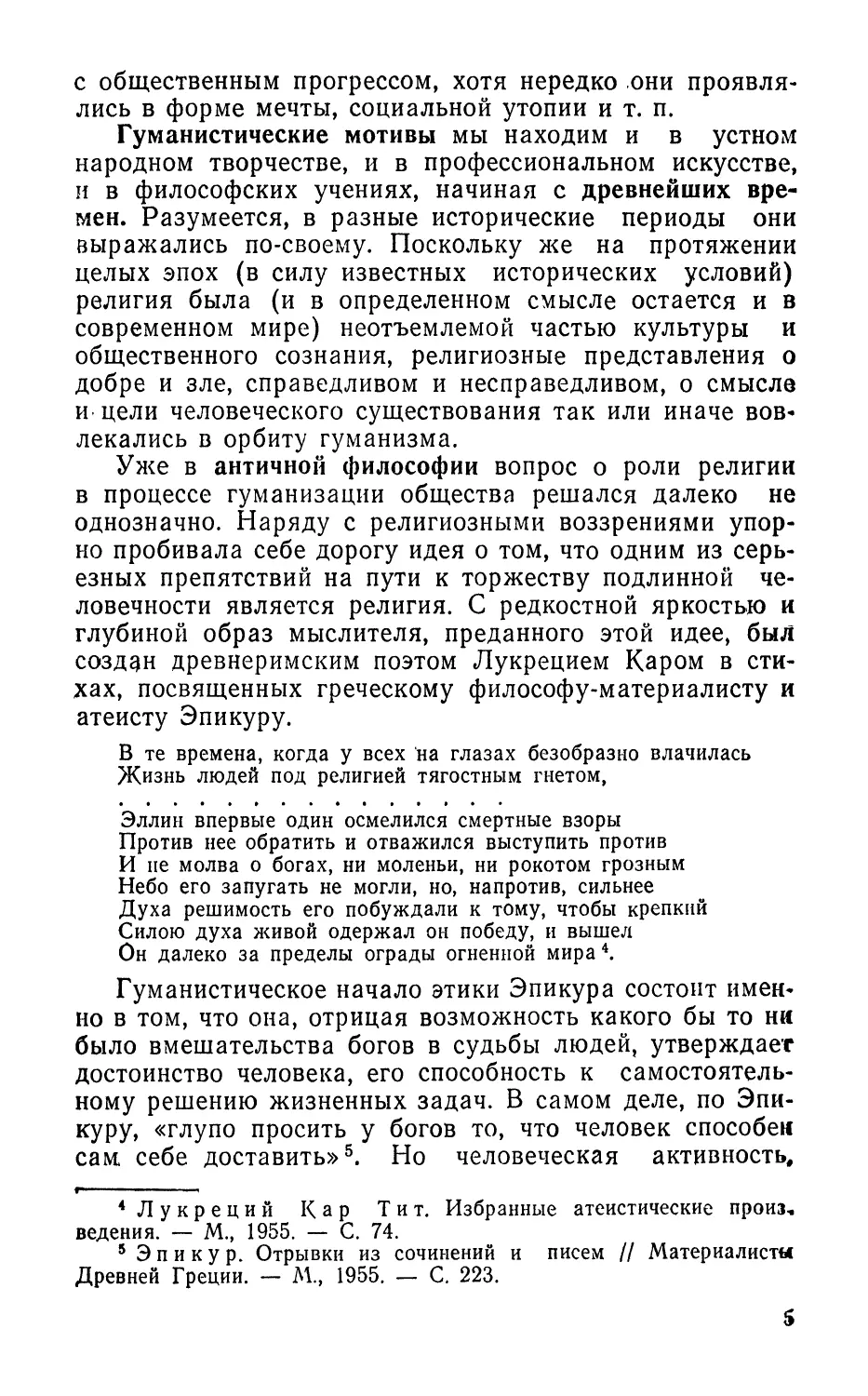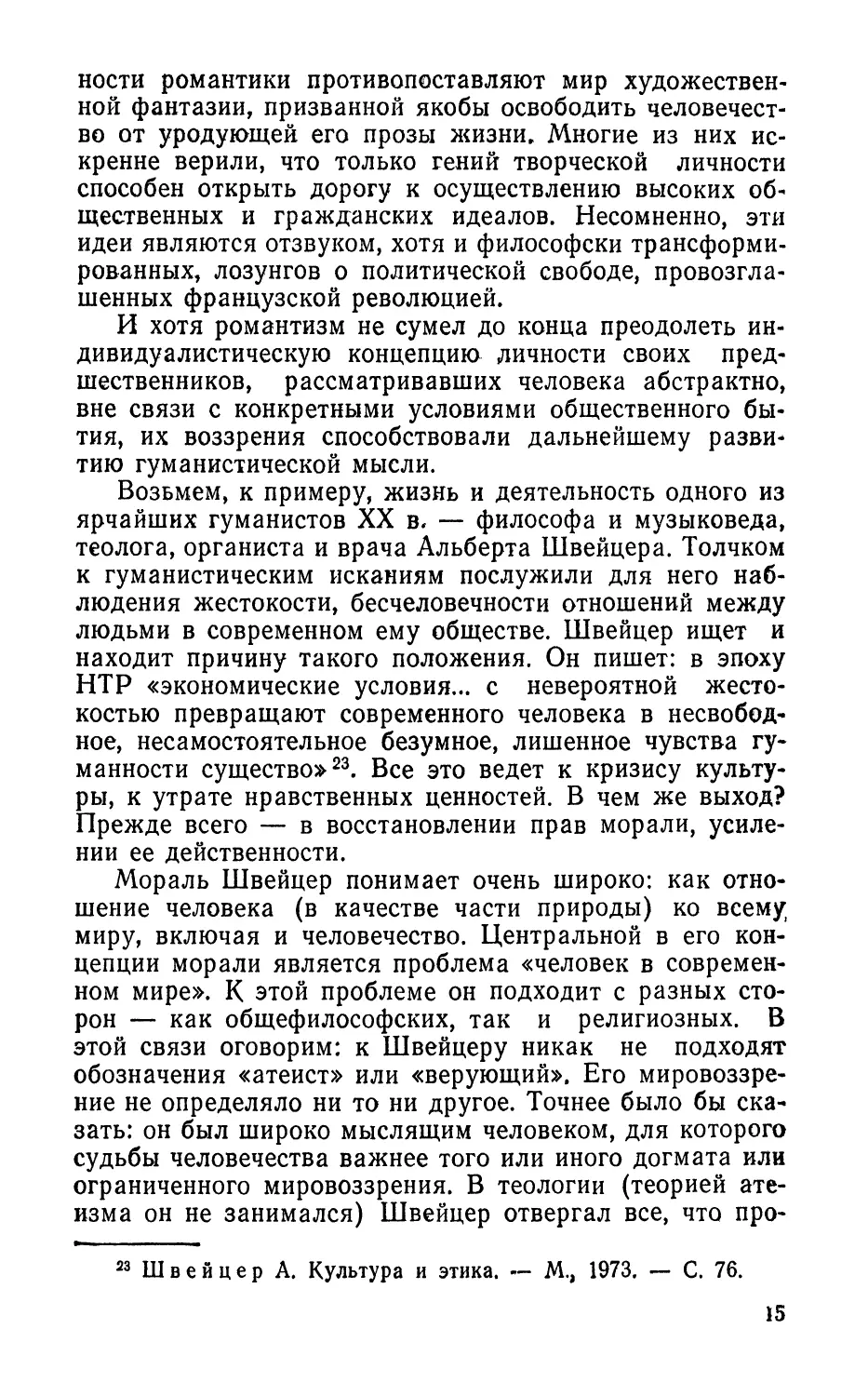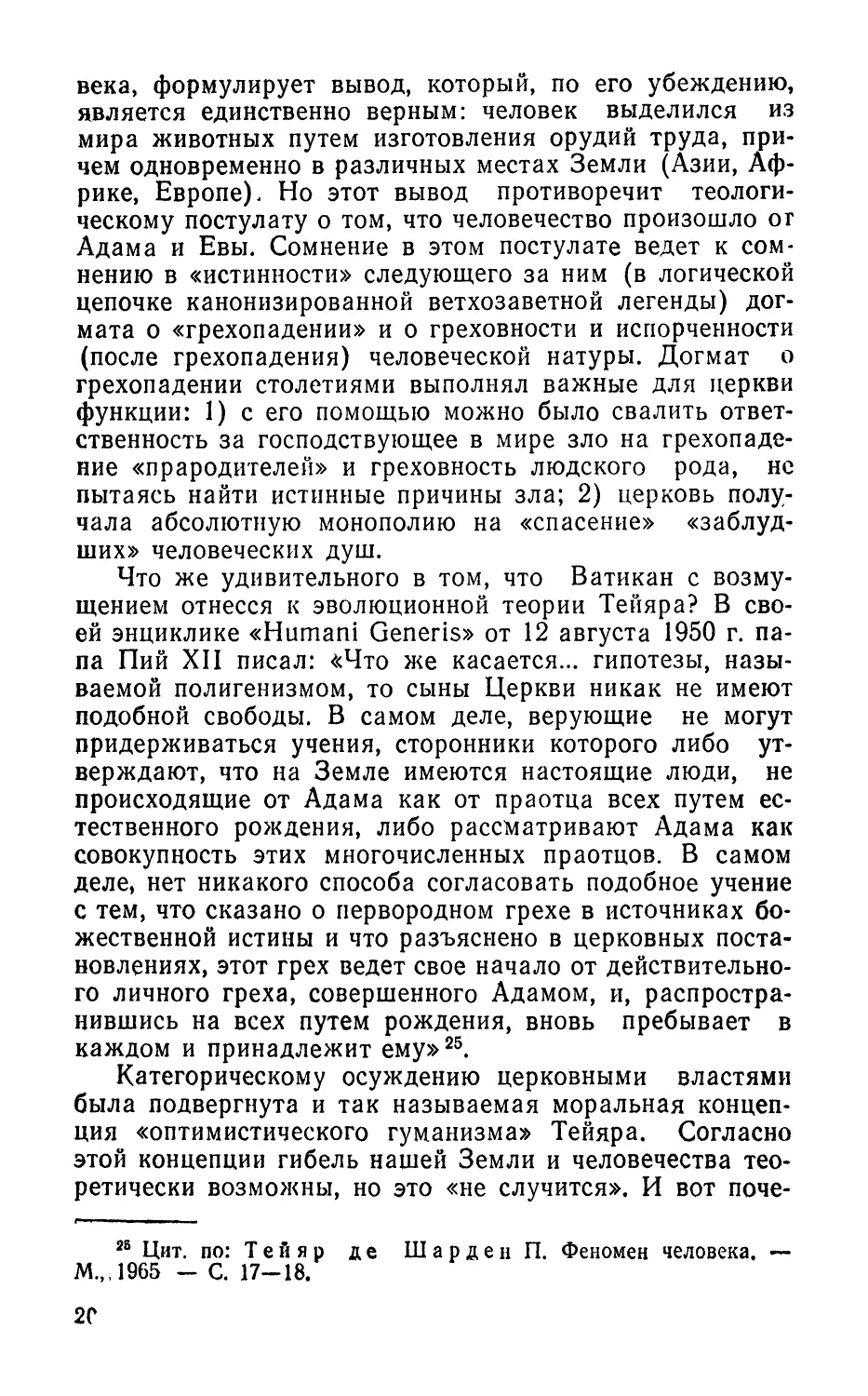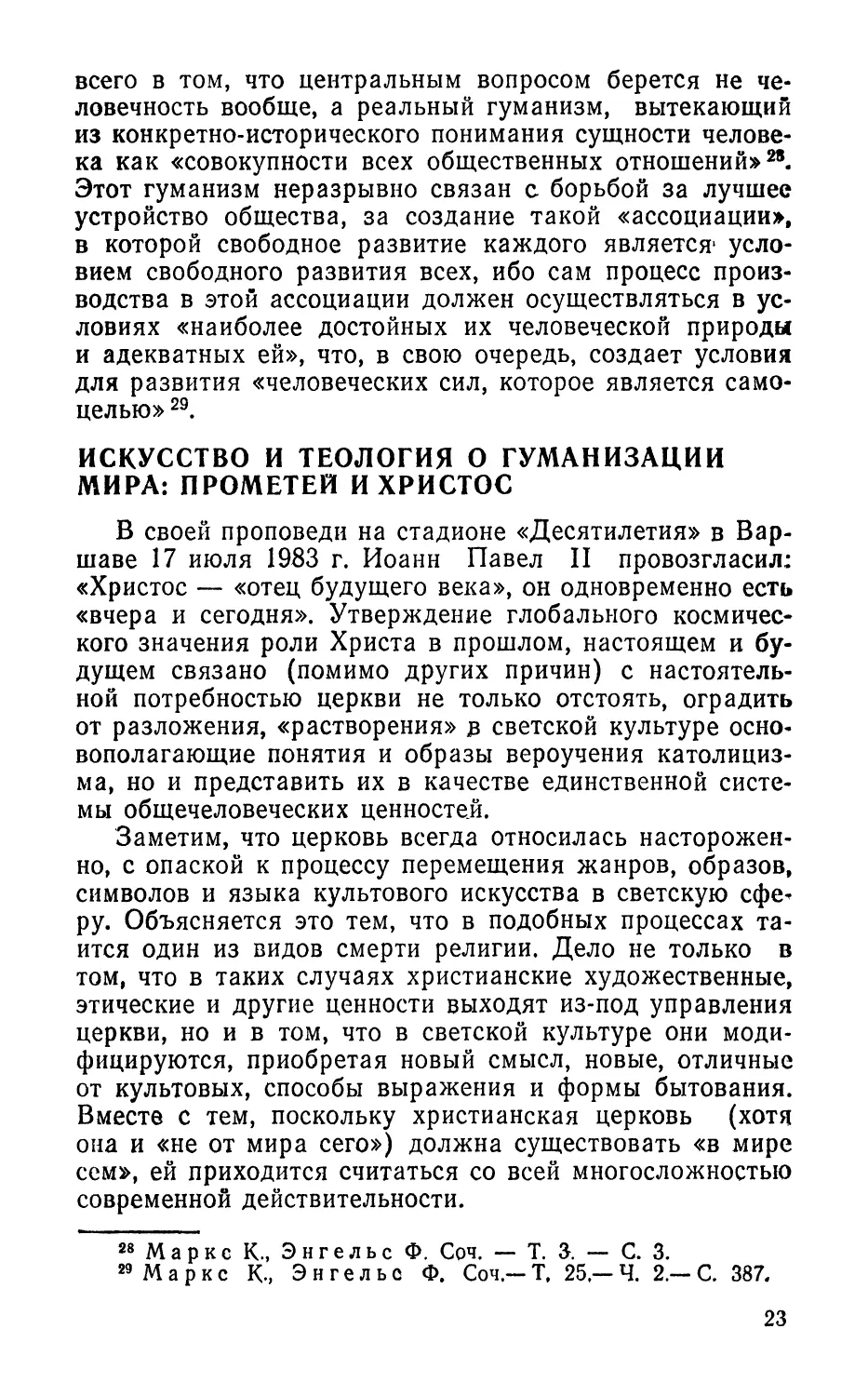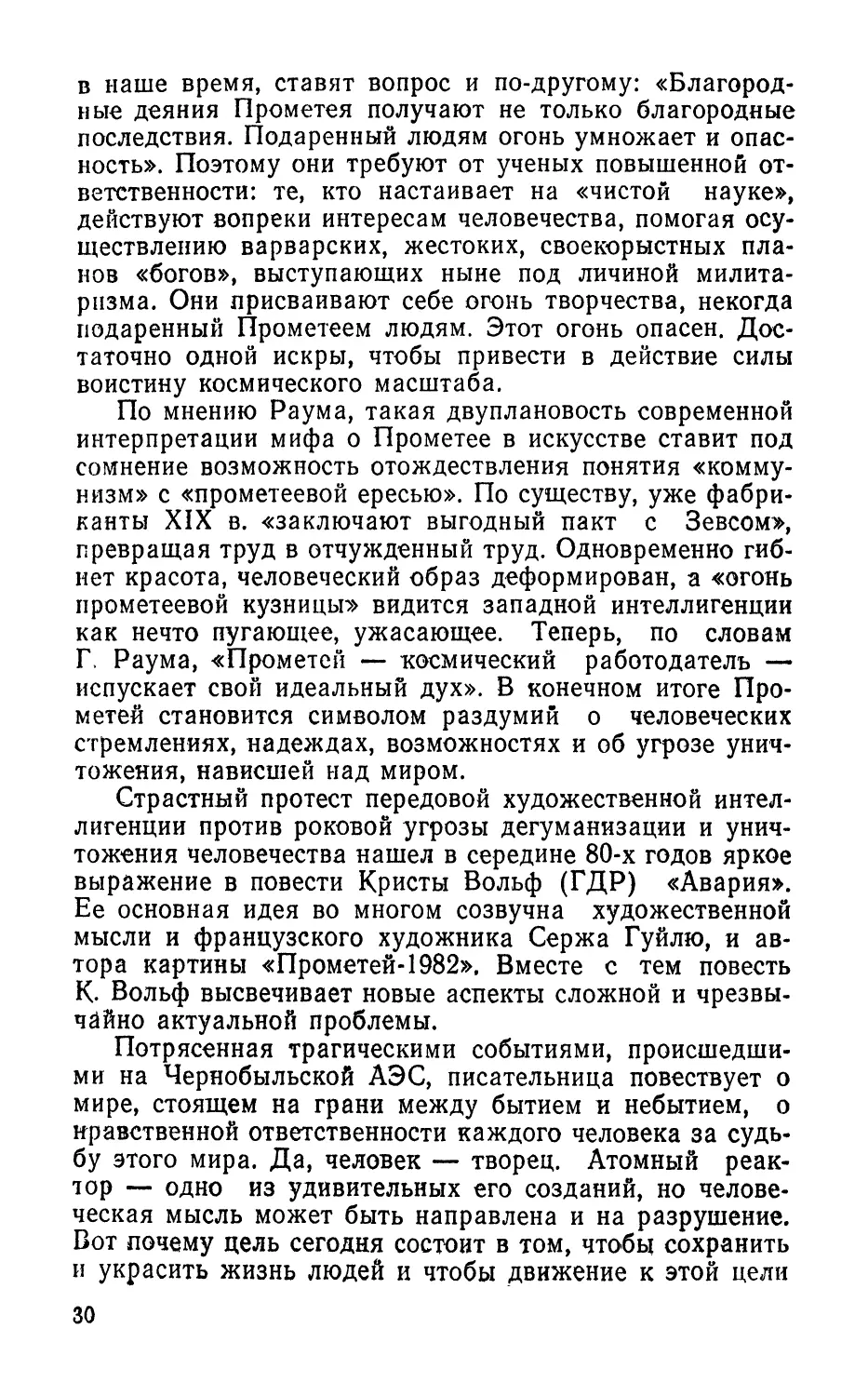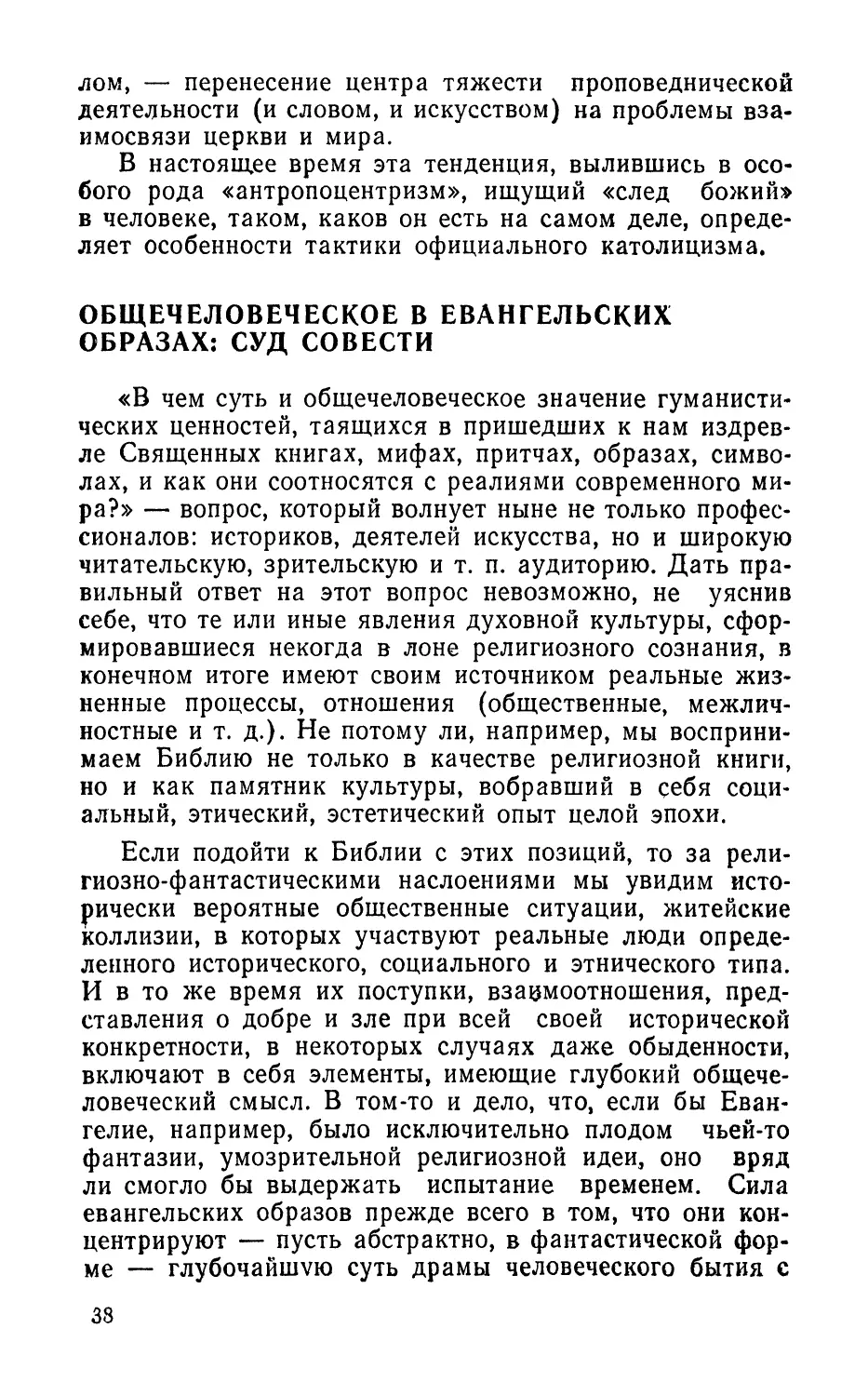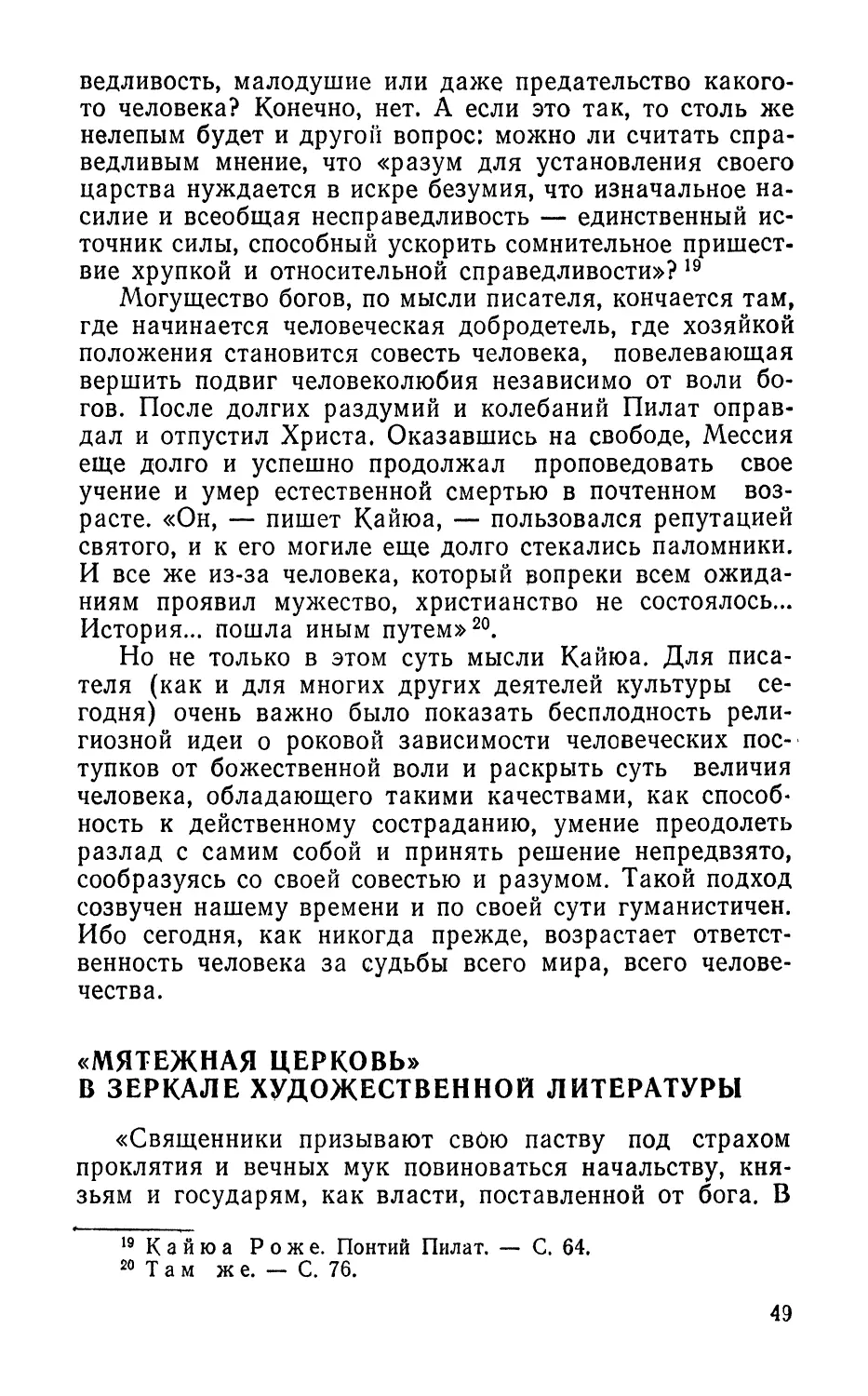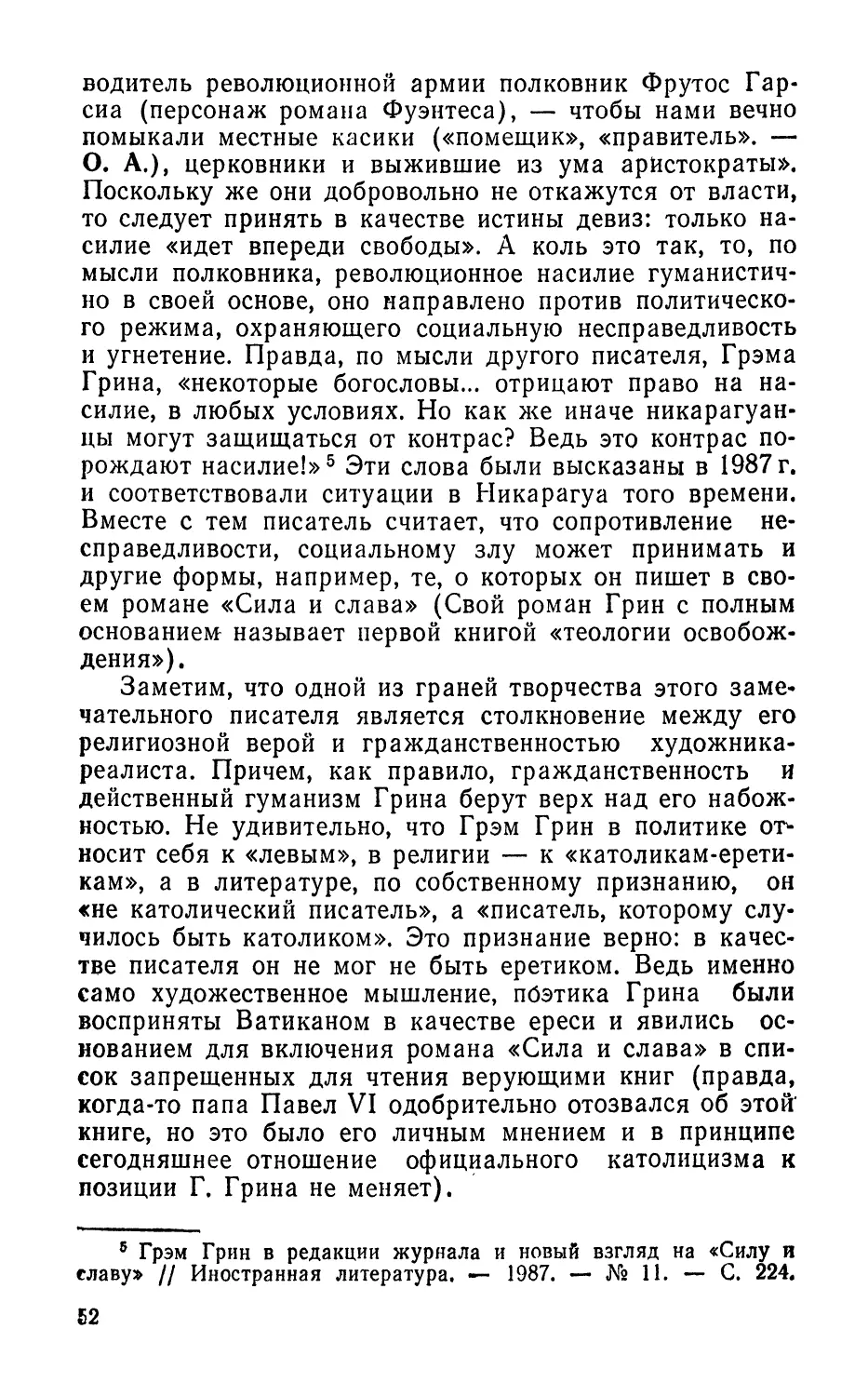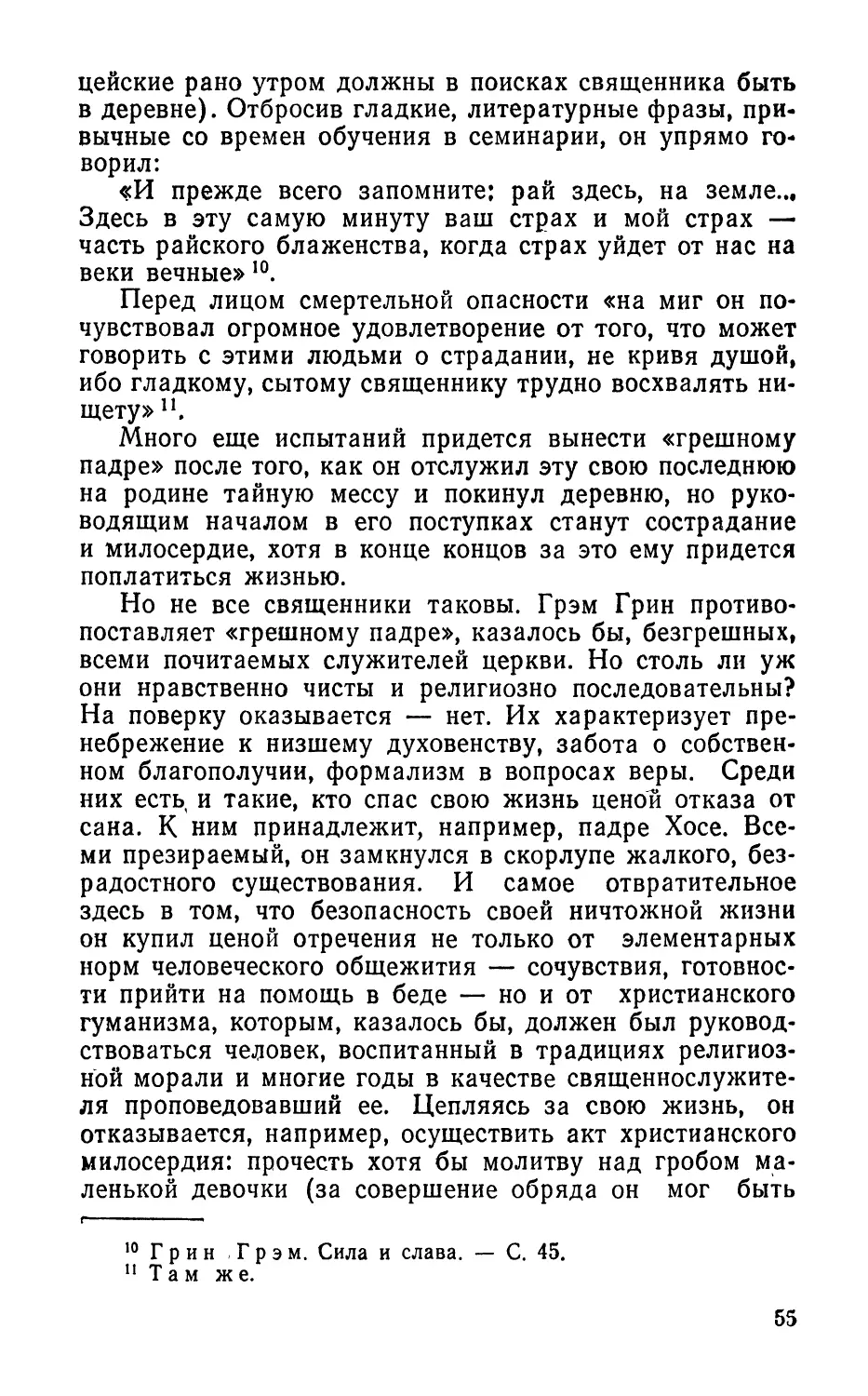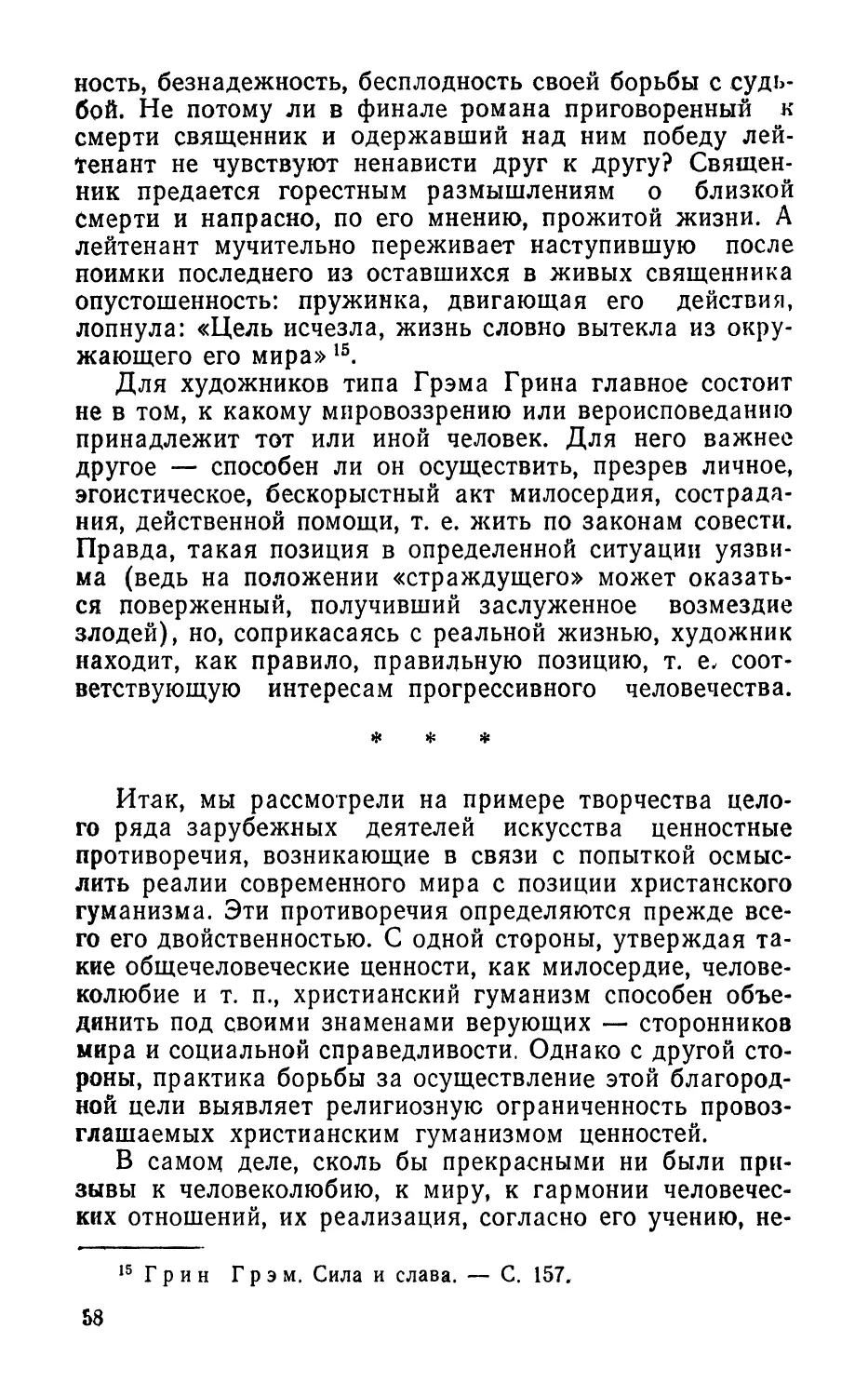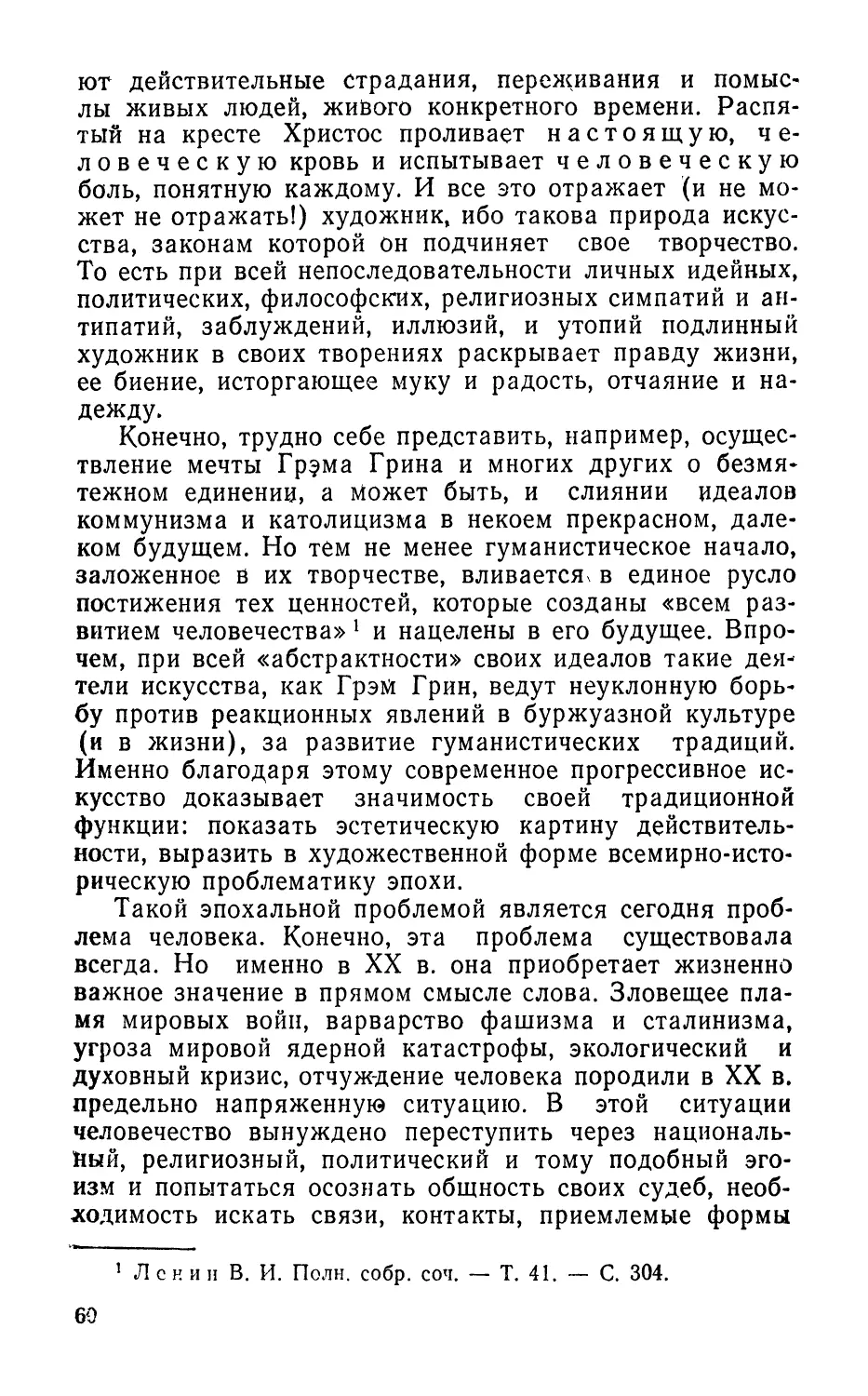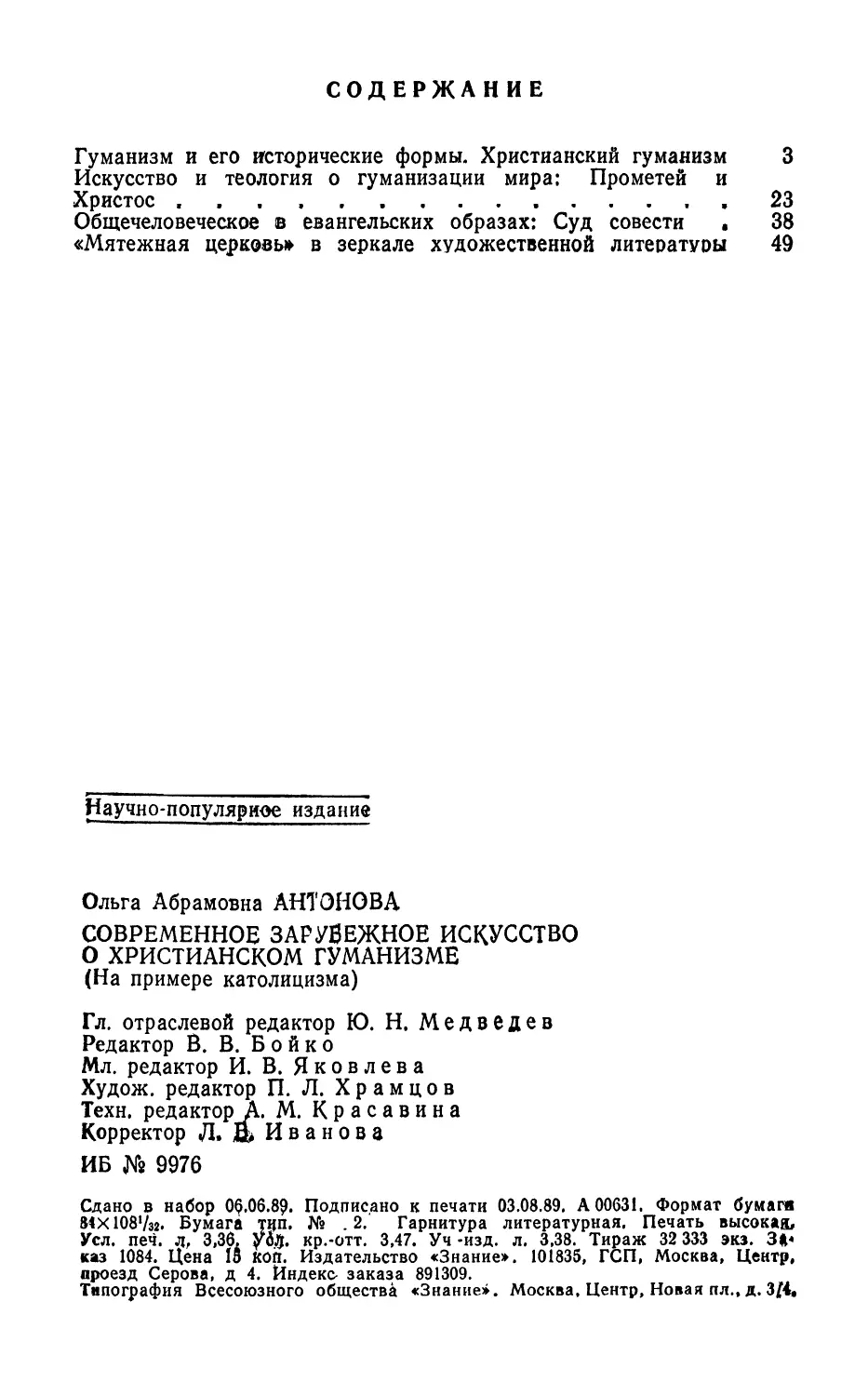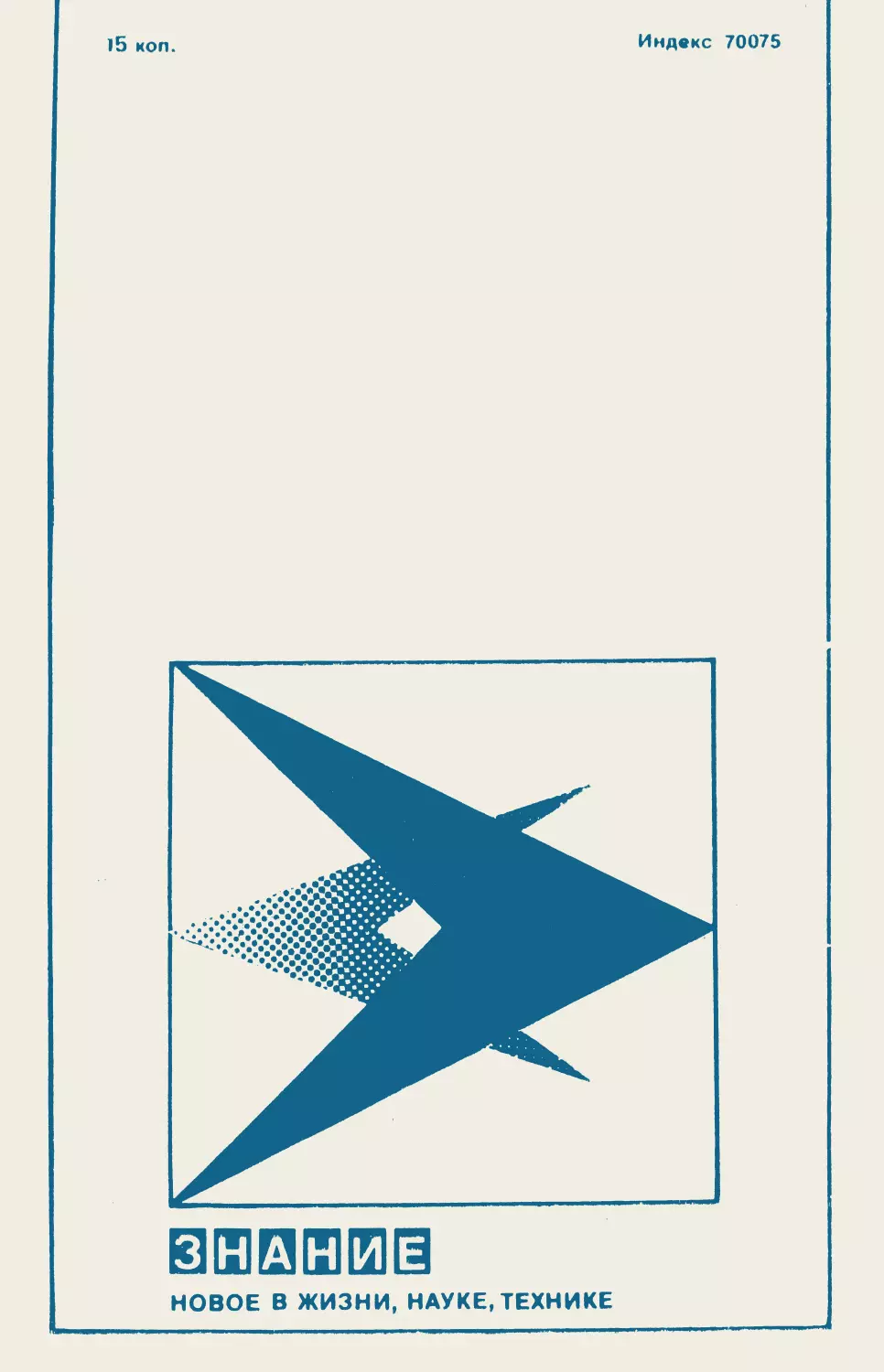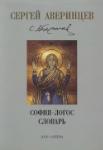Автор: Антонова О.А.
Теги: религиоведение религия искусство христианство гуманизм
ISBN: 5-07-000216-3
Год: 1989
Текст
НАУЧНЫЙ
О.А.Антонова
СОВРЕМЕННОЕ
ЗАРУБЕЖНОЕ
ИСКУССТВО
О ХРИСТИАНСКОМ
ГУМАНИЗМЕ
ВШИИИВ
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ
НОВОЕ В -ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ
ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
НАУЧНЫЙ АТЕИЗМ
9/1989
Издается ежемесячно с 1964 г.
О. А. Антонова,
доктор философских наук
СОВРЕМЕННОЕ
ЗАРУБЕЖНОЕ
ИСКУССТВО
О ХРИСТИАНСКОМ
ГУМАНИЗМЕ
(НА ПРИМЕРЕ КАТОЛИЦИЗМА)
Издательство «Знание» Москва 1989
ББК86.1
А 72
Автор: АНТОНОВА Ольга Абрамовна, доктор философских
наук, профессор Государственного
музыкально-педагогического института им. Гнесиных, является автором книг
«Музыкальное искусство и религия», «Католицизм и искусство. XX век».
Редактор: В. В. БОЙКО.
Антонова О. А.
А 72 Современное зарубежное искусство о
христианском гуманизме (На примере католицизма). — М:
Знание, 1989. — 64 с. — (Новое в жизни, науке,
технике. Сер. «Научный атеизм»; № 9).
ISBN 5-07-000216-3
15 к.
Эта брошюра — отклик на обострившийся в последние годы в
самых разных кругах нашего общества интерес к христианскому
гуманизму. Это явление автор рассматривает, обращаясь к тем
произведениям современной зарубежной литературы и искусства, в
которых делается попытка художественного осмысления таких
вопросов, как соотношение общечеловеческого и религиозного в
христианском гуманизме; роль христианского гуманизма в решении
глобальных проблем современности; борьба различных тенденций в рамках
христианско-гуманистических движений»
0402000000 ББК 86.1
ISBN 5-07-000216-3 fg) Издательство «Знание», 1989 г.
Художественное осмысление гуманистических
ценностей христианства искусством XX в. имеет давнюю и
глубокую традицию в истории европейской культуры.
Подчиняясь конкретно-историческим условиям той или
иной эпохи, эта традиция видоизменялась, приобретала
новые черты — как по своему содержанию, так и по
форме выражения. Множественность ее проявлений
определяется также и творческой индивидуальностью
художника, спецификой направленности его общественных
интересов, мировоззренческих установок. Не
удивительно, что наследие литературы и искусства, созданное в
русле названной традиции, огромно и по своему
разнообразию и по объему.
Естественно, в рамках небольшой брошюры это
наследие и его развитие в наше время вряд ли могут быть
рассмотрены достаточно полно. Поэтому мы
акцентируем внимание лишь на тех моментах, которые, на наш
взгляд, являются сегодня наиболее актуальными. К
таким моментам относятся следующие позиции; искусство
о соотношении общечеловеческого и религиозного в
христианском гуманизме; о роли христианского гуманизма
в решении главных проблем современности; о
противоречиях, возникающих в связи с их решением; о борьбе
различных тенденций в рамках христианско-гуманисти-
ческого движения.
Такая направленность содержания брошюры
определяет и выбор времени — XX'век, и выбор
художественного материала.
ГУМАНИЗМ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ.
ХРИСТИАНСКИЙ ГУМАНИЗМ
В одной из статей журналистки Ольги Чайковской
была высказана такая мысль: «Нашему атеизму пора
поумнеть и стать сердечнее. Не «научным» он должен
3
быть, а нравственным, основанным на гуманизме,
кстати, когда гуманизм обзывают абстрактным, я не
понимаю, о чем идет речь: гуманизм, он работник, и стало
быть, всегда конкретен, иначе он уже не гуманизм» *.
Очевидно, что это суждение высказано в пылу
полемического задора и по своей сути выражает протест
против вульгаризации атеизма. Но хлесткая фраза: «Не
«научным» он (атеизм) должен быть, а нравственным,
основанным на гуманизме» — содержит
противопоставление, с которым нельзя согласиться. Научность
атеизма не противоречит его нравственному содержанию
(кстати, ни атеизм, ни гуманизм, ни нравственность не
могут быть поняты на современном уровне без
научного исследования и объяснения).
Ольга Чайковская права, когда говорит, что
гуманизм всегда конкретен. Но это лишь одна сторона
вопроса. Нельзя не учитывать и то, что гуманизм
существует не только как конкретное действие, но еще и как
понятие, идеал, исторически меняющиеся. Причем даже
в одну и ту же эпоху могут существовать его различные
проявления, скажем, в наше время такие, как —
гуманизм атеистический и гуманизм христианский. В чем же
то общее, что позволяет обозначать эти разные явления
одним и тем же понятием «гуманизм»? В чем суть
гуманизма?2
Философский энциклопедический словарь отвечает
на этот вопрос следующим образом: «В широком
смысле — исторически меняющаяся система воззрений,
признающая ценность человека как личности, его право на
свободу, счастье, развитие и проявление своих
способностей, считающая благо человека критерием оценки
социальных институтов, а принципы равенства,
справедливости, человечности желаемой нормой отношений
между людьми»3. Идеи гуманизма неразрывно связаны
1 Чайковская Ольга. Сны левого полушария (Под
рубрикой: ценности истинные и мнимые) // Советская культура.—
1987. — 9 сентября.
2 О гуманизме и его исторических формах говорится во многих
исследованиях. Учитывая наличие специальной литературы о
гуманизме, автор не дает подробного изложения его истории.
Обозначение сути и основных этапов истории гуманистической мысли в
данной брошюре служит лишь введением в проблематику
названной темы.
3 Философский энциклопедический словарь. — М., 1983. —
С. ШО;
4
с общественным прогрессом, хотя нередко они
проявлялись в форме мечты, социальной утопии и т. п.
Гуманистические мотивы мы находим и в устном
народном творчестве, и в профессиональном искусстве,
и в философских учениях, начиная с древнейших
времен. Разумеется, в разные исторические периоды они
выражались по-своему. Поскольку же на протяжении
целых эпох (в силу известных исторических условий)
религия была (и в определенном смысле остается и в
современном мире) неотъемлемой частью культуры и
общественного сознания, религиозные представления о
добре и зле, справедливом и несправедливом, о смысле
и цели человеческого существования так или иначе
вовлекались в орбиту гуманизма.
Уже в античной философии вопрос о роли религии
в процессе гуманизации общества решался далеко не
однозначно. Наряду с религиозными воззрениями
упорно пробивала себе дорогу идея о том, что одним из
серьезных препятствий на пути к торжеству подлинной
человечности является религия. С редкостной яркостью и
глубиной образ мыслителя, преданного этой идее, был
создан древнеримским поэтом Лукрецием Каром в
стихах, посвященных греческому философу-материалисту и
атеисту Эпикуру.
В те времена, когда у всех на глазах безобразно влачилась
Жизнь людей под религией тягостным гнетом,
Эллин впервые один осмелился смертные взоры
Против нее обратить и отважился выступить против
И не молва о богах, ни моленьи, ни рокотом грозным
Небо его запугать не могли, но, напротив, сильнее
Духа решимость его побуждали к тому, чтобы крепкий
Силою духа живой одержал он победу, и вышел
Он далеко за пределы ограды огненной мира4.
Гуманистическое начало этики Эпикура состоит
именно в том, что она, отрицая возможность какого бы то ни
было вмешательства богов в судьбы людей, утверждает
достоинство человека, его способность к
самостоятельному решению жизненных задач. В самом деле, по
Эпикуру, «глупо просить у богов то, что человек способен
сам себе доставить»5. Но человеческая активность,
4Лукреций Кар Тит. Избранные атеистические
произведения. — М., 1955. — С. 74.
5 Эпикур. Отрывки из сочинений и писем // Материалисты
Древней Греции. — М., 1955. — С. 223.
$
стремление к счастью опутаны предрассудками,
ложными взглядами о божественном предопределении, что
влечет за собой величайшее из зол — страх перед богами
и перед смертью. На самом деле у Эпикура боги «не
таковы, какими представляет их толпа»6. Они пребывают
где-то между мирами, погрузившись в спокойствие,
отрешенное от всего земного самонаслаждение. Вполне
возможно, что боги даже и не подозревают о сущест?
вовании Земли и ее обитателей. Поэтому обращение с
молитвой к ним, надежда или страх перед ними —
бессмысленны. Не имеет разумного основания и страх
перед смертью, «ибо то, что разложилось, не чувствует, а
то, что не чувствует, не имеет никакого отношения к
нам»7 (живым). Свободный же от страха перед богами
и перед смертью человек соотносит свою жизнь с
велениями разума. Ему доступно мудрое наслаждение
земными радостями и в то же время
благоразумие—величайшая из добродетелей, так как оно учит: «Нельзя жить
приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо»8.
Таковы особенности этики Эпикура. Конечно, его
воззрения непоследовательны и ограничены временем: им
присущ и индивидуализм, и созерцательность, но Эпикур
искал пути рационального решения проблемы
человеческого счастья, он «был подлинным радикальным
просветителем древности»9.
В дальнейшем вместе с победой феодальных
отношений и установлением господства христианства этические
воззрения Эпикура и Лукреция Кара надолго были вы*
теснены из общественного сознания. Но это не означав
ло абсолютного торжества нравственных принципов
пришедшей к власти христианской церкви. Дело в том, что
христианство и связанные с ним представления о чело*
веке и человеческих отношениях — явления очень слол^
ные, внутренне противоречивые. Начнем с того, что
христианство формировалось в условиях кризиса древнего
мира в среде самой обездоленной, самой униженной час-
в Эпикур приветствует Менекея // Материалисты Древней Гре«
ции. — С. 209.
1 Эпикур. Главные мысли // Материалисты Древней
Греции. — С. 74.
* Там же.—С. 212.
9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. —- 2-е изд. — Т. 3. —
С. 127,
6
ти человечества — рабов. Жестокости этого мира оно
противопоставило идеал гуманного отношения людей
друг к другу; угнетению — равенство перед богом.
Конечно, идеалы ранних христиан утопичны, но их
страстное стремление сделать всех людей равными, глубокий
интерес к внутреннему миру человека, милосердие и
сострадание к страждущим сохраняют свою
притягательность на протяжении многих столетий.
Вместе с тем абстрактность, ориентация на
божественное провидение и практическая неосуществимость
гуманистических идеалов ранних христиан в условиях
феодального средневековья позволили светским и
клерикальным властям скорректировать и подчинить эти
идеалы своекорыстным политическим и классовым
задачам. Однако это подчинение никогда не было полным.
Гуманистические идеи ранних христиан продолжили свое
существование и развитие и в еретических, и
протестантских движениях средневековья, и в грандиозных
крестьянских войнах. Причем раннехристианская гуманисти*
ческая традиция модифицируется в соответствии с
новыми условиями классовой борьбы, с новыми идеалами*
В некоторых случаях гуманистические идеи выходят за
рамки христианских представлений, приобретая новое
звучание.
Ярчайший тому пример дает философско-нравствен-
ная и политическая доктрина вождя крестьянской
войны в Германии Томаса Мюнцера, направленная «против
всех основных догматов не только католицизма, но и
христианства вообще». «В христианской форме он
проповедовал пантеизм... местами соприкасающийся... с
атеизмом» 10. Существенно, что «подобно тому, как
религиозная философия Мюнцера приближалась к атеизму, его
политическая программа была близка к
коммунизму...» п.
Гуманизм идей Мюнцера состоит прежде всего в его
стремлении восстановить в правах разум и, освободив
его от ложных взглядов, превратить в орудие борьбы за
человеческое счастье. Логика рассуждений Мюнцера по
этому поводу состоит в следующем Разум — это
свойство самого человека, хотя разум тождествен святому
духу (святой дух — это и есть наш разум). Вера же —
i
10 М а р к с К., Э и г е л ь с Ф. Соч. — Т. 7. — С. 370.
J1 Там же. — С. 371.
7
это свойство разума, или точнее — пробудившийся
разум. А коль скоро это так, то человек с помощью
разума и веры уподобляется божеству: в его силах установить
царство божье на земле. Примечательно, что под
«царством божьим» Мюнцер, по сути, подразумевает
свободный от классовых различий, частной собственности,
деспотической системы государственной власти
общественный строй. Имеет в данном случае значение и то, что в
отличие от раннехристианского гуманизм Мюнцера
действен: не ожидание Мессии, а активная сознательная
борьба с оружием в руках против королей, князей —
светских и церковных — и прочих тиранов, во имя
освобождения и «возвышения» обездоленных и
угнетенных.
Как целостная система взглядов гуманизм впервые
возникает в эпоху Возрождения. По своей структуре эта
система является своеобразным сочетанием по-новому
осмысленного христианского мировоззрения с морально-
философскими идеями античности. Начиная с Франческо
Петрарки, гуманисты решительно отвергали
«схоластическую ученость» как источник невежества, пустых,
препятствующих получению истинного знания иллюзий. Не
менее страстно и решительно они разоблачали нравы
немалой части католического духовенства — его
лицемерие, ханжество, жадность, распущенность.
Философско-нравственные воззрения гуманистов
характеризуют обращенность к человеку. Известно, что
проблема человека является одной из главных и в
христианстве и что, как правило, ее решение было связано с
идеей антропоцентризма, рассматривающего человека в
качестве центра и высшей цели мироздания. Вместе с
тем христианский антропоцентризм, как отмечает
историк философии В. В. Соколов, «в основном должен быть
расценен как ущербно-фантастический... поскольку в
религиозном мировоззрении принцип антропоцентризма
подчинен принципу теоцентризма». «Хотя бог и творит
мир в принципе ради человека, но человека ущербного,
отягченного грехопадением, обреченного на
беспросветный труд, на аскетическую жизнь» 12.
В противоположность ортодоксальному
христианскому учению антропоцентризм гуманистов во главу угла
12 Соколов В. В, Европейская философия XV—XVII веков,—
М, 1984. — С. 21-22.
8
ставил понятие «обожествления человека, его
максимального сближения с богом на путях творческой
деятельности, запечатленной тогда в стольких произведениях
искусства, до сих пор восхищающих людей» 13.
Другим, еще более существенным, отличием
мировоззрения гуманистов явилось определение достоинства
человека не по религиозному благочестию или по
сословной принадлежности, имущественному положению, а по
ее личностным качествам: порядочности, остроте ума,
таланту, знаниям в области наук и искусств. Ведь, по
мысли итальянского гуманиста Пико делла Мирандоллы,
«на земле нет ничего более великого, кроме человека, —
а в человеке — ничего более великого, чем его ум
(mens) и душа (anima)», и «если возвыситься над ними,
значит, возвыситься над небесами...» н.
В качестве важнейшего положения концепции
гуманистов о высоком предназначении свободной,
многосторонне образованной личности можно принять их идею о
том, что «считающие душу смертной гораздо лучше
защищают добродетель, нежели те, кто полагают ее
бессмертной», «ведь надежда на воздаяние и страх
возмездия приносят в душу нечто рабское, что противоречит
самим основаниям добродетелей» 15.
Возникнув в условиях развития раннебуржуазного
общества середины XIV в., мировоззрение гуманистов
выражало потребность эпохи в формировании и
сознательном самоутверждении нового человека. Но время не
стоит на месте. Если в XIV в. заря великих перемен
только лишь еще занималась и будущее казалось
безоблачно прекрасным, то к концу XVI в. к оптимистическим
интонациям прибавились трагические ноты (они
особенно явственно слышались в искусстве того времени).
Противоречивый характер времени не мог не оказать
влияния на содержание идеалов, провозглашенных
гуманистами. Духу накопительства, эгоизма,
корыстолюбия и авантюризма, которыми была пронизана мораль
рвущейся к экономическому и политическому господству
буржуазии, гуманистическая мысль противопоставляла
нового героя. Это — самоотверженный борец за спра-
13 Соколов В. В. Европейская философия XV—XVII веков,—
С. 24.
14 Т а м ж е. — С. 40.
15 Та м же.— С. 69.
9
ведливость. Он восстает против бедствий, обрушившихся
на человечество, и трагически гибнет в неравной борьбе.
Но его идеал, мечта о гуманных отношениях между
людьми остаются, они живут и прорастают в будущее
Историческое значение воззрений гуманистов в том
и состоит, что они сумели выразить основные тенденции
и противоречия своей эпохи. Отнюдь не случайно
поэтому то влияние, которое оказали эти воззрения на
философские, нравственные и в целом — идейные основы
Реформации. Оно проявилось, во-первых, в том, что в
художественной жизни Германии XVI в. наряду с
религиозно-мистическими образами, навеянными
протестантским учением, появляются бытовые и мифологические —
античные темы, особенно у тех художников, которые
были близки к мятежному мюнцеровскому направлению
(«народно-реформационному»). Во-вторых, весьма
существенно и то, что в противоборстве сил Реформации и
католической контрреформации прокладывали себе
дорогу гуманистические идеи нидерландского философа
Эразма Роттердамского.
Их суть состояла в том, что Эразм противопоставил
мертвой букве ортодоксальной схоластики
гуманистические ценности раннего христианства, в частности
революционно-уравнительные мотивы; обосновал правомерность
стремления человека к совершенствованию своего
разума и нравственного облика: этим стремлением
определяется его благородство, а не богатством или знатностью,
полученными по наследству. Как подлинный гуманист
Эразм считает, что разумное начало в человеке не
может быть абсолютно подчинено божественному фатуму,
В противоположность одному из основополагающих
теологических положений (в частности, выдвинутых и
Лютером) о том, что первородный грех перечеркнул якобы
полностью разум и волю человека, он заявляет: «После
грехопадения прародителей природная свобода была
испорчена, однако не погасла. Осталась искорка
разума, отличающая добродетельное от недобродетельного.
Разумеется, Эразм не был атеистом. Он мыслил
категориями своего времени. В том-то и состоит его величие,
что в эпоху господства религиозного мировоззрения он
выступил как смелый просветитель и дерзко отстаивал
идею, согласно которой человек формируется как
личность лишь благодаря своему собственному труду,
своему творчеству.
10
Следующий шаг в развитии гуманистических идей
был сделан другом и единомышленником Эразма
английским мыслителем и политическим деятелем Томасом
Мором. Глубоко сочувствуя бедствиям народных масс
в Англии (переживавшей в то время период
первоначального накопления капитала), он пытается определить
причины этих бедствий и найти альтернативу сложивше-
муся положению вещей. Решению этих задач посвяще*
но всемирно известное сочинение Мора «Утопия». Хоро*
шо зная современное ему состояние экономической и
политической жизни Англии, Мор пришел к выводу, что
главным легочником социальной несправедливости
является господство частной собственности. Поэтому, по
мысли автора «Утопии», гуманизация общественных
отношений возможна исключительно за счет отмены
частной собственности и создания справедливого
бесклассового общества.
Конечно, в XVI в. сформулированный Мором идеал
человеческого общежития мог существовать лишь как
мечта — прекрасная, но безмерно далекая. Тем не
менее этот идеал представляет собой важную веху в
истории гуманистической мысли. Впитав в себя и идею
всечеловеческого равенства, выдвинутую ранним
христианством* и требования социального равенства, начертанные
на знаменах народно-оппозиционных движений
средневековья, утопия Мора существенно дополняет их. Мор
первый создал модель бесклассового общества, в
котором не только введено равенство потребления
(прокламированного ранним христианством), но и
обобществлены производство и быт. А демократическая организация
общественных отношений в «Утопии» позволяет
осуществить важнейший гуманистический принцип:
«Свободное развитие личности — залог
всеобщего благоденствия».
В целом гуманизм Эразма Роттердамского, Томаса
Мора и их единомышленников, одобрявший все религии
и не придерживавшийся ни одной, провозглашавший
веротерпимость, понимающий христианство как внеиспо-
ведное нравственное учение, осуждавший религиозные
преследования, смыкался со светским
свободомыслием.
Новый этап в развитии гуманизма относится к
XVIII в. и связан с воззрениями французских
просветителей — Франсуа Мари Аруэ Вольтера, затем — мате-
и
риалистов Дени Дидро, Поля Гольбаха, Клода Адриана
Гельвеция. В качестве одного из начал, объединяющих
воззрения этих замечательных мыслителей, можно было
бы назвать атеистическую по своей сути позицию в
подходе к решению проблемы человека, человеческих
отношений и гуманизации общества. В преддверии
буржуазной революции такая позиция имела глубокий
прогрессивный политический смысл, ибо была направлена
против идейного оплота феодализма — церкви и ее
идеологии.
Гуманистическая суть воззрений французских
просветителей состоит в том, что они попытались с позиции
здравого смысла определить источник человеческих
бедствий и страданий. Этот источник они видели в
невежестве и рабской зависимости народа от сильных мира
сего; в развращенности и преступной жестокости
правителей — светских и церковных; в сословных и
религиозных предрассудках и ложных учениях, в первую
очередь — теологических. Эти предрассудки притупляют
«прирожденное» людям нравственное чувство, с
помощью которого они могли бы отличить добро от зла.
Дидро, например, ставит вопрос так: может ли
чему-нибудь хорошему научить своих почитателей божество,
которое «любит мошенничать, поощрять
клятвопреступников и предателей и незаслуженно осыпает благами
горстку своих любимцев?» 16. Безусловно, о добродетели
в данной ситуации не может быть и речи. Поэтому
добродетелен, по мысли Дидро, не тот, кто слепо следует
«богооткровению», а тот человек, «у кого все
привязанности и наклонности, все сердечные и духовные
стремления идут на общее благо его рода»17.
Мысль о том, что счастье отдельных лиц есть
главная цель общества, что «нет нравственной добродетели,
нет достоинства при отсутствии ясных и четких понятий
общего блага и осмысленного знания того, что хорошо
или дурно в нравственном смысле, что достойно
восхищения, а что ненавистно, что справедливо и что
несправедливо» 18, — лейтмотивом проходит через всю
гуманистическую концепцию морали Дидро и его
единомышленников.
16 Дидро Дени. Сочинения з 2 т. — М, 1986. — Т. 1. —
С. 93.
17 Там же. — С. 107.
18 Т а м ж е.— С. 83.
12
Сформулированный ими идеал справедливого
общества, в котором все люди имеют равные возможности как
для общественно полезной деятельности и развития
собственных способностей, так и для равноправного
участия в распределении материальных благ, оказался
плодотворным для развития гуманистических идей
утопического социализма XIX в.
Особое место в истории гуманистической мысли
занимает концепция человека, разработанная немецким
философом Иммануилом Кантом. В ее основе лежит
независимое от религии обоснование этики. По Канту,
нравственный закон невыводим из религиозных
заповедей. Мораль сама по себе выдвигает понятие высшего
блага, она полностью автономна и независима от
религии. Привлекательность кантовского этического
принципа состоит в том, что он рассматривает человека как
личность, имеющую в самой себе «безусловный устойчивый
центр» и достойную всяческого уважения. Людей
ученый называет лицами, которых сама природа
определяет в качестве целей самих по себе. Отсюда следует
категорический вывод: «Поступай так, чтобы ты всегда
относился к человечеству и в своем лице, и в лице
всякого другого так же, как к цели, и никогда не
относился к нему только как к средству» 19.
Этот принцип основан на кантовской идее порядка,
при котором личность не может рассматриваться как
орудие достижения посторонних ей своекорыстных целей.
Но философ рассматривает свой вывод вне связи с
реальными общественными отношениями. Поэтому на
деле он оказывается чисто формальным велением
абстрактно понимаемой совести. Вот почему, по Канту, основу
нравственной обязанности должно искать «не в природе
человека или в тех обстоятельствах в мире, в какие он
поставлен, a apriori»20. В результате столь же
абстрактно звучит у него понятие «доброй воли». Она добра «не
в силу своей пригодности к достижению какой-нибудь
поставленной цели, а только благодаря велению, т. е.
сама по себе»21.
Здесь полное отделение цели от ее практического осу-
t .
19 К а н т И. Соч. — Т. 4/1. - М, 19G5. - С. 270.
20 Т а м ж е. — С. 223.
51 Т а м ж е. — С. 229.
13
ществления: она превращается в самоцель, в
формальное понятие.
Безусловно, этика Канта противоречива,
непоследовательна. Тем не менее она по-своему развивает
прогрессивные идеи, выдвинутые французской буржуазной
революцией конца XVIII в., гуманистической мыслью
Франции.
В целом гуманистические воззрения в эпоху
поднимающегося капитализма и буржуазных революций
явились завоеванием в истории человековедения. В то же
время эти воззрения при всей своей устремленности к
прекрасному гуманному идеалу были ограничены своим
временем. Их ограниченность проявлялась прежде всего
в индивидуалистическом подходе к личности,
понимаемой абстрактно — в качестве некоей родовой сущности,
во внеисторической трактовке «природы человека».
Насколько абстрактны были постулаты гуманизма
эпохи буржуазных революций, показывают ход и
практические результаты этих революций. В самом деле,
сколько радостных надежд было связано с лозунгом,
провозглашенным французской революцией XVIII в. —
«Свобода, Равенство и Братство!». Однако вместе с
практическим осуществлением целей этой революции
наступает крах иллюзии относительно лозунгов и идеалов,
начертанных на ее знаменах. «Новые учреждения
оказались, при всей своей рациональности по сравнению с
прежним строем, отнюдь не абсолютно разумными»22.
Разочарование определенных кругов интеллигенции
в результатах французской революции породило новое
направление в искусстве, философии (и даже в сфере
экономики), получившее название «романтизм». Его
последователи пытались противопоставить неприглядной
действительности буржуазного общества иные
гуманистические идеалы.
В идейном, эстетическом и социальном отношениях
романтизм — явление чрезвычайно сложное, внутренне
противоречивое, но оно содержит тенденции, оказавшие
положительное влияние на развитие духовной культуры
XIX в. Тенденции эти появились в критике и
капиталистических условий производства и эгоистичности, призем-
ленности этических и религиозных взглядов бюргерства,
бездуховности его образа жизни. Миру расчета, скаред-
22 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. 19. — С. 192.
14
ности романтики противопоставляют мир
художественной фантазии, призванной якобы освободить
человечество от уродующей его прозы жизни. Многие из них
искренне верили, что только гений творческой личности
способен открыть дорогу к осуществлению высоких
общественных и гражданских идеалов. Несомненно, эти
идеи являются отзвуком, хотя и философски
трансформированных, лозунгов о политической свободе,
провозглашенных французской революцией.
И хотя романтизм не сумел до конца преодолеть
индивидуалистическую концепцию личности своих
предшественников, рассматривавших человека абстрактно,
вне связи с конкретными условиями общественного
бытия, их воззрения способствовали дальнейшему
развитию гуманистической мысли.
Возьмем, к примеру, жизнь и деятельность одного из
ярчайших гуманистов XX в* — философа и музыковеда,
теолога, органиста и врача Альберта Швейцера. Толчком
к гуманистическим исканиям послужили для него
наблюдения жестокости, бесчеловечности отношений между
людьми в современном ему обществе. Швейцер ищет и
находит причину такого положения. Он пишет: в эпоху
НТР «экономические условия... с невероятной
жестокостью превращают современного человека в
несвободное, несамостоятельное безумное, лишенное чувства
гуманности существо»23. Все это ведет к кризису
культуры, к утрате нравственных ценностей. В чем же выход?
Прежде всего — в восстановлении прав морали,
усилении ее действенности.
Мораль Швейцер понимает очень широко: как
отношение человека (в качестве части природы) ко всему,
миру, включая и человечество. Центральной в его
концепции морали является проблема «человек в
современном мире». К этой проблеме он подходит с разных
сторон — как общефилософских, так и религиозных. В
этой связи оговорим: к Швейцеру никак не подходят
обозначения «атеист» или «верующий». Его
мировоззрение не определяло ни то ни другое. Точнее было бы
сказать: он был широко мыслящим человеком, для которого
судьбы человечества важнее того или иного догмата или
ограниченного мировоззрения. В теологии (теорией
атеизма он не занимался) Швейцер отвергал все, что про-
23 Швейцер А. Культура и этика. — М., 1973. — С. 76.
15
тиворечит идеалам раннего христианства (таким, как
равенство, братство) и гуманистической традиции,
берущей начало в эпоху Возрождения. Этим объясняется его
отрицательное отношение к христианскому
антропоцентризму (о его сути мы говорили выше), учению о
божественности Христа, о бессмертии души, богооткровенности
Священного писания.
Собственно, каждое из этих отрицаний освобождает
место для утвержденця самоценности человеческой
личности. В самом деле, отвергая христианский
антропоцентризм, Швейцер рассматривает человека в качестве
активной личности, способной самостоятельно принимать
решения, преодолевать зло, быть нравственно
совершенной (по собственной воле, а не из страха перед богом).
Такая личность творит добро не потому, что надеется
на личное бессмертие и загробное воздаяние, а в силу
внутренней необходимости жить по законам совести.
Краеугольным камнем гуманистических воззрений
Швейцера является принцип «благоговения перед
жизнью», т. е. уважения к жизни как таковой и
ответственности «человека за жизнь и жизненные условия в рамках
всей сферы его возможного влияния24. Отсюда: добро —
то, что способствует жизни, зло — то, что ее разрушает.
Конкретизируя эти положения применительно к услови*
ям Запада, Швейцер приходит к выводу:
несправедливость в отношениях между людьми исчезнет, если
реализуется всевозможный прогресс, который будет служить
материальному, духовному и эстетическому развитию
человека и человечества. Но этот прогресс окажется
действенным лишь при условии объединения всех людей
доброй воли. Конечно, предлагаемое решение проблемы
борьбы со злом требует уточнения, конкретизации,
научного обоснования, но главное не в этом. Главное в
другом: провозглашенный Швейцером призыв к
объединению во имя торжества человечности содержит глубокий
общечеловеческий смысл и практически способствует
сегодня консолидации людей (с различными убеждениями
в области религии, философии, идеологии и т. п.) в
борьбе с нависшей над миром угрозой уничтожения в
ядерной войне или в результате экологической катастрофы.
2* Цит по: К а р и м с к и й А. М. Альберт Швейцер и
буржуазный гуманизм XX века // Вестник Московского университета. —
1975. — № 1. — С. 28.
16
Швейцер сумел увидеть зловещие очертания этой
угрозы и выразить свой решительный протест против
эскалации ядерного вооружения.
Поучительны не только идеи, но и сам пример жизни
этого гуманиста. В расцвете творческих сил, презрев
благополучное, обеспеченное существование, престижное
положение, он, овладев профессией врача, уезжает в
Африку. В 1913 г. он открыл больницу в северной части
Конго (ныне Республика Габон) — в Ламбарене. С
этого года (с небольшими перерывами) до самой смерти он
совершает в качестве врача свой подвиг милосердия и
сострадания.
Швейцер как личность уникален. Но когда мы
говорим о нем как о феномене XX в., на первый план
выступает то, что объединяет его с лучшими
представителями западной интеллигенции нашего времени: стремление
найти идеальную модель общества, которое
основывалось бы на позитивной, жизнеутверждающей концепции
гуманизма. И хотя их воззрения остаются в основном в
рамках буржуазной идеологии, их поиск объективно
способствует борьбе за гуманизацию мира.
Знаменательно, что в наше время деятельность
гуманистов немарксистской ориентации не прекратилась.
Напротив, она не только активизируется, йо получает все
большую практическую политическую направленность.
В пестром спектре немарксистских подходов к решению
проблемы гуманизма в современном мире есть попытки
осмыслить ее с позиции этических «ценностей» религии,
в частности христианства. В европейских странах эти
попытки встречались уже во второй половине XIX в.
Одним из побудительных мотивов, стимулировавших их
развитие, явился набиравший силу процесс
политического объединения церкви с буржуазией. После
героического выступления парижских коммунаров весной 1871 г.
католическая церковь пришла к выводу, и не без осжь
вания, что главная опасность грозит ей со стороны не
буржуазии (время буржуазных революций ушло в
прошлое), а социалистического движения пролетариата.
В свою очередь, буржуазия, утвердив свою власть,
отреклась не только от революционных идей, но и от
связанного с ними философского материализма и
атеизма.
Вот почему возникает христианская, разновидность
буржуазного гуманизма. В то же время была сформули-
1084—2
17
рована и определяющая его категория — «христианский
гуманизм». Его исходные положения состоят в
следующем: поскольку человеческая личность — творение и
подобие бога, она содержит духовные ценности в самой
себе независимо от тех или иных общественных
отношений. А если это так, то подлинными являются лишь те
нравственные нормы и взгляды, которые базируются на
христианском представлении о человеке. Поэтому
истинная человечность, выражающаяся в любви к ближнему,
милосердии, сострадании, всепрощении, возможна
исключительно в сфере христианского мировосприятия.
Если исходить из теологических позиций, такой
подход вполне логичен. Но здесь упускается другая
сторона вопроса. Дело в том, что христианская
гуманистическая традиция реализовалась исторически не в пустом
пространстве, а в связи с конкретными, характерными
для той или иной эпохи, социальными процессами.
Соответственно приобретало новые очертания христианское
учение о человеке. Оно провозглашало общинный
коллективизм, имущественное равенство и наряду с этим —
требования христианской морали, такие, как отречение
от земных благ, аскетизм и т. п.
Позднее, ближе к нашему времени, появились новые
интонации в христианском учении о человеке. Они
выразились, в частности, в идее активности, свободы
человеческой воли и, следовательно, возможности соучастия
человека в деле божественного творения.
Во второй половине XX в. процесс приспособления
католической церкви к реалиям времени становится все
более интенсивным. Вместе с тем усиливается борьба
между различными кругами духовенства по поводу
направленности этого процесса. В числе наиболее спорных
оказался вопрос о гуманизме. Одни откровенно
обрушиваются на «атеистический гуманизм», другие (например,
«левые» католики) признают ценность земного мира (в
качестве творения бога) и призывают к его
совершенствованию. Есть и такая тенденция: с христианских
позиций дать позитивную оценку гуманистическим идеалам
коммунизма.
Далее, уже собственно в теологической сфере, с
одной стороны, идет процесс очеловечения образа Христа,
а с другой — выдвигается идея о возможном соучастии
человека в деяниях бога на земле (ведь бог проявляет
себя и в человеческом творчестве). Однако эти, казалось
18
бы, разные точки зрения не исключают возможности
компромисса. Определяется же он тем, что как бы ни
были различны позиции теологов, неизменной остается
основа, на которую они опираются, — идея теоцентриз-
ма.
Но дело не только в этом. Компромиссные решения
важны для современной церкви не столько в
теологическом, сколько в социально-практическом плане. Поэтому
она, например, не столь решительно настаивает сегодня
на строгом следовании верующими идее покорности,
смирения, хотя в то же время сохраняет в
неприкосновенности эсхатологическое учение о конечных судьбах
человечества (тем более что это учение созвучно
настроению определенной части верующих, да и неверующих,
оказавшихся перед фактом ядерной угрозы). Тем самым
вновь и вновь утверждается идея загробной жизни,
спасения от земной скверны в потустороннем мире.
Новые, компромиссные мотивы в христианском гума^
низме звучат теперь и в другой тональности;
католическая церковь ныне не столько благословляет капитализм
(как богоданный), сколько критикует его пороки.
Впрочем, это не мешает теологам рассматривать конфликты
общественного бытия как проявление некоего
абстрактного зла, свойственного человеческой природе во все
времена. Причем по такому же принципу трактуется за*
поведь любви к ближнему, правда с противоположным
знаком — как некое абстрактное добро, определяемое
любовью к богу, человеколюбие вообще.
А ведь всего 40 лет назад отцы католической церкви
были настроены к инакомыслию куда более
воинственно, в том числе и в области христианского гуманизма.
Показательна в данном случае судьба известного
французского философа, ученого (геолога, палеонтолога,
археолога и антрополога) и католического священника,
члена «Общества Иисуса» Пьера Тейяра де Шардена,
Ему принадлежат фундаментальные научные открытия,
среди которых открытие синантропа в Чжо-Коу-дине>
близ Пекина. Не останавливаясь на его философских,
научных ч теологических изысканиях (для этого
понадобилась бы самостоятельная большая работа),
рассмотрим лишь сутъ конфликта, возникшего между Тейяром
и Ватиканом.
Дело в том, что как добросовестный палеонтолог
Тейяр, изучая историю возникновения и эволюции чело-
19
века, формулирует вывод, который, по его убеждению,
является единственно верным: человек выделился из
мира животных путем изготовления орудий труда,
причем одновременно в различных местах Земли (Азии,
Африке, Европе). Но этот вывод противоречит
теологическому постулату о том, что человечество произошло ог
Адама и Евы. Сомнение в этом постулате ведет к
сомнению в «истинности» следующего за ним (в логической
цепочке канонизированной ветхозаветной легенды)
догмата о «грехопадении» и о греховности и испорченности
(после грехопадения) человеческой натуры. Догмат о
грехопадении столетиями выполнял важные для церкви
функции: 1) с его помощью можно было свалить
ответственность за господствующее в мире зло на
грехопадение «прародителей» и греховность людского рода, не
пытаясь найти истинные причины зла; 2) церковь
получала абсолютную монополию на «спасение»
«заблудших» человеческих душ.
Что же удивительного в том, что Ватикан с
возмущением отнесся к эволюционной теории Тейяра? В
своей энциклике «Humani Generis» от 12 августа 1950 г.
папа Пий XII писал: «Что же касается... гипотезы,
называемой полигенизмом, то сыны Церкви никак не имеют
подобной свободы. В самом деле, верующие не могут
придерживаться учения, сторонники которого либо
утверждают, что на Земле имеются настоящие люди, не
происходящие от Адама как от праотца всех путем
естественного рождения, либо рассматривают Адама как
совокупность этих многочисленных праотцов. В самом
деле, нет никакого способа согласовать подобное учение
с тем, что сказано о первородном грехе в источниках
божественной истины и что разъяснено в церковных
постановлениях, этот грех ведет свое начало от
действительного личного греха, совершенного Адамом, и,
распространившись на всех путем рождения, вновь пребывает в
каждом и принадлежит ему»25.
Категорическому осуждению церковными властями
была подвергнута и так называемая моральная
концепция «оптимистического гуманизма» Тейяра. Согласно
этой концепции гибель нашей Земли и человечества
теоретически возможны, но это «не случится». И вот поче-
26 Цит. по: Т е й я р д е Ш а р д е и П. Феномен человека. —
М.,,1965 - С. 17-18.
2Г
My: человек, по Тейяру, — это «эволюция, осознавшая
самое себя» и вследствие этого способная «направлять
и ускорять самое себя». История не абсурд. Она
исполнена смысла. В конце концов человеческий разум
Восторжествует и люди употребят свои знания для
осуществления гуманных целей. И тогда Земля, по мысли Тейя-
ра, преобразуется: «все более возрастающий досуг и все
более широкие интересы найдут свой жизненный выход
в деятельном стремлении рее углубить, все испытать,
все продолжить»; «гигантские телескопы и циклотроны
поглотят больше золота и вызовут больше стихийного
восхищения, чем все бомбы и все пушки»; «не только для
объединенной и находящейся на содержании армии
исследователей, но и для человека с улицы
животрепещущей проблемой будет отвоевание еще одного секрета...
у частиц, у звезд или у организованной материи»; «как
это уже случается, люди посвятят свою жизнь скорее
увеличению знания, чем увеличению имущества»26. В
разумно организованном обществе будет господствовать
«гармоническое примирение» свободы с планированием
и объединением в «целостность».
Свою уверенность в том, что люди в конечном итоге
достигнут вершины человеческой эволюции (царства
свободы и разума), ученый основывает на непреложности
нравственного принципа, которым в конечном итоге они
руководствуются (при всех отступлениях,
противоречиях). Этот принцип гласит: нравственно все то, что
способствует продвижению по пути прогресса к «новой
критической точке впереди». А коль скоро это так,
человечество должно нравственно осуждать как антигуманное
все то, что разъединяет людей, мешает движению вперед,
в частности, такие пороки, как индивидуализм и эгоизм,
расизм и национализм, леность мысли и бездуховность,
пессимизм и инертность.
Однако, формулируя концепцию будущего
человечества, Тейяр никогда не забывает, что он не только
ученый, но и теолог, священник и просто верующий
человек. Этим объясняется, в частности, его стремление
доказать, что чем совершеннее будет общество, тем
гармоничней будет связь между наукой и религией; что
некое духовное начало (подобное божественному)
присутствует во всем сущем — оно и есть источник целостнос-
26 Тейяр де ШарденП. Феномен человека. — С. 274.
21
ти и развития живой и неживой материи, общества; что
высший пункт человеческой эволюции — «точка
Омега» — тождествен «второму пришествию Христа»; что
Христос — главный двигатель процесса гуманизации
общества на последней стадии человеческой эволюции.
Но попытка связать свои научные изыскания с
религией не спасает ученого от нападок церкви. Всю
жизнь он был гоним. Его труды не публиковались.
Основные позиции его учения, которые были восприняты
папской курией как оскорбительные, сводятся к
следующим: 1) Тейяр ставит под сомнение божественный акт
творения; 2) концепция Христа, появляющегося в конце
эволюции — в точке «Омега», — «ересь»; 3) Тейяр не
делает ясного различия между естественным и
сверхъестественным порядком, что ставит под сомнение само
существование сверхъестественного; 4) мысль: «Дух —
высшее состояние материи»; 5) концепция греха27.
Конечно, в наше время официальный католицизм
стал более терпим к инакомыслию в области теологии.
Тем не менее конфликт между учением Тейяра и
ортодоксальной теологией не исчерпан. Более того, тейяризм
сегодня — одно из самых влиятельных направлений,
связанных с инакомыслием в католицизме.
Но как бы то ни было, Тейяр, так же как и другие
религиозные мыслители, поставив в один ряд гуманизм,
нравственность и религию, оставляет место для
вывода: религия — вечная общечеловеческая ценность.
Поэтому, отдавая должное заслугам христианского
гуманизма перед человечеством, мы не можем не учитывать
его религиозной ограниченности. (И то и другое будет
раскрыто в последующих главах данной брошюры.)
С точки зрения марксизма-ленинизма, единственно
верным критерием подлинного гуманизма является
общественно-историческая практика, социальный опыт,
накопленный многими поколениями людей в прошлом и в
наше время, обобщенный с научных, диалектико-мате-
риалистических позиций. Таким обобщением является
марксистско-ленинское учение о человеке, впитавшее в
себя достижения гуманистической мысли прошлого и
вместе с тем заложившее основы качественно нового
решения проблемы гуманизма. Это новое состоит прежде
27 См.: Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — С.
27-28.
22
всего в том, что центральным вопросом берется не
человечность вообще, а реальный гуманизм, вытекающий
из конкретно-исторического понимания сущности
человека как «совокупности всех общественных отношений»28.
Этот гуманизм неразрывно связан с борьбой за лучшее
устройство общества, за создание такой «ассоциации»,
в которой свободное развитие каждого является1
условием свободного развития всех, ибо сам процесс
производства в этой ассоциации должен осуществляться в
условиях «наиболее достойных их человеческой природы
и адекватных ей», что, в свою очередь, создает условия
для развития «человеческих сил, которое является
самоцелью» 29.
ИСКУССТВО И ТЕОЛОГИЯ О ГУМАНИЗАЦИИ
МИРА: ПРОМЕТЕЙ И ХРИСТОС
В своей проповеди на стадионе «Десятилетия» в
Варшаве 17 июля 1983 г. Иоанн Павел II провозгласил;
«Христос — «отец будущего века», он одновременно есть
«вчера и сегодня». Утверждение глобального
космического значения роли Христа в прошлом, настоящем и
будущем связано (помимо других причин) с
настоятельной потребностью церкви не только отстоять, оградить
от разложения, «растворения» jb светской культуре
основополагающие понятия и образы вероучения
католицизма, но и представить их в качестве единственной
системы общечеловеческих ценностей.
Заметим, что церковь всегда относилась
настороженно, с опаской к процессу перемещения жанров, образов,
символов и языка культового искусства в светскую сфе^
ру. Объясняется это тем, что в подобных процессах
таится один из видов смерти религии. Дело не только в
том, что в таких случаях христианские художественные,
этические и другие ценности выходят из-под управления
церкви, но и в том, что в светской культуре они
модифицируются, приобретая новый смысл, новые, отличные
от культовых, способы выражения и формы бытования.
Вместе с тем, поскольку христианская церковь (хотя
она и «не от мира сего») должна существовать «в мире
сем», ей приходится считаться со всей многосложностью
современной действительности.
28 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. а. — С. 3.
29 М а р к с К., Энгельс Ф. Соч.— Т. 25,— Ч. 2.— С. 387.
23
Приспособление церкви к реалиям сегодняшнего дня
происходит на фоне углубления внутренних
противоречий, расшатывающих ее жизненно важные устои и
принципы. Прежде всего — противоречия между
традиционными нормами, критериями, оценками, вероучением,
организационной структурой церкви, с одной стороны, и
той реальной жизнью, которую она вынуждена вести в
современном мире, — с другой. Характерно, что
некоторые католические теологи, в частности Р. Макбрайен,
с тревогой констатируют такие факты, как «сильное
уменьшение участников торжественных богослужений,
числа священников и членов монашеских орденов...
усиление различий в мнениях по теологическим вопросам и
плюрализм, которые ведут к путанице и сомнениям в
теологии, катехизисе и религиозном воспитании;
неуважение к авторитету папы... отчуждение молодежи от
церкви; длительное господство в социальной и
культурной областях науки и теологии, противостоящих
традиционным ценностям и мотивациям церкви; непрерывная
и неизбежная поляризация церкви на два лагеря в
давнишней борьбе между бедными и богатыми, между
угнетенными и угнетателями»; стремление некоторых
теологов спрятаться в неприступной башне догматического
теоретизирования или, напротив, растворение
вероисповедных положений в реалиях мирской жизни.
Но есть и другие мнения, в чем-то дополняющие, а
в чем-то и уточняющие представления о сути тех
трудностей, которые переживают ныне и религия и церковь.
В частности, мнение по данному вопросу таких деятелей
культуры, как современный португальский писатель
Вержиллио Феррейра. Он считает, что в стоящем на
краю гибели мире едва ли возможно что-либо изменить
с помощью религии. Ответ на сложные вопросы
сегодняшнего дня следует искать в самой жизни
человечества, ее противоречиях и трудностях.
По сути, справедливую точку зрения В. Феррейра
и всех тех, кто ее разделяет, конкретизирует кубинский
писатель Густаво Эгурьена в своем романе
«Возвращение». Рассматривая одну из важнейших заповедей
христианства «возлюби ближнего,..» применительно к
конкретным социальным условиям капиталистического
мира, писатель показывает утопичность, неосуществимость
этой столь прекрасной на первый взгляд заповеди в
реальной жизни.
24
«Постарайся повлиять на своих друзей (богатых
буржуа. — О. А.), — говорит один из героев романа, —
чтобы они перестали эксплуатировать бедняков.
Постарайся заставить их перестать думать о личной выгоде.
Поговори с папой римским, епископами и кардиналами
и попроси их начать проповедовать истинное Евангелие.
Пусть они скажут богачам, чтобы те справедливо
распределяли свои прибыли, чтобы возлюбили ближнего,
то бишь рабочего, как себя самого. И главное, пусть они
добьются, чтобы богачи их послушались. Вот сделай все
это — и увидишь, как тебя обвинят в пропаганде
коммунизма... И вот тут-то и перетрусишь... Потому что ты,
как и все вокруг тебя, смертельно боишься этого
слова» 1.
Конечно, художественное слово, образ не
тождественны строго научным принципам (искусство и наука
принадлежат к разным формам общественного
сознания), тем не менее подлинному искусству свойственны
глубина постижения и точность нравственных оценок
различных сторон реальной действительности.
В самом деле, Эгурьена очень точно заметил, что
абстрактно-гуманистический смысл евангельской
заповеди, общечеловеческое содержание, которое в ней
заложено, не могут быть реализованы в условиях
буржуазного общества. Владелец капитала, пусть даже
глубоко верующий, оказавшись перед альтернативой
обретения богатства за счет эксплуатации чужого труда или
богоугодной, связанной с необходимостью поступиться
частью имущества деятельностью, в подавляющем
большинстве случаев выбирает богатство.
Вопрос о соотношении между нравственными
заповедями христианства и реалиями жизни буржуазного
общества, хотя и в другом ключе, пытается решить и
немецкий писатель Генрих Бёль в романе «Женщины у
берега Рейна». Он пишет о том, что сложное, подчас
трагическое переплетение судеб жертв фашизма с
судьбами бывших палачей наложило свой отпечаток и на их
отношение к религии и церкви. Об этом мы узнаем, fe
частности, из рассказа-исповеди одной из героинь
романа Бёля Элизабет Блаукремер. Но прежде чем
познакомиться с ним, необходимо уточнить хотя бы некоторые
обстоятельства жизни Элизабет.
1 Эгурь ена Густав о. Возвращение // Иностранная
литература.— 1987.— № 12.—С. 141.
25
Незадолго до прихода советских войск в Германию
се отец, поверив в россказни нацистских средств массовой
информации о «зверствах русских», убил своих
малолетних детей, а затем — и самого себя. Чудом
уцелевшая Элизабет всей душой полюбила русского офицера
Дмитрия. Но ее возлюбленный погиб, а сама она
оказалась в Западной Германии, где позднее вышла замуж
не любя. Стараниями мужа, бывшего нациста Блаукре-
мера, на протяжении многих лет упорно
распространялись слухи о том, что Элизабет была изнасилована
Дмитрием, а ее отец и братья погибли от «произвола
русских».
Элцзабет знает правду и открыто говорит о том, что
ее муж (ныне важный политический деятель) был
организатором уничтожения документов, разоблачающих
гнусные дела нацистов в период их господства, о лжи, с
помощью которой он и его приближенные стараются
скрыть свое прошлое. Но ей никто не верит или не хочет
верить. Чтобы избавиться от опасного свидетеля, Блау-
кремер помещает Элизабет в дом для умалишенных.
Здесь в разговоре с врачом она и произносит свой
разоблачающий монолог, рассказ-исповедь: «Вы
полагаете, я должна взывать к Христу?.. Нет, не могу. У меня
был Христос в детстве... и в Гульсбольценхайме (дом
мужа. — О. А.), где Блаукремер стал моим
мучителем, — но меня лишили Христа, изгнали его из меня, и
я позволила его изгнать. Когда по утрам — после
пьянок, оргий и всякого свинства — они преклоняли в
церкви колена и, полные раскаяния, молитвенно воздевали
руки, в этот миг все они были кроткими, искренне
благочестивыми. Даже Блаукремер — несомненно
верующий человек, Кундт наполовину мистик... Нет, ту церковь
Христос покинул, покинул навсегда...»2
Подобного рода мысли приходят и к Эрике Вублер —
подруге Элизабет: «Того, кого вы искали (Христа), Его
изгнали... Он... не явился потому, что они грешны и
продажны до мозга костей, впрочем, это не ново. Они даже
не чувствуют своих прегрешений, позволяют себя
подкупать, с восторгом приветствуют ракеты, боготворят
смерть... Черствые епископы, очерствевшие кардиналы...
изгнали Его (Христа) и служат торжественные мессы,
fi Бёль Генрих. Женщины у берега Рейна // Новый мир. —
1987. - № 12. - С. 130,
26
на которых нет места для тех, «кто на богослужении
служил бы Богу» а.
Элизабет и Эрика, олицетворяющие мир тех, кто
ищет справедливости, не могут принять церковь, в
которой отпускают грехи негодяям, палачам и убийцам.
Более того, если последние легко совмещают религиозное
чувство с античеловечностью, жестокостью своего
отношения к людям, можно ли говорить о способности
религии противостоять злу? В том-то и дело, что
религиозность и церковный обряд сами по себе ничего изменить
в жизни общества не могут. Более того, в глазах
политических деятелей, подобных персонажам Беля,
религиозная вера — это нечто хотя и возвышенное, высокое,
прекрасное, но совершенно бесполезное для
практических дел, поэтому и Блаукремер, и Кундт, при всем
своем благочестии, не отождествляют веру и церковь.
Вера — это слезы умиления, вызванные богослужением в
храме, а церковь — организация, призванная выполнять
важные для сильных мира сего социальные функции.
Когда же она с этими функциями уже не справляется,
когда «Кундт и иже с ним выпотрошили ее, она... им почти
не нужна», и они кричат: «Церковь отслужила свой
век»4.
И нет ничего удивительного в том, что, как бы
усердно ни читал, например, епископ проповеди о морали, в
его лице оказывают почтение не церкви. «На самом
деле их (прихожан. — О. А.) интересует только
фиолетовый воротник его сутаны»5. Увы, по признанию одного
из персонажей Бёля, церковь уже не можег дать ему
утешения ни в торжественном богослужении, ни в
скромной повседневной службе: вера ушла, а вместе с нею —*
и утешение в набожности.
Размышления такого рода отнюдь не редкость в
современной художественной литературе Запада.
«Христианская концепция, — по словам английского писателя
Уокера Перси,— воспринимавшая человека как ищущего
спасения, уже давно перестала питать западную
культуру»6. Писатель ставит вопрос: «Так что же под силу
художественной литературе в условиях распада всего
' Бёль Генрих. Женщины у берега Рейна. — С. 152,
4 Там же. — С. 137.
6 Там ж е.—С. 142.
8 Перси Уокер. Роман как средство диапюза //
Иностранная литература. — 1988. - № 2. « С. 224.
27
иудейско-христианского мировоззрения?» Его ответ:
исследовать реальные процессы современного мира.
Причем не только их констатировать, но и искать пути к их
преодолению.
Это мнение разделяют не только многие писатели, но
и художники, и прежде всего те, кто серьезно озабочен
судьбами мира, стоящего перед угрозой гибели в огне
атомной войны. Характерно в данном отношении
творчество французского художника Сержа Гуйлю,
создавшего в период между 1978 и 1981 гг. цикл картин на
тему апокалипсиса. Побудительным мотивом создания
этого цикла явилось осознание художником
непосредственно угрожающей опасности, страх перед катастрофой.
Апокалипсические видения, изображенные на его
картинах, есть не что иное, как образы ядерной катастрофы.
Они всем своим художественным строем предупреждают
об опасности, призывая человечество к бдительности.
Ответственная и серьезная задача, которую поставил
перед собой художник, не допускает ни малейшей
фальши. Вот почему он делает единственно возможный
вывод: никто не поможет людям, если они сами не будут
вести борьбу за мир, если они своими руками, своими
усилиями «не остановят гонку вооружений и не
предотвратят вспышку новой войны». И вот рядом с
изображением огня атомного взрыва и «кровавых ступеней
разрушения», картинами смерти, символизирующих
искалеченное, гибнущее человечество, мы находим изображение
рук бога. Одна из них — указующая — предвещает
людям смерть через их собственные творения; другая —
созидающая и спасающая — несет надежду. Сопряжение
этих рук создает образ неустойчивого, шаткого
положения нашего мира, колеблющегося между жизнью и
смертью, творением и разрушением, отчаянием и надеждой.
Бог нерешителен и беспомощен. Он не поможет и не
спасет. Осознав это; художник вновь и вновь
обращается к людям. Грозное предостережение, которое он
провозглашает, достигает своего апофеоза в последней,
заключительной картине цикла. На ней видение огненной,
клокочущей, подобно кратеру вулкана, галактики. Тут
же на полотне отпечаток руки «первого или последнего
человека», «она сливается с рукой художника в
последнем предостережении».
Другой аспект решения проблемы человека в
зарубежном искусстве — современное осмысление «проме*
28
теева начала» в человеческой деятельности. Этот аспект,
по сути своей противостоящий христианскому
гуманизму, хорошо просматривается в одной из современных
интерпретаций мифа о Прометее в искусстве и
сравнении его с мифом о Христе. Речь идет о статье Германа
Раума (ГДР) «Прометей-1982». Желание обратиться к
теме о Прометее возникло у Раума совершенно
неожиданно для него — при чтении книги американского
публициста С. Шламма, который настоятельно рекомендует
НАТО практическое применение ядерного оружия,
называя при этом коммунизм разновидностью
«прометеевой ереси». Но что скрывает такого рода определение?
Можно ли считать правомерным отождествление
понятия «коммунизм» с понятием «прометеева ересь»?
В отличие от Гефеста и других богов, творящих
чудо, Прометей способствует развитию самого
человека. Он наделяет людей огнем творчества,
противопоставляя их высокомерным богам. Прометей —
олицетворение освобождения людей от власти слепой, равнодушной
природы с помощью творческого, преобразующего
труда. Позднейшие религиозные наслоения, искажавшие
первоначальный смысл мифа о Прометее, были не в
состоянии вытравить из народной памяти предание о
друге людей, вырвавшем у богов будущее человечества.
Именно этот образ имел в виду К. Маркс, называя
Прометея «самым благородным святым и мучеником в
философском календаре». Следуя мысли К. Маркса, Раум
пишет: Прометей «остается в истории воплощением
мятежа, просвещения, еретика, презирающего
авторитеты. Он олицетворяет развивающееся независимо от
богов самосознание людей».
Такое толкование образа Прометея получило свое
выражение и в современном изобразительном
искусстве, Интересна картина художницы Нуриа Кеведо «Про-
метей-1982»7, Ее герой на вершине кавказских гор.
Свободный, великий, могучий —- он мужественно сражается
с божественным орлом. Художница уверена в том, что
«в любом случае освобождение человечества от
страданий не связано с темой спасения, заложенной в мифе о
Христе» (подчеркнуто мною. «— О. А.).
Вместе с тем художники, создающие образ Прометея
7 Эта картина экспонировалась на выставке в ГДР под таким
же* названием в 1982 г.
29
в наше время, ставят вопрос и по-другому:
«Благородные деяния Прометея получают не только благородные
последствия. Подаренный людям огонь умножает и
опасность». Поэтому они требуют от ученых повышенной
ответственности: те, кто настаивает на «чистой науке»,
действуют вопреки интересам человечества, помогая
осуществлению варварских, жестоких, своекорыстных
планов «богов», выступающих ныне под личиной
милитаризма. Они присваивают себе огонь творчества, некогда
подаренный Прометеем людям. Этот огонь опасен.
Достаточно одной искры, чтобы привести в действие силы
воистину космического масштаба.
По мнению Раума, такая двуплановость современной
интерпретации мифа о Прометее в искусстве ставит под
сомнение возможность отождествления понятия
«коммунизм» с «прометеевой ересью». По существу, уже
фабриканты XIX в. «заключают выгодный пакт с Зевсом>,
превращая труд в отчужденный труд. Одновременно
гибнет красота, человеческий образ деформирован, а «огонь
прометеевой кузницы» видится западной интеллигенции
как нечто пугающее, ужасающее. Теперь, по словам
Г, Раума, «Прометей — космический работодатель —
испускает свой идеальный дух». В конечном итоге
Прометей становится символом раздумий о человеческих
стремлениях, надеждах, возможностях и об угрозе
уничтожения, нависшей над миром.
Страстный протест передовой художественной
интеллигенции против роковой угрозы дегуманизации и
уничтожения человечества нашел в середине 80-х годов яркое
выражение в повести Кристы Вольф (ГДР) «Авария».
Ее основная идея во многом созвучна художественной
мысли и французского художника Сержа Гуйлю, и
автора картины «Прометей-1982», Вместе с тем повесть
К. Вольф высвечивает новые аспекты сложной и
чрезвычайно актуальной проблемы.
Потрясенная трагическими событиями,
происшедшими на Чернобыльской АЭС, писательница повествует о
мире, стоящем на грани между бытием и небытием, о
нравственной ответственности каждого человека за
судьбу этого мира. Да, человек — творец. Атомный
реактор — одно из удивительных его созданий, но
человеческая мысль может быть направлена и на разрушение.
Вот почему цель сегодня состоит в том, чтобы сохранить
и украсить жизнь людей и чтобы движение к этой цели
30
стало стабильным, необратимым процессом. А для этого
нужно преодолеть не только сопротивление сил агрессии,
но и иллюзии, и пустые надежды на спасительное
вмешательство богов или «инопланетян», отказаться от
суеверий и предубеждений.
Все это волнует К. Вольф. С каким возмущением
полемизирует, например, ее героиня с витийствующим по
радио (из ФРГ) проповедником (в те страшные майские
дни 1986 г.) о «вознесении Христа» и его пророчествах:
«И когда они стояли там, — сказал человек по радио, —
он, и все это видели, вознесся ввысь, и облако рзяло его
у них на глазах на небо. Наши представления о
пространстве и времени оказываются несостоятельными перед
лицом всеохватывающей реальности божьей. Христос
вознесся к своему отцу. А это значит — он принял на
себя власть. Господа земного мира уходят, наш господь
грядет. Иисус Христос — наш господь. Он вернется, он
совершенствует мир».
Прекрасно, возразила я приемнику. Но так
откровенно можно было бы это не высказывать. Если, стало быть,
изначально в нас заложили, что нам так настоятельно
нужно господство и подчинение, что нам следует
приписать их изобретению наших богов; что мы... если уж
удастся освободиться от неизбежного поклонения богам,
обречены неизбежно подчиняться людям, идеям,
идолам — так где же в этом случае... собственно говоря,
путь к спасению...» 8. Как видим, К. Вольф очень точно
заметила противоречие христианской доктрины: если
изначально в нас заложена потребность в господстве и
подчинении, то мы фатально обречены. Идея спасения
неосуществима. Чтобы разорвать этот заколдованный
круг, считает писательница, нужно освободиться от
веры в предопределенность и попытаться активизировать
собственно человеческую деятельность, направленную
на оздоровление общества и гуманизацию человеческих
отношений.
Проблема снятия угрозы уничтожения и победы
человечности над жестокостью выдвигает на авансцену
буржуазного искусства Запада героя, хотя и сильно
модифицированного, по своей сути не похожего на
Прометея, но не менее популярного — Христа. Он появляется
9 Вольф Криста. Авария // Иностранная литература. —
1987. - № 12. - С. 32.
31
на обложках журналов, становится героем мюзиклов
или серьезных музыкальных композиций, в
изобразительном искусстве, литературе, кино. Вместе с этим
возникает вопрос: как выглядит евангельский Христос
последней четверти XX в.? В чем состоит его миссия?
Ответить очень трудно. Достаточно сказать, что даже
среди теологов нет единого мнения по данной
проблеме.
И все же среди множества суждений можно выделить
наиболее характерные. Начнем с официальной точки
зрения. Она сформулирована папой Иоанном Павлом II
следующим образом: «Кризис цивилизации (Хайзинга)
и закат Запада (Шпенглера) означают только крайнюю
потребность Европы в Евангелизации и Христе.
Христианское сознание человека — корень народов Европы; и
к этому нужно призывать, чтобы дать мир и
спокойствие нашей эпохе: только так раскрывается смысл
истории человека, которая в действительности является
историей спасения». Препятствием в выполнении этой
миссии спасения является ныне то, что церковь перестает
быть источником божественного авторитета. Вот
почему, по мнению известного американского теолога
(разделяющего точку,зрения главы католической церкви)
Р. Макбрайена, в такой ситуации задача церкви
«состоит в том, чтобы достичь новой интерпретации
трансцендентного, священного и божественного..* и уж прежде
всего в «мирском» или в естественных формах нового
опыта».
Как показало время, считает теолог, единственной
платформой; на которой можно было бы найти
определенное единство по данному вопросу, является ныне
актуализация известного положения о двойственности
природы Христа, о сочетании в ней божественного и
человеческого начал. Игнорирование одного из них, считает
Макбрайен, ведет к искажению сущности Христа, его
миссии на земле.
Так, пренебрежение человеческим началом ведет, по
мнению теологз, к превращению образа Христа в некий
абстрактный, холодный символ. Примером этому,
полагает Макбрайен, могут служить иконы православной
церкви: «Они изображают «потустороннего» Христа с
невыразительными чертами, искажающими его истинное
отечество». В образе Христа должна быть не только
потусторонность, но и человечность. Однако чрезмерное
32
подчеркивание человеческой природы Христа тоже
искажает его образ. Это проявилось и в искусстве, скажем,
в таком мюзикле, как «Иисус Христос суперзвезда». В
нем звучат, например, следующие слова: «Он (Христос)
есть человек, он именно человек. Он не царь, он точно
такой же человек, как и все люди, которых я знаю».
Заметим, что «очеловечение» Христа, с одной
стороны, ведет к тому, что он становится слишком
приземленным, утрачивается его ореол непогрешимости, а с
другой — «божественное», «не от мира сего» в человеке
оборачивается слабостью, беспомощностью, при первом
же столкновении с реальной, практической жизнью. Это
хорошо просматривается в киноновелле, поставленной
итальянским кинорежиссером Ф. Феллини по рассказу
Эдгара По «Не закладывай черту своей головы».
Не раскрывая всех коллизий развития сюжета,
обратим внимание на некоторые любопытные детали.
Модному киноактеру Тобби Дамменту — главному персонажу
фильма Феллини — предстоит играть роль Христа. Но
то ли под влиянием размышлений о предстоящей,
далеко не простой работе (ведь требуется художественное
перевоплощение в богочеловека), то ли под
воздействием алкоголя и наркотиков, а скорее всего — в
результате того и другого Тобби оказывается в плену
противоречивых и мучительных побуждений:
греховно-человеческих, возвышенно-сакральных и
бесшабашно-дьявольских.
В фильме все символично: зловеще развеваются на
фоне кровавого заката крылья черных сутан
священнослужителей, встречающих Тобби в аэропорту;
загадочно смотрит с экрана странная, олицетворяющая
дьявола девочка; мечется, совершая один безрассудный шаг
за другим, Тобби. Охваченный страхом и смятением, он
неуклонно движется к нелепой, бессмысленной,
предрешенной безысходностью его бытия как в образе
человека, так и в образе Христа — смерти. Мир, в котором
обитает главный персонаж Феллини, столь же
иллюзорен, как и мир бога, которого он был призван
материализовать.
Естественно, такая интерпретация проблем,
связанных с образом Христа, довольно часто встречающаяся в
современном искусстве, не может не вызвать- тревогу в
церковных кругах. Не удивительно, что вопрос о
соотношении этого образа с современной-культурой является
33
ныне для католических теологов одним из
актуальнейших. Его решение, по наблюдению Макбрайена, идет
по следующим основным направлениям.
Первое — Христос против культуры. Оно базируется
на предостережении Евангелиста Иоанна о том, что,
возлюбив мир, верующие ставят себя под угрозу. Ибо мир
полон лжи, убийств, похоти. Однако это положение
вызывает сомнение у тех, кто полагает (и вполне резонно),
что отстаивание абсолютного аскетизма практически
неосуществимо и ведет к противоречию между словом и
делом. На практике даже самый радикальный
христианин использует те же понятия, те же научные теории,
социологические анализы и т. п., которые имеют
выражение и в самых обычных формах светской культуры. Так
было и в прошлом. Монахи, например, принимали
участие в процессе формирования культуры средневековья.
Религиозные и светские формы развития
художественной, философской и т. п. культур постоянно
взаимодействовали друг с другом. Эту истину, как видим,
современная теология отрицать уже не может.
Второе направление ставит вопрос о полной
согласованности Христа с культурой. То есть Христос может
выступать и в роли учителя, и философа, и гуманиста,
но при одном условии: в любом случае он призван
благословлять, а не преобразовывать землю. Такая позиция
в наше время близка так называемому культурпротес-
тантизму, идущему от американского теолога Р. Нибу-
ра. Царство божье, по его мнению, состоит в
осуществлении человеческого братства на земле. Историческим
основанием подобной позиции Макбрайен считает процесс
ассимиляции христианства различными национальными
культурами. В ходе ее соответственно менялось и
представление о Христе.
Третья часть теологов считает, что культура
возможна лишь благодаря милости и присутствию бога в ней.
Причем присутствие бога должно выражаться
сакраментально, в культовых формах. Что же касается
светской культуры, то ее связь с Христом возможна лишь в
том случае, если будет сделан акцент на взаимосвязь
его божественных и человеческих черт. Как человек,
Иисус Христос принадлежит к культуре; как бог, он
далек от нее. Как человек и бог, он принадлежит к
культуре и одновременно стоит над нею. «Эта точка зрения
нам импонирует, — пишет Макбрайен, — так как она
34
согласуется с нашим постоянным поиском
уравновешенности и единства, основные свойства которого заложены
в самом боге». Правда, Макбрайен не уверен, что эта
«синтезирующая» точка зрения обладает достаточной
силой, чтобы осудить зло, которое присутствует повсюду,
воплощаясь в множестве культурных и социальных
форм.
В этой связи особую остроту среди теологов
приобретает вопрос: что есть зло? Личная греховность или то,
что угрожает человечеству в широком общественном
плане? Одни в качестве врага человечества в XX в.
считают социализм. Французский журналист, правый
клерикал А. Безансон аргументирует это так: если признать
историческую правомерность существования социализма,
то по логике католического учения он должен
подчиняться действию законов божьих. Однако, принимая
буквально это положение, некоторые из верующих и даже
теологов рассматривают социализм как «уже частично
реализованный проект установления на земле общественной
справедливости». На самом деле, продолжает Безансон,
это грубейшее отступление от «первоначального плана
бога». Поэтому, мол, «о коммунизме следует сказать не
то, что он несправедлив, тираничен или атеистичен, но
прежде всего то, что он фальшив, что он не существует,
что он является ложью, поднятой до высот всеобщего
принципа». А коль скоро это так, коммунизм, по мнению
Безансона, есть зло, которое нельзя ни «простить», ни
«возлюбить». Применение к нему евангельской
заповеди «любите врагов своих» невозможно. Ибо эту заповедь
не следует понимать как обязанность «любить в
ближнем зло». В противном случае, пишет клерикал, «мы
скатимся... в сторону пацифизма Толстого или мазохизма
Достоевского, с которыми эту евангельскую заповедь
ошибочно смешивали».
Но если же все это так, то социальные и
художественные явления, такие, как социалистическое общество
или русская литература, связанная с именами Толстого
и Достоевского (и не только с этими именами),
оказавшись «вне сферы божественной милости», должны быть
просто уничтожены, изъяты из человеческой культуры.
И наконец, последняя точка зрения — Христос как
преобразователь культуры. Она подчеркивает участие
«Слова» в акте творения, творца — в бытие
человечества и «спасение» — в Христе. Если бог своим творчест-
85
вом установил порядок в мире первозданного хаоса, то
Христос «творит из хаоса грехов через свое дело
спасения новый порядок». «Вся история, — считает Макбрай-
ен, — до сегодняшнего дня есть драматическое
совместное творчество бога и человека... Христос обновляет
культуру тем, что направляет человеческую жизнь на
новую дорогу». Правда, в человеческих делах
божественный замысел под влиянием греха может быть и
«искажен», но это поправи-мо, ибо Христос для того и явил-
ся в мир, чтобы возродить и очистить то, что было
искажено грехом.
На этом основании теолог делает вывод о том, что
между Христом и культурой нет принципиальной
конфронтации. Не следует удивляться, если его облик по-
разному просматривается в различных проявлениях
культуры, например в искусстве. В любом случае это
все тот же Христос — «исторический», «современный»
или тот, который живет в религиозной вере. Проявление
Христа в культуре ощущается наиболее полно всегда
там, где он находит сам себя. Поэтому не столь важно,
в какой форме это происходит. Образ Христа
многогранен, и творения рук человеческих совершенны постольку,
поскольку способны раскрыть одну из граней его
природы.
Такой подход к образу Христа в художественной
культуре требует решения еще одной проблемы —
проблемы творчества, призванного воплотить образ Христа
в произведениях искусства, сделать его зримым,
доступным для людей. Ее решение волнует не только теологов,
но и католических искусствоведов. Любопытно, что они
решают ее, по сути, в традиционном теологическом
ключе,
В самом деле, если многие теологи видят в
«очеловечении» Христа наиболее действенный путь воздействия
на людей его божественной сущности, то католические
искусствоведы рассматривают художественное
творчество как способ выявления этой сущности в человеке и
его делах. В данной связи и для теологов, и для
искусствоведов чрезвычайно важно дать современную
теологическую интерпретацию самих понятий «искусство»,
«художественное творчество». В самом общем плане
они. рассматривают искусство как «нечто человеческое»
и в то же время «творческое» в «человеческом», ибо
художник — человек — с помощью творчества преобразу-
36
ет бесформенную, косную материю в художественное
творение. «Однако, — по словам епископа, доктора
Рудольфа Грабера, — творчество проявляется не в
повторении данной в готовом виде действительности, в
подражании ей, а в привнесении некоей новой сущности»,
т. е. того сокровенного, что «он стремится открыть в
вещах и воплотить в своих произведениях в виде
«истинного образа».
Очевидно, что в таком подходе к вопросу
«искусство — творчество — человек» едва ли можно заметить
что-либо сугубо теологическое. Стремление художника к
постижению тайны бытия и образное воплощение ее
сущности в художественном произведении составляют
необходимые элементы создания произведений
искусства.
В отличие от научно-эстетической точки зрения на
искусство и творчество теология рассматривает различие
между божественным и художественным как различие
«между несотворенным и сотворенным, абсолютным и
случайным, между тем, что вне времени и пространства
и пространственно-временным». То есть бог создает из
ничего силой своей воли то, что не есть он сам —
небожественное бытие (в том числе и человеческое).
«Художник же, напротив — считает Рудольф Грабер, —
всегда использует в своем творчестве нечто уже
созданное, данное богом заранее». Но вместе с тем творческое
начало, заложенное в человеке (поскольку он есть
образ бога), имеет что-то общее и с божественным.
Подобно тому, как бог воплощает в вещном мире
свой вечный прообраз, бесконечную сущность,
идентичную идее, художник «открывает» в естественном, в
природе облик ее «создателя» — бога. Поэтому, согласно
теологической точке зрения, «критерий истинности
произведения искусства следует искать не в том, насколько
оно правдиво отражает натуру, не в совершенстве формы
или в благозвучии (т. е. в том, что «нравится» или «не
нравится» публике), а в интенсивности содержащегося
в нем творческого начала, подобного божественному».
Таким образом, бог как бы продолжает себя в
художнике и через его творчество открывает себя
человечеству. В общем, в изысканиях собременных церковных
специалистов в области искусства хорошо
просматривается тенденция, намеченная II Ватиканским собором и ха-
рактерная для деятельности католического клира в це-
37
лом, — перенесение центра тяжести проповеднической
деятельности (и словом, и искусством) на проблемы
взаимосвязи церкви и мира.
В настоящее время эта тенденция, вылившись в
особого рода «антропоцентризм», ищущий «след божий»
в человеке, таком, каков он есть на самом деле,
определяет особенности тактики официального католицизма.
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ОБРАЗАХ: СУД СОВЕСТИ
«В чем суть и общечеловеческое значение
гуманистических ценностей, таящихся в пришедших к нам
издревле Священных книгах, мифах, притчах, образах,
символах, и как они соотносятся с реалиями современного
мира?» — вопрос, который волнует ныне не только
профессионалов: историков, деятелей искусства, но и широкую
читательскую, зрительскую и т. п. аудиторию. Дать
правильный ответ на этот вопрос невозможно, не уяснив
себе, что те или иные явления духовной культуры,
сформировавшиеся некогда в лоне религиозного сознания, в
конечном итоге имеют своим источником реальные
жизненные процессы, отношения (общественные,
межличностные и т. д.). Не потому ли, например, мы
воспринимаем Библию не только в качестве религиозной книги,
но и как памятник культуры, вобравший в себя
социальный, этический, эстетический опыт целой эпохи.
Если подойти к Библии с этих позиций, то за
религиозно-фантастическими наслоениями мы увидим
исторически вероятные общественные ситуации, житейские
коллизии, в которых участвуют реальные люди
определенного исторического, социального и этнического типа.
И в то же время их поступки, взаимоотношения,
представления о добре и зле при всей своей исторической
конкретности, в некоторых случаях даже обыденности,
включают в себя элементы, имеющие глубокий
общечеловеческий смысл. В том-то и дело, что, если бы
Евангелие, например, было исключительно плодом чьей-то
фантазии, умозрительной религиозной идеи, оно вряд
ли смогло бы выдержать испытание временем. Сила
евангельских образов прежде всего в том, что они
концентрируют — пусть абстрактно, в фантастической
форме — глубочайшую суть драмы человеческого бытия с
38
его надеждами и разочарованиями, искренностью и
коварством, верностью и предательством, всепрощением и
неистребимой жаждой возмездия. Освященные и
очищенные временем, эти образы предстают ныне как
символы — предельно обобщенные и многозначные.
Рассмотренные современным художником-в связи с той или
иной конкретной ситуацией — социальной или сугубо
личной, они приобретают новую жизнь и способствуют
появлению психологически точных наблюдений,
аналогий.
Многозначность этих символов проявляется в
частности, и в том, что они содержат не только
гуманистические ценности, такие, как милосердие, любовь к
ближнему, сострадание, готовность жертвовать собой во имя
других, порядочность, честность, но и то, что
свойственно «греховному» миру, — властолюбие, жадность,
стремление к накопительству, жестокость, мстительность,
притязание на абсолютную истину, нетерпимость к
инакомыслию. Исторически эти черты не столь уж редко
определяли политическую и нравственную позиции как
общественных, государственных, так и церковных
деятелей со всеми вытекающими отсюда трагическими для
человечества последствиями (разумеется, в рамках
конкретных социально-исторических условий).
Все это дает основание для современной
художественной мысли, обращающейся к прошлому, например к
эпохе средневековья, не отступая от исторической
достоверности, «прочитывать» отдельные конфликты этой
эпохи или описанные в Священных книгах как
иносказательное отображение ситуации нынешнего XX в.
Интересен в этом отношении исторический роман известного
итальянского писателя Умберто Эко «Имя розы»1.
Писатель вводит нас в мир социальных конфликтов,
политических и религиозных распрей, взаимоотношений
людей XIV в., когда церковь и религиозная идеология все
еще удерживали свое господство. События романа
протекают в стенах некоего аббатства, руководители
которого «противились еретику и святокупцу папе» (Иоанну
XXII). Причина, определившая конфликт между ними,
состояла в следующем. Став главой папского престола,
Иоанн XXII поддержал французского короля в его
'Эко Умберто. Имя розы // Иностранная литература. —
1988. — № 8. — С. 14.
39
борьбе против рыцарей-храмовников2. Они были обви-
йены папой в немыслимых грехах. Однако вся вина
этого монашеского ордена состояла в том, что он владел
несметными богатствами, «кои папа-вероотступник и
король присвоили»3.
Отнюдь не религиозными побуждениями
руководствовался папа Иоанн XXII и в другой ситуации. Когда в
1322 г. Людвиг Боварский разбил своего соперника
Фредерика, папа, «испугавшись единственного ныне
императора еще сильнее, чем боялся двух... отлучил
победителя, а он в отместку объявил папу еретиком»4.
Писатель обращает внимание и на то, что столь же «земные»
основания определяли религиозные распри между папой
и его сторонниками и Францисканским орденом. По
существу, они отражают противостояние двух
противоположных нравственных и социально-политических
позиций.
В самом деле Франциск Ассизский прославился тем,
что проповедовал равенство в бедности и отказ от
собственности, осуждал социальную несправедливость. Не
удивительно, что его идеи не принимались той частью
клира, которая стремилась сохранить за церковью
богатство и, что особенно для нее важно, политическую
власть. По выражению одного из персонажей романа
Эко, для церкви «вопрос не в том, был ли Христос
беден, а в том, должна ли бедной быть церковь». И далее:
бедность применительно к церкви не означает: владеть
ли ей каким-либо дворцом или нет. Вопрос в другом:
вправе ли она диктовать свою волю земным владыкам?
Да, конечно, вопрос о политическом диктате —
наиглавнейший для католического самодержца. Но это
отнюдь не означает отказ от земных богатств. Если
францисканцы — поборники бедности — в качестве образца
высокой нравственности провозгласили Христа,
презирающего богатство, то папа Иоанн XXII издал буллы
(наиболее важные акты папы римского, содержащие
обращения, постановления, распоряжения) против
бедности христианской церкви. Более того, он «подбил домини-
2 Рыцари-храмовники — монашеский орден, созданный в XII в.
с целью борьбы за освобождение «святой земли». Позднее стал
самым богатым орденом за счет ростовщичества и т. п. — См.:
Лозинский С. Г. История папства. — М, 1986. — С. 153—155.
3 Э к о Умберто. Имя розы. — С. 14.
4 Та м же.
40
каицев... ваять фигуры Христа в царской короне, в пур-
пурной с золотом гунике и в богатейших сандалиях»6, А
в Авиньоне есть распятие, «где Христос прибит к кресту
одной только рукой, а яругой держится за кбшель,
привешенный у него на поясе», и «все это ради
доказательства, что Он благословляет употребление денег в
обиходе церкви»6.
Ну разве не богохульство все это? И тем не менее
церковные власти, призванные проповедовать истину
божью» евангельские нравственные заповеди, вели себя
столь недостойным образом. Во имя политического и
экономического господства они готовы были не только
исказить образ бога, но и жечь, душить, пытать в
застенках инквизиции всех тех, кто противится этому, кто
кажется подозрительным. И это для них тем более
важно, что истязания калечат не только физически, но и
духовно: «Под пыткой ты скажешь не только все, чего
хочет следователь, но еще и все, что по-твоему, могло бы
доставить ему удовольствие»7. Признания пытаемого не
содержат истины. Истину провозглашает Разум
свободного человека, не признающего иных авторитетов, кроме
знания природы и веления совести. Эко подчеркивает,
что уже в XIV в. изучение тайн природы, приобретение
знаний имели для прогрессивно мыслящих людей
огромное нравственное значение. Именно в этом они видели
путь к «исправлению человечества». Но диктатурам и
диктаторам любого вида не нужна истина. Для них
важнее иллюзия или подобие истины, оправдывающие
неправый, жестокий, абсурдный мир тоталитарных
режимов. Разве не эта же мысль проходит красной нитью
через фильм кинорежиссера Тенгиза Абуладзе
«Покаяние»? В самом деле, символом торжества бездуховности,
ненависти к памяти человечества,, к пытливой мысли
художника-гуманиста выступают в этом фильме и
взорванная церковь (драгоценный памятник культуру), и
растоптанные жизни многих людей.
Но вернемся к роману Эко. И в нем, ж>тя и на
другом примере, показана роковая роль диктата: зловещая
тень тоталитарности покрыла тайной, сделав
недоступными для пытливого человеческого ум#, несметные бо-
5 Эко Умберто. — Имя розы. — С. 14,7,
6 Та м же.
7 Там же. — С. 31.
41
гатства монастырской библиотеки. Дело отчуждения
сокровищ знания от человека довершил пожар,
уничтоживший библиотеку.
Как видим, религиозная вера даже в пору своего
господства не; смогла спасти человечество от бедствий,
которые несет с собой политический диктат — церковный
или светский — все едино.
Столь же бессильна религиозная вера, по
наблюдениям Эко, убить в человеке естественные требования
плоти. Аскетизм уродует его, деформирует психику,
взгляды о праведном и о греховном. Любопытно и то,
что в условиях аскетического образа жизни
складывается порой воистину трагическая (или парадоксальная?)
ситуация: ведь даже беззаветно верующий монах,
неукоснительно выполняющий предписания
монастырского устава, не в силах иной раз пробести границу между
греховным и «священным» исступлением, восторгом.
Эко объясняет этот феномен тем, что «мало чем
отличается жар серафимов от жара Люцифера, ибо и тот и
другой восполняются в невыносимом напряжении
желания...»8. Главное же здесь в том, «что даже самая
духовная любовь, если не умеешь противостоять
(подчеркнуто мной. — О. А.) и отдаешься ей с жаром, ведет к
падению»9. То есть психологический механизм
кристаллизации и праведного и греховного чувства, «любви
благой», рождающейся между человеком и богом,
между единоверцами, и «любви преступной», чувственной —
один и тот же. В конечном итоге нравственная оценка
поступка остается за человеком. Но, чтобы дать эту
оценку, человек должен возвыситься над слепым
чувством (божьей или плотской любви), преодолеть его и
сознательно выбрать ту или иную нравственную
позицию. Насколько она будет объективно правильной,
гуманной — это другой вопрос. Человек формируется и
живет под влиянием множества факторов —
объективных и субъективных, общественных и личностных, в
определенной среде, в определенную эпоху — все это
накладывает отпечаток на его нравственный облик. Но
одно остается непреложным: способность к
сознательному выбору, умение противостоять тому, что данный
человек считает аморальным, антигуманным, а потому
8Эко Умберто. Имя розы. — С. 30.
8 Там *ке. — С. 101,
42
противоречит его убеждениям, по сути своей позитивно,
ибо утверждает человеческое достоинство, право на
уважение не только себя, но и других людей.
Решая проблему нравственного выбора, современное
искусство нередко обращается к известным
евангельским диалогиям: Христос и Иуда, Христос и Пилат. В
чем же их созвучие с нашим временем? Какой урок
нравственного поведения дают они современному
человеку?
Итак, первая: Христос и Иуда. Одной из самых
распространенных версий толкования этих двух
евангельских фигур — всепрощение (Христос) и предательство
(Иуда). Действительно имя Иуды стало синонимом
слова «предатель». Именно в этом смысле оно трактуется,
например, М. А. Булгаковым в романе «Мастер и
Маргарита»: Иуда «подлый предатель». Ну а как известно,
предательство — самая отвратительная, самая низкая
ступень нравственного падения. Все это так.
Но в Евангелии рассказ об Иуде не заканчивается
актом содеянного им предательства. К тому же не
следует забывать, что в качестве религиозного источника
оно многомысленно, полно иносказаний,
таинственности, загадочности. Сформировавшееся в эпоху глубокого
средневековья Евангелие соответствовало тому типу
мышления, которое господствовало тогда и в теологии и в
философии. То есть поскольку Священные книги
содержат «божественную истину» (единственно якобы
возможную и непогрешимую), они не могут быть
однозначными. Ибо божественность без внутренней, сокровенной
таинственности, загадочности теряет свой ореол высшей,
не во всем доступной человеку мудрости. Поскольку же
это так, то Евангелие — не только «Откровение», но и
«Сокровение».
Многозначность евангельских образов содержит
возможность множественности их толкования не только
теологами, но и многими поколениями писателей,
художников, При этом неизбежно возникают оценки, прямо
противоположные друг другу. Так случилось и с
толкованием диалогии Христос — Иуда. Как показало время,
весьма интересной оказалась художественная традиция,
начало которой восходит к «Пассионам» И.-С. Баха. С
помощью музыки и слова композитор раскрывает мно-
голикость, внутреннюю напряженность образа Иуды. С
одной стороны, он выступает как предатель, беэнравст-
43
же мужественно переносит пытки и смерть, как и свя«
той мученик, ибо и тот и другой верят в правоту и
справедливость дела, во имя которого гибнут. Поэтому
трепетный восторг и страх может возникнуть далее у очень
верующего человека при виде мук не только святого, но
и еретика.
Вот как описывает Эко состояние юного монаха,
только что оторвавшегося от книги, в которой идет речь
о казни еретика Дольчина: «Я закрыл рукопись
непослушными, трясущимися руками. Дольчин был во многом
виноват, я знал это, но казнь, которой его подвергли,
была слишком ужасна. И на костре он выказал... что?
Твердость мученика или закоснелость проклятой
души» 14. Вопрос для монаха остается открытым. Хотя в то
же время его душа была охвачена восхищением,
преклонением перед мужеством казненного еретика, не
потерявшего человеческое достоинство даже перед лицом
мученической смерти. В том-то и дело, что, раскрывая
общечеловеческий смысл евангельских историй, образов,
искусство преодолевает узость христианского
гуманизма. Если его апологеты нравственным полагают
поступок, мотивированный в конечном итоге богопочиташь
ем, то искусство стремится рассмотреть человеческие
поступки с позиций моральной ответственности людей за
реальные, судьбоносные последствия этих поступков для
общества в делом и каждого человека в отдельности,
причем с точки зрения не абстрактного блага или
абсолютного зла, а сложного, часто противоречивого
многообразия соотношений, взаимопереходов различных
сторон человеческого бытия и его социальных
закономерностей.
Обратимся еще к одной евангельской диалогии —
Христос и Пилат, Из писателей XX в. образ, наиболее
близкий к историческому образу Пилата, создает
известный французский писатель Анатоль Франс. В его
рассказе «Прокуратор Иудеи» Пилат — римский чиновник,
равнодушный к судьбам вверенной ему провинции и
ненавидящий ее народ. Воспитанный на принципах
божественного Августа, он всегда помнил, что «человеколюбие,
к которому взывают философы, не вяжется <с
обязанностями правителей» 15, и правил страной, «держа в одной
14 Эко Умберто. Имя розы. — С. 103.
16 Ф р а« с Анатоль. Прокуратор Иудея // Собр. соч, — В
8 т. — М.а 1958. ~- Т. 2. — С. 665.
4Ъ
руке судейский жезл, в другой секиру». Во имя диктата
Римской империи Пилат был готов на любое самое
жестокое действие. До глубокой старости он был убежден в
том, что рана или поздно народ Иудеи свергнет власть
Рима. Ибо, по мнению Пилата, иудеи сильны своей
верой в предсказания пророков о «пришествии мессии...
который станет владыкой мира». В силу этих
обстоятельств иудейский народ «надо искоренить, надо
разрушить Иерусалим до основания» 16. Но способен ли
испытывать чувство жалости, сострадания человек,
обуреваемый ненавистью, злобной жаждой уничтожения целого
народа? Конечно, нет. Много невинной крови было
пролито по его велению. Не удивительно, что, когда через
много лет ему был задан вопрос, помнит ли он
молодого чудотворца из Галилеи, называвшего себя Иисусом
Назареем, «Понтий Пилат нахмурил брови и потер
рукой лоб, пробегая мыслью минувшее. Немного йомол-
чав„ ой прошептал:
— Иисус? Назарей? Не помню» 17.
Да и мог ли этот человек сохранить в памяти казнь
«какого-то безумца», если она была для него одной из
многих, всего лишь мелким, незначительным эпизодом.
Его не мучает совесть, ибо недоступен мукам совести
любой человек — прошлого или настоящего, — думаю:
щий лишь о своей карьере и: жизненных удобствах.
В ином ключе решает тему «Христос — Пилат»
современный французский писатель Роже Кайюа. Его
решение связано с поисками твердых нравственных опор,
которыми должна руководствоваться личность, облеченная
властью, в жестоком и неустойчивом мире. Прообраз
такой личности писатель пытается найти в Понтий
Пилате. Каков он в представлении Кайюа?
Исторический — жестокий, высокомерный, решительный, не
знающий сомнений чиновник? Или евангелический? Человек,
трижды отказавшийся утвердить смертный приговор
Иисусу, но в конце концов вынужденный уступить
первосвященникам и при этом «умывший руки», —
ответствен за казнь Христа не он, ответственны иудейские
первосвященники. Кайюа дает евангельской легенде
неожиданное направление и завершение: не Иисус, а Пи*
лат — вершитель судеб человечества. Пилат, по
Кайюа, — образованный человек. Ему близки свободные
16 Франс Анатоль. Прокуратор Иудеи; — С. 670.
17 Т а м ж е. — С. 672.
47
венный поступок которого мотивирован якобы столь же
безнравственным помыслом — корыстью10. Однако с
другой стороны, Бах подчеркивает, что Иуда — такая
же жертва божественной воли, как и Христос. И ?0т и
другой действуют по наитию свыше. Ведь не свершись
предательство Иуды, не состоялось бы и распятие
Христа, т. е. миссия, возложенная на Христа богом, не была
бы исполнена.
Любопытна параллель, которую проводит Эко,
обращаясь к этой ситуации в XX в. Писатель до предела
обнажает ее глубинный смысл. Вопрос ставится так:
чудовищно убивать человека, чтобы утвердить веру в
единого бога11, и столь же чудовищно действие самого
бога по отношению к человеку, который по его велению
спровоцировал это убийство. Когда потребовалось,
чтобы «кто-нибудь предал Иисуса ради того, чтобы могло
осуществиться чудо искупления», Иуда был призван к
исполнению этой миссии, «и тем не менее Господь
приговорил к проклятью и вечному поношению того, кто
его предал»12.
Но не только в этом трагизм их (Иисуса и Иуды)
положения. Самое страшное (например, в трактовке
Баха) наступает тогда, когда наваждение проходит и
Иуда осознает безнравственность своего поступка.
Тогда, будучи не в силах перенести муки совести, он
выбрасывает деньги (цена крови) и кончает жизнь
самоубийством. Гуманизм художественной интерпретации этого
эпизода (имеющегося и в евангельском тексте) состоит
прежде всего в подчеркивании ответственности самого
человека за совершенный поступок. Именно таким
образом истолковывает Бах слова Христа, сказанные в адрес
Иуды: «Но горе тому человеку, которым Сын
Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не
родиться» (Матф. — Гл. 26. — Ст. 24). В самом деле,
какай же казнь может быть страшнее мук совести?!
Образ человека, обреченного, подобно евангельскому
Иуде, на такую казнь, нашел свое выражение в
современной литературе. Речь идет о священнике Мильане —
10 Многогранность образа Иуды, включающая корыстолюбие как
одну из его характерных черт, отмечает и Л. Н. Андреев. — См.:
Андреев Леонид. Иуда Искариот // Повести и рассказы в
2 т. — М., 1971. — Т. 2.
11 См.: Эко Ум бе р то. Имя рояы, — С, 54,
12Там ж е< — С. 172.
44
персонаже повести испанского писателя Рамона Хосе
Сендера «Реквием по испанскому крестьянину». Это —
повесть о трагедии испанского народа в годы фашизма.
Ее драматическим стержнем является нравственное
противостояние священника Мильана и доброго смелого
крестьянского парня — Пако. Они символизируют
противоположные социальные позиции: священник
благословляет мир насилия, жестокости, социальной
несправедливости. Пако защищает права крестьян,
справедливость, человечность. И вот священник, знавший юношу с
детства, воспитывавший его некогда в духе религиозной
морали и призывавший чтить библейские заповеди
(среди которых есть и заповедь «не убий»), становится
виновником гибели Пако и его товарищей. Но не только в
этом проявилось его нравственное падение. Ссылаясь
йа авторитет Евангелия, священник пытается убедить
Пако в правомерности античеловеческих дел фашистских
палачей и своего предательства. Перед самой казнью он
говорит Пако: «Иногда, сын мой, Господь допускает, что
умирает невинный. Так он позволил, чтобы умер его
собственный Сын, а тот был еще более невинен, чем вы
трое» ,3.
Эти слова не утешили приговоренных и не принесли
морального облегчения самому священнику. Как бы он
ни уверял себя, что обстоятельства были сильнее его, —
выбор был сделан. И это понятно не только священнику,
нр и его прихожанам — крестьянам. Не удивительно,
что никто из них не пришел в церковь на заупокойную
мессу в память о Пако. Тем самым они отказали своему
духовному пастырю «в печальном праве служить ее».
Однако трагедия человека, совершившего под
давлением обстоятельств предательство и терзаемого затем
муками больной совести, не исчерпывает глубинный
смысл диалогии Иуда — Христос. Если мы вновь
обратимся к роману Эко, то найдем еще одну, совершенно
неожиданную интерпретацию этой диалогии: Христос
символизирует в ней некий обобщенный образ святого
мученика всех времен, а Иуда образ еретика. Если с
позиций церкви святой и еретик — антагонисты, то, как
полагает Эко, с точки зрения нравственной они в
равной мере достойны уважения и сочувствия: еретик столь
13Сендер Рамон Хосе. Реквием по испанскому
крестьянину // Монастырская школа. Повести. — М., 1986. —- С. 181.
45
от религиозных предрассудков гуманистические идеи
античных философов. Не удивительно, что Пилата
отталкивают религиозный фанатизм и распри иудейских
первосвященников. Следуя нравственному долгу, он не
пошел на поводу у них и отказался подписать приговор
невинному. А ведь от его морального выбора зависела
судьба не только Иисуса, но его собственная. Достойно
внимания и то, что Пилат побеждает в моральном
противоборстве не только иудейских первосвященников, не
только самого себя, свой страх (перед возможным
наказанием), но и провидение, рок, явившийся ему в лице
Иуды. Пожалуй, противостояние «Иуда — Пилат»
оказалось в повести Кайюа не менее острым, чем два
предыдущих.
В самом деле эпизод, в котором рассказывается о
встрече Пилата с Иудой, психологически напряжен до
предела. Итак: стража приводит к прокуратору Иуду,
На вопрос «кто ты?» арестованный отвечает: «Мое имя,
которое будет проклято во веки веков, тебе ничего не
скажет... Но это также имя орудия Божественного
Провидения. Все свершится через меня... и через тебя, Пон-
тий Пилат... У нас одна дорога, мы одной цепью
скованы...» «Спасение мира зависит от распятия Христа!
Останься Он в живых или умри естественной смертью...—
пропало искупление. Но благодаря Иуде Искариоту и
благодаря тебе, прокуратор, ничего подобного не
случится... Бог умрет во имя искупления грехов людей... Я,
как и ты, прокуратор, служитель Божественного
Жертвоприношения» 18.
Благодаря божественному провидению, продолжает
Иуда, Трус и Предатель не противоречат своими
действиями христианской морали: один — отважный (ибо,
преодолев трусость, исполнит волю бога): его «слава
необходима», другой — чья «преданность зашла так
далеко, что он согласился навеки остаться заклейменным
стигматами вероломства». Ведь только так может осу^
ществиться акт искупления.
Внутренне полемизируя с Иудой, Пилат опирается на
аргументы, подсказанные здравым смыслом. Могли бы,
скажем, Сократ и Лукреций отнестись с уважением к
религии, которой для самоутверждения потребны неспра-
18 Кайюа Роже. Понтий Пилат // Монастырская школа.
Повести. — С. 43—44.
48
ведливость, малодушие или даже предательство какого-
то человека? Конечно, нет. А если это так, то столь же
нелепым будет и другой вопрос: можно ли считать
справедливым мнение, что «разум для установления своего
царства нуждается в искре безумия, что изначальное
насилие и всеобщая несправедливость — единственный
источник силы, способный ускорить сомнительное
пришествие хрупкой и относительной справедливости»?19
Могущество богов, по мысли писателя, кончается там,
где начинается человеческая добродетель, где хозяйкой
положения становится совесть человека, повелевающая
вершить подвиг человеколюбия независимо от воли
богов. После долгих раздумий и колебаний Пилат
оправдал и отпустил Христа. Оказавшись на свободе, Мессия
еще долго и успешно продолжал проповедовать свое
учение и умер естественной смертью в почтенном
возрасте. «Он, — пишет Кайюа, — пользовался репутацией
святого, и к его могиле еще долго стекались паломники.
И все же из-за человека, который зопреки всем
ожиданиям проявил мужество, христианство не состоялось...
История... пошла иным путем»20.
Но не только в этом суть мысли Кайюа. Для
писателя (как и для многих других деятелей культуры
сегодня) очень важно было показать бесплодность
религиозной идеи о роковой зависимости человеческих
поступков от божественной воли и раскрыть суть величия
человека, обладающего такими качествами, как
способность к действенному состраданию, умение преодолеть
разлад с самим собой и принять решение непредвзято,
сообразуясь со своей совестью и разумом. Такой подход
созвучен нашему времени и по своей сути гуманистичен.
Ибо сегодня, как никогда прежде, возрастает
ответственность человека за судьбы всего мира, всего
человечества.
«МЯТЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ»
В ЗЕРКАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Священники призывают свою паству под страхом
проклятия и вечных мук повиноваться начальству,
князьям и государям, как власти, поставленной от бога. В
19 Кайюа Роже. Понтий Пилат. — С. 64.
20 Т а м ж е. — С. 76.
49
свою очередь государи заботятся о престиже
священников, наделяют их жирными бенефициями и богатыми
доходами, поддерживают... их богослужения и заставляют
народ считать святым и священным все, что они делают
и чему учат» 1. Так писал в своем «Завещании» бедный
сельский священник и замечательный просветитель
Ж. Мелье, живший в одной из самых католических стран
Европы XVIII в. — во Франции.
И вот спустя два столетия на одном из самых
католических континентов XX в. — южноамериканском —
возникает «мятежная церковь», связавшая свою жизнь,
свою судьбу с движением прогрессивных сил против
реакции как светской, так и духовной.
Гуманистические идеи «мятежной церкви» находят
сочувствие и поддержку в прогрессивных кругах
художественной интеллигенции, Не удивительно, что,
повествуя о трагических коллизиях борьбы народов Латинской
Америки против угнетателей, писатели нередко
используют в своих произведениях евангельскую символику и
образность. Причем их интерпретация позволяет, как
правило, судить не только о религиозной, но и
политической ориентации их авторов.
Например, символ мук Христа — распятие
превращается в символ насильственной смерти, протеста
против нее и против общественной системы, в условиях
которой человеческая жизнь обесценивается. Смерть есть
смерть. Она безнадежна, мучительна и безобразна.
Убийство невинного же, беззащитного человека —
величайшее злодеяние. А разве распятие Христа не есть такое
же убийство? Подобное истолкование «распятия» не
столь уж редко встречается в искусстве разных эпох и
народов. Его общечеловеческий смысл очень точно
выразил Карлос Фуэнтес: «Тогда, после сражения в
горах... все трупы были разложены по краям площади
перед церковью... Трупы... напоминали изображение
Христа на полотне Мантеньи2, такого одинокого на своем
смертном одре, его ноги, все тело, словно рвущееся из-
под покрывала, бьющее пятками зрителя, будто всеми
силами желая убедить его, что смерть не благородна, а
1 Мелье Ж. Завещание // Французские писатели XVIII века
о религии. — М., 1960. — С. 77.
й Андреа Мантенья — выдающийся итальянский художник —
гуманист эпохи Возрождения. В данном случае речь идет об одной
из лучших его картин «Мертвый Христос»,
50
низменна, не тиха, а конвульсивна, не обещающа, а
безвозвратна и вечна; полузакрытые стеклянные глаза,
жидкая двухдневная борода, изъязвленные ноги,
бездыханный приоткрытый рот, провалившиеся ноздри,
кровоточащие бедра, пряди волос, слепленные пылью и
потом»3. Весь строй этого описания самым неожиданным
образом удивительно созвучен настроению картины
«Распятие» Н. Н. Ге — художника из России конца
XIX в. В его трактовке распятие Христа — не
религиозный символ, а реальная и ужасная казнь.
Ни Мантенья, ни Ге, ни Фуэнтес, хотят они этого
или нет, не оставляют надежды на спасение и райское
блаженство после смерти. Большое искусство —
прошлого и нашего времени, — ограничивая, а иногда и
полностью снимая иллюзию о загробном воздаянии, решает
проблему «человек перед смертью» хотя и по-разному,
но по сути реалистически. Так, Фуэнтес рассматривает
ее, исходя из реальных социальных обстоятельств,
противоречий, конфликтов Мексики XX в. Эта страна
страдает от притеснений своего соседа, прикрываемых
циничной моралью, суть которой состоит, по признанию
старого американского журналиста — главного героя
романа Фуэнтеса «Старый Гринго», в следующем: «Мое
имя было синонимом цинизма и черствости. Я был
учеником дьявола, хотя даже дьявола я не взял бы себе в
учителя. А тем более бога, которому я нанес
оскорбление, худшее, чем богохульство: я проклял все, что он
сотворил... Я придумал новые заповеди... Возлюби
только тех, чей лик изображен на монетах твоей страны; не
убий, ибо смерть освободит твоего врага от вечных
страданий; не укради — легче дать себя подкупить; чти
мать и отца: глядишь, оставят тебе наследство»4.
Эта мораль не придумана, она — реальна. Ее
воздействие на души людей ведет к обесчеловечению,
опустошенности. И дело здесь не в богохульстве, а в отказе
от гуманистических ценностей в угоду наживе,
классовому и национальному эгоизму — будь то американские
колонисты или мексиканские помещики, диктаторы и им
подобные. Что может противопоставить всему этому
угнетенный народ? Покорность и молитвы о помощи
свыше? Нет! «Мы больше не хотим, — гордо заявляет прец-
3 Фуэнтес Карло с. Старый Гринго // Иностранная
литература. — 1988. — № 3. — С. 120—121.
4 Т а м ж е.— С. 60.
51
водитель революционной армии полковник Фрутос Гар-
сиа (персонаж романа Фуэнтеса), — чтобы нами вечно
помыкали местные касики («помещик», «правитель». —
О. А.), церковники и выжившие из ума аристократы».
Поскольку же они добровольно не откажутся от власти,
то следует принять в качестве истины девиз: только
насилие «идет впереди свободы». А коль это так, то, по
мысли полковника, революционное насилие
гуманистично в своей основе, оно направлено против
политического режима, охраняющего социальную несправедливость
и угнетение. Правда, по мысли другого писателя, Грэма
Грина, «некоторые богословы... отрицают право на
насилие, в любых условиях. Но как же иначе
никарагуанцы могут защищаться от контрас? Ведь это контрас
порождают насилие!»5 Эти слова были высказаны в 1987г.
и соответствовали ситуации в Никарагуа того времени.
Вместе с тем писатель считает, что сопротивление
несправедливости, социальному злу может принимать и
другие формы, например, те, о которых он пишет в
своем романе «Сила и слава» (Свой роман Грин с полным
основанием называет первой книгой «теологии
освобождения»).
Заметим, что одной из граней творчества этого заме-
чательного писателя является столкновение между его
религиозной верой и гражданственностью художника-
реалиста. Причем, как правило, гражданственность и
действенный гуманизм Грина берут верх над его
набожностью. Не удивительно, что Грэм Грин в политике
относит себя к «левым», в религии — к
«католикам-еретикам», а в литературе, по собственному признанию, он
«не католический писатель», а «писатель, которому
случилось быть католиком». Это признание верно: в
качестве писателя он не мог не быть еретиком. Ведь именно
само художественное мышление, пбэтика Грина были
восприняты Ватиканом в качестве ереси и явились
основанием для включения романа «Сила и слава» в
список запрещенных для чтения верующими книг (правда,
когда-то папа Павел VI одобрительно отозвался об этой'
книге, но это было его личным мнением и в принципе
сегодняшнее отношение официального католицизма к
позиции Г. Грина не меняет).
5 Грэм Грин в редакции журнала и новый взгляд на «Силу и
славу» // Иностранная литература. — 1987. — №11. — С. 224.
52
Что же представляет собой этот роман? Его главный
персонаж — недостойный, грешный священник —
«пьющий падре». Случилось так, что он попадает в сложную
экстремальную ситуацию...
...Закрыты по воле диктатора все церкви (в качестве
института враждебного, не вписывающегося в
идеологическую и политическую структуру господствующей
власти), а священники объявлены вне закона. Их
арестовывали и казнили. В конце концов живым остался один-
единственный священник и именно — «грешный падре».
Но петля преследования затягивается все туже, от него
отвернулись даже верующие крестьяне. Загнанный,
затравленный, он оказался почти в полной изоляции. Если
даже и зайдет в деревню, никто не станет удерживать
его, никто не скажет, что больна женщина, что умирает
старик, теперь он сам как болезнь. Теперь он совсем
один.
Но именно эта экстремальная ситуация побуждает
«грешного падре» пересмотреть всю свою жизнь и
прийти к еретическому сомнению в истинности привычных
религиозно-нравственных представлений и критериев
оценки взаимоотношения между людьми. Он вдруг
вспоминает, что вступил на путь служения церкви лишь
потому, что всего боялся и ненавидел нищету не меньше,
чем преступление. «Он верил: стану священником и буду
богатый и гордый»6. Поэтому, получив сан священника,
он добросовестно выполнял свои обязанности. Впрочем,
это было нетрудно, пока церковь пользовалась властью
и авторитетом, а ее служители протягивали для поцелуя
холеные, мягкие и покровительственные руки»7.
Ну а как быть сейчас, когда всего этого нет? В чем
долг священника, оказавшегося единственным в стране?
Ведь именно его запомнят дети. От него они почерпнут
свое представление о вере. «А если уйти отсюда, тогда
бог исчезнет на всем этом пространстве между
городами и морем. Не велит ли долг остаться здесь — пусть
презирают, пусть из-за него их будут убивать...»8. Эти
мучительные сомнения и колебания между долгом
священника (служить вере) и долгом человека (уйти и
спасти крестьян от расправы за укрытие священника) в
конце концов были разрешены в пользу человека.
6 Грин Грэм. Сила и слава // Иностранная литература. —
1987. - № 1. - С. 41.
7 Т а м ж е. — С. 43.
8 Т а м ж е. — С. 40.
53
Критическая ситуация заставила «грешного падре»
по-иному посмотреть и на гнетущий его многие годы
«смертный грех»: он нарушил обет целибата
(безбрачия), вступив в связь с одной из своих прихожанок и
став отцом девочки, которую увидел именно теперь, в
годину обрушившихся на него бедствий. Встреча с нею
разбудила в душе «недостойного падре» неизбывное, все
заполнившее чувство отцовской любви. Он с нежностью
смотрел на девочку, и откуда-то из глубин памяти
возникла пословица, которую часто повторял его отец: «Нет
ничего лучше запаха хлеба, нет ничего вкуснее соли, нет
ничего теплее любви к детям». Как уберечь это
маленькое существо от превратности судьбы? Ведь дочь его —
плод греха, за который недостойному священнику
уготованы судьбой «адские муки — видеть, что эта девочка
унаследовала отцовские пороки», что ей предстоит в
будущем пройти через «унизительные годы позора». Глядя
в этот горестный час на свою дочь, он думал и о том,
что теперь уже никогда не уйдет из его сочащегося
кровью и любовью раненого сердца эта неизбывная
мучительная боль. Ее не снимет никакое покаяние, никакое
отпущение грехов, освященное церковью.
И в самом деле, когда, позднее, наступил час читать
покаянную предсмертную молитву, «он заставил себя
думать о дочери, стыдясь своего греха, но в нем
говорила только изголодавшаяся любовь — что-то ждет ее в
жизни? А грех был такой давности, что позор потускнел,
точно краски на старой картине, оставив после себя
лишь нечто вроде умиления»9.
Любовь к ребенку, ради которого он готов был отдать
жизнь, душу, отличает теперь его веру от веры тех, кто
печется лишь о собственной карьере, о власти,
политических спекуляциях. Для него судьба ребенка стала
самой важной заботой, но отцовское чувство «грешного
падре» лишено эгоизма, оно требует «любить каждую
человеческую душу, как свое дитя», а столь
естественное для родителей стремление «спасти, охранить должно
распространяться на весь мир».
По-иному видит теперь священник и суть
богослужения, которое он совершил тайно, в темной
крестьянской хижине, задолго до рассвета (ибо, по слухам, поли-
*- ,
9 Грин Грэм. Сила и слава. — С. 104.
54
цейские рано утром должны в поисках священника быть
в деревне). Отбросив гладкие, литературные фразы,
привычные со времен обучения в семинарии, он упрямо
говорил:
«И прежде всего запомните: рай здесь, на земле...
Здесь в эту самую минуту ваш страх и мой страх —
часть райского блаженства, когда страх уйдет от нас на
веки вечные» 10.
Перед лицом смертельной опасности «на миг он
почувствовал огромное удовлетворение от того, что может
говорить с этими людьми о страдании, не кривя душой,
ибо гладкому, сытому священнику трудно восхвалять
нищету» и.
Много еще испытаний придется вынести «грешному
падре» после того, как он отслужил эту свою последнюю
на родине тайную мессу и покинул деревню, но
руководящим началом в его поступках станут сострадание
и милосердие, хотя в конце концов за это ему придется
поплатиться жизнью.
Но не все священники таковы. Грэм Грин
противопоставляет «грешному падре», казалось бы, безгрешных,
всеми почитаемых служителей церкви. Но столь ли уж
они нравственно чисты и религиозно последовательны?
На поверку оказывается — нет. Их характеризует
пренебрежение к низшему духовенству, забота о
собственном благополучии, формализм в вопросах веры. Среди
них есть и такие, кто спас свою жизнь ценой отказа от
сана. К ним принадлежит, например, падре Хосе.
Всеми презираемый, он замкнулся в скорлупе жалкого,
безрадостного существования. И самое отвратительное
здесь в том, что безопасность своей ничтожной жизни
он купил ценой отречения не только от элементарных
норм человеческого общежития — сочувствия,
готовности прийти на помощь в беде — но и от христианского
гуманизма, которым, казалось бы, должен был
руководствоваться человек, воспитанный в традициях
религиозной морали и многие годы в качестве
священнослужителя проповедовавший ее. Цепляясь за свою жизнь, он
отказывается, например, осуществить акт христианского
милосердия: прочесть хотя бы молитву над гробом
маленькой девочки (за совершение обряда он мог быть
Грин Грэм. Сила и слава. — С. 45.
Там же.
55
подвергнут наказанию со стороны властей). И никакие
мольбы ее родных не могут заставить бывшего
священника преодолеть страх. «Оставьте меня... — беспомощно
бормотал он.— Я не достоин. Разве вы не видите? Я
трус...» Таким он и был на самом деле: «тучным,
уродливым, униженным стариком». А ведь падре Хосе был
всегда глубоко верующим и искренне преданным церкви
священником. Во время богослужения он и в самом деле
ощущал присутствие бога.
Тем не менее он не пошел по дороге мученичества во
имя Христа, а склонил голову перед жестокой, неправой
властью, предав и собственную веру. Да, мучеником стал
не он, а «грешный падре», для которого путь
мученичества (так же, как и отречение для падре Хосе) стал
роковым: чем мучительнее страдания, тем сильнее
обуревали его еретические мысли! Так ли уж страшны грехи,
совершенные под воздействием требований плоти, ведь
в подобных грехах можно обвинить и животных.
Гораздо опаснее — предательство, насилие. Но и то и
другое — воплощение мира, за который умер Христос. Этот
подвиг не по силам человеку. Ибо, по мысли «грешного
падре», «легко отдать жизнь за доброе, за прекрасное —
за родной дом, за детей, за цивилизацию, но нужно быть
богом, чтобы умереть за равнодушных, за
безнравственных» 12. Из этих рассуждений, по моему мнению,
напрашивается вывод о бессмысленности жертвенной смерти
Христа. Она не принесла человечеству счастья и не
уничтожила ненависти, предательства, насилия. Ибо если мы
созданы по образу и подобию бога, то «бог — это и отец;
но он же и полицейский, и преступник, и священник, и
безумец, и судья», и изобретатель «замысловатых,
грязных ухищрений» 13. А раз так, стоит ли дорожить
«божественным» в человеке? Может быть, правильнее было
бы идти иным путем — путем борьбы с пороками
«подобия бога в человеке» во имя ценностей человеческих:
свободы, равенства, социальной справедливости?
«Грешному падре» в романе Грина противостоит
лейтенант. Глядя на играющих детей, он думает о том, что
«изгонит из их детства все, что ему самому принесло
одно горе, — нищету, суеверие, пороки... Ради них он
12 Г р и н Грэм. Сила и слава. — С. 62.
13 Т а м ж е. — С. 64.
56
был готов испепелить весь мир — сначала Церковь,
потом иностранцев, потом политиканов... Он начнет жизнь
с такими вот ребятами заново — с нуля» 14. Но, мечтая
о счастье крестьянских детей, он без зазрения совести
отправляет на смерть их родителей-заложников,
повинных только в том, что те не выдали побывавшего в их
деревне гонимого священника.
Но ведь и среди противостоящих лейтенанту
набожных людей немало и таких, кто в силу непоколебимой
абсолютности веры в истинность их взглядов о религии
и ее нравственных заповедей тоже совершает самые
жестокие действия. Они беспощадны ко всем тем, кто
«грешен», кто за пределами их веры. Любопытно, что
«грешный падре» всегда был обеспокоен судьбой таких
набожных людей: они бесчеловечны потому, что
отринули реальную человечность, и в то же время они
достойны сожаления, ибо живут иллюзиями.
Таким образом, благочестивые, благородные на
первый взгляд побуждения и набожных людей, и лейтенан*
та неизбежно ведут на практике к антигуманным
действиям. Такой исход неизбежен, ибо и те и другой
претендуют на абсолютную, непререкаемую истинность своих
(субъективистски ограниченных) представлений о благе,
которое они волевым актом навязывают человечеству.
По Грэму Грину, в этом противоборстве мнений наиболее
гуманная позиция принадлежит священнику-еретику. Он
отринул «истину» «правильной» набожности и
ортодоксальной церковности, так же, как и жестокой,
нетерпимой «любви» к людям лейтенанта.
Этот недостойный, опустившийся бродяга, «пьющий
падре» не проявляет ни малейшего энтузиазма к
перспективе умереть за веру, стать святым, и в то же
время он способен на смелый поступок (стоивший ему
жизни) во имя человечности.
И все же как ни различны «грешный падре» и
лейтенант, между ними есть общее: хотя и по-разному, но
оба они люди трагической судьбы. И этим они
отличаются от тех, кто находится в плену церковной
ортодоксии. Их трагедия состоит в том, что в своем
самозабвенном, жертвенном стремлении к утверждению
справедливости они руководствуются утопическими
представлениями о ней и — что самое печальное — осознают обречен-
14 Г р и н Грэм. Сила и слава. — С. 37.
57
ность, безнадежность, бесплодность своей борьбы с
судьбой. Не потому ли в финале романа приговоренный к
смерти священник и одержавший над ним победу
лейтенант не чувствуют ненависти друг к другу?
Священник предается горестным размышлениям о близкой
смерти и напрасно, по его мнению, прожитой жизни. А
лейтенант мучительно переживает наступившую после
поимки последнего из оставшихся в живых священника
опустошенность: пружинка, двигающая его действия,
лопнула: «Цель исчезла, жизнь словно вытекла из
окружающего его мира» 15.
Для художников типа Грэма Грина главное состоит
не в том, к какому мировоззрению или вероисповеданию
принадлежит тот или иной человек. Для него важнее
другое — способен ли он осуществить, презрев личное,
эгоистическое, бескорыстный акт милосердия,
сострадания, действенной помощи, т. е. жить по законам совести.
Правда, такая позиция в определенной ситуации
уязвима (ведь на положении «страждущего» может
оказаться поверженный, получивший заслуженное возмездие
злодей), но, соприкасаясь с реальной жизнью, художник
находит, как правило, правильную позицию, т. е,
соответствующую интересам прогрессивного человечества.
* * *
Итак, мы рассмотрели на примере творчества
целого ряда зарубежных деятелей искусства ценностные
противоречия, возникающие в связи с попыткой
осмыслить реалии современного мира с позиции христанского
гуманизма. Эти противоречия определяются прежде
всего его двойственностью. С одной стороны, утверждая
такие общечеловеческие ценности, как милосердие,
человеколюбие и т. п., христианский гуманизм способен
объединить под своими знаменами верующих — сторонников
мира и социальной справедливости. Однако с другой
стороны, практика борьбы за осуществление этой
благородной цели выявляет религиозную ограниченность
провозглашаемых христианским гуманизмом ценностей.
В самом деле, сколь бы прекрасными ни были
призывы к человеколюбию, к миру, к гармонии
человеческих отношений, их реализация, согласно его учению, не-
15 Грин Грэм. Сила и слава. — С. 157.
58
возможна без вмешательства божественного
провидения. Такая позиция не может не порождать иллюзорных
надежд, снижающих действенность этих призывов.
Вместе с тем сложная, напряженная: ситуация,
сложившаяся в современном мире, ставит сторонников
христианского гуманизма перед необходимостью
преодолеть эту двойственность. В результате его идеи
приобретают расширительное толкование, выходящее в конеч-
ном итоге за пределы их религиозного содержания, что,
в свою очередь, создает идейное основание для
сближения прогрессивной части последователей христианского
гуманизма со светской гуманистической мыслью, в том
числе и с коммунистической, в решении проблемы
гуманизации общества.
Это нашло свое отражение и в современном
искусстве. При всем многообразии художественного
осмысления гуманистических ценностей христианства многих
писателей, художников, музыкантов объединяет
стремление выйти за круг привычных религиозных или фило<
софских представлений и подойти к ним с позиций
общечеловеческих. При этом нельзя не учитывать, что
взаимосвязь между религиозно-философскими воззрениями
художника и той эстетической концепцией, которая во^-
площена в его произведении, чрезвычайно сложна,
противоречива. В идеале философская и эстетическая
стороны творчества состоят в следующем: художник ищет
в философии определенные концептуальные ориентации,
а философ находит в искусстве живое,
образно-художественное отражение действительности. Однако на
деле принятая художником концептуальная ориентация
может быть связана не только с прогрессивными
идеями, но и с иллюзиями своего времени.
Тем не менее история искусства дает примеры, когда,
несмотря на религиозно-философскую (иллюзорную)
концептуальную установку, были созданы произведений,
которые выдержали испытание временем. Объясняется
это тем, что в процессе творчества художник
руководствуется прежде всего не столько философско-теорети*
ческими, сколько ценностно-практическими установками
своего мировоззрения, направленными на осмысление
явлений и процессов реального мира.
Даже средневековые «страсти», казалось бы, по
своему замыслу полностью подчиненные религиозно-теоло*
гической идее, будучи воплощены в искусстве, выража*
59
ют действительные страдания, переживания и
помыслы живых людей, жийого конкретного времени.
Распятый на кресте Христос проливает настоящую,
человеческую кровь и испытывает человеческую
боль, понятную каждому. И все это отражает (и не
может не отражать!) художник, ибо такова природа
искусства, законам которой он подчиняет свое творчество.
То есть при всей непоследовательности личных идейных,
политических, философских, религиозных симпатий и
антипатий, заблуждений, иллюзий, и утопий подлинный
художник в своих творениях раскрывает правду жизни,
ее биение, исторгающее муку и радость, отчаяние и
надежду.
Конечно, трудно себе представить, например,
осуществление мечты Гр?ма Грина и многих других о
безмятежном единении, а может быть, и слиянии идеалов
коммунизма и католицизма в некоем прекрасном,
далеком будущем. Но тем не менее гуманистическое начало,
заложенное в их творчестве, вливаетсях в единое русло
постижения тех ценностей, которые созданы «всем
развитием человечества» 1 и нацелены в его будущее.
Впрочем, при всей «абстрактности» своих идеалов такие
деятели искусства, как Грэм Грин, ведут неуклонную
борьбу против реакционных явлений в буржуазной культуре
(и в жизни), за развитие гуманистических традиций.
Именно благодаря этому современное прогрессивное
искусство доказывает значимость своей традиционной
функции: показать эстетическую картину
действительности, выразить в художественной форме
всемирно-историческую проблематику эпохи.
Такой эпохальной проблемой является сегодня
проблема человека. Конечно, эта проблема существовала
всегда. Но именно в XX в. она приобретает жизненно
важное значение в прямом смысле слова. Зловещее
пламя мировых войн, варварство фашизма и сталинизма,
угроза мировой ядерной катастрофы, экологический и
духовный кризис, отчуждение человека породили в XX в.
предельно напряженную ситуацию. В этой ситуации
человечество вынуждено переступить через
национальный, религиозный, политический и тому подобный
эгоизм и попытаться осознать общность своих судеб,
необходимость искать связи, контакты, приемлемые формы
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. — Т. 41. — С. 304.
60
общения государств и народов. Точнее, пробивает себе
дорогу новое мышление, реалистическое по своей сути,
к которому не только призвал, но и дал развернутое
философское обоснование XXVII съезд КПСС.
Одним из конкретных воплощений в жизнь и
подтверждением его правильности явилось ослабление
военного фактора, конфронтации и военно-политического
противостояния в международных отношениях. «Впервые
сделаны реальные шаги к безъядерному миру.
Расширяется взаимопонимание и доверие между Востоком и
Западом. На новый уровень вышел общеевропейский
процесс, реализация концепции «общеевропейского дома».
Впервые начаты переговоры о сокращении вооруженных
сил и вооружений от Атлантики до Урала»2,
расширяется экономическое и «гуманитарное» сотрудничество
между странами. Эти выдающиеся в мировой политике
достижения явились результатом не только прямой
политической деятельности глав государств, но и массовых
движений, активности представителей «науки, культуры,
церкви, их консолидации и взаимопонимания»3. При
всех мировоззренческих различиях они единодушны в
одном: в своем стремлении к человечности, к
установлению гармонии человеческих отношений здесь, на Земле!
i .
2 Ленинизм и перестройка: за реализм и творчество. Доклад
товарища Медведева В. А. на торжественном собрании, посвященном
119-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина // Правда. —
1989. — 22 апреля. — С. 3.
* Горбачев М. С. Революционной перестройке — идеологию
обновления. Речь на Пленуме ЦК КПСС 18 февраля 1988 года, «~
М, 1988. - С. 35.
СОДЕРЖАНИЕ
Гуманизм и его исторические формы. Христианский гуманизм 3
Искусство и теология о гуманизации мира: Прометей и
Христос 23
Общечеловеческое в евангельских образах: Суд совести . 38
«Мятежная церковь* в зеркале художественной литературы 49
Научно-популярное издание
Ольга Абрамовна АНТОНОВА
СОВРЕМЕННОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО
О ХРИСТИАНСКОМ ГУМАНИЗМЕ
(На примере католицизма)
Гл. отраслевой редактор Ю. Н. Медведев
Редактор В. В. Бойко
Мл. редактор И. В. Яковлева
Худож. редактор П. Л. Храмцов
Техн. редактор X. М. Красавина
Корректор Л» S* Иванова
ИБ № 9976
Сдано в набор 0§.06.8?. Подписано к печати 03.08.89. А 00631. Формат бумаге
84Х Ю87з2. Бумага тип. № . 2. Гарнитура литературная. Печать высокая*
Усл. печ. л, 3,36. у6#. кр.-отт. 3,47. Уч-изд. л. 3,38. Тираж 32 333 экз. 3<И
каз 1084. Цена 15 коп. Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр,
проезд Серова, д 4. Индекс- заказа 891309.
Типография Всесоюзного общества «Знание». Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4,
А теперь познакомьтесь с тремя аннотациями тем
основного плана 1990 г.
Гуревич П. С, доктор филологических наук
Гуманизм и вера (Дискуссионные вопросы взаимоотйо*
шений современного религиозного сознания и светской
гуманистической традиции)
Существует ли вера вне религии? Как родились об*
щечеловеческие ценности? Возможен ли диалог между
религией и светским гуманизмом? С ответами на эти
вопросы и связаны размышления автора брошюры.
Никонов К. И., кандидат философских наук
Религиозен ли человек по природе?
Этот вопрос — один из важнейших в
религиоведении, он издавна является предметом научных и
мировоззренческих споров теологов, философов и психологов,
верующих и атеистов. Что такое «религиозный опыт»?
Свидетельствует ли так называемое базисное доверие
к бытию об изначальной религиозности человека?
Существуют ли антропологические корни религии? Этим, а
также связанным с ним вопросам и посвящена
брошюра.
Красников Н. П., доктор философских наук
Русское православие, государство и культура
Какой была роль Православной Российской церкви
в становлении и развитии русской государственности и
духовной культуры? Отвечая на этот вопрос, автор рас*
сказывает о том, какими были в действительности
государство, материальная и духовная культура Руси к
концу X в. и как они развивались на протяжении всей
истории страны; освещается также вопрос о
взаимоотношениях церкви и советского государства.
готовится к изданию
В серии «Научный атеизм» (№ 11, 1989) будет
издана брошюра-сборник
НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И СВОБОДА СОВЕСТИ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Совместимы ли свобода совести и атеистическая
пропаганда? А как быть с религиозным воспитанием? Чем
занимается Издательский отдел Московской
патриархии? Был ли Сталин атеистом или верующим?
Является ли «Память» защитницей православия? Об этих и
многих других вопросах читателей и слушателей
размышляют религиозные деятели (впервые в серии),
исламовед, философ, юрист, лектор.
В дальнейшем редакция планирует издавать в серии
«Атеизм и религия: история, современность» (новое
название серии с 1990 г.) некоторые брошюры в форме
ответов на вопросы, «круглых столов», диалогов,
посвященные обсуждению самых злободневных, острых и
интересных проблем, связанных с осуществлением
свободы совести в нашей стране, жизнью и сотрудничеством
верующих и неверующих, возрождением нравственности,
национально-культурных традиций, духовным единением
общества, состоянием и совершенствованием
атеистической работы, преодолением вульгарно-атеистического
подхода к мировоззренческим вопросам и с другими
аспектами отечественной истории и современной жизни.
В этих беседах, сопоставлении различных точек
зрения могут принять участие ученые, журналисты,
писатели, служители культа.
15 коп.
Индекс 70075
ВШИШЕНЗ
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ