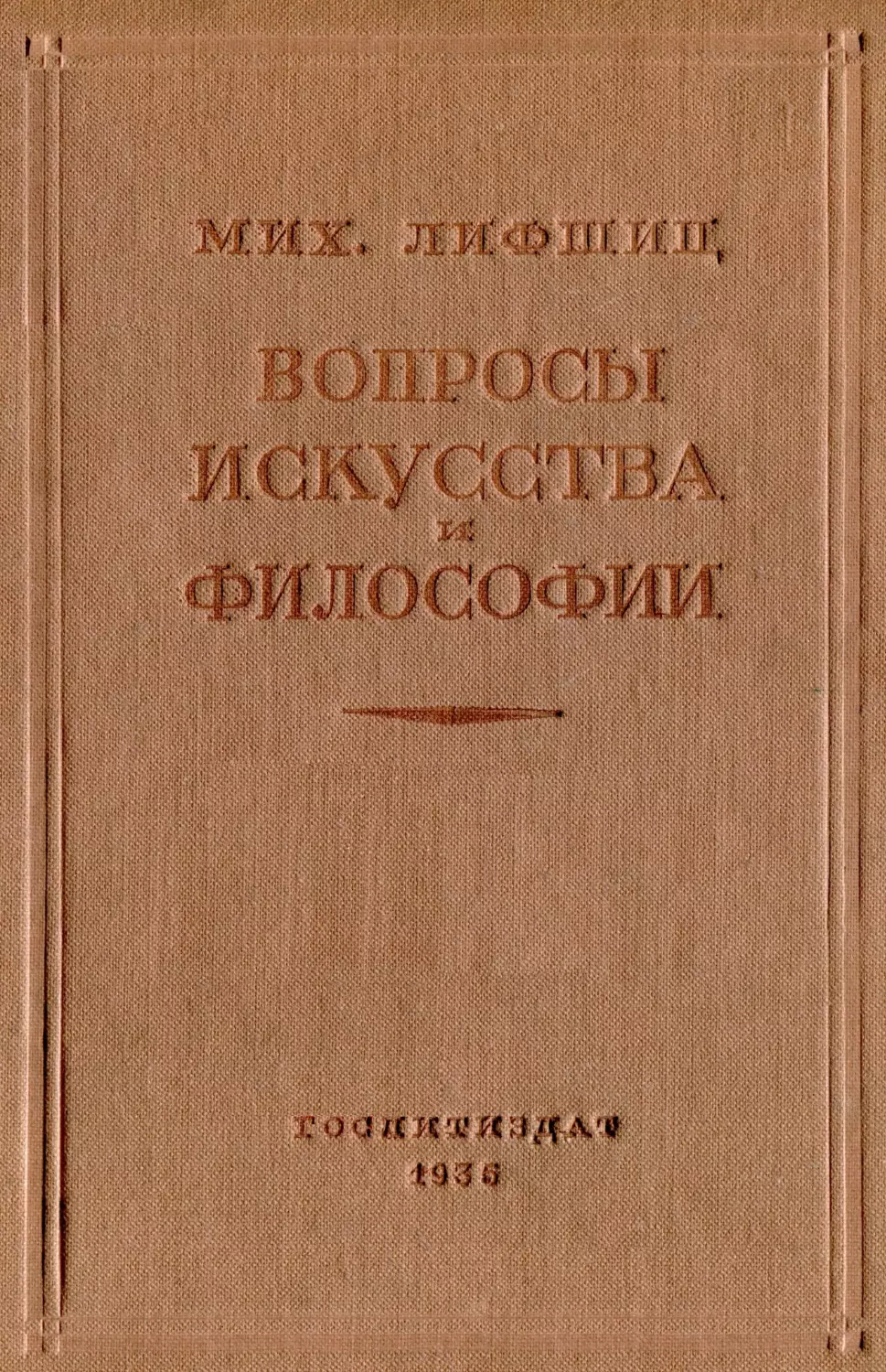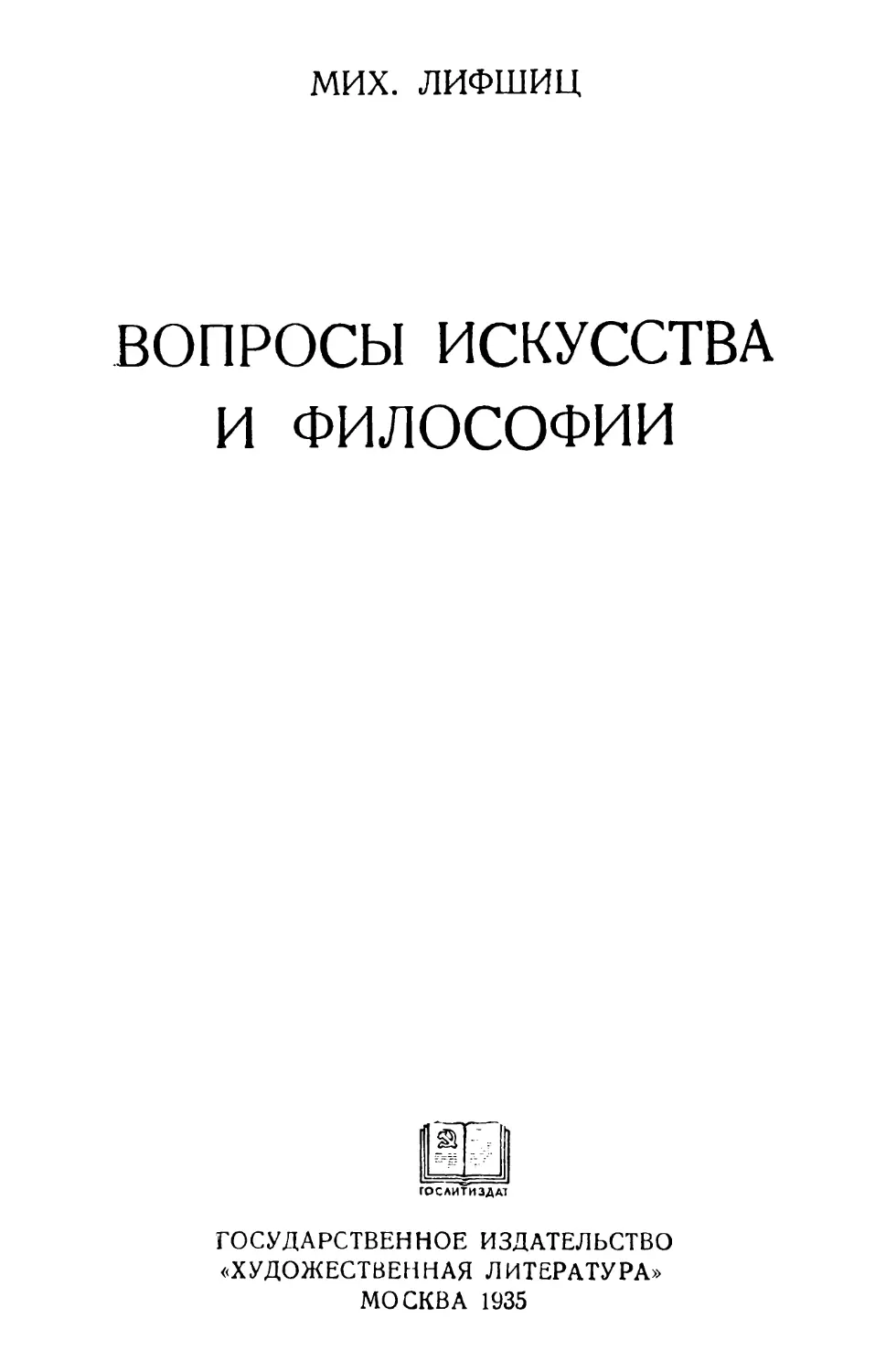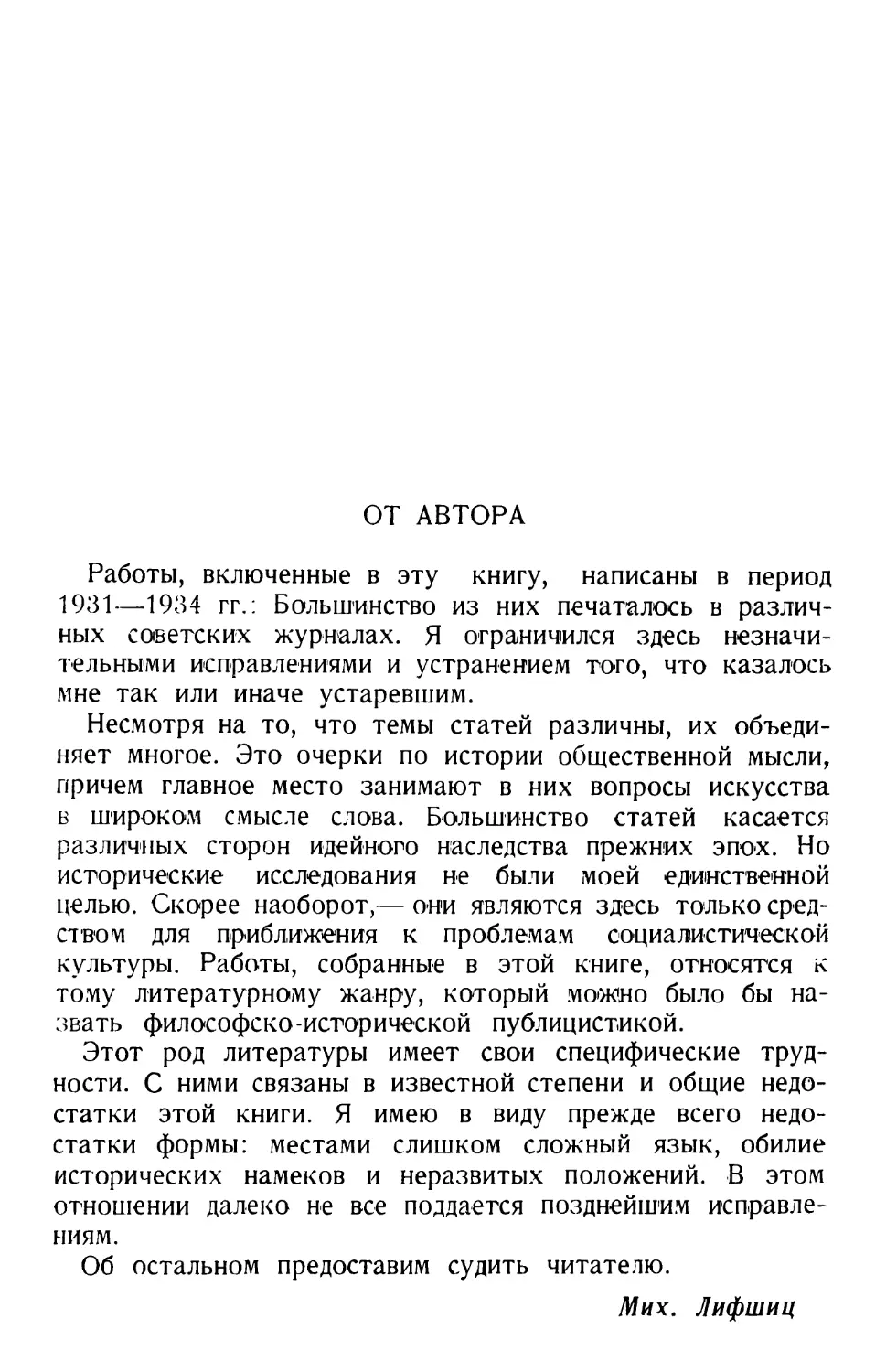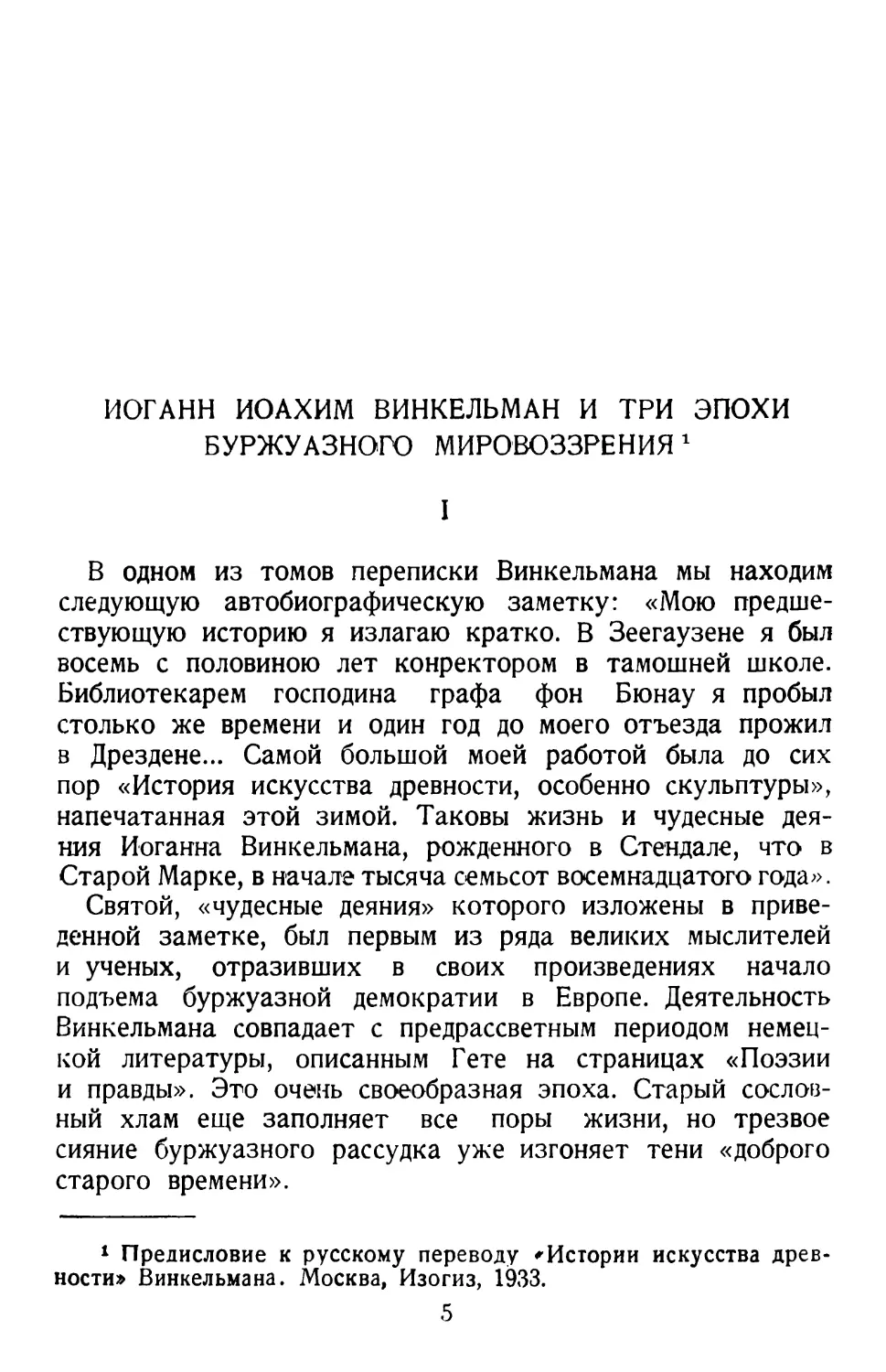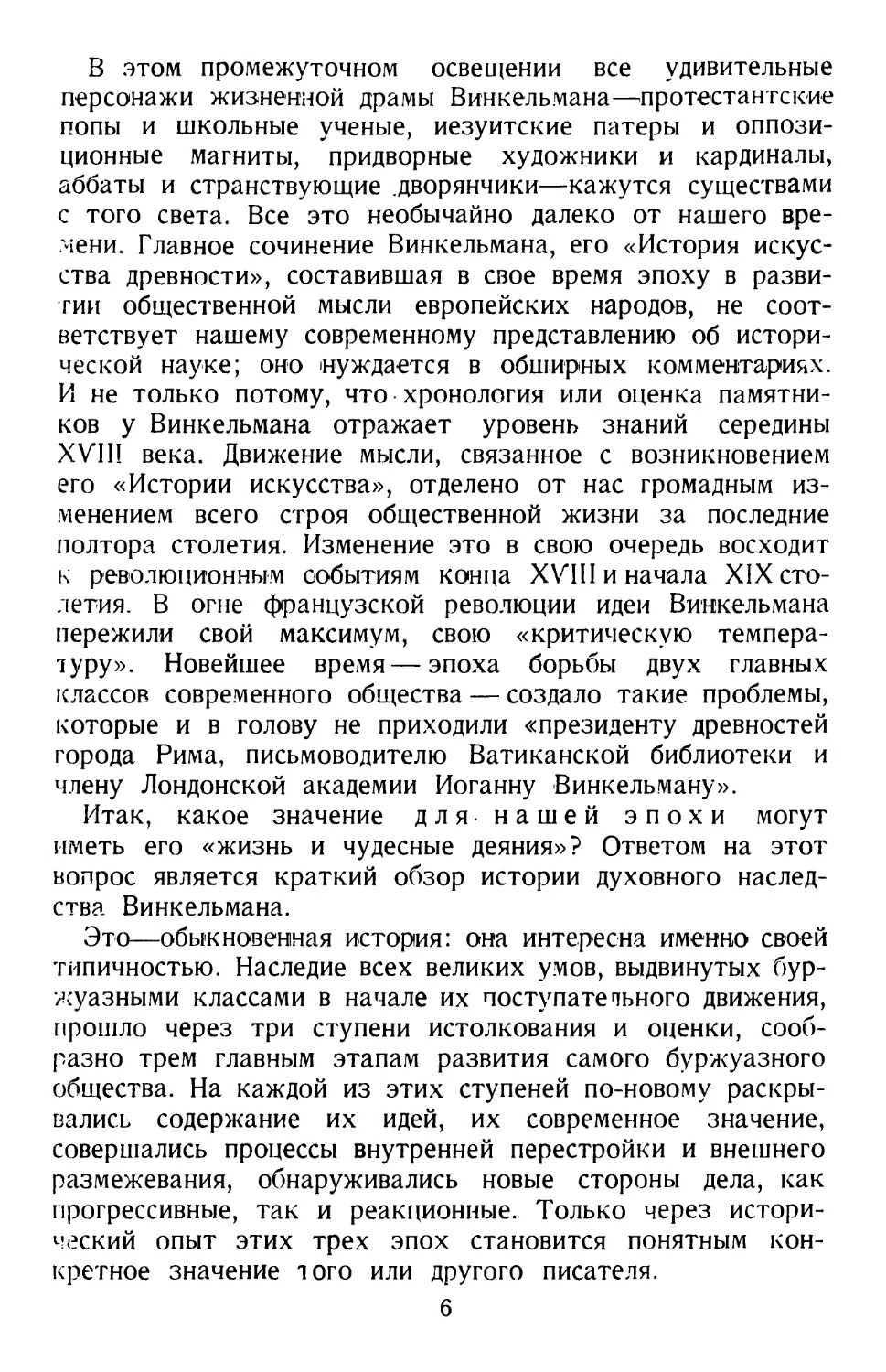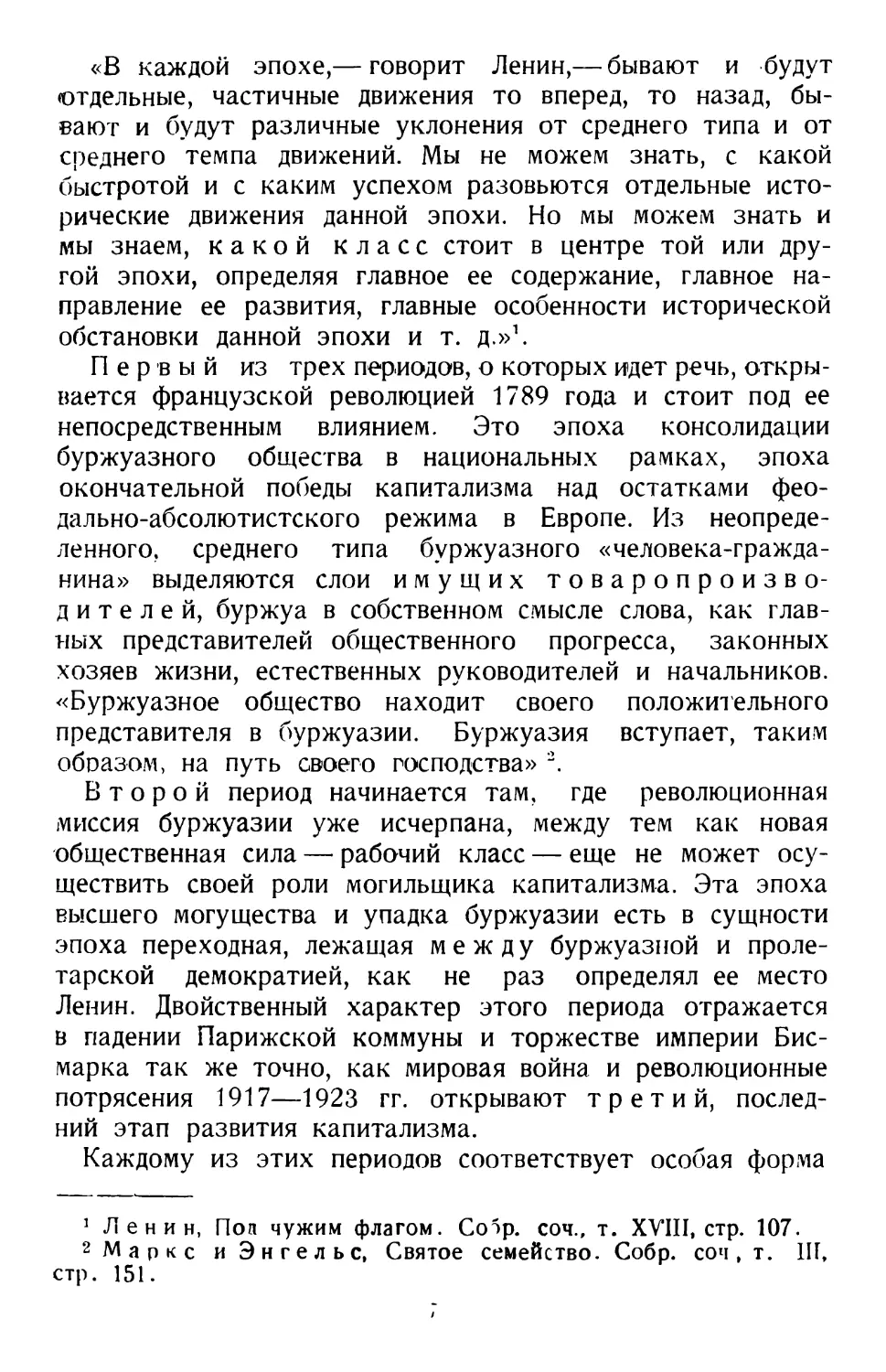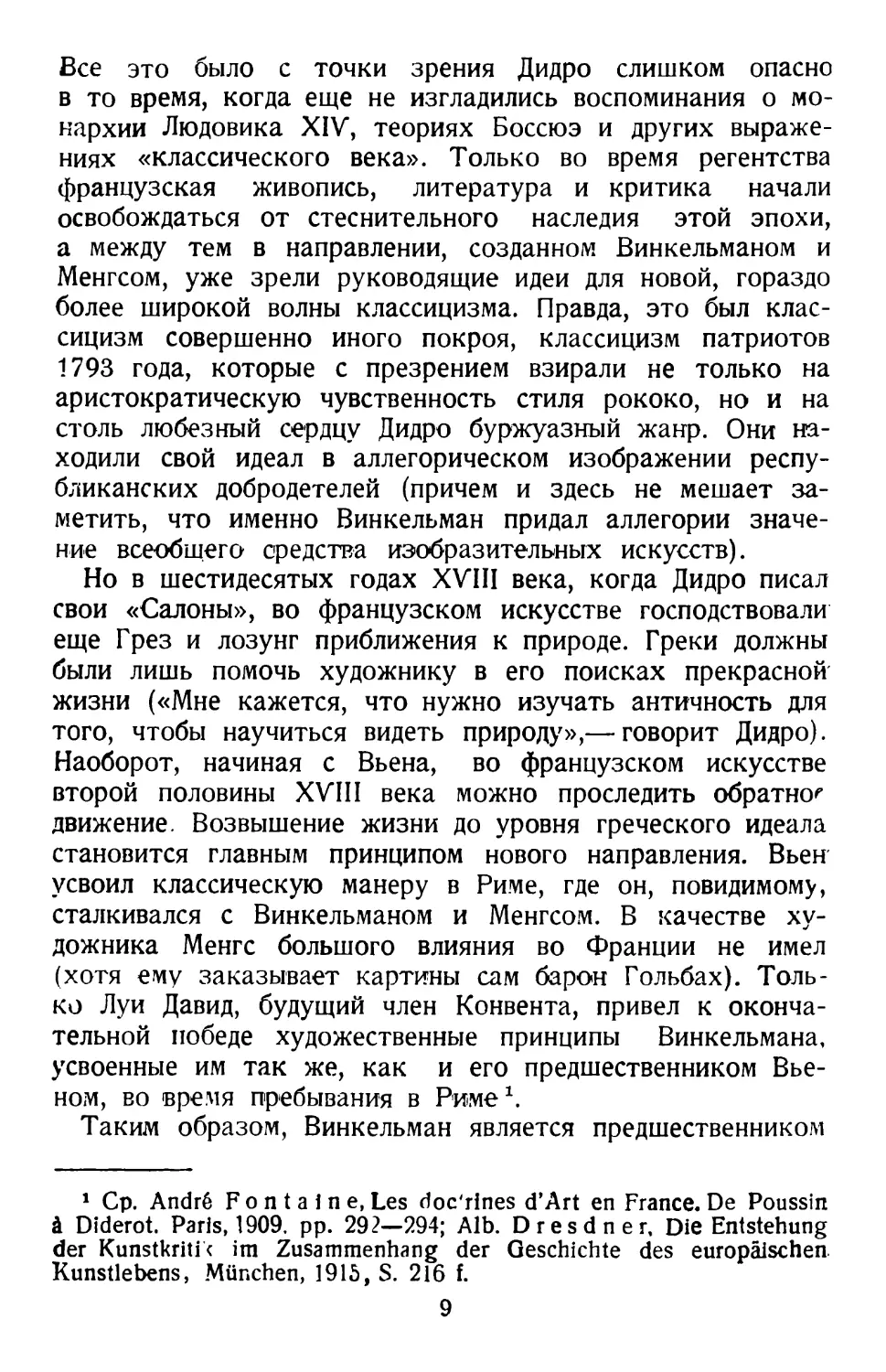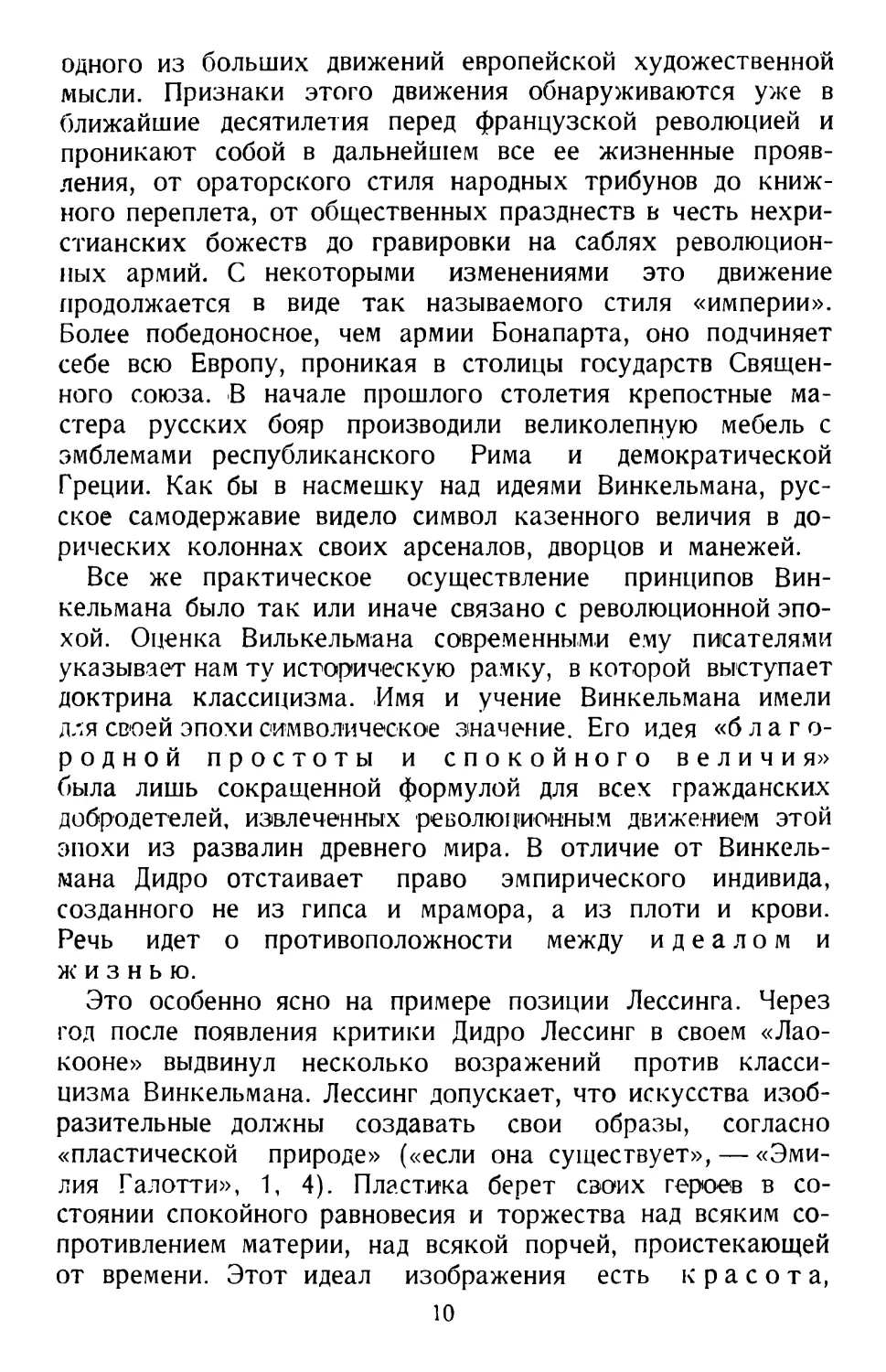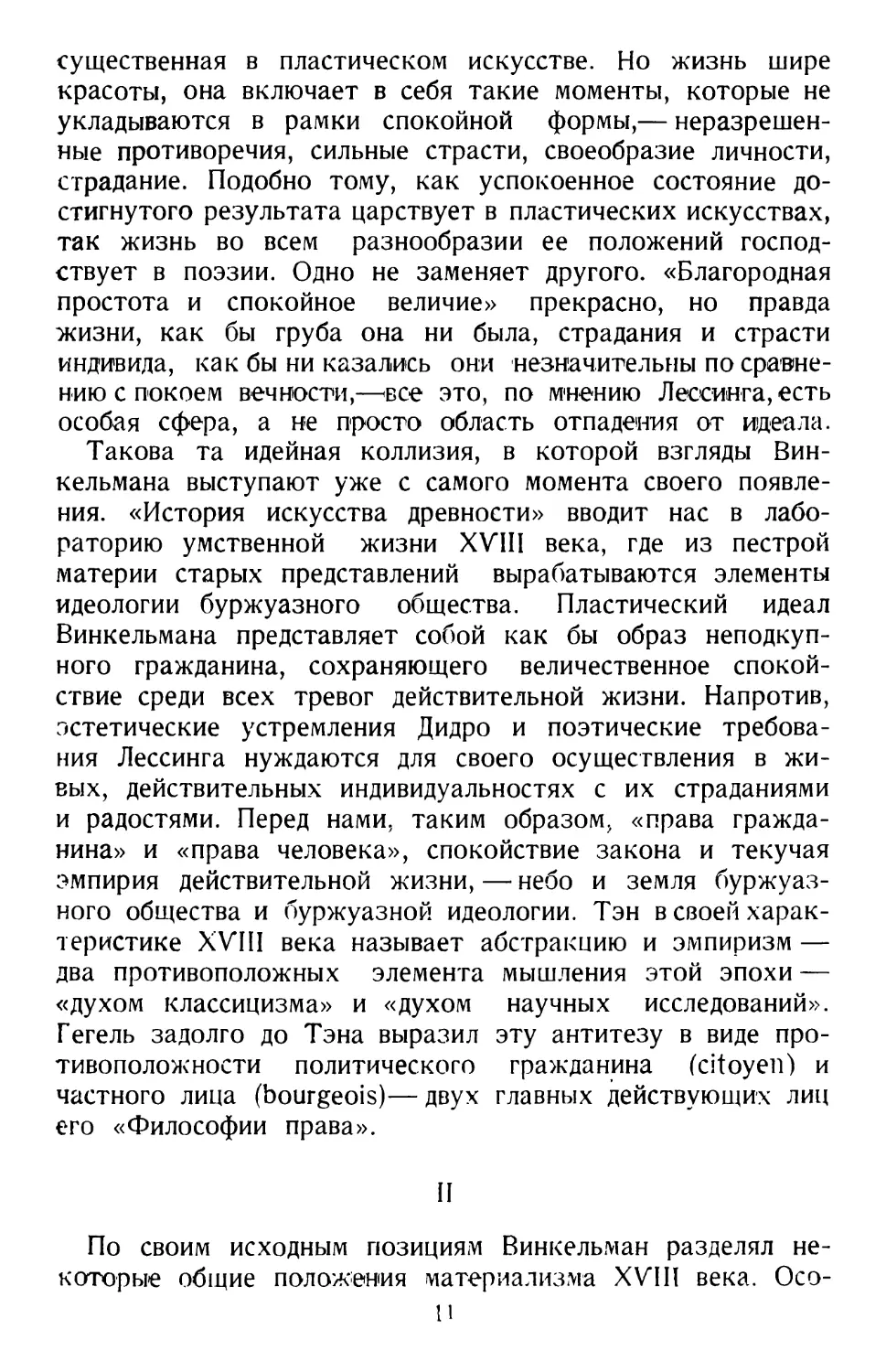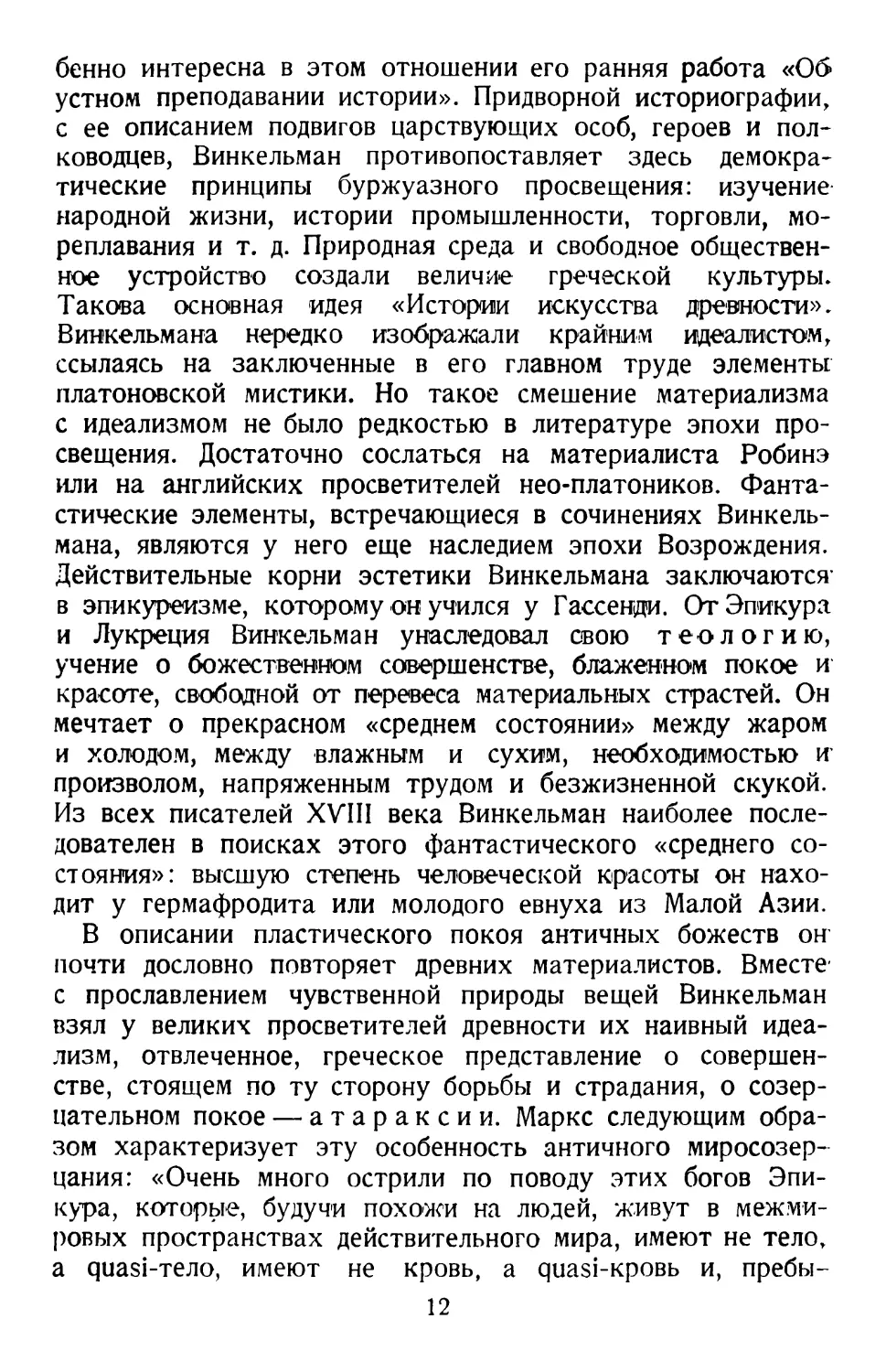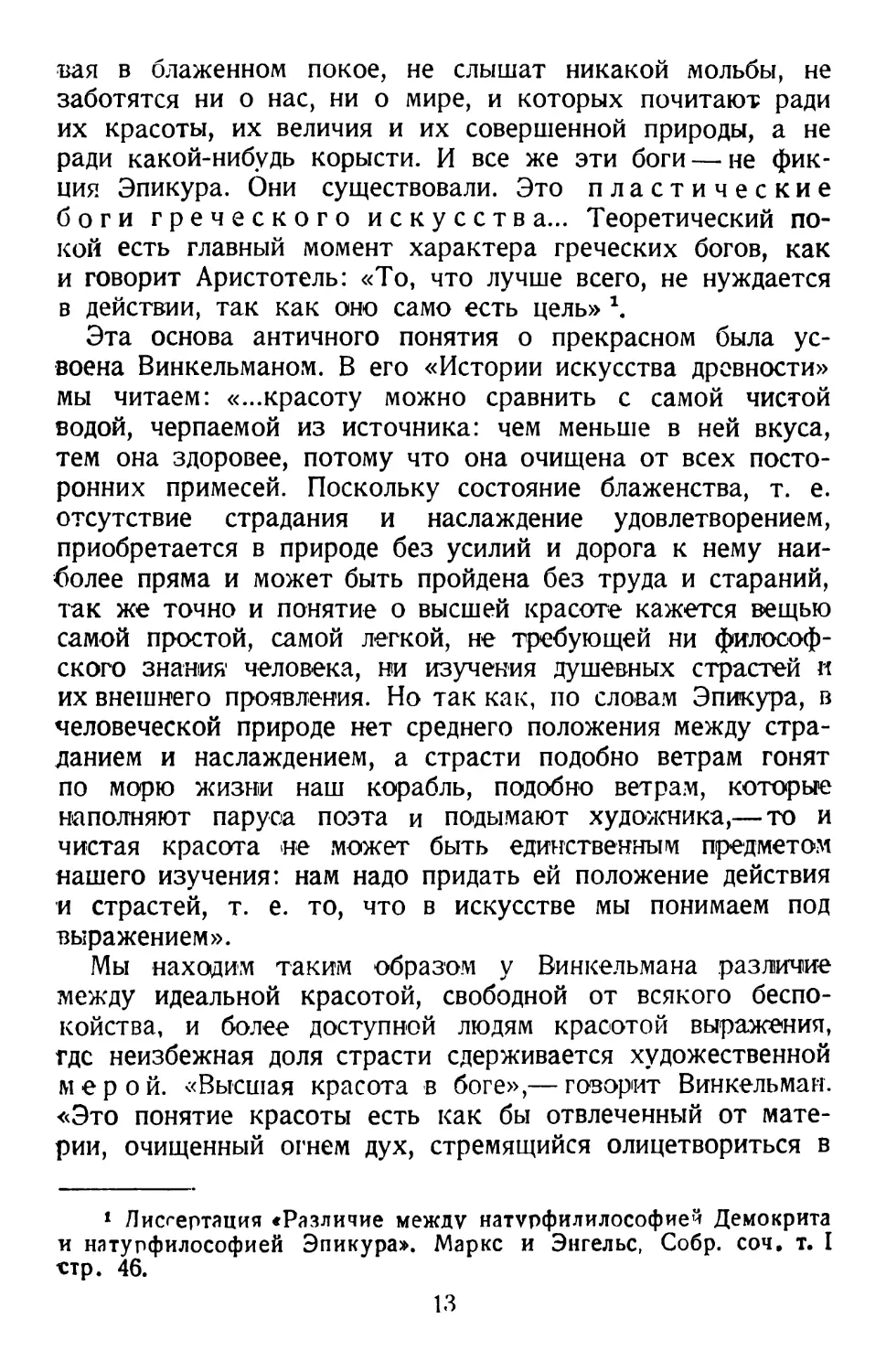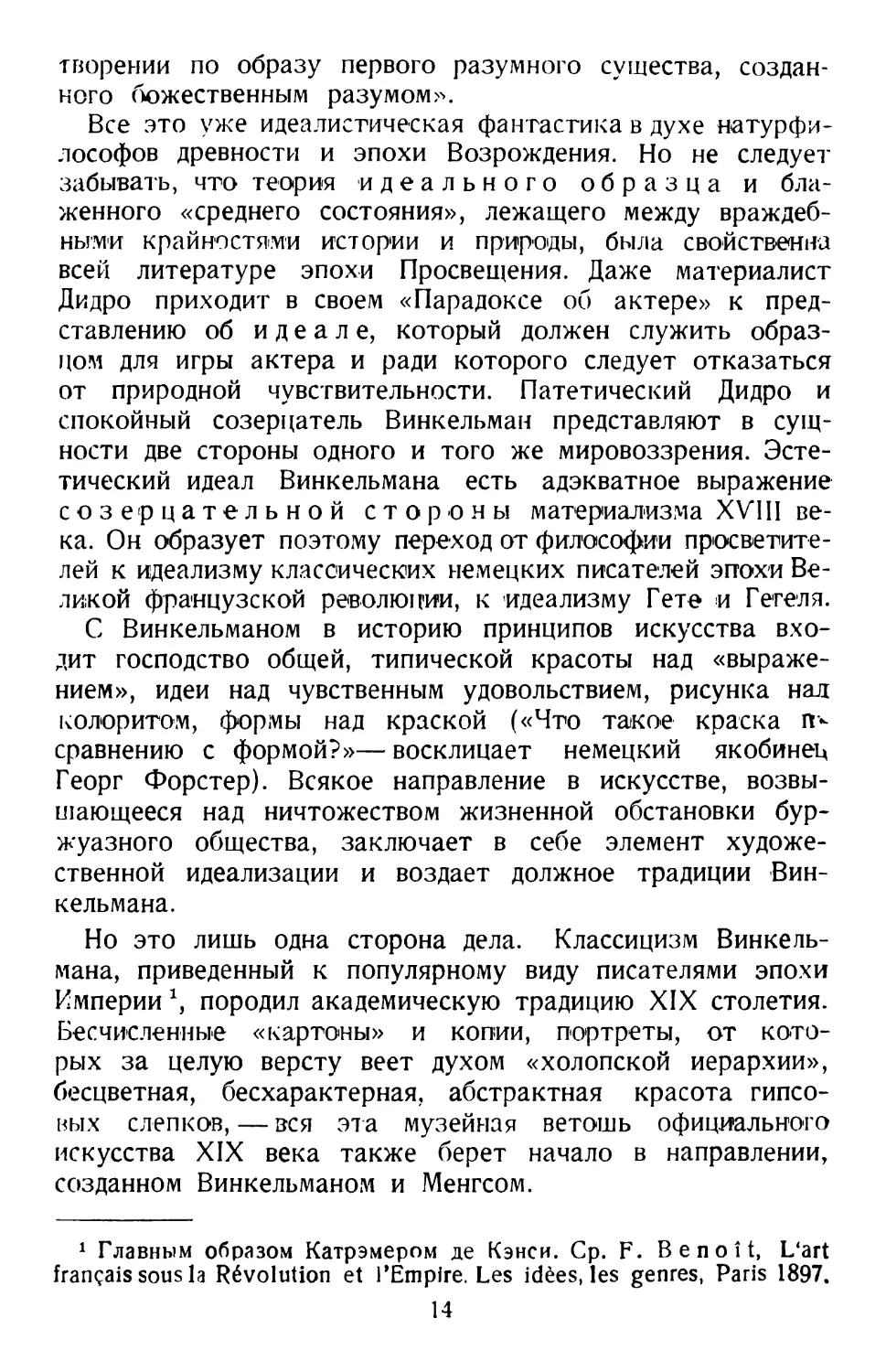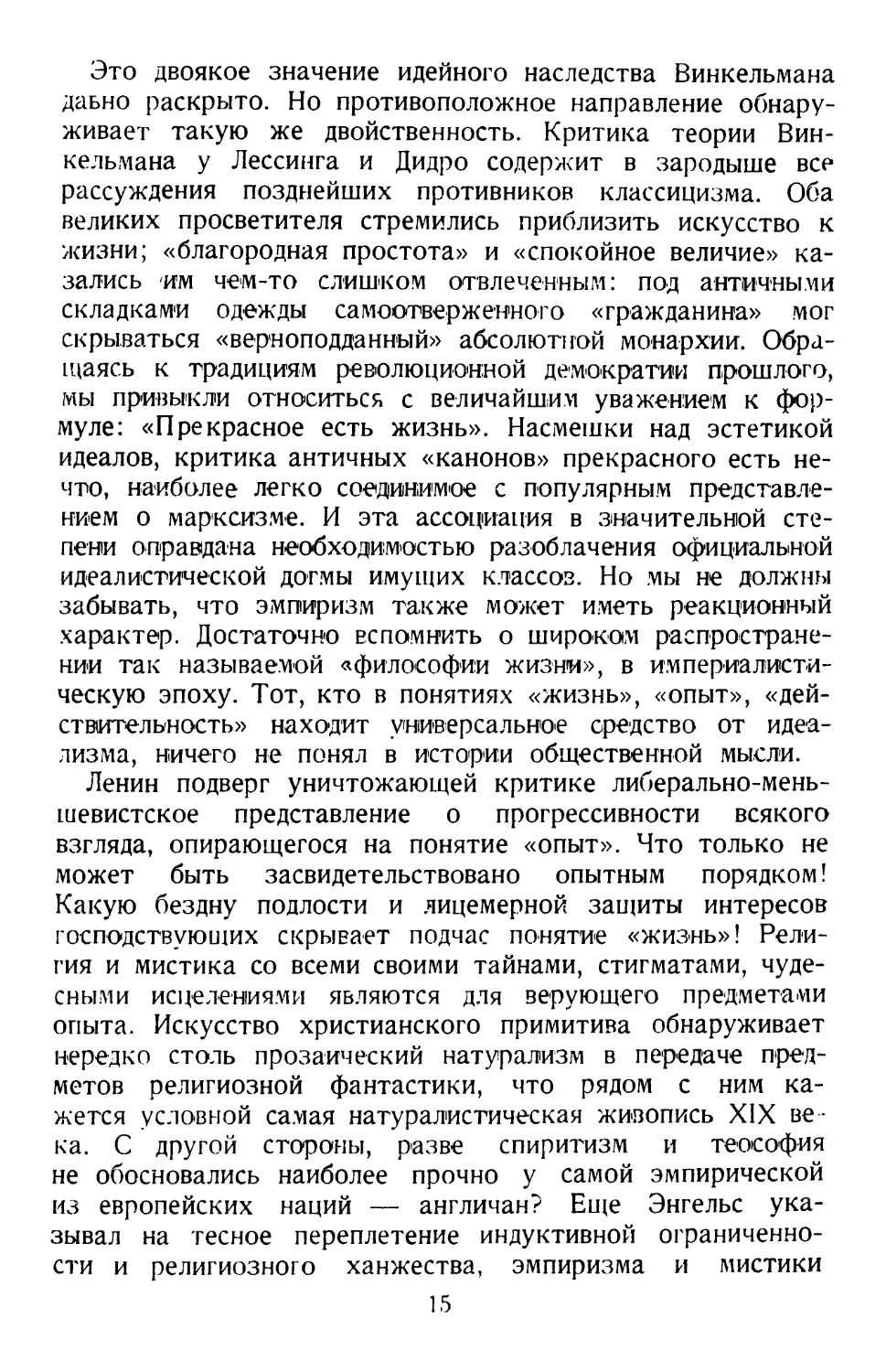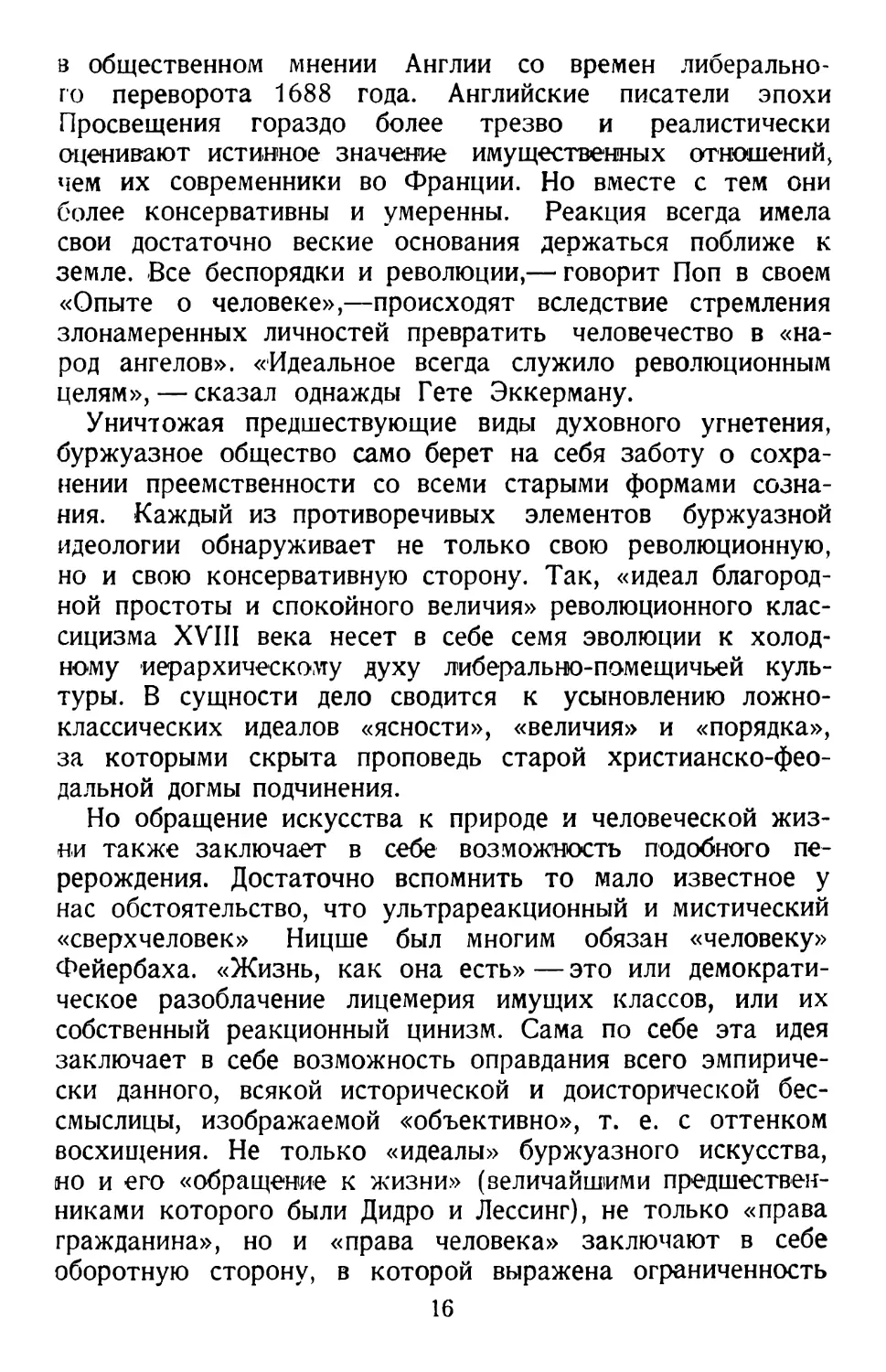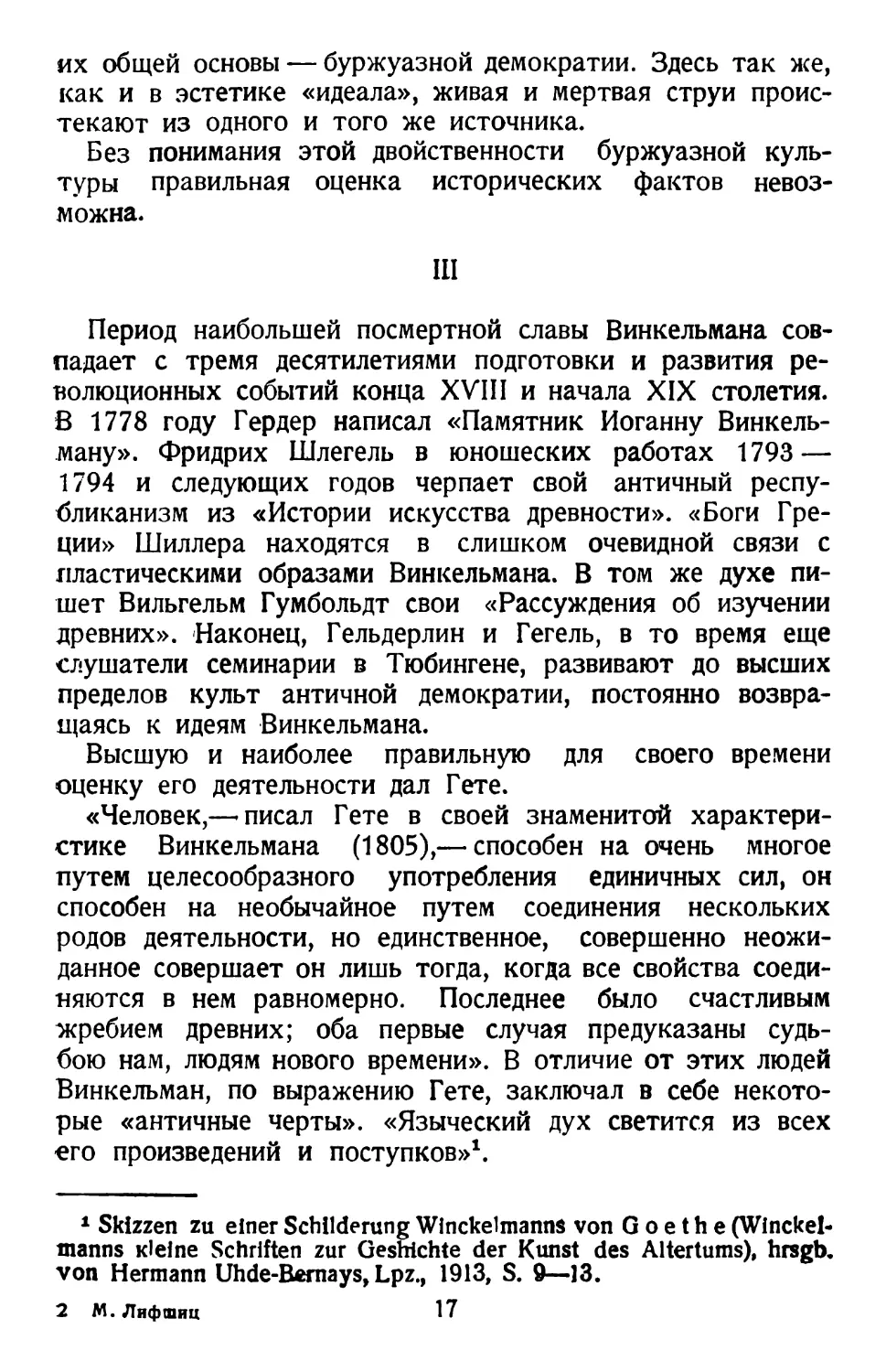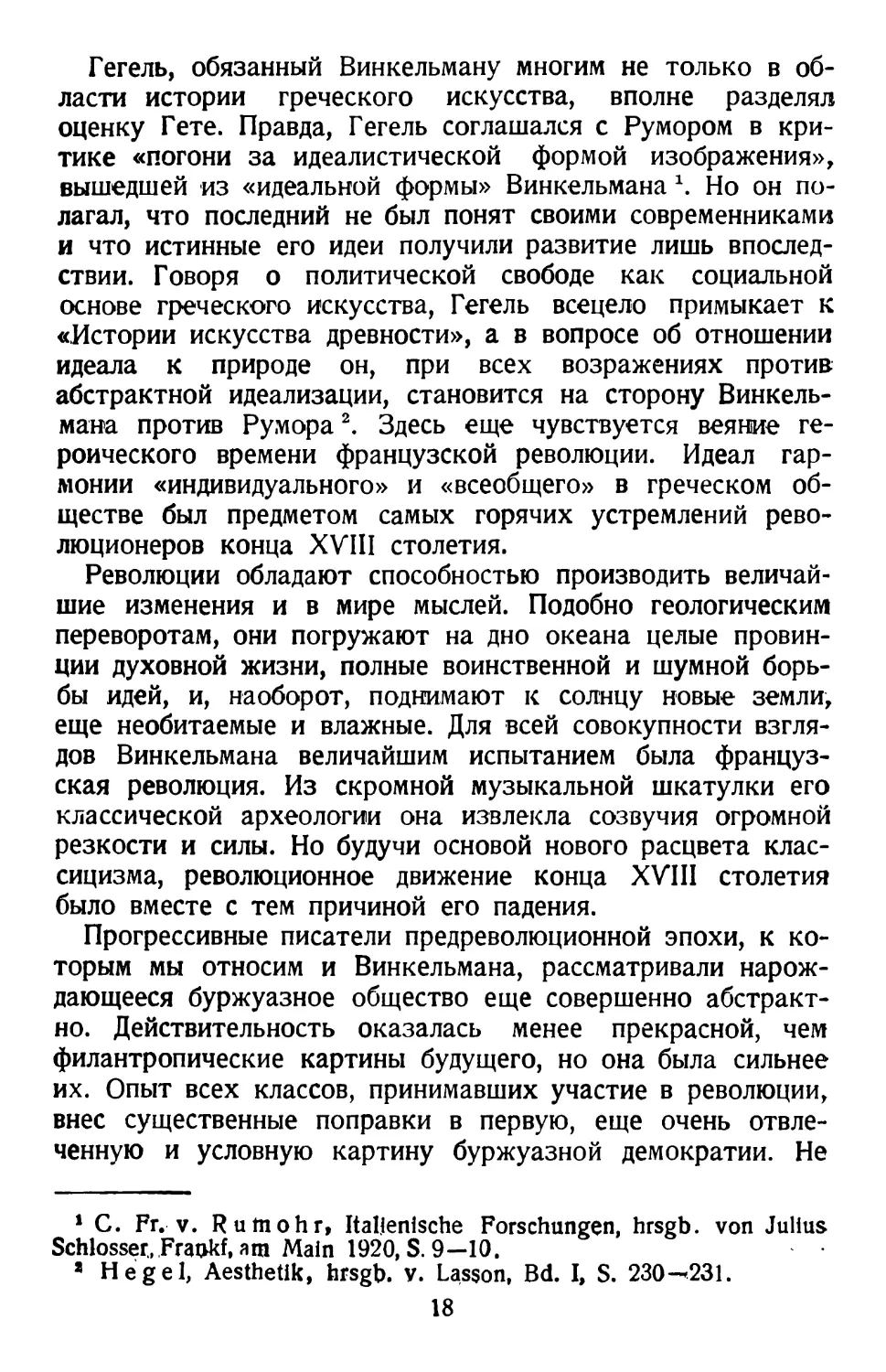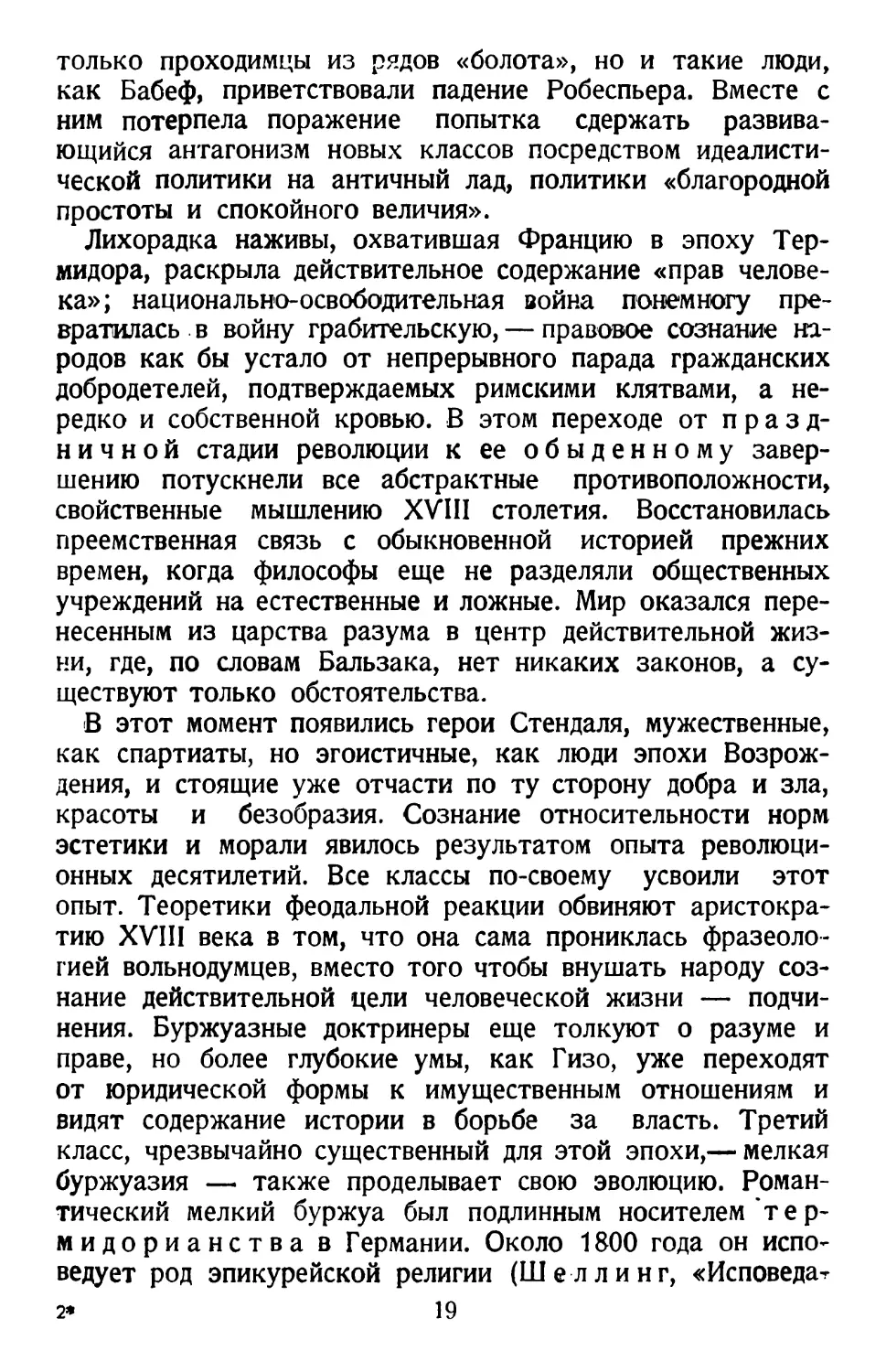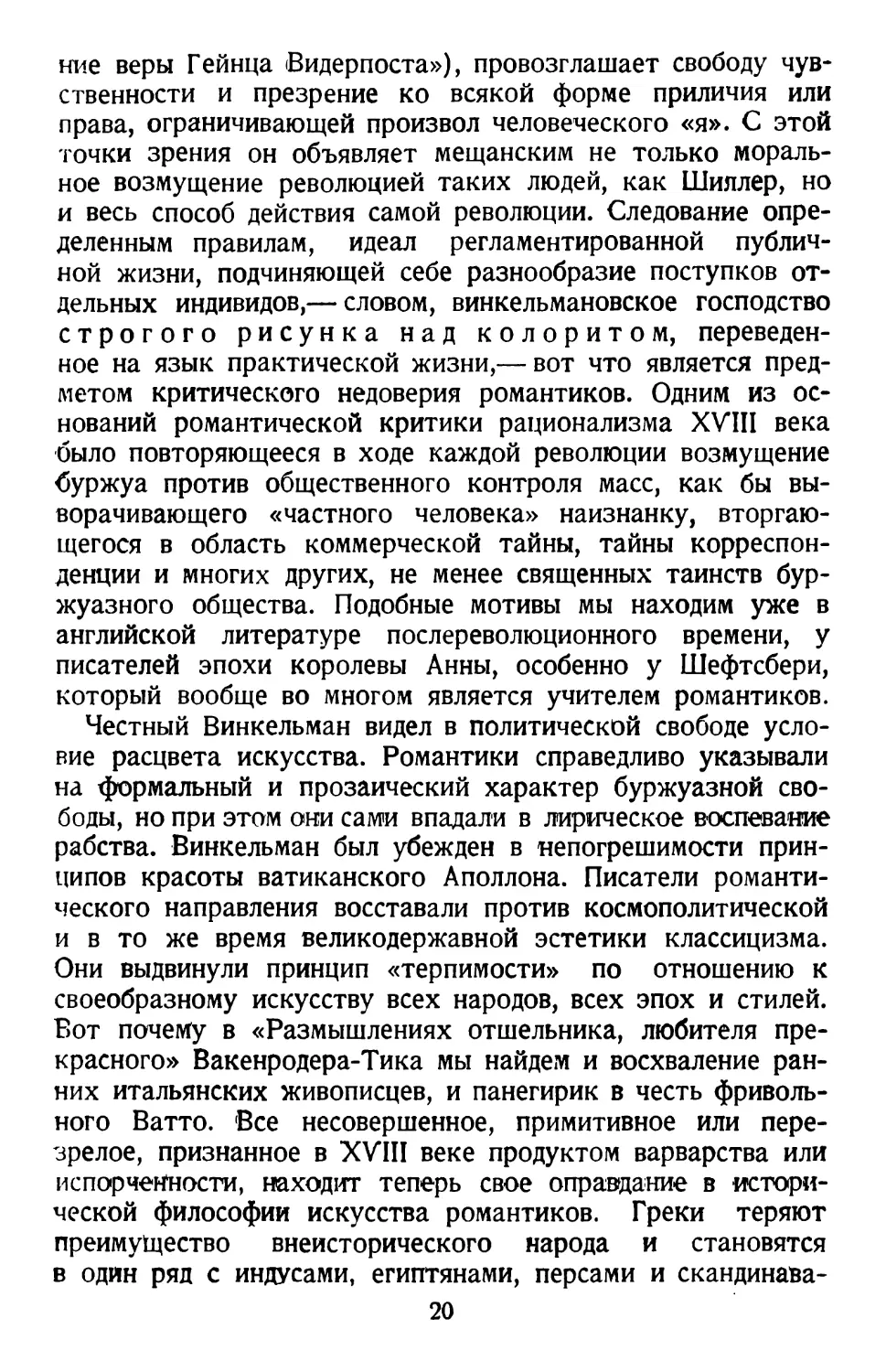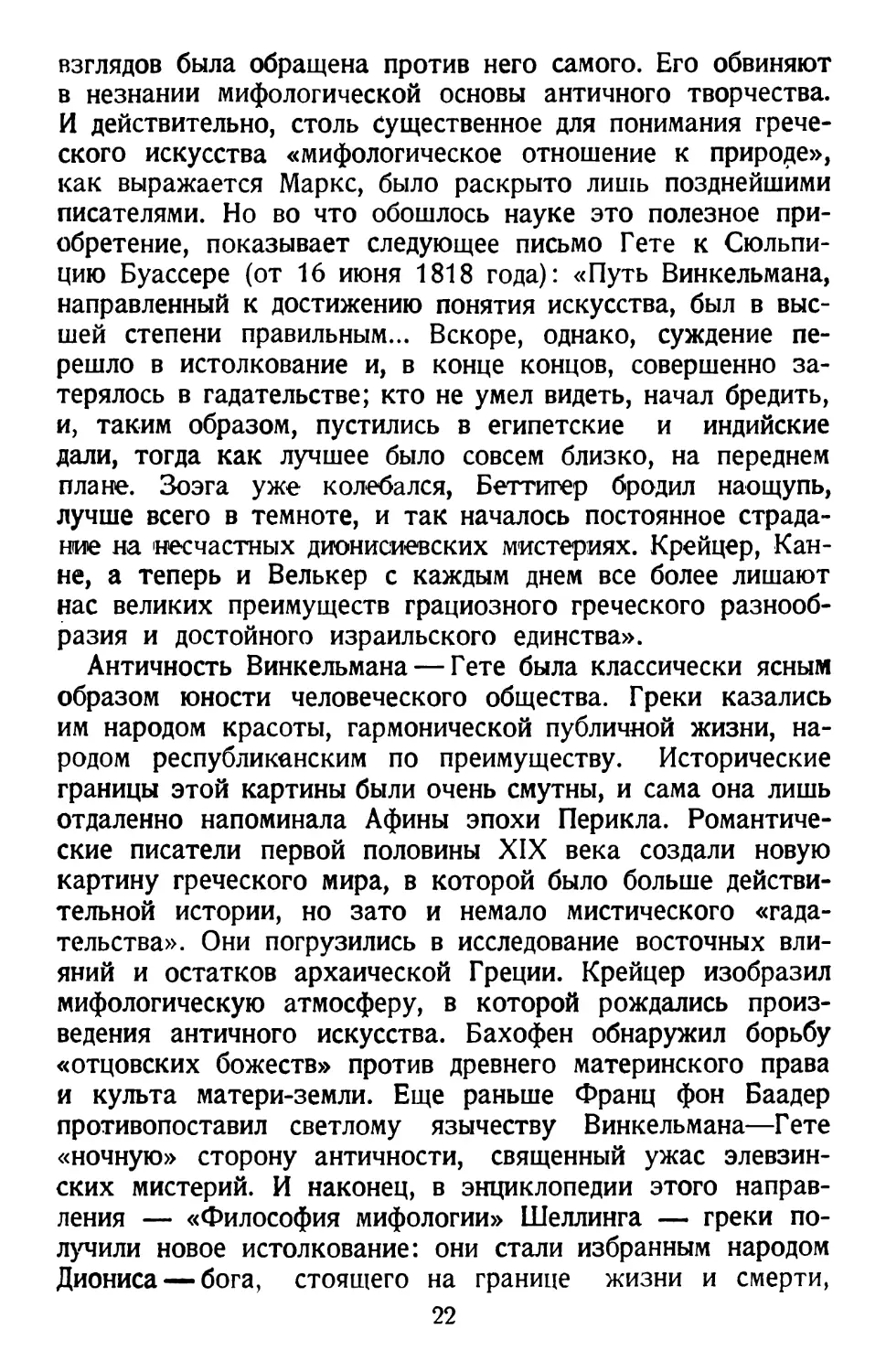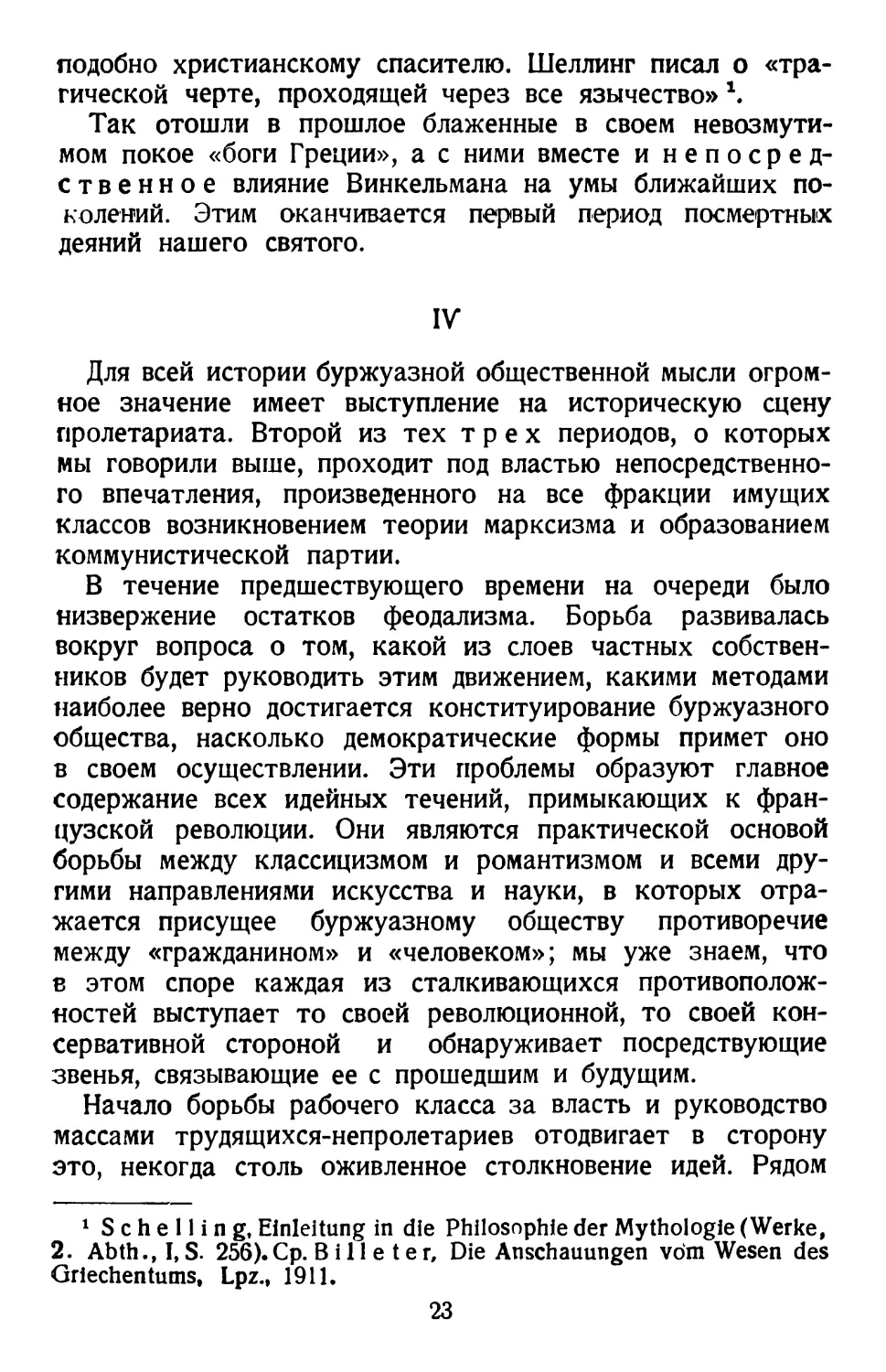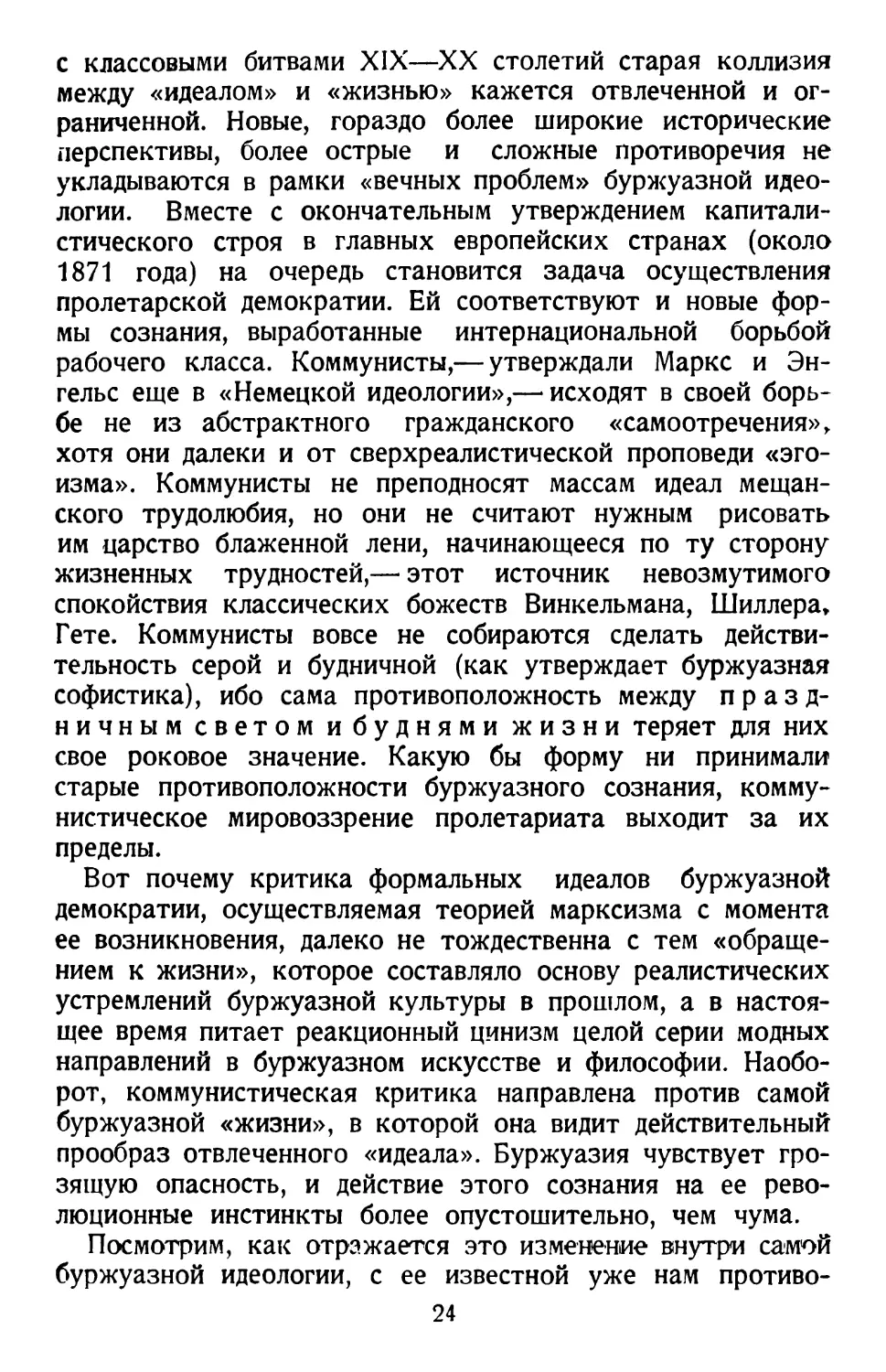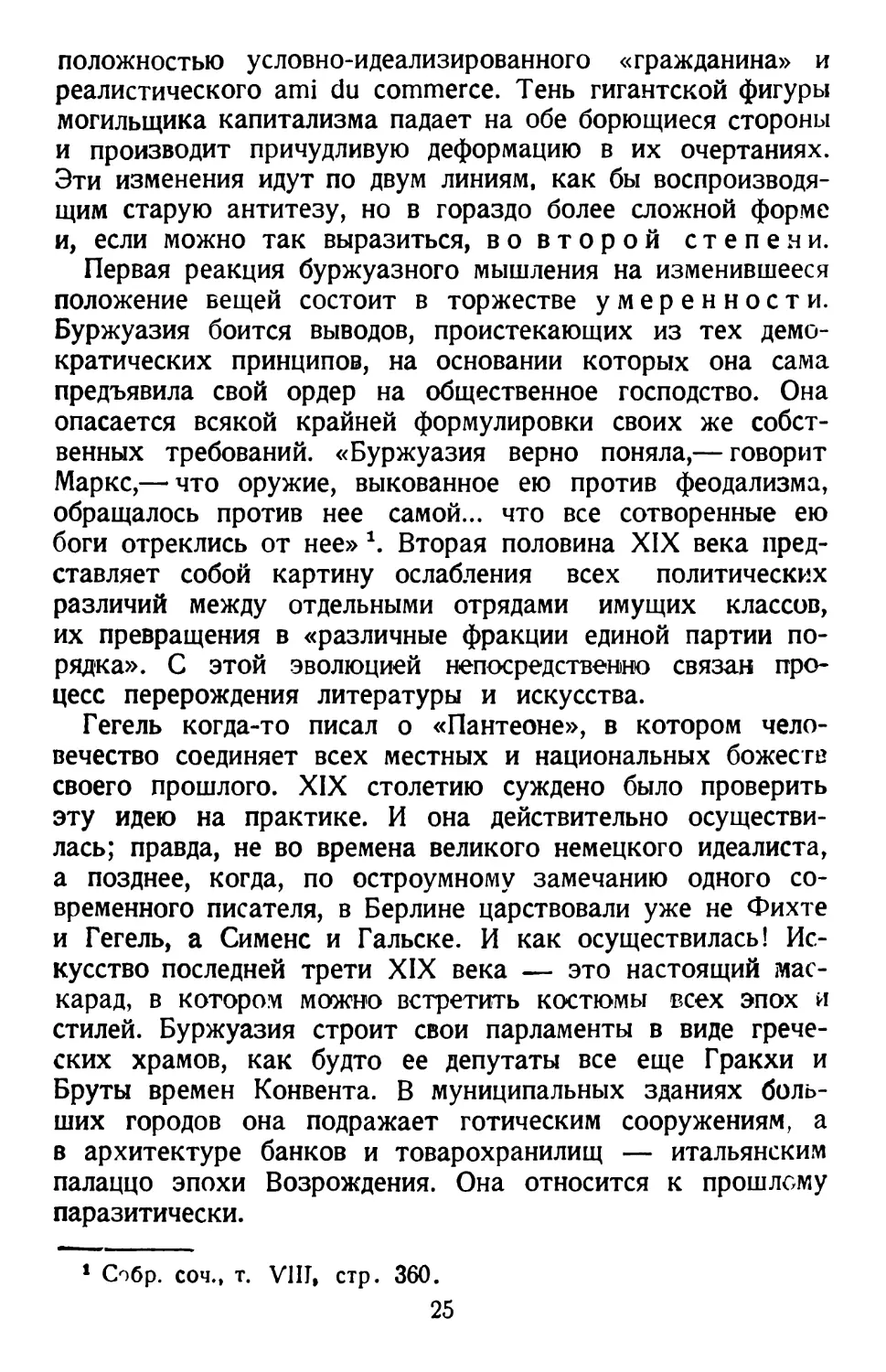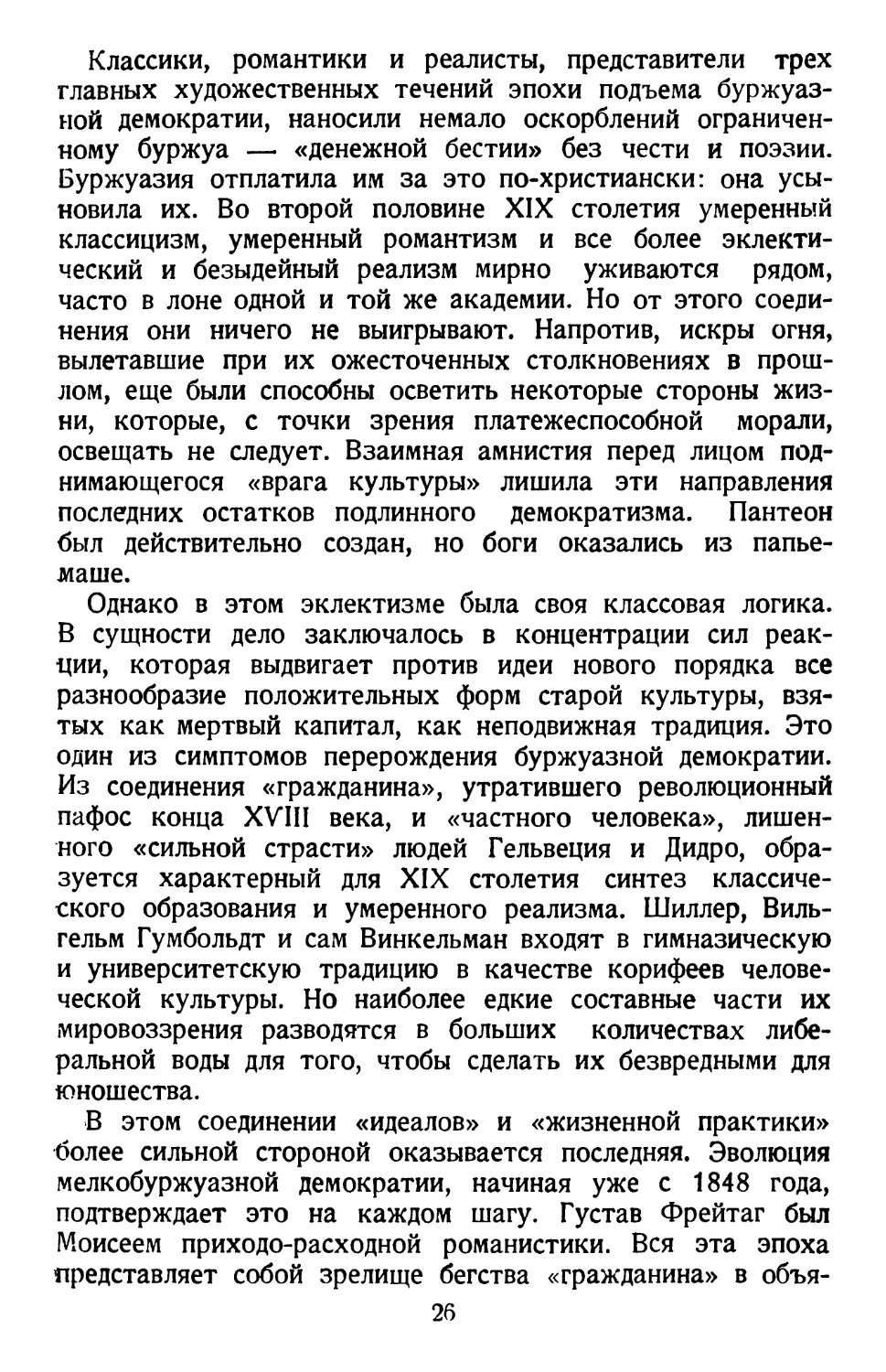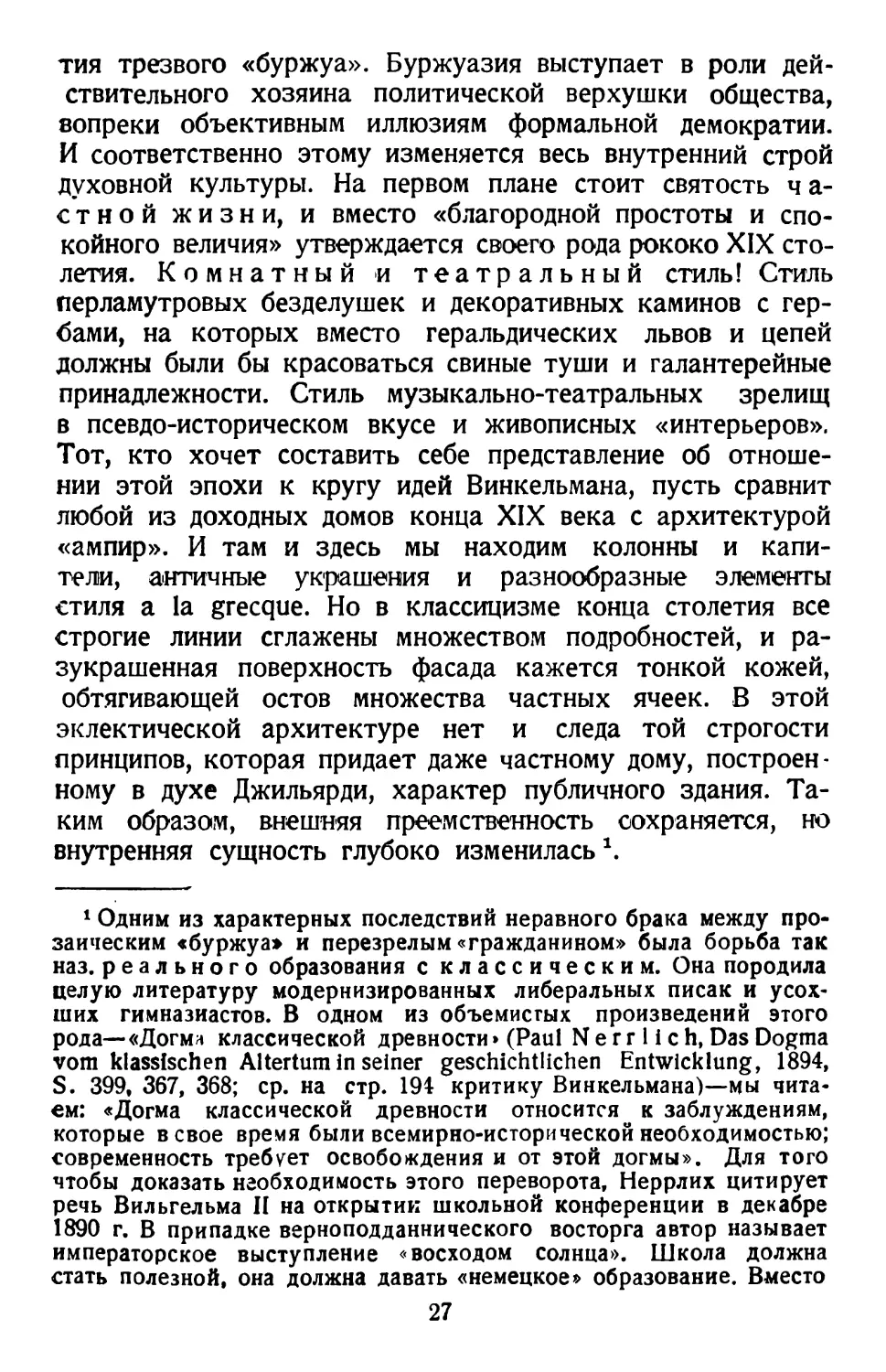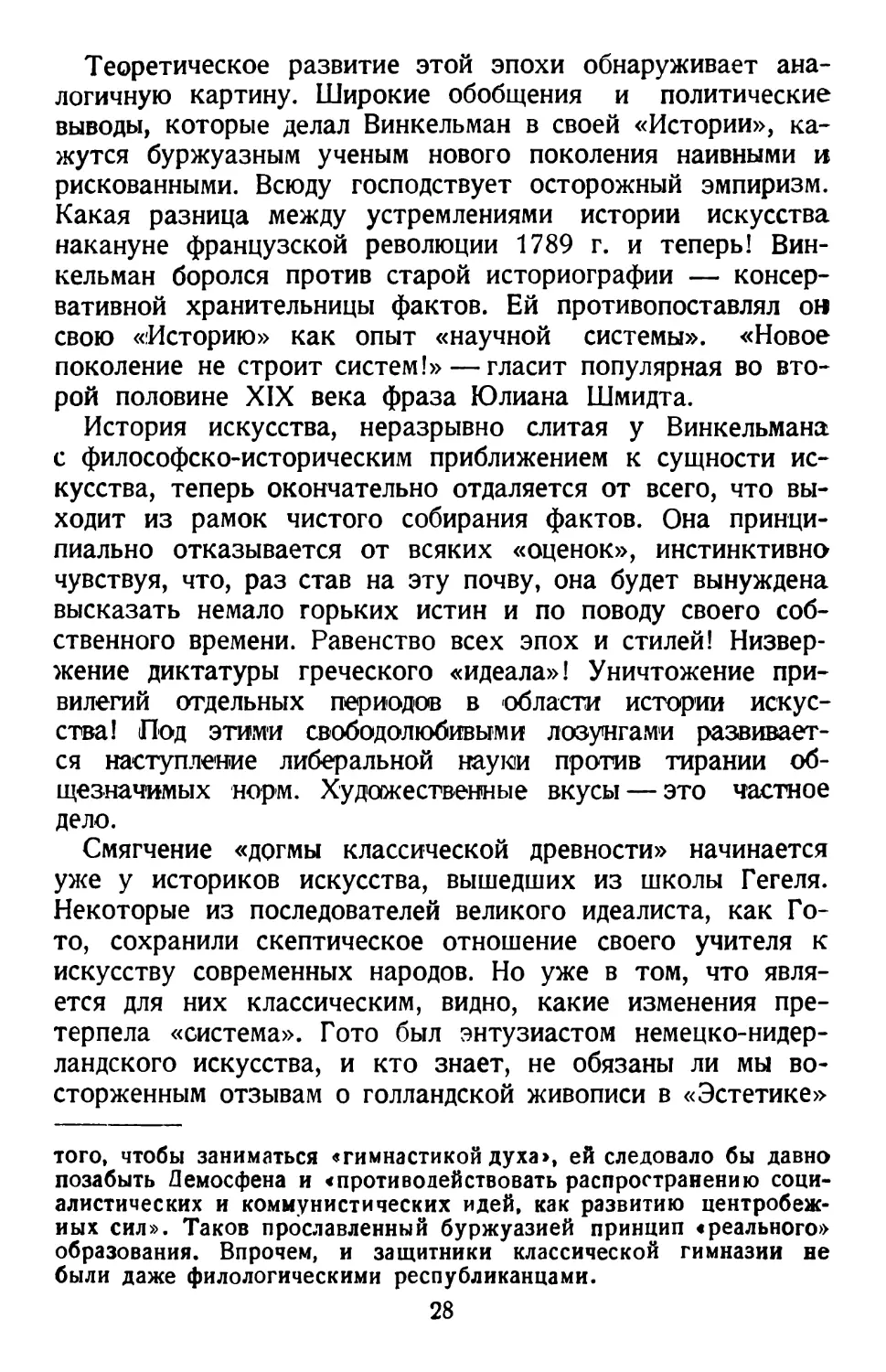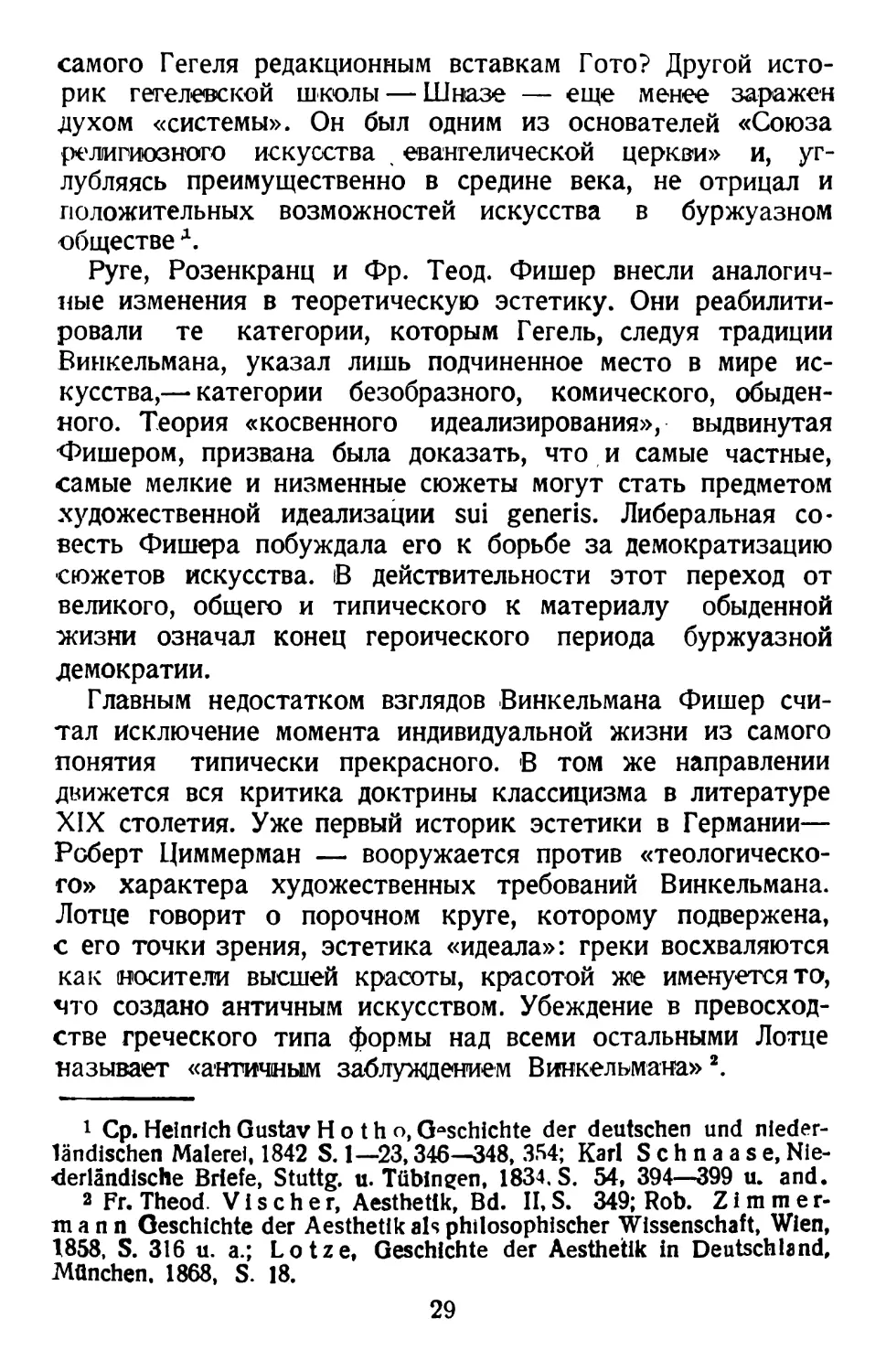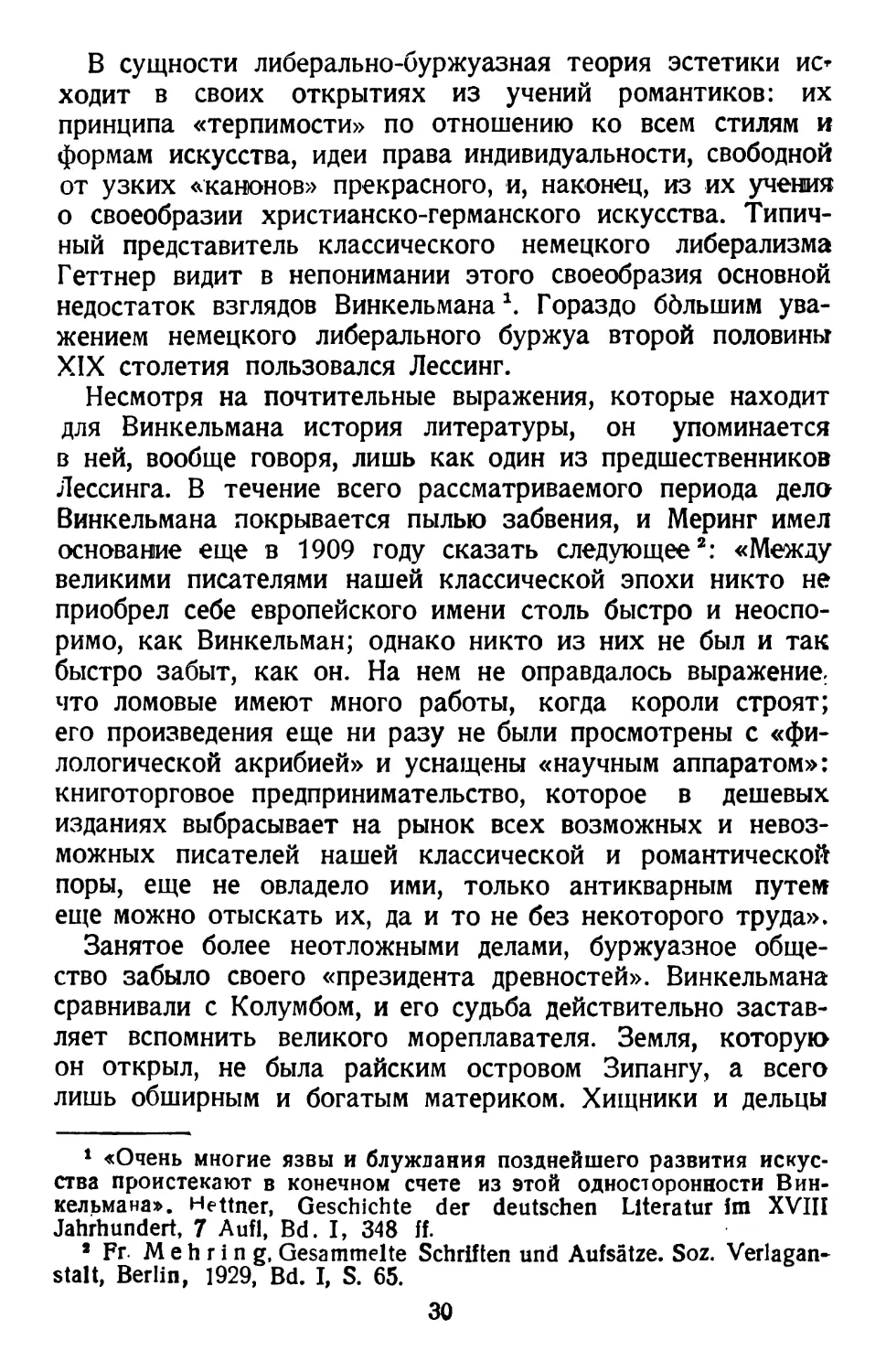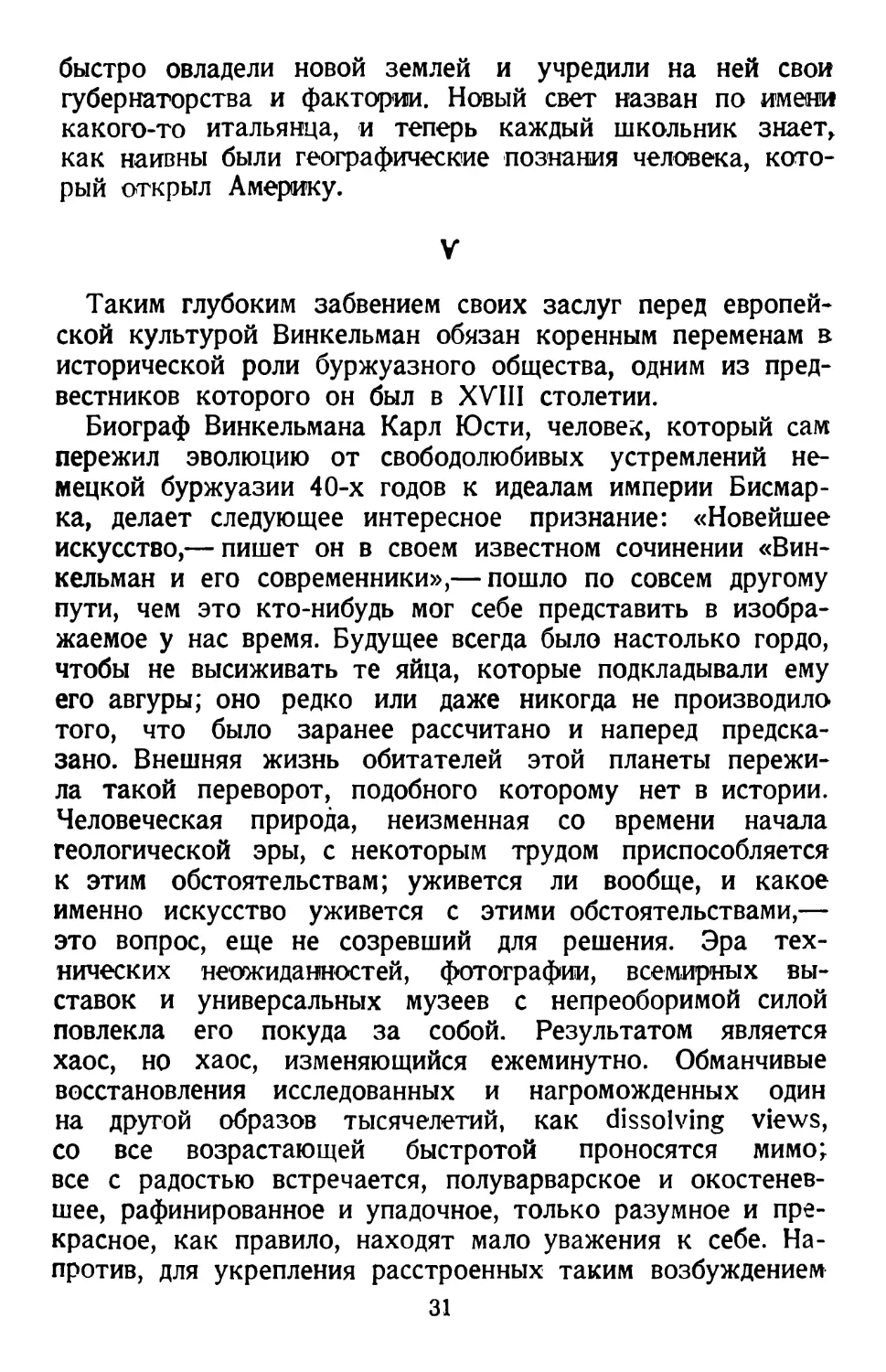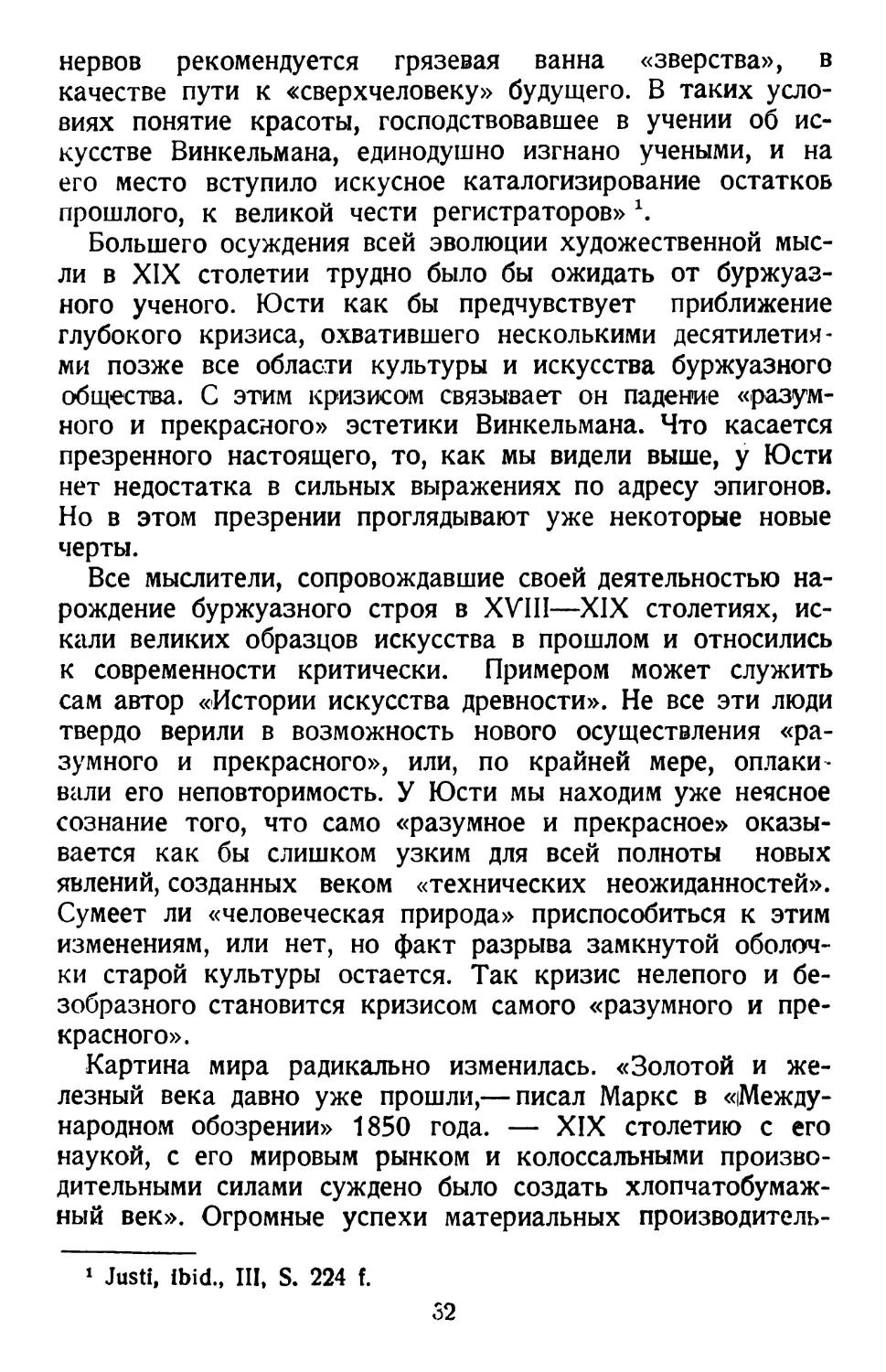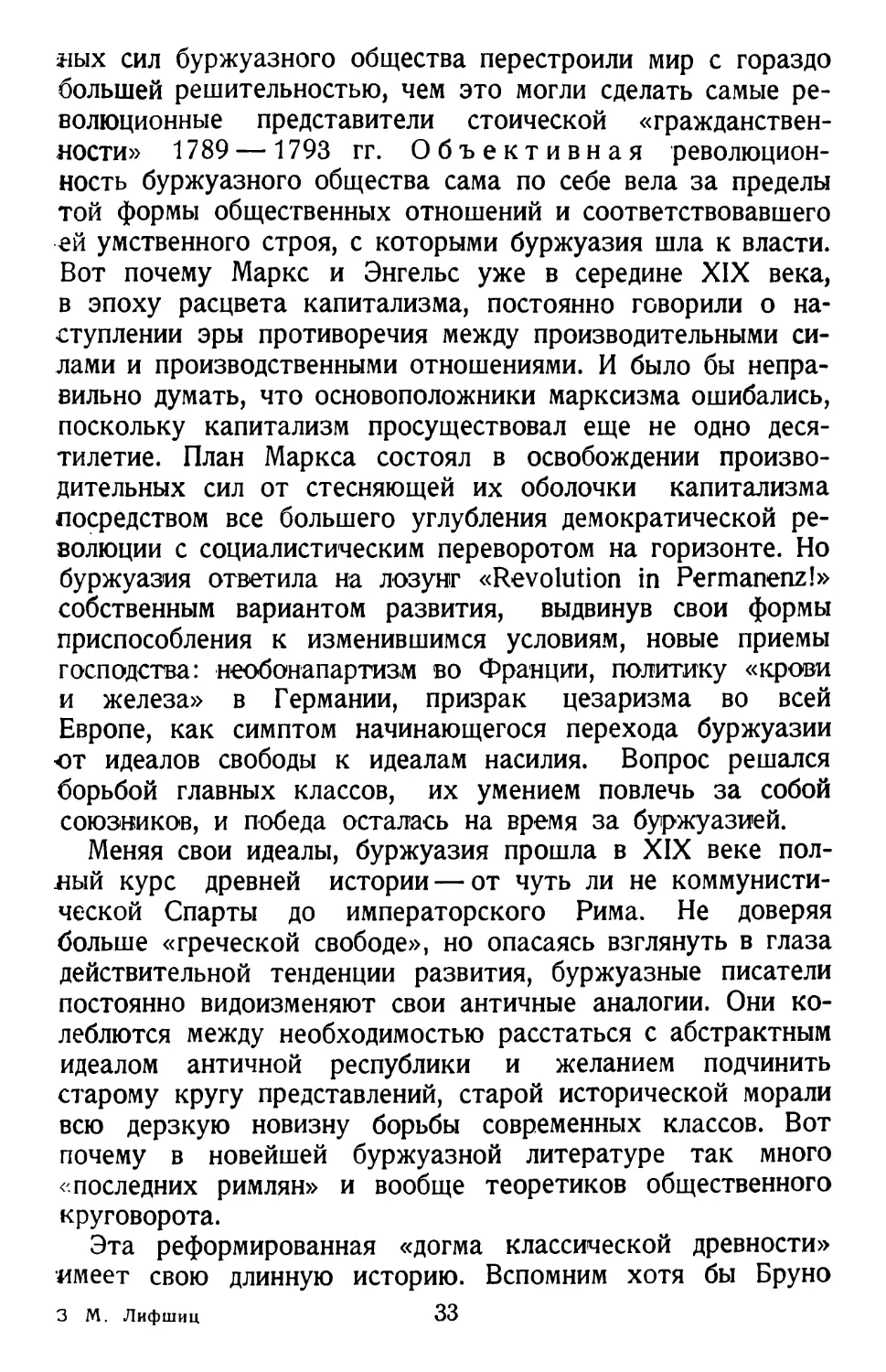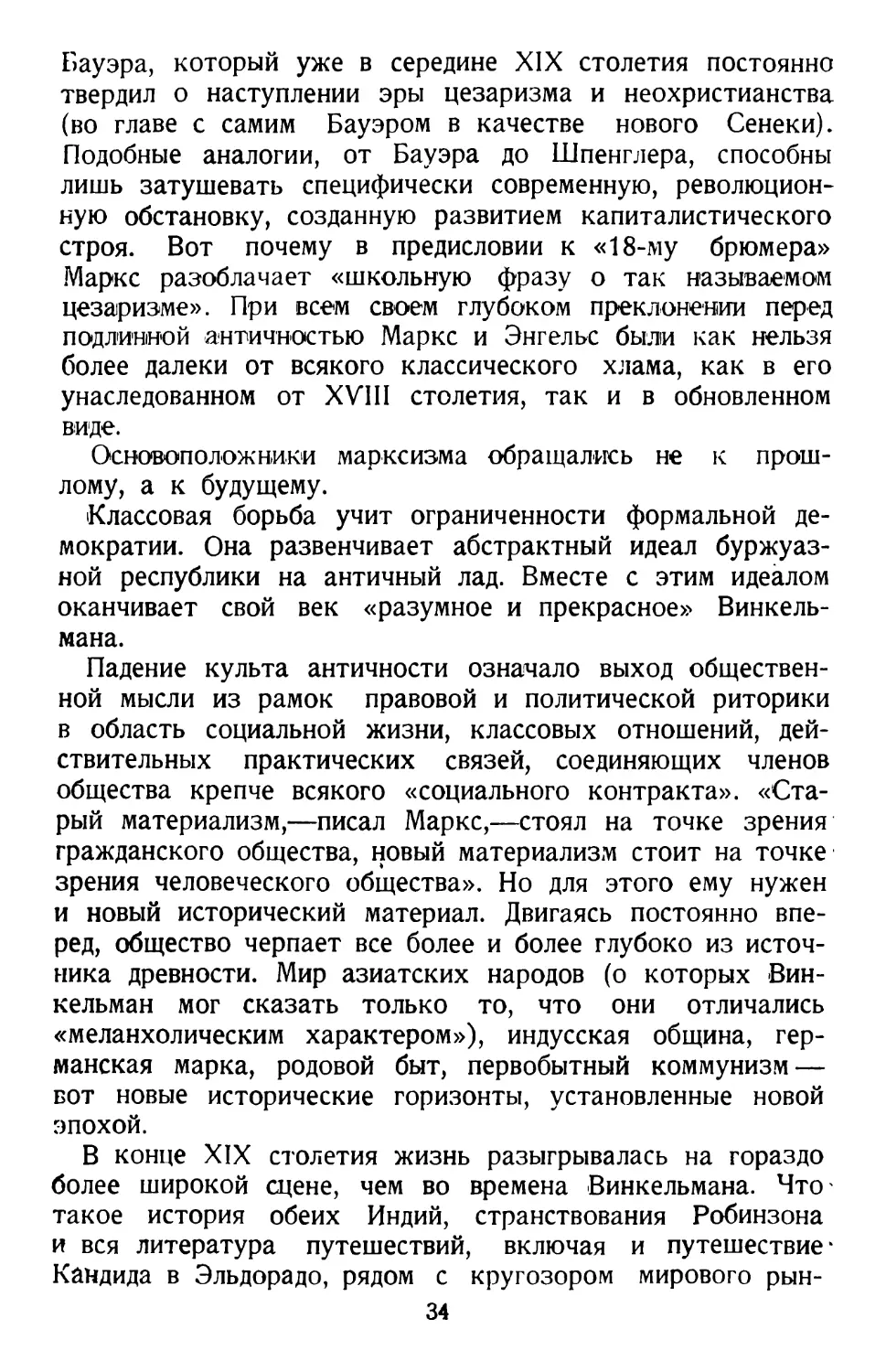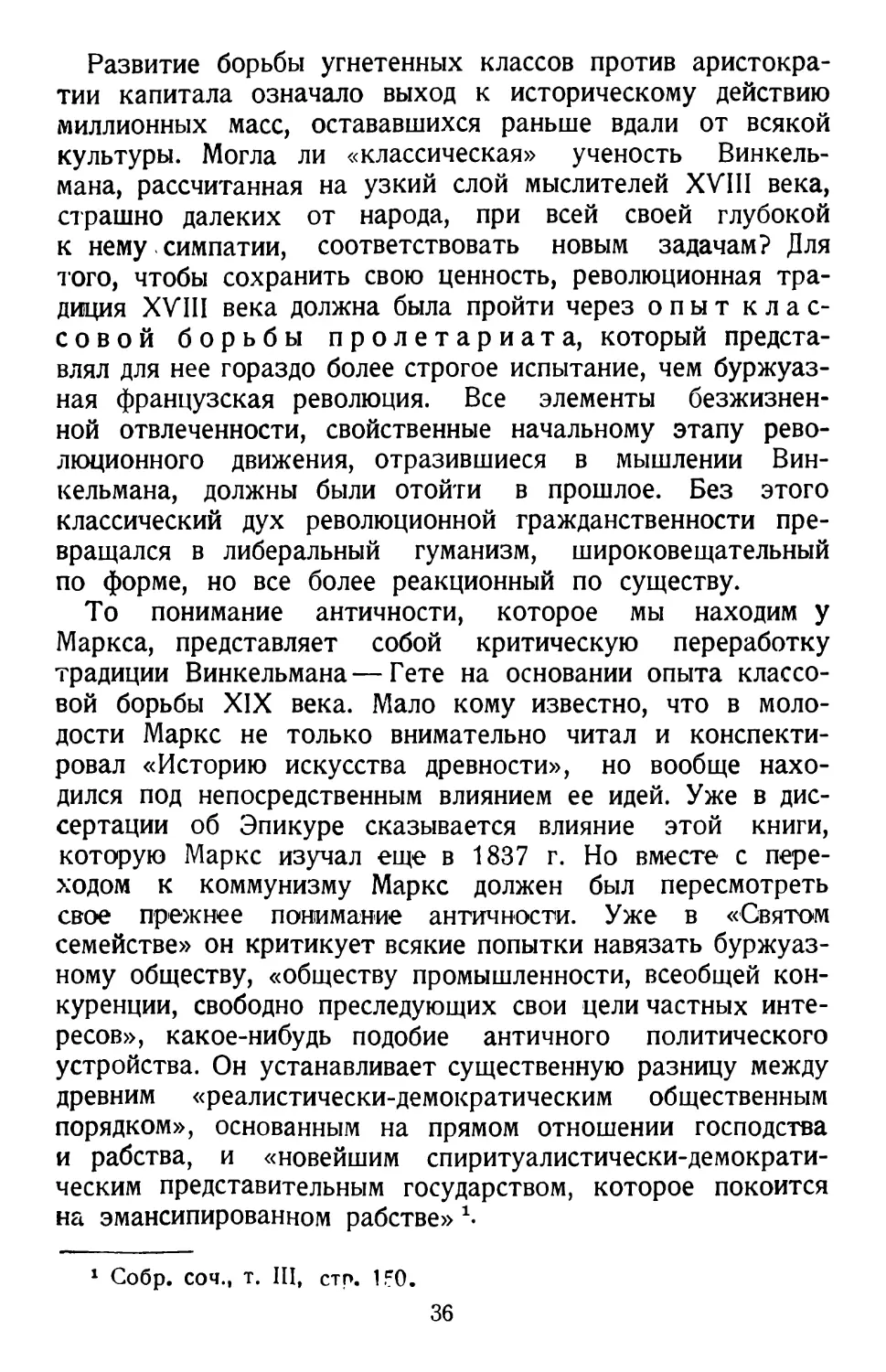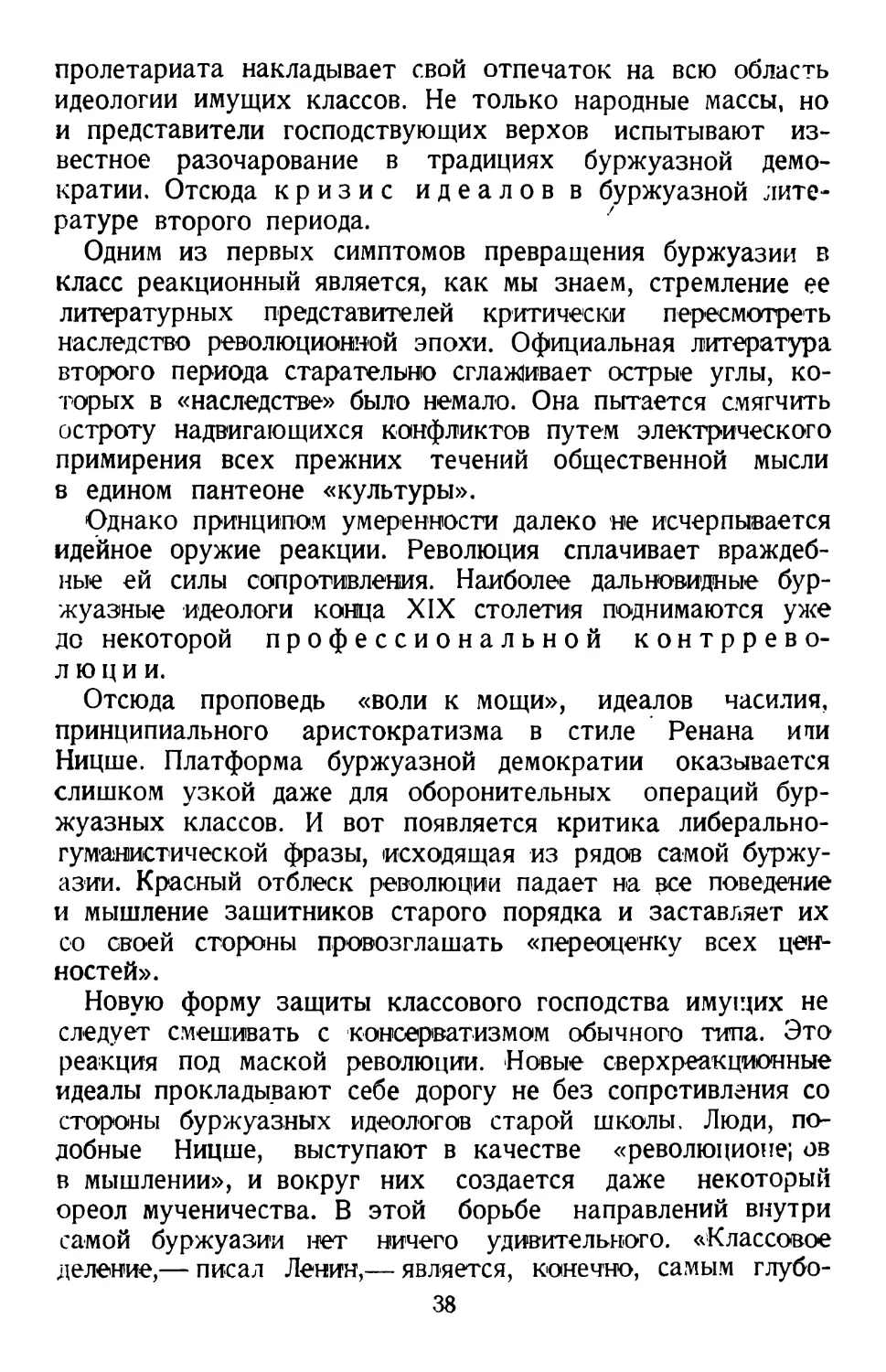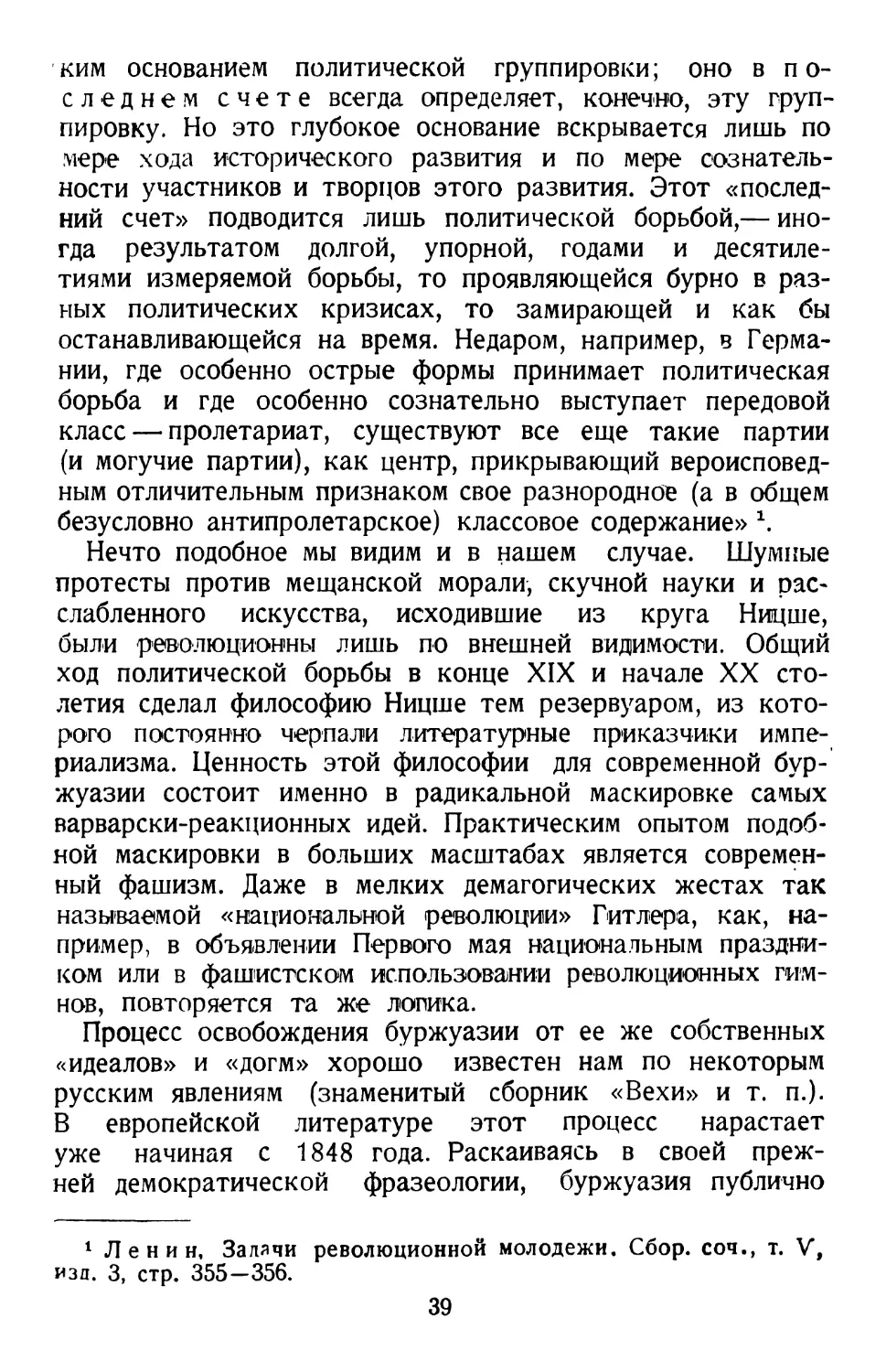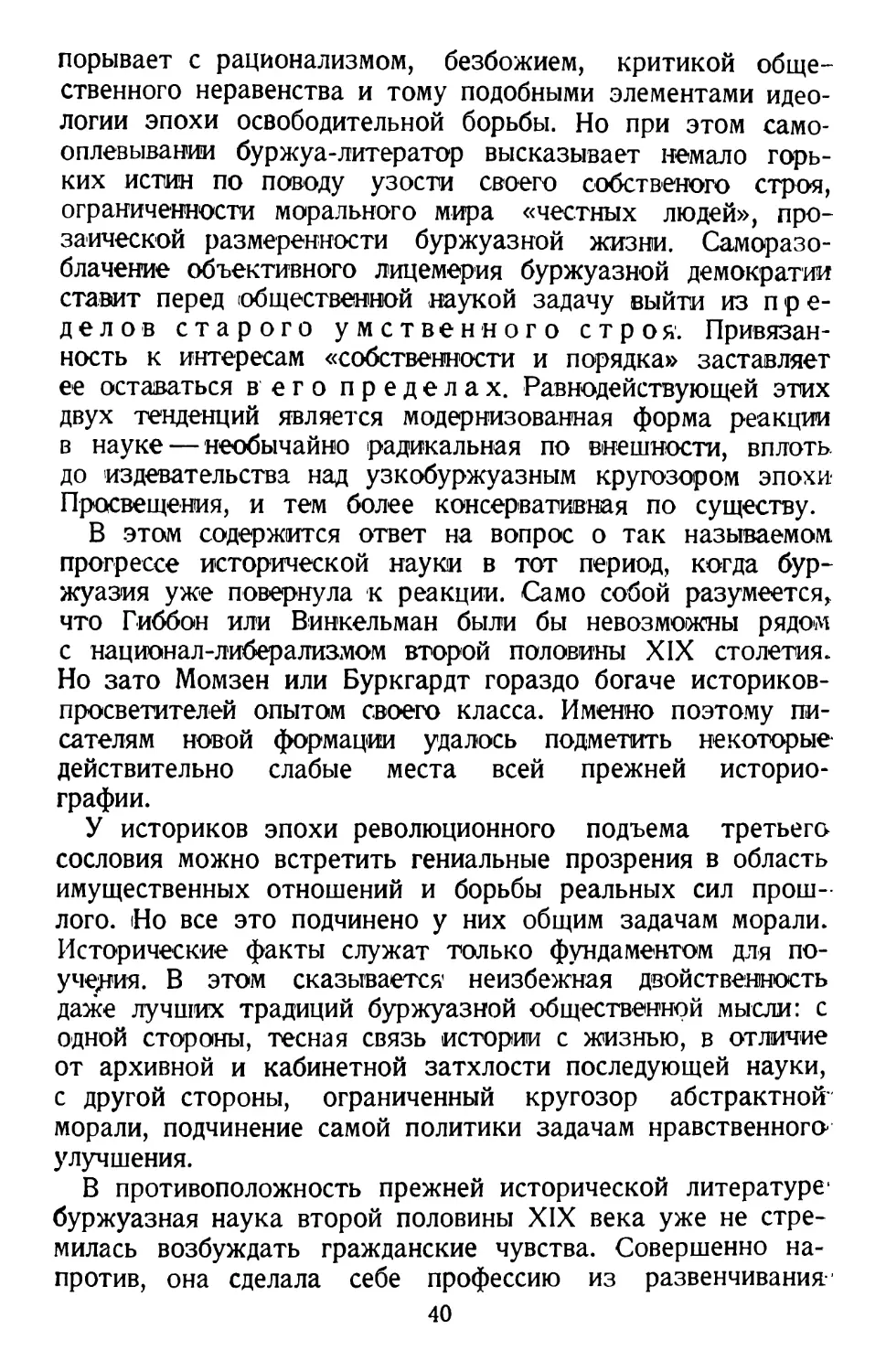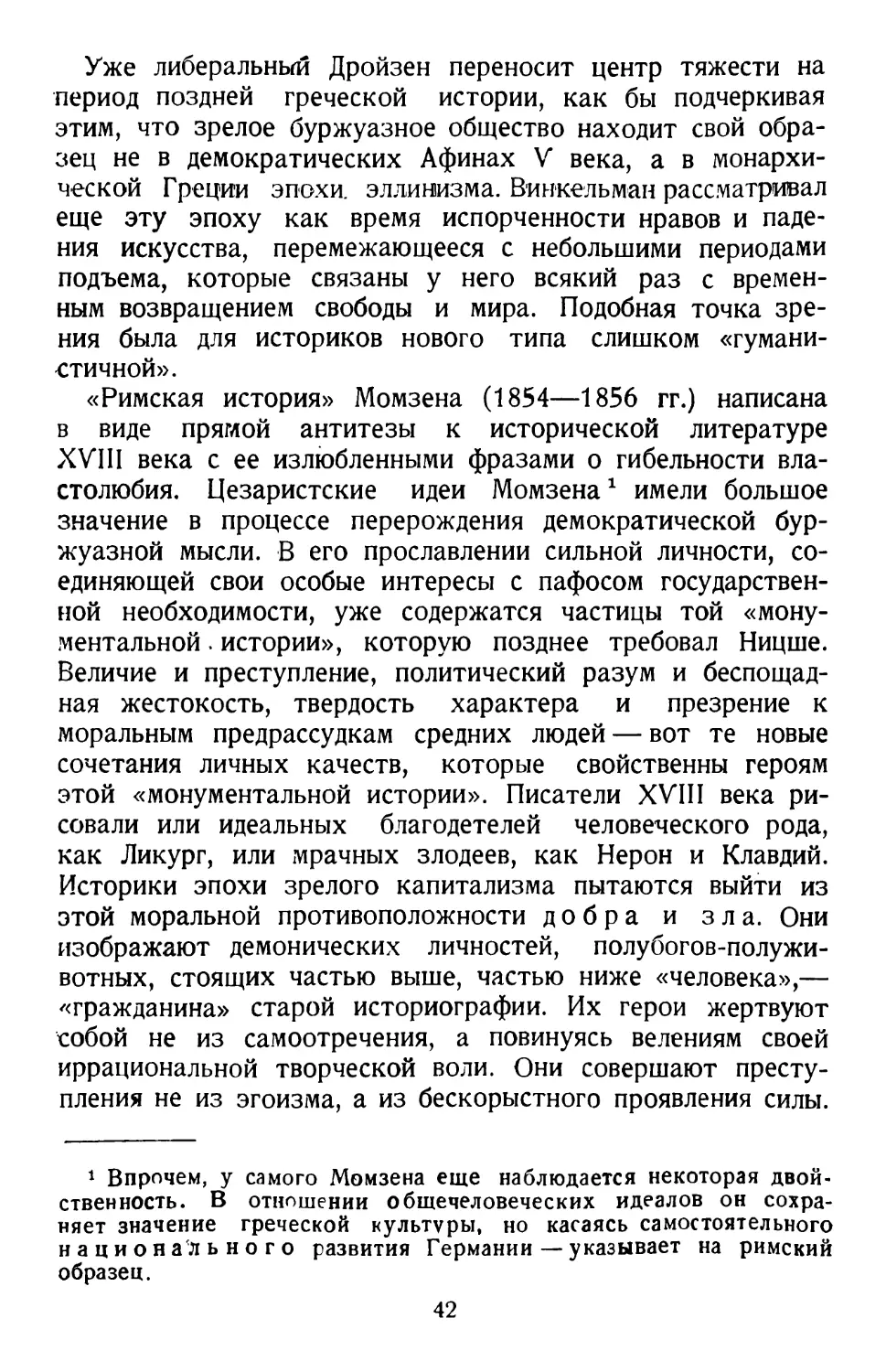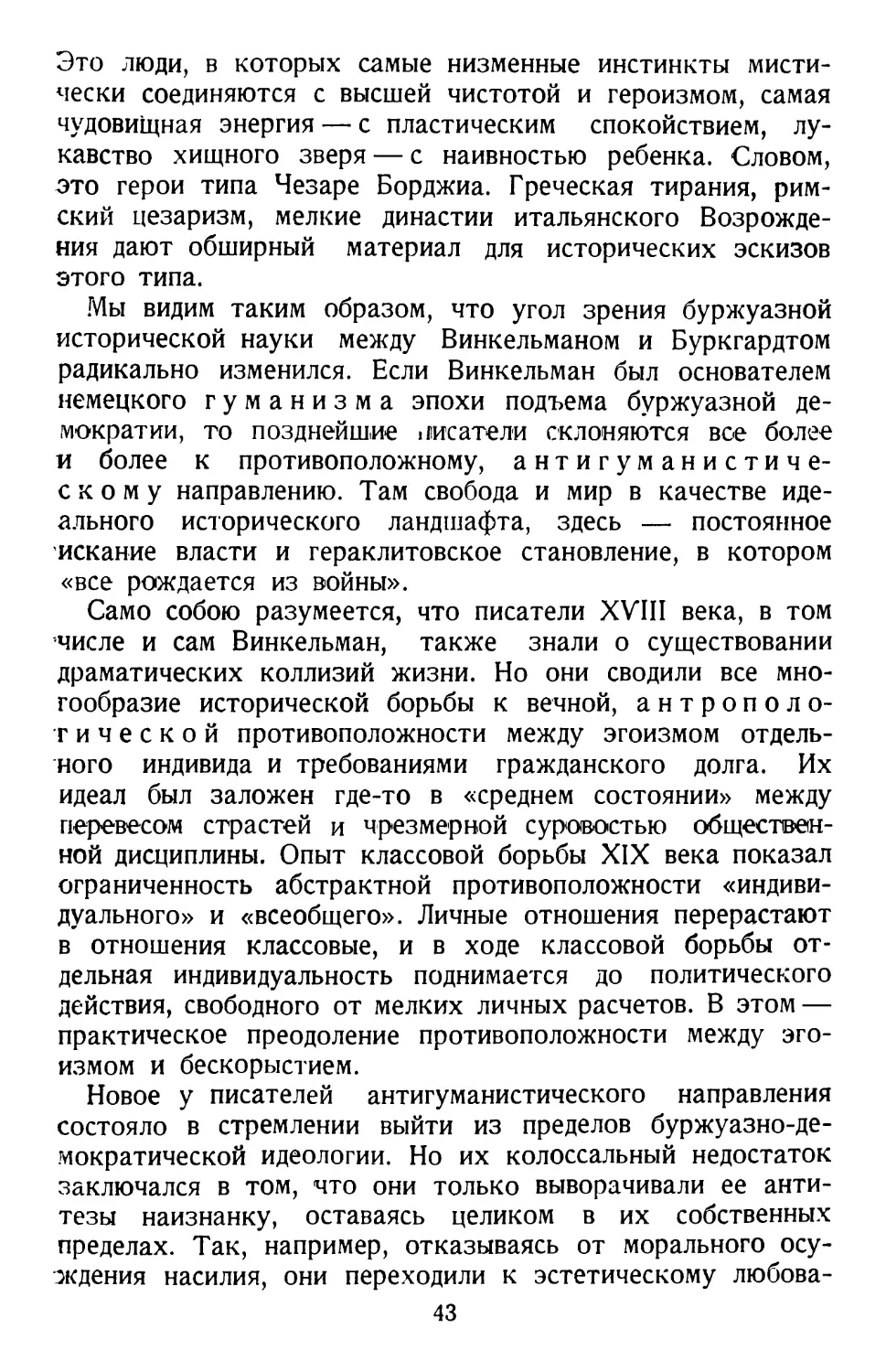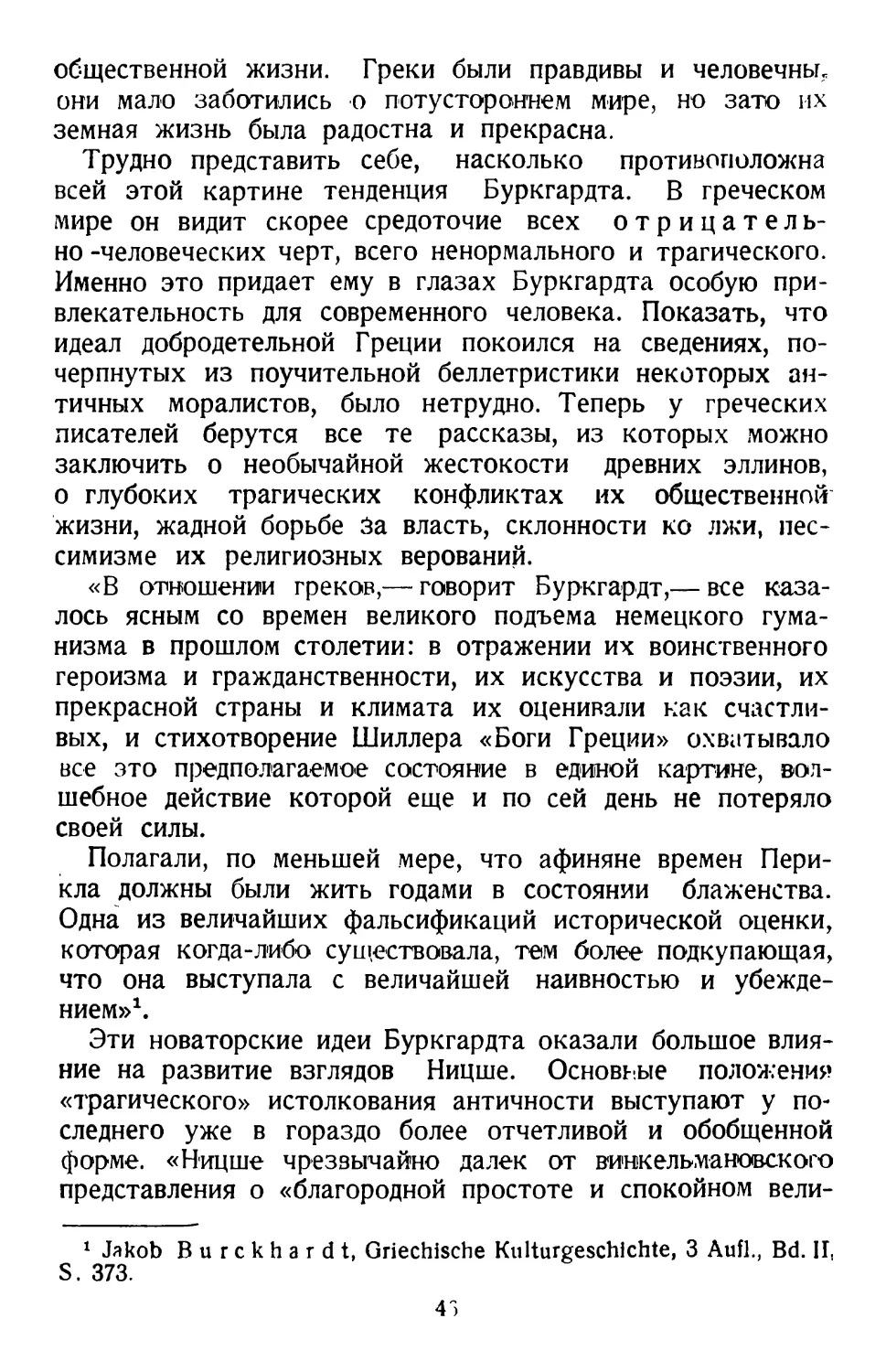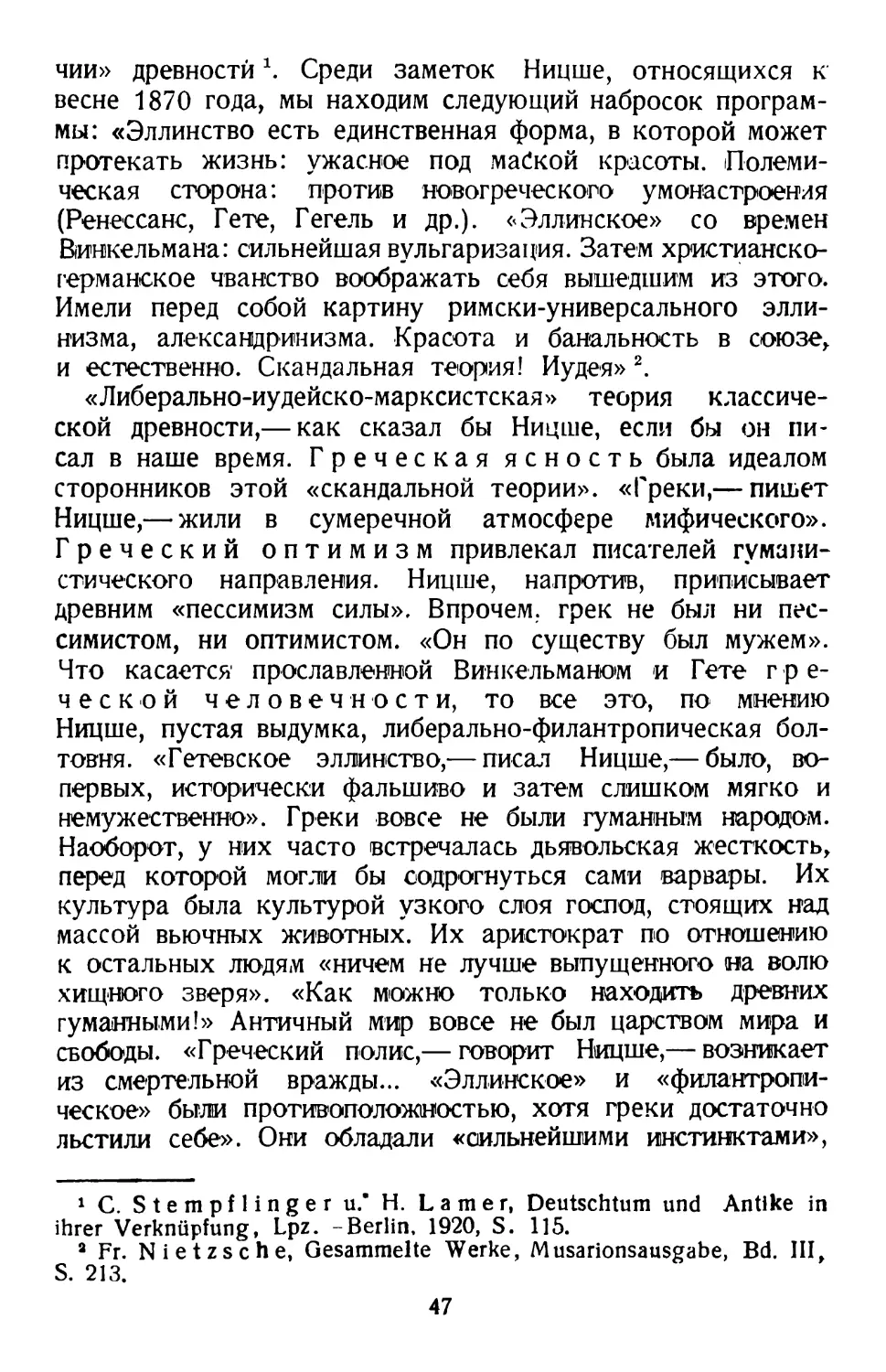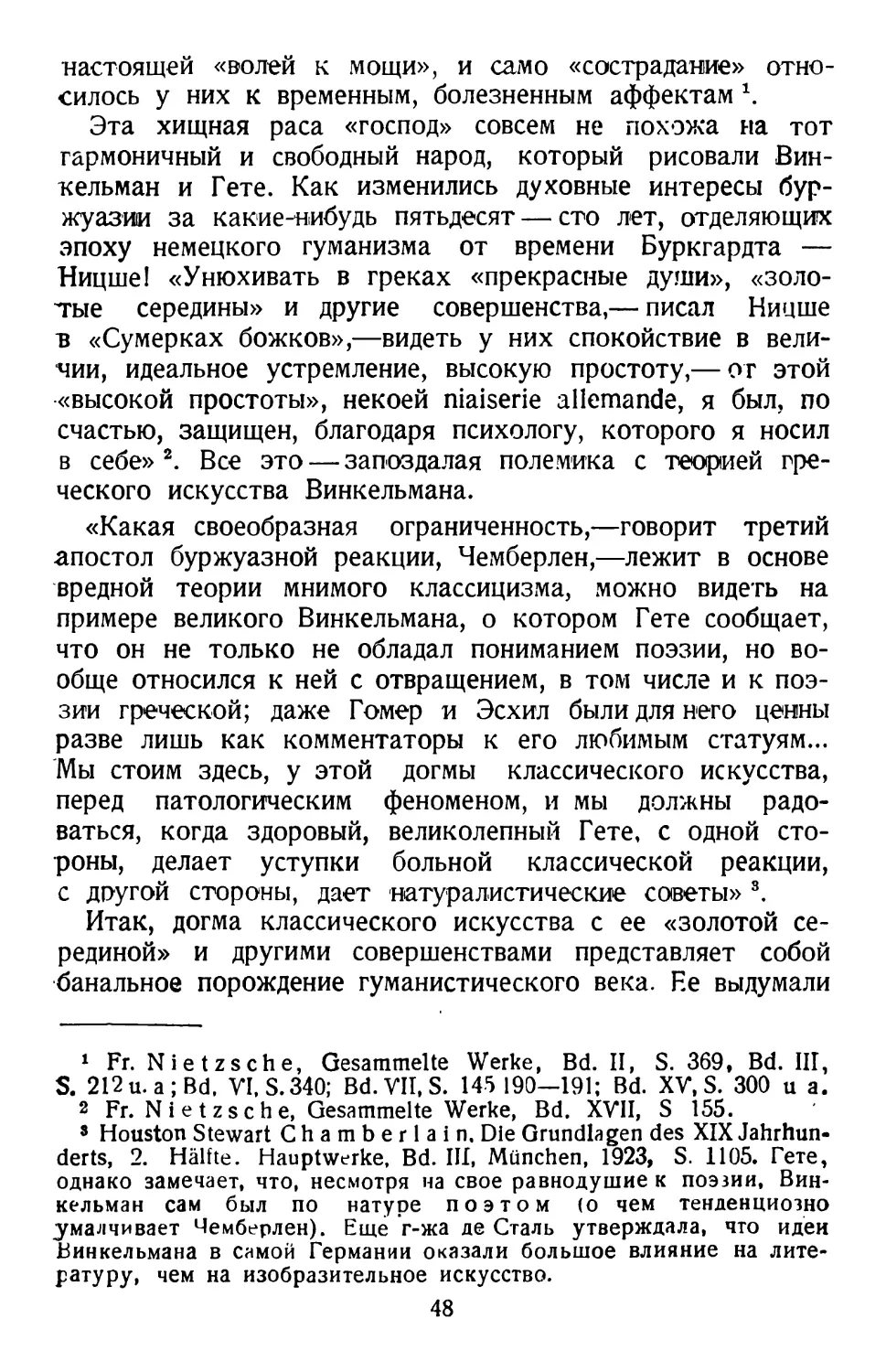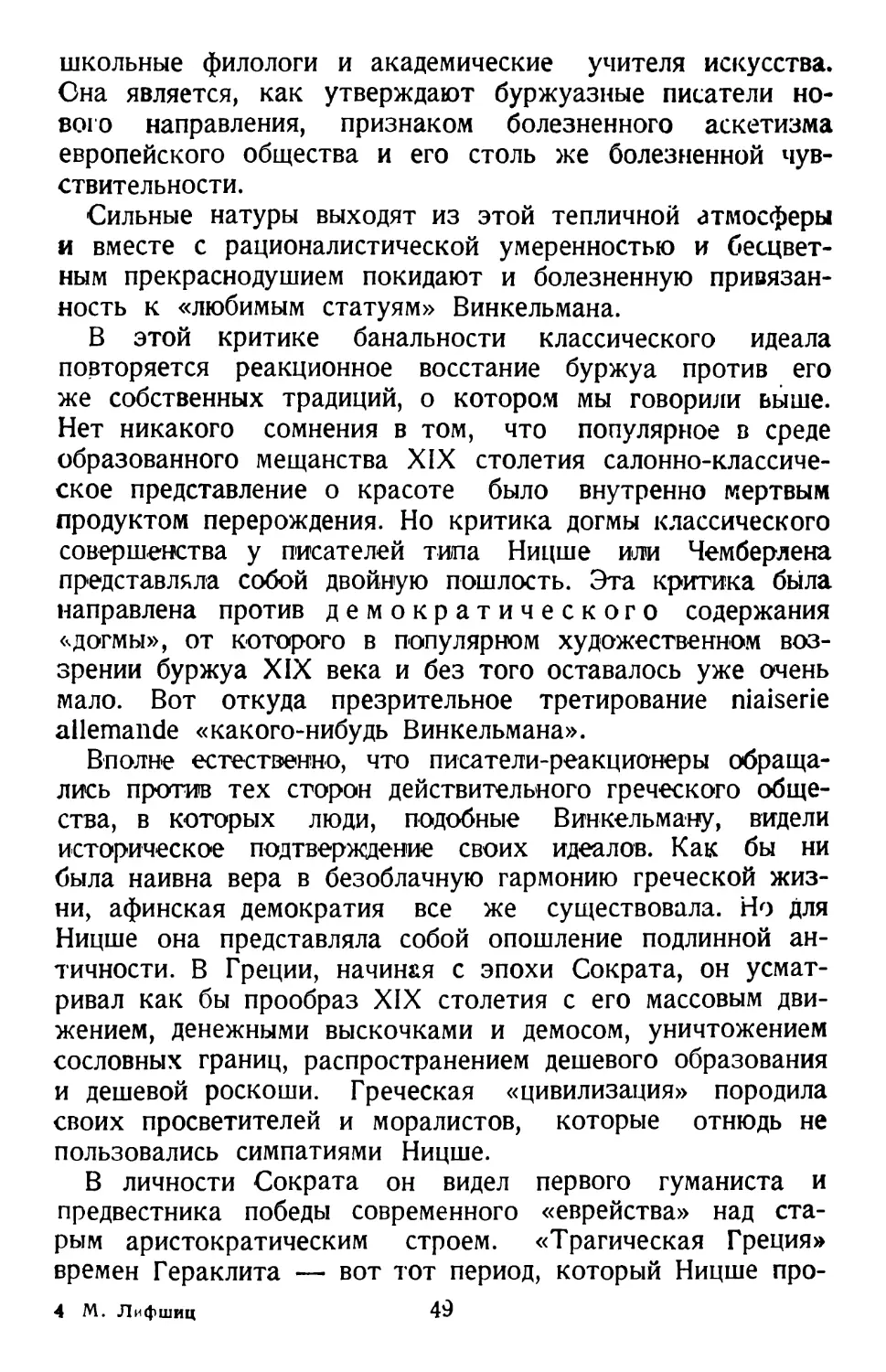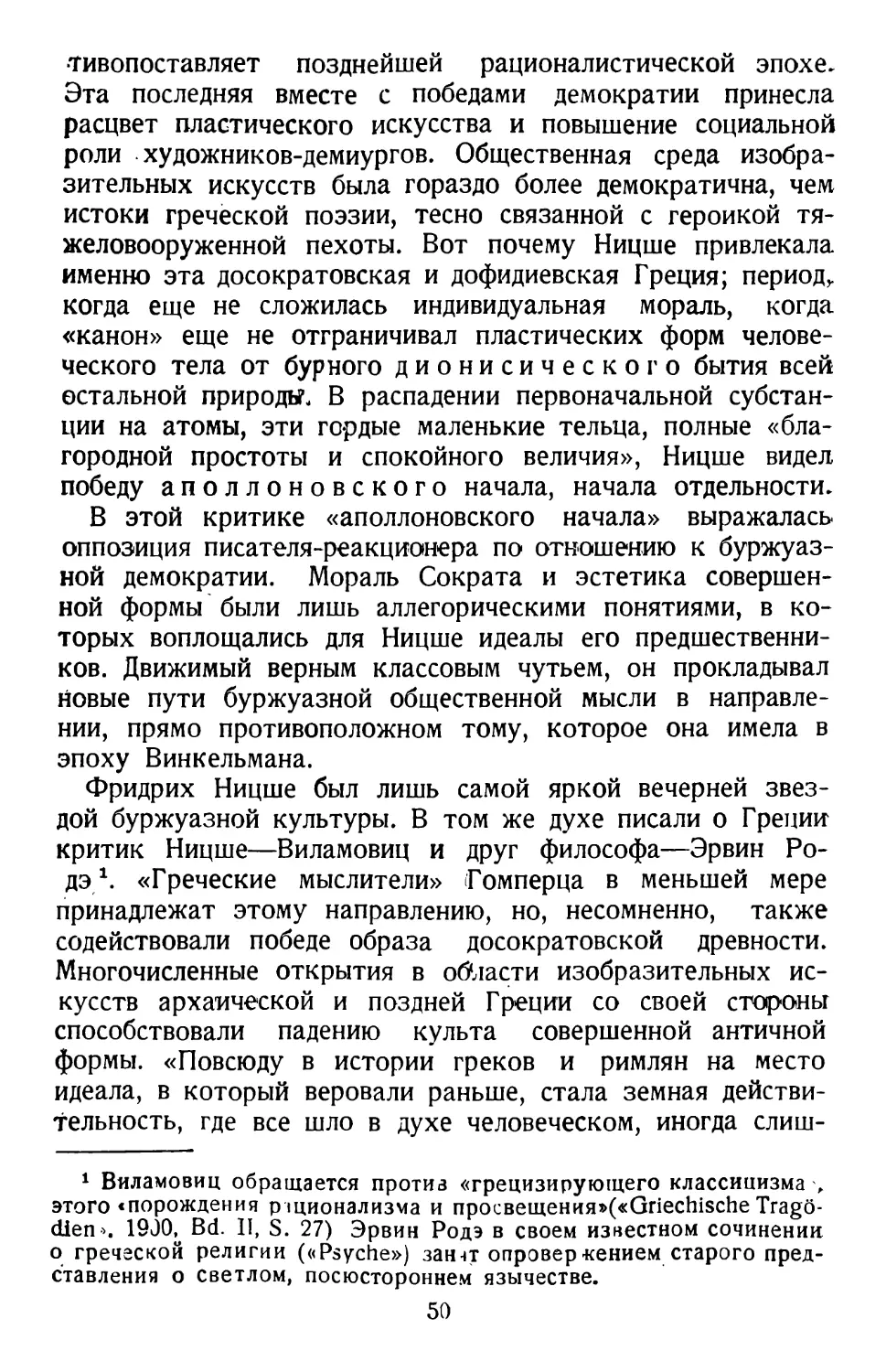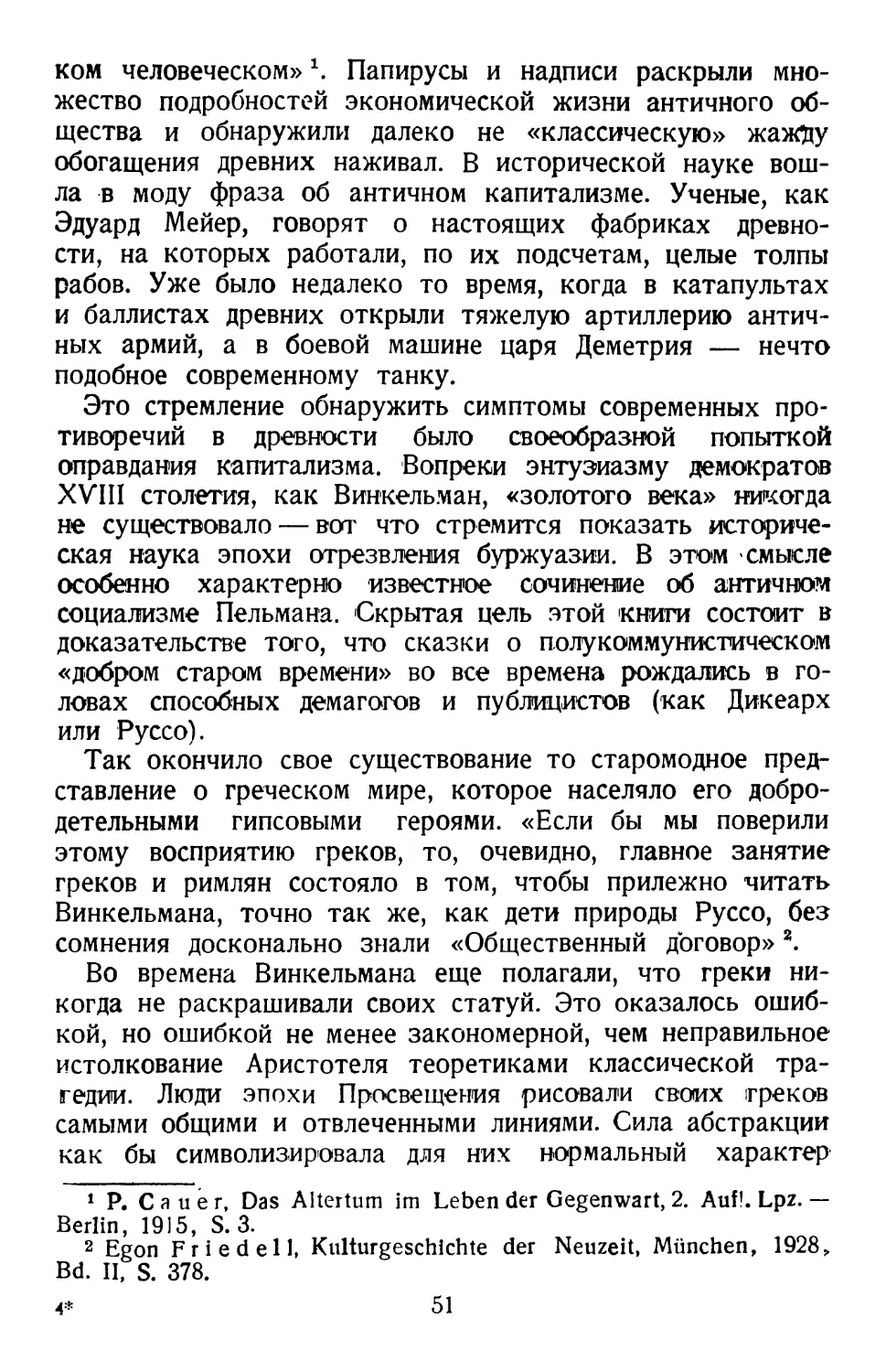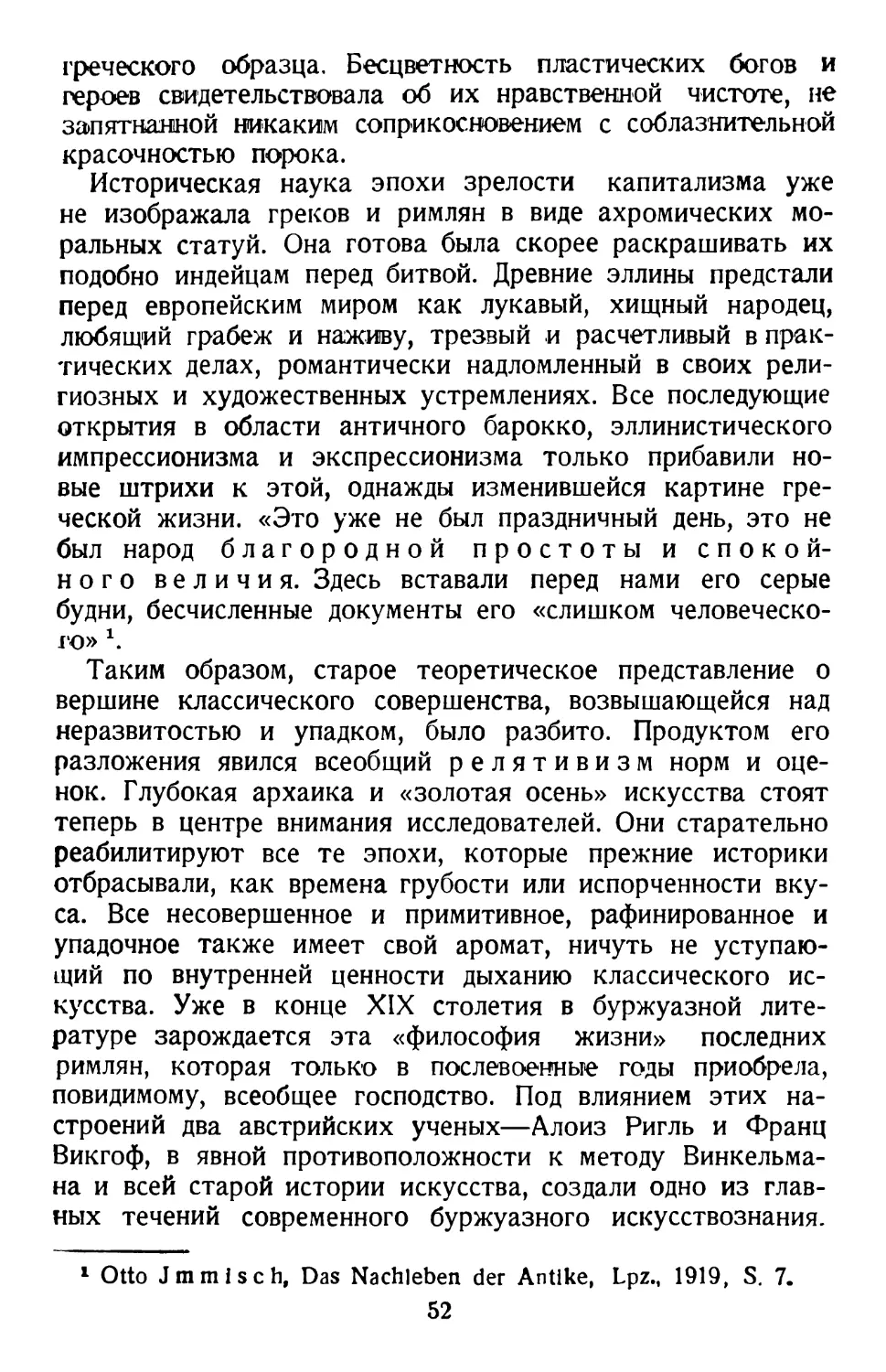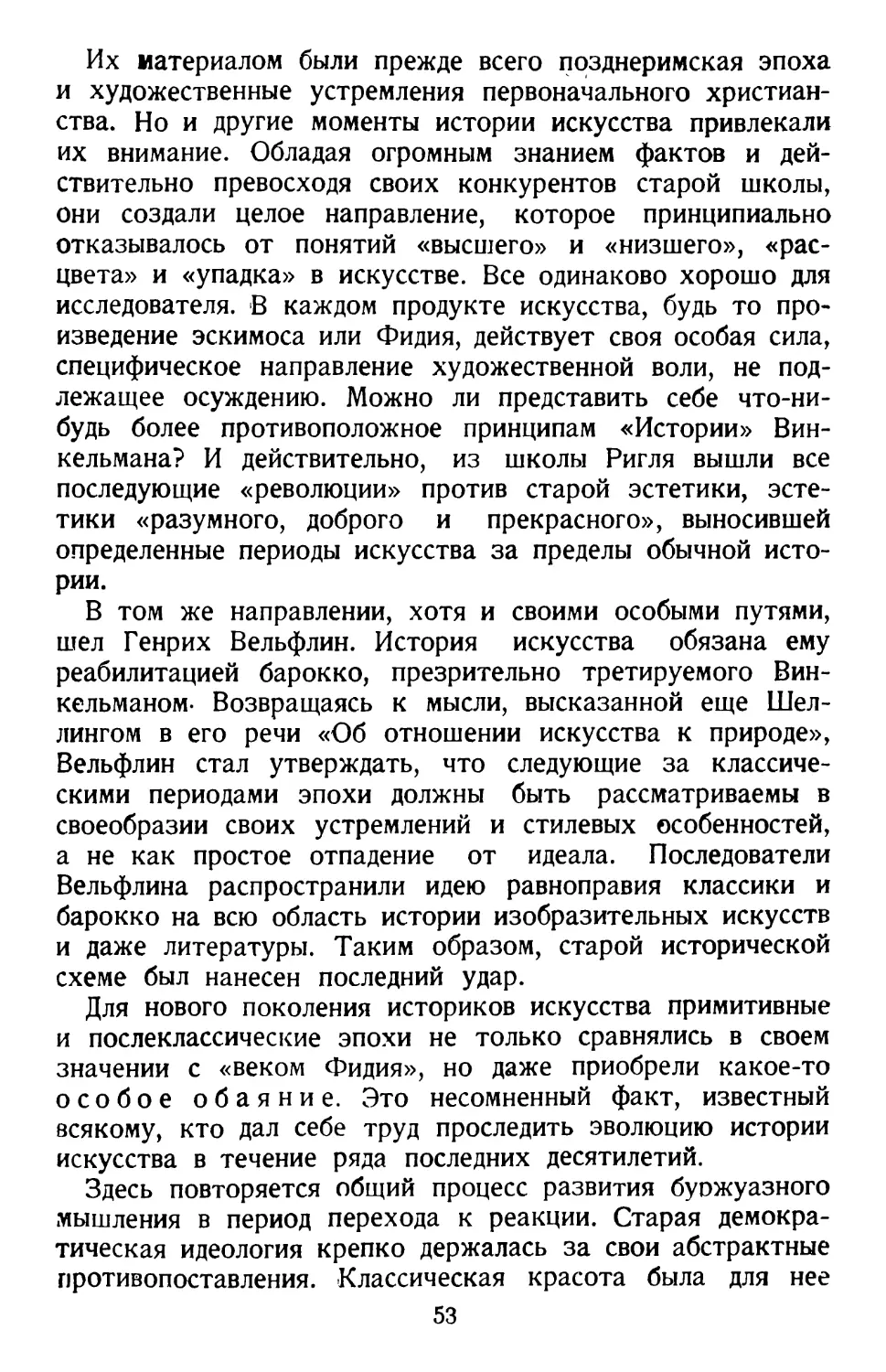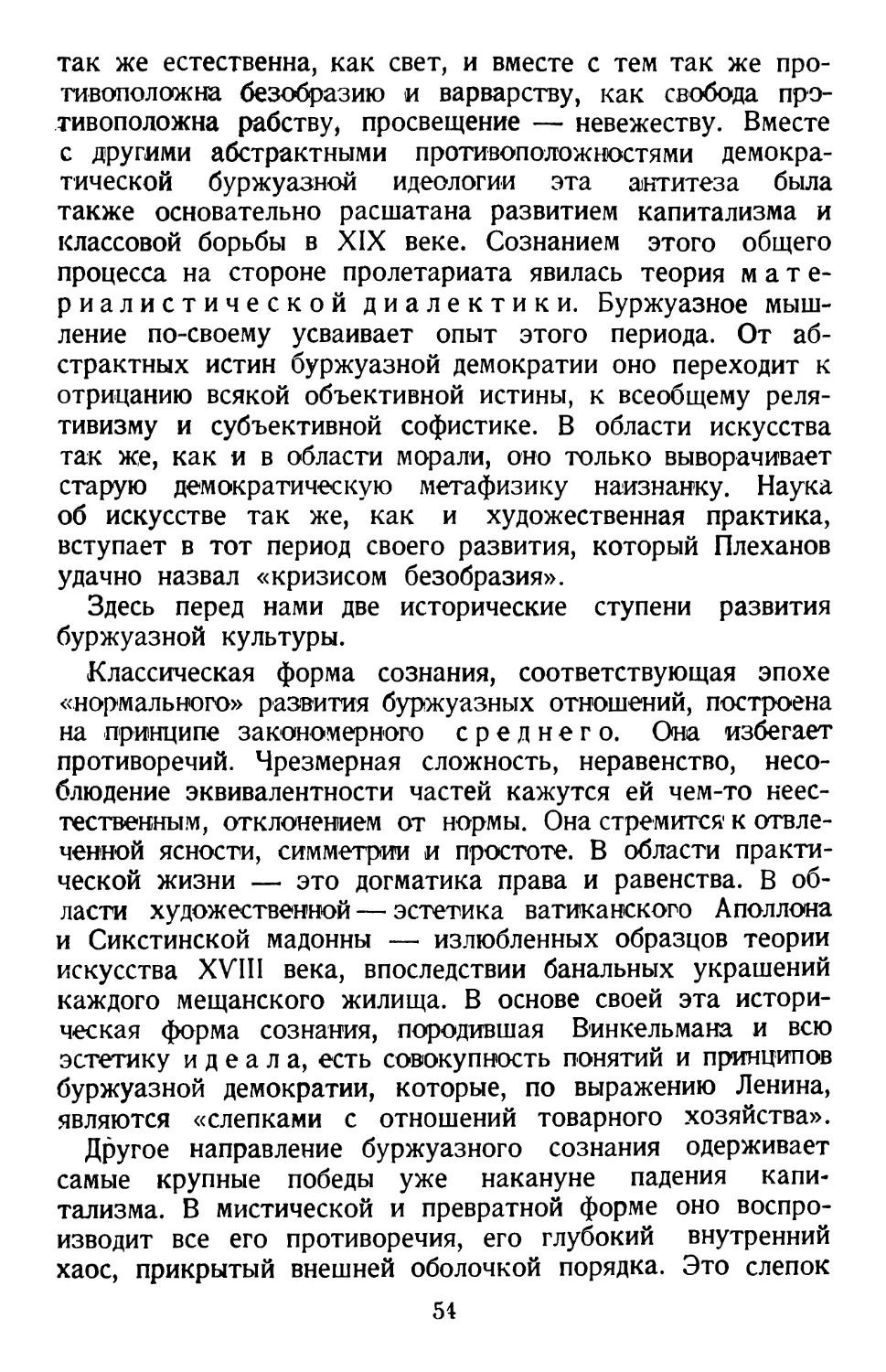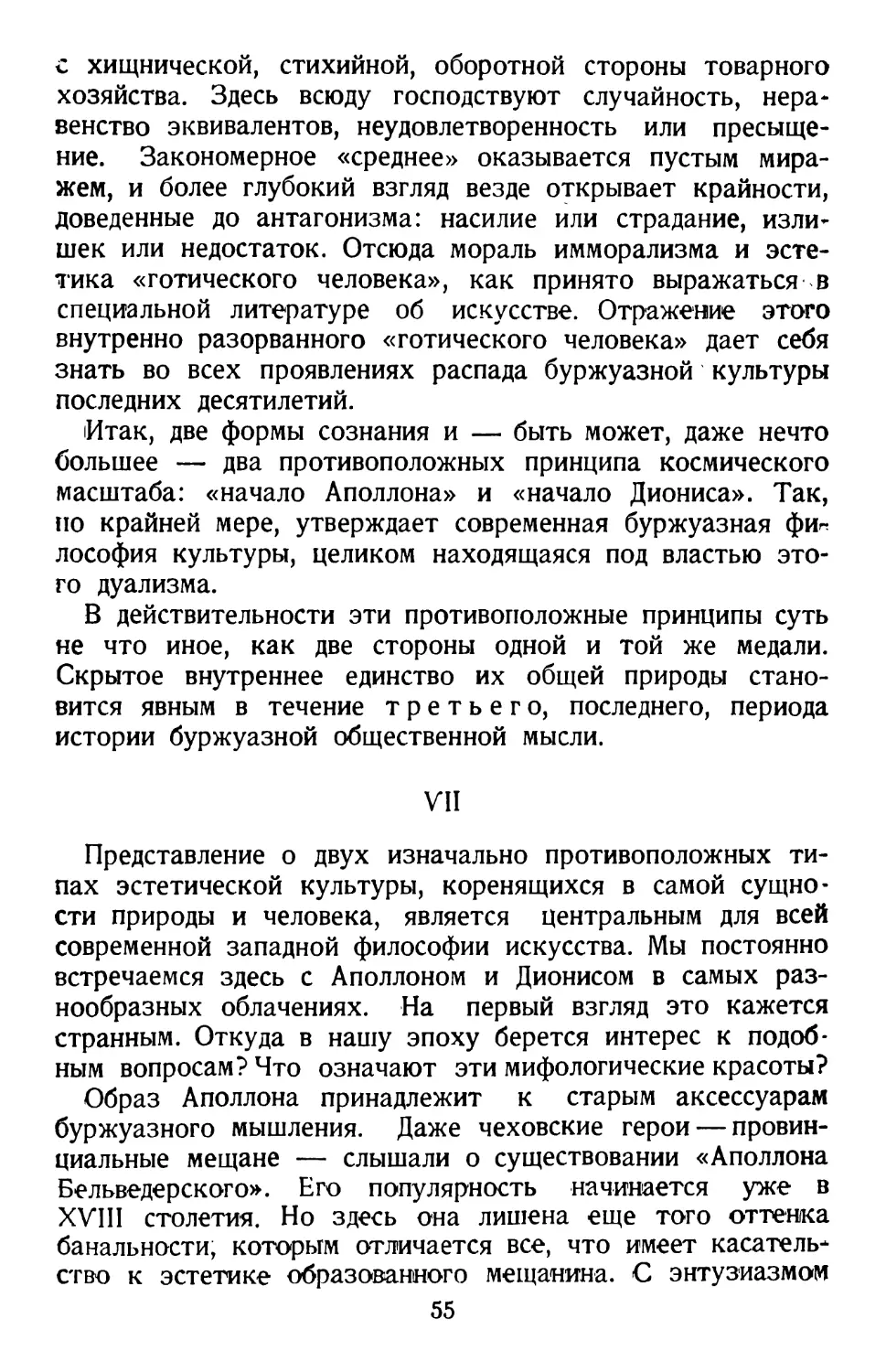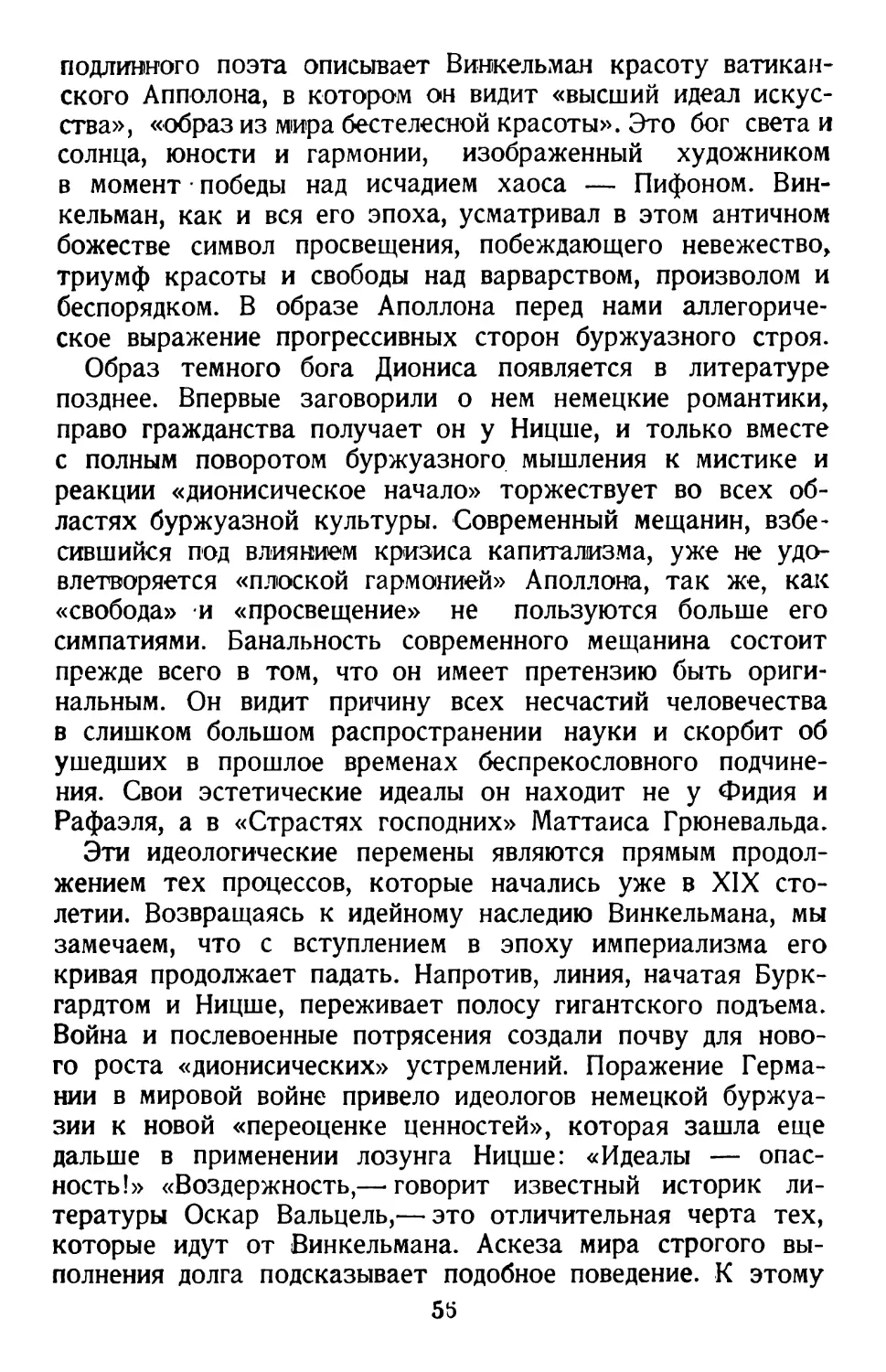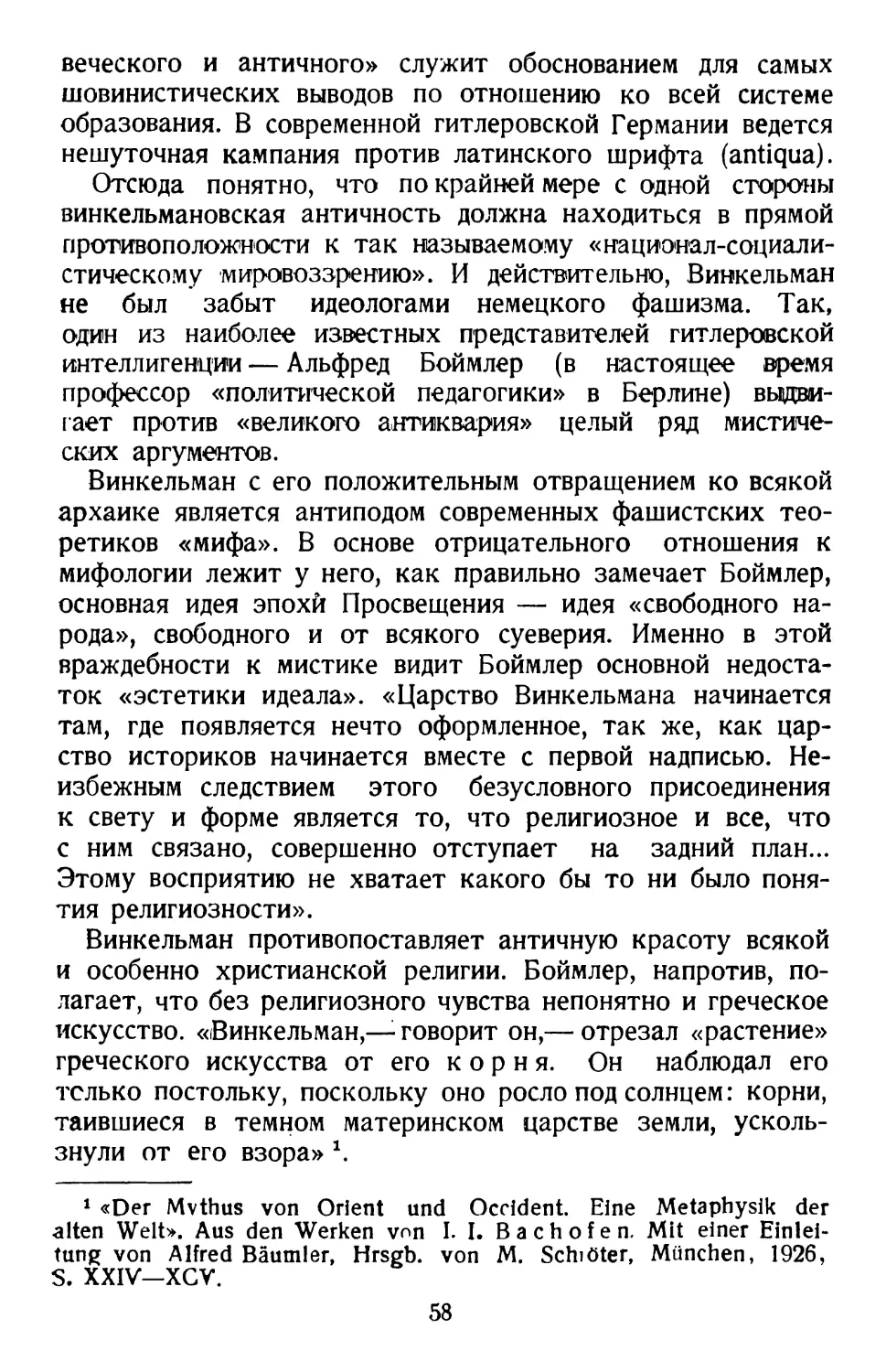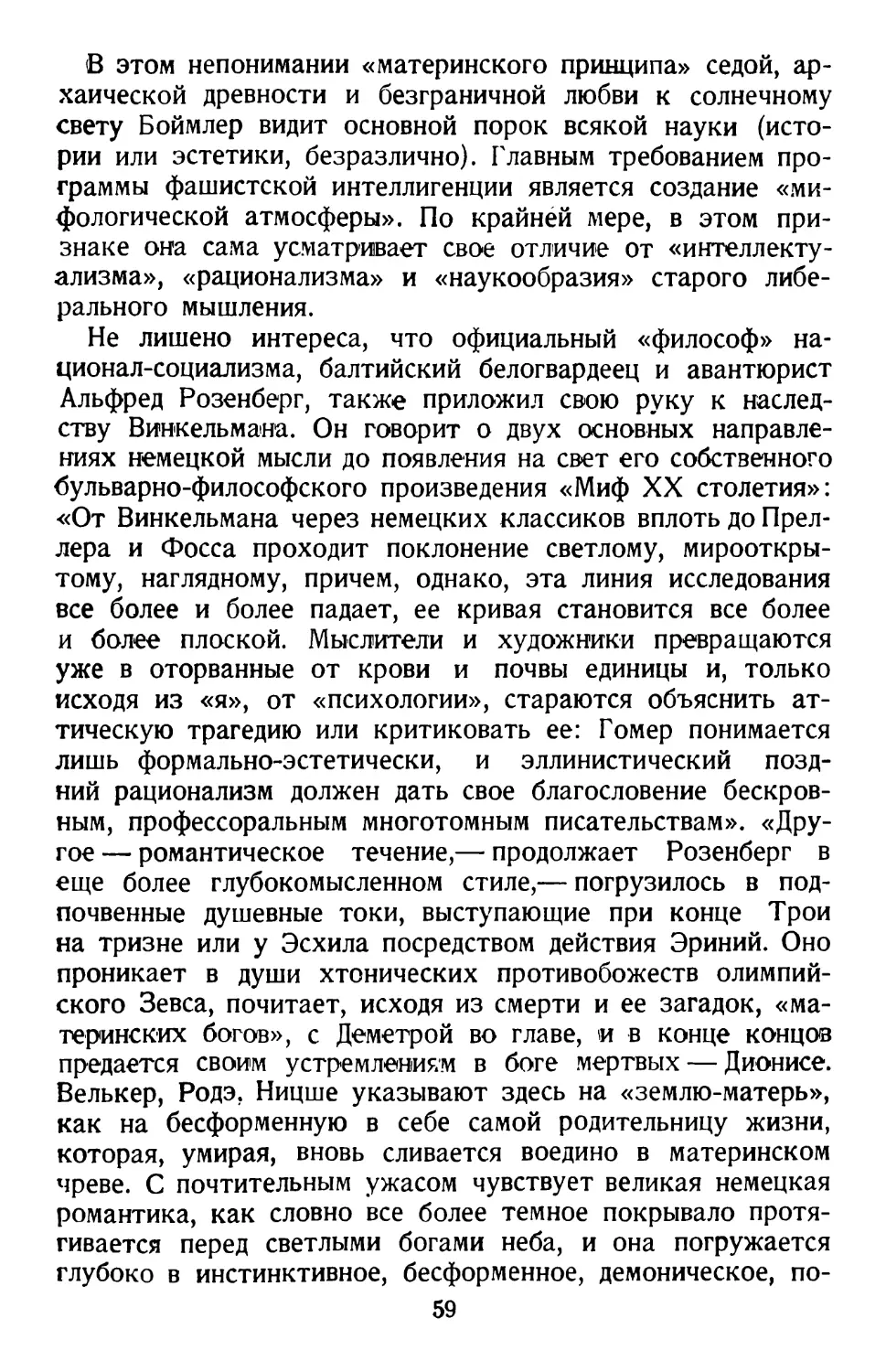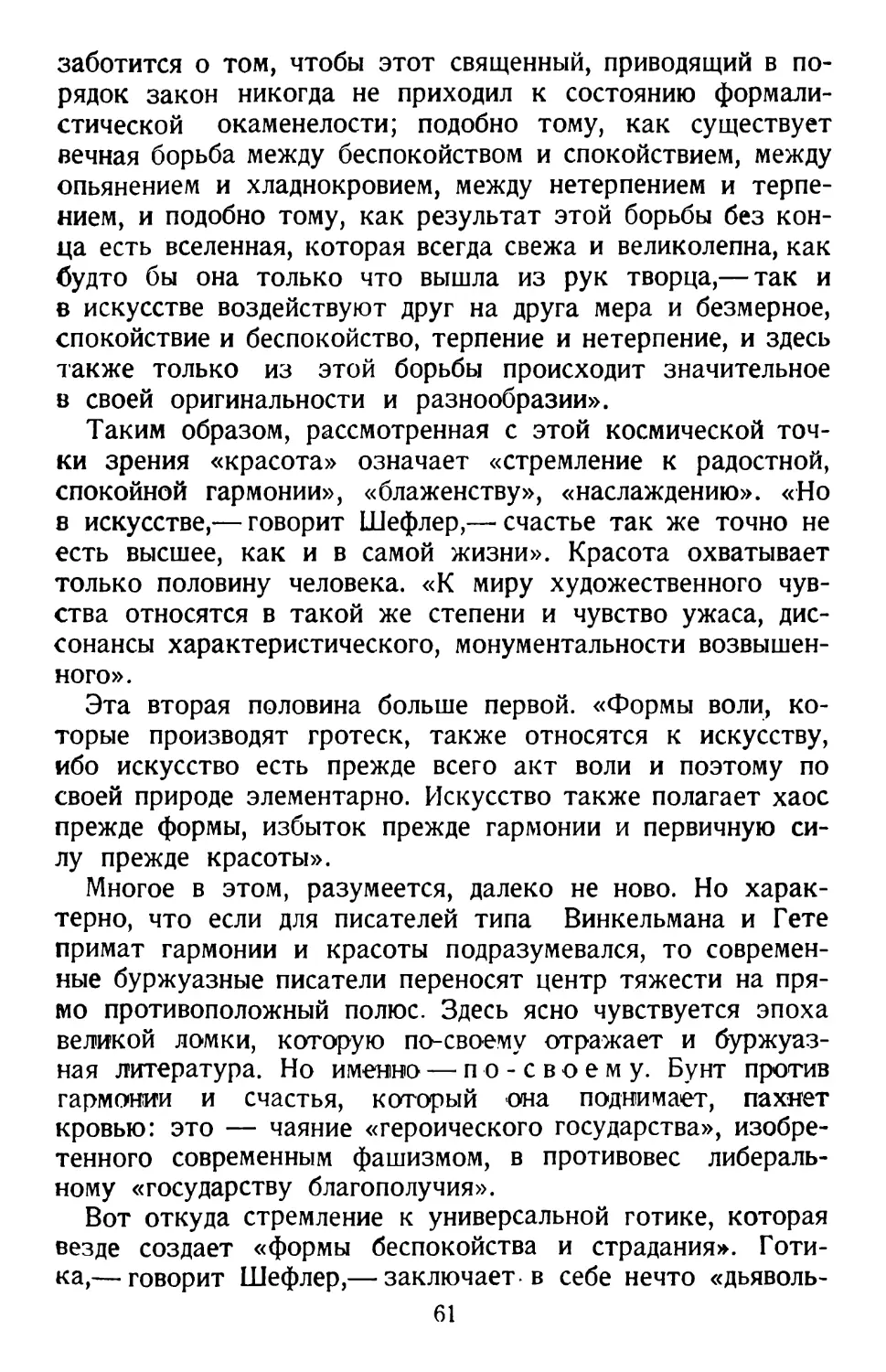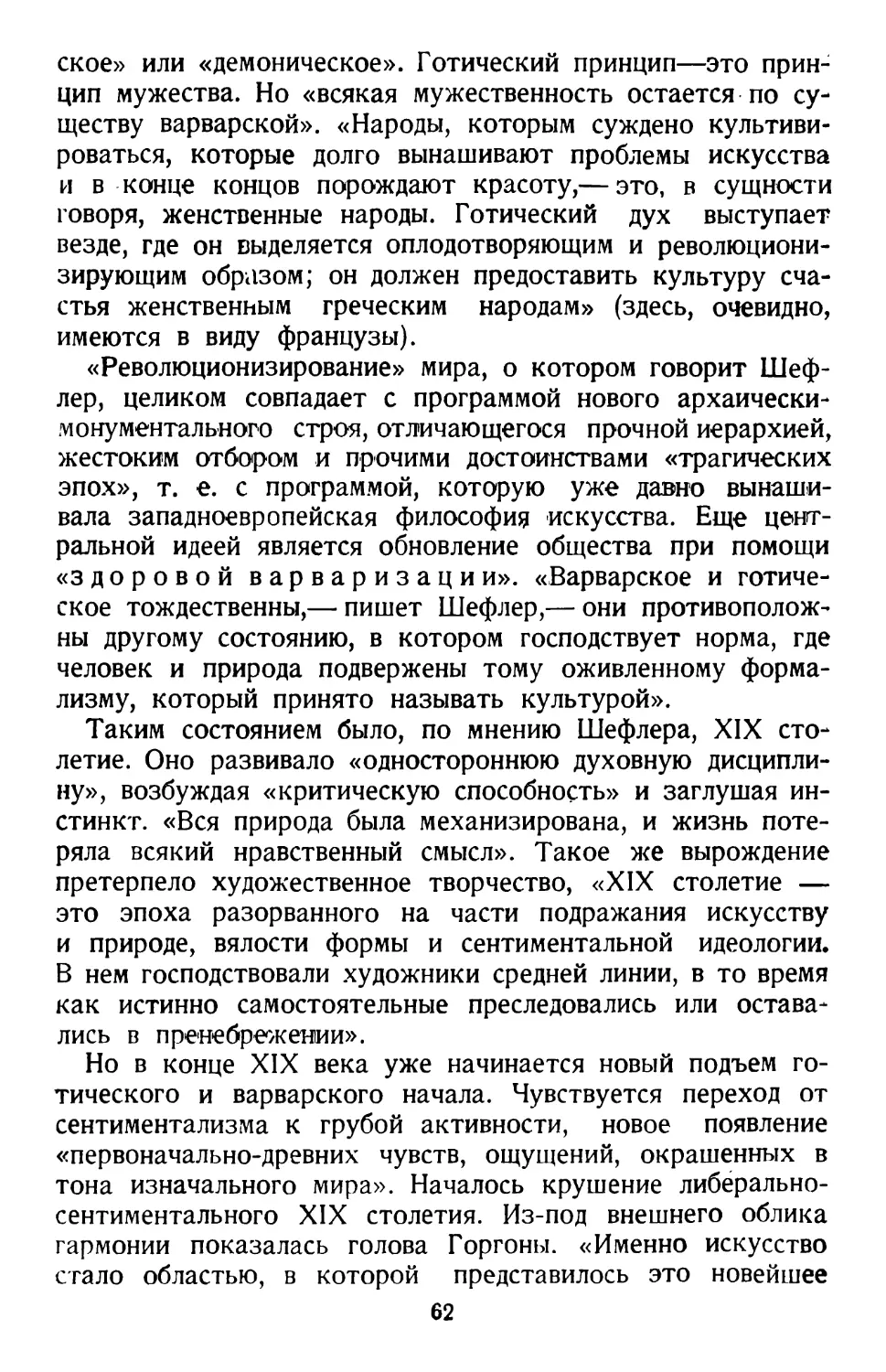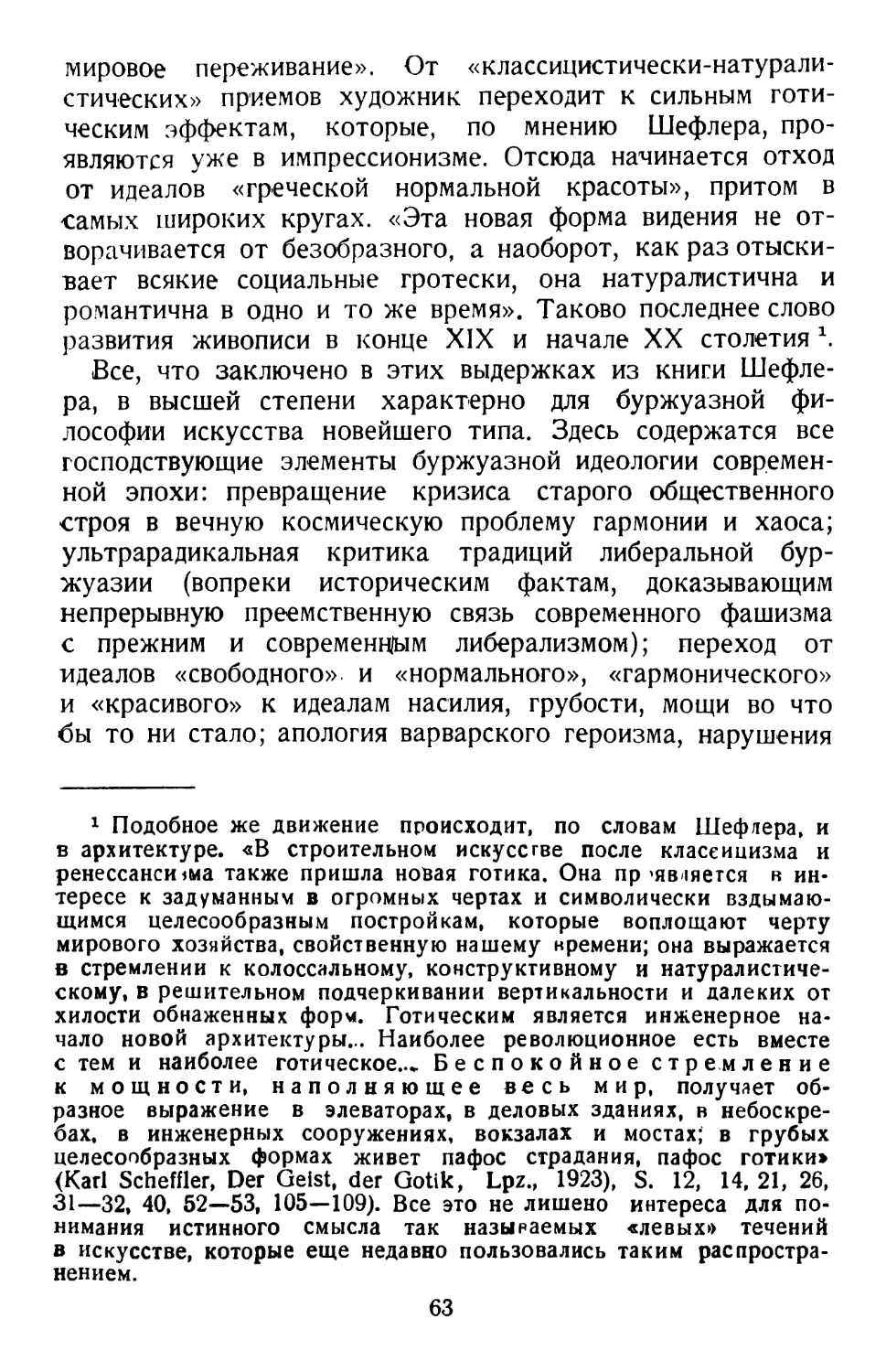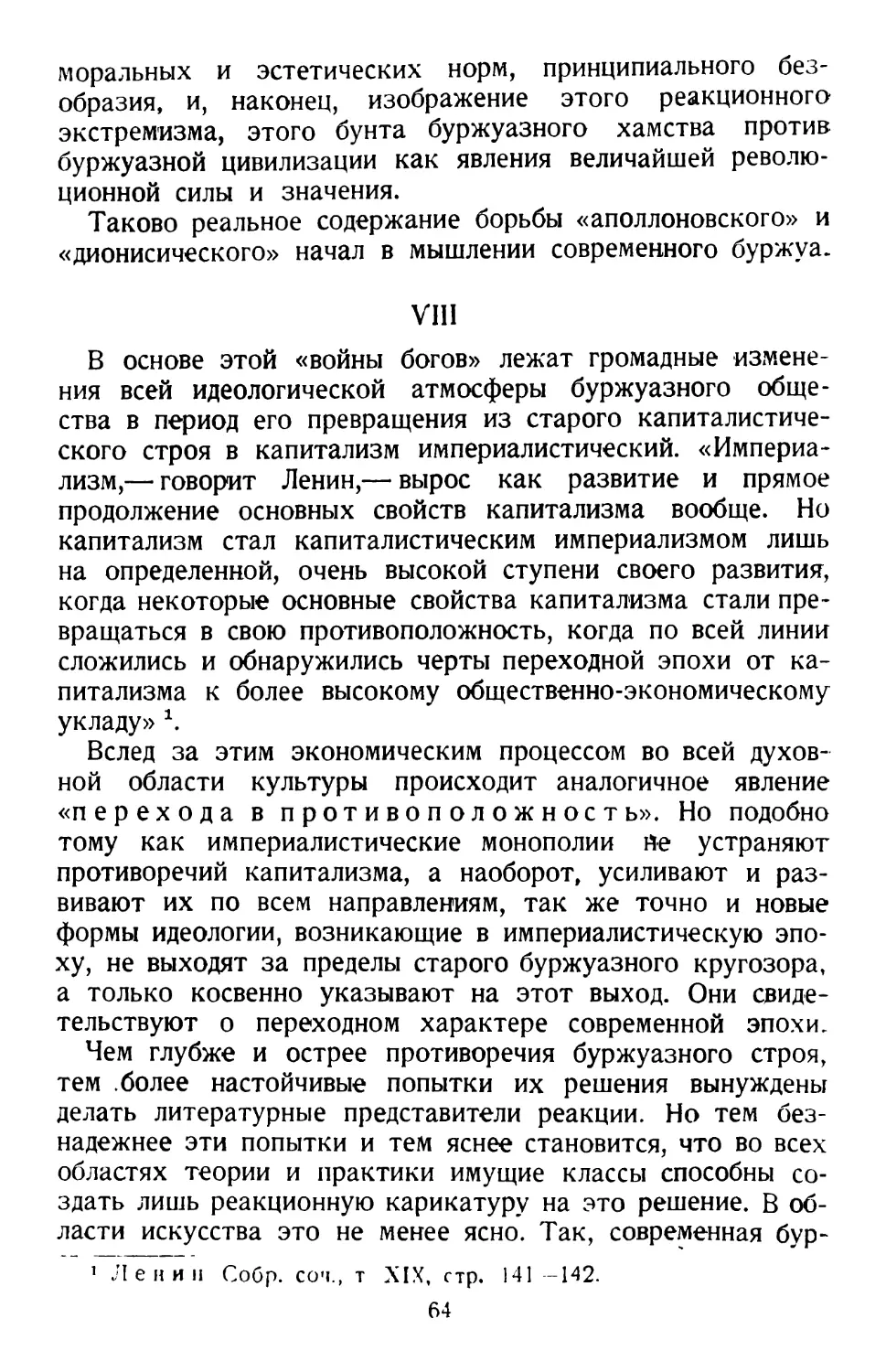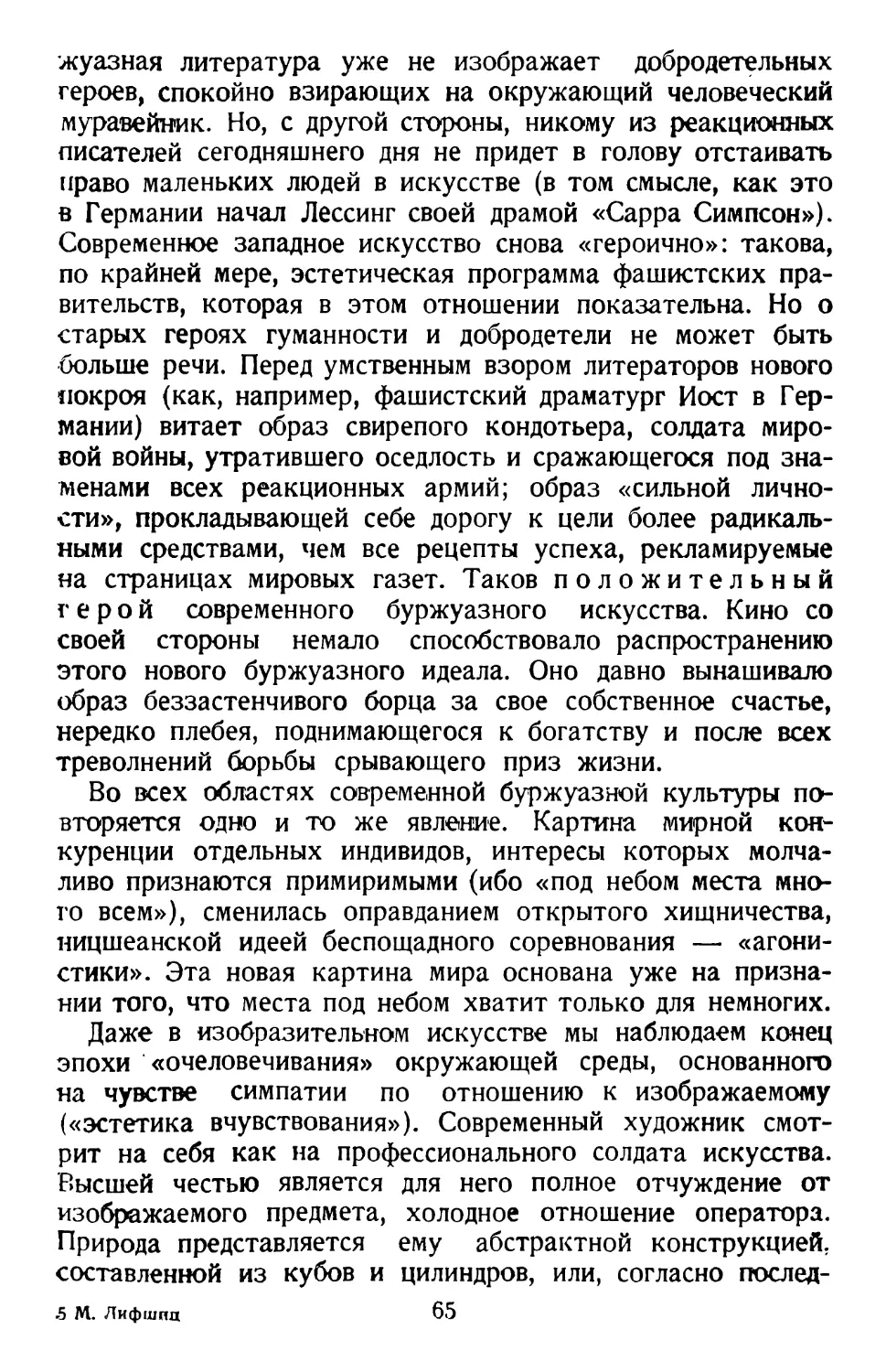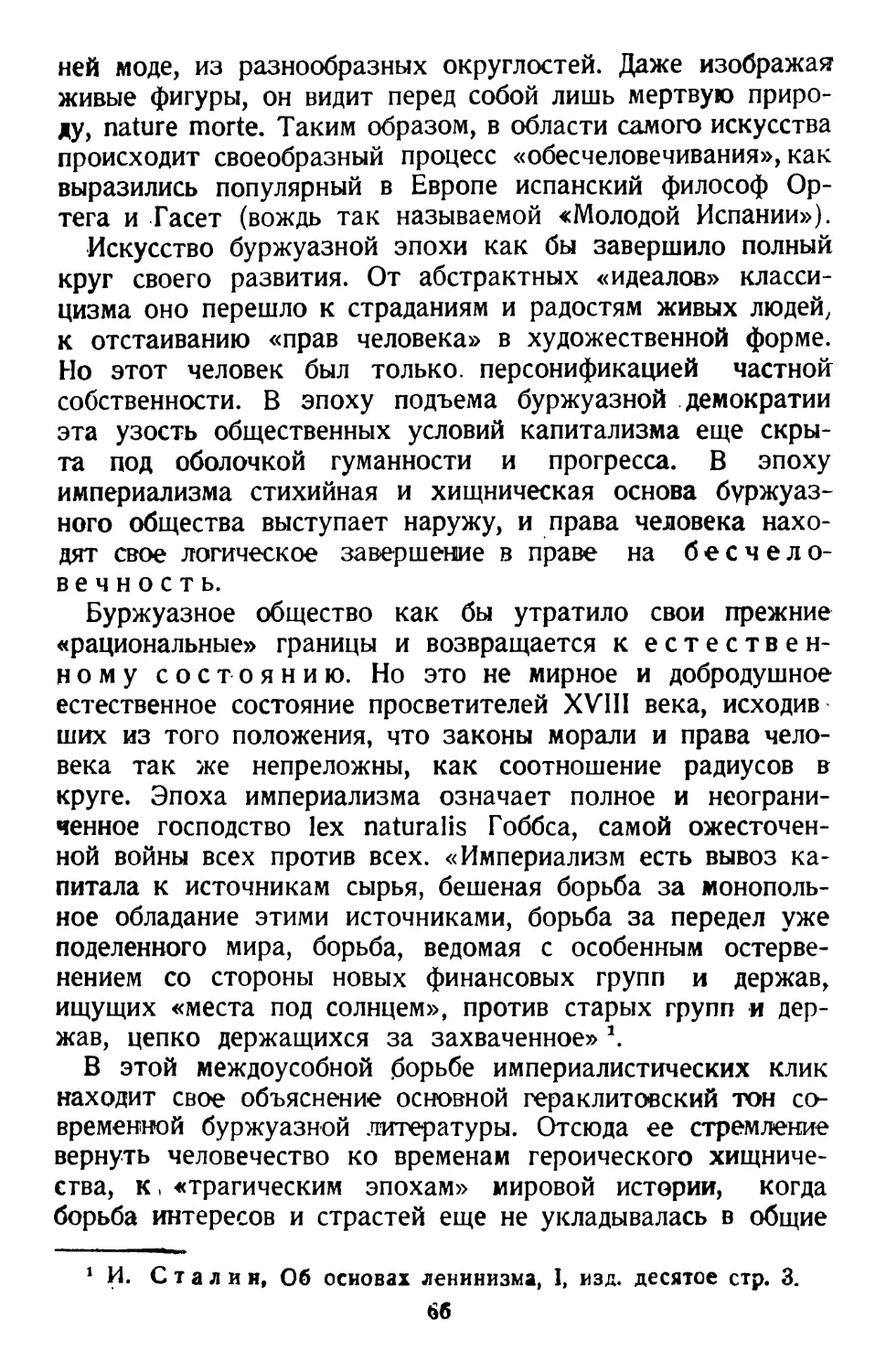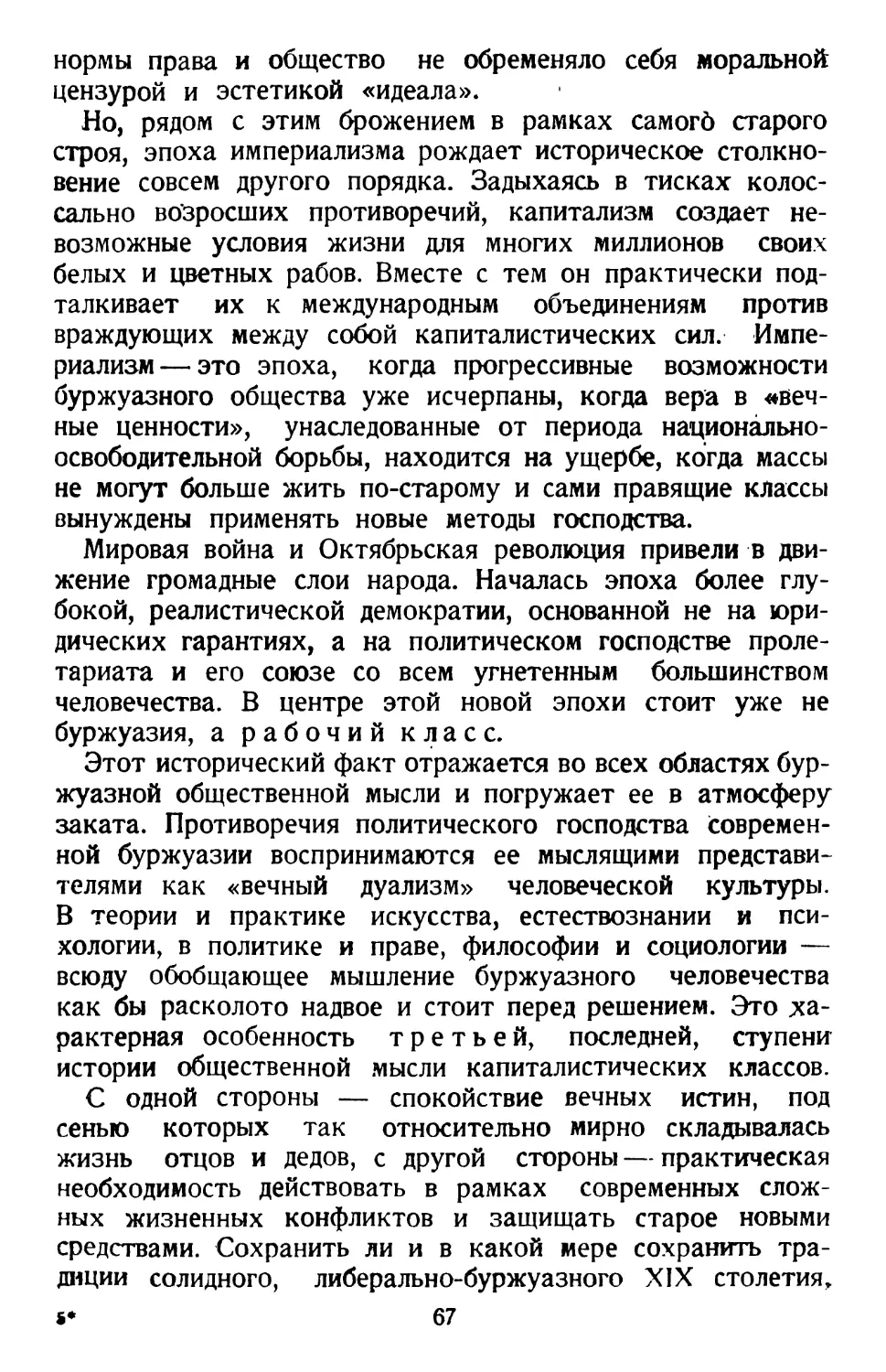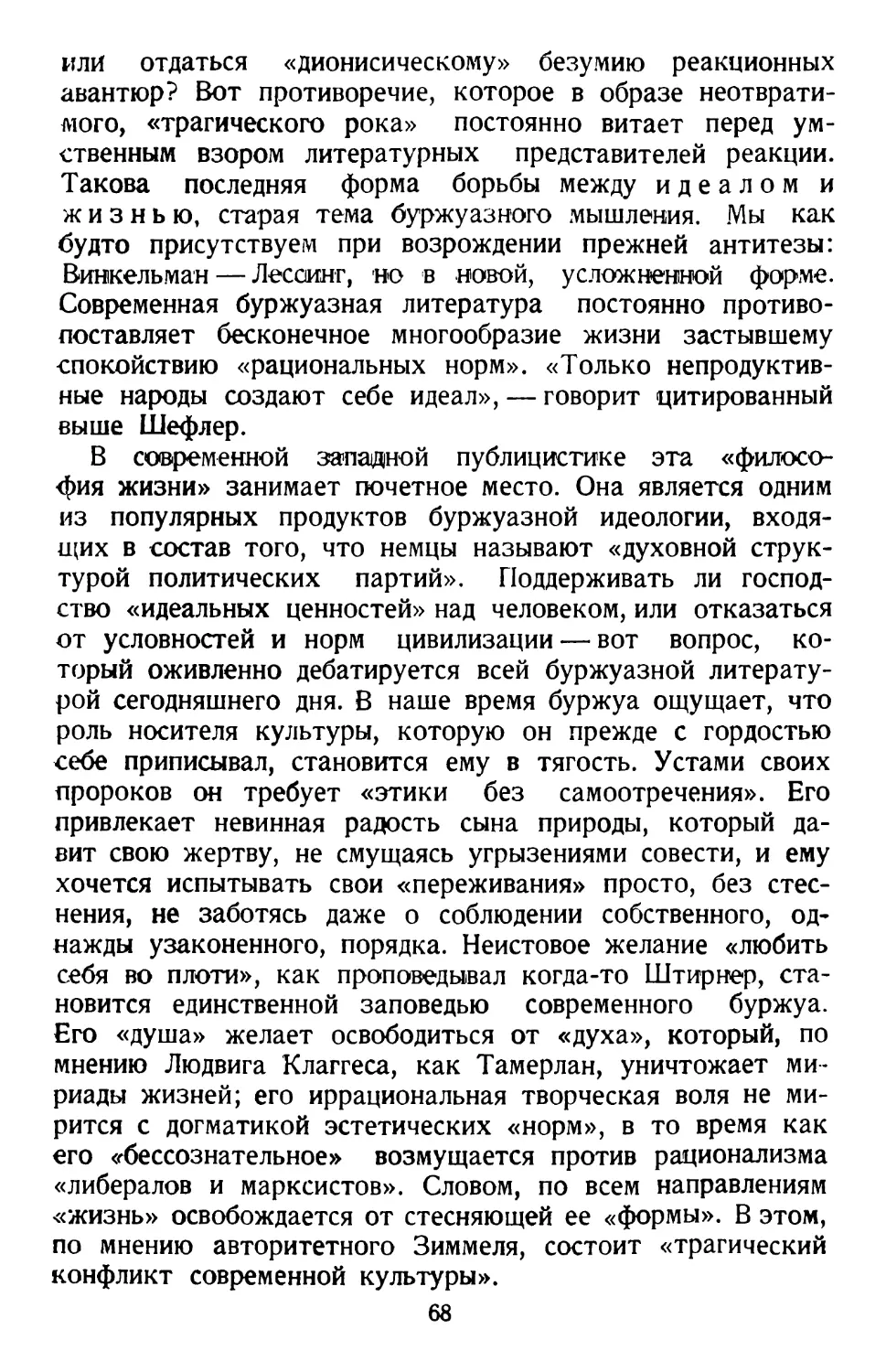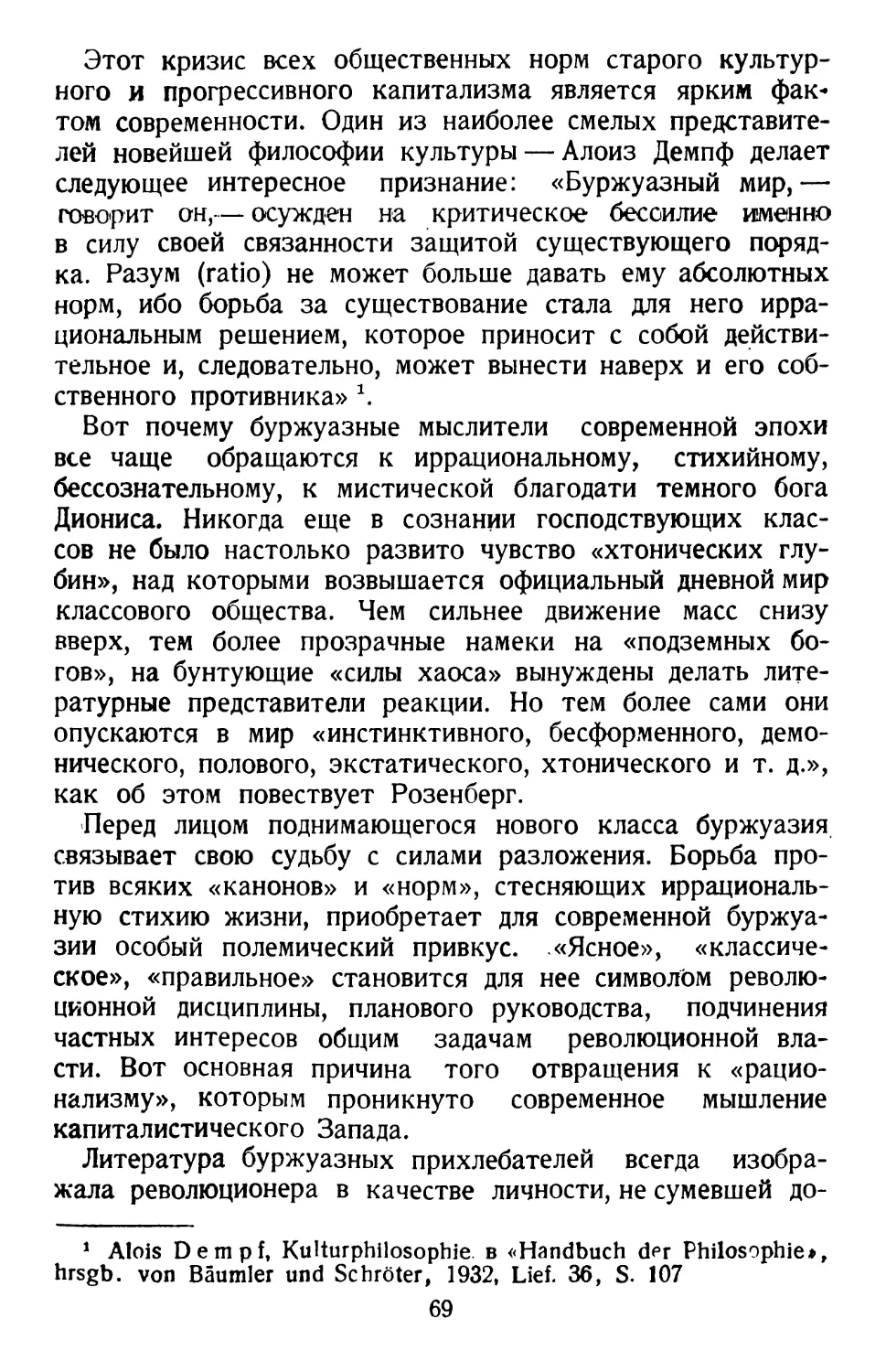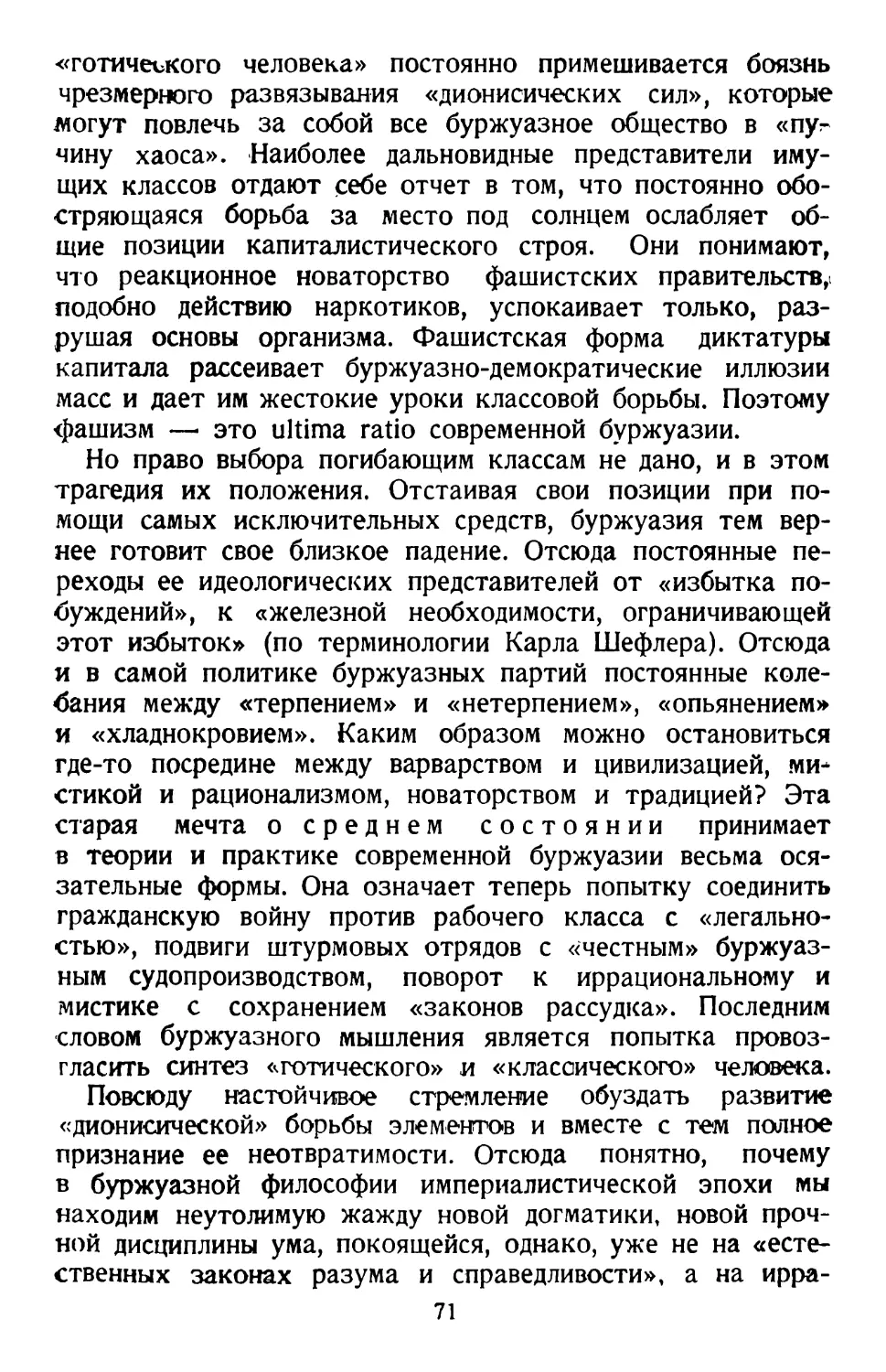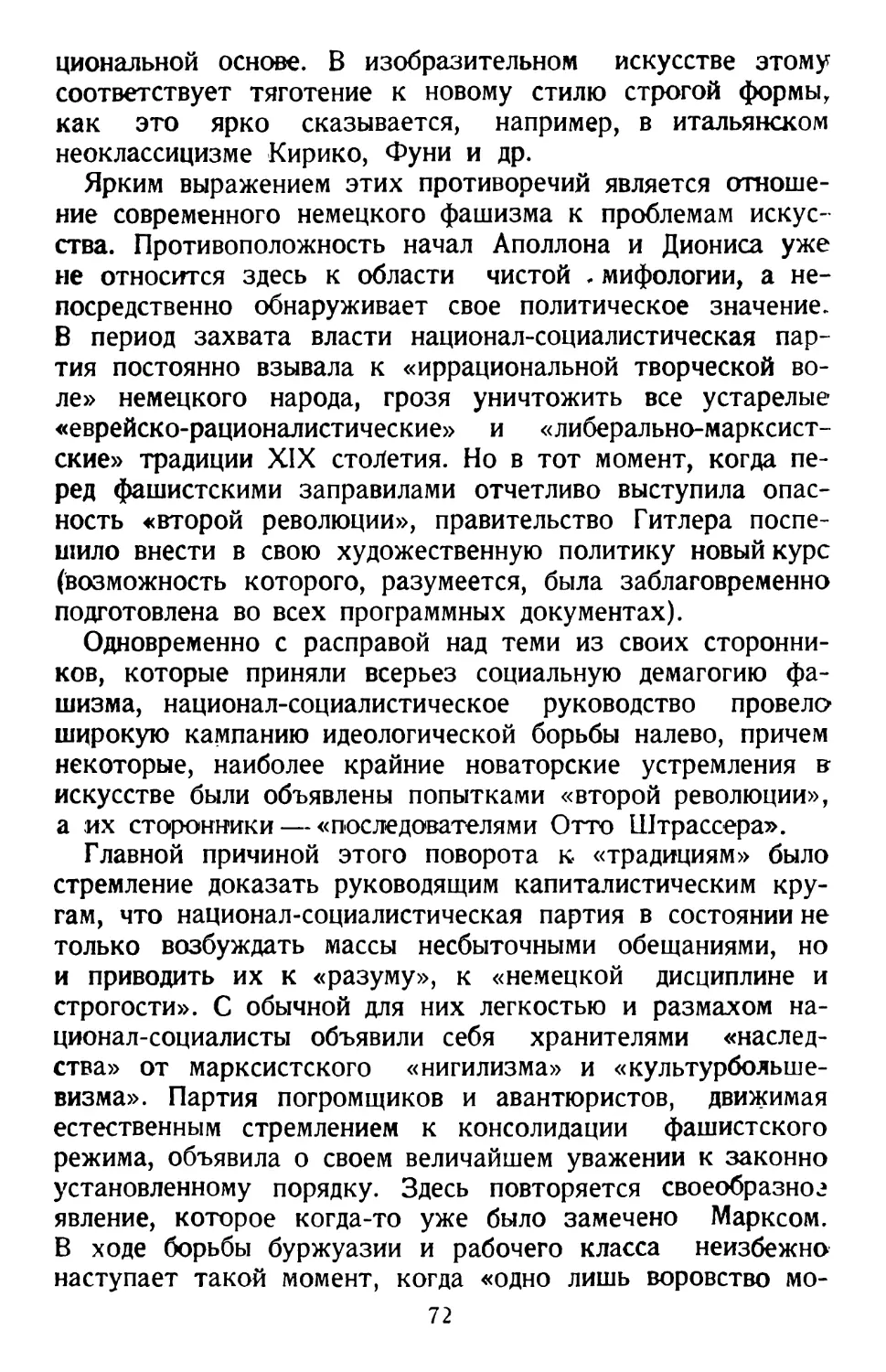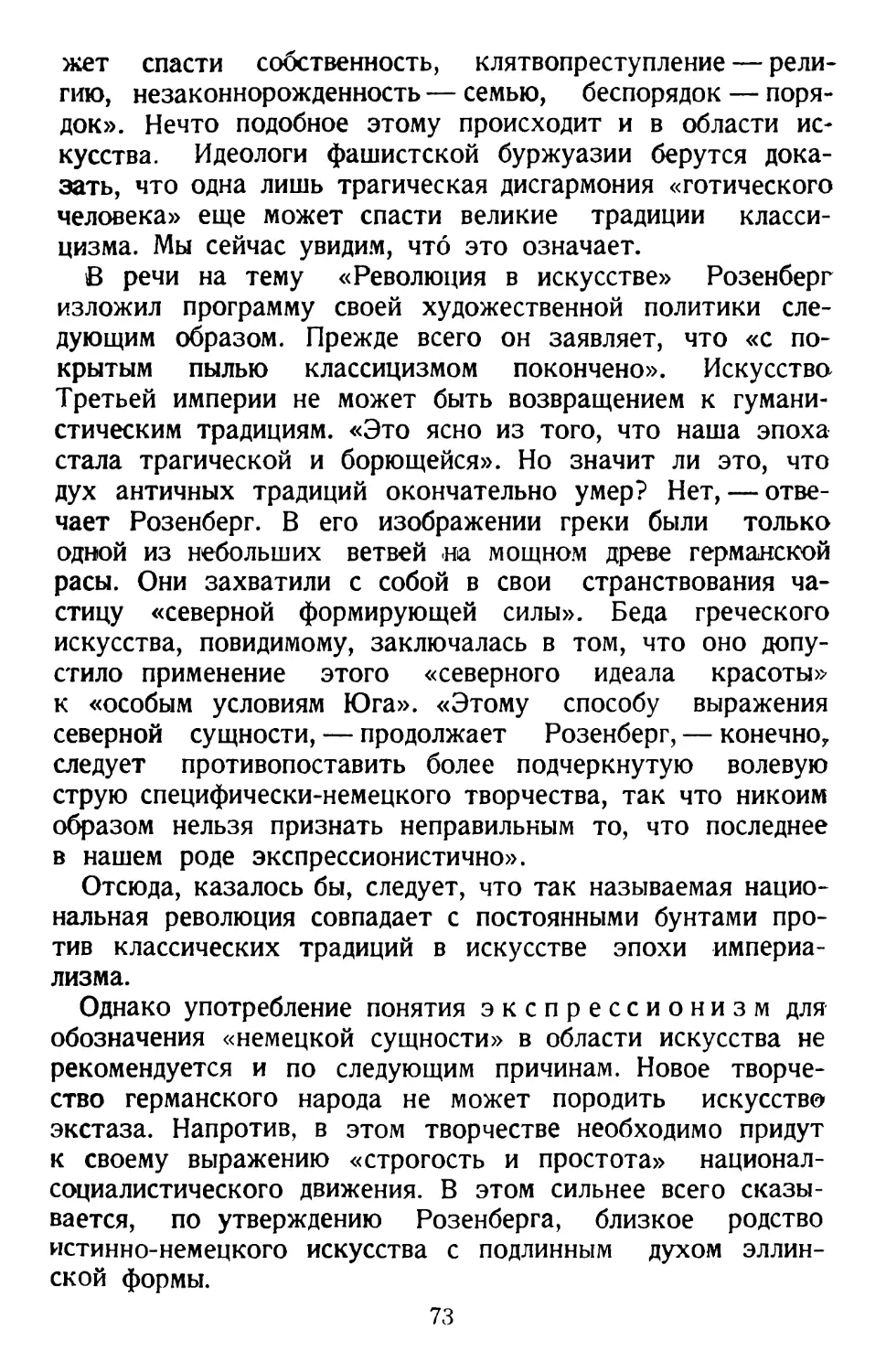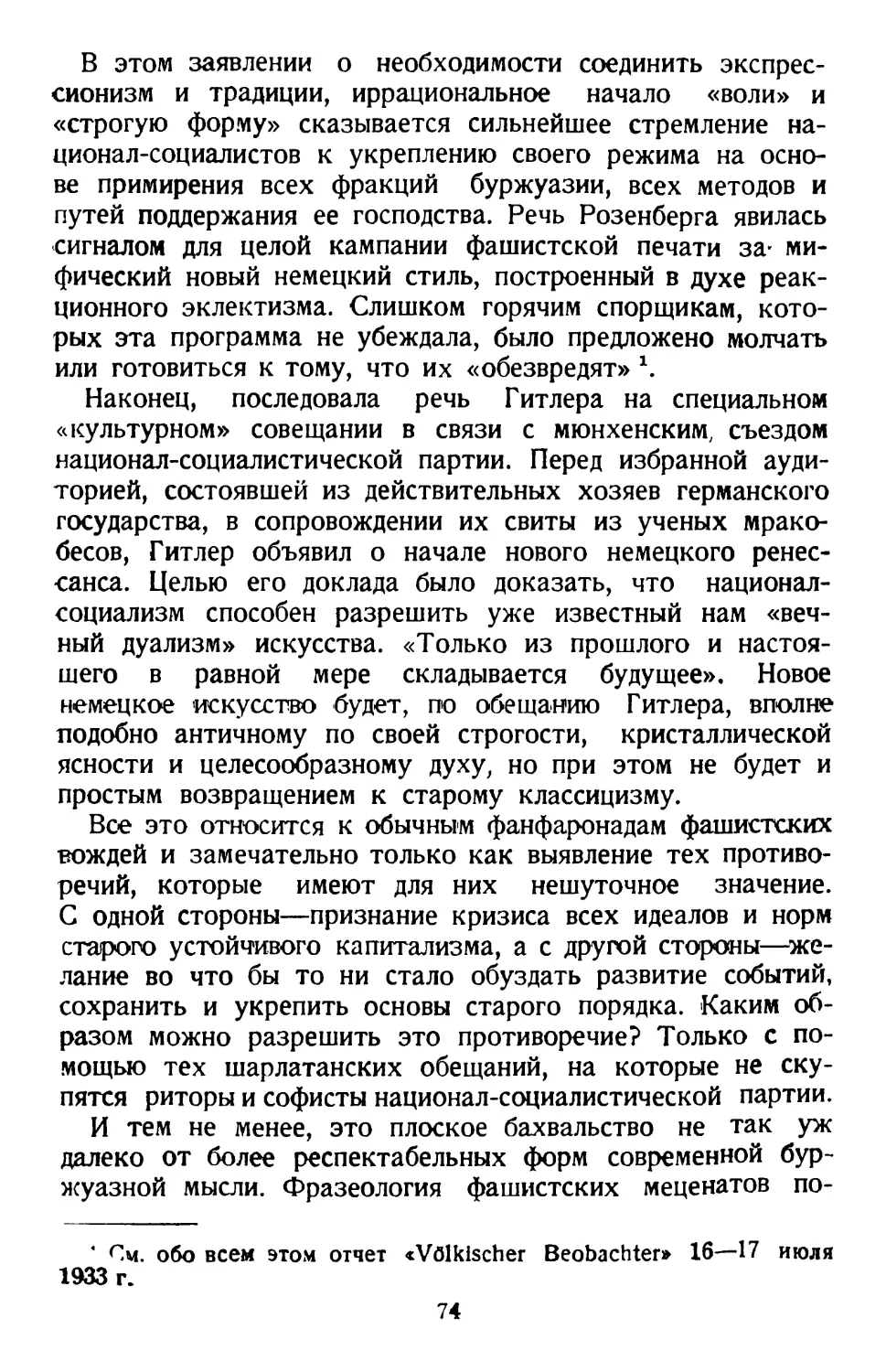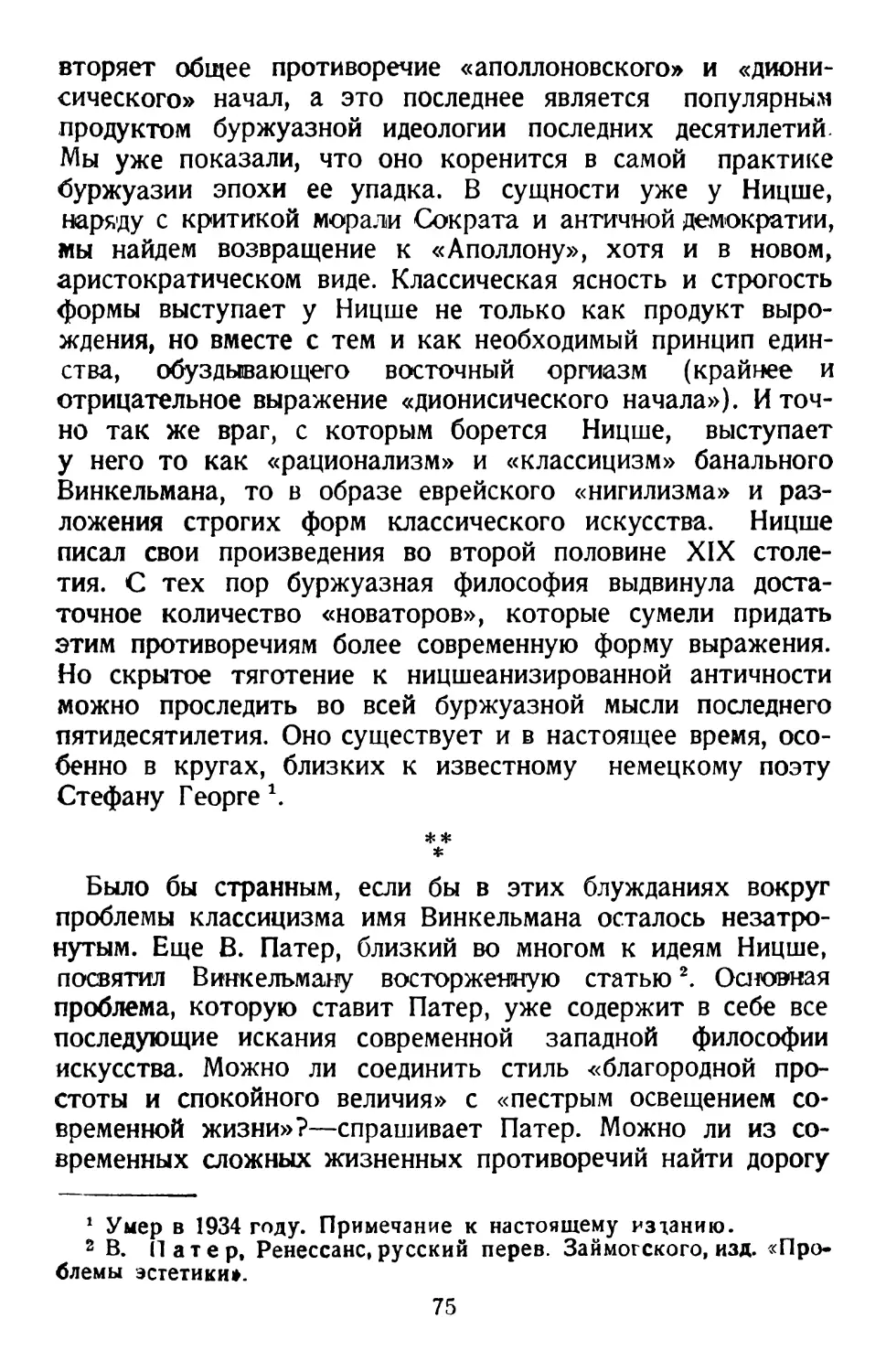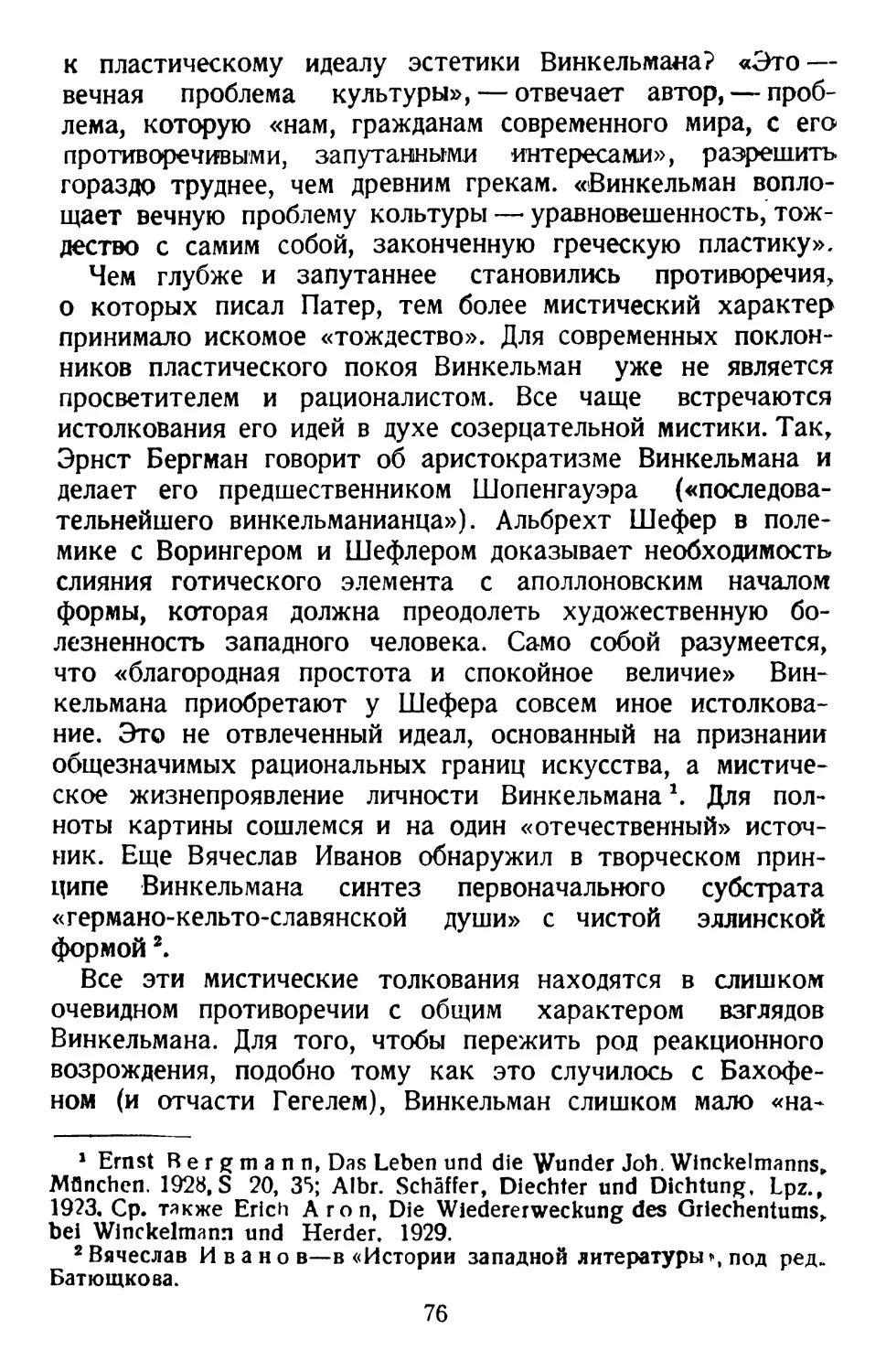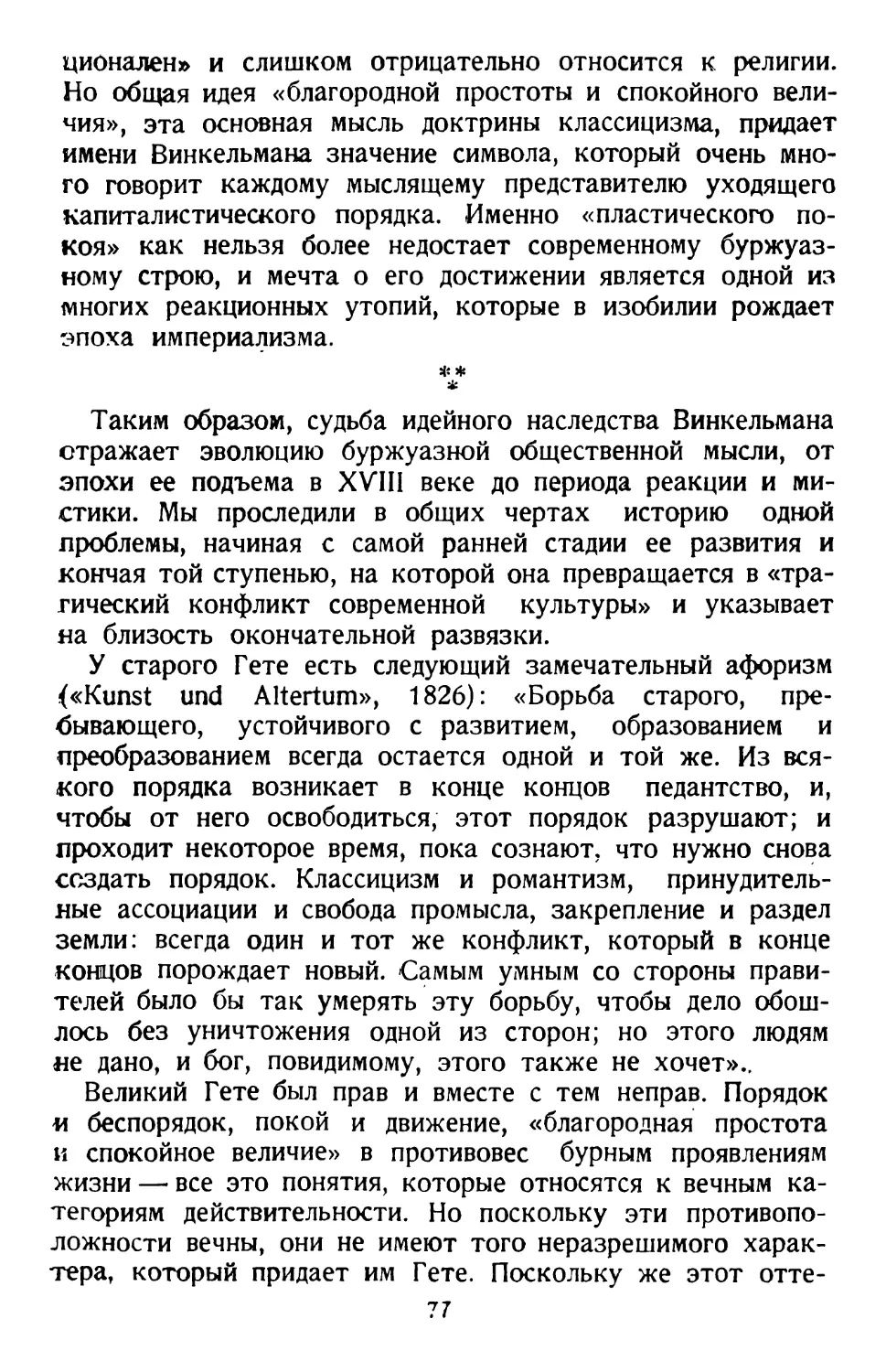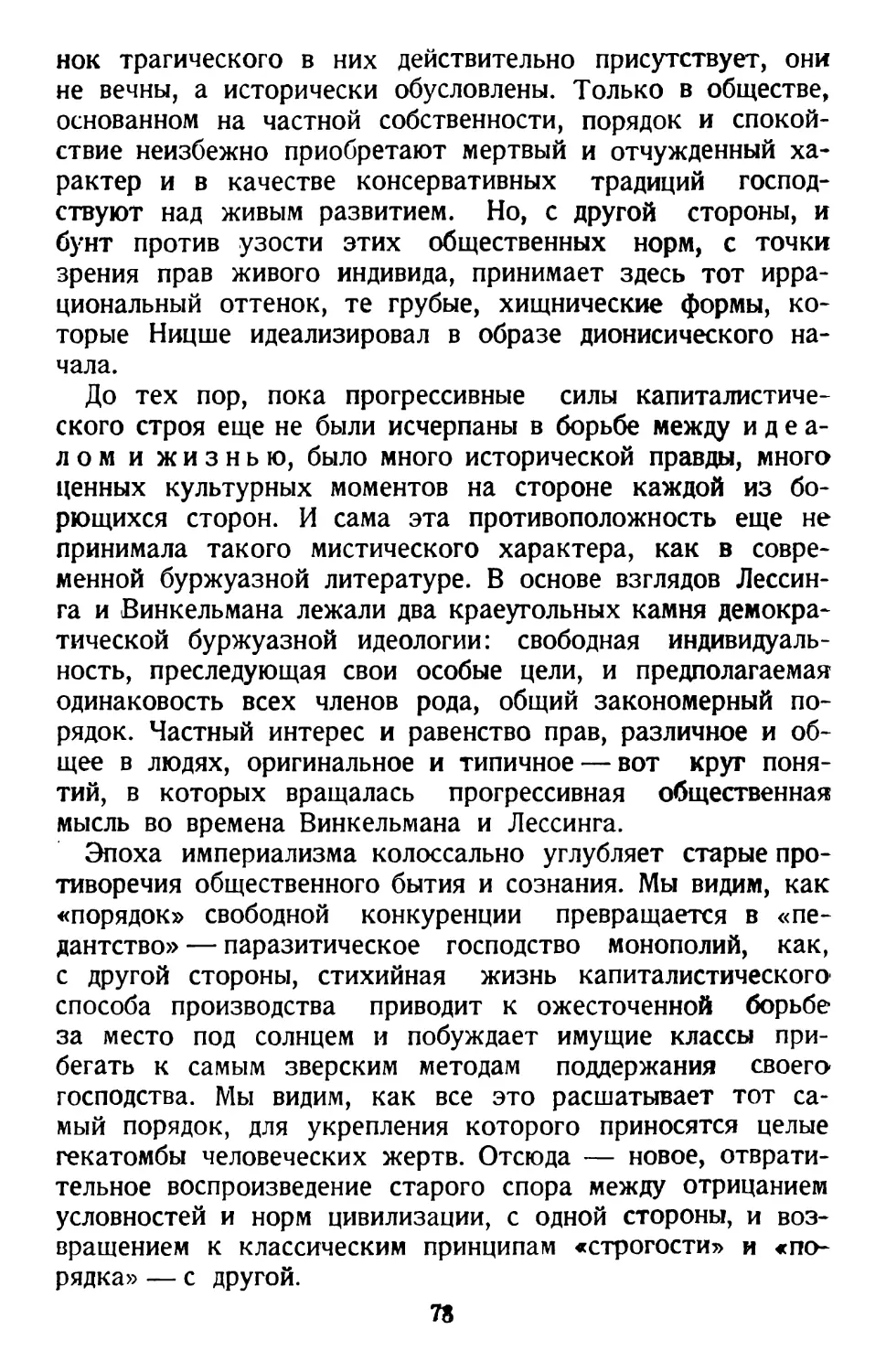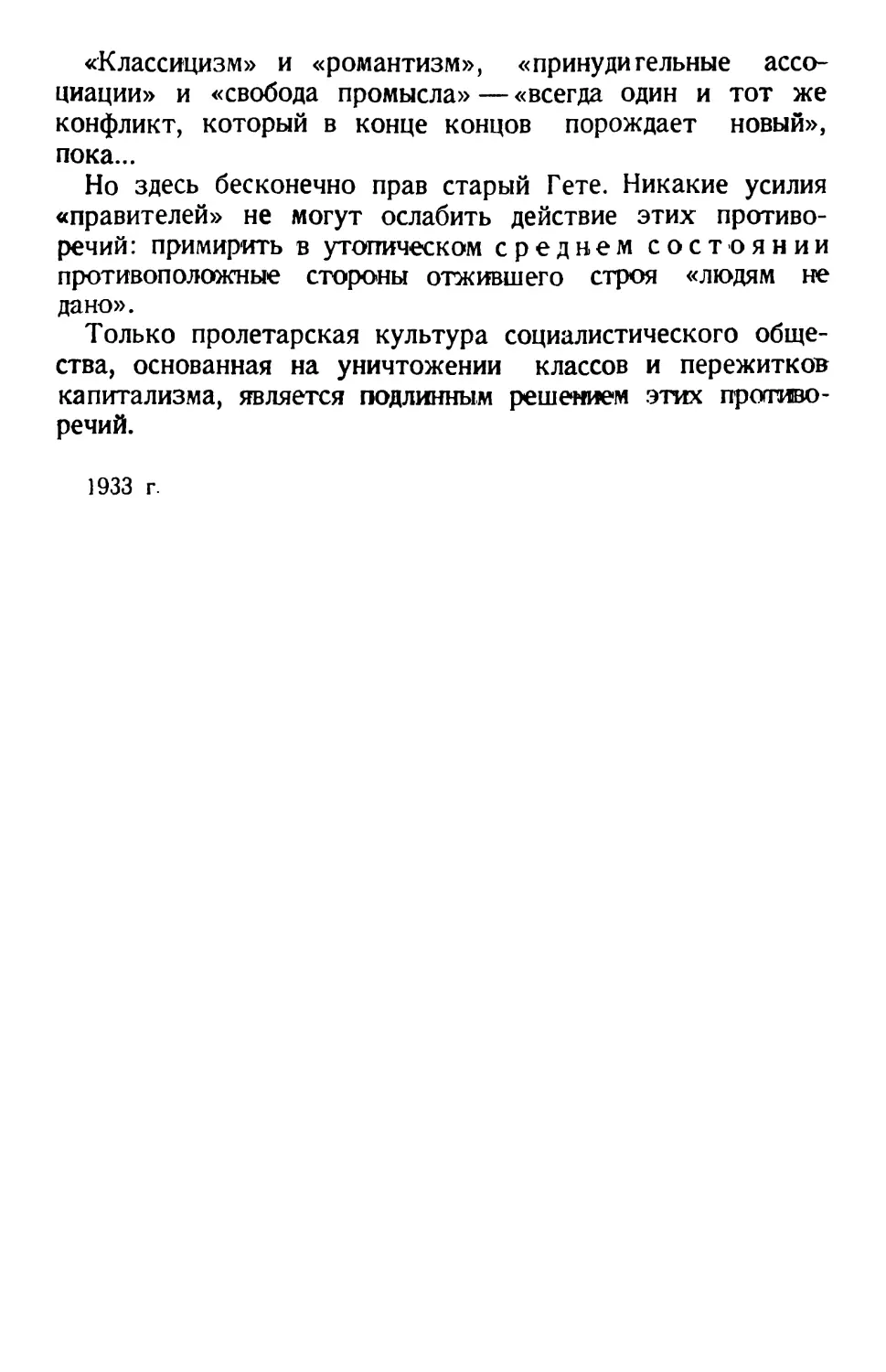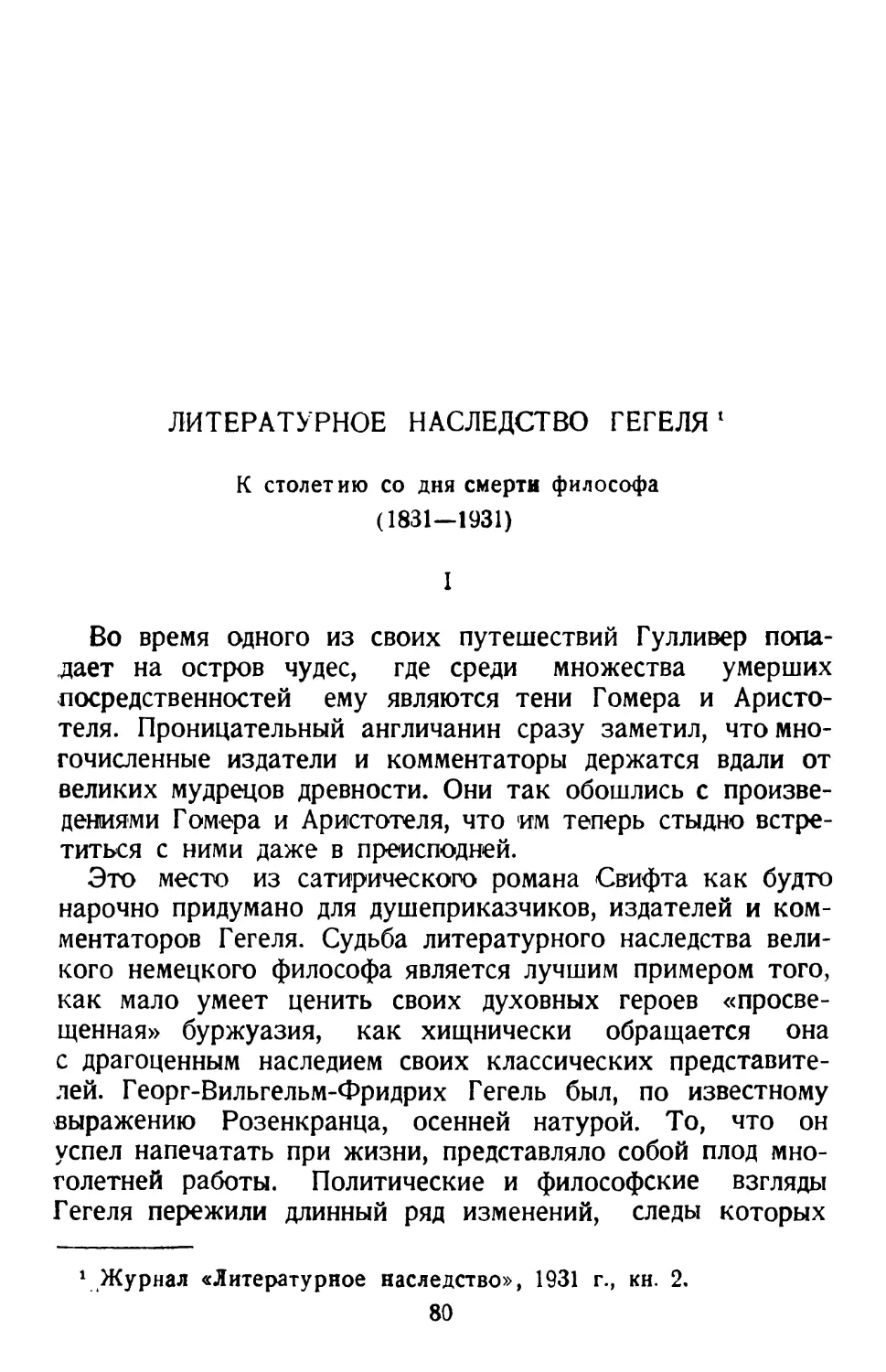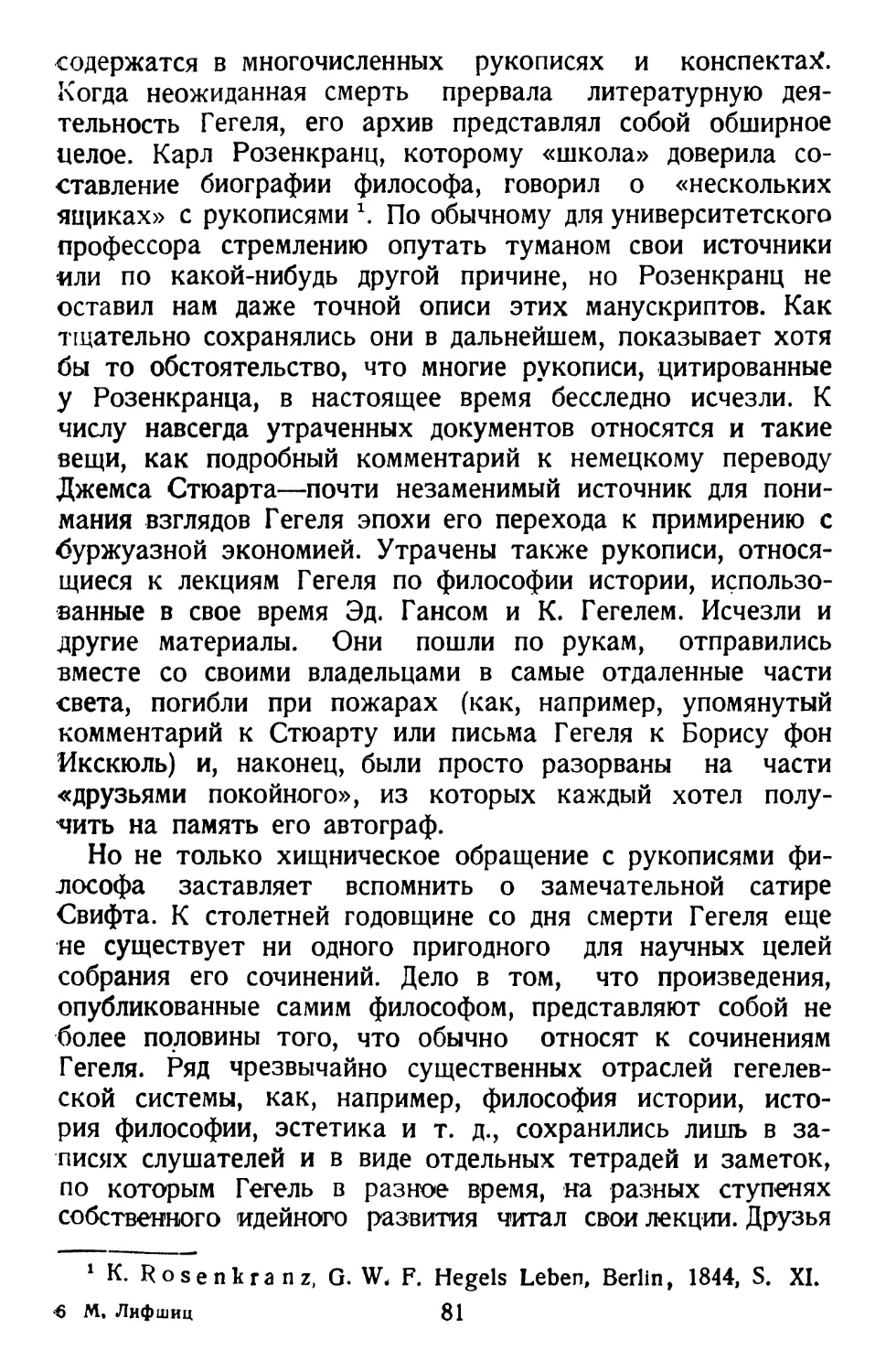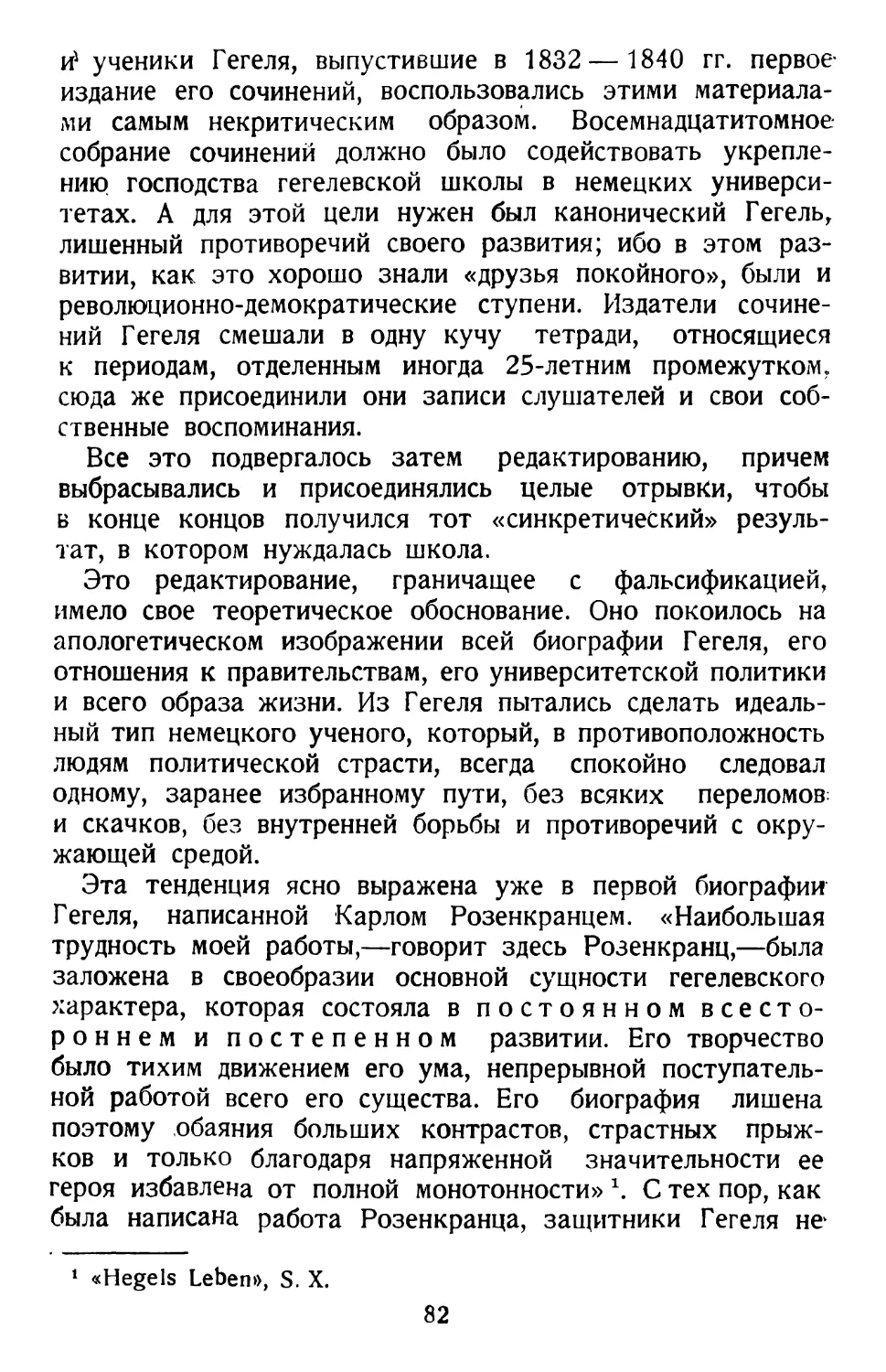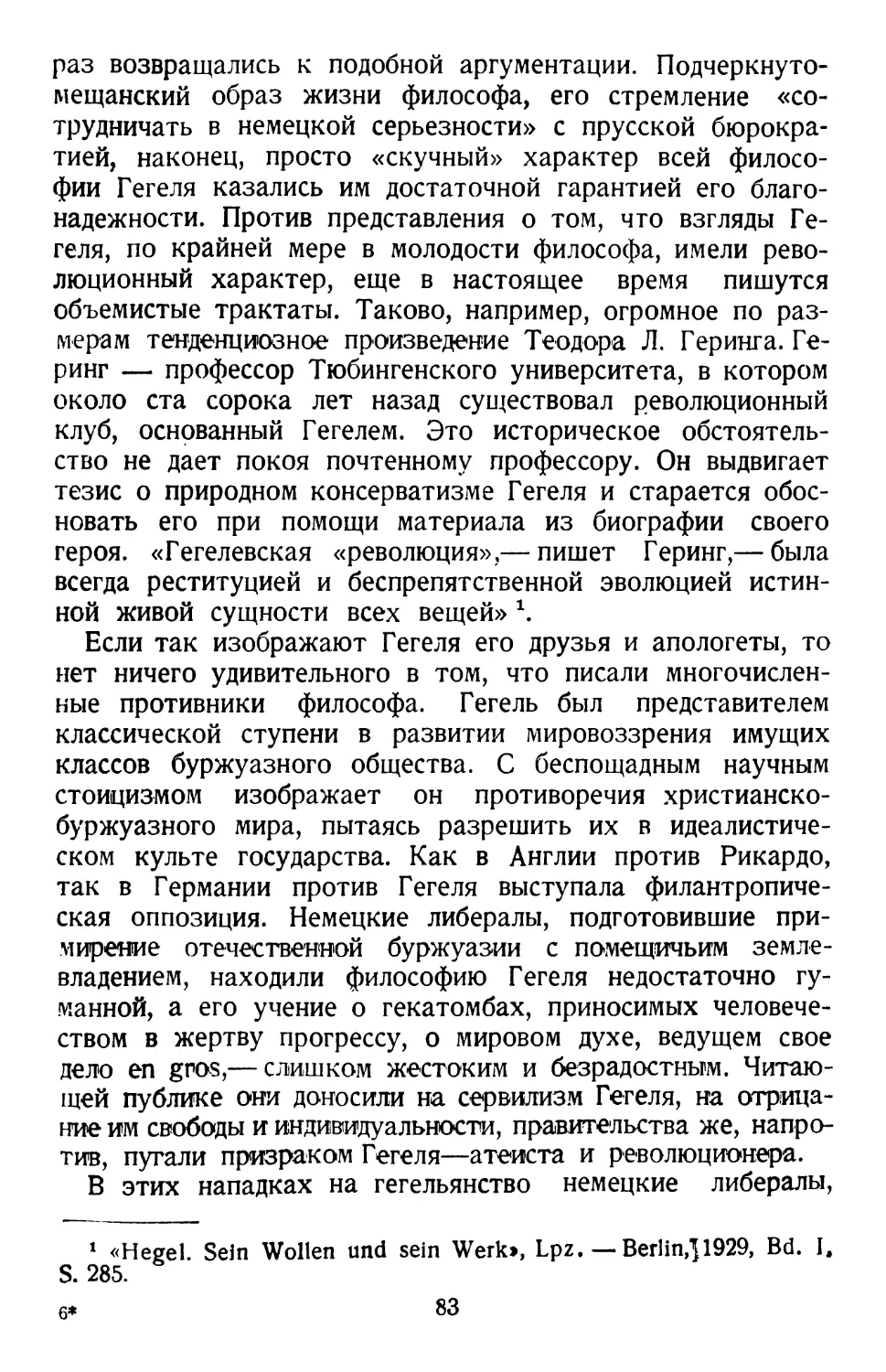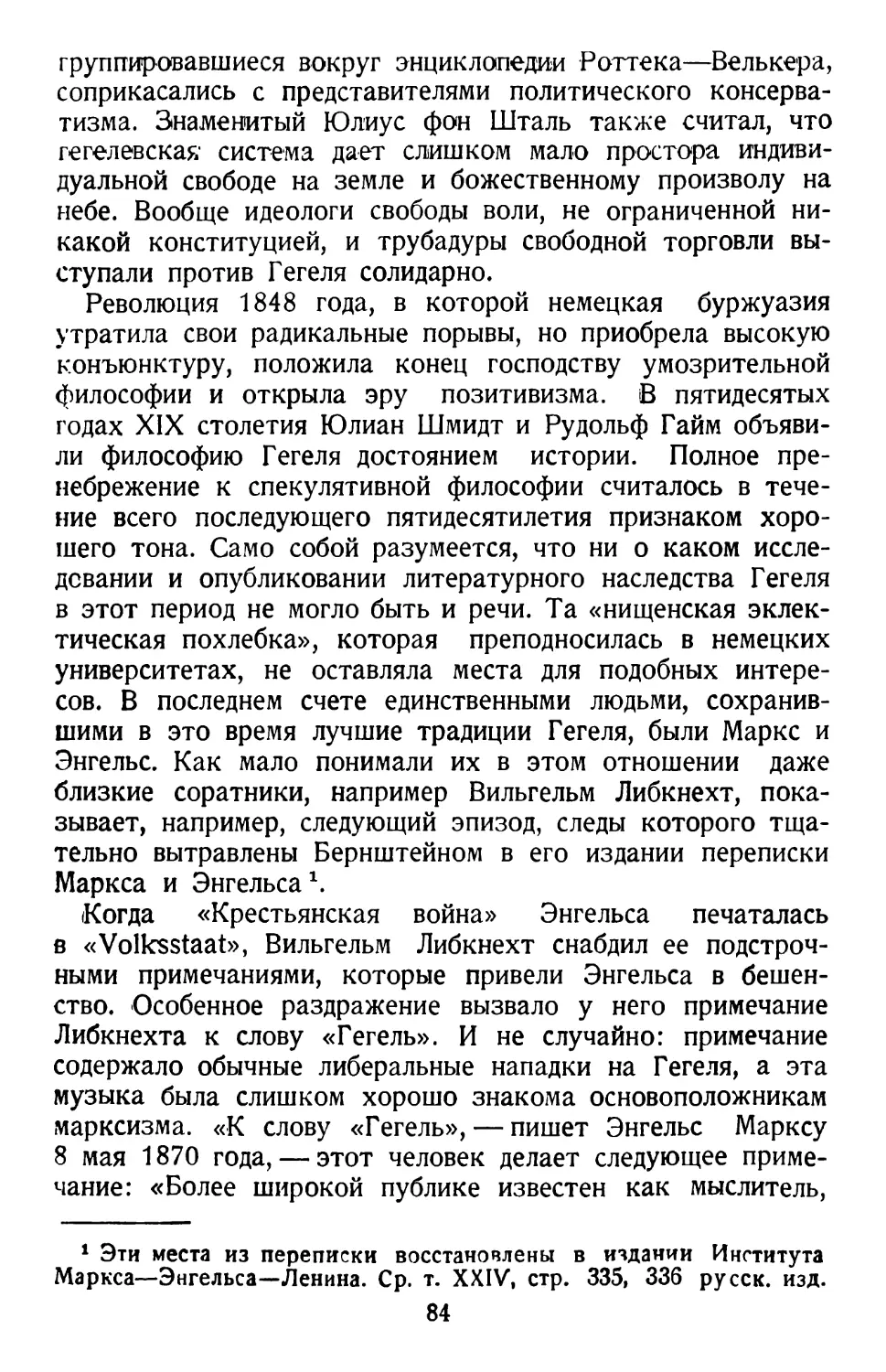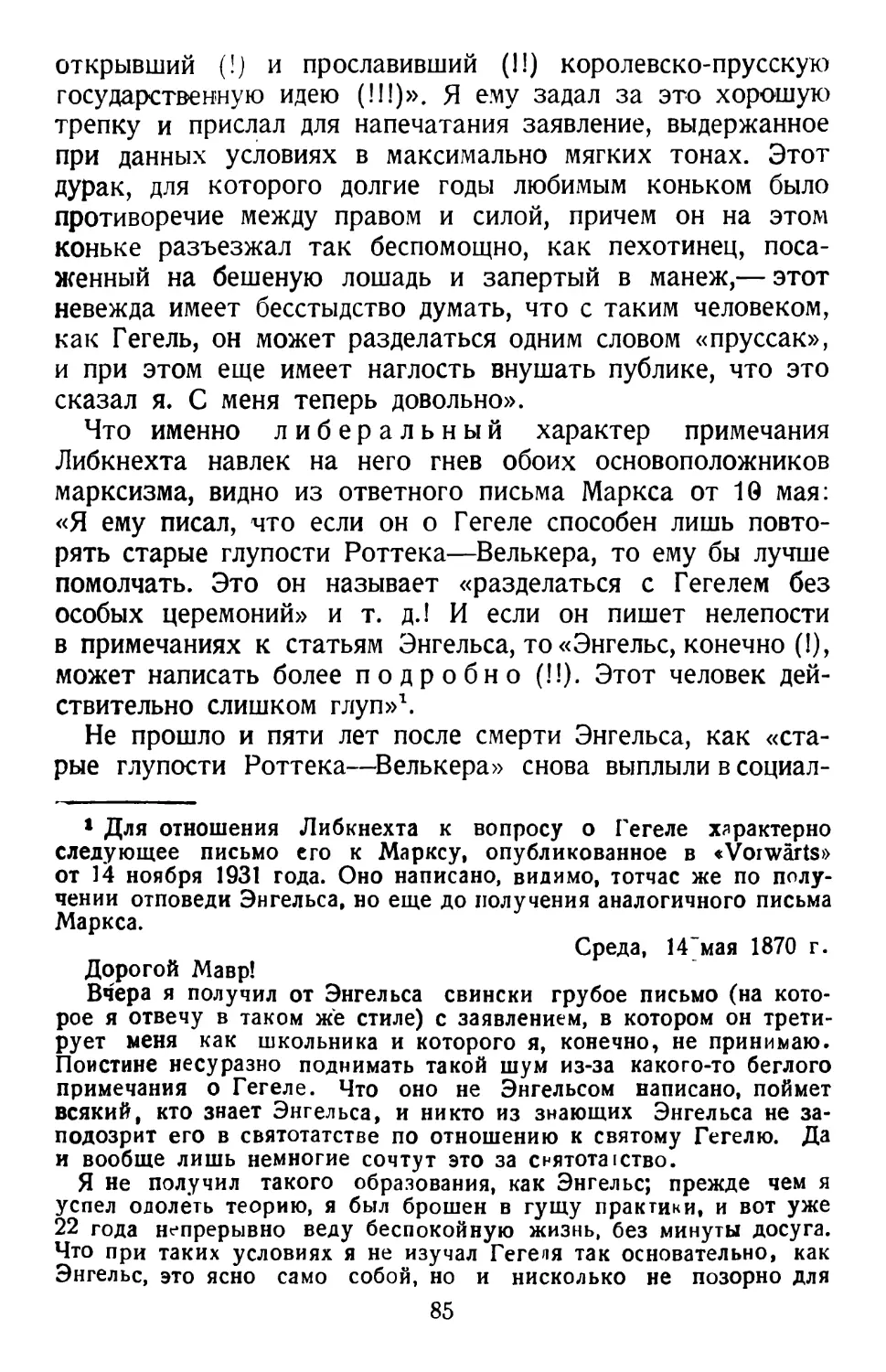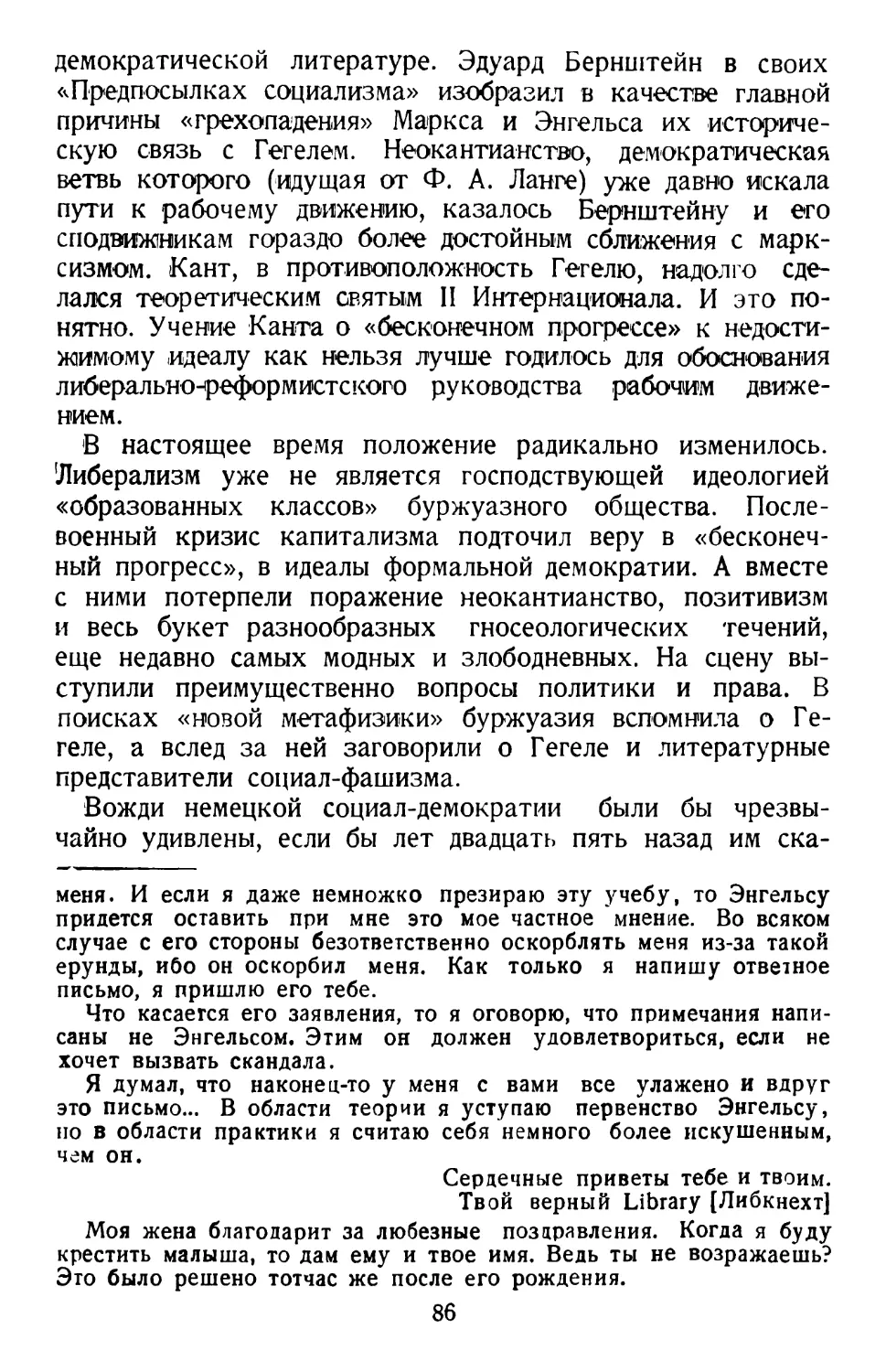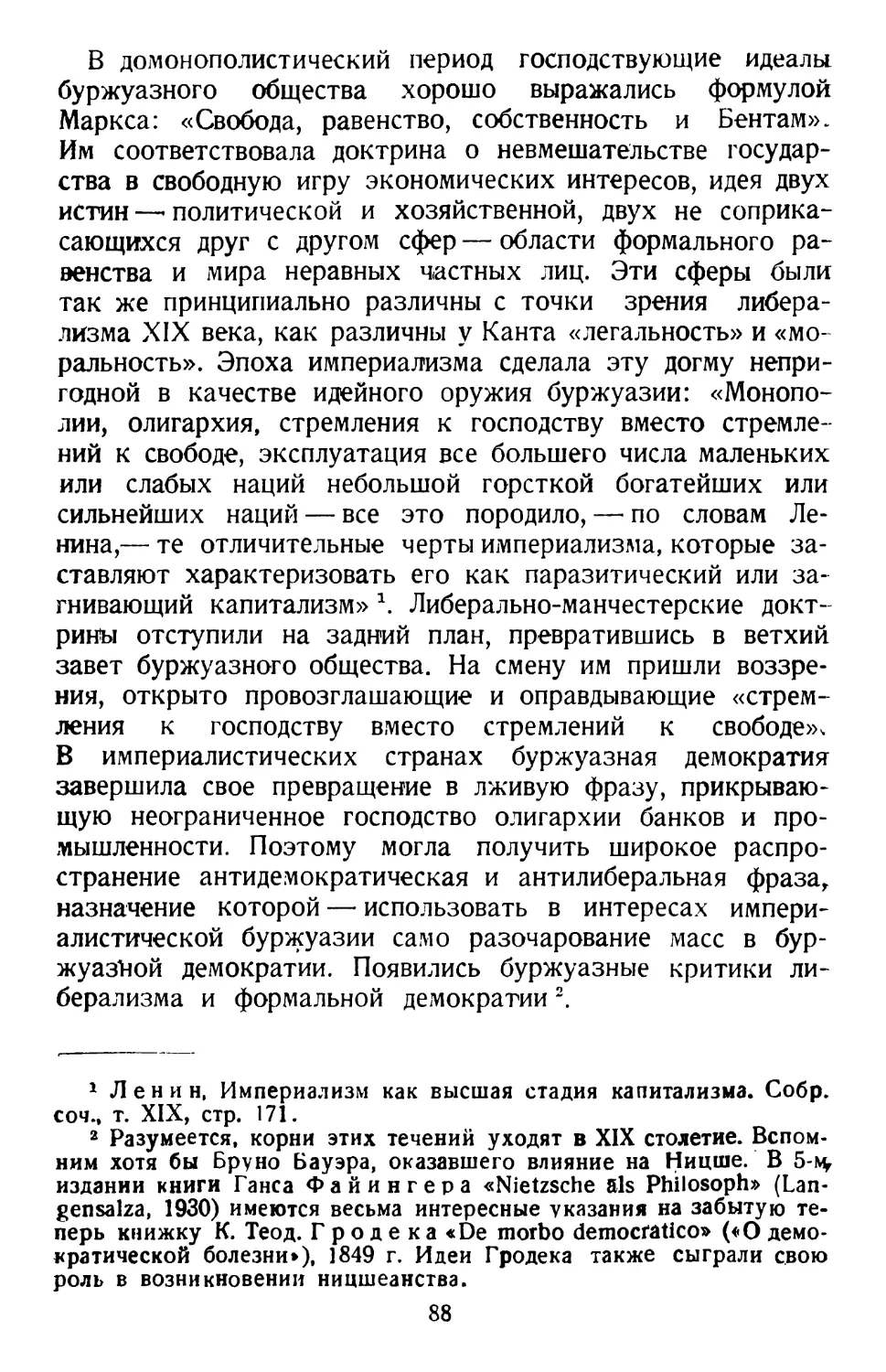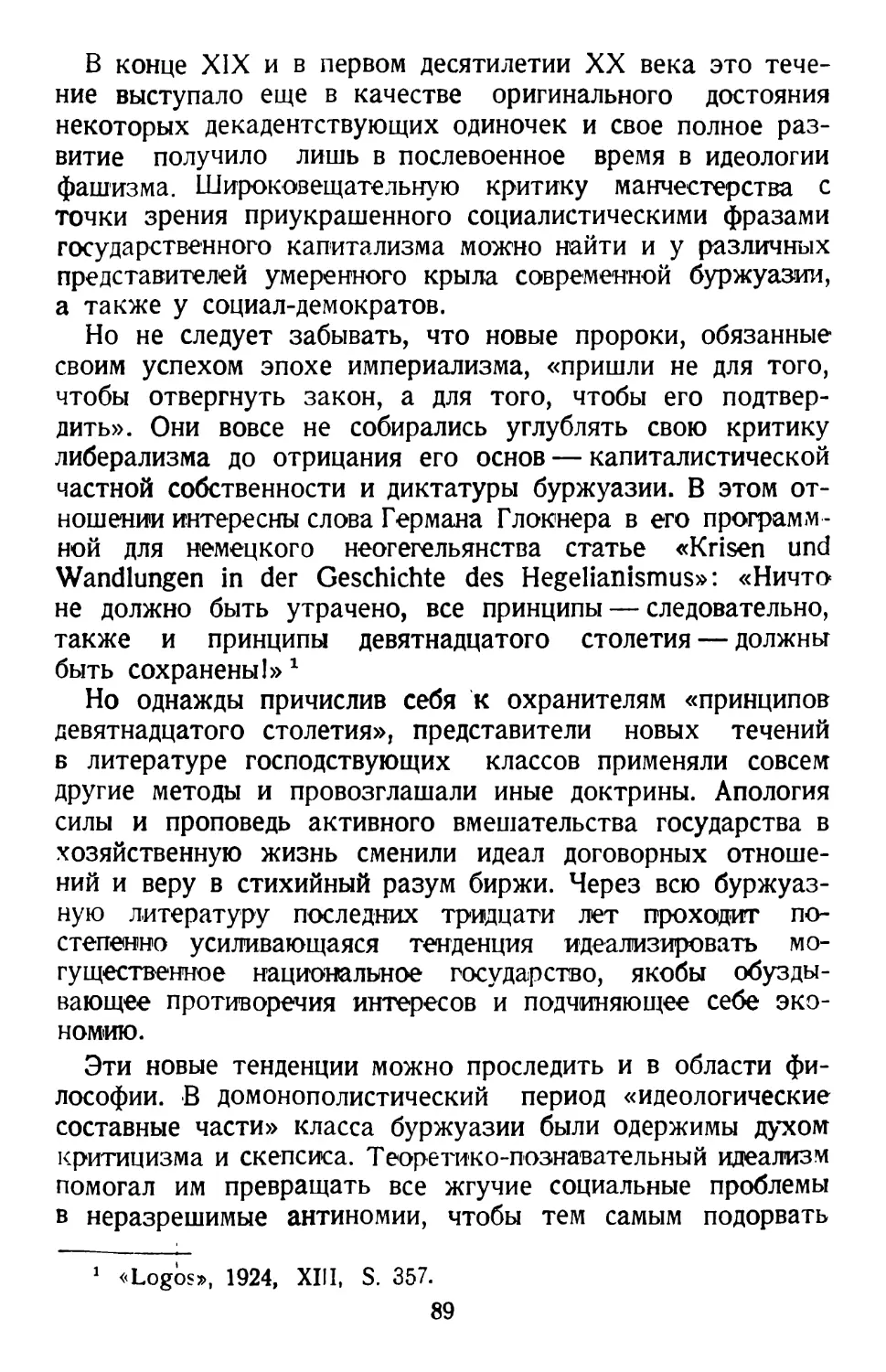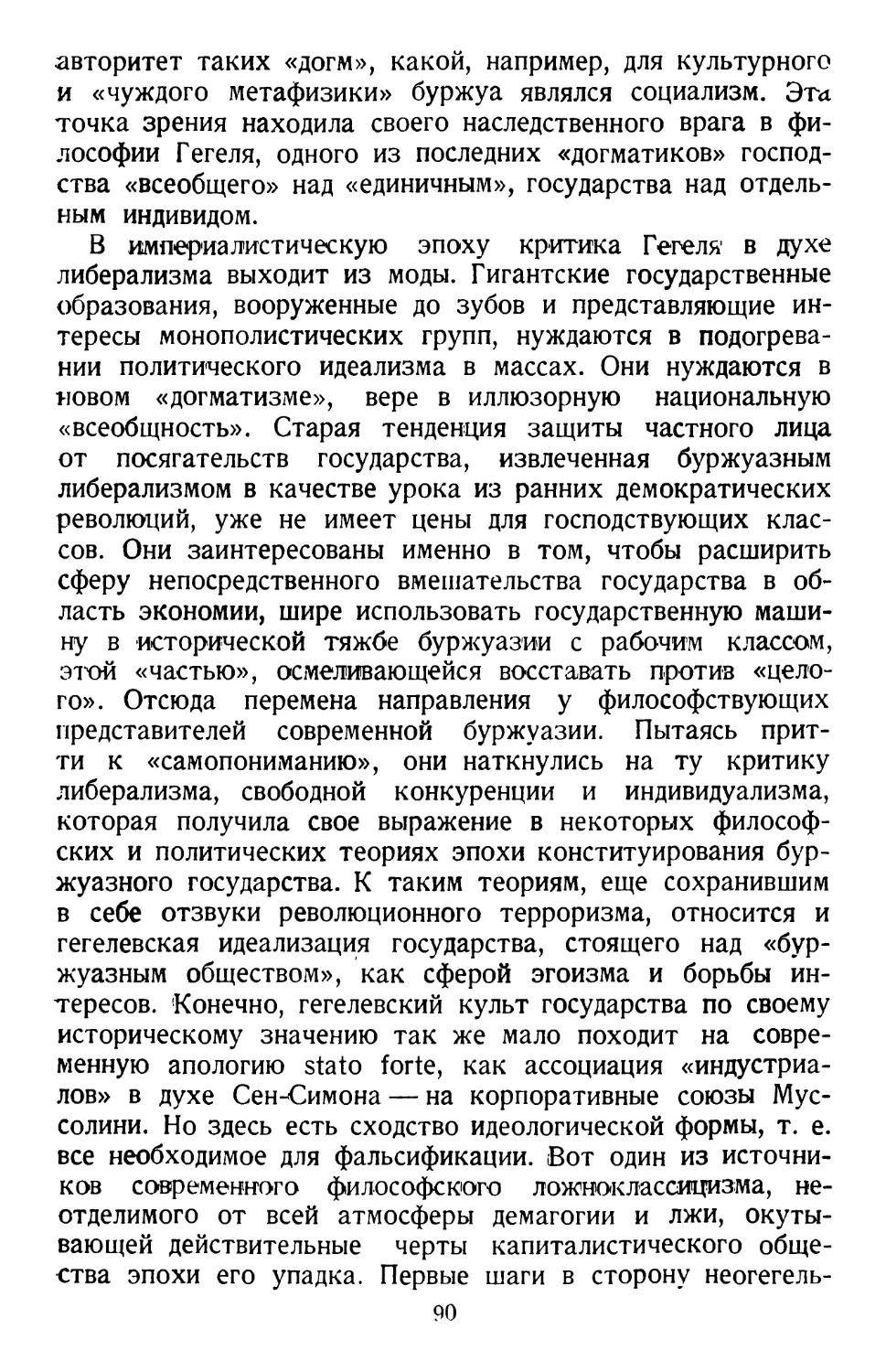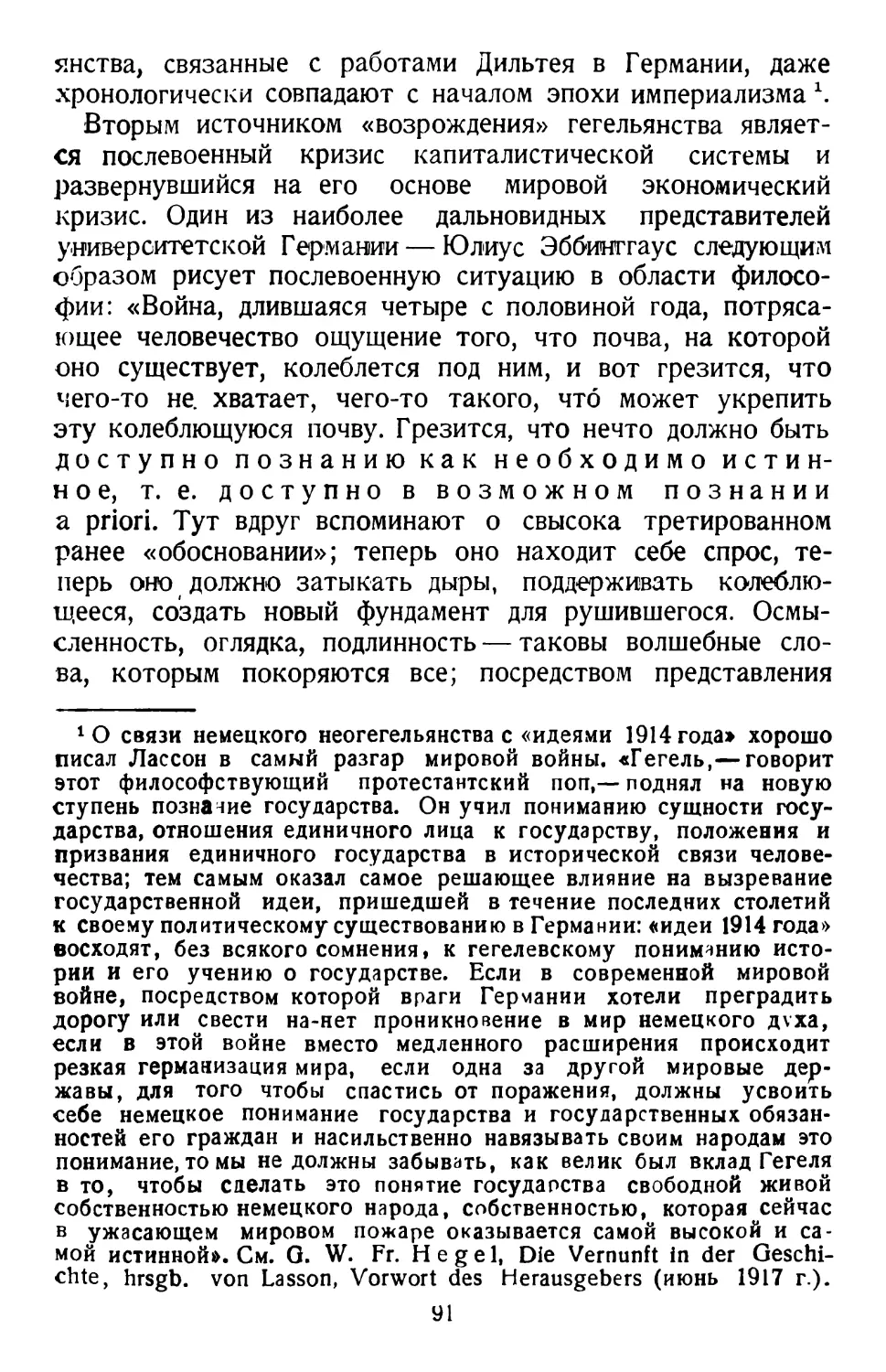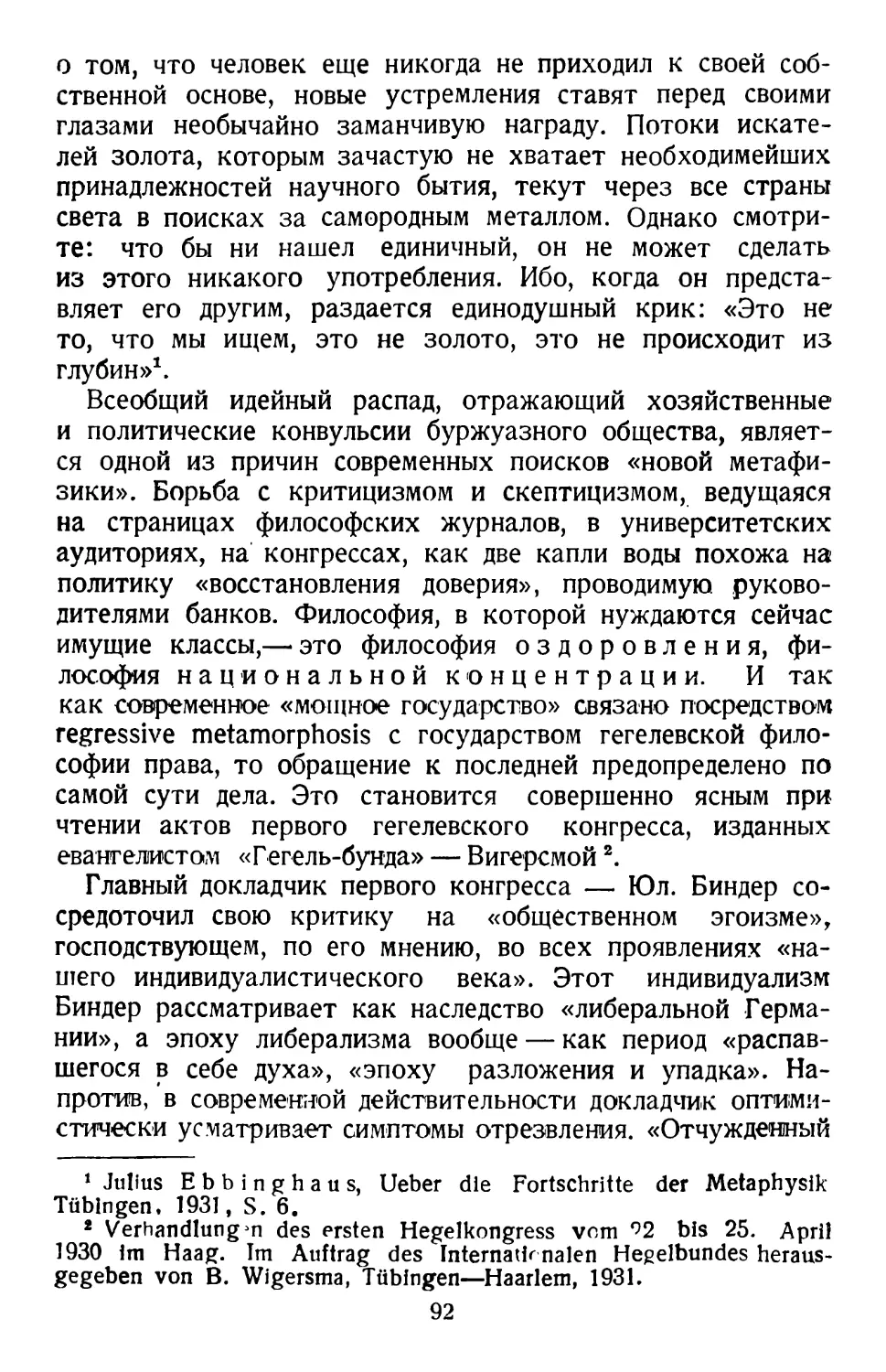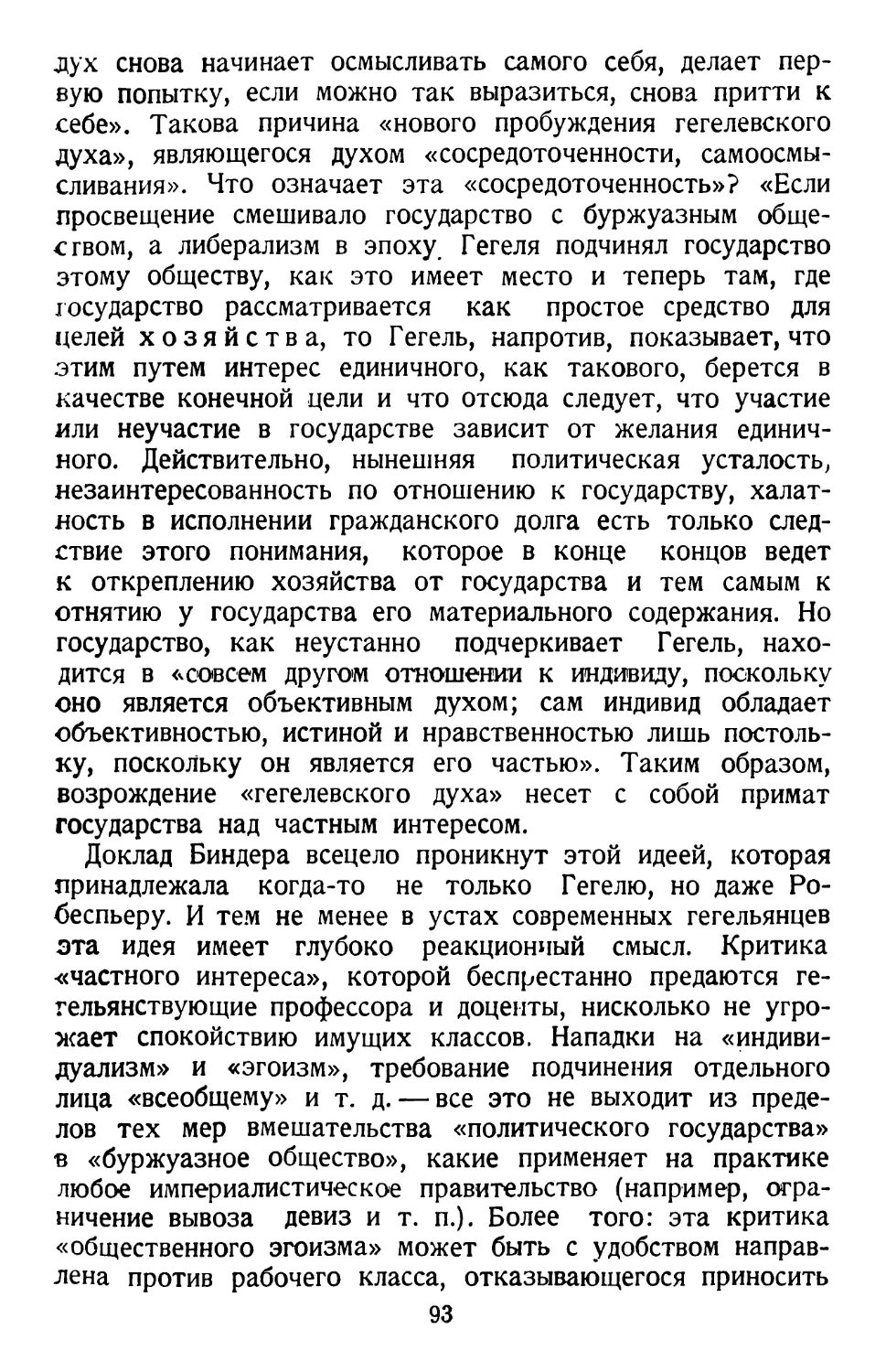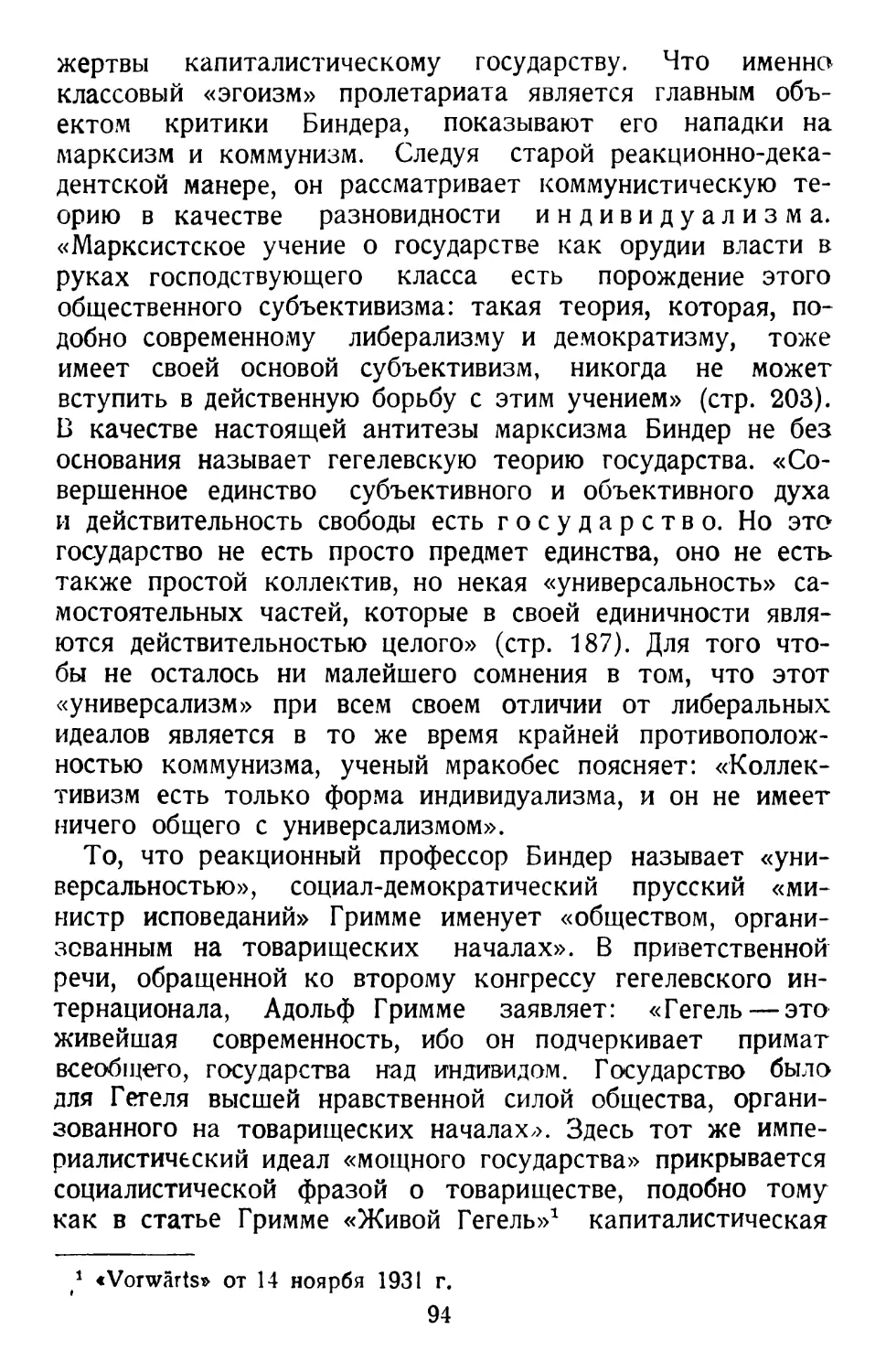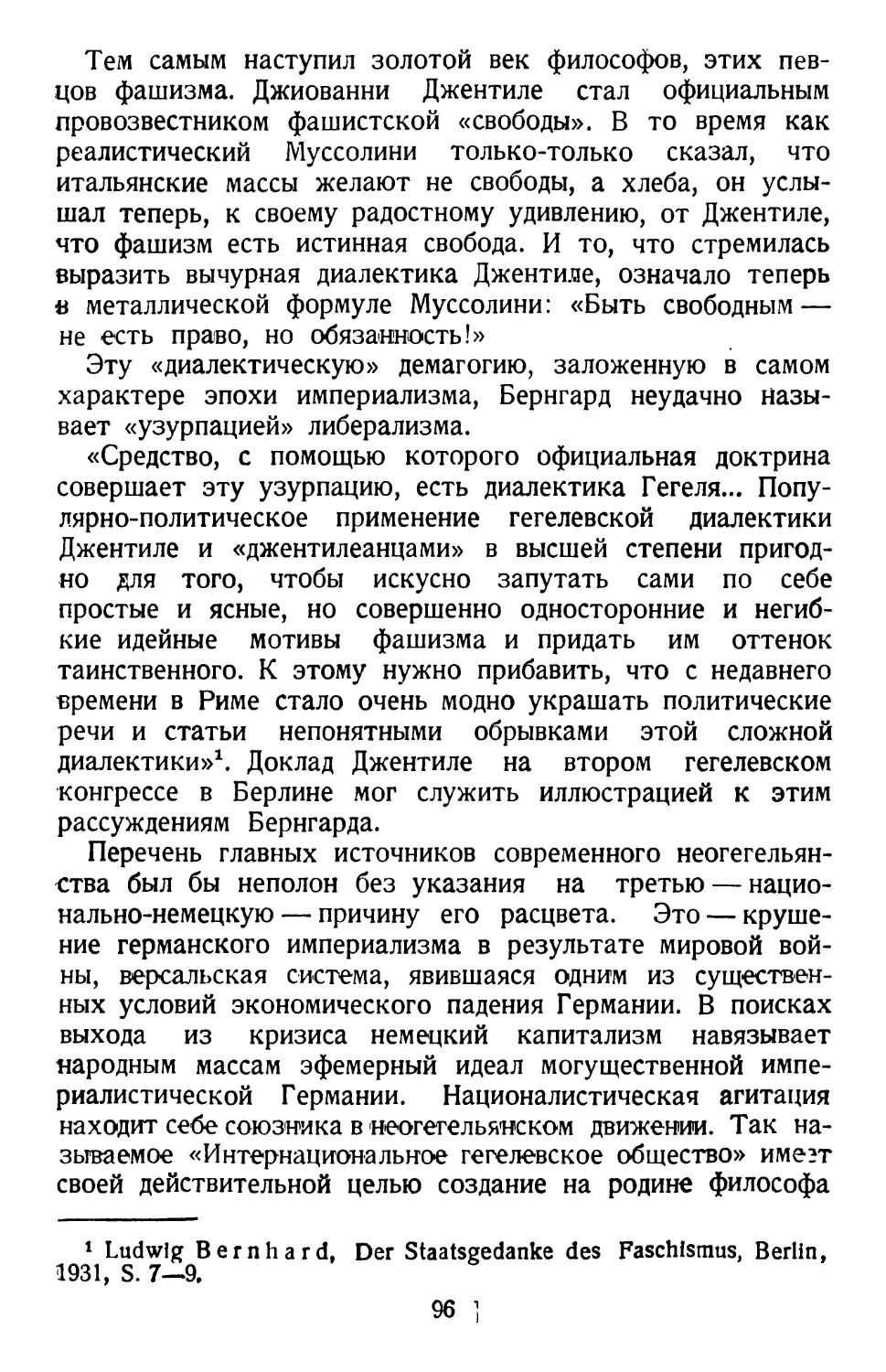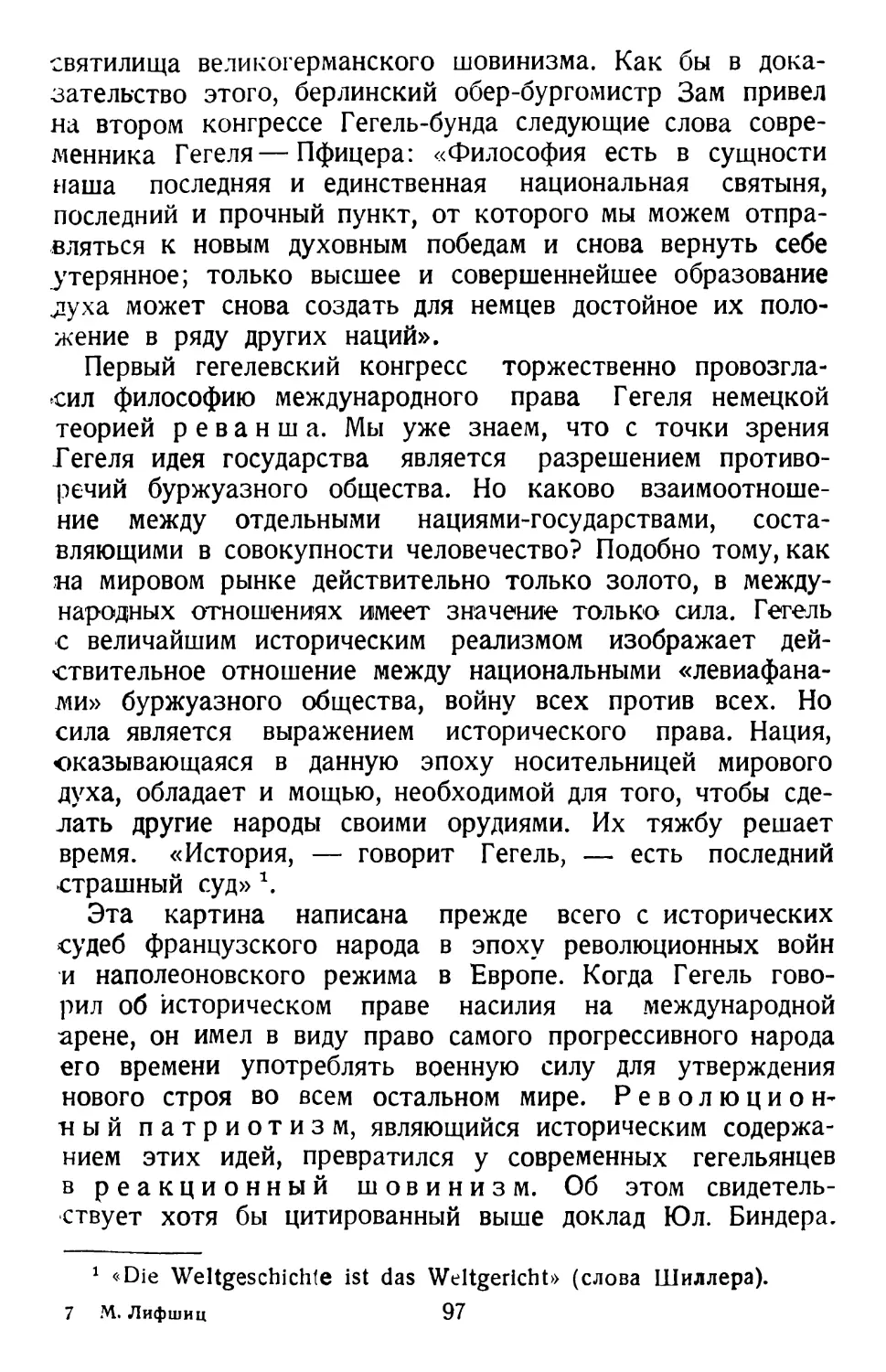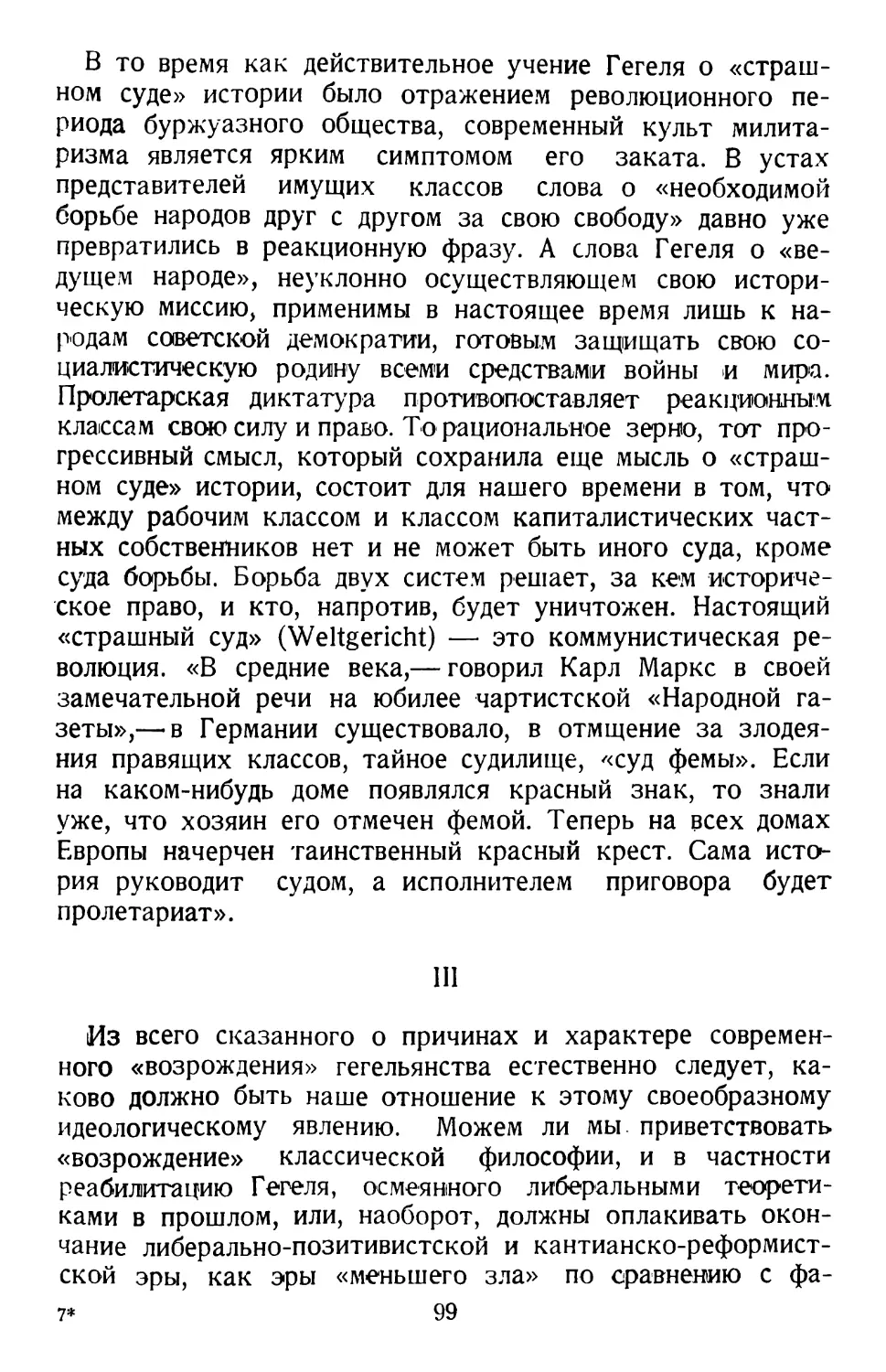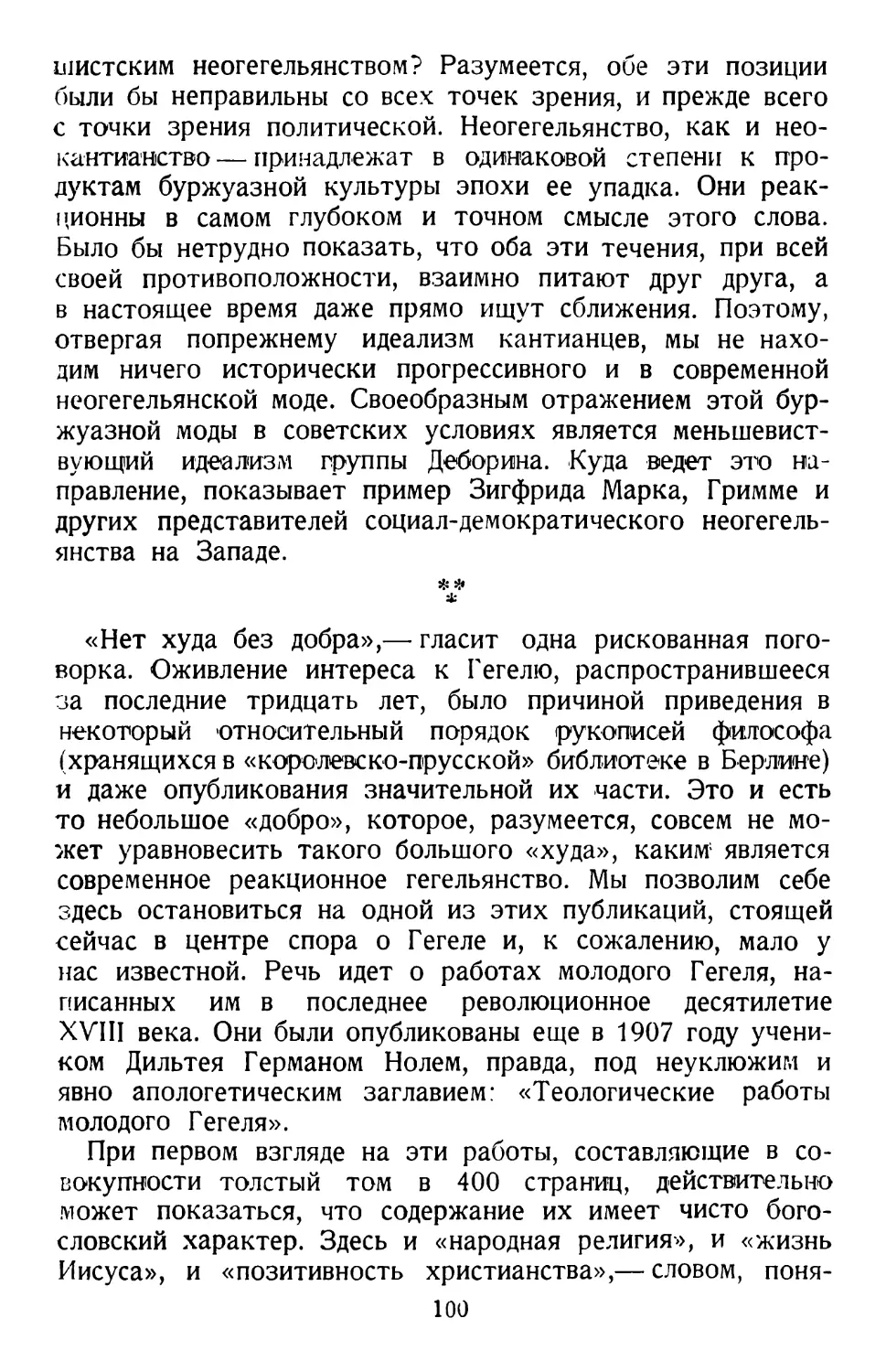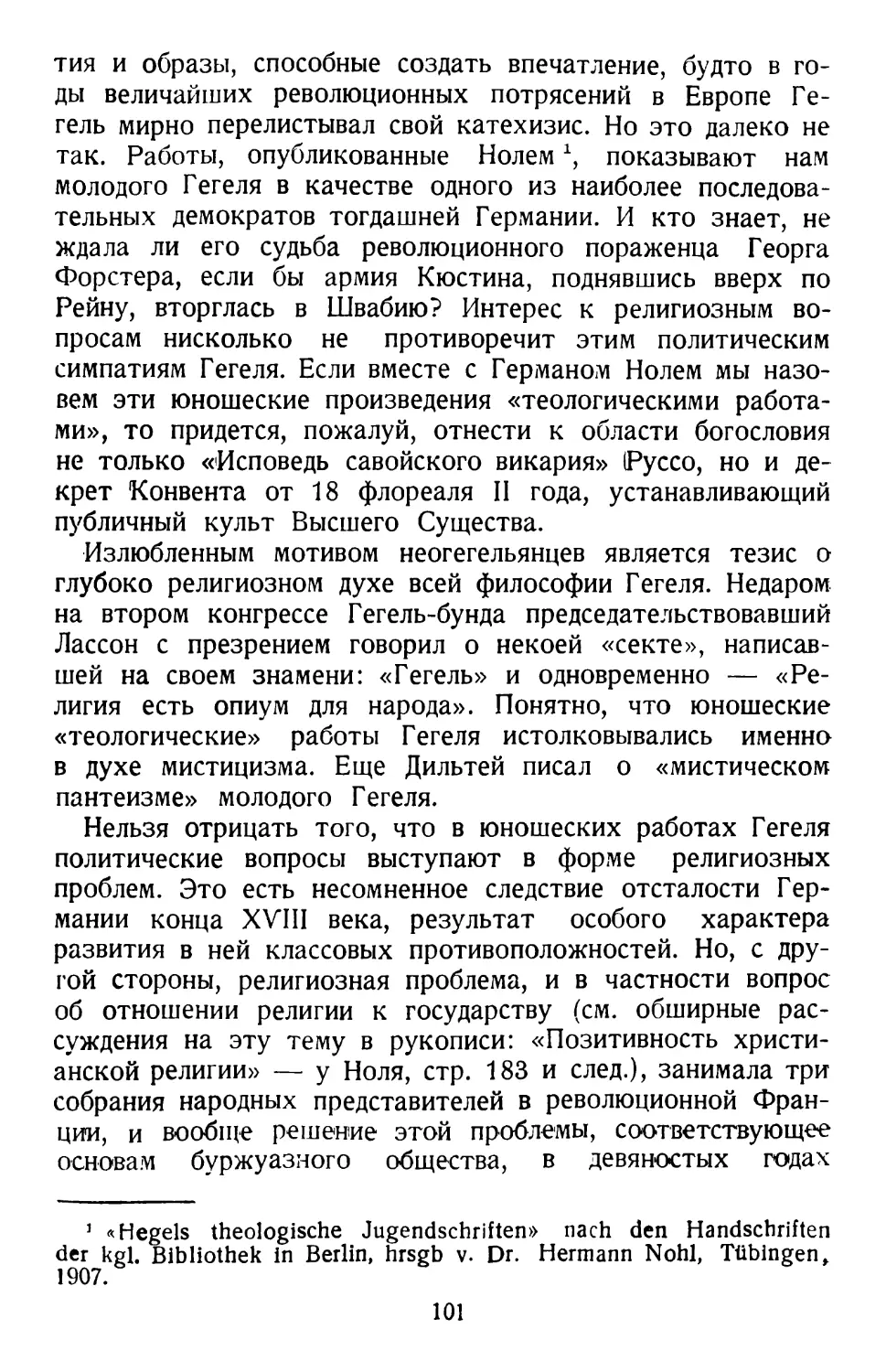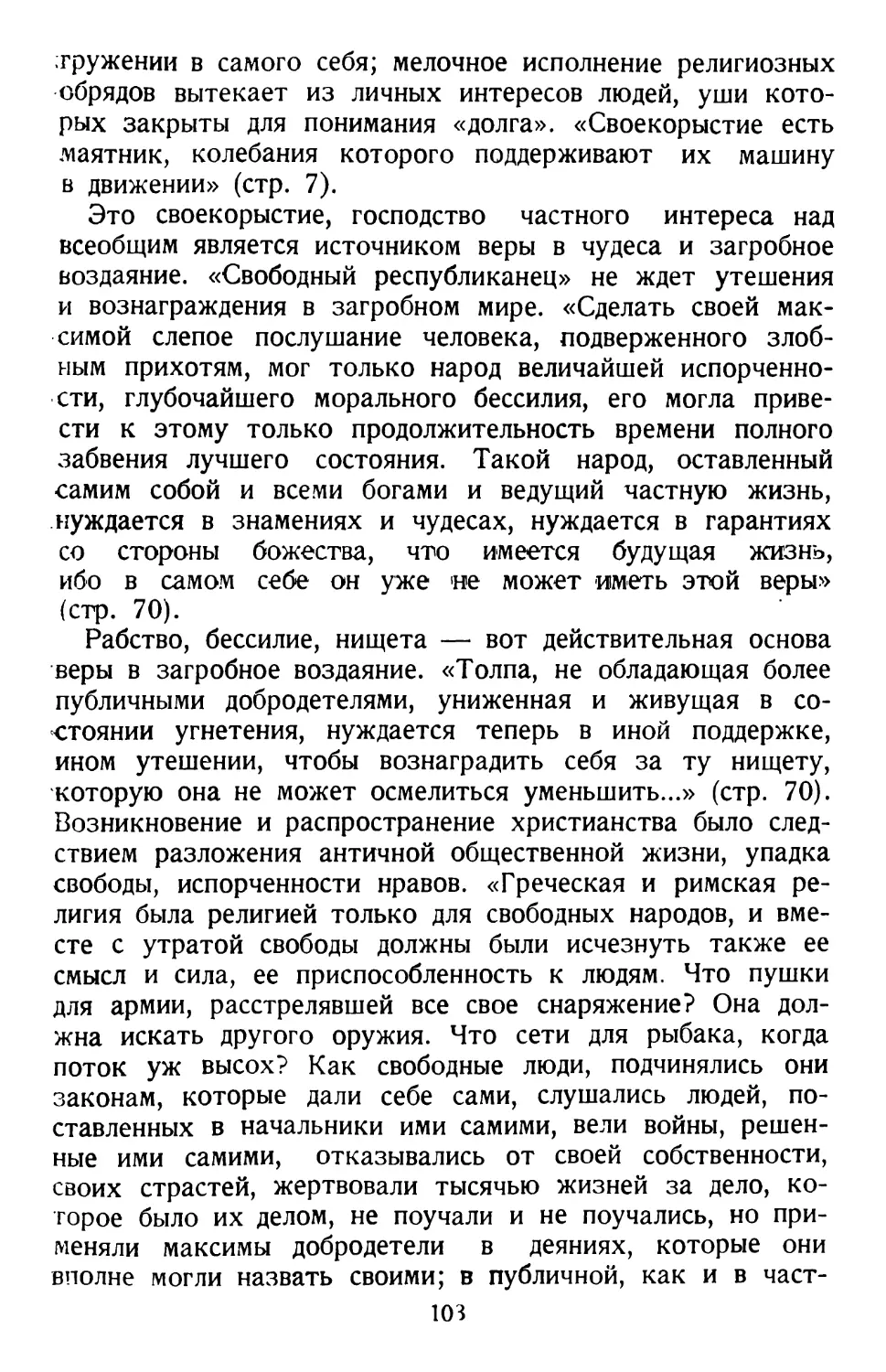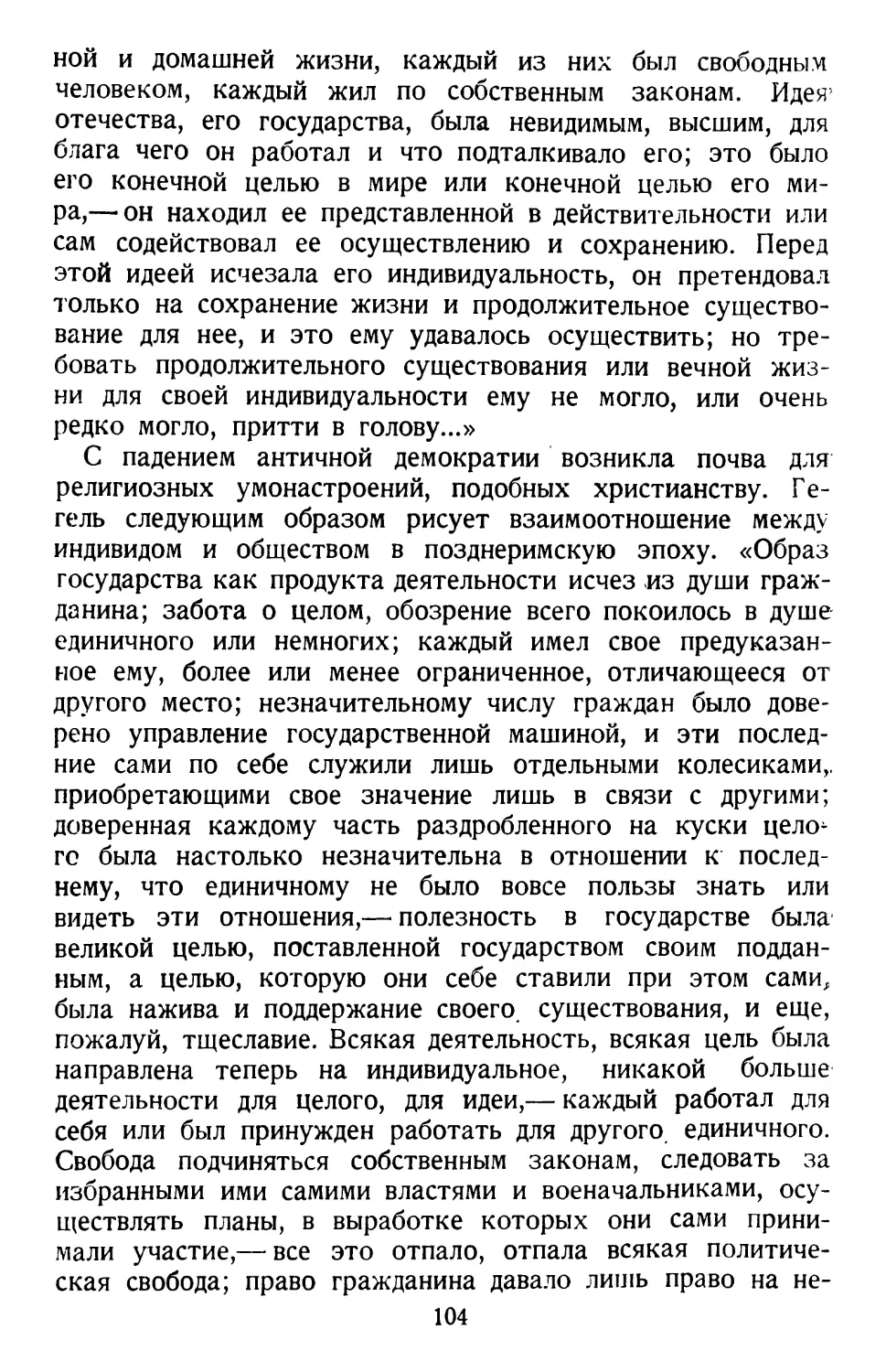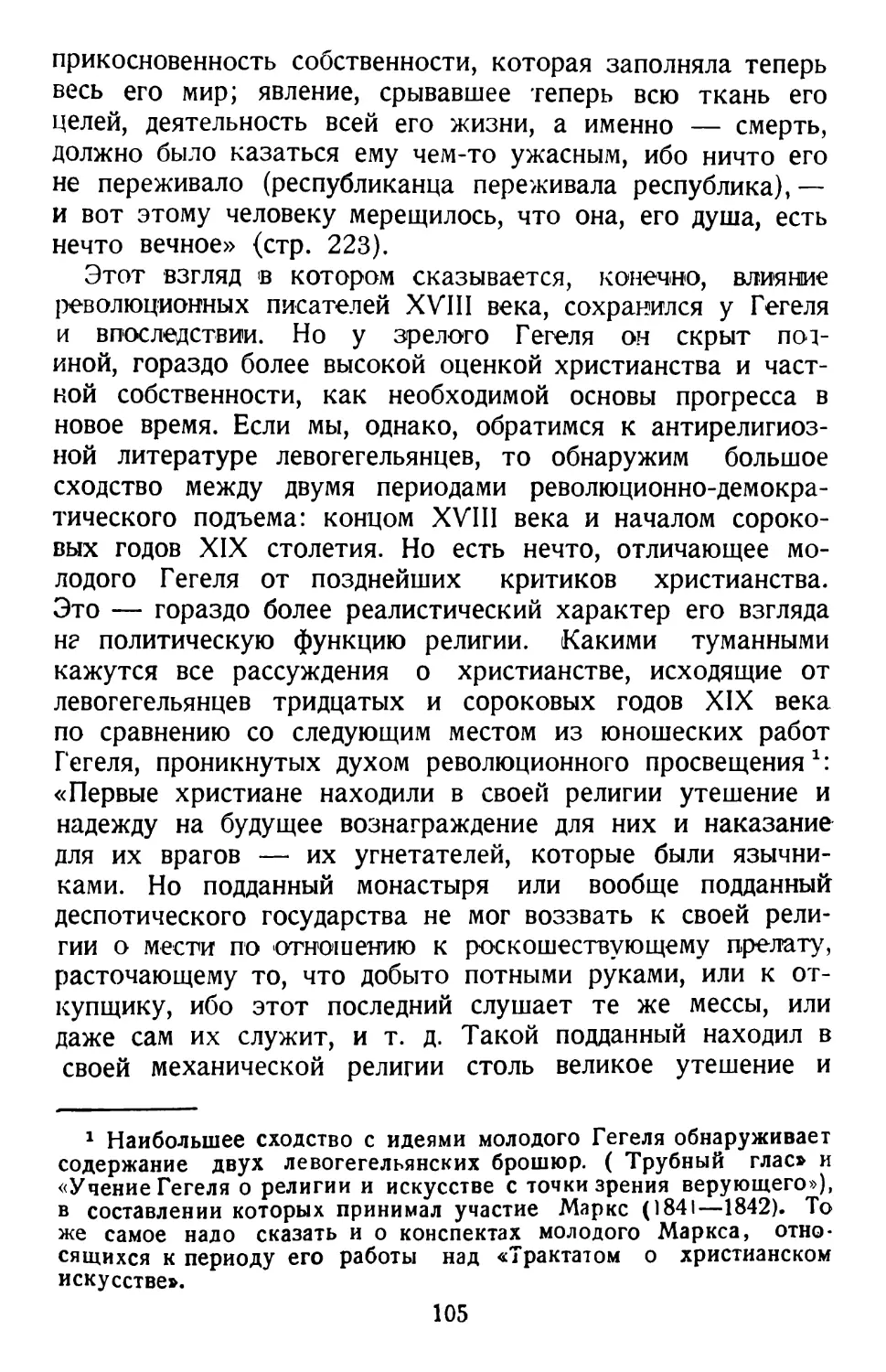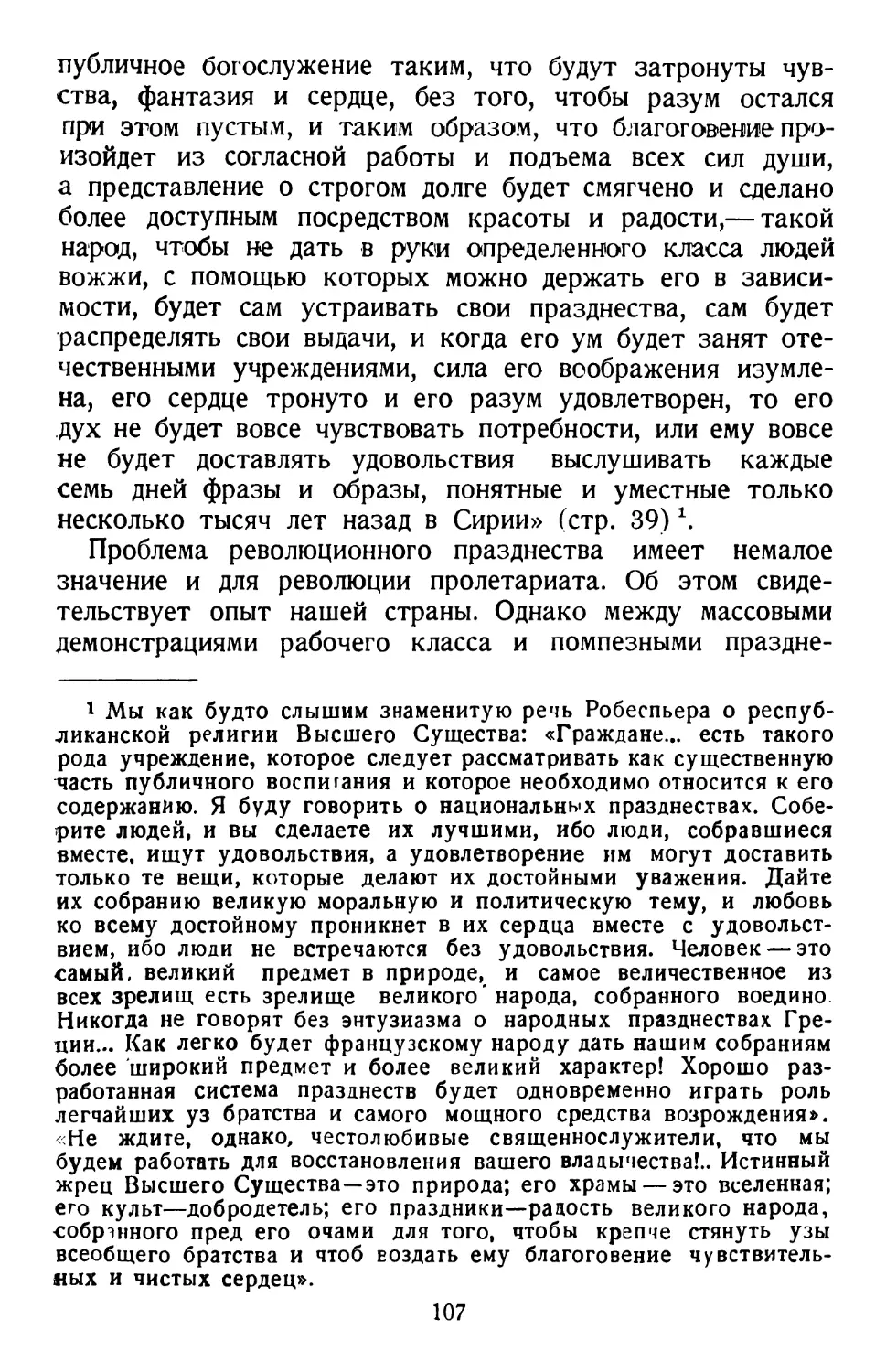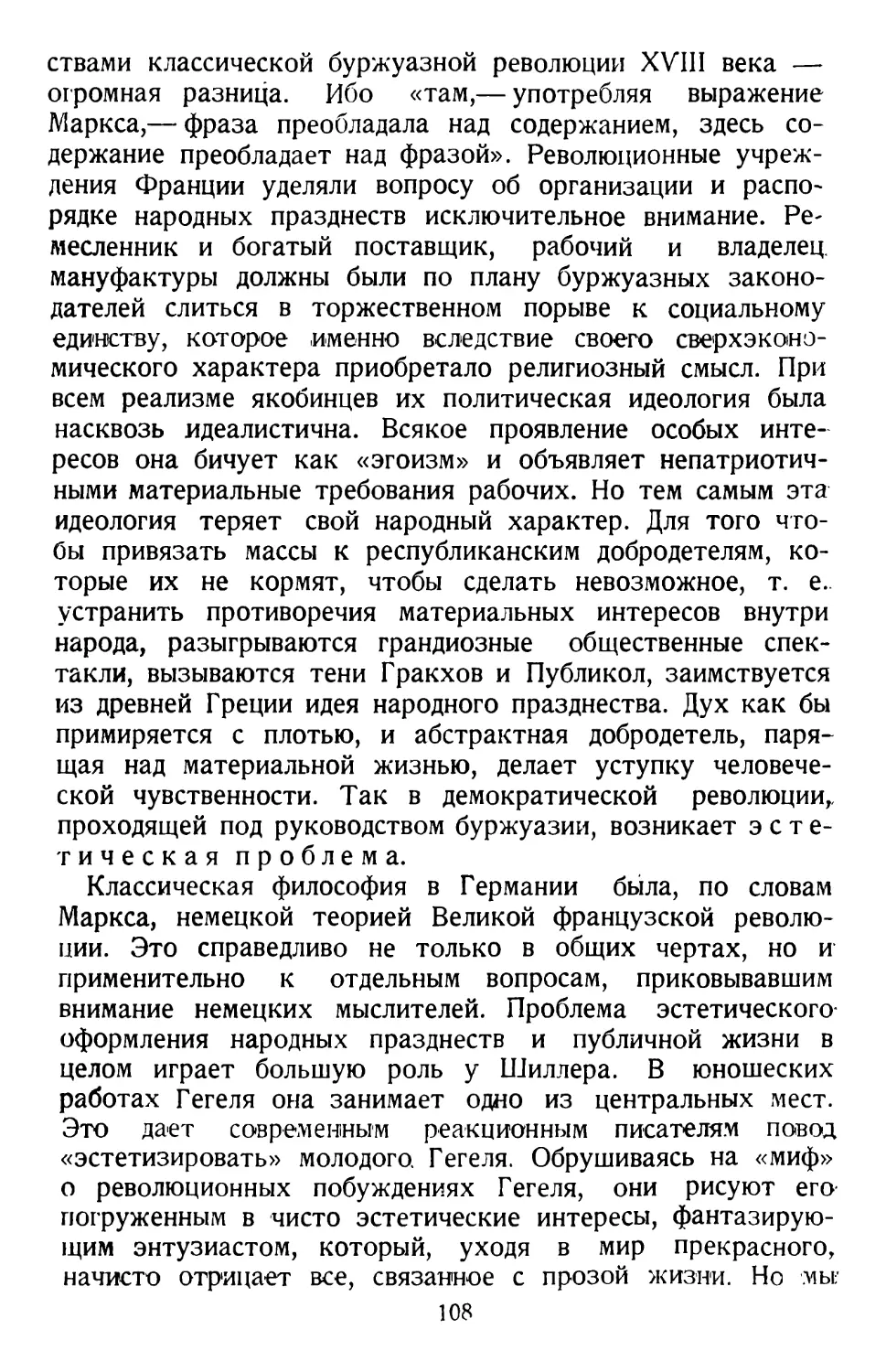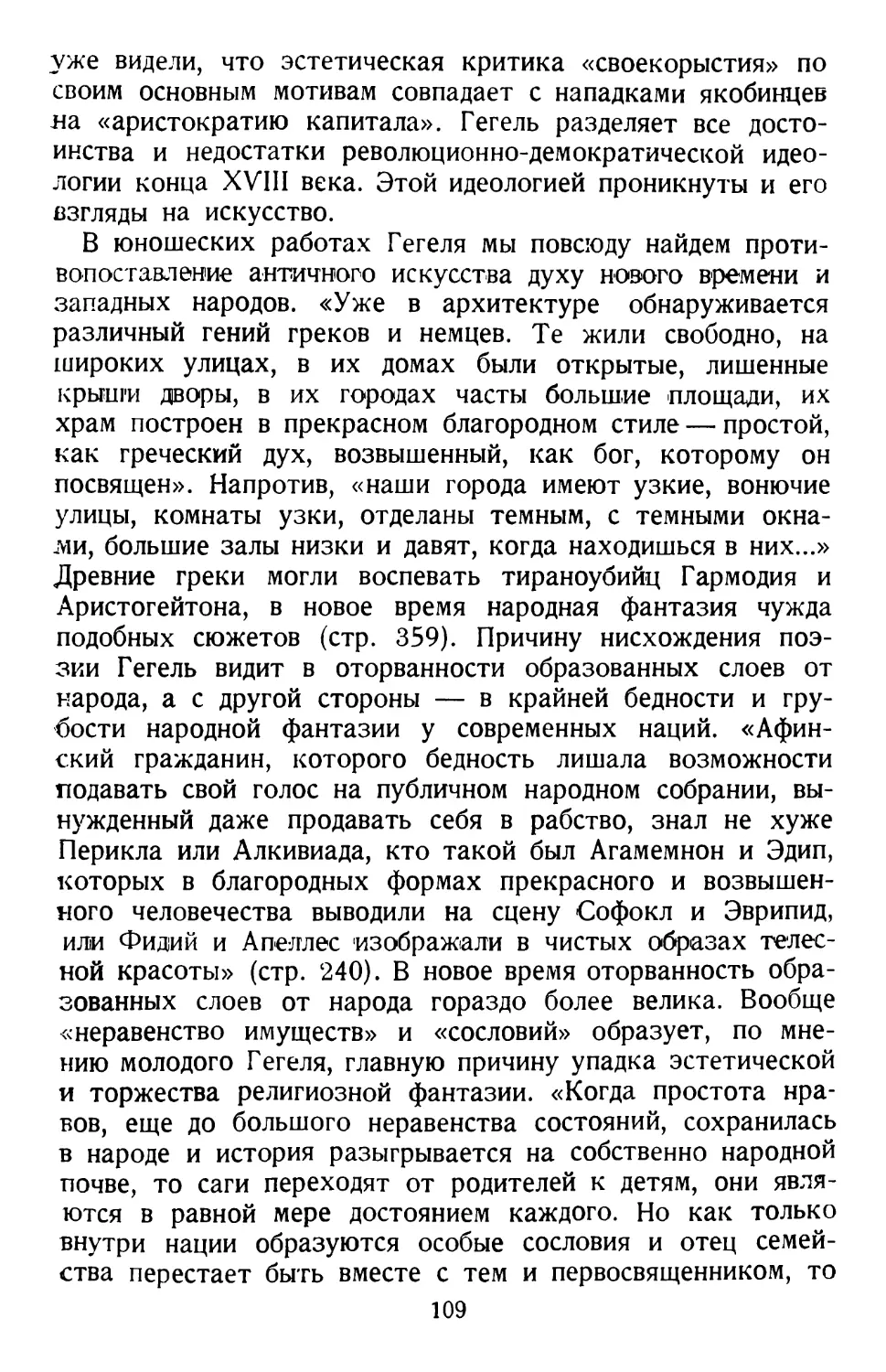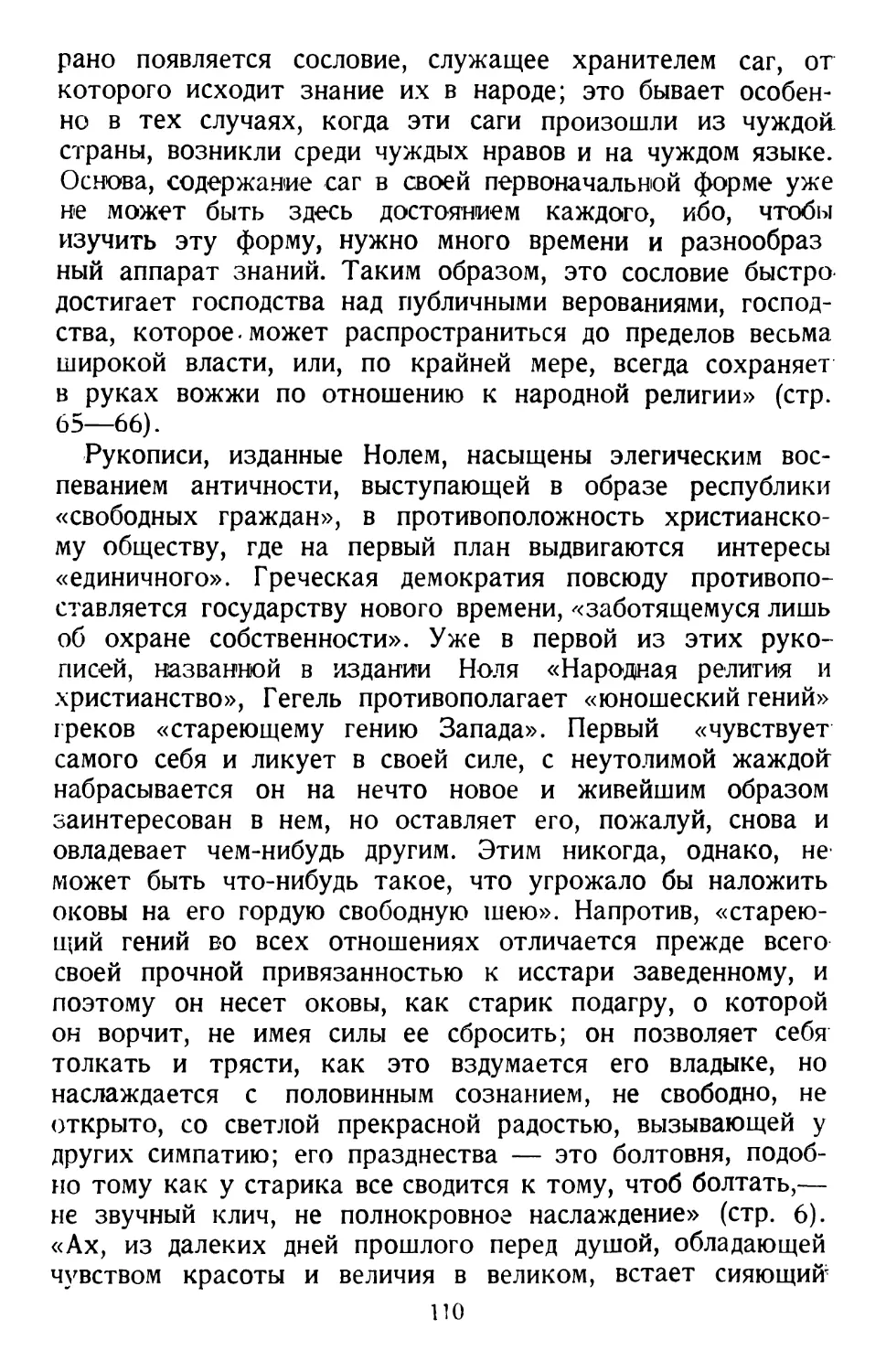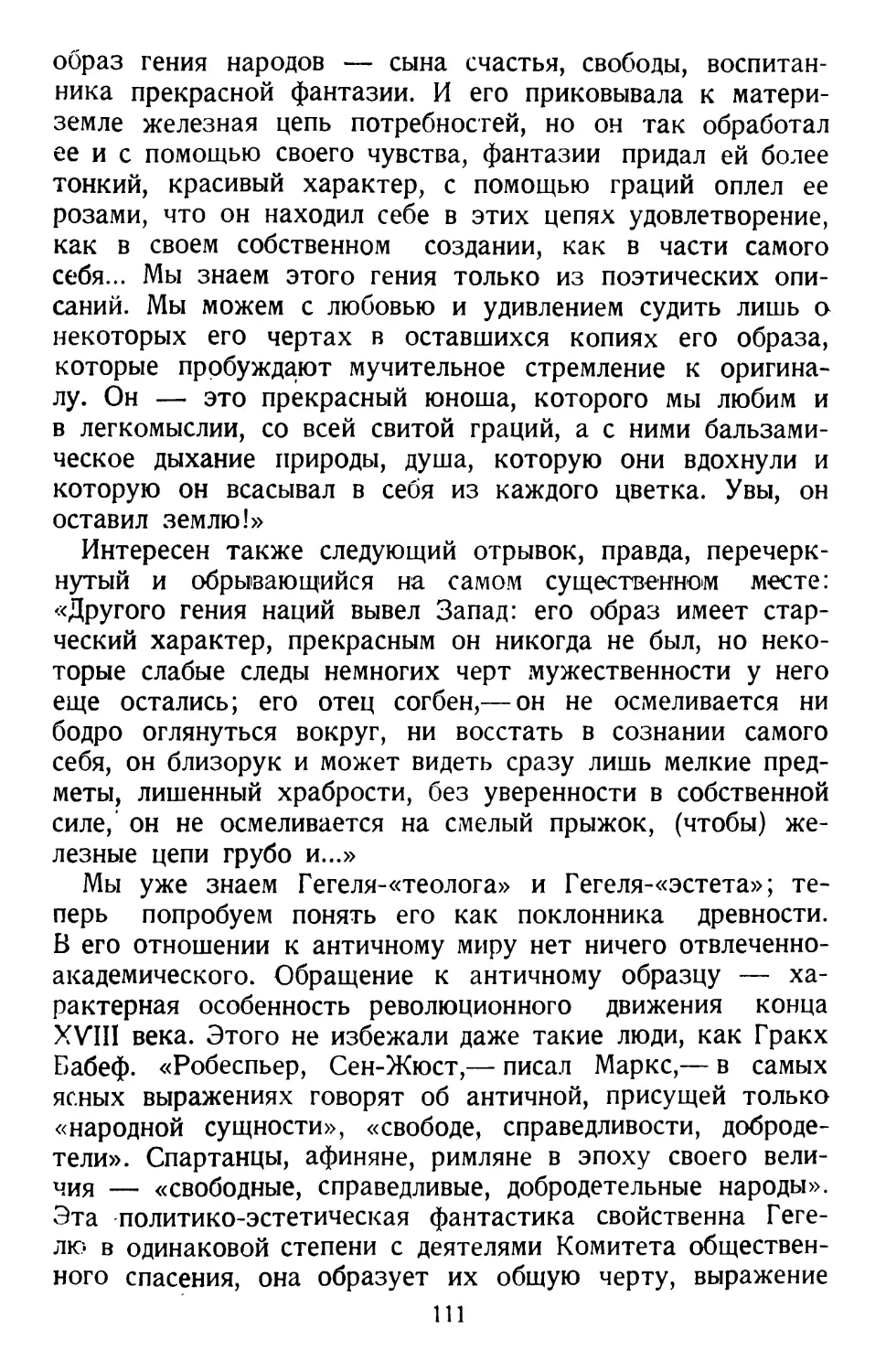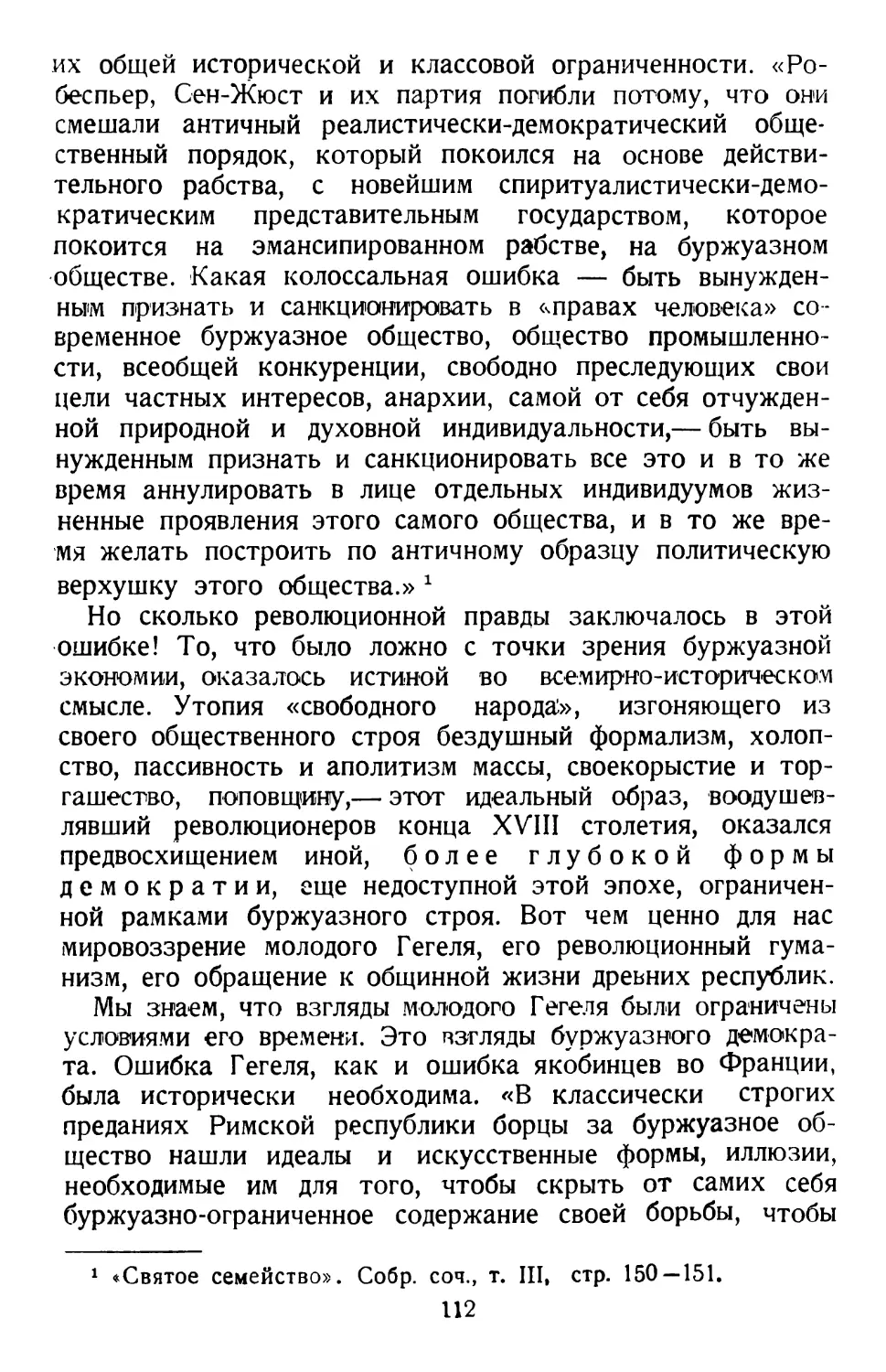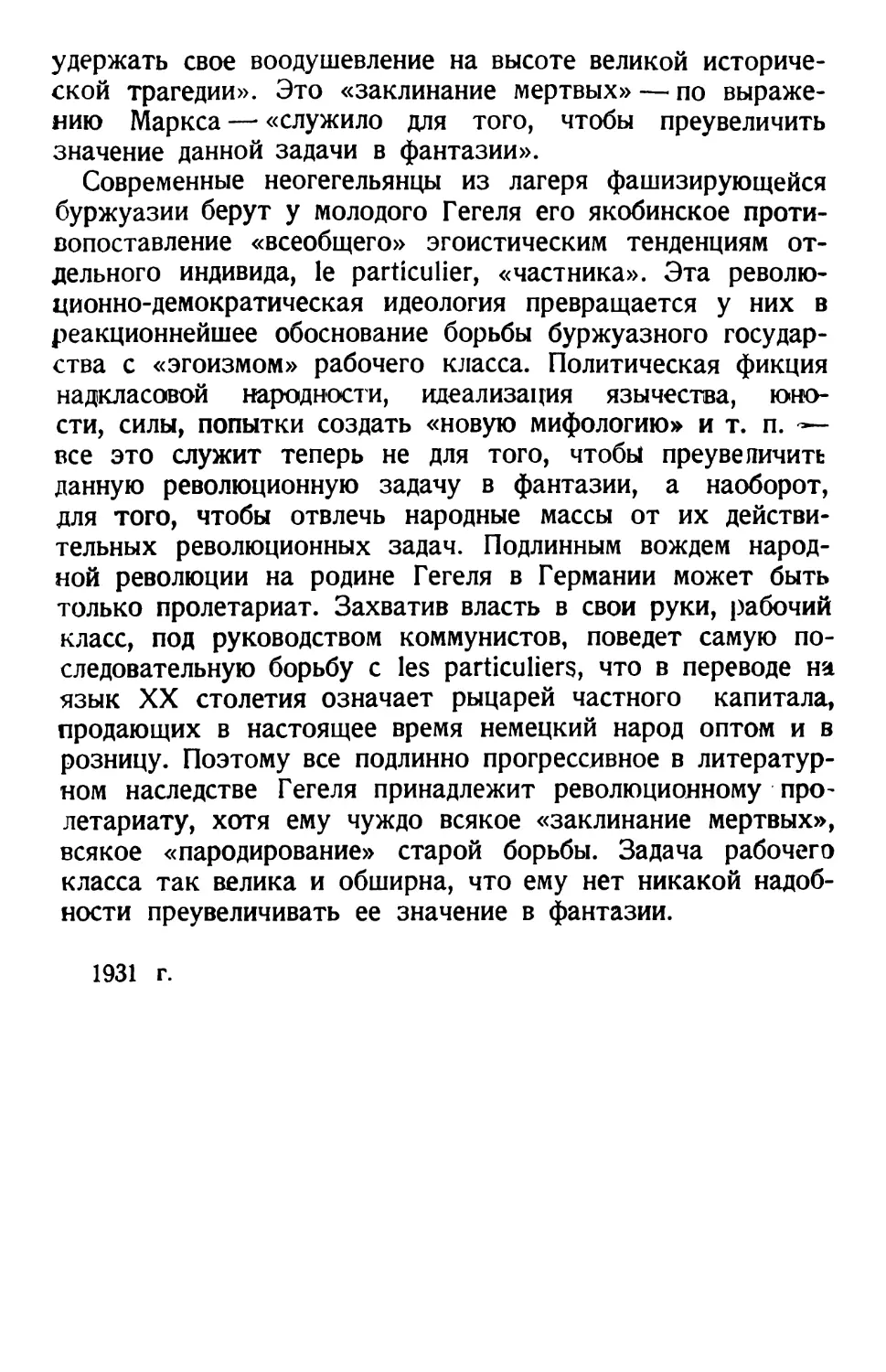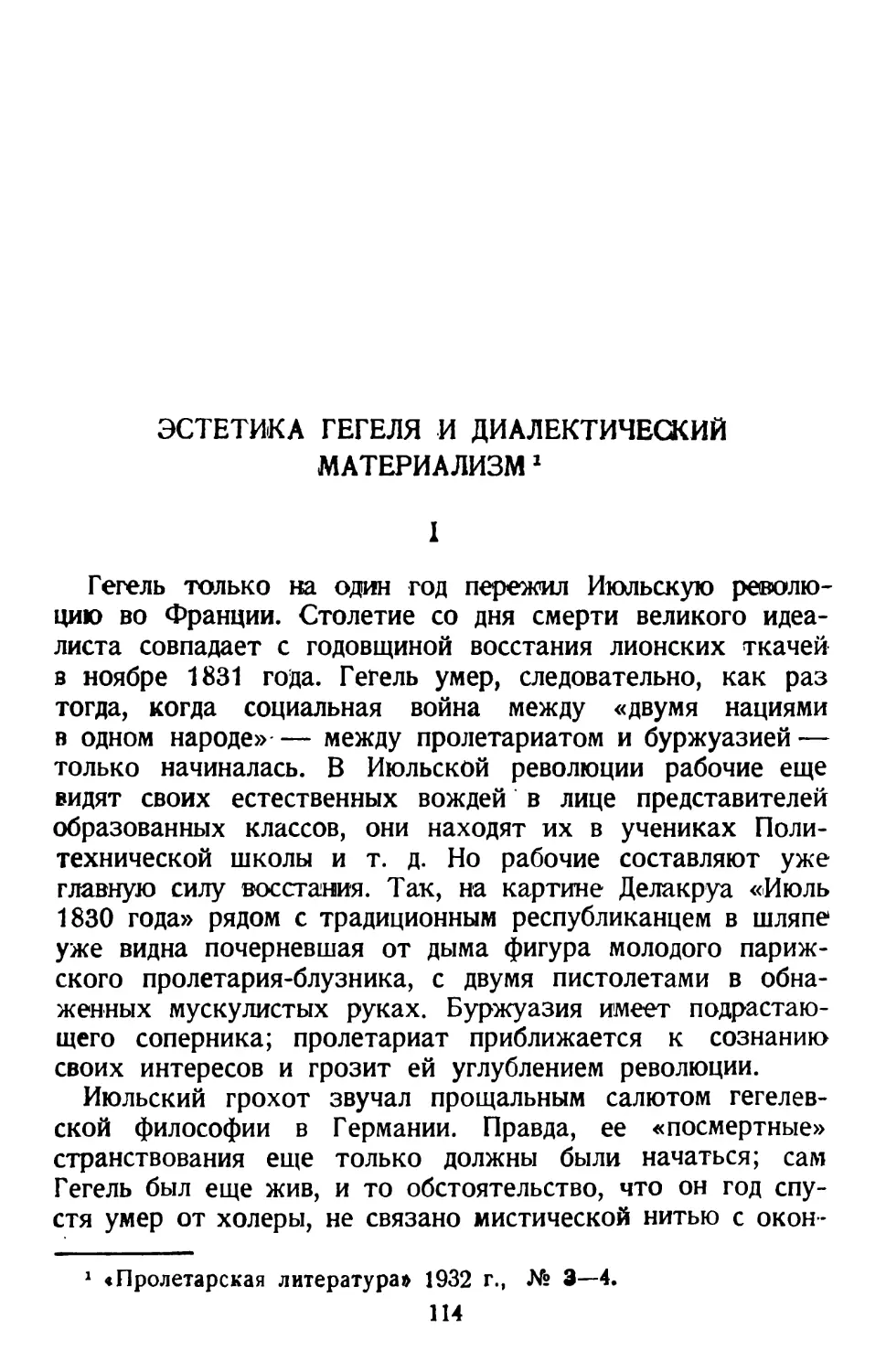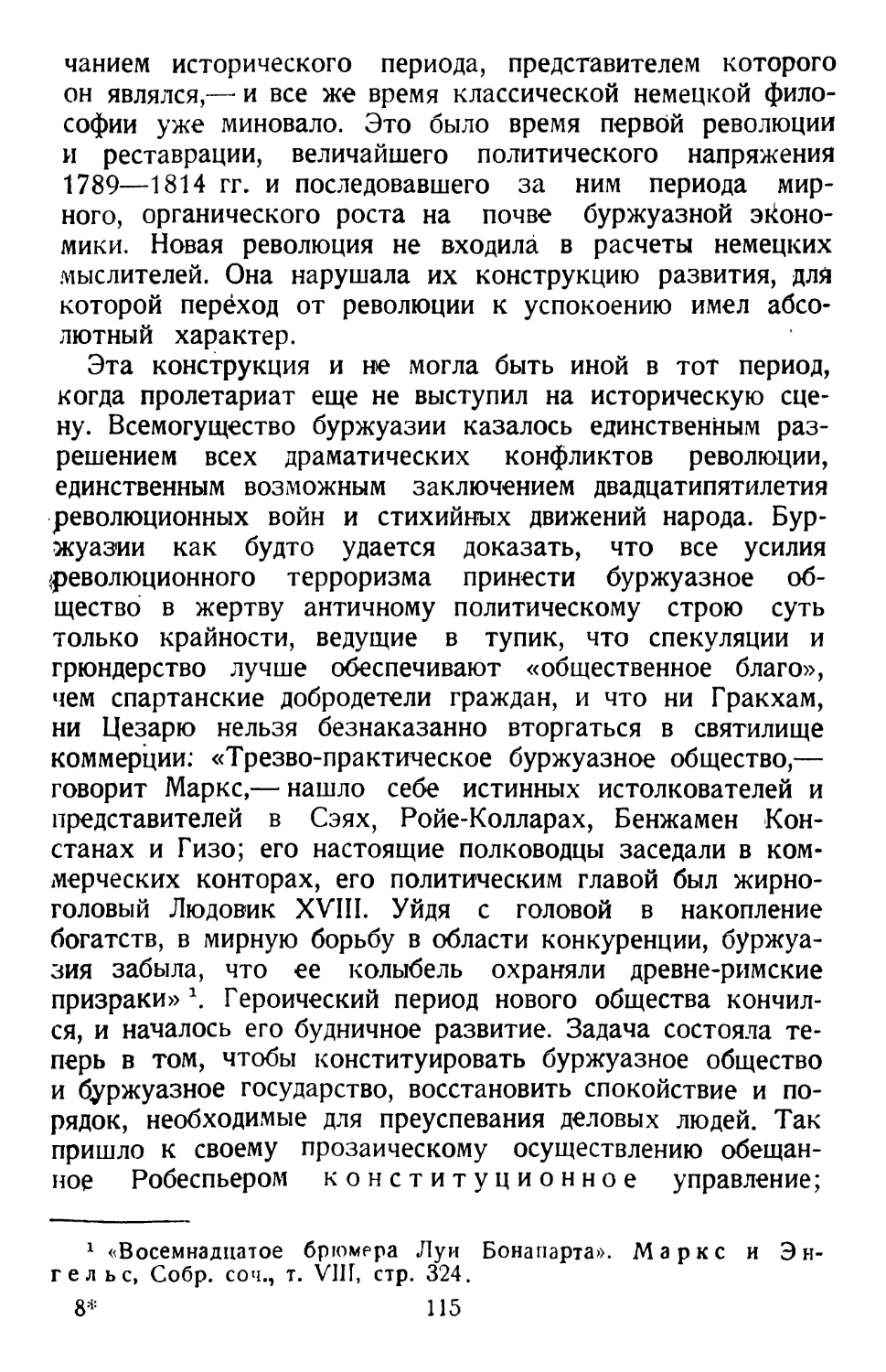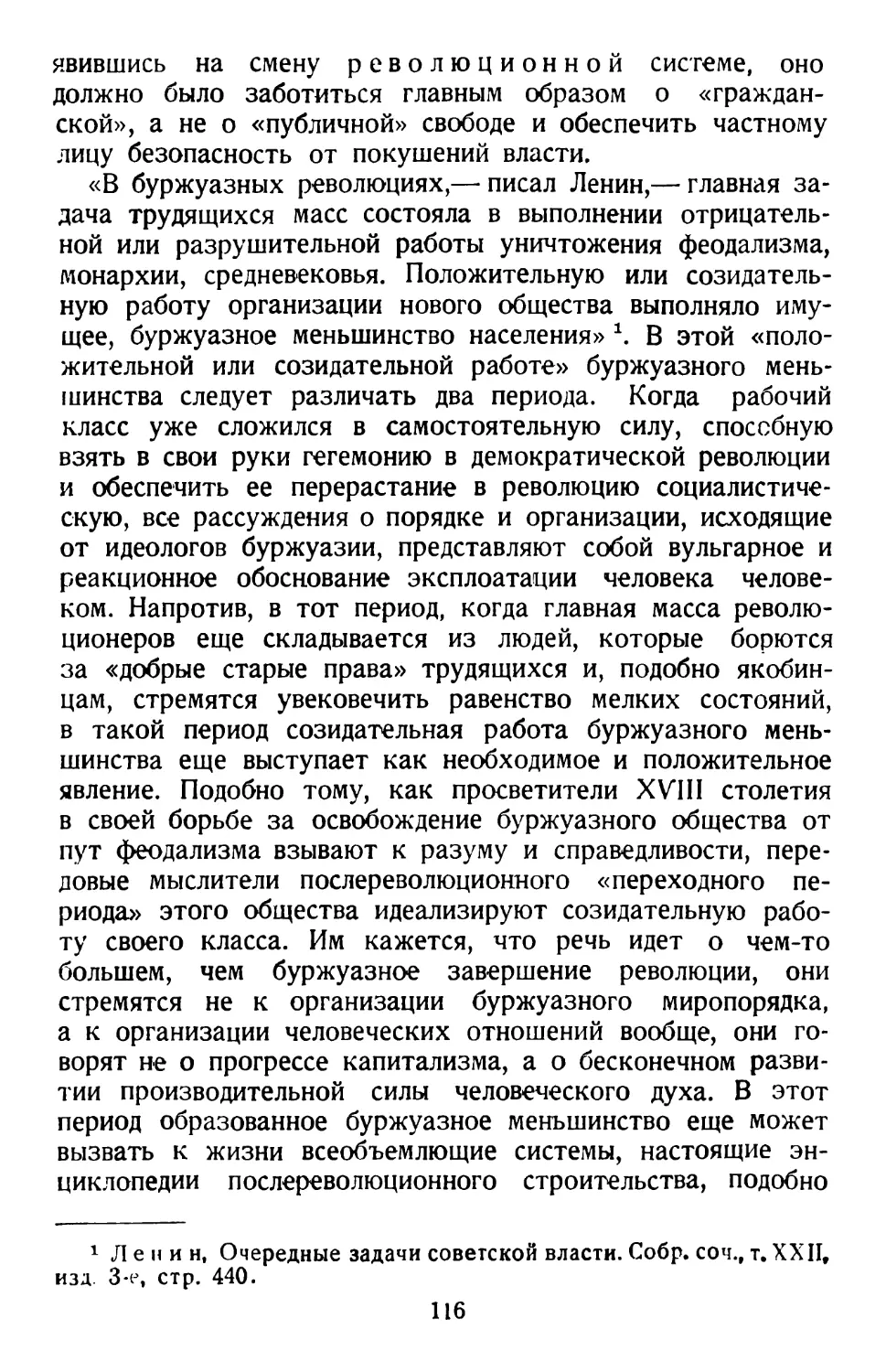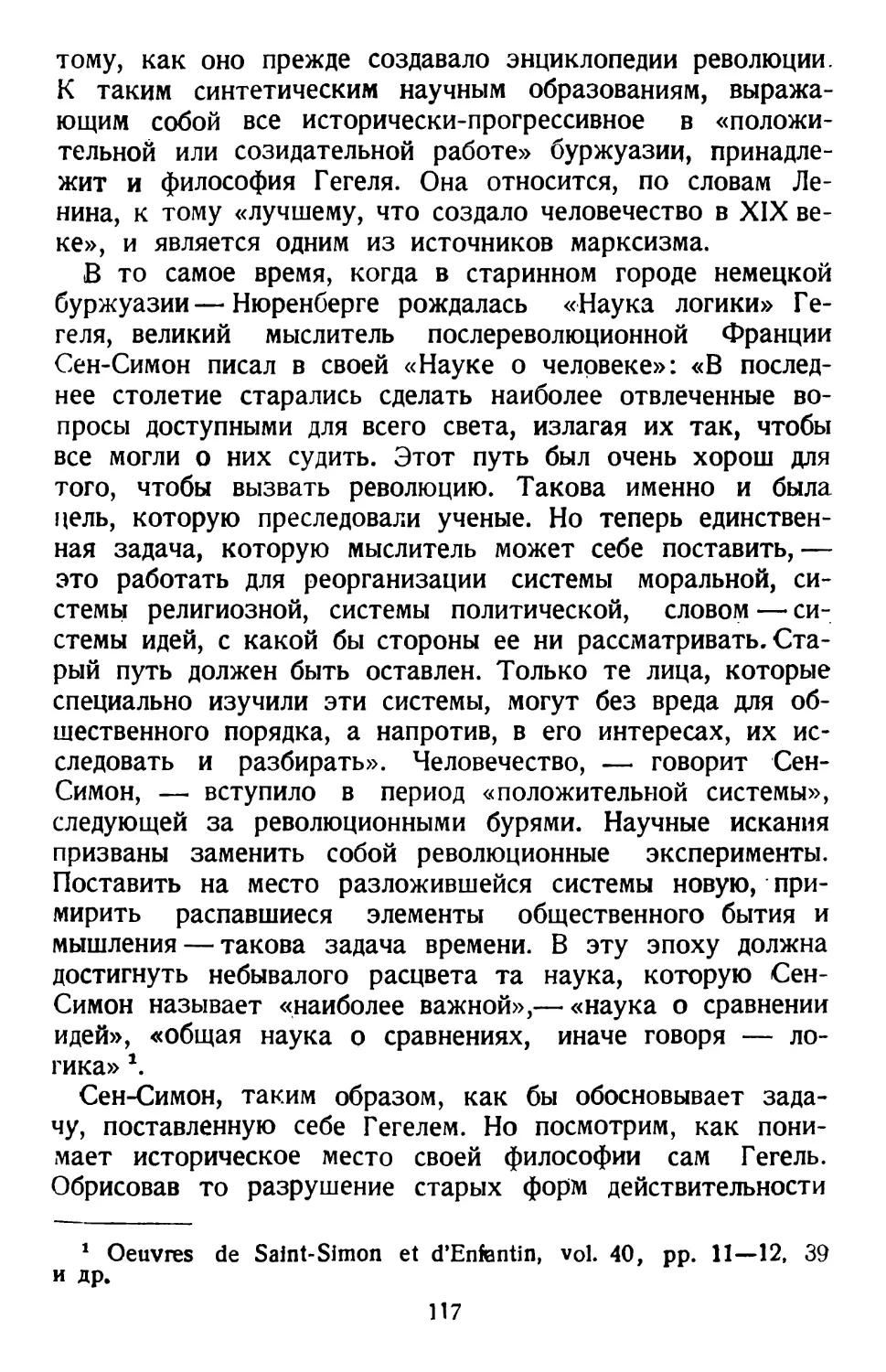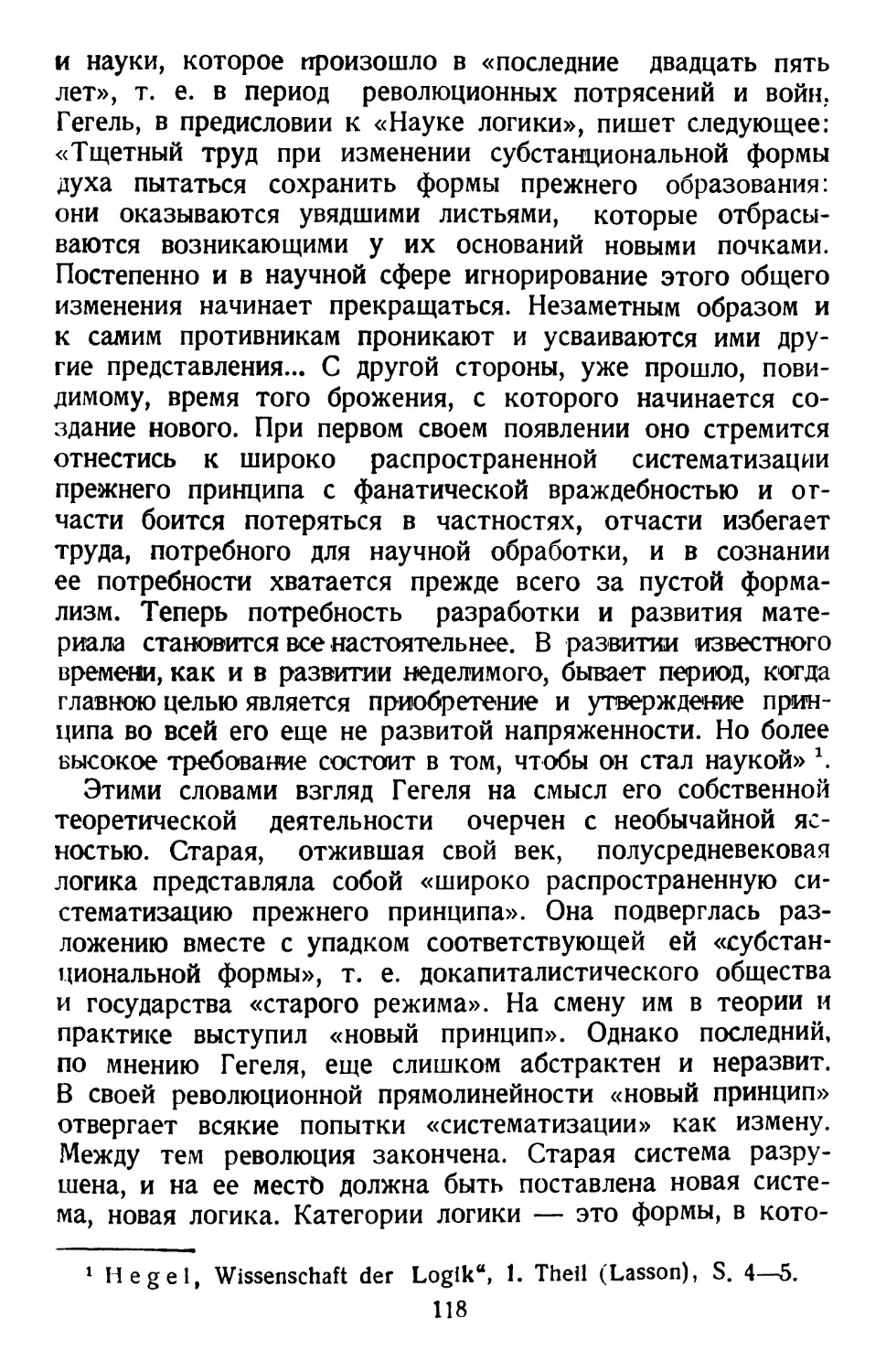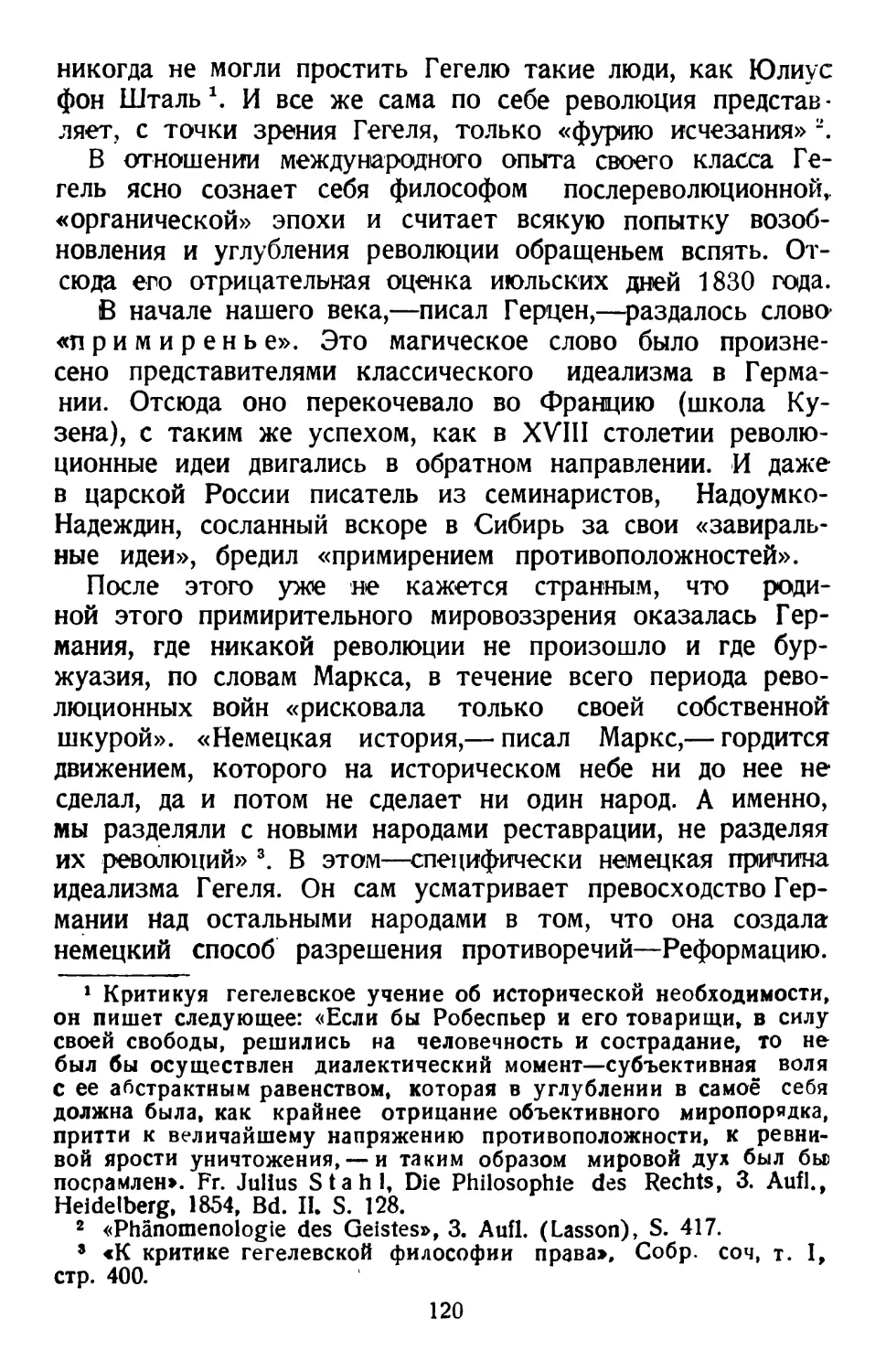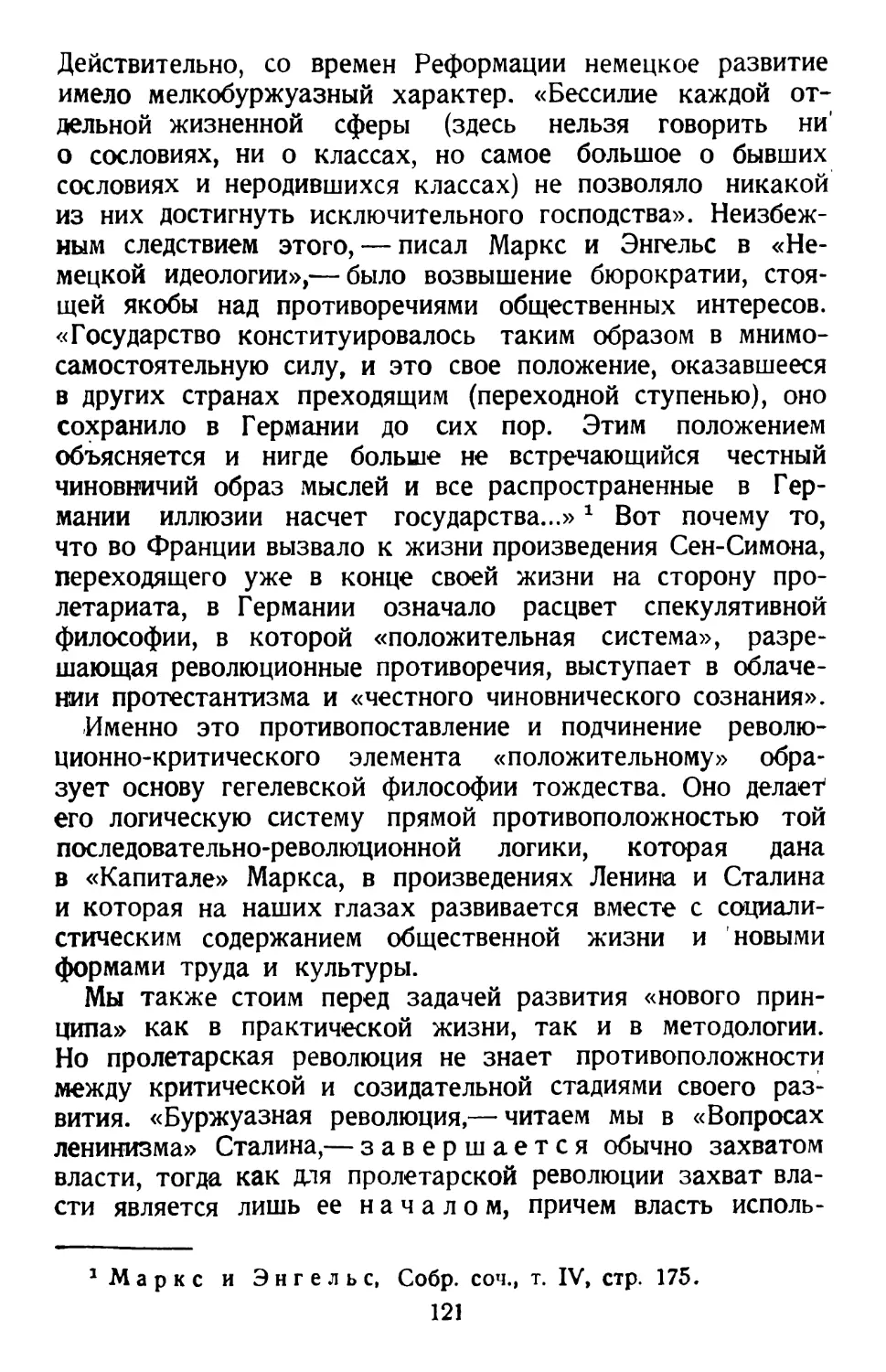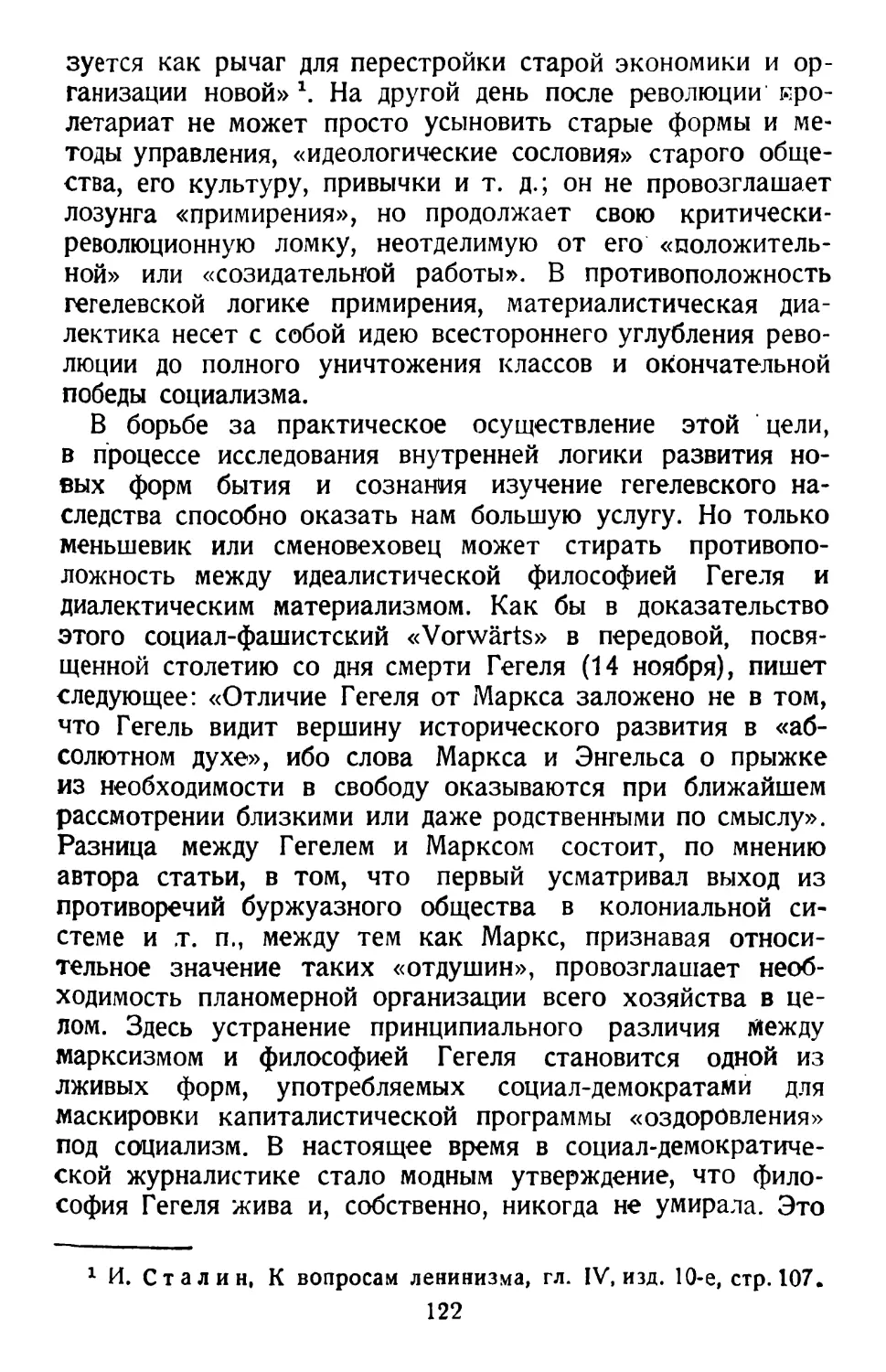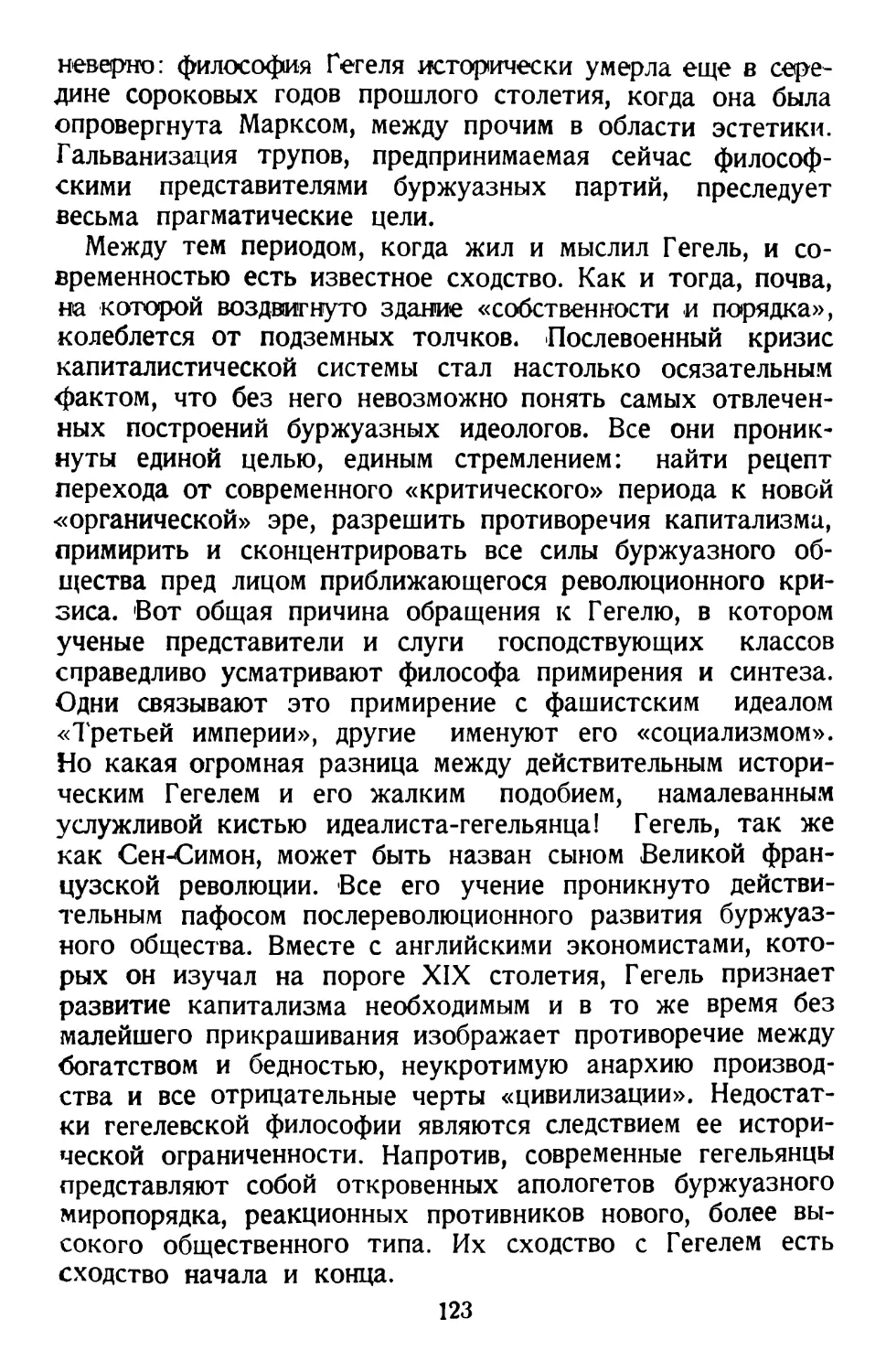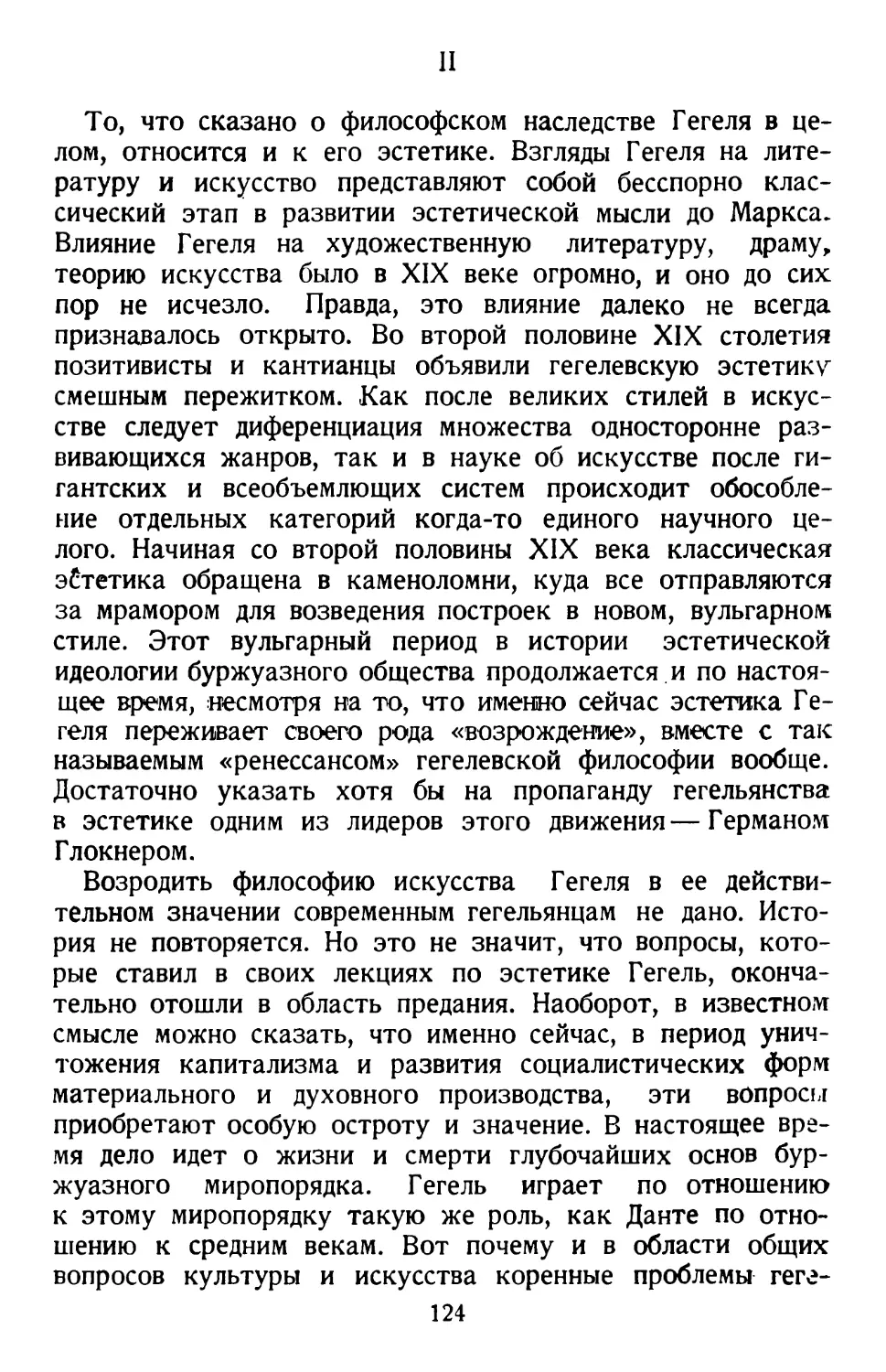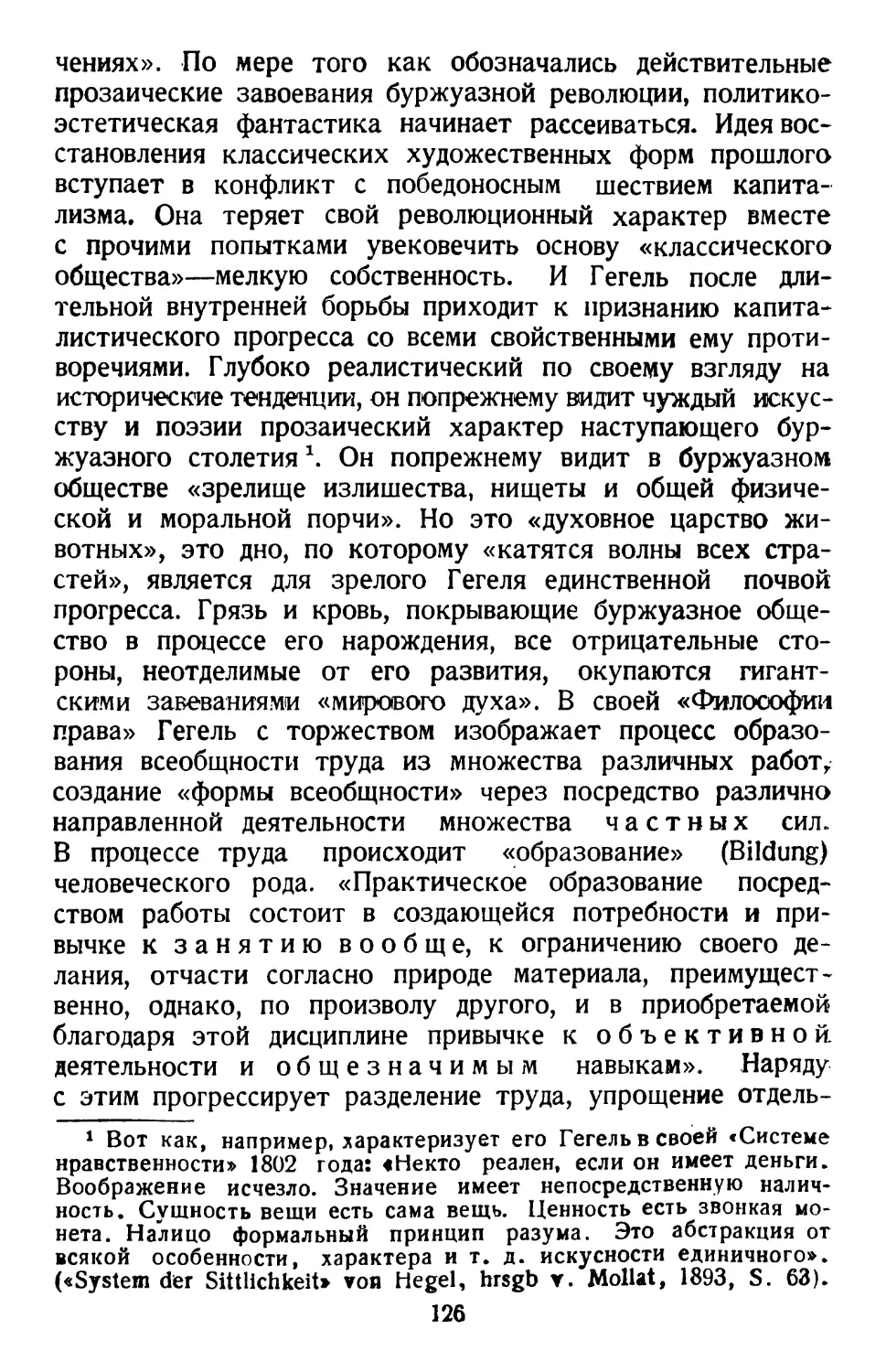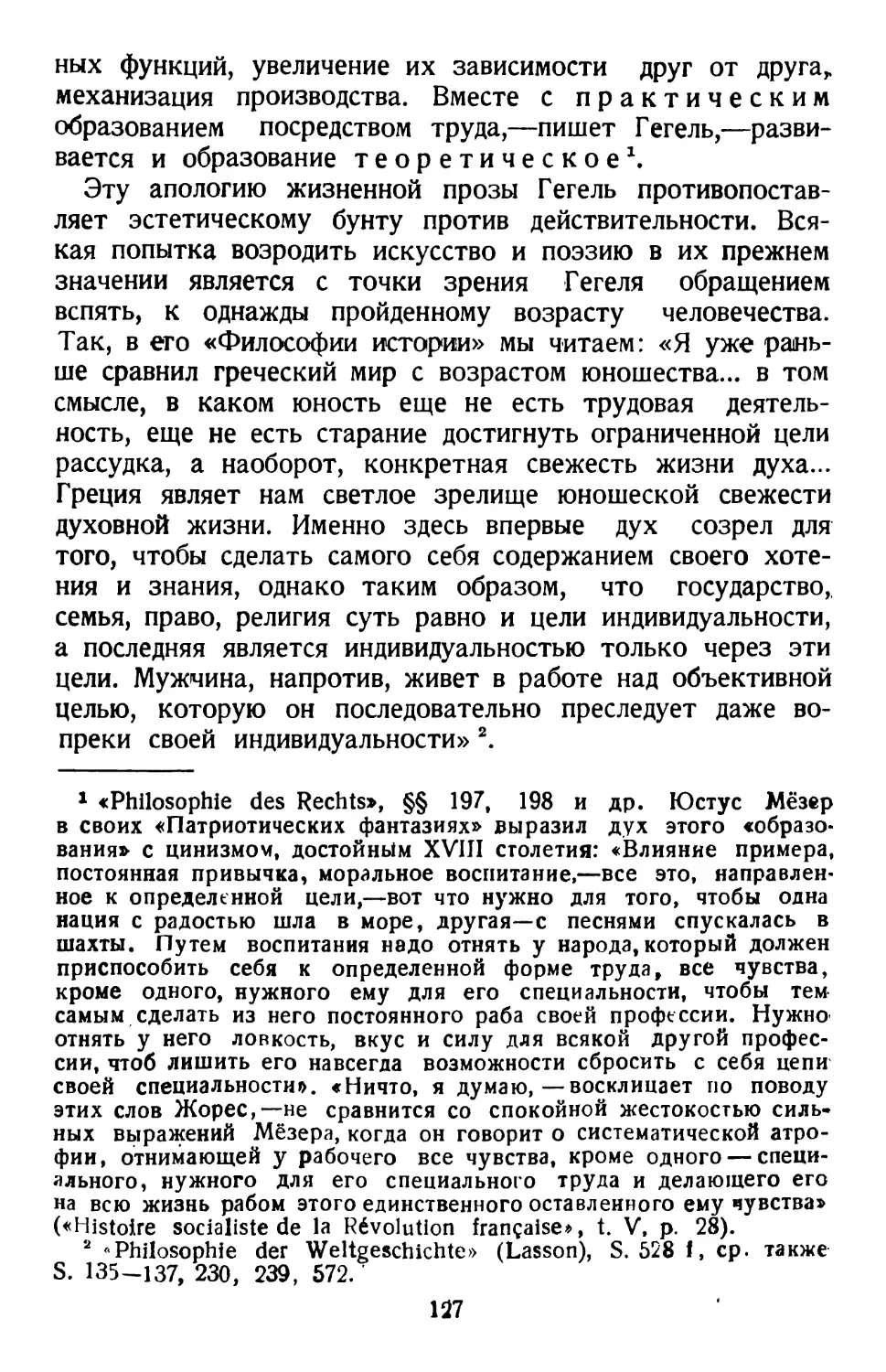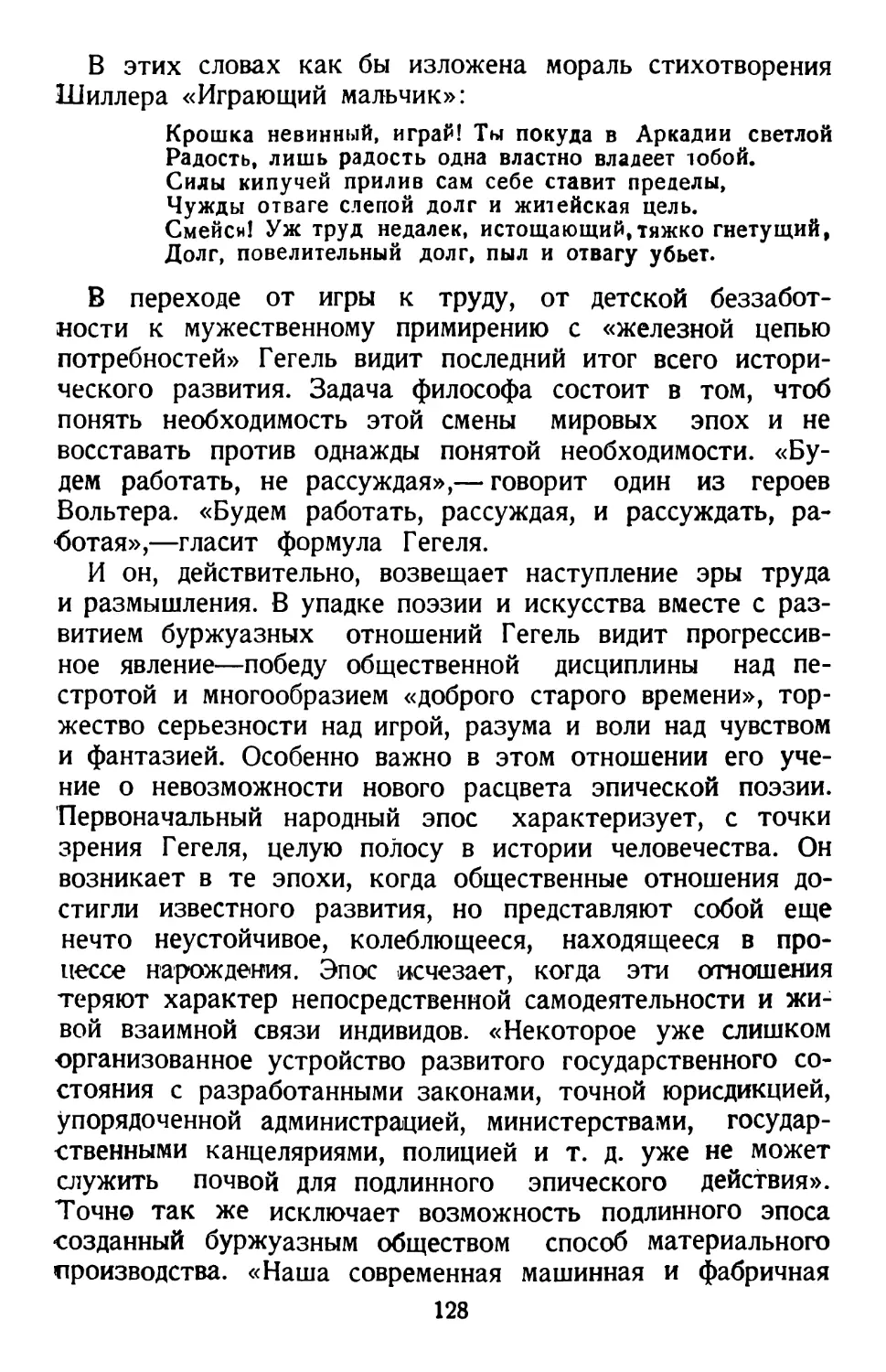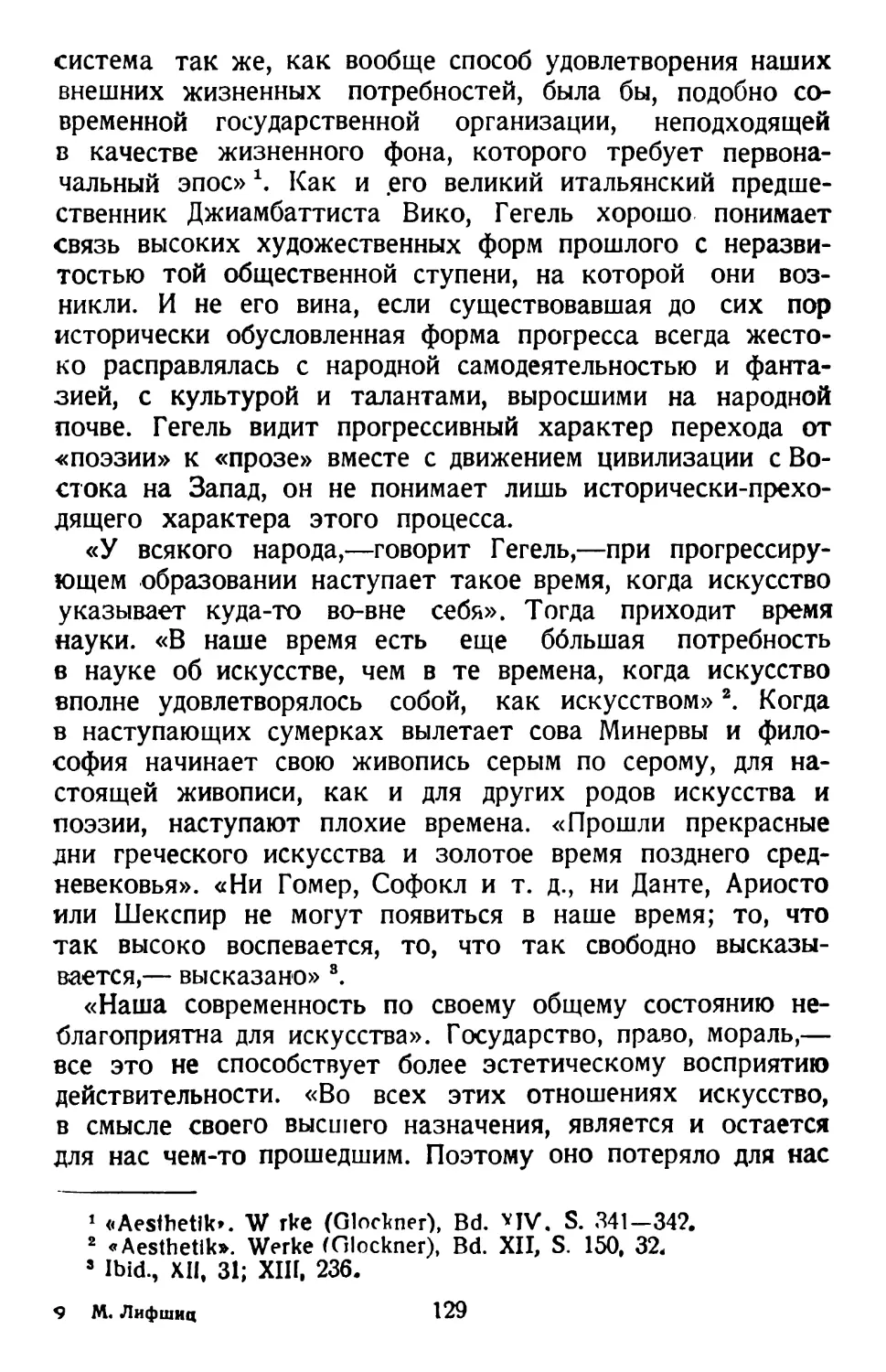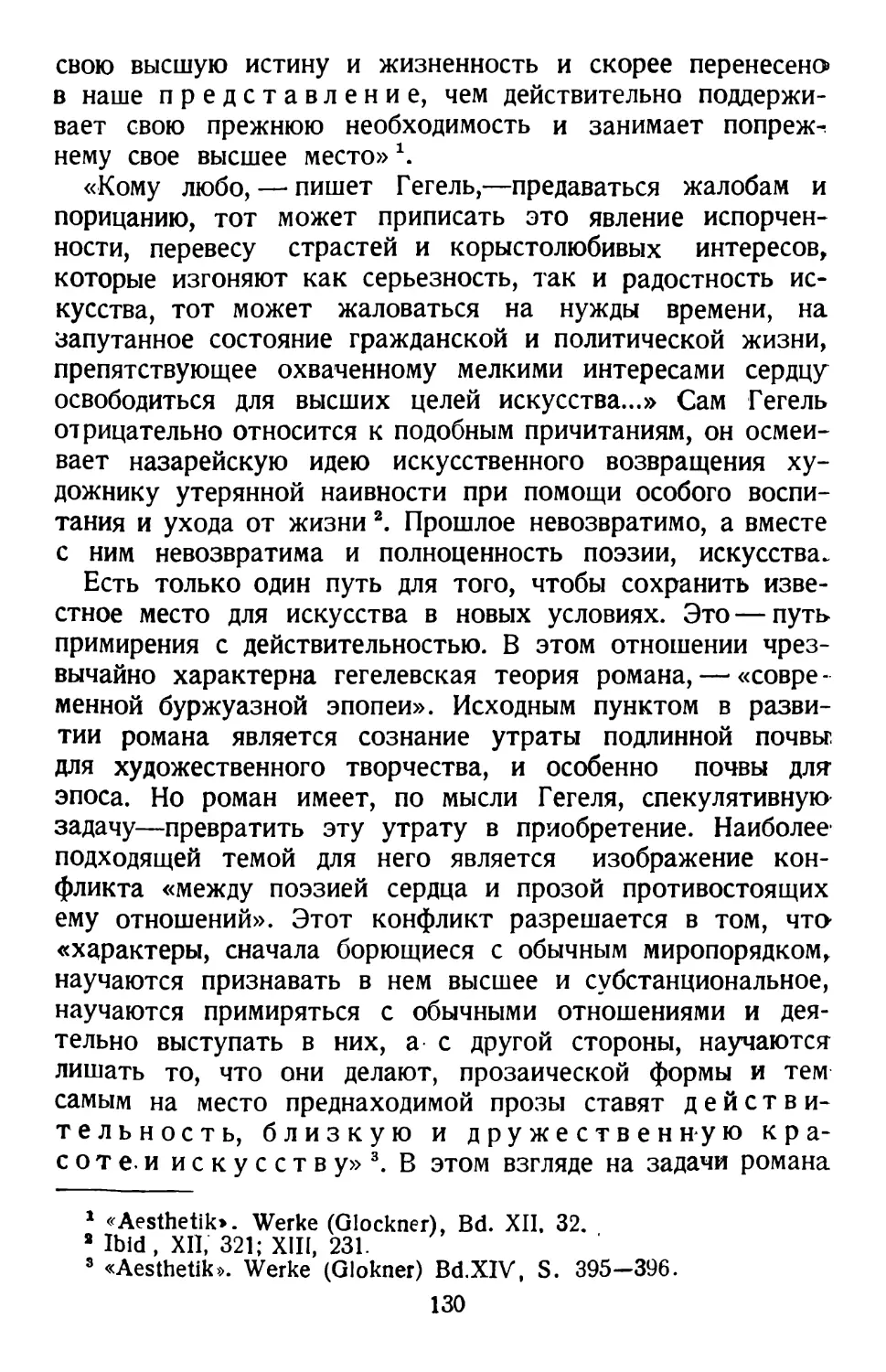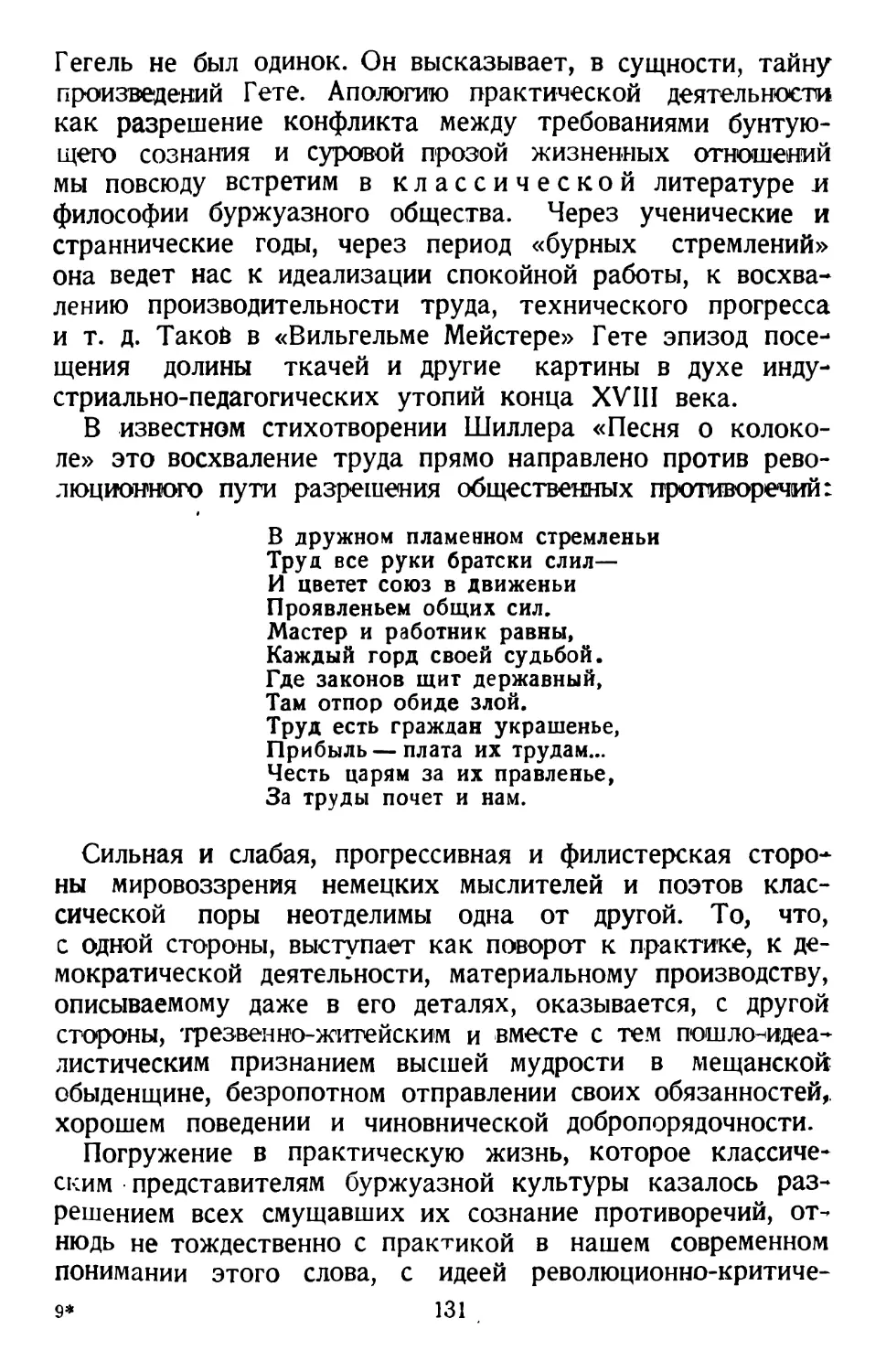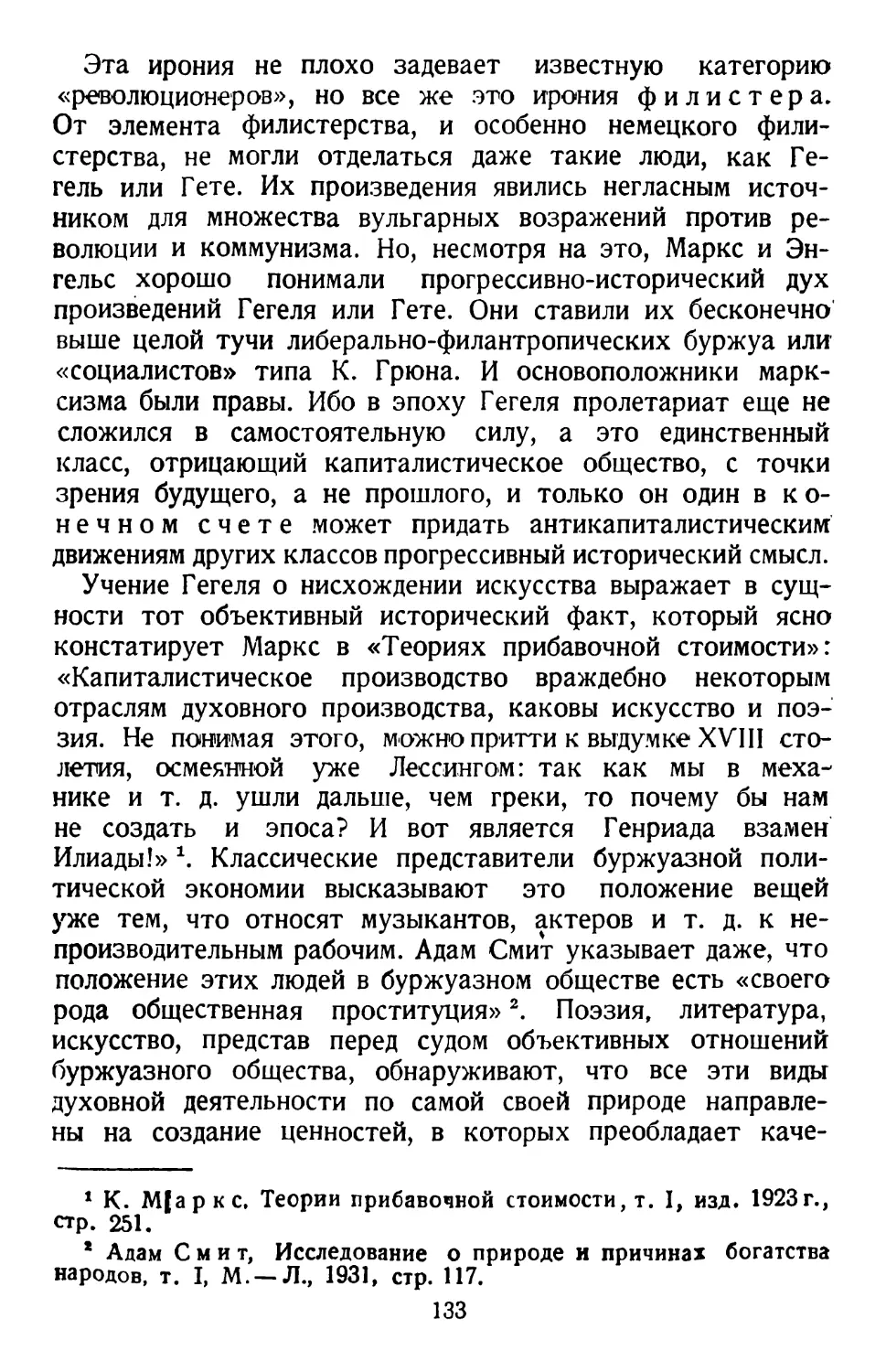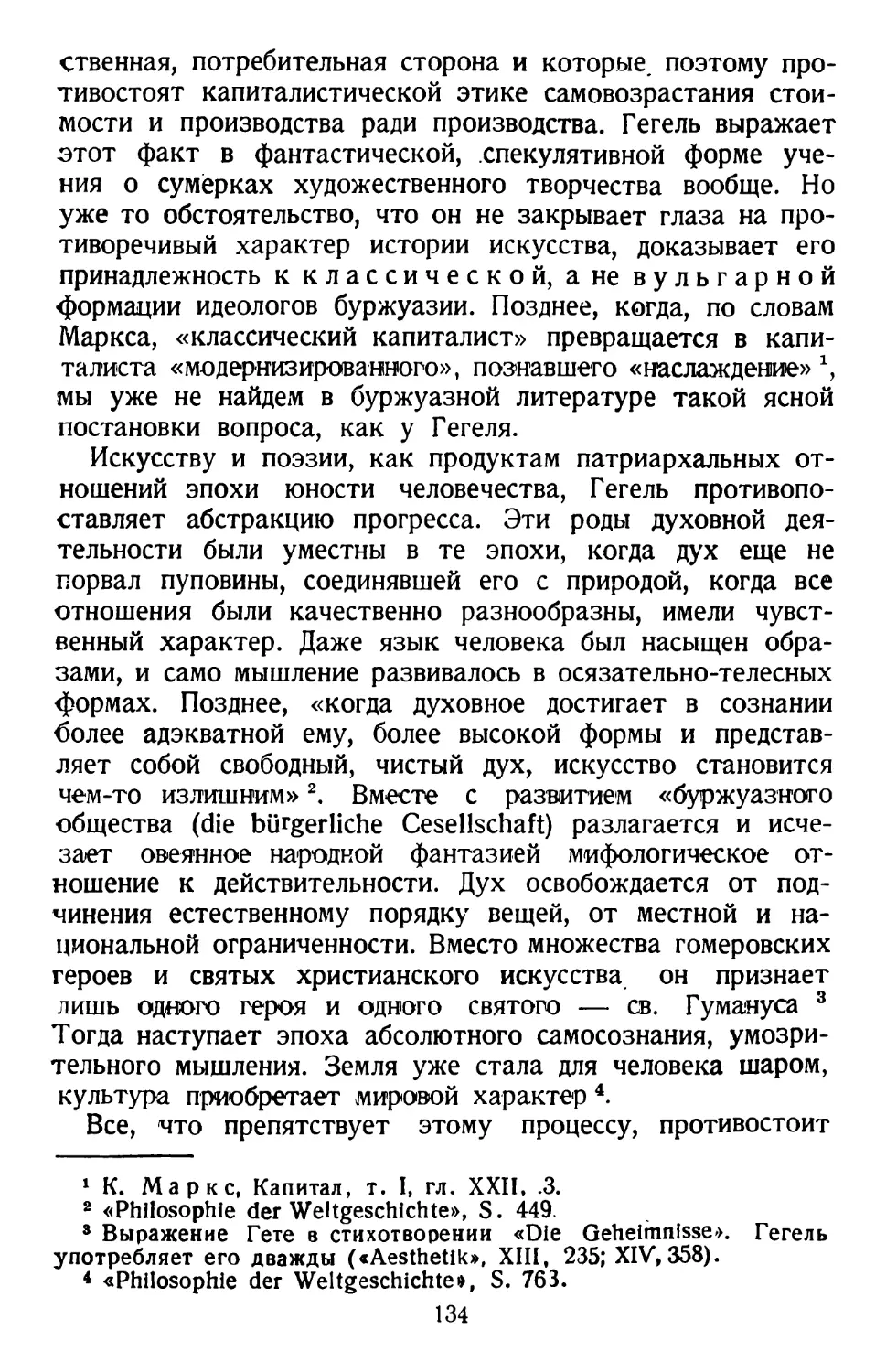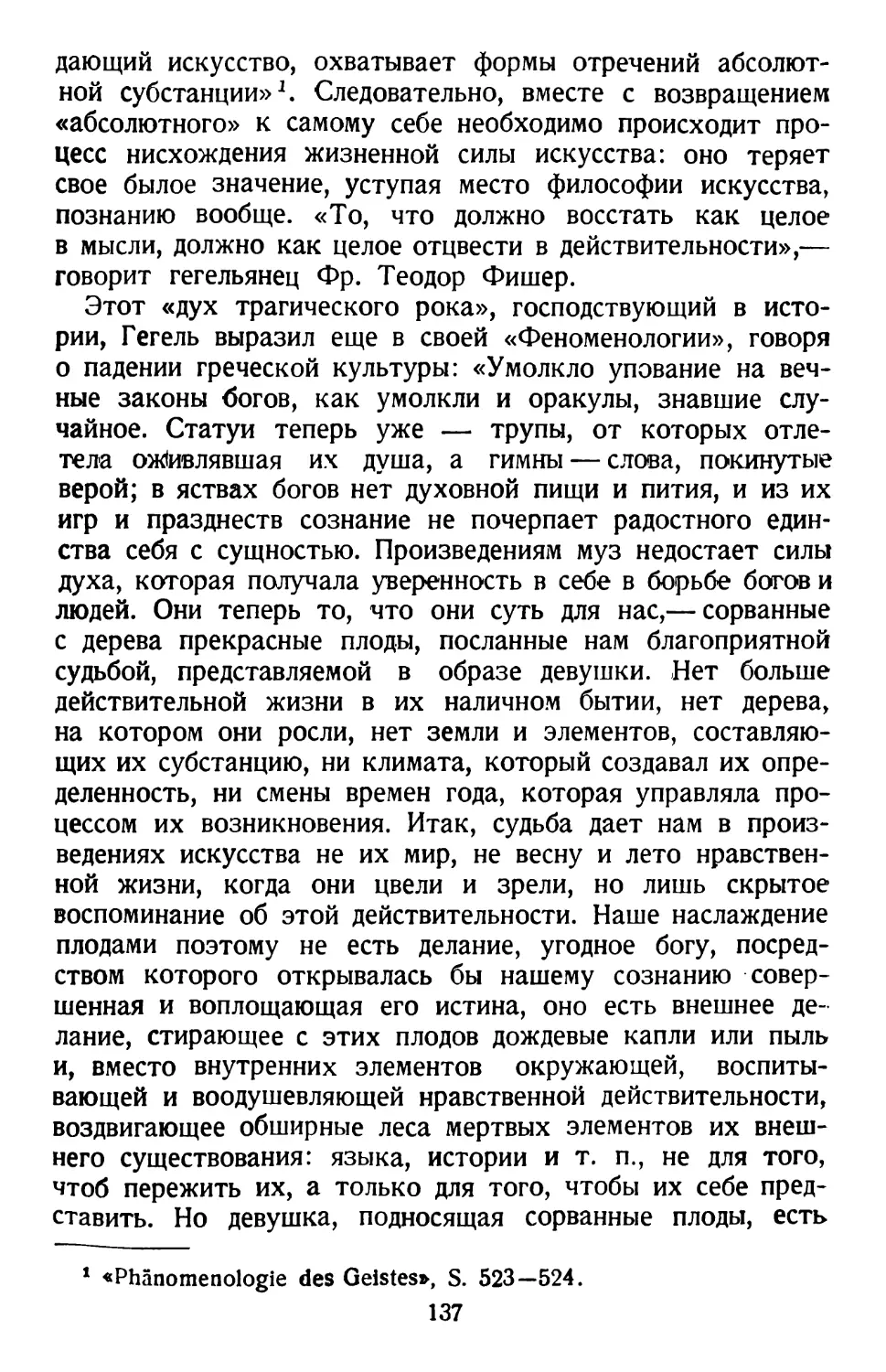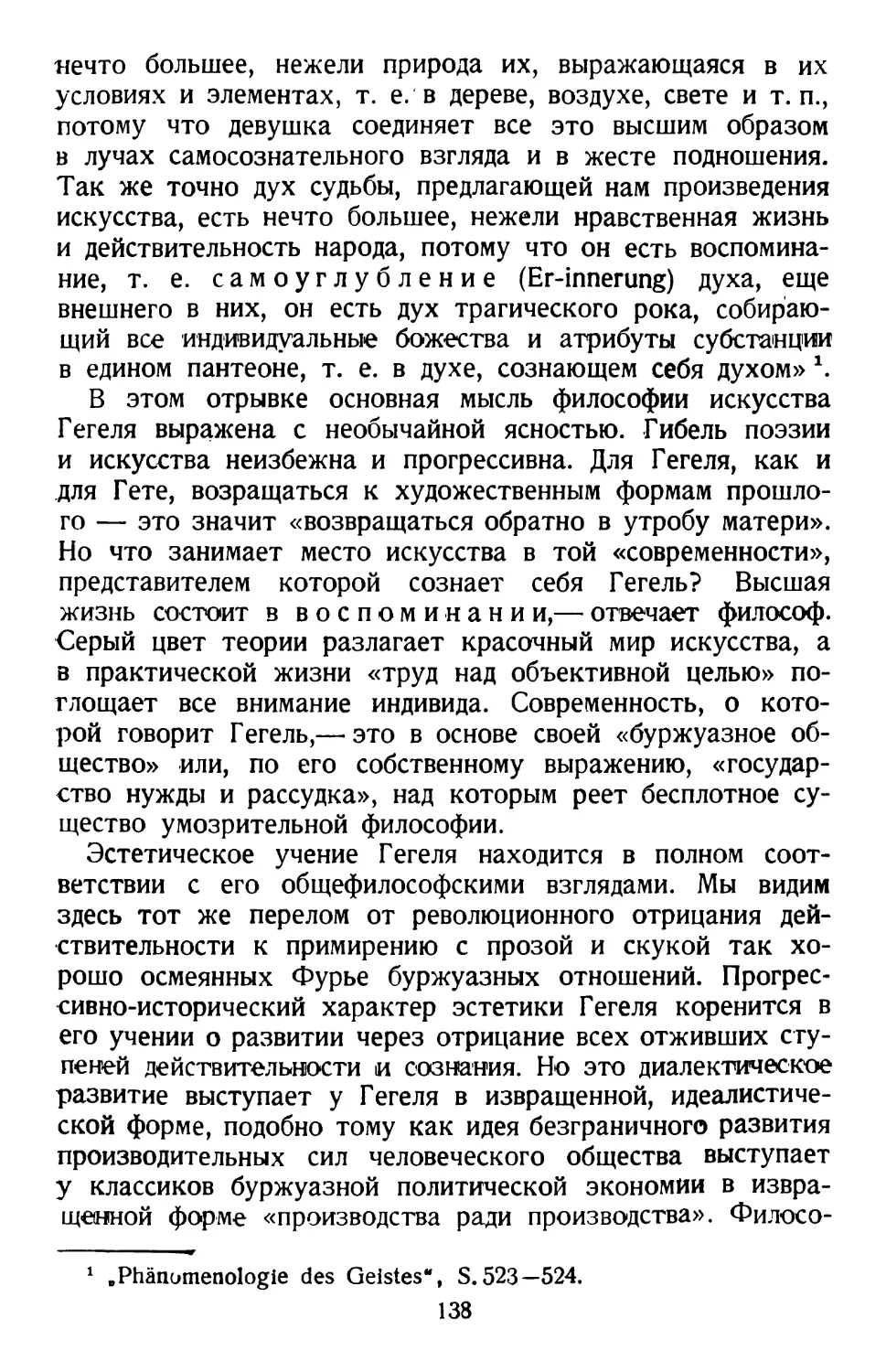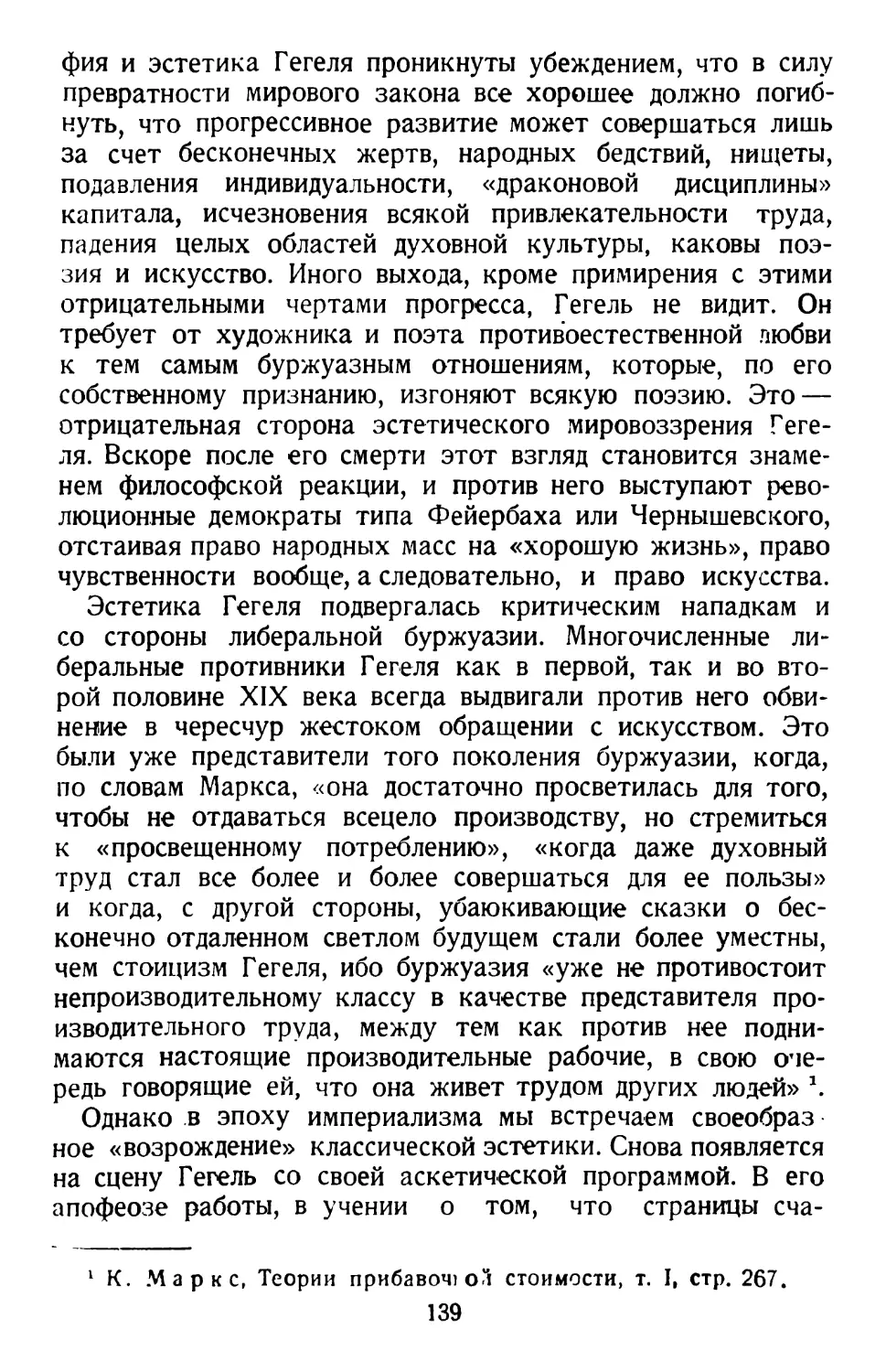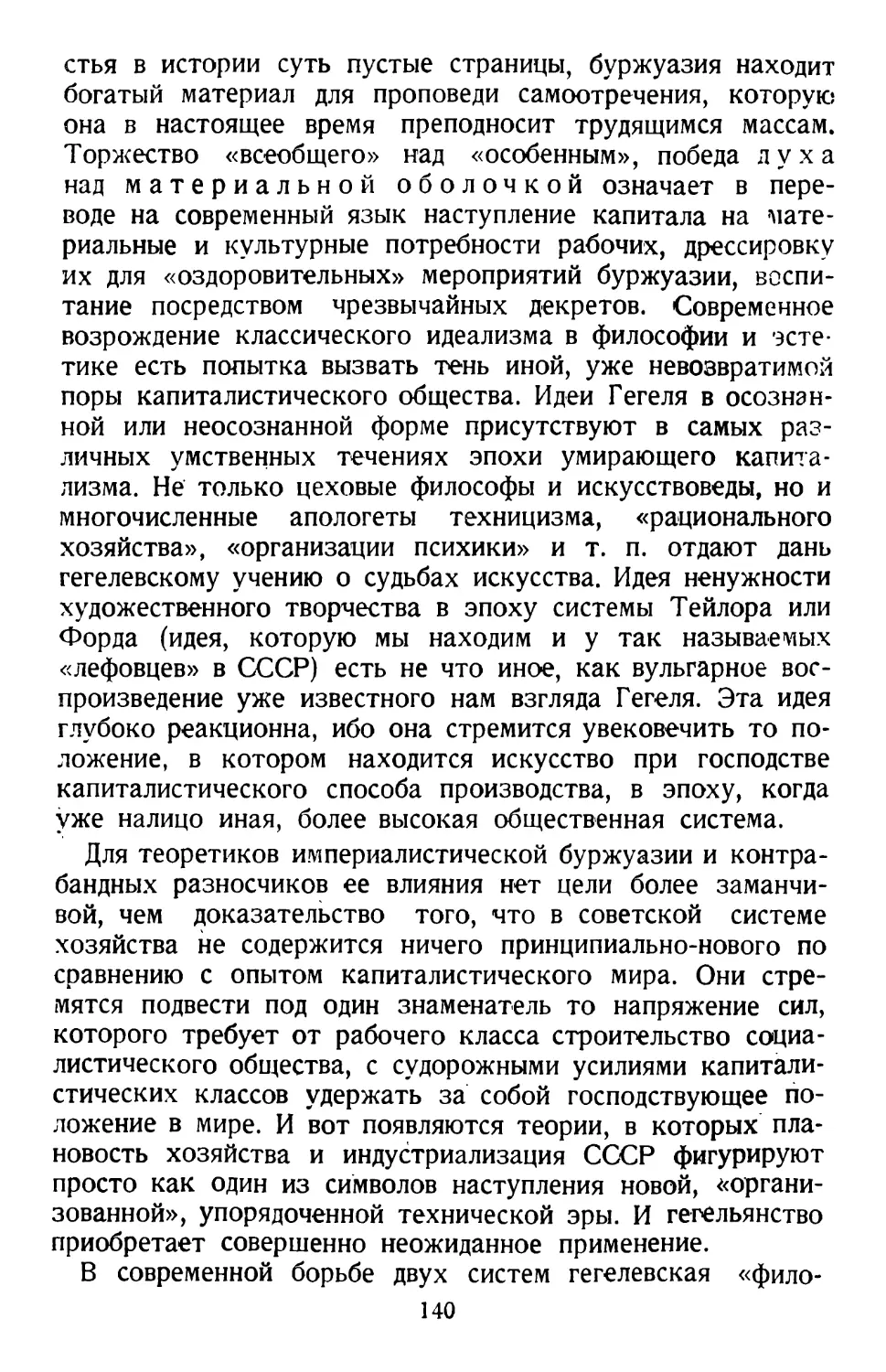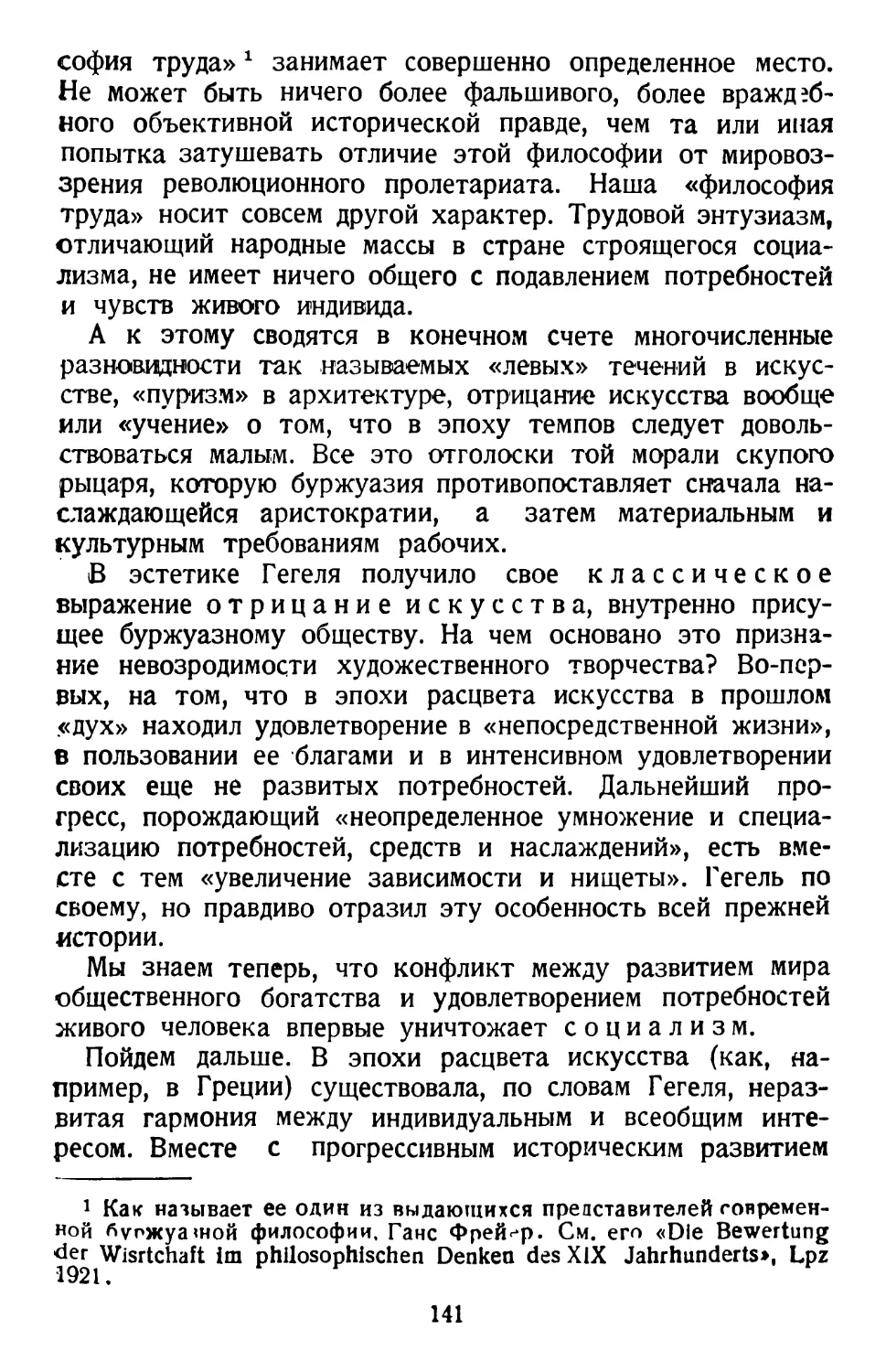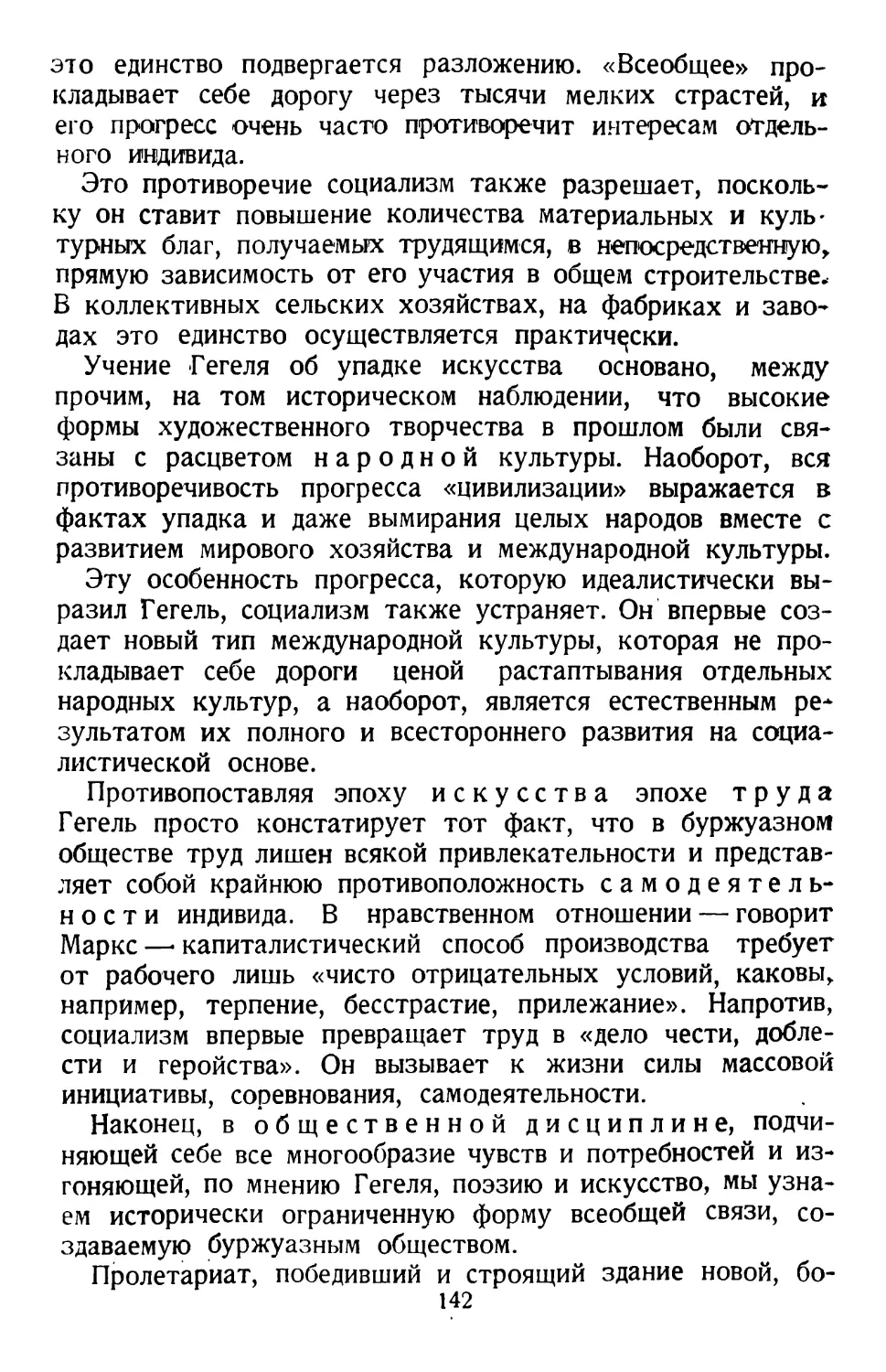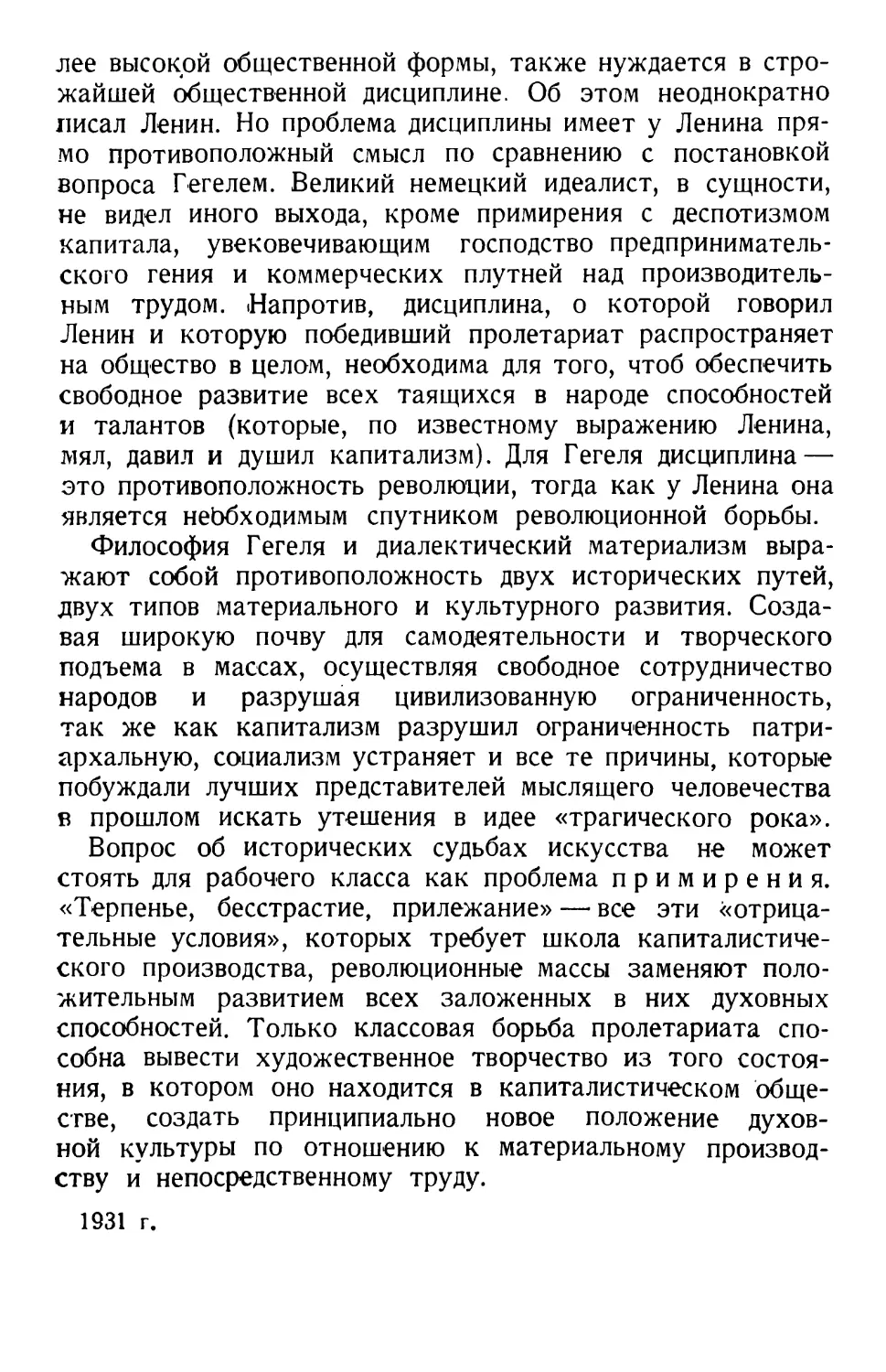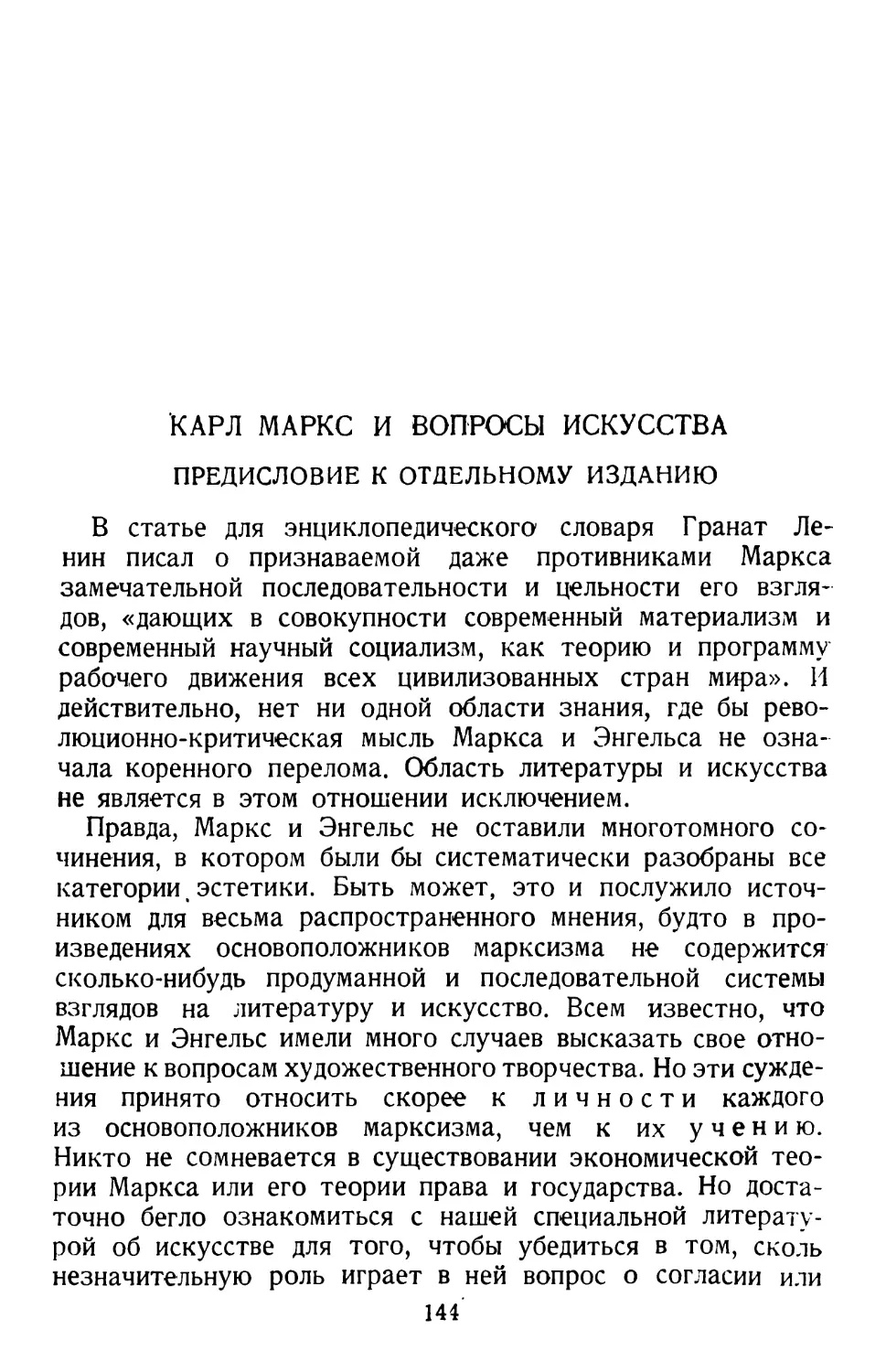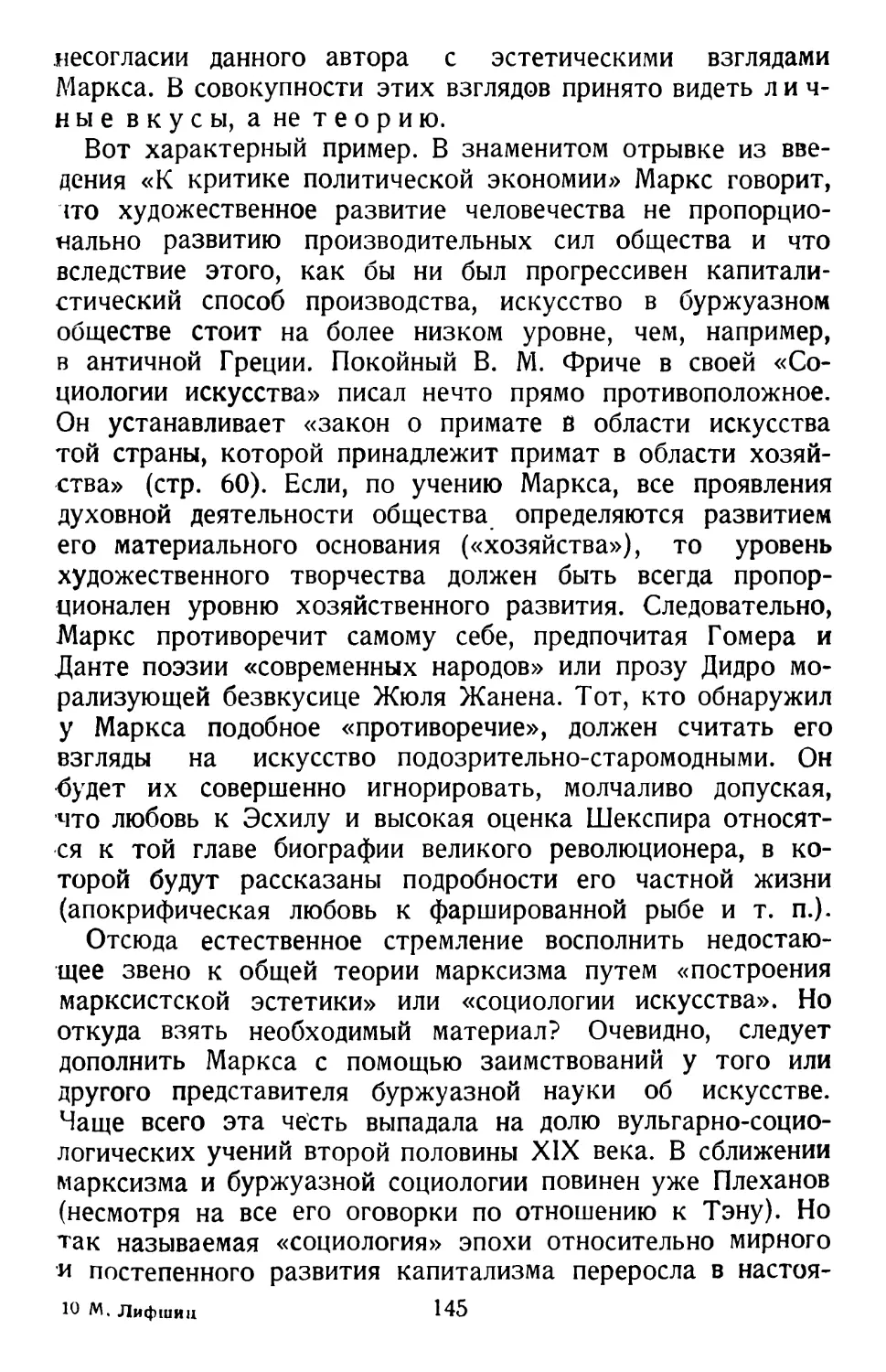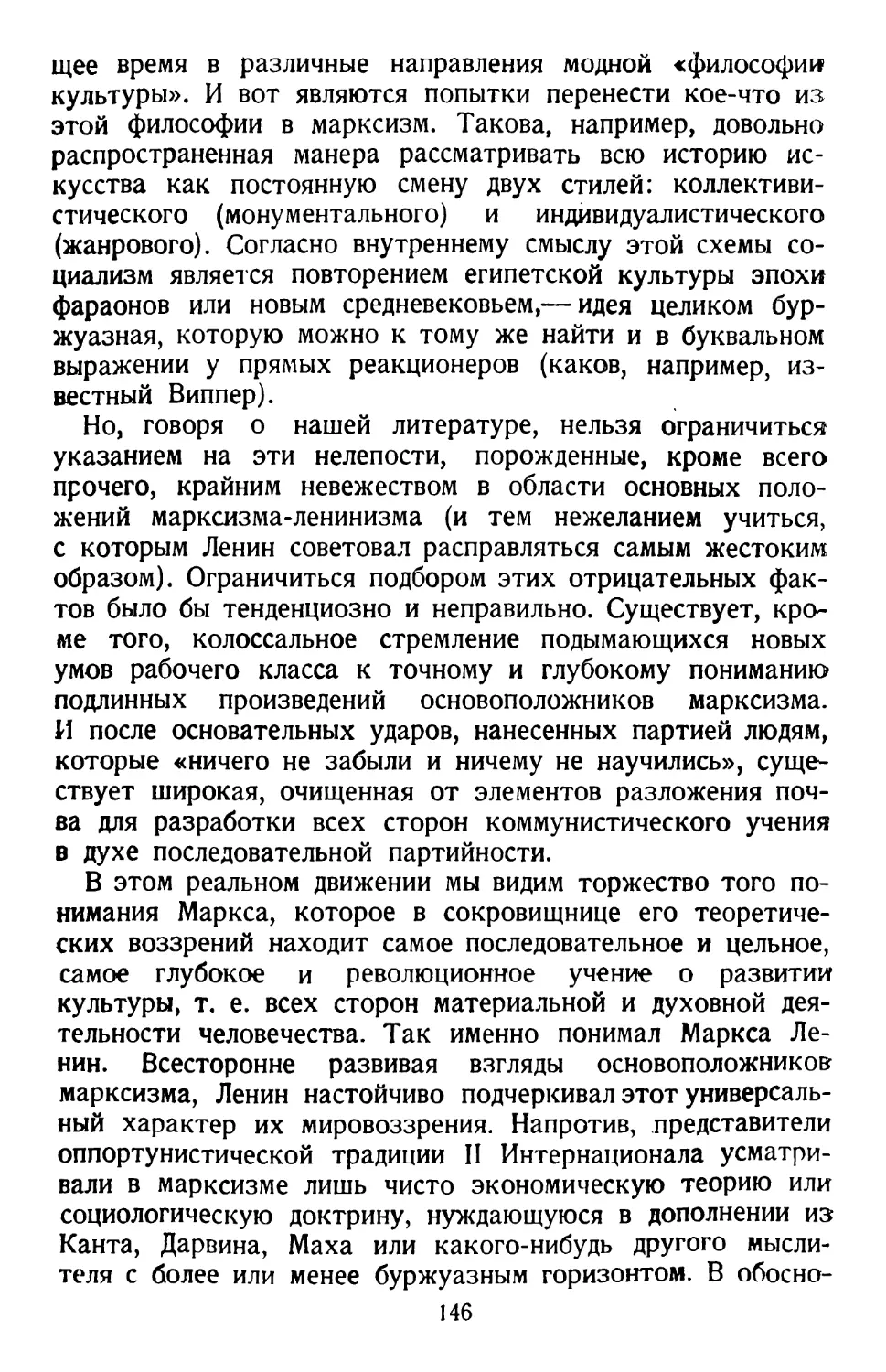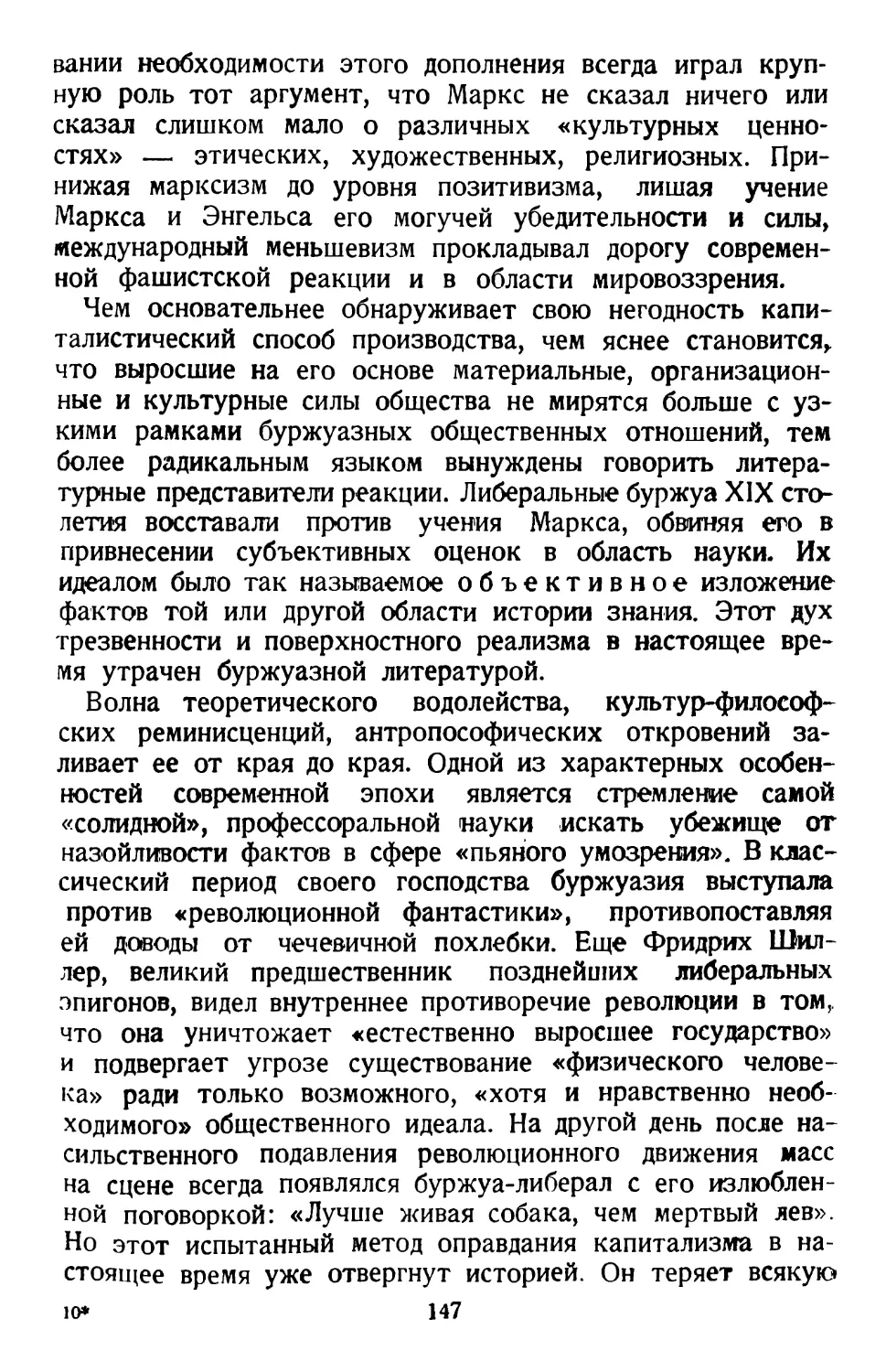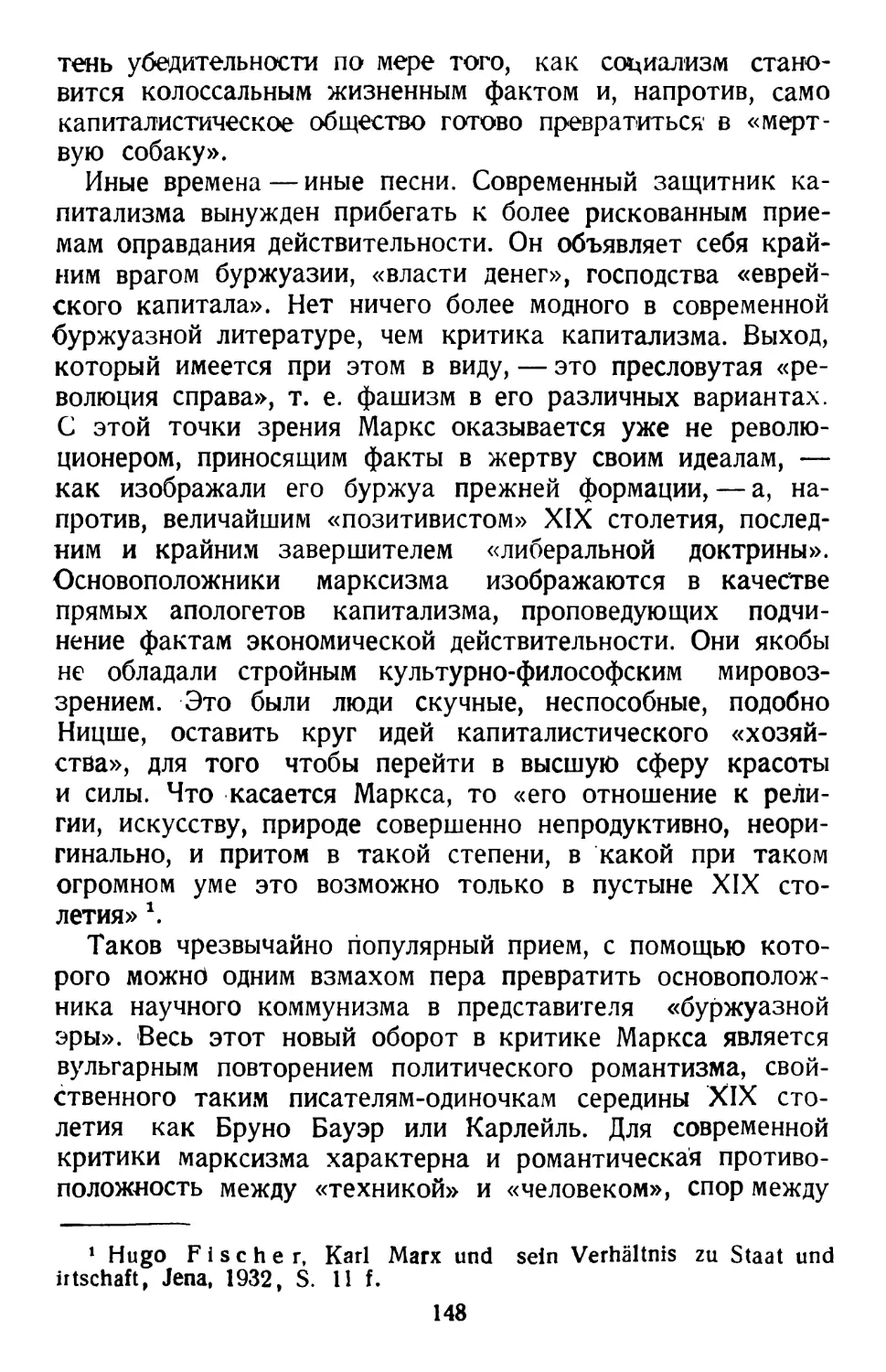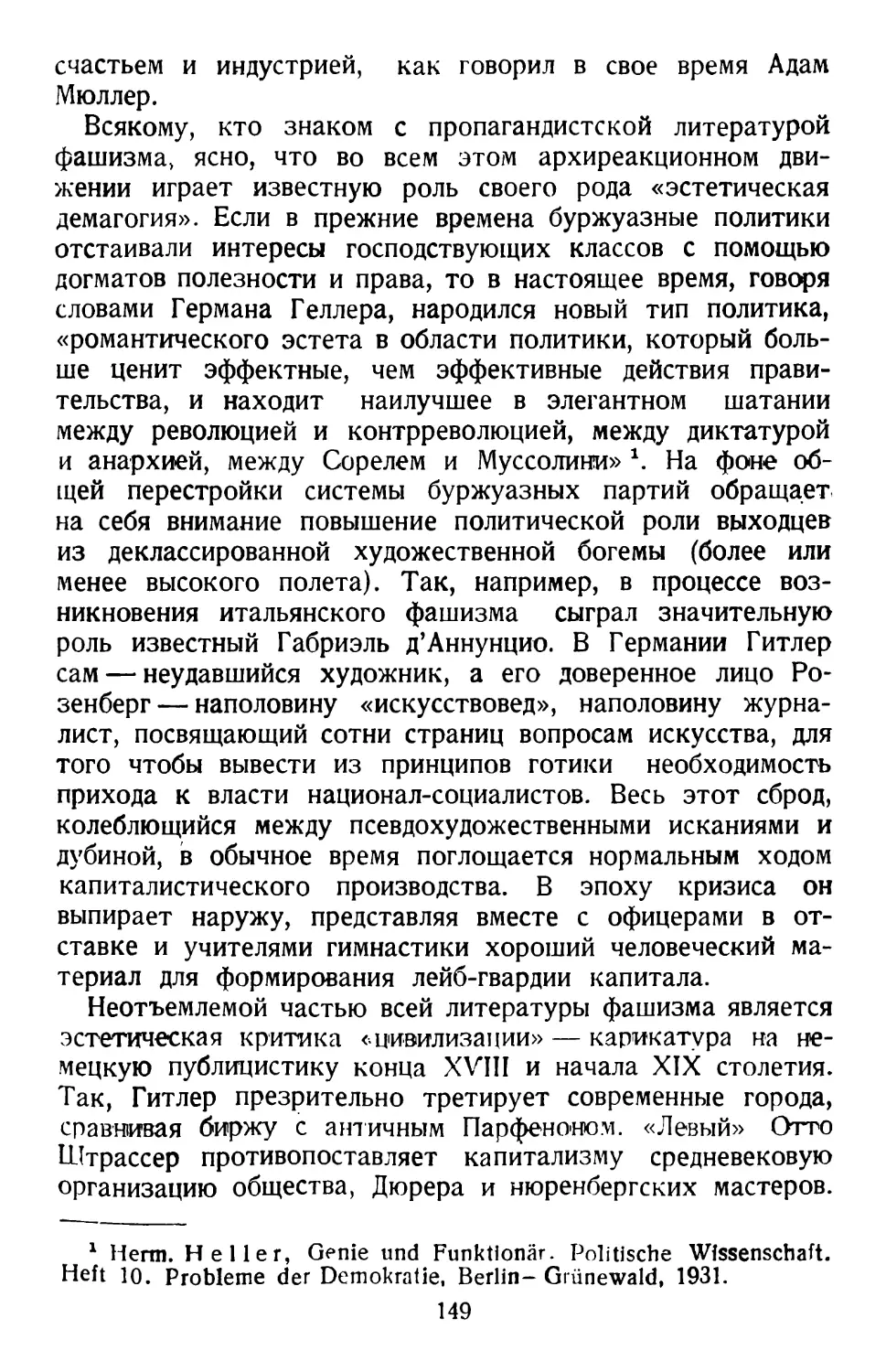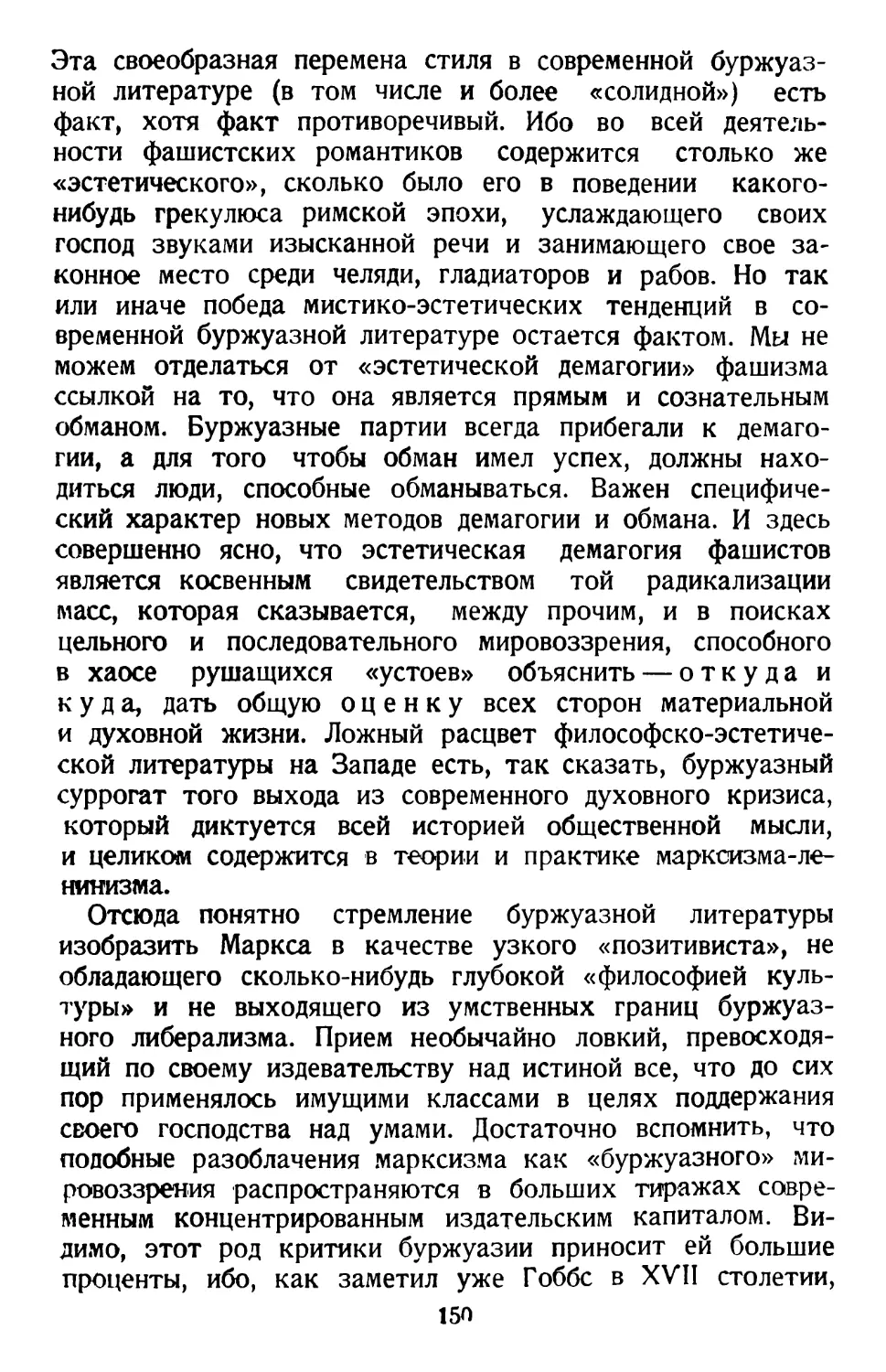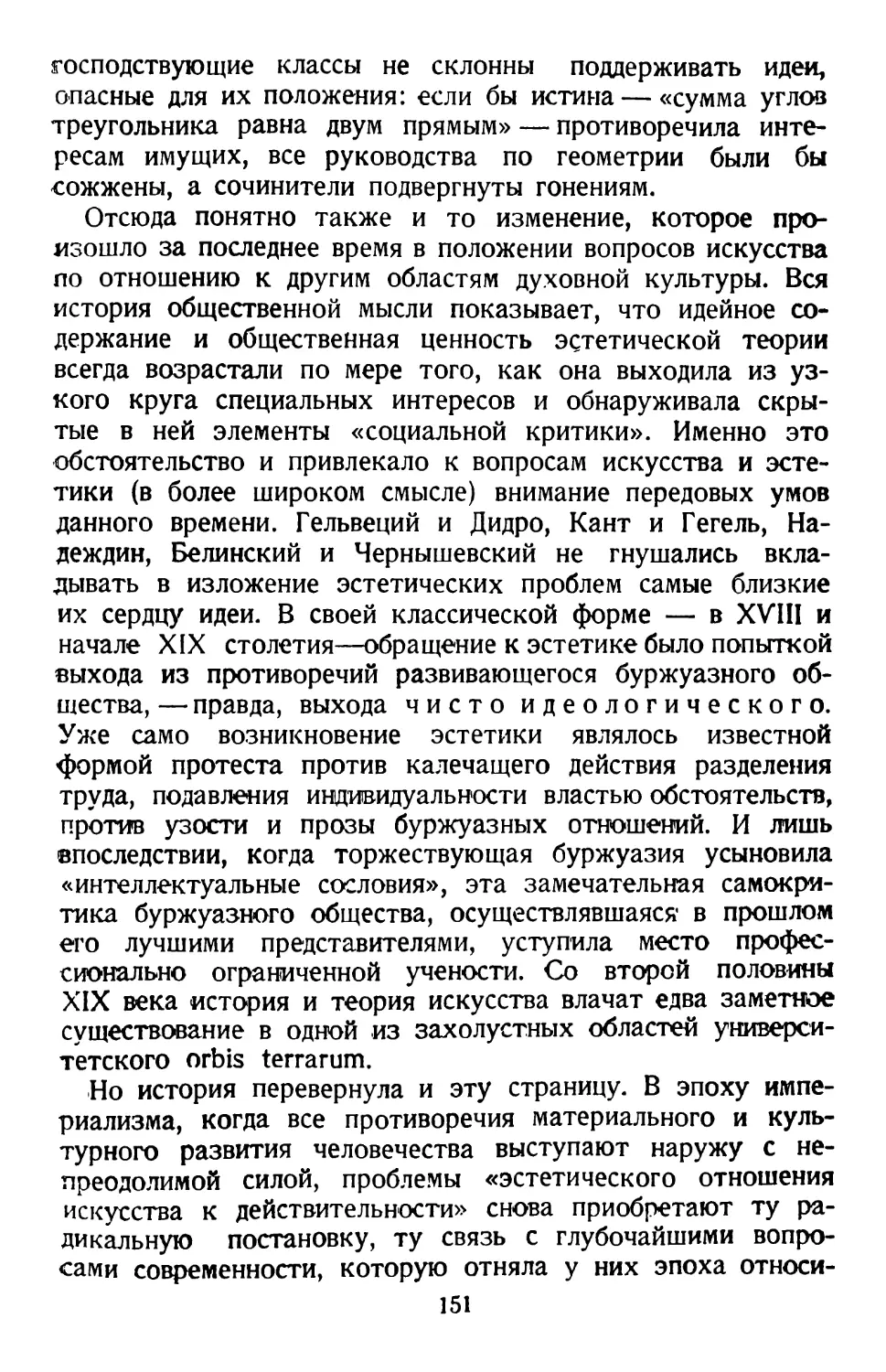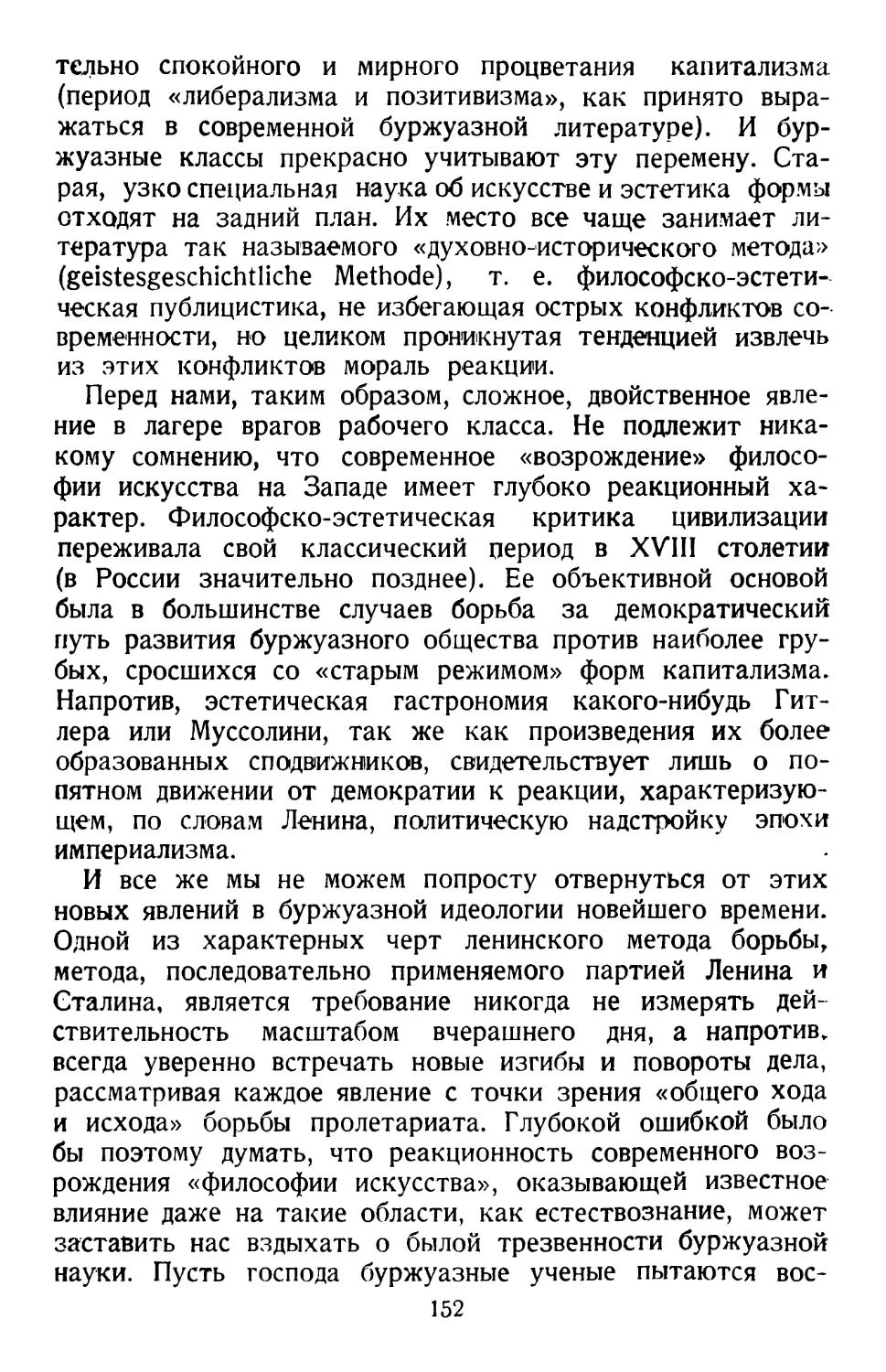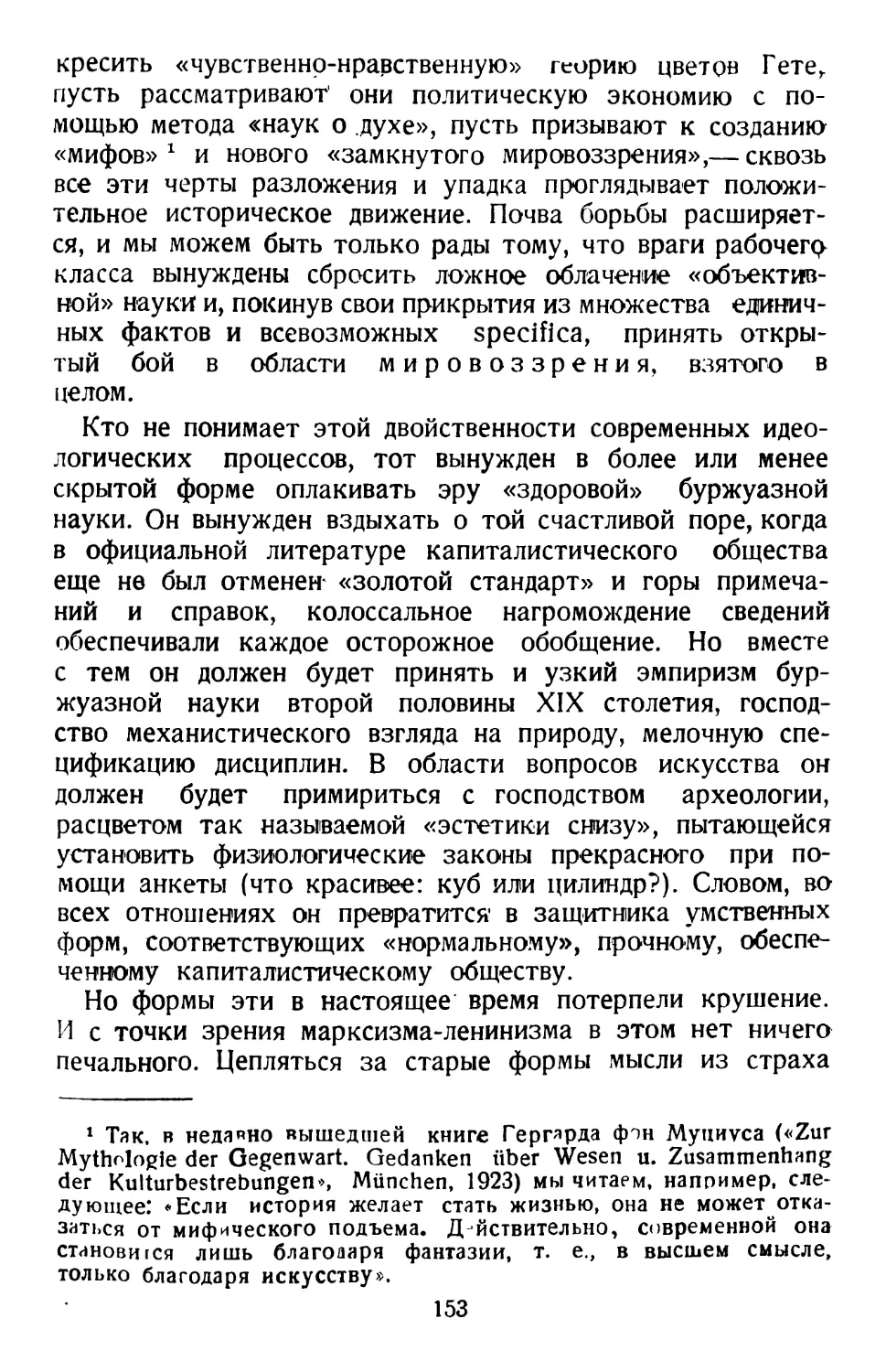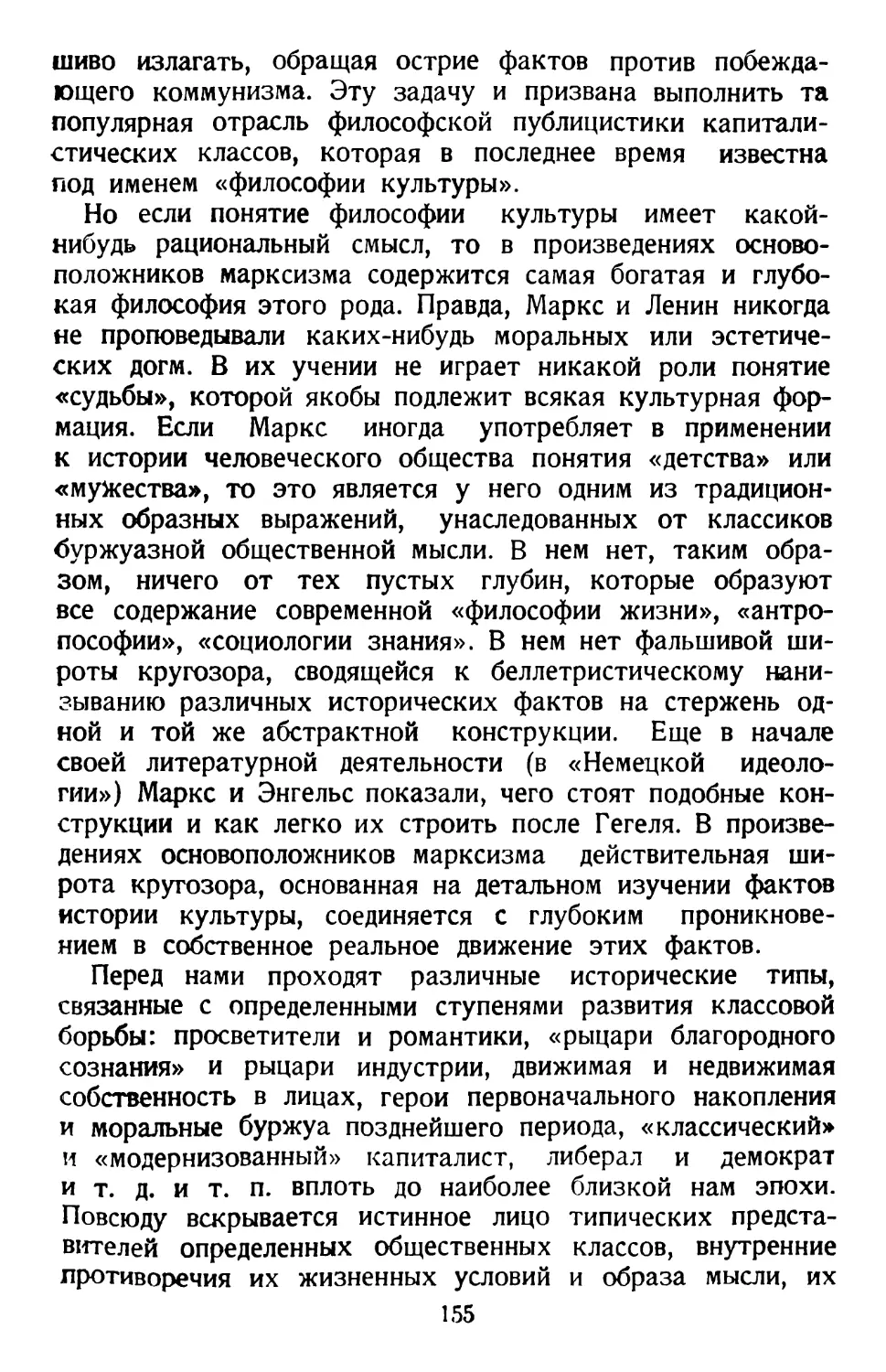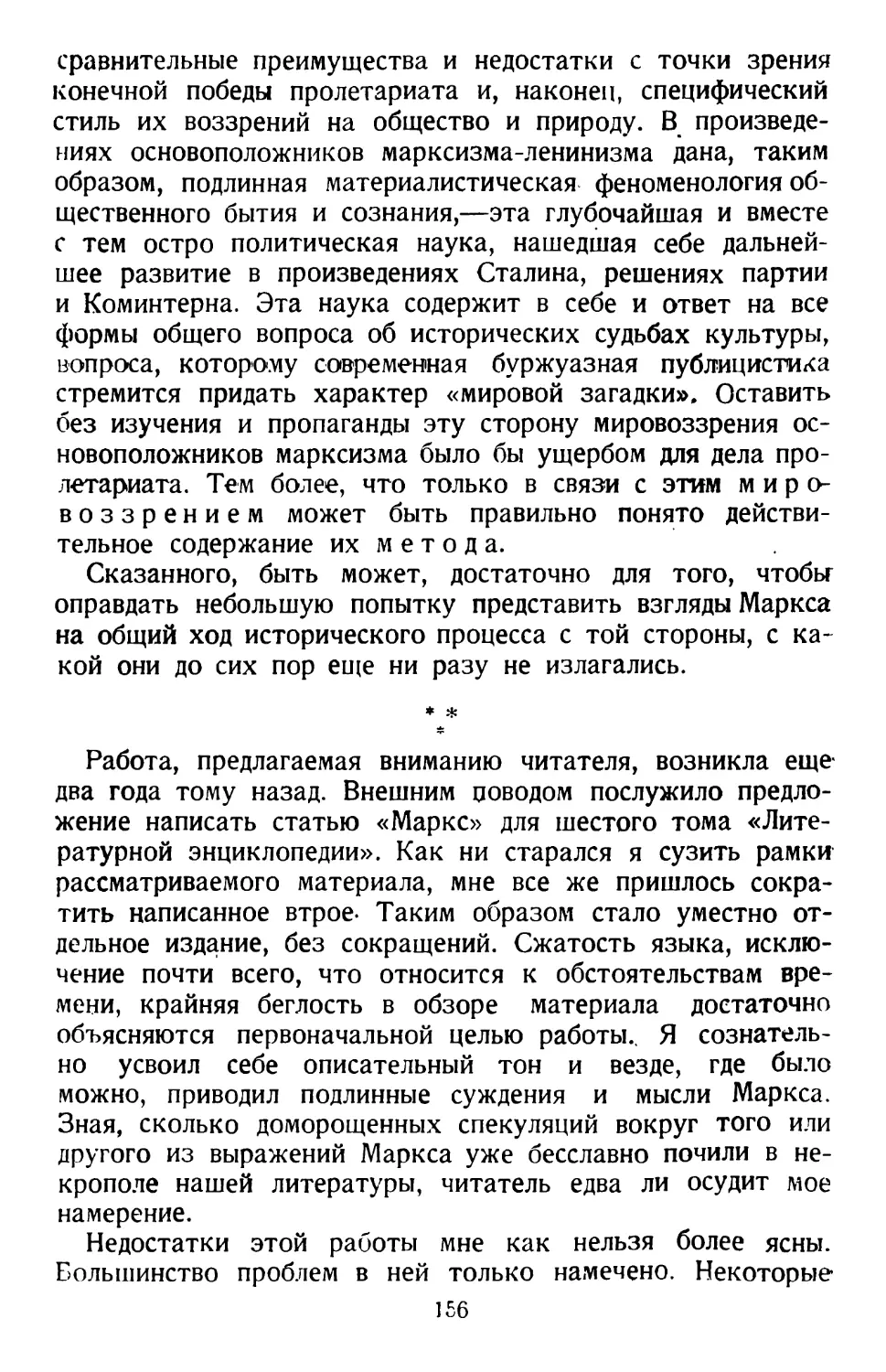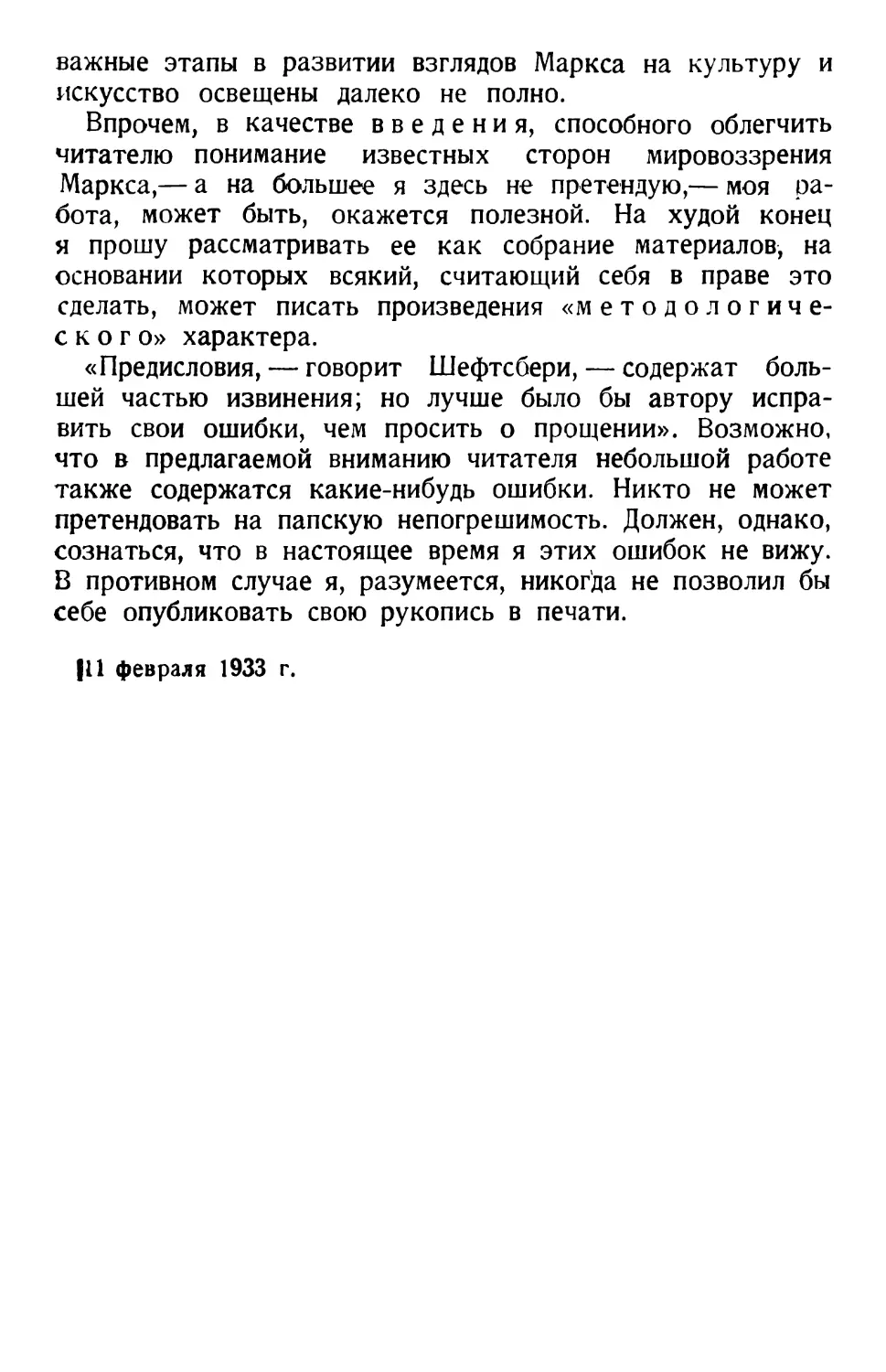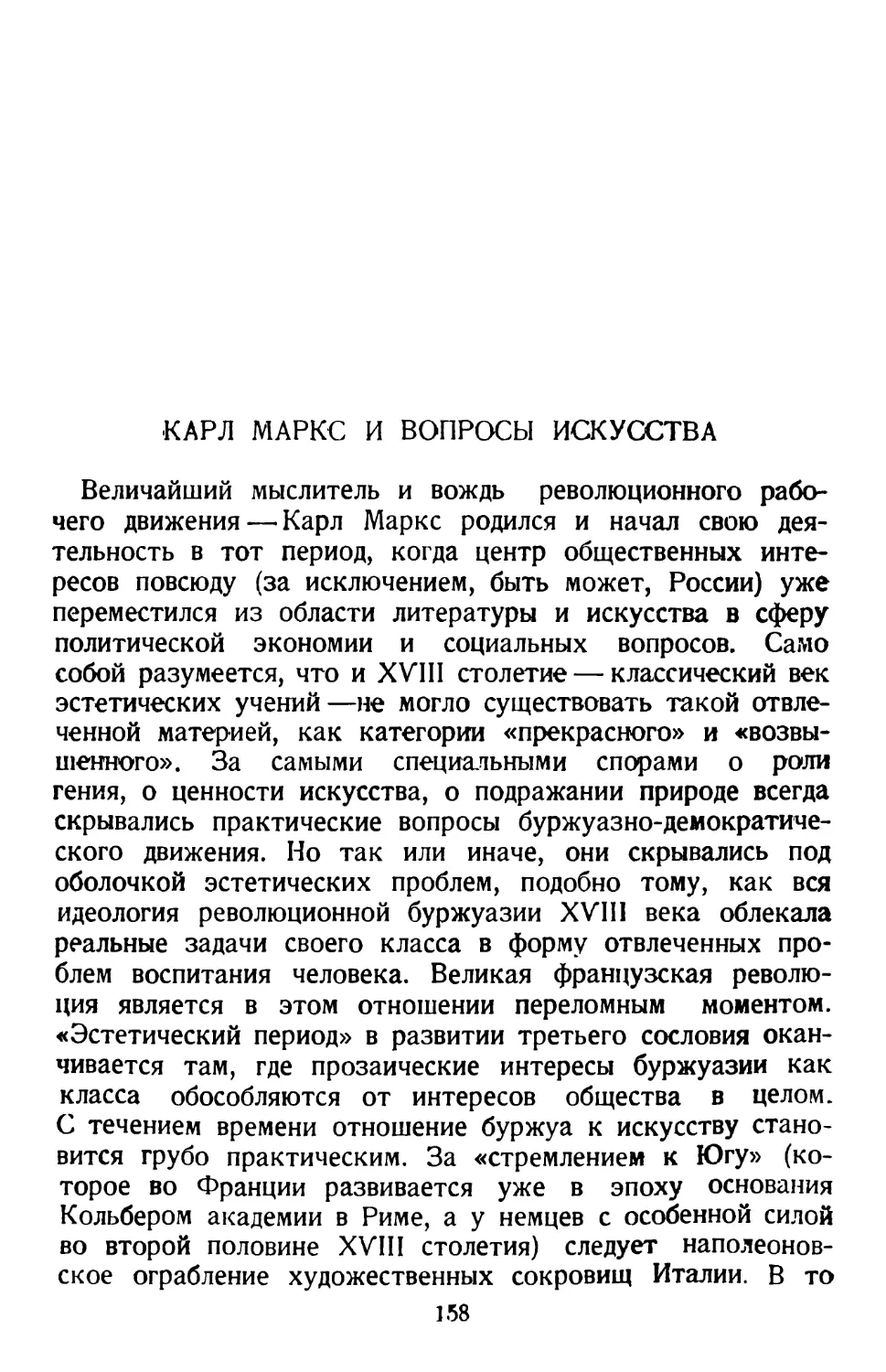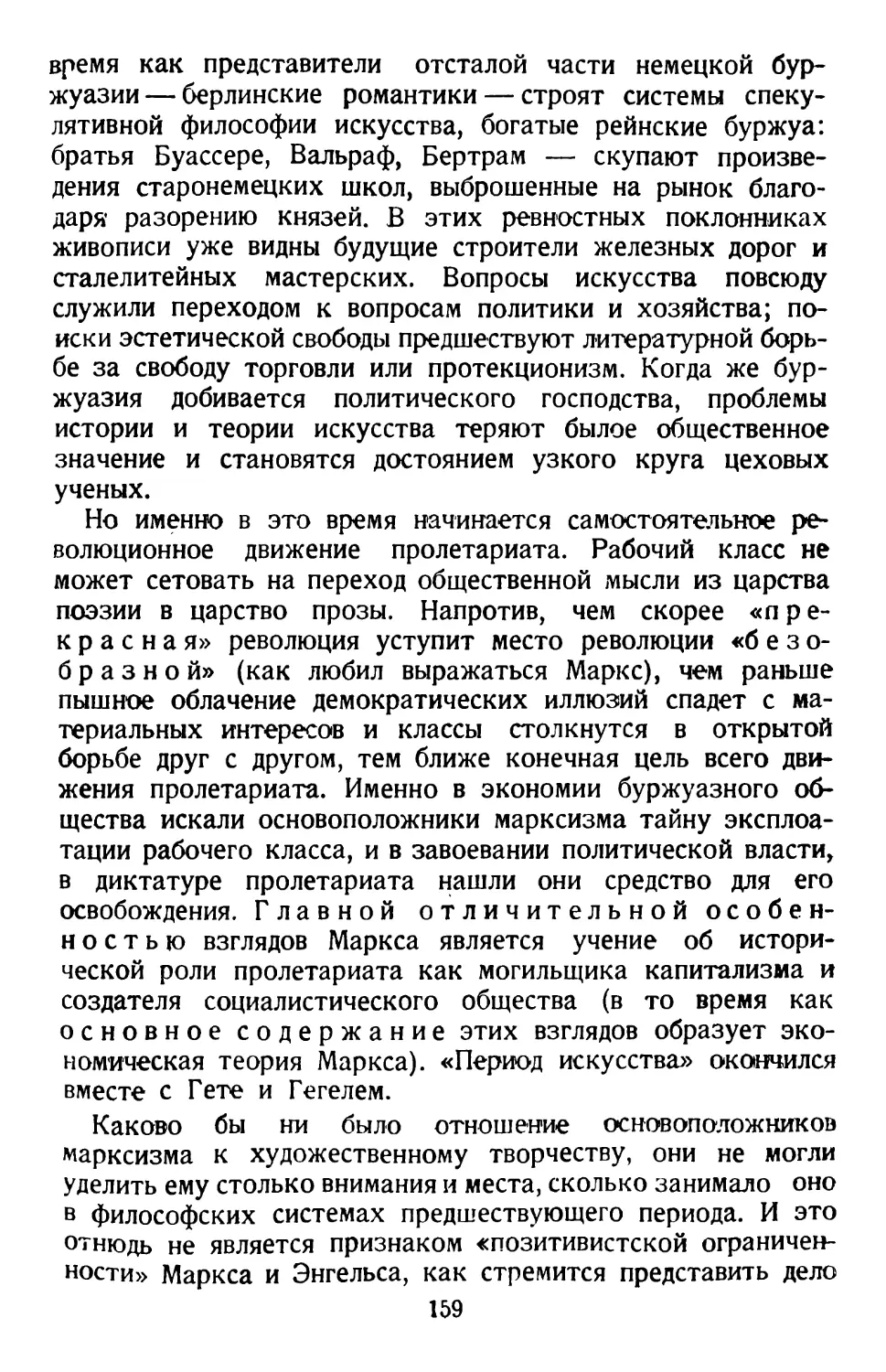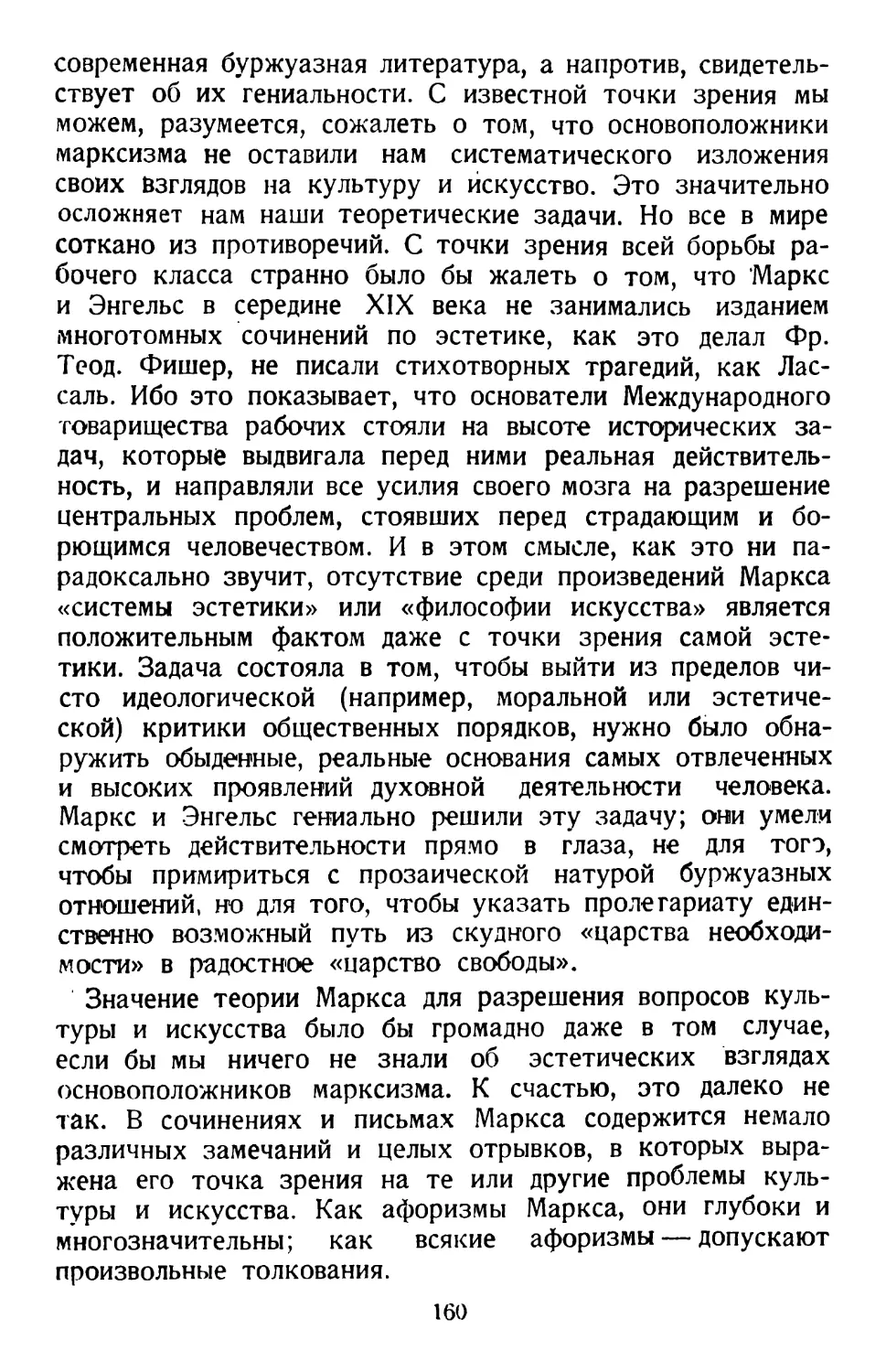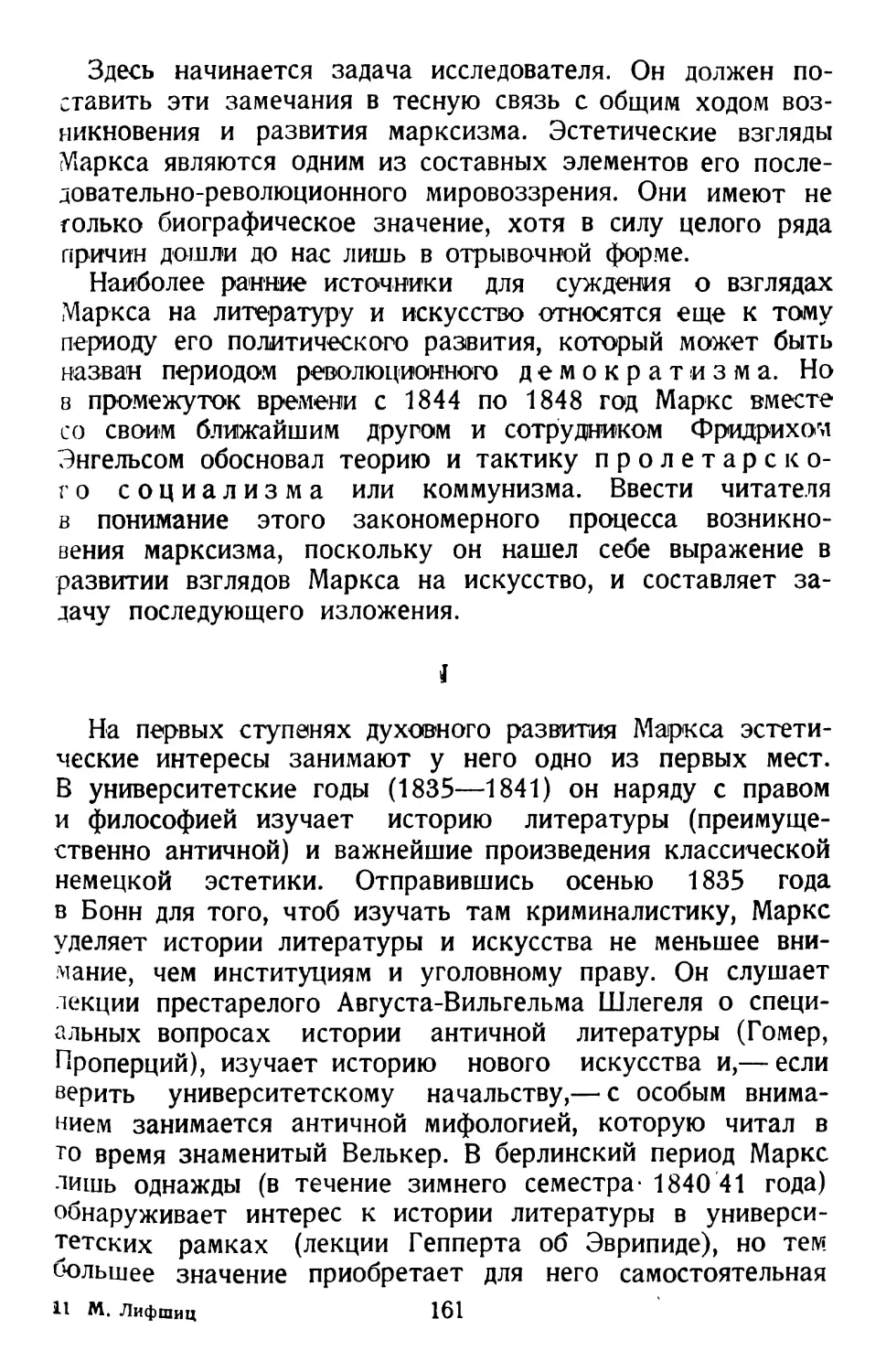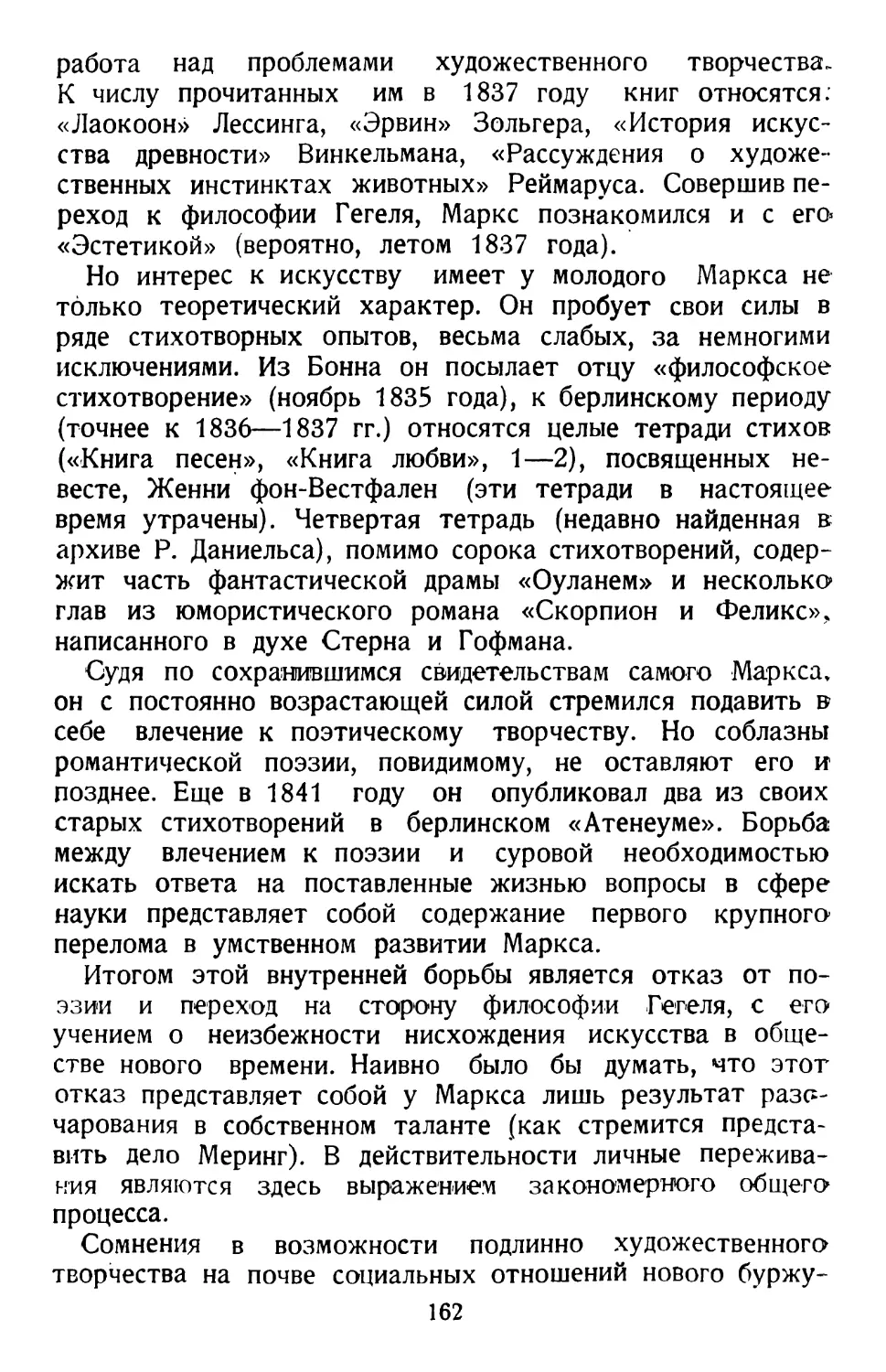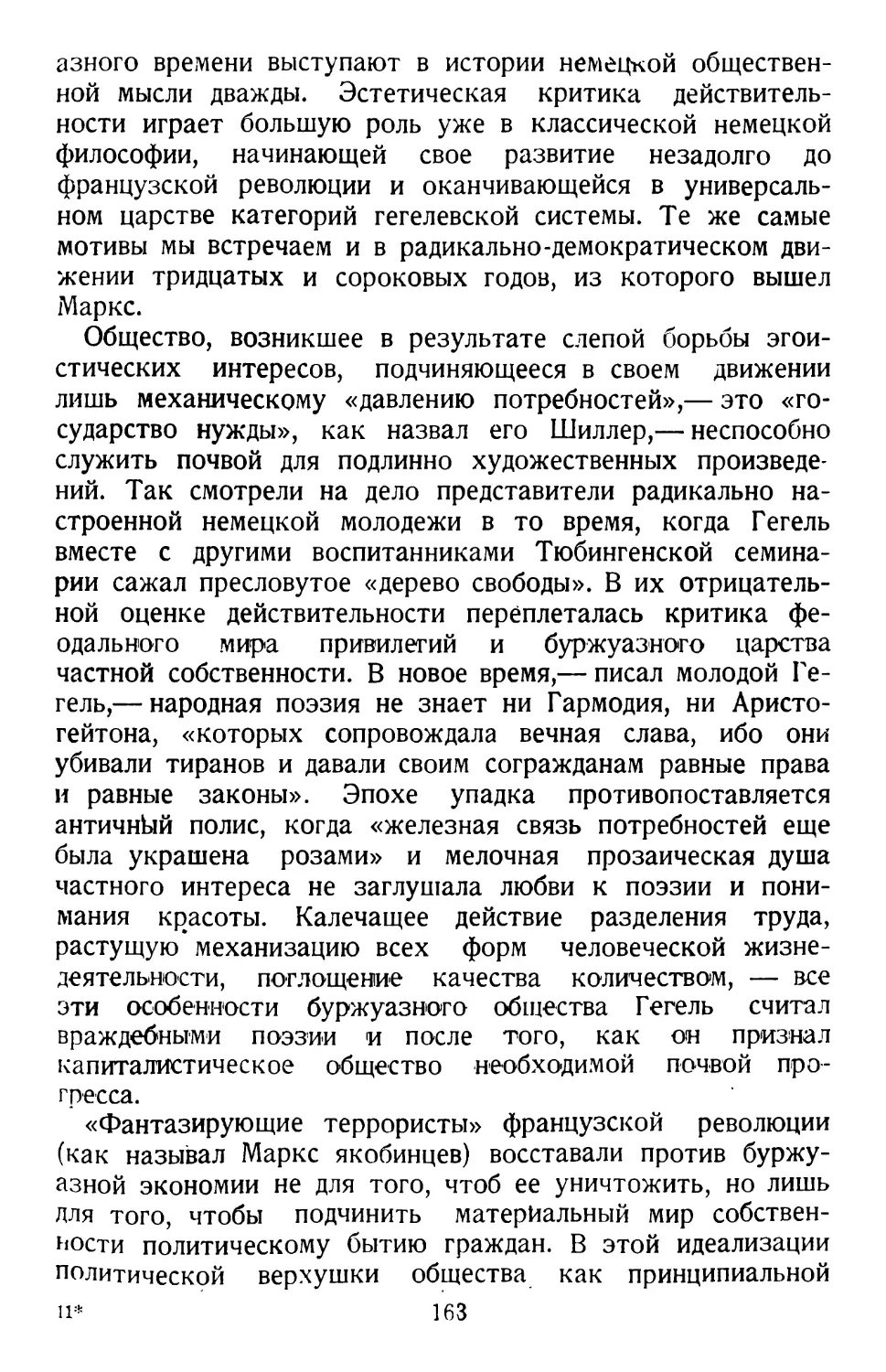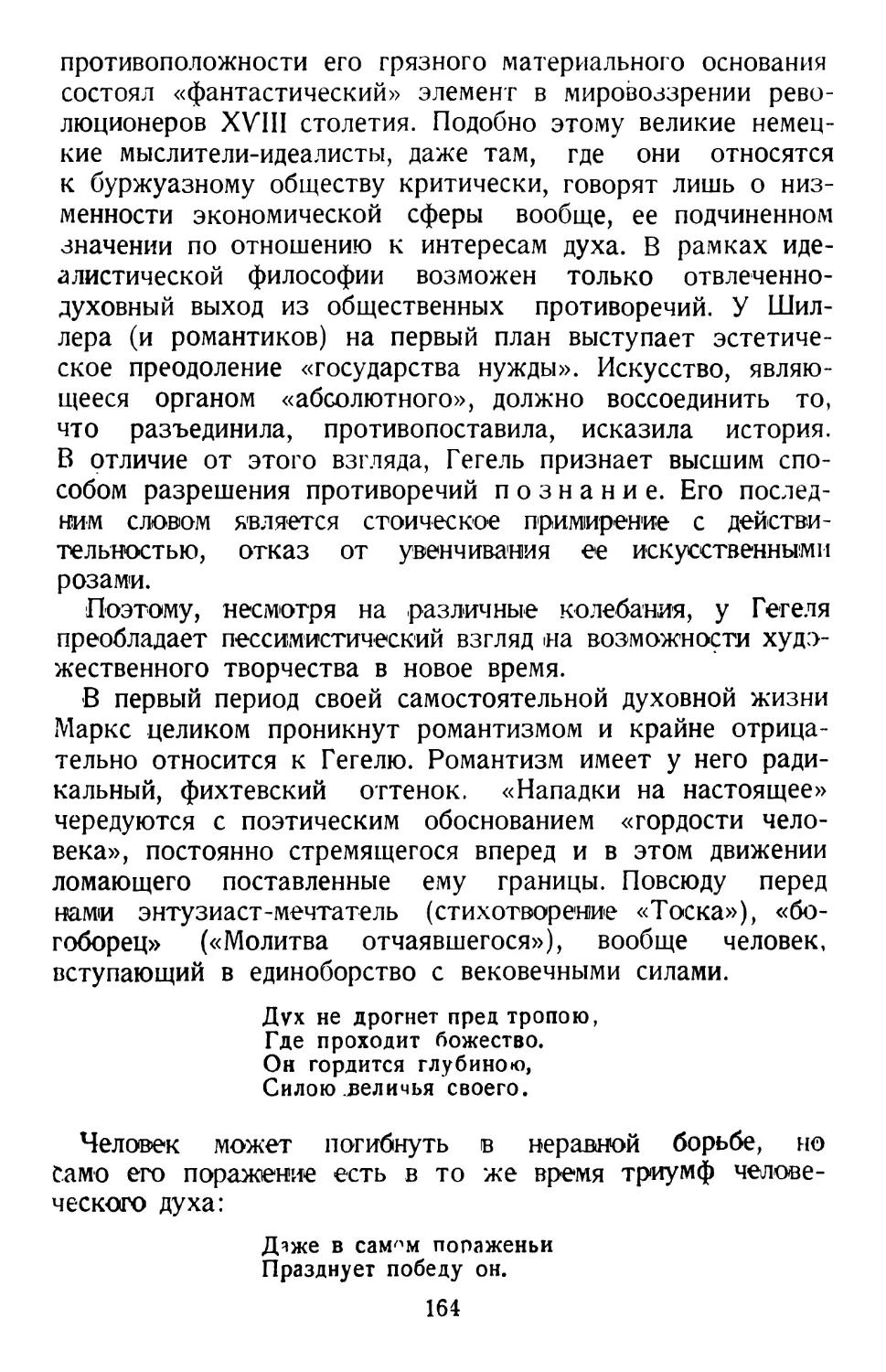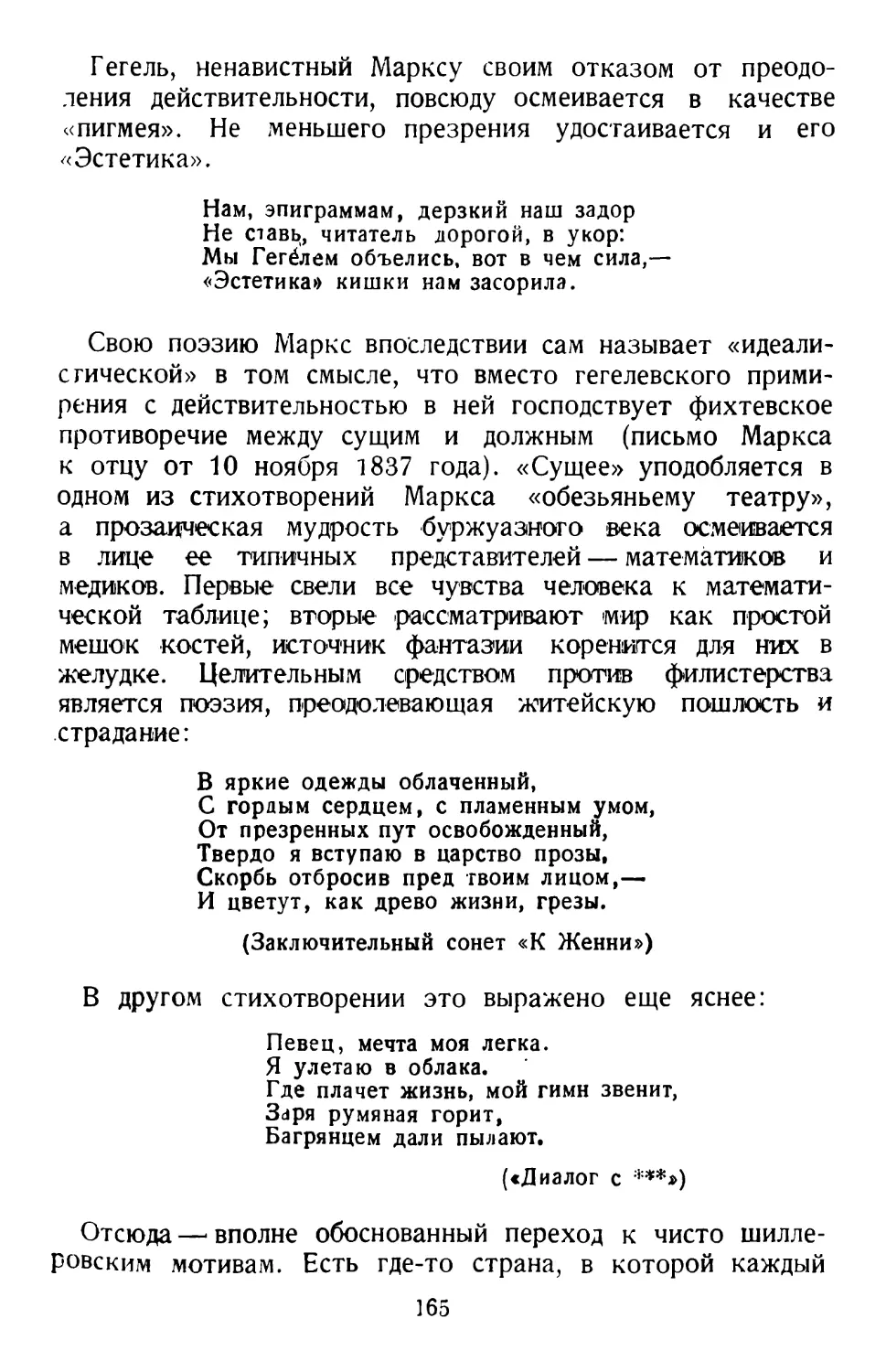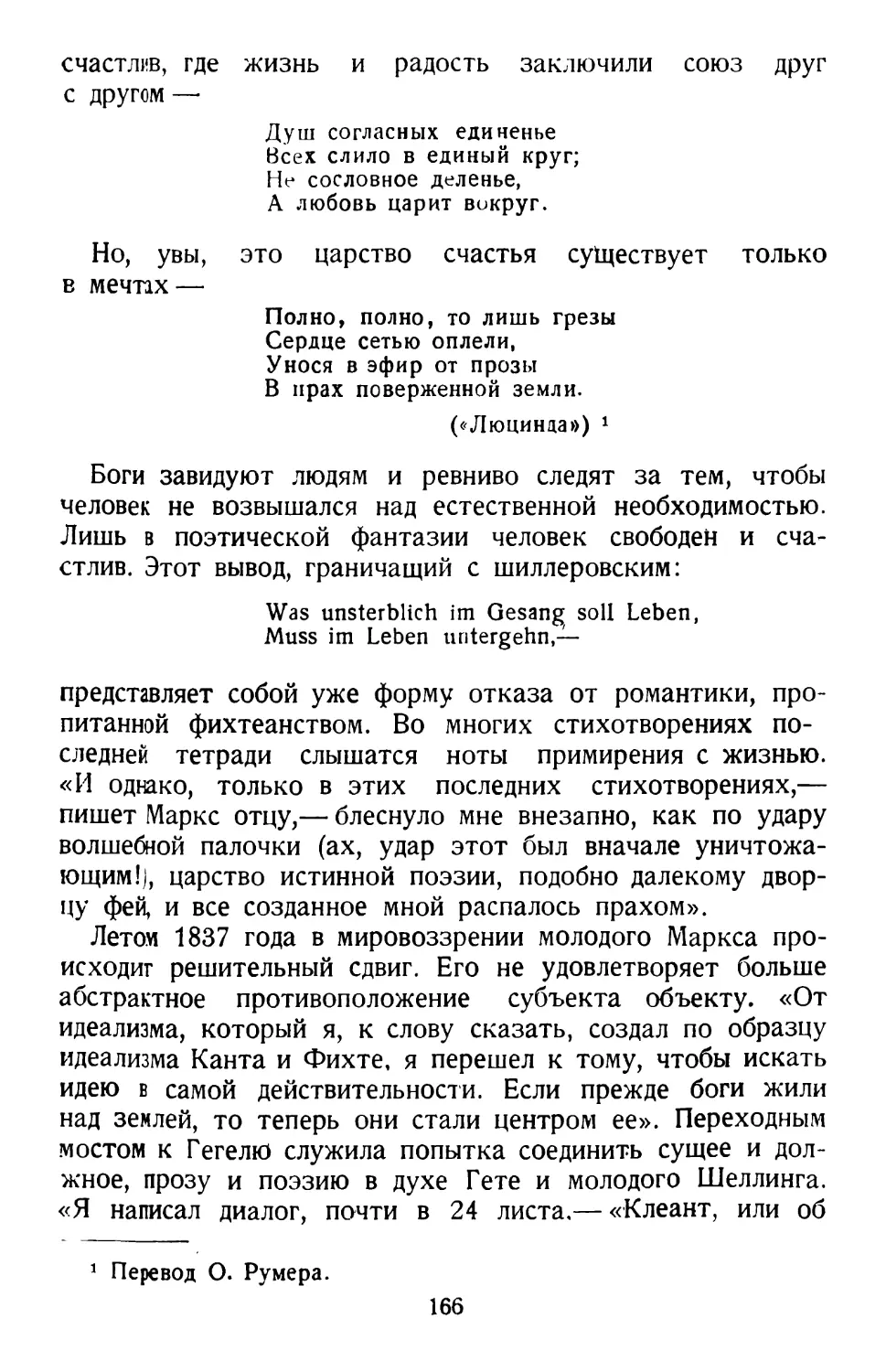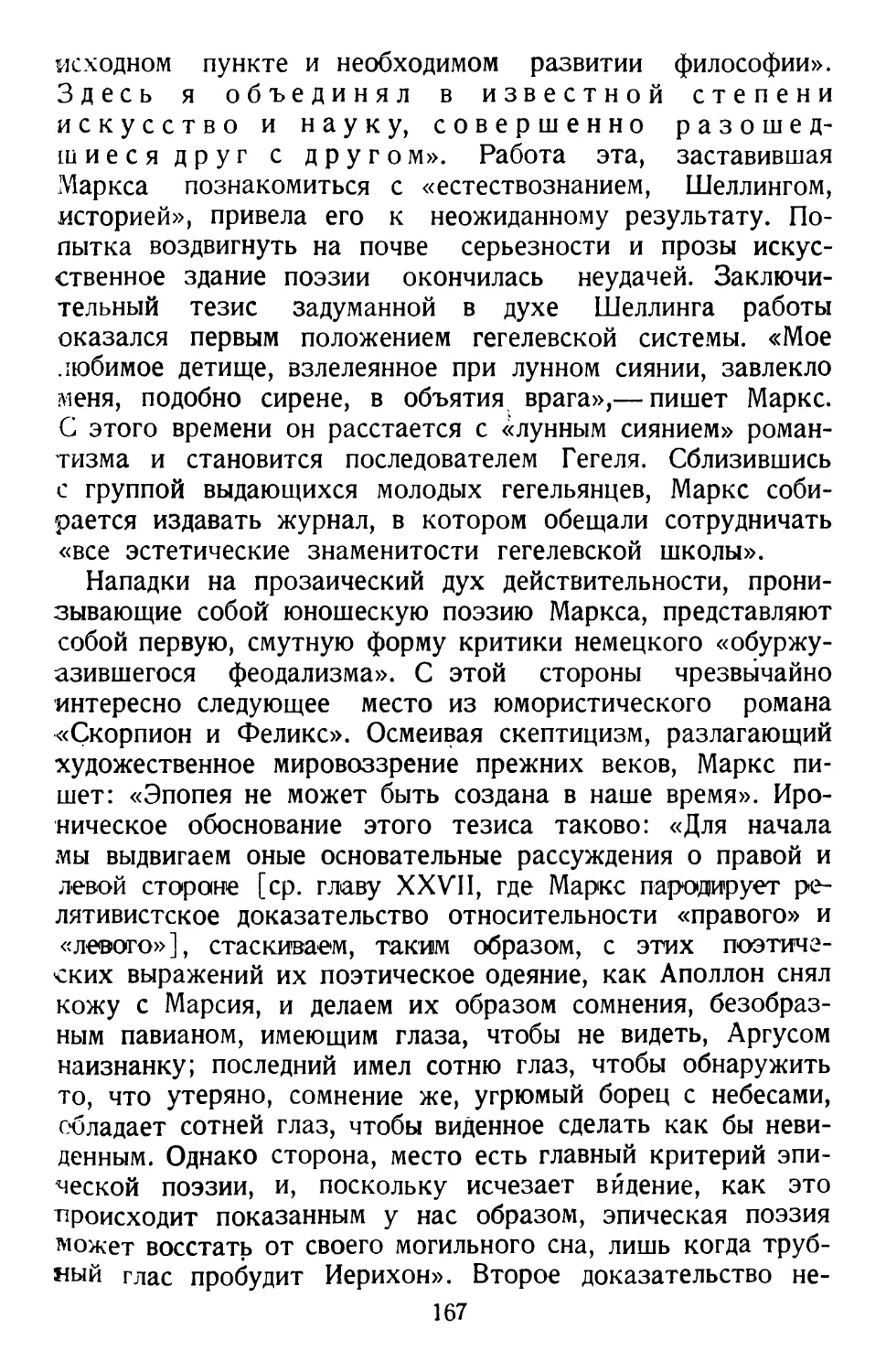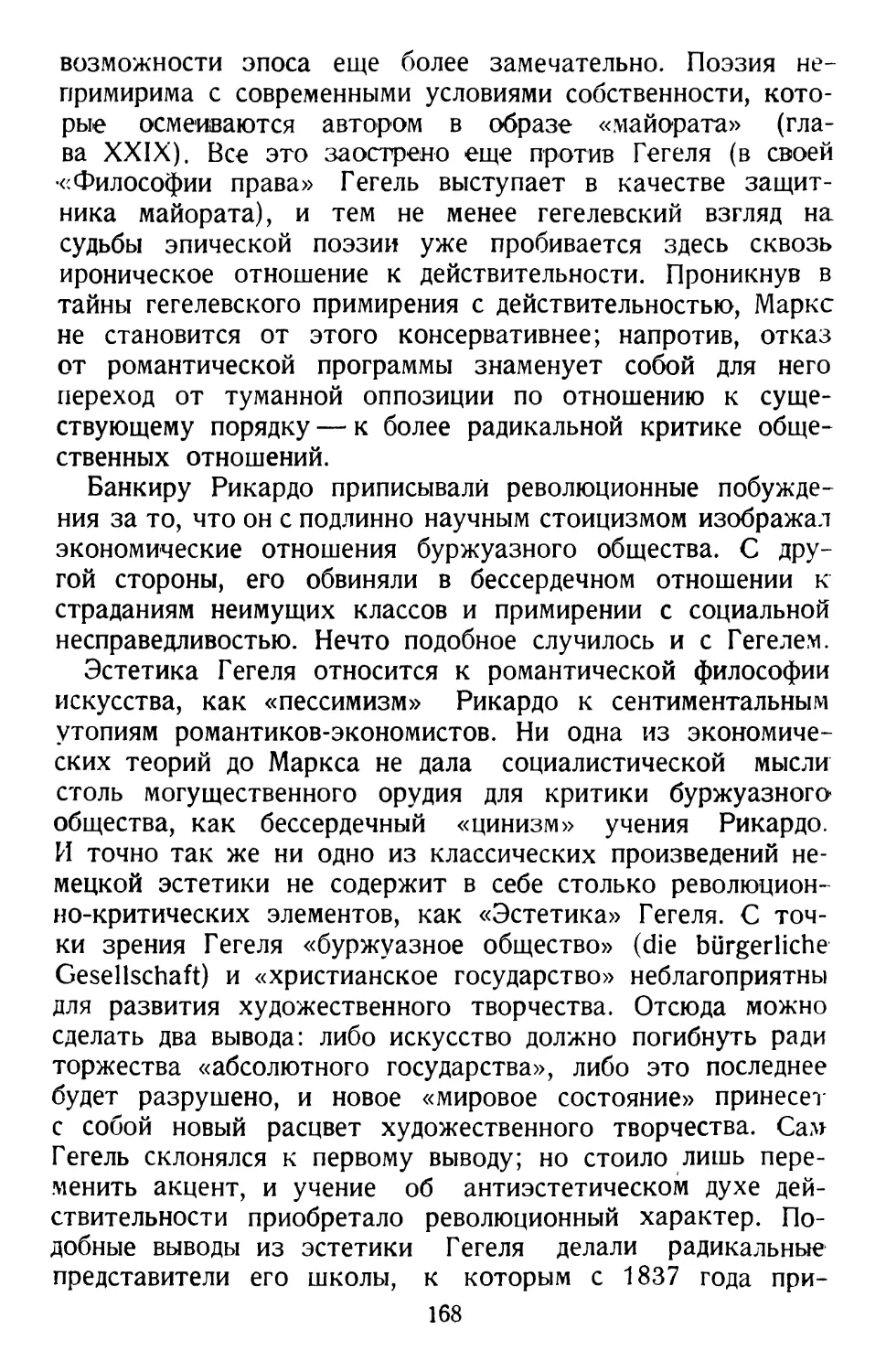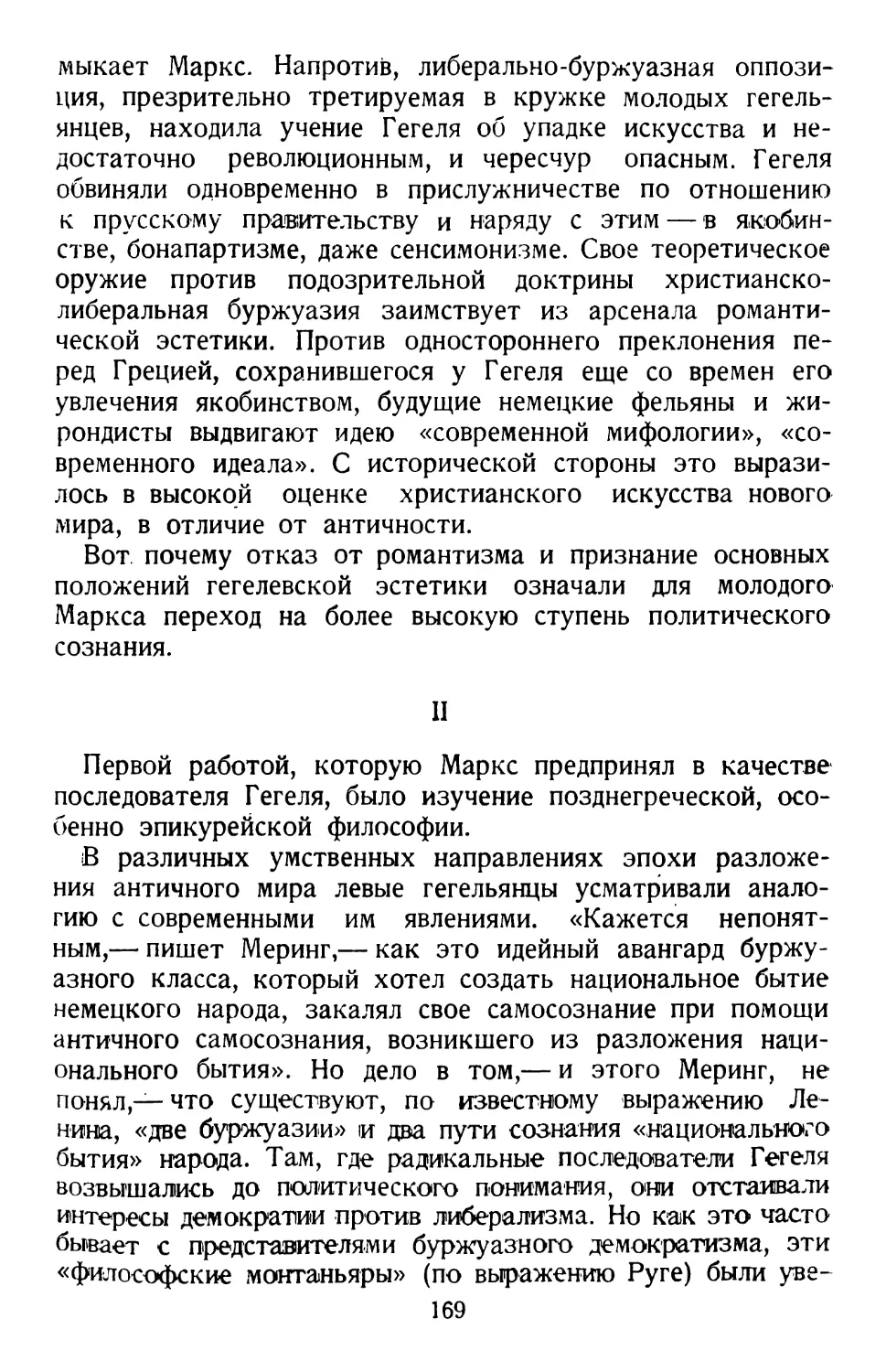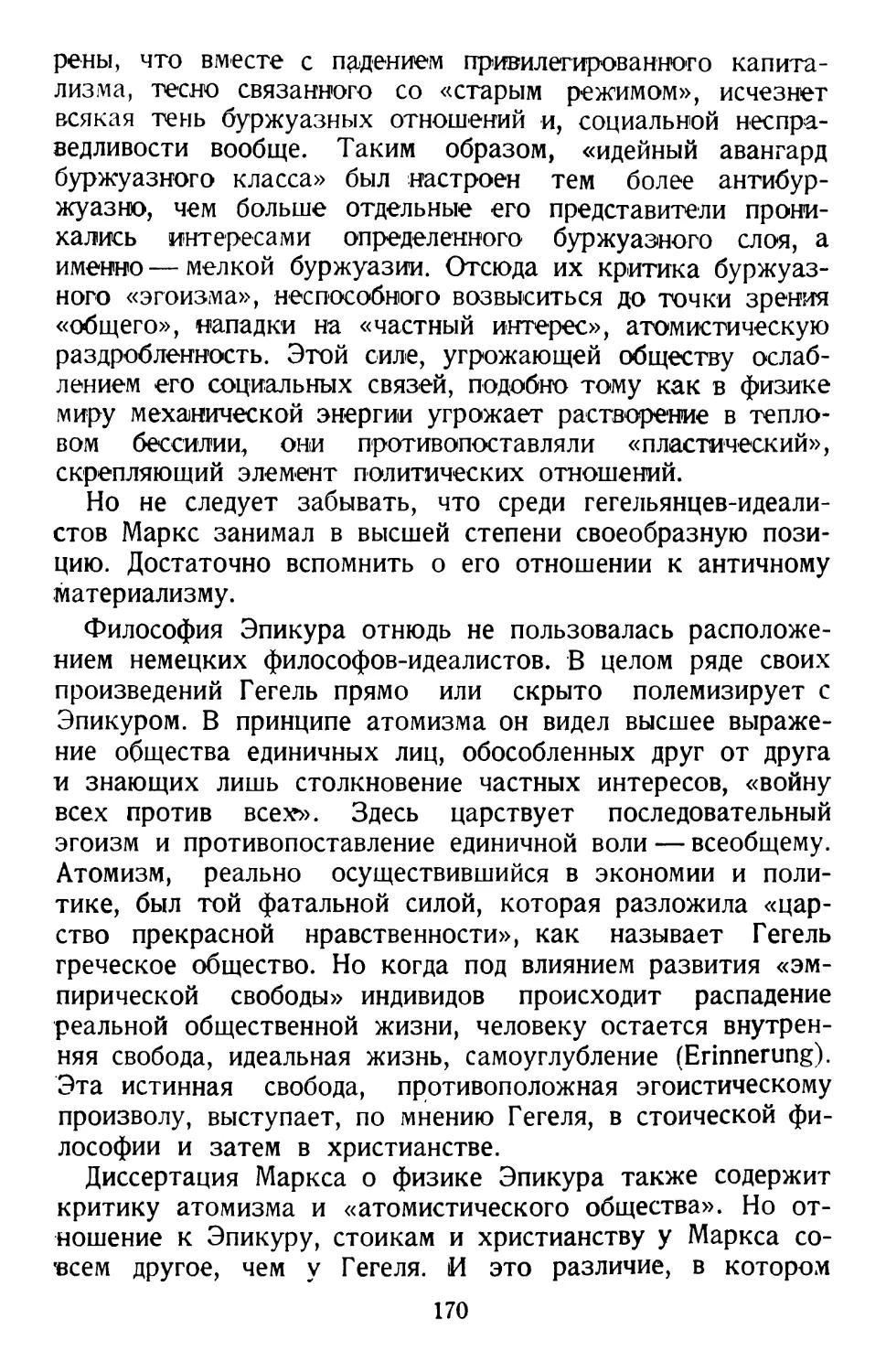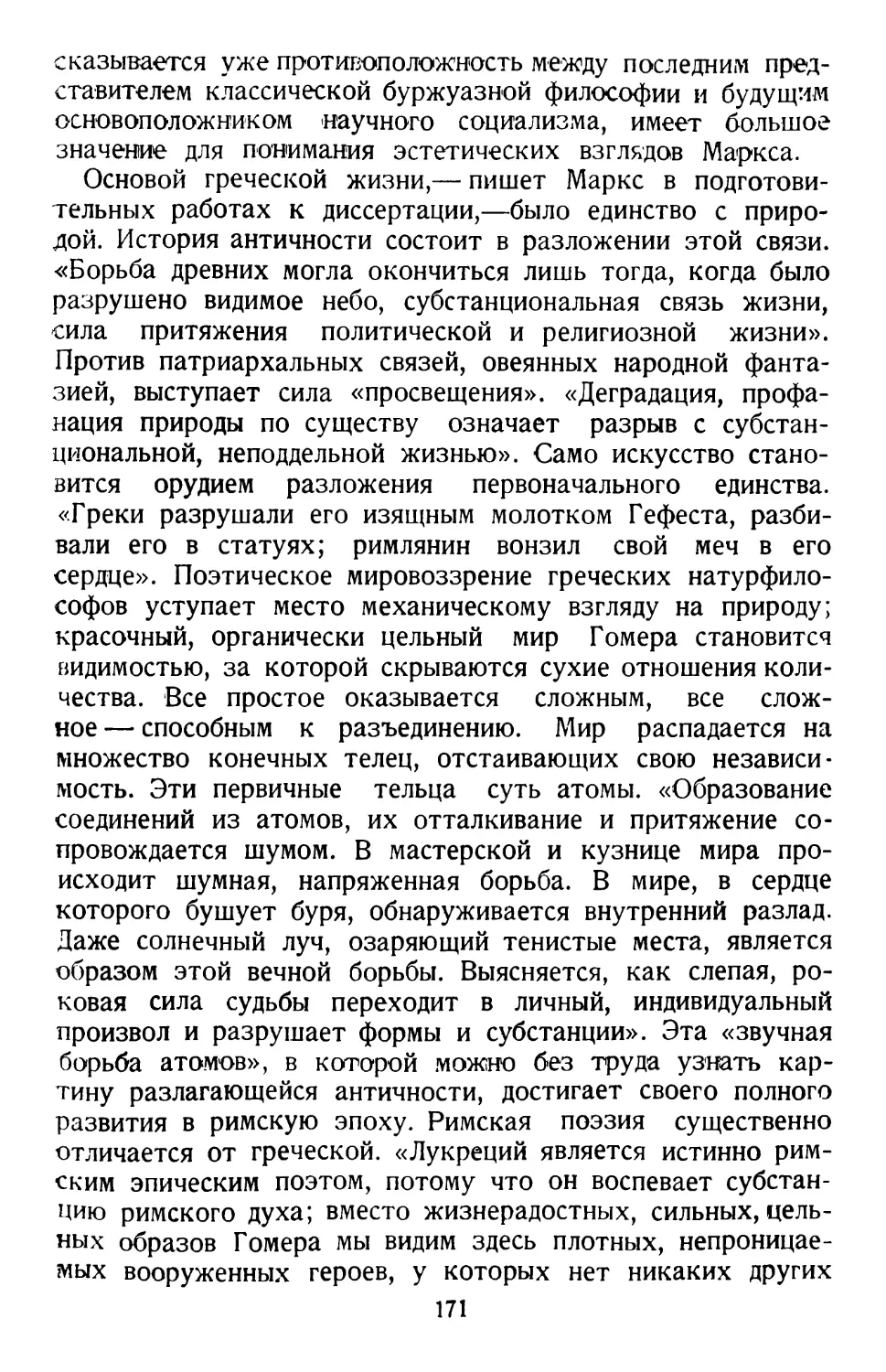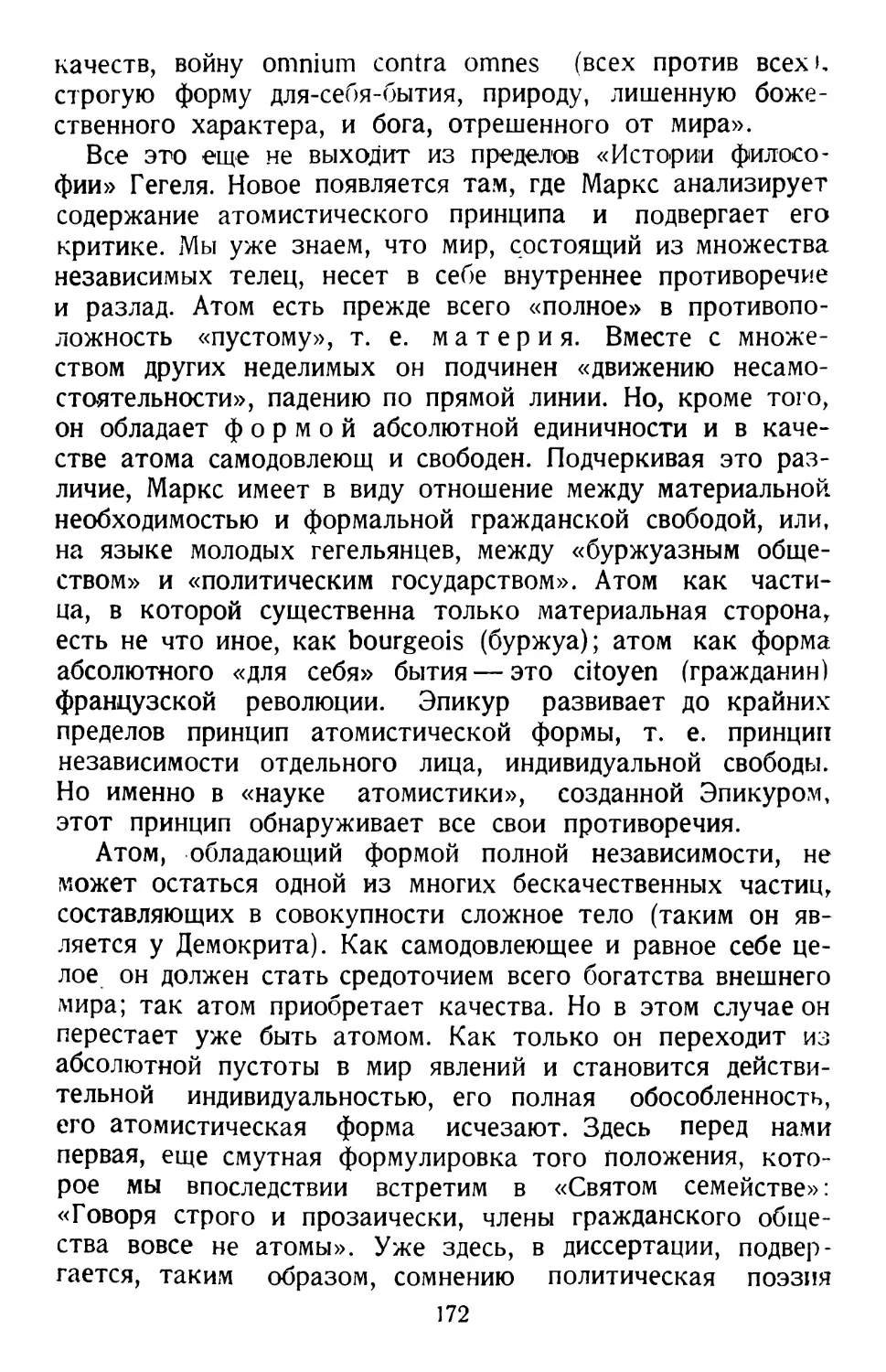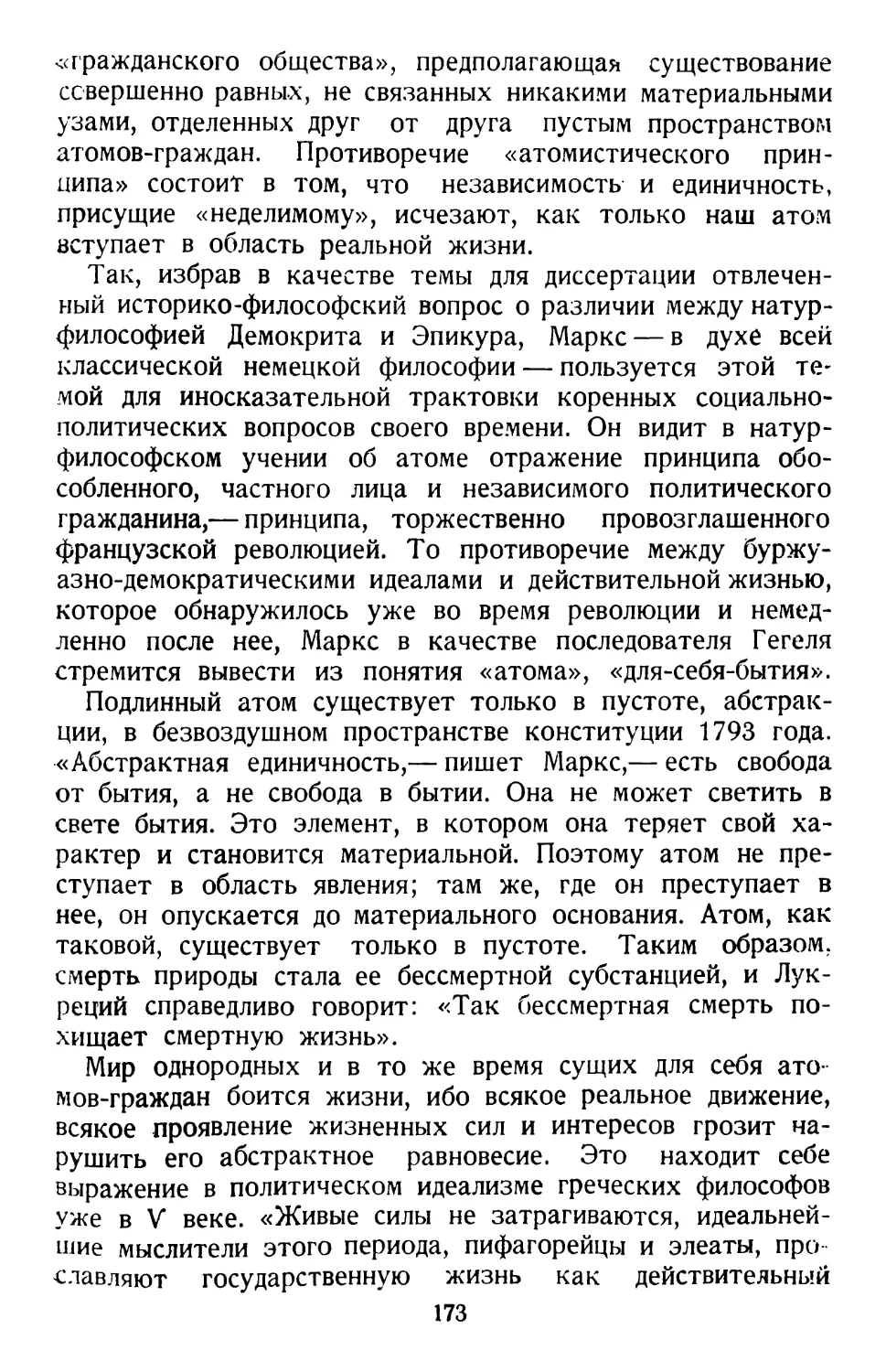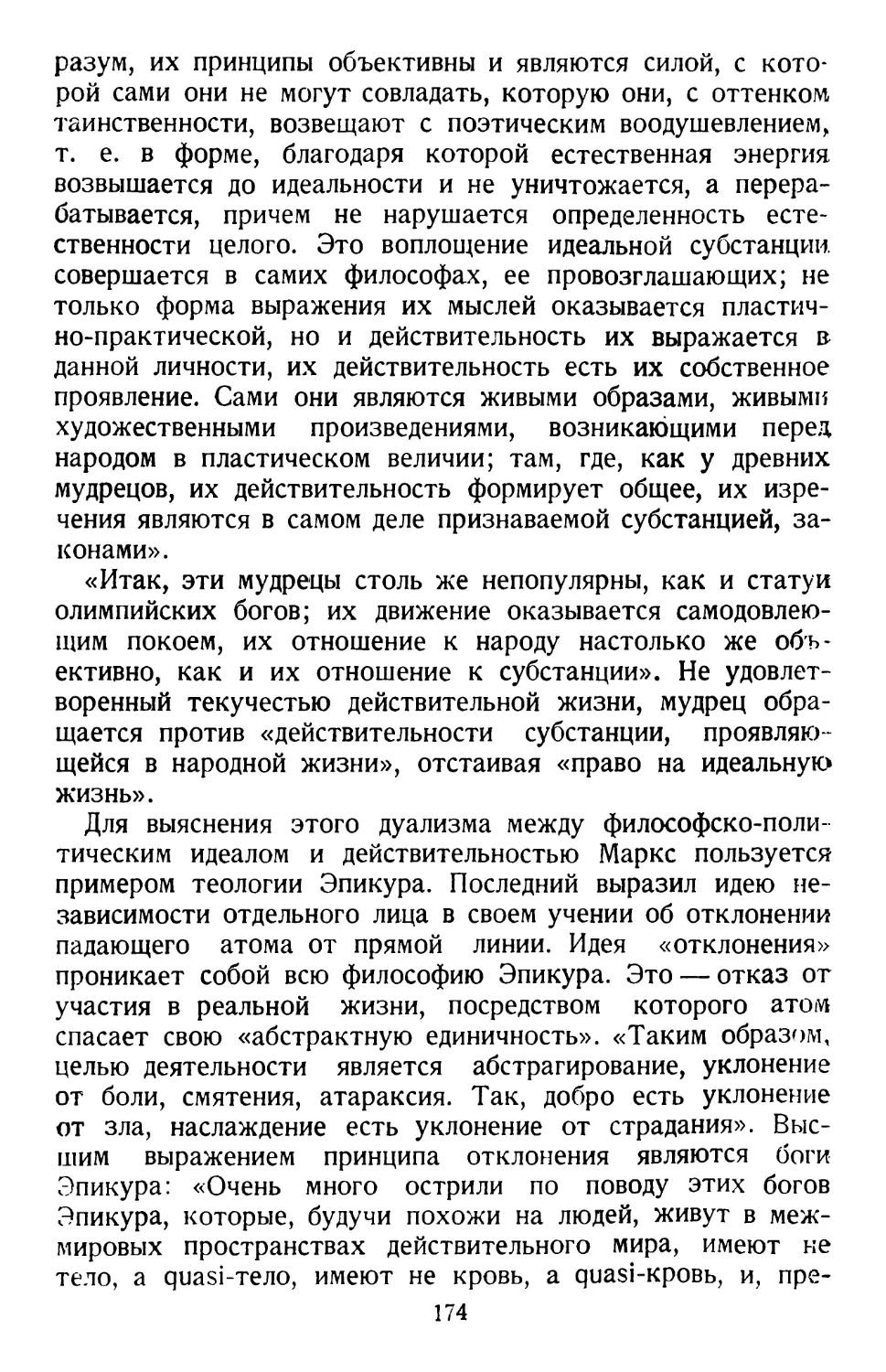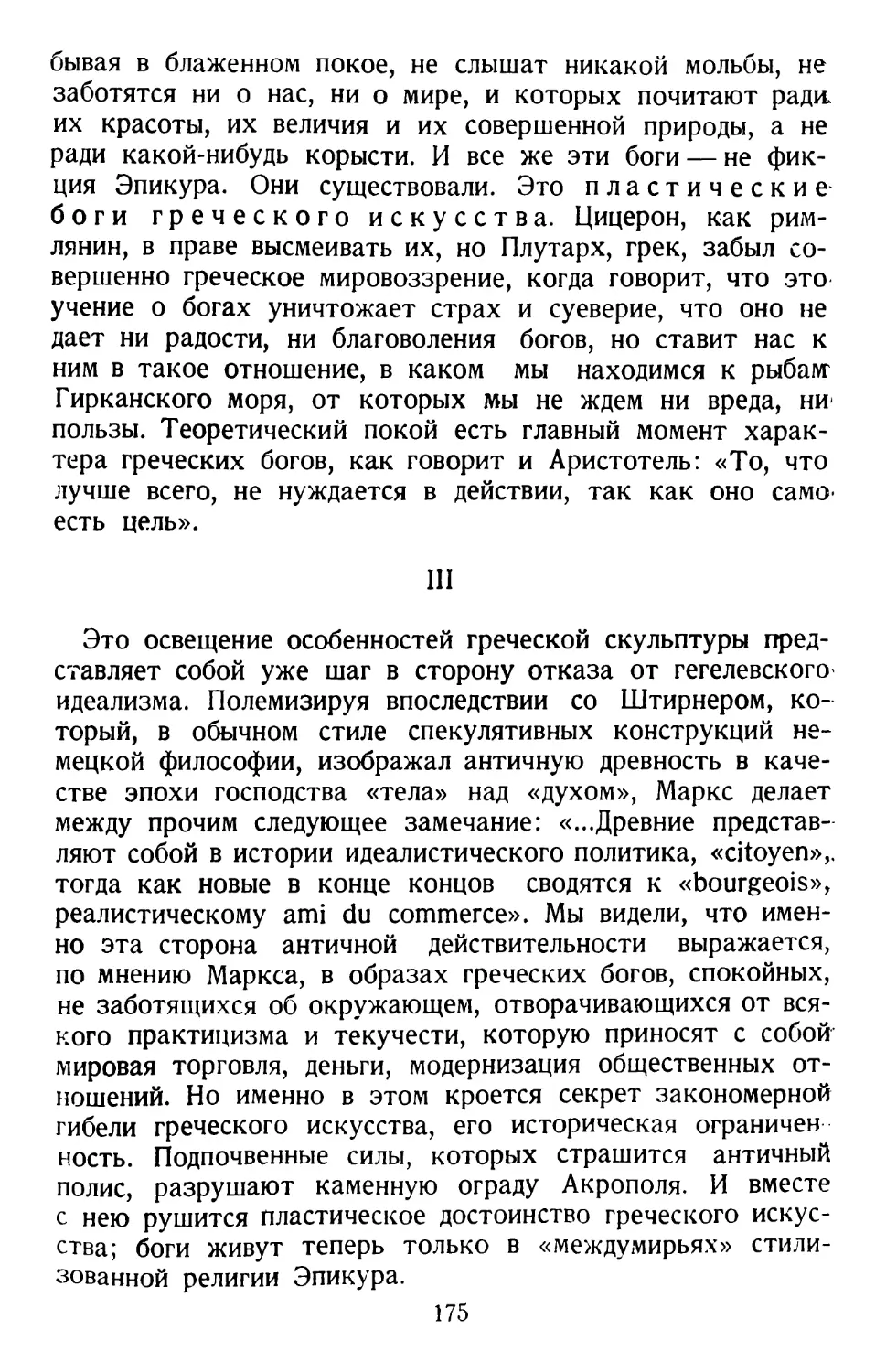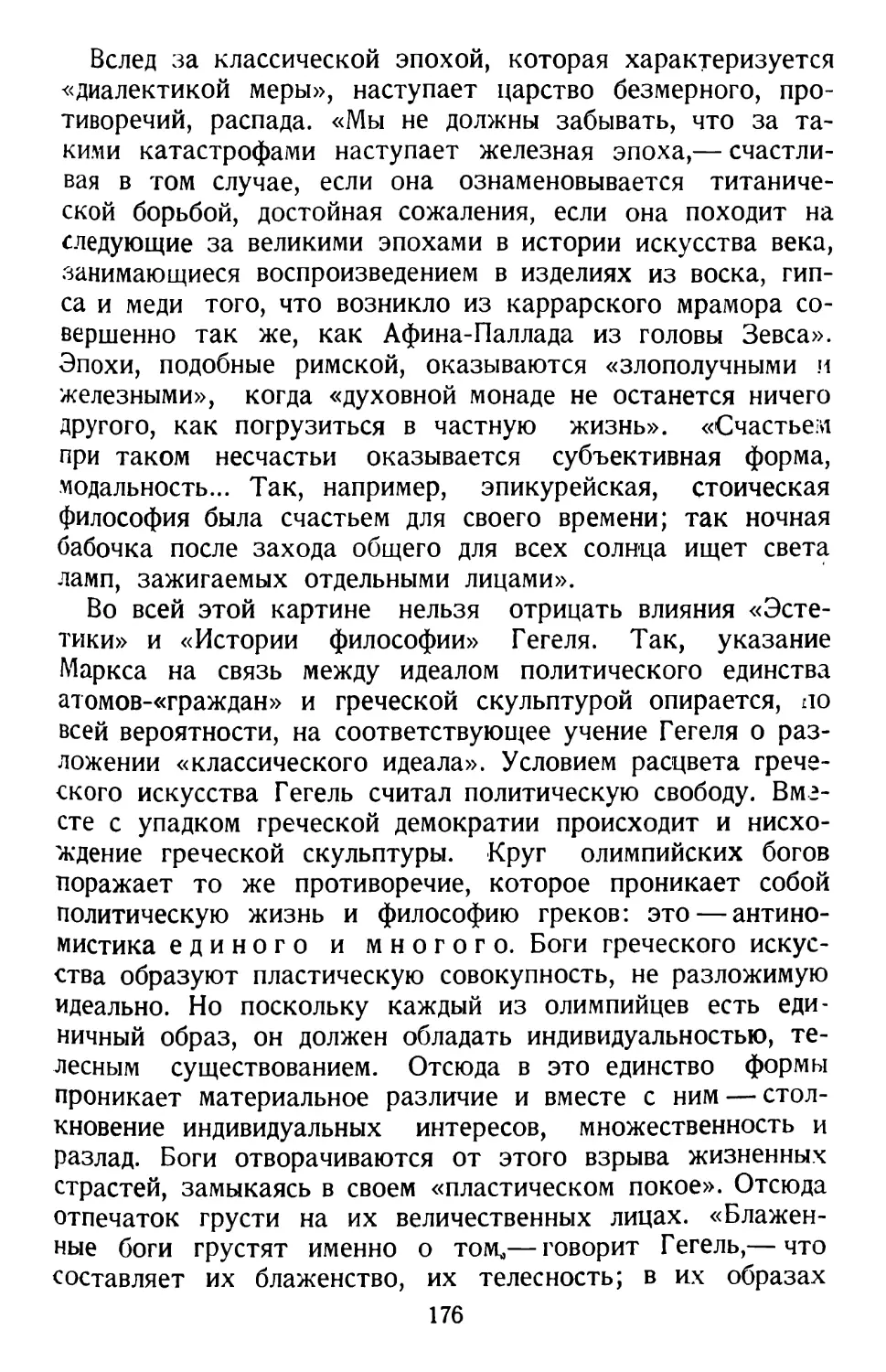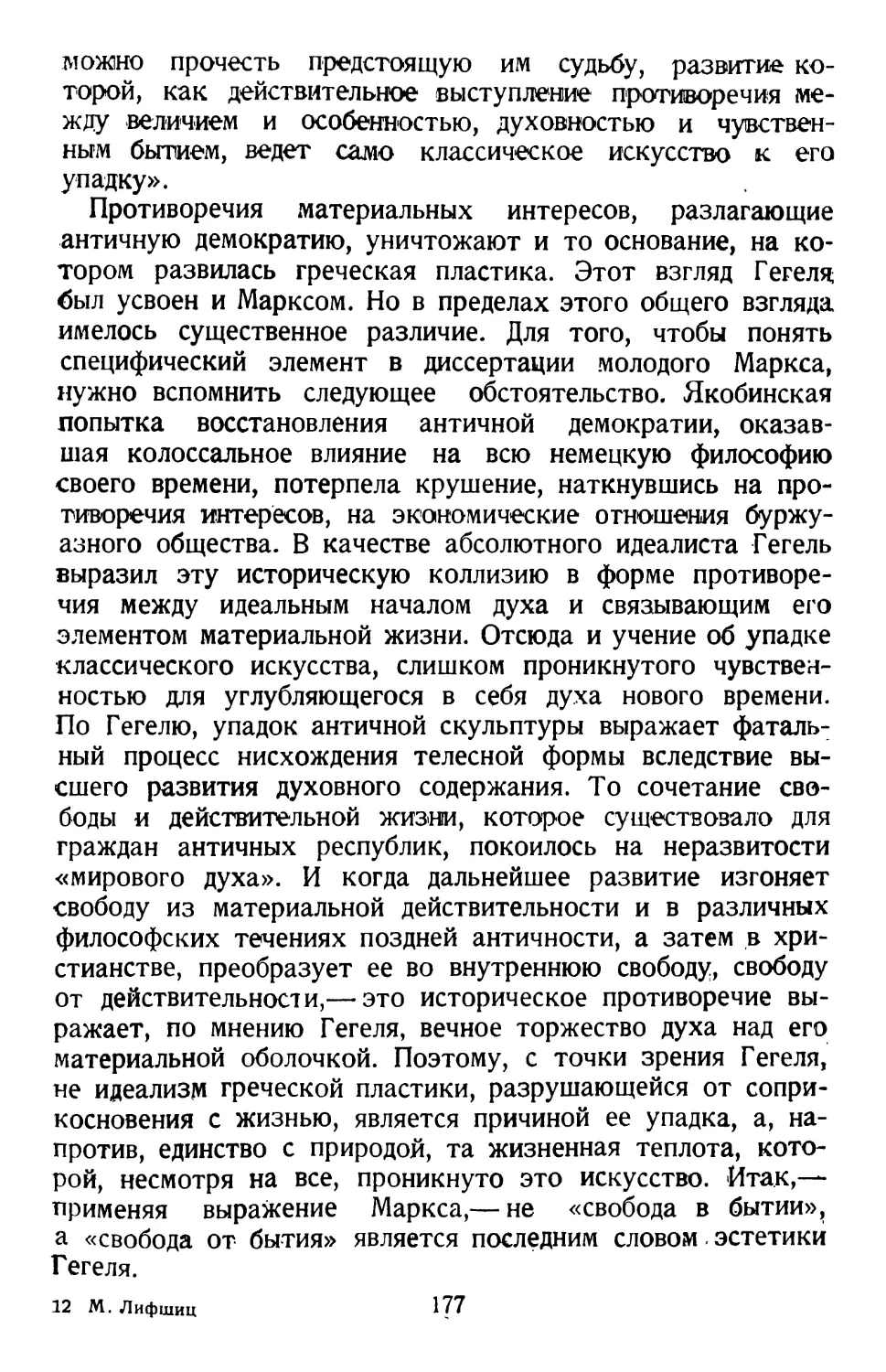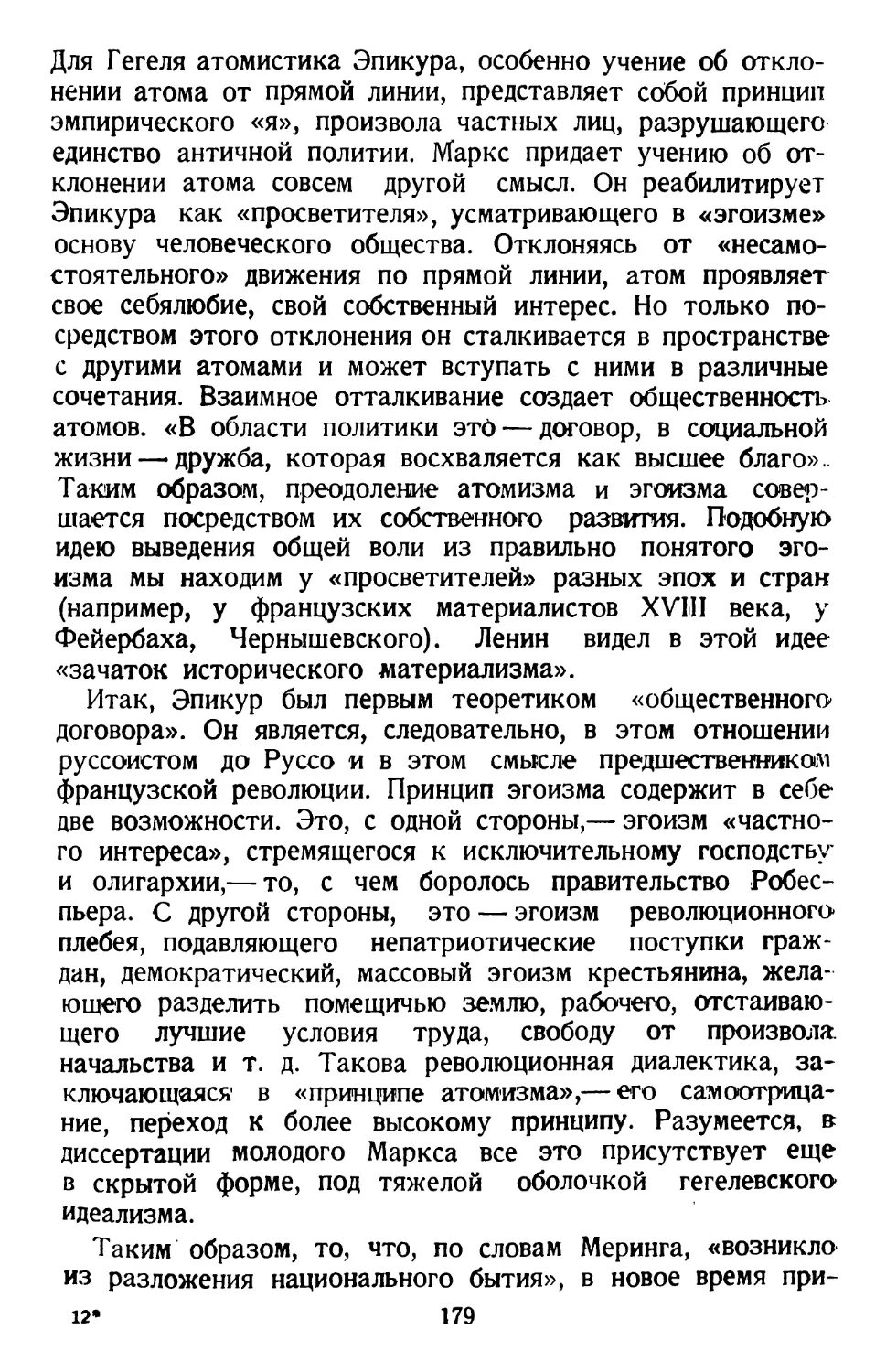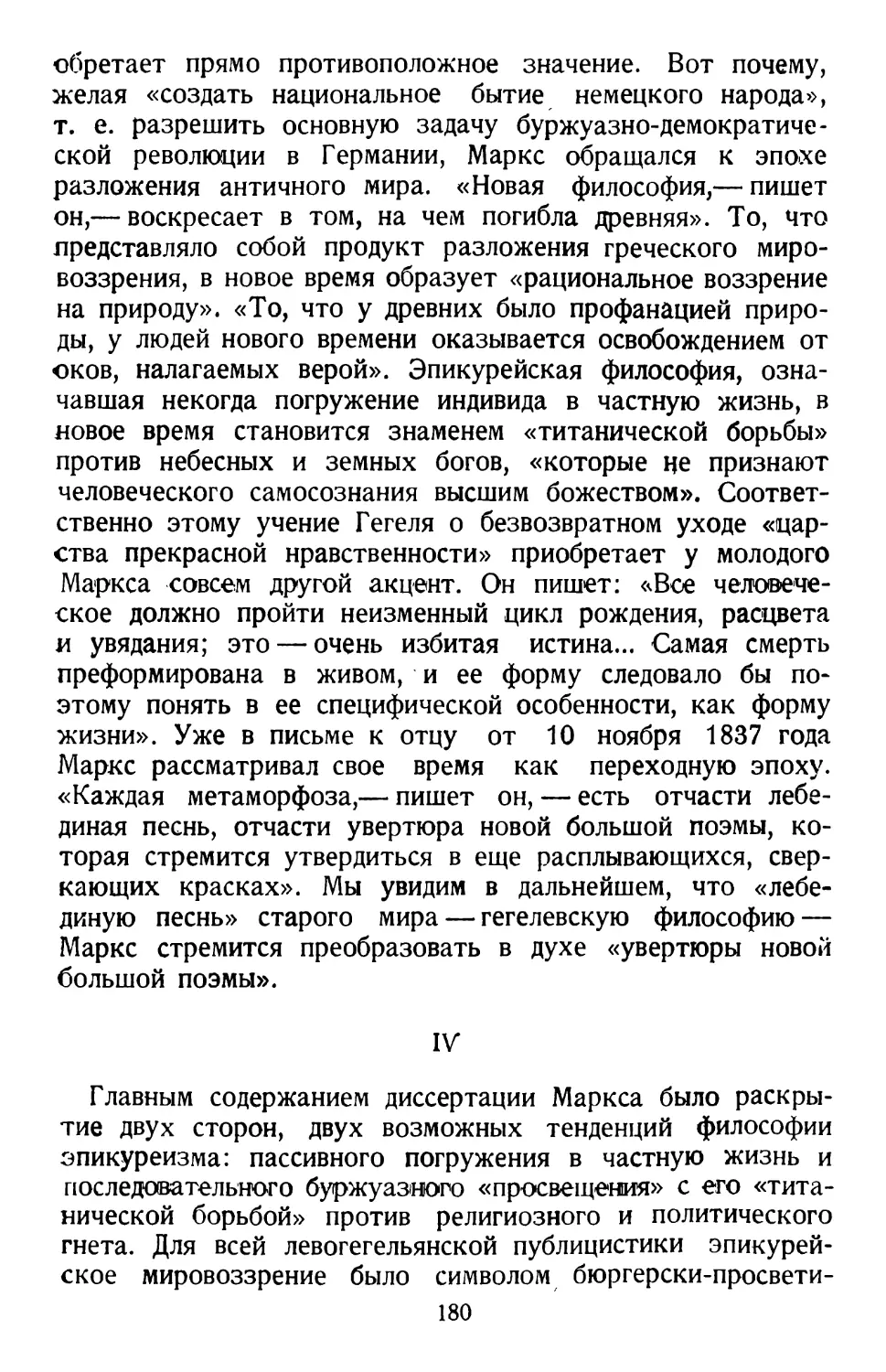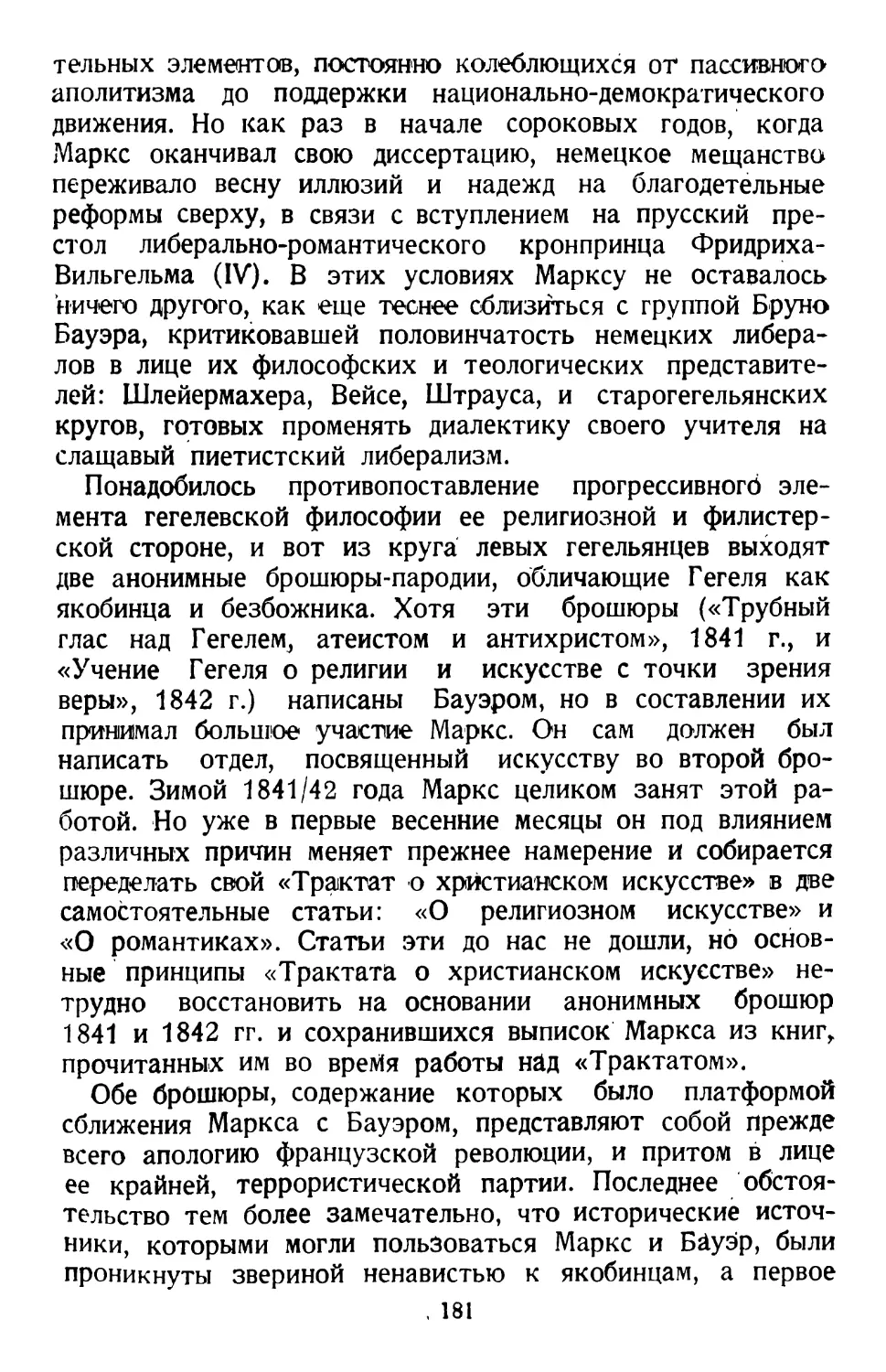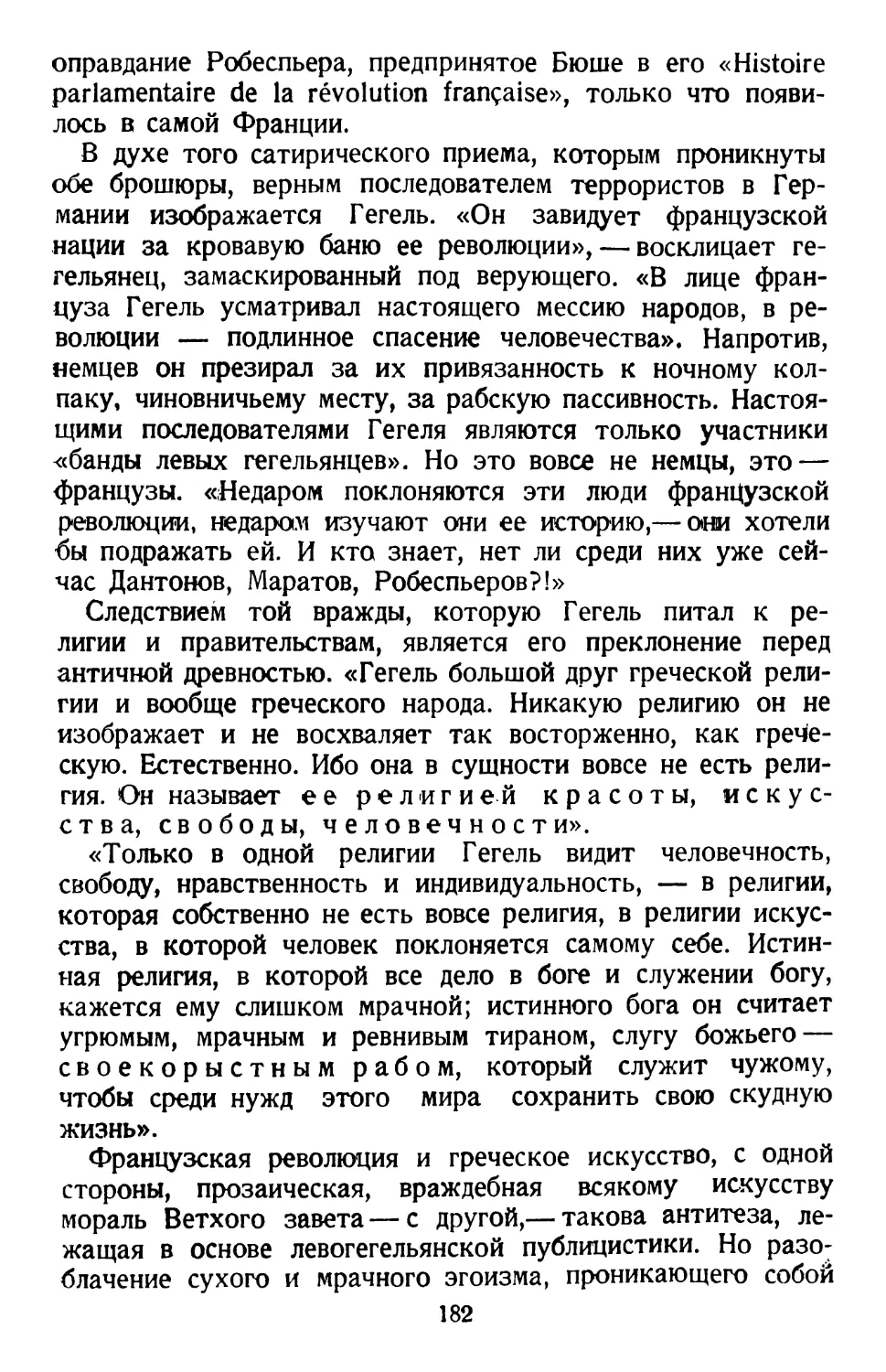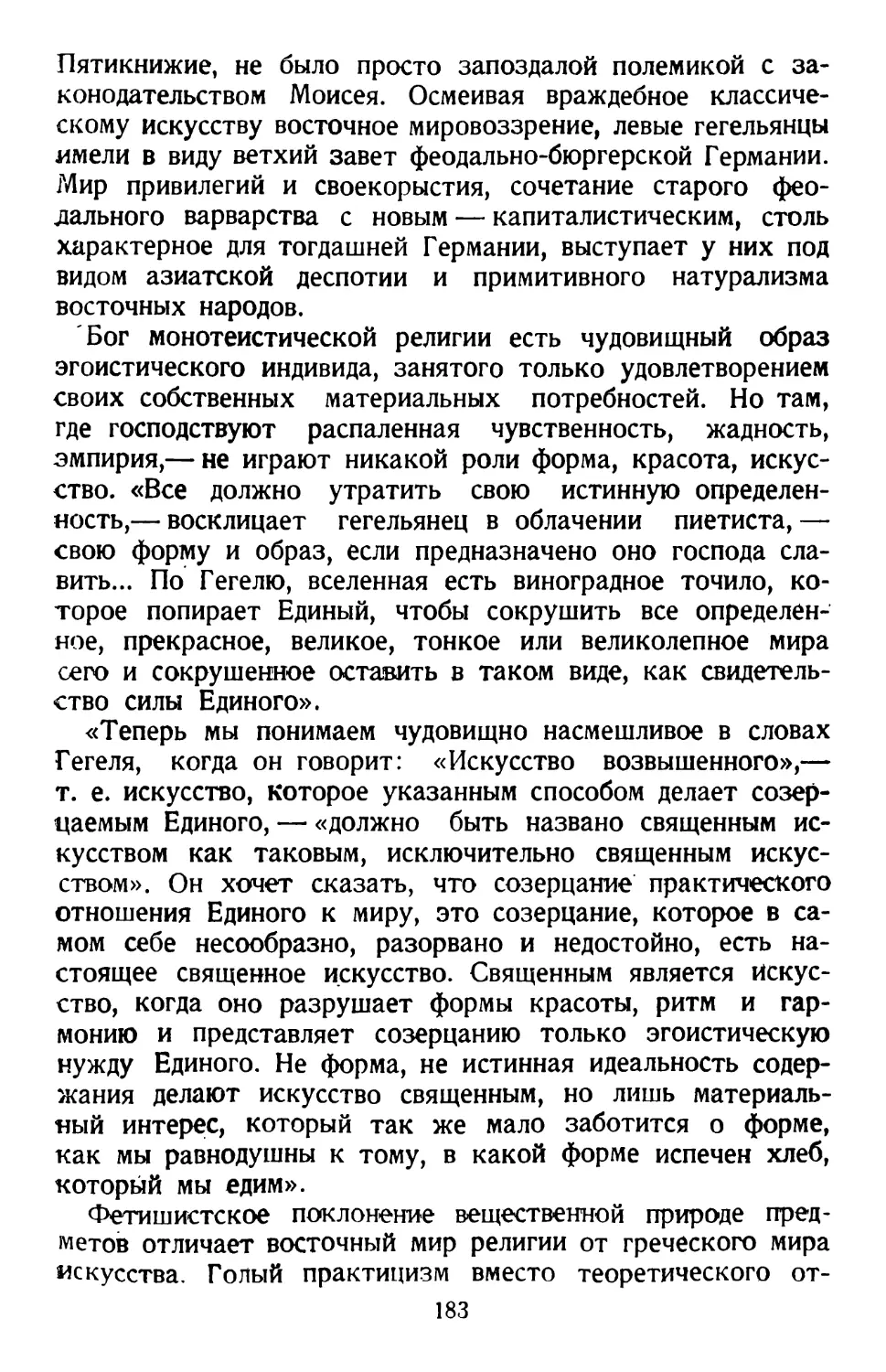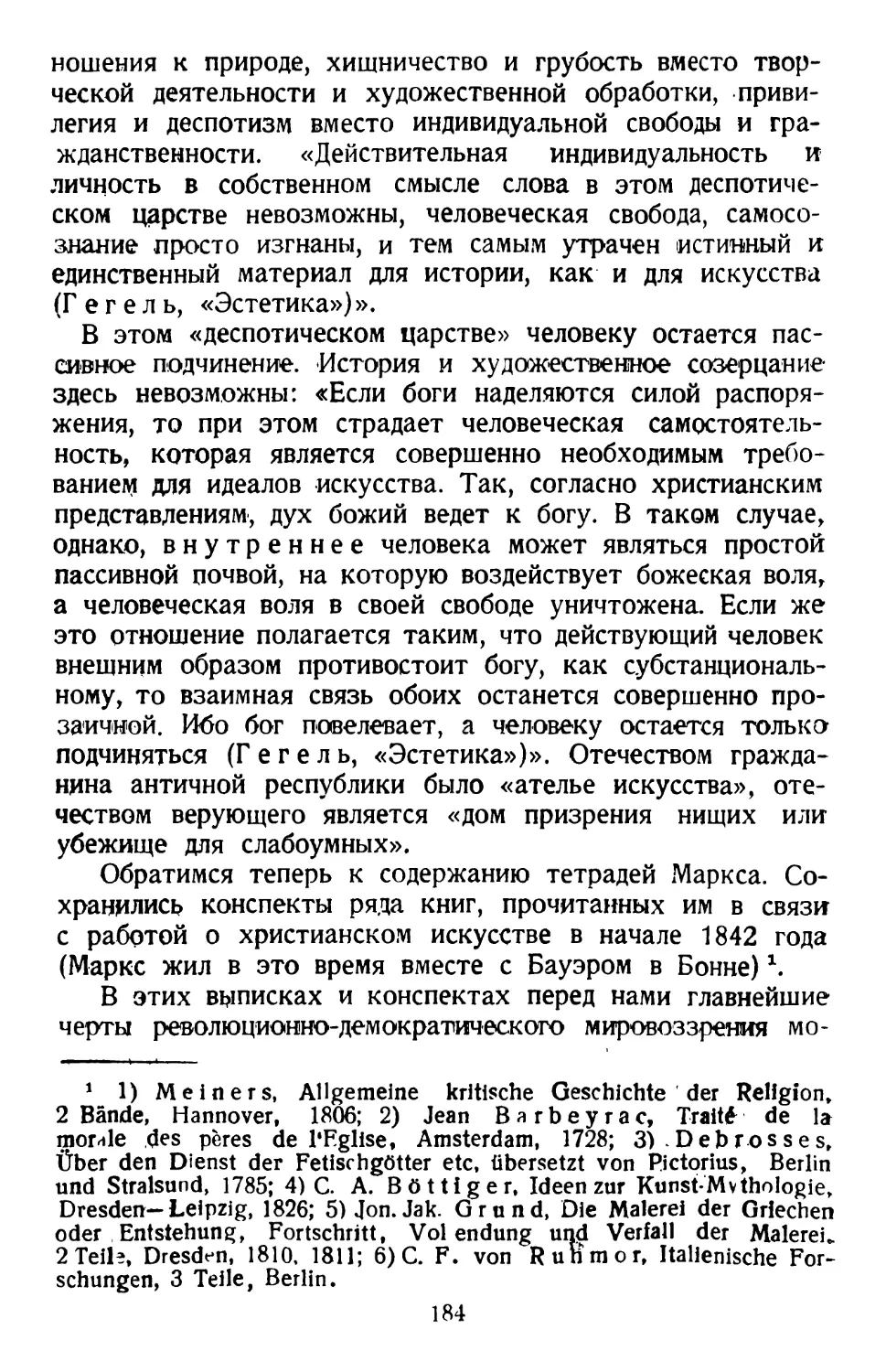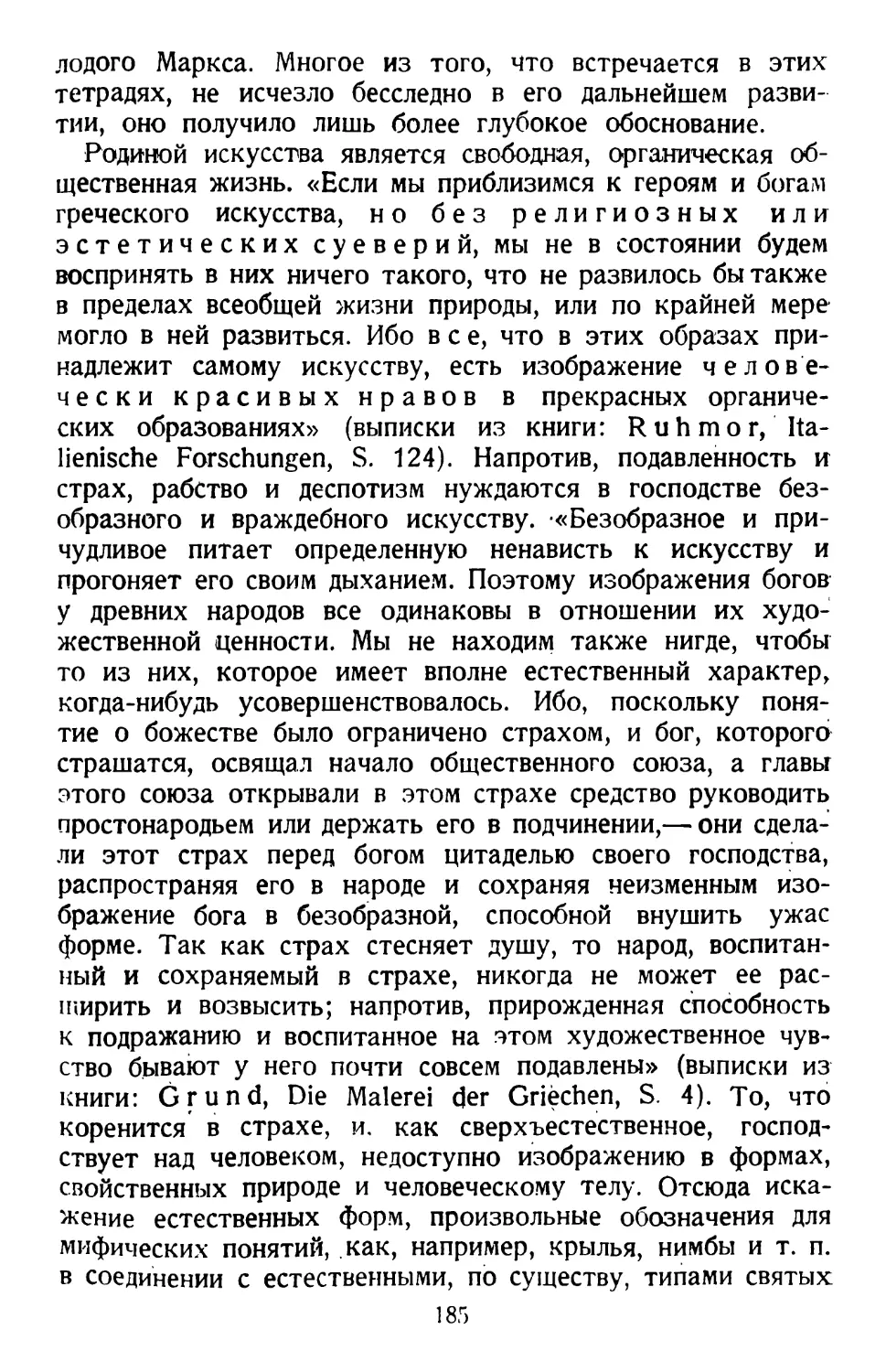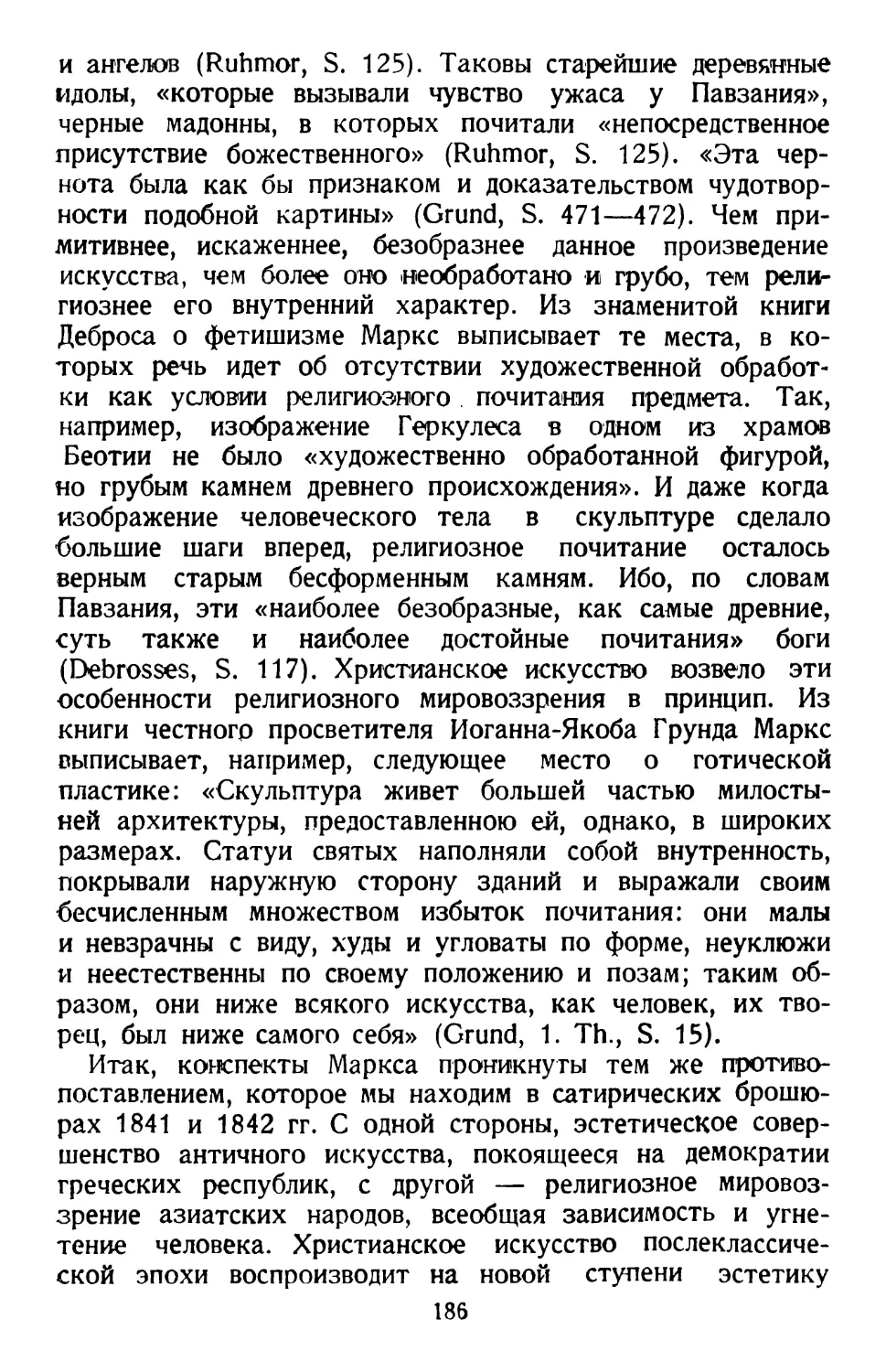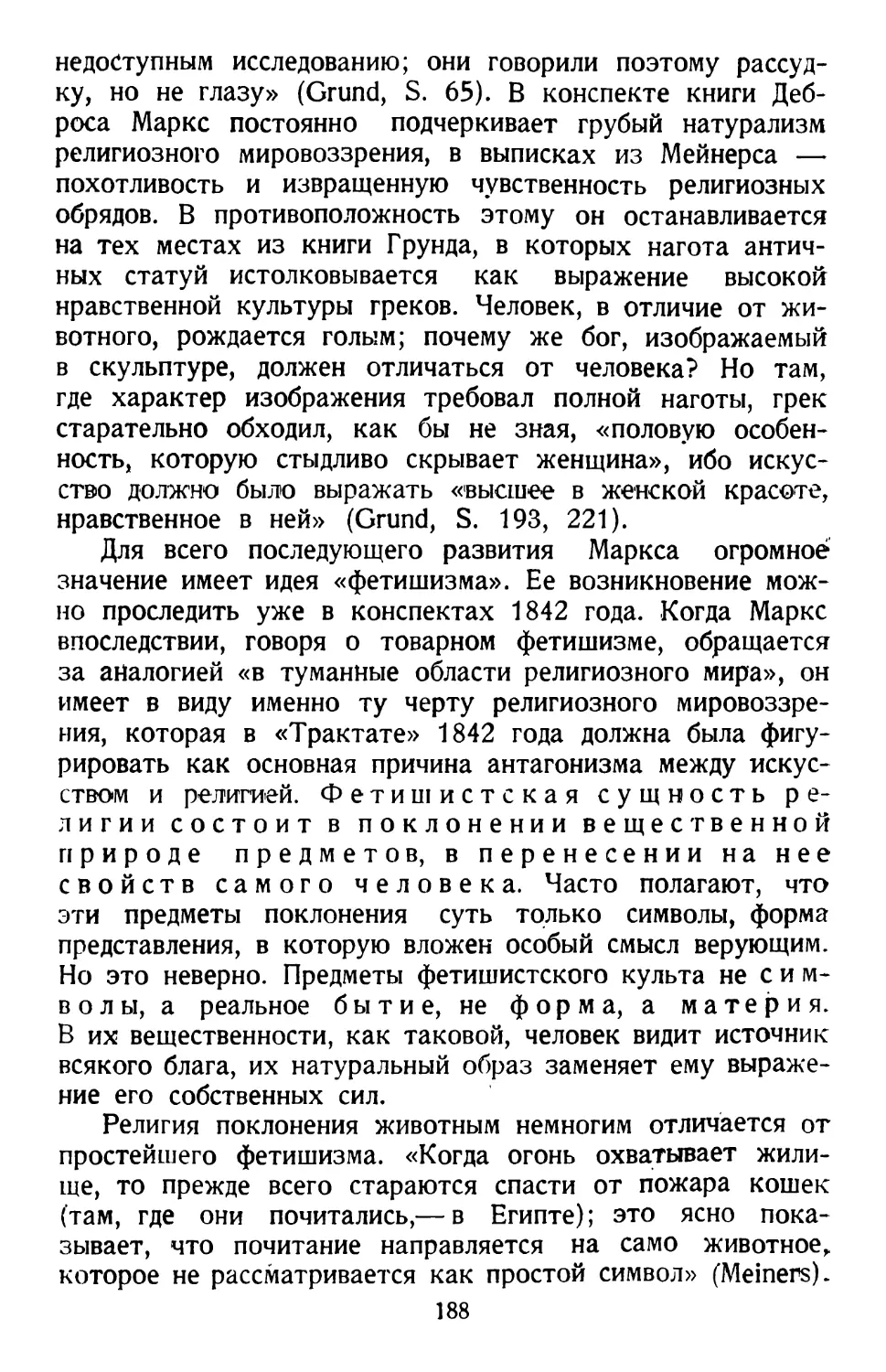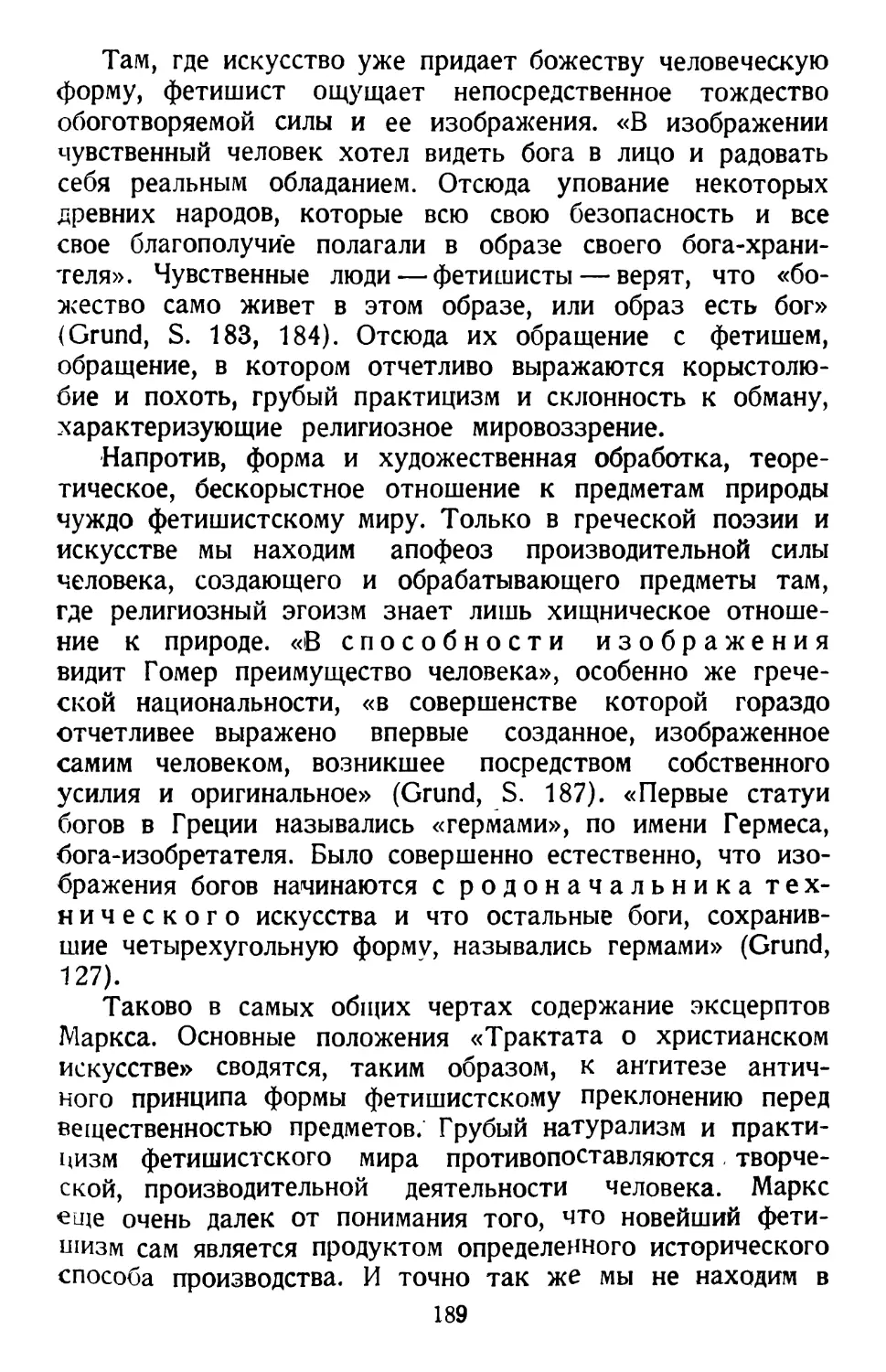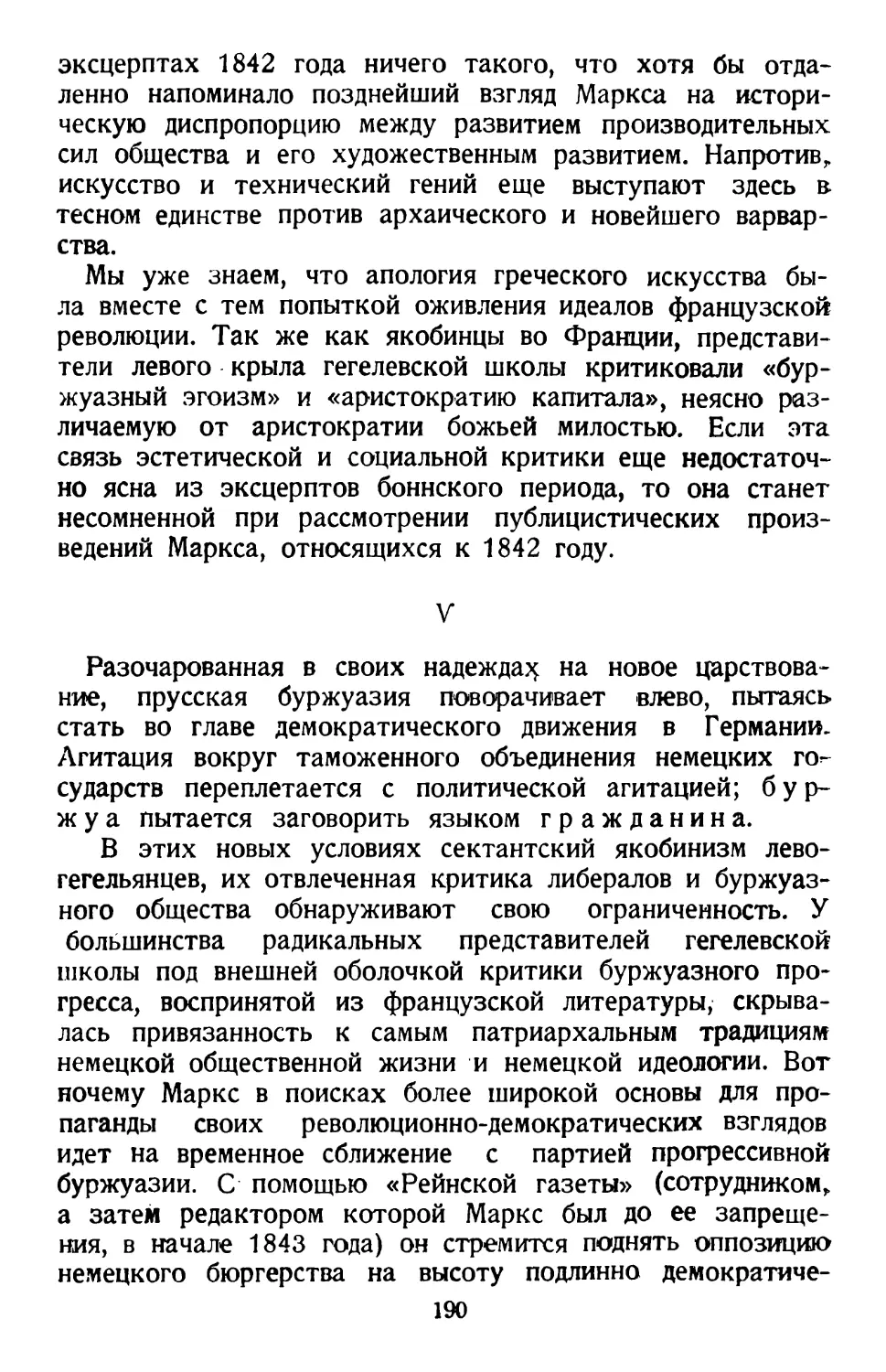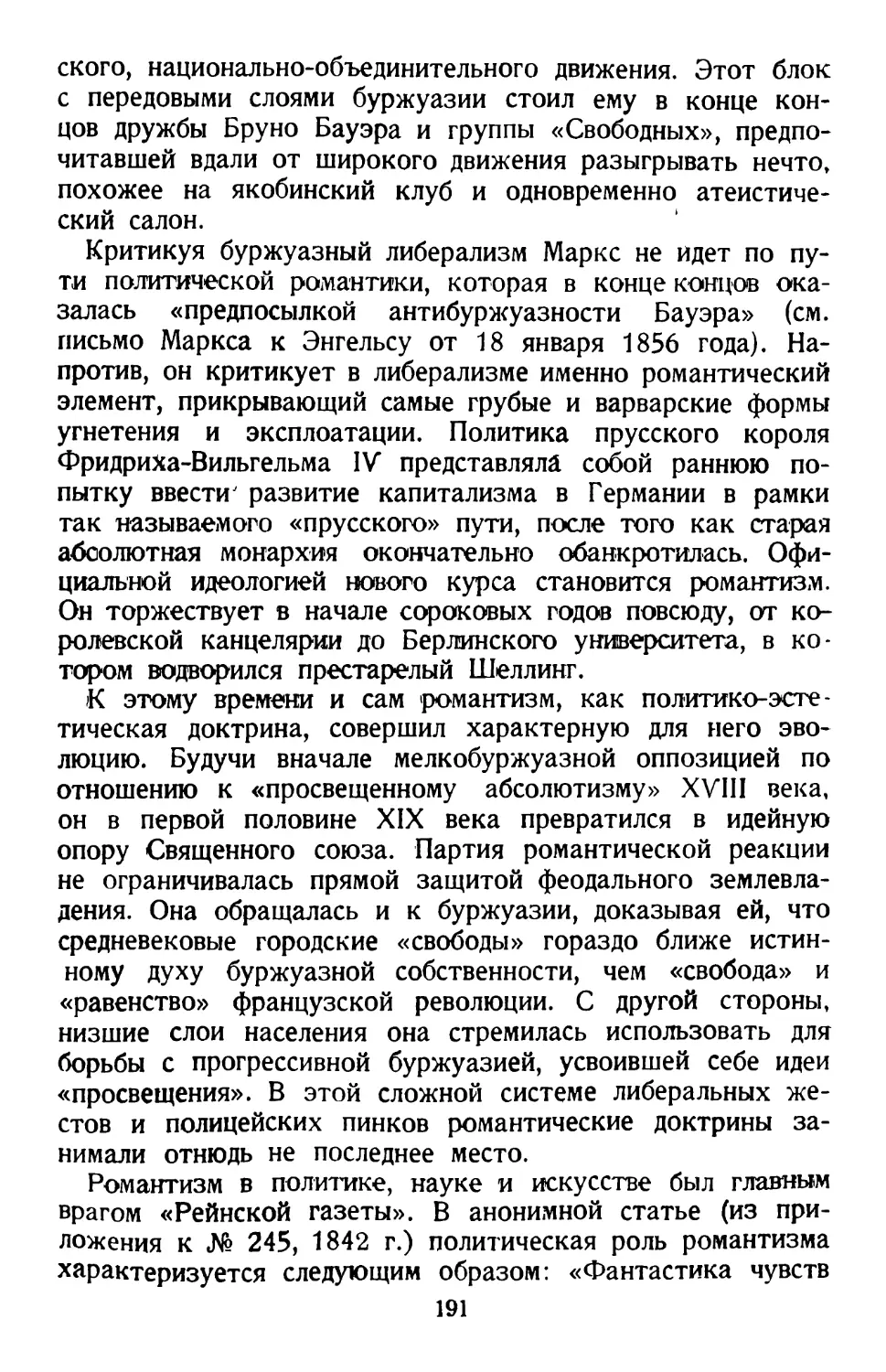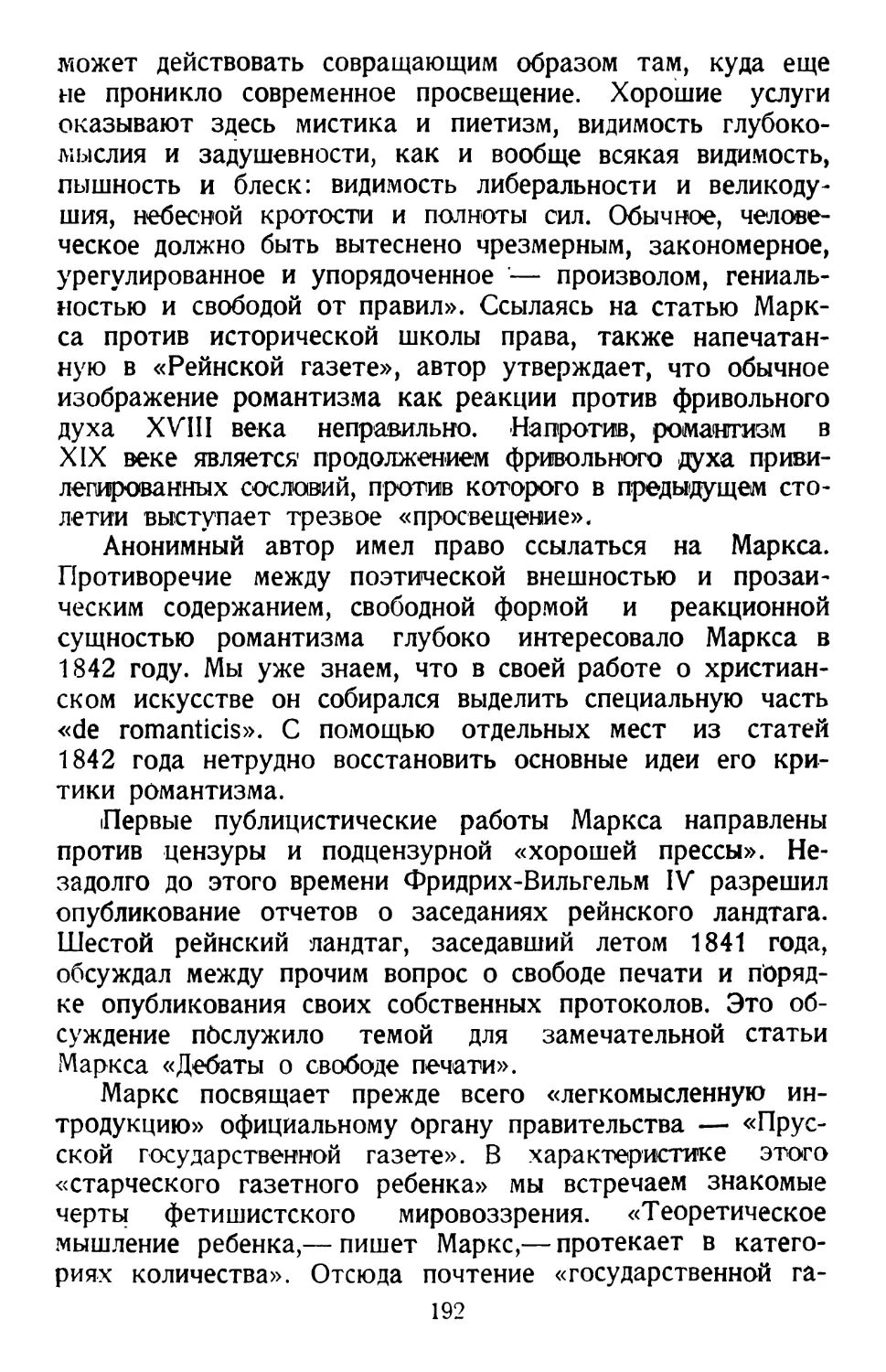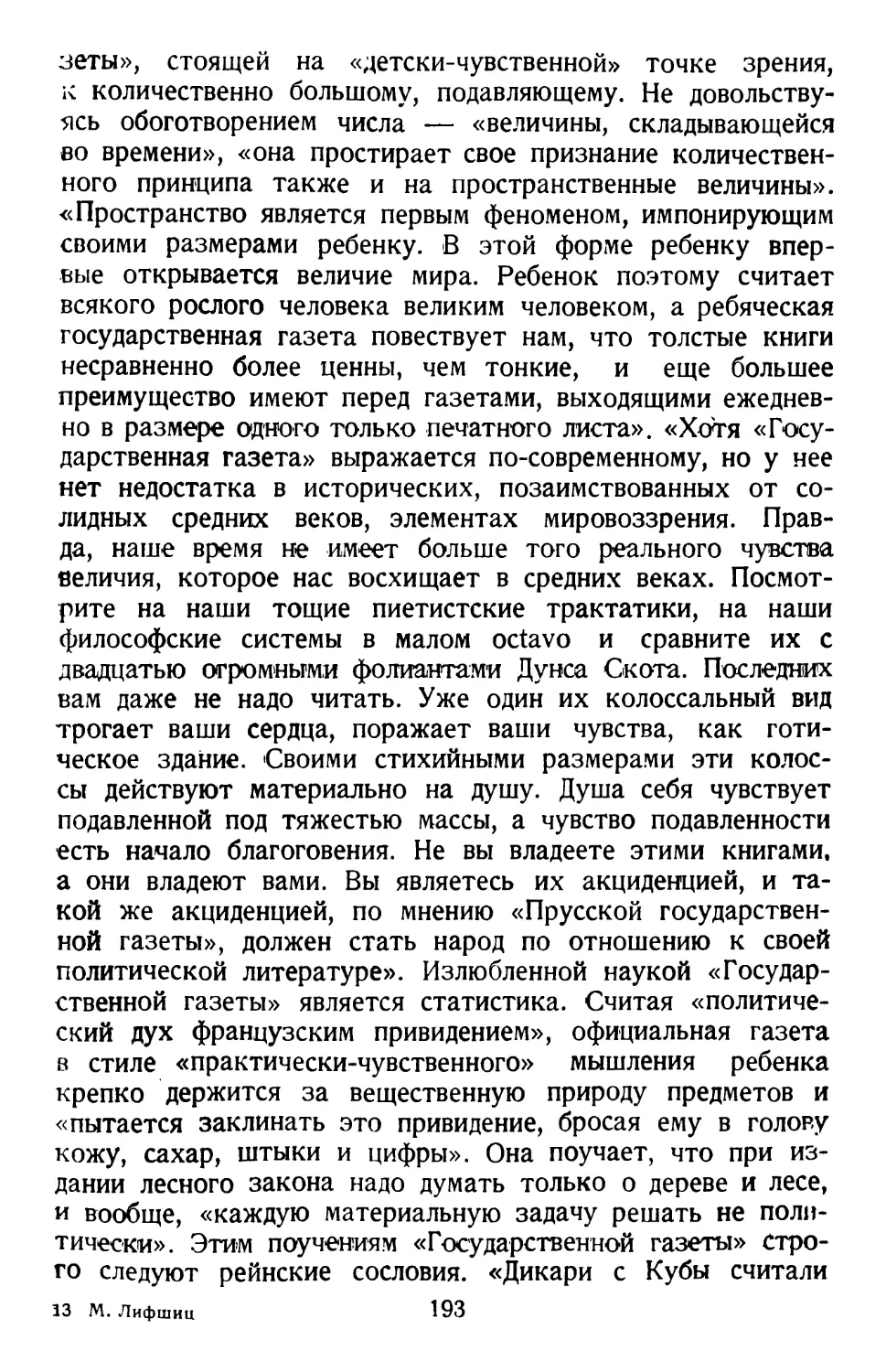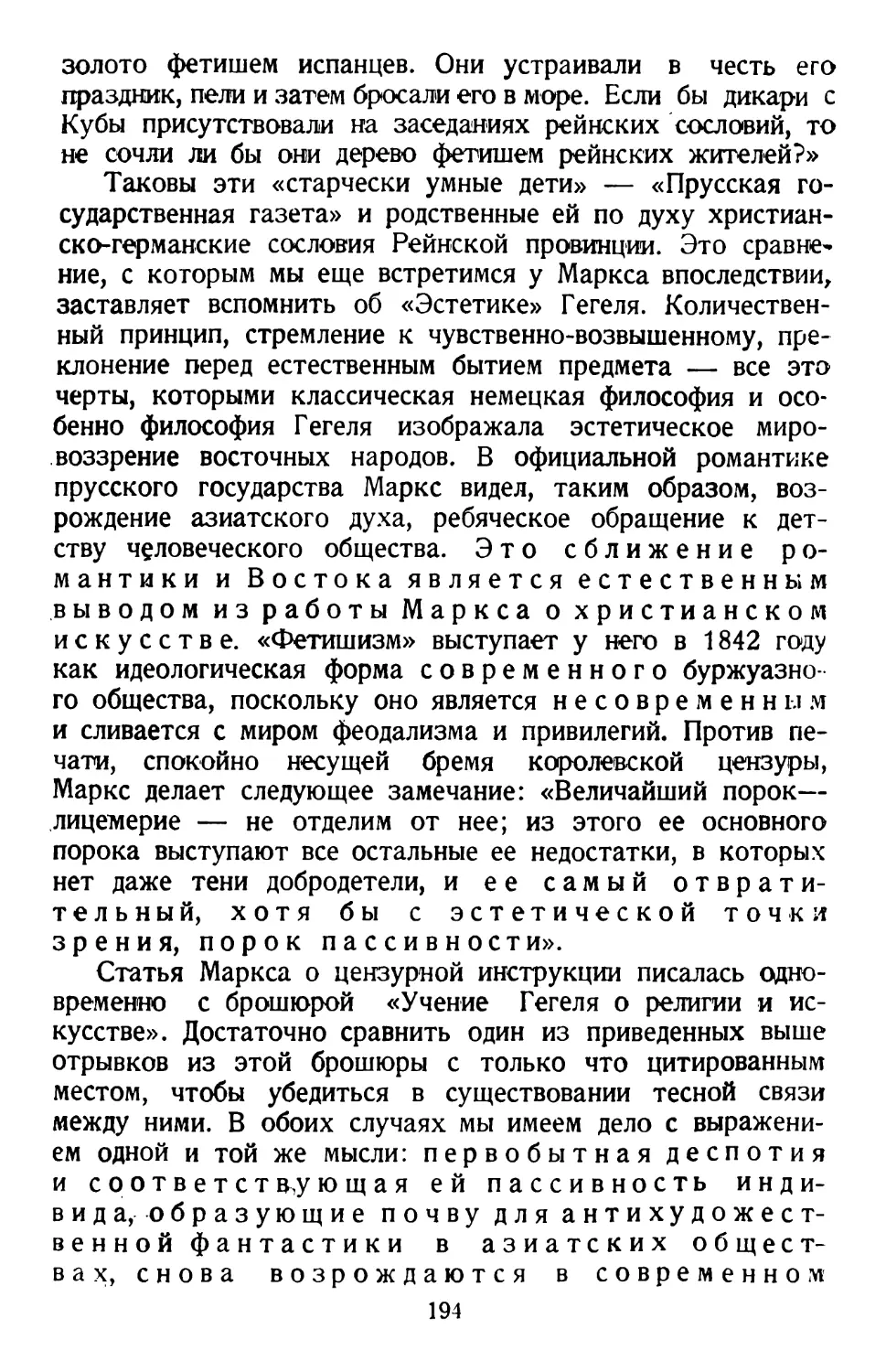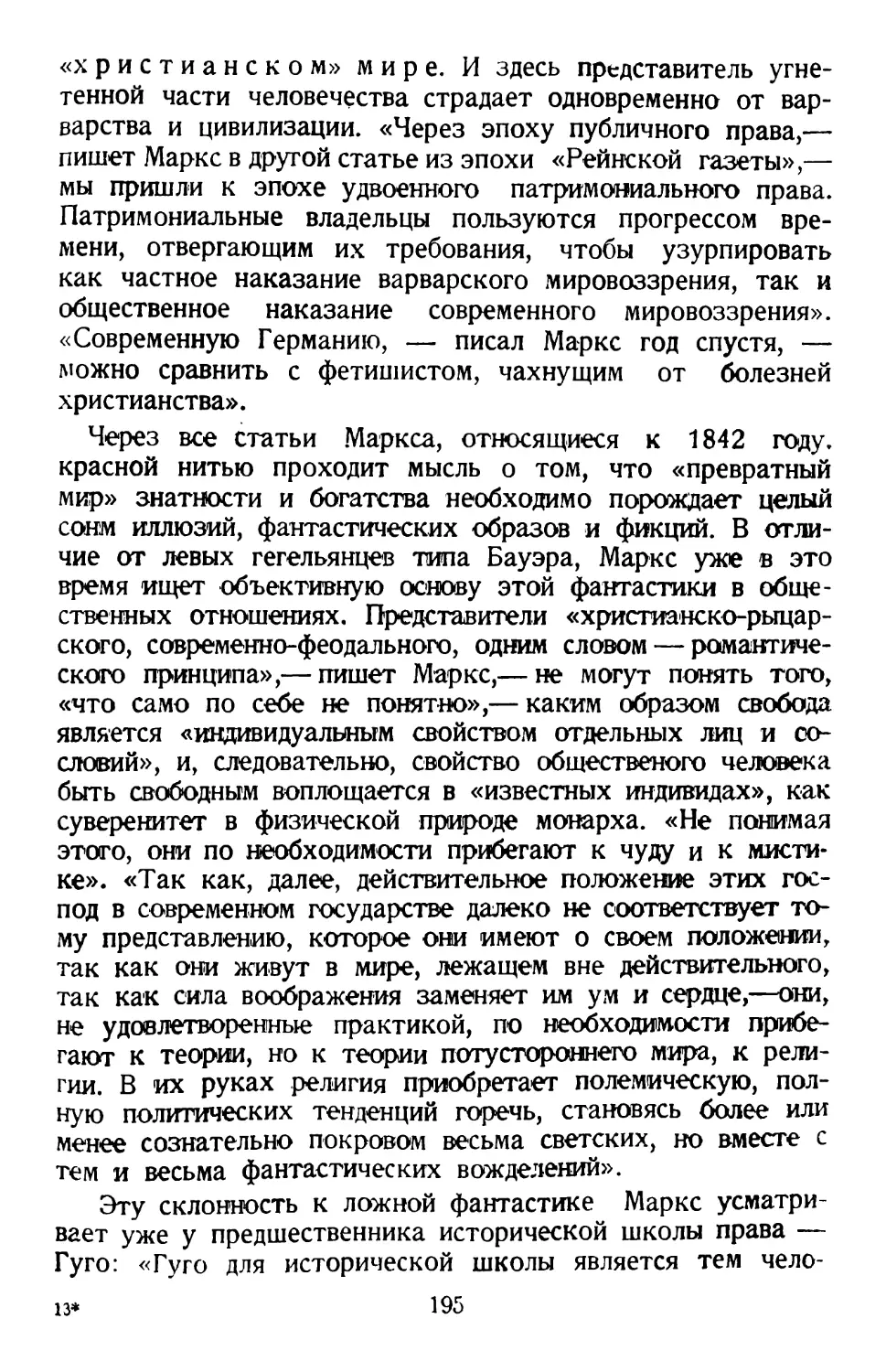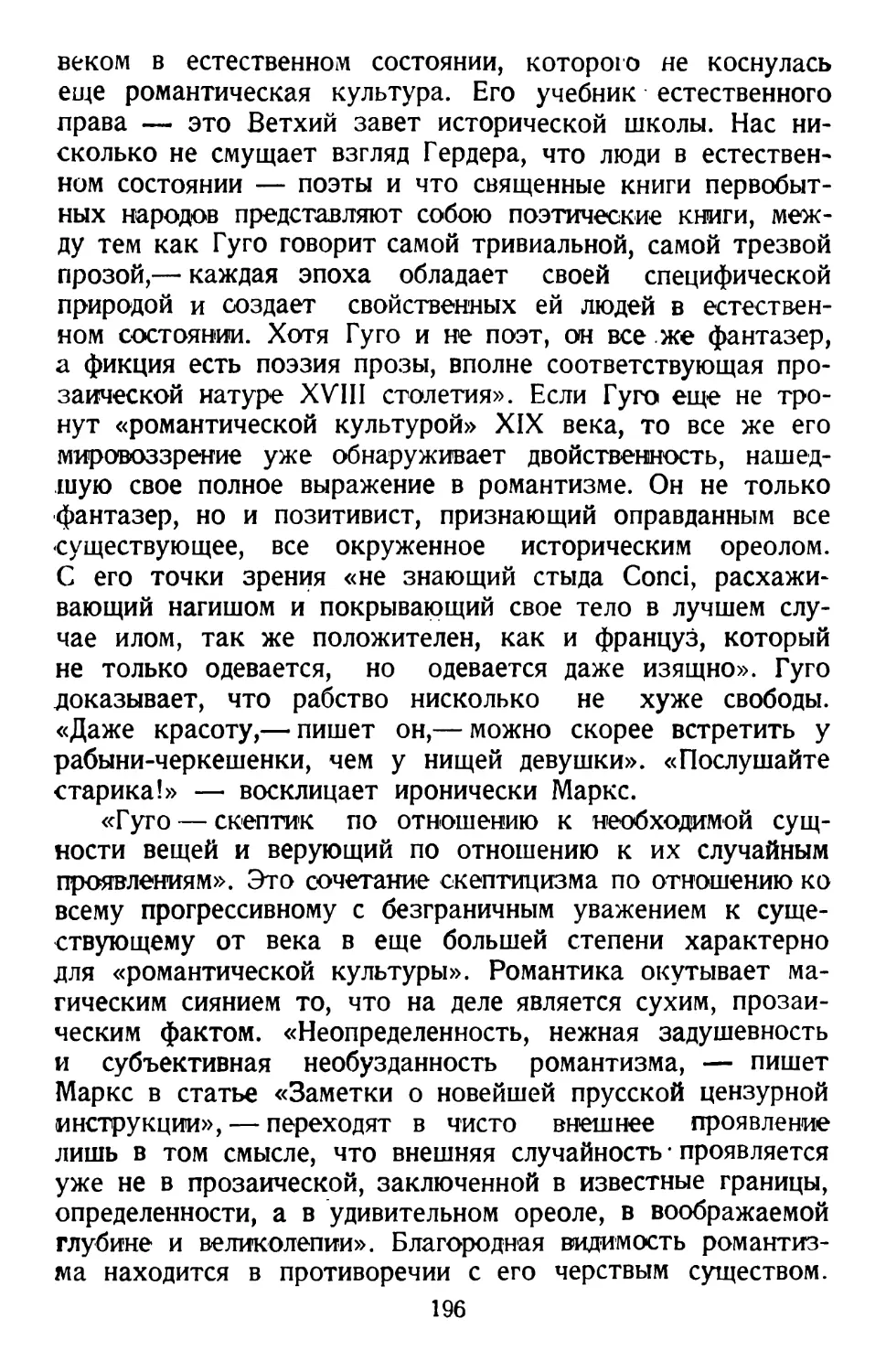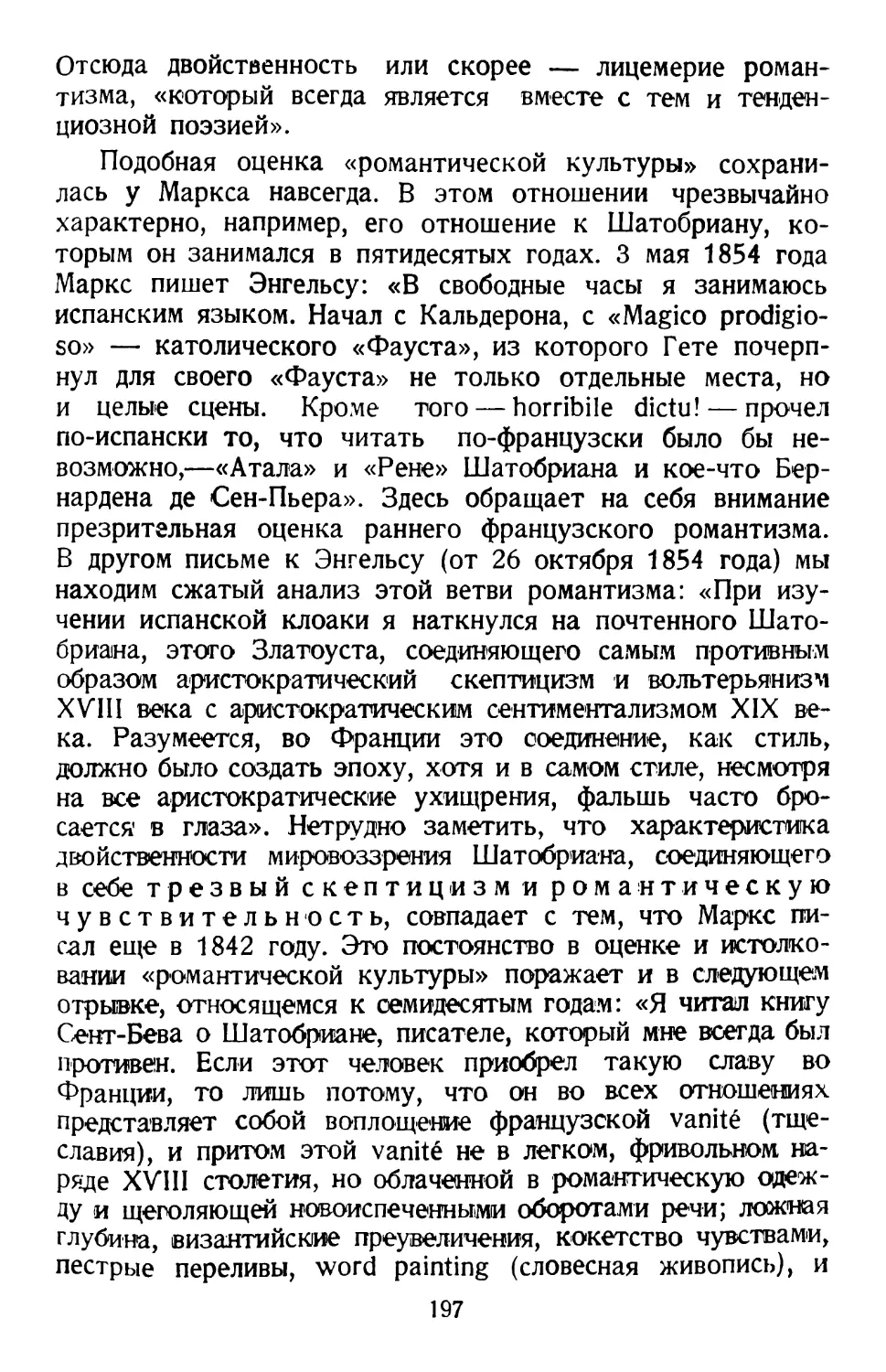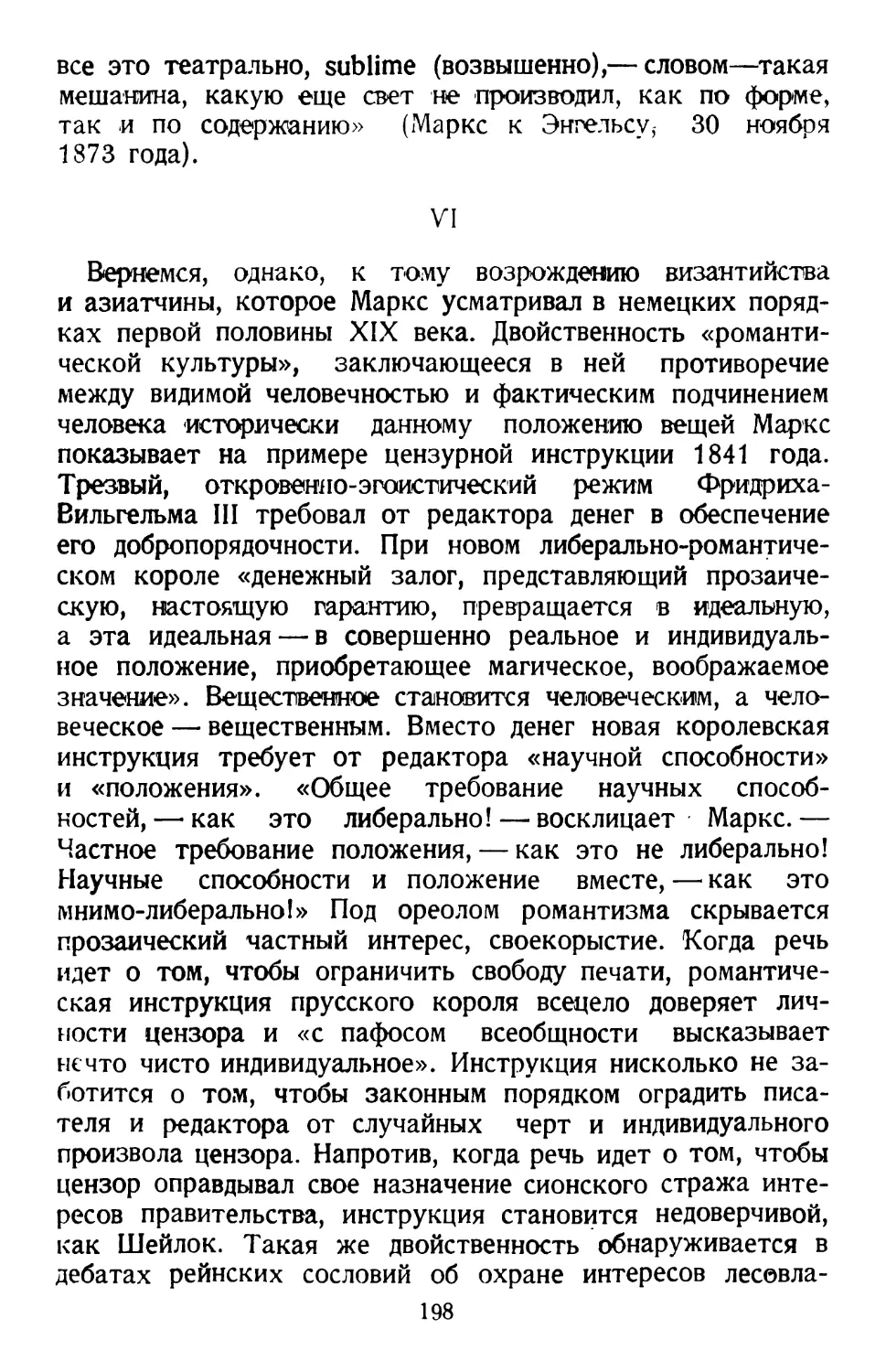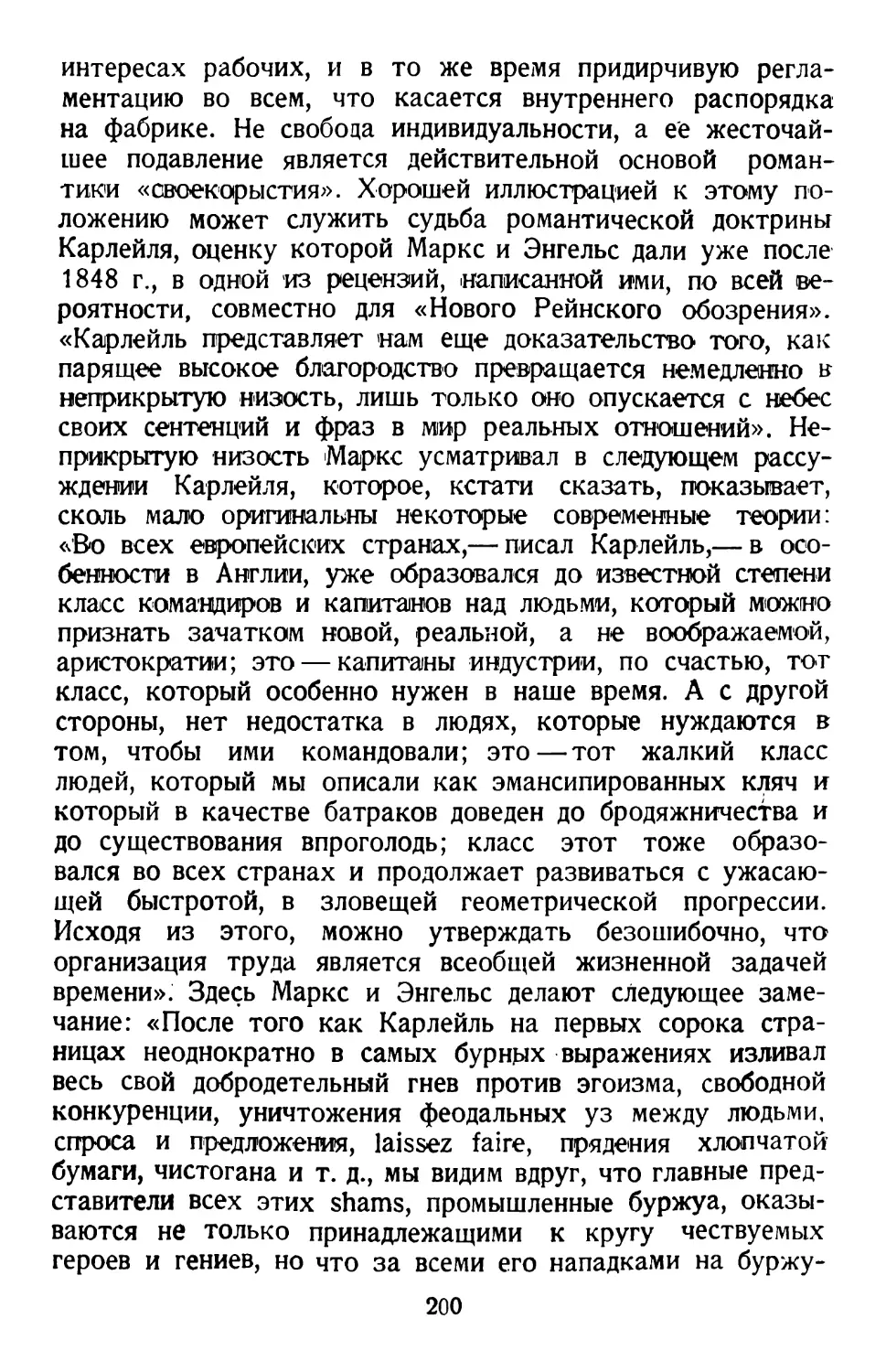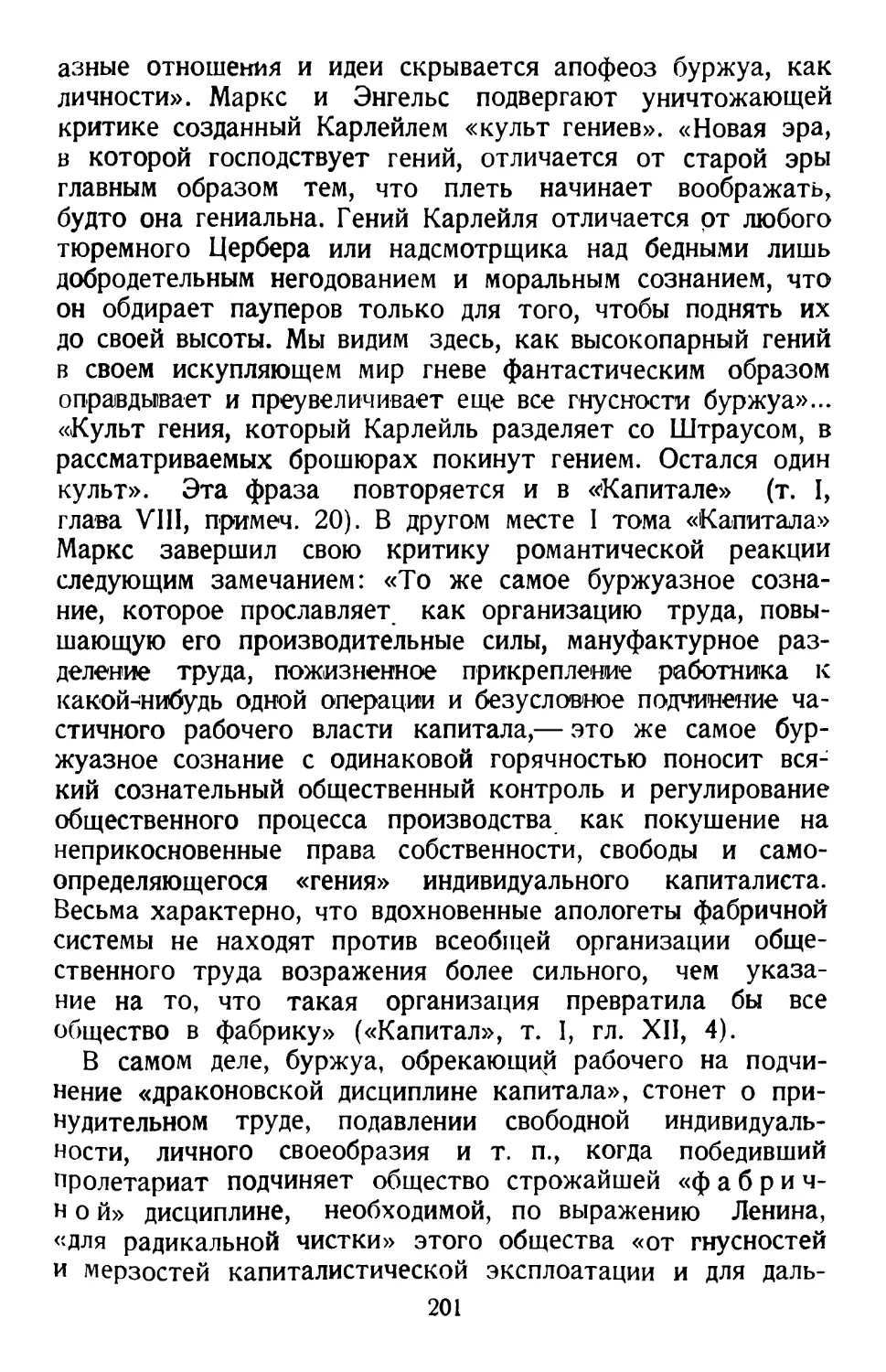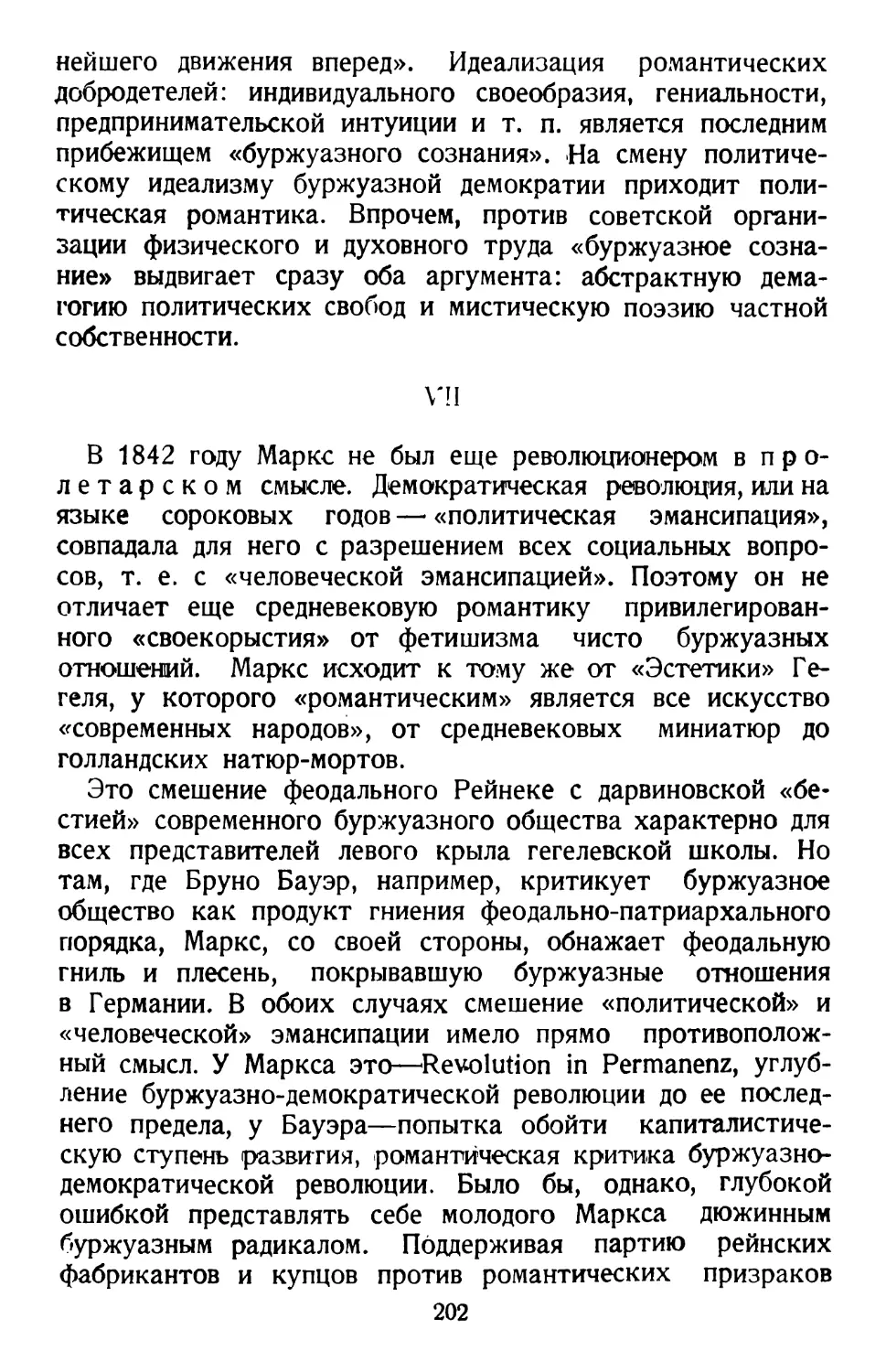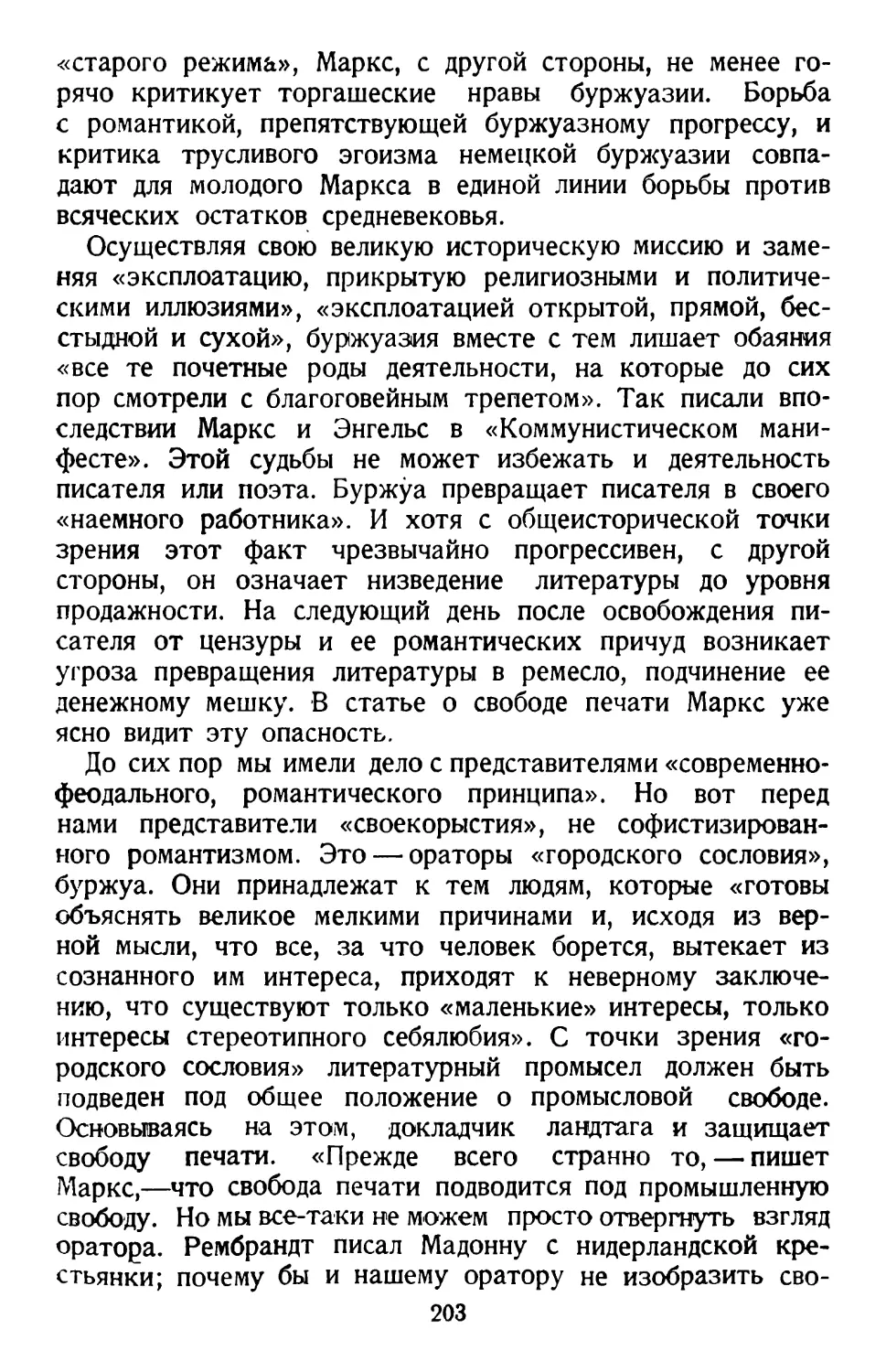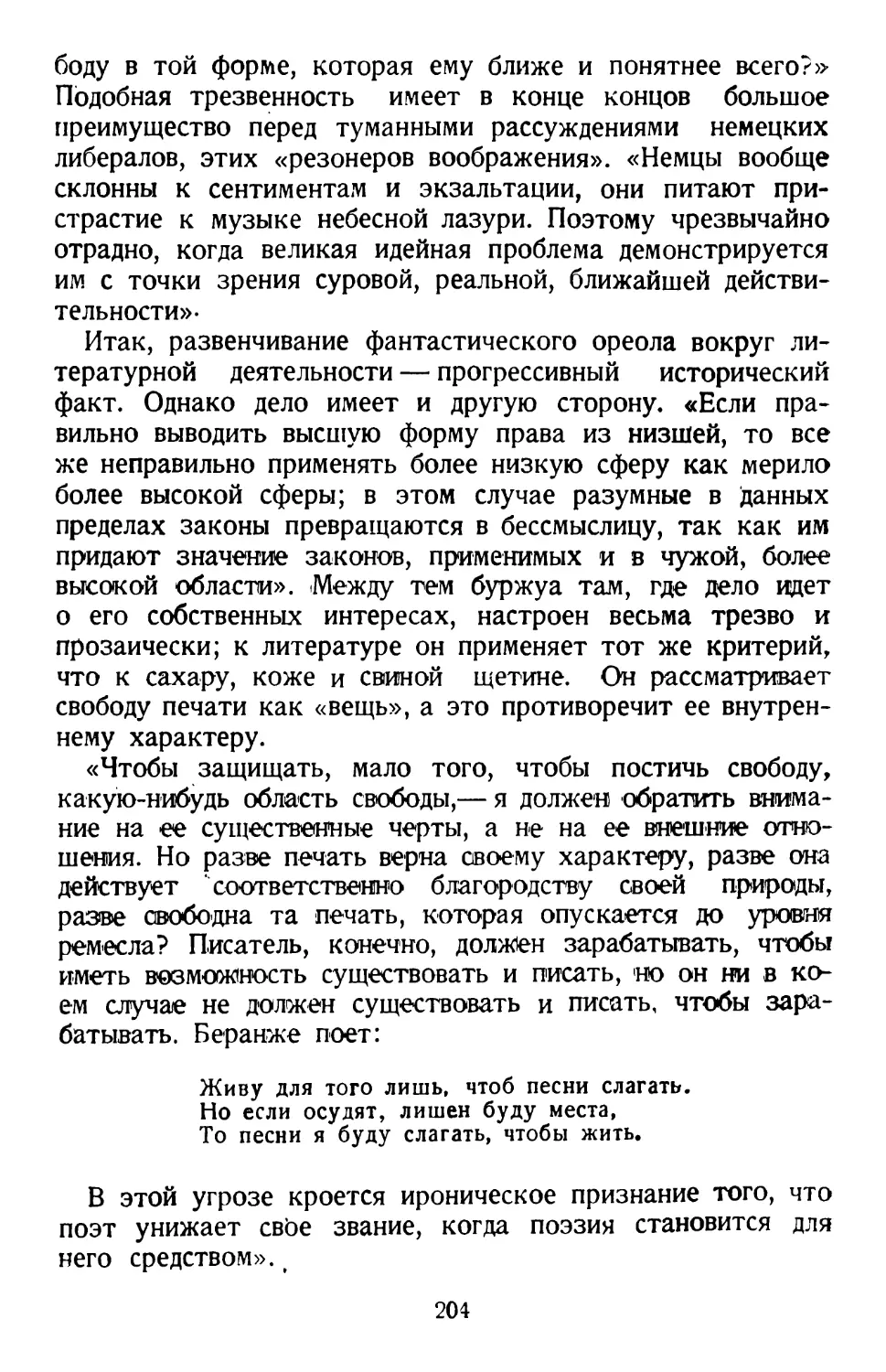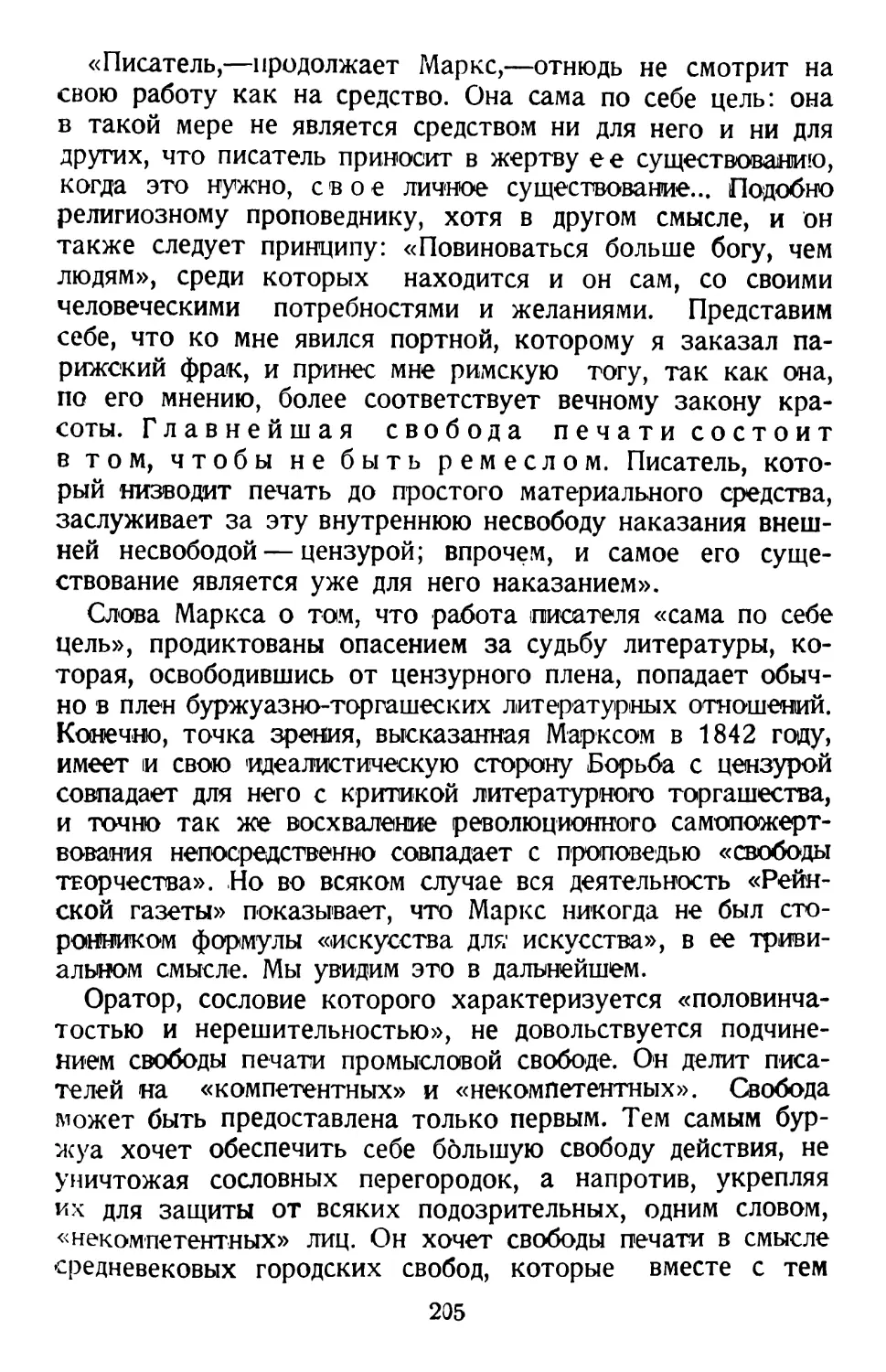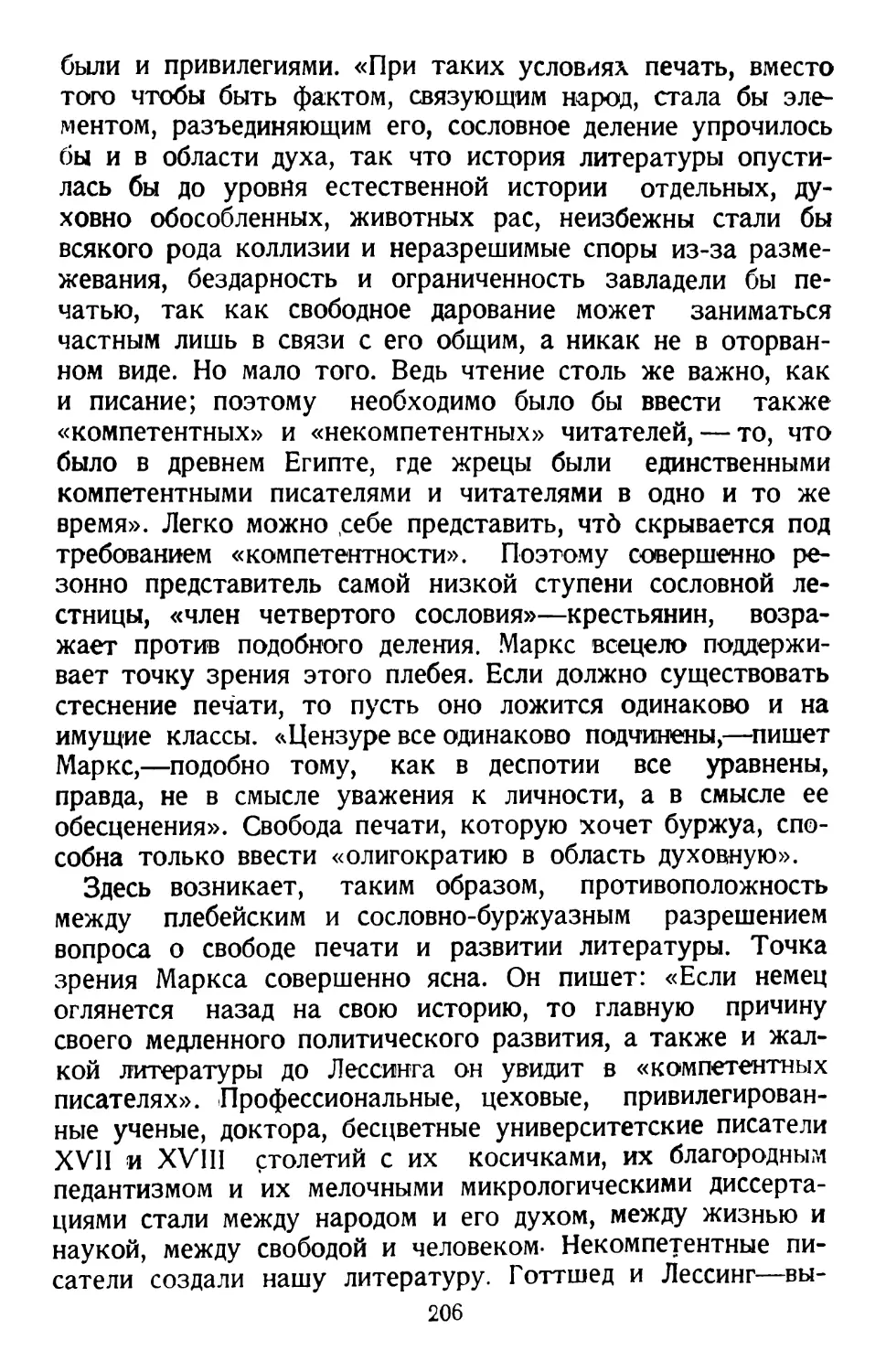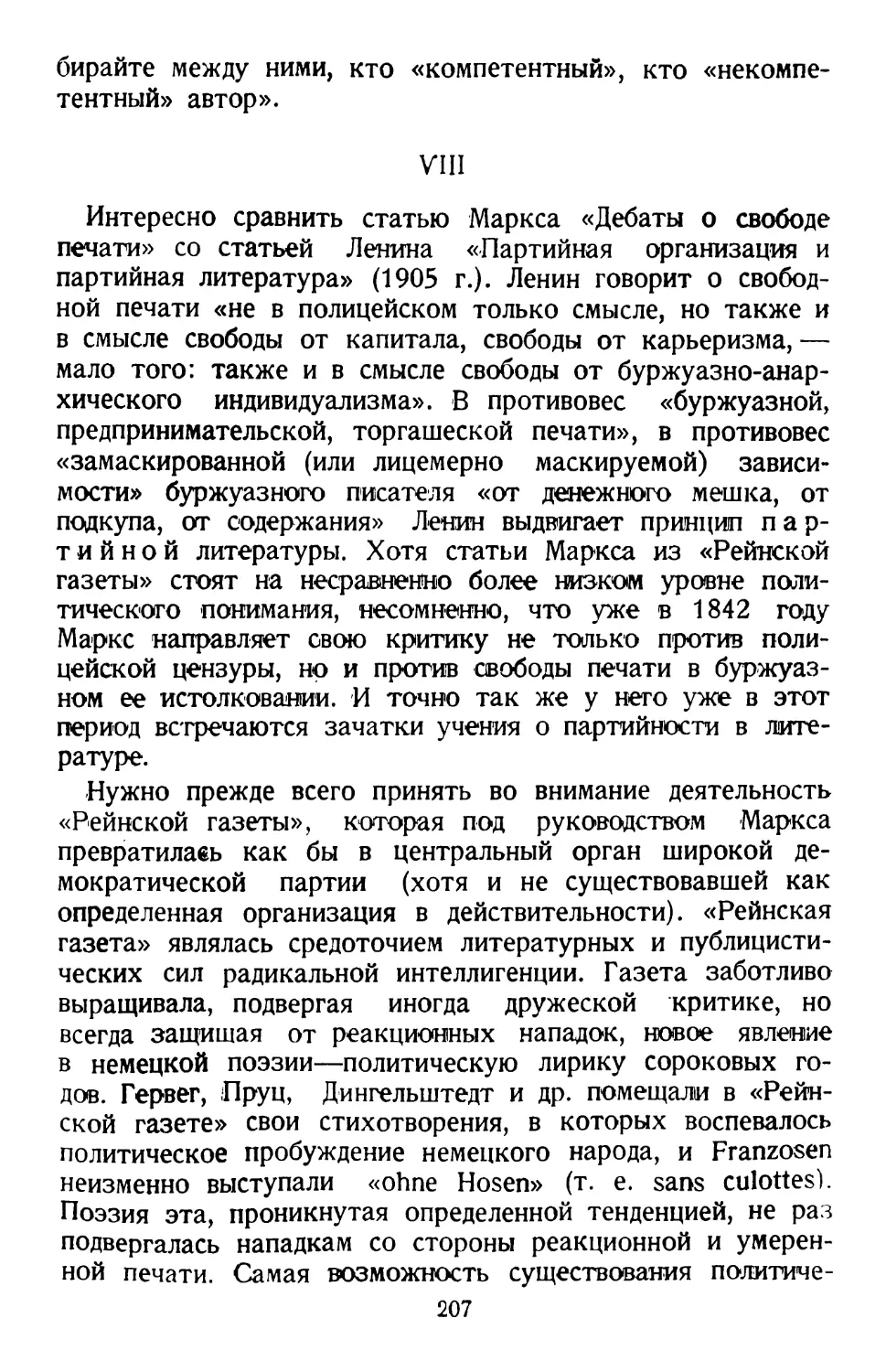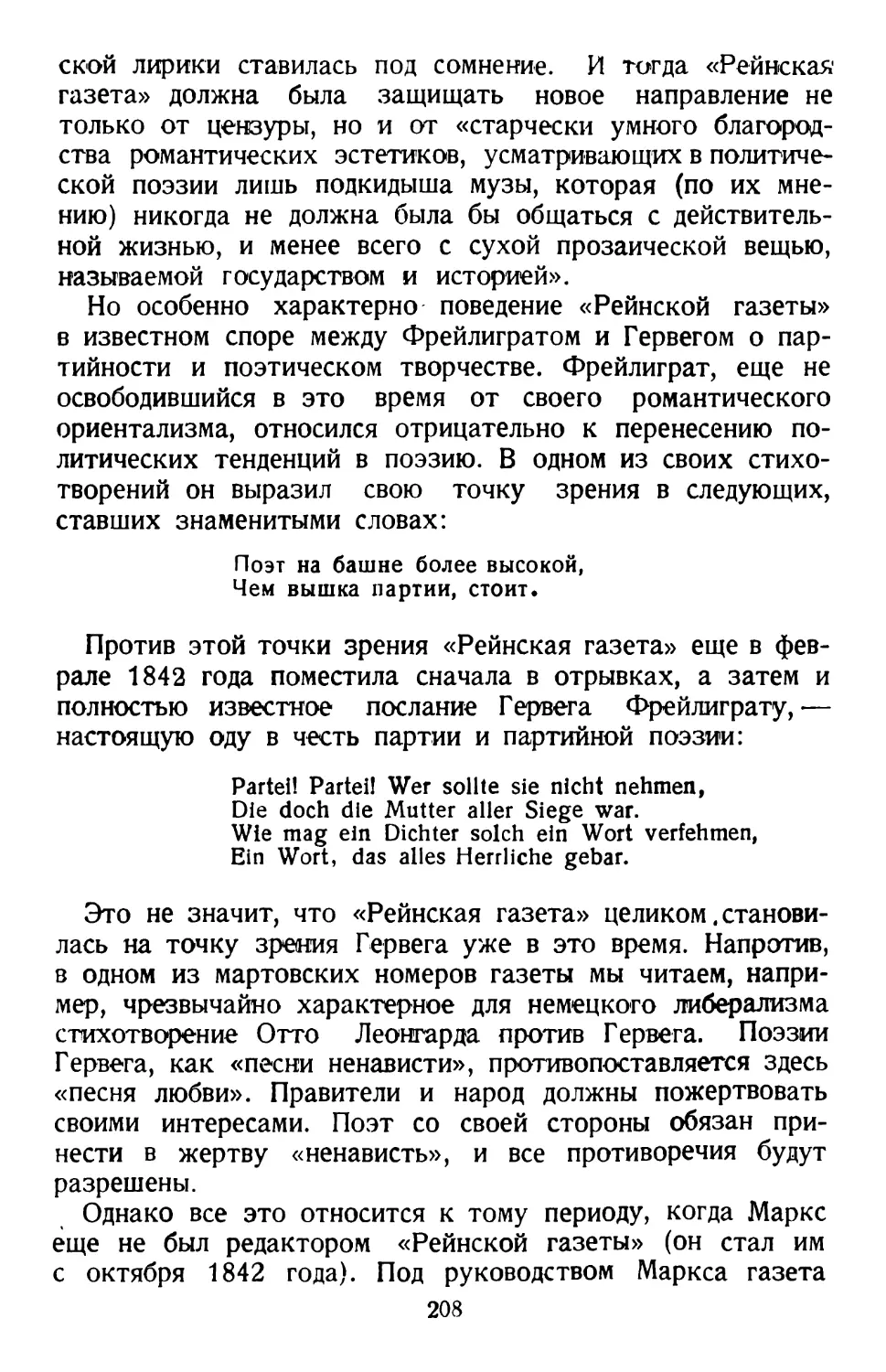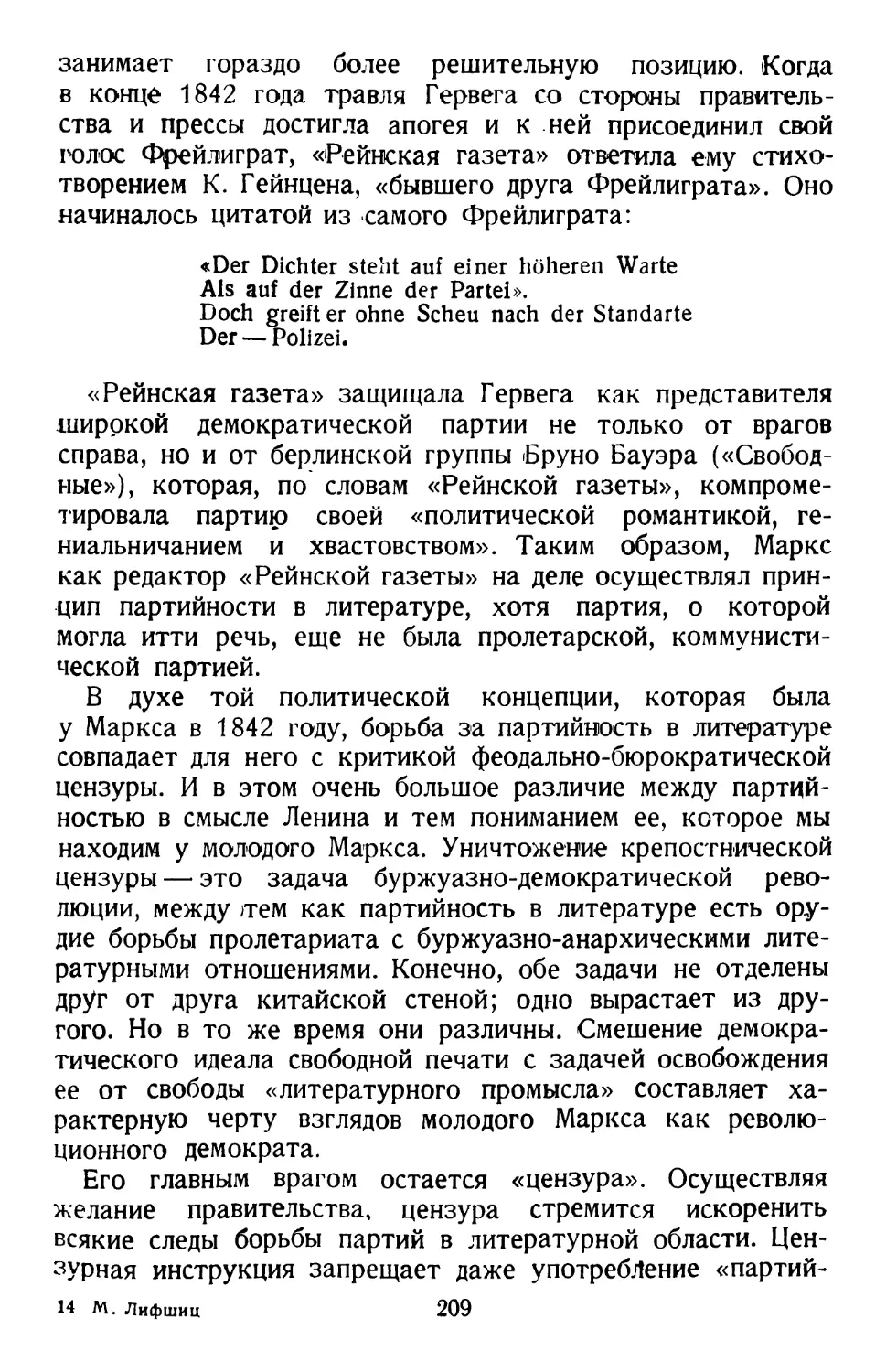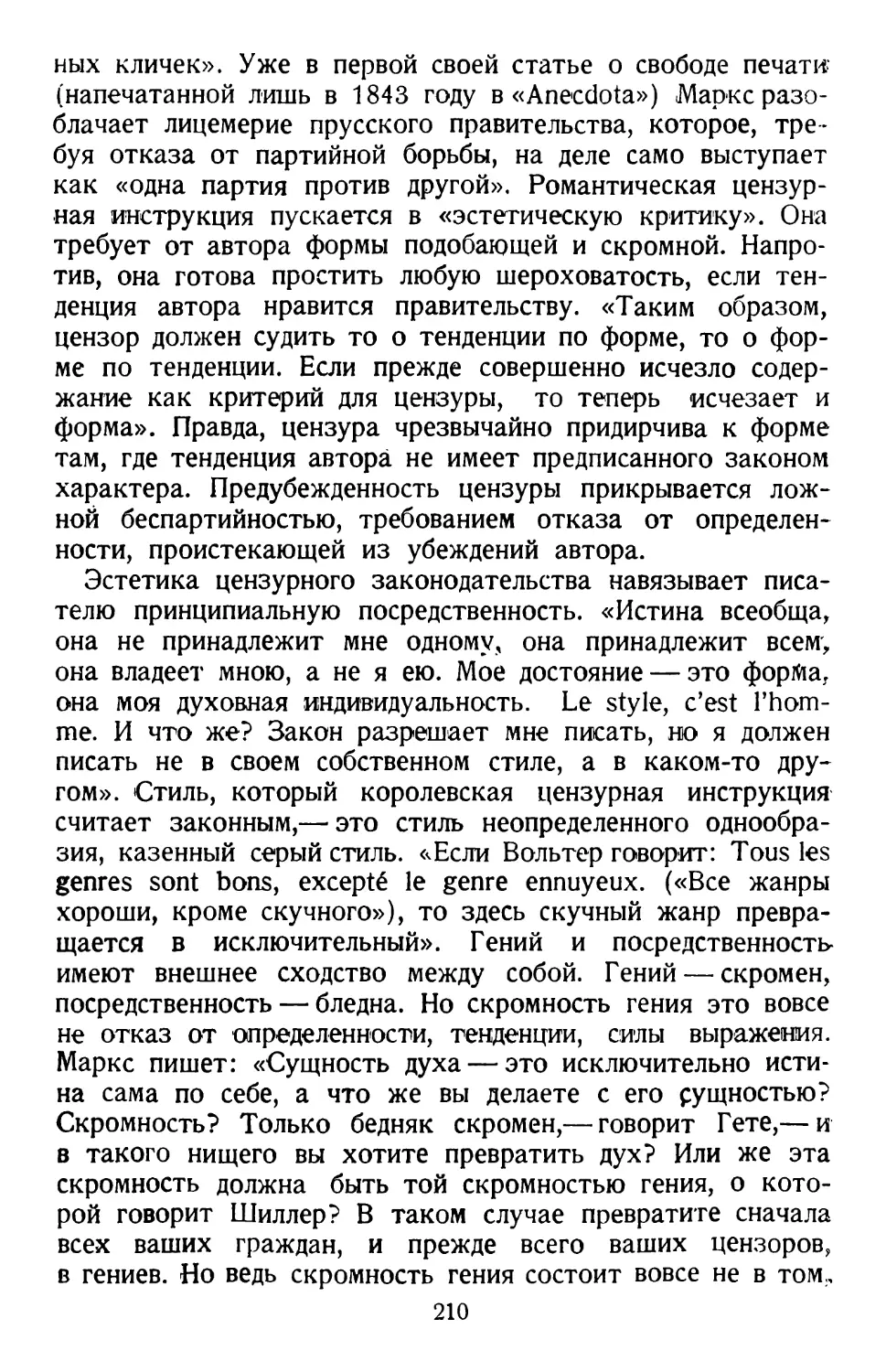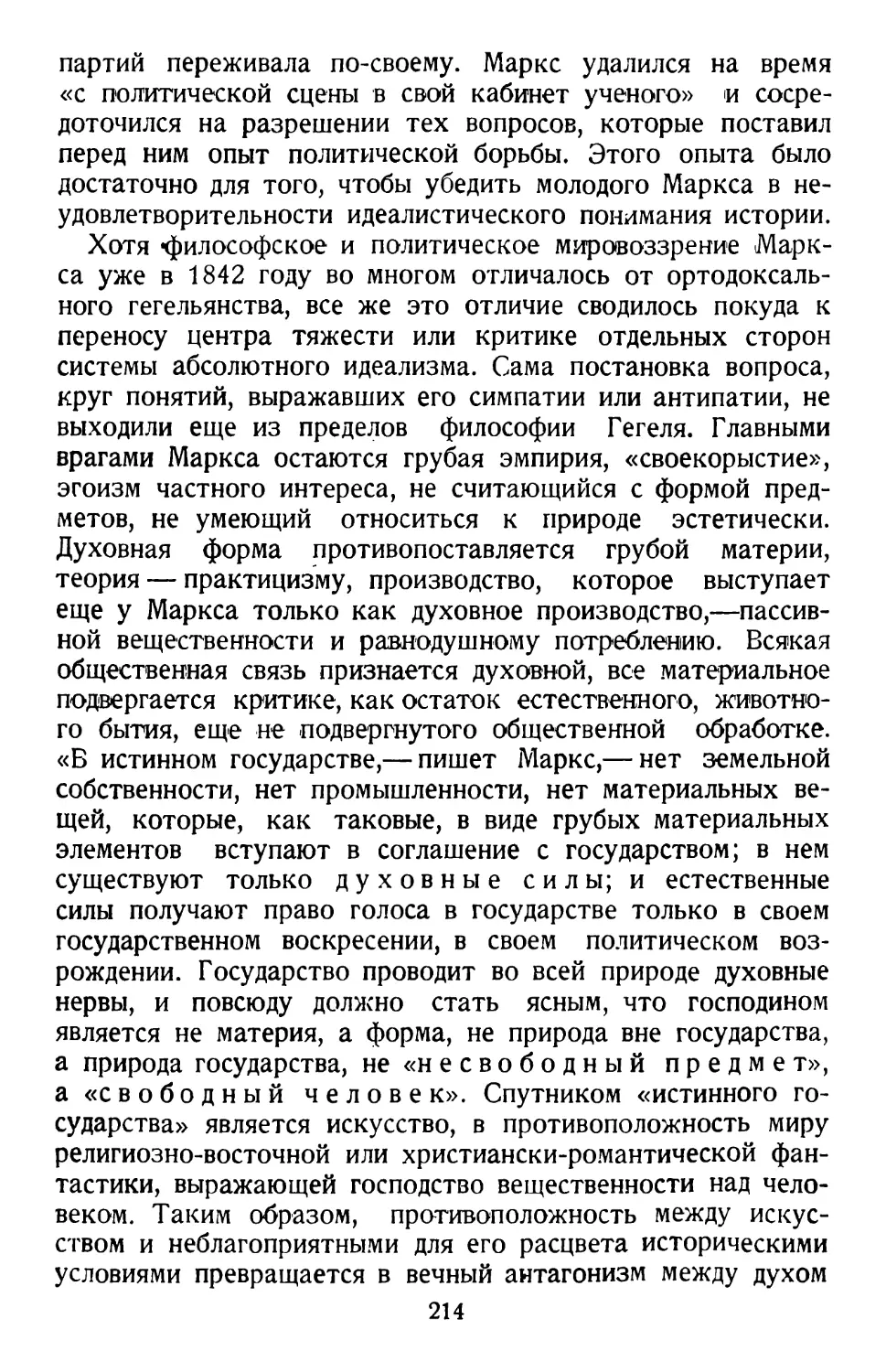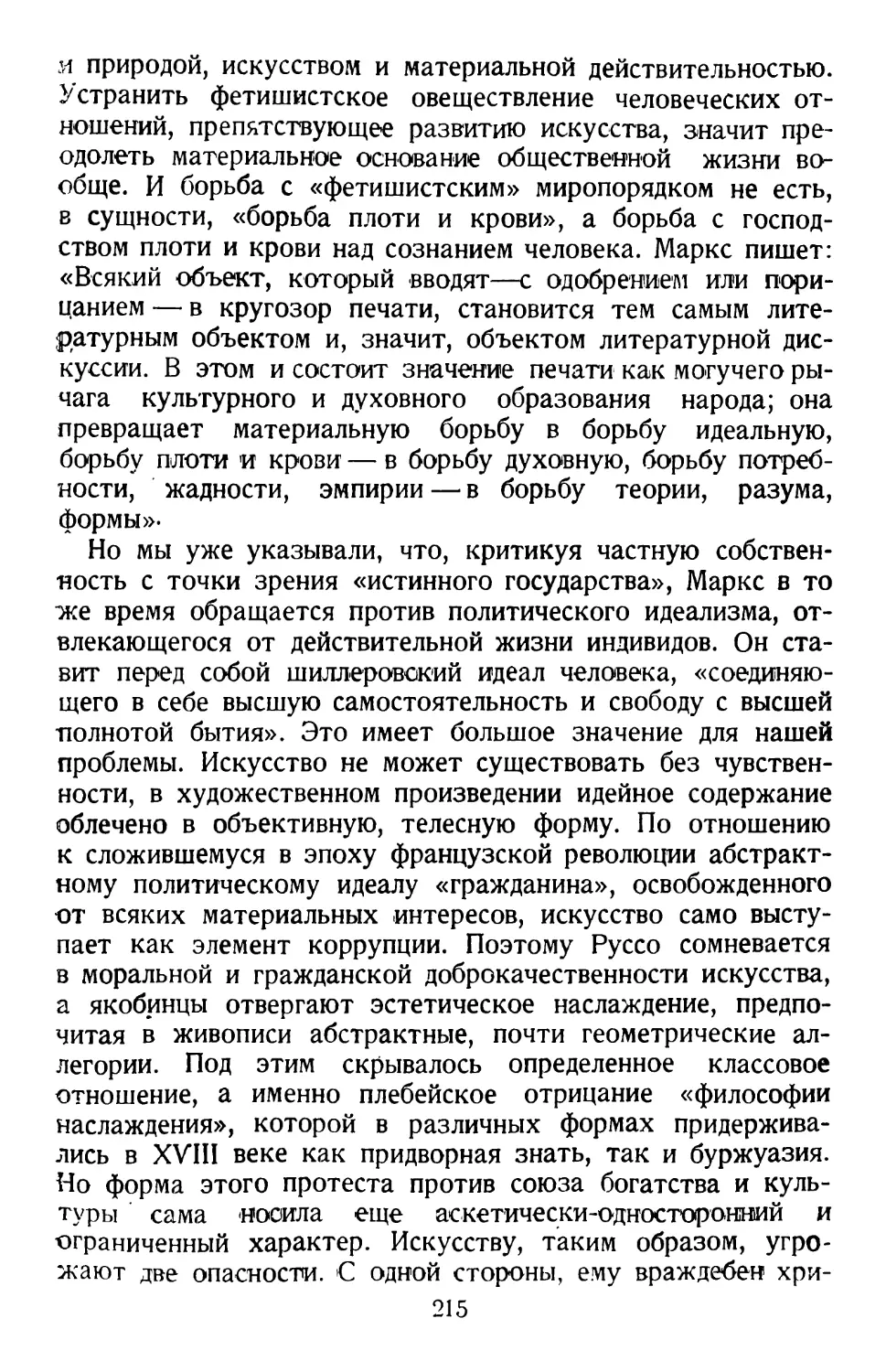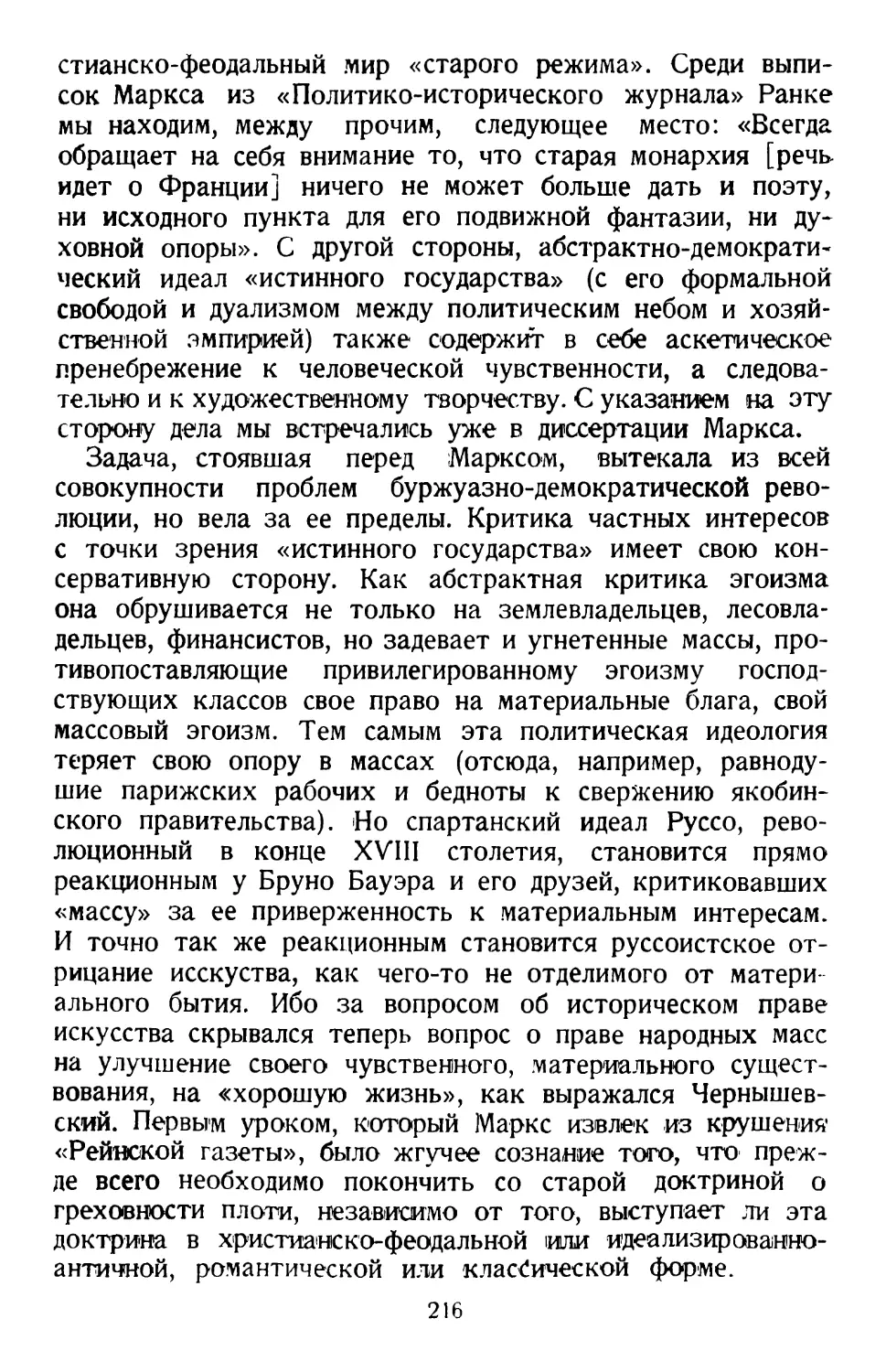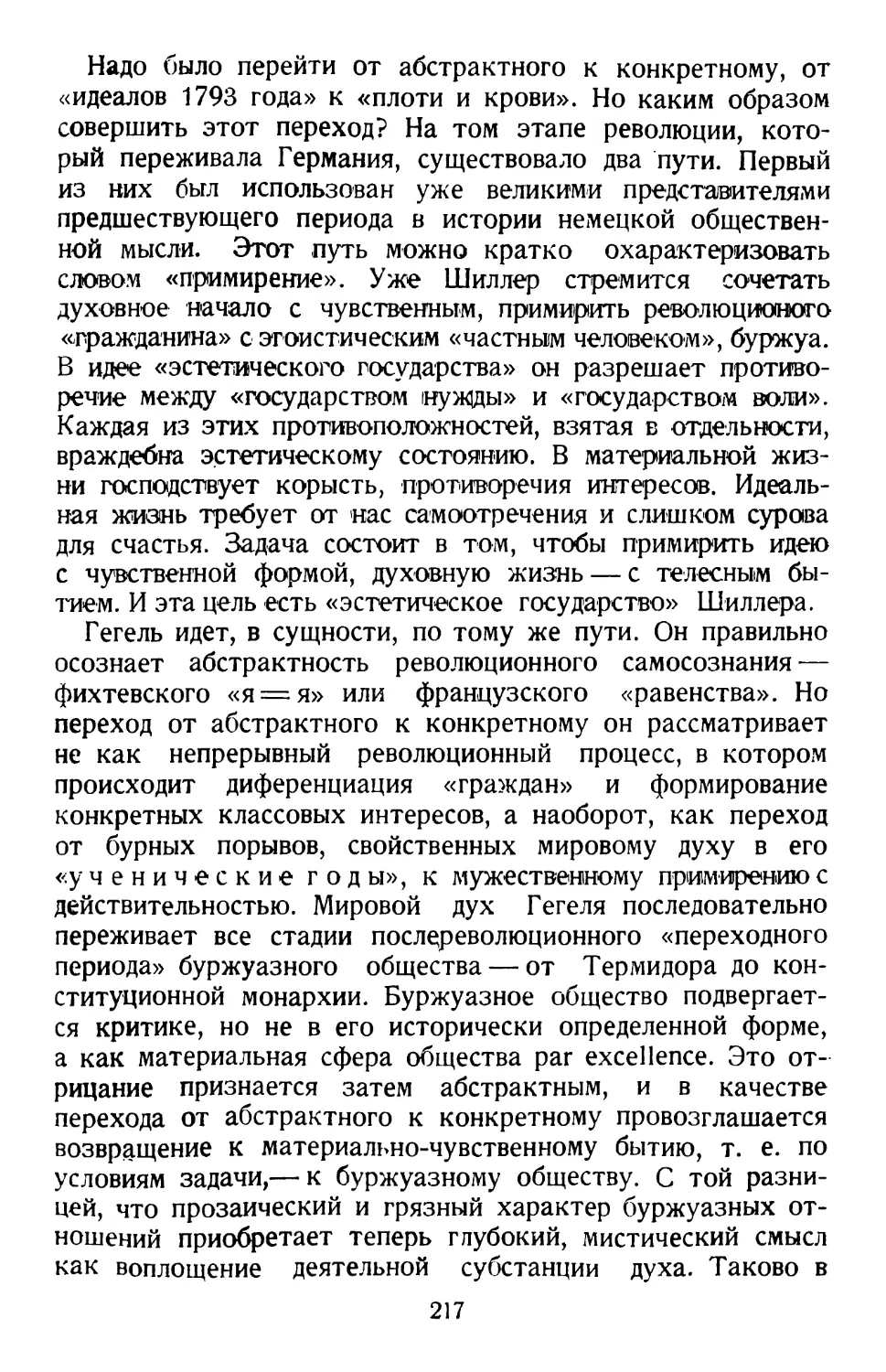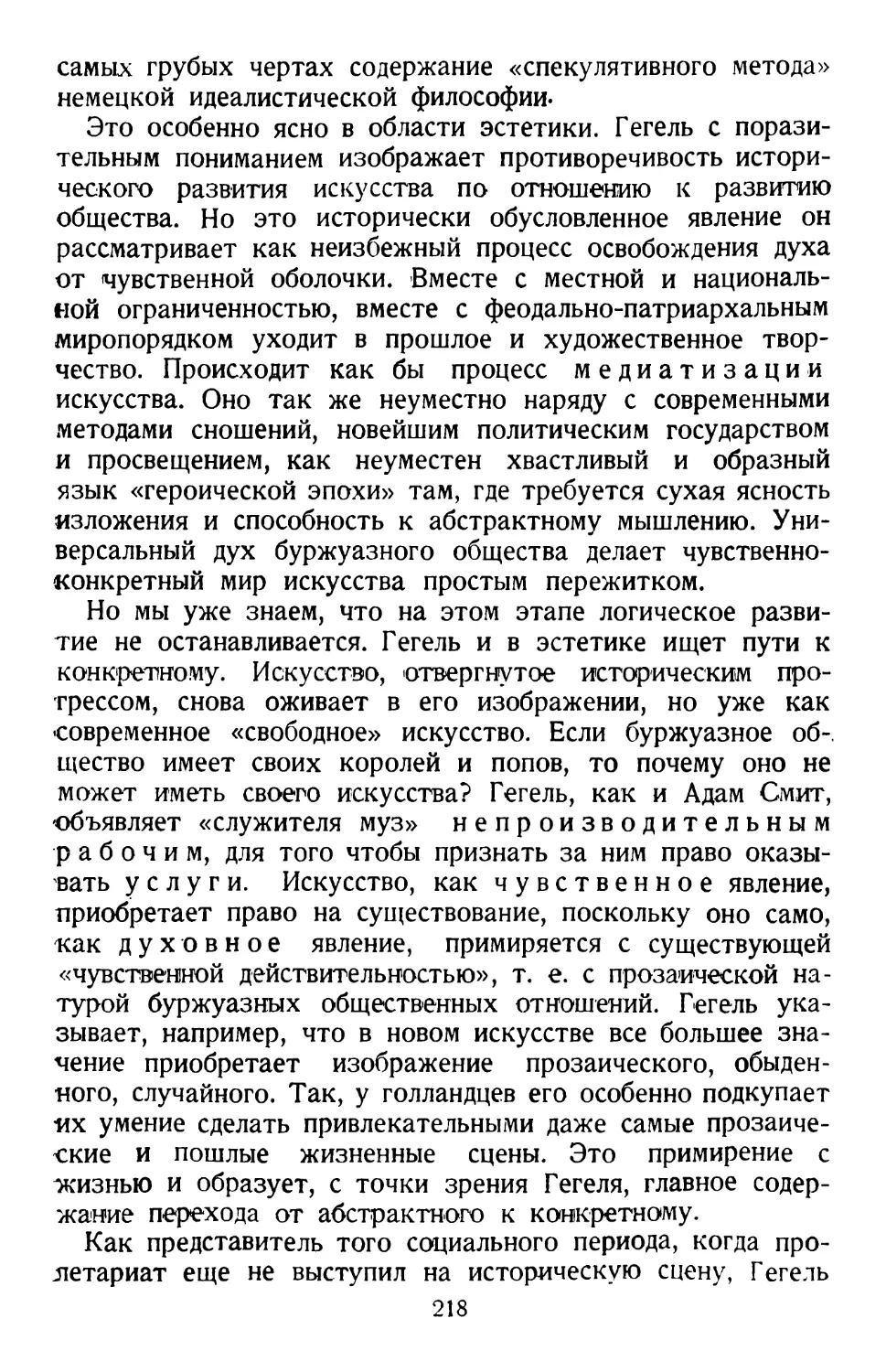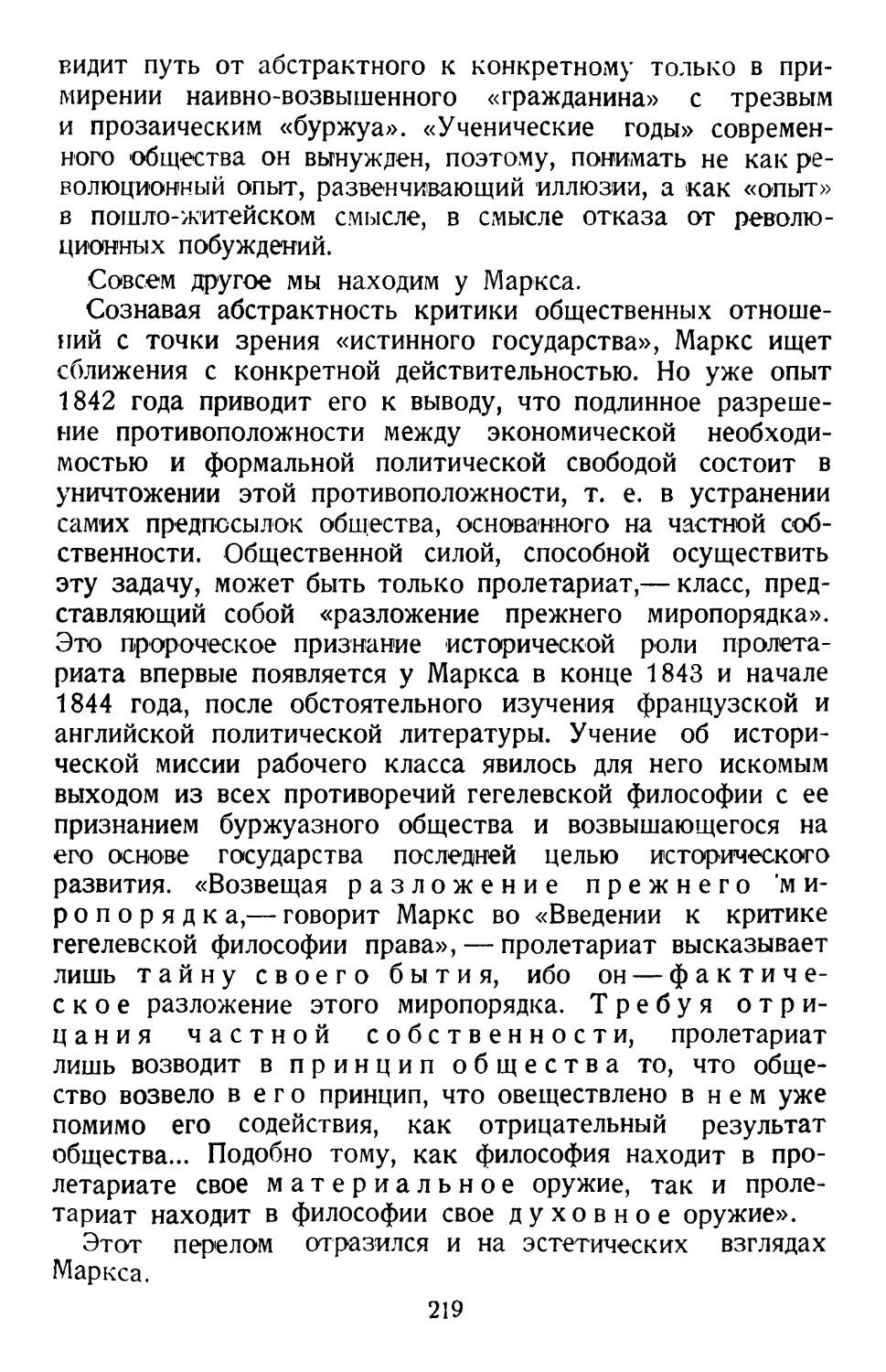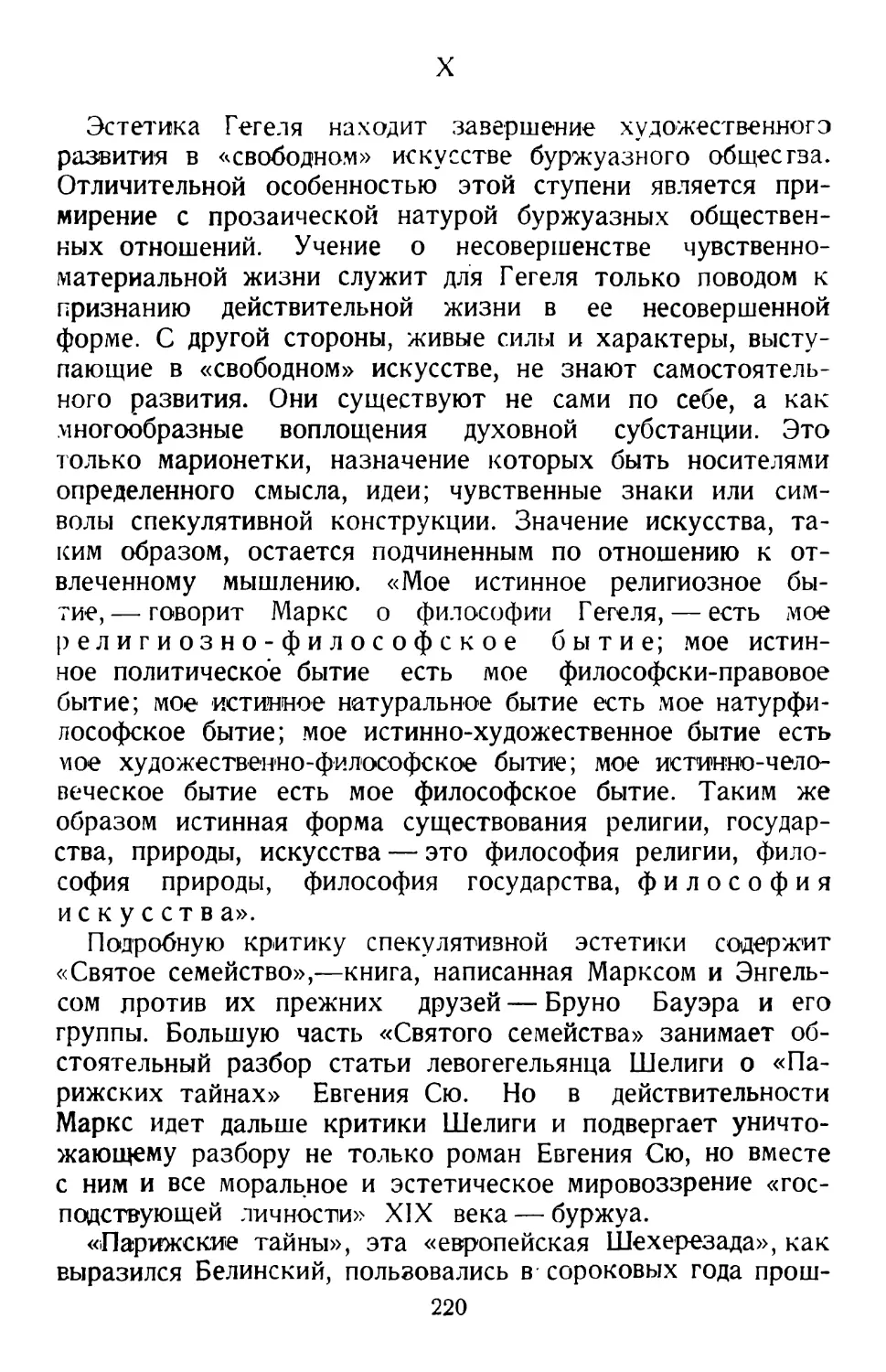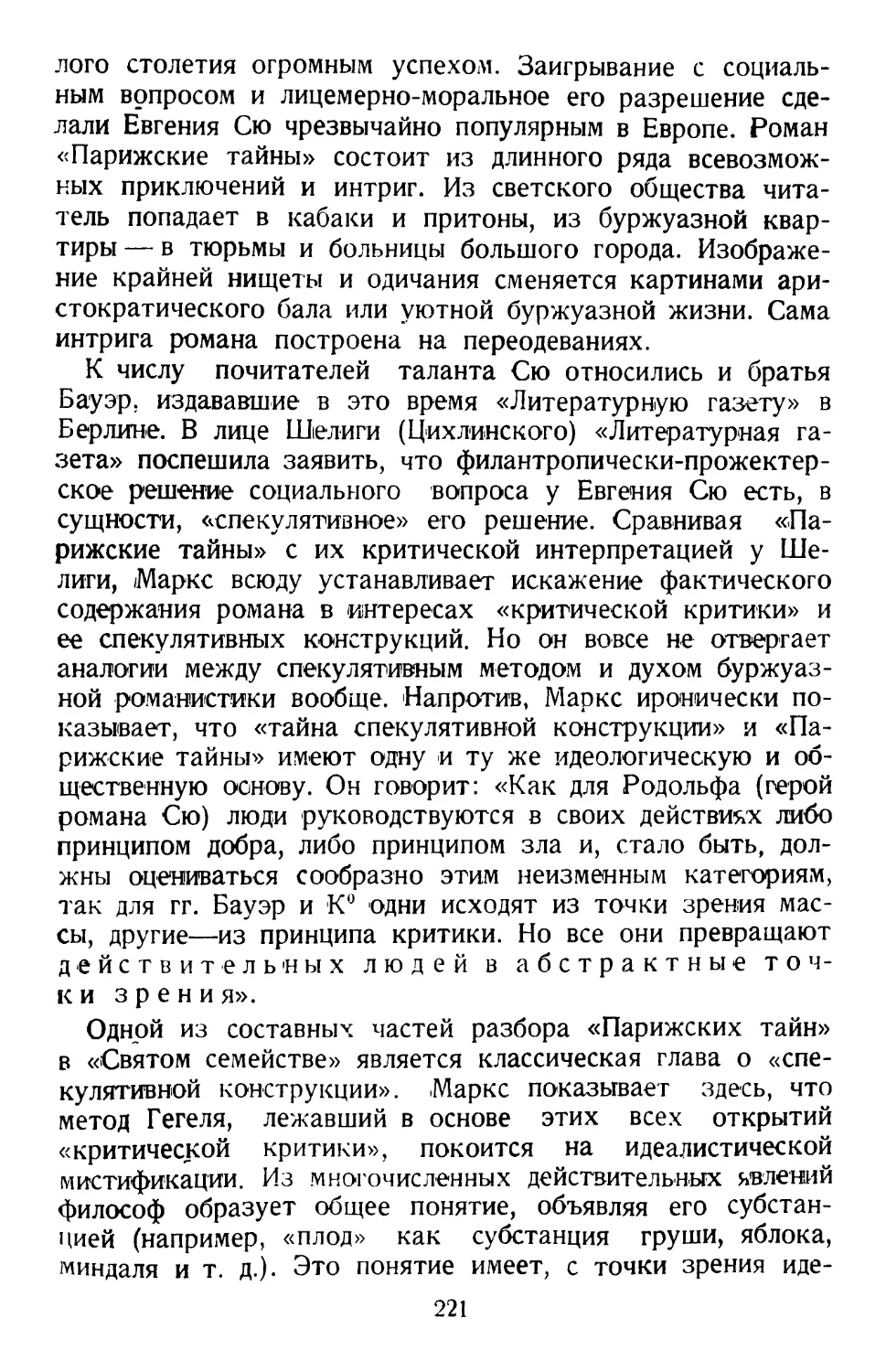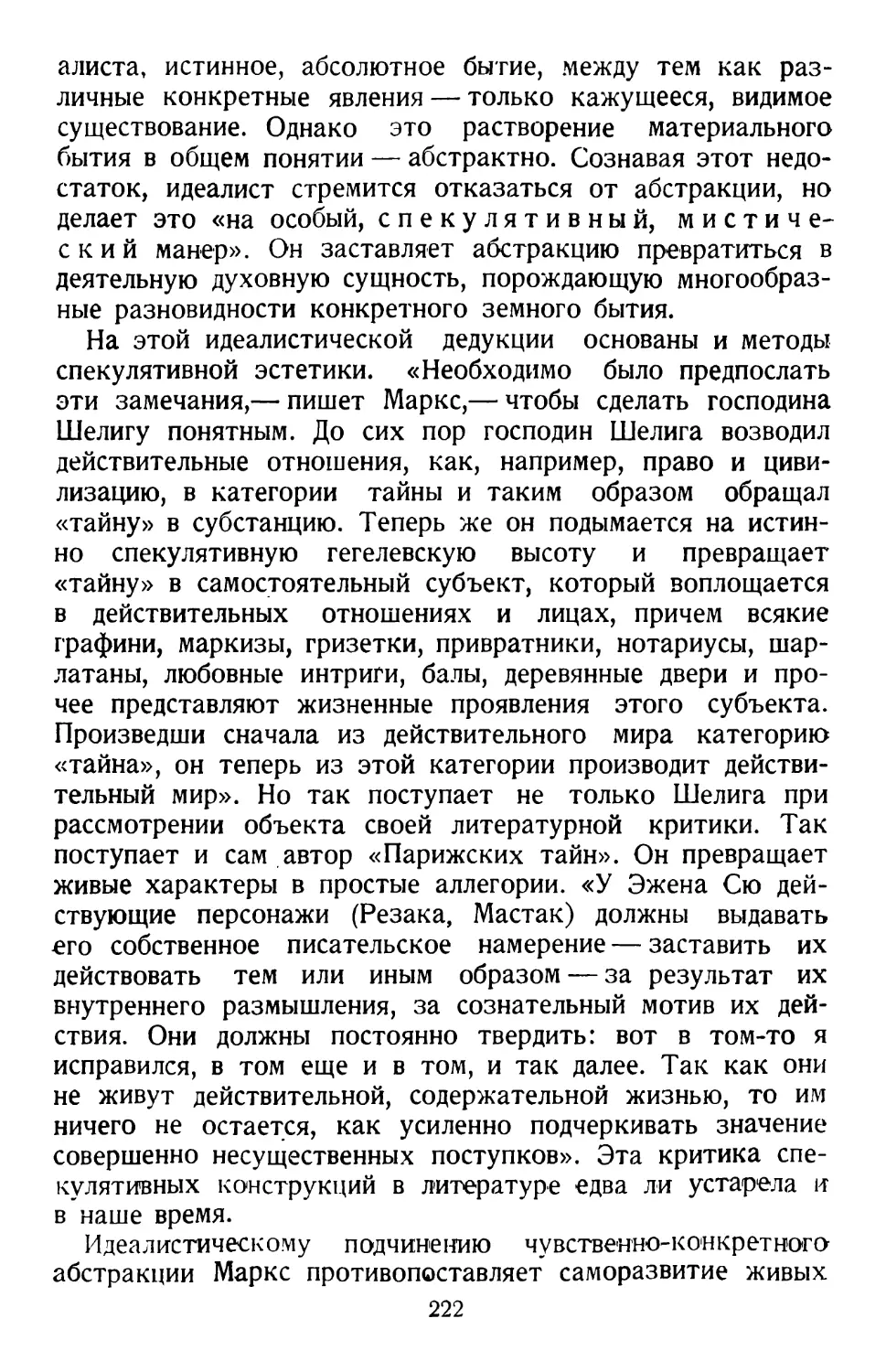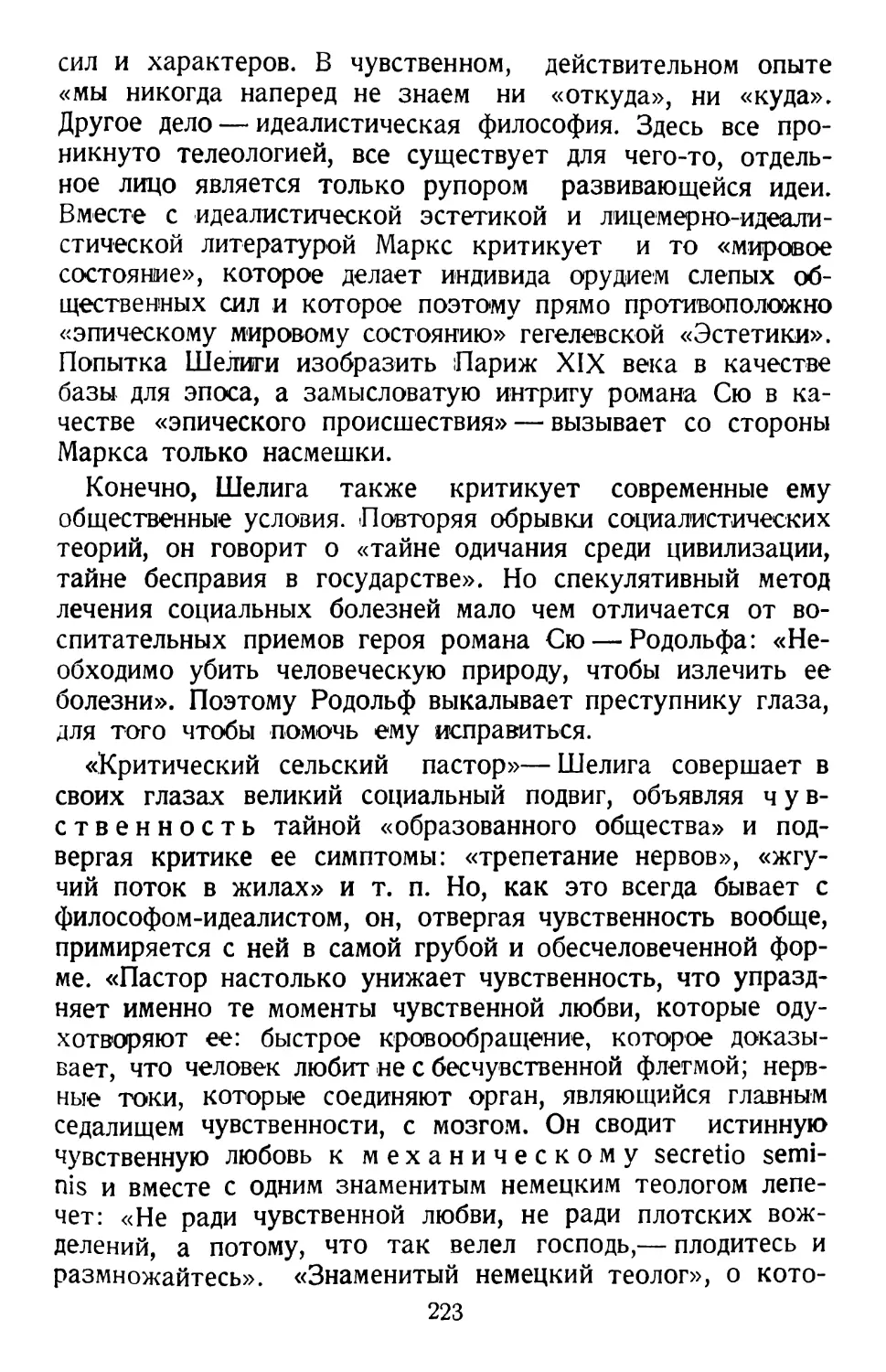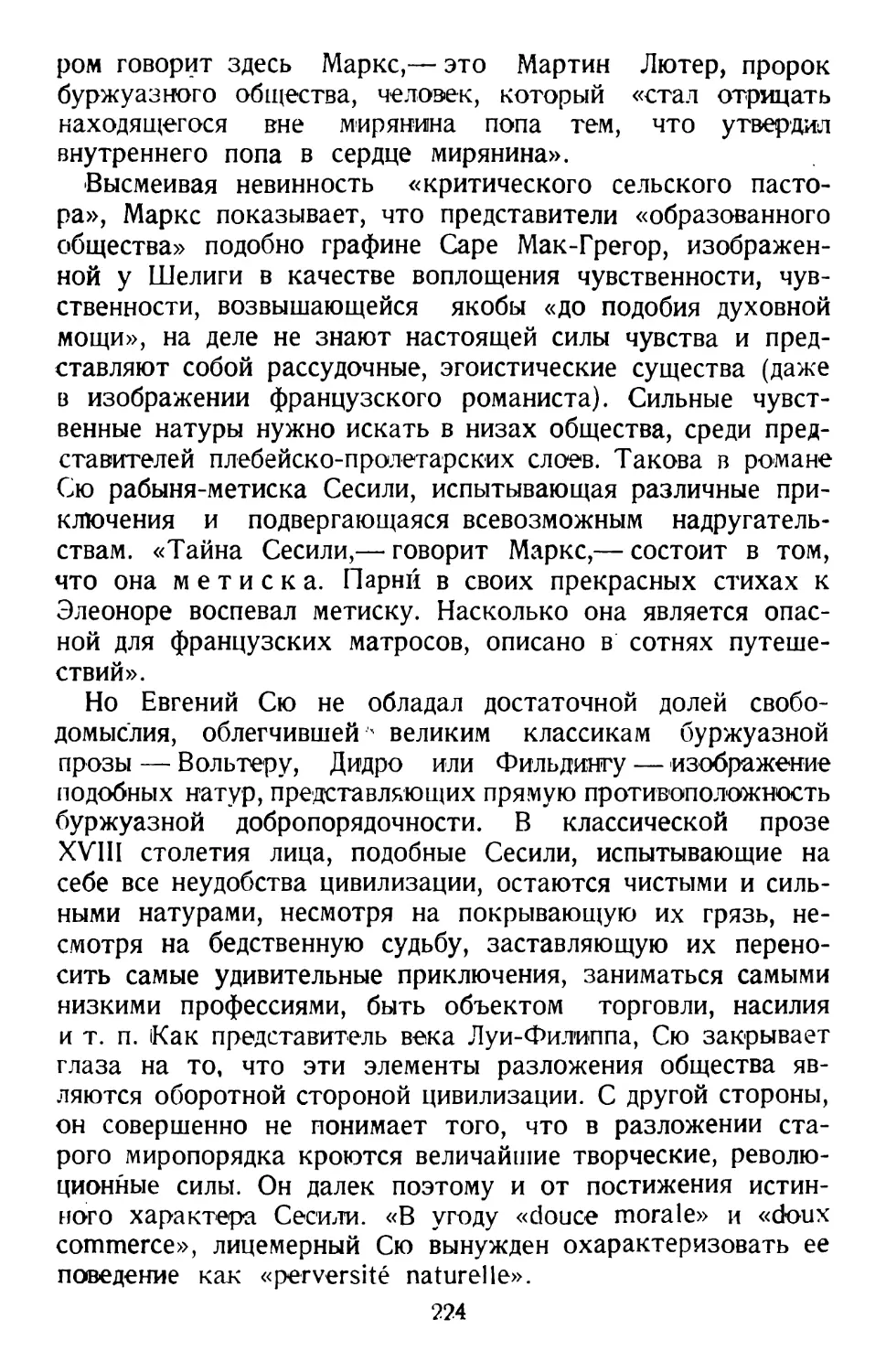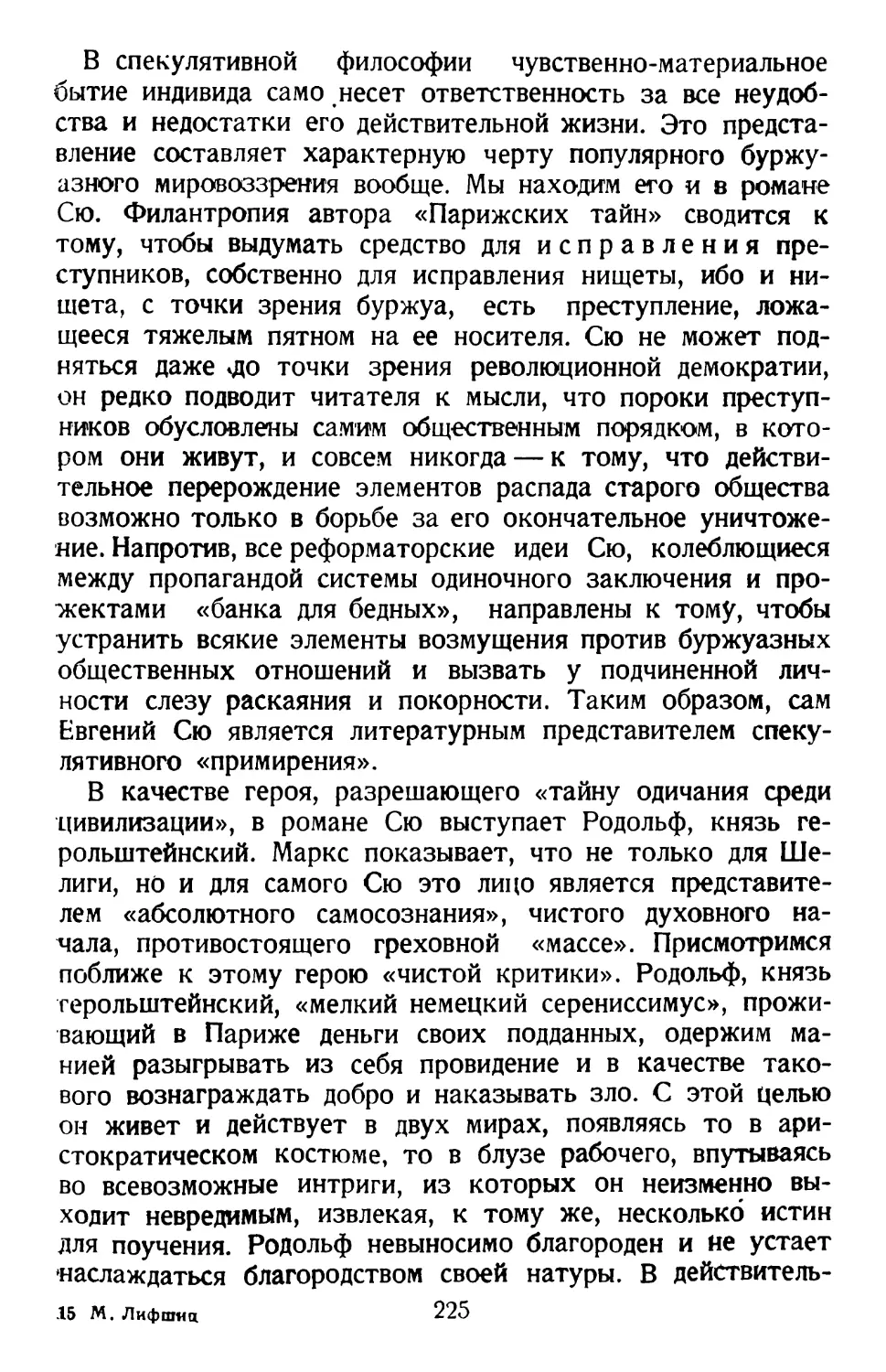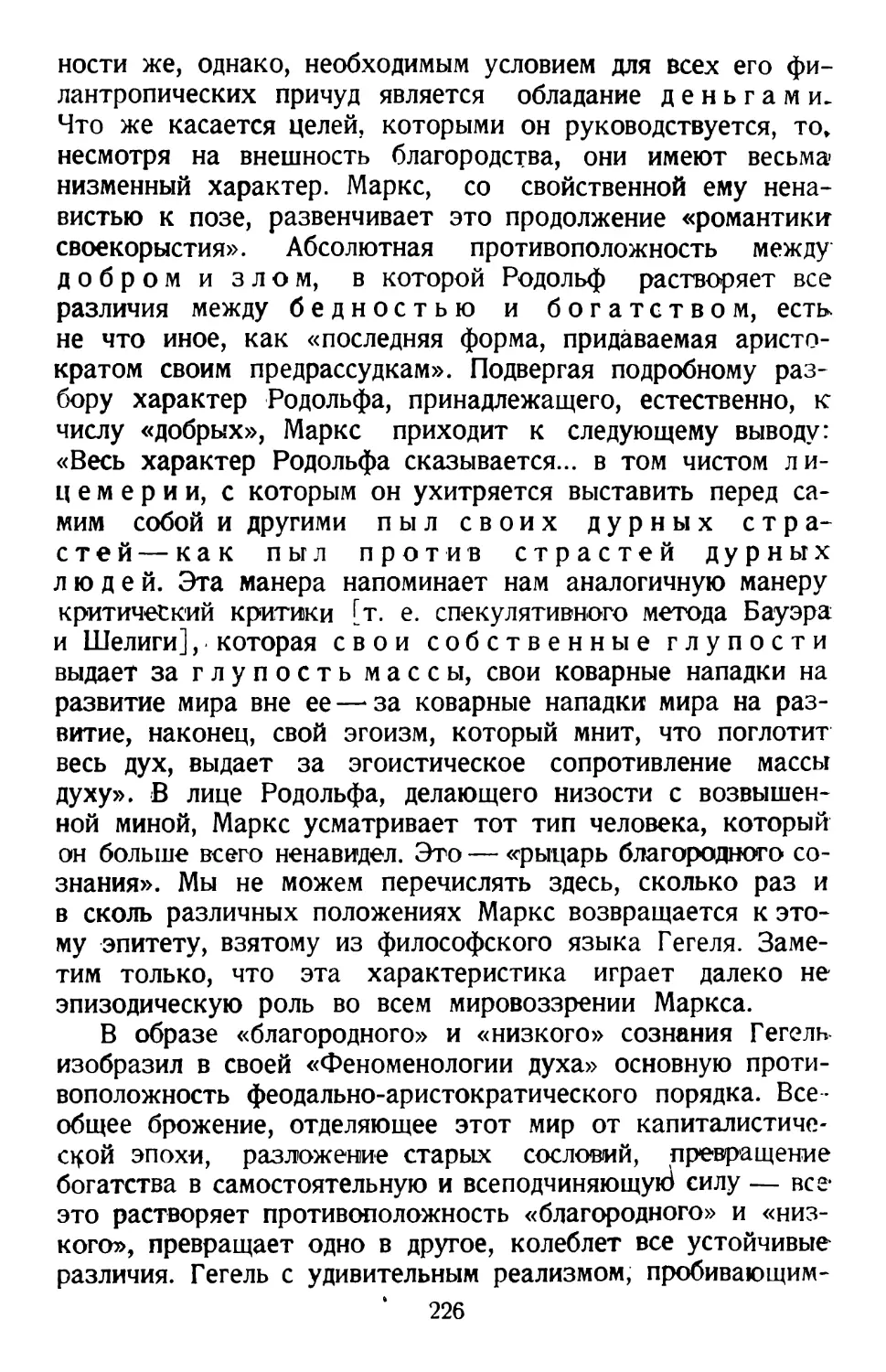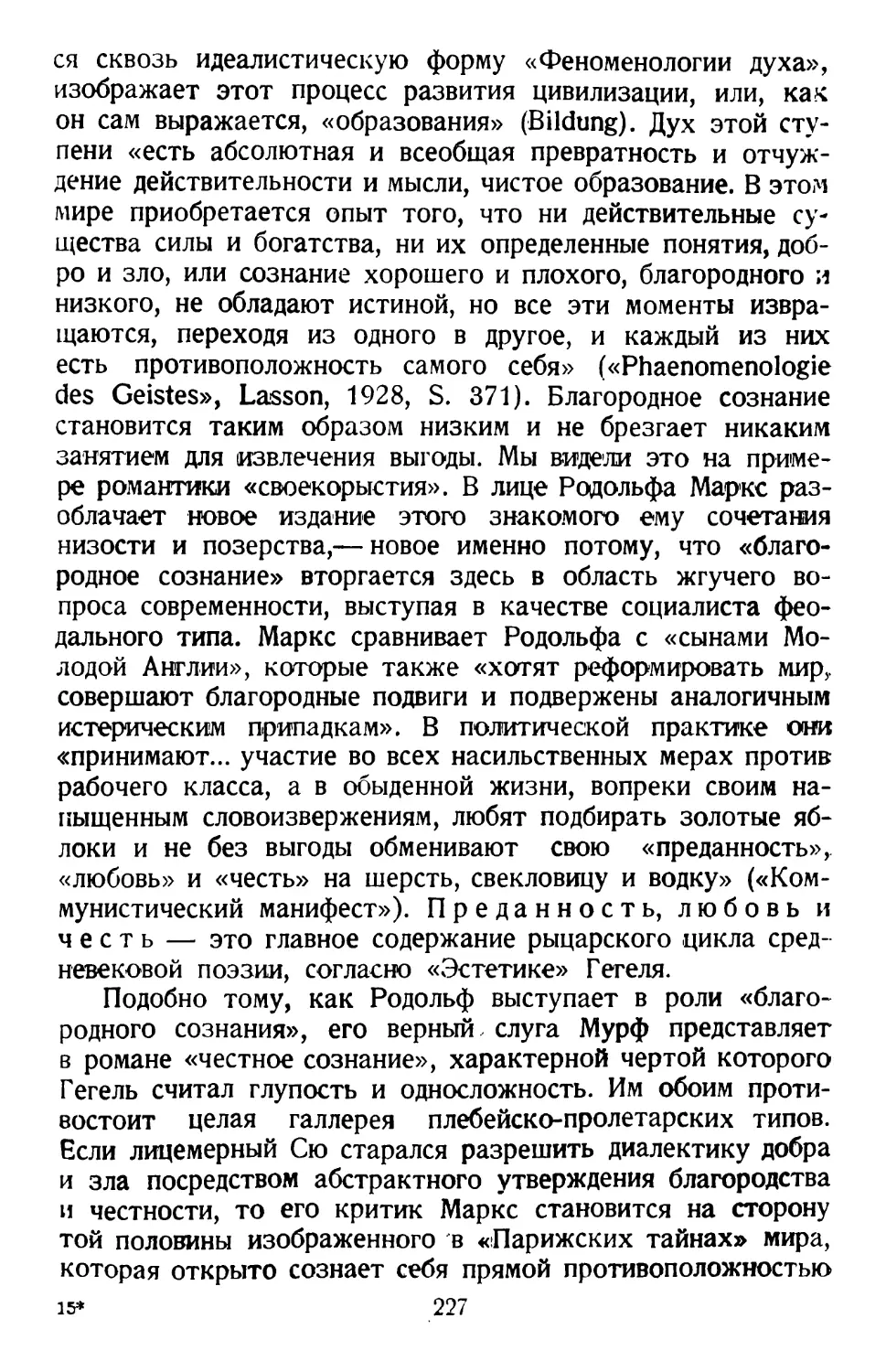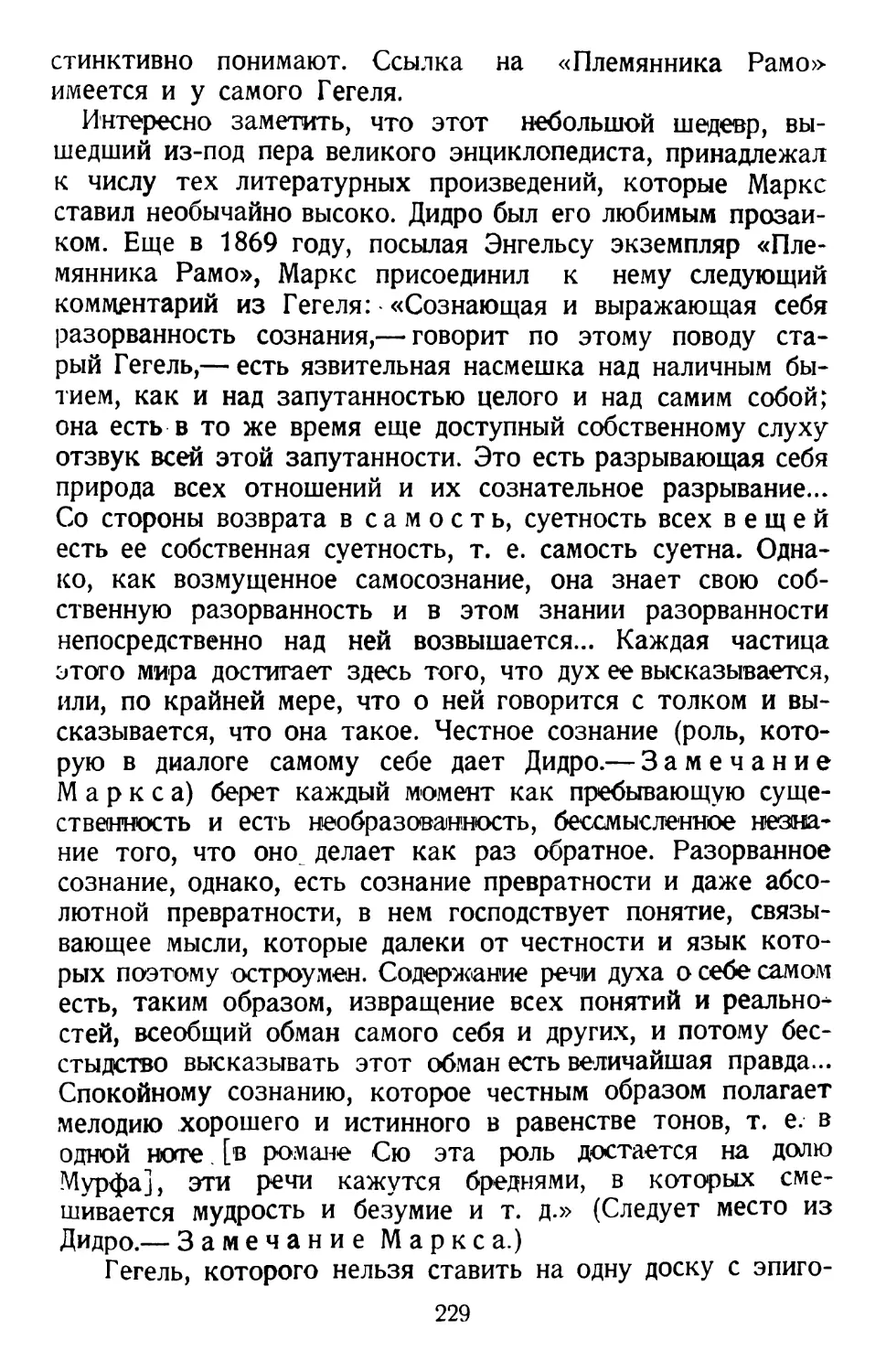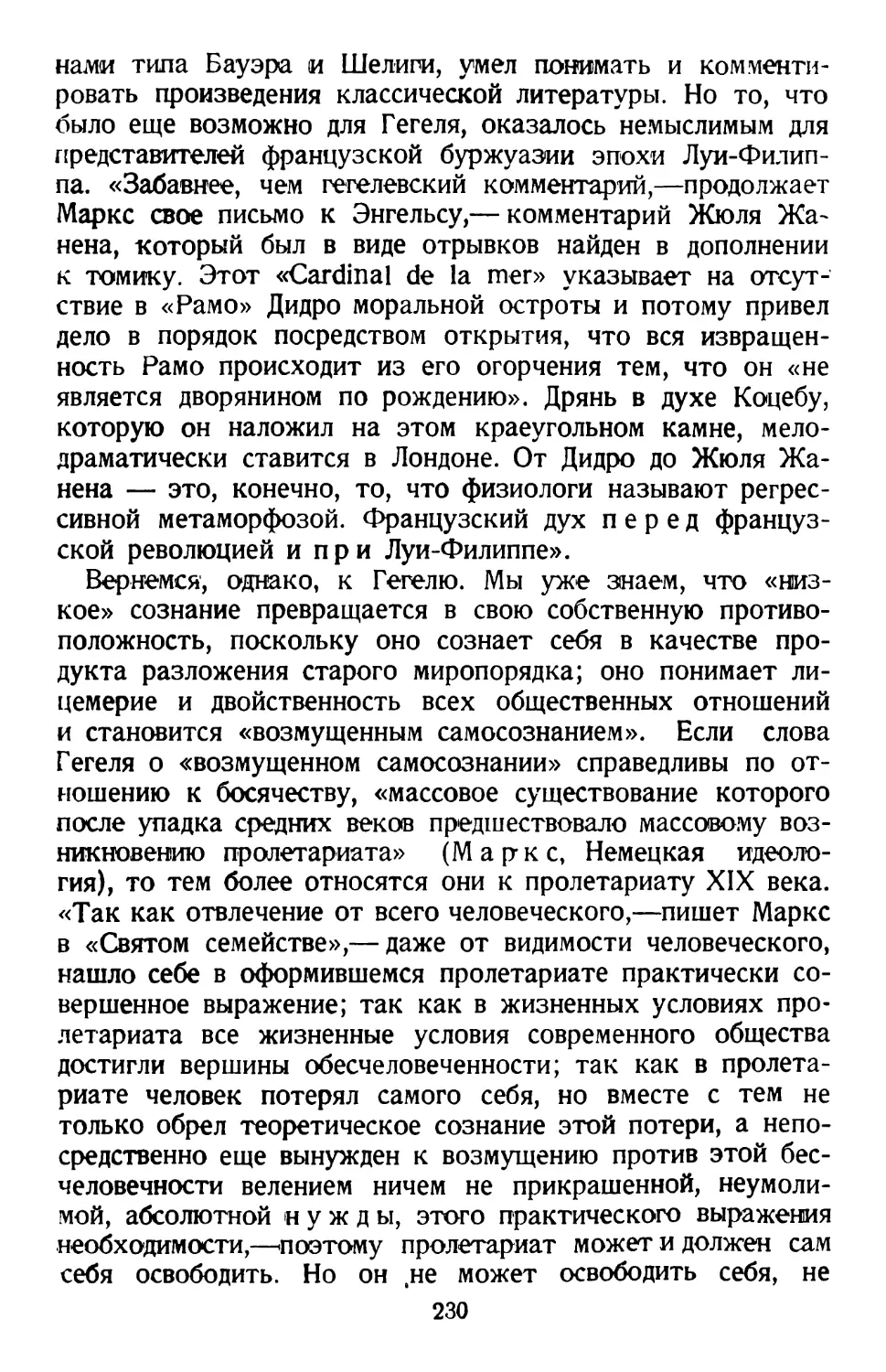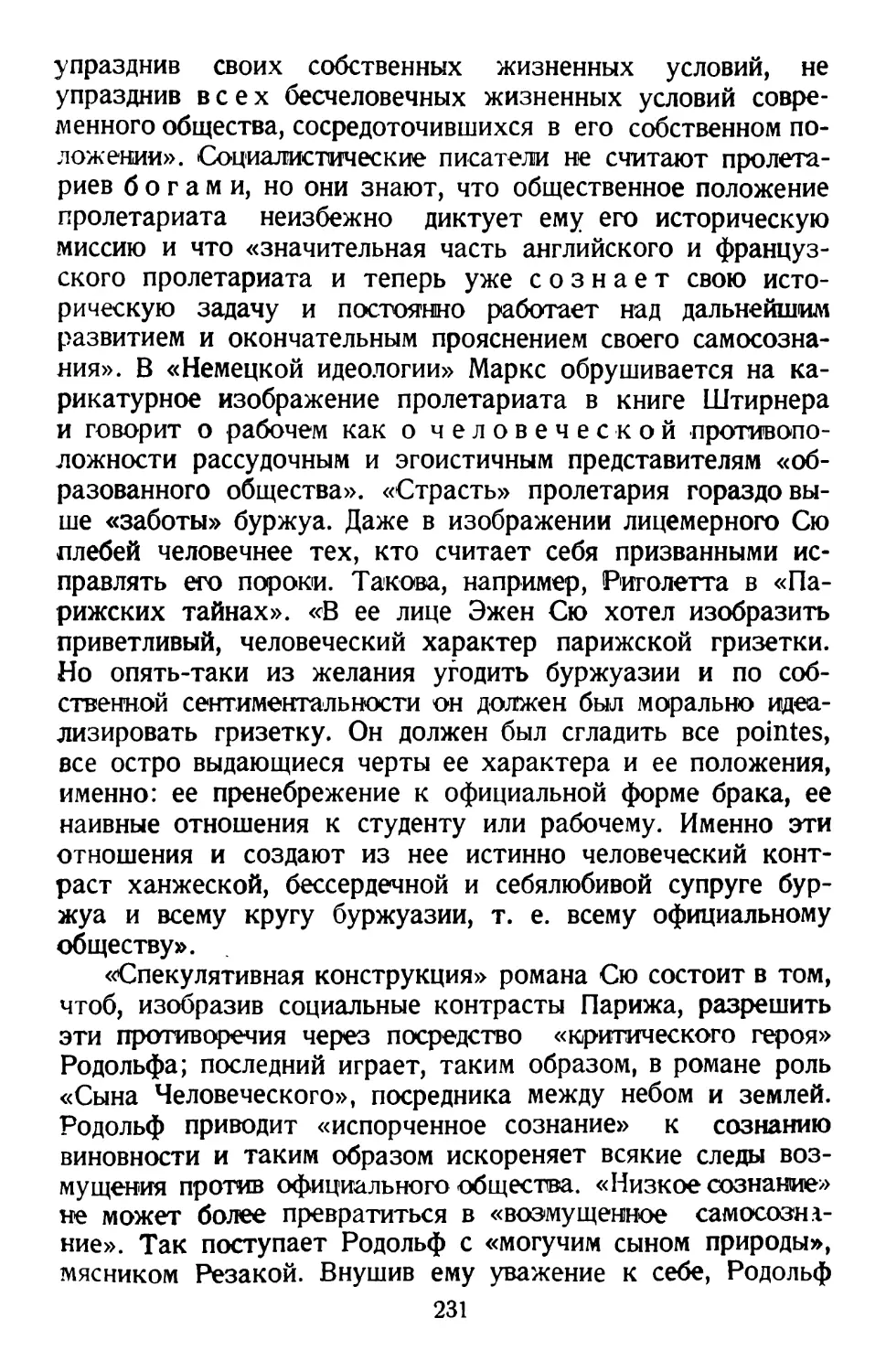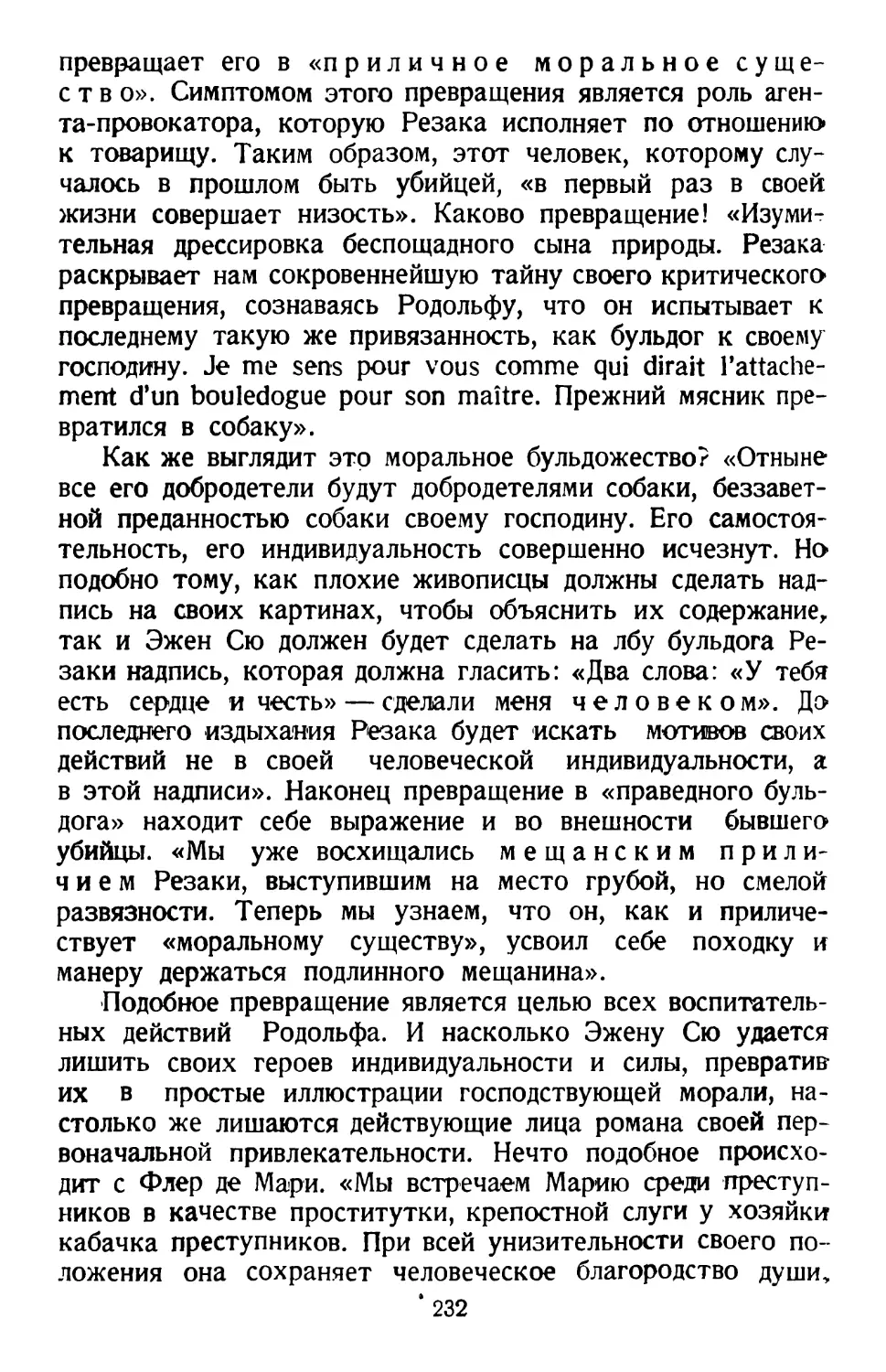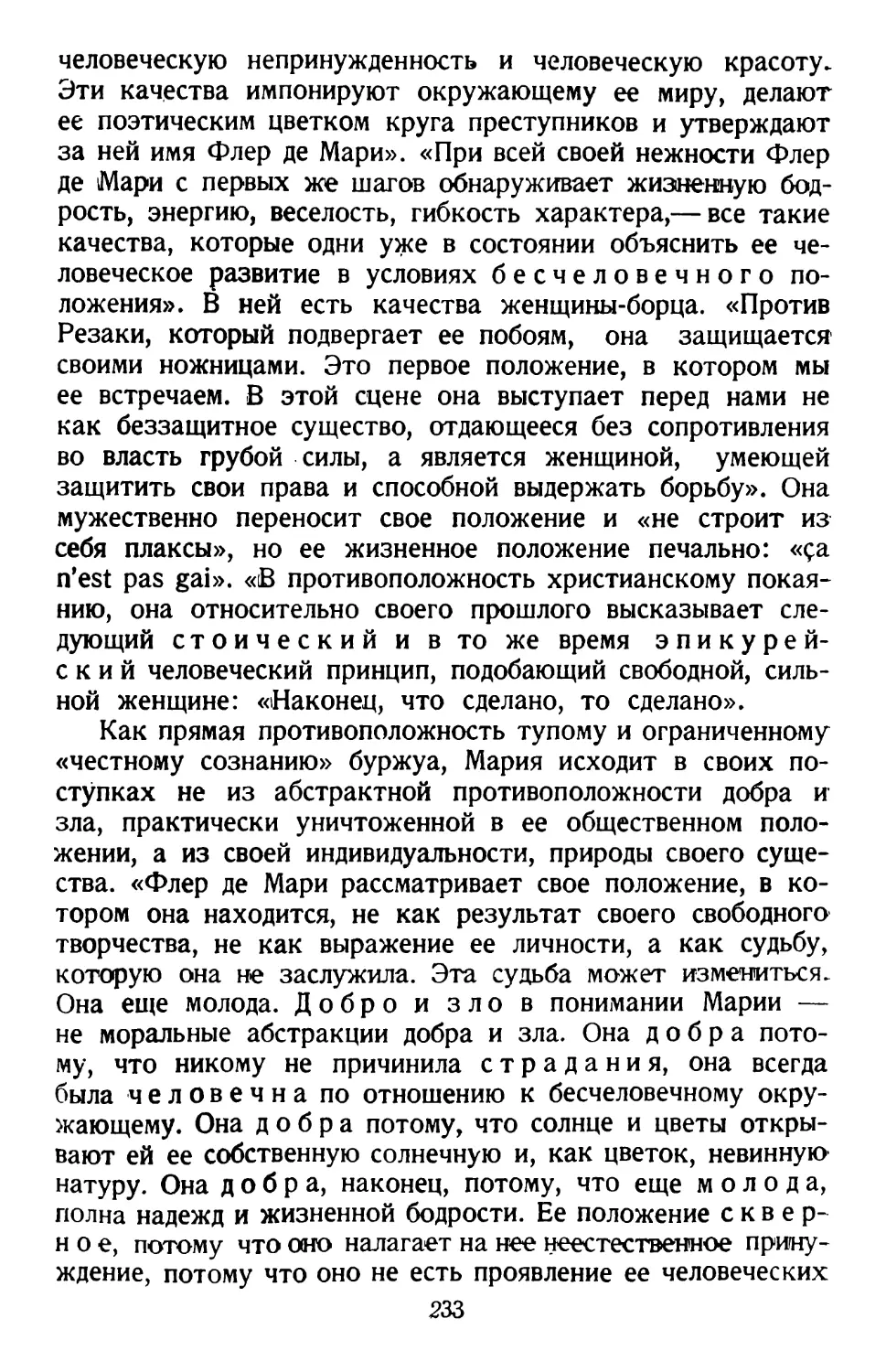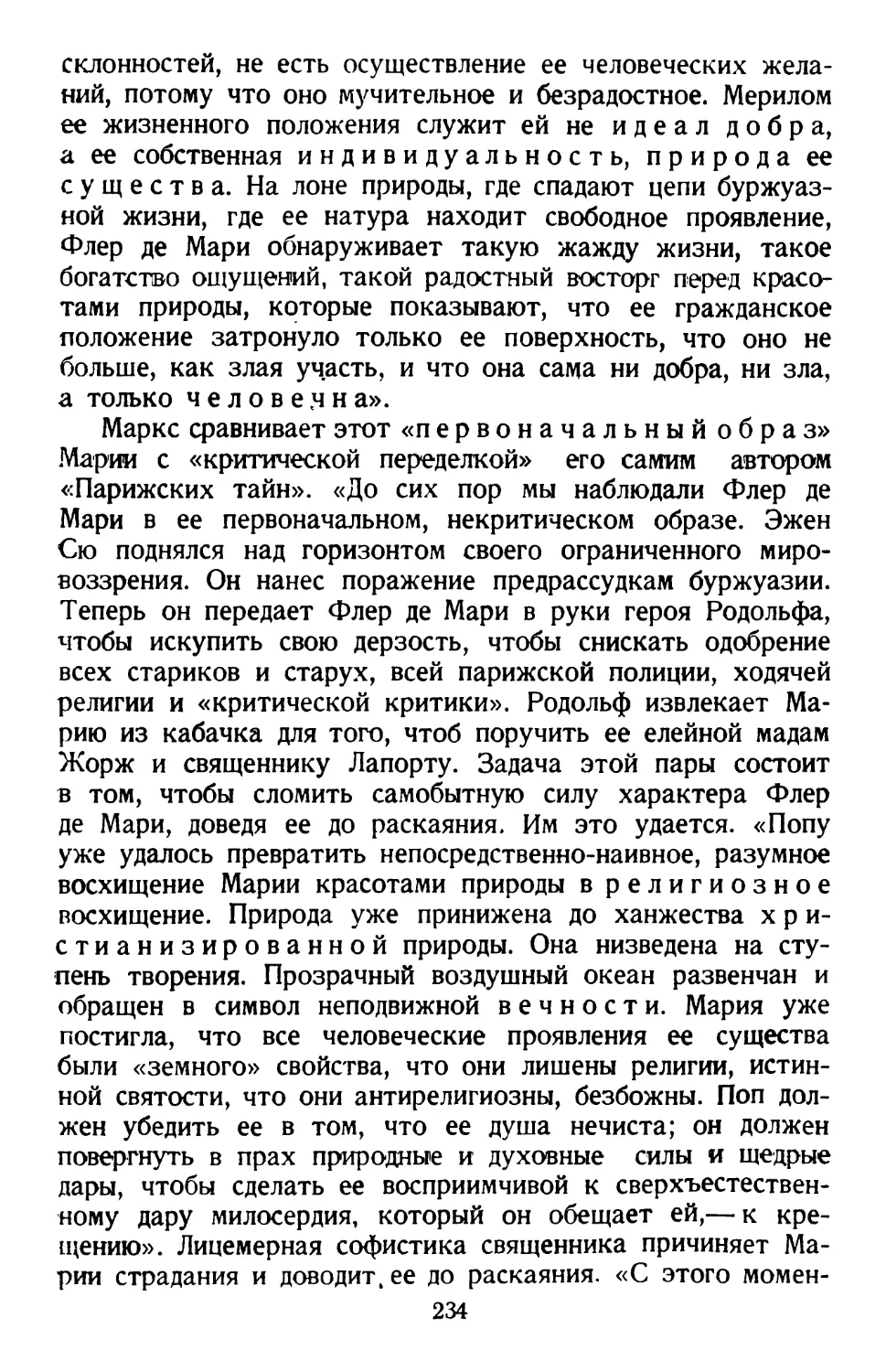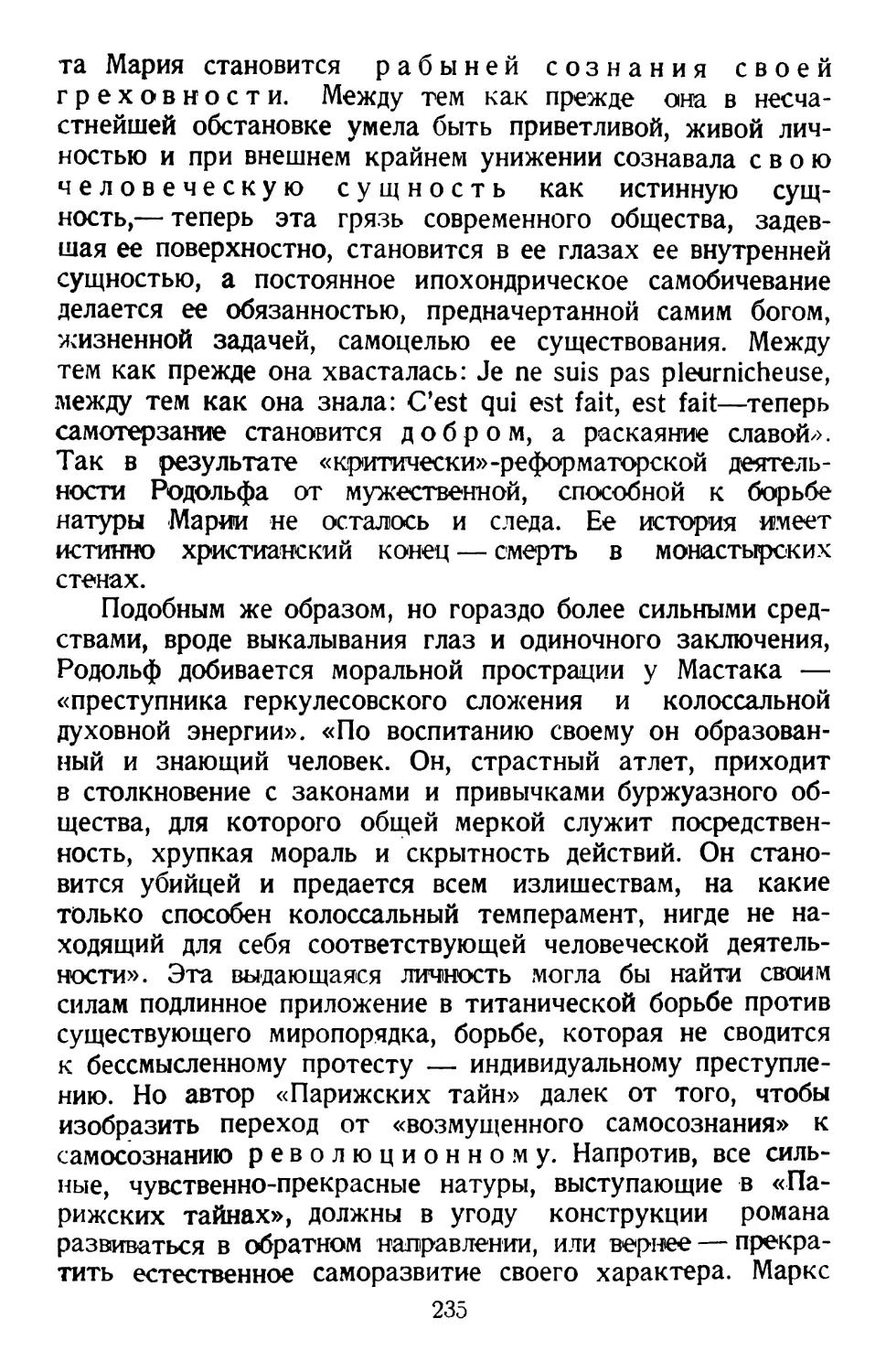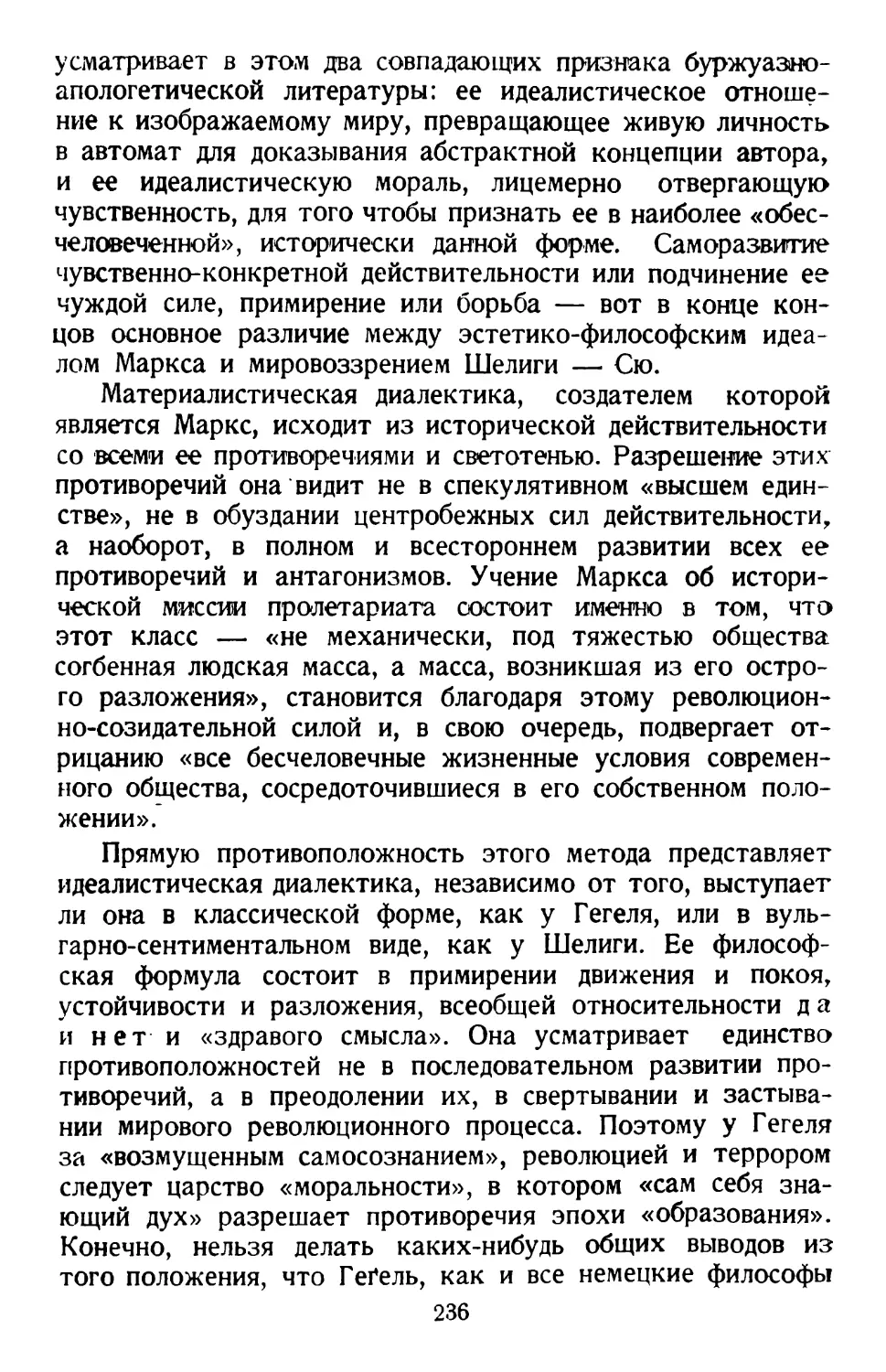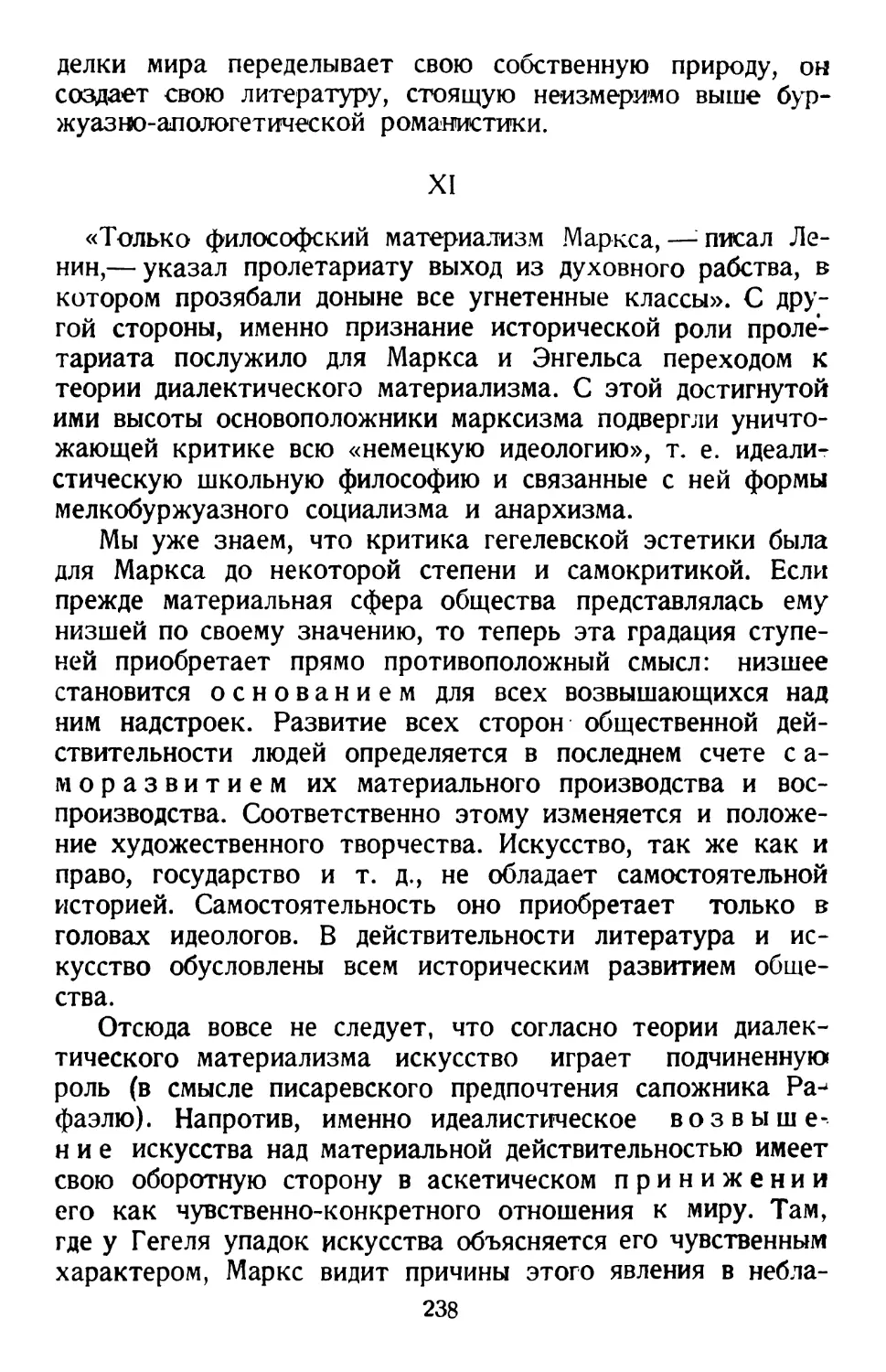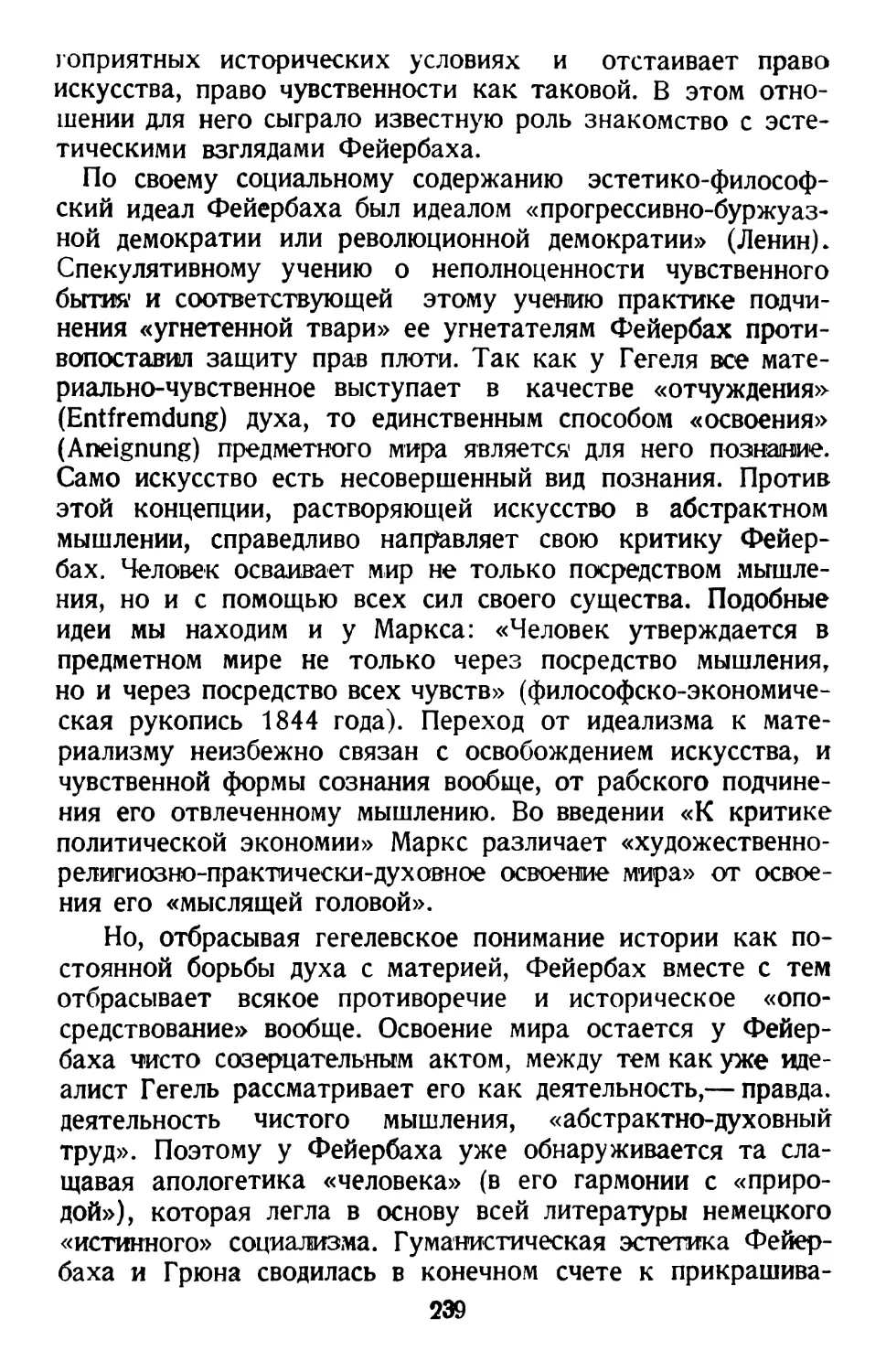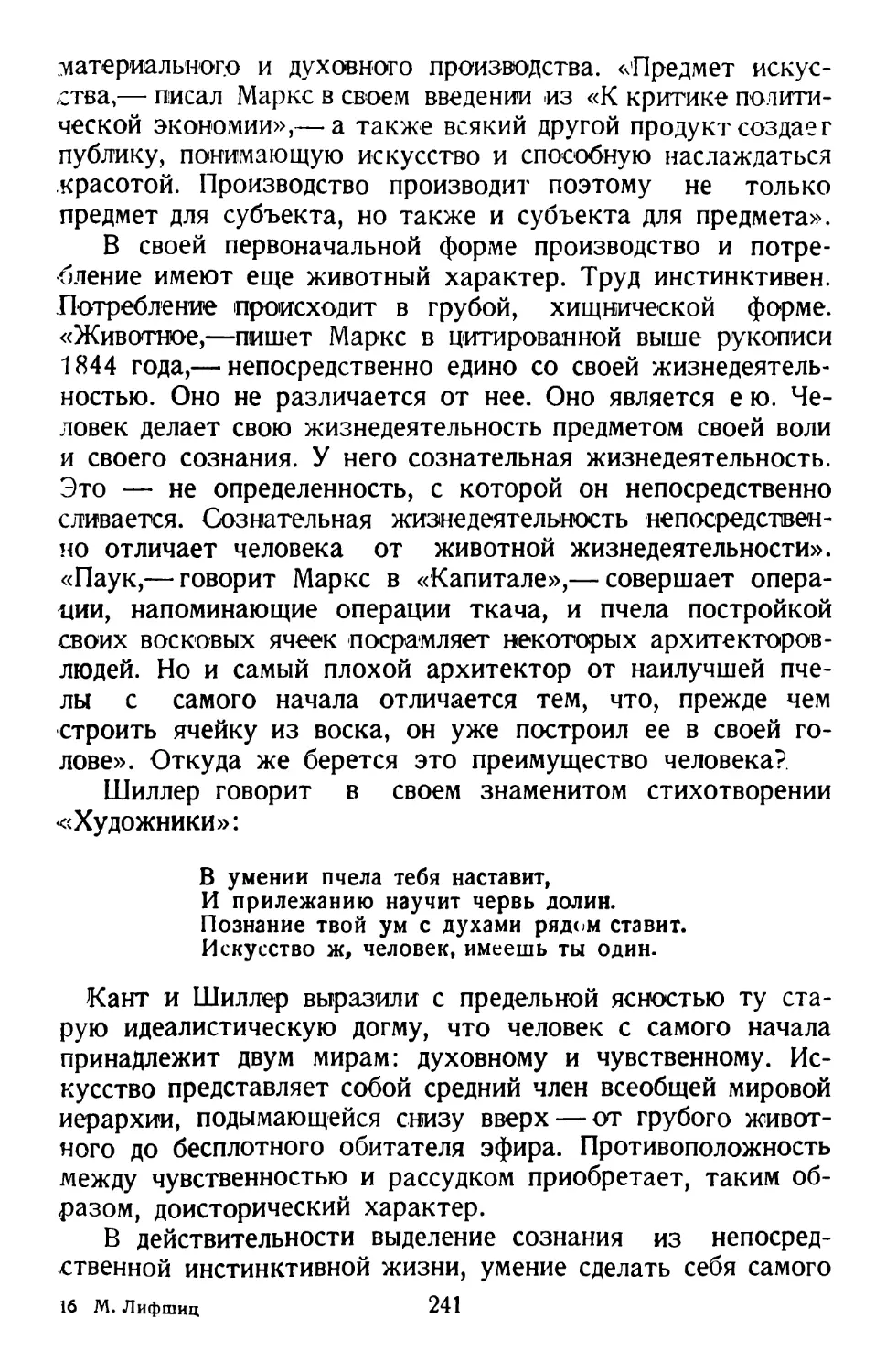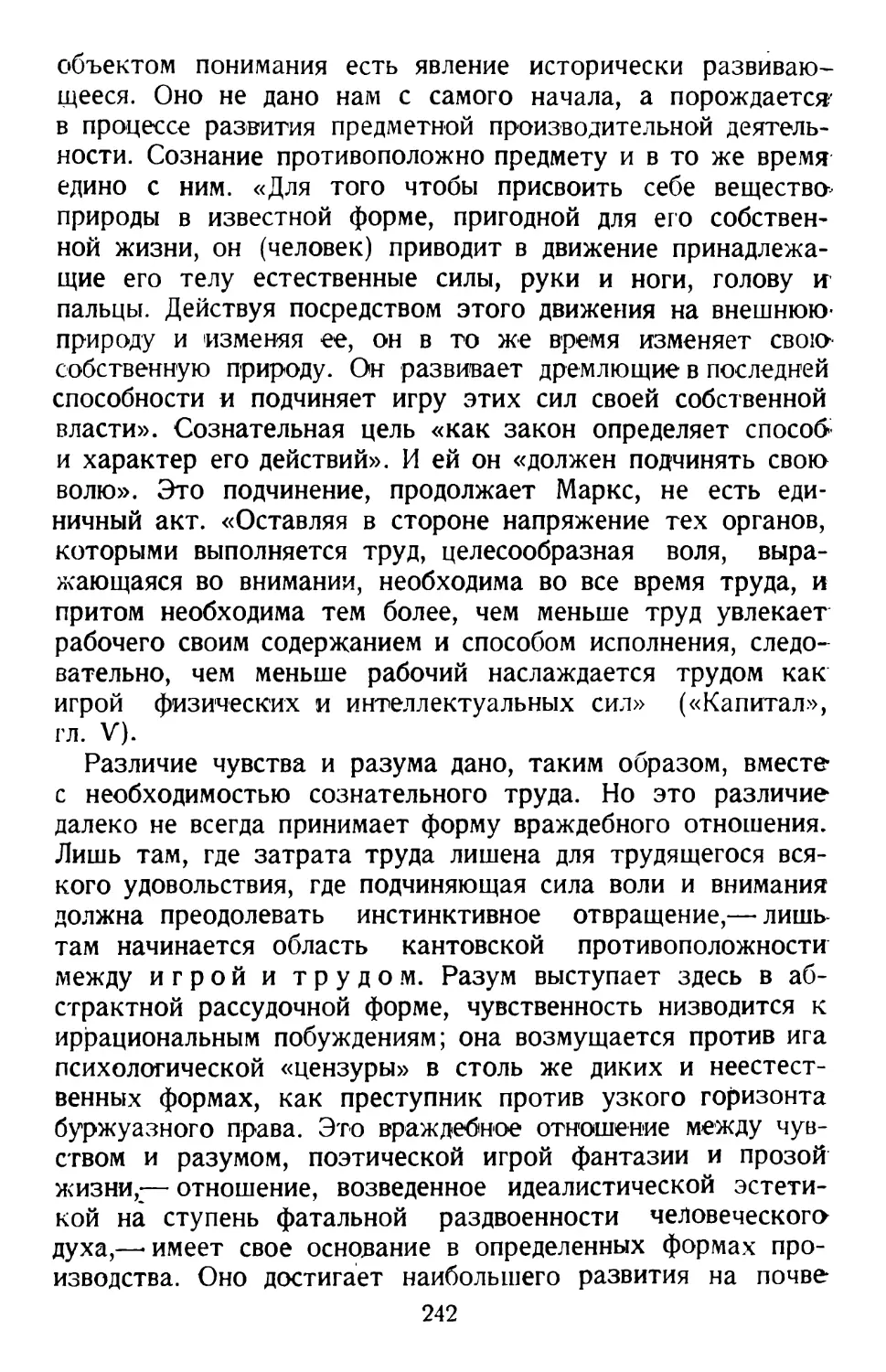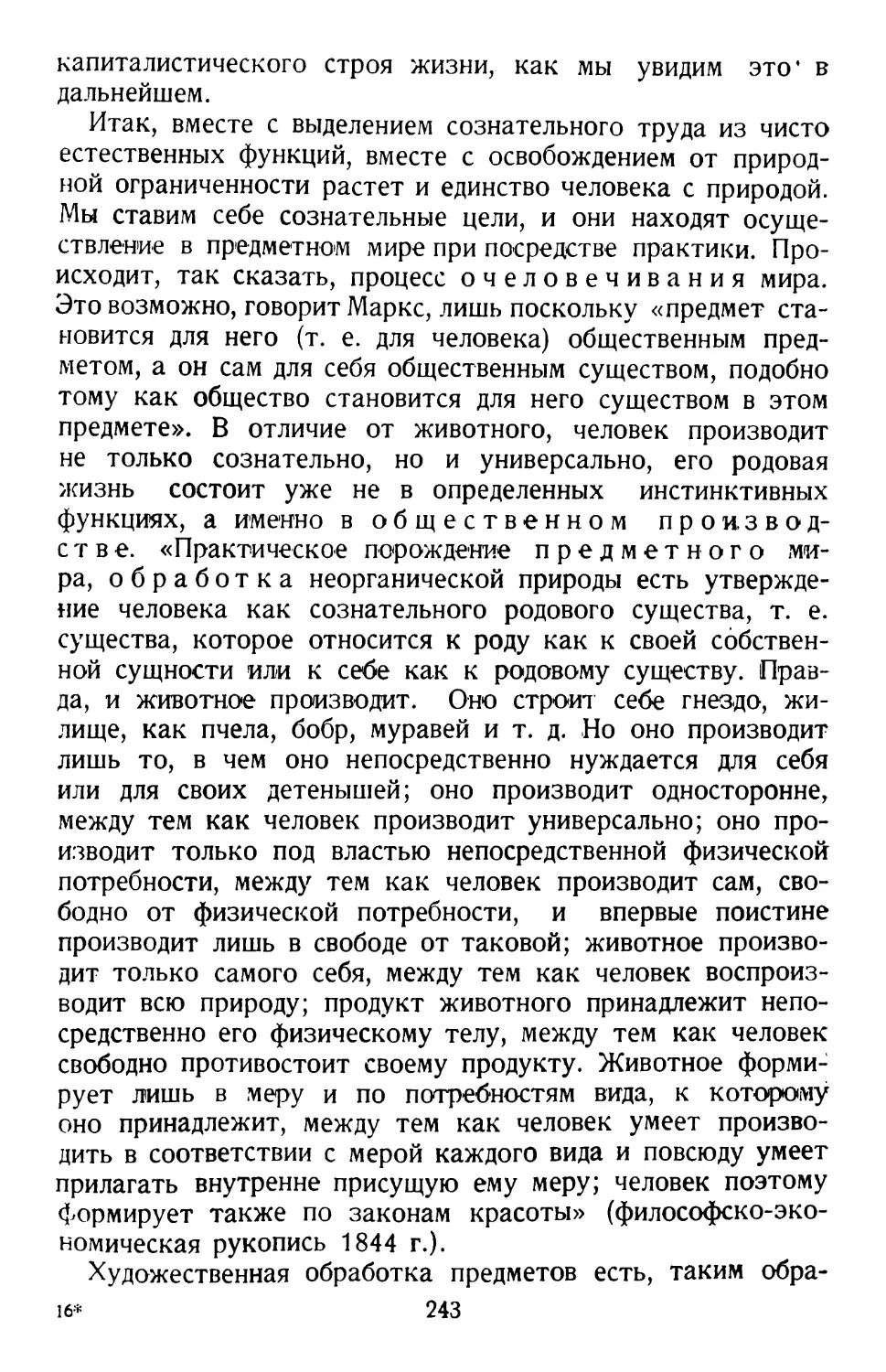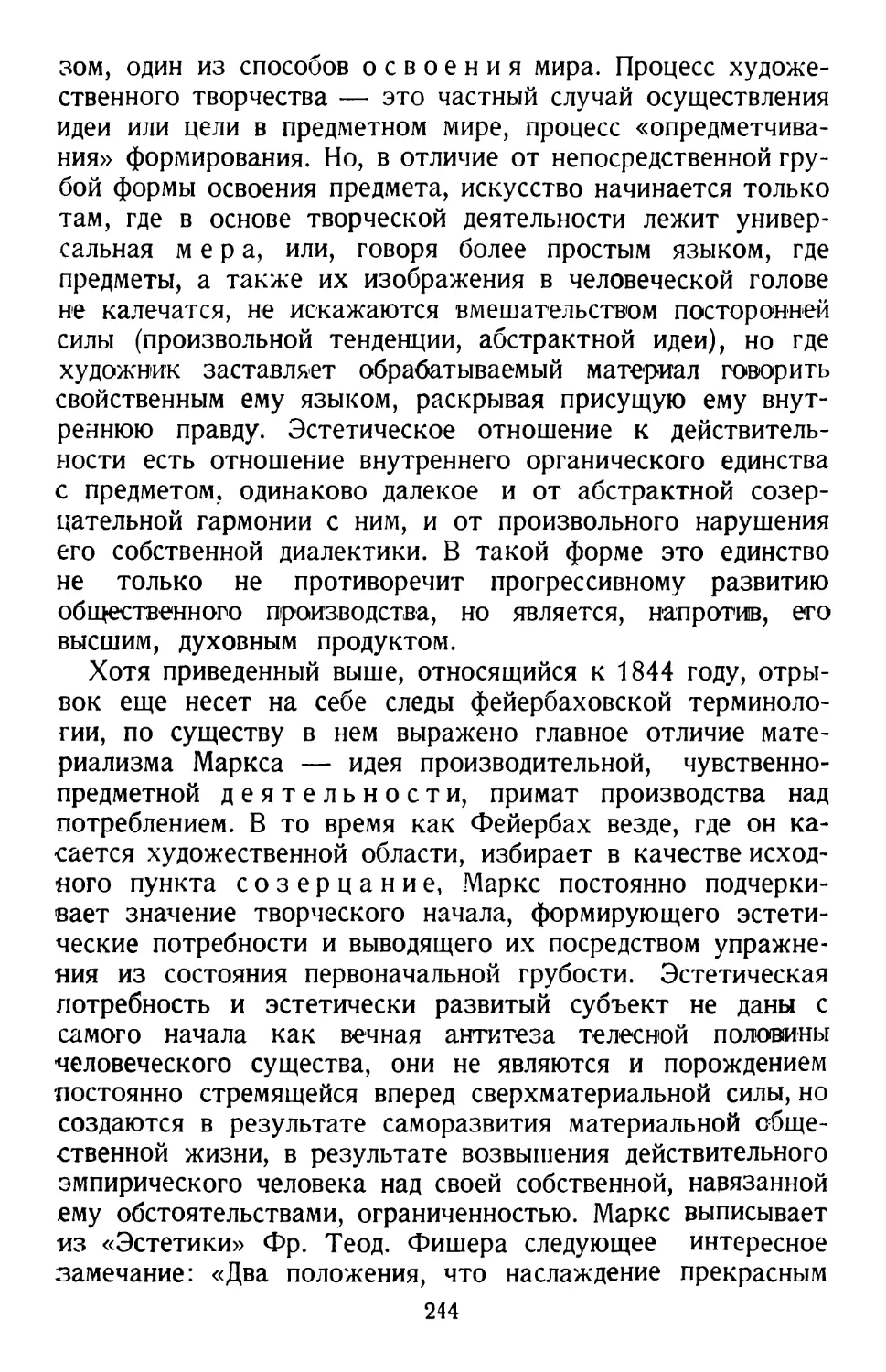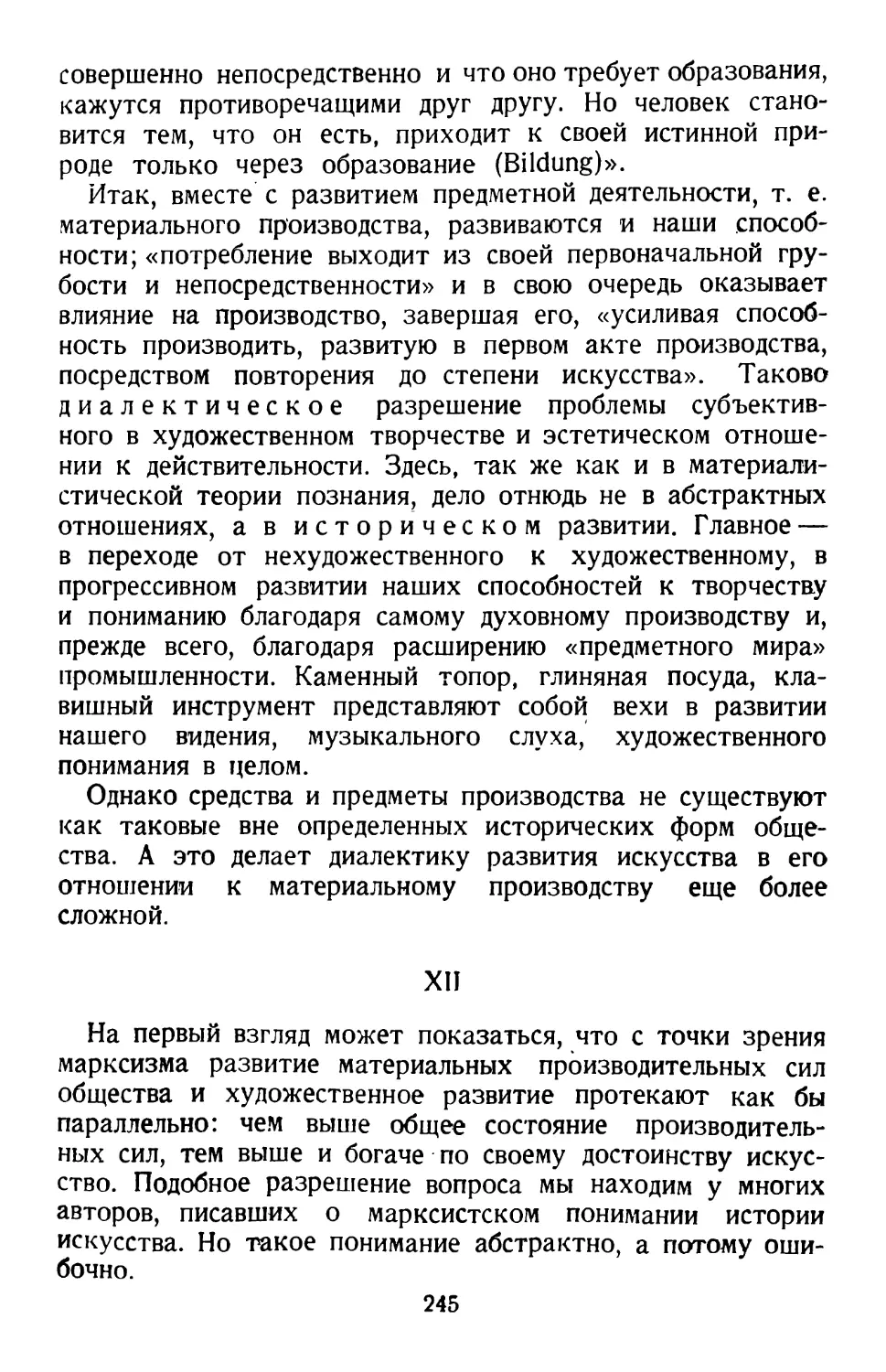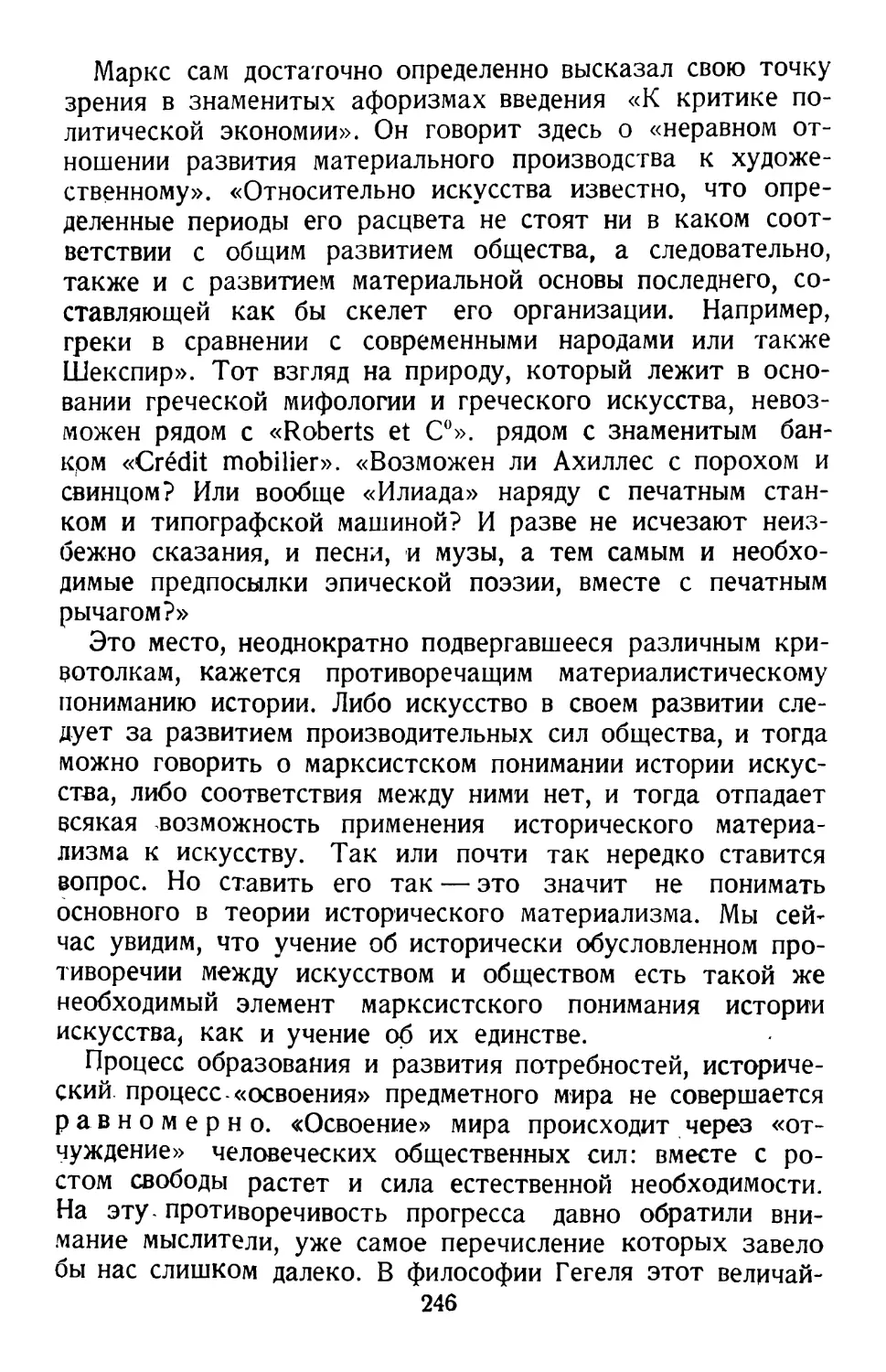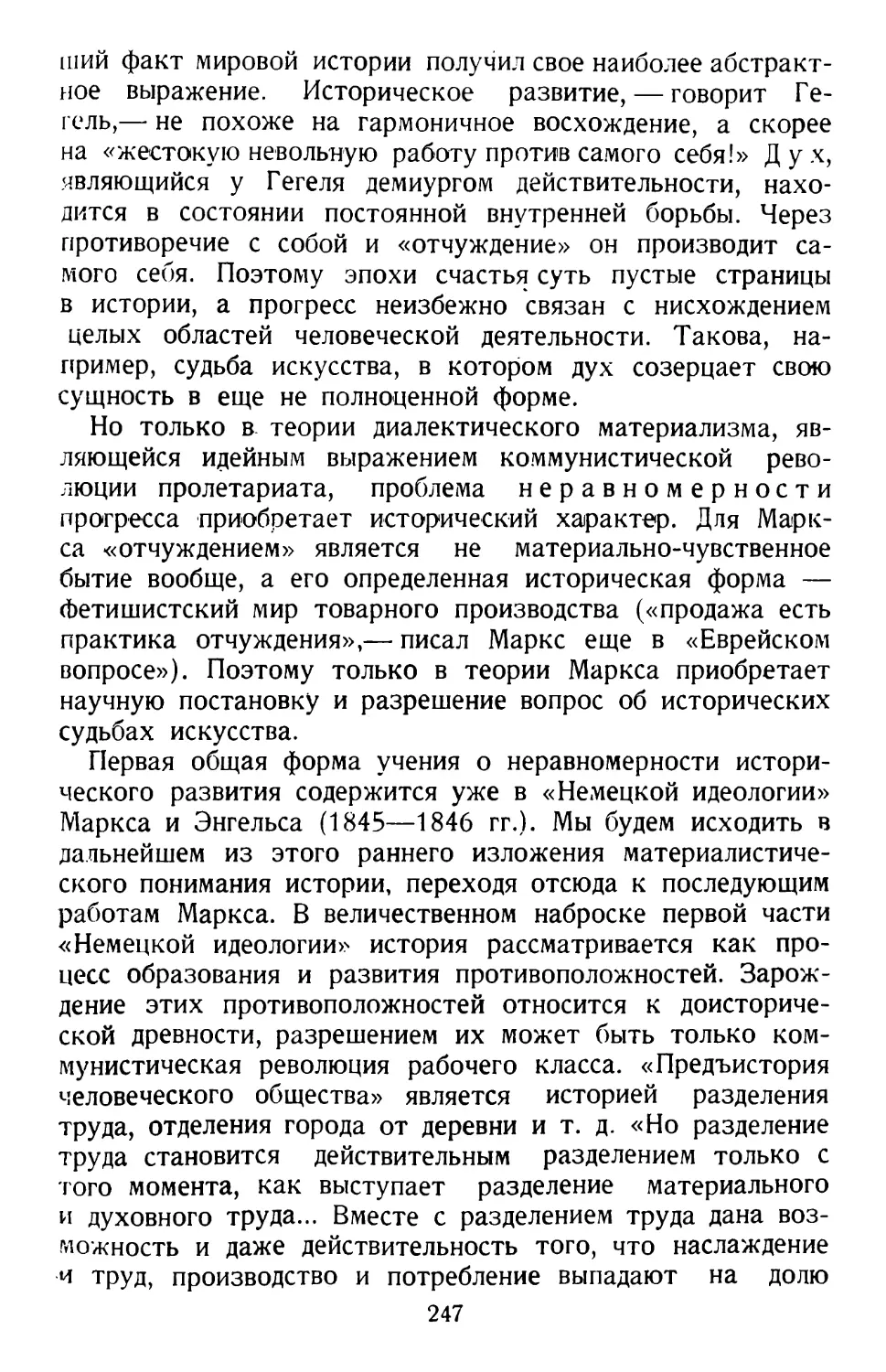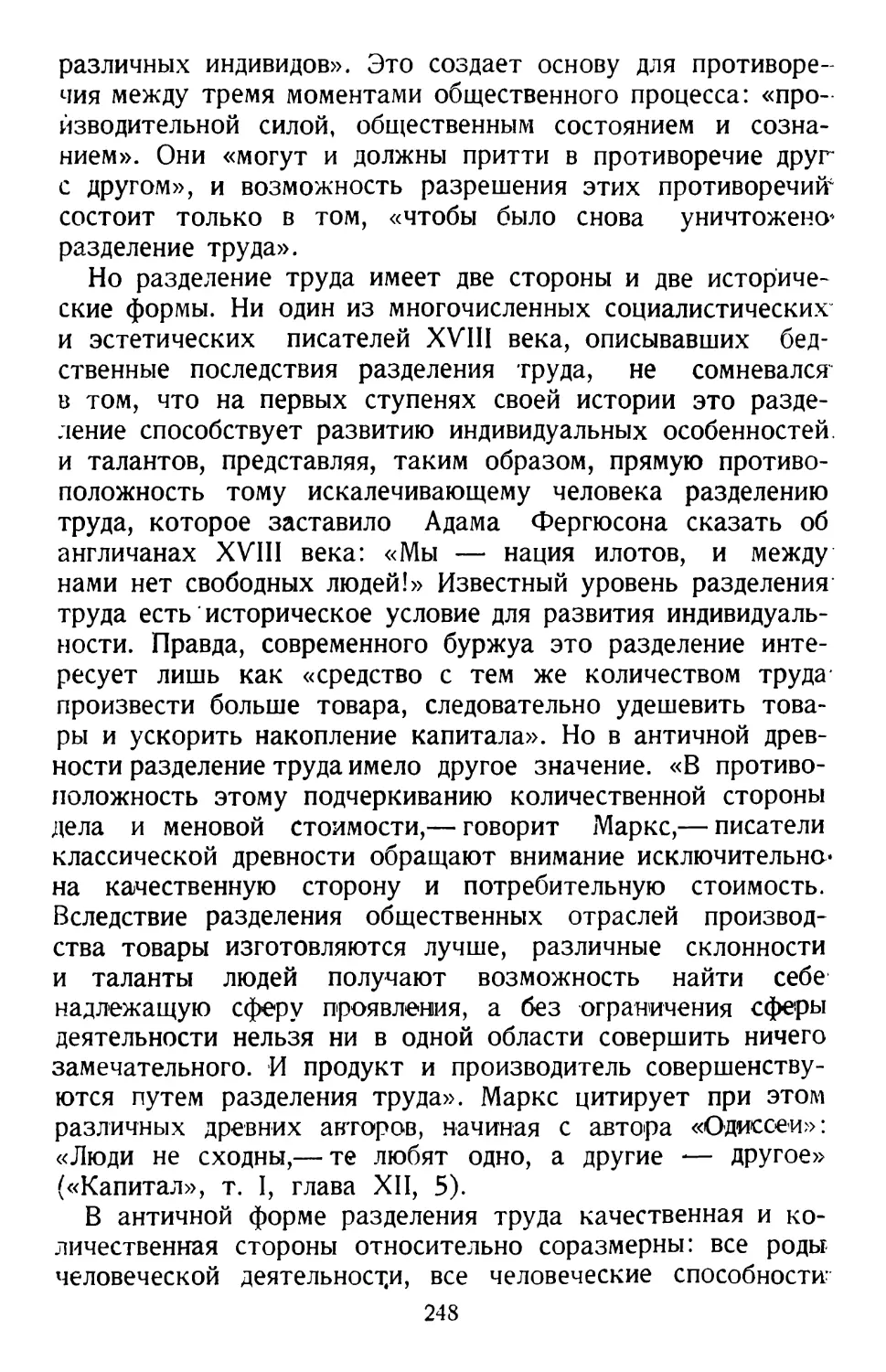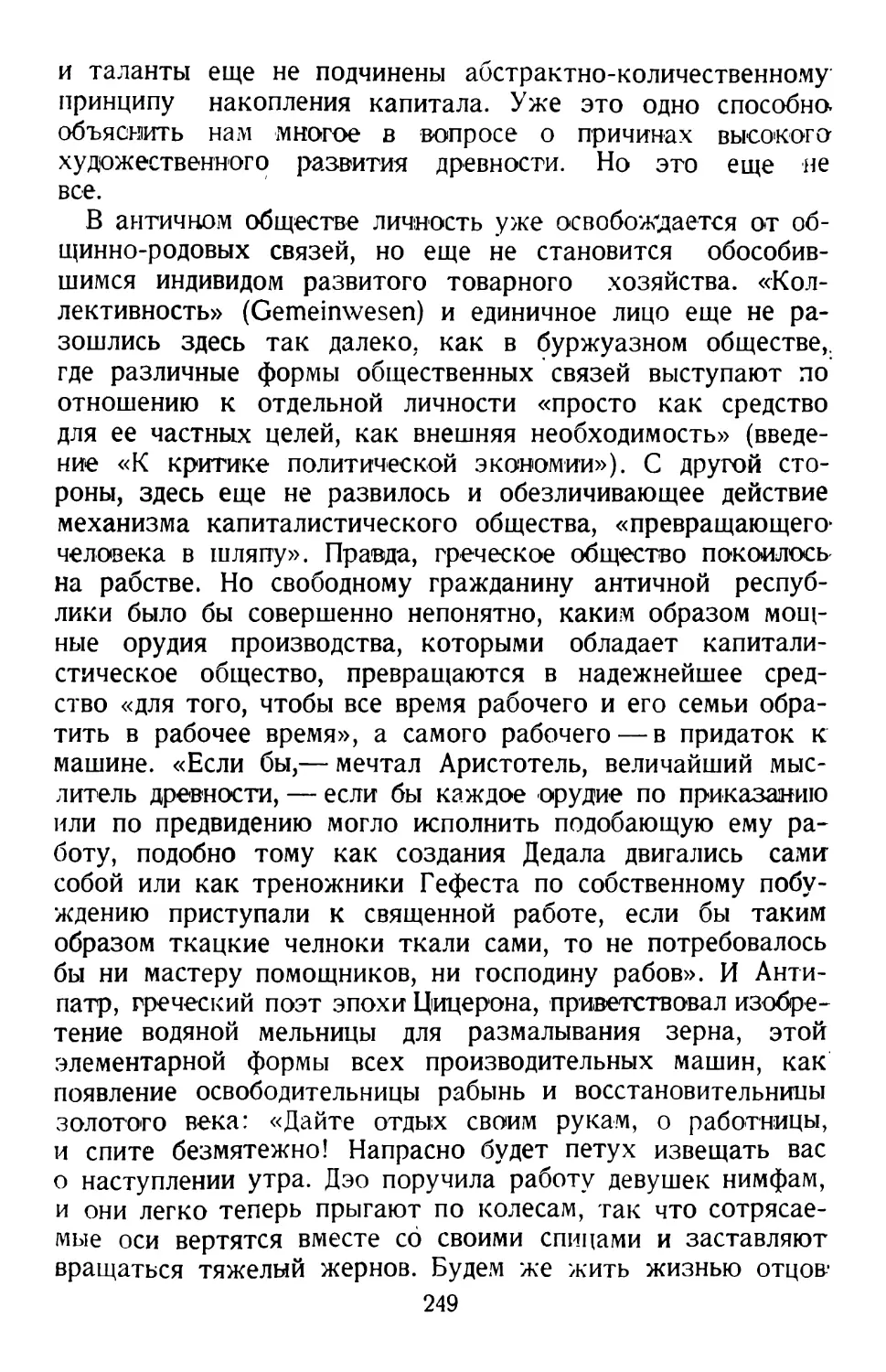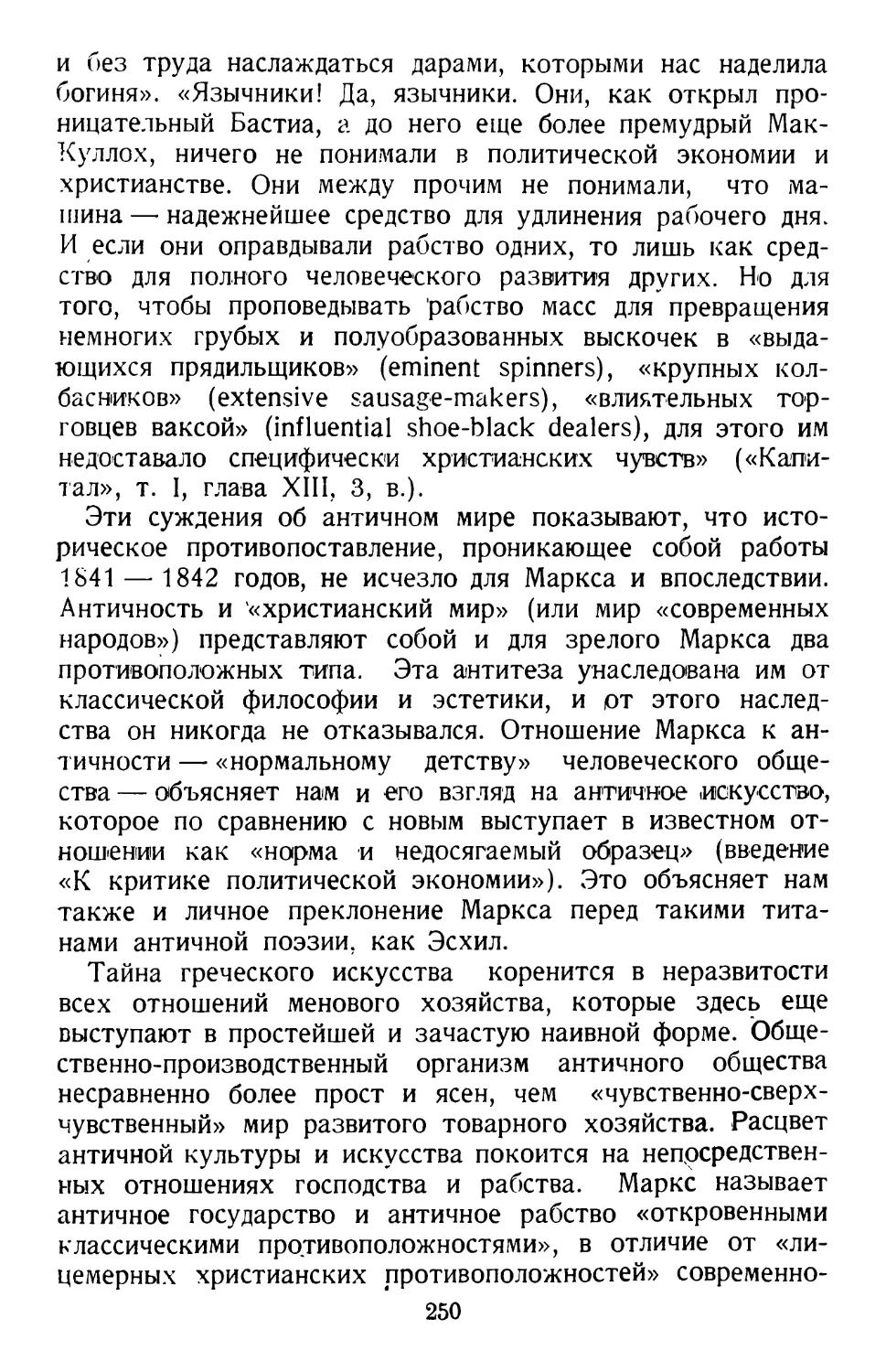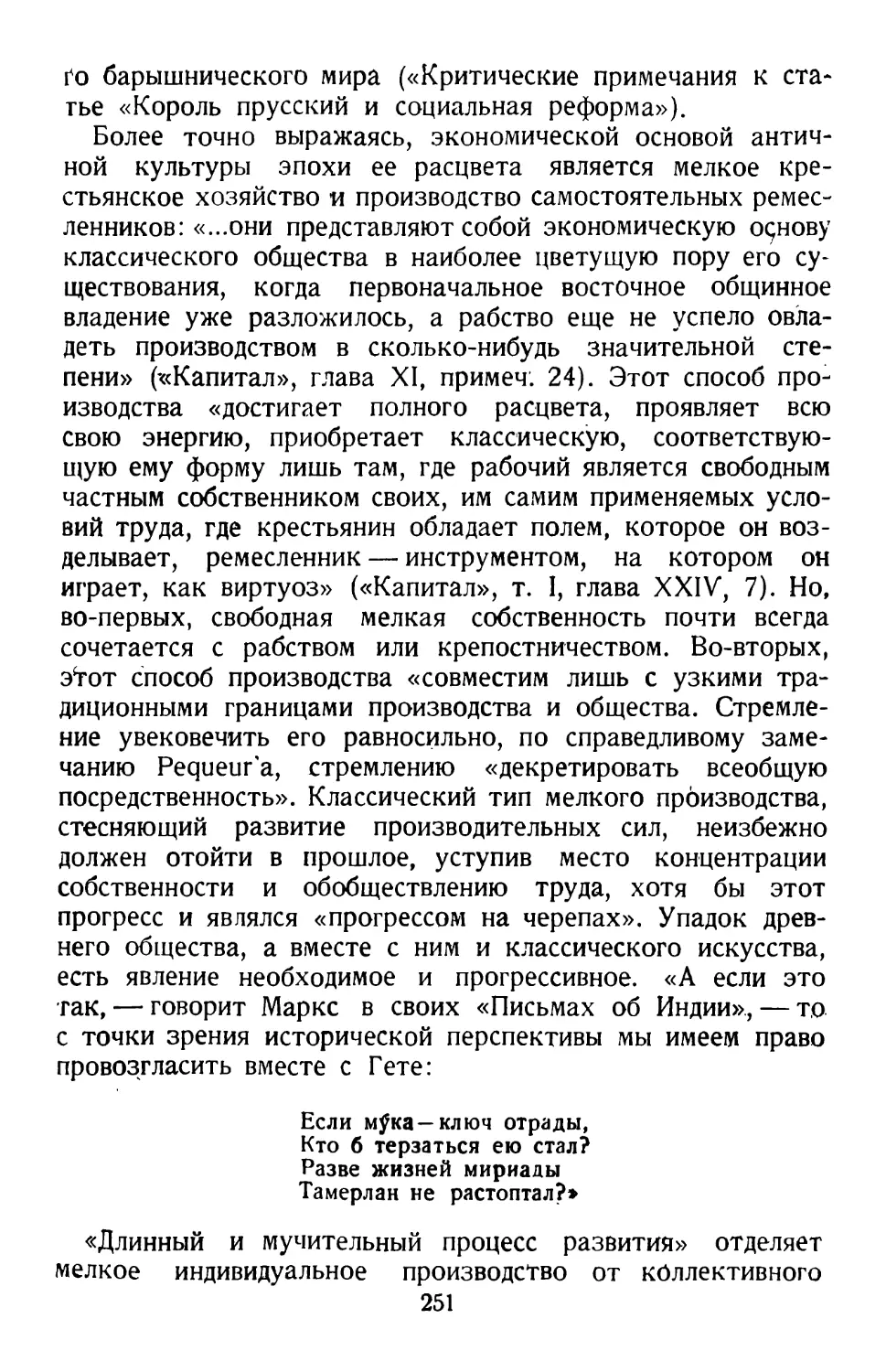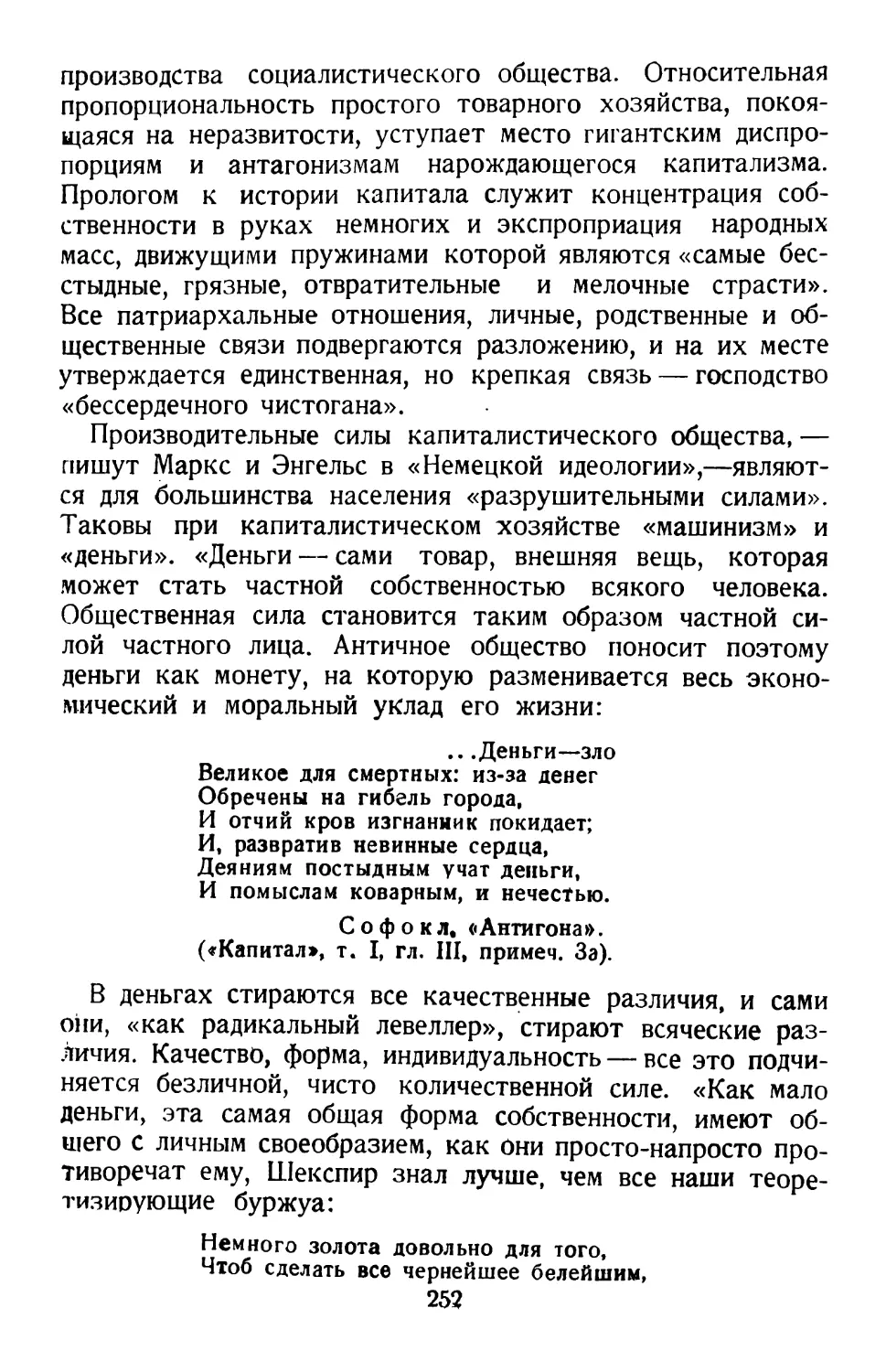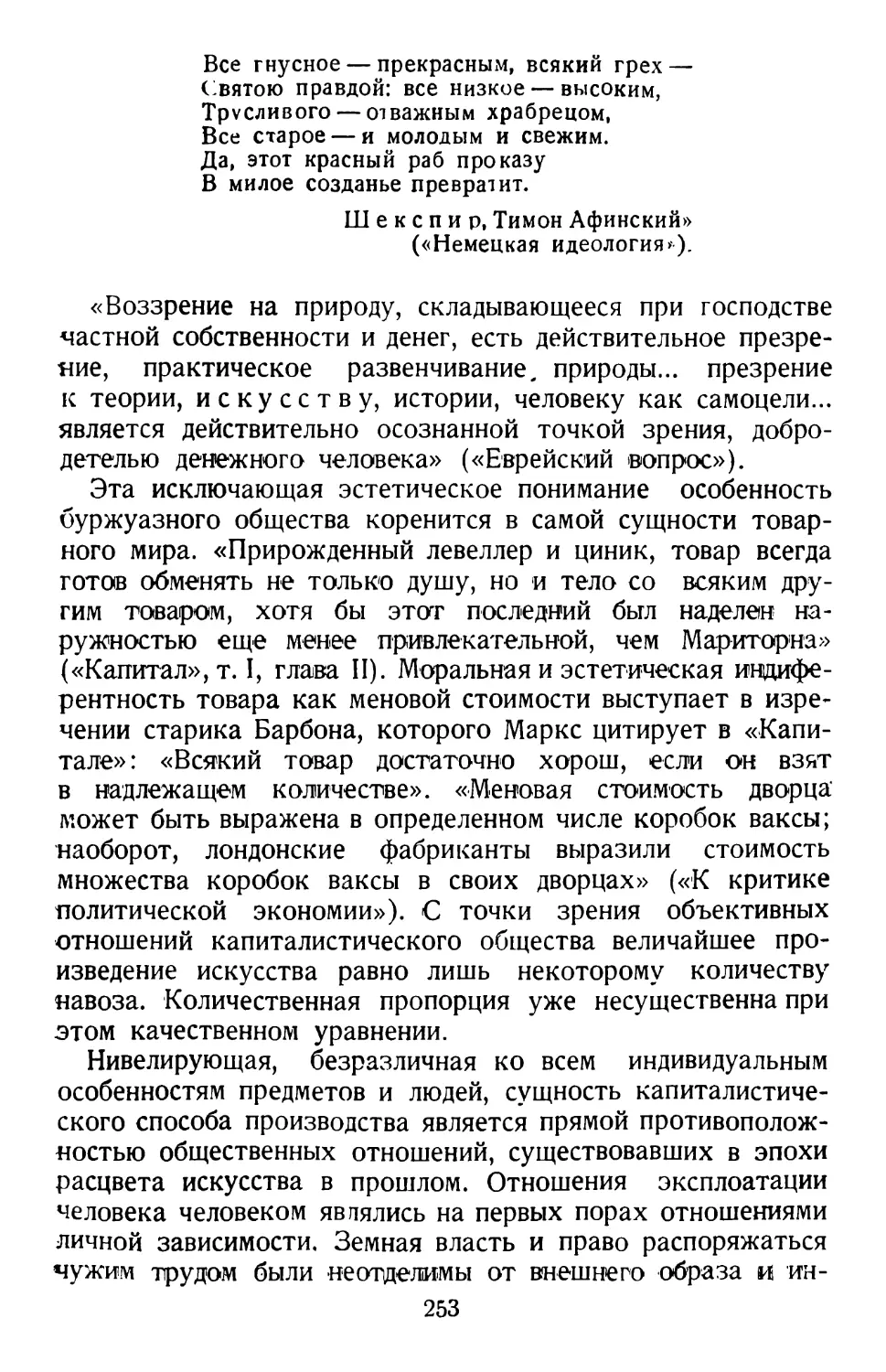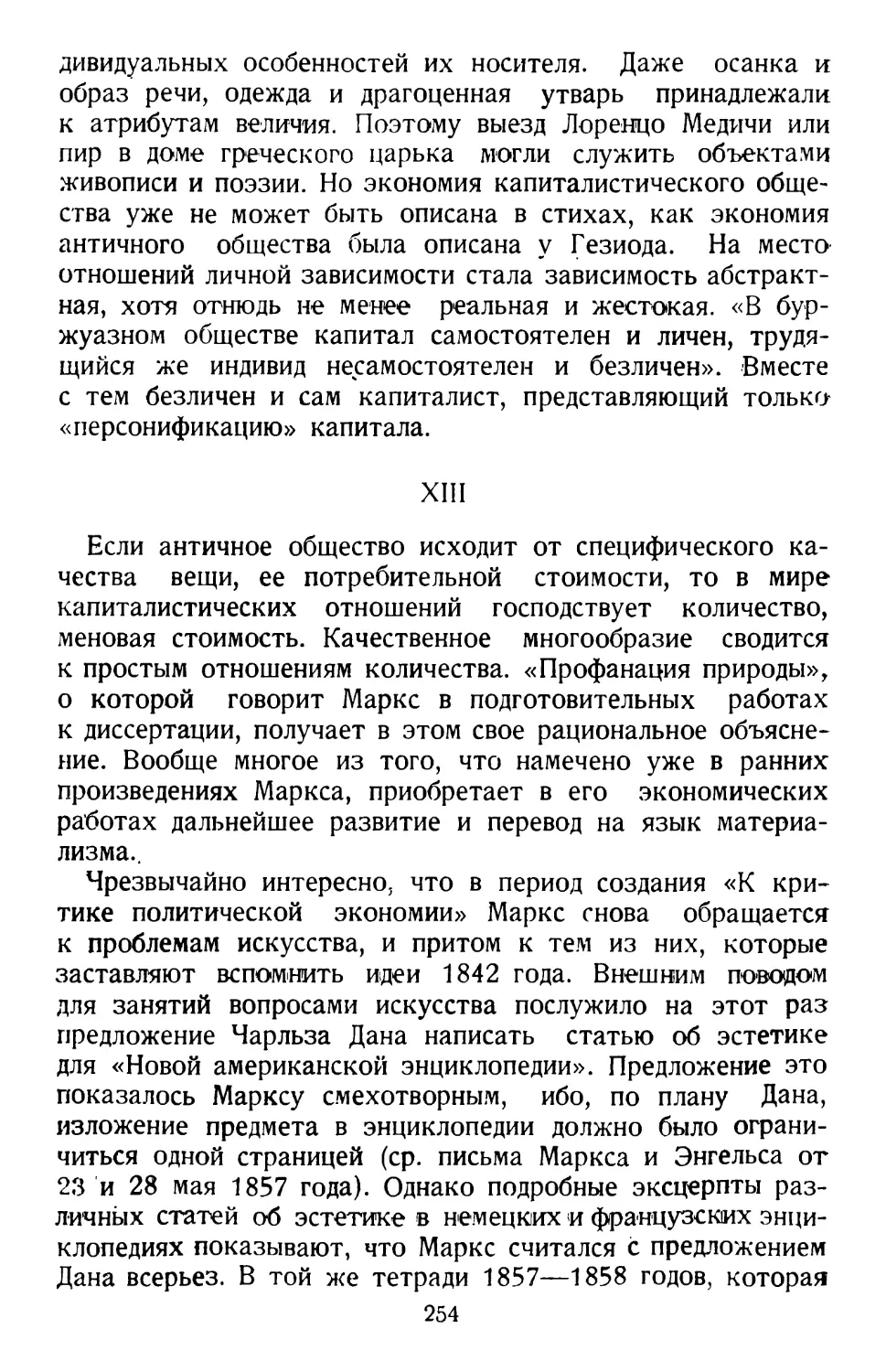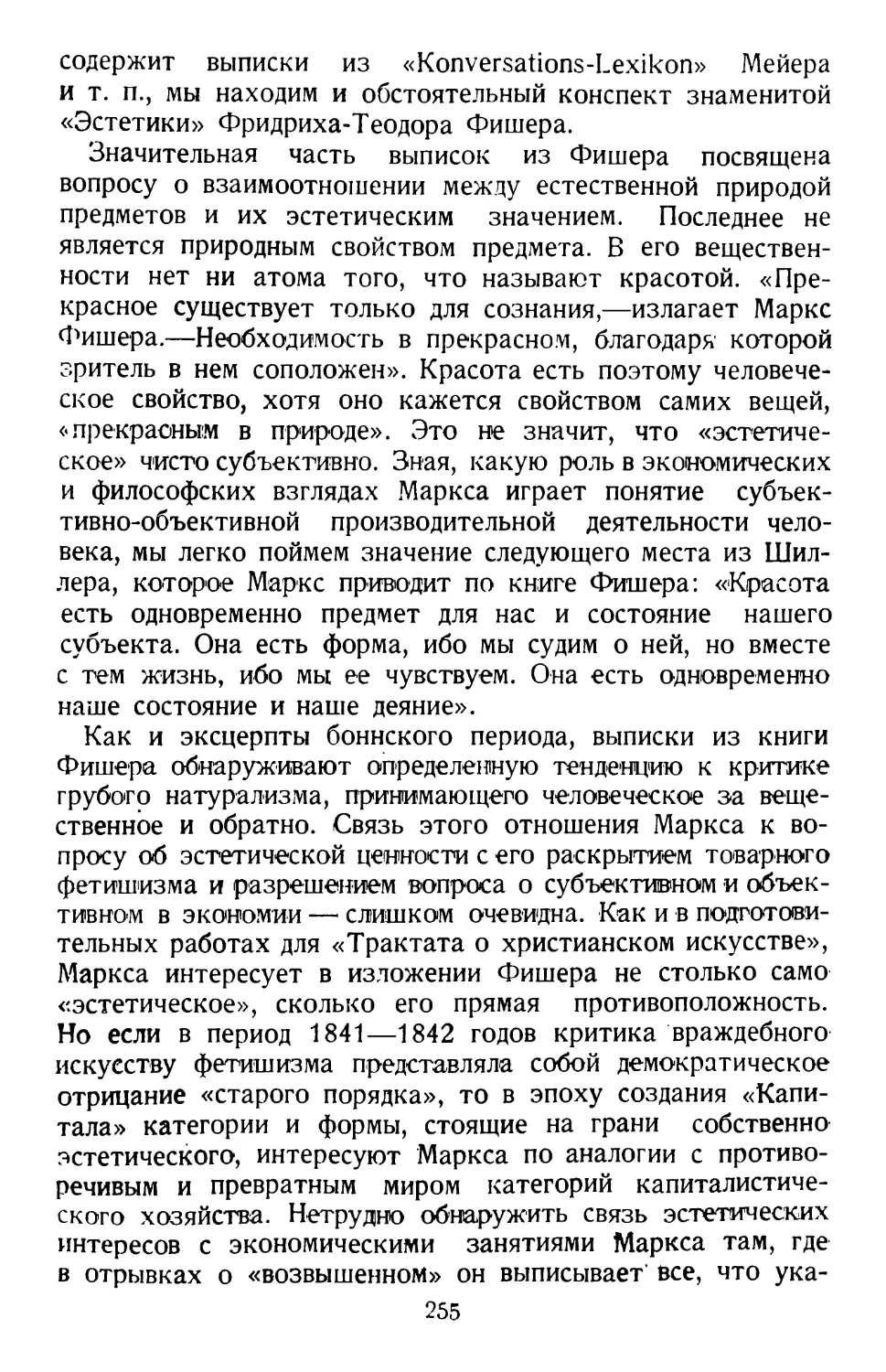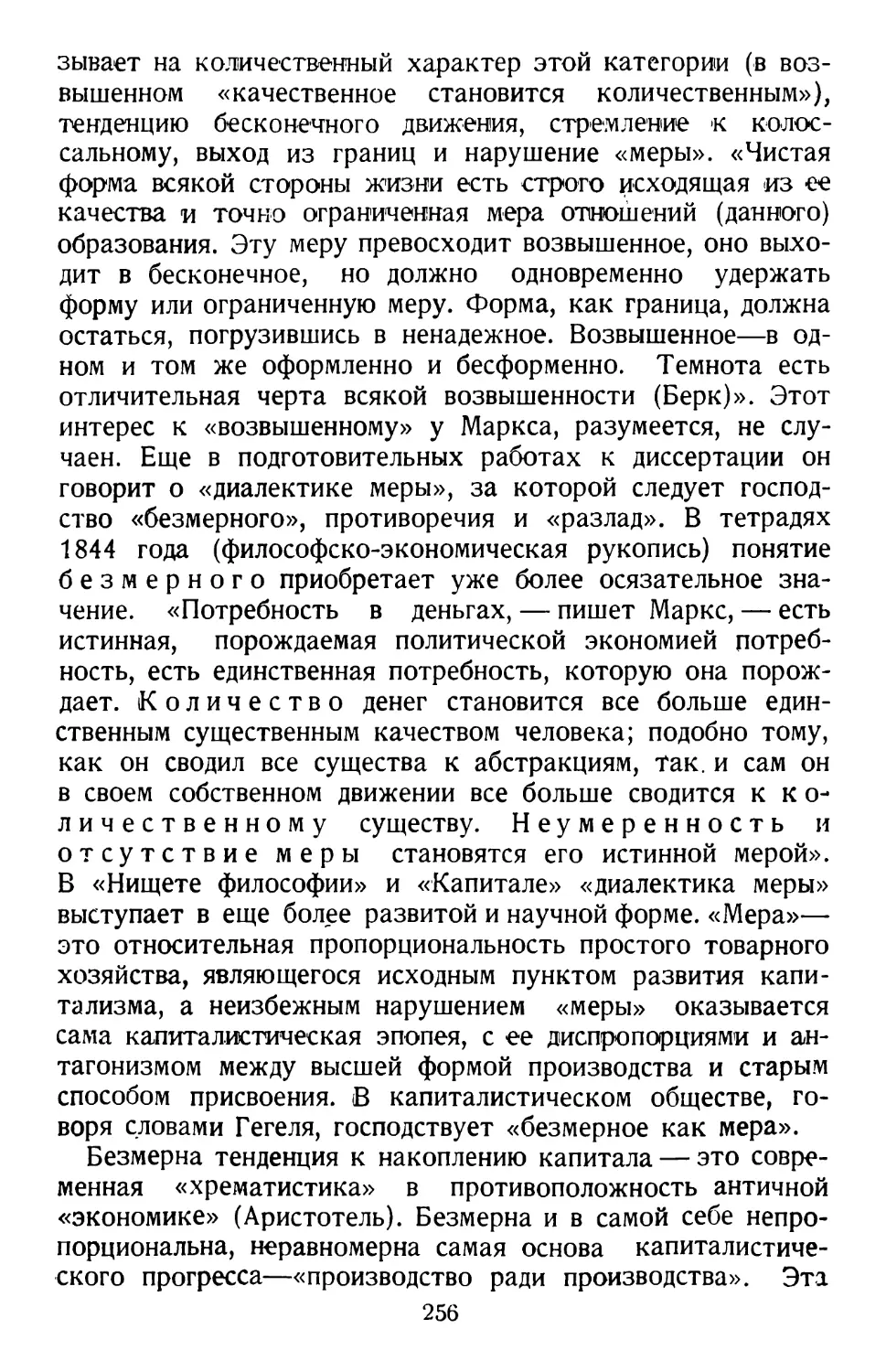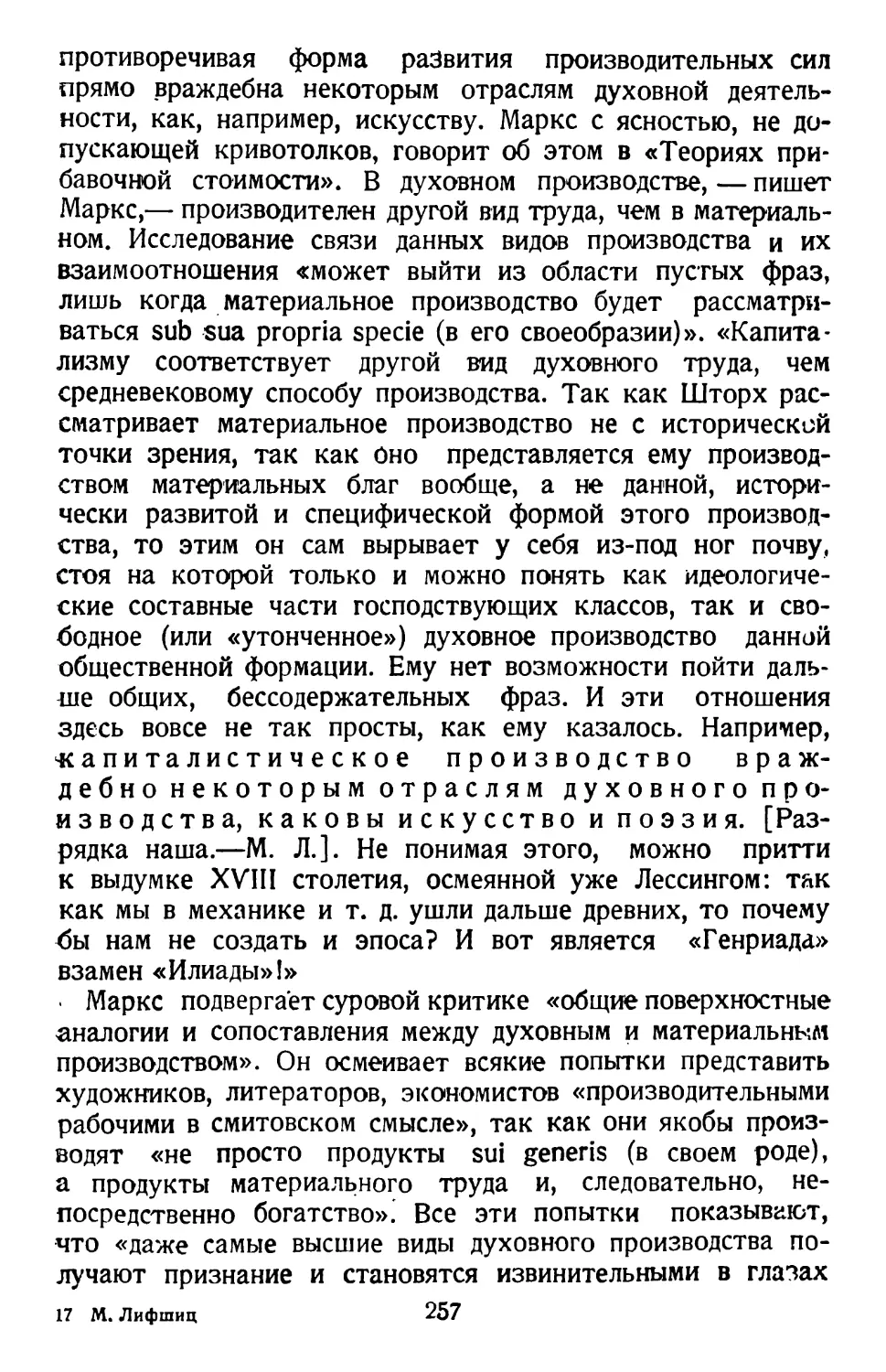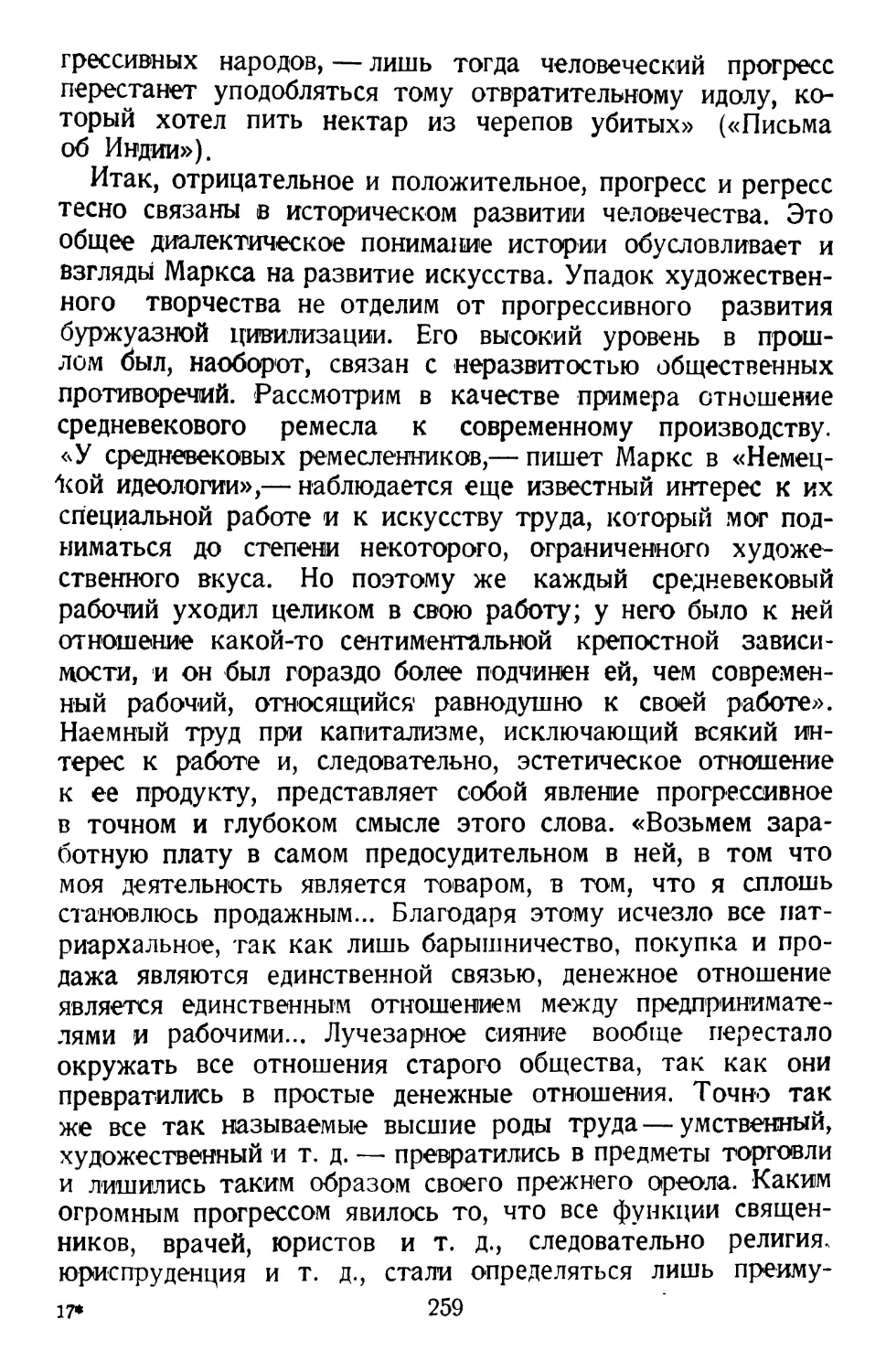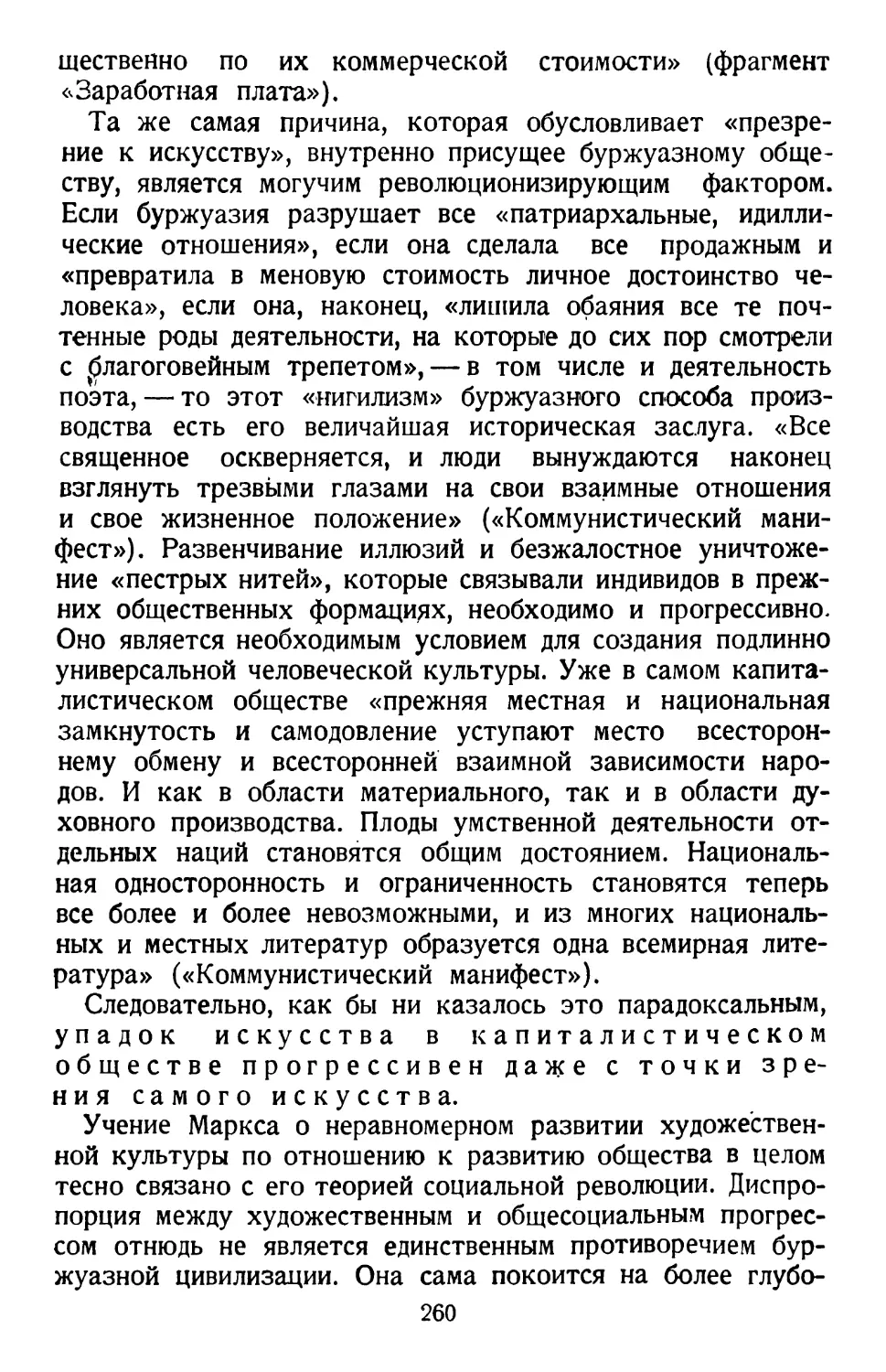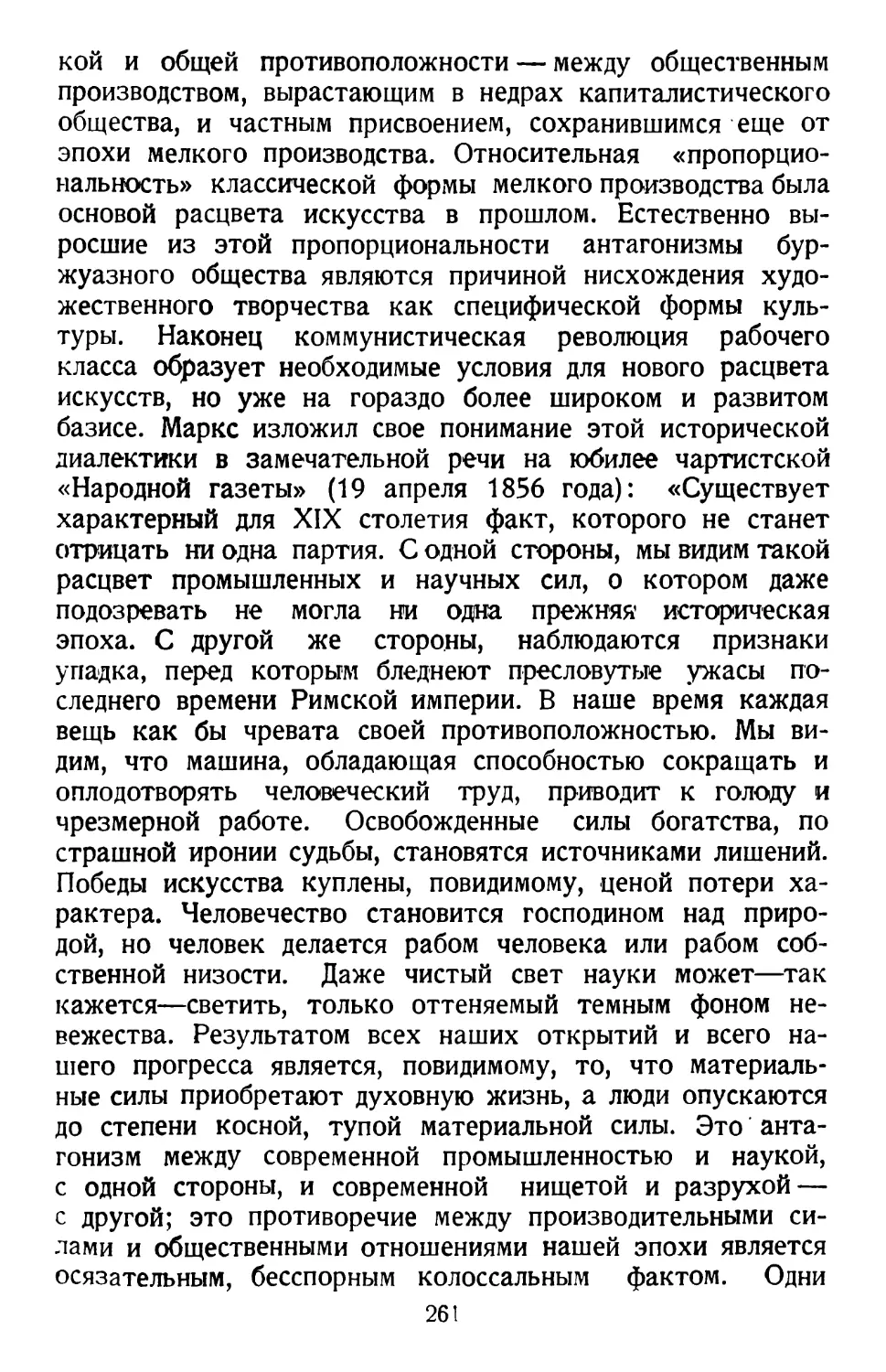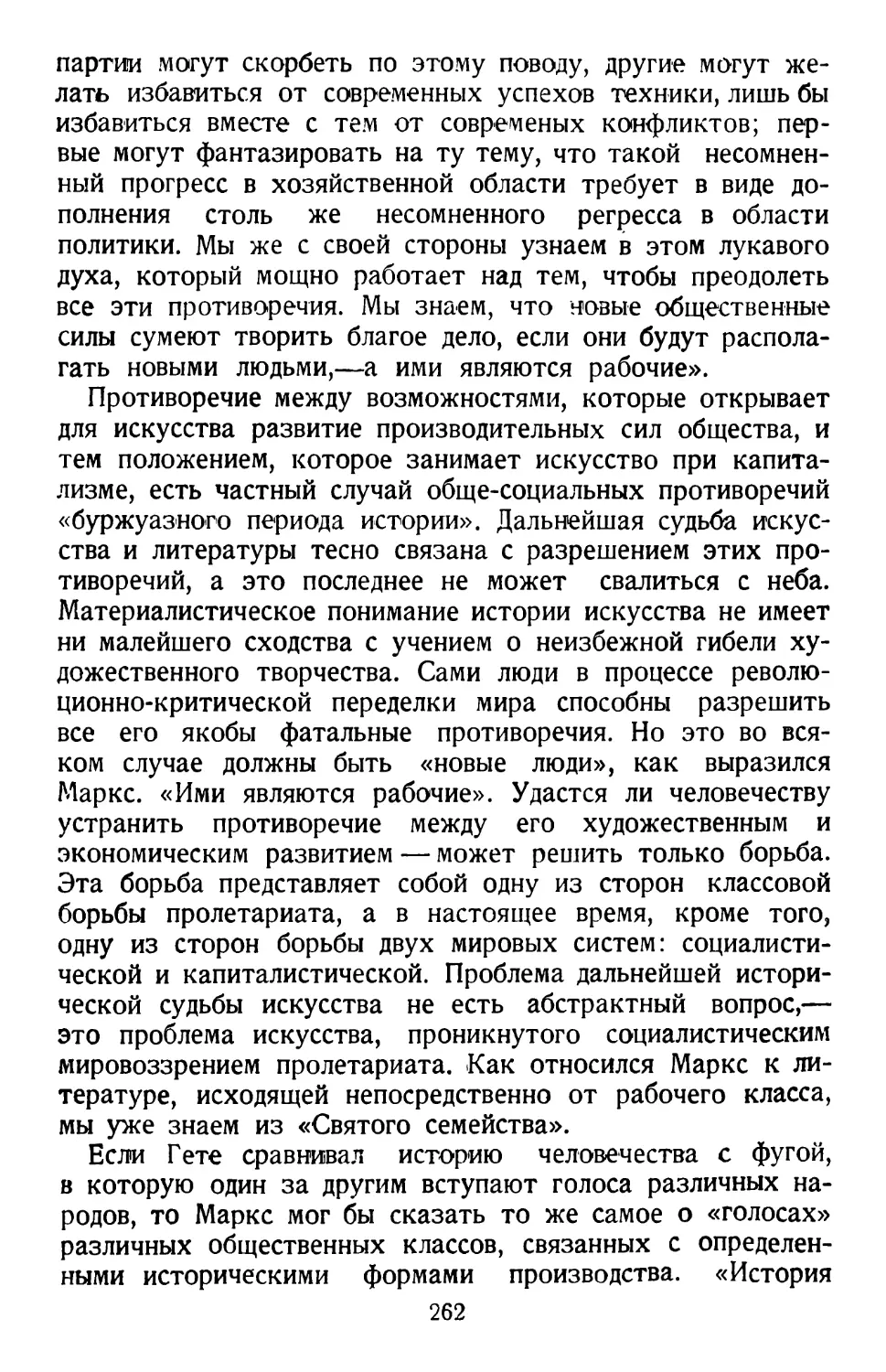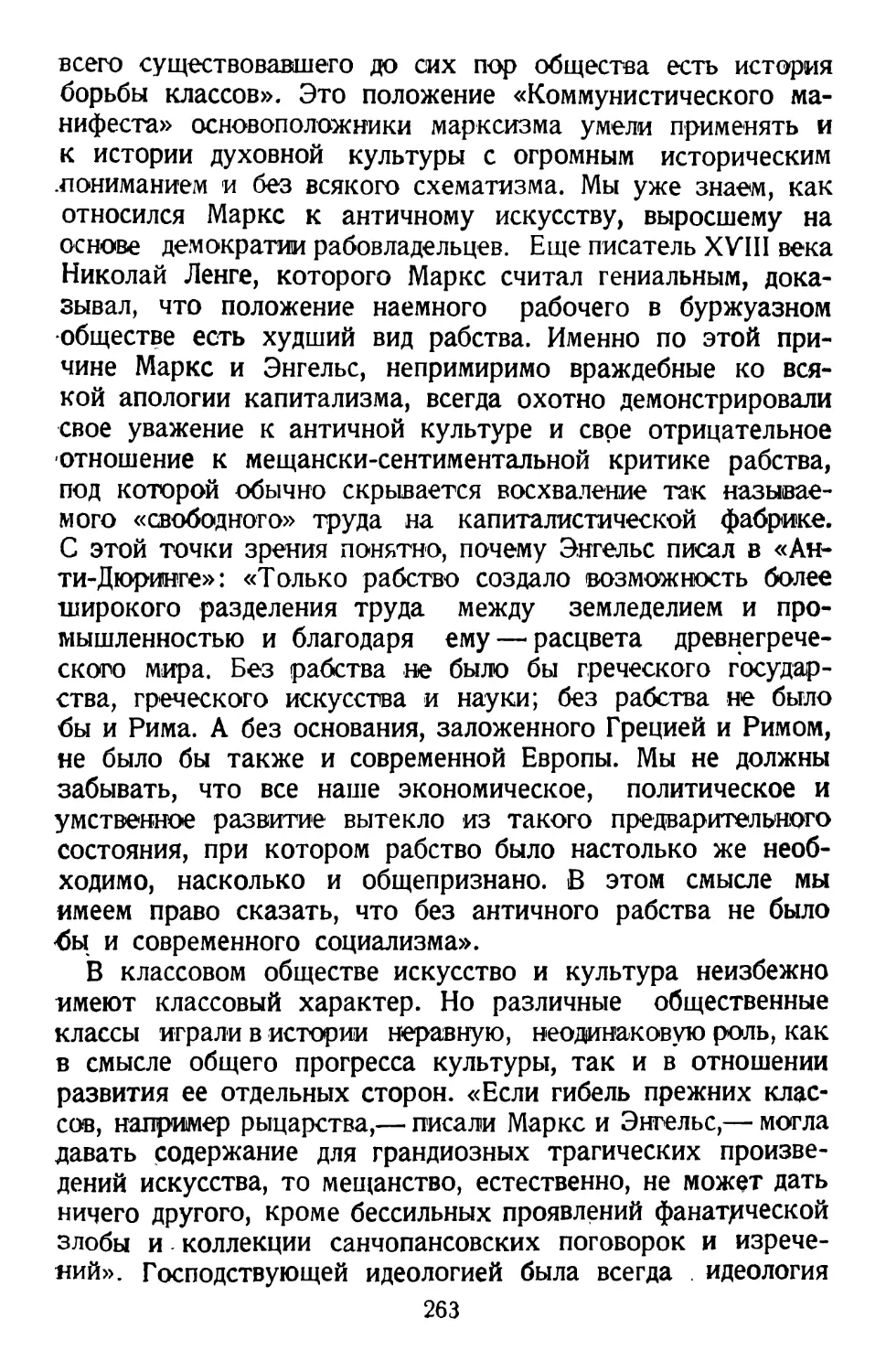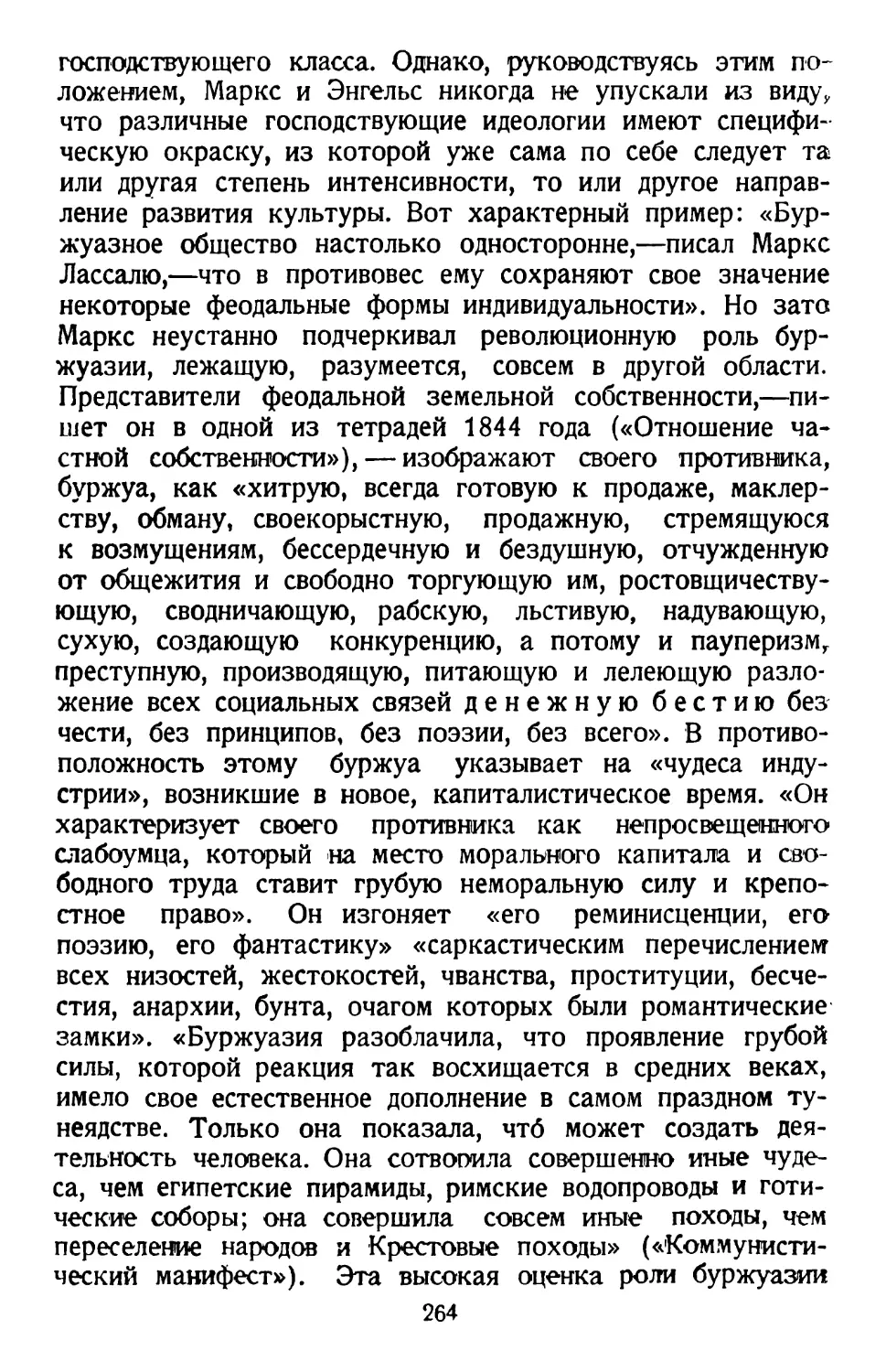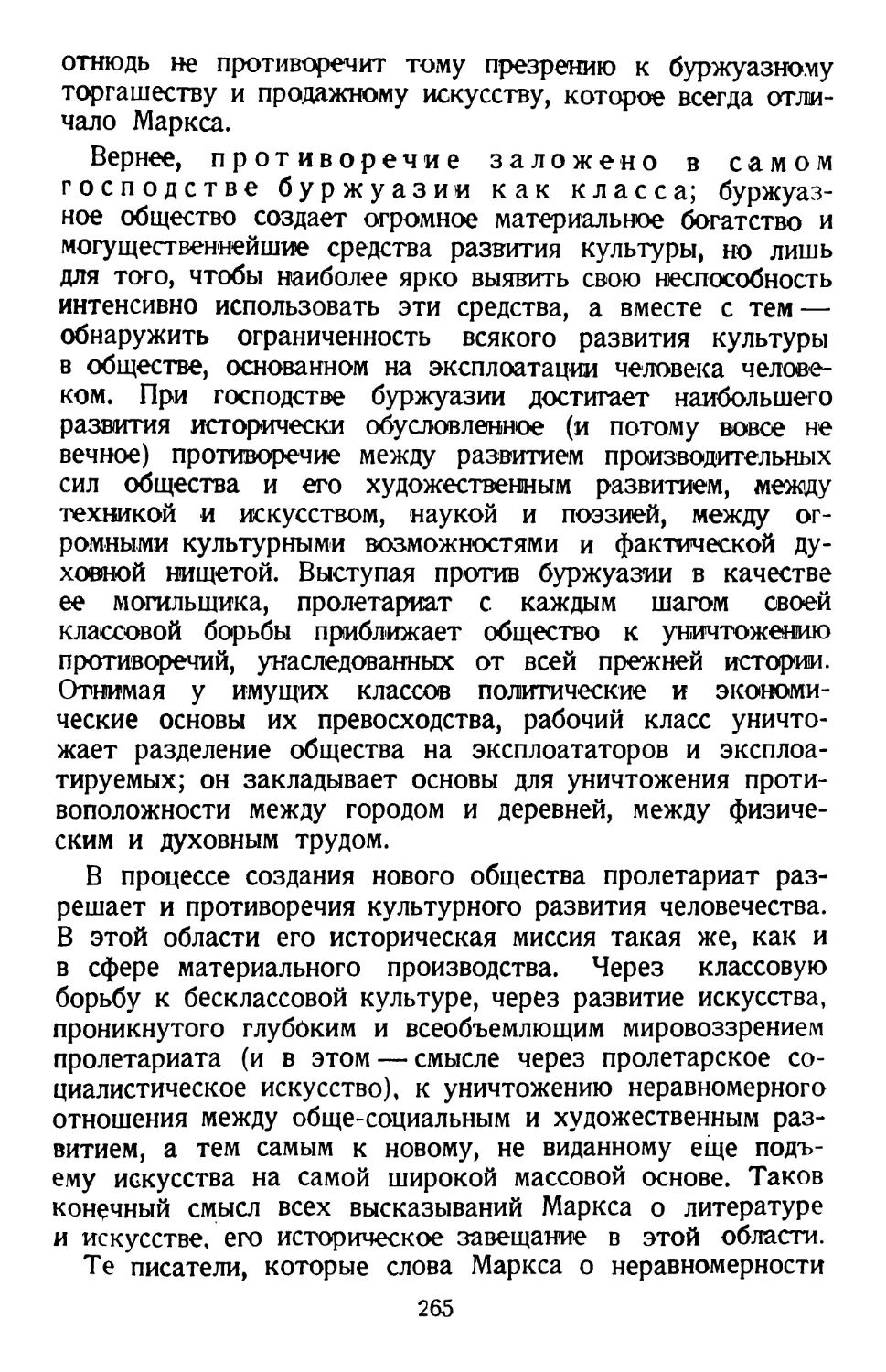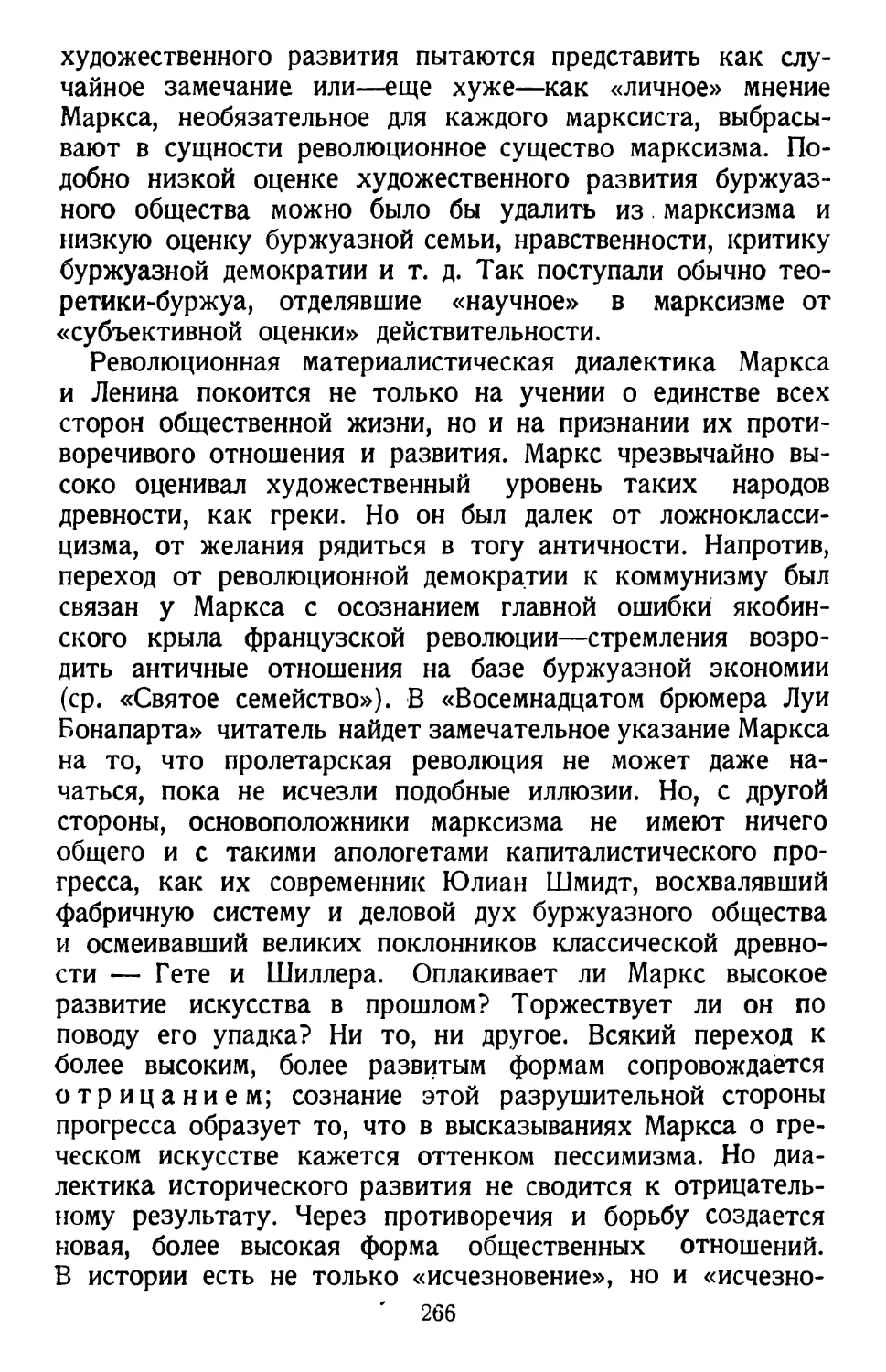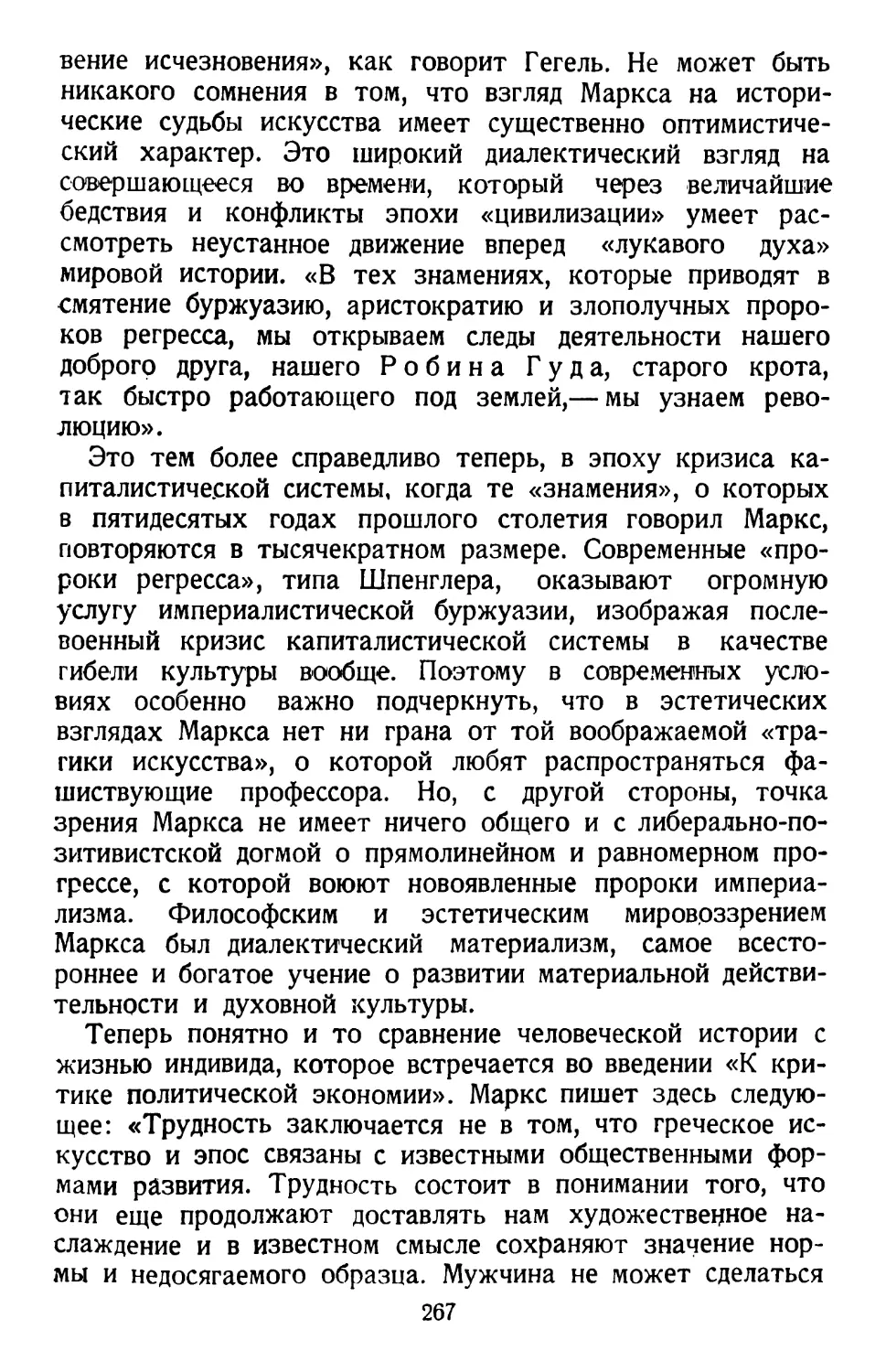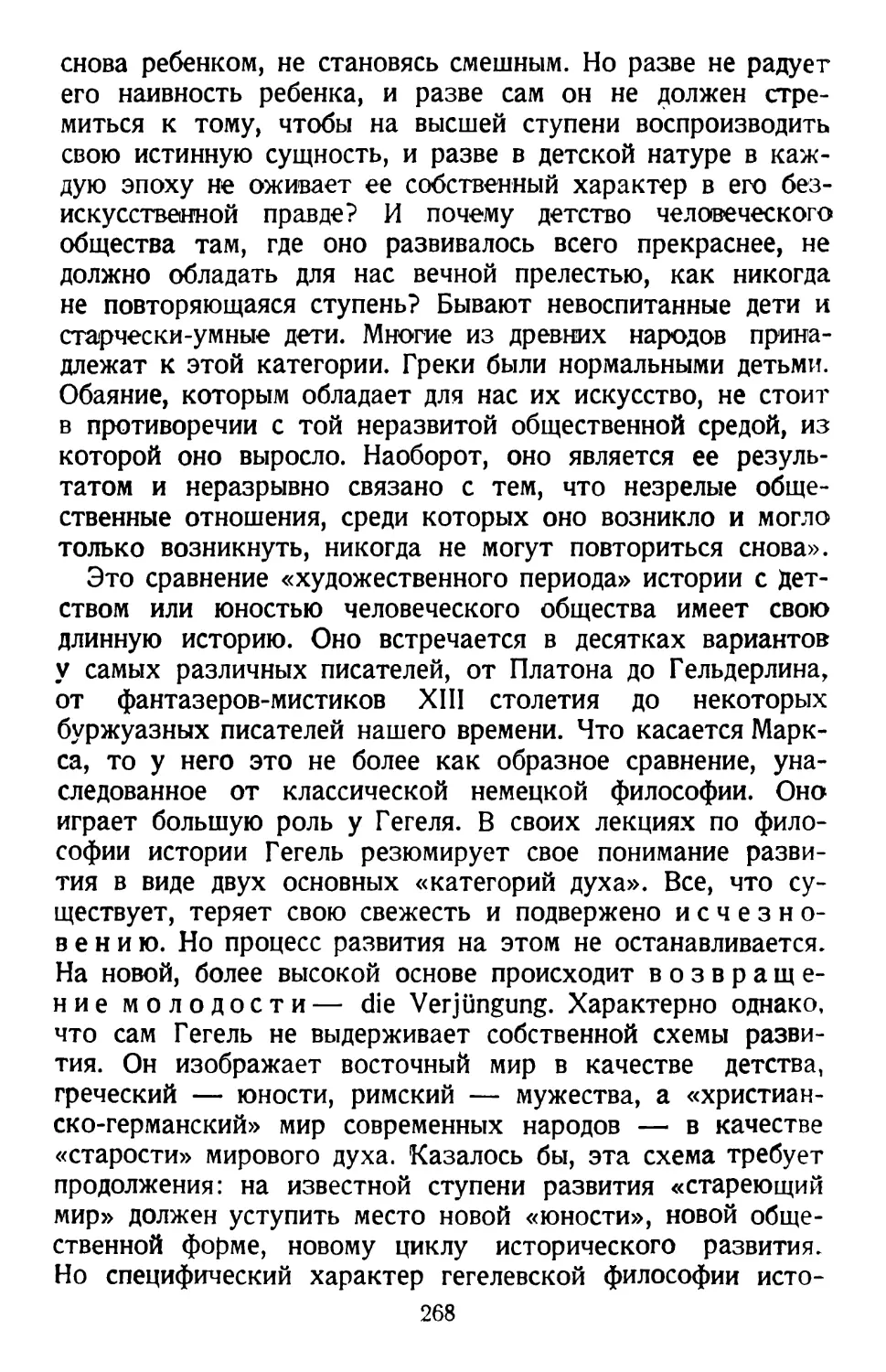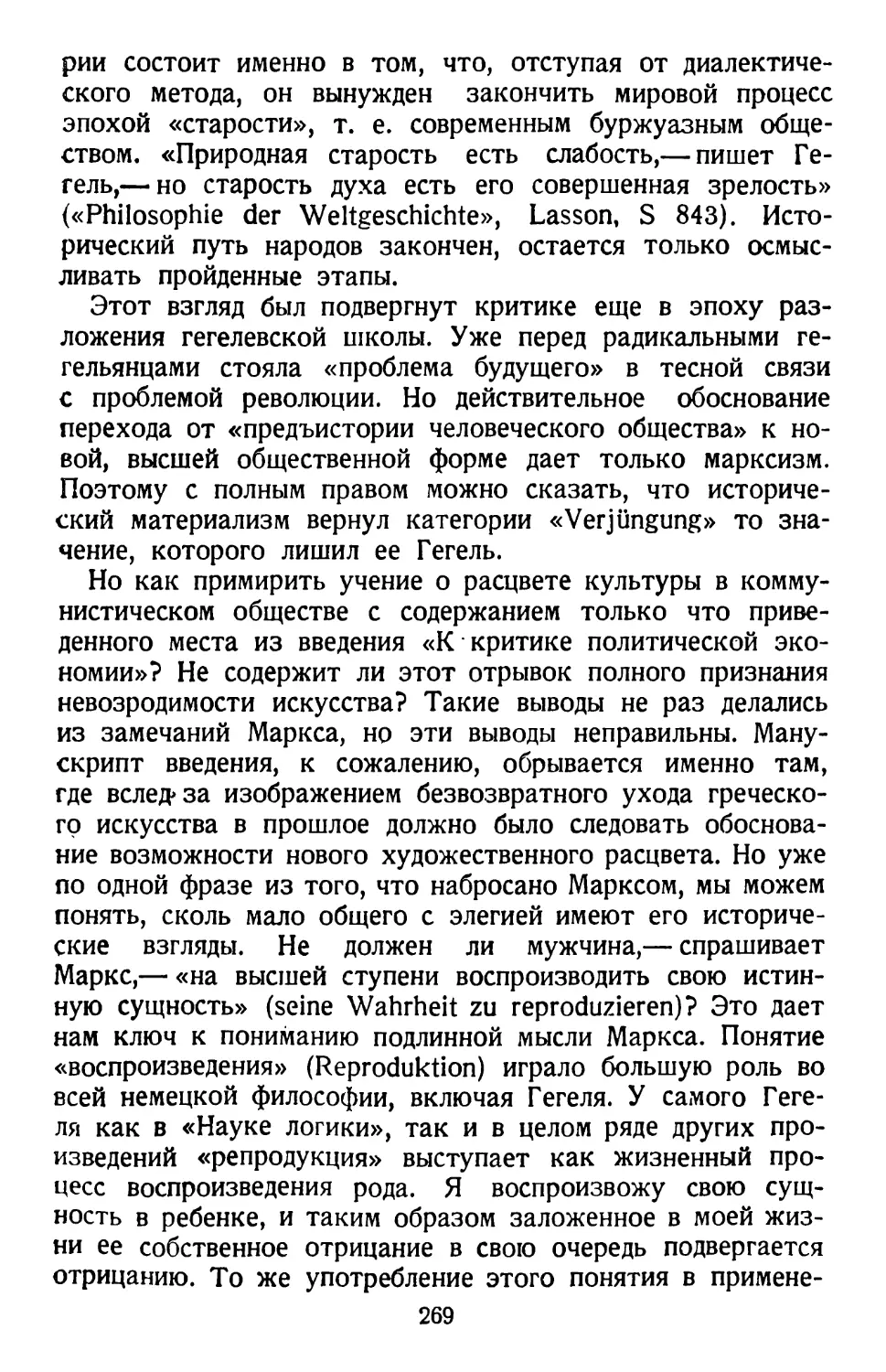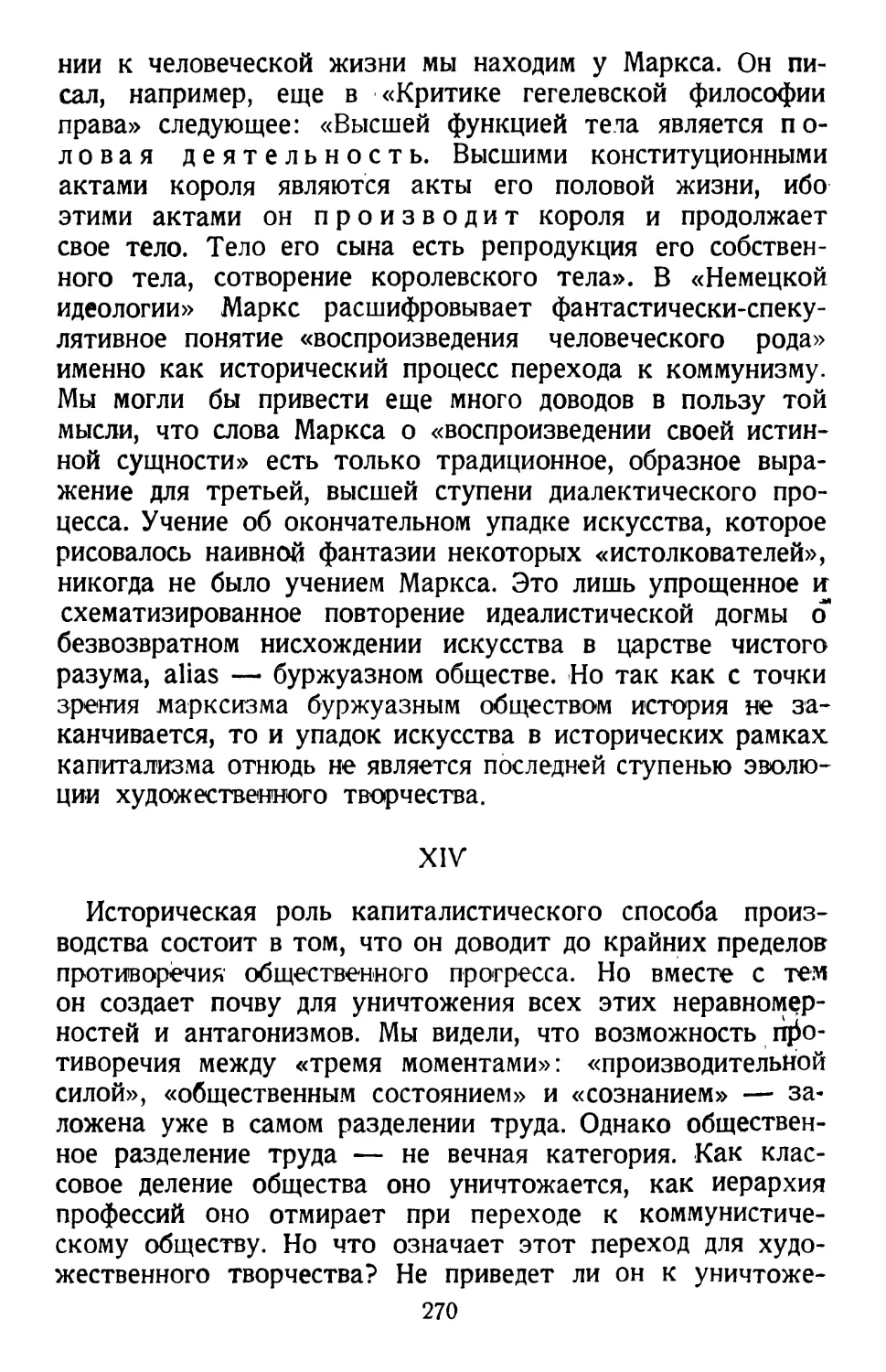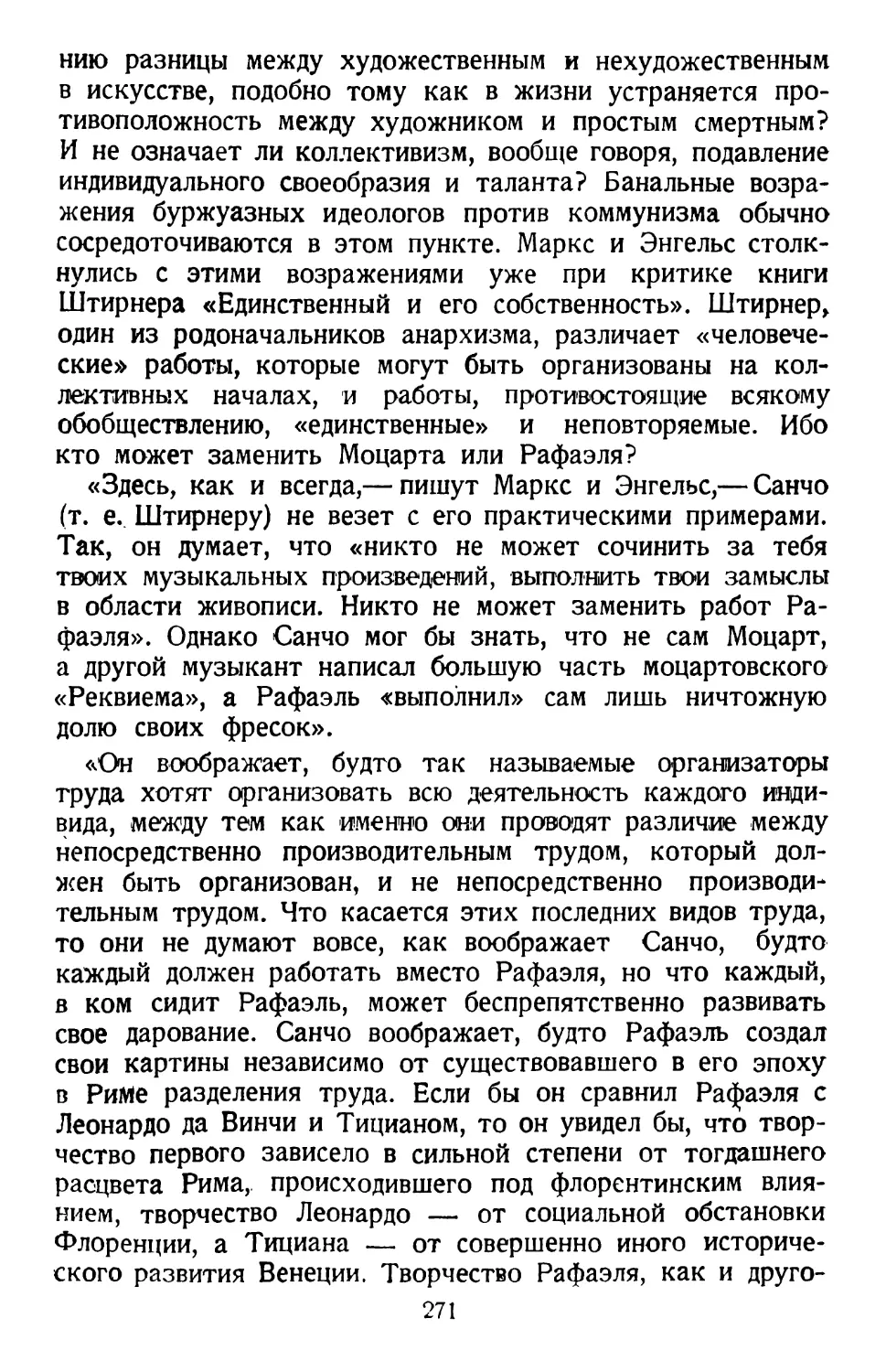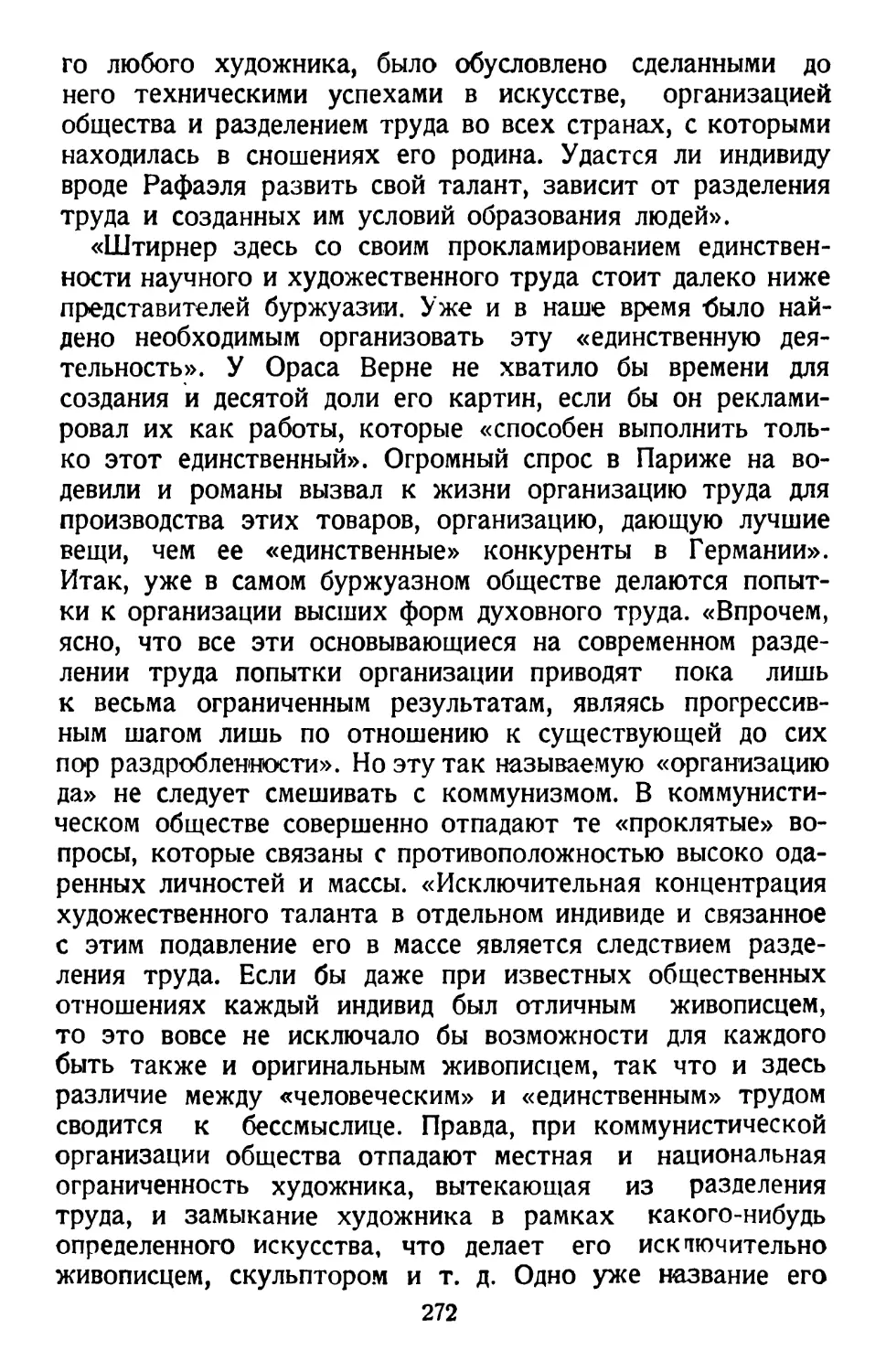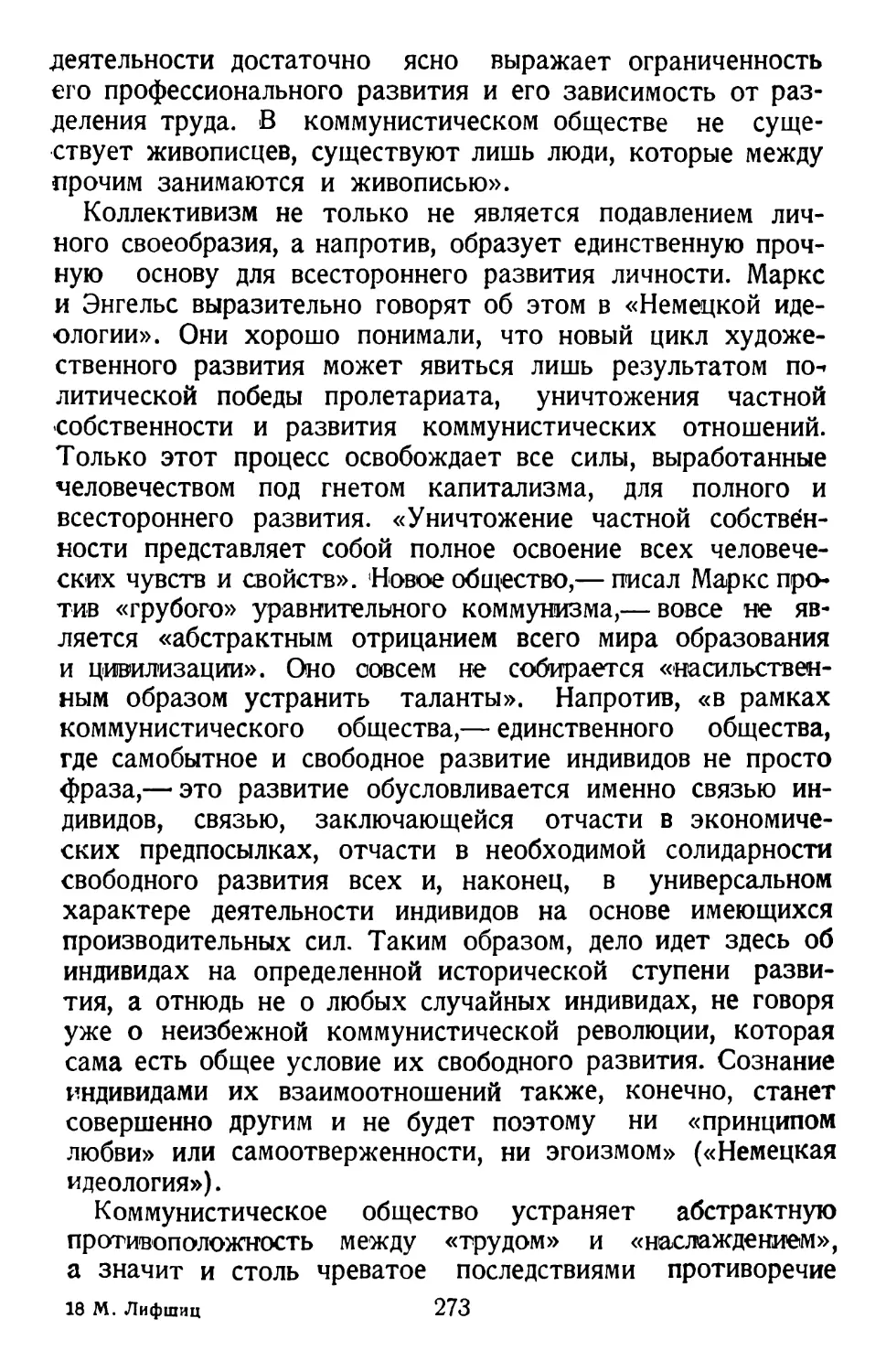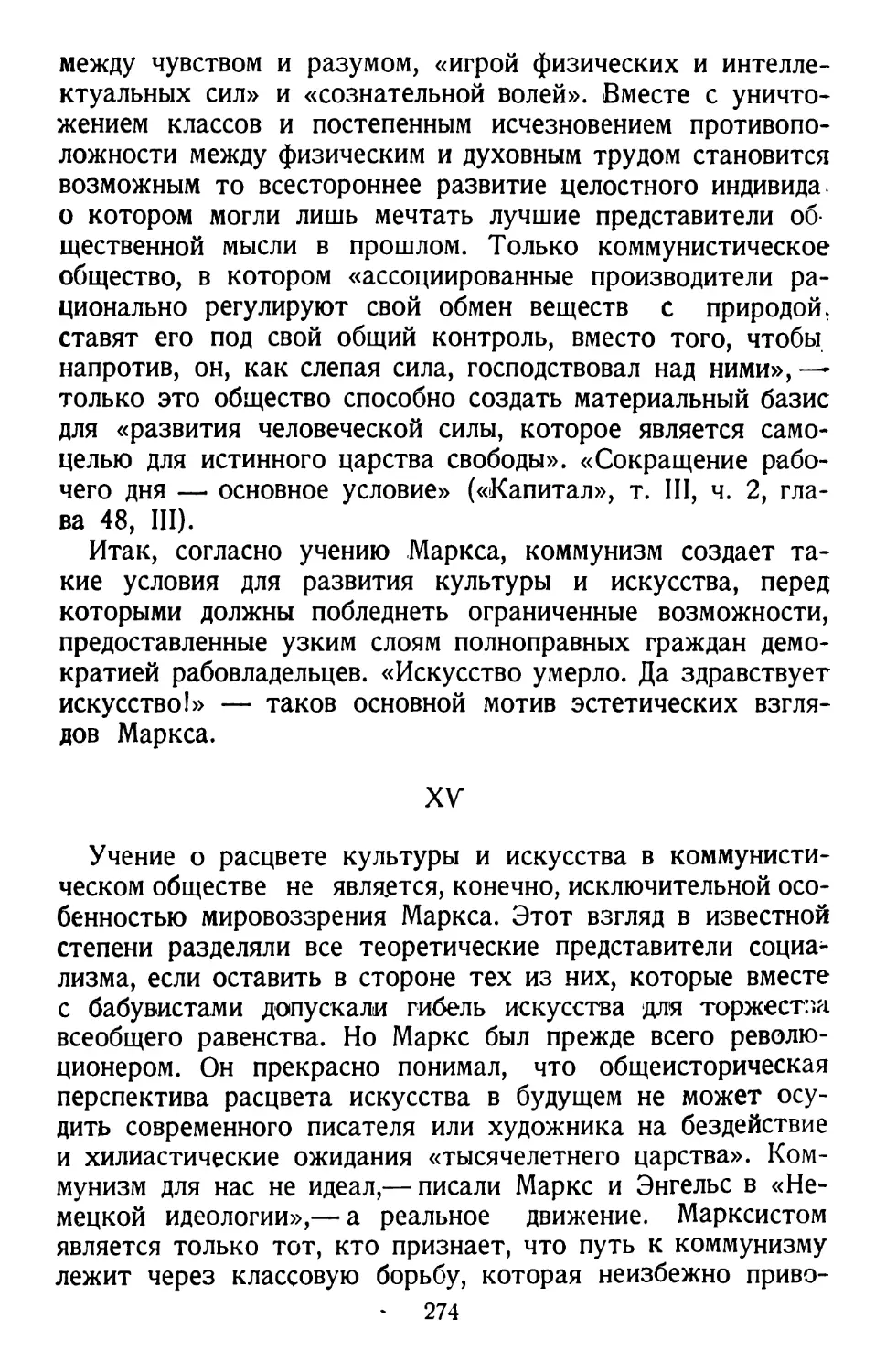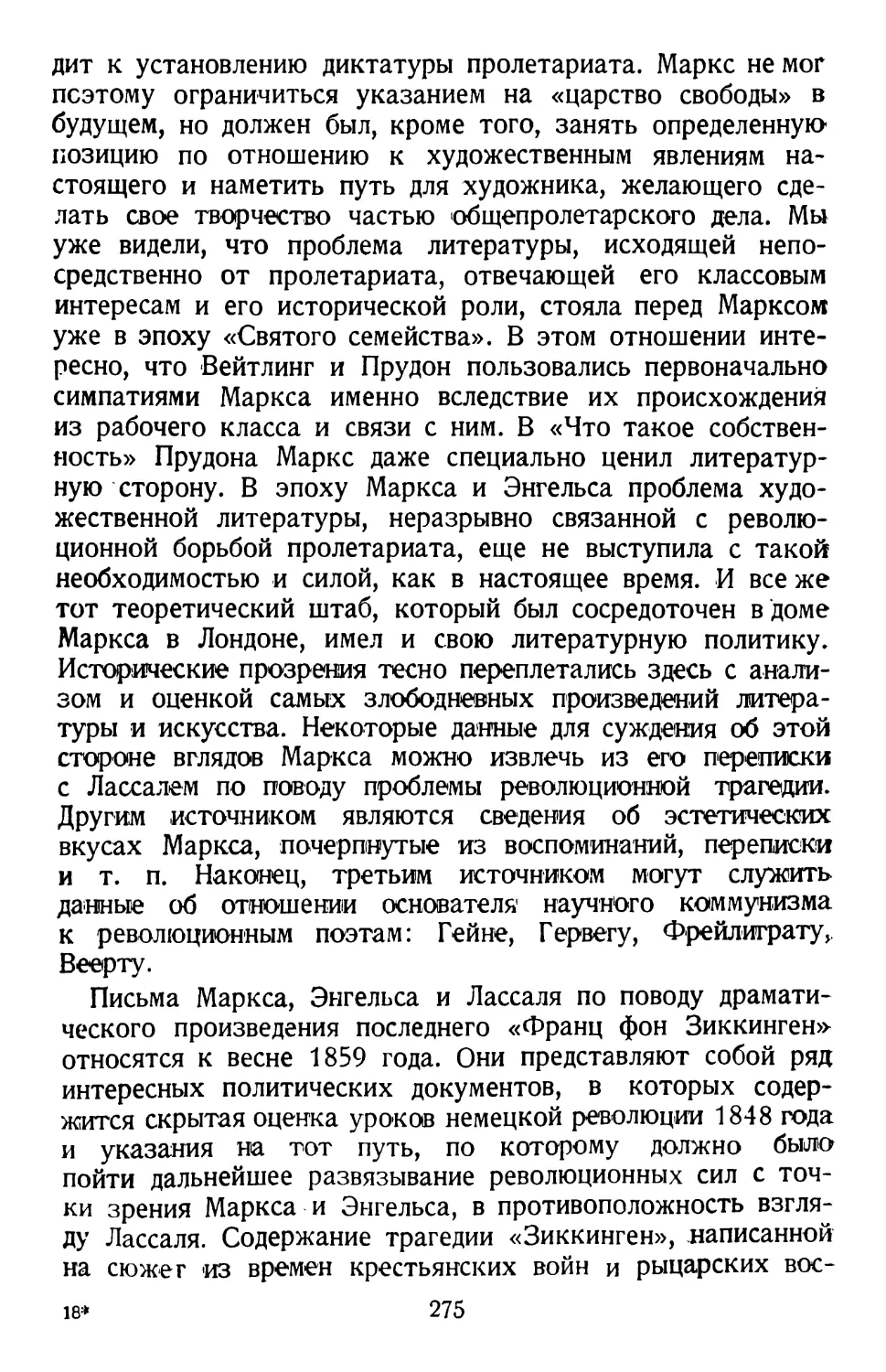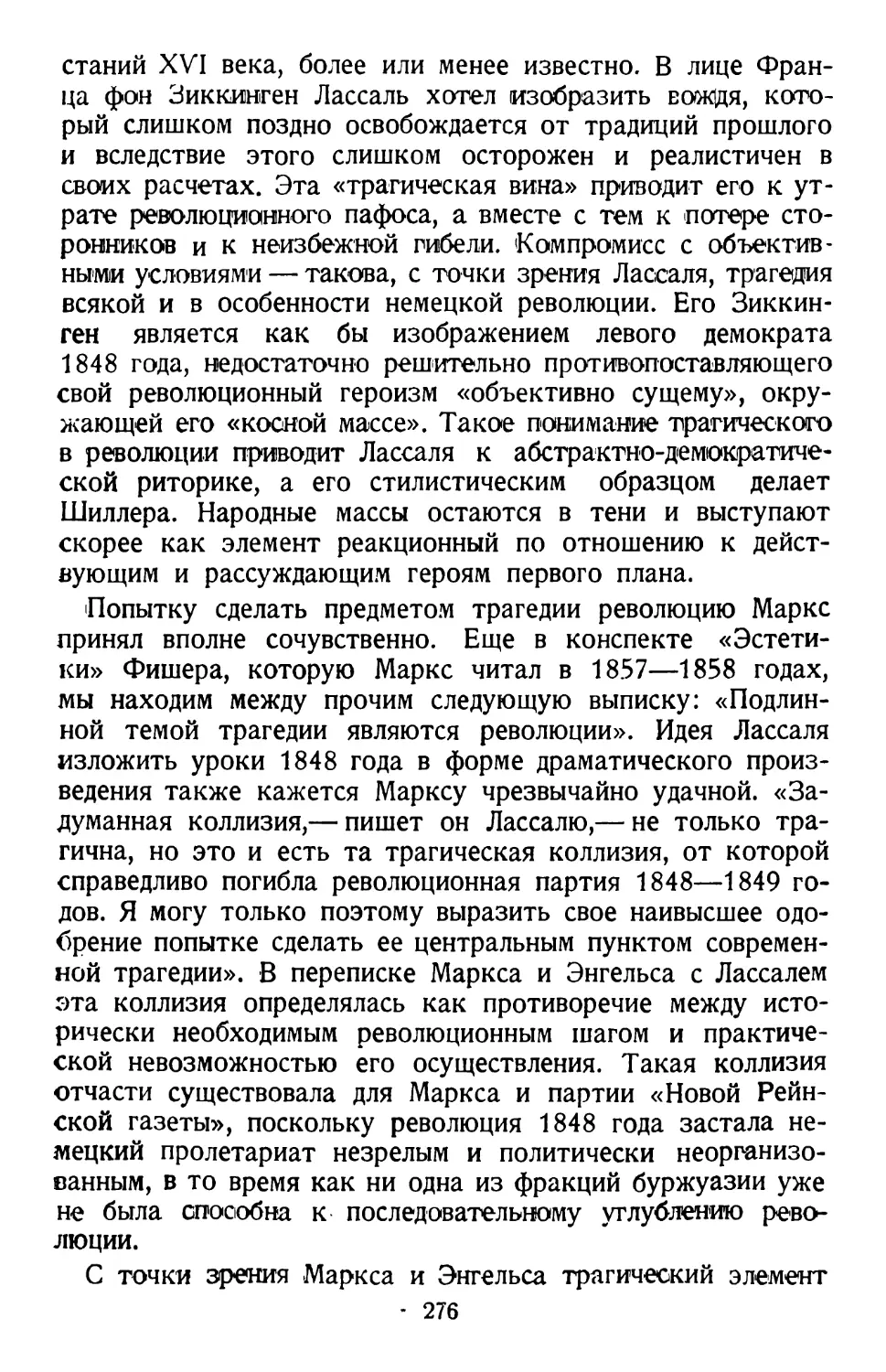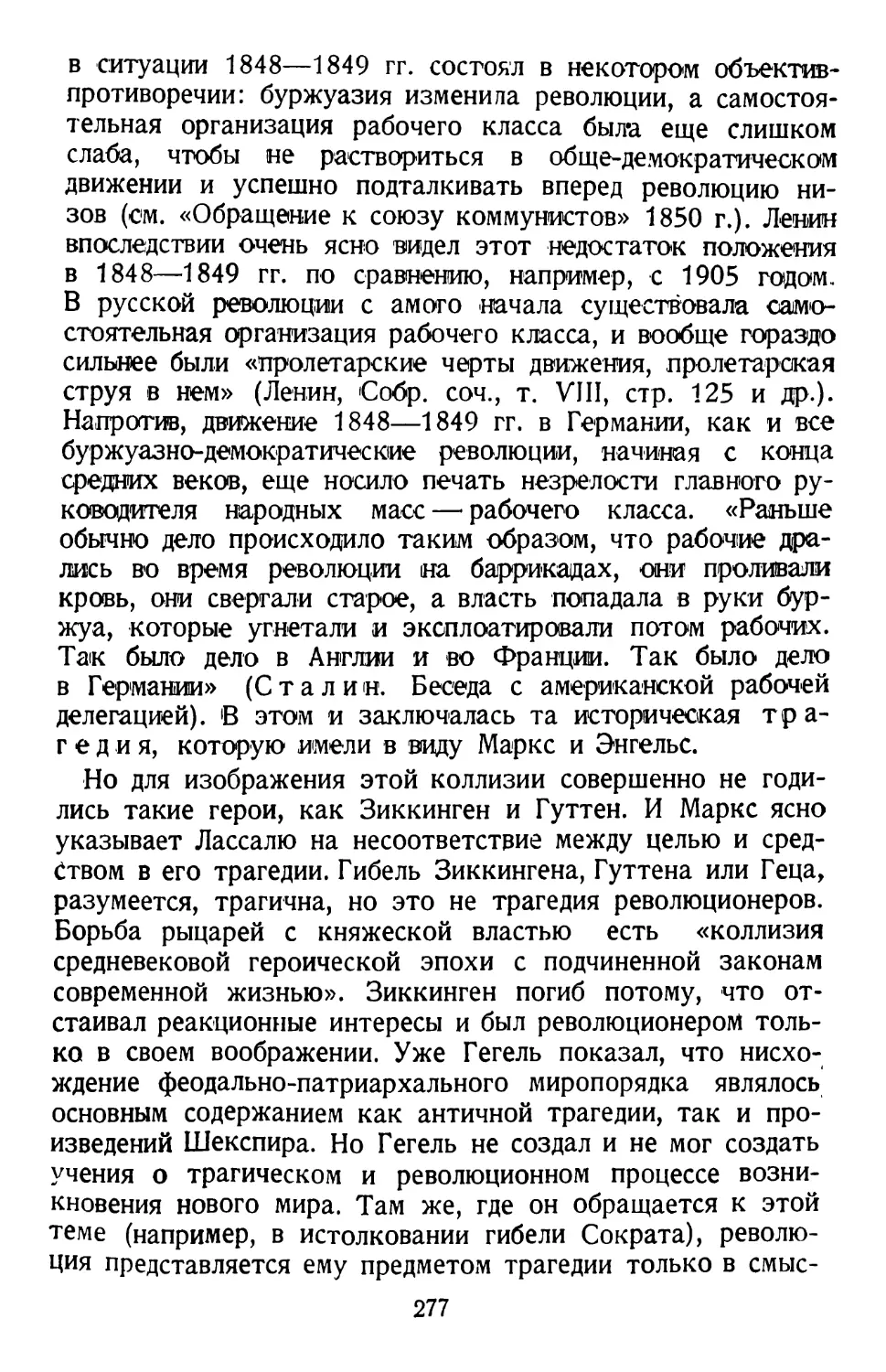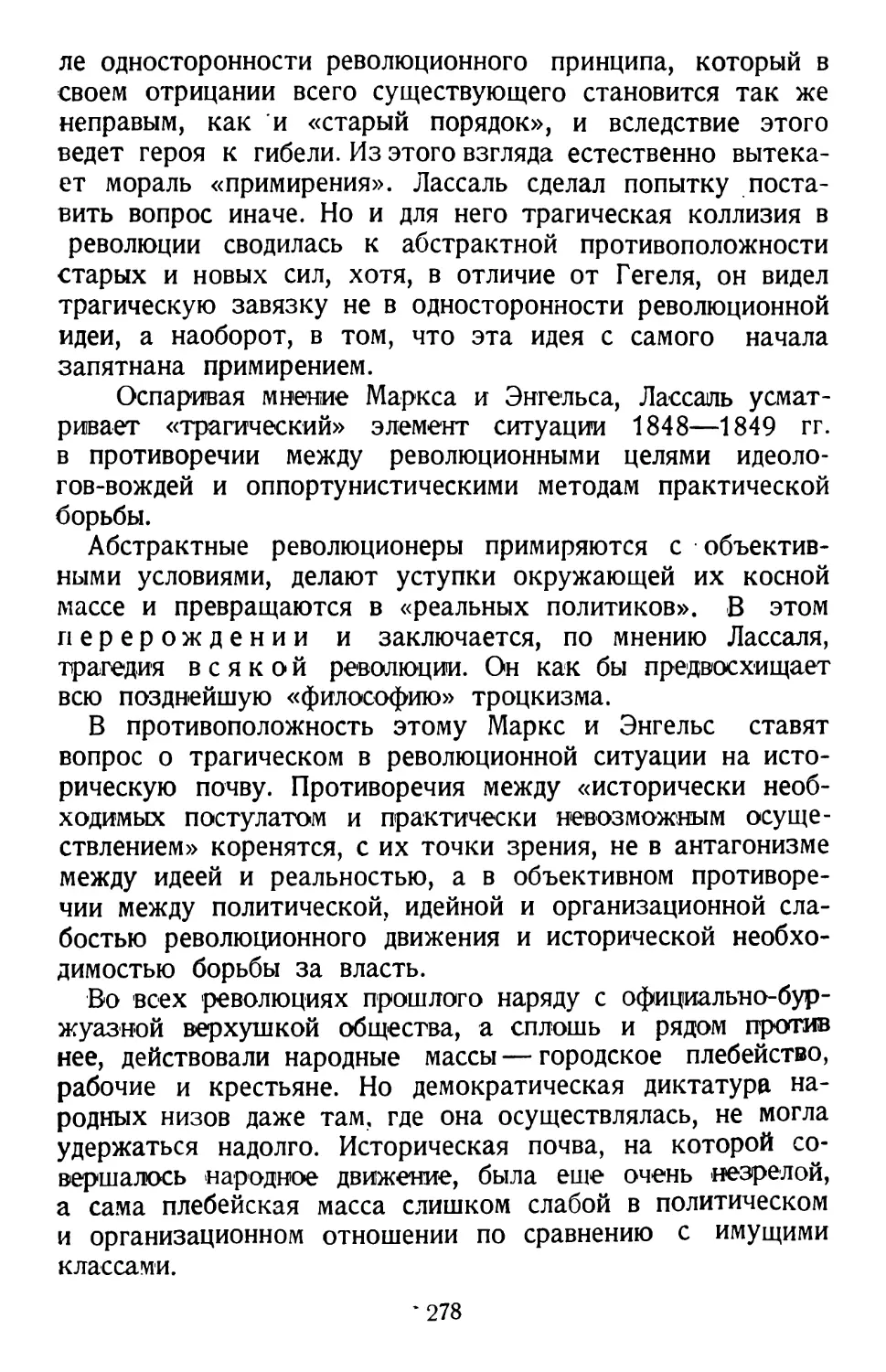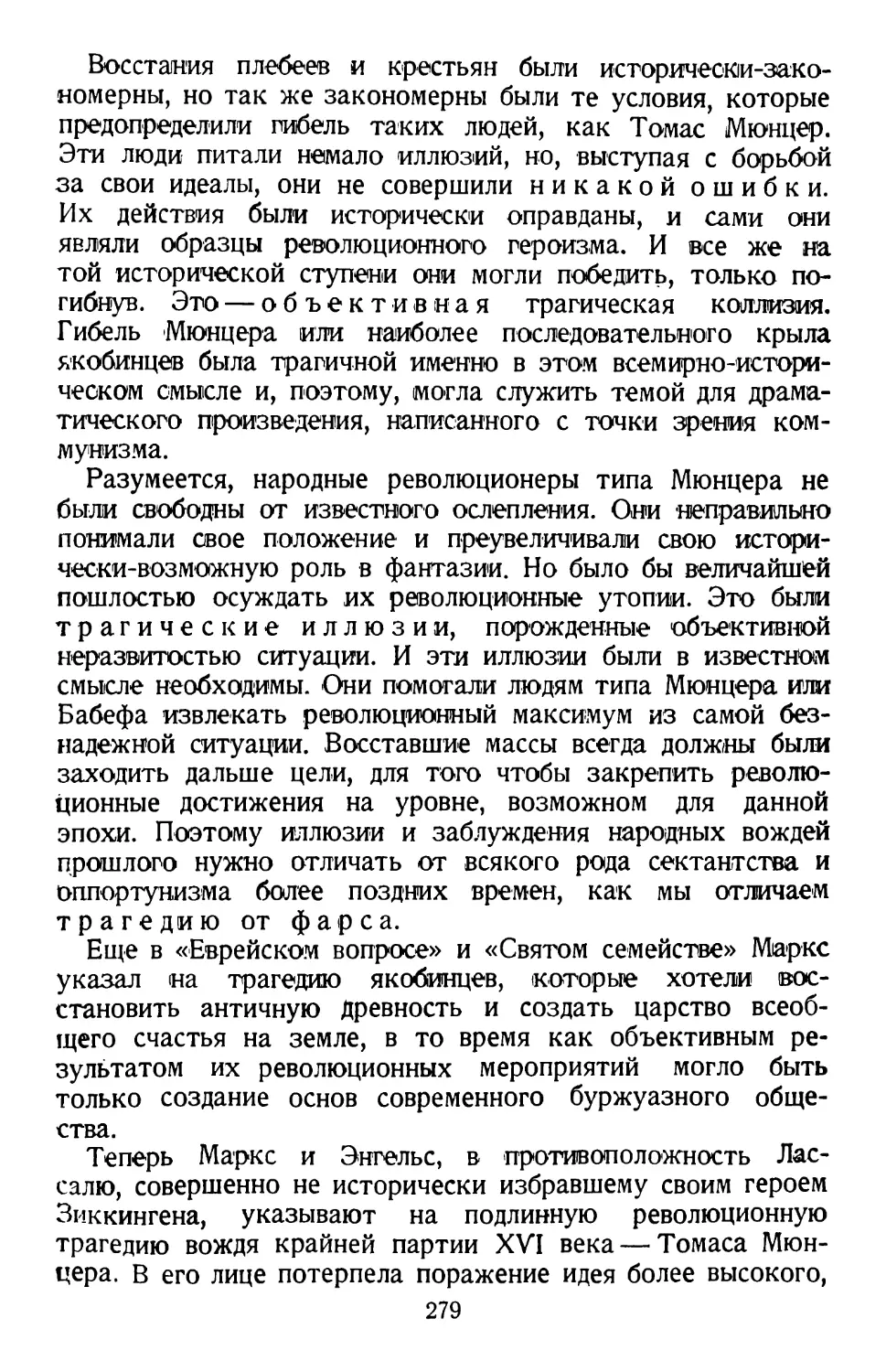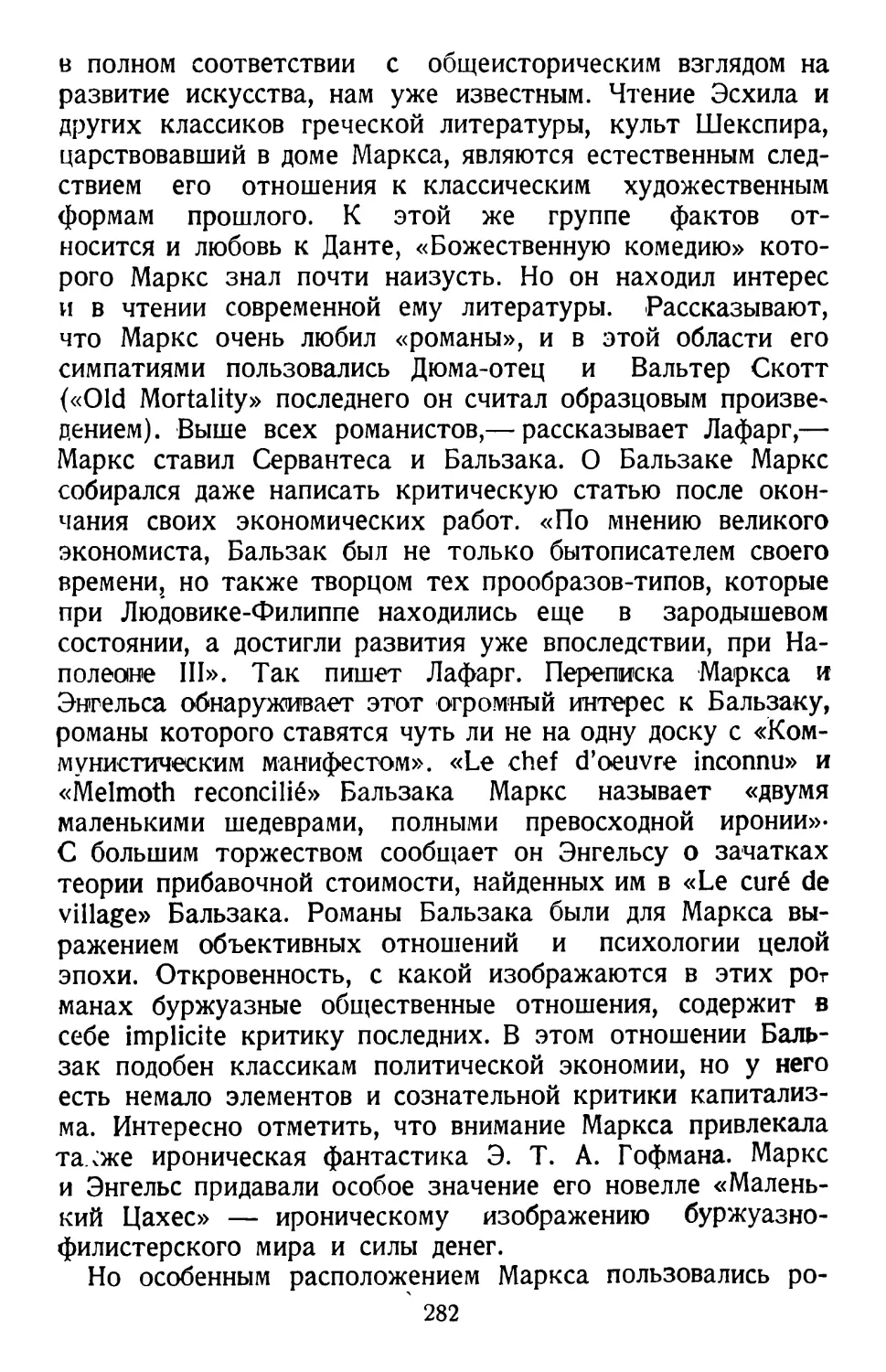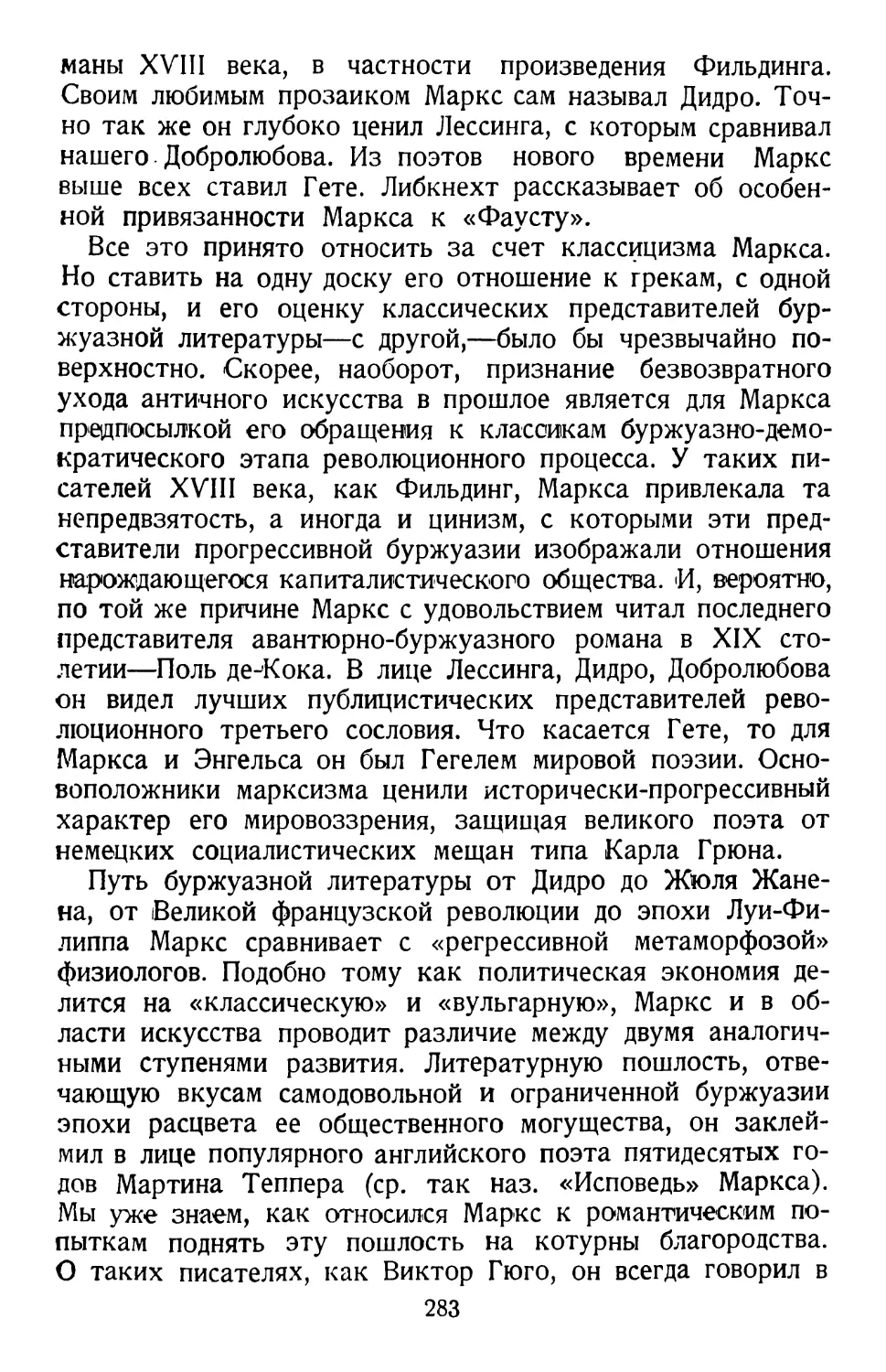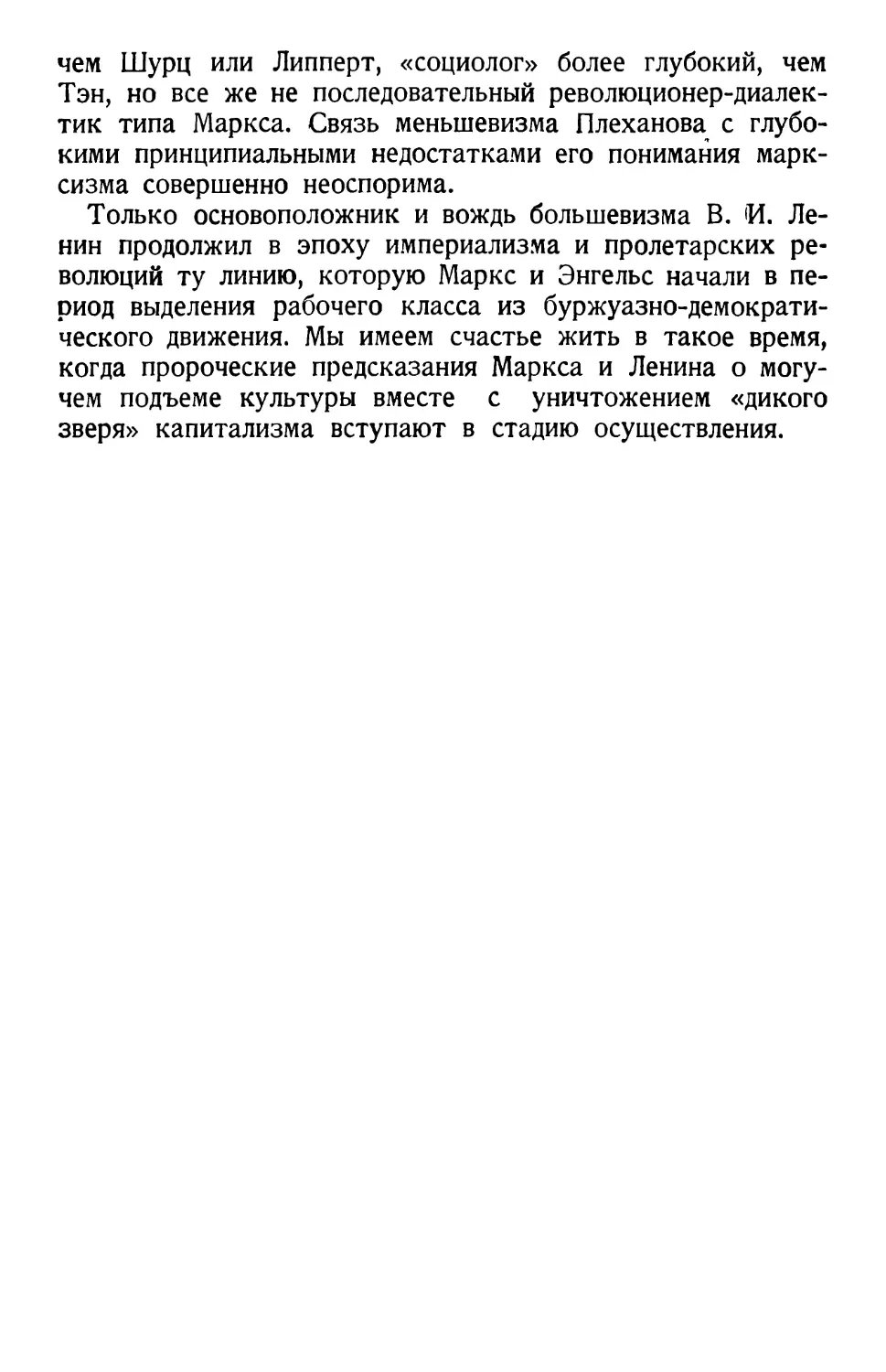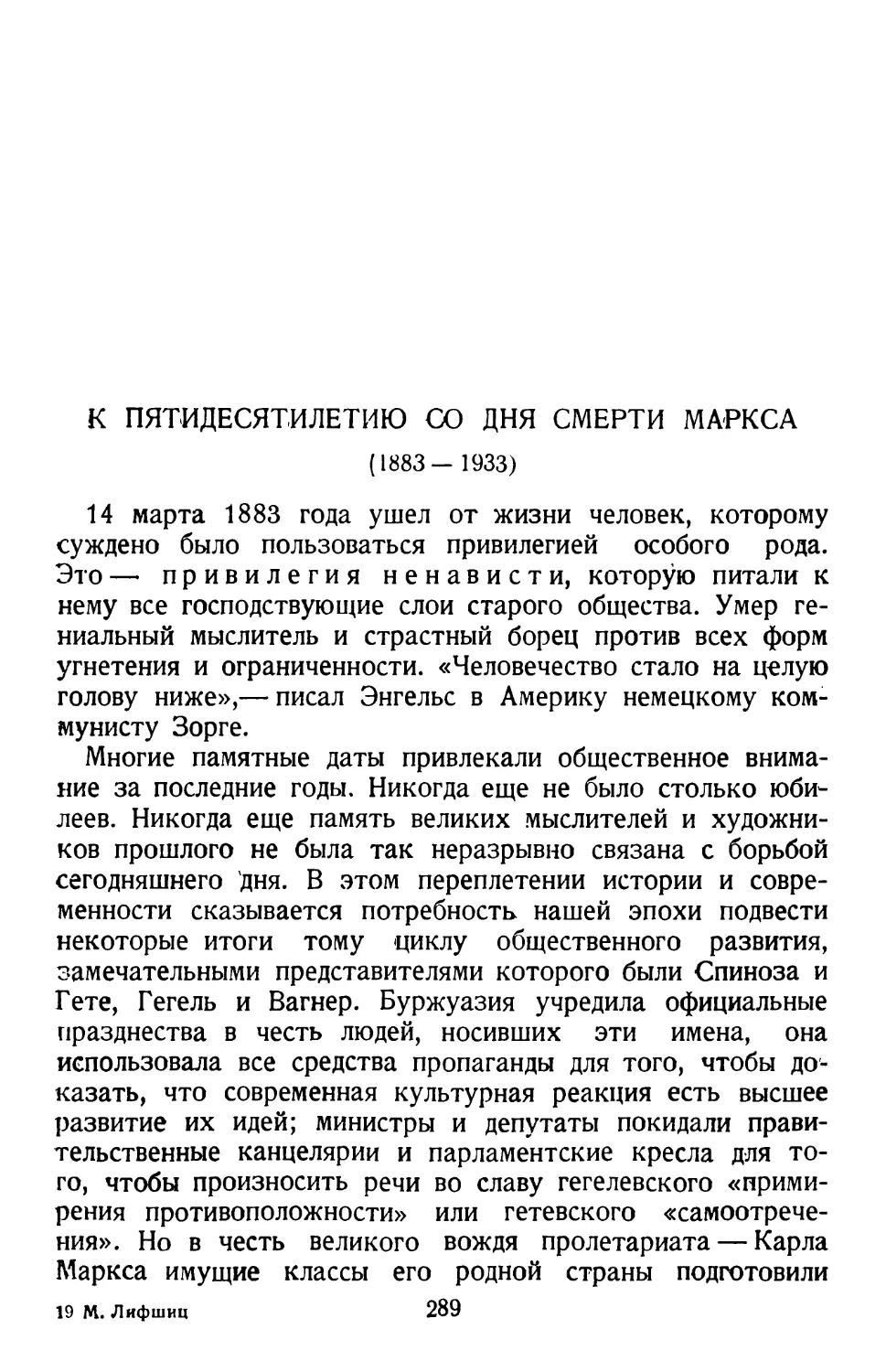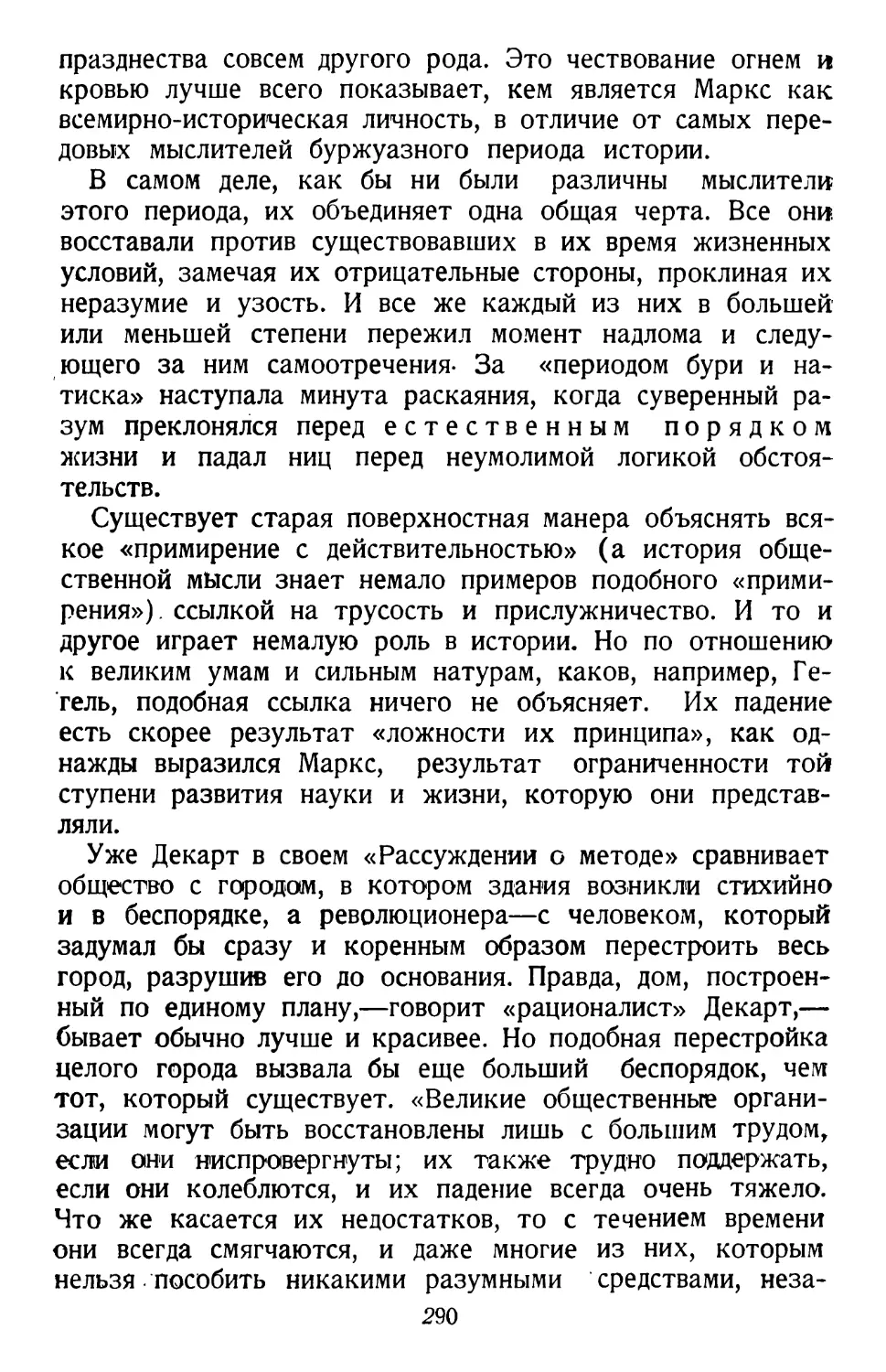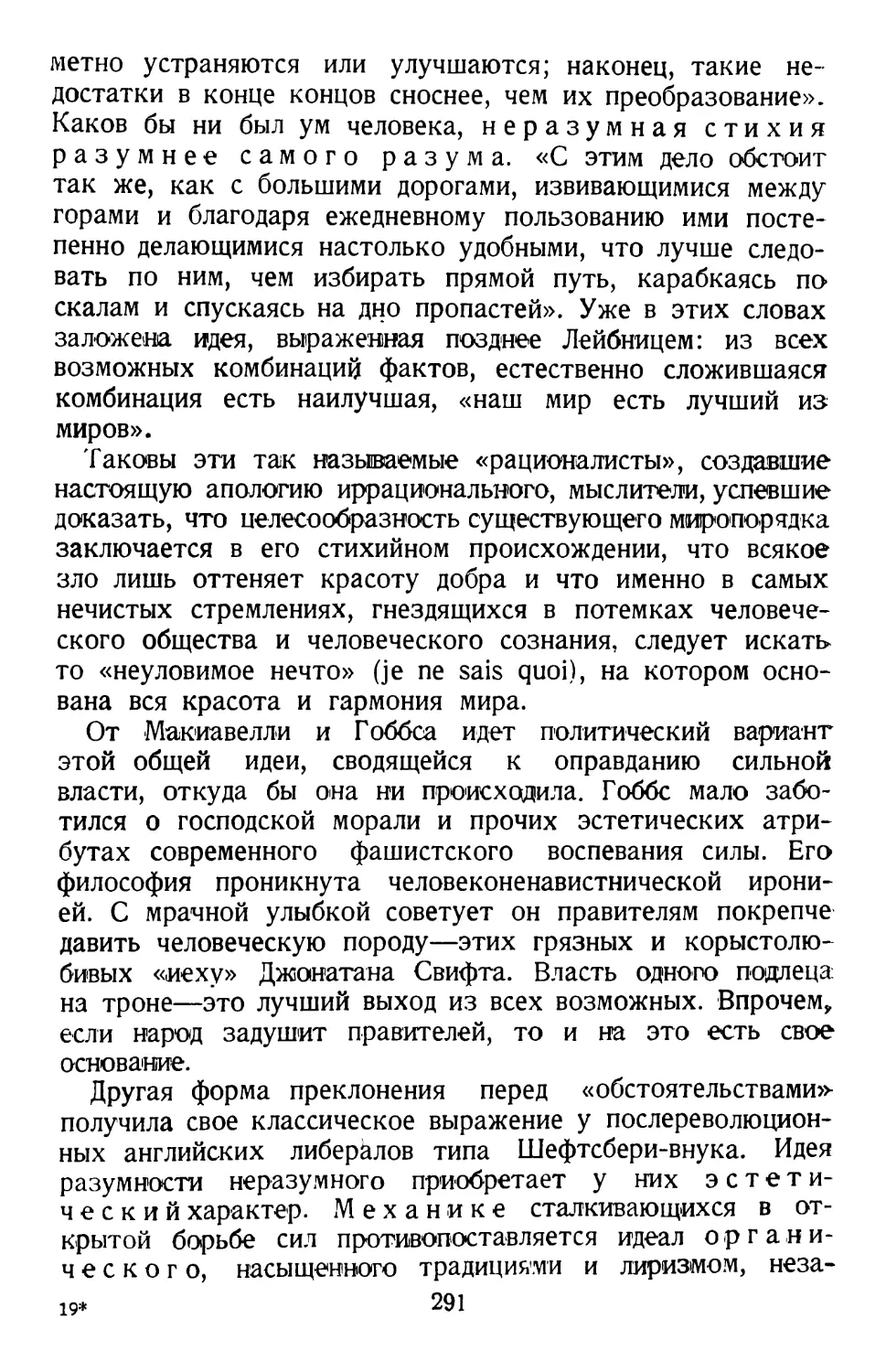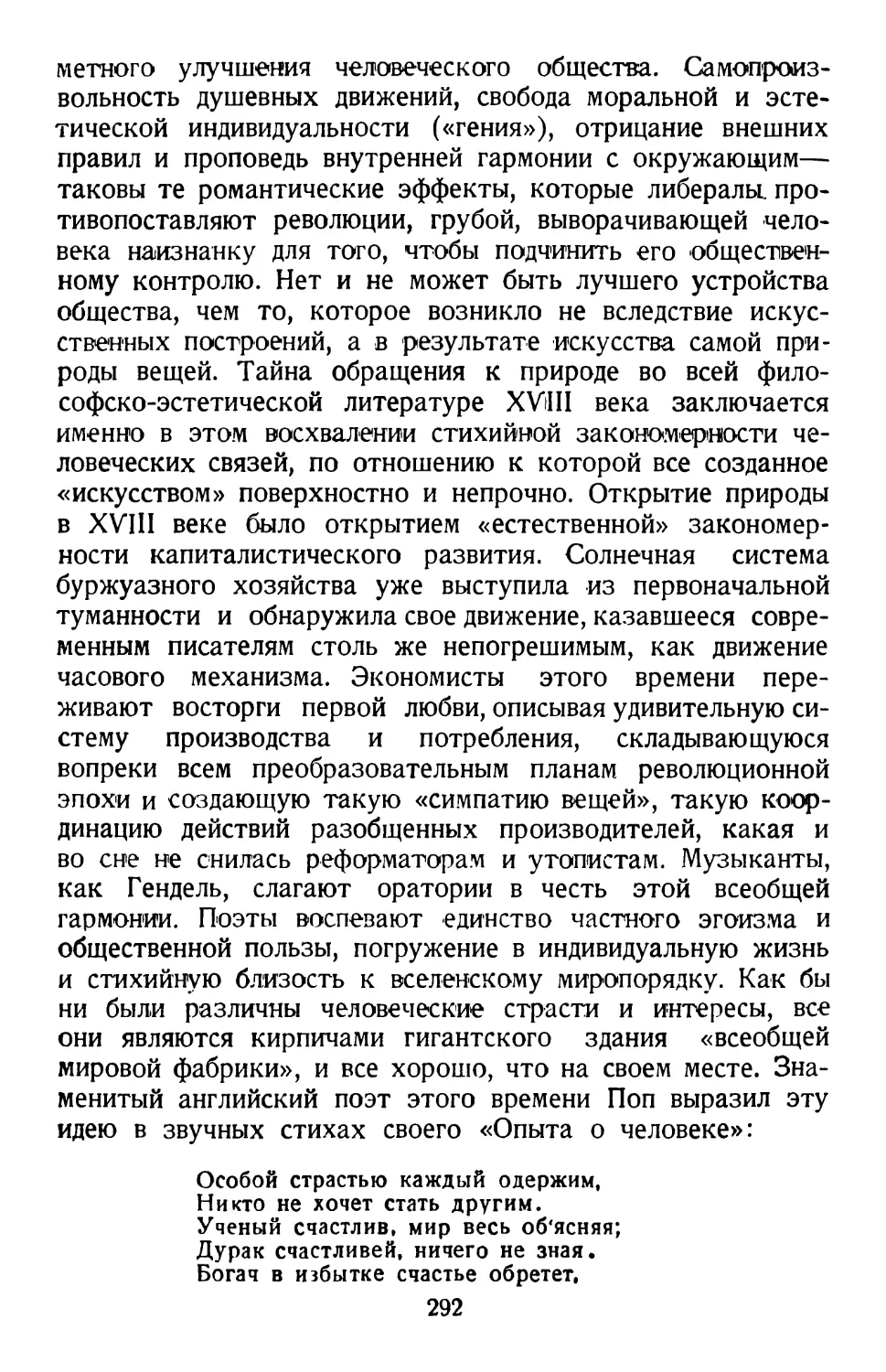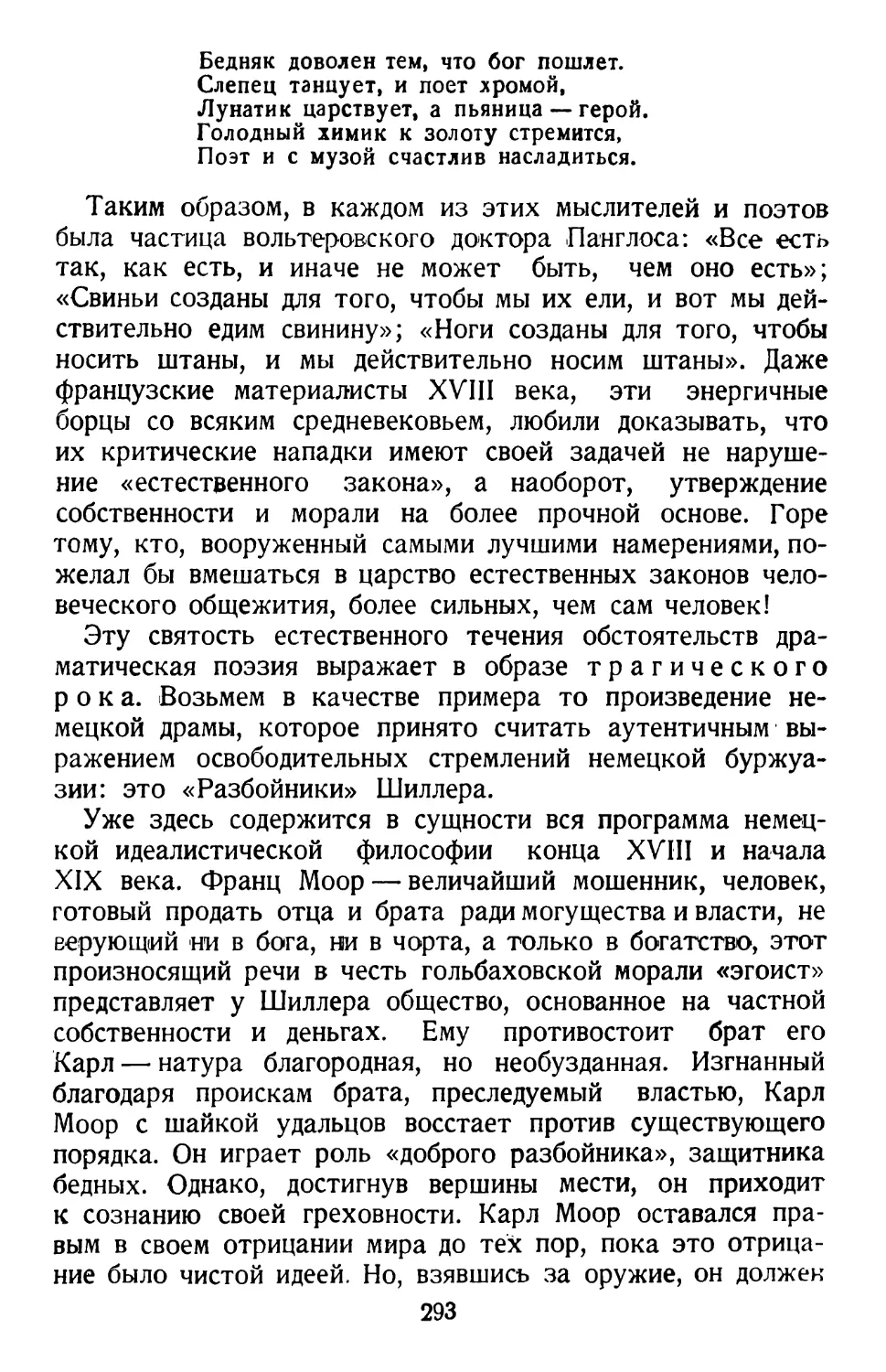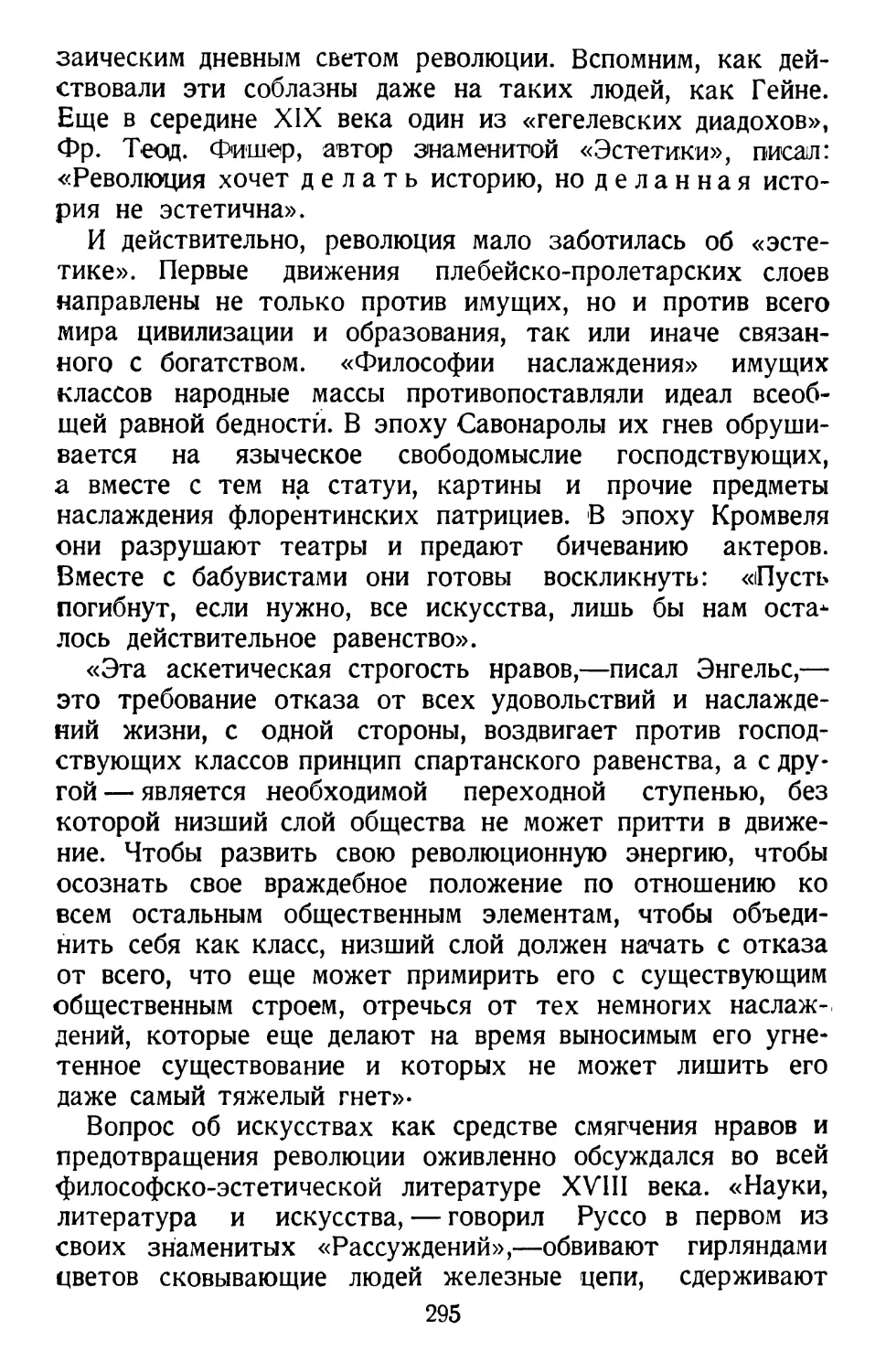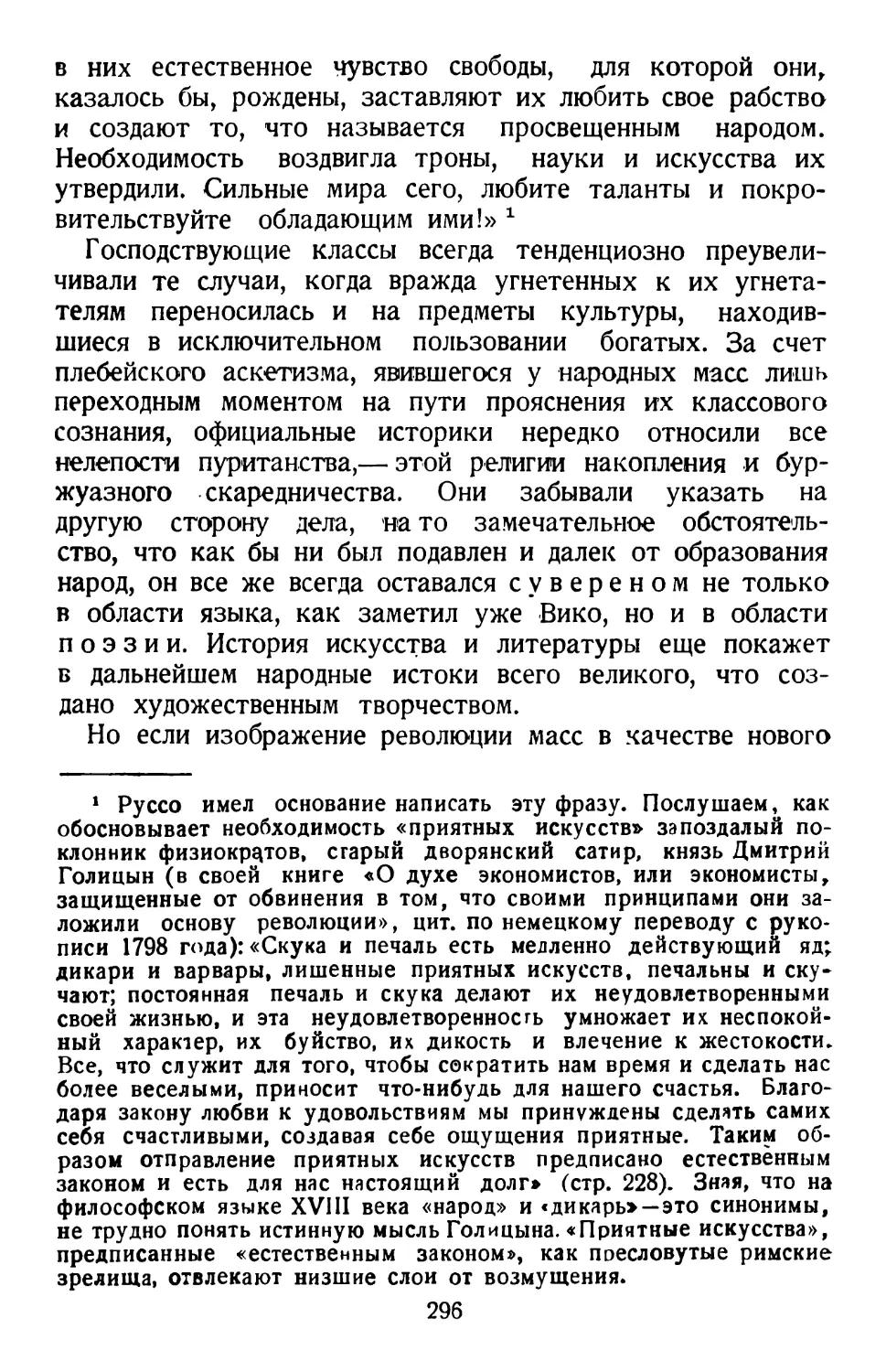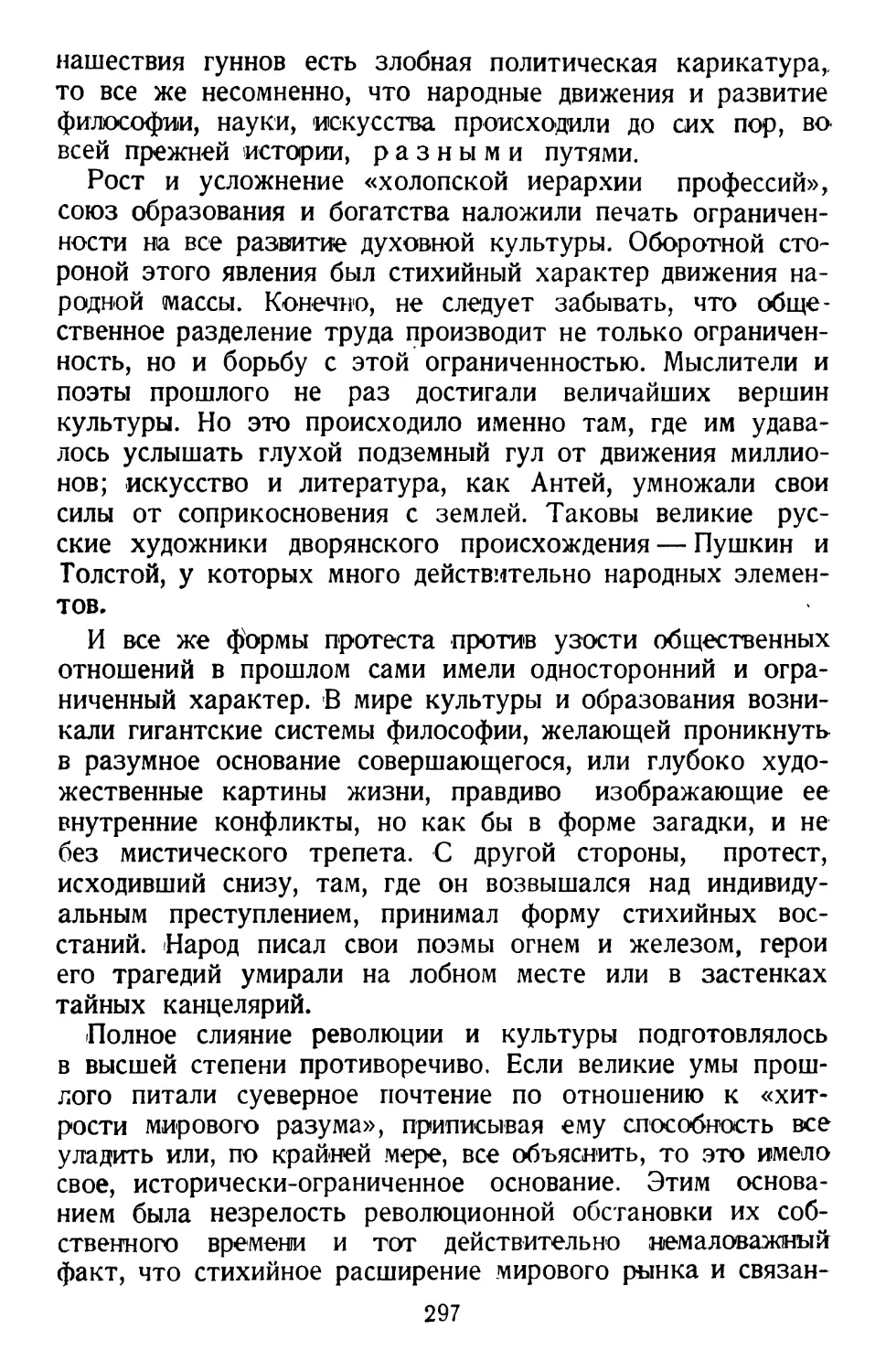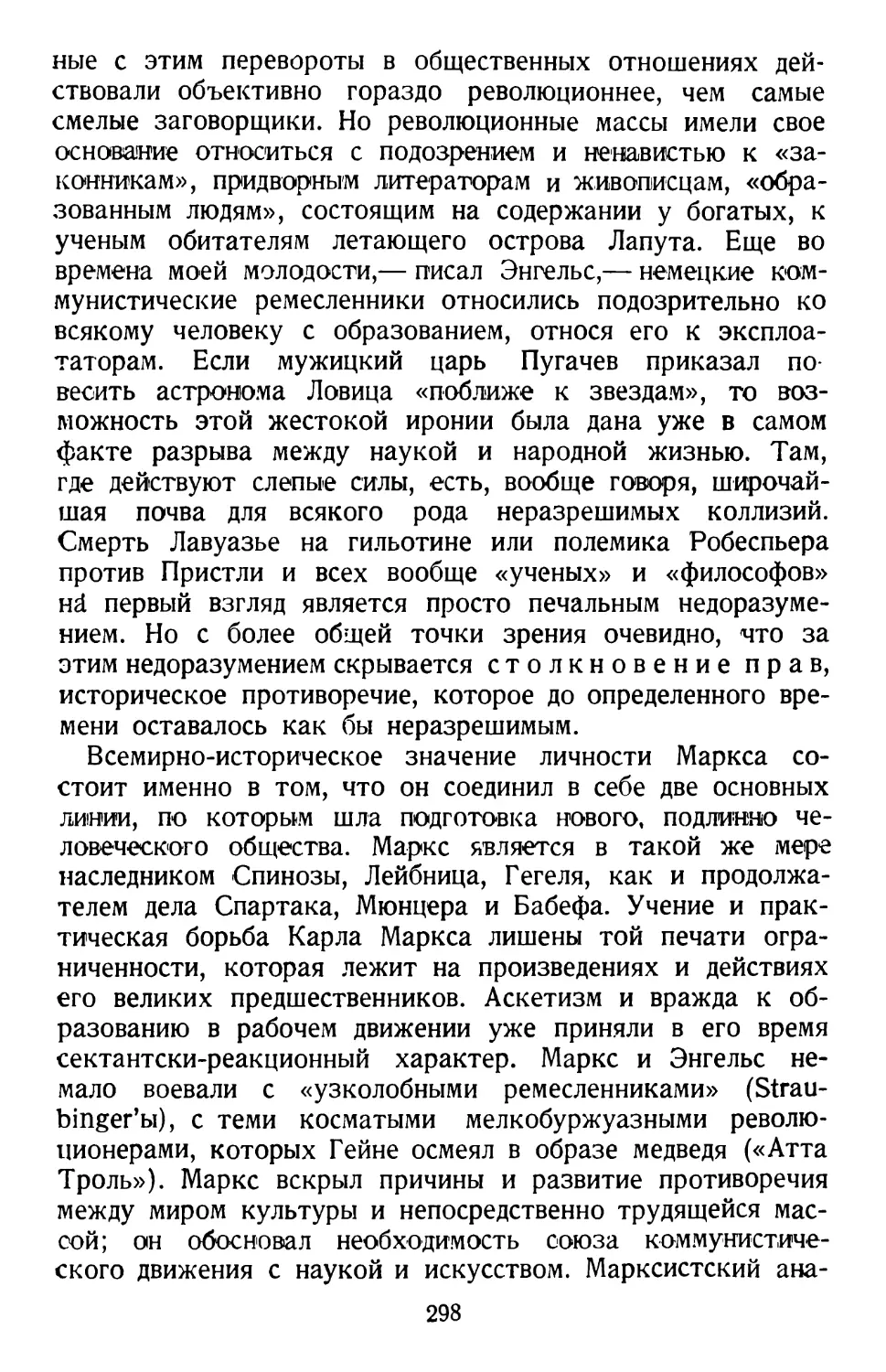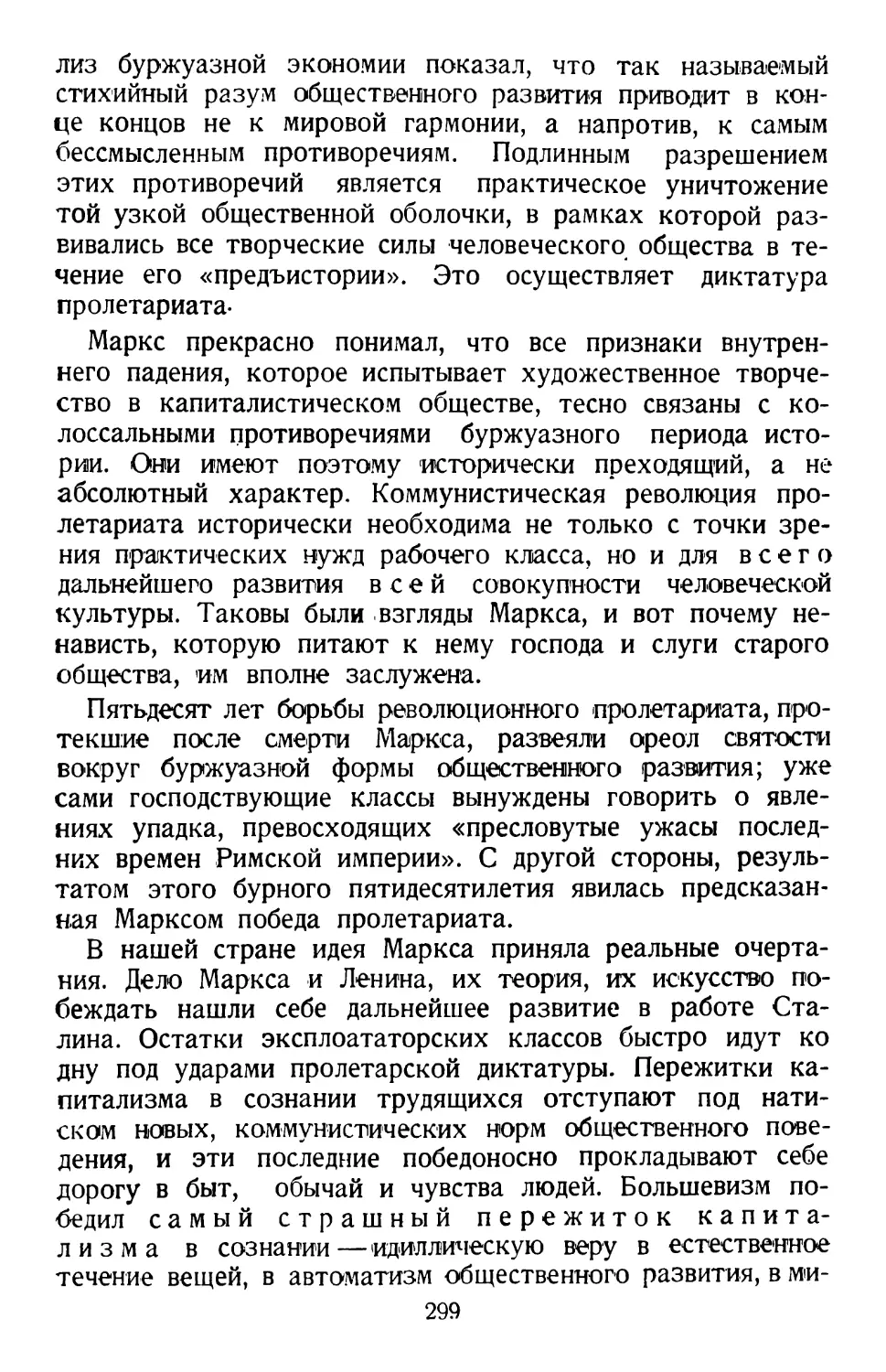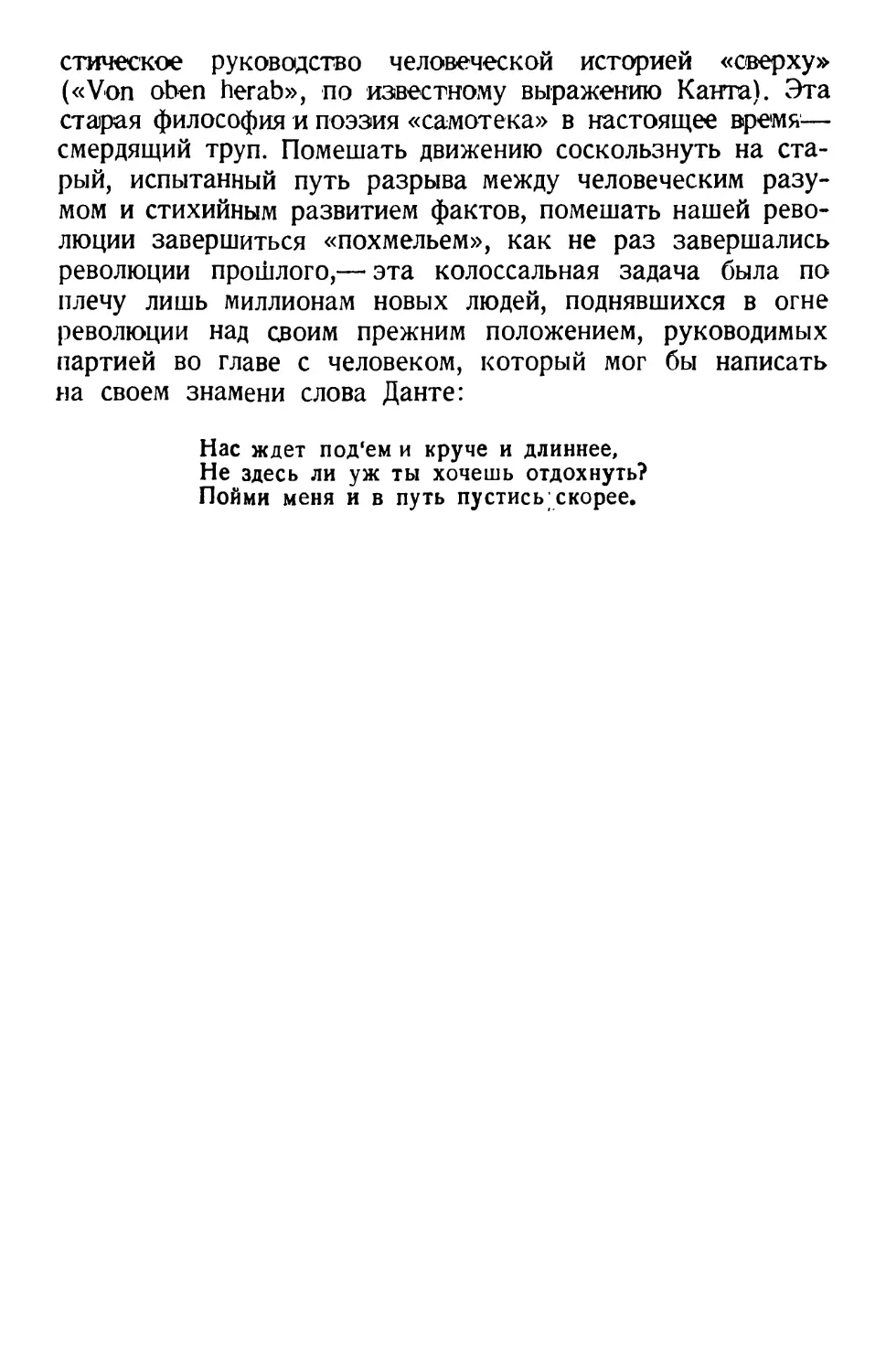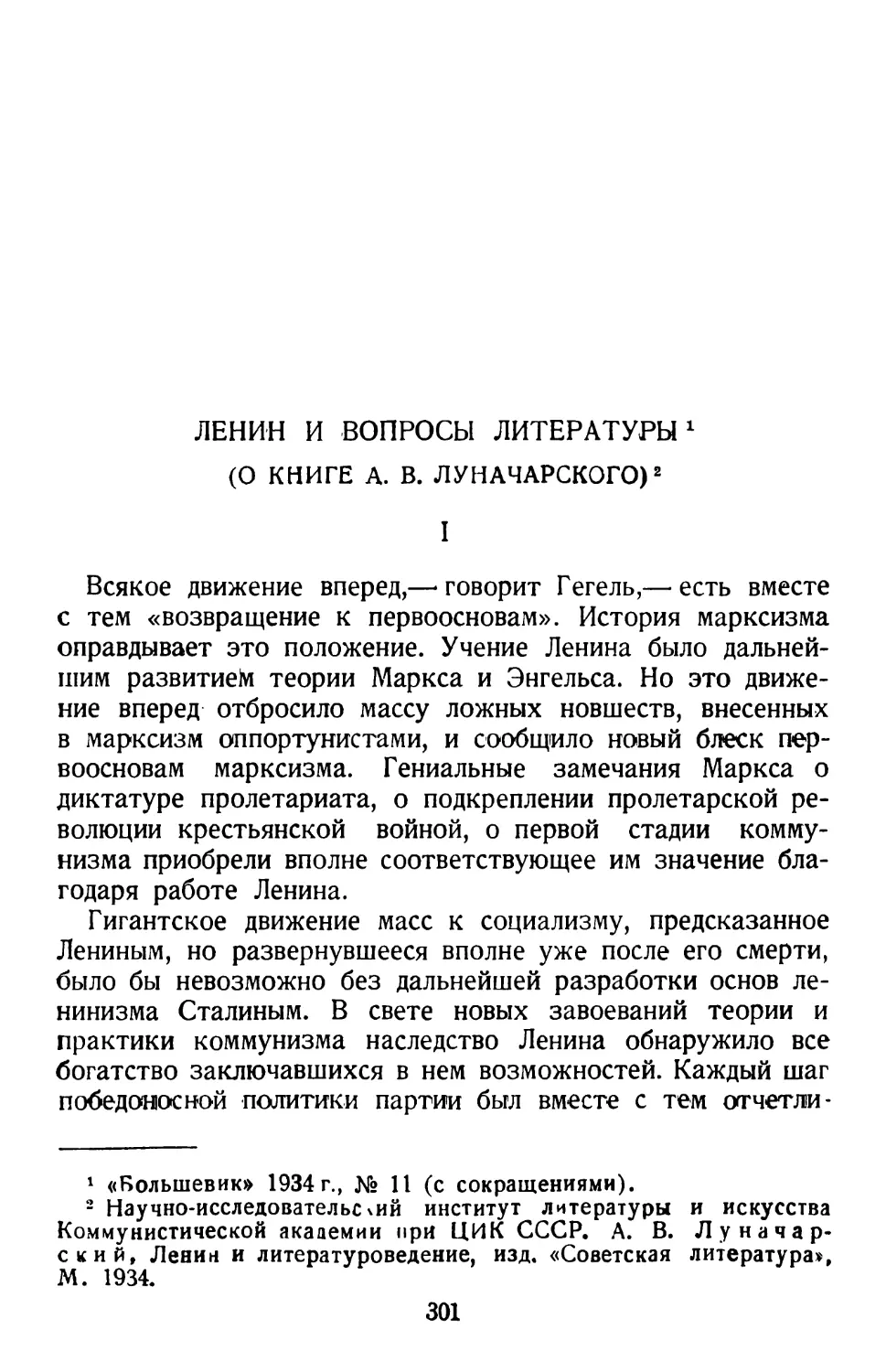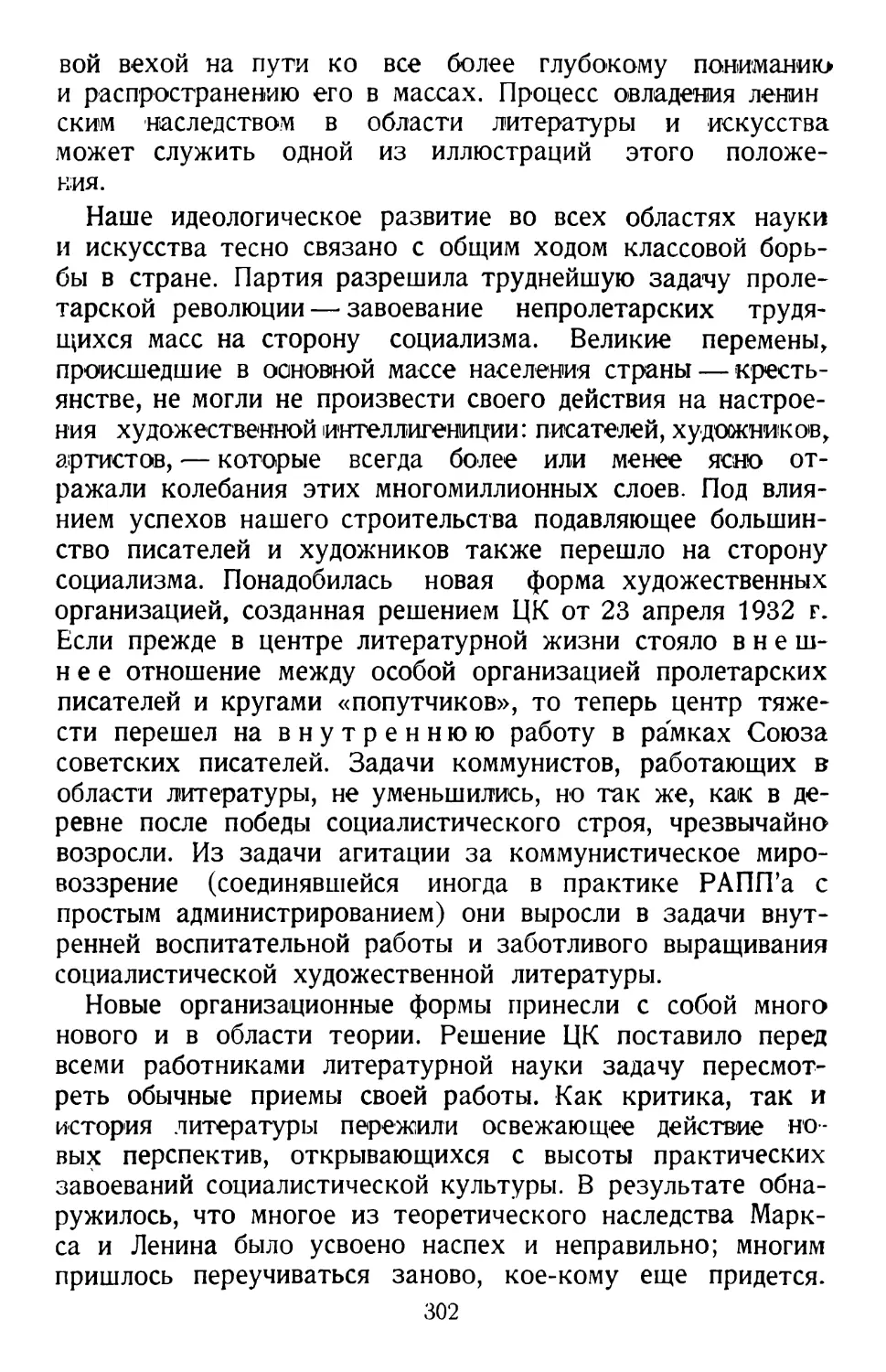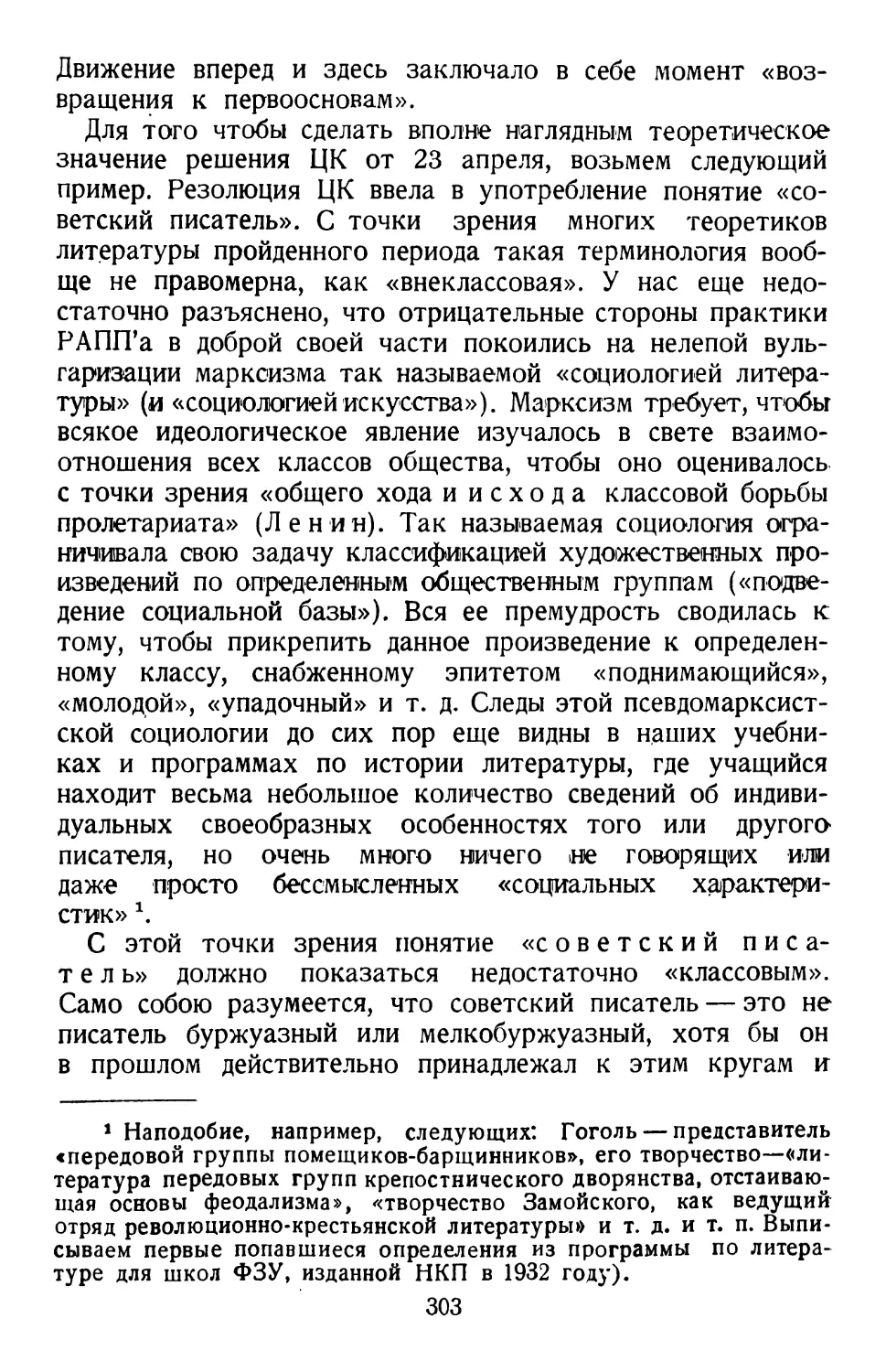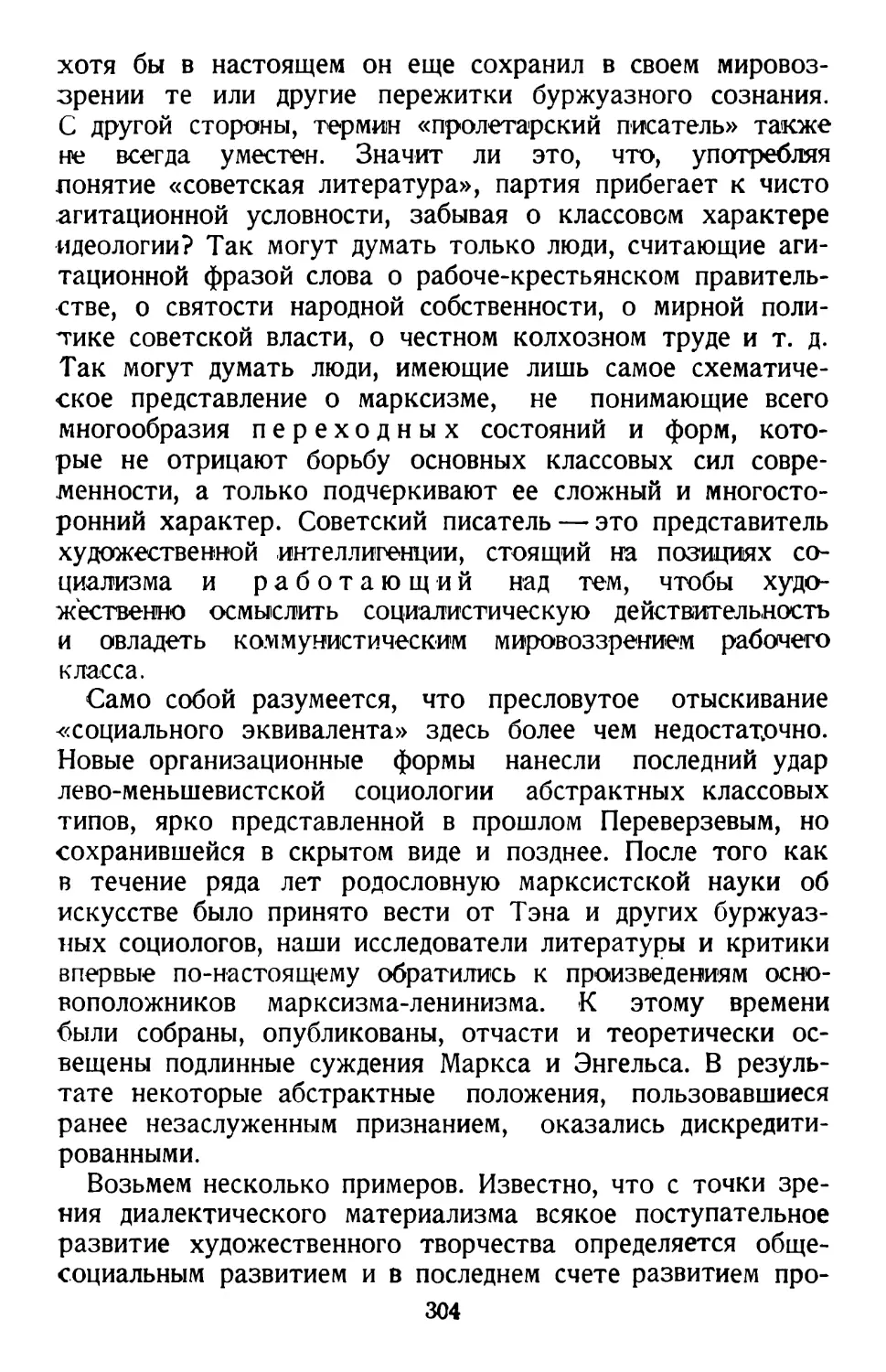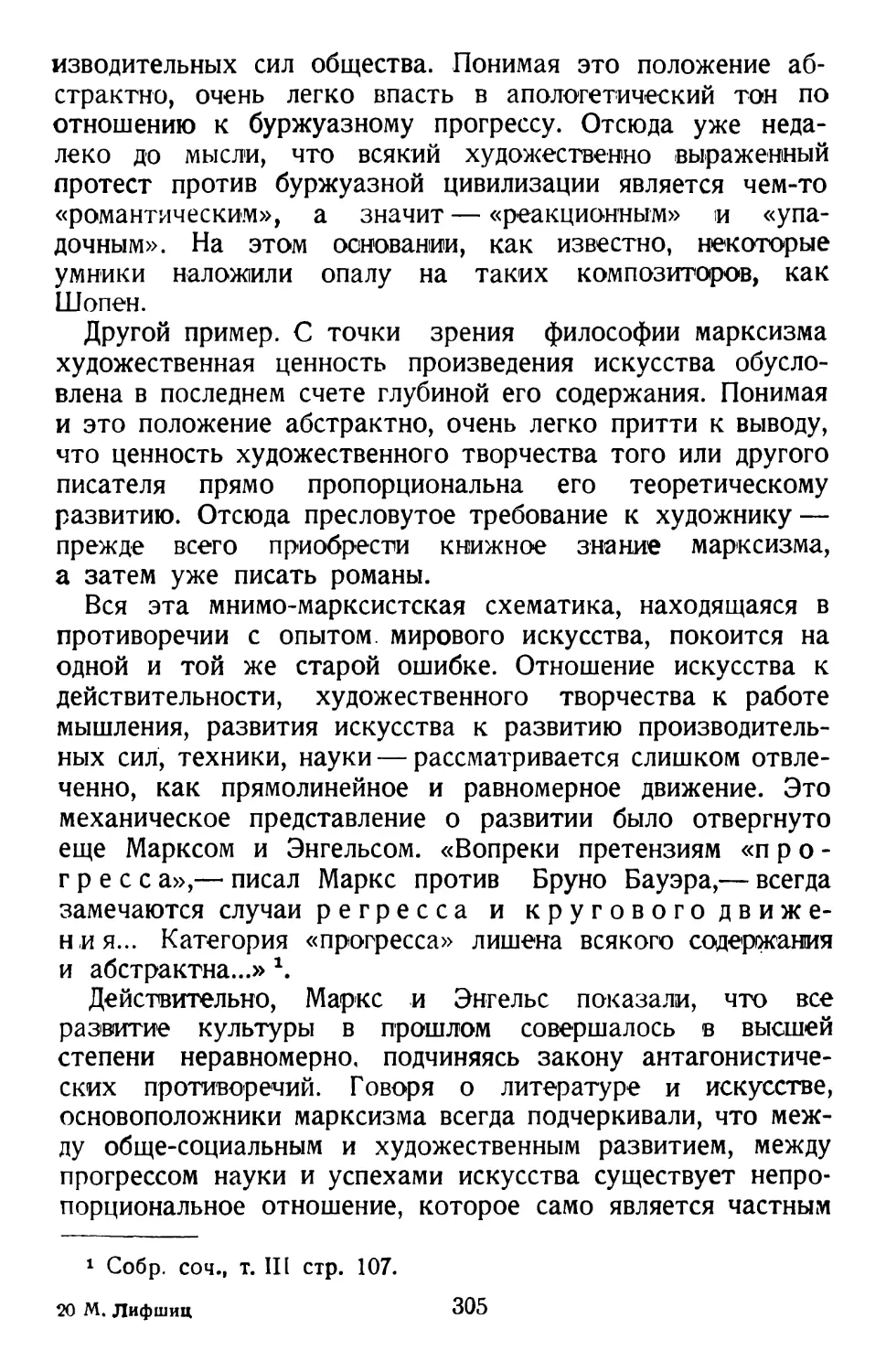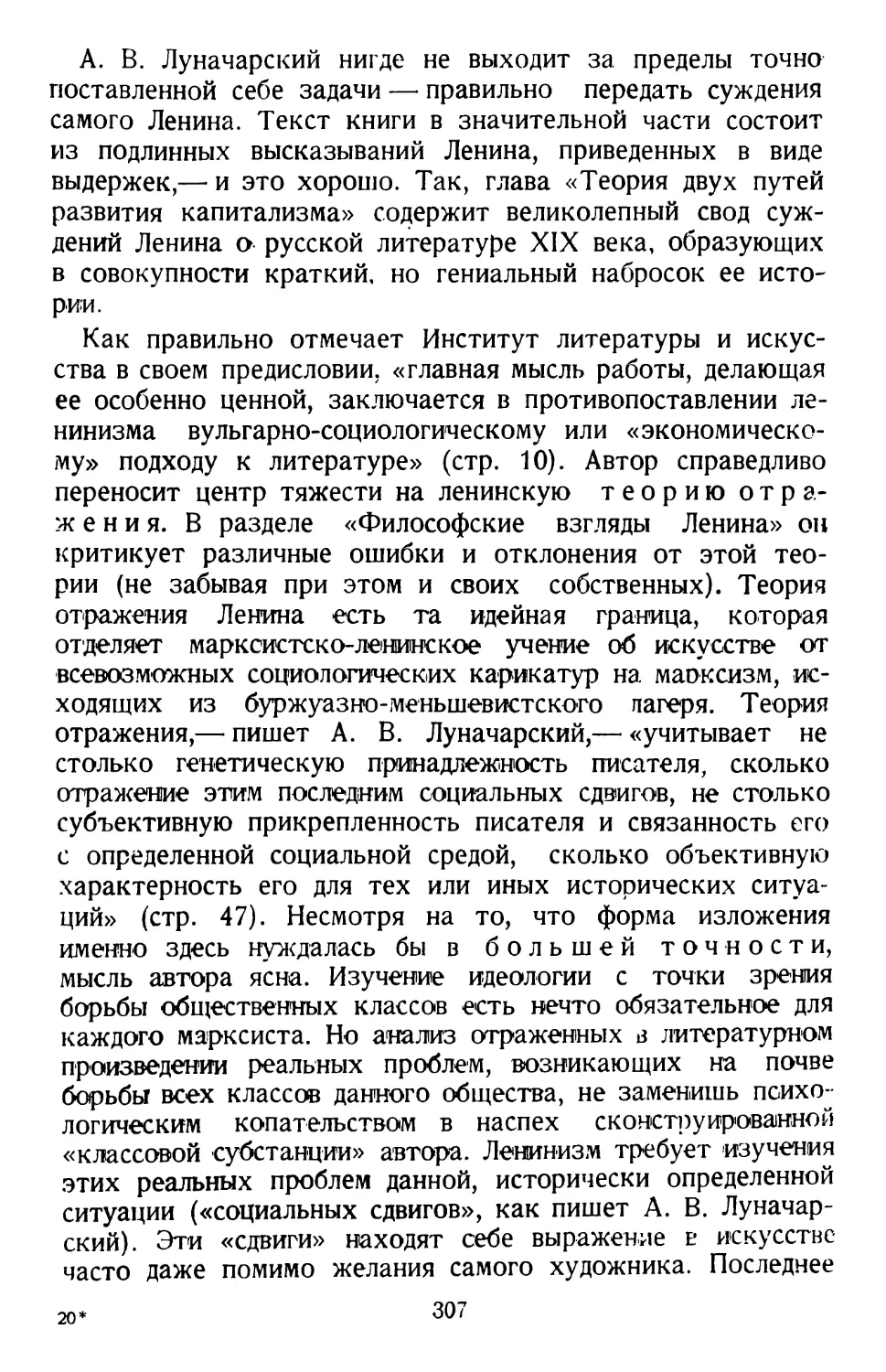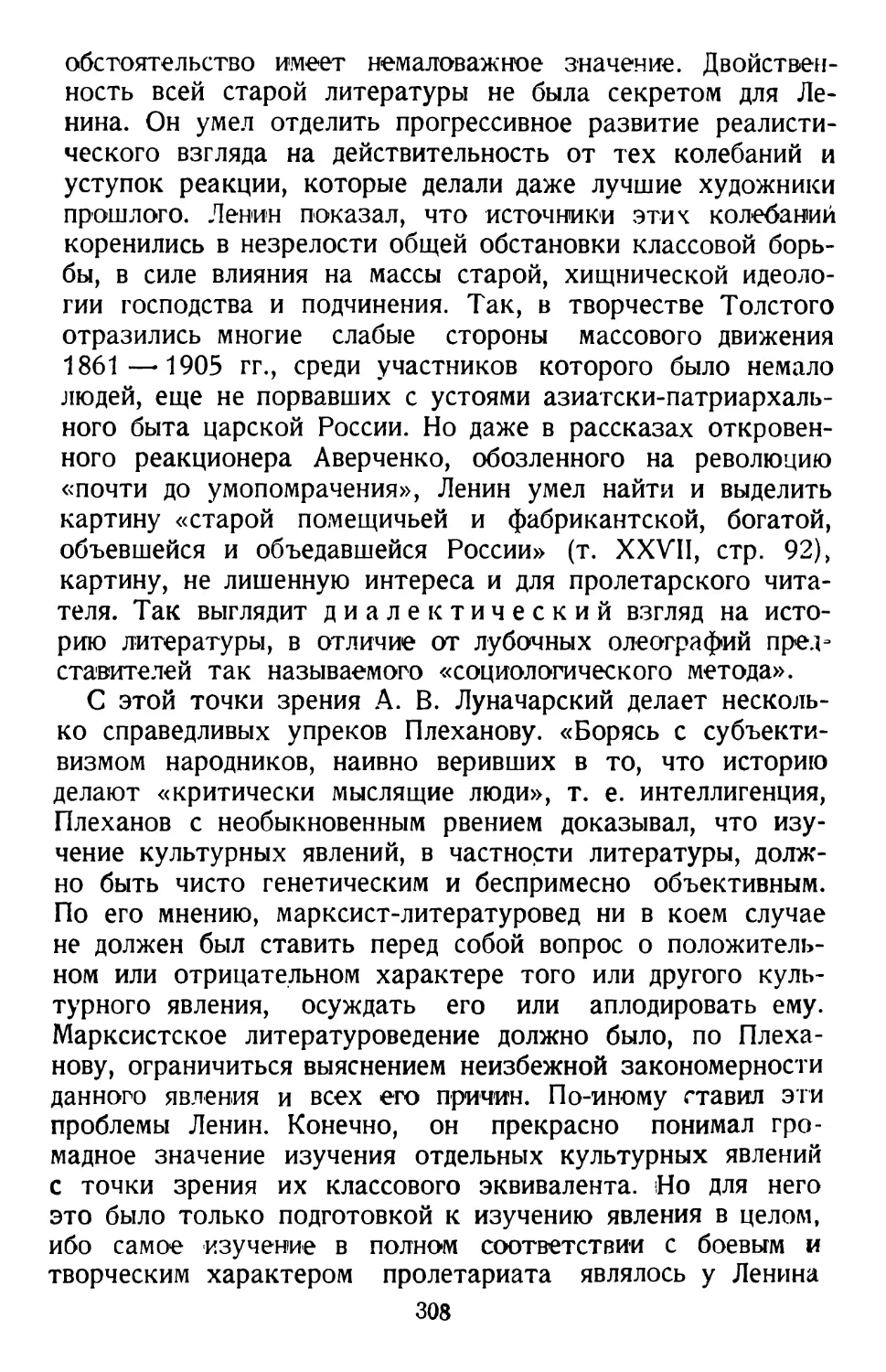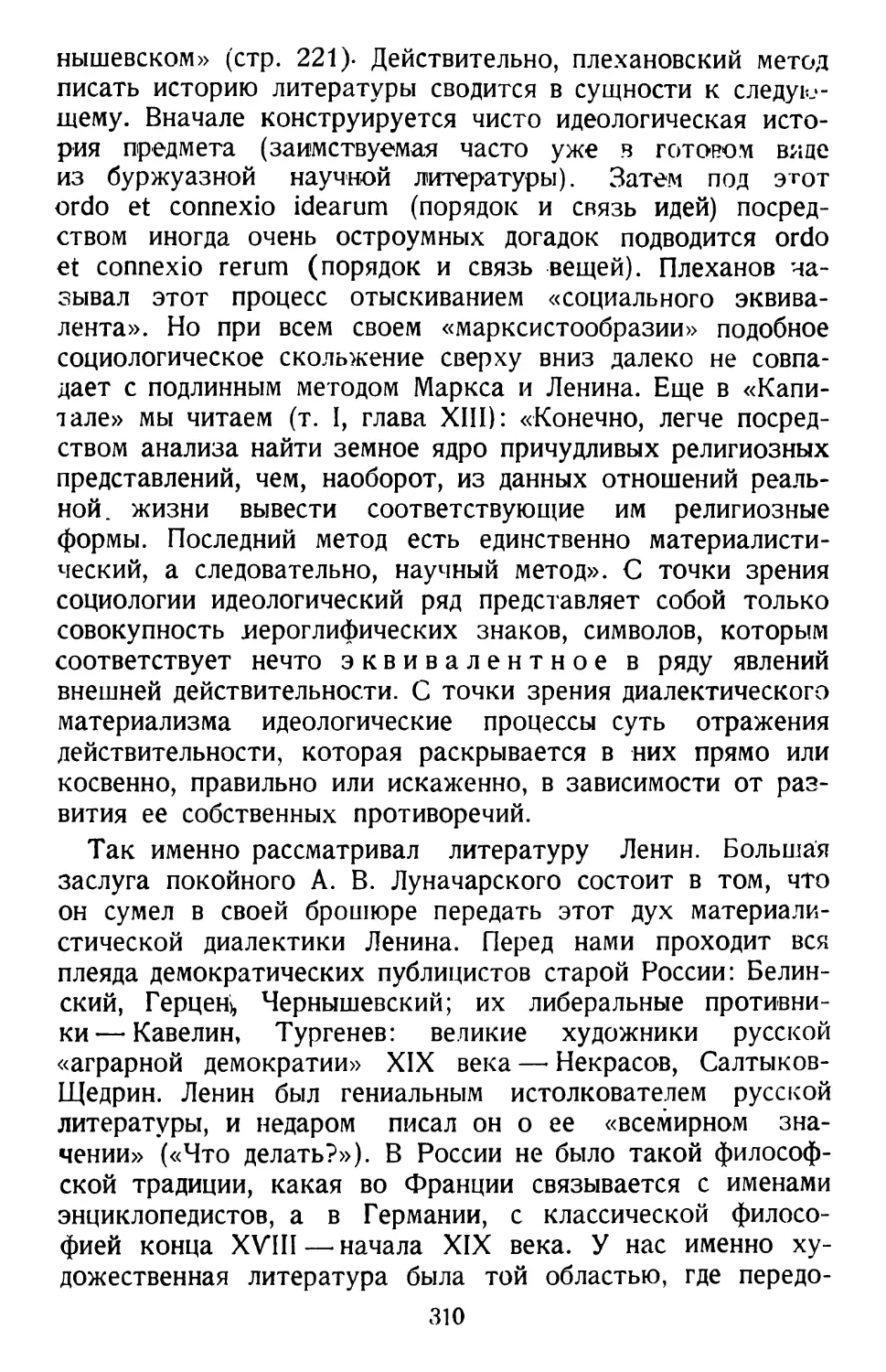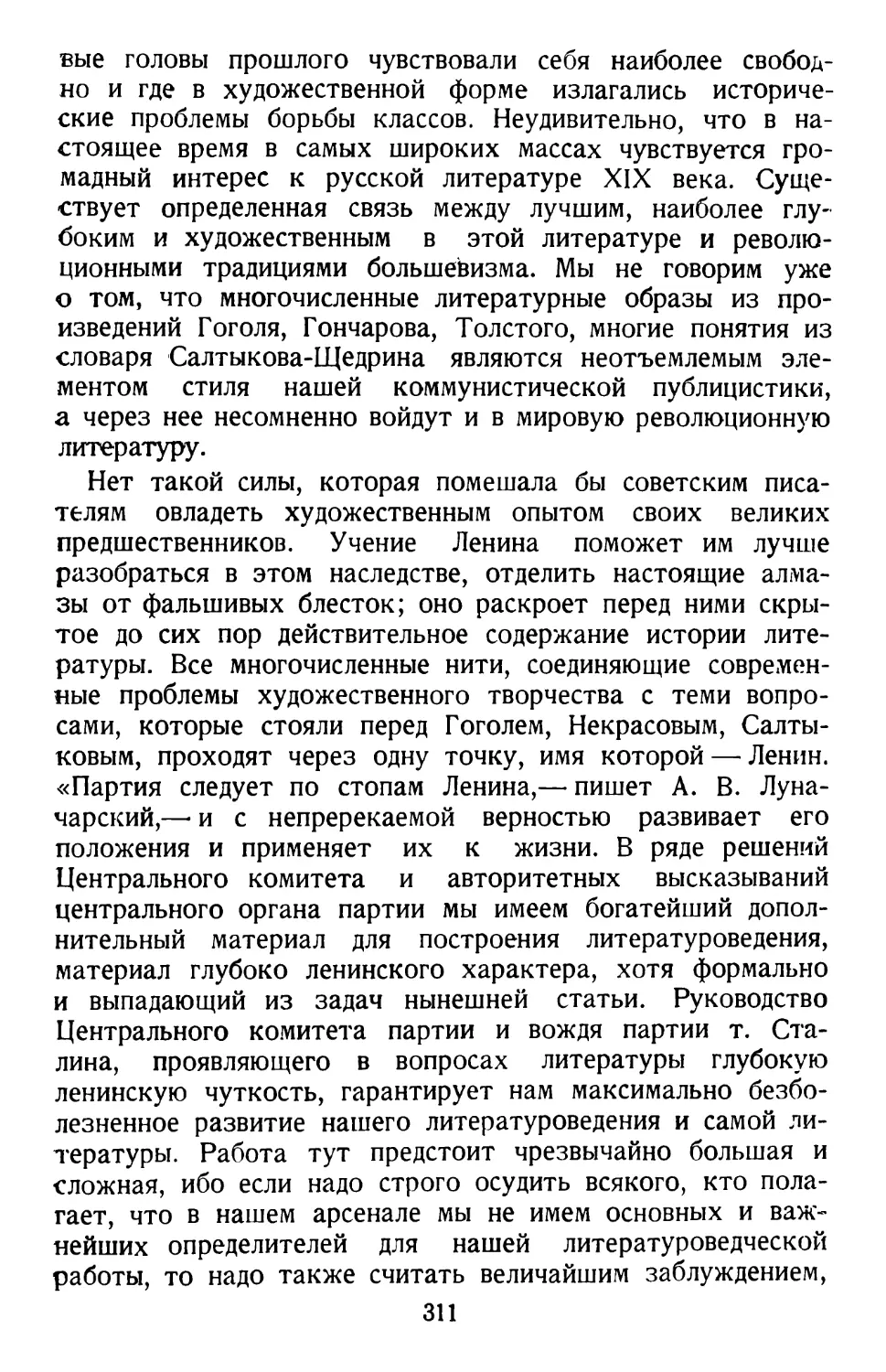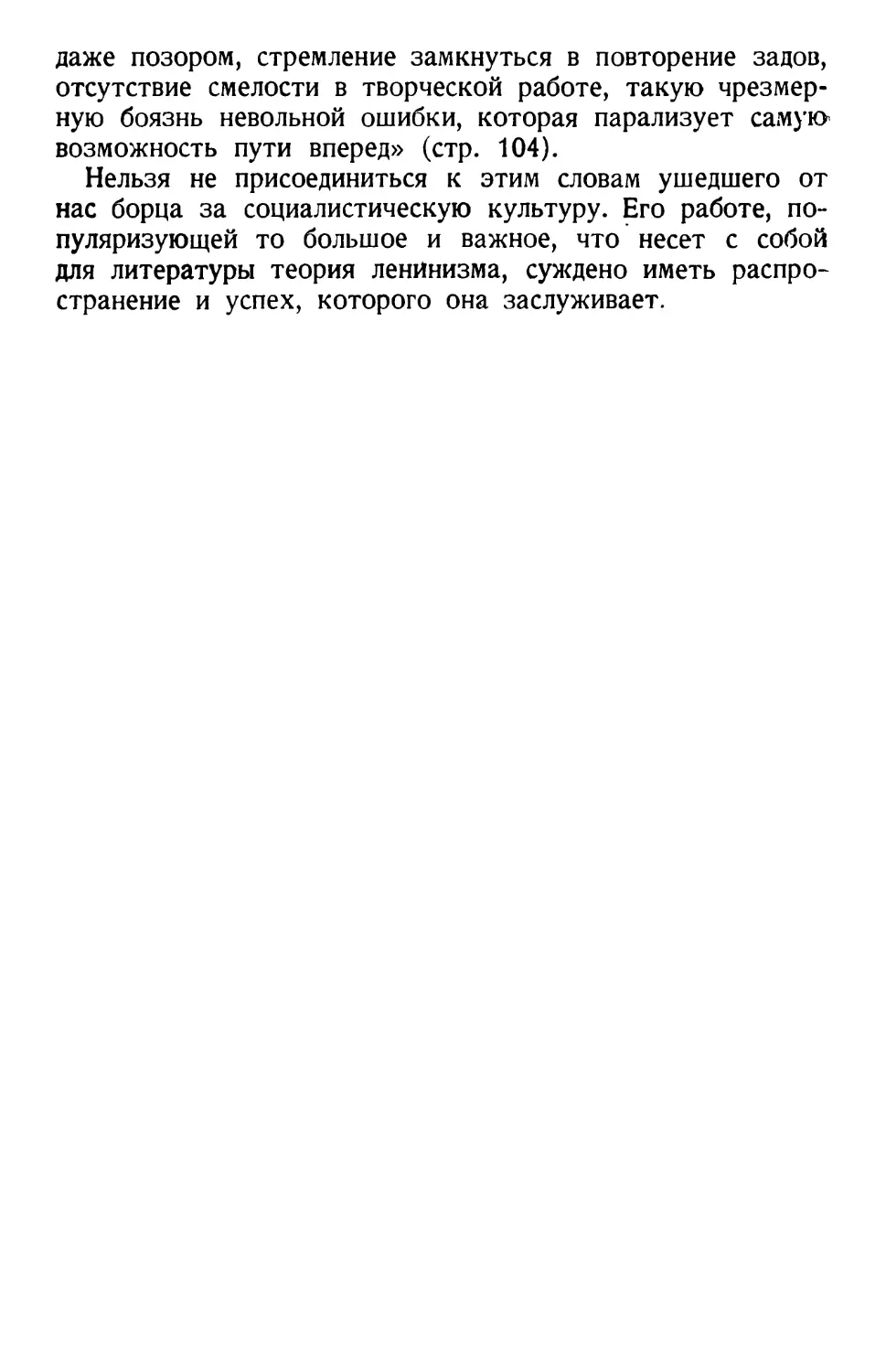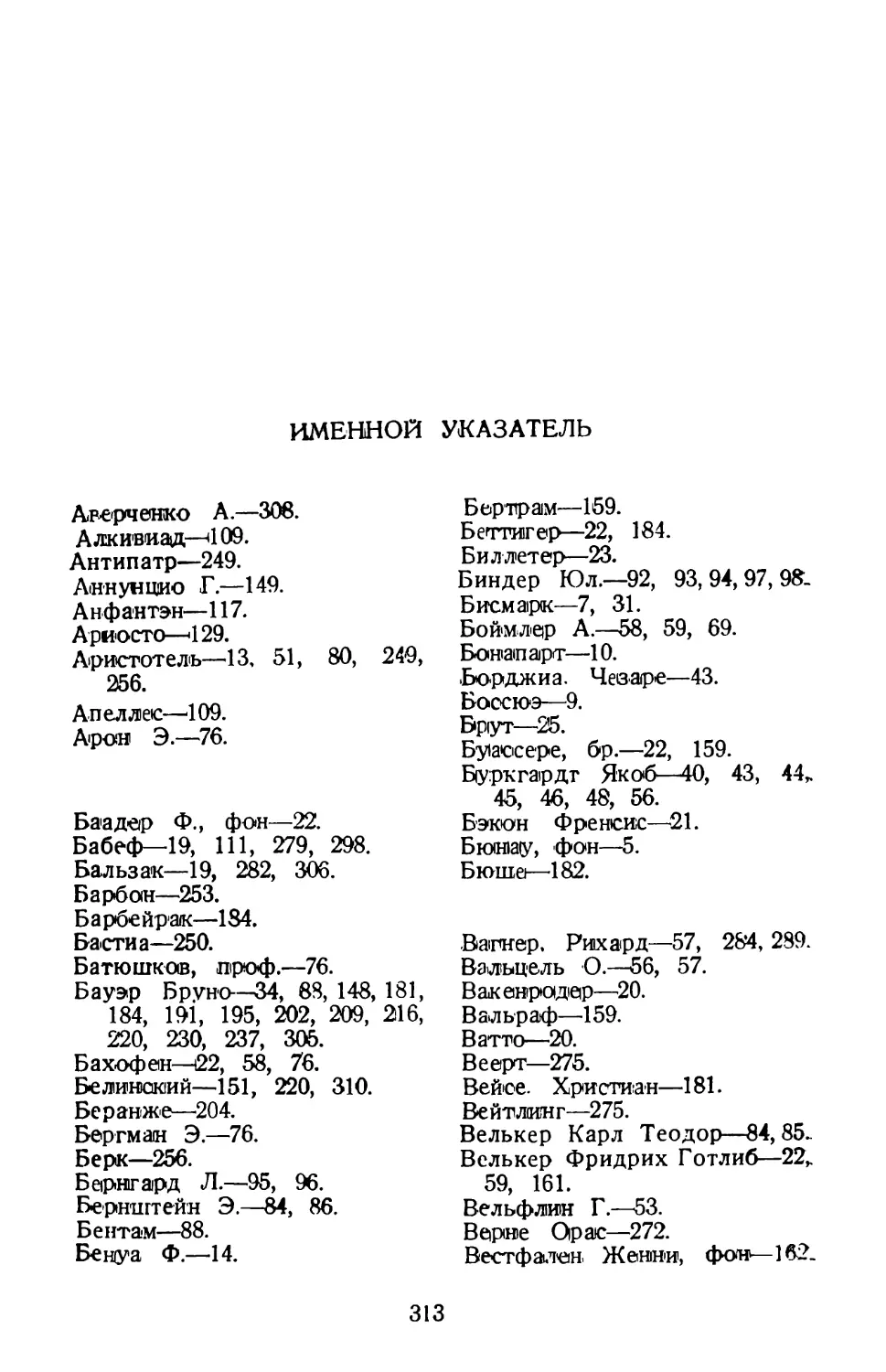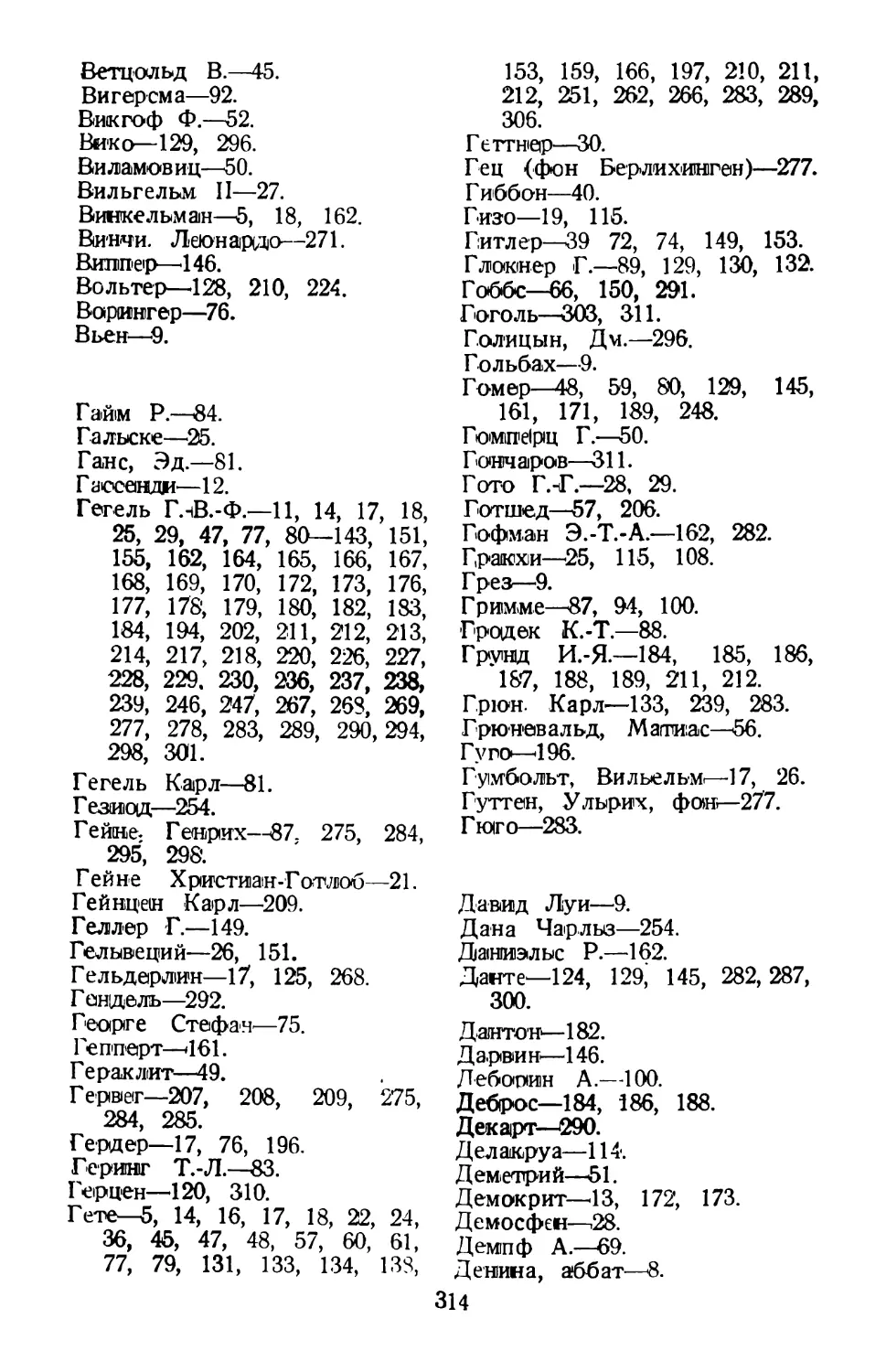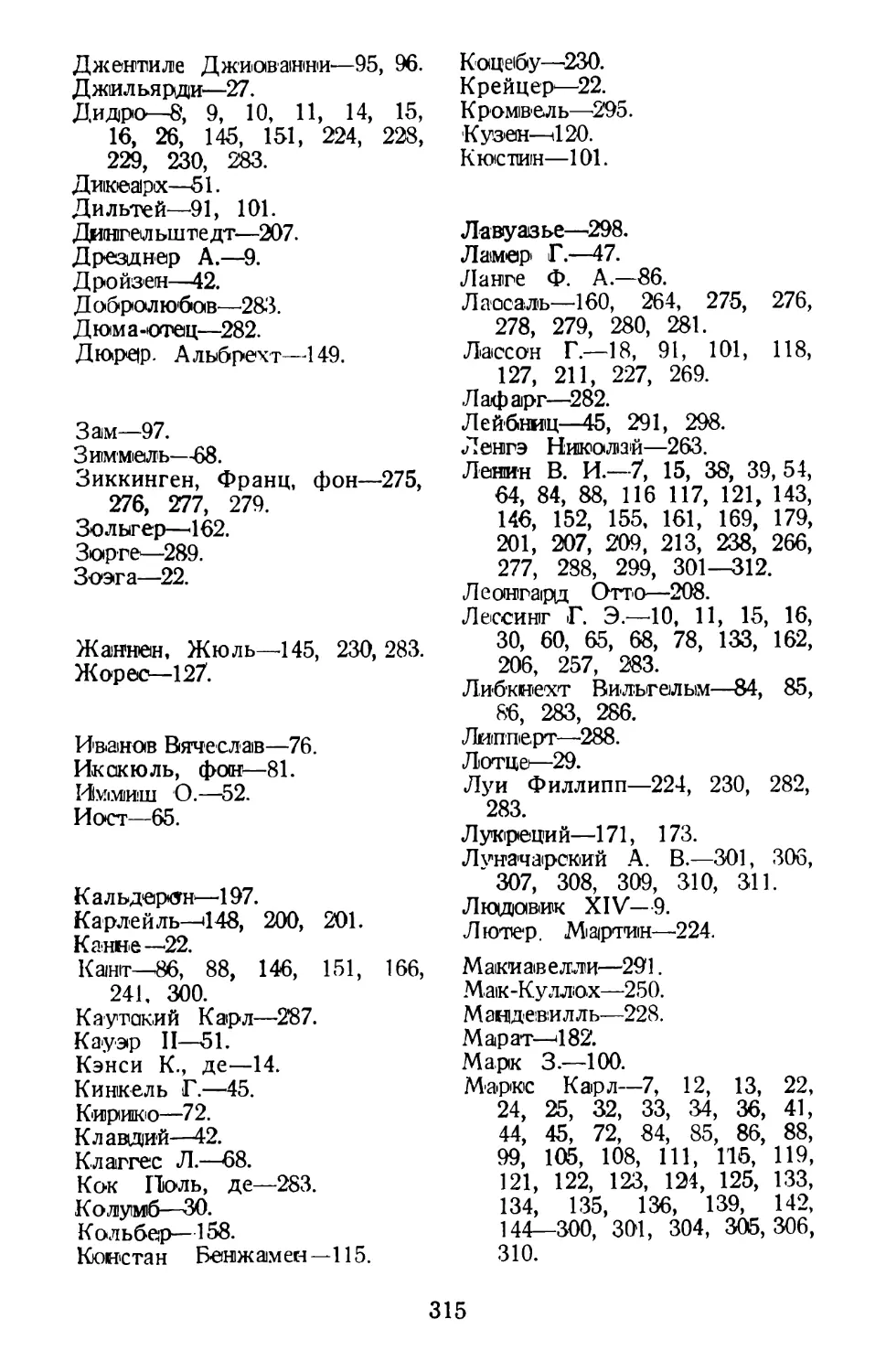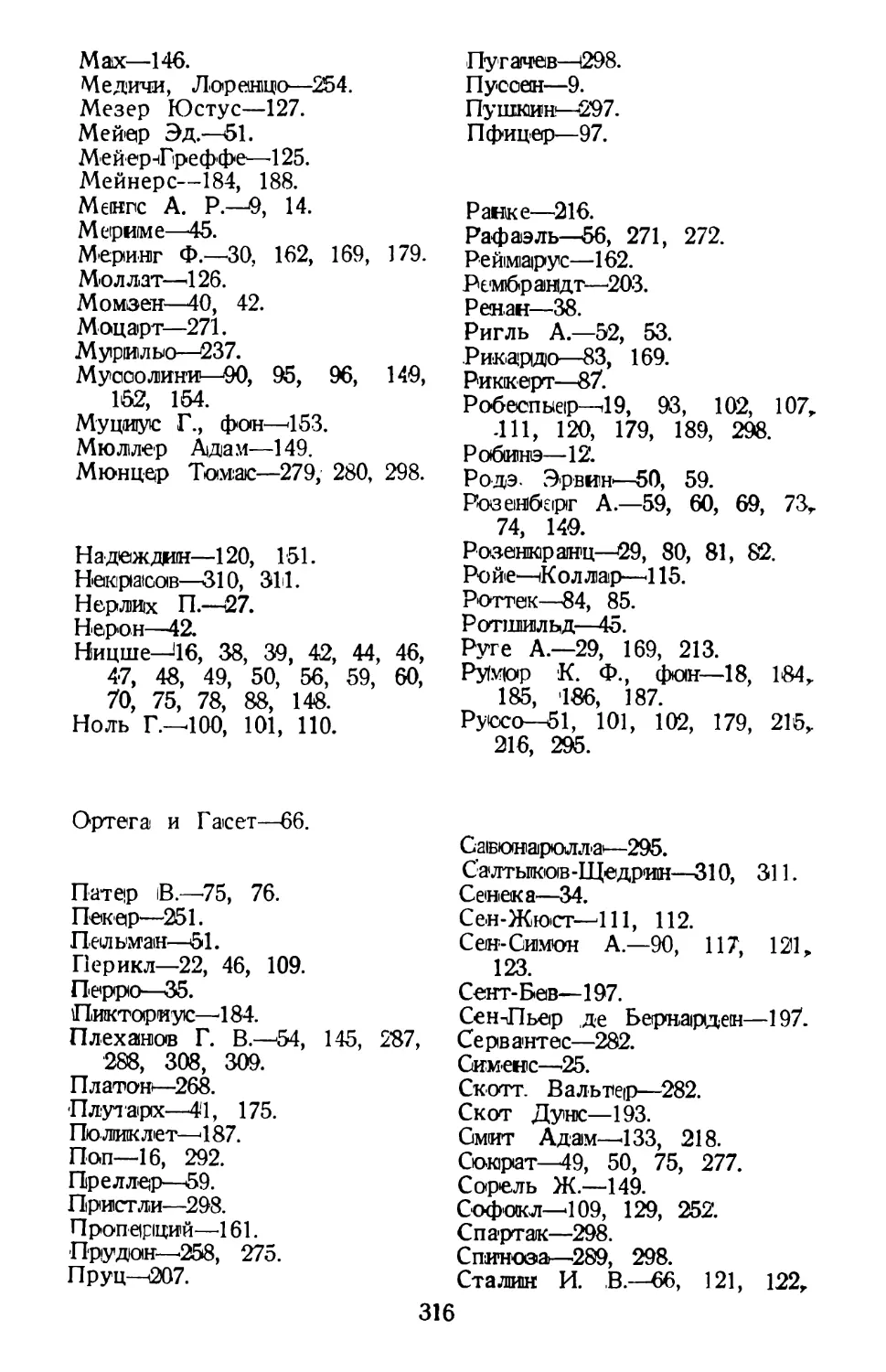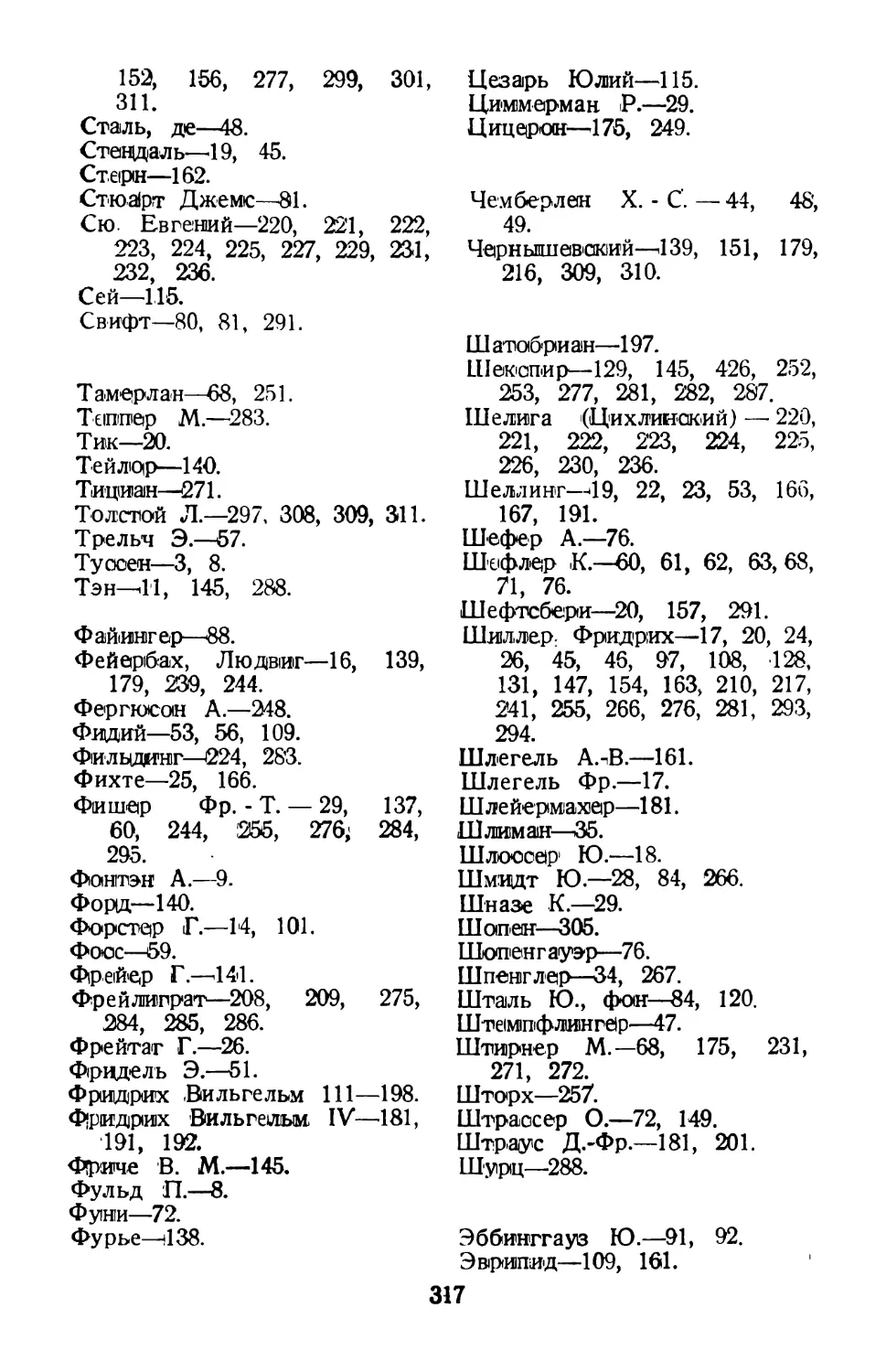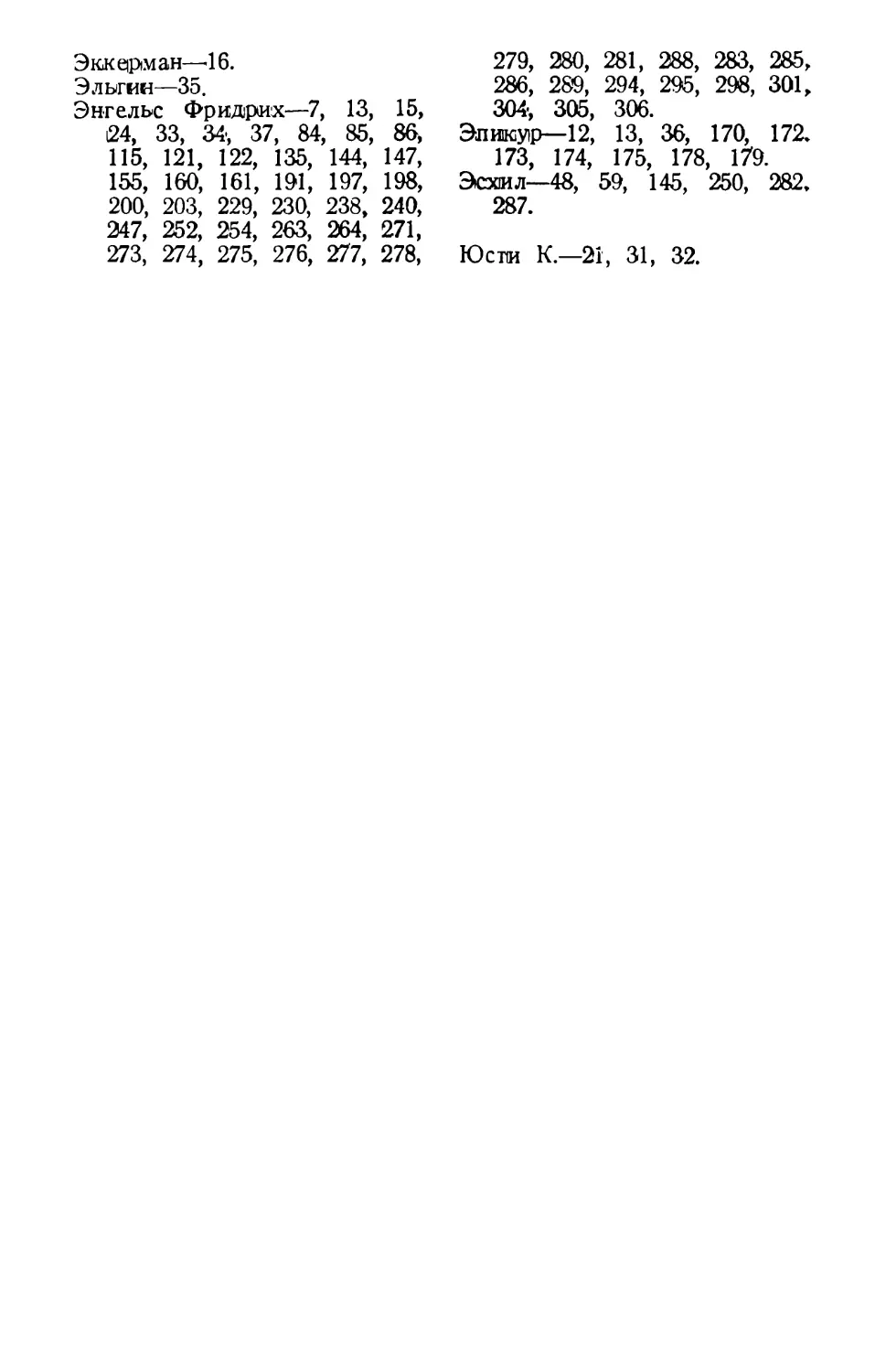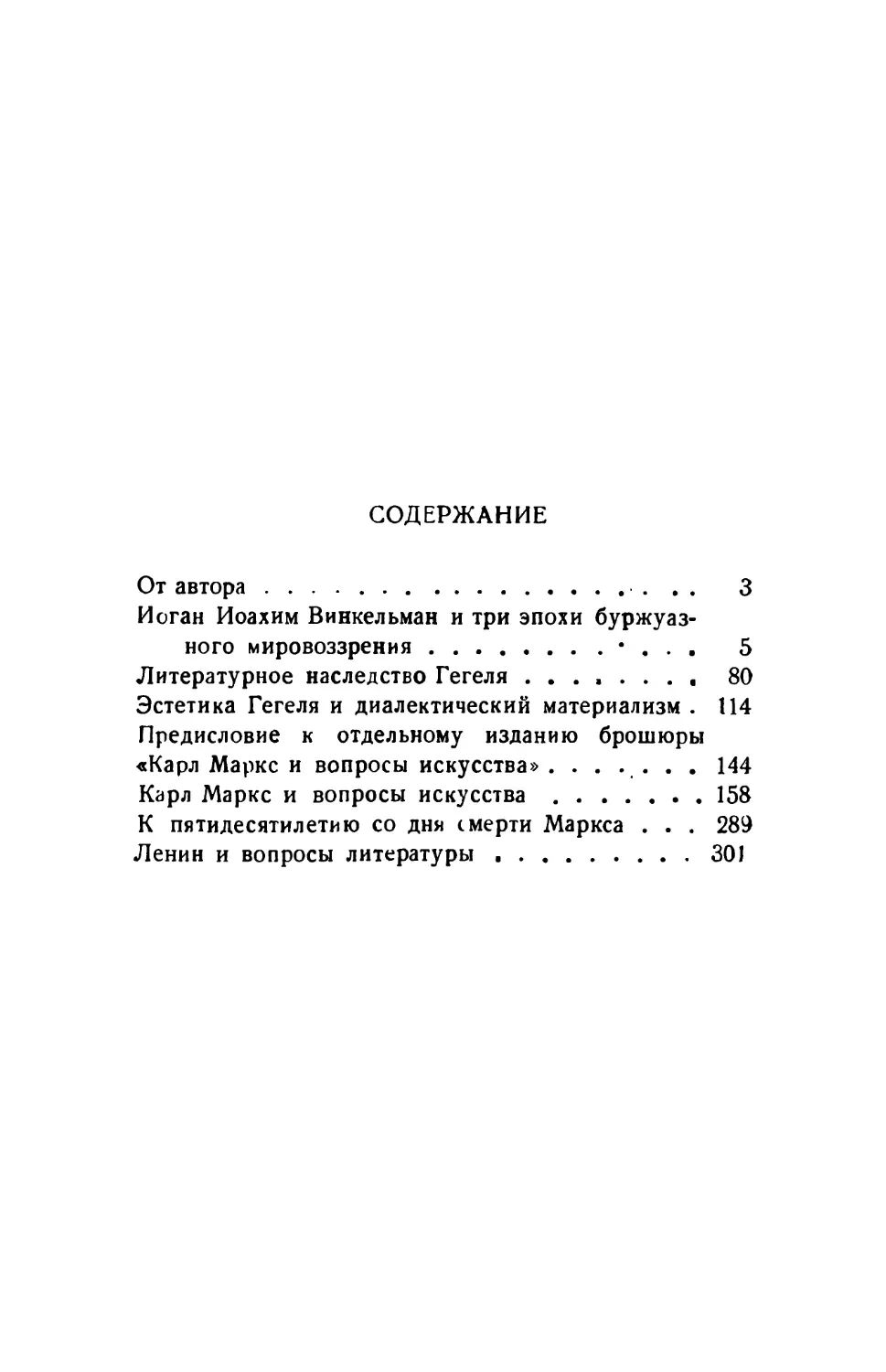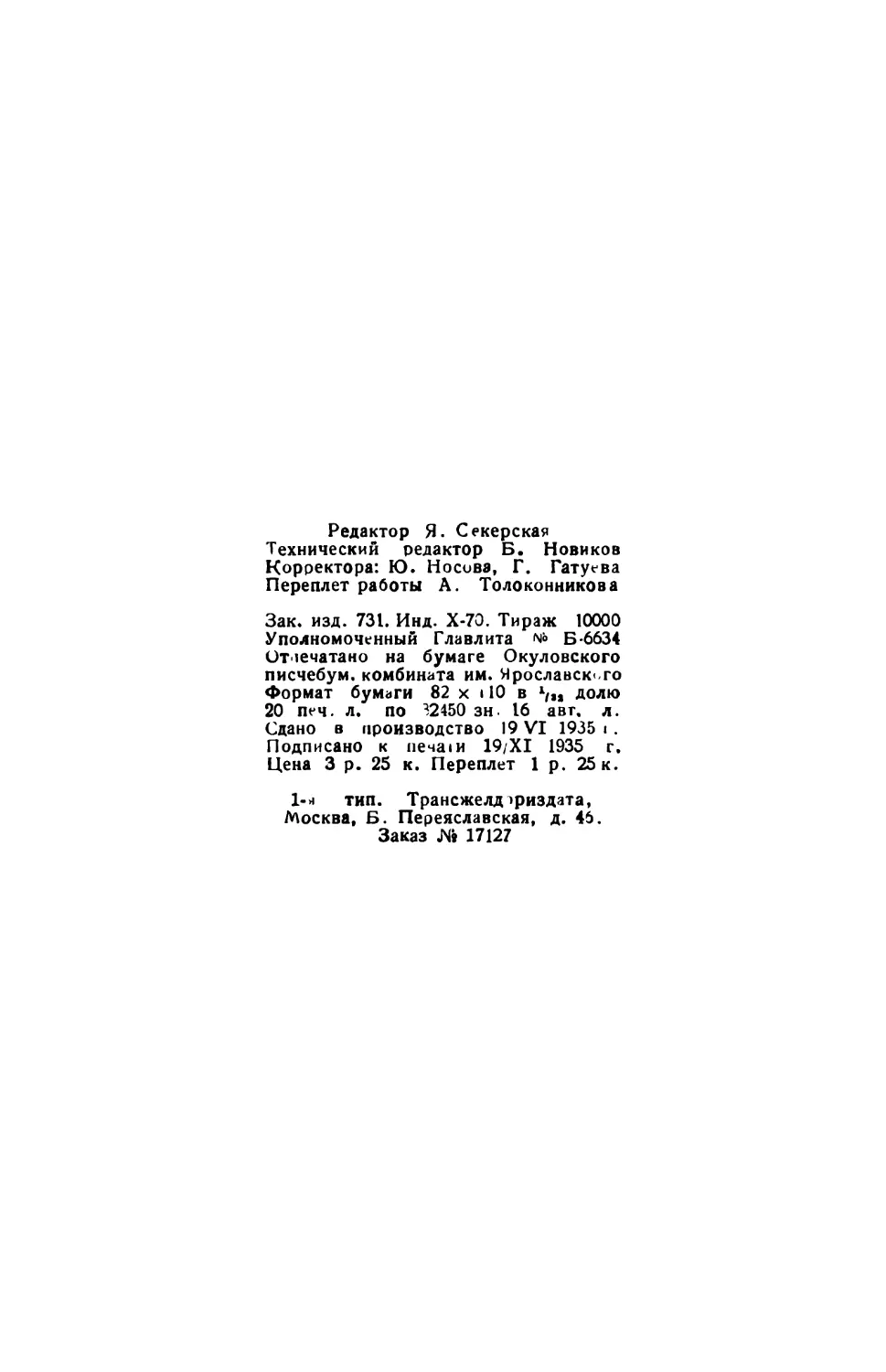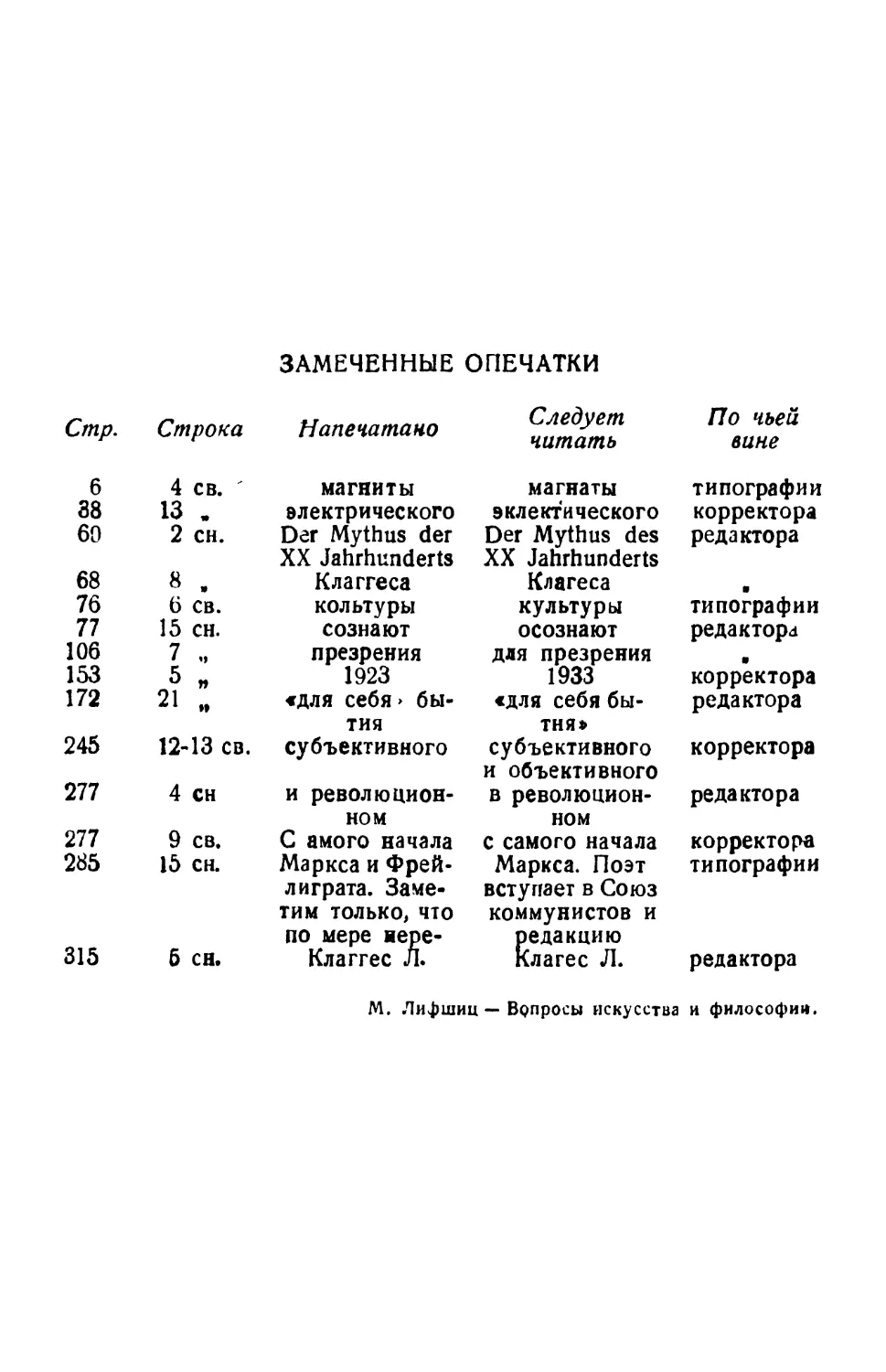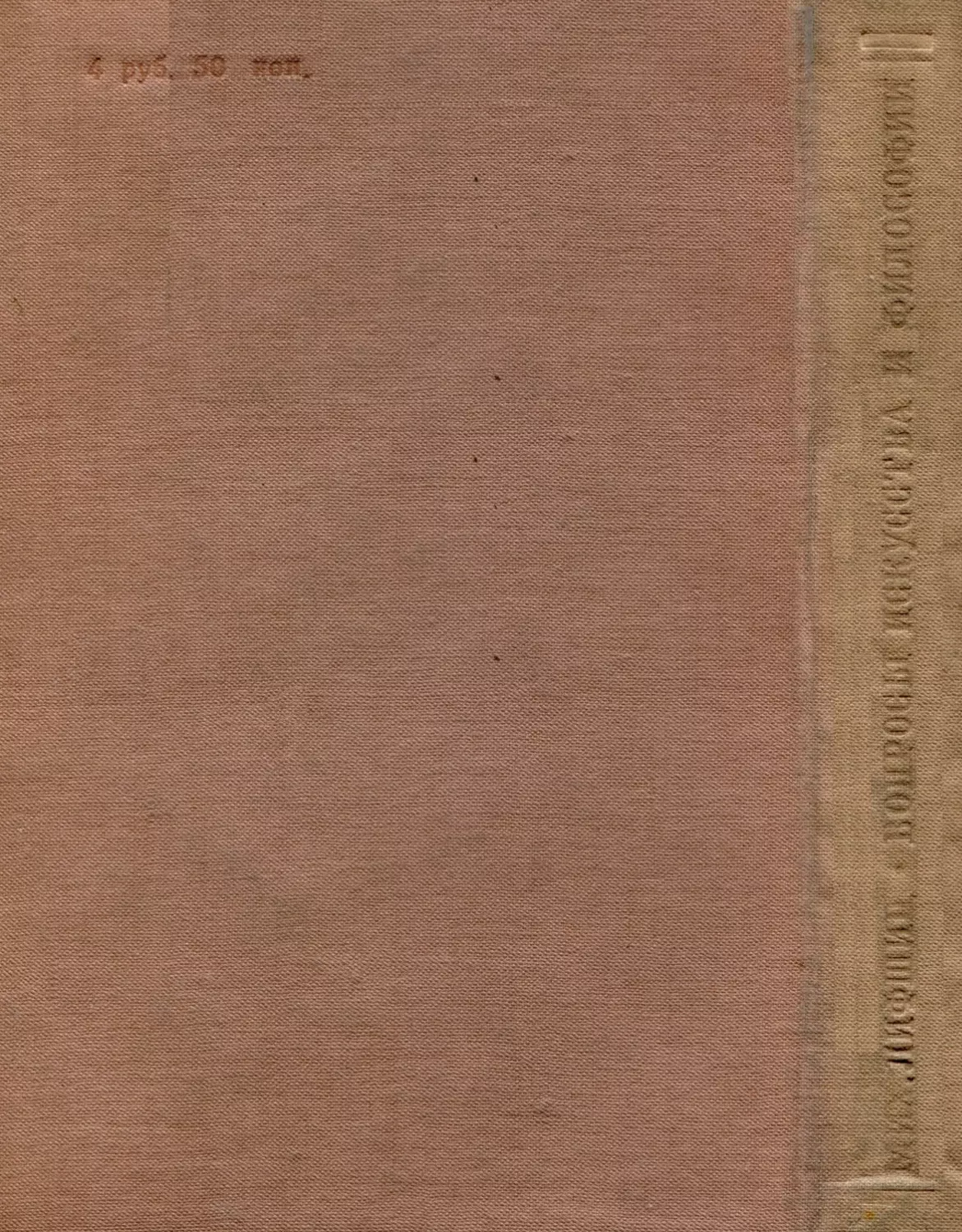Автор: Лифшиц М.А.
Теги: философия эстетика марксизм госполитиздат издательство художественная литература
Год: 1935
Текст
МИХ. ЛИФШИЦ
ВОПРОСЫ ИСКУССТВА
И ФИЛОСОФИИ
ГОСЛИТИЗДАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1935
ОТ АВТОРА
Работы, включенные в эту книгу, написаны в период
1931—1934 гг.: Большинство из них печаталось в
различных советских журналах. Я ограничился здесь
незначительными исправлениями и устранением того, что казалось
мне так или иначе устаревшим.
Несмотря на то, что темы статей различны, их
объединяет многое. Это очерки по истории общественной мысли,
причем главное место занимают в них вопросы искусства
в широком смысле слова. Большинство статей касается
различных сторон идейного наследства прежних эпох. Но
исторические исследования не были моей единственной
целью. Скорее наоборот,— они являются здесь только
средством для приближения к проблемам социалистической
культуры. Работы, собранные в этой книге, относятся к
тому литературному жанру, который мо»жно было бы
назвать философско-исторической публицистикой.
Этот род литературы имеет свои специфические
трудности. С ними связаны в известной степени и общие
недостатки этой книги. Я имею в виду прежде всего
недостатки формы: местами слишком сложный язык, обилие
исторических намеков и неразвитых положений. В этом
отношении далеко не все поддается позднейшим
исправлениям.
Об остальном предоставим судить читателю.
Мих. Лифшиц
ИОГАНН ИОАХИМ ВИНКЕЛЬМАН И ТРИ ЭПОХИ
БУРЖУАЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 1
I
В одном из томов переписки Винкельмана мы находим
следующую автобиографическую заметку: «Мою
предшествующую историю я излагаю кратко. В Зеегаузене я был
восемь с половиною лет конректором в тамошней школе.
Библиотекарем господина графа фон Бюнау я пробыл
столько же времени и один год до моего отъезда прожил
в Дрездене... Самой большой моей работой была до сих
пор «История искусства древности, особенно скульптуры»,
напечатанная этой зимой. Таковы жизнь и чудесные
деяния Иоганна Винкельмана, рожденного в Стендале, что в
Старой Марке, в начале тысяча семьсот восемнадцатого года».
Святой, «чудесные деяния» которого изложены в
приведенной заметке, был первым из ряда великих мыслителей
и ученых, отразивших в своих произведениях начало
подъема буржуазной демократии в Европе. Деятельность
Винкельмана совпадает с предрассветным периодом
немецкой литературы, описанным Гете на страницах «Поэзии
и правды». Это очень своеобразная эпоха. Старый
сословный хлам еще заполняет все поры жизни, но трезвое
сияние буржуазного рассудка уже изгоняет тени «доброго
старого времени».
1 Предисловие к русскому переводу 'Истории искусства
древности» Винкельмана. Москва, Изогиз, 1933.
5
В этом промежуточном освещении все удивительные
персонажи жизненной драмы Винкельмана—протестантские
попы и школьные ученые, иезуитские патеры и
оппозиционные магниты, придворные художники и кардиналы,
аббаты и странствующие дворянчики—кажутся существами
с того света. Все это необычайно далеко от нашего
времени. Главное сочинение Винкельмана, его «История
искусства древности», составившая в свое время эпоху в
развитии общественной мысли европейских народов, не
соответствует нашему современному представлению об
исторической науке; оно нуждается в обширных комментариях.
И не только потому, что хронология или оценка
памятников у Винкельмана отражает уровень знаний середины
XVII! века. Движение мысли, связанное с возникновением
его «Истории искусства», отделено от нас громадным
изменением всего строя общественной жизни за последние
полтора столетия. Изменение это в свою очередь восходит
к революционным событиям конца XVIII и начала XIX
столетия. В огне французской революции идеи Винкельмана
пережили свой максимум, свою «критическую
температуру». Новейшее время—эпоха борьбы двух главных
классов современного общества — создало такие проблемы,
которые и в голову не приходили «президенту древностей
города Рима, письмоводителю Ватиканской библиотеки и
члену Лондонской академии Иоганну Винкельману».
Итак, какое значение для· нашей эпохи могут
иметь его «жизнь и чудесные деяния»? Ответом на этот
вопрос является краткий обзор истории духовного
наследства Винкельмана.
Это—обыкновенная история: она интересна именно своей
типичностью. Наследие всех великих умов, выдвинутых
буржуазными классами в начале их поступательного движения,
прошло через три ступени истолкования и оценки,
сообразно трем главным этапам развития самого буржуазного
общества. На каждой из этих ступеней по-новому
раскрывались содержание их идей, их современное значение,
совершались процессы внутренней перестройки и внешнего
размежевания, обнаруживались новые стороны дела, как
прогрессивные, так и реакционные. Только через
исторический опыт этих трех эпох становится понятным
конкретное значение того или другого писателя.
6
«В каждой эпохе,— говорит Ленин,— бывают и будут
отдельные, частичные движения то вперед, то назад,
бывают и будут различные уклонения от среднего типа и от
среднего темпа движений. Мы не можем знать, с какой
быстротой и с каким успехом разовьются отдельные
исторические движения данной эпохи. Но мы можем знать и
мы знаем, какой класс стоит в центре той или
другой эпохи, определяя главное ее содержание, главное
направление ее развития, главные особенности исторической
обстановки данной эпохи и т. д.»1.
Первый из трех периодов, о которых идет речь,
открывается французской революцией 1789 года и стоит под ее
непосредственным влиянием. Это эпоха консолидации
буржуазного общества в национальных рамках, эпоха
окончательной победы капитализма над остатками
феодально-абсолютистского режима в Европе. Из
неопределенного, среднего типа буржуазного
«человека-гражданина» выделяются слои имущих
товаропроизводителей, буржуа в собственном смысле слова, как
главных представителей общественного прогресса, законных
хозяев жизни, естественных руководителей и начальников.
«Буржуазное общество находит своего положительного
представителя в буржуазии. Буржуазия вступает, таким
образом, на путь своего господства» 2.
Второй период начинается там, где революционная
миссия буржуазии уже исчерпана, между тем как новая
общественная сила — рабочий класс — еще не может
осуществить своей роли могильщика капитализма. Эта эпоха
высшего могущества и упадка буржуазии есть в сущности
эпоха переходная, лежащая между буржуазной и
пролетарской демократией, как не раз определял ее место
Ленин. Двойственный характер этого периода отражается
в падении Парижской коммуны и торжестве империи
Бисмарка так же точно, как мировая война и революционные
потрясения 1917—1923 гг. открывают третий,
последний этап развития капитализма.
Каждому из этих периодов соответствует особая форма
1 Ленин, Поп чужим флагом. Colp. соч., т. XVIII, стр. 107.
2 Маркс и Энгельс, Святое семейство. Собр. соч, т. Ш,
стр. 151.
борьбы на почве «производства идей». Посмертное влияние
Винкельмана отражает в своем развитии все повороты и
колебания этой борьбы.
Главное сочинение Винкельмана появилось в 1764 году
в Дрездене. Уже к моменту выхода этой книги имя ее
автора было известно в Германии отчасти благодаря его
небольшим литературным работам 1755—1759 гг., но
скорее благодаря его опереточному титулу «президента
древностей». Появление «Истории искусства» значительно
расширило эту известность. Два года спустя в Париже и
Амстердаме вышел плохой французский перевод «Истории»,
которым пользовался Дидро. Незадолго до своей смерти
Винкельман задумал выпустить новое издание своей книги
на французском языке. Переводчиком должен был стать
знаменитый Туссен1. За подготовку английского издания
взялся Фюсли в Цюрихе.
Все это свидетельствует о том, что главное сочинение
Винкельмана имело распространение и успех. Однако
глубокое влияние его идей начинается значительно позднее
и возрастает лишь по мере приближения к
революционному двадцатипятилетию 1789—1814 гг. Граф Кайлюс
еше рассматривает Винкельмана как простого археолога,
одного из собратьев по профессии. Дидро в «Салоне»
1765 года2 сталкивается уже с новой художественной
доктриной—идеей подражания грекам. Он сравнивает
немецкого писателя с энтузиастами типа Руссо.
Дидро восхваляет добродетельный пафос обоих
мыслителей, их оппозицию по отношению к испорченному
состоянию цивилизации. Но исключительное стремление к
простоте и величию, дух строгого подчинения
индивидуальности отвлеченному политическому идеалу — эти общие
требования, объединявшие в его глазах Винкельмана и
Руссо, казались великому энциклопедисту непрактичными.
1 Автор известной в XVIII веке книги «Нравы», сожженной
рукой палача б мая 1748 г. Сообщение о работе Тусгена над
переводом «Истории» Винкельмана у Abbé D е π i π а — «La Prusse 'Ittéraire
sous Frédéric II», Berlin, 1791; cp. Francois-Vincent То u s s ai η t,
Anecdotes curieuses de la coure de France sous le règne de Louis XV,
2 éd., Paris, 1908, pp. CXXX, 336 — 337 (Notice sur Toussaint et les
annotations par Paul Fould).
2 Oeuvres, éd. Assézat, t. 10, pp. 417—418.
8
Все это было с точки зрения Дидро слишком опасно
в то время, когда еще не изгладились воспоминания о
монархии Людовика XIV, теориях Боссюэ и других
выражениях «классического века». Только во время регентства
французская живопись, литература и критика начали
освобождаться от стеснительного наследия этой эпохи,
а между тем в направлении, созданном Винкельманом и
Менгсом, уже зрели руководящие идеи для новой, гораздо
более широкой волны классицизма. Правда, это был
классицизм совершенно иного покроя, классицизм патриотов
1793 года, которые с презрением взирали не только на
аристократическую чувственность стиля рококо, но и на
столь любезный сердцу Дидро буржуазный жанр. Они
находили свой идеал в аллегорическом изображении
республиканских добродетелей (причем и здесь не мешает
заметить, что именно Винкельман придал аллегории
значение всеобщего средства изобразительных искусств).
Но в шестидесятых годах XVIII века, когда Дидро писал
свои «Салоны», во французском искусстве господствовали
еще Грез и лозунг приближения к природе. Греки должны
были лишь помочь художнику в его поисках прекрасной
жизни («Мне кажется, что нужно изучать античность для
того, чтобы научиться видеть природу»,— говорит Дидро).
Наоборот, начиная с Вьена, во французском искусстве
второй половины XVIII века можно проследить обратно*7
движение. Возвышение жизни до уровня греческого идеала
становится главным принципом нового направления. Вьен
усвоил классическую манеру в Риме, где он, повидимому,
сталкивался с Винкельманом и Менгсом. В качестве
художника Менгс большого влияния во Франции не имел
(хотя ему заказывает картоны сам барон Гольбах).
Только Луи Давид, будущий член Конвента, привел к
окончательной победе художественные принципы Винкельмана,
усвоенные им так же, как и его предшественником Вье-
ном, во время пребывания в Риме1.
Таким образом, Винкельман является предшественником
1 Ср. André Fontaine, Les doctrines d'Art en France. De Poussin
à Diderot. Paris, 1909, pp. 292—294; Alb. Dresdner, Die Entstehung
der Kunstkritik im Zusammenhang der Geschichte des europäischen
Kunstlebens, München, 1915, S. 216 f.
9
одного из больших движений европейской художественной
мысли. Признаки этого движения обнаруживаются уже в
ближайшие десятилетия перед французской революцией и
проникают собой в дальнейшем все ее жизненные
проявления, от ораторского стиля народных трибунов до
книжного переплета, от общественных празднеств в честь
нехристианских божеств до гравировки на саблях
революционных армий. С некоторыми изменениями это движение
продолжается в виде так называемого стиля «империи».
Более победоносное, чем армии Бонапарта, оно подчиняет
себе всю Европу, проникая в столицы государств
Священного союза. В начале прошлого столетия крепостные
мастера русских бояр производили великолепную мебель с
эмблемами республиканского Рима и демократической
Греции. Как бы в насмешку над идеями Винкельмана,
русское самодержавие видело символ казенного величия в
дорических колоннах своих арсеналов, дворцов и манежей.
Все же практическое осуществление принципов
Винкельмана было так или иначе связано с революционной
эпохой. Оценка Вилькельмана современными ему писателями
указывает нам ту историческую рамку, в которой выступает
доктрина классицизма. Имя и учение Винкельмана имели
для своей эпохи символическое значение. Его идея «б лаг о-
родной простоты и спокойного величия»
была лишь сокращенной формулой для всех гражданских
добродетелей, извлеченных революционным движением этой
эпохи из развалин древнего мира. В отличие от
Винкельмана Дидро отстаивает право эмпирического индивида,
созданного не из гипса и мрамора, а из плоти и крови.
Речь идет о противоположности между идеалом и
ж и з н ь ю.
Это особенно ясно на примере позиции Лессинга. Через
год после появления критики Дидро Лессинг в своем «Лао-
кооне» выдвинул несколько возражений против
классицизма Винкельмана. Лессинг допускает, что искусства
изобразительные должны создавать свои образы, согласно
«пластической природе» («если она существует», —
«Эмилия Галотти», 1, 4). Пластика берет своих героев в
состоянии спокойного равновесия и торжества над всяким
сопротивлением материи, над всякой порчей, проистекающей
от времени. Этот идеал изображения есть красота,
ю
существенная в пластическом искусстве. Но жизнь шире
красоты, она включает в себя такие моменты, которые не
укладываются в рамки спокойной формы,—
неразрешенные противоречия, сильные страсти, своеобразие личности,
страдание. Подобно тому, как успокоенное состояние
достигнутого результата царствует в пластических искусствах,
так жизнь во всем разнообразии ее положений
господствует в поэзии. Одно не заменяет другого. «Благородная
простота и спокойное величие» прекрасно, но правда
жизни, как бы груба она ни была, страдания и страсти
индивида, как бы ни казались они незначительны по
сравнению с покоем вечности,—все это, по м'нению Лессинга, есть
особая сфера, а не просто область отпадетя от идеала.
Такова та идейная коллизия, в которой взгляды Вин-
кельмана выступают уже с самого момента своего
появления. «История искусства древности» вводит нас в
лабораторию умственной жизни XVIII века, где из пестрой
материи старых представлений вырабатываются элементы
идеологии буржуазного общества. Пластический идеал
Винкельмана представляет собой как бы образ
неподкупного гражданина, сохраняющего величественное
спокойствие среди всех тревог действительной жизни. Напротив,
эстетические устремления Дидро и поэтические
требования Лессинга нуждаются для своего осуществления в
живых, действительных индивидуальностях с их страданиями
и радостями. Перед нами, таким образом, «права
гражданина» и «права человека», спокойствие закона и текучая
эмпирия действительной жизни, — небо и земля
буржуазного общества и буржуазной идеологии. Тэн в своей
характеристике XVIII века называет абстракцию и эмпиризм —
два противоположных элемента мышления этой эпохи —
«духом классицизма» и «духом научных исследований».
Гегель задолго до Тэна выразил эту антитезу в виде
противоположности политического гражданина (citoyen) и
частного лица (bourgeois)—двух главных действующих лиц
его «Философии права».
II
По своим исходным позициям Винкельман разделял
некоторые общие положения материализма XVIII века. Осо-
п
бенно интересна в этом отношении его ранняя работа «Об
устном преподавании истории». Придворной историографии,
с ее описанием подвигов царствующих особ, героев и
полководцев, Винкельман противопоставляет здесь
демократические принципы буржуазного просвещения: изучение
народной жизни, истории промышленности, торговли,
мореплавания и т. д. Природная среда и свободное
общественное устройство создали величие греческой культуры.
Такова основная идея «Истории искусства древности».
Винкельмана нередко изображали крайним идеалистом,
ссылаясь на заключенные в его главном труде элементы
платоновской мистики. Но такое смешение материализма
с идеализмом не было редкостью в литературе эпохи
просвещения. Достаточно сослаться на материалиста Робинэ
или на английских просветителей нео-платоников.
Фантастические элементы, встречающиеся в сочинениях
Винкельмана, являются у него еще наследием эпохи Возрождения.
Действительные корни эстетики Винкельмана заключаются*
в эпикуреизме, которому он учился у Гассевди. От Эпикура
и Лукреция Винкельман унаследовал свою теологию,
учение о божественном совершенстве, блаженном покое и
красоте, свободной от перевеса материальных страстей. Он
мечтает о прекрасном «среднем состоянии» между жаром
и холодом, между влажным и сухим, необходимостью и:
произволом, напряженным трудом и безжизненной скукой.
Из всех писателей XVIII века Винкельман наиболее
последователен в поисках этого фантастического «среднего
состояния»: высшую степень человеческой красоты он
находит у гермафродита или молодого евнуха из Малой Азии.
В описании пластического покоя античных божеств он
почти дословно повторяет древних материалистов. Вместе
с прославлением чувственной природы вещей Винкельман
взял у великих просветителей древности их наивный
идеализм, отвлеченное, греческое представление о
совершенстве, стоящем по ту сторону борьбы и страдания, о
созерцательном покое — атараксии. Маркс следующим
образом характеризует эту особенность античного
миросозерцания: «Очень много острили по поводу этих богов
Эпикура, которые, будучи похожи на людей, живут в
межмировых пространствах действительного мира, имеют не тело,
а quasi-тело, имеют не кровь, а quasi-кровь и, пребы-
12
вая в блаженном покое, не слышат никакой мольбы, не
заботятся ни о нас, ни о мире, и которых почитают ради
их красоты, их величия и их совершенной природы, а не
ради какой-нибудь корысти. И все же эти боги — не
фикция Эпикура. Они существовали. Это пластические
боги греческого искусств а... Теоретический
покой есть главный момент характера греческих богов, как
и говорит Аристотель: «То, что лучше всего, не нуждается
в действии, так как оно само есть цель» \
Эта основа античного понятия о прекрасном была
усвоена Винкельманом. В его «Истории искусства древности»
мы читаем: «...красоту можно сравнить с самой чистой
водой, черпаемой из источника: чем меньше в ней вкуса,
тем она здоровее, потому что она очищена от всех
посторонних примесей. Поскольку состояние блаженства, т. е.
отсутствие страдания и наслаждение удовлетворением,
приобретается в природе без усилий и дорога к нему
наиболее пряма и может быть пройдена без труда и стараний,
так же точно и понятие о высшей красоте кажется вещью
самой простой, самой легкой, не требующей ни
философского знания· человека, ни изучения душевных страстей к
их внешнего проявления. Но так как, по словам Эпикура, в
человеческой природе нет среднего положения между
страданием и наслаждением, а страсти подобно ветрам гонят
по морю жизни наш корабль, подобно ветрам, которые
наполняют паруса поэта и подымают художника,— то и
чистая красота не может быть единственным предметом
нашего изучения: нам надо придать ей положение действия
и страстей, т. е. то, что в искусстве мы понимаем под
выражением».
Мы находим таким образом у Винкельмана различие
между идеальной красотой, свободной от всякого
беспокойства, и более доступной людям красотой выражения,
где неизбежная доля страсти сдерживается художественной
мерой. «Высшая красота в боге»,— говорит Винкельман.
«Это понятие красоты есть как бы отвлеченный от
материи, очищенный огнем дух, стремящийся олицетвориться в
1 Лисгертация «Различие между натурфилилософией Демокрита
и натурфилософией Эпикура». Маркс и Энгельс, Собр. соч. т. I
ττρ. 46.
13
творении по образу первого разумного существа,
созданного божественным разумом».
Все это уже идеалистическая фантастика в духе
натурфилософов древности и эпохи Возрождения. Но не следует
забывать, что теория идеального образца и
блаженного «среднего состояния», лежащего между
враждебными крайностями истории и природы, была свойственна
всей литературе эпохи Просвещения. Даже материалист
Дидро приходит в своем «Парадоксе об актере» к
представлению об идеале, который должен служить
образцом для игры актера и ради которого следует отказаться
от природной чувствительности. Патетический Дидро и
спокойный созерцатель Винкельман представляют в
сущности две стороны одного и того же мировоззрения.
Эстетический идеал Винкельмана есть адэкватное выражение
созерцательной стороны материализма XVIII
века. Он образует поэтому переход от философии
просветителей к идеализму классических немецких писателей эпохи
Великой французской революции, к идеализму Гете и Гегеля.
С Винкельманом в историю принципов искусства
входит господство общей, типической красоты над
«выражением», идеи над чувственным удовольствием, рисунка над
колоритом, формы над краской («Что такое краска iu
сравнению с формой?»—восклицает немецкий якобинец
Георг Форстер). Всякое направление в искусстве,
возвышающееся над ничтожеством жизненной обстановки
буржуазного общества, заключает в себе элемент
художественной идеализации и воздает должное традиции
Винкельмана.
Но это лишь одна сторона дела. Классицизм
Винкельмана, приведенный к популярному виду писателями эпохи
Империи \ породил академическую традицию XIX столетия.
Бесчисленные «картоны» и копии, портреты, от
которых за целую версту веет духом «холопской иерархии»,
бесцветная, бесхарактерная, абстрактная красота
гипсовых слепков, — вся эта музейная ветошь официального
искусства XIX века также берет начало в направлении,
созданном Винкельманом и Менгсом.
1 Главным образом Катрэмером де Кэнси. Ср. F. Benoît, L'art
français sous la Révolution et l'Empire. Les idées, les genres, Paris 1897.
14
Это двоякое значение идейного наследства Винкельмана
давно раскрыто. Но противоположное направление
обнаруживает такую же двойственность. Критика теории
Винкельмана у Лессинга и Дидро содержит в зародыше все
рассуждения позднейших противников классицизма. Оба
великих просветителя стремились приблизить искусство к
жизни; «благородная простота» и «спокойное величие»
казались ΉΜ чем-то слишком отвлеченным: под античными
складками одежды самоотверженного «гражданина» мог
скрываться «верноподданный» абсолютной монархии.
Обращаясь к традициям революционной демократии прошлого,
мы привыкли относиться с величайшим уважением к
формуле: «Прекрасное есть жизнь». Насмешки над эстетикой
идеалов, критика античных «канонов» прекрасного есть
нечто, наиболее легко соединимое с популярным
представлением о марксизме. И эта ассоциация в значительной
степени оправдана необходимостью разоблачения официальной
идеалистической догмы имущих классов. Но мы не должны
забывать, что эмпиризм также может иметь реакционный
характер. Достаточно вспомнить о широком
распространении так называемой «философии жизни», в
империалистическую эпоху. Тот, кто в понятиях «жизнь», «опыт»,
«действительность» находит универсальное средство от
идеализма, ничего не понял в истории общественной мысли.
Ленин подверг уничтожающей критике
либерально-меньшевистское представление о прогрессивности всякого
взгляда, опирающегося на понятие «опыт». Что только не
может быть засвидетельствовано опытным порядком !
Какую бездну подлости и лицемерной защиты интересов
господствующих скрывает подчас понятие «жизнь»!
Религия и мистика со всеми своими тайнами, стигматами,
чудесными исцелениями являются для верующего предметами
опыта. Искусство христианского примитива обнаруживает
нередко столь прозаический натурализм в передаче
предметов религиозной фантастики, что рядом с ним
кажется условной самая натуралистическая живопись XIX
века. С другой стороны, разве спиритизм и теософия
не обосновались наиболее прочно у самой эмпирической
из европейских наций — англичан? Еще Энгельс
указывал на тесное переплетение индуктивной
ограниченности и религиозного ханжества, эмпиризма и мистики
15
в общественном мнении Англии со времен
либерального переворота 1688 года. Английские писатели эпохи
Просвещения гораздо более трезво и реалистически
оценивают истинное значение имущественных отношение
чем их современники во Франции. Но вместе с тем они
более консервативны и умеренны. Реакция всегда имела
свои достаточно веские основания держаться поближе к
земле. Все беспорядки и революции,— говорит Поп в своем
«Опыте о человеке»,—происходят вследствие стремления
злонамеренных личностей превратить человечество в
«народ ангелов». «Идеальное всегда служило революционным
целям», — сказал однажды Гете Эккерману.
Уничтожая предшествующие виды духовного угнетения,
буржуазное общество само берет на себя заботу о
сохранении преемственности со всеми старыми формами
сознания. Каждый из противоречивых элементов буржуазной
идеологии обнаруживает не только свою революционную,
но и свою консервативную сторону. Так, «идеал
благородной простоты и спокойного величия» революционного
классицизма XVIII века несет в себе семя эволюции к
холодному иерархическому духу либерально-помещичьей
культуры. В сущности дело сводится к усыновлению
ложноклассических идеалов «ясности», «величия» и «порядка»,
за которыми скрыта проповедь старой христианско-фео-
дальной догмы подчинения.
Но обращение искусства к природе и человеческой
жизни также заключает в себе возможность подобного
перерождения. Достаточно вспомнить то мало известное у
нас обстоятельство, что ультрареакционный и мистический
«сверхчеловек» Ницше был многим обязан «человеку»
Фейербаха. «Жизнь, как она есть» — это или
демократическое разоблачение лицемерия имущих классов, или их
собственный реакционный цинизм. Сама по себе эта идея
заключает в себе возможность оправдания всего
эмпирически данного, всякой исторической и доисторической
бессмыслицы, изображаемой «объективно», т. е. с оттенком
восхищения. Не только «идеалы» буржуазного искусства,
но и его «обращение к жизни» (величайшими
предшественниками которого были Дидро и Лессинг), не только «права
гражданина», но и «права человека» заключают в себе
оборотную сторону, в которой выражена ограниченность
16
их общей основы — буржуазной демократии. Здесь так же,
как и в эстетике «идеала», живая и мертвая струи
проистекают из одного и того же источника.
Без понимания этой двойственности буржуазной
культуры правильная оценка исторических фактов
невозможна.
III
Период наибольшей посмертной славы Винкельмана
совпадает с тремя десятилетиями подготовки и развития
революционных событий конца XVIII и начала XIX столетия.
В 1778 году Гердер написал «Памятник Иоганну Винкель-
ману». Фридрих Шлегель в юношеских работах 1793 —
1794 и следующих годов черпает свой античный
республиканизм из «Истории искусства древности». «Боги
Греции» Шиллера находятся в слишком очевидной связи с
пластическими образами Винкельмана. В том же духе
пишет Вильгельм Гумбольдт свои «Рассуждения об изучении
древних». Наконец, Гельдерлин и Гегель, в то время еще
слушатели семинарии в Тюбингене, развивают до высших
пределов культ античной демократии, постоянно
возвращаясь к идеям Винкельмана.
Высшую и наиболее правильную для своего времени
оценку его деятельности дал Гете.
«Человек,—-писал Гете в своей знаменитой
характеристике Винкельмана (1805),— способен на очень многое
путем целесообразного употребления единичных сил, он
способен на необычайное путем соединения нескольких
родов деятельности, но единственное, совершенно
неожиданное совершает он лишь тогда, когда все свойства
соединяются в нем равномерно. Последнее было счастливым
жребием древних; оба первые случая предуказаны
судьбою нам, людям нового времени». В отличие от этих людей
Винкельман, по выражению Гете, заключал в себе
некоторые «античные черты». «Языческий дух светится из всех
его произведений и поступков»1.
1 Skizzen zu einer Schilderung Winckelmanns von Goethe (Winckel-
manns Kleine Schriften zur Geshichte der Kunst des Altertums), hrsgb.
von Hermann Uhde-Bernays, Lpz., 1913, S. 9—13.
2 М.Лифшиц 17
Гегель, обязанный Винкельману многим не только в
области истории греческого искусства, вполне разделял
оценку Гете. Правда, Гегель соглашался с Румором в
критике «погони за идеалистической формой изображения»,
вышедшей из «идеальной формы» Винкельмана \ Но он
полагал, что последний не был понят своими современниками
и что истинные его идеи получили развитие лишь
впоследствии. Говоря о политической свободе как социальной
основе греческого искусства, Гегель всецело примыкает к
«Истории искусства древности», а в вопросе об отношении
идеала к природе он, при всех возражениях против
абстрактной идеализации, становится на сторону
Винкельмана против Румора2. Здесь еще чувствуется веяние
героического времени французской революции. Идеал
гармонии «индивидуального» и «всеобщего» в греческом
обществе был предметом самых горячих устремлений
революционеров конца XVIII столетия.
Революции обладают способностью производить
величайшие изменения и в мире мыслей. Подобно геологическим
переворотам, они погружают на дно океана целые
провинции духовной жизни, полные воинственной и шумной
борьбы идей, и, наоборот, поднимают к солнцу новые земли,
еще необитаемые и влажные. Для всей совокупности
взглядов Винкельмана величайшим испытанием была
французская революция. Из скромной музыкальной шкатулки его
классической археологии она извлекла созвучия огромной
резкости и силы. Но будучи основой нового расцвета
классицизма, революционное движение конца XVIII столетия
было вместе с тем причиной его падения.
Прогрессивные писатели предреволюционной эпохи, к
которым мы относим и Винкельмана, рассматривали
нарождающееся буржуазное общество еще совершенно
абстрактно. Действительность оказалась менее прекрасной, чем
филантропические картины будущего, но она была сильнее
их. Опыт всех классов, принимавших участие в революции,
внес существенные поправки в первую, еще очень
отвлеченную и условную картину буржуазной демократии. Не
1 С. Fr. v. Rumohr, Italienische Forschungen, hrsgb. von Julius
Schlosser, Frar>kf, am Main 1920, S. 9—10.
8 Hegel, Aesthetik, hrsgb. V. Lasson, Bd. I, S. 230—231.
18
только проходимцы из рядов «болота», но и такие люди,
как Бабеф, приветствовали падение Робеспьера. Вместе с
ним потерпела поражение попытка сдержать
развивающийся антагонизм новых классов посредством
идеалистической политики на античный лад, политики «благородной
простоты и спокойного величия».
Лихорадка наживы, охватившая Францию в эпоху
Термидора, раскрыла действительное содержание «прав
человека»; национально-освободительная война понемногу
превратилась в войну грабительскую, — правовое сознание
народов как бы устало от непрерывного парада гражданских
добродетелей, подтверждаемых римскими клятвами, а
нередко и собственной кровью. В этом переходе от
праздничной стадии революции к ее обыденному
завершению потускнели все абстрактные противоположности,
свойственные мышлению XVIII столетия. Восстановилась
преемственная связь с обыкновенной историей прежних
времен, когда философы еще не разделяли общественных
учреждений на естественные и ложные. Мир оказался
перенесенным из царства разума в центр действительной
жизни, где, по словам Бальзака, нет никаких законов, а
существуют только обстоятельства.
В этот момент появились герои Стендаля, мужественные,
как спартиаты, но эгоистичные, как люди эпохи
Возрождения, и стоящие уже отчасти по ту сторону добра и зла,
красоты и безобразия. Сознание относительности норм
эстетики и морали явилось результатом опыта
революционных десятилетий. Все классы по-своему усвоили этот
опыт. Теоретики феодальной реакции обвиняют
аристократию XVIII века в том, что она сама прониклась
фразеологией вольнодумцев, вместо того чтобы внушать народу
сознание действительной цели человеческой жизни —
подчинения. Буржуазные доктринеры еще толкуют о разуме и
праве, но более глубокие умы, как Гизо, уже переходят
от юридической формы к имущественным отношениям и
видят содержание истории в борьбе за власть. Третий
класс, чрезвычайно существенный для этой эпохи,—мелкая
буржуазия — также проделывает свою эволюцию.
Романтический мелкий буржуа был подлинным
носителем'термидорианства в Германии. Около 1800 года он
исповедует род эпикурейской религии (Шеллинг, «Исповедат
2* 19
ние веры Гейнца Видерпоста»), провозглашает свободу
чувственности и презрение ко всякой форме приличия или
права, ограничивающей произвол человеческого «я». С этой
точки зрения он объявляет мещанским не только
моральное возмущение революцией таких людей, как Шиллер, но
и весь способ действия самой революции. Следование
определенным правилам, идеал регламентированной
публичной жизни, подчиняющей себе разнообразие поступков
отдельных индивидов,— словом, винкельмановское господство
строгого рисунка над колоритом,
переведенное на язык практической жизни,— вот что является
предметом критического недоверия романтиков. Одним из
оснований романтической критики рационализма XVIII века
было повторяющееся в ходе каждой революции возмущение
буржуа против общественного контроля масс, как бы
выворачивающего «частного человека» наизнанку,
вторгающегося в область коммерческой тайны, тайны
корреспонденции и многих других, не менее священных таинств
буржуазного общества. Подобные мотивы мы находим уже в
английской литературе послереволюционного времени, у
писателей эпохи королевы Анны, особенно у Шефтсбери,
который вообще во многом является учителем романтиков.
Честный Винкельман видел в политической свободе
условие расцвета искусства. Романтики справедливо указывали
на формальный и прозаический характер буржуазной
свободы, но при этом они сами впадали в лирическое воспевание
рабства. Винкельман был убежден в непогрешимости
принципов красоты ватиканского Аполлона. Писатели
романтического направления восставали против космополитической
и в то же время великодержавной эстетики классицизма.
Они выдвинули принцип «терпимости» по отношению к
своеобразному искусству всех народов, всех эпох и стилей.
Вот почему в «Размышлениях отшельника, любителя
прекрасного» Вакенродера-Тика мы найдем и восхваление
ранних итальянских живописцев, и панегирик в честь
фривольного Ватто. Все несовершенное, примитивное или
перезрелое, признанное в XVIII веке продуктом варварства или
испорченности, находит теперь свое оправдание в
исторической философии искусства романтиков. Греки теряют
преимущество внеисторического народа и становятся
в один ряд с индусами, египтянами, персами и скандинава-
20
ми. Таким образом косвенно было положено основание для
реабилитации «современного человека», испорченного
цивилизацией, как сказали бы в XVIII веке.
Французская революция вскрыла могущественную силу
распространения, таившуюся в идеях скромного археолога
Винкельмана. Но она обнаружила и все их слабости:
представление о средней типической красоте, способной
подчинить себе все разнообразие жизненных положений, идеал
формальной гармонии, абстрактную противоположность
красоты и безобразия. В сущности, все эти недостатки
эстетики «идеала» и прежде всего ее неисторический и
отвлеченный характер были отражением абстрактности
буржуазно-демократических принципов революционного
движения XVIII века, с которым неразрывно связана судьба
классицизма. Вместе с прояснением действительного облика
капиталистического строя в отвлеченных идеалах
буржуазной демократии обнаруживается первая трещина.
Одним из отдаленных следствий этого обстоятельства
явилось радикальное изменение тех представлений об
античном мире, которые были свойственны Винкельману
вместе с другими писателями эпохи Просвещения. Это
изменение, как и все дальнейшее развитие науки, носило
двойственный характер. Еще в XVIII столетии картина
античного мира, набросанная в «Истории искусства
древности», подверглась критике, исходившей из недр
классической филологии. Уже Христиан-Готтлоб Гейне обвиняет
Винкельмана в склонности к абстрактным построениям. Он
оспаривает общую идею зависимости расцвета искусства
от политической свободы и выводит успехи
художественного творчества из случайных обстоятельств времени:
наличия блестящего двора, министра—покровителя искусств,
благосклонной фаворитки и т. п. \ Этот раболепный
эмпиризм филологов соединяется с постоянно усиливающимся
влечением в область мистики.
Как истинный сын эпохи Просвещения, Винкельман мало
интересовался мифологией. Следуя традиции мыслителей
Возрождения, и прежде всего Бэкону, он усматривал в
античных преданиях только замаскированные поучения —
аллегории. Теперь эта слабая сторона его исторических
1 Justi, Winckelmann, Bd. Ill S. 202.
21
взглядов была обращена против него самого. Его обвиняют
в незнании мифологической основы античного творчества.
И действительно, столь существенное для понимания
греческого искусства «мифологическое отношение к природе»,
как выражается Маркс, было раскрыто лишь позднейшими
писателями. Но во что обошлось науке это полезное
приобретение, показывает следующее письмо Гете к Сюльпи-
цию Буассере (от 16 июня 1818 года): «Путь Винкельмана,
направленный к достижению понятия искусства, был в
высшей степени правильным... Вскоре, однако, суждение
перешло в истолкование и, в конце концов, совершенно
затерялось в гадательстве; кто не умел видеть, начал бредить,
и, таким образом, пустились в египетские и индийские
дали, тогда как лучшее было совсем близко, на переднем
плане. Зоэга уже колебался, Беттигер бродил наощупь,
лучше всего в темноте, и так началось постоянное
страдание на несчастных дионисиевских мистериях. Крейцер,
Канне, а теперь и Велькер с каждым днем все более лишают
нас великих преимуществ грациозного греческого
разнообразия и достойного израильского единства».
Античность Винкельмана — Гете была классически ясным
образом юности человеческого общества. Греки казались
им народом красоты, гармонической публичной жизни,
народом республиканским по преимуществу. Исторические
границы этой картины были очень смутны, и сама она лишь
отдаленно напоминала Афины эпохи Перикла.
Романтические писатели первой половины XIX века создали новую
картину греческого мира, в которой было больше
действительной истории, но зато и немало мистического «гада-
тельства». Они погрузились в исследование восточных
влияний и остатков архаической Греции. Крейцер изобразил
мифологическую атмосферу, в которой рождались
произведения античного искусства. Бахофен обнаружил борьбу
«отцовских божеств» против древнего материнского права
и культа матери-земли. Еще раньше Франц фон Баадер
противопоставил светлому язычеству Винкельмана—Гете
«ночную» сторону античности, священный ужас элевзин-
ских мистерий. И наконец, в энциклопедии этого
направления — «Философия мифологии» Шеллинга — греки
получили новое истолкование: они стали избранным народом
Диониса — бога, стоящего на границе жизни и смерти,
22
подобно христианскому спасителю. Шеллинг писал о
«трагической черте, проходящей через все язычество» \
Так отошли в прошлое блаженные в своем
невозмутимом покое «боги Греции», а с ними вместе и
непосредственное влияние Винкельмана на умы ближайших
поколений. Этим оканчивается первый период посмертных
деяний нашего святого.
IV
Для всей истории буржуазной общественной мысли
огромное значение имеет выступление на историческую сцену
пролетариата. Второй из тех трех периодов, о которых
мы говорили выше, проходит под властью
непосредственного впечатления, произведенного на все фракции имущих
классов возникновением теории марксизма и образованием
коммунистической партии.
В течение предшествующего времени на очереди было
низвержение остатков феодализма. Борьба развивалась
вокруг вопроса о том, какой из слоев частных
собственников будет руководить этим движением, какими методами
наиболее верно достигается конституирование буржуазного
общества, насколько демократические формы примет оно
в своем осуществлении. Эти проблемы образуют главное
содержание всех идейных течений, примыкающих к
французской революции. Они являются практической основой
борьбы между классицизмом и романтизмом и всеми
другими направлениями искусства и науки, в которых
отражается присущее буржуазному обществу противоречие
между «гражданином» и «человеком»; мы уже знаем, что
в этом споре каждая из сталкивающихся
противоположностей выступает то своей революционной, то своей
консервативной стороной и обнаруживает посредствующие
звенья, связывающие ее с прошедшим и будущим.
Начало борьбы рабочего класса за власть и руководство
массами трудящихся-непролетариев отодвигает в сторону
это, некогда столь оживленное столкновение идей. Рядом
1 S с h е 11 i η gt Einleitung in die Philosophie der Mythologie (Werke,
2. Ab th., I, S. 256). Ср. В i 11 e t e r, Die Anschauungen vom Wesen des
Griechentums, Lpz., 1911.
23
с классовыми битвами XIX—XX столетий старая коллизия
между «идеалом» и «жизнью» кажется отвлеченной и
ограниченной. Новые, гораздо более широкие исторические
перспективы, более острые и сложные противоречия не
укладываются в рамки «вечных проблем» буржуазной
идеологии. Вместе с окончательным утверждением
капиталистического строя в главных европейских странах (около
1871 года) на очередь становится задача осуществления
пролетарской демократии. Ей соответствуют и новые
формы сознания, выработанные интернациональной борьбой
рабочего класса. Коммунисты,— утверждали Маркс и
Энгельс еще в «Немецкой идеологии»,— исходят в своей
борьбе не из абстрактного гражданского «самоотречения»,
хотя они далеки и от сверхреалистической проповеди
«эгоизма». Коммунисты не преподносят массам идеал
мещанского трудолюбия, но они не считают нужным рисовать
им царство блаженной лени, начинающееся по ту сторону
жизненных трудностей,— этот источник невозмутимого
спокойствия классических божеств Винкельмана, Шиллера»
Гете. Коммунисты вовсе не собираются сделать
действительность серой и будничной (как утверждает буржуазная
софистика), ибо сама противоположность между
праздничным светом ибуднями жизни теряет для них
свое роковое значение. Какую бы форму ни принимали
старые противоположности буржуазного сознания,
коммунистическое мировоззрение пролетариата выходит за их
пределы.
Вот почему критика формальных идеалов буржуазной
демократии, осуществляемая теорией марксизма с момента
ее возникновения, далеко не тождественна с тем
«обращением к жизни», которое составляло основу реалистических
устремлений буржуазной культуры в прошлом, а в
настоящее время питает реакционный цинизм целой серии модных
направлений в буржуазном искусстве и философии.
Наоборот, коммунистическая критика направлена против самой
буржуазной «жизни», в которой она видит действительный
прообраз отвлеченного «идеала». Буржуазия чувствует
грозящую опасность, и действие этого сознания на ее
революционные инстинкты более опустошительно, чем чума.
Посмотрим, как отражается это изменение внутри самой
буржуазной идеологии, с ее известной уже нам противо-
24
положностью условно-идеализированного «гражданина» и
реалистического ami du commerce. Тень гигантской фигуры
могильщика капитализма падает на обе борющиеся стороны
и производит причудливую деформацию в их очертаниях.
Эти изменения идут по двум линиям, как бы
воспроизводящим старую антитезу, но в гораздо более сложной форме
и, если можно так выразиться, во второй степени.
Первая реакция буржуазного мышления на изменившееся
положение вещей состоит в торжестве умеренности.
Буржуазия боится выводов, проистекающих из тех
демократических принципов, на основании которых она сама
предъявила свой ордер на общественное господство. Она
опасается всякой крайней формулировки своих же
собственных требований. «Буржуазия верно поняла,— говорит
Маркс,— что оружие, выкованное ею против феодализма,
обращалось против нее самой... что все сотворенные ею
боги отреклись от нее» \ Вторая половина XIX века
представляет собой картину ослабления всех политических
различий между отдельными отрядами имущих классов,
их превращения в «различные фракции единой партии
порядка». С этой эволюцией непосредственно связан
процесс перерождения литературы и искусства.
Гегель когда-то писал о «Пантеоне», в котором
человечество соединяет всех местных и национальных божеств
своего прошлого. XIX столетию суждено было проверить
эту идею на практике. И она действительно
осуществилась; правда, не во времена великого немецкого идеалиста,
а позднее, когда, по остроумному замечанию одного
современного писателя, в Берлине царствовали уже не Фихте
и Гегель, а Сименс и Гальске. И как осуществилась!
Искусство последней трети XIX века — это настоящий
маскарад, в котором можно встретить костюмы всех эпох и
стилей. Буржуазия строит свои парламенты в виде
греческих храмов, как будто ее депутаты все еще Гракхи и
Бруты времен Конвента. В муниципальных зданиях
больших городов она подражает готическим сооружениям, а
в архитектуре банков и товарохранилищ — итальянским
палаццо эпохи Возрождения. Она относится к прошлому
паразитически.
1 Собр. соч., т. VIII, стр. 360.
25
Классики, романтики и реалисты, представители трех
главных художественных течений эпохи подъема
буржуазной демократии, наносили немало оскорблений
ограниченному буржуа — «денежной бестии» без чести и поэзии.
Буржуазия отплатила им за это по-христиански: она
усыновила их. Во второй половине XIX столетия умеренный
классицизм, умеренный романтизм и все более
эклектический и безыдейный реализм мирно уживаются рядом,
часто в лоне одной и той же академии. Но от этого
соединения они ничего не выигрывают. Напротив, искры огня,
вылетавшие при их ожесточенных столкновениях в
прошлом, еще были способны осветить некоторые стороны
жизни, которые, с точки зрения платежеспособной морали,
освещать не следует. Взаимная амнистия перед лицом
поднимающегося «врага культуры» лишила эти направления
последних остатков подлинного демократизма. Пантеон
был действительно создан, но боги оказались из папье-
маше.
Однако в этом эклектизме была своя классовая логика.
В сущности дело заключалось в концентрации сил
реакции, которая выдвигает против идеи нового порядка все
разнообразие положительных форм старой культуры,
взятых как мертвый капитал, как неподвижная традиция. Это
один из симптомов перерождения буржуазной демократии.
Из соединения «гражданина», утратившего революционный
пафос конца XVIII века, и «частного человека»,
лишенного «сильной страсти» людей Гельвеция и Дидро,
образуется характерный для XIX столетия синтез
классического образования и умеренного реализма. Шиллер,
Вильгельм Гумбольдт и сам Винкельман входят в гимназическую
и университетскую традицию в качестве корифеев
человеческой культуры. Но наиболее едкие составные части их
мировоззрения разводятся в больших количествах
либеральной воды для того, чтобы сделать их безвредными для
юношества.
В этом соединении «идеалов» и «жизненной практики»
более сильной стороной оказывается последняя. Эволюция
мелкобуржуазной демократии, начиная уже с 1848 года,
подтверждает это на каждом шагу. Густав Фрейтаг был
Моисеем приходо-расходной романистики. Вся эта эпоха
представляет собой зрелище бегства «гражданина» в объя-
26
тия трезвого «буржуа». Буржуазия выступает в роли
действительного хозяина политической верхушки общества,
вопреки объективным иллюзиям формальной демократии.
И соответственно этому изменяется весь внутренний строй
духовной культуры. На первом плане стоит святость
частной жизни, и вместо «благородной простоты и
спокойного величия» утверждается своего рода рококо XIX
столетия. Комнатный и театральный стиль! Стиль
перламутровых безделушек и декоративных каминов с
гербами, на которых вместо геральдических львов и цепей
должны были бы красоваться свиные туши и галантерейные
принадлежности. Стиль музыкально-театральных зрелищ
в псевдо-историческом вкусе и живописных «интерьеров».
Тот, кто хочет составить себе представление об
отношении этой эпохи к кругу идей Винкельмана, пусть сравнит
любой из доходных домов конца XIX века с архитектурой
«ампир». И там и здесь мы находим колонны и
капители, античные украшения и разнообразные элементы
стиля a la grecque. Но в классицизме конца столетия все
строгие линии сглажены множеством подробностей, и
разукрашенная поверхность фасада кажется тонкой кожей,
обтягивающей остов множества частных ячеек. В этой
эклектической архитектуре нет и следа той строгости
принципов, которая придает даже частному дому,
построенному в духе Джильярди, характер публичного здания.
Таким образом, внешняя преемственность сохраняется, но
внутренняя сущность глубоко изменилась1.
1 Одним из характерных последствий неравного брака между
прозаическим «буржуа» и перезрелым «гражданином» была борьба так
наз. реального образования с классическим. Она породила
целую литературу модернизированных либеральных писак и
усохших гимназиастов. В одном из объемистых произведений этого
рода— «Догмн классической древности» (Paul N е г г 1 i с h, Das Dogma
vom klassischen Altertum in seiner geschichtlichen Entwicklung, 1894,
S. 399, 367, 368; ср. на стр. 194 критику Винкельмана)—мы
читаем: «Догма классической древности относится к заблуждениям,
которые в свое время были всемирно-исторической необходимостью;
современность требует освобождения и от этой догмы». Для того
чтобы доказать необходимость этого переворота, Неррлих цитирует
речь Вильгельма Π на открытии школьной конференции в декабре
1890 г. В припадке верноподданнического восторга автор называет
императорское выступление «восходом солнца». Школа должна
стать полезной, она должна давать «немецкое» образование. Вместо
27
Теоретическое развитие этой эпохи обнаруживает
аналогичную картину. Широкие обобщения и политические
выводы, которые делал Винкельман в своей «Истории»,
кажутся буржуазным ученым нового поколения наивными и
рискованными. Всюду господствует осторожный эмпиризм.
Какая разница между устремлениями истории искусства
накануне французской революции 1789 г. и теперь!
Винкельман боролся против старой историографии —
консервативной хранительницы фактов. Ей противопоставлял он
свою «Историю» как опыт «научной системы». «Новое
поколение не строит систем!» — гласит популярная во
второй половине XIX века фраза Юлиана Шмидта.
История искусства, неразрывно слитая у Винкельмана
с философско-историческим приближением к сущности
искусства, теперь окончательно отдаляется от всего, что
выходит из рамок чистого собирания фактов. Она
принципиально отказывается от всяких «оценок», инстинктивно
чувствуя, что, раз став на эту почву, она будет вынуждена
высказать немало горьких истин и по поводу своего
собственного времени. Равенство всех эпох и стилей!
Низвержение диктатуры греческого «идеала»! Уничтожение
привилегий отдельных периодов в области истории
искусства! Под этими свободолюбивыми лозунгами
развивается наступление либеральной науки против тирании
общезначимых норм. Художественные вкусы — это частное
дело.
Смягчение «догмы классической древности» начинается
уже у историков искусства, вышедших из школы Гегеля.
Некоторые из последователей великого идеалиста, как
Гото, сохранили скептическое отношение своего учителя к
искусству современных народов. Но уже в том, что
является для них классическим, видно, какие изменения
претерпела «система». Гото был энтузиастом
немецко-нидерландского искусства, и кто знает, не обязаны ли мы
восторженным отзывам о голландской живописи в «Эстетике»
того, чтобы заниматься «гимнастикой духа>, ей следовало бы давно
позабыть Демосфена и «противодействовать распространению
социалистических и коммунистических идей, как развитию
центробежных сил». Таков прославленный буржуазией принцип «реального»
образования. Впрочем, и защитники классической гимназии не
были даже филологическими республиканцами.
28
самого Гегеля редакционным вставкам Гото? Другой
историк гегелевской школы — Шназе — еще менее заражен
духом «системы». Он был одним из основателей «Союза
религиозного искусства v евангелической церкви» и,
углубляясь преимущественно в средине века, не отрицал и
положительных возможностей искусства в буржуазном
обществе х.
Руге, Розенкранц и Фр. Теод. Фишер внесли
аналогичные изменения в теоретическую эстетику. Они
реабилитировали те категории, которым Гегель, следуя традиции
Виикельмана, указал лишь подчиненное место в мире
искусства,— категории безобразного, комического,
обыденного. Теория «косвенного идеализирования», выдвинутая
•Фишером, призвана была доказать, что и самые частные,
самые мелкие и низменные сюжеты могут стать предметом
художественной идеализации sui generis. Либеральная
совесть Фишера побуждала его к борьбе за демократизацию
•сюжетов искусства, ß действительности этот переход от
великого, общего и типического к материалу обыденной
жизни означал конец героического периода буржуазной
демократии.
Главным недостатком взглядов Винкельмана Фишер
считал исключение момента индивидуальной жизни из самого
понятия типически прекрасного. В том же направлении
движется вся критика доктрины классицизма в литературе
XIX столетия. Уже первый историк эстетики в Германии—
Роберт Циммерман — вооружается против
«теологического» характера художественных требований Винкельмана.
Лотце говорит о порочном круге, которому подвержена,
с его точки зрения, эстетика «идеала»: греки восхваляются
как носители высшей красоты, красотой же именуется то,
что создано античным искусством. Убеждение в
превосходстве греческого типа формы над всеми остальными Лотце
называет «античным заблуждением Винкельмана»2.
1 Ср. Heinrich Gustav H о t h о, Geschichte der deutschen und
niederländischen Malerei, 1842 S. 1—23,346—348, 354; Karl
Schnaase,Niederländische Briefe, Stuttg. u. Tübineen, 1834. S. 54, 394—399 u. and.
2 Fr. Theod. VI s с h e г, Aesthetlk, Bd. II, S. 349; Rob.
Zimmermann Geschichte der Aesthetlk als philosophischer Wissenschaft, Wien,
1858, S. 316 u. a.; Lotze, Geschichte der Aesthetlk in Deutschland,
München. 1868, S. 18.
29
В сущности либерально-буржуазная теория эстетики
походит в своих открытиях из учений романтиков: их
принципа «терпимости» по отношению ко всем стилям и
формам искусства, идеи права индивидуальности, свободной
от узких «канонов» прекрасного, и, наконец, из их учения
о своеобразии христианско-германского искусства.
Типичный представитель классического немецкого либерализма
Геттнер видит в непонимании этого своеобразия основной
недостаток взглядов Винкельмана \ Гораздо большим
уважением немецкого либерального буржуа второй половины
XIX столетия пользовался Лессинг.
Несмотря на почтительные выражения, которые находит
для Винкельмана история литературы, он упоминается
в ней, вообще говоря, лишь как один из предшественников
Лессинга. В течение всего рассматриваемого периода дело
Винкельмана покрывается пылью забвения, и Меринг имел
основание еще в 1909 году сказать следующее2: «Между
великими писателями нашей классической эпохи никто не
приобрел себе европейского имени столь быстро и
неоспоримо, как Винкельман; однако никто из них не был и так
быстро забыт, как он. На нем не оправдалось выражение
что ломовые имеют много работы, когда короли строят;
его произведения еще ни разу не были просмотрены с
«филологической акрибией» и уснащены «научным аппаратом»:
книготорговое предпринимательство, которое в дешевых
изданиях выбрасывает на рынок всех возможных и
невозможных писателей нашей классической и романтической
поры, еще не овладело ими, только антикварным путем
еще можно отыскать их, да и то не без некоторого труда».
Занятое более неотложными делами, буржуазное
общество забыло своего «президента древностей». Винкельмана
сравнивали с Колумбом, и его судьба действительно
заставляет вспомнить великого мореплавателя. Земля, которую
он открыл, не была райским островом Зипангу, а всего
лишь обширным и богатым материком. Хищники и дельцы
1 «Очень многие язвы и блуждания позднейшего развития
искусства проистекают в конечном счете из этой односторонности
Винкельмана». Hettner, Geschichte der deutschen Literatur im XVIIÏ
Jahrhundert, 7 Aufl, Bd. I, 348 ff.
a Fr. Men ri η g, Gesammelte Schriften und Aufsätze. Soz.
Verlaganstalt, Berlin, 1929, Bd. I, S. 65.
30
быстро овладели новой землей и учредили на ней свои
губернаторства и фактории. Новый свет назван по имени
какого-то итальянца, и теперь каждый школьник знает,
как наивны были географические познания человека,
который открыл Америку.
V
Таким глубоким забвением своих заслуг перед
европейской культурой Винкельман обязан коренным переменам в
исторической роли буржуазного общества, одним из
предвестников которого он был в XVIII столетии.
Биограф Винкельмана Карл Юсти, человек, который сам
пережил эволюцию от свободолюбивых устремлений
немецкой буржуазии 40-х годов к идеалам империи
Бисмарка, делает следующее интересное признание: «Новейшее
искусство,— пишет он в своем известном сочинении
«Винкельман и его современники»,— пошло по совсем другому
пути, чем это кто-нибудь мог себе представить в
изображаемое у нас время. Будущее всегда было настолько гордо,
чтобы не высиживать те яйца, которые подкладывали ему
его авгуры; оно редко или даже никогда не производило
того, что было заранее рассчитано и наперед
предсказано. Внешняя жизнь обитателей этой планеты
пережила такой переворот, подобного которому нет в истории.
Человеческая природа, неизменная со времени начала
геологической эры, с некоторым трудом приспособляется
к этим обстоятельствам; уживется ли вообще, и какое
именно искусство уживется с этими обстоятельствами,—
это вопрос, еще не созревший для решения. Эра
технических неожиданностей, фотографии, всемирных
выставок и универсальных музеев с непреоборимой силой
повлекла его покуда за собой. Результатом является
хаос, но хаос, изменяющийся ежеминутно. Обманчивые
восстановления исследованных и нагроможденных один
на другой образов тысячелетий, как dissolving views,
со все возрастающей быстротой проносятся мимо;
все с радостью встречается, полуварварское и
окостеневшее, рафинированное и упадочное, только разумное и
прекрасное, как правило, находят мало уважения к себе.
Напротив, для укрепления расстроенных таким возбуждением
31
нервов рекомендуется грязевая ванна «зверства», в
качестве пути к «сверхчеловеку» будущего. В таких
условиях понятие красоты, господствовавшее в учении об
искусстве Винкельмана, единодушно изгнано учеными, и на
его место вступило искусное каталогизирование остатков
прошлого, к великой чести регистраторов» \
Большего осуждения всей эволюции художественной
мысли в XIX столетии трудно было бы ожидать от
буржуазного ученого. Юсти как бы предчувствует приближение
глубокого кризиса, охватившего несколькими
десятилетиями позже все области культуры и искусства буржуазного
общества. С этим кризисом связывает он падение
«разумного и прекрасного» эстетики Винкельмана. Что касается
презренного настоящего, то, как мы видели выше, у Юсти
нет недостатка в сильных выражениях по адресу эпигонов.
Но в этом презрении проглядывают уже некоторые новые
черты.
Все мыслители, сопровождавшие своей деятельностью
нарождение буржуазного строя в XVIII—XIX столетиях,
искали великих образцов искусства в прошлом и относились
к современности критически. Примером может служить
сам автор «Истории искусства древности». Не все эти люди
твердо верили в возможность нового осуществления
«разумного и прекрасного», или, по крайней мере,
оплакивали его неповторимость. У Юсти мы находим уже неясное
сознание того, что само «разумное и прекрасное»
оказывается как бы слишком узким для всей полноты новых
явлений, созданных веком «технических неожиданностей».
Сумеет ли «человеческая природа» приспособиться к этим
изменениям, или нет, но факт разрыва замкнутой
оболочки старой культуры остается. Так кризис нелепого и
безобразного становится кризисом самого «разумного и
прекрасного».
Картина мира радикально изменилась. «Золотой и
железный века давно уже прошли,— писал Маркс в
«Международном обозрении» 1850 года. — XIX столетию с его
наукой, с его мировым рынком и колоссальными
производительными силами суждено было создать
хлопчатобумажный век». Огромные успехи материальных производитель-
1 Justi, ibid., Ill, S. 224 f.
32
*1ых сил буржуазного общества перестроили мир с гораздо
большей решительностью, чем это могли сделать самые
революционные представители стоической
«гражданственности» 1789 —1793 гг. Объективная
революционность буржуазного общества сама по себе вела за пределы
той формы общественных отношений и соответствовавшего
ей умственного строя, с которыми буржуазия шла к власти.
Вот почему Маркс и Энгельс уже в середине XIX века,
в эпоху расцвета капитализма, постоянно говорили о
наступлении эры противоречия между производительными
силами и производственными отношениями. И было бы
неправильно думать, что основоположники марксизма ошибались,
поскольку капитализм просуществовал еще не одно
десятилетие. План Маркса состоял в освобождении
производительных сил от стесняющей их оболочки капитализма
посредством все большего углубления демократической
революции с социалистическим переворотом на горизонте. Но
буржуазия ответила на лозунг «Revolution in Permanenz!»
собственным вариантом развития, выдвинув свои формы
приспособления к изменившимся условиям, новые приемы
господства: необонапартизм во Франции, политику «крови
и железа» в Германии, призрак цезаризма во всей
Европе, как симптом начинающегося перехода буржуазии
ют идеалов свободы к идеалам насилия. Вопрос решался
борьбой главных классов, их умением повлечь за собой
союзников, и победа осталась на время за буржуазией.
Меняя свои идеалы, буржуазия прошла в XIX веке
полный курс древней истории — от чуть ли не
коммунистической Спарты до императорского Рима. Не доверяя
больше «греческой свободе», но опасаясь взглянуть в глаза
действительной тенденции развития, буржуазные писатели
постоянно видоизменяют свои античные аналогии. Они
колеблются между необходимостью расстаться с абстрактным
идеалом античной республики и желанием подчинить
старому кругу представлений, старой исторической морали
всю дерзкую новизну борьбы современных классов. Вот
почему в новейшей буржуазной литературе так много
«последних римлян» и вообще теоретиков общественного
круговорота.
Эта реформированная «догма классической древности»
имеет свою длинную историю. Вспомним хотя бы Бруно
3 М. Лифшиц 33
Бауэра, который уже в середине XIX столетия постоянно
твердил о наступлении эры цезаризма и неохристианства
(во главе с самим Бауэром в качестве нового Сенеки).
Подобные аналогии, от Бауэра до Шпенглера, способны
лишь затушевать специфически современную,
революционную обстановку, созданную развитием капиталистического
строя. Вот почему в предисловии к «18-му брюмера»
Маркс разоблачает «школьную фразу о так называемом
цезаризме». При всем своем глубоком преклонении перед
подлинной античностью Маркс и Энгельс были как нельзя
более далеки от всякого классического хлама, как в его
унаследованном от XVIII столетия, так и в обновленном
виде.
Основоположники марксизма обращались не к
прошлому, а к будущему.
Классовая борьба учит ограниченности формальной
демократии. Она развенчивает абстрактный идеал
буржуазной республики на античный лад. Вместе с этим идеалом
оканчивает свой век «разумное и прекрасное»
Винкельмана.
Падение культа античности означало выход
общественной мысли из рамок правовой и политической риторики
в область социальной жизни, классовых отношений,
действительных практических связей, соединяющих членов
общества крепче всякого «социального контракта».
«Старый материализм,—писал Маркс,—стоял на точке зрения
гражданского общества, новый материализм стоит на точке
зрения человеческого общества». Но для этого ему нужен
и новый исторический материал. Двигаясь постоянно
вперед, общество черпает все более и более глубоко из
источника древности. Мир азиатских народов (о которых Вин-
кельман мог сказать только то, что они отличались
«меланхолическим характером»), индусская община,
германская марка, родовой быт, первобытный коммунизм —
вот новые исторические горизонты, установленные новой
эпохой.
В конце XIX столетия жизнь разыгрывалась на гораздо
более широкой сцене, чем во времена Винкельмана. Что
такое история обеих Индий, странствования Робинзона
и вся литература путешествий, включая и путешествие*
Кандида в Эльдорадо, рядом с кругозором мирового рын-
34
ка! Пролагая себе дорогу посредством пушечных выстрелов
и дешевых цен, капитал ведет за собой археологию и
историю искусства. Развитие этих наук в XIX—XX столетиях—
это настоящий каталог колониальных захватов. Винкель-
ман знал лишь несколько оригинальных произведений
греческого искусства поздней эпохи (как «Лаокоон», «Фарнез-
ский бык»). Все остальное составляли римские копии.
Даже фигуры афинского Парфенона не были еще ему
известны. Они стали предметом ближайшего изучения
лишь благодаря хищническому хозяйничанию британского
посла при Высокой Порте — шотландца Эльгина (или
Эльджина), который в 1803—1812 гг. перевез их в Лондон.
По этому поводу говорили: quod non fecerunt gothi,
fecerunt scoti (чего не сделали готы, сделали шотландцы).
Без проникновения английского капитала в недра
Оттоманской империи были вообще невозможны все открытия
в Малой Азии и на островах, так же точно, как
экспедиция Перро и раскопки Шлимана — без конкуренции
французов и немцев. Дальнейшее расширение мирового
хозяйства ввело в обращение памятники древних культур
Центральной Америки, Китая, японское искусство, персидскую
живопись, архитектуру Индии. На горизонте виднелась
уже эпоха сказочного успеха негритянской пластики.
Понятие красоты, которым обладала «научная система»
Винкельмана, оказалось слишком узким для того, чтобы
вместить в себя все это разнообразие.
Мышление Винкельмана и его эпохи было еще слишком
прямолинейным и метафизическим. Во всех областях
культуры оно знало лишь правильные формы (большей частью
лишь условно, правильные). Какими абстрактными кажутся
греческая ученость Винкельмана и школьная латынь его
современников рядом с успехами сравнительного
языкознания! В области исторических наук так же, как и
в науке о природе, XIX век принес множество открытий
из мира переходных форм и гибридных сочетаний. В свете
этих открытий самая «правильность» перестала быть чем-
то безусловным. Она обнаружила свои исторически
изменчивые границы. Так во всех областях знания созревали
условия для победы диалектического метода, подобно тому
как в практической жизни приближалось время
пролетарской демократии
з* 35
Развитие борьбы угнетенных классов против
аристократии капитала означало выход к историческому действию
миллионных масс, остававшихся раньше вдали от всякой
культуры. Могла ли «классическая» ученость Винкель-
мана, рассчитанная на узкий слой мыслителей XVIII века,
страшно далеких от народа, при всей своей глубокой
к нему симпатии, соответствовать новым задачам? Для
того, чтобы сохранить свою ценность, революционная
традиция XVIII века должна была пройти через опыт
классовой борьбы пролетариата, который
представлял для нее гораздо более строгое испытание, чем
буржуазная французская революция. Все элементы
безжизненной отвлеченности, свойственные начальному этапу
революционного движения, отразившиеся в мышлении Вин-
кельмана, должны были отойти в прошлое. Без этого
классический дух революционной гражданственности
превращался в либеральный гуманизм, широковещательный
по форме, но все более реакционный по существу.
То понимание античности, которое мы находим у
Маркса, представляет собой критическую переработку
традиции Винкельмана—Гете на основании опыта
классовой борьбы XIX века. Мало кому известно, что в
молодости Маркс не только внимательно читал и
конспектировал «Историю искусства древности», но вообще
находился под непосредственным влиянием ее идей. Уже в
диссертации об Эпикуре сказывается влияние этой книги,
которую Маркс изучал еще в 1837 г. Но вместе с
переходом к коммунизму Маркс должен был пересмотреть
свое прежнее понимание античности. Уже в «Святом
семействе» он критикует всякие попытки навязать
буржуазному обществу, «обществу промышленности, всеобщей
конкуренции, свободно преследующих свои цели частных
интересов», какое-нибудь подобие античного политического
устройства. Он устанавливает существенную разницу между
древним «реалистически-демократическим общественным
порядком», основанным на прямом отношении господства
и рабства, и «новейшим
спиритуалистически-демократическим представительным государством, которое покоится
на эмансипированном рабстве» г-
1 Собр. соч., т. III, стп. 1F0.
36
В древнем мире еще сохранились элементы
самодеятельной организации народа, смутно понятые Винкельманом
в образе «греческой свободы». Эти элементы отличают
древнюю политическую организацию (в классические
периоды ее развития) от колоссальной, оторванной от народа
бюрократической государственной машины, созданной
буржуазным обществом в течение XVII—XIX столетий. Но
«греческая свобода» коренилась в неразвитости всей
общественной обстановки, и прежде всего в том, что
абстрактная свобода атома-гражданина еще находила свои
естественные границы в остатках племенного быта. Греки были
«нормальными детьми»,— писал Маркс впоследствии.
«Греческая свобода», эта практическая основа
«греческой гармонии», отнюдь не была свободой атома в пустом
пространстве. Она сама покоилась на определенной
примитивной форме классовых отношений — отношений
рабства. Только благодаря этому она могла содержать
«реалистически-демократические» элементы для самого
народа рабовладельцев. В этом ее отличие от
«спиритуалистической», т. е. отвлеченной и недействительной, несмотря
на свою ложную всеобщность, свободы гражданина
буржуазной демократии. Винкельман и его современники знали
в сущности лишь позднюю античность и черпали свой
энтузиазм по отношению к деятельной свободе частного
лица и атараксии политического гражданина из литературы
эпохи разложения древности — у стоиков и эпикурейцев.
Подлинный «реалистически-демократический» характер
греческой общинной жизни был раскрыт лишь впоследствии,
когда на горизонте уже показалась новая, более глубокая
форма современной, т. е. пролетарской, демократии.
Именно этот, если можно так выразиться,
демократический реализм древнего общества Маркс и
Энгельс всегда противопоставляли идеалистическому пафосу
буржуазной демократии и реалистическому хамству
общества «выдающихся колбасников» и «влиятельных
торговцев ваксой».
VI
Но опыт классовой борьбы XIX века не прошел даром
и для буржуазии. Развитие освободительного движения
37
пролетариата накладывает свой отпечаток на всю область
идеологии имущих классов. Не только народные массы, но
и представители господствующих верхов испытывают
известное разочарование в традициях буржуазной
демократии. Отсюда кризис идеалов в буржуазной
литературе второго периода.
Одним из первых симптомов превращения буржуазии в
класс реакционный является, как мы знаем, стремление ее
литературных представителей критически пересмотреть
наследство революционной эпохи. Официальная литература
второго периода старательно сглаживает острые углы,
которых в «наследстве» было немало. Она пытается смягчить
остроту надвигающихся конфликтов путем электрического
примирения всех прежних течений общественной мысли
в едином пантеоне «культуры».
Однако принципом умеренности далеко не исчерпывается
идейное оружие реакции. Революция сплачивает
враждебные ей силы сопротивления. Наиболее дальновидные
буржуазные идеологи конца XIX столетия поднимаются уже
до некоторой профессиональной
контрреволюции.
Отсюда проповедь «воли к мощи», идеалов насилия,
принципиального аристократизма в стиле Ренана или
Ницше. Платформа буржуазной демократии оказывается
слишком узкой даже для оборонительных операций
буржуазных классов. И вот появляется критика либерально-
гуманистической фразы, исходящая из рядов самой
буржуазии. Красный отблеск революции падает на все поведение
и мышление защитников старого порядка и заставляет их
со своей стороны провозглашать «переоценку всех
ценностей».
Новую форму защиты классового господства имущих не
следует смешивать с консерватизмом обычного типа. Это
реакция под маской революции. Новые сверхреакционные
идеалы прокладывают себе дорогу не без сопротивления со
стороны буржуазных идеологов старой школы. Люди,
подобные Ницше, выступают в качестве «революционеров
в мышлении», и вокруг них создается даже некоторый
ореол мученичества. В этой борьбе направлений внутри
самой буржуазии нет ничего удивительного. «Классовое
деление,— писал Ленин,— является, конечно, самым глубо-
38
ким основанием политической группировки; оно в
последнем счете всегда определяет, конечно, эту
группировку. Но это глубокое основание вскрывается лишь по
мере хода исторического развития и по мере
сознательности участников и творцов этого развития. Этот
«последний счет» подводится лишь политической борьбой,—
иногда результатом долгой, упорной, годами и
десятилетиями измеряемой борьбы, то проявляющейся бурно в
разных политических кризисах, то замирающей и как бы
останавливающейся на время. Недаром, например, в
Германии, где особенно острые формы принимает политическая
борьба и где особенно сознательно выступает передовой
класс — пролетариат, существуют все еще такие партии
(и могучие партии), как центр, прикрывающий
вероисповедным отличительным признаком свое разнородное (а в общем
безусловно антипролетарское) классовое содержание» \
Нечто подобное мы видим и в нашем случае. Шумные
протесты против мещанской морали, скучной науки и рас«
слабленного искусства, исходившие из круга Ницше,
были революционны лишь по внешней видимости. Общий
ход политической борьбы в конце XIX и начале XX
столетия сделал философию Ницше тем резервуаром, из
которого постоянно черпали литературные приказчики
империализма. Ценность этой философии для современной
буржуазии состоит именно в радикальной маскировке самых
варварски-реакционных идей. Практическим опытом
подобной маскировки в больших масштабах является
современный фашизм. Даже в мелких демагогических жестах так
называемой «национальной революции» Гитлера, как,
например, в объявлении Первого мая национальным
праздником или в фашистском использовании революционных
гимнов, повторяется та же логика.
Процесс освобождения буржуазии от ее же собственных
«идеалов» и «догм» хорошо известен нам по некоторым
русским явлениям (знаменитый сборник «Вехи» и т. п.).
В европейской литературе этот процесс нарастает
уже начиная с 1848 года. Раскаиваясь в своей
прежней демократической фразеологии, буржуазия публично
1 Ленин, Залячи революционной молодежи. Сбор, соч., т. V,
изд. 3, стр. 355-356.
39
порывает с рационализмом, безбожием, критикой
общественного неравенства и тому подобными элементами
идеологии эпохи освободительной борьбы. Но при этом
самооплевывании буржуа-литератор высказывает немало
горьких истин по поводу узости своего собственого строя,
ограниченности морального мира «честных людей»,
прозаической размеренности буржуазной жизни.
Саморазоблачение объективного лицемерия буржуазной демократии
ставит перед (общественной наукой задачу выйти из
пределов старого умственного строя·.
Привязанность к интересам «собственности и порядка» заставляет
ее оставаться в е г о пределах. Равнодействующей этих
двух тенденций является модернизованная форма реакции
в науке — необычайно радикальная по внешности, вплоть,
до издевательства над узкобуржуазным кругозором эпохи
Просвещения, и тем более консервативная по существу.
В этом содержится ответ на вопрос о так называемом
прогрессе исторической науки в тот период, когда
буржуазия уже повернула к реакции. Само собой разумеется,
что Гиббон или Винкельман были бы невозможны рядом
с национал-либерализмом второй половины XIX столетия.
Но зато Момзен или Буркгардт гораздо богаче историков-
просветителей опытом своего класса. Именно поэтому
писателям новой формации удалось подметить некоторые
действительно слабые места всей прежней
историографии.
У историков эпохи революционного подъема третьего
сословия можно встретить гениальные прозрения в область
имущественных отношений и борьбы реальных сил
прошлого. Но все это подчинено у них общим задачам морали:
Исторические факты служат только фундаментом для
поучения. В этом сказывается1 неизбежная двойственность
даже лучших традиций буржуазной общественной мысли: с
одной стороны, тесная связь истории с жизнью, в отличие
от архивной и кабинетной затхлости последующей науки,
с другой стороны, ограниченный кругозор абстрактной
морали, подчинение самой политики задачам нравственного
улучшения.
В противоположность прежней исторической литературе1
буржуазная наука второй половины XIX века уже не
стремилась возбуждать гражданские чувства. Совершенно
напротив, она сделала себе профессию из развенчивания;
40
героев Плутарха. И ей удалось показать, что все это были
люди, которым ничто человеческое не было чуждо. Новая
историческая наука стала уделять гораздо больше
внимания таким областям жизни древних народов, которые
прежде оставались в тени: их экономической истории,
закулисной политической борьбе, бюджету афинян и
хлебному импорту Рима. При этом было открыто немало
подробностей, касающихся прозаического частного быта
греков и римлян, и развенчано немало наивных представлений.
Под влиянием более зрелой обстановки классовой борьбы
ученые начинают находить столкновения интересов там,
где прежде видели одну лишь гармонию. Буржуазная
историческая наука делает некоторые -заимствования из
учения Маркса, хотя все ее развитие протекает в
противоположном направлении. Главной движущей пружиной всех
ее исканий, подлинным источником всех ее, иногда очень
существенных, открытий является стремление
опровергнуть демократическую риторику ученых прежнего типа.
Еще в настоящее время пишется немало специальных
исследований для того, чтобы доказать, что в истории
никогда не существовало тех счастливых и добродетельных
народов, которые, в отличие от своих испорченных
цивилизацией потомков, культивировали демократическую
общинную жизнь или даже уравнительный коммунизм. Такова
внутренняя логика, проникающая собой все развитие
буржуазной исторической науки последнего пятидесятилетия
и заставляющая ее передвигаться все дальше и дальше
в сторону реакции по мере раскрытия ограниченности
старой научной традиции.
Современные защитники фашизма в литературе охотно
противопоставляют свою позицию «либерализму и
позитивизму» XIX столетия. Они говорят о колоссальных
переворотах во всей области культуры, совершонных якобы
основоположниками «Третьей империи». В
действительности «перевороты» этого типа, свидетельствующие о·
смене вех в теории и политике правящих классов,—
отнюдь не новость. Идеология фашистской реакции была
подготовлена всем развитием либерально-буржуазной
мысли прошлого столетия. Мы сейчас увидим, что изменение
взглядов на античный мир в литературе второго
периода явилось одним из элементов этой подготовки.
41
Уже либеральный Дройзен переносит центр тяжести на
период поздней греческой истории, как бы подчеркивая
этим, что зрелое буржуазное общество находит свой
образец не в демократических Афинах V века, а в
монархической Греции эпохи, эллинизма. Винкельман рассматривал
еще эту эпоху как время испорченности нравов и
падения искусства, перемежающееся с небольшими периодами
подъема, которые связаны у него всякий раз с
временным возвращением свободы и мира. Подобная точка
зрения была для историков нового типа слишком
«гуманистичной».
«Римская история» Момзена (1854—1856 гг.) написана
в виде прямой антитезы к исторической литературе
XVIII века с ее излюбленными фразами о гибельности
властолюбия. Цезаристские идеи Момзена1 имели большое
значение в процессе перерождения демократической
буржуазной мысли. В его прославлении сильной личности,
соединяющей свои особые интересы с пафосом
государственной необходимости, уже содержатся частицы той
«монументальной . истории», которую позднее требовал Ницше.
Величие и преступление, политический разум и
беспощадная жестокость, твердость характера и презрение к
моральным предрассудкам средних людей — вот те новые
сочетания личных качеств, которые свойственны героям
этой «монументальной истории». Писатели XVIII века
рисовали или идеальных благодетелей человеческого рода,
как Ликург, или мрачных злодеев, как Нерон и Клавдий.
Историки эпохи зрелого капитализма пытаются выйти из
этой моральной противоположности добра и зла. Они
изображают демонических личностей,
полубогов-полуживотных, стоящих частью выше, частью ниже «человека»,—
«гражданина» старой историографии. Их герои жертвуют
собой не из самоотречения, а повинуясь велениям своей
иррациональной творческой воли. Они совершают
преступления не из эгоизма, а из бескорыстного проявления силы.
1 Впрочем, у самого Момзена еще наблюдается некоторая
двойственность. В отношении общечеловеческих идеалов он
сохраняет значение греческой культуры, но касаясь самостоятельного
национального развития Германии—указывает на римский
образец.
42
Это люди, в которых самые низменные инстинкты
мистически соединяются с высшей чистотой и героизмом, самая
чудовищная энергия — с пластическим спокойствием,
лукавство хищного зверя — с наивностью ребенка. Словом,
это герои типа Чезаре Борджиа. Греческая тирания,
римский цезаризм, мелкие династии итальянского
Возрождения дают обширный материал для исторических эскизов
этого типа.
Мы видим таким образом, что угол зрения буржуазной
исторической науки между Винкельманом и Буркгардтом
радикально изменился. Если Винкельман был основателем
немецкого гуманизма эпохи подъема буржуазной
демократии, то позднейшие писатели склоняются все более
и более к противоположному,
антигуманистическому направлению. Там свобода и мир в качестве
идеального исторического ландшафта, здесь — постоянное
искание власти и гераклитовское становление, в котором
«все рождается из войны».
Само собою разумеется, что писатели XVIII века, в том
•числе и сам Винкельман, также знали о существовании
драматических коллизий жизни. Но они сводили все
многообразие исторической борьбы к вечной,
антропологической противоположности между эгоизмом
отдельного индивида и требованиями гражданского долга. Их
идеал был заложен где-то в «среднем состоянии» между
перевесом страстей и чрезмерной суровостью
общественной дисциплины. Опыт классовой борьбы XIX века показал
ограниченность абстрактной противоположности
«индивидуального» и «всеобщего». Личные отношения перерастают
в отношения классовые, и в ходе классовой борьбы
отдельная индивидуальность поднимается до политического
действия, свободного от мелких личных расчетов. В этом —
практическое преодоление противоположности между
эгоизмом и бескорыстием.
Новое у писателей антигуманистического направления
состояло в стремлении выйти из пределов
буржуазно-демократической идеологии. Но их колоссальный недостаток
заключался в том, что они только выворачивали ее
антитезы наизнанку, оставаясь целиком в их собственных
пределах. Так, например, отказываясь от морального
осуждения насилия, они переходили к эстетическому любова-
43
нию повадками хищного зверя. Не умея и не желая принять
историческую теорию развития классовой борьбы Маркса,
представители буржуазной науки новой формации были
вынуждены заменить ее реакционной карикатурой. Так
возникла идея применения дарвиновской, зоологической
борьбы за существование к общественным явлениям,
тесно связанная с пропагандой империалистических
планов. Отсюда также—идея воинственного антагонизма
эгоистических общественных групп («социология»),
возрождение старой теории завоевания и, наконец, в качестве
наиболее распространенного продукта — теория изначальной
противоположности рас. Тот же самый опыт классовой
борьбы, который побуждает буржуазную науку
развенчивать идиллические социальные картины прежних писателей,
ставит ее историческому реализму узкие границы
и подталкивает ее к мистическому истолкованию
общественных противоречий.
Действительное преодоление моральной ограниченности
писателей эпохи Просвещения недоступно и более поздним
представителям буржуазной науки. Самое большое, что им
удается, это поставить на место обычной честной
буржуазной морали вывернутую наизнанку мораль
имморализма. Вместо примата общественной добродетели мы
видим апофеоз преступления, совершаемого по велениям
высшей благодати, «из превосходства». В центре внимания
стоит уже не моральный субъект, предрешающий свои
поступки на основании взвешивания прав и обязанностей,
а мистическая индивидуальность, которой все позволено,
ибо она отмечена высшим критерием происхождения или*
силы. Уже со второй половины XIX века развитие
исторической науки приняло то «дионисическое» направление,
которое на практике означало воспевание какого-нибудь
стоящего по ту сторону добра и зла «картечного принца»
из семейства Гогенцоллернов.
Но действительными основоположниками этой
сверхантропологии являются три выдающихся писателя
конца столетия, которым суждено было оказать огромное
влияние на все последующее развитие буржуазной
общественной мысли. Это — Якоб Буркгардт, Фридрих Ницше*
и Хаустон-Стюарт Чемберлен.
Один из современных немецких историков искусства·
44
сравнивает Буркгардта с Винкельманом по тому влиянию,
которое оба они оказывали на умы следующих поколений.
Влияние это было действительно велико. Но в обоих
случаях оно имело прямо противоположное направление. Вин-
кельман видел в развитии искусства цвет счастливой
народной жизни. Прекрасная индивидуальность для него
только в том случае прекрасна, если в ней отражается
общий тип физически и духовно развитого человека.
Взгляды и суждения Буркгардта носили на себе совсем другой
отпечаток. В его лице перед нами буржуазный аристократ,
отстаивающий права меньшинства и презирающий
массовое движение своей эпохи. «Я не хочу иметь семьи в это
подлое время,— писал он еще в 1847 году Готфриду
Кинкелю— Я не хочу, чтобы какой-нибудь пролетарий поучал
моих детей уму-разуму». Насколько литературная позиция
Буркгардта уже предваряет все последующие выдумки
реакции, с ее фразой о борьбе против «Ротшильда и
Маркса» в одно и то же время, показывают следующие слова
прославленного историка : «Когда-нибудь отвратительный
капитализм и жадные стремления снизу разнесут друг
друга в щепы, как два скорых поезда на одной и той же
колее» \
Имя Буркгардта связано главным образом с его
занятиями Италией эпохи Возрождения. В портретах
исторических деятелей этой эпохи он по-своему продолжал
линию Стендаля и Мериме. Но Буркгардт известен также
своими лекциями по истории греческой культуры,
читанными в 80-х годах прошлого столетия.
Именно здесь новое истолкование истории античной
культуры выступает в яркой противоположности ко всему
старому гуманистическому взгляду Винкельмана—
Шиллера — Гете.
Что такое Греция для Винкельмана? Это страна нормы
и типа. Здесь все хорошо и умеренно, все имеет
общезначимый характер. Это средоточие всех
положительных сторон человеческого мира, «среда вечных истин»,
как сказал бы Лейбниц. В греческом обществе Винк&льман
видел образец гармонического единства индивидуальной и
1 Wilhelm W а е t ζ о 1 d t, Deutsche Kunsthistoriker, Bd. II, Lpz., 1924,
S. 173-175.
45
общественной жизни. Греки были правдивы и человечны,
они мало заботились о потустороннем мире, но зато их
земная жизнь была радостна и прекрасна.
Трудно представить себе, насколько противоположна
всей этой картине тенденция Буркгардта. В греческом
мире он видит скорее средоточие всех
отрицательно-человеческих черт, всего ненормального и трагического.
Именно это придает ему в глазах Буркгардта особую
привлекательность для современного человека. Показать, что
идеал добродетельной Греции покоился на сведениях,
почерпнутых из поучительной беллетристики некоторых
античных моралистов, было нетрудно. Теперь у греческих
писателей берутся все те рассказы, из которых можно
заключить о необычайной жестокости древних эллинов,
о глубоких трагических конфликтах их общественной
жизни, жадной борьбе 5а власть, склонности ко лжи,
пессимизме их религиозных верований.
«В отношении греков,— говорит Буркгардт,— все
казалось ясным со времен великого подъема немецкого
гуманизма в прошлом столетии: в отражении их воинственного
героизма и гражданственности, их искусства и поэзии, их
прекрасной страны и климата их оценивали как
счастливых, и стихотворение Шиллера «Боги Греции» охватывало
все это предполагаемое состояние в единой картине,
волшебное действие которой еще и по сей день не потеряло
своей силы.
Полагали, по меньшей мере, что афиняне времен Пери-
кла должны были жить годами в состоянии блаженства.
Одна из величайших фальсификаций исторической оценки,
которая когда-либо существовала, тем более подкупающая,
что она выступала с величайшей наивностью и
убеждением»1.
Эти новаторские идеи Буркгардта оказали большое
влияние на развитие взглядов Ницше. Основные положения
«трагического» истолкования античности выступают у
последнего уже в гораздо более отчетливой и обобщенной
форме. «Ницше чрезвычайно далек от винкельмановского
представления о «благородной простоте и спокойном вели-
1 Jakob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, 3 Aufl., Bd. II,
S. 373.
45
чии» древности1. Среди заметок Ницше, относящихся к
весне 1870 года, мы находим следующий набросок
программы: «Эллинство есть единственная форма, в которой может
протекать жизнь: ужасное под маркой красоты.
Полемическая сторона: против новогреческого умонастроения
(Ренессанс, Гете, Гегель и др.). «Эллинское» со времен
Винжельмана: сильнейшая вульгаризация. Затем христианско-
германское чванство воображать себя вышедшим из этого.
Имели перед собой картину римски-универсального
эллинизма, александринизма. Красота и банальность в союзе,
и естественно. Скандальная теория! Иудея»2.
«Либерально-иудейско-марксистская» теория
классической древности,— как сказал бы Ницше, если бы он
писал в наше время. Греческая ясность была идеалом
сторонников этой «скандальной теории». «Греки,— пишет
Ницше,— жили в сумеречной атмосфере мифического».
Греческий оптимизм привлекал писателей
гуманистического направления. Ницше, напротив, приписывает
древним «пессимизм силы». Впрочем, грек не был ни
пессимистом, ни оптимистом. «Он по существу был мужем».
Что касается' прославленной Винкельманом и Гете
греческой человечности, то все это, по мнению
Ницше, пустая выдумка, либерально-филантропическая
болтовня. «Гетевское эллинство,— писал Ницше,— было, во-
первых, исторически фальшиво и затем слишком мягко и
немужественно». Греки вовсе не были гуманным народом.
Наоборот, у них часто встречалась дьявольская жесткость,
перед которой могли бы содрогнуться сами варвары. Их
культура была культурой узкого слоя господ, стоящих над
массой вьючных животных. Их аристократ по отношению
к остальных людям «ничем не лучше выпущенного на волю
хищного зверя». «Как можно только находить древних
гуманными!» Античный мир вовсе не был царством мира и
свободы. «Греческий полис,— говорит Ницше,— возникает
из смертельной вражды... «Эллинское» и
«филантропическое» были противоположностью, хотя греки достаточно
льстили себе». Они обладали «сильнейшими инстинктами»,
1 С. S tempf linge г u." H. Lamer, Deutschtum und Antike in
ihrer Verknüpfung, Lpz. -Berlin, 1920, S. 115.
2 Fr. Nietzsche, Gesammelte Werke, Musarionsausgabe, Bd. III,
S. 213.
47
настоящей «волей к мощи», и само «сострадание»
относилось у них к временным, болезненным аффектам \
Эта хищная раса «господ» совсем не похожа на тот
гармоничный и свободный народ, который рисовали Вин-
кельман и Гете. Как изменились духовные интересы
буржуазии за какие-нибудь пятьдесят — сто лет, отделяющих
эпоху немецкого гуманизма от времени Буркгардта —
Ницше! «Унюхивать в греках «прекрасные души»,
«золотые середины» и другие совершенства,— писал Ницше
в «Сумерках божков»,—видеть у них спокойствие в
величии, идеальное устремление, высокую простоту,— от этой
«высокой простоты», некоей niaiserie allemande, я был, по
счастью, защищен, благодаря психологу, которого я носил
в себе»2. Все это — запоздалая полемика с теорией
греческого искусства Винкельмана.
«Какая своеобразная ограниченность,—говорит третий
апостол буржуазной реакции, Чемберлен,—лежит в основе
вредной теории мнимого классицизма, можно видеть на
примере великого Винкельмана, о котором Гете сообщает,
что он не только не обладал пониманием поэзии, но
вообще относился к ней с отвращением, в том числе и к
поэзии греческой; даже Гомер и Эсхил были для него ценны
разве лишь как комментаторы к его любимым статуям...
Мы стоим здесь, у этой догмы классического искусства,
перед патологическим феноменом, и мы должны
радоваться, когда здоровый, великолепный Гете, с одной
стороны, делает уступки больной классической реакции,
с другой стороны, дает натуралистические советы» 3.
Итак, догма классического искусства с ее «золотой
серединой» и другими совершенствами представляет собой
банальное порождение гуманистического века. Fe выдумали
1 Fr. Nietzsche, Gesammelte Werke, Bd. И, S. 369, Bd. Ill,
S. 212 u. a; Bd. vi. S. 340; Bd. VII, S. 145 190—191; Bd. XV, S. 300 u a.
2 Fr. Nietzsche, Gesammelte Werke, Bd. XVII, S 155.
8 Houston Stewart Chamberlain, Die Grundlagen des XIX
Jahrhunderts, 2. Hälfte. Hauptwerke. Bd. Ill, München, 1923, S. 1105. Гете,
однако замечает, что, несмотря на свое равнодушие к поэзии, Вин-
кельман сам был по натуре поэтом (о чем тенденциозно
умалчивает Чемберлен). Еще г-жа де Сталь утверждала, что идеи
Винкельмана в самой Германии оказали большое влияние на
литературу, чем на изобразительное искусство.
48
школьные филологи и академические учителя искусства.
Она является, как утверждают буржуазные писатели
новою направления, признаком болезненного аскетизма
европейского общества и его столь же болезненной
чувствительности.
Сильные натуры выходят из этой тепличной атмосферы
и вместе с рационалистической умеренностью и
бесцветным прекраснодушием покидают и болезненную
привязанность к «любимым статуям» Винкельмана.
В этой критике банальности классического идеала
повторяется реакционное восстание буржуа против его
же собственных традиций, о котором мы говорили выше.
Нет никакого сомнения в том, что популярное в среде
образованного мещанства XIX столетия салонно-классиче-
ское представление о красоте было внутренно мертвым
продуктом перерождения. Но критика догмы классического
совершенства у писателей типа Ницше или Чемберлена
представляла собой двойную пошлость. Эта критика была
направлена против демократического содержания
«догмы», от которого в популярном художественном
воззрении буржуа XIX века и без того оставалось уже очень
мало. Вот откуда презрительное третирование niaiserie
allemande «какого-нибудь Винкельмана».
Вполне естественно, что писатели-реакционеры
обращались против тех сторон действительного греческого
общества, в которых люди, подобные Винкельману, видели
историческое подтверждение своих идеалов. Как бы ни
была наивна вера в безоблачную гармонию греческой
жизни, афинская демократия все же существовала. Но для
Ницше она представляла собой опошление подлинной
античности. В Греции, начиная с эпохи Сократа, он
усматривал как бы прообраз XIX столетия с его массовым
движением, денежными выскочками и демосом, уничтожением
сословных границ, распространением дешевого образования
и дешевой роскоши. Греческая «цивилизация» породила
своих просветителей и моралистов, которые отнюдь не
пользовались симпатиями Ницше.
В личности Сократа он видел первого гуманиста и
предвестника победы современного «еврейства» над
старым аристократическим строем. «Трагическая Греция»
времен Гераклита — вот тот период, который Ницше про-
4 М. Лифшиц 49
■тивопоставляет позднейшей рационалистической эпохе.
Эта последняя вместе с победами демократии принесла
расцвет пластического искусства и повышение социальной
роли художников-демиургов. Общественная среда
изобразительных искусств была гораздо более демократична, чем
истоки греческой поэзии, тесно связанной с героикой
тяжеловооруженной пехоты. Вот почему Ницше привлекала
именно эта досократовская и дофидиевская Греция; период,
когда еще не сложилась индивидуальная мораль, когда
«канон» еще не отграничивал пластических форм
человеческого тела от бурного дионисического бытия всей
остальной природа, В распадении первоначальной
субстанции на атомы, эти гордые маленькие тельца, полные
«благородной простоты и спокойного величия», Ницше видел
победу аполлоновского начала, начала отдельности.
В этой критике «аполлоновского начала» выражалась
оппозиция писателя-реакционера по отношению к
буржуазной демократии. Мораль Сократа и эстетика
совершенной формы были лишь аллегорическими понятиями, в
которых воплощались для Ницше идеалы его
предшественников. Движимый верным классовым чутьем, он прокладывал
новые пути буржуазной общественной мысли в
направлении, прямо противоположном тому, которое она имела в
эпоху Винкельмана.
Фридрих Ницше был лишь самой яркой вечерней
звездой буржуазной культуры. В том же духе писали о Греции
критик Ницше—Виламовиц и друг философа—Эрвин
Родэ \ «Греческие мыслители» Гомперца в меньшей мере
принадлежат этому направлению, но, несомненно, также
содействовали победе образа досократовской древности.
Многочисленные открытия в области изобразительных
искусств архаической и поздней Греции со своей стороны
способствовали падению культа совершенной античной
формы. «Повсюду в истории греков и римлян на место
идеала, в который веровали раньше, стала земная
действительность, где все шло в духе человеческом, иногда слиш-
1 Виламовиц обращается протиз «грецизирующего классицизма^
этого «порождения рщионализма и просвещения»(«ОпесЫзспе
Tragödien». 19J(X Bd. II, S. 27) Эрвин Родз в своем известном сочинении
о греческой религии («Psyche») зан-»τ опровержением старого
представления о светлом, посюстороннем язычестве.
50
ком человеческом» \ Папирусы и надписи раскрыли
множество подробностей экономической жизни античного
общества и обнаружили далеко не «классическую» жажду
обогащения древних наживал. В исторической науке
вошла в моду фраза об античном капитализме. Ученые, как
Эдуард Мейер, говорят о настоящих фабриках
древности, на которых работали, по их подсчетам, целые толпы
рабов. Уже было недалеко то время, когда в катапультах
и баллистах древних открыли тяжелую артиллерию
античных армий, а в боевой машине царя Деметрия — нечто
подобное современному танку.
Это стремление обнаружить симптомы современных
противоречий в древности было своеобразной попыткой
оправдания капитализма. Вопреки энтузиазму демократов
XVIII столетия, как Винкельман, «золотого века» никогда
не существовало — вот что стремится показать
историческая наука эпохи отрезвления буржуазии. В этом смысле
особенно характерно известное сочинение об антично?л
социализме Пельмана. Скрытая цель этой книги состоит в
доказательстве того, что сказки о полу коммунистическом
«добром старом времени» во все времена рождались в
головах способных демагогов и публицистов (как Дикеарх
или Руссо).
Так окончило свое существование то старомодное
представление о греческом мире, которое населяло его
добродетельными гипсовыми героями. «Если бы мы поверили
этому восприятию греков, то, очевидно, главное занятие
греков и римлян состояло в том, чтобы прилежно читать
Винкельмана, точно так же, как дети природы Руссо, без
сомнения досконально знали «Общественный договор»2.
Во времена Винкельмана еще полагали, что греки
никогда не раскрашивали своих статуй. Это оказалось
ошибкой, но ошибкой не менее закономерной, чем неправильное
истолкование Аристотеля теоретиками классической
трагедии. Люди эпохи Просвещения рисовали своих треков
самыми общими и отвлеченными линиями. Сила абстракции
как бы символизировала для них нормальный характер
1 Р. С а и е г, Das Altertum im Leben der Gegenwart, 2. Auf!. Lpz. —
Berlin, 1915, S. 3.
2 Egon Fried eil, Kulturgeschichte der Neuzeit, München, 1928,
Bd. II, S. 378.
4*
51
греческого образца. Бесцветность пластических богов и
героев свидетельствовала об их нравственной чистоте, не
запятнанной никаким соприкосновением с соблазнительной
красочностью порока.
Историческая наука эпохи зрелости капитализма уже
не изображала греков и римлян в виде ахромических
моральных статуй. Она готова была скорее раскрашивать их
подобно индейцам перед битвой. Древние эллины предстали
перед европейским миром как лукавый, хищный народец,
любящий грабеж и наживу, трезвый и расчетливый в
практических делах, романтически надломленный в своих
религиозных и художественных устремлениях. Все последующие
открытия в области античного барокко, эллинистического
импрессионизма и экспрессионизма только прибавили
новые штрихи к этой, однажды изменившейся картине
греческой жизни. «Это уже не был праздничный день, это не
был народ благородной простоты и
спокойного величия. Здесь вставали перед нами его серые
будни, бесчисленные документы его «слишком
человеческого» \
Таким образом, старое теоретическое представление о
вершине классического совершенства, возвышающейся над
неразвитостью и упадком, было разбито. Продуктом его
разложения явился всеобщий релятивизм норм и
оценок. Глубокая архаика и «золотая осень» искусства стоят
теперь в центре внимания исследователей. Они старательно
реабилитируют все те эпохи, которые прежние историки
отбрасывали, как времена грубости или испорченности
вкуса. Все несовершенное и примитивное, рафинированное и
упадочное также имеет свой аромат, ничуть не
уступающий по внутренней ценности дыханию классического
искусства. Уже в конце XIX столетия в буржуазной
литературе зарождается эта «философия жизни» последних
римлян, которая только в послевоенные годы приобрела,
повидимому, всеобщее господство. Под влиянием этих
настроений два австрийских ученых—Алоиз Ригль и Франц
Викгоф, в явной противоположности к методу Винкельма-
на и всей старой истории искусства, создали одно из
главных течений современного буржуазного искусствознания.
1 Otto Jmmisch, Das Nachleben der Antike, Lpz., 1919, S. 7.
52
Их материалом были прежде всего позднеримская эпоха
и художественные устремления первоначального
христианства. Но и другие моменты истории искусства привлекали
их внимание. Обладая огромным знанием фактов и
действительно превосходя своих конкурентов старой школы,
они создали целое направление, которое принципиально
отказывалось от понятий «высшего» и «низшего»,
«расцвета» и «упадка» в искусстве. Все одинаково хорошо для
исследователя. В каждом продукте искусства, будь то
произведение эскимоса или Фидия, действует своя особая сила,
специфическое направление художественной воли, не
подлежащее осуждению. Можно ли представить себе
что-нибудь более противоположное принципам «Истории» Вин-
кельмана? И действительно, из школы Ригля вышли все
последующие «революции» против старой эстетики,
эстетики «разумного, доброго и прекрасного», выносившей
определенные периоды искусства за пределы обычной
истории.
В том же направлении, хотя и своими особыми путями,
шел Генрих Вельфлин. История искусства обязана ему
реабилитацией барокко, презрительно третируемого Вин-
кельманом- Возвращаясь к мысли, высказанной еще
Шеллингом в его речи «Об отношении искусства к природе»,
Вельфлин стал утверждать, что следующие за
классическими периодами эпохи должны быть рассматриваемы в
своеобразии своих устремлений и стилевых особенностей,
а не как простое отпадение от идеала. Последователи
Вельфлина распространили идею равноправия классики и
барокко на всю область истории изобразительных искусств
и даже литературы. Таким образом, старой исторической
схеме был нанесен последний удар.
Для нового поколения историков искусства примитивные
и послеклассические эпохи не только сравнялись в своем
значении с «веком Фидия», но даже приобрели какое-то
особое обаяние. Это несомненный факт, известный
всякому, кто дал себе труд проследить эволюцию истории
искусства в течение ряда последних десятилетий.
Здесь повторяется общий процесс развития буожуазного
мышления в период перехода к реакции. Старая
демократическая идеология крепко держалась за свои абстрактные
противопоставления. Классическая красота была для нее
53
так же естественна, как свет, и вместе с тем так же
противоположна безобразию и варварству, как свобода
противоположна рабству, просвещение — невежеству. Вместе
с другими абстрактными противоположностями
демократической буржуазной идеологии эта антитеза была
также основательно расшатана развитием капитализма и
классовой борьбы в XIX веке. Сознанием этого общего
процесса на стороне пролетариата явилась теория
материалистической диалектики. Буржуазное
мышление по-своему усваивает опыт этого периода. От
абстрактных истин буржуазной демократии оно переходит к
отрицанию всякой объективной истины, к всеобщему
релятивизму и субъективной софистике. В области искусства
так же, как и в области морали, оно только выворачивает
старую демократическую метафизику наизнанку. Наука
об искусстве так же, как и художественная практика,
вступает в тот период своего развития, который Плеханов
удачно назвал «кризисом безобразия».
Здесь перед нами две исторические ступени развития
буржуазной культуры.
Классическая форма сознания, соответствующая эпохе
«нормального» развития буржуазных отношений, построена
на принципе закономерного среднего. Она избегает
противоречий. Чрезмерная сложность, неравенство,
несоблюдение эквивалентности частей кажутся ей чем-то
неестественным, отклонением от нормы. Она стремится' к
отвлеченной ясности, симметрии и простоте. В области
практической жизни — это догматика права и равенства. В
области художественной — эстетика ватиканского Аполлона
и Сикстинской мадонны — излюбленных образцов теории
искусства XVIII века, впоследствии банальных украшений
каждого мещанского жилища. В основе своей эта
историческая форма сознания, породившая Винкельмана и всю
эстетику идеала, есть совокупность понятий и принципов
буржуазной демократии, которые, по выражению Ленина,
являются «слепками с отношений товарного хозяйства».
Другое направление буржуазного сознания одерживает
самые крупные победы уже накануне падения
капитализма. В мистической и превратной форме оно
воспроизводит все его противоречия, его глубокий внутренний
хаос, прикрытый внешней оболочкой порядка. Это слепок
54
с хищнической, стихийной, оборотной стороны товарного
хозяйства. Здесь всюду господствуют случайность,
неравенство эквивалентов, неудовлетворенность или
пресыщение. Закономерное «среднее» оказывается пустым
миражем, и более глубокий взгляд везде открывает крайности,
доведенные до антагонизма: насилие или страдание,
излишек или недостаток. Отсюда мораль имморализма и
эстетика «готического человека», как принято выражаться в
специальной литературе об искусстве. Отражение этого
внутренно разорванного «готического человека» дает себя
знать во всех проявлениях распада буржуазной культуры
последних десятилетий.
Итак, две формы сознания и — быть может, даже нечто
большее — два противоположных принципа космического
масштаба: «начало Аполлона» и «начало Диониса». Так,
по крайней мере, утверждает современная буржуазная фиг
лософия культуры, целиком находящаяся под властью
этого дуализма.
В действительности эти противоположные принципы суть
не что иное, как две стороны одной и той же медали.
Скрытое внутреннее единство их общей природы
становится явным в течение третьего, последнего, периода
истории буржуазной общественной мысли.
VII
Представление о двух изначально противоположных
типах эстетической культуры, коренящихся в самой
сущности природы и человека, является центральным для всей
современной западной философии искусства. Мы постоянно
встречаемся здесь с Аполлоном и Дионисом в самых
разнообразных облачениях. На первый взгляд это кажется
странным. Откуда в нашу эпоху берется интерес к
подобным вопросам? Что означают эти мифологические красоты?
Образ Аполлона принадлежит к старым аксессуарам
буржуазного мышления. Даже чеховские герои —
провинциальные мещане — слышали о существовании «Аполлона
Бельведерского». Его популярность начинается уже в
XVIII столетия. Но здесь она лишена еще того оттенка
банальности, которым отличается все, что имеет
касательство к эстетике образованного мещанина. С энтузиазмом
55
подлинного поэта описывает Винкельман красоту
ватиканского Апполона, в котором он видит «высший идеал
искусства», «образ из мира бестелесной красоты». Это бог света и
солнца, юности и гармонии, изображенный художником
в момент · победы над исчадием хаоса — Пифоном.
Винкельман, как и вся его эпоха, усматривал в этом античном
божестве символ просвещения, побеждающего невежество,
триумф красоты и свободы над варварством, произволом и
беспорядком. В образе Аполлона перед нами
аллегорическое выражение прогрессивных сторон буржуазного строя.
Образ темного бога Диониса появляется в литературе
позднее. Впервые заговорили о нем немецкие романтики,
право гражданства получает он у Ницше, и только вместе
с полным поворотом буржуазного мышления к мистике и
реакции «дионисическое начало» торжествует во всех
областях буржуазной культуры. Современный мещанин,
взбесившийся под влиянием кризиса капитализма, уже не
удовлетворяется «плоской гармонией» Аполлона, так же, как
«свобода» и «просвещение» не пользуются больше его
симпатиями. Банальность современного мещанина состоит
прежде всего в том, что он имеет претензию быть
оригинальным. Он видит причину всех несчастий человечества
в слишком большом распространении науки и скорбит об
ушедших в прошлое временах беспрекословного
подчинения. Свои эстетические идеалы он находит не у Фидия и
Рафаэля, а в «Страстях господних» Маттаиса Грюневальда.
Эти идеологические перемены являются прямым
продолжением тех процессов, которые начались уже в XIX
столетии. Возвращаясь к идейному наследию Винкельмана, мы
замечаем, что с вступлением в эпоху империализма его
кривая продолжает падать. Напротив, линия, начатая Бурк-
гардтом и Ницше, переживает полосу гигантского подъема.
Война и послевоенные потрясения создали почву для
нового роста «дионисических» устремлений. Поражение
Германии в мировой войне привело идеологов немецкой
буржуазии к новой «переоценке ценностей», которая зашла еще
дальше в применении лозунга Ницше: «Идеалы —
опасность!» «Воздержность,— говорит известный историк
литературы Оскар Вальцель,— это отличительная черта тех,
которые идут от Винкельмана. Аскеза мира строгого
выполнения долга подсказывает подобное поведение. К этому
55
примешивается одновременно какое-то похмелье.
Похмелье — разумеется, после хмеля, который достался на
долю другим. На заднем плане стоит идеал добродетели
эпохи Просвещения: воздержание от всех удовольствий,
которые вредят человеку» \
Винкельман и его требования строгой классической
формы означают для современного немецкого литератора
националистического толка подчинение тому «идеалу
добродетели», который навязан германской буржуазии
Версальским миром. Это для нее — «на чужом пиру похмелье». В
течение всего послевоенного периода немецкая буржуазная'
литература делала постоянные усилия с целью освободить
«национальный принцип формы» от давления «общезначимых
канонов». Победители и побежденные! Для первых идеалы
«благородной простоты и спокойного величия» означают
удовлетворенность своим положением. Когда преимущество
на твоей стороне, нетрудно проповедывать общие нормы
права, добродетели, красоты. Это язык так называемых
«западных демократий», язык Лиги наций. В послевоенном
европейском концерте державы-победительницы постоянно
наигрывали идиллические мелодии XVIII века, между тем
как с германской стороны доносились резкие,
инфернальные звуки музыки Вагнера. Вообще немецкая буржуазия
представляет неудовлетворенную и дисгармоничную сторону
послевоенного буржуазного мира; она охвачена
ницшеанской «жаждой мести». «Благородная простота и спокойное
величие» означают для нее «воздержание» и «аскезу».
Отсюда ее настойчивая оппозиция против аполлоновского
начала.
Еще Эрнст Трельч в статье «Гуманизм и национализм в
нашем образовании» провозгласил окончание того периода,
когда «античность» соединялась с «немецким духом»,
конец эпохи гумбольдтовского гуманизма и теории искусства
Винкельмана — Гете. Из старого синтеза античности с
германизмом выделился особый «немецкий принцип»,
которому и принадлежит будущее 2. Этот отказ от «общечело-
1 Оякяг W а 1 7 е 1, Deutsche Dichtung von Gottsched bis zur
Gegenwart. Bd I. 1927, S. 22.
8 Ernst Tröltsch, Humanismus und Nationalismus in unserm Bil-
dunçswes°n — в rfionwe «Deutscher Geist und Westeuropa*,
gesammelte kulturphllosnphische Aufsätze und Reden, hrsgb. von Hans
Baron, Tübingen, 1925, S. 211—243.
57
веческого и античного» служит обоснованием для самых
шовинистических выводов по отношению ко всей системе
образования. В современной гитлеровской Германии ведется
нешуточная кампания против латинского шрифта (antiqua).
Отсюда понятно, что по крайней мере с одной стороны
винкельмановская античность должна находиться в прямой
противоположности к так называемому
«национал-социалистическому мировоззрению». И действительно, Винкельман
не был забыт идеологами немецкого фашизма. Так,
один из наиболее известных представителей гитлеровской
интеллигенции — Альфред Боймлер (в настоящее время
профессор «политической педагогики» в Берлине)
выдвигает против «великого антиквария» целый ряд
мистических аргументов.
Винкельман с его положительным отвращением ко всякой
архаике является антиподом современных фашистских
теоретиков «мифа». В основе отрицательного отношения к
мифологии лежит у него, как правильно замечает Боймлер,
основная идея эпохи Просвещения — идея «свободного
народа», свободного и от всякого суеверия. Именно в этой
враждебности к мистике видит Боймлер основной
недостаток «эстетики идеала». «Царство Винкельмана начинается
там, где появляется нечто оформленное, так же, как
царство историков начинается вместе с первой надписью.
Неизбежным следствием этого безусловного присоединения
к свету и форме является то, что религиозное и все, что
с ним связано, совершенно отступает на задний план...
Этому восприятию не хватает какого бы то ни было
понятия религиозности».
Винкельман противопоставляет античную красоту всякой
и особенно христианской религии. Боймлер, напротив,
полагает, что без религиозного чувства непонятно и греческое
искусство. «Винкельман,— говорит он,— отрезал «растение»
греческого искусства от его корня. Он наблюдал его
только постольку, поскольку оно росло под солнцем: корни,
таившиеся в темном материнском царстве земли,
ускользнули от его взора» *.
1 «Der Mvthus von Orient und Occident. Eine Metaphysik der
alten Welt». Aus den Werken von I. I. В а с h о f e η. Mît einer
Einleitung von Alfred Bäumler, Hrsgb. von M. Schiöter, München, 1926,
S. XXIV—ХСУ.
58
ß этом непонимании «материнского принципа» седой,
архаической древности и безграничной любви к солнечному
свету Боймлер видит основной порок всякой науки
(истории или эстетики, безразлично). Главным требованием
программы фашистской интеллигенции является создание
«мифологической атмосферы». По крайней мере, в этом
признаке она сама усматривает свое отличие от
«интеллектуализма», «рационализма» и «наукообразия» старого
либерального мышления.
Не лишено интереса, что официальный «философ»
национал-социализма, балтийский белогвардеец и авантюрист
Альфред Розенберг, также приложил свою руку к
наследству Винкельмаш. Он говорит о двух основных
направлениях немецкой мысли до появления на свет его собственного
бульварно-философского произведения «Миф XX столетия»:
«От Винкельмана через немецких классиков вплоть до Прел-
лера и Фосса проходит поклонение светлому, мирооткры-
тому, наглядному, причем, однако, эта линия исследования
все более и более падает, ее кривая становится все более
и более плоской. Мыслители и художники превращаются
уже в оторванные от крови и почвы единицы и, только
исходя из «я», от «психологии», стараются объяснить
аттическую трагедию или критиковать ее: Гомер понимается
лишь формально-эстетически, и эллинистический
поздний рационализм должен дать свое благословение
бескровным, профессоральным многотомным писательствам».
«Другое — романтическое течение,— продолжает Розенберг в
еще более глубокомысленном стиле,— погрузилось в
подпочвенные душевные токи, выступающие при конце Трои
на тризне или у Эсхила посредством действия Эриний. Оно
проникает в души хтонических противобожеств
олимпийского Зевса, почитает, исходя из смерти и ее загадок,
«материнских богов», с Деметрой во главе, и в конце концов
предается своим устремлением в боге мертвых — Дионисе.
Велькер, Родэ. Ницше указывают здесь на «землю-матерь»,
как на бесформенную в себе самой родительницу жизни,
которая, умирая, вновь сливается воедино в материнском
чреве. С почтительным ужасом чувствует великая немецкая
романтика, как словно все более темное покрывало
протягивается перед светлыми богами неба, и она погружается
глубоко в инстинктивное, бесформенное, демоническое, по-
59
ловое, экстатическое, хтоническое, в культ матери, называя
все это еще греческим».
Немецкая романтика открыла эту борьбу богов, этот
мировой дуализм, за которым скрывается изначальная
противоположность рас. В нашу эпоху,— твердит фашистский
оракул Розенберг,— в эпоху «массовых
интернационалов», нужно всячески распространять это открытие.
Следует только освободить «романтику» от некоторых
«нервических подергиваний» \
Для того, чтобы ближе подойти к реальному содержанию
всей этой мифологии, обратимся к одному из характерных
для послевоенного немецкого развития наполовину
искусствоведческих, наполовину философских произведений —
книге Карла Шефлера «Дух готики». Книга эта вышла еще
в период первой волны национал-социализма, в 1923 году.
Шефлер также принадлежит к критикам Винкельмана,
которого он объединяет с Лессингом и Гете в главе «Учение
об идеале».
Обращаясь к известному нам «вечному дуализму
искусства», Шефлер говорит о противоположности «греческого»
и «готического», отождествляя свое деление с «аполлонов-
ским» и «дионисическим» Ницше. «Однажды,— рассказывает
автор,— я наблюдал две стаи голубей. Одна из них,
взлетая и опускаясь, образовывала правильный круг, и
движения ее были плавно-гимнастичны. Другая группа состояла
из птиц, разбросанных в беспорядке по карнизам, сидящих
в одиночку или неистово преследующих друг друга под
влиянием физического влечения». И здесь, по словам
Шефлера, ему раскрылась подлинная тайна природы. Вселенной
присущи как правильные, пластические, «красивые»
образования, так и гротеск, сила выражения и односторонности.
«Парадоксально выражаясь, сама природа носит в такой
же степени греческий, как и готический характер. Но
подобно тому, как в самой природе оргиастической полноте
творческой силы, избытку побуждений противостоит
регулирующий порядок, железная необходимость,
ограничивающая этот избыток и придающая ему форму, а с другой
стороны — элементарное стремление творческой воли снова-
1 Alfr d Rosenberg, Def Mythus der XX Jahrhunderts,
München, 1930, S. 42—13.
60
заботится о том, чтобы этот священный, приводящий в
порядок закон никогда не приходил к состоянию
формалистической окаменелости; подобно тому, как существует
вечная борьба между беспокойством и спокойствием, между
опьянением и хладнокровием, между нетерпением и
терпением, и подобно тому, как результат этой борьбы без
конца есть вселенная, которая всегда свежа и великолепна, как
будто бы она только что вышла из рук творца,— так и
в искусстве воздействуют друг на друга мера и безмерное,
спокойствие и беспокойство, терпение и нетерпение, и здесь
также только из этой борьбы происходит значительное
в своей оригинальности и разнообразии».
Таким образом, рассмотренная с этой космической
точки зрения «красота» означает «стремление к радостной,
спокойной гармонии», «блаженству», «наслаждению». «Но
в искусстве,— говорит Шефлер,— счастье так же точно не
есть высшее, как и в самой жизни». Красота охватывает
только половину человека. «К миру художественного
чувства относятся в такой же степени и чувство ужаса,
диссонансы характеристического, монументальности
возвышенного».
Эта вторая половина больше первой. «Формы воли,
которые производят гротеск, также относятся к искусству,
ибо искусство есть прежде всего акт воли и поэтому по
своей природе элементарно. Искусство также полагает хаос
прежде формы, избыток прежде гармонии и первичную
силу прежде красоты».
Многое в этом, разумеется, далеко не ново. Но
характерно, что если для писателей типа Винкельмана и Гете
примат гармонии и красоты подразумевался, то
современные буржуазные писатели переносят центр тяжести на
прямо противоположный полюс. Здесь ясно чувствуется эпоха
великой ломки, которую по-своему отражает и
буржуазная литература. Но именно — по-своему. Бунт против
гармонии и счастья, который она поднимает, пахнет
кровью: это — чаяние «героического государства»,
изобретенного современным фашизмом, в противовес
либеральному «государству благополучия».
Вот откуда стремление к универсальной готике, которая
везде создает «формы беспокойства и страдания».
Готика,— говорит Шефлер,— заключает в себе нечто «дьяволь-
61
ское» или «демоническое». Готический принцип—это
принцип мужества. Но «всякая мужественность остается по
существу варварской». «Народы, которым суждено
культивироваться, которые долго вынашивают проблемы искусства
и в конце концов порождают красоту,—это, в сущности
говоря, женственные народы. Готический дух выступает
везде, где он выделяется оплодотворяющим и
революционизирующим образом; он должен предоставить культуру
счастья женственным греческим народам» (здесь, очевидно,
имеются в виду французы).
«Революционизирование» мира, о котором говорит Шеф-
лер, целиком совпадает с программой нового архаически-
монументального строя, отличающегося прочной иерархией,
жестоким отбором и прочими достоинствами «трагических
эпох», т. е. с программой, которую уже давно
вынашивала западноевропейская философии искусства. Еще
центральной идеей является обновление общества при помощи
«здоровой варваризации». «Варварское и
готическое тождественны,— пишет Шефлер,— они
противоположны другому состоянию, в котором господствует норма, где
человек и природа подвержены тому оживленному
формализму, который принято называть культурой».
Таким состоянием было, по мнению Шефлера, XIX
столетие. Оно развивало «одностороннюю духовную
дисциплину», возбуждая «критическую способность» и заглушая
инстинкт. «Вся природа была механизирована, и жизнь
потеряла всякий нравственный смысл». Такое же вырождение
претерпело художественное творчество, «XIX столетие —
это эпоха разорванного на части подражания искусству
и природе, вялости формы и сентиментальной идеологии.
В нем господствовали художники средней линии, в то время
как истинно самостоятельные преследовались или
оставались в пренебрежении».
Но в конце XIX века уже начинается новый подъем
готического и варварского начала. Чувствуется переход от
сентиментализма к грубой активности, новое появление
«первоначально-древних чувств, ощущений, окрашенных в
тона изначального мира». Началось крушение либерально-
сентиментального XIX столетия. Из-под внешнего облика
гармонии показалась голова Горгоны. «Именно искусство
стало областью, в которой представилось это новейшее
62
мировое переживание». От
«классицистически-натуралистических» приемов художник переходит к сильным
готическим эффектам, которые, по мнению Шефлера,
проявляются уже в импрессионизме. Отсюда начинается отход
от идеалов «греческой нормальной красоты», притом в
самых широких кругах. «Эта новая форма видения не
отворачивается от безобразного, а наоборот, как раз
отыскивает всякие социальные гротески, она натуралистична и
романтична в одно и то же время». Таково последнее слово
развития живописи в конце XIX и начале XX столетия \
Все, что заключено в этих выдержках из книги
Шефлера, в высшей степени характерно для буржуазной
философии искусства новейшего типа. Здесь содержатся все
господствующие элементы буржуазной идеологии
современной эпохи: превращение кризиса старого общественного
строя в вечную космическую проблему гармонии и хаоса;
ультрарадикальная критика традиций либеральной
буржуазии (вопреки историческим фактам, доказывающим
непрерывную преемственную связь современного фашизма
с прежним и современн/ым либерализмом); переход от
идеалов «свободного» и «нормального», «гармонического»
и «красивого» к идеалам насилия, грубости, мощи во что
бы то ни стало; апология варварского героизма, нарушения
1 Подобное же движение происходит, по словам Шефлера, и
в архитектуре. «В строительном искусстве после классицизма и
ренессанси^ма также пришла новая готика. Она проявляется в
интересе к задуманным в огромных чертах и символически
вздымающимся целесообразным постройкам, которые воплощают черту
мирового хозяйства, свойственную нашему нремени; она выражается
в стремлении к колоссальному, конструктивному и
натуралистическому, в решительном подчеркивании вертикальности и далеких от
хилости обнаженных форм. Готическим является инженерное
начало новой архитектуры... Наиболее революционное есть вместе
с тем и наиболее готическое..*. Беспокойное стремление
к мощности, наполняющее весь мир, получает
образное выражение в элеваторах, в деловых зданиях, в
небоскребах, в инженерных сооружениях, вокзалах и мостах; в грубых
целесообразных формах живет пафос страдания, пафос готики»
<Karl Scheffler, Der Geist, der Gotik, Lpz., 1923), S. 12, 14, 21, 26,
31—32, 40, 52—53, 105—109). Все это не лишено интереса для
понимания истинного смысла так называемых «левых» течений
в искусстве, которые еще недавно пользовались таким
распространением.
63
моральных и эстетических норм, принципиального
безобразия, и, наконец, изображение этого реакционного
экстремизма, этого бунта буржуазного хамства против
буржуазной цивилизации как явления величайшей
революционной силы и значения.
Таково реальное содержание борьбы «аполлоновского» и
«дионисического» начал в мышлении современного буржуа.
VIII
В основе этой «войны богов» лежат громадные
изменения всей идеологической атмосферы буржуазного
общества в период его превращения из старого
капиталистического строя в капитализм империалистический.
«Империализм,— говорит Ленин,— вырос как развитие и прямое
продолжение основных свойств капитализма вообще. Но
капитализм стал капиталистическим империализмом лишь
на определенной, очень высокой ступени своего развития,
когда некоторые основные свойства капитализма стали
превращаться в свою противоположность, когда по всей линии
сложились и обнаружились черты переходной эпохи от
капитализма к более высокому общественно-экономическому
укладу» \
Вслед за этим экономическим процессом во всей
духовной области культуры происходит аналогичное явление
«перехода в противоположность». Но подобно
тому как империалистические монополии йе устраняют
противоречий капитализма, а наоборот, усиливают и
развивают их по всем направлениям, так же точно и новые
формы идеологии, возникающие в империалистическую
эпоху, не выходят за пределы старого буржуазного кругозора,
а только косвенно указывают на этот выход. Они
свидетельствуют о переходном характере современной эпохи.
Чем глубже и острее противоречия буржуазного строя,
тем более настойчивые попытки их решения вынуждены
делать литературные представители реакции. Но тем
безнадежнее эти попытки и тем яснее становится, что во всех
областях теории и практики имущие классы способны
создать лишь реакционную карикатуру на это решение. В
области искусства это не менее ясно. Так, современная бур-
1 Ленин Собр. соч., т. XIX, стр. 141-142.
64
жуазная литература уже не изображает добродетельных
героев, спокойно взирающих на окружающий человеческий
муравейник. Но, с другой стороны, никому из реакционных
писателей сегодняшнего дня не придет в голову отстаивать
право маленьких людей в искусстве (в том смысле, как это
в Германии начал Лессинг своей драмой «Сарра Симпсон»).
Современное западное искусство снова «героично»: такова,
по крайней мере, эстетическая программа фашистских
правительств, которая в этом отношении показательна. Но о
старых героях гуманности и добродетели не может быть
больше речи. Перед умственным взором литераторов нового
покроя (как, например, фашистский драматург Иост в
Германии) витает образ свирепого кондотьера, солдата
мировой войны, утратившего оседлость и сражающегося под
знаменами всех реакционных армий; образ «сильной
личности», прокладывающей себе дорогу к цели более
радикальными средствами, чем все рецепты успеха, рекламируемые
на страницах мировых газет. Таков положительный
герой современного буржуазного искусства. Кино со
своей стороны немало способствовало распространению
этого нового буржуазного идеала. Оно давно вынашивало
образ беззастенчивого борца за свое собственное счастье,
нередко плебея, поднимающегося к богатству и после всех
треволнений борьбы срывающего приз жизни.
Во всех областях современной буржуазной культуры
повторяется одно и то же явление. Картина мирной
конкуренции отдельных индивидов, интересы которых
молчаливо признаются примиримыми (ибо «под небом места
много всем»), сменилась оправданием открытого хищничества,
ницшеанской идеей беспощадного соревнования — «агони-
стики». Эта новая картина мира основана уже на
признании того, что места под небом хватит только для немногих.
Даже в изобразительном искусстве мы наблюдаем конец
эпохи «очеловечивания» окружающей среды, основанного
на чувстве симпатии по отношению к изображаемому
(«эстетика вчувствования»). Современный художник
смотрит на себя как на профессионального солдата искусства.
Высшей честью является для него полное отчуждение от
изображаемого предмета, холодное отношение оператора.
Природа представляется ему абстрактной конструкцией,
составленной из кубов и цилиндров, или, согласно послед-
5 М. Лифшпц 65
ней моде, из разнообразных округлостей. Даже изображая
живые фигуры, он видит перед собой лишь мертвую
природу, nature morte. Таким образом, в области самого искусства
происходит своеобразный процесс «обесчеловечивания», как
выразились популярный в Европе испанский философ Ор-
тега и Гасет (вождь так называемой «Молодой Испании»).
Искусство буржуазной эпохи как бы завершило полный
круг своего развития. От абстрактных «идеалов»
классицизма оно перешло к страданиям и радостям живых людей,
к отстаиванию «прав человека» в художественной форме.
Но этот человек был только, персонификацией частной
собственности. В эпоху подъема буржуазной демократии
эта узость общественных условий капитализма еще
скрыта под оболочкой гуманности и прогресса. В эпоху
империализма стихийная и хищническая основа
буржуазного общества выступает наружу, и права человека
находят свое логическое завершение в праве на
бесчеловечность.
Буржуазное общество как бы утратило свои прежние
«рациональные» границы и возвращается к
естественному состоянию. Но это не мирное и добродушное
естественное состояние просветителей XVIII века, исходив
ших из того положения, что законы морали и права
человека так же непреложны, как соотношение радиусов в
круге. Эпоха империализма означает полное и
неограниченное господство lex naturalis Гоббса, самой
ожесточенной войны всех против всех. «Империализм есть вывоз
капитала к источникам сырья, бешеная борьба за
монопольное обладание этими источниками, борьба за передел уже
поделенного мира, борьба, ведомая с особенным
остервенением со стороны новых финансовых групп и держав,
ищущих «места под солнцем», против старых групп и
держав, цепко держащихся за захваченное» 1.
В этой междоусобной борьбе империалистических клик
находит свое объяснение основной гераклитовский тон
современной буржуазной литературы. Отсюда ее стремление
вернуть человечество ко временам героического
хищничества, к, «трагическим эпохам» мировой истории, когда
борьба интересов и страстей еще не укладывалась в общие
1 И. Сталин, Об основах ленинизма, I, изд. десятое стр. 3.
66
нормы права и общество не обременяло себя моральной
цензурой и эстетикой «идеала».
Но, рядом с этим брожением в рамках самого старого
строя, эпоха империализма рождает историческое
столкновение совсем другого порядка. Задыхаясь в тисках
колоссально возросших противоречий, капитализм создает
невозможные условия жизни для многих миллионов своих
белых и цветных рабов. Вместе с тем он практически
подталкивает их к международным объединениям против
враждующих между собой капиталистических сил.
Империализм— это эпоха, когда прогрессивные возможности
буржуазного общества уже исчерпаны, когда вера в
«вечные ценности», унаследованные от периода национально-
освободительной борьбы, находится на ущербе, когда массы
не могут больше жить по-старому и сами правящие классы
вынуждены применять новые методы господства.
Мировая война и Октябрьская революция привели в
движение громадные слои народа. Началась эпоха более
глубокой, реалистической демократии, основанной не на
юридических гарантиях, а на политическом господстве
пролетариата и его союзе со всем угнетенным большинством
человечества. В центре этой новой эпохи стоит уже не
буржуазия, а рабочий класс.
Этот исторический факт отражается во всех областях
буржуазной общественной мысли и погружает ее в атмосферу
заката. Противоречия политического господства
современной буржуазии воспринимаются ее мыслящими
представителями как «вечный дуализм» человеческой культуры.
В теории и практике искусства, естествознании и
психологии, в политике и праве, философии и социологии —
всюду обобщающее мышление буржуазного человечества
как бы расколото надвое и стоит перед решением. Это
характерная особенность третьей, последней, ступени
истории общественной мысли капиталистических классов.
С одной стороны — спокойствие вечных истин, под
сенью которых так относительно мирно складывалась
жизнь отцов и дедов, с другой стороны — практическая
необходимость действовать в рамках современных
сложных жизненных конфликтов и защищать старое новыми
средствами. Сохранить ли и в какой мере сохранить
традиции солидного, либерально-буржуазного XIX столетия,
s* 67
или отдаться «дионисическому» безумию реакционных
авантюр? Вот противоречие, которое в образе
неотвратимого, «трагического рока» постоянно витает перед
умственным взором литературных представителей реакции.
Такова последняя форма борьбы между идеалом и
жизнью, старая тема буржуазного мышления. Мы как
будто присутствуем при возрождении прежней антитезы:
Винкельман— Лессинг, но в новой, усложненной форме.
Современная буржуазная литература постоянно
противопоставляет бесконечное многообразие жизни застывшему
спокойствию «рациональных норм». «Только
непродуктивные народы создают себе идеал», — говорит цитированный
выше Шефлер.
В современной западной публицистике эта
«философия жизни» занимает почетное место. Она является одним
из популярных продуктов буржуазной идеологии,
входящих в состав того, что немцы называют «духовной
структурой политических партий». Поддерживать ли
господство «идеальных ценностей» над человеком, или отказаться
от условностей и норм цивилизации — вот вопрос,
который оживленно дебатируется всей буржуазной
литературой сегодняшнего дня. В наше время буржуа ощущает, что
роль носителя культуры, которую он прежде с гордостью
себе приписывал, становится ему в тягость. Устами своих
пророков он требует «этики без самоотречения». Его
привлекает невинная радость сына природы, который
давит свою жертву, не смущаясь угрызениями совести, и ему
хочется испытывать свои «переживания» просто, без
стеснения, не заботясь даже о соблюдении собственного,
однажды узаконенного, порядка. Неистовое желание «любить
себя во плоти», как проповедывал когда-то Штирнер,
становится единственной заповедью современного буржуа.
Его «душа» желает освободиться от «духа», который, по
мнению Людвига Клаггеса, как Тамерлан, уничтожает
мириады жизней; его иррациональная творческая воля не
мирится с догматикой эстетических «норм», в то время как
его «бессознательное» возмущается против рационализма
«либералов и марксистов». Словом, по всем направлениям
«жизнь» освобождается от стесняющей ее «формы». В этом,
по мнению авторитетного Зиммеля, состоит «трагический
конфликт современной культуры».
68
Этот кризис всех общественных норм старого
культурного и прогрессивного капитализма является ярким
фактом современности. Один из наиболее смелых
представителей новейшей философии культуры — Алоиз Демпф делает
следующее интересное признание: «Буржуазный мир,—
говорит он,— осужден на критическое бессилие именно
в силу своей связанности защитой существующего
порядка. Разум (ratio) не может больше давать ему абсолютных
норм, ибо борьба за существование стала для него
иррациональным решением, которое приносит с собой
действительное и, следовательно, может вынести наверх и его
собственного противника» \
Вот почему буржуазные мыслители современной эпохи
все чаще обращаются к иррациональному, стихийному,
бессознательному, к мистической благодати темного бога
Диониса. Никогда еще в сознании господствующих
классов не было настолько развито чувство «хтонических
глубин», над которыми возвышается официальный дневной мир
классового общества. Чем сильнее движение масс снизу
вверх, тем более прозрачные намеки на «подземных
богов», на бунтующие «силы хаоса» вынуждены делать
литературные представители реакции. Но тем более сами они
опускаются в мир «инстинктивного, бесформенного,
демонического, полового, экстатического, хтонического и т. д.»,
как об этом повествует Розенберг.
Перед лицом поднимающегося нового класса буржуазия
связывает свою судьбу с силами разложения. Борьба
против всяких «канонов» и «норм», стесняющих
иррациональную стихию жизни, приобретает для современной
буржуазии особый полемический привкус. «Ясное»,
«классическое», «правильное» становится для нее символом
революционной дисциплины, планового руководства, подчинения
частных интересов общим задачам революционной
власти. Вот основная причина того отвращения к
«рационализму», которым проникнуто современное мышление
капиталистического Запада.
Литература буржуазных прихлебателей всегда
изображала революционера в качестве личности, не сумевшей до-
1 Alois Dempf, Kulturphilosophie, в «Handbuch der Philosophie*,
hrsgb. von Bäumler und Schröter, 1932, Lief. 36, S. 107
69
биться могуществл в жизни, неполноценной и отвергнутой
в своих искательствах, не принадлежащей к счастливой
расе «господ» и поэтому вынужденной удовлетворять свое
чувство вражды и досады (ressentiment) в образах
мстительной фантазии или картинах тысячелетнего царства.
Но стоит лишь пролетариату показать, что он овладел
наукой общественного господства, и маска
удовлетворенного спокойствия сползает с объятой ужасом и злобой
физиономии прежнего господина.
Каждая победа рабочего класса приводит буржуазную
аристократию в состояние самой неразрешимой
«готической дисгармонии». По отношению к пролетарскому
государству капиталистический мир полон «затаенной злобы»,
«неудовлетворенности» и «злопамятства». Все эти рабские
черты, которые, согласно антропологии Ницше, присущи
только низшим породам людей, бурно проявляются в
самом господствующем классе капиталистического общества.
Но «благородная простота и спокойное величие» уже не
на стороне защитников старого строя.
Отсюда победа «дионисического начала» в буржуазной
литературе, общий тон беспокойства и активизма, переход
от идеалов устойчивости и порядка к
псевдореволюционным эффектам.
Но вынужденная придавать своим реакционным
устремлениям видимость шумного бунта против устарелых
традиций («национальная революция», «консервативная
революция», «революция справа»), буржуазия пускается в
опасную игру. Противоречие между социальной демагогией и
охранительным существом фашизма хорошо известно.
Но подобное же противоречие лежит в основе всей
идеологии современной буржуазии. Если в «рациональных
нормах» культуры буржуазная мысль усматривает опасный
намек на революционные требования и законы
пролетарской демократии, то, переходя из области права в область
силы, она чувствует перед собой еще большую опасность.
Господство частной собственности столетиями
основывалось на соблюдении известных норм легальности и
права. Расшатывая их руками своих собственных
телохранителей, имущие классы далеко не уверены в том,
каков будет конечный результат их реакционных
экспериментов. Поэтому к восхвалению творческой дисгармонии
70
«готического человека» постоянно примешивается боязнь
чрезмерного развязывания «дионисических сил», которые
могут повлечь за собой все буржуазное общество в «пу^
чину хаоса». Наиболее дальновидные представители
имущих классов отдают себе отчет в том, что постоянно
обостряющаяся борьба за место под солнцем ослабляет
общие позиции капиталистического строя. Они понимают,
что реакционное новаторство фашистских правительств^
подобно действию наркотиков, успокаивает только,
разрушая основы организма. Фашистская форма диктатуры
капитала рассеивает буржуазно-демократические иллюзии
масс и дает им жестокие уроки классовой борьбы. Поэтому
фашизм — это ultima ratio современной буржуазии.
Но право выбора погибающим классам не дано, и в этом
трагедия их положения. Отстаивая свои позиции при
помощи самых исключительных средств, буржуазия тем
вернее готовит свое близкое падение. Отсюда постоянные
переходы ее идеологических представителей от «избытка
побуждений», к «железной необходимости, ограничивающей
этот избыток» (по терминологии Карла Шефлера). Отсюда
и в самой политике буржуазных партий постоянные
колебания между «терпением» и «нетерпением», «опьянением»
я «хладнокровием». Каким образом можно остановиться
где-то посредине между варварством и цивилизацией,
мистикой и рационализмом, новаторством и традицией? Эта
старая мечта о среднем состоянии принимает
в теории и практике современной буржуазии весьма
осязательные формы. Она означает теперь попытку соединить
гражданскую войну против рабочего класса с
«легальностью», подвиги штурмовых отрядов с «честным»
буржуазным судопроизводством, поворот к иррациональному и
мистике с сохранением «законов рассудка». Последним
словом буржуазного мышления является попытка
провозгласить синтез «готического» и «классического» человека.
Повсюду настойчивое стремление обуздать развитие
«дионисической» борьбы элементов и вместе с тем полное
признание ее неотвратимости. Отсюда понятно, почему
в буржуазной философии империалистической эпохи мы
находим неутолимую жажду новой догматики, новой
прочной дисциплины ума, покоящейся, однако, уже не на
«естественных законах разума и справедливости», а на ирра-
71
циональной основе. В изобразительном искусстве этому
соответствует тяготение к новому стилю строгой формыу
как это ярко сказывается, например, в итальянском
неоклассицизме Кирико, Фуни и др.
Ярким выражением этих противоречий является
отношение современного немецкого фашизма к проблемам
искусства. Противоположность начал Аполлона и Диониса уже
не относится здесь к области чистой .мифологии, а
непосредственно обнаруживает свое политическое значение.
В период захвата власти национал-социалистическая
партия постоянно взывала к «иррациональной творческой
воле» немецкого народа, грозя уничтожить все устарелые
«еврейско-рационалистические» и
«либерально-марксистские» традиции XIX столетия. Но в тот момент, когда
перед фашистскими заправилами отчетливо выступила
опасность «второй революции», правительство Гитлера
поспешило внести в свою художественную политику новый курс
(возможность которого, разумеется, была заблаговременно
подготовлена во всех программных документах).
Одновременно с расправой над теми из своих
сторонников, которые приняли всерьез социальную демагогию
фашизма, национал-социалистическое руководство провела
широкую кампанию идеологической борьбы налево, причем
некоторые, наиболее крайние новаторские устремления в
искусстве были объявлены попытками «второй революции»,
а их сторонники — «последователями Отто Штрассера».
Главной причиной этого поворота к «традициям» было
стремление доказать руководящим капиталистическим
кругам, что национал-социалистическая партия в состоянии не
только возбуждать массы несбыточными обещаниями, но
и приводить их к «разуму», к «немецкой дисциплине и
строгости». С обычной для них легкостью и размахом
национал-социалисты объявили себя хранителями
«наследства» от марксистского «нигилизма» и « культу рбольше-
визма». Партия погромщиков и авантюристов, движимая
естественным стремлением к консолидации фашистского
режима, объявила о своем величайшем уважении к законно
установленному порядку. Здесь повторяется своеобразное
явление, которое когда-то уже было замечено Марксом.
В ходе борьбы буржуазии и рабочего класса неизбежно
наступает такой момент, когда «одно лишь воровство мо-
72
жет спасти собственность, клятвопреступление —
религию, незаконнорожденность — семью, беспорядок —
порядок». Нечто подобное этому происходит и в области
искусства. Идеологи фашистской буржуазии берутся
доказать, что одна лишь трагическая дисгармония «готического
человека» еще может спасти великие традиции
классицизма. Мы сейчас увидим, что это означает.
Б речи на тему «Революция в искусстве» Розенберг
изложил программу своей художественной политики
следующим образом. Прежде всего он заявляет, что «с
покрытым пылью классицизмом покончено». Искусства
Третьей империи не может быть возвращением к
гуманистическим традициям. «Это ясно из того, что наша эпоха
стала трагической и борющейся». Но значит ли это, что
дух античных традиций окончательно умер? Нет, —
отвечает Розенберг. В его изображении греки были только
одной из небольших ветвей на мощном древе германской
расы. Они захватили с собой в свои странствования
частицу «северной формирующей силы». Беда греческого
искусства, повидимому, заключалась в том, что оно
допустило применение этого «северного идеала красоты»
к «особым условиям Юга». «Этому способу выражения
северной сущности, — продолжает Розенберг, — конечно,
следует противопоставить более подчеркнутую волевую
струю специфически-немецкого творчества, так что никоим
образом нельзя признать неправильным то, что последнее
в нашем роде экспрессионистично».
Отсюда, казалось бы, следует, что так называемая
национальная революция совпадает с постоянными бунтами
против классических традиций в искусстве эпохи
империализма.
Однако употребление понятия экспрессионизм для
обозначения «немецкой сущности» в области искусства не
рекомендуется и по следующим причинам. Новое
творчество германского народа не может породить искусств©
экстаза. Напротив, в этом творчестве необходимо придут
к своему выражению «строгость и простота» национал-
социалистического движения. В этом сильнее всего
сказывается, по утверждению Розенберга, близкое родство
истинно-немецкого искусства с подлинным духом
эллинской формы.
73
В этом заявлении о необходимости соединить
экспрессионизм и традиции, иррациональное начало «воли» и
«строгую форму» сказывается сильнейшее стремление
национал-социалистов к укреплению своего режима на
основе примирения всех фракций буржуазии, всех методов и
путей поддержания ее господства. Речь Розенберга явилась
сигналом для целой кампании фашистской печати за-
мифический новый немецкий стиль, построенный в духе
реакционного эклектизма. Слишком горячим спорщикам,
которых эта программа не убеждала, было предложено молчать
или готовиться к тому, что их «обезвредят» \
Наконец, последовала речь Гитлера на специальном
«культурном» совещании в связи с мюнхенским, съездом
национал-социалистической партии. Перед избранной
аудиторией, состоявшей из действительных хозяев германского
государства, в сопровождении их свиты из ученых
мракобесов, Гитлер объявил о начале нового немецкого
ренессанса. Целью его доклада было доказать, что национал-
социализм способен разрешить уже известный нам
«вечный дуализм» искусства. «Только из прошлого и
настоящего в равной мере складывается будущее». Новое
немецкое искусство будет, по обещанию Гитлера, вполне
подобно античному по своей строгости, кристаллической
ясности и целесообразному духу, но при этом не будет и
простым возвращением к старому классицизму.
Все это относится к обычным фанфаронадам фашистских
вождей и замечательно только как выявление тех
противоречий, которые имеют для них нешуточное значение.
С одной стороны—признание кризиса всех идеалов и норм
старого устойчивого капитализма, а с другой
стороны—желание во что бы то ни стало обуздать развитие событий,
сохранить и укрепить основы старого порядка. Каким
образом можно разрешить это противоречие? Только с
помощью тех шарлатанских обещаний, на которые не
скупятся риторы и софисты национал-социалистической партии.
И тем не менее, это плоское бахвальство не так уж
далеко от более респектабельных форм современной
буржуазной мысли. Фразеология фашистских меценатов по-
* гм. обо всем этом отчет «Völkischer Beobachter» 16—17 июля
1933 г.
74
вторяет общее противоречие «аполлоновского» и
«дионисического» начал, а это последнее является популярным
продуктом буржуазной идеологии последних десятилетий.
Мы уже показали, что оно коренится в самой практике
буржуазии эпохи ее упадка. В сущности уже у Ницше,
наряду с критикой морали Сократа и античной демократии,
мы найдем возвращение к «Аполлону», хотя и в новом,
аристократическом виде. Классическая ясность и строгость
формы выступает у Ницше не только как продукт
вырождения, но вместе с тем и как необходимый принцип
единства, обуздывающего восточный оргтазм (крайнее и
отрицательное выражение «дионисического начала»). И
точно так же враг, с которым борется Ницше, выступает
у него то как «рационализм» и «классицизм» банального
Винкельмана, то в образе еврейского «нигилизма» и
разложения строгих форм классического искусства. Ницше
писал свои произведения во второй половине XIX
столетия. С тех пор буржуазная философия выдвинула
достаточное количество «новаторов», которые сумели придать
этим противоречиям более современную форму выражения.
Но скрытое тяготение к ницшеанизированной античности
можно проследить во всей буржуазной мысли последнего
пятидесятилетия. Оно существует и в настоящее время,
особенно в кругах, близких к известному немецкому поэту
Стефану Георге \
**
*
Было бы странным, если бы в этих блужданиях вокруг
проблемы классицизма имя Винкельмана осталось
незатронутым. Еще В. Патер, близкий во многом к идеям Ницше,
посвятил Винкельману восторженную статью2. Основная
проблема, которую ставит Патер, уже содержит в себе все
последующие искания современной западной философии
искусства. Можно ли соединить стиль «благородной
простоты и спокойного величия» с «пестрым освещением
современной жизни»?—спрашивает Патер. Можно ли из
современных сложных жизненных противоречий найти дорогу
1 Умер в 1934 году. Примечание к настоящему изданию.
2 В. Патер, Ренессанс, русский перев. Занмогского, изд.
«Проблемы эстетики».
75
к пластическому идеалу эстетики Винкельмана? «Это —
вечная проблема культуры», — отвечает автор, —
проблема, которую «нам, гражданам современного мира, с его
противоречивыми, запутанными интересами», разрешить
гораздо труднее, чем древним грекам. «Винкельман
воплощает вечную проблему кольтуры — уравновешенность,
тождество с самим собой, законченную греческую пластику».
Чем глубже и запутаннее становились противоречия,
о которых писал Патер, тем более мистический характер
принимало искомое «тождество». Для современных
поклонников пластического покоя Винкельман уже не является
просветителем и рационалистом. Все чаще встречаются
истолкования его идей в духе созерцательной мистики. Так,
Эрнст Бергман говорит об аристократизме Винкельмана и
делает его предшественником Шопенгауэра
(«последовательнейшего винкельманианца»). Альбрехт Шефер в
полемике с Ворингером и Шефлером доказывает необходимость
слияния готического элемента с аполлоновским началом
формы, которая должна преодолеть художественную
болезненность западного человека. Само собой разумеется,
что «благородная простота и спокойное величие»
Винкельмана приобретают у Шефера совсем иное
истолкование. Это не отвлеченный идеал, основанный на признании
общезначимых рациональных границ искусства, а
мистическое жизнепроявление личности Винкельмана *. Для
полноты картины сошлемся и на один «отечественный»
источник. Еще Вячеслав Иванов обнаружил в творческом
принципе Винкельмана синтез первоначального субстрата
«германо-кельто-славянской души» с чистой эллинской
формой2.
Все эти мистические толкования находятся в слишком
очевидном противоречии с общим характером взглядов
Винкельмана. Для того, чтобы пережить род реакционного
возрождения, подобно тому как это случилось с Бахофе-
ном (и отчасти Гегелем), Винкельман слишком мало «на-
1 Ernst Rergmann, Das Leben und die Wunder Joh. Winckelmanns»
München. 1928, S 20, 3S; Albr. Schäffer, Diechter und Dichtung, Lpz.,
1923. Ср. также Erich Aron, Die Wiedererweckung des Griechentums,,
bei Winckelmann und Herder. 1929.
2 Вячеслав Ивано в—в «Истории западной литературы \ под ред.
Батюшкова.
76
ционален» и слишком отрицательно относится к религии.
Но общая идея «благородной простоты и спокойного
величия», эта основная мысль доктрины классицизма, придает
имени Винкельмана значение символа, который очень
много говорит каждому мыслящему представителю уходящего
капиталистического порядка. Именно «пластического
покоя» как нельзя более недостает современному
буржуазному строю, и мечта о его достижении является одной из
многих реакционных утопий, которые в изобилии рождает
эпоха империализма.
**
Таким образом, судьба идейного наследства Винкельмана
отражает эволюцию буржуазной общественной мысли, от
эпохи ее подъема в XVIII веке до периода реакции и
мистики. Мы проследили в общих чертах историю одной
проблемы, начиная с самой ранней стадии ее развития и
кончая той ступенью, на которой она превращается в
«трагический конфликт современной культуры» и указывает
на близость окончательной развязки.
У старого Гете есть следующий замечательный афоризм
(«Kunst und Altertum», 1826): «Борьба старого,
пребывающего, устойчивого с развитием, образованием и
преобразованием всегда остается одной и той же. Из
всякого порядка возникает в конце концов педантство, и,
чтобы от него освободиться, этот порядок разрушают; и
проходит некоторое время, пока сознают, что нужно снова
создать порядок. Классицизм и романтизм,
принудительные ассоциации и свобода промысла, закрепление и раздел
земли: всегда один и тот же конфликт, который в конце
концов порождает новый. Самым умным со стороны
правителей было бы так умерять эту борьбу, чтобы дело
обошлось без уничтожения одной из сторон; но этого людям
«е дано, и бог, повидимому, этого также не хочет»..
Великий Гете был прав и вместе с тем неправ. Порядок
w беспорядок, покой и движение, «благородная простота
и спокойное величие» в противовес бурным проявлениям
жизни — все это понятия, которые относятся к вечным
категориям действительности. Но поскольку эти
противоположности вечны, они не имеют того неразрешимого
характера, который придает им Гете. Поскольку же этот отте-
77
нок трагического в них действительно присутствует, они
не вечны, а исторически обусловлены. Только в обществе,
основанном на частной собственности, порядок и
спокойствие неизбежно приобретают мертвый и отчужденный
характер и в качестве консервативных традиций
господствуют над живым развитием. Но, с другой стороны, и
бунт против узости этих общественных норм, с точки
зрения прав живого индивида, принимает здесь тот
иррациональный оттенок, те грубые, хищнические формы,
которые Ницше идеализировал в образе дионисического
начала.
До тех пор, пока прогрессивные силы
капиталистического строя еще не были исчерпаны в борьбе между
идеалом и жизнью, было много исторической правды, много
ценных культурных моментов на стороне каждой из
борющихся сторон. И сама эта противоположность еще не
принимала такого мистического характера, как в
современной буржуазной литературе. В основе взглядов Лессин-
га и Винкельмана лежали два краеугольных камня
демократической буржуазной идеологии: свободная
индивидуальность, преследующая свои особые цели, и предполагаемая
одинаковость всех членов рода, общий закономерный
порядок. Частный интерес и равенство прав, различное и
общее в людях, оригинальное и типичное — вот круг
понятий, в которых вращалась прогрессивная общественная
мысль во времена Винкельмана и Лессинга.
Эпоха империализма колоссально углубляет старые
противоречия общественного бытия и сознания. Мы видим, как
«порядок» свободной конкуренции превращается в
«педантство» — паразитическое господство монополий, как,
с другой стороны, стихийная жизнь капиталистического
способа производства приводит к ожесточенной борьбе
за место под солнцем и побуждает имущие классы
прибегать к самым зверским методам поддержания своего
господства. Мы видим, как все это расшатывает тот
самый порядок, для укрепления которого приносятся целые
гекатомбы человеческих жертв. Отсюда — новое,
отвратительное воспроизведение старого спора между отрицанием
условностей и норм цивилизации, с одной стороны, и
возвращением к классическим принципам «строгости» и
«порядка» — с другой.
78
«Классицизм» и «романтизм», «принудительные
ассоциации» и «свобода промысла» — «всегда один и тот же
конфликт, который в конце концов порождает новый»,
пока...
Но здесь бесконечно прав старый Гете. Никакие усилия
«правителей» не могут ослабить действие этих
противоречий: примирить в утопическом среднем состоянии
противоположные стороны отжившего строя «людям не
дано».
Только пролетарская культура социалистического
общества, основанная на уничтожении классов и пережитков
капитализма, является подлинным решением этих
противоречий.
1933 г.
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО ГЕГЕЛЯ
К столетию со дня смерти философа
(1831—1931)
I
Во время одного из своих путешествий Гулливер
попадает на остров чудес, где среди множества умерших
посредственностей ему являются тени Гомера и
Аристотеля. Проницательный англичанин сразу заметил, что
многочисленные издатели и комментаторы держатся вдали от
великих мудрецов древности. Они так обошлись с
произведениями Гомера и Аристотеля, что им теперь стыдно
встретиться с ними даже в преисподней.
Это место из сатирического романа Свифта как будто
нарочно придумано для душеприказчиков, издателей и
комментаторов Гегеля. Судьба литературного наследства
великого немецкого философа является лучшим примером того,
как мало умеет ценить своих духовных героев
«просвещенная» буржуазия, как хищнически обращается она
с драгоценным наследием своих классических
представителей. Георг-Вильгельм-Фридрих Гегель был, по известному
выражению Розенкранца, осенней натурой. То, что он
успел напечатать при жизни, представляло собой плод
многолетней работы. Политические и философские взгляды
Гегеля пережили длинный ряд изменений, следы которых
'.Журнал «Литературное наследство», 1931 г., кн. 2.
80
содержатся в многочисленных рукописях и конспекта*.
Когда неожиданная смерть прервала литературную
деятельность Гегеля, его архив представлял собой обширное
целое. Карл Розенкранц, которому «школа» доверила
составление биографии философа, говорил о «нескольких
ящиках» с рукописями \ По обычному для университетского
профессора стремлению опутать туманом свои источники
или по какой-нибудь другой причине, но Розенкранц не
оставил нам даже точной описи этих манускриптов. Как
тщательно сохранялись они в дальнейшем, показывает хотя
бы то обстоятельство, что многие рукописи, цитированные
у Розенкранца, в настоящее время бесследно исчезли. К
числу навсегда утраченных документов относятся и такие
вещи, как подробный комментарий к немецкому переводу
Джемса Стюарта—почти незаменимый источник для
понимания взглядов Гегеля эпохи его перехода к примирению с
«буржуазной экономией. Утрачены также рукописи,
относящиеся к лекциям Гегеля по философии истории,
использованные в свое время Эд. Гансом и К. Гегелем. Исчезли и
другие материалы. Они пошли по рукам, отправились
вместе со своими владельцами в самые отдаленные части
света, погибли при пожарах (как, например, упомянутый
комментарий к Стюарту или письма Гегеля к Борису фон
Икскюль) и, наконец, были просто разорваны на части
«друзьями покойного», из которых каждый хотел
получить на память его автограф.
Но не только хищническое обращение с рукописями
философа заставляет вспомнить о замечательной сатире
Свифта. К столетней годовщине со дня смерти Гегеля еще
не существует ни одного пригодного для научных целей
собрания его сочинений. Дело в том, что произведения,
опубликованные самим философом, представляют собой не
более половины того, что обычно относят к сочинениям
Гегеля. Ряд чрезвычайно существенных отраслей
гегелевской системы, как, например, философия истории,
история философии, эстетика и т. д., сохранились лишь в
записях слушателей и в виде отдельных тетрадей и заметок,
по которым Гегель в разное время, на разных ступенях
собственного идейного развития читал свои лекции. Друзья
1 К. Rosenkranz, G. W< F. Hegels Leben, Berlin, 1844, S. XL
ß M. Лифшиц 81
vi ученики Гегеля, выпустившие в 1832 — 1840 гг. первое
издание его сочинений, воспользовались этими
материалами самым некритическим образом. Восемнадцатитомное
собрание сочинений должно было содействовать
укреплению господства гегелевской школы в немецких
университетах. А для этой цели нужен был канонический Гегель,
лишенный противоречий своего развития; ибо в этом
развитии, как это хорошо знали «друзья покойного», были и
революционно-демократические ступени. Издатели
сочинений Гегеля смешали в одну кучу тетради, относящиеся
к периодам, отделенным иногда 25-летним промежутком,
сюда же присоединили они записи слушателей и свои
собственные воспоминания.
Все это подвергалось затем редактированию, причем
выбрасывались и присоединялись целые отрывки, чтобы
в конце концов получился тот «синкретический»
результат, в котором нуждалась школа.
Это редактирование, граничащее с фальсификацией,
имело свое теоретическое обоснование. Оно покоилось на
апологетическом изображении всей биографии Гегеля, его
отношения к правительствам, его университетской политики
и всего образа жизни. Из Гегеля пытались сделать
идеальный тип немецкого ученого, который, в противоположность
людям политической страсти, всегда спокойно следовал
одному, заранее избранному пути, без всяких переломов:
и скачков, без внутренней борьбы и противоречий с
окружающей средой.
Эта тенденция ясно выражена уже в первой биографии
Гегеля, написанной Карлом Розенкранцем. «Наибольшая
трудность моей работы,—говорит здесь Розенкранц,—была
заложена в своеобразии основной сущности гегелевского
характера, которая состояла в постоянном
всестороннем и постепенном развитии. Его творчество
было тихим движением его ума, непрерывной
поступательной работой всего его существа. Его биография лишена
поэтому обаяния больших контрастов, страстных
прыжков и только благодаря напряженной значительности ее
героя избавлена от полной монотонности» \ С тех пор, как
была написана работа Розенкранца, защитники Гегеля не
1 «Hegels Leben», S. Χ.
82
раз возвращались к подобной аргументации. Подчеркнуто-
мещанский образ жизни философа, его стремление
«сотрудничать в немецкой серьезности» с прусской
бюрократией, наконец, просто «скучный» характер всей
философии Гегеля казались им достаточной гарантией его
благонадежности. Против представления о том, что взгляды
Гегеля, по крайней мере в молодости философа, имели
революционный характер, еще в настоящее время пишутся
объемистые трактаты. Таково, например, огромное по
размерам тенденциозное произведение Теодора Л. Геринга.
Геринг — профессор Тюбингенского университета, в котором
около ста сорока лет назад существовал революционный
клуб, основанный Гегелем. Это историческое
обстоятельство не дает покоя почтенному профессору. Он выдвигает
тезис о природном консерватизме Гегеля и старается
обосновать его при помощи материала из биографии своего
героя. «Гегелевская «революция»,— пишет Геринг,— была
всегда реституцией и беспрепятственной эволюцией
истинной живой сущности всех вещей» \
Если так изображают Гегеля его друзья и апологеты, то
нет ничего удивительного в том, что писали
многочисленные противники философа. Гегель был представителем
классической ступени в развитии мировоззрения имущих
классов буржуазного общества. С беспощадным научным
стоицизмом изображает он противоречия христианско-
буржуазного мира, пытаясь разрешить их в
идеалистическом культе государства. Как в Англии против Рикардо,
так в Германии против Гегеля выступала
филантропическая оппозиция. Немецкие либералы, подготовившие
примирение отечественной буржуазии с помещичьим
землевладением, находили философию Гегеля недостаточно
гуманной, а его учение о гекатомбах, приносимых
человечеством в жертву прогрессу, о мировом духе, ведущем свое
дело en gros,— слишком жестоким и безрадостным.
Читающей публике они доносили на сервилизм Гегеля, на
отрицание им свободы и индивидуальности, правительства же,
напротив, путали призраком Гегеля—атеиста и революционера.
В этих нападках на гегельянство немецкие либералы,
1 «Hegel. Sein Wollen und sein Werk>, Lpz.—Berlin,] 1929, Bd. I,
S. 285.
6* 83
группировавшиеся вокруг энциклопедии Роттека—Велькера,
соприкасались с представителями политического
консерватизма. Знаменитый Юлиус фон Шталь также считал, что
гегелевская; система дает слишком мало простора
индивидуальной свободе на земле и божественному произволу на
небе. Вообще идеологи свободы воли, не ограниченной
никакой конституцией, и трубадуры свободной торговли
выступали против Гегеля солидарно.
Революция 1848 года, в которой немецкая буржуазия
утратила свои радикальные порывы, но приобрела высокую
конъюнктуру, положила конец господству умозрительной
философии и открыла эру позитивизма. В пятидесятых
годах XIX столетия Юлиан Шмидт и Рудольф Гайм
объявили философию Гегеля достоянием истории. Полное
пренебрежение к спекулятивной философии считалось в
течение всего последующего пятидесятилетия признаком
хорошего тона. Само собой разумеется, что ни о каком
исследовании и опубликовании литературного наследства Гегеля
в этот период не могло быть и речи. Та «нищенская
эклектическая похлебка», которая преподносилась в немецких
университетах, не оставляла места для подобных
интересов. В последнем счете единственными людьми,
сохранившими в это время лучшие традиции Гегеля, были Маркс и
Энгельс. Как мало понимали их в этом отношении даже
близкие соратники, например Вильгельм Либкнехт,
показывает, например, следующий эпизод, следы которого
тщательно вытравлены Бернштейном в его издании переписки
Маркса и Энгельса1.
Когда «Крестьянская война» Энгельса печаталась
в «Volksstaat», Вильгельм Либкнехт снабдил ее
подстрочными примечаниями, которые привели Энгельса в
бешенство. Особенное раздражение вызвало у него примечание
Либкнехта к слову «Гегель». И не случайно: примечание
содержало обычные либеральные нападки на Гегеля, а эта
музыка была слишком хорошо знакома основоположникам
марксизма. «К слову «Гегель», — пишет Энгельс Марксу
8 мая 1870 года, — этот человек делает следующее
примечание: «Более широкой публике известен как мыслитель,
1 Эти места из переписки восстановлены в издании Института
Маркса—Энгельса—Ленина. Ср. т. XXIV, стр. 335, 336 русск. изд.
84
открывший (!) и прославивший (1!) королевско-прусскую
государственную идею (!!!)». Я ему задал за это хорошую
трепку и прислал для напечатания заявление, выдержанное
при данных условиях в максимально мягких тонах. Этот
дурак, для которого долгие годы любимым коньком было
противоречие между правом и силой, причем он на этом
коньке разъезжал так беспомощно, как пехотинец,
посаженный на бешеную лошадь и запертый в манеж,— этот
невежда имеет бесстыдство думать, что с таким человеком,
как Гегель, он может разделаться одним словом «пруссак»,
и при этом еще имеет наглость внушать публике, что это
сказал я. С меня теперь довольно».
Что именно либеральный характер примечания
Либкнехта навлек на него гнев обоих основоположников
марксизма, видно из ответного письма Маркса от 1Θ мая:
«Я ему писал, что если он о Гегеле способен лишь
повторять старые глупости Роттека—Велькера, то ему бы лучше
помолчать. Это он называет «разделаться с Гегелем без
особых церемоний» и т. д.! И если он пишет нелепости
в примечаниях к статьям Энгельса, то «Энгельс, конечно (!),
может написать более подробно (!!). Этот человек
действительно слишком глуп»1.
Не прошло и пяти лет после смерти Энгельса, как
«старые глупости Роттека—Велькера» снова выплыли в социал-
1 Для отношения Либкнехта к вопросу о Гегеле хярактерно
следующее письмо его к Марксу, опубликованное в «Vorwärts»
от 14 ноября 1931 года. Оно написано, видимо, тотчас же по
получении отповеди Энгельса, но еще до получения аналогичного письма
Маркса.
Среда, 14~мая 1870 г.
Дорогой Мавр!
Вчера я получил от Энгельса свински грубое письмо (на
которое я отвечу в таком же стиле) с заявлением, в котором он
третирует меня как школьника и которого я, конечно, не принимаю.
Поистине несуразно поднимать такой шум из-за какого-то беглого
примечания о Гегеле. Что оно не Энгельсом написано, поймет
всякий, кто знает Энгельса, и никто из знающих Энгельса не
заподозрит его в святотатстве по отношению к святому Гегелю. Да
и вообще лишь немногие сочтут это за снятотатство.
Я не получил такого образования, как Энгельс; прежде чем я
успел одолеть теорию, я был брошен в гущу практики, и вот уже
22 года непрерывно веду беспокойную жизнь, без минуты досуга.
Что при таких условиях я не изучал Гегеля так основательно, как
Энгельс, это ясно само собой, но и нисколько не позорно для
85
демократической литературе. Эдуард Бернштейн в своих
«Предпосылках социализма» изобразил в качестве главной
причины «грехопадения» Маркса и Энгельса их
историческую связь с Гегелем. Неокантианство, демократическая
ветвь которого (идущая от Ф. А. Ланге) уже давно искала
пути к рабочему движению, казалось Бернштейну и его
сподвижникам гораздо более достойным сближения с
марксизмом. Кант, в противоположность Гегелю, надолго
сделался теоретическим святым II Интернационала. И это
понятно. Учение Канта о «бесконечном прогрессе» к
недостижимому идеалу как нельзя лучше годилось для обоснования
либерально-реформистского руководства рабочим
движением.
В настоящее время положение радикально изменилось.
'Либерализм уже не является господствующей идеологией
«образованных классов» буржуазного общества.
Послевоенный кризис капитализма подточил веру в
«бесконечный прогресс», в идеалы формальной демократии. А вместе
с ними потерпели поражение неокантианство, позитивизм
и весь букет разнообразных гносеологических течений,
еще недавно самых модных и злободневных. На сцену
выступили преимущественно вопросы политики и права. В
поисках «новой метафизики» буржуазия вспомнила о
Гегеле, а вслед за ней заговорили о Гегеле и литературные
представители социал-фашизма.
Вожди немецкой социал-демократии были бы
чрезвычайно удивлены, если бы лет двадцать пять назад им ска-
меня. И если я даже немножко презираю эту учебу, то Энгельсу
придется оставить при мне это мое частное мнение. Во всяком
случае с его стороны безответственно оскорблять меня из-за такой
ерунды, ибо он оскорбил меня. Как только я напишу ответное
письмо, я пришлю его тебе.
Что касается его заявления, то я оговорю, что примечания
написаны не Энгельсом. Этим он должен удовлетвориться, если не
хочет вызвать скандала.
Я думал, что наконец-то у меня с вами все улажено и вдруг
это письмо... В области теории я уступаю первенство Энгельсу,
но в области практики я считаю себя немного более искушенным,
чем он.
Сердечные приветы тебе и твоим.
Твой верный Library [Либкнехт]
Моя жена благодарит за любезные поздравления. Когда я буду
крестить малыша, то дам ему и твое имя. Ведь ты не возражаешь?
Это было решено тотчас же после его рождения.
86
зали, что на столетнем юбилее со дня смерти великого
идеалиста социал-демократический прусский министр
Гримме официально заявит: «Гегель есть живейшая
современность». Этот философский псевдоклассицизм, иначе
именуемый «возрождением Гегеля», есть явление новое,
в нашей литературе еще недостаточно освещенное. С
поразительной быстротой гегельянство вновь выступило на
лервый план в немецкой — и не только немецкой —
идеалистической философии. Даже такие корифеи кантианства,
как Риккерт, высказывают сегодня готовность к развитию
в новом направлении. Неогегельянцы образовали
международный союз (Internationaler Hegel-Bund), основной целью
которого является «споспешествование изучению
философии в гегелевском .духе». 19—20 октября 1931 года в
Берлине состоялся второй конгресс этого нового союза,
посвященный столетию со дня смерти философа. Газеты
печатали подробные отчеты о конгрессе, на книжном рынке
появилось, и, несомненно, еще появится, много новых работ
<: именем Гегеля на обложке. Съезд прошел в
торжественной обстановке при участии всевозможных чинов и
официальных представителей государственной власти.
Что означает этот новый период в истории гегельянизма
и что принесло с собой оживление интереса к Гегелю
е смысле опубликования и изучения его литературного
наследства?
II
Ружья мещане хватают..
Попы в набат ударяют.
Государства морального существо,
В опасности тяжкой—имущество.
Гейне
Современное «возрождение» гегельянства имеет три
основных причины. Наиболее глубокой и общей из них
является сама эпоха империализма. Исторический поворот,
связанный с наступлением этой эпохи, вызвал
соответствующие изменения и в идеологической структуре
буржуазного общества. Философские течения, подобные
неогегельянству, представляют собой только симптомы этих
материальных и идеологических процессов.
87
В домонополистический период господствующие идеалы
буржуазного общества хорошо выражались формулой
Маркса: «Свобода, равенство, собственность и Бентам».
Им соответствовала доктрина о невмешательстве
государства в свободную игру экономических интересов, идея двух
истин —· политической и хозяйственной, двух не
соприкасающихся друг с другом сфер — области формального
равенства и мира неравных частных лиц. Эти сферы были
так же принципиально различны с точки зрения
либерализма XIX века, как различны у Канта «легальность» и
«моральность». Эпоха империализма сделала эту догму
непригодной в качестве идейного оружия буржуазии:
«Монополии, олигархия, стремления к господству вместо
стремлений к свободе, эксплуатация все большего числа маленьких
или слабых наций небольшой горсткой богатейших или
сильнейших наций — все это породило, — по словам
Ленина,— те отличительные черты империализма, которые
заставляют характеризовать его как паразитический или
загнивающий капитализм»1. Либерально-манчестерские
доктрины отступили на задний план, превратившись в ветхий
завет буржуазного общества. На смену им пришли
воззрения, открыто провозглашающие и оправдывающие
«стремления к господству вместо стремлений к свободе»^
В империалистических странах буржуазная демократия
завершила свое превращение в лживую фразу,
прикрывающую неограниченное господство олигархии банков и
промышленности. Поэтому могла получить широкое
распространение антидемократическая и антилиберальная фраза,
назначение которой — использовать в интересах
империалистической буржуазии само разочарование масс в
буржуазной демократии. Появились буржуазные критики
либерализма и формальной демократии2.
1 Ленин, Империализм как высшая стадия капитализма. Собр.
соч., т. XIX, стр. 171.
2 Разумеется, корни этих течений уходят в XIX столетие.
Вспомним хотя бы Бруно Бауэра, оказавшего влияние на Ницше. В 5-м,
издании книги Ганса Файингера «Nietzsche als Philosoph»
(Langensalza, 1930) имеются весьма интересные указания на забытую
теперь книжку К. Теод. Гродека «De morbo democratico» («О
демократической болезни»), 1849 г. Идеи Гродека также сыграли свою
роль в возникновении ницшеанства.
88
В конце XIX и в первом десятилетии XX века это
течение выступало еще в качестве оригинального достояния
некоторых декадентствующих одиночек и свое полное
развитие получило лишь в послевоенное время в идеологии
фашизма. Широковещательную критику манчестерства с
точки зрения приукрашенного социалистическими фразами
государственного капитализма можно найти и у различных
представителей умеренного крыла современной буржуазии,
а также у социал-демократов.
Но не следует забывать, что новые пророки, обязанные
своим успехом эпохе империализма, «пришли не для того,
чтобы отвергнуть закон, а для того, чтобы его
подтвердить». Они вовсе не собирались углублять свою критику
либерализма до отрицания его основ — капиталистической
частной собственности и диктатуры буржуазии. В этом
отношении интересны слова Германа Глокнера в его
программной для немецкого неогегельянства статье «Krisen und
Wandlungen in der Geschichte des Hegelianismus»: «Ничто
не должно быть утрачено, все принципы — следовательно,
также и принципы девятнадцатого столетия — должны
быть сохранены!»1
Но однажды причислив себя к охранителям «принципов
девятнадцатого столетия», представители новых течений
в литературе господствующих классов применяли совсем
другие методы и провозглашали иные доктрины. Апология
силы и проповедь активного вмешательства государства в
хозяйственную жизнь сменили идеал договорных
отношений и веру в стихийный разум биржи. Через всю
буржуазную литературу последних тридцати лет проходит
постепенно усиливающаяся тенденция идеализировать
могущественное национальное государство, якобы
обуздывающее противоречия интересов и подчиняющее себе
экономию.
Эти новые тенденции можно проследить и в области
философии. В домонополистический период «идеологические
составные части» класса буржуазии были одержимы духом
критицизма и скепсиса. Теоретико-познавательный идеализм
помогал им превращать все жгучие социальные проблемы
в неразрешимые антиномии, чтобы тем самым подорвать
1 «Logos», 1924, XIII, S. 357.
89
авторитет таких «догм», какой, например, для культурного
и «чуждого метафизики» буржуа являлся социализм. Эта
точка зрения находила своего наследственного врага в
философии Гегеля, одного из последних «догматиков»
господства «всеобщего» над «единичным», государства над
отдельным индивидом.
В империалистическую эпоху критика Гегеля1 в духе
либерализма выходит из моды. Гигантские государственные
образования, вооруженные до зубов и представляющие
интересы монополистических групп, нуждаются в
подогревании политического идеализма в массах. Они нуждаются в
швом «догматизме», вере в иллюзорную национальную
«всеобщность». Старая тенденция защиты частного лица
от посягательств государства, извлеченная буржуазным
либерализмом в качестве урока из ранних демократических
революций, уже не имеет цены для господствующих
классов. Они заинтересованы именно в том, чтобы расширить
сферу непосредственного вмешательства государства в
область экономии, шире использовать государственную
машину в исторической тяжбе буржуазии с рабочим классом,
этой «частью», осмеливающейся восставать против
«целого». Отсюда перемена направления у философствующих
представителей современной буржуазии. Пытаясь прит-
ти к «самопониманию», они наткнулись на ту критику
либерализма, свободной конкуренции и индивидуализма,
которая получила свое выражение в некоторых
философских и политических теориях эпохи конституирования
буржуазного государства. К таким теориям, еще сохранившим
в себе отзвуки революционного терроризма, относится и
гегелевская идеализация государства, стоящего над
«буржуазным обществом», как сферой эгоизма и борьбы
интересов. Конечно, гегелевский культ государства по своему
историческому значению так же мало походит на
современную апологию stato forte, как ассоциация
«индустриалов» в духе Сен-Симона — на корпоративные союзы
Муссолини. Но здесь есть сходство идеологической формы, т. е.
все необходимое для фальсификации. Вот один из
источников современного философского ложноклассицизма,
неотделимого от всей атмосферы демагогии и лжи,
окутывающей действительные черты капиталистического
общества эпохи его упадка. Первые шаги в сторону неогегель-
90
янства, связанные с работами Дильтея в Германии, даже
хронологически совпадают с началом эпохи империализма \
Вторым источником «возрождения» гегельянства
является послевоенный кризис капиталистической системы и
развернувшийся на его основе мировой экономический
кризис. Один из наиболее дальновидных представителей
университетской Германии — Юлиус Эббинггаус следующим
образом рисует послевоенную ситуацию в области
философии: «Война, длившаяся четыре с половиной года,
потрясающее человечество ощущение того, что почва, на которой
оно существует, колеблется под ним, и вот грезится, что
чего-то не. хватает, чего-то такого, что может укрепить
эту колеблющуюся почву. Грезится, что нечто должно быть
доступно познанию как необходимо
истинное, т. е. доступно в возможном познании
a priori. Тут вдруг вспоминают о свысока третированном
ранее «обосновании»; теперь оно находит себе спрос,
теперь оно должно затыкать дыры, поддерживать
колеблющееся, создать новый фундамент для рушившегося.
Осмысленность, оглядка, подлинность — таковы волшебные
слова, которым покоряются все; посредством представления
10 связи немецкого неогегельянства с «идеями 1914 года» хорошо
писал Лассон в самый разгар мировой войны. «Гегель,— говорит
этот философствующий протестантский поп,— поднял на новую
ступень познание государства. Он учил пониманию сущности
государства, отношения единичного лица к государству, положения и
призвания единичного государства в исторической связи
человечества; тем самым оказал самое решающее влияние на вызревание
государственной идеи, пришедшей в течение последних столетий
к своему политическому существованию в Германии: «идеи 1914 года»
восходят, без всякого сомнения, к гегелевскому пониманию
истории и его учению о государстве. Если в современной мировой
войне, посредством которой враги Германии хотели преградить
дорогу или свести на-нет проникновение в мир немецкого д\ха,
если в этой войне вместо медленного расширения происходит
резкая германизация мира, если одна за другой мировые
державы, для того чтобы спастись от поражения, должны усвоить
себе немецкое понимание государства и государственных
обязанностей его граждан и насильственно навязывать своим народам это
понимание, то мы не должны забывать, как велик был вклад Гегеля
в то, чтобы сделать это понятие государства свободной живой
собственностью немецкого народа, собственностью, которая сейчас
в ужасающем мировом пожаре оказывается самой высокой и
самой истинной». См. О. W. Fr. Hegel, Die Vernunft in der
Geschichte, hrsgb. von Lasson, Vorwort des Herausgebers (июнь 1917 г.).
91
о том, что человек еще никогда не приходил к своей
собственной основе, новые устремления ставят перед своими
глазами необычайно заманчивую награду. Потоки
искателей золота, которым зачастую не хватает необходимейших
принадлежностей научного бытия, текут через все страны
света в поисках за самородным металлом. Однако
смотрите: что бы ни нашел единичный, он не может сделать
из этого никакого употребления. Ибо, когда он
представляет его другим, раздается единодушный крик: «Это не
то, что мы ищем, это не золото, это не происходит из
глубин»1.
Всеобщий идейный распад, отражающий хозяйственные
и политические конвульсии буржуазного общества,
является одной из причин современных поисков «новой
метафизики». Борьба с критицизмом и скептицизмом, ведущаяся
на страницах философских журналов, в университетских
аудиториях, на конгрессах, как две капли воды похожа на
политику «восстановления доверия», проводимую
руководителями банков. Философия, в которой нуждаются сейчас
имущие классы,— это философия оздоровления,
философия национальной концентрации. И так
как современное «мощное государство» связано посредством
regressive metamorphosis с государством гегелевской
философии права, то обращение к последней предопределено по
самой сути дела. Это становится совершенно ясным при
чтении актов первого гегелевского конгресса, изданных
евангелистом «Гегель-бунда» — Вигерсмой2.
Главный докладчик первого конгресса — Юл. Биндер
сосредоточил свою критику на «общественном эгоизме»,
господствующем, по его мнению, во всех проявлениях
«нашего индивидуалистического века». Этот индивидуализм
Биндер рассматривает как наследство «либеральной
Германии», а эпоху либерализма вообще — как период
«распавшегося в себе духа», «эпоху разложения и упадка».
Напротив, в современной действительности докладчик
оптимистически усматривает симптомы отрезвления. «Отчужденный
1 Julius Ebbinghaus, Ueber die Fortschritte der Metaphysik
Tübingen, 1931, S. 6.
2 Verhandlungen des ersten Hegelkongress vom ^2 bis 25. April
1930 im Haag. Im Auftrag des Internate nalen Hegelbundes
herausgegeben von B. Wigersma, Tübingen—Haarlem, 1931.
92
дух снова начинает осмысливать самого себя, делает
первую попытку, если можно так выразиться, снова притти к
себе». Такова причина «нового пробуждения гегелевского
духа», являющегося духом «сосредоточенности,
самоосмысливания». Что означает эта «сосредоточенность»? «Если
просвещение смешивало государство с буржуазным
обществом, а либерализм в эпоху. Гегеля подчинял государство
этому обществу, как это имеет место и теперь там, где
государство рассматривается как простое средство для
целей хозяйства, то Гегель, напротив, показывает, что
этим путем интерес единичного, как такового, берется в
качестве конечной цели и что отсюда следует, что участие
или неучастие в государстве зависит от желания
единичного. Действительно, нынешняя политическая усталость,
незаинтересованность по отношению к государству,
халатность в исполнении гражданского долга есть только
следствие этого понимания, которое в конце концов ведет
к откреплению хозяйства от государства и тем самым к
отнятию у государства его материального содержания. Но
государство, как неустанно подчеркивает Гегель,
находится в «совсем другом отношении к индивиду, поскольку
оно является объективным духом; сам индивид обладает
объективностью, истиной и нравственностью лишь
постольку, поскольку он является его частью». Таким образом,
возрождение «гегелевского духа» несет с собой примат
государства над частным интересом.
Доклад Биндера всецело проникнут этой идеей, которая
принадлежала когда-то не только Гегелю, но даже
Робеспьеру. И тем не менее в устах современных гегельянцев
эта идея имеет глубоко реакционный смысл. Критика
«частного интереса», которой беспрестанно предаются ге-
гельянствующие профессора и доценты, нисколько не
угрожает спокойствию имущих классов. Нападки на
«индивидуализм» и «эгоизм», требование подчинения отдельного
лица «всеобщему» и т. д. — все это не выходит из
пределов тех мер вмешательства «политического государства»
в «буржуазное общество», какие применяет на практике
любое империалистическое правительство (например,
ограничение вывоза девиз и т. п.). Более того: эта критика
«общественного эгоизма» может быть с удобством
направлена против рабочего класса, отказывающегося приносить
93
жертвы капиталистическому государству. Что именно
классовый «эгоизм» пролетариата является главным
объектом критики Биндера, показывают его нападки на
марксизм и коммунизм. Следуя старой
реакционно-декадентской манере, он рассматривает коммунистическую
теорию в качестве разновидности индивидуализма.
«Марксистское учение о государстве как орудии власти в
руках господствующего класса есть порождение этого
общественного субъективизма: такая теория, которая,
подобно современному либерализму и демократизму, тоже
имеет своей основой субъективизм, никогда не может
вступить в действенную борьбу с этим учением» (стр. 203).
В качестве настоящей антитезы марксизма Биндер не без
основания называет гегелевскую теорию государства.
«Совершенное единство субъективного и объективного духа
и действительность свободы есть государство. Но это
государство не есть просто предмет единства, оно не есть
также простой коллектив, но некая «универсальность»
самостоятельных частей, которые в своей единичности
являются действительностью целого» (стр. 187). Для того
чтобы не осталось ни малейшего сомнения в том, что этот
«универсализм» при всем своем отличии от либеральных
идеалов является в то же время крайней
противоположностью коммунизма, ученый мракобес поясняет:
«Коллективизм есть только форма индивидуализма, и он не имеет
ничего общего с универсализмом».
То, что реакционный профессор Биндер называет
«универсальностью», социал-демократический прусский
«министр исповеданий» Гримме именует «обществом,
организованным на товарищеских началах». В приветственной
речи, обращенной ко второму конгрессу гегелевского
интернационала, Адольф Гримме заявляет: «Гегель — это
живейшая современность, ибо он подчеркивает примат
всеобщего, государства над индивидом. Государство было
для Гегеля высшей нравственной силой общества,
организованного на товарищеских началах». Здесь тот же
империалистический идеал «мощного государства» прикрывается
социалистической фразой о товариществе, подобно тому
как в статье Гримме «Живой Гегель»1 капиталистическая
1 «Vorwärts» от 14 ноярбя 1931 г.
94
программа оздоровления фигурирует под именем
«планового хозяйства». «Примат всеобщего над индивидом»,,
вдохновляющий реакционных профессоров и
социал-демократических министров, есть не что иное, как
философский псевдоним современного буржуазного государства,
государства железной пяты, от которого
господствующие классы ждут решительных действий против
«индивидуализма». Первым проявлением такого
антигосударственного «индивидуализма» является потребность
рабочего жить, иметь пищу, жилище и т. д.
Итак, в современных условиях политический идеализм
Гегеля служит оружием борьбы с коммунизмом. Это с
элементарной ясностью вытекает из широкого
распространения гегельянства в фашистской Италии. Политическое
учение Гегеля является здесь как бы официальной доктриной.
Верховный глава итальянского гегельянства Джиованни
Джентиле сам в течение некоторого времени занимал пост
министра просвещения в правительстве Муссолини. Один
из знатоков итальянского фашизма и его буржуазный
критик Людвиг Бернгард следующим образом рисует
политические корни неогегельянского течения в Италии: «На
первой, так сказать наивной, ступени фашистская
доктрина состояла просто-напросто из одной, образованной по-
принципу антитезы, формулировки своего отношения к
политическому либерализму. Политический либерализм
был противоположностью, от которой диалектически
развивалось фашистское учение. Умственные ходы на первой
ступени заимствованы из учения Макиавелли. «Сильное
государство», stato forte, как единственно жизнеспособное,
противопоставляется либеральному государству,
являющемуся государством слабым, разорванным. Основные
понятия либерализма, каковы «свобода», «воля народа»,
«демократия», «самоуправление», осмеиваются как
бессодержательные. Характерными для этой ступени являются
программные заявления Муссолини в 1922 и 1923 гг., особенно
его противопоставление forza и consenso (силы и согласия)
в официальном фашистском журнале «Guerarchia». После
того, однако, как горький опыт 1924 года показал ему,
что жестокие вещи опасно выражать жестокими словами
и обнажать произвол, диктатор стал при усилении всех
средств насилия искать диалектической маскировки.
95
Тем самым наступил золотой век философов, этих
певцов фашизма. Джиованни Джентиле стал официальным
провозвестником фашистской «свободы». В то время как
реалистический Муссолини только-только сказал, что
итальянские массы желают не свободы, а хлеба, он
услышал теперь, к своему радостному удивлению, от Джентиле,
что фашизм есть истинная свобода. И то, что стремилась
выразить вычурная диалектика Джентиле, означало теперь
в металлической формуле Муссолини: «Быть свободным —
не есть право, но обязанность!»
Эту «диалектическую» демагогию, заложенную в самом
характере эпохи империализма, Бернгард неудачно
называет «узурпацией» либерализма.
«Средство, с помощью которого официальная доктрина
совершает эту узурпацию, есть диалектика Гегеля...
Популярно-политическое применение гегелевской диалектики
Джентиле и «джентилеанцами» в высшей степени
пригодно для того, чтобы искусно запутать сами по себе
простые и ясные, но совершенно односторонние и
негибкие идейные мотивы фашизма и придать им оттенок
таинственного. К этому нужно прибавить, что с недавнего
времени в Риме стало очень модно украшать политические
речи и статьи непонятными обрывками этой сложной
диалектики»1. Доклад Джентиле на втором гегелевском
конгрессе в Берлине мог служить иллюстрацией к этим
рассуждениям Бернгарда.
Перечень главных источников современного
неогегельянства был бы неполон без указания на третью —
национально-немецкую — причину его расцвета. Это —
крушение германского империализма в результате мировой
войны, версальская система, явившаяся одним из
существенных условий экономического падения Германии. В поисках
выхода из кризиса немецкий капитализм навязывает
народным массам эфемерный идеал могущественной
империалистической Германии. Националистическая агитация
находит себе союзника в -неогегельянском движении. Так
называемое «Интернациональное гегелевское общество» имезт
своей действительной целью создание на родине философа
1 Ludwig Bernhard, Der Staatsgedanke des Faschismus, Berlin,
1931, S. 7—9,
святилища великогерманского шовинизма. Как бы в
доказательство этого, берлинский обер-бургомистр Зам привел
на втором конгрессе Гегель-бунда следующие слова
современника Гегеля—Пфицера: «Философия есть в сущности
наша последняя и единственная национальная святыня,
последний и прочный пункт, от которого мы можем
отправляться к новым духовным победам и снова вернуть себе
утерянное; только высшее и совершеннейшее образование
.духа может снова создать для немцев достойное их
положение в ряду других наций».
Первый гегелевский конгресс торжественно
провозгласил философию международного права Гегеля немецкой
теорией реванша. Мы уже знаем, что с точки зрения
Гегеля идея государства является разрешением
противоречий буржуазного общества. Но каково
взаимоотношение между отдельными нациями-государствами,
составляющими в совокупности человечество? Подобно тому, как
на мировом рынке действительно только золото, в
международных отношениях имеет значение только сила. Гегель
с величайшим историческим реализмом изображает
действительное отношение между национальными
«левиафанами» буржуазного общества, войну всех против всех. Но
сила является выражением исторического права. Нация,
оказывающаяся в данную эпоху носительницей мирового
духа, обладает и мощью, необходимой для того, чтобы
сделать другие народы своими орудиями. Их тяжбу решает
время. «История, — говорит Гегель, — есть последний
страшный суд» \
Эта картина написана прежде всего с исторических
судеб французского народа в эпоху революционных войн
и наполеоновского режима в Европе. Когда Гегель
говорил об историческом праве насилия на международной
арене, он имел в виду право самого прогрессивного народа
его времени употреблять военную силу для утверждения
нового строя во всем остальном мире.
Революционный патриотизм, являющийся историческим
содержанием этих идей, превратился у современных гегельянцев
в реакционный шовинизм. Об этом
свидетельствует хотя бы цитированный выше доклад Юл. Биндера.
1 «Die Weltgeschichte ist das Weltgericht» (слова Шиллера).
7 M. Лифшиц 97
Биндер противопоставляет «дух Гегеля» «пацифистскому
движению». Главным противником теории международного
права Гегеля является, с его точки зрения, учение Канта
о «вечном мире». Отсюда естественно следует, что из двух
конкурирующих судилищ — международного трибунала
Лиги наций и «страшного суда» истории — Биндер
выбирает последнее. Он настойчиво подчеркивает, что у Гегеля
нет ни малейшего намека на «сверхгосударственное
право», что, по мнению философа, нет «претора» между
народами. Гегелю чужда идея вечного мира,
«гарантированная союзом наций, с третейским судом и исполнительной
властью, как это соответствует Версальскому миру», и
вообще идея «союза наций, созданного посредством
произвола, насилия и политики и предназначенного для
сохранения власти победителя над побежденными, и тем самым для
сохранения вечного мира для победителей». В противовес
этой идее, «Гегель слишком ясно высказался за
нравственную справедливость войны, чтобы его восприятию
нравственности и свободы могла соответствовать мысль о
некоем, хотя бы и бесконечно отдаленном состоянии вечного
мира, ибо как раз война является для него
необходимым средством защиты свободы угрожаемой нации, и
в замкнутости гегелевской системы нет вовсе места для
цели, лежащей в дурной бесконечности». «Не только
фактически в современных условиях нет судьи между
народами, но и вобще его быть не может». Единственное
решение исходит от мирового духа, «творящего свой суд над
государствами в процессе мировой истории, т. е. в
необходимой борьбе народов друг с другом за свою свободу, за
действительность их духа в мире, за выполнение их
исторической миссии». «Уверенность в силе нравственности
может быть всегда только уверенностью в своем
нравственном праве» и «в своей собственной нравственной
ценности. Мировой дух обнаруживает в ней свою силу,
которая поможет угрожаемой нации добиться победы». Таковы
чрезвычайно ясные цели и стремления руководителей
немецкого неогегельянства: воссоздать Германию как
могущественную империалистическую державу, во что бы то*
ни стало добиться реванша.
Вот Гегель и книжная мудрость,
И смысл философии всей.
98
В то время как действительное учение Гегеля о
«страшном суде» истории было отражением революционного
периода буржуазного общества, современный культ
милитаризма является ярким симптомом его заката. В устах
представителей имущих классов слова о «необходимой
борьбе народов друг с другом за свою свободу» давно уже
превратились в реакционную фразу. А слова Гегеля о
«ведущем народе», неуклонно осуществляющем свою
историческую миссию, применимы в настоящее время лишь к
народам советской демократии, готовым защищать свою
социалистическую родину всеми средствами войны и мира.
Пролетарская диктатура противопоставляет реакционным
классам свою силу и право. То рациональное зерно, тот
прогрессивный смысл, который сохранила еще мысль о
«страшном суде» истории, состоит для нашего времени в том, что
между рабочим классом и классом капиталистических
частных собственников нет и не может быть иного суда, кроме
суда борьбы. Борьба двух систем решает, за кем
историческое право, и кто, напротив, будет уничтожен. Настоящий
«страшный суд» (Weltgericht) — это коммунистическая
революция. «В средние века,— говорил Карл Маркс в своей
замечательной речи на юбилее чартистской «Народной
газеты»,— в Германии существовало, в отмщение за
злодеяния правящих классов, тайное судилище, «суд фемы». Если
на каком-нибудь доме появлялся красный знак, то знали
уже, что хозяин его отмечен фемой. Теперь на всех домах
Европы начерчен таинственный красный крест. Сама
история руководит судом, а исполнителем приговора будет
пролетариат».
III
Из всего сказанного о причинах и характере
современного «возрождения» гегельянства естественно следует,
каково должно быть наше отношение к этому своеобразному
идеологическому явлению. Можем ли мы приветствовать
«возрождение» классической философии, и в частности
реабилитацию Гегеля, осмеянного либеральными
теоретиками в прошлом, или, наоборот, должны оплакивать
окончание либерально-позитивистской и кантианско-реформист-
ской эры, как эры «меньшего зла» по сравнению с фа-
7* 99
шистским неогегельянством? Разумеется, обе эти позиции
были бы неправильны со всех точек зрения, и прежде всего
с точки зрения политической. Неогегельянство, как и
неокантианство — принадлежат в одинаковой степени к
продуктам буржуазной культуры эпохи ее упадка. Они
реакционны в самом глубоком и точном смысле этого слова.
Было бы нетрудно показать, что оба эти течения, при всей
своей противоположности, взаимно питают друг друга, а
в настоящее время даже прямо ищут сближения. Поэтому,
отвергая попрежнему идеализм кантианцев, мы не
находим ничего исторически прогрессивного и в современной
неогегельянской моде. Своеобразным отражением этой
буржуазной моды в советских условиях является меньшевист-
вующий идеализм группы Деборина. Куда ведет это
направление, показывает пример Зигфрида Марка, Гримме и
других представителей социал-демократического
неогегельянства на Западе.
«Нет худа без добра»,— гласит одна рискованная
поговорка. Оживление интереса к Гегелю, распространившееся
за последние тридцать лет, было причиной приведения в
некоторый относительный порядок рукописей философа
(хранящихся в «королевско-прусской» библиотеке в Берлине)
и даже опубликования значительной их части. Это и есть
то небольшое «добро», которое, разумеется, совсем не
может уравновесить такого большого «худа», каким1 является
современное реакционное гегельянство. Мы позволим себе
здесь остановиться на одной из этих публикаций, стоящей
сейчас в центре спора о Гегеле и, к сожалению, мало у
нас известной. Речь идет о работах молодого Гегеля,
написанных им в последнее революционное десятилетие
XVIII века. Они были опубликованы еще в 1907 году
учеником Дильтея Германом Нолем, правда, под неуклюжим и
явно апологетическим заглавием; «Теологические работы
молодого Гегеля».
При первом взгляде на эти работы, составляющие в
совокупности толстый том в 400 страниц, действительно
может показаться, что содержание их имеет чисто
богословский характер. Здесь и «народная религия», и «жизнь
Иисуса», и «позитивность христианства»,— словом, поня-
100
тия и образы, способные создать впечатление, будто в
годы величайших революционных потрясений в Европе
Гегель мирно перелистывал свой катехизис. Но это далеко не
так. Работы, опубликованные Нолемх, показывают нам
молодого Гегеля в качестве одного из наиболее
последовательных демократов тогдашней Германии. И кто знает, не
ждала ли его судьба революционного пораженца Георга
Форстера, если бы армия Кюстина, поднявшись вверх по
Рейну, вторглась в Швабию? Интерес к религиозным
вопросам нисколько не противоречит этим политическим
симпатиям Гегеля. Если вместе с Германом Нолем мы
назовем эти юношеские произведения «теологическими
работами», то придется, пожалуй, отнести к области богословия
не только «Исповедь савойского викария» (Руссо, но и
декрет Конвента от 18 флореаля II года, устанавливающий
публичный культ Высшего Существа.
Излюбленным мотивом неогегельянцев является тезис о
глубоко религиозном духе всей философии Гегеля. Недаром
на втором конгрессе Гегель-бунда председательствовавший
Лассон с презрением говорил о некоей «секте»,
написавшей на своем знамени: «Гегель» и одновременно —
«Религия есть опиум для народа». Понятно, что юношеские
«теологические» работы Гегеля истолковывались именно
в духе мистицизма. Еще Дильтей писал о «мистическом
пантеизме» молодого Гегеля.
Нельзя отрицать того, что в юношеских работах Гегеля
политические вопросы выступают в форме религиозных
проблем. Это есть несомненное следствие отсталости
Германии конца XVIII века, результат особого характера
развития в ней классовых противоположностей. Но, с
другой стороны, религиозная проблема, и в частности вопрос
об отношении религии к государству (см. обширные
рассуждения на эту тему в рукописи: «Позитивность
христианской религии» — у Ноля, стр. 183 и след.), занимала три
собрания народных представителей в революционной
Франции, и вообще решение этой проблемы, соответствующее
основам буржуазного общества, в девяностых годах
1 «Hegels theologische Jugendschriften» nach den Handschriften
der kgl. Bibliothek In Berlin, hrsgb v. Dr. Hermann Nohl, Tübingen >
1907.
101
XVIII века было еще искомым (по крайней мере для
Европы). Не следует упускать из виду и то своеобразное
обстоятельство, что последовательно-демократическая
партия французской революции — партия якобинцев была
настроена антихристиански, но отнюдь не атеистически.
Известны слова Робеспьера, верного последователя Руссо:
«Атеизм аристократичен, между тем как идея Высшего
Существа, заботящегося о 'невинности, имеет целиком
народный характер». Руссо против «энциклопедистов»,
абстрактно-возвышенный «гражданин» против эгоистического
«материалиста» — буржуа, народная религия против
атеизма жирондистских салонов: такова противоположность,
с которой сталкивается всякий, желающий понять
политическую и философскую литературу конца XVIII века. Эта
антитеза дает ключ и к пониманию религиозности
молодого Гегеля.
Так же, как деятели Конвента, Гегель рассматривает
религию в качестве средства для политико-социального
воспитания и руководства массами. iB центре его внимания
стоит «народная религия», изображаемая в античных
тонах и созданная для того, чтобы поддерживать
республиканские добродетели. «Народная религия, родящая и
питающая великие помыслы, идет рука об руку со свободой»
(стр. 27). «Человек есть нечто столь многостороннее, что
из него можно сделать все; многообразно переплетенная
ткань его ощущений имеет такое множество концов, что
все может быть с нею связано: если это не исходит от
одного конца, то исходит от другого. Поэтому человек был
способен к глупейшему суеверию, к величайшему
иерархическому и политическому рабству; сплести эти прекрасные
нити природы, сообразно последней, в один благородный
союз — должно быть прежде всего делом народной
религии» (стр. 19). Эта последняя у молодого Гегеля
представляет собой прямую противоположность господствующей
«положительной религии». «Теологические работы» Гегеля
насквозь проникнуты критикой иудаизма и христианства.
Похотливо-чувственной, мелочно-эгоистической основе так
называемых «великих религий» он противопоставляет
публичный культ красоты, религию древнегреческого полиса.
Иудейство и христианство покоятся на антиобщественной
тенденции частного человека, его индивидуалистическом по-
102
.тружении в самого себя; мелочное исполнение религиозных
обрядов вытекает из личных интересов людей, уши
которых закрыты для понимания «долга». «Своекорыстие есть
маятник, колебания которого поддерживают их машину
в движении» (стр. 7).
Это своекорыстие, господство частного интереса над
всеобщим является источником веры в чудеса и загробное
воздаяние. «Свободный республиканец» не ждет утешения
и вознаграждения в загробном мире. «Сделать своей
максимой слепое послушание человека, подверженного
злобным прихотям, мог только народ величайшей
испорченности, глубочайшего морального бессилия, его могла
привести к этому только продолжительность времени полного
забвения лучшего состояния. Такой народ, оставленный
самим собой и всеми богами и ведущий частную жизнь,
нуждается в знамениях и чудесах, нуждается в гарантиях
со стороны божества, что имеется будущая жизнь,
ибо в самом себе он уже не может иметь этой веры»
(стр. 70).
Рабство, бессилие, нищета — вот действительная основа
веры в загробное воздаяние. «Толпа, не обладающая более
публичными добродетелями, униженная и живущая в
состоянии угнетения, нуждается теперь в иной поддержке,
ином утешении, чтобы вознаградить себя за ту нищету,
которую она не может осмелиться уменьшить...» (стр. 70).
Возникновение и распространение христианства было
следствием разложения античной общественной жизни, упадка
свободы, испорченности нравов. «Греческая и римская
религия была религией только для свободных народов, и
вместе с утратой свободы должны были исчезнуть также ее
смысл и сила, ее приспособленность к людям. Что пушки
для армии, расстрелявшей все свое снаряжение? Она
должна искать другого оружия. Что сети для рыбака, когда
поток уж высох? Как свободные люди, подчинялись они
законам, которые дали себе сами, слушались людей,
поставленных в начальники ими самими, вели войны,
решенные ими самими, отказывались от своей собственности,
своих страстей, жертвовали тысячью жизней за дело,
которое было их делом, не поучали и не поучались, но
применяли максимы добродетели в деяниях, которые они
вполне могли назвать своими; в публичной, как и в част-
103
ной и домашней жизни, каждый из них был свободным
человеком, каждый жил по собственным законам. Идея'
отечества, его государства, была невидимым, высшим, для
блага чего он работал и что подталкивало его; это было
его конечной целью в мире или конечной целью его
мира,— он находил ее представленной в действительности или
сам содействовал ее осуществлению и сохранению. Перед
этой идеей исчезала его индивидуальность, он претендовал
только на сохранение жизни и продолжительное
существование для нее, и это ему удавалось осуществить; но
требовать продолжительного существования или вечной
жизни для своей индивидуальности ему не могло, или очень
редко могло, притти в голову...»
С падением античной демократии возникла почва для
религиозных умонастроений, подобных христианству.
Гегель следующим образом рисует взаимоотношение между
индивидом и обществом в позднеримскую эпоху. «Образ
государства как продукта деятельности исчез из души
гражданина; забота о целом, обозрение всего покоилось в душе
единичного или немногих; каждый имел свое
предуказанное ему, более или менее ограниченное, отличающееся от
другого место; незначительному числу граждан было
доверено управление государственной машиной, и эти
последние сами по себе служили лишь отдельными колесиками,,
приобретающими свое значение лишь в связи с другими;
доверенная каждому часть раздробленного на куски цело^
го была настолько незначительна в отношении к
последнему, что единичному не было вовсе пользы знать или
видеть эти отношения,— полезность в государстве была
великой целью, поставленной государством своим
подданным, а целью, которую они себе ставили при этом сами,
была нажива и поддержание своего, существования, и еще,
пожалуй, тщеславие. Всякая деятельность, всякая цель была
направлена теперь на индивидуальное, никакой больше
деятельности для целого, для идеи,— каждый работал для
себя или был принужден работать для другого, единичного.
Свобода подчиняться собственным законам, следовать за
избранными ими самими властями и военачальниками,
осуществлять планы, в выработке которых они сами
принимали участие,— все это отпало, отпала всякая
политическая свобода; право гражданина давало лишь право на не-
104
прикосновенность собственности, которая заполняла теперь
весь его мир; явление, срывавшее теперь всю ткань его
целей, деятельность всей его жизни, а именно — смерть,
должно было казаться ему чем-то ужасным, ибо ничто его
не переживало (республиканца переживала республика), —
и вот этому человеку мерещилось, что она, его душа, есть
нечто вечное» {стр. 223).
Этот взгляд в котором сказывается, конечно, влияние
революционных писателей XVIII века, сохранился у Гегеля
и впоследствии. Но у зрелого Гегеля он скрыт
подиной, гораздо более высокой оценкой христианства и
частной собственности, как необходимой основы прогресса в
новое время. Если мы, однако, обратимся к
антирелигиозной литературе левогегельянцев, то обнаружим большое
сходство между двумя периодами
революционно-демократического подъема: концом XVIII века и началом
сороковых годов XIX столетия. Но есть нечто, отличающее
молодого Гегеля от позднейших критиков христианства.
Это — гораздо более реалистический характер его взгляда
нг политическую функцию религии. Какими туманными
кажутся все рассуждения о христианстве, исходящие от
левогегельянцев тридцатых и сороковых годов XIX века
по сравнению со следующим местом из юношеских работ
Гегеля, проникнутых духом революционного просвещения г :
«Первые христиане находили в своей религии утешение и
надежду на будущее вознаграждение для них и наказание
для их врагов — их угнетателей, которые были
язычниками. Но подданный монастыря или вообще подданный
деспотического государства не мог воззвать к своей
религии о мести по 'Отношению к роскошествующему прелату,
расточающему то, что добыто потными руками, или к
откупщику, ибо этот последний слушает те же мессы, или
даже сам их служит, и т. д. Такой подданный находил в
своей механической религии столь великое утешение и
1 Наибольшее сходство с идеями молодого Гегеля обнаруживает
содержание двух левогегельянских брошюр. ( Трубный глас» и
«Учение Гегеля о религии и искусстве с точки зрения верующего»),
в составлении которых принимал участие Маркс (1841—1842). То
же самое надо сказать и о конспектах молодого Маркса,
относящихся к периоду его работы над «Трактатом о христианском
искусстве».
105
вознаграждение за всю утрату им своих человеческих прав,
что он в своей животности потерял всякое понимание
принадлежности к человечеству» (стр. 365).
Мы уже видели, что критика религии у молодого Гегеля
покоится на противопоставлении частного человека,
bourgeois, политической всеобщности, точно так же как это
имело место в идеологии якобинцев. Неравенство имуществ,
частная собственность критикуются не в их специфически
буржуазной форме, а наоборот, как следствие феодально-
иерархического общественного устройства, как остаток
политической деспотии. Положительная религия является
только отражением этой искаженной общественной
формы. «Объективность божества развивалась параллельно
испорченности и рабству людей, и она есть собственно
только проявление этого духа времени» (стр. 227). Там,
где центробежные силы частного интереса разлагают
социальный организм, человек не верит в caiMoro себя и все,
что есть в нем хорошего, переносит в потусторонний мир.
Наоборот, вместе с уничтожением деспотии и подавлением
индивидуального эгоизма ему снова становится понятным
«прекрасное человеческой природы». «Поэтому, когда
спустя тысячелетия человечество снова становится способным
иметь идеи, интерес к индивидуальному исчезает, и хотя
сознание испорченности человека остается, но учение о его
греховности идет на убыль, и то, что привлекало нас в
индивиде, само в качестве идеи все более выступает в своей
красоте; мыслимое нами, оно становится нашей
собственностью, мы снова познаем как свое творение, снова
присваиваем себе прекрасное человеческой природы, то, что
мы сами вкладывали в чуждого индивида, оставляя для себя
лишь самое отвратительное, на что только способна
человеческая природа; тем самым мы снова учимся чувствовать
уважение к себе, ибо до сего времени мы полагали, что
нам свойственно только то, что может служить предлогом
презрения» (стр. 71).
Мы подходим здесь к действительному историческому
содержанию того, что Гегель называл «народной
религией». Это публичный культ народа, «свободных
республиканцев», проявляющийся в пышных, декорированных на
античный лад торжествах в честь свободы и равенства.
«Народ, — пишет молодой Гегель, — который учредит свое
106
публичное богослужение таким, что будут затронуты
чувства, фантазия и сердце, без того, чтобы разум остался
при этом пустым, и таким образом, что благоговение
произойдет из согласной работы и подъема всех сил души,
а представление о строгом долге будет смягчено и сделано
более доступным посредством красоты и радости,— такой
народ, чтобы не дать в руюи определенного класса людей
вожжи, с помощью которых можно держать его в
зависимости, будет сам устраивать свои празднества, сам будет
распределять свои выдачи, и когда его ум будет занят
отечественными учреждениями, сила его воображения
изумлена, его сердце тронуто и его разум удовлетворен, то его
дух не будет вовсе чувствовать потребности, или ему вовсе
не будет доставлять удовольствия выслушивать каждые
семь дней фразы и образы, понятные и уместные только
несколько тысяч лет назад в Сирии» (стр. 39) \
Проблема революционного празднества имеет немалое
значение и для революции пролетариата. Об этом
свидетельствует опыт нашей страны. Однако между массовыми
демонстрациями рабочего класса и помпезными праздне-
1 Мы как будто слышим знаменитую речь Робеспьера о
республиканской религии Высшего Существа: «Граждане... есть такого
рода учреждение, которое следует рассматривать как существенную
часть публичного воспитания и которое необходимо относится к его
содержанию. Я буду говорить о национальных празднествах.
Соберите людей, и вы сделаете их лучшими, ибо люди, собравшиеся
вместе, ищут удовольствия, а удовлетворение им могут доставить
только те вещи, которые делают их достойными уважения. Дайте
их собранию великую моральную и политическую тему, и любовь
ко всему достойному проникнет в их сердца вместе с
удовольствием, ибо люди не встречаются без удовольствия. Человек — это
самый, великий предмет в природе, и самое величественное из
всех зрелищ есть зрелище великого'народа, собранного воедино.
Никогда не говорят без энтузиазма о народных празднествах
Греции... Как легко будет французскому народу дать нашим собраниям
более широкий предмет и более великий характер! Хорошо
разработанная система празднеств будет одновременно играть роль
легчайших уз братства и самого мощного средства возрождения».
«Не ждите, однако, честолюбивые священнослужители, что мы
будем работать для восстановления вашего влааычества!.. Истинный
жрец Высшего Существа—это природа; его храмы — это вселенная;
его культ—добродетель; его праздники—радость великого народа,
собранного пред его очами для того, чтобы крепче стянуть узы
всеобщего братства и чтоб Еоздагь ему благоговение
чувствительных и чистых сердец».
107
ствами классической буржуазной революции XVIII века —
огромная разница. Ибо «там,— употребляя выражение
Маркса,— фраза преобладала над содержанием, здесь
содержание преобладает над фразой». Революционные
учреждения Франции уделяли вопросу об организации и
распорядке народных празднеств исключительное внимание.
Ремесленник и богатый поставщик, рабочий и владелец,
мануфактуры должны были по плану буржуазных
законодателей слиться в торжественном порыве к социальному
единству, которое именно вследствие своего
сверхэкономического характера приобретало религиозный смысл. При
всем реализме якобинцев их политическая идеология была
насквозь идеалистична. Всякое проявление особых
интересов она бичует как «эгоизм» и объявляет
непатриотичными материальные требования рабочих. Но тем самым эта
идеология теряет свой народный характер. Для того
чтобы привязать массы к республиканским добродетелям,
которые их не кормят, чтобы сделать невозможное, т. е.
устранить противоречия материальных интересов внутри
народа, разыгрываются грандиозные общественные
спектакли, вызываются тени Гракхов и Публикол, заимствуется
из древней Греции идея народного празднества. Дух как бы
примиряется с плотью, и абстрактная добродетель,
парящая над материальной жизнью, делает уступку
человеческой чувственности. Так в демократической революции,,
проходящей под руководством буржуазии, возникает
эстетическая проблема.
Классическая философия в Германии была, по словам
Маркса, немецкой теорией Великой французской
революции. Это справедливо не только в общих чертах, но и
применительно к отдельным вопросам, приковывавшим
внимание немецких мыслителей. Проблема эстетического
оформления народных празднеств и публичной жизни в
целом играет большую роль у Шиллера. В юношеских
работах Гегеля она занимает одно из центральных мест.
Это дает современным реакционным писателям повод
«эстетизировать» молодого. Гегеля. Обрушиваясь на «миф»
о революционных побуждениях Гегеля, они рисуют его
погруженным в чисто эстетические интересы,
фантазирующим энтузиастом, который, уходя в мир прекрасного,
начисто отрицает все, связанное с прозой жизни. Но мы·
108
уже видели, что эстетическая критика «своекорыстия» по
своим основным мотивам совпадает с нападками якобинцев
на «аристократию капитала». Гегель разделяет все
достоинства и недостатки революционно-демократической
идеологии конца XVIII века. Этой идеологией проникнуты и его
взгляды на искусство.
В юношеских работах Гегеля мы повсюду найдем
противопоставление античного искусства духу нового времени и
западных народов. «Уже в архитектуре обнаруживается
различный гений греков и немцев. Те жили свободно, на
широких улицах, в их домах были открытые, лишенные
крьшги дворы, в их городах часты большие площади, их
храм построен в прекрасном благородном стиле — простой,
как греческий дух, возвышенный, как бог, которому он
посвящен». Напротив, «наши города имеют узкие, вонючие
улицы, комнаты узки, отделаны темным, с темными
окнами, большие залы низки и давят, когда находишься в них...»
Древние греки могли воспевать тираноубийц Гармодия и
Аристогейтона, в новое время народная фантазия чужда
подобных сюжетов (стр. 359). Причину нисхождения
поэзии Гегель видит в оторванности образованных слоев от
народа, а с другой стороны — в крайней бедности и
грубости народной фантазии у современных наций.
«Афинский гражданин, которого бедность лишала возможности
подавать свой голос на публичном народном собрании,
вынужденный даже продавать себя в рабство, знал не хуже
Перикла или Алкивиада, кто такой был Агамемнон и Эдип,
которых в благородных формах прекрасного и
возвышенного человечества выводили на сцену Софокл и Эврипид,
или Фидий и Апеллес изображали в чистых образах
телесной красоты» (стр. 240). В новое время оторванность
образованных слоев от народа гораздо более велика. Вообще
«неравенство имуществ» и «сословий» образует, по
мнению молодого Гегеля, главную причину упадка эстетической
и торжества религиозной фантазии. «Когда простота
нравов, еще до большого неравенства состояний, сохранилась
в народе и история разыгрывается на собственно народной
почве, то саги переходят от родителей к детям, они
являются в равной мере достоянием каждого. Но как только
внутри нации образуются особые сословия и отец
семейства перестает быть вместе с тем и первосвященником, то
109
рано появляется сословие, служащее хранителем саг, от
которого исходит знание их в народе; это бывает
особенно в тех случаях, когда эти саги произошли из чуждой:
страны, возникли среди чуждых нравов и на чуждом языке.
Основа, содержание саг в своей первоначальной форме уже
не может быть здесь достоянием каждого, ибо, чтобы
изучить эту форму, нужно много времени и разнообраз
ный аппарат знаний. Таким образом, это сословие быстро
достигает господства над публичными верованиями,
господства, которое, может распространиться до пределов весьма
широкой власти, или, по крайней мере, всегда сохраняет
в руках вожжи по отношению к народной религии» (стр.
65—66).
Рукописи, изданные Нолем, насыщены элегическим
воспеванием античности, выступающей в образе республики
«свободных граждан», в противоположность
христианскому обществу, где на первый план выдвигаются интересы
«единичного». Греческая демократия повсюду
противопоставляется государству нового времени, «заботящемуся лишь
об охране собственности». Уже в первой из этих
рукописей, названной в издании Ноля «Народная религия и
христианство», Гегель противополагает «юношеский гений»
греков «стареющему гению Запада». Первый «чувствует
самого себя и ликует в своей силе, с неутолимой жаждой
набрасывается он на нечто новое и живейшим образом
заинтересован в нем, но оставляет его, пожалуй, снова и
овладевает чем-нибудь другим. Этим никогда, однако, не
может быть что-нибудь такое, что угрожало бы наложить
оковы на его гордую свободную шею». Напротив,
«стареющий гений во всех отношениях отличается прежде всего
своей прочной привязанностью к исстари заведенному, и
поэтому он несет оковы, как старик подагру, о которой
он ворчит, не имея силы ее сбросить; он позволяет себя
толкать и трясти, как это вздумается его владыке, но
наслаждается с половинным сознанием, не свободно, не
открыто, со светлой прекрасной радостью, вызывающей у
других симпатию; его празднества — это болтовня,
подобно тому как у старика все сводится к тому, чтоб болтать,—
не звучный клич, не полнокровное наслаждение» (стр. 6).
«Ах, из далеких дней прошлого перед душой, обладающей
чувством красоты и величия в великом, встает сияющий
110
образ гения народов — сына счастья, свободы,
воспитанника прекрасной фантазии. И его приковывала к матери-
земле железная цепь потребностей, но он так обработал
ее и с помощью своего чувства, фантазии придал ей более
тонкий, красивый характер, с помощью граций оплел ее
розами, что он находил себе в этих цепях удовлетворение,
как в своем собственном создании, как в части самого
себя... Мы знаем этого гения только из поэтических
описаний. Мы можем с любовью и удивлением судить лишь о
некоторых его чертах в оставшихся копиях его образа,
которые пробуждают мучительное стремление к
оригиналу. Он — это прекрасный юноша, которого мы любим и
в легкомыслии, со всей свитой граций, а с ними
бальзамическое дыхание природы, душа, которую они вдохнули и
которую он всасывал в себя из каждого цветка. Увы, он
оставил землю!»
Интересен также следующий отрывок, правда,
перечеркнутый и обрывающейся на самом существенном месте:
«Другого гения наций вывел Запад: его образ имеет
старческий характер, прекрасным он никогда не был, но
некоторые слабые следы немногих черт мужественности у него
еще остались; его отец согбен,— он не осмеливается ни
бодро оглянуться вокруг, ни восстать в сознании самого
себя, он близорук и может видеть сразу лишь мелкие
предметы, лишенный храбрости, без уверенности в собственной
силе," он не осмеливается на смелый прыжок, (чтобы)
железные цепи грубо и...»
Мы уже знаем Гегеля-«теолога» и Гегеля-«эстета»;
теперь попробуем понять его как поклонника древности.
В его отношении к античному миру нет ничего отвлеченно-
академического. Обращение к античному образцу —
характерная особенность революционного движения конца
XVIII века. Этого не избежали даже такие люди, как Гракх
Бабеф. «Робеспьер, Сен-Жюст,— писал Маркс,— в самых
ясных выражениях говорят об античной, присущей только
«народной сущности», «свободе, справедливости,
добродетели». Спартанцы, афиняне, римляне в эпоху своего
величия — «свободные, справедливые, добродетельные народы».
Эта политико-эстетическая фантастика свойственна
Гегелю в одинаковой степени с деятелями Комитета
общественного спасения, она образует их общую черту, выражение
111
их общей исторической и классовой ограниченности.
«Робеспьер, Сен-Жюст и их партия погибли потому, что они
смешали античный реалистически-демократический
общественный порядок, который покоился на основе
действительного рабства, с новейшим
спиритуалистически-демократическим представительным государством, которое
покоится на эмансипированном рабстве, на буржуазном
обществе. Какая колоссальная ошибка — быть
вынужденным признать и санкционировать в «правах человека»
современное буржуазное общество, общество
промышленности, всеобщей конкуренции, свободно преследующих свои
цели частных интересов, анархии, самой от себя
отчужденной природной и духовной индивидуальности,— быть
вынужденным признать и санкционировать все это и в то же
время аннулировать в лице отдельных индивидуумов
жизненные проявления этого самого общества, и в то же
время желать построить по античному образцу политическую
верхушку этого общества.» г
Но сколько революционной правды заключалось в этой
ошибке! То, что было ложно с точки зрения буржуазной
экономии, оказалось истиной во всемирно-историческом
смысле. Утопия «свободного народа:», изгоняющего из
своего общественного строя бездушный формализм,
холопство, пассивность и аполитизм массы, своекорыстие и
торгашество, поповщину,— этот идеальный образ,
воодушевлявший революционеров конца XVIII столетия, оказался
предвосхищением иной, более глубокой формы
демократии, еще недоступной этой эпохе,
ограниченной рамками буржуазного строя. Вот чем ценно для нас
мировоззрение молодого Гегеля, его революционный
гуманизм, его обращение к общинной жизни древних республик.
Мы знаем, что взгляды молодого Гегеля были ограничены
условиями его времени. Это пзгляды буржуазного
демократа. Ошибка Гегеля, как и ошибка якобинцев во Франции,
была исторически необходима. «В классически строгих
преданиях Римской республики борцы за буржуазное
общество нашли идеалы и искусственные формы, иллюзии,
необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя
буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы
1 «Святое семейство». Собр. соч., т. III, стр. 150 — 151.
112
удержать свое воодушевление на высоте великой
исторической трагедии». Это «заклинание мертвых» — по
выражению Маркса — «служило для того, чтобы преувеличить
значение данной задачи в фантазии».
Современные неогегельянцы из лагеря фашизирующейся
буржуазии берут у молодого Гегеля его якобинское
противопоставление «всеобщего» эгоистическим тенденциям
отдельного индивида, le particulier, «частника». Эта
революционно-демократическая идеология превращается у них в
реакционнейшее обоснование борьбы буржуазного
государства с «эгоизмом» рабочего класса. Политическая фикция
надкласовой народности, идеализация язычества,
юности, силы, попытки создать «новую мифологию» и т. п. -
все это служит теперь не для того, чтобы преувеличить
данную революционную задачу в фантазии, а наоборот,
для того, чтобы отвлечь народные массы от их
действительных революционных задач. Подлинным вождем
народной революции на родине Гегеля в Германии может быть
только пролетариат. Захватив власть в свои руки, рабочий
класс, под руководством коммунистов, поведет самую
последовательную борьбу с les particuliers, что в переводе на
язык XX столетия означает рыцарей частного капитала,
продающих в настоящее время немецкий народ оптом и в
розницу. Поэтому все подлинно прогрессивное в
литературном наследстве Гегеля принадлежит революционному
пролетариату, хотя ему чуждо всякое «заклинание мертвых»,
всякое «пародирование» старой борьбы. Задача рабочего
класса так велика и обширна, что ему нет никакой
надобности преувеличивать ее значение в фантазии.
1931 г.
ЭСТЕТИКА ГЕГЕЛЯ И ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛИЗМ *
I
Гегель только на один год пережил Июльскую
революцию во Франции. Столетие со дня смерти великого
идеалиста совпадает с годовщиной восстания лионских ткачей
в ноябре 1831 года. Гегель умер, следовательно, как раз
тогда, когда социальная война между «двумя нациями
в одном народе»— между пролетариатом и буржуазией —
только начиналась. В Июльской революции рабочие еще
видят своих естественных вождей в лице представителей
образованных классов, они находят их в учениках
Политехнической школы и т. д. Но рабочие составляют уже
главную силу восстания. Так, на картине Делакруа «Июль
1830 года» рядом с традиционным республиканцем в шляпе
уже видна почерневшая от дыма фигура молодого
парижского пролетария-блузника, с двумя пистолетами в
обнаженных мускулистых руках. Буржуазия имеет
подрастающего соперника; пролетариат приближается к сознанию
своих интересов и грозит ей углублением революции.
Июльский грохот звучал прощальным салютом
гегелевской философии в Германии. Правда, ее «посмертные»
странствования еще только должны были начаться; сам
Гегель был еще жив, и то обстоятельство, что он год
спустя умер от холеры, не связано мистической нитью с окон -
1 «Пролетарская литература» 1932 г., № 3—4.
114
чанием исторического периода, представителем которого
он являлся,— и все же время классической немецкой
философии уже миновало. Это было время первой революции
и реставрации, величайшего политического напряжения
1789—1814 гг. и последовавшего за ним периода
мирного, органического роста на почве буржуазной
экономики. Новая революция не входила в расчеты немецких
мыслителей. Она нарушала их конструкцию развития, дли
которой переход от революции к успокоению имел
абсолютный характер.
Эта конструкция и не могла быть иной в тот период,
когда пролетариат еще не выступил на историческую
сцену. Всемогущество буржуазии казалось единственным
разрешением всех драматических конфликтов революции,
единственным возможным заключением двадцатипятилетия
революционных войн и стихийных движений народа.
Буржуазии как будто удается доказать, что все усилия
революционного терроризма принести буржуазное
общество в жертву античному политическому строю суть
только крайности, ведущие в тупик, что спекуляций и
грюндерство лучше обеспечивают «общественное благо»,
чем спартанские добродетели граждан, и что ни Гракхам,
ни Цезарю нельзя безнаказанно вторгаться в святилище
коммерции: «Трезво-практическое буржуазное общество,—
говорит Маркс,— нашло себе истинных истолкователей и
представителей в Сэях, Ройе-Колларах, Бенжамен Кон-
станах и Гизо; его настоящие полководцы заседали в
коммерческих конторах, его политическим главой был
жирного л овый Людовик XVIII. Уйдя с головой в накопление
богатств, в мирную борьбу в области конкуренции,
буржуазия забыла, что ее колыбель охраняли древне-римские
призраки» \ Героический период нового общества
кончился, и началось его будничное развитие. Задача состояла
теперь в том, чтобы конституировать буржуазное общество
и буржуазное государство, восстановить спокойствие и
порядок, необходимые для преуспевания деловых людей. Так
пришло к своему прозаическому осуществлению
обещанное Робеспьером конституционное управление;
1 «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Маркс и
Энгельс, Собр. соч., т. УНТ, стр. 324.
8* 115
явившись на смену революционной системе, оно
должно было заботиться главным образом о
«гражданской», а не о «публичной» свободе и обеспечить частному
лицу безопасность от покушений власти.
«В буржуазных революциях,— писал Ленин,— главная
задача трудящихся масс состояла в выполнении
отрицательной или разрушительной работы уничтожения феодализма,
монархии, средневековья. Положительную или
созидательную работу организации нового общества выполняло
имущее, буржуазное меньшинство населения» \ В этой
«положительной или созидательной работе» буржуазного
меньшинства следует различать два периода. Когда рабочий
класс уже сложился в самостоятельную силу, способную
взять в свои руки гегемонию в демократической революции
и обеспечить ее перерастание в революцию
социалистическую, все рассуждения о порядке и организации, исходящие
от идеологов буржуазии, представляют собой вульгарное и
реакционное обоснование эксплоатации человека
человеком. Напротив, в тот период, когда главная масса
революционеров еще складывается из людей, которые борются
за «добрые старые права» трудящихся и, подобно
якобинцам, стремятся увековечить равенство мелких состояний,
в такой период созидательная работа буржуазного
меньшинства еще выступает как необходимое и положительное
явление. Подобно тому, как просветители XVIII столетия
в своей борьбе за освобождение буржуазного общества от
пут феодализма взывают к разуму и справедливости,
передовые мыслители послереволюционного «переходного
периода» этого общества идеализируют созидательную
работу своего класса. Им кажется, что речь идет о чем-то
большем, чем буржуазное завершение революции, они
стремятся не к организации буржуазного миропорядка,
а к организации человеческих отношений вообще, они
говорят не о прогрессе капитализма, а о бесконечном
развитии производительной силы человеческого духа. В этот
период образованное буржуазное меньшинство еще может
вызвать к жизни всеобъемлющие системы, настоящие
энциклопедии послереволюционного строительства, подобно
1 Ленин, Очередные задачи советской власти. Собр. соч., т. XXII,
изд. 3-е, стр. 440.
116
тому, как оно прежде создавало энциклопедии революции.
К таким синтетическим научным образованиям,
выражающим собой все исторически-прогрессивное в
«положительной или созидательной работе» буржуазии,
принадлежит и философия Гегеля. Она относится, по словам
Ленина, к тому «лучшему, что создало человечество в XIX
веке», и является одним из источников марксизма.
В то самое время, когда в старинном городе немецкой
буржуазии — Нюренберге рождалась «Наука логики»
Гегеля, великий мыслитель послереволюционной Франции
Сен-Симон писал в своей «Науке о человеке»: «В
последнее столетие старались сделать наиболее отвлеченные
вопросы доступными для всего света, излагая их так, чтобы
все могли о них судить. Этот путь был очень хорош для
того, чтобы вызвать революцию. Такова именно и была
цель, которую преследовали ученые. Но теперь
единственная задача, которую мыслитель может себе поставить,—
это работать для реорганизации системы моральной,
системы религиозной, системы политической, словом —
системы идей, с какой бы стороны ее ни рассматривать.
Старый путь должен быть оставлен. Только те лица, которые
специально изучили эти системы, могут без вреда для
общественного порядка, а напротив, в его интересах, их
исследовать и разбирать». Человечество, — говорит Сен-
Симон, — вступило в период «положительной системы»,
следующей за революционными бурями. Научные искания
призваны заменить собой революционные эксперименты.
Поставить на место разложившейся системы новую,
примирить распавшиеся элементы общественного бытия и
мышления — такова задача времени. В эту эпоху должна
достигнуть небывалого расцвета та наука, которую Сен-
Симон называет «наиболее важной»,— «наука о сравнении
идей», «общая наука о сравнениях, иначе говоря —
логика» \
Сен-Симон, таким образом, как бы обосновывает
задачу, поставленную себе Гегелем. Но посмотрим, как
понимает историческое место своей философии сам Гегель.
Обрисовав то разрушение старых форм действительности
1 Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfentin, vol. 40, pp. 11—12, 39
и др,
117
и науки, которое произошло в «последние двадцать пять
лет», т. е. в период революционных потрясений и войн.
Гегель, в предисловии к «Науке логики», пишет следующее:
«Тщетный труд при изменении субстанциональной формы
духа пытаться сохранить формы прежнего образования:
они оказываются увядшими листьями, которые
отбрасываются возникающими у их оснований новыми почками.
Постепенно и в научной сфере игнорирование этого общего
изменения начинает прекращаться. Незаметным образом и
к самим противникам проникают и усваиваются ими
другие представления... С другой стороны, уже прошло, пови-
димому, время того брожения, с которого начинается
создание нового. При первом своем появлении оно стремится
отнестись к широко распространенной систематизации
прежнего принципа с фанатической враждебностью и
отчасти боится потеряться в частностях, отчасти избегает
труда, потребного для научной обработки, и в сознании
ее потребности хватается прежде всего за пустой
формализм. Теперь потребность разработки и развития
материала становится все настоятельнее. В развитии известного
времени, как и в развитии неделимого, бывает период, когда
главною целью является приобретение и утверждение
принципа во всей его еще не развитой напряженности. Но более
высокое требование состоит в том, чтобы он стал наукой» \
Этими словами взгляд Гегеля на смысл его собственной
теоретической деятельности очерчен с необычайной
ясностью. Старая, отжившая свой век, полусредневековая
логика представляла собой «широко распространенную
систематизацию прежнего принципа». Она подверглась
разложению вместе с упадком соответствующей ей
«субстанциональной формы», т. е. докапиталистического общества
и государства «старого режима». На смену им в теории и
практике выступил «новый принцип». Однако последний,
по мнению Гегеля, еще слишком абстрактен и неразвит.
В своей революционной прямолинейности «новый принцип»
отвергает всякие попытки «систематизации» как измену.
Между тем революция закончена. Старая система
разрушена, и на ее место должна быть поставлена новая
система, новая логика. Категории логики — это формы, в кото-
1 Hegel, Wissenschaft der Logik", 1. Theil (Lasson), S. 4—5.
118
рых отвердевает раскаленная лава революционных событий.
Философия Гегеля является отвлеченным изображением
этой смены борьбы и порядка, разрушительного и
созидательного периодов бурмсуазной революции. Гегелевское
«раздвоение единого» списано с действительного процесса
диференциации интересов в течение последнего
революционного десятилетия XVIII века. В развитии через
противоречия он видит единственную возможную форму
движения. Та ступень диалектического процесса, на которой эти
противоречия уже обнаружились во всей своей остроте и
силе, была, с его точки зрения, бесконечно выше
первоначального идиллического «тождества» (тенденций,
интересов). Но это понимание движущей роли противоречий
Гегель не довел и не мог довести до конца. Свое полное и
всестороннее развитие общественные антагонизмы
получают только в противоположности пролетариата и
буржуазии. Они находят разрешение в реальной исторической
борьбе этих противоположностей, результатом которой
является установление диктатуры пролетариата и
уничтожение классов. Понять это — значит стоять уже на точке
зрения Маркса. Гегель является в известном смысле
антиподом Маркса именно потому, что этот путь разрешения
противоречий для него не существует. Мир Гегеля
ограничен опытом буржуазной французской революции, взятой
вне связи с дальнейшим углублением революционного
процесса. Политическое затишье эпохи Реставрации, которая
на деле была периодом скрытого расширения почвы для
новых, гораздо более мощных социальных конфликтов XIX
столетия, является в изображении Гегеля ступенью
абсолютного и всеобщего синтеза. Вслед за «отрицанием» должно
следовать «отрицание отрицания». А это последнее Гегель
понимает как примирение противоположного в логическом
единстве. Его философия является теоретическим
оправданием остановки революционного процесса на буржуазном
этапе: она покоится на требовании новой, устойчивой
системы взамен утраченной во время революции. Правда,
революция была необходима, ее нельзя вычеркнуть из
мировоззрения Гегеля. В этом отношении чрезвычайно
характерно, что в «Феноменологии духа» эпоха Террора
изображена в качестве необходимой ступени развития
самосознания (die absolute Freiheit und der Schrecken). Этого
119
никогда не могли простить Гегелю такие люди, как Юлиус
фон Шталь1. И все же сама по себе революция
представляет, с точки зрения Гегеля, только «фурию исчезания» 2.
В отношении международного опыта своего класса
Гегель ясно сознает себя философом послереволюционной,
«органической» эпохи и считает всякую попытку
возобновления и углубления революции обращеньем вспять.
Отсюда его отрицательная оценка июльских дней 1830 года.
В начале нашего века,—писал Герцен,—раздалось слова
«π ρ и м и ρ е н ь е». Это магическое слово было
произнесено представителями классического идеализма в
Германии. Отсюда оно перекочевало во Францию (школа
Кузена), с таким же успехом, как в XVIII столетии
революционные идеи двигались в обратном направлении. И даже
в царской России писатель из семинаристов, Надоумко-
Надеждин, сосланный вскоре в Сибирь за свои
«завиральные идеи», бредил «примирением противоположностей».
После этого уже не кажется странным, что
родиной этого примирительного мировоззрения оказалась
Германия, где никакой революции не произошло и где
буржуазия, по словам Маркса, в течение всего периода
революционных войн «рисковала только своей собственной
шкурой». «Немецкая история,— писал Маркс,— гордится
движением, которого на историческом небе ни до нее не
сделал, да и потом не сделает ни один народ. А именно,
мы разделяли с новыми народами реставрации, не разделяя
их революций» 3. В этом—специфически немецкая причина
идеализма Гегеля. Он сам усматривает превосходство
Германии над остальными народами в том, что она создала
немецкий способ разрешения противоречий—Реформацию.
1 Критикуя гегелевское учение об исторической необходимости,
он пишет следующее: «Если бы Робеспьер и его товарищи» в силу
своей свободы, решились на человечность и сострадание, то не
был бы осуществлен диалектический момент—субъективная воля
с ее абстрактным равенством, которая в углублении в самоё себя
должна была, как крайнее отрицание объективного миропорядка,
притти к величайшему напряжению противоположности, к
ревнивой ярости уничтожения, — и таким образом мировой дух был бы
посрамлен». Fr. Julius Stahl, Die Philosophie des Rechts, 3. Aufl.,
Heidelberg, 1854, Bd. II. S. 128.
2 «Phänomenologie des Geistes», 3. Aufl. (Lasson), S. 417.
3 «К критике гегелевской философии права». Собр. соч, т. I,
стр. 400.
120
Действительно, со времен Реформации немецкое развитие
имело мелкобуржуазный характер. «Бессилие каждой
отдельной жизненной сферы (здесь нельзя говорить ни'
о сословиях, ни о классах, но самое большое о бывших
сословиях и неродившихся классах) не позволяло никакой
из них достигнуть исключительного господства».
Неизбежным следствием этого, — писал Маркс и Энгельс в
«Немецкой идеологии»,— было возвышение бюрократии,
стоящей якобы над противоречиями общественных интересов.
«Государство конституировалось таким образом в мнимо-
самостоятельную силу, и это свое положение, оказавшееся
в других странах преходящим (переходной ступенью), оно
сохранило в Германии до сих пор. Этим положением
объясняется и нигде больше не встречающийся честный
чиновничий образ мыслей и все распространенные в
Германии иллюзии насчет государства...»г Вот почему то,
что во Франции вызвало к жизни произведения Сен-Симона,
переходящего уже в конце своей жизни на сторону
пролетариата, в Германии означало расцвет спекулятивной
философии, в которой «положительная система»,
разрешающая революционные противоречия, выступает в
облачении протестантизма и «честного чиновнического сознания».
-Именно это противопоставление и подчинение
революционно-критического элемента «положительному»
образует основу гегелевской философии тождества. Оно дeлaef
его логическую систему прямой противоположностью той
последовательно-революционной логики, которая дана
в «Капитале» Маркса, в произведениях Ленина и Сталина
и которая на наших глазах развивается вместе с
социалистическим содержанием общественной жизни и новыми
формами труда и культуры.
Мы также стоим перед задачей развития «нового
принципа» как в практической жизни, так и в методологии.
Но пролетарская революция не знает противоположности
между критической и созидательной стадиями своего
развития. «Буржуазная революция,— читаем мы в «Вопросах
ленинизма» Сталина,— завершается обычно захватом
власти, тогда как для пролетарской революции захват
власти является лишь ее началом, причем власть исполь-
1 Маркс и Энгельс, Собр. соч., т. IV, стр. 175.
121
зуется как рычаг для перестройки старой экономики и
организации новой»1. На другой день после революции кро-
летариат не может просто усыновить старые формы и
методы управления, «идеологические сословия» старого
общества, его культуру, привычки и т. д.; он не провозглашает
лозунга «примирения», но продолжает свою критически-
революционную ломку, неотделимую от его
«положительной» или «созидательной работы». В противоположность
гегелевской логике примирения, материалистическая
диалектика несет с собой идею всестороннего углубления
революции до полного уничтожения классов и окончательной
победы социализма.
В борьбе за практическое осуществление этой цели,
в процессе исследования внутренней логики развития
новых форм бытия и сознания изучение гегелевского
наследства способно оказать нам большую услугу. Но только
меньшевик или сменовеховец может стирать
противоположность между идеалистической философией Гегеля и
диалектическим материализмом. Как бы в доказательство
этого социал-фашистский «Vorwärts» в передовой,
посвященной столетию со дня смерти Гегеля (14 ноября), пишет
следующее: «Отличие Гегеля от Маркса заложено не в том,
что Гегель видит вершину исторического развития в
«абсолютном духе», ибо слова Маркса и Энгельса о прыжке
из необходимости в свободу оказываются при ближайшем
рассмотрении близкими или даже родственными по смыслу».
Разница между Гегелем и Марксом состоит, по мнению
автора статьи, в том, что первый усматривал выход из
противоречий буржуазного общества в колониальной
системе и т. п., между тем как Маркс, признавая
относительное значение таких «отдушин», провозглашает
необходимость планомерной организации всего хозяйства в
целом. Здесь устранение принципиального различия Между
марксизмом и философией Гегеля становится одной из
лживых форм, употребляемых социал-демократами для
маскировки капиталистической программы «оздоровления»
под социализм. В настоящее время в
социал-демократической журналистике стало модным утверждение, что
философия Гегеля жива и, собственно, никогда не умирала. Это
1 И. Сталин, К вопросам ленинизма, гл. IV, изд. 10-е, стр. 107.
122
неверно: философия Гегеля исторически умерла еще в
середине сороковых годов прошлого столетия, когда она была
опровергнута Марксом, между прочим в области эстетики.
Гальванизация трупов, предпринимаемая сейчас
философскими представителями буржуазных партий, преследует
весьма прагматические цели.
Между тем периодом, когда жил и мыслил Гегель, и
современностью есть известное сходство. Как и тогда, почва,
на которой воздвигнуто здание «собственности и порядка»,
колеблется от подземных толчков. Послевоенный кризис
капиталистической системы стал настолько осязательным
фактом, что без него невозможно понять самых
отвлеченных построений буржуазных идеологов. Все они
проникнуты единой целью, единым стремлением: найти рецепт
перехода от современного «критического» периода к новой
«органической» эре, разрешить противоречия капитализма,
примирить и сконцентрировать все силы буржуазного
общества пред лицом приближающегося революционного
кризиса. Вот общая причина обращения к Гегелю, в котором
ученые представители и слуги господствующих классов
справедливо усматривают философа примирения и синтеза.
Одни связывают это примирение с фашистским идеалом
«Третьей империи», другие именуют его «социализмом».
Но какая огромная разница между действительным
историческим Гегелем и его жалким подобием, намалеванным
услужливой кистью идеалиста-гегельянца! Гегель, так же
как Сен-Симон, может быть назван сыном Великой
французской революции. Все его учение проникнуто
действительным пафосом послереволюционного развития
буржуазного общества. Вместе с английскими экономистами,
которых он изучал на пороге XIX столетия, Гегель признает
развитие капитализма необходимым и в то же время без
малейшего прикрашивания изображает противоречие между
богатством и бедностью, неукротимую анархию
производства и все отрицательные черты «цивилизации».
Недостатки гегелевской философии являются следствием ее
исторической ограниченности. Напротив, современные гегельянцы
представляют собой откровенных апологетов буржуазного
миропорядка, реакционных противников нового, более
высокого общественного типа. Их сходство с Гегелем есть
сходство начала и конца.
123
II
То, что сказано о философском наследстве Гегеля в
целом, относится и к его эстетике. Взгляды Гегеля на
литературу и искусство представляют собой бесспорно
классический этап в развитии эстетической мысли до Маркса.
Влияние Гегеля на художественную литературу, драму,
теорию искусства было в XIX веке огромно, и оно до сих
пор не исчезло. Правда, это влияние далеко не всегда
признавалось открыто. Во второй половине XIX столетия
позитивисты и кантианцы объявили гегелевскую эстетику
смешным пережитком. Как после великих стилей в
искусстве следует диференциация множества односторонне
развивающихся жанров, так и в науке об искусстве после
гигантских и всеобъемлющих систем происходит
обособление отдельных категорий когда-то единого научного
целого. Начиная со второй половины XIX века классическая
эСтетика обращена в каменоломни, куда все отправляются
за мрамором для возведения построек в новом, вульгарном
стиле. Этот вульгарный период в истории эстетической
идеологии буржуазного общества продолжается и по
настоящее время, несмотря на то, что именно сейчас эстетика
Гегеля переживает своего рода «возрождение», вместе с так
называемым «ренессансом» гегелевской философии вообще.
Достаточно указать хотя бы на пропаганду гегельянства
в эстетике одним из лидеров этого движения — Германом
Глокнером.
Возродить философию искусства Гегеля в ее
действительном значении современным гегельянцам не дано.
История не повторяется. Но это не значит, что вопросы,
которые ставил в своих лекциях по эстетике Гегель,
окончательно отошли в область предания. Наоборот, в известном
смысле можно сказать, что именно сейчас, в период
уничтожения капитализма и развития социалистических форм
материального и духовного производства, эти вопроси
приобретают особую остроту и значение. В настоящее
время дело идет о жизни и смерти глубочайших основ
буржуазного миропорядка. Гегель играет по отношению
к этому миропорядку такую же роль, как Данте по
отношению к средним векам. Вот почему и в области общих
вопросов культуры и искусства коренные проблемы геге-
124
левской эстетики снова выдвигаются на первый план как
для противников, так и для апологетов капиталистического
способа производства.
Таков, прежде всего, вопрос об исторических судьбах
искусства.
Не так давно один из видных представителей
буржуазной истории искусств, Мейер-Греффе, прочел в Вене
доклад на тему о гибели художественного творчества.
Машины,—говорит почтенный историк,—изгнали человека,
а там, где на место органической формы человеческого
тела становится мертвый механизм, искусство более
невозможно. Профессор Мейер-Греффе опечален этим
обстоятельством, но есть немало людей, которые усматривают
в упадке искусства симптом величайшего прогресса. К чему
кудрявые обороты поэтической речи, когда время требует
алгебраической точности? Зачем ходить приплясывая,
зигзагообразно, если прямая линия короче всякой ломаной?
В чувствах и образах есть немало темного, и это
противоречит ясности, а значит—и прогрессу. Не все, стоящие на
этой точке зрения, читали Гегеля. И тем не менее в
эстетике Гегеля учение о закономерном падении искусства
было впервые сформулировано в общей, теоретической форме.
Идея эта имеет у Гегеля свою историю. Противоречие
между поэзией и действительностью привлекало его
внимание еще в тот период, когда он вместе со своим другом
Гельдерлином мечтал о восстановлении античного
политического строя. Юношеские произведения Гегеля то в
элегической, то в обличительной форме противопоставляют
враждебный поэзии и искусству мир собственности и
своекорыстия публичному культу красоты, возможному только
на основе демократии. Подобно идеологам якобинизма во
Франции, Гегель критикует «неравенство имуществ» и
«частный интерес» с абстрактно-возвышенной точки
зрения «гражданина». Его разрешение вопроса о будущем
искусства тесно связано с идеей возрождения античности.
Однако время само поставило вопрос иначе. Вслед за
героическим периодом французской революции наступает
эпоха лихорадочного развития буржуазного общества.
Начинается, по словам Маркса, «эра прозаического
осуществления политического просвещения, которое раньше
хотело превзойти самого себя, которое утопало в преувели-
125
чениях». По мере того как обозначались действительные
прозаические завоевания буржуазной революции, политико-
эстетическая фантастика начинает рассеиваться. Идея вое·
становления классических художественных форм прошлого
вступает в конфликт с победоносным шествием
капитализма. Она теряет свой революционный характер вместе
с прочими попытками увековечить основу «классического
общества»—мелкую собственность. И Гегель после
длительной внутренней борьбы приходит к признанию
капиталистического прогресса со всеми свойственными ему
противоречиями. Глубоко реалистический по своему взгляду на
исторические тенденции, он попрежнему видит чуждый
искусству и поэзии прозаический характер наступающего
буржуазного столетия \ Он попрежнему видит в буржуазном
обществе «зрелище излишества, нищеты и общей
физической и моральной порчи». Но это «духовное царство
животных», это дно, по которому «катятся волны всех
страстей», является для зрелого Гегеля единственной почвой
прогресса. Грязь и кровь, покрывающие буржуазное
общество в процессе его нарождения, все отрицательные
стороны, неотделимые от его развития, окупаются
гигантскими завеваниями «мирового духа». В своей «Философии
права» Гегель с торжеством изображает процесс
образования всеобщности труда из множества различных работ,
создание «формы всеобщности» через посредство различно
направленной деятельности множества частных сил.
В процессе труда происходит «образование» (Bildung)
человеческого рода. «Практическое образование
посредством работы состоит в создающейся потребности и
привычке к занятию вообще, к ограничению своего
делания, отчасти согласно природе материала,
преимущественно, однако, по произволу другого, и в приобретаемой
благодаря этой дисциплине привычке к объективной
деятельности и общезначимым навыкам». Наряду
с этим прогрессирует разделение труда, упрощение отдель-
1 Вот как, например, характеризует его Гегель в своей «Системе
нравственности» 1802 года: «Некто реален, если он имеет деньги.
Воображение исчезло. Значение имеет непосредственную
наличность. Сущность вещи есть сама вещь. Ценность есть звонкая
монета. Налицо формальный принцип разума. Это абстракция от
всякой особенности, характера и т. д. искусности единичного».
(«System der Sittlichkeit» von Hegel, hrsgb γ. Mollat, 1893, S. 63).
126
ных функций, увеличение их зависимости друг от друга,,
механизация производства. Вместе с практическим
образованием посредством труда,—пишет
Гегель,—развивается и образование теоретическое1.
Эту апологию жизненной прозы Гегель
противопоставляет эстетическому бунту против действительности.
Всякая попытка возродить искусство и поэзию в их прежнем
значении является с точки зрения Гегеля обращением
вспять, к однажды пройденному возрасту человечества.
Так, в его «Философии истории» мы читаем: «Я уже
раньше сравнил греческий мир с возрастом юношества... в том
смысле, в каком юность еще не есть трудовая
деятельность, еще не есть старание достигнуть ограниченной цели
рассудка, а наоборот, конкретная свежесть жизни духа...
Греция являет нам светлое зрелище юношеской свежести
духовной жизни. Именно здесь впервые дух созрел для
того, чтобы сделать самого себя содержанием своего
хотения и знания, однако таким образом, что государство,
семья, право, религия суть равно и цели индивидуальности,
а последняя является индивидуальностью только через эти
цели. Мужчина, напротив, живет в работе над объективной
целью, которую он последовательно преследует даже
вопреки своей индивидуальности» 2.
1 «Philosophie des Rechts», §§ 197, 198 и др. Юстус Мёзер
в своих «Патриотических фантазиях» выразил дух этого
«образования» с цинизмом, достойным XVIII столетия: «Влияние примера,
постоянная привычка, моральное воспитание,—все это,
направленное к определенной цели,—вот что нужно для того, чтобы одна
нация с радостью шла в море, другая—с песнями спускалась в
шахты. Путем воспитания надо отнять у народа, который должен
приспособить себя к определенной форме труда, все чувства,
кроме одного, нужного ему для его специальности, чтобы тем
самым сделать из него постоянного раба своей профессии. Нужно
отнять у него ловкость, вкус и силу для всякой другой
профессии, чтоб лишить его навсегда возможности сбросить с себя цепи
своей специальностиь. «Ничто, я думаю,—восклицает по поводу
этих слов Жорес,—не сравнится со спокойной жестокостью
сильных выражений Мёзера, когда он говорит о систематической
атрофии, отнимающей у рабочего все чувства, кроме одного —
специального, нужного для его специального труда и делающего его
на всю жизнь рабом этого единственного оставленного ему чувства»
(«Histoire socialiste de la Révolution française*, t. V, p. 28).
2 «Philosophie der Weltgeschichte» (Lasson), S. 528 f, ср. также
S. 135-137, 230, 239, 572.
127
В этих словах как бы изложена мораль стихотворения
Шиллера «Играющий мальчик»:
Крошка невинный, играй! Ты покуда в Аркадии светлой
Радость, лишь радость одна властно владеет юбой.
Силы кипучей прилив сам себе ставит пределы,
Чужды отваге слепой долг и житейская цель.
Сменен! Уж труд недалек, истощающий,тяжко гнетущий,
Долг, повелительный долг, пыл и отвагу убьет.
В переходе от игры к труду, от детской
беззаботности к мужественному примирению с «железной цепью
потребностей» Гегель видит последний итог всего
исторического развития. Задача философа состоит в том, чтоб
понять необходимость этой смены мировых эпох и не
восставать против однажды понятой необходимости.
«Будем работать, не рассуждая»,— говорит один из героев
Вольтера. «Будем работать, рассуждая, и рассуждать,
работая»,—гласит формула Гегеля.
И он, действительно, возвещает наступление эры труда
и размышления. В упадке поэзии и искусства вместе с
развитием буржуазных отношений Гегель видит
прогрессивное явление—победу общественной дисциплины над
пестротой и многообразием «доброго старого времени»,
торжество серьезности над игрой, разума и воли над чувством
и фантазией. Особенно важно в этом отношении его
учение о невозможности нового расцвета эпической поэзии.
Первоначальный народный эпос характеризует, с точки
зрения Гегеля, целую полосу в истории человечества. Он
возникает в те эпохи, когда общественные отношения
достигли известного развития, но представляют собой еще
нечто неустойчивое, колеблющееся, находящееся в
процессе нарождения. Эпос исчезает, когда эти отношения
теряют характер непосредственной самодеятельности и
живой взаимной связи индивидов. «Некоторое уже слишком
организованное устройство развитого государственного
состояния с разработанными законами, точной юрисдикцией,
упорядоченной администрацией, министерствами,
государственными канцеляриями, полицией и т. д. уже не может
служить почвой для подлинного эпического действия».
Точно так же исключает возможность подлинного эпоса
созданный буржуазным обществом способ материального
"производства. «Наша современная машинная и фабричная
128
система так же, как вообще способ удовлетворения наших
внешних жизненных потребностей, была бы, подобно
современной государственной организации, неподходящей
в качестве жизненного фона, которого требует
первоначальный эпос» \ Как и его великий итальянский
предшественник Джиамбаттиста Вико, Гегель хорошо понимает
связь высоких художественных форм прошлого с
неразвитостью той общественной ступени, на которой они
возникли. И не его вина, если существовавшая до сих пор
исторически обусловленная форма прогресса всегда
жестоко расправлялась с народной самодеятельностью и
фантазией, с культурой и талантами, выросшими на народной
почве. Гегель видит прогрессивный характер перехода от
«поэзии» к «прозе» вместе с движением цивилизации с
Востока на Запад, он не понимает лишь
исторически-преходящего характера этого процесса.
«У всякого народа,—говорит Гегель,—при
прогрессирующем образовании наступает такое время, когда искусство
указывает куда-то во-вне себя». Тогда приходит время
науки. «В наше время есть еще большая потребность
в науке об искусстве, чем в те времена, когда искусство
вполне удовлетворялось собой, как искусством»2. Когда
в наступающих сумерках вылетает сова Минервы и
философия начинает свою живопись серым по серому, для
настоящей живописи, как и для других родов искусства и
поэзии, наступают плохие времена. «Прошли прекрасные
дни греческого искусства и золотое время позднего
средневековья». «Ни Гомер, Софокл и т. д., ни Данте, Ариосто
или Шекспир не могут появиться в наше время; то, что
так высоко воспевается, то, что так свободно
высказывается,— высказано» 8.
«Наша современность по своему общему состоянию
неблагоприятна для искусства». Государство, право, мораль,—
все это не способствует более эстетическому восприятию
действительности. «Во всех этих отношениях искусство,
в смысле своего высшего назначения, является и остается
для нас чем-то прошедшим. Поэтому оно потеряло для нас
1 «Aesfhetik». W rke (Glöckner), Bd. MV. S. 341-34?.
2 «Aesthetik». Werke (Glöckner), Bd. XII, S. 150, 32.
3 Ibid., XII, 31; ХШ, 236.
Ç M. Лифшиц
129
свою высшую истину и жизненность и скорее перенесено
в наше представление, чем действительно
поддерживает свою прежнюю необходимость и занимает попреж^
нему свое высшее место» \
«Кому любо, — пишет Гегель,—предаваться жалобам и
порицанию, тот может приписать это явление
испорченности, перевесу страстей и корыстолюбивых интересов,
которые изгоняют как серьезность, так и радостность
искусства, тот может жаловаться на нужды времени, на
запутанное состояние гражданской и политической жизни,
препятствующее охваченному мелкими интересами сердцу
освободиться для высших целей искусства...» Сам Гегель
отрицательно относится к подобным причитаниям, он
осмеивает назарейскую идею искусственного возвращения
художнику утерянной наивности при помощи особого
воспитания и ухода от жизни 2. Прошлое невозвратимо, а вместе
с ним невозвратима и полноценность поэзии, искусства.
Есть только один путь для того, чтобы сохранить
известное место для искусства в новых условиях. Это — путь
примирения с действительностью. В этом отношении
чрезвычайно характерна гегелевская теория романа, — «совре -
менной буржуазной эпопеи». Исходным пунктом в
развитии романа является сознание утраты подлинной почвы,
для художественного творчества, и особенно почвы для·
эпоса. Но роман имеет, по мысли Гегеля, спекулятивную
задачу—превратить эту утрату в приобретение. Наиболее
подходящей темой для него является изображение
конфликта «между поэзией сердца и прозой противостоящих
ему отношений». Этот конфликт разрешается в том, что
«характеры, сначала борющиеся с обычным миропорядком,
научаются признавать в нем высшее и субстанциональное,
научаются примиряться с обычными отношениями и
деятельно выступать в них, а с другой стороны, научаются
лишать то, что они делают, прозаической формы и тем
самым на место преднаходимой прозы ставят
действительность, близкую и дружественную
красот е. и и с к у с с τ в у» 3. В этом взгляде на задачи романа
1 «Aesthetik>. Werke (Glockner), Bd. XII. 32.
2 Ibid, Χΐί, 321; XIII, 231.
3 «Aesthetik». Werke (Glokner) Bd.XIV, S. 395-396.
130
Гегель не был одинок. Он высказывает, в сущности, тайну
произведений Гете. Апологию практической деятельности
как разрешение конфликта между требованиями
бунтующего сознания и суровой прозой жизненных отношений
мы повсюду встретим в классической литературе и
философии буржуазного общества. Через ученические и
страннические годы, через период «бурных стремлений»
она ведет нас к идеализации спокойной работы, к
восхвалению производительности труда, технического прогресса
и т. д. Такой в «Вильгельме Мейстере» Гете эпизод
посещения долины ткачей и другие картины в духе
индустриально-педагогических утопий конца XVIII века.
В известном стихотворении Шиллера «Песня о
колоколе» это восхваление труда прямо направлено против
революционного пути разрешения общественных противоречий:
В дружном пламенном стремленья
Труд все руки братски слил—
И цветет союз в движеньи
Проявленьем общих сил.
Мастер и работник равны,
Каждый горд своей судьбой.
Где законов щит державный,
Там отпор обиде злой.
Труд есть граждан украшенье,
Прибыль — плата их трудам...
Честь царям за их правленье,
За труды почет и нам.
Сильная и слабая, прогрессивная и филистерская
стороны мировоззрения немецких мыслителей и поэтов
классической поры неотделимы одна от другой. То, что,
с одной стороны, выступает как поворот к практике, к
демократической деятельности, материальному производству,
описываемому даже в его деталях, оказывается, с другой
стороны, трезвенно-житейским и вместе с тем пошло-^идеа-
диетическим признанием высшей мудрости в мещанской
обыденщине, безропотном отправлении своих обязанностей,
хорошем поведении и чиновнической добропорядочности.
Погружение в практическую жизнь, которое
классическим представителям буржуазной культуры казалось
разрешением всех смущавших их сознание противоречий,
отнюдь не тождественно с практикой в нашем современном
понимании этого слова, с идеей революционно-критиче-
9* 131 ,
ской переделки мира. Последняя неразрывно связана уже
с исторической миссией и мировоззрением пролетариата.
Напротив, труд или революция — такова дилемма,
проникающая собой идеологию классической ступени развития
буржуазной культуры.
Как представитель той эпохи, когда мелкобуржуазная
революционность, обращенная по своим идеалам к
прошлому, вступает в коллизию с прогрессивным характером
капиталистического производства, Гегель видит в
революционере образ современного Дон-Кихота. «Случайность
внешнего бытия, — пишет Гегель, — превратилась в
прочный, обеспеченный порядок буржуазного общества и
государства, так что теперь полиция, суды, войско,
государственное управление стали на место химерических целей,
которые ставил себе рыцарь. Тем самым изменяется и
рыцарство действующих в новых романах героев. Они в
качестве индивидов с их субъективными целями любви,
чести, честолюбия или с их идеалами улучшения мира
противостоят существующему порядку и прозе
действительности, которая со всех сторон ставит на их пути
препятствия... Особенно юноши суть эти новые рыцари, которые
должны проложить себе дорогу сквозь течение
обстоятельств в мире, осуществляющихся вопреки их идеалам,
и которые считают несчастьем уже самое существование
семьи, буржуазного общества, государства, законов,
деловых занятий и т. д., ибо эти субстанциональные жизненные
отношения с их рамками жестоко противопоставляют себя
идеалам и бесконечному праву сердца. Тут, стало быть,
дело идет о том, чтобы проделать дыру в этом порядке
вещей, изменить мир, улучшить его... Эта борьба, однако-
же, в современном мире есть не более как
ученические годы, воспитание индивида на
существующей действительности, и в этом приобретают они свой
истинный смысл. Ибо завершение этих ученических лет
состоит в том, что субъект приходит к необходимости
остепениться; он проникается в своих желаниях и
мнениях существующими отношениями и их разумностью,
вступает в сцепление обстоятельств в мире и завоевывает
себе в нем соответствующее положение» \
1 «Aesthetib. Werke (Glockner), Bd. ХШ, S. 216.
132
Эта ирония не плохо задевает известную категорию
«революционеров», но все же это ирония филистера.
От элемента филистерства, и особенно немецкого
филистерства, не могли отделаться даже такие люди, как
Гегель или Гете. Их произведения явились негласным
источником для множества вульгарных возражений против
революции и коммунизма. Но, несмотря на это, Маркс и
Энгельс хорошо понимали прогрессивно-исторический дух
произведений Гегеля или Гете. Они ставили их бесконечно
выше целой тучи либерально-филантропических буржуа или
«социалистов» типа К. Грюна. И основоположники
марксизма были правы. Ибо в эпоху Гегеля пролетариат еще не
сложился в самостоятельную силу, а это единственный
класс, отрицающий капиталистическое общество, с точки
зрения будущего, а не прошлого, и только он один в
конечном счете может придать антикапиталистическим
движениям других классов прогрессивный исторический смысл.
Учение Гегеля о нисхождении искусства выражает в
сущности тот объективный исторический факт, который ясно
констатирует Маркс в «Теориях прибавочной стоимости»:
«Капиталистическое производство враждебно некоторым
отраслям духовного производства, каковы искусство и
поэзия. Не понимая этого, можно притти к выдумке XVÏII
столетия, осмеянной уже Лессингом: так как мы в
механике и т. д. ушли дальше, чем греки, то почему бы нам
не создать и эпоса? И вот является Генриада взамен
Илиады!» \ Классические представители буржуазной
политической экономии высказывают это положение вещей
уже тем, что относят музыкантов, актеров и т. д. к
непроизводительным рабочим. Адам Смит указывает даже, что
положение этих людей в буржуазном обществе есть «своего
рода общественная проституция»2. Поэзия, литература,
искусство, представ перед судом объективных отношений
буржуазного общества, обнаруживают, что все эти виды
духовной деятельности по самой своей природе
направлены на создание ценностей, в которых преобладает каче-
1 К. MJapKC. Теории прибавочной стоимости, т. I, изд. 1923г.,
стр. 251.
* Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства
народов, т. I, М. —Л., 1931, стр. 117.
133
ственная, потребительная сторона и которые, поэтому
противостоят капиталистической этике самовозрастания
стоимости и производства ради производства. Гегель выражает
этот факт в фантастической, спекулятивной форме
учения о сумерках художественного творчества вообще. Но
уже то обстоятельство, что он не закрывает глаза на
противоречивый характер истории искусства, доказывает его
принадлежность к классической, а не вульгарной
формации идеологов буржуазии. Позднее, когда, по словам
Маркса, «классический капиталист» превращается в
капиталиста «модернизированного», познавшего «наслаждение» \
мы уже не найдем в буржуазной литературе такой ясной
постановки вопроса, как у Гегеля.
Искусству и поэзии, как продуктам патриархальных
отношений эпохи юности человечества, Гегель
противопоставляет абстракцию прогресса. Эти роды духовной
деятельности были уместны в те эпохи, когда дух еще не
порвал пуповины, соединявшей его с природой, когда все
отношения были качественно разнообразны, имели
чувственный характер. Даже язык человека был насыщен
образами, и само мышление развивалось в осязательно-телесных
формах. Позднее, «когда духовное достигает в сознании
более адэкватной ему, более высокой формы и
представляет собой свободный, чистый дух, искусство становится
чем-то излишним»2. Вместе с развитием «буржуазного
общества (die bürgerliche Gesellschaft) разлагается и
исчезает овеянное народной фантазией мифологическое
отношение к действительности. Дух освобождается от
подчинения естественному порядку вещей, от местной и
национальной ограниченности. Вместо множества гомеровских
героев и святых христианского искусства он признает
лишь одного героя и одного святого — св. Гумануса 3
Тогда наступает эпоха абсолютного самосознания,
умозрительного мышления. Земля уже стала для человека шаром,
культура приобретает мировой характер 4.
Все, что препятствует этому процессу, противостоит
1 К. Маркс, Капитал, т. I, гл. XXII, .3.
2 «Philosophie der Weltgeschichte», S. 449.
8 Выражение Гете β стихотворении «Die Geheimnisse». Гегель
употребляет его дважды («Aesthetik», XIII, 235; XIV,358).
* «Philosophie der Weltgeschichte», S. 763.
134
^му в качестве патриархальной идиллии, достойно
гибели. Мировой дух ведет свой гешефт en gros, не стесняясь
никакими жертвами. «Справедливость и добродетель,
несправедливость, насилие и порок, таланты и их деяния,
малые и великие страсти, вина и невинность, великолепие
индивидуальной и народной жизни, независимость, счастье
и несчастье государств и единичных лиц — все это имеет
свое определенное значение и ценность в сфере
осознанной действительности и находит в ней свою оценку и свое,
однако несовершенное, право. Всемирная история
находится вне этих точек зрения...» \ Страдание составляет ее
необходимый элемент: страницы счастья в ней — пустые
страницы. Философия истории Гегеля проникнута
безграничным стоицизмом по отношению к противоречиям
прогресса в обществе, основанном на социальных
антагонизмах. И сама эта философия является фантастическим
отражением стихийной, безличной силы капиталистического
прогресса. «Мировой дух» гегелевской философий,
который, в сущности, есть не что иное, как мировой рынок2,
отбрасывает не только устарелые формы жизни и
сознания, но выступает в качестве отрицания всякого
жизненного благополучия, всякой удовлетворенности бытием
вообще. В нем находит свое теоретическое признание то
обстоятельство, что движение цивилизации было до сих пор
прогрессом на черепах. Материальная оболочка
препятствует саморазвитию духа, и он преодолевает ее. Отсюда
у Гегеля идея необходимости падения искусства не только
в его исторически отживших формах, но и как чувственно-
телесной формы духовной деятельности вообще.
Философия искусства Гегеля есть таким образом возрождение
средневековой христианской догмы о греховности плоти.
Абстракция движения, лежащая в основе этой
философии, движения как аскетической противоположности всех
1 «Philosophie des Rechts«, S. 345.
2 «Отдельные индивиды, по мере расширения их деятельности
до размеров всемирно-исторической деятельности, все более
попадали под власть чуждой им силы (в давлении которой они
усматривали козни так наз. мирового духа и т. д.), силы, которая
•становится все более массовой и в конечном счете оказывается
мировым рынком» («Немецкая идеология» Маркса и
Энгельса, Собр. соч., т. IV, стр. 27).
135
плотских привязанностей человечества, является
особенностью классической ступени буржуазного
сознания. Она представляет собой фантастическое
отражение жизненного принципа этого общества —
«производства ради производства». Все, что относится к
непосредственному пользованию, наслаждению материальными и
культурными благами, наконец, само индивидуальное
потребление — выступает здесь в качестве
«непроизводительных издержек», faux frais исторического развития. Маркс
дал замечательную характеристику «классического
капиталиста». Не погоня за возрастанием стоимости требует
«самоотречения», наоборот, индивидуальное потребление,
роскошь, наслаждение «эстетической стороной богатства»
являются для буржуа классической эпохи греховным
отречением от «священной функции накопления». Эта
постановка вопроса характерна для классиков политической
экономии, она в отвлеченной форме присутствует и в
философии Гегеля. Не абстракция отвлеченно-духовного
развития, попирающего на своем пути все, что стремится
увековечить «счастье» и «благополучие народов», является
«отчужденной» формой прогресса, напротив, сама жизнь
есть, с точки зрения Гегеля, отречение духовной
субстанции. Сознание и воля, погруженные «в
непосредственную естественную жизнь», исполнены в этом отчуждении
«бесконечных притязаний, силы и богатства». Но это
только момент, ступень в развитии абсолютной духовной
сущности. «Дух противоположен самому себе, он должен
преодолеть самого себя, как подлинно враждебное препятствие:
развитие, которое, как таковое, есть спокойное
продвижение,— ибо оно и в проявлении равно самому себе и
представляет пребывание в себе,— в духе, в едином есть
жестокая бесконечная борьба с самим собой. То, чего хочет
дух, это — достигнуть своего собственного понятия;
однако он сам закрывает его себе, он горд и исполнен
наслаждения в этом отчуждении самого себя». Поэтому
историческое развитие непохоже на гармоническое, постепенное
восхождение, а скорее на «жестокую, невольную работу
против самого себя» \ Поэтому трагична и судьба
искусства по отношению к социальному прогрессу. «Круг, соз-
1 «Philosophie der Weltgeschichte», S. 129—138,
136
дающий искусство, охватывает формы отречений
абсолютной субстанции»1. Следовательно, вместе с возвращением
«абсолютного» к самому себе необходимо происходит
процесс нисхождения жизненной силы искусства: оно теряет
свое былое значение, уступая место философии искусства,
познанию вообще. «То, что должно восстать как целое
в мысли, должно как целое отцвести в действительности»,—
говорит гегельянец Фр. Теодор Фишер.
Этот «дух трагического рока», господствующий в
истории, Гегель выразил еще в своей «Феноменологии», говоря
о падении греческой культуры: «Умолкло упование на
вечные законы богов, как умолкли и оракулы, знавшие
случайное. Статуи теперь уже — трупы, от которых
отлетела оживлявшая их душа, а гимны — слова, покинутые
верой; в яствах богов нет духовной пищи и пития, и из их
игр и празднеств сознание не почерпает радостного
единства себя с сущностью. Произведениям муз недостает силы
духа, которая получала уверенность в себе в борьбе богов и
людей. Они теперь то, что они суть для нас,— сорванные
с дерева прекрасные плоды, посланные нам благоприятной
судьбой, представляемой в образе девушки. Нет больше
действительной жизни в их наличном бытии, нет дерева,
на котором они росли, нет земли и элементов,
составляющих их субстанцию, ни климата, который создавал их
определенность, ни смены времен года, которая управляла
процессом их возникновения. Итак, судьба дает нам в
произведениях искусства не их мир, не весну и лето
нравственной жизни, когда они цвели и зрели, но лишь скрытое
воспоминание об этой действительности. Наше наслаждение
плодами поэтому не есть делание, угодное богу,
посредством которого открывалась бы нашему сознанию
совершенная и воплощающая его истина, оно есть внешнее
делание, стирающее с этих плодов дождевые капли или пыль
и, вместо внутренних элементов окружающей,
воспитывающей и воодушевляющей нравственной действительности,
воздвигающее обширные леса мертвых элементов их
внешнего существования: языка, истории и т. п., не для того,
чтоб пережить их, а только для того, чтобы их себе
представить. Но девушка, подносящая сорванные плоды, есть
1 «Phänomenologie des Geistes^ S. 523—524.
137
нечто большее, нежели природа их, выражающаяся в их
условиях и элементах, т. е. в дереве, воздухе, свете и т.п.,
потому что девушка соединяет все это высшим образом
в лучах самосознательного взгляда и в жесте подношения.
Так же точно дух судьбы, предлагающей нам произведения
искусства, есть нечто большее, нежели нравственная жизнь
и действительность народа, потому что он есть
воспоминание, т. е. самоуглубление (Er-innerung) духа, еще
внешнего в них, он есть дух трагического рока,
собирающий все индивидуальные божества и атрибуты субстанции
в едином пантеоне, т. е. в духе, сознающем себя духом» \
В этом отрывке основная мысль философии искусства
Гегеля выражена с необычайной ясностью. Гибель поэзии
и искусства неизбежна и прогрессивна. Для Гегеля, как и
для Гете, возращаться к художественным формам
прошлого — это значит «возвращаться обратно в утробу матери».
Но что занимает место искусства в той «современности»,
представителем которой сознает себя Гегель? Высшая
жизнь состоит в в о с π о м и н а н и и,— отвечает философ.
Серый цвет теории разлагает красочный мир искусства, а
в практической жизни «труд над объективной целью»
поглощает все внимание индивида. Современность, о
которой говорит Гегель,— это в основе своей «буржуазное
общество» или, по его собственному выражению,
«государство нужды и рассудка», над которым реет бесплотное
существо умозрительной философии.
Эстетическое учение Гегеля находится в полном
соответствии с его общефилософскими взглядами. Мы видим
здесь тот же перелом от революционного отрицания
действительности к примирению с прозой и скукой так
хорошо осмеянных Фурье буржуазных отношений.
Прогрессивно-исторический характер эстетики Гегеля коренится в
его учении о развитии через отрицание всех отживших
ступеней действительности и сознания. Но это диалектическое
развитие выступает у Гегеля в извращенной,
идеалистической форме, подобно тому как идея безграничного развития
производительных сил человеческого общества выступает
у классиков буржуазной политической экономии в
извращенной форме «производства ради производства». Филосо-
1 „Phänomenologie des Geistes", S.523-524.
138
фия и эстетика Гегеля проникнуты убеждением, что в силу
превратности мирового закона все хорошее должно
погибнуть, что прогрессивное развитие может совершаться лишь
за счет бесконечных жертв, народных бедствий, нищеты,
подавления индивидуальности, «драконовой дисциплины»
капитала, исчезновения всякой привлекательности труда,
падения целых областей духовной культуры, каковы
поэзия и искусство. Иного выхода, кроме примирения с этими
отрицательными чертами прогресса, Гегель не видит. Он
требует от художника и поэта противоестественной любви
к тем самым буржуазным отношениям, которые, по его
собственному признанию, изгоняют всякую поэзию. Это —
отрицательная сторона эстетического мировоззрения
Гегеля. Вскоре после его смерти этот взгляд становится
знаменем философской реакции, и против него выступают
революционные демократы типа Фейербаха или Чернышевского,
отстаивая право народных масс на «хорошую жизнь», право
чувственности вообще, а следовательно, и право искусства.
Эстетика Гегеля подвергалась критическим нападкам и
со стороны либеральной буржуазии. Многочисленные
либеральные противники Гегеля как в первой, так и во
второй половине XIX века всегда выдвигали против него
обвинение в чересчур жестоком обращении с искусством. Это
были уже представители того поколения буржуазии, когда,
по словам Маркса, «она достаточно просветилась для того,
чтобы не отдаваться всецело производству, но стремиться
к «просвещенному потреблению», «когда даже духовный
труд стал все более и более совершаться для ее пользы»
и когда, с другой стороны, убаюкивающие сказки о
бесконечно отдаленном светлом будущем стали более уместны,
чем стоицизм Гегеля, ибо буржуазия «уже не противостоит
непроизводительному классу в качестве представителя
производительного труда, между тем как против нее
поднимаются настоящие производительные рабочие, в свою
очередь говорящие ей, что она живет трудом других людей» \
Однако в эпоху империализма мы встречаем своеобраз
ное «возрождение» классической эстетики. Снова появляется
на сцену Гегель со своей аскетической программой. В его
апофеозе работы, в учении о том, что страницы сча-
1 К. Маркс, Теории прибавошо"! стоимости, т. I, стр. 267.
139
стья в истории суть пустые страницы, буржуазия находит
богатый материал для проповеди самоотречения, которую
она в настоящее время преподносит трудящимся массам.
Торжество «всеобщего» над «особенным», победа духа
над материальной оболочкой означает в
переводе на современный язык наступление капитала на
материальные и культурные потребности рабочих, дрессировку
их для «оздоровительных» мероприятий буржуазии,
воспитание посредством чрезвычайных декретов. Современное
возрождение классического идеализма в философии и
эстетике есть попытка вызвать тень иной, уже невозвратимой
поры капиталистического общества. Идеи Гегеля в
осознанной или неосознанной форме присутствуют в самых
различных умственных течениях эпохи умирающего
капитализма. Не только цеховые философы и искусствоведы, но и
многочисленные апологеты техницизма, «рационального
хозяйства», «организации психики» и т. п. отдают дань
гегелевскому учению о судьбах искусства. Идея ненужности
художественного творчества в эпоху системы Тейлора или
Форда (идея, которую мы находим и у так называемых
«лефовцев» в СССР) есть не что иное, как вульгарное
воспроизведение уже известного нам взгляда Гегеля. Эта идея
глубоко реакционна, ибо она стремится увековечить то
положение, в котором находится искусство при господстве
капиталистического способа производства, в эпоху, когда
уже налицо иная, более высокая общественная система.
Для теоретиков империалистической буржуазии и
контрабандных разносчиков ее влияния нет цели более
заманчивой, чем доказательство того, что в советской системе
хозяйства не содержится ничего принципиально-нового по
сравнению с опытом капиталистического мира. Они
стремятся подвести под один знаменатель то напряжение сил,
которого требует от рабочего класса строительство
социалистического общества, с судорожными усилиями
капиталистических классов удержать за собой господствующее
положение в мире. И вот появляются теории, в которых
плановость хозяйства и индустриализация СССР фигурируют
просто как один из символов наступления новой,
«организованной», упорядоченной технической эры. И гегельянство
приобретает совершенно неожиданное применение.
В современной борьбе двух систем гегелевская «фило-
140
софия труда»* занимает совершенно определенное место.
Не может быть ничего более фальшивого, более
враждебного объективной исторической правде, чем та или иная
попытка затушевать отличие этой философии от
мировоззрения революционного пролетариата. Наша «философия
труда» носит совсем другой характер. Трудовой энтузиазм,
отличающий народные массы в стране строящегося
социализма, не имеет ничего общего с подавлением потребностей
и чувств живого индивида.
А к этому сводятся в конечном счете многочисленные
разновидности так называемых «левых» течений в
искусстве, «пуризм» в архитектуре, отрицание искусства вообще
или «учение» о том, что в эпоху темпов следует
довольствоваться малым. Все это отголоски той морали скупого
рыцаря, которую буржуазия противопоставляет сначала
наслаждающейся аристократии, а затем материальным и
культурным требованиям рабочих.
β эстетике Гегеля получило свое классическое
выражение отрицание искусства, внутренно
присущее буржуазному обществу. На чем основано это
признание невозродимости художественного творчества?
Во-первых, на том, что в эпохи расцвета искусства в прошлом
«дух» находил удовлетворение в «непосредственной жизни»,
в пользовании ее благами и в интенсивном удовлетворении
своих еще не развитых потребностей. Дальнейший
прогресс, порождающий «неопределенное умножение и
специализацию потребностей, средств и наслаждений», есть
вместе с тем «увеличение зависимости и нищеты». Гегель по
своему, но правдиво отразил эту особенность всей прежней
истории.
Мы знаем теперь, что конфликт между развитием мира
общественного богатства и удовлетворением потребностей
живого человека впервые уничтожает социализм.
Пойдем дальше. В эпохи расцвета искусства (как,
например, в Греции) существовала, по словам Гегеля,
неразвитая гармония между индивидуальным и всеобщим
интересом. Вместе с прогрессивным историческим развитием
1 Как называет ее один из выдающихся представителей
современной буржуа <ной философии, Ганс Фрей^р. См. его «Die Bewertung
der Wisrtchaft im philosophischen Denken des XiX Jahrhunderts», Lpz
141
это единство подвергается разложению. «Всеобщее»
прокладывает себе дорогу через тысячи мелких страстей, и
его прогресс очень часто противоречит интересам
отдельного индивида.
Это противоречие социализм также разрешает,
поскольку он ставит повышение количества материальных и
культурных благ, получаемых трудящимся, в непосредственную,
прямую зависимость от его участия в общем строительстве·
В коллективных сельских хозяйствах, на фабриках и
заводах это единство осуществляется практически.
Учение Гегеля об упадке искусства основано, между
прочим, на том историческом наблюдении, что высокие
формы художественного творчества в прошлом были
связаны с расцветом народной культуры. Наоборот, вся
противоречивость прогресса «цивилизации» выражается в
фактах упадка и даже вымирания целых народов вместе с
развитием мирового хозяйства и международной культуры.
Эту особенность прогресса, которую идеалистически
выразил Гегель, социализм также устраняет. Он впервые
создает новый тип международной культуры, которая не
прокладывает себе дороги ценой растаптывания отдельных
народных культур, а наоборот, является естественным ре*
зультатом их полного и всестороннего развития на
социалистической основе.
Противопоставляя эпоху искусства эпохе труда
Гегель просто констатирует тот факт, что в буржуазном
обществе труд лишен всякой привлекательности и
представляет собой крайнюю противоположность
самодеятельности индивида. В нравственном отношении — говорит
Маркс —■ капиталистический способ производства требует
от рабочего лишь «чисто отрицательных условий, каковы,
например, терпение, бесстрастие, прилежание». Напротив,
социализм впервые превращает труд в «дело чести,
доблести и геройства». Он вызывает к жизни силы массовой
инициативы, соревнования, самодеятельности.
Наконец, в общественной дисциплине,
подчиняющей себе все многообразие чувств и потребностей и
изгоняющей, по мнению Гегеля, поэзию и искусство, мы
узнаем исторически ограниченную форму всеобщей связи,
создаваемую буржуазным обществом.
Пролетариат, победивший и строящий здание новой, бо-
142
лее высокой общественной формы, также нуждается в
строжайшей общественной дисциплине. Об этом неоднократно
писал Ленин. Но проблема дисциплины имеет у Ленина
прямо противоположный смысл по сравнению с постановкой
вопроса Гегелем. Великий немецкий идеалист, в сущности,
не видел иного выхода, кроме примирения с деспотизмом
капитала, увековечивающим господство
предпринимательского гения и коммерческих плутней над
производительным трудом. Напротив, дисциплина, о которой говорил
Ленин и которую победивший пролетариат распространяет
на общество в целом, необходима для того, чтоб обеспечить
свободное развитие всех таящихся в народе способностей
и талантов (которые, по известному выражению Ленина,
мял, давил и душил капитализм). Для Гегеля дисциплина —
это противоположность революции, тогда как у Ленина она
является необходимым спутником революционной борьбы.
Философия Гегеля и диалектический материализм
выражают собой противоположность двух исторических путей,
двух типов материального и культурного развития.
Создавая широкую почву для самодеятельности и творческого
подъема в массах, осуществляя свободное сотрудничество
народов и разрушая цивилизованную ограниченность,
так же как капитализм разрушил ограниченность
патриархальную, социализм устраняет и все те причины, которые
побуждали лучших представителей мыслящего человечества
в прошлом искать утешения в идее «трагического рока».
Вопрос об исторических судьбах искусства не может
стоять для рабочего класса как проблема примирения.
«Терпенье, бесстрастие, прилежание» — все эти
«отрицательные условия», которых требует школа
капиталистического производства, революционные массы заменяют
положительным развитием всех заложенных в них духовных
способностей. Только классовая борьба пролетариата
способна вывести художественное творчество из того
состояния, в котором оно находится в капиталистическом
обществе, создать принципиально новое положение
духовной культуры по отношению к материальному
производству и непосредственному труду.
1931 г.
КАРЛ МАРКС И ВОПРОСЫ ИСКУССТВА
ПРЕДИСЛОВИЕ К ОТДЕЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ
В статье для энциклопедического словаря Гранат
Ленин писал о признаваемой даже противниками Маркса
замечательной последовательности и цельности его
взглядов, «дающих в совокупности современный материализм и
современный научный социализм, как теорию и программу
рабочего движения всех цивилизованных стран мира». И
действительно, нет ни одной области знания, где бы
революционно-критическая мысль Маркса и Энгельса не
означала коренного перелома. Область литературы и искусства
не является в этом отношении исключением.
Правда, Маркс и Энгельс не оставили многотомного
сочинения, в котором были бы систематически разобраны все
категории эстетики. Быть может, это и послужило
источником для весьма распространенного мнения, будто в
произведениях основоположников марксизма не содержится
сколько-нибудь продуманной и последовательной системы
взглядов на литературу и искусство. Всем известно, что
Маркс и Энгельс имели много случаев высказать свое
отношение к вопросам художественного творчества. Но эти
суждения принято относить скорее к личности каждого
из основоположников марксизма, чем к их учению.
Никто не сомневается в существовании экономической
теории Маркса или его теории права и государства. Но
достаточно бегло ознакомиться с нашей специальной
литературой об искусстве для того, чтобы убедиться в том, сколь
незначительную роль играет в ней вопрос о согласии или
144
несогласии данного автора с эстетическими взглядами
Маркса. В совокупности этих взглядов принято видеть
личные вкусы, а не теорию.
Вот характерный пример. В знаменитом отрывке из
введения «К критике политической экономии» Маркс говорит,
что художественное развитие человечества не
пропорционально развитию производительных сил общества и что
вследствие этого, как бы ни был прогрессивен
капиталистический способ производства, искусство в буржуазном
обществе стоит на более низком уровне, чем, например,
в античной Греции. Покойный В. М. Фриче в своей
«Социологии искусства» писал нечто прямо противоположное.
Он устанавливает «закон о примате ß области искусства
той страны, которой принадлежит примат в области
хозяйства» (стр. 60). Если, по учению Маркса, все проявления
духовной деятельности общества определяются развитием
его материального основания («хозяйства»), то уровень
художественного творчества должен быть всегда
пропорционален уровню хозяйственного развития. Следовательно,
Маркс противоречит самому себе, предпочитая Гомера и
Данте поэзии «современных народов» или прозу Дидро
морализующей безвкусице Жюля Жанена. Тот, кто обнаружил
у Маркса подобное «противоречие», должен считать его
взгляды на искусство подозрительно-старомодными. Он
<5удет их совершенно игнорировать, молчаливо допуская,
что любовь к Эсхилу и высокая оценка Шекспира
относятся к той главе биографии великого революционера, в
которой будут рассказаны подробности его частной жизни
(апокрифическая любовь к фаршированной рыбе и т. п.).
Отсюда естественное стремление восполнить
недостающее звено к общей теории марксизма путем «построения
марксистской эстетики» или «социологии искусства». Но
откуда взять необходимый материал? Очевидно, следует
дополнить Маркса с помощью заимствований у того или
другого представителя буржуазной науки об искусстве.
Чаще всего эта честь выпадала на долю
вульгарно-социологических учений второй половины XIX века. В сближении
марксизма и буржуазной социологии повинен уже Плеханов
(несмотря на все его оговорки по отношению к Тэну). Но
так называемая «социология» эпохи относительно мирного
и постепенного развития капитализма переросла в настоя-
10 М. Лифшиц 145
щее время в различные направления модной «философии
культуры». И вот являются попытки перенести кое-что из
этой философии в марксизм. Такова, например, довольно
распространенная манера рассматривать всю историю
искусства как постоянную смену двух стилей:
коллективистического (монументального) и индивидуалистического
(жанрового). Согласно внутреннему смыслу этой схемы
социализм является повторением египетской культуры эпохи
фараонов или новым средневековьем,— идея целиком
буржуазная, которую можно к тому же найти и в буквальном
выражении у прямых реакционеров (каков, например,
известный Виппер).
Но, говоря о нашей литературе, нельзя ограничиться
указанием на эти нелепости, порожденные, кроме всего
прочего, крайним невежеством в области основных
положений марксизма-ленинизма (и тем нежеланием учиться,
с которым Ленин советовал расправляться самым жестоким
образом). Ограничиться подбором этих отрицательных
фактов было бы тенденциозно и неправильно. Существует,
кроме того, колоссальное стремление подымающихся новых
умов рабочего класса к точному и глубокому пониманию
подлинных произведений основоположников марксизма,
il после основательных ударов, нанесенных партией людям,
которые «ничего не забыли и ничему не научились»,
существует широкая, очищенная от элементов разложения
почва для разработки всех сторон коммунистического учения
в духе последовательной партийности.
В этом реальном движении мы видим торжество того
понимания Маркса, которое в сокровищнице его
теоретических воззрений находит самое последовательное и цельное,
самое глубокое и революционное учение о развитии
культуры, т. е. всех сторон материальной и духовной
деятельности человечества. Так именно понимал Маркса
Ленин. Всесторонне развивая взгляды основоположников
марксизма, Ленин настойчиво подчеркивал этот
универсальный характер их мировоззрения. Напротив, представители
оппортунистической традиции II Интернационала
усматривали в марксизме лишь чисто экономическую теорию или
социологическую доктрину, нуждающуюся в дополнении из
Канта, Дарвина, Маха или какого-нибудь другого
мыслителя с более или менее буржуазным горизонтом. В обосно-
146
вании необходимости этого дополнения всегда играл
крупную роль тот аргумент, что Маркс не сказал ничего или
сказал слишком мало о различных «культурных
ценностях» — этических, художественных, религиозных.
Принижая марксизм до уровня позитивизма, лишая учение
Маркса и Энгельса его могучей убедительности и силы,
международный меньшевизм прокладывал дорогу
современной фашистской реакции и в области мировоззрения.
Чем основательнее обнаруживает свою негодность
капиталистический способ производства, чем яснее становится,
что выросшие на его основе материальные,
организационные и культурные силы общества не мирятся больше с
узкими рамками буржуазных общественных отношений, тем
более радикальным языком вынуждены говорить
литературные представители реакции. Либеральные буржуа XIX
столетия восставали против учения Маркса, обвиняя его в
привнесении субъективных оценок в область науки. Их
идеалом было так назьгоаемое объективное изложение
фактов той или другой области истории знания. Этот дух
трезвенности и поверхностного реализма в настоящее
время утрачен буржуазной литературой.
Волна теоретического водолейства, культур-философ-
ских реминисценций, антропософических откровений
заливает ее от края до края. Одной из характерных
особенностей современной эпохи является стремление самой
«солидной», профессоральной «ауки искать убежище от
назойливости фактов в сфере «пьяного умозрения». В
классический период своего господства буржуазия выступала
против «революционной фантастики», противопоставляя
ей доводы от чечевичной похлебки. Еще Фридрих
Шиллер, великий предшественник позднейших либеральных
эпигонов, видел внутреннее противоречие революции в том,
что она уничтожает «естественно выросшее государство»
и подвергает угрозе существование «физического
человека» ради только возможного, «хотя и нравственно
необходимого» общественного идеала. На другой день после
насильственного подавления революционного движения масс
на сцене всегда появлялся буржуа-либерал с его
излюбленной поговоркой: «Лучше живая собака, чем мертвый лев».
Но этот испытанный метод оправдания капитализма в
настоящее время уже отвергнут историей. Он теряет всякую
ίο* 147
тень убедительности по мере того, как социализм
становится колоссальным жизненным фактом и, напротив, само
капиталистическое общество готово превратиться' в
«мертвую собаку».
Иные времена — иные песни. Современный защитник
капитализма вынужден прибегать к более рискованным
приемам оправдания действительности. Он объявляет себя
крайним врагом буржуазии, «власти денег», господства
«еврейского капитала». Нет ничего более модного в современной
буржуазной литературе, чем критика капитализма. Выход,
который имеется при этом в виду, — это пресловутая
«революция справа», т. е. фашизм в его различных вариантах.
С этой точки зрения Маркс оказывается уже не
революционером, приносящим факты в жертву своим идеалам, —
как изображали его буржуа прежней формации, — а,
напротив, величайшим «позитивистом» XIX столетия,
последним и крайним завершителем «либеральной доктрины».
Основоположники марксизма изображаются в качестве
прямых апологетов капитализма, проповедующих
подчинение фактам экономической действительности. Они якобы
не обладали стройным культурно-философским
мировоззрением. Это были люди скучные, неспособные, подобно
Ницше, оставить круг идей капиталистического
«хозяйства», для того чтобы перейти в высшую сферу красоты
и силы. Что касается Маркса, то «его отношение к
религии, искусству, природе совершенно непродуктивно,
неоригинально, и притом в такой степени, в какой при таком
огромном уме это возможно только в пустыне XIX
столетия» \
Таков чрезвычайно популярный прием, с помощью
которого можно одним взмахом пера превратить
основоположника научного коммунизма в представителя «буржуазной
эры». Весь этот новый оборот в критике Маркса является
вульгарным повторением политического романтизма,
свойственного таким писателям-одиночкам середины XIX
столетия как Бруно Бауэр или Карлейль. Для современной
критики марксизма характерна и романтическая
противоположность между «техникой» и «человеком», спор между
1 Hugo Fischer, Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und
irtschaft, Jena, 1932, S. 11 f.
148
счастьем и индустрией, как говорил в свое время Адам
Мюллер.
Всякому, кто знаком с пропагандистской литературой
фашизма» ясно, что во всем этом архиреакционном
движении играет известную роль своего рода «эстетическая
демагогия». Если в прежние времена буржуазные политики
отстаивали интересы господствующих классов с помощью
догматов полезности и права, то в настоящее время, говоря
словами Германа Геллера, народился новый тип политика,
«романтического эстета в области политики, который
больше ценит эффектные, чем эффективные действия
правительства, и находит наилучшее в элегантном шатании
между революцией и контрреволюцией, между диктатурой
и анархией, между Сорелем и Муссолини» \ На фоне
общей перестройки системы буржуазных партий обращает
на себя внимание повышение политической роли выходцев
из деклассированной художественной богемы (более или
менее высокого полета). Так, например, в процессе
возникновения итальянского фашизма сыграл значительную
роль известный Габриэль д'Аннунцио. В Германии Гитлер
сам — неудавшийся художник, а его доверенное лицо Ро-
зенберг — наполовину «искусствовед», наполовину
журналист, посвящающий сотни страниц вопросам искусства, для
того чтобы вывести из принципов готики необходимость
прихода к власти национал-социалистов. Весь этот сброд,
колеблющийся между псевдохудожественными исканиями и
дубиной, в обычное время поглощается нормальным ходом
капиталистического производства. В эпоху кризиса он
выпирает наружу, представляя вместе с офицерами в
отставке и учителями гимнастики хороший человеческий
материал для формирования лейб-гвардии капитала.
Неотъемлемой частью всей литературы фашизма является
эстетическая критика <цивилизации» — карикатура на
немецкую публицистику конца XVIII и начала XIX столетия.
Так, Гитлер презрительно третирует современные города,
сравнивая биржу с античным Парфеноном. «Левый» Отто
Штрассер противопоставляет капитализму средневековую
организацию общества, Дюрера и нюренбергских мастеров.
1 Herrn. Heller, Genie und Funktionär. Politische Wissenschaft.
Heft 10. Probleme der Demokratie, Berlin- Grünewald, 1931.
149
Эта своеобразная перемена стиля в современной
буржуазной литературе (в том числе и более «солидной») есть
факт, хотя факт противоречивый. Ибо во всей
деятельности фашистских романтиков содержится столько же
«эстетического», сколько было его в поведении какого-
нибудь грекулюса римской эпохи, услаждающего своих
господ звуками изысканной речи и занимающего свое
законное место среди челяди, гладиаторов и рабов. Но так
или иначе победа мистико-эстетических тенденций в
современной буржуазной литературе остается фактом. Мы не
можем отделаться от «эстетической демагогии» фашизма
ссылкой на то, что она является прямым и сознательным
обманом. Буржуазные партии всегда прибегали к
демагогии, а для того чтобы обман имел успех, должны
находиться люди, способные обманываться. Важен
специфический характер новых методов демагогии и обмана. И здесь
совершенно ясно, что эстетическая демагогия фашистов
является косвенным свидетельством той радикализации
масс, которая сказывается, между прочим, и в поисках
цельного и последовательного мировоззрения, способного
в хаосе рушащихся «устоев» объяснить — откуда и
куда, дать общую оценку всех сторон материальной
и духовной жизни. Ложный расцвет философско-эстетиче-
ской литературы на Западе есть, так сказать, буржуазный
суррогат того выхода из современного духовного кризиса,
который диктуется всей историей общественной мысли,
и целиком содержится в теории и практике
марксизма-ленинизма.
Отсюда понятно стремление буржуазной литературы
изобразить Маркса в качестве узкого «позитивиста», не
обладающего сколько-нибудь глубокой «философией
культуры» и не выходящего из умственных границ
буржуазного либерализма. Прием необычайно ловкий,
превосходящий по своему издевательству над истиной все, что до сих
пор применялось имущими классами в целях поддержания
своего господства над умами. Достаточно вспомнить, что
подобные разоблачения марксизма как «буржуазного»
мировоззрения распространяются в больших тиражах
современным концентрированным издательским капиталом.
Видимо, этот род критики буржуазии приносит ей большие
проценты, ибо, как заметил уже Гоббс в XVII столетии,
150
господствующие классы не склонны поддерживать идеи,
опасные для их положения: если бы истина — «сумма углов
треугольника равна двум прямым» — противоречила
интересам имущих, все руководства по геометрии были бы
сожжены, а сочинители подвергнуты гонениям.
Отсюда понятно также и то изменение, которое
произошло за последнее время в положении вопросов искусства
по отношению к другим областям духовной культуры. Вся
история общественной мысли показывает, что идейное
содержание и общественная ценность эстетической теории
всегда возрастали по мере того, как она выходила из
узкого круга специальных интересов и обнаруживала
скрытые в ней элементы «социальной критики». Именно это
обстоятельство и привлекало к вопросам искусства и
эстетики (в более широком смысле) внимание передовых умов
данного времени. Гельвеций и Дидро, Кант и Гегель, На-
деждин, Белинский и Чернышевский не гнушались
вкладывать в изложение эстетических проблем самые близкие
их сердцу идеи. В своей классической форме — в XVIII и
начале XIX столетия—обращение к эстетике было попыткой
выхода из противоречий развивающегося буржуазного
общества, — правда, выхода чисто идеологического.
Уже само возникновение эстетики являлось известной
формой протеста против калечащего действия разделения
труда, подавления индивидуальности властью обстоятельств,
против узости и прозы буржуазных отношений. И лишь
©последствии, когда торжествующая буржуазия усыновила
«интеллектуальные сословия», эта замечательная
самокритика буржуазного общества, осуществлявшаяся· в прошлом
его лучшими представителями, уступила место
профессионально ограниченной учености. Со второй половины
XIX века история и теория искусства влачат едва заметное
существование в одной из захолустных областей
университетского orbis terrarum.
Но история перевернула и эту страницу. В эпоху
империализма, когда все противоречия материального и
культурного развития человечества выступают наружу с
непреодолимой силой, проблемы «эстетического отношения
искусства к действительности» снова приобретают ту
радикальную постановку, ту связь с глубочайшими
вопросами современности, которую отняла у них эпоха относи-
151
тельно спокойного и мирного процветания капитализма
(период «либерализма и позитивизма», как принято
выражаться в современной буржуазной литературе). И
буржуазные классы прекрасно учитывают эту перемену.
Старая, узко специальная наука об искусстве и эстетика формы
отходят на задний план. Их место все чаще занимает
литература так называемого «духовно-исторического метода»
(geistesgeschichtliche Methode), т. е.
философско-эстетическая публицистика, не избегающая острых конфликтов
современности, но целиком проникнутая тенденцией извлечь
из этих конфликтов мораль реакции.
Перед нами, таким образом, сложное, двойственное
явление в лагере врагов рабочего класса. Не подлежит
никакому сомнению, что современное «возрождение»
философии искусства на Западе имеет глубоко реакционный
характер. Философско-эстетическая критика цивилизации
переживала свой классический период в XVIII столетии
(в России значительно позднее). Ее объективной основой
была в большинстве случаев борьба за демократический
путь развития буржуазного общества против наиболее
грубых, сросшихся со «старым режимом» форм капитализма.
Напротив, эстетическая гастрономия какого-нибудь
Гитлера или Муссолини, так же как произведения их более
образованных сподвижников, свидетельствует лишь о
попятном движении от демократии к реакции,
характеризующем, по словам Ленина, политическую надстройку эпохи
империализма.
И все же мы не можем попросту отвернуться от этих
новых явлений в буржуазной идеологии новейшего времени.
Одной из характерных черт ленинского метода борьбы,
метода, последовательно применяемого партией Ленина и
Сталина, является требование никогда не измерять
действительность масштабом вчерашнего дня, а напротив,
всегда уверенно встречать новые изгибы и повороты дела,
рассматривая каждое явление с точки зрения «общего хода
и исхода» борьбы пролетариата. Глубокой ошибкой было
бы поэтому думать, что реакционность современного
возрождения «философии искусства», оказывающей известное
влияние даже на такие области, как естествознание, может
заставить нас вздыхать о былой трезвенности буржуазной
науки. Пусть господа буржуазные ученые пытаются вос-
152
кресить «чувственно-нравственную» теорию цветов Гете,,
пусть рассматривают они политическую экономию с
помощью метода «наук о духе», пусть призывают к созданию
«мифов»1 и нового «замкнутого мировоззрения»,— сквозь
все эти черты разложения и упадка проглядывает
положительное историческое движение. Почва борьбы
расширяется, и мы можем быть только рады тому, что враги рабочего
класса вынуждены сбросить ложное облачение
«объективной» науки и, покинув свои прикрытия из множества
единичных фактов и всевозможных specifica, принять
открытый бой в области мировоззрения, взятого в
целом.
Кто не понимает этой двойственности современных
идеологических процессов, тот вынужден в более или менее
скрытой форме оплакивать эру «здоровой» буржуазной
науки. Он вынужден вздыхать о той счастливой поре, когда
в официальной литературе капиталистического общества
еще не был отменен* «золотой стандарт» и горы
примечаний и справок, колоссальное нагромождение сведений
обеспечивали каждое осторожное обобщение. Но вместе
с тем он должен будет принять и узкий эмпиризм
буржуазной науки второй половины XIX столетия,
господство механистического взгляда на природу, мелочную
спецификацию дисциплин. В области вопросов искусства он
должен будет примириться с господством археологии,
расцветом так называемой «эстетики снизу», пытающейся
установить физиологические законы прекрасного при
помощи анкеты (что красивее: куб или цилиндр?). Словом, во
всех отношениях он превратится· в защитника умственных
форм, соответствующих «нормальному», прочному,
обеспеченному капиталистическому обществу.
Но формы эти в настоящее время потерпели крушение.
И с точки зрения марксизма-ленинизма в этом нет ничего
печального. Цепляться за старые формы мысли из страха
1 Так. в недавно вышедшей книге Гергярда фчн Муциуса («Zur
Mythologie der Gegenwart. Gedanken über Wesen u. Zusammenhang
der Kulturbestrebungen», München, 1923) мы читаем, например,
следующее: «Если история желает стать жизнью, она не можетотка-
заться от мифического подъема. Действительно, современной она
становится лишь благодаря фантазии, т. е., в высшем смысле,
только благодаря искусству».
153
перед разгулом современного «мифотворчества» — это все
равно, что противопоставлять фашистской реакции
буржуазный парламентаризм. Когда говорят о разложении
капиталистической культуры эпохи империализма, следует
остерегаться опасности впасть в меньшевистский тон, т. е.
из критики современного идейного распада сделать
апологию буржуазного мировоззрения в его прежних
респектабельных формах. Мы не должны забывать, что
разочарование масс в том жалком идейном месиве, которое из
элементов официальной буржуазной науки и обрывков
искаженной марксистской теории создал себе
международный меньшевизм, немало способствовало быстрому
продвижению вперед различных форм национал-фашизма.
В Италии и Германии фашизм с самого начала выступил
в качестве «партии цельного мировоззрения» (хотя на деле
это так называемое «мировоззрение» представляет собой
дикую смесь из кваснопатриотических элементов и
полудекадентских гримас современной идеалистической
философии). Нельзя упускать из виду, что успех агитации
фашистов в известной мере связан с их умением «играть на всех
струнах лиры» (как выразился однажды Муссолини).
Колоссальная жажда освобождения от идейной ограниченности,
в которой долгое время прозябали народные массы
капиталистических стран, крушение старого филистерства,
мещанства в прямом и переносном смысле есть факт, и
его нужно учитывать. Иначе это сделают другие. В духе
известного изречения Маркса можно сказать, что жажда
мировоззрения становится силой, когда она владеет
массами.
Именно эта сила заставляет буржуазную литературу
покинуть свои академические высоты и завязать интригу
с жизнью. Толстые бесцветные томы периода
относительной стабилизации капитализма снова, как в 1923 году,
отступают перед тучей брошюр на самые
животрепещущие темы. Старые противоречия материальной
общественной жизни и духовной культуры снова выступают на
сцену, но в яркой, кричащей форме. Их нельзя уже обойти
ссылкой на бесконечно продолжительный процесс
приближения к недостижимой цели культуры, как это делал
старый либерализм, обращаясь к теням Канта и Шиллера. Их
нельзя уже просто игнорировать, и можно только фаль-
154
шиво излагать, обращая острие фактов против
побеждающего коммунизма. Эту задачу и призвана выполнить та
популярная отрасль философской публицистики
капиталистических классов, которая в последнее время известна
под именем «философии культуры».
Но если понятие философии культуры имеет какой-
нибудь рациональный смысл, то в произведениях
основоположников марксизма содержится самая богатая и
глубокая философия этого рода. Правда, Маркс и Ленин никогда
не проповедывали каких-нибудь моральных или
эстетических догм. В их учении не играет никакой роли понятие
«судьбы», которой якобы подлежит всякая культурная
формация. Если Маркс иногда употребляет в применении
к истории человеческого общества понятия «детства» или
«мужества», то это является у него одним из
традиционных образных выражений, унаследованных от классиков
буржуазной общественной мысли. В нем нет, таким
образом, ничего от тех пустых глубин, которые образуют
все содержание современной «философии жизни»,
«антропософии», «социологии знания». В нем нет фальшивой
широты кругозора, сводящейся к беллетристическому
нанизыванию различных исторических фактов на стержень
одной и той же абстрактной конструкции. Еще в начале
своей литературной деятельности (в «Немецкой
идеологии») Маркс и Энгельс показали, чего стоят подобные
конструкции и как легко их строить после Гегеля. В
произведениях основоположников марксизма действительная
широта кругозора, основанная на детальном изучении фактов
истории культуры, соединяется с глубоким
проникновением в собственное реальное движение этих фактов.
Перед нами проходят различные исторические типы,
связанные с определенными ступенями развития классовой
борьбы: просветители и романтики, «рыцари благородного
сознания» и рыцари индустрии, движимая и недвижимая
собственность в лицах, герои первоначального накопления
и моральные буржуа позднейшего периода, «классический»
и «модернизованный» капиталист, либерал и демократ
и т. д. и т. п. вплоть до наиболее близкой нам эпохи.
Повсюду вскрывается истинное лицо типических
представителей определенных общественных классов, внутренние
противоречия их жизненных условий и образа мысли, их
155
сравнительные преимущества и недостатки с точки зрения
конечной победы пролетариата и, наконец, специфический
стиль их воззрений на общество и природу. В
произведениях основоположников марксизма-ленинизма дана, таким
образом, подлинная материалистическая феноменология
общественного бытия и сознания,—эта глубочайшая и вместе
с тем остро политическая наука, нашедшая себе
дальнейшее развитие в произведениях Сталина, решениях партии
и Коминтерна. Эта наука содержит в себе и ответ на все
формы общего вопроса об исторических судьбах культуры,
вопроса, которому современная буржуазная публицистика
стремится придать характер «мировой загадки». Оставить
без изучения и пропаганды эту сторону мировоззрения
основоположников марксизма было бы ущербом для дела
пролетариата. Тем более, что только в связи с этим
мировоззрением может быть правильно понято
действительное содержание их м е τ о д а.
Сказанного, быть может, достаточно для того, чтобы
оправдать небольшую попытку представить взгляды Маркса
на общий ход исторического процесса с той стороны, с
какой они до сих пор еще ни разу не излагались.
Работа, предлагаемая вниманию читателя, возникла еще
два года тому назад. Внешним доводом послужило
предложение написать статью «Маркс» для шестого тома
«Литературной энциклопедии». Как ни старался я сузить рамки
рассматриваемого материала, мне все же пришлось
сократить написанное втрое- Таким образом стало уместно
отдельное издание, без сокращений. Сжатость языка,
исключение почти всего, что относится к обстоятельствам
времени, крайняя беглость в обзоре материала достаточно
объясняются первоначальной целью работы.. Я
сознательно усвоил себе описательный тон и везде, где было
можно, приводил подлинные суждения и мысли Маркса.
Зная, сколько доморощенных спекуляций вокруг того или
другого из выражений Маркса уже бесславно почили в
некрополе нашей литературы, читатель едва ли осудит мое
намерение.
Недостатки этой работы мне как нельзя более ясны.
Большинство проблем в ней только намечено. Некоторые
156
важные этапы в развитии взглядов Маркса на культуру и
искусство освещены далеко не полно.
Впрочем, в качестве введения, способного облегчить
читателю понимание известных сторон мировоззрения
Маркса,— а на большее я здесь не претендую,— моя
работа, может быть, окажется полезной. На худой конец
я прошу рассматривать ее как собрание материалов, на
основании которых всякий, считающий себя в праве это
сделать, может писать произведения
«методологического» характера.
«Предисловия, — говорит Шефтсбери, — содержат
большей частью извинения; но лучше было бы автору
исправить свои ошибки, чем просить о прощении». Возможно,
что в предлагаемой вниманию читателя небольшой работе
также содержатся какие-нибудь ошибки. Никто не может
претендовать на папскую непогрешимость. Должен, однако,
сознаться, что в настоящее время я этих ошибок не вижу.
В противном случае я, разумеется, никогда не позволил бы
себе опубликовать свою рукопись в печати.
(11 февраля 1933 г.
КАРЛ МАРКС И ВОПРОСЫ ИСКУССТВА
Величайший мыслитель и вождь революционного
рабочего движения — Карл Маркс родился и начал свою
деятельность в тот период, когда центр общественных
интересов повсюду (за исключением, быть может, России) уже
переместился из области литературы и искусства в сферу
политической экономии и социальных вопросов. Само
собой разумеется, что и XVIII столетие — классический век
эстетических учений—не могло существовать такой
отвлеченной материей, как категории «прекрасного» и
«возвышенного». За самыми специальными спорами о роли
гения, о ценности искусства, о подражании природе всегда
скрывались практические вопросы
буржуазно-демократического движения. Но так или иначе, они скрывались под
оболочкой эстетических проблем, подобно тому, как вся
идеология революционной буржуазии XVIII века облекала
реальные задачи своего класса в форму отвлеченных
проблем воспитания человека. Великая французская
революция является в этом отношении переломным моментом.
«Эстетический период» в развитии третьего сословия
оканчивается там, где прозаические интересы буржуазии как
класса обособляются от интересов общества в целом.
С течением времени отношение буржуа к искусству
становится грубо практическим. За «стремлением к Югу»
(которое во Франции развивается уже в эпоху основания
Кольбером академии в Риме, а у немцев с особенной силой
во второй половине XVIII столетия) следует
наполеоновское ограбление художественных сокровищ Италии. В то
158
время как представители отсталой части немецкой
буржуазии — берлинские романтики — строят системы
спекулятивной философии искусства, богатые рейнские буржуа:
братья Буассере, Вальраф, Бертрам — скупают
произведения старонемецких школ, выброшенные на рынок
благодаря разорению князей. В этих ревностных поклонниках
живописи уже видны будущие строители железных дорог и
сталелитейных мастерских. Вопросы искусства повсюду
служили переходом к вопросам политики и хозяйства;
поиски эстетической свободы предшествуют литературной
борьбе за свободу торговли или протекционизм. Когда же
буржуазия добивается политического господства, проблемы
истории и теории искусства теряют былое общественное
значение и становятся достоянием узкого круга цеховых
ученых.
Но именно в это время начинается самостоятельное
революционное движение пролетариата. Рабочий класс не
может сетовать на переход общественной мысли из царства
поэзии в царство прозы. Напротив, чем скорее
«прекрасная» революция уступит место революции
«безобразной» (как любил выражаться Маркс), чем раньше
пышное облачение демократических иллюзий спадет с
материальных интересов и классы столкнутся в открытой
борьбе друг с другом, тем ближе конечная цель всего
движения пролетариата. Именно в экономии буржуазного
общества искали основоположники марксизма тайну эксплоа-
тации рабочего класса, и в завоевании политической власти,
в диктатуре пролетариата нашли они средство для его
освобождения. Главной отличительной
особенностью взглядов Маркса является учение об
исторической роли пролетариата как могильщика капитализма и
создателя социалистического общества (в то время как
основное содержание этих взглядов образует
экономическая теория Маркса). «Период искусства» окончился
вместе с Гете и Гегелем.
Каково бы ни было отношение основоположников
марксизма к художественному творчеству, они не могли
уделить ему столько внимания и места, сколько занимало оно
в философских системах предшествующего периода. И это
отнюдь не является признаком «позитивистской
ограниченности» Маркса и Энгельса, как стремится представить дело
159
современная буржуазная литература, а напротив,
свидетельствует об их гениальности. С известной точки зрения мы
можем, разумеется, сожалеть о том, что основоположники
марксизма не оставили нам систематического изложения
своих взглядов на культуру и искусство. Это значительно
осложняет нам наши теоретические задачи. Но все в мире
соткано из противоречий. С точки зрения всей борьбы
рабочего класса странно было бы жалеть о том, что Маркс
и Энгельс в середине XIX века не занимались изданием
многотомных сочинений по эстетике, как это делал Фр.
Теод. Фишер, не писали стихотворных трагедий, как Лас-
саль. Ибо это показывает, что основатели Международного
товарищества рабочих стояли на высоте исторических
задач, которые выдвигала перед ними реальная
действительность, и направляли все усилия своего мозга на разрешение
центральных проблем, стоявших перед страдающим и
борющимся человечеством. И в этом смысле, как это ни
парадоксально звучит, отсутствие среди произведений Маркса
«системы эстетики» или «философии искусства» является
положительным фактом даже с точки зрения самой
эстетики. Задача состояла в том, чтобы выйти из пределов
чисто идеологической (например, моральной или
эстетической) критики общественных порядков, нужно было
обнаружить обыденные, реальные основания самых отвлеченных
и высоких проявлений духовной деятельности человека.
Маркс и Энгельс гениально решили эту задачу; они умели
смотреть действительности прямо в глаза, не для того,
чтобы примириться с прозаической натурой буржуазных
отношений, но для того, чтобы указать пролетариату
единственно возможный путь из скудного «царства
необходимости» в радостное «царство свободы».
Значение теории Маркса для разрешения вопросов
культуры и искусства было бы громадно даже в том случае,
если бы мы ничего не знали об эстетических взглядах
основоположников марксизма. К счастью, это далеко не
так. В сочинениях и письмах Маркса содержится немало
различных замечаний и целых отрывков, в которых
выражена его точка зрения на те или другие проблемы
культуры и искусства. Как афоризмы Маркса, они глубоки и
многозначительны; как всякие афоризмы — допускают
произвольные толкования.
160
Здесь начинается задача исследователя. Он должен
поставить эти замечания в тесную связь с общим ходом
возникновения и развития марксизма. Эстетические взгляды
Маркса являются одним из составных элементов его
последовательно-революционного мировоззрения. Они имеют не
только биографическое значение, хотя в силу целого ряда
причин дошли до нас лишь в отрывочной форме.
Наиболее ранние источники для суждения о взглядах
Маркса на литературу и искусство относятся еще к тому
периоду его политического развития, который может быть
назван периодом революционного демократизма. Но
в промежуток времени с 1844 по 1848 год Маркс вместе
со своим ближайшим другом и сотрудником Фридрихом
Энгельсом обосновал теорию и тактику
пролетарского социализма или коммунизма. Ввести читателя
в понимание этого закономерного процесса
возникновения марксизма, поскольку он нашел себе выражение в
развитии взглядов Маркса на искусство, и составляет
задачу последующего изложения.
I
На первых ступенях духовного развития Маркса
эстетические интересы занимают у него одно из первых мест.
В университетские годы (1835—1841) он наряду с правом
и философией изучает историю литературы
(преимущественно античной) и важнейшие произведения классической
немецкой эстетики. Отправившись осенью 1835 года
в Бонн для того, чтоб изучать там криминалистику, Маркс
уделяет истории литературы и искусства не меньшее
внимание, чем институциям и уголовному праву. Он слушает
лекции престарелого Августа-Вильгельма Шлегеля о
специальных вопросах истории античной литературы (Гомер,
Проперций), изучает историю нового искусства и,— если
верить университетскому начальству,— с особым
вниманием занимается античной мифологией, которую читал в
то время знаменитый Велькер. В берлинский период Маркс
лишь однажды (в течение зимнего семестра· 1840 41 года)
обнаруживает интерес к истории литературы в
университетских рамках (лекции Гепперта об Эврипиде), но тем
большее значение приобретает для него самостоятельная
Il М. Лифшиц 161
работа над проблемами художественного творчества.
К числу прочитанных им в 1837 году книг относятся;
«Лаокоон» Лессинга, «Эрвин» Зольгера, «История
искусства древности» Винкельмана, «Рассуждения о
художественных инстинктах животных» Реймаруса. Совершив
переход к философии Гегеля, Маркс познакомился и с его*
«Эстетикой» (вероятно, летом 1837 года).
Но интерес к искусству имеет у молодого Маркса не
только теоретический характер. Он пробует свои силы в
ряде стихотворных опытов, весьма слабых, за немногими
исключениями. Из Бонна он посылает отцу «философское
стихотворение» (ноябрь 1835 года), к берлинскому периоду
(точнее к 1836—1837 гг.) относятся целые тетради стихов
(«Книга песен», «Книга любви», 1—2), посвященных
невесте, Женни фон-Вестфален (эти тетради в настоящее
время утрачены). Четвертая тетрадь (недавно найденная в
архиве Р. Даниельса), помимо сорока стихотворений,
содержит часть фантастической драмы «Оуланем» и несколько
глав из юмористического романа «Скорпион и Феликс»,
написанного в духе Стерна и Гофмана.
Судя по сохранившимся свидетельствам самого Маркса,
он с постоянно возрастающей силой стремился подавить в
себе влечение к поэтическому творчеству. Но соблазны
романтической поэзии, повидимому, не оставляют его и
позднее. Еще в 1841 году он опубликовал два из своих
старых стихотворений в берлинском «Атенеуме». Борьба
между влечением к поэзии и суровой необходимостью
искать ответа на поставленные жизнью вопросы в сфере
науки представляет собой содержание первого крупного
перелома в умственном развитии Маркса.
Итогом этой внутренней борьбы является отказ от по-
эзии и переход на сторону философии Гегеля, с его
учением о неизбежности нисхождения искусства в
обществе нового времени. Наивно было бы думать, что этот
отказ представляет собой у Маркса лишь результат
разочарования в собственном таланте (как стремится
представить дело Меринг). В действительности личные
переживания являются здесь выражением закономерного общего
процесса.
Сомнения в возможности подлинно художественного
творчества на почве социальных отношений нового буржу-
162
азного времени выступают в истории немецкой
общественной мысли дважды. Эстетическая критика
действительности играет большую роль уже в классической немецкой
философии, начинающей свое развитие незадолго до
французской революции и оканчивающейся в
универсальном царстве категорий гегелевской системы. Те же самые
мотивы мы встречаем и в радикально-демократическом
движении тридцатых и сороковых годов, из которого вышел
Маркс.
Общество, возникшее в результате слепой борьбы
эгоистических интересов, подчиняющееся в своем движении
лишь механическому «давлению потребностей»,— это
«государство нужды», как назвал его Шиллер,— неспособно
служить почвой для подлинно художественных
произведений. Так смотрели на дело представители радикально
настроенной немецкой молодежи в то время, когда Гегель
вместе с другими воспитанниками Тюбингенской
семинарии сажал пресловутое «дерево свободы». В их
отрицательной оценке действительности переплеталась критика
феодального мира привилегий и буржуазного царства
частной собственности. В новое время,— писал молодой
Гегель,— народная поэзия не знает ни Гармодия, ни Аристо-
гейтона, «которых сопровождала вечная слава, ибо они
убивали тиранов и давали своим согражданам равные права
и равные законы». Эпохе упадка противопоставляется
античной полис, когда «железная связь потребностей еще
была украшена розами» и мелочная прозаическая душа
частного интереса не заглушала любви к поэзии и
понимания красоты. Калечащее действие разделения труда,
растущую механизацию всех форм человеческой
жизнедеятельности, поглощение качества количеством, — все
эти особенности буржуазного общества Гегель считал
враждебными поэзии и после того, как он признал
капиталистическое общество необходимой почвой
прогресса.
«Фантазирующие террористы» французской революции
(как называл Маркс якобинцев) восставали против
буржуазной экономии не для того, чтоб ее уничтожить, но лишь
для того, чтобы подчинить материальный мир
собственности политическому бытию граждан. В этой идеализации
политической верхушки общества как принципиальной
и* 163
противоположности его грязного материального основания
состоял «фантастический» элемент в мировоззрении
революционеров XVIII столетия. Подобно этому великие
немецкие мыслители-идеалисты, даже там, где они относятся
к буржуазному обществу критически, говорят лишь о
низменности экономической сферы вообще, ее подчиненном
значении по отношению к интересам духа. В рамках
идеалистической философии возможен только отвлеченно-
духовный выход из общественных противоречий. У
Шиллера (и романтиков) на первый план выступает
эстетическое преодоление «государства нужды». Искусство,
являющееся органом «абсолютного», должно воссоединить то,
что разъединила, противопоставила, исказила история.
В отличие от этого взгляда, Гегель признает высшим
способом разрешения противоречий познание. Его
последним словом является стоическое примирение с
действительностью, отказ от увенчивания ее искусственными
розами.
Поэтому, несмотря на различные колебания, у Гегеля
преобладает пессимистический взгляд на возможности
художественного творчества в новое время.
В первый период своей самостоятельной духовной жизни
Маркс целиком проникнут романтизмом и крайне
отрицательно относится к Гегелю. Романтизм имеет у него
радикальный, фихтевский оттенок. «Нападки на настоящее»
чередуются с поэтическим обоснованием «гордости
человека», постоянно стремящегося вперед и в этом движении
ломающего поставленные ему границы. Повсюду перед
нами энтузиаст-мечтатель (стихотворение «Тоска»),
«богоборец» («Молитва отчаявшегося»), вообще человек,
вступающий в единоборство с вековечными силами.
Дух не дрогнет пред тропою,
Где проходит божество.
Он гордится глубиною,
Силою .величья своего.
Человек может погибнуть в неравной борьбе, но
Само его поражение есть в то же время триумф
человеческого духа:
Дяже в сам^м попаженьи
Празднует победу он.
164
Гегель, ненавистный Марксу своим отказом от
преодоления действительности, повсюду осмеивается в качестве
«пигмея». Не меньшего презрения удостаивается и его
«Эстетика».
Нам, эпиграммам, дерзкий наш задор
Не ставь, читатель дорогой, в укор:
Мы Гегелем объелись, вот в чем сила,—
«Эстетика» кишки нам засорила.
Свою поэзию Маркс впоследствии сам называет
«идеалистической» в том смысле, что вместо гегелевского
примирения с действительностью в ней господствует фихтевское
противоречие между сущим и должным (письмо Маркса
к отцу от 10 ноября 1837 года). «Сущее» уподобляется в
одном из стихотворений Маркса «обезьяньему театру»,
а прозаи-ческая мудрость буржуазного века осмеивается
в лице ее типичных представителей — математиков и
медиков. Первые свели все чувства человека к
математической таблице; вторые рассматривают мир как простой
мешок костей, источник фантазии коренится для них в
желудке. Целительным средством против филистерства
является поэзия, преодолевающая житейскую пошлость и
страдание:
В яркие одежды облаченный,
С гордым сердцем, с пламенным умом,
От презренных пут освобожденный,
Твердо я вступаю в царство прозы,
Скорбь отбросив пред твоим лицом, —ρ
И цветут, как древо жизни, грезы.
(Заключительный сонет «К Женни»)
В другом стихотворении это выражено еще яснее:
Певец, мечта моя легка.
Я улетаю в облака.
Где плачет жизнь, мой гимн звенит,
Заря румяная горит,
Багрянцем дали пылают.
(«Диалог с ****)
Отсюда —■ вполне обоснованный переход к чисто шилле-
ровским мотивам. Есть где-то страна, в которой каждый
165
счастлив, где жизнь и радость заключили союз друг
с другом —
Душ согласных единенье
Всех слило в единый круг;
Не сословное деленье,
А любовь царит вокруг.
это царство счастья существует только
Полно, полно, то лишь грезы
Сердце сетью оплели,
Унося в эфир от прозы
В прах поверженной земли.
(«Люцинца») 1
Боги завидуют людям и ревниво следят за тем, чтобы
человек не возвышался над естественной необходимостью.
Лишь в поэтической фантазии человек свободен и
счастлив. Этот вывод, граничащий с шиллеровским:
Was unsterblich im Gesang soll Leben,
Muss im Leben uritergehn,—
представляет собой уже форму отказа от романтики,
пропитанной фихтеанством. Во многих стихотворениях
последней тетради слышатся ноты примирения с жизнью.
«И однако, только в этих последних стихотворениях,—
пишет Маркс отцу,— блеснуло мне внезапно, как по удару
волшебной палочки (ах, удар этот был вначале
уничтожающим!), царство истинной поэзии, подобно далекому
дворцу фей, и все созданное мной распалось прахом».
Летом 1837 года в мировоззрении молодого Маркса
происходит решительный сдвиг. Его не удовлетворяет больше
абстрактное противоположение субъекта объекту. «От
идеализма, который я, к слову сказать, создал по образцу
идеализма Канта и Фихте, я перешел к тому, чтобы искать
идею в самой действительности. Если прежде боги жили
над землей, то теперь они стали центром ее». Переходным
мостом к Гегелю служила попытка соединить сущее и
должное, прозу и поэзию в духе Гете и молодого Шеллинга.
«Я написал диалог, почти в 24 листа,— «Клеант, или об
Но, увы,
в мечтах —
1 Перевод О. Румера.
166
исходном пункте и необходимом развитии философии».
Здесь я объединял в известной степени
искусство и науку, совершенно
разошедшиеся друг с другом». Работа эта, заставившая
Маркса познакомиться с «естествознанием, Шеллингом,
историей», привела его к неожиданному результату.
Попытка воздвигнуть на почве серьезности и прозы
искусственное здание поэзии окончилась неудачей.
Заключительный тезис задуманной в духе Шеллинга работы
оказался первым положением гегелевской системы. «Мое
любимое детище, взлелеянное при лунном сиянии, завлекло
меня, подобно сирене, в объятия врага»,— пишет Маркс.
С этого времени он расстается с «лунным сиянием»
романтизма и становится последователем Гегеля. Сблизившись
с группой выдающихся молодых гегельянцев, Маркс
собирается издавать журнал, в котором обещали сотрудничать
«все эстетические знаменитости гегелевской школы».
Нападки на прозаический дух действительности,
пронизывающие собой юношескую поэзию Маркса, представляют
собой первую, смутную форму критики немецкого
«обуржуазившегося феодализма». С этой стороны чрезвычайно
интересно следующее место из юмористического романа
«Скорпион и Феликс». Осмеивая скептицизм, разлагающий
художественное мировоззрение прежних веков, Маркс
пишет: «Эпопея не может быть создана в наше время».
Ироническое обоснование этого тезиса таково: «Для начала
мы выдвигаем оные основательные рассуждения о правой и
левой стороне [ср. главу XXVII, где Маркс пародирует
релятивистское доказательство относительности «правого» и
«левого»], стаскиваем, таким образом, с этих
поэтических выражений их поэтическое одеяние, как Аполлон снял
кожу с Марсия, и делаем их образом сомнения,
безобразным павианом, имеющим глаза, чтобы не видеть, Аргусом
наизнанку; последний имел сотню глаз, чтобы обнаружить
то, что утеряно, сомнение же, угрюмый борец с небесами,
обладает сотней глаз, чтобы виденное сделать как бы неви-
денным. Однако сторона, место есть главный критерий
эпической поэзии, и, поскольку исчезает видение, как это
происходит показанным у нас образом, эпическая поэзия
может восстать от своего могильного сна, лишь когда
трубный глас пробудит Иерихон». Второе доказательство не-
167
возможности эпоса еще более замечательно. Поэзия
непримирима с современными условиями собственности,
которые осмеиваются автором в образе «майората»
(глава XXIX). Все это заострено еще против Гегеля (в своей
«Философии права» Гегель выступает в качестве
защитника майората), и тем не менее гегелевский взгляд на
судьбы эпической поэзии уже пробивается здесь сквозь
ироническое отношение к действительности. Проникнув в
тайны гегелевского примирения с действительностью, Маркс
не становится от этого консервативнее; напротив, отказ
от романтической программы знаменует собой для него
переход от туманной оппозиции по отношению к
существующему порядку — к более радикальной критике
общественных отношений.
Банкиру Рикардо приписывали революционные
побуждения за то, что он с подлинно научным стоицизмом изображал
экономические отношения буржуазного общества. С
другой стороны, его обвиняли в бессердечном отношении к
страданиям неимущих классов и примирении с социальной
несправедливостью. Нечто подобное случилось и с Гегелем.
Эстетика Гегеля относится к романтической философии
искусства, как «пессимизм» Рикардо к сентиментальным
утопиям романтиков-экономистов. Ни одна из
экономических теорий до Маркса не дала социалистической мысли
столь могущественного орудия для критики буржуазного
общества, как бессердечный «цинизм» учения Рикардо.
И точно так же ни одно из классических произведений
немецкой эстетики не содержит в себе столько
революционно-критических элементов, как «Эстетика» Гегеля. С
точки зрения Гегеля «буржуазное общество» (die bürgerliche
Gesellschaft) и «христианское государство» неблагоприятны
для развития художественного творчества. Отсюда можно
сделать два вывода: либо искусство должно погибнуть ради
торжества «абсолютного государства», либо это последнее
будет разрушено, и новое «мировое состояние» принесет
с собой новый расцвет художественного творчества. Сал*
Гегель склонялся к первому выводу; но стоило лишь
переменить акцент, и учение об антиэстетическом духе
действительности приобретало революционный характер.
Подобные выводы из эстетики Гегеля делали радикальные
представители его школы, к которым с 1837 года при-
168
мыкает Маркс. Напротив, либерально-буржуазная
оппозиция, презрительно третируемая в кружке молодых
гегельянцев, находила учение Гегеля об упадке искусства и
недостаточно революционным, и чересчур опасным. Гегеля
обвиняли одновременно в прислужничестве по отношению
к прусскому •правительству и наряду с этим — в
якобинстве, бонапартизме, даже сенсимонизме. Свое теоретическое
оружие против подозрительной доктрины христианско-
либеральная буржуазия заимствует из арсенала
романтической эстетики. Против одностороннего преклонения
перед Грецией, сохранившегося у Гегеля еще со времен его
увлечения якобинством, будущие немецкие фельяны и
жирондисты выдвигают идею «современной мифологии»,
«современного идеала». С исторической стороны это
выразилось в высокой оценке христианского искусства нового
мира, в отличие от античности.
Вот почему отказ от романтизма и признание основных
положений гегелевской эстетики означали для молодого
Маркса переход на более высокую ступень политического
сознания.
II
Первой работой, которую Маркс предпринял в качестве
последователя Гегеля, было изучение позднегреческой,
особенно эпикурейской философии.
В различных умственных направлениях эпохи
разложения античного мира левые гегельянцы усматривали
аналогию с современными им явлениями. «Кажется
непонятным,— пишет Меринг,— как это идейный авангард
буржуазного класса, который хотел создать национальное бытие
немецкого народа, закалял свое самосознание при помощи
античного самосознания, возникшего из разложения
национального бытия». Но дело в том,— и этого Меринг, не
понял,—что существуют, по известному выражению
Ленина, «две буржуазии» и два пути сознания «национального
бытия» народа. Там, где радикальные последователи Гегеля
возвышались до политического понимания, они отстаивали
интересы демократии против либерализма. Но как это часто
бывает с представителями буржуазного демократизма, эти
«философские монтаньяры» (по выражению Руге) были уве-
169
рены, что вместе с падением привилегированного
капитализма, тесно связанного со «старым режимом», исчезнет
всякая тень буржуазных отношений и, социальной
несправедливости вообще. Таким образом, «идейный авангард
буржуазного класса» был настроен тем более
антибуржуазно, чем больше отдельные его представители
пропихались интересами определенного буржуазного слоя, а
именно—мелкой буржуазии. Отсюда их критика
буржуазного «эгоизма», неспособного возвыситься до точки зрения
«общего», нападки на «частный интерес», атомистическую
раздробленность. Этой силе, угрожающей обществу
ослаблением его социальных связей, подобно тому как в физике
миру механической энергии угрожает растворение в
тепловом бессилии, они противопоставляли «пластический»,
скрепляющий элемент политических отношений.
Но не следует забывать, что среди
гегельянцев-идеалистов Маркс занимал в высшей степени своеобразную
позицию. Достаточно вспомнить о его отношении к античному
материализму.
Философия Эпикура отнюдь не пользовалась
расположением немецких философов-идеалистов. В целом ряде своих
произведений Гегель прямо или скрыто полемизирует с
Эпикуром. В принципе атомизма он видел высшее
выражение общества единичных лиц, обособленных друг от друга
и знающих лишь столкновение частных интересов, «войну
всех против все??». Здесь царствует последовательный
эгоизм и противопоставление единичной воли — всеобщему.
Атомизм, реально осуществившийся в экономии и
политике, был той фатальной силой, которая разложила
«царство прекрасной нравственности», как называет Гегель
греческое общество. Но когда под влиянием развития
«эмпирической свободы» индивидов происходит распадение
реальной общественной жизни, человеку остается
внутренняя свобода, идеальная жизнь, самоуглубление (Erinnerung).
Эта истинная свобода, противоположная эгоистическому
произволу, выступает, по мнению Гегеля, в стоической
философии и затем в христианстве.
Диссертация Маркса о физике Эпикура также содержит
критику атомизма и «атомистического общества». Но
отношение к Эпикуру, стоикам и христианству у Маркса
совсем другое, чем у Гегеля. И это различие, в котором
170
сказывается уже противоположность между последним
представителем классической буржуазной философии и будущим
основоположником научного социализма, имеет большое
значение для понимания эстетических взглядов Маркса.
Основой греческой жизни,— пишет Маркс в
подготовительных работах к диссертации,—было единство с
природой. История античности состоит в разложении этой связи.
«Борьба древних могла окончиться лишь тогда, когда было
разрушено видимое небо, субстанциональная связь жизни,
сила притяжения политической и религиозной жизни».
Против патриархальных связей, овеянных народной
фантазией, выступает сила «просвещения». «Деградация,
профанация природы по существу означает разрыв с
субстанциональной, неподдельной жизнью». Само искусство
становится орудием разложения первоначального единства.
«Греки разрушали его изящным молотком Гефеста,
разбивали его в статуях; римлянин вонзил свой меч в его
сердце». Поэтическое мировоззрение греческих
натурфилософов уступает место механическому взгляду на природу;
красочный, органически цельный мир Гомера становится
видимостью, за которой скрываются сухие отношения
количества. Все простое оказывается сложным, все
сложное— способным к разъединению. Мир распадается на
множество конечных телец, отстаивающих свою
независимость. Эти первичные тельца суть атомы. «Образование
соединений из атомов, их отталкивание и притяжение
сопровождается шумом. В мастерской и кузнице мира
происходит шумная, напряженная борьба. В мире, в сердце
которого бушует буря, обнаруживается внутренний разлад.
Даже солнечный луч, озаряющий тенистые места, является
образом этой вечной борьбы. Выясняется, как слепая,
роковая сила судьбы переходит в личный, индивидуальный
произвол и разрушает формы и субстанции». Эта «звучная
борьба атомов», в которой можно без труда узнать
картину разлагающейся античности, достигает своего полного
развития в римскую эпоху. Римская поэзия существенно
отличается от греческой. «Лукреций является истинно
римским эпическим поэтом, потому что он воспевает
субстанцию римского духа; вместо жизнерадостных, сильных,
цельных образов Гомера мы видим здесь плотных,
непроницаемых вооруженных героев, у которых нет никаких других
171
качеств, войну omnium contra omnes (всех против всех»,
строгую форму для-себя-бытия, природу, лишенную
божественного характера, и бога, отрешенного от мира».
Все это еще не выходит из пределов «Истории
философии» Гегеля. Новое появляется там, где Маркс анализирует
содержание атомистического принципа и подвергает его
критике. Мы уже знаем, что мир, состоящий из множества
независимых телец, несет в себе внутреннее противоречие
и разлад. Атом есть прежде всего «полное» в
противоположность «пустому», т. е. материя. Вместе с
множеством других неделимых он подчинен «движению
несамостоятельности», падению по прямой линии. Но, кроме того,
он обладает формой абсолютной единичности и в
качестве атома самодовлеющ и свободен. Подчеркивая это
различие, Маркс имеет в виду отношение между материальной
необходимостью и формальной гражданской свободой, или,
на языке молодых гегельянцев, между «буржуазным
обществом» и «политическим государством». Атом как
частица, в которой существенна только материальная сторона,
есть не что иное, как bourgeois (буржуа); атом как форма
абсолютного «для себя» бытия — это citoyen (гражданин)
французской революции. Эпикур развивает до крайних
пределов принцип атомистической формы, т. е. принцип
независимости отдельного лица, индивидуальной свободы.
Но именно в «науке атомистики», созданной Эпикуром,
этот принцип обнаруживает все свои противоречия.
Атом, обладающий формой полной независимости, не
может остаться одной из многих бескачественных частиц,
составляющих в совокупности сложное тело (таким он
является у Демокрита). Как самодовлеющее и равное себе
целое он должен стать средоточием всего богатства внешнего
мира; так атом приобретает качества. Но в этом случае он
перестает уже быть атомом. Как только он переходит из
абсолютной пустоты в мир явлений и становится
действительной индивидуальностью, его полная обособленность,
его атомистическая форма исчезают. Здесь перед нами
первая, еще смутная формулировка того положения,
которое мы впоследствии встретим в «Святом семействе»:
«Говоря строго и прозаически, члены гражданского
общества вовсе не атомы». Уже здесь, в диссертации,
подвергается, таким образом, сомнению политическая поэзия
172
«гражданского общества», предполагающая существование
совершенно равных, не связанных никакими материальными
узами, отделенных друг от друга пустым пространством
атомов-граждан. Противоречие «атомистического
принципа» состоит в том, что независимость и единичность,
присущие «неделимому», исчезают, как только наш атом
вступает в область реальной жизни.
Так, избрав в качестве темы для диссертации
отвлеченный историко-философский вопрос о различии между
натурфилософией Демокрита и Эпикура, Маркс — в духе всей
классической немецкой философии — пользуется этой
темой для иносказательной трактовки коренных социально-
политических вопросов своего времени. Он видит в
натурфилософском учении об атоме отражение принципа
обособленного, частного лица и независимого политического
гражданина,— принципа, торжественно провозглашенного
французской революцией. То противоречие между
буржуазно-демократическими идеалами и действительной жизнью,
которое обнаружилось уже во время революции и
немедленно после нее, Маркс в качестве последователя Гегеля
стремится вывести из понятия «атома», «для-себя-бытия».
Подлинный атом существует только в пустоте,
абстракции, в безвоздушном пространстве конституции 1793 года.
«Абстрактная единичность,— пишет Маркс,— есть свобода
от бытия, а не свобода в бытии. Она не может светить в
свете бытия. Это элемент, в котором она теряет свой
характер и становится материальной. Поэтому атом не
преступает в область явления; там же, где он преступает в
нее, он опускается до материального основания. Атом, как
таковой, существует только в пустоте. Таким образом,
смерть природы стала ее бессмертной субстанцией, и
Лукреций справедливо говорит: «Так бессмертная смерть
похищает смертную жизнь».
Мир однородных и в то же время сущих для себя
атомов-граждан боится жизни, ибо всякое реальное движение,
всякое проявление жизненных сил и интересов грозит
нарушить его абстрактное равновесие. Это находит себе
выражение в политическом идеализме греческих философов
уже в V веке. «Живые силы не затрагиваются,
идеальнейшие мыслители этого периода, пифагорейцы и элеаты, про
славляют государственную жизнь как действительный
173
разум, их принципы объективны и являются силой, с
которой сами они не могут совладать, которую они, с оттенком
таинственности, возвещают с поэтическим воодушевлением,
т. е. в форме, благодаря которой естественная энергия
возвышается до идеальности и не уничтожается, а
перерабатывается, причем не нарушается определенность
естественности целого. Это воплощение идеальной субстанции,
совершается в самих философах, ее провозглашающих; не
только форма выражения их мыслей оказывается
пластично-практической, но и действительность их выражается &
данной личности, их действительность есть их собственное
проявление. Сами они являются живыми образами, живыми
художественными произведениями, возникающими перед
народом в пластическом величии; там, где, как у древних
мудрецов, их действительность формирует общее, их
изречения являются в самом деле признаваемой субстанцией,
законами».
«Итак, эти мудрецы столь же непопулярны, как и статуи
олимпийских богов; их движение оказывается
самодовлеющим покоем, их отношение к народу настолько же
объективно, как и их отношение к субстанции». Не
удовлетворенный текучестью действительной жизни, мудрец
обращается против «действительности субстанции,
проявляющейся в народной жизни», отстаивая «право на идеальную
жизнь».
Для выяснения этого дуализма между философско-поли-
тическим идеалом и действительностью Маркс пользуется
примером теологии Эпикура. Последний выразил идею
независимости отдельного лица в своем учении об отклонении
падающего атома от прямой линии. Идея «отклонения»
проникает собой всю философию Эпикура. Это — отказ от
участия в реальной жизни, посредством которого атом
спасает свою «абстрактную единичность». «Таким образом,
целью деятельности является абстрагирование, уклонение
от боли, смятения, атараксия. Так, добро есть уклонение
от зла, наслаждение есть уклонение от страдания».
Высшим выражением принципа отклонения являются боги
Эпикура: «Очень много острили по поводу этих богов
Эпикура, которые, будучи похожи на людей, живут в
межмировых пространствах действительного мира, имеют ке
тело, а quasi-тело, имеют не кровь, а quasi-кровь, и, пре-
174
бывая в блаженном покое, не слышат никакой мольбы, не
заботятся ни о нас, ни о мире, и которых почитают ради,
их красоты, их величия и их совершенной природы, а не
ради какой-нибудь корысти. И все же эти боги — не
фикция Эпикура. Они существовали. Это пластические
боги греческого искусства. Цицерон, как
римлянин, в праве высмеивать их, но Плутарх, грек, забыл
совершенно греческое мировоззрение, когда говорит, что это
учение о богах уничтожает страх и суеверие, что оно не
дает ни радости, ни благоволения богов, но ставит нас к
ним в такое отношение, в каком мы находимся к рыбам4
Гирканского моря, от которых мы не ждем ни вреда, ни<
пользы. Теоретический покой есть главный момент
характера греческих богов, как говорит и Аристотель: «То, что
лучше всего, не нуждается в действии, так как оно само·
есть цель».
III
Это освещение особенностей греческой скульптуры
представляет собой уже шаг в сторону отказа от гегелевского
идеализма. Полемизируя впоследствии со Штирнером,
который, в обычном стиле спекулятивных конструкций
немецкой философии, изображал античную древность в
качестве эпохи господства «тела» над «духом», Маркс делает
между прочим следующее замечание: «...Древние
представляют собой в истории идеалистического политика, «citoyen»,,
тогда как новые в конце концов сводятся к «bourgeois»,
реалистическому ami du commerce». Мы видели, что
именно эта сторона античной действительности выражается,
по мнению Маркса, в образах греческих богов, спокойных,
не заботящихся об окружающем, отворачивающихся от
всякого практицизма и текучести, которую приносят с собой
мировая торговля, деньги, модернизация общественных
отношений. Но именно в этом кроется секрет закономерной
гибели греческого искусства, его историческая ограничен
ность. Подпочвенные силы, которых страшится античный
полис, разрушают каменную ограду Акрополя. И вместе
с нею рушится пластическое достоинство греческого
искусства; боги живут теперь только в «междумирьях»
стилизованной религии Эпикура.
175
Вслед за классической эпохой, которая характеризуется
«диалектикой меры», наступает царство безмерного,
противоречий, распада. «Мы не должны забывать, что за
такими катастрофами наступает железная эпоха,—
счастливая в том случае, если она ознаменовывается
титанической борьбой, достойная сожаления, если она походит на
следующие за великими эпохами в истории искусства века,
занимающиеся воспроизведением в изделиях из воска,
гипса и меди того, что возникло из каррарского мрамора
совершенно так же, как Афина-Паллада из головы Зевса».
Эпохи, подобные римской, оказываются «злополучными и
железными», когда «духовной монаде не останется ничего
другого, как погрузиться в частную жизнь». «Счастьем
при таком несчастьи оказывается субъективная форма,
модальность... Так, например, эпикурейская, стоическая
философия была счастьем для своего времени; так ночная
бабочка после захода общего для всех солнца ищет света
ламп, зажигаемых отдельными лицами».
Во всей этой картине нельзя отрицать влияния
«Эстетики» и «Истории философии» Гегеля. Так, указание
Маркса на связь между идеалом политического единства
атомов-«граждан» и греческой скульптурой опирается, по
всей вероятности, на соответствующее учение Гегеля о
разложении «классического идеала». Условием расцвета
греческого искусства Гегель считал политическую свободу. Вмз-
сте с упадком греческой демократии происходит и
нисхождение греческой скульптуры. Круг олимпийских богов
поражает то же противоречие, которое проникает собой
политическую жизнь и философию греков: это — антино-
мистика единого и многого. Боги греческого
искусства образуют пластическую совокупность, не разложимую
идеально. Но поскольку каждый из олимпийцев есть
единичный образ, он должен обладать индивидуальностью,
телесным существованием. Отсюда в это единство формы
проникает материальное различие и вместе с ним —
столкновение индивидуальных интересов, множественность и
разлад. Боги отворачиваются от этого взрыва жизненных
страстей, замыкаясь в своем «пластическом покое». Отсюда
отпечаток грусти на их величественных лицах.
«Блаженные боги грустят именно о том,— говорит Гегель,— что
составляет их блаженство, их телесность; в их образах
176
можно прочесть предстоящую им судьбу, развитие
которой, как действительное выступление противоречия
между величием и особенностью, духовностью и
чувственным бытием, ведет само классическое искусство к его
упадку».
Противоречия материальных интересов, разлагающие
античную демократию, уничтожают и то основание, на
котором развилась греческая пластика. Этот взгляд Гегеля;
был усвоен и Марксом. Но в пределах этого общего взгляда
имелось существенное различие. Для того, чтобы понять
специфический элемент в диссертации молодого Маркса,
нужно вспомнить следующее обстоятельство. Якобинская
попытка восстановления античной демократии,
оказавшая колоссальное влияние на всю немецкую философию
своего времени, потерпела крушение, наткнувшись на
противоречия интересов, на экономические отношения
буржуазного общества. В качестве абсолютного идеалиста Гегель
выразил эту историческую коллизию в форме
противоречия между идеальным началом духа и связывающим его
элементом материальной жизни. Отсюда и учение об упадке
классического искусства, слишком проникнутого
чувственностью для углубляющегося в себя духа нового времени.
По Гегелю, упадок античной скульптуры выражает
фатальный процесс нисхождения телесной формы вследствие
высшего развития духовного содержания. То сочетание
свободы и действительной жизни, которое существовало для
граждан античных республик, покоилось на неразвитости
«мирового духа». И когда дальнейшее развитие изгоняет
свободу из материальной действительности и в различных
философских течениях поздней античности, а затем в
христианстве, преобразует ее во внутреннюю свободу, свободу
от действительности,— это историческое противоречие
выражает, по мнению Гегеля, вечное торжество духа над его
материальной оболочкой. Поэтому, с точки зрения Гегеля,
не идеализм греческой пластики, разрушающейся от
соприкосновения с жизнью, является причиной ее упадка, а,
напротив, единство с природой, та жизненная теплота*
которой, несмотря на все, проникнуто это искусство. Итак,—
применяя выражение Маркса,— не «свобода в бытии»,
а «свобода от бытия» является последним словом эстетики
Гегеля.
12 M. Лифшиц
177
Политический идеализм греческой демократии,
отвлекающийся от противоречия реальных интересов, Гегель еще
более углубляет, превращая его в средневеково-христиан-
ский «спор души с телом». Это тесно связано с его
отношением к французской революции. Вывод, который Гегель.
делает из неудачи якобинской попытки преодолеть
экономические противоречия посредством строгого проведения
политического равенства, можно кратко формулировать
следующим образом: подлинная свобода начинается толька
там, где оканчиваются материальные интересы; поэтому не
в углублении революции, а в философском углублении духа
состоит дальнейшее развитие свободы.
В эпоху работы над диссертацией Маркс в общем стоял
на позиции абсолютного идеализма Гегеля. Но он вносит
в гегелевское' учение об упадке античности существенную
поправку, которая намечает совсем другой вывод из опыта
французской революции. Не реализм античного мира
(который, по словам Маркса в «Немецкой идеологии», состоит
в том, что в древности «общежитие было «истиной»,
между тем как в новое время оно остается идеалистической
ложью») является причиной упадка греческой демократии.
Напротив, зародыш смерти коренится в идеализме
абстрактной гражданской свободы, неспособной овладеть
материальным развитием. Историческую
ограниченность античной скульптуры составляет
не ее жизненная, телесная сторона, а
напротив, уклонение от жизни, уход в пустое
пространство. «Абстрактная единичность», т. е.
атом «гражданского общества», «не может светить в свете
бытия». Естественный вывод отсюда состоит в том, что
свобода и материальная жизнь должны быть соединены на
почве более высокого принципа, чем «абстрактная
единичность» атома-гражданина, или в переводе с философского
языка на язык политики—демократические требования
должны приобрести реалистически^плебейскую окраску,
широкое массовое основание. В этом заключается скрытая
тенденция работы молодого Маркса о натурфилософии
Эпикура. Демократия без политического идеализма или
политический идеализм без демократии — таков конечный
результат расхождения между Марксом и Гегелем.
Отсюда различие в оценке Эпикура у обоих мыслителей.
178
Для Гегеля атомистика Эпикура, особенно учение об
отклонении атома от прямой линии, представляет собой принцип
эмпирического «я», произвола частных лиц, разрушающего
единство античной политии. Маркс придает учению об
отклонении атома совсем другой смысл. Он реабилитирует
Эпикура как «просветителя», усматривающего в «эгоизме»
основу человеческого общества. Отклоняясь от
«несамостоятельного» движения по прямой линии, атом проявляет
свое себялюбие, свой собственный интерес. Но только
посредством этого отклонения он сталкивается в пространстве
с другими атомами и может вступать с ними в различные
сочетания. Взаимное отталкивание создает общественность
атомов. «В области политики это — договор, в социальной
жизни — дружба, которая восхваляется как высшее благо».
Таким образом, преодоление атомизма и эгоизма raBq>
шается посредством их собственного развития. Подобную
идею выведения общей воли из правильно понятого
эгоизма мы находим у «просветителей» разных эпох и стран
(например, у французских материалистов XVIII века, у
Фейербаха, Чернышевского). Ленин видел в этой идее
«зачаток исторического материализма».
Итак, Эпикур был первым теоретиком «общественного
договора». Он является, следовательно, в этом отношении
руссоистом до Руссо и в этом смысле предшественникам
французской революции. Принцип эгоизма содержит в себе
две возможности. Это, с одной стороны,— эгоизм
«частного интереса», стремящегося к исключительному господству
и олигархии,— то, с чем боролось правительство
Робеспьера. С другой стороны, это — эгоизм революционного
плебея, подавляющего непатриотические поступки
граждан, демократический, массовый эгоизм крестьянина,
желающего разделить помещичью землю, рабочего,
отстаивающего лучшие условия труда, свободу от произвола,
начальства и т. д. Такова революционная диалектика,
заключающаяся в «принципе атомизма»,— его
самоотрицание, переход к более высокому принципу. Разумеется, в
диссертации молодого Маркса все это присутствует еще
в скрытой форме, под тяжелой оболочкой гегелевского
идеализма.
Таким образом, то, что, по словам Меринга, «возникло
из разложения национального бытия», в новое время при-
12·
179
обретает прямо противоположное значение. Вот почему,
желая «создать национальное бытие немецкого народа»,
т. е. разрешить основную задачу
буржуазно-демократической революции в Германии, Маркс обращался к эпохе
разложения античного мира. «Новая философия,— пишет
он,— воскресает в том, на чем погибла древняя». То, что
представляло собой продукт разложения греческого
мировоззрения, в новое время образует «рациональное воззрение
на природу». «То, что у древних было профанацией
природы, у людей нового времени оказывается освобождением от
оков, налагаемых верой». Эпикурейская философия,
означавшая некогда погружение индивида в частную жизнь, в
новое время становится знаменем «титанической борьбы»
против небесных и земных богов, «которые не признают
человеческого самосознания высшим божеством».
Соответственно этому учение Гегеля о безвозвратном уходе
«царства прекрасной нравственности» приобретает у молодого
Маркса совсем другой акцент. Он пишет: «Все
человеческое должно пройти неизменный цикл рождения, расцвета
и увядания; это — очень избитая истина... Самая смерть
преформирована в живом, и ее форму следовало бы
поэтому понять в ее специфической особенности, как форму
жизни». Уже в письме к отцу от 10 ноября 1837 года
Маркс рассматривал свое время как переходную эпоху.
«Каждая метаморфоза,— пишет он, — есть отчасти
лебединая песнь, отчасти увертюра новой большой поэмы,
которая стремится утвердиться в еще расплывающихся,
сверкающих красках». Мы увидим в дальнейшем, что
«лебединую песнь» старого мира — гегелевскую философию —
Маркс стремится преобразовать в духе «увертюры новой
большой поэмы».
IV
Главным содержанием диссертации Маркса было
раскрытие двух сторон, двух возможных тенденций философии
эпикуреизма: пассивного погружения в частную жизнь и
последовательного буржуазного «просвещения» с его
«титанической борьбой» против религиозного и политического
гнета. Для всей левогегельянской публицистики
эпикурейское мировоззрение было символом бюргерски-просвети-
180
тельных элементов, постоянно колеблющихся от пассивного
аполитизма до поддержки национально-демократического
движения. Но как раз в начале сороковых годов, когда
Маркс оканчивал свою диссертацию, немецкое мещанство
переживало весну иллюзий и надежд на благодетельные
реформы сверху, в связи с вступлением на прусский
престол либерально-романтического кронпринца Фридриха-
Вильгельма (IV). В этих условиях Марксу не оставалось
ничего другого, как еще теснее сблизиться с группой Бруно
Бауэра, критиковавшей половинчатость немецких
либералов в лице их философских и теологических
представителей: Шлейермахера, Вейсе, Штрауса, и старогегельянских
кругов, готовых променять диалектику своего учителя на
слащавый пиетистский либерализм.
Понадобилось противопоставление прогрессивного
элемента гегелевской философии ее религиозной и
филистерской стороне, и вот из круга левых гегельянцев выходят
две анонимные брошюры-пародии, обличающие Гегеля как
якобинца и безбожника. Хотя эти брошюры («Трубный
глас над Гегелем, атеистом и антихристом», 1841 г., и
«Учение Гегеля о религии и искусстве с точки зрения
веры», 1842 г.) написаны Бауэром, но в составлении их
принимал большое участие Маркс. Он сам должен был
написать отдел, посвященный искусству во второй
брошюре. Зимой 1841/42 года Маркс целиком занят этой
работой. Но уже в первые весенние месяцы он под влиянием
различных причин меняет прежнее намерение и собирается
переделать свой «Трактат о христианском искусстве» в две
самостоятельные статьи: «О религиозном искусстве» и
«О романтиках». Статьи эти до нас не дошли, но
основные принципы «Трактата о христианском искусстве»
нетрудно восстановить на основании анонимных брошюр
1841 и 1842 гг. и сохранившихся выписок Маркса из книг,
прочитанных им во время работы над «Трактатом».
Обе брошюры, содержание которых было платформой
сближения Маркса с Бауэром, представляют собой прежде
всего апологию французской революции, и притом в лице
ее крайней, террористической партии. Последнее
обстоятельство тем более замечательно, что исторические
источники, которыми могли пользоваться Маркс и Бауэр, были
проникнуты звериной ненавистью к якобинцам, а первое
, 181
оправдание Робеспьера, предпринятое Бюше в его «Histoire
parlamentaire de la révolution française», только что
появилось в самой Франции.
В духе того сатирического приема, которым проникнуты
обе брошюры, верным последователем террористов в
Германии изображается Гегель. «Он завидует французской
нации за кровавую баню ее революции», — восклицает
гегельянец, замаскированный под верующего. «В лице
француза Гегель усматривал настоящего мессию народов, в
революции — подлинное спасение человечества». Напротив,
немцев он презирал за их привязанность к ночному
колпаку, чиновничьему месту, за рабскую пассивность.
Настоящими последователями Гегеля являются только участники
«банды левых гегельянцев». Но это вовсе не немцы, это —
французы. «Недаром поклоняются эти люди французской
революции, недаром изучают они ее историю,— они хотели
<5ы подражать ей. И кто знает, нет ли среди них уже
сейчас Дантонов, Маратов, Робеспьеров?!»
Следствием той вражды, которую Гегель питал к
религии и правительствам, является его преклонение перед
античной древностью. «Гегель большой друг греческой
религии и вообще греческого народа. Никакую религию он не
изображает и не восхваляет так восторженно, как
греческую. Естественно. Ибо она в сущности вовсе не есть
религия. Он называет ее религией красоты,
искусства, свободы, человечности».
«Только в одной религии Гегель видит человечность,
свободу, нравственность и индивидуальность, — в религии,
которая собственно не есть вовсе религия, в религии
искусства, в которой человек поклоняется самому себе.
Истинная религия, в которой все дело в боге и служении богу,
кажется ему слишком мрачной; истинного бога он считает
угрюмым, мрачным и ревнивым тираном, слугу божьего —
своекорыстным рабом, который служит чужому,
чтобы среди нужд этого мира сохранить свою скудную
жизнь».
Французская революция и греческое искусство, с одной
стороны, прозаическая, враждебная всякому искусству
мораль Ветхого завета—с другой,— такова антитеза,
лежащая в основе левогегельянской публицистики. Но разо:
блачение сухого и мрачного эгоизма, проникающего собой
182
Пятикнижие, не было просто запоздалой полемикой с
законодательством Моисея. Осмеивая враждебное
классическому искусству восточное мировоззрение, левые гегельянцы
имели в виду ветхий завет феодально-бюргерской Германии.
Мир привилегий и своекорыстия, сочетание старого
феодального варварства с новым — капиталистическим, столь
характерное для тогдашней Германии, выступает у них под
видом азиатской деспотии и примитивного натурализма
восточных народов.
Бог монотеистической религии есть чудовищный образ
эгоистического индивида, занятого только удовлетворением
своих собственных материальных потребностей. Но там,
где господствуют распаленная чувственность, жадность,
эмпирия,— не играют никакой роли форма, красота,
искусство. «Все должно утратить свою истинную
определенность,—восклицает гегельянец в облачении пиетиста,—
свою форму и образ, если предназначено оно господа
славить... По Гегелю, вселенная есть виноградное точило,
которое попирает Единый, чтобы сокрушить все
определенное, прекрасное, великое, тонкое или великолепное мира
сего и сокрушенное оставить в таком виде, как
свидетельство силы Единого».
«Теперь мы понимаем чудовищно насмешливое в словах
Гегеля, когда он говорит: «Искусство возвышенного»,—►
т. е. искусство, которое указанным способом делает
созерцаемым Единого, — «должно быть названо священным
искусством как таковым, исключительно священным
искусством». Он хочет сказать, что созерцание практического
отношения Единого к миру, это созерцание, которое в
самом себе несообразно, разорвано и недостойно, есть
настоящее священное искусство. Священным является
искусство, когда оно разрушает формы красоты, ритм и
гармонию и представляет созерцанию только эгоистическую
нужду Единого. Не форма, не истинная идеальность
содержания делают искусство священным, но лишь
материальный интерес, который так же мало заботится о форме,
как мы равнодушны к тому, в какой форме испечен хлеб,
который мы едим».
Фетишистское поклонение вещественной природе
предметов отличает восточный мир религии от греческого мира
искусства. Голый практицизм вместо теоретического от-
183
ношения к природе, хищничество и грубость вместо
творческой деятельности и художественной обработки,
привилегия и деспотизм вместо индивидуальной свободы и
гражданственности. «Действительная индивидуальность и
личность в собственном смысле слова в этом
деспотическом царстве невозможны, человеческая свобода,
самосознание просто изгнаны, и тем самым утрачен истинный и
единственный материал для истории, как и для искусства
(Гегель, «Эстетика») ».
В этом «деспотическом царстве» человеку остается
пассивное подчинение. История и художественное созерцание
здесь невозможны: «Если боги наделяются силой
распоряжения, то при этом страдает человеческая
самостоятельность, которая является совершенно необходимым
требованием для идеалов искусства. Так, согласно христианским
представлениям, дух божий ведет к богу. В таком случае,
однако, внутреннее человека может являться простой
пассивной почвой, на которую воздействует божеская воля,
а человеческая воля в своей свободе уничтожена. Если же
это отношение полагается таким, что действующий человек
внешним образом противостоит богу, как
субстанциональному, то взаимная связь обоих останется совершенно
прозаичной. Ибо бог повелевает, а человеку остается только
подчиняться (Гегель, «Эстетика»)». Отечеством
гражданина античной республики было «ателье искусства»,
отечеством верующего является «дом призрения нищих или
убежище для слабоумных».
Обратимся теперь к содержанию тетрадей Маркса.
Сохранились конспекты ряда книг, прочитанных им в связи
с работой о христианском искусстве в начале 1842 года
(Маркс жил в это время вместе с Бауэром в Бонне) \
В этих выписках и конспектах перед нами главнейшие
черты революционно-демократического мировоззрения мо-
1 1) Meiners, Allgemeine kritische Geschichte der Religion»
2 Bände, Hannover, 1806; 2) Jean Barbeyrac, Traité de la
monle des pères de l'Fglise, Amsterdam, 1728; 3) -Dejbrosses.
Über den Dienst der Fetisrhgötter etc, übersetzt von Pictorius, Berlin
und Stralsund, 1785; 4) С Α. Böttiger. Ideen zur Kunst-Mvthologie,
Dresden-Leipzig, 1826; 5) Jon. Jak. Grund, Die Malerei der Griechen
oder Entstehung, Fortschritt, Vol endung und Verfall der Malerei.
2 Teil-, Dresden, 1810, 1811; 6) С F. von Ruh m or, Italienische
Forschungen, 3 Teile, Berlin.
184
лодого Маркса. Многое из того, что встречается в этих
тетрадях, не исчезло бесследно в его дальнейшем
развитии, оно получило лишь более глубокое обоснование.
Родиной искусства является свободная, органическая
общественная жизнь. «Если мы приблизимся к героям и богам
греческого искусства, но без религиозных или
эстетических суеверий, мы не в состоянии будем
воспринять в них ничего такого, что не развилось бы также
в пределах всеобщей жизни природы, или по крайней мере
могло в ней развиться. Ибо все, что в этих образах
принадлежит самому искусству, есть изображение
человечески красивых нравов в прекрасных
органических образованиях» (выписки из книги: Ruhmor,
Italienische Forschungen, S. 124). Напротив, подавленность и
страх, рабство и деспотизм нуждаются в господстве
безобразного и враждебного искусству. «Безобразное и
причудливое питает определенную ненависть к искусству и
прогоняет его своим дыханием. Поэтому изображения богов
у древних народов все одинаковы в отношении их
художественной ценности. Мы не находим также нигде, чтобы
то из них, которое имеет вполне естественный характер,
когда-нибудь усовершенствовалось. Ибо, поскольку
понятие о божестве было ограничено страхом, и бог, которого
страшатся, освящал начало общественного союза, а главы
этого союза открывали в этом страхе средство руководить
простонародьем или держать его в подчинении,— они
сделали этот страх перед богом цитаделью своего господства,
распространяя его в народе и сохраняя неизменным
изображение бога в безобразной, способной внушить ужас
форме. Так как страх стесняет душу, то народ,
воспитанный и сохраняемый в страхе, никогда не может ее
расширить и возвысить; напротив, прирожденная способность
к подражанию и воспитанное на этом художественное
чувство бывают у него почти совсем подавлены» (выписки из
книги: Grund, Die Malerei der Griechen, S. 4). То, что
коренится в страхе, и, как сверхъестественное,
господствует над человеком, недоступно изображению в формах,
свойственных природе и человеческому телу. Отсюда
искажение естественных форм, произвольные обозначения для
мифических понятий, как, например, крылья, нимбы и т. п.
в соединении с естественными, по существу, типами святых
185
и ангелов (Ruhmor, S. 125). Таковы старейшие деревянные
идолы, «которые вызывали чувство ужаса у Павзания»,
черные мадонны, в которых почитали «непосредственное
присутствие божественного» (Ruhmor, S. 125). «Эта
чернота была как бы признаком и доказательством
чудотворное™ подобной картины» (Grund, S. 471—472). Чем
примитивнее, искаженнее, безобразнее данное произведение
искусства, чем более оно ««обработано и грубо, тем
религиознее его внутренний характер. Из знаменитой книги
Деброса о фетишизме Маркс выписывает те места, в
которых речь идет об отсутствии художественной
обработки как условии религиозного почитания предмета. Так,
например, изображение Геркулеса в одном из храмов
Беотии не было «художественно обработанной фигурой,
но грубым камнем древнего происхождения». И даже когда
изображение человеческого тела в скульптуре сделало
большие шаги вперед, религиозное почитание осталось
верным старым бесформенным камням. Ибо, по словам
Павзания, эти «наиболее безобразные, как самые древние,
суть также и наиболее достойные почитания» боги
(Debrosses, S. 117). Христианское искусство возвело эти
особенности религиозного мировоззрения в принцип. Из
книги честного просветителя Иоганна-Якоба Грунда Маркс
выписывает, например, следующее место о готической
пластике: «Скульптура живет большей частью
милостыней архитектуры, предоставленною ей, однако, в широких
размерах. Статуи святых наполняли собой внутренность,
покрывали наружную сторону зданий и выражали своим
бесчисленным множеством избыток почитания: они малы
и невзрачны с виду, худы и угловаты по форме, неуклюжи
и неестественны по своему положению и позам; таким
образом, они ниже всякого искусства, как человек, их
творец, был ниже самого себя» (Grund, 1. Th., S. 15).
Итак, конспекты Маркса проникнуты тем же
противопоставлением, которое мы находим в сатирических
брошюрах 1841 и 1842 гг. С одной стороны, эстетическое
совершенство античного искусства, покоящееся на демократии
греческих республик, с другой — религиозное
мировоззрение азиатских народов, всеобщая зависимость и
угнетение человека. Христианское искусство послеклассиче-
ской эпохи воспроизводит на новой ступени эстетику
186
азиатского варварства, предшествующего политической
жизни греков, как неотесанные камни примитивной
религии предшествуют статуям Поликлета, Культуры
христианского и восточного мира соприкасаются. В классическом
искусстве существенно качество, форма; в
противоположность этому, религиозное мировоззрение стремится к
простому количеству, бесформенной материи. Произвольное
удлинение или расширение формы, любовь к
колоссальному и подавляющему одинаково свойственны как
архаическому, так и христианскому искусству. Указаний на эту
сторону дела очень много в конспектах Маркса.
Христианская архитектура ищет чрезмерного и чувственно
возвышенного. Но вместе с тем она теряется в варварском
великолепии и множестве отдельных деталей: «Целое
подавлено этим избытком и роскошью» (Grund, 1. Th., S. 15).
Вместо органических форм, создаваемых
художественной фантазией, в религиозном искусстве господствуют
математическая сухость и рассудочность. Так, древнейшая
греческая скульптура, находящаяся под влиянием
египетских образцов, создавала собственно лишь «модели
математического плана строения тела», в которых не было ни
малейшей доли красоты, ибо в них «не фантазия, но
рассудок подчинил себе природу» (Grund, S. 24). Рассудочные
обозначения, небесная механика, отвлеченные аллегории
представляют собой в христианском искусстве то, что
относится в нем собственно к религии. «Кажется, что
христиане древнейших времен предпочитали
изображению более легкое, точнее выражаясь, совершенно
нехудожественное обозначение» (Ruhmor, S. 165).
Поскольку живопись (в XV веке) освобождалась от
религиозного элемента, она обращалась к различным сценам
семейной жизни, под предлогом изображения святых.
Религиозный мир знает лишь удовлетворение
собственной нужды, господство эмпирической потребности.
Искусство, которое возникает на этой почве, не есть еще
подлинное искусство. Таковы, например, египетские
изображения, служившие для непосредственно утилитарных
целей. «Потребность не имеет никакой конечной цели, кроме
удовлетворения. Поэтому, хотя эти знаки были фигурами,
но связанное с ними значение превратило абрис и форму
самого египтянина в иероглифы, смысл которых оставался
187
недоступным исследованию; они говорили поэтому
рассудку, но не глазу» (Grund, S. 65). В конспекте книги Деб-
роса Маркс постоянно подчеркивает грубый натурализм
религиозного мировоззрения, в выписках из Мейнерса —
похотливость и извращенную чувственность религиозных
обрядов. В противоположность этому он останавливается
на тех местах из книги Грунда, в которых нагота
античных статуй истолковывается как выражение высокой
нравственной культуры греков. Человек, в отличие от
животного, рождается голым; почему же бог, изображаемый
в скульптуре, должен отличаться от человека? Но там,
где характер изображения требовал полной наготы, грек
старательно обходил, как бы не зная, «половую
особенность, которую стыдливо скрывает женщина», ибо
искусство должно было выражать «высшее в женской красоте,
нравственное в ней» (Grund, S. 193, 221).
Для всего последующего развития Маркса огромное
значение имеет идея «фетишизма». Ее возникновение
можно проследить уже в конспектах 1842 года. Когда Маркс
впоследствии, говоря о товарном фетишизме, обращается
за аналогией «в туманные области религиозного мира», он
имеет в виду именно ту черту религиозного
мировоззрения, которая в «Трактате» 1842 года должна была
фигурировать как основная причина антагонизма между
искусством и религией. Фетишистская сущность
религии состоит в поклонении вещественной
природе предметов, в перенесении на нее
свойств самого человека. Часто полагают, что
эти предметы поклонения суть только символы, форма
представления, в которую вложен особый смысл верующим.
Но это неверно. Предметы фетишистского культа не
символы, а реальное бытие, не форма, а материя.
В их вещественности, как таковой, человек видит источник
всякого блага, их натуральный образ заменяет ему
выражение его собственных сил.
Религия поклонения животным немногим отличается от
простейшего фетишизма. «Когда огонь охватывает
жилище, то прежде всего стараются спасти от пожара кошек
(там, где они почитались,— в Египте); это ясно
показывает, что почитание направляется на само животное,
которое не рассматривается как простой символ» (Meiners).
188
Там, где искусство уже придает божеству человеческую
форму, фетишист ощущает непосредственное тождество
обоготворяемой силы и ее изображения. «В изображении
чувственный человек хотел видеть бога в лицо и радовать
себя реальным обладанием. Отсюда упование некоторых
древних народов, которые всю свою безопасность и все
свое благополучие полагали в образе своего
бога-хранителя». Чувственные люди — фетишисты — верят, что
«божество само живет в этом образе, или образ есть бог»
(Grund, S. 183, 184). Отсюда их обращение с фетишем,
обращение, в котором отчетливо выражаются
корыстолюбие и похоть, грубый практицизм и склонность к обману,
характеризующие религиозное мировоззрение.
Напротив, форма и художественная обработка,
теоретическое, бескорыстное отношение к предметам природы
чуждо фетишистскому миру. Только в греческой поэзии и
искусстве мы находим апофеоз производительной силы
человека, создающего и обрабатывающего предметы там,
где религиозный эгоизм знает лишь хищническое
отношение к природе. «В способности изображения
видит Гомер преимущество человека», особенно же
греческой национальности, «в совершенстве которой гораздо
отчетливее выражено впервые созданное, изображенное
самим человеком, возникшее посредством собственного
усилия и оригинальное» (Grund, S. 187). «Первые статуи
богов в Греции назывались «гермами», по имени Гермеса,
бога-изобретателя. Было совершенно естественно, что
изображения богов начинаются с родоначальника
технического искусства и что остальные боги,
сохранившие четырехугольную форму, назывались гермами» (Grund,
127).
Таково в самых общих чертах содержание эксцерптов
Маркса. Основные положения «Трактата о христианском
искусстве» сводятся, таким образом, к антитезе
античного принципа формы фетишистскому преклонению перед
вещественностью предметов. Грубый натурализм и
практицизм фетишистского мира противопоставляются
творческой, производительной деятельности человека. Маркс
еще очень далек от понимания того, что новейший
фетишизм сам является продуктом определенного исторического
способа производства. И точно так же мы не находим в
189
эксцерптах 1842 года ничего такого, что хотя бы
отдаленно напоминало позднейший взгляд Маркса на
историческую диспропорцию между развитием производительных
сил общества и его художественным развитием. Напротив,
искусство и технический гений еще выступают здесь в.
тесном единстве против архаического и новейшего
варварства.
Мы уже знаем, что апология греческого искусства
была вместе с тем попыткой оживления идеалов французской
революции. Так же как якобинцы во Франции,
представители левого крыла гегелевской школы критиковали
«буржуазный эгоизм» и «аристократию капитала», неясно
различаемую от аристократии божьей милостью. Если эта
связь эстетической и социальной критики еще
недостаточно ясна из эксцерптов боннского периода, то она станет
несомненной при рассмотрении публицистических
произведений Маркса, относящихся к 1842 году.
V
Разочарованная в своих надежда^ на новое
царствование, прусская буржуазия поворачивает влево, пытаясь
стать во главе демократического движения в Германии.
Агитация вокруг таможенного объединения немецких го^
сударств переплетается с политической агитацией;
буржуа пытается заговорить языком гражданина.
В этих новых условиях сектантский якобинизм лево-
гегельянцев, их отвлеченная критика либералов и
буржуазного общества обнаруживают свою ограниченность. У
большинства радикальных представителей гегелевской
школы под внешней оболочкой критики буржуазного
прогресса, воспринятой из французской литературы,
скрывалась привязанность к самым патриархальным традициям
немецкой общественной жизни и немецкой идеологии. Вот
ночему Маркс в поисках более широкой основы для
пропаганды своих революционно-демократических взглядов
идет на временное сближение с партией прогрессивной
буржуазии. С помощью «Рейнской газеты» (сотрудником,
а затем редактором которой Маркс был до ее
запрещения, в начале 1843 года) он стремится поднять оппозицию
немецкого бюргерства на высоту подлинно демократиче-
190
ского, национально-объединительного движения. Этот блок
с передовыми слоями буржуазии стоил ему в конце
концов дружбы Бруно Бауэра и группы «Свободных»,
предпочитавшей вдали от широкого движения разыгрывать нечто»
похожее на якобинский клуб и одновременно
атеистический салон.
Критикуя буржуазный либерализм Маркс не идет по
пути политической романтики, которая в конце концов
оказалась «предпосылкой антибуржуазности Бауэра» (см.
письмо Маркса к Энгельсу от 18 января 1856 года).
Напротив, он критикует в либерализме именно романтический
элемент, прикрывающий самые грубые и варварские формы
угнетения и эксплоатации. Политика прусского короля
Фридриха-Вильгельма IV представляла собой раннюю
попытку ввести' развитие капитализма в Германии в рамки
так называемого «прусского» пути, после того как старая
абсолютная монархия окончательно обанкротилась.
Официальной идеологией нового курса становится романтизм.
Он торжествует в начале сороковых годов повсюду, от
королевской канцелярии до Берлинского университета, в
котором водворился престарелый Шеллинг.
К этому времени и сам романтизм, как
политико-эстетическая доктрина, совершил характерную для него
эволюцию. Будучи вначале мелкобуржуазной оппозицией по
отношению к «просвещенному абсолютизму» XVIII века,
он в первой половине XIX века превратился в идейную
опору Священного союза. Партия романтической реакции
не ограничивалась прямой защитой феодального
землевладения. Она обращалась и к буржуазии, доказывая ей, что
средневековые городские «свободы» гораздо ближе
истинному духу буржуазной собственности, чем «свобода» и
«равенство» французской революции. С другой стороны,
низшие слои населения она стремилась использовать для
борьбы с прогрессивной буржуазией, усвоившей себе идеи
«просвещения». В этой сложной системе либеральных
жестов и полицейских пинков романтические доктрины
занимали отнюдь не последнее место.
Романтизм в политике, науке и искусстве был главным
врагом «Рейнской газеты». В анонимной статье (из
приложения к № 245, 1842 г.) политическая роль романтизма
характеризуется следующим образом: «Фантастика чувств
191
может действовать совращающим образом там, куда еще
не проникло современное просвещение. Хорошие услуги
оказывают здесь мистика и пиетизм, видимость
глубокомыслия и задушевности, как и вообще всякая видимость,
пышность и блеск: видимость либеральности и
великодушия, небесной кротости и полноты сил. Обычное,
человеческое должно быть вытеснено чрезмерным, закономерное,
урегулированное и упорядоченное — произволом,
гениальностью и свободой от правил». Ссылаясь на статью
Маркса против исторической школы права, также
напечатанную в «Рейнской газете», автор утверждает, что обычное
изображение романтизма как реакции против фривольного
духа XVIII века неправильно. Напротив, романтизм в
XIX веке является продолжением фривольного духа
привилегированных сословий, против которого в предыдущем
столетии выступает трезвое «просвещение».
Анонимный автор имел право ссылаться на Маркса.
Противоречие между поэтической внешностью и
прозаическим содержанием, свободной формой и реакционной
сущностью романтизма глубоко интересовало Маркса в
1842 году. Мы уже знаем, что в своей работе о
христианском искусстве он собирался выделить специальную часть
«de romanticis». С помощью отдельных мест из статей
1842 года нетрудно восстановить основные идеи его
критики романтизма.
Первые публицистические работы Маркса направлены
против цензуры и подцензурной «хорошей прессы».
Незадолго до этого времени Фридрих-Вильгельм IV разрешил
опубликование отчетов о заседаниях рейнского ландтага.
Шестой рейнский ландтаг, заседавший летом 1841 года,
обсуждал между прочим вопрос о свободе печати и
порядке опубликования своих собственных протоколов. Это
обсуждение послужило темой для замечательной статьи
Маркса «Дебаты о свободе печати».
Маркс посвящает прежде всего «легкомысленную
интродукцию» официальному органу правительства -—
«Прусской государственной газете». В характеристике этого
«старческого газетного ребенка» мы встречаем знакомые
черты фетишистского мировоззрения. «Теоретическое
мышление ребенка,— пишет Маркс,— протекает в
категориях количества». Отсюда почтение «государственной га-
192
зеты», стоящей на «детски-чувственной» точке зрения,
к количественно большому, подавляющему. Не
довольствуясь обоготворением числа — «величины, складывающейся
во времени», «она простирает свое признание
количественного принципа также и на пространственные величины».
«Пространство является первым феноменом, импонирующим
своими размерами ребенку. В этой форме ребенку
впервые открывается величие мира. Ребенок поэтому считает
всякого рослого человека великим человеком, а ребяческая
государственная газета повествует нам, что толстые книги
несравненно более ценны, чем тонкие, и еще большее
преимущество имеют перед газетами, выходящими
ежедневно в размере одного только печатного листа». «Хотя
«Государственная газета» выражается по-современному, но у нее
нет недостатка в исторических, позаимствованных от
солидных средних веков, элементах мировоззрения.
Правда, наше время не имеет больше того реального чувства
величия, которое нас восхищает в средних веках.
Посмотрите на наши тощие пиетистские трактатики, на наши
философские системы в малом octavo и сравните их с
двадцатью огромными фолиантами Дунса Скота. Последних
вам даже не надо читать. Уже один их колоссальный вид
трогает ваши сердца, поражает ваши чувства, как
готическое здание. Своими стихийными размерами эти
колоссы действуют материально на душу. Душа себя чувствует
подавленной под тяжестью массы, а чувство подавленности
есть начало благоговения. Не вы владеете этими книгами,
а они владеют вами. Вы являетесь их акциденцией, и
такой же акциденцией, по мнению «Прусской
государственной газеты», должен стать народ по отношению к своей
политической литературе». Излюбленной наукой
«Государственной газеты» является статистика. Считая
«политический дух французским привидением», официальная газета
в стиле «практически-чувственного» мышления ребенка
крепко держится за вещественную природу предметов и
«пытается заклинать это привидение, бросая ему в голову
кожу, сахар, штыки и цифры». Она поучает, что при
издании лесного закона надо думать только о дереве и лесе,
и вообще, «каждую материальную задачу решать не
политически». Этим поучениям «Государственной газеты»
Строго следуют рейнские сословия. «Дикари с Кубы считали
33 М. Лифшиц 193
золото фетишем испанцев. Они устраивали в честь его
праздник, пели и затем бросали его в море. Если бы дикари с
Кубы присутствовали на заседаниях рейнских сословий, то
не сочли ли бы они дерево фетишем рейнских жителей?»
Таковы эти «старчески умные дети» — «Прусская
государственная газета» и родственные ей по духу христиан-
ско-германские сословия Рейнской провинции. Это
сравнение, с которым мы еще встретимся у Маркса впоследствии,
заставляет вспомнить об «Эстетике» Гегеля.
Количественный принцип, стремление к чувственно-возвышенному,
преклонение перед естественным бытием предмета — все это
черты, которыми классическая немецкая философия и
особенно философия Гегеля изображала эстетическое
мировоззрение восточных народов. В официальной романтике
прусского государства Маркс видел, таким образом,
возрождение азиатского духа, ребяческое обращение к
детству человеческого общества. Это сближение
романтики и Востока является естественным
выводом из работы Маркса о христианском
искусстве. «Фетишизм» выступает у него в 1842 году
как идеологическая форма современного буржуазно
го общества, поскольку оно является несовременным
и сливается с миром феодализма и привилегий. Против
печати, спокойно несущей бремя королевской цензуры,
Маркс делает следующее замечание: «Величайший порок—
лицемерие — не отделим от нее; из этого ее основного
порока выступают все остальные ее недостатки, в которых
нет даже тени добродетели, и ее самый
отвратительный, хотя бы с эстетической точки
зрения, порок пассивности».
Статья Маркса о цензурной инструкции писалась
одновременно с брошюрой «Учение Гегеля о религии и
искусстве». Достаточно сравнить один из приведенных выше
отрывков из этой брошюры с только что цитированным
местом, чтобы убедиться в существовании тесной связи
между ними. В обоих случаях мы имеем дело с
выражением одной и той же мысли: первобытная деспотия
и соответствующая ей пассивность
индивида, образующие почву для
антихудожественной фантастики в азиатских
обществах, с н о в а возрождаются в современном
194
«христианском» мире. И здесь представитель
угнетенной части человечества страдает одновременно от
варварства и цивилизации. «Через эпоху публичного права,—
пишет Маркс в другой статье из эпохи «Рейнской газеты»,—
мы пришли к эпохе удвоенного патримониального права.
Патримониальные владельцы пользуются прогрессом
времени, отвергающим их требования, чтобы узурпировать
как частное наказание варварского мировоззрения, так и
общественное наказание современного мировоззрения».
«Современную Германию, — писал Маркс год спустя, —
можно сравнить с фетишистом, чахнущим от болезней
христианства».
Через все статьи Маркса, относящиеся к 1842 году,
красной нитью проходит мысль о том, что «превратный
мир» знатности и богатства необходимо порождает целый
сонм иллюзий, фантастических образов и фикций. В
отличие от левых гегельянцев типа Бауэра, Маркс уже в это
время ищет объективную основу этой фантастики в
общественных отношениях. Представители «христданско-рыцар-
ского, современно-феодального, одним словом —
романтического принципа»,— пишет Маркс,— не могут понять того,
«что само по себе не понятно»,— каким образом свобода
является «индивидуальным свойством отдельных лиц и
сословий», и, следовательно, свойство общественого человека
быть свободным воплощается в «известных индивидах», как
суверенитет в физической природе монарха. «Не понимая
этого, они по необходимости прибегают к чуду и к
мистике». «Так как, далее, действительное положение этих
господ в современном государстве далеко не соответствует
тому представлению, которое они имеют о своем положении,
так как они живут в мире, лежащем вне действительного,
так как сила воображения заменяет им ум и сердце,—они,
не удовлетворенные практикой, по необходимости
прибегают к теории, но к теории потустороннего мира, к
религии. В их руках религия приобретает полемическую,
полную политических тенденций горечь, становясь более или
менее сознательно покровом весьма светских, но вместе с
тем и весьма фантастических вожделений».
Эту склонность к ложной фантастике Маркс
усматривает уже у предшественника исторической школы права —
Гуго: «Гуго для исторической школы является тем чело-
13*
195
веком в естественном состоянии, которою не коснулась
еще романтическая культура. Его учебник естественного
права — это Ветхий завет исторической школы. Нас
нисколько не смущает взгляд Гердера, что люди в
естественном состоянии — поэты и что священные книги
первобытных народов представляют собою поэтические книги,
между тем как Гуго говорит самой тривиальной, самой трезвой
прозой,— каждая эпоха обладает своей специфической
природой и создает свойственных ей людей в
естественном состоянии. Хотя Гуго и не поэт, он все же фантазер,
а фикция есть поэзия прозы, вполне соответствующая
прозаической натуре XVIII столетия». Если Гуго еще не
тронут «романтической культурой» XIX века, то все же его
мировоззрение уже обнаруживает двойственность,
нашедшую свое полное выражение в романтизме. Он не только
фантазер, но и позитивист, признающий оправданным все
существующее, все окруженное историческим ореолом.
С его точки зрения «не знающий стыда Conci,
расхаживающий нагишом и покрывающий свое тело в лучшем
случае илом, так же положителен, как и француз, который
не только одевается, но одевается даже изящно». Гуго
доказывает, что рабство нисколько не хуже свободы.
«Даже красоту,— пишет он,— можно скорее встретить у
рабыни-черкешенки, чем у нищей девушки». «Послушайте
старика!» — восклицает иронически Маркс.
«Гуго — скептик по отношению к необходимой
сущности вещей и верующий по отношению к их случайным
проявлениям». Это сочетание скептицизма по отношению ко
всему прогрессивному с безграничным уважением к
существующему от века в еще большей степени характерно
для «романтической культуры». Романтика окутывает
магическим сиянием то, что на деле является сухим,
прозаическим фактом. «Неопределенность, нежная задушевность
и субъективная необузданность романтизма, — пишет
Маркс в статье «Заметки о новейшей прусской цензурной
инструкции», — переходят в чисто внешнее проявление
лишь в том смысле, что внешняя случайность · проявляется
уже не в прозаической, заключенной в известные границы,
определенности, а в удивительном ореоле, в воображаемой
глубине и великолепии». Благородная видимость
романтизма находится в противоречии с его черствым существом.
196
Отсюда двойственность или скорее — лицемерие
романтизма, «который всегда является вместе с тем и
тенденциозной поэзией».
Подобная оценка «романтической культуры»
сохранилась у Маркса навсегда. В этом отношении чрезвычайно
характерно, например, его отношение к Шатобриану,
которым он занимался в пятидесятых годах. 3 мая 1854 года
Маркс пишет Энгельсу: «В свободные часы я занимаюсь
испанским языком. Начал с Кальдерона, с «Magico prodigio-
so» — католического «Фауста», из которого Гете
почерпнул для своего «Фауста» не только отдельные места, но
и целые сцены. Кроме того — horribile dictu! — прочел
по-испански то, что читать по-французски было бы
невозможно,—«Атала» и «Рене» Шатобриана и кое-что Бер-
нардена де Сен-Пьера». Здесь обращает на себя внимание
презрительная оценка раннего французского романтизма.
В другом письме к Энгельсу (от 26 октября 1854 года) мы
находим сжатый анализ этой ветви романтизма: «При
изучении испанской клоаки я наткнулся на почтенного
Шатобриана, этого Златоуста, соединяющего самым противным
образом аристократический скептицизм и вольтерьянизм
XVIII века с аристократическим сентиментализмом XIX
века. Разумеется, во Франции это соединение, как стиль,
должно было создать эпоху, хотя и в самом стиле, несмотря
на все аристократические ухищрения, фальшь часто
бросается* в глаза». Нетрудно заметить, что характеристика
двойственности мировоззрения Шатобриана, соединяющего
в себе трезвый скептицизм и романтическую
чувствительность, совпадает с тем, что Маркс
писал еще в 1842 году. Это постоянство в оценке и
истолковании «романтической культуры» поражает и в следующем
отрывке, относящемся к семидесятым годам: «Я читал книгу
Сент-Бева о Шатобриане, писателе, который мне всегда был
противен. Если этот человек приобрел такую славу во
Франции, то лишь потому, что он во всех отношениях
представляет собой воплощение французской vanité
(тщеславия), и притом этой vanité не в легком, фривольном
наряде XVIII столетия, но облаченной в романтическую
одежду и щеголяющей новоиспеченными оборотами речи; ложная
глубина, византийские преувеличения, кокетство чувствами,
пестрые переливы, word painting (словесная живопись), и
197
все это театрально, sublime (возвышенно),— словом—такая
мешанина, какую еще свет не производил, как по форме,
так и по содержанию» (Маркс к Энгельсу, 30 ноября
1873 года).
VI
Вернемся, однако, к тому возрождению византийства
и азиатчины, которое Маркс усматривал в немецких
порядках первой половины XIX века. Двойственность
«романтической культуры», заключающееся в ней противоречие
между видимой человечностью и фактическим подчинением
человека исторически данному положению вещей Маркс
показывает на примере цензурной инструкции 1841 года.
Трезвый, откровенно-эгоистический режим Фридриха-
Вильгельма III требовал от редактора денег в обеспечение
его добропорядочности. При новом
либерально-романтическом короле «денежный залог, представляющий
прозаическую, настоящую гарантию, превращается в идеальную,
а эта идеальная — в совершенно реальное и
индивидуальное положение, приобретающее магическое, воображаемое
значение». Вещественное становится человеческим, а
человеческое — вещественным. Вместо денег новая королевская
инструкция требует от редактора «научной способности»
и «положения». «Общее требование научных
способностей, — как это либерально! — восклицает Маркс. —
Частное требование положения, — как это не либерально!
Научные способности и положение вместе, — как это
мнимо-либерально!» Под ореолом романтизма скрывается
прозаический частный интерес, своекорыстие. Когда речь
идет о том, чтобы ограничить свободу печати,
романтическая инструкция прусского короля всецело доверяет
личности цензора и «с пафосом всеобщности высказывает
нечто чисто индивидуальное». Инструкция нисколько не
заботится о том, чтобы законным порядком оградить
писателя и редактора от случайных черт и индивидуального
произвола цензора. Напротив, когда речь идет о том, чтобы
цензор оправдывал свое назначение сионского стража
интересов правительства, инструкция становится недоверчивой,
как Шейлок. Такая же двойственность обнаруживается в
дебатах рейнских сословий об охране интересов лесовла-
198
дельцев и выборе стражников. Благодушные иллюзии там,
где речь идет об интересах подчиненных, и придирчивый
скептицизм по отношению к людям, поскольку это
касается собственного кармана, — такова вообще «двойная
мера», присущая «своекорыстию». «Мы видим, что
своекорыстие обладает двоякой мерой и весом для оценки
людей, двояким мировоззрением, двоякими очками, из
которых одни окрашивают все в черный цвет, другие —
в яркий. Когда нужно жертвовать другими людьми, когда
дело идет о прикрашивай™ сомнительных средств, тогда
своекорыстие надевает розовые очки, через которые его
орудия и его средства представляются ему в
фантастическом сиянии, тогда оно и себя и других убаюкивает
непрактичными и приятными мечтаниями нежной и
доверчивой души. В каждой складке его лица сквозит смеющееся
добродушие. Своекорыстие до боли сжимает руку своего
противника, но оно жмет ее с чувством доверия. Зато дело
принимает совсем другой оборот, когда приходится думать
о собственной выгоде, когда нужно за кулисами, где
иллюзии сцены изчезают, испытать годность орудий и средств.
Будучи строгим знатоком людей, своекорыстие и
осторожно и недоверчиво надевает свои мудрые черные очки,
очки практики. Подобно опытному лошаднику, оно
подвергает людей долгому, весьма внимательному осмотру, и они
кажутся ему такими же маленькими, такими жалкими и
грязными, как само своекорыстие». Против писателей,
усматривающих в частной собственности естественную
основу индивидуальности, Маркс в 1842 году писал
следующее: «Вопреки утверждению тех писателей-фантазеров,
которые хотят видеть в представительстве частных
интересов идеальную романтику, неизмеримую глубину чувства
и самый богатый источник индивидуальных и своеобразных
форм нравственности, оно, наоборот, уничтожает все
духовные и естественные различия, ставя на пьедестал вместо
них безнравственную абстракцию определенной материи и
определенного, рабски подчиненного ей сознания».
Сочетание прекраснодушия и самой черствой прозы
сопровождает «своекорыстие» на всех ступенях его
развития. Вспомним хотя бы отвращение буржуа к
фабричному законодательству, его романтическую веру в
индивидуальные добродетели хозяина там, где речь идет об
199
интересах рабочих, и в то же время придирчивую
регламентацию во всем, что касается внутреннего распорядка
на фабрике. Не свобода индивидуальности, а ее
жесточайшее подавление является действительной основой
романтики «своекорыстия». Хорошей иллюстрацией к этому
положению может служить судьба романтической доктрины
Карлейля, оценку которой Маркс и Энгельс дали уже после
1848 г., в одной из рецензий, записанной ими, по всей
вероятности, совместно для «Нового Рейнского обозрения».
«Карлейль представляет нам еще доказательство того, Kaie
парящее высокое благородство превращается немедленно я
неприкрытую низость, лишь только оно опускается с небес
своих сентенций и фраз в мир реальных отношений».
Неприкрытую низость Маркс усматривал в следующем
рассуждении Карлейля, которое, кстати сказать, показывает,
сколь мало оригинальны некоторые современные теории:
«Во всех европейских странах,—писал Карлейль,— в
особенности в Англии, уже образовался до известной степени
класс командиров и капитанов над людьми, который можно
признать зачатком новой, реальной, а не воображаемой,
аристократии; это — капитаны индустрии, по счастью, тот
класс, который особенно нужен в наше время. А с другой
стороны, нет недостатка в людях, которые нуждаются в
том, чтобы ими командовали; это—тот жалкий класс
людей, который мы описали как эмансипированных кляч и
который в качестве батраков доведен до бродяжничества и
до существования впроголодь; класс этот тоже
образовался во всех странах и продолжает развиваться с
ужасающей быстротой, в зловещей геометрической прогрессии.
Исходя из этого, можно утверждать безошибочно, что
организация труда является всеобщей жизненной задачей
времени». Здесь Маркс и Энгельс делают следующее
замечание: «После того как Карлейль на первых сорока
страницах неоднократно в самых бурных выражениях изливал
весь свой добродетельный гнев против эгоизма, свободной
конкуренции, уничтожения феодальных уз между людьми,
спроса и предложения, laissez faire, прядения хлопчатой
бумаги, чистогана и т. д., мы видим вдруг, что главные
представители всех этих shams, промышленные буржуа,
оказываются не только принадлежащими к кругу чествуемых
героев и гениев, но что за всеми его нападками на буржу-
200
азные отношения и идеи скрывается апофеоз буржуа, как
личности». Маркс и Энгельс подвергают уничтожающей
критике созданный Карлейлем «культ гениев». «Новая эра,
в которой господствует гений, отличается от старой эры
главным образом тем, что плеть начинает воображать,
будто она гениальна. Гений Карлейля отличается от любого
тюремного Цербера или надсмотрщика над бедными лишь
добродетельным негодованием и моральным сознанием, что
он обдирает пауперов только для того, чтобы поднять их
до своей высоты. Мы видим здесь, как высокопарный гений
в своем искупляющем мир гневе фантастическим образом
оправдывает и преувеличивает еще все гнусности буржуа»...
«Культ гения, который Карлейль разделяет со Штраусом, в
рассматриваемых брошюрах покинут гением. Остался один
культ». Эта фраза повторяется и в «Капитале» (т. I,
глава VIII, примеч. 20). В другом месте I тома «Капитала»
Маркс завершил свою критику романтической реакции
следующим замечанием: «То же самое буржуазное
сознание, которое прославляет как организацию труда,
повышающую его производительные силы, мануфактурное
разделение труда, пожизненное прикрепление работника к
какой-нибудь одной операции и безусловное подчинение
частичного рабочего власти капитала,— это же самое
буржуазное сознание с одинаковой горячностью поносит вcяJ
кий сознательный общественный контроль и регулирование
общественного процесса производства как покушение на
неприкосновенные права собственности, свободы и
самоопределяющегося «гения» индивидуального капиталиста.
Весьма характерно, что вдохновенные апологеты фабричной
системы не находят против всеобщей организации
общественного труда возражения более сильного, чем
указание на то, что такая организация превратила бы все
общество в фабрику» («Капитал», т. I, гл. XII, 4).
В самом деле, буржуа, обрекающий рабочего на
подчинение «драконовской дисциплине капитала», стонет о
принудительном труде, подавлении свободной
индивидуальности, личного своеобразия и т. п., когда победивший
пролетариат подчиняет общество строжайшей «ф а б ρ и ч-
н о й» дисциплине, необходимой, по выражению Ленина,
«для радикальной чистки» этого общества «от гнусностей
и мерзостей капиталистической эксплоатации и для даль-
201
нейшего движения вперед». Идеализация романтических
добродетелей: индивидуального своеобразия, гениальности,
предпринимательской интуиции и т. п. является последним
прибежищем «буржуазного сознания». На смену
политическому идеализму буржуазной демократии приходит
политическая романтика. Впрочем, против советской
организации физического и духовного труда «буржуазное
сознание» выдвигает сразу оба аргумента: абстрактную
демагогию политических свобод и мистическую поэзию частной
собственности.
ΥΊΙ
В 1842 году Маркс не был еще революционером в
пролетарском смысле. Демократическая революция, или на
языке сороковых годов—«политическая эмансипация»,
совпадала для него с разрешением всех социальных
вопросов, т. е. с «человеческой эмансипацией». Поэтому он не
отличает еще средневековую романтику
привилегированного «своекорыстия» от фетишизма чисто буржуазных
отношений. Маркс исходит к тому же от «Эстетики»
Гегеля, у которого «романтическим» является все искусство
«современных народов», от средневековых миниатюр до
голландских натюр-мортов.
Это смешение феодального Рейнеке с дарвиновской
«бестией» современного буржуазного общества характерно для
всех представителей левого крыла гегелевской школы. Но
там, где Бруно Бауэр, например, критикует буржуазное
общество как продукт гниения феодально-патриархального
порядка, Маркс, со своей стороны, обнажает феодальную
гниль и плесень, покрывавшую буржуазные отношения
в Германии. В обоих случаях смешение «политической» и
«человеческой» эмансипации имело прямо
противоположный смысл. У Маркса это—Revolution in Permanenz,
углубление буржуазно-демократической революции до ее
последнего предела, у Бауэра—попытка обойти
капиталистическую ступень развития, романтическая критика буржуазно-
демократической революции. Было бы, однако, глубокой
ошибкой представлять себе молодого Маркса дюжинным
буржуазным радикалом. Поддерживая партию рейнских
фабрикантов и купцов против романтических призраков
202
«старого режима», Маркс, с другой стороны, не менее
горячо критикует торгашеские нравы буржуазии. Борьба
с романтикой, препятствующей буржуазному прогрессу, и
критика трусливого эгоизма немецкой буржуазии
совпадают для молодого Маркса в единой линии борьбы против
всяческих остатков средневековья.
Осуществляя свою великую историческую миссию и
заменяя «эксплоатацию, прикрытую религиозными и
политическими иллюзиями», «эксплоатацией открытой, прямой,
бесстыдной и сухой», буржуазия вместе с тем лишает обаяния
«все те почетные роды деятельности, на которые до сих
пор смотрели с благоговейным трепетом». Так писали
впоследствии Маркс и Энгельс в «Коммунистическом
манифесте». Этой судьбы не может избежать и деятельность
писателя или поэта. Буржуа превращает писателя в своего
«наемного работника». И хотя с общеисторической точки
зрения этот факт чрезвычайно прогрессивен, с другой
стороны, он означает низведение литературы до уровня
продажности. На следующий день после освобождения
писателя от цензуры и ее романтических причуд возникает
угроза превращения литературы в ремесло, подчинение ее
денежному мешку. В статье о свободе печати Маркс уже
ясно видит эту опасность.
До сих пор мы имели дело с представителями «современно-
феодального, романтического принципа». Но вот перед
нами представители «своекорыстия», не софистизирован-
ного романтизмом. Это — ораторы «городского сословия»,
буржуа. Они принадлежат к тем людям, которые «готовы
объяснять великое мелкими причинами и, исходя из
верной мысли, что все, за что человек борется, вытекает из
сознанного им интереса, приходят к неверному
заключению, что существуют только «маленькие» интересы, только
интересы стереотипного себялюбия». С точки зрения
«городского сословия» литературный промысел должен быть
подведен под общее положение о промысловой свободе.
Основываясь на этом, докладчик ландтага и защищает
свободу печати. «Прежде всего странно то, — пишет
Маркс,—что свобода печати подводится под промышленную
свободу. Но мы все-таки не можем просто отвергнуть взгляд
оратора. Рембрандт писал Мадонну с нидерландской
крестьянки; почему бы и нашему оратору не изобразить сво-
203
боду в той форме, которая ему ближе и понятнее всего?»
Подобная трезвенность имеет в конце концов большое
преимущество перед туманными рассуждениями немецких
либералов, этих «резонеров воображения». «Немцы вообще
склонны к сентиментам и экзальтации, они питают
пристрастие к музыке небесной лазури. Поэтому чрезвычайно
отрадно, когда великая идейная проблема демонстрируется
им с точки зрения суровой, реальной, ближайшей
действительности».
Итак, развенчивание фантастического ореола вокруг
литературной деятельности — прогрессивный исторический
факт. Однако дело имеет и другую сторону. «Если
правильно выводить высшую форму права из низшей, то все
же неправильно применять более низкую сферу как мерило
более высокой сферы; в этом случае разумные в данных
пределах законы превращаются в бессмыслицу, так как им
придают значение законов, применимых и в чужой, более
высокой области». Между тем буржуа там, где дело идет
о его собственных интересах, настроен весьма трезво и
прозаически; к литературе он применяет тот же критерий,
что к сахару, коже и свиной щетине. Он рассматривает
свободу печати как «вещь», а это противоречит ее
внутреннему характеру.
«Чтобы защищать, мало того, чтобы постичь свободу,
какую-нибудь область свободы,— я должен обратить
внимание на ее существенные черты, а не на ее внешние
отношения. Но разве печать верна своему характеру, разве она
действует соответственно благородству своей природы,
разве свободна та печать, которая опускается до уровня
ремесла? Писатель, конечно, должен зарабатывать, чтобы
иметь возможность существовать и писать, но он ни в
коем случае не должен существовать и писать, чтобы
зарабатывать. Беранже поет:
Живу для того лишь, чтоб песни слагать.
Но если осудят, лишен буду места,
То песни я буду слагать, чтобы жить.
В этой угрозе кроется ироническое признание того, что
поэт унижает свое звание, когда поэзия становится для
него средством». t
204
«Писатель,—продолжает Маркс,—отнюдь не смотрит на
свою работу как на средство. Она сама по себе цель: она
в такой мере не является средством ни для него и ни для
других, что писатель приносит в жертву е е существованию,
когда это нужно, свое личное существование... Подобно
религиозному проповеднику, хотя в другом смысле, и он
также следует принципу: «Повиноваться больше богу, чем
людям», среди которых находится и он сам, со своими
человеческими потребностями и желаниями. Представим
себе, что ко мне явился портной, которому я заказал
парижский фрак, и принес мне римскую тогу, так как она,
по его мнению, более соответствует вечному закону
красоты. Главнейшая свобода печати состоит
в том, чтобы не быть ремеслом. Писатель,
который низводит печать до простого материального средства,
заслуживает за эту внутреннюю несвободу наказания
внешней несвободой — цензурой; впрочем, и самое его
существование является уже для него наказанием».
Слова Маркса о том, что работа писателя «сама по себе
цель», продиктованы опасением за судьбу литературы,
которая, освободившись от цензурного плена, попадает
обычно в плен буржуазно-торгашеских литературных отношений.
Конечно, точка зрения, высказанная Марксом в 1842 году,
имеет и свою 'идеалистическую сторону Борьба с цензурой
совпадает для него с критикой литературного торгашества,
и точно так же восхваление революционного
самопожертвования непосредственно совпадает с проповедью «свободы
творчества». Но во всяком случае вся деятельность
«Рейнской газеты» показывает, что Маркс никогда не был
сторонником формулы «искусства для; искусства», в ее
тривиальном смысле. Мы увидим это в дальнейшем.
Оратор, сословие которого характеризуется
«половинчатостью и нерешительностью», не довольствуется
подчинением свободы печати промысловой свободе. Он делит
писателей на «компетентных» и «некомпетентных». Свобода
может быть предоставлена только первым. Тем самым
буржуа хочет обеспечить себе большую свободу действия, не
уничтожая сословных перегородок, а напротив, укрепляя
их для защиты от всяких подозрительных, одним словом,
«некомпетентных» лиц. Он хочет свободы печати в смысле
средневековых городских свобод, которые вместе с тем
205
были и привилегиями. «При таких условиях печать, вместо
того чтобы быть фактом, связующим народ, стала бы
элементом, разъединяющим его, сословное деление упрочилось
бы и в области духа, так что история литературы
опустилась бы до уровня естественной истории отдельных,
духовно обособленных, животных рас, неизбежны стали бы
всякого рода коллизии и неразрешимые споры из-за
размежевания, бездарность и ограниченность завладели бы
печатью, так как свободное дарование может заниматься
частным лишь в связи с его общим, а никак не в
оторванном виде. Но мало того. Ведь чтение столь же важно, как
и писание; поэтому необходимо было бы ввести также
«компетентных» и «некомпетентных» читателей, — то, что
было в древнем Египте, где жрецы были единственными
компетентными писателями и читателями в одно и то же
время». Легко можно себе представить, что скрывается под
требованием «компетентности». Поэтому совершенно
резонно представитель самой низкой ступени сословной
лестницы, «член четвертого сословия»—крестьянин,
возражает против подобного деления. Маркс всецело
поддерживает точку зрения этого плебея. Если должно существовать
стеснение печати, то пусть оно ложится одинаково и на
имущие классы. «Цензуре все одинаково подчинены,—пишет
Маркс,—подобно тому, как в деспотии все уравнены,
правда, не в смысле уважения к личности, а в смысле ее
обесценения». Свобода печати, которую хочет буржуа,
способна только ввести «олигократию в область духовную».
Здесь возникает, таким образом, противоположность
между плебейским и сословно-буржуазным разрешением
вопроса о свободе печати и развитии литературы. Точка
зрения Маркса совершенно ясна. Он пишет: «Если немец
оглянется назад на свою историю, то главную причину
своего медленного политического развития, а также и
жалкой литературы до Лессинга он увидит в «компетентных
писателях». Профессиональные, цеховые,
привилегированные ученые, доктора, бесцветные университетские писатели
XVII и XVIII столетий с их косичками, их благородным
педантизмом и их мелочными микрологическими
диссертациями стали между народом и его духом, между жизнью и
наукой, между свободой и человеком· Некомпетентные
писатели создали нашу литературу. Готтшед и Лессинг—вы-
206
бирайте между ними, кто «компетентный», кто
«некомпетентный» автор».
VIII
Интересно сравнить статью Маркса «Дебаты о свободе
печати» со статьей Ленина «Партийная организация и
партийная литература» (1905 г.). Ленин говорит о
свободной печати «не в полицейском только смысле, но также и
в смысле свободы от капитала, свободы от карьеризма, —
мало того: также и в смысле свободы от
буржуазно-анархического индивидуализма». В противовес «буржуазной,
предпринимательской, торгашеской печати», в противовес
«замаскированной (или лицемерно маскируемой)
зависимости» буржуазного писателя «от денежного мешка, от
подкупа, от содержания» Ленин выдвигает принцип
партийной литературы. Хотя статьи Маркса из «Рейнской
газеты» стоят на несравненно более низком уровне
политического понимания, несомненно, что уже в 1842 году
Маркс направляет свою критику не только против
полицейской цензуры, но и против свободы печати в
буржуазном ее истолковании. И точно так же у него уже в этот
период встречаются зачатки учения о партийности в
литературе.
Нужно прежде всего принять во внимание деятельность
«Рейнской газеты», которая под руководством Маркса
превратилаеь как бы в центральный орган широкой
демократической партии (хотя и не существовавшей как
определенная организация в действительности). «Рейнская
газета» являлась средоточием литературных и
публицистических сил радикальной интеллигенции. Газета заботливо
выращивала, подвергая иногда дружеской критике, но
всегда защищая от реакционных нападок, новое явление
в немецкой поэзии—политическую лирику сороковых
годов. Гервег, Пруц, Дингельштедт и др. помещали в
«Рейнской газете» свои стихотворения, в которых воспевалось
политическое пробуждение немецкого народа, и Franzosen
неизменно выступали «ohne Hosen» (т. е. sans culottes).
Поэзия эта, проникнутая определенной тенденцией, не раз
подвергалась нападкам со стороны реакционной и
умеренной печати. Самая возможность существования политиче-
207
ской лирики ставилась под сомнение. И тогда «Рейнская
газета» должна была защищать новое направление не
только от цензуры, но и от «старчески умного
благородства романтических эстетиков, усматривающих в
политической поэзии лишь подкидыша музы, которая (по их
мнению) никогда не должна была бы общаться с
действительной жизнью, и менее всего с сухой прозаической вещью,
называемой государством и историей».
Но особенно характерно поведение «Рейнской газеты»
в известном споре между Фрейлигратом и Гервегом о
партийности и поэтическом творчестве. Фрейлиграт, еще не
освободившийся в это время от своего романтического
ориентализма, относился отрицательно к перенесению
политических тенденций в поэзию. В одном из своих
стихотворений он выразил свою точку зрения в следующих,
ставших знаменитыми словах:
Поэт на башне более высокой,
Чем вышка партии, стоит.
Против этой точки зрения «Рейнская газета» еще в
феврале 1842 года поместила сначала в отрывках, а затем и
полностью известное послание Гервега Фрейлиграту, —
настоящую оду в честь партии и партийной поэзии:
Partei! Partei! Wer sollte sie nicht nehmen,
Die doch die Mutter aller Siege war.
Wie mag ein Dichter solch ein Wort verfehmen,
Ein Wort, das alles Herrliche gebar.
Это не значит, что «Рейнская газета» целиком.
становилась на точку зрения Гервега уже в это время. Напротив,
в одном из мартовских номеров газеты мы читаем,
например, чрезвычайно характерное для немецкого либерализма
стихотворение Отто Леонгарда против Гервега. Поэзии
Гервега, как «песни ненависти», противопоставляется здесь
«песня любви». Правители и народ должны пожертвовать
своими интересами. Поэт со своей стороны обязан
принести в жертву «ненависть», и все противоречия будут
разрешены.
Однако все это относится к тому периоду, когда Маркс
еще не был редактором «Рейнской газеты» (он стал им
с октября 1842 года). Под руководством Маркса газета
208
занимает гораздо более решительную позицию. Когда
в конце 1842 года травля Гервега со стороны
правительства и прессы достигла апогея и к ней присоединил свой
голос Фрейлиграт, «Рейнская газета» ответила ему
стихотворением К. Гейнцена, «бывшего друга Фрейлиграта». Оно
начиналось цитатой из самого Фрейлиграта:
«Der Dichter steht auf einer höheren Warte
Als auf der Zinne der Partei».
Doch greift er ohne Scheu nach der Standarte
Der —Polizei.
«Рейнская газета» защищала Гервега как представителя
широкой демократической партии не только от врагов
справа, но и от берлинской группы Бруно Бауэра
(«Свободные»), которая, по словам «Рейнской газеты»,
компрометировала партию своей «политической романтикой, ге-
ниальничанием и хвастовством». Таким образом, Маркс
как редактор «Рейнской газеты» на деле осуществлял
принцип партийности в литературе, хотя партия, о которой
могла итти речь, еще не была пролетарской,
коммунистической партией.
В духе той политической концепции, которая была
у Маркса в 1842 году, борьба за партийность в литературе
совпадает для него с критикой феодально-бюрократической
цензуры. И в этом очень большое различие между
партийностью в смысле Ленина и тем пониманием ее, которое мы
находим у молодого Маркса. Уничтожение крепостнической
цензуры — это задача буржуазно-демократической
революции, между ггем как партийность в литературе есть
орудие борьбы пролетариата с буржуазно-анархическими
литературными отношениями. Конечно, обе задачи не отделены
друг от друга китайской стеной; одно вырастает из
другого. Но в то же время они различны. Смешение
демократического идеала свободной печати с задачей освобождения
ее от свободы «литературного промысла» составляет
характерную черту взглядов молодого Маркса как
революционного демократа.
Его главным врагом остается «цензура». Осуществляя
желание правительства, цензура стремится искоренить
всякие следы борьбы партий в литературной области.
Цензурная инструкция запрещает даже употребление «партий-
14 М. Лифшиц 209
ных кличек». Уже в первой своей статье о свободе печати
(напечатанной лишь в 1843 году в «Anecdota») Маркс
разоблачает лицемерие прусского правительства, которое,
требуя отказа от партийной борьбы, на деле само выступает
как «одна партия против другой». Романтическая
цензурная инструкция пускается в «эстегическую критику». Она
требует от автора формы подобающей и скромной.
Напротив, она готова простить любую шероховатость, если
тенденция автора нравится правительству. «Таким образом,
цензор должен судить то о тенденции по форме, то о
форме по тенденции. Если прежде совершенно исчезло
содержание как критерий для цензуры, то теперь исчезает и
форма». Правда, цензура чрезвычайно придирчива к форме
там, где тенденция автора не имеет предписанного законом
характера. Предубежденность цензуры прикрывается
ложной беспартийностью, требованием отказа от
определенности, проистекающей из убеждений автора.
Эстетика цензурного законодательства навязывает
писателю принципиальную посредственность. «Истина всеобща,
она не принадлежит мне одному, она принадлежит всем,
она владеет мною, а не я ею. Мое достояние — это форма,
она моя духовная индивидуальность. Le style, c'est
l'homme. И что же? Закон разрешает мне писать, но я должен
писать не в своем собственном стиле, а в каком-то
другом». Стиль, который королевская цензурная инструкция
считает законным,— это стиль неопределенного
однообразия, казенный серый стиль. «Если Вольтер говорит: Tous les
genres sont bons, excepté le genre ennuyeux. («Все жанры
хороши, кроме скучного»), то здесь скучный жанр
превращается в исключительный». Гений и посредственность
имеют внешнее сходство между собой. Гений — скромен,
посредственность — бледна. Но скромность гения это вовсе
не отказ от определенности, тенденции, силы выражения.
Маркс пишет: «Сущность духа — это исключительно
истина сама по себе, а что же вы делаете с его сущностью?
Скромность? Только бедняк скромен,— говорит Гете,— и
в такого нищего вы хотите превратить дух? Или же эта
скромность должна быть той скромностью гения, о
которой говорит Шиллер? В таком случае превратите сначала
всех ваших граждан, и прежде всего ваших цензоров,
в гениев. Но ведь скромность гения состоит вовсе не в том.,
210
в чем состоит язык образованных людей, не в отсутствии
акцента и диалекта, а наоборот, в акценте,
свойственном предмету, и в диалекте,
соответствующем сущности его. Она требует забыть
скромность и нескромность и сосредоточиться на самом
предмете».
Заключительная часть этого отрывка имеет большое
значение. Взгляды Маркса соприкасаются здесь с учением
Гете и Гегеля о гениальной «односторонности». С точки
зрения великих немецких мыслителей особенностью гения
является не бесхребетная нейтральность ко всему, а
напротив, определенность, подчинение какому-нибудь
ограничивающему содержанию, даже некоторая
односторонность. Эту мысль мы нередко встречаем у Гете. По Гегелю,
расцвет художественного творчества в прошлом был связан
с неразвитостью социальных отношений, зависимостью
личности художника от прочного уклада общественной
жизни, от определенного содержания и унаследованной
формы. Разложение этой первоначальной определенности
Гегель считал необходимым и прогрессивным. Но вместе с
«прогрессом в сознании свободы» происходит упадок
искусства. «Когда духовное достигает в сознании более адэкват-
иой ему, более высокой формы и представляет собой
свободный чистый дух, искусство становится чем-то
излишним» («Philosophie der Geschichte», Lasson, S. 499).
Современный «свободный» художник (под именем «свободного
искусства» у Гегеля выступает искусство буржуазного
общества) лишен какого-нибудь захватывающего его
содержания. Он насквозь проникнут рефлексией, и знает лишь
холодную страсть ко всем эпохам и стилям. Все
привлекает его, и вместе с тем — ничто в особенности.
«Свободное искусство» оказывается миром стилизации, парафраз,
индивидуальной ловкости и своеобразия.
Взгляды молодого Маркса имеют много общего с этим
учением Гегеля. Уже в конспекте книги Грунда мы читаем,
например, следующее место с характерными
подчеркиваниями Маркса: «Если с некоторым удивлением замечают,
что величайшие люди всех родов деятельности как бы
сходятся в известное время, то всегда оказывается, что это
время было эпохой расцвета искусства. Каким бы
характером ни обладал этот расцвет, нельзя отрицать влияния его
ь*
211
на произведения этих людей; именно о« вдохнул в них
собственную жизненную силу, как в статую Пигмалиона.
Там, где эта односторонность культуры изгнана, на
ее место вступает дух посредственности» (Grund,
S. 25). Мы уже знаем, что Маркс не стоял на точке зрения
безвозвратного ухода художественного творчества в
прошлое. Против этого говорит вся его деятельность в
«Рейнской газете». Скорее наоборот, он указывает писателю
выход из кризиса, переживаемого искусством в обществе
развитого «своекорыстия». Этот выход Маркс видел в
слиянии индивидуальности художника с определенным
политическим принципом, в открытом и энергично подчеркнутом
«акценте и диалекте» политической партии. И с этой
точки зрения он выступает против неопределенности
романтизма, его кокетничания с первобытной поэзией и
современной мистикой, средневековьем и Востоком.
Было бы, однако, грубой ошибкой отождествить этот
взгляд молодого Маркса с гегелевским учением о
«самоограничении» гения. Правда, Гегель не раз возвращается к
мысли Гете. «Кто хочет чего-нибудь великого,—пишет
Гегель,— должен себя ограничивать. Для того, чтобы
достигнуть чего-нибудь, будучи индивидом в определенном
положении, нужно держаться чего-нибудь определенного, а не
расщеплять свою силу во многих направлениях» («Encyclo-
pädie», § 80). Гегель критикует романтиков за их
эстетическое многобожие, чрезмерную разносторонность,
отсутствие самоограничения. Но все это имеет у него совсем
другой смысл, чем у молодого Маркса и обнаруживает
филистерскую сторону эстетических взглядов великого
идеалиста. «Самоограничение», о котором говорит Гегель,
не есть слияние индивида с революционной партией,
политическими принципами которой поэт или художник
целиком проникает свое творчество. Напротив, дело идет об
ограничении революционного самосознания, которое,
достигнув «абсолютной свободы» в Великой французской
революции, через «ужас» (террор, der Schrecken гегелевской
«Феноменологии духа») приходит к необходимости внести
самоограничение и консолидироваться ç рамках буржуазного
общества. В революции Гегель видит только
отрицательную свободу («фурию исчезания»), выступающую в форме
определенной «факции», которая, победив, становится
212
правительством. Но это является, по мнению Гегеля, лишь
переходной ступенью к упорядоченному и
конституированному государству, в котором каждый представляет собой
частичку какой-нибудь «определенности» в общей системе
разделения труда. Поэтому Гегель, вопреки своей
первоначальной схеме, оправдывает «свободное искусство»
буржуазного общества, поскольку художник, ограничивая себя
определенным кругом, однажды избранным сюжетом,
погружается в какое-нибудь содержание, заимствуемое им из
прошлого. На другой день после революции буржуазное
общество стремится усыновить «связанность» и
«определенность» старых общественных форм, против которых
оно только что выступало как разрушительная сила.
Именно это и выражает Гегель, предъявляя художнику
филистерское требование осознать себя «индивидом в
определенном положении» и спокойно делать свою частичку
работы под охраной хорошо устроенного полицейского
государства. В своей «Эстетике» Гегель осмеивает людей,
чрезвычайно радикальных в молодости, но превращающихся
с течением времени в добропорядочных чиновников. Смысл
этого упрека в устах Гегеля сводится к тому> что
молодые люди поступили бы правильнее, превратившись в
чиновников с самого раннего возраста.
Таким образом, «определенность» в гегелевском смысле
нисколько не противоречит «свободному искусству»
буржуазного общества и не дает никакого выхода из его фальши-
еюй свободы. Только учение о партийности в искусстве,
партийности в смысле Маркса и Ленина, указывает
современному художнику действительный источник той
определенности, концентрированности воли и творческой
«односторонности», которая необходима для подлинного
искусства. Зачатки этого учения встречаются уже в
мировоззрении молодого Маркса эпохи «Рейнской газеты».
IX
В начале 1843 года «Рейнская газета» была закрыта
прусским правительством. Почти одновременно подверглись
той же участи «Немецкие летописи» Руге. Наступил период
извлечения уроков из «движения 1842 года»,— период,
который каждая из существовавших в тогдашней Германии
213
партий переживала по-своему. Маркс удалился на время
«с политической сцены в свой кабинет ученого» и
сосредоточился на разрешении тех вопросов, которые поставил
перед ним опыт политической борьбы. Этого опыта было
достаточно для того, чтобы убедить молодого Маркса в
неудовлетворительности идеалистического понимания истории.
Хотя «философское и политическое мировоззрение
Маркса уже в 1842 году во многом отличалось от
ортодоксального гегельянства, все же это отличие сводилось покуда к
переносу центра тяжести или критике отдельных сторон
системы абсолютного идеализма. Сама постановка вопроса,
круг понятий, выражавших его симпатии или антипатии, не
выходили еще из пределов философии Гегеля. Главными
врагами Маркса остаются грубая эмпирия, «своекорыстие»,
эгоизм частного интереса, не считающийся с формой
предметов, не умеющий относиться к природе эстетически.
Духовная форма противопоставляется грубой материи,
теория — практицизму, производство, которое выступает
еще у Маркса только как духовное
производство,—пассивной вещественности и равнодушному потреблению. Всякая
общественная связь признается духовной, все материальное
подвергается критике, как остаток естественного,
животного бытия, еще не подвергнутого общественной обработке.
«Б истинном государстве,— пишет Маркс,— нет земельной
собственности, нет промышленности, нет материальных
вещей, которые, как таковые, в виде грубых материальных
элементов вступают в соглашение с государством; в нем
существуют только духовные силы; и естественные
силы получают право голоса в государстве только в своем
государственном воскресении, в своем политическом
возрождении. Государство проводит во всей природе духовные
нервы, и повсюду должно стать ясным, что господином
является не материя, а форма, не природа вне государства,
а природа государства, не «н е с в о б о д н ы й предмет»,
а «с в о б о д н ы й человек». Спутником «истинного
государства» является искусство, в противоположность миру
религиозно-восточной или христиански-романтической
фантастики, выражающей господство вещественности над
человеком. Таким образом, противоположность между
искусством и неблагоприятными для его расцвета историческими
условиями превращается в вечный антагонизм между духом
214
м природой, искусством и материальной действительностью.
Устранить фетишистское овеществление человеческих
отношений, препятствующее развитию искусства, значит
преодолеть материальное основание общественной жизни
вообще. И борьба с «фетишистским» миропорядком не есть,
в сущности, «борьба плоти и крови», а борьба с
господством плоти и крови над сознанием человека. Маркс пишет:
«Всякий объект, который вводят—с одобрением или
порицанием — в кругозор печати, становится тем самым
литературным объектом и, значит, объектом литературной
дискуссии. В этом и состоит значение печати как могучего
рычага культурного и духовного образования народа; она
превращает материальную борьбу в борьбу идеальную,
борьбу плоти W крови — в борьбу духовную, борьбу
потребности, жадности, эмпирии — в борьбу теории, разума,
формы».
Но мы уже указывали, что, критикуя частную
собственность с точки зрения «истинного государства», Маркс в то
же время обращается против политического идеализма,
отвлекающегося от действительной жизни индивидов. Он
ставит перед собой шиллеровокий идеал человека,
«соединяющего в себе высшую самостоятельность и свободу с высшей
полнотой бытия». Это имеет большое значение для нашей
проблемы. Искусство не может существовать без
чувственности, в художественном произведении идейное содержание
облечено в объективную, телесную форму. По отношению
к сложившемуся в эпоху французской революции
абстрактному политическому идеалу «гражданина», освобожденного
от всяких материальных интересов, искусство само
выступает как элемент коррупции. Поэтому Руссо сомневается
в моральной и гражданской доброкачественности искусства,
а якобинцы отвергают эстетическое наслаждение,
предпочитая в живописи абстрактные, почти геометрические
аллегории. Под этим скрывалось определенное классовое
отношение, а именно плебейское отрицание «философии
наслаждения», которой в различных формах
придерживались в XVIII веке как придворная знать, так и буржуазия.
Но форма этого протеста против союза богатства и
культуры сама носила еще аскетически-односторонний и
ограниченный характер. Искусству, таким образом,
угрожают две опасности. С одной стороны, ему враждебен хри-
215
стианско-феодальный мир «старого режима». Среди
выписок Маркса из «Политико-исторического журнала» Ранке
мы находим, между прочим, следующее место: «Всегда
обращает на себя внимание то, что старая монархия [речь
идет о Франции] ничего не может больше дать и поэту,
ни исходного пункта для его подвижной фантазии, ни
духовной опоры». С другой стороны,
абстрактно-демократический идеал «истинного государства» (с его формальной
свободой и дуализмом между политическим небом и
хозяйственной эмпирией) также содержит в себе аскетическое
пренебрежение к человеческой чувственности, а
следовательно и к художественному творчеству. С указанием на эту
сторону дела мы встречались уже в диссертации Маркса.
Задача, стоявшая перед Марксом, вытекала из всей
совокупности проблем буржуазно-демократической
революции, но вела за ее пределы. Критика частных интересов
с точки зрения «истинного государства» имеет свою
консервативную сторону. Как абстрактная критика эгоизма
она обрушивается не только на землевладельцев, лесовла-
дельцев, финансистов, но задевает и угнетенные массы,
противопоставляющие привилегированному эгоизму
господствующих классов свое право на материальные блага, свой
массовый эгоизм. Тем самым эта политическая идеология
теряет свою опору в массах (отсюда, например,
равнодушие парижских рабочих и бедноты к свержению
якобинского правительства). Но спартанский идеал Руссо,
революционный в конце XVIII столетия, становится прямо
реакционным у Бруно Бауэра и его друзей, критиковавших
«массу» за ее приверженность к материальным интересам.
И точно так же реакционным становится руссоистское
отрицание исскуства, как чего-то не отделимого от
материального бытия. Ибо за вопросом об историческом праве
искусства скрывался теперь вопрос о праве народных масс
на улучшение своего чувственного, материального
существования, на «хорошую жизнь», как выражался
Чернышевский. Первым уроком, который Маркс извлек из крушения·
«Рейнской газеты», было жгучее сознание того, что
прежде всего необходимо покончить со старой доктриной о
греховности плоти, независимо от того, выступает ли эта
доктрина в христианско-феодальной или идеализированно-
античной, романтической или классической форме.
216
Надо было перейти от абстрактного к конкретному, от
«идеалов 1793 года» к «плоти и крови». Но каким образом
совершить этот переход? На том этапе революции,
который переживала Германия, существовало два пути. Первый
из них был использован уже великими представителями
предшествующего периода в истории немецкой
общественной мысли. Этот путь можно кратко охарактеризовать
словом «примирение». Уже Шиллер стремится сочетать
духовное начало с чувственным, примирить революционого
«гражданина» с эгоистическим «частным человеком», буржуа.
В идее «эстетического государства» он разрешает
противоречие между «государством нужды» и «государством воли».
Каждая из этих противоположностей, взятая в отдельности,
враждебна эстетическому состоянию. В материальной
жизни господствует корысть, противоречия интересов.
Идеальная жизнь требует от нас самоотречения и слишком сурова
для счастья. Задача состоит в том, чтобы примирить идею
с чувственной формой, духовную жизнь — с телесным
бытием. И эта цель есть «эстетическое государство» Шиллера.
Гегель идет, в сущности, по тому же пути. Он правильно
осознает абстрактность революционного самосознания —
фихтевского «я = я» или французского «равенства». Но
переход от абстрактного к конкретному он рассматривает
не как непрерывный революционный процесс, в котором
происходит диференциация «граждан» и формирование
конкретных классовых интересов, а наоборот, как переход
от бурных порывов, свойственных мировому духу в его
«ученические годы», к мужественному примирению с
действительностью. Мировой дух Гегеля последовательно
переживает все стадии послереволюционного «переходного
периода» буржуазного общества — от Термидора до
конституционной монархии. Буржуазное общество
подвергается критике, но не в его исторически определенной форме,
а как материальная сфера общества par excellence. Это
отрицание признается затем абстрактным, и в качестве
перехода от абстрактного к конкретному провозглашается
возвращение к материально-чувственному бытию, т. е. по
условиям задачи,— к буржуазному обществу. С той
разницей, что прозаический и грязный характер буржуазных
отношений приобретает теперь глубокий, мистический смысл
как воплощение деятельной субстанции духа. Таково в
217
самых грубых чертах содержание «спекулятивного метода»
немецкой идеалистической философии.
Это особенно ясно в области эстетики. Гегель с
поразительным пониманием изображает противоречивость
историческою развития искусства по отношению к развитию
общества. Но это исторически обусловленное явление он
рассматривает как неизбежный процесс освобождения духа
от чувственной оболочки. Вместе с местной и
национальной ограниченностью, вместе с феодально-патриархальным
миропорядком уходит в прошлое и художественное
творчество. Происходит как бы процесс медиатизации
искусства. Оно так же неуместно наряду с современными
методами сношений, новейшим политическим государством
и просвещением, как неуместен хвастливый и образный
язык «героической эпохи» там, где требуется сухая ясность
изложения и способность к абстрактному мышлению.
Универсальный дух буржуазного общества делает чувственно-
конкретный мир искусства простым пережитком.
Но мы уже знаем, что на этом этапе логическое
развитие не останавливается. Гегель и в эстетике ищет пути к
конкретному. Искусство, отвергнутое историческим
прогрессом, снова оживает в его изображении, но уже как
современное «свободное» искусство. Если буржуазное
общество имеет своих королей и попов, то почему оно не
может иметь своего искусства? Гегель, как и Адам Смит,
объявляет «служителя муз» непроизводительным
рабочим, для того чтобы признать за ним право
оказывать услуги. Искусство, как чувственное явление,
приобретает право на существование, поскольку оно само,
как духовное явление, примиряется с существующей
«чувственной действительностью», т. е. с прозаической
натурой буржуазных общественных отношений. Гегель
указывает, например, что в новом искусстве все большее
значение приобретает изображение прозаического,
обыденного, случайного. Так, у голландцев его особенно подкупает
их умение сделать привлекательными даже самые
прозаические и пошлые жизненные сцены. Это примирение с
жизнью и образует, с точки зрения Гегеля, главное
содержание перехода от абстрактного к конкретному.
Как представитель того социального периода, когда
пролетариат еще не выступил на историческую сцену, Гегель
218
видит путь от абстрактного к конкретному только в
примирении наивно-возвышенного «гражданина» с трезвым
и прозаическим «буржуа». «Ученические годы»
современного общества он вынужден, поэтому, понимать не как
революционный опыт, развенчивающий иллюзии, а как «опыт»
в пошло-житейском смысле, в смысле отказа от
революционных побуждений.
Совсем другое мы находим у Маркса.
Сознавая абстрактность критики общественных
отношений с точки зрения «истинного государства», Маркс ищет
сближения с конкретной действительностью. Но уже опыт
1842 года приводит его к выводу, что подлинное
разрешение противоположности между экономической
необходимостью и формальной политической свободой состоит в
уничтожении этой противоположности, т. е. в устранении
самих предпосылок общества, основанного на частной
собственности. Общественной силой, способной осуществить
эту задачу, может быть только пролетариат,— класс,
представляющий собой «разложение прежнего миропорядка».
Это пророческое призвание •исторической роли
пролетариата впервые появляется у Маркса в конце 1843 и начале
1844 года, после обстоятельного изучения французской и
английской политической литературы. Учение об
исторической миссии рабочего класса явилось для него искомым
выходом из всех противоречий гегелевской философии с ее
признанием буржуазного общества и возвышающегося на
его основе государства последней целью исторического
развития. «Возвещая разложение прежнего ми-
ропорядк а,— говорит Маркс во «Введении к критике
гегелевской философии права», — пролетариат высказывает
лишь тайну своего бытия, ибо он —
фактическое разложение этого миропорядка. Требуя
отрицания частной собственности, пролетариат
лишь возводит в принцип общества то, что
общество возвело в е г о принцип, что овеществлено в н е м уже
помимо его содействия, как отрицательный результат
общества... Подобно тому, как философия находит в
пролетариате свое материальное оружие, так и
пролетариат находит в философии свое духовное оружие».
Этот перелом отразился и на эстетических взглядах
Маркса.
219
χ
Эстетика Гегеля находит завершение художественного
развития в «свободном» искусстве буржуазного общества.
Отличительной особенностью этой ступени является
примирение с прозаической натурой буржуазных
общественных отношений. Учение о несовершенстве чувственно-
материальной жизни служит для Гегеля только поводом к
признанию действительной жизни в ее несовершенной
форме. С другой стороны, живые силы и характеры,
выступающие в «свободном» искусстве, не знают
самостоятельного развития. Они существуют не сами по себе, а как
многообразные воплощения духовной субстанции. Это
только марионетки, назначение которых быть носителями
определенного смысла, идеи; чувственные знаки или
символы спекулятивной конструкции. Значение искусства,
таким образом, остается подчиненным по отношению к
отвлеченному мышлению. «Мое истинное религиозное
бытие, — говорит Маркс о философии Гегеля, — есть мое
религиозно-философское бытие; мое
истинное политическое бытие есть мое философски-правовое
бытие; мое истинное натуральное бытие есть мое
натурфилософское бытие; мое истинно-художественное бытие есть
мое художественно-философское бытие; мое
истинно-человеческое бытие есть мое философское бытие. Таким же
образом истинная форма существования религии,
государства, природы, искусства — это философия религии,
философия природы, философия государства, философия
искусства».
Подробную критику спекулятивной эстетики содержит
«Святое семейство»,—книга, написанная Марксом и
Энгельсом лротив их прежних друзей — Бруно Бауэра и его
группы. Большую часть «Святого семейства» занимает
обстоятельный разбор статьи левогегельянца Шелиги о
«Парижских тайнах» Евгения Сю. Но в действительности
Маркс идет дальше критики Шелиги и подвергает
уничтожающему разбору не только роман Евгения Сю, но вместе
с ним и все моральное и эстетическое мировоззрение
«господствующей личности» XIX века — буржуа.
«Парижские тайны», эта «европейская Шехерезада», как
выразился Белинский, пользовались в сороковых года прош-
220
лого столетия огромным успехом. Заигрывание с
социальным вопросом и лицемерно-моральное его разрешение
сделали Евгения Сю чрезвычайно популярным в Европе. Роман
«Парижские тайны» состоит из длинного ряда
всевозможных приключений и интриг. Из светского общества
читатель попадает в кабаки и притоны, из буржуазной
квартиры — в тюрьмы и больницы большого города.
Изображение крайней нищеты и одичания сменяется картинами
аристократического бала или уютной буржуазной жизни. Сама
интрига романа построена на переодеваниях.
К числу почитателей таланта Сю относились и братья
Бауэр, издававшие в это время «Литературную газету» в
Берлине. В лице Шелиги (Цихлинского) «Литературная
газета» поспешила заявить, что
филантропически-прожектерское решение социального вопроса у Евгения Сю есть, в
сущности, «спекулятивное» его решение. Сравнивая
«Парижские тайны» с их критической интерпретацией у
Шелиги, Маркс всюду устанавливает искажение фактического
содержания романа в -интересах «критической критики» и
ее спекулятивных конструкций. Но он вовсе не отвергает
аналогии между спекулятивным методом и духом
буржуазной романистики вообще. Напротив, Маркс иронически
показывает, что «тайна спекулятивной конструкции» и
«Парижские тайны» имеют одну и ту же идеологическую и
общественную основу. Он говорит: «Как для Родольфа (герой
романа Сю) люди руководствуются в своих действиях либо
принципом добра, либо принципом зла и, стало быть,
должны оцениваться сообразно этим неизменным категориям,
так для гг. Бауэр и К0 одни исходят из точки зрения
массы, другие—из принципа критики. Но все они превращают
действительных людей в абстрактные
точки зрения».
Одной из составных частей разбора «Парижских тайн»
в «Святом семействе» является классическая глава о
«спекулятивной конструкции». Маркс показывает здесь, что
метод Гегеля, лежавший в основе этих всех открытий
«критической критики», покоится на идеалистической
мистификации. Из многочисленных действительных явлений
философ образует общее понятие, объявляя его
субстанцией (например, «плод» как субстанция груши, яблока,
миндаля и т. д.). Это понятие имеет, с точки зрения иде-
221
алиста, истинное, абсолютное бытие, между тем как
различные конкретные явления — только кажущееся, видимое
существование. Однако это растворение материального
бытия в общем понятии — абстрактно. Сознавая этот
недостаток, идеалист стремится отказаться от абстракции, но
делает это «на особый, спекулятивный,
мистический манер». Он заставляет абстракцию превратиться в
деятельную духовную сущность, порождающую
многообразные разновидности конкретного земного бытия.
На этой идеалистической дедукции основаны и методы
спекулятивной эстетики. «Необходимо было предпослать
эти замечания,— пишет Маркс,— чтобы сделать господина
Шелигу понятным. До сих пор господин Шелига возводил
действительные отношения, как, например, право и
цивилизацию, в категории тайны и таким образом обращал
«тайну» в субстанцию. Теперь же он подымается на
истинно спекулятивную гегелевскую высоту и превращает
«тайну» в самостоятельный субъект, который воплощается
в действительных отношениях и лицах, причем всякие
графини, маркизы, гризетки, привратники, нотариусы,
шарлатаны, любовные интриги, балы, деревянные двери и
прочее представляют жизненные проявления этого субъекта.
Произведши сначала из действительного мира категорию
«тайна», он теперь из этой категории производит
действительный мир». Но так поступает не только Шелига при
рассмотрении объекта своей литературной критики. Так
поступает и сам автор «Парижских тайн». Он превращает
живые характеры в простые аллегории. «У Эжена Сю
действующие персонажи (Резака, Мастак) должны выдавать
его собственное писательское намерение — заставить их
действовать тем или иным образом — за результат их
внутреннего размышления, за сознательный мотив их
действия. Они должны постоянно твердить: вот в том-то я
исправился, в том еще и в том, и так далее. Так как они
не живут действительной, содержательной жизнью, то им
ничего не остается, как усиленно подчеркивать значение
совершенно несущественных поступков». Эта критика
спекулятивных конструкций в литературе едва ли устарела и
в наше время.
Идеалистическому подчинению чувственно-конкретного
абстракции Маркс противопоставляет саморазвитие живых
222
сил и характеров. В чувственном, действительном опыте
«мы никогда наперед не знаем ни «откуда», ни «куда».
Другое дело — идеалистическая философия. Здесь все
проникнуто телеологией, все существует для чего-то,
отдельное лицо является только рупором развивающейся идеи.
Вместе с идеалистической эстетикой и
лицемерно-идеалистической литературой Маркс критикует и то «мировое
состояние», которое делает индивида орудием слепых
общественных сил и которое поэтому прямо противоположно
«эпическому мировому состоянию» гегелевской «Эстетики».
Попытка Шелиги изобразить Париж XIX века в качестве
базы для эпоса, а замысловатую интригу романа Сю в
качестве «эпического происшествия» — вызывает со стороны
Маркса только насмешки.
Конечно, Шелига также критикует современные ему
общественные условия. Повторяя обрывки социалистических
теорий, он говорит о «тайне одичания среди цивилизации,
тайне бесправия в государстве». Но спекулятивный метод
лечения социальных болезней мало чем отличается от
воспитательных приемов героя романа Сю — Родольфа:
«Необходимо убить человеческую природу, чтобы излечить ее
болезни». Поэтому Родольф выкалывает преступнику глаза,
для того чтобы помочь ему исправиться.
«Критический сельский пастор»—Шелига совершает в
своих глазах великий социальный подвиг, объявляя
чувственность тайной «образованного общества» и
подвергая критике ее симптомы: «трепетание нервов»,
«жгучий поток в жилах» и т. п. Но, как это всегда бывает с
философом-идеалистом, он, отвергая чувственность вообще,
примиряется с ней в самой грубой и обесчеловеченной
форме. «Пастор настолько унижает чувственность, что
упраздняет именно те моменты чувственной любви, которые
одухотворяют ее: быстрое кровообращение, которое
доказывает, что человек любит не с бесчувственной флегмой;
нервные токи, которые соединяют орган, являющийся главным
седалищем чувственности, с мозгом. Он сводит истинную
чувственную любовь к механическому secretio semi-
nis и вместе с одним знаменитым немецким теологом
лепечет: «Не ради чувственной любви, не ради плотских
вожделений, а потому, что так велел господь,— плодитесь и
размножайтесь». «Знаменитый немецкий теолог», о кото-
223
ром говорит здесь Маркс,— это Мартин Лютер, пророк
буржуазного общества, человек, который «стал отрицать
находящегося вне мирянина попа тем, что утвердил
внутреннего попа в сердце мирянина».
Высмеивая невинность «критического сельского
пастора», Маркс показывает, что представители «образованного
общества» подобно графине Саре Мак-Грегор,
изображенной у Шелиги в качестве воплощения чувственности,
чувственности, возвышающейся якобы «до подобия духовной
мощи», на деле не знают настоящей силы чувства и
представляют собой рассудочные, эгоистические существа (даже
в изображении французского романиста). Сильные
чувственные натуры нужно искать в низах общества, среди
представителей плебейско-пролетарских слоев. Такова в романе
Сю рабыня-метиска Сесили, испытывающая различные
приключения и подвергающаяся всевозможным
надругательствам. «Тайна Сесили,— говорит Маркс,— состоит в том,
что она метиска. Парни в своих прекрасных стихах к
Элеоноре воспевал метиску. Насколько она является
опасной для французских матросов, описано в сотнях
путешествий».
Но Евгений Сю не обладал достаточной долей
свободомыслия, облегчившей4 великим классикам буржуазной
прозы — Вольтеру, Дидро или Фильдингу — изображение
подобных натур, представляющих прямую противоположность
буржуазной добропорядочности. В классической прозе
XVIII столетия лица, подобные Сесили, испытывающие на
себе все неудобства цивилизации, остаются чистыми и
сильными натурами, несмотря на покрывающую их грязь,
несмотря на бедственную судьбу, заставляющую их
переносить самые удивительные приключения, заниматься самыми
низкими профессиями, быть объектом торговли, насилия
и т. п. (Как представитель века Луи-Филиппа, Сю закрывает
глаза на то, что эти элементы разложения общества
являются оборотной стороной цивилизации. С другой стороны,
он совершенно не понимает того, что в разложении
старого миропорядка кроются величайшие творческие,
революционные силы. Он далек поэтому и от постижения
истинного характера Сесили. «В угоду «douce morale» и «doux
commerce», лицемерный Сю вынужден охарактеризовать ее
поведение как «perversité naturelle».
224
В спекулятивной философии чувственно-материальное
бытие индивида само несет ответственность за все
неудобства и недостатки его действительной жизни. Это
представление составляет характерную черту популярного
буржуазного мировоззрения вообще. Мы находим его и в романе
Сю. Филантропия автора «Парижских тайн» сводится к
тому, чтобы выдумать средство для исправления
преступников, собственно для исправления нищеты, ибо и
нищета, с точки зрения буржуа, есть преступление,
ложащееся тяжелым пятном на ее носителя. Сю не может
подняться даже до точки зрения революционной демократии,
он редко подводит читателя к мысли, что пороки
преступников обусловлены самим общественным порядком, в
котором они живут, и совсем никогда — к тому, что
действительное перерождение элементов распада старого общества
возможно только в борьбе за его окончательное
уничтожение. Напротив, все реформаторские идеи Сю, колеблющиеся
между пропагандой системы одиночного заключения и
прожектами «банка для бедных», направлены к тому, чтобы
устранить всякие элементы возмущения против буржуазных
общественных отношений и вызвать у подчиненной
личности слезу раскаяния и покорности. Таким образом, сам
Евгений Сю является литературным представителем
спекулятивного «примирения».
В качестве героя, разрешающего «тайну одичания среди
цивилизации», в романе Сю выступает Родольф, князь ге-
рольштейнский. Маркс показывает, что не только для Ше-
лиги, но и для самого Сю это лицо является
представителем «абсолютного самосознания», чистого духовного
начала, противостоящего греховной «массе». Присмотримся
поближе к этому герою «чистой критики». Родольф, князь
герольштейнский, «мелкий немецкий серениссимус»,
проживающий в Париже деньги своих подданных, одержим
манией разыгрывать из себя провидение и в качестве
такового вознаграждать добро и наказывать зло. С этой целью
он живет и действует в двух мирах, появляясь то в
аристократическом костюме, то в блузе рабочего, впутываясь
во всевозможные интриги, из которых он неизменно
выходит невредимым, извлекая, к тому же, несколько истин
для поучения. Родольф невыносимо благороден и не устает
наслаждаться благородством своей натуры. В дейетвитель-
15 М. Лифпгоц 225
ности же, однако, необходимым условием для всех его
филантропических причуд является обладание деньгами.
Что же касается целей, которыми он руководствуется, то,
несмотря на внешность благородства, они имеют весьма
низменный характер. Маркс, со свойственной ему
ненавистью к позе, развенчивает это продолжение «романтики
своекорыстия». Абсолютная противоположность между
добром и злом, в которой Родольф растворяет все
различия между бедностью и богатством, есть
не что иное, как «последняя форма, придаваемая
аристократом своим предрассудкам». Подвергая подробному
разбору характер Родольфа, принадлежащего, естественно, к:
числу «добрых», Маркс приходит к следующему выводу:
«Весь характер Родольфа сказывается... в том чистом
лицемерии, с которым он ухитряется выставить перед
самим собой и другими пыл своих дурных
страстей — как пыл против страстей дурных
людей. Эта манера напоминает нам аналогичную манеру
критический критики [т. е. спекулятивного метода Бауэра
и Шелиги], которая свои собственные глупости
выдает за глупость массы, свои коварные нападки на
развитие мира вне ее—за коварные нападки мира на
развитие, наконец, свой эгоизм, который мнит, что поглотит
весь дух, выдает за эгоистическое сопротивление массы
духу». В лице Родольфа, делающего низости с
возвышенной миной, Маркс усматривает тот тип человека, который
он больше всего ненавидел. Это — «рыцарь благородного
сознания». Мы не можем перечислять здесь, сколько раз и
в сколь различных положениях Маркс возвращается к
этому эпитету, взятому из философского языка Гегеля.
Заметим только, что эта характеристика играет далеко не
эпизодическую роль во всем мировоззрении Маркса.
В образе «благородного» и «низкого» сознания Гегель
изобразил в своей «Феноменологии духа» основную
противоположность феодально-аристократического порядка.
Всеобщее брожение, отделяющее этот мир от
капиталистической эпохи, разложение старых сословий, превращение
богатства в самостоятельную и всеподчиняющук} силу — все·
это растворяет противоположность «благородного» и
«низкого», превращает одно в другое, колеблет все устойчивые
различия. Гегель с удивительным реализмом, пробивающим-
' 226
ся сквозь идеалистическую форму «Феноменологии духа»,
изображает этот процесс развития цивилизации, или, как
он сам выражается, «образования» (Bildung). Дух этой
ступени «есть абсолютная и всеобщая превратность и
отчуждение действительности и мысли, чистое образование. В этом
мире приобретается опыт того, что ни действительные
существа силы и богатства, ни их определенные понятия,
добро и зло, или сознание хорошего и плохого, благородного и
низкого, не обладают истиной, но все эти моменты
извращаются, переходя из одного в другое, и каждый из них
есть противоположность самого себя» («Phaenomenologie
des Geistes», Lasson, 1928, S. 371). Благородное сознание
становится таким образом низким и не брезгает никаким
занятием для (извлечения выгоды. Мы видели это на
примере романтики «своекорыстия». В лице Родольфа Маркс
разоблачает новое издание этого знакомого ему сочетания
низости и позерства,— новое именно потому, что
«благородное сознание» вторгается здесь в область жгучего
вопроса современности, выступая в качестве социалиста
феодального типа. Маркс сравнивает Родольфа с «сынами
Молодой Англии», которые также «хотят реформировать миру
совершают благородные подвиги и подвержены аналогичным
истерическим припадкам». В политической практике они
«принимают... участие во всех насильственных мерах против
рабочего класса, а в обыденной жизни, вопреки своим
напыщенным словоизвержениям, любят подбирать золотые
яблоки и не без выгоды обменивают свою «преданность»,
«любовь» и «честь» на шерсть, свекловицу и водку»
(«Коммунистический манифест»). Преданность, любовь и
честь — это главное содержание рыцарского цикла
средневековой поэзии, согласно «Эстетике» Гегеля.
Подобно тому, как Родольф выступает в роли
«благородного сознания», его верный слуга Мурф представляет
в романе «честное сознание», характерной чертой которого
Гегель считал глупость и односложность. Им обоим
противостоит целая галлерея плебейско-пролетарских типов.
Если лицемерный Сю старался разрешить диалектику добра
и зла посредством абстрактного утверждения благородства
и честности, то его критик Маркс становится на сторону
той половины изображенного в «Парижских тайнах» мира,
которая открыто сознает себя прямой противоположностью
15* 227
местности и прочим добродетелям «порядочного общества».
Таковы мясник Резака, гризетка Риголетта, Мастак, Флер
де Мари и другие персонажи «Парижских тайн»,
представляющие неофициальную сторону цивилизованного мира.
В изображении их Маркс также отчасти следует за
Гегелем. Мы уже знаем, что «благородное» и «низкое» сознание
переходят друг в друга. На ступени «образования» «то, что
определено как хорошее,— дурно, то, что определено как
дурное,— хорошо». «Сознание каждого из этих моментов,
рассмотренное как благородное или низкое сознание, есть
в своей истине скорее обратное тому, чем должно быть
каждое из этих определений: благородное превращается
в низкое и испорченное, так ж»е как испорченность
становится благородством образованнейшей свободы
самосознания».
Высокая оценка «низкого», «испорченного»,
«разорванного» самосознания представляет собой одну из лучших
•сторон «Феноменологии» Гегеля. Речь идет о тех
социальных слоях, которые являются законными представителями
всех отрицательных сторон общественного прогресса.
Нищета, разложение семейных связей, презрение к моральным
нормам мира «порядочных» людей характеризуют эти
низшие слои социальной лестницы. Но в силу внутренней
диалектики исторического процесса это «низкое» и
«испорченное» сознание, как обозначают его представители
«образованного общества», становится поистине благородным
и высоким. Его собственное положение толкает его к
пониманию двойственности прогресса, относительности добра и
зла, к разоблачению лицемерия буржуазного общества, в
котором, как доказал еще Мандевилль, индивидуальные
пороки суть общественные добродетели. И поскольку
низкое сознание понимает «обесчеловеченный» характер
своего образа жизни и вместе с тем возвышается до понимания
«разорванности» в социальных отношениях вообще, оно
становится неизмеримо выше официального общества,
следующего мотивам своекорыстия под лицемерной маской
честности и благородства. В то время как «благородные»
и «честные» живут в мире абстрактной противоположности
хорошего и дурного, люди, подобные «племяннику Рамо»
(в произведении Дидро того же названия), являются
представителями исторической диалектики, которую они ин-
228
стинктивно понимают. Ссылка на «Племянника Рамо»
имеется и у самого Гегеля.
Интересно заметить, что этот небольшой шедевр,
вышедший из-под пера великого энциклопедиста, принадлежал
к числу тех литературных произведений, которые Маркс
ставил необычайно высоко. Дидро был его любимым
прозаиком. Еще в 1869 году, посылая Энгельсу экземпляр
«Племянника Рамо», Маркс присоединил к нему следующий
комл/центарий из Гегеля: «Сознающая и выражающая себя
разорванность сознания,— говорит по этому поводу
старый Гегель,— есть язвительная насмешка над наличным бьь
тием, как и над запутанностью целого и над самим собой;
она есть в то же время еще доступный собственному слуху
отзвук всей этой запутанности. Это есть разрывающая себя
природа всех отношений и их сознательное разрывание...
Со стороны возврата в самость, суетность всех вещей
есть ее собственная суетность, т. е. самость суетна.
Однако, как возмущенное самосознание, она знает свою
собственную разорванность и в этом знании разорванности
непосредственно над ней возвышается... Каждая частица
этого мира достигает здесь того, что дух ее высказывается,
или, по крайней мере, что о ней говорится с толком и
высказывается, что она такое. Честное сознание (роль,
которую в диалоге самому себе дает Дидро.— Замечание
Маркса) берет каждый момент как пребывающую
существенность и есть необразованность, бессмысленное незна^
ние того, что оно делает как раз обратное. Разорванное
сознание, однако, есть сознание превратности и даже
абсолютной превратности, в нем господствует понятие,
связывающее мысли, которые далеки от честности и язык
которых поэтому остроумен. Содержание речи духа о себе самом
есть, таким образом, извращение всех понятий и
реальностей, всеобщий обман самого себя и других, и потому
бесстыдство высказывать этот обман есть величайшая правда...
Спокойному сознанию, которое честным образом полагает
мелодию хорошего и истинного в равенстве тонов, т. е. в
одной ноте. [в романе Сю эта роль достается на долю
Мурфа], эти речи кажутся бреднями, в которых
смешивается мудрость и безумие и т. д.» (Следует место из
Дидро.— Замечание Маркса.)
Гегель, которого нельзя ставить на одну доску с эпиго-
229
нами типа Бауэра и Шелиги, умел понимать и
комментировать произведения классической литературы. Но то, что
было еще возможно для Гегеля, оказалось немыслимым для
представителей французской буржуазии эпохи
Луи-Филиппа. «Забавнее, чем гегелевский комментарий,—продолжает
Маркс свое письмо к Энгельсу,— комментарий Жюля Жа-
нена, который был в виде отрывков найден в дополнении
к томику. Этот «Cardinal de la mer» указывает на
отсутствие в «Рамо» Дидро моральной остроты и потому привел
дело в порядок посредством открытия, что вся
извращенность Рамо происходит из его огорчения тем, что он «не
является дворянином по рождению». Дрянь в духе Коцебу,
которую он наложил на этом краеугольном камне,
мелодраматически ставится в Лондоне. От Дидро до Жюля Жа-
нена — это, конечно, то, что физиологи называют
регрессивной метаморфозой. Французский дух перед
французской революцией и при Луи-Филиппе».
Вернемся, однако, к Гегелю. Мы уже знаем, что
«низкое» сознание превращается в свою собственную
противоположность, поскольку оно сознает себя в качестве
продукта разложения старого миропорядка; оно понимает
лицемерие и двойственность всех общественных отношений
и становится «возмущенным самосознанием». Если слова
Гегеля о «возмущенном самосознании» справедливы по
отношению к босячеству, «массовое существование которого
после упадка средних веков предшествовало массовому
возникновению пролетариата» (Маркс, Немецкая
идеология), то тем более относятся они к пролетариату XIX века.
«Так как отвлечение от всего человеческого,—пишет Маркс
в «Святом семействе»,— даже от видимости человеческого,
нашло себе в оформившемся пролетариате практически
совершенное выражение; так как в жизненных условиях
пролетариата все жизненные условия современного общества
достигли вершины обесчеловеченности; так как в
пролетариате человек потерял самого себя, но вместе с тем не
только обрел теоретическое сознание этой потери, а
непосредственно еще вынужден к возмущению против этой
бесчеловечности велением ничем не прикрашенной,
неумолимой, абсолютной нужд ы, этого практического выражения
необходимости,—поэтому пролетариат может и должен сам
себя освободить. Но он ,не может освободить себя, не
230
упразднив своих собственных жизненных условий, не
упразднив всех бесчеловечных жизненных условий
современного общества, сосредоточившихся в его собственном
положении». Социалистические писатели не считают
пролетариев богами, но они знают, что общественное положение
пролетариата неизбежно диктует ему его историческую
миссию и что «значительная часть английского и
французского пролетариата и теперь уже сознает свою
историческую задачу и постоянно работает над дальнейшим
развитием и окончательным прояснением своего
самосознания». В «Немецкой идеологии» Маркс обрушивается на
карикатурное изображение пролетариата в книге Штирнера
и говорит о рабочем как о человеческой
противоположности рассудочным и эгоистичным представителям
«образованного общества». «Страсть» пролетария гораздо
выше «заботы» буржуа. Даже в изображении лицемерного Сю
плебей человечнее тех, кто считает себя призванными
исправлять его пороки. Такова, например, Риголетта в
«Парижских тайнах». «В ее лице Эжен Сю хотел изобразить
приветливый, человеческий характер парижской гризетки.
Но опять-таки из желания угодить буржуазии и по
собственной сентиментальности он должен был морально
идеализировать гризетку. Он должен был сгладить все pointes,
все остро выдающиеся черты ее характера и ее положения,
именно: ее пренебрежение к официальной форме брака, ее
наивные отношения к студенту или рабочему. Именно эти
отношения и создают из нее истинно человеческий
контраст ханжеской, бессердечной и себялюбивой супруге
буржуа и всему кругу буржуазии, т. е. всему официальному
обществу».
«Спекулятивная конструкция» романа Сю состоит в том,
чтоб, изобразив социальные контрасты Парижа, разрешить
эти противоречия через посредство «критического героя»
Родольфа; последний играет, таким образом, в романе роль
«Сына Человеческого», посредника между небом и землей.
Родольф приводит «испорченное сознание» к сознанию
виновности и таким образом искореняет всякие следы
возмущения против официального общества. «Низкое сознание»
не может более превратиться в «возмущенное
самосознание». Так поступает Родольф с «могучим сыном природы»,
мясником Резакой. Внушив ему уважение к себе, Родольф
231
превращает его в «приличное моральное
существо». Симптомом этого превращения является роль
агента-провокатора, которую Резака исполняет по отношению»
к товарищу. Таким образом, этот человек, которому
случалось в прошлом быть убийцей, «в первый раз в своей
жизни совершает низость». Каково превращение!
«Изумительная дрессировка беспощадного сына природы. Резака
раскрывает нам сокровеннейшую тайну своего критического·
превращения, сознаваясь Родольфу, что он испытывает к
последнему такую же привязанность, как бульдог к своему
господину. Je me sens pour vous comme qui dirait
l'attachement d'un bouledogue pour son maître. Прежний мясник
превратился в собаку».
Как же выглядит это моральное бульдожество? «Отныне
все его добродетели будут добродетелями собаки,
беззаветной преданностью собаки своему господину. Его
самостоятельность, его индивидуальность совершенно исчезнут. Но
подобно тому, как плохие живописцы должны сделать
надпись на своих картинах, чтобы объяснить их содержание,
так и Эжен Сю должен будет сделать на лбу бульдога
Резаки надпись, которая должна гласить: «Два слова: «У тебя
есть сердце и честь» — сделали меня человеком». До
последнего издыхания Резака будет искать мотивов своих
действий не в своей человеческой индивидуальности, а
в этой надписи». Наконец превращение в «праведного
бульдога» находит себе выражение и во внешности бывшего
убийцы. «Мы уже восхищались мещанским
приличием Резаки, выступившим на место грубой, но смелой
развязности. Теперь мы узнаем, что он, как и
приличествует «моральному существу», усвоил себе походку и
манеру держаться подлинного мещанина».
Подобное превращение является целью всех
воспитательных действий Родольфа. И насколько Эжену Сю удается
лишить своих героев индивидуальности и силы, превратив
их в простые иллюстрации господствующей морали,
настолько же лишаются действующие лица романа своей
первоначальной привлекательности. Нечто подобное
происходит с Флер де Мари. «Мы встречаем Марию среди
преступников в качестве проститутки, крепостной слуги у хозяйки
кабачка преступников. При всей унизительности своего
положения она сохраняет человеческое благородство души,
'232
человеческую непринужденность и человеческую красоту.
Эти качества импонируют окружающему ее миру, делают
ее поэтическим цветком круга преступников и утверждают
за ней имя Флер де Мари». «При всей своей нежности Флер
де Мари с первых же шагов обнаруживает жизненную
бодрость, энергию, веселость, гибкость характера,— все такие
качества, которые одни уже в состоянии объяснить ее
человеческое развитие в условиях бесчеловечного
положения». В ней есть качества женщины-борца. «Против
Резаки, который подвергает ее побоям, она защищается
своими ножницами. Это первое положение, в котором мы
ее встречаем. В этой сцене она выступает перед нами не
как беззащитное существо, отдающееся без сопротивления
во власть грубой силы, а является женщиной, умеющей
защитить свои права и способной выдержать борьбу». Она
мужественно переносит свое положение и «не строит из
себя плаксы», но ее жизненное положение печально: «ça
n'est pas gai». «В противоположность христианскому
покаянию, она относительно своего прошлого высказывает
следующий стоический и в то же время
эпикурейский человеческий принцип, подобающий свободной,
сильной женщине: «Наконец, что сделано, то сделано».
Как прямая противоположность тупому и ограниченному
«честному сознанию» буржуа, Мария исходит в своих
поступках не из абстрактной противоположности добра и
зла, практически уничтоженной в ее общественном
положении, а из своей индивидуальности, природы своего
существа. «Флер де Мари рассматривает свое положение, в
котором она находится, не как результат своего свободного
творчества, не как выражение ее личности, а как судьбу,
которую она не заслужила. Эта судьба может измениться.
Она еще молода. Добро и зло в понимании Марии —
не моральные абстракции добра и зла. Она добра
потому, что никому не причинила страдания, она всегда
была человечна по отношению к бесчеловечному
окружающему. Она добра потому, что солнце и цветы
открывают ей ее собственную солнечную и, как цветок, невинную
натуру. Она добра, наконец, потому, что еще молода,
полна надежд и жизненной бодрости. Ее положение
скверное, потому что оно налагает на нее неестественное
принуждение, потому что оно не есть проявление ее человеческих
233
склонностей, не есть осуществление ее человеческих
желаний, потому что оно мучительное и безрадостное. Мерилом
ее жизненного положения служит ей не идеал добра,
а ее собственная индивидуальность, природа ее
существа. На лоне природы, где спадают цепи
буржуазной жизни, где ее натура находит свободное проявление,
Флер де Мари обнаруживает такую жажду жизни, такое
богатство ощущений, такой радостный восторг перед
красотами природы, которые показывают, что ее гражданское
положение затронуло только ее поверхность, что оно не
больше, как злая участь, и что она сама ни добра, ни зла,
а только человечна».
Маркс сравнивает этот «первоначальный образ»
Марии с «критической переделкой» его самим автором
«Парижских тайн». «До сих пор мы наблюдали Флер де
Мари в ее первоначальном, некритическом образе. Эжен
Сю поднялся над горизонтом своего ограниченного
мировоззрения. Он нанес поражение предрассудкам буржуазии.
Теперь он передает Флер де Мари в руки героя Родольфа,
чтобы искупить свою дерзость, чтобы снискать одобрение
всех стариков и старух, всей парижской полиции, ходячей
религии и «критической критики». Родольф извлекает
Марию из кабачка для того, чтоб поручить ее елейной мадам
Жорж и священнику Лапорту. Задача этой пары состоит
в том, чтобы сломить самобытную силу характера Флер
де Мари, доведя ее до раскаяния. Им это удается. «Попу
уже удалось превратить непосредственно-наивное, разумное
восхищение Марии красотами природы в религиозное
восхищение. Природа уже принижена до ханжества
христианизированной природы. Она низведена на
ступень творения. Прозрачный воздушный океан развенчан и
обращен в символ неподвижной вечности. Мария уже
постигла, что все человеческие проявления ее существа
были «земного» свойства, что они лишены религии,
истинной святости, что они антирелигиозны, безбожны. Поп
должен убедить ее в том, что ее душа нечиста; он должен
повергнуть в прах природные и духовные силы и щедрые
дары, чтобы сделать ее восприимчивой к
сверхъестественному дару милосердия, который он обещает ей,— к
крещению». Лицемерная софистика священника причиняет
Марии страдания и доводит, ее до раскаяния. «С этого момен-
234
та Мария становится рабыней сознания своей
греховности. Между тем как прежде она в
несчастнейшей обстановке умела быть приветливой, живой
личностью и при внешнем крайнем унижении сознавала свою
человеческую сущность как истинную
сущность,— теперь эта грязь современного общества,
задевшая ее поверхностно, становится в ее глазах ее внутренней
сущностью, а постоянное ипохондрическое самобичевание
делается ее обязанностью, предначертанной самим богом,
жизненной задачей, самоцелью ее существования. Между
тем как прежде она хвасталась: Je ne suis pas pleurnicheuse,
между тем как она знала: C'est qui est fait, est fait—теперь
самотерзание становится добром, а раскаяние славой».
Так в результате «критически»-реформаторской
деятельности Родольфа от мужественной, способной к борьбе
натуры Марии не осталось и следа. Ее история имеет
истинно христианский конец — смерть в монастырских
стенах.
Подобным же образом, но гораздо более сильными
средствами, вроде выкалывания глаз и одиночного заключения,
Родольф добивается моральной прострации у Мастака —
«преступника геркулесовского сложения и колоссальной
духовной энергии». «По воспитанию своему он
образованный и знающий человек. Он, страстный атлет, приходит
в столкновение с законами и привычками буржуазного
общества, для которого общей меркой служит
посредственность, хрупкая мораль и скрытность действий. Он
становится убийцей и предается всем излишествам, на какие
только способен колоссальный темперамент, нигде не
находящий для себя соответствующей человеческой
деятельности». Эта выдающаяся личность могла бы найти своим
силам подлинное приложение в титанической борьбе против
существующего миропорядка, борьбе, которая не сводится
к бессмысленному протесту — индивидуальному
преступлению. Но автор «Парижских тайн» далек от того, чтобы
изобразить переход от «возмущенного самосознания» к
самосознанию революционному. Напротив, все
сильные, чувственно-прекрасные натуры, выступающие в
«Парижских тайнах», должны в угоду конструкции романа
развиваться в обратном направлении, или вернее —
прекратить естественное саморазвитие своего характера. Маркс
235
усматривает в этом два совпадающих признака буржуазио-
апологетической литературы: ее идеалистическое
отношение к изображаемому миру, превращающее живую личность
в автомат для доказывания абстрактной концепции автора,
и ее идеалистическую мораль, лицемерно отвергающую
чувственность, для того чтобы признать ее в наиболее «обес-
человеченной», исторически данной форме. Саморазвитие
чувственно-конкретной действительности или подчинение ее
чуждой силе, примирение или борьба — вот в конце
концов основное различие между эстетико-философским
идеалом Маркса и мировоззрением Шелиги — Сю.
Материалистическая диалектика, создателем которой
является Маркс, исходит из исторической действительности
со всеми ее противоречиями и светотенью. Разрешение этих
противоречий она видит не в спекулятивном «высшем
единстве», не в обуздании центробежных сил действительности,
а наоборот, в полном и всестороннем развитии всех ее
противоречий и антагонизмов. Учение Маркса об
исторической миссии пролетариата состоит именно в том, что
этот класс — «не механически, под тяжестью общества
согбенная людская масса, а масса, возникшая из его
острого разложения», становится благодаря этому
революционно-созидательной силой и, в свою очередь, подвергает
отрицанию «все бесчеловечные жизненные условия
современного общества, сосредоточившиеся в его собственном
положении».
Прямую противоположность этого метода представляет
идеалистическая диалектика, независимо от того, выступает
ли она в классической форме, как у Гегеля, или в
вульгарно-сентиментальном виде, как у Шелиги. Ее
философская формула состоит в примирении движения и покоя,
устойчивости и разложения, всеобщей относительности д а
и нет и «здравого смысла». Она усматривает единство
противоположностей не в последовательном развитии
противоречий, а в преодолении их, в свертывании и
застывании мирового революционного процесса. Поэтому у Гегеля
за «возмущенным самосознанием», революцией и террором
следует царство «моральности», в котором «сам себя
знающий дух» разрешает противоречия эпохи «образования».
Конечно, нельзя делать каких-нибудь общих выводов из
того положения, что Гегель, как и все немецкие философы
236
конца XVIII века, употребляет слово «простонародье»,
«чернь» (Pöbel) по отношению к рабочим. Мы найдем у
него и критику богатства и апологию бедности. Но как
раз там, где Гегель расточает похвалы эстетической
стороне нищеты, это имеет у него далеко не революционный
смысл. Так, например, он восхищается нищими мальчиками
Мурильо. Гегель находит прекрасным в нищих Мурильо то,
что он называет «воскресным днем жизни», — радостную
удовлетворенность своим собственным положением,
беззаботную лень, делающую этих оборванцев равными богам.
Нельзя отделаться от мысли, что подобное восхваление
нищеты имеет банальный оттенок, как все сказки о
счастливых нищих и несчастных богачах, столь
распространенные уже в литературе XVIII столетия.
Совсем другое мы видим у Маркса. Правда, в
«Парижских тайнах» речь идет о различных типах босяцкого
пролетариата. Однако и в этих опустившихся представителях
великого класса Маркс находит многое такое, что в
гораздо большей степени заслуживает художественного
изображения, чем проза и скука буржуазных отношений.
Наиболее благодарным для художественного изображения
моментом Маркс считает мужественную решимость,
способность к борьбе и силу характера,— черты, которыми (ттм-
чаются люди типа Резаки, Мастака, Флер де Мари.
Но Маркс не ограничивается указанием на
плебейско-пролетарские типы как на объект литературного
изображения. Он говорит также о литературе, исходящей от
«earn и χ низших классов» (по терминологии Бруно
Бауэра). «Если бы критика, — пишет Маркс против Бауэра,—
была более знакома с движением низших классов [Маркс
имеет в виду движение пролетариата], ей было бы известно,
что упорное сопротивление, которое низшие классы
встречают в практической жизни, подвергает их постоянному
изменению. Новая прозаическая и поэтическая литература,
исходящая в Англии и Франции из низших классов,
показала бы критике, что низшие классы умеют духовно
возвышаться и без непосредственого покровительства святого
духа критической критики».
Этого достаточно для того, чтобы понять отношение
Маркса к вопросу о пролетарской литературе. По мере
того как рабочий класс в процессе революционной пере-
237
делки мира переделывает свою собственную природу, он
создает свою литературу, стоящую неизмеримо выше
буржуазно-апологетической романистики.
XI
«Только философский материализм Маркса,—: писал
Ленин,— указал пролетариату выход из духовного рабства, в
котором прозябали доныне все угнетенные классы». С
другой стороны, именно признание исторической роли
пролетариата послужило для Маркса и Энгельса переходом к
теории диалектического материализма. С этой достигнутой
ими высоты основоположники марксизма подвергли
уничтожающей критике всю «немецкую идеологию», т. е.
идеалистическую школьную философию и связанные с ней формы
мелкобуржуазного социализма и анархизма.
Мы уже знаем, что критика гегелевской эстетики была
для Маркса до некоторой степени и самокритикой. Если
прежде материальная сфера общества представлялась ему
низшей по своему значению, то теперь эта градация
ступеней приобретает прямо противоположный смысл: низшее
становится основанием для всех возвышающихся над
ним надстроек. Развитие всех сторон общественной
действительности людей определяется в последнем счете с а-
моразвитием их материального производства и
воспроизводства. Соответственно этому изменяется и
положение художественного творчества. Искусство, так же как и
право, государство и т. д., не обладает самостоятельной
историей. Самостоятельность оно приобретает только в
головах идеологов. В действительности литература и
искусство обусловлены всем историческим развитием
общества.
Отсюда вовсе не следует, что согласно теории
диалектического материализма искусство играет подчиненную
роль (в смысле писаревского предпочтения сапожника Ра-^
фаэлю). Напротив, именно идеалистическое
возвышение искусства над материальной действительностью имеет
свою оборотную сторону в аскетическом принижении
его как чувственно-конкретного отношения к миру. Там,
где у Гегеля упадок искусства объясняется его чувственным
характером, Маркс видит причины этого явления в небла-
238
юприятных исторических условиях и отстаивает право
искусства, право чувственности как таковой. В этом
отношении для него сыграло известную роль знакомство с
эстетическими взглядами Фейербаха.
По своему социальному содержанию эстетико-философ-
ский идеал Фейербаха был идеалом
«прогрессивно-буржуазной демократии или революционной демократии» (Ленин).
Спекулятивному учению о неполноценности чувственного
бытия и соответствующей этому учению практике
подчинения «угнетенной твари» ее угнетателям Фейербах
противопоставил защиту прав плоти. Так как у Гегеля все
материально-чувственное выступает в качестве «отчуждения»
(Entfremdung) духа, то единственным способом «освоения»
(Aneignung) предметного мира является для него поэнаиие.
Само искусство есть несовершенный вид познания. Против
этой концепции, растворяющей искусство в абстрактном
мышлении, справедливо направляет свою критику
Фейербах. Человек осваивает мир не только посредством
мышления, но и с помощью всех сил своего существа. Подобные
идеи мы находим и у Маркса: «Человек утверждается в
предметном мире не только через посредство мышления,
но и через посредство всех чувств» (философско-экономиче-
ская рукопись 1844 года). Переход от идеализма к
материализму неизбежно связан с освобождением искусства, и
чувственной формы сознания вообще, от рабского
подчинения его отвлеченному мышлению. Во введении «К критике
политической экономии» Маркс различает «художественно-
религиозно-практически-духовное освоение мира» от
освоения его «мыслящей головой».
Но, отбрасывая гегелевское понимание истории как
постоянной борьбы духа с материей, Фейербах вместе с тем
отбрасывает всякое противоречие и историческое
«опосредствование» вообще. Освоение мира остается у
Фейербаха чисто созерцательным актом, между тем как уже
идеалист Гегель рассматривает его как деятельность,— правда,
деятельность чистого мышления, «абстрактно-духовный
труд». Поэтому у Фейербаха уже обнаруживается та
слащавая апологетика «человека» (в его гармонии с
«природой»), которая легла в основу всей литературы немецкого
«истинного» социализма. Гуманистическая эстетика
Фейербаха и Грюна сводилась в конечном счете к прикрашива-
239
нию положения трудящегося индивида в буржуазном
обществе. От «человека» здесь требовалось лишь осознать
<:вое единство с окружающим миром и тем самым объявить
этот мир своим, хотя бы на деле его повсюду окружало
«чужое». Критическое уничтожение немецкого «истинного»
социализма «в стихах и прозе» досталось на долю
Энгельса.
У Маркса и Энгельса «освоение» приобретает
исторический характер. Отказываясь от идеалистического
понимания чувственно-предметного мира как «отчуждения»
духа, Маркс все же прекрасно сознает, что этот мир
становится для человека «своим» не в силу простого акта нашей
созерцательной способности, а в результате длительной
борьбы. «Распредметчивание» действительности, лишение ее
грубо-естественной формы, само есть материальный
процесс,— процесс «опредметчивания» субъективных сил и
способностей человека. «История промышленности
и возникшее предметное бытие промышленности есть
раскрытая книга человеческих сущностных сил, чувственно
предлежащая нам человеческая психология». Чувства имеют
свою историю. Ни предмет искусства, ни субъект,
способный к эстетическому пониманию, не даны нам сначала.,—
они образуются в процессе творческой производительной
деятельности человечества. «Только музыка пробуждает
музыкальное чувство человека; для немузыкального уха
прекраснейшая музыка не имеет смысла, она для него не
есть предмет. Чувства общественного человека иные, чем
у необщественного; только благодаря (предметно)
объективно развернутому богатству человеческой сущности
получается богатство человеческой чувственности, получается
музыкальное ухо, глаз, умеющий понимать красоту
формы,— словом, отчасти впервые порождаются, отчасти
развиваются человеческие, способные наслаждаться чувства...
Таким образом необходимо было опредметчивание
человеческой сущности и в теоретическом и в практическом
отношении, чтобы как очеловечить чувства
человека, так и создать соответствующий человеческий
смысл для понимания всего богатства сущности человека
и природы». Эстетическая потребность не есть нечто
биологически данное до всякого общественного развития. Она—
исторический продукт, результат длительного развития
240
материального и духовного производства. ^Предмет
искусства,— писал Маркс в своем введении из «К критике
политической экономии»,— а также всякий другой продукт создает
публику, понимающую искусство и способную наслаждаться
красотой. Производство производит поэтому не только
предмет для субъекта, но также и субъекта для предмета».
В своей первоначальной форме производство и
потребление имеют еще животный характер. Труд инстинктивен.
Потребление происходит в грубой, хищнической форме.
«Животное,—пишет Маркс в цитированной выше рукописи
1844 года,— непосредственно едино со своей
жизнедеятельностью. Оно не различается от нее. Оно является е ю.
Человек делает свою жизнедеятельность предметом своей воли
и своего сознания. У него сознательная жизнедеятельность.
Это — не определенность, с которой он непосредственно
сливается. Сознательная жизнедеятельность
непосредственно отличает человека от животной жизнедеятельности».
«Паук,— говорит Маркс в «Капитале»,— совершает
операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой
своих восковых ячеек посрамляет некоторых архитекторов-
людей. Но и самый плохой архитектор от наилучшей
пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем
строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей
голове». Откуда же берется это преимущество человека?
Шиллер говорит в своем знаменитом стихотворении
«Художники»:
В умении пчела тебя наставит,
И прилежанию научит червь долин.
Познание твой ум с духами рядом ставит.
Искусство ж, человек, имеешь ты один.
Кант и Шиллер выразили с предельной ясностью ту
старую идеалистическую догму, что человек с самого начала
принадлежит двум мирам: духовному и чувственному.
Искусство представляет собой средний член всеобщей мировой
иерархии, подымающейся снизу вверх — от грубого
животного до бесплотного обитателя эфира. Противоположность
между чувственностью и рассудком приобретает, таким
образом, доисторический характер.
В действительности выделение сознания из
непосредственной инстинктивной жизни, умение сделать себя самого
16 М. Лифшиц 241
объектом понимания есть явление исторически
развивающееся. Оно не дано нам с самого начала, а порождается
в процессе развития предметной производительной
деятельности. Сознание противоположно предмету и в то же время
едино с ним. «Для того чтобы присвоить себе вещество-
природы в известной форме, пригодной для его
собственной жизни, он (человек) приводит в движение
принадлежащие его телу естественные силы, руки и ноги, голову и
пальцы. Действуя посредством этого движения на внешнюю·
природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою-
собственную природу. Он развивает дремлющие в последней
способности и подчиняет игру этих сил своей собственной
власти». Сознательная цель «как закон определяет способ
и характер его действий». И ей он «должен подчинять свою
волю». Это подчинение, продолжает Маркс, не есть
единичный акт. «Оставляя в стороне напряжение тех органов,
которыми выполняется труд, целесообразная воля,
выражающаяся во внимании, необходима во все время труда, и
притом необходима тем более, чем меньше труд увлекает
рабочего своим содержанием и способом исполнения,
следовательно, чем меньше рабочий наслаждается трудом как
игрой физических и интеллектуальных сил» («Капитал»,
гл. V).
Различие чувства и разума дано, таким образом, вместе
с необходимостью сознательного труда. Но это различие
далеко не всегда принимает форму враждебного отношения.
Лишь там, где затрата труда лишена для трудящегося
всякого удовольствия, где подчиняющая сила воли и внимания
должна преодолевать инстинктивное отвращение,— лишь
там начинается область кантовской противоположности
между игрой и трудом. Разум выступает здесь в
абстрактной рассудочной форме, чувственность низводится к
иррациональным побуждениям; она возмущается против ига
психологической «цензуры» в столь же диких и
неестественных формах, как преступник против узкого горизонта
буржуазного права. Это враждебное отношение между
чувством и разумом, поэтической игрой фантазии и прозой
жизни,— отношение, возведенное идеалистической
эстетикой на ступень фатальной раздвоенности человеческого
духа,—-имеет свое основание в определенных формах
производства. Оно достигает наибольшего развития на почве
242
капиталистического строя жизни, как мы увидим это' в
дальнейшем.
Итак, вместе с выделением сознательного труда из чисто
естественных функций, вместе с освобождением от
природной ограниченности растет и единство человека с природой.
Мы ставим себе сознательные цели, и они находят
осуществление в предметном мире при посредстве практики.
Происходит, так сказать, процесс очеловечивания мира.
Это возможно, говорит Маркс, лишь поскольку «предмет
становится для него (т. е. для человека) общественным
предметом, а он сам для себя общественным существом, подобно
тому как общество становится для него существом в этом
предмете». В отличие от животного, человек производит
не только сознательно, но и универсально, его родовая
жизнь состоит уже не в определенных инстинктивных
функциях, а именно в общественном
производстве. «Практическое порождение предметного
мира, обработка неорганической природы есть
утверждение человека как сознательного родового существа, т. е.
существа, которое относится к роду как к своей
собственной сущности или к себе как к родовому существу.
Правда, и животное производит. Оно строит себе гнездо,
жилище, как пчела, бобр, муравей и т. д. Но оно производит
лишь то, в чем оно непосредственно нуждается для себя
или для своих детенышей; оно производит односторонне,
между тем как человек производит универсально; оно
производит только под властью непосредственной физической
потребности, между тем как человек производит сам,
свободно от физической потребности, и впервые поистине
производит лишь в свободе от таковой; животное
производит только самого себя, между тем как человек
воспроизводит всю природу; продукт животного принадлежит
непосредственно его физическому телу, между тем как человек
свободно противостоит своему продукту. Животное
формирует лишь в меру и по потребностям вида, к которому
оно принадлежит, между тем как человек умеет
производить в соответствии с мерой каждого вида и повсюду умеет
прилагать внутренне присущую ему меру; человек поэтому
формирует также по законам красоты» (философско-эко-
номическая рукопись 1844 г.).
Художественная обработка предметов есть, таким обра-
16* 243
зом, один из способов освоения мира. Процесс
художественного творчества — это частный случай осуществления
идеи или цели в предметном мире, процесс «опредметчива-
ния» формирования. Но, в отличие от непосредственной
грубой формы освоения предмета, искусство начинается только
там, где в основе творческой деятельности лежит
универсальная мера, или, говоря более простым языком, где
предметы, а также их изображения в человеческой голове
не калечатся, не искажаются вмешательством посторонней
силы (произвольной тенденции, абстрактной идеи), но где
художник заставляет обрабатываемый материал говорить
свойственным ему языком, раскрывая присущую ему
внутреннюю правду. Эстетическое отношение к
действительности есть отношение внутреннего органического единства
с предметом, одинаково далекое и от абстрактной
созерцательной гармонии с ним, и от произвольного нарушения
его собственной диалектики. В такой форме это единство
не только не противоречит прогрессивному развитию
общественного производства, но является, напротив, его
высшим, духовным продуктом.
Хотя приведенный выше, относящийся к 1844 году,
отрывок еще несет на себе следы фейербаховской
терминологии, по существу в нем выражено главное отличие
материализма Маркса — идея производительной, чувственно-
предметной деятельности, примат производства над
потреблением. В то время как Фейербах везде, где он
касается художественной области, избирает в качестве
исходного пункта созерцание, Маркс постоянно
подчеркивает значение творческого начала, формирующего
эстетические потребности и выводящего их посредством
упражнения из состояния первоначальной грубости. Эстетическая
потребность и эстетически развитый субъект не даны с
самого начала как вечная антитеза телесной половины
человеческого существа, они не являются и порождением
•постоянно стремящейся вперед сверхматериальной силы, но
создаются в результате саморазвития материальной
общественной жизни, в результате возвышения действительного
эмпирического человека над своей собственной, навязанной
ему обстоятельствами, ограниченностью. Маркс выписывает
из «Эстетики» Фр. Теод. Фишера следующее интересное
замечание: «Два положения, что наслаждение прекрасным
244
совершенно непосредственно и что оно требует образования,
кажутся противоречащими друг другу. Но человек
становится тем, что он есть, приходит к своей истинной
природе только через образование (Bildung)».
Итак, вместе с развитием предметной деятельности, т. е.
материального производства, развиваются и наши
способности; «потребление выходит из своей первоначальной
грубости и непосредственности» и в свою очередь оказывает
влияние на производство, завершая его, «усиливая
способность производить, развитую в первом акте производства,
посредством повторения до степени искусства». Таково
диалектическое разрешение проблемы
субъективного в художественном творчестве и эстетическом
отношении к действительности. Здесь, так же как и в
материалистической теории познания, дело отнюдь не в абстрактных
отношениях, а в историческом развитии. Главное —
в переходе от нехудожественного к художественному, в
прогрессивном развитии наших способностей к творчеству
и пониманию благодаря самому духовному производству и,
прежде всего, благодаря расширению «предметного мира»
промышленности. Каменный топор, глиняная посуда,
клавишный инструмент представляют собой вехи в развитии
нашего видения, музыкального слуха, художественного
понимания в целом.
Однако средства и предметы производства не существуют
как таковые вне определенных исторических форм
общества. А это делает диалектику развития искусства в его
отношении к материальному производству еще более
сложной.
ХН
На первый взгляд может показаться, что с точки зрения
марксизма развитие материальных производительных сил
общества и художественное развитие протекают как бы
параллельно: чем выше общее состояние
производительных сил, тем выше и богаче по своему достоинству
искусство. Подобное разрешение вопроса мы находим у многих
авторов, писавших о марксистском понимании истории
искусства. Но такое понимание абстрактно, а потому
ошибочно.
245
Маркс сам достаточно определенно высказал свою точку
зрения в знаменитых афоризмах введения «К критике
политической экономии». Он говорит здесь о «неравном
отношении развития материального производства к
художественному». «Относительно искусства известно, что
определенные периоды его расцвета не стоят ни в каком
соответствии с общим развитием общества, а следовательно,
также и с развитием материальной основы последнего,
составляющей как бы скелет его организации. Например,
греки в сравнении с современными народами или также
Шекспир». Тот взгляд на природу, который лежит в
основании греческой мифологии и греческого искусства,
невозможен рядом с «Roberts et С°». рядом с знаменитым
банком «Crédit mobilier». «Возможен ли Ахиллес с порохом и
свинцом? Или вообще «Илиада» наряду с печатным
станком и типографской машиной? И разве не исчезают
неизбежно сказания, и песни, и музы, а тем самым и
необходимые предпосылки эпической поэзии, вместе с печатным
рычагом?»
Это место, неоднократно подвергавшееся различным кри-
эотолкам, кажется противоречащим материалистическому
пониманию истории. Либо искусство в своем развитии
следует за развитием производительных сил общества, и тогда
можно говорить о марксистском понимании истории
искусства, либо соответствия между ними нет, и тогда отпадает
всякая возможность применения исторического
материализма к искусству. Так или почти так нередко ставится
вопрос. Но ставить его так — это значит не понимать
основного в теории исторического материализма. Мы
сейчас увидим, что учение об исторически обусловленном
противоречии между искусством и обществом есть такой же
необходимый элемент марксистского понимания истории
искусства, как и учение об их единстве.
Процесс образования и развития потребностей,
исторический процесс «освоения» предметного мира не совершается
равномер но. «Освоение» мира происходит через
«отчуждение» человеческих общественных сил: вместе с
ростом свободы растет и сила естественной необходимости.
На эту-противоречивость прогресса давно обратили
внимание мыслители, уже самое перечисление которых завело
бы нас слишком далеко. В философии Гегеля этот величай-
246
ший факт мировой истории получил свое наиболее
абстрактное выражение. Историческое развитие, — говорит
Гегель,— не похоже на гармоничное восхождение, а скорее
на «жестокую невольную работу против самого себя!» Дух,
являющийся у Гегеля демиургом действительности,
находится в состоянии постоянной внутренней борьбы. Через
противоречие с собой и «отчуждение» он производит
самого себя. Поэтому эпохи счастья суть пустые страницы
в истории, а прогресс неизбежно связан с нисхождением
целых областей человеческой деятельности. Такова,
например, судьба искусства, в котором дух созерцает свою
сущность в еще не полноценной форме.
Но только в теории диалектического материализма,
являющейся идейным выражением коммунистической
революции пролетариата, проблема неравномерности
прогресса приобретает исторический характер. Для
Маркса «отчуждением» является не материально-чувственное
бытие вообще, а его определенная историческая форма —
Фетишистский мир товарного производства («продажа есть
практика отчуждения»,— писал Маркс еще в «Еврейском
вопросе»). Поэтому только в теории Маркса приобретает
научную постановку и разрешение вопрос об исторических
судьбах искусства.
Первая общая форма учения о неравномерности
исторического развития содержится уже в «Немецкой идеологии»
Маркса и Энгельса (1845—1846 гг.). Мы будем исходить в
дальнейшем из этого раннего изложения
материалистического понимания истории, переходя отсюда к последующим
работам Маркса. В величественном наброске первой части
«Немецкой идеологии» история рассматривается как
процесс образования и развития противоположностей.
Зарождение этих противоположностей относится к
доисторической древности, разрешением их может быть только
коммунистическая революция рабочего класса. «Предъистория
человеческого общества» является историей разделения
труда, отделения города от деревни и т. д. «Но разделение
труда становится действительным разделением только с
того момента, как выступает разделение материального
и духовного труда... Вместе с разделением труда дана
возможность и даже действительность того, что наслаждение
■-и труд, производство и потребление выпадают на долю
247
различных индивидов». Это создает основу для
противоречия между тремя моментами общественного процесса:
«производительной силой, общественным состоянием и
сознанием». Они «могут и должны притти в противоречие друг
с другом», и возможность разрешения этих противоречий"
состоит только в том, «чтобы было снова уничтожено*
разделение труда».
Но разделение труда имеет две стороны и две
исторические формы. Ни один из многочисленных социалистических
и эстетических писателей XVIII века, описывавших
бедственные последствия разделения труда, не сомневался
в том, что на первых ступенях своей истории это
разделение способствует развитию индивидуальных особенностей.
и талантов, представляя, таким образом, прямую
противоположность тому искалечивающему человека разделению
труда, которое заставило Адама Фергюсона сказать об
англичанах XVIII века: «Мы — нация илотов, и между
нами нет свободных людей!» Известный уровень разделения
труда есть историческое условие для развития
индивидуальности. Правда, современного буржуа это разделение
интересует лишь как «средство с тем же количеством труда
произвести больше товара, следовательно удешевить
товары и ускорить накопление капитала». Но в античной
древности разделение труда имело другое значение. «В
противоположность этому подчеркиванию количественной стороны
дела и меновой стоимости,— говорит Маркс,— писатели
классической древности обращают внимание исключительна*
на качественную сторону и потребительную стоимость.
Вследствие разделения общественных отраслей
производства товары изготовляются лучше, различные склонности
и таланты людей получают возможность найти себе
надлежащую сферу проявления, а без ограничения сферы
деятельности нельзя ни в одной области совершить ничего
замечательного. И продукт и производитель
совершенствуются путем разделения труда». Маркс цитирует при этом
различных древних авторов, начиная с автора «Одиссеи»:
«Люди не сходны,— те любят одно, а другие -— другое»
(«Капитал», т. I, глава XII, 5).
В античной форме разделения труда качественная и
количественная стороны относительно соразмерны: все роды
человеческой деятельности, все человеческие способности·
248
и таланты еще не подчинены абстрактно-количественному
принципу накопления капитала. Уже это одно способна
объяснить нам многое в вопросе о причинах высокого
художественного развития древности. Но это еще не
все.
В античном обществе личность уже освобождается от
общинно-родовых связей, но еще не становится
обособившимся индивидом развитого товарного хозяйства.
«Коллективность» (Gemeinwesen) и единичное лицо еще не
разошлись здесь так далеко, как в буржуазном обществе,,
где различные формы общественных связей выступают по
отношению к отдельной личности «просто как средство
для ее частных целей, как внешняя необходимость»
(введение «К критике политической экономии»). С другой
стороны, здесь еще не развилось и обезличивающее действие
механизма капиталистического общества, «превращающего·
человека в шляпу». Правда, греческое общество покоилось
на рабстве. Но свободному гражданину античной
республики было бы совершенно непонятно, каким образом
мощные орудия производства, которыми обладает
капиталистическое общество, превращаются в надежнейшее
средство «для того, чтобы все время рабочего и его семьи
обратить в рабочее время», а самого рабочего — в придаток к
машине. «Если бы,— мечтал Аристотель, величайший
мыслитель древности, — если бы каждое орудие по приказанию
или по предвидению могло исполнить подобающую ему
работу, подобно тому как создания Дедала двигались сами
собой или как треножники Гефеста по собственному
побуждению приступали к священной работе, если бы таким
образом ткацкие челноки ткали сами, то не потребовалось
бы ни мастеру помощников, ни господину рабов». И Анти-
патр, греческий поэт эпохи Цицерона, приветствовал
изобретение водяной мельницы для размалывания зерна, этой
элементарной формы всех производительных машин, как
появление освободительницы рабынь и восстановительницы
золотого века: «Дайте отдых своим рукам, о работницы,
и спите безмятежно! Напрасно будет петух извещать вас
о наступлении утра. Дэо поручила работу девушек нимфам,
и они легко теперь прыгают по колесам, так что
сотрясаемые оси вертятся вместе со своими спицами и заставляют
вращаться тяжелый жернов. Будем же жить жизнью отцов·
249
и оез труда наслаждаться дарами, которыми нас наделила
богиня». «Язычники! Да, язычники. Они, как открыл
проницательный Бастиа, а до него еще более премудрый Мак-
Куллох, ничего не понимали в политической экономии и
христианстве. Они между прочим не понимали, что
машина — надежнейшее средство для удлинения рабочего дня.
И если они оправдывали рабство одних, то лишь как
средство для полного человеческого развития других. Но для
того, чтобы проповедывать рабство масс для превращения
немногих грубых и полуобразованных выскочек в
«выдающихся прядильщиков» (eminent spinners), «крупных
колбасников» (extensive sausage-makers), «влиятельных
торговцев ваксой» (influential shoe-black dealers), для этого им
недоставало специфически христианских чувств»
(«Капитал», т. I, глава XIII, 3, в.).
Эти суждения об античном мире показывают, что
историческое противопоставление, проникающее собой работы
1841 — 1842 годов, не исчезло для Маркса и впоследствии.
Античность и :«христианский мир» (или мир «современных
народов») представляют собой и для зрелого Маркса два
противоположных типа. Эта антитеза унаследована им от
классической философии и эстетики, и от этого
наследства он никогда не отказывался. Отношение Маркса к
античности — «нормальному детству» человеческого
общества — объясняет нам и его взгляд на античное искусство,
которое по сравнению с новым выступает в известном
отношении как «норма и недосягаемый образец» (введение
«К критике политической экономии»). Это объясняет нам
также и личное преклонение Маркса перед такими
титанами античной поэзии, как Эсхил.
Тайна греческого искусства коренится в неразвитости
всех отношений менового хозяйства, которые здесь еще
Быступают в простейшей и зачастую наивной форме.
Общественно-производственный организм античного общества
несравненно более прост и ясен, чем
«чувственно-сверхчувственный» мир развитого товарного хозяйства. Расцвет
античной культуры и искусства покоится на
непосредственных отношениях господства и рабства. Маркс называет
античное государство и античное рабство «откровенными
классическими противоположностями», в отличие от
«лицемерных христианских противоположностей» современно-
250
to барышнического мира («Критические примечания к
статье «Король прусский и социальная реформа»).
Более точно выражаясь, экономической основой
античной культуры эпохи ее расцвета является мелкое
крестьянское хозяйство и производство самостоятельных
ремесленников: «...они представляют собой экономическую основу
классического общества в наиболее цветущую пору его
существования, когда первоначальное восточное общинное
владение уже разложилось, а рабство еще не успело
овладеть производством в сколько-нибудь значительной
степени» (-«Капитал», глава XI, примеч. 24). Этот способ
производства «достигает полного расцвета, проявляет всю
свою энергию, приобретает классическую,
соответствующую ему форму лишь там, где рабочий является свободным
частным собственником своих, им самим применяемых
условий труда, где крестьянин обладает полем, которое он
возделывает, ремесленник — инструментом, на котором он
играет, как виртуоз» («Капитал», т. I, глава XXIV, 7). Но,
во-первых, свободная мелкая собственность почти всегда
сочетается с рабством или крепостничеством. Во-вторых,
э^от способ производства «совместим лишь с узкими
традиционными границами производства и общества.
Стремление увековечить его равносильно, по справедливому
замечанию Pequeura, стремлению «декретировать всеобщую
посредственность». Классический тип мелкого производства,
стесняющий развитие производительных сил, неизбежно
должен отойти в прошлое, уступив место концентрации
собственности и обобществлению труда, хотя бы этот
прогресс и являлся «прогрессом на черепах». Упадок
древнего общества, а вместе с ним и классического искусства,
есть явление необходимое и прогрессивное. «А если это
гак, — говорит Маркс в своих «Письмах об Индии», — то
с точки зрения исторической перспективы мы имеем право
провозгласить вместе с Гете:
Если м^ка — ключ отрады,
Кто б терзаться ею стал?
Разве жизней мириады
Тамерлан не растоптал?»
«Длинный и мучительный процесс развития» отделяет
мелкое индивидуальное производство от коллективного
251
производства социалистического общества. Относительная
пропорциональность простого товарного хозяйства,
покоящаяся на неразвитости, уступает место гигантским
диспропорциям и антагонизмам нарождающегося капитализма.
Прологом к истории капитала служит концентрация
собственности в руках немногих и экспроприация народных
масс, движущими пружинами которой являются «самые
бесстыдные, грязные, отвратительные и мелочные страсти».
Все патриархальные отношения, личные, родственные и
общественные связи подвергаются разложению, и на их месте
утверждается единственная, но крепкая связь — господство
«бессердечного чистогана».
Производительные силы капиталистического общества, —
пишут Маркс и Энгельс в «Немецкой
идеологии»,—являются для большинства населения «разрушительными силами».
Таковы при капиталистическом хозяйстве «машинизм» и
«деньги». «Деньги — сами товар, внешняя вещь, которая
может стать частной собственностью всякого человека.
Общественная сила становится таким образом частной
силой частного лица. Античное общество поносит поэтому
деньги как монету, на которую разменивается весь
экономический и моральный уклад его жизни:
.. .Деньги—зло
Великое для смертных: из-за денег
Обречены на гибель города,
И отчий кров изгнанник покидает;
И, развратив невинные сердца,
Деяниям постыдным учат деньги,
И помыслам коварным, и нечестью.
Софокл, «Антигона».
(«Капитал», т. I, гл. III, примеч. За).
В деньгах стираются все качественные различия, и сами
они, «как радикальный левеллер», стирают всяческие
различия. Качество, форма, индивидуальность — все это
подчиняется безличной, чисто количественной силе. «Как мало
деньги, эта самая общая форма собственности, имеют
общего с личным своеобразием, как они просто-напросто
противоречат ему, Шекспир знал лучше, чем все наши
теоретизирующие буржуа:
Немного золота довольно для того,
Чтоб сделать все чернейшее белейшим,
252
Все гнусное — прекрасным, всякий грех —
Святою правдой: все низкое — высоким,
Трусливого — отважным храбрецом,
Все старое — и молодым и свежим.
Да, этот красный раб проказу
В милое созданье превратит.
Шекспир, Тимон Афинский»
(«Немецкая идеология*).
«Воззрение на природу, складывающееся при господстве
частной собственности и денег, есть действительное
презрение, практическое развенчивание, природы... презрение
к теории, искусству, истории, человеку как самоцели...
является действительно осознанной точкой зрения,
добродетелью денежного человека» («Еврейский ©опрос»).
Эта исключающая эстетическое понимание особенность
буржуазного общества коренится в самой сущности
товарного мира. «Прирожденный левеллер и циник, товар всегда
готов обменять не только душу, но и тело со всяким
другим товаром, хотя бы этот последний был наделен
наружностью еще менее привлекательной, чем Мариторна»
(«Капитал», т. I, глава II). Моральная и эстетическая индифе-
рентность товара как меновой стоимости выступает в
изречении старика Барбона, которого Маркс цитирует в
«Капитале»: «Всякий товар достаточно хорош, если он взят
в надлежащем количестве». «Меновая стоимость дворца
может быть выражена в определенном числе коробок ваксы;
наоборот, лондонские фабриканты выразили стоимость
множества коробок ваксы в своих дворцах» («К критике
политической экономии»). С точки зрения объективных
отношений капиталистического общества величайшее
произведение искусства равно лишь некоторому количеству
навоза. Количественная пропорция уже несущественна при
этом качественном уравнении.
Нивелирующая, безразличная ко всем индивидуальным
особенностям предметов и людей, сущность
капиталистического способа производства является прямой
противоположностью общественных отношений, существовавших в эпохи
расцвета искусства в прошлом. Отношения эксплоатации
человека человеком являлись на первых порах отношениями
личной зависимости. Земная власть и право распоряжаться
чужим трудом были неотделимы от внешнего образа и ин-
253
дивидуальных особенностей их носителя. Даже осанка и
образ речи, одежда и драгоценная утварь принадлежали
к атрибутам величия. Поэтому выезд Лоренцо Медичи или
пир в доме греческого царька могли служить объектами
живописи и поэзии. Но экономия капиталистического
общества уже не может быть описана в стихах, как экономия
античного общества была описана у Гезиода. На место
отношений личной зависимости стала зависимость
абстрактная, хотя отнюдь не менее реальная и жестокая. «В
буржуазном обществе капитал самостоятелен и личен,
трудящийся же индивид несамостоятелен и безличен». Вместе
с тем безличен и сам капиталист, представляющий только
«персонификацию» капитала.
XIII
Если античное общество исходит от специфического
качества вещи, ее потребительной стоимости, то в мире
капиталистических отношений господствует количество,
меновая стоимость. Качественное многообразие сводится
к простым отношениям количества. «Профанация природы»,
о которой говорит Маркс в подготовительных работах
к диссертации, получает в этом свое рациональное
объяснение. Вообще многое из того, что намечено уже в ранних
произведениях Маркса, приобретает в его экономических
работах дальнейшее развитие и перевод на язык
материализма..
Чрезвычайно интересно, что в период создания «К
критике политической экономии» Маркс снова обращается
к проблемам искусства, и притом к тем из них, которые
заставляют вспомнить идеи 1842 года. Внешним поводом
для занятий вопросами искусства послужило на этот раз
предложение Чарльза Дана написать статью об эстетике
для «Новой американской энциклопедии». Предложение это
показалось Марксу смехотворным, ибо, по плану Дана,
изложение предмета в энциклопедии должно было
ограничиться одной страницей (ср. письма Маркса и Энгельса от
23 и 28 мая 1857 года). Однако подробные эксцерпты
различных статей об эстетике в немецких и французских
энциклопедиях показывают, что Маркс считался с предложением
Дана всерьез. В той же тетради 1857—1858 годов, которая
254
содержит выписки из «Konversations-Lexikon» Мейера
и т. п., мы находим и обстоятельный конспект знаменитой
«Эстетики» Фридриха-Теодора Фишера.
Значительная часть выписок из Фишера посвящена
вопросу о взаимоотношении между естественной природой
предметов и их эстетическим значением. Последнее не
является природным свойством предмета. В его
вещественности нет ни атома того, что называют красотой.
«Прекрасное существует только для сознания,—излагает Маркс
Фишера.—Необходимость в прекрасном, благодаря которой
зритель в нем соположен». Красота есть поэтому
человеческое свойство, хотя оно кажется свойством самих вещей,
«прекрасным в природе». Это не значит, что
«эстетическое» чисто субъективно. Зная, какую роль в экономических
и философских взглядах Маркса играет понятие
субъективно-объективной производительной деятельности
человека, мы легко поймем значение следующего места из
Шиллера, которое Маркс приводит по книге Фишера: «Красота
есть одновременно предмет для нас и состояние нашего
субъекта. Она есть форма, ибо мы судим о ней, но вместе
с тем жизнь, ибо мы ее чувствуем. Она есть одновременно
наше состояние и наше деяние».
Как и эксцерпты боннского периода, выписки из книги
Фишера обнаруживают определенную тенденцию к критике
грубого натурализма, принимающего человеческое за
вещественное и обратно. Связь этого отношения Маркса к
вопросу об эстетической ценности с его раскрытием товарного
фетишизма и разрешением вопроса о субъективном и
объективном в экономии — слишком очевидна. Как и в
подготовительных работах для «Трактата о христианском искусстве»,
Маркса интересует в изложении Фишера не столько само
«эстетическое», сколько его прямая противоположность.
Но если в период 1841—1842 годов критика враждебного
искусству фетишизма представляла собой демократическое
отрицание «старого порядка», то в эпоху создания
«Капитала» категории и формы, стоящие на грани собственно
эстетического, интересуют Маркса по аналогии с
противоречивым и превратным миром категорий
капиталистического хозяйства. Нетрудно обнаружить связь эстетических
интересов с экономическими занятиями Маркса там, где
в отрывках о «возвышенном» он выписывает: все, что ука-
255
зывает на количественный характер этой категории (в
возвышенном «качественное становится количественным»),
тенденцию бесконечного движения, стремление к
колоссальному, выход из границ и нарушение «меры». «Чистая
форма всякой стороны жизни есть строго исходящая из ее
качества -и точно ограниченная мера отношений (данного)
образования. Эту меру превосходит возвышенное, оно
выходит в бесконечное, но должно одновременно удержать
форму или ограниченную меру. Форма, как граница, должна
остаться, погрузившись в ненадежное. Возвышенное—в
одном и том же оформленно и бесформенно. Темнота есть
отличительная черта всякой возвышенности (Берк)». Этот
интерес к «возвышенному» у Маркса, разумеется, не
случаен. Еще в подготовительных работах к диссертации он
говорит о «диалектике меры», за которой следует
господство «безмерного», противоречия и «разлад». В тетрадях
1844 года (философско-экономическая рукопись) понятие
безмерного приобретает уже более осязательное
значение. «Потребность в деньгах, — пишет Маркс, — есть
истинная, порождаемая политической экономией
потребность, есть единственная потребность, которую она
порождает. Количество денег становится все больше
единственным существенным качеством человека; подобно тому,
как он сводил все существа к абстракциям, так. и сам он
в своем собственном движении все больше сводится к
количественному существу. Неумеренность и
отсутствие меры становятся его истинной мерой».
В «Нищете философии» и «Капитале» «диалектика меры»
выступает в еще более развитой и научной форме. «Мера»—
это относительная пропорциональность простого товарного
хозяйства, являющегося исходным пунктом развития
капитализма, а неизбежным нарушением «меры» оказывается
сама капиталистическая эпопея, с ее диспропорциями и
антагонизмом между высшей формой производства и старым
способом присвоения. В капиталистическом обществе,
говоря словами Гегеля, господствует «безмерное как мера».
Безмерна тенденция к накоплению капитала — это
современная «хрематистика» в противоположность античной
«экономике» (Аристотель). Безмерна и в самой себе
непропорциональна, неравномерна самая основа
капиталистического прогресса—«производство ради производства». Эта
256
противоречивая форма развития производительных сил
прямо враждебна некоторым отраслям духовной
деятельности, как, например, искусству. Маркс с ясностью, не
допускающей кривотолков, говорит об этом в «Теориях
прибавочной стоимости». В духовном производстве, — пишет
Маркс,— производителен другой вид труда, чем в
материальном. Исследование связи данных видов производства и их
взаимоотношения «может выйти из области пустых фраз,
лишь когда материальное производство будет
рассматриваться sub sua propria specie (в его своеобразии)».
«Капитализму соответствует другой вид духовного труда, чем
средневековому способу производства. Так как Шторх
рассматривает материальное производство не с исторической
точки зрения, так как оно представляется ему
производством материальных благ вообще, а не данной,
исторически развитой и специфической формой этого
производства, то этим он сам вырывает у себя из-под ног почву,
стоя на которой только и можно понять как
идеологические составные части господствующих классов, так и
свободное (или «утонченное») духовное производство данной
общественной формации. Ему нет возможности пойти
дальше общих, бессодержательных фраз. И эти отношения
здесь вовсе не так просты, как ему казалось. Например,
капиталистическое производство
враждебно некоторым отраслям духовного
производства, каковы искусство и поэзия.
[Разрядка наша.—М. Л.]. Не понимая этого, можно притти
к выдумке XVIII столетия, осмеянной уже Лессингом: так
как мы в механике и т. д. ушли дальше древних, то почему
<5ы нам не создать и эпоса? И вот является «Генриада»
взамен «Илиады»!»
• Маркс подвергает суровой критике «общие поверхностные
аналогии и сопоставления между духовным и материальным
производством». Он осмеивает всякие попытки представить
художников, литераторов, экономистов «производительными
рабочими в смитовском смысле», так как они якобы
производят «не просто продукты sui generis (в своем роде),
а продукты материального труда и, следовательно,
непосредственно богатство». Все эти попытки показывают,
что «даже самые высшие виды духовного производства
получают признание и становятся извинительными в глазах
17 M. Лифшиц 257
буржуа только благодаря тому, что их изображают
прямыми производителями материального богатства и ложно
выдают за таковых».
Маркс с предельной ясностью высказал в этом отрывке
свои взгляды на место искусства в капиталистическом
обществе. Но какой вывод делает он из этого? Стремится ли
Маркс к восстановлению античных общественных
отношений в духе демократического идеала якобинцев? Зовет ли
он к утраченной пропорциональности прошлых веков, как
это делали писатели-романтики, как это делал Прудон?
Напротив. Величайшее значение теории Маркса состоит
именно в том, что она выходит за пределы
противоположности между апологией капиталистического прогресса и
романтизмом. Маркс понял, что именно
разрушительные силы капитализма являются величайшими
производительными силами. Уже в самом начале своею
развития прогрессивные капиталистические элементы выступают
как «вредная сторона общества» («Нищета философии»).
Но частный интерес, который первоначально является
«индивидуальным преступлением» по отношению к
обществу, становится источником новых, гораздо, более высоких
социальных связей. Общественная форма производства
развивается антагонистически, через свою прямую
противоположность— атомизацию и раздробление. Нищета,
«иродово избиение младенцев», вымирание целых народов и еще
многое другое — вот цена, которую приходится заплатить
человечеству за гигантские достижения
капитализма—обобществление труда и концентрацию производства.
«Буржуазный период истории призван создать
материальный базис нового мира: с одной стороны, мировые
сношения, основанные на взаимной зависимости отдельных частей,
и средства этих сношений; с другой стороны, развитие
производительных сил человека и превращение материального
производства в осуществляемое при помощи науки
господство над силами природы. Буржуазная промышленность и
торговля создают эти материальные условия нового мира
таким же образом, как геологические революции создали
поверхность земли. Лишь после того как великая социальная
революция овладеет результатами буржуазной эпохи —
мировым рынком и современными производительными
силами— и подчинит их'общему контролю наиболее про-
258
грессивных народов, — лишь тогда человеческий прогресс
перестанет уподобляться тому отвратительному идолу,
который хотел пить нектар из черепов убитых» («Письма
об Индии»).
Итак, отрицательное и положительное, прогресс и регресс
тесно связаны в историческом развитии человечества. Это
общее диалектическое понимание истории обусловливает и
взгляды Маркса на развитие искусства. Упадок
художественного творчества не отделим от прогрессивного развития
буржуазной цивилизации. Его высокий уровень в
прошлом был, наоборот, связан с неразвитостью общественных
противоречий. Рассмотрим в качестве примера отношение
средневекового ремесла к современному производству.
<чУ средневековых ремесленников,— пишет Маркс в
«Немецкой идеологии»,— наблюдается еще известный интерес к их
специальной работе и к искусству труда, который мог
подниматься до степени некоторого, ограниченного
художественного вкуса. Но поэтому же каждый средневековый
рабочий уходил целиком в свою работу; у него было к ней
отношение какой-то сентиментальной крепостной
зависимости, и он был гораздо более подчинен ей, чем
современный рабочий, относящийся1 равнодушно к своей работе».
Наемный труд при капитализме, исключающий всякий
интерес к работе и, следовательно, эстетическое отношение
к ее продукту, представляет собой явление прогрессивное
в точном и глубоком смысле этого слова. «Возьмем
заработную плату в самом предосудительном в ней, в том что
моя деятельность является товаром, в том, что я сплошь
становлюсь продажным... Благодаря этому исчезло все
патриархальное, так как лишь барышничество, покупка и
продажа являются единственной связью, денежное отношение
является единственным отношением между
предпринимателями и рабочими... Лучезарное сияние вообще перестало
окружать все отношения старого общества, так как они
превратились в простые денежные отношения. Точно так
же все так называемые высшие роды труда—умственный,
художественный и т. д. — превратились в предметы торговли
и лишились таким образом своего прежнего ореола. Каким
огромным прогрессом явилось то, что все функции
священников, врачей, юристов и т. д., следовательно религия,
юриспруденция и т. д., стали определяться лишь преиму-
17* 259
щественно по их коммерческой стоимости» (фрагмент
«Заработная плата»).
Та же самая причина, которая обусловливает
«презрение к искусству», внутренно присущее буржуазному
обществу, является могучим революционизирующим фактором.
Если буржуазия разрушает все «патриархальные,
идиллические отношения», если она сделала все продажным и
«превратила в меновую стоимость личное достоинство
человека», если она, наконец, «лишила обаяния все те
почтенные роды деятельности, на которые до сих пор смотрели
с ^благоговейным трепетом», — в том числе и деятельность
поэта, — то этот «нигилизм» буржуазного способа
производства есть его величайшая историческая заслуга. «Все
священное оскверняется, и люди вынуждаются наконец
взглянуть трезвыми глазами на свои взаимные отношения
и свое жизненное положение» («Коммунистический
манифест»). Развенчивание иллюзий и безжалостное
уничтожение «пестрых нитей», которые связывали индивидов в
прежних общественных формациях, необходимо и прогрессивно.
Оно является необходимым условием для создания подлинно
универсальной человеческой культуры. Уже в самом
капиталистическом обществе «прежняя местная и национальная
замкнутость и самодовление уступают место
всестороннему обмену и всесторонней взаимной зависимости
народов. И как в области материального, так и в области
духовного производства. Плоды умственной деятельности
отдельных наций становятся общим достоянием.
Национальная односторонность и ограниченность становятся теперь
все более и более невозможными, и из многих
национальных и местных литератур образуется одна всемирная
литература» («Коммунистический манифест»).
Следовательно, как бы ни казалось это парадоксальным,
упадок искусства в капиталистическом
обществе прогрессивен даже с точки
зрения самого искусства.
Учение Маркса о неравномерном развитии
художественной культуры по отношению к развитию общества в целом
тесно связано с его теорией социальной революции.
Диспропорция между художественным и общесоциальным
прогрессом отнюдь не является единственным противоречием
буржуазной цивилизации. Она сама покоится на более глубо-
260
кой и общей противоположности — между общественным
производством, вырастающим в недрах капиталистического
общества, и частным присвоением, сохранившимся еще от
эпохи мелкого производства. Относительная
«пропорциональность» классической формы мелкого производства была
основой расцвета искусства в прошлом. Естественно
выросшие из этой пропорциональности антагонизмы
буржуазного общества являются причиной нисхождения
художественного творчества как специфической формы
культуры. Наконец коммунистическая революция рабочего
класса образует необходимые условия для нового расцвета
искусств, но уже на гораздо более широком и развитом
базисе. Маркс изложил свое понимание этой исторической
диалектики в замечательной речи на юбилее чартистской
«Народной газеты» (19 апреля 1856 года): «Существует
характерный для XIX столетия факт, которого не станет
отрицать ни одна партия. С одной стороны, мы видим такой
расцвет промышленных и научных сил, о котором даже
подозревать не могла ни одна прежняя историческая
эпоха. С другой же стороны, наблюдаются признаки
упадка, перед которым бледнеют пресловутые ужасы
последнего времени Римской империи. В наше время каждая
вещь как бы чревата своей противоположностью. Мы
видим, что машина, обладающая способностью сокращать и
оплодотворять человеческий труд, приводит к голоду и
чрезмерной работе. Освобожденные силы богатства, по
страшной иронии судьбы, становятся источниками лишений.
Победы искусства куплены, повидимому, ценой потери
характера. Человечество становится господином над
природой, но человек делается рабом человека или рабом
собственной низости. Даже чистый свет науки может—так
кажется—светить, только оттеняемый темным фоном
невежества. Результатом всех наших открытий и всего
нашего прогресса является, повидимому, то, что
материальные силы приобретают духовную жизнь, а люди опускаются
до степени косной, тупой материальной силы. Это
антагонизм между современной промышленностью и наукой,
с одной стороны, и современной нищетой и разрухой —
с другой; это противоречие между производительными
силами и общественными отношениями нашей эпохи является
осязательным, бесспорным колоссальным фактом. Одни
261
партии могут скорбеть по этому поводу, другие могут
желать избавиться от современных успехов техники, лишь бы
избавиться вместе с тем от современых конфликтов;
первые могут фантазировать на ту тему, что такой
несомненный прогресс в хозяйственной области требует в виде
дополнения столь же несомненного регресса в области
политики. Мы же с своей стороны узнаем в этом лукавого
духа, который мощно работает над тем, чтобы преодолеть
все эти противоречия. Мы знаем, что новые общественные
силы сумеют творить благое дело, если они будут
располагать новыми людьми,—а ими являются рабочие».
Противоречие между возможностями, которые открывает
для искусства развитие производительных сил общества, и
тем положением, которое занимает искусство при
капитализме, есть частный случай обще-социальных противоречий
«буржуазного периода истории». Дальнейшая судьба
искусства и литературы тесно связана с разрешением этих
противоречий, а это последнее не может свалиться с неба.
Материалистическое понимание истории искусства не имеет
ни малейшего сходства с учением о неизбежной гибели
художественного творчества. Сами люди в процессе
революционно-критической переделки мира способны разрешить
все его якобы фатальные противоречия. Но это во
всяком случае должны быть «новые люди», как выразился
Маркс. «Ими являются рабочие». Удастся ли человечеству
устранить противоречие между его художественным и
экономическим развитием — может решить только борьба.
Эта борьба представляет собой одну из сторон классовой
борьбы пролетариата, а в настоящее время, кроме того,
одну из сторон борьбы двух мировых систем:
социалистической и капиталистической. Проблема дальнейшей
исторической судьбы искусства не есть абстрактный вопрос,—
это проблема искусства, проникнутого социалистическим
мировоззрением пролетариата. Как относился Маркс к
литературе, исходящей непосредственно от рабочего класса,
мы уже знаем из «Святого семейства».
Если Гете сравнивал историю человечества с фугой,
в которую один за другим вступают голоса различных
народов, то Маркс мог бы сказать то же самое о «голосах»
различных общественных классов, связанных с
определенными историческими формами производства. «История
262
всего существовавшего до сих пор общества есть история
борьбы классов». Это положение «Коммунистического
манифеста» основоположники марксизма умели применять и
к истории духовной культуры с огромным историческим
.-пониманием и без всякого схематизма. Мы уже знаем, как
относился Маркс к античному искусству, выросшему на
основе демократии рабовладельцев. Еще писатель XVIII века
Николай Ленге, которого Маркс считал гениальным,
доказывал, что положение наемного рабочего в буржуазном
обществе есть худший вид рабства. Именно по этой
причине Маркс и Энгельс, непримиримо враждебные ко
всякой апологии капитализма, всегда охотно демонстрировали
свое уважение к античной культуре и свре отрицательное
отношение к мещански-сентиментальной критике рабства,
под которой обычно скрывается восхваление так
называемого «свободного» труда на капиталистической фабрике.
С этой точки зрения понятно, почему Энгельс писал в
«Анти-Дюринге» : «Только рабство создало возможность более
широкого разделения труда между земледелием и
промышленностью и благодаря ему — расцвета
древнегреческого мира. Без рабства не было бы греческого
государства, греческого искусства и науки; без рабства не было
бы и Рима. А без основания, заложенного Грецией и Римом,
не было бы также и современной Европы. Мы не должны
забывать, что все наше экономическое, политическое и
умственное развитие вытекло из такого предварительного
состояния, при котором рабство было настолько же
необходимо, насколько и общепризнано. В этом смысле мы
имеем право сказать, что без античного рабства не было
<>ы и современного социализма».
В классовом обществе искусство и культура неизбежно
имеют классовый характер. Но различные общественные
классы играли в истории неравную, неодинаковую роль, как
в смысле общего прогресса культуры, так и в отношении
развития ее отдельных сторон. «Если гибель прежних
классов, например рыцарства,— писали Маркс и Энгельс,— могла
давать содержание для грандиозных трагических
произведений искусства, то мещанство, естественно, не может дать
ничего другого, кроме бессильных проявлений фанатической
злобы и коллекции санчопансовских поговорок и
изречений». Господствующей идеологией была всегда идеология
263
господствующего класса. Однако, руководствуясь этим
положением, Маркс и Энгельс никогда не упускали из видуу
что различные господствующие идеологии имеют
специфическую окраску, из которой уже сама по себе следует та
или другая степень интенсивности, то или другое
направление развития культуры. Вот характерный пример:
«Буржуазное общество настолько односторонне,—писал Маркс
Лассалю,—что в противовес ему сохраняют свое значение
некоторые феодальные формы индивидуальности». Но зато
Маркс неустанно подчеркивал революционную роль
буржуазии, лежащую, разумеется, совсем в другой области.
Представители феодальной земельной
собственности,—пишет он в одной из тетрадей 1844 года («Отношение
частной собственности»), — изображают своего противника,
буржуа, как «хитрую, всегда готовую к продаже,
маклерству, обману, своекорыстную, продажную, стремящуюся
к возмущениям, бессердечную и бездушную, отчужденную
от общежития и свободно торгующую им, ростовщичеству-
ющую, сводничающую, рабскую, льстивую, надувающую,
сухую, создающую конкуренцию, а потому и пауперизм г
преступную, производящую, питающую и лелеющую
разложение всех социальных связей денежную бестию без
чести, без принципов, без поэзии, без всего». В
противоположность этому буржуа указывает на «чудеса
индустрии», возникшие в новое, капиталистическое время. «Он
характеризует своего противника как непросвещенного
слабоумца, который на место морального капитала и
свободного труда ставит грубую неморальную силу и
крепостное право». Он изгоняет «его реминисценции, его
поэзию, его фантастику» «саркастическим перечислением
всех низостей, жестокостей, чванства, проституции,
бесчестия, анархии, бунта, очагом которых были романтические
замки». «Буржуазия разоблачила, что проявление грубой
силы, которой реакция так восхищается в средних веках,
имело свое естественное дополнение в самом праздном
тунеядстве. Только она показала, что может создать
деятельность человека. Она сотвооила совершенно иные
чудеса, чем египетские пирамиды, римские водопроводы и
готические соборы; она совершила совсем иные походы, чем
переселение народов и Крестовые походы»
(«Коммунистический манифест»). Эта высокая оценка роли буржуазии
264
отнюдь не противоречит тому презрению к буржуазному
торгашеству и продажному искусству, которое всегда
отличало Маркса.
Вернее, противоречие заложено в самом
господстве буржуазии как класса;
буржуазное общество создает огромное материальное богатство и
могущественнейшие средства развития культуры, но лишь
для того, чтобы наиболее ярко выявить свою неспособность
интенсивно использовать эти средства, а вместе с тем —
обнаружить ограниченность всякого развития культуры
в обществе, основанном на эксплоатации человека
человеком. При господстве буржуазии достигает наибольшего
развития исторически обусловленное (и потому вовсе не
вечное) противоречие между развитием производительных
сил общества и его художественным развитием, между
техникой и искусством, наукой и поэзией, между
огромными культурными возможностями и фактической
духовной нищетой. Выступая против буржуазии в качестве
ее могильщика, пролетариат с каждым шагом своей
классовой борьбы приближает общество к уничтожению
противоречий, унаследованных от всей прежней истории.
Отнимая у имущих классов политические и
экономические основы их превосходства, рабочий класс
уничтожает разделение общества на эксплоататоров и эксплоа-
тируемых; он закладывает основы для уничтожения
противоположности между городом и деревней, между
физическим и духовным трудом.
В процессе создания нового общества пролетариат
разрешает и противоречия культурного развития человечества.
В этой области его историческая миссия такая же, как и
в сфере материального производства. Через классовую
борьбу к бесклассовой культуре, через развитие искусства,
проникнутого глубоким и всеобъемлющим мировоззрением
пролетариата (и в этом — смысле через пролетарское
социалистическое искусство), к уничтожению неравномерного
отношения между обще-социальным и художественным
развитием, а тем самым к новому, не виданному еще
подъему искусства на самой широкой массовой основе. Таков
конечный смысл всех высказываний Маркса о литературе
и искусстве, его историческое завещание в этой области.
Те писатели, которые слова Маркса о неравномерности
265
художественного развития пытаются представить как
случайное замечание или—еще хуже—как «личное» мнение
Маркса, необязательное для каждого марксиста,
выбрасывают в сущности революционное существо марксизма.
Подобно низкой оценке художественного развития
буржуазного общества можно было бы удалить из марксизма и
низкую оценку буржуазной семьи, нравственности, критику
буржуазной демократии и т. д. Так поступали обычно
теоретики-буржуа, отделявшие «научное» в марксизме от
«субъективной оценки» действительности.
Революционная материалистическая диалектика Маркса
и Ленина покоится не только на учении о единстве всех
сторон общественной жизни, но и на признании их
противоречивого отношения и развития. Маркс чрезвычайно
высоко оценивал художественный уровень таких народов
древности, как греки. Но он был далек от
ложноклассицизма, от желания рядиться в тогу античности. Напротив,
переход от революционной демократии к коммунизму был
связан у Маркса с осознанием главной ошибки
якобинского крыла французской революции—стремления
возродить античные отношения на базе буржуазной экономии
(ср. «Святое семейство»). В «Восемнадцатом брюмера Луи
Бонапарта» читатель найдет замечательное указание Маркса
на то, что пролетарская революция не может даже
начаться, пока не исчезли подобные иллюзии. Но, с другой
стороны, основоположники марксизма не имеют ничего
общего и с такими апологетами капиталистического
прогресса, как их современник Юлиан Шмидт, восхвалявший
фабричную систему и деловой дух буржуазного общества
и осмеивавший великих поклонников классической
древности — Гете и Шиллера. Оплакивает ли Маркс высокое
развитие искусства в прошлом? Торжествует ли он по
поводу его упадка? Ни то, ни другое. Всякий переход к
более высоким, более развитым формам сопровождается
отрицанием; сознание этой разрушительной стороны
прогресса образует то, что в высказываниях Маркса о
греческом искусстве кажется оттенком пессимизма. Но
диалектика исторического развития не сводится к
отрицательному результату. Через противоречия и борьбу создается
новая, более высокая форма общественных отношений.
В истории есть не только «исчезновение», но и «исчезно-
' 266
вение исчезновения», как говорит Гегель. Не может быть
никакого сомнения в том, что взгляд Маркса на
исторические судьбы искусства имеет существенно
оптимистический характер. Это широкий диалектический взгляд на
совершающееся во времени, который через величайшие
бедствия и конфликты эпохи «цивилизации» умеет
рассмотреть неустанное движение вперед «лукавого духа»
мировой истории. «В тех знамениях, которые приводят в
смятение буржуазию, аристократию и злополучных
пророков регресса, мы открываем следы деятельности нашего
доброго друга, нашего Робина Гуда, старого крота,
так быстро работающего под землей,— мы узнаем
революцию».
Это тем более справедливо теперь, в эпоху кризиса
капиталистической системы, когда те «знамения», о которых
в пятидесятых годах прошлого столетия говорил Маркс,
повторяются в тысячекратном размере. Современные
«пророки регресса», типа Шпенглера, оказывают огромную
услугу империалистической буржуазии, изображая
послевоенный кризис капиталистической системы в качестве
гибели культуры вообще. Поэтому в современных
условиях особенно важно подчеркнуть, что в эстетических
взглядах Маркса нет ни грана от той воображаемой
«трагики искусства», о которой любят распространяться
фашиствующие профессора. Но, с другой стороны, точка
зрения Маркса не имеет ничего общего и с
либерально-позитивистской догмой о прямолинейном и равномерном
прогрессе, с которой воюют новоявленные пророки
империализма. Философским и эстетическим мировоззрением
Маркса был диалектический материализм, самое
всестороннее и богатое учение о развитии материальной
действительности и духовной культуры.
Теперь понятно и то сравнение человеческой истории с
жизнью индивида, которое встречается во введении «К
критике политической экономии». Маркс пишет здесь
следующее: «Трудность заключается не в том, что греческое
искусство и эпос связаны с известными общественными
формами развития. Трудность состоит в понимании того, что
они еще продолжают доставлять нам художественное
наслаждение и в известном смысле сохраняют значение
нормы и недосягаемого образца. Мужчина не может сделаться
267
снова ребенком, не становясь смешным. Но разве не радует
его наивность ребенка, и разве сам он не должен
стремиться к тому, чтобы на высшей ступени воспроизводить
свою истинную сущность, и разве в детской натуре в
каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его без-
искусственной правде? И почему детство человеческого
общества там, где оно развивалось всего прекраснее, не
должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда
не повторяющаяся ступень? Бывают невоспитанные дети и
старчески-умные дети. Многие из древних народов
принадлежат к этой категории. Греки были нормальными детьми.
Обаяние, которым обладает для нас их искусство, не стоит
в противоречии с той неразвитой общественной средой, из
которой оно выросло. Наоборот, оно является ее
результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые
общественные отношения, среди которых оно возникло и могло
только возникнуть, никогда не могут повториться снова».
Это сравнение «художественного периода» истории с
Детством или юностью человеческого общества имеет свою
длинную историю. Оно встречается в десятках вариантов
у самых различных писателей, от Платона до Гельдерлина,
от фантазеров-мистиков XIII столетия до некоторых
буржуазных писателей нашего времени. Что касается
Маркса, то у него это не более как образное сравнение,
унаследованное от классической немецкой философии. Оно
играет большую роль у Гегеля. В своих лекциях по
философии истории Гегель резюмирует свое понимание
развития в виде двух основных «категорий духа». Все, что
существует, теряет свою свежесть и подвержено
исчезновению. Но процесс развития на этом не останавливается.
На новой, более высокой основе происходит
возвращение молодости— die Verjüngung. Характерно однако,
что сам Гегель не выдерживает собственной схемы
развития. Он изображает восточный мир в качестве детства,
греческий — юности, римский — мужества, а «христиан-
ско-германский» мир современных народов — в качестве
«старости» мирового духа. Казалось бы, эта схема требует
продолжения: на известной ступени развития «стареющий
мир» должен уступить место новой «юности», новой
общественной форме, новому циклу исторического развития.
Но специфический характер гегелевской философии исто-
268
рии состоит именно в том, что, отступая от
диалектического метода, он вынужден закончить мировой процесс
эпохой «старости», т. е. современным буржуазным
обществом. «Природная старость есть слабость,— пишет
Гегель,— но старость духа есть его совершенная зрелость»
(«Philosophie der Weltgeschichte», Lasson, S 843).
Исторический путь народов закончен, остается только
осмысливать пройденные этапы.
Этот взгляд был подвергнут критике еще в эпоху
разложения гегелевской школы. Уже перед радикальными
гегельянцами стояла «проблема будущего» в тесной связи
с проблемой революции. Но действительное обоснование
перехода от «предъистории человеческого общества» к
новой, высшей общественной форме дает только марксизм.
Поэтому с полным правом можно сказать, что
исторический материализм вернул категории «Verjüngung» то
значение, которого лишил ее Гегель.
Но как примирить учение о расцвете культуры в
коммунистическом обществе с содержанием только что
приведенного места из введения «К критике политической
экономии»? Не содержит ли этот отрывок полного признания
невозродимости искусства? Такие выводы не раз делались
из замечаний Маркса, но эти выводы неправильны.
Манускрипт введения, к сожалению, обрывается именно там,
где вслед* за изображением безвозвратного ухода
греческого искусства в прошлое должно было следовать
обоснование возможности нового художественного расцвета. Но уже
по одной фразе из того, что набросано Марксом, мы можем
понять, сколь мало общего с элегией имеют его
исторические взгляды. Не должен ли мужчина,— спрашивает
Маркс,— «на высшей ступени воспроизводить свою
истинную сущность» (seine Wahrheit zu reproduzieren)? Это дает
нам ключ к пониманию подлинной мысли Маркса. Понятие
«воспроизведения» (Reproduktion) играло большую роль во
всей немецкой философии, включая Гегеля. У самого
Гегеля как в «Науке логики», так и в целом ряде других
произведений «репродукция» выступает как жизненный
процесс воспроизведения рода. Я воспроизвожу свою
сущность в ребенке, и таким образом заложенное в моей
жизни ее собственное отрицание в свою очередь подвергается
отрицанию. То же употребление этого понятия в примене-
269
нии к человеческой жизни мы находим у Маркса. Он
писал, например, еще в «Критике гегелевской философии
права» следующее: «Высшей функцией тела является
половая деятельность. Высшими конституционными
актами короля являются акты его половой жизни, ибо
этими актами он производит короля и продолжает
свое тело. Тело его сына есть репродукция его
собственного тела, сотворение королевского тела». В «Немецкой
идеологии» Маркс расшифровывает
фантастически-спекулятивное понятие «воспроизведения человеческого рода»
именно как исторический процесс перехода к коммунизму.
Мы могли бы привести еще много доводов в пользу той
мысли, что слова Маркса о «воспроизведении своей
истинной сущности» есть только традиционное, образное
выражение для третьей, высшей ступени диалектического
процесса. Учение об окончательном упадке искусства, которое
рисовалось наивной фантазии некоторых «истолкователей»,
никогда не было учением Маркса. Это лишь упрощенное и
схематизированное повторение идеалистической догмы о
безвозвратном нисхождении искусства в царстве чистого
разума, alias — буржуазном обществе. Но так как с точки
зрения марксизма буржуазным обществом история не
заканчивается, то и упадок искусства в исторических рамках
капитализма отнюдь не является последней ступенью
эволюции художественного творчества.
XIV
Историческая роль капиталистического способа
производства состоит в том, что он доводит до крайних пределов
противоречия общественного прогресса. Но вместе с тем
он создает почву для уничтожения всех этих неравномср-
ностей и антагонизмов. Мы видели, что возможность
противоречия между «тремя моментами»: «производительной
силой», «общественным состоянием» и «сознанием» —
заложена уже в самом разделении труда. Однако
общественное разделение труда — не вечная категория. Как
классовое деление общества оно уничтожается, как иерархия
профессий оно отмирает при переходе к
коммунистическому обществу. Но что означает этот переход для
художественного творчества? Не приведет ли он к уничтоже-
270
нию разницы между художественным и нехудожественным
в искусстве, подобно тому как в жизни устраняется
противоположность между художником и простым смертным?
И не означает ли коллективизм, вообще говоря, подавление
индивидуального своеобразия и таланта? Банальные
возражения буржуазных идеологов против коммунизма обычно
сосредоточиваются в этом пункте. Маркс и Энгельс
столкнулись с этими возражениями уже при критике книги
Штирнера «Единственный и его собственность». Штирнер,
один из родоначальников анархизма, различает
«человеческие» работы, которые могут быть организованы на
коллективных началах, и работы, противостоящие всякому
обобществлению, «единственные» и неповторяемые. Ибо
кто может заменить Моцарта или Рафаэля?
«Здесь, как и всегда,— пишут Маркс и Энгельс,— Санчо
(т. е. Штирнеру) не везет с его практическими примерами.
Так, он думает, что «никто не может сочинить за тебя
твоих музыкальных произведений, выполнить твои замыслы
в области живописи. Никто не может заменить работ
Рафаэля». Однако Санчо мог бы знать, что не сам Моцарт,
а другой музыкант написал большую часть моцартовского
«Реквиема», а Рафаэль «выполнил» сам лишь ничтожную
долю своих фресок».
«Он воображает, будто так называемые организаторы
труда хотят организовать всю деятельность каждого
индивида, между тем как именно они проводят различие между
непосредственно производительным трудом, который
должен быть организован, и не непосредственно
производительным трудом. Что касается этих последних видов труда,
то они не думают вовсе, как воображает Санчо, будто
каждый должен работать вместо Рафаэля, но что каждый,
в ком сидит Рафаэль, может беспрепятственно развивать
свое дарование. Санчо воображает, будто Рафаэль создал
свои картины независимо от существовавшего в его эпоху
в Риме разделения труда. Если бы он сравнил Рафаэля с
Леонардо да Винчи и Тицианом, то он увидел бы, что
творчество первого зависело в сильной степени от тогдашнего
расцвета Рима,, происходившего под флорентийским
влиянием, творчество Леонардо ■— от социальной обстановки
Флоренции, а Тициана — от совершенно иного
исторического развития Венеции. Творчество Рафаэля, как и друго-
271
го любого художника, было обусловлено сделанными до
него техническими успехами в искусстве, организацией
общества и разделением труда во всех странах, с которыми
находилась в сношениях его родина. Удастся ли индивиду
вроде Рафаэля развить свой талант, зависит от разделения
труда и созданных им условий образования людей».
«Штирнер здесь со своим прокламированием
единственности научного и художественного труда стоит далеко ниже
представителей буржуазии. Уже и в наше время -было
найдено необходимым организовать эту «единственную
деятельность». У Ораса Берне не хватило бы времени для
создания и десятой доли его картин, если бы он
рекламировал их как работы, которые «способен выполнить
только этот единственный». Огромный спрос в Париже на
водевили и романы вызвал к жизни организацию труда для
производства этих товаров, организацию, дающую лучшие
вещи, чем ее «единственные» конкуренты в Германии».
Итак, уже в самом буржуазном обществе делаются
попытки к организации высших форм духовного труда. «Впрочем,
ясно, что все эти основывающиеся на современном
разделении труда попытки организации приводят пока лишь
к весьма ограниченным результатам, являясь
прогрессивным шагом лишь по отношению к существующей до сих
пор раздробленности». Но эту так называемую «организацию
да» не следует смешивать с коммунизмом. В
коммунистическом обществе совершенно отпадают те «проклятые»
вопросы, которые связаны с противоположностью высоко
одаренных личностей и массы. «Исключительная концентрация
художественного таланта в отдельном индивиде и связанное
с этим подавление его в массе является следствием
разделения труда. Если бы даже при известных общественных
отношениях каждый индивид был отличным живописцем,
то это вовсе не исключало бы возможности для каждого
быть также и оригинальным живописцем, так что и здесь
различие между «человеческим» и «единственным» трудом
сводится к бессмыслице. Правда, при коммунистической
организации общества отпадают местная и национальная
ограниченность художника, вытекающая из разделения
труда, и замыкание художника в рамках какого-нибудь
определенного искусства, что делает его исключительно
живописцем, скульптором и т. д. Одно уже название его
272
леятельности достаточно ясно выражает ограниченность
его профессионального развития и его зависимость от
разделения труда. В коммунистическом обществе не
существует живописцев, существуют лишь люди, которые между
прочим занимаются и живописью».
Коллективизм не только не является подавлением
личного своеобразия, а напротив, образует единственную
прочную основу для всестороннего развития личности. Маркс
и Энгельс выразительно говорят об этом в «Немецкой
идеологии». Они хорошо понимали, что новый цикл
художественного развития может явиться лишь результатом по-»
литической победы пролетариата, уничтожения частной
собственности и развития коммунистических отношений.
Только этот процесс освобождает все силы, выработанные
человечеством под гнетом капитализма, для полного и
всестороннего развития. «Уничтожение частной
собственности представляет собой полное освоение всех
человеческих чувств и свойств». Новое общество,— писал Маркс
против «грубого» уравнительного коммунизма,— вовсе не
является «абстрактным отрицанием всего мира образования
и цивилизации». Оно оовсем не собирается
«насильственным образом устранить таланты». Напротив, «в рамках
коммунистического общества,— единственного общества,
где самобытное и свободное развитие индивидов не просто
фраза,— это развитие обусловливается именно связью
индивидов, связью, заключающейся отчасти в
экономических предпосылках, отчасти в необходимой солидарности
свободного развития всех и, наконец, в универсальном
характере деятельности индивидов на основе имеющихся
производительных сил. Таким образом, дело идет здесь об
индивидах на определенной исторической ступени
развития, а отнюдь не о любых случайных индивидах, не говоря
уже о неизбежной коммунистической революции, которая
сама есть общее условие их свободного развития. Сознание
индивидами их взаимоотношений также, конечно, станет
совершенно другим и не будет поэтому ни «принципом
любви» или самоотверженности, ни эгоизмом» («Немецкая
идеология»).
Коммунистическое общество устраняет абстрактную
противоположность между «трудом» и «наслаждением»,
а значит и столь чреватое последствиями противоречие
18 М. Лифшиц 273
между чувством и разумом, «игрой физических и
интеллектуальных сил» и «сознательной волей». Вместе с
уничтожением классов и постепенным исчезновением
противоположности между физическим и духовным трудом становится
возможным то всестороннее развитие целостного индивида.
о котором могли лишь мечтать лучшие представители об
щественной мысли в прошлом. Только коммунистическое
общество, в котором «ассоциированные производители
рационально регулируют свой обмен веществ с природой,
ставят его под свой общий контроль, вместо того, чтобы
напротив, он, как слепая сила, господствовал над ними», —
только это общество способно создать материальный базис
для «развития человеческой силы, которое является
самоцелью для истинного царства свободы». «Сокращение
рабочего дня — основное условие» («Капитал», т. III, ч. 2,
глава 48, III).
Итак, согласно учению Маркса, коммунизм создает
такие условия для развития культуры и искусства, перед
которыми должны побледнеть ограниченные возможности,
предоставленные узким слоям полноправных граждан
демократией рабовладельцев. «Искусство умерло. Да здравствует
искусство!» — таков основной мотив эстетических
взглядов Маркса.
XV
Учение о расцвете культуры и искусства в
коммунистическом обществе не является, конечно, исключительной
особенностью мировоззрения Маркса. Этот взгляд в известной
степени разделяли все теоретические представители социа^·
лизма, если оставить в стороне тех из них, которые вместе
с бабувистами допускали гибель искусства для торжества
всеобщего равенства. Но Маркс был прежде всего
революционером. Он прекрасно понимал, что общеисторическая
перспектива расцвета искусства в будущем не может
осудить современного писателя или художника на бездействие
и хилиастические ожидания «тысячелетнего царства».
Коммунизм для нас не идеал,— писали Маркс и Энгельс в
«Немецкой идеологии»,— а реальное движение. Марксистом
является только тот, кто признает, что путь к коммунизму
лежит через классовую борьбу, которая неизбежно приво-
• 274
дит к установлению диктатуры пролетариата. Маркс не мог
поэтому ограничиться указанием на «царство свободы» в
будущем, но должен был, кроме того, занять определенную
позицию по отношению к художественным явлениям
настоящего и наметить путь для художника, желающего
сделать свое творчество частью общепролетарского дела. Мы
уже видели, что проблема литературы, исходящей
непосредственно от пролетариата, отвечающей его классовым
интересам и его исторической роли, стояла перед Марксом
уже в эпоху «Святого семейства». В этом отношении
интересно, что Вейтлинг и Прудон пользовались первоначально
симпатиями Маркса именно вследствие их происхождения
из рабочего класса и связи с ним. В «Что такое
собственность» Прудона Маркс даже специально ценил
литературную сторону. В эпоху Маркса и Энгельса проблема
художественной литературы, неразрывно связанной с
революционной борьбой пролетариата, еще не выступила с такой
необходимостью и силой, как в настоящее время. И все же
тот теоретический штаб, который был сосредоточен в доме
Маркса в Лондоне, имел и свою литературную политику.
Исторические прозрения тесно переплетались здесь с
анализом и оценкой самых злободневных произведений
литературы и искусства. Некоторые данные для суждения об этой
стороне вглядов Маркса можно извлечь из его переписки
с Лассалем по поводу проблемы революционной трагедии.
Другим источником являются сведения об эстетических
вкусах Маркса, почерпнутые из воспоминаний, переписки
и т. п. Наконец, третьим источником могут служить
данные об отношении основатели научного коммунизма
к революционным поэтам: Гейне, Гервегу, Фрейлиграту,.
Веерту.
Письма Маркса, Энгельса и Лассаля по поводу
драматического произведения последнего «Франц фон Зиккинген»
относятся к весне 1859 года. Они представляют собой ряд
интересных политических документов, в которых
содержится скрытая оценка уроков немецкой революции 1848 года
и указания на тот путь, по которому должно было
пойти дальнейшее развязывание революционных сил с
точки зрения Маркса и Энгельса, в противоположность
взгляду Лассаля. Содержание трагедии «Зиккинген», написанной
на сюжег из времен крестьянских войн и рыцарских вос-
18*
275
станий XVI века, более или менее известно. В лице
Франца фон Зиккинген Лассаль хотел изобразить вождя,
который слишком поздно освобождается от традиций прошлого
и вследствие этого слишком осторожен и реалистичен в
своих расчетах. Эта «трагическая вина» приводит его к
утрате революционного пафоса, а вместе с тем к потерю
сторонников и к неизбежной гибели. Компромисс с
объективными условиями — такова, с точки зрения Лассаля, трагедия
всякой и в особенности немецкой революции. Его
Зиккинген является как бы изображением левого демократа
1848 года, недостаточно решительно противопоставляющего
свой революционный героизм «объективно сущему»,
окружающей его «косной массе». Такое понимание трагического
в революции приводит Лассаля к
абстрактно-демократической риторике, а его стилистическим образцом делает
Шиллера. Народные массы остаются в тени и выступают
скорее как элемент реакционный по отношению к
действующим и рассуждающим героям первого плана.
Попытку сделать предметом трагедии революцию Маркс
принял вполне сочувственно. Еще в конспекте
«Эстетики» Фишера, которую Маркс читал в 1857—1858 годах,
мы находим между прочим следующую выписку:
«Подлинной темой трагедии являются революции». Идея Лассаля
изложить уроки 1848 года в форме драматического
произведения также кажется Марксу чрезвычайно удачной.
«Задуманная коллизия,— пишет он Лассалю,— не только
трагична, но это и есть та трагическая коллизия, от которой
справедливо погибла революционная партия 1848—1849
годов. Я могу только поэтому выразить свое наивысшее
одобрение попытке сделать ее центральным пунктом
современной трагедии». В переписке Маркса и Энгельса с Лассалем
эта коллизия определялась как противоречие между
исторически необходимым революционным шагом и
практической невозможностью его осуществления. Такая коллизия
отчасти существовала для Маркса и партии «Новой
Рейнской газеты», поскольку революция 1848 года застала
немецкий пролетариат незрелым и политически
неорганизованным, в то время как ни одна из фракций буржуазии уже
не была способна к последовательному углублению
революции.
С точки зрения Маркса и Энгельса трагический элемент
- 276
в ситуации 1848—1849 гг. состоял в некотором объектив-
противоречии: буржуазия изменила революции, а
самостоятельная организация рабочего класса была еще слишком
слаба, чтобы не раствориться в обще-демократическом
движении и успешно подталкивать вперед революцию
низов (см. «Обращение к союзу коммунистов» 1850 г.). Ленин
впоследствии очень ясно видел этот недостаток положения
в 1848—1849 гг. по сравнению, например, с 1905 годом.
В русской революции с амого начала существовала
самостоятельная организация рабочего класса, и вообще гораздо
сильнее были «пролетарские черты движения, пролетарская
струя в нем» (Ленин, Собр. соч., т. VIII, стр. 125 и др.).
Напротив, движение 1848—1849 гг. в Германии, как и все
буржуазно-демократические революции, начиная с конца
средних веков, еще носило печать незрелости главного
руководителя народных масс — рабочего класса. «Раньше
обычно дело происходило таким образом, что рабочие
дрались во время революции на баррикадах, они проливали
кровь, они свергали старое, а власть попадала в руки
буржуа, которые угнетали и эксплоатировали потом рабочих.
Так было дело в Англии и во Франции. Так было дело
в Германии» (Сталин. Беседа с американской рабочей
делегацией). В этом и заключалась та историческая
трагедия, которую имели в виду Маркс и Энгельс.
Но для изображения этой коллизии совершенно не
годились такие герои, как Зиккинген и Гуттен. И Маркс ясно
указывает Лассалю на несоответствие между целью и
средством в его трагедии. Гибель Зиккингена, Гуттена или Геца,
разумеется, трагична, но это не трагедия революционеров.
Борьба рыцарей с княжеской властью есть «коллизия
средневековой героической эпохи с подчиненной законам
современной жизнью». Зиккинген погиб потому, что
отстаивал реакционные интересы и был революционером
только в своем воображении. Уже Гегель показал, что
нисхождение феодально-патриархального миропорядка являлось
основным содержанием как античной трагедии, так и
произведений Шекспира. Но Гегель не создал и не мог создать
учения о трагическом и революционном процессе
возникновения нового мира. Там же, где он обращается к этой
теме (например, в истолковании гибели Сократа),
революция представляется ему предметом трагедии только в смыс-
277
ле односторонности революционного принципа, который в
своем отрицании всего существующего становится так же
неправым, как и «старый порядок», и вследствие этого
ведет героя к гибели. Из этого взгляда естественно
вытекает мораль «примирения». Лассаль сделал попытку
поставить вопрос иначе. Но и для него трагическая коллизия в
революции сводилась к абстрактной противоположности
старых и новых сил, хотя, в отличие от Гегеля, он видел
трагическую завязку не в односторонности революционной
идеи, а наоборот, в том, что эта идея с самого начала
запятнана примирением.
Оспаривая мнение Маркса и Энгельса, Лассаль
усматривает «трагический» элемент ситуации 1848—1849 гг.
в противоречии между революционными целями
идеологов-вождей и оппортунистическими методам практической
борьбы.
Абстрактные революционеры примиряются с
объективными условиями, делают уступки окружающей их косной
массе и превращаются в «реальных политиков». В этом
перерождении и заключается, по мнению Лассаля,
трагедия всякой революции. Он как бы предвосхищает
всю позднейшую «философию» троцкизма.
В противоположность этому Маркс и Энгельс ставят
вопрос о трагическом в революционной ситуации на
историческую почву. Противоречия между «исторически
необходимых постулатом и практически невозможным
осуществлением» коренятся, с их точки зрения, не в антагонизме
между идеей и реальностью, а в объективном
противоречии между политической, идейной и организационной
слабостью революционного движения и исторической
необходимостью борьбы за власть.
Во всех революциях прошлого наряду с
официально-буржуазной верхушкой общества, а сплошь и рядом против
нее, действовали народные массы — городское плебейство,
рабочие и крестьяне. Но демократическая диктатура
народных низов даже там, где она осуществлялась, не могла
удержаться надолго. Историческая почва, на которой
совершалось народное движение, была еще очень незрелой,
а сама плебейская масса слишком слабой в политическом
и организационном отношении по сравнению с имущими
классами.
-278
Восстания плебеев и крестьян были
исторически-закономерны, но так же закономерны были те условия, которые
предопределили гибель таких людей, как Томас Мюнцер.
Эти люди питали немало иллюзий, но, выступая с борьбой
за свои идеалы, они не совершили никакой ошибки.
Их действия были исторически оправданы, и сами они
являли образцы революционною героизма. И все же на
той исторической ступени они могли победить, только
погибнув. Это — объективная трагическая коллизия.
Гибель Мюнцера или наиболее последовательного крыла
якобинцев была трагичной именно в этом
всемирно-историческом смысле и, поэтому, могла служить темой для
драматического произведения, написанного с точки зрения
коммунизма.
Разумеется, народные революционеры типа Мюнцера не
были свободны от известного ослепления. Они неправильно
понимали свое положение и преувеличивали свою
исторически-возможную роль в фантазии. Но было бы величайшей
пошлостью осуждать их революционные утопии. Это были
трагические иллюзии, порожденные объективной
неразвитостью ситуации. И эти иллюзии были в известном
смысле необходимы. Они помогали людям типа Мюнцера или
Бабефа извлекать революционный максимум из самой
безнадежной ситуации. Восставшие массы всегда должны были
заходить дальше цели, для того чтобы закрепить
революционные достижения на уровне, возможном для данной
эпохи. Поэтому иллюзии и заблуждения народных вождей
прошлого нужно отличать от всякого рода сектантства и
оппортунизма более поздних времен, как мы отличаем
трагедию от фарса.
Еще в «Еврейском вопросе» и «Святом семействе» Маркс
указал на трагедию якобинцев, которые хотели
восстановить античную Древность и создать царство
всеобщего счастья на земле, в то время как объективным
результатом их революционных мероприятий могло быть
только создание основ современного буржуазного
общества.
Теперь Маркс и Энгельс, в противоположность Лас-
салю, совершенно не исторически избравшему своим героем
Зиккингена, указывают на подлинную революционную
трагедию вождя крайней партии XVI века — Томаса
Мюнцера. В его лице потерпела поражение идея более высокого,
279
чем буржуазное общество, порядка, наткнувшись на
незрелые условия революционного движения в эпоху
Крестьянской войны и плебейских восстаний в городах.
G точки зрения Маркса и Энгельса судьба Томаса Мюн-
цера была наиболее подходящей темой для драматического
выражения противоречий и трудностей немецкой революции.
Но основоположники марксизма имели в виду не только
эстетическую проблему. Они хотели разъяснить Лассалю,
какова должна быть тактика коммунистов, т. е. π ρ о л е-
т а ρ с к и χ революционеров, для того, чтобы
демократическое движение народа в Германии XIX столетия не
превратилось в повторение исторической трагедии эпохи
Реформации. Анализируя опыт 1525 и 1848 гг., они
указывали на необходимость соединить пролетарское движение
с крестьянской войной, под руководством городского
пролетариата, который должен иметь самостоятельную
организацию, не растворяющуюся в организациях демократических.
В этом смысле Маркс и Энгельс подвергают самокритике
тактику «революционной партии» 1848—1849 гг.
Подчеркивая плебейско-мюнцеровскую
(«рабоче-крестьянскую» в переводе Ленина) струю в демократических
революциях прошлого в противоположность «официальным
элементам» общества, они хотели обратить внимание своей
партии на естественных союзников пролетариата.
Лассалю, который считал крестьянскую массу глубоко
реакционной и сосредоточил все свое внимание на шиллеровском
пафосе своих героев, Маркс писал между прочим
следующее: «Дворянские представители революции, за чьими
лозунгами о единстве и свободе все еще таится мечта о старой
империи и кулачном праве, не должны были бы поглощать
весь интерес, как это случилось у тебя;
представители крестьян (именно крестьян!) и революционных
элементов в городах должны были бы составить существенный
активный фон». Если бы Лассаль сумел выдвинуть и
оценить движение подлинно народных масс эпохи Реформации,
ему удалось бы «выразить в гораздо большей мере как раз
современнейшие цели в их чистейшей форме», между тем
как на деле у него «главной идеей является, наряду с
религиозной свободой, буржуазное единство». Другими
словами, выдвинув и подчеркнув плебейские элементы
революционного движения, которые всегда стремятся к чему-то
* 280
большему, чем буржуазное общество, Лассаль открыл бы
себе путь к изложению своих социалистических, а не
только демократических убеждений. Но это имело бы важные
последствия и для художественной формы и стиля
трагедии. «Тогда тебе пришлось бы,— пишет Маркс Лассалю,—
больше шекспиризировать, между тем как теперь
я считаю шиллеризирование, превращение
индивидов в простые рупоры духа времени, твоим главнейшим
недостатком». Смысл этого противопоставления Шекспира
Шиллеру здесь достаточно ясен. Стиль шиллеровских драм
выражает абстрактно-демократической пафос отвлечения
от материальных проблем революции, т. е. как раз то, что
составляло основной порок мелкобуржуазных демократов
1848 года. Требование шекспировского элемента в
трагедии есть не что имое, как требование исторической
конкретности, а эта последняя в трагедии, как и в политике,
означает полное и всестороннее развитие реальных
массовых интересов, поднятие наиболее глубоких пластов той
исторической почвы, на которой совершается
революционное движение в данную эпоху.
Таким образом, Маркс и Энгельс намечают специфически
новый тип трагедии. Ее содержанием являются не сумерки
богов и героев, как в классическом искусстве прошлого
(греки, Шекспир), а муки рождения нового порядка —
трагические коллизии в развитии революционного движения.
Материалом для этого типа драматических произведений
может служить обширный мартиролог героев и мучеников
революции. Наконец, художественная форма и стиль
революционной трагедии восходят к лучшим образцам
драматической литературы, к Шекспиру, в котором Маркс ценил
его глубокий исторический реализм и безбоязненное
погружение в мир разнообразных страстей и интересов,
являющихся движущей пружиной событий.
XVI
Перейдем теперь к сведениям о
литературно-художественных вкусах Маркса — второму источнику для
понимания его «литературной политики». Маркс читал
художественную литературу на самых различных языках, не
исключая и русского. Его литературные интересы находятся
281
в полном соответствии с общеисторическим взглядом на
развитие искусства, нам уже известным. Чтение Эсхила и
других классиков греческой литературы, культ Шекспира,
царствовавший в доме Маркса, являются естественным
следствием его отношения к классическим художественным
формам прошлого. К этой же группе фактов
относится и любовь к Данте, «Божественную комедию»
которого Маркс знал почти наизусть. Но он находил интерес
и в чтении современной ему литературы. Рассказывают,
что Маркс очень любил «романы», и в этой области его
симпатиями пользовались Дюма-отец и Вальтер Скотт
(«Old Mortality» последнего он считал образцовым
произведением). Выше всех романистов,— рассказывает Лафарг,—
Маркс ставил Сервантеса и Бальзака. О Бальзаке Маркс
собирался даже написать критическую статью после
окончания своих экономических работ. «По мнению великого
экономиста, Бальзак был не только бытописателем своего
времени, но также творцом тех прообразов-типов, которые
при Людовике-Филиппе находились еще в зародышевом
состоянии, а достигли развития уже впоследствии, при
Наполеоне III». Так пишет Лафарг. Переписка Маркса и
Энгельса обнаруживает этот огромный интерес к Бальзаку,
романы которого ставятся чуть ли не на одну доску с
«Коммунистическим манифестом». «Le chef d'oeuvre inconnu» и
«Melmoth réconcilié» Бальзака Маркс называет «двумя
маленькими шедеврами, полными превосходной иронии»·
С большим торжеством сообщает он Энгельсу о зачатках
теории прибавочной стоимости, найденных им в «Le curé de
village» Бальзака. Романы Бальзака были для Маркса
выражением объективных отношений и психологии целой
эпохи. Откровенность, с какой изображаются в этих рот
манах буржуазные общественные отношения, содержит в
себе implicite критику последних. В этом отношении
Бальзак подобен классикам политической экономии, но у него
есть немало элементов и сознательной критики
капитализма. Интересно отметить, что внимание Маркса привлекала
та. же ироническая фантастика Э. Т. А. Гофмана. Маркс
и Энгельс придавали особое значение его новелле
«Маленький Цахес» — ироническому изображению буржуазно-
филистерского мира и силы денег.
Но особенным расположением Маркса пользовались ро-
282
маны XVIII века, в частности произведения Фильдинга.
Своим любимым прозаиком Маркс сам называл Дидро.
Точно так же он глубоко ценил Лессинга, с которым сравнивал
нашего Добролюбова. Из поэтов нового времени Маркс
выше всех ставил Гете. Либкнехт рассказывает об
особенной привязанности Маркса к «Фаусту».
Все это принято относить за счет классицизма Маркса.
Но ставить на одну доску его отношение к грекам, с одной
стороны, и его оценку классических представителей
буржуазной литературы—с другой,—было бы чрезвычайно
поверхностно. Скорее, наоборот, признание безвозвратного
ухода античного искусства в прошлое является для Маркса
предпосылкой его обращения к классикам
буржуазно-демократического этапа революционного процесса. У таких
писателей XVIII века, как Фильдинг, Маркса привлекала та
непредвзятость, а иногда и цинизм, с которыми эти
представители прогрессивной буржуазии изображали отношения
нарождающегося капиталистического общества. «И, вероятно,
по той же причине Маркс с удовольствием читал последнего
представителя авантюрно-буржуазного романа в XIX
столетии—Поль деЖока. В лице Лессинга, Дидро, Добролюбова
он видел лучших публицистических представителей
революционного третьего сословия. Что касается Гете, то для
Маркса и Энгельса он был Гегелем мировой поэзии.
Основоположники марксизма ценили исторически-прогрессивный
характер его мировоззрения, защищая великого поэта от
немецких социалистических мещан типа Карла Грюна.
Путь буржуазной литературы от Дидро до Жюля Жане-
на, от Великой французской революции до эпохи
Луи-Филиппа Маркс сравнивает с «регрессивной метаморфозой»
физиологов. Подобно тому как политическая экономия
делится на «классическую» и «вульгарную», Маркс и в
области искусства проводит различие между двумя
аналогичными ступенями развития. Литературную пошлость,
отвечающую вкусам самодовольной и ограниченной буржуазии
эпохи расцвета ее общественного могущества, он
заклеймил в лице популярного английского поэта пятидесятых
годов Мартина Теппера (ср. так наз. «Исповедь» Маркса).
Мы уже знаем, как относился Маркс к романтическим
попыткам поднять эту пошлость на котурны благородства.
О таких писателях, как Виктор Гюго, он всегда говорил в
283
презрительном тоне. Подобное же отношение встречали с
его стороны всякие попытки сообщить эстетическую
видимость какому-нибудь узко националистическому
содержанию. Таковы насмешки Маркса над Фрейлигратом, которого
также коснулась волна патриотического угара во время·
Франко-прусской войны 1870 года. «Эстетику» Фридриха
Теодора Фишера Маркс не без интереса читал в
пятидесятые годы, но он третирует Фишера самым беспощадным
образом, после того как знаменитый гегельянец проделал свою
эволюцию к идеалам империи и пытался открыть источник
нового художественного расцвета в военно-политическом
могуществе Германии. По сходной причине Маркс самым
презрительным образом отзывается о Вагнере; он называет
вагнеровские торжества в Байрейте «дурацким
празднеством государственного музыканта Вагнера». Отвращение к
компромиссам с либерально-помещичьими идеалами в
искусстве было у Маркса так же велико, как и его
пристрастие к лучшим художественным образцам революционного
прошлого буржуазии.
Чем более отрицательно относился Маркс к
представителям торжествующей литературной пошлости, тем более
ценил он немногих подлинных поэтов, связавших свою
судьбу с революционным движением пролетариата. Маркс
находился в дружеских отношениях с Гейне и пользовался
большим уважением со стороны последнего. Периодом их
наибольшей близости была зима 1843/44 года, в Париже.
В это время Маркс оказал существенное влияние на своего
старшего друга, пробудив в его творчестве гораздо более
радикальные ноты. При всем различии между
революционной непримиримостью Маркса и слабой, колеблющейся
натурой Гейне, их связывала одна общая1 черта — то
положение в эмиграции, которое вызывало по отношению
к обоим обвинения в аристократизме. Тайной гейневского
«аристократизма» было его презрительное отношение к
назарейскому духу мистически настроенных портных и
демократических плотников. Эта черта была в высшей
степени свойственна и Марксу. Он не любил иконоборцев из
лагеря мелкобуржуазного социализма. Как человек,
понимавший более далекие и общие цели движения, Маркс мог
смотреть сквозь пальцы на такие особенности поведения
Гейне или Гервега, которые заскорузлым мещанам из не-
284
мецкой, эмиграции казались чем-то не совместимым с
моральной чистотой истинных избранников.
С Гервегом Маркс сошелся еще в эпоху «Рейнской
газеты». Это был период кратковременного расцвета
поэтического таланта автора «Стихотворений живого». Маркс
считал Гервега гениальным и ждал от него многого. Спор
из-за поведения Гервега был непосредственным поводом
для разрыва Маркса с Руге. Маркс старался привлечь
Гервега к Союзу коммунистов. Но поэт подпал под влияние
Бакунина и тевтонствующих элементов немецкой
эмиграции. Это решило и поэтическую судьбу Гервега, который,
за исключением немногих стихотворений, уже никогда не
поднимался до однажды достигнутой высоты.
Дружба с Фрейлигратом была более плодотворна. Она
началась сравнительно поздно — во время революции 1848
года. До этого времени Фрейлиграт был для Маркса и
Энгельса представителем враждебного лагеря или, по крайней
мере, путанной головой. В «Немецкой идеологии»
основоположники марксизма еще насмешливо отзываются о
стихотворном сборнике Фрейлиграта «Ça ira!». Они
критикуют в стихотворениях Фрейлиграта то прекраснодушное
понимание взаимоотношения различных общественных
слоев друг к другу и к государству, которое отличает поэзию
«истинного социализма». Но в 1848 году поэт испытал на
себе влияние Маркса и его группы. В произведения
Фрейлиграта проникают идеи и образы, навеянные статьями
Маркса и Фрейлиграта. Заметим только, что по мере пере-
« Новой Рейнской газеты», в которой он помещает свои
лучшие стихотворения. Однако поражение революции,
эмиграция, служба в конторе — все это привело постепенно
Фрейлиграта к погружению в болото обывательщины.
Принадлежность к партии даже в самом широком смысле он
ощущал на себе, как ярмо. Нас не интересует здесь
длинная, полная колебаний, история личных взаимоотношений
Маркса и Фрейлиграта. Заметим только, что по мере
перерождения последнего в интимных письмах Маркса к
Энгельсу учащаются насмешки над «благородством» и
«поэзией», которые все более становятся маской для
филистерских нравов семейства Фрейлиграт. «Кажется, что
профессиональная поэзия есть просто маска для самого сухого
прозаизма», — пишет Маркс Энгельсу 8 января 1868 года.
285
Настоящее негодование вызывает у Маркса публичное
попрошайничество Фрейлиграта (подписной лист в его
пользу, распространявшийся в Германии), его примирение с
отечественной буржуазией и патриотическое «Hurra!
Germania!»
Lieber war ich ein Kätzchen und schrie Miau
Als solch ein Versballadenkrämer.
Так заключает Маркс оценку жалкого финала поэтической
карьеры Фрейлиграта (письмо к Энгельсу от 22 августа
1870 года).
Маркс умел забывать о личных недостатках своих
сторонников ради общепартийных интересов, но он никогда
не прощал принципиальных компромиссов с мещанством
как вне, так и внутри революционного движения. Эта
непримиримость навлекла на него со стороны Меринга упрек
в недостаточно чутком отношении к свободе поэтического
гения. Но Маркс еще при жизни привык к обвинению в
желчном и неуживчивом характере. Подчеркивая из
оппозиции к обществу «выдающихся колбасников» свое
преклонение перед искусством античного мира, презрительно
третируя литературную пошлость и обращаясь к лучшим
традициям революционной буржуазии, всегда готовый оказать
поддержку поэтам-революционерам, но непримиримо враж^
дебный по отношению ко всяким отклонениям от общей
политический линии, Маркс занимал в XIX веке в высшей
степени своеобразную позицию. Можно, не преувеличивая,
сказать, что за исключением Энгельса никто из близких
сотрудников и последователей Маркса не усвоил себе
полностью его взглядов на явления духовной культуры вообще
и в частности на художественное творчество. Мы знаем
теперь, как мало понимали Маркса даже такие люди, как
Вильгельм Либкнехт.
Для основателей германской социал-демократии, с их
склонностью к компромиссам и оппортунистическими
ошибками, Маркс и Энгельс были во многом людьми
старомодными. Их убеждение в правильности диалектического
метода, так же как постоянно подчеркиваемое уважение к
вышедшему в то время из моды Гегелю, казалось
представителям нового поколения лишь добродушным чудачеством
«стариков». К рассказам о таких чудачествах относятся,
286
без сомнения, и все воспоминания о культе Шекспира,
Эсхила, Данте в доме Маркса. Гневно-революционный и
саркастический дух этого противопоставления величайших
образцов духовного творчества—психологии буржуазного
торгашества, противопоставления, столь глубоко
характеризующего Маркса, совершенно утрачивается в
мемуарах младших современников. Остается классицизм,
лишенный всякого революционного острия, старческая
привязанность к тому, что признано образцом в силу
гимназической и университетской традиции.
Вместе с либеральными идеалами вообще, в рабочее
движение эпохи II Интернационала нашел себе дорогу и
тот бесцветный академизм, который после разложения
гегелевской эстетики стал самым популярным видом
эстетической идеологии имущих классов. Все хорошо в свое
время, всякое произведение достойно высокой оценки, если
оно отвечает известным формальным требованиям.
Культурная работа германской социал-демократии, насквозь
проникнутая духом дешевых изданий классиков «для
народа», знала лишь выбор между этим классицизмом в
академическом смысле и крайним натурализмом
полудекадентской литературы конца XIX века (дискуссия на готском
партейтаге 1896 года).
Но революционное мировоззрение Маркса и Энгельса не
имеет ничего общего с либерально-академическим идеалом
в литературе и искусстве, как, впрочем, и с его анархо-
синдикалистской противоположностью. Этого никогда не
могли понять такие люди, как Карл Каутский,
предъявляющий к искусству лишь требование умеренности и
развлечения от жизненной скуки. Литературно-художественные
взгляды Меринга никоим образом не идут в сравнение с
безвкусными рассуждениями о роли искусства у Каутского,
рассуждениями, которые напоминают временами
эстетические трактаты XVIII века, хотя совершенно лишены
остроумия, свойственного писателям этого столетия. Меринг —
подлинный революционер, но он навсегда сохранил в своем
мировоззрении остатки мелкобуржуазного демократизма и
«шиллерианства».
Очень много сделал для выяснения марксистского
понимания искусства Г. В. Плеханов. Но и в его статьях перед
нами скорее «историк культуры», правда, большего стиля,
287
чем Шурц или Липперт, «социолог» более глубокий, чем
Тэн, но все же не последовательный
революционер-диалектик типа Маркса. Связь меньшевизма Плеханова с
глубокими принципиальными недостатками его понимания
марксизма совершенно неоспорима.
Только основоположник и вождь большевизма В. (И.
Ленин продолжил в эпоху империализма и пролетарских
революций ту линию, которую Маркс и Энгельс начали в
период выделения рабочего класса из
буржуазно-демократического движения. Мы имеем счастье жить в такое время,
когда пророческие предсказания Маркса и Ленина о
могучем подъеме культуры вместе с уничтожением «дикого
зверя» капитализма вступают в стадию осуществления.
К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ МАРКСА
(1883-1933)
14 марта 1883 года ушел от жизни человек, которому
суждено было пользоваться привилегией особого рода.
Это — привилегия ненависти, которую питали к
нему все господствующие слои старого общества. Умер
гениальный мыслитель и страстный борец против всех форм
угнетения и ограниченности. «Человечество стало на целую
голову ниже»,— писал Энгельс в Америку немецкому
коммунисту Зорге.
Многие памятные даты привлекали общественное
внимание за последние годы. Никогда еще не было столько
юбилеев. Никогда еще память великих мыслителей и
художников прошлого не была так неразрывно связана с борьбой
сегодняшнего дня. В этом переплетении истории и
современности сказывается потребность нашей эпохи подвести
некоторые итоги тому циклу общественного развития,
замечательными представителями которого были Спиноза и
Гете, Гегель и Вагнер. Буржуазия учредила официальные
празднества в честь людей, носивших эти имена, она
использовала все средства пропаганды для того, чтобы
доказать, что современная культурная реакция есть высшее
развитие их идей; министры и депутаты покидали
правительственные канцелярии и парламентские кресла для
того, чтобы произносить речи во славу гегелевского
«примирения противоположности» или гетевского
«самоотречения». Но в честь великого вождя пролетариата — Карла
Маркса имущие классы его родной страны подготовили
19 М. Ляфшиц 289
празднества совсем другого рода. Это чествование огнем и
кровью лучше всего показывает, кем является Маркс как
всемирно-историческая личность, в отличие от самых
передовых мыслителей буржуазного периода истории.
В самом деле, как бы ни были различны мыслители
этого периода, их объединяет одна общая черта. Все они.
восставали против существовавших в их время жизненных
условий, замечая их отрицательные стороны, проклиная их
неразумие и узость. И все же каждый из них в большей
или меньшей степени пережил момент надлома и
следующего за ним самоотречения. За «периодом бури и
натиска» наступала минута раскаяния, когда суверенный
разум преклонялся перед естественным порядком
жизни и падал ниц перед неумолимой логикой
обстоятельств.
Существует старая поверхностная манера объяснять
всякое «примирение с действительностью» (а история
общественной мысли знает немало примеров подобного
«примирения»), ссылкой на трусость и прислужничество. И то и
другое играет немалую роль в истории. Но по отношению
к великим умам и сильным натурам, каков, например,
Гегель, подобная ссылка ничего не объясняет. Их падение
есть скорее результат «ложности их принципа», как
однажды выразился Маркс, результат ограниченности той
ступени развития науки и жизни, которую они
представляли.
Уже Декарт в своем «Рассуждении о методе» сравнивает
общество с городам, в котором здания возникли стихийно
и в беспорядке, а революционера—с человеком, который
задумал бы сразу и коренным образом перестроить весь
город, разрушив его до основания. Правда, дом,
построенный по единому плану,—говорит «рационалист» Декарт,—
бывает обычно лучше и красивее. Но подобная перестройка
целого города вызвала бы еще больший беспорядок, чем
тот, который существует. «Великие общественные
организации могут быть восстановлены лишь с большим трудом,
если они ниспровергнуты; их также трудно поддержать,
если они колеблются, и их падение всегда очень тяжело.
Что же касается их недостатков, то с течением времени
они всегда смягчаются, и даже многие из них, которым
нельзя пособить никакими разумными средствами, неза-
290
метно устраняются или улучшаются; наконец, такие
недостатки в конце концов сноснее, чем их преобразование».
Каков бы ни был ум человека, неразумная стихия
разумнее самого разума. «С этим дело обстоит
так же, как с большими дорогами, извивающимися между
горами и благодаря ежедневному пользованию ими
постепенно делающимися настолько удобными, что лучше
следовать по ним, чем избирать прямой путь, карабкаясь по
скалам и спускаясь на дно пропастей». Уже в этих словах
заложена идея, выраженная позднее Лейбницем: из всех
возможных комбинаций фактов, естественно сложившаяся
комбинация есть наилучшая, «наш мир есть лучший из
миров».
Таковы эти так называемые «рационалисты», создавшие
настоящую апологию иррационального, мыслители, успевшие
доказать, что целесообразность существующего миропорядка
заключается в его стихийном происхождении, что всякое
зло лишь оттеняет красоту добра и что именно в самых
нечистых стремлениях, гнездящихся в потемках
человеческого общества и человеческого сознания, следует искать
то «неуловимое нечто» (je ne sais quoi), на котором
основана вся красота и гармония мира.
От Макиавелли и Гоббса идет политический вариант
этой общей идеи, сводящейся к оправданию сильной
власти, откуда бы она ни происходила. Гоббс мало
заботился о господской морали и прочих эстетических
атрибутах современного фашистского воспевания силы. Его
философия проникнута человеконенавистнической
иронией. С мрачной улыбкой советует он правителям покрепче
давить человеческую породу—этих грязных и
корыстолюбивых «иеху» Джонатана Свифта. Власть одного подлеца,
на троне—это лучший выход из всех возможных. Впрочем,
если народ задушит правителей, то и на это есть свое
основание.
Другая форма преклонения перед «обстоятельствами»
получила свое классическое выражение у
послереволюционных английских либералов типа Шефтсбери-внука. Идея
разумности неразумного приобретает у них
эстетический характер. Механике сталкивающихся в
открытой борьбе сил противопоставляется идеал
органического, насыщенного традициями и лиризмом, неза-
19* 291
метного улучшения человеческого общества.
Самопроизвольность душевных движений, свобода моральной и
эстетической индивидуальности («гения»), отрицание внешних
правил и проповедь внутренней гармонии с окружающим—
таковы те романтические эффекты, которые либералы
противопоставляют революции, грубой, выворачивающей
человека наизнанку для того, чтобы подчинить его
общественному контролю. Нет и не может быть лучшего устройства
общества, чем то, которое возникло не вследствие
искусственных построений, а в результате искусства самой
природы вещей. Тайна обращения к природе во всей фило-
софско-эстетической литературе XVil II века заключается
именно в этом восхвалении стихийной закономерности
человеческих связей, по отношению к которой все созданное
«искусством» поверхностно и непрочно. Открытие природы
в XVIII веке было открытием «естественной»
закономерности капиталистического развития. Солнечная система
буржуазного хозяйства уже выступила из первоначальной
туманности и обнаружила свое движение, казавшееся
современным писателям столь же непогрешимым, как движение
часового механизма. Экономисты этого времени
переживают восторги первой любви, описывая удивительную
систему производства и потребления, складывающуюся
вопреки всем преобразовательным планам революционной
эпохи и создающую такую «симпатию вещей», такую
координацию действий разобщенных производителей, какая и
во сне не снилась реформаторам и утопистам. Музыканты,
как Гендель, слагают оратории в честь этой всеобщей
гармонии. Поэты воспевают единство частного эгоизма и
общественной пользы, погружение в индивидуальную жизнь
и стихийную близость к вселенскому миропорядку. Как бы
ни были различны человеческие страсти и интересы, все
они являются кирпичами гигантского здания «всеобщей
мировой фабрики», и все хорошо, что на своем месте.
Знаменитый английский поэт этого времени Поп выразил эту
идею в звучных стихах своего «Опыта о человеке»:
Особой страстью каждый одержим,
Никто не хочет стать другим.
Ученый счастлив, мир весь об'ясняя;
Дурак счастливей, ничего не зная.
Богач в избытке счастье обретет,
292
Бедняк доволен тем, что бог пошлет.
Слепец танцует, и поет хромой,
Лунатик царствует, а пьяница — герой.
Голодный химик к золоту стремится,
Поэт и с музой счастлив насладиться.
Таким образом, в каждом из этих мыслителей и поэтов
была частица вольтеровского доктора Панглоса: «Все есть
так, как есть, и иначе не может быть, чем оно есть»;
«Свиньи созданы для того, чтобы мы их ели, и вот мы
действительно едим свинину»; «Ноги созданы для того, чтобы
носить штаны, и мы действительно носим штаны». Даже
французские материалисты XVIII века, эти энергичные
борцы со всяким средневековьем, любили доказывать, что
их критические нападки имеют своей задачей не
нарушение «естественного закона», а наоборот, утверждение
собственности и морали на более прочной основе. Горе
тому, кто, вооруженный самыми лучшими намерениями,
пожелал бы вмешаться в царство естественных законов
человеческого общежития, более сильных, чем сам человек!
Эту святость естественного течения обстоятельств
драматическая поэзия выражает в образе трагического
рока. Возьмем в качестве примера то произведение
немецкой драмы, которое принято считать аутентичным
выражением освободительных стремлений немецкой
буржуазии: это «Разбойники» Шиллера.
Уже здесь содержится в сущности вся программа
немецкой идеалистической философии конца XVIII и начала
XIX века. Франц Моор — величайший мошенник, человек,
готовый продать отца и брата ради могущества и власти, не
верующий ни в бога, ни в чорта, а только в богатство, этот
произносящий речи в честь гольбаховской морали «эгоист»
представляет у Шиллера общество, основанное на частной
собственности и деньгах. Ему противостоит брат его
Карл — натура благородная, но необузданная. Изгнанный
благодаря проискам брата, преследуемый властью, Карл
Моор с шайкой удальцов восстает против существующего
порядка. Он играет роль «доброго разбойника», защитника
бедных. Однако, достигнув вершины мести, он приходит
к сознанию своей греховности. Карл Моор оставался
правым в своем отрицании мира до тех пор, пока это
отрицание было чистой идеей, Но, взявшись за оружие, он должен
293
был связаться с прохвостами типа Шпигельберга и
выступить в качестве материальной силы против порядка вещей,
разумность которого от него самого скрыта. В этом его
«трагическая вина». И вместо того чтобы перейти от
разбоя к более высоким формам борьбы, он должен, по
замыслу Шиллера, искупить свою вину, отдавшись в руки
правосудия.
Кто к истине идет стезею преступленья,
Тому и в истине не ведать наслажденья,—
так писал Шиллер позднее, имея в виду французскую
революцию. Так вообще критиковали революцию немецкие
писатели этого времени. Они признавали «идеальность»
ее устремлений, но еще более склонялись перед правом
существующего, которое идет своим лутем, в то
время как идеал еще только возможен. Наивысшей
ступени, которой, вообще говоря, достигали мыслители этого
периода, была, выражаясь хорошо понятным нам языком,
философия «самотека». Гегель изобразил эту силу
естественного саморазвития обстоятельств в виде «миро-
вого духа», пользующегося для осуществления своих целей
всей совокупностью противоречивых интересов. На долю
человеческого ума остается лишь постижение «хитрости»
мирового разума, и притом после того, как его загадочные
комбинации уже осуществились в жизни.
Эта сверхиндивидуальная сила обстоятельств имела не
только свою философию, но и свою эстетику.
Представление об одностороннем, абстрактном и непоэтическом
характере революционной борьбы, уничтожающем все
традиционные узы и властно срывающем покрывало с ужасного
лика истины (Шиллер, «Истукан в Саисе»), в той или
другой степени обще всем мыслителям до Маркса и Энгельса.
Реакция действовала всегда не только силой оружия, она
подкупала людей образования и культуры не только день
гами и положением, но привлекала их, пуская в ход
«красоту смирения», противопоставляя бунтующему сознанию
свои готические соборы, базальтовые глыбы и рыцарские
замки или идиллию мирной буржуазной жизни, задушевной
патриархальности нравов и обычаев. Она манила к себе
мыслителей и поэтов всем богатством освещения,
возникающим в сумерках, под сводами церкви, пугала их про-
294
заическим дневным светом революции. Вспомним, как
действовали эти соблазны даже на таких людей, как Гейне.
Еще в середине XIX века один из «гегелевских диадохов»,
Фр. Теод. Ф'ишер, автор знаменитой «Эстетики», писал:
«Революция хочет делать историю, но деланная
история не эстетична».
И действительно, революция мало заботилась об
«эстетике». Первые движения плебейско-пролетарских слоев
направлены не только против имущих, но и против всего
мира цивилизации и образования, так или иначе
связанного с богатством. «Философии наслаждения» имущих
классов народные массы противопоставляли идеал
всеобщей равной бедности. В эпоху Савонаролы их гнев
обрушивается на языческое свободомыслие господствующих,
а вместе с тем на статуи, картины и прочие предметы
наслаждения флорентийских патрициев. В эпоху Кромвеля
они разрушают театры и предают бичеванию актеров.
Вместе с бабувистами они готовы воскликнуть: «Пусть
погибнут, если нужно, все искусства, лишь бы нам
осталось действительное равенство».
«Эта аскетическая строгость нравов,—писал Энгельс,—
это требование отказа от всех удовольствий и
наслаждений жизни, с одной стороны, воздвигает против
господствующих классов принцип спартанского равенства, а с
другой— является необходимой переходной ступенью, без
которой низший слой общества не может притти в
движение. Чтобы развить свою революционную энергию, чтобы
осознать свое враждебное положение по отношению ко
всем остальным общественным элементам, чтобы
объединить себя как класс, низший слой должен начать с отказа
от всего, что еще может примирить его с существующим
общественным строем, отречься от тех немногих
наслаждений, которые еще делают на время выносимым его
угнетенное существование и которых не может лишить его
даже самый тяжелый гнет».
Вопрос об искусствах как средстве смягчения нравов и
предотвращения революции оживленно обсуждался во всей
философско-эстетической литературе XVIII века. «Науки,
литература и искусства, — говорил Руссо в первом из
своих знаменитых «Рассуждений»,—обвивают гирляндами
цветов сковывающие людей железные цепи, сдерживают
295
в них естественное чувство свободы, для которой они,
казалось бы, рождены, заставляют их любить свое рабство
и создают то, что называется просвещенным народом.
Необходимость воздвигла троны, науки и искусства их
утвердили. Сильные мира сего, любите таланты и
покровительствуйте обладающим ими!» г
Господствующие классы всегда тенденциозно
преувеличивали те случаи, когда вражда угнетенных к их
угнетателям переносилась и на предметы культуры,
находившиеся в исключительном пользовании богатых. За счет
плебейского аскетизма, явившегося у народных масс лишь
переходным моментом на пути прояснения их классового
сознания, официальные историки нередко относили все
нелепости пуританства,— этой религии накопления и
буржуазного скаредничества. Они забывали указать на
другую сторону дела, на то замечательное
обстоятельство, что как бы ни был подавлен и далек от образования
народ, он все же всегда оставался сувереном не только
в области языка, как заметил уже Вико, но и в области
поэзии. История искусства и литературы еще покажет
в дальнейшем народные истоки всего великого, что
создано художественным творчеством.
Но если изображение революции масс в качестве нового
1 Руссо имел основание написать эту фразу. Послушаем, как
обосновывает необходимость «приятных искусств» запоздалый
поклонник физиократов, сгарый дворянский сатир, князь Дмитрий
Голицын (в своей книге «О духе экономистов, или экономисты,
защищенные от обвинения в том, что своими принципами они
заложили основу революции», цит. по немецкому переводу с
рукописи 1798 года): «Скука и печаль есть мелленно действующий яд;
дикари и варвары, лишенные приятных искусств, печальны и
скучают; постоянная печаль и скука делают их неудовлетворенными
своей жизнью, и эта неудовлетворенность умножает их
неспокойный характер, их буйство, их дикость и влечение к жестокости.
Все, что служит для того, чтобы сократить нам время и сделать нас
более веселыми, приносит что-нибудь для нашего счастья.
Благодаря закону любви к удовольствиям мы принуждены сделать самих
себя счастливыми, создавая себе ощущения приятные. Таким
образом отправление приятных искусств предписано естественным
законом и есть для нас настоящий долг» (стр. 228). Зная, что на
философском языке XVIII века «народ» и «дикарь>—это синонимы,
не трудно понять истинную мысль Голицына. «Приятные искусства»,
предписанные «естественным законом», как пресловутые римские
зрелища, отвлекают низшие слои от возмущения.
296
нашествия гуннов есть злобная политическая карикатура,,
то все же несомненно, что народные движения и развитие
философии, науки, искусства происходили до сих пор, во
всей прежней истории, разными путями.
Рост и усложнение «холопской иерархии профессий»,
союз образования и богатства наложили печать
ограниченности на все развитие духовной культуры. Оборотной
стороной этого явления был стихийный характер движения
народной массы. Конечно, не следует забывать, что
общественное разделение труда производит не только
ограниченность, но и борьбу с этой ограниченностью. Мыслители и
поэты прошлого не раз достигали величайших вершин
культуры. Но это происходило именно там, где им
удавалось услышать глухой подземный гул от движения
миллионов; искусство и литература, как Антей, умножали свои
силы от соприкосновения с землей. Таковы великие
русские художники дворянского происхождения — Пушкин и
Толстой, у которых много действительно народных
элементов.
И все же формы протеста против узости общественных
отношений в прошлом сами имели односторонний и
ограниченный характер. В мире культуры и образования
возникали гигантские системы философии, желающей проникнуть
в разумное основание совершающегося, или глубоко
художественные картины жизни, правдиво изображающие ее
внутренние конфликты, но как бы в форме загадки, и не
без мистического трепета. С другой стороны, протест,
исходивший снизу, там, где он возвышался над
индивидуальным преступлением, принимал форму стихийных
восстаний. Народ писал свои поэмы огнем и железом, герои
его трагедий умирали на лобном месте или в застенках
тайных канцелярий.
Полное слияние революции и культуры подготовлялось
в высшей степени противоречиво. Если великие умы
прошлого питали суеверное почтение по отношению к
«хитрости мирового разума», приписывая ему способность все
уладить или, по крайней мере, все объяснить, то это имело
свое, исторически-ограниченное основание. Этим
основанием была незрелость революционной обстановки их
собственного времени и тот действительно немаловажный
факт, что стихийное расширение мирового рынка и связан-
297
ные с этим перевороты в общественных отношениях
действовали объективно гораздо революционнее, чем самые
смелые заговорщики. Но революционные массы имели свое
основание относиться с подозрением и ненавистью к
«законникам», придворным литераторам и живописцам,
«образованным людям», состоящим на содержании у богатых, к
ученым обитателям летающего острова Лапута. Еще во
времена моей молодости,— писал Энгельс,— немецкие
коммунистические ремесленники относились подозрительно ко
всякому человеку с образованием, относя его к эксплоа-
таторам. Если мужицкий царь Пугачев приказал
повесить астронома Ловица «поближе к звездам», то
возможность этой жестокой иронии была дана уже в самом
факте разрыва между наукой и народной жизнью. Там,
где действуют слепые силы, есть, вообще говоря,
широчайшая почва для всякого рода неразрешимых коллизий.
Смерть Лавуазье на гильотине или полемика Робеспьера
против Пристли и всех вообще «ученых» и «философов»
на первый взгляд является просто печальным
недоразумением. Но с более общей точки зрения очевидно, что за
этим недоразумением скрывается столкновение прав,
историческое противоречие, которое до определенного
времени оставалось как бы неразрешимым.
Всемирно-историческое значение личности Маркса
состоит именно в том, что он соединил в себе две основных
линии, по которым шла подготовка нового, подлинно
человеческого общества. Маркс является в такой же мере
наследником Спинозы, Лейбница, Гегеля, как и
продолжателем дела Спартака, Мюнцера и Бабефа. Учение и
практическая борьба Карла Маркса лишены той печати
ограниченности, которая лежит на произведениях и действиях
его великих предшественников. Аскетизм и вражда к
образованию в рабочем движении уже приняли в его время
сектантски-реакционный характер. Маркс и Энгельс
немало воевали с «узколобными ремесленниками» (Strau-
binger'bi), с теми косматыми мелкобуржуазными
революционерами, которых Гейне осмеял в образе медведя («Атта
Троль»). Маркс вскрыл причины и развитие противоречия
между миром культуры и непосредственно трудящейся
массой; он обосновал необходимость союза
коммунистического движения с наукой и искусством. Марксистский ана-
298
лиз буржуазной экономии показал, что так называемый
стихийный разум общественного развития приводит в
конце концов не к мировой гармонии, а напротив, к самым
бессмысленным противоречиям. Подлинным разрешением
этих противоречий является практическое уничтожение
той узкой общественной оболочки, в рамках которой
развивались все творческие силы человеческого общества в
течение его «предъистории». Это осуществляет диктатура
пролетариата.
Маркс прекрасно понимал, что все признаки
внутреннего падения, которое испытывает художественное
творчество в капиталистическом обществе, тесно связаны с
колоссальными противоречиями буржуазного периода
истории. Они имеют поэтому 'исторически преходящий, а не
абсолютный характер. Коммунистическая революция
пролетариата исторически необходима не только с точки
зрения практических нужд рабочего класса, но и для всего
дальнейшего развития всей совокупности человеческой
культуры. Таковы были взгляды Маркса, и вот почему
ненависть, которую питают к нему господа и слуги старого
общества, им вполне заслужена.
Пятьдесят лет борьбы революционного пролетариата,
протекшие после смерти Маркса, развеяли ореол святости
вокруг буржуазной формы общественного развития; уже
сами господствующие классы вынуждены говорить о
явлениях упадка, превосходящих «пресловутые ужасы
последних времен Римской империи». С другой стороны,
результатом этого бурного пятидесятилетия явилась
предсказанная Марксом победа пролетариата.
В нашей стране идея Маркса приняла реальные
очертания. Дело Маркса и Ленина, их теория, их искусство
побеждать нашли себе дальнейшее развитие в работе
Сталина. Остатки эксплоататорских классов быстро идут ко
дну под ударами пролетарской диктатуры. Пережитки
капитализма в сознании трудящихся отступают под
натиском новых, коммунистических норм общественного
поведения, и эти последние победоносно прокладывают себе
дорогу в быт, обычай и чувства людей. Большевизм
победил самый страшный пережиток
капитализма в сознании—идиллическую веру в естественное
течение вещей, в автоматизм общественного развития, в ми-
299
стическое руководство человеческой историей «сверху»
(«Von oben herab», по известному выражению Канта). Эта
старая философия и поэзия «самотека» в настоящее время—
смердящий труп. Помешать движению соскользнуть на
старый, испытанный путь разрыва между человеческим
разумом и стихийным развитием фактов, помешать нашей
революции завершиться «похмельем», как не раз завершались
революции прошлого,— эта колоссальная задача была по
плечу лишь миллионам новых людей, поднявшихся в огне
революции над сзоим прежним положением, руководимых
партией во главе с человеком, который мог бы написать
на своем знамени слова Данте:
Нас ждет под'ем и круче и длиннее,
Не здесь ли уж ты хочешь отдохнуть?
Пойми меня и в путь пустись;скорее.
ЛЕНИН И ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ1
(О КНИГЕ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО)2
I
Всякое движение вперед,—· говорит Гегель,— есть вместе
с тем «возвращение к первоосновам». История марксизма
оправдывает это положение. Учение Ленина было
дальнейшим развитием теории Маркса и Энгельса. Но это
движение вперед отбросило массу ложных новшеств, внесенных
в марксизм оппортунистами, и сообщило новый блеск
первоосновам марксизма. Гениальные замечания Маркса о
диктатуре пролетариата, о подкреплении пролетарской
революции крестьянской войной, о первой стадии
коммунизма приобрели вполне соответствующее им значение
благодаря работе Ленина.
Гигантское движение масс к социализму, предсказанное
Лениным, но развернувшееся вполне уже после его смерти,
было бы невозможно без дальнейшей разработки основ
ленинизма Сталиным. В свете новых завоеваний теории и
практики коммунизма наследство Ленина обнаружило все
богатство заключавшихся в нем возможностей. Каждый шаг
победоносной политики партии был вместе с тем отчетли-
1 «Большевик» 1934 г., № 11 (с сокращениями).
2 Научно-исследовательслий институт литературы и искусства
Коммунистической академии мри ЦИК СССР. А. В.
Луначарский, Ленин и литературоведение, изд. «Советская литература»,
М. 1934.
301
вой вехой на пути ко все более глубокому пониманию*
и распространению его в массах. Процесс овладения ленин
ским наследством в области литературы и искусства
может служить одной из иллюстраций этого
положения.
Наше идеологическое развитие во всех областях науки
и искусства тесно связано с общим ходом классовой
борьбы в стране. Партия разрешила труднейшую задачу
пролетарской революции — завоевание непролетарских
трудящихся масс на сторону социализма. Великие перемены,
происшедшие в основной массе населения страны —
крестьянстве, не могли не произвести своего действия на
настроения художественной интеллигениции: писателей, художников,
артистов, — которые всегда более или менее ясно
отражали колебания этих многомиллионных слоев. Под
влиянием успехов нашего строительства подавляющее
большинство писателей и художников также перешло на сторону
социализма. Понадобилась новая форма художественных
организацией, созданная решением ЦК от 23 апреля 1932 f.
Если прежде в центре литературной жизни стояло
внешнее отношение между особой организацией пролетарских
писателей и кругами «попутчиков», то теперь центр
тяжести перешел на внутреннюю работу в рамках Союза
советских писателей. Задачи коммунистов, работающих в
области литературы, не уменьшились, но так же, как в
деревне после победы социалистического строя, чрезвычайно
возросли. Из задачи агитации за коммунистическое
мировоззрение (соединявшейся иногда в практике РАПП'а с
простым администрированием) они выросли в задачи
внутренней воспитательной работы и заботливого выращивания
социалистической художественной литературы.
Новые организационные формы принесли с собой много
нового и в области теории. Решение ЦК поставило перед
всеми работниками литературной науки задачу
пересмотреть обычные приемы своей работы. Как критика, так и
история литературы пережили освежающее действие
новых перспектив, открывающихся с высоты практических
завоеваний социалистической культуры. В результате
обнаружилось, что многое из теоретического наследства
Маркса и Ленина было усвоено наспех и неправильно; многим
пришлось переучиваться заново, кое-кому еще придется.
302
Движение вперед и здесь заключало в себе момент
«возвращения к первоосновам».
Для того чтобы сделать вполне наглядным теоретическое
значение решения ЦК от 23 апреля, возьмем следующий
пример. Резолюция ЦК ввела в употребление понятие
«советский писатель». С точки зрения многих теоретиков
литературы пройденного периода такая терминология
вообще не правомерна, как «внеклассовая». У нас еще
недостаточно разъяснено, что отрицательные стороны практики
РАШТа в доброй своей части покоились на нелепой
вульгаризации марксизма так называемой «социологией
литературы» (и «социологиейискусства»). Марксизм требует, чтобы
всякое идеологическое явление изучалось в свете
взаимоотношения всех классов общества, чтобы оно оценивалось
с точки зрения «общего хода и исхода классовой борьбы
пролетариата» (Ленин). Так называемая социология
ограничивала свою задачу классификацией художественных
произведений по определенным общественным группам
(«подведение социальной базы»). Вся ее премудрость сводилась к:
тому, чтобы прикрепить данное произведение к
определенному классу, снабженному эпитетом «поднимающийся»,
«молодой», «упадочный» и т. д. Следы этой
псевдомарксистской социологии до сих пор еще видны в наших
учебниках и программах по истории литературы, где учащийся
находит весьма небольшое количество сведений об
индивидуальных своеобразных особенностях того или другога
писателя, но очень много ничего не говорящих или
даже просто бессмысленных «социальных
характеристик» \
С этой точки зрения понятие «советский
писатель» должно показаться недостаточно «классовым».
Само собою разумеется, что советский писатель — это не
писатель буржуазный или мелкобуржуазный, хотя бы он
в прошлом действительно принадлежал к этим кругам и
1 Наподобие, например, следующих: Гоголь — представитель
«передовой группы помещиков-барщинников», его
творчество—«литература передовых групп крепостнического дворянства,
отстаивающая основы феодализма», «творчество Замойского, как ведущий
отряд революционно-крестьянской литературы» и т. д. и т. п.
Выписываем первые попавшиеся определения из программы по
литературе для школ ФЗУ, изданной НКП в 1932 году).
303
хотя бы в настоящем он еще сохранил в своем
мировоззрении те или другие пережитки буржуазного сознания.
С другой стороны, термин «пролетарский писатель» также
we всегда уместен. Значит ли это, что, употребляя
понятие «советская литература», партия прибегает к чисто
агитационной условности, забывая о классовом характере
идеологии? Так могут думать только люди, считающие
агитационной фразой слова о рабоче-крестьянском
правительстве, о святости народной собственности, о мирной
политике советской власти, о честном колхозном труде и т. д.
Так могут думать люди, имеющие лишь самое
схематическое представление о марксизме, не понимающие всего
многообразия переходных состояний и форм,
которые не отрицают борьбу основных классовых сил
современности, а только подчеркивают ее сложный и
многосторонний характер. Советский писатель — это представитель
художественной интеллигенции, стоящий на позициях
социализма и работающий над тем, чтобы
художественно осмыслить социалистическую действительность
и овладеть коммунистическим мировоззрением рабочего
класса.
Само собой разумеется, что пресловутое отыскивание
«социального эквивалента» здесь более чем недостаточно.
Новые организационные формы нанесли последний удар
лево-меньшевистской социологии абстрактных классовых
типов, ярко представленной в прошлом Переверзевым, но
сохранившейся в скрытом виде и позднее. После того как
в течение ряда лет родословную марксистской науки об
искусстве было принято вести от Тэна и других
буржуазных социологов, наши исследователи литературы и критики
впервые по-настоящему обратились к произведениям
основоположников марксизма-ленинизма. К этому времени
были собраны, опубликованы, отчасти и теоретически
освещены подлинные суждения Маркса и Энгельса. В
результате некоторые абстрактные положения, пользовавшиеся
ранее незаслуженным признанием, оказались
дискредитированными.
Возьмем несколько примеров. Известно, что с точки
зрения диалектического материализма всякое поступательное
развитие художественного творчества определяется
общесоциальным развитием и в последнем счете развитием про-
304
изводительных сил общества. Понимая это положение
абстрактно, очень легко впасть в апологетический тон по
отношению к буржуазному прогрессу. Отсюда уже
недалеко до мысли, что всякий художественно выраженный
протест против буржуазной цивилизации является чем-то
«романтическим», а значит — «реакционным» и
«упадочным». На этом основании, как известно, некоторые
умники наложили опалу на таких композиторов, как
Шопен.
Другой пример. С точки зрения философии марксизма
художественная ценность произведения искусства
обусловлена в последнем счете глубиной его содержания. Понимая
и это положение абстрактно, очень легко притти к выводу,
что ценность художественного творчества того или другого
писателя прямо пропорциональна его теоретическому
развитию. Отсюда пресловутое требование к художнику —
прежде всего приобрести книжное знание марксизма,
а затем уже писать романы.
Вся эта мнимо-марксистская схематика, находящаяся в
противоречии с опытом, мирового искусства, покоится на
одной и той же старой ошибке. Отношение искусства к
действительности, художественного творчества к работе
мышления, развития искусства к развитию
производительных сил, техники, науки — рассматривается слишком
отвлеченно, как прямолинейное и равномерное движение. Это
механическое представление о развитии было отвергнуто
еще Марксом и Энгельсом. «Вопреки претензиям
«прогресса»,— писал Маркс против Бруно Бауэра,— всегда
замечаются случаи регресса и кругового
движения... Категория «прогресса» лишена всякого содержания
и абстрактна...» \
Действительно, Маркс и Энгельс показали, что все
развитие культуры в прошлом совершалось в высшей
степени неравномерно, подчиняясь закону
антагонистических противоречий. Говоря о литературе и искусстве,
основоположники марксизма всегда подчеркивали, что
между обще-социальным и художественным развитием, между
прогрессом науки и успехами искусства существует
непропорциональное отношение, которое само является частным
1 Собр. соч., т. Ill стр. 107.
20 М. Лифшиц 305
случаем общих противоречий буржуазной культуры. На
примере Гете и Бальзака Маркс и Энгельс показали, что
мировоззрение великих художников прошлого отнюдь не
было цельным и последовательным, а наоборот, отличалось
характерной двойственностью. Эта двойственность их
творчества была отражением действительных жизненных
противоречий, которые в дальнейшем развитии породили
борьбу пролетариата за низвержение старого строя и
привели в конечном счете к социалистической переделке
общественного бытия и сознания.
В произведениях Маркса и Энгельса содержится общее
учение о противоречиях буржуазной культуры и намечен
путь их разрешения в коммунистической революции. Но
Марксу и Энгельсу не пришлось жить в эпоху решающего
столкновения основных классовых сил современности, в
эпоху, когда колоссально возросло значение пролетарского»
воздействия на массу промежуточных и колеблющихся
слоев. Теорию диктатуры пролетариата — программу
подведения масс к коммунистической революции и воспитания
нового человека после ее победы — разработал Ленин
Естественно, что разнообразные противоречия умственного,
культурного, художественного развития эпохи перехода тс
коммунизму получили теоретическое освещение в
произведениях Ленина. Достаточно вспомнить его статьи о
Толстом, которые много раз цитировались и раньше, но
которые именно сейчас, в связи с новыми задачами развития
советской литературы, привлекают к себе все большее
внимание. Можно сказать, что все вопросы и трудности,
вокруг которых сосредоточены в настоящее время
теоретические интересы писателей, критиков, историков
литературы, ведут к Ленину.
Точное знание ленинизма, как философии и как
политики, является тем рычагом, который способен двинуть
вперед нашу все еще отстающую от жизни науку о
литературе и искусстве.
II
Книга покойного А. В. Луначарского является первым
опытом систематизации взглядов Ленина на литературу.
Эта работа отличается целым рядом достоинств.
306
А. В. Луначарский нигде не выходит за пределы точно
поставленной себе задачи — правильно передать суждения
самого Ленина. Текст книги в значительной части состоит
из подлинных высказываний Ленина, приведенных в виде
выдержек,— и это хорошо. Так, глава «Теория двух путей
развития капитализма» содержит великолепный свод
суждений Ленина о русской литературе XIX века, образующих
в совокупности краткий, но гениальный набросок ее
истории.
Как правильно отмечает Институт литературы и
искусства в своем предисловии, «главная мысль работы, делающая
ее особенно ценной, заключается в противопоставлении
ленинизма вульгарно-социологическому или
«экономическому» подходу к литературе» (стр. 10). Автор справедливо
переносит центр тяжести на ленинскую теорию
отражения. В разделе «Философские взгляды Ленина» он
критикует различные ошибки и отклонения от этой
теории (не забывая при этом и своих собственных). Теория
отражения Ленина есть та идейная граница, которая
отделяет марксистско-ленинское учение об искусстве от
всевозможных социологических карикатур на маоксизм,
исходящих из буржуазно-меньшевистского лагеря. Теория
отражения,— пишет А. В. Луначарский,— «учитывает не
столько генетическую принадлежность писателя, сколько
отражение этим последним социальных сдвигов, не столько
субъективную прикрепленность писателя и связанность его
с определенной социальной средой, сколько объективную
характерность его для тех или иных исторических
ситуаций» (стр. 47). Несмотря на то, что форма изложения
именно здесь нуждалась бы в большей точности,
мысль автора ясна. Изучение идеологии с точки зрения
борьбы общественных классов есть нечто обязательное для
каждого марксиста. Но анализ отраженных а литературном
произведении реальных проблем, возникающих на почве
борьбы всех классов данного общества, не заменишь
психологическим копательством в наспех сконструированной
«классовой субстанции» автора. Ленинизм требует изучения
этих реальных проблем данной, исторически определенной
ситуации («социальных сдвигов», как пишет А. В.
Луначарский). Эти «сдвиги» находят себе выражение ε искусстве
часто даже помимо желания самого художника. Последнее
20*
307
обстоятельство имеет немаловажное значение.
Двойственность всей старой литературы не была секретом для
Ленина. Он умел отделить прогрессивное развитие
реалистического взгляда на действительность от тех колебаний и
уступок реакции, которые делали даже лучшие художники
прошлого. Ленин показал, что источники этих колебаний
коренились в незрелости общей обстановки классовой
борьбы, в силе влияния на массы старой, хищнической
идеологии господства и подчинения. Так, в творчестве Толстого
отразились многие слабые стороны массового движения
1861—1905 гг., среди участников которого было немало
людей, еще не порвавших с устоями
азиатски-патриархального быта царской России. Но даже в рассказах
откровенного реакционера Аверченко, обозленного на революцию
«почти до умопомрачения», Ленин умел найти и выделить
картину «старой помещичьей и фабрикантской, богатой,
объевшейся и объедавшейся России» (т. XXVII, стр. 92),
картину, не лишенную интереса и для пролетарского
читателя. Так выглядит диалектический взгляд на
историю литературы, в отличие от лубочных олеографий
представителей так называемого «социологического метода».
С этой точки зрения А. В. Луначарский делает
несколько справедливых упреков Плеханову. «Борясь с
субъективизмом народников, наивно веривших в то, что историю
делают «критически мыслящие люди», т. е. интеллигенция,
Плеханов с необыкновенным рвением доказывал, что
изучение культурных явлений, в частности литературы,
должно быть чисто генетическим и беспримесно объективным.
По его мнению, марксист-литературовед ни в коем случае
не должен был ставить перед собой вопрос о
положительном или отрицательном характере того или другого
культурного явления, осуждать его или аплодировать ему.
Марксистское литературоведение должно было, по
Плеханову, ограничиться выяснением неизбежной закономерности
данного явления и всех его причин. По-иному гтавил эти
проблемы Ленин. Конечно, он прекрасно понимал
громадное значение изучения отдельных культурных явлений
с точки зрения их классового эквивалента. Но для него
это было только подготовкой к изучению явления в целом,
ибо самое изучение в полном соответствии с боевым и
творческим характером пролетариата являлось у Ленина
308
лишь предпосылкой для критического использования
прошлой культуры и для построения новых форм ее,
соответствующих интересам пролетариата» (стр. 36)·
Здесь А. В. Луначарского можно было бы снова
упрекнуть в некоторой неточности изложения.
Изучение явления «с точки зрения его классового эквивалента»
не отделимо для всякого марксиста от изучения его «в
целом». Вернее, марксизм требует, чтобы классовый анализ
был доведен до такой ступени, когда становится ясной
общеисторическая перспектива классовой борьбы, когда всякое
общественное явление выступает в свете конечного
результата этой борьбы — победы социализма, Это и значит —
изучать явление «в целом». Нечто подобное, кажется нам,
хотел выразить А. В. Луначарский, противопоставляя
творческий марксизм Ленина «генетической» социологии
Плеханова. Все, что можно было сделать с помощью этого
«генетического» метода, было Плехановым сделано. Он с большим
умением выводил особенности того или иного направления
в искусстве из «житья-бытья» определенного класса, но не
был способен провести через всю историю литературы
генеральную перспективу классовой
борьбы — перспективу коммунистической
революции.
К сожалению, А. В. Луначарский уже не мог
использовать для своей работы новый интересный материал из
ленинского наследия. Мы имеем в виду совсем недавно
опубликованные заметки Ленина на полях книги Плеханова
о Чернышевском и его статьи о Толстом (XXV Ленинский
сборник). Ленин систематически отмечает здесь все
моменты, из которых явствует, что в своей оценке
Чернышевского Плеханов отвлекается от материальных проблем
классовой борьбы и нередко за идеологической шелухой не
видит реального «классового различия либерала и
демократа» (стр. 231 сборника). Там, где Плеханов пишет:
«Подобно своему учителю, Чернышевский тоже
сосредоточивает свое внимание почти исключительно на
«теоретической» деятельности человечества, вследствие чего
умственное развитие и становится в его глазах самой глубокой
причиной исторического движения»,— Ленин подчеркивает
всю первую половину фразы и делает на полях следующее
замечание: «Таков же недостаток книги Плеханова о Чер-
309
нышевском» (стр. 221)· Действительно, плехановский метод
писать историю литературы сводится в сущности к
следующему. Вначале конструируется чисто идеологическая
история предмета (заимствуемая часто уже я готовом вяце
из буржуазной научной литературы). Затем под этот
ordo et connexio idearum (порядок и связь идей)
посредством иногда очень остроумных догадок подводится ordo
et connexio rerum (порядок и связь вещей). Плеханов
называл этот процесс отыскиванием «социального
эквивалента». Но при всем своем «марксистообразии» подобное
социологическое скольжение сверху вниз далеко не
совпадает с подлинным методом Маркса и Ленина. Еще в
«Капитале» мы читаем (т. I, глава XIII): «Конечно, легче
посредством анализа найти земное ядро причудливых религиозных
представлений, чем, наоборот, из данных отношений
реальной, жизни вывести соответствующие им религиозные
формы. Последний метод есть единственно
материалистический, а следовательно, научный метод». С точки зрения
социологии идеологический ряд представляет собой только
совокупность иероглифических знаков, символов, которым
соответствует нечто эквивалентное в ряду явлений
внешней действительности. С точки зрения диалектического
материализма идеологические процессы суть отражения
действительности, которая раскрывается в них прямо или
косвенно, правильно или искаженно, в зависимости от
развития ее собственных противоречий.
Так именно рассматривал литературу Ленин. Большая
заслуга покойного А. В. Луначарского состоит в том, что
он сумел в своей брошюре передать этот дух
материалистической диалектики Ленина. Перед нами проходит вся
плеяда демократических публицистов старой России:
Белинский, Герцен), Чернышевский; их либеральные
противники— Кавелин, Тургенев: великие художники русской
«аграрной демократии» XIX века —· Некрасов, Салтыков-
Щедрин. Ленин был гениальным истолкователем русской
литературы, и недаром писал он о ее «всемирном
значении» («Что делать?»). В России не было такой
философской традиции, какая во Франции связывается с именами
энциклопедистов, а в Германии, с классической
философией конца XVIII—· начала XIX века. У нас именно
художественная литература была той областью, где передо-
310
вые головы прошлого чувствовали себя наиболее
свободно и где в художественной форме излагались
исторические проблемы борьбы классов. Неудивительно, что в
настоящее время в самых широких массах чувствуется
громадный интерес к русской литературе XIX века.
Существует определенная связь между лучшим, наиболее
глубоким и художественным в этой литературе и
революционными традициями большевизма. Мы не говорим уже
о том, что многочисленные литературные образы из
произведений Гоголя, Гончарова, Толстого, многие понятия из
словаря Салтыкова-Щедрина являются неотъемлемым
элементом стиля нашей коммунистической публицистики,
а через нее несомненно войдут и в мировую революционную
литературу.
Нет такой силы, которая помешала бы советским
писателям овладеть художественным опытом своих великих
предшественников. Учение Ленина поможет им лучше
разобраться в этом наследстве, отделить настоящие
алмазы от фальшивых блесток; оно раскроет перед ними
скрытое до сих пор действительное содержание истории
литературы. Все многочисленные нити, соединяющие
современные проблемы художественного творчества с теми
вопросами, которые стояли перед Гоголем, Некрасовым,
Салтыковым, проходят через одну точку, имя которой — Ленин.
«Партия следует по стопам Ленина,— пишет А. В.
Луначарский,—- и с непререкаемой верностью развивает его
положения и применяет их к жизни. В ряде решений
Центрального комитета и авторитетных высказываний
центрального органа партии мы имеем богатейший
дополнительный материал для построения литературоведения,
материал глубоко ленинского характера, хотя формально
и выпадающий из задач нынешней статьи. Руководство
Центрального комитета партии и вождя партии т.
Сталина, проявляющего в вопросах литературы глубокую
ленинскую чуткость, гарантирует нам максимально
безболезненное развитие нашего литературоведения и самой
литературы. Работа тут предстоит чрезвычайно большая и
сложная, ибо если надо строго осудить всякого, кто
полагает, что в нашем арсенале мы не имем основных и
важнейших определителей для нашей литературоведческой
работы, то надо также считать величайшим заблуждением,
311
даже позором, стремление замкнуться в повторение задов,
отсутствие смелости в творческой работе, такую
чрезмерную боязнь невольной ошибки, которая парализует самую
возможность пути вперед» (стр. 104).
Нельзя не присоединиться к этим словам ушедшего от
нас борца за социалистическую культуру. Его работе,
популяризующей то большое и важное, что несет с собой
для литературы теория ленинизма, суждено иметь
распространение и успех, которого она заслуживает.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аверченко А.—308.
Алки'виад—(109.
Антипатр—249.
Аинунцио Г.—149.
Анфантэн—117.
Ариосто—129.
Аристотель—13, 51, 80, 249,
256.
Апелл)ес—109.
Аром Э.—76.
Баядер Ф., фон—22.
Бабеф—19, 111, 279, 298.
Бальзак—19, 282, 306.
Барбон—253.
Б арбе йрак—1S4.
Бастиа—250.
Батюшков, πιροφ.—76.
Бауэр Бруно-^34, 88, 14в, 181,
184, 191, 195, 202, 209, 216,
220, 230, 237, 306.
Бахофан—02, 58, 76.
Белмноюий—151, 220, 310.
Беранже—204.
Бергман Э.—76.
Берк—256.
Барнгард Л.—95, 96.
Бернштейн Э.—84, 86.
Бентам—88.
Бенуа Ф.—14.
Бертрам—159.
Беттигер—22, 184.
Биллетер—23.
Биндер Юл.—92, 93, 94, 97, 9S.
Бисмарк—7, 31.
Боймлер А.—58, 59, 69.
Бонапарт—10.
•Ьорджиа. Чезаре—43.
Боссюэ—9.
Брут—25.
Byiaocepe, бр.—22, 159.
Вуркгардт Якоб—40, 43, 44„
45, 46, 48, 56.
Бэкон Френсис—21.
Бюш(у, фон—5.
Бюша—182.
Вашер. Рихард—57, 2&4, 289..
Вальцель О.—-56, 57.
Вакенродер—20.
Вацльраф—159.
Ватто—20.
Веерт—275.
Вейсе. Христиан—181.
Вейтлинг—275.
Велькер Карл Теодор—84,85..
Вслькер Фридрих Готлиб—22„
59, 161.
Вельфлин Г.—53.
Берне Oipac—272.
Вестфаитен Женей, фото—162.
313
Ветцольд В.—45.
Вигерсма—92.
Викгоф Ф.—52.
Вико—129, 296.
Виламовиц—50.
Вильгельм II—27.
Винкельман—5, 18, 162.
Винчи. Леонардо—271.
Вишюр—146.
Вольтер—128, 210, 224.
Воротнгер—76.
Вьен—9.
Гайм Р.—84.
Гальске—25.
Ганс, Эд.—81.
Гаосанди—12.
Гегель Г.нВ.-Ф.—11, 14, 17, 18,
25, 29, 47, 77, 80-143, 151,
155, 162, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 172, 173, 176,
177, 178, 179, 180, 182, 183,
184, 194, 202, 211, 212, 213,
214, 217, 218, 220, 226, 227,
228, 229, 230, 236, 237, 238,
239, 246, 247, 267, 268, 269,
277, 278, 283, 289, 290,294,
298, 301.
Гегель Карл—81.
Гезиод—254.
Гейне. Геирих-^87. 275, 284,
295, 298.
Гейне Христиан-Готлюб—21.
Гейнцеи Карл—209.
Геллер Г.—149.
Гельвеций—26, 151.
Гельдерлин—17, 125, 268.
Гендель—292.
Георге Стефан—75.
Пеп'перт—Ί61.
Гераклит—49.
Гервег—207, 208, 209, 275,
284, 285.
Гердер—17, 76, 196.
Геринг Т.-Л.—83.
Герцен—120, 310.
Гете-^5, 14, 16, 17, 18, 22, 24,
36, 40, 47, 48, 57, 60, 61,
77, 79, 131, 133, 134, 138,
153, 159, 166, 197, 210, 211,
212, 251, 262, 266, 283, 289,
306.
Геттер—30.
Гец (фон Берлихинген)—277.
Гиббон—40.
Гизо—19, 115.
Гитлер—39 72, 74, 149, 153.
Глоюнер Г.—89, 129, 130, 132.
Гоббс—66, 150, 291.
Гоголь—303, 311.
Голицын, Дм.—296.
Гольбах—9.
Гомер-^18, 59, 80, 12Θ, 145,
161, 171, 189, 248.
Гом1П'е!рц Г.—50.
Гончаров—311.
Гото Г.-Г.—28, 29.
Готшед—57, 206.
Гофман Э.-Т.-А.—162, 282.
Гракхи—25, 115, 108.
Грез—9.
Гримме—87, 94, 100.
Гродек К.-Т.—88.
Гршд И.-Я—184, 185, 186,
1S7, 188, 189, 211, 212.
Грюн. Карл—133, 239, 283.
Грюневальд, Матиас—<56.
Гуго—196.
Гумболът, Вильельм—17, 26.
Гуттен, Ульрих, фон—277.
Гюго—283.
Давид Луи—9.
Дана Чарльз—254.
Даниэльс Р.—162.
Данте—124, 129," 145, 282,287,
300.
Дантон—182.
Да.рвин—146.
Деборин Α.—100.
Деброс—184, 186, 188.
Декарт—-£90.
Делакруа—114.
Дем'етрий—51.
Демокрит—13, 172, 173.
Демосфен—128.
Демтф Α.—69.
Денина, аббат—8.
314
Джентиле Джиованеи—95, 96.
Джильярди—27.
Дидро—δ', 9, 10, 11, 14, 15,
16, 26, 145, 151, 224, 228,
229, 230, 283.
Дшюеарх—Ы.
Дильтей—91, 101.
Диигельштедт—207.
Дрезднер А.—9.
Дройзеи—42.
Добролюбов—283.
Дюма-отец—282.
Дюрар. Альбрехт—449.
Зам—97.
Зишиель—68.
Зиккинген, Франц, фон—275,
276, 277, 279.
Зольгер—162.
Зорге—289.
Зоэга—22.
Жаннш, Жюль—145, 230, 283.
Жорес—127.
Иванов Вячеслав—76.
Икакюль, фон—81.
Иммиш О.—52.
Иост—65.
Кал ьдеркун—197.
Карлей ль—»148, 200, 201.
Камне—22.
Кат—86, 88, 146, 151, 166,
241, 300.
Каутский Карл—287.
Кауэр 11—51.
Кэнси К., де—14.
Кинкель Г.—45.
Кирико—72.
Клавший—42.
Клаггес Л.—68.
Кок Поль, де—283.
Колумб—30.
Кольбер—158.
Кювстан Бееж ам ен—115.
Коцебу—230.
Крейцер'—22.
Кромвель—295.
■Куэен-н120.
Кюстоин—101.
Лавуазье—298.
Ламер Г.—47.
Ланге Φ. Α.—86.
Лаосаль—160, 264, 275, 276,
278, 279, 280, 281.
Лассон Г.—18, 91, 101, 118,
127, 211, 227, 269.
Лафарг—282.
Лейбниц—45, 291, 298.
Ленгэ Николай—263.
Ленин В. И.—7, 15, 38, 39, 54,
64, 84, 88, 116 117, 121, 143,
146, 152, 155, 161, 169, 179,
201, 207, 209, 213, 238, 266,
277, 288, 299, 301—312.
Леоигард Отто—208.
Лессинг Г. Э.—10, 11, 15, 16,
30, 60, 65, 68, 78, 133, 162,
206, 257, 283.
Либкие-хт Вильгельм—84, 85,
8'6, 283, 286.
Лиишерт—288.
Л отце—29.
Луи Филлипп—224, 230, 282,
283.
Лукреций—171, 173.
Луначарский А. В.—301, 306,
307, 308, 309, 310, 311.
Людовик XIV—9.
Лютер. MaiprwH—224.
Макиавелли—291.
Мак-Куллох—250.
M ацд ев,и л л ь—228.
Марат—482.
Марк 3.—100.
Маркс Карл—7, 12, 13, 22,
24, 25, 32, 33, 34, 36, 41,
44, 45, 72, 84, 85, 86, 88,
99, 105, 108, 111, 116, 119,
121, 122, 123, 124, 125, 133,
134, 135, 136, 139, 142,
144—300, 301, 304, 305,306,
310.
315
Max—146.
Медичи, Лоренцю—254.
Мезер Юстус—127.
Мейэр Эд.—-51.
МейернГреффе—-125.
Мейнерс—184, 188.
Мекгс А. Р.-^9, 14.
Ме1ри(ме—45.
Меринг Φ.—30, 162, 169, 179.
Mo л лат—126.
Момэен—40, 42.
Моцарт—271.
Мурилыо—237.
Муссолини—00, 95, 96, 149,
152, 154.
Муциус Г., фон—-153.
Мюллер. Адам—149.
Мюнцер Том:ас—279, 280, 298.
На деждан—120, 151.
Некрасов—310, 311.
Нерлих П.—27.
Нерон—42.
Ницше—'16, 38, 39, 42, 44, 46,
47, 48, 49, 50, 56, 59, 60,
70, 75, 78, 88, 148.
Ноль Г.—100, 101, ПО.
Ортега и Гасет—66.
Патер ιΒ.—75, 76.
Пекер—261.
Пешьман—51.
Перикл—22, 46, 109.
Перро—35.
Никториус—184.
Плеханов Г. В.—54, 145, 287,
288, 308, 309.
Платон—268.
Плутарх—41, 175.
По лик лет—187.
Поп—16, 292.
Преллер--н59.
Пристли—298.
Пропорций—161.
Прудон—258, 275.
Пруц—Û07.
Пугачев-ч298.
Пуссен—9.
Пушкин—297.
Пфицер—97.
Райке—216.
Рафаэль-£6, 271, 272.
Реймарус—162.
Рембр амдт—203.
Ренан—38.
Ригль Α.—52, 53.
Рикардо—83, 169.
Риккерт—87.
Робеспьер-ЛЭ, 93, 102, 107,
ЛИ, 120, 179, 189, 298.
Робинэ—12.
Родэ. Эр-вин—50, 59.
Розенберг Α.—59, 60, 69, 73г
74, 140.
Ргаюниранц—£9, 80, 81, 82.
Ройе—нКоллар—115.
Роттек—-84, 85.
Ротшильд—45.
Руге Α.—29, 169, 213.
РуМор к. Ф., фон-^18, 184,
185, 186, 187.
Руссо-^51, 101, 102, 179, 215,
216, 295.
Савонаролла—295.
Салтьжов-Щедрин-—310, 311.
Сенека—34.
Сен-Жюст—111, 112.
Сее-Симон Α.—90, 117, 121,
123.
Сент-Бев—197.
СенпПьар ,де Бернарден—197.
Се рв антес—282.
Сименс—25.
Скотт. Вальтер—282.
Скот Дуне—193.
Смит Адам—133, 218.
Союрат—49, 50, 75, 277.
Сорель Ж.—149.
Софокл—109, 129, 252.
Спартак—298.
Спиноза—289, 298.
Сталин И. В.--66, 121, 122,
152, 156, 277, 299, 301,
311.
Сталь, де—48.
Стендаль—19, 45.
Стерн—162.
Стюа1рт Джемс—81.
Сю. Евгений—220, 221, 222,
223, 224, 225, 227, 229, 231,
232, 236.
Сей—115.
Свифт—80, 81, 291.
Тамерлан—68, 251.
Тшоер M.—283.
Тик—20.
Тейлор—140.
Тициан—271.
Толстой Л.—297, 308, 309, 311.
Трельч Э.—67.
Тусюен—3, 8.
Тэн-41, 145, 288.
Файингер—88.
Фейербах, Людвиг—16, 139,
179, 239, 244.
Фергюсан А.—248.
Фидий—53, 56, 109.
Ф!илыден1г-ч224, 283.
Фихте—25, 166.
Фишер Фр. - Т. — 29, 137,
60, 244, 2155, 276; 284,
295.
Фашэн А.—9.
Форд—140.
Форстер Г.—14, 101.
Фоос—59.
Фрайер Г.—.141.
Фрейлиграт—208, 209, 275,
284, 285, 286.
Фрейтаг Г.—26.
Фриде ль Э.—51.
Фридрих Вильгельм 111—198.
Фридрих 'Вильге1лым. IV—181,
191, 192.
Фриче В. М.—145.
Фульд П.—8.
Фуни—72.
Фурье—Λ 38.
Цезарь Юлий—115.
Циммерман Р.—29.
Цицерон—175, 249.
Чемберлен X. - С. — 44, 48,
49.
Чернышевский—139, 151, 179,
216, 309, 310.
Ш атоори ан—197.
Шекспир—129, 145, 426, 252,
253, 277, 281, 282, 287.
Ill е лига Щихликакий) — 220,
221, 222, 223, 224, 225,
226, 230, 236.
Шеллинг—(19, 22, 23, 53, 166,
167, 191.
Шефер Α.—76.
Шефлер К—60, 61, 62, 63, 68,
71, 76.
Шефтсбери—20, 157, 291.
Шиллер. Фридрих—17, 20, 24,
26, 45, 46, 97, 108, 128,
131, 147, 154, 163, 210, 217,
241, 255, 266, 276, 281, 293,
294.
Шлегель Α.-ιΒ.—161.
Шлегель Фр.—17.
Ш лейермахер—181.
Шлиман—35.
Шлоооер Ю.—18.
Шмидт Ю.—28, 84, 266.
Шназе К.—29.
Шопен—305.
Шоттонгауэр—76.
Шпенглэр—^, 267.
Шталь Ю., фон—84, 120.
Штемпфлингар—47.
Штирнер М.—68, 175, 231,
271, 272.
Шторх—257.
Штрассер О.—72, 149.
Штраус Д.-Фр.—181, 201.
Шурц—288.
Эббивдтаув Ю.—91, 92.
Эврипид—109, 161.
317
Эккерман—-16.
Эльгин—35.
Энгельс Фридрих—7, 13, 15,
24, 33, 34·, 37, 84, 85, 86,
115, 121, 122, 135, 144, 147,
155, 160, 161, 191, 197, 198,
200, 203, 229, 230, 238, 240,
247, 252, 254, 263, 264, 271,
273, 274, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 288, 283, 285,
286, 289, 294, 295, 298, 301,
304-, 305, 306.
Эпикур—12, 13, 36, 170, 172.
173, 174, 175, 178, 179.
Эоаил—48, 59, 145, 250, 282,
287.
Юсти К.—21, 31, 32.
СОДЕРЖАНИЕ
От автора . . 3
Иоган Иоахим Винкельман и три эпохи
буржуазного мировоззрения ........·... 5
Литературное наследство Гегеля 80
Эстетика Гегеля и диалектический материализм . 114
Предисловие к отдельному изданию брошюры
«Карл Маркс и вопросы искусства» ....... 144
Карл Маркс и вопросы искусства 158
К пятидесятилетию со дня смерти Маркса . . . 289
Ленин и вопросы литературы 301
Редактор Я. Секерская
Технический редактор Б. Новиков
Корректора: Ю. Носова, Г. Гатугва
Переплет работы А. Толоконникова
Зак. изд. 731. Инд. Х-70. Тираж 10000
Уполномоченный Главлита np Б-6634
Отпечатано на бумаге Окуловского
писчебум. комбината им. Ярославского
Формат бумаги 82 χ 110 в */аа долю
20 печ. л. по 32450 зн. 16 авт. л.
Сдано в производство 19 VI 1935 г.
Подписано к печати 19/XI 1935 г.
Цена 3 р. 25 к. Переплет 1 р. 25 к.
1-н тип. Трансжелд >ризд1та,
Москва, Б. Переяславская, д. 46.
Заказ Ni 17127
ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
Стр.
6
38
60
68
76
77
106
153
172
245
277
277
285
315
Строка
4 св.
13 „
2 сн.
8 .
6 св.
15 сн.
7 „
5 „
21 п
12-13 св.
4 сн
9 св.
15 сн.
б сн.
Напечатано
магниты
электрического
Der Mythus der
XX Jahrhunderts
Клаггеса
кольтуры
сознают
презрения
1923
«для себя>
бытия
субъективного
и
революционном
С амого начала
Маркса и Фрей-
лиграта.
Заметим только, что
по мере нере-
Клаггес Л.
Следует
читать
магнаты
эклектического
Der Mythus des
XX Jahrhunderts
Клагеса
культуры
осознают
для презрения
1933
«для себя
бытия»
субъективного
и объективного
в
революционном
с самого начала
Маркса. Поэт
вступает в Союз
коммунистов и
редакцию
клагес Л.
По чьей
вине
типографии
корректора
редактора
■
типографии
редактора
•
корректора
редактора
корректора
редактора
корректора
типографии
редактора
М. Лифшиц — BQnpocbi искусства и философии.