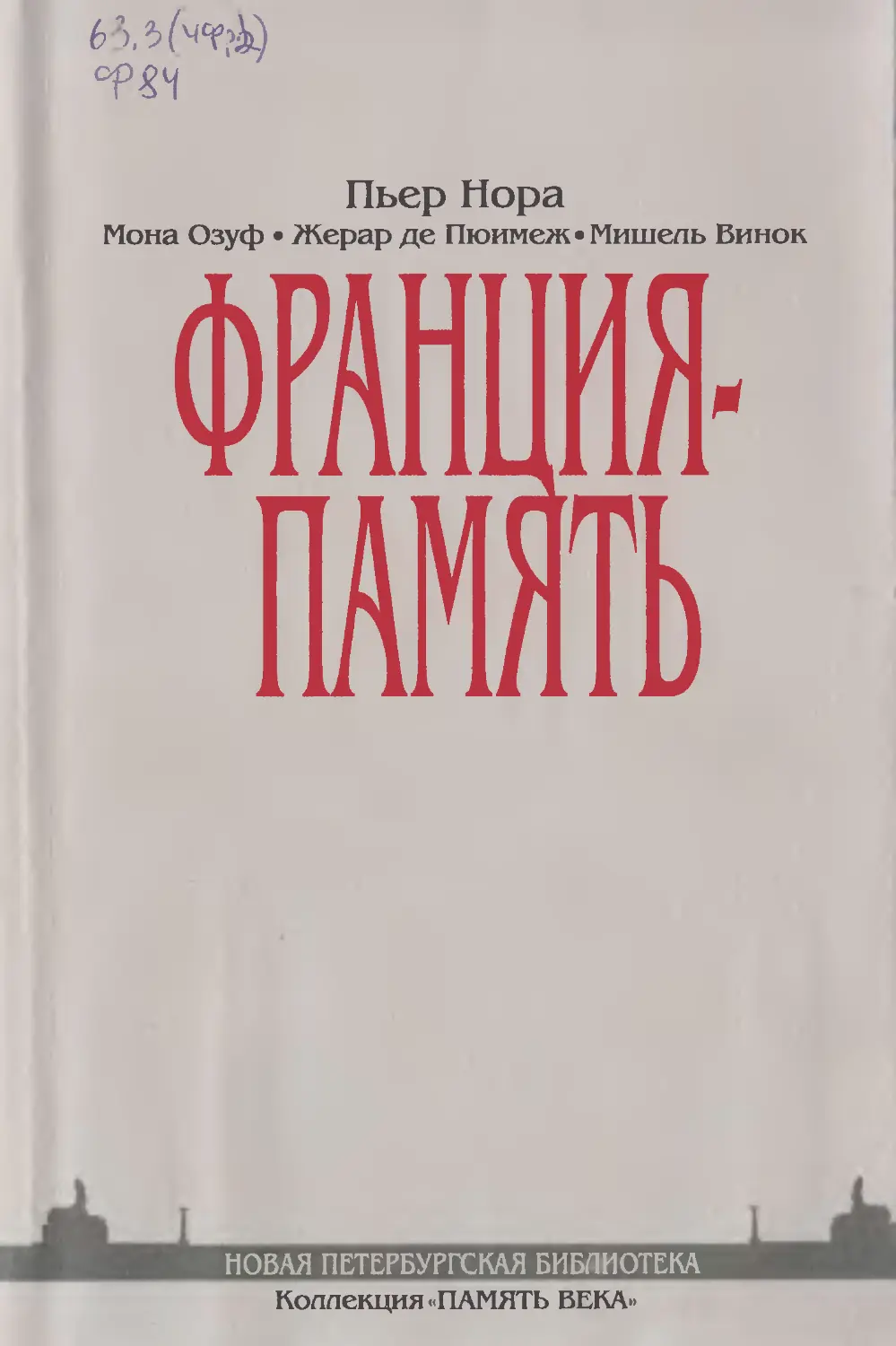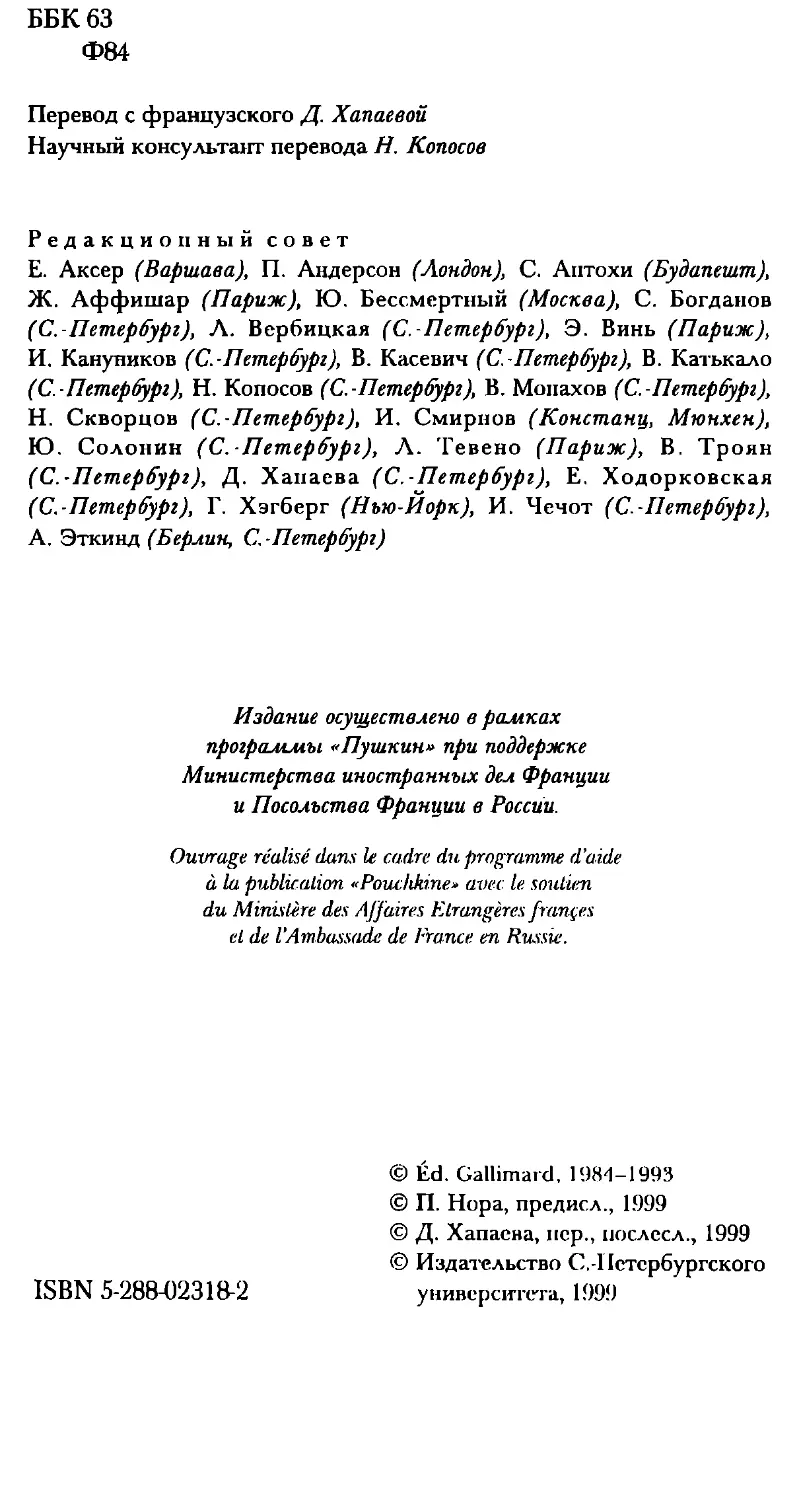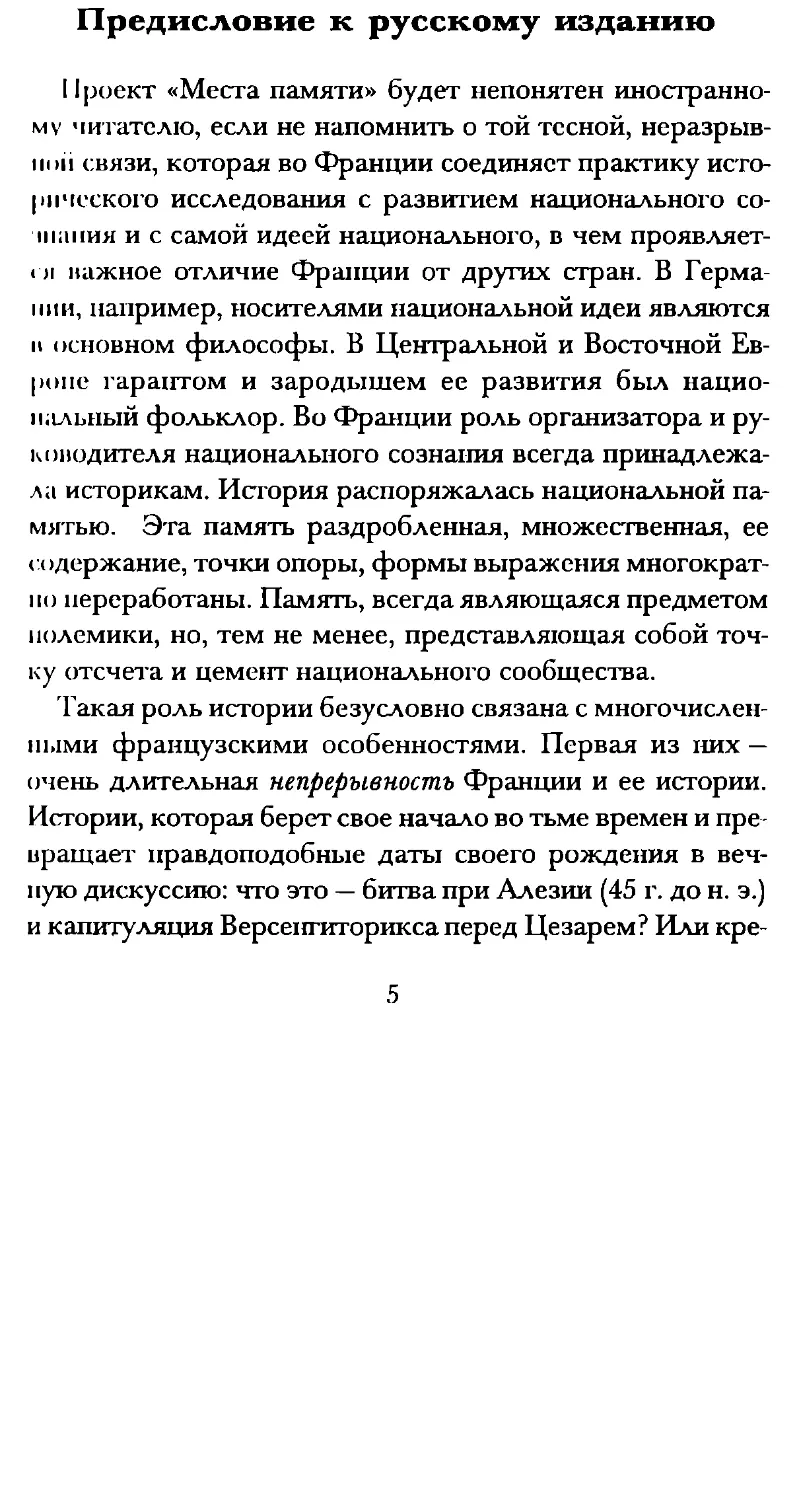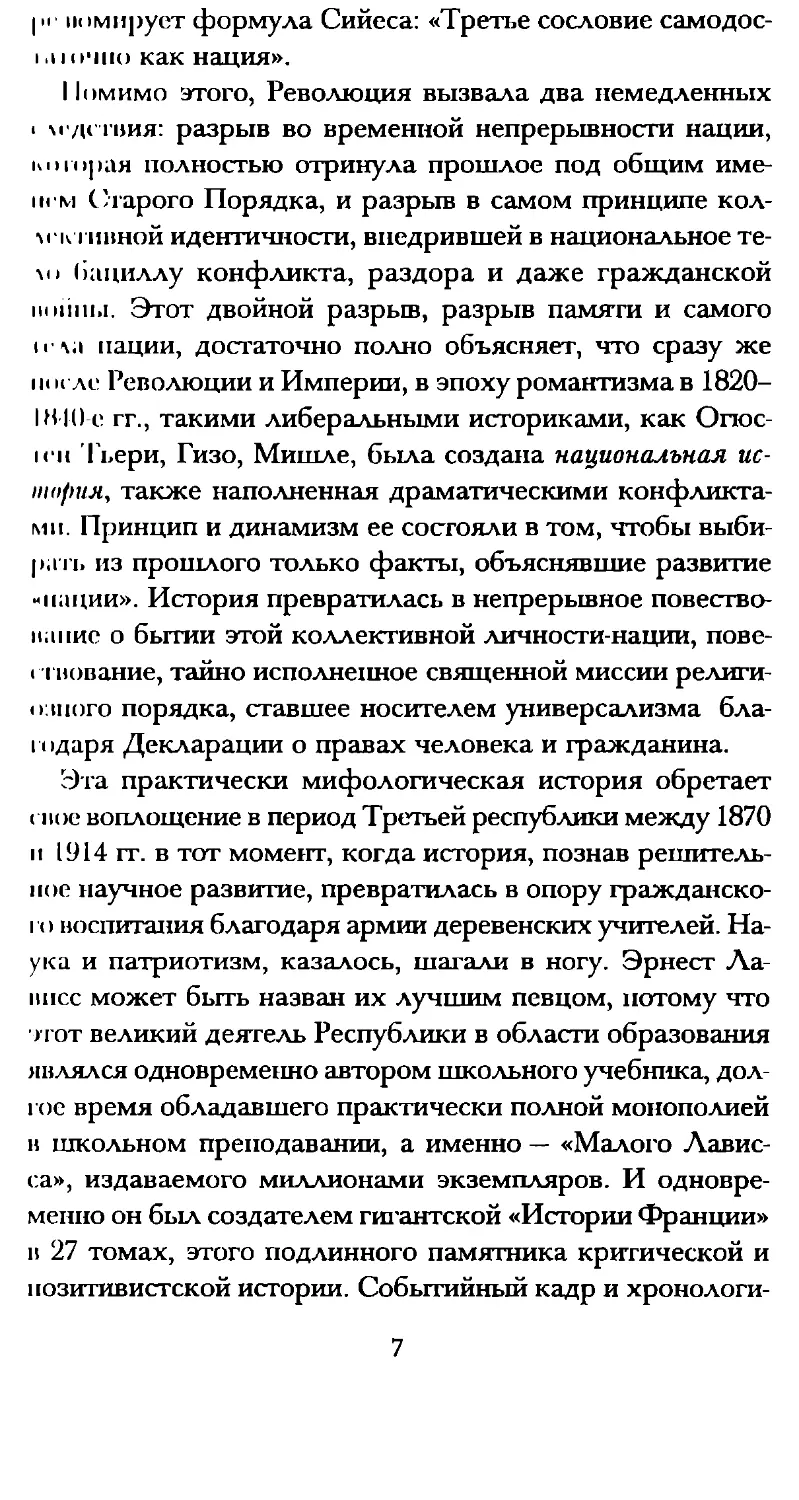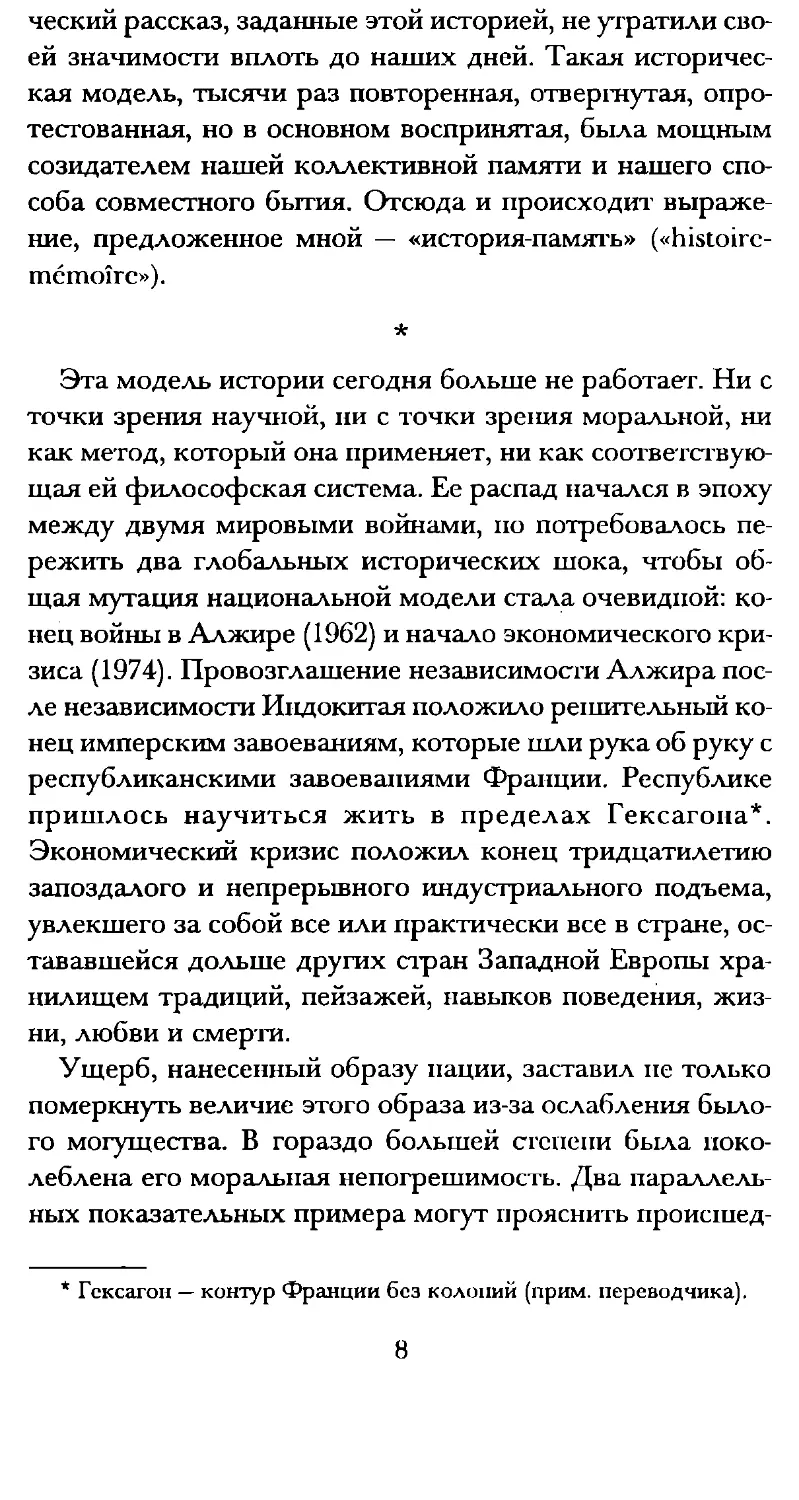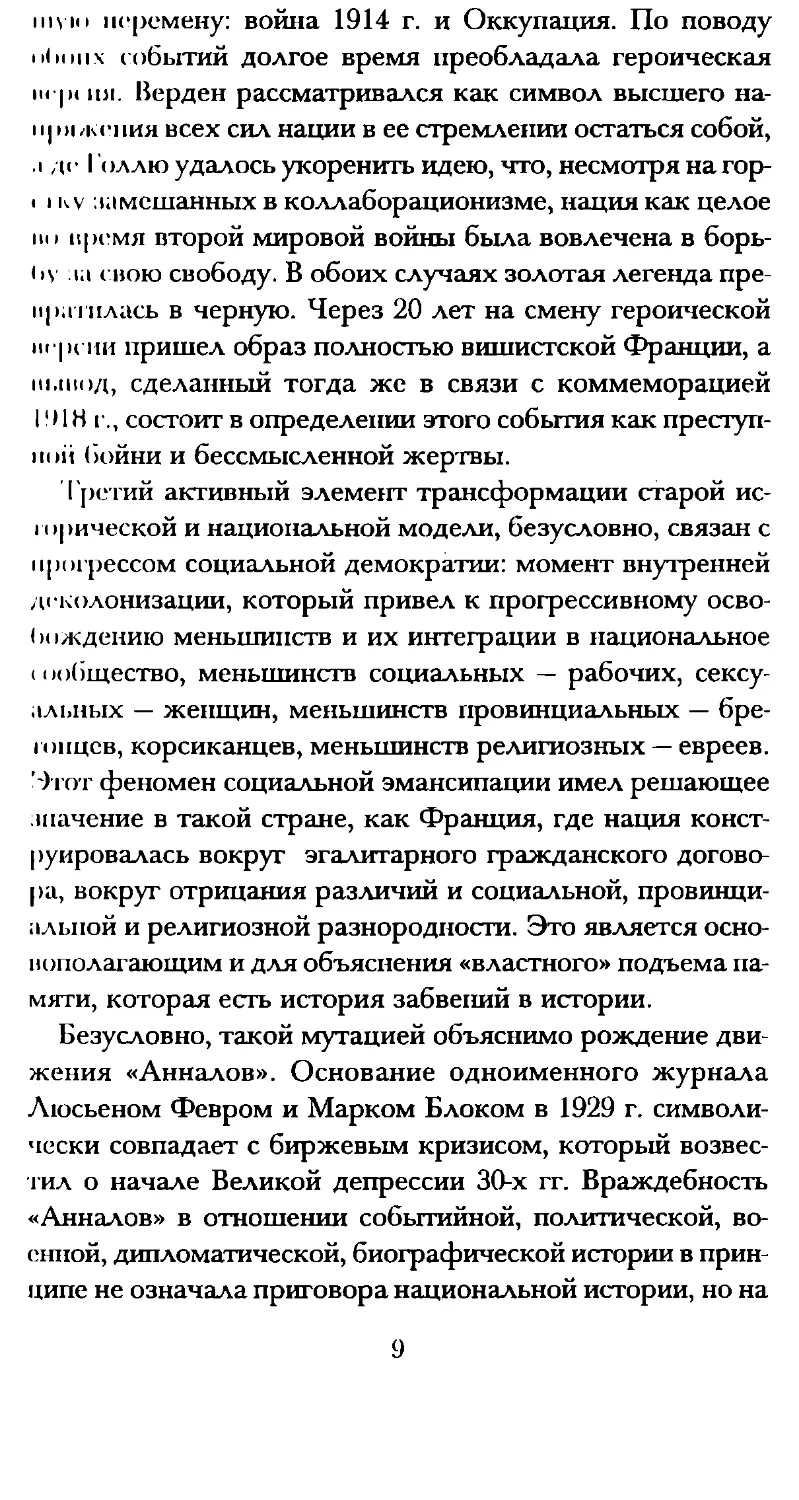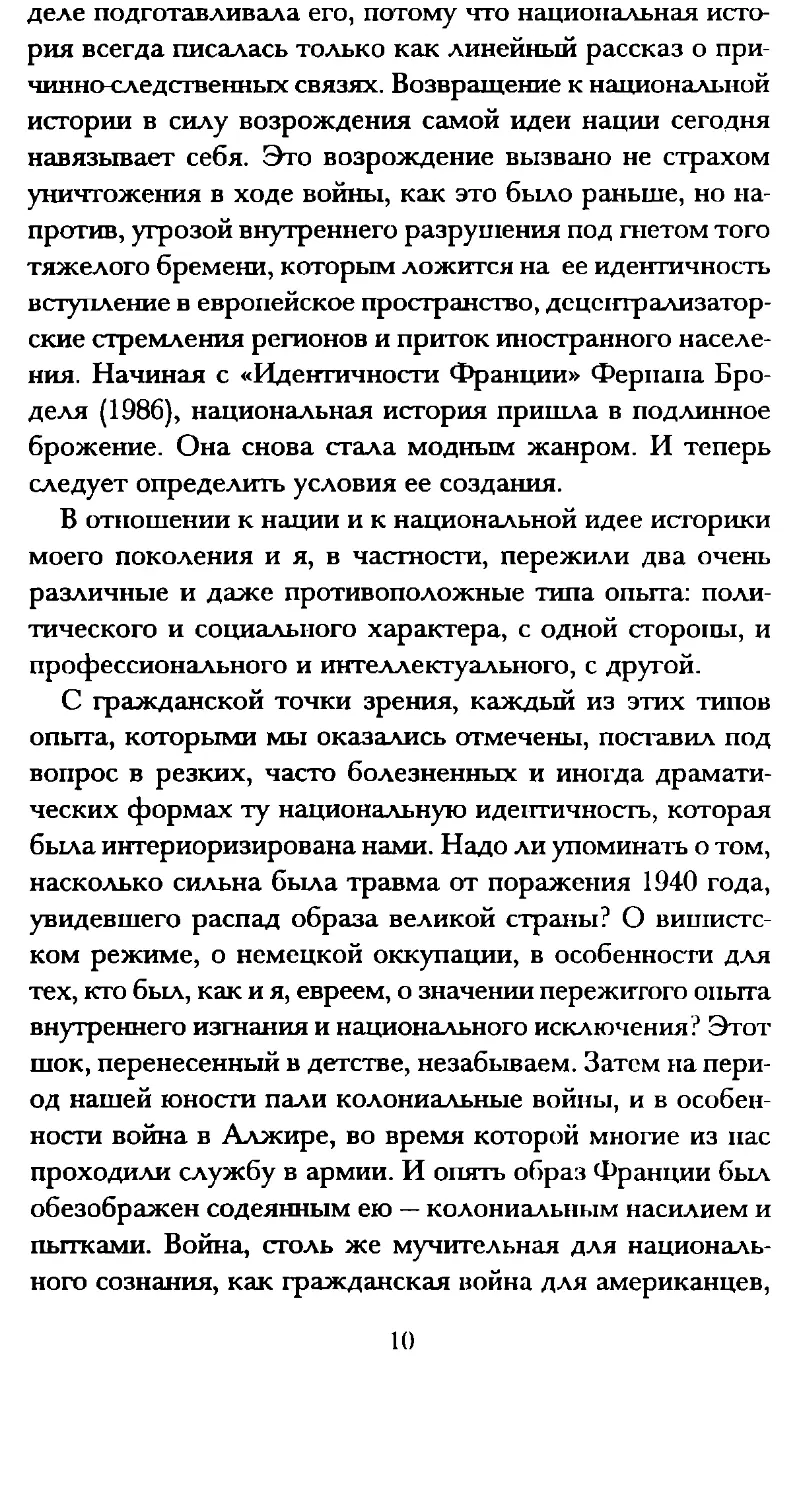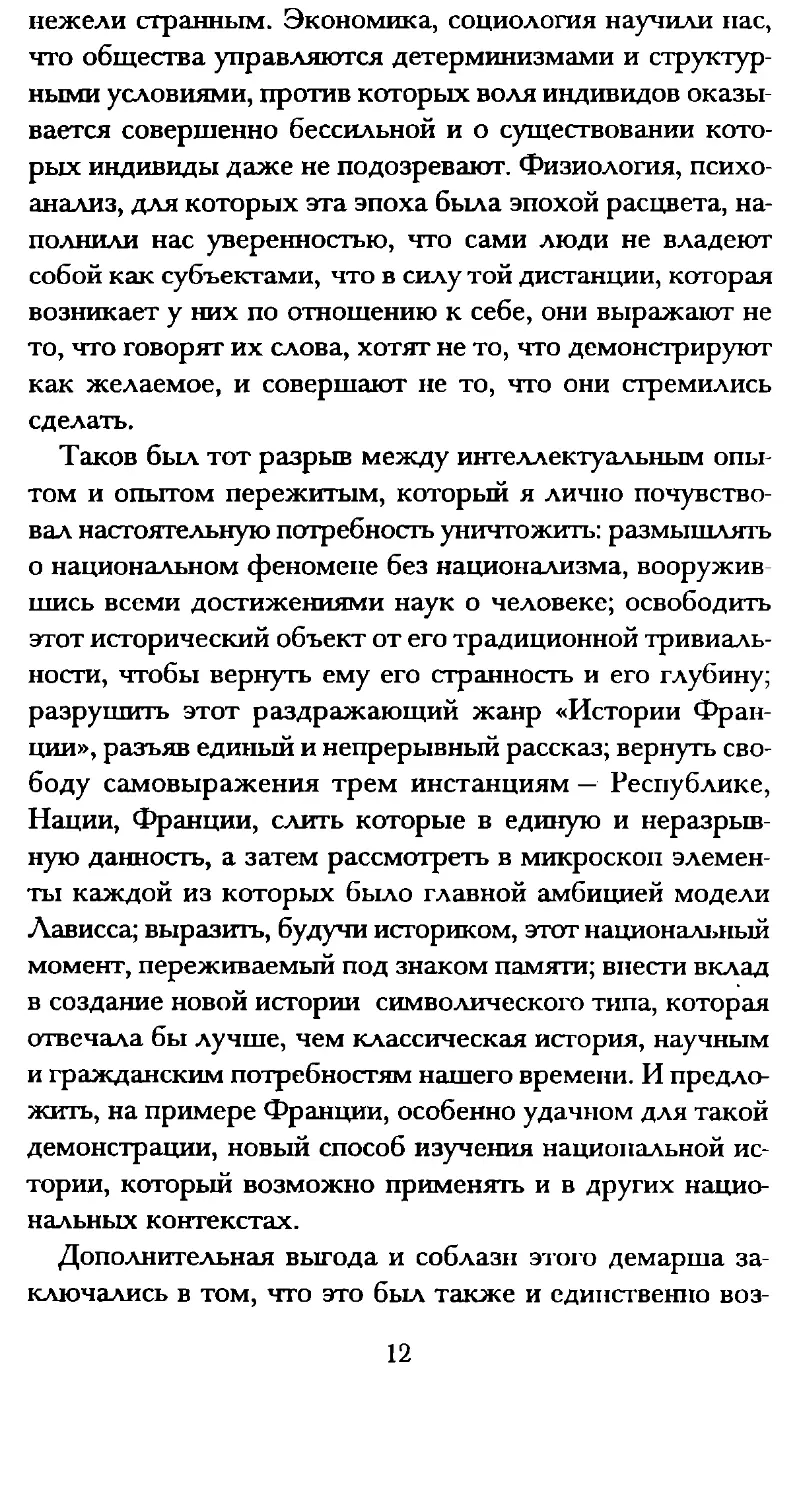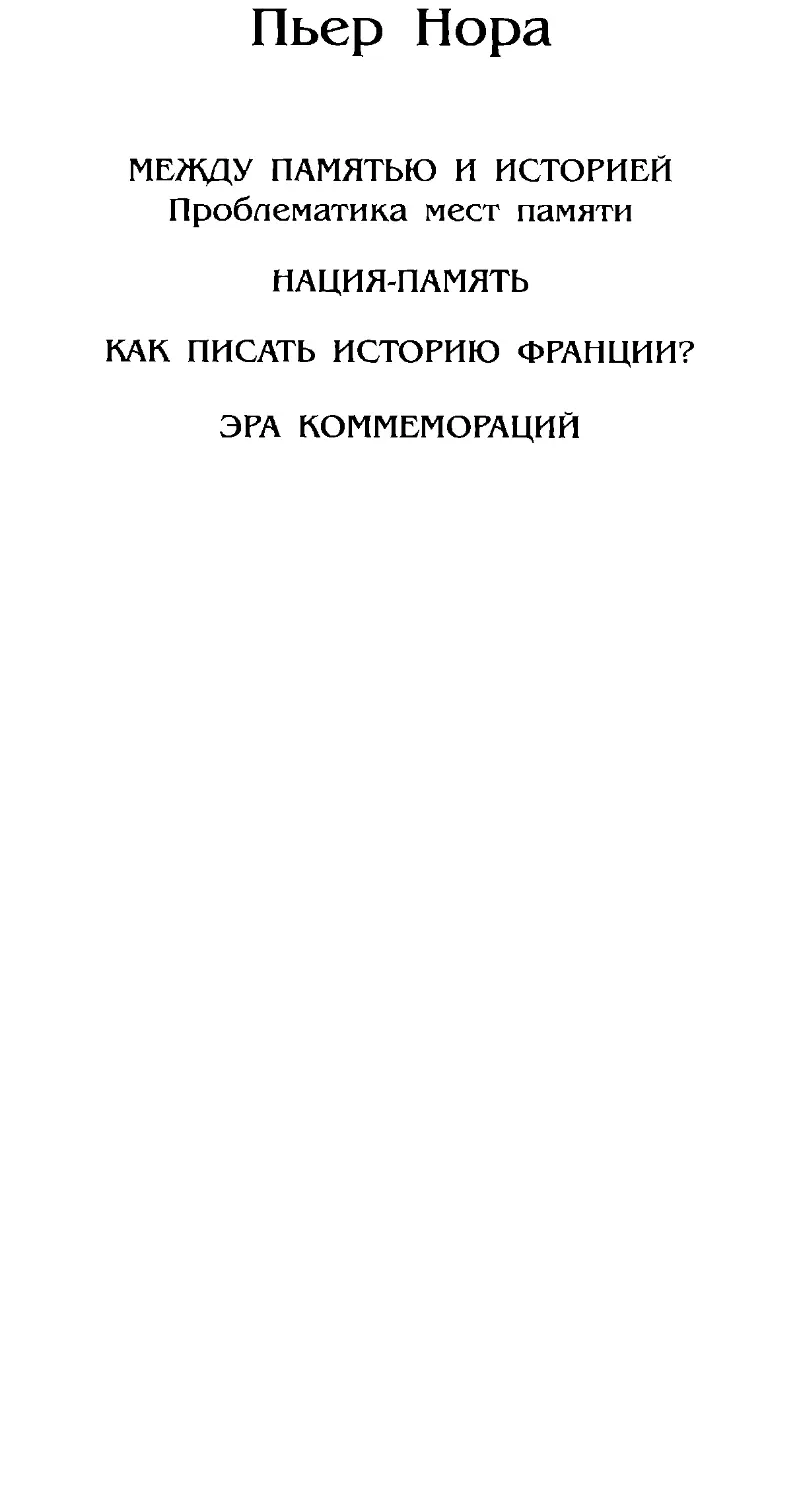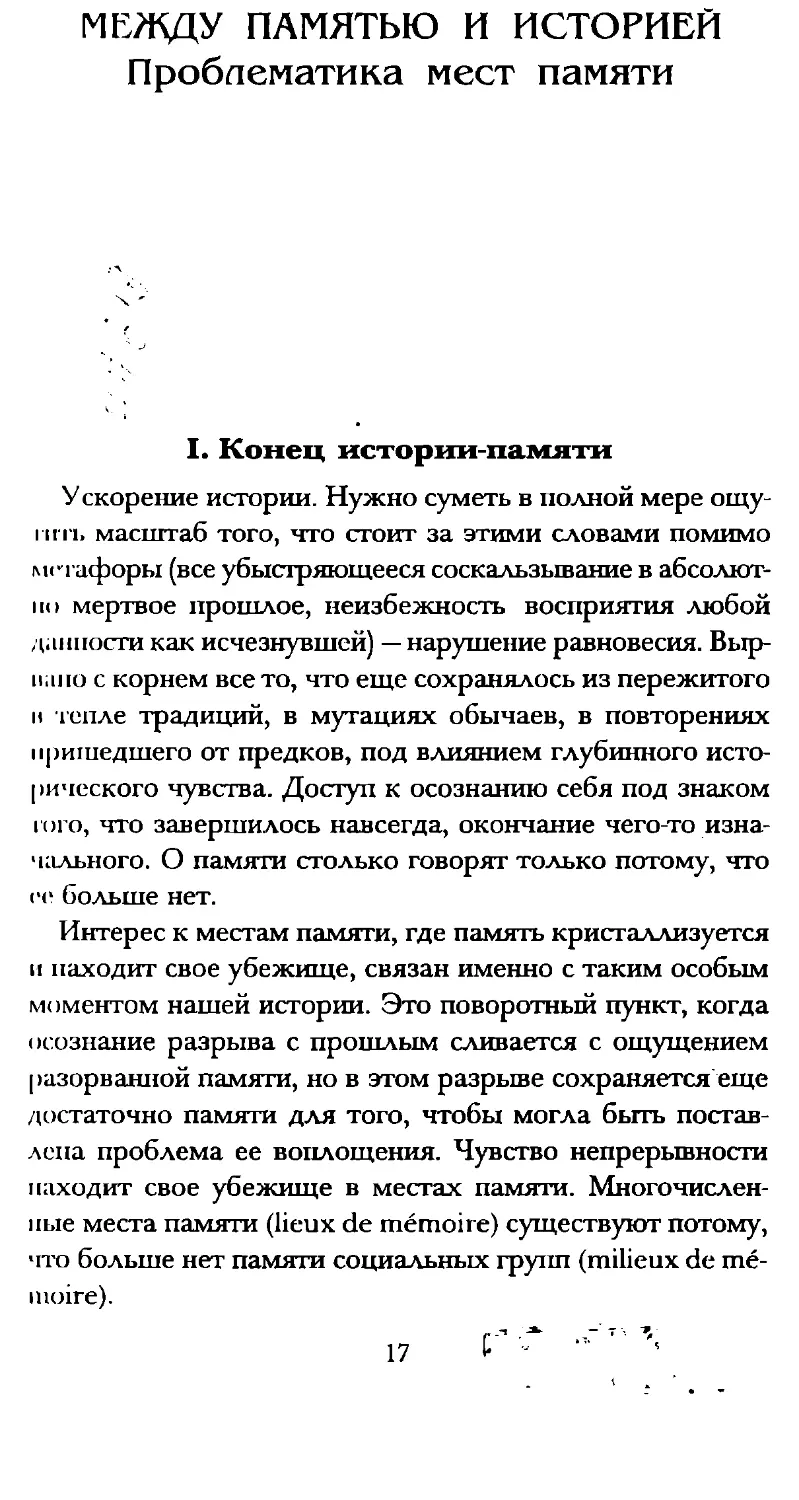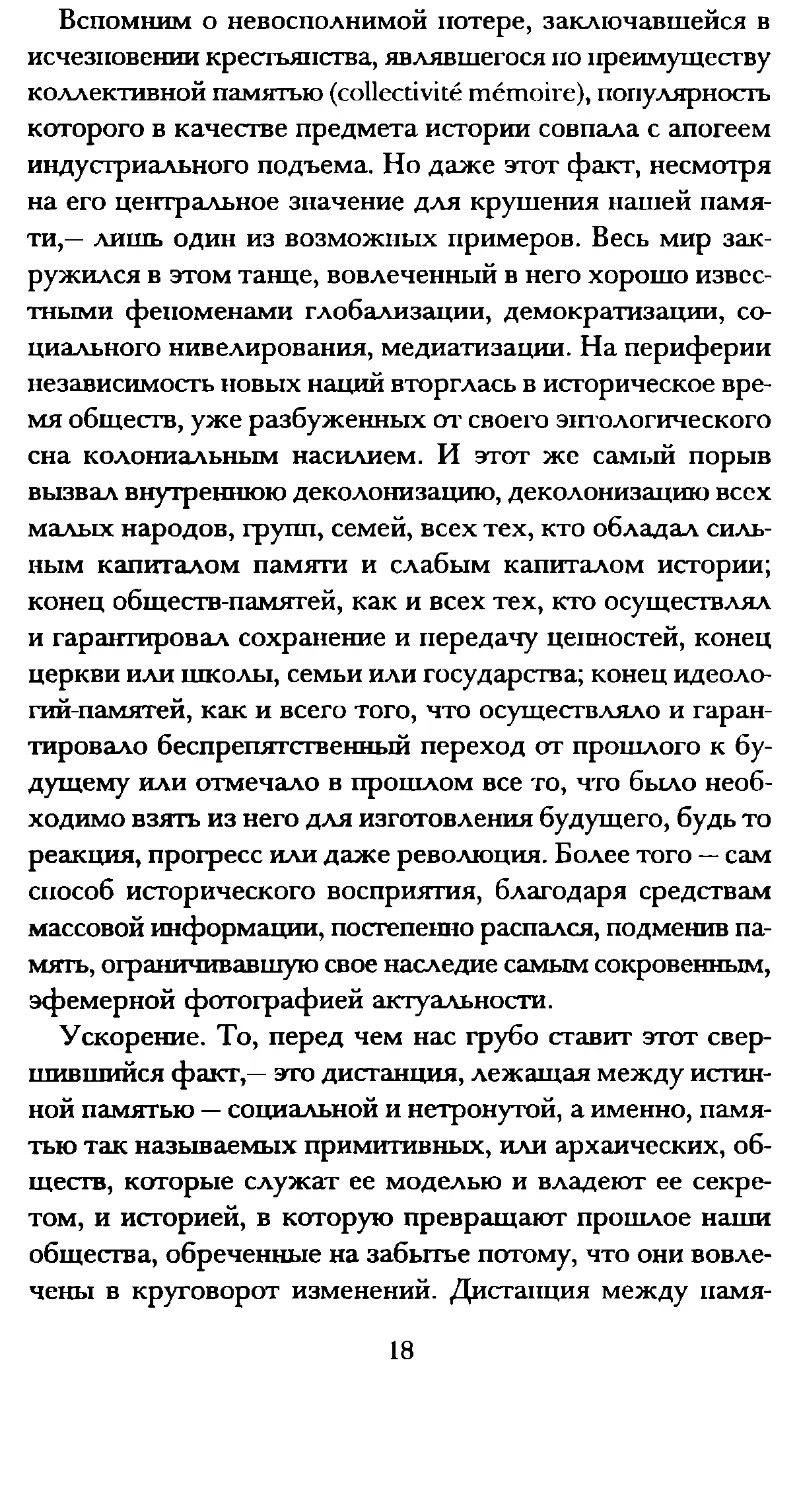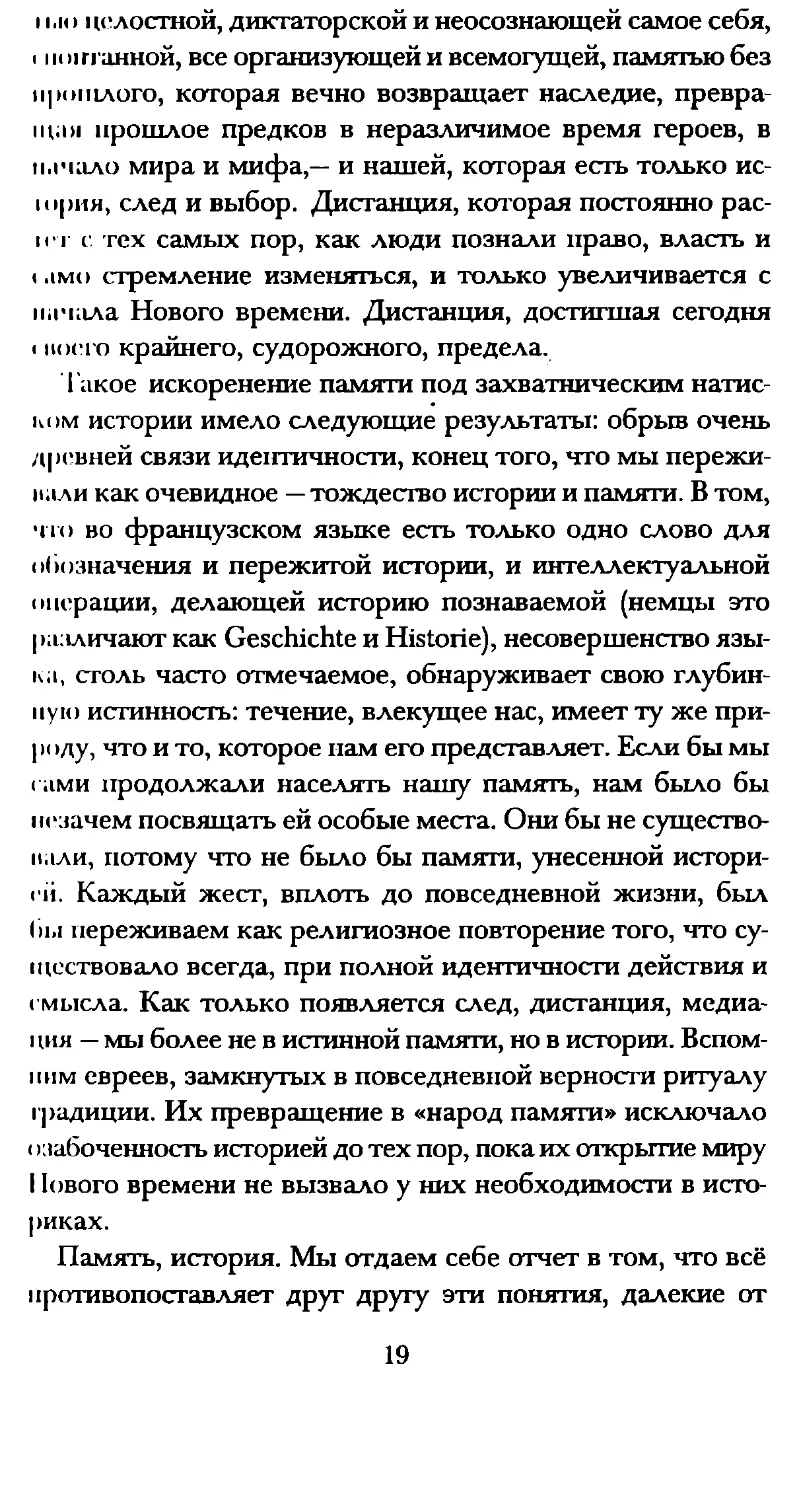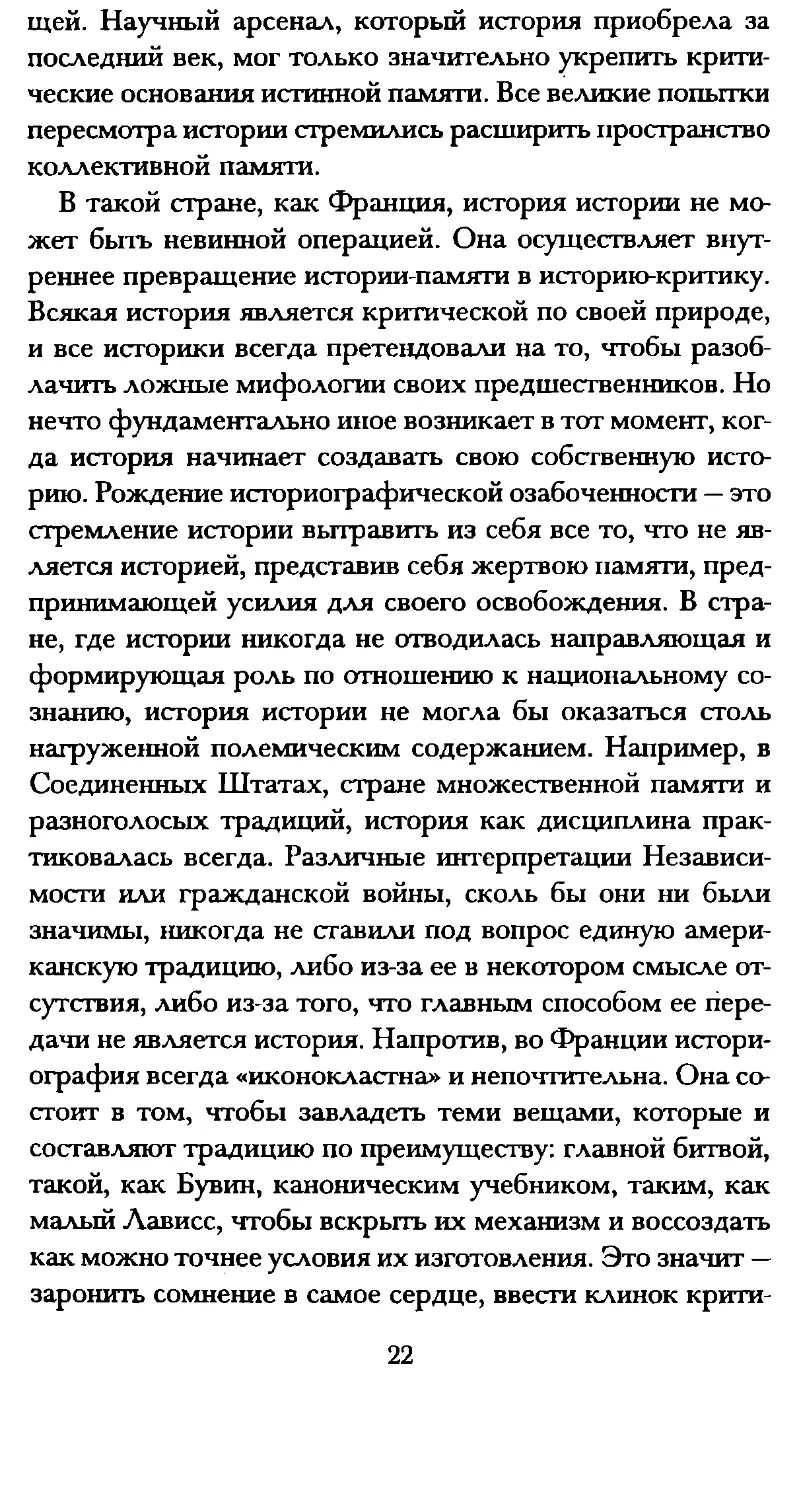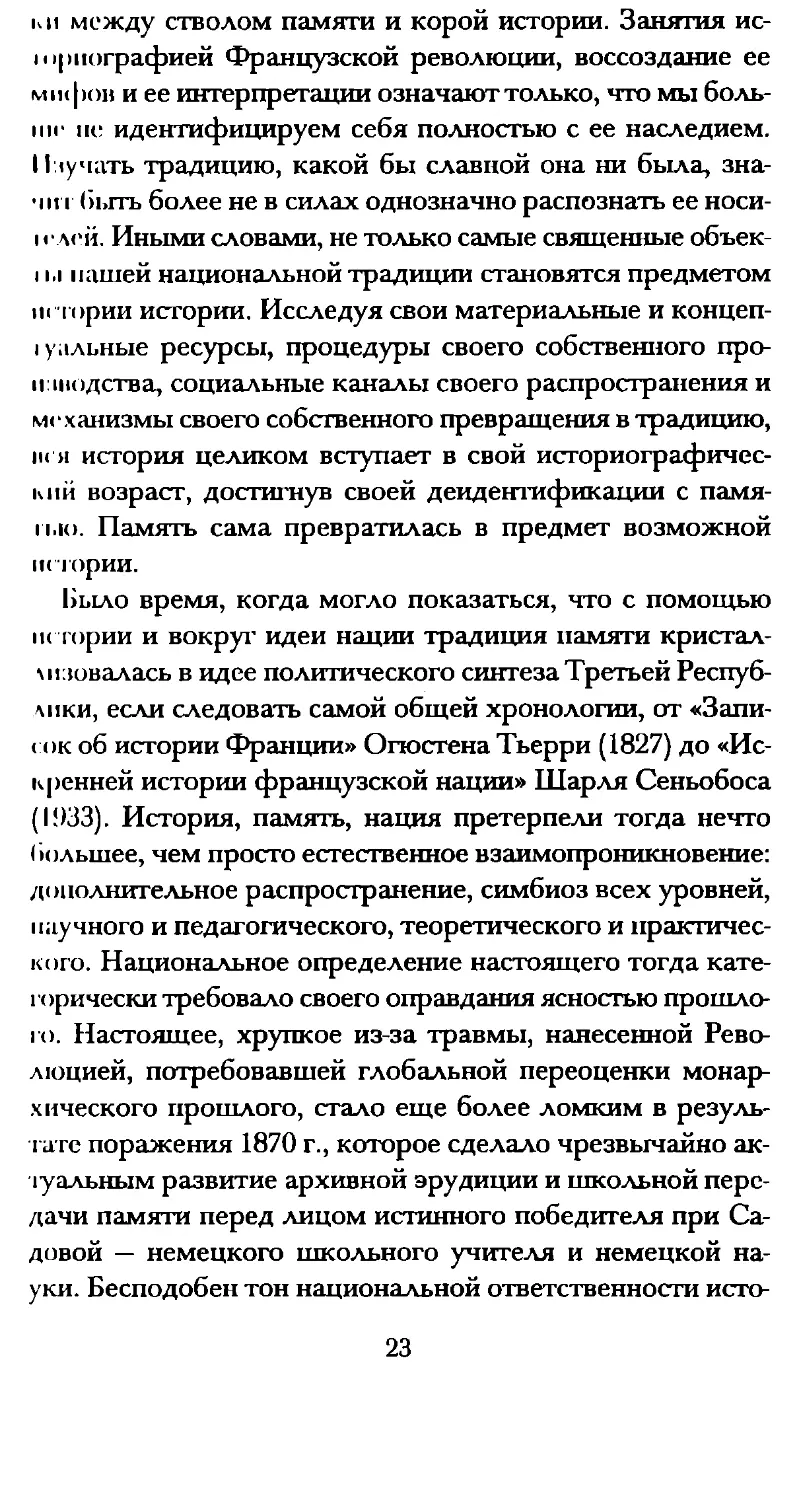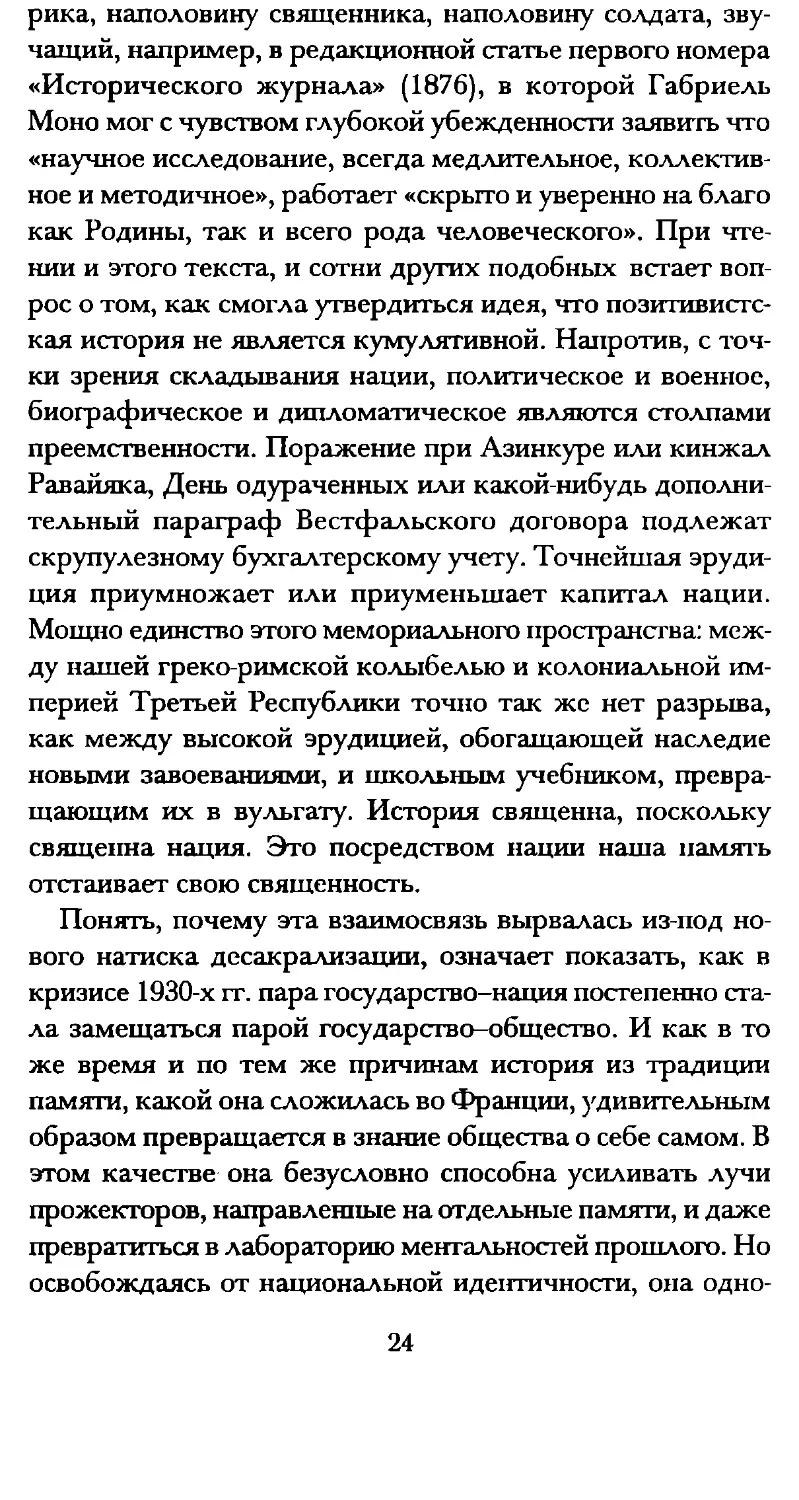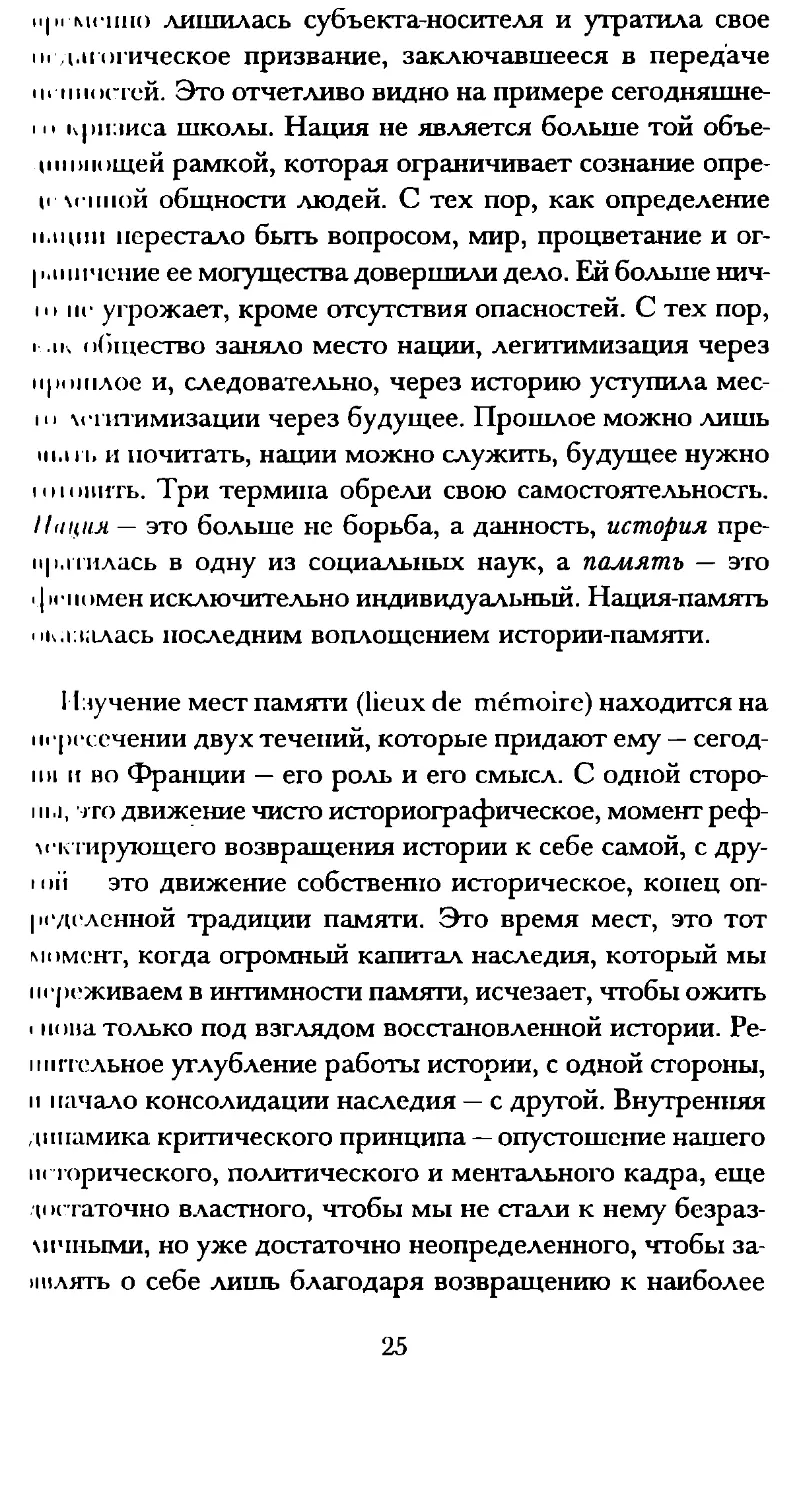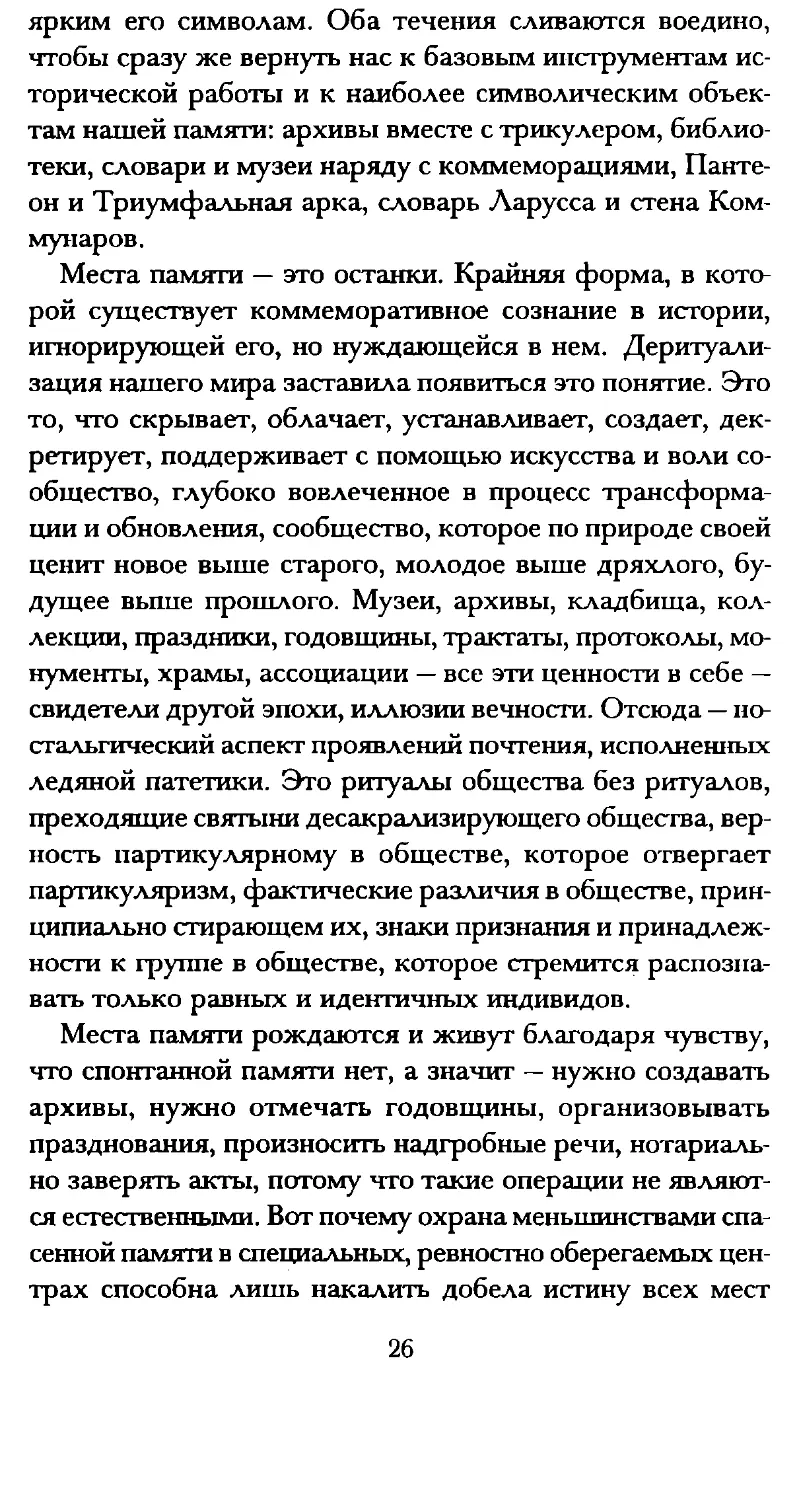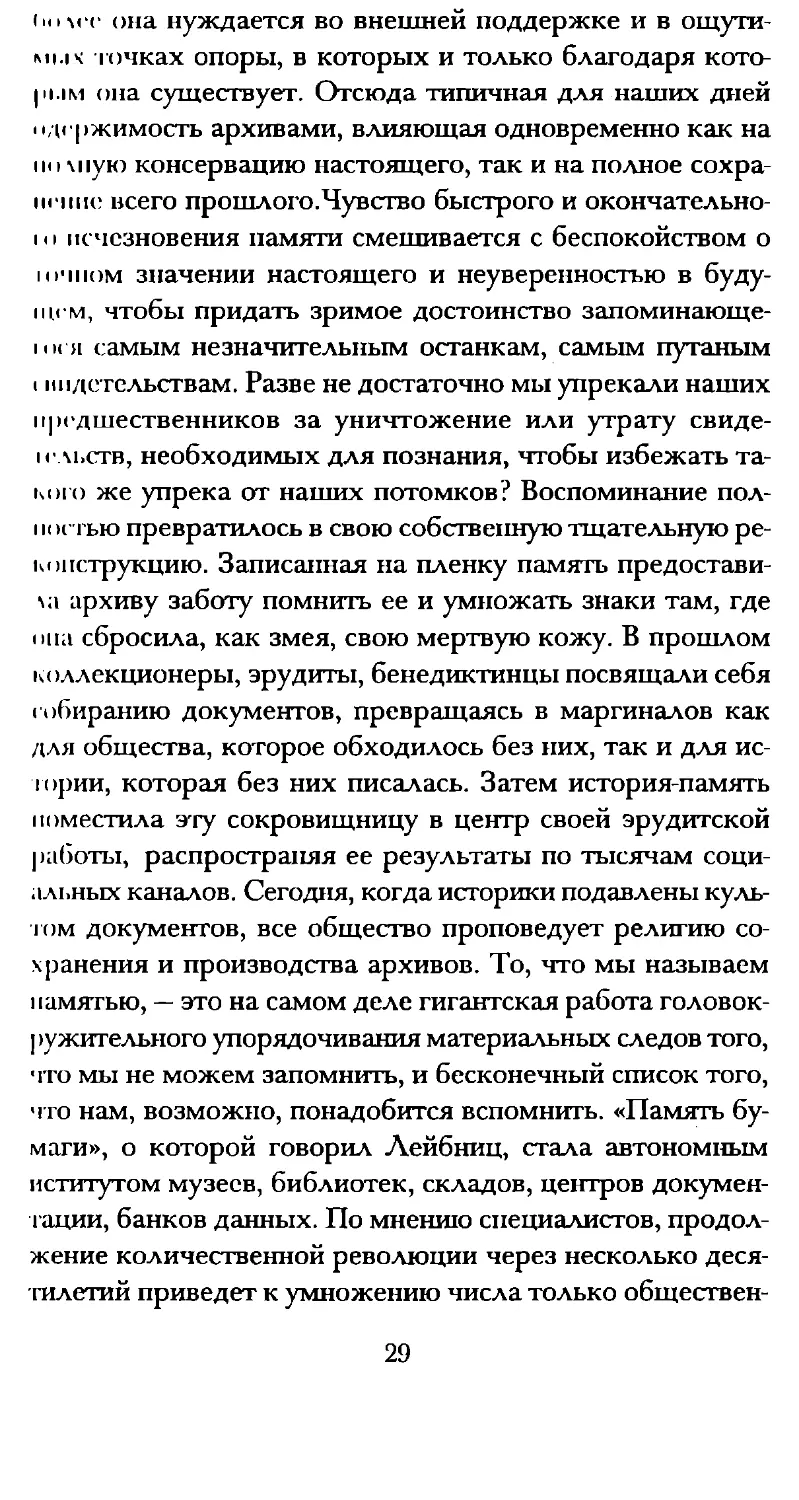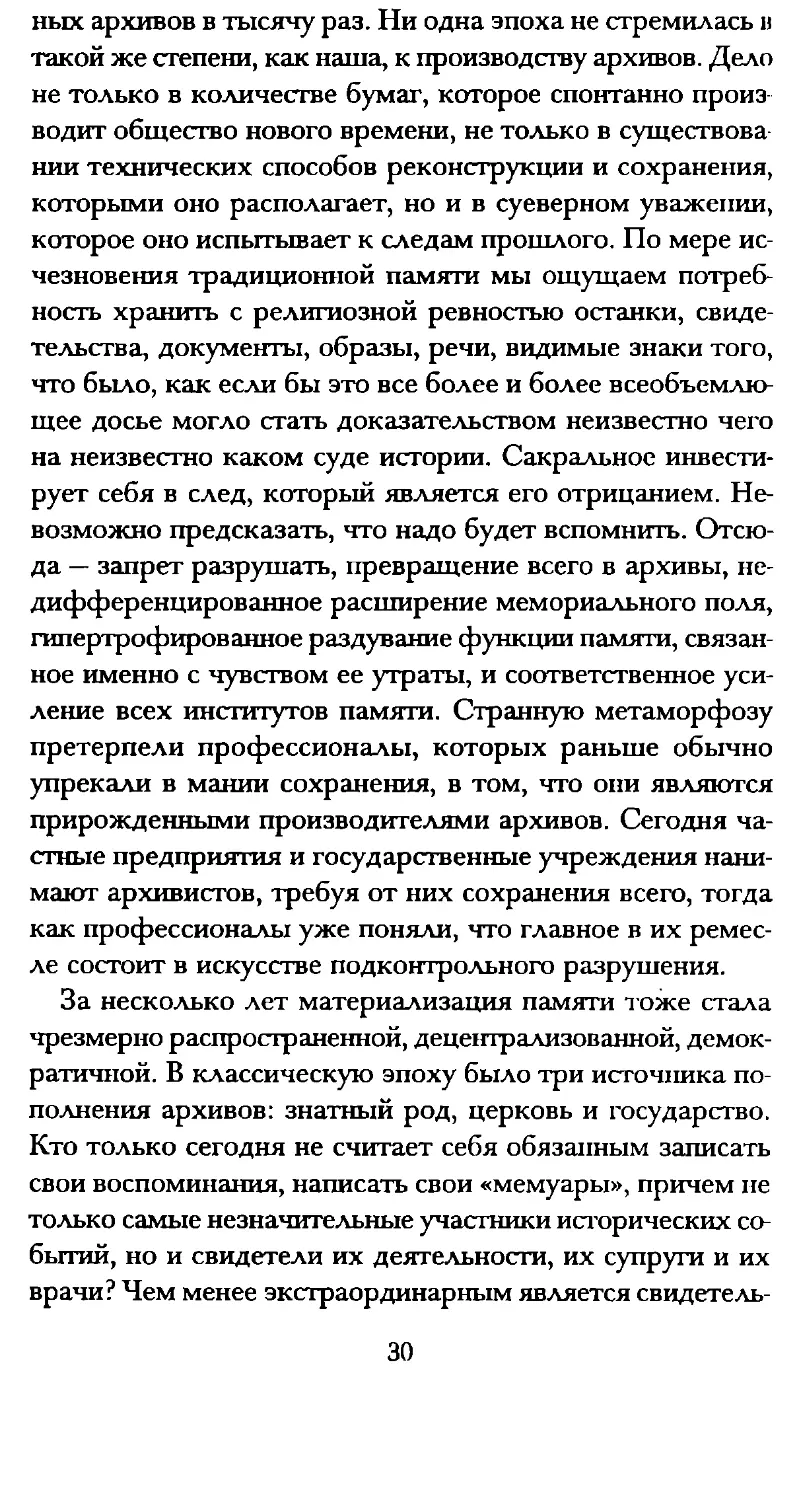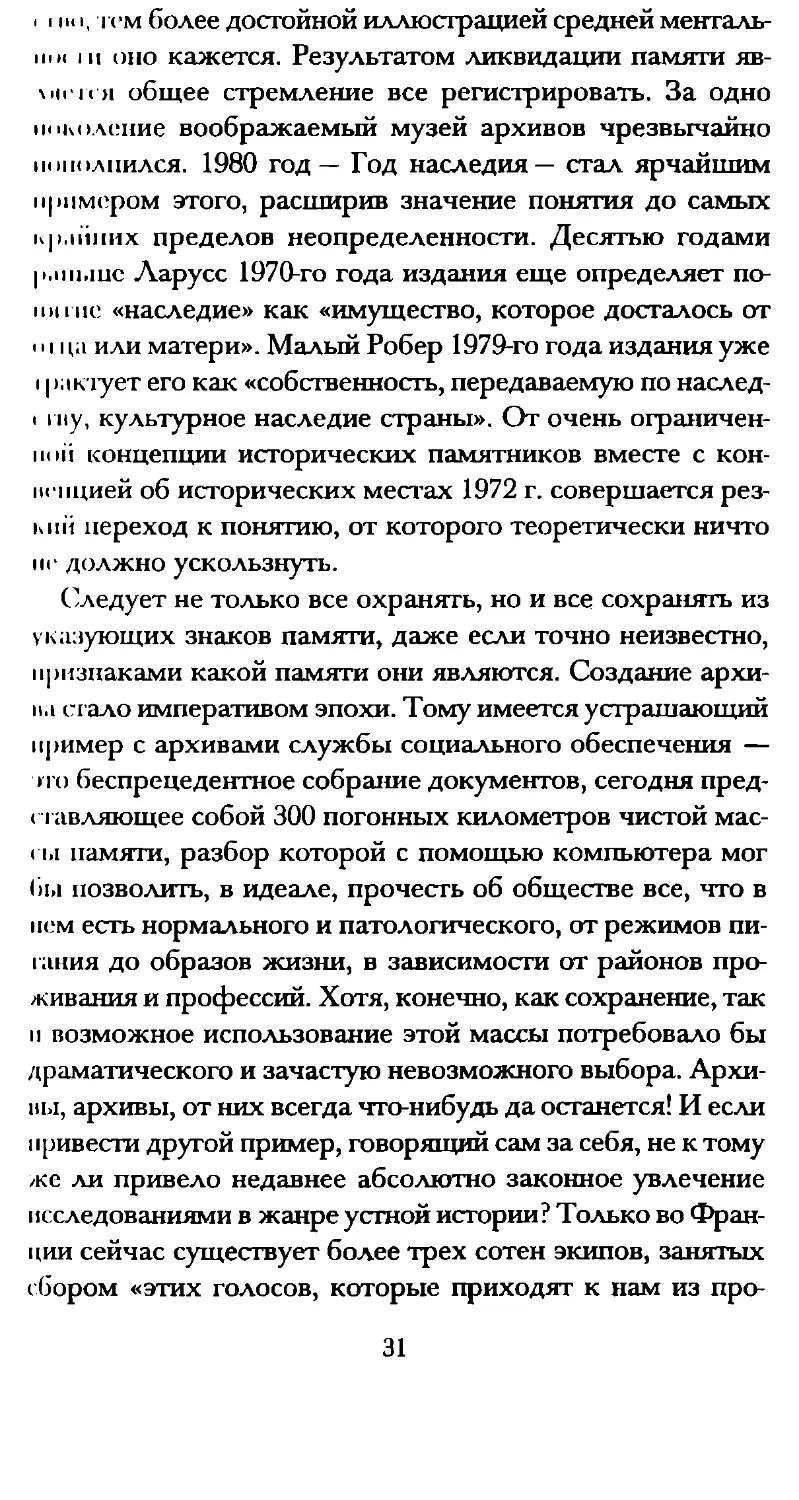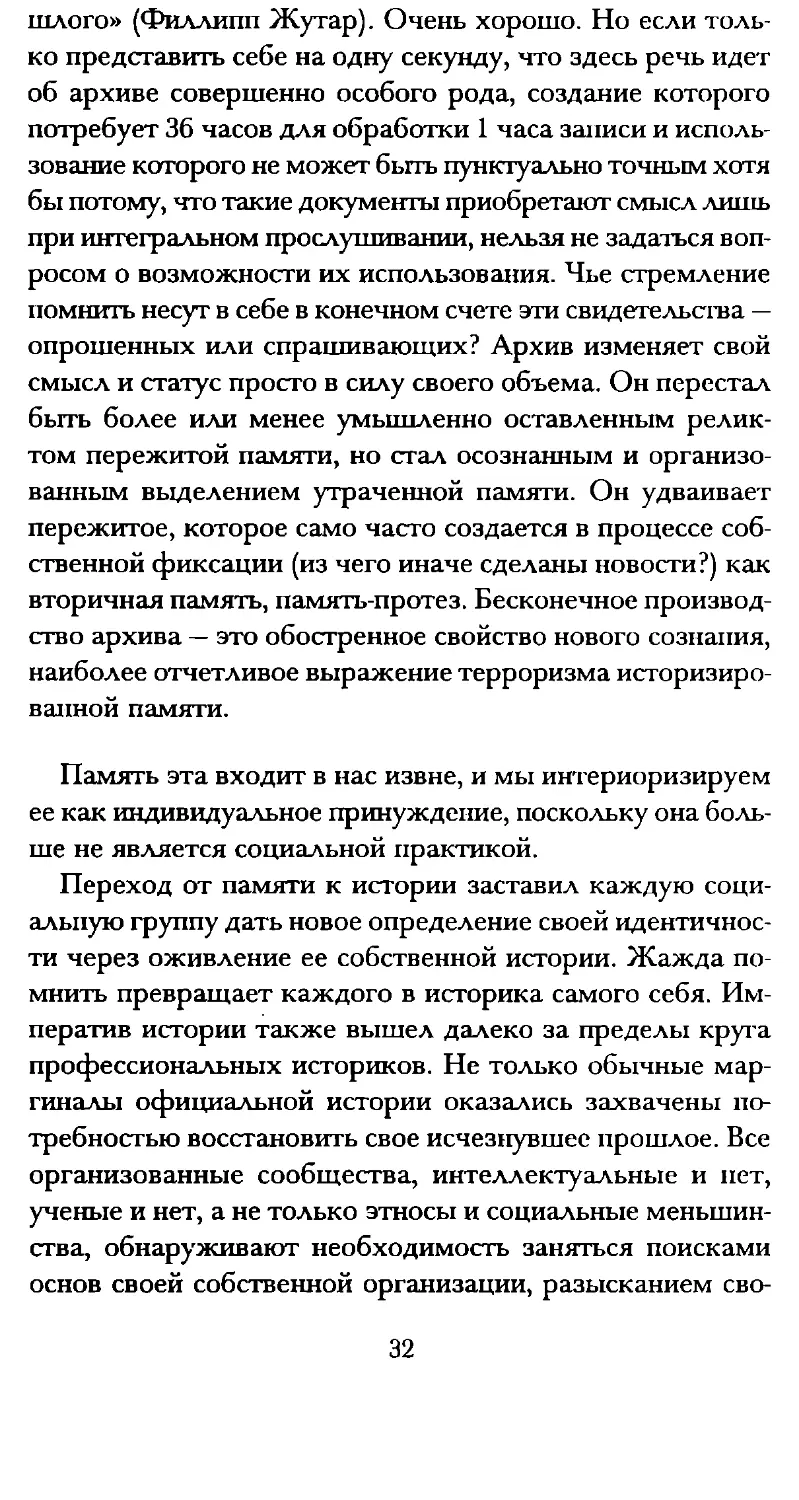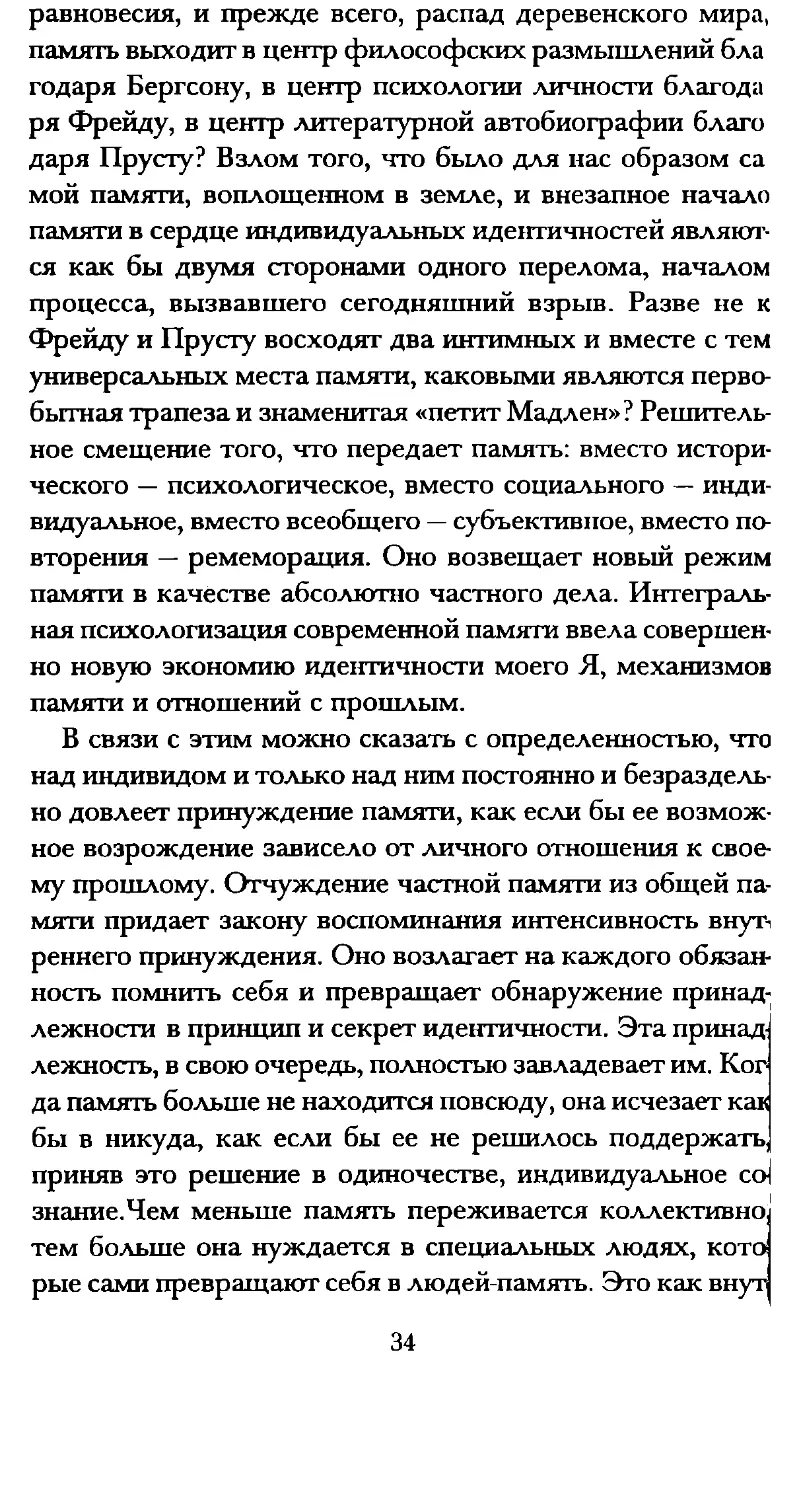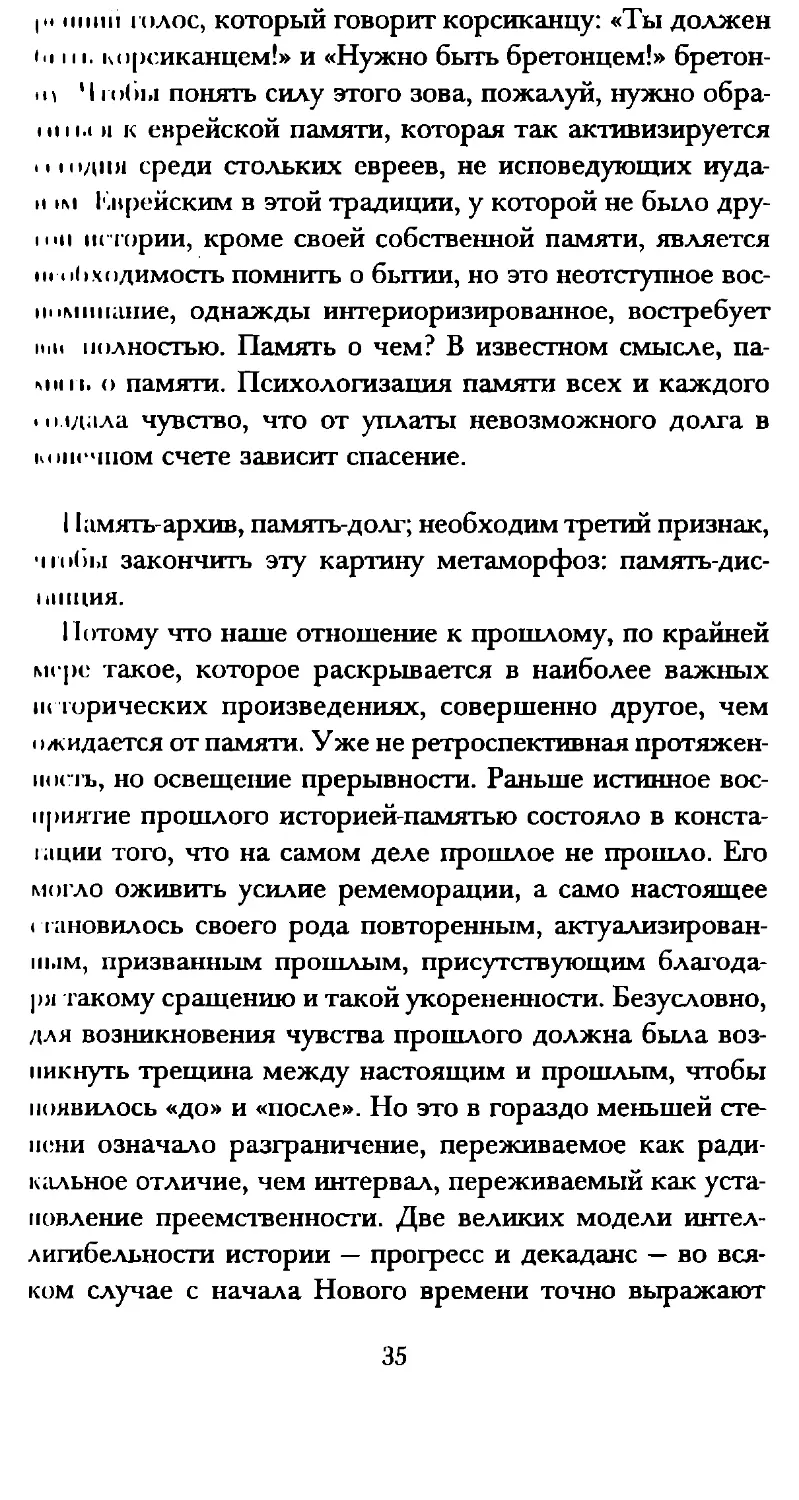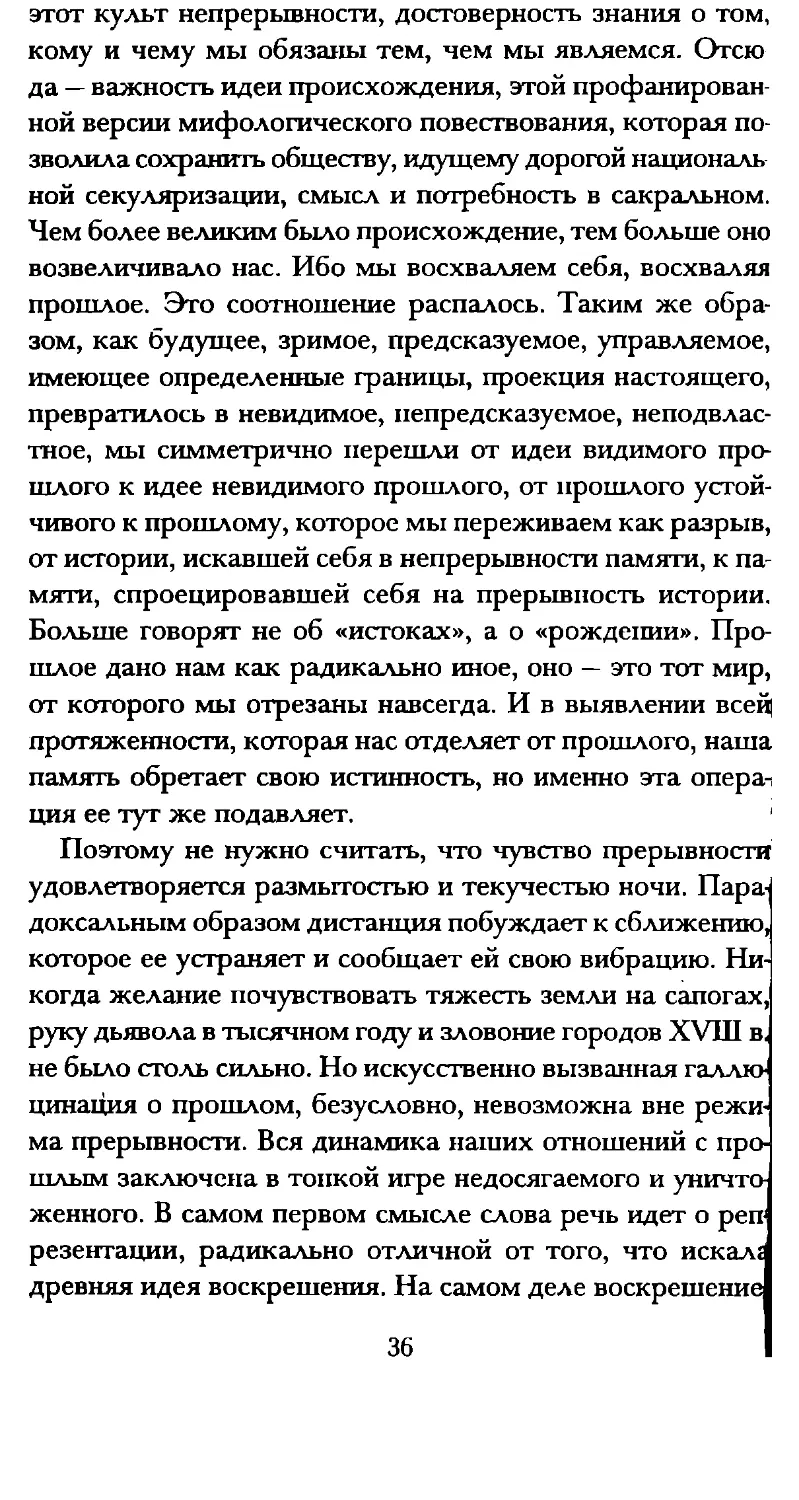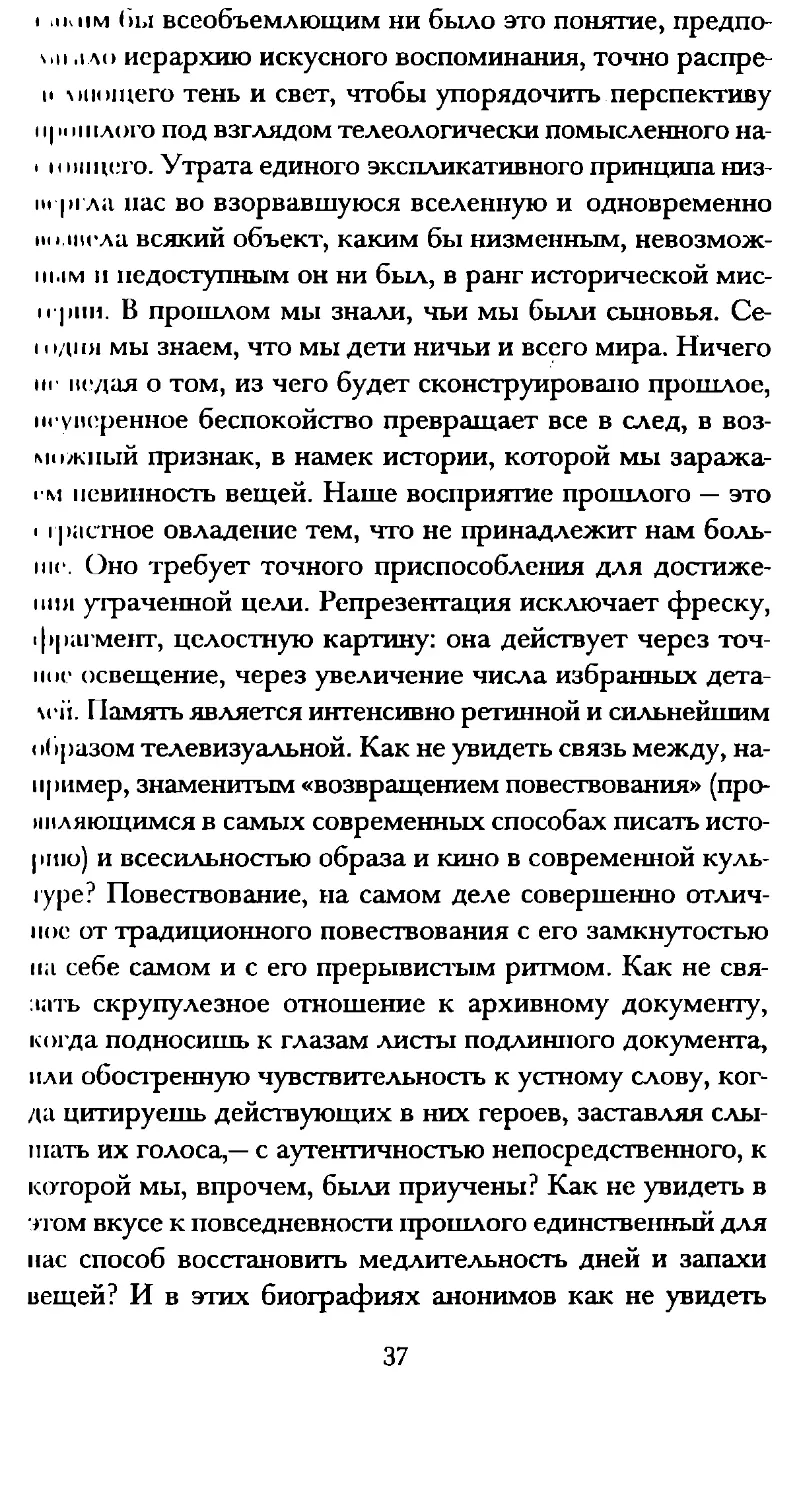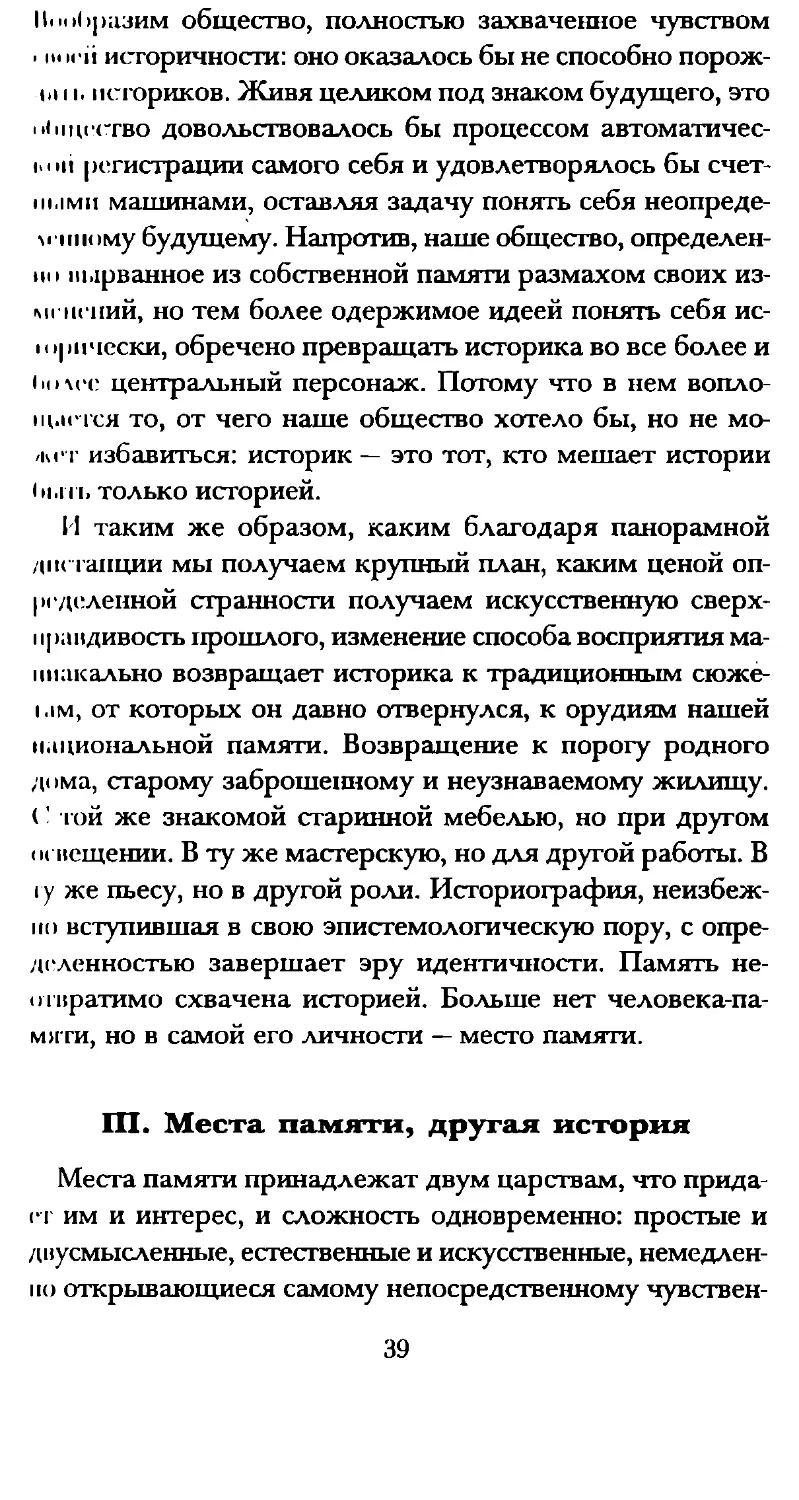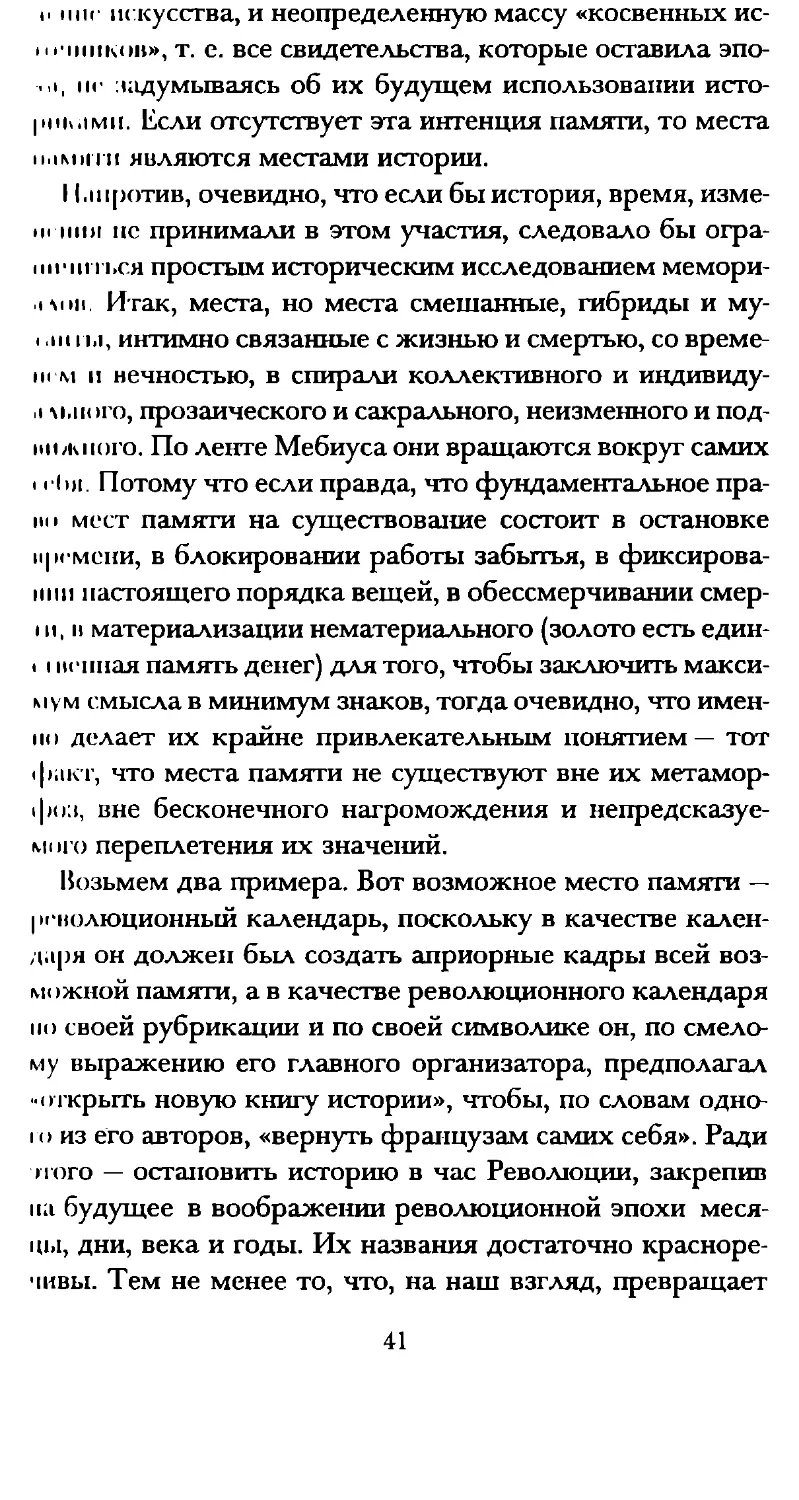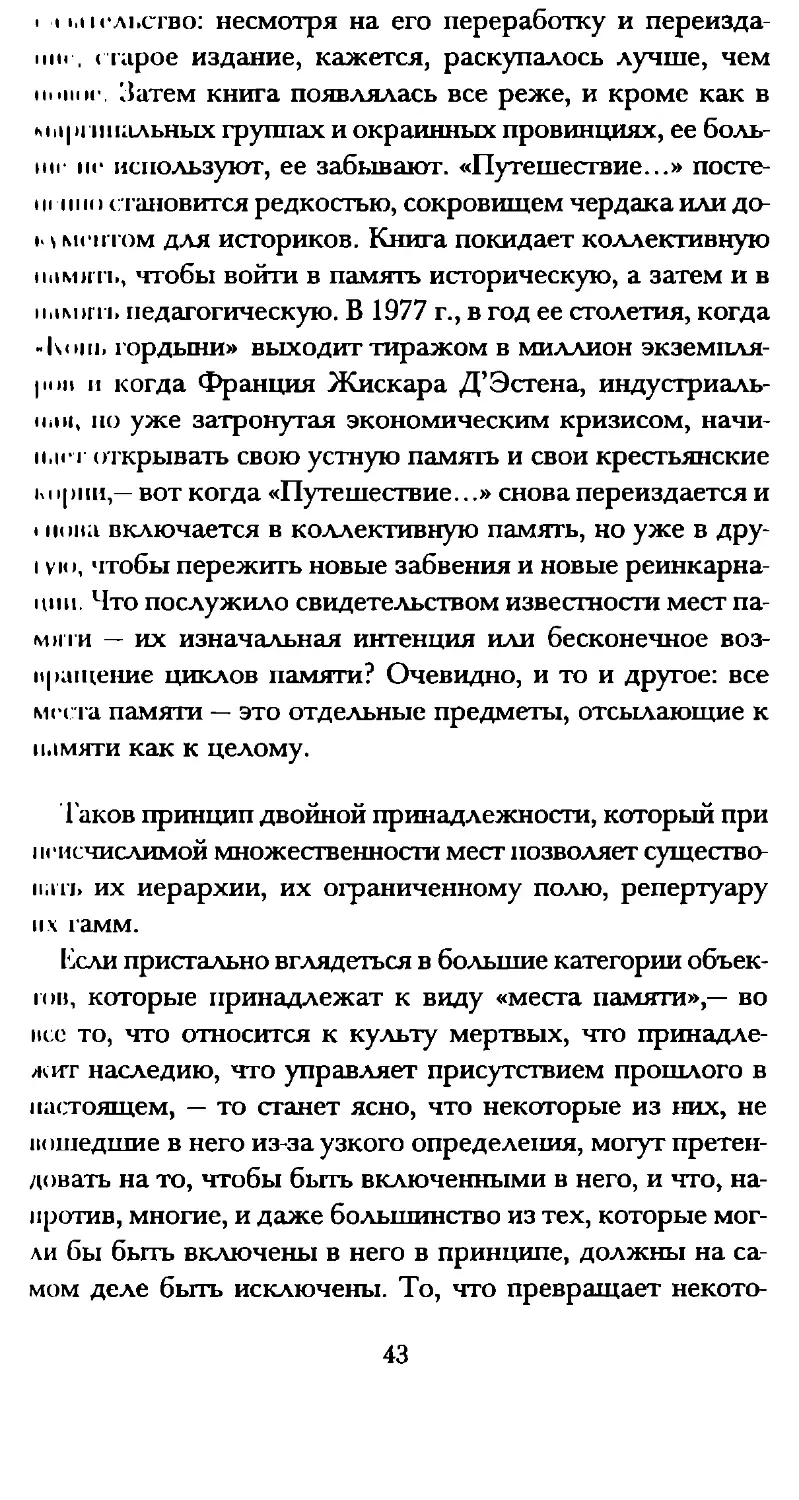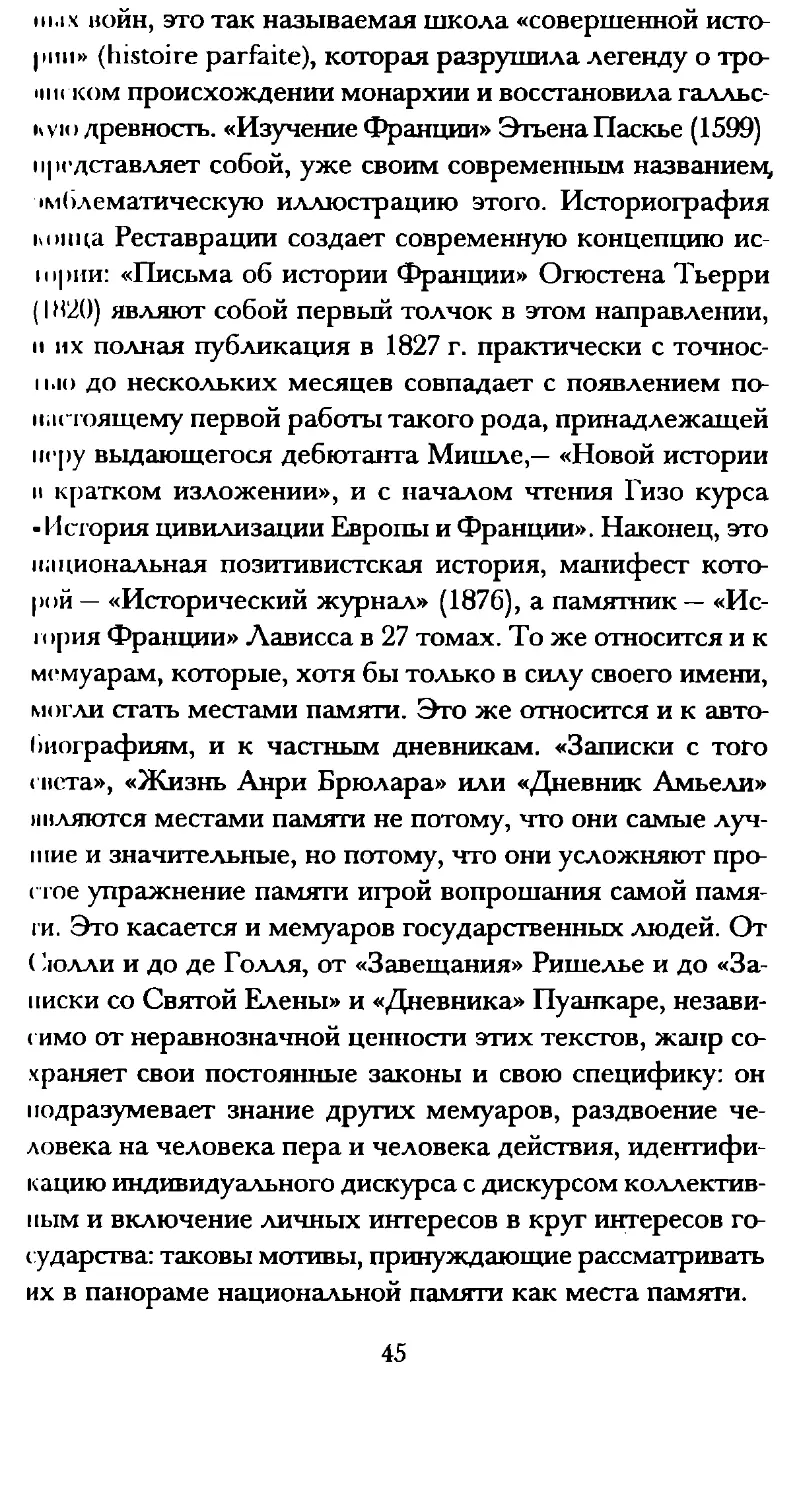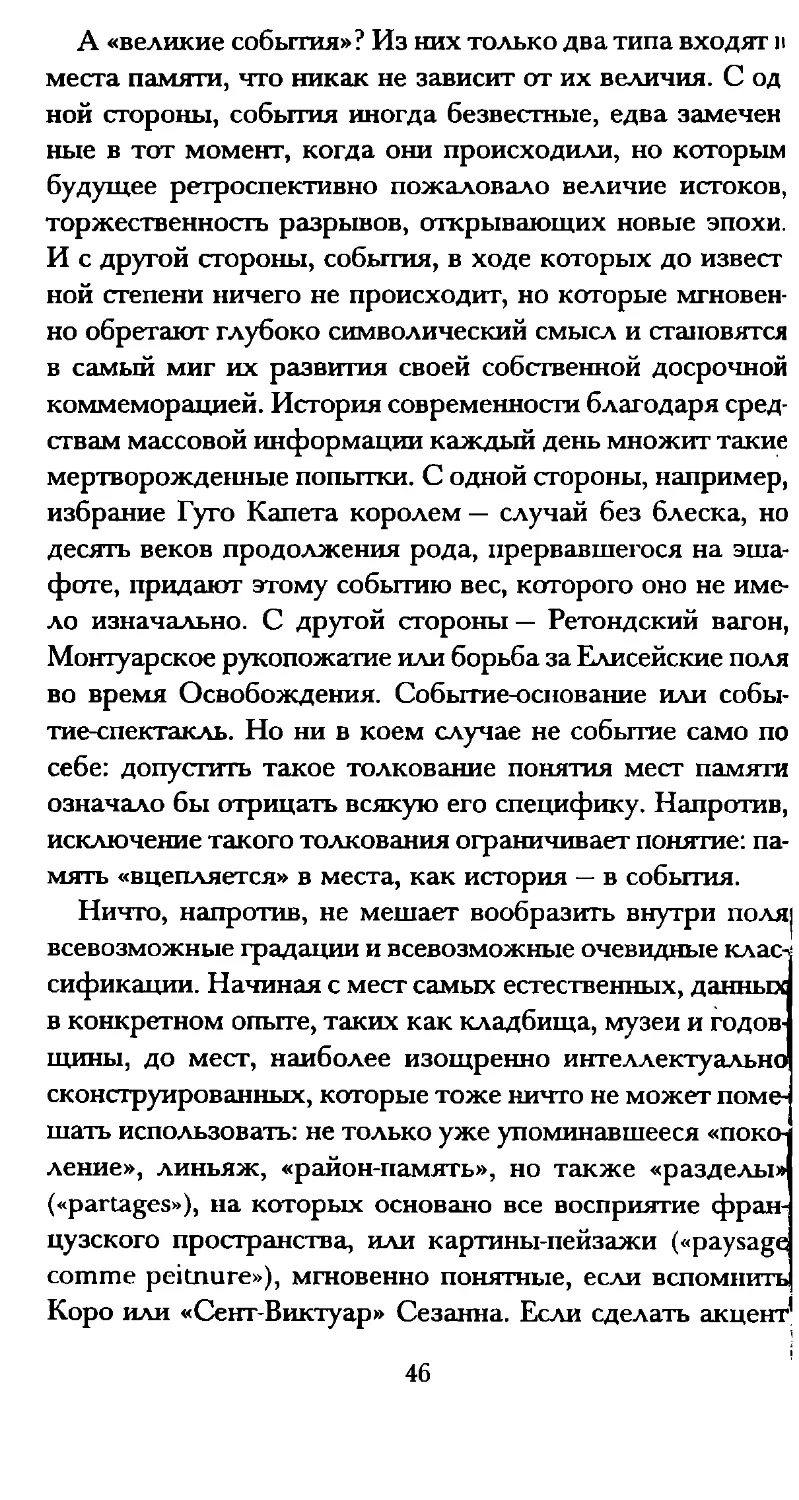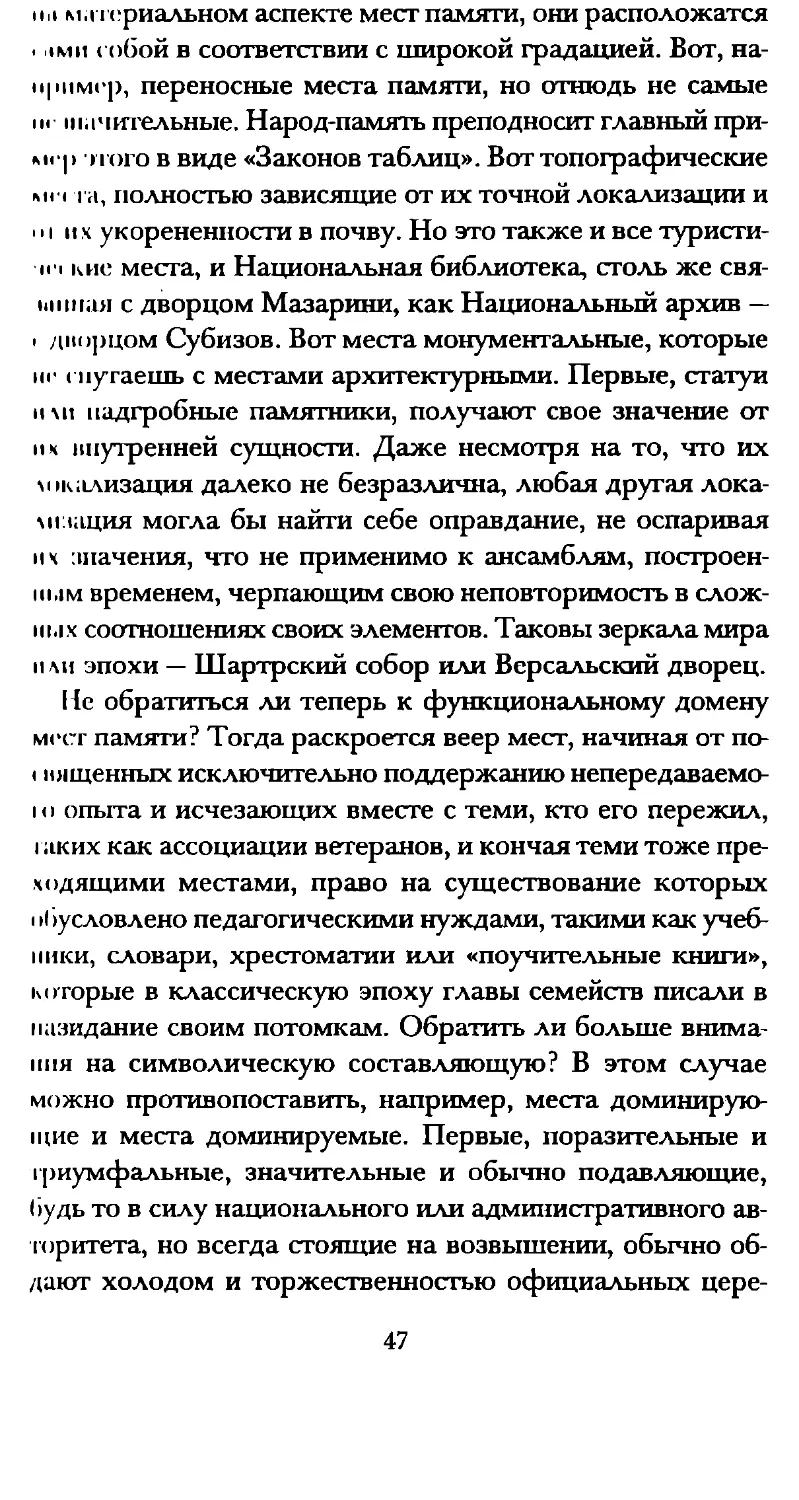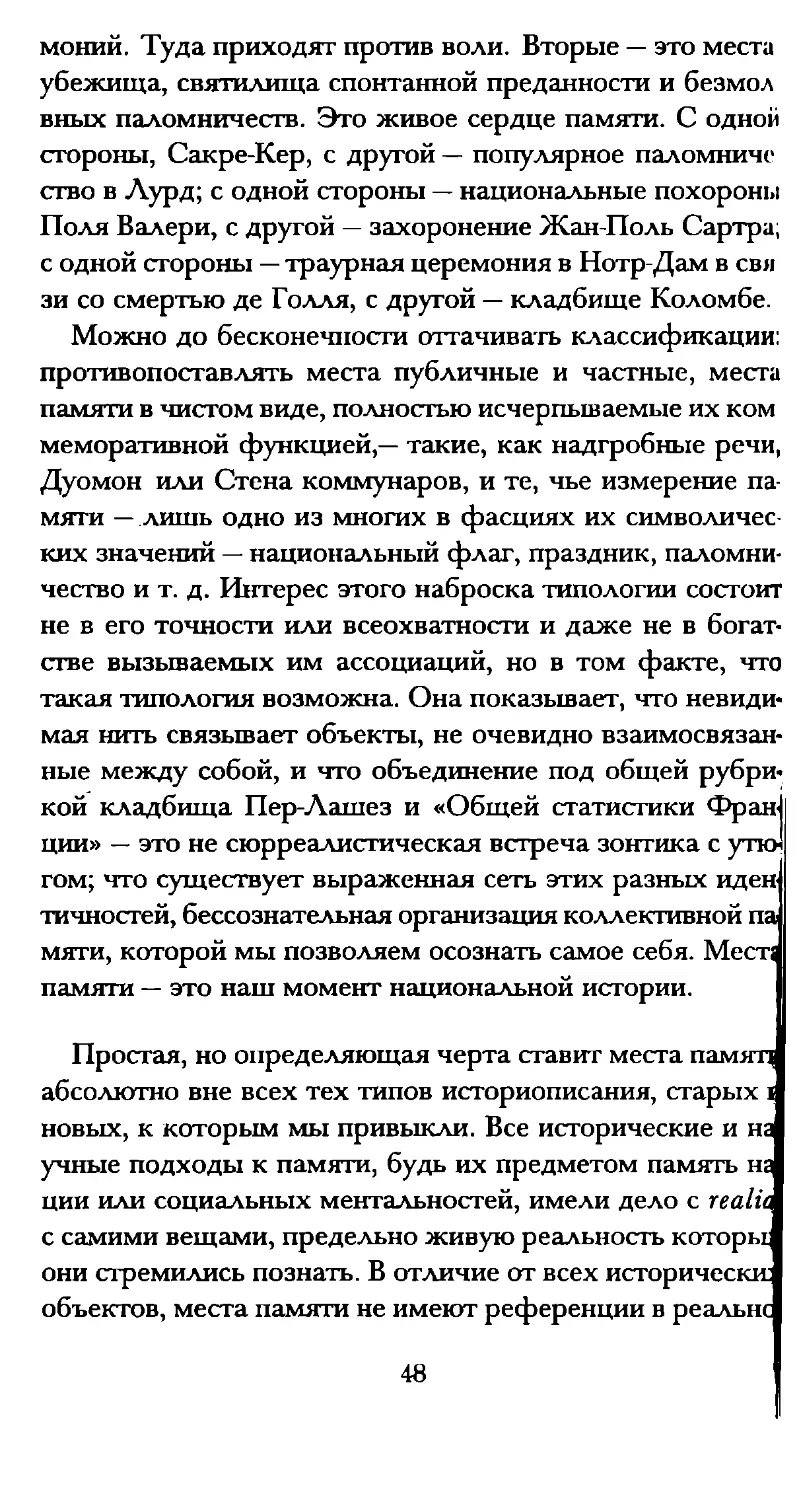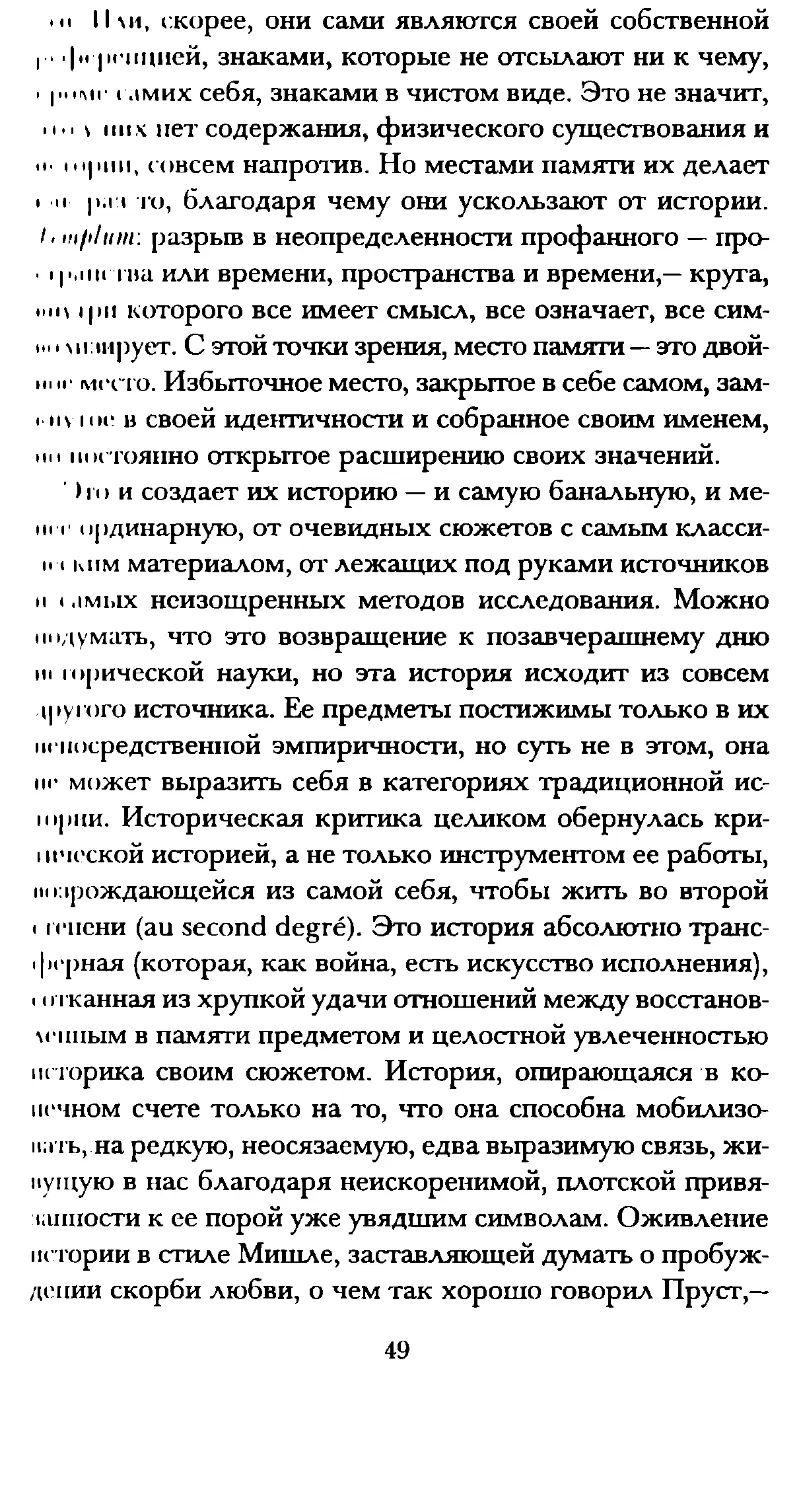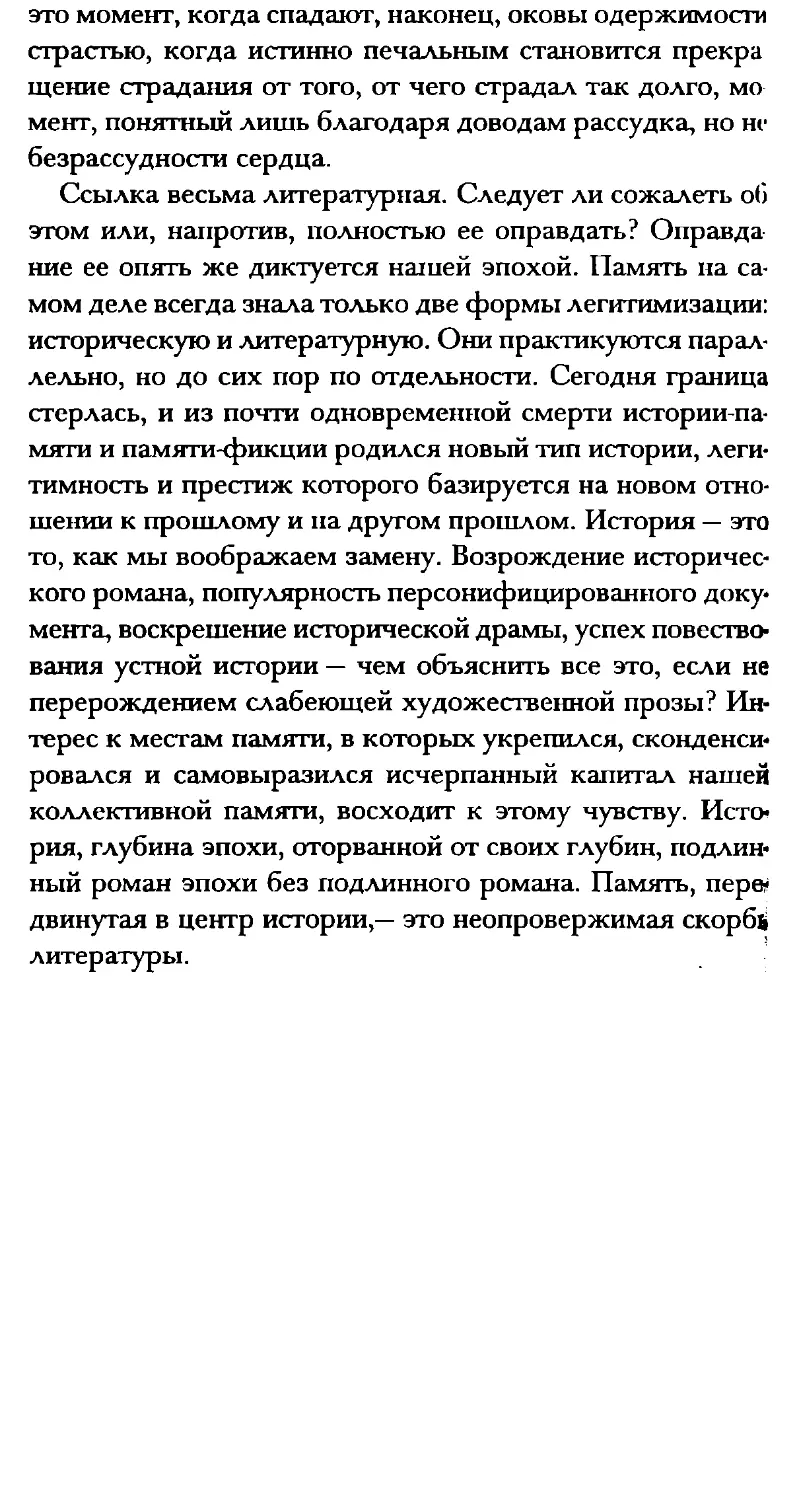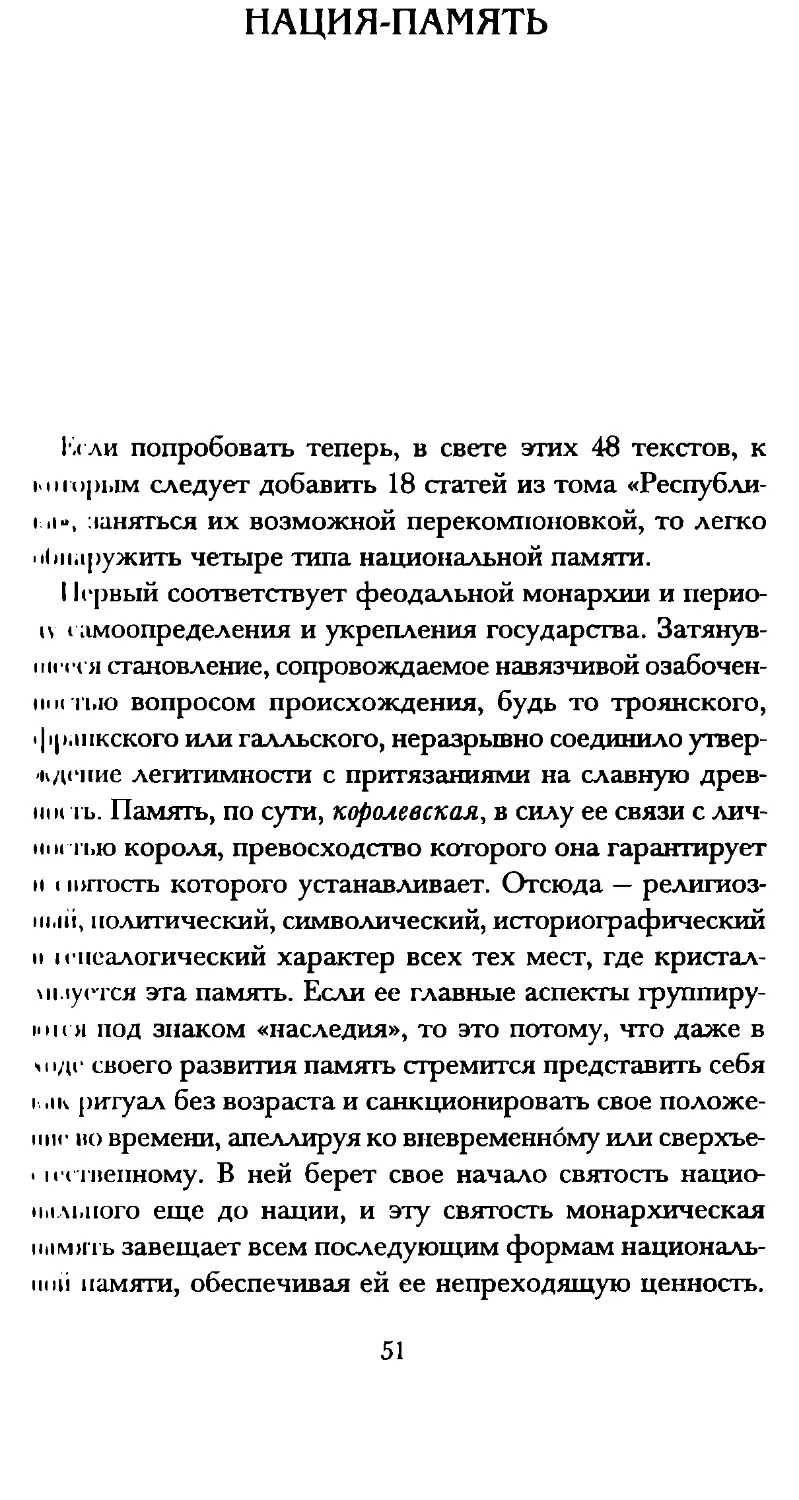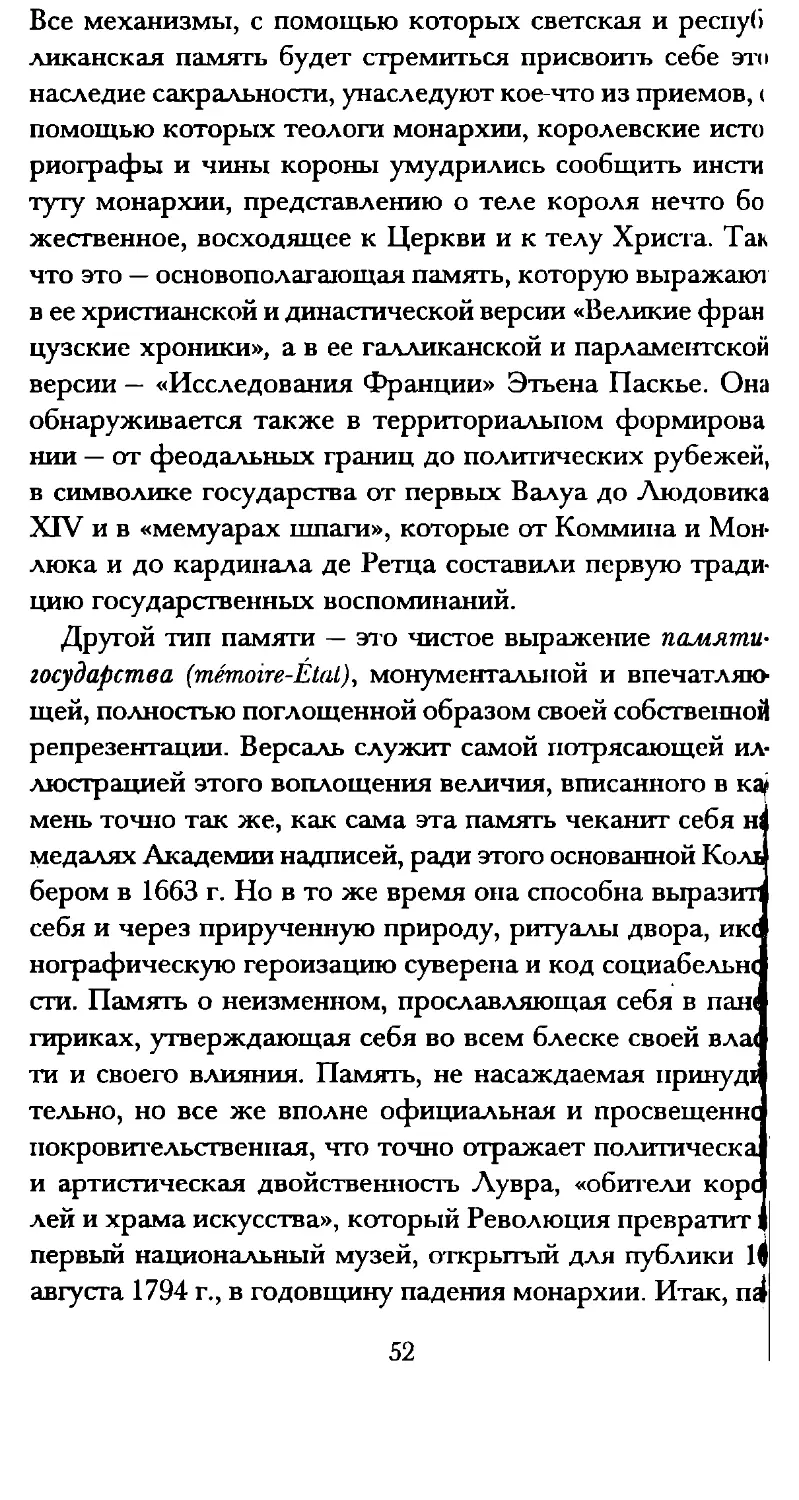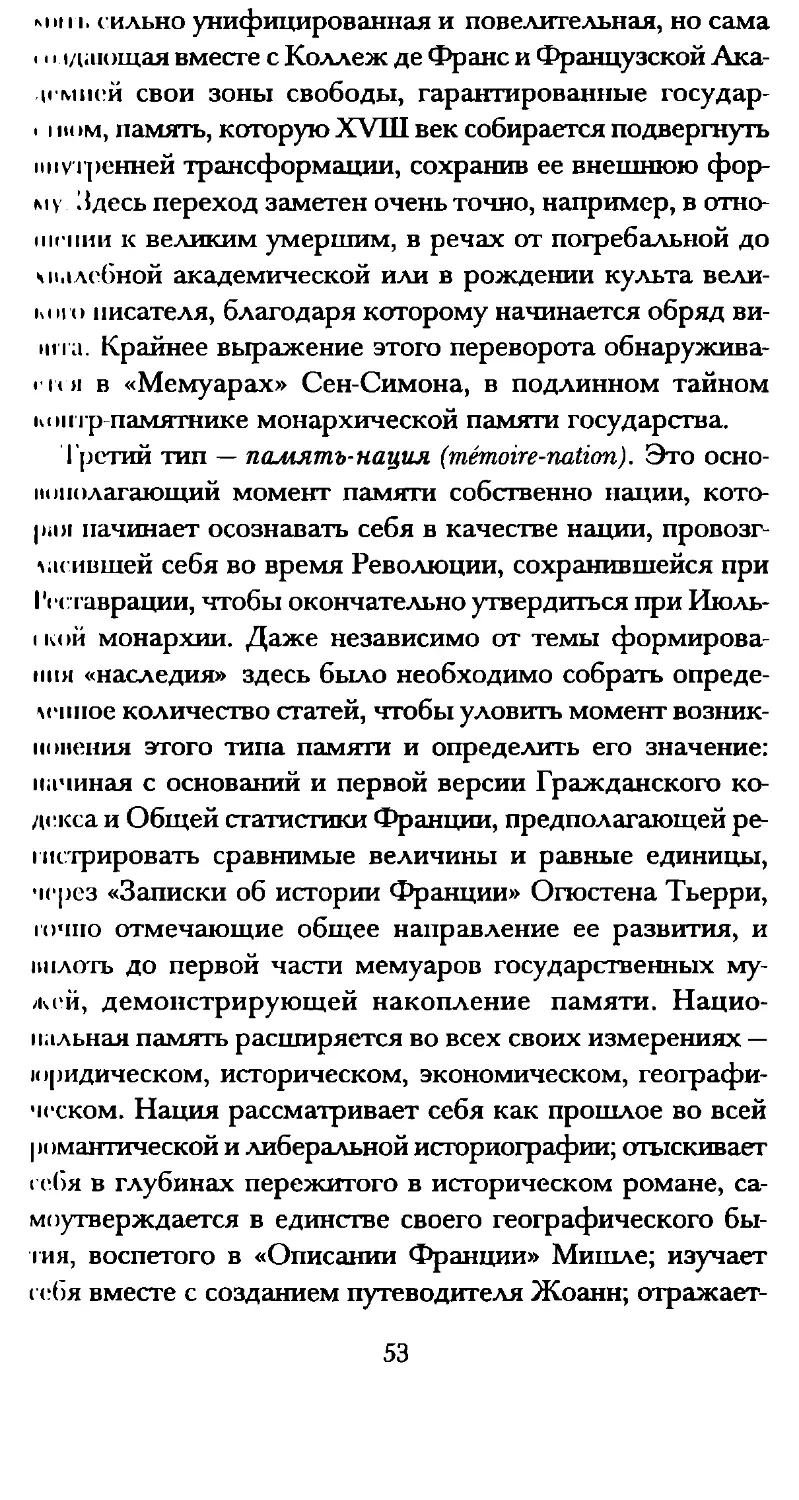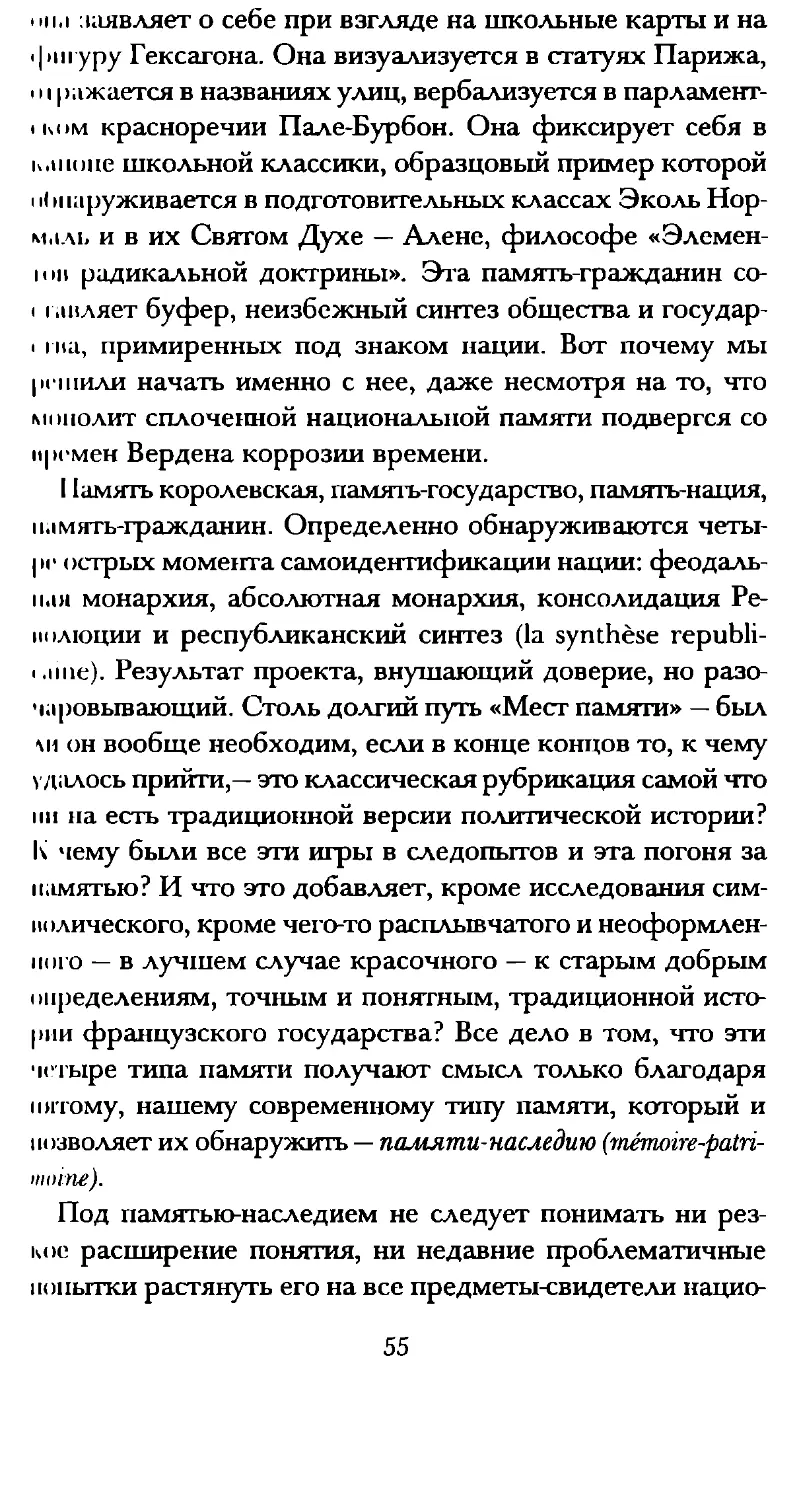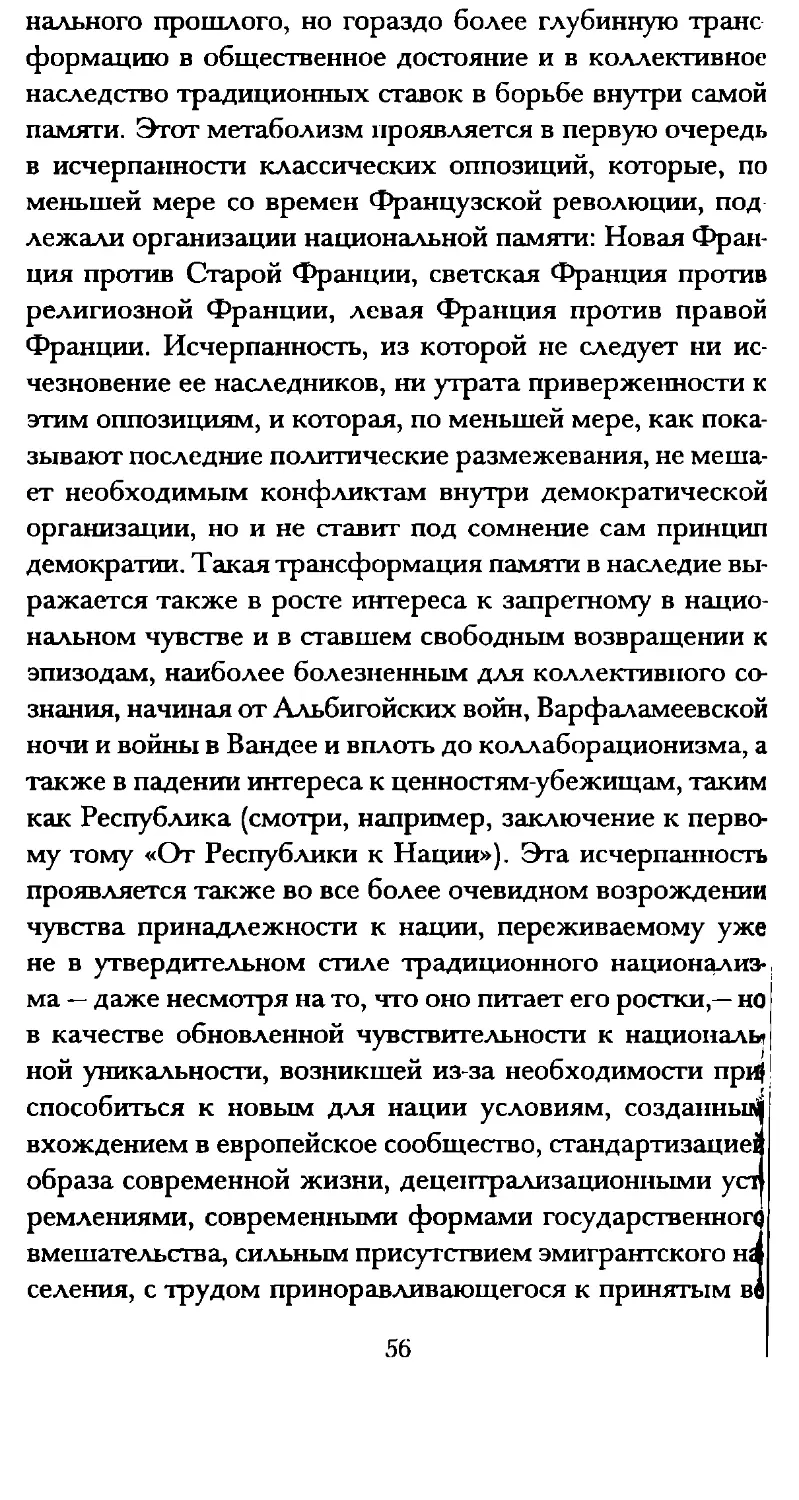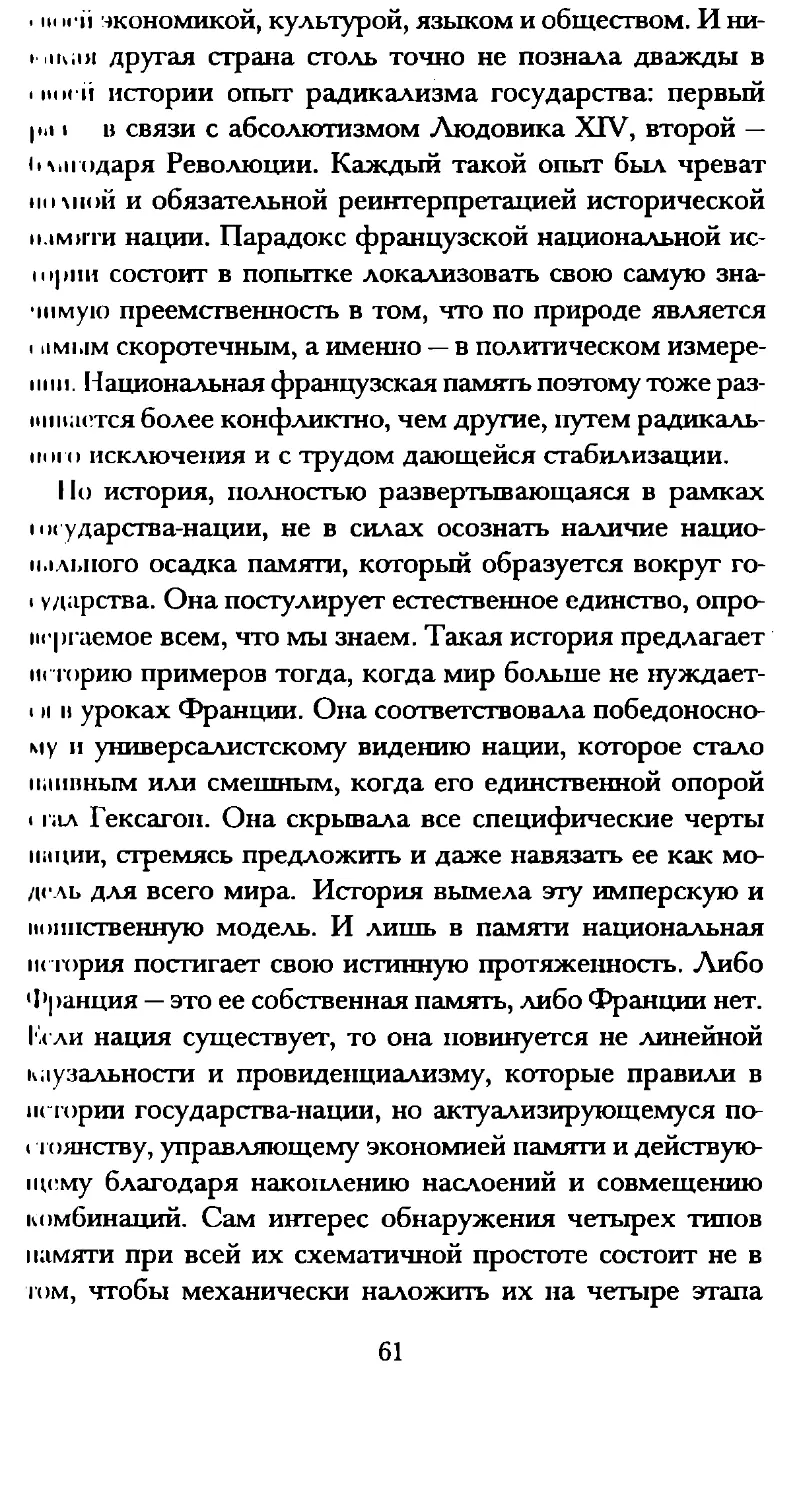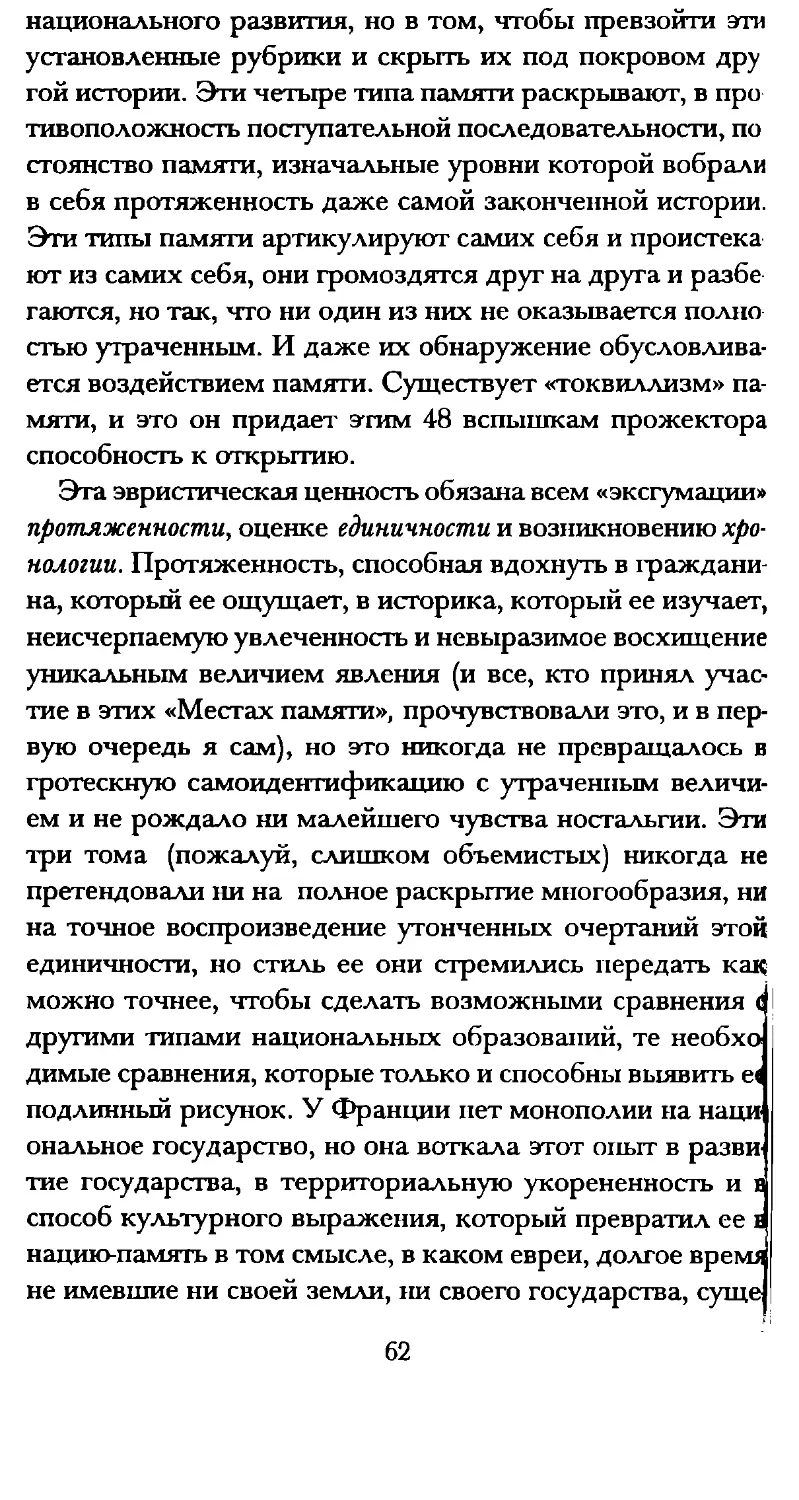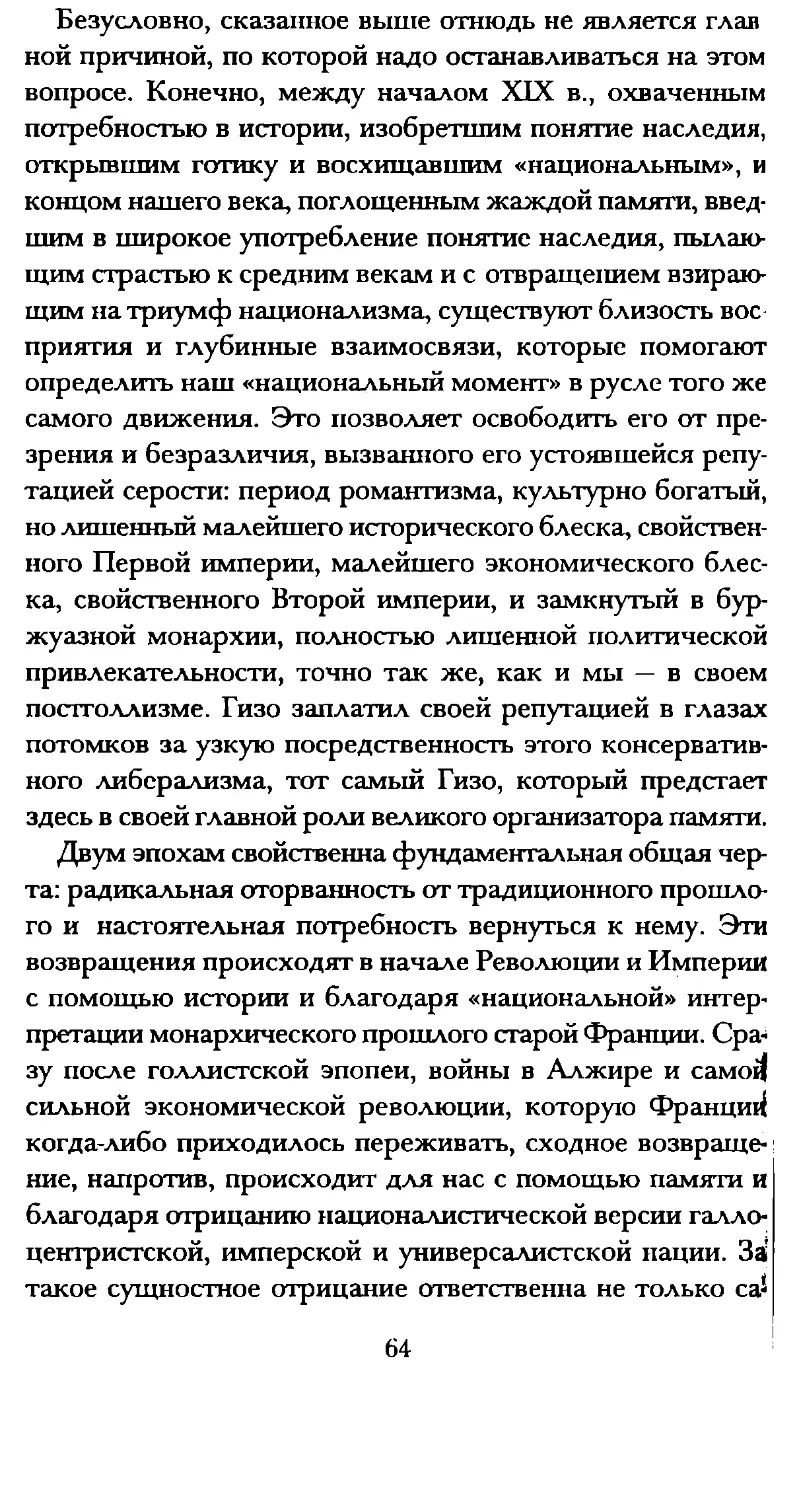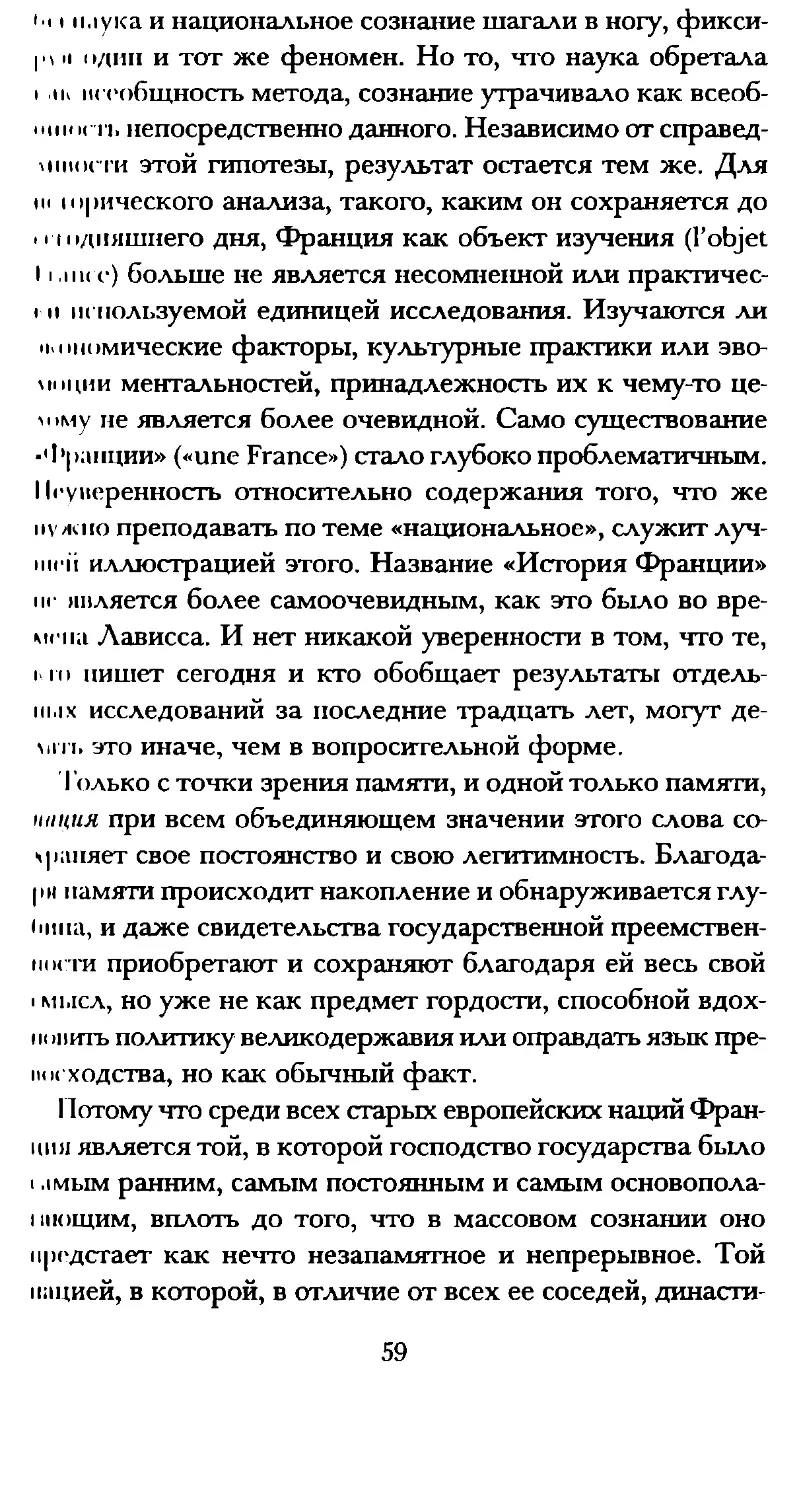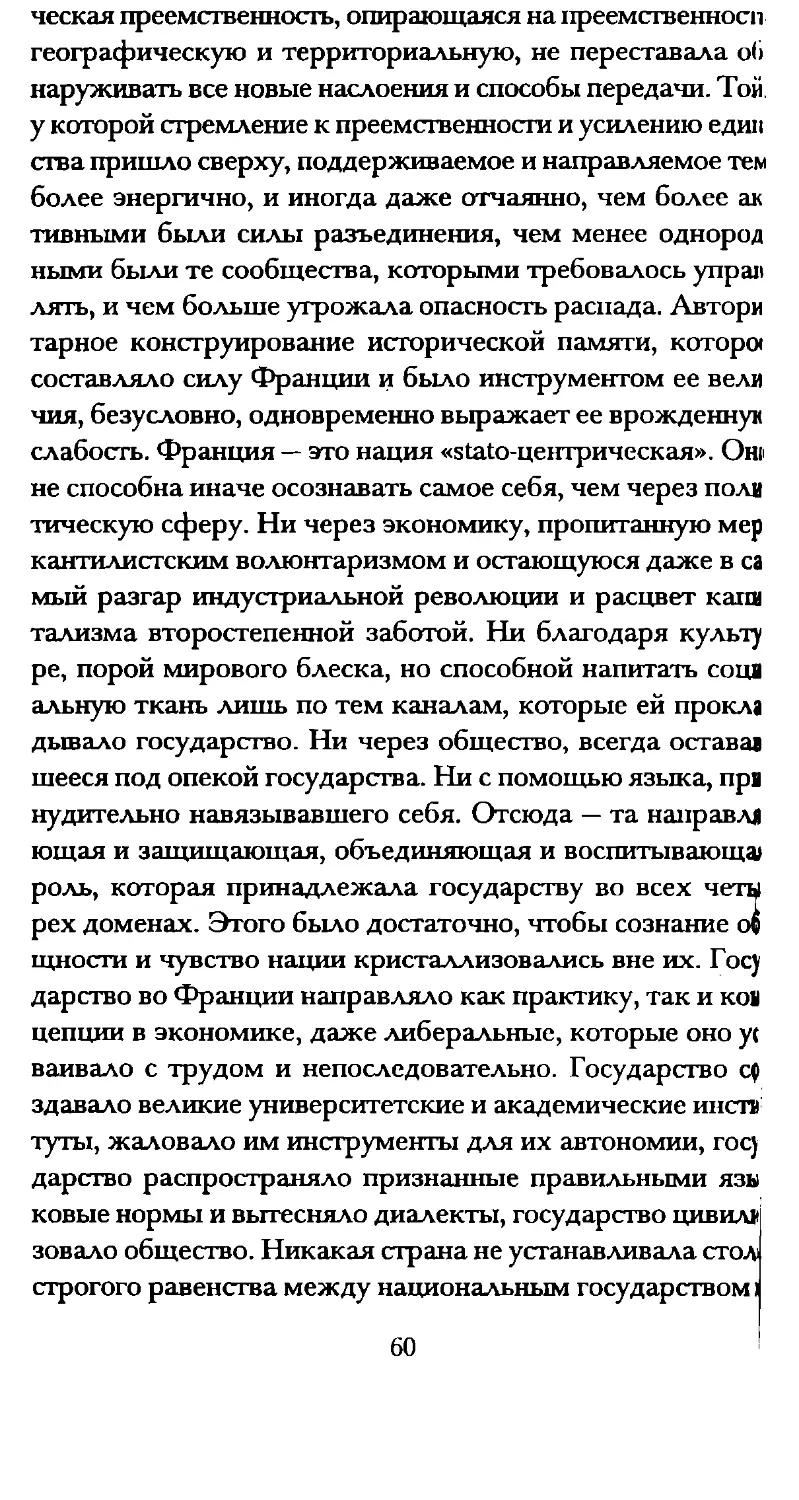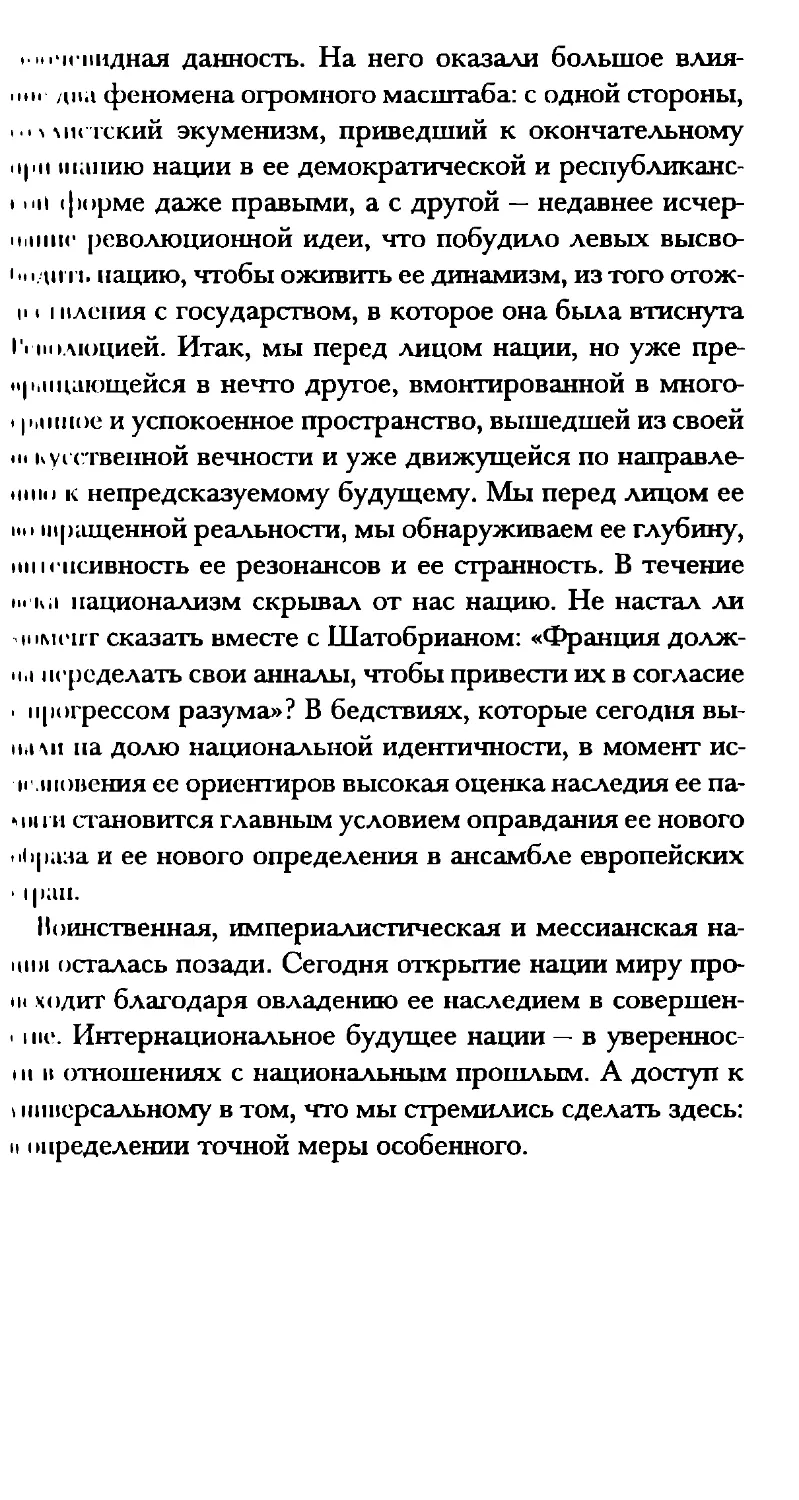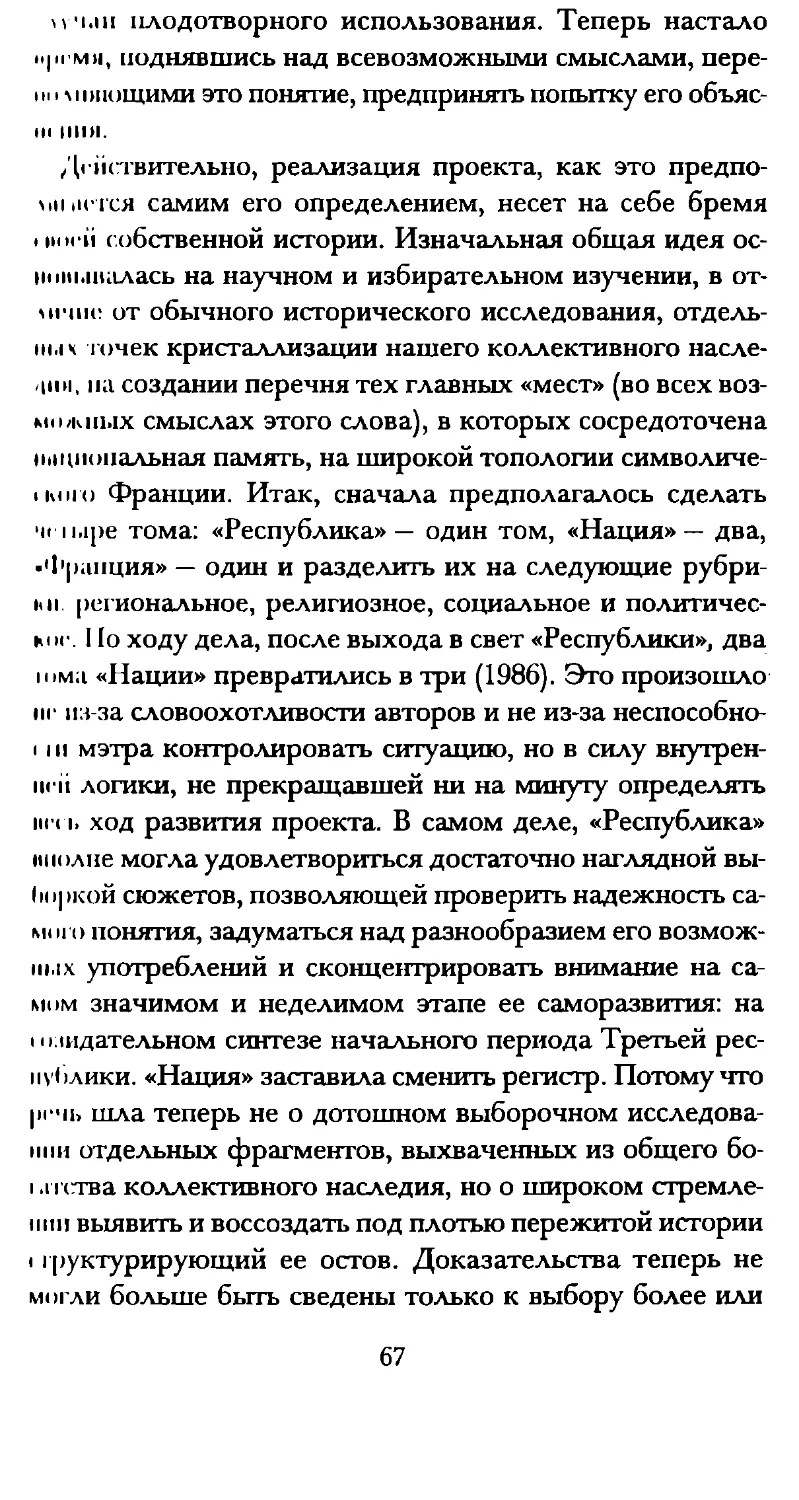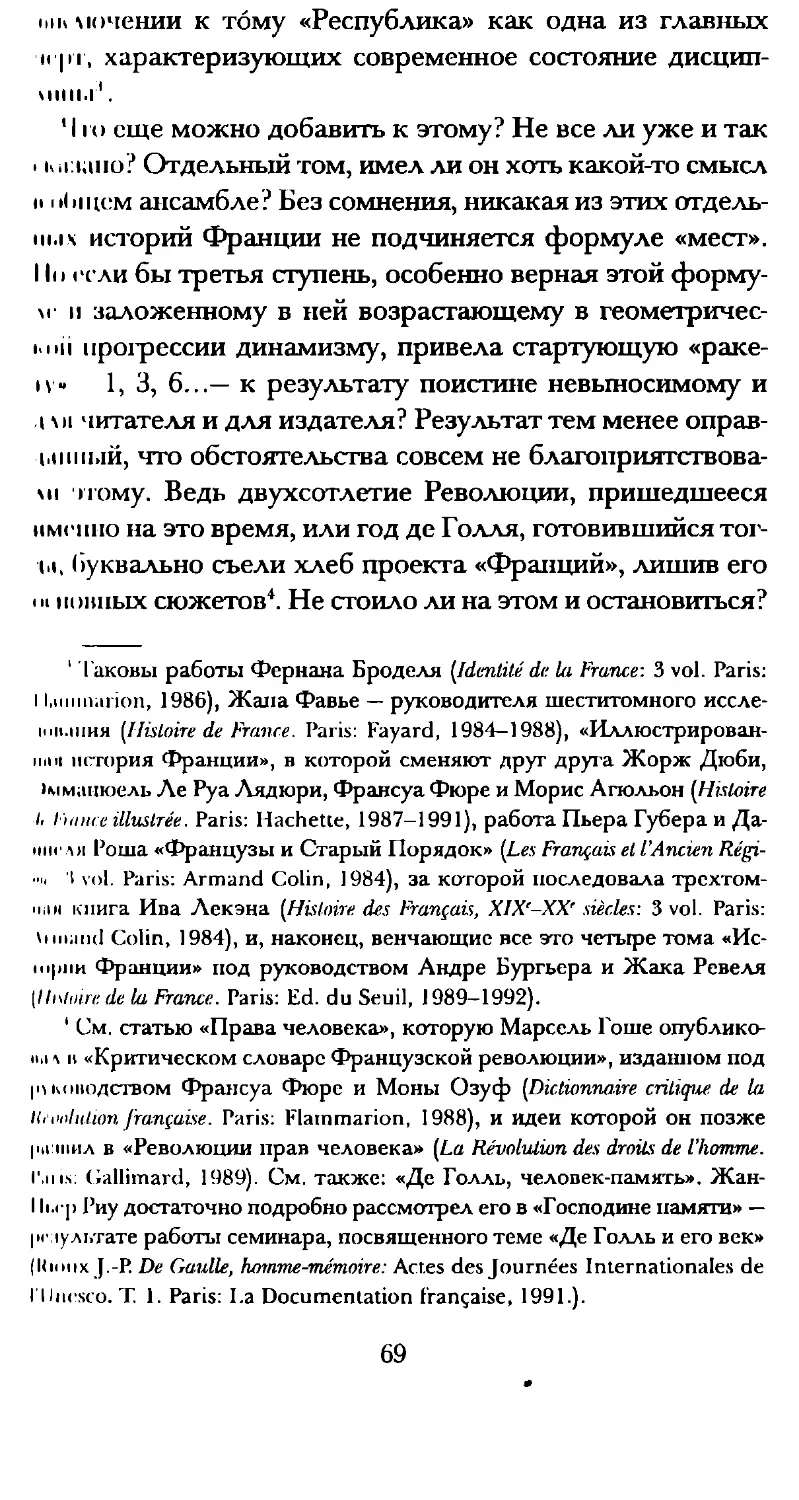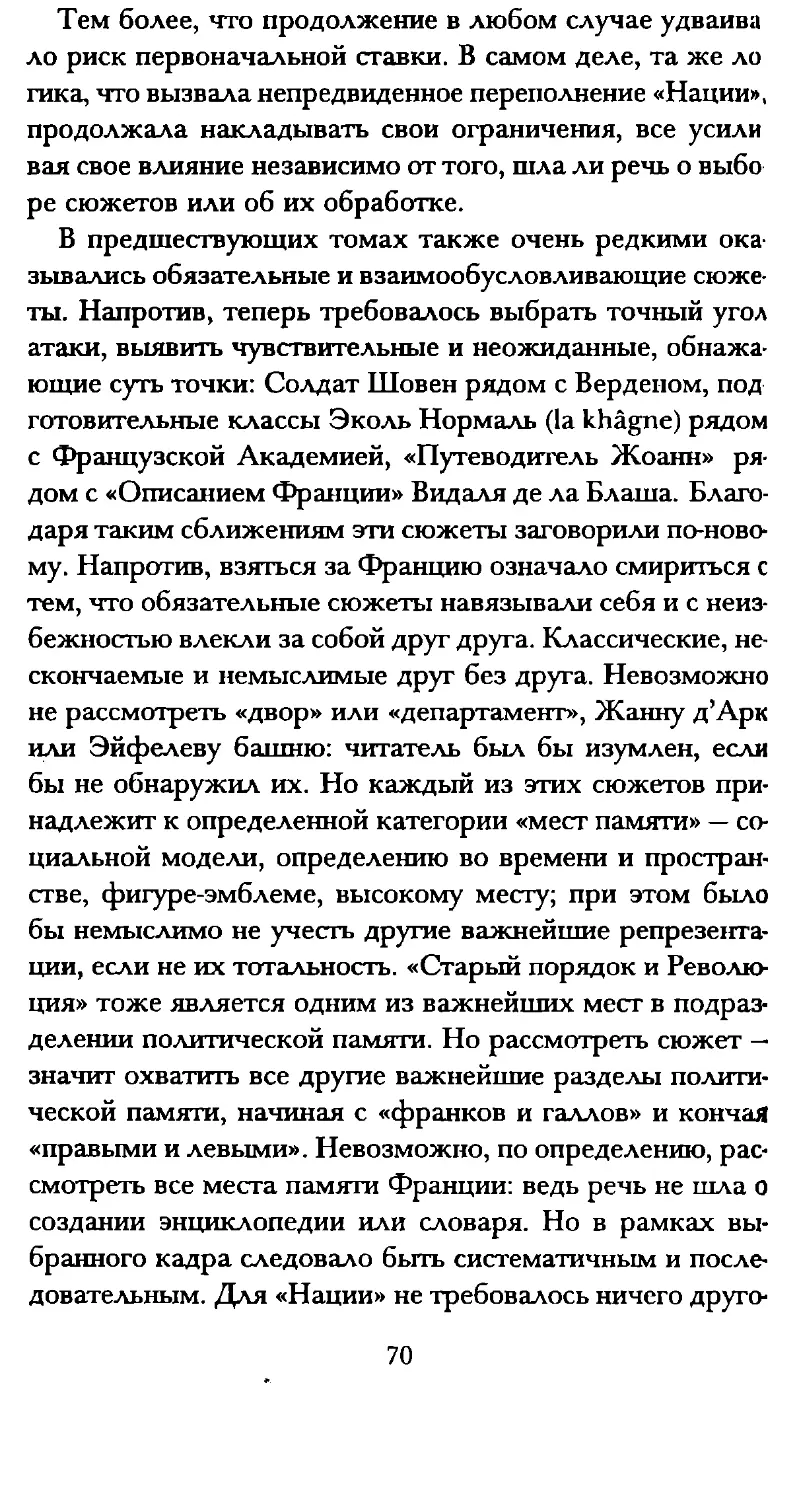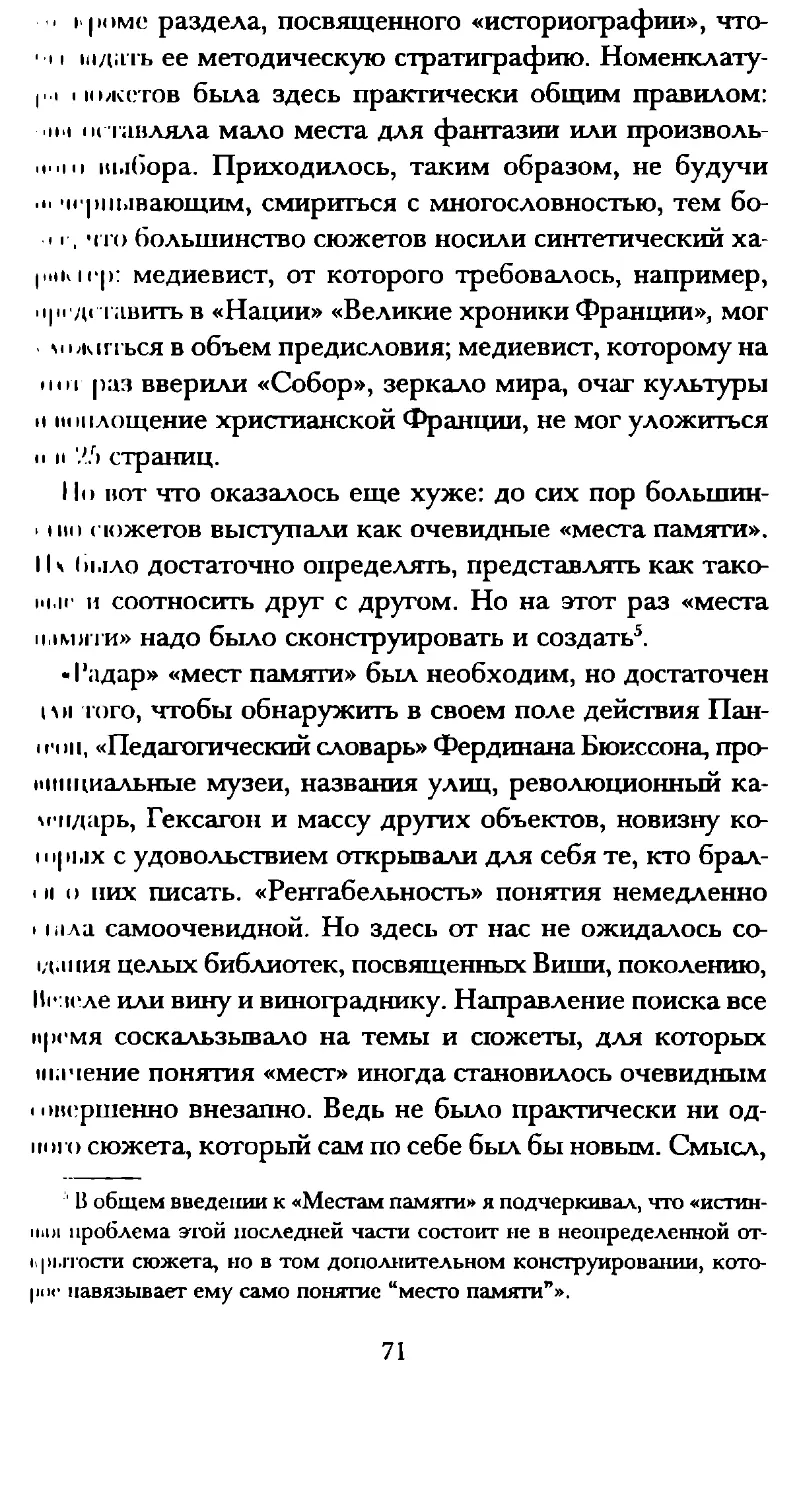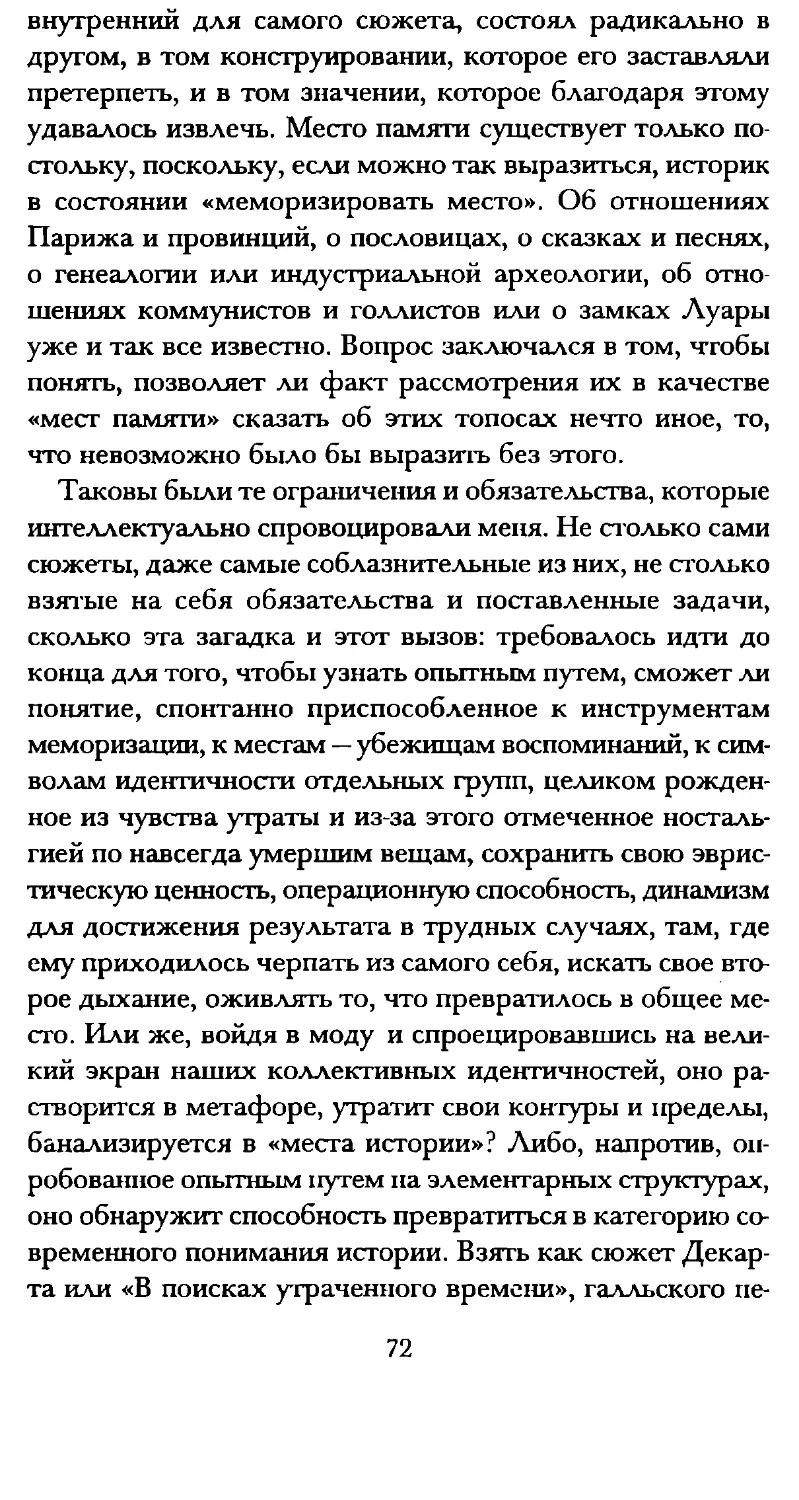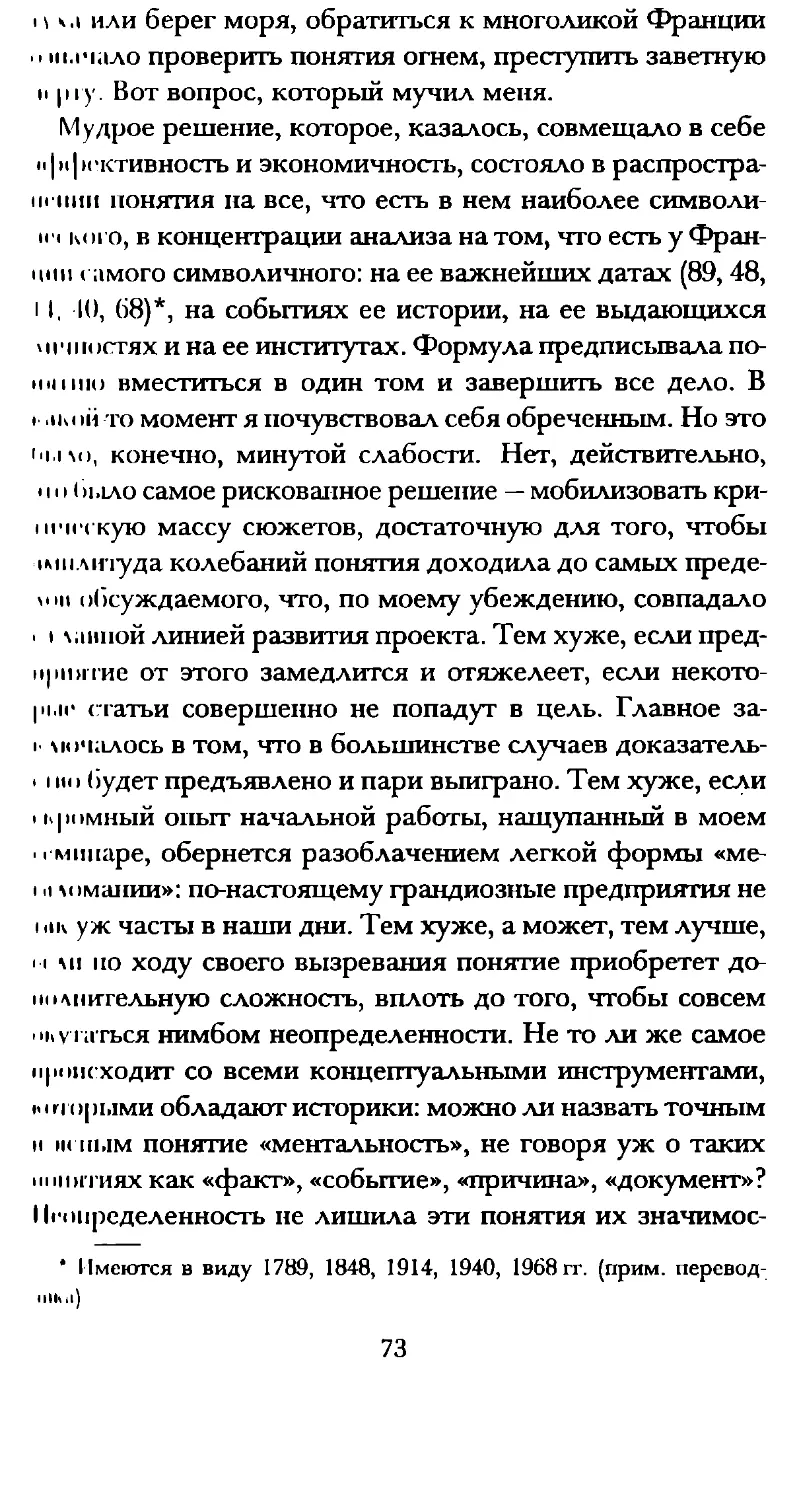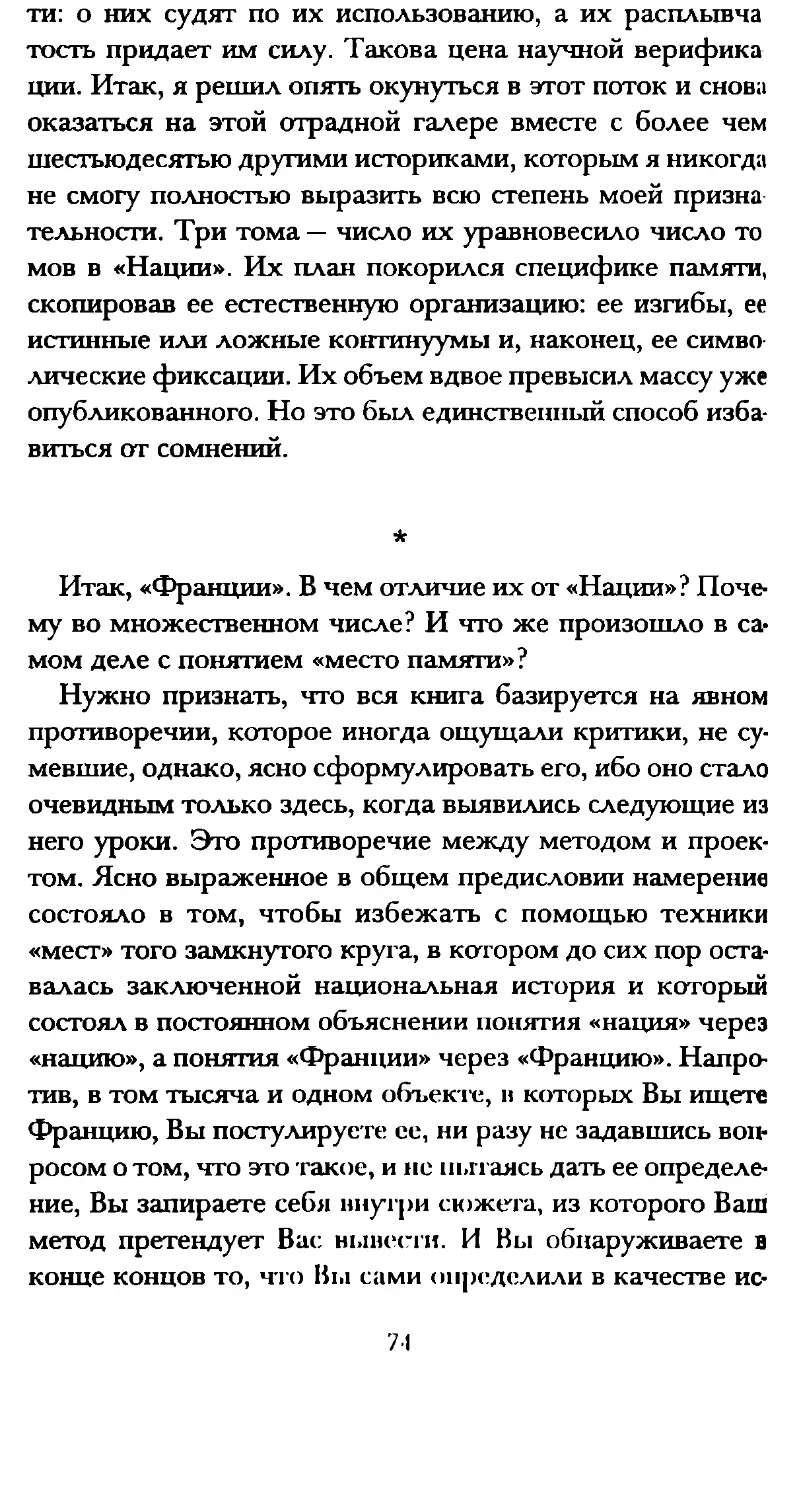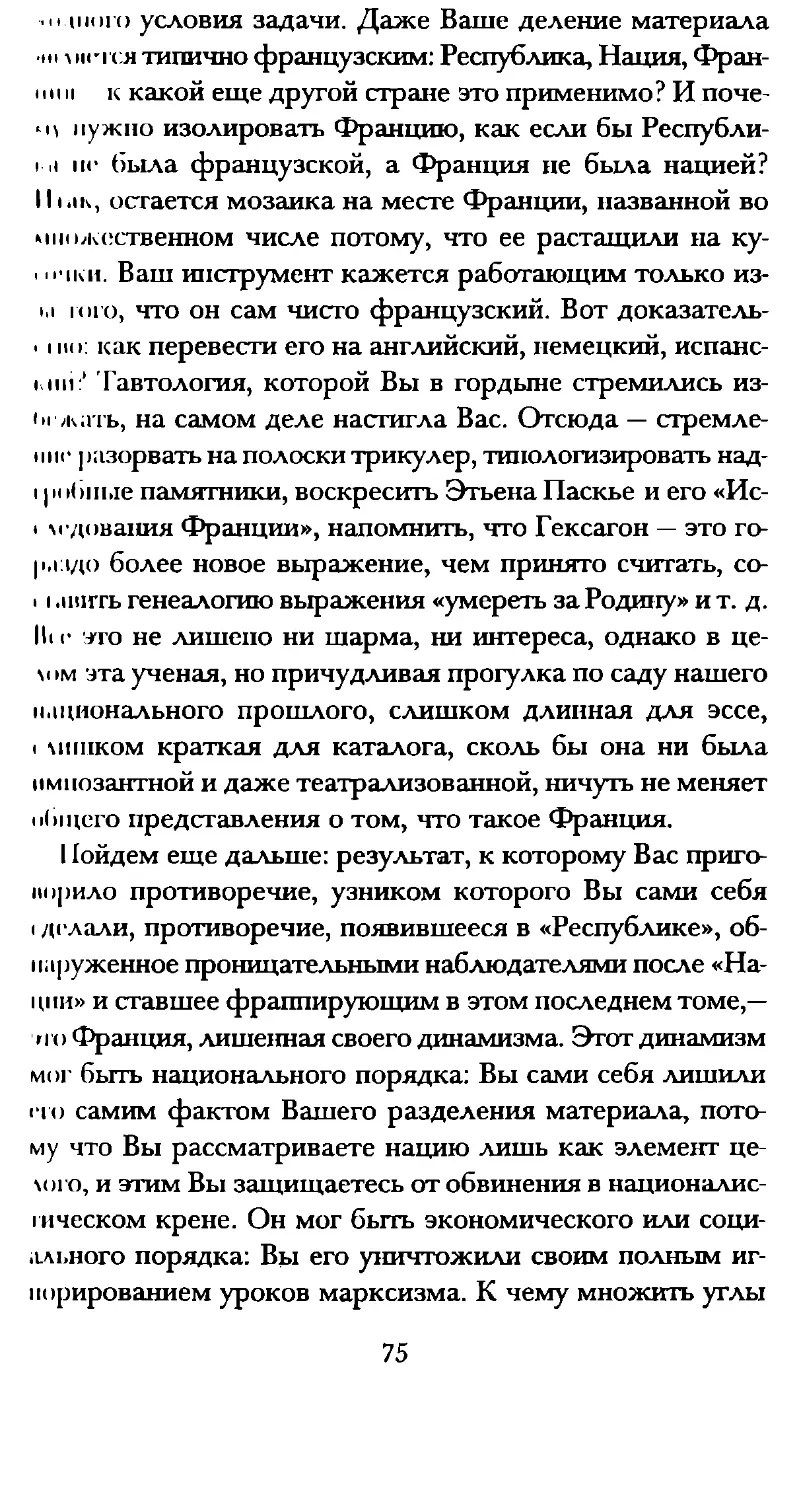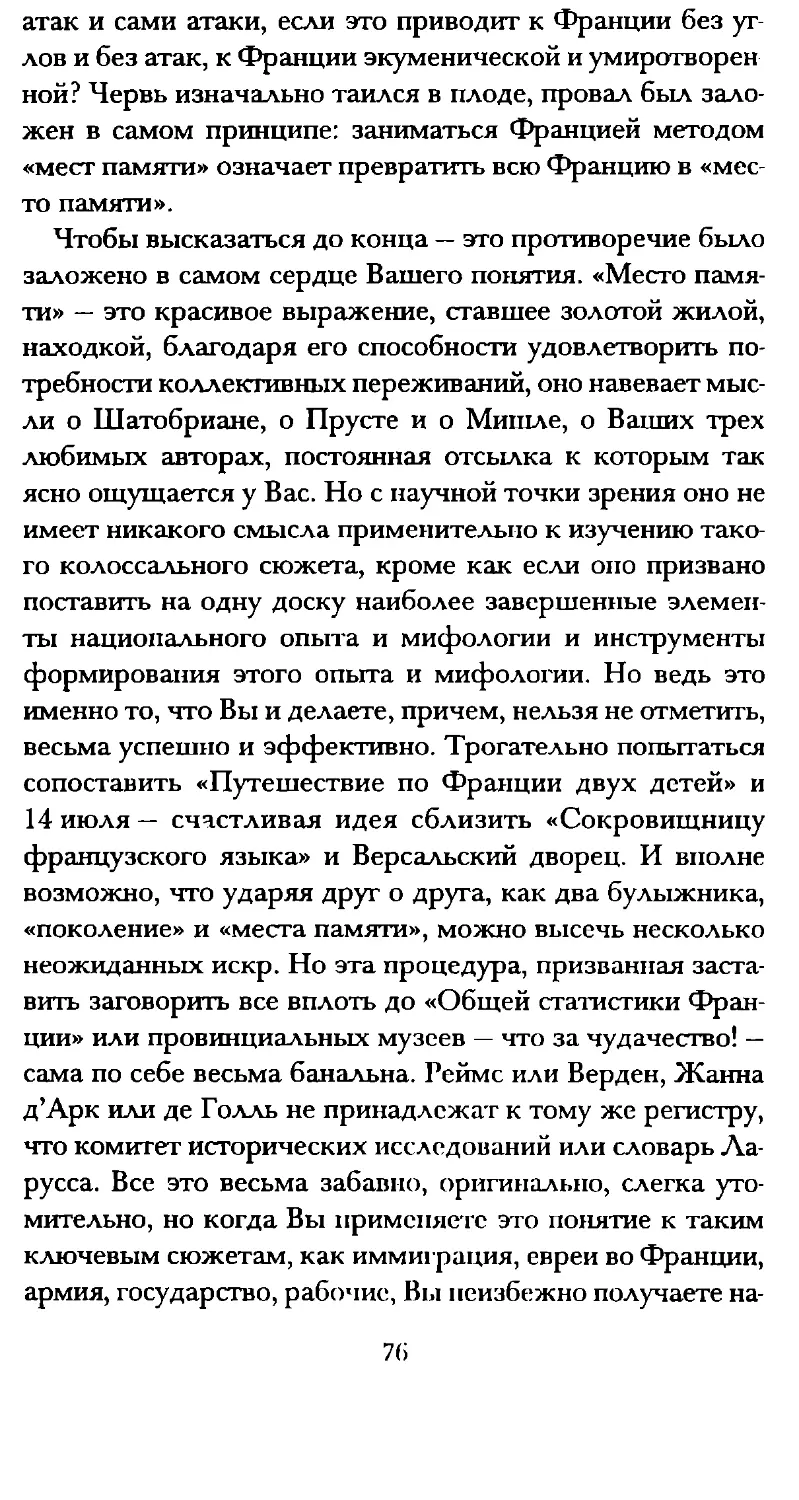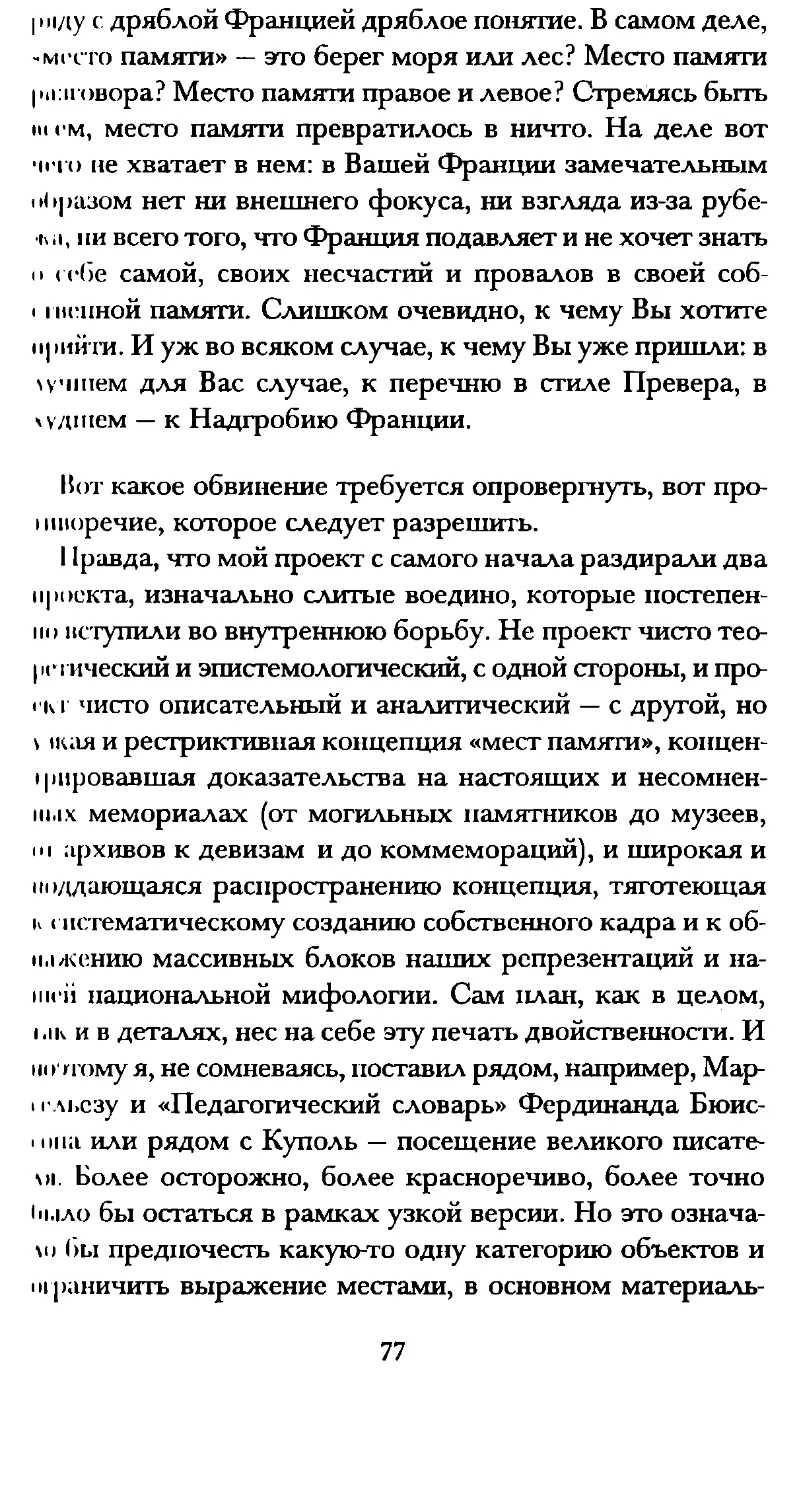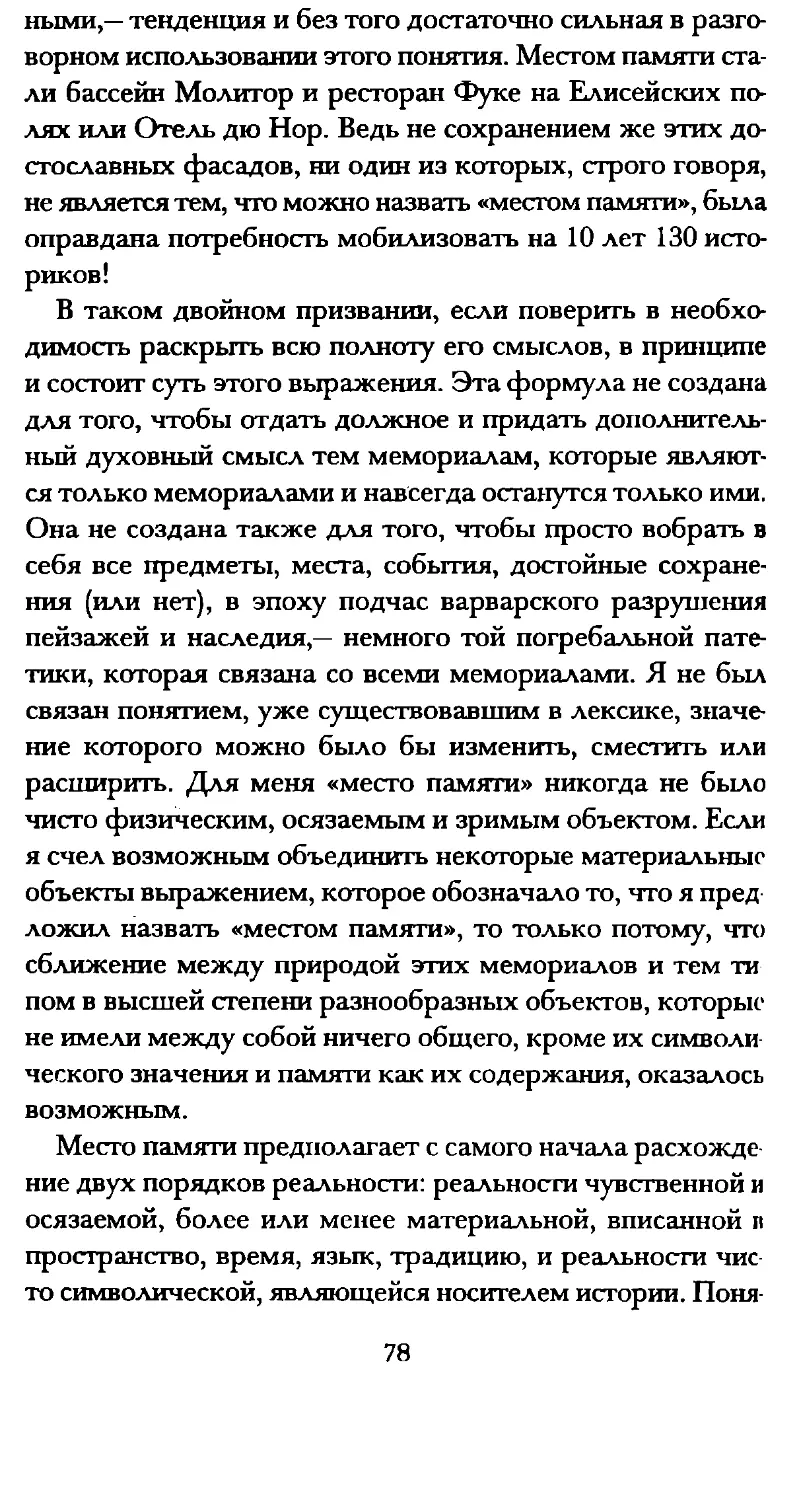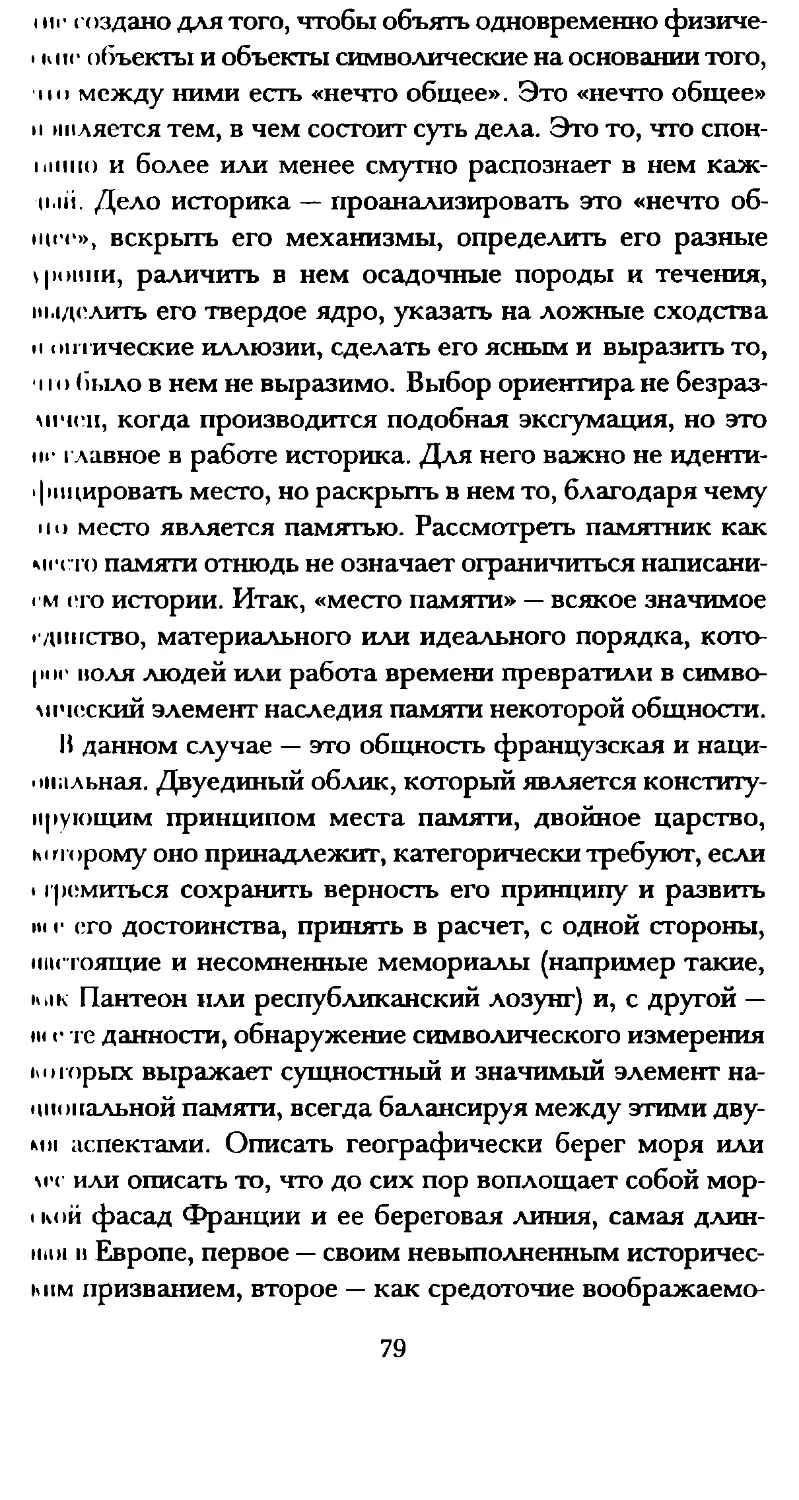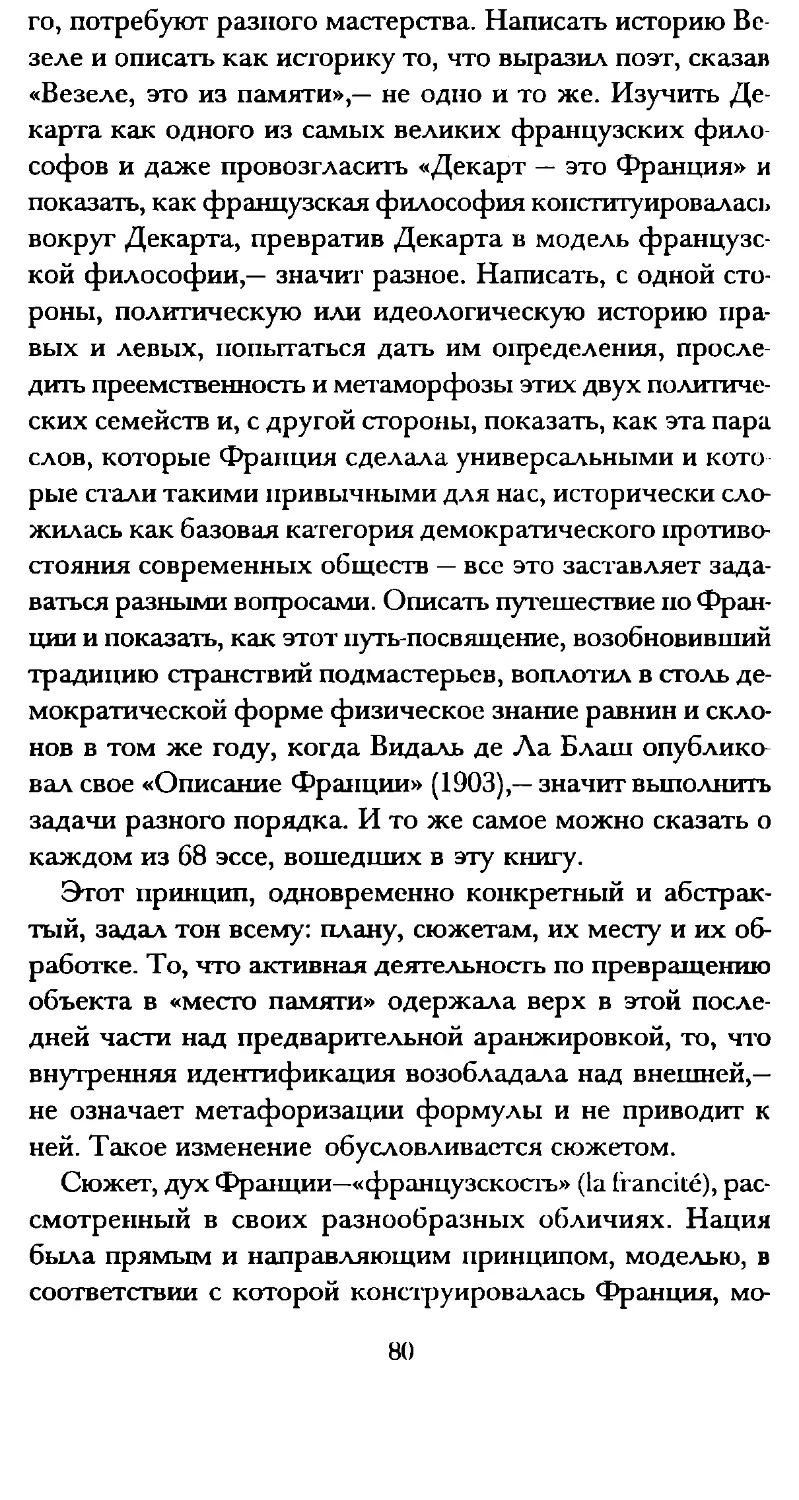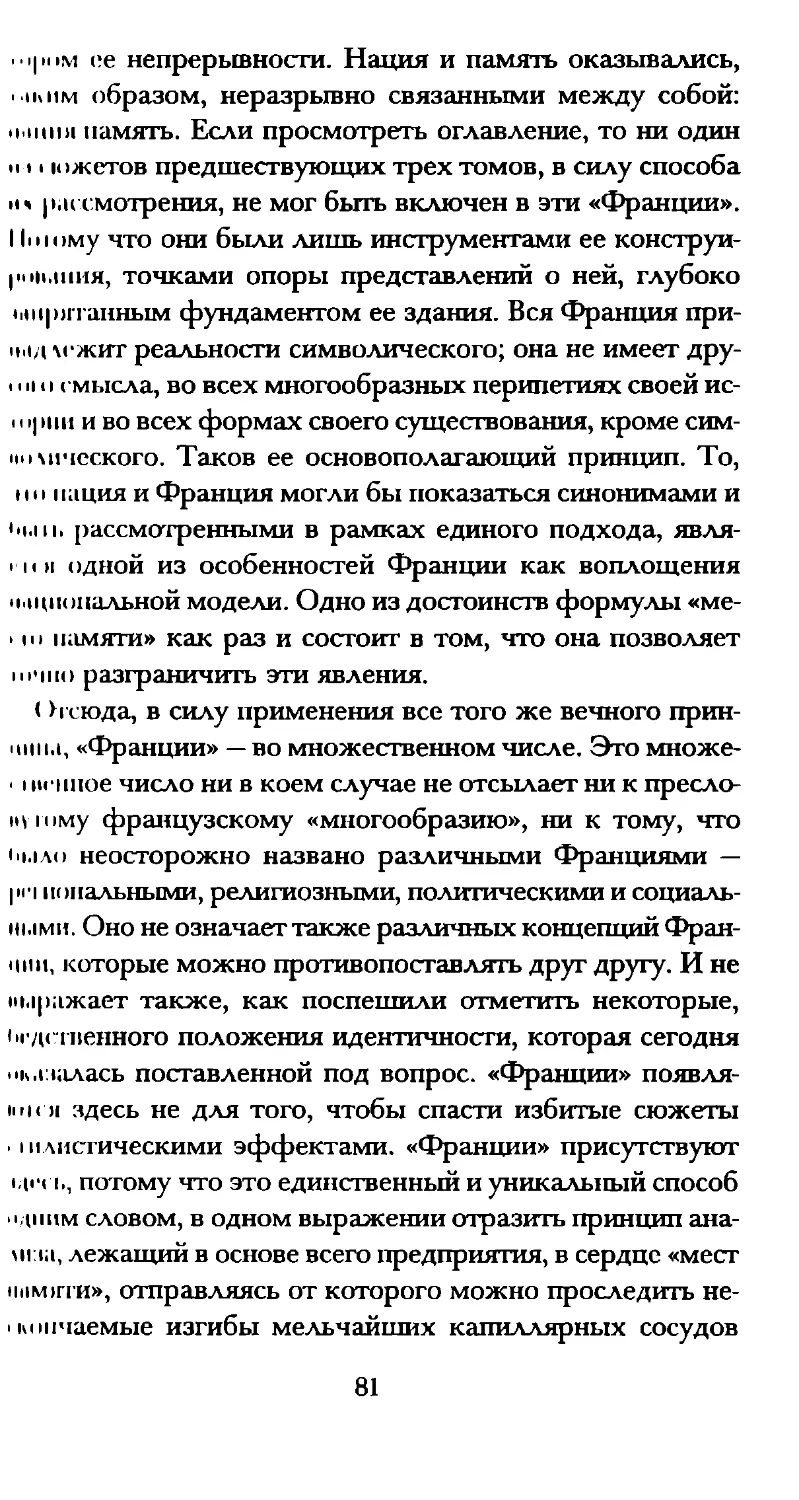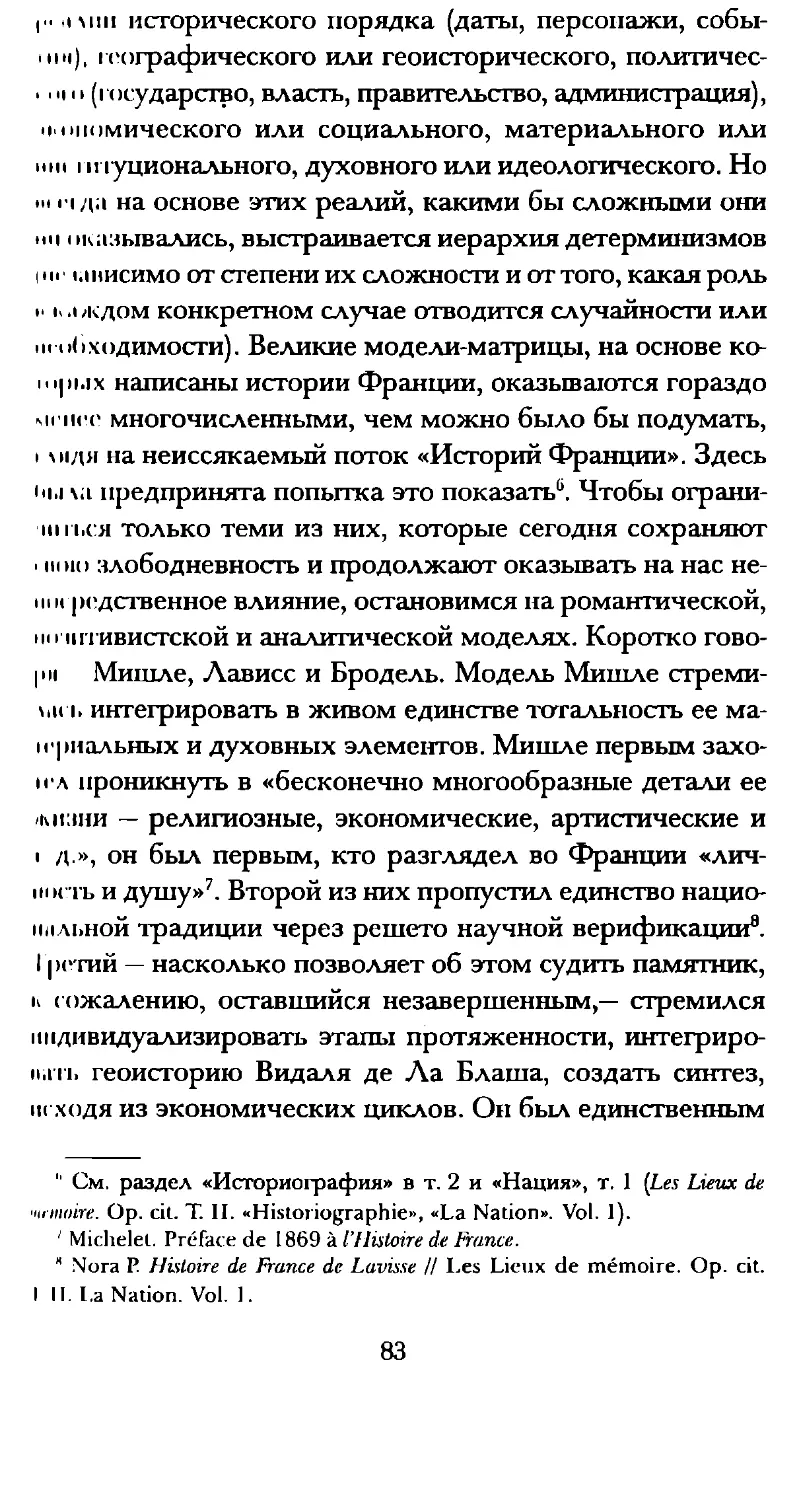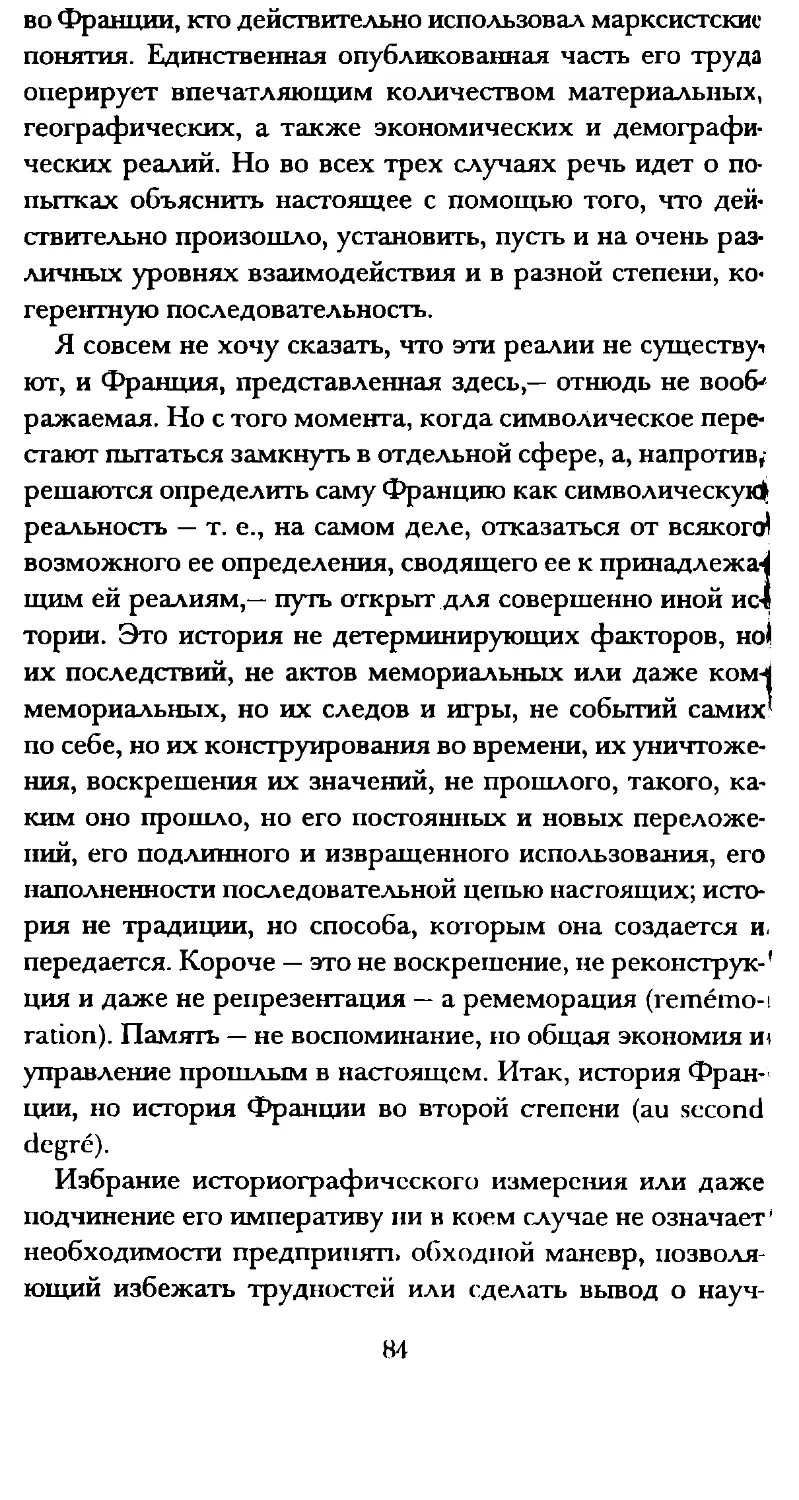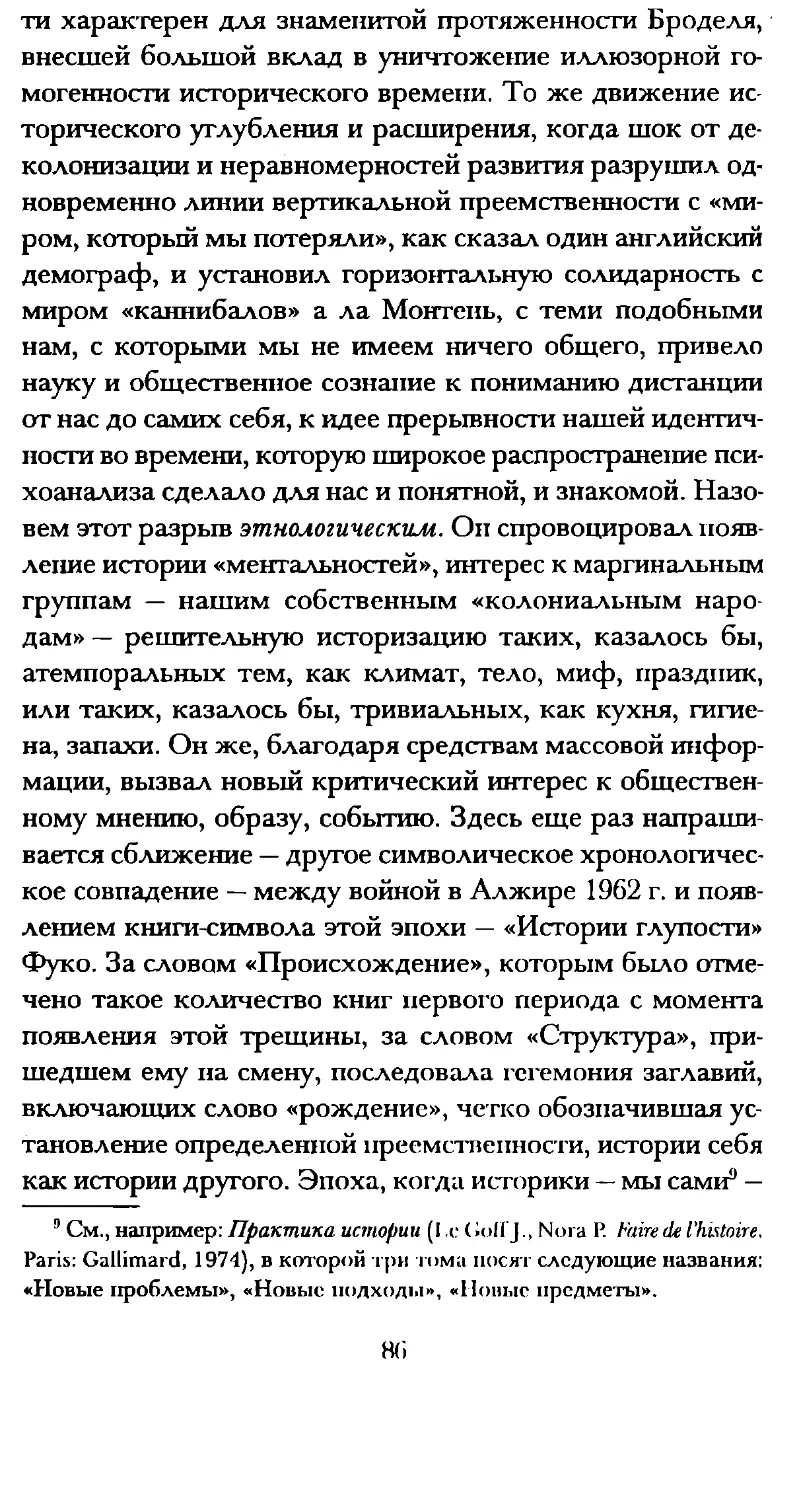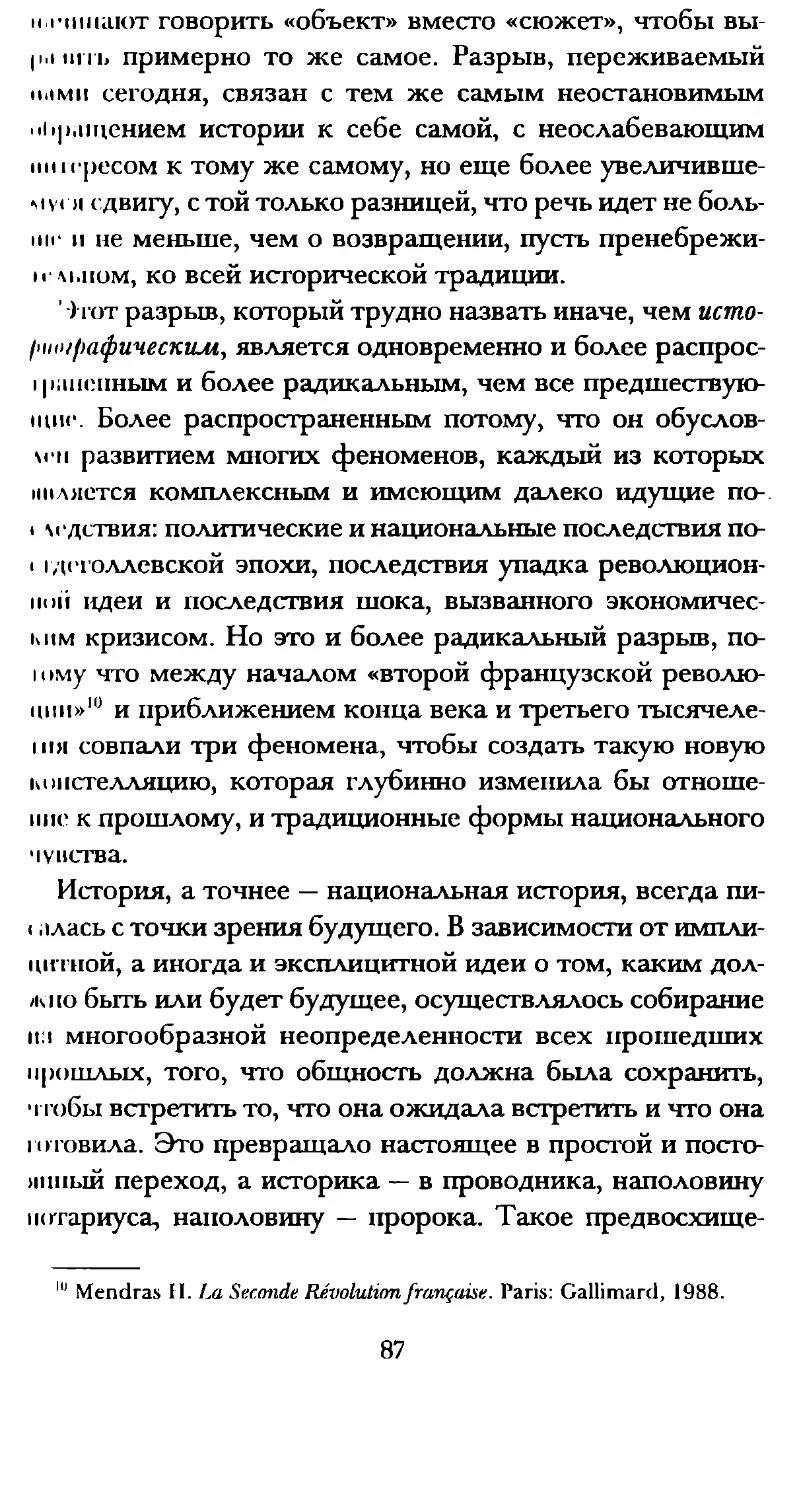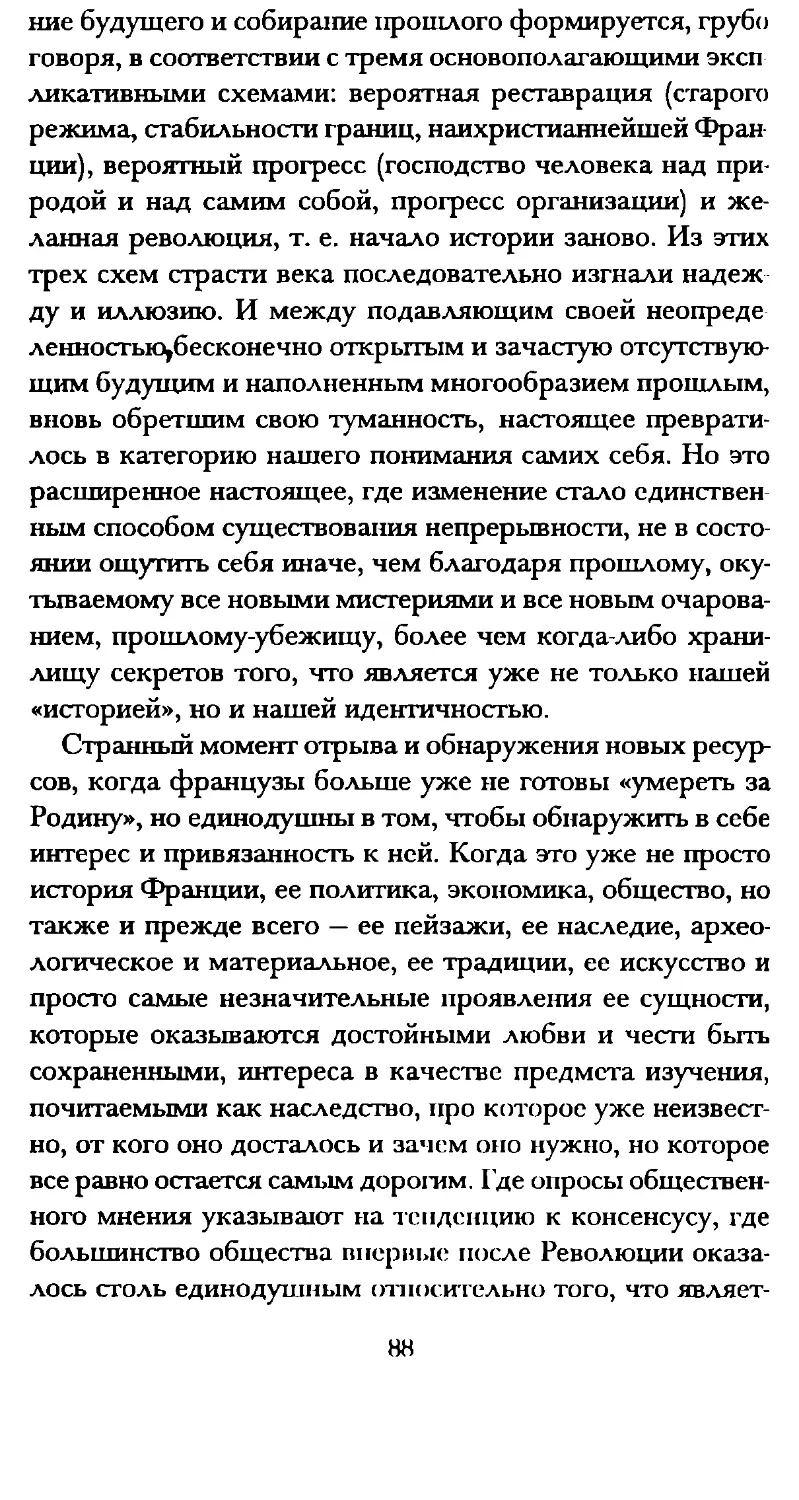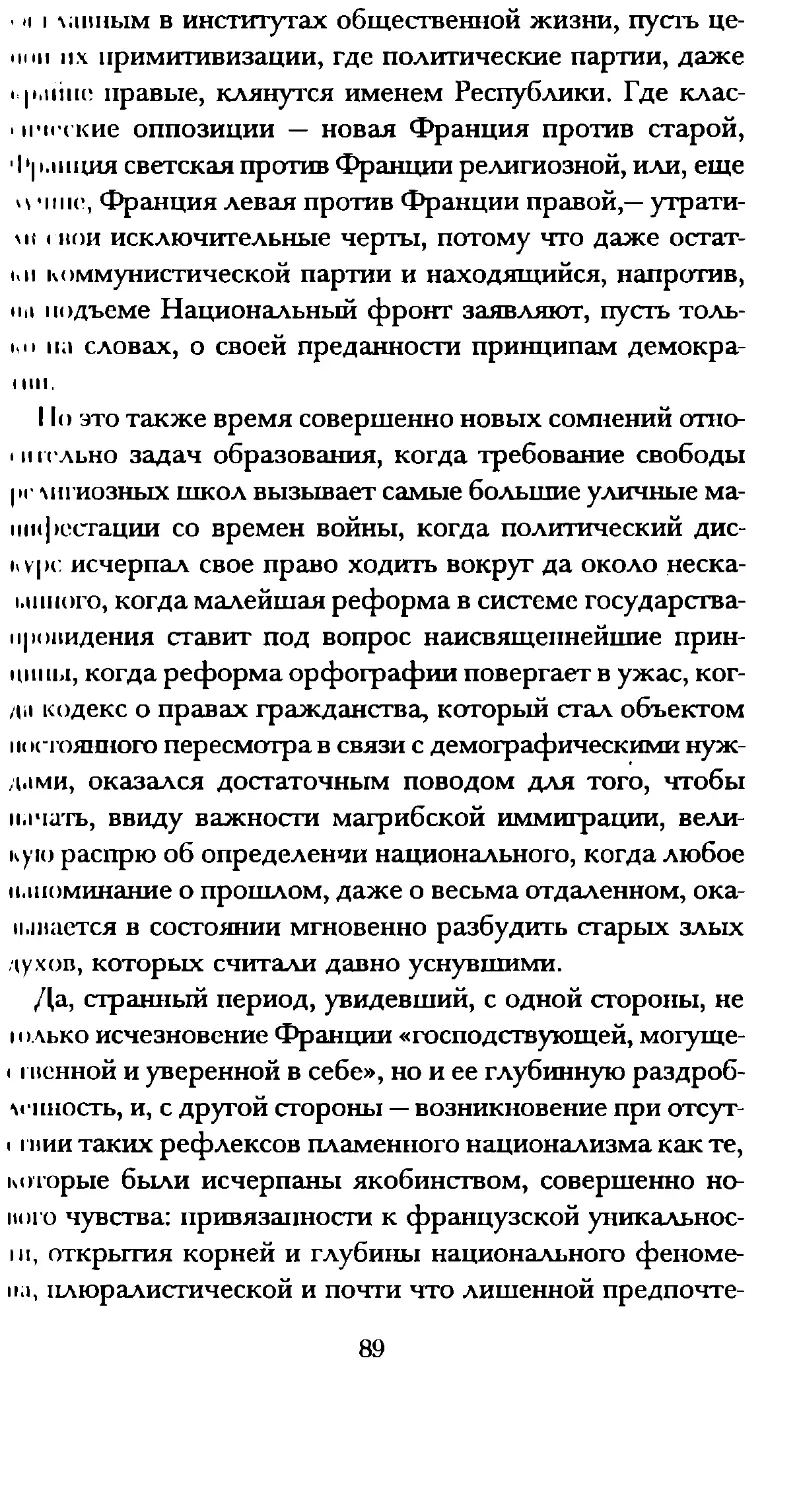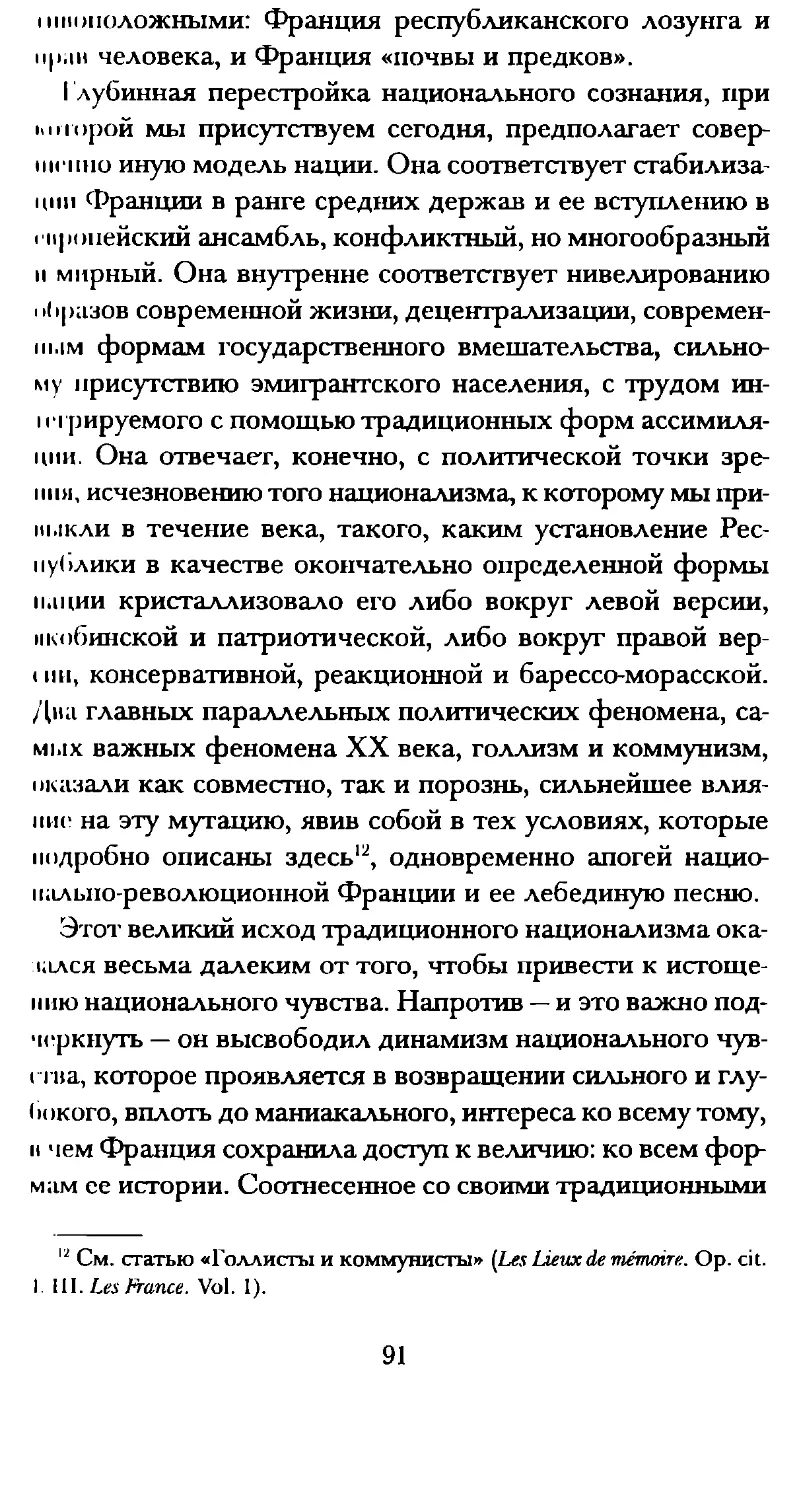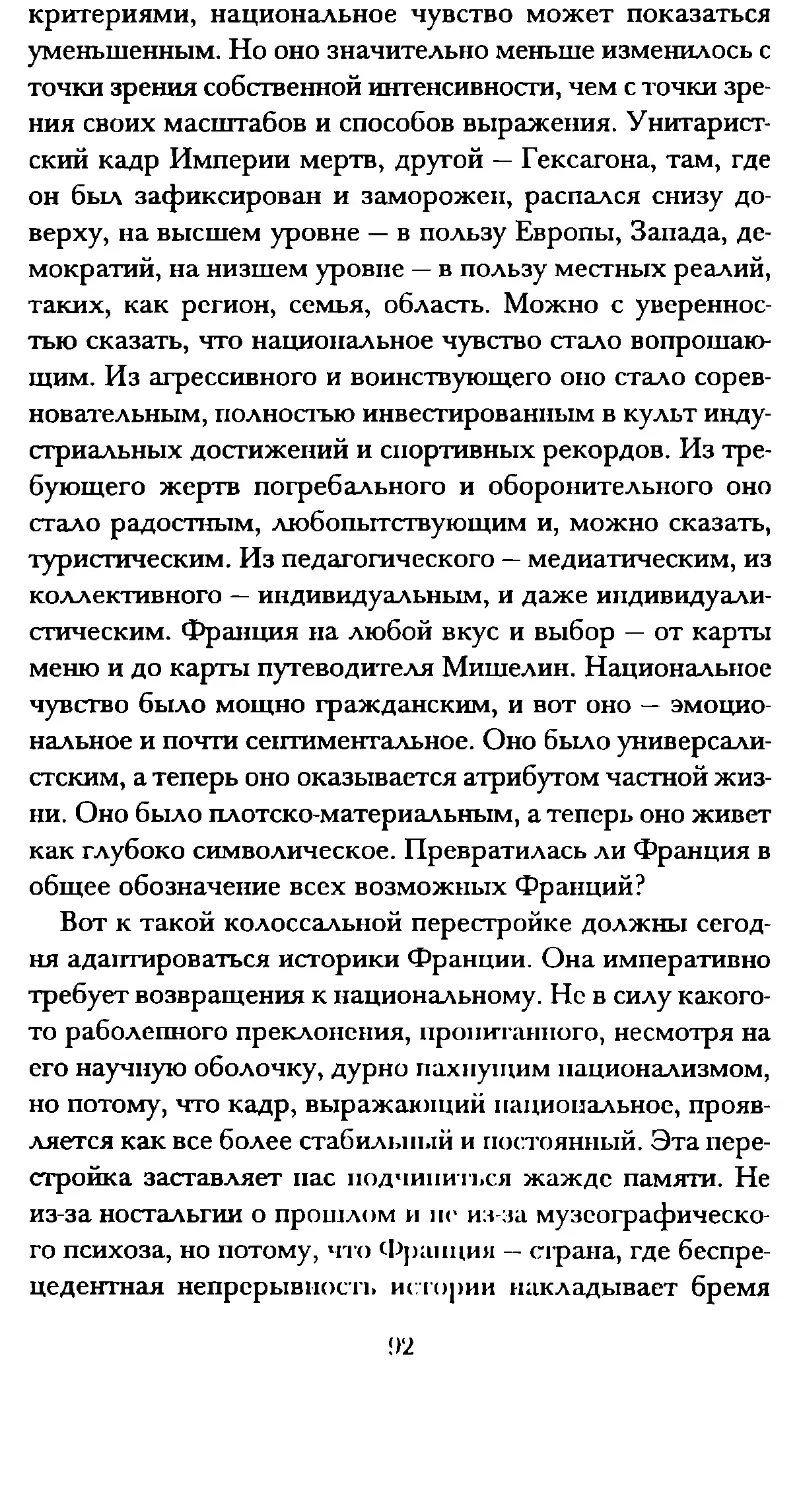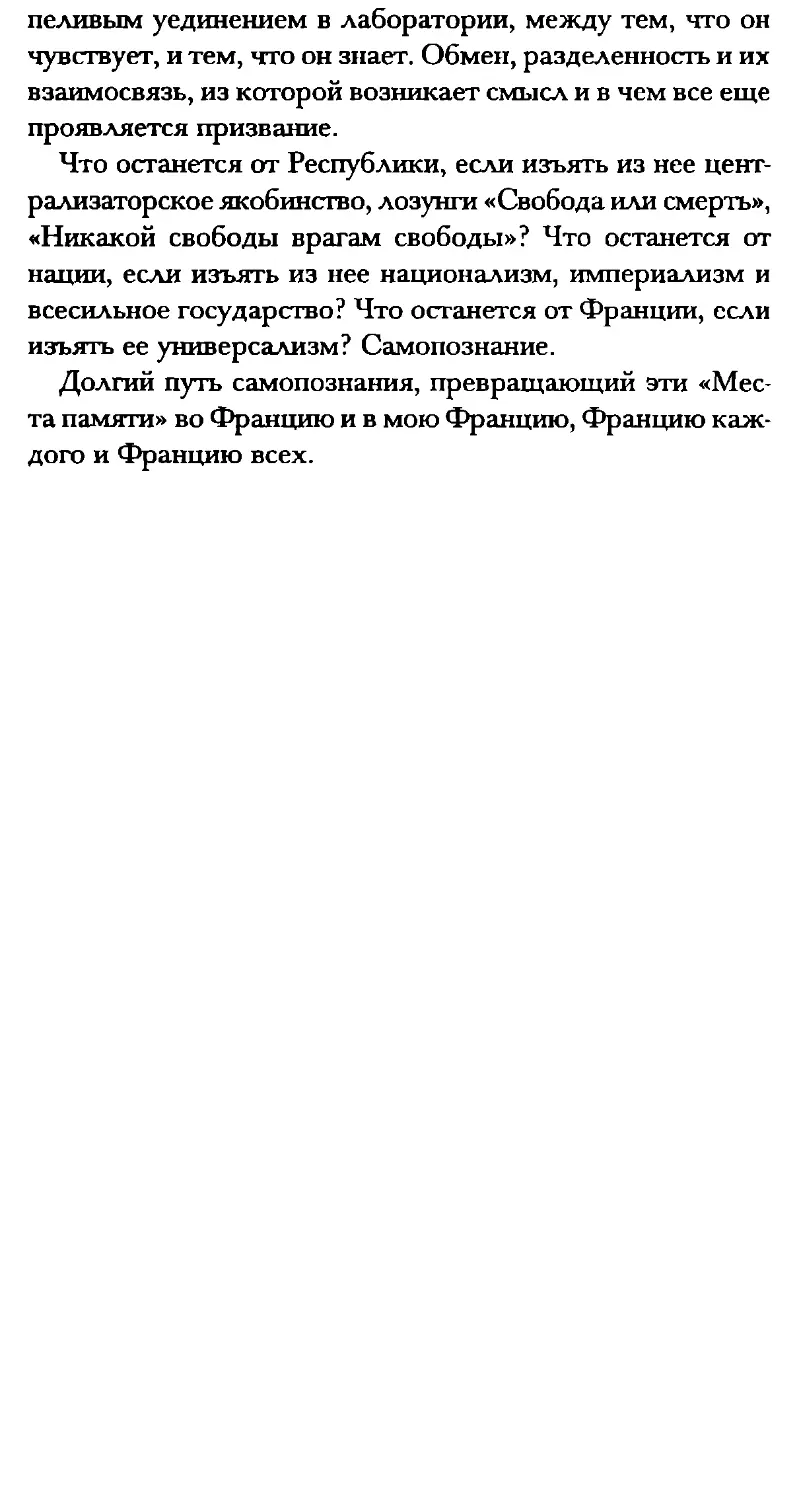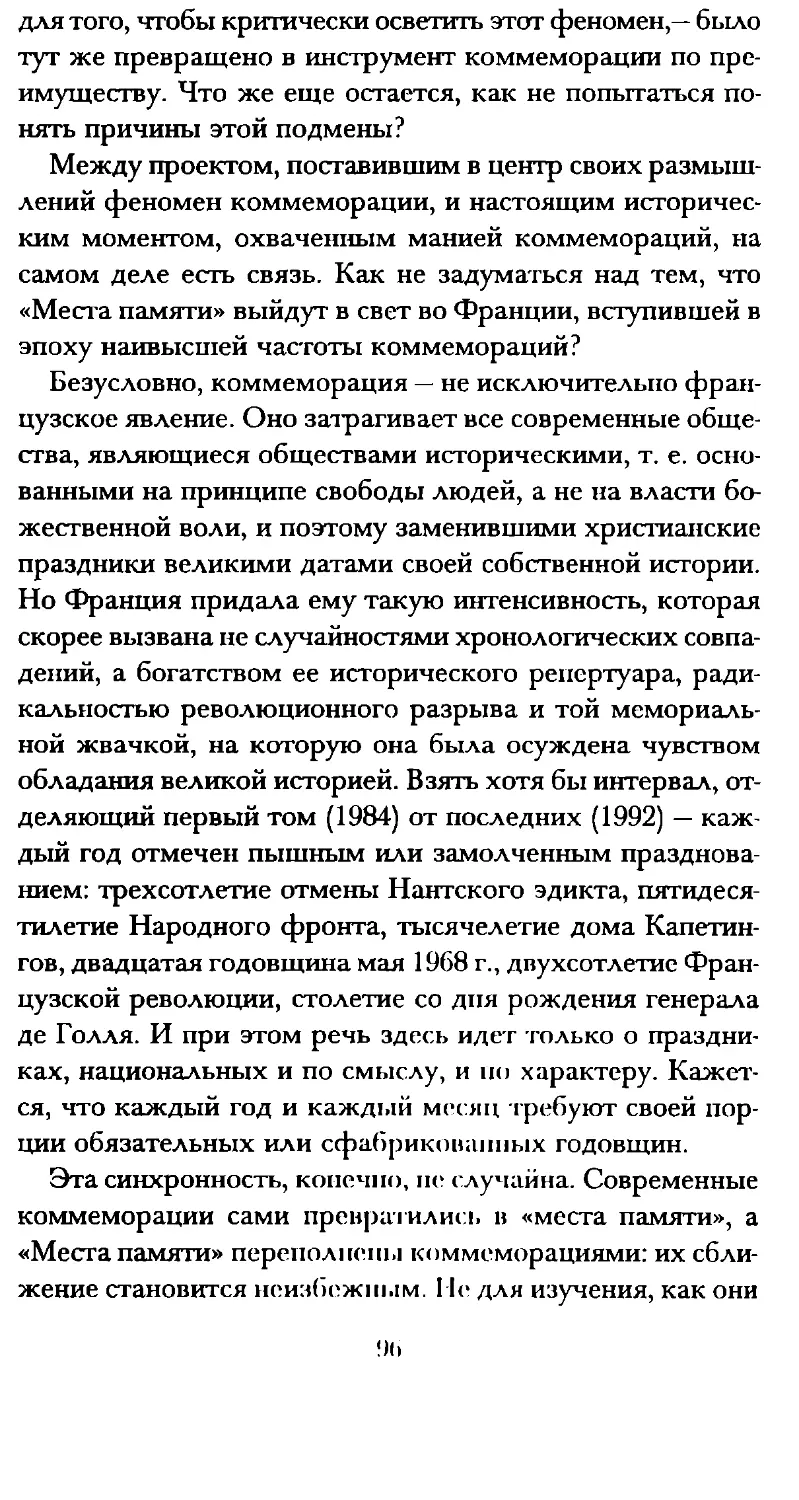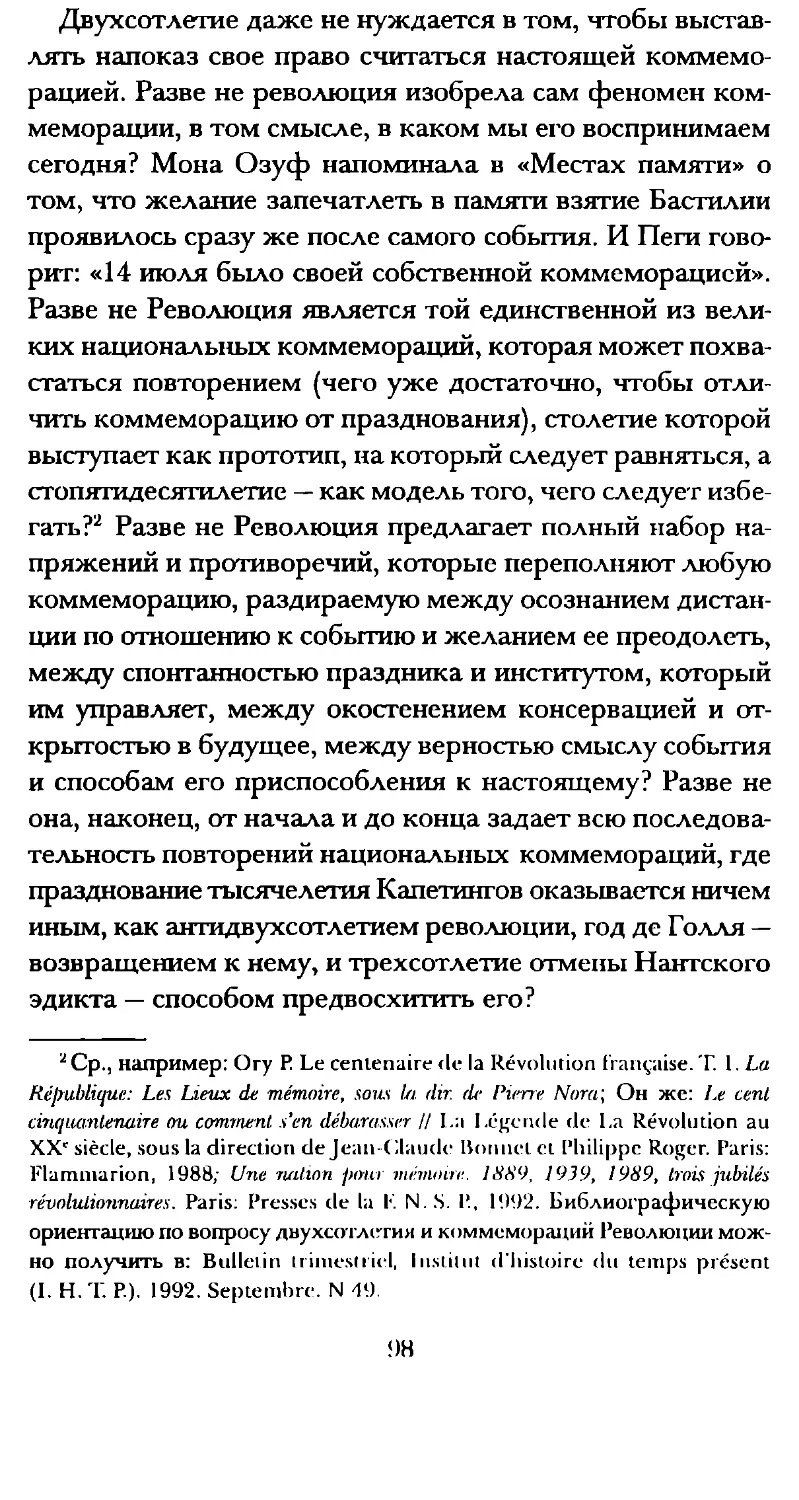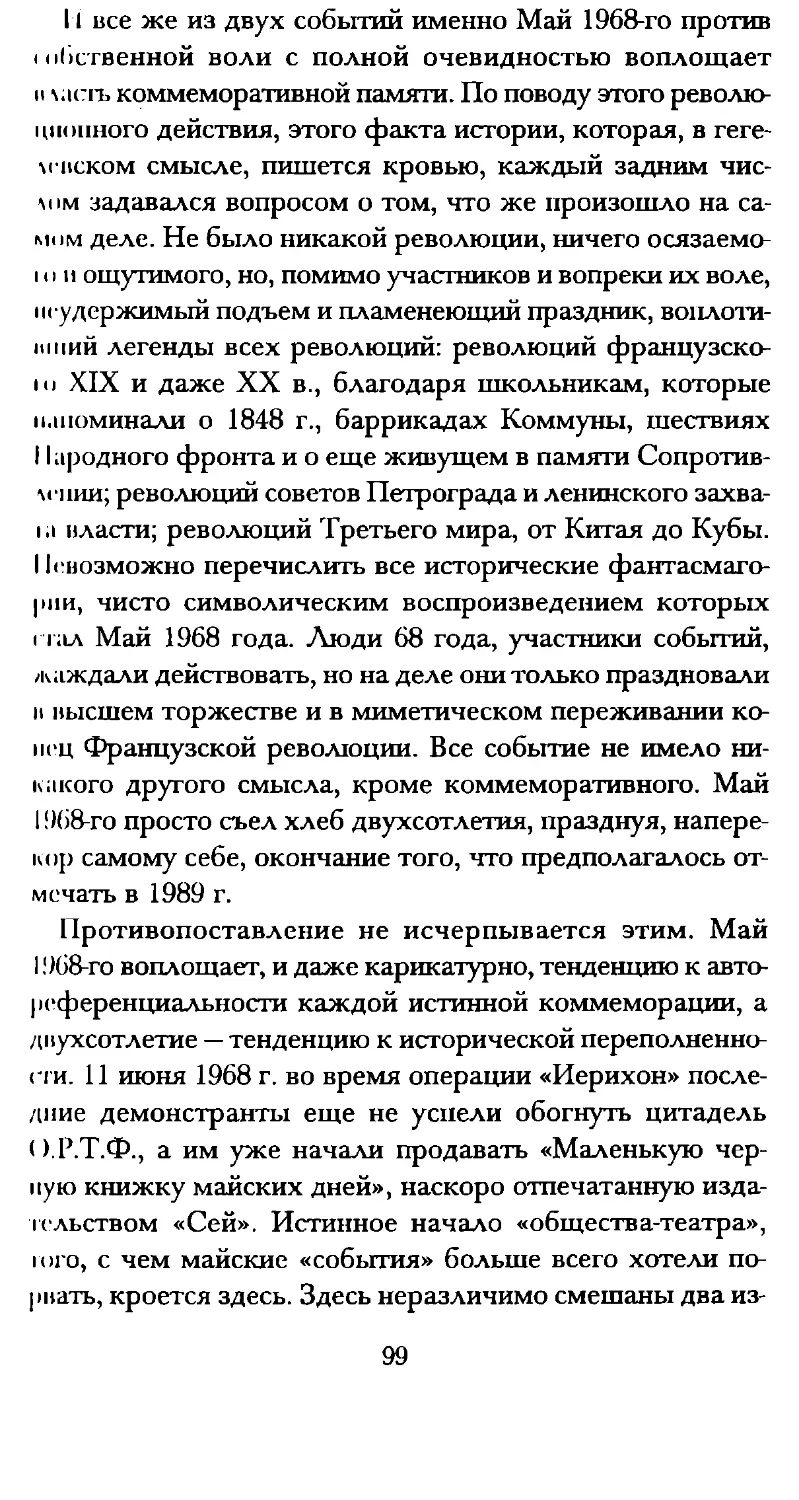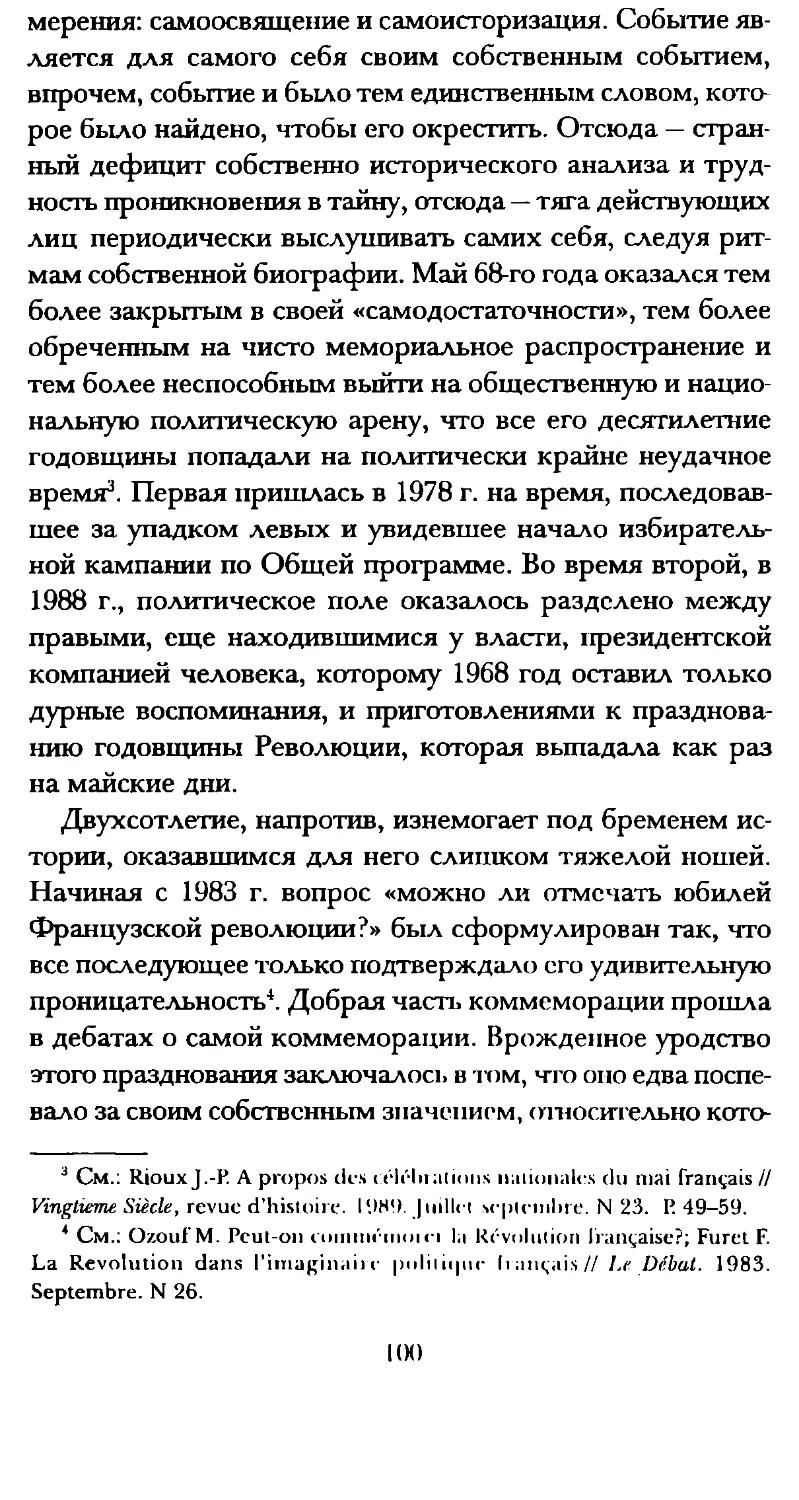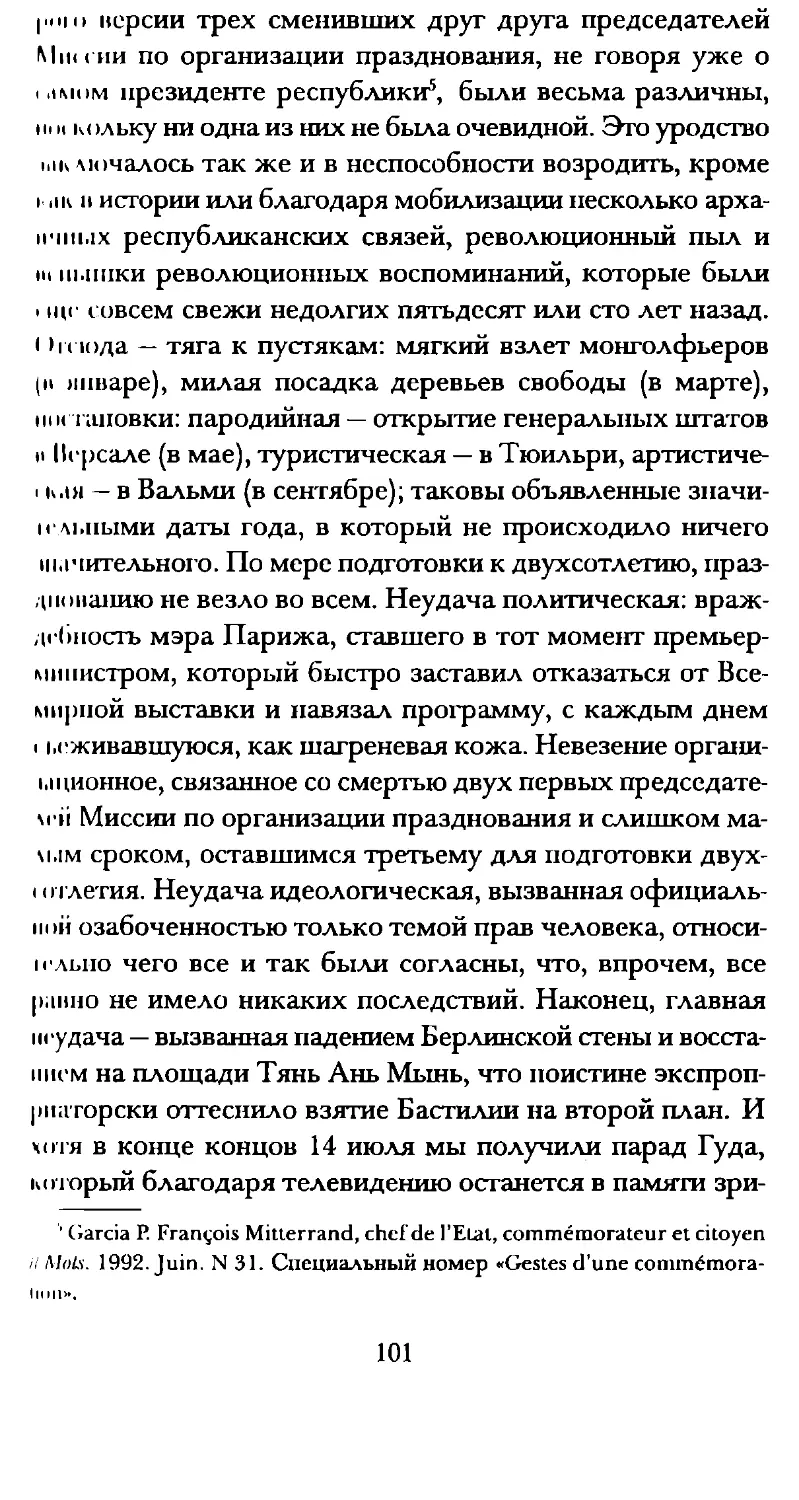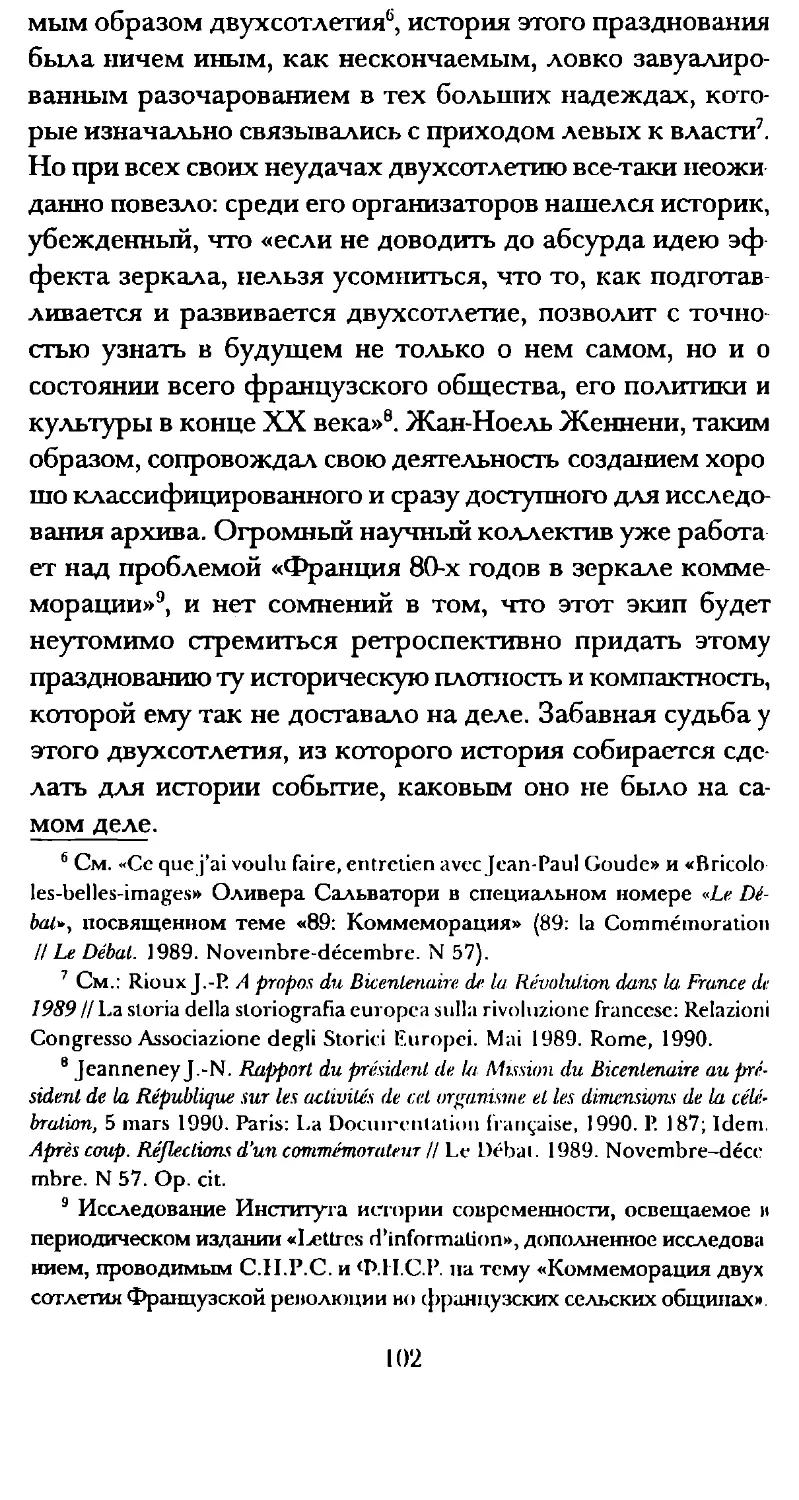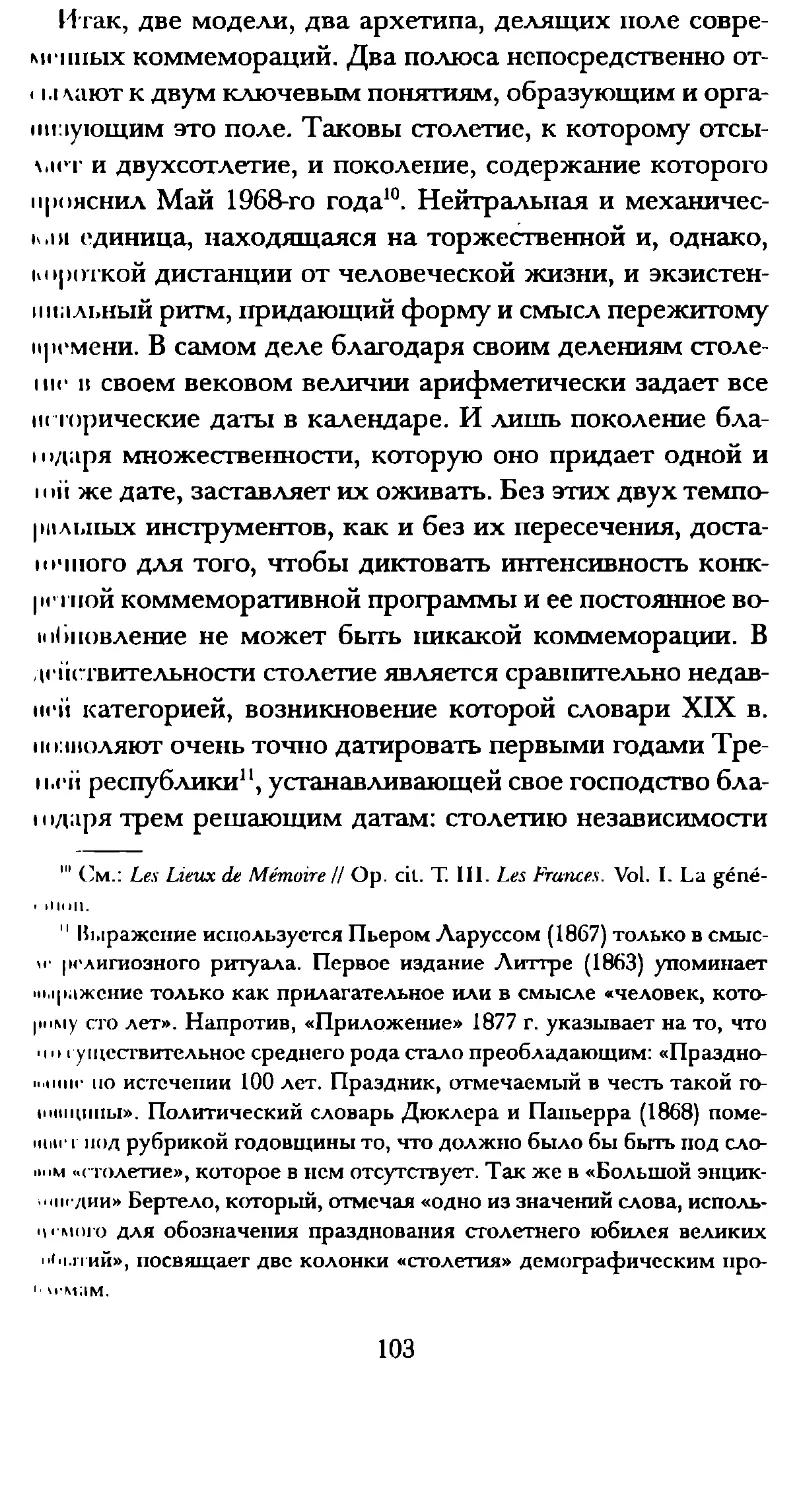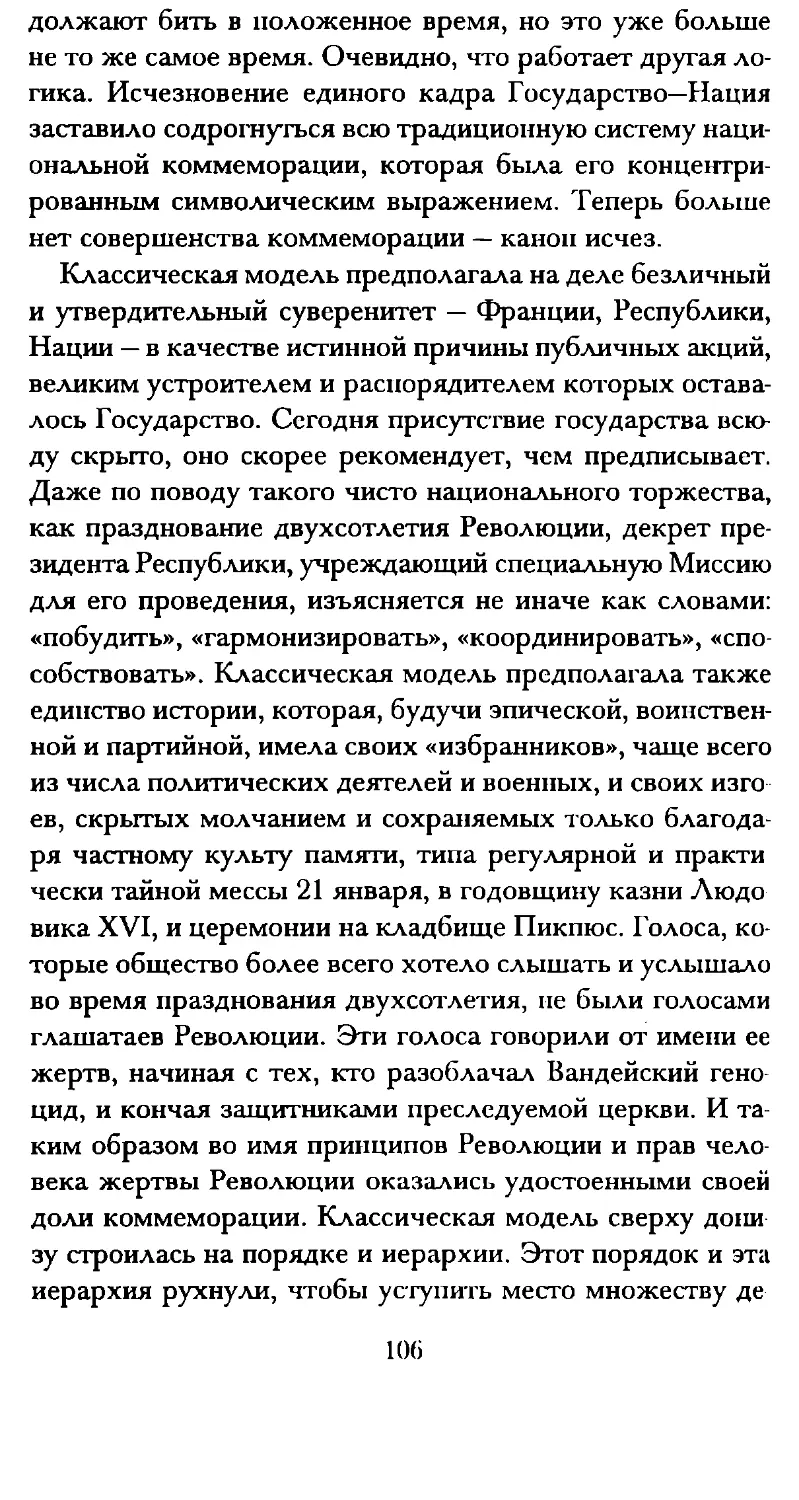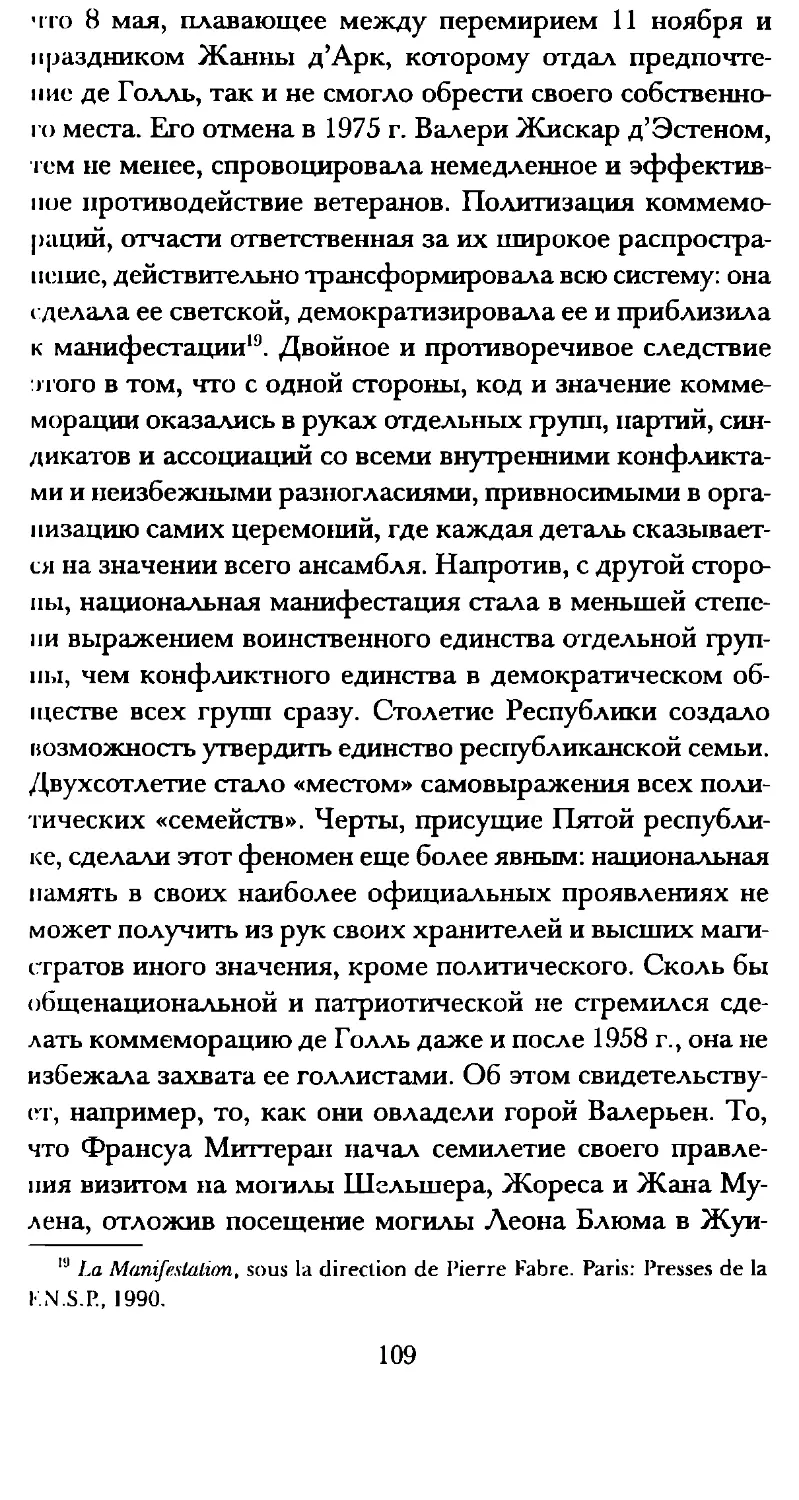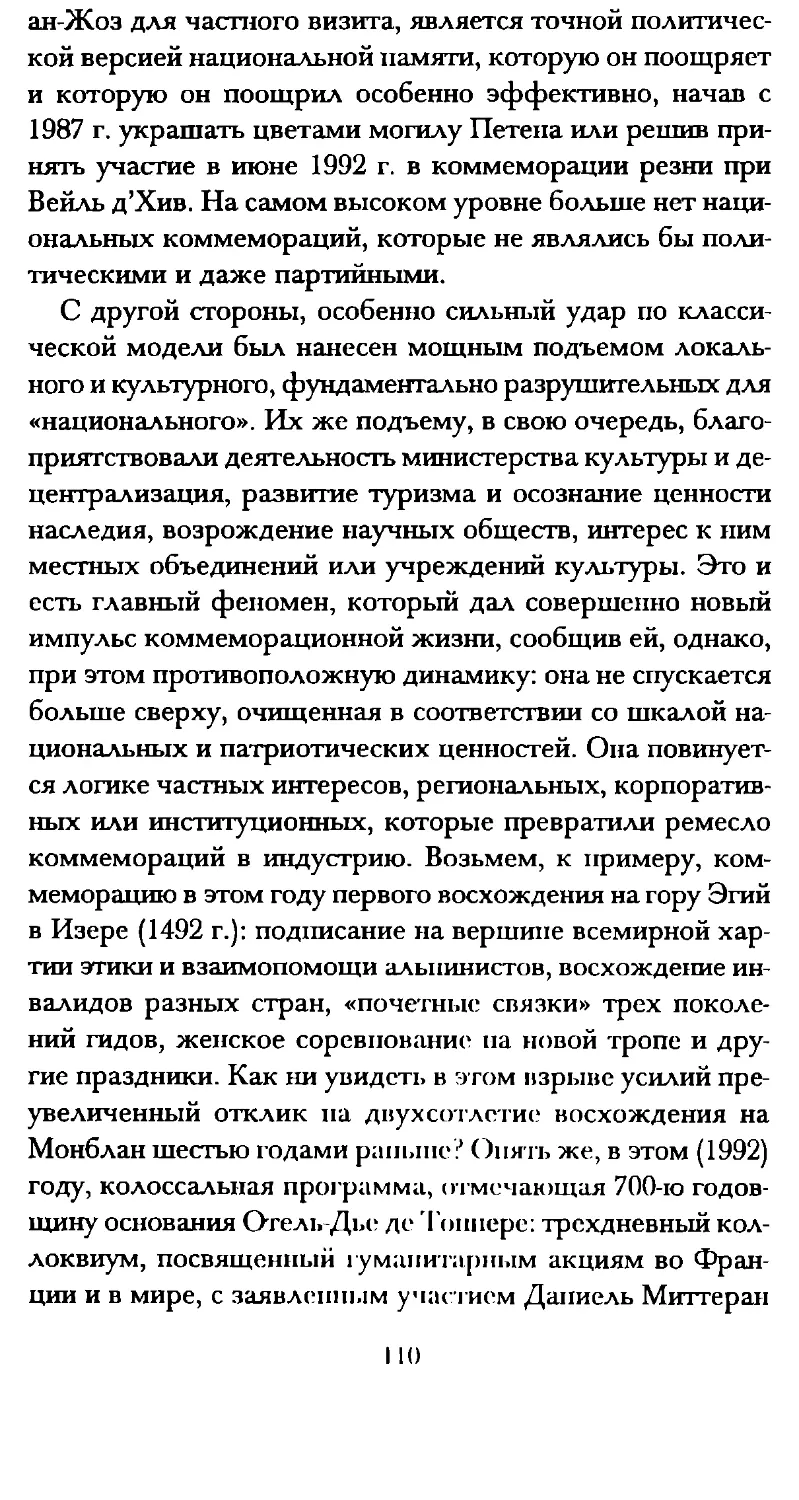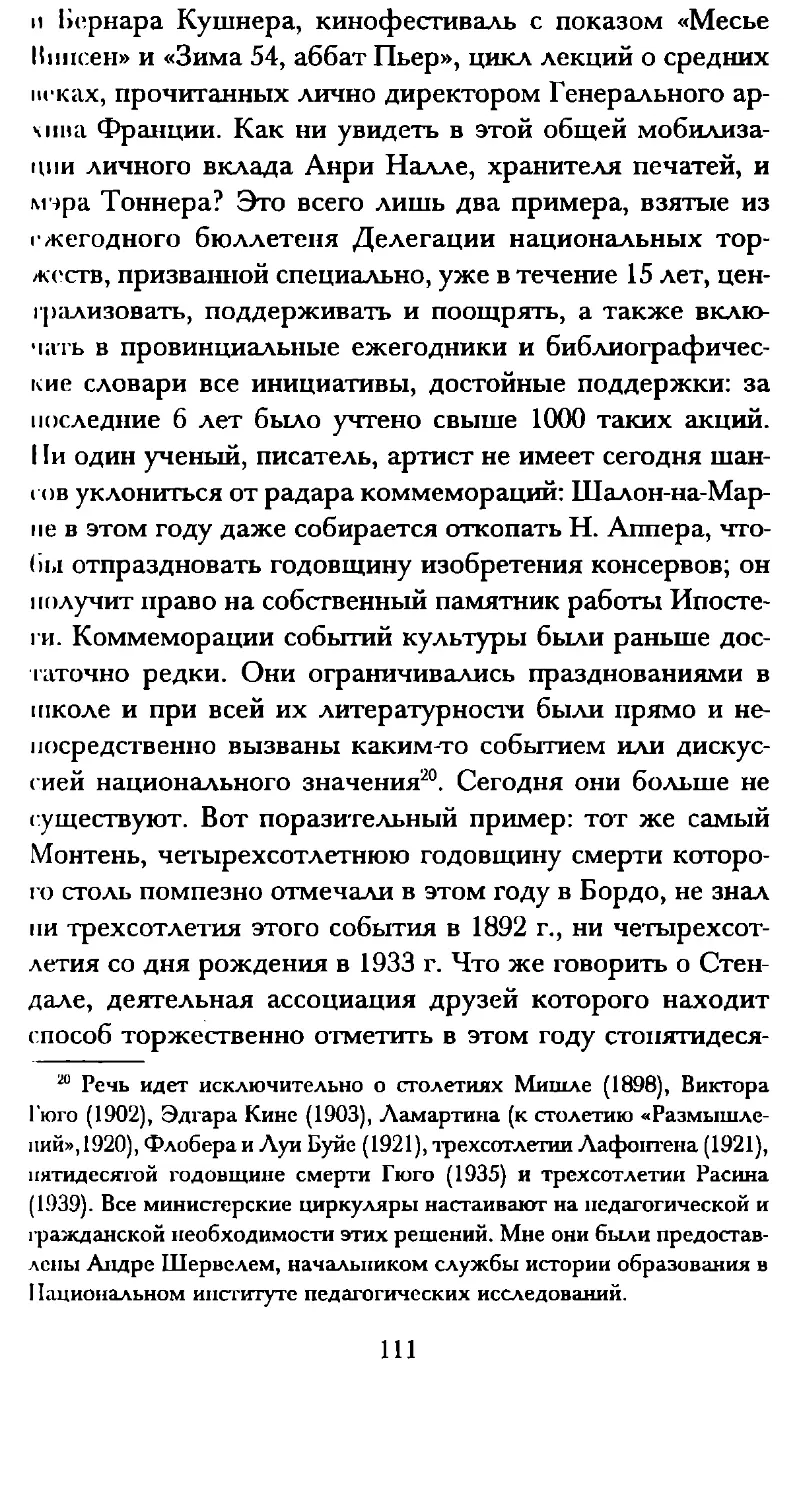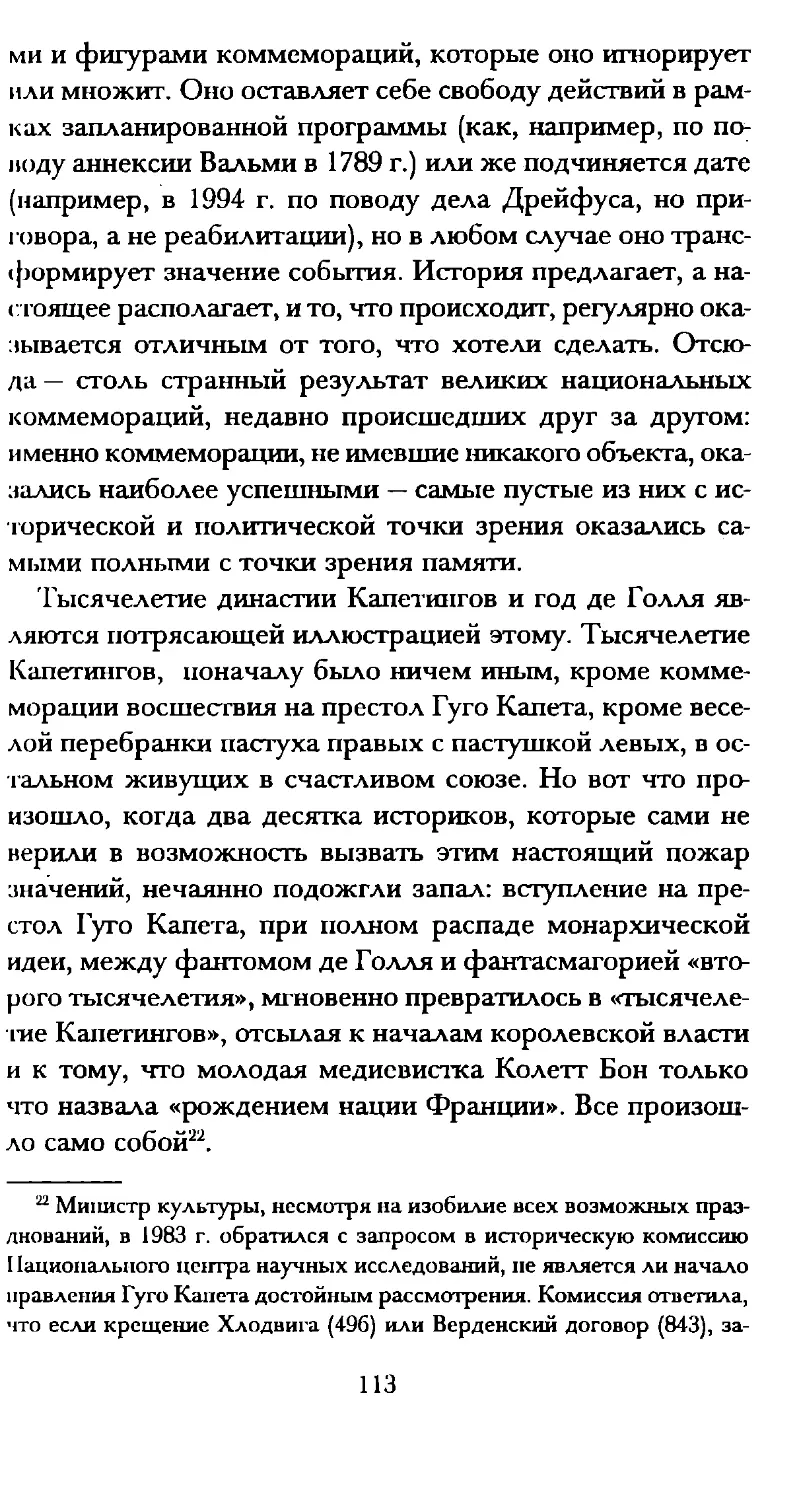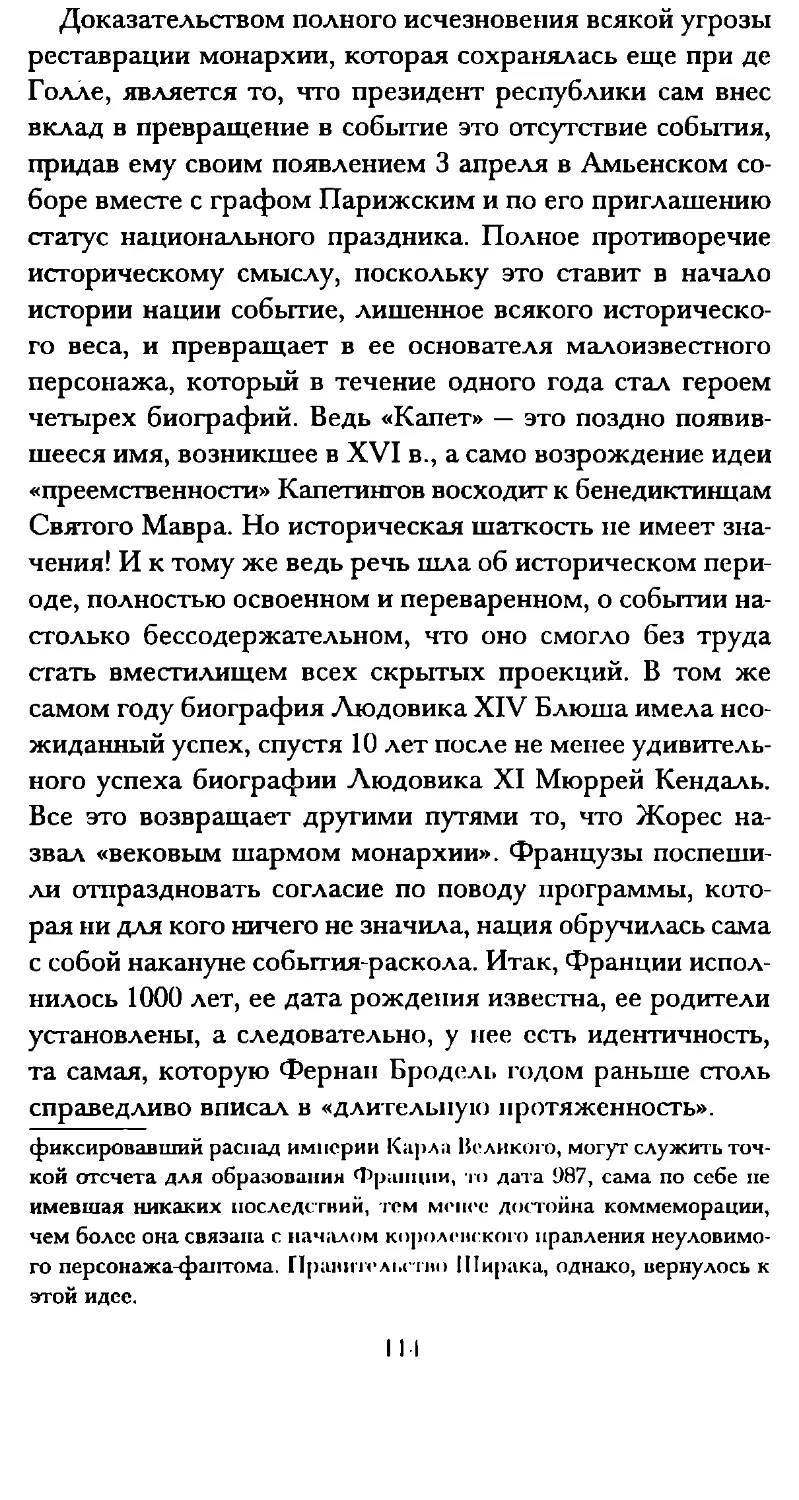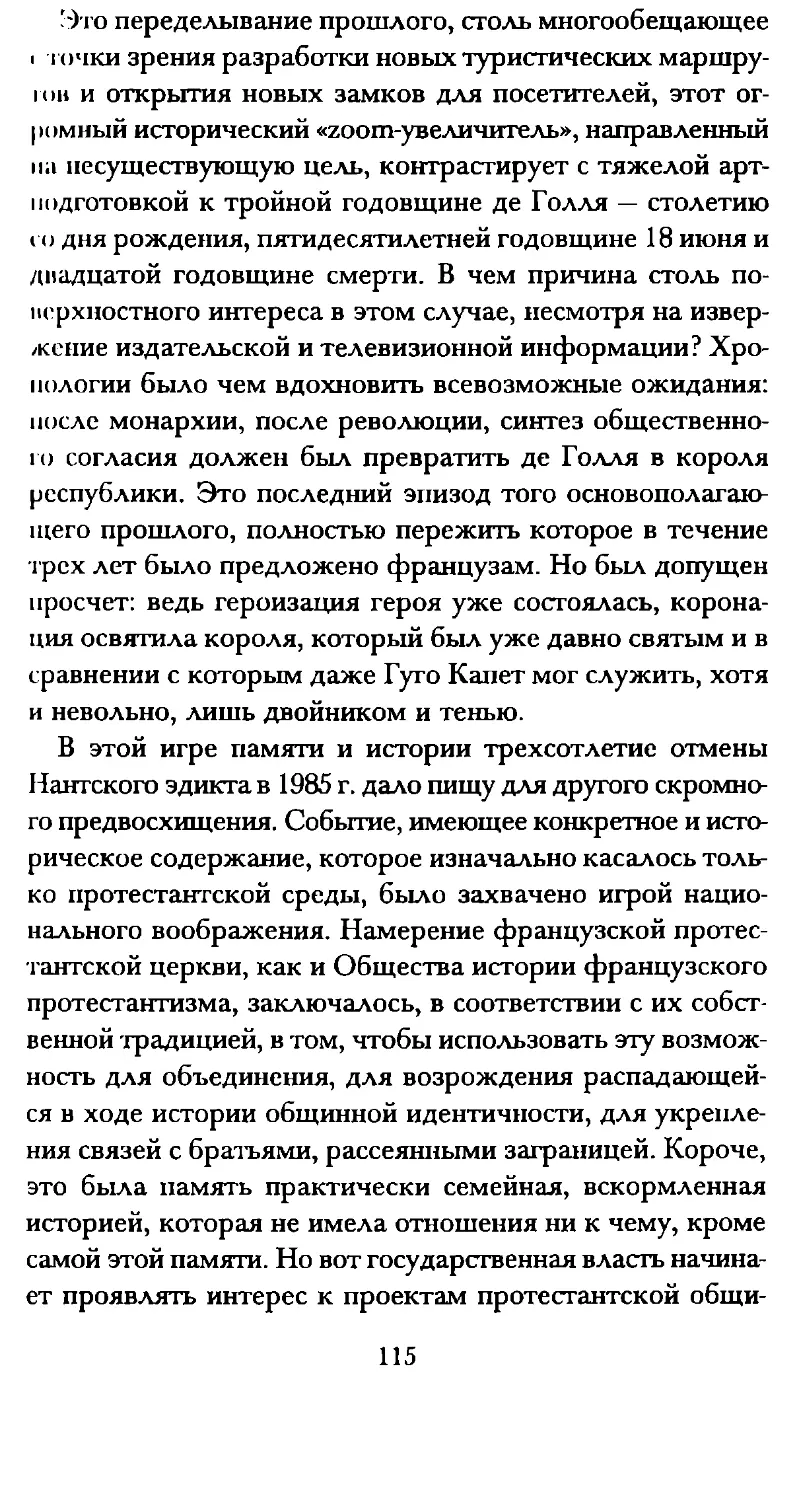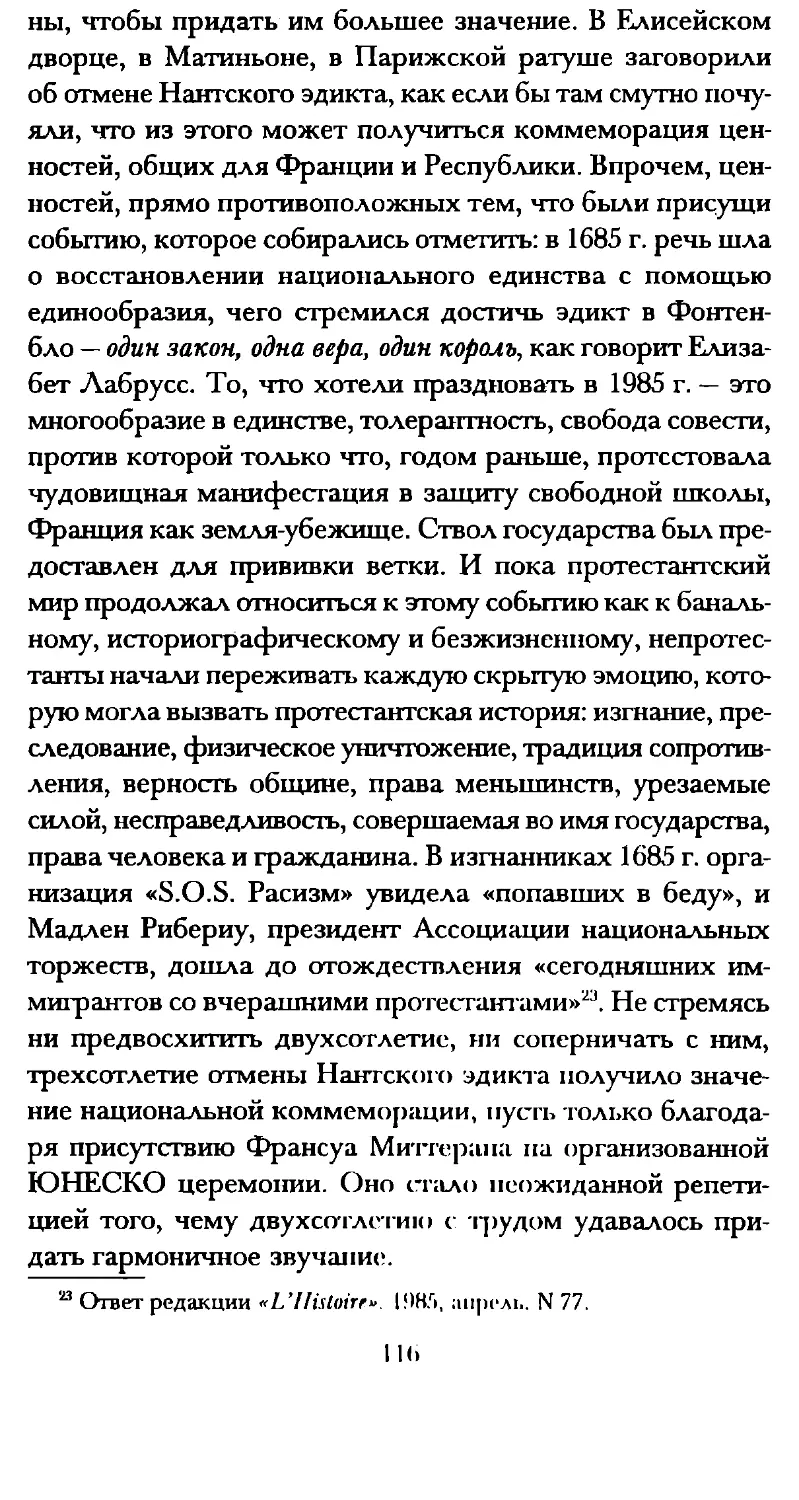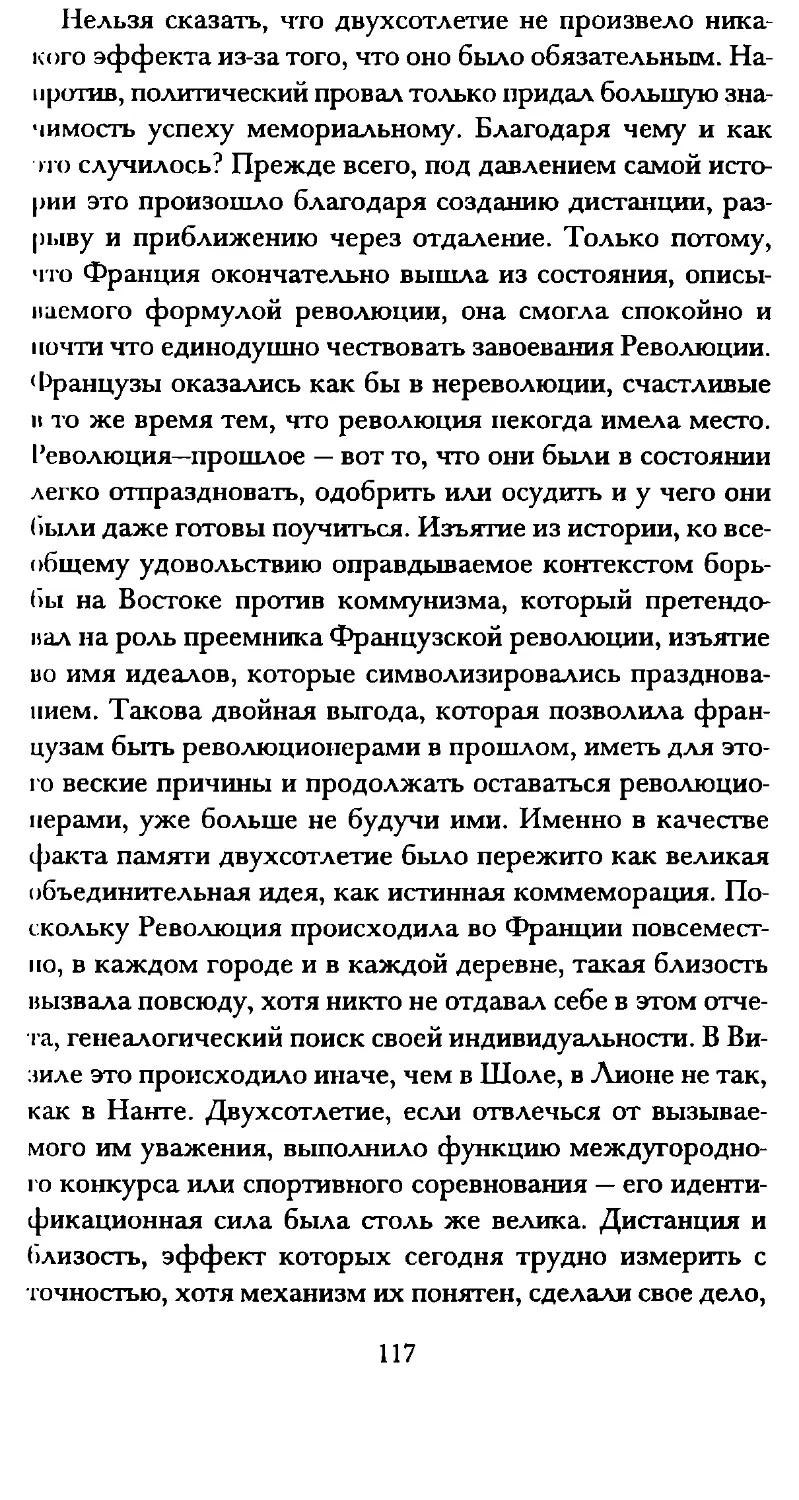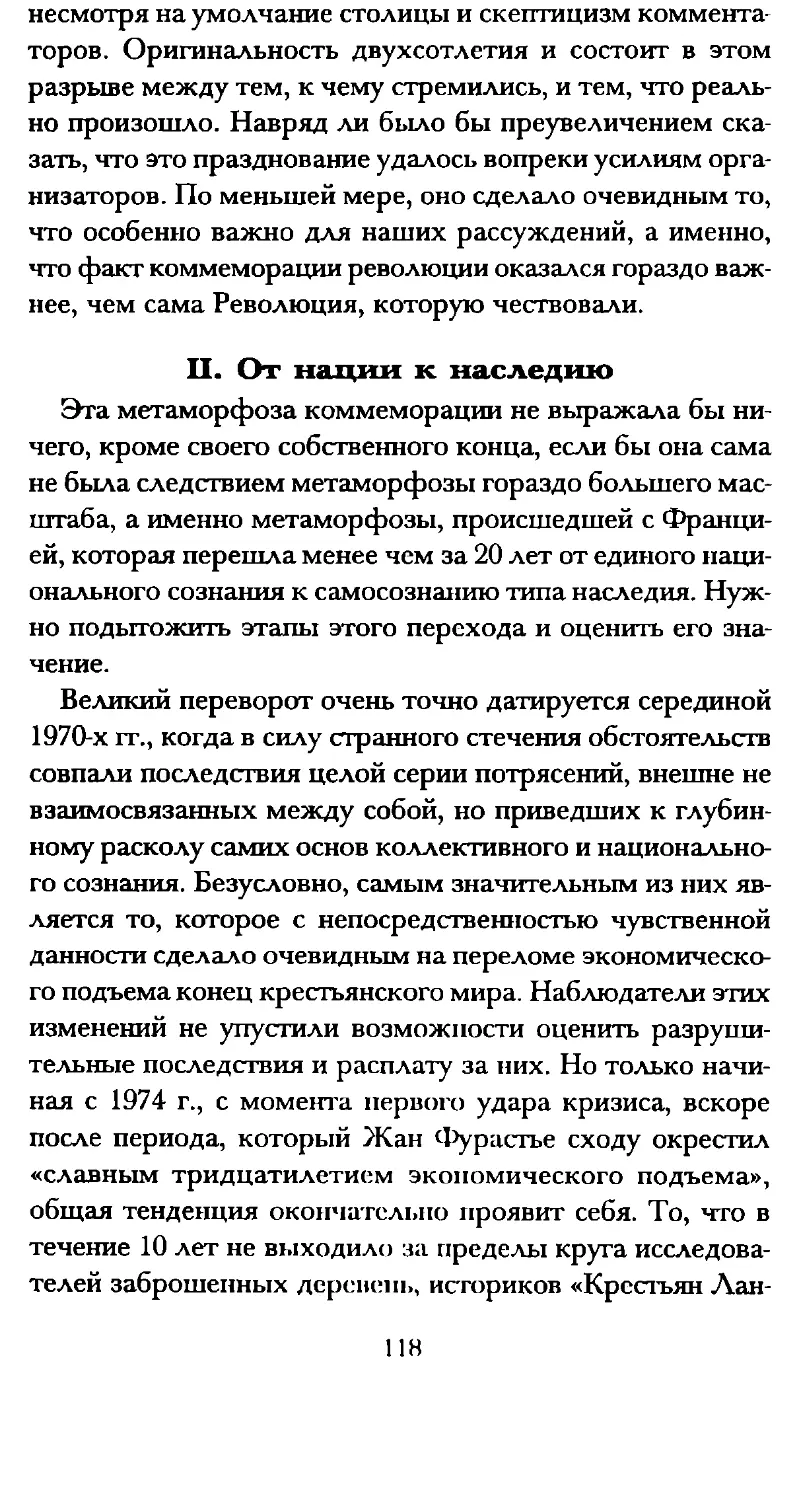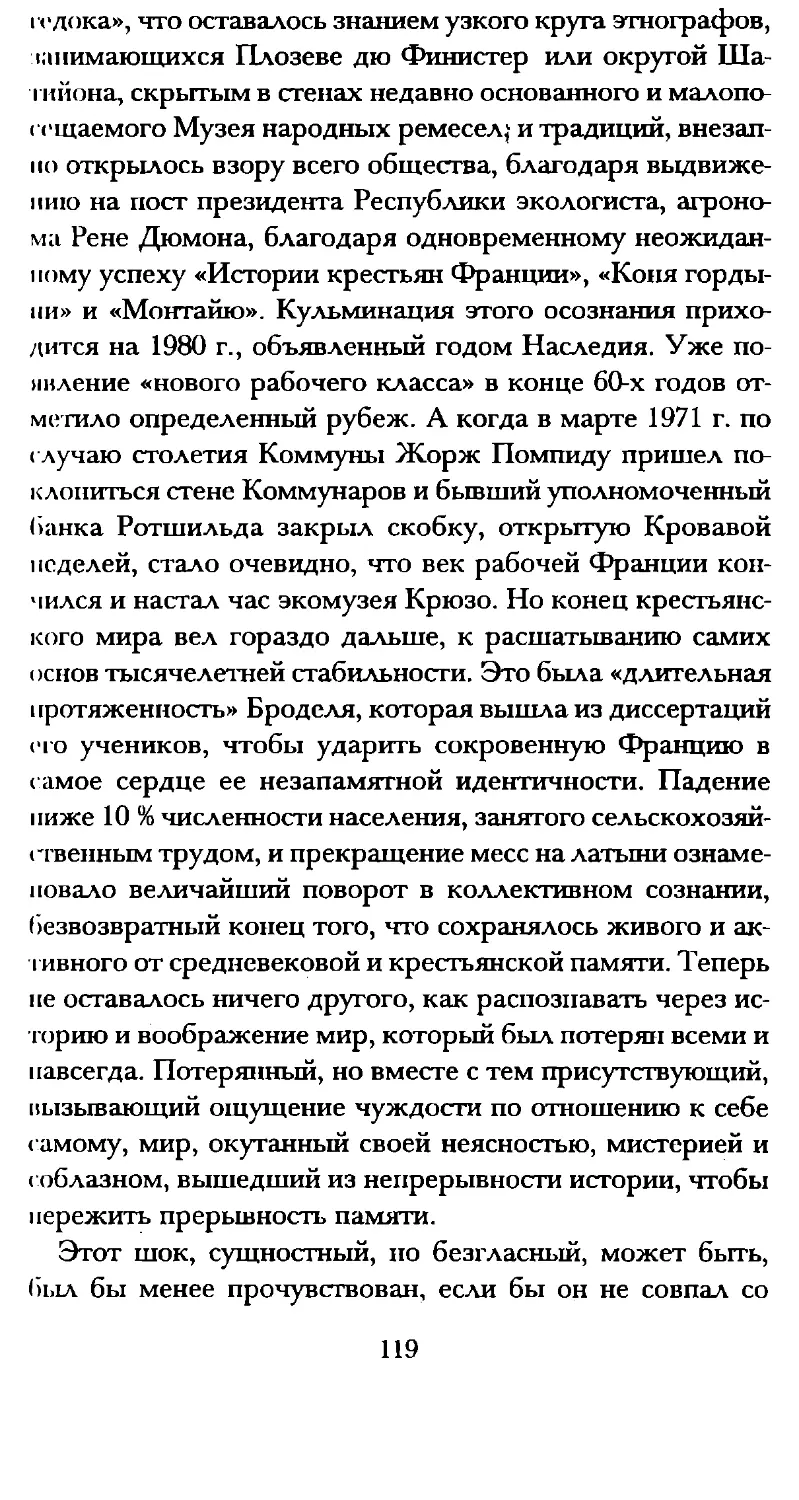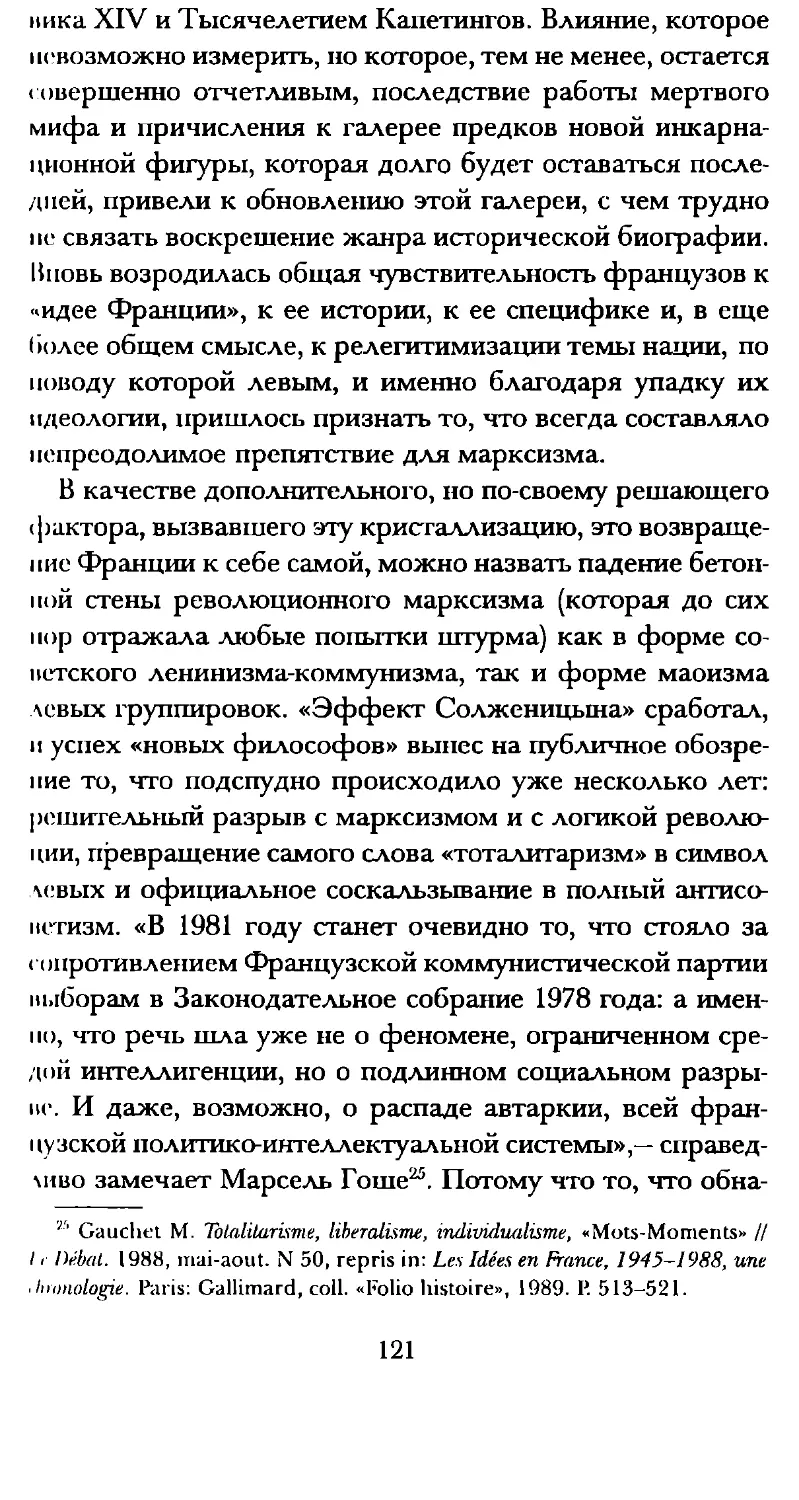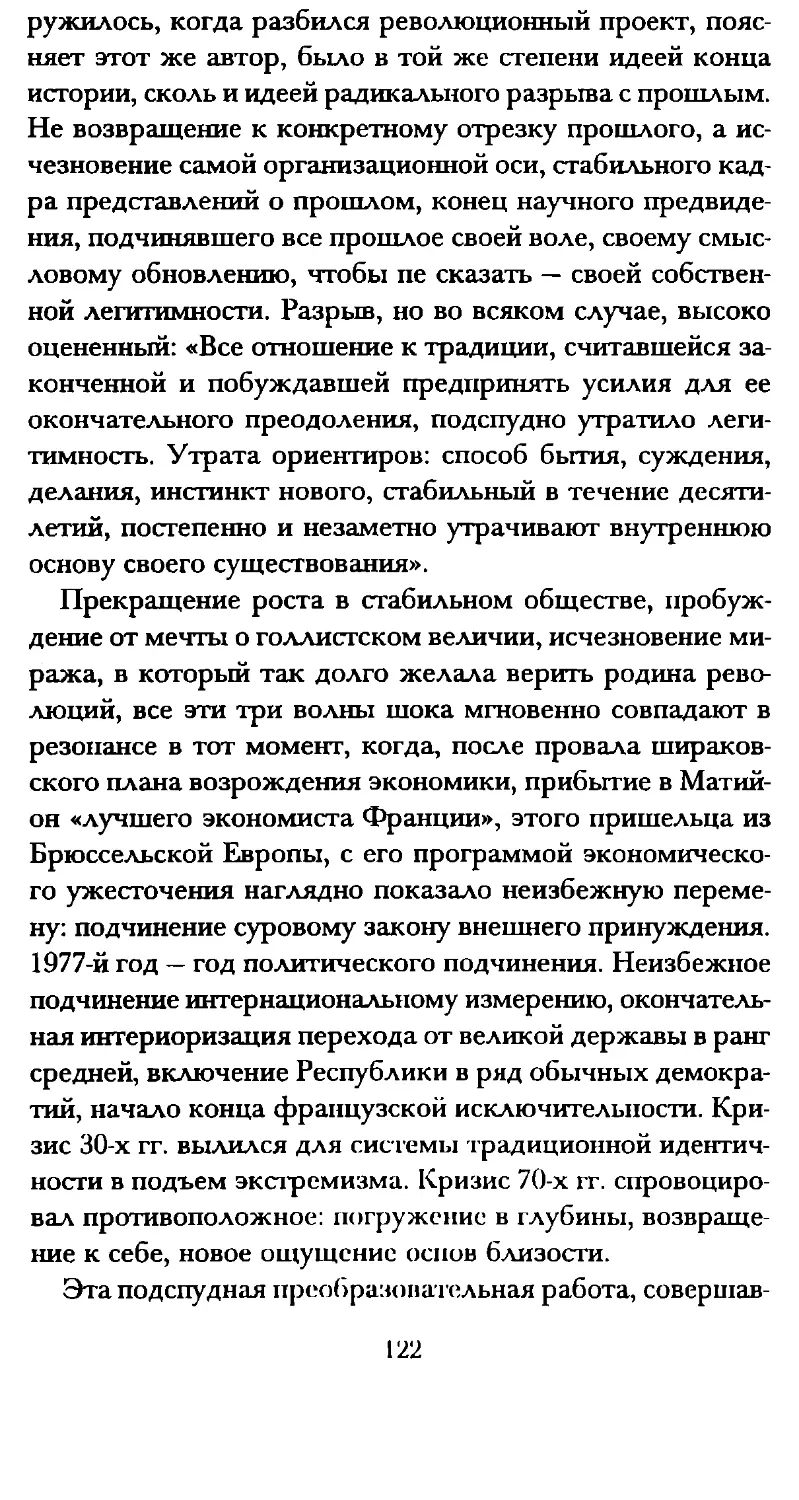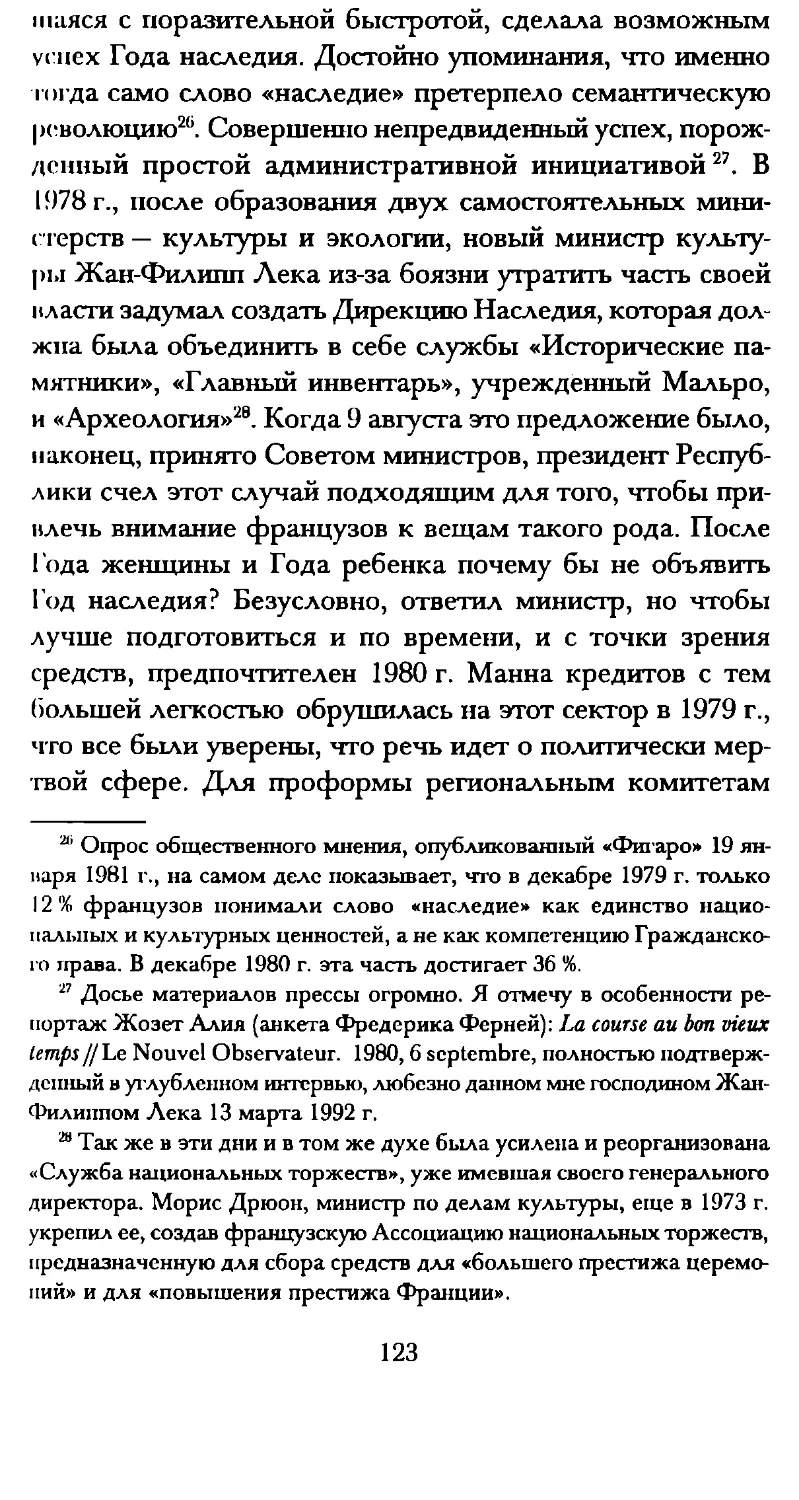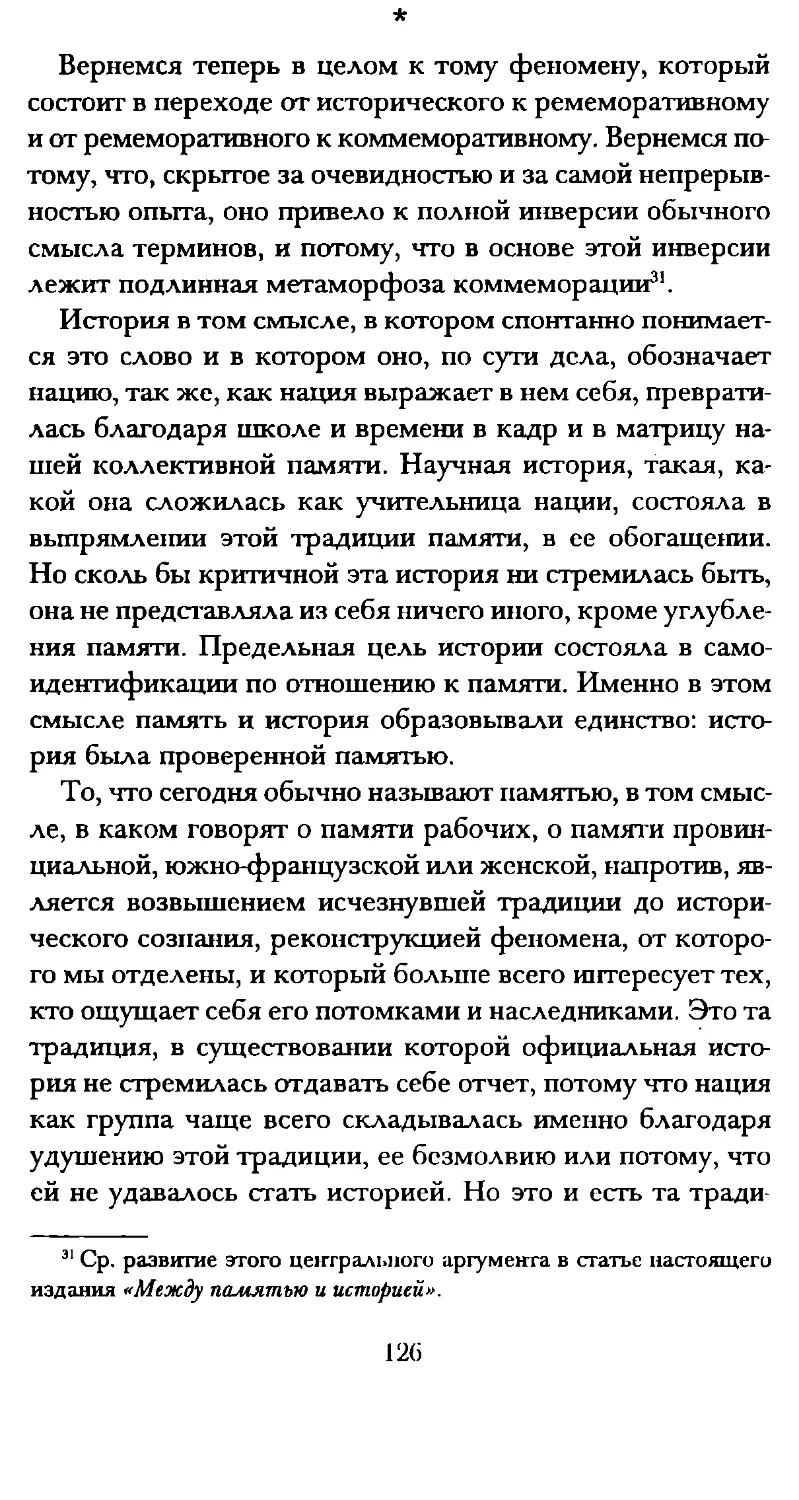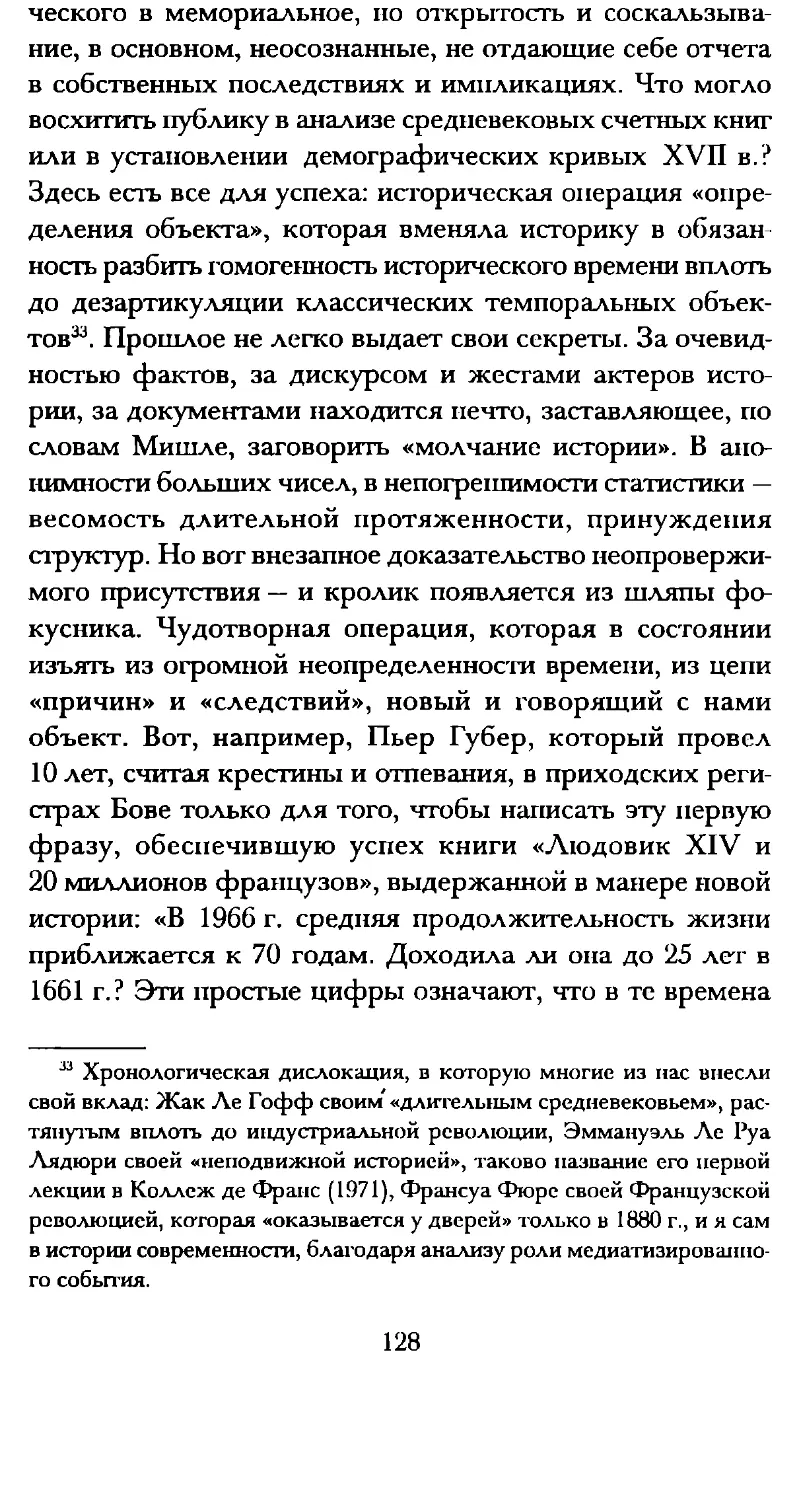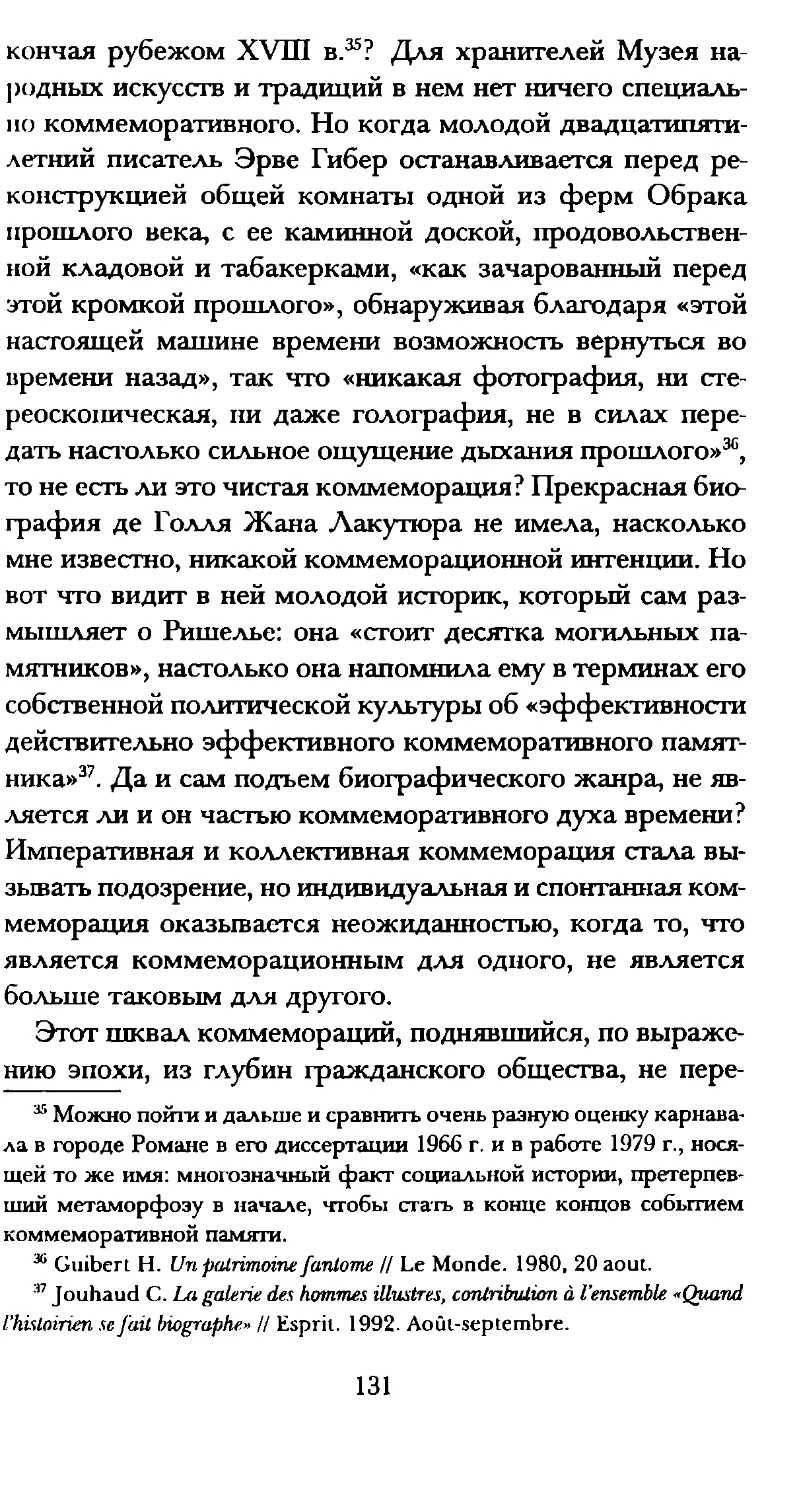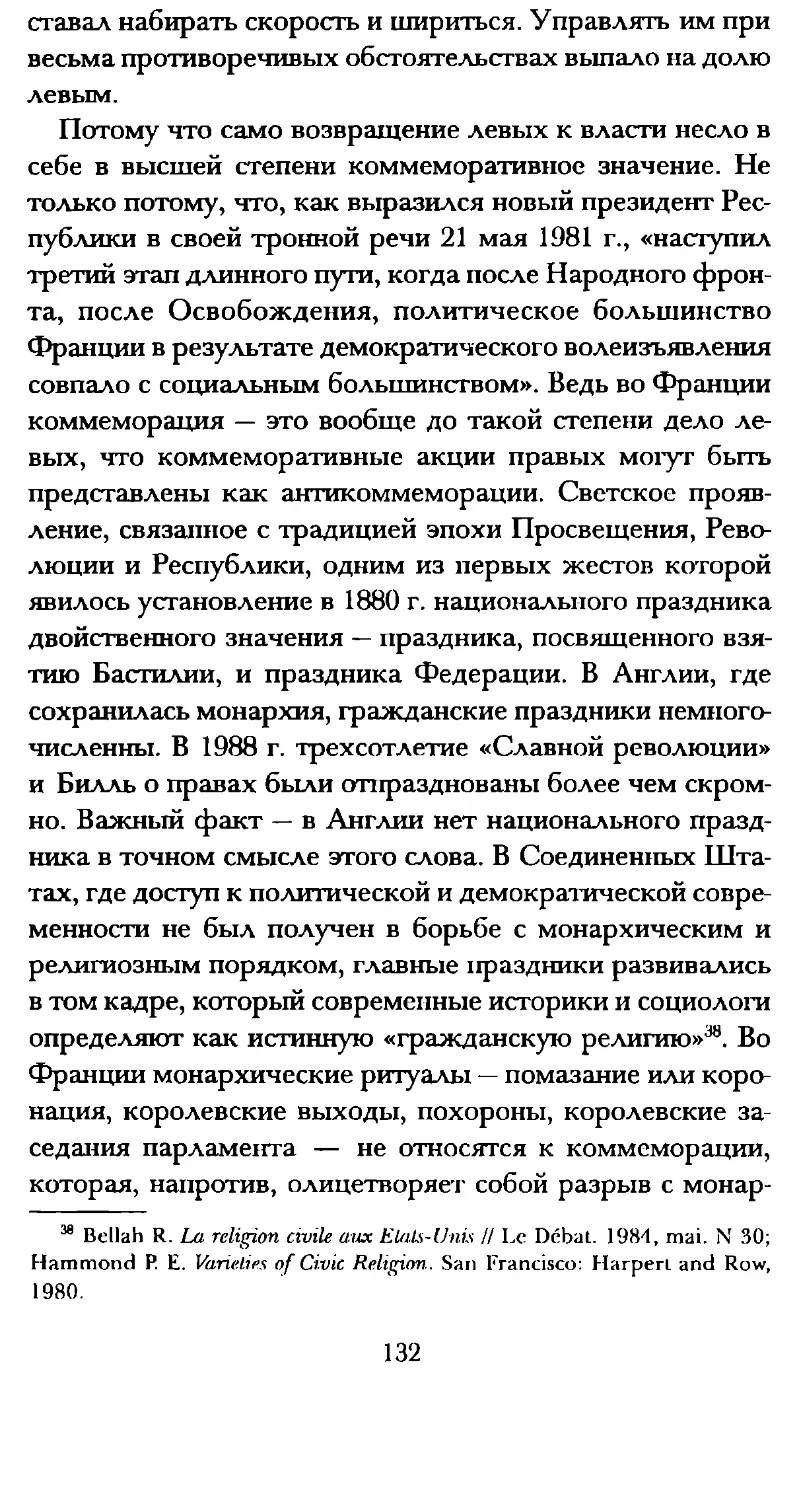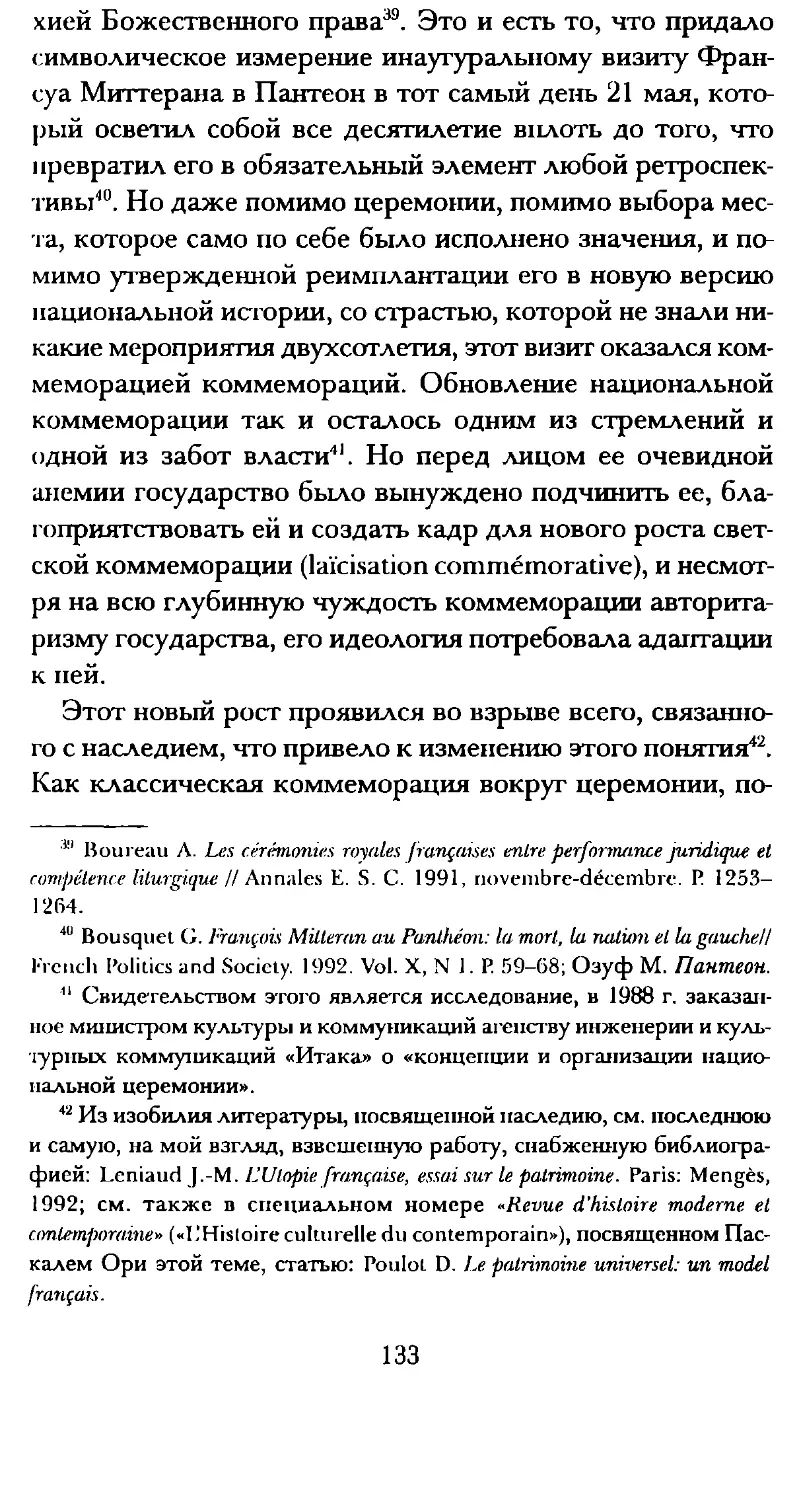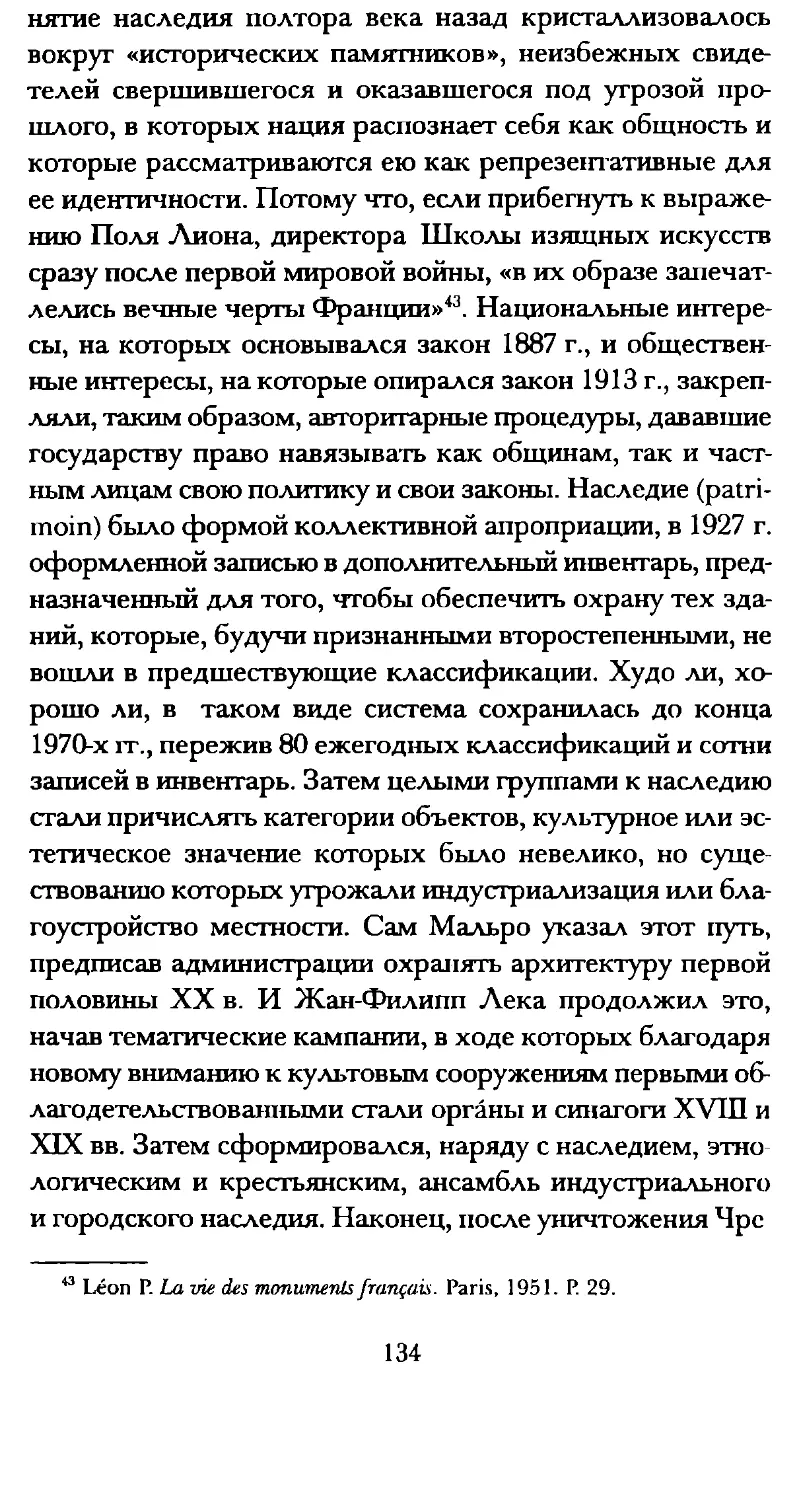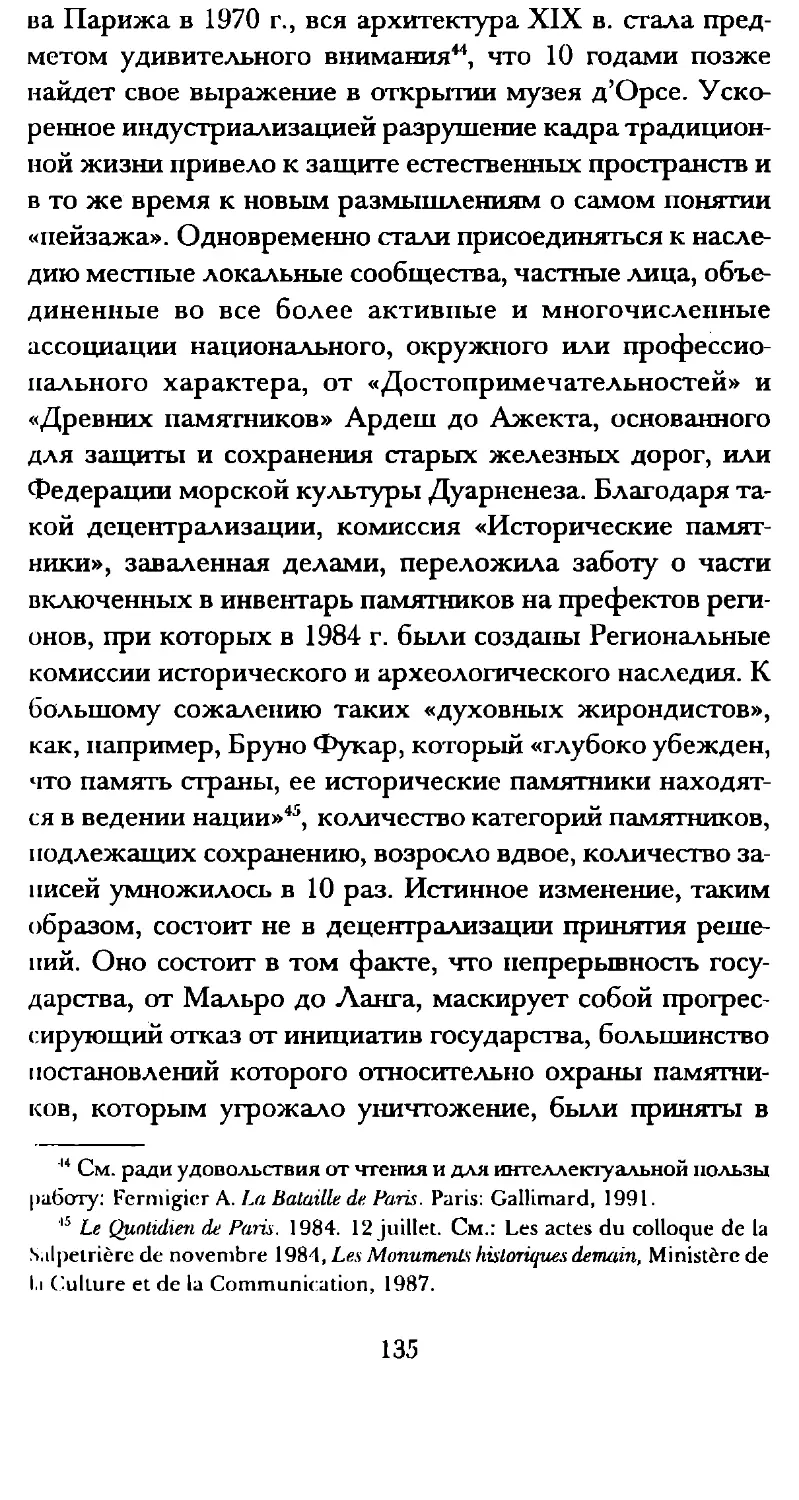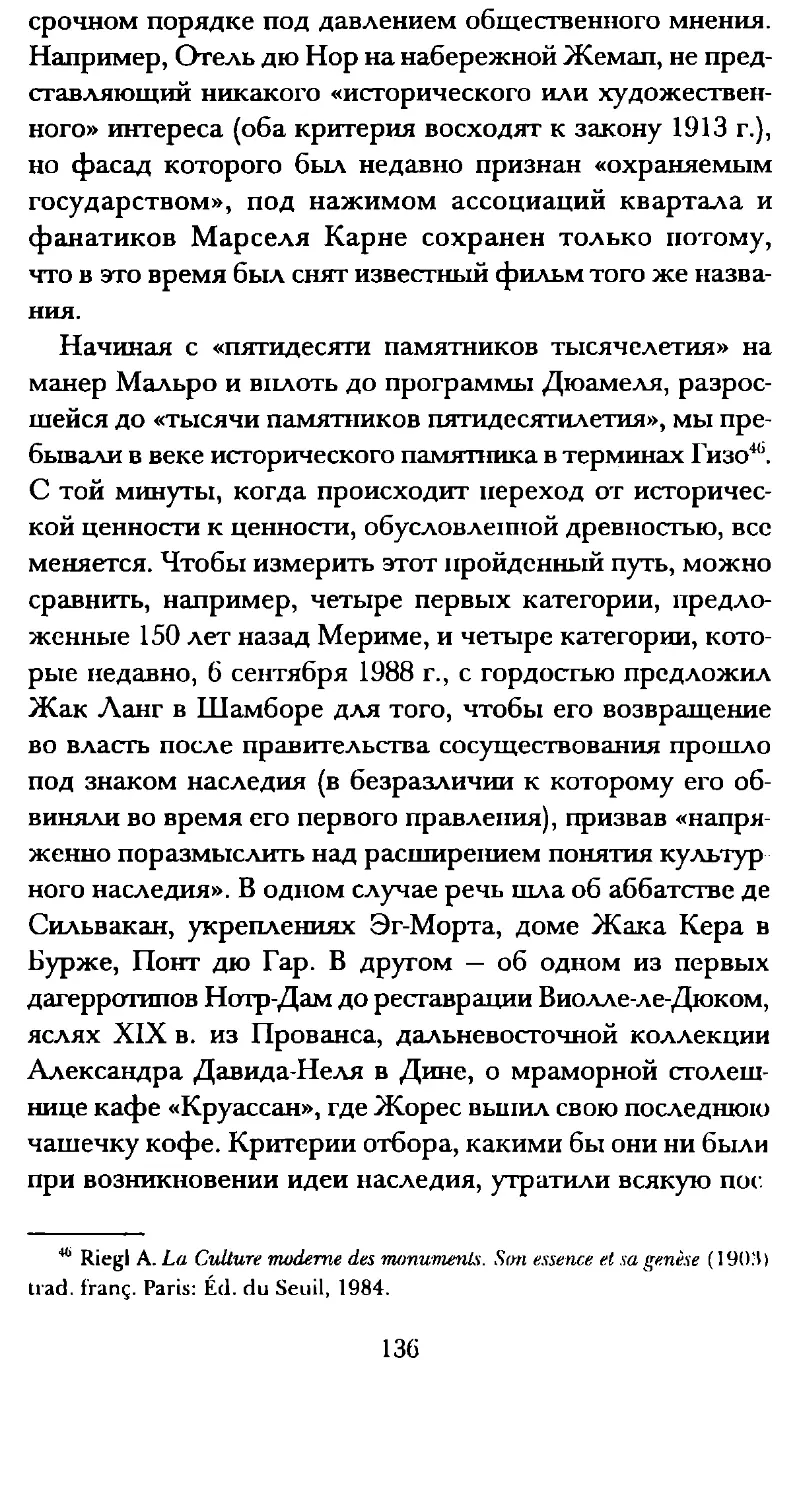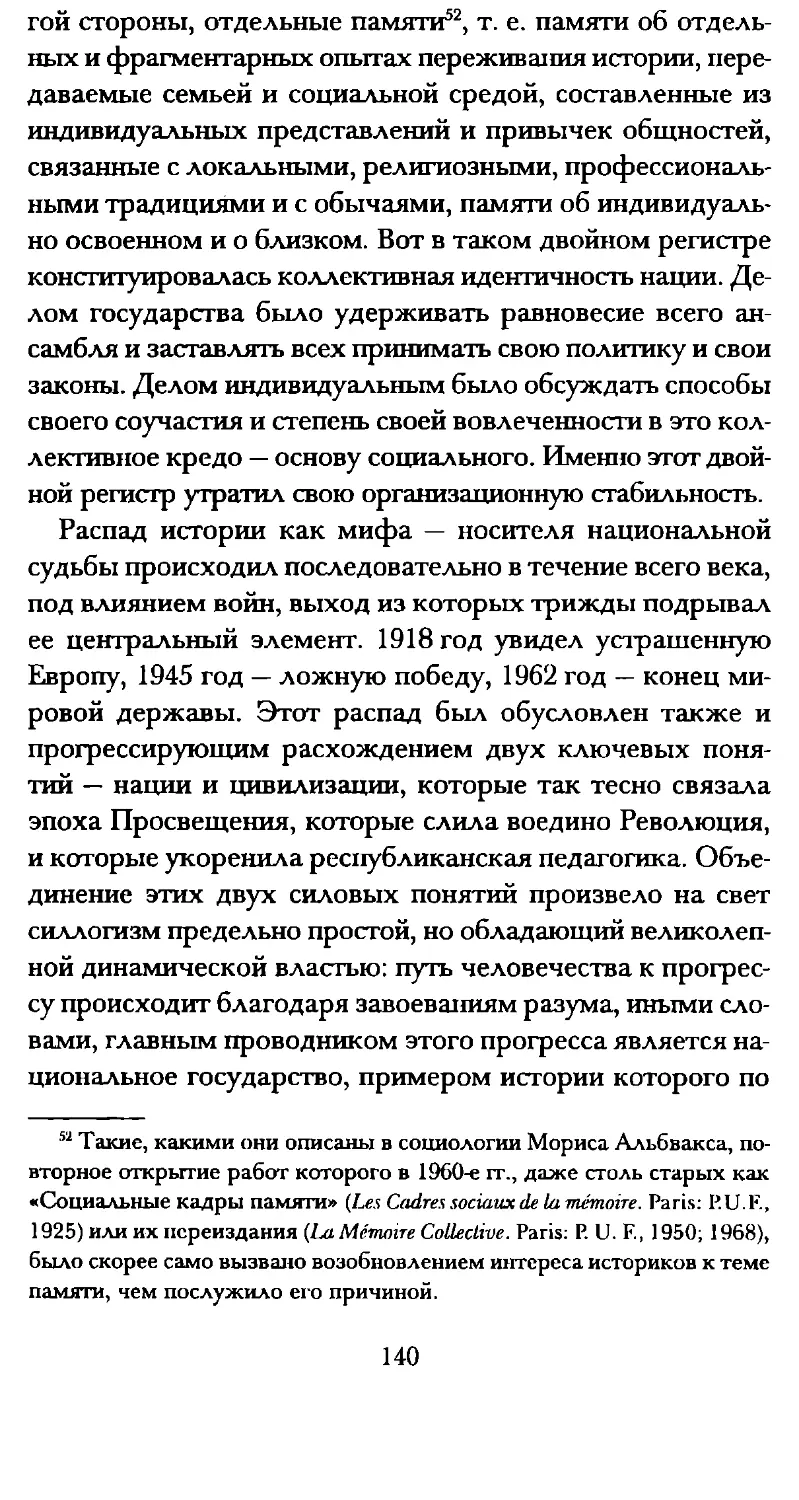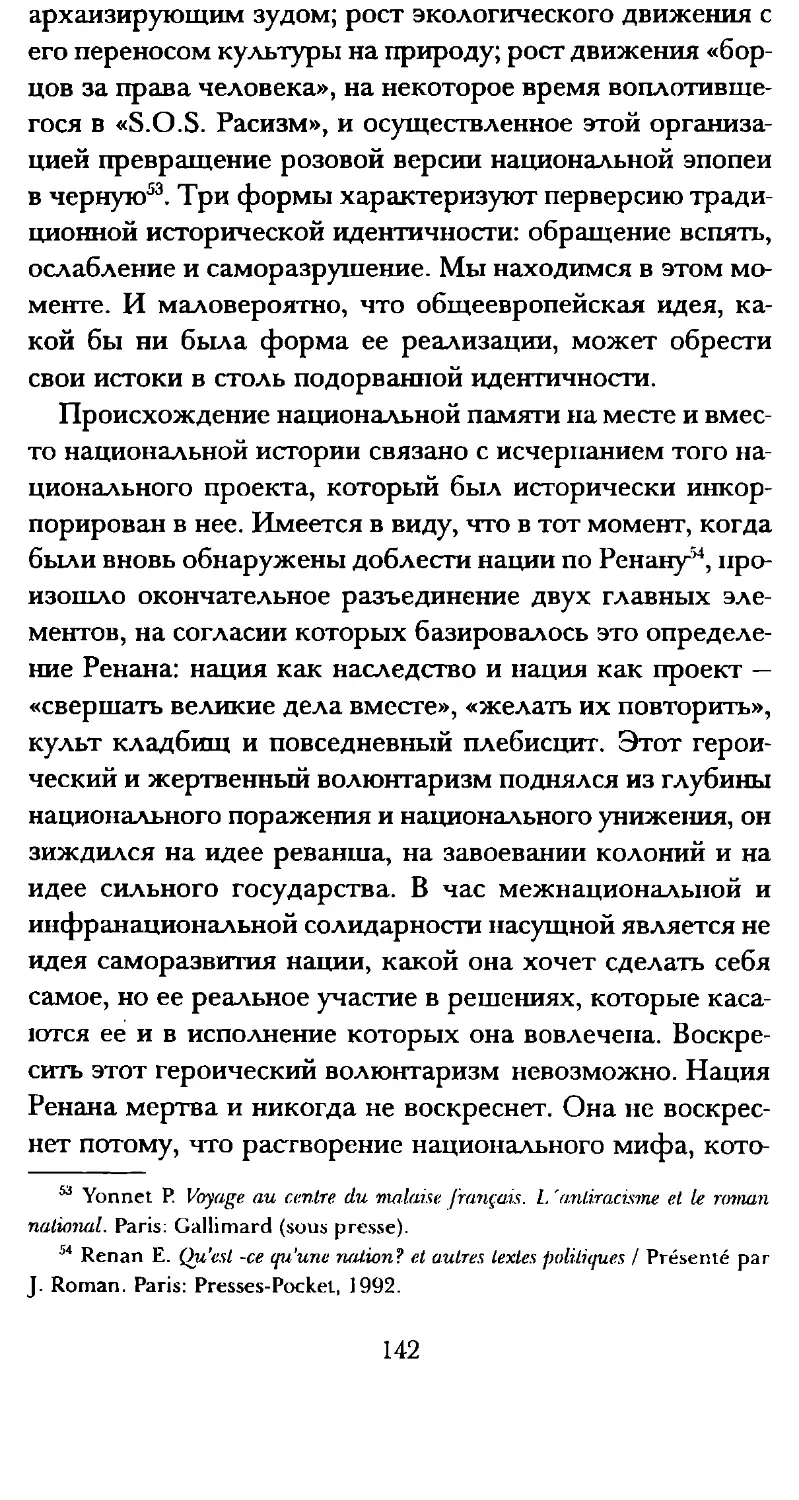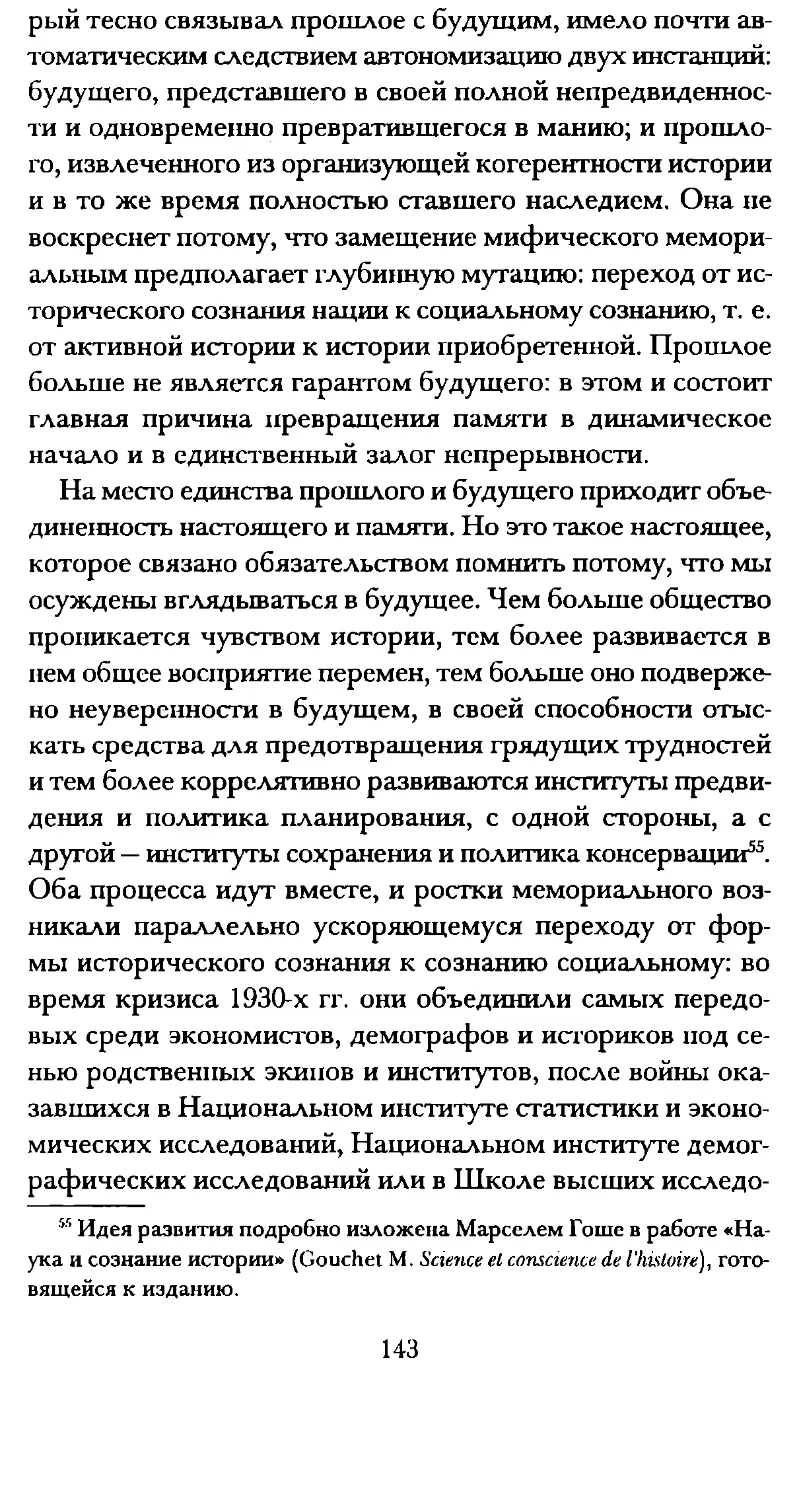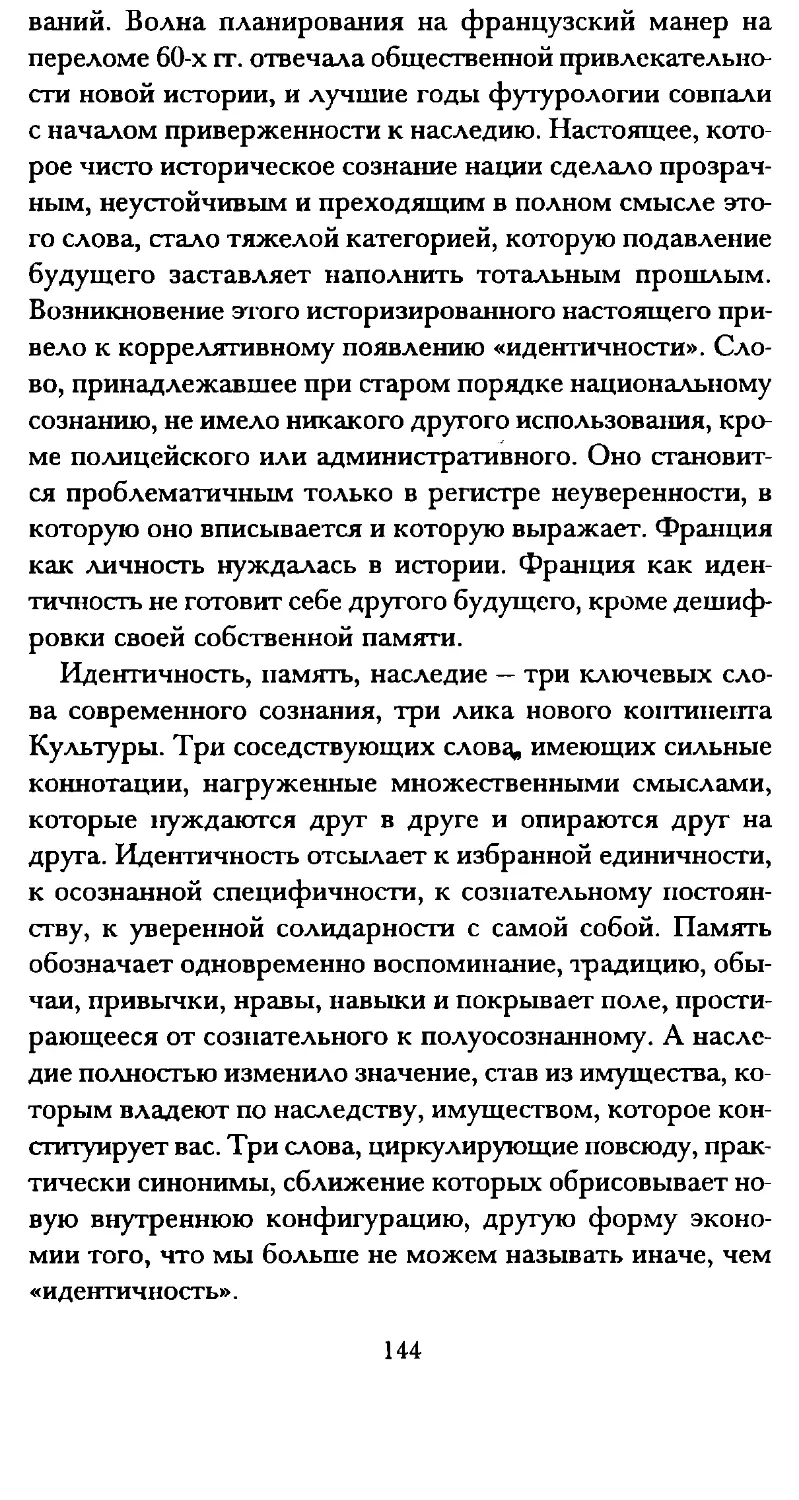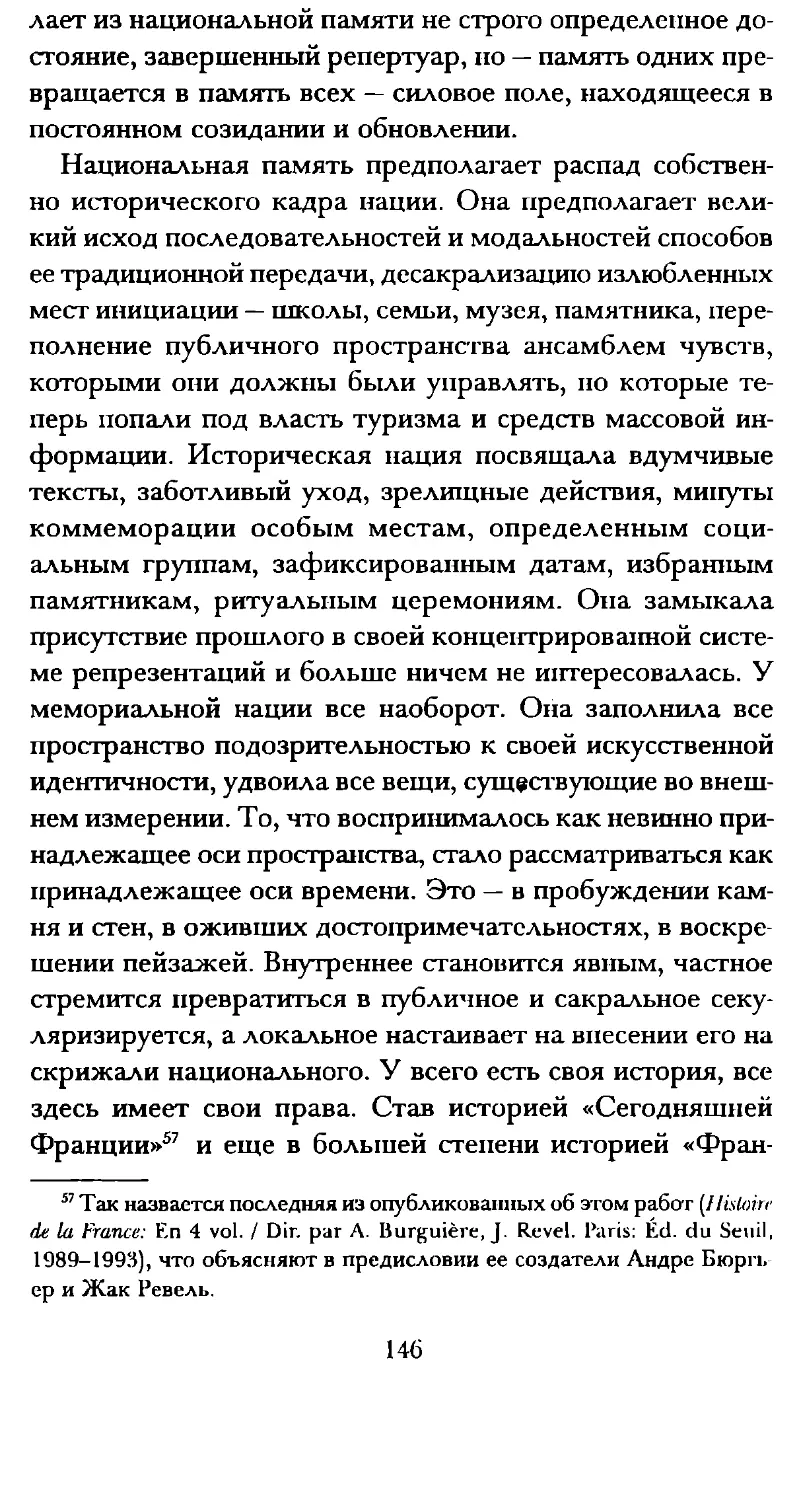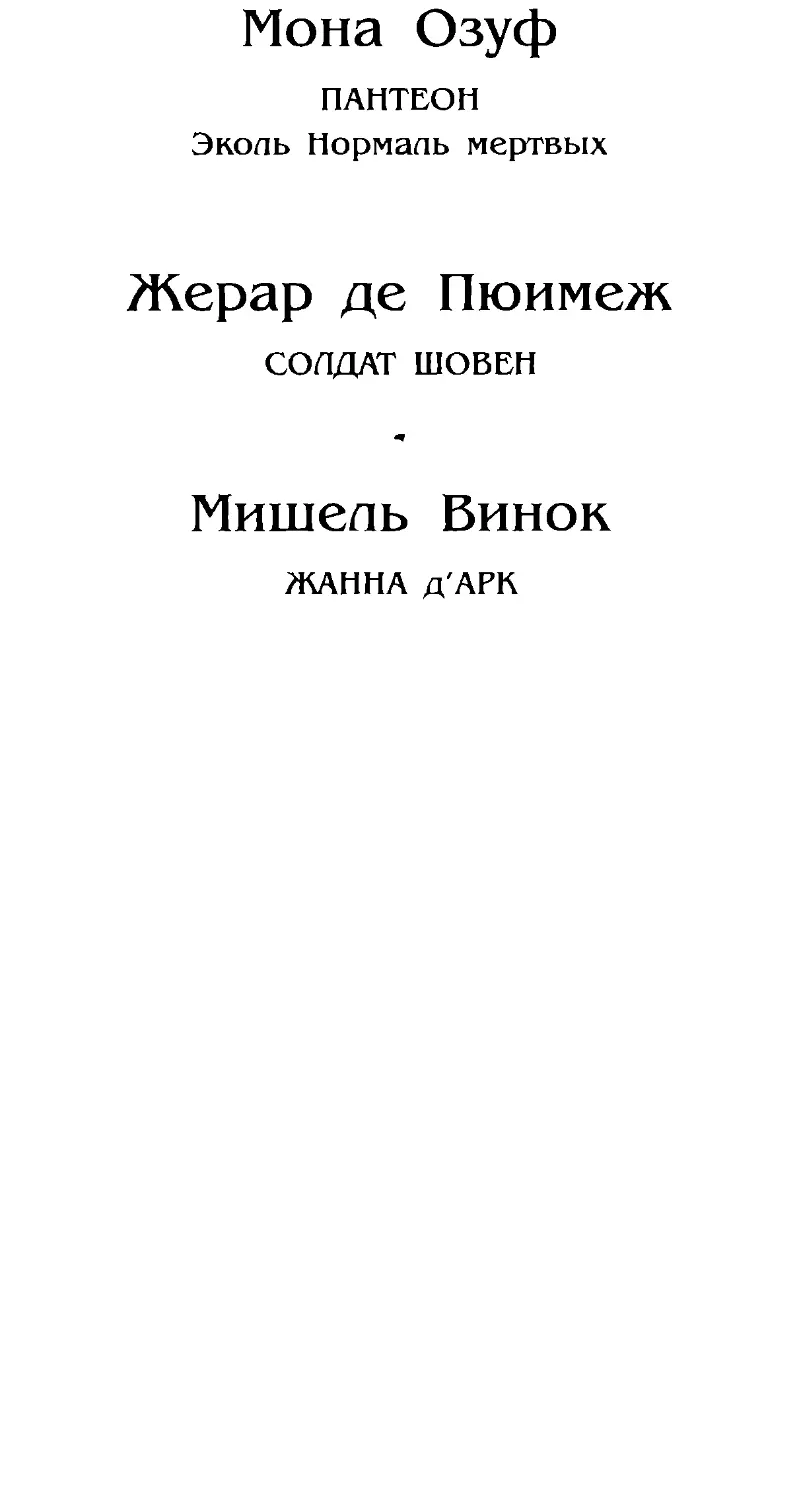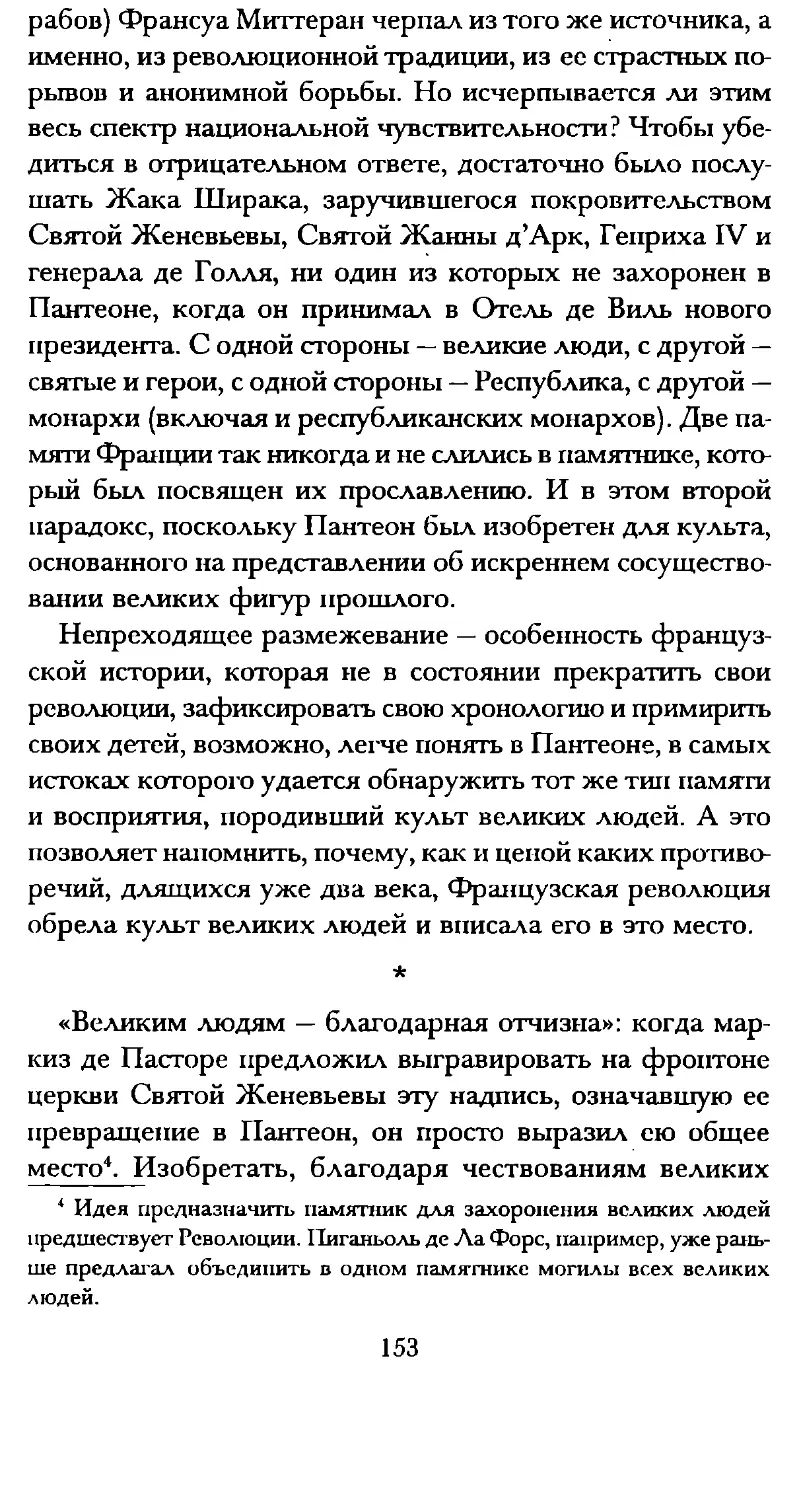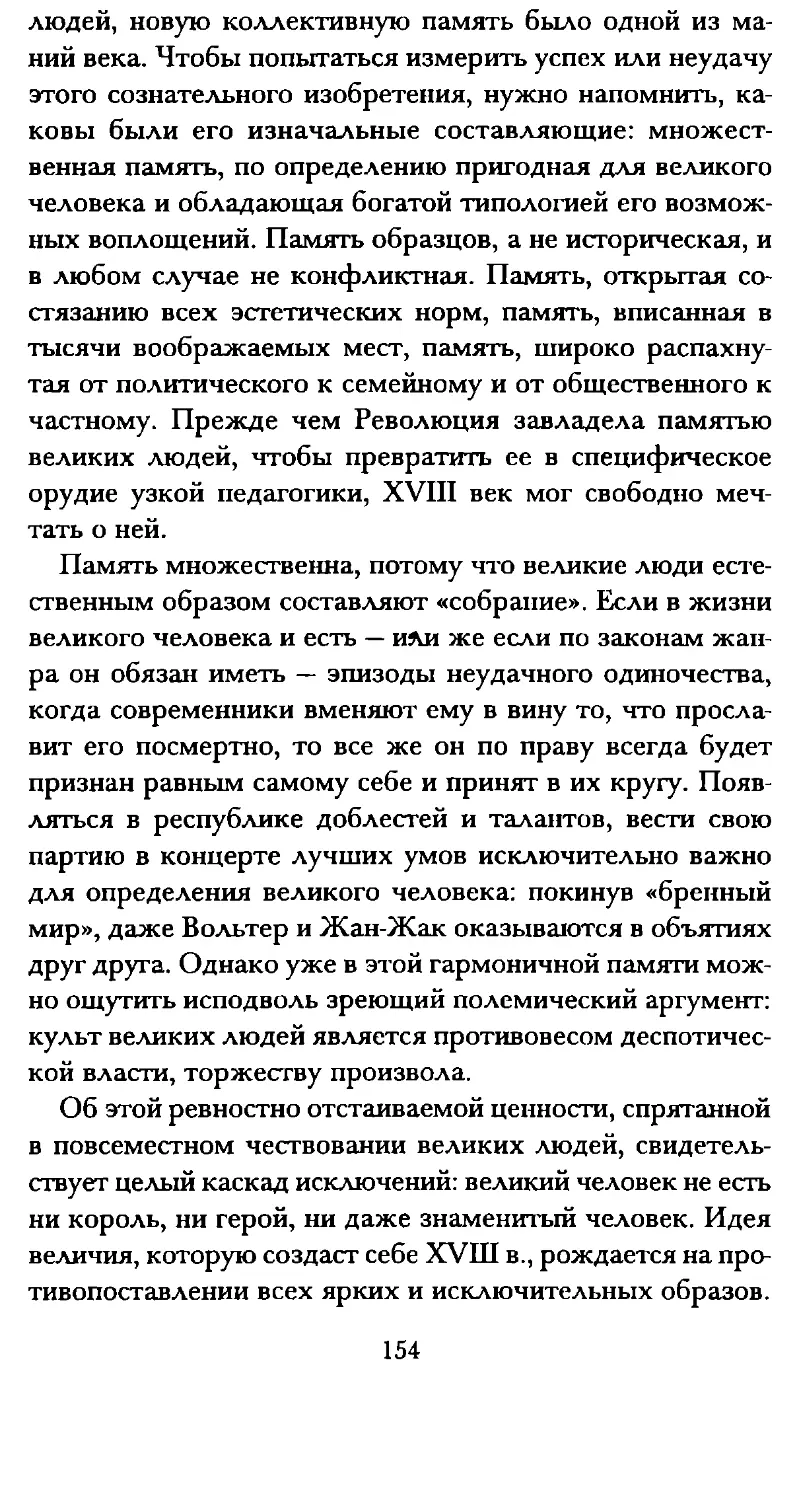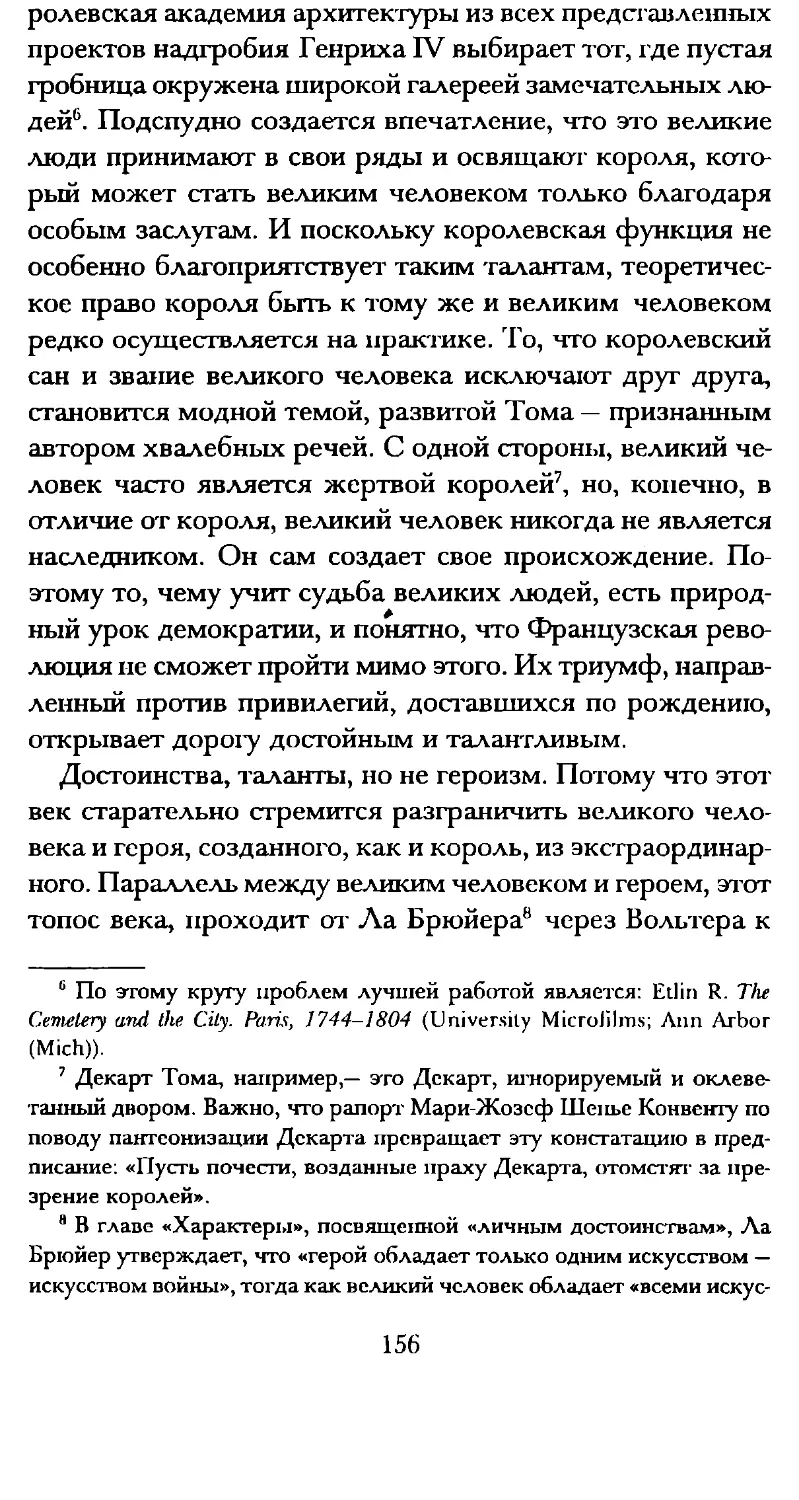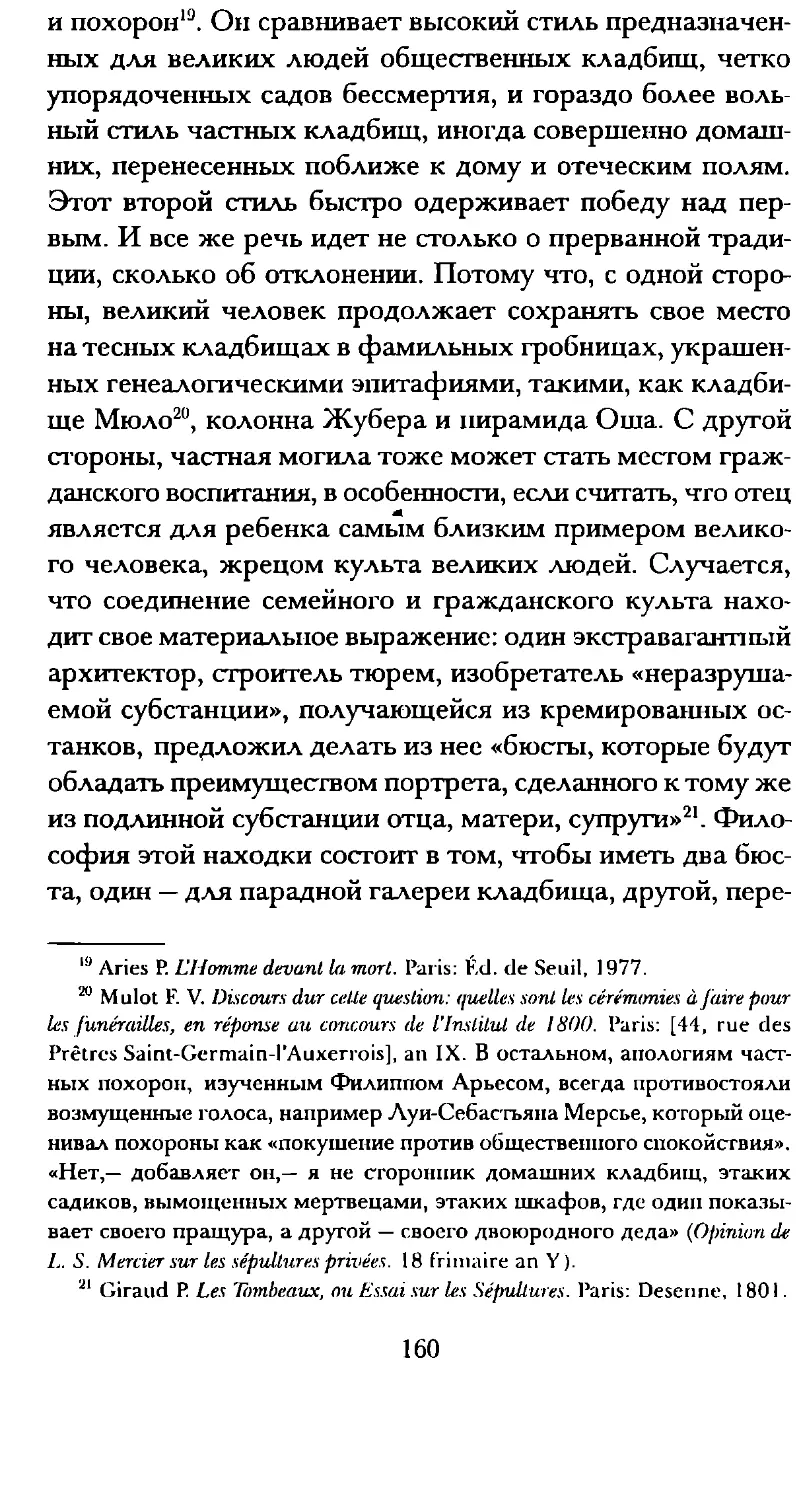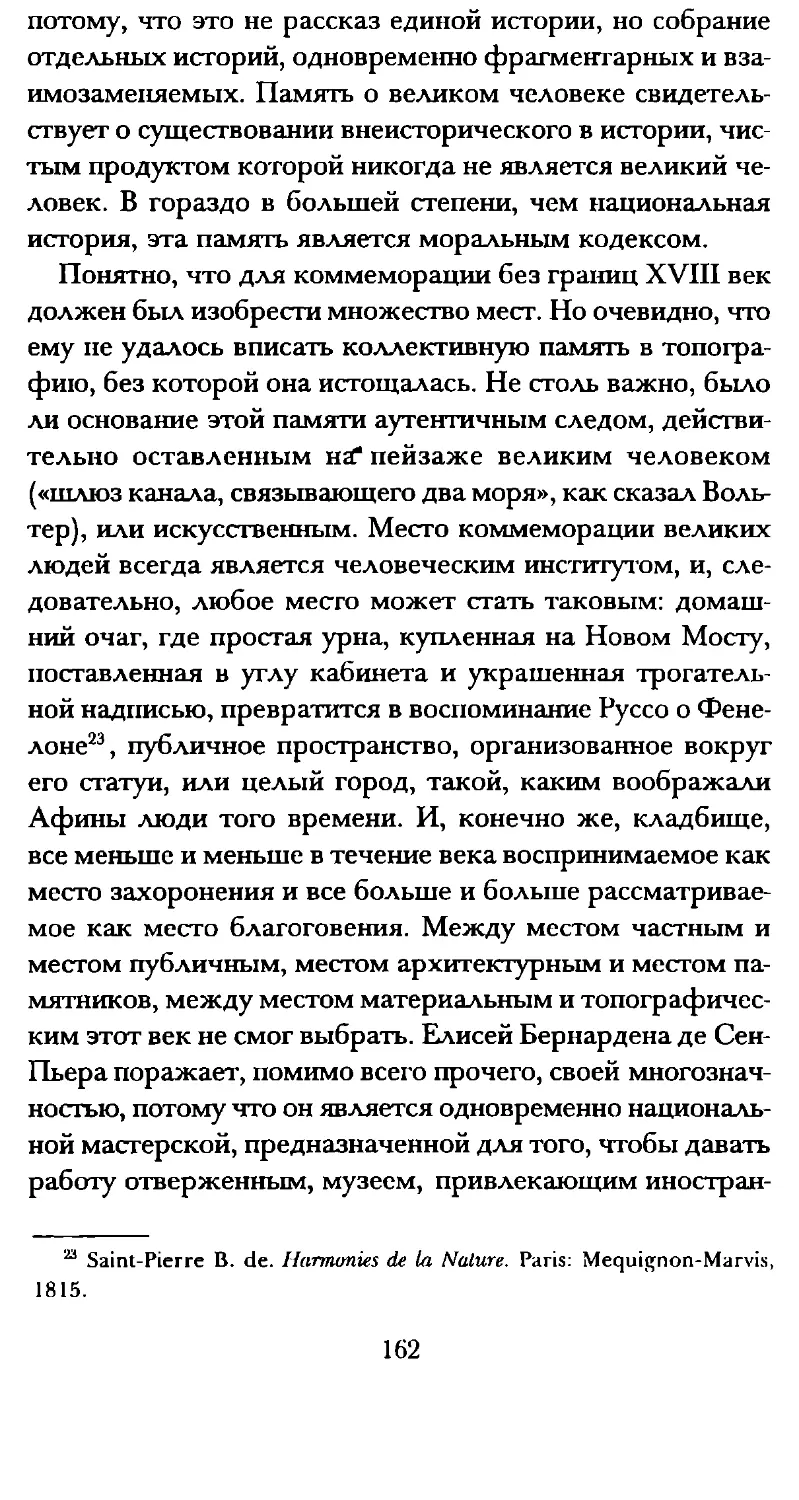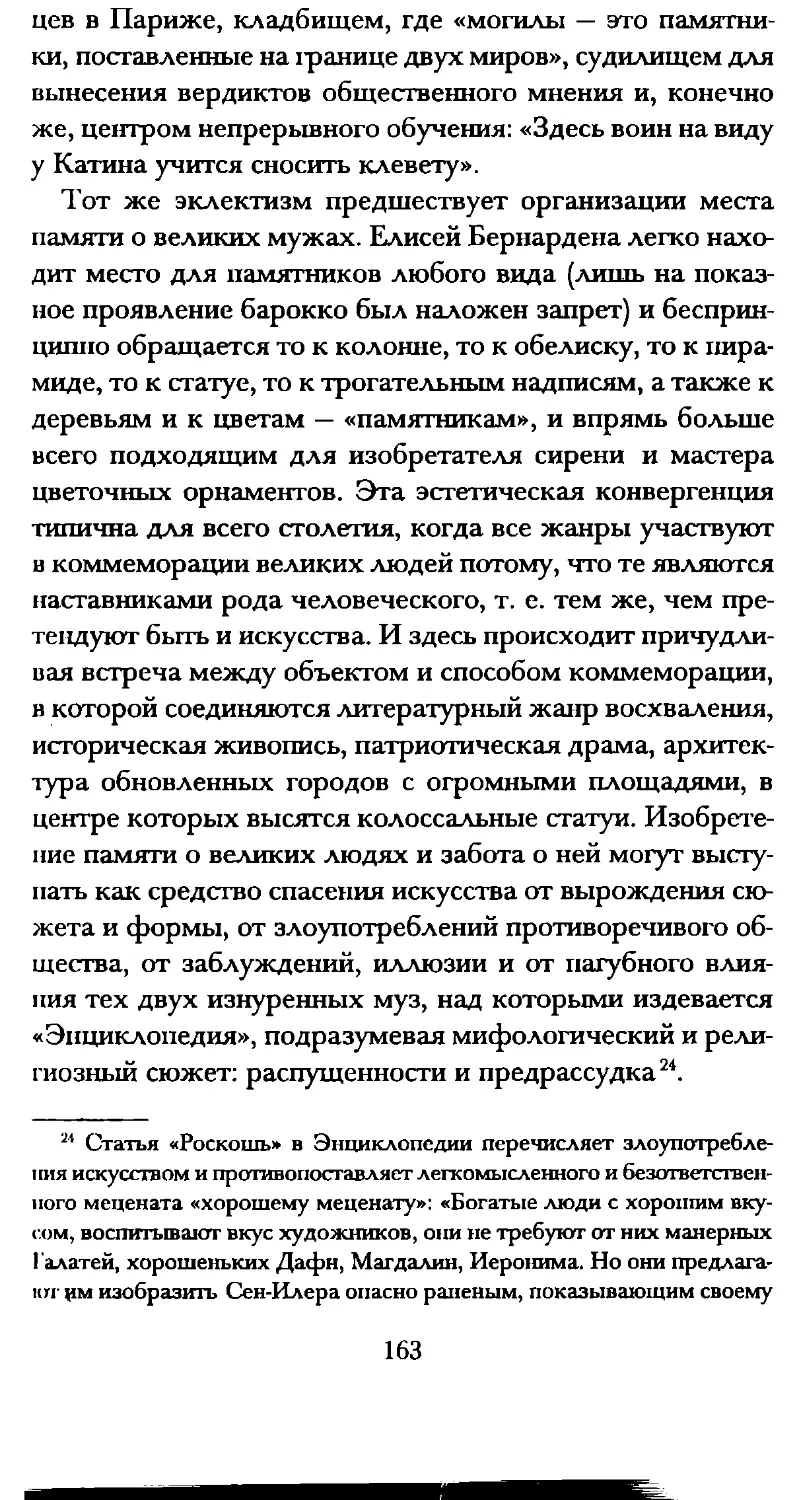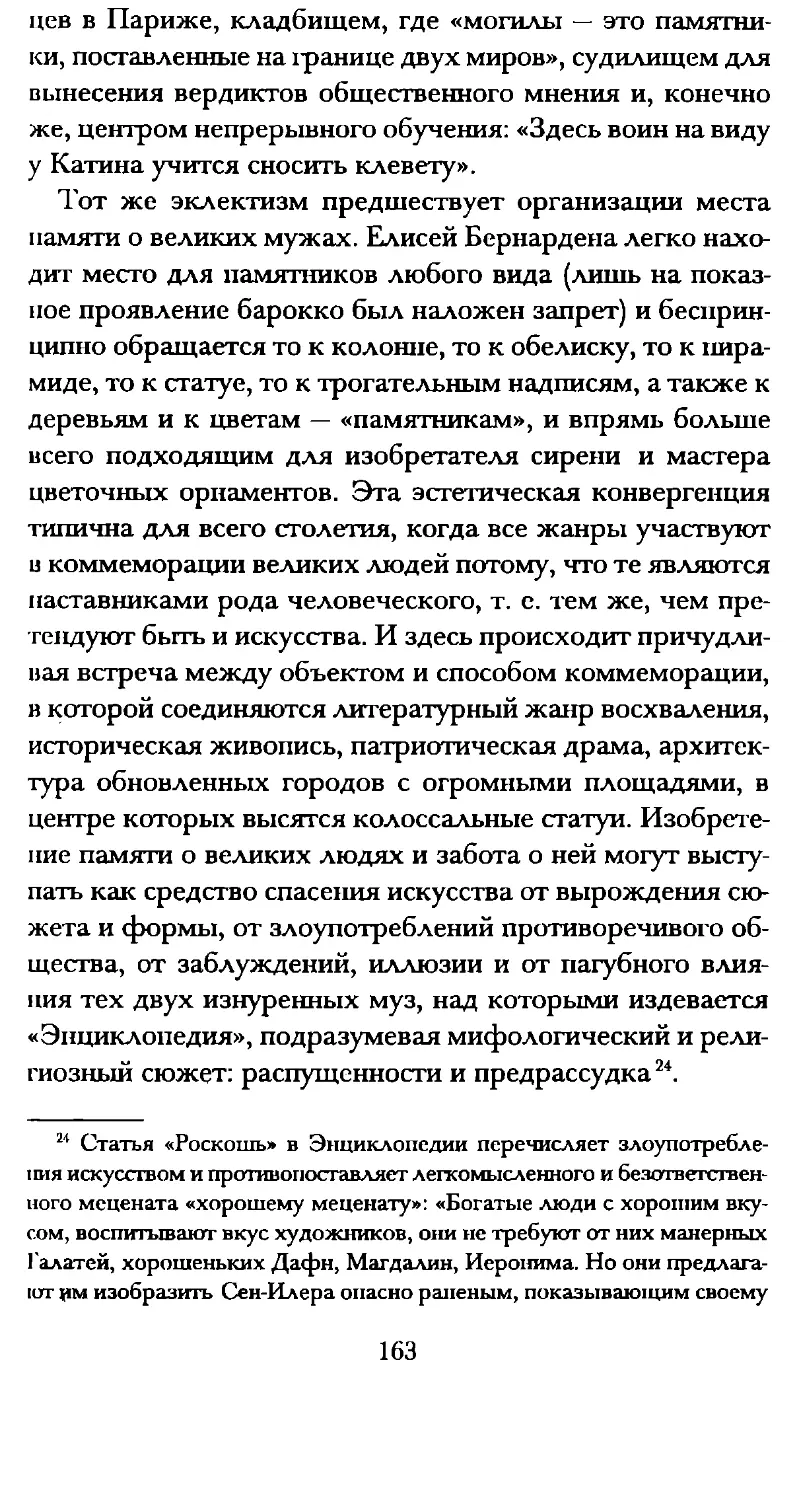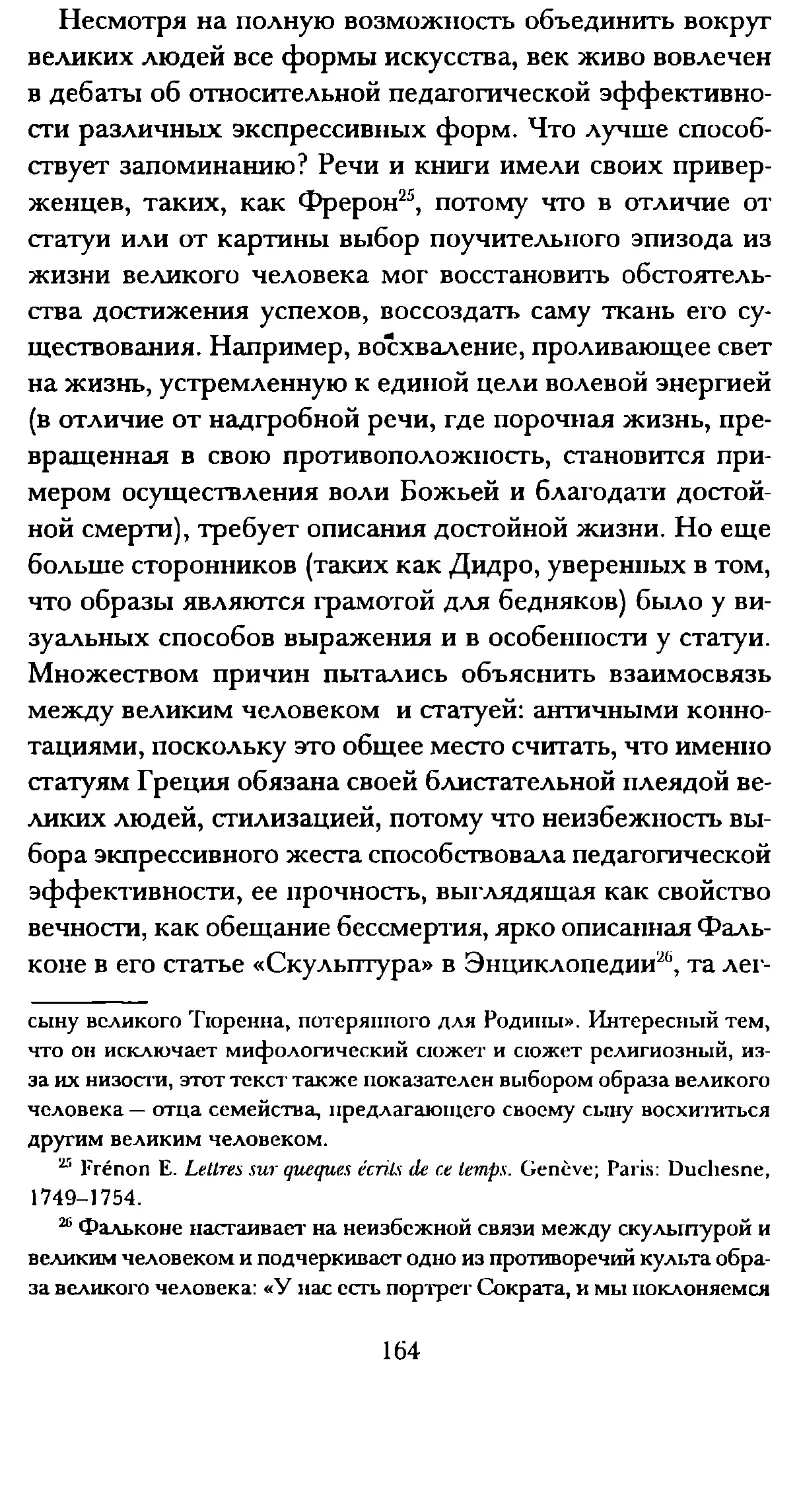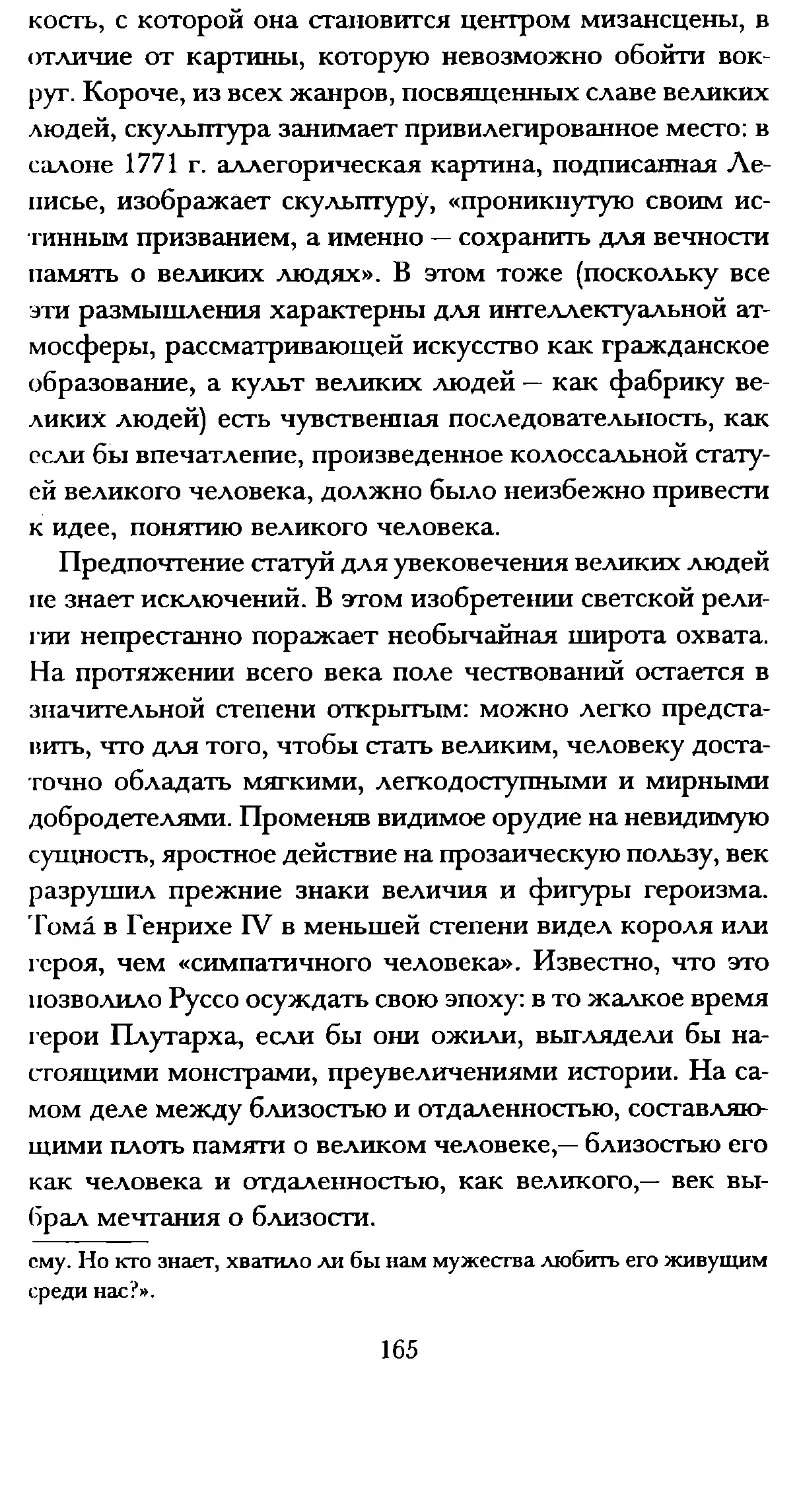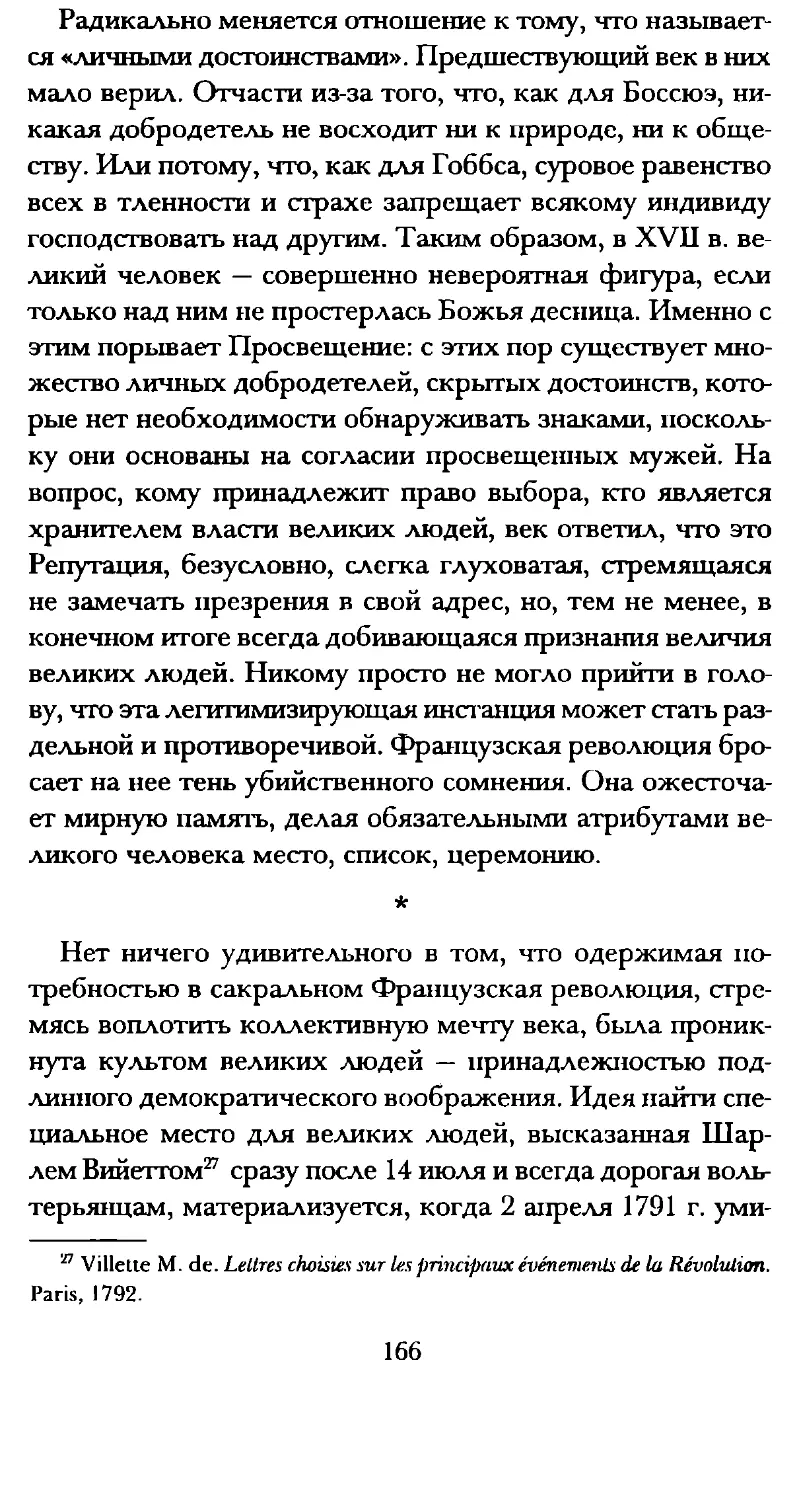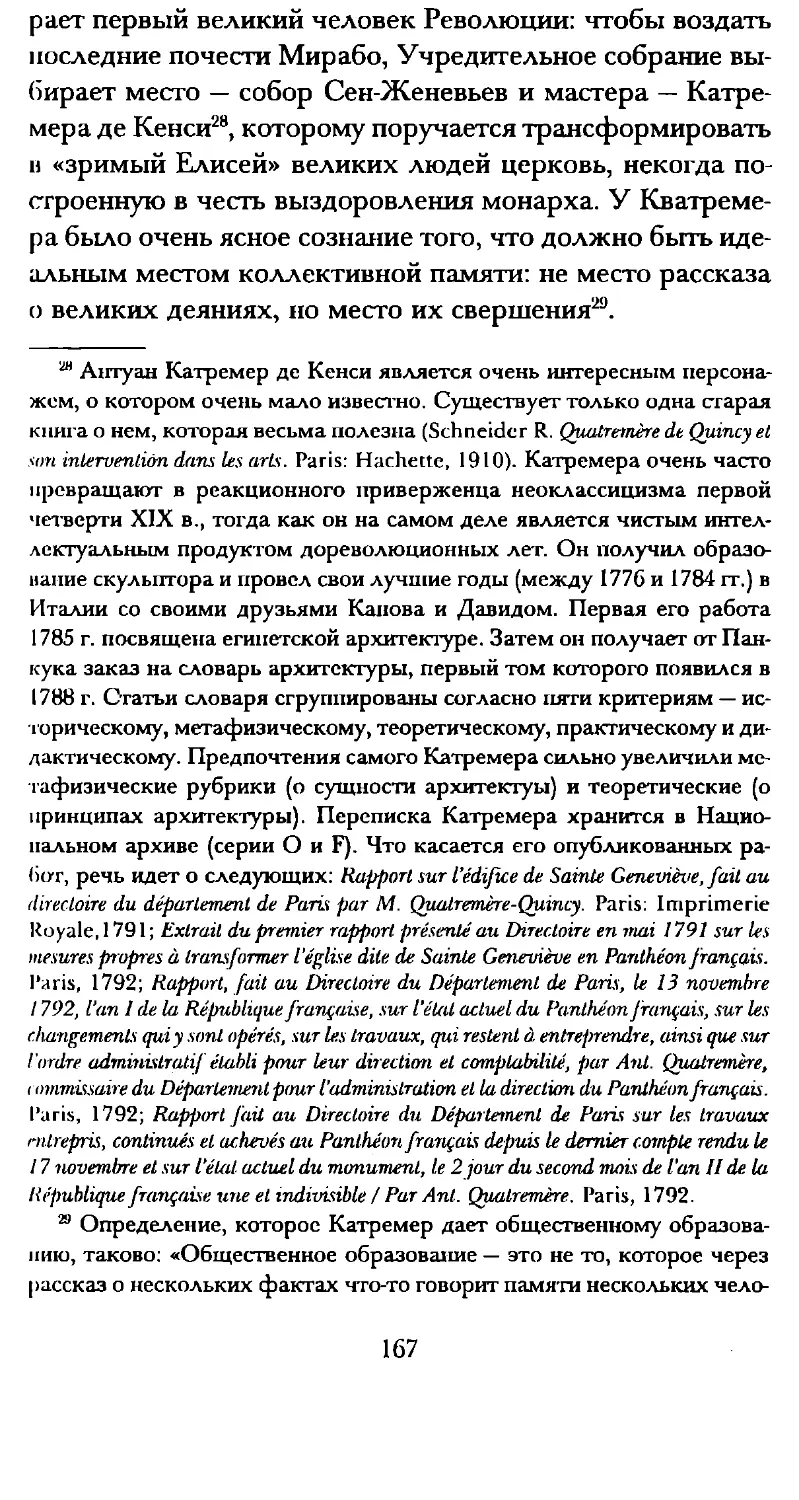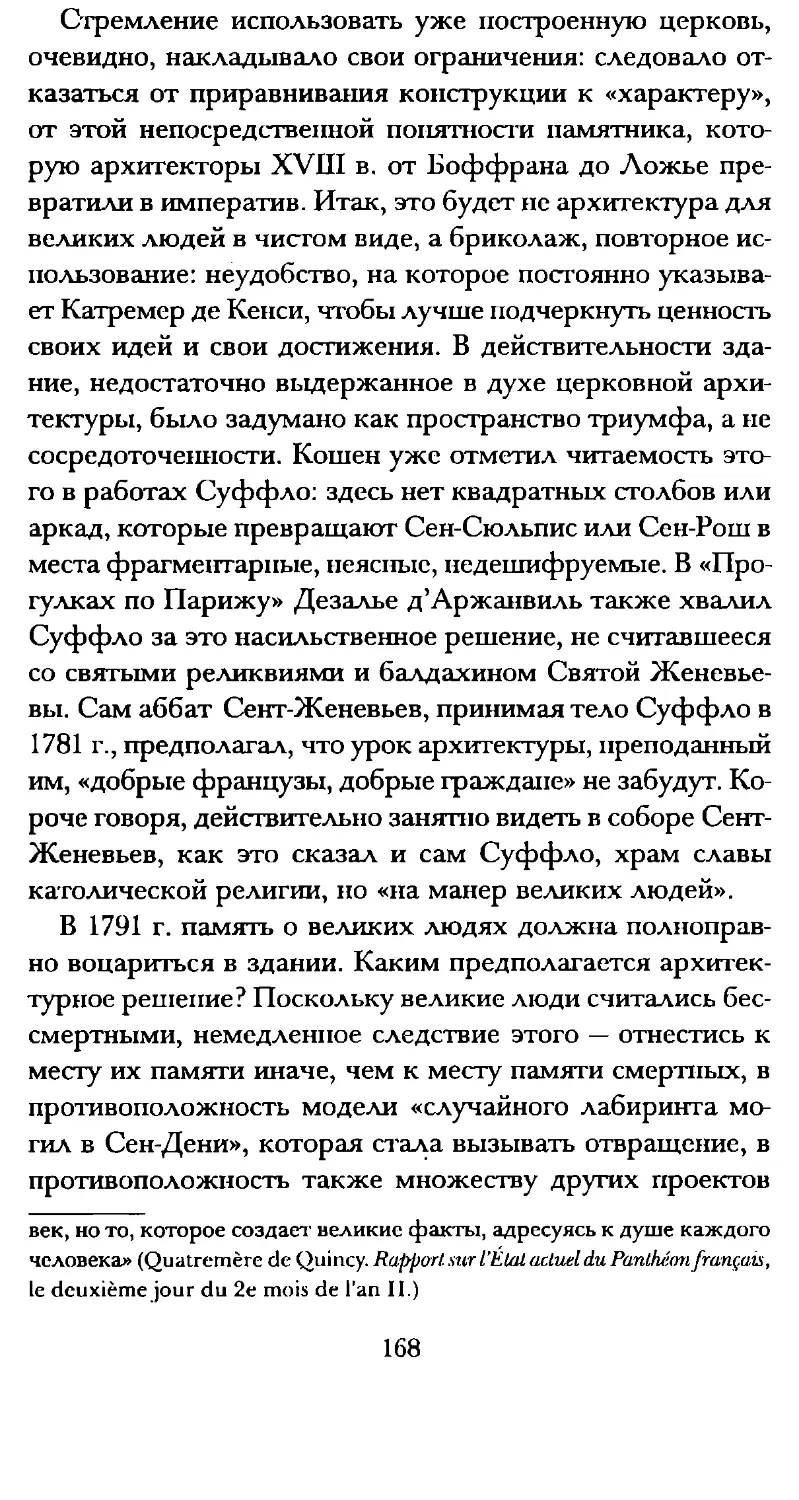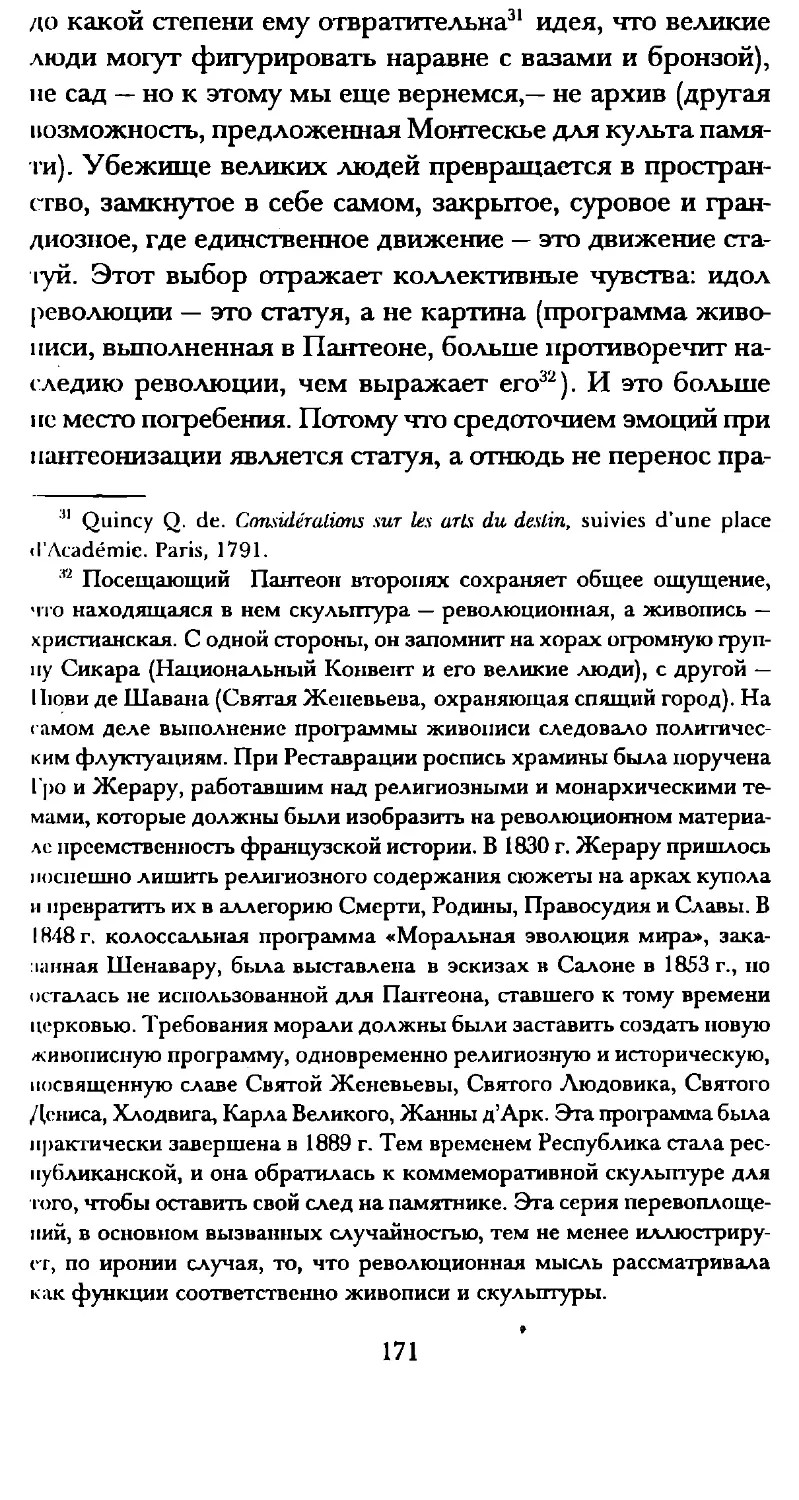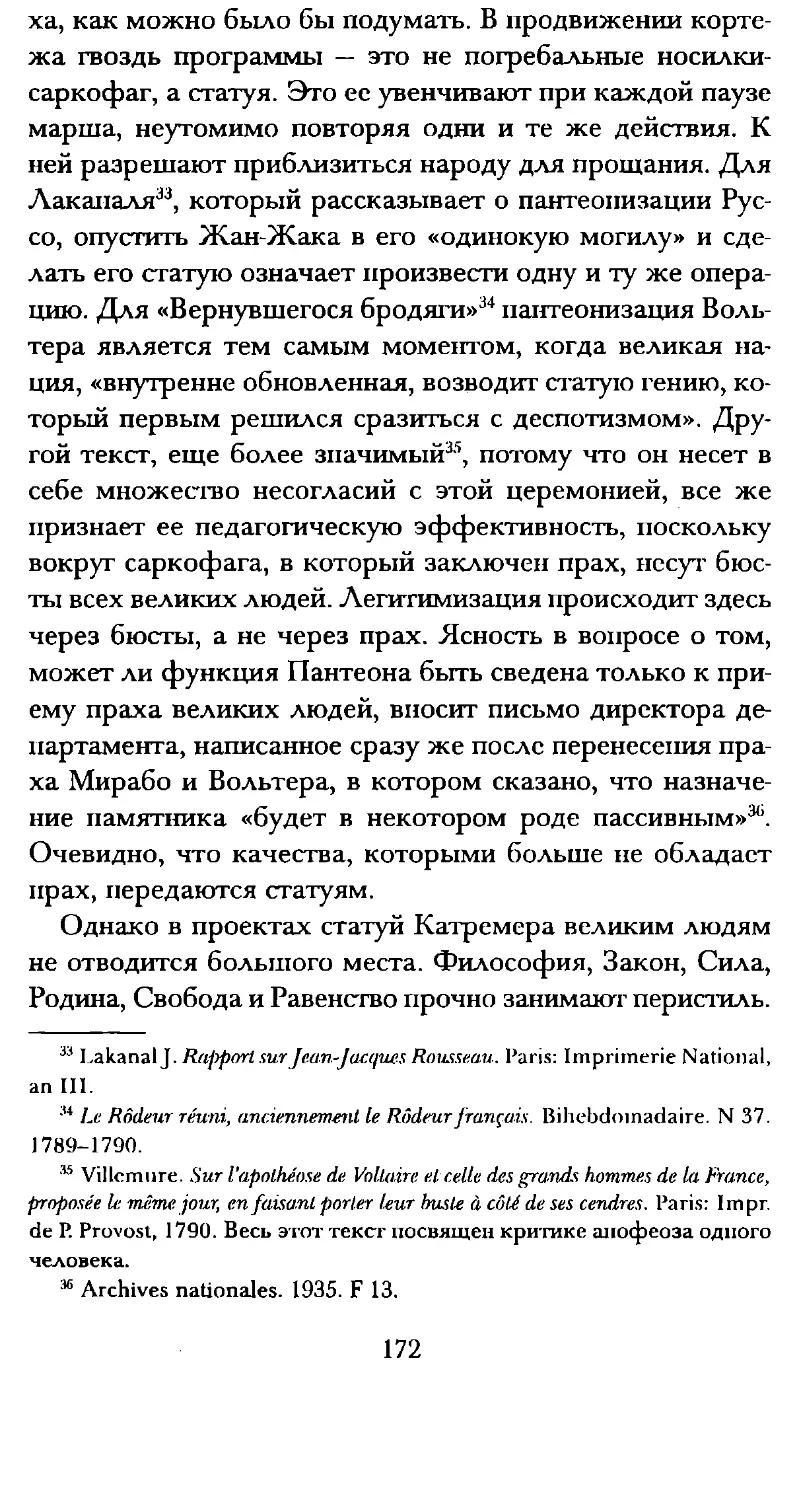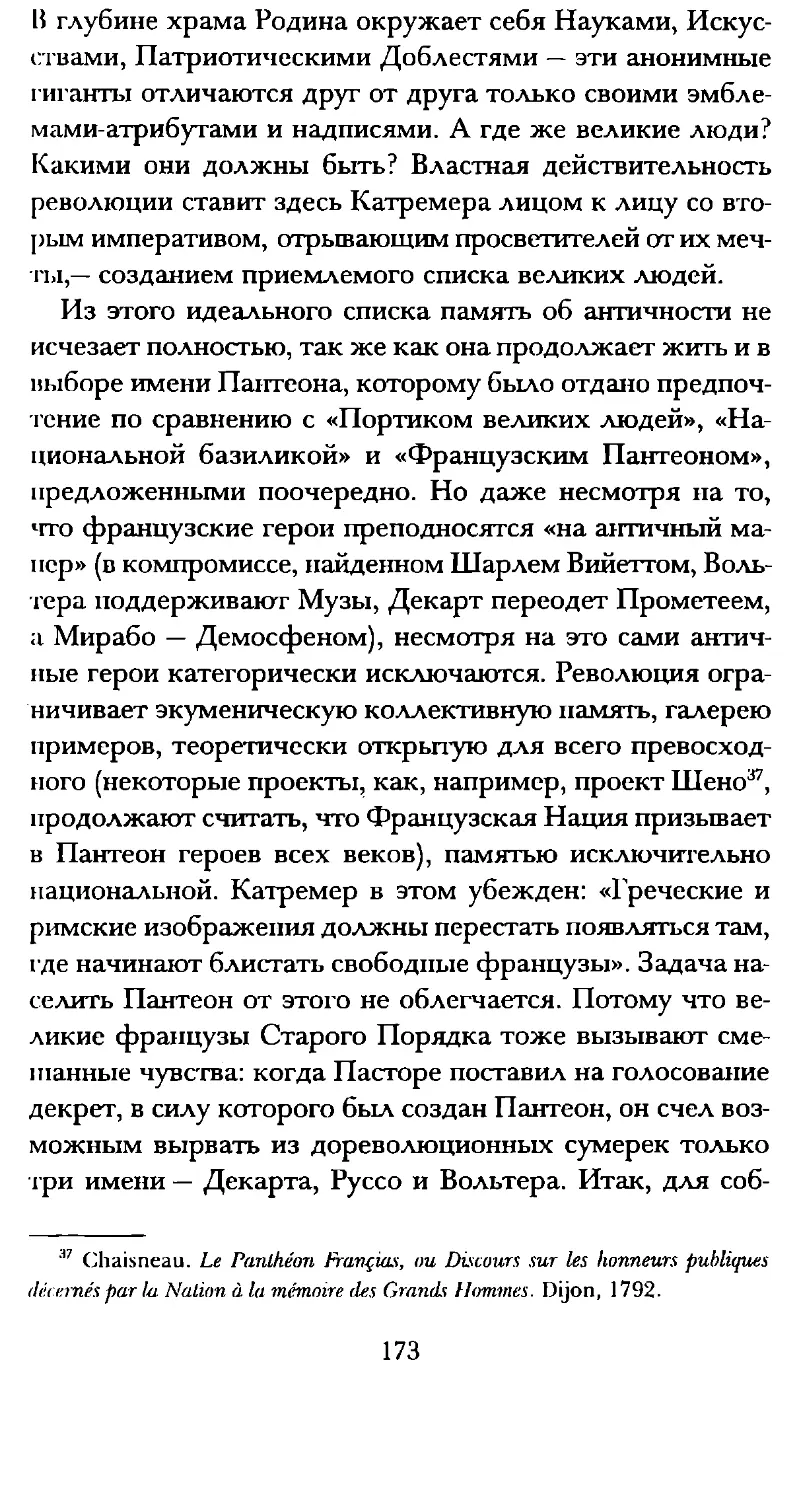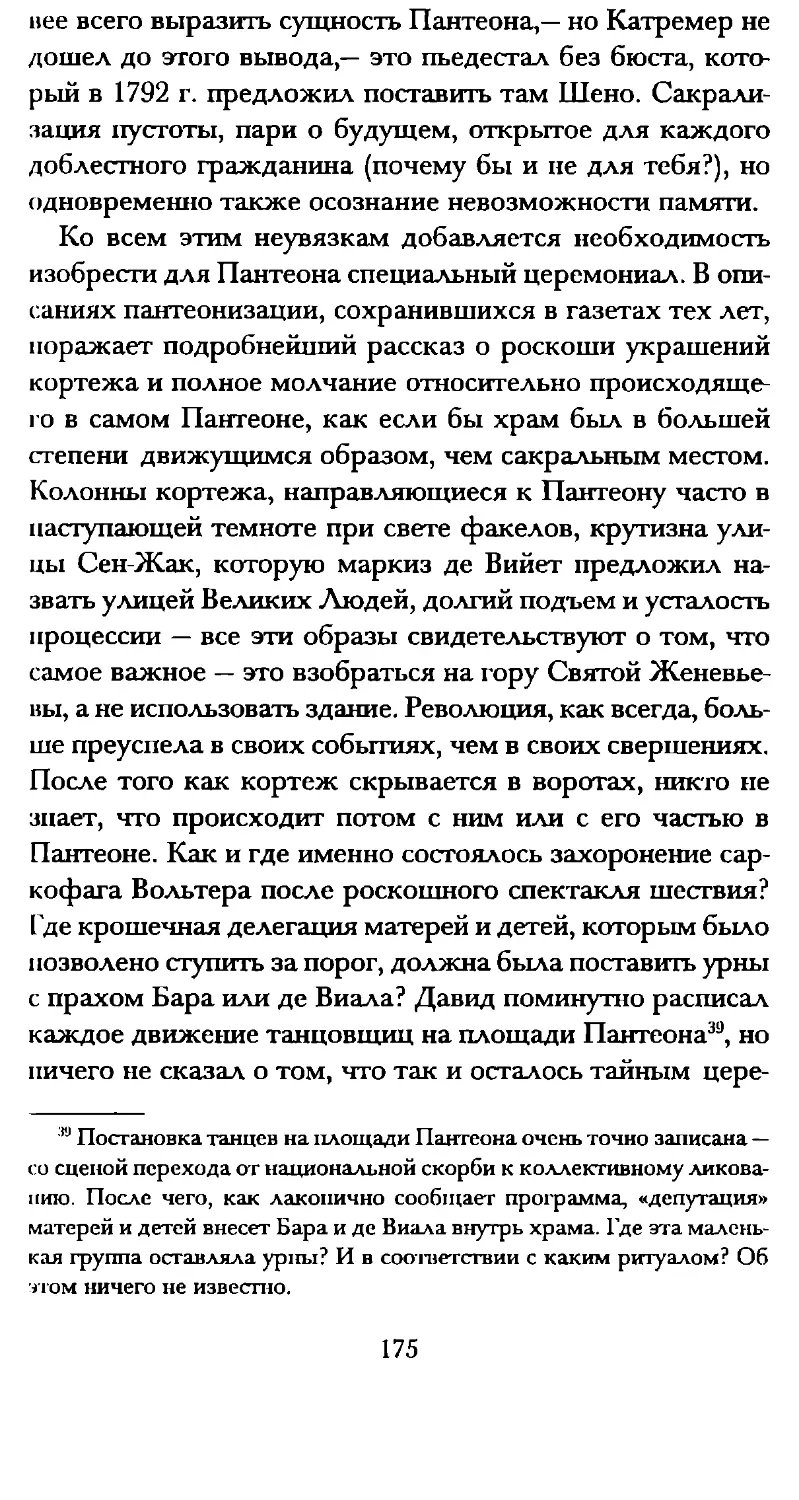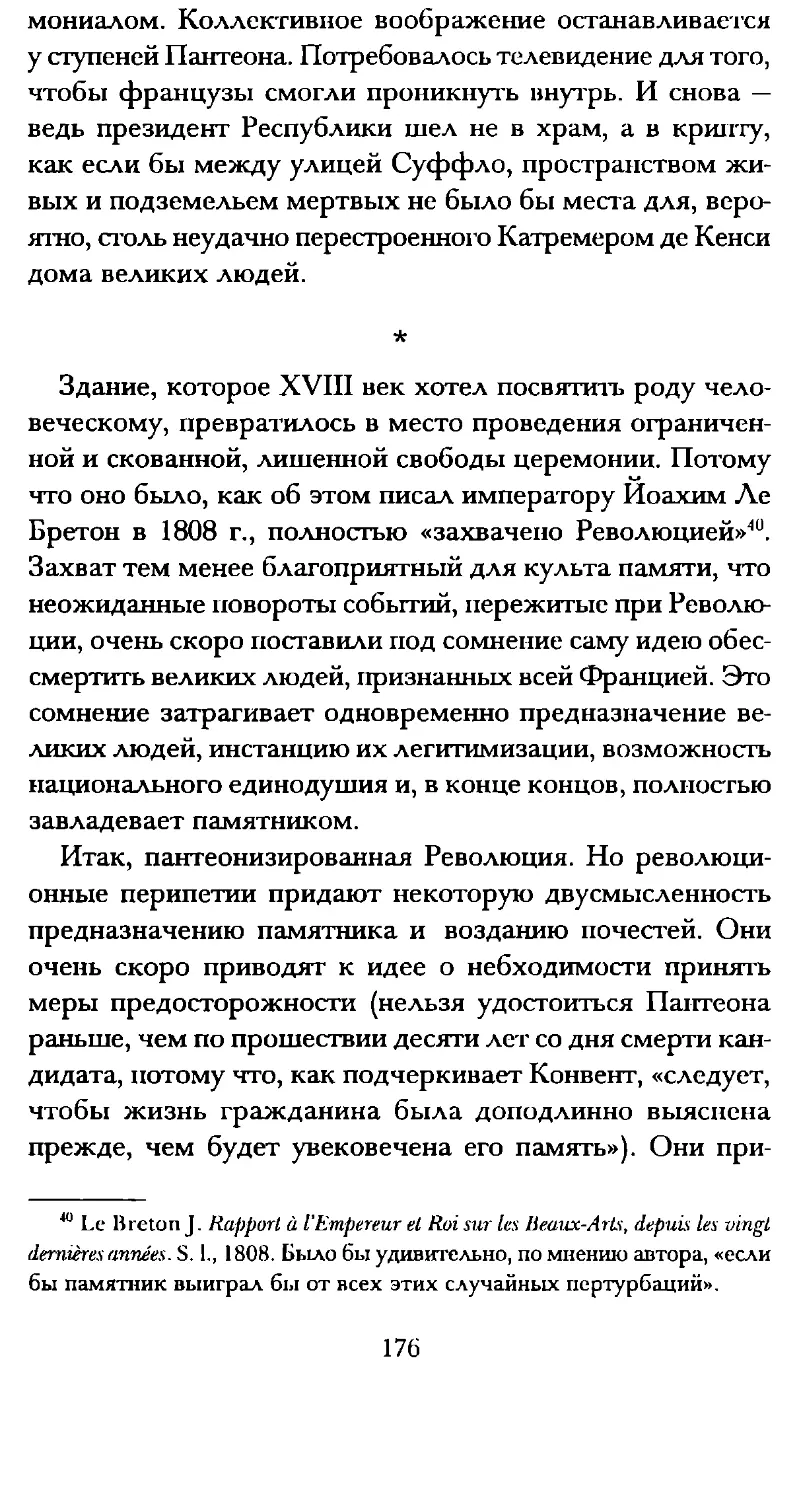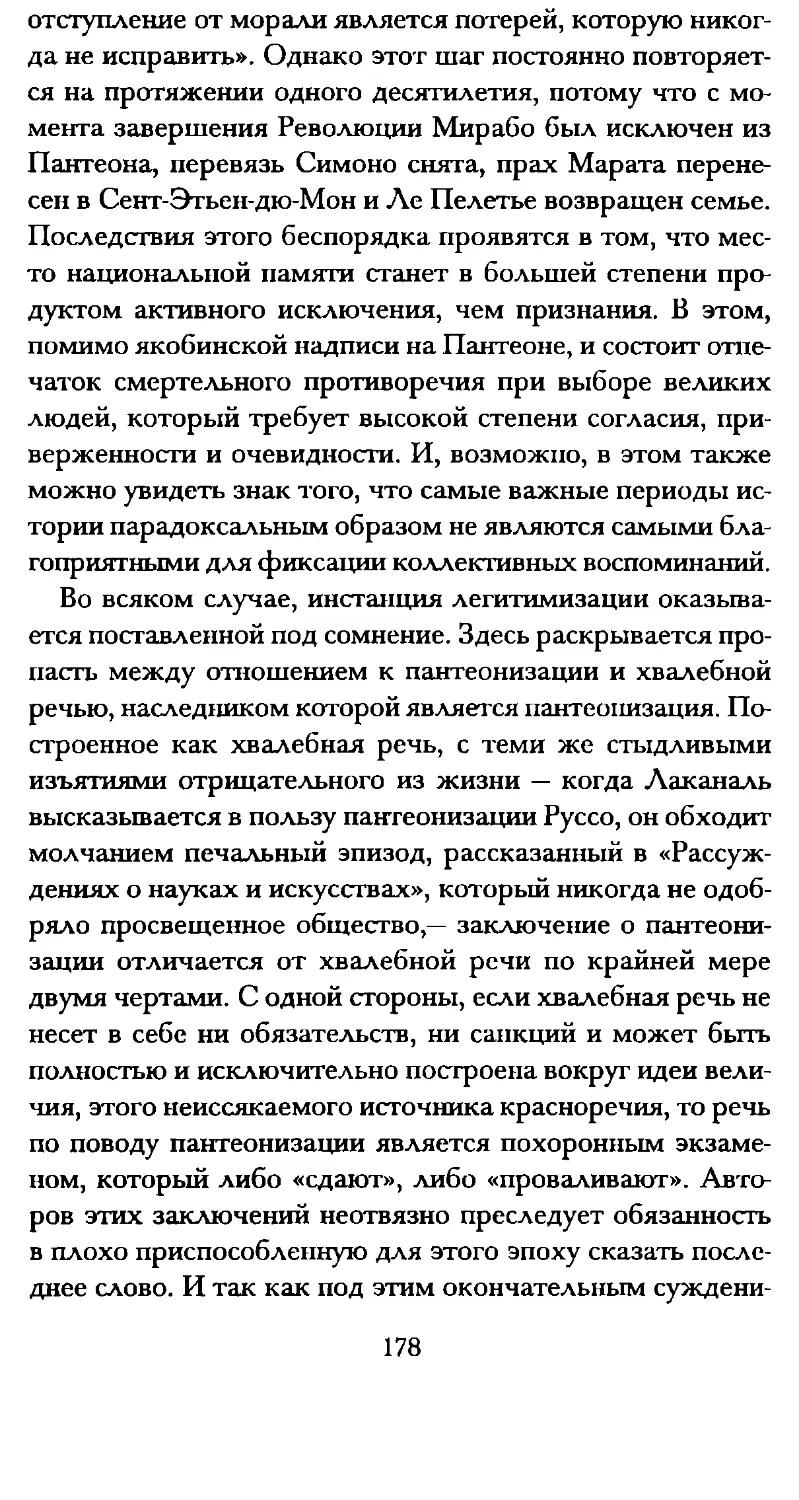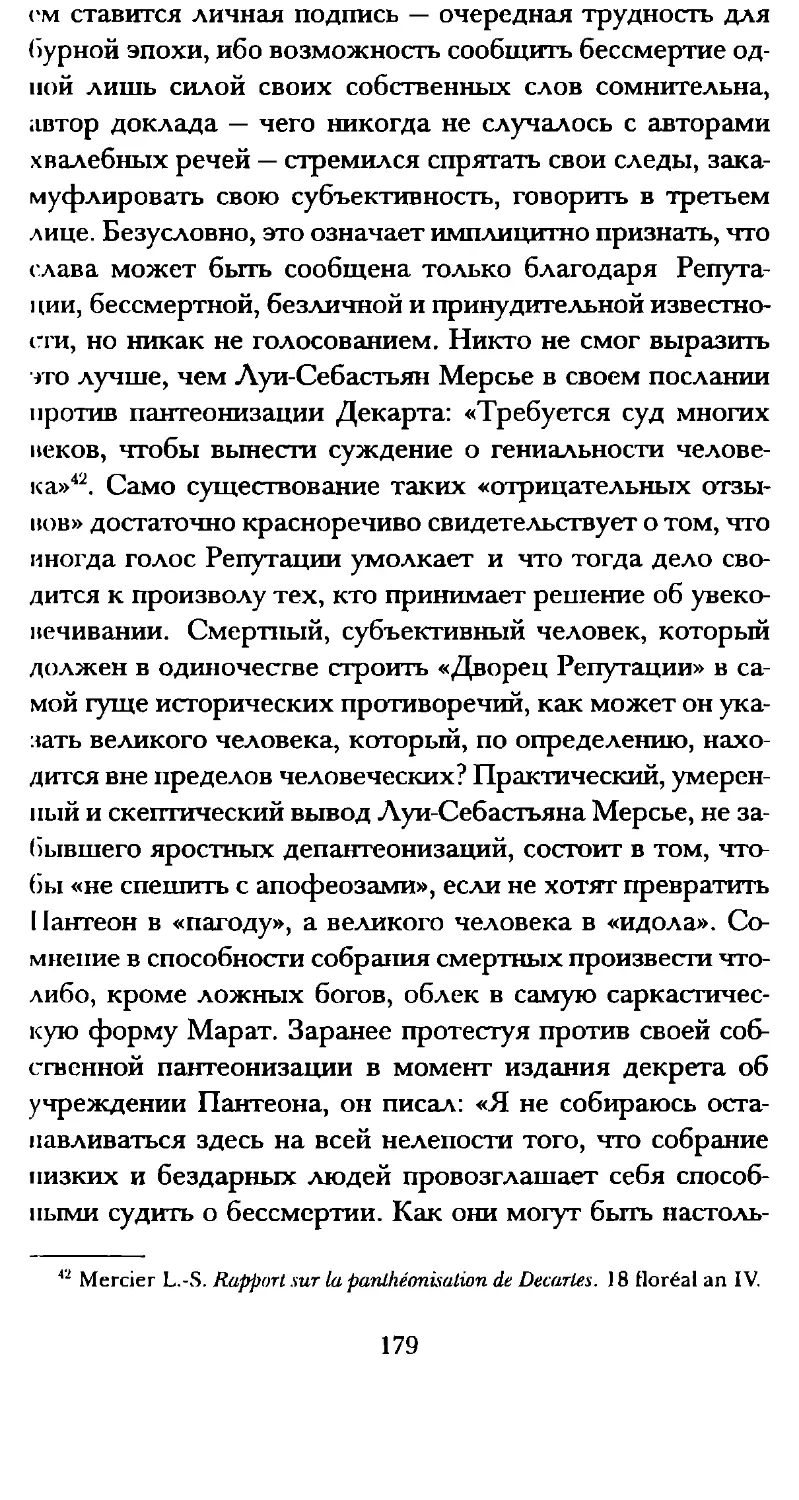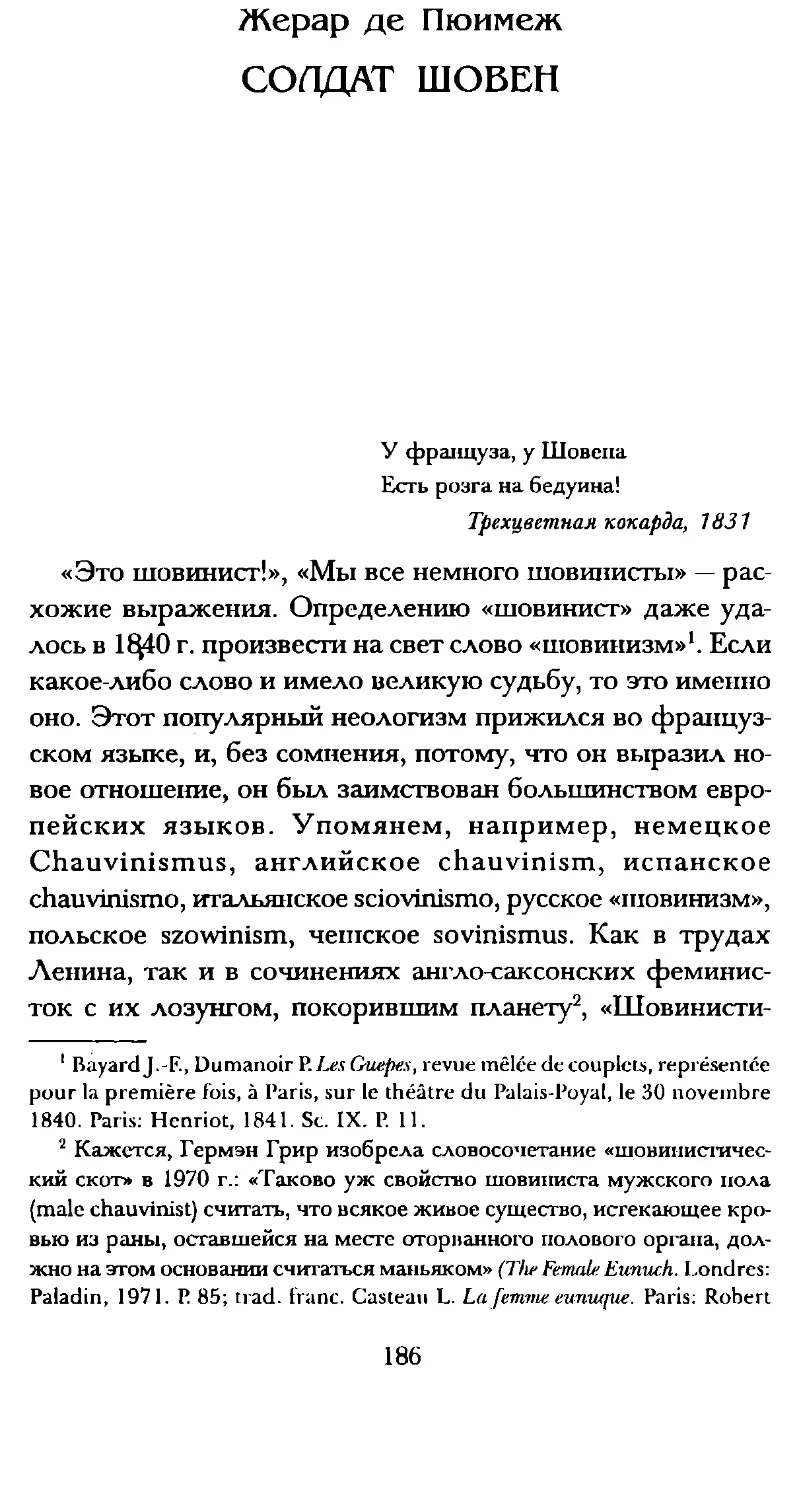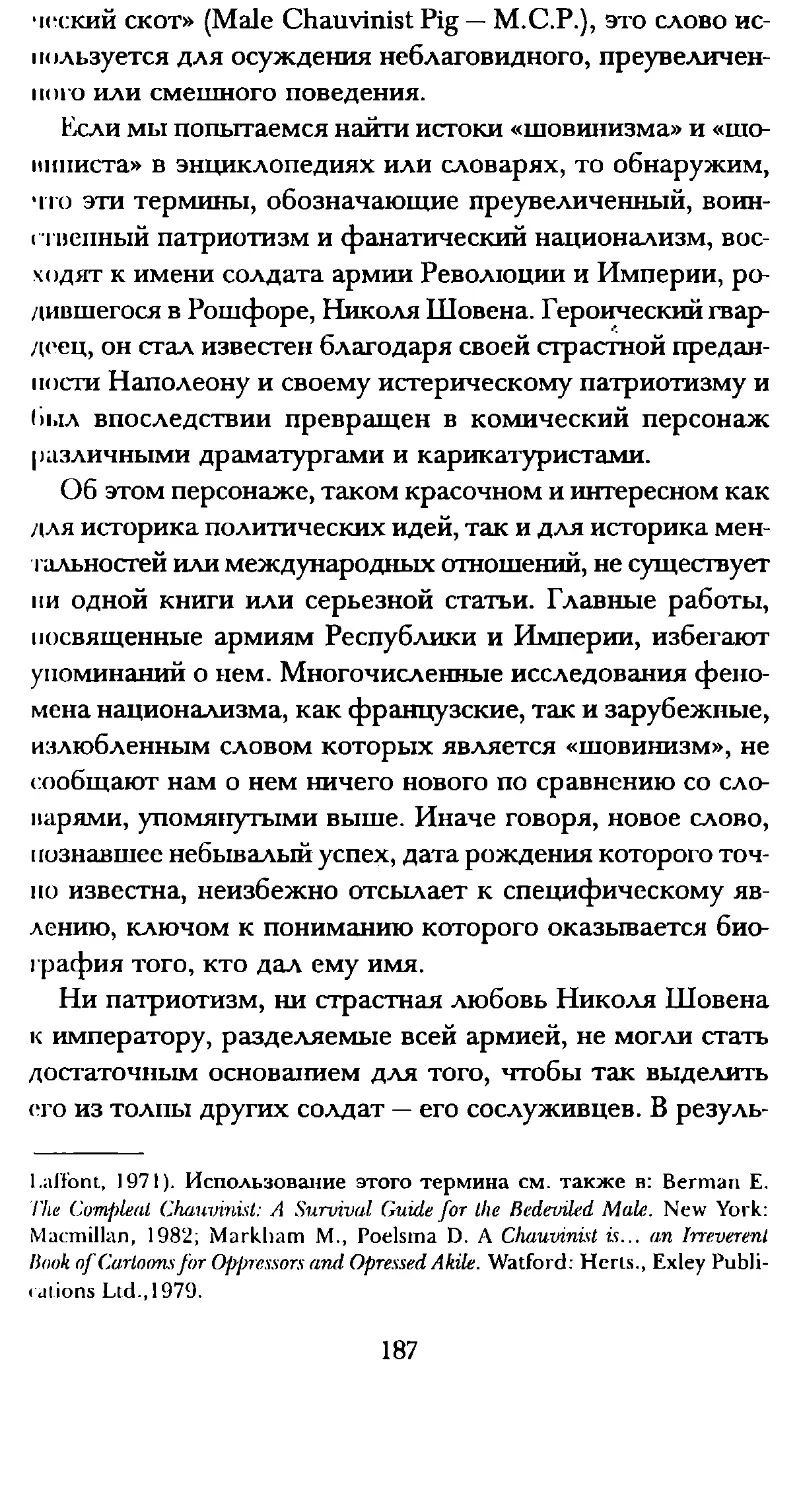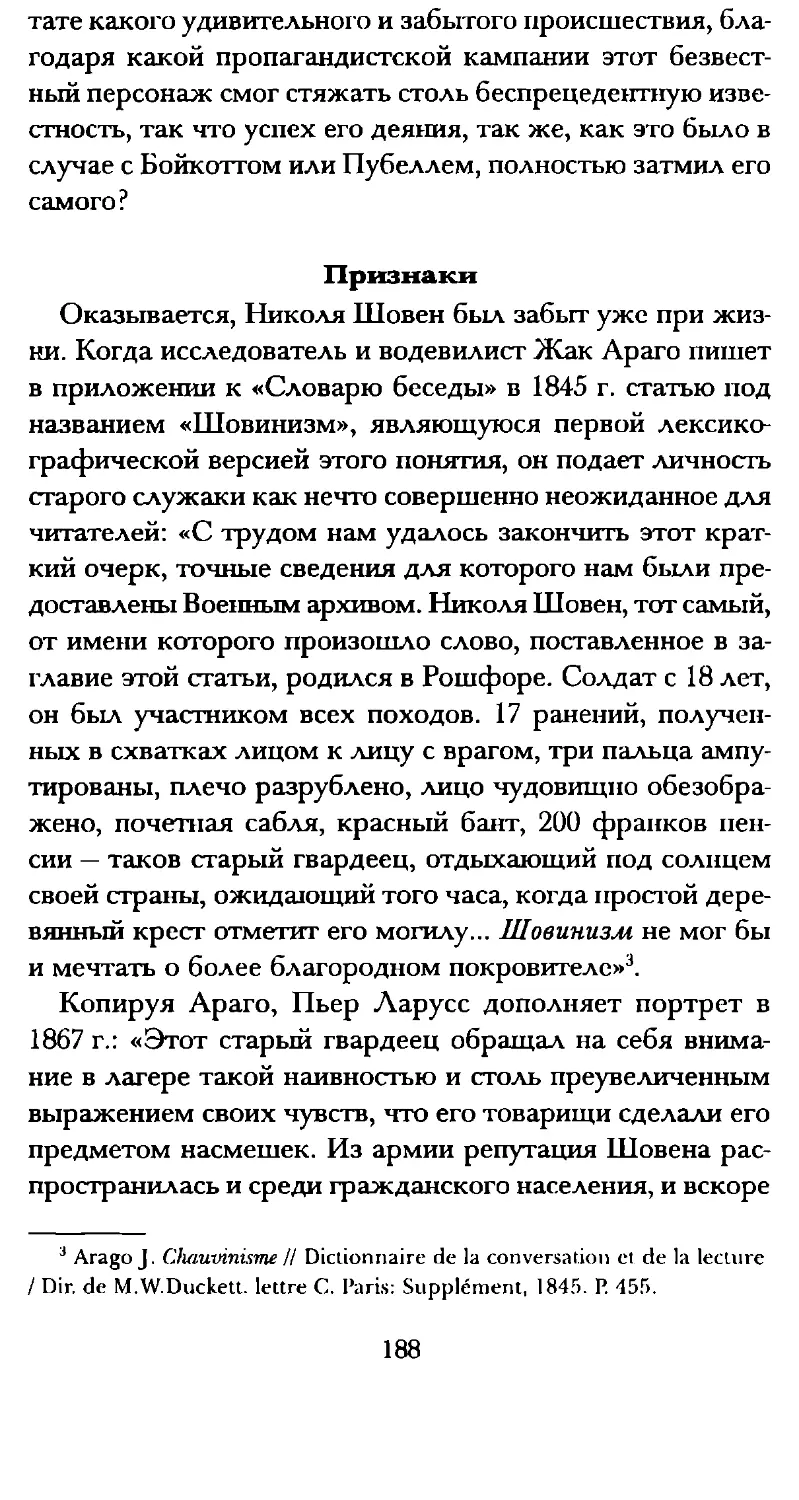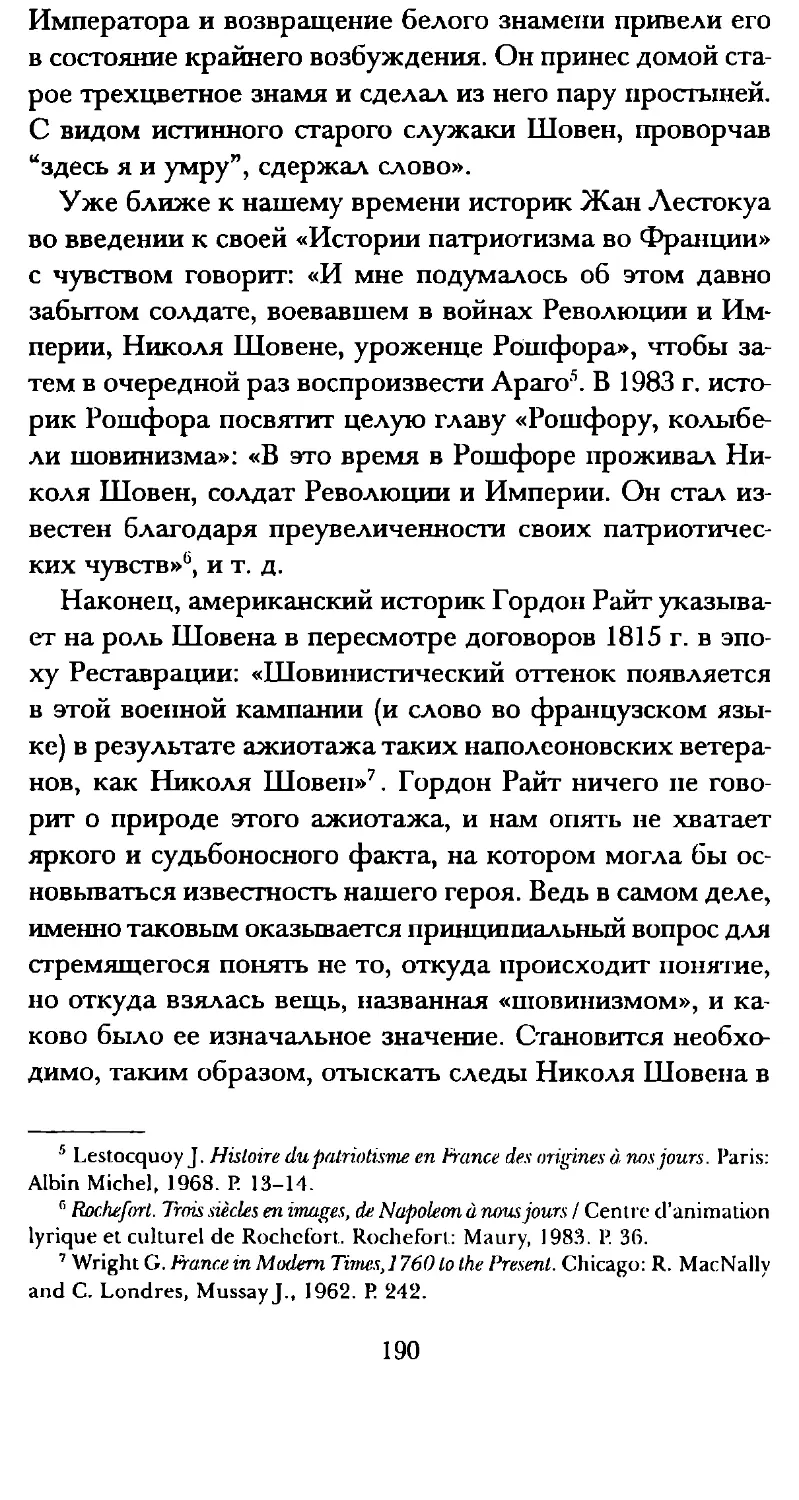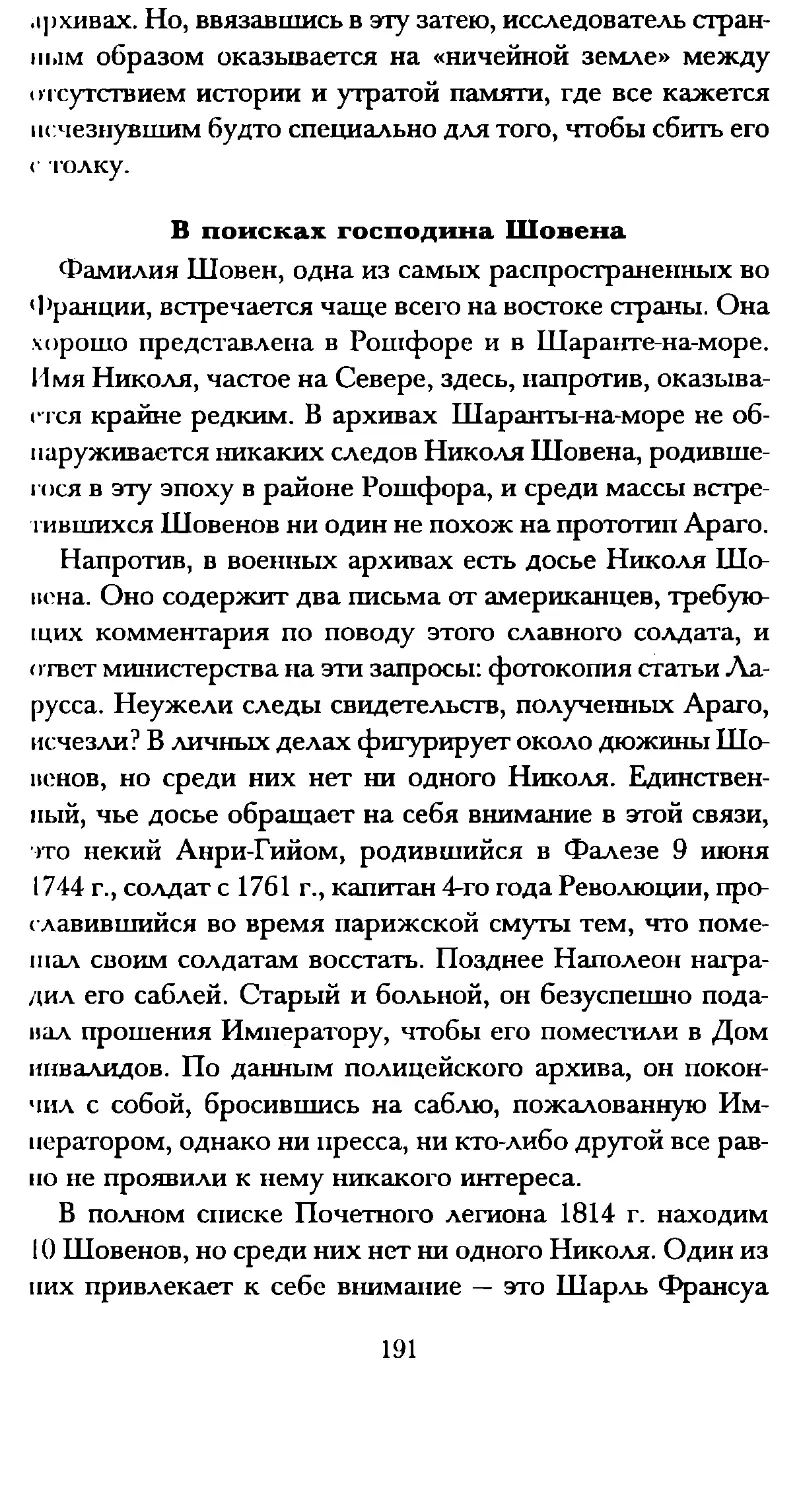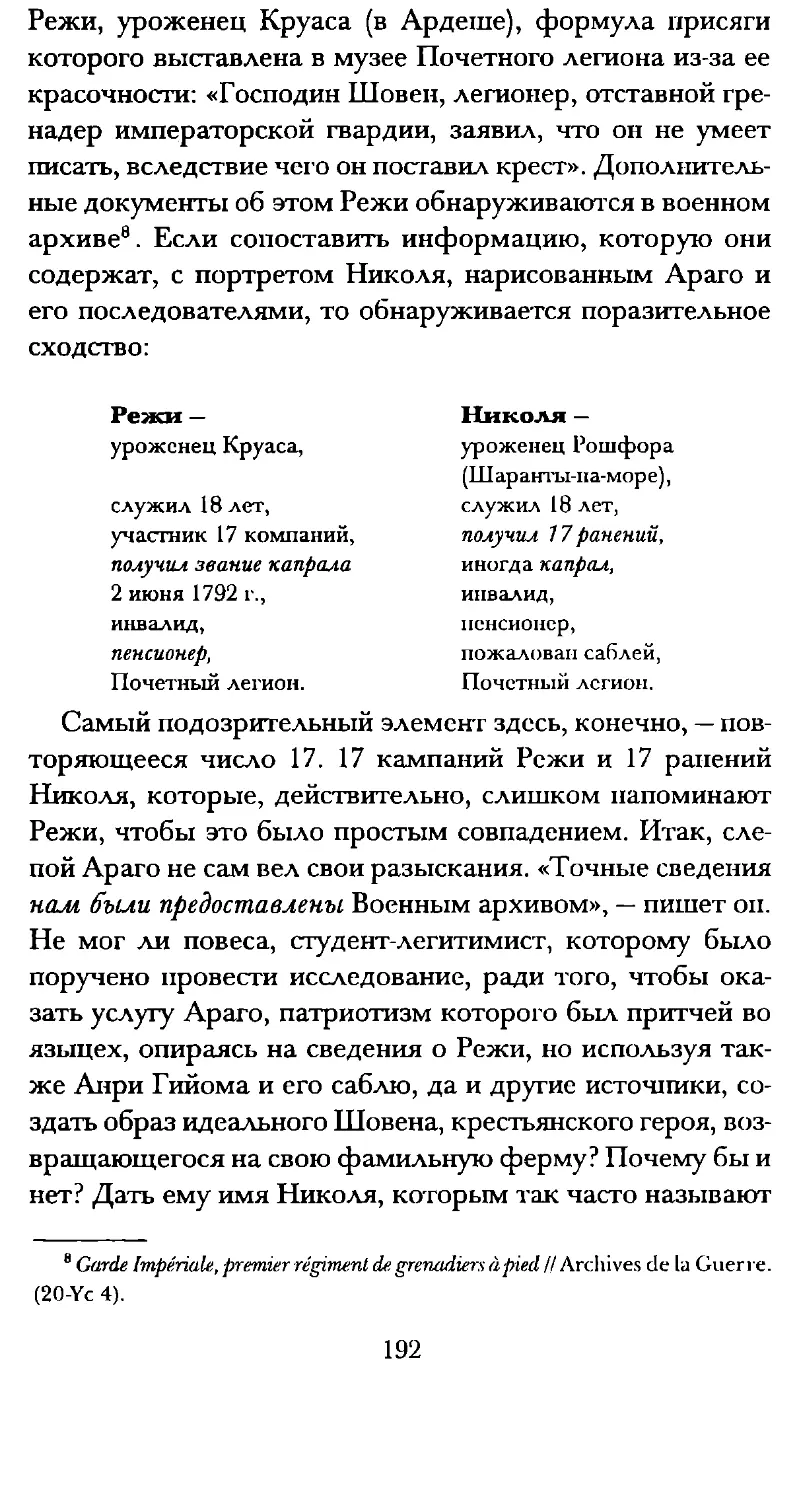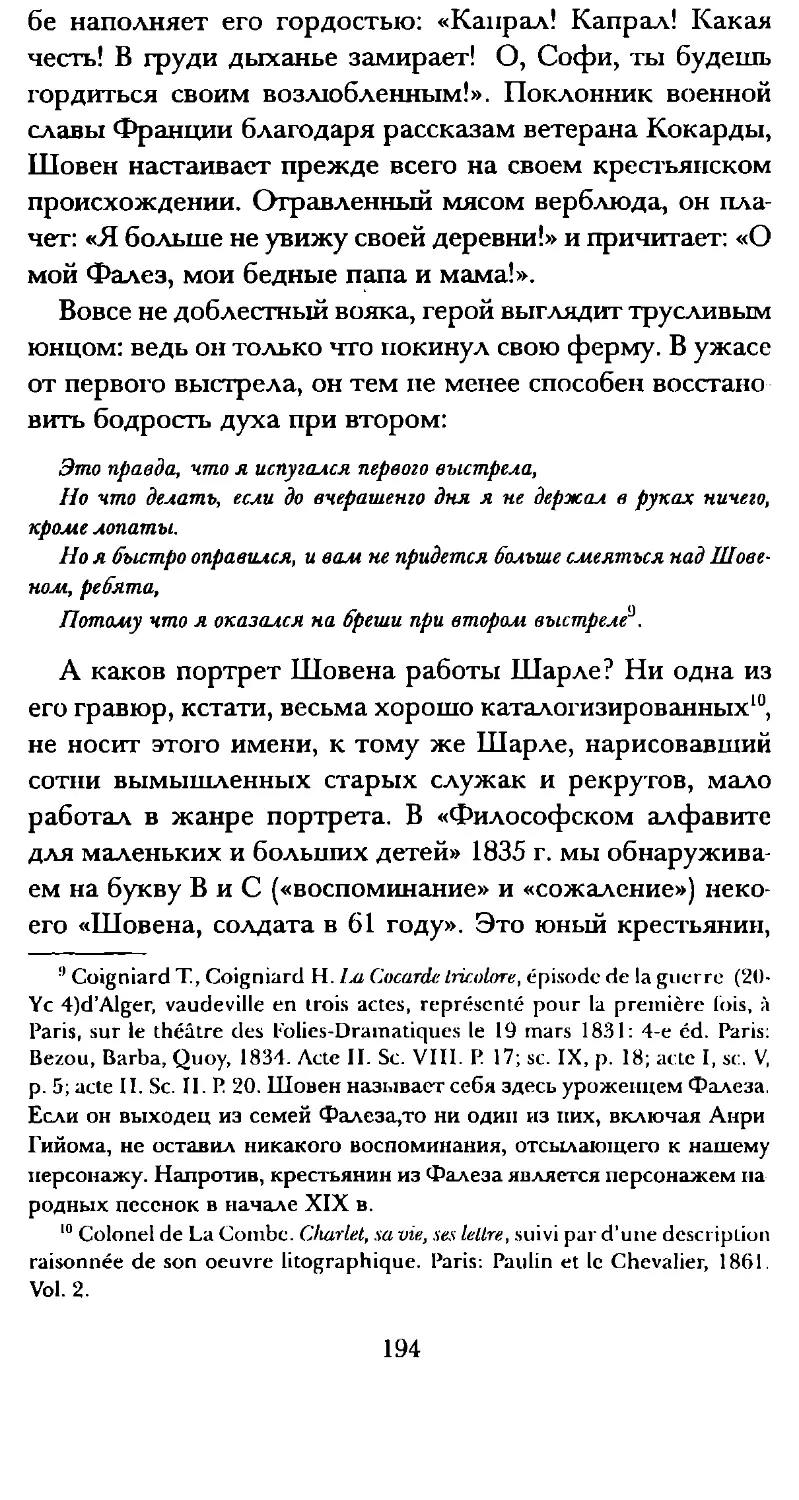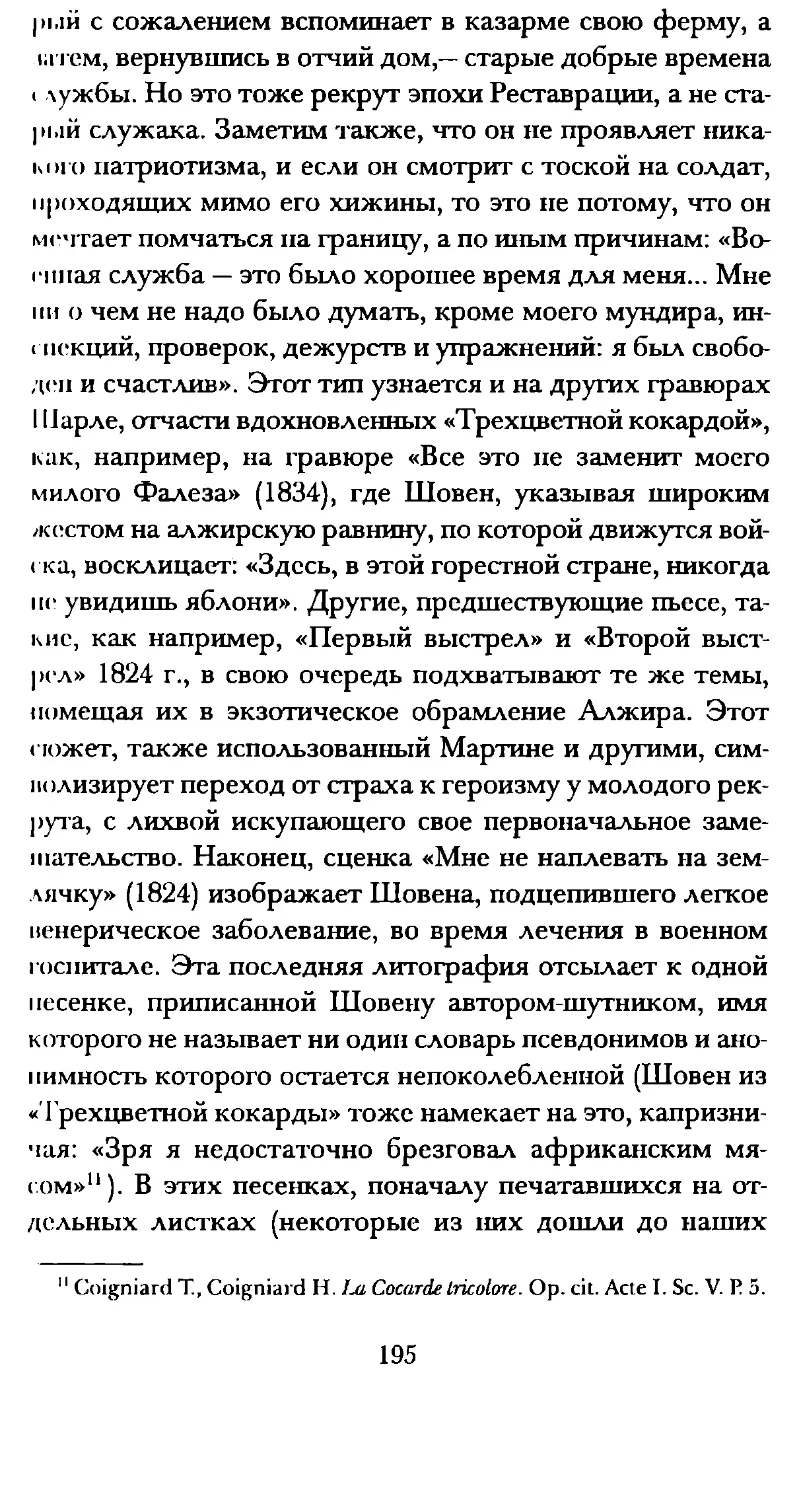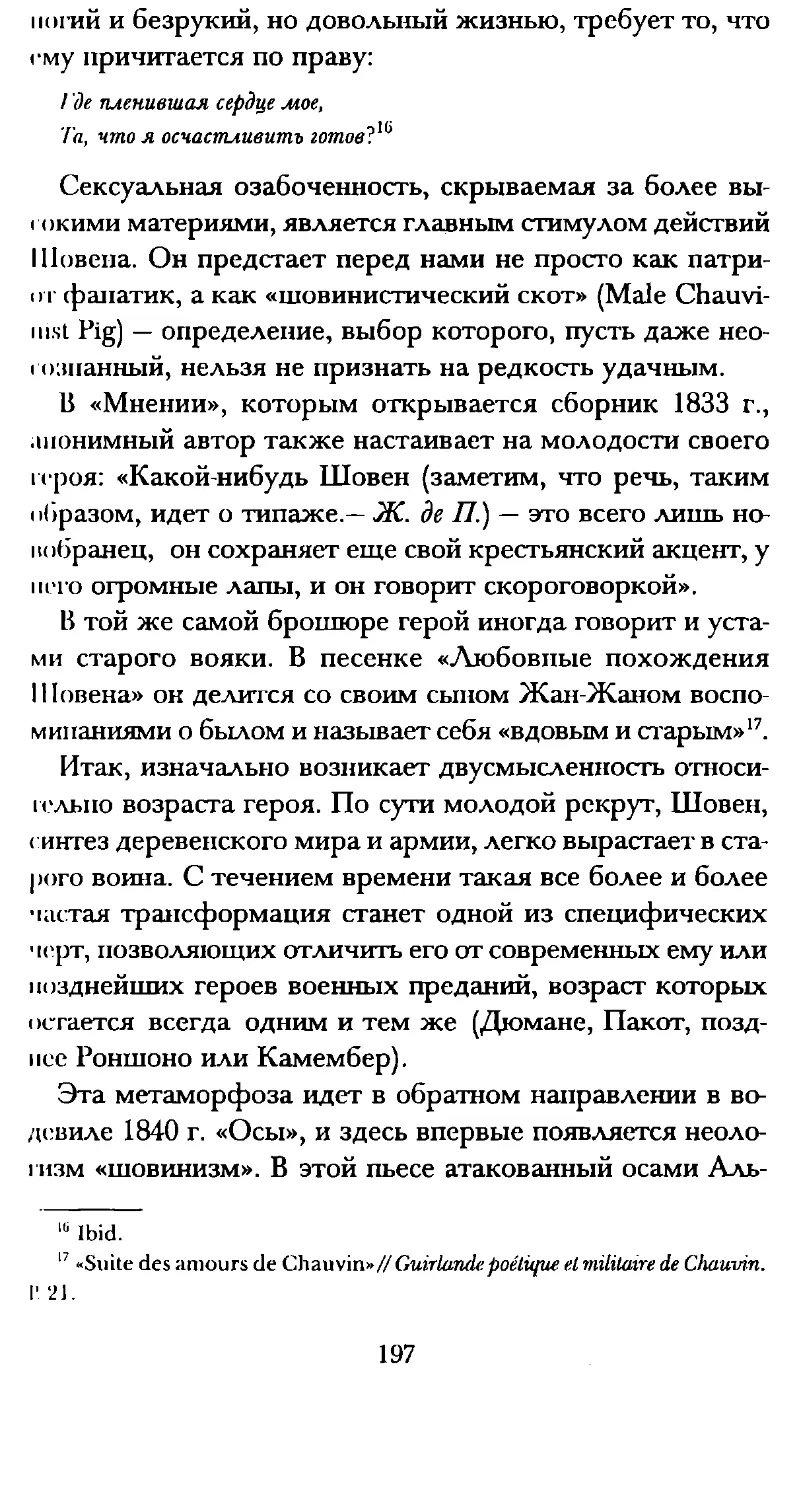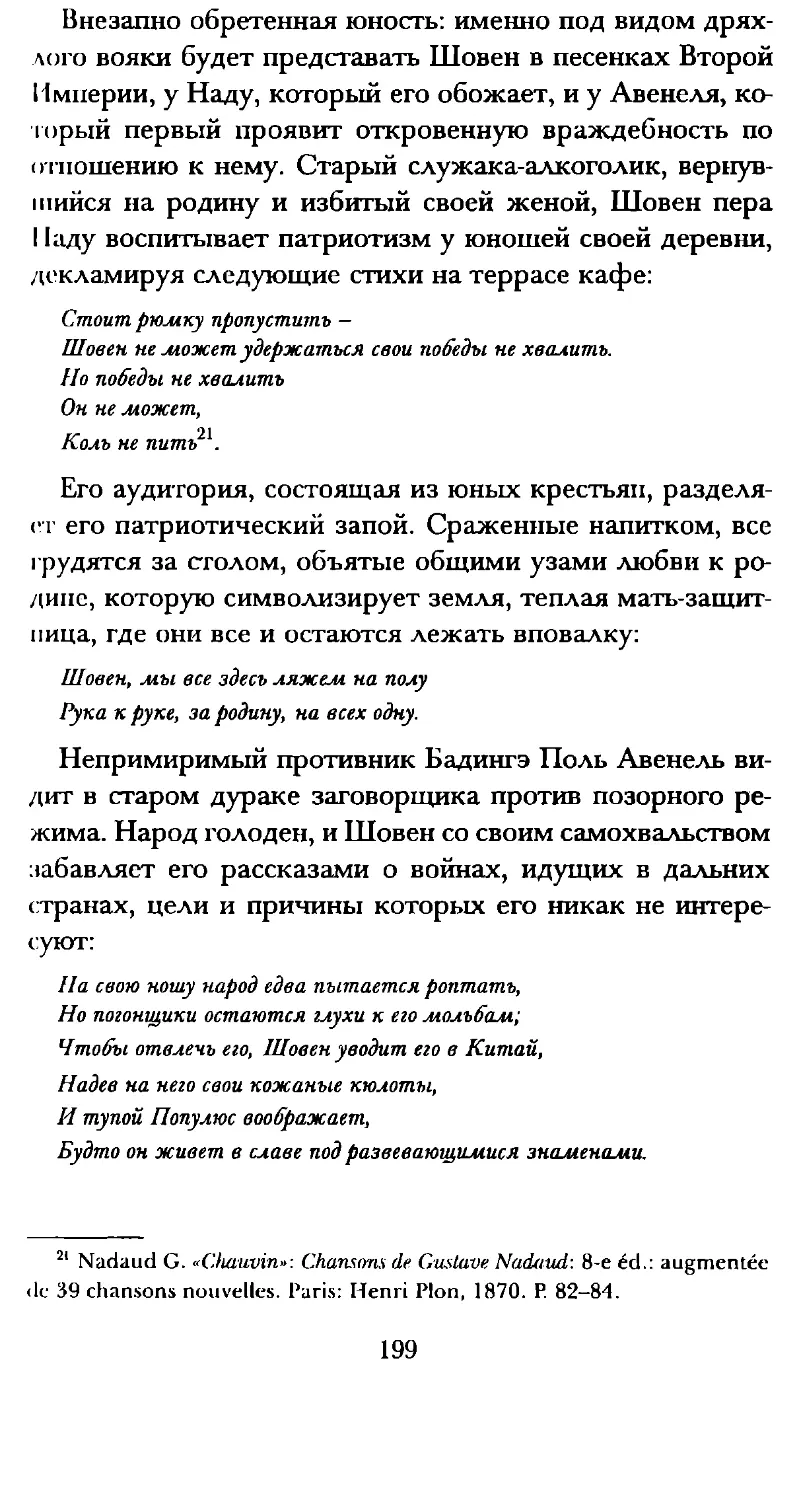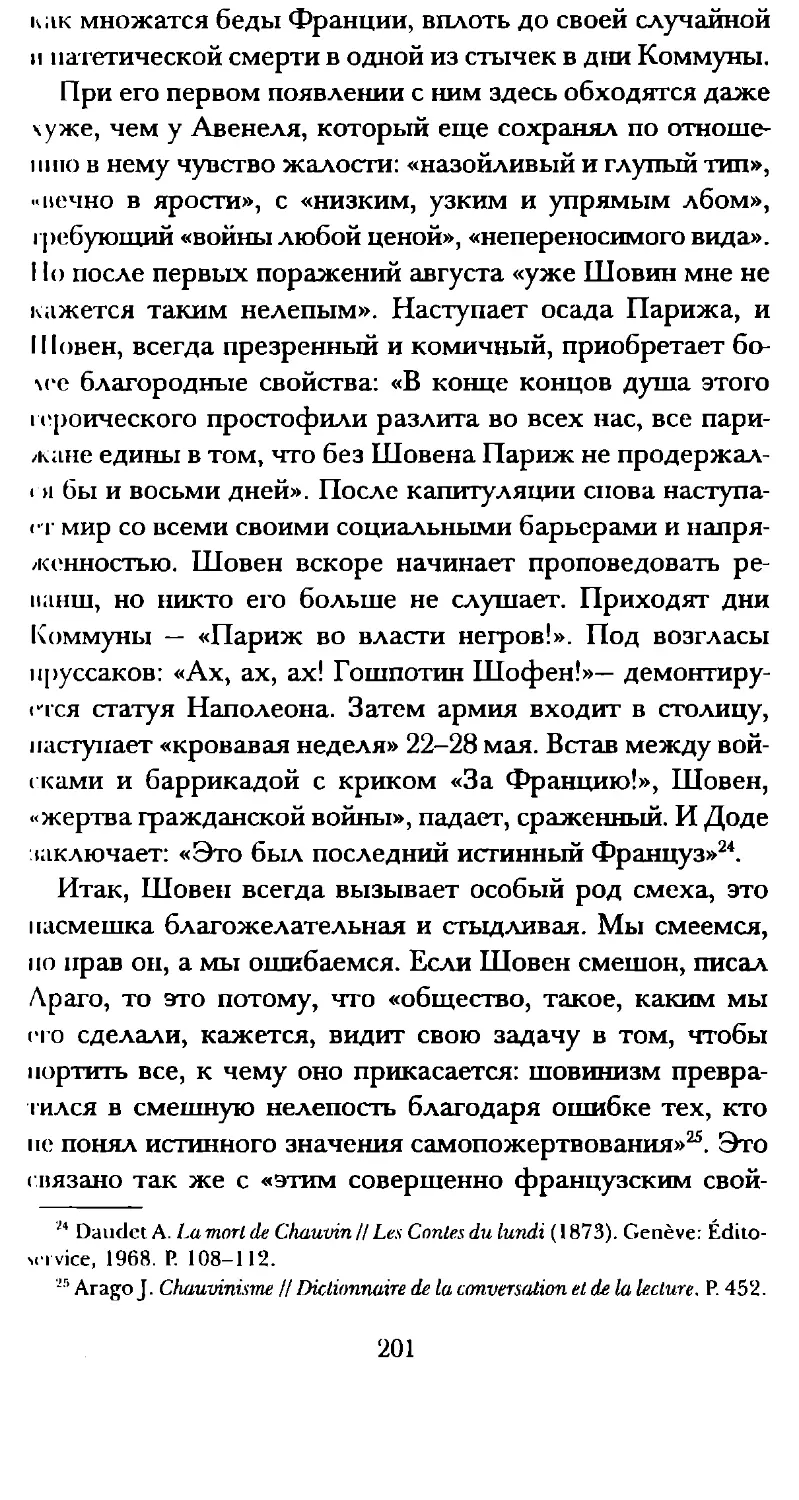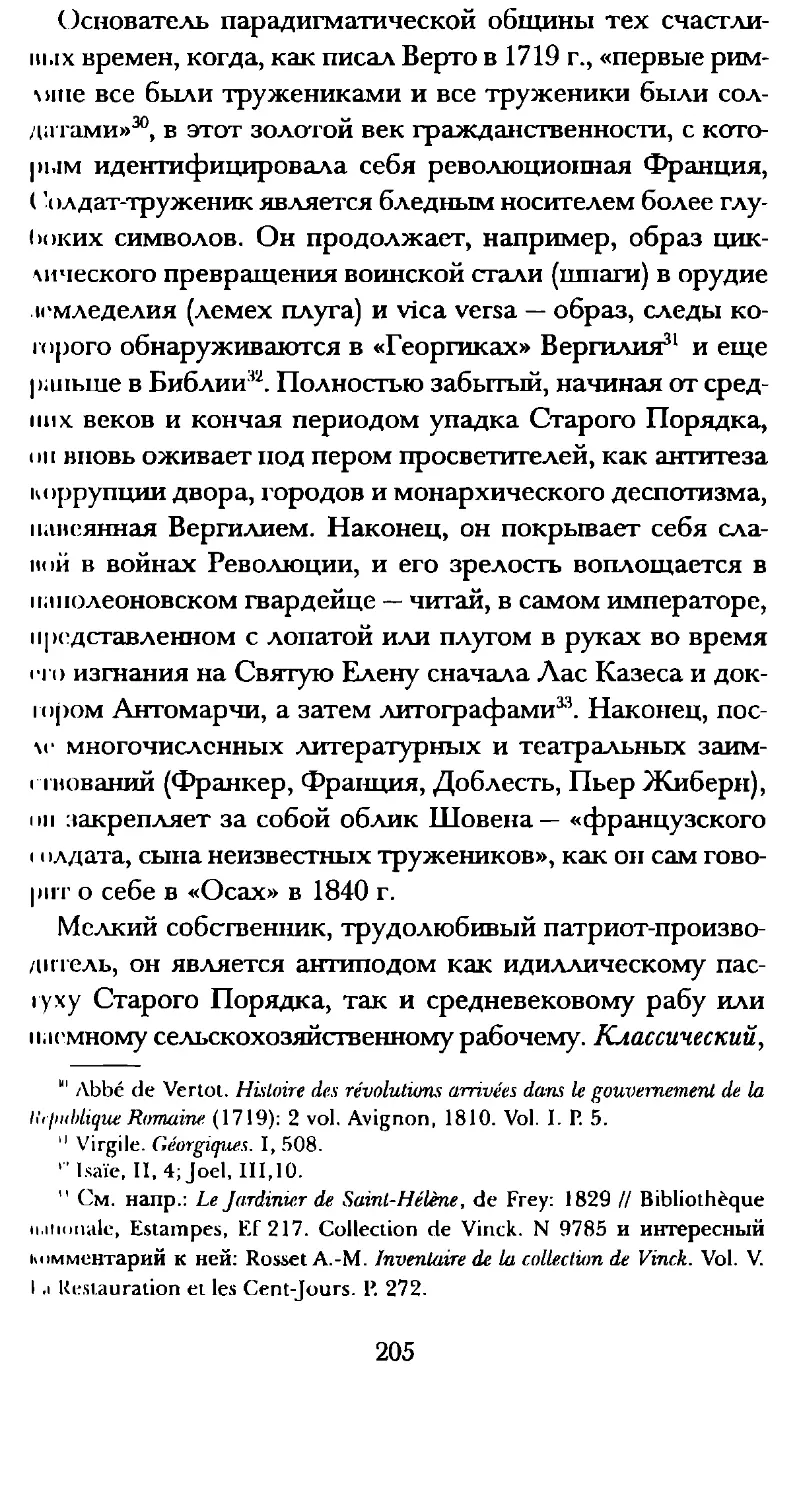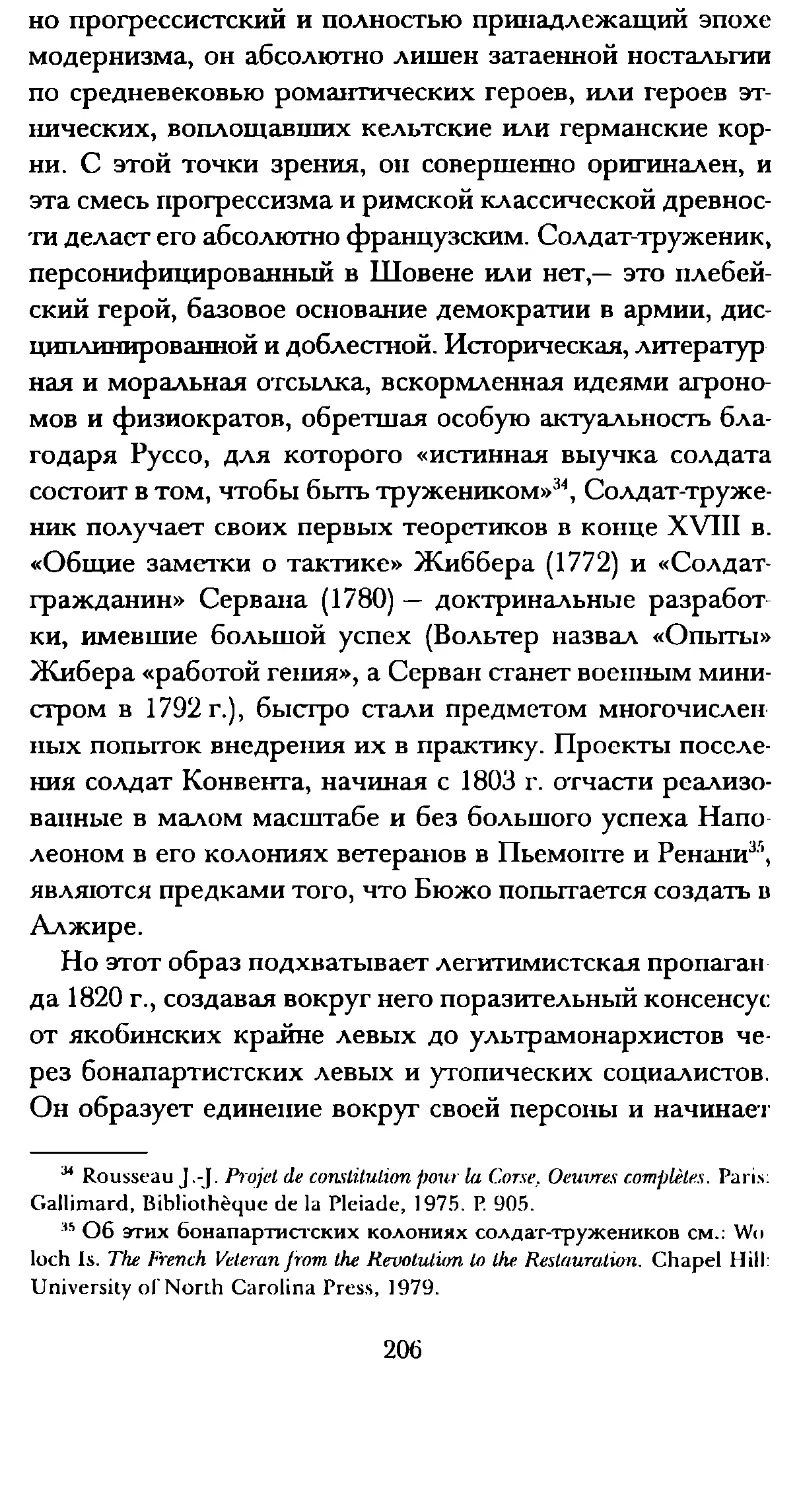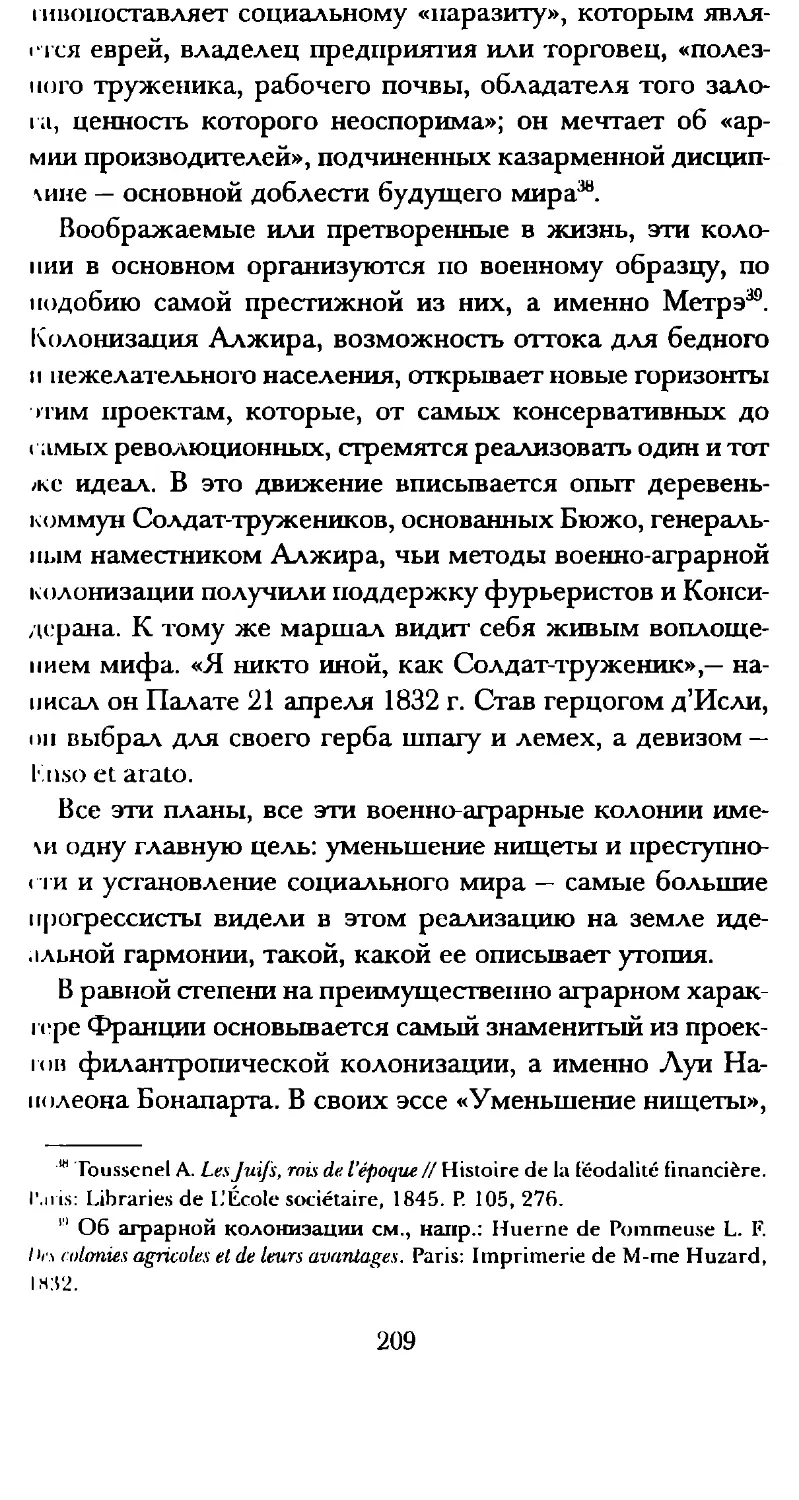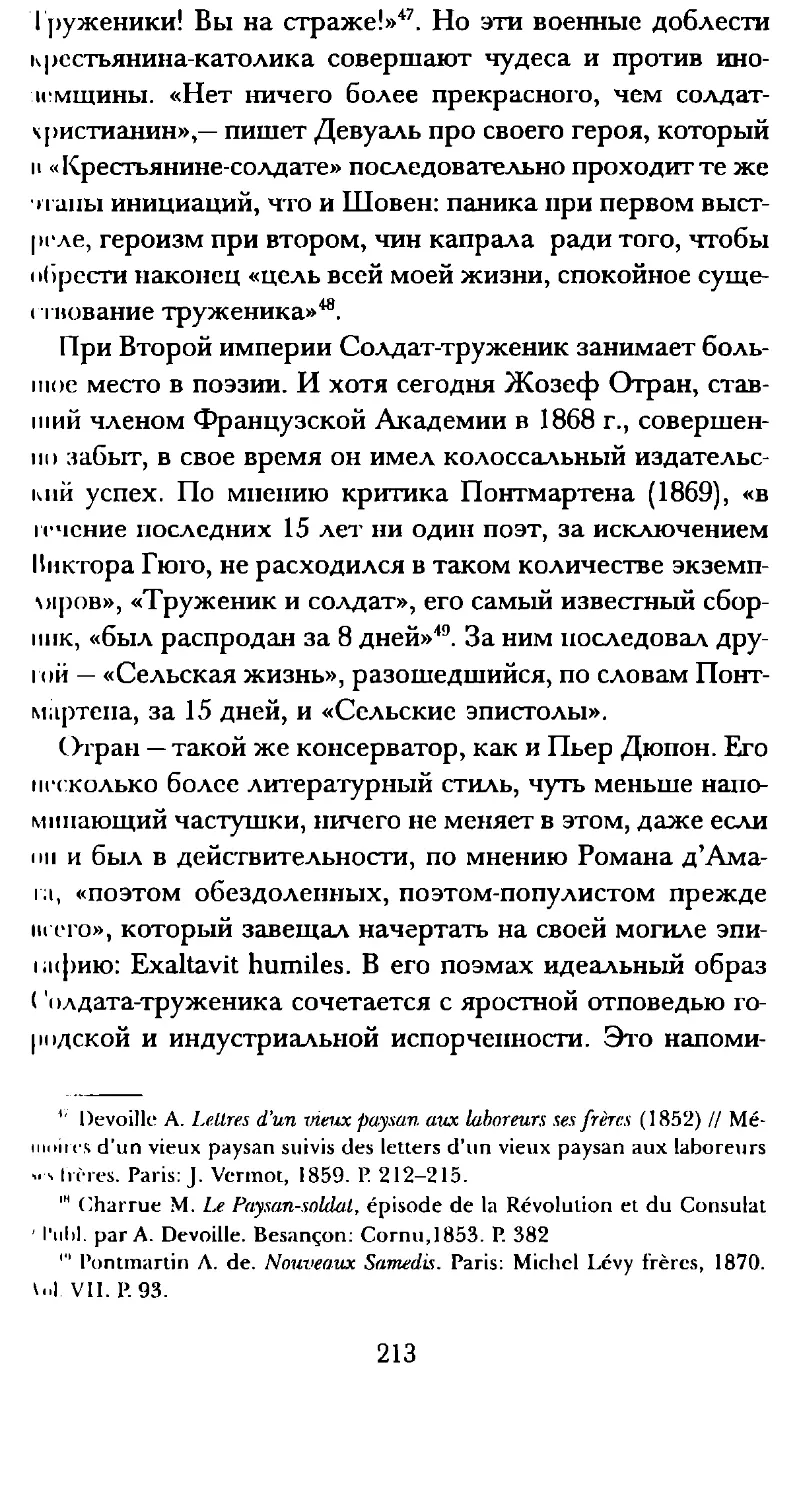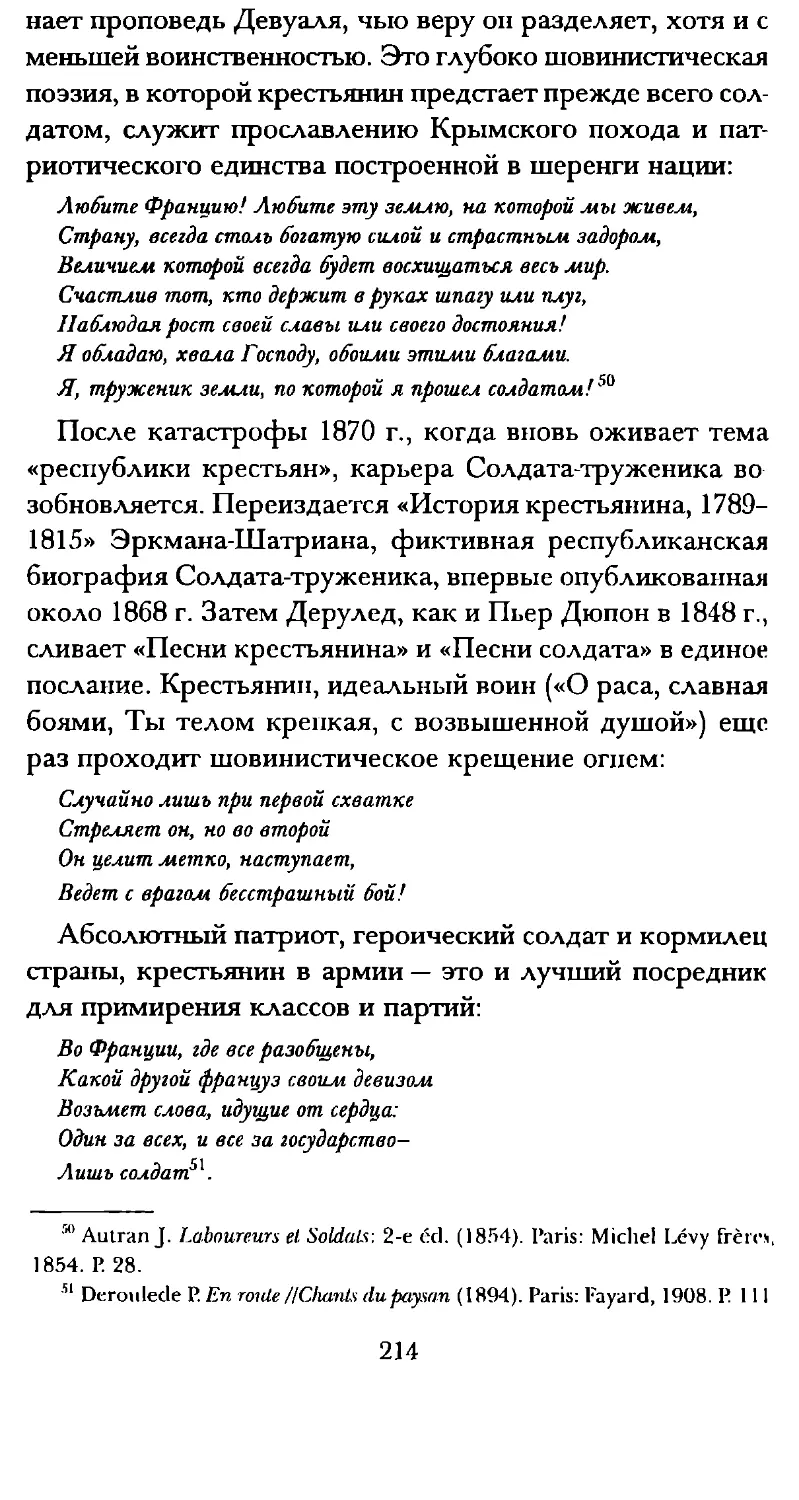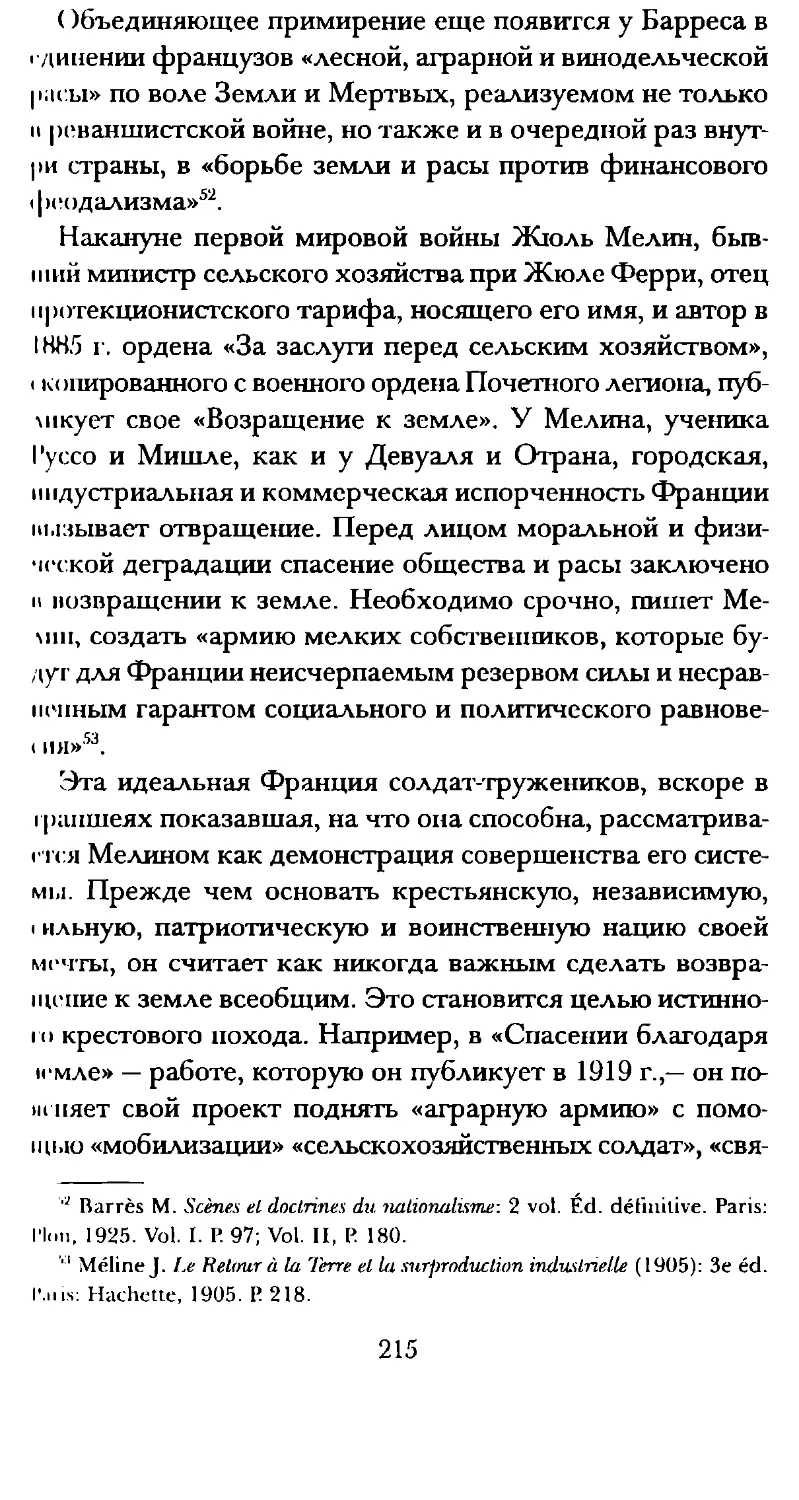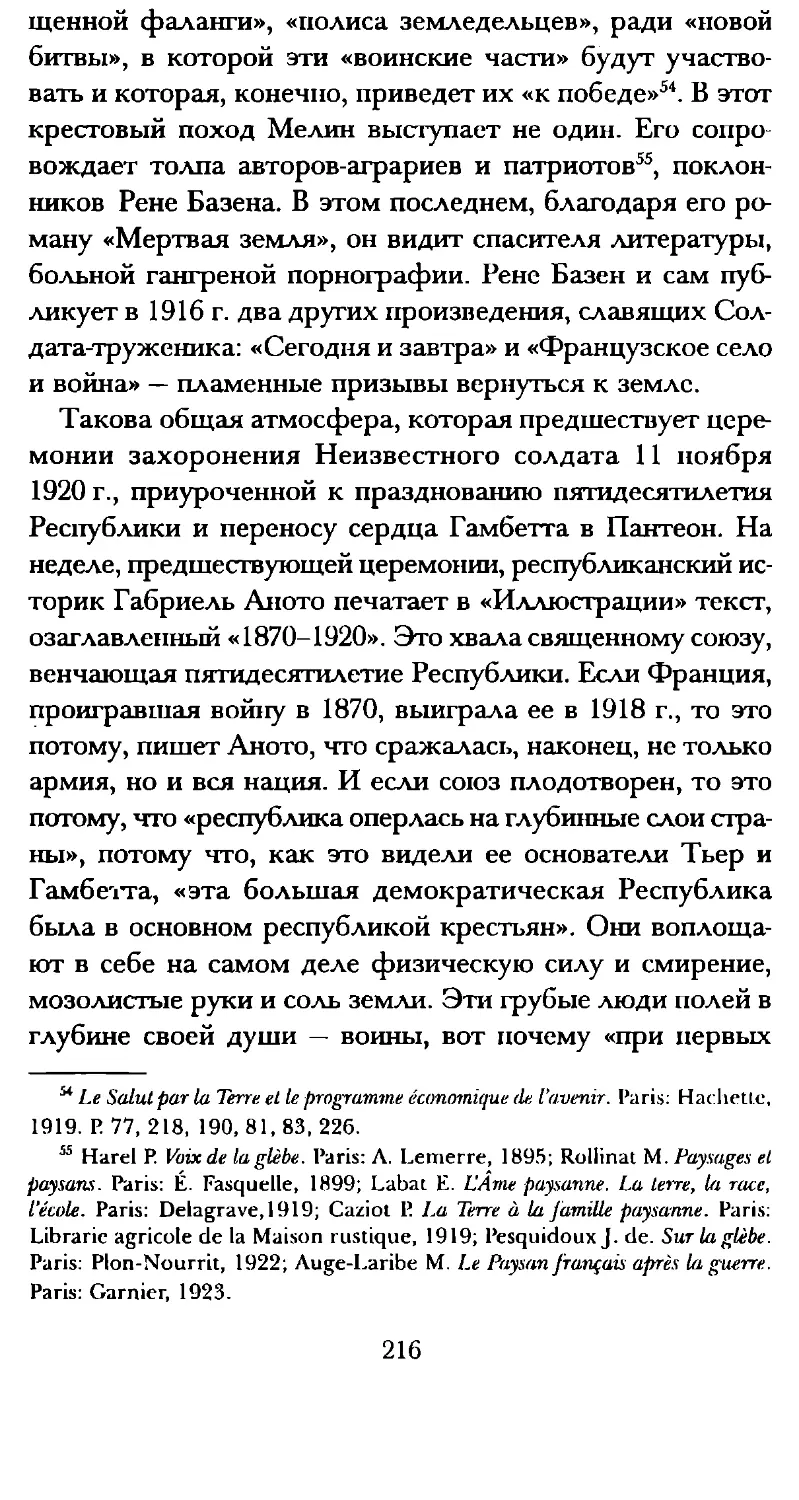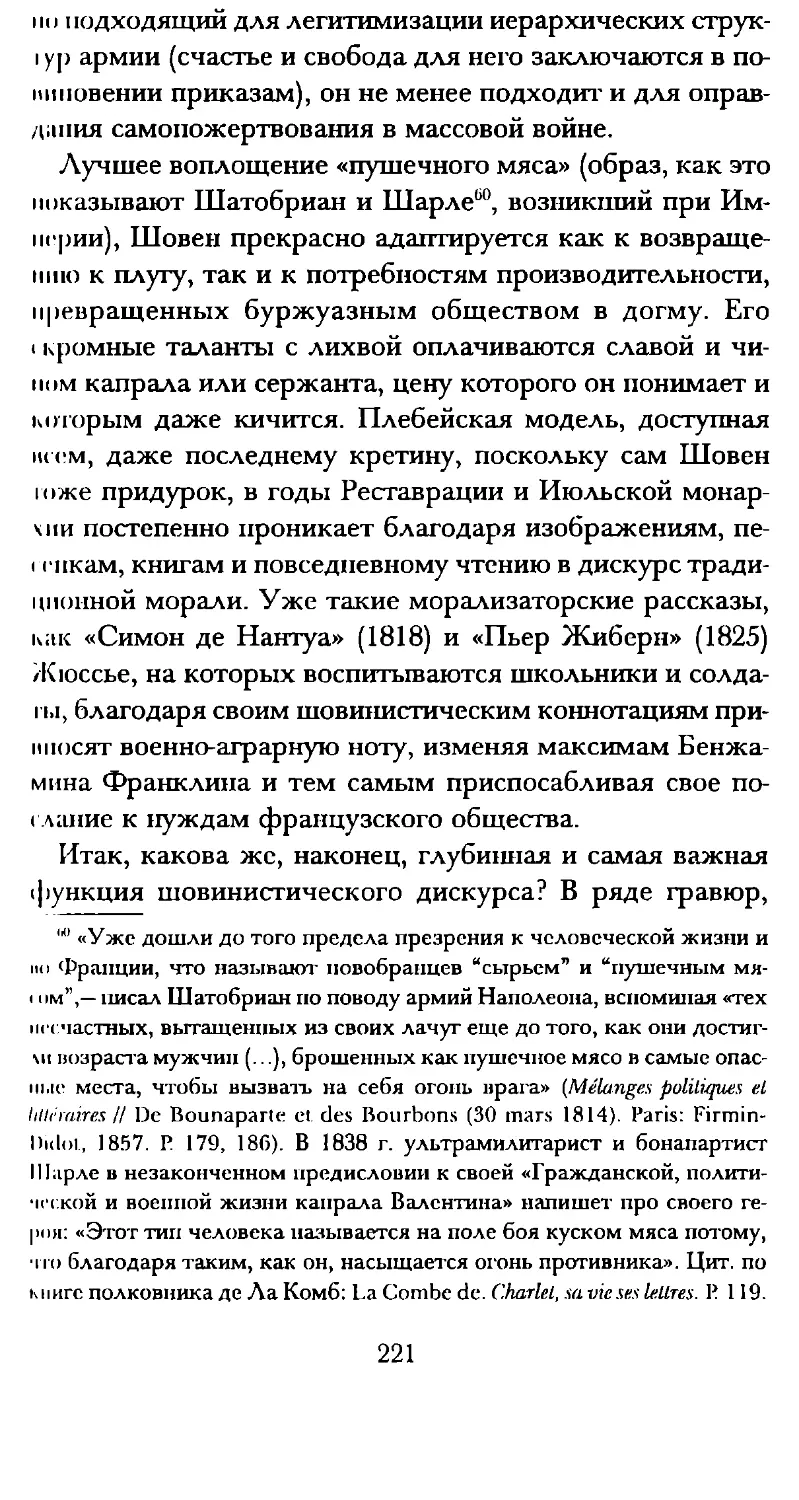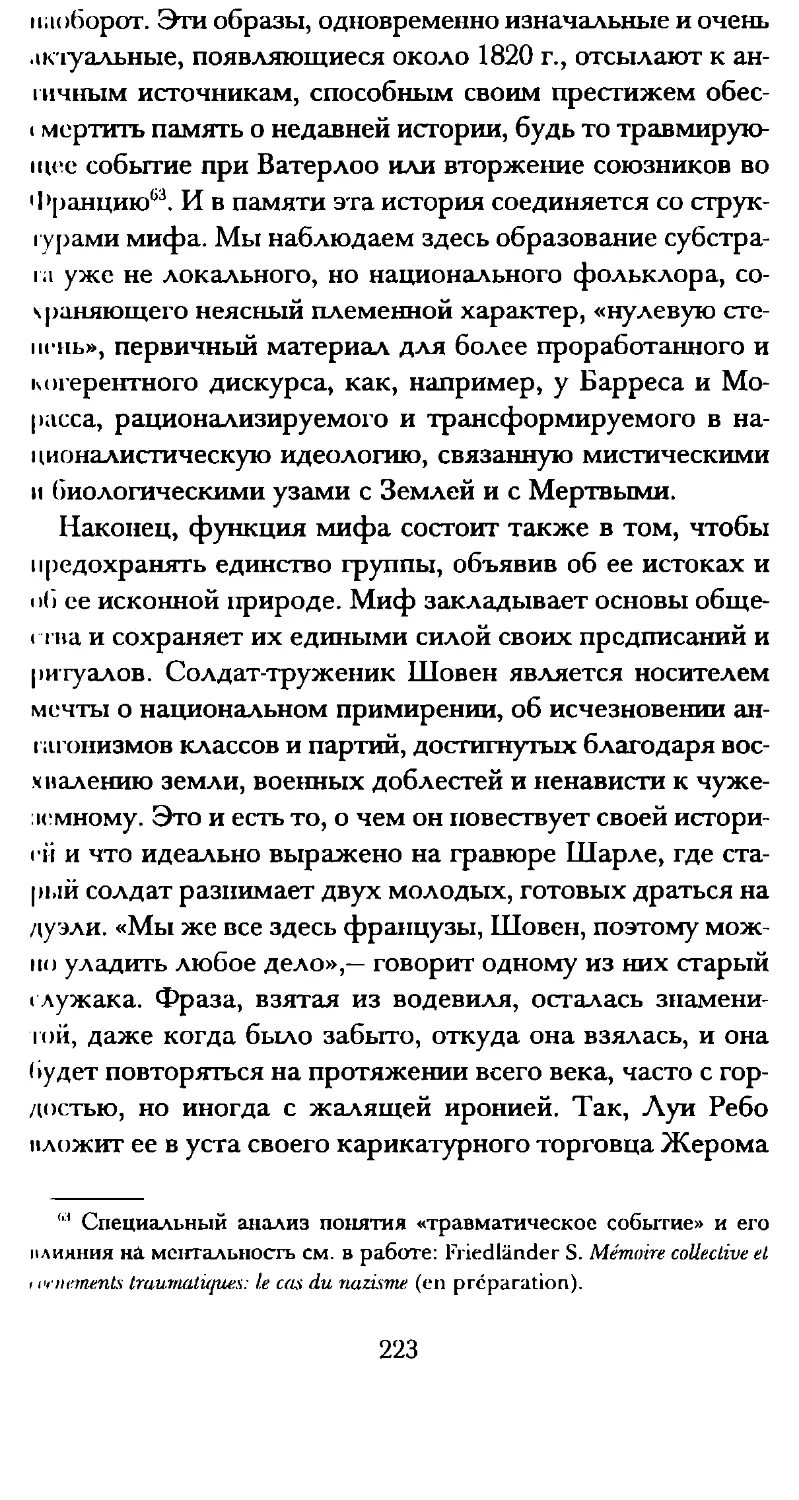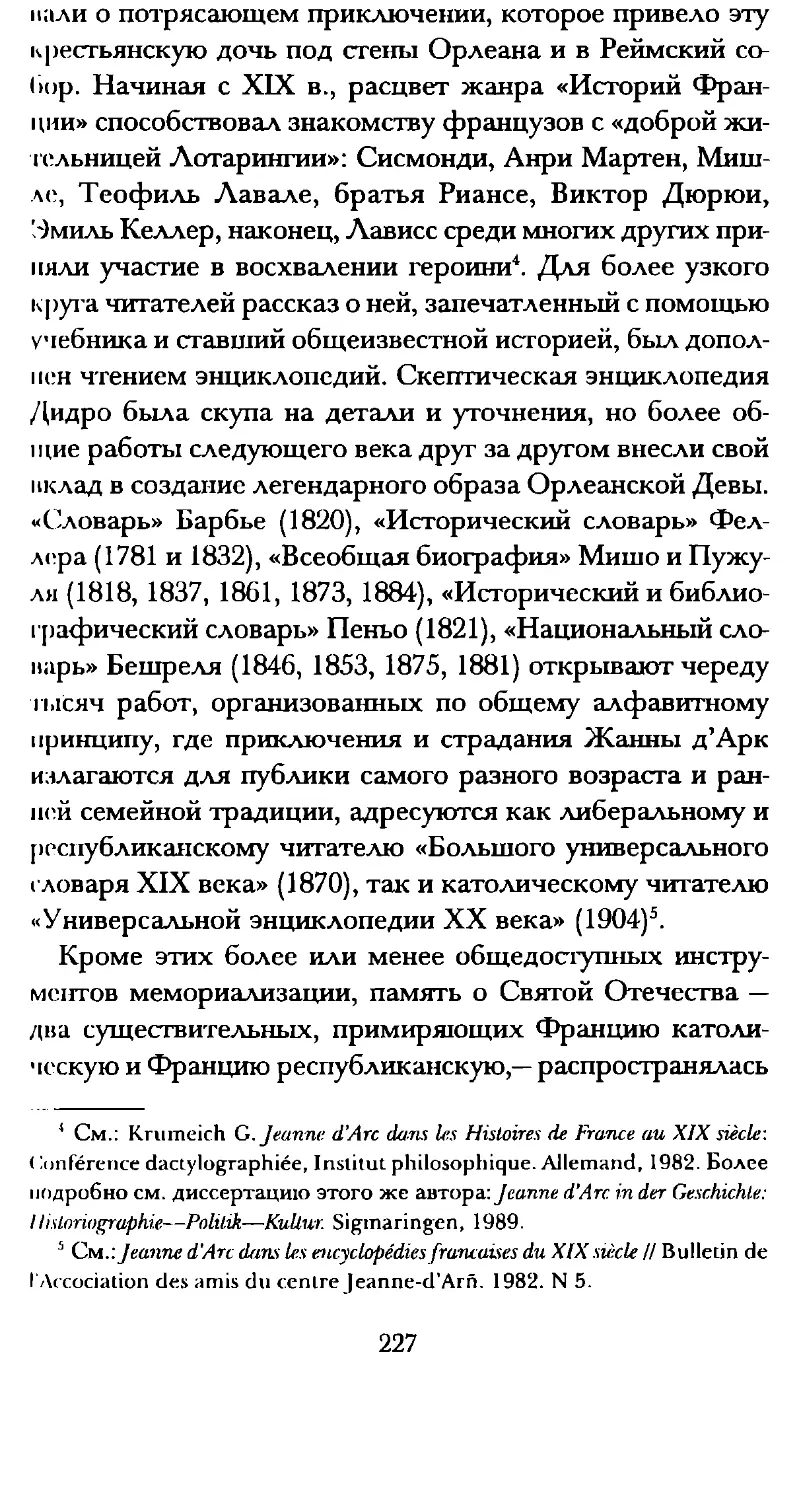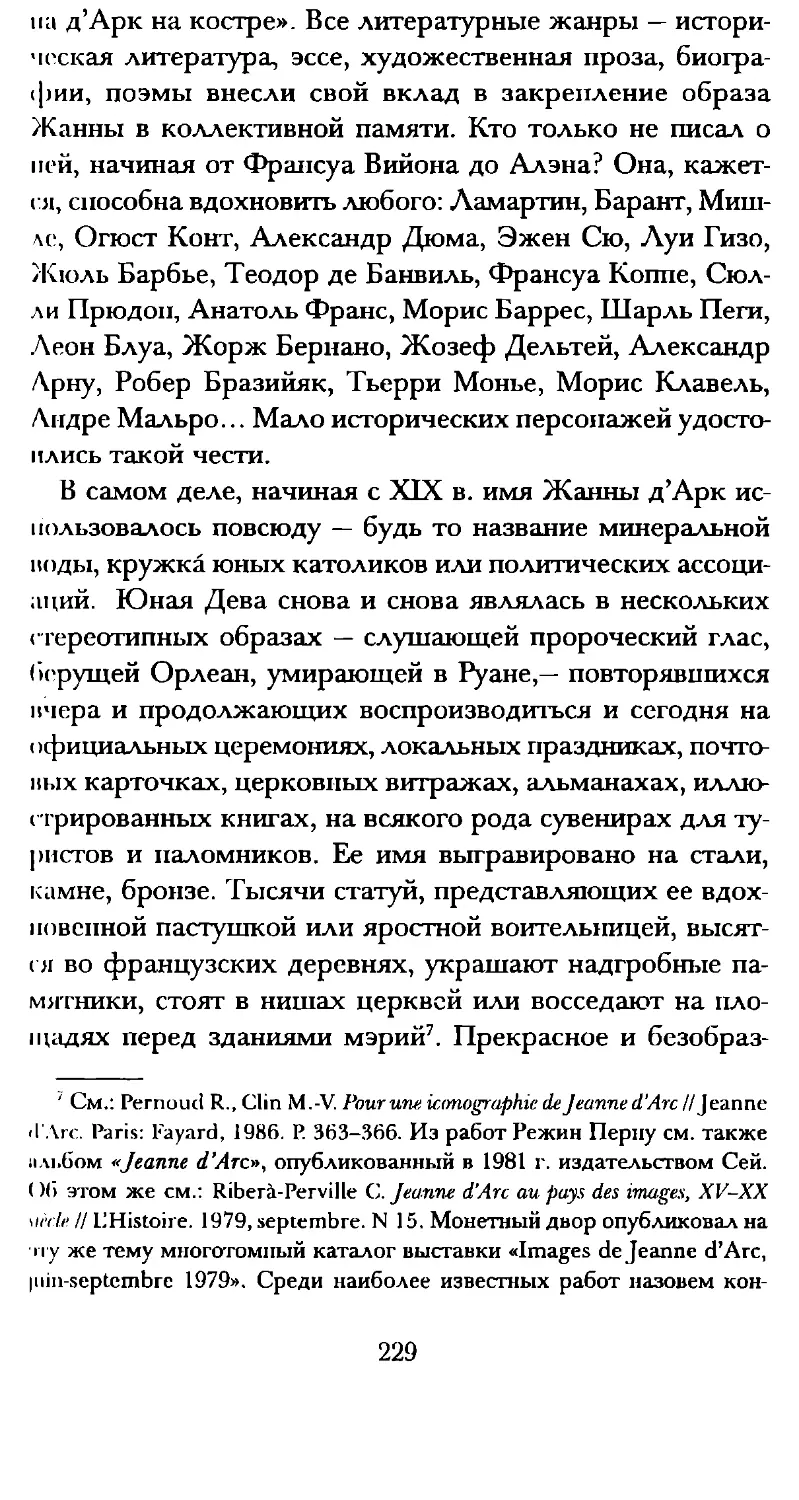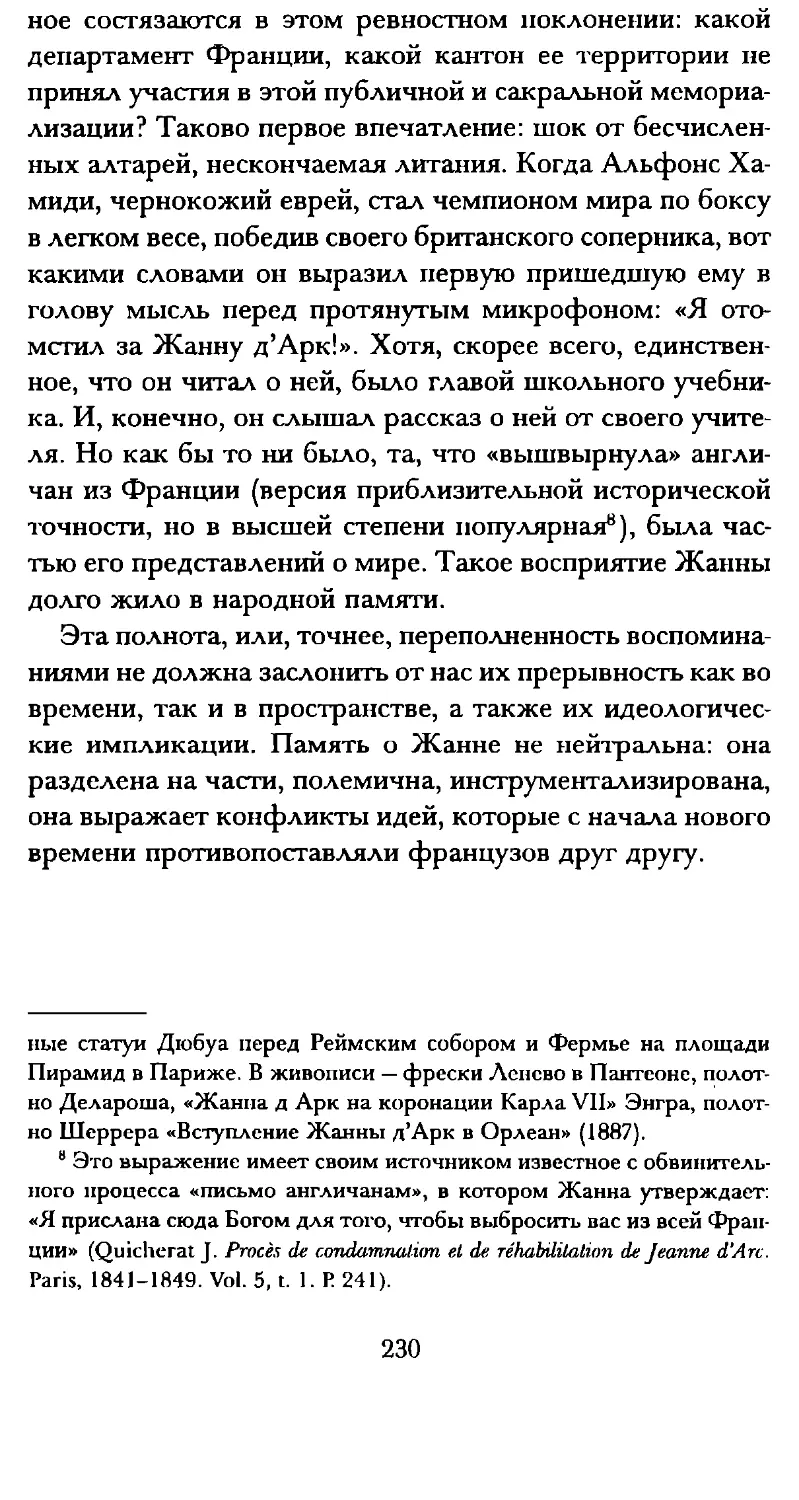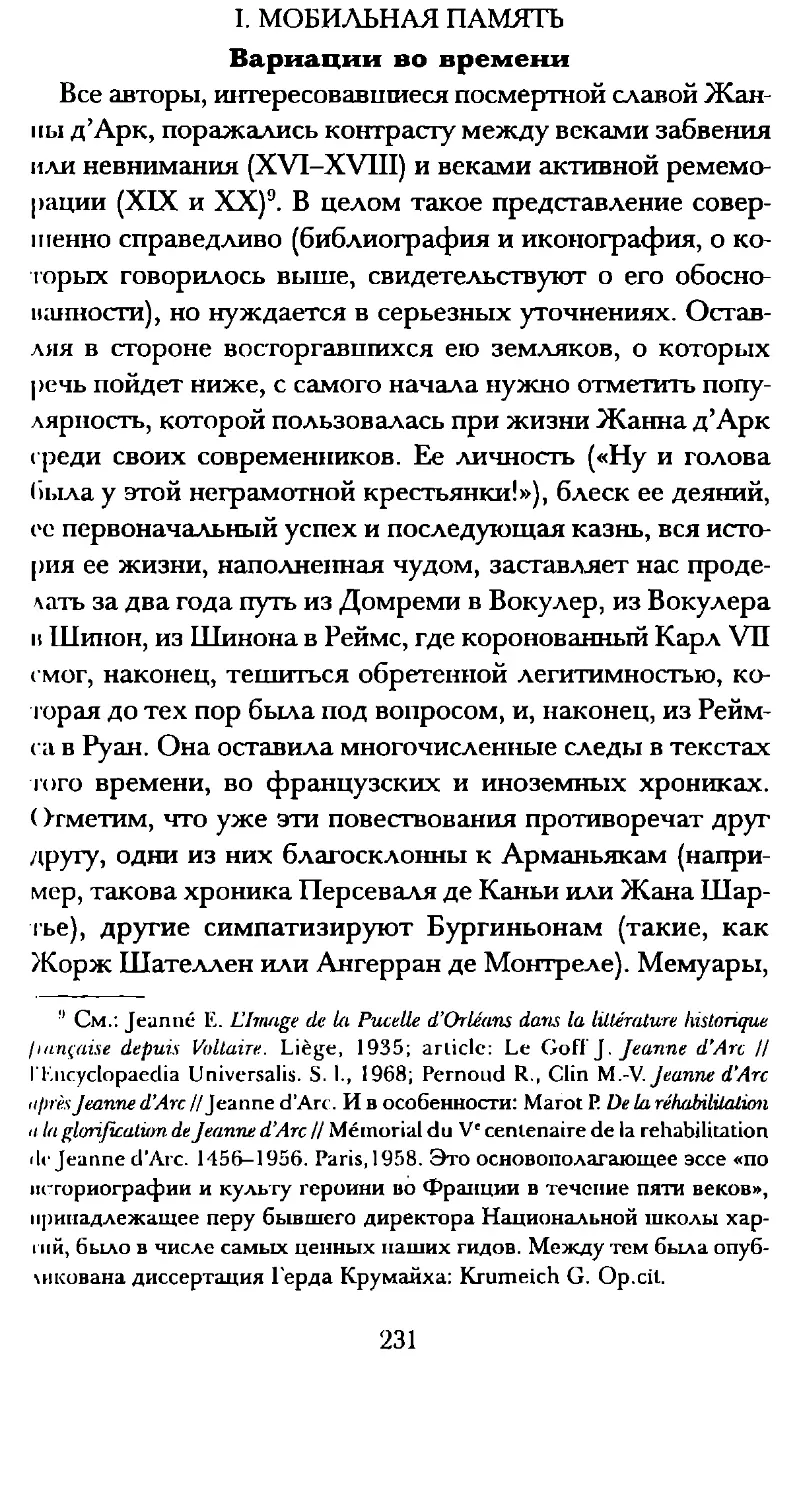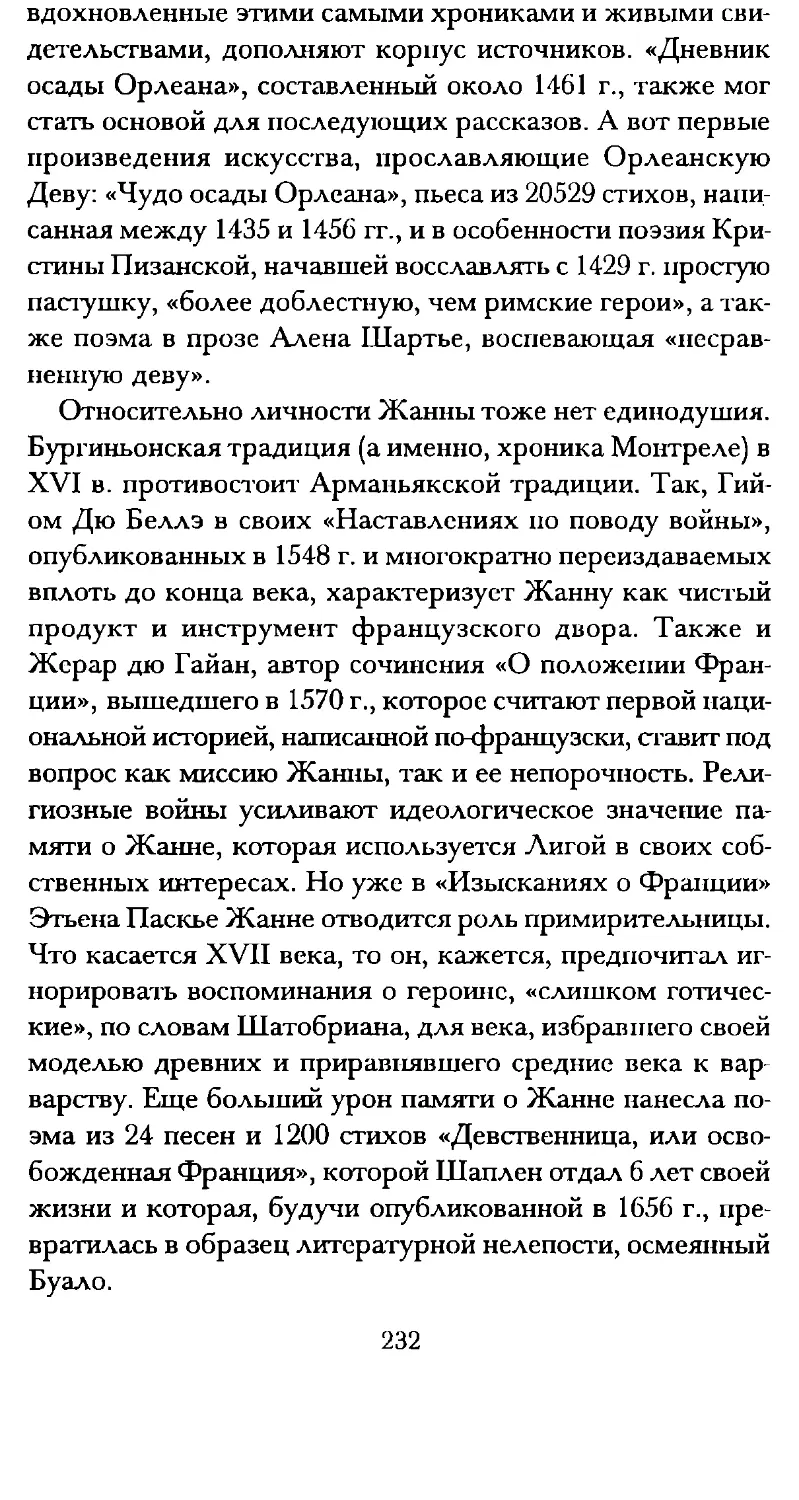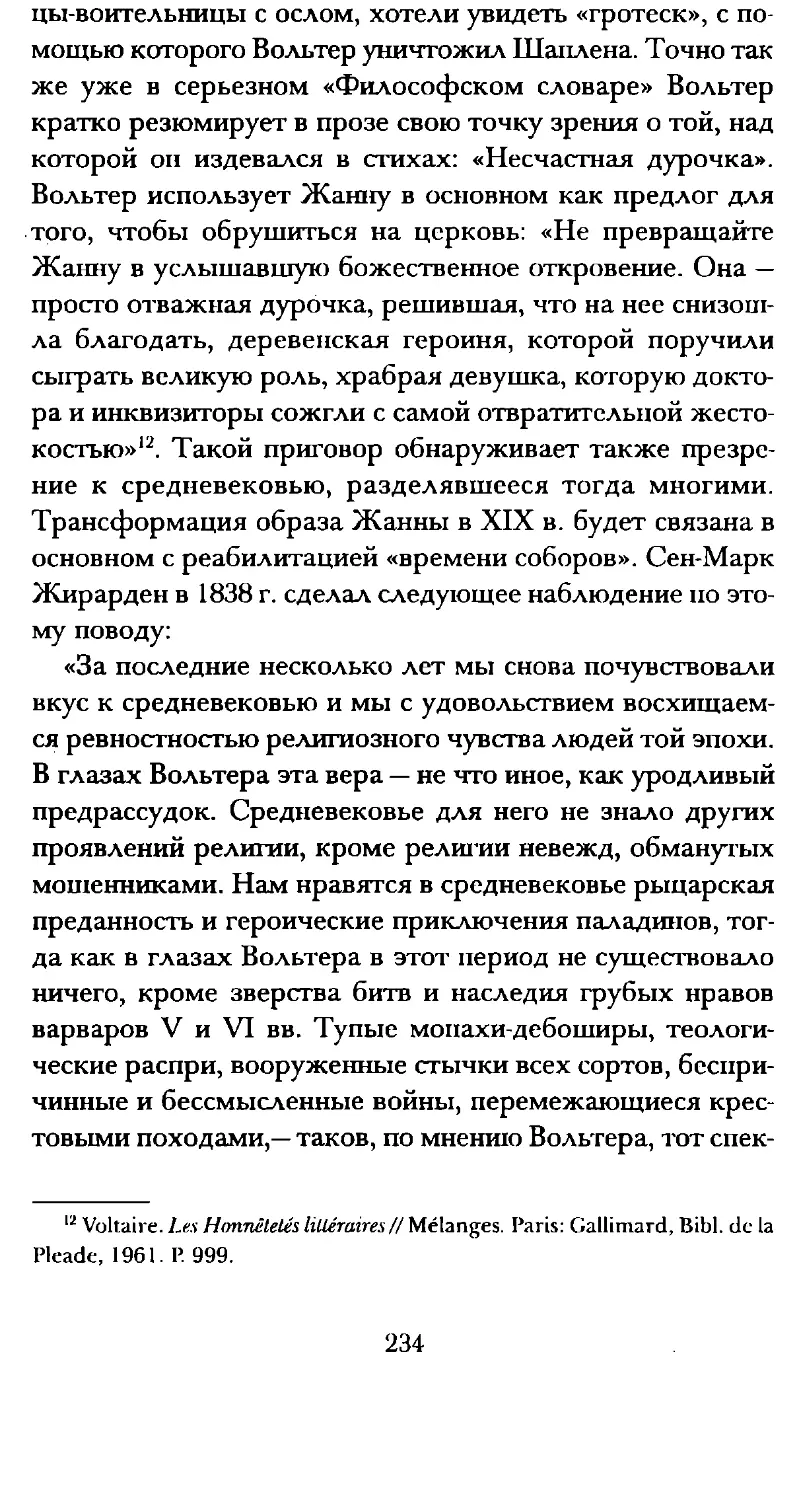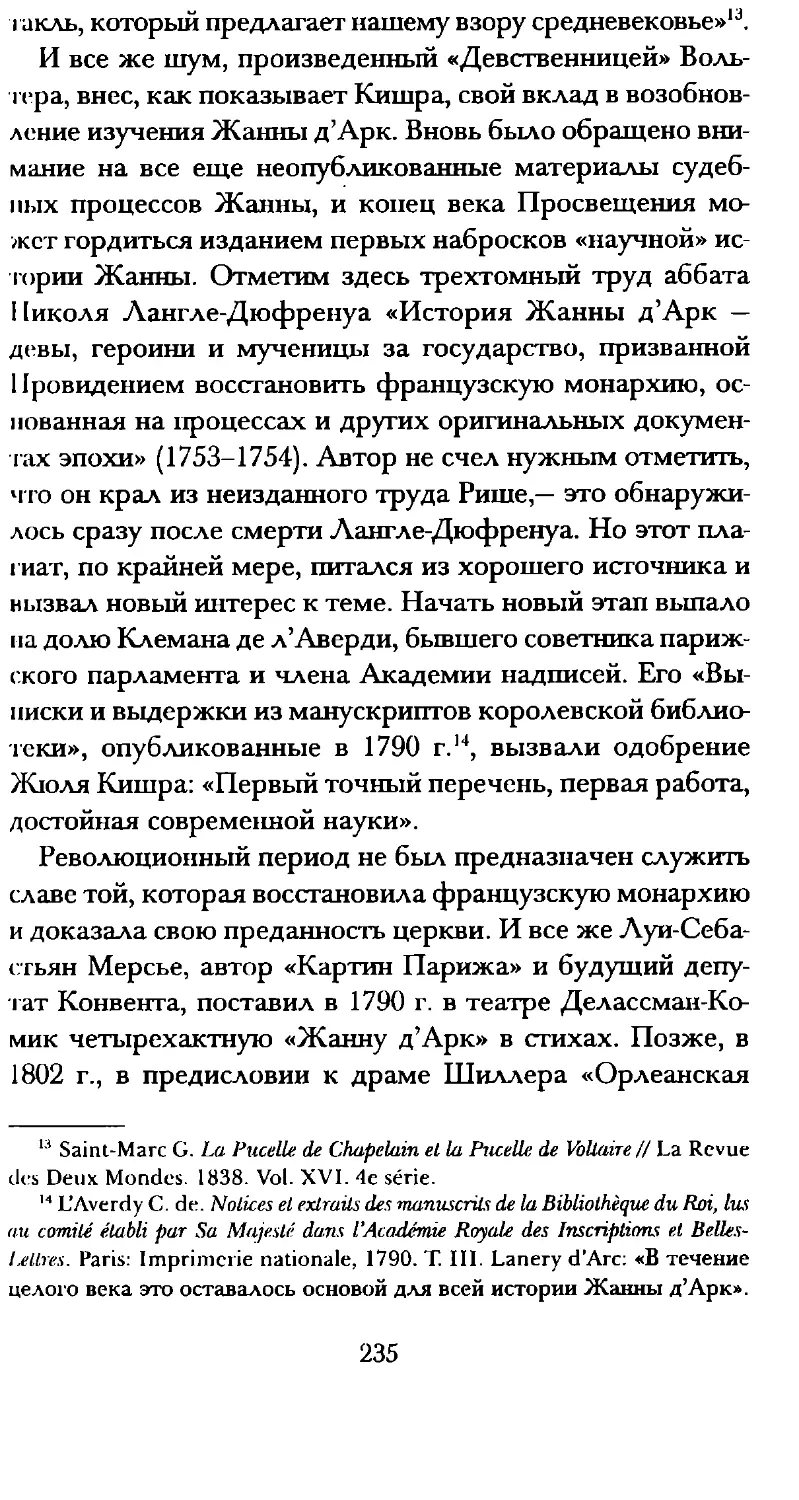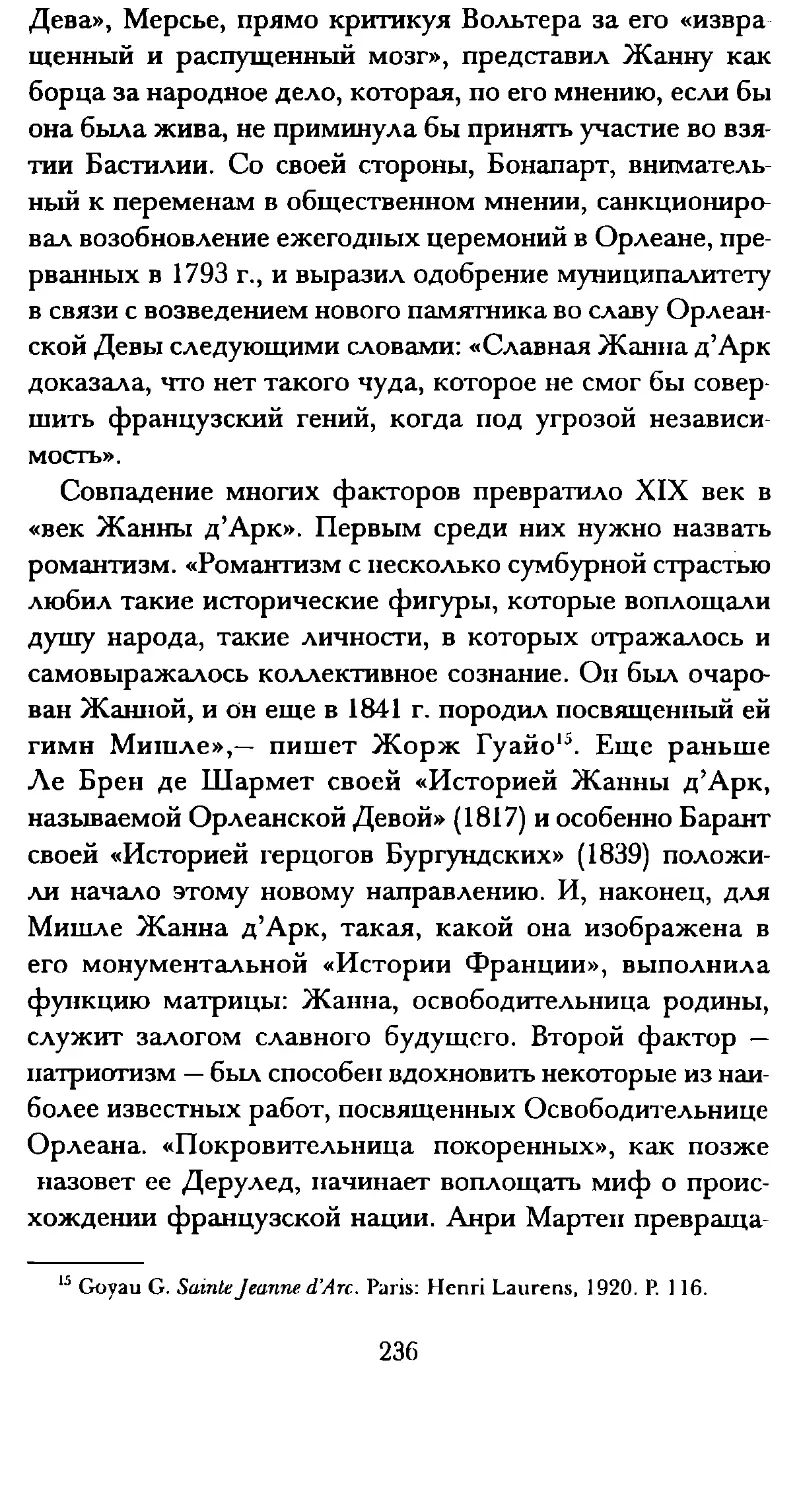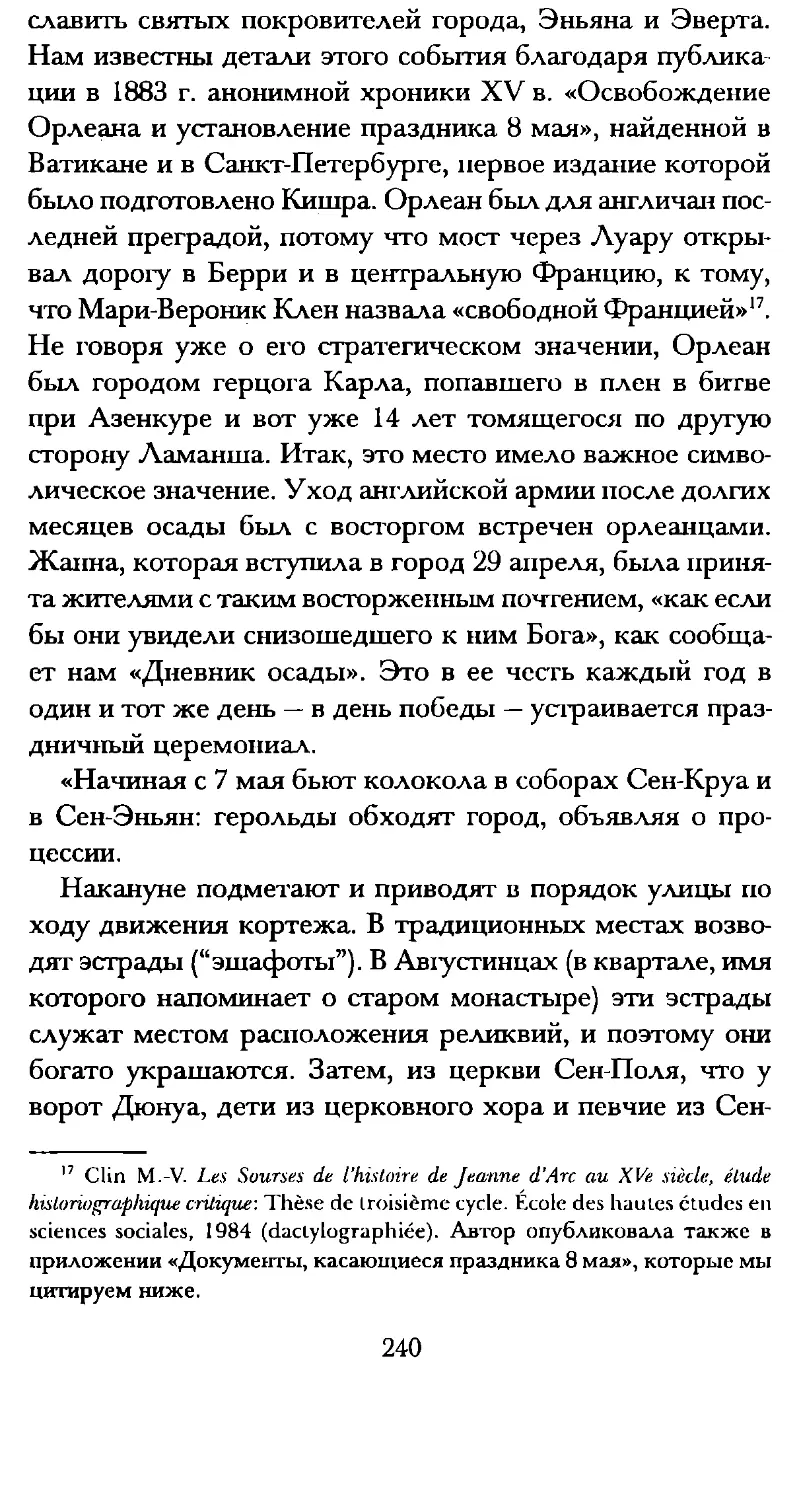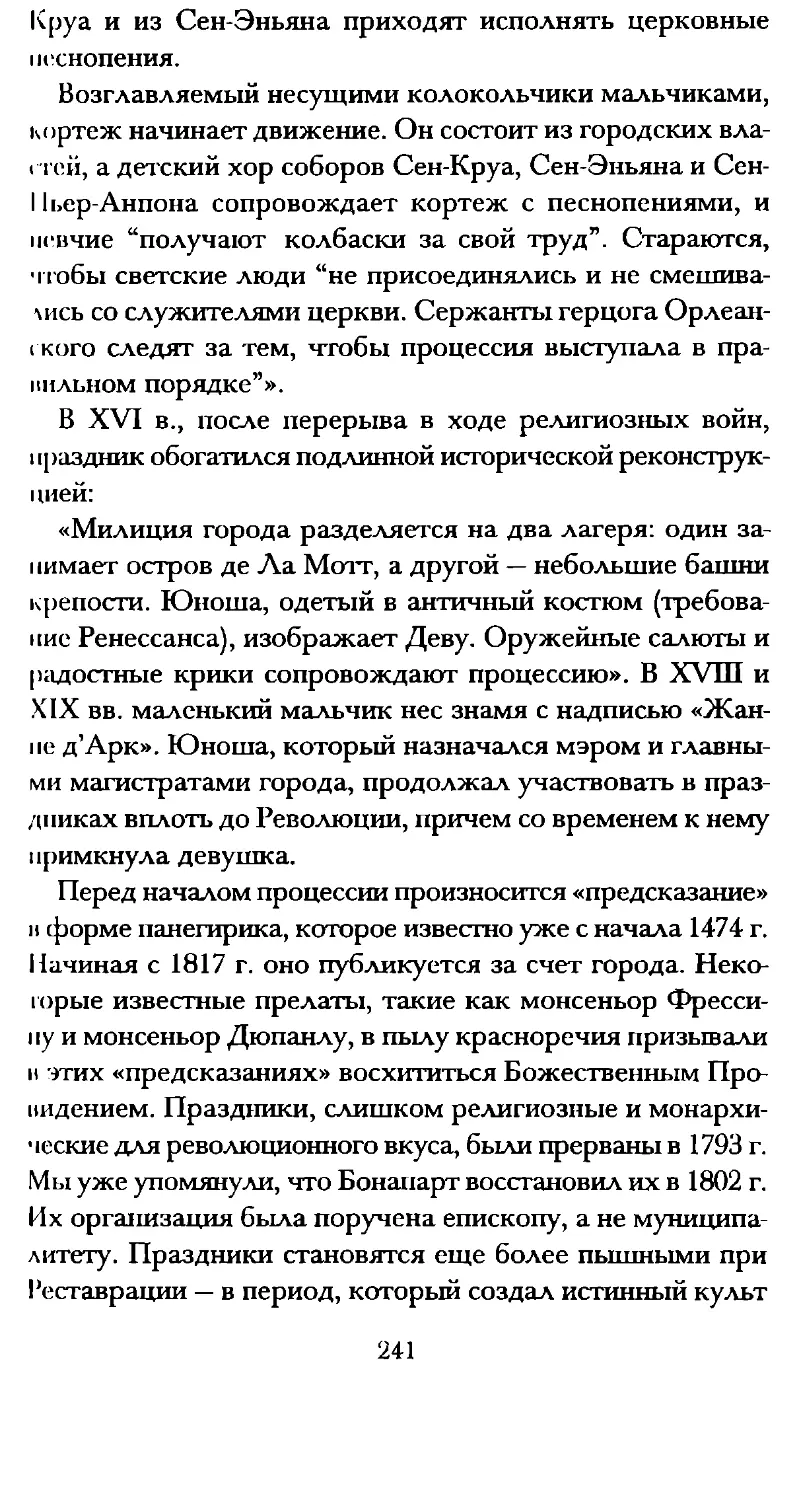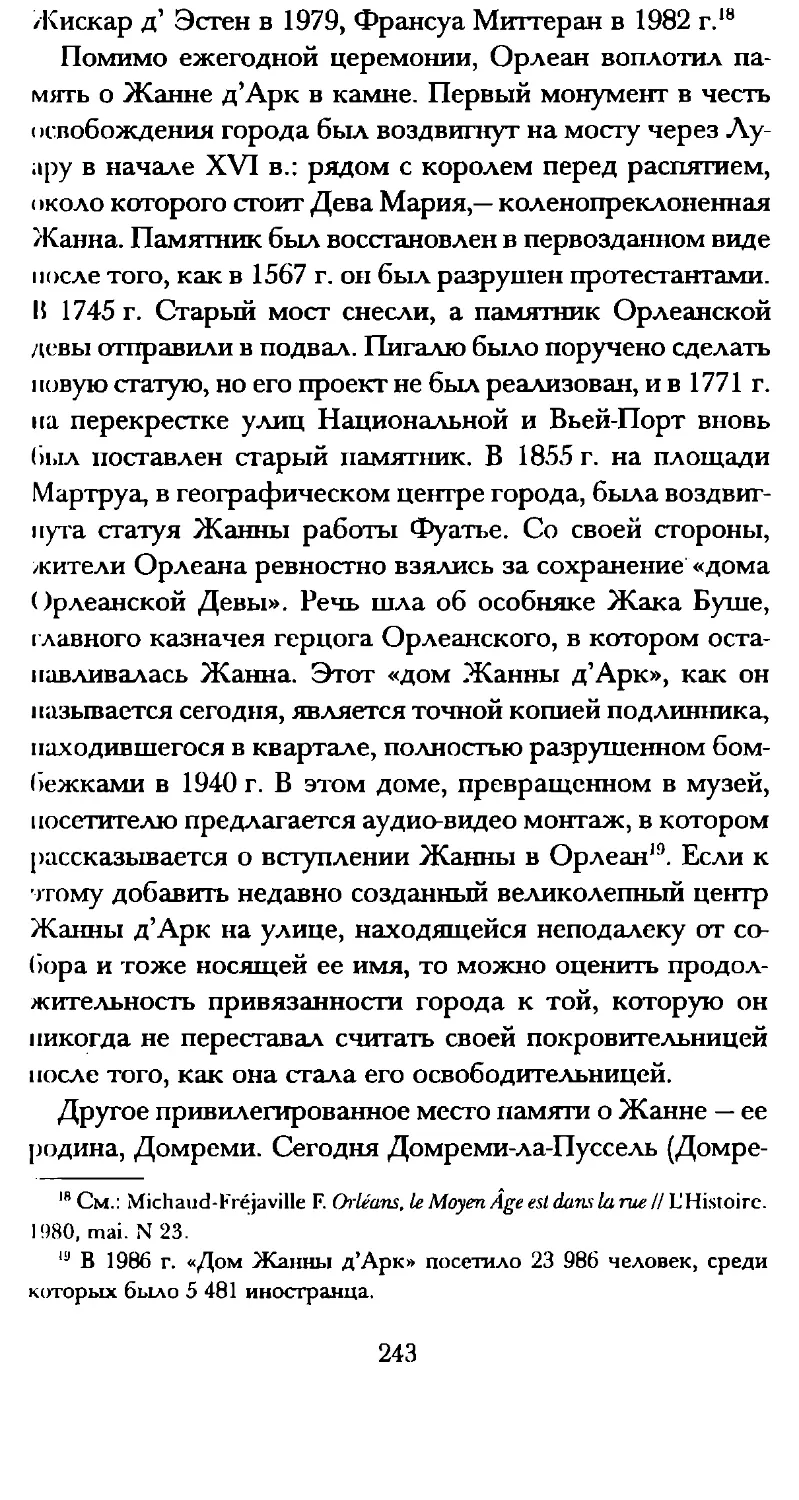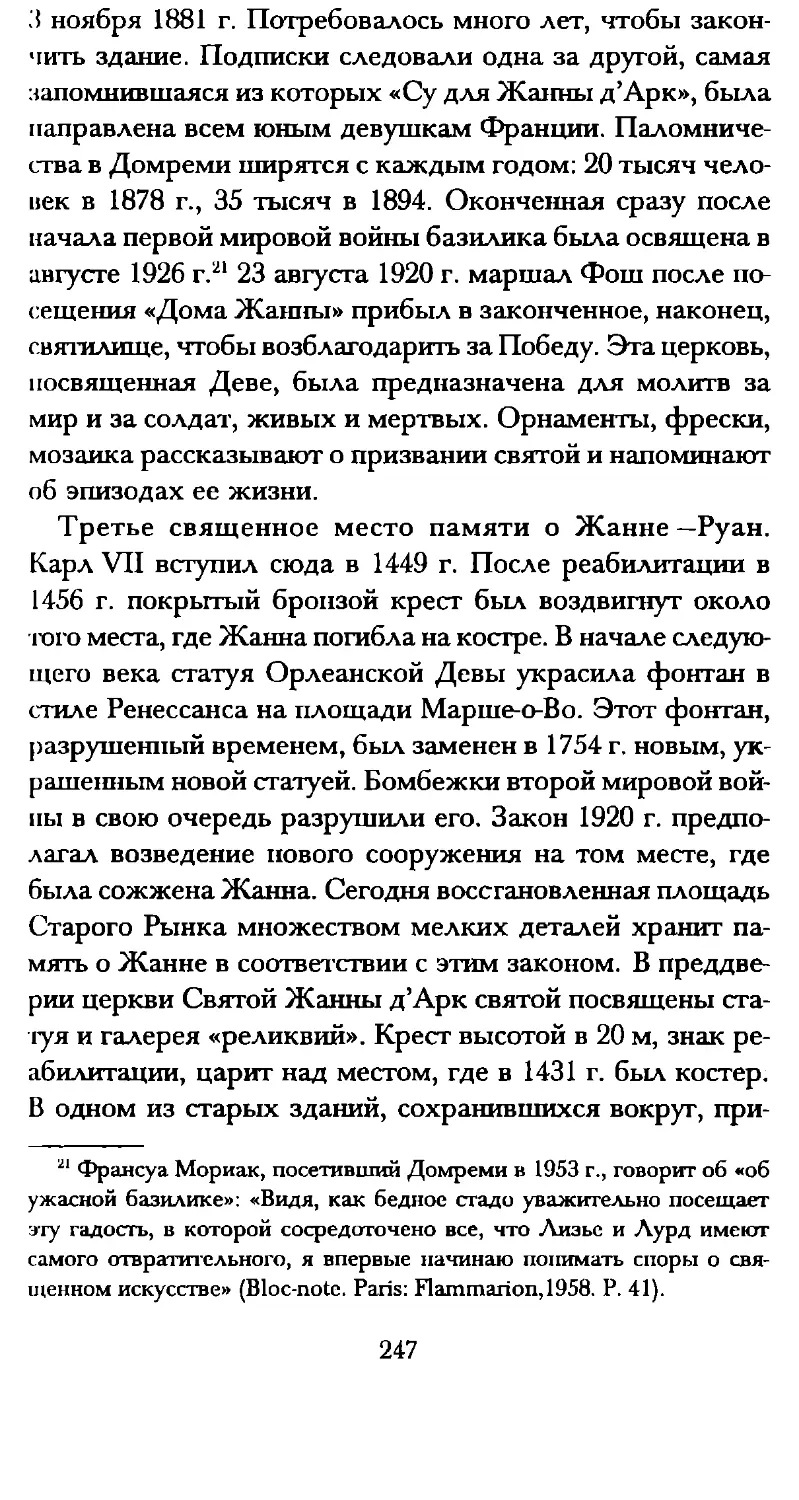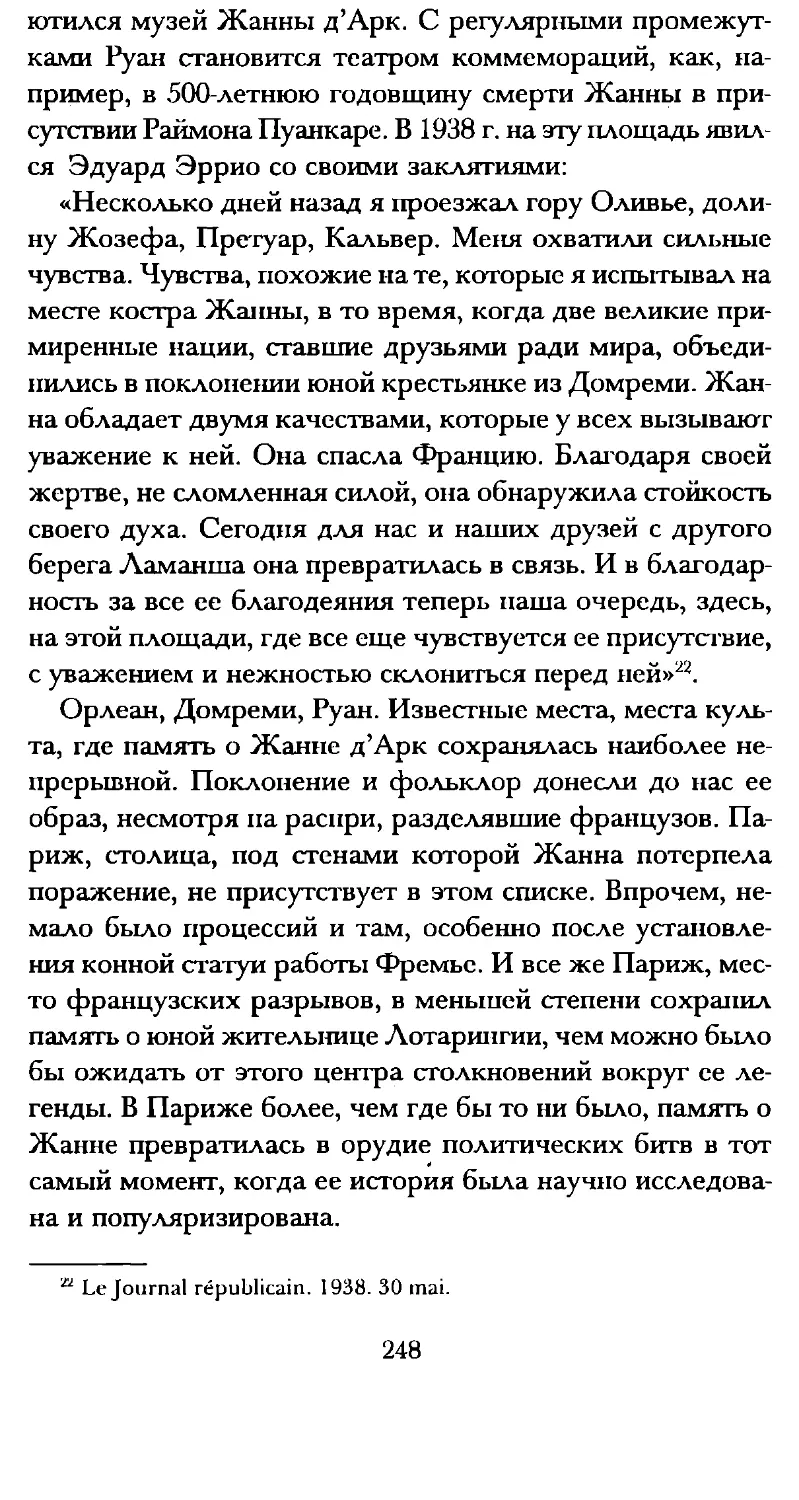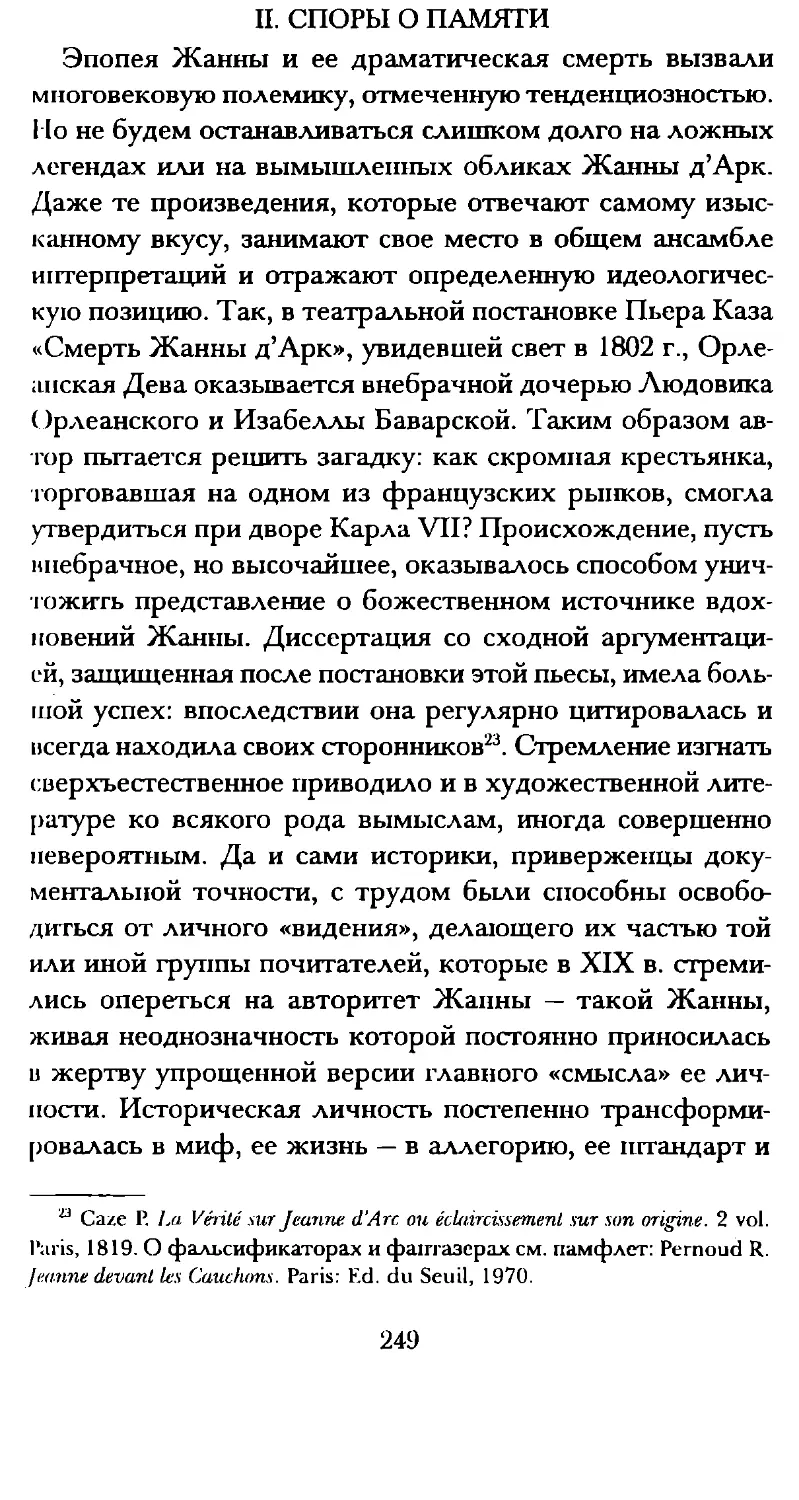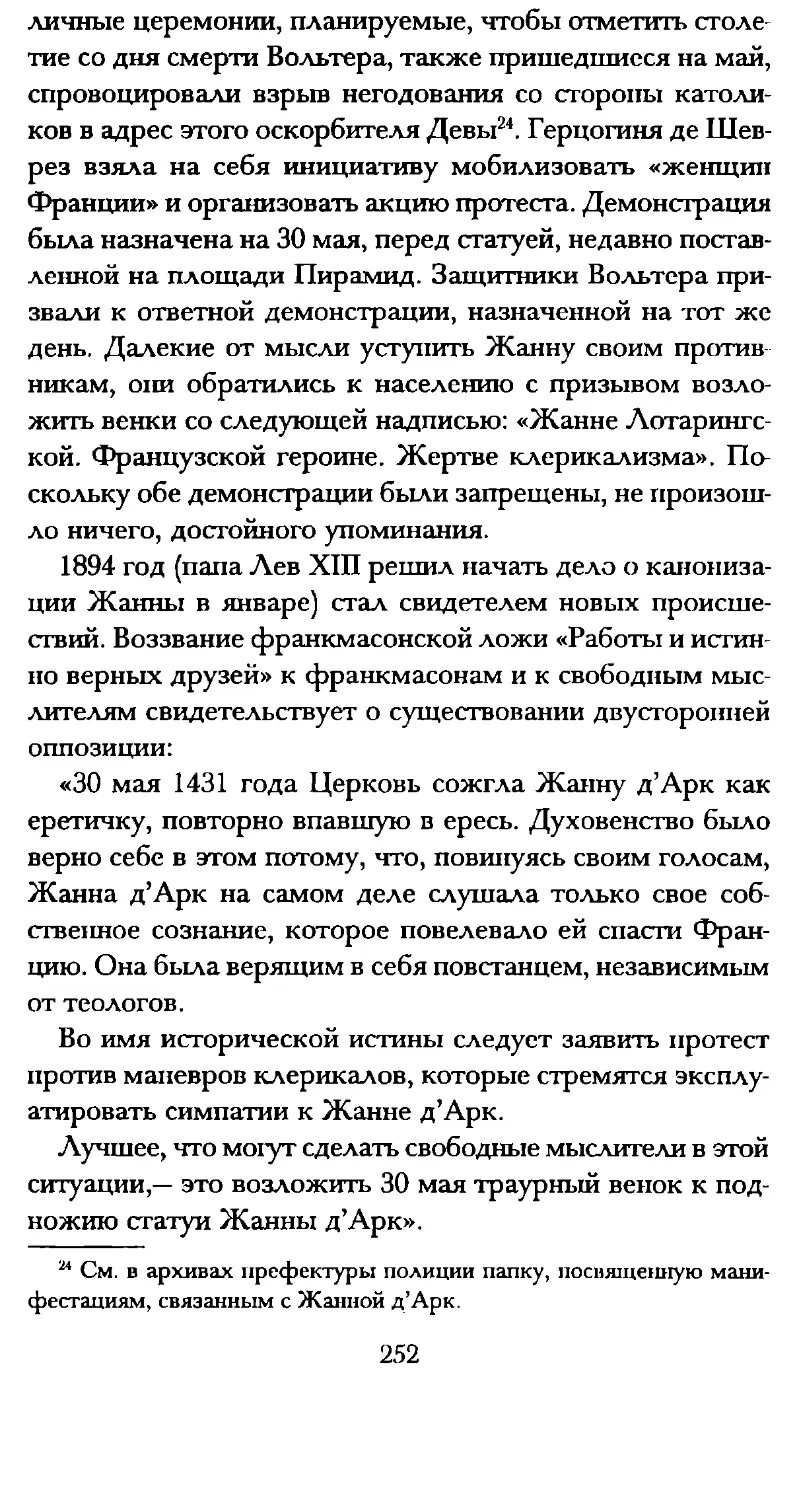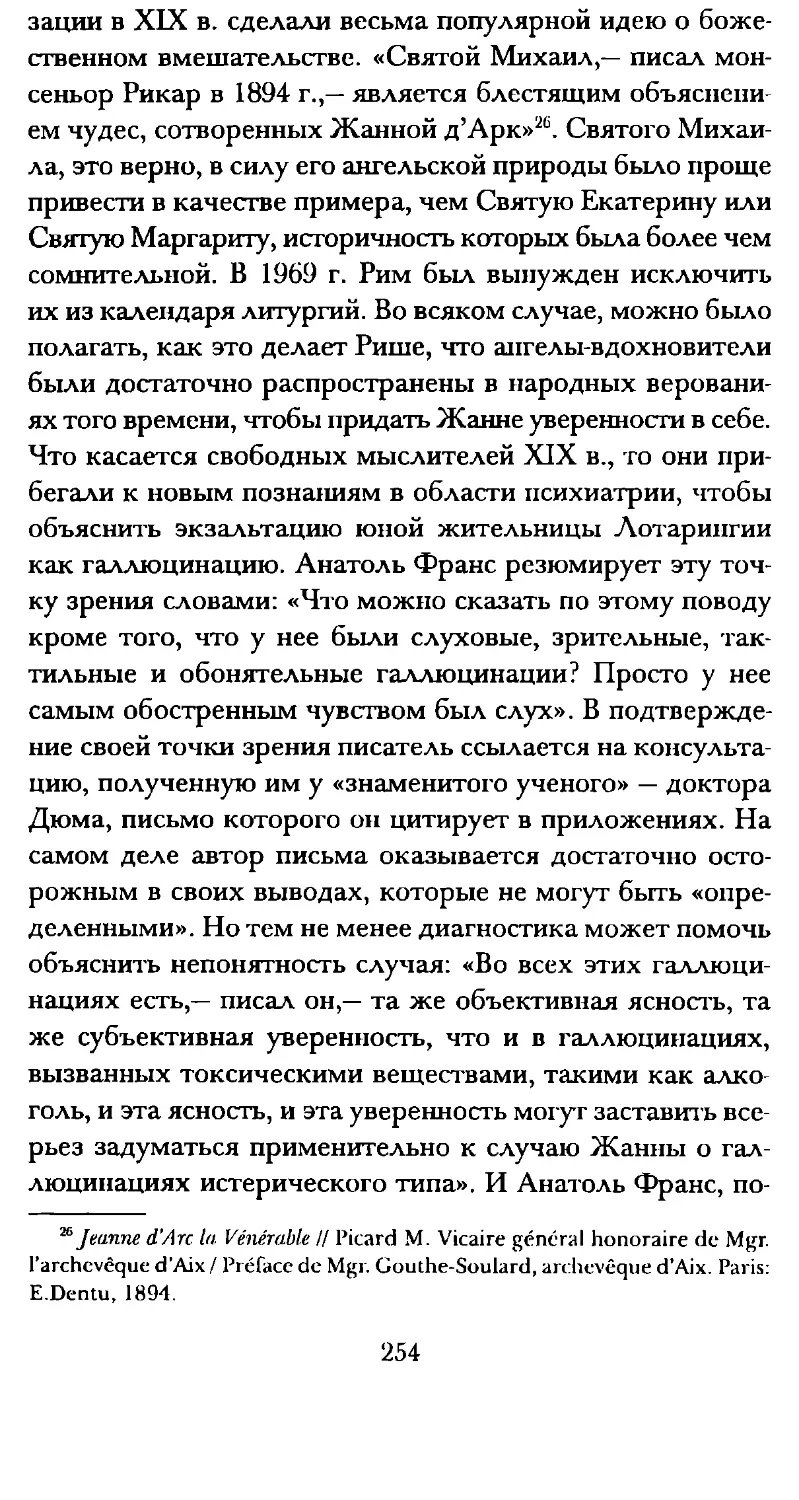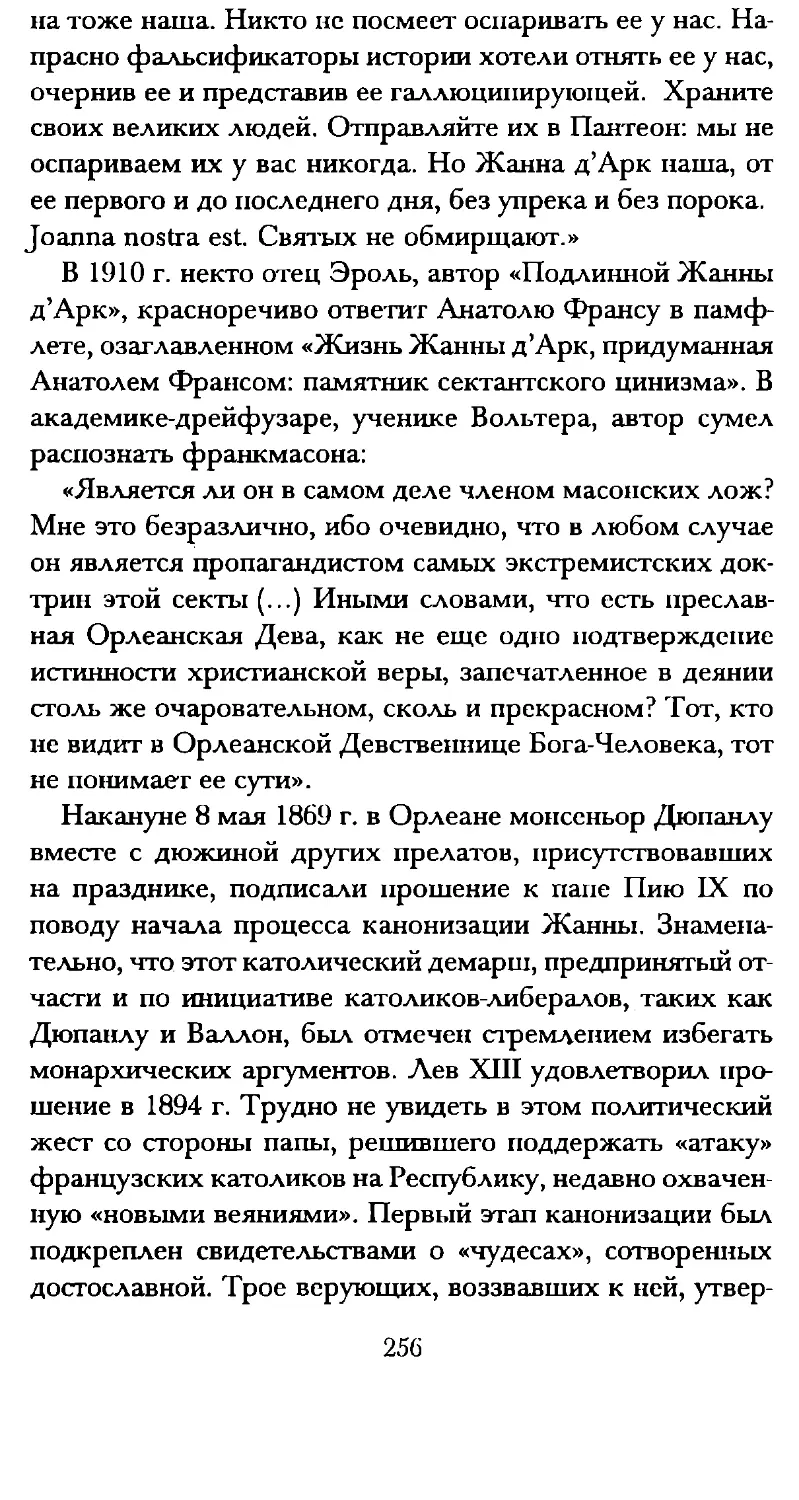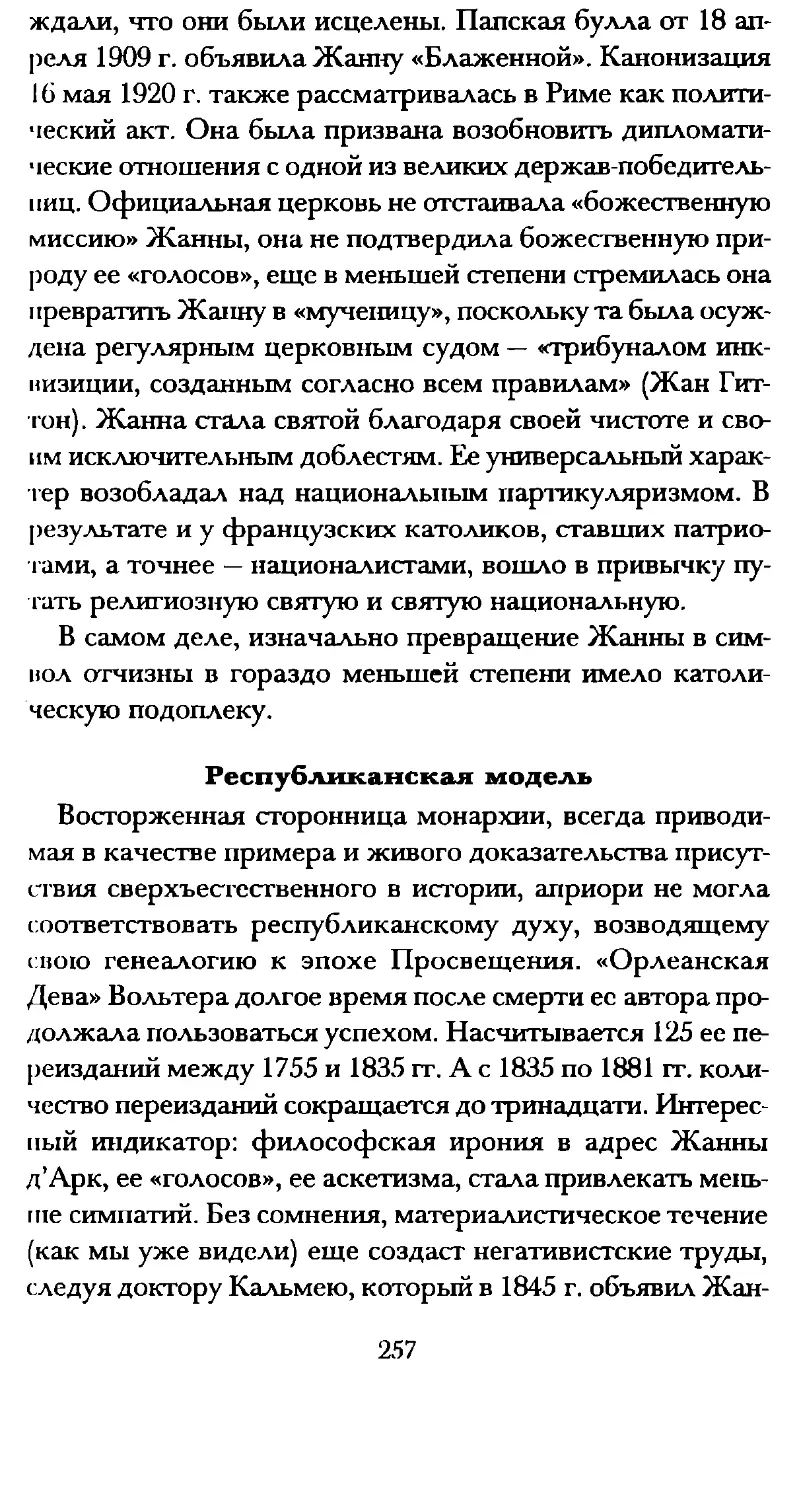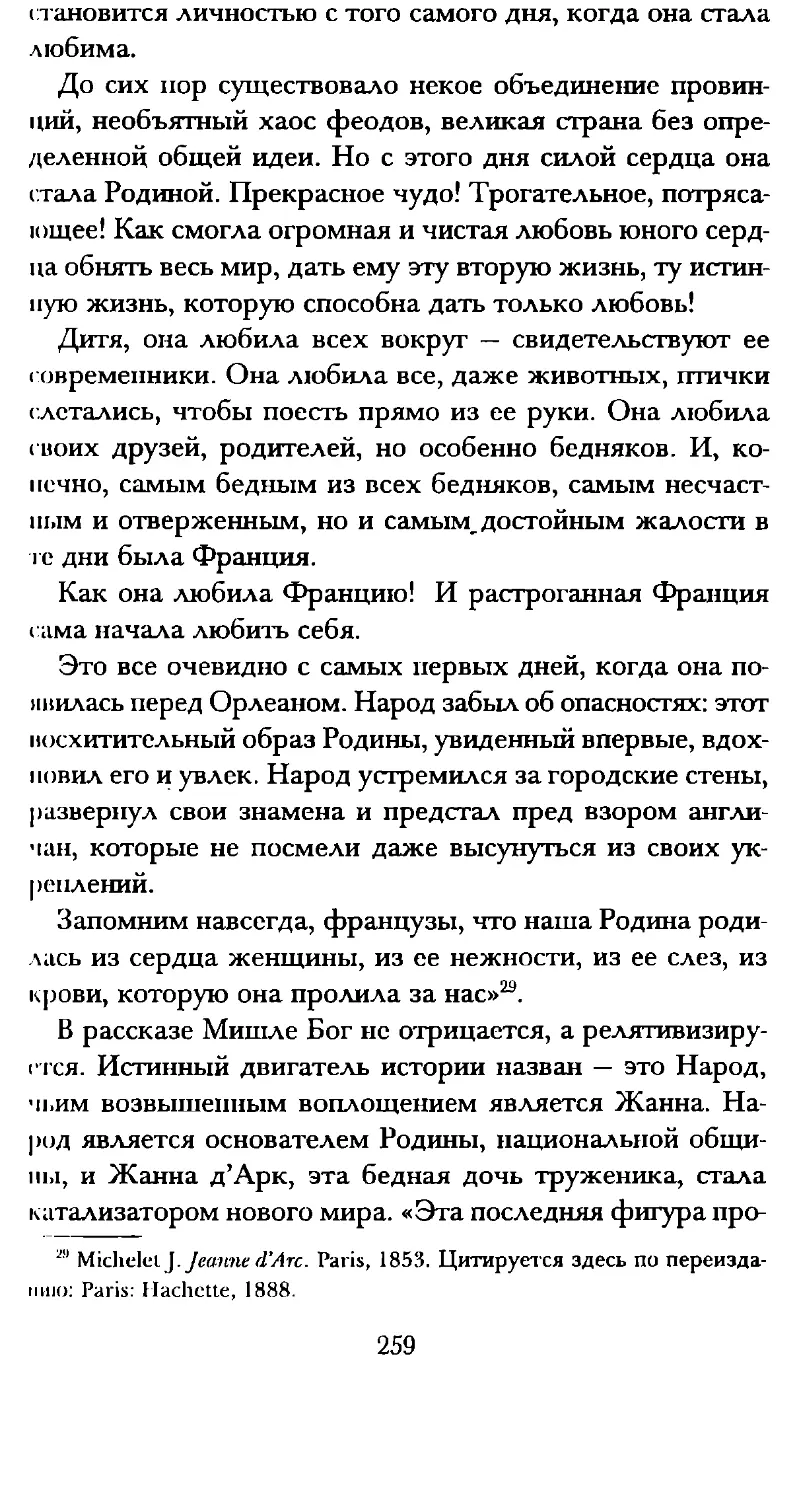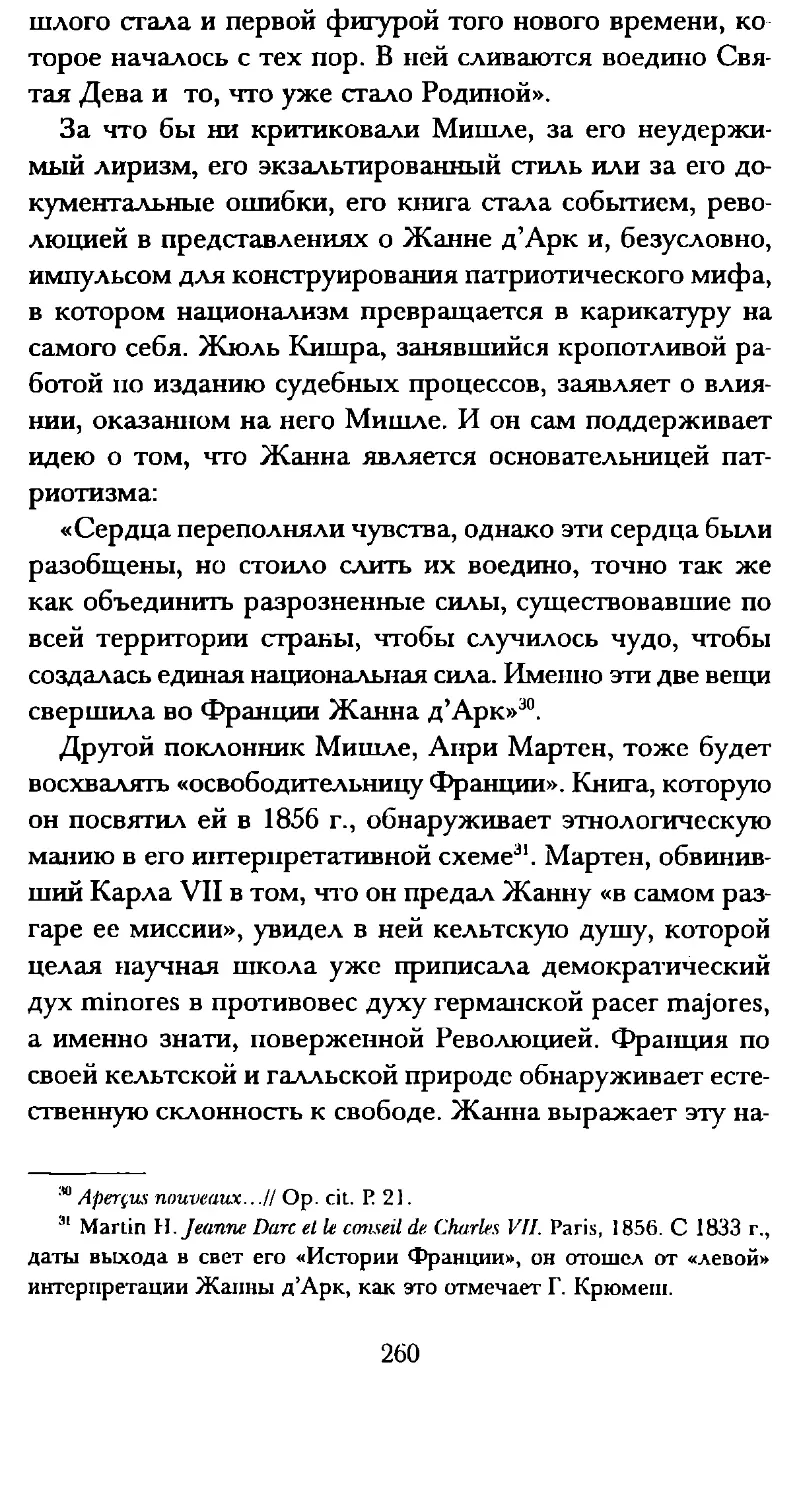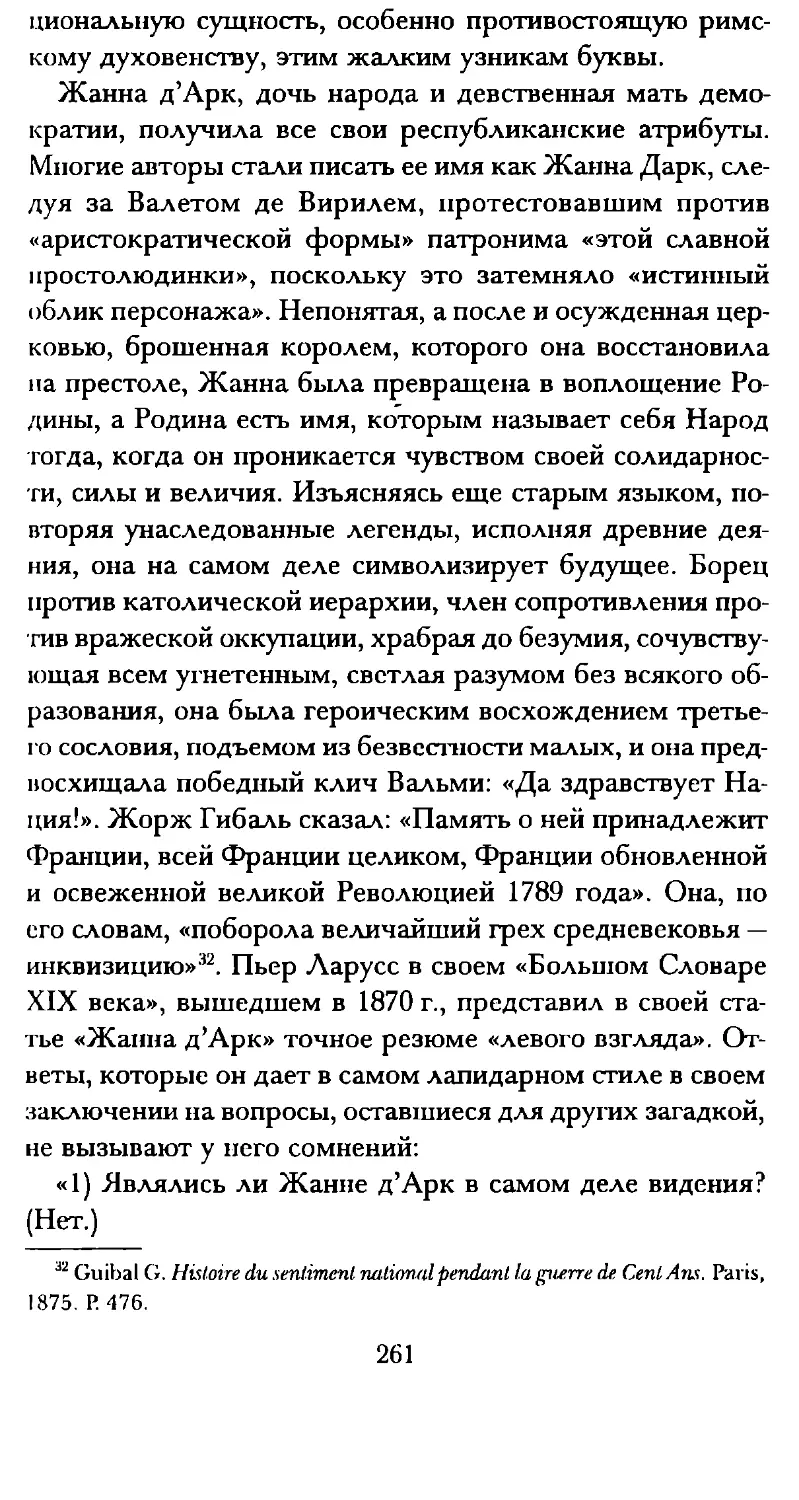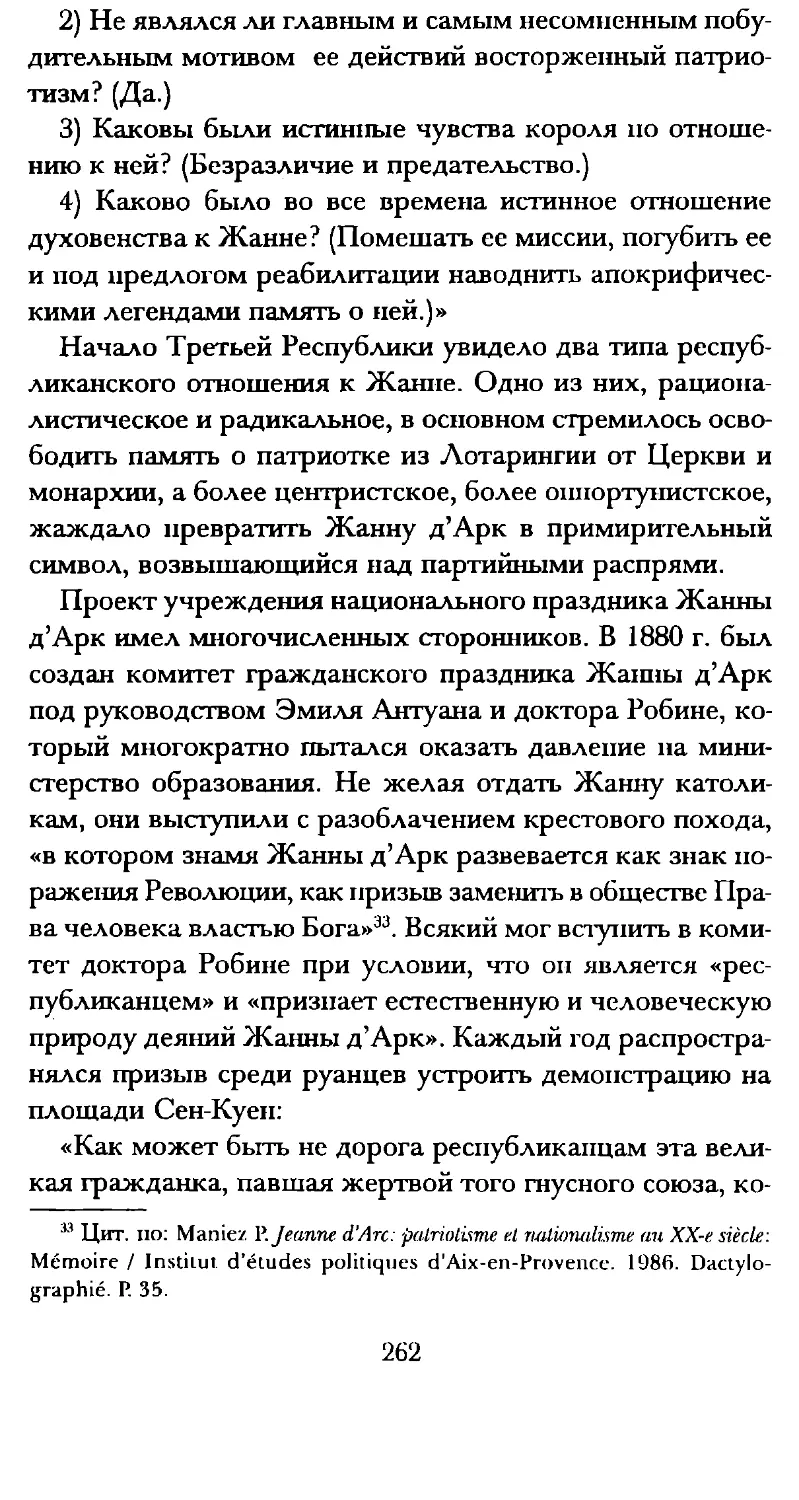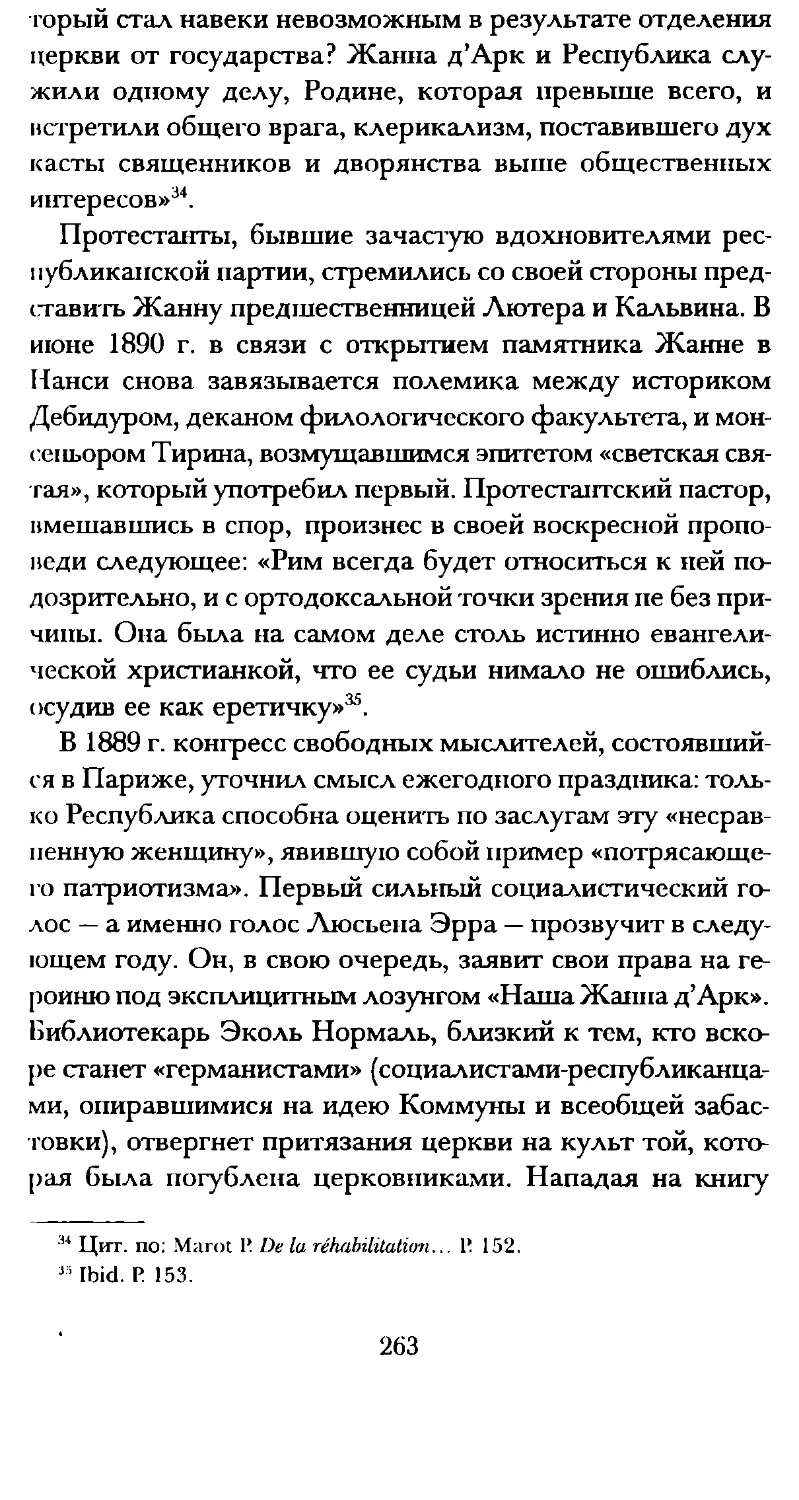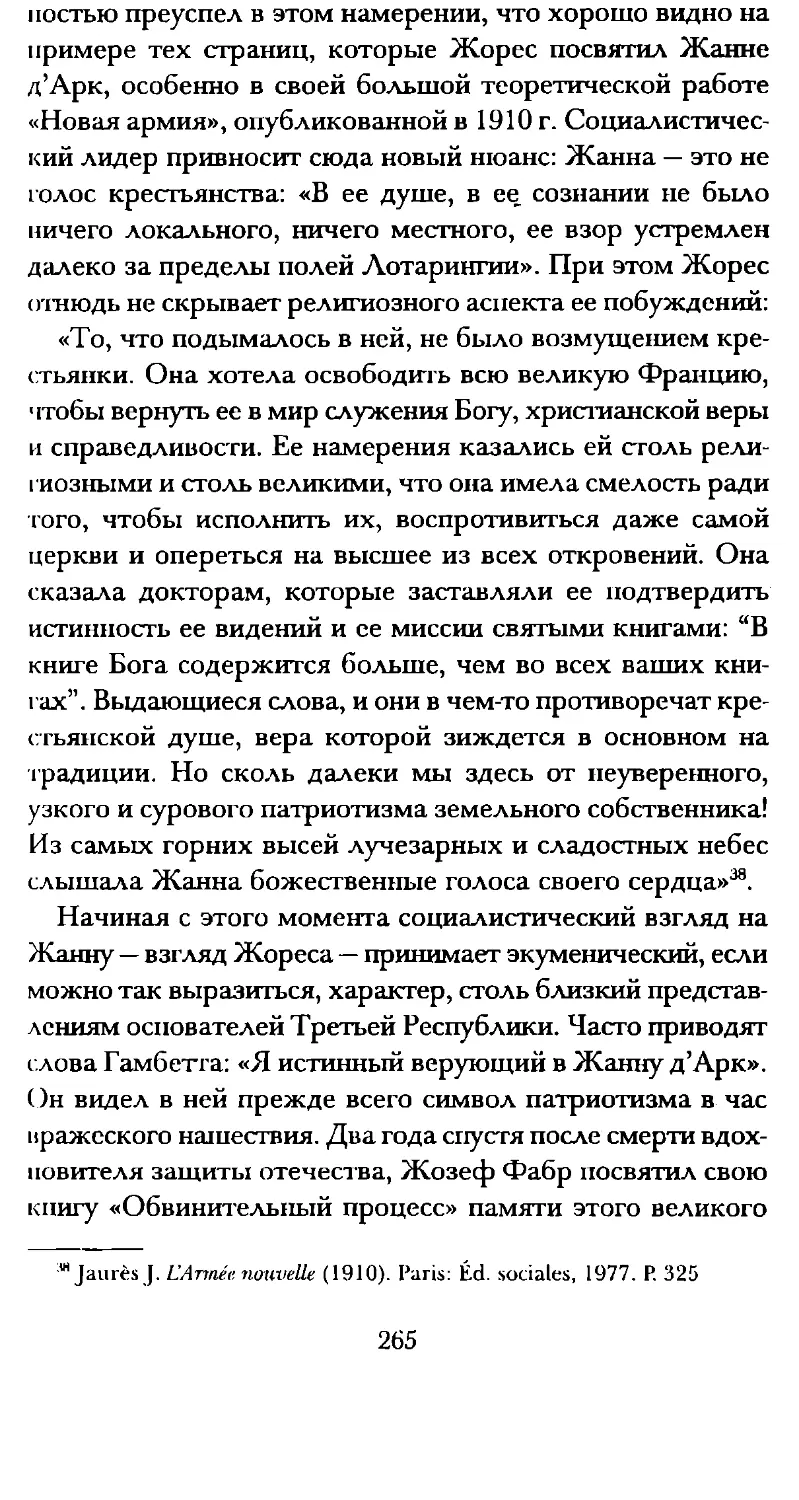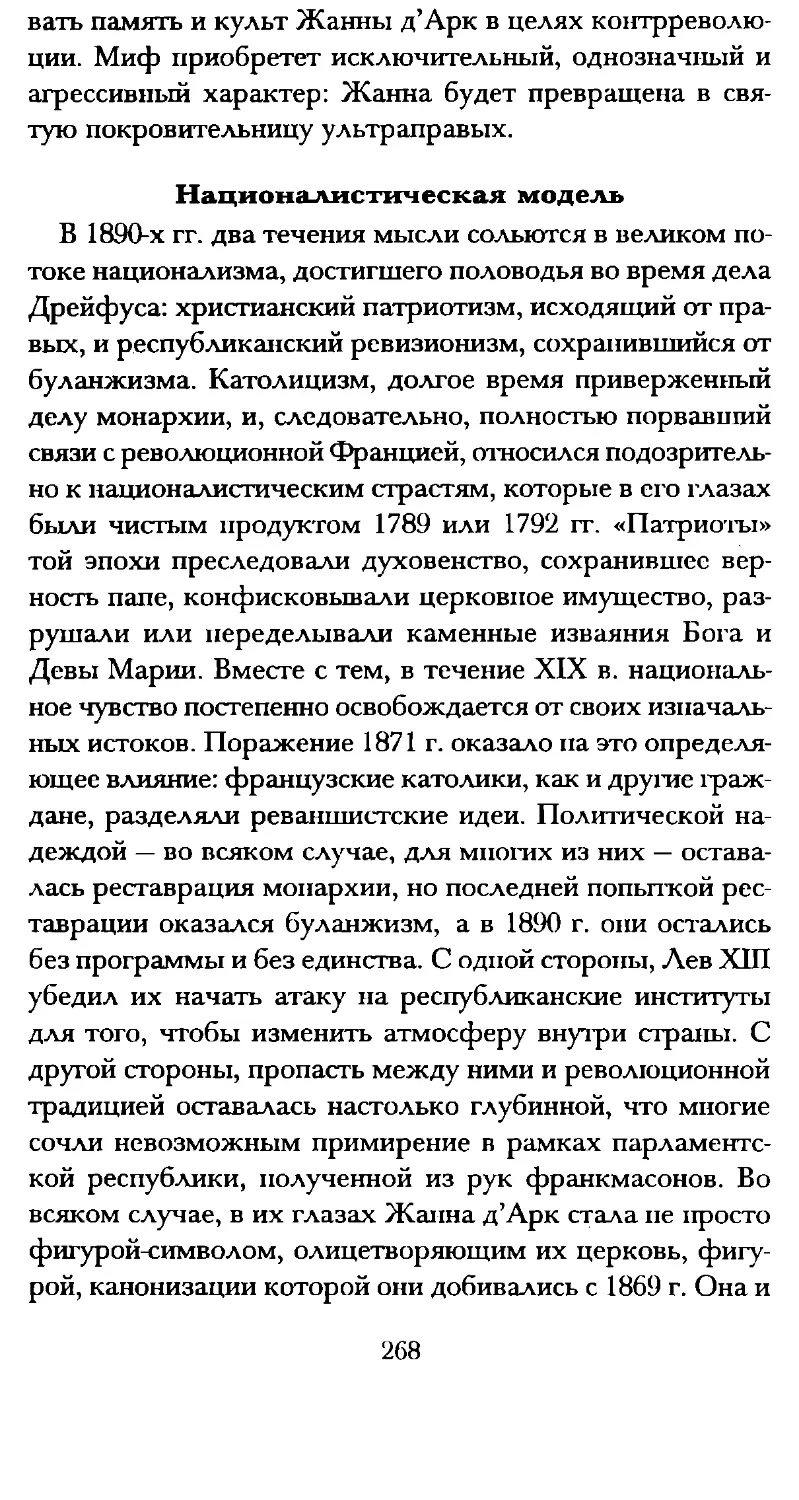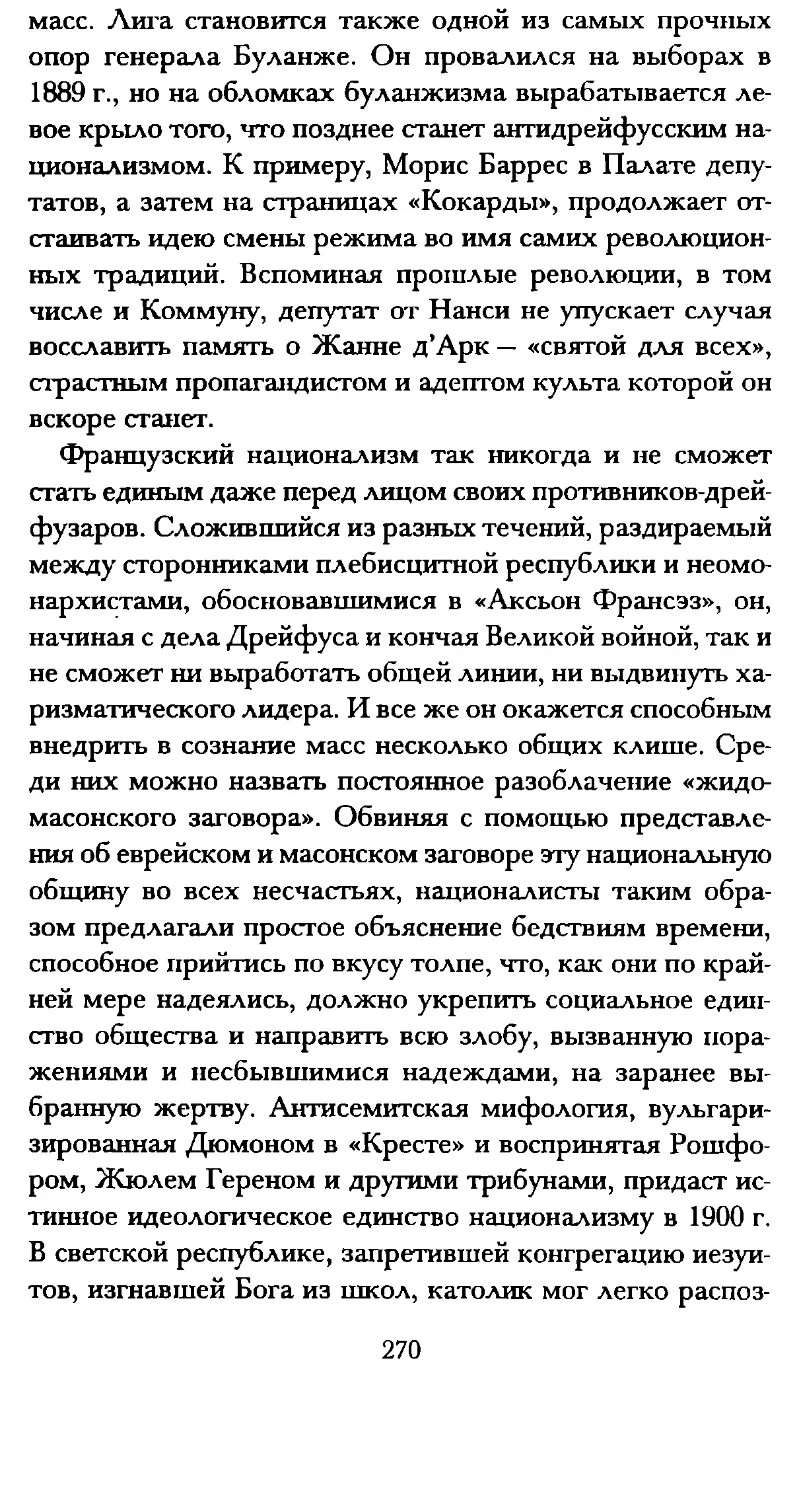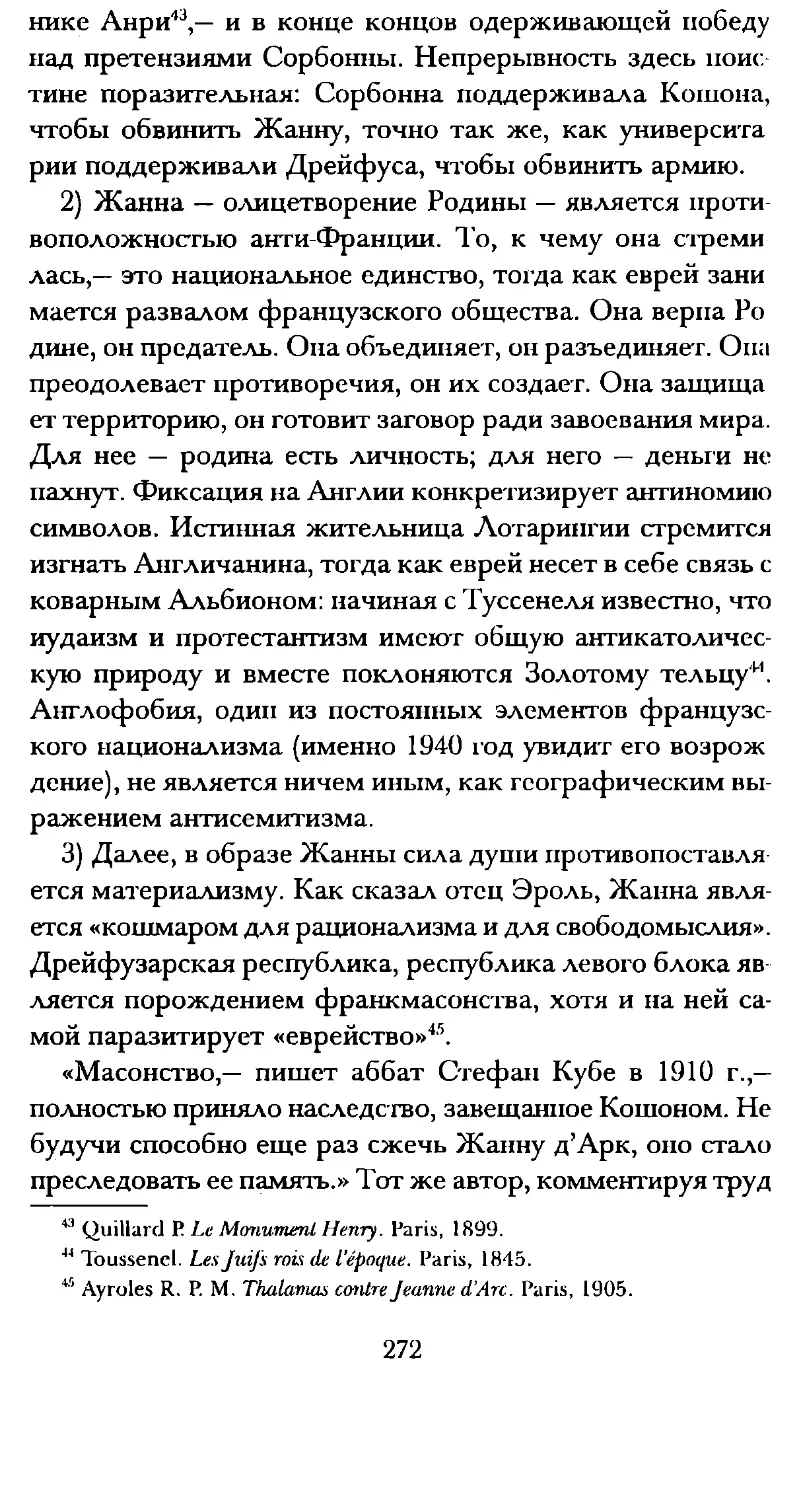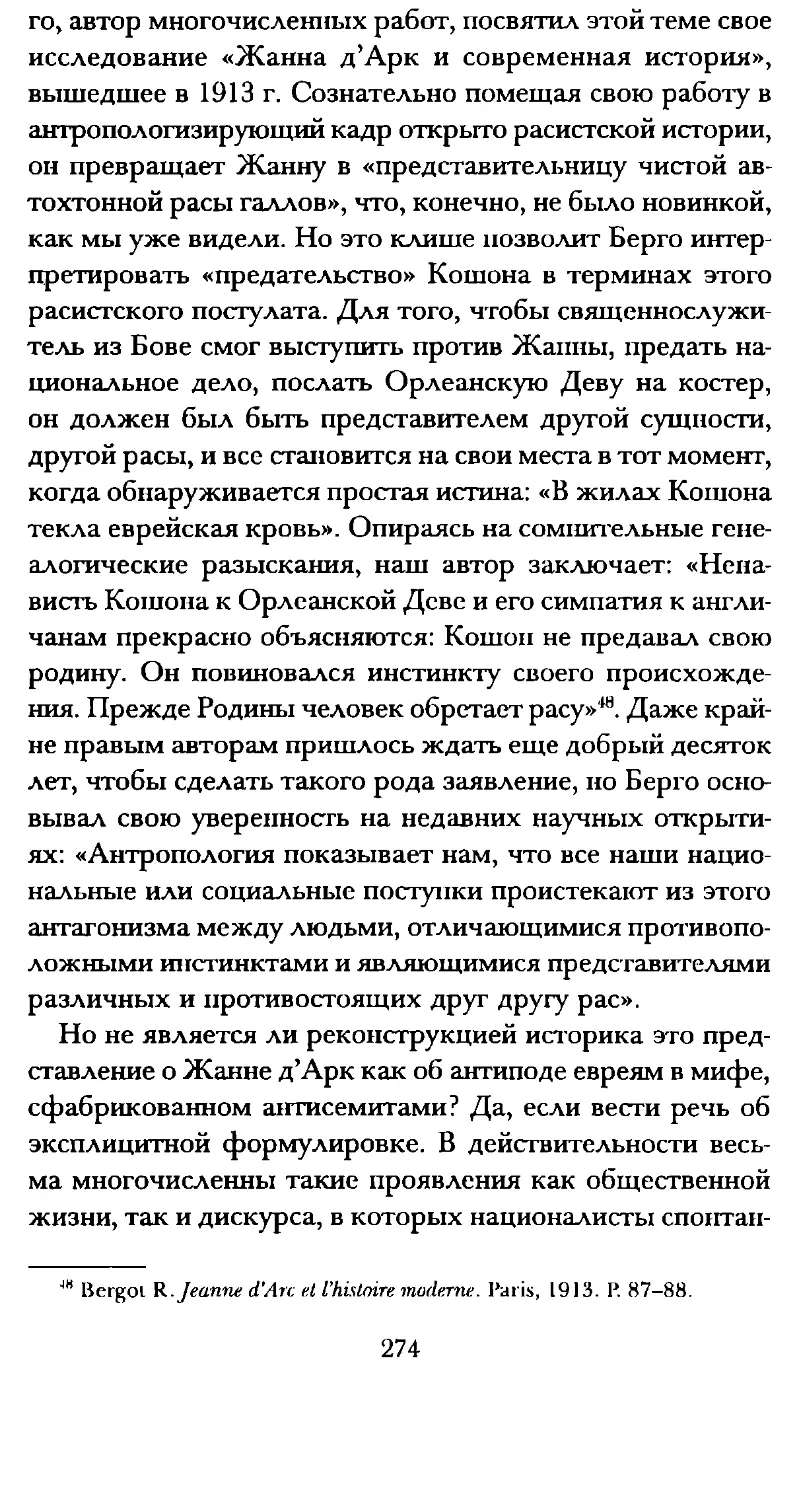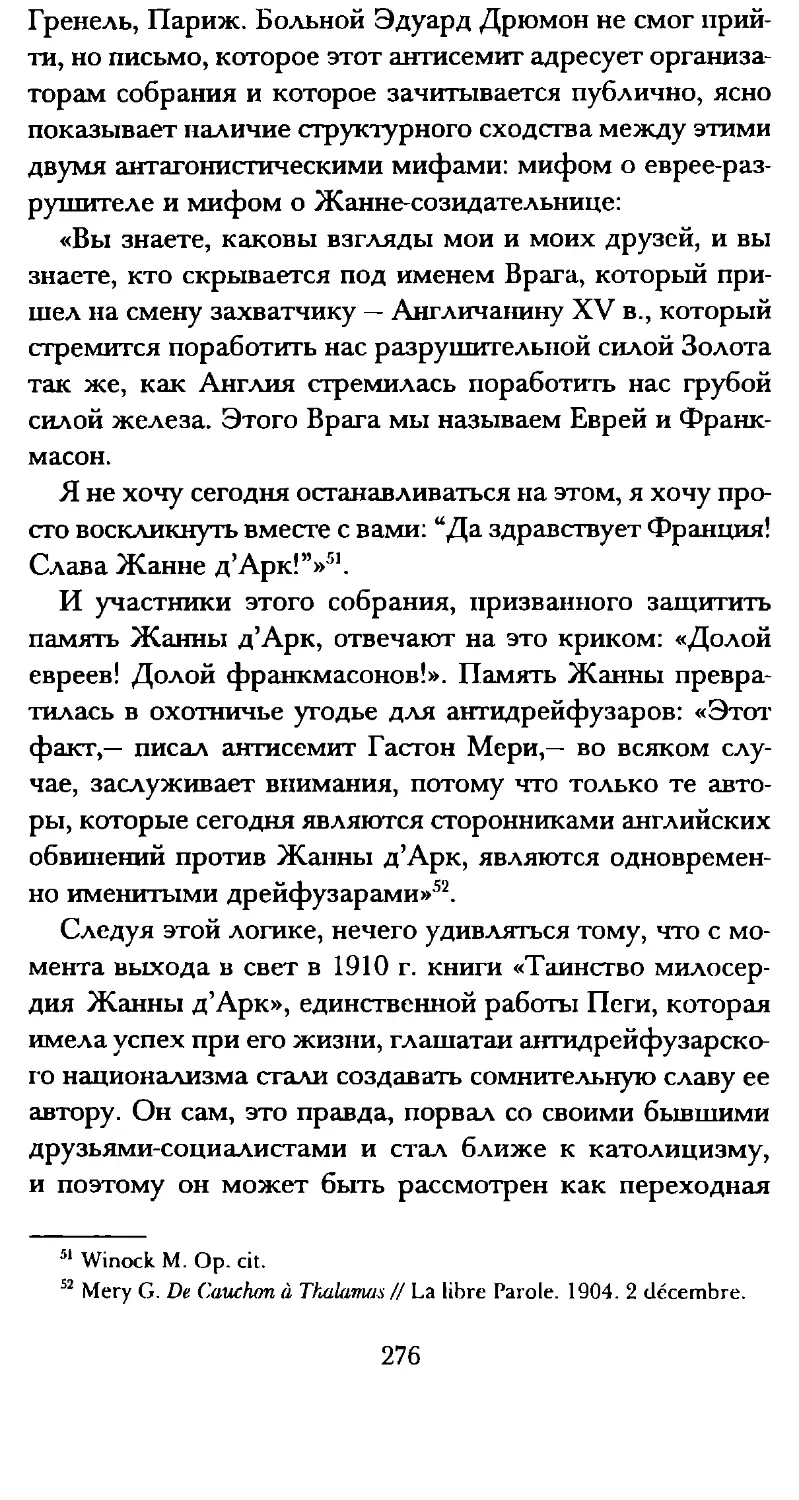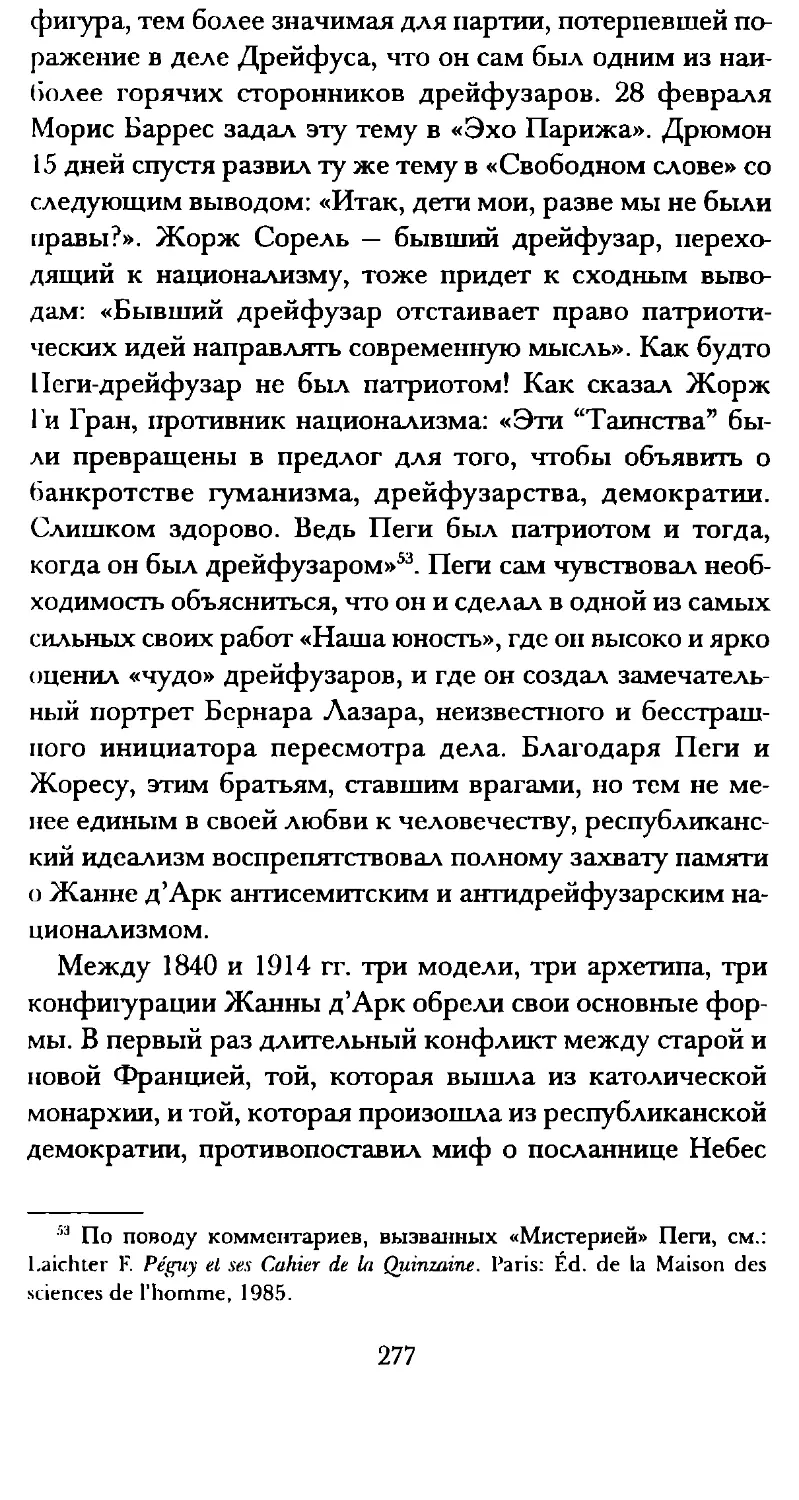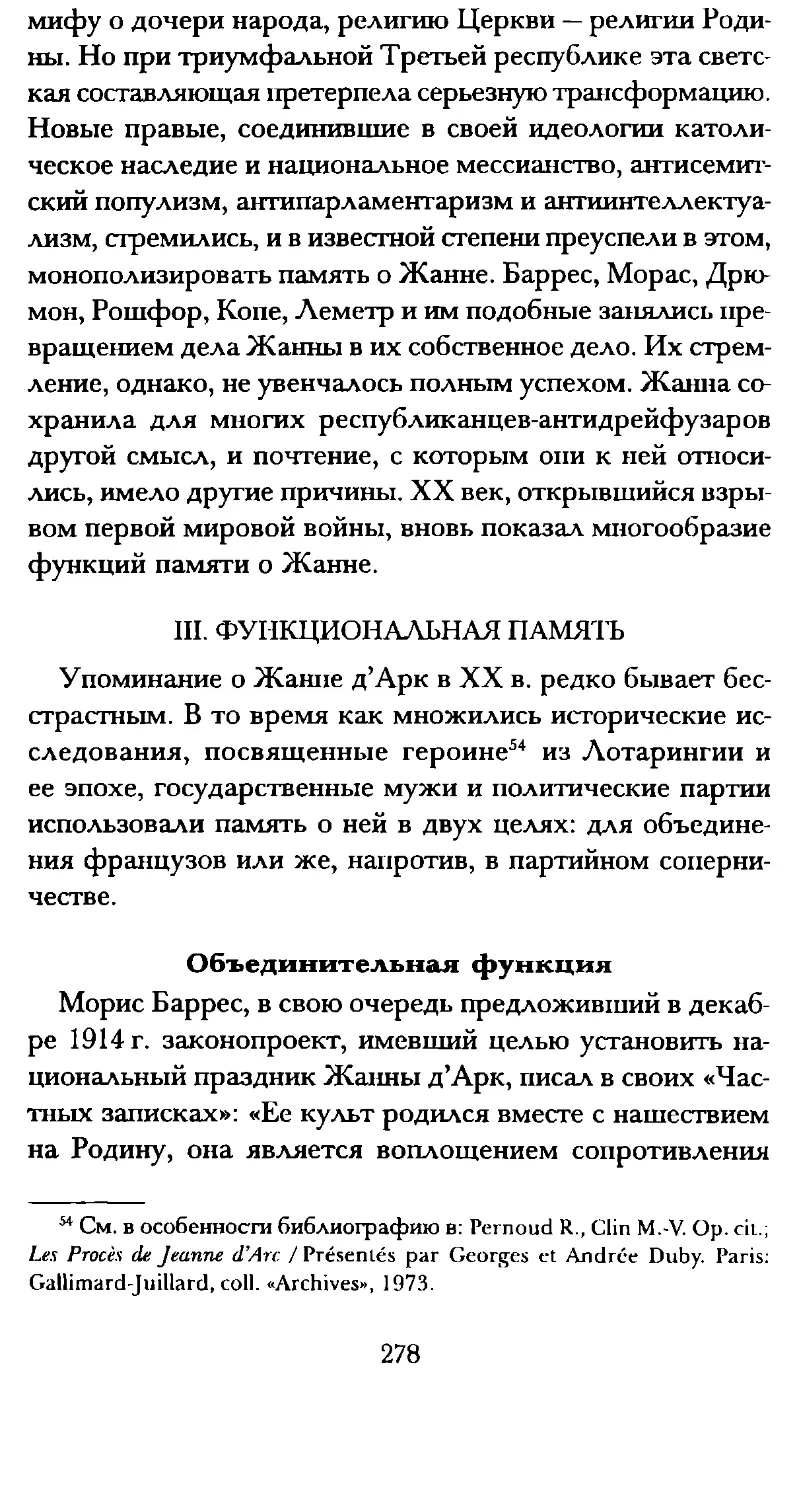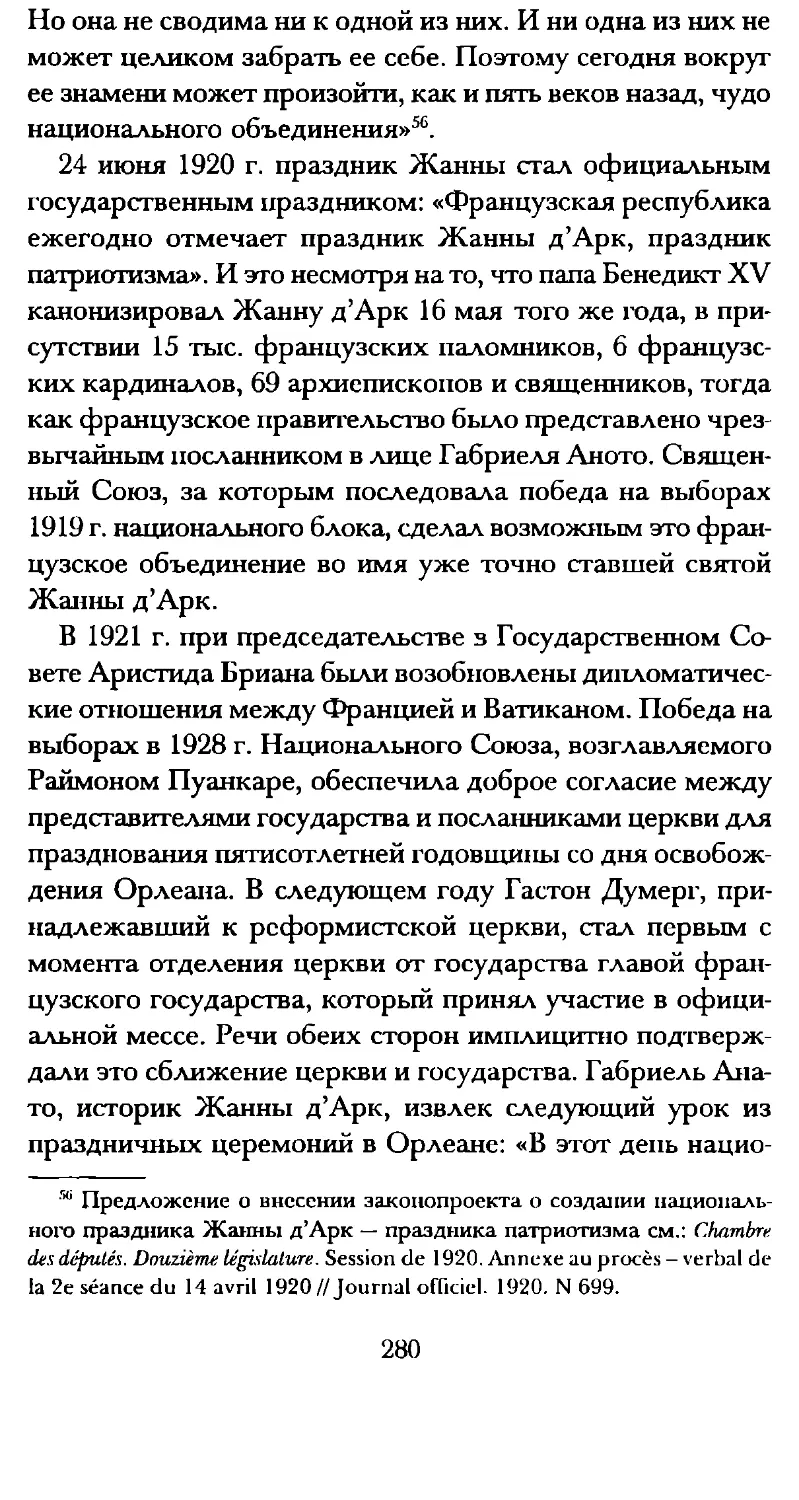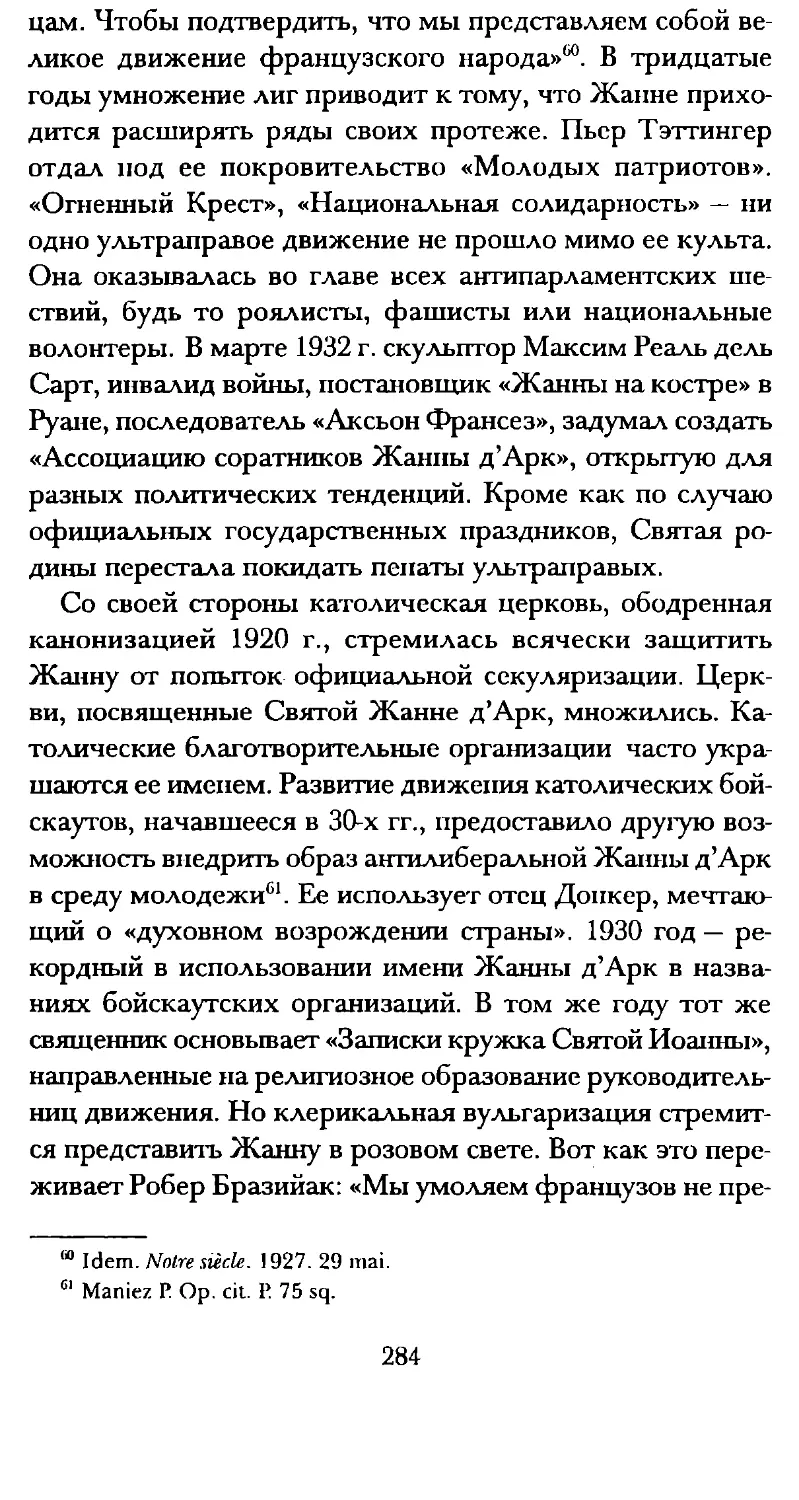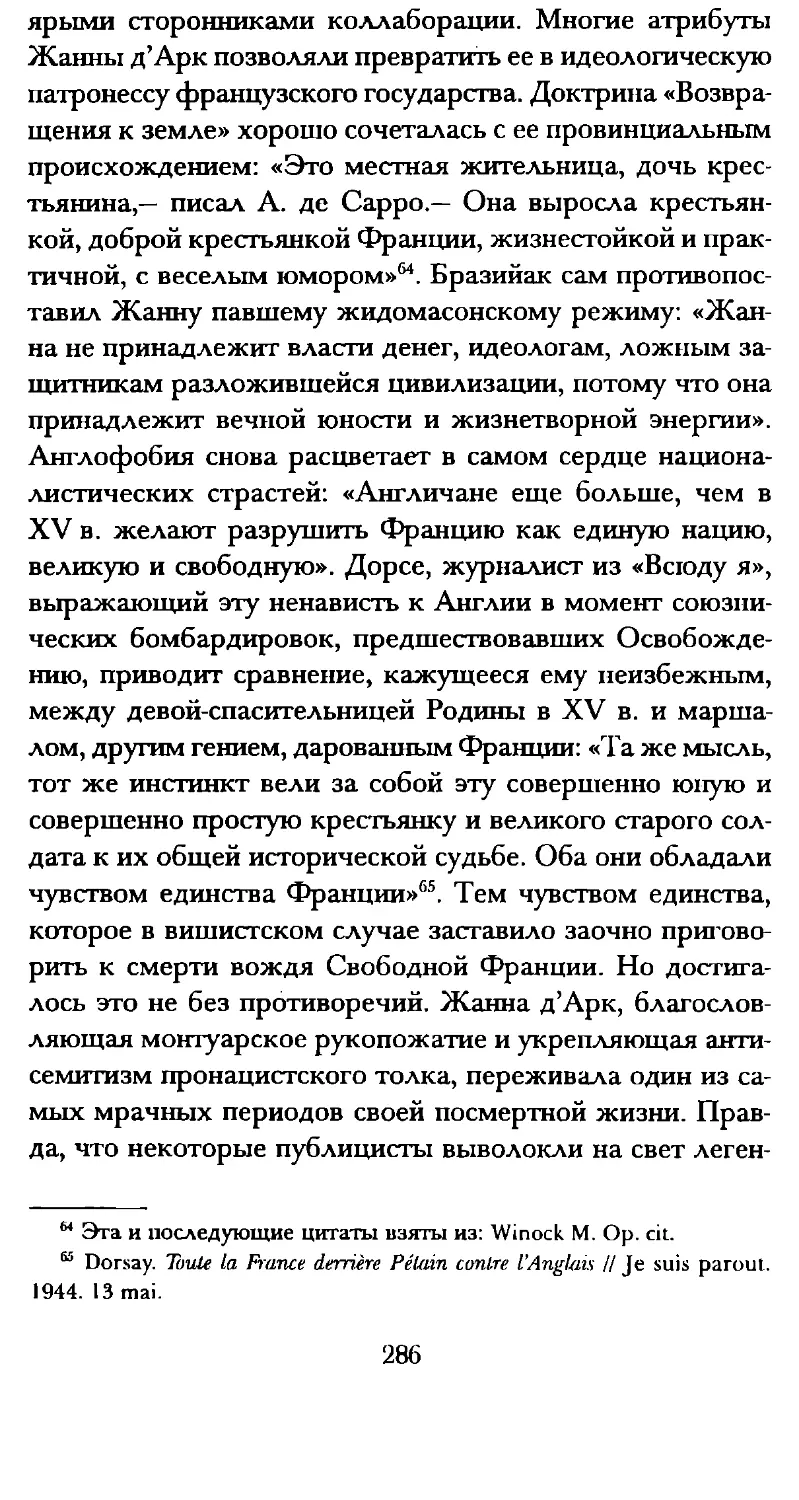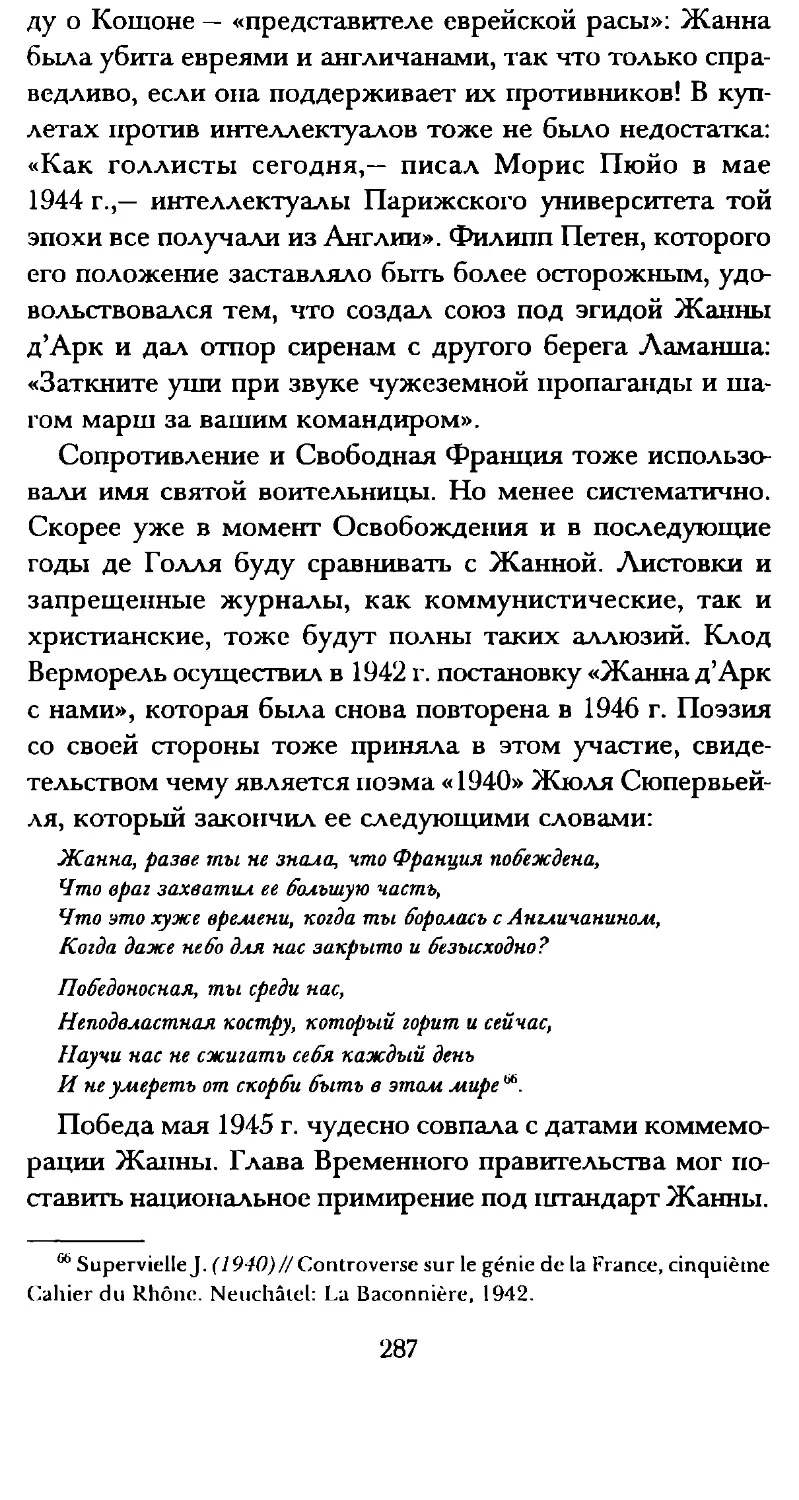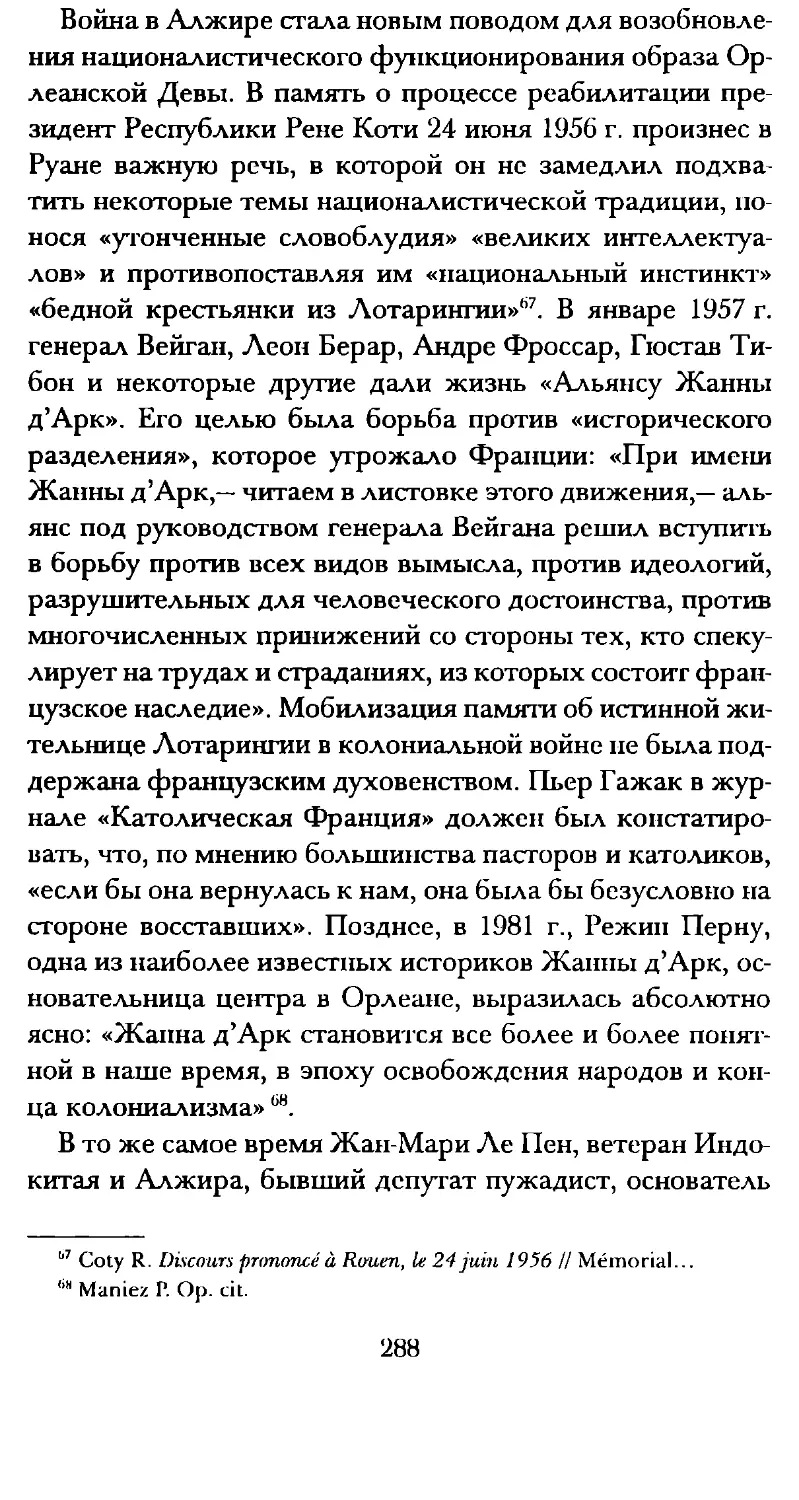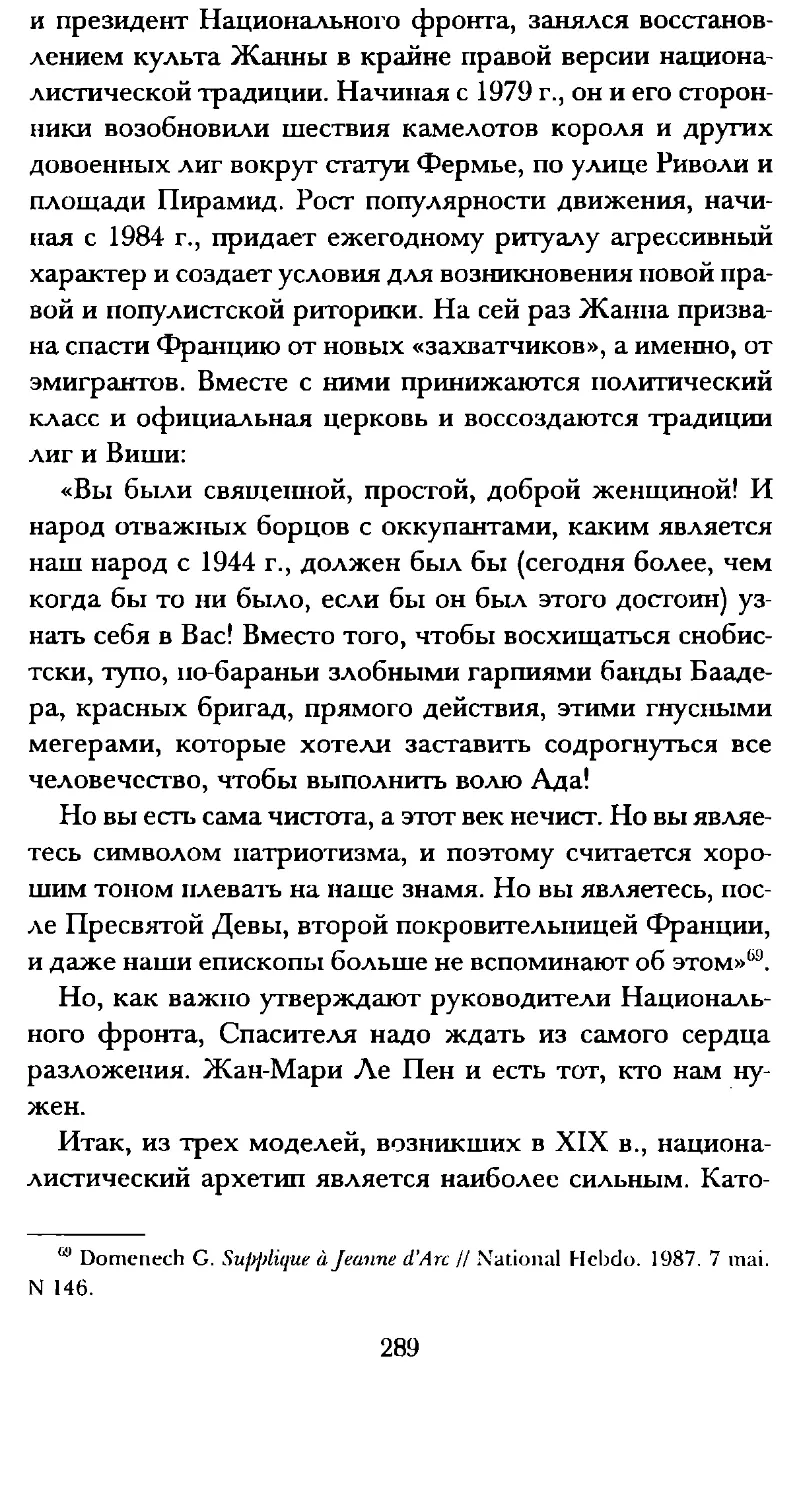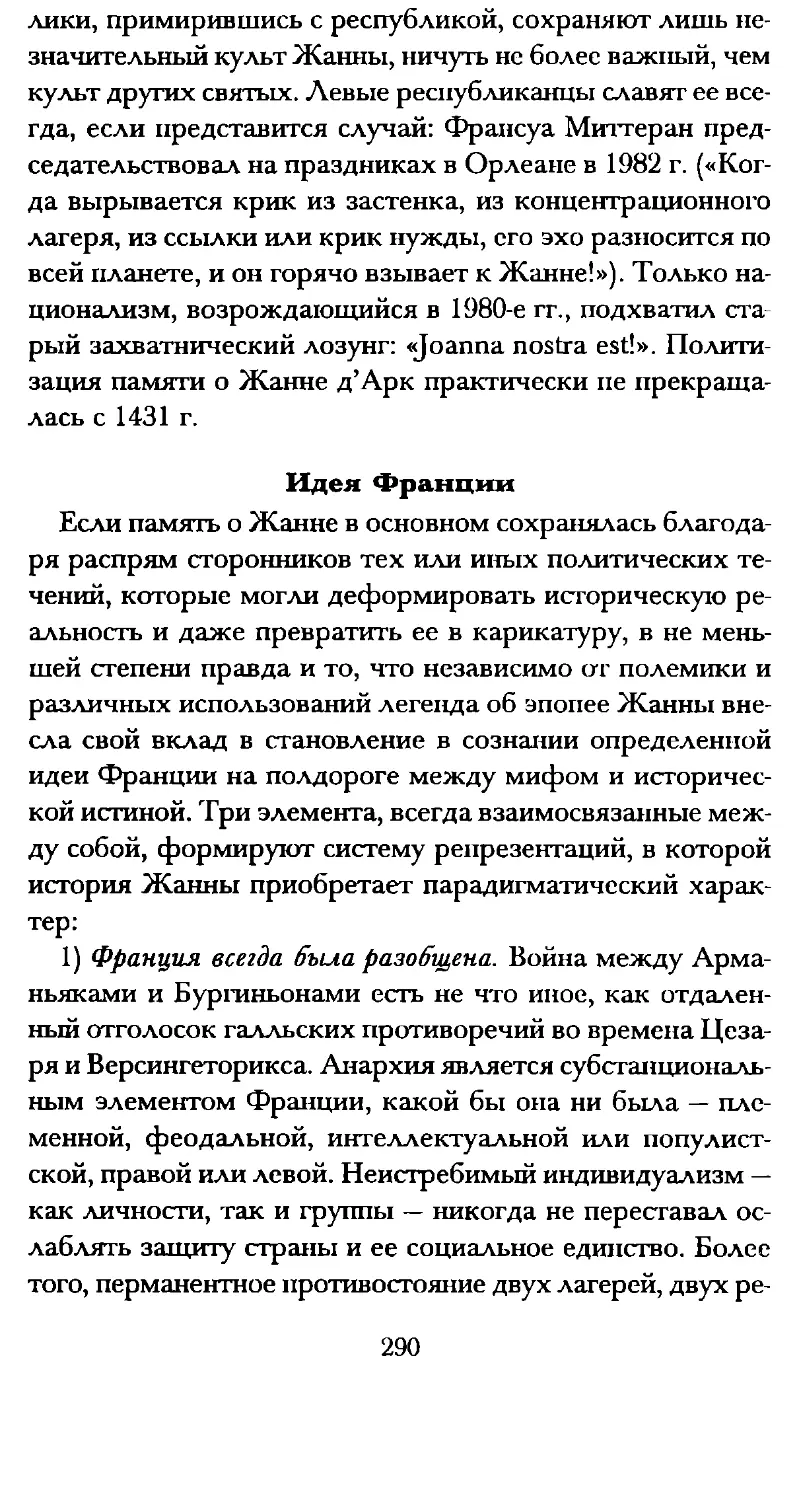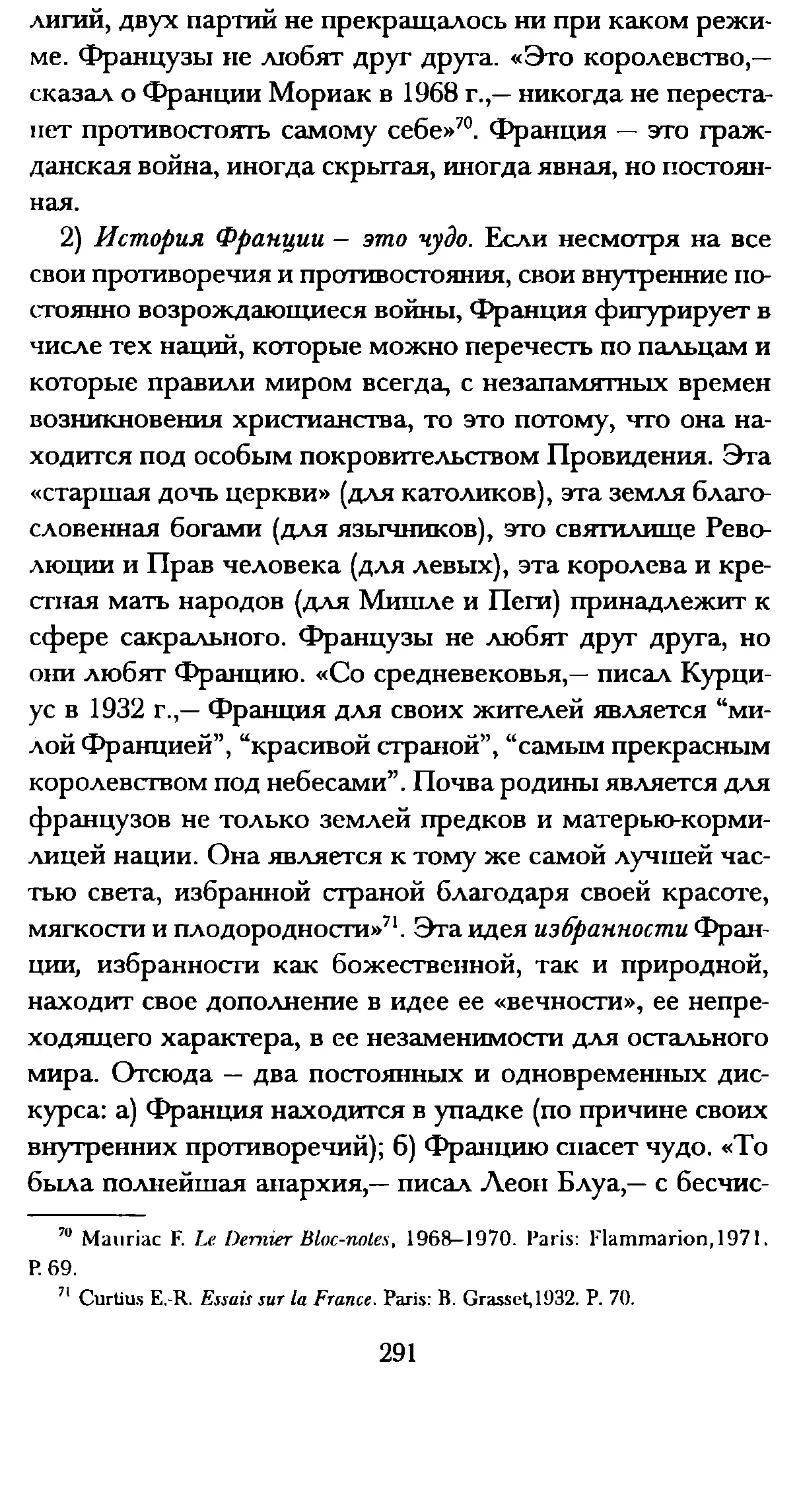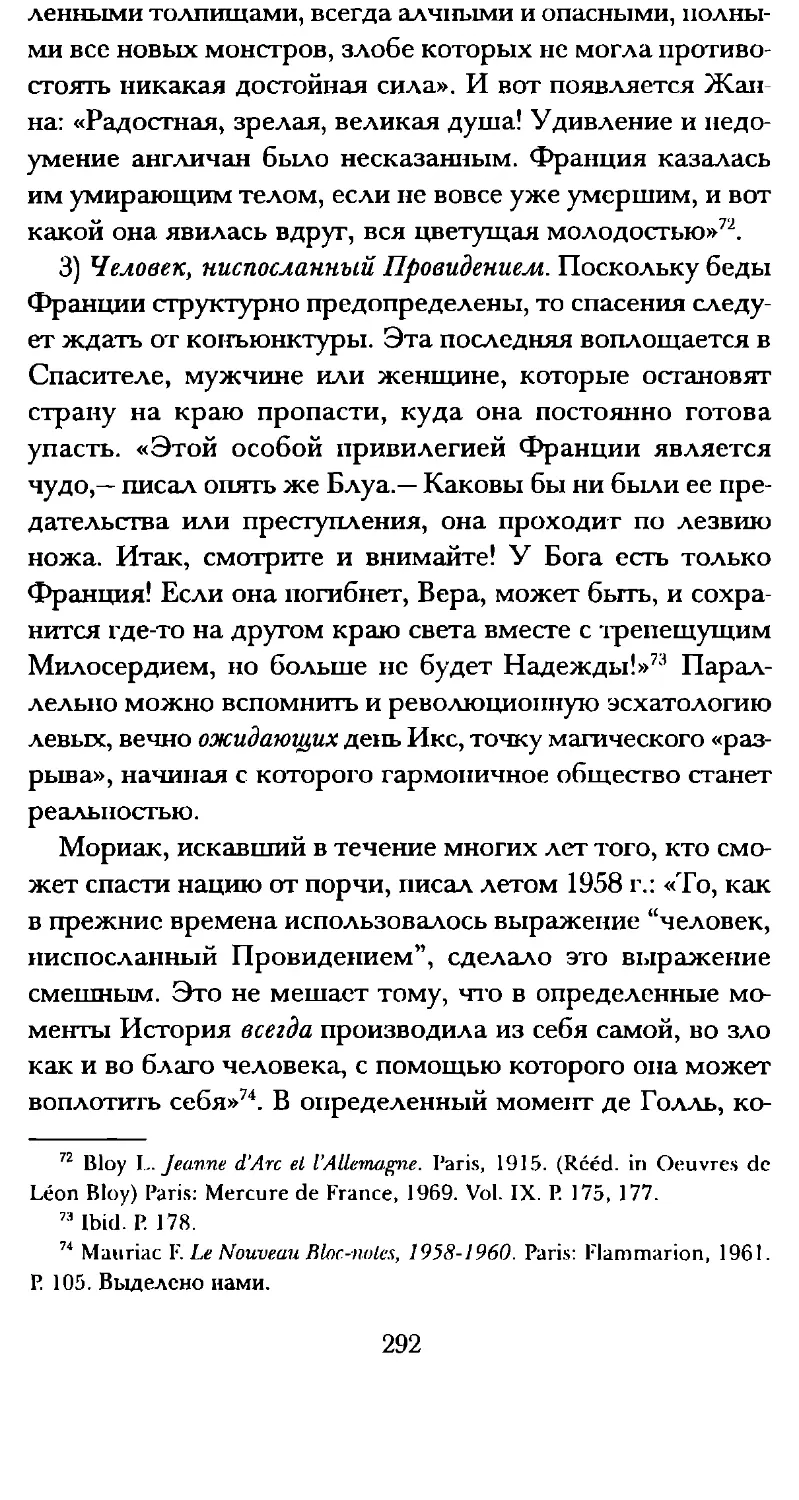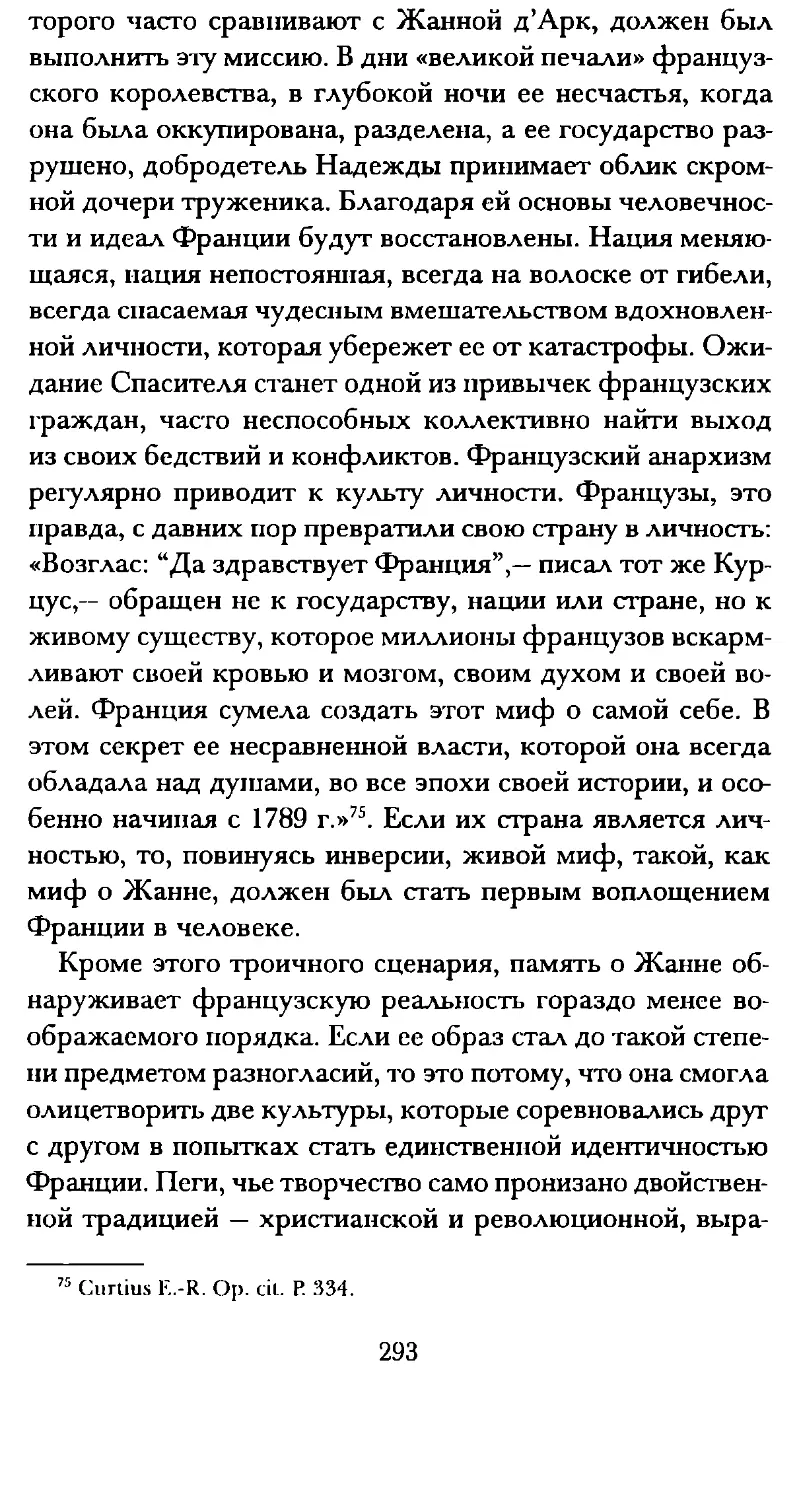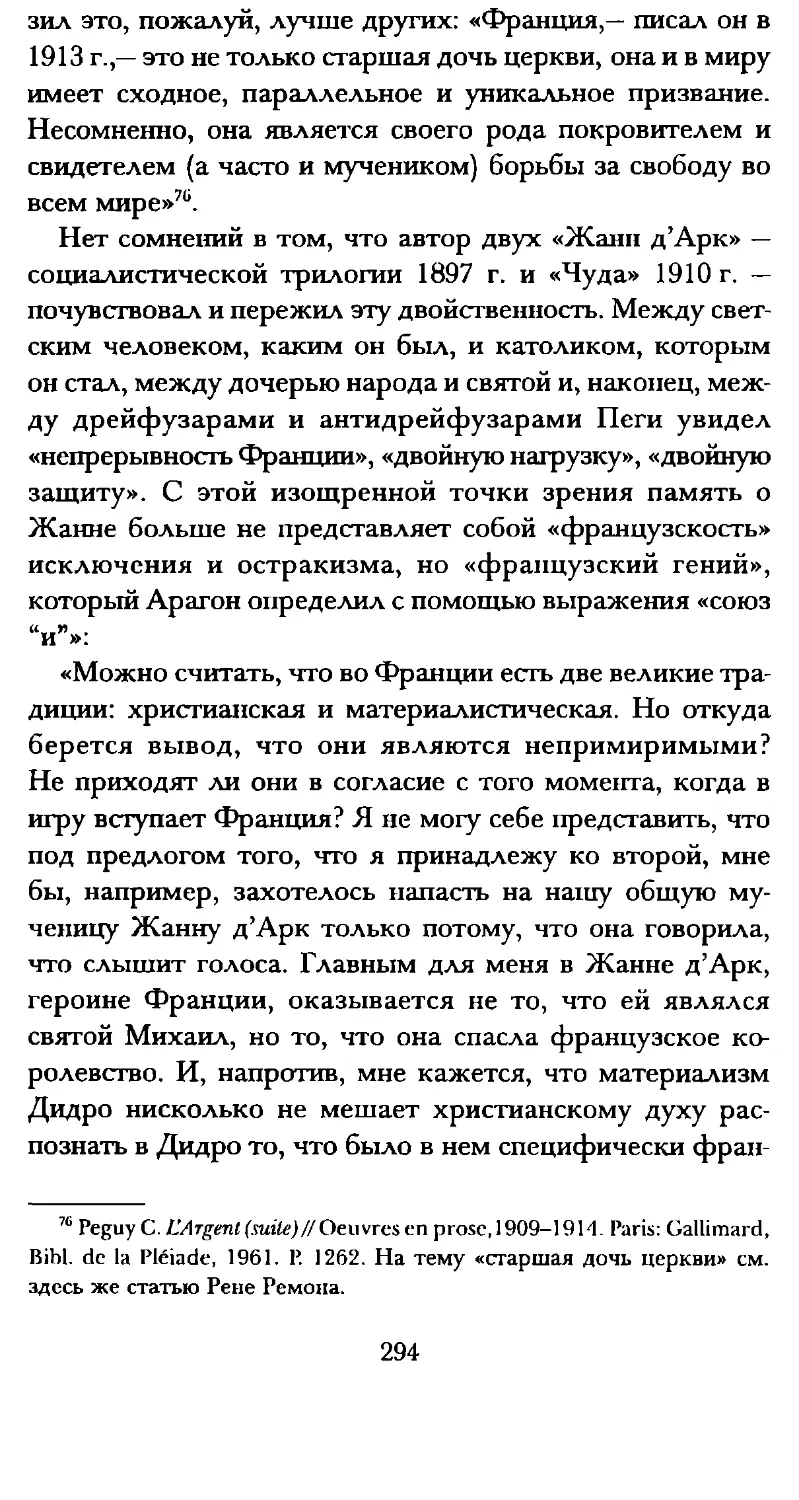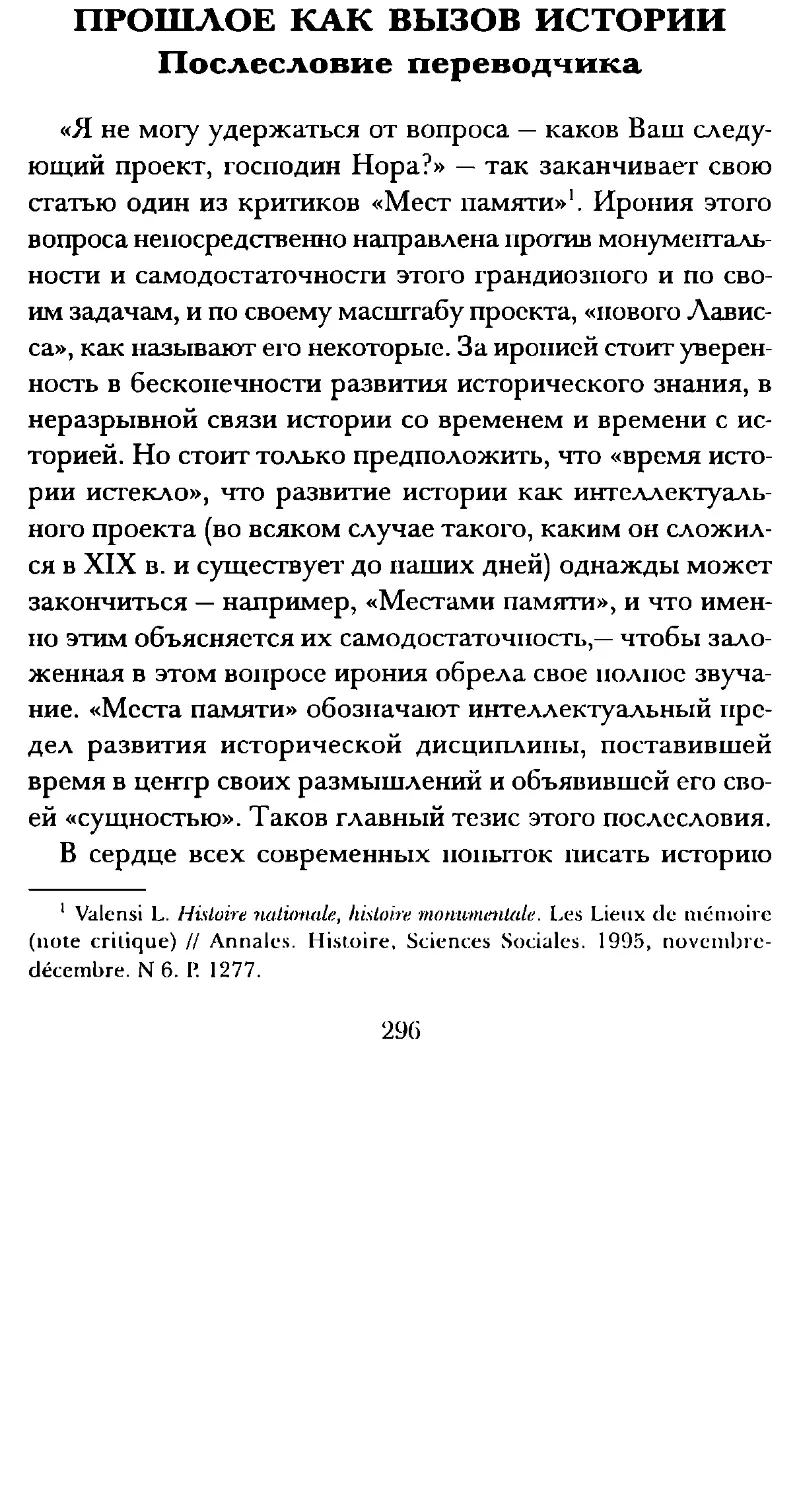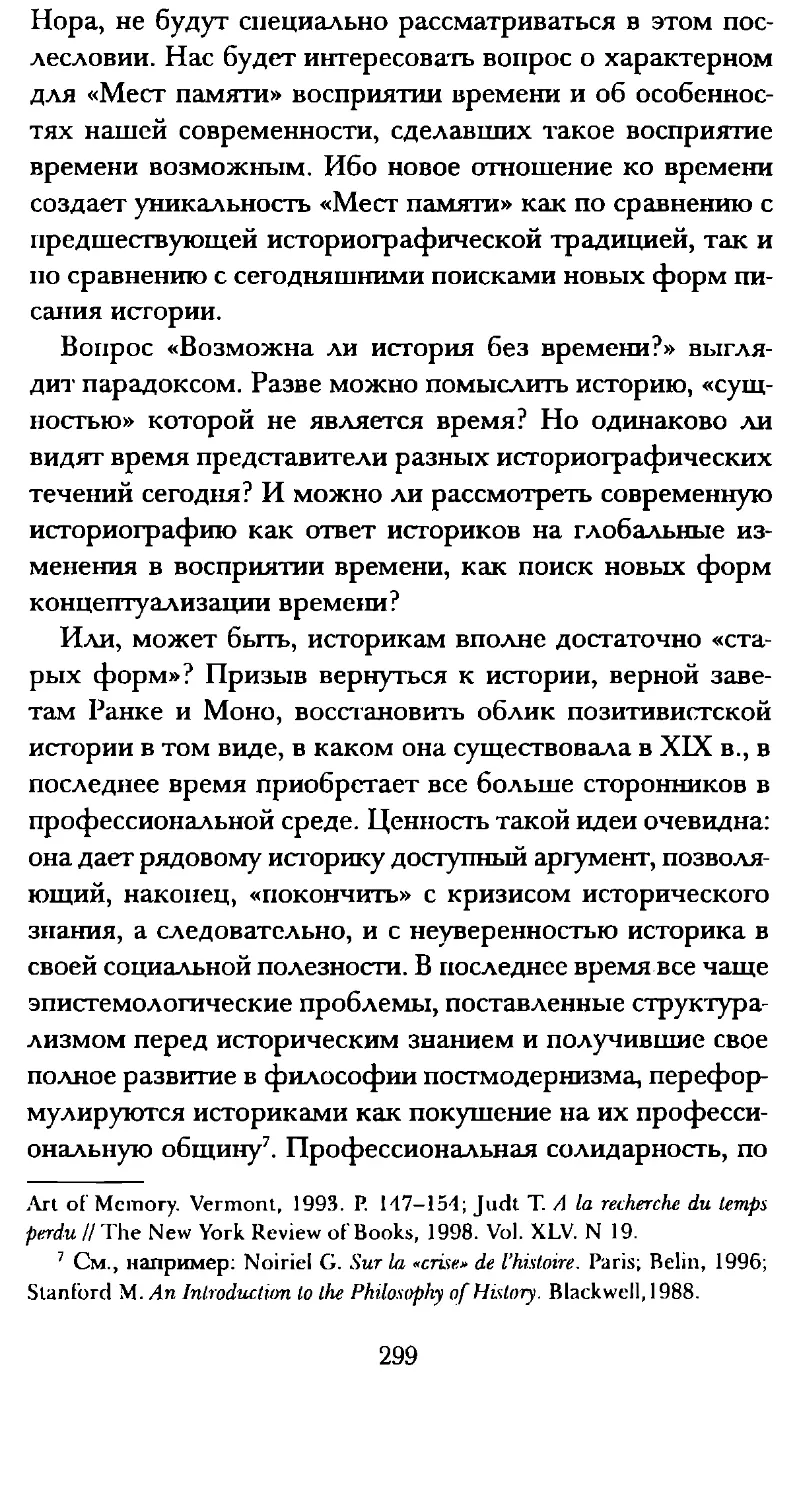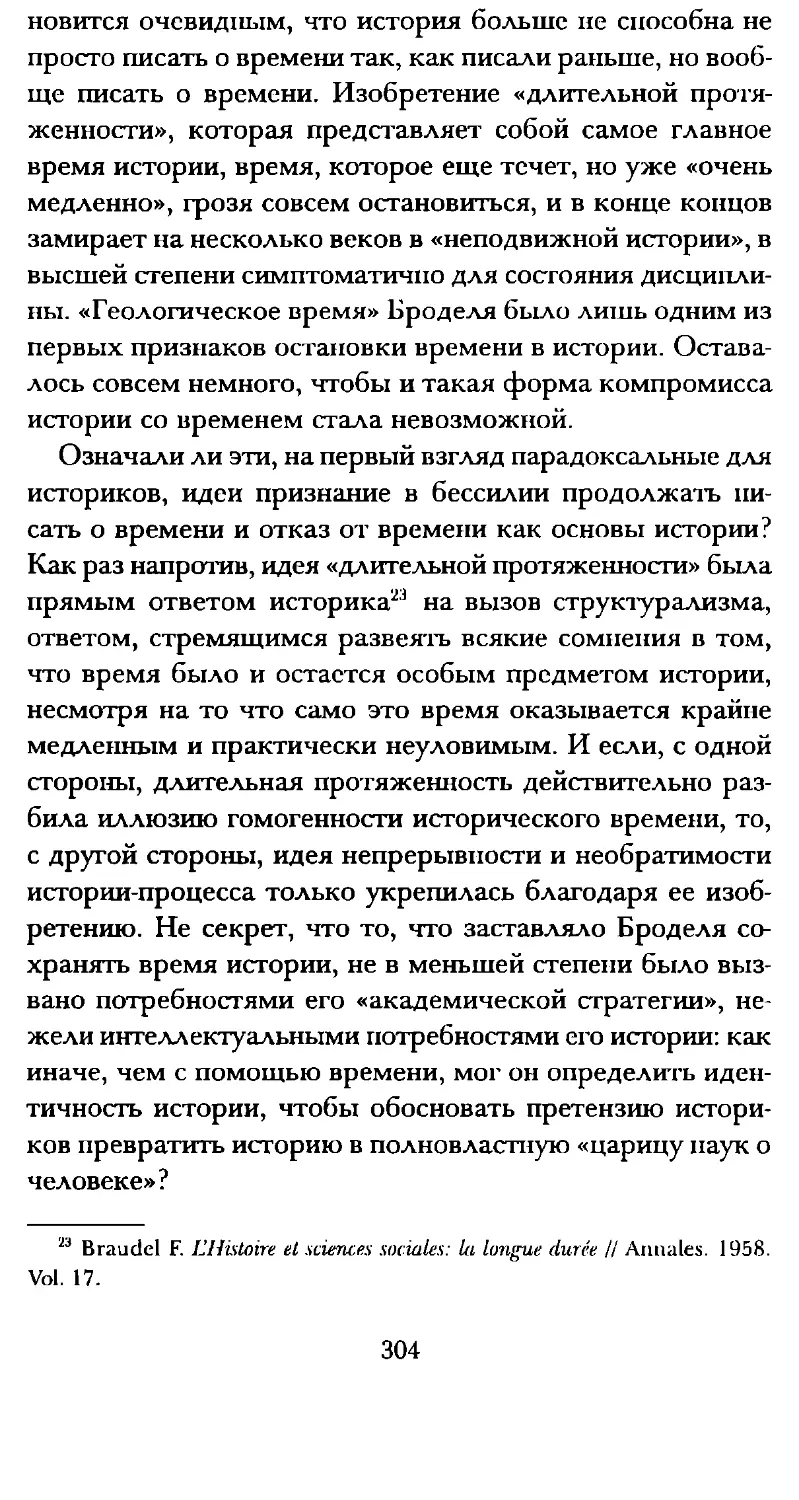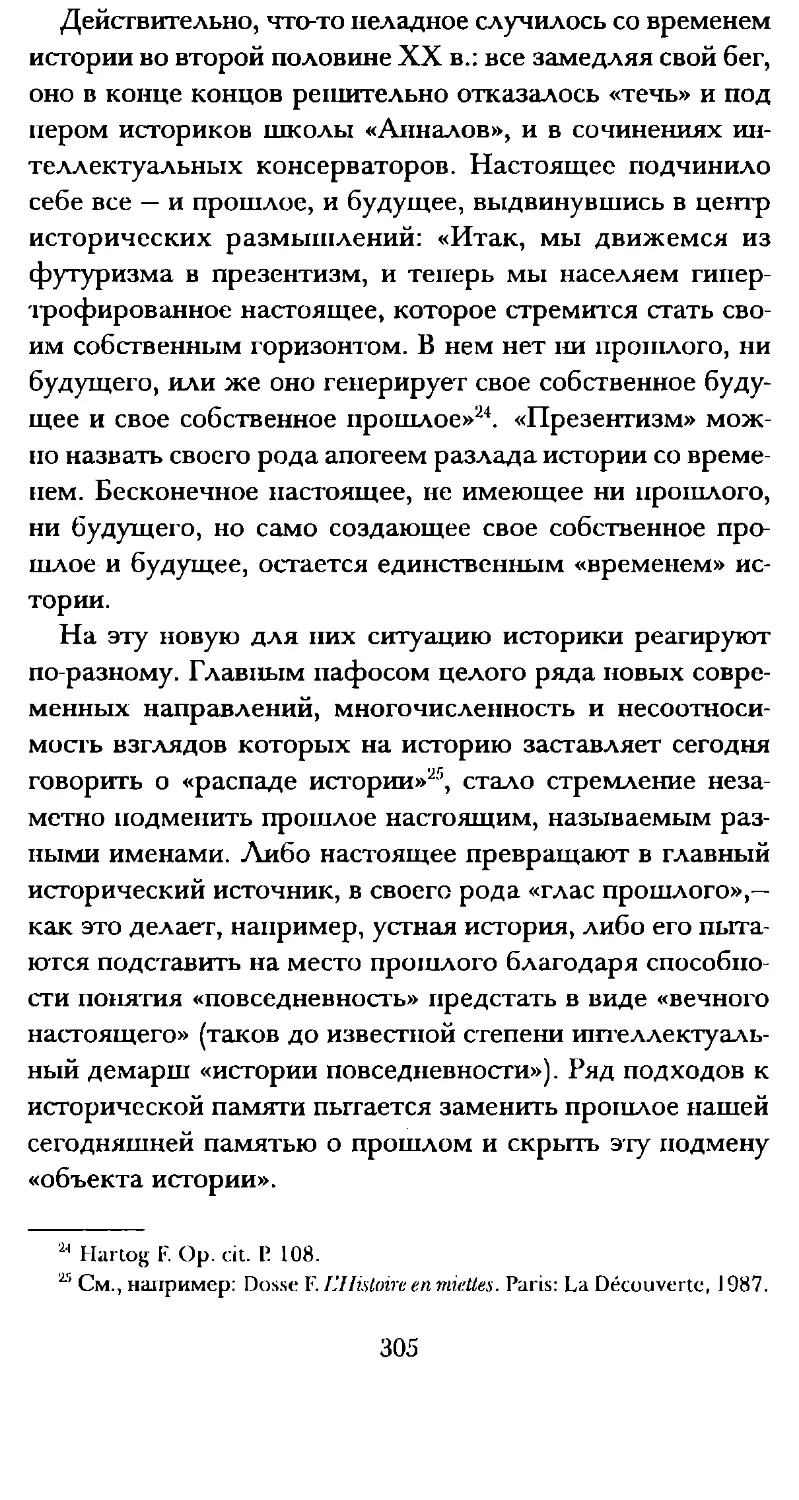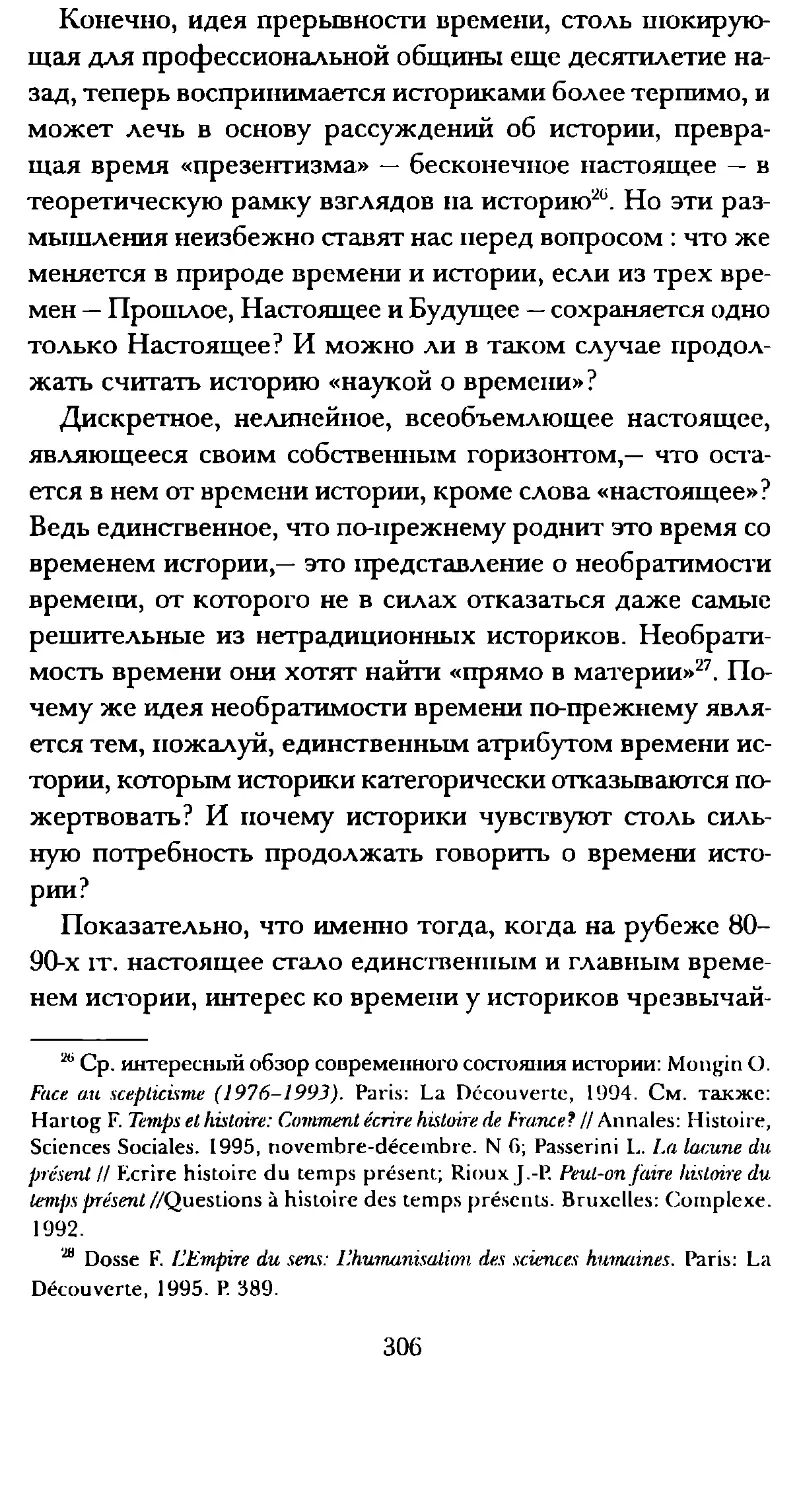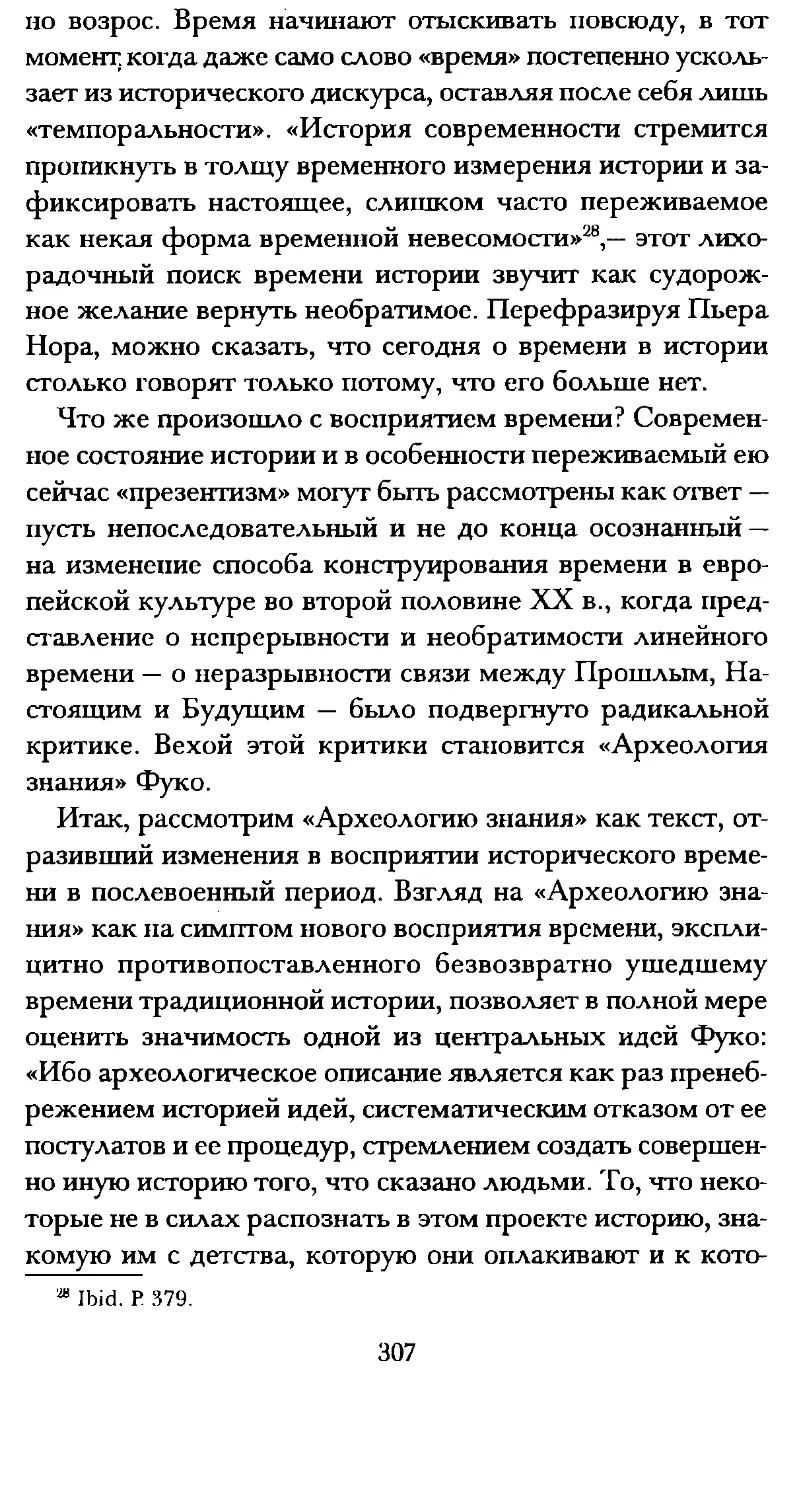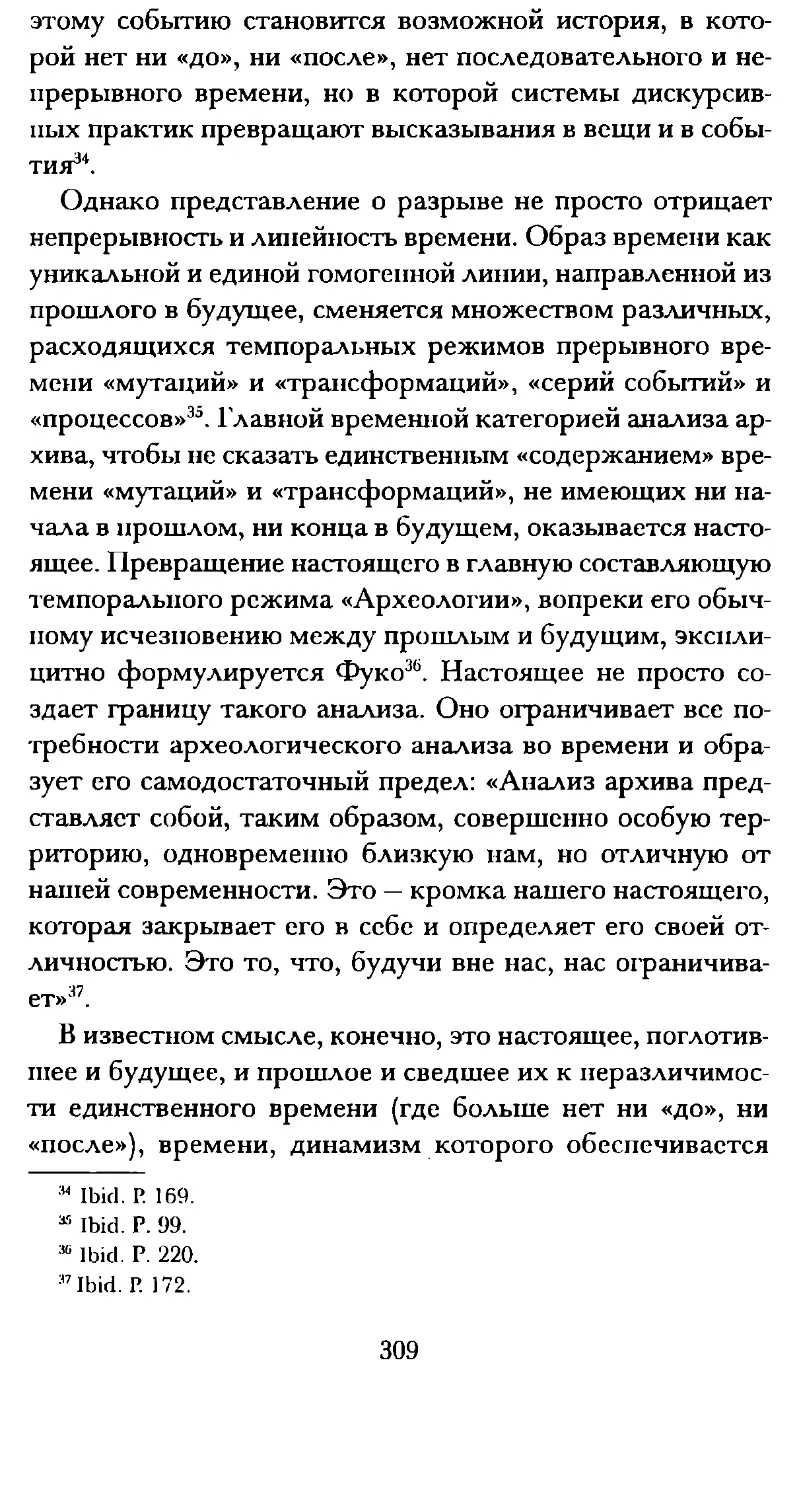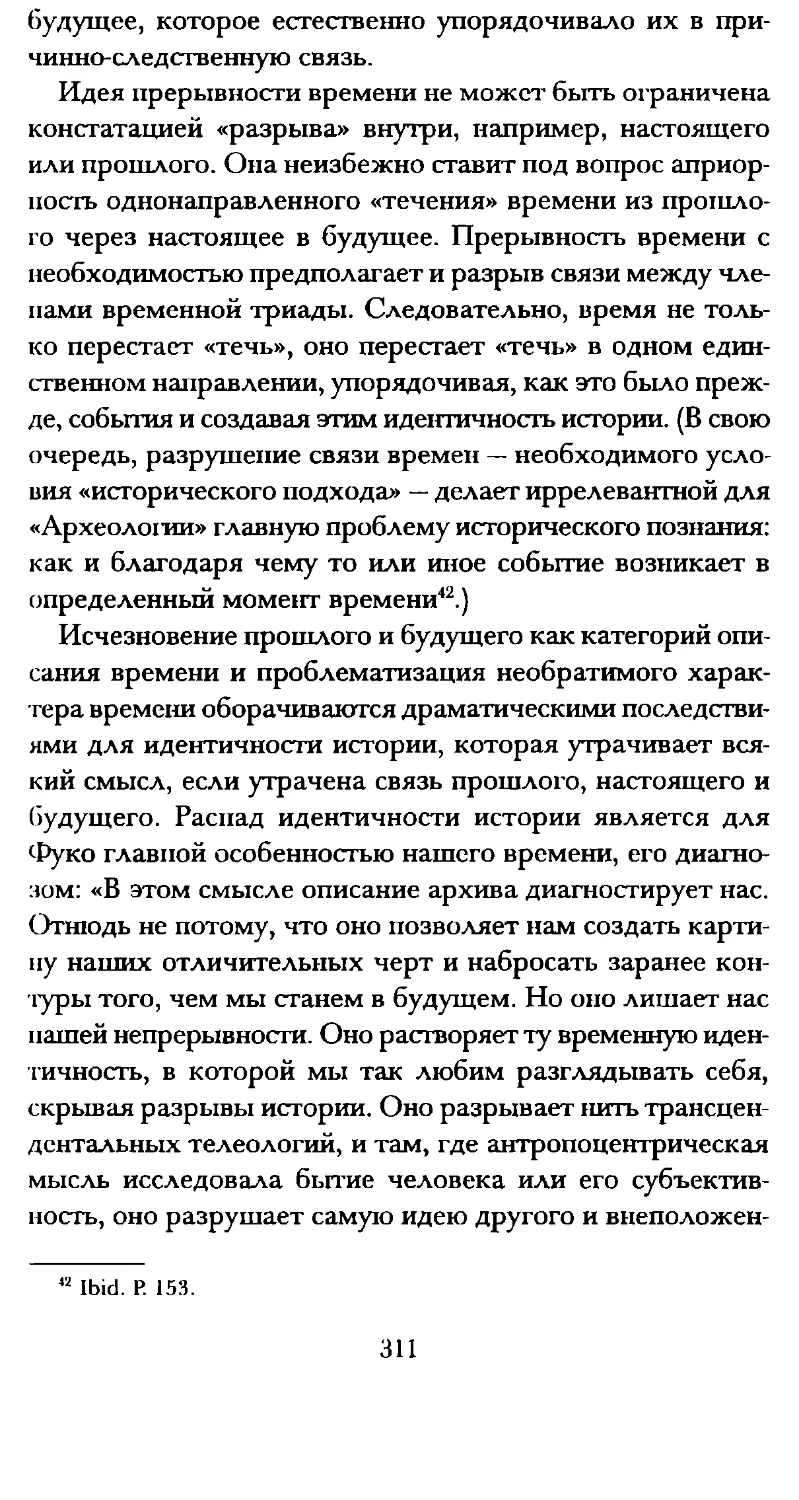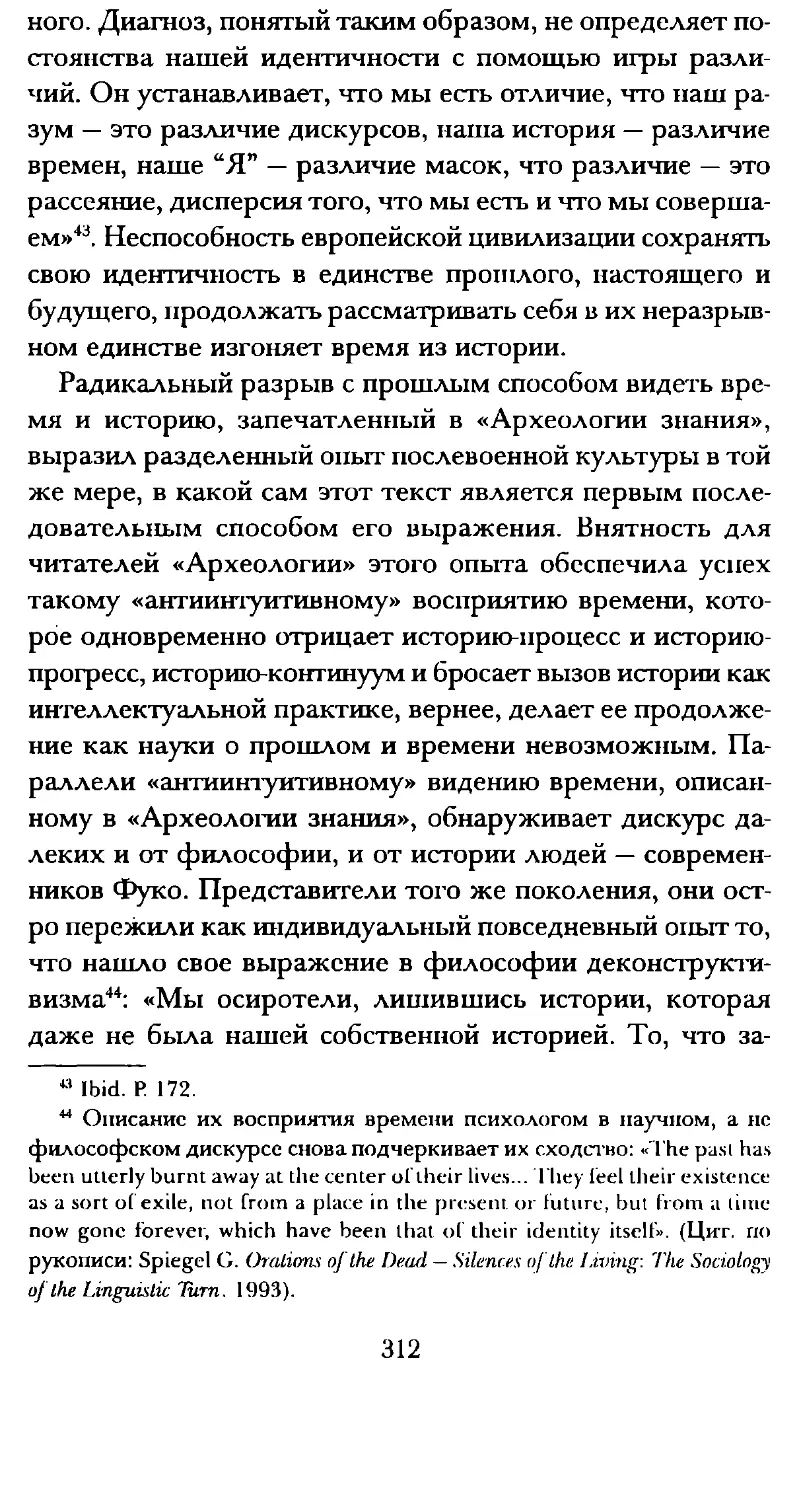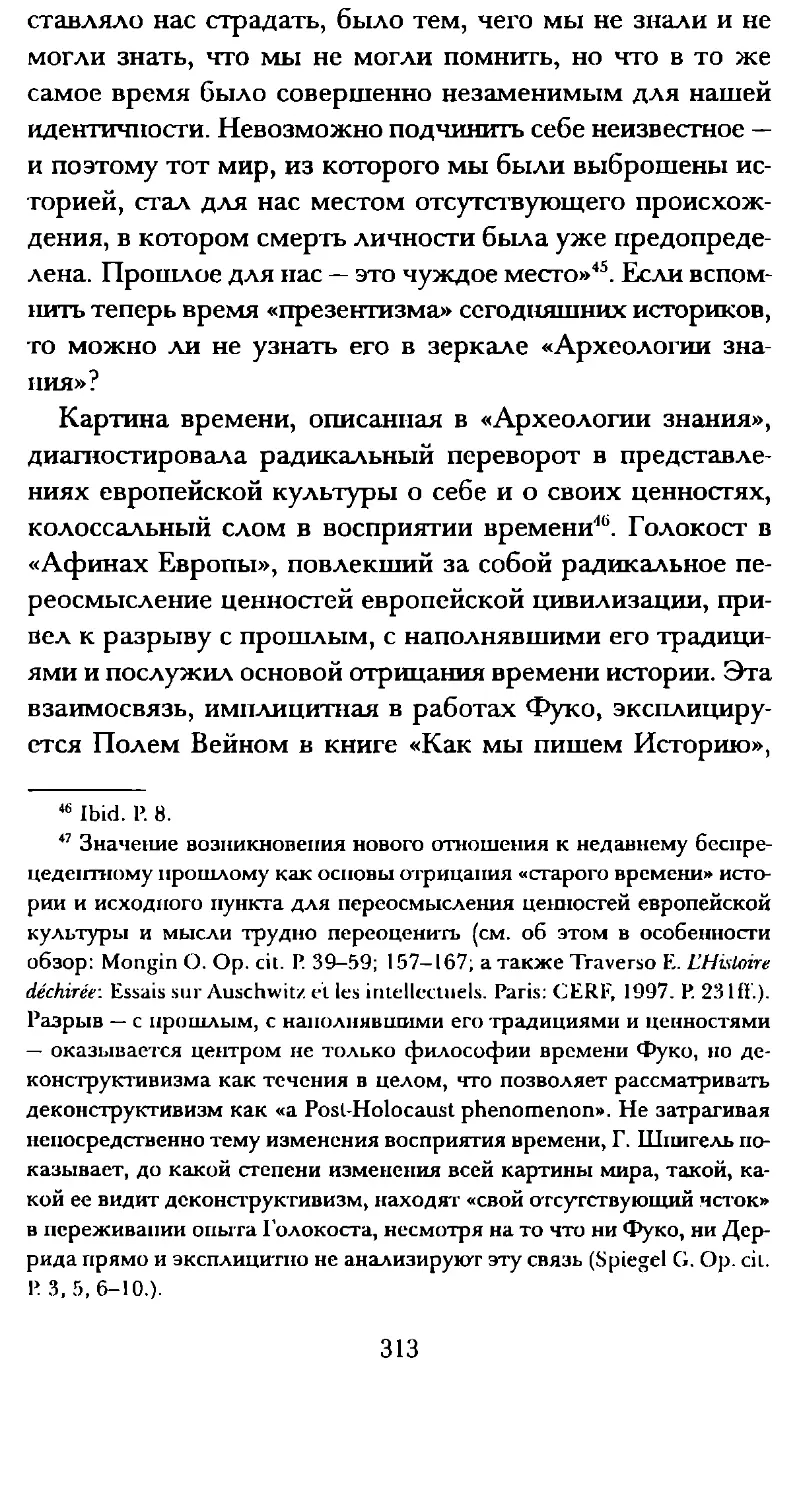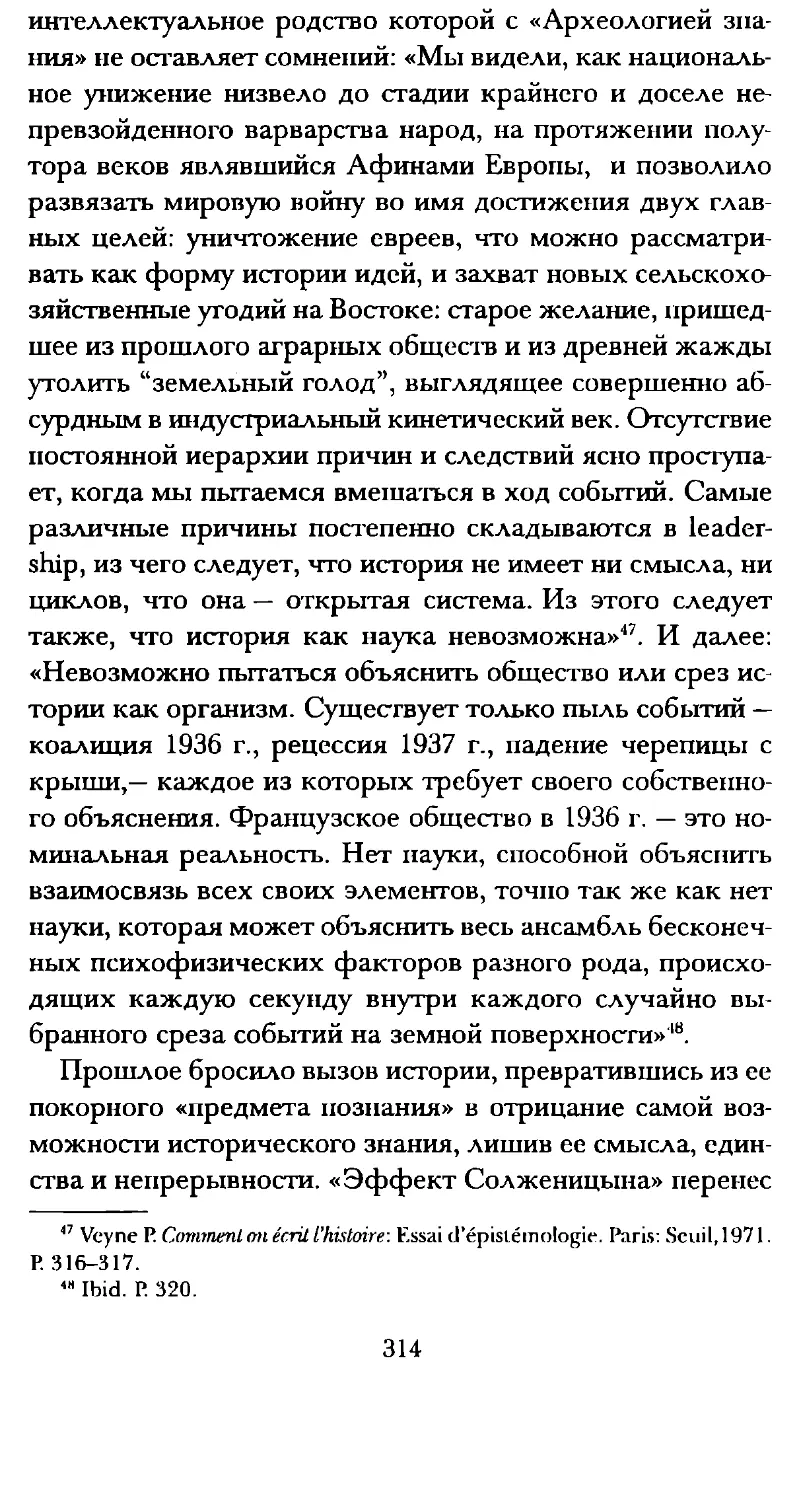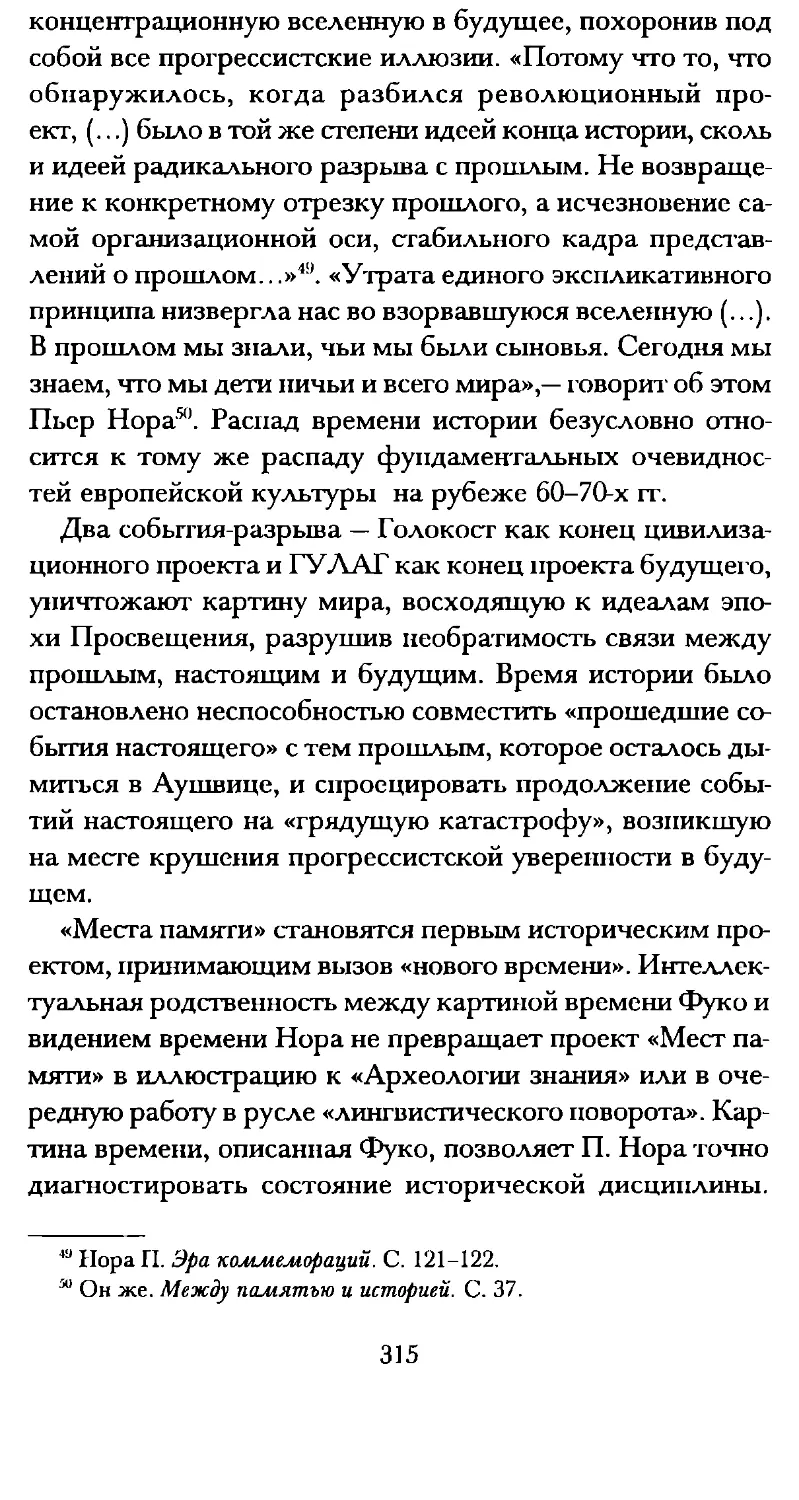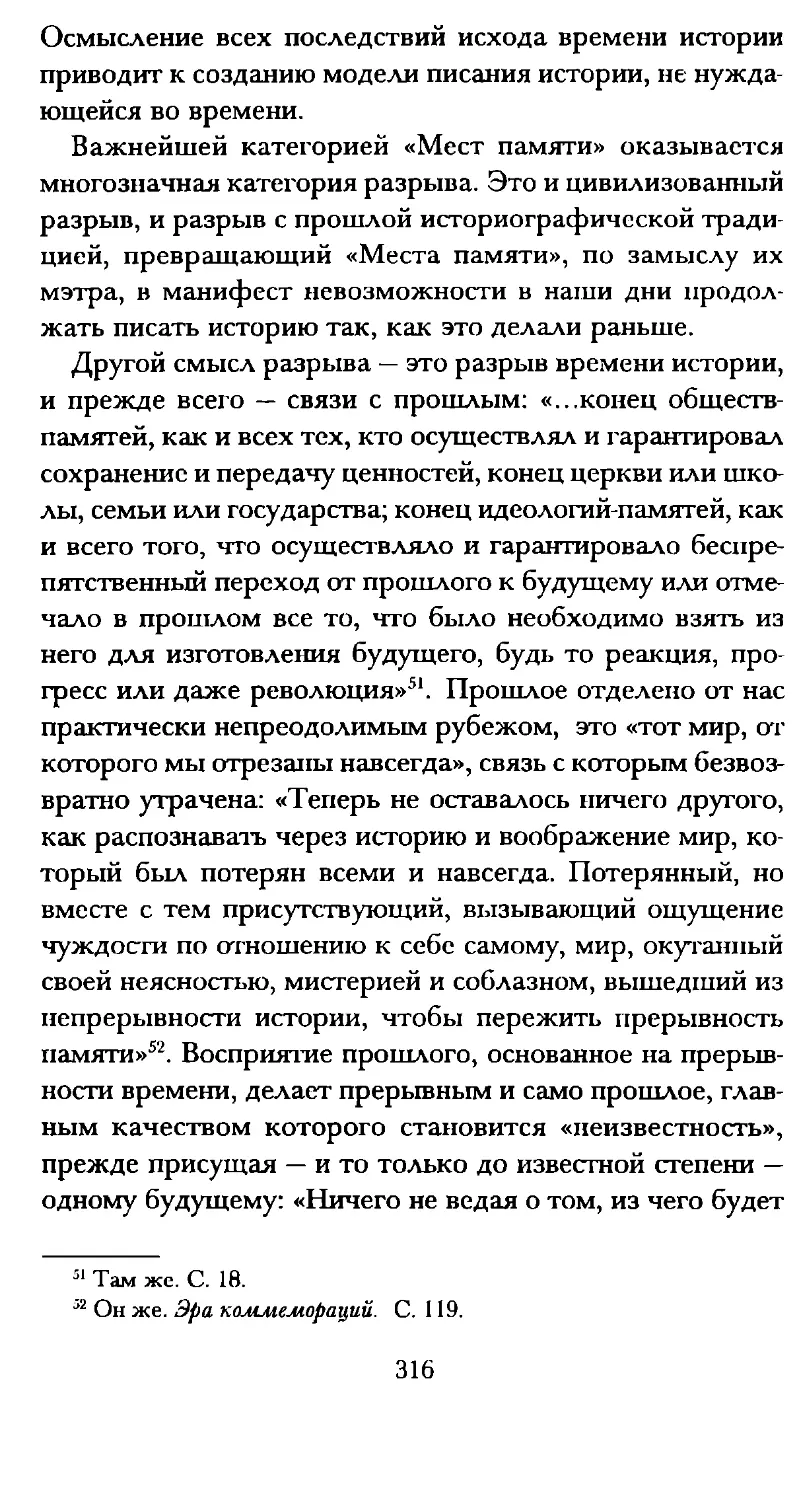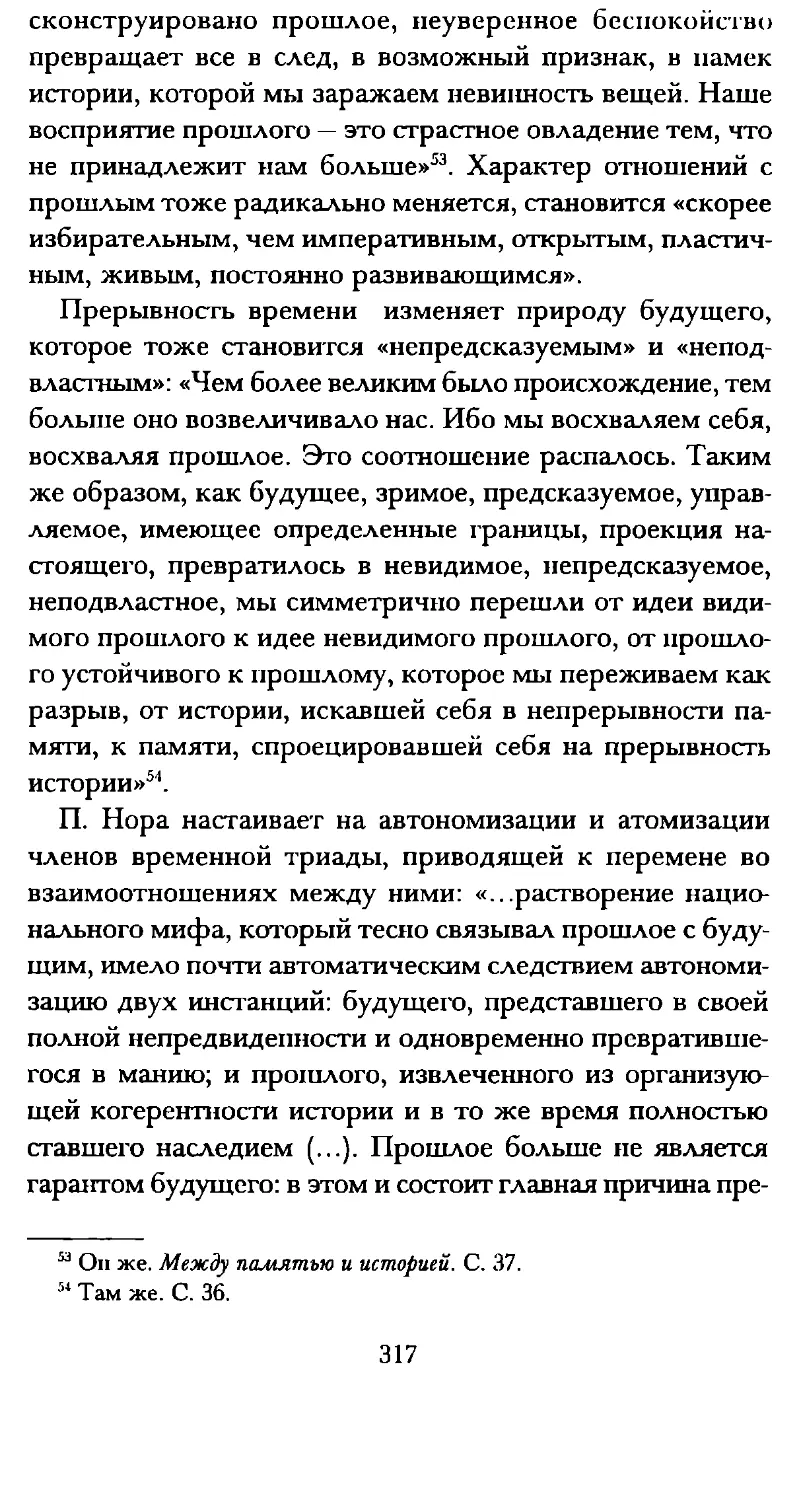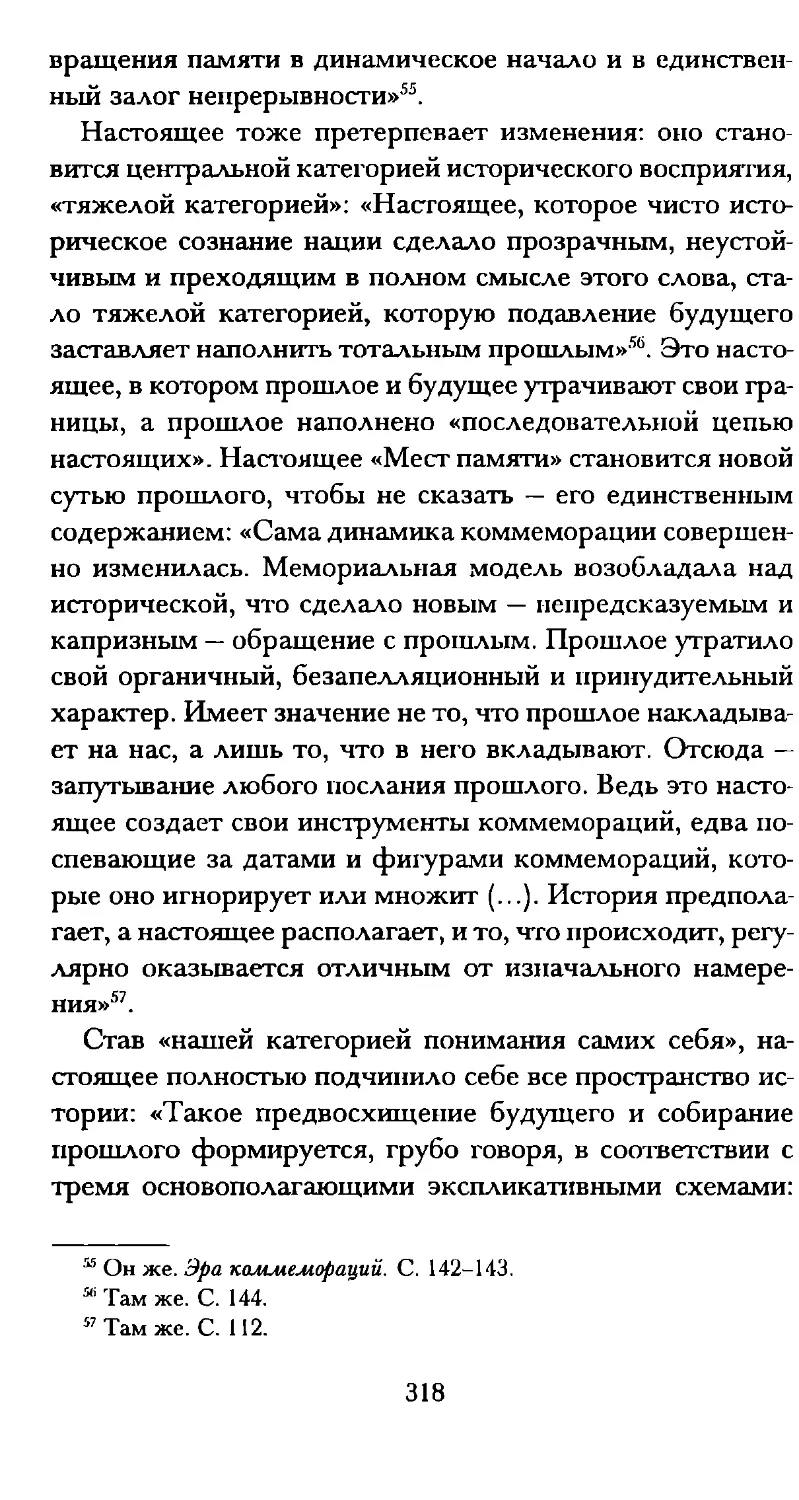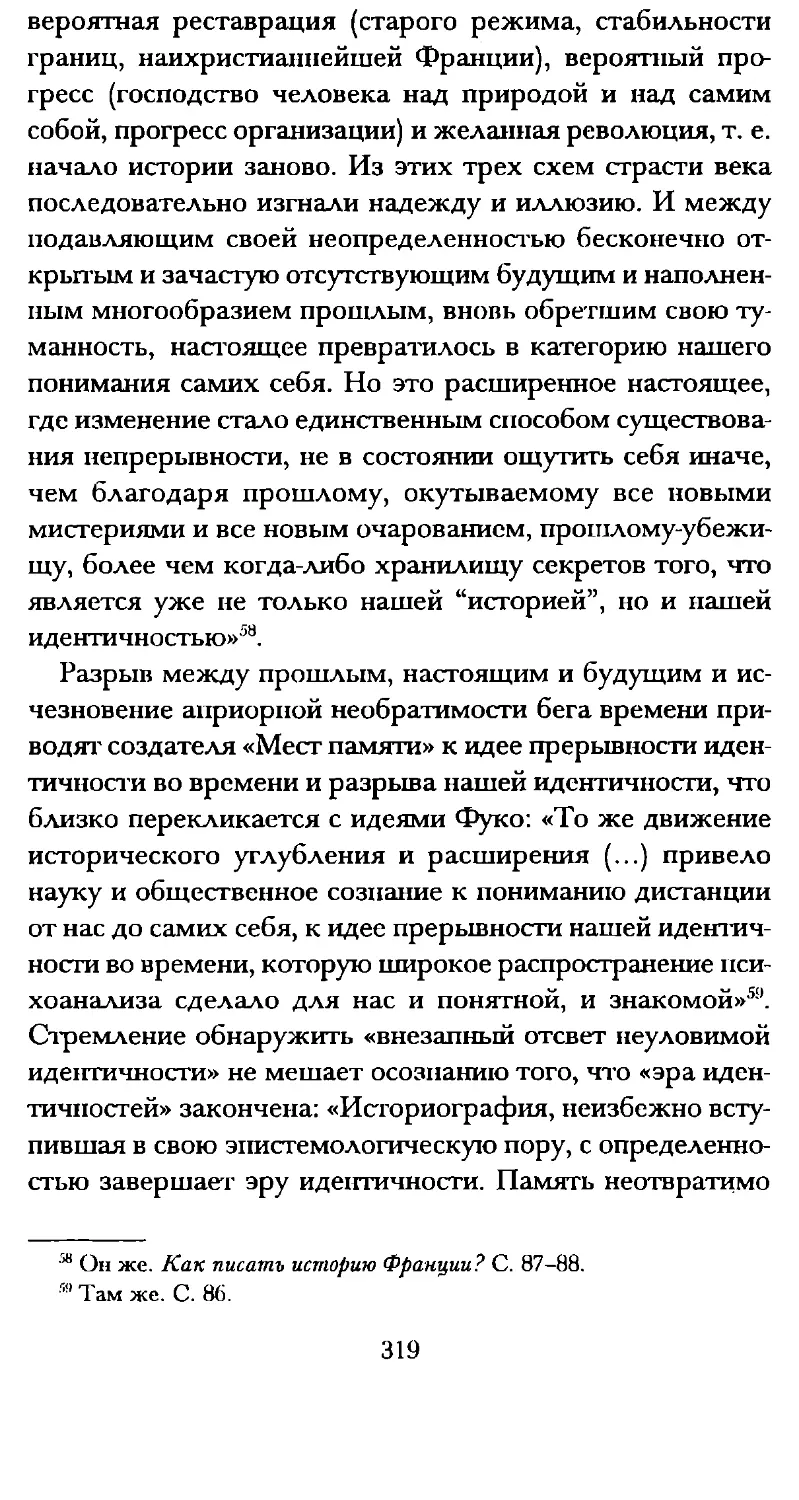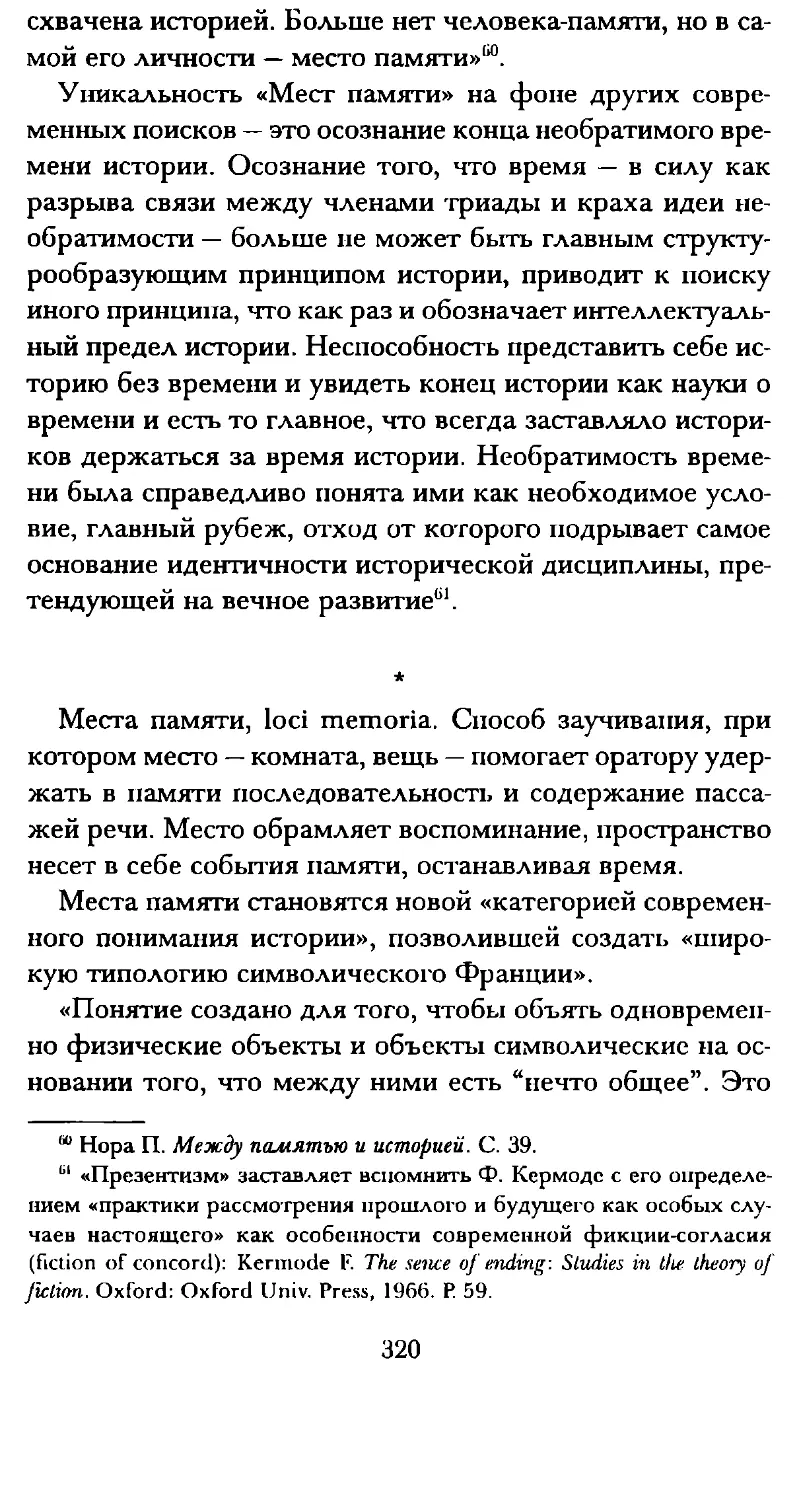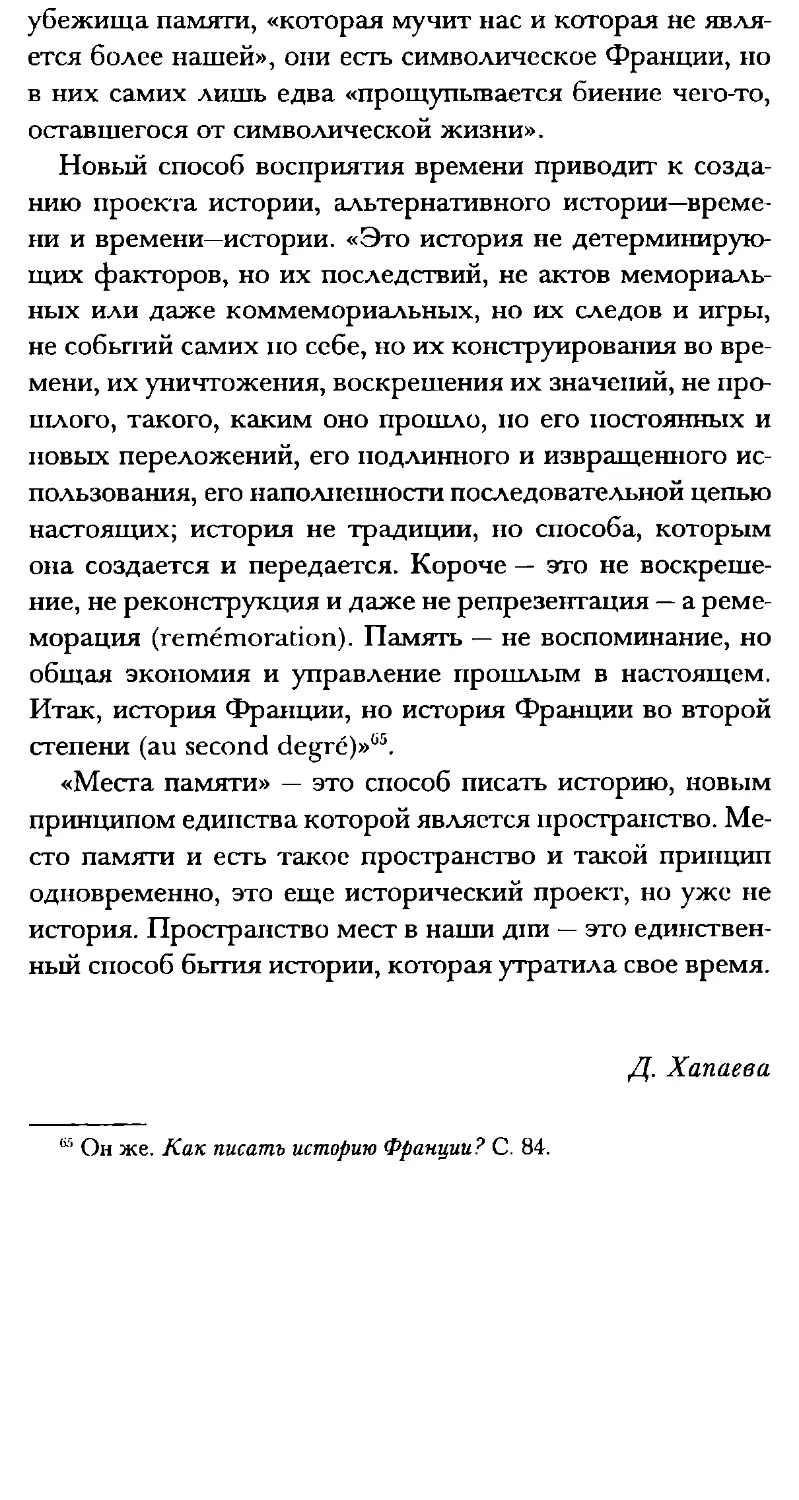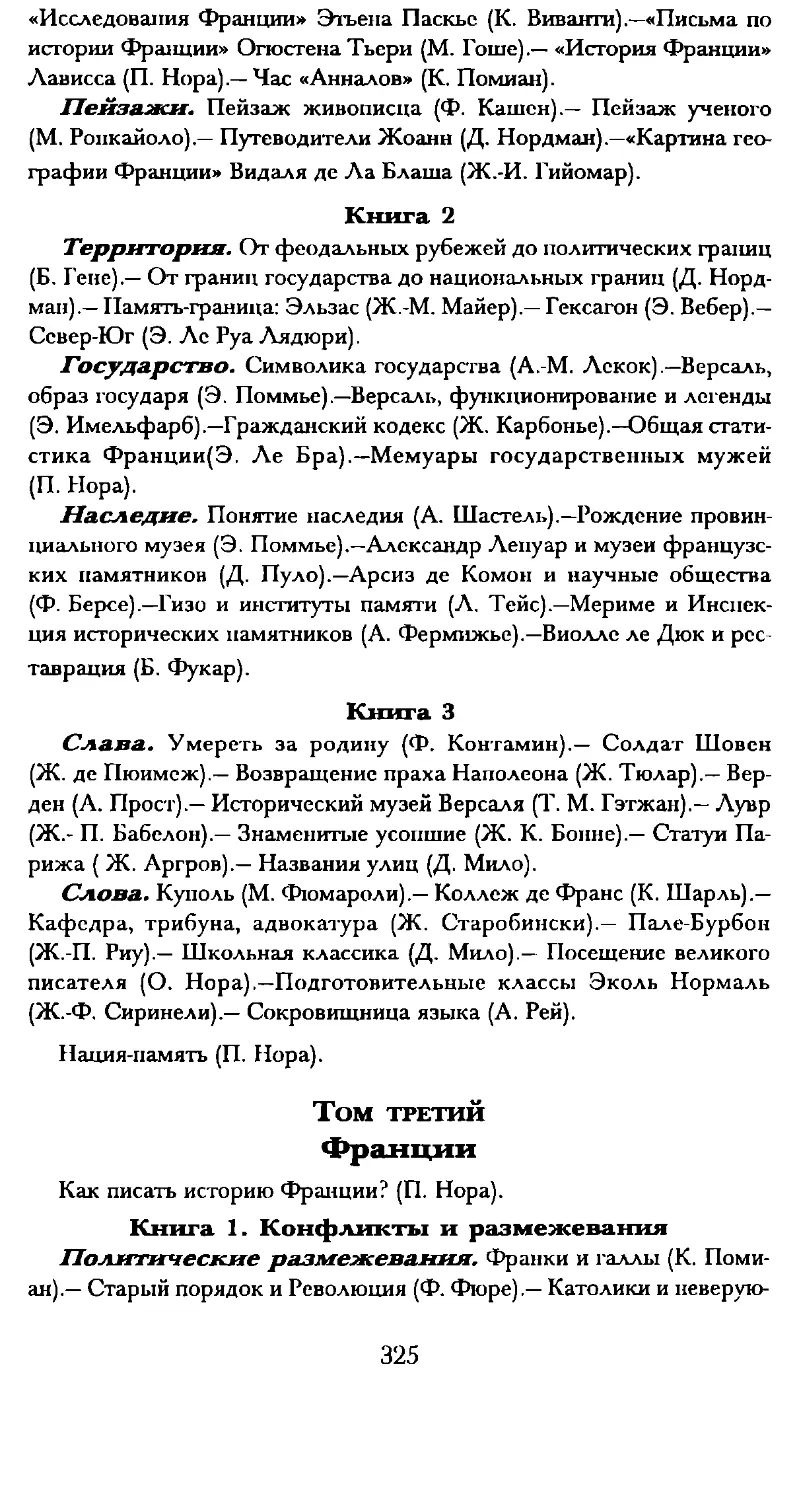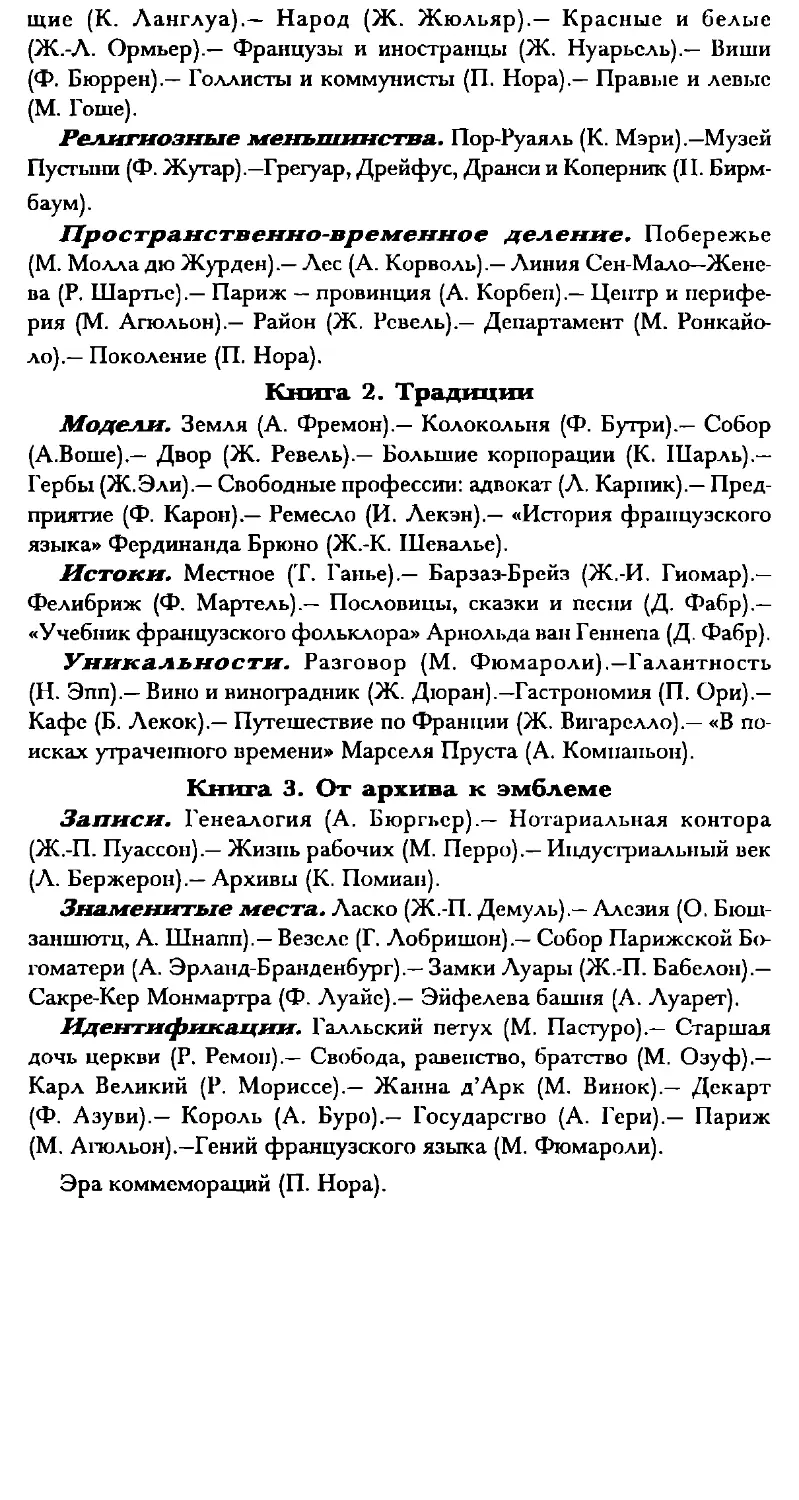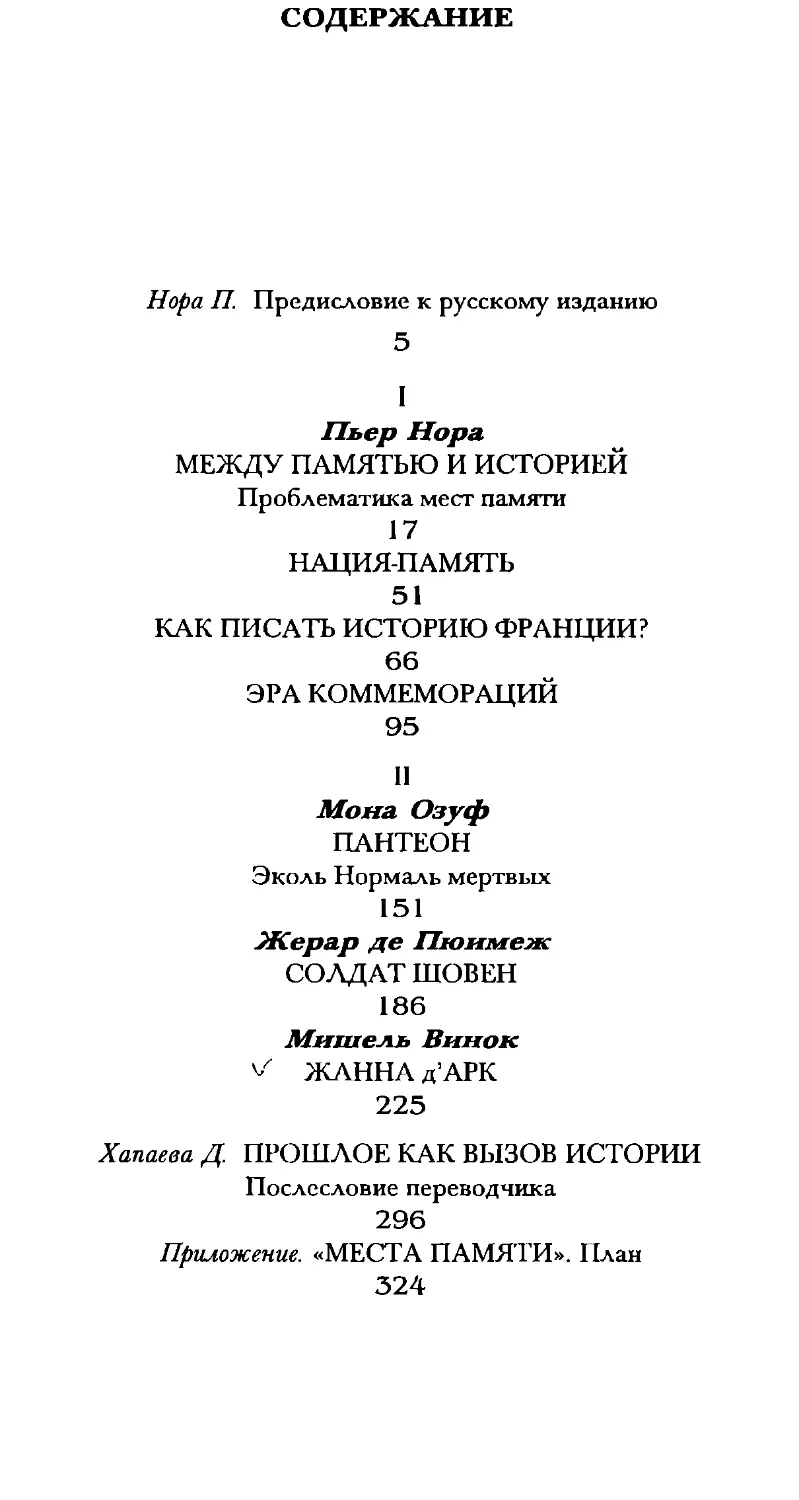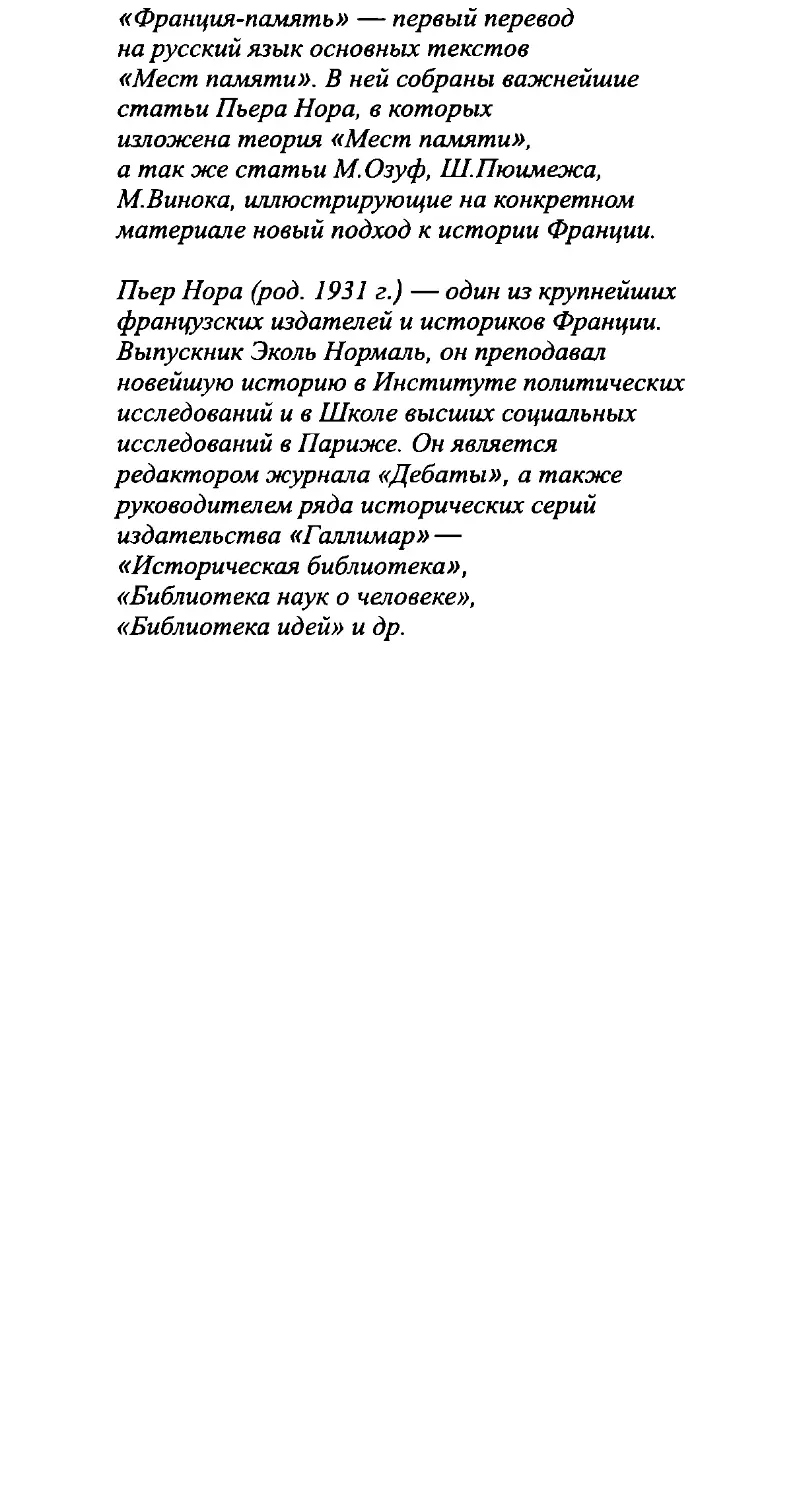Автор: Пьер Нора
Теги: история исторические науки естественные науки история франции
ISBN: 5-288-02318-2
Текст
°р$ч
Пьер Нора
Мона Озуф • Жерар де Пюимеж» Мишель Винок
НОВАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Коллекция «ПАМЯТЬ ВЕКА-
«Места памяти» — это крупнейший
коллективный труд французских историков
нашего времени.
В этом 7-томном издании
под руководством Пьера Нора
приняло участие около 100 самых
известных историков, в том числе Ж.Дюби,
Ж. Ле Гофф, Ф.Фюре, М.Озуф.
«Места памяти» создавались в течение
почти целого десятилетия (1984-1993).
«Места памяти» — это не история
Франции в обычном понимании этого жанра.
Традиционная история, передававшая
«миф о происхождении» республиканской
Франции, сменяется сложной мозаикой
символов культурной идентичности французов.
НОВАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Коллекция «ПАМЯТЬ БЕКА»
LES LIEUX DE MEMOIRE
sous la direction de
Pierre Nora
GALLI MARI)
( ЛИ КТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФРАНЦИЯ-
ПАМЯТЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1999
ББК 63
Ф84
Перевод с французского Д. Хапаевой
Научный консультант перевода Н. Копосов
Редакционный совет
Е. Аксер (Варшава), П. Андерсон (Лондон), С. Антохи (Будапешт),
Ж. Аффишар (Париж), Ю. Бессмертный (Москва), С. Богданов
(С.-Петербург), Л. Вербицкая (С.-Петербург), Э. Винь (Париж),
И. Кануников (С.-Петербург), В. Касевич (С.-Петербург), В. Катькало
(С. -Петербург), Н. Копосов (С.-Петербург), В. Монахов (С.-Петербург),
Н. Скворцов (С.-Петербург), И. Смирнов (Констанц, Мюнхен),
Ю. Солонин (С.-Петербург), Л. Тевено (Париж), В. Троян
(С.-Петербург), Д. Ханаева (С.-Петербург), Е. Ходорковская
(С.-Петербург), Г. Хэгберг (Нью-Йорк), И. Чечот (С.-Петербург),
А. Эткинд (Берлин, С. -Петербург)
Издание осуществлено в рамках
програллмы «Пушкин» при поддержке
Министерства иностранных дел Франции
и Посольства Франции в России.
Ouvrage realise dans k cadre du programme d’aide
d la public alien «Роис/ikine» avec le soutien
du Mints tit re des Affaires Elrangeres franges
el de I'Ambassade de France en Russie.
ISBN 5-288-02318-2
© Ed. Gallimard, 1984-1993
© П. Нора, предисл., 1999
© Д. Хапаена, пер., послесл., 1999
© Издательство С.-Петербургского
университета, 1999
Предисловие к русскому изданию
11роект «Места памяти» будет непонятен иностранно-
му читателю, если не напомнить о той тесной, неразрыв-
ной связи, которая во Франции соединяет практику исто-
рического исследования с развитием национального со-
'шания и с самой идеей национального, в чем проявляет-
ся важное отличие Франции от других стран. В Герма-
нии, например, носителями национальной идеи являются
в основном философы. В Центральной и Восточной Ев-
ропе гарантом и зародышем ее развития был нацио-
1 сильный фольклор. Во Франции роль организатора и ру-
ководителя национального сознания всегда принадлежа-
ла историкам. История распоряжалась национальной па-
мятью. Эта память раздробленная, множественная, ее
содержание, точки опоры, формы выражения многократ-
но переработаны. Память, всегда являющаяся предметом
полемики, но, тем не менее, представляющая собой точ-
ку отсчета и цемент национального сообщества.
Такая роль истории безусловно связана с многочислен-
ными французскими особенностями. Первая из них —
очень длительная непрерывность Франции и ее истории.
Истории, которая берет свое начало во тьме времен и пре-
вращает правдоподобные даты своего рождения в веч-
ную дискуссию: что это — битва при Алезии (45 г. до н. э.)
и капитуляция Версенгиторикса перед Цезарем? Или кре-
5
щение Хлодвига (496 г.), полуторатысячная годовщина ко-
торого в 1996 г. послужила поводом для колоссальной
национальной коммеморации (commemoration)? Или это
Верденский договор в 843 г., когда разделение на три ча-
сти наследства Карла Великого определило территорию
Франции? Или восшествие на престол Гуго Капета, тор-
жественно открывшее, согласно обычной формуле, эру
«сорока королей, которые создали Францию»? Или все-
таки это Французская революция, которая, собственно,
изобрела нацию, заменив принципом национальной суве-
ренности монархическую суверенность Божественного
права? Франция, пожалуй, является единственной стра-
ной, пожелавшей обладать двойственным мифом проис-
хождения: франкским и галльским.
Одно, во всяком случае, можно утверждать с уверен-
ностью, а именно, что роль двигателя в создании фран-
цузского единства принадлежала государству: единства
территориального, единства административного, единства
морального. Эта роль проявляется особенно рано по мер-
кам западного христианства. По выражению Бернара
Жене, «государство во Франции предшествовало нации».
Это и есть самое важное. Франция относится к типу го-
сударств-наций. Единство пришло сверху, утвердительное,
принудительное, централизованное, нивелирующее раз-
личия народов, языков, нравов. Франция пережила два
периода государственного радикализма: абсолютную мо-
нархию, достигшую апогея при Людовике XIV, и Фран-
цузскую революцию. История оказывается, таким обра-
зом, с давних пор смешанной с историей государства-на-
ции.
Третья особенность, объясняющая интенсивность свя-
зи истории и нации, имеет своим истоком радикализм ре-
волюционного разрыва и двусмысленность такого опре-
деления нации, каким оно выкристаллизовалось начиная
с 1789 г. Нация, отождествленная с одним третьим сосло-
вием, исключила привилегированные слои общества, что
6
I" и(»мирует формула Сийеса: «Третье сословие самодос-
। д । (ruin как нация».
11омимо этого, Революция вызвала два немедленных
* \г/к гния: разрыв во временной непрерывности нации,
юн’орая полностью отринула прошлое под общим име-
нем Старого Порядка, и разрыв в самом принципе кол-
тинной идентичности, внедрившей в национальное те-
м* бациллу конфликта, раздора и даже гражданской
нпйпы. Этот двойной разрыв, разрыв памяти и самого
ir\a нации, достаточно полно объясняет, что сразу же
in к ле Революции и Империи, в эпоху романтизма в 1820-
IK I0 с гг., такими либеральными историками, как Опос-
|<‘н Тьери, Гизо, Мишле, была создана национальная ис-
niofnix, также наполненная драматическими конфликта-
ми. Принцип и динамизм ее состояли в том, чтобы выби-
рать из прошлого только факты, объяснявшие развитие
«нации». История превратилась в непрерывное повество-
вание о бытии этой коллективной личности-нации, пове-
ствование, тайно исполненное священной миссии религи-
озного порядка, ставшее носителем универсализма бла-
годаря Декларации о правах человека и гражданина.
Эта практически мифологическая история обретает
с вое воплощение в период Третьей республики между 1870
и 1914 гг. в тот момент, когда история, познав решитель-
ное научное развитие, превратилась в опору гражданско-
го воспитания благодаря армии деревенских учителей. На-
ука и патриотизм, казалось, шагали в ногу. Эрнест Да-
внее может быть назван их лучшим певцом, потому что
этот великий деятель Республики в области образования
являлся одновременно автором школьного учебника, дол-
гое время обладавшего практически полной монополией
в школьном преподавании, а именно — «Малого Лавис-
са», издаваемого миллионами экземпляров. И одновре-
менно он был создателем гигантской «Истории Франции»
в 27 томах, этого подлинного памятника критической и
позитивистской истории. Событийный кадр и хронологи-
7
ческий рассказ, заданные этой историей, не утратили сво-
ей значимости вплоть до наших дней. Такая историчес-
кая модель, тысячи раз повторенная, отвергнутая, опро-
тестованная, но в основном воспринятая, была мощным
созидателем нашей коллективной памяти и нашего спо-
соба совместного бытия. Отсюда и происходит выраже-
ние, предложенное мной — «история-память» («histoirc-
mcmoirc»).
*
Эта модель истории сегодня больше не работает. Ни с
точки зрения научной, ни с точки зрения моральной, ни
как метод, который она применяет, ни как соответствую-
щая ей философская система. Ее распад начался в эпоху
между двумя мировыми войнами, по потребовалось пе-
режить два глобальных исторических шока, чтобы об-
щая мутация национальной модели стала очевидной: ко-
нец войны в Алжире (1962) и начало экономического кри-
зиса (1974). Провозглашение независимости Алжира пос-
ле независимости Индокитая положило решительный ко-
нец имперским завоеваниям, которые шли рука об руку с
республиканскими завоеваниями Франции. Республике
пришлось научиться жить в пределах Гексагона*.
Экономический кризис положил конец тридцатилетию
запоздалого и непрерывного индустриального подъема,
увлекшего за собой все или практически все в стране, ос-
тававшейся дольше других пран Западной Европы хра-
нилищем традиций, пейзажей, навыков поведения, жиз-
ни, любви и смерти.
Ущерб, нанесенный образу нации, заставил не только
померкнуть величие этого образа из-за ослабления было-
го могущества. В гораздо большей степени была поко-
леблена его моральная непогрешимость. Два параллель-
ных показательных примера могут прояснить происшед-
* Гсксагон — контур Франции без колоний (прим, переводчика).
8
тую перемену: война 1914 г. и Оккупация. По поводу
пЬипх событий долгое время преобладала героическая
игр! ия. Верден рассматривался как символ высшего на-
111 di /Кения всех сил нации в ее стремлении остаться собой,
.1 де»I оллю удалось укоренить идею, что, несмотря нагор-
। । ку замешанных в коллаборационизме, нация как целое
но время второй мировой войны была вовлечена в борь-
Ьу за с вою свободу. В обоих случаях золотая легенда пре-
кратилась в черную. Через 20 лет на смену героической
версии пришел образ полностью вишистской Франции, а
вывод, сделанный тогда же в связи с коммеморацией
I ‘И Н г., состоит в определении этого события как преступ-
ной бойни и бессмысленной жер твы.
Третий активный элемент трансформации старой ис-
торической и национальной модели, безусловно, связан с
прогрессом социальной демократии: момент внутренней
деколонизации, который привел к прогрессивному осво-
(юждению меньшинств и их интеграции в национальное
сообщество, меньшинств социальных — рабочих, сексу-
альных — женщин, меньшинств провинциальных — бре-
тонцев, корсиканцев, меньшинств религиозных — евреев.
» го г феномен социальной эмансипации имел решающее
значение в такой стране, как Франция, где нация конст-
руировалась вокруг эгалитарного гражданского догово-
ра, вокруг отрицания различий и социальной, провинци-
альной и религиозной разнородности. Это является осно-
вополагающим и для объяснения «властного» подъема па-
мяти, которая есть история забвений в истории.
Безусловно, такой мутацией объяснимо рождение дви-
жения «Анналов». Основание одноименного журнала
Люсьеном Февром и Марком Блоком в 1929 г. символи-
чески совпадает с биржевым кризисом, который возвес-
тил о начале Великой депрессии 30-х гг. Враждебность
«Анналов» в отношении событийной, политической, во-
енной, дипломатической, биографической истории в прин-
ципе не означала приговора национальной истории, но на
9
деле подготавливала его, потому что национальная исто-
рия всегда писалась только как линейный рассказ о при-
чинно-следственных связях. Возвращение к национальной
истории в силу возрождения самой идеи нации сегодня
навязывает себя. Это возрождение вызвано не страхом
уничтожения в ходе войны, как это было раньше, но на-
против, угрозой внутреннего разрушения под гнетом того
тяжелого бремени, которым ложится на ее идентичность
вступление в европейское пространство, дсцсптрализатор-
ские стремления регионов и приток иностранного населе-
ния. Начиная с «Идентичности Франции» Фернана Бро-
деля (1986), национальная история пришла в подлинное
брожение. Она снова стала модным жанром. И теперь
следует определить условия ее создания.
В отношении к нации и к национальной идее историки
моего поколения и я, в частности, пережили два очень
различные и даже противоположные типа опыта: поли-
тического и социального характера, с одной стороны, и
профессионального и интеллектуального, с другой.
С гражданской точки зрения, каждый из этих типов
опыта, которыми мы оказались отмечены, поставил под
вопрос в резких, часто болезненных и иногда драмати-
ческих формах ту национальную идентичность, которая
была интериоризирована нами. Надо ли упоминать о том,
насколько сильна была травма от поражения 1940 года,
увидевшего распад образа великой страны? О вишистс-
ком режиме, о немецкой оккупации, в особенности для
тех, кто был, как и я, евреем, о значении пережитого опыта
внутреннего изгнания и национального исключения ? Этот
шок, перенесенный в детстве, незабываем. Затем на пери-
од нашей юности пали колониальные войны, и в особен-
ности война в Алжире, во время которой многие из пас
проходили службу в армии. И опять образ Франции был
обезображен содеянным ею — колониальным насилием и
пытками. Война, столь же мучительная для националь-
ного сознания, как гражданская война для американцев,
10
поскольку речь шла не только о борьбе левых антиколо-
пиалистов против правых колониалистов, но и потому,
’гго внутри самих левых, традиционно приверженцев по-
минки ассимиляции колониальных народов, шло длитель-
ное и трудное привыкание к идее независимости этих
колониальных народов и в особенности народа Алжира.
11, конечно, нужно отметить особо сильное влияние ком-
мунизма и голлизма, этих двух политических и идеоло-
шческих сил, которые, начиная с войны и до середины
197()-х гг., преобладали на французской политической сце-
пе'. Каждая из этих двух сил создала свою форму истори-
ческой памяти и собственную инкарнацию национальной
идентичности: коммунизм, как и голлизм, казалось, мог
легитимно воплотить и представлять самым правдоподоб-
ным образом все истины Франции. Коммунизм продол-
жал ту традицию, которая превратила Францию в обето-
ванную землю революций, проецируя рационализм Про-
свещения на революционный универсализм, чтобы в свою
очередь спроецировать его на идеализируемую советскую
революцию. Голлизм не переставал питать из глубин сы-
новьего патриотизма и религиозного чувства «идею Фран-
ции», укрепляя веру в ее чудесное постоянство и ее вне-
временную сущность. И тот, и другой привели к трудно-
му вопрошанию об истинности нации и о природе фран-
цузской идентичности.
Напротив, в плане интеллектуальном и профессиональ-
ном все отдаляло нас от нации. В 1960-е годы, которые во
(рранции увидели сближение истории с социальными на-
уками, самый простой интерес к проблематике нации был
достаточен для того, чтобы заставить заподозрить за ним
политический национализм и узость взглядов. То, что в
те годы представлялось достойным размышлений, отно-
силось к гораздо более общему регистру и превосходило
те границы, в которых, казалось, заключена в принципе
сама идея нации. Этнология заставила нас открыть «дру-
гого» далеких обществ и увидеть «своего» более чуждым,
11
нежели странным. Экономика, социология научили пас,
что общества управляются детерминизмами и структур-
ными условиями, против которых воля индивидов оказы-
вается совершенно бессильной и о существовании кото-
рых индивиды даже не подозревают. Физиология, психо-
анализ, для которых эта эпоха была эпохой расцвета, на-
полнили нас уверенностью, что сами люди не владеют
собой как субъектами, что в силу той дистанции, которая
возникает у них по отношению к себе, они выражают не
то, что говорят их слова, хотят не то, что демонстрируют
как желаемое, и совершают не то, что они стремились
сделать.
Таков был тот разрыв между интеллектуальным опы-
том и опытом пережитым, который я лично почувство-
вал настоятельную потребность уничтожить: размышлять
о национальном феномене без национализма, вооружив
шись всеми достижениями наук о человеке; освободить
этот исторический объект от его традиционной тривиаль-
ности, чтобы вернуть ему его странность и его глубину;
разрушить этот раздражающий жанр «Истории Фран-
ции», разъяв единый и непрерывный рассказ; вернуть сво-
боду самовыражения трем инстанциям — Республике,
Нации, Франции, слить которые в единую и неразрыв-
ную данность, а затем рассмотреть в микроскоп элемен-
ты каждой из которых было главной амбицией модели
Лависса; выразить, будучи историком, этот национальный
момент, переживаемый под знаком памяти; внести вклад
в создание новой истории символического типа, которая
отвечала бы лучше, чем классическая история, научным
и гражданским потребностям нашего времени. И предло-
жить, на примере Франции, особенно удачном для такой
демонстрации, новый способ изучения национальной ис-
тории, который возможно применять и в других нацио-
нальных контекстах.
Дополнительная выгода и соблазн этого демарша за-
ключались в том, что это был также и единственно воз-
12
мо/кпый способ изжить то пренебрежение, с которым
и t носились к истории «современности». Пренебрежение
( гл рос, родившееся более века назад, когда конституиро-
нлпие научной истории, основанной на работе с архивны-
ми источниками и объективности суждения, казалось, на-
всегда приговорило историка к отдаленности во времени
ж своего сюжета. История могла быть только историей
прошлого, настоящее относилось к политике. В то время,
когда я начинал заниматься научной работой, в начале
60 х гг., выбрать для диссертации сюжет из истории пос-
\<* 1914 г. было совершенно невозможно. И вместе с тем
что недавнее презрение, выказанное самыми известными
пре дставителями второго поколения «Анналов» и, в осо-
бенности, Фернаном Броделем, для которого изучение
длительной протяженности, погружение в недра истории,
обнаружение глубинных структур уничтожает всякий ин-
ггрес к тому поверхностному, лишенному привлекатель-
ности и смысла слою времени, в котором мы живем. Ис-
тория современности была хорошо разработана, но она
пс имела своего собственного домена, своего специфичес-
кого метода и даже своего начала: оно переносилось от
1789 к 1918 и затем к 1945 г., под влиянием изменения
программ университетского преподавания и механичес-
кого накопления временных отрезков. На самом деле с
того момента, когда устанавливается четкий перерыв меж-
ду настоящим и прошлым и когда история сводится к
изучению прошлого, история современности оказывается
невозможна. Только история памяти, рассмотренная как
управление прошлым в настоящем, могла снять это про-
тиворечие.
Для того чтобы проект «Места памяти» стал возможен,
должны были совпасть два блока факторов националь-
ного и исторического порядка. Потребовалась метамор-
фоза национальной истории в национальную память. По-
13
требовалась метаморфоза «истории современности»
(«histoire contemporaine») в «исгоризированное настоящее»
(«present histoirique»). Безусловно, был необходим и та-
кой последний фактор, состоявший в специфике моего
собственного положения — в двойном амплуа универси-
тетского исследователя и издателя. Но это уже совсем
другая история.
Пъер Нора
Пьер Нора
МЕЖДУ ПАМЯТЬЮ И ИСТОРИЕЙ
Проблематика мест памяти
НАЦИЯ-ПАМЯТЬ
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ ФРАНЦИИ?
ЭРА КОММЕМОРАЦИЙ
МКЖДУ ПАМЯТЬЮ И ИСТОРИЕЙ
Проблематика мест памяти
1. Конец истории-памяти
Ускорение истории. Нужно суметь в полной мере ощу-
тить масштаб того, что стоит за этими словами помимо
метафоры (все убыстряющееся соскальзывание в абсолют-
но мертвое прошлое, неизбежность восприятия любой
/данности как исчезнувшей) — нарушение равновесия. Выр-
пано с корнем все то, что еще сохранялось из пережитого
в тепле традиций, в мутациях обычаев, в повторениях
пришедшего от предков, под влиянием глубинного исто-
рического чувства. Доступ к осознанию себя под знаком
того, что завершилось навсегда, окончание чего-то изна-
чального. О памяти столько говорят только потому, что
се больше нет.
Интерес к местам памяти, где память кристаллизуется
и находит свое убежище, связан именно с таким особым
моментом нашей истории. Это поворотный пункт, когда
осознание разрыва с прошлым сливается с ощущением
разорванной памяти, но в этом разрыве сохраняется еще
достаточно памяти для того, чтобы могла быть постав-
лена проблема ее воплощения. Чувство непрерывности
находит свое убежище в местах памяти. Многочислен-
ные места памяти (lieux de memoire) существуют потому,
что больше нет памяти социальных групп (milieux de шё-
। noire).
17 f
Вспомним о невосполнимой потере, заключавшейся в
исчезновении крестьянства, являвшегося по преимуществу
коллективной памятью (collectivite memoire), популярность
которого в качестве предмета истории совпала с апогеем
индустриального подъема. Но даже этот факт, несмотря
на его центральное значение для крушения нашей памя-
ти,— лишь один из возможных примеров. Весь мир зак-
ружился в этом танце, вовлеченный в него хорошо извес-
тными феноменами глобализации, демократизации, со-
циального нивелирования, медиатизации. На периферии
независимость новых наций вторглась в историческое вре-
мя обществ, уже разбуженных от своего антологического
сна колониальным насилием. И этот же самый порыв
вызвал внутреннюю деколонизацию, деколонизацию всех
малых народов, групп, семей, всех тех, кто обладал силь-
ным капиталом памяти и слабым капиталом истории;
конец обществ-памятей, как и всех тех, кто осуществлял
и гарантировал сохранение и передачу ценностей, конец
церкви или школы, семьи или государства; конец идеоло-
гий-памятей, как и всего того, что осуществляло и гаран-
тировало беспрепятственный переход от прошлого к бу-
дущему или отмечало в прошлом все то, что было необ-
ходимо взять из него для изготовления будущего, будь то
реакция, прогресс или даже революция. Более того — сам
способ исторического восприятия, благодаря средствам
массовой информации, постепенно распался, подменив па-
мять, ограничивавшую свое наследие самым сокровенным,
эфемерной фотографией актуальности.
Ускорение. То, перед чем нас грубо ставит этот свер-
шившийся факт,— это дистанция, лежащая между истин-
ной памятью — социальной и нетронутой, а именно, памя-
тью так называемых примитивных, или архаических, об-
ществ, которые служат ее моделью и владеют ее секре-
том, и историей, в которую превращают прошлое наши
общества, обреченные на забытье потому, что они вовле-
чены в круговорот изменений. Дистанция между намя-
18
11.io целостной, диктаторской и неосознающей самое себя,
11 к и гганной, все организующей и всемогущей, памятью без
прошлого, которая вечно возвращает наследие, превра
Ш.П1 прошлое предков в неразличимое время героев, в
начало мира и мифа,— и нашей, которая есть только ис
юрия, след и выбор. Дистанция, которая постоянно рас-
н г с тех самых пор, как люди познали право, власть и
< .1мо стремление изменяться, и только увеличивается с
начала Нового времени. Дистанция, достигшая сегодня
< вост крайнего, судорожного, предела.
1 акое искоренение памяти под захватническим натис
ком истории имело следующие результаты: обрыв очень
древней связи идентичности, конец того, что мы пережи-
нали как очевидное — тождество истории и памяти. В том,
что во французском языке есть только одно слово для
обозначения и пережитой истории, и интеллектуальной
операции, делающей историю познаваемой (немцы это
различают как Geschichte и Histone), несовершенство язы-
ка, столь часто отмечаемое, обнаруживает свою глубин-
ную истинность: течение, влекущее нас, имеет ту же при-
। н >ду, что и то, которое нам его представляет. Если бы мы
сами продолжали населять нашу память, нам было бы
незачем посвящать ей особые места. Они бы не существо-
вали, потому что не было бы памяти, унесенной истори-
ей. Каждый жест, вплоть до повседневной жизни, был
бы переживаем как религиозное повторение того, что су-
ществовало всегда, при полной идентичности действия и
смысла. Как только появляется след, дистанция, медиа-
। (ия — мы более не в истинной памяти, но в истории. Вспом-
пим евреев, замкнутых в повседневной верности ритуалу
градиции. Их превращение в «народ памяти» исключало
()забоченность историей до тех пор, пока их открытие миру
11ового времени не вызвало у них необходимости в исто-
риках.
Память, история. Мы отдаем себе отчет в том, что всё
противопоставляет друг другу эти понятия, далекие от
19
того, чтобы быть синонимами. Память — это жизнь, носи
телями которой всегда выступают живые социальные груп-
пы, и в этом смысле она находится в процессе постоян-
ной эволюции, она открыта диалектике запоминания и
амнезии, не отдает себе отчета в своих последовательных
деформациях, подвластна всем использованиям и мани-
пуляциям, способна на длительные скрытые периоды и
внезапные оживления. История — это всегда проблема-
тичная и неполная реконструкция того, чего больше нет.
Память — это всегда актуальный феномен, переживае-
мая связь с вечным настоящим. История же — это репре-
зентация прошлого. Память в силу своей чувственной и
магической природы уживается только с теми деталями,
которые ей удобны. Она питается туманными, многопла-
новыми, глобальными и текучими, частичными или сим-
волическими воспоминаниями, она чувствительна ко всем
трансферам, отображениям, запретам или проекциям.
История как интеллектуальная и светская операция взы-
вает к анализу и критическому дискурсу. Память поме-
щает воспоминание в священное, история его оттуда из-
гоняет, делая его прозаическим. Память порождается той
социальной группой, которую она сплачивает, это возвра-
щает нас к тому, что, по словам Хальбвакса, существует
столько же памятей, сколько и социальных групп, к идее
о том, что память по своей природе множественна и неде-
лима, коллективна и индивидуальна. Напротив, история
принадлежит всем и никому, что делает универсальность
ее призванием. Память укоренена в конкретном, в про-
странстве, жесте, образе и объекте. История не прикреп-
лена ни к чему, кроме временных протяженностей, эво-
люций и отношений вещей. Память — это абсолют, а ис-
тория знает только относительное.
В сердце истории работает деструктивный критицизм,
направленный против спонтанной памяти. Память всегда
подозрительна для истории, истинная миссия которой
состоит в том, чтобы разрушить и вытеснить ее. История
20
< < и. делигитимизация пережитого прошлого. На горизон-
н нс и визированных обществ и в мире, достигшем пре-
ц \.| мсторизации, произошла бы полная и окончатель-
ti.Di десакрализация. Движение истории, амбиции исто-
риков не являются воскрешением того, что действитель-
.... но полным его уничтожением. Безуслов-
но, всеобщий критицизм сохранил бы музеи, медали, па-
мнтпики, т. е. необходимый арсенал своей собственной
работы, но ценой лишения их того, что в наших глазах
(делало их местами памяти. В конце концов общество,
/ки пущее под знаком истории, как и традиционное обще-
। гно, оказалось бы не в состоянии обнаружить места, став-
шие обителью его памяти.
*
11ожалуй, одним из наиболее ощутимых знаков этого
отрыва истории от памяти является начало истории исто-
рии, совсем недавнее пробуждение во Франции историо-
। рафического сознания. История, а точнее история наци-
онального развития, составила одну из самых сильных
наших коллективных традиций, нашу среду памяти par
excellence. От средневековых хронистов до современных
историков «глобальной» истории вся историческая тра-
диция развивалась как заданное упражнение для памяти
и как ее спонтанное углубление, восстановление прошло-
। о без лакун и трещин. Ни один из великих историков со
промен Фруассара никогда не считал, что он представля-
ет только какую-то определенную память. Коммин не
осознавал, что он отображает лишь династическую па-
мять, Ла Поплиньер — только французскую, Боссюэ —
лишь память монархическую и христианскую, Вольтер —
память прогресса человеческого рода, Мишле — только
память «народа» и Лависс — лишь память нации. Совсем
наоборот, все они были уверены в том, что их задача со-
стоит в утверждении памяти более позитивной, чем пред-
шествующие, более всеобъемлющей и больше объясняю-
21
щей. Научный арсенал, который история приобрела за
последний век, мог только значительно укрепить крити-
ческие основания истинной памяти. Все великие попытки
пересмотра истории стремились расширить пространство
коллективной памяти.
В такой стране, как Франция, история истории не мо-
жет быть невинной операцией. Она осуществляет внут-
реннее превращение истории-памяти в историю-критику.
Всякая история является критической по своей природе,
и все историки всегда претендовали на то, чтобы разоб-
лачить ложные мифологии своих предшественников. Но
нечто фундаментально иное возникает в тот момент, ког-
да история начинает создавать свою собственную исто-
рию. Рождение историографической озабоченности — это
стремление истории вытравить из себя все то, что не яв-
ляется историей, представив себя жертвою памяти, пред-
принимающей усилия для своего освобождения. В стра-
не, где истории никогда не отводилась направляющая и
формирующая роль по отношению к национальному со-
знанию, история истории не могла бы оказаться столь
нагруженной полемическим содержанием. Например, в
Соединенных Штатах, стране множественной памяти и
разноголосых традиций, история как дисциплина прак-
тиковалась всегда. Различные интерпретации Независи-
мости или гражданской войны, сколь бы они ни были
значимы, никогда не ставили под вопрос единую амери-
канскую традицию, либо из-за ее в некотором смысле от-
сутствия, либо из-за того, что главным способом ее пере-
дачи не является история. Напротив, во Франции истори-
ография всегда «иконокластна» и непочтительна. Она со-
стоит в том, чтобы завладеть теми вещами, которые и
составляют традицию по преимуществу: главной битвой,
такой, как Бувин, каноническим учебником, таким, как
малый Лависс, чтобы вскрыть их механизм и воссоздать
как можно точнее условия их изготовления. Это значит —
заронить сомнение в самое сердце, ввести клинок крити-
22
mi между стволом памяти и корой истории. Занятия ис-
। ириографией Французской революции, воссоздание ее
мифов и ее интерпретации означают только, что мы боль-
ше не идентифицируем себя полностью с ее наследием.
Изучать традицию, какой бы славной она ни была, зна-
чит быть более не в силах однозначно распознать ее носи-
|глей. Иными словами, не только самые священные объек-
। и пашей национальной традиции становятся предметом
истории истории. Исследуя свои материальные и концеп-
|уальные ресурсы, процедуры своего собственного про-
пиюдства, социальные каналы своего распространения и
механизмы своего собственного превращения в традицию,
иг я история целиком вступает в свой историографичес-
кий возраст, достигнув своей деидентификации с памя-
тью. Память сама превратилась в предмет возможной
нс тории.
было время, когда могло показаться, что с помощью
п<тории и вокруг идеи нации традиция памяти кристал-
мгювалась в идее политического синтеза Третьей Респуб-
лики, если следовать самой общей хронологии, от «Запи-
сок об истории Франции» Огюстена Тьерри (1827) до «Ис-
кренней истории французской нации» Шарля Сеньобоса
(1933). История, память, нация претерпели тогда нечто
большее, чем просто естественное взаимопроникновение:
дополнительное распространение, симбиоз всех уровней,
научного и педагогического, теоретического и практичес-
кого. Национальное определение настоящего тогда кате-
горически требовало своего оправдания ясностью прошло-
го. Настоящее, хрупкое из-за травмы, нанесенной Рево-
люцией, потребовавшей глобальной переоценки монар-
хического прошлого, стало еще более ломким в резуль-
тате поражения 1870 г., которое сделало чрезвычайно ак-
туальным развитие архивной эрудиции и школьной пере-
дачи памяти перед лицом истинного победителя при Са-
довой — немецкого школьного учителя и немецкой на-
уки. Бесподобен тон национальной ответственности исто-
23
рика, наполовину священника, наполовину солдата, зву-
чащий, например, в редакционной статье первого номера
«Исторического журнала» (1876), в которой Габриель
Моно мог с чувством глубокой убежденности заявить что
«научное исследование, всегда медлительное, коллектив-
ное и методичное», работает «скрыто и уверенно на благо
как Родины, так и всего рода человеческого». При чте-
нии и этого текста, и сотни других подобных встает воп-
рос о том, как смогла утвердиться идея, что позитивистс-
кая история не является кумулятивной. Напротив, с точ-
ки зрения складывания нации, политическое и военное,
биографическое и дипломатическое являются столпами
преемственности. Поражение при Азинкуре или кинжал
Равайяка, День одураченных или какой-нибудь дополни-
тельный параграф Вестфальского договора подлежат
скрупулезному бухгалтерскому учету. Точнейшая эруди-
ция приумножает или приуменьшает капитал нации.
Мощно единство этого мемориального пространства: меж-
ду нашей греко-римской колыбелью и колониальной им-
перией Третьей Республики точно так же нет разрыва,
как между высокой эрудицией, обогащающей наследие
новыми завоеваниями, и школьным учебником, превра-
щающим их в вульгату. История священна, поскольку
священна нация. Это посредством нации наша память
отстаивает свою священность.
Понять, почему эта взаимосвязь вырвалась из-под но-
вого натиска десакрализации, означает показать, как в
кризисе 1930-х гг. пара государство-нация постепенно ста-
ла замещаться парой государство-общество. И как в то
же время и по тем же причинам история из традиции
памяти, какой она сложилась во Франции, удивительным
образом превращается в знание общества о себе самом. В
этом качестве она безусловно способна усиливать лучи
прожекторов, направленные на отдельные памяти, и даже
превратиться в лабораторию ментальностей прошлого. Но
освобождаясь от национальной идентичности, она одно-
24
и|именно лишилась субъекта-носителя и утратила свое
педагогическое призвание, заключавшееся в передаче
игишоей. Это отчетливо видно на примере сегодняшне-
। и кризиса школы. Нация не является больше той объе-
ипипощей рамкой, которая ограничивает сознание опре-
им иной общности людей. С тех пор, как определение
н.щпи перестало быть вопросом, мир, процветание и ог-
। ынпчение ее могущества довершили дело. Ей больше нич-
||| нс угрожает, кроме отсутствия опасностей. С тех пор,
i-.iix общество заняло место нации, легитимизация через
прошлое и, следовательно, через историю уступила мес-
||| м инимизации через будущее. Прошлое можно лишь
Uli п> и почитать, нации можно служить, будущее нужно
loioiniTb. Три термина обрели свою самостоятельность.
Нация — это больше не борьба, а данность, история пре-
вратилась в одну из социальных наук, а память — это
11 м'иомсн исключительно индивидуальный. Нация-память
оказалась последним воплощением истории-памяти.
Изучение мест памяти (lieux de memoire) находится на
пересечении двух течений, которые придают ему — сегод-
н)| и во Франции — его роль и его смысл. С одной сторо-
ны, это движение чисто историографическое, момент реф-
лектирующего возвращения истории к себе самой, с дру-
гой это движение собственно историческое, конец оп-
ределенной традиции памяти. Это время мест, это тот
момент, когда огромный капитал наследия, который мы
переживаем в интимности памяти, исчезает, чтобы ожить
। нова только под взглядом восстановленной истории. Ре-
шительное углубление работы истории, с одной стороны,
и начало консолидации наследия — с другой. Внутренняя
динамика критического принципа — опустошение нашего
исторического, политического и ментального кадра, еще
и итаточно властного, чтобы мы не стали к нему безраз-
мгшыми, но уже достаточно неопределенного, чтобы за-
пилить о себе лишь благодаря возвращению к наиболее
25
ярким его символам. Оба течения сливаются воедино,
чтобы сразу же вернуть нас к базовым инструментам ис-
торической работы и к наиболее символическим объек-
там нашей памяти: архивы вместе с трикулером, библио-
теки, словари и музеи наряду с коммеморациями, Панте-
он и Триумфальная арка, словарь Ларусса и стена Ком-
мунаров.
Места памяти — это останки. Крайняя форма, в кото-
рой существует коммеморативное сознание в истории,
игнорирующей его, но нуждающейся в нем. Деритуали-
зация нашего мира заставила появиться это понятие. Это
то, что скрывает, облачает, устанавливает, создает, дек-
ретирует, поддерживает с помощью искусства и воли со-
общество, глубоко вовлеченное в процесс трансформа-
ции и обновления, сообщество, которое по природе своей
ценит новое выше старого, молодое выше дряхлого, бу-
дущее выше прошлого. Музеи, архивы, кладбища, кол-
лекции, праздники, годовщины, трактаты, протоколы, мо-
нументы, храмы, ассоциации — все эти ценности в себе —
свидетели другой эпохи, иллюзии вечности. Отсюда — но-
стальгический аспект проявлений почтения, исполненных
ледяной патетики. Это ритуалы общества без ритуалов,
преходящие святыни десакрализирующего общества, вер-
ность партикулярному в обществе, которое отвергает
партикуляризм, фактические различия в обществе, прин-
ципиально стирающем их, знаки признания и принадлеж-
ности к группе в обществе, которое стремится распозна-
вать только равных и идентичных индивидов.
Места памяти рождаются и живут благодаря чувству,
что спонтанной памяти нет, а значит — нужно создавать
архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать
празднования, произносить надгробные речи, нотариаль-
но заверять акты, потому что такие операции не являют-
ся естественными. Вот почему охрана меньшинствами спа-
сенной памяти в специальных, ревностно оберегаемых цен-
трах способна лишь накалить добела истину всех мест
26
1ЫМИГИ. Без коммеморативной бдительности история
in.и ।(jo вымела бы их прочь. Это и есть главные бастисг
in i мест памяти. Но если бы тем, кто их защищает, ничто
п< угрожало, то не было бы необходимости их строить.
Г । mi воспоминания, которые они заключают в себе, были
1н.| действительно живы, в этих бастионах не было бы
щ жды. Если бы, напротив, история не захватила их, что-
iti.i деформировать, трансформировать, размять и пре-
нр.п н гь в камень, они не стали бы местами для памяти.
11меппо такое движение туда и обратно составляет их суть:
моменты истории, оторванные от течения истории, но
вновь возвращенные ей. Уже не вполне жизнь, но еще и
иг вовсе смерть, как эти ракушки, оставшиеся лежать на
бгрггу после отлива моря живой памяти.
Марсельеза или надгробные памятники тоже живут
и к ой двусмысленной жизнью, пронизанные смешанным
чувством причастности и оторванности. 14 июля в 1790 г.
уже было, но оно еще не было местом памяти. В 1880 г.
его превращение в национальный праздник сделало его
местом официальной памяти, по тогда дух Республики
еще являлся его подлинным ресурсом. А сегодня? Сама
уарата нашей живой национальной памяти заставляет нас
наблюдать за ней взглядом, лишенным наивности или без-
различия. Та память, которая мучит нас, но не является
более нашей, между стремительной десакрализацией и
временно восстановленной сакральностью. Внутренняя
привязанность, все еще заставляющая нас чувствовать себя
должниками по отношению к тому, что нас сделало, и
историческая удаленность, вынуждающая нас бесстраст-
но осматривать наследство и составлять его инвентарь.
У целевшие места памяти, в которых мы больше не жи-
вем, полуофициальные и полностью институционализи-
рованные, наполовину эмоциональные и чисто сентимен-
тальные; места единодушия при отсутствии единства, боль-
ше не способные выразить ни активной убежденности, ни
страстного участия, где, однако, еще прощупывается бие-
27
ние чего-то, оставшегося от символической жизни. Спол
зание от мемориального к историческому, от мира, где
были предки, в мир случайных отношений с тем, что нас
сделало, переход от тотемической истории к истории кри
тической — это и есть момент мест памяти. Больше никто
не прославляет нацию, но все изучают способы ее чество-
вания.
П. Память, захваченная историей
Таким образом то, что сегодня называется памятью,
относится не к памяти, но уже к истории. Всё, что называ-
ют горением памяти, есть окончательное исчезновение ее
в огне истории. Потребность в памяти есть потребность в
истории.
Безусловно, невозможно обойтись без этого слова. При-
мем его, но с четким осознанием различия между истин-
ной памятью, сегодня нашедшей свое убежище в жесте и
в привычке, в ремеслах, передающих свои навыки мол-
ча, в умениях тела, в механической памяти и рефлектор-
ных навыках, и памятью, превращенной в свою практи-
чески полную противоположность — в историю. Это — па-
мять добровольная и обдуманная, переживаемая как долг
и лишенная спонтанности, психологическая, индивидуаль-
ная и субъективная, а не социальная, коллективная и все-
объемлющая. Что же произошло между первой — непос-
редственной, и второй — косвенной? Это можно понять в
момент завершения современной метаморфозы.
Прежде всего, эта трансформированная память, в от-
личие от первой, является архивной. Опа вся основывает-
ся на том, что есть самого отчетливого в следе, самого
материального — в останках, самого конкретного — в за-
писанном на пленку, самого зримого — в образе. Движе-
ние, начавшееся с появлением письменности, находит свое
завершение в высокой точности фиксации и в магнитной
записи. Чем меньше память переживаема внутренне, тем
28
ьомт она нуждается во внешней поддержке и в ощути-
мы к гонках опоры, в которых и только благодаря кото-
рым она существует. Отсюда типичная для наших дней
одержимость архивами, влияющая одновременно как на
но \ную консервацию настоящего, так и на полное сохра-
нен нс всего прошлого.Чувство быстрого и окончательно-
|и исчезновения памяти смешивается с беспокойством о
। очном значении настоящего и неуверенностью в буду-
щем, чтобы придать зримое достоинство запоминающе-
юся самым незначительным останкам, самым путаным
i кидстсльствам. Разве не достаточно мы упрекали наших
предшественников за уничтожение или утрату свиде-
н льств, необходимых для познания, чтобы избежать та-
кого же упрека от наших потомков? Воспоминание пол-
। к итью превратилось в свою собственную тщательную ре-
конструкцию. Записанная на пленку память предостави-
архиву заботу помнить ее и умножать знаки там, где
она сбросила, как змея, свою мертвую кожу. В прошлом
коллекционеры, эрудиты, бенедиктинцы посвящали себя
(обиранию документов, превращаясь в маргиналов как
для общества, которое обходилось без них, так и для ис-
тории, которая без них писалась. Затем история-память
поместила эту сокровищницу в центр своей эрудитской
работы, распространяя ее результаты по тысячам соци-
альных каналов. Сегодня, когда историки подавлены куль-
том документов, все общество проповедует религию со-
хранения и производства архивов. То, что мы называем
памятью, — это на самом деле гигантская работа головок-
ружительного упорядочивания материальных следов того,
что мы не можем запомнить, и бесконечный список того,
что нам, возможно, понадобится вспомнить. «Память бу-
маги», о которой говорил Лейбниц, стала автономным
иститутом музеев, библиотек, складов, центров докумен-
тации, банков данных. По мнению специалистов, продол-
жение количественной революции через несколько деся-
гилетий приведет к умножению числа только обществен-
29
ных архивов в тысячу раз. Ни одна эпоха не стремилась и
такой же степени, как наша, к производству архивов. Дело
не только в количестве бумаг, которое спонтанно проиэ
водит общество нового времени, не только в существова
нии технических способов реконструкции и сохранения,
которыми оно располагает, но и в суеверном уважении,
которое оно испытывает к следам прошлого. По мере ис-
чезновения традиционной памяти мы ощущаем потреб-
ность хранить с религиозной ревностью останки, свиде-
тельства, документы, образы, речи, видимые знаки того,
что было, как если бы это все более и более всеобъемлю-
щее досье могло стать доказательством неизвестно чего
на неизвестно каком суде истории. Сакральное инвести-
рует себя в след, который является его отрицанием. Не-
возможно предсказать, что надо будет вспомнить. Отсю-
да — запрет разрушать, превращение всего в архивы, не-
дифференцированное расширение мемориального поля,
гипертрофированное раздувание функции памяти, связан-
ное именно с чувством ее утраты, и соответственное уси-
ление всех институтов памяти. Странную метаморфозу
претерпели профессионалы, которых раньше обычно
упрекали в мании сохранения, в том, что они являются
прирожденными производителями архивов. Сегодня ча-
стные предприятия и государственные учреждения нани-
мают архивистов, требуя от них сохранения всего, тогда
как профессионалы уже поняли, что главное в их ремес-
ле состоит в искусстве подконтрольного разрушения.
За несколько лет материализация памяти тоже стала
чрезмерно распространенной, децентрализованной, демок-
ратичной. В классическую эпоху было три источника по-
полнения архивов: знатный род, церковь и государство.
Кто только сегодня не считает себя обязанным записать
свои воспоминания, написать свои «мемуары», причем не
только самые незначительные участники исторических со-
бытий, но и свидетели их деятельности, их супруги и их
врачи? Чем менее экстраординарным является свидетель-
30
< । n< i, тем более достойной иллюстрацией средней менталь-
но» nt оно кажется. Результатом ликвидации памяти яв-
\hi'гея общее стремление все регистрировать. За одно
поколение воображаемый музей архивов чрезвычайно
пополнился. 1980 год — Год наследия — стал ярчайшим
примером этого, расширив значение понятия до самых
крайних пределов неопределенности. Десятью годами
p.iiu.iuc Аарусс 1970-го года издания еще определяет по-
ни гие «наследие» как «имущество, которое досталось от
। ца или матери». Малый Робер 1979-го года издания уже
। рактует его как «собственность, передаваемую по наслед-
। гну, культурное наследие страны». От очень ограничен-
ной концепции исторических памятников вместе с кон-
цепцией об исторических мест ах 1972 г. совершается рез-
кий переход к понятию, от которого теоретически ничто
нс должно ускользнуть.
Следует не только все охранять, но и все сохранять из
указующих знаков памяти, даже если точно неизвестно,
признаками какой памяти они являются. Создание архи-
ва с гало императивом эпохи. Тому имеется устрашающий
пример с архивами службы социального обеспечения —
> го беспрецедентное собрание документов, сегодня пред-
ставляющее собой 300 погонных километров чистой мас-
сы памяти, разбор которой с помощью компьютера мог
бы позволить, в идеале, прочесть об обществе все, что в
нем есть нормального и патологического, от режимов пи-
тания до образов жизни, в зависимости от районов про-
живания и профессий. Хотя, конечно, как сохранение, так
и возможное использование этой массы потребовало бы
драматического и зачастую невозможного выбора. Архи-
вы, архивы, от них всегда что-нибудь да останется! И если
привести другой пример, говорящий сам за себя, не к тому
же ли привело недавнее абсолютно законное увлечение
исследованиями в жанре устной истории? Только во Фран-
ции сейчас существует более трех сотен экипов, занятых
с бором «этих голосов, которые приходят к нам из про-
31
шлого» (Филлипп Жутар). Очень хорошо. Но если толь-
ко представить себе на одну секунду, что здесь речь идет
об архиве совершенно особого рода, создание которого
потребует 36 часов для обработки 1 часа записи и исполь-
зование которого не может быть пунктуально точным хотя
бы потому, что такие документы приобретают смысл лишь
при интегральном прослушивании, нельзя не задаться воп-
росом о возможности их использования. Чье стремление
помнить несут в себе в конечном счете эти свидетельства —
опрошенных или спрашивающих? Архив изменяет свой
смысл и статус просто в силу своего объема. Он перестал
быть более или менее умышленно оставленным релик-
том пережитой памяти, но стал осознанным и организо-
ванным выделением утраченной памяти. Он удваивает
пережитое, которое само часто создается в процессе соб-
ственной фиксации (из чего иначе сделаны новости?) как
вторичная память, память-протез. Бесконечное производ-
ство архива — это обостренное свойство нового сознания,
наиболее отчетливое выражение терроризма историзиро-
в энной памяти.
Память эта входит в нас извне, и мы интериоризируем
ее как индивидуальное принуждение, поскольку она боль-
ше не является социальной практикой.
Переход от памяти к истории заставил каждую соци-
альную группу дать новое определение своей идентичнос-
ти через оживление ее собственной истории. Жажда по-
мнить превращает каждого в историка самого себя. Им-
ператив истории также вышел далеко за пределы крут а
профессиональных историков. Не только обычные мар-
гиналы официальной истории оказались захвачены по-
требностью восстановить свое исчезнувшее прошлое. Все
организованные сообщества, интеллектуальные и нет,
ученые и нет, а не только этносы и социальные меньшин-
ства, обнаруживают необходимость заняться поисками
основ своей собственной организации, разысканием сво-
32
н ч ii( токов. Нет семьи, в которой какой-нибудь из ее чле-
.... не был бы с недавних пор увлечен стремлением как
mi i/kiio полнее реконструировать скрытые обстоятельства
н|'нисхождения его семьи. Рост генеалогических изыска-
нии это феномен недавний и массовый: годовой отчет
11.1циопального архива приводит цифру — 43 % обраще-
нии такого рода от общего числа посещений против 38 %
in н-ciцений архива универсантами. Поразительный факт:
in’ профессиональные историки являются авторами наи-
более значительных исследований по истории биологии,
физики, медицины или музыки, а биологи, физики, ме-
дики или музыканты. Деятели образования сами взяли в
i пои руки историю образования, начиная от физического
образования и кончая философией. В эпоху потрясений
ус гоев знаний каждая дисциплина стремится проверить
। пои основания с помощью их ретроспективного просмот-
ра. Социология направляется на поиски своих отцов-ос-
i шпателей, этнология пытается исследовать свое прошлое,
начиная от хронистов XVI в. и кончая колониальными
администраторами. Вплоть до литературной критики все
работают над тем, чтобы восстановить генезис своих ка-
тегорий и своей традиции. Глубоко позитивистская, точ-
нее — шартисгская история, в то самое время, когда исто-
рики отвергли ее, получает благодаря этой крайней и не-
отложной потребности столь глубокое распространение
и проникновение, каких она не знала никогда прежде.
Конец истории-памяти умножил число отдельных памя-
тей, которые потребовали своей истории.
Дан приказ вспомнить себя, но это мне надлежит вспом-
нить себя,и это я тот, кто меня вспоминает. Историческая
метаморфоза памяти оплачивается определенной транс-
формацией индивидуальной психологии. Оба явления на-
столько тесно взаимосвязаны между собой, что трудно
не заметить их полного хронологического совпадения. Не
в конце ли прошлого века, когда начали особенно сильно
ощущаться толчки, разрушительные для традиционного
33
равновесия, и прежде всего, распад деревенского мира,
память выходит в центр философских размышлений бла
годаря Бергсону, в центр психологии личности благода
ря Фрейду, в центр литературной автобиографии благо
даря Прусту? Взлом того, что было для нас образом са
мой памяти, воплощенном в земле, и внезапное начало
памяти в сердце индивидуальных идентичностей являют-
ся как бы двумя сторонами одного перелома, началом
процесса, вызвавшего сегодняшний взрыв. Разве не к
Фрейду и Прусту восходят два интимных и вместе с тем
универсальных места памяти, каковыми являются перво-
бытная трапеза и знаменитая «петит Мадлен»? Решитель-
ное смещение того, что передает память: вместо истори-
ческого — психологическое, вместо социального — инди-
видуальное, вместо всеобщего — субъективное, вместо по-
вторения — ремеморация. Оно возвещает новый режим
памяти в качестве абсолютно частного дела. Интеграль-
ная психологизация современной памяти ввела совершен-
но новую экономию идентичности моего Я, механизмов
памяти и отношений с прошлым.
В связи с этим можно сказать с определенностью, что
над индивидом и только над ним постоянно и безраздель-
но довлеет принуждение памяти, как если бы ее возмож-
ное возрождение зависело от личного отношения к свое-
му прошлому. Отчуждение частной памяти из общей па-
мяти придает закону воспоминания интенсивность внут-
реннего принуждения. Оно возлагает на каждого обязан-
ность помнить себя и превращает обнаружение принад-
лежности в принцип и секрет идентичности. Эта принад-
лежность, в свою очередь, полностью завладевает им. Ког
да память больше не находится повсюду, она исчезает как
бы в никуда, как если бы ее не решилось поддержать,
приняв это решение в одиночестве, индивидуальное с»
знание.Чем меньше память переживается коллективно5
тем больше она нуждается в специальных людях, кото
рые сами превращают себя в людей-память. Это как в нут
34
....ни голос, который говорит корсиканцу: «Ты должен
...... корсиканцем!» и «Нужно быть бретонцем!» бретон-
’• гобы понять силу этого зова, пожалуй, нужно обра-
ми i.< и к еврейской памяти, которая так активизируется
и 1ПДНЯ среди стольких евреев, не исповедующих иуда-
и iM Еврейским в этой традиции, у которой не было дру-
и <и истории, кроме своей собственной памяти, является
in oh ходимость помнить о бытии, но это неотступное вос-
нпмииание, однажды интериоризированное, востребует
inn полностью. Память о чем? В известном смысле, па-
мп и. о памяти. Психологизация памяти всех и каждого
пылала чувство, что от уплаты невозможного долга в
1и)Н('Ч1Юм счете зависит спасение.
11амять-архив, память-долг; необходим третий признак,
•п’обы закончить эту картину метаморфоз: память-дис-
НИЩИЯ.
Потому что наше отношение к прошлому, по крайней
мере такое, которое раскрывается в наиболее важных
исторических произведениях, совершенно другое, чем
ожидается от памяти. Уже не ретроспективная протяжен-
ность, но освещение прерывности. Раньше истинное вос-
приятие прошлого историей-памятью состояло в конста-
тации того, что на самом деле прошлое не прошло. Его
могло оживить усилие ремеморации, а само настоящее
( гановилось своего рода повторенным, актуализирован-
ным, призванным прошлым, присутствующим благода-
ря такому сращению и такой укорененности. Безусловно,
для возникновения чувсгва прошлого должна была воз-
никнуть трещина между настоящим и прошлым, чтобы
появилось «до» и «после». Но это в гораздо меньшей сте-
пени означало разграничение, переживаемое как ради-
кальное отличие, чем интервал, переживаемый как уста-
новление преемственности. Две великих модели интел-
лигибельности истории — прогресс и декаданс — во вся-
ком случае с начала Нового времени точно выражают
35
этот культ непрерывности, достоверность знания о том,
кому и чему мы обязаны тем, чем мы являемся. Отсю
да — важность идеи происхождения, этой профанирован
ной версии мифологического повествования, которая по-
зволила сохранить обществу, идущему дорогой националь
ной секуляризации, смысл и потребность в сакральном.
Чем более великим было происхождение, тем больше оно
возвеличивало нас. Ибо мы восхваляем себя, восхваляя
прошлое. Это соотношение распалось. Таким же обра-
зом, как будущее, зримое, предсказуемое, управляемое,
имеющее определенные границы, проекция настоящего,
превратилось в невидимое, непредсказуемое, неподвлас-
тное, мы симметрично перешли от идеи видимого про-
шлого к идее невидимого прошлого, от прошлого устой-
чивого к прошлому, которое мы переживаем как разрыв,
от истории, искавшей себя в непрерывности памяти, к па-
мяти, спроецировавшей себя на прерывность истории.
Больше говорят не об «истоках», а о «рождении». Про-
шлое дано нам как радикально иное, оно — это тот мир,
от которого мы отрезаны навсегда. И в выявлении всей|
протяженности, которая нас отделяет от прошлого, наша
память обретает свою истинность, но именно эта опера-
ция ее тут же подавляет. 1
Поэтому не нужно считать, что чувство прерывности
удовлетворяется размытостью и текучестью ночи. Пара-
доксальным образом дистанция побуждает к сближению,
которое ее устраняет и сообщает ей свою вибрацию. Ни-
когда желание почувствовать тяжесть земли на сапогах,
руку дьявола в тысячном году и зловоние городов XVIII в.
не было столь сильно. Но искусственно вызванная галлю-
цинация о прошлом, безусловно, невозможна вне режи-
ма прерывности. Вся динамика наших отношений с про-
шлым заключена в тонкой игре недосягаемого и уничтси
женного. В самом первом смысле слова речь идет о рец
резентации, радикально отличной от того, что искалг
древняя идея воскрешения. На самом деле воскрешение
36
i н им бы всеобъемлющим ни было это понятие, предпо-
.1ло иерархию искусного воспоминания, точно распре-
и мпощего тень и свет, чтобы упорядочить перспективу
111 и и । (лого под взглядом телеологически помысленного на-
। н ипцего. Утрата единого экспликативного принципа низ
пгргла пас во взорвавшуюся вселенную и одновременно
но иц’ла всякий объект, каким бы низменным, невозмож-
ным и недоступным он ни был, в ранг исторической мис-
irpiiii. В прошлом мы знали, чьи мы были сыновья. Се-
11 'дня мы знаем, что мы дети ничьи и всего мира. Ничего
кг ведая о том, из чего будет сконструировало прошлое,
неуверенное беспокойство превращает все в след, в воз-
можный признак, в намек истории, которой мы заража-
ем невинность вещей. Наше восприятие прошлого — это
। грастное овладение тем, что не принадлежит нам боль-
ше. Оно требует точного приспособления для достиже-
ния уграченной цели. Репрезентация исключает фреску,
фрагмент, целостную картину: она действует через точ-
ное освещение, через увеличение числа избранных дета-
м й. Память является интенсивно ретинной и сильнейшим
образом телевизуальной. Как не увидеть связь между, на-
пример, знаменитым «возвращением повествования» (про-
являющимся в самых современных способах писать исто-
рию) и всесильностью образа и кино в современной куль-
туре? Повествование, на самом деле совершенно отлич-
ное от традиционного повествования с его замкнутостью
на себе самом и с его прерывистым ритмом. Как не свя-
зать скрупулезное отношение к архивному документу,
когда подносишь к глазам листы подлинного документа,
или обостренную чувствительность к устному слову, ког-
да цитируешь действующих в них героев, заставляя слы-
шать их голоса,— с аутентичностью непосредственного, к
которой мы, впрочем, были приучены? Как не увидеть в
этом вкусе к повседневности прошлого единственный для
нас способ восстановить медлительность дней и запахи
вещей? И в этих биографиях анонимов как не увидеть
37
способ дать нам понять, что массы состоят не из масс?
Как не прочесть в этих посланиях прошлого, данных нам
микроисторическими исследованиями, стремление при-
равнять историю, которую мы восстанавливаем, к исто-
рии, которую мы переживаем сами? Это можно было бы
назвать памятью-зеркалом, если бы зеркала отражали не
наш собственный образ, а нечто другое, потому что то,
что мы стремимся обнаружить,— это отличие, а в облике
этого отличия — внезапный отблеск неуловимой идентич-
ности. Это уже не происхождение, а дешифровка того,
что мы есть, в свете того, чем мы не являемся больше.
Такова алхимия сущности, которая, странным образом,
внесла свой вклад в превращение занятий историей, ре-
шительный прорыв которой к будущему должен был бы
раскрепостить нас, в хранилище секретов настоящего.
Впрочем, история повинна в этом меньше, чем историк,
трудами которого завершается травмирующая операция.
Странна его судьба. В прошлом его роль была проста, и
он точно знал свое место в обществе: быть гласом про-
шлого и тем, кто может тайно посещать будущее. В этом
качестве его личность значила меньше, чем его роль: от
него не требовалось большего, чем быть эрудированной
прозрачностью, орудием передачи, тире — по возможнос-
ти незаметным — между грубой материальностью доку-
ментов и следом, запечатленным в памяти. В конечном
итоге это — отсутствие, одержимое объективностью. Из
взрыва истории-памяти возникает новый персонаж, гото-
вый признать, в отличие от своих предшественников, тес-
ную, интимную и личную связь между ним и его предме-
том изучения. Даже более того: готовый открыто провоз-
гласить эту связь, углубить ее, превратить ее из препят-
ствия в рычаг своего познания. Потому что сам этот пред-
мет всем в себе обязан субъективности историка, являет-
ся его творением и его созданием. Именно он и есть инст-
румент метаболизма, дающий жизнь и смысл тому, что
без него само по себе не имело бы ни смысла, ни жизни.
38
Вообразим общество, полностью захваченное чувством
• в* м'й историчности: оно оказалось бы не способно порож-
ы 11. историков. Живя целиком под знаком будущего, это
общество довольствовалось бы процессом автоматичес-
ки! регистрации самого себя и удовлетворялось бы счет-
ными машинами, оставляя задачу понять себя неопреде-
v иному будущему. Напротив, наше общество, определен-
но вырванное из собственной памяти размахом своих из-
менений, но тем более одержимое идеей понять себя ис-
। прически, обречено превращать историка во все более и
< и * \се центральный персонаж. Потому что в нем вопло-
щается то, от чего наше общество хотело бы, но не мо-
/кет избавиться: историк — это тот, кто мешает истории
быть только историей.
И таким же образом, каким благодаря панорамной
дистанции мы получаем крупный план, каким ценой оп-
ределенной странности получаем искусственную сверх-
нравдивость прошлого, изменение способа восприятия ма-
ниакально возвращает историка к традиционным сюже-
ым, от которых он давно отвернулся, к орудиям нашей
национальной памяти. Возвращение к порогу родного
дома, старому заброшенному и неузнаваемому жилищу.
(’ гой же знакомой старинной мебелью, но при другом
освещении. В ту же мастерскую, но для другой работы. В
гу же пьесу, но в другой роли. Историография, неизбеж-
но вступившая в свою эпистемологическую пору, с опре-
деленностью завершает эру идентичности. Память не-
отвратимо схвачена историей. Больше нет человека-па-
мяти, но в самой его личности — место памяти.
Ш. Места памяти, другая история
Места памяти принадлежат двум царствам, что прида-
ст им и интерес, и сложность одновременно: простые и
двусмысленные, естественные и искусственные, немедлен-
но открывающиеся самому непосредственному чувствен-
39
ному опыту и в то же время пригодные для самого абст
рактного анализа.
На самом деле они являются местами в трех смыслах
слова — материальном, символическом и функциональ-
ном,— но в очень разной степени. Даже место, внешне
совершенно материальное, как, например, архивное храни-
лище, не является местом памяти, если воображение не
наделит его символической аурой. Даже чисто функцио-
нальное место, такое как школьный учебник, завещание
или ассоциация ветеранов, становится членом этой кате-
гории только на основании того, что оно является объек-
том ритуала. Минута молчания, кажущаяся крайним при-
мером символического значения, есть как бы материаль-
ное разделение временного единства, и она же периоди-
чески служит концентрированным призывом воспомина-
ния. Три аспекта всегда сосуществуют. Можно ли назвать
местом памяти столь абстрактное понятие, как поколение?
Оно материально по своему демографическому содержа-
нию, функционально в соответствии с нашей гипотезой,
поскольку оно осуществляет одновременно кристаллиза-
цию воспоминания и его передачу. Но оно и символично
по определению, поскольку, благодаря событию или опы-
ту, пережитому небольшим числом лиц, оно характери-
зует большинство, которое в нем не участвовало.
Игра памяти и истории формирует места памяти, взаи-
модействие этих двух факторов приводит к их определе-
нию друг через друга. Прежде всего необходимо жела-
ние помнить. Если отказаться от этого приоритета как
принципа, можно быстро перейти от узкого определения,
самого богатого по своему потенциалу, к определению]
ВОЗМОЖНОМУ, НО рЫХЛОМу, ОДНаКО Способному ВКЛЮЧИТЬ]
в категорию все объекты, достойные воспоминания. Это!
немного напоминает правила старой доброй историчес-j
кой критики, которая мудро различала «прямые источ-
ники», т. е. те, которые общество сознательно оставило
для своего воспроизведения — например, закон, произве
40
о ппс искусства, и неопределенную массу «косвенных ис-
Hi iiiifKOB», т. е. все свидетельства, которые оставила эпо-
«и, иг задумываясь об их будущем использовании исто-
। nib ими. Если отсутствует эта интенция памяти, то места
iiiiMirni являются местами истории.
11.1 против, очевидно, что если бы история, время, изме-
и< пип пс принимали в этом участия, следовало бы огра-
ничиться простым историческим исследованием мемори-
itMni. Итак, места, но места смешанные, гибриды и му-
< и» ।и, интимно связанные с жизнью и смертью, со време-
нем и вечностью, в спирали коллективного и индивиду-
। м.ного, прозаического и сакрального, неизменного и под-
пижного. По ленте Мебиуса они вращаются вокруг самих
< । (hi. Потому что если правда, что фундаментальное пра-
III । мест памяти на существование состоит в остановке
пргмени, в блокировании работы забытья, в фиксирова-
нии настоящего порядка вещей, в обессмерчивании смер-
И1, в материализации нематериального (золото есть един-
» । ценная память денег) для того, чтобы заключить макси-
мум смысла в минимум знаков, тогда очевидно, что имен-
но делает их крайне привлекательным понятием — тот
факт, что места памяти не существуют вне их метамор-
фоз, вне бесконечного нагромождения и непредсказуе-
мого переплетения их значений.
Возьмем два примера. Вот возможное место памяти —
революционный календарь, поскольку в качестве кален-
даря он должен был создать априорные кадры всей воз-
можной памяти, а в качестве революционного календаря
но своей рубрикации и по своей символике он, по смело-
му выражению его главного организатора, предполагал
«открыть новую книгу истории», чтобы, по словам одно-
го из его авторов, «вернуть французам самих себя». Ради
тгого — остановить историю в час Революции, закрепив
на будущее в воображении революционной эпохи меся-
цы, дни, века и годы. Их названия достаточно красноре-
чивы. Тем не менее то, что, на наш взгляд, превращает
41
революционный календарь в место памяти — это как раз
его неспособность стать тем, чем его хотели видеть его
создатели. Если бы мы жили сегодня по его ритмам и он
бы стал для нас столь же привычен, как грегорианский
календарь, он утратил бы свою специфику в качестве
места памяти. Он бы стал основанием нашего мемори
ального пейзажа и мог бы служить только для упорядо
чения всех других возможных мест памяти. Но вот что
спасает его от полной неудачи: благодаря ему возникают
ключевые даты, события, навсегда связанные с ним,-
Вендемьер, Термидор, Брюмер. Так мотивы мест памяти
кружатся вокруг самих себя, множась в кривых зерка
лах, являющихся их истиной. Никакому месту памяти нс
избежать этих непреложных арабесок.
Возьмем теперь знаменитый случай: «Путешествие по
Франции двух детей». Это место памяти опять же бес
спорное, поскольку оно, так же как и «Малый Лависс^
сформировало память миллионов юных французов в т|
времена, когда министр народного образования мог зая
вить, взглянув в 8.05 на свои карманные часы: «Сейчас
все наши дети переходят через Альпы». Это место пам>
ти также потому, что это перечень того необходимой,
что следует знать о Франции, идентификационное пов<
ствование и путешествие-инициация. Но вот когда все у
ложняется: внимательное чтение вскоре показывает, чт
во время своего выхода в свет в 1877 г. «Путешествие..,
создает клише о той Франции, которой уже больше не
что начиная с 16 мая того года, ставшего свидетелем у
репления республики, оно черпает свою привлекател
ность в утонченном очаровании прошлого. Книга для д
тей, которая, как это часто случается, отразила памяп
взрослых, чем отчасти и был вызван ее успех. Такова ве
хняя точка памяти, а нижняя? Накануне войны, 35 л<
спустя после его опубликования, это произведение, в<
еще сохранявшее свою власть, безусловно, уже читало<
как воспоминание, как ностальгическая традиция. Вот д
42
। t мн льство: несмотря на его переработку и переизда-
........ старое издание, кажется, раскупалось лучше, чем
....г. Затем книга появлялась все реже, и кроме как в
маргинальных группах и окраинных провинциях, ее боль-
мн пг используют, ее забывают. «Путешествие...» посте-
mi и к» становится редкостью, сокровищем чердака или до-
ь \ мгн гом для историков. Книга покидает коллективную
нм мять, чтобы войти в память историческую, а затем и в
1ымигь педагогическую. В 1977 г., в год ее столетия, когда
"1\(шь гордыни» выходит тиражом в миллион экземпля-
ром и когда Франция Жискара Д’Эстена, индустриаль-
ная, по уже затронутая экономическим кризисом, начи-
1ыгт открывать свою устную память и свои крестьянские
м ipiiii,— вот когда «Путешествие...» снова переиздается и
* нова включается в коллективную память, но уже в дру-
। vio, чтобы пережить новые забвения и новые реинкарна-
ции. Что послужило свидетельством известности мест па-
мяти — их изначальная интенция или бесконечное воз-
вращение циклов памяти? Очевидно, и то и другое: все
мп та памяти — это отдельные предметы, отсылающие к
памяти как к целому.
Гаков принцип двойной принадлежности, который при
неисчислимой множественности мест позволяет существо-
паи» их иерархии, их ограниченному полю, репертуару
их гамм.
Гели пристально вглядеться в большие категории объек-
гов, которые принадлежат к виду «места памяти»,— во
нее то, что относится к культу мертвых, что принадле-
жит наследию, что управляет присутствием прошлого в
настоящем, — то станет ясно, что некоторые из них, не
вошедшие в него из-за узкого определения, могут претен-
довать на то, чтобы быть включенными в него, и что, на-
против, многие, и даже большинство из тех, которые мог-
ли бы быть включены в него в принципе, должны на са-
мом деле быть исключены. То, что превращает некото-
43
рые доисторические, географические или археологичес
кие памятники в места памяти, иногда даже в самые зна
чительные из них, является именно тем, что должно было
бы помешать им стать таковыми,— полное отсутствие
желания помнить, компенсируемое чудовищным бреме
нем, наложенным на них временем, наукой, мечтой и па
мятью людей. Напротив, никакой другой участок грани-
цы не имеет того же статуса, что Рейн, или, например,
Финистер, этот «предел земли», которому знаменитые
страницы Мишле сообщили благородство. Все конститу-
ции, все дипломатические договоры — это места памяти,
но Конституция 1793 г. обладает другим статусом, чем ос-
новополагающее место памяти,— Конституция 1791 г., с
ее Декларацией прав человека. И Нимвегеиский мир не
обладает тем же статусом, что расположенные на двух
противоположных концах истории Европы Верденский
договор и Ялтинская конференция.
В их смешении память диктует, а история записывает.
Вот почему два домена достойны того, чтобы остановить-
ся на них особо: исторические события и книги по исто-
рии. Не будучи смесью памяти и истории, но являясь ин-
струментами памяти в истории, они позволяют четко оп-
ределить пределы исследования. Разве всякий великий
исторический труд и всякий исторический жанр не явля-
ются по определению местами памяти? Всякое великое
событие и само понятие события — не являются ли и они
по определению местами памяти? Оба вопроса требуют
точного ответа.
Только те книги по истории являются местами памяти,
основу которых составляет переработка памяти, или те,
что представляют собой педагогические бревиарии. Ве-
ликие моменты фиксации новой исторической памяти во
Франции не так уж многочисленны. В XIII в. — это «Bet
ликие французские хроники», сконденсировавшие дин^
этическую память и создавшие модель историографичес|
кой работы на многие века. В XVI в., в эпоху Религиоэ
44
•илх войн, это так называемая школа «совершенной исто-
рии» (histoire parfaite), которая разрушила легенду о тро-
ит ком происхождении монархии и восстановила галльс-
кую древность. «Изучение Франции» Этьена Паскье (1599)
представляет собой, уже своим современным названием,
1м()лематическую иллюстрацию этого. Историография
конца Реставрации создает современную концепцию ис-
|ирии: «Письма об истории Франции» Огюстена Тьерри
(1820) являют собой первый толчок в этом направлении,
и их полная публикация в 1827 г. практически с точнос-
||>ю до нескольких месяцев совпадает с появлением по-
настоящему первой работы такого рода, принадлежащей
игру выдающегося дебютанта Мишле,— «Новой истории
и кратком изложении», и с началом чтения Гизо курса
-История цивилизации Европы и Франции». Наконец, это
национальная позитивистская история, манифест кото-
рой — «Исторический журнал» (1876), а памятник — «Ис-
тория Франции» Лависса в 27 томах. То же относится и к
мемуарам, которые, хотя бы только в силу своего имени,
могли стать местами памяти. Это же относится и к авто-
биографиям, и к частным дневникам. «Записки с того
с пета», «Жизнь Анри Брюлара» или «Дневник Амьели»
янляются местами памяти не потому, что они самые луч-
шие и значительные, но потому, что они усложняют про-
стое упражнение памяти игрой вопрошания самой памя-
ти. Это касается и мемуаров государственных людей. От
(лолли и до де Голля, от «Завещания» Ришелье и до «За-
писки со Святой Елены» и «Дневника» Пуанкаре, незави-
симо от неравнозначной ценности этих текстов, жанр со-
храняет свои постоянные законы и свою специфику: он
подразумевает знание других мемуаров, раздвоение че-
ловека на человека пера и человека действия, идентифи-
кацию индивидуального дискурса с дискурсом коллектив-
ным и включение личных интересов в круг интересов го-
сударства: таковы мотивы, принуждающие рассматривать
их в панораме национальной памяти как места памяти.
45
А «великие события»? Из них только два типа входят п
места памяти, что никак не зависит от их величия. С од
ной стороны, события иногда безвестные, едва замечен
ные в тот момент, когда они происходили, но которым
будущее ретроспективно пожаловало величие истоков,
торжественность разрывов, открывающих новые эпохи.
И с другой стороны, события, в ходе которых до извест
ной степени ничего не происходит, но которые мгновен-
но обретают глубоко символический смысл и становятся
в самый миг их развития своей собственной досрочной
коммеморацией. История современности благодаря сред-
ствам массовой информации каждый день множит такие
мертворожденные попытки. С одной стороны, например,
избрание Гуго Калета королем — случай без блеска, но
десять веков продолжения рода, прервавшегося на эша-
фоте, придают этому событию вес, которого оно не име-
ло изначально. С другой стороны — Ретондский вагон,
Монтуарское рукопожатие или борьба за Елисейские поля
во время Освобождения. Событие-основание или собы-
тие-спектакль. Но ни в коем случае не событие само по
себе: допустить такое толкование понятия мест памяти
означало бы отрицать всякую его специфику. Напротив,
исключение такого толкования ограничивает понятие: па-
мять «вцепляется» в места, как история — в события.
Ничто, напротив, не мешает вообразить внутри поля|
всевозможные градации и всевозможные очевидные клас-
сификации. Начиная с мест самых естественных, данных
в конкретном опыте, таких как кладбища, музеи и годов-
щины, до мест, наиболее изощренно интеллектуально
сконструированных, которые тоже ничто не может поме-
шать использовать: не только уже упоминавшееся «поко-
ление», линьяж, «район-память», но также «разделы»
(«partages»), на которых основано все восприятие фран-
цузского пространства, или картины-пейзажи («paysage
com me peitnure»), мгновенно понятные, если вспомнить
Коро или «Сент-Виктуар» Сезанна. Если сделать акцент^
46
nil материальном аспекте мест памяти, они расположатся
. «мп собой в соответствии с широкой градацией. Вот, на-
ii|iiiMrp, переносные места памяти, но отнюдь не самые
иг шачительные. Народ-память преподносит главный при-
мер тгого в виде «Законов таблиц». Вот топографические
мп та, полностью зависящие от их точной локализации и
• • । их укорененности в почву. Но это также и все туристи-
...кие места, и Национальная библиотека, столь же свя-
нншая с дворцом Мазарини, как Национальный архив —
। дворцом Субизов. Вот места монументальные, которые
нс « путаешь с местами архитектурными. Первые, статуи
и mi надгробные памятники, получают свое значение от
их внутренней сущности. Даже несмотря на то, что их
\окализация далеко не безразлична, любая другая лока-
м1 нация могла бы найти себе оправдание, не оспаривая
их значения, что не применимо к ансамблям, построен-
ным временем, черпающим свою неповторимость в слож-
ных соотношениях своих элементов. Таковы зеркала мира
пли эпохи — Шартрский собор или Версальский дворец.
Не обратиться ли теперь к функциональному домену
мест памяти? Тогда раскроется веер мест, начиная от по-
। в я (ценных исключительно поддержанию непередаваемо-
। < > опыта и исчезающих вместе с теми, кто его пережил,
таких как ассоциации ветеранов, и кончая теми тоже пре-
ходящими местами, право на существование которых
। >6условлено педагогическими нуждами, такими как учеб-
ники, словари, хрестоматии или «поучительные книги»,
которые в классическую эпоху главы семейств писали в
назидание своим потомкам. Обратить ли больше внима-
ния на символическую составляющую? В этом случае
можно противопоставить, например, места доминирую-
щие и места доминируемые. Первые, поразительные и
триумфальные, значительные и обычно подавляющие,
будь то в силу национального или административного ав-
торитета, но всегда стоящие на возвышении, обычно об-
дают холодом и торжественностью официальных цере-
47
моний. Туда приходят против воли. Вторые — это места
убежища, святилища спонтанной преданности и безмол
вных паломничеств. Это живое сердце памяти. С одног
стороны, Сакре-Кер, с другой — популярное паломничс
ство в Лурд; с одной стороны — национальные похоронь
Поля Валери, с другой — захоронение Жан-Поль Сартра
с одной стороны — траурная церемония в Нотр-Дам в свя
зи со смертью де Голля, с другой — кладбище Коломбе.
Можно до бесконечности оттачивать классификации
противопоставлять места публичные и частные, мест;
памяти в чистом виде, полностью исчерпываемые их ком
меморативной функцией,— такие, как надгробные речи
Дуомон или Стена коммунаров, и те, чье измерение па
мяти — лишь одно из многих в фасциях их символичес
ких значений — национальный флаг, праздник, паломни
чество и т. д. Интерес этого наброска типологии состою
не в его точности или всеохватности и даже не в богат
стве вызываемых им ассоциаций, но в том факте, чтс
такая типология возможна. Она показывает, что невиди
мая нить связывает объекты, не очевидно взаимосвязан
ные между собой, и что объединение под общей рубри
кой кладбища Пер-Лашез и «Общей статистики Фран
ции» — это не сюрреалистическая встреча зонтика с утю
гом; что существует выраженная сеть этих разных идеи
точностей, бессознательная организация коллективной па
мяти, которой мы позволяем осознать самое себя. Мест?
памяти — это наш момент национальной истории.
Простая, но определяющая черта ставит места памят
абсолютно вне всех тех типов историописания, старых i
новых, к которым мы привыкли. Все исторические и на
учные подходы к памяти, будь их предметом память нц
ции или социальных ментальностей, имели дело с realic
с самими вещами, предельно живую реальность которы
они стремились познать. В отличие от всех исторически
объектов, места памяти не имеют референции в реальнс
48
*<1 II \ и, скорее, они сами являются своей собственной
। * >|н рспцней, знаками, которые не отсылают ни к чему,
> |м»мг самих себя, знаками в чистом виде. Это не значит,
ни \ ник пет содержания, физического существования и
н. (- *|ши, совсем напротив. Но местами памяти их делает
» и p.i । то, благодаря чему они ускользают от истории.
I < разрыв в неопределенности профанного — про-
। ели гва или времени, пространства и времени,— круга,
ши । pi! которого все имеет смысл, все означает, все сим-
IIH мпирует. С этой точки зрения, место памяти— это двой-
... место. Избыточное место, закрытое в себе самом, зам-
< щ । не в своей идентичности и собранное своим именем,
ни постоянно открытое расширению своих значений.
’) i t > и создает их историю — и самую банальную, и ме-
нгг ординарную, от очевидных сюжетов с самым класси-
I* * ним материалом, от лежащих под руками источников
и (<1мых нсизощренных методов исследования. Можно
подумать, что это возвращение к позавчерашнему дню
in । прической науки, но эта история исходит из совсем
другого источника. Ее предметы постижимы только в их
непосредственной эмпиричности, но суть не в этом, она
не может выразить себя в категориях традиционной ис
|ории. Историческая критика целиком обернулась кри-
i пиеской историей, а не только инструментом ее работы,
по: (рождающейся из самой себя, чтобы жить во второй
< (тисни (au second degre). Это история абсолютно транс-
ферная (которая, как война, есть искусство исполнения),
। о тканная из хрупкой удачи отношений между восстанов-
м ппым в памяти предметом и целостной увлеченностью
историка своим сюжетом. История, опирающаяся в ко-
печном счете только на то, что она способна мобилизо-
иать, на редкую, неосязаемую, едва выразимую связь, жи-
вущую в нас благодаря неискоренимой, плотской привя-
занности к ее порой уже увядшим символам. Оживление
ист ории в стиле Мишле, заставляющей думать о пробуж-
дении скорби любви, о чем так хорошо говорил Пруст,—
49
это момент, когда спадают, наконец, оковы одержимости
страстью, когда истинно печальным становится прекра
щение страдания от того, от чего страдал так долго, мо
мент, понятный лишь благодаря доводам рассудка, но нс
безрассудности сердца.
Ссылка весьма литературная. Следует ли сожалеть об
этом или, напротив, полностью ее оправдать? Оправ да
ние ее опять же диктуется нашей эпохой. Память на са-
мом деле всегда знала только две формы легитимизации:
историческую и литературную. Они практикуются парал-
лельно, но до сих пор по отдельности. Сегодня граница
стерлась, и из почти одновременной смерти истории-па-
мяти и памяти-фикции родился новый тип истории, леги-
томность и престиж которого базируется на новом отно-
шении к прошлому и на другом прошлом. История — это
то, как мы воображаем замену. Возрождение историчес-
кого романа, популярность персонифицированного доку*
мента, воскрешение исторической драмы, успех повество-
вания устной истории — чем объяснить все это, если не
перерождением слабеющей художественной прозы? Ин-
терес к местам памяти, в которых укрепился, сконденси-
ровался и самовыразился исчерпанный капитал нашей
коллективной памяти, восходит к этому чувству. Исто*
рия, глубина эпохи, оторванной от своих глубин, подлин-
ный роман эпохи без подлинного романа. Память, пере*
двинутая в центр истории,— это неопровержимая скорбь
литературы.
НАЦИЯ-ПАМЯТЬ
Гл ли попробовать теперь, в свете этих 48 текстов, к
мн-орым следует добавить 18 статей из тома «Республи-
заняться их возможной перекомпоновкой, то легко
обнаружить четыре типа национальной памяти.
1(грвый соответствует феодальной монархии и перио-
и самоопределения и укрепления государства. Затянув-
шееся становление, сопровождаемое навязчивой озабочен-
п"(тыо вопросом происхождения, будь то троянского,
франкского или галльского, неразрывно соединило утвер-
ждение легитимности с притязаниями на славную древ-
ши гь. Память, по сути, королевская, в силу ее связи с лич-
ностью короля, превосходство которого она гарантирует
и । юггость которого устанавливает. Отсюда — религиоз-
ный, политический, символический, историографический
н и пеалогический характер всех тех мест, где кристал-
мыуггся эта память. Если ее главные аспекты группиру
инея под знаком «наследия», то это потому, что даже в
чпдг своего развития память стремится представить себя
i .ik ритуал без возраста и санкционировать свое положе-
ние во времени, апеллируя ко вневременному или сверхъе-
• из гвепному. В ней берет свое начало святость нацио-
Ш1ЛЫЮГО еще до нации, и эту святость монархическая
ними гь завещает всем последующим формам националь-
ной памяти, обеспечивая ей ее непреходящую ценность.
51
Все механизмы, с помощью которых светская и респуб
ликанская память будет стремиться присвоить себе это
наследие сакральности, унаследуют кое-что из приемов, (
помощью которых теологи монархии, королевские исто
риографы и чины короны умудрились сообщить инсти
туту монархии, представлению о теле короля нечто бо
жесгвенное, восходящее к Церкви и к телу Христа. Так
что это — основополагающая память, которую выражают
в ее христианской и династической версии «Великие фран
цузские хроники», а в ее галликанской и парламентской
версии — «Исследования Франции» Этьена Паскье. Она
обнаруживается также в территориальном формирова
нии — от феодальных границ до политических рубежей,
в символике государства от первых Валуа до Людовика
XIV и в «мемуарах шпаги», которые от Коммина и Мон-
люка и до кардинала де Ретца составили первую тради-
цию государственных воспоминаний.
Другой тип памяти — эт о чистое выражение памяти-
государства (memoire-Etat), монументальной и впечатляю-
щей, полностью поглощенной образом своей собственной
репрезентации. Версаль служит самой потрясающей ил-
люстрацией этого воплощения величия, вписанного в ка?
мень точно так же, как сама эта память чеканит себя н;
медалях Академии надписей, ради этого основанной Коль
бером в 1663 г. Но в то же время она способна выразит
себя и через прирученную природу, ритуалы двора, икс
нографическую героизацию суверена и код социабельнс
сти. Память о неизменном, прославляющая себя в пан(
гириках, утверждающая себя во всем блеске своей вла<
ти и своего влияния. Память, не насаждаемая принуд»
тельно, но все же вполне официальная и просвещение
покровит ельственная, что точно отражает политическа
и артистическая двойственность Лувра, «обители коре
лей и храма искусства», который Революция превратит:
первый национальный музей, открытый для публики 1|
августа 1794 г., в годовщину падения монархии. Итак, п^
52
мт i. сильно унифицированная и повелительная, но сама
। мдшощая вместе с Коллеж де Франс и Французской Ака-
демией свои зоны свободы, гарантированные государ-
< । пом, память, которую XVIII век собирается подвергнуть
внутренней трансформации, сохранив ее внешнюю фор-
му Здесь переход заметен очень точно, например, в отно-
шении к великим умершим, в речах от погребальной до
чналобной академической или в рождении культа вели-
М1го писателя, благодаря которому начинается обряд ви-
ни а. Крайнее выражение этого переворота обнаружива-
<1ч я в «Мемуарах» Сен-Симона, в подлинном тайном
контр памятнике монархической памяти государства.
Третий тип — палттъ-нация (memoire-nation). Это осно-
|н (полагающий момент памяти собственно нации, кото-
рая начинает осознавать себя в качестве нации, провозг-
ласившей себя во время Революции, сохранившейся при
1*( ( гаврации, чтобы окончательно утвердиться при Июль-
। кой монархии. Даже независимо от темы формирова-
ния «наследия» здесь было необходимо собрать опреде-
ленное количество статей, чтобы уловить момент возник-
новения этого типа памяти и определить его значение:
начиная с оснований и первой версии Гражданского ко-
декса и Общей статистики Франции, предполагающей ре-
гистрировать сравнимые величины и равные единицы,
через «Записки об истории Франции» Огюстена Тьерри,
точно отмечающие общее направление ее развития, и
вплоть до первой части мемуаров государственных му-
/кей, демонстрирующей накопление памяти. Нацио-
нальная память расширяется во всех своих измерениях —
юридическом, историческом, экономическом, географи-
ческом. Нация рассматривает себя как прошлое во всей
। я >мантической и либеральной историографии; отыскивает
себя в глубинах пережитого в историческом романе, са-
моутверждается в единстве своего географического бы-
тия, воспетого в «Описании Франции» Мишле; изучает
себя вместе с созданием путеводителя Жоанн; отражает-
53
ся своими пейзажами в новой живописи. Нация как еди-
ный проект решительно создает инструменты изучения и
консервации своей собственной памяти — музеи, ученые
общества, Школу хартий, Комитет исторических иссле-
дований, архивы и Национальную библиотеку. И даже в
этот мирный период она восторгается воспоминаниями о
своем военном величии, сценами битв на картинах исто-
рической галереи в музее Версаля, возвращением праха
Наполеона и, конечно, мифом о Солдате-труженике, воп-
лощенном в мифическом солдате Шовене. Исторически
это бледный момент в жизни нации, когда даже Револю-
ция 1830 г. кажется революцией 1789 г. в миниатюре. Он
как бы сжат между сильными моментами национальной
истории: Наполеоном Великим и Наполеоном Малым,
между Просвещением и социализмом, между революци-
онным и республиканским эпосом. Но это и наиболее
полный момент национальной памяти, колеблющийся
эпицентр которого расходится от Гизо, самого значимого
персонажа с точки зрения институциональной мобилиза-
ции памяти, до Мишле, который нигде не локализуется
индивидуально, поскольку присутствует повсюду. Миш-
ле, который проходит через все мыслимые места памяти,
потому что для всех них он является геометрическим цен-
тром и общим знаменателем, душой этих «Мест памя-
ти».
Четвертый тип памяти, который уже освещен «Места-
ми памяти» в томе «Республика»,- память-гражданин
(тётот-сйоуеп), активный продолжатель памяти-нации, ее
социальное и гражданское укоренение. Это память масс
весьма сильно демократизированная, так что не удиви-
тельно, что она самовыражается чаще всего в образова-
тельных памятниках (в научной историотрафии это «Боль-
шой Лависс») и в этом извечном стремлении перевести
интуитивное в пейзаже на язык человеческой географии
вместе с Видалем де ла Блашем. Она утверждается в очер-
таниях Эльзаса, в которых можно угадать образ руки,
54
nii,i заявляет о себе при взгляде на школьные карты и на
фигуру Гексагона. Она визуализуется в статуях Парижа,
* 11 ражается в названиях улиц, вербализуется в парламент-
1м>м красноречии Пале-Бурбон. Она фиксирует себя в
каноне школьной классики, образцовый пример которой
। Нн1аруживается в подготовительных классах Эколь Нор-
маль и в их Святом Духе — Алене, философе «Элемен-
та радикальной доктрины». Эта память-гражданин со-
< гавляет буфер, неизбежный синтез общества и государ-
» । на, примиренных под знаком нации. Вот почему мы
решили начать именно с нее, даже несмотря на то, что
монолит сплоченной национальной памяти подвергся со
времен Вердена коррозии времени.
11амять королевская, память-государство, память-нация,
память-гражданин. Определенно обнаруживаются четы-
ре острых момента самоидентификации нации: феодаль-
ная монархия, абсолютная монархия, консолидация Ре-
волюции и республиканский синтез (la synthese republi-
laine). Результат проекта, внушающий доверие, но разо-
чаровывающий. Столь долгий путь «Мест памяти» — был
mi он вообще необходим, если в конце концов то, к чему
удалось прийти,— это классическая рубрикация самой что
ни на есть традиционной версии политической истории?
К чему были все эти игры в следопытов и эта погоня за
памятью? И что это добавляет, кроме исследования сим-
волического, кроме чего-то расплывчатого и неоформлен-
ного — в лучшем случае красочного — к старым добрым
определениям, точным и понятным, традиционной исто-
рии французского государства? Все дело в том, что эти
четыре типа памяти получают смысл только благодаря
пятому, нашему современному типу памяти, который и
позволяет их обнаружить — памяти наследию (rnemoire-patri-
moine).
Под памятью-наследием не следует понимать ни рез-
кое расширение понятия, ни недавние проблематичные
попытки растянуть его на все предметы-свидетели нацио-
55
нального прошлого, но гораздо более глубинную транс
формацию в общественное достояние и в коллективное
наследство традиционных ставок в борьбе внутри самой
памяти. Этот метаболизм проявляется в первую очередь
в исчерпанности классических оппозиций, которые, по
меньшей мере со времен Французской революции, под
лежали организации национальной памяти: Новая Фран-
ция против Старой Франции, светская Франция против
религиозной Франции, левая Франция против правой
Франции. Исчерпанность, из которой не следует ни ис-
чезновение ее наследников, ни утрата приверженности к
этим оппозициям, и которая, по меньшей мере, как пока-
зывают последние политические размежевания, не меша-
ет необходимым конфликтам внутри демократической
организации, но и не ставит под сомнение сам принцип
демократии. Такая трансформация памяти в наследие вы-
ражается также в росте интереса к запретному в нацио-
нальном чувстве и в ставшем свободным возвращении к
эпизодам, наиболее болезненным для коллективного со-
знания, начиная от Альбигойских войн, Варфаламеевской
ночи и войны в Вандее и вплоть до коллаборационизма, а
также в падении интереса к ценностям-убежищам, таким
как Республика (смотри, например, заключение к перво-
му тому «От Республики к Нации»). Эта исчерпанность
проявляется также во все более очевидном возрождении
чувства принадлежности к нации, переживаемому уже
не в утвердительном стиле традиционного национализ-
ма — даже несмотря на то, что оно питает его ростки,— но
в качестве обновленной чувствительности к националы
ной уникальности, возникшей из-за необходимости при}
способиться к новым для нации условиям, созданный)
вхождением в европейское сообщество, стандартизацией
образа современной жизни, децентрализационными усп
ремлениями, современными формами государственной)
вмешательства, сильным присутствием эмигрантского на
селения, с трудом приноравливающегося к принятым ве
56
• in n il экономикой, культурой, языком и обществом. И ни-
। iihiui другая страна столь точно не познала дважды в
.... й истории опыт радикализма государства: первый
|hi । в связи с абсолютизмом Людовика XIV, второй —
Ьчагодаря Революции. Каждый такой опыт был чреват
ночной и обязательной реинтерпретацией исторической
памяти нации. Парадокс французской национальной ис-
inpiiH состоит в попытке локализовать свою самую зна-
чимую преемственность в том, что по природе является
। амым скоротечным, а именно — в политическом измере-
нии. Национальная французская память поэтому тоже раз-
минается более конфликтно, чем другие, путем радикаль-
ного исключения и с трудом дающейся стабилизации.
Но история, полностью развертывающаяся в рамках
। о( ударства-нации, не в силах осознать наличие нацио-
нального осадка памяти, который образуется вокруг го-
t ударства. Она постулирует естественное единство, опро-
пгргаемое всем, что мы знаем. Такая история предлагает
историю примеров тогда, когда мир больше не нуждает-
i и и уроках Франции. Она соответствовала победоносно-
му и универсалистскому видению нации, которое стало
наивным или смешным, когда его единственной опорой
»гал Гексагоп. Она скрывала все специфические черты
нации, стремясь предложить и даже навязать ее как мо-
дель для всего мира. История вымела эту имперскую и
ноипсгвенную модель. И лишь в памяти национальная
история постигает свою истинную протяженность. Либо
Франция — это ее собственная память, либо Франции нет.
Если нация существует, то она повинуется не линейной
каузальности и провиденциализму, которые правили в
истории государства-нации, но актуализирующемуся по-
< 1 оянству, управляющему экономией памяти и действую-
щему благодаря накоплению наслоений и совмещению
комбинаций. Сам интерес обнаружения четырех типов
памяти при всей их схематичной простоте состоит не в
гом, чтобы механически наложить их на четыре этапа
61
национального развития, но в том, чтобы превзойти эти
установленные рубрики и скрыть их под покровом дру
гой истории. Эти четыре типа памяти раскрывают, в про
тивоположность поступательной последовательности, по
стоянство памяти, изначальные уровни которой вобрали
в себя протяженность даже самой законченной истории.
Эти типы памяти артикулируют самих себя и проистека
ют из самих себя, они громоздятся друг на друга и разбе
гаются, но так, что ни один из них не оказывается полно
стью утраченным. И даже их обнаружение обусловлива-
ется воздействием памяти. Существует «токвиллизм» па-
мяти, и это он придает этим 48 вспышкам прожектора
способность к открытию.
Эта эвристическая ценность обязана всем «эксгумации»
протяженности, оценке единичности и возникновению хро-
нологии. Протяженность, способная вдохнуть в граждани-
на, который ее ощущает, в историка, который ее изучает,
неисчерпаемую увлеченность и невыразимое восхищение
уникальным величием явления (и все, кто принял учас-
тие в этих «Местах памяти», прочувствовали это, и в пер-
вую очередь я сам), но это никогда не превращалось в
гротескную самоидентификацию с утраченным величи-
ем и не рождало ни малейшего чувства ностальгии. Эти
три тома (пожалуй, слишком объемистых) никогда не
претендовали ни на полное раскрытие многообразия, ни
на точное воспроизведение утонченных очертаний этой
единичности, но стиль ее они стремились передать как
можно точнее, чтобы сделать возможными сравнения (! I
другими типами национальных образований, те необхо
димые сравнения, которые только и способны выявить е<
подлинный рисунок. У Франции пет монополии на наци
опальное государство, но она воткала этот опыт в разви
тие государства, в территориальную укорененность и в
способ культурного выражения, который превратил ее в
нацию-память в том смысле, в каком евреи, долгое время
не имевшие ни своей земли, ни своего государства, суще!
62
....пали в истории как народ-память. Память пациональ-
..... < хударства выкристаллизовывалась в исторической
традиции, в историографии, в пейзажах, иститутах, па-
мп i пиках и в дискурсе, выявить которые позволяет тща-
< । \ и пай отбор, а историческое исследование — понять. У
*11hi книги нет другого предмета.
Появление новой хронологии по сравнению с той, к
• п|орой мы привыкли (в особенности массовое возникно-
пис национальной памяти между 1829 и 1840 it., что
। видно из многих статей этого тома так же, как и из
। иней тома «Республика» для 1880-1890 гг.), является не
шнледним по важности, хотя и побочным результатом
в стоящего проекта. Если об этом упомянуто здесь под
1.ПНГИ, то только потому, что появление каждого нового
н< к )рического подхода всегда санкционировалось его спо-
11 и июстью создать новую хронологию либо в качестве сво-
i ii отправной базы, либо как свой окончательно завоеван-
ии!! результат, чтобы разлиновать национальную исто-
рик! новым временным освещением. Политическая исто-
рия Франции имеет собственную и самую богатую хроно-
хнгшо в силу ее способности немедленно наполняться пе-
реживаниями современников. Но экономическая, демо-
। рафическая и социальная история тоже имеют свои соб-
< таенные хронологии более широкого значения, вписы-
паемые в длительную протяженность. История культуры
и ментальностей дополнили эти хронологии новыми. Тот
факт, что первый и приблизительный общий зондаж па-
мяти, материи, по определению восстающей против лю-
Ьой попытки выделить точные темпоральные ритмы, не-
медленно привел к выявлению специфических последо-
плгсльносгей, которые можно сравнить с другими значи-
и льными последовательностями из других областей, по-
пндимому, уже достаточен для доказательства (если бы в
>том была необходимость) плодотворности и «научной
t остоятельности» избранного подхода.
63
Безусловно, сказанное выше отнюдь не является глав
ной причиной, по которой надо останавливаться на этом
вопросе. Конечно, между началом XIX в., охваченным
потребностью в истории, изобретшим понятие наследия,
открывшим готику и восхищавшим «национальным», и
концом нашего века, поглощенным жаждой памяти, введ-
шим в широкое употребление понятие наследия, пылаю-
щим страстью к средним векам и с отвращением взираю-
щим на триумф национализма, существуют близость вое
приятия и глубинные взаимосвязи, которые помогают
определить наш «национальный момент» в русле того же
самого движения. Это позволяет освободить его от пре-
зрения и безразличия, вызванного его устоявшейся репу-
тацией серости: период романтизма, культурно богатый,
но лишенный малейшего исторического блеска, свойствен-
ного Первой империи, малейшего экономического блес-
ка, свойственного Второй империи, и замкнутый в бур-
жуазной монархии, полностью лишенной политической
привлекательности, точно так же, как и мы — в своем
постголлизме. Гизо заплатил своей репутацией в глазах
потомков за узкую посредственность этого консерватив-
ного либерализма, тот самый Гизо, который предстает
здесь в своей главной роли великого организатора памяти.
Двум эпохам свойственна фундаментальная общая чер-
та: радикальная оторванность от традиционного прошло-
го и настоятельная потребность вернуться к нему. Эти
возвращения происходят в начале Революции и Империи
с помощью истории и благодаря «национальной» интер-
претации монархического прошлого старой Франции. Сра-
зу после голлистской эпопеи, войны в Алжире и caMoi(
сильной экономической революции, которую Франций
когда-либо приходилось переживать, сходное возвраще-
ние, напротив, происходит для нас с помощью памяти и
благодаря отрицанию националистической версии галло-
центристской, имперской и универсалистской нации. За
такое сущностное отрицание ответственна не только са-
64
1'1.ши нормам поведения, уменьшением числа фр ан
- н | н |||()В.
< *и|х‘деляющая трансформация. Это она обновляет все
• 'но связано с историческим изучением Франции-па
...и, которому проект «Места памяти» хотел бы придать
•.... ильное значение.
★
( ггодня на самом деле память является единственным
* |н д<"гном, позволяющим «Франции» («La France») как
nt । м' и представлению вновь обрести единство и легитим-
П1 и и., раньше присущие ей только благодаря ее самоиден-
Н1|||пкации с государством, служившим выражением ог-
ромной мощи Франции в течение длительного периода
। г нгличия. Это давнее, имеющее далеко идущие послед-
। ним соединение мощи нации и государства в образе
'1’р.пщии, постепенно распадается под влиянием эволю-
ции мира и изменения соотношения сил. И теперь против
in i о уже на протяжении полувека протестуют как наука,
। нк и сознание.
Упадок Франции начался сразу после первой мировой
нопны. Но интегрированный в общий упадок Европы,
ш।утри страны он не был озвучен никем, за исключением
реакционеров, которых тут же скомпрометировали как
приверженцев национализма и реставраторских иллюзий.
Как бы то ни было, остается фактом, что Франция, кото-
рая могла до этого момента ощущать себя исторической
\аГ»ораторией всех великих европейских экспериментов —
<»г феодализма и абсолютизма до республики, от кресто-
пых походов, Реформации и Просвещения до колониа-
5нзма,— теперь, начиная с первой мировой войны, пере-
вивала лишь отдачу от пришедших извне великих по-
лысений: революции 1917 г. и фашизма, экономическо-
। о кризиса и экспансии «блестящего тридцатилетия». От-
кровенное поражение 1940 г. было скрыто победой союз-
57
ников, к которым присоединилась свободная Франция.
Де Голль, которому Республика обязана своим восстанов-
лением, стер чувство краха, когда оно вновь омрачило
горизонт в связи с колониальной проблемой и параличом
государственных институтов. Благодаря процветанию, он
смог сначала заставить заговорить языком победы склад-
ки алжирского знамени и очень скоро помочь забыть об
этом, благодаря вступлению Франции в число ядерных
держав. 1962 год — эта дата явилась началом решитель-
ного осознания того, что сделали общепризнанным фак-
том конец эры де Голля и экономический кризис. Окон-
чательное превращение Франции в среднюю и вну-
триевропейскую державу заставляет ее иначе взглянуть
на себя и на свое прошлое. Это — час памяти-наследия,
открытия Франции и нации без национализма.
Тем более, что именно в то время все усилия истори-
ков были направлены на то (см. об этом в «Местах памя-
ти» статью «Время “Анналов”»^, чтобы отвернуться от фе-
номена национального в форме его традиционной иден-
тификации с государством и спуститься с небес унитарист-
ских прокламаций на твердую почву реалий. Какими бы
ни были эти реалии, находились ли они на более низком
уровне анализа по сравнению с такой единицей, как на-
ция (например, район, департамент или деревня), или на
более высоком уровне, чем нация (большие экономичен
кие циклы, демографические тренды, культурные npaid
тики и т. д.),— в любом случае все они имеют другой мал
штаб и заставляют по-новому определить их особенной
ти. Параллелизм, действительно шокирующий (и не л^
шенный значения), между основополагающими датамй
национальной судьбы и методологическим развитие^
французской историографии. Депрессия 1930 г. совпад»
ет с созданием «Анналов», послевоенный период — с рас
цветом демографической, экономической и социальное
истории, годы, последовавшие за окончанием войны i
Алжире,— с рождением истории ментальностей, как есл>
58
t I»।мука и национальное сознание шагали в ногу, фикси-
l' \ и Идин и тот же феномен. Но то, чао наука обретала
। ih iu еобщность метода, сознание утрачивало как всеоб-
HIIKK п. непосредственно данного. Независимо от справед-
ливости этой гипотезы, результат остается тем же. Для
п< юрического анализа, такого, каким он сохраняется до
* < (идняшпего дня, Франция как объект изучения (Vobjet
11 икс) больше не является несомненной или практичес-
। и используемой единицей исследования. Изучаются ли
•к । тимические факторы, культурные практики или эво
опции ментальностей, принадлежность их к чему-то це-
лому не является более очевидной. Само существование
-Франции» («une France») стало глубоко проблематичным.
11 г уверенность относительно содержания того, что же
нужно преподавать по теме «национальное», служит луч-
шей иллюстрацией этого. Название «История Франции»
иг является более самоочевидным, как это было во вре-
мена Лависса. И нет никакой уверенности в том, что те,
।к» пишет сегодня и кто обобщает результаты отдель-
ных исследований за последние традцать лет, могут де-
ме ть это иначе, чем в вопросительной форме.
I олько с точки зрения памяти, и одной только памяти,
нация при всем объединяющем значении этого слова со-
храняет свое постоянство и свою легитимность. Благода-
ри памяти происходит накопление и обнаруживается глу-
бина, и даже свидетельства государственной преемствен-
ности приобретают и сохраняют благодаря ей весь свой
। мысл, но уже не как предмет гордости, способной вдох-
п( шить политику великодержавия или оправдать язык пре-
и< кходства, но как обычный факт.
1I этому что среди всех старых европейских наций Фран-
ция является той, в которой господство государства было
i .1мым ранним, самым постоянным и самым основопола-
пиощим, вплоть до того, что в массовом сознании оно
предстает как нечто незапамятное и непрерывное. Той
нацией, в которой, в отличие от всех ее соседей, династи-
59
ческая преемственность, опирающаяся на преемственное!!
географическую и территориальную, не переставала об
наруживать все новые наслоения и способы передачи. Том
у которой стремление к преемственности и усилению един
ства пришло сверху, поддерживаемое и направляемое тем
более энергично, и иногда даже отчаянно, чем более ак
тивными были силы разъединения, чем менее однород
ними были те сообщества, которыми требовалось упрам
лять, и чем больше угрожала опасность распада. Авторы
тарное конструирование исторической памяти, которо*
составляло силу Франции и было инструментом ее вели
чия, безусловно, одновременно выражает ее врожденную
слабость. Франция — это нация «stato-центрическая». Они
не способна иначе осознавать самое себя, чем через поли
тическую сферу. Ни через экономику, пропитанную мер
кантилистским волюнтаризмом и остающуюся даже в са
мый разгар индустриальной революции и расцвет капм
тализма второстепенной заботой. Ни благодаря культу
ре, порой мирового блеска, но способной напитать соцн
альную ткань лишь по тем каналам, которые ей прокла
дывало государство. Ни через общество, всегда оставаа
шееся под опекой государства. Ни с помощью языка, при
нудительно навязывавшего себя. Отсюда — та направлю
ющая и защищающая, объединяющая и воспитывающая
роль, которая принадлежала государству во всех четы
рех доменах. Этого было достаточно, чтобы сознание об
щносги и чувство нации кристаллизовались вне их. Гос}
дарство во Франции направляло как практику, так и кои
цепции в экономике, даже либеральные, которые оно ус
ваивало с трудом и непоследовательно. Государство сф
здавало великие университетские и академические инств
туты, жаловало им инструменты для их автономии, гос}
дарство распространяло признанные правильными язы
ковые нормы и вытесняло диалекты, государство цивилв
зовало общество. Никакая страна не устанавливала стол
строгого равенства между национальным государством)
60
♦... . данность. На него оказали большое влия-
.. дна феномена огромного масштаба: с одной стороны,
"’чмк'тский экуменизм, приведший к окончательному
и|hi шапию нации в ее демократической и республиканс-
* мп форме даже правыми, а с другой — недавнее исчер-
itiiniic революционной идеи, что побудило левых высво-
। н гь нацию, чтобы оживить ее динамизм, из того отож-
н » । нлсния с государством, в которое она была втиснута
!' полюцией. Итак, мы перед лицом нации, но уже пре-
сыщающейся в нечто другое, вмонтированной в много-
* । ыиное и успокоенное пространство, вышедшей из своей
к* к умственной вечности и уже движущейся по направле-
нии । к непредсказуемому будущему. Мы перед лицом ее
...вращенной реальности, мы обнаруживаем ее глубину,
инн псивносгь ее резонансов и ее странность. В течение
ш к н национализм скрывал от нас нацию. Не настал ли
момент сказать вместе с Шатобрианом: «Франция долж-
ны переделать свои анналы, чтобы привести их в согласие
прогрессом разума»? В бедствиях, которые сегодня вы-
пили на долю национальной идентичности, в момент ис-
н .шовения ее ориентиров высокая оценка наследия ее па-
миги становится главным условием оправдания ее нового
* и >раза и ее нового определения в ансамбле европейских
> ipan.
Воинственная, империалистическая и мессианская на-
ции осталась позади. Сегодня открытие нации миру про-
•14 ходит благодаря овладению ее наследием в совершен-
• те. Интернациональное будущее нации — в увереннос-
И1 в отношениях с национальным прошлым. А доступ к
I нпверсальному в том, что мы стремились сделать здесь:
и определении точной меры особенного.
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ ФРАНЦИИ?
Эти три тома «Франций» («Les France») завершают про
ект «Места памяти». Но четыре тома, о которых было
объявлено в начале, разрослись до семи. А то, что в нача
ле, в томе «Республика» (1984), было ничем иным, как
сборником из 18-ти глав, превратилось в гигантскую мо
заику-головоломку, объединившую в едином продуман
пом, но сложном порядке более 130 частей, сложилось и
памятник, напоминающий одновременно готический со
бор и лабиринт со множеством разноообразных ходов и
переходов, с постоянно меняющейся связующей линией,
в проект, с трудом поддающийся единому плану и управ
лению, в «место памяти», которое, как скажут некоторые,
само по себе достойно стать сюжетом изучения и иссле
дования. Это непривычное выражение, изобретенное спе
циально, ускользнуло от своего создателя, чтобы с небы
в алой быстротой превратиться в общее место разговор
ной речи. В то же время это понятие, теоретически ос
мысленное вот уже 8 лет назад в начале первого тома1,
породило как во Франции, так и за ее пределами множе
ство аналогичных проектов, где наряду с более или ме
нее точными копиями и полными искажениями нередки
1 См. статью «Между памятью и историей, проблематика мест»
При чтении этого текста рекомендуется постоянно иметь ввиду эт)
работу.
66
л vi.ii! плодотворного использования. Теперь настало
••ргмн, поднявшись над всевозможными смыслами, пере-
|ц । mi тощими это понятие, предпринять попытку его объяс
III ПИИ.
Действительно, реализация проекта, как это предпо-
мннгтся самим его определением, несет на себе бремя
। ший собственной истории. Изначальная общая идея ос-
in тывалась на научном и избирательном изучении, в от-
чете от обычного исторического исследования, отдель-
ных точек кристаллизации нашего коллективного насле-
дии, па создании перечня тех главных «мест» (во всех воз-
можных смыслах этого слова), в которых сосредоточена
Н|щнопальная память, на широкой топологии символиче-
ihuro Франции. Итак, сначала предполагалось сделать
'н пире тома: «Республика» — один том, «Нация» — два,
•Франция» — один и разделить их на следующие рубри-
ки региональное, религиозное, социальное и политичес-
кое. 11о ходу дела, после выхода в свет «Республики», два
н»ма «Нации» превратились в три (1986). Это произошло
иг из-за словоохотливости авторов и не из-за неспособно-
11 и мэтра контролировать ситуацию, но в силу внутрен-
ней логики, не прекращавшей ни на минуту определять
net I. ход развития проекта. В самом деле, «Республика»
ииолне могла удовлетвориться достаточно наглядной вы-
боркой сюжетов, позволяющей проверить надежность са-
мого понятия, задуматься над разнообразием его возмож-
ных употреблений и сконцентрировать внимание на са-
мом значимом и неделимом этапе ее саморазвития: на
। <ыидательном синтезе начального периода Третьей рес-
публики. «Нация» заставила сменить регистр. Потому что
речь шла теперь не о дотошном выборочном исследова-
нии отдельных фрагментов, выхваченных из общего бо-
। лтства коллективного наследия, но о широком стремле-
нии выявить и воссоздать под плотью пережитой истории
। груктурирующий ее остов. Доказательства теперь не
могли больше быть сведены только к выбору более или
67
менее очевидных мишеней — к трехцветному флагу ш
похоронах Виктора Гюго или к библиотеке Друзей Про
свещения третьего округа Парижа, но должны были об
наружить их тайную организацию, их внутреннюю пано
рамную и иерархизированную структуру. Приоритет те
перь отдавался не сюжетам как таковым, но их взаимо
связи, не только и не столько их внутреннему анализу, нс
их аранжировке. Отсюда — трехчастность, к которой t
пришел в конце концов: прежде всего нематериальное -
«наследие», «историография», «пейзаж», затем матери
альное - «территория», «государство», «наследие» и, на
конец, идеальное — «слава» и «слова». И все же вторая сту
пень «ракеты», нагруженная таким образом, вызвала от
клонение от первоначальной траектории и заставила пе
ре смотреть всю окончательную версию программы.
Кроме того, по ходу дела выявилось множество новы?
факторов. Взять хотя бы объем (казалось бы четырех то
мов должно было хватить для выполнения объявленног
программы), или интенсивное распространение понятия
его употребление, сводившее его значение к материаль
ным и памятным местам, т. е. к тому, что это предназна
ченное для публичного использования выражение сталс
значить для широкой публики2. В этом смысле — vo>
populi, vox Dei. Ничего не оставалось, как смириться (
такой несказанной удачей — добавить в словарь новое
слово. Но не приведет ли это в силу странной обратимое
ти вещей к безостановочной эксплуатации идеи и слова
к тому же проникшего повсюду? Использовать название
ставшее столь же банальным, сколь и малозначащим!
Сменить общее имя па общее место? Вдобавок к этом)
возвращение к жанру национальной истории проявилост
в настоящем шквале публикаций, что было отмечено i
2 И для публики, и для права. Так, понятие оказывается на пути t
тому, чтобы войти в юридическую терминологию, поскольку зако!
1913 г. об исторических памятниках делает возможным классифика
цию объектов как «мест памяти».
68
ш к мочении к тому «Республика» как одна из главных
н p i , характеризующих современное состояние дисцип-
\ hi ii.i1.
11 го еще можно добавить к этому? Не все ли уже и так
* hu iaiio? Отдельный том, имел ли он хоть какой-то смысл
и । Ницем ансамбле? Без сомнения, никакая из этих отдель-
ных историй Франции не подчиняется формуле «мест».
11о если бы третья ступень, особенно верная этой форму-
м и заложенному в ней возрастающему в геометричес-
ми| прогрессии динамизму, привела стартующую «раке-
iv* 1, 3, 6...— к результату поистине невыносимому и
a mi читателя и для издателя? Результат тем менее оправ-
данный, что обстоятельства совсем не благоприятствова-
м1 пому. Ведь двухсотлетие Революции, пришедшееся
именно на это время, или год де Голля, готовившийся тог-
ы, буквально съели хлеб проекта «Франций», лишив его
<ц ионных сюжетов4. Не стоило ли на этом и остановиться?
1 Гаковы работы Фернана Броделя (Idenlite de la France: 3 vol. Paris:
I Lniiinarion, 1986), Жана Фавье — руководителя шеститомного иссле-
KHi.iiiHM (Hisloire de France. Paris: Fayard, 1984-1988), «Иллюстрирован-
miit история Франции», в которой сменяют друг друга Жорж Дюби,
>мманюель Ле Руа Лядюри, Франсуа Фюре и Морис Апольон (Hisloire
I, Нансе illuslree. Paris: Hachetie, 1987-1991), работа Пьера Губера и Да-
вне ля Роша «Французы и Старый Порядок» (Les Franqais el I’Ancien Regi-
4 vol. Paris: Armand Colin, 1984), за которой последовала трехтом-
niHi книга Ива Лекэна (Hisloire des Frangais, XIXе-XX' siecles: 3 vol. Paris:
Uiiiiind Colin, 1984), и, наконец, венчающие все это четыре тома «Ис-
|<|рни Франции» под руководством Андре Бургьера и Жака Ревеля
{Htsfuirede la France. Paris: Ed. du Seuil, 1989-1992).
‘ См. статью «Права человека», которую Марсель Гоше опублико-
п>| \ в «Критическом словаре Французской революции», изданном под
руководством Франсуа Фюре и Моны Озуф (Dictionnaire critique de la
Не uni и lion fran^aise. Paris: Flammarion, 1988), и идеи которой он позже
pH шил в «Революции прав человека» (La Revolution des droils de Uhomme.
I'.iiis: Gallimard, 1989). См. также: «Де Голль, человек-память». Жан-
I li.cp Риу достаточно подробно рассмотрел его в «Господине памяти» —
результате работы семинара, посвященного теме «Де Голль и его век»
(Hionx J.-P. De Gaulle, homme-memoire: Acr.es desJournees Internationales de
riJncsco. T. 1. Paris: La Documentation fran^aise, 1991.).
69
Тем более, что продолжение в любом случае удваива
ло риск первоначальной ставки. В самом деле, та же ло
гика, что вызвала непредвиденное переполнение «Нации»,
продолжала накладывать свои ограничения, все усили
вая свое влияние независимо от того, шла ли речь о выбо
ре сюжетов или об их обработке.
В предшествующих томах также очень редкими ока
зывались обязательные и взаимообусловливающие сюже-
ты. Напротив, теперь требовалось выбрать точный угол
атаки, выявить чувствительные и неожиданные, обнажа-
ющие суть точки: Солдат Шовен рядом с Верденом, под
готовительные классы Эколь Нормаль (la khagne) рядом
с Французской Академией, «Путеводитель Жоанн» ря-
дом с «Описанием Франции» Видаля де ла Блаша. Благо-
даря таким сближениям эти сюжеты заговорили по-ново-
му. Напротив, взяться за Францию означало смириться с
тем, что обязательные сюжеты навязывали себя и с неиз-
бежностью влекли за собой друг друга. Классические, не-
скончаемые и немыслимые друг без друга. Невозможно
не рассмотреть «двор» или «департамент», Жанну д’Арк
или Эйфелеву башню: читатель был бы изумлен, если
бы не обнаружил их. Но каждый из этих сюжетов при-
надлежит к определенной категории «мест памяти» — со-
циальной модели, определению во времени и простран-
стве, фигуре-эмблеме, высокому месту; при этом было
бы немыслимо не учесть другие важнейшие репрезента-
ции, если не их тотальность. «Старый порядок и Револю-
ция» тоже является одним из важнейших мест в подраз-
делении политической памяти. Но рассмотреть сюжет —
значит охватить все другие важнейшие разделы полити-
ческой памяти, начиная с «франков и галлов» и кончая
«правыми и левыми». Невозможно, по определению, рас-
смотреть все места памяти Франции: ведь речь не шла о
создании энциклопедии или словаря. Но в рамках вы-
бранного кадра следовало быть систематичным и после-
довательным. Для «Нации» не требовалось ничего друго-
70
• громе раздела, посвященного «историографии», что-
't । шдать ее методическую стратиграфию. Номенклату-
| | । кокетов была здесь практически общим правилом:
tt i ос тавляла мало места для фантазии или произволь-
...сыбора. Приходилось, таким образом, не будучи
.....смириться с многословностью, тем бо-
• о. что большинство сюжетов носили синтетический ха
pthirp: медиевист, от которого требовалось, например,
>||«-д| тавитьв «Нации» «Великие хроники Франции», мог
чпжигься в объем предисловия; медиевист, которому на
koi раз вверили «Собор», зеркало мира, очаг культуры
и воплощение христианской Франции, не мог уложиться
и к 'AS страниц.
Но вот что оказалось еще хуже: до сих пор большин-
> ню сюжетов выступали как очевидные «места памяти».
Н \ было достаточно определять, представлять как тако-
н| |г и соотносить друг с другом. Но на этот раз «места
П.1МЯТИ» надо было сконструировать и создать5.
• Радар» «мест памяти» был необходим, но достаточен
। ли того, чтобы обнаружить в своем поле действия Пан-
। п нц «Педагогический словарь» Фердинана Бюиссона, про-
винциальные музеи, названия улиц, революционный ка-
мпдарь, Гексагон и массу других объектов, новизну ко-
|црых с удовольствием открывали для себя те, кто брал-
«и о пих писать. «Рентабельность» понятия немедленно
• шла самоочевидной. Но здесь от нас не ожидалось со-
|даиия целых библиотек, посвященных Виши, поколению,
Петле или вину и винограднику. Направление поиска все
время соскальзывало на темы и сюжеты, для которых
пычение понятия «мест» иногда становилось очевидным
шершенно внезапно. Ведь не было практически ни од-
ного сюжета, который сам по себе был бы новым. Смысл,
' В общем введении к «Местам памяти» я подчеркивал, что «истин-
iiiiii проблема этой последней части состоит ие в неопределенной от-
крытости сюжета, но в том дополнительном конструировании, кото-
рое навязывает ему само понятие “место памяти”».
71
внутренний для самого сюжета, состоял радикально в
другом, в том конструировании, которое его заставляли
претерпеть, и в том значении, которое благодаря этому
удавалось извлечь. Место памяти существует только по
стольку, поскольку, если можно так выразиться, историк
в состоянии «меморизировать место». Об отношениях
Парижа и провинций, о пословицах, о сказках и песнях,
о генеалогии или индустриальной археологии, об отно-
шениях коммунистов и голлистов или о замках Луары
уже и так все известно. Вопрос заключался в том, чтобы
понять, позволяет ли факт рассмотрения их в качестве
«мест памяти» сказать об этих топосах нечто иное, то,
что невозможно было бы выразить без этого.
Таковы были те ограничения и обязательства, которые
интеллектуально спровоцировали меня. Не столько сами
сюжеты, даже самые соблазнительные из них, не столько
взятые на себя обязательства и поставленные задачи,
сколько эта загадка и этот вызов: требовалось идти до
конца для того, чтобы узнать опытным путем, сможет ли
понятие, спонтанно приспособленное к инструментам
меморизации, к местам — убежищам воспоминаний, к сим-
волам идентичности отдельных групп, целиком рожден-
ное из чувства утраты и из-за этого отмеченное носталь-
гией по навсегда умершим вещам, сохранить свою эврис-
тическую ценность, операционную способность, динамизм
для достижения результата в трудных случаях, там, где
ему приходилось черпать из самого себя, искать свое вто-
рое дыхание, оживлять то, что превратилось в общее ме-
сто. Или же, войдя в моду и спроецировавшись на вели-
кий экран наших коллективных идентичностей, оно ра-
створится в метафоре, утратит свои контуры и пределы,
б анализируется в «места истории»? Либо, напротив, оп-
робованное опытным путем па элементарных структурах,
оно обнаружит способность превратиться в категорию со-
временного понимания истории. Взять как сюжет Декар-
та или «В поисках утраченного времени», галльского пе-
72
। \ 4.1 или берег моря, обратиться к многоликой Франции
....пало проверить понятия огнем, преступить заветную
и ргу. Вот вопрос, который мучил меня.
Мудрое решение, которое, казалось, совмещало в себе
и |н| активность и экономичность, состояло в распростра-
нении понятия па все, что есть в нем наиболее символи-
н'| кого, в концентрации анализа на том, что есть у Фран-
ции самого символичного: на ее важнейших датах (89, 48,
| I, 10, 68)*, на событиях ее истории, на ее выдающихся
мгпюстях и на ее институтах. Формула предписывала по-
ни ипо вместиться в один том и завершить все дело. В
* .«кой то момент я почувствовал себя обреченным. Но это
’h i \о, конечно, минутой слабости. Нет, действительно,
• । о было самое рискованное решение — мобилизовать кри-
пг1гскую массу сюжетов, достаточную для того, чтобы
'1мпл1пуда колебаний понятия доходила до самых преде-
м и» обсуждаемого, что, по моему убеждению, совпадало
• । \липой линией развития проекта. Тем хуже, если пред-
приятие от этого замедлится и отяжелеет, если некото-
|ii.ii* статьи совершенно не попадут в цель. Главное за-
। попалось в том, что в большинстве случаев доказатель-
* । ио будет предъявлено и пари выиграно. Тем хуже, если
। кромный опыт начальной работы, нащупанный в моем
гм пиаре, обернется разоблачением легкой формы «ме-
। и \омании»: по-настоящему грандиозные предприятия не
। нк уж часты в наши дни. Тем хуже, а может, тем лучше,
i t mi по ходу своего вызревания понятие приобретет до-
полнительную сложность, вплоть до того, чтобы совсем
окутаться нимбом неопределенности. Не то ли же самое
происходит со всеми концептуальными инструментами,
мпорыми обладают историки: можно ли назвать точным
и н< пым понятие «ментальность», не говоря уж о таких
понятиях как «факт», «событие», «причина», «документ»?
Неопределенность не лишила эти понятия их значимос-
* Имеются в виду 1789, 1848, 1914, 1940, 1968 гг. (прим, перевод-
<llh d)
73
та: о них судят по их использованию, а их расплывча
тость придает им силу. Такова цена научной верифика
ции. Итак, я решил опять окунуться в этот поток и снова
оказаться на этой отрадной галере вместе с более чем
шестьюдесятью другими историками, которым я никогда
не смогу полностью выразить всю степень моей призна
тельности. Три тома — число их уравновесило число то
мов в «Нации». Их план покорился специфике памяти,
скопировав ее естественную организацию: ее изгибы, ее
истинные или ложные континуумы и, наконец, ее симво
лические фиксации. Их объем вдвое превысил массу уже
опубликованного. Но это был единственный способ изба-
виться от сомнений.
*
Итак, «Франции». В чем отличие их от «Нации»? Поче-
му во множественном числе? И что же произошло в са-
мом деле с понятием «место памяти»?
Нужно признать, что вся книга базируется на явном
противоречии, которое иногда ощущали критики, не су-
мевшие, однако, ясно сформулировать его, ибо оно стало
очевидным только здесь, когда выявились следующие из
него уроки. Это противоречие между методом и проек-
том. Ясно выраженное в общем предисловии намерение
состояло в том, чтобы избежать с помощью техники
«мест» того замкнутого круга, в котором до сих пор оста-
валась заключенной национальная история и который
состоял в постоянном объяснении понятия «нация» через
«нацию», а понятия «Франции» через «Францию». Напро-
тив, в том тысяча и одном объекте, в которых Вы ищете
Францию, Вы постулируете се, ни разу не задавшись воп-
росом о том, что это такое, и не пытаясь дать ее определе-
ние, Вы запираете себя внутри сюжета, из которого Ваш
метод претендует Вас вывести. И Вы обнаруживаете в
конце концов то, что Вы сами определили в качестве ис-
71
.«много условия задачи. Даже Ваше деление материала
•hi > нггся типично французским: Республика, Нация, Фран-
ни и к какой еще другой стране это применимо? И поче-
ши нужно изолировать Францию, как если бы Республи-
ки нс была французской, а Франция не была нацией?
111 .ik, остается мозаика на месте Франции, названной во
множественном числе потому, что ее растащили на ку-
- Ваш инструмент кажется работающим только из-
|>| того, что он сам чисто французский. Вот доказатель-
• । по: как перевести его на английский, немецкий, испанс-
। ini :* Тавтология, которой Вы в гордыне стремились из-
<»гжать, на самом деле настигла Вас. Отсюда — стремле-
ние разорвать на полоски трикулер, типологизировать над-
11 и »биые памятники, воскресить Этьена Паскье и его «Ис-
। м дования Франции», напомнить, что Гексагон — это го-
р.мдо более новое выражение, чем принято считать, со-
11 .шить генеалогию выражения «умереть за Родину» и т. д.
Hi с эго не лишено ни шарма, ни интереса, однако в це-
MiM эта ученая, но причудливая прогулка по саду нашего
национального прошлого, слишком длинная для эссе,
। мппком краткая для каталога, сколь бы она ни была
импозантной и даже театрализованной, ничуть не меняет
общего представления о том, что такое Франция.
11ойдем еще дальше: результат, к которому Вас приго-
ворило противоречие, узником которого Вы сами себя
(делали, противоречие, появившееся в «Республике», об-
наруженное проницательными наблюдателями после «На-
ции» и ставшее фраппирующим в этом последнем томе,—
по Франция, лишенная своего динамизма. Этот динамизм
мог быть национального порядка: Вы сами себя лишили
его самим фактом Вашего разделения материала, пото-
му что Вы рассматриваете нацию лишь как элемент це-
\ого, и этим Вы защищаетесь от обвинения в националис-
тическом крене. Он мог быть экономического или соци-
ального порядка: Вы его уничтожили своим полным иг-
норированием уроков марксизма. К чему множить углы
75
атак и сами атаки, если это приводит к Франции без уг-
лов и без атак, к Франции экуменической и умиротворен
ной? Червь изначально таился в плоде, провал был зало-
жен в самом принципе: заниматься Францией методом
«мест памяти» означает превратить всю Францию в «мес
то памяти».
Чтобы высказаться до конца — это противоречие было
заложено в самом сердце Вашего понятия. «Место памя-
ти» — это красивое выражение, ставшее золотой жилой,
находкой, благодаря его способности удовлетворить по-
требности коллективных переживаний, оно навевает мыс-
ли о Шатобриане, о Прусте и о Мишле, о Ваших трех
любимых авторах, постоянная отсылка к которым так
ясно ощущается у Вас. Но с научной точки зрения оно не
имеет никакого смысла применительно к изучению тако-
го колоссального сюжета, кроме как если оно призвано
поставить на одну доску наиболее завершенные элемен-
ты национального опыта и мифологии и инструменты
формирования этого опыта и мифологии. Но ведь это
именно то, что Вы и делаете, причем, нельзя не отметить,
весьма успешно и эффективно. Трогательно попытаться
сопоставить «Путешествие по Франции двух детей» и
14 июля — счастливая идея сблизить «Сокровищницу
французского языка» и Версальский дворец. И вполне
возможно, что ударяя друг о друга, как два булыжника,
«поколение» и «места памяти», можно высечь несколько
неожиданных искр. Но эта процедура, призванная заста-
вить заговорить все вплоть до «Общей статистики Фран-
ции» или провинциальных музеев — что за чудачество! —
сама по себе весьма банальна. Реймс или Верден, Жанна
д’Арк или де Голль не принадлежат к тому же регистру,
что комитет исторических исследований или словарь Ла-
русса. Все это весьма забавно, оригинально, слегка уто-
мительно, но когда Вы применяете это понятие к таким
ключевым сюжетам, как иммиграция, евреи во Франции,
армия, государство, рабочие, Вы неизбежно получаете на-
76
I Hi/iy с дряблой Францией дряблое понятие. В самом деле,
- место памяти» — это берег моря или лес? Место памяти
l'ii:iroBOpa? Место памяти правое и левое? Стремясь быть
hi гм, место памяти превратилось в ничто. На деле вот
чего не хватает в нем: в Вашей Франции замечательным
нЬразом нет ни внешнего фокуса, ни взгляда из-за рубе-
ън, ни всего того, что Франция подавляет и не хочет знать
о себе самой, своих несчастий и провалов в своей соб-
। пп'иной памяти. Слишком очевидно, к чему Вы хотите
прийти. И уж во всяком случае, к чему Вы уже пришли: в
\ у* и нем для Вас случае, к перечню в стиле Превера, в
худшем — к Надгробию Франции.
Вот какое обвинение требуется опровергнуть, вот про-
1иноречие, которое следует разрешить.
11равда, что мой проект с самого начала раздирали два
проекта, изначально слитые воедино, которые постепен-
но вступили во внутреннюю борьбу. Не проект чисто тео-
ретический и эпистемологический, с одной стороны, и про-
ги г чисто описательный и аналитический — с другой, но
\ тая и рестриктивная концепция «мест памяти», копцен-
|рировавшая доказательства на настоящих и несомнен-
ных мемориалах (от могильных памятников до музеев,
io архивов к девизам и до коммемораций), и широкая и
поддающаяся распространению концепция, тяготеющая
и систематическому созданию собственного кадра и к об-
II.।жению массивных блоков наших репрезентаций и на-
шей национальной мифологии. Сам план, как в целом,
i.i к ив деталях, нес на себе эту печать двойственности. И
ни тому я, не сомневаясь, поставил рядом, например, Мар-
। гльсзу и «Педагогический словарь» Фердинанда Бюис-
। опа или рядом с Куполь — посещение великого писате-
VI. Более осторожно, более красноречиво, более точно
Ныло бы остаться в рамках узкой версии. Но это означа-
хо бы предпочесть какую-то одну категорию объектов и
ограничить выражение местами, в основном материаль-
77
ними,- тенденция и без того достаточно сильная в разго-
ворном использовании этого понятия. Местом памяти ста-
ли бассейн Молитор и ресторан Фуке на Елисейских по-
лях или Отель дю Нор. Ведь не сохранением же этих до-
стославных фасадов, ни один из которых, строго говоря,
не является тем, что можно назвать «местом памяти», была
оправдана потребность мобилизовать на 10 лет 130 исто-
риков!
В таком двойном призвании, если поверить в необхо-
димость раскрыть всю полноту его смыслов, в принципе
и состоит суть этого выражения. Эта формула не создана
для того, чтобы отдать должное и придать дополнитель-
ный духовный смысл тем мемориалам, которые являют-
ся только мемориалами и навсегда останутся только ими,
Она не создана также для того, чтобы просто вобрать в
себя все предметы, места, события, достойные сохране-
ния (или нет), в эпоху подчас варварского разрушения
пейзажей и наследия,— немного той погребальной пате-
тики, которая связана со всеми мемориалами. Я не был
связан понятием, уже существовавшим в лексике, значе-
ние которого можно было бы изменить, сместить или
расширить. Для меня «место памяти» никогда не было
чисто физическим, осязаемым и зримым объектом. Если
я счел возможным объединить некоторые материальные
объекты выражением, которое обозначало то, что я пред
ложил назвать «местом памяти», то только потому, что
сближение между природой этих мемориалов и тем ти
пом в высшей степени разнообразных объектов, которые
не имели между собой ничего общего, кроме их символи
ческого значения и памяти как их содержания, оказалось
возможным.
Место памяти предполагает с самого начала расхожде
ние двух порядков реальности: реальности чувственной и
осязаемой, более или менее материальной, вписанной в
пространство, время, язык, традицию, и реальности чис
то символической, являющейся носителем истории. Поня
78
। иг создано для того, чтобы объять одновременно физиче-
। мп* объекты и объекты символические на основании того,
но между ними есть «нечто общее». Это «нечто общее»
и нпляется тем, в чем состоит суть дела. Это то, что спон-
। пино и более или менее смутно распознает в нем каж-
дый. Дело историка — проанализировать это «нечто об-
щее», вскрыть его механизмы, определить его разные
\ ровни, раличить в нем осадочные породы и течения,
выделить его твердое ядро, указать на ложные сходства
и оптические иллюзии, сделать его ясным и выразить то,
и о было в нем не выразимо. Выбор ориентира не безраз-
М1ч<ч1, когда производится подобная эксгумация, но это
не главное в работе историка. Для него важно не иденти-
фицировать место, но раскрыть в нем то, благодаря чему
ио место является памятью. Рассмотреть памятник как
место памяти отнюдь не означает ограничиться написани-
ем его истории. Итак, «место памяти» — всякое значимое
единство, материального или идеального порядка, кото-
рое воля людей или работа времени превратили в симво-
мгюский элемент наследия памяти некоторой общности.
В данном случае — это общность французская и наци-
ональная. Двуединый облик, который является конститу-
ирующим принципом места памяти, двойное царство,
когорому оно принадлежит, категорически требуют, если
* громиться сохранить верность его принципу и развить
m г его достоинства, принять в расчет, с одной стороны,
ни(тоящие и несомненные мемориалы (например такие,
ю| к Пантеон или республиканский лозунг) и, с другой —
in <* те данности, обнаружение символического измерения
ыиорых выражает сущностный и значимый элемент на-
циональной памяти, всегда балансируя между этими дву-
мп аспектами. Описать географически берег моря или
мт или описать то, что до сих пор воплощает собой мор-
। кой фасад Франции и ее береговая линия, самая длин-
ив и в Европе, первое — своим невыполненным историчес-
ким призванием, второе — как средоточие воображаемо-
79
го, потребуют разного мастерства. Написать историю Be
зеле и описать как историку то, что выразил поэт, сказав
«Везеле, это из памяти»,— не одно и то же. Изучить Де
карта как одного из самых великих французских фило-
софов и даже провозгласить «Декарт — это Франция» и
показать, как французская философия конституировалась
вокруг Декарта, превратив Декарта в модель французс-
кой философии,— значит разное. Написать, с одной сто-
роны, политическую или идеологическую историю пра-
вых и левых, попытаться дать им определения, просле-
дить преемственность и метаморфозы этих двух политиче-
ских семейств и, с другой стороны, показать, как эта пара
слов, которые Франция сделала универсальными и кото
рые стали такими привычными для нас, исторически сло-
жилась как базовая категория демократического противо-
стояния современных обществ — все это заставляет зада-
ваться разными вопросами. Описать путешествие по Фран-
ции и показать, как этот путь-посвящение, возобновивший
традицию странствий подмастерьев, воплотил в столь де-
мократической форме физическое знание равнин и скло-
нов в том же году, когда Видаль де Ла Блаш опублико
вал свое «Описание Франции» (1903),— значит выполнить
задачи разного порядка. И то же самое можно сказать о
каждом из 68 эссе, вошедших в эту книгу.
Этот принцип, одновременно конкретный и абстрак-
тый, задал тон всему: плану, сюжетам, их месту и их об-
работке. То, что активная деятельность по превращению
объекта в «место памяти» одержала верх в этой после-
дней части над предварительной аранжировкой, то, что
внутренняя идентификация возобладала над внешней,—
не означает метафоризации формулы и не приводит к
ней. Такое изменение обусловливается сюжетом.
Сюжет, дух Франции—«французскость» (la francite), рас-
смотренный в своих разнообразных обличиях. Нация
была прямым и направляющим принципом, моделью, в
соответствии с которой конструировалась Франция, мо-
80
||н»м се непрерывности. Нация и память оказывались,
- th им образом, неразрывно связанными между собой:
" mini память. Если просмотреть оглавление, то ни один
н 11 южетов предшествующих трех томов, в силу способа
•и рас с мотрения, не мог быть включен в эти «Франции».
I Im ому что они были лишь инструментами ее конструи-
рннаиия, точками опоры представлении о ней, глубоко
ынрятаиным фундаментом ее здания. Вся Франция при-
инд м*жит реальности символического; она не имеет дру-
|| и < । смысла, во всех многообразных перипетиях своей ис-
< 11| нт и во всех формах своего существования, кроме сим-
инхичсского. Таков ее основополагающий принцип. То,
ни нация и Франция могли бы показаться синонимами и
in.hl рассмотренными в рамках единого подхода, явля-
। 11» одной из особенностей Франции как воплощения
«ыциональной модели. Одно из достоинств формулы «ме-
мо памяти» как раз и состоит в том, что она позволяет
.... разграничить эти явления.
< >гсюда, в силу применения все того же вечного прин-
ципа, «Франции» — во множественном числе. Это множе-
• । псиное число ни в коем случае не отсылает ни к пресло-
HViiiMy французскому «многообразию», ни к тому, что
|ц.1ло неосторожно названо различными Фракциями —
I in повальными, религиозными, политическими и социаль-
ными. Оно не означает также различных концепций Фран-
ции, которые можно противопоставлять друг другу. И не
иыражает также, как поспешили отметить некоторые,
ьгдственного положения идентичности, которая сегодня
«казалась поставленной под вопрос. «Франции» появля-
н»н и здесь не для того, чтобы спасти избитые сюжеты
• । идиотическими эффектами. «Франции» присутствуют
• ъ, потому что это единственный и уникальный способ
и ди им словом, в одном выражении отразить принцип ана-
Mina, лежащий в основе всего предприятия, в сердце «мест
ннмити», отправляясь от которого можно проследить ис-
тончаемые изгибы мельчайших капиллярных сосудов
81
каждого из сюжетов, иллюстрирующих этот принцип
Развитие и преображение, свойственные понятию, обна
руживают здесь свои самые причудливые переплетения,
свою истинность на молекулярном уровне. Каждая из этих
монографий — это глубинное погружение, взгляд на Фраи
цию, увиденную глазами мухи сквозь призму кристалла,
символический фрагмент символического ансамбля. Бе
зусловно, существует единая Франция, но ни один из ос
сюжетов, ни один из ее объектов, ни одно из ее «мест» нс
может претендовать на право быть историей единой Фран
ции. Каждое из них на свой манер — это вся Франция,
Потому что каждое, естественно или искусственно, вое
производит Францию в себе, если только удалось полное
тью раскрыть всю внутреннюю сложность сюжета, кото
рую неизбежно выщербило бы и стерло и включение и
глобальный кадр, и любая попытка его «дефиниции». Бу
дучи успешно используемыми, «места памяти» обладаю!
эффектом то русской матрешки, то ящика Пандоры. То,
что выражает множественное число — Франции — это,
безусловно, множественность ее детерминизмов.
*
Настоящая проблема, которую ставят «Места памяти»
в этой последней части, состоит в том, чтобы узнать (и
было бы тщетно скрывать это) как писать сегодня исто
рию Франции. Не стоит дольше таить то вдохновившее
это обширное предприятие стремление к разрыву, к ко
торому оно, как хочется надеяться, пришло.
Перейдем к главному, поскольку, в конце концов, н
оно заслуживает нескольких слон.
Все без исключения истории Франции базируются ни
общем предположении, что Франция как отдельная дан
ность представляет собой органичную тотальность, состо
ящую из ансамбля реалий, определить, проанализироват!
и уравновесить которые и есть дело историка. Будь и
82
i" ими! исторического порядка (даты, персонажи, собы-
нн|), географического или геоисторического, политичес-
....(государство, власть, правительство, администрация),
ни и (омического или социального, материального или
Kin । и гуционального, духовного или идеологического. Но
ci да на основе этих реалий, какими бы сложными они
....назывались, выстраивается иерархия детерминизмов
I in * 1.1ВИСИМО от степени их сложности и оттого, какая роль
н.икдом конкретном случае отводится случайности или
и об ходимости). Великие модели-матрицы, на основе ко-
Mipi.ix написаны истории Франции, оказываются гораздо
мгнсс многочисленными, чем можно было бы подумать,
। м1дя на неиссякаемый поток «Историй Франции». Здесь
hid \а предпринята попытка это показать6. Чтобы ограни-
•ШГ1.СЯ только теми из них, которые сегодня сохраняют
• in ш > злободневность и продолжают оказывать на нас не-
||| и родственное влияние, остановимся на романтической,
in пптивистской и аналитической моделях. Коротко гово-
ри Мишле, Лависс и Бродель. Модель Мишле стреми-
ъ1гь интегрировать в живом единстве тотальность ее ма-
।триальных и духовных элементов. Мишле первым захо-
н*л проникнуть в «бесконечно многообразные детали ее
лизни — религиозные, экономические, артистические и
। д.», он был первым, кто разглядел во Франции «лич-
ность и душу»7. Второй из них пропустил единство нацио-
нальной традиции через решето научной верификации8.
I j итий — насколько позволяет об этом судить памятник,
г сожалению, оставшийся незавершенным,— стремился
индивидуализировать этапы протяженности, интегриро-
пагь геоисторию Видаля де Ла Блаша, создать синтез,
исходя из экономических циклов. Он был единственным
" См. раздел «Историография» в т. 2 и «Нация», т. 1 [Les Lieux de
•т-moire. Op. cit. T. II. «Historiographic», «La Nation». Vol. 1).
1 Michelet. Preface de 1869 a I’Hisloire de France.
* Nora P Histoire de France de Lavisse // Les Lieux de memoire. Op. cit.
I 11. I.a Nation. Vol, 1.
83
во Франции, кто действительно использовал марксистские
понятия. Единственная опубликованная часть его труда
оперирует впечатляющим количеством материальных,
географических, а также экономических и демографи-
ческих реалий. Но во всех трех случаях речь идет о по-
пытках объяснить настоящее с помощью того, что дей-
ствительно произошло, установить, пусть и на очень раз-
личных уровнях взаимодействия и в разной степени, ко-
герентную последовательность.
Я совсем не хочу сказать, что эти реалии не существу-»
ют, и Франция, представленная здесь,— отнюдь не вооб^
ражаемая. Но с того момента, когда символическое пере-
стают пытаться замкнуть в отдельной сфере, а, напротив,
решаются определить саму Францию как символическую
реальность — т. е., на самом деле, отказаться от всякого!
возможного ее определения, сводящего ее к принадлежа-!
щим ей реалиям,— путь открыт для совершенно иной ис4
тории. Это история не детерминирующих факторов, но!
их последствий, не актов мемориальных или даже ком4
мемориальных, но их следов и игры, не событий самих*
по себе, но их конструирования во времени, их уничтоже-
ния, воскрешения их значений, не прошлого, такого, ка-
ким оно прошло, но его постоянных и новых переложе-
ний, его подлинного и извращенного использования, его
наполненности последовательной цепью настоящих; исто-
рия не традиции, но способа, которым она создается и
передается. Короче — это не воскрешение, не реконструк-*
ция и даже не репрезентация — а ремеморация (rememo-1
ration). Память — не воспоминание, но общая экономия и<
управление прошлым в настоящем. Итак, история Фран-
ции, но история Франции во второй степени (au second
degre).
Избрание историографического измерения или даже
подчинение его императиву ни в коем случае не означает'
необходимости предпринять обходной маневр, позволя-
ющий избежать трудностей или сделать вывод о науч-
84
.... моральной или гражданской невозможности неггро
........ обобщить неопределенную историю неопре
и чгпной Франции. Напротив, я позволю себе сказать, что
ин означает очень точно и скрупулезно вписаться в про-
цы с углубления самого исторического движения, каким
ипо, все убыстряясь, развивается уже более века и каким
। Имо зарождение истории как научной дисциплины было
и мечено с самого начала. История как наука и способ
мышления в своем последовательном движении вперед и
н * ноих решительных обновлениях всегда состояла в по-
пы 1ке установить точное разделение, подконтрольную пре-
рывность между тем, как, по мнению современников, они
-кили и что пережили, и как можно более точной науч-
ной оценкой этого набора представлений. Каждое дости-
жение было связано с шоком от великого потрясения, при-
водящего к полной смене источников, методов и центров
....ереса. Травма от поражения 1870 г. и соперничество с
11 рманией в условиях, которые рассмотрены здесь весь-
ма легально, возвели в ранг категорического и исключи-
|гм»пого императива критическую проверку с помощью
письменных и тоже подвергаемых проверке источников
и< его ансамбля национальной традиции, что предполага-
м) точное и определенное разграничение нарративных и
архивных источников. За этим «критическим» разрывом,
ионной 1914 г. и экономическим кризисом 1929 г., дата
которого символически совпадает с созданием «Анналов»,
последовало, благодаря прогрессу статистики в экономи-
ке и демографии, обнаружение структурного разрыва, со-
। гнившего в противопоставлении пережитому опыту (кол-
чгктивному или индивидуальному) неопровержимой ис-
। шил детерминизмов длительной или средней протяжен-
ности, статистические средние которой жестко определя-
Mi жизнь обществ и индивидов, диктовали им ритмы их
обновления, продолжительность жизни, возраст вступле-
нии в брак, шансы избежать эпидемий или обогатиться,
манеру любить, читать и говорить. Такой тип прерывнос-
85
ти характерен для знаменитой протяженности Броделя,
внесшей большой вклад в уничтожение иллюзорной го-
могенности исторического времени. То же движение ис-
торического углубления и расширения, когда шок от де-
колонизации и неравномерностей развития разрушил од-
новременно линии вертикальной преемственности с «ми-
ром, который мы потеряли», как сказал один английский
демограф, и установил горизонтальную солидарность с
миром «каннибалов» а ла Монтень, с теми подобными
нам, с которыми мы не имеем ничего общего, привело
науку и общественное сознание к пониманию дистанции
от нас до самих себя, к идее прерывности нашей идентич-
ности во времени, которую широкое распространение пси-
хоанализа сделало для нас и понятной, и знакомой. Назо-
вем этот разрыв этнологическим. Он спровоцировал появ-
ление истории «ментальностей», интерес к маргинальным
группам — нашим собственным «колониальным наро
дам» — решительную историзацию таких, казалось бы,
атемпоральных тем, как климат, тело, миф, праздник,
или таких, казалось бы, тривиальных, как кухня, гигие-
на, запахи. Он же, благодаря средствам массовой инфор-
мации, вызвал новый критический интерес к обществен-
ному мнению, образу, событию. Здесь еще раз напраши-
вается сближение — другое символическое хронологичес-
кое совпадение — между войной в Алжире 1962 г. и появ-
лением книги-символа этой эпохи — «Истории глупости»
Фуко. За словам «Происхождение», которым было отме-
чено такое количество книг первого периода с момента
появления этой трещины, за словом «Структура», при-
шедшем ему на смену, последовала гегемония заглавий,
включающих слово «рождение», четко обозначившая ус-
тановление определенной преемственности, истории себя
как истории другого. Эпоха, когда историки — мы сами9 —
9 См., например: Практика истории (I ,е GoHJ., Nora Р bairede rhistoire.
Paris: Gallimard, 1974), в которой три тома носят следующие названия:
«Новые проблемы», «Новые подходы», «Новые предметы».
86
и I’liiiiaioT говорить «объект» вместо «сюжет», чтобы вы-
||>1ппъ примерно то же самое. Разрыв, переживаемый
ihiMii сегодня, связан с тем же самым неостановимым
и|||).пцением истории к себе самой, с неослабевающим
iiiiirpecoM к тому же самому, но еще более увеличивше-
му» м сдвигу, с той только разницей, что речь идет не боль-
ше и не меньше, чем о возвращении, пусть пренебрежи-
irльном, ко всей исторической традиции.
Этот разрыв, который трудно назвать иначе, чем исто-
рио/рафическиму является одновременно и более распрос-
। раненным и более радикальным, чем все предшествую-
щие. Более распространенным потому, что он обуслов-
\ен развитием многих феноменов, каждый из которых
нпляется комплексным и имеющим далеко идущие по-
। ледствия: политические и национальные последствия по-
i гдетоллевской эпохи, последствия упадка революцион-
ной идеи и последствия шока, вызванного экономичес-
ким кризисом. Но это и более радикальный разрыв, по-
мечу что между началом «второй французской револю-
ции»'0 и приближением конца века и третьего тысячеле-
। им совпали три феномена, чтобы создать такую новую
констелляцию, которая глубинно изменила бы отноше-
ние к прошлому, и традиционные формы национального
чувства.
История, а точнее — национальная история, всегда пи-
< нлась с точки зрения будущего. В зависимости от импли-
цитной, а иногда и эксплицитной идеи о том, каким дол-
жно быть или будет будущее, осуществлялось собирание
it:i многообразной неопределенности всех прошедших
прошлых, того, что общность должна была сохранить,
чтобы встретить то, что она ожидала встретить и что она
готовила. Это превращало настоящее в простой и посто-
янный переход, а историка — в проводника, наполовину
нотариуса, наполовину — пророка. Такое предвосхище-
ltJ Mendras Н. La Seamde Revolution fran^aise. Paris: Gallimard, 1988.
87
ние будущего и собирание прошлого формируется, грубо
говоря, в соответствии с тремя основополагающими эксп
ликативными схемами: вероятная реставрация (старого
режима, стабильности границ, наихристианнейшей Фран
ции), вероятный прогресс (господство человека над при-
родой и над самим собой, прогресс организации) и же-
ланная революция, т. е. начало истории заново. Из этих
трех схем страсти века последовательно изгнали надеж
ду и иллюзию. И между подавляющим своей неопреде
ленностью^бесконечно открытым и зачастую отсутствую-
щим будущим и наполненным многообразием прошлым,
вновь обретшим свою туманность, настоящее преврати-
лось в категорию нашего понимания самих себя. Но это
расширенное настоящее, где изменение стало единствен
ным способом существования непрерывности, не в состо-
янии ощутить себя иначе, чем благодаря прошлому, оку-
тываемому все новыми мистериями и все новым очарова-
нием, прошлому-убежищу, более чем когда-либо храни-
лищу секретов того, что является уже не только нашей
«историей», но и нашей идентичностью.
Странный момент отрыва и обнаружения новых ресур-
сов, когда французы больше уже не готовы «умереть за
Родину», но единодушны в том, чтобы обнаружить в себе
интерес и привязанность к ней. Когда это уже не просто
история Франции, ее политика, экономика, общество, но
также и прежде всего — ее пейзажи, ее наследие, архео-
логическое и материальное, ее традиции, ее искусство и
просто самые незначительные проявления ее сущности,
которые оказываются достойными любви и чести быть
сохраненными, интереса в качестве предмета изучения,
почитаемыми как наследство, про которое уже неизвест-
но, от кого оно досталось и зачем оно нужно, но которое
все равно остается самым дорошм. Где опросы обществен-
ного мнения указывают на тенденцию к консенсусу, где
большинство общества впервые после Революции оказа-
лось столь единодушным относительно того, что являет-
88
• и । чанным в институтах общественной жизни, пусть це-
пни их примитивизации, где политические партии, даже
• Inline правые, клянутся именем Республики. Где клас-
111ч«'(’кие оппозиции — новая Франция против старой,
11 к1 ыиция светская против Франции религиозной, или, еще
и nine, Франция левая против Франции правой,— утрати-
ли । вой исключительные черты, потому что даже остат-
ки коммунистической партии и находящийся, напротив,
ин подъеме Национальный фронт заявляют, пусть толь-
...а словах, о своей преданности принципам демокра-
I ни.
По это также время совершенно новых сомнений отно-
• ип льно задач образования, когда требование свободы
рг чигиозных школ вызывает самые большие уличные ма-
нифестации со времен войны, когда политический дис-
курс исчерпал свое право ходить вокруг да около неска-
i.uinoro, когда малейшая реформа в системе государства-
провидения ставит под вопрос наисвящепнейшие прин-
ципы, когда реформа орфографии повергает в ужас, ког-
/ы кодекс о правах гражданства, который стал объектом
। к ктоянного пересмотра в связи с демографическими нуж-
дами, оказался достаточным поводом для того, чтобы
на чать, ввиду важности магрибской иммиграции, вели-
кую распрю об определении национального, когда любое
напоминание о прошлом, даже о весьма отдаленном, ока-
н.1вастся в состоянии мгновенно разбудить старых злых
духов, которых считали давно уснувшими.
Да, странный период, увидевший, с одной стороны, не
юлько исчезновение Франции «господствующей, могуще-
< гвенной и уверенной в себе», но и ее глубинную раздроб-
м иность, и, с другой стороны — возникновение при отсут-
। гвии таких рефлексов пламенного национализма как те,
которые были исчерпаны якобинством, совершенно но-
вого чувства: привязанности к французской уникальнос-
1и, открытия корней и глубины национального феноме-
на, плюралистической и почти что лишенной предпочте-
89
ния любознательности по отношению к богатству и мно-
голикости ее самовыражения. Как если бы Франция пе-
рестала быть историей, которая нас разделяет, чтобы стать
культурой, которая нас объединяет, собственностью, по-
добной семейной, указывающей на нераздельный статус.
Мы переходим от одной модели нации к другой.
Я попытался описать этот переход в конце предшеству-
ющего тома11. Резюмируем его суть. Классическая, про-
виденциалистская, универсалистская и мессианская мо-
дель постепенно растворилась между войной 1914 г. и вой-
ной в Алжире, которая, несмотря на вхождение Франции
в число ядерных держав, закрепила отчетливое осозна-
ние упадка. До этих пор национальная идея основывалась
на идентификации с мощью государства, так что даже
признаки его возможного ослабления вопринимались как
доказательство постоянного обновления его величия, го
сударства, основанного на земле и на территории,— воен
ного гаранта нерушимости границ перед лицом иностран-
ных соседей; и государства — носителя национальной ди-
намики, ее гаранта, ее направляющей и организующей
силы. Единство других стран, секрет их способности быть
вместе могли зависеть от экономики, религии, языка, со-
циальной или этнической общности, культуры. Франция
обязана всем этим постоянной сознательной деятельнос-
ти государства, причем, в отличие от своих соседей, Фран-
ция имеет опыт двух крайних форм государственности:
абсолютизма Людовика XIV и Революции. К первой от-
носится вечно живая альтернатива, переносящая центр
национального притяжения в руки центральной власти
или перемещающая его, напротив, в среду гражданского
общества. Из второй рождаются две концепции француз
ской национальной идеи, которые ретроспективно пред-
ставляются нам скорее взаимодополняющими, чем про
11 См. статью «Нация-память» в иаст. издании.
90
пиилюложными: Франция республиканского лозунга и
пр.in человека, и Франция «почвы и предков».
Глубинная перестройка национального сознания, при
bn горой мы присутствуем сегодня, предполагает совер-
шенно иную модель нации. Она соответствует стабилиза-
ции Франции в ранге средних держав и ее вступлению в
европейский ансамбль, конфликтный, но многообразный
и мирный. Она внутренне соответствует нивелированию
। И |разов современной жизни, децентрализации, современ-
ным формам государственного вмешательства, сильно-
му присутствию эмигрантского населения, с трудом ин-
। ггрируемого с помощью традиционных форм ассимиля-
ции. Она отвечает, конечно, с политической точки зре-
ния, исчезновению того национализма, к которому мы при-
выкли в течение века, такого, каким установление Рес-
публики в качестве окончательно определенной формы
нации кристаллизовало его либо вокруг левой версии,
нкобинской и патриотической, либо вокруг правой вер-
ит, консервативной, реакционной и барессо-морасской.
/(на главных параллельных политических феномена, са-
мых важных феномена XX века, голлизм и коммунизм,
оказали как совместно, так и порознь, сильнейшее влия-
ние на эту мутацию, явив собой в тех условиях, которые
подробно описаны здесь12, одновременно апогей нацио-
нально-революционной Франции и ее лебединую песню.
Этот великий исход традиционного национализма ока-
шлея весьма далеким от того, чтобы привести к истоще-
нию национального чувства. Напротив — и это важно под-
черкнуть — он высвободил динамизм национального чув-
ства, которое проявляется в возвращении сильного и глу-
бокого, вплоть до маниакального, интереса ко всему тому,
и чем Франция сохранила доступ к величию: ко всем фор-
мам ее истории. Соотнесенное со своими традиционными
12 См. статью «Голлисты и коммунисты» (Les Lieuxde memoire. Op. cit.
I HI. Les France. Vol. 1).
91
критериями, национальное чувство может показаться
уменьшенным. Но оно значительно меньше изменилось с
точки зрения собственной интенсивности, чем с точки зре
ния своих масштабов и способов выражения. Унитарист-
ский кадр Империи мертв, другой — Гексагона, там, где
он был зафиксирован и заморожен, распался снизу до-
верху, на высшем уровне — в пользу Европы, Запада, де-
мократий, на низшем уровне — в пользу местных реалий,
таких, как регион, семья, область. Можно с увереннос-
тью сказать, что национальное чувство стало вопрошаю-
щим. Из агрессивного и воинствующего оно стало сорев-
новательным, полностью инвестированным в культ инду-
стриальных достижений и спортивных рекордов. Из тре-
бующего жертв погребального и оборонительного оно
стало радостным, любопытствующим и, можно сказать,
туристическим. Из педагогического — медиатическим, из
коллективного — индивидуальным, и даже индивидуали-
стическим. Франция на любой вкус и выбор — от карты
меню и до карты путеводителя Мишелин. Национальное
чувство было мощно гражданским, и вот оно — эмоцио-
нальное и почти сентиментальное. Оно было универсали-
стским, а теперь оно оказывается атрибутом частной жиз-
ни. Оно было плотско-материальным, а теперь оно живет
как глубоко символическое. Превратилась ли Франция в
общее обозначение всех возможных Франций?
Вот к такой колоссальной перестройке должны сегод-
ня адаптироваться историки Франции. Она императивно
требует возвращения к национальному. Не в силу какого-
то раболепного преклонения, пропитанного, несмотря на
его научную оболочку, дурно пахнущим национализмом,
но потому, что кадр, выражающий национальное, прояв-
ляется как все более стабильный и постоянный. Эта пере-
стройка заставляет пас подчиниться жажде памяти. Не
из-за ностальгии о прошлом и нс из-за музсографическо-
го психоза, но потому, что Франция — прана, где беспре-
цедентная непрерывность истории накладывает бремя
92
। мцельного времени, а легитимизация каждого разрыва
in ггда происходит под знаком верности прошлому и с
помощью восстановления этого прошлого, подвергаемо-
। < । постоянной переработке. Англичане имеют традиции.
V нас есть память. Это опять она, эта перестройка, приво-
дит пас к атомической дисперсии объектов. Не ради пор-
ч*шия от цветка к цветку и от вещи к вещи, но из-за взры-
ihi главного двигателя, далеко разбросавшего его отдель-
ные обломки. Вот что принуждает нас к труду историог-
рафов. Не из-за любви к коллажу или извращенного лю-
бопытства к изнанке вещей, но потому, что способ, ка-
ким составленные из этих обломков фрагменты прошло-
in дошли до нас, то, как они возникали, исчезали, дроби-
ми ь на части и вновь использовались, и является тем,
•in» создало нас. Наконец, эта перестройка заставляет нас
и шешивать на тех же чашах тех же самых весов самые
высокие выражения традиции французского универсализ-
ма и самые скромные орудия его создания, потому что
речь идет о том, чтобы как можно точнее понять и сде-
VI гь ощутимым «почему» и «как» того стремления к уни-
версализму, который, возможно, и есть самая главная осо-
бенность Франции. В этой книге и в ее методе практичес-
tdi пет места для личных фантазий и бюизонских прогу-
MiK. Это — ответ императивным требованиям момента,
единственный, который соответствует сегодня состоянию
науки и сознания. Бог — в мелочах, Франция тоже.
По такой общий охват символического и патримони-
.1 м.ного единства подразумевает, в свою очередь, сугубо
индивидуальное принятие его проявлений, интимное и
мгпгое отношение к нему, частное сообщество, в кото-
ром возникает новая роль историка в обществе. Все, кто
участвовал в данном исследовании, смогли сильнейшим
образом это почувствовать. Не нотариус и не пророк. Пе-
реводчик и посредник. Всегда посредник, но больше не
между прошлым и будущим, а между неясным вопросом
и ясным ответом, между общественным натиском и тер-
93
пеливым уединением в лаборатории, между тем, что он
чувствует, и тем, что он знает. Обмен, разделенность и их
взаимосвязь, из которой возникает смысл и в чем все еще
проявляется призвание.
Что останется от Республики, если изъять из нее цент-
рализаторское якобинство, лозунги «Свобода или смерть»,
«Никакой свободы врагам свободы»? Что останется от
нации, если изъять из нее национализм, империализм и
всесильное государство? Что останется от Франции, если
изъять ее универсализм? Самопознание.
Долгий путь самопознания, превращающий эти «Мес-
та памяти» во Францию и в мою Францию, Францию каж-
дого и Францию всех.
ЭРА КОММЕМОРАЦИЙ
Удивительна судьба этих «Мест памяти»: по своему
демаршу, методу и даже названию они замышлялись как
। ин истории, направленный против коммемораций (centre-
' omineinoratif), но коммеморации захватили их. Стремле-
ние «Мест памяти» избежать риска празднований, разбить
чпалу, заложенную в непрерывности начинающегося от
и ( соков повествования, объективировать всю систему на-
циональной истории и разложить ее на элементы было
i.iK сильно, что коммеморации превратились в главный
предмет их анализа. Ведь это первая книга в националь-
ной историографии, где столь большое внимание было
оделено феномену коммеморации во всем его многообра-
111И, от святынь Реймса до стены Коммунаров, от академи-
ческой хвалебной речи и республиканского календаря до
надгробных памятников, от Пантеона до исторического
музея Версаля, от похорон Виктора Гюго до празднова-
нии столетия Революции и стольких других его проявле-
ний и памятников. Это дало возможность создать пол-
ную и разнообразную гамму этого явления, позволяющую
проиллюстрировать все его аспекты и даже выстроить их
। миологию. Но власть памяти сегодня настолько сильна,
чго коммеморативный аппетит эпохи подчинил себе все,
ин хоть до самого стремления управлять этим феноменом.
Га к что выражение «места памяти» — орудие, созданное
95
для того, чтобы критически осветить этот феномен,— было
тут же превращено в инструмент коммеморации по пре-
имуществу. Что же еще остается, как не попытаться по-
нять причины этой подмены?
Между проектом, поставившим в центр своих размыш-
лений феномен коммеморации, и настоящим историчес-
ким моментом, охваченным манией коммемораций, на
самом деле есть связь. Как не задуматься над тем, что
«Места памяти» выйдут в свет во Франции, вступившей в
эпоху наивысшей частоты коммемораций?
Безусловно, коммеморация — не исключительно фран-
цузское явление. Оно затрагивает все современные обще-
ства, являющиеся обществами историческими, т. е. осно-
ванными на принципе свободы людей, а не на власти бо-
жественной воли, и поэтому заменившими христианские
праздники великими датами своей собственной истории.
Но Франция придала ему такую интенсивность, которая
скорее вызвана не случайностями хронологических совпа-
дений, а богатством ее исторического репертуара, ради-
кальностью революционного разрыва и той мемориаль-
ной жвачкой, на которую она была осуждена чувством
обладания великой историей. Взять хотя бы интервал, от-
деляющий первый том (1984) от последних (1992) — каж-
дый год отмечен пышным или замолченным празднова-
нием: трехсотлетие отмены Нантского эдикта, пятидеся-
тилетие Народного фронта, тысячелетие дома Капетин-
гов, двадцатая годовщина мая 1968 г., двухсотлетие Фран-
цузской революции, столетие со дня рождения генерала
де Голля. И при этом речь здесь идет только о праздни-
ках, национальных и по смыслу, и по характеру. Кажет-
ся, что каждый год и каждый месяц требуют своей пор-
ции обязательных или сфабрикованных годовщин.
Эта синхронность, конечно, не случайна. Современные
коммеморации сами превратились в «места памяти», а
«Места памяти» переполнены коммеморациями: их сбли-
жение становится неизбежным. Не для изучения, как они
!)(>
uno вполне заслуживают, каждой из великих нацио-
।i.i хьных коммемораций, и не для внесения вклада в тео-
ретические размышления о коммеморациях, которые, не-
। мотря на развитие проекта «Места памяти», все же па-
чодятся еще на стадии детского лепета, а для того, чтобы
... каково, в мгновенном становлении сегодняшней
hi тории, место рождения этих «Мест памяти», то движе-
ние эпохи, которое их переполняет и влечет, и которое
они, в свою очередь, отметят своим названием. Редки те
книги по истории, история которых оказывается настоль-
ко долгой, чтобы включить их собственную историю. Ta-
lk .|>1 удача выпала на долю «Мест памяти»1.
I. Метаморфозы коммемораций
Май 1968 года, двухсотлетие Революции. Эпоха пред-
। гас г ограниченной, подчиненной и как бы расчлененной
н ими двумя крайними типами опыта коммеморативной
памяти: второе из этих событий представляет собой мо-
дель осознанно выбранного празднования, от которого не-
нозможно уклониться, но в то же время и неуправляемо-
10, что свидетельствует о новой трудности — праздновать
(озпателыю. А первое — непреднамеренное и даже не-
произвольное празднование, которое не поддается конт-
ролю и которое в свою очередь свидетельствует о другой
новой трудности — действовать, избегая празднования.
1 В этом тексте используются доклады в моем семипаре в Школе
Высших социальных исследований 1991-1992 гг., который я сознательно
решил посвятить коммеморациям в современной Франции, в частно-
। ги, доклады Тьерри Ганье («Комитет по национальным праздникам»,
подготовленный под руководством Элизабет Пули), Филиппа Рено (чья
.и рсгационная работа по политологии оказалась посвящена коммемо-
рации) и Лорана Тейса (о трехсотлетии отмены Нантского эдикта и
1ысячслетии правления Капетингов). Этим авторам я хочу выразить
|дгсь свою признательность.
Учитывая многочисленность и многообразие сюжетов, затронутых
н пой статье, а гакже общий и заключительный характер, который
носит эта работа, библиографические сноски сведены к жестко необ-
чодимому минимуму.
97
Двухсотлетие даже не нуждается в том, чтобы выстав-
лять напоказ свое право считаться настоящей коммемо-
рацией. Разве не революция изобрела сам феномен ком-
меморации, в том смысле, в каком мы его воспринимаем
сегодня? Мона Озуф напоминала в «Местах памяти» о
том, что желание запечатлеть в памяти взятие Бастилии
проявилось сразу же после самого события. И Пеги гово-
рит: «14 июля было своей собственной коммеморацисй».
Разве не Революция является той единственной из вели-
ких национальных коммемораций, которая может похва-
статься повторением (чего уже достаточно, чтобы отли-
чить коммеморацию от празднования), столетие которой
выступает как прототип, на который следует равняться, а
стопятидесятилетие — как модель того, чего следует избе-
гать?2 Разве не Революция предлагает полный набор на-
пряжений и противоречий, которые переполняют любую
коммеморацию, раздираемую между осознанием дистан-
ции по отношению к событию и желанием ее преодолеть,
между спонтанностью праздника и институтом, который
им управляет, между окостенением консервацией и от-
крытостью в будущее, между верностью смыслу события
и способам его приспособления к настоящему? Разве не
она, наконец, от начала и до конца задает всю последова-
тельность повторений национальных коммемораций, где
празднование тысячелетия Капетингов оказывается ничем
иным, как антидвухсотлетием революции, год де Голля —
возвращением к нему, и трехсотлетие отмены Нантского
эдикта — способом предвосхитить его?
2 Ср., например: Огу Р Le centenaire de la Revolution fran^aise. T. 1. La
Republique: Les Lieux de memoire, sous /л dir. de Pierre Nora; Он же: Le cent
cinquantenaire ou comment s'en debarasser H La Lege rule de La Revolution au
XXе siecle, sous la direction de JeanClaude Bonnet et Philippe Roger. Paris:
Fl am ma г ion, 1988; Une rail ion pour memoire. 1889, 1939, 1989, hois jubiles
revolulionnaires. Paris: Presses de la F. N.S. P., 1992. Библиографическую
ориентацию по вопросу двухсотлегия и коммемораций Революции мож-
но получить в: Bulletin tiimesdiel, iiislitut d’histoire du temps present
(I. H.T R). 1992. Septembre. N 49.
98
11 все же из двух событий именно Май 1968-го против
। ибсгвенной воли с полной очевидностью воплощает
и хасгь коммеморативной памяти. По поводу этого револю-
ционного действия, этого факта истории, которая, в геге-
м-веком смысле, пишется кровью, каждый задним чис-
MiM задавался вопросом о том, что же произошло на са-
мом деле. Не было никакой революции, ничего осязаемо-
। о и ощутимого, но, помимо участников и вопреки их воле,
неудержимый подъем и пламенеющий праздник, воплоти-
вший легенды всех революций: революций французско-
ю XIX и даже XX в., благодаря школьникам, которые
напоминали о 1848 г., баррикадах Коммуны, шествиях
11ародного фронта и о еще живущем в памяти Сопротив-
м нии; революций советов Петрограда и ленинского захва-
i.i власти; революций Третьего мира, от Китая до Кубы.
11евозможно перечислить все исторические фантасмаго-
рии, чисто символическим воспроизведением которых
гтал Май 1968 года. Люди 68 года, участники событий,
жаждали действовать, но на деле они только праздновали
и высшем торжестве и в миметическом переживании ко-
нец Французской революции. Все событие не имело ни-
какого другого смысла, кроме коммеморативного. Май
1968-го просто съел хлеб двухсотлетия, празднуя, напере-
кор самому себе, окончание того, что предполагалось от-
мечать в 1989 г.
Противопоставление не исчерпывается этим. Май
1968-го воплощает, и даже карикатурно, тенденцию к авто-
референциальности каждой истинной коммеморации, а
двухсотлетие — тенденцию к исторической переполненно-
сти. 11 июня 1968 г. во время операции «Иерихон» после-
дние демонстранты еще не успели обогнуть цитадель
О.Р.Т.Ф., а им уже начали продавать «Маленькую чер-
ную книжку майских дней», наскоро отпечатанную изда-
тельством «Сей». Истинное начало «общества-театра»,
loro, с чем майские «события» больше всего хотели по-
рвать, кроется здесь. Здесь неразличимо смешаны два из-
99
мерения: самоосвящение и самоисторизация. Событие яв-
ляется для самого себя своим собственным событием,
впрочем, событие и было тем единственным словом, кото
рое было найдено, чтобы его окрестить. Отсюда — стран-
ный дефицит собственно исторического анализа и труд-
ность проникновения в тайну, отсюда — тяга действующих
лиц периодически выслушивать самих себя, следуя рит-
мам собственной биографии. Май 68-го года оказался тем
более закрытым в своей «самодостаточности», тем более
обреченным на чисто мемориальное распространение и
тем более неспособным выйти на общественную и нацио-
нальную политическую арену, что все его десятилетние
годовщины попадали на политически крайне неудачное
время3. Первая пришлась в 1978 г. на время, последовав-
шее за упадком левых и увидевшее начало избиратель-
ной кампании по Общей программе. Во время второй, в
1988 г., политическое поле оказалось разделено между
правыми, еще находившимися у власти, президентской
компанией человека, которому 1968 год оставил только
дурные воспоминания, и приготовлениями к празднова-
нию годовщины Революции, которая выпадала как раз
на майские дни.
Двухсотлетие, напротив, изнемогает под бременем ис-
тории, оказавшимся для него слишком тяжелой ношей.
Начиная с 1983 г. вопрос «можно ли отмечать юбилей
Французской революции?» был сформулирован так, что
все последующее только подтверждало его удивительную
проницательность4. Добрая часть коммеморации прошла
в дебатах о самой коммеморации. Врожденное уродство
этого празднования заключалось в том, чго оно едва поспе-
вало за своим собственным значением, относительно кото-
3 См.: Rioux J.-P. A propos des t rlelnalions luuionales du mai franca is //
Vingtieme Siecle, revue d’histoire. 1989, juillci scpiciuhre. N 23. R 49-59.
4 Cm.: Ozouf M. Pcut-on coinitirinoici la Revolution lian^aise?; Furet F.
La Revolution dans I’imaginaiie ।)111il it111с 11 atu;ais // Le Dtibut. 1983.
Septembre. N 26.
I(X)
I.. версии трех сменивших друг друга председателей
Миссии по организации празднования, не говоря уже о
। лмом президенте республики5, были весьма различны,
in и кильку ни одна из них не была очевидной. Это уродство
шк мочалось так же и в неспособности возродить, кроме
। лк в истории или благодаря мобилизации несколько арха
ii'iiii.1х республиканских связей, революционный пыл и
in пышки революционных воспоминаний, которые были
• тс совсем свежи недолгих пятьдесят или сто лет назад.
< Инода — тяга к пустякам: мягкий взлет монголфьеров
(и январе), милая посадка деревьев свободы (в марте),
постановки: пародийная — открытие генеральных штатов
и Ве рсале (в мае), туристическая — в Тюильри, артисгиче-
। идя — в Вальми (в сентябре); таковы объявленные значи-
|глы1ыми даты года, в который не происходило ничего
нычительного. По мере подготовки к двухсотлетию, праз-
днованию не везло во всем. Неудача политическая: враж-
дебность мэра Парижа, ставшего в тот момент премьер-
министром, который быстро заставил отказаться от Все-
мирной выставки и навязал программу, с каждым днем
। i .сживавшуюся, как шагреневая кожа. Невезение органи-
мционное, связанное со смертью двух первых председате-
\гй Миссии по организации празднования и слишком ма-
m.im сроком, оставшимся третьему для подготовки двух-
(отлетая. Неудача идеологическая, вызванная официаль-
ной озабоченностью только темой прав человека, относи-
|глыю чего все и так были согласны, что, впрочем, все
равно не имело никаких последствий. Наконец, главная
неудача — вызванная падением Берлинской стены и восста-
нием на площади Тянь Ань Мынь, что поистине экспроп-
риаторски оттеснило взятие Бастилии на второй план. И
хотя в конце концов 14 июля мы получили парад Гуда,
который благодаря телевидению останется в памяти зри-
’ Garcia Р. Francois Mitterrand, chef de I’Etat, commemorateur et citoyen
// Mots. 1992. Juin. N 31. Специальный номер «Gestes d’une conimdmora-
llllll».
101
мым образом двухсотлетия6, история этого празднования
была ничем иным, как нескончаемым, ловко завуалиро-
ванным разочарованием в тех больших надеждах, кото-
рые изначально связывались с приходом левых к власти7 8.
Но при всех своих неудачах двухсотлетию все-таки пеожи
данно повезло: среди его организаторов нашелся историк,
убежденный, что «если не доводить до абсурда идею эф
фекта зеркала, нельзя усомниться, что то, как подготав-
ливается и развивается двухсотлетие, позволит с точно
стью узнать в будущем не только о нем самом, но и о
состоянии всего французского общества, его политики и
культуры в конце XX века»0. Жан-Ноель Женнени, таким
образом, сопровождал свою деятельность созданием хоро
шо классифицированного и сразу доступного для исследо-
вания архива. Огромный научный коллектив уже работа
ет над проблемой «Франция 80-х годов в зеркале комме
морации»9, и нет сомнений в том, что этот экип будет
неутомимо стремиться ретроспективно придать этому
празднованию ту историческую плотность и компактность,
которой ему так не доставало на деле. Забавная судьба у
этого двухсотлетия, из которого история собирается еде
лать для истории событие, каковым оно не было на са-
мом деле.
6 См. «Се que j’ai voulu faire, entretien avecJean-Paul Goude» и «Bricolo
les-belles-images» Оливера Сальватори в специальном номере «Le Dt-
bal*y посвященном теме «89: Коммеморации» (89: la Commemoration
// Le Debal. 1989. Noveinbre-decembre. N 57).
7 Cm.: Rioux J.-P A propos du Bicenlenaire de la Revolution dans la France de
198911 La storia della sloriografia europca sulla rivohizione francesc: Relazioni
Congresso Associazione degli Storici Europei. Mai 1989. Rome, 1990.
8 Jcanneney J.-N. Rapport du president de la Mission du Bicenlenaire au pre-
sident de la Republique sur les acliviles de cel organism e el les dimensions de la cele-
bration, 5 mars 1990. Paris: La Documentation fra r liaise, 1990. P. 187; Idem.
Apres coup. Reflections d'un commemorateur 11 Le Debal. 1989. Novembre-decc
mbre. N 57. Op. cit.
9 Исследование Института истории современности, освещаемое н
периодическом издании «I^ettrcs d’information», дополненное исследова
нием, проводимым C.II.P.C. и Ф.11.C.P. па тему «Коммеморации двух
сотлетия Французской революции но французских сельских общинах»
102
Итак, две модели, два архетипа, делящих поле совре-
менных коммемораций. Два полюса непосредственно от-
< i.i лают к двум ключевым понятиям, образующим и орга-
низующим это поле. Таковы столетие, к которому отсы-
virr и двухсотлетие, и поколение, содержание которого
прояснил Май 1968-го года10. Нейтральная и механичес-
кий единица, находящаяся на торжественной и, однако,
короткой дистанции от человеческой жизни, и экзистен-
циальный ритм, придающий форму и смысл пережитому
нрсмени. В самом деле благодаря своим делениям сголе-
। не в своем вековом величии арифметически задает все
исторические даты в календаре. И лишь поколение бла-
и>даря множественности, которую оно придает одной и
юн же дате, заставляет их оживать. Без этих двух темпо-
ральных инструментов, как и без их пересечения, доста-
нрнюго для того, чтобы диктовать интенсивность конк-
ретной коммеморативной программы и ее постоянное во-
юбповление не может быть никакой коммеморации. В
в пствительности столетие является сравнительно недав-
ней категорией, возникновение которой словари XIX в.
позволяют очень точно датировать первыми годами Тре-
। ь<’й республики11, устанавливающей свое господство бла-
(одаря трем решающим датам: столетию независимости
См.: Les Lieux de Memoirе //Op. ciL. T HI. Les Frances. Vol. I. La gene-
> >1h>ll.
" Выражение используется Пьером Ларуссом (1867) только в смыс-
м‘ религиозного ритуала. Первое издание Литтре (1863) упоминает
1н.|ражсние только как прилагательное или в смысле «человек, кото-
рому сто лет». Напротив, «Приложение» 1877 г. указывает на то, что
ин ущсствительное среднего рода стало преобладающим: «Праздно-
.... ио истечении 100 лет. Праздник, отмечаемый в честь такой го-
ioHiiunibi». Политический словарь Дюклера и Папьерра (1868) поме-
IIIill* г иод рубрикой годовщины то, что должно было бы быть ПОД СЛО-
НОМ «столетие», которое в нем отсутствует. Так же в «Большой энцик-
....един» Вертело, который, отмечая «одно из значений слова, исполь-
цгмого для обозначения празднования столетнего юбилея великих
|»<и.ггий», посвящает две колонки «столетия» демографическим про-
1 н’мам.
103
Америки (1876), столетию Французской революции (1889)
и столетию самого века (1900). Чтобы столетие стало окон-
чательно общепризнанным, потребовалось, чтобы «век»12,
это изобретение XVIII в., сам равнялся столетию. Уже в
1889 г. Ренан был встревожен теми обязательствами, ко-
торые накладывало это новшество, и сожалел о том, что
«невозможно помешать векам продолжаться сто лет»13.
Что бы он сказал по этому поводу в наши дни? Такого
несложного обзора рождения понятия, с учетом изобре-
тений и новшеств всех видов, возникших в революцион-
ную эпоху и в завоевательный период Третьей республи-
ки — в эти два важнейших момента национальной жиз-
ни,— уже достаточно для того, чтобы выстроилось все
бесконечное многообразие столетий, двухсотлетий и, как
следствие, пятидесяти- и сзопятидесятилетий, которыми
вымощена мостовая официальной коммеморативной по-
вседневности на протяжении последних 20 лет и вплоть
до конца века14. И какого века! Вот тут-то с простым ариф-
метическим расчетом поминутно встречаюгся волны, при-
шедшие из другого полюса, из полюса пережитого. Их
демографический ритм и ритм поколений навязывают
обязанности коммеморировать другие требования, при-
дают ей другой масштаб, новое дыхание, более требова-
тельное и более судорожное. Это дыхание участников,
свидетелей и жертв страшной истории, подстерегаемых
сменой истории крови на историю чернил. Одного взгля-
да, например, на почести, оказанные ветеранам в годы
двойной годовщины Великой войны и Освобождения, в
1964 году, когда их кульминацией стала пантеонизация
12 См.: Milo D, A la recherche du. siecle. loe parlie de Trahir le temps (hisLoire).
Paris: Les Belles Lettres, 1991.
13 Renan E. Reponse a и di sc ours dr reception de Jules (dare tie а Г Academic
frangaise. 1889,21 fevricr.
14 Ср., в особенности для коммгмораций событий культуры: Johns-
ton W. М. Postmoder nisme el Rimdlenaiie, le i t die des anniversaires dans la culture
contemporaine. Pa г is: P. IJ. I<, 1992.
10-1
/К.ша Мулена, в 1984 г., когда последние бравые солдаты
• нравляли свои девяностолетние юбилеи, и в 1994 г., ro-
ll »нящем апофеоз этих чествований,— достаточно, чтобы
шшять, насколько два или три последние десятилетия,
отделяющие возраст ухода на пенсию и возраст «после-
днего свидетеля», оказываются насыщены коммемораци-
ИМ11. Как и в более общем смысле, достаточно сопоста-
вить эти два понятия — столетие и поколение — для того,
чтобы обнаружить, что эти две модели в период с 60-х гг.
и до начала третьего тысячелетия определяют уже отнюдь
не только символически то, что в силу простого количе-
। гвенного увеличения можно назвать эрой коммемораций.
Важно при этом отметить не усиливающееся располза-
ние феномена, но его внутренюю трансформацию, разло-
/кгпие и разрушение классической модели национальной
коммеморации, такой, какой она была изобретена Рево-
моцией и какой ее закрепила победоносная Третья Рес-
публика15. Ее сменяет распавшаяся система, созданная на
нгвзаимосвязанных коммеморационных языках, предпо-
чагающая другой характер отношений с прошлым, ско-
рее избирательный, чем императивный, открытый, плас-
тичный, живой, постоянно развивающийся. Что сближа-
ет, например, - если говорить о проявлениях этого толь-
ко в течение тех нескольких педель, когда я пишу этот
текст,— официальный переезд Франсуа Миттерана в В ими,
н Артуа, день празднования семидесятипятилетия высад-
ки канадских войск, международный коллоквиум, посвя-
щенный двухсотлетию «Критики чистого разума», трид-
цатилетие конца Алжирской войны, пятнадцатилетие
Кобура, пятидесятилетие налета на Вель д’Хив и столе-
тие приезда Поля Синьяка в Сен-Тропе? Куранты про-
b Ozouf М. La Fete revolutionnaire, 1789-1799. Paris: Gallimard, 1976;
Hit O. La Ciloyennele en fete: celebrations nalionales el integration politique dans la
ha nee republicaine de 1870 a 1914, these de 1'E.H.E.S.S. Paris, 1991
(ru ultigraphic).
105
должают бить в положенное время, но это уже больше
не то же самое время. Очевидно, что работает другая ло-
гика. Исчезновение единого кадра Государство—Нация
заставило содрогнуться всю традиционную систему наци-
ональной коммеморации, которая была его концентри-
рованным символическим выражением. Теперь больше
нет совершенства коммеморации — канон исчез.
Классическая модель предполагала на деле безличный
и утвердительный суверенитет — Франции, Республики,
Нации — в качестве истинной причины публичных акций,
великим устроителем и распорядителем которых остава-
лось Государство. Сегодня присутствие государства всю-
ду скрыто, оно скорее рекомендует, чем предписывает.
Даже по поводу такого чисто национального торжества,
как празднование двухсотлетия Революции, декрет пре-
зидента Республики, учреждающий специальную Миссию
для его проведения, изъясняется не иначе как словами:
«побудить», «гармонизировать», «координировать», «спо
собствовать». Классическая модель предполагала также
единство истории, которая, будучи эпической, воинствен-
ной и партийной, имела своих «избранников», чаще всего
из числа политических деятелей и военных, и своих изго
ев, скрытых молчанием и сохраняемых только благода-
ря частному культу памяти, типа регулярной и практи
чески тайной мессы 21 января, в годовщину казни Людо
вика XVI, и церемонии на кладбище Пикпюс. Голоса, ко
торые общество более всего хотело слышать и услышало
во время празднования двухсотлетия, не были голосами
глашатаев Революции. Эти голоса говорили от имени ее
жертв, начиная с тех, кто разоблачал Вандейский гено
цид, и кончая защитниками преследуемой церкви. И та
ким образом во имя принципов Революции и прав чело-
века жертвы Революции оказались удостоенными своей
доли коммеморации. Классическая модель сверху дони
зу строилась на порядке и иерархии. Этот порядок и эта
иерархия рухнули, чтобы уступить место множеству де
106
пгптрализированных инициатив, в которых смешивают
< и и перекрещиваются медиатическое, туристическое,
игровое и коммерческое начало. Нет больше великих со-
оружений, прошла «эпоха статуемании», нет больше про-
н< ходящих одновременно на всей территории страны ак-
ций, сохраняющих полную идентичность мест, ритуалов,
процессий, безразличных к интересам отдельных лиц или
ipyini. Осталось только уважение к процессиям поколе-
ний. Коллективная идентичность и дух коммемораций са-
моутверждаются теперь не в школе, главном инструмен-
1г традиционного диспозитива, не на площадях, не во все
менее и менее жизнеспособных ритуалах 11 ноября, 14
июля и 1 мая16*, но на телевидении, в музеях, Каннском
Мемориале и Историале Перонны, в 1000 ассоциаций,
। <жданных ради этого, в изобилии театральных, музыкаль-
ных и фольклорных постановок. И, конечно, дело не об-
ходится без двух неизбежных столпов современных ком-
мемораций, которыми стали обязательная выставка и
приуроченный к событию коллоквиум. Слова «Благодар-
ная отчизна» утратили свою непреходящую вечность, свою
трансцендентную абстрактность. Они относятся теперь в
мепыпей степени к отдельным похороненным в Пантео-
не (Рене Кассен в 1987 г., Жан Моине в 1988 г., аббат Гре-
гуар, Монж и Кондорсе в 1989 г.), чем к типичным геро-
ям дня — Колюшу или Даниелю Балавуану, жертве гонок
11ариж—Дакар. Они в меныпей степени выражают себя
на официальных и публичных церемониях и посвящени-
ях, чем в телевизионных шоу, в которые теперь входят
( цепические и драматические элементы. Коммеморация,
\учше всего отражающая дух времени,— это коммемора-
ция в Пюи-дю-Фу17. Здесь есть все: и противостоящая
1,1 Об этих трех датах см.: Prost A. Les Anciens CombaUanls el la Societe
Iuiliaise, 1914-1939. Paris: Presses de la E N. S. P., 1977; Amalvi C. Le 14
luillel //Les Lieuxde Memoire. T I. La Republique. Rodrigucz M. Le 1"Mai. Paris:
(..illiinard-julliard, coll. «Archives», 1990.
h Martin J.-C. A propos du Puy-du-Fou // La Erance des annees qualre-vignt
mi miroir du bicenlenaire, I. H. T. P // Lettre d’information. Mars. 1992. N 4.
107
официальной местная инициатива президента Генераль-
ного совета Филлипа де Вилье с его ярко выраженным
христиано крестьянским кредо, где образцовая Вандея,
очевидец мира, который мы потеряли, разворачивает в
драматических эпизодах свой урок антиистории, и поста-
новка-галлюцинация — облака дыма, децибелы и лазер,—
отсылающая к предыстории «света и звука», все в чарую-
щем взаимодействии всего, включенное в широкую ассо-
циативную сеть и сеть бытовых контактов. В результа-
те — от двухсот до трехсот тысяч посетителей с момента
официального визита Жискара д’Эстена в 1978 г. Как
далеко мы ушли от того времени, когда среди серых буд-
ней колледжа юный Огюстен Тьерри воскликнул: «Фара-
монд, Фарамонд, мы сражались твоим мечом!». Тради-
ционная модель и вправду распалась.
Коммеморации собственно национальные и гражданс-
кие потонули в сфере политики. Главная причина это-
го — ни одно событие послевоенной истории не может быть
с полным основанием включено в единую национальную
память18. Освобождение провозгласило битву памятей,
каждая из которых была тем более воинственной, что
могла легитимно заявлять о своих правах, хотя и была
глубоко амбивалентной с точки зрения ее репрезентатив-
ности для всей нации. Предвыборные обещания голлис-
тов и коммунистов в 1945 г. явили собой потрясающий
пример этого. Память первой мировой войны была мощ-
но объединительной. Даже память о Петене после Виши
не помешала Вердену остаться признанным символом всей
нации. Вторая мировая война была разъединяющей, не-
способной даже на то, чтобы выработать несомненную и
единственную дату победы, потому что освобождение про-
исходило повсюду в разное время и по-разному и потому,
10La Мemoire des Fran^ais. Quaranle ans de tотmemoralion de, la Seconde Guerre
mondiale, colloquc de Г1.Н.Т.Р. Paris: Editions du C.N.R.S., 1988; Namer G.
Batailles pour la memoire, la commemoration m France 1944-1982. Paris; S.PA.G.
/ Papyrus, 1983.
108
что 8 мая, плавающее между перемирием 11 ноября и
праздником Жанны д’Арк, которому отдал предпочте-
ние де Голль, так и не смогло обрести своего собственно-
го места. Его отмена в 1975 г. Валери Жискар д’Эстеном,
гем не менее, спровоцировала немедленное и эффектив-
ное противодействие ветеранов. Политизация коммемо-
раций, отчасти ответственная за их широкое распростра-
нение, действительно трансформировала всю систему: она
сделала ее светской, демократизировала ее и приблизила
к манифестации19. Двойное и противоречивое следствие
л ого в том, что с одной стороны, код и значение комме-
морации оказались в руках отдельных групп, партий, син-
дикатов и ассоциаций со всеми внутренними конфликта-
ми и неизбежными разногласиями, привносимыми в орга-
низацию самих церемоний, где каждая деталь сказывает-
ся на значении всего ансамбля. Напротив, с другой сторо-
ны, национальная манифестация стала в меньшей степе-
ни выражением воинственного единства отдельной груп-
пы, чем конфликтного единства в демократическом об-
ществе всех групп сразу. Столетие Республики создало
возможность утвердить единство республиканской семьи.
Двухсотлетие стало «местом» самовыражения всех поли-
тических «семейств». Черты, присущие Пятой республи-
ке, сделали этот феномен еще более явным: национальная
память в своих наиболее официальных проявлениях не
может получить из рук своих хранителей и высших маги-
стратов иного значения, кроме политического. Сколь бы
общенациональной и патриотической не стремился сде-
лать коммеморацию де Голль даже и после 1958 г., она не
избежала захвата ее голлистами. Об этом свидетельству-
ем', например, то, как они овладели горой Валерьен. То,
что Франсуа Миттеран начал семилетие своего правле-
ния визитом на МО1ИЛЫ Шельшера, Жореса и Жана Му-
лена, отложив посещение могилы Леона Блюма в Жуи-
19 La Manifestation, sous la direction de Pierre Fabre. Paris: Presses de la
I.N.S.P., 1990.
109
ан Жоз для частного визита, является точной политичес-
кой версией национальной памяти, которую он поощряет
и которую он поощрил особенно эффективно, начав с
1987 г. украшать цветами могилу Петена или решив при-
нять участие в июне 1992 г. в коммеморации резни при
Вейль д’Хив. На самом высоком уровне больше нет наци-
ональных коммемораций, которые не являлись бы поли-
тическими и даже партийными.
С другой стороны, особенно сильный удар по класси-
ческой модели был нанесен мощным подъемом локаль-
ного и культурного, фундаментально разрушительных для
«национального». Их же подъему, в свою очередь, благо-
приятствовали деятельность министерства культуры и де-
централизация, развитие туризма и осознание ценности
наследия, возрождение научных обществ, интерес к ним
местных объединений или учреждений культуры. Это и
есть главный феномен, который дал совершенно новый
импульс коммеморационной жизни, сообщив ей, однако,
при этом противоположную динамику: она не спускается
больше сверху, очищенная в соответствии со шкалой на-
циональных и патриотических ценностей. Она повинует-
ся логике частных интересов, региональных, корпоратив-
ных или институционных, которые превратили ремесло
коммемораций в индустрию. Возьмем, к примеру, ком-
меморацию в этом году первого восхождения на гору Эгий
в Изере (1492 г.): подписание на вершине всемирной хар-
тии этики и взаимопомощи альпинистов, восхождение ин-
валидов разных стран, «почетные связки» трех поколе-
ний гидов, женское соревнование па новой тропе и дру-
гие праздники. Как ни увидеть в этом взрыве усилий пре-
увеличенный отклик па двухсотлетие восхождения на
Монблан шестью годами раньше? Опять же, в этом (1992)
году, колоссальная программа, отмечающая 700-ю годов-
щину основания Отель-Дье де 'Геншере: трехдневный кол-
локвиум, посвященный гуманитарным акциям во Фран-
ции и в мире, с заявленным участием Даниель Миттеран
I 10
и Бернара Кушнера, кинофестиваль с показом «Месье
Винсен» и «Зима 54, аббат Пьер», цикл лекций о средних
исках, прочитанных лично директором Генерального ар-
хива Франции. Как ни увидеть в этой общей мобилиза-
ции личного вклада Анри Налле, хранителя печатей, и
мэра Тоннера? Это всего лишь два примера, взятые из
ежегодного бюллетеня Делегации национальных тор-
жеств, призванной специально, уже в течение 15 лет, цен-
трализовать, поддерживать и поощрять, а также вклю-
чать в провинциальные ежегодники и библиографичес-
кие словари все инициативы, достойные поддержки: за
последние 6 лет было учтено свыше 1000 таких акций.
11и один ученый, писатель, артист не имеет сегодня шан-
сов уклониться от радара коммемораций: Шалон-на-Мар-
пе в этом году даже собирается откопать Н. Аппера, что-
бы отпраздновать годовщину изобретения консервов; он
получит право на собственный памятник работы Ипосте-
ги. Коммеморации событий культуры были раньше дос-
таточно редки. Они ограничивались празднованиями в
школе и при всей их литературности были прямо и не-
посредственно вызваны каким-то событием или дискус-
сией национального значения20. Сегодня они больше не
существуют. Вот поразительный пример: тот же самый
Монтень, четырехсотлетнюю годовщину смерти которо-
го столь помпезно отмечали в этом году в Бордо, не знал
пи трехсотлетия этого события в 1892 г., ни четырехсот-
летия со дня рождения в 1933 г. Что же говорить о Стен-
дале, деятельная ассоциация друзей которого находит
способ торжественно отметить в этом году стопятидеся-
20 Речь идет исключительно о столетиях Мишле (1898), Виктора
Гюго (1902), Эдгара Кине (1903), Ламартина (к столетию «Размышле-
ний», 1920), Флобера и Луи Буйе (1921), трехсотлетии Лафонтена (1921),
пятидесятой годовщине смерти Гюго (1935) и трехсотлетии Расина
(1939). Все министерские циркуляры настаивают на педагогической и
гражданской необходимости этих решений. Мне они были предостав-
лены Андре Шервелем, начальником службы истории образования в
Национальном институте педагогических исследований.
111
тилетнюю годовщину его смерти после не менее торже-
ственного празднования в 1983 г., с момента которого еще
не минуло десяти лет, двухсотлетия со дня его рожде-
ния? Но наиболее отчетливо этот феномен заметен в ар-
тистической сфере. Памятные коммеморации юбилейных
дат здесь и раньше не были редкостью, особенно сразу
после смерти, как и юбилейные выставки в частных гале-
реях. Новый феномен, зародившийся в 60-е гг. и ставший
ритуальным по ходу развития института музея и нового
поколения хранителей,— это причисление к лику вели-
ких в крупном национальном музее по случаю столетия
или двухсотлетия. Последние по списку: Жерико, Вуэ,
Сера. Таково практически общее правило: в произволь-
но раскрытом «веере» воображаемого музея торжествен-
ная годовщина превратилась в индикатор выбора, прак-
тически в единственную возможную точку отсчета, в ин-
струмент интеллектуальной и научной работы21.
*
Сама динамика коммеморации совершенно изменилась.
Мемориальная модель возобладала над исторической, что
сделало новым — непредсказуемым и капризным — обра-
щение с прошлым. Прошлое утратило свой органичный,
безапелляционный и принудительный характер. Имеет
значение не то, что прошлое накладывает на нас, а лишь
то, что в него" вкладывают. Отсюда — запутывание лю-
бого послания прошлого. Ведь это настоящее создает свои
инструменты коммемораций, едва поспевающие за дата-
21 Это явствует из листов экспозиций, объединенных по моей ини-
циативе Анн Рокебер, служительницей музея д’Орсе. Они позволяют
измерить путь, пройденный аг норных «столетних» юбилейных экспо-
зиций, а именно экспозиции 1889 г, которая должна была, по мнению
ее организатора Антонина Пруста, «нродсмонстриронать взрыв и мощь
французского искусства и течение нашего столетия» (Rapport de 1891.
Piece justificative. N 3. В 73) и экспозиции 1900, которая по словам Роже-
ра Маркса (Maitres d'/uer el Нан/оиГ/гш. Рать, I9M. I* 73), «стремилась
всеми силами восславить французскую школу».
I 12
ми и фигурами коммемораций, которые оно игнорирует
или множит. Оно оставляет себе свободу действий в рам-
ках запланированной программы (как, например, по пси
воду аннексии Вальми в 1789 г.) или же подчиняется дате
(например, в 1994 г. по поводу дела Дрейфуса, но при-
говора, а не реабилитации), но в любом случае оно транс-
формирует значение события. История предлагает, а на-
стоящее располагает, и то, что происходит, регулярно ока-
зывается отличным от того, что хотели сделать. Отсю-
да — столь странный результат великих национальных
коммемораций, недавно происшедших друг за другом:
именно коммеморации, не имевшие никакого объекта, ока-
зались наиболее успешными — самые пустые из них с ис-
торической и политической точки зрения оказались са-
мыми полными с точки зрения памяти.
Тысячелетие династии Капетингов и год де Голля яв-
ляются потрясающей иллюстрацией этому. Тысячелетие
Капетингов, поначалу было ничем иным, кроме комме-
морации восшествия на престол Гуго Капета, кроме весе-
лой перебранки пастуха правых с пастушкой левых, в ос-
тальном живущих в счастливом союзе. Но вот что про-
изошло, когда два десятка историков, которые сами не
верили в возможность вызвать этим настоящий пожар
значений, нечаянно подожгли запал: вступление на пре-
стол Гуго Капета, при полном распаде монархической
идеи, между фантомом де Голля и фантасмагорией «вто-
рого тысячелетия», мгновенно превратилось в «тысячеле-
тие Капетингов», отсылая к началам королевской власти
и к тому, что молодая медисвистка Колетт Бон только
что назвала «рождением нации Франции». Все произош-
ло само собой22.
22 Министр культуры, несмотря на изобилие всех возможных праз-
днований, в 1983 г. обратился с запросом в историческую комиссию
11ационалыюго центра научных исследований, не является ли начало
правления Гуго Капета достойным рассмотрения. Комиссия ответила,
что если крещение Хлсдвига (496) или Верденский договор (843), за-
113
Доказательством полного исчезновения всякой угрозы
реставрации монархии, которая сохранялась еще при де
Голле, является то, что президент республики сам внес
вклад в превращение в событие это отсутствие события,
придав ему своим появлением 3 апреля в Амьенском со-
боре вместе с графом Парижским и по его приглашению
статус национального праздника. Полное противоречие
историческому смыслу, поскольку это ставит в начало
истории нации событие, лишенное всякого историческо-
го веса, и превращает в ее основателя малоизвестного
персонажа, который в течение одного года стал героем
четырех биографий. Ведь «Капет» — это поздно появив-
шееся имя, возникшее в XVI в., а само возрождение идеи
«преемственности» Капетингов восходит к бенедиктинцам
Святого Мавра. Но историческая шаткость не имеет зна-
чения! И к тому же ведь речь шла об историческом пери-
оде, полностью освоенном и переваренном, о событии на-
столько бессодержательном, что оно смогло без труда
стать вместилищем всех скрытых проекций. В том же
самом году биография Людовика XIV Блюша имела нео-
жиданный успех, спустя 10 лет после не менее удивитель-
ного успеха биографии Людовика XI Мюррей Кендаль.
Все это возвращает другими путями то, что Жорес на-
звал «вековым шармом монархии». Французы поспеши-
ли отпраздновать согласие по поводу программы, кото-
рая ни для кого ничего не значила, нация обручилась сама
с собой накануне события-раскола. Итак, Франции испол-
нилось 1000 лет, ее дата рождения известна, ее родители
установлены, а следовательно, у нее есть идентичность,
та самая, которую Фернан Бродель годом раньше столь
справедливо вписал в «длительную протяженность»,
фиксировавший распад империи Карла Великого, могут служить точ-
кой отсчета для образования Франции, то дата 987, сама по себе не
имевшая никаких последствий, чем менее достойна коммеморации,
чем более она связана с началом королевского правления неуловимо-
го персонажа-фантома. Правительство Ширака, однако, вернулось к
этой идее.
Ill
Это переделывание прошлого, столь многообещающее
। точки зрения разработки новых туристических маршру-
та и открытия новых замков для посетителей, этот ог-
ромный исторический «zoom-увеличитель», направленный
на несуществующую цель, контрастирует с тяжелой арт-
подготовкой к тройной годовщине де Голля — столетию
со дня рождения, пятидесятилетней годовщине 18 июня и
двадцатой годовщине смерти. В чем причина столь по-
верхностного интереса в этом случае, несмотря на извер-
жение издательской и телевизионной информации? Хро-
нологии было чем вдохновить всевозможные ожидания:
после монархии, после революции, синтез общественно-
го согласия должен был превратить де Голля в короля
республики. Это последний эпизод того основополагаю-
щего прошлого, полностью пережить которое в течение
грех лет было предложено французам. Но был допущен
просчет: ведь героизация героя уже состоялась, корона-
ция освятила короля, который был уже давно святым и в
сравнении с которым даже Гуго Капет мог служить, хотя
и невольно, лишь двойником и тенью.
В этой игре памяти и истории трехсотлетие отмены
Нантского эдикта в 1985 г. дало пищу для другого скромно-
го предвосхищения. Событие, имеющее конкретное и исто-
рическое содержание, которое изначально касалось толь-
ко протестантской среды, было захвачено игрой нацио-
нального воображения. Намерение французской протес-
тантской церкви, как и Общества истории французского
протестантизма, заключалось, в соответствии с их собст-
венной традицией, в том, чтобы использовать эту возмож-
ность для объединения, для возрождения распадающей-
ся в ходе истории общинной идентичности, для укрепле-
ния связей с братьями, рассеянными заграницей. Короче,
это была память практически семейная, вскормленная
историей, которая не имела отношения ни к чему, кроме
самой этой памяти. Но вот государственная власть начина-
ет проявлять интерес к проектам протестантской общи-
115
ны, чтобы придать им большее значение. В Елисейском
дворце, в Матиньоне, в Парижской ратуше заговорили
об отмене Нантского эдикта, как если бы там смутно почу-
яли, что из этого может получиться коммеморации цен-
ностей, общих для Франции и Республики. Впрочем, цен-
ностей, прямо противоположных тем, что были присущи
событию, которое собирались отметить: в 1685 г. речь шла
о восстановлении национального единства с помощью
единообразия, чего стремился достичь эдикт в Фонтен-
бло — один закон, одна вера, один король, как говорит Елиза-
бет Лабрусс. То, что хотели праздновать в 1985 г. — это
многообразие в единстве, толерантность, свобода совести,
против которой только что, годом раньше, протестовала
чудовищная манифестация в защиту свободной школы,
Франция как земля-убежище. Ствол государства был пре-
доставлен для прививки ветки. И пока протестантский
мир продолжал относиться к этому событию как к баналь-
ному, историографическому и безжизненному, непротес-
танты начали переживать каждую скрытую эмоцию, кото-
рую могла вызвать протестантская история: изгнание, пре-
следование, физическое уничтожение, традиция сопротив-
ления, верность общине, права меньшинств, урезаемые
силой, несправедливость, совершаемая во имя государства,
права человека и гражданина. В изгнанниках 1685 г. орга-
низация «S.O.S. Расизм» увидела «попавших в беду», и
Мадлен Рибериу, президент Ассоциации национальных
торжеств, дошла до отождествления «сегодняшних им-
мигрантов со вчерашними протестантами»23. Не стремясь
ни предвосхитить двухсотлетие, ни соперничать с ним,
трехсотлетие отмены Нантского эдикта получило значе-
ние национальной коммеморации, пусть только благода-
ря присутствию Франсуа Миттерана па организованной
ЮНЕСКО церемонии. Оно стало неожиданной репети-
цией того, чему двухсотлетию с трудом удавалось при-
дать гармоничное звучание.
23 Ответ редакции «L’Hisloirt». 1985, апрель. N 77.
116
Нельзя сказать, что двухсотлетие не произвело ника
кого эффекта из-за того, что оно было обязательным. На-
против, политический провал только придал большую зна-
чимость успеху мемориальному. Благодаря чему и как
это случилось? Прежде всего, под давлением самой исто-
рии это произошло благодаря созданию дистанции, раз-
рыву и приближению через отдаление. Только потому,
что Франция окончательно вышла из состояния, описы-
ваемого формулой революции, она смогла спокойно и
почти что единодушно чествовать завоевания Революции,
«французы оказались как бы в нереволюции, счастливые
в то же время тем, что революция некогда имела место.
Революция—прошлое — вот то, что они были в состоянии
легко отпраздновать, одобрить или осудить и у чего они
были даже готовы поучиться. Изъятие из истории, ко все-
общему удовольствию оправдываемое контекстом борь-
бы на Востоке против коммунизма, который претендо-
вал на роль преемника Французской революции, изъятие
во имя идеалов, которые символизировались празднова-
нием. Такова двойная выгода, которая позволила фран-
цузам быть революционерами в прошлом, иметь для это-
го веские причины и продолжать оставаться революцио-
нерами, уже больше не будучи ими. Именно в качестве
факта памяти двухсотлетие было пережито как великая
объединительная идея, как истинная коммеморация. По-
скольку Революция происходила во Франции повсемест-
но, в каждом городе и в каждой деревне, такая близость
вызвала повсюду, хотя никто не отдавал себе в этом отче-
та, генеалогический поиск своей индивидуальности. В Ви-
зиле это происходило иначе, чем в Шоле, в Лионе не так,
как в Нанте. Двухсотлетие, если отвлечься от вызывае-
мого им уважения, выполнило функцию междугородно-
го конкурса или спортивного соревнования — его иденти-
фикационная сила была столь же велика. Дистанция и
близость, эффект которых сегодня трудно измерить с
точностью, хотя механизм их понятен, сделали свое дело,
117
несмотря на умолчание столицы и скептицизм коммента-
торов. Оригинальность двухсотлетия и состоит в этом
разрыве между тем, к чему стремились, и тем, что реаль-
но произошло. Навряд ли было бы преувеличением ска-
зать, что это празднование удалось вопреки усилиям орга-
низаторов. По меньшей мере, оно сделало очевидным то,
что особенно важно для наших рассуждений, а именно,
что факт коммеморации революции оказался гораздо важ-
нее, чем сама Революция, которую чествовали.
II. От нации к наследию
Эта метаморфоза коммеморации не выражала бы ни-
чего, кроме своего собственного конца, если бы она сама
не была следствием метаморфозы гораздо большего мас-
штаба, а именно метаморфозы, происшедшей с Франци-
ей, которая перешла менее чем за 20 лет от единого наци-
онального сознания к самосознанию типа наследия. Нуж-
но подытожить этапы этого перехода и оценить его зна-
чение.
Великий переворот очень точно датируется серединой
1970-х гг., когда в силу странного стечения обстоятельств
совпали последствия целой серии потрясений, внешне не
взаимосвязанных между собой, но приведших к глубин-
ному расколу самих основ коллективного и национально-
го сознания. Безусловно, самым значительным из них яв-
ляется то, которое с непосредственностью чувственной
данности сделало очевидным на переломе экономическо-
го подъема конец крестьянского мира. Наблюдатели этих
изменений не упустили возможности оценить разруши-
тельные последствия и расплату за них. Но только начи-
ная с 1974 г., с момента первого удара кризиса, вскоре
после периода, который Жан Фурастье сходу окрестил
«славным тридцатилетием экономического подъема»,
общая тенденция окончательно проявит себя. То, что в
течение 10 лет не выходило за пределы круга исследова-
телей заброшенных деревень, историков «Крестьян Аан-
118
гг дока», что оставалось знанием узкого круга этнографов,
занимающихся Плозеве дю Финистер или округой Ша
гийона, скрытым в стенах недавно основанного и малопо-
(сщаемого Музея народных ремесел^ и традиций, внезап
но открылось взору всего общества, благодаря выдвиже-
нию на пост президента Республики экологиста, агроно-
ма Рене Дюмона, благодаря одновременному неожидан-
ному успеху «Истории крестьян Франции», «Коня горды-
ни» и «Монтайю». Кульминация этого осознания прихо-
дится на 1980 г., объявленный годом Наследия. Уже по-
явление «нового рабочего класса» в конце 60-х годов от-
метило определенный рубеж. А когда в марте 1971 г. по
случаю столетия Коммуны Жорж Помпиду пришел по-
клониться стене Коммунаров и бывший уполномоченный
банка Ротшильда закрыл скобку, открытую Кровавой
неделей, стало очевидно, что век рабочей Франции кон-
чился и настал час экомузея Крюзо. Но конец крестьянс-
кого мира вел гораздо дальше, к расшатыванию самих
основ тысячелетней стабильности. Это была «длительная
протяженность» Броделя, которая вышла из диссертаций
его учеников, чтобы ударить сокровенную Францию в
самое сердце ее незапамятной идентичности. Падение
ниже 10 % численности населения, занятого сельскохозяй-
ственным трудом, и прекращение месс на латыни ознаме-
новало величайший поворот в коллективном сознании,
безвозвратный конец того, что сохранялось живого и ак-
тивного от средневековой и крестьянской памяти. Теперь
не оставалось ничего другого, как распознавать через ис-
торию и воображение мир, который был потерян всеми и
навсегда. Потерянный, но вместе с тем присутствующий,
вызывающий ощущение чуждости по отношению к себе
самому, мир, окутанный своей неясностью, мистерией и
соблазном, вышедший из непрерывности истории, чтобы
пережить прерывность памяти.
Этот шок, сущностный, по безгласный, может быть,
был бы менее прочувствован, если бы он не совпал со
119
вступлением в должность главы государства президента,
моложавый, аристократичный, технократичный и париж-
ский облик которого не имел ничего общего с тем, что
могло бы способствовать его идентификации с традици-
онной Францией. Напротив, он был наделен всем, что под-
черкивало разрыв с голлистским порядком. Начиная со
столь впечатляющих жестов, как рукопожатия с заклю-
ченными, отмена 8 Мая и совершеннолетия в 18 лет, и
вплоть до самых основ политики, с приоритетом эконо-
мических и европейских интересов, со стремлением к
ослаблению централизации власти, французы пережили
при нем, особенно в начале его семилетнего правления,
некое подобие исторического опустошения. Утрата кор-
ней в период после де Голля тоже спровоцировала пере-
стройку памяти на многих уровнях. Драматическое ис-
чезновение человека 18 июня отметило выход Франции
из орбиты войны. Нужно ли напоминать, что именно в
этот момент, когда Помпиду помиловал коллаборацио-
ниста Тувье, черное воспоминание о немецкой и вишист-
ской Франции стало судорожно проступать во всем — в
истории, литературе, кино24? Но постголлизм является по-
вторением более глубокого прошлого. С точки зрения
того, что голлистские учреждения пережили своего осно-
вателя, и второго прочтения Конституции накануне голо-
сования по общей программе можно сказать, что подтвер-
дилось предчувствие, что де Голль выиграл свое истори-
ческое пари и что политическая битва, начатая в 1789,
завершилась. В то же время именно два последние века
истории Франции оказались втиснутыми в длительную,
токвиллевскую перспективу, в историю Государства-На-
ции, с ее длинными веками монархии, Францией Людо-
24 См. в особенности: Or у Р Сотте de Гап quarante: dix annees de «retro
salanas» // Le Debat. 1981. Novembre. N 16. P 109-117; Idem. L’entredcux-
mai, histoire culturelle de la France, mat 1968 — mai 1981. Paris: Ed. du
Senil, 1983. P 118-127. Более общий взгляд см. в: Rousso Н. Le Syndrome
de Vichy, 1944-198... Paris: Ed. du Seuil, 1987.
120
пика XIV и Тысячелетием Капетингов. Влияние, которое
невозможно измерить, но которое, тем не менее, остается
совершенно отчетливым, последствие работы мертвого
мифа и причисления к галерее предков новой инкарна-
ционной фигуры, которая долго будет оставаться после-
дней, привели к обновлению этой галереи, с чем трудно
не связать воскрешение жанра исторической биографии.
Вновь возродилась общая чувствительность французов к
«идее Франции», к ее истории, к ее специфике и, в еще
более общем смысле, к релегитимизации темы нации, по
поводу которой левым, и именно благодаря упадку их
идеологии, пришлось признать то, что всегда составляло
непреодолимое препятствие для марксизма.
В качестве дополнительного, но по-своему решающего
фактора, вызвавшего эту кристаллизацию, это возвраще-
ние Франции к себе самой, можно назвать падение бетон-
ной стены революционного марксизма (которая до сих
пор отражала любые попытки штурма) как в форме со-
ветского ленинизма-коммунизма, так и форме маоизма
левых группировок. «Эффект Солженицына» сработал,
и успех «новых философов» вынес на публичное обозре-
ние то, что подспудно происходило уже несколько лет:
решительный разрыв с марксизмом и с логикой револю-
ции, превращение самого слова «тоталитаризм» в символ
левых и официальное соскальзывание в полный антисо-
ветизм. «В 1981 году станет очевидно то, что стояло за
сопротивлением Французской коммунистической партии
выборам в Законодательное собрание 1978 года: а имен-
но, что речь шла уже не о феномене, ограниченном сре-
дой интеллигенции, но о подлинном социальном разры-
ве. И даже, возможно, о распаде автаркии, всей фран-
цузской политико-интеллектуальной системы»,— справед-
хиво замечает Марсель Гоше25. Потому что то, что обна-
25 Gauchc't М. Tbtalilarisme, liberalism#, indtvulualisme, «Mots-Moments» //
I Debal. 1988, mai-aout. N 50, repris in: Les Idees en France, 1945-1988, une
• hwnologie. Paris: Gallimard, coll. «Folio histoire», 1989. P. 513-521.
121
ружилось, когда разбился революционный проект, пояс-
няет этот же автор, было в той же степени идеей конца
истории, сколь и идеей радикального разрыва с прошлым.
Не возвращение к конкретному отрезку прошлого, а ис-
чезновение самой организационной оси, стабильного кад-
ра представлений о прошлом, конец научного предвиде-
ния, подчинявшего все прошлое своей воле, своему смыс-
ловому обновлению, чтобы пе сказать — своей собствен-
ной легитимности. Разрыв, но во всяком случае, высоко
оцененный: «Все отношение к традиции, считавшейся за-
конченной и побуждавшей предпринять усилия для ее
окончательного преодоления, подспудно утратило леги-
тимность. Утрата ориентиров: способ бытия, суждения,
делания, инстинкт нового, стабильный в течение десяти-
летий, постепенно и незаметно утрачивают внутреннюю
основу своего существования».
Прекращение роста в стабильном обществе, пробуж-
дение от мечты о голлистском величии, исчезновение ми-
ража, в который так долго желала верить родина рево-
люций, все эти три волны шока мгновенно совпадают в
резонансе в тот момент, когда, после провала шираков-
ского плана возрождения экономики, прибытие в Матий-
он «лучшего экономиста Франции», этого пришельца из
Брюссельской Европы, с его программой экономическо-
го ужесточения наглядно показало неизбежную переме-
ну: подчинение суровому закону внешнего принуждения.
1977-й год — год политического подчинения. Неизбежное
подчинение интернациональному измерению, окончатель-
ная интериоризация перехода от великой державы в ранг
средней, включение Республики в ряд обычных демокра-
тий, начало конца французской исключительности. Кри-
зис 30-х гг. вылился для системы традиционной идентич-
ности в подъем экстремизма. Кризис 70-х гг. спровоциро-
вал противоположное: погружение в глубины, возвраще-
ние к себе, новое ощущение основ близости.
Эта подспудная преобразовательная работа, совершав-
122
шаяся с поразительной быстротой, сделала возможным
успех Года наследия. Достойно упоминания, что именно
тогда само слово «наследие» претерпело семантическую
революцию26. Совершенно непредвиденный успех, порож-
денный простой административной инициативой27. В
1978 г., после образования двух самостоятельных мини-
стерств — культуры и экологии, новый министр культу-
ры Жан-Филипп Лека из-за боязни утратить часть своей
власти задумал создать Дирекцию Наследия, которая дол-
жна была объединить в себе службы «Исторические па-
мятники», «Главный инвентарь», учрежденный Мальро,
и «Археология»28. Когда 9 августа это предложение было,
наконец, принято Советом министров, президент Респуб-
лики счел этот случай подходящим для того, чтобы при-
влечь внимание французов к вещам такого рода. После
Года женщины и Года ребенка почему бы не объявить
Год наследия? Безусловно, ответил министр, но чтобы
лучше подготовиться и по времени, и с точки зрения
средств, предпочтителен 1980 г. Манна кредитов с тем
большей легкостью обрушилась на этот сектор в 1979 г.,
что все были уверены, что речь идет о политически мер-
гвой сфере. Для проформы региональным комитетам
26 Опрос общественного мнения, опубликованный «Фигаро» 19 ян-
варя 1981 г., на самом деле показывает, что в декабре 1979 г. только
12 % французов понимали слово «наследие» как единство нацио-
нальных и культурных ценностей, а не как компетенцию Гражданско-
го права. В декабре 1980 г. эта часть достигает 36 %.
27 Досье материалов прессы огромно. Я отмечу в особенности ре-
портаж Жозет Алия {анкета Фредерика Ферней): La course аи bon vieux
temps Ц Le Nouvel Observateur. 1980,6 septembre, полностью подтверж-
денный в углубленном интервью, любезно данном мне господином Жан-
Филиппом Лека 13 марта 1992 г.
28 Так же в эти дни и в том же духе была усилена и реорганизована
«Служба национальных торжеств», уже имевшая своего генерального
директора. Морис Дрюон, министр по делам культуры, еще в 1973 г.
укрепил ее, создав французскую Ассоциацию национальных торжеств,
предназначенную для сбора средств для «большего престижа церемо-
ний» и для «повышения престижа Франции».
123
предъявляется требование представить проекты. Вот тут
то и начинаются сюрпризы. Регионы начинают требовать.
Слово «наследие» получило совершенно неожиданный ре-
зонанс. Оно считалось принадлежащим нотариусам или
мелким рантье, но приобрело новые значения. Добро, пе-
редаваемое от отца к сыну, стало силой тяготения, кото-
рая становится вашими корнями и той связью, что связы-
вает вас с социальным целым, превращаясь в священный
и бесценный залог, который следует передать потомкам.
Оно сошло с небес соборов и замков, чтобы найти себе
убежище в забытых обычаях и старинных умениях29, в
бутылках доброго вина, в песнях и диалектных поговор-
ках. Оно вышло из национальных музеев, чтобы навод-
нить собой зеленые долины и отпечататься на камнях ста-
ринных улиц. Теперь, в эту эпоху, все, начиная от ущер-
ба, причиненного бульдозерами, и вплоть до подспудно-
го чувства исчерпанности творческой активности, от ра-
зочарованных надежд левых после распада Общей про-
граммы до тех надежд, которые привели новых правых к
идее возрождения народной культуры,— все уже подго-
товлено для поиска именно здесь новых ресурсов. Про-
шлое стало простым в обращении и удобным для прода-
жи в год, предшествующий президентским выборам. В
наследии обнаруживают, что есть родина со всем тем, что
содержится в этом слове неоднозначного и двусмыслен-
ного, достойный и скромный в огромной коллективной
сокровищнице обол бедняков, в котором в то же время
всегда остается возможность перехода от культа пенатов
к враждебности к эмигранту и присутствие которого об
наруживает себя как в форме уважения к чужим тради-
циям, так и в отрицании всяких форм модернизации.
Итак, движение приходит снизу, из провинции, чтобы
добраться чуть позже до скептического и иронического
29 Движение, иллюстрируемое, например, успехом в том самом году
книги Ивонны Вердъе (Ver die г Y. Fa^on de diretfa^on de fairc. La laveuse, la
couluriere, la cuisiniere. Paris: Gallimard, 1979).
124
1[арижа. В течение первых десяти месяцев в общенацио-
нальных средствах массовой информации о нем нет ни
слова. Напротив, в это же время ему посвящены целые
страницы провинциальных газет. Нужно ждать лета, что-
бы благодаря каникулам обнаружилось, что, например,
жители Эврона, в Майенне, одеваются в костюмы X в.
для празднования своего тысячелетия или что в Сен-Сим-
форьен, в Сарте, молодежь деревни однажды вечером
разыграла нападение на Шуаны, что повсюду, в самой
глубине, происходит какое-то движение. Вскоре не без
удивления и недоумения констатируют существование ог-
ромной сети безвозмездных услуг, которая спонтанно воз-
никла три или пять лет назад. Ничего не требуя ни у кого
и даже специально избегая всякого соприкосновения с бю-
рократией или центральными властями, эта сеть осуще-
ствляет огромную работу на местах: околло 6000 ассоци-
аций защиты наследия и 4000 сельских ассоциаций куль-
туры и отдыха! Регионализация сама собой превратилась
в свершившийся факт. Политикам, как и общественным
движениям, оставалось только как можно быстрее зак
лючитъ в определенные рамки, направить и укрепить эту
поистине этнологическую политику30. Год наследия — это
немного Май 68-го года для провинциалов и деревенских
жителей. Очень мало заботы о будущем, очень мало ис-
тинной политики сохранения и передачи, но просто мас-
совый порыв к прошлому. В том году французы, сдержи-
ваемые лишь недостатком кредитов, попросту отправи-
лись на поиски уходящего под воду континента. Таково
прошлое, которое чествуют, прошлое, па которое случай-
но наткнулись находящиеся тогда у власти правые, и ко-
торое годом позже унаследуют левые.
30 То есть политику поддержания разнообразия. Исторический обзор этой
попытки см. в: Chiva I. palrimoine ethnologique: I’exemple de la France //
Encyclopaedia universalis. Symposium 1990. P 229-24J.
125
*
Вернемся теперь в целом к тому феномену, который
состоит в переходе от исторического к ремеморативному
и от ремеморативного к коммеморативному. Вернемся по-
тому, что, скрытое за очевидностью и за самой непрерыв-
ностью опыта, оно привело к полной инверсии обычного
смысла терминов, и потому, что в основе этой инверсии
лежит подлинная метаморфоза коммеморации31.
История в том смысле, в котором спонтанно понимает-
ся это слово и в котором оно, по сути дела, обозначает
нацию, так же, как нация выражает в нем себя, преврати-
лась благодаря школе и времени в кадр и в матрицу на-
шей коллективной памяти. Научная история, такая, ка-
кой она сложилась как учительница нации, состояла в
выпрямлении этой традиции памяти, в ее обогащении.
Но сколь бы критичной эта история ни стремилась быть,
она не представляла из себя ничего иного, кроме углубле-
ния памяти. Предельная цель истории состояла в само-
идентификации по отношению к памяти. Именно в этом
смысле память и история образовывали единство: исто-
рия была проверенной памятью.
То, что сегодня обычно называют памятью, в том смыс-
ле, в каком говорят о памяти рабочих, о памяти провин-
циальной, южно-французской или женской, напротив, яв-
ляется возвышением исчезнувшей традиции до истори-
ческого сознания, реконструкцией феномена, от которо-
го мы отделены, и который больше всего интересует тех,
кто ощущает себя его потомками и наследниками. Это та
традиция, в существовании которой официальная исто-
рия не стремилась отдавать себе отчет, потому что нация
как группа чаще всего складывалась именно благодаря
удушению этой традиции, ее безмолвию или потому, что
ей не удавалось стать историей. Но это и есть та тради
31 Ср. развитие этого центрального аргумента в статье настоящего
издания «Между памятью и историей».
126
ция, которую эти группы отстаивают по ходу интеграции
и национальную историю и которую они стремятся вос-
становить всеми возможными средствами — от самых
диких до самых научных,— потому что она составляет
основу их идентичности. Эта память и есть на самом деле
их история.
Такова эта простая, но не очевидная инверсия, кото-
рую необходимо специально подчеркнуть, поскольку она
лежит в начале коммеморации наследия, которая, в свою
очередь, претерпела ту же инверсию. Феномен коммемо-
рации был концентрированным выражением националь-
ной истории, редким и единичным, всегда трудным мо-
ментом возвращения к коллективным истокам, символи-
ческим подтверждением родственной связи и выбором
наследства для передачи, точкой перехода прошлого в
будущее. Эта память атомизируется. Для каждой отдель-
ной группы она становится нитью, произвольно воткан-
ной в социальную ткань, позволяющей ей установить связь
в настоящем с безвозвратно умершим прошлым. Эти рас-
сеянные нити везде и нигде. Коммеморация высвобожда-
ется из традиционно предписанного ей пространства, но
теперь вся эпоха превращается в коммеморационную.
Успех «новой истории» в 1970-е гг. ясно отражает этот
механизм и позволяет уточнить его. Успех достаточно
неожиданный, если принять во внимание усложнение
процедур и удаленность объектов исследования, выражен-
ное стремление отказаться от событийного рассказа и
биографий исторических персонажей. Безусловно, этот
переворот в классической политической и национальной
истории, который осуществили в узком университетском
кругу историки, принадлежавшие к школе «Анналы»,
особенно к ее второму и третьму поколениям32, означал
уже тогда открытость к памяти и соскальзывание истори-
12 См.: Ропнап К. Lheure des Annates. Les Lieux de Memoire // Op. cit. T II.
La Nation. Vol. 1. P. 424.
127
ческого в мемориальное, по открытость и соскальзыва-
ние, в основном, неосознанные, не отдающие себе отчета
в собственных последствиях и импликациях. Что могло
восхитить публику в анализе средневековых счетных книг
или в установлении демографических кривых XVII в.?
Здесь есть все для успеха: историческая операция «опре-
деления объекта», которая вменяла историку в обязан-
ность разбить гомогенность исторического времени вплоть
до дезартикуляции классических темпоральных объек-
тов33. Прошлое не легко выдает свои секреты. За очевид-
ностью фактов, за дискурсом и жестами актеров исто-
рии, за документами находится нечто, заставляющее, по
словам Мишле, заговорить «молчание истории». В ано-
нимности больших чисел, в непогрешимости статистики —
весомость длительной протяженности, принуждения
структур. Но вот внезапное доказательство неопровержи-
мого присутствия — и кролик появляется из шляпы фо-
кусника. Чудотворная операция, которая в состоянии
изъять из огромной неопределенности времени, из цепи
«причин» и «следствий», новый и говорящий с нами
объект. Вот, например, Пьер Губер, который провел
10 лет, считая крестины и отпевания, в приходских реги-
страх Бове только для того, чтобы написать эту первую
фразу, обеспечившую успех книги «Людовик XIV и
20 миллионов французов», выдержанной в манере новой
истории: «В 1966 г. средняя продолжительность жизни
приближается к 70 годам. Доходила ли она до 25 лег в
1661 г.? Эти простые цифры означают, что в тс времена
33 Хронологическая дислокация, в которую многие из нас внесли
свой вклад: Жак Ле Гофф своим «длительным средневековьем», рас-
тянутым вплоть до индустриальной революции, Эммануэль Ле Руа
Лядюри своей «неподвижной историей», таково название его первой
лекции в Коллеж де Франс (1971), Франсуа Фюре своей Французской
революцией, которая «оказывается у дверей» только в 1880 г., и я сам
в истории современности, благодаря анализу роли медиатизированно-
го события.
128
смерть была центром жизни подобно тому, как кладби-
ще располагалось в центре деревни». Мгновение — и де-
кор Версаля предстал с изнанки. А другая попытка? Вот
первая фраза из «Бувина» — бестселлера 1973 г. Жоржа
Дюби, великого знатока общественных, экономических
и ментальных структур средневековья: «В 1214 году 27
июля пало на воскресенье. Воскресенье — день Всевышне-
го. Он полностью принадлежит ему. Я еще знавал крес-
тьян, которые испытывали трепет, когда плохая погода
заставляла их собирать урожай в воскресенье: они ощу-
щали на себе гаев небес!». Безусловно, требовалось, что-
бы коммеморационный потенциал в один прекрасный
день вырвался наружу из строгих научных трудов для
того, чтобы публика обнаружила в них новое восприятие
прошлого и оригинальный способ писать историю. И в то
время как общество сознавало негативные последствия
решительного внедрения этих методов и этих взглядов в
преподавание истории в начальной и высшей школе, ис-
торики, со своей стороны, сами начинали понимать исто-
рическую специфику проблем памяти34.
Это поймут. Станет скоро понятно и то, что отличие
«нового историка» от «старого» заключалось отнюдь не в
различии материала, но в отличиях в экзистенциальном
отношении к прошлому. Спокойная уверенность в непре-
рывности характерна для одного и убежденность в суще-
ствовании радикального разрыва и трудностей, которые
необходимо преодолеть ради уничтожения этого разры-
ва,— для другого. Подобно тому, как рубеж, отделяющий
34 Отметим, например, тот факт, что в «Практика истории» (Fairs de
Г/tisloire. Paris: Galliinard, 1973) ни Жаку Ле Гоффу, ни мне самому,
руководителям эт ого коллективного предприятия в трех томах, не по-
требовалось включить память в число «новых проблем», «новых под-
ходов» или «новых предметов». Пять лет спустя, напротив, для «Сло-
варя Новой истории» (Dictionnaire de la Nouvelle Hisloire. Paris: Retz, 1978),
осуществляемого под руководством Жака Ревеля и Рожера Шартье,
Жак Ле Гофф заказал мне две специальные статьи, посвященные этой
геме: «Коллективная память» и «Настоящее».
129
мемориальное от исторического (хотя мемориальное само
по себе является мощным созидателем истории), неосяза-
емый и одновременно абсолютно точно существующий,
основывается исключительно на ощущении, что часть
себя, необходимая для самосознания, ампутирована. Вот
на каком рубеже несколько лет, между 1975 и 1980 гг.,
балансировала Франция, чтобы еще больше углубиться в
страну памяти, с помощью еще более активного обнаже-
ния ее традиционной идентичности, в соответствии с рит-
мами постоянного изменения, заставляющего теперь по-
являться в каждый отдельный момент, в зависимости от
времени и места, новую фигуру прошлого. Сельское, на-
циональное, революционное были безусловно частью этих
решительных изменений. Но они отнюдь не исчерпали
этого развития и были лишь первыми среди многих дру-
гих.
Отсюда — тонкость, подвижность и в то же время оче-
видность рубежа коммеморации, о котором иногда изве-
стно, где он начинается, но неизвестно, где он кончается.
Нет ничего менее коммеморативного, чем, например, аэро-
фотосъемка, сделанная с помощью точной техники. Но
что если там, где, как считалось, не было ничего, кроме
пустынных равнин и лесов, 20 лет назад обнаруживается
плотная сеть галло-римских ферм, что почти гарантиру-
ет существование «наших галло-римских предков»? «Био-
графический словарь рабочего движения» Жана Метро-
на (см. раздел «Жизнь рабочих») не превратился ли он в
точный эквивалент памятника мертвым? И когда Ле Руа
Лядюри отправляется на поиски 1000 невоскресимых кре-
стьян Лангедока, не устраняет ли этих крестьян такое про-
стое определение для читателя еще в большей степени,
чем для автора, из исследования этого района (как и дру-
гих), превращая их в безличную составляющую действи-
тельно великого исторического персонажа — великого
мальтузианского цикла, которым были охвачены фран-
цузские деревни, начиная от периода черной смерти и
130
кончая рубежом XVUI в.35? Для хранителей Музея на-
родных искусств и традиций в нем нет ничего специаль-
но коммеморативного. Но когда молодой двадцатипяти-
летний писатель Эрве Гибер останавливается перед ре-
конструкцией общей комнаты одной из ферм Обрака
прошлого века, с ее каминной доской, продовольствен-
ной кладовой и табакерками, «как зачарованный перед
этой кромкой прошлого», обнаруживая благодаря «этой
настоящей машине времени возможность вернуться во
времени назад», так что «никакая фотография, ни сте-
реоскопическая, ни даже голография, не в силах пере-
дать наст олько сильное ощущение дыхания прошлого»36,
то не есть ли это чистая коммеморация? Прекрасная био-
графия де Голля Жана Лакутюра не имела, насколько
мне известно, никакой коммеморационной интенции. Но
вот что видит в ней молодой историк, который сам раз-
мышляет о Ришелье: она «стоит десятка могильных па-
мятников», настолько она напомнила ему в терминах его
собственной политической культуры об «эффективности
действительно эффективного коммеморативного памят-
ника»37. Да и сам подъем биографического жанра, не яв-
ляется ли и он частью коммеморативного духа времени?
Императивная и коллективная коммеморация стала вы-
зывать подозрение, но индивидуальная и спонтанная ком-
меморация оказывается неожиданностью, когда то, что
является коммеморационным для одного, не является
больше таковым для другого.
Этот шквал коммемораций, поднявшийся, по выраже-
нию эпохи, из глубин гражданского общества, не пере-
35 Можно пойти и дальше и сравнить очень разную оценку карнава-
ла в городе Романе в его диссертации 1966 г. и в работе 1979 г., нося-
щей то же имя: многозначный факт социальной истории, претерпев-
ший метаморфозу в начале, чтобы стать в конце концов событием
коммеморативной памяти.
36 Guibert Н. Un palrimoine fanlome // Le Monde. 1980, 20 aout.
37 Jouhaud C. La galerie des homines illustres, contribution d I’ensemble «Quand
rhisloirien se fail biographer // Esprit. 1992. Aout-septembre.
131
ставал набирать скорость и шириться. Управлять им при
весьма противоречивых обстоятельствах выпало на долю
левым.
Потому что само возвращение левых к власти несло в
себе в высшей степени коммеморативное значение. Не
только потому, что, как выразился новый президент Рес-
публики в своей тронной речи 21 мая 1981 г., «наступил
третий этап длинного пути, когда после Народного фрон-
та, после Освобождения, политическое большинство
Франции в результате демократического волеизъявления
совпало с социальным большинством». Ведь во Франции
коммеморация — это вообще до такой степени дело ле-
вых, что коммеморативные акции правых могут быть
представлены как антикоммеморации. Светское прояв-
ление, связанное с традицией эпохи Просвещения, Рево-
люции и Республики, одним из первых жестов которой
явилось установление в 1880 г. национального праздника
двойственного значения — праздника, посвященного взя-
тию Бастилии, и праздника Федерации. В Англии, где
сохранилась монархия, гражданские праздники немного-
численны. В 1988 г. трехсотлетие «Славной революции»
и Билль о правах были отпразднованы более чем скром-
но. Важный факт — в Англии нет национального празд-
ника в точном смысле этого слова. В Соединенных Шта-
тах, где доступ к политической и демократической совре-
менности не был получен в борьбе с монархическим и
религиозным порядком, главные праздники развивались
в том кадре, который современные историки и социолога
определяют как истинную «гражданскую религию»38. Во
Франции монархические ритуалы — помазание или коро-
нация, королевские выходы, похороны, королевские за-
седания парламента — не относятся к коммеморации,
которая, напротив, олицетворяет собой разрыв с монар-
38 Bell ah R. Zzz religion civile aux Elals-Unis I I Le Dcbat. 1984, mai. N 30;
Hammond P. E. Varieties of Civic Religion. San Francisco: Harperl and Row,
1980.
132
хией Божественного права39. Это и есть то, что придало
символическое измерение инаугуралыюму визиту Фран-
суа Миттерана в Пантеон в тот самый день 21 мая, кото-
рый осветил собой все десятилетие вплоть до того, что
превратил его в обязательный элемент любой ретроспек-
тивы40. Но даже помимо церемонии, помимо выбора мес-
та, которое само по себе было исполнено значения, и по-
мимо утвержденной реимплантации его в новую версию
национальной истории, со страстью, которой не знали ни-
какие мероприятия двухсотлетия, этот визит оказался ком-
меморацией коммемораций. Обновление национальной
коммеморации так и осталось одним из стремлений и
одной из забот власти41. Но перед лицом ее очевидной
анемии государство было вынуждено подчинить ее, бла-
гоприятствовать ей и создать кадр для нового роста свет-
ской коммеморации (laicisation соттётогайуе), и несмот-
ря на всю глубинную чуждость коммеморации авторита-
ризму государства, его идеология потребовала адаптации
к пей.
Этот новый рост проявился во взрыве всего, связанно-
го с наследием, что привело к изменению этого понятия42.
Как классическая коммеморация вокруг церемонии, по-
3!) Boureau Л. Les ceremonies royales fran^aises enlre performance juridique el
competence lilurgique // Annales E. S. C. 1991, noveinbre-decembrc. P 1253-
1264.
40 Bousquet G. Francois Milter an au Pantheon: la mart, la nation el la gauche//
Krciich Politics and Society. 1992. Vol. X, N 1. P 59-68; Озуф M. Пантеон.
11 Свидетельством этого является исследование, в 1988 г. заказан-
ное министром культуры и коммуникаций агепству инженерии и куль-
турных коммуникаций «Итака» о «концепции и организации нацио-
нальной церемонии».
42 Из изобилия литературы, посвященной наследию, см. последнюю
и самую, на мой взгляд, взвешенную работу, снабженную библиогра-
фией: Leniaud J.-M. LUlopie [ranqaise, essai sur le palrimoine. Paris: Menges,
1992; см. также в специальном номере «Revue d'hisloire moderne el
ccmlemporaine* («L'Hisloireculturelle du contemporain»), посвященном Пас-
калем Ори этой теме, статью: Pou lot D. Le palrimoine universel: un model
frangais.
133
нятие наследия полтора века назад кристаллизовалось
вокруг «исторических памятников», неизбежных свиде-
телей свершившегося и оказавшегося под угрозой про-
шлого, в которых нация распознает себя как общность и
которые рассматриваются ею как репрезентативные для
ее идентичности. Потому что, если прибегнуть к выраже-
нию Поля Лиона, директора Школы изящных искусств
сразу после первой мировой войны, «в их образе запечат-
лелись вечные черты Франции»43. Национальные интере-
сы, на которых основывался закон 1887 г., и обществен-
ные интересы, на которые опирался закон 1913 г., закреп-
ляли, таким образом, авторитарные процедуры, дававшие
государству право навязывать как общинам, так и част-
ным лицам свою политику и свои законы. Наследие (patri-
moin) было формой коллективной апроприации, в 1927 г.
оформленной записью в дополнительный инвентарь, пред-
назначенный для того, чтобы обеспечить охрану тех зда-
ний, которые, будучи признанными второстепенными, не
вошли в предшествующие классификации. Худо ли, хо-
рошо ли, в таком виде система сохранилась до конца
1970-х гг., пережив 80 ежегодных классификаций и сотни
записей в инвентарь. Затем целыми группами к наследию
стали причислять категории объектов, культурное или эс-
тетическое значение которых было невелико, но суще
ствоваиию которых угрожали индустриализация или бла-
гоустройство местности. Сам Мальро указал этот путь,
предписав администрации охранять архитектуру первой
половины XX в. И Жан-Филипп Лека продолжил это,
начав тематические кампании, в ходе которых благодаря
новому вниманию к культовым сооружениям первыми об-
лагодетельствованными стали органы и синагоги ХУНТ и
XIX вв. Затем сформировался, наряду с наследием, этно
логическим и крестьянским, ансамбль индустриального
и городского наследия. Наконец, после уничтожения Чрс
43 Leon Р. La vie des monuments fran^ais. Paris, 1951. P. 29.
134
ва Парижа в 1970 г., вся архитектура XIX в. стала пред-
метом удивительного внимания44, что 10 годами позже
найдет свое выражение в открытии музея д’Орсе. Уско-
ренное индустриализацией разрушение кадра традицион-
ной жизни привело к защите естественных пространств и
в то же время к новым размышлениям о самом понятии
«пейзажа». Одновременно стали присоединяться к насле-
дию местные локальные сообщества, частные лица, объе-
диненные во все более активные и многочисленные
ассоциации национального, окружного или профессио-
нального характера, от «Достопримечательностей» и
«Древних памягников» Ардеш до Ажекта, основанного
для защиты и сохранения старых железных дорог, или
Федерации морской культуры Дуарненеза. Благодаря та-
кой децентрализации, комиссия «Исторические памят-
ники», заваленная делами, переложила заботу о части
включенных в инвентарь памятников на префектов реги-
онов, при которых в 1984 г. были созданы Региональные
комиссии исторического и археологического наследия. К
большому сожалению таких «духовных жирондистов»,
как, например, Бруно Фукар, который «глубоко убежден,
что память страны, ее исторические памятники находят-
ся в ведении нации»45, количество категорий памятников,
подлежащих сохранению, возросло вдвое, количество за-
писей умножилось в 10 раз. Истинное изменение, таким
образом, состоит не в децентрализации принятия реше-
ний. Оно состоит в том факте, что непрерывность госу-
дарства, от Мальро до Аанга, маскирует собой прогрес-
сирующий отказ от инициатив государства, большинство
постановлений которого относительно охраны памятни-
ков, которым угрожало уничтожение, были приняты в
u См. ради удовольствия от чтения и для интеллектуальной пользы
работу: Fermigicr A. La Bataille de Paris. Paris: Gallimard, 1991.
15 Le Quotidien de Paris. 1984. 12 juillet. Cm.: Les actes du colloque de la
S.ilpeLriere de novembre 1984, Les Monuments hisloriques demain, Minist^re de
Li Culture et de la Communication, 1987.
135
срочном порядке под давлением общественного мнения.
Например, Отель дю Нор на набережной Жемап, не пред-
ставляющий никакого «исторического или художествен-
ного» интереса (оба критерия восходят к закону 1913 г.),
но фасад которого был недавно признан «охраняемым
государством», под нажимом ассоциаций квартала и
фанатиков Марселя Карне сохранен только потому,
что в это время был снят известный фильм того же назва-
ния.
Начиная с «пятидесяти памятников тысячелетия» на
манер Мальро и вплоть до программы Дюамеля, разрос-
шейся до «тысячи памятников пятидесятилетия», мы пре-
бывали в веке исторического памятника в терминах Гизо46.
С той минуты, когда происходит переход от историчес-
кой ценности к ценности, обусловленной древностью, все
меняется. Чтобы измерить этот пройденный путь, можно
сравнить, например, четыре первых категории, предло-
женные 150 лет назад Мериме, и четыре категории, кото-
рые недавно, 6 сентября 1988 г., с гордостью предложил
Жак Ланг в Шамборе для того, чтобы его возвращение
во власть после правительства сосуществования прошло
под знаком наследия (в безразличии к которому его об-
виняли во время его первого правления), призвав «напря-
женно поразмыслить над расширением понятия культур
ного наследия». В одном случае речь шла об аббатстве де
Сильвакан, укреплениях Эг-Морта, доме Жака Кера в
Бурже, Понт дю Гар. В другом — об одном из первых
дагерротипов Нотр-Дам до реставрации Виолле-ле-Дюком,
яслях XIX в. из Прованса, дальневосточной коллекции
Александра Давида-Неля в Дине, о мраморной столеш-
нице кафе «Круассан», где Жорес выпил свою последнюю
чашечку кофе. Критерии отбора, какими бы они ни были
при возникновении идеи наследия, утратили всякую пос
46 Riegl A. La Culture modeme des monuments. Son essence et sa genese (1903)
trad, frang. Paris: Ed. du Seuil, 1984.
136
ледовательность, а понятие наследия — всякие границы.
То, что могло бы составить «наследие», стало бесконеч-
ным. То есть, истинное наследие оказалось приравненым
к наследию юридическому: обычную печь или деревенс-
кий умывальник могут защищать с тем же пафосом, что
и шедевр национального искусства. Патримониальный
объект (1’object patrimonial) изменил природу и статус. Он
превратился в объект музейного хранения, в экспонат од-
ного из тех тысяч маленьких деревенских музеев — музе-
ев чашек, стаканов или деревянных сабо, которые раз-
множились именно за последние 10 лет и которые назы-
вают себя музеями «цивилизации», «общества», «идентич-
ности» или памяти47. Между ними и наследием так назы-
ваемого «третьего типа» больше нет никаких различий,
вместе они демонстрируют одни и те же изменения, а имен-
но то, что наследие больше не является репрезентатив-
ным для коллективной идентичности в ее целостности,
для всего социального организма как единства, но что оно
оказывается определяющим для частичной идентичнос-
ти, для социальной категории, рассмотренной в одном
лишь культурном измерении48. В этой связи задачей ад-
министрации стала адаптация с использованием подруч-
.Les Acres du colloqu
с «Muscesetsocietes». Mulhouse-Un^ersheim, 1991,
jiiin (a paraitre); Patrimoine enfolie / Dir. par H.-P Jeudy. Paris: Ed. de la Maison
des sciences de I’homine, 1990, см. особенно статью Pomian К. Musee el
iHtlrimoine в этом издании.
Эта трансформация в полной мере отразилась в простом, но ре-
шающем изменении, которое Жак Ланг, войдя в правительство, заду-
мал внести в декрет, касающийся работы своего министерства. Этот
декрет, восходящий ко временам Маларме, вменял министерству, в
нгдомстве которого находились дела по культуре, в качестве его глав-
ной задачи «сделать капитальные труды человечества, и в особеннос-
t и французские, доступными максимальному количеству французов»
и i оздать «наибольшую аудиторию для нашего культурного наследия»
(|.(). du 1959, 26 juillet. Р. 7413). Главной задачей министра культуры
оказывается «сохранение национального наследия, регионального или
отдельных социальных групп па пользу всему сообществу» (J.O. du
1482, 11 mai. Р. 1346).
137
ных средств49 к переходу от наследия исторической эры,
для которого она была приспособлена, к наследию эры
мемориальной.
Вот чему, как надеялись министр культуры и Дирек-
ция наследия, могло послужить понятие «место памяти»,
впервые введенное в обиход в «Местах памяти» и пущен-
ное в полет Жаком Лангом в момент процесса Фуке50. Но
одно из двух. Либо речь шла о «дополнении» к понятию
исторический монумент, позволяющем покрыть им мно-
жество второстепенных зданий, обычно совершенно нс
интересных с точки зрения архитектуры, но тесно связан-
ных со знаменитым человеком, с культурным или артис-
тическим движением, с историческим событием, всех тех
зданий, которые часто не могли быть внесены в списки
иначе, как в обход закона 1913 г. Такое употребление воз-
можно лишь ценой редукции, недоразумения и даже —
ценой полного противоречия самому понятию, весь эври-
стический интерес которого состоял как раз в дематериа-
лизации «места» и превращении его в символический ин-
струмент. Либо же речь шла о том, чтобы отобрать с по-
мощью комиссии экспертов «сто мест», как материаль-
ных, так и нет, в которых воплотилась к концу этого века
идентичность Франции,— и мы оказываемся перед невоз-
49 Одним из таких подручных средств было создание в 1990 г. На-
циональной школы наследия: Une Ecole nalionale du palrimoine, pourquoi
faire?: Entretien avec BadyJ.~P.// Le Debat. 1991. Mai—aouL N 65.
50 Министерство па самом деле обратилось ко мне 4 апреля 1990 г.
с просьбой создать рабочую группу. То, как задача этой группы была
сформулирована в этом письме, небезынтересно с точки зрения исто-
рии этого понятия: «Я бы хотел, как Вам известно, начать кампанию
по защите некоторых мест памяти, свидетельств эволюции XIX и XX
веков с политической, научной, технической, философской и т. д. то-
чек зрения. Такая кампания мне кажется необходимой для того, что-
бы лучше оценить значение свидетельств такого рода, материальных
или не материальных, для нашего национального наследия. Требует-
ся ли для этого изменить существующее законодательство или можно
использовать положения закона 1913 г. об исторических памятниках:
таков один из вопросов, которые сейчас встают в связи с этим».
138
можностью выбора, авторитарного, случайного и, безус-
ловно, идеологического, перед лицом которого нация как
целое вынуждена отказаться признать свое единство.
Итак, тупик, но и предельный опыт, интерес которого
состоял в выявлении фундаментальной антиномии меж-
ду коммеморацией национального типа и типа наследия,
и в более общем смысле той дистанции, которая отделя-
ет национальную историю от того, что называют «нацио-
нальной памятью».
III. Момент-память
Сама идея национальной памяти — совсем недавний
феномен. Раньше существовали национальная история и
намять групп частного характера; история в основном
мифологическая, как по своей структуре, так и по своим
функциям, единая, хотя и несущая отпечаток конфлик-
тов по поводу каждого своего элемента, история, распро-
страняемая школой, огромный речитатив, достаточно од-
нородный по своей структуре, своей хронологии, по сво-
им обязательным взаимосвязям, со своими героями, иерар-
хией событий, чтобы сделать возможным в рамках стро-
го установленной системы образования движение в обо-
их направлениях — от начального к высшему, от научной
версии к версии элементарной, при вписанности всего в
саму социальную ткань. История, выкованная против ре-
лигиозного образования и сама во имя гражданских и
общест венных целей ставшая священной историей. В од-
ном движении все развитие от Версенгеторикса до коло-
ниальной империи и введения обязательного светского об-
разования Жюлем Ферри оказывается пригодным для
того, чтобы с помощью проекции на него и благодаря само-
идентификации с ним восприниматься как мифологиче-
ская предыстория индивидуального развития51. И, с дру-
31 Bi Hard С., Guibert Р. Histoire mylhologique des Frangais. Paris: Galilee,
1976; Peul-on encore enseigner I’hisloire auxenfants? // Le D£bat. 1981, novembre.
N 16 . P. 84-95.
139
гой стороны, отдельные памяти52, т. е. памяти об отдель-
ных и фрагментарных опытах переживания истории, пере-
даваемые семьей и социальной средой, составленные из
индивидуальных представлений и привычек общностей,
связанные с локальными, религиозными, профессиональ-
ными традициями и с обычаями, памяти об индивидуаль-
но освоенном и о близком. Вот в таком двойном регистре
конституировалась коллективная идентичность нации. Де-
лом государства было удерживать равновесие всего ан-
самбля и заставлять всех принимать свою политику и свои
законы. Делом индивидуальным было обсуждать способы
своего соучастия и степень своей вовлеченности в это кол-
лективное кредо — основу социального. Именно этот двой-
ной регистр утратил свою организационную стабильность.
Распад истории как мифа — носителя национальной
судьбы происходил последовательно в течение всего века,
под влиянием войн, выход из которых трижды подрывал
ее центральный элемент. 1918 год увидел устрашенную
Европу, 1945 год — ложную победу, 1962 год — конец ми-
ровой державы. Этот распад был обусловлен также и
прогрессирующим расхождением двух ключевых поня-
тий — нации и цивилизации, которые так тесно связала
эпоха Просвещения, которые слила воедино Революция,
и которые укоренила республиканская педагогика. Объе-
динение этих двух силовых понятий произвело на свет
силлогизм предельно простой, но обладающий великолеп-
ной динамической властью: путь человечества к прогрес-
су происходит благодаря завоеваниям разума, иными сло-
вами, главным проводником этого прогресса является на-
циональное государство, примером истории которого по
52 Такие, какими они описаны в социологии Мориса Альбвакса, по-
вторное открытие работ которого в 1960-е гг., даже столь старых как
«Социальные кадры памяти» (Les Cadres sociaux de la memoire. Paris: P.U.F.,
1925) или их переиздания (LaMemoire Collective. Paris: P. U. E, 1950; 1968),
было скорее само вызвано возобновлением интереса историков к теме
памяти, чем послужило его причиной.
140
преимуществу является история революционной Франции
и, следовательно, история Франции — это воплощенное
восхождение разума. На этом силлогизме, интегрирован-
ном в национальное сознание, базировался французский
универсализм: выборы, основанные на рациональности,—
генерализируемый принцип, воплощенный в особом на-
циональном событии, экспортируемый пример, четко
выделяемый из перипетий семейного предания. Иптро-
вертность традиционной системы французской идентич-
ности, столь часто критикуемая, предполагала в качестве
противовеса способность к мировой экстравертности. Ис-
тория Франции принадлежит нс только Франции. Вот по-
чему распад французского национального мифа имеет и
другие причины, кроме внутренних размежеваний, воз-
никших во время первой мировой войны, усиленных вто-
рой и возобновленных холодной войной и колониальны-
ми войнами. Он в той же мере обусловлен концом евро-
пейской гегемонии в мире и концом заложенного в ней
монополистского истолкования идеи цивилизации. Фран-
ции проще было расстаться с идеей сильной державы,
чем с идеей о своей особой миссии и призвании. После
войны де Голль и коммунисты в разных формах стали
выразителями крайней версии этого, а их исчезновение к
середине 70-х гг. породило первое сильное и двойное ра-
зочарование. Социалистический проект стремился воскре-
сить утопию, впрочем, комбинируя центральные элемен-
ты двух предшествующих формул — марксизм и нацио-
нальное величие. Но левые политически пришли к влас-
ти тогда, когда их идеологическое падение было уже прак-
тически пережито. Окончательный распад в 1983 г. соци-
ализма как гомогенного комплекса совершенно отчетли-
во представляет собой важнейший момент, бесповорот-
ный конец встроенного в него национального проекта. Три
политико-идеологических прорыва, имевшие место с тех
пор, в состоянии лишь подчеркнуть его исчерпанность:
рост Национального фронта с его националистическим и
141
архаизирующим зудом; рост экологического движения с
его переносом культуры на природу; рост движения «бор-
цов за права человека», на некоторое время воплотивше-
гося в «S.O.S. Расизм», и осуществленное этой организа-
цией превращение розовой версии национальной эпопеи
в черную53. Три формы характеризуют перверсию тради-
ционной исторической идентичности: обращение вспять,
ослабление и саморазрушение. Мы находимся в этом мо-
менте. И маловероятно, что общеевропейская идея, ка-
кой бы ни была форма ее реализации, может обрести
свои истоки в столь подорванной идентичности.
Происхождение национальной памяти на месте и вмес-
то национальной истории связано с исчерпанием того на-
ционального проекта, который был исторически инкор-
порирован в нее. Имеется в виду, что в тот момент, когда
были вновь обнаружены доблести нации по Ренану54, про-
изошло окончательное разъединение двух главных эле-
ментов, на согласии которых базировалось это определе-
ние Ренана: нация как наследство и нация как проект —
«свершать великие дела вместе», «желать их повторить»,
культ кладбищ и повседневный плебисцит. Этот герои-
ческий и жертвенный волюнтаризм поднялся из глубины
национального поражения и национального унижения, он
зиждился на идее реванша, на завоевании колоний и на
идее сильного государства. В час межнациональной и
инфранациональной солидарности насущной является не
идея саморазвития нации, какой она хочет сделать себя
самое, но ее реальное участие в решениях, которые каса-
ются ее и в исполнение которых она вовлечена. Воскре-
сить этот героический волюнтаризм невозможно. Нация
Ренана мертва и никогда не воскреснет. Она не воскрес-
нет потому, что растворение национального мифа, кото-
53 Yon net Р. Voyage аи centre du malaise fran^ais. I. 'anliracisme el le roman
national. Paris: Gallimard (sous presse).
54 Renan E. Qu’esl ~ce qu’une nation? et aulres lextes poliliques / Presente par
J. Roman. Paris: Presses-Pocket, 1992.
142
рый тесно связывал прошлое с будущим, имело почти ав-
томатическим следствием автономизацию двух инстанций:
будущего, представшего в своей полной непредвиденнос-
ти и одновременно превратившегося в манию; и прошло-
го, извлеченного из организующей когерентности истории
и в то же время полностью ставшего наследием. Она не
воскреснет потому, что замещение мифического мемори-
альным предполагает глубинную мутацию: переход от ис-
торического сознания нации к социальному сознанию, т. е.
от активной истории к истории приобретенной. Прошлое
больше не является гарантом будущего: в этом и состоит
главная причина превращения памяти в динамическое
начало и в единственный залог непрерывности.
На место единства прошлого и будущего приходит объе-
диненность настоящего и памяти. Но это такое настоящее,
которое связано обязательством помнить потому, что мы
осуждены вглядываться в будущее. Чем больше общество
проникается чувством истории, тем более развивается в
нем общее восприятие перемен, тем больше оно подверже-
но неуверенности в будущем, в своей способности отыс-
кать средства для предотвращения грядущих трудностей
и тем более коррелятивно развиваются институты предви-
дения и политика планирования, с одной стороны, а с
другой — институты сохранения и политика консервации55.
Оба процесса идут вместе, и ростки мемориального воз-
никали параллельно ускоряющемуся переходу от фор-
мы исторического сознания к сознанию социальному: во
время кризиса 1930-х гг. они объединили самых передо-
вых среди экономистов, демографов и историков под се-
нью родственных экипов и институтов, после войны ока-
завшихся в Национальном институте статистики и эконо-
мических исследований, Национальном институте демог-
рафических исследований или в Школе высших исследо-
5Л Идея развития подробно изложена Марселем Гоше в работе «На-
ука и сознание истории» (Gouchet М. Science el conscience de rhisloire), гото-
вящейся к изданию.
143
ваний. Волна планирования на французский манер на
переломе 60-х гг. отвечала общественной привлекательно-
сти новой истории, и лучшие годы футурологии совпали
с началом приверженности к наследию. Настоящее, кото-
рое чисто историческое сознание нации сделало прозрач-
ным, неустойчивым и преходящим в полном смысле это-
го слова, стало тяжелой категорией, которую подавление
будущего заставляет наполнить тотальным прошлым.
Возникновение этого историзированного настоящего при-
вело к коррелятивному появлению «идентичности». Сло-
во, принадлежавшее при старом порядке национальному
сознанию, не имело никакого другого использования, кро-
ме полицейского или административного. Оно становит-
ся проблематичным только в регистре неуверенности, в
которую оно вписывается и которую выражает. Франция
как личность нуждалась в истории. Франция как иден-
тичность не готовит себе другого будущего, кроме дешиф-
ровки своей собственной памяти.
Идентичность, память, наследие — три ключевых сло-
ва современного сознания, три лика нового континента
Культуры. Три соседствующих словц^ имеющих сильные
коннотации, нагруженные множественными смыслами,
которые нуждаются друг в друге и опираются друг на
друга. Идентичность отсылает к избранной единичности,
к осознанной специфичности, к сознательному постоян-
ству, к уверенной солидарности с самой собой. Память
обозначает одновременно воспоминание, традицию, обы-
чаи, привычки, нравы, навыки и покрывает поле, прости-
рающееся от сознательного к полуосознанному. А насле-
дие полностью изменило значение, став из имущества, ко-
торым владеют по наследству, имуществом, которое кон-
ституирует вас. Три слова, циркулирующие повсюду, прак-
тически синонимы, сближение которых обрисовывает но-
вую внутреннюю конфигурацию, другую форму эконо-
мии того, что мы больше не можем называть иначе, чем
«идентичность».
144
Итак, раньше была «одна национальная история» и
«отдельные памяти». Сегодня есть «одна национальная
память», но собранная из отдельных патримониальных
притязаний, находящихся в постоянном умножении и
поиске слияния. С одной стороны, это семейный альбом,
с нежностью обнаруженный спустя 30 лет и сильно по-
порченный от лежания на чердаке, огромный репертуар
дат, образов, текстов, фигур, интриг, слов и даже ценно-
стей, глубоко интегрированный в идеологический и поли-
гический консенсус, прежняя власть мифа которого пре-
вратилась в семейную мифологию, над которой в свою
очередь размышляют историки56. С другой стороны, для
тех групп, для которых «память», повторим это, на са-
мом деле есть овладение их историей, она имеет очень
различные значения, но всегда является определяющей
для их «идентичности», г. е. на деле для их существова-
ния. Для одних речь может идти о восстановлении разор-
ванной социальной ткани. Для других — об укреплении
национального чувства в духе, традиционном для нахо-
дящейся под угрозой общины. Для третьих — об обога-
щении этого национального чувства частями исчезнувшей
или маргинализированной истории. Социальные способы
использования памяти также являются многообразными
и варьируют в зависимости от идентификационной логи-
ки. Но механизмы ее использования, как и мотивы ее сак-
рализации, всегда те же: это неисчерпаемо изменчивое
противостояние групп друг другу, внутренне консолиди-
рованное своей способностью к неисчерпаемому возобнов-
лению. Это противостояние является в основном полеми-
ческим и конфликтным, как это показывает, в частно-
сти, пример еврейской памяти, всегда более или менее
активно протестующей. Это потребность в признании де-
% Начиная от: Bonheur G. Qui a casse le vase de Soissons? Paris: Robert
Laffont, 1963 и заканчивая: Amalvi C. De I’art el de la inanieve daccommoder les
heros de Chislovre de France de Vercingelorix a la Revolution. Paris: Albin Michel,
1988.
145
лает из национальной памяти не строго определенное до-
стояние, завершенный репертуар, по — память одних пре-
вращается в память всех — силовое поле, находящееся в
постоянном созидании и обновлении.
Национальная память предполагает распад собствен-
но исторического кадра нации. Она предполагает вели-
кий исход последовательностей и модальностей способов
ее традиционной передачи, десакрализацию излюбленных
мест инициации — школы, семьи, музея, памятника, пере-
полнение публичного пространства ансамблем чувств,
которыми они должны были управлять, по которые те-
перь попали под власть туризма и средств массовой ин-
формации. Историческая нация посвящала вдумчивые
тексты, заботливый уход, зрелищные действия, минуты
коммеморации особым местам, определенным соци-
альным группам, зафиксированным датам, избранным
памятникам, ритуальным церемониям. Опа замыкала
присутствие прошлого в своей концентрированной систе-
ме репрезентаций и больше ничем не интересовалась. У
мемориальной нации все наоборот. Она заполнила все
пространство подозрительностью к своей искусственной
идентичности, удвоила все вещи, существующие во внеш-
нем измерении. То, что воспринималось как невинно при-
надлежащее оси пространства, стало рассматриваться как
принадлежащее оси времени. Это — в пробуждении кам-
ня и стен, в оживших достопримечательностях, в воскре
шении пейзажей. Внутреннее становится явным, частное
стремится превратиться в публичное и сакральное секу-
ляризируется, а локальное настаивает на внесении его на
скрижали национального. У всего есть своя история, все
здесь имеет свои права. Став историей «Сегодняшней
Франции»57 и еще в большей степени историей «Фран-
57 Так назвается последняя из опубликованных об этом работ (/lisloirr
de la France: En 4 vol. I Dir. par Л. Burguiere, J. Revel. Paris: Ed. du Seuil,
1989-1993), что объясняют в предисловии ее создатели Андре Бюргь
ер и Жак Ревель.
146
ций», история Франции растворилась. Вместо «личности»
она стала тем, что персонализируется, и ее «душа», если
опять вспомнить Мишле, обнаруживается только в инди-
видуальном отношении к объекту, на котором она оста-
вила свой след. В этом, без сомнения, кроется причина
того отзвука, который получило выражение «место памя-
ти», создавшее, на первый взгляд, противоречивый аль-
янс двух слов, одно из которых приближает, а другое —
отдаляет. Узаконив объединение объектов разной приро-
ды, это выражение позволяет в момент распада создать
новую композицию распавшегося национального. Веро-
ятно, этим и оправдано стремление этих многоголосых
трех томов и тех четырех, которые предшествовали им,
извлечь из практически последовательной цепи историй
Франции момент взгляда французов на Францию.
Этот момент соответствует переходу от режима памя-
ти ограниченной ко всеобщей памяти. Он устанавливает-
ся посредством прогрессирующего продвижения и затем
посредством пульсирующих толчков. Ему еще очень да-
леко до того, чтобы укрепить свои завоевания и освоить
всю захваченную территорию, неиссякаемый поток еще
не полностью увлек нас, и, тем не менее, уже сейчас мож-
но угадать его предел и предвидеть его исход. Ложе па-
мяти не может увеличиваться до бесконечности. В той
невероятной скользкости почвы, в которой сегодняшняя
Франция утрачивает свою устойчивость, закрепление с
помощью мемориального является восстановлением не-
прерывности. Как только завершится это восстановление,
как только произойдет смена оперенья, неудержимый зов
не пробудит более эха. Размышлять о том, каковы были
эти места национальной памяти пятьдесят или сто лет
назад, чем они станут в следующем веке, когда мы обо-
гнем мыс тысячелетия,— не что иное, как пустая трата
времени, школьная задачка или бессмысленная игра ума.
Их становление не имеет смысла вне сегодняшнего дня.
Когда возникнет новый способ совместного бытия, когда
147
прекратит свое существование то, что больше уже не бу-
дет даже носить имени идентичности, исчезнет необходи-
мость извлекать из небытия точки отсчета и изучать мес-
та памяти. Эра коммеморации будет закончена. Тирания
памяти продлится лишь некоторое время — но это время
и есть наше.
II
Мона Озуф
ПАНТЕОН
Эколь Нормаль мертвых
Жерар де Пюимеж
СОЛДАТ ШОВЕН
Мишель Винок
ЖАННА Д'АРК
Мона Озуф
ПАНТЕОН
Эколь Нормаль мертвых
Пламя роз и холод камня. Толпа снаружи и пустая крип-
та внутри. Одинокий человек спускается в убежище ве-
ликих людей — эта постановка, осуществленная 21 мая
1981 г., была задумана Франсуа Миттераном для того,
чтобы такая церемония памяти позволила национально-
му сообществу обрести корни во французской истории и
объединиться вокруг своих великих людей. Сочтя при-
годным для этой цели Пантеон, он избрал место, обреме-
ненное давней тяжбой, место, олицетворяющее собой ста-
рый спор как о способности Пантеона быть живым мес-
том национальной памяти, так и о способности францу-
зов объединиться вокруг своих великих мужей.
Каменная пустыня Пантеона. Приглушенный свет и
равнодушное пространство, где дрожат от холода трое
туристов из Иллинойса, ничуть не отличающиеся от тех,
которых описал Жюльен Грак1. Местоположение — «город-
ской квартал Ширико». Сам памятник — «осколок вы-
рождающегося Рима, одновременно античный и иезуитс-
кий, расположенный на краю холма, жизнь из которого
вытекла на нижние склоны». Мы видим его именно та-
ким. В этом состоит первый парадокс. С одной стороны,
этот памятник был в идеале задуман как центр единой
1 Cracq J. LeUrines 2. Paris: Corti, 1974.
151
территории, сердце нации2. Но, с другой стороны, мы зна-
ем, что это мертвое место национального воображения,
обойденное вниманием и проигнорированное юношеским
мятежом в мае 1968 г., тем не менее, происходившим у
самых его дверей, не было полностью заброшено в тече-
ние двух истекших столетий. Каждые 20, 25 или 30 лет
его периодически вырывали из забвения либо службы —
перенос праха, либо годовщины, республиканские или
революционные, причем некоторые из них — вспомним
хотя бы о захоронении Виктора Гюго — породили образы
настолько сильные и вдохновенные, оставили, страницы
настолько завораживающие, как, например, у Пеги3, что
невольно возникает вопрос, почему же такое напластова-
ние воспоминаний не сформировало более живой и бо-
лее прочной памяти. Кто же лежит в Пантеоне? Неспособ-
ность образованных французов двинуться дальше 5 или
б имен — уже знак того, что история ушла с этого акропо-
ля: Пантеон — это храм пустоты, место сакрализации ано-
нима, ярче всех это выразил в 1964 г. в своей речи Маль-
ро, превратив Жана Мулена в «казненного короля теней»,
в человека, «чьего имени не знают французские дети».
Но вдохновенная речь Мальро все же присоединила к
имени Жана Мулена троих погребенных в Пантеоне, по-
казавшихся ее автору такими похожими на неизвестного
участника Сопротивления, каждый из которых тоже оли-
цетворяет собой воплощение коллективного образа: Кар-
но — солдат второго года, Гюго — народа в «Отвержен-
ных», Жорес — борцов за справедливость. Добавив к име-
нам Жореса и Мулена имя Шельшер (воплощение толпы
2 Рапорт, высказывающийся в пользу пантеонизации Борепера (Бо-
репер — это генерал, который предпочел застрелиться, но не уступить
поле битвы пруссакам), описывает покрытую батальонами французс-
кую территорию от Пантеона до Сен-Мену и воображает, какое мо-
ральное воздействие оказало бы на эти батальоны шествие через них
к сердцу нации погребальных носилок.
3 Peguy С. Victor-Marie, comle Hugo: ler Cahier de la douzieme serie. 1910.
23 octobre.
152
рабов) Франсуа Миттеран черпал из того же источника, а
именно, из революционной традиции, из ее страстных по-
рывов и анонимной борьбы. Но исчерпывается ли этим
весь спектр национальной чувствительности? Чтобы убе-
диться в отрицательном ответе, достаточно было послу-
шать Жака Ширака, заручившегося покровительством
Святой Женевьевы, Святой Жанны д’Арк, Генриха IV и
генерала де Голля, ни один из которых не захоронен в
Пантеоне, когда он принимал в Отель де Виль нового
президента. С одной стороны — великие люди, с другой —
святые и герои, с одной стороны — Республика, с другой —
монархи (включая и республиканских монархов). Две па-
мяти Франции так никогда и не слились в памятнике, кото-
рый был посвящен их прославлению. И в этом второй
парадокс, поскольку Пантеон был изобретен для культа,
основанного на представлении об искреннем сосущество-
вании великих фигур прошлого.
Непреходящее размежевание — особенность француз-
ской истории, которая не в состоянии прекратить свои
революции, зафиксировать свою хронологию и примирить
своих детей, возможно, легче понять в Пантеоне, в самых
истоках которого удается обнаружить тот же тип памяти
и восприятия, породивший культ великих людей. А это
позволяет напомнить, почему, как и ценой каких прогиво-
речий, длящихся уже два века, Французская революция
обрела культ великих людей и вписала его в это место.
*
«Великим людям — благодарная отчизна»: когда мар-
киз де Пасторе предложил выгравировать на фронтоне
церкви Святой Женевьевы эту надпись, означавшую ее
превращение в Пантеон, он просто выразил сю общее
место4. Изобретать, благодаря чествованиям великих
4 Идея предназначить памятник для захоронения великих людей
предшествует Революции. Ииганьоль де Ла Форс, например, уже рань-
ше предлагал объединить в одном памятнике могилы всех великих
людей.
153
людей, новую коллективную память было одной из ма-
ний века. Чтобы попытаться измерить успех или неудачу
этого сознательного изобретения, нужно напомнить, ка-
ковы были его изначальные составляющие: множест-
венная память, по определению пригодная для великого
человека и обладающая богатой типологией его возмож-
ных воплощений. Память образцов, а не историческая, и
в любом случае не конфликтная. Память, открытая со-
стязанию всех эстетических норм, память, вписанная в
тысячи воображаемых мест, память, широко распахну-
тая от политического к семейному и от общественного к
частному. Прежде чем Революция завладела памятью
великих людей, чтобы превратить ее в специфическое
орудие узкой педагогики, XVIII век мог свободно меч-
тать о ней.
Память множественна, потому что великие люди есте-
ственным образом составляют «собрание». Если в жизни
великого человека и есть — или же если по законам жан-
ра он обязан иметь — эпизоды неудачного одиночества,
когда современники вменяют ему в вину то, что просла-
вит его посмертно, то все же он по праву всегда будет
признан равным самому себе и принят в их кругу. Появ-
ляться в республике доблестей и талантов, вести свою
партию в концерте лучших умов исключительно важно
для определения великого человека: покинув «бренный
мир», даже Вольтер и Жан-Жак оказываются в объятиях
друг друга. Однако уже в этой гармоничной памяти мож-
но ощутить исподволь зреющий полемический аргумент:
культ великих людей является противовесом деспотичес-
кой власти, торжеству произвола.
Об этой ревностно отстаиваемой ценности, спрятанной
в повсеместном чествовании великих людей, свидетель-
ствует целый каскад исключений: великий человек не есть
ни король, ни герой, ни даже знаменитый человек. Идея
величия, которую создаст себе XVIII в., рождается на про-
тивопоставлении всех ярких и исключительных образов.
154
Фигура великого человека отрицает прежде всего фи-
гуру короля, поскольку пи один король сам по себе не
является великим человеком. Несмотря на то, что вос-
хваление великого человека — жанр, по которому был
объявлен конкурс Французской академией в 1758 г., пыш-
но расцветший в сердце академического мира, в полном
согласии с просвещенным абсолютизмом (несмотря на то,
что восхваление короля в соответствии с неизменными
конвенциями было сохранено в академическом восхвале-
нии5), титул великого человека остается труднодоступным
для короля. Тексты на эту тему демонстрируют медлен-
ный, но верный сдвиг на протяжении всего века. Прежде
всего, следует освободить место великим людям в собра-
нии королей. Газета «Меркурий», анонсируя «Историю зна-
менитых людей в медалях», опубликованную в 1744 г.,
сочла полезным специально отметить, что речь пойдет не
только о королях: их круг будет расширен за счет несколь-
ких великих людей. Затем стали заниматься созданием
для королей окружения из великих людей, как если бы
короли нуждались в какой-то дополнительной короне: об
этом думает Дидро, когда воссоздает в своем воображе-
нии памятник, поставленный скульптором Муаттом
Людовику XV в Реймсе. Или другой пример — когда Ко-
5 Об этом см. Ла Брюйера, оправдывающегося в своей речи во
Французской академии, которая была очень плохо встречена: «Пре-
обладала практика, когда вновь избранный член Академии готовил
речь, которую он должен был произнести в день своей кооптации в
Академию, состоящую из восхваления короля, кардинала Ришелье,
канцлера Сегье, того, кому он наследовал в звании академика и самой
Французской академии». О жанре восхваления в целом и о том месте,
которое хвала королю занимала внутри академического восхваления,
см. книгу Даниеля Роша (Roche D. Le Siecle des Lumieres en province. Paris:
Mouton, 1978). Даниель Рош сосчитал страницы, посвященные восхва-
лению короля в речах академиков, и не обнаружил на протяжении
XVIII в. никаких значительных изменений. Но большее значение, ко-
нечно, чем материальное место, которое ему отводится, имеет тот спо-
соб, которым воздается хвала, а он все более и более нарциссически
сосредоточивается на теме «primus inter pares».
155
ролевская академия архитектуры из всех представленных
проектов надгробия Генриха IV выбирает тот, где пустая
гробница окружена широкой галереей замечательных лю-
дей6. Подспудно создается впечатление, что это великие
люди принимают в свои ряды и освящают короля, кото-
рый может стать великим человеком только благодаря
особым заслугам. И поскольку королевская функция не
особенно благоприятствует таким талантам, теоретичес-
кое право короля быть к тому же и великим человеком
редко осуществляется на практике. То, что королевский
сан и звание великого человека исключают друг друга,
становится модной темой, развитой Тома — признанным
автором хвалебных речей. С одной стороны, великий че-
ловек часто является жертвой королей7, но, конечно, в
отличие от короля, великий человек никогда не является
наследником. Он сам создает свое происхождение. По-
этому то, чему учит судьба великих людей, есть природ-
ный урок демократии, и понятно, что Французская рево-
люция не сможет пройти мимо этого. Их триумф, направ-
ленный против привилегий, доставшихся по рождению,
открывает дорогу достойным и талантливым.
Достоинства, таланты, но не героизм. Потому что этот
век старательно стремится разграничить великого чело-
века и героя, созданного, как и король, из экстраординар-
ного. Параллель между великим человеком и героем, эт от
топос века, проходит от Ла Брюйера8 через Вольтера к
6 По этому кругу проблем лучшей работой является: Ellin R. The
Cemetery and the City. Paris, 1744-1804 (University Microfilms; Ann Arbor
(Mich)).
7 Декарт Тома, например,— эго Декарт, игнорируемый и оклеве-
танный двором. Важно, что рапорт Мари-Жозеф Шенье Конвенту по
поводу пантеониэации Декарта превращает эту констатацию в пред-
писание: «Пусть почести, возданные праху Декарта, отомстят за пре-
зрение королей».
8 В главе «Характеры», посвященной «личным достоинствам», Ла
Брюйер утверждает, что «герой обладает только одним искусством —
искусством войны», тогда как великий человек обладает «всеми искус-
156
Энциклопедии9. Великий человек ничем не обязан
сверхъестественному, тогда как то, что совершает герой,
близко к чуду. Герой — это человек спасительного мгно-
вения, тогда как великий человек — это человек накоп-
ленного времени, в котором соединяются результаты дол-
гого терпения и энергичности в повседневной жизни. Кро-
ме того, герой — это человек «специальной роли», а имен-
но военный, тогда как у великого человека есть не одна
определенная роль, а вся жизнь, пронизанная единой це-
лью. «Короля-солдата называют героем. Монарх-законо-
датель, основоположник и воин является истинно вели-
ким человеком; а великий человек выше героя»10. Такое
противопоставление, нравившееся Вольтеру, сослужит
также службу и аббату Сен-Пьеру в речи, посвященной
«отличию между великими и знаменитыми людьми»11. По
его мнению, совершенство в одной только сфере мешает
великому скульптору быть великим человеком, и, напро-
тив, стремление к общей пользе, смешанное с природной
добродетелью, делает человека великим.
Пытаясь отдать должное великому человеку, Просве-
щение не апеллировало к уникальной и единичной избран-
ной личности. И в тот момент, когда начинается прослав-
ление великих людей, в них нет недостатка, их целые
когорты. Лопиталь, Декарт, Сюлли, Фенелон оказывают-
ся туг как тут, когда салон 1777 г., по предложению д’Ан-
живиля, задается целью познакомить публику с «образа-
ми выдающихся французов». Тюренп, Кольбер, Ламуа-
ньон и Корнель появляются как на подбор, когда Анске
ствами судьи и воина, чиновника и придворного». Возможно, добавля-
ет он, что «Александр был лишь героем, а Цезарь — великим челове-
ком».
у В словарной статье «Герой» «Энциклопедия» считает, что «речь
идет об эпитете исключительно военном, который нужно рассматри-
вать как значительно менее возвышенный, чем “великий человек”».
10 Voltaire. Lettie a Theriot. 15 juillet 1735.
11 Sain L-Pierre A. de. Discours sur les differences des grands hommes el des hommes
illuslres. Paris, 1739.
157
де Лондр замышляет заменить лучшими статуи площади
Побед12. И их оказывается целая толпа, когда Бернарден
де Сен-Пьер пытается достойно обставить свой Елисейс-
кий дворец13.
Итак, память «густонаселенная». Но столь же верно и
то, что фигура великого человека способна выступать во
многих ипостасях. В репертуаре, составленном Мопино14,
должны фигурировать атлеты, пасторы-законодатели, за-
щитники отечества, амфиктионы и ораторы. Опять же
среди шести человеческих типов, в первые дни револю-
ции выбранных для газеты Марата ради создания собра-
ния великих людей, только один оказывается воином, по-
жертвовавшим жизнью15. А пять других? «Философ, про-
свещающий нацию, законодатель, дающий ей хорошие
законы, государственный чиновник, точно исполняющий
их, оратор, рьяно защищающий интересы угнетенных,
щедрый негоциант, приносящий достаток во времена ли-
шений». Поскольку чувствительность XVIII в. часто до-
бавляет к этой галерее отца семейства, то такая «интим-
ность» еще больше увеличивает и без того огромный спи-
сок образов, подлежащих единообразному прославлению.
Это происходит потому, что на протяжении века до-
машнее становится пробным камнем политики, а отец
семейства превращается в главную фигуру в культе вели-
ких людей, что лучше всех показал Жан-Клод Боне16. В
Елисейском дворце Бернардена, построенном на слиянии
12 Londres A. de. Varietes philosophiques el litteraires. A Londres el se trouve
a Paris: Duchesne, 1762.
13 Saint-Pierre B. de. Etudes de la Nature. Paris: Di dot Le jcune, 1784.
14 Mopinot C. de. M emoires sur Part de la sculpture. Paris: Hardouin et Gathey,
1786.
i5CM.:«L’Ami du peuple» 6 avril 1791. Опыт собственной классифика-
ции Маратом великих людей прошлого весьма интересен: «достойный
епископ Марселя» Бельзансе, «мудрый министр» Сюлли, Катина, Вий-
ар, Монтескье «сделали честь человечеству своими доблестями».
16 В одной статье, поистине основавшей «Поэтику» {1л Naissance de
Pantheon // Poetique, 1978. Fevrier. Vol. 33).
158
вод и организованном концентрическими кругами, посе-
титель или, лучше сказать,— посвящаемый, пройдя круг
натуралистов, потом изобретателей, затем прославленных
людей (странная амальгама писателей и военных) и, преж-
де чем оказаться в коллонаде круглого храма, посвящен-
ного роду человеческому, попадает в круг добродетель-
ных людей: способ наглядно указать на то, что доброде-
тель частной жизни является на самом деле самой свя-
щенной. Здесь проявляется некоторое отклонение в опре-
делении величия. Не только, как мы уже видели, экстра-
ординарное превращается в ординарное, подвиг — в бы-
тие, а восхищение — в нежность. Дидро, настолько цент-
ральный персонаж во всем, что касается одновременно и
прославления, и пропаганды, раскритиковал портрет се-
мьи Ларошфуко кисти Рослина. Его порок — отсутствие
«величия». Но вот как была задумана эта картина, изоб-
ражающая «замок доброго сеньора и крестьян — отцов и
матерей, сестер, детей, проникнутых благодарностью за
помощь, оказанную им во время голода 1757 года»17. Та-
кое величие совсем иной природы, чем героическое и ко-
ролевское. Оно проникнуто сочувствием, покорно обобще-
нию, способно очень густо и достойно заселить пантеоны,
и его идеальной инкарнацией является патриот-законода-
тель в образе отца семейства. Тома в портрете д’Агессо
создал этот прекрасный пример: «Какое наслаждение
видеть образованного и одаренного, облаченного в пур-
пур отца семейства восседающим на троне правосудия в
окружении своих малолетних детей, воспитывающим еще
совсем нежные души»18.
Дело в том, что тот век еще не видит различий между
величием публичным и приватным. Об этом говорит и
Филипп Арьес, описывая эволюцию устройства кладбищ
17 Модель, к которой эксплицитно отсылает здесь Дидро (Salon de
1765),— это Грез.
1В Thomas A. L. Oeuvres. Vol. HI. Paris; Moutard, 1773.
159
и похорон19. Он сравнивает высокий стиль предназначен-
ных для великих людей общественных кладбищ, четко
упорядоченных садов бессмертия, и гораздо более воль-
ный стиль частных кладбищ, иногда совершенно домаш-
них, перенесенных поближе к дому и отеческим полям.
Этот второй стиль быстро одерживает победу над пер-
вым. И все же речь идет не столько о прерванной тради-
ции, сколько об отклонении. Потому что, с одной сторо-
ны, великий человек продолжает сохранять свое место
на тесных кладбищах в фамильных гробницах, украшен-
ных генеалогическими эпитафиями, такими, как кладби-
ще Мюло20, колонна Жубера и пирамида Оша. С другой
стороны, частная могила тоже может стать месгом граж-
данского воспитания, в особенности, если считать, чго отец
является для ребенка самым близким примером велико-
го человека, жрецом культа великих людей. Случается,
что соединение семейного и гражданского культа нахо-
дит свое материальное выражение: один экстравагантный
архитектор, строитель тюрем, изобретатель «неразруша-
емой субстанции», получающейся из кремированных ос-
танков, предложил делать из нее «бюсгы, которые будут
обладать преимуществом портрета, сделанного к тому же
из подлинной субстанции отца, матери, супруги»21. Фило-
софия этой находки состоит в том, чтобы иметь два бюс-
та, один — для парадной галереи кладбища, другой, пере-
19 Aries Р. EHomme (Levant la mort. Par is: Ed. de Seuil, 1977.
20 M ulot F. V. Discmirs dur cette question: quelles sont les ceremonies a faire pour
les Inner allies, en reponse au concours de I'lnstilul de 1800. Paris: [44, rue des
Pretres Saint-Germain-PAuxerrois], an IX. В остальном, апологиям част-
ных похорон, изученным Филиппом Арьесом, всегда противостояли
возмущенные голоса, например Луи-Себасгьяна Мерсье, который оце-
нивал похороны как «покушение против общественного спокойствия».
«Нет,— добавляет он,— я не сторонник домашних кладбищ, этаких
садиков, вымощенных мертвецами, этаких шкафов, где один показы-
вает своего пращура, а другой — своего двоюродного деда» (Opinion de
L. S. Mercier sur les sepultures privees. 18 frimaire an Y).
21 Giraud P Les Tom be aux, ou Essai sur les Sepultures. Paris: Desen ne, 1801.
160
носной — для дома. Этот культ семьи поощряет коллек-
тивное воспитание, приобщает к общественному культу
и готовит к республиканскому причастию.
Память о великих людях не страдает закрытостью, и
это проявляется в том, что она не является национальной
памятью. Нация вполне может иметь своих великих лю-
дей, хотя в се распоряжении есть также великие люди
соседних народов. Если великие люди, по словам мадам
де Сталь, «все соотечественники», то это означает, что
критерии отбора — общественное благо — непротиворе-
чивы и преодолевают границы. «Продемонстрировать
истины, важные для всех людей»,— таков для аббата де
Сен-Пьера признак великих людей, и в их числе оказыва-
ются Сципион, Катон, Эпаминонд, Декарт — память все-
го образованного человечества. Античные коннотации ос-
таются всегда очень сильными в этом определении — од-
ного Плутарха, считает Ла Фон де Сент Иенн22, достаточ-
но, чтобы вдохновить «все кисти Европы». А это значит,
что потребность в картинах такого рода будет расти на
протяжении всего века. Ожидается рождение «француз-
ских Плутархов». Работая над «Аделаидой дю Геклен»,
Вольтер специально подчеркивал, что он обратился к
сюжету «специально французскому». Людовик XIV сни-
зошел к идее д’Анживиля создать «образы французов,
великих во всех сферах деятельности». Несмотря на это
стремление создать национальный репертуар, память о
великих людях с трудом укореняется на определенной
территории, потому что речь идет о памяти примеров,
легче запечатлевающей определенную добродетель, чем
определенную внешность. Память фрагментарная, рав-
нодушная к историческим напластованиям. В «Золотой
книге великих людей» Жанна д’Арк и Святой Людовик
могут бок о бок соседствовать с Периклом и Алкивиадом
22 La Font Saint Yenne de. Sentiments sur quelques ouvrages du salon de 1153.
S. 1.1754.
161
потому, что это не рассказ единой истории, но собрание
отдельных историй, одновременно фрагментарных и вза-
имозаменяемых. Память о великом человеке свидетель-
ствует о существовании внеисторического в истории, чис-
тым продуктом которой никогда не является великий че-
ловек. В гораздо в большей степени, чем национальная
история, эта память является моральным кодексом.
Понятно, что для коммеморации без границ XVIII век
должен был изобрести множество мест. Но очевидно, что
ему не удалось вписать коллективную память в топогра-
фию, без которой она истощалась. Не столь важно, было
ли основание этой памяти аутентичным следом, действи-
тельно оставленным н^* пейзаже великим человеком
(«шлюз канала, связывающего два моря», как сказал Воль-
тер), или искусственным. Место коммеморации великих
людей всегда является человеческим институтом, и, сле-
довательно, любое место может стать таковым: домаш-
ний очаг, где простая урна, купленная на Новом Мосту,
поставленная в углу кабинета и украшенная трогатель-
ной надписью, превратится в воспоминание Руссо о Фене-
лоне23, публичное пространство, организованное вокруг
его статуи, или целый город, такой, каким воображали
Афины люди того времени. И, конечно же, кладбище,
все меньше и меньше в течение века воспринимаемое как
место захоронения и все больше и больше рассматривае-
мое как место благоговения. Между местом частным и
местом публичным, местом архитектурным и местом па-
мятников, между местом материальным и топографичес-
ким этот век не смог выбрать. Елисей Бернардена де Сен-
Пьера поражает, помимо всего прочего, своей многознач-
ностью, потому что он является одновременно националь-
ной мастерской, предназначенной для того, чтобы давать
работу отверженным, музеем, привлекающим иностран-
23 Saint-Pierre В. de. Harmonies de la Nature. Paris: Mequignon-Marvis,
1815.
162
цев в Париже, кладбищем, где «могилы — это памятни-
ки, поставленные на 1ранице двух миров», судилищем для
вынесения вердиктов общественного мнения и, конечно
же, центром непрерывного обучения: «Здесь воин на виду
у Катина учится сносить клевету».
Тот же эклектизм предшествует организации места
памяти о великих мужах. Елисей Бернардена легко нахо-
дит место для памятников любого вида (лишь на показ-
ное проявление барокко был наложен запрет) и бесприн-
ципно обращается то к колонне, то к обелиску, то к пира-
миде, то к статуе, то к трогательным надписям, а также к
деревьям и к цветам — «памятникам», и впрямь больше
всего подходящим для изобретателя сирени и мастера
цветочных орнаментов. Эта эстетическая конвергенция
типична для всего столетия, когда все жанры участвуют
в коммеморации великих людей потому, что те являются
наставниками рода человеческого, т. е. тем же, чем пре-
тендуют быть и искусства. И здесь происходит причудли-
вая встреча между объектом и способом коммеморации,
в которой соединяются литературный жанр восхваления,
историческая живопись, патриотическая драма, архитек-
тура обновленных городов с огромными площадями, в
центре которых высятся колоссальные статуи. Изобрете-
ние памяти о великих людях и забота о ней могут высту-
пать как средство спасения искусства от вырождения сю-
жета и формы, от злоупотреблений противоречивого об-
щества, от заблуждений, иллюзии и от пагубного влия-
ния тех двух изнуренных муз, над которыми издевается
«Энциклопедия», подразумевая мифологический и рели-
гиозный сюжет: распущенности и предрассудка24.
24 Статья «Роскошь* в Энциклопедии перечисляет злоупотребле-
ния искусством и противопоставляет легкомысленного и безответствен-
ного мецената «хорошему меценату»: «Богатые люди с хорошим вку-
сом, воспитывают вкус художников, они не требуют от них манерных
1 алатей, хорошеньких Дафн, Магдалин, Иеронима. Но они предлага-
ют цм изобразить Сен-Илера опасно раненым, показывающим своему
163
потому, что это не рассказ единой истории, но собрание
отдельных историй, одновременно фрагментарных и вза-
имозаменяемых. Память о великом человеке свидетель-
ствует о существовании внеисторического в истории, чис-
тым продуктом которой никогда не является великий че-
ловек. В гораздо в большей степени, чем национальная
история, эта память является моральным кодексом.
Понятно, что для коммеморации без границ XVIII век
должен был изобрести множество мест. Но очевидно, что
ему не удалось вписать коллективную память в топогра-
фию, без которой она истощалась. Не столь важно, было
ли основание этой памяти аутентичным следом, действи-
тельно оставленным на пейзаже великим человеком
(«шлюз канала, связывающего два моря», как сказал Воль-
тер), или искусственным. Место коммеморации великих
людей всегда является человеческим институтом, и, сле-
довательно, любое место может стать таковым: домаш-
ний очаг, где простая урна, купленная на Новом Мосту,
поставленная в углу кабинета и украшенная трогатель-
ной надписью, превратится в воспоминание Руссо о Фене-
лоне23, публичное пространство, организованное вокруг
его статуи, или целый город, такой, каким воображали
Афины люди того времени. И, конечно же, кладбище,
все меньше и меньше в течение века воспринимаемое как
место захоронения и все больше и больше рассматривае-
мое как место благоговения. Между местом частным и
местом публичным, местом архитектурным и местом па-
мятников, между местом материальным и топографичес-
ким этот век не смог выбрать. Елисей Бернардена де Сен-
Пьера поражает, помимо всего прочего, своей многознач-
ностью, потому что он является одновременно националь-
ной мастерской, предназначенной для того, чтобы давать
работу отверженным, музеем, привлекающим иностран-
23 Saint-Pierre В. de. Harmonies de la Nature. Paris: Mequignon-Marvis,
1815.
162
пев в Париже, кладбищем, где «могилы — это памятни-
ки, поставленные на хранице двух миров», судилищем для
вынесения вердиктов общественного мнения и, конечно
же, центром непрерывного обучения: «Здесь воин на виду
у Катина учится сносить клевету».
Тот же эклектизм предшествует организации места
памяти о великих мужах. Елисей Бернардена легко нахо-
дит место для памятников любого вида (лишь на показ-
ное проявление барокко был наложен запрет) и бесприн-
ципно обращается то к колонне, то к обелиску, то к пира-
миде, то к статуе, то к трогательным надписям, а также к
деревьям и к цветам — «памятникам», и впрямь больше
всего подходящим для изобретателя сирени и мастера
цветочных орнаментов. Эта эстетическая конвергенция
типична для всего столетия, когда все жанры участвуют
в коммеморации великих людей потому, что те являются
наставниками рода человеческого, т. е. тем же, чем пре-
тендуют быть и искусства. И здесь происходит причудли-
вая встреча между объектом и способом коммеморации,
в которой соединяются литературный жанр восхваления,
историческая живопись, патриотическая драма, архитек-
тура обновленных городов с огромными площадями, в
центре которых высятся колоссальные статуи. Изобрете-
ние памяти о великих людях и забота о ней могут высту-
пать как средство спасения искусства от вырождения сю-
жета и формы, от злоупотреблений противоречивого об-
щества, от заблуждений, иллюзии и от пагубного влия-
ния тех двух изнуренных муз, над которыми издевается
«Энциклопедия», подразумевая мифологический и рели-
гиозный сюжет: распущенности и предрассудка24.
24 Статья «Роскошь» в Энциклопедии перечисляет злоупотребле-
ния искусством и противопоставляет легкомысленного и безответствен-
ного мецената «хорошему меценату»: «Богатые люди с хорошим вку-
сом, воспитывают вкус художников, они не требуют от них манерных
Галатей, хорошеньких Дафн, Магдалин, Иеронима. Но они предлага-
ют им изобразить Сен-Илера опасно раненым, показывающим своему
163
Несмотря на полную возможность объединить вокруг
великих людей все формы искусства, век живо вовлечен
в дебаты об относительной педагогической эффективно-
сти различных экспрессивных форм. Что лучше способ-
ствует запоминанию? Речи и книги имели своих привер-
женцев, таких, как Фрерон* 25, потому что в отличие от
статуи или от картины выбор поучительного эпизода из
жизни великого человека мог восстановить обстоятель-
ства достижения успехов, воссоздать саму ткань его су-
ществования. Например, восхваление, проливающее свет
на жизнь, устремленную к единой цели волевой энергией
(в отличие от надгробной речи, где порочная жизнь, пре-
вращенная в свою противоположность, становится при-
мером осуществления воли Божьей и благодати достой-
ной смерти), требует описания достойной жизни. Но еще
больше сторонников (таких как Дидро, уверенных в том,
что образы являются грамотой для бедняков) было у ви-
зуальных способов выражения и в особенности у статуи.
Множеством причин пытались объяснить взаимосвязь
между великим человеком и статуей: античными конно-
тациями, поскольку это общее место считать, что именно
статуям Греция обязана своей блистательной плеядой ве-
ликих людей, стилизацией, потому что неизбежность вы-
бора экпрессивного жеста способствовала педагогической
эффективности, ее прочность, выглядящая как свойство
вечности, как обещание бессмертия, ярко описанная Фаль-
коне в его статье «Скульптура» в Энциклопедии26, та лег-
сыну великого Тюренна, потерянного для Родины». Интересный тем,
что он исключает мифологический сюжет и сюжет религиозный, из-
за их низости, этот текст также показателен выбором образа великого
человека — отца семейства, предлагающего своему сыну восхититься
другим великим человеком.
25 Frenon Е. Letires sur queques ecrils de ce temps. Geneve; Paris: Duchesne,
1749-1754.
26 Фальконе настаивает на неизбежной связи между скульптурой и
великим человеком и подчеркивает одно из противоречий культа обра-
за великого человека: «У нас есть портрег Сократа, и мы поклоняемся
164
кость, с которой она становится центром мизансцены, в
отличие от картины, которую невозможно обойти вок
руг. Короче, из всех жанров, посвященных славе великих
людей, скульптура занимает привилегированное место: в
салоне 1771 г. аллегорическая картина, подписанная Ле
нисье, изображает скульптуру, «проникнутую своим ис-
тинным призванием, а именно — сохранить для вечности
память о великих людях». В этом тоже (поскольку все
эта размышления характерны для интеллектуальной ат-
мосферы, рассматривающей искусство как гражданское
образование, а культ великих людей — как фабрику ве-
ликих людей) есть чувственная последовательность, как
если бы впечатление, произведенное колоссальной стату-
ей великого человека, должно было неизбежно привести
к идее, понятию великого человека.
Предпочтение статуй для увековечения великих людей
не знает исключений. В этом изобретении светской рели-
гии непрестанно поражает необычайная широта охвата.
На протяжении всего века поле чествований остается в
значительной степени открытым: можно легко предста-
вить, что для того, чтобы стать великим, человеку доста-
точно обладать мягкими, легкодоступными и мирными
добродетелями. Променяв видимое орудие на невидимую
сущность, яростное действие на прозаическую пользу, век
разрушил прежние знаки величия и фигуры героизма.
Гома в Генрихе IV в меньшей степени видел короля или
героя, чем «симпатичного человека». Известно, что это
позволило Руссо осуждать свою эпоху: в то жалкое время
герои Плутарха, если бы они ожили, выглядели бы на-
стоящими монстрами, преувеличениями истории. На са-
мом деле между близостью и отдаленностью, составляю-
щими плоть памяти о великом человеке,— близостью его
как человека и отдаленностью, как великого,— век вы-
брал мечтания о близости.
ему. Но кто знает, хватило ли бы нам мужества любить его живущим
среди нас?».
165
Радикально меняется отношение к тому, что называет-
ся «личными достоинствами». Предшествующий век в них
мало верил. Отчасти из-за того, что, как для Боссюэ, ни-
какая добродетель не восходит ни к природе, ни к обще-
ству. Или потому, что, как для Гоббса, суровое равенство
всех в тленности и страхе запрещает всякому индивиду
господствовать над другим. Таким образом, в XVII в. ве-
ликий человек — совершенно невероятная фигура, если
только над ним не простерлась Божья десница. Именно с
этим порывает Просвещение: с этих пор существует мно-
жество личных добродетелей, скрытых достоинств, кото-
рые нет необходимости обнаруживать знаками, посколь-
ку они основаны на согласии просвещенных мужей. На
вопрос, кому принадлежит право выбора, кто является
хранителем власти великих людей, век ответил, что это
Репутация, безусловно, слегка глуховатая, стремящаяся
не замечать презрения в свой адрес, но, тем не менее, в
конечном итоге всегда добивающаяся признания величия
великих людей. Никому просто не могло прийти в голо-
ву, что эта легитимизирующая инст анция может стать раз-
дельной и противоречивой. Французская революция бро-
сает на нее тень убийственного сомнения. Она ожесточа-
ет мирную память, делая обязательными атрибутами ве-
ликого человека место, список, церемонию.
*
Нет ничего удивительного в том, что одержимая по-
требностью в сакральном Французская революция, стре-
мясь воплотить коллективную мечту века, была проник-
нута культом великих людей — принадлежностью под-
линного демократического воображения. Идея найти спе-
циальное место для великих людей, высказанная Шар-
лем Вийеттом27 * сразу после 14 июля и всегда дорогая воль-
терьянцам, материализуется, когда 2 апреля 1791 г. уми-
27 Vi Пене М. de. Le tires choisies sur les principaux evenerneuls de la Revolution.
Paris, 1792.
166
рает первый великий человек Революции: чтобы воздать
последние почести Мирабо, Учредительное собрание вы-
бирает место — собор Сен-Женевьев и мастера — Катре-
мера де Кенси28, которому поручается трансформировать
в «зримый Елисей» великих людей церковь, некогда по-
строенную в честь выздоровления монарха. У Кватреме-
ра было очень ясное сознание того, что должно быть иде-
альным местом коллективной памяти: не место рассказа
о великих деяниях, но место их свершения29.
29 Антуан Катремер де Кенси является очень интересным персона-
жем, о котором очень мало известно. Существует только одна старая
книга о нем, которая весьма полезна (Schneider R. Quatremere de Quincy et
son intervention dans les arts. Paris: Hachette, 1910). Катремера очень часто
превращают в реакционного приверженца неоклассицизма первой
четверти XIX в., тогда как он на самом деле является чистым интел-
лектуальным продуктом дореволюционных лет. Он получил образо-
вание скульптора и провел свои лучшие годы (между 1776 и 1784 гг.) в
Италии со своими друзьями Канова и Давидом. Первая его работа
1785 г. посвящена египетской архитектуре. Затем он получает от Пан-
кука заказ на словарь архитектуры, первый том которого появился в
1788 г. Статьи словаря сгруппированы согласно пяти критериям — ис-
торическому, метафизическому, теоретическому, практическому и ди-
дактическому. Предпочтения самого Катремера сильно увеличили ме-
тафизические рубрики (о сущности архитектуы) и теоретические (о
принципах архитектуры). Переписка Катремера хранится в Нацио-
нальном архиве (серии О и F). Что касается его опубликованных ра-
бот, речь идет о следующих: Rapport sur Г edifice de Sainte Genevieve, fait au
direcloire du departement de Paris par M. Quatremere-Quincy. Paris: Imprimene
Royale, 1791; Extrait du premier rapport presente au Direcloire en mai 1791 sur les
mesures propres a transformer leglise dite de Sainte Genevieve en Pantheon frangais.
Paris, 1792; Rapport, fait au Direcloire du Departement de Paris, le 13 novembre
1792, Can 1 de la Republique fran^aise, sur Petal acluel du Pantheon fran^ais, sur les
changemenls quiy sent operes, sur les travaux, qui restent d entreprendre, ainsi que sur
I’ordre administrati/ elabli pour leur direction et complabilite, par Ant. Quatremere,
commissaire du Departement pour I’administration el la direction du Pantheon fran^ais.
Paris, 1792; Rapport fait au Direcloire du Departement de Paris sur les travaux
rnlrepvis, continues el acheves au Pantheon fran^ats depuis le dernier cample rendu le
17 novembre et sur Petal- acluel du monument, le 2 jour du second mois de Гап 11 de la
Kepublique frangaise une el indivisible / Par Ant. Quatremere. Paris, 1792.
29 Определение, которое Катремер дает общественному образова-
нию, таково; «Общественное образование — это не то, которое через
рассказ о нескольких фактах что-то говорит памяти нескольких чело-
167
Стремление использовать уже построенную церковь,
очевидно, накладывало свои ограничения: следовало от-
казаться от приравнивания конструкции к «характеру»,
от этой непосредственной понятности памятника, кото-
рую архитекторы XVIII в. от Боффрана до Ложье пре-
вратили в императив. Итак, это будет нс архитектура для
великих людей в чистом виде, а бриколаж, повторное ис-
пользование: неудобство, на которое постоянно указыва-
ет Катремер де Кенси, чтобы лучше подчеркнуть ценность
своих идей и свои достижения. В действительности зда-
ние, недостаточно выдержанное в духе церковной архи-
тектуры, было задумано как пространство триумфа, а не
сосредоточенности. Кошен уже отметил читаемость это-
го в работах Суффло; здесь нет квадратных столбов или
аркад, которые превращают Сен-Сюльпис или Сен-Рош в
места фрагментарные, неясные, не дешифруемые. В «Про-
гулках по Парижу» Дезалье д’Аржанвиль также хвалил
Суффло за это насильственное решение, не считавшееся
со святыми реликвиями и балдахином Святой Женевье-
вы. Сам аббат Сент-Женевьев, принимая тело Суффло в
1781 г., предполагал, что урок архитектуры, преподанный
им, «добрые французы, добрые граждане» не забудут. Ко-
роче говоря, действительно занятно видеть в соборе Сент-
Женевьев, как это сказал и сам Суффло, храм славы
католической религии, но «на манер великих людей».
В 1791 г. память о великих людях должна полноправ-
но воцариться в здании. Каким предполагается архитек-
турное решение? Поскольку великие люди считались бес-
смертными, немедленное следствие этого — отнестись к
месту их памяти иначе, чем к месту памяти смертных, в
противоположность модели «случайного лабиринта мо-
гил в Сен-Дени», которая стала вызывать отвращение, в
противоположность также множеству других проектов
век, но то, которое создает великие факты, адресуясь к душе каждого
человека» (Quatremere de Quincy. Rapport stir I’EUil actuel du Pantheon frangais,
le deuxieme jour du 2e mois de Гап II.)
168
того века, в которых смешивались храмы, статуи, мавзо-
леи, надгробия. Некоторые авторы проектов Пантеона,
такие как Жизор, продолжали воображать этот ансамбль
лишенным всякого принципа. Но Катремер, более после-
довательный, исключает мавзолеи (образ, который они
вызывают — это образ смерти, антонимичный по своей
природе «вечно живущему собранию благодетелей отчиз-
ны») и надгробия, использование которых может создать
впечатление загроможденное™**0. В остальном надгроб-
ные памятники, даже если бы их хотели сохранить, не
могли сочетаться с коринфским стилем, который из всей
неоклассической архитектуры наиболее чужд духу похо-
рон. Шанс Катремера — это крипта (невидимое место, где
расположены могилы), которая не является ни фактичес-
ки, пи теоретически памятником славы. Подземелье по-
зволяет разрушить союз храма и гробницы, который Кат-
ремер считает «ужасным», и изгнать из возникающей ча-
сти здания всякий признак смерти. Конечно, для того,
чтобы удостоиться чести Пантеона, следует умереть, но
это будет ради бессмертия: таково значение апофеоза и
торжества философии.
Чтобы добиться исполнения этого сурового замысла,
целиком погруженного в утонченную древность, Катре-
мер не мог изобрести много нового, потому что здание
уже существовало. Но он мог удалять. Хирургия, кото-
рую он практикует, не нуждается для него в обосновани-
ях, как показывает новый фасад здания: поверхностная
вышивка красивостей, букеты, пальмовые ветви, лозы,
головки херувимов, консоли, медальоны, гирлянды и тем
30 Требовалось на самом деле сдерживать это безудержное разрас-
тание. Катремер комментирует это так: «Кто может сказать, до какой
сгспени ретроспективная признательность Нации захочет взять на себя
обязательства по отношению к великим людям, которые предшество-
вали революционной эпохе и которые не могли бы войти в это святи-
лище бессмертия иначе, чем в виде мрамора, заставляющего их ожи-
вать?».
169
более религиозные орнаменты совершенно не подходят
для фасада. Подлежит также уничтожению и гордость
фронтона — толпа отцов церкви и патриархов, укра-
шавших четыре нефа, сама латерна, которую по логике
вещей должна была бы заменить статуя Репутации, но
которую спасла посредственность статуи, задуманной
Дежу.
Когда башни были разрушены, фронтон изменен, же-
манство уничтожено, Катремеру оставалось использовать
два языка, казавшиеся ему достойными культа великих
людей: язык света и язык статуй. Как можно представить
себе великих людей в освещении, создаваемом в соборе
Святой Женевьевы ее 39 окнами, этой данью привержен-
ности Суффло традиции соборной архитектуры? Этот
боковой свет так жалок и обыден! Чтобы успех был пол-
ным, следует лишить Пантеон всего того, что делает его
пригодным для простых смертных. Боковой свет пере-
менчив, а размышления о вечности требуют постоянства.
Косвенный свет — урок Булле, ставший общим местом, —
тогда считался необходимым для всего величественного
и прекрасного. Неподвижность и загадочность падающе-
го сверху света, полученные благодаря замурованным ок-
нам и застекленному шлифованным стеклом куполу, и
сегодня остаются главной особенностью творения Катре-
мера.
В его распоряжении остается еще такой ресурс, как
статуи, поскольку он разделяет убежденность своего века
в пригодности статуи для эмоционального общения с ве-
ликими людьми. Статуи великого человека напоминают
своего антропоморфного двойника, превращенного в мо-
дель в масштабе, но защищенного от распада, неподвла-
стного разрушению. В Пантеоне будет жит ь народ колос-
сов, он станет той единственно истинной мастерской вре
мени, в которой работает толпа скульпторов.
Итак, не кладбище, даже глубоко упрятанное, не цер-
ковь, не музей (ибо Катремер уже высказывался о том,
170
до какой степени ему отвратительна31 идея, что великие
люди могут фигурировать наравне с вазами и бронзой),
ие сад - но к этому мы еще вернемся,— не архив (другая
возможность, предложенная Монтескье для культа памя-
ти). Убежище великих людей превращается в простран-
ство, замкнутое в себе самом, закрытое, суровое и гран-
диозное, где единственное движение — это движение ста-
гуй. Этот выбор отражает коллективные чувства: идол
революции — это статуя, а не картина (программа живо-
писи, выполненная в Пантеоне, больше противоречит на-
следию революции, чем выражает его32). И это больше
ие место погребения. Потому что средоточием эмоций при
пантеонизации является статуя, а отнюдь не перенос пра-
31 Quincy Q. de. Considerations sur les arts du deslin, su ivies d’une place
d'Academic. Paris, 1791.
32 Посещающий Пантеон второпях сохраняет общее ощущение,
что находящаяся в нем скульптура — революционная, а живопись —
христианская. С одной стороны, он запомнит на хорах огромную груп-
пу Сикара (Национальный Конвент и его великие люди), с другой —
Июни де Шавана (Святая Женевьева, охраняющая спящий город). На
самом деле выполнение программы живописи следовало политичес-
ким флуктуациям. При Реставрации роспись храмины была поручена
Гро и Жерару, работавшим над религиозными и монархическими те-
мами, которые должны были изобразить на революционном материа-
ле преемственность французской истории. В 1830 г. Жерару пришлось
поспешно лишить религиозного содержания сюжеты на арках купола
и превратить их в аллегорию Смерти, Родины, Правосудия и Славы. В
1848 г. колоссальная программа «Моральная эволюция мира», зака-
занная Шенавару, была выставлена в эскизах в Салоне в 1853 г., ио
осталась не использованной для Пантеона, ставшего к тому времени
церковью. Требования морали должны были заставить создать новую
живописную программу, одновременно религиозную и историческую,
посвященную славе Святой Женевьевы, Святого Людовика, Святого
Дениса, Хлодвига, Карла Великого, Жанны д’Арк. Эта программа была
практически завершена в 1889 г. Тем временем Республика стала рес-
публиканской, и она обратилась к коммеморативной скульптуре для
того, чтобы оставить свой след на памятнике. Эта серия перевоплоще-
ний, в основном вызванных случайностью, тем не менее иллюстриру-
ет, по иронии случая, то, что революционная мысль рассматривала
как функции соответственно живописи и скульптуры.
171
ха, как можно было бы подумать. В продвижении корте-
жа гвоздь программы — это не погребальные носилки-
саркофаг, а статуя. Это ее увенчивают при каждой паузе
марша, неутомимо повторяя одни и те же действия. К
ней разрешают приблизиться народу для прощания. Для
Лакапаля33, который рассказывает о пантеопизации Рус-
со, опустить Жан-Жака в его «одинокую могилу» и сде-
лать его статую означает произвести одну и ту же опера-
цию. Для «Вернувшегося бродяги»34 пантеонизация Воль-
тера является тем самым моментом, когда великая на-
ция, «внутренне обновленная, возводит ст атую гению, ко-
торый первым решился сразиться с деспотизмом». Дру-
гой текст, еще более значимый35, потому что он несет в
себе множество несогласий с этой церемонией, все же
признает ее педагогическую эффективность, поскольку
вокруг саркофага, в который заключен прах, несут’ бюс-
ты всех великих людей. Легитимизация происходит здесь
через бюсты, а не через прах. Ясность в вопросе о том,
может ли функция Пантеона быть сведена только к при-
ему праха великих людей, вносит письмо директора де-
партамента, написанное сразу же после перенесения пра-
ха Мирабо и Вольтера, в котором сказано, что назначе-
ние памятника «будет в некотором роде пассивным»36.
Очевидно, что качества, которыми больше не обладает
прах, передаются статуям.
Однако в проектах статуй Катремера великим людям
не отводится большого места. Философия, Закон, Сила,
Родина, Свобода и Равенство прочно занимают перистиль.
33 Lakaпа 1 J. Rapport sur Jean-Jacques Rousseau. Paris: Imprimerie National,
an III.
34 Le Rodeur reuni, anciennemenl le Rodeur fran^ais. Bihebdomadaire. N 37.
1789-1790.
35 Villemure. Sur I’apolheose de Voltaire elcelle des grands homines de la France,
proposee le meme jour, enfaisanl porter leur busle a coU de ses cendres. Paris: Impr.
de P. ProvosL, 1790. Весь этот текст посвящен кригике апофеоза одного
человека.
36 Archives nationales. 1935. F 13.
172
В глубине храма Родина окружает себя Науками, Искус-
ствами, Патриотическими Доблестями — эти анонимные
гиганты отличаются друг от друга только своими эмбле-
мами-атрибутами и надписями. А где же великие люди?
Какими они должны быть? Властная действительность
революции ставит здесь Катремера лицом к лицу со вто-
рым императивом, отрывающим просветителей от их меч-
ты,— созданием приемлемого списка великих людей.
Из этого идеального списка память об античности не
исчезает полностью, так же как она продолжает жить и в
выборе имени Пантеона, которому было отдано предпоч-
тение по сравнению с «Портиком великих людей», «На-
циональной базиликой» и «Французским Пантеоном»,
предложенными поочередно. Но даже несмотря на то,
что французские герои преподносятся «на античный ма-
нер» (в компромиссе, найденном Шарлем Вийеттом, Воль-
тера поддерживают Музы, Декарт переодет Прометеем,
а Мирабо — Демосфеном), несмотря на это сами антич-
ные герои категорически исключаются. Революция огра-
ничивает экуменическую коллективную память, галерею
примеров, теоретически открытую для всего превосход-
ного (некоторые проекты, как, например, проект Шено37,
продолжают считать, что Французская Нация призывает
в Пантеон героев всех веков), памятью исключительно
национальной. Катремер в этом убежден: «Греческие и
римские изображения должны перестать появляться там,
где начинают блистать свободные французы». Задача на-
селить Пантеон от этого не облегчается. Потому что ве-
ликие французы Старого Порядка тоже вызывают сме-
шанные чувства: когда Пасторе поставил на голосование
декрет, в силу которого был создан Пантеон, он счел воз-
можным вырвать из дореволюционных сумерек только
три имени — Декарта, Руссо и Вольтера. Итак, для соб-
37 Chaisneau. Le Pantheon Francos, ou Discours sur les honneurs publiques
dei ernes par la Nation a la memoire des Grands Hommes. Dijon, 1792.
173
ственно чествования остаются на деле лишь герои самой
революции.
Но даже теоретическое право великих фигур револю-
ции предстать на пьедесталах кажется Катремеру подо-
зрительным. Для начала, является ли Пантеон памятни-
ком Революции? Забавно наблюдать, как, начиная с
1793 г., оснащение Пантеона ставит вопрос, который так
и останется без ответа на протяжении двух последующих
веков. Не менее интригующе получить и негативный от-
вет — изгнание из этого памятника революционной ком-
меморации в точном смысле слова. Это возможно пото-
му, что Пантеон является местом памяти свершившейся,
вечной, триумфальной революции, которая уже забыла
или захотела забыть свою собственную историю: «Здесь
следует воспевать скорее ее следствия, чем деяния, и сла-
вить само правление Революции более, чем его завоева-
ние». Удивительная формула, следствием которой для
Катремера является отказ от создания списка революци-
онных героев и превращение статуй в эмблематические
аллегории38, в которых невозможно усомниться (и кото-
рые невозможно понять, смогут добавить злые языки),
ведь чтобы постичь жертву ради Родины, счастье умереть
за нее, нужно прибегать не к патетическим и знакомым
образам воинов-новобранцев, но к образам радостных и
анонимных крылатых младенцев.
Вот так место коллективной памяти учреждается абсо-
лютно вне истории. Таково убежище великих людей, из
которого изгнаны все великие люди прошлого, независи-
мо от того, принадлежали ли они античности, «старому
порядку» или Революции. То, что могло бы красноречи-
38 В остальном все вело Катремера к выбору аллегории: любовь к
строгому стилю и идеалу красоты. Но, с друз ой стороны, простран-
ство, которое ему отводилось декором здания, треугольные поверхно-
сти, созданные для него Суффло,— то, в чем он ничего не мог изме-
нить,— вынуждали выбрать одну или максимум две фигуры: лаконизм
требовал аллегории.
174
нее всего выразить сущность Пантеона,— но Катремер не
дошел до этого вывода,— это пьедестал без бюста, кото-
рый в 1792 г. предложил поставить там Шено. Сакрали-
зация пустоты, пари о будущем, открытое для каждого
доблестного гражданина (почему бы и не для тебя?), но
одновременно также осознание невозможности памяти.
Ко всем этим неувязкам добавляется необходимость
изобрести для Пантеона специальный церемониал. В опи-
саниях пантеонизации, сохранившихся в газетах тех лет,
поражает подробнейший рассказ о роскоши украшений
кортежа и полное молчание относительно происходяще-
го в самом Пантеоне, как если бы храм был в большей
степени движущимся образом, чем сакральным местом.
Колонны кортежа, направляющиеся к Пантеону часто в
наступающей темноте при свете факелов, крутизна ули-
цы Сен-Жак, которую маркиз де Вийет предложил на-
звать улицей Великих Людей, долгий подъем и усталость
процессии — все эти образы свидетельствуют о том, что
самое важное — это взобраться на гору Святой Женевье-
вы, а не использовать здание. Революция, как всегда, боль-
ше преуспела в своих событиях, чем в своих свершениях.
После того как кортеж скрывается в воротах, никто не
знает, что происходит потом с ним или с его частью в
Пантеоне. Как и где именно состоялось захоронение сар-
кофага Вольтера после роскошного спектакля шествия?
Где крошечная делегация матерей и детей, которым было
позволено ступить за порог, должна была поставить урны
с прахом Бара или де Виала? Давид поминутно расписал
каждое движение танцовщиц на площади Пантеона39, но
ничего не сказал о том, что так и осталось тайным цере-
39 Постановка танцев на площади Пантеона очень точно записана —
со сценой перехода от национальной скорби к коллективному ликова-
нию. После чего, как лаконично сообщает программа, «депутация»
матерей и детей внесет Бара и де Виала внутрь храма. Где эта малень-
кая группа оставляла урны? И в соотетствии с каким ритуалом? Об
этом ничего не известно.
175
мониалом. Коллективное воображение останавливается
у ступеней Пантеона. Потребовалось телевидение для того,
чтобы французы смогли проникнуть внутрь. И снова —
ведь президент Республики шел не в храм, а в крипту,
как если бы между улицей Суффло, пространством жи-
вых и подземельем мертвых не было бы места для, веро-
ятно, столь неудачно перестроенного Катремером де Кенси
дома великих людей.
*
Здание, которое XVIII век хотел посвятить роду чело-
веческому, превратилось в место проведения ограничен-
ной и скованной, лишенной свободы церемонии. Потому
что оно было, как об этом писал императору Иоахим Ле
Бретон в 1808 г., полностью «захвачено Революцией»40.
Захват тем менее благоприятный для культа памяти, что
неожиданные повороты событий, пережитые при Револю-
ции, очень скоро пост авили под сомнение саму идею обес-
смертить великих людей, признанных всей Францией. Это
сомнение затрагивает одновременно предназначение ве-
ликих людей, инстанцию их легитимизации, возможность
национального единодушия и, в конце концов, полностью
завладевает памятником.
Итак, пантеонизированная Революция. Но революци-
онные перипетии придают некоторую двусмысленность
предназначению памятника и возданию почестей. Они
очень скоро приводят к идее о небходимости принять
меры предосторожности (нельзя удостоиться Пантеона
раньше, чем по прошествии десяти лет со дня смерти кан-
дидата, потому что, как подчеркивает Конвент, «следует,
чтобы жизнь гражданина была доподлинно выяснена
прежде, чем будет увековечена его память»). Они при-
40 Le Breton J. Rapport а ГЕ-mpereur el Roi sur les Beaux-Arts, depuis les vingl
dernieres annees. S.!., 1808. Было бы удивительно, по мнению автора, «если
бы памятник выиграл бы от всех этих случайных пертурбаций».
176
вносят с собой весь драматизм выбора и исключения, луч-
шей иллюстрацией чему может послужить действитель-
но шокируюшая сцена: депантеонизация Мирабо, кото-
рый был выставлен из храма через боковую дверь прак-
тически в ту же секунду, когда Марат переступил завет-
ный порог. Назидательная одновременность этих собы-
тий была подчеркнута в речи Давида: «Пусть отныне по-
рок и обман покинут Пантеон. Народ призвал сюда того,
кто никогда не ошибался». Еще более поразительно кон-
статировать, что после декабря 1792 г. каждое предложе-
ние о перенесении праха великого человека сопровожда-
ется предложением об изгнании из Пантеона. Когда в
месяце нивозе 2-го года предлагается перенести в Панте-
он прах Шалье, это делается для того, чтобы аннулиро-
вать почести, оказанные генералу Дампьеру, заподозрен-
ному в сговоре с Кюстином. Когда в месяце флореале
2 го года Лаканаль предлагает высечь на колонне из чер-
ного мрамора имена Аксо и Мулена, Талльен отвечает
гребованием стереть со сводов перевязь с именем Симо-
но: «В тот момент, когда мы облекаем высшими почестя-
ми двух людей, которые выполнили свой долг, мы не
можем потерпеть, чтобы их имена оказались рядом с
именами тех, кто ровным счетом ничего не сделал для
того, чтобы заслужить такую честь». Именно способность
великих людей составлять единство сделала Революция
мишенью для своих нападок.
Последствия неразрывной связи между коммемораци-
ей и чисткой были точно подмечены в анонимном памф-
лете по поводу переноса в Пантеон праха Руссо41: «Если
случится, что среди полубогов окажется помещен смерт-
ный, которого общественное мнение не считает достой-
ным, или если с течением времени обнаружится отступ-
ник среди тех, кто был призван туда, отступник, которо-
го теперь должно будет изгнать, все будет потеряно. Одно
41 Voyage a ErmenonviUe, &и Letlre sur la translation de J'.-J. Rousseau au Pantheon.
177
отступление от морали является потерей, которую никог-
да не исправить». Однако этот шаг постоянно повторяет-
ся на протяжении одного десятилетия, потому что с мо-
мента завершения Революции Мирабо был исключен из
Пантеона, перевязь Симоно снята, прах Марата перене-
сен в Сент-Этьен-дю-Мон и Ле Пелетье возвращен семье.
Последствия этого беспорядка проявятся в том, что мес-
то национальной памяти станет в большей степени про-
дуктом активного исключения, чем признания. В этом,
помимо якобинской надписи на Пантеоне, и состоит отпе-
чаток смертельного противоречия при выборе великих
людей, который требует высокой степени согласия, при-
верженности и очевидности. И, возможно, в этом также
можно увидеть знак того, что самые важные периоды ис-
тории парадоксальным образом не являются самыми бла-
гоприятными для фиксации коллективных воспоминаний.
Во всяком случае, инстанция легитимизации оказыва-
ется поставленной под сомнение. Здесь раскрывается про-
пасть между отношением к пантеонизации и хвалебной
речью, наследником которой является пантеонизация. По-
строенное как хвалебная речь, с теми же стыдливыми
изъятиями отрицательного из жизни — когда Лаканаль
высказывается в пользу пантеонизации Руссо, он обходит
молчанием печальный эпизод, рассказанный в «Рассуж-
дениях о науках и искусствах», который никогда не одоб-
ряло просвещенное общество,— заключение о пантеони-
зации отличается от хвалебной речи по крайней мере
двумя чертами. С одной стороны, если хвалебная речь не
несет в себе ни обязательств, ни санкций и может быть
полностью и исключительно построена вокруг идеи вели-
чия, этого неиссякаемого источника красноречия, то речь
по поводу пантеонизации является похоронным экзаме-
ном, который либо «сдают», либо «проваливают». Авто-
ров этих заключений неотвязно преследует обязанность
в плохо приспособленную для этого эпоху сказать после-
днее слово. И так как под этим окончательным суждени-
178
гм ставится личная подпись — очередная трудность для
бурной эпохи, ибо возможность сообщить бессмертие од-
ной лишь силой своих собственных слов сомнительна,
автор доклада — чего никогда не случалось с авторами
хвалебных речей — стремился спрятать свои следы, зака-
муфлировать свою субъективность, говорить в третьем
лице. Безусловно, это означает имплицитно признать, что
слава может быть сообщена только благодаря Репута-
ции, бессмертной, безличной и принудительной известно-
сти, но никак не голосованием. Никто не смог выразить
это лучше, чем Луи-Себастьян Мерсье в своем послании
против пантеонизации Декарта: «Требуется суд многих
веков, чтобы вынести суждение о гениальности челове-
ка»42. Само существование таких «отрицательных отзы-
вов» достаточно красноречиво свидетельствует о том, что
иногда голос Репутации умолкает и что тогда дело сво-
дится к произволу тех, кто принимает решение об увеко-
вечивании. Смертный, субъективный человек, который
должен в одиночестве строить «Дворец Репутации» в са-
мой гуще исторических противоречий, как может он ука-
зать великого человека, который, по определению, нахо-
дится вне пределов человеческих? Практический, умерен-
ный и скептический вывод Луи-Себастьяна Мерсье, не за-
бывшего яростных депантеонизаций, состоит в том, что-
бы «не спешить с апофеозами», если не хотят превратить
11антеон в «пагоду», а великого человека в «идола». Со-
мнение в способности собрания смертных произвести что-
либо, кроме ложных богов, облек в самую саркастичес-
кую форму Марат. Заранее протестуя против своей соб-
ственной пантеонизации в момент издания декрета об
учреждении Пантеона, он писал: «Я не собираюсь оста-
навливаться здесь на всей нелепости того, что собрание
низких и бездарных людей провозглашает себя способ-
ными судить о бессмертии. Как они могут быть настоль-
42 Mercier L.-S. Rapport sur la panlheonisalion de Decarles. 18 Ногёа! an IV.
179
ко тупы, чтобы считать, что современное поколение и тем
более поколения будущего подпишутся под их постанов-
лениями?»43.
Итак, с первых дней использования Пантеона ясно вы-
рисовывается невозможность рассматривать его как мес-
то единодушия, где могли бы мирно сосуществовать ве-
ликие люди нации. Замечательно уже то, что из него ока
зываются исключены все великие фигуры дореволюци-
онной эпохи кроме Вольтера и Руссо. Ни Фенелон, ни
Декарт, ни Бюффон, ни Мабли, представленные к чести
пантеонизации, не прошли сурового конкурса. Еще более
замечательно, что в нем не удалось оставить на сколько-
нибудь продолжительный срок никого, кто мог бы сим-
волизировать революционную славу. Из потока предло-
жений, исходящих от департаментов в пользу павших
генералов или патриотов, убитых бандитами, и притом
поддержанных лобби местных депутаций, ни одно не
было принято. Постоянный демарш Конвента состоял в
переадресации этих прошений в комитет Общественного
образования. Бесплодные хождения прошений туда и
обратно между этими двумя инстанциями свидетельству-
ют о нежелании способствовать пантеонизации.
Словом, это переживет Революцию. Речь не идет о том,
чтобы пересказывать здесь бурную историю памятника в
XIX в., на фронтоне которого не переставали выгравиро-
вывать и стирать отличную надпись Пасторе. В послед-
ствии Пантеон, переданный для католического культа, все
же продолжал сохранять свою роль почетного некропо-
ля: храм и церковь — такова была воля Наполеона. Затем
в нем была восстановлена церковь без храма — воля Бур-
бонов, затем снова вернулись к его «изначальному и за-
43 САтг dupeuple, 5 avril 1891. На следующий день Марат возмущал-
ся: «Если когда-нибудь какая-либо инстанция власти, вспомнив о том,
сколько я сделал для Родины, вознамерится выделить мне место в
соборе Святой Женевьевы, я категорически здесь протестую против
нанесения мне такой кровной обиды».
180
конному» предназначению храма без церкви — воля Луи-
Филиппа, затем в 1848 г. его значение распространилось
на все человечество, затем он был снова возвращен к сво-
ему религиозному призванию — воля Наполеона III и его
морального порядка. Наконец, после смерти Гюго он был
оставлен исключительно для республиканских литургий.
Все эти перипетии сделали еще более несовместимыми
могилы, находящиеся в Пантеоне. Семья Ош в 1889 г.
о сказалась от предложения перенести в Пантеон прах
своего великого человека, поскольку он не смог бы поко-
иться в мире рядом с Карно. В 1908 г. потомки Ланна,
возмущенные пантеонизацией Золя, пожелали перезахо-
ронить прах своего великого предка на кладбище Мон-
мартра, чтобы избежать столь отвратительного соседства.
После Освобождения, когда Комитет писателей задумал
пантеонизировать Ромена Роллана, и несмотря на все ис-
кусство Арагона улаживать дела миром (в этом случае, в
отличие от того, что происходило с Жоресом или Золя,
две Франции, по его мнению, не могут не быть единодуш-
ны в том, чтобы пантеонизировать того, кто был соратни-
ком и Пеги, и Барбюса), практически немедленно после-
довало контрпредложение правых, поддержанное «Фи-
гаро», о пантеонизации Пеги44. Следует ли славить Роди-
ну как плоть (вместе с Пеги) или как идею (вместе с Рол-
ланом)? Великие дебаты, срежиссированные прессой,
были в особенности мучительны для левых католиков:
потому что если есть две Франции, то есть также и два
Пеги, и их Пеги — это Пеги-дрейфузар. И лишь газета
«л’Об» нашла выход из этого затруднения, предлагая пан-
теонизировать Бергсона третьим. Здесь интересна не сама
судьба этих предложений, впрочем неудачная, но то, что
великие люди нации столь часто оказываются мелким
предлогом для борьбы фракций. Как если бы францу-
44 Я заимствую эти примеры из книги: Namer G. BaUaUlepourUi.menu)iTe.
Paris: Papyrus, 1983.
181
зам не удавалось создать место, которое смогло бы стать,
по примеру Вестминстера, часто служившего для них мо-
делью, одновременно Нотр-Дам, Сен-Дени и Пантеоном.
Сложное сосуществование разных обликов националь-
ной славы не добавляет симпатий к месту, в праве быть
захороненным в котором было отказано стольким вели-
ким людям. С самого начала современники стали мно-
жить контрпроекты, предлагая превратить в места возда-
ния почестей великим людям ротонду Леду в Ла Вийет-
те, Елисейские поля, превращенные в путь славы, или Мар-
сово поле, преобразованное в Кампо Санто. Более того,
многие противопоставляли недостатки этого закрытого и
замкнутого места тому единственному месту, которое при-
знала священным Революция, а именно — небесному сво-
ду. «Какая посредственная идея — собрать в здании в цен-
тре города всю национальную славу, репутацию всех луч-
ших и достойнейших граждан»45. Ла Ревельер-Лепо, вни-
мательно читавший Бернардена, отдал предпочтение ле-
сам Медона и «романтически» разбросанным могилам.
Некоторые недостатки памятника особенно бросаются в
глаза: как можно вообразить, например, влюбленного из
Эрменовиля под этим хладным и «бесчувственным» сво-
дом? Добермениль с грустью вспоминает равнодушие, ко-
торым сопровождался перенос в Пантеон останков Жан-
Жака46, Сам Лаканаль, автор рапорта в пользу его панте-
онизации, не вполне уверен, что подземелье является при-
емлемым местом для того, чтобы похоронить друга при-
45 La Rcvelliere-l^peaux L.-M. de. Du Pantheon el dun theatre national. Paris:
Impr. de H. H. Jansen, an VI.
441 Daubermesnil. Notion d’ordre sur les moyens de vivifier resprit public. S. 1.:
Imprimerie National, an IV. Автор задается вопросом о природе очаро-
вания Эрменовиля: «Человек ли, место ли говорит что-то моей душе?
Ах! Если бы мои пожелания были услышаны, останки этого великого
человека, избежав опасности быть похороненными под сводами этого
ужасного здания, были бы преданы земле в соответствии с его после-
дней волей у озера и долины Эрменовиля».
182
роды. Поэтому он высказывается в пользу временного за-
хоронения — когда зашумит листва тополей на площади
I (ахггеона (поскольку проект сада для великих людей, не-
смотря на решение Катремера, никогда не был оконча-
тельно отброшен), тогда надо будет вынуть Жан-Жака из
крипты и предать его их живой тени. Кто, впрочем, заяв-
лял о своем желании попасть в Пантеон? Жорес счел нуж-
ным заранее объявить о том, что леденящий холод этого
места отталкивает его, и с нежностью отзывался о ма-
хоньких солнечных кладбищах своего родного юга.
Выразительность могилы, вписанной в естественный
пейзаж, с самого начала существования памятника мно-
гим казалась гораздо более привлекательной. «Философ-
ская декада» неутомимо ратовала за то, чтобы француз-
ские бургады украсились статуями своих местных геро-
ев. Тогда Франция могла бы выйти из своего «монумен-
тального вдовства» и было бы намного более естественно
видеть «в Руане утонченного Корнеля, в Шато-Тьерри доб-
рого Лафонтена»47. Родерер сожалеет только о том, что
.памятник Тюренна должен находиться в Сен-Дени, а не
па поле боя: «Мертвым место всегда поблизости тех мест,
где они жили; эти места сами свидетельствуют об их дея-
ниях, там все говорит о них с таким красноречием, кото-
рое никогда не сможет превзойти ни один памятник»40.
Идея о том, что отношения с мертвыми требуют аутен-
тичного материального выражения, в ХУШ в. столь сла-
бо распространенная в коллективных представлениях о
культе великих людей, слишком волюнтаристская, что-
Ьы уделять большое внимание непроизвольному и неот-
нратимому пробуждению воспоминаний, вызываемых
исторической топографией, не переставала подспудно
противостоять устройству Пантеона. Против институцио-
нального места выступила творческая сила, приведшая к
171л Decade Philosophique, бе annee, ler trimestre.
Luois Р. Comte Roederer de. Des Institutions Funeraires convenables a une
Itepiiblique quipermel Lous les cultes el n'en adopte aucun. Paris: B. Mathey, an IV.
183
изобретению самого места. Память мест взяла верх над
мест ами памяти.
На один из вопросов, поставленных в самом начале,—
является ли Пантеон местом единодушия — история отве-
тила сполна. Несмотря на то, что культ великих людей,
столь однозначно взывающий к конформизму, антони-
мичен по отношению к любому разрыву, Пантеон, создан-
ный для того, чтобы в квазирелигиозной форме предста-
вить национальное единение, является местом разрыва
между французами: с него не сходит отпечаток, остав-
ленный на нем самой Французской революцией. Память
Пантеона является не национальной памятью, но одной
из политических памятей, предлагаемых французам: аб-
солютно последовательный выбор Франсуа Миттерана
смог лишь чуть больше углубить этот разрыв. Пусть ге-
нералы Империи прекрасно сосуществуют в Пантеоне с
республиканской наукой, все равно национальное вооб-
ражение полностью забыло их и перенесло всю военную
славу в Дом инвалидов. Благодаря воспоминанию о Рево-
люции, в Пантеоне не видно больше никого, кроме писа-
телей и ученых. Это — музей Третьей Республики, ученое
собрание знаменитостей, короче, благодаря соседству
улицы д’Ульм, это и есть именно то, чему Андре Билли
дал смешное название — «Эколь нормаль мертвых».
Но, безусловно, провал Пантеона связан не только с
безостановочным и столь очевидным именно в этом слу-
чае соскальзыванием национальной истории в историю
политическую, но также и с охлаждением к образу вели-
ких людей, для которых благоустраивался Пантеон. Мы
всегда можем назвать героев, но нам гораздо труднее опре-
делить, кто является великим человеком, носителем ве-
ликого урока: в этом смысле забвение Пантеона, несмот-
ря на попытку его недавней реанимации, означает исчез-
новение тех интеллектуальных и моральных условий, в
которых он был воздвигнут. Это верно по крайней мере в
двух отношениях.
184
Прежде всего, мы стали совершенно нечувствительны
к соединению величия с благодеянием, к соединению эк-
страординарного и ординарного, что создавало великих
модей в XVIII в. и что еще было способно вызвать энту-
зиазм Пеги во время пантеонизации Гюго: «Человек, ко-
торый, как все, носил парадную одежду, когда следова-
ло, и зонтик, когда шел дождь»49. Подозрение коснулось
главных фигур, которые XVIII век предложил чтить пре-
выше всех: мы больше не уверены в том, что изобилие
законов приносит счастье народам, и мы еще подозри-
тельнее относимся к «доброму законодателю». Мы зна-
ем, что «добрые отцы» — это нечто малореальное. Что же
касается «хорошей педагогики», то именно по отношению
к пей последние десятилетия оказались особенно безжа-
чостны. И прежде всего, мы больше не верим, что вели-
чие может быть сшито по общей мерке.
Вторая причина коренится в сомнении, уничтожившем
веру в пропагандистское и воспитующее искусство. Слиш-
ком сильно социалистический реализм дискредитировал
веру в способность искусства служить воспитанию и граж-
данскому согласию. Мы знаем, что можно жить в окру-
жении колоссальных статуй и огромных картин, не заме-
чая их и даже повернувшись к ним спиной. Возможно,
именно поэтому Пантеон устарел больше всего. То, что
поддерживает культ великих людей в момент его созда-
ния,— это вера в спонтанную солидарность эстетического
и морального, в неизбежную покорность публики воспи-
танию чувств и в эффективность педагогического искус-
< гв а. Сегодня никто не может поверить в то, что зритель-
ная репрезентация может стать местом формирования
морали и идеологической манипуляции, и в этом тоже
провал Пантеона.
1(1 С. Peguy. Op. cit.
185
Жерар де Пюимеж
СОЛДАТ ШОВЕН
У француза, у Шовепа
Есть розга на бедуина!
Трехцветная кокарда, 1831
«Это шовинист!», «Мы все немного шовинисты» — рас-
хожие выражения. Определению «шовинист» даже уда-
лось в 18^40 г. произвести на свет слово «шовинизм»1. Если
какое-либо слово и имело великую судьбу, то это именно
оно. Этот популярный неологизм прижился во француз-
ском языке, и, без сомнения, потому, что он выразил но-
вое отношение, он был заимствован большинством евро-
пейских языков. Упомянем, например, немецкое
Chauvinismus, английское chauvinism, испанское
chauvinismo, итальянское sciovinismo, русское «шовинизм»,
польское szowinism, чешское sovinismus. Как в трудах
Ленина, так и в сочинениях англо-саксонских феминис-
ток с их лозунгом, покорившим планету2, «Шовинисти-
1 Bayard J.-E, Dumanoir Р. Les Guepes, revue melee de couplets, representce
pour la premiere fois, a Paris, sur le theatre du Palais-Poyal, le 30 noveinbre
1840. Paris: Henriot, 1841. Sc. IX. P. 11.
2 Кажется, Гермэн Грир изобрела словосочетание «шонинисгичес-
кий скот» в 1970 г.: «Таково уж свойство шовиниста мужского пола
(male chauvinist) считать, что всякое живое существо, истекающее кро-
вью из раны, оставшейся на месте оторванного полового органа, дол-
жно на этом основании считаться маньяком» (Th? Female Eunuch. Londres:
Paladin, 1971. P 85; trad, franc. Casteau L. La femme eunuque. Paris; Robert
186
чсский скот» (Male Chauvinist Pig — M.C.P.), это слово ис-
пользуется для осуждения неблаговидного, преувеличен-
ного или смешного поведения.
Если мы попытаемся найти истоки «шовинизма» и «шо-
виниста» в энциклопедиях или словарях, то обнаружим,
что эти термины, обозначающие преувеличенный, воин-
ственный патриотизм и фанатический национализм, вос-
ходят к имени солдата армии Революции и Империи, ро-
дившегося в Рошфоре, Николя Шовена. Героический гвар-
деец, он стал известен благодаря своей страстной предан-
ности Наполеону и своему истерическому патриотизму и
был впоследствии превращен в комический персонаж
различными драматургами и карикатуристами.
Об этом персонаже, таком красочном и интересном как
для историка политических идей, так и для историка мен-
тальностей или международных отношений, не существует
ни одной книги или серьезной статьи. Главные работы,
посвященные армиям Республики и Империи, избегают
упоминаний о нем. Многочисленные исследования фено-
мена национализма, как французские, так и зарубежные,
излюбленным словом которых является «шовинизм», не
сообщают нам о нем ничего нового по сравнению со сло-
варями, упомянутыми выше. Иначе говоря, новое слово,
познавшее небывалый успех, дата рождения которого точ-
но известна, неизбежно отсылает к специфическому яв-
лению, ключом к пониманию которого оказывается био-
графия того, кто дал ему имя.
Ни патриотизм, ни страстная любовь Николя Шовена
к императору, разделяемые всей армией, не могли стать
достаточным основанием для того, чтобы так выделить
его из толпы других солдат — его сослуживцев. В резуль-
Lalfont, 1971). Использование этого термина см. также в: Berman Е.
The Compleat Chauvinist: A Survival Guide for the Bedeviled Male. New York:
Macmillan, 1982; Markham M., Poelsma D. A Chauvinist is... an Irreverent
Book of Cartoons for Oppressors and Opressed Akile. Watford: HerLs., Exley Publi-
cations Ltd., 1979.
187
тате какого удивительного и забытого происшествия, бла-
годаря какой пропагандистской кампании этот безвест-
ный персонаж смог стяжать столь беспрецедентную изве-
стность, так что успех его деяния, так же, как это было в
случае с Бойкоттом или Пубеллем, полностью затмил его
самого?
Признаки
Оказывается, Николя Шовен был забыт уже при жиз-
ни. Когда исследователь и водевилист Жак Араго пишет
в приложении к «Словарю беседы» в 1845 г. статью под
названием «Шовинизм», являющуюся первой лексико-
графической версией этого понятия, он подает личность
старого служаки как нечто совершенно неожиданное для
читателей: «С трудом нам удалось закончить этот крат-
кий очерк, точные сведения для которого нам были пре-
доставлены Военным архивом. Николя Шовен, тот самый,
от имени которого произошло слово, поставленное в за-
главие этой статьи, родился в Рошфоре. Солдат с 18 лет,
он был участником всех походов. 17 ранений, получен-
ных в схватках лицом к лицу с врагом, три пальца ампу-
тированы, плечо разрублено, лицо чудовищно обезобра-
жено, почетная сабля, красный бант, 200 франков пен-
сии — таков старый гвардеец, отдыхающий под солнцем
своей страны, ожидающий того часа, когда простой дере-
вянный крест отметит его могилу... Шовинизм не мог бы
и мечтать о более благородном покровителе»3.
Копируя Араго, Пьер Ларусс дополняет портрет в
1867 г.: «Этот старый гвардеец обращал на себя внима-
ние в лагере такой наивностью и столь преувеличенным
выражением своих чувств, что его товарищи сделали его
предметом насмешек. Из армии репутация Шовена рас-
пространилась и среди гражданского населения, и вскоре
3 Arago J. CJwuvinisme // Dictionnaire de la conversation et de la lecture
/ Dir. de M.W.Duckett. lettre C. Paris: Supplement, 1845. P. 455.
188
слово «шовинизм» стало обозначать обожествление На-
полеона и вообще преувеличенность всякого рода, осо-
бенно в области политики»4. Дебидур в статье в «Боль-
шой энциклопедии», которая посвящена на сей раз не су-
ществительному «шовинизм», но самому Николя Шове
ну, заимствует, в свою очередь, у Ларусса: «Шовен (Ни-
коля), французский солдат, родившийся в Рошфоре, ра-
нен 17 раз во время войн Революции и Империи. Наивная
преувеличенность его патриотизма и преклонения перед
императором, равно как и его доблесть, сделали его зна-
менитым во всей армии».
В статье, озаглавленной «Шовинизм» и опубликован-
ной в журнале «Век» 12 октября 1854 г., Луи Журдан жа-
луется на то, что «Академия, с трудом плетущаяся на бук-
сире живого языка, до сих пор не приняла в свой словарь
э го новое забавное слово, которое останется и в будущем,
гак как оно резюмирует в себе одном целый период на-
шей современной истории». И в самом деле, только в седь-
мом издании «Словаря Академии» 1879 г. появляется ста-
тья: «Шовинизм, м., ед., очень разговорный термин, кото-
рый использовался для попыток осмеивать экзальтиро-
ванное восхваление величия французского оружия». О
Николя Шовене Академия, рассматривавшая слово в пе-
риод между 5 и 12 января, не говорит ничего.
В заметке журнала «Время» от 3 января 1913 г., посвя-
щенной славе Николя Шовена, Жюль Кларети, цитирую-
щий Араго, но не ссылающийся прямо на него, сообщает
новые биографические подробности: «Шовен после от-
ставки возвратился в Рошфор и был привратником в
морской префектуре. Во время краткого пребывания
Наполеона в Рошфоре перед высадкой на острове Экс по
дороге на остров Святой Елены, Шовен не желал уйти от
двери комнаты, в которой спал его повелитель. Отъезд
11 Larousse Р. Chauvinisme И Grand Dictionnaire universel du XIXe siecle
(1866-1879): 34 vol. Geneve: Slatkine Reprints, 1982. Vol. Ill (1867). P. 1111.
189
Императора и возвращение белого знамени привели его
в состояние крайнего возбуждения. Он принес домой ста-
рое трехцветное знамя и сделал из него пару простыней.
С видом истинного старого служаки Шовен, проворчав
“здесь я и умру”, сдержал слово».
Уже ближе к нашему времени историк Жан Лестокуа
во введении к своей «Истории патриотизма во Франции»
с чувством говорит: «И мне подумалось об этом давно
забытом солдате, воевавшем в войнах Революции и Им-
перии, Николя Шовене, уроженце Рошфора», чтобы за-
тем в очередной раз воспроизвести Араго5. В 1983 г. исто-
рик Рошфора посвятит целую главу «Рошфору, колыбе-
ли шовинизма»: «В это время в Рошфоре проживал Ни-
коля Шовен, солдат Революции и Империи. Он стал из-
вестен благодаря преувеличенности своих патриотичес-
ких чувств»6, и т. д.
Наконец, американский историк Гордон Райт указыва-
ет на роль Шовена в пересмотре договоров 1815 г. в эпо-
ху Реставрации: «Шовинистический оттенок появляется
в этой военной кампании (и слово во французском язы-
ке) в результате ажиотажа таких наполеоновских ветера-
нов, как Николя Шовен»7. Гордон Райт ничего не гово-
рит о природе этого ажиотажа, и нам опять не хватает
яркого и судьбоносного факта, на котором могла бы ос-
новываться известность нашего героя. Ведь в самом деле,
именно таковым оказывается принципиальный вопрос для
стремящегося понять не то, откуда происходит понятие,
но откуда взялась вещь, названная «шовинизмом», и ка-
ково было ее изначальное значение. Становится необхо-
димо, таким образом, отыскать следы Николя Шовена в
5 Lestocquoy J. Histoire dupatriotisme en France des engines d nos jours. Paris:
Albin Michel, 1968. P 13-14.
6 Rochefort. Trois siecles en images, de Napoleon d nous jours / Centre d* animation
lyrique et culturel de Rochefort. Rochefort: Maury, 1983. P. 36.
7 Wright G. France in Modern Times,] 760 to the Present. Chicago: R. MacNally
and C. Londres, MussayJ., 1962. R 242.
190
архивах. Но, ввязавшись в эту затею, исследователь стран-
ным образом оказывается на «ничейной земле» между
отсутствием истории и утратой памяти, где все кажется
исчезнувшим будто специально для того, чтобы сбить его
с толку.
В поисках господина Шовена
Фамилия Шовен, одна из самых распространенных во
Франции, встречается чаще всего на востоке страны. Она
хорошо представлена в Рошфоре и в Шаранте-на-море.
Имя Николя, частое на Севере, здесь, напротив, оказыва-
ется крайне редким. В архивах Шаранты-на-море не об-
наруживается никаких следов Николя Шовена, родивше-
гося в эту эпоху в районе Рошфора, и среди массы встре-
тившихся Шовенов ни один не похож на прототип Араго.
Напротив, в военных архивах есть досье Николя Шо-
вена. Оно содержит два письма от американцев, требую-
щих комментария по поводу этого славного солдата, и
о твет министерства на эти запросы: фотокопия статьи Ла-
русса. Неужели следы свидетельств, полученных Араго,
исчезли? В личных делах фигурирует около дюжины Шо-
венов, но среди них нет ни одного Николя. Единствен-
ный, чье досье обращает на себя внимание в этой связи,
гго некий Анри-Гийом, родившийся в Фалезе 9 июня
1744 г., солдат с 1761 г., капитан 4-го года Революции, про-
славившийся во время парижской смуты тем, что поме-
щал своим солдатам восстать. Позднее Наполеон награ-
дил его саблей. Старый и больной, он безуспешно пода-
вал прошения Императору, чтобы его поместили в Дом
инвалидов. По данным полицейского архива, он покон-
чил с собой, бросившись на саблю, пожалованную Им-
ператором, однако ни пресса, ни кто-либо другой все рав-
но не проявили к нему никакого интереса.
В полном списке Почетного легиона 1814 г. находим
10 Шовенов, но среди них нет ни одного Николя. Один из
них привлекает к себе внимание — это Шарль Франсуа
191
Режи, уроженец Круаса (в Ардеше), формула присяги
которого выставлена в музее Почетного легиона из-за ее
красочности: «Господин Шовен, легионер, отставной гре-
надер императорской гвардии, заявил, что он не умеет
писать, вследствие чего он поставил крест». Дополнитель-
ные документы об этом Режи обнаруживаются в военном
архиве0. Если сопоставить информацию, которую они
содержат, с портретом Николя, нарисованным Араго и
его последователями, то обнаруживается поразительное
сходство:
Режи —
уроженец Круаса,
служил 18 лет,
участник 17 компаний,
получил звание капрала
2 июня 1792 г.,
инвалид,
пенсионер,
Почетный легион.
Николя —
уроженец Рошфора
(Ш ар анты-на-мор е),
служил 18 лет,
получил 17 ранений,
иногда капрал,
инвалид,
пенсионер,
пожалован саблей,
Почетный легион.
Самый подозрительный элемент здесь, конечно, — пов-
торяющееся число 17. 17 кампаний Режи и 17 ранений
Николя, которые, действительно, слишком напоминают
Режи, чтобы это было простым совпадением. Итак, сле-
пой Араго не сам вел свои разыскания. «Точные сведения
нам, были предоставлены Военным архивом», — пишет он.
Не мог ли повеса, студент-легитимист, которому было
поручено провести исследование, ради того, чтобы ока-
зать услугу Араго, патриотизм которого был притчей во
языцех, опираясь на сведения о Режи, но используя так-
же Анри Гийома и его саблю, да и другие источники, со-
здать образ идеального Шовена, крестьянского героя, воз-
вращающегося на свою фамильную ферму? Почему бы и
нет? Дать ему имя Николя, которым так часто называют
e Garde Impenale, premier regiment de grenadiers a pied // Archives de la Guerre.
(20-Yc 4).
192
деревенских богачей в народной литературе и которое
роялистская пропаганда в эпоху Реставрации в насмешку
присвоила Наполеону, как раз из Рошфора отправивше-
гося в ссылку на Святую Елену, было бы, если следовать
•ггой гипотезе, удачной находкой.
Во всяком случае, следует отказаться от мысли иденти-
< | )ицировать нашего Николя Шовена с помощью архивных
документов. Остаются гравюра и театр, сохранившие сла-
ву героя.
Идентификация и смерть Шовена
Словари называют два водевиля, в которых Николя
I Новен был выведен в качестве карикатурного персона-
жа, так же как и в гравюрах Шарле. Водевиль «Солдат-
груженик», упоминаемый чаще других, но обычно непра-
вильно приписываемый Скрибу, является нашумевшей в
1821 г. пьесой Франсиса, Бразье и Дюмезана. В ней нет ни
одного персонажа по имени Шовен. Предельно далекая
от насмешки над солдатом-тружеником, которого зовут
Франкер, она восхваляет его самым восторженным обра-
зом. Второй водевиль — «Трехцветаая кокарда» братьев
Коньяров (1831 г.) — является единственной пьесой, по-
священной завоеванию Алжира потому, что это событие
полностью затмила Июльская революция. Пьеса тоже име-
ла большой успех, и в ней на сцене действительно появ-
ляется Шовен, но его зовут Жан, а не Николя. Это крес-
тьянин, уроженец Фалеза, солдат и труженик (ошибоч-
ная отсылка к пьесе «Солдат-труженик», таким образом,
не является случайной), но он не старый служака. Этот
молодой человек, призванный во время Реставрации в ар-
мию, после ряда перипетий героического и любовного
юлка, захватывает в плен правителя Алжира и подверга-
г г его наказанию, восклицая: «У француза, у Шовена есть
розга на бедуина!». Затем он завладевает его гаремом,
смывая оскорбление, нанесенное консулу Дювалю. В на-
||>аду его производят в капралы. Продвижение по служ-
193
бе наполняет его гордостью: «Капрал! Капрал! Какая
честь! В груди дыханье замирает! О, Софи, ты будешь
гордиться своим возлюбленным!». Поклонник военной
славы Франции благодаря рассказам ветерана Кокарды,
Шовен настаивает прежде всего на своем крестьянском
происхождении. Отравленный мясом верблюда, он пла-
чет: «Я больше не увижу своей деревни!» и причитает: «О
мой Фалез, мои бедные папа и мама!».
Вовсе не доблестный вояка, герой выглядит трусливым
юнцом: ведь он только что покинул свою ферму. В ужасе
от первого выстрела, он тем не менее способен восстано
вить бодрость духа при втором:
Это правда, что я испугался первого выстрела,
Но что делать, если до вчерашенго дня я не держал в руках ничего,
кроме лопаты.
Но я быстро оправился, и вам не придется больше смеяться над Шове-
ном, ребята,
Потому что я оказался на бреши при втором выстреле*.
А каков портрет Шовена работы Шарле? Ни одна из
его гравюр, кстати, весьма хорошо каталогизированных9 10,
не носит этого имени, к тому же Шарле, нарисовавший
сотни вымышленных старых служак и рекрутов, мало
работал в жанре портрета. В «Философском алфавите
для маленьких и больших детей» 1835 г. мы обнаружива-
ем на букву В и С («воспоминание» и «сожаление») неко-
его «Шовена, солдата в 61 году». Это юный крестьянин,
9 Coigniard Т, Coigniard Н. La Cocarde Lvicolare, episode de la guerre (20-
Yc 4)d’Alger, vaudeville en trois actcs, represcnte pour la premidre Ibis, a
Paris, sur le theatre des Folies-Dramatiques le 19 mars 1831: 4-e ed. Paris:
Bezou, Barba, Quoy, 1834. Acte II. Sc. VIII. P 17; sc. IX, p. 18; acte I, sc. V,
p. 5; acte II. Sc. II. P 20. Шовен называет себя здесь уроженцем Фалеза.
Если он выходец из семей Фалеза,то ни один из них, включая Анри
Гийома, не оставил никакого воспоминания, отсылающего к нашему
персонажу. Напротив, крестьянин из Фалеза является персонажем на
родных песенок в начале XIX в.
10 Colonel de La Combe. Charlet, sa vie, sex lellre, suivi par d’une description
raisonnee de son oeuvre litographique. Paris: Paulin et 1c Chevalier, 1861.
Vol. 2.
194
I»лй с сожалением вспоминает в казарме свою ферму, а
и гем, вернувшись в отчий дом,— старые добрые времена
( лужбы. Но это тоже рекрут эпохи Реставрации, а не ста-
рый служака. Заметим также, что он не проявляет ника-
кого патриотизма, и если он смотрит с тоской на солдат,
проходящих мимо его хижины, то это не потому, что он
мечтает помчаться па границу, а по иным причинам: «Во-
енная служба — это было хорошее время для меня... Мне
ни о чем не надо было думать, кроме моего мундира, ин-
спекций, проверок, дежурств и упражнений: я был свобо-
ден и счастлив». Этот тип узнается и на других гравюрах
I Марле, отчасти вдохновленных «Трехцветной кокардой»,
как, например, на гравюре «Все это не заменит моего
милого Фалеза» (1834), где Шовен, указывая широким
жестом на алжирскую равнину, по которой движутся вой-
ска, восклицает: «Здесь, в этой горестной стране, никогда
не увидишь яблони». Другие, предшествующие пьесе, та-
кие, как например, «Первый выстрел» и «Второй выст-
рел» 1824 г., в свою очередь подхватывают те же темы,
помещая их в экзотическое обрамление Алжира. Этот
пожет, также использованный Мартине и другими, сим-
волизирует переход от страха к героизму у молодого рек-
рута, с лихвой искупающего свое первоначальное заме-
шательство. Наконец, сценка «Мне не наплевать на зем-
лячку» (1824) изображает Шовена, подцепившего легкое
венерическое заболевание, во время лечения в военном
госпитале. Эта последняя литография отсылает к одной
песенке, приписанной Шовену автором-шутником, имя
которого не называет ни один словарь псевдонимов и ано-
нимность которого остается непоколебленной (Шовен из
«Трехцветной кокарды» тоже намекает на это, капризни-
чая: «Зря я недостаточно брезговал африканским мя-
сом»11). В этих песенках, поначалу печатавшихся на от-
дельных листках (некоторые из них дошли до наших
11 Coigniard Т., Coigniard Н. La Cocarde Iricolore. Op. cit. Acte I. Sc. V. P 5.
195
дней12), Шовен обладает теми же качествами крестьяни-
на-солдата, что и в «Кокарде». Их тон неизменен: это все
те же пошлые фривольности, в которых воспеваются вино,
секс и война. Их герой представляет себя так:
Меня зовут Шовен,
Мое имя рифмуется с винам12 13.
И он издает воинственный клич в честь своих побед над
женщинами:
Я был всегда неотразим - на поле брани и в постели'.
Эти манеры деревенского щеголя, всегда присущие
персонажу «Кокарды», отражают первобытную сексуаль-
ность Шовена. Он так же «хорош для службы, как и для
девиц». В его образе очевидна взаимосвязь между сексу-
альной озабоченностью и ее сублимацией в патриотизме,
приводящая к самым пагубным последствиям:
Я в ранах от воспоминаний
И о войне, и о любви 14.
Но это любимое дитя галантности кухарок и коллек-
тивной славы не сожалеет ни о чем:
Я крив, но глаза одного
Вполне достаточно сержанту'.15
В самом деле, несмотря на свой малый чин, он получа-
ет достойное вознаграждение за свое примерное поведе-
ние в виде услад любви. В «Трехцветной кокарде» Софи
будет гордиться своим возлюбленным, произведенным в
капралы, и здесь «влюбленный сержант», кривой, одно-
12 Oeuvres poeliques de Chauvin, trois romances mililaires. Paris: Gaultier-
Lagu ionic, 1825; Guirlande poelique et militaire de Chauvin: 2-e ed. I Corrigee et
veritablement augmentee. Paris: Firmin-Didot, 1833.
13 Oeuvres poelique de Chauvin. «Les amours de Chauvin et de la belle
Janneton» // Op. cit. P. 21.
14 Guirlande poelique et militaire de Chauvin. «Suite des amours de Chauvin»
//Op. cit. P. 21.
15 Oeuvres poelique el Chauvin. «L’amoureux Sergent» // Op. cit. P. 11.
196
। киий и безрукий, но довольный жизнью, требует то, что
ему причитается по праву:
/ де пленившая сердце мое,
Та, что я осчастливить iomoe?lii
Сексуальная озабоченность, скрываемая за более вы
( окими материями, является главным стимулом действий
Шовена. Он предстает перед нами не просто как патри-
от фанатик, а как «шовинистический скот» (Male Chauvi-
nist Pig) — определение, выбор которого, пусть даже нео-
сознанный, нельзя не признать на редкость удачным.
В «Мнении», которым открывается сборник 1833 г.,
анонимный автор также настаивает на молодости своего
героя: «Какой-нибудь Шовен (заметим, что речь, таким
образом, идет о типаже.— Ж. де П.) — это всего лишь но-
вобранец, он сохраняет еще свой крестьянский акцент, у
него огромные лапы, и он говорит скороговоркой».
В той же самой брошюре герой иногда говорит и уста-
ми старого вояки. В песенке «Любовные похождения
Шовена» он делится со своим сыном Жан-Жаном воспо-
минаниями о былом и называет себя «вдовым и старым»* 17.
Итак, изначально возникает двусмысленность относи-
тельно возраста героя. По сути молодой рекрут, Шовен,
синтез деревенского мира и армии, легко вырастает в ста-
рого воина. С течением времени такая все более и более
частая трансформация станет одной из специфических
черт, позволяющих отличить его от современных ему или
позднейших героев военных преданий, возраст которых
остается всегда одним и тем же (Дюмане, Пакот, позд-
нее Роншоно или Камембер).
Эта метаморфоза идет в обратном направлении в во-
девиле 1840 г. «Осы», и здесь впервые появляется неоло-
гизм «шовинизм». В этой пьесе атакованный осами Аль-
ld Ibid.
17 «Suite des amours de Chauvin»//Guirlandepoelufue el mililaire de Chauvin.
Г 21.
197
фонса Карра, карающими уродства общества своими уку-
сами, Шовен предстает в обличье старого служаки, по-
ющего при своем выходе на сцену:
Французский солдат, рожденный неизвестными тружениками...
Его появление встречается возгласами: «Эй ты, древ-
нее ископаемое! Шовинизм отжил свой век!»18. Исполня-
ется пародия на знаменитую арию из «Солдата-труже-
ника»:
Я знаю самого волку,
Не знаю подвигов его19.
Но старый вояка быстро дает отпор крикунам: «Вы
плюете на Шовена, но когда придет беда, триста тысяч
таких же зайчишек-трусишек, как я,— вот чего я вам же-
лаю»20. Раздается пушечный выстрел. Он возвещает о пе-
резахоронении праха Наполеона, но все уверены, что это
вражеская атака. Насмешников охватывает паника, и в
этот момент Шовен превращается в молодого ретивого
рекрута: «Вот так всегда, одно и то же. Всегда Шовен.
Как это все на Францию похоже!» — восклицает он.
И если придется тревогу трубить,
Шовен будет рядам, чтоб вас защитить!
Бессмертный и неизменный защитник своей беззабот-
но живущей страны, Шовен завоевывает всеобщее одоб-
рение и уважение. Самая опасная из ос теряет свое жало
и оборачивается маркитанткой — любовницей героя. Бла-
годаря Шовену Франция, вновь обретя свой воинский дух,
объединяется и обретает свой внутренний мир перед ли-
цом иностранных держав.
10 Bayard J.-F., Dumanoir Р. Les Guepes // Op. cit. Sc. IX. P. 11.
19 To же. Эта пародия отсылает к фразе из водевиля F. N. Brazier,
Т. М. Dinners an: Les Moissonneurs de la. Beauce ou le Soldal-laboureur. Paris:
Tresse, Delloye, 1840. Sc. XIV. P 7 (деревенская комедия с куплетами,
впервые поставленная в театре Варьете 1 сентября 1821 г.): «Я узнаю
этого воина, Я видел его на поле славы».
20 Bayard J.-F., Dumanoir Р. Les Guepes. Sc. IX. P. 11, 12.
198
Внезапно обретенная юность: именно под видом дрях-
лого вояки будет представать Шовен в песенках Второй
Империи, у Наду, который его обожает, и у Авенеля, ко-
торый первый проявит откровенную враждебность по
(гпюшению к нему. Старый служака-алкоголик, вернув-
шийся на родину и избитый своей женой, Шовен пера
11аду воспитывает патриотизм у юношей своей деревни,
декламируя следующие стихи на террасе кафе:
Стоит рюмку пропустить —
Шовен не может удержаться свои победы не хвалить.
Но победы не хвалить
Он не может,
Коль не пит^1.
Его аудитория, состоящая из юных крестьян, разделя-
ет его патриотический запой. Сраженные напитком, все
грудятся за столом, объятые общими узами любви к ро-
дине, которую символизирует земля, теплая мать-защит-
ница, где они все и остаются лежать вповалку:
Шовен, мы все здесь ляжем на полу
Рука к руке, за родину, на всех одну.
Непримиримый противник Бадингэ Поль Авенель ви-
дит в старом дураке заговорщика против позорного ре-
жима. Народ голоден, и Шовен со своим самохвальством
забавляет его рассказами о войнах, идущих в дальних
странах, цели и причины которых его никак не интере-
суют:
На свою ношу народ едва пытается роптать,
Но погонщики остаются глухи к его мольбам;
Чтобы отвлечь его, Шовен уводит его в Китай,
Надев на него свои кожаные кюлоты,
И тупой Популюс воображает,
Будто он живет в славе под развевающимися знаменами.
21 Nada u d G. «Chauvin»: Chansons de Gustave Hadaud: 8-e ed.: augmentee
<lc 39 chansons nouvelles. Paris: Henri Pion, 1870. P. 82-84.
199
Вторая империя не могла бы желать заполучить луч-
шего агента для «связей с общественностью». Искренний
в своей тупости, обманутый мистификатор, иными слова-
ми — он, идеальный Француз, несмотря на все сомнения,
питает к армии и к родине, чьи образы для него сливают-
ся воедино, самую бескорыстную любовь. Это Святой
Шовен, образец невыразимо прекрасного:
Святой Шовен оберегает, знай,
Второй империи французский рай22.
Но, рупор режима, он также становится и его первой
жертвой:
Бедный старик, у тебя нет ничего, кроме голого зада
Под кожаными кюлотами,
Ты ничего так не ценишь в своей нужде,
Как эту прекрасную штуку-войну!
Пойте, кларнеты, играйте, тамбурины!
И шовинизм во Франции обрел
Почет средь доблестей других23.
Мы уже видели стареющего Шовена, и вот теперь Аль-
фонс Доде представляет па сцене его смерть. После по-
ражения 1870 г. разоблачения типа Авенеля становятся
более неуместны. Конечно, Шовен придурок, но он снова
одерживает победу над своей собственной комичностью
и опять вызывает уважение к себе. Тот, кто предстает
перед нами здесь, — это более не старик и не молодой
рекрут, но человек средних лет. Не акцентируя его чисто
крестьянское происхождение, Доде многократно подчер-
кивает, что он округляет «р», что выдает его связь с де-
ревней.
Изначально смешной, как и в «Осах», Шовен посте-
пенно становится все более значительным по мере того,
22 Ave n el Р. Kouvelles Chansons politiques. Ра г is; Ar m a n d L е С11 е v а 1 ie г, 1878.
P. 26, 25.
23 N. Chauvin: La Chanson fran^aise du XVe au XXe siecle, avec un append ice
musical. Anonyme. Paris: La Renaissance du livre, 1912. R 278-279.
200
к лк множатся беды Франции, вплоть до своей случайной
и патетической смерти в одной из стычек в дни Коммуны.
При его первом появлении с ним здесь обходятся даже
хуже, чем у Авенеля, который еще сохранял по отноше-
нию в нему чувство жалости: «назойливый и глупый тип»,
«вечно в ярости», с «низким, узким и упрямым лбом»,
требующий «войны любой ценой», «непереносимого вида».
11о после первых поражений августа «уже Шовин мне не
кажется таким нелепым». Наступает осада Парижа, и
Шовен, всегда презренный и комичный, приобретает бо-
чсе благородные свойства: «В конце концов душа этого
героического простофили разлита во всех нас, все пари-
жане едины в том, что без Шовена Париж не продержал-
< а бы и восьми дней». После капитуляции снова наступа-
ет мир со всеми своими социальными барьерами и напря-
женностью. Шовен вскоре начинает проповедовать ре-
ванш, но никто его больше не слушает. Приходят дни
Коммуны — «Париж во власти негров!». Под возгласы
пруссаков: «Ах, ах, ах! Гошпотин Шофен!»— демонтиру-
ется статуя Наполеона. Затем армия входит в столицу,
наступает «кровавая неделя» 22-28 мая. Встав между вой-
сками и баррикадой с криком «За Францию!», Шовен,
«жертва гражданской войны», падает, сраженный. И Доде
заключает: «Это был последний истинный Француз»24.
Итак, Шовен всегда вызывает особый род смеха, это
насмешка благожелательная и стыдливая. Мы смеемся,
по прав он, а мы ошибаемся. Если Шовен смешон, писал
Араго, то это потому, что «общество, такое, каким мы
(‘го сделали, кажется, видит свою задачу в том, чтобы
портить все, к чему оно прикасается: шовинизм превра-
тился в смешную нелепость благодаря ошибке тех, кто
не понял истинного значения самопожертвования»25. Это
( вязано так же с «этим совершенно французским свой-
24 Daudet A. La mart (le Chauvin// Les Conies du lundi (1873). Geneve: Edito-
v rvice, 1968. P 108-112.
25 Arago J. Chauvinisme // Diclionnaire de la conversation el de la lecture, P. 452.
201
ством, которое заставляет нас быстро заметигь и превра-
тить в остроту тривиальность любой вещи,— пишет Жур-
дан в “Веке”, отстаивая попранные права шовинизма в
журнале, редактором которого он является — Да, “Век”
уже был шовинистом и снова будет им завгра. Не нужно
бояться быть шовинистом: современный шовинизм состо-
ит в том, чтобы страстно желать только триумфа добро-
го порядка, справедливости в том, чтобы преподать стро-
гий и окончательный урок абсолютизму»26. И Пьер Ла-
русс отмечает, что Шовен «в своем обычном духе то
простачка, то идиота» восславил родину «в героическом
облике француза из Понтуаза с его простонародной ре-
чью и пушкой, лицом к лицу с пруссаком и австрияком».
На самом деле то, что он кричит и пропагандирует,— это
«догмат патриотической веры». Итак, заключает Пьер Ла-
русс, «не будем смеяться: выросшие с деревянными саб-
лями и ружьями из жести, с детства чувствительные к
звуку барабана, в дни торжеств, когда мужественное на-
чало вторгается в нашу повседневность, мы всегда обнару-
живаем в самих себе древние истоки шовинизма, над ко-
торым мы смеемся вместе с теми просветленными ума-
ми, что мечтают о вселенском мире,— истоки, которые
мы и не пытаемся всерьез ослабить в себе»27. И это тем
более верно, что Шовен не является порождением «ни
тех сильных личностей, мечтающих о вселенском мире»,
ни «космополитов», которых бичует Луи Журдан, но тво-
рением Шарле и водевилистов, воинственных милита-
ристов и кокардистов. И опять-таки для того, чтобы луч-
ше восславить «последнего француза», Доде превращает
его в насмешку. «Шовинизм,— напишет Лоран Ларше,—
имеет свою нелепую и смешную сторону, но он также
обладает и своим величием. Над ним слишком много
смеялись, но это еще в тысячу раз хуже, а искусство зо-
26 Jourdan L. Le chauvinisme // Le Steele, 12 octobre 1854.
27 Larousse P Chauvinisme // Grand Diclionnaire universel du XIXe siecle.
202
лотой середины никогда не было французским каче-
ством»28.
Поиск реального Шовена вписывается в такое жела-
ние легитимизации: смейтесь, но Шовен существует (или
существовал)— это старик, незаметный герой эпопеи, не-
сущий на своем теле отпечатки героических битв — так
склоните ж головы!
С момента своего появления около 1820 г. и до 1840 г.
юный (за редким исключением) рекрут-крестьянин эпо-
хи Реставрации, затем все более и более старый служака
(«Осы», 1840; Араго, 1845; Надод, 1860 ), Шовен посте-
пенно стареет не в силу отсылки к реальному герою-про-
образу, но в ходе самого процесса легитимизации его по-
ведения. Идеальный француз эпохи государственного
национализма, он не имеет возраста, потому что «Фран-
ция не умирает», или скорее потому, что он может быть
любого возраста — как это и было — и всех возрастов
(^повременно.
Очевидно, что поскольку Шовен в момент своего появ-
ления в песнях, театре и литографии предстает не ста-
рым героем, обремененным памятью и историей, но юным
молокососом, мечтающим об образцовых приключени-
ях, все биографические разыскания оказываются пустым
делом. Да и вопрос о том, существовал ли он когда-либо,
тоже утрачивает смысл. Действительно, в некотором смыс-
ле этот «тип, усыновленный народом, чтобы символизи-
ровать солдата»29, отсылает к совершенно реальному пер
сонажу, но воспроизведенному в сотнях тысяч экземпля-
рах молодых рекрутов, забранных со своей родной фер-
мы на долгие годы для мупггры в казарме и слишком
часто посылаемых на поле боя. Фамилия Шовен, почти
столь же распространенная, как Мартэн или Дюпон, мог-
ла быть выбрана как случайно, так и для того, чтобы по-
28 Larchey L. Chauvinisme // Diclionnaire hislorique d'argoi. Paris: Denlu,
1888. P. 27.
29 Larousse P. Grand Diclionnaire universel du XIXe siecle.
203
дразнить друга (или врага) автора «Гирлянды» или Шар-
ле. Следовательно, если Шовен имел под своим именем
некую реальную, живую модель, это мог быть только
молодой крестьянин, взятый под знамена и поразивший
своей наивностью и глупостью кого-то из этого круга ав-
торов, но личная судьба которого, знаменательная лишь
своей банальностью, для нас совершенно не интересна.
Что нас, напротив, очень интересует и что действитель-
но глубоко запало во французскую национальную память,
хотя и было, кажется, совершенно подавлено, так это то,
о чем он рассказывает, и то, что он собой олицетворяет.
Французский солдат, сын неизвестных
тружеников...
То, о чем он рассказывает,— это его крестьянская пре-
данность родине и готовность к войне. То, что он олицет-
воряет, — это очень старый миф, восходящий к библейс-
кой традиции, но особенно типичный для римской древ-
ности, вновь открытый и ре актуализированный в прогрес-
систском порыве Просвещения, а именно, миф о Солда-
те-труженике, самой крайней, самой современной, самой
популярной и самой «французской» версией которого он
предстает во всем своем «галльском» раблезианстве.
До сих пор игнорируемый исследователями несмотря
на его вездесущность, Солдат-труженик (солдат с боль-
шой, а труженик — с маленькой буквы) — это первый ве
ликий коллективный плебейский герой, рожденный эпо-
хой модернизма. И в этом смысле он отчасти является
предком пролетариата (например, благодаря песням Деб
ро, Беранже, а затем Пьера Дюпона, но прежде всего бла-
годаря «Народу» Мишле), но также предком политичес-
кого солдата тоталитарных, фашистских и нацистских
режимов. Прежде чем прочно слиться с рабочим клас
сом, идея «народных масс» рождается и развивается во
Франции вокруг крестьянства.
204
Основатель парадигматической общины тех счастли-
вых времен, когда, как писал Верто в 1719 г., «первые рим-
лине все были тружениками и все труженики были сол-
датами»30, в этот золотой век гражданственности, с кото-
рым идентифицировала себя революционная Франция,
(’олдат-труженик является бледным носителем более глу-
боких символов. Он продолжает, например, образ цик-
лического превращения воинской стали (шпаги) в орудие
земледелия (лемех плуга) и vic a versa — образ, следы ко-
торого обнаруживаются в «Георгиках» Вергилия31 и еще
раньше в Библии32. Полностью забытый, начиная от сред-
них веков и кончая периодом упадка Старого Порядка,
он вновь оживает под пером просветителей, как антитеза
коррупции двора, городов и монархического деспотизма,
навеянная Вергилием. Наконец, он покрывает себя сла-
вой в войнах Революции, и его зрелость воплощается в
наполеоновском гвардейце — читай, в самом императоре,
пред ставленном с лопатой или плугом в руках во время
сто изгнания на Святую Елену сначала Лас Казеса и док-
тором Антомарчи, а затем литографами33. Наконец, пос-
ле многочисленных литературных и театральных заим-
ствований (Франкер, Франция, Доблесть, Пьер Жиберн),
ин закрепляет за собой облик Шовена — «французского
<олдата, сына неизвестных тружеников», как он сам гово-
рит о себе в «Осах» в 1840 г.
Мелкий собственник, трудолюбивый патриот-произво-
дитель, он является антиподом как идиллическому пас-
туху Старого Порядка, так и средневековому рабу или
пземному сельскохозяйственному рабочему. Классический,
Abbe de Ver tot. Histoire des revolutions arrivees dans le gouvememenl de la
Ufjmblique Romaine (1719): 2 vol. Avignon, 1810. Vol. I. P. 5.
11 Virgile. Georgiques. I, 508.
‘' Isaie, II, 4; Joel, 111,10.
” См. напр.: Le Jardinier de Saint-Helene, de Frey: 1829 // Bibliotheque
ti.it lonalc, Estampes, Ef217. Collection de Vinck. N 9785 и интересный
комментарий к ней: Rosset А.-М. Invenlaire de la collection de Vinck. Vol. V.
I .i Kesiauration et les Cent-Jours. P. 272.
205
но прогрессистский и полностью принадлежащий эпохе
модернизма, он абсолютно лишен затаенной ностальгии
по средневековью романтических героев, или героев эт-
нических, воплощавших кельтские или германские кор-
ни. С этой точки зрения, он совершенно оригинален, и
эта смесь прогрессизма и римской классической древнос-
ти делает его абсолютно французским. Солдат-труженик,
персонифицированный в Шовене или нет,— это плебей-
ский герой, базовое основание демократии в армии, дис-
циплинированной и доблестной. Историческая, литератур
ная и моральная отсылка, вскормленная идеями агроно-
мов и физиократов, обретшая особую актуальность бла-
годаря Руссо, для которого «истинная выучка солдата
состоит в том, чтобы быть тружеником»34, Солдат-труже-
ник получает своих первых теоретиков в конце XVIII в.
«Общие заметки о тактике» Жиббера (1772) и «Солдат-
гражданин» Сервана (1780) — доктринальные разработ
ки, имевшие большой успех (Вольтер назвал «Опыты»
Жибера «работой гения», а Серван станет военным мини-
стром в 1792 г.), быстро стали предметом многочислен
ных попыток внедрения их в практику. Проекты поселе-
ния солдат Конвента, начиная с 1803 г. отчасти реализо-
ванные в малом масштабе и без большого успеха Напо
леоном в его колониях ветеранов в Пьемонте и Ренани35,
являются предками того, что Бюжо попытается создать в
Алжире.
Но этот образ подхватывает легитимистская пропаган
да 1820 г., создавая вокруг него поразительный консенсус
от якобинских крайне левых до ультрамонархистов че-
рез бонапартистских левых и утопических социалистов.
Он образует единение вокруг своей персоны и начинает
34 Rousseau J.-J. Projet de constitution pour la Corse, Oeuvres completes. Paris:
Gallimard, Bibliotheque de la Pleiade, 1975. P. 905.
35 Об этих бонапартистских колониях солдат-тружеников см.: Wo
loch Is. The Trench Veteran from the Revolution to the Reslauration. Chapel Hill:
University of North Carolina Press, 1979.
206
воплощать собой глубинно крестьянскую и военную сущ-
ность Франции, в которой больше не сомневается никто,
кроме отдельных отвергнутых обществом маргинальных
провокаторов, таких, как Бодлер.
При Реставрации и Июльской монархии, параллельно
воплощению в гравюре, песне и театре, тема Солдата-
труженика обретает множество способов выражения,
которые не являются чисто литературными или арти-
стическими. Миф переживается в военных и аграрных
ритуалах, из которых самыми типичными являются аг-
рарные «комиции», основанные в 1820-е гг. и постепенно
заполонившие всю территорию страны. Как видно из их
названия, вдохновленного римской античностью, «коми-
ции» имели патриотический, гражданский и нацио-
нальный характер. На этих праздниках, благодаря Фло-
беру обретших бессмертие в «Мадам Бовари», соеди-
нивших в себе элементы практического обучения, курсов
морали и нравственности и оргии, праздниках, одним
из первых организаторов которых был Бюжо, прославля-
ется прежде всего военная, а не сельская Франция, и в
них чаще участвуют солдаты, чем просветленные труже-
ники. Конкурсы пахоты, раздачи медалей животноводам
и достойным батракам проводятся в воинской униформе
и при знаменах, под звуки военных фанфар. Что касает-
< я речей нотаблей, то они отвечают милитаристской
пропаганде самого шовинистического толка. Послушаем,
например, подражающего Руссо в просвещении кресть-
инеких масс либерального депутата и председателя
Палаты Дюпена на аграрных комициях Сены и Уазы
7 июня 1835 г.: «Тот, кто лучше обрабатывает землю, луч-
ик' ее и защищает. Добрые труженики являются и луч-
шими солдатами. Тот, кто с самой ранней юности при-
ник спать на голой земле, охраняя стада, не почувствует
। гбя неудобно на бивуаке. Разя врага, он вспомнит свою
деревню, поле, которое он обрабатывал; и отслужив
* ное, он вернется оросить своим потом ту землю, за кото-
207
рую он пролил свою кровь. Слава Солдату труженику!»36.
По другую сторону политической шахматной доски
сильный голос Мишле звучит как отзвук голоса великого
буржуазного консерватора. Осуждая вместе с Туссенелем
космополитический, еврейский и англо-саксонский «фи
нансовый феодализм», национальный историк воспевает
в произведении «Народ», изданном в 1846 г., «великую
аграрную и военную Францию 25 миллионов», славя «этот
огромный легион крестьян-собственников и солдат, самую
прочную основу, которую когда-либо имело государство
со времен Римской империи», ту массу, которая и состав-
ляет для пего «народ». Описывая возвращение па свою
ферму воина из Алжира, возвращение Шовена, Мишле
ставит аграрный вопрос в тех же терминах, что и Дюпен:
«Вы хотите судить о наших крестьянах? Посмотрите на
них по возвращении с военной службы! Вы увидите, как
они, едва добравшись домой из Африки, без жалоб и
принуждения изыскивают самые благородные способы
для свершения своей святой работы, в которой состоит
сила Франции: я хочу сказать — в браке земли и челове
ка!»37.
Не удивительно, что тема Солдата-труженика, исходя
из этого доминирующего дискурса, проходит красной ни-
тью через большую часть проектов аграрных колоний нс
только ветеранов, но и сирот, пролетариев, делинквен-
тов, которые составляли главное в социальных размыш-
лениях того времени, а также и в большинстве социалис-
тических утопий, таких, как у Кабе, Консидерана, Анфан-
тина или у таких фурьеристов, как Туссенель. В своем
памфлете «Евреи, короли эпохи» этот последний так же,
как позже это будет делать его почитатель Дрюмон, про-
36 Dupin A. M. J.-J . Discours au Comice agricole de Seine-et-Oise, tenu d Grignon
le 7 juin 1835, издана в: Des cornices agricoles et en general des institutions
d'agnculture / A. Dupin. Paris: Videcoq fils ain£, 1849. P. 101.
37 Michelet J. Le Peuple. Paris: Flammarion; Champs. P 118, 89, 132, 90,
208
гивопоставляет социальному «паразиту», которым явля-
ется еврей, владелец предприятия или торговец, «полез-
ного труженика, рабочего почвы, обладателя того зало-
га, ценность которого неоспорима»; он мечтает об «ар-
мии производителей», подчиненных казарменной дисцип-
хине — основной доблести будущего мира38.
Воображаемые или претворенные в жизнь, эти коло-
нии в основном организуются по военному образцу, по
подобию самой престижной из них, а именно Метрэ39.
Колонизация Алжира, возможность оттока для бедного
и нежелательного населения, открывает новые горизонты
>тим проектам, которые, от самых консервативных до
самых революционных, стремятся реализовать один и тот
/ко идеал. В это движение вписывается опыт деревень-
коммун Солдат-тружеников, основанных Бюжо, генераль-
ным наместником Алжира, чьи методы военно-аграрной
колонизации получили поддержку фурьеристов и Конси-
дерана. К тому же маршал видит себя живым воплоще-
нием мифа. «Я никто иной, как Солдат-труженик»,— на-
писал он Палате 21 апреля 1832 г. Став герцогом д’Исли,
он выбрал для своего герба шпагу и лемех, а девизом —
Inso et arato.
Все эти планы, все эти военно-аграрные колонии име-
хи одну главную цель: уменьшение нищеты и преступно-
сти и установление социального мира — самые большие
прогрессисты видели в этом реализацию на земле иде-
альной гармонии, такой, какой ее описывает утопия.
В равной степени на преимущественно аграрном харак-
гере Франции основывается самый знаменитый из проек-
гов филантропической колонизации, а именно Луи На-
полеона Бонапарта. В своих эссе «Уменьшение нищеты»,
w Toussenel A. Les Juifs, rois de Vepoque// Histoire de la feodalite financifere.
I’.iris: Libraries de L’Ecole societaire, 1845. P. 105, 276.
19 Об аграрной колонизации см., наир.: Huerne de Pommeuse L. F.
lh \ colonies agricoles el de leurs avanlages. Paris: Imprimerie de M-me Huzard,
IM32.
209
или «Идеи Наполеона»40, напоминая о том, что агрикуль-
тура была для Наполеона «душой, базой империи»41, бу-
дущий монарх развивает идеи о способах укоренения про-
летариата на земле. Благодаря системе аграрных коло-
ний, организованных на военный манер, доблестная на-
ция, построенная в полки и готовая к массовым войнам,
столь характерным для современности, создаст единый
фронт против «феодализма денег»42, который он осужда-
ет вместе с Тусенелем и Мишле.
В 1848 г. Солдат-труженик завоюет симпатии крайне
левых. Феликс Пиат, депутат-социалист департамента
Шер, в обращении к крестьянам, многократно переиздан-
ном и опубликованном в «Сельском республиканце», из-
бирательном листке Эжена Сю, восхваляет «людей пахо-
ты», «истинных сыновей почвы», обладающих укоренен-
ной в самом естестве «религией отчизны и свободы», лю-
дей, у которых «ненависть к королям» соединяется с «лю-
бовью к родной стране». Пиат славит само слово «кресть-
янин», открывая свою речь его определением-литанией,
доходящей до прямого петенизма (Петен повторит его,
насытив до предела): «Крестьянин — это имя патриота по
преимуществу, оно означает уроженца земли, обраба-
тывающего ее, и ее защитника». И в качестве заключе-
ния, в точности так же, как и его противник Дюпен, он
выбирает амальгаму солдата и труженика: «Слава солда-
ту! Слава труженику! Дважды слава крестьянину!»43. В
то же самое время Пьер Жуано, рабочий-депутат от округа
10 Lois Napoleon Bonaparte. Oeuvres: 3 vol. Publiees par M. С. E. Temb-
laire. Paris: Librarie napoleonienne, 1848.
11 Des idees napoleoniennes (1839) // Idem. Vol. I. P 240.
42 Extinction dupauperisms (1844)// Idem. Vol. II. P. 266.
43 Pyat F. Aux pay sans de la Erance, discours prononce au banquet du 24
fevrier 1849, anniversaire de la proclamation de la Republique // Pyat E Le
Mans / Imprimene de J. Tousch, V. Labbe, L. Beaudoire et C, 1849, et Paris,
Bureau de la Propagande, 1849, издана в: Le Republicain des campagnes:
Nouvelle edition. E. Sue, F. Pyat, P Joigneaux, V. Schoelchcr, P. Dupont. Paris:
Librairie de la Propagande democratique et sociale, 1851. P. 61-64.
210
Кот-д-Ор в 1848 и 1849 гг., основатель «Деревенского лис-
тка» (1849-1851), обращается к своим «братьям по дерев-
не», чтобы проповедовать наступление «республики крес-
тьян, демократической и социалистической»44, что вновь
появится в речах Гамбетта в 1870 г. Пьер Дюпон пишет
свои «Песни крестьян» и «Песни солдат», которым он обя-
зан своей популярностью. Эти названия позаимствует Де-
рулед для своих двух главных сборников. Крестьяне и
солдаты смешаны там в республиканском перерождении,
из которого Солдат-труженик вновь выйдет триумфато-
ром в атмосфере 1893 г.:
Солдаты, горожане, посмотрите-
Под вашими знаменами крестьяне
С серпами, с вилами сельчане,
Вы вместе с ними в бой идите45.
Итак, когда значительное число республиканских ли-
деров 1848 г. после 2 декабря было осуждено на изгна-
ние, из которого они не вернутся до 1870 г., бережливый
Пьер Дюпон опубликовал «Сельский и военный альма-
нах Жана Посте», полностью посвященный прославлению
Солдата-труженика, где «Крестьянин Франции» предста-
ет точно таким же, как в петеновском дискурсе, «хоро-
шим супругом, добрым отцом семейства», «уравновешен-
ным в своих суждениях, простым и чистым в своих нра-
вах и таким же трудолюбивым, как его быки». Первый
среди французов, рожденный от самой земли, «дитя по-
чвы, он платит свои налоги, он защищает родину, и он
кормит весь мир»46.
44 Joigneaux Р Л mesfreres des campagnes I I Le Republics in des campagnes.
P. 68.
45 Dupont P. Le Chant des paysans. Paris: I’auteur, 1849. Издана в: Le
Hepublicain des campagnes. P. 85.
46 Id. J. GueLre. Almanack des paysans, des meuniers et des boulangers, pour
1854. Paris: J. Bry aine, 1853. P. 15-16. Издание 1860 г. «Almanach de Jean
Guest гё, Rustique et guerrier» (1859) имеет девиз Бюжо «Ense et arato».
211
Из-за такого аграрного засилия этого образа в револю-
ционном дискурсе, где античные символы добродетели
возрождаются на римский манер, консерватизм вскоре
откажется от него, но не ценой осуждения крестьянина, а
чтобы возвратиться к его облику эпохи Реставрации. Сол-
дат-труженик, прокричав сначала «Да здравствует Рес-
публика!», затем «Да здравствует Император!» и затем
«Да здравствует Король!», теперь собирается стать, вмес-
те с аббатом Девуалем, солдатом Христа. Автор популяр-
ных романов, Девуаль отводит ему особое место в своем
творчестве. Он публикует в начале Второй империи це-
лую серию произведений, представленных как мемуары
одного такого Солдата-труженика по имени Матье Шар-
рю: «Мемуары старого крестьянина» (1851), «Письма ста-
рого крестьянина своим братьям-труженикам» (1852),
»Крестьянин-солдат» (1853). Наконец, он становится ав-
тором одного из первых романов об уходе в деревню от
городской цивилизации: «Плуг и касса, или город и де-
ревня» (1854), опередившего на многие десятилетия ро-
ман «Умирающая земля» Рене Базена.
Девуаль воспроизводит все темы Солдата-труженика,
которые встречаются в дискурсе социалистов 1848 г., до-
бавляя к ним еще и религию. Именно благодаря тому,
что он является христианином, Солдат-труженик Девуа-
ля может проявить моральные и военные доблести, полу-
ченные им от родной земли. Благодаря своей набожнос-
ти и попечительству сельских кюре, «класс аграриев спа-
сет Францию» — вот лейтмотив «Писем старого крестья-
нина». Матье Шаррю обращает в истинную веру и своих
братьев-тружеников: отвернитесь от социалистов, которые
предали вас в феврале, их цель — уничтожение собствен-
ности, следуйте лучше за вашими пастырями! И он при-
зывает сельчан объединиться против внутреннего врага:
«Вы образуете, если можно так выразиться, непробивае-
мую массу, схожую с теми каре солдат, против которых
оказываются бессильны батальоны врага. Труженики!
212
Труженики! Вы на страже!»47. Но эти военные доблести
крестьянина-католика совершают чудеса и против ино-
земщины. «Нет ничего более прекрасного, чем солдат-
христианин»,— пишет Девуаль про своего героя, который
н «Крестьянине-солдате» последовательно проходит те же
и апы инициаций, что и Шовен: паника при первом выст-
реле, героизм при втором, чин капрала ради того, чтобы
обрести наконец «цель всей моей жизни, спокойное суще-
(твование труженика»48.
При Второй империи Солдат-труженик занимает боль-
шое место в поэзии. И хотя сегодня Жозеф Отран, став-
ший членом Французской Академии в 1868 г., совершен-
но забыт, в свое время он имел колоссальный издательс-
кий успех. По мнению критика Понтмартена (1869), «в
ггчение последних 15 лет ни один поэт, за исключением
Виктора Гюго, не расходился в таком количестве экземп-
\яров», «Труженик и солдат», его самый известный сбор-
ник, «был распродан за 8 дней»49. За ним последовал дру-
гой — «Сельская жизнь», разошедшийся, по словам Понт-
мартена, за 15 дней, и «Сельские эпистолы».
Отран — такой же консерватор, как и Пьер Дюпон. Его
ш‘сколько более литературный стиль, чуть меньше напо-
минающий частушки, ничего не меняет в этом, даже если
пн и был в действительности, по мнению Романа д’Ама-
। а, «поэтом обездоленных, поэтом-популистом прежде
нгего», который завещал начертать на своей могиле эпи-
1а(|)ию: Exaltavit humiles. В его поэмах идеальный образ
( олдата-труженика сочетается с яростной отповедью го-
родской и индустриальной испорченности. Это напоми-
*' Devoille A. Leltres (Тип vieux paysan aux laboreurs ses frere.s (1852) // Me-
...ires d’un vieux paysan suivis des letters d’un vieux paysan aux laboreurs
- s hi res. Paris: J. Vermot, 1859. P 212-215.
|H Charrue M. Le Paysan-soldat, episode de la Revolution et du Consulat
' I'nhl. par A. Devoille. Besangon: Cornu,1853. P. 382
Pontmartin A. de. Nouveaux Samedis. Paris: Michel Levy freres, 1870.
U| Vll. P. 93.
213
нает проповедь Девуаля, чью веру он разделяет, хотя и с
меньшей воинственностью. Это глубоко шовинистическая
поэзия, в которой крестьянин предстает прежде всего сол-
датом, служит прославлению Крымского похода и пат-
риотического единства построенной в шеренги нации:
Любите Францию! Любите эту землю, на которой мы живем,
Страну, всегда столь богатую силой и страстным задором,
Величием которой всегда будет восхищаться весь мир.
Счастлив тот, кто держит в руках шпагу или плуг,
Наблюдая рост своей славы или своего достояния!
Я обладаю, хвала Господу, обоими этими благами.
Я, труженик зеллли, по которой я прошел солдатом! 50
После катастрофы 1870 г., когда вновь оживает тема
«республики крестьян», карьера Солдата-труженика во
зобновляется. Переиздается «История крестьянина, 1789-
1815» Эркмана-Шатриана, фиктивная республиканская
биография Солдата-труженика, впервые опубликованная
около 1868 г. Затем Дерулед, как и Пьер Дюпон в 1848 г.,
сливает «Песни крестьянина» и «Песни солдата» в единое
послание. Крестьянин, идеальный воин («О раса, славная
боями, Ты телом крепкая, с возвышенной душой») еще
раз проходит шовинистическое крещение огнем:
Случайно лишь при первой схватке
Стреляет он, но во второй
Он целит метко, наступает,
Ведет с врагом бесстрашный бой!
Абсолютный патриот, героический солдат и кормилец
страны, крестьянин в армии — это и лучший посредник
для примирения классов и партий:
Во Франции, где все разобщены,
Какой другой француз своим девизом
Возьмет слова, идущие от сердца:
Один за всех, и все за государство-
Лишь солдат51.
м Autran J. Laboureurs el Soldats: 2-e ed. (1854). Paris: Michel Levy frercs,
1854. P. 28.
51 Deroulede P. En route //Chants du paysan (1894). Paris: Faya rd, 1908. Pill
214
()бъединяющее примирение еще появится у Барреса в
«•динении французов «лесной, аграрной и винодельческой
расы» по воле Земли и Мертвых, реализуемом не только
и реваншистской войне, но также и в очередной раз внут-
ри страны, в «борьбе земли и расы против финансового
феодализма»52.
Накануне первой мировой войны Жюль Мелин, быв-
ший министр сельского хозяйства при Жюле Ферри, отец
протекционистского тарифа, носящего его имя, и автор в
1885 г, ордена «За заслуги перед сельским хозяйством»,
< копированного с военного ордена Почетного легиона, пуб-
М1кует свое «Возращение к земле». У Мелина, ученика
Руссо и Мишле, как и у Девуаля и Отрана, городская,
индустриальная и коммерческая испорченность Франции
вызывает отвращение. Перед лицом моральной и физи-
ческой деградации спасение общества и расы заключено
и возвращении к земле. Необходимо срочно, пишет Ме-
нш, создать «армию мелких собственников, которые бу-
дуг для Франции неисчерпаемым резервом силы и несрав-
ненным гарантом социального и политического равнове-
( ия»53.
Эта идеальная Франция солдат-гружеников, вскоре в
траншеях показавшая, на что она способна, рассматрива-
ется Мелином как демонстрация совершенства его систе-
мы. Прежде чем основать крестьянскую, независимую,
। ильную, патриотическую и воинственную нацию своей
мечты, он считает как никогда важным сделать возвра-
щение к земле всеобщим. Это становится целью истинно-
го крестового похода. Например, в «Спасении благодаря
|гмле» — работе, которую он публикует в 1919 г.,— он по-
меняет свой проект поднять «аграрную армию» с помо-
щью «мобилизации» «сельскохозяйственных солдат», «свя-
,2 Barres М. Scenes el doctrines du nalionalismez 2 vol. Ed. definitive. Paris:
I’lnn, 1925. Vol. I. P. 97; Vol. II, P 180.
1,1 M eline J. Le Re tour a la Terre el la surproduction Industrie lie (1905): 3e ed.
r.nis: Hachette, 1905. P 218.
215
щенной фаланги», «полиса земледельцев», ради «новой
битвы», в которой эти «воинские части» будут участво-
вать и которая, конечно, приведет их «к победе»54. В этот
крестовый поход Мелин выступает не один. Его сопро
вождает толпа авторов-аграриев и патриотов55, поклон-
ников Рене Базена. В этом последнем, благодаря его ро-
ману «Мертвая земля», он видит спасителя литературы,
больной гангреной порнографии. Рене Базен и сам пуб-
ликует в 1916 г. два других произведения, славящих Сол-
дата-труженика: «Сегодня и завтра» и «Французское село
и война» — пламенные призывы вернуться к земле.
Такова общая атмосфера, которая предшествует цере-
монии захоронения Неизвестного солдата 11 ноября
1920 г., приуроченной к празднованию пятидесятилетия
Республики и переносу сердца Гамбетта в Пантеон. На
неделе, предшествующей церемонии, республиканский ис-
торик Габриель Аното печатает в «Иллюстрации» текст,
озаглавленный «1870-1920». Это хвала священному союзу,
венчающая пятидесятилетие Республики. Если Франция,
проигравшая войну в 1870, выиграла ее в 1918 г., то это
потому, пишет Аното, что сражалась, наконец, не только
армия, но и вся нация. И если союз плодотворен, то это
потому, что «республика оперлась на глубинные слои стра-
ны», потому что, как это видели ее основатели Тьер и
Гамбетта, «эта большая демократическая Республика
была в основном республикой крестьян». Они воплоща-
ют в себе на самом деле физическую силу и смирение,
мозолистые руки и соль земли. Эти грубые люди полей в
глубине своей души — воины, вот почему «при первых
54 Le Solid par la Terre el le programme economique de Cavenir. Paris: H ache tie,
1919. E 77, 218, 190, 81, 83, 226.
55 Harel P. Voixde la glebe. Paris: Л. Lerner re, 1895; Rollinat M. Paysages el
paysans. Paris: E. Fasquelle, 1899; Labat E. LAme paysanne. La Lerre, la race,
I’ecole. Paris: Delagrave,! 919; Caziot P La Terre a la jamille paysanne. Paris;
Libraric agricole de la Maison rustique, 1919; Pesquidoux J. de. Sur la glebe.
Paris: Plon-Nourrit, 1922; Auge-Laribe M. Le Paysan fran^ais apres la guerre.
Paris: Garnier, 1923.
216
звуках барабана поднимается парод древних воинов»,
благословенное соединение в душе француза солдата и
труженика делает его идеально приспособленным к этой
ситуации, «потому что эта война была делом земледель-
цев; она скрылась от самой себя в траншеи; своей землей,
людьми земли Франция защитила себя». Воспроизводя
идеи Мелина, Аното тоже призывает вернуться к земле и
обрести спасение от земли: потому что «этот крестьянин,
•>тот француз-воин стал типичным французом, францу-
зом — гарантом мира (...) Это и есть Франция — сильная,
спокойная и могучая, та, которая победила и после побе-
ды вернулась на свои поля».
Зрелище организованного Дийи огромного кортежа, со-
провождавшего вечером 11 ноября при свете факелов ос-
танки Неизвестного солдата в их последнее убежище, яв-
ляется истинной попыткой сценического воплощения это-
го мифа. Позади всадников, велосипедистов и такси Га-
льени и впереди танка французских колоний Франция
представлена процессией деревенских символов, в окру-
жении которых выступает танк Эльзаса: в гуще лавро-
вых венков и роз, колосьев и виноградных лоз, украшен-
ный петухом и цветами Франции танк, превращенный в
сельскохозяйственный трактор (этакое превращение шпаг
в лемехи, приноровленное к индустриальной эпохе). Розы,
пшеница, шпаги, перекованные на лемехи — вся символи-
ка шовинизма, такая, какой она проступает в песнях, во-
девилях и на гравюрах Реставрации, собрана здесь в кон-
центрированном виде и воплощена в шествии, коннота-
ции которого делают поверхностными все возможные
комментарии56.
Работа, Семья, Отечество, культ военной дисциплины
и командира, шовинистическое восхваление Солдата-тру-
женика через Мелина и его эпигонов открывают прямую
дорогу Петену и его последователям. На самом деле, глав-
Dessins reproduils dans // L’ Illustration. 13 no ve mb re 1920. N 4054. P 360.
217
ное в программе маршала будет состоять в попытке ре-
ализовать по случаю новой национальной катастрофы
проект Мелина и создать с помощью «Национальной ре-
волюции» истинную Францию, а именно — Францию Сол-
дата-труженика. Лучшее описание программы сохрани-
лось в тексте речи, которую Петен произнес 17 ноября
1935 г. в Арьеже, во время торжественного открытия «па-
мятника погибшим крестьянам» работы Капуле-Жюньак.
Все экстремистские заявления во славу земли вдохновля-
ются этой речью, воспроизводя из нее, иногда дословно,
целые параграфы. Для Петена тоже, поскольку он лишь
продолжает, как мы видим, длинную традицию национа-
листического дискурса, не признающего барьеров партий-
ной принадлежности, добродетели крестьянства (страст-
ная любовь к своей земле, терпение, выдержка в борьбе,
целеустремленность) «те же, что и у истинного солдата».
Солдат-труженик надежен и «выполняет свой военный
долг с той же спокойной уверенностью, что и свою рабо-
ту пахаря». Всегда деятельный, «что бы ни случилось, и
где бы он ни был, он смело смотрит в лицо обстоятель-
ствам, он выполняет свой долг». Франция — это он. Сол-
дат-труженик — это тот, «кто защитил ее своим героичес-
ким терпением, тот, кто обеспечивает ей ее экономичес-
кую и духовную стабильность», он «источник ее мораль-
ных сил», потому что «он черпает их из самой почвы оте-
чества»57. Таковы постулаты, исходя из которых Петен
может воскликнуть в 1940 г.: «Земля, она не лжет. Она
остается вашим прибежищем. Она и есть сама родина»58.
Наряду с Сюлли и Оливье де Серром, переизданию
«Театра агрикультуры» которого в 1941 г. предпослан
текст речи Капуле-Жюньяка, петенская литература сла-
57 Marechai Ре lain Р. Discours d’vtau^uralum du monument aux Moris paysans
de Capoulel-Juniac, du 17 novembre 1935, полностью воспроизведена в:
Germain J. Noire chef Petain. Paris: La technique du livre, 1942. P. 181-182.
58 Discours du 25 juin 1940 // La doctrine du Marechai classee par themes.
Paris, 1943. P 94.
218
нн г Бюжо, Солдата-труженика по преимуществу, посколь-
ку образ маршала соединяет в себе шпагу и плуг. Воспе-
вание образа Эпиналя де Бюжо становится идеальным
поводом для того, чтобы вспомнить «и другого марша-
ча». Старый служака, гордый своими сельскими корня-
ми, Петен, «маршал-крестьянин», в который раз олицет-
воряет Солдата-труженика. Именно Петен станет после-
дним из его перевоплощений, предел которым положит
бесчестие. Фундаментальный миф, обрушившийся под
бременем позора, теперь полностью вытеснен нацио-
нальным сознанием. Солдат-труженик, забытый, игнори-
руемый, как бы распавшийся образ, вытравленный из
памяти, коллекций и музеев, исчез так же, как и сами
портреты маршала, украшавшие в свое время каждую
жалкую лачугу.
Завещание Шовена
Рассматривая Солдата труженика, идеально персони-
фицируемого Шовеном, как фундаментальный миф, мы
используем это понятие в самом точном смысле слова, а
именно, резюмируя известные определения Дени де Руж-
мона, Мирчи Элиаде и Леви-Стросса как дидактическое
повествование, которое выражает глобальные матрицы
повседневной жизни и для которого проблема авторства
не имеет значения. Эти образы, несущие большую эмо-
циональную нагрузку, раскрываются в сакральных мис-
териях. Точно таким же путем, каким миф выполняет
( вою функцию, он предписывает формы поведения и от-
ношения, которые обеспечивают единство группы.
Приключения Шовена, повторяющиеся и взаимозаме-
няемые, рассказы стариков или переживания молодых
вояк позволяют с помощью самих происходящих в них
перипетий уйти от превратностей повседневности и слить-
ся со Временем Начал. Для республиканцев и бонапарти-
стов вернуться ко Времени Начал тем привлекательнее,
чем оно ближе: это революционный разрыв 1789 г. с по-
219
зорным историческим прошлым, разрыв, окруженный
нимбом военных побед Революции и Империи. Эта сла-
ва, эпизодически пережитая в Испании, Греции, Алжире
или Крыму, с 1815 г. и вплоть до первой мировой войны
составляет мессианское начало идеи реванша. Реакцио-
неры приписывали сходную роль Генриху IV, умиротво-
ряющему и примиряющему завоевателю, который благо-
даря Сюлли являлся вождем аграрной Франции. Этот
персонаж, созданный пропагандой эпохи Реставрации,
потрясает даже при сравнении с уникальным образом
Наполеона. Для правых, как и для левых, мифическая
фигура Солдата-труженика, преодолевающего все поли-
тические размежевания, уже сама по себе есть залог спа-
сения.
Чтобы слиться со Временем Начал, надо следовать оп-
ределенным правилам поведения, а именно, прибегнуть
к той или иной магической формуле. Поэтому миф о
Солдате-труженике диктует специфические представле-
ния, и поэтому воплощающий этот миф Шовен, далекий
от того, чтобы быть карикатурным персонажем, являет-
ся, используя формулу Миклоса Мольнара, «культурной
моделью поведения». Произведение искусства и литера-
туры, культурная модель поведения в меньшей степени
является отражением реальности, чем идеальных пред-
ставлений о том, что такое власть или партия, и даже
еще более запутанных представлений о том, какими хо-
тело бы их видеть общество59. Согласуясь с реальными
или идеальными правилами, предписаниями или исписан-
ными законами общества, культурная модель «успешно
делает» свою карьеру и получает от общества необходи-
мые ей компенсации. Таков случай Шовена, который ока-
зывается даже в большей степени, чем героем или фана-
тичным патриотом, абсолютным конформистом. Идеаль-
59 Molnar М. Le models cullurel slalinien // Cahiers Vill'redo Pareto. Geneve:
Droz, 1981. Vol. XIX. P. 101-113.
220
но подходящий для легитимизации иерархических струк-
। ур армии (счастье и свобода для него заключаются в по-
киповении приказам), он не менее подходит и для оправ-
дания самопожертвования в массовой войне.
Лучшее воплощение «пушечного мяса» (образ, как это
показывают Шатобриан и Шарле60, возникший при Им-
перии), Шовен прекрасно адаптируется как к возвраще-
нию к плугу, так и к потребностям производительности,
превращенных буржуазным обществом в догму. Его
< кромные таланты с лихвой оплачиваются славой и чи-
пом капрала или сержанта, цену которого он понимает и
которым даже кичится. Плебейская модель, доступная
всем, даже последнему кретину, поскольку сам Шовен
гоже придурок, в годы Реставрации и Июльской монар-
хии постепенно проникает благодаря изображениям, пе-
( гикам, книгам и повседневному чтению в дискурс тради-
ционной морали. Уже такие морализаторские рассказы,
как «Симон де Нантуа» (1818) и «Пьер Жиберн» (1825)
Жюссье, на которых воспитываются школьники и солда-
ты, благодаря своим шовинистическим коннотациям при-
нносят военно-аграрную ноту, изменяя максимам Бенжа-
мина Франклина и тем самым приспосабливая свое по-
слание к нуждам французского общества.
Итак, какова же, наконец, глубинная и самая важная
функция шовинистического дискурса? В ряде гравюр,
«Уже дошли до того предела презрения к человеческой жизни и
но Франции, что называют новобранцев “сырьем” и “пушечным мя-
< ом”,— писал Шатобриан по поводу армий Наполеона, вспоминая «тех
несчастных, вытащенных из своих лачуг еще до того, как они достиг-
mi возраста мужчин (..брошенных как пушечное мясо в самые опас-
ные места, чтобы вызвать на себя огонь врага» (Melanges poliliques el
I tile mires // De Bounaparte et. des Bourbons (30 mars 1814). Paris: Firmin-
Didoi, 1857. P 179, 186). В 1838 г. ультрамилитарист и бонапартист
Шарле в незаконченном предисловии к своей «Гражданской, полити-
ческой и военной жизни капрала Валентина» напишет про своего ге-
рои: «Этот тип человека называется на поле боя куском мяса потому,
что благодаря таким, как он, насыщается огонь противника». Цит. по
книге полковника де Ла Комб: La Combe de. Charlel, sa vie ses lellres. P 119.
221
стихов и песен, воспроизводящих тему многих знамени-
тых картин, одна из которых принадлежит кисти Гора-
ция Верне61, история Солдата-труженика позволяет пере-
жить невыразимую мистерию, которую он обнаруживает
как бы по недосмотру, посредством туманной аллегории,
как это и свойственно мифу. Эта мистерия состоит в сак-
ральном характере почвы родины, плодородный слой ко-
торой состоит из трупов героев, извлекаемых из земли
лемехом плуга. Вдохновленная еще «Георгиками»62, эта
сцена, воспетая, нарисованная, выгравированная, изваян-
ная, становится в новом контексте главным и самым силь-
ным образом природы, животворящей, священной, непри-
косновенной родной почвы. Солдат-труженик вступает в
привилегированные отношения с этой августейшей и свя-
щенной землей благодаря тому, что он — и только он
один — оплодотворяет ее своим потом и своей кровью.
По выражению Пескиду, употребленному им во время
принятия его в члены Французской Академии 27 мая
1937 г., на самом деле земля Франции «олицетворяется
своим крестьянством», она сама есть плоть труженика, и
61 В 1818 г. Пьер Рош Випьерон нарисовал картину «Солдат-труже-
ник», а в 1820 г. Орас Верне, в свою очередь, занялся этой темой. Его
картина, сегодня давно забытая, по мнению критика Поля Манца, «име-
ла больший успех, чем любая картина Гро»: EArlisLe. 22 novembre. 1857.
Р. 179 (article «Нотисе Vemel»). Масса литографий, гравюр по дереву и
этикеток ликеров была вдохновлена этим шедевром.
62 Vergile. Georgique. I. La labourage. Аббат Делиль, самый известный
лирический поэт XVIII в., дал этому пассажу следующий перевод, ци-
тировавшийся несчетное количество раз в качестве литографической
легенды Солдата-труженика:
Однажды пахарь в этих бороздах,
Где спят останки воинов отважных,
Задевши лемехом их древний прах,
Найдет в зеллле их ржавое оружье.
Уловит слух их барабанов бой,
Но глаз узрит лишь кости пред собой.
Delille A. J. Les Georgiques de Virgile (1769). Oeuvres completes. Paris:
Fermin-Didot, 1865. P 320.
222
наоборот. Эти образы, одновременно изначальные и очень
актуальные, появляющиеся около 1820 г., отсылают к ан-
тичным источникам, способным своим престижем обес-
» мертить память о недавней истории, будь то травмирую-
щее событие при Ватерлоо или вторжение союзников во
Францию63. И в памяти эта история соединяется со струк-
турами мифа. Мы наблюдаем здесь образование субстра-
та уже не локального, но национального фольклора, со-
храняющего неясный племенной характер, «нулевую сте-
пень», первичный материал для более проработанного и
когерентного дискурса, как, например, у Барреса и Мо-
раеса, рационализируемого и трансформируемого в на-
ционалистическую идеологию, связанную мистическими
и биологическими узами с Землей и с Мертвыми.
Наконец, функция мифа состоит также в том, чтобы
предохранять единство группы, объявив об ее истоках и
об се исконной природе. Миф закладывает основы обще-
ства и сохраняет их едиными силой своих предписаний и
ритуалов. Солдат-труженик Шовен является носителем
мечты о национальном примирении, об исчезновении ан-
тагонизмов классов и партий, достигнутых благодаря вос-
хвалению земли, военных доблестей и ненависти к чуже-
земному. Это и есть то, о чем он повествует своей истори-
ей и что идеально выражено на гравюре Шарле, где ста-
рый солдат разнимает двух молодых, готовых драться на
дуэли. «Мы же все здесь французы, Шовен, поэтому мож-
но уладить любое дело»,— говорит одному из них старый
глужака. Фраза, взятая из водевиля, осталась знамени-
той, даже когда было забыто, откуда она взялась, и она
будет повторяться на протяжении всего века, часто с гор-
достью, но иногда с жалящей иронией. Так, Луи Ребо
вложит ее в уста своего карикатурного торговца Жерома
(И Специальный анализ понятия «травматическое событие» и его
влияния на ментальность см. в работе: Friedlander S. Memoire collective el
t (tenements traumaliques: le cas du nazisme (en preparation).
223
Патюро, запутавшегося в похвале протекционизму и
«ф-р-р-ранцузской шерсти»'4.
Образ родины и одновременно модель поведения, в
которой обнаруживаются формирующиеся национальные
стереотипы, Шовен олицетворяет собой миф, значитель-
но превосходящий маштабы его личности. Носитель мо-
рального и культурного регресса, скрытой яростной ксе
нофобии, расизма и сексизма, запятнанный петенизмом,
которого никогда не смоет никакая насмешка, он оказы-
вается изгнанным из избирательной национальной памя-
ти французов, чьим нелепым и знаменитым порождени-
ем он был. Но он не исчез бесследно. Случайный образ,
психологическая реакция или явно абсурдный политичес-
кий лозунг рождают смутное воспоминание о чем-то дав-
но забытом и внезапно возвращает нас к чему-то друго-
му, к нашему неосознанному, к эху крикливого Солдата-
труженика, мрачный голос которого является — иногда —
голосом Франции.
w Reybaud L. Memoires de Jerome Paturot, patente, electeur et eligible: 2 t. on.
Bruxelles: Moline, Cans et C, 1843. Vol. 1. T. I. P. 234.
Мишель Винок
ЖАННА Д'АРК
«Было бы исключительно интересно проследить исто-
рию памяти об Орлеанской Деве в веках,— писал Ана-
толь Франс,— но для этого потребовалась бы целая кни-
га». В самом деле, задаться вопросом о том, каким изме-
нениям подверглись воспоминания о Жанне д’Арк после
гс казни в Руане, означает принять в расчет огромную
массу образов и текстов, посвященных ее славным деяни-
ям, се процессу — или, точнее, ее процессам (осуждение,
реабилитация, канонизация) — и ее смерти. Одного визи-
та в центр Жанны д’Арк в Орлеане, основанный в 1974 г.
Режин Перну по инициативе Андре Мальро, центр, по-
ставивший своей задачей собрать все документальные
источники, посвященные нашей героине, достаточно для
того, чтобы убедить нас: размеры аналитического переч-
ня хотя бы только той массы материалов, которые собра-
ны, сохранены и классифицированы здесь (более 8 500
шмов, тысячи диапозитивов, сотни газетных подборок,
полнометражных фильмов), способны поставить в тупик
мобого издателя1. Уже исходя из этого, можно априори
। делать вывод о богатстве посмертной жизни нашего пер-
। о пажа: ее именем наполнены века. Точно так же ст епень
1 Центр Жанны д’Арк, улица Жанны д’Арк, Орлеан. Ассоциация
друзей центра Жанны д’Арк издает бюллетень (Bulletin), сведения из
многих номеров которого использовались в этой статье.
225
этого многовекового обожания можно оценить благода-
ря «Золотой книге Жанны д’Арк», опубликованной в
1894 г. Пьером Ланери д’Арк. Эта книга, которая не мо-
жет претендовать на то, чтобы быть исчерпывающей, со-
держит колоссальную библиографию — «продуманную и
проанализированную», но эта последняя вместо того, что-
бы охладить вдохновение авторов и художников, напро-
тив, скорее, стимулировала их интерес к сюжету, если
судить по количеству всего того, что было написано, на-
рисовано, изваяно, срифмовано, положено на музыку уже
после выхода в свет этого ценного каталога2. Жанна д’Арк
оставила свой след во времени благодаря бесчисленным —
грубым или утонченным — произведениям, вдохновлен-
ным ею, свидетельствующим хотя бы своим количеством
о том не знающем границ интересе, который вызвала ее
жизнь и смерть3.
Бегло остановимся на всеобъемлющем характере этих
репрезентаций — литературных, артистических, истори-
ческих, прежде чем задаться вопросом об их направлени-
ях, их изгибах и противоречиях. Каждый французский
гражданин в определенный момент своей жизни узнает,
как бедная девушка из Домреми, которой ничто не пред-
вещало первых ролей, вошла в число немногих избран-
ных великих, оставивших неизгладимый след в истории,
повлияла на ход исторических событий и избежала заб
вения. Память о ней сохранялась и в хижинах, и во двор-
цах, питаемая бесчисленными истоками — от самых воз-
вышенных до самых тривиальных. С самых юных лет
ученики и светских, и церковных школ от учителей узна-
2 Более современную критическую библиографию см.: Desfour-
neaux М. Jeanne d'Arc apres cinq siecles I I Bulletin de I'lnslilut Jran^ais en Espagne.
1954, novembre. N 39.
3 Речь идет только о памяти о Жанне во Франции, но важно отмс-
тить и тот интерес, который вызвала героиня из Лотарингии во мно
гих других странах, особенно в Англии и, может быть, еще в большей
степени в Германии.
226
пали о потрясающем приключении, которое привело эту
крестьянскую дочь под стены Орлеана и в Реймский со-
бор. Начиная с XIX в., расцвет жанра «Историй Фран-
ции» способствовал знакомству французов с «доброй жи-
тельницей Лотарингии»: Сисмонди, Анри Мартен, Миш-
ле, Теофиль Лавале, братья Риансе, Виктор Дюрюи,
'Эмиль Келлер, наконец, Лависс среди многих других при-
няли участие в восхвалении героини4. Для более узкого
круга читателей рассказ о ней, запечатленный с помощью
учебника и ставший общеизвестной историей, был допол-
нен чтением энциклопедий. Скептическая энциклопедия
Дидро была скупа на детали и уточнения, но более об-
щие работы следующего века друг за другом внесли свой
вклад в создание легендарного образа Орлеанской Девы.
«Словарь» Барбье (1820), «Исторический словарь» Фел-
лера (1781 и 1832), «Всеобщая биография» Мишо и Пужу-
ля (1818, 1837, 1861, 1873, 1884), «Исторический и библио-
графический словарь» Пенъо (1821), «Национальный сло-
варь» Бешреля (1846, 1853, 1875, 1881) открывают череду
тысяч работ, организованных по общему алфавитному
принципу, где приключения и страдания Жанны д’Арк
излагаются для публики самого разного возраста и ран-
ней семейной традиции, адресуются как либеральному и
республиканскому читателю «Большого универсального
с ловаря XIX века» (1870), так и католическому читателю
«Универсальной энциклопедии XX века» (1904)5.
Кроме этих более или менее общедоступных инстру-
ментов мемориализации, память о Святой Отечества —
два существительных, примиряющих Францию католи-
ческую и Францию республиканскую,— распространялась
4 См.: Krumeich G. Jeanne d’Arc dans les Histoires de France au XIX siecle:
( л inference dactylographiee, Inslitut philosophique. Allemand, 1982. Более
подробно см. диссертацию этого же автора: Jeanne d'Arc in der Geschichle:
I/isloriographie—Polilik—Kullur. Sigmaringen, 1989.
5 Cm.: Jeanne d'Arc dans les ency elope dies francaises du XIXsiecle // Bulletin de
lAccociation des amis du centre (eanne-d’Arn. 1982. N 5.
227
многими другими способами. С первых дней существова-
ния кино эпопея Жанны д’Арк не сходит с экрана: Мель-
ес, Сесиль Б. де Миль, Дрейер (в исполнении несравнен-
ной Фальконетги), Марк де Гастин, Виктор Флеминг (мно-
гие поколения представляют себе Жанну д’Арк в соот-
ветствии с голливудским образом Ингрид Бергман), Жан
Делануа (на сей раз это была Мишель Морган), Роберто
Росселлини, Робер Брессон и достаточно неожиданно со-
ветский режиссер Глеб Панфилов наряду со многими
другими создавали и видоизменяли па экране историю и
легенду о «непорочной повелительнице». Но уже задолго
до этого драматическое искусство, сделавшее ее своей из-
бранницей, тысячи раз интерпретировало и реинтерпре-
тировало ее образ6. Уличные мистерии, благотворитель-
ные пьесы, драматическая поэзия а ля Пеги, оратории а
ля Клодель, бульварные комедии а ля д’Ануй, не говоря
уже об иностранных авторах — Шиллере, Бернарде Шоу,
Брехте и стольких других! Одним словом, театр внес нео-
ценимый вклад в мировую известность этой уникальной
личности. За триумфом Сары Бернар, сыгравшей в 1890 г.
в театре Порт-Сен-Мартен Жанну д’Арк в пьесе, сочинен-
ной ей Барбье в 1873 г. (дата первого успеха этого посред-
ственного шедевра), последовал новый триумф этой зна-
менитой актрисы, взявшейся сыграть в 1909 г., в возрасте
65 лет, роль Орлеанской Девы в «Процессе Жанны» Эми-
ля Моро! Музыка: Рейнхард Ансельм Вебер, Родольф
Крейцер, Вагнер, Джовани Пасини, Ференц Лист и, ко
нечно, Верди, чья лирическая драма в трех актах с либ-
ретто Солера была поставлена в Милане в 1845 г. Из бо
лее современных назовем симфоническую поэму Поля
Пьерне и лирическую постановку «Жанна д’Арк в Дом
реми» Макса д’Оллона, не забывая и об Онеггере, кото
рому принадлежит музыка к постановке Клоделя «Жан
6 См. в особенности: Soo ns J .-J .Jeanne au theatre, etude sur lapbus ancienne
tragedie suivie d'une lisle chronologique des oeuvres dramatiques dont Jeanne a fourni
le sujel en France de 1890 a 1926. Purmerand, 1926.
228
на д’Арк на костре». Все литературные жанры — истори-
ческая литература, эссе, художественная проза, биогра-
фии, поэмы внесли свой вклад в закрепление образа
Жанны в коллективной памяти. Кто только не писал о
пей, начиная от Франсуа Вийона до Алэна? Она, кажет-
ся, способна вдохновить любого: Ламартин, Барант, Миш-
ле, Огюст Конт, Александр Дюма, Эжен Сю, Луи Гизо,
Жюль Барбье, Теодор де Банвиль, Франсуа Коппе, Сюл-
ли Прюдоп, Анатоль Франс, Морис Баррес, Шарль Пеги,
Леон Блуа, Жорж Бернано, Жозеф Дельтей, Александр
Арну, Робер Бразийяк, Тьерри Монье, Морис Клавель,
Андре Мальро... Мало исторических персонажей удосто-
ились такой чести.
В самом деле, начиная с XIX в. имя Жанны д’Арк ис-
пользовалось повсюду — будь то название минеральной
воды, кружка юных католиков или политических ассоци-
аций. Юная Дева снова и снова являлась в нескольких
стереотипных образах — слушающей пророческий глас,
берущей Орлеан, умирающей в Руане,— повторявшихся
вчера и продолжающих воспроизводиться и сегодня на
с инициальных церемониях, локальных праздниках, почто-
вых карточках, церковных витражах, альманахах, иллю-
(трированных книгах, на всякого рода сувенирах для ту-
ристов и паломников. Ее имя выгравировано на стали,
камне, бронзе. Тысячи статуй, представляющих ее вдох-
новенной пастушкой или яростной воительницей, высят-
с я во французских деревнях, украшают надгробные па-
мятники, стоят в нишах церквей или восседают на пло-
щадях перед зданиями мэрий7. Прекрасное и безобраз-
' См.: Pernoud R., Clin M.-V. Powrune iconographie de Jeanne d'Arc II Jeanne
d'Arc. Paris: Fayard, 1986. P. 363-366. Из работ Режин Перну см. также
альбом «Jeanne d'Arc», опубликованный в 1981 г. издательством Сей.
()б этом же см.: Ribera-Perville С. Jeanne d'Arc аи pays des images, XV-XX
aecle // EHistoire. 1979, septembre. N 15. Монетный двор опубликовал на
‘ту же тему многотомный каталог выставки «Images de Jeanne d’Arc,
Hiin-septembre 1979». Среди наиболее известных работ назовем кон-
229
ное состязаются в этом ревностном поклонении: какой
департамент Франции, какой кантон ее территории не
принял участия в этой публичной и сакральной мемориа-
лизации? Таково первое впечатление: шок от бесчислен-
ных алтарей, нескончаемая литания. Когда Альфонс Ха-
миди, чернокожий еврей, стал чемпионом мира по боксу
в легком весе, победив своего британского соперника, вот
какими словами он выразил первую пришедшую ему в
голову мысль перед протянутым микрофоном; «Я ото-
мстил за Жанну д’Арк!». Хотя, скорее всего, единствен-
ное, что он читал о ней, было главой школьного учебни-
ка. И, конечно, он слышал рассказ о ней от своего учите-
ля. Но как бы то ни было, та, что «вышвырнула» англи-
чан из Франции (версия приблизительной исторической
точности, но в высшей степени популярная* 8), была час-
тью его представлений о мире. Такое восприятие Жанны
долго жило в народной памяти.
Эта полнота, или, точнее, переполненность воспомина-
ниями не должна заслонить от нас их прерывность как во
времени, так и в пространстве, а также их идеологичес-
кие импликации. Память о Жанне не нейтральна: она
разделена на части, полемична, инструментализирована,
она выражает конфликты идей, которые с начала нового
времени противопоставляли французов друг другу.
ные статуи Дюбуа перед Реймским собором и Фермье на площади
Пирамид в Париже. В живописи — фрески Ленсво в Пантеоне, полот-
но Делароша, «Жанна д Арк на коронации Карла VII» Энгра, полот-
но Шеррера «Вступление Жанны д’Арк в Орлеан» (1887).
8 Это выражение имеет своим источником известное с обвинитель-
ного процесса «письмо англичанам», в котором Жанна утверждает:
«Я прислана сюда Богом для того, чтобы выбросить вас из всей Фран-
ции» (Quicherat J. Proces de condamnalion el de rehabililation de Jeanne d'Arc.
Paris, 1841-1849. Vol. 5, t. 1. R 241).
230
I. МОБИЛЬНАЯ ПАМЯТЬ
Вариации во времени
Все авторы, интересовавшиеся посмертной славой Жан-
ны д’Арк, поражались контрасту между веками забвения
или невнимания (XVI-XVIII) и веками активной ремемо
рации (XIX и XX)9. В целом такое представление совер-
шенно справедливо (библиография и иконография, о ко
горых говорилось выше, свидетельствуют о его обосно
вашюсти), но нуждается в серьезных уточнениях. Остав-
ляя в стороне восторгавптихся ею земляков, о которых
речь пойдет ниже, с самого начала нужно отметить попу-
лярность, которой пользовалась при жизни Жанна д’Арк
среди своих современников. Ее личность («Ну и голова
была у этой неграмотной крестьянки!»), блеск ее деяний,
ее первоначальный успех и последующая казнь, вся исто-
рия ее жизни, наполненная чудом, заставляет нас проде-
лать за два года путь из Домреми в Вокулер, из Вокулера
в Шинон, из [Пинона в Реймс, где коронованный Карл VII
с мог, наконец, тешиться обретенной легитимностью, ко-
торая до тех пор была под вопросом, и, наконец, из Рейм-
са в Руан. Она оставила многочисленные следы в текстах
того времени, во французских и иноземных хрониках.
(>гметим, что уже эти повествования противоречат друг
другу, одни из них благосклонны к Ар маньякам (напри-
мер, такова хроника Персеваля де Каньи или Жана Шар-
тье), другие симпатизируют Бургиньонам (такие, как
Жорж Шателлен или Ангерран де Монтреле). Мемуары,
” См.: Jeanne Е. Elmage de la Pucelie d’Orleans dans la lilterature historique
11 an^aise de puis Voltaire. Liege, 1935; article: L e Go fl J. Jeann e d "A rc И
Г Encyclopaedia Universalis. S. 1., 1968; Pernoud R., Clin M.-V. Jeanne d‘Arc
ttpres Jeanne d'Arc //Jeanne d’Arc. И в особенности: Marot P De la rehabilitation
a la glorification, de Jeanne d'Arc // Memorial du Vе centenaire de la rehabilitation
d<‘Jeanne d’Arc. 1456-1956. Paris, 1958. Это основополагающее эссе «по
историографии и культу героини во Франции в течение пяти веков»,
принадлежащее перу бывшего директора Национальной школы хар-
гпй, было в числе самых ценных наших гидов. Между тем была опуб-
ликована диссертация Герда Крумайха: Krumeich G. Op.cit.
231
вдохновленные этими самыми хрониками и живыми сви-
детельствами, дополняют корпус источников. «Дневник
осады Орлеана», составленный около 1461 г., также мог
стать основой для последующих рассказов. А вот первые
произведения искусства, прославляющие Орлеанскую
Деву: «Чудо осады Орлеана», пьеса из 20529 стихов, напи-
санная между 1435 и 1456 гг., и в особенности поэзия Кри-
стины Пизанской, начавшей восславлять с 1429 г. простую
пастушку, «более доблестную, чем римские герои», а так-
же поэма в прозе Алена Шартье, воспевающая «несрав-
ненную деву».
Относительно личности Жанны тоже нет единодушия.
Бургиньонская традиция (а именно, хроника Монтреле) в
XVI в. противостоит Арманьякской традиции. Так, Гий-
ом Дю Беллэ в своих «Наставлениях но поводу войны»,
опубликованных в 1548 г. и многократно переиздаваемых
вплоть до конца века, характеризует Жанну как чистый
продукт и инструмент французского двора. Также и
Жерар дю Гайан, автор сочинения «О положении Фран-
ции», вышедшего в 1570 г., которое считают первой наци-
ональной историей, написанной по-французски, ст авит под
вопрос как миссию Жанны, так и ее непорочность. Рели-
гиозные войны усиливают идеологическое значение па-
мяти о Жанне, которая используется Лигой в своих соб-
ственных интересах. Но уже в «Изысканиях о Франции»
Этьена Паскье Жанне отводится роль примирительницы.
Что касается XVII века, то он, кажется, предпочитал иг-
норировать воспоминания о героине, «слишком готичес-
кие», по словам Шатобриана, для века, избравшего своей
моделью древних и приравнявшего средние века к вар-
варству. Еще больший урон памяти о Жанне нанесла по-
эма из 24 песен и 1200 стихов «Девственница, или осво-
божденная Франция», которой Шаплен отдал 6 лет своей
жизни и которая, будучи опубликованной в 1656 г., пре-
вратилась в образец литературной нелепост и, осмеянный
Буало.
232
Рвение Шаплена оказалось, как скажет об этом Кити-
ра, «столь же смертельным для памяти о Жанне, как по-
вторный обвинительный процесс»10. В качестве доказатель-
ства этого можно привести удивительное равнодушие к
рассказу о ней в «Краткой истории Франции» Боссюэ: этот
теоретик провиденционализма обходит молчанием «го-
лоса», которые слышала юная девушка. Такой скептицизм
со стороны епископа Мо стоит современных рейтингов
популярности: при Людовике XIV Жанна д’Арк переста-
ла волновать лучшие умы.
И все же как раз в XVII в. была создана одна из пер-
вых работ исторического характера, призванная послу-
жить основой для всех последующих. Она принадлежит
Эдмону Рише, бывшему синдику теологического факуль-
тета Парижского университета, убежденному галликан-
цу, автору написанной между 1625 и 1630 гг. монумен-
тальной «Истории Орлеанской Девы». Рише использовал
самый лучший, но до тех пор мало известный (несмотря
па несколько опубликованных выдержек) источник, а
именно — обвинительный процесс и процесс о реабилита-
ции11. Но верно и то — и в этом можно увидеть другое
знамение времени,— что труд Рише оставался в рукописи
на протяжении двух веков.
Сверхъестественное начало, слишком выраженное в
истории Жанны д’Арк, не могло не настроить просвети-
телей против нее. Конечно, было бы неверно упомянуть
для всего XVIII в. только об «Орлеанской Деве» Вольте-
ра. Но все же эта длинная поэма, позже сочтенная свято-
1 атством, читалась и перечитывалась поклонниками Аруэ,
которые наизусть декламировали из нее длинные отрыв-
ки в обществе. В этом буффонадном развенчании герои-
ни, повествующем о любовных похождениях девственни-
10 Quicherat J. Aperpus nouveaux sur I'hisloire de Jeanne d'Arc. Paris: 1850,
R 161.
11 Marot Cf. P. Op. cit. P 98.
233
цы-воительницы с ослом, хотели увидеть «гротеск», с по
мощью которого Вольтер уничтожил Шаплена. Точно так
же уже в серьезном «Философском словаре» Вольтер
кратко резюмирует в прозе свою точку зрения о той, над
которой оп издевался в стихах: «Несчастная дурочка».
Вольтер использует Жанну в основном как предлог для
того, чтобы обрушиться на церковь: «Не превращайте
Жанну в услышавшую божественное откровение. Она —
просто отважная дурочка, решившая, что на нее снизош-
ла благодать, деревенская героиня, которой поручили
сыграть великую роль, храбрая девушка, которую докто-
ра и инквизиторы сожгли с самой отвратительной жесто-
костью»12. Такой приговор обнаруживает также презре-
ние к средневековью, разделявшееся тогда многими.
Трансформация образа Жанны в XIX в. будет связана в
основном с реабилитацией «времени соборов». Сен-Марк
Жирарден в 1838 г. сделал следующее наблюдение ио это-
му поводу:
«За последние несколько лет мы снова почувствовали
вкус к средневековью и мы с удовольствием восхищаем-
ся ревностностью религиозного чувства людей той эпохи.
В глазах Вольтера эта вера — не что иное, как уродливый
предрассудок. Средневековье для него не знало других
проявлений религии, кроме религии невежд, обманутых
мошенниками. Нам нравятся в средневековье рыцарская
преданность и героические приключения паладинов, тог-
да как в глазах Вольтера в этот период не существовало
ничего, кроме зверства битв и наследия грубых нравов
варваров V и VI вв. Тупые мопахи-дебоширы, теологи-
ческие распри, вооруженные стычки всех сортов, беспри-
чинные и бессмысленные войны, перемежающиеся крес-
товыми походами,— таков, по мнению Вольтера, тот спек-
12 Voltaire. Les Нmine teles liUeraires // Melanges. Paris: Gallimard, Bibl. de la
Pleade, 1961. P. 999.
234
гакль, который предлагает нашему взору средневековье»13.
И все же шум, произведенный «Девственницей» Воль-
тера, внес, как показывает Кишра, свой вклад в возобнов-
ление изучения Жанны д’Арк. Вновь было обращено вни-
мание на все еще неопубликованные материалы судеб-
ных процессов Жанны, и конец века Просвещения мо-
жет гордиться изданием первых набросков «научной» ис-
тории Жанны. Отметим здесь трехтомный труд аббата
I [иколя Лангле-Дюфренуа «История Жанны д’Арк —
девы, героини и мученицы за государство, призванной
Провидением восстановить французскую монархию, ос-
нованная на процессах и других оригинальных докумен-
тах эпохи» (1753-1754). Автор не счел нужным отметить,
что он крал из неизданного труда Рише,— это обнаружи-
лось сразу после смерти Лангле-Дюфренуа. Но этот пла-
гиат, по крайней мере, питался из хорошего источника и
вызвал новый интерес к теме. Начать новый этап выпало
на долю Клемана де л’Аверди, бывшего советника париж-
ского парламента и члена Академии надписей. Его «Вы-
писки и выдержки из манускриптов королевской библио-
теки», опубликованные в 1790 г.14, вызвали одобрение
Жюля Кишра: «Первый точный перечень, первая работа,
достойная современной науки».
Революционный период не был предназначен служить
славе той, которая восстановила французскую монархию
и доказала свою преданность церкви. И все же Луи-Себа-
стьян Мерсье, автор «Картин Парижа» и будущий депу-
тат Конвента, поставил в 1790 г. в театре Делассман-Ко-
мик четырехактную «Жанну д’Арк» в стихах. Позже, в
1802 г., в предисловии к драме Шиллера «Орлеанская
13 Saint-Marc G. La Pucelie de Chapelain et la Pucelle de Voltaire// La Revue
des Deux Mondes. 1838. Vol. XVI. 4e serie.
14 L’Averdy C. de. Notices el exlraits des manuscrils de la Bibliolheque du Rai, lus
au comite etabli par Sa Majesle dans Г Academic Royale des Inscriptions et Belles-
Lellres. Paris: Imprimcrie nationale, 1790. T. Ш. Lanery d’Arc: «В течение
целого века это оставалось основой для всей истории Жанны д’Арк».
235
Дева», Мерсье, прямо критикуя Вольтера за его «извра
щенный и распущенный мозг», представил Жанну как
борца за народное дело, которая, по его мнению, если бы
она была жива, не приминула бы принять участие во взя-
тии Бастилии. Со своей стороны, Бонапарт, вниматель-
ный к переменам в общественном мнении, санкциониро-
вал возобновление ежегодных церемоний в Орлеане, пре-
рванных в 1793 г., и выразил одобрение муниципалитету
в связи с возведением нового памятника во славу Орлеан-
ской Девы следующими словами: «Славная Жанна д’Арк
доказала, что нет такого чуда, которое не смог бы совер-
шить французский гений, когда под угрозой независи
мость».
Совпадение многих факторов превратило XIX век в
«век Жанны д’Арк». Первым среди них нужно назвать
романтизм. «Романтизм с несколько сумбурной страстью
любил такие исторические фигуры, которые воплощали
душу народа, такие личности, в которых отражалось и
самовыражалось коллективное сознание. Он был очаро-
ван Жанной, и он еще в 1841 г. породил посвященный ей
гимн Мишле»,- пишет Жорж Гуайо15. Еще раньше
Ле Брен де Шармет своей «Историей Жанны д’Арк,
называемой Орлеанской Девой» (1817) и особенно Барант
своей «Историей герцогов Бургундских» (1839) положи-
ли начало этому новому направлению. И, наконец, для
Мишле Жанна д’Арк, такая, какой она изображена в
его монументальной «Истории Франции», выполнила
функцию матрицы: Жанна, освободительница родины,
служит залогом славного будущего. Второй фактор —
патриотизм — был способен вдохновить некоторые из наи-
более известных работ, посвященных Освободительнице
Орлеана. «Покровительница покоренных», как позже
назовет ее Дерулед, начинает воплощать миф о проис-
хождении французской нации. Анри Мартен превраща-
15 Goyau G. Sainte Jeanne d'Arc. Paris: Henri Laurens, 1920. P. 116.
236
<т ее в «мессию национальности». Третьим фактором стал
католический ренессанс после падения Наполеона. Попу-
лярные сочинения о Жанне умножались, ожидая того часа,
когда монсеньор Дюпанлу, епископ Орлеана с 1849 г.,
проявит поистине неукротимую энергию для ее канониза-
ции. «Я поклоняюсь святой в ее лице», — написал он
в своем панегирике 1869 г. Хотя уже в 1860 г. Анри Вал-
лон, ставший известным благодаря знаменитым добавле-
ниям, получившим его имя и конституционно закрепив-
шим Республику в Конституционном праве 1875 г., опуб-
ликовал «Жанну д’Арк», написанную в католическом
духе, которая была многократно переиздана, награжде-
на Французской Академией и удостоилась похвалы папы
Пия IX.
Кроме этого, память о Жанне д’Арк обязана XIX в.
возвращением к источникам, которые обеспечили про-
гресс исторических исследований, официальным вдохно-
вителем чего был Франсуа Гизо. Общество истории Фран-
ции, у истоков которого он стоял, поручило в 1840 г. мо-
лодому выпускнику школы хартий Жюлю Кишра подго-
товить полное издание обвинительного процесса и про-
цесса реабилитации Жанны д’Арк. Кишра посвятил это-
му труду, являющемуся, по словам Жоржа Дюби, образ-
цом «ошеломляющей эрудиции», девять лет своей жиз-
ни. Пять томов в формате in octavo впервые сделали дос-
тупными — хотя и на латыни — два процесса Жанны, из-
данных по рукописям Национальной библиотеки, «снаб-
женных всеми историческими документами, которые уда-
лось найти, и сопровожденных проясняющими примеча-
ниями». В 1867 г. Валле де Вирий публикует первый об-
щий перевод «Процесса реабилитации». В 1868 г. Эрнест
О’Рейи переводит оба процесса. В свою очередь, Жозеф
Фабр, страстный почитатель Жанны д’Арк, с которым
мы встретимся позже, переводит в 1884 г. «Обвинитель-
ный процесс», за которым в 1888 г. последовал перевод
«Процесса реабилитации». Позже были изданы и другие
237
версии16. Действительно, возникли все условия для вни-
мательного исследования приключений Жанны. И такие
труды не замедлили появиться во множестве.
Военное поражение 1871 г. и последовавшие за этим
долгие размышления о том, каким должно быть отече-
ство, политическая борьба, захватившая республиканцев
и монархистов, распад католицизма, теряющего свое об-
щественное внимание и подвергающегося нападкам ан-
тиклерикалов,— все эти страсти способствовали прослав-
лению Жанны д’Арк, память о которой вскоре стала пред-
метом соперничества партий. Все заявляли о своем ис-
ключительном праве на нее. В 1875 г. создается статуя,
заказанная Жюлем Симоном скульптору Фремье для пло-
щади Пирамид. Так происходит повсеместно: в каждом
департаменте создаются новые образы девы-воительпи-
цы. «В остальном,— пишет Пьер Маро,— популярность Ор-
леанской Девы принимает все новые и все более неожи-
данные формы. Имя Жанны д’Арк присоединяется ко
всем сферам деятельности. Магазины, рестораны, отели,
предметы, ничего общего между собой не имеющие, ока-
зываются объединенными им как торговым знаком: пред-
меты обихода, косметика, конфеты, продукты питания,
ликеры, пиво, мыло, все вплоть до цемента! В это просто
трудно поверить. Обложки школьных тетрадей носят ее
знамя, детские игры оказались под ее знаком, “игры с
гусем” сопровождаются эпизодами из жизни Жанны; дом
в Домреми, как и площадь Старого Рынка, послужили
сюжетами для детских конструкторов.» Конец века уви-
дел апофеоз Жанны д’Арк, который достиг своих вер
шин благодаря набирающему силу национализму.
XX век был призван развести научную историю, все
16 Переводы в XX в.: Champion Р Proces de condamnalion de Jeanne d'Arc.
2 vol. Paris, 1920.; Brasillach R. Le proces de condamnalion. Paris, 1941;
Pcrnoud R. Vie et mort de Jeanne d'Arc: Les t&noignages du proces de rehalnlilalion,
1450-1456. Paris: H ache lie, 1953; Oursel R. Les Proces de condamnalion et le
Proces de rehabilitation de Jeanne d’Arc. Paris: Оепоё!, 1959. P. 685.
238
больше и больше работающую с помощью критики ис-
точников, и мифологическое использование Жанны ан-
тагонистическими партиями. Разные националистические
л ечения будут стремиться прибрать к рукам память той,
которая казалась покровительницей национального при-
мирения. Ослабление республиканского патриотизма во
второй половине XX в., как и окончание насаждения куль-
та героя в средней школе, имели своим следствием отказ
от этого символа, ставшего символом ультраправого нео-
национализма.
Итак, во времени память о Жанне д’Арк предстает в
виде разорванной линии. Впавшая в немилость и вырож-
давшаяся в период с XVI по XVIII в., она становится уди-
вительно распространенной в XIX в. благодаря действию
противоположных, но имевших общие последствия сил.
Как и память о средневековье в целом, память о Жанне
пережила расцвет после упадка. Добившись успеха бла-
годаря страстям демократического века, описанная в со-
ответствии с правилами молодой «научной» истории, па-
мять о Жанне не смогла избежать долгой монополиза-
ции одним кланом.
Вариации в пространстве
Хотя в целом интенсивность памяти о Жанне д’Арк
варьировалась на протяжении всей ее истории вплоть до
практически полного исчезновения, она все же всегда со-
хранялась в определенных привилегированных местах,
где она возникла в самом начале эпопеи Жанны. Речь
идет о местах-вехах в жизни Жанны, начиная от ее род-
ной деревни и кончая норманским городом, где она была
(ожжена. Главным образом, это Домреми, Вокулер, Ши-
нон, Пуатье, Тур, Орлеан, Патэ, Жьен, Труа, Ла Шарите,
Компьень, Руан, не говоря уже о Бурже.
В мая 1429 г., а именно в тот самый день, когда англи-
чане сняли осаду с Орлеана, обитатели освобожденного
города устроили благодарственную процессию, чтобы вос-
239
славить святых покровителей города, Эньяна и Эверта.
Нам известны детали этого события благодаря публика
ции в 1883 г. анонимной хроники XV в. «Освобождение
Орлеана и установление праздника 8 мая», найденной в
Ватикане и в Санкт-Петербурге, первое издание которой
было подготовлено Кишра. Орлеан был для англичан пос-
ледней преградой, потому что мост через Луару откры-
вал дорогу в Берри и в центральную Францию, к тому,
что Мари-Вероник Клен назвала «свободной Францией»17.
Не говоря уже о его стратегическом значении, Орлеан
был городом герцога Карла, попавшего в плен в битве
при Азенкуре и вот уже 14 лет томящегося по другую
сторону Ламанша. Итак, это место имело важное симво-
лическое значение. Уход английской армии после долгих
месяцев осады был с восторгом встречен орлеанцами.
Жанна, которая вступила в город 29 апреля, была приня-
та жителями с таким восторженным почтением, «как если
бы они увидели снизошедшего к ним Бога», как сообща-
ет нам «Дневник осады». Это в ее честь каждый год в
один и тот же день — в день победы — устраивается праз-
дничный церемониал.
«Начиная с 7 мая бьют колокола в соборах Сен-Круа и
в Сен-Эньян: герольды обходят город, объявляя о про-
цессии.
Накануне подметают и приводят в порядок улицы по
ходу движения кортежа. В традиционных местах возво-
дят эстрады (“эшафоты”). В Авхустинцах (в квартале, имя
которого напоминает о старом монастыре) эти эстрады
служат местом расположения реликвий, и поэтому они
богато украшаются. Затем, из церкви Сен-Поля, что у
ворот Дюнуа, дети из церковного хора и певчие из Сен-
17 Clin М.-V. Les Sourses de I’histoire de Jeanne d’Arc au XVe siecle, elude
historiographique critique: These de Iroisieme cycle. Ecole des haules etudes en
sciences sociales, 1984 (dacLylographiee). Автор опубликовала также в
приложении «Документы, касающиеся праздника 8 мая», которые мы
цитируем ниже.
240
Круа и из Сен-Эньяна приходят исполнять церковные
песнопения.
Возглавляемый несущими колокольчики мальчиками,
кортеж начинает движение. Он состоит из городских вла-
стей, а детский хор соборов Сен-Круа, Сен-Эньяна и Сен-
Пьер-Анпона сопровождает кортеж с песнопениями, и
певчие “получают колбаски за свой труд”. Стараются,
чтобы светские люди “не присоединялись и не смешива-
чись со служителями церкви. Сержанты герцога Орлеан-
ского следят за тем, чтобы процессия выступала в пра-
вильном порядке”».
В XVI в., после перерыва в ходе религиозных войн,
праздник обогатился подлинной исторической реконструк-
। щей:
«Милиция города разделяется на два лагеря: один за-
нимает остров де Ла Мотт, а другой — небольшие башни
крепости. Юноша, одетый в античный костюм (требова-
ние Ренессанса), изображает Деву. Оружейные салюты и
радостные крики сопровождают процессию». В XVTII и
XIX вв. маленький мальчик нес знамя с надписью «Жан-
не д’Арк». Юноша, который назначался мэром и главны-
ми магистратами города, продолжал участвовать в праз-
дниках вплоть до Революции, причем со временем к нему
примкнула девушка.
Перед началом процессии произносится «предсказание»
в форме панегирика, которое известно уже с начала 1474 г.
Начиная с 1817 г. оно публикуется за счет города. Неко-
торые известные прелаты, такие как монсеньор Фресси-
ну и монсеньор Дюпанлу, в пылу красноречия призывали
в этих «предсказаниях» восхититься Божественным Про-
видением. Праздники, слишком религиозные и монархи-
ческие для революционного вкуса, были прерваны в 1793 г.
Мы уже упомянули, что Бонапарт восстановил их в 1802 г.
Их организация была поручена епископу, а не муниципа-
литету. Праздники становятся еще более пышными при
Реставрации — в период, который создал истинный культ
241
Жанны д’Арк. При Июльской монархии, разорвавшей
альянс трона и небес, муниципальные эдилы десакрали-
зируют праздники Жанны д’Арк. С 1831 по 1852 гт. свя-
щеннослужители больше не появляются на них рядом с
гражданскими и военными властями. Вторая империя и
Третья республика кладут конец этому остракизму. 7 мая
1876 г. Мак-Магон, став президентом, спешит нанести
визит в Орлеан. В 1891 г. ему подражает Сади Карно,
истинный республиканец. Отделение церкви от государ
ства ставит под вопрос двойственный — религиозный и
гражданский — характер коммеморации: председатель
Совета министров Клемансо в 1907 г. запрещает магист-
ратам и офицерам участвовать в кортеже, где присутству-
ют представители духовенства. Наконец, само духовен-
ство отказывается от участия в церемонии из-за присут-
ствия на ней представителей масонских лож. Эта малень-
кая война продолжается в разных формах вплоть до того
момента, когда разражается настоящая война. Священ-
ный союз кладет ей конец. Принятие закона об установ-
лении национального праздника Жанны д’Арк в том
же году, когда она была канонизирована, сохранило
орлеанские праздники. В 1929 г. в честь 500-й годовщины
освобождения этот праздник состоялся в присутствии
президента республики Гастона Думерга, Раймона Пуан-
каре и Поля Думе, папского легата и многочисленных
французских прелатов. «Жанна и память о ней,— писала
газета “Орлеанский центристский республиканец” 10 мая
1929 г.,— всегда обладала особой способностью сглажи-
вать политические разногласия среди пас, поскольку
она способна охранять наш город в настоящем и в буду-
щем так же, как она охраняла его в прошлом. Но на
сей раз ее власть вышла за пределы города». Одно ново-
введение: теперь Жанну представляет юная девушка.
На этих праздниках будут еще председательствовать
и другие главы государства: Альбер Лебрен в 1939 г.,
Венсен Ориоль в 1947, генерал де Голль в 1959, Валери
242
Жискар д’ Эстен в 1979, Франсуа Миттеран в 1982 г.18
Помимо ежегодной церемонии, Орлеан воплотил па-
мять о Жанне д’Арк в камне. Первый монумент в честь
освобождения города был воздвигнут на мосту через Лу-
ару в начале XVI в.: рядом с королем перед распятием,
(жоло которого стоит Дева Мария,— коленопреклоненная
Жанна. Памятник был восстановлен в первозданном виде
после того, как в 1567 г. он был разрушен протестантами.
В 1745 г. Старый мост снесли, а памятник Орлеанской
девы отправили в подвал. Пигалю было поручено сделать
новую статую, но его проект не был реализован, ив 1771 г.
на перекрестке улиц Национальной и Вьей-Порт вновь
был поставлен старый памятник. В 1855 г. на площади
Мартруа, в географическом центре города, была воздвиг-
нута статуя Жанны работы Фуатье. Со своей стороны,
жители Орлеана ревностно взялись за сохранение «дома
Орлеанской Девы». Речь шла об особняке Жака Буше,
главного казначея герцога Орлеанского, в котором оста-
навливалась Жанна. Этот «дом Жанны д’Арк», как он
называется сегодня, является точной копией подлинника,
находившегося в квартале, полностью разрушенном бом-
бежками в 1940 г. В этом доме, превращенном в музей,
посетителю предлагается аудио-видео монтаж, в котором
рассказывается о вступлении Жанны в Орлеан19. Если к
этому добавить недавно созданный великолепный центр
Жанны д’Арк на улице, находящейся неподалеку от со-
бора и тоже носящей ее имя, то можно оценить продол-
жительность привязанности города к той, которую он
никогда не переставал считать своей покровительницей
после того, как она стала его освободительницей.
Другое привилегированное место памяти о Жанне — ее
родина, Домреми. Сегодня Домреми-ла-Пуссель (Домре-
|Я См.: Michaud-Frejaville Е Orleans, le Moyen Age esl dans la rue // EHistoirc.
1980, mai. N 23.
1У В 1986 г. «Дом Жанны д’Арк» посетило 23 986 человек, среди
которых было 5 481 иностранца.
243
ми Орлеанской Девы), община департамента Вогезы, на-
ходящаяся на Мозеле в десяти километрах от Нефшато,
представляет собой деревушку, насчитывающую менее 300
жителей. О принадлежности этой местности — была ли
она лотарингской или шампанской — эрудиты вели спо-
ры еще в XIX в. Домреми находится на границе Лота-
рингии и Барруа: речушка является границей двух про-
винций. Ее течение менялось между XV и XIX вв., и мно-
гочисленные эрудиты задавались вопросом о том, на ка
ком берегу находился дом Жанны д’Арк — на правом или
на левом? Очень похоже, что труды Анри Лепажа, архи-
виста из Мерты, и Ж.-Ж. Шапеллье, библиотекаря из
Эпиналя, заставили поверить в то, что Жанна, «истинная
жительница Лотарингии», не без основания называется
именем, данным ей Вийоном. Во всяком случае, в 1866 г.,
во время празднования юбилея присоединения Лотарин-
гии к Франции, происходившего в Нанси, Жанна д’Арк
фигурирует в историческом кортеже. Позднее трепетное
отношение к формуле «Эльзас-Лотарингия», с которой
память о Жанне была связана хотя бы фонетически, ка-
тегорически запретило Жанне быть «девушкой из Шам-
пани».
С XV в. дом Орлеанской Девы, который в 1580 г. посе-
тил Монтень, становится местом паломничества. Семья
Жанны, потомки ее братьев, сделали все возможное, что-
бы сохранить все то, что напоминало о героине. В 1429 г.
король пожаловал семью дворянством под именем де Лиз,
с правом ношения герба — серебряной шпаги с позоло-
ченной ручкой, украшенной золотой короной, по бокам
которой находятся два золотых цветка лилии на голубом
фоне. Вплоть до XVI в. потомки Жана, брата Орлеанс-
кой девы, продолжали жить в этом доме. Обитатели де-
ревни культивировали память о своей знаменитой одно-
сельчанке. Так, в одно из воскресений юноши деревни
собирались под «деревом фей», о котором шла речь в
процессе над Жанной. Именно в его тени она слышала
244
«голоса» — обвинение, от которого она защищалась, пото-
му что связь между голосами и «деревом фей» могла при-
вести к обвинению в колдовстве. Неподалеку в конце
XVI в. была построена капелла, посвященная Деве Ма-
рии и Орлеанской Деве. Дом Жанны скоро превратился
в посещаемое место: при входе в него был поставлен бюст.
Франсуа-Жозеф Анри, представитель Верхней Марны в
Законодательном собрании, хвастался тем, что он спас
)гот бюст от вандалов во время революционных беспо-
рядков.
Позже, в XVIII в., дом стал собственностью семьи Же-
рарден. В 1818 г. Генеральный совет Вогез принял реше-
ние купить его, сочтя, что он является «для Франции, и
особенно для Вогез, историческим памятником, с кото-
рым связаны великие и славные воспоминания». Николя
Жерарден согласился продать дом за 2 500 франков, хотя
немецкий аристократ предлагал ему 6 000. Этот жест
I [ринес ему орден Почетного легиона. Людовик XVIII внес
( вой вклад — кредит в 8 000 франков был отпущен для
реставрации дома и возведения памятника в честь Жан-
ны. Дополнительная сумма была выдана на основание и
содержание школы для девочек из Домреми и Гре — со-
седней деревни.
Целью последовавших за этим реставрационных работ
было сохранение «Дома Жанны». У порога входной две-
ри был положен прямоугольный камень, украшенный
рельефом с гербами Франции и де Лиз, который Жерар-
дены закрепили па своем собственном доме. Были вос-
становлены пропавшие геральдические знаки, перестлан
пол и переделаны камины, создана, как и было заплани-
ровано, школа. Позже была восстановлена и расширена
церковь. Еще и сегодня в ней можно увидеть статую Свя-
той Маргариты XIV в.
Вскоре «Дом Жанны» сделался местом паломничества,
ч то привело к прокладке линии железной дороги. С 8 мая
1854 и по 8 мая 1855 гт. насчитывается 3 200 посещений.
245
Паломниками были в основном жители окрестных горо-
дов и деревень Лотарингии и Шампани, но также и жите-
ли Орлеана, Парижа, а также бельгийцы, немцы и даже
англичане. Книга записей посетителей дает возможность
представить возрастающую популярность Жанны в XIX в.
Систематическое изучение этих списков позволяет нам
глубже проникнуть в душу народа того времени. Пьер
Маро, которому мы обязаны скрупулезным изучением
культа Жанны в Домреми20, отмечает глубокую англо-
фобию, которой проникнуты записи, сделанные при Июль-
ской монархии: «Никогда во Франции не будет править
англичанин!». Чувства варьируются в зависимости от конъ-
юнктуры международных отношений. 1870-1871 гг. ока-
зываются особенно подходящими для медитаций в этих
святых местах. Но — неожиданность!— проходящие через
поселение немецкие солдаты не упускают возможности
отдать дань уважения той, кого воспел их соотечествен-
ник Шиллер и кто стал символом национальной идеи в
тот момент, когда раздробленная Германия membra
disjecta стала обретать свое единство. Эмигранты из Эль-
заса и Мозеля совершенно естественно прибегали к под-
держке Девы-патриотки сразу после Франкфуртского
договора.
В ходе конфликтов между республиканцами и католи-
ками-монархистами Домреми пережил несколько пере-
воротов. В частности, в 1878 г., когда отмечали столетие
со дня смерти Вольтера. Паломничество, последовавшее
за этим, собравшее около 20 тысяч человек в крошечной,
но ставшей знаменитой деревушке, привело к идее созда-
ния нового святилища. Парижский комитет поручил ар-
хитектору Полю Седию сделать проект базилики, кото-
рую планировалось воздвигнуть в Буа-Шеню, на месте,
где Жанна слышала голоса. Первый камень был заложен
20 Marot Р. Le Guile de Jeanne d’Arc d Domremy. Son online el son developpemenl.
Nancy, 1956. Здесь этот автор снова является нашим главным гидом.
246
3 ноября 1881 г. Потребовалось много лет, чтобы закон-
чить здание. Подписки следовали одна за другой, самая
запомнившаяся из которых «Су для Жанны д’Арк», была
направлена всем юным девушкам Франции. Паломниче-
ства в Домреми ширятся с каждым годом: 20 тысяч чело-
век в 1878 г., 35 тысяч в 1894. Оконченная сразу после
начала первой мировой войны базилика была освящена в
августе 1926 г.21 23 августа 1920 г. маршал Фош после по-
сещения «Дома Жанны» прибыл в законченное, наконец,
святилище, чтобы возблагодарить за Победу. Эта церковь,
посвященная Деве, была предназначена для молитв за
мир и за солдат, живых и мертвых. Орнаменты, фрески,
мозаика рассказывают о призвании святой и напоминают
об эпизодах ее жизни.
Третье священное место памяти о Жанне —Руан.
Карл VII вступил сюда в 1449 г. После реабилитации в
1456 г. покрытый бронзой крест был воздвигнут около
того места, где Жанна погибла на костре. В начале следую-
щего века статуя Орлеанской Девы украсила фонтан в
стиле Ренессанса на площади Марше-о-Во. Этот фонтан,
разрушенный временем, был заменен в 1754 г. новым, ук-
рашенным новой статуей. Бомбежки второй мировой вой-
ны в свою очередь разрушили его. Закон 1920 г. предпо-
лагал возведение нового сооружения на том месте, где
была сожжена Жанна. Сегодня восстановленная площадь
Старого Рынка множеством мелких деталей хранит па-
мять о Жанне в соответствии с этим законом. В преддве-
рии церкви Святой Жанны д’Арк святой посвящены ста-
туя и галерея «реликвий». Крест высотой в 20 м, знак ре-
абилитации, царит над местом, где в 1431 г. был костер.
В одном из старых зданий, сохранившихся вокруг, при-
21 Франсуа Мориак, посетивший Домреми в 1953 г., говорит об «об
ужасной базилике»: «Видя, как бедное стадо уважительно посещает
эту гадость, в которой сосредоточено все, что Лизье и Лурд имеют
самого отвратительного, я впервые начинаю понимать споры о свя-
щенном искусстве» (Bloc-note. Paris: Flammarion,1958. Р. 41).
247
ютился музей Жанны д’Арк. С регулярными промежут-
ками Руан становится театром коммемораций, как, на-
пример, в 500-летнюю годовщину смерти Жанны в при-
сутствии Раймона Пуанкаре. В 1938 г. на эту площадь явил-
ся Эдуард Эррио со своими заклятиями:
«Несколько дней назад я проезжал гору Оливье, доли-
ну Жозефа, Прегуар, Кальвер. Меня охватили сильные
чувства. Чувства, похожие нате, которые я испытывал на
месте костра Жанны, в то время, когда две великие при-
миренные нации, ставшие друзьями ради мира, объеди-
нились в поклонении юной крестьянке из Домреми. Жан-
на обладает двумя качествами, которые у всех вызывают
уважение к ней. Она спасла Францию. Благодаря своей
жертве, не сломленная силой, она обнаружила стойкость
своего духа. Сегодня для нас и наших друзей с другого
берега Ламанша она превратилась в связь. И в благодар-
ность за все ее благодеяния теперь паша очередь, здесь,
на этой площади, где все еще чувствуется ее присутствие,
с уважением и нежностью склониться перед ней»22.
Орлеан, Домреми, Руан. Известные места, места куль-
та, где память о Жанне д’Арк сохранялась наиболее не-
прерывной. Поклонение и фольклор донесли до нас ее
образ, несмотря на распри, разделявшие французов. Па-
риж, столица, под стенами которой Жанна потерпела
поражение, не присутствует в этом списке. Впрочем, не-
мало было процессий и там, особенно после установле-
ния конной статуи работы Фремьс. И все же Париж, мес-
то французских разрывов, в меньшей степени сохранил
память о юной жительнице Лотарингии, чем можно было
бы ожидать от этого центра столкновений вокруг ее ле-
генды. В Париже более, чем где бы то ни было, память о
Жанне превратилась в орудие политических битв в тот
самый момент, когда ее история была научно исследова-
на и популяризирована.
22 Le Journal republicain. 1938. 30 mai.
248
II. СПОРЫ О ПАМЯТИ
Эпопея Жанны и ее драматическая смерть вызвали
многовековую полемику, отмеченную тенденциозностью.
По не будем останавливаться слишком долго на ложных
легендах или на вымышленных обликах Жанны д’Арк.
Даже те произведения, которые отвечают самому изыс-
канному вкусу, занимают свое место в общем ансамбле
интерпретаций и отражают определенную идеологичес-
кую позицию. Так, в театральной постановке Пьера Каза
«Смерть Жанны д’Арк», увидевшей свет в 1802 г., Орле-
анская Дева оказывается внебрачной дочерью Людовика
()рлеанского и Изабеллы Баварской. Таким образом ав-
тор пытается решить загадку: как скромная крестьянка,
торговавшая на одном из французских рынков, смогла
утвердиться при дворе Карла VII? Происхождение, пусть
внебрачное, но высочайшее, оказывалось способом унич-
тожигь представление о божественном источнике вдох-
новений Жанны. Диссертация со сходной аргументаци-
ей, защищенная после постановки этой пьесы, имела боль-
шой успех: впоследствии она регулярно цитировалась и
всегда находила своих сторонников23. Стремление изгнать
сверхъестественное приводило и в художественной лите-
ратуре ко всякого рода вымыслам, иногда совершенно
невероятным. Да и сами историки, приверженцы доку-
ментальной точности, с трудом были способны освобо-
диться от личного «видения», делающего их частью той
или иной группы почитателей, которые в XIX в. стреми-
лись опереться на авторитет Жанны — такой Жанны,
живая неоднозначность которой постоянно приносилась
в жертву упрощенной версии главного «смысла» ее лич-
ности. Историческая личность постепенно трансформи-
ровалась в миф, ее жизнь — в аллегорию, ее штандарт и
23 Caze Р. La Verite sur Jeanne d’Arc ou eclaircissement sur son origine. 2 vol.
Paris, 1819. О фальсификаторах и фантазерах см. памфлет: Pernoud R.
Jeanne devant les Cauchons. Paris: Ed. du Seuil, 1970.
249
шпага превратились в символы враждующих партий. Ре-
зультатом этого состязания в упрощении стало освобож-
дение образа Жанны от присущих ей зон неясностей для
того, чтобы превратить ее в понятный знак символичес-
кой вселенной.
Память о Жанне группируется па протяжении всего
XIX в. вокруг трех главных репрезентаций, как последо-
вательных, так и одновременных: образ католической
святой, воплощение патриотического народа и покрови-
тельница крайнего национализма.
Католическая: модель
Католическим ревнителям Жанны д’Арк пришлось
достаточно долго ждать того, чтобы Ватикан официаль-
но признал святость героини, поскольку ее канонизация
папой Бенедиктом XV произошла лишь спустя 489 лет
после ее смерти и 464 года после ее реабилитации. Этот
процесс, бывший, как и обвинительный процесс, делом
Инквизиции, никоим образом не признал «божественную
миссию» спасительницы короля Франции. Речь шла лишь
о «негативном» акте, стремящемся аннулировать то не-
правильное судебное решение, которое привело се на ко-
стер. В остальном сам факт того, что Жанна была осуж-
дена трибуналом инквизиции, выводы которого были аб-
солютно и полностью поддержанны Парижским универ-
ситетом при отсутствии всякой оппозиции со стороны Ва
тикана, всегда рассматривался как антиклерикальный
аргумент. Разбирая причины несправедливости, совершен-
ной в 1431 г. в результате процедуры, в целом соответ-
ствовавшей каноническому праву, апологеты церкви ог-
раничивались обвинениями в адрес епископа Пьера
Кошона, продавшегося англичанам, и в адрес теологов
Сорбонны, поддержавших его. Даже в 1894 г., когда про
цесс канонизации, в результате которого Жанна стала
«Всеблагой», был уже начат в Риме, архиепископ Экса
заявил:
250
«Ах! Мы признаем, что она была послана на смерть
е пископом, епископом, в котором не осталось ничего
французского потому, что он продался англичанам. Но
папа Калист III воздал должное Деве из Домреми. Он
призвал к пересмотру процесса: он отверг и аннулировал
приговор, самый чудовищный из всех со времен Пилата.
Мы ждем того часа, когда то же самое случится и с бес-
численными невинными жертвами, осужденными рево-
люционными трибуналами.
Епископ Кошон нс в большей степени является одним
из нас, чем Иуда, потому что мы заклеймили его самым
истинным и самым тяжким приговором — Кошон назван
предшественником Вольтера, этого профанатора самого
яркого и самого чистого образца нашей национальной
славы».
Посмертное осуждение Кошона было логично допол-
нить осуждением Парижского университета, чьей офи-
циальной поддержкой Кошон пользовался. Обязанность
обвинить теологов XV в. принял на себя достопочтенный
отец Эроль из Общеста Иисуса, неутомимый защитник
«истинной Жанны д’Арк». Обвинение было опубликова-
но в 1902 г. под названием «Университет Парижа во вре-
мена Жанны д’Арк и причины его ненависти к освободи-
тельнице». Эроль рисует тогдашнюю Сорбонну «государ-
ством в государстве», рабски зависимой от партии бурги-
1 [бонов и стремящейся к религиозной власти. Это в ее
недрах, уверяет он, формируются «раскольнические» и
«абсолютно извращенные» докгрины, приведшие к вели-
кому расколу. Все эго можно резюмировать для периода
подъема ультрамонтанских настроений XIX в. такой точ-
ной фразой Эроля: «Самые свирепые враги Орлеанской
Девы есть самые свирепые враги Ватикана».
Борьба между католиками и антиклерикалами, продол-
жавшаяся почти на всем протяжении XIX в., обострялась
благодаря нескольким обстоятельствам, в которых память
о Жанне д’Арк сыграла особую роль. Так, в 1878 г. раз-
251
личные церемонии, планируемые, чтобы отметить столе
тие со дня смерти Вольтера, также пришедшиеся на май,
спровоцировали взрыв негодования со стороны католи
ков в адрес этого оскорбителя Девы24. Герцогиня де Шев-
рез взяла на себя инициативу мобилизовать «женщин
Франции» и организовать акцию протеста. Демонстрация
была назначена на 30 мая, перед статуей, недавно постав-
ленной на площади Пирамид. Защитники Вольтера при-
звали к ответной демонстрации, назначенной на тот же
день. Далекие от мысли уступить Жанну своим против
никам, они обратились к населению с призывом возло-
жить венки со следующей надписью: «Жанне Лотарингс-
кой. Французской героине. Жертве клерикализма». По-
скольку обе демонстрации были запрещены, не произош-
ло ничего, достойного упоминания.
1894 год (папа Лев ХШ решил начать дело о канониза-
ции Жанны в январе) стал свидетелем новых происше-
ствий. Воззвание франкмасонской ложи «Работы и истин
но верных друзей» к франкмасонам и к свободным мыс-
лителям свидетельствует о существовании двусторонней
оппозиции:
«30 мая 1431 года Церковь сожгла Жанну д’Арк как
еретичку, повторно впавшую в ересь. Духовенство было
верно себе в этом потому, что, повинуясь своим голосам,
Жанна д’Арк на самом деле слушала только свое соб-
ственное сознание, которое повелевало ей спасти Фран-
цию. Она была верящим в себя повстанцем, независимым
от теологов.
Во имя исторической истины следует заявить протест
против маневров клерикалов, которые стремятся эксплу-
атировать симпатии к Жанне д’Арк.
Лучшее, что могут сделать свободные мыслители в этой
ситуации,— это возложить 30 мая траурный венок к под-
ножию статуи Жанны д’Арк».
24 См. в архивах префектуры полиции папку, посвященную мани-
фестациям, связанным с Жанной д’Арк.
252
30 мая противостоит 8 мая: жертва церкви не может
быть орудием клерикалов. Тем не менее присвоение Жан-
ны их противниками заставило некоторых антиклерика-
лов отказаться от национальной героини и резюмировать
свое отношению к ней словами Вольтера: «несчастная ду-
рочка». Так, в журнале «Аксьоп» от 14 апреля 1904 г.
можно прочесть выпад против «идолопоклонничества» и
против «идола»: «Болезненная, истеричная, невежествен-
ная, Жанна д’Арк, даже сожженная священниками, не
может привлечь наших симпатий». Такова была одна из
крайних позиций. Поборники свободной мысли в целом
отнюдь не собирались попустительствовать «узурпации»
и «захвату» героини католиками. Битва разворачивалась
на многих рубежах. Одной из наиболее распространен-
ных тем оказался вопрос о «миссии Жанны». Ее провал
под стенами Парижа, ее пленение и тот факт, что ей так
и не удалось при жизни освободить Францию от англи-
чан, не является ли все это доказательством человечес-
кой, даже очень человеческой природы ее поступков? На
это возражали, что главным в ее миссии была коронация
в Реймсе25. Остановимся немного на другом яблоке раз-
дора — на вопросе о ее «голосах».
На процессе реабилитации им не уделили особого вни-
мания. Но прославление Жанны и требование се канони-
25 Вся глава «Золотой книги» Ланели д’Арк, цитируемая выше, по-
священа библиографии о «миссии Жанны». См. также: Krumeich G.
Controverses hisloriographiques aulour de la mission de Jeanne d’Arc au XJX-e siecle
// Bulletin de Г Association des amis du centre Jeannc-d’Arc. N 10. Этот ав-
тор напоминает нам, что роялистская храдиция (см.: Mczeray. Hisloire
de France, ed. de 1685) ограничила миссию Жанны коронацией в Рейм-
се: «Когда она злоупотребила своей миссией и она продолжала носить
оружие даже после того, как она короновала Короля, Бог, который
требует точного послушания, не счел более нужным продолжать тво-
рить чудеса ей в помощь». Эта интерпретация обладает двойным пре-
имуществом, позволяя отстоять божественное происхождение миссии
и истоки французской монархии и очистить эту последнюю от обви-
нения в том, что король покинул Жанну.
253
зации в XIX в. сделали весьма популярной идею о боже-
ственном вмешательстве. «Святой Михаил,— писал мон-
сеньор Рикар в 1894 г.,— является блестящим объяснени-
ем чудес, сотворенных Жанной д’Арк»26. Святого Михаи-
ла, это верно, в силу его ангельской природы было проще
привести в качестве примера, чем Святую Екатерину или
Святую Маргариту, историчность которых была более чем
сомнительной. В 1969 г. Рим был вынужден исключить
их из календаря литургий. Во всяком случае, можно было
полагать, как это делает Рише, что ангелы-вдохновители
были достаточно распространены в народных веровани-
ях того времени, чтобы придать Жанне уверенности в себе.
Что касается свободных мыслителей XIX в., то они при-
бегали к новым познаниям в области психиатрии, чтобы
объяснить экзальтацию юной жительницы Лотарингии
как галлюцинацию. Анатоль Франс резюмирует эту точ-
ку зрения словами: «Что можно сказать по этому поводу
кроме того, что у нее были слуховые, зрительные, так-
тильные и обонятельные галлюцинации? Просто у нее
самым обостренным чувством был слух». В подтвержде-
ние своей точки зрения писатель ссылается на консульта-
цию, полученную им у «знаменитого ученого» — доктора
Дюма, письмо которого он цитирует в приложениях. На
самом деле автор письма оказывается достаточно осто-
рожным в своих выводах, которые не могут быть «опре-
деленными». Но тем не менее диагностика может помочь
объяснить непонятность случая: «Во всех этих галлюци-
нациях есть,— писал он,— та же объективная ясность, та
же субъективная уверенность, что и в галлюцинациях,
вызванных токсическими веществами, такими как алко
голь, и эта ясность, и эта уверенность могут заставит ь все-
рьез задуматься применительно к случаю Жанны о гал-
люцинациях истерического типа». И Анатоль Франс, по-
26 Jeanne d'Arc la Venerable // Picard M. Vicaire general honoraire de Mgr.
I’archcveque d’Aix / Preface de Mgr. Gouthe-Soulard, archeveque d’Aix. Paris:
E.Dentu, 1894.
254
ложась на такой медицинский совет, отказал Жанне в
исключительности, чтобы причислить ее к серии религи-
озных визионеров и к «множеству других визионеров этого
типа, которых объединяет общность семейного сход-
ства»27. В столь медикализированной и банализированной
интерпретации миссия и дело Жанны утрачивали всякий
сверхъестественный характер. Такого рода психические
расстройства, по мнению многих медиков, могли иметь
физиологические причины. Так, Александр Бриер де Бу-
амон, опубликовавший в 1861 г. работу «Об историчес-
ких галлюцинациях, или медико-психологическое иссле-
дование о голосах и видениях Жанны д’Арк», объяснил
все «органическим расстройством, связанным с переход-
ным периодом от детства к юности, которое было вызва-
но нарушением кровеносной циркуляции». Почти тогда
же доктор Бертран де Сен-Жермен в своей работе «Пси-
хологические заболевания и их связь с философией исто-
рии» (1860) объяснил случай Жанны тем фактом, что она
не обладала всеми женскими «атрибутами» и «чувства-
ми». Вот такие материалистические тезисы и должны
были опровергать католические публицисты.
В книге «Жанна д’Арк» Анри Валлона, вышедшей в
1860 г. (уже цитированной выше), утверждалось, что мис-
сия Жанны д’Арк — небесного происхождения. Но то, что
было высказано им с известной долей сдержанности, в
устах католических и клерикальных авторов приобрело
характер агрессивного манифеста. Иными словами, с тех
пор как была провозглашена светская Республика, Жан-
ну не переставали использовать в качестве заложника в
руках противоборствующих партий. Монсеньор Гонт-Су-
\яр, уже упоминавшийся здесь архиепископ Экса, в 1894 г.
написал следующие строки:
«Жанна принадлежит церкви. Лев XIII написал недав-
но: “Columbus noster est, Колумб принадлежит нам!”. Жан-
27 France А. 1м Vie de Jeanne d'Arc. Paris, 1908.
255
на тоже наша. Никто нс посмеет оспаривать ее у нас. На-
прасно фальсификаторы истории хотели отнять ее у нас,
очернив ее и представив ее галлюцинирующей. Храните
своих великих людей. Отправляйте их в Пантеон: мы не
оспариваем их у вас никогда. Но Жанна д’Арк наша, от
ее первого и до последнего дня, без упрека и без порока.
Joanna nostra est. Святых не обмирщают.»
В 1910 г. некто отец Эроль, автор «Подлинной Жанны
д’Арк», красноречиво ответит Анатолю Франсу в памф-
лете, озаглавленном «Жизнь Жанны д’Арк, придуманная
Анатолем Франсом: памятник сектантского цинизма». В
академике-дрейфузаре, ученике Вольтера, автор сумел
распознать франкмасона:
«Является ли он в самом деле членом масонских лож?
Мне это безразлично, ибо очевидно, что в любом случае
он является пропагандистом самых экстремистских док-
трин этой секты (...) Иными словами, что есть преслав-
ная Орлеанская Дева, как не еще одно подтверждение
истинности христианской веры, запечатленное в деянии
столь же очаровательном, сколь и прекрасном? Тот, кто
не видит в Орлеанской Девственнице Бога-Человека, тот
не понимает ее сути».
Накануне 8 мая 1869 г. в Орлеане монсеньор Дюпанлу
вместе с дюжиной других прелатов, присутствовавших
на празднике, подписали прошение к папе Пию IX по
поводу начала процесса канонизации Жанны. Знамена-
тельно, что этот католический демарш, предпринятый от-
части и по инициативе католиков-либералов, таких как
Дюпанлу и Валлон, был отмечен стремлением избегать
монархических аргументов. Лев XIII удовлетворил про-
шение в 1894 г. Трудно не увидеть в этом политический
жест со стороны папы, решившего поддержать «атаку»
французских католиков на Республику, недавно охвачен
ную «новыми веяниями». Первый этап канонизации был
подкреплен свидетельствами о «чудесах», сотворенных
достославной. Трое верующих, воззвавших к ней, утвер-
256
ждали, что они были исцелены. Папская булла от 18 ап-
реля 1909 г. объявила Жанну «Блаженной». Канонизация
16 мая 1920 г. также рассматривалась в Риме как полити-
ческий акт. Она была призвана возобновить дипломати-
ческие отношения с одной из великих держав-победитель-
ниц. Официальная церковь не отстаивала «божественную
миссию» Жанны, она не подтвердила божественную при-
роду ее «голосов», еще в меньшей степени стремилась она
превратить Жанну в «мученицу», поскольку та была осуж-
дена регулярным церковным судом — «трибуналом инк-
визиции, созданным согласно всем правилам» (Жан Гит-
гон). Жанна стала святой благодаря своей чистоте и сво-
им исключительным доблестям. Ее универсальный харак-
тер возобладал над национальным партикуляризмом. В
результате и у французских католиков, ставших патрио-
тами, а точнее — националистами, вошло в привычку пу-
гать религиозную святую и святую национальную.
В самом деле, изначально превращение Жанны в сим-
вол отчизны в гораздо меньшей степени имело католи-
ческую подоплеку.
Республиканская модель
Восторженная сторонница монархии, всегда приводи-
мая в качестве примера и живого доказательства присут-
ствия сверхъестественного в истории, априори не могла
соответствовать республиканскому духу, возводящему
с вою генеалогию к эпохе Просвещения. «Орлеанская
Дева» Вольтера долгое время после смерти ее автора про-
должала пользоваться успехом. Насчитывается 125 ее пе-
реизданий между 1755 и 1835 гг. А с 1835 по 1881 гг. коли-
чество переизданий сокращается до тринадцати. Интерес-
ный индикатор: философская ирония в адрес Жанны
д’Арк, ее «голосов», ее аскетизма, стала привлекать мень-
ше симпатий. Без сомнения, материалистическое течение
(как мы уже видели) еще создаст негативистские труды,
следуя доктору Кальмею, который в 1845 г. объявил Жан-
257
ну «галлюцинирующей теоманкой» в работе, озаглавлен-
ной «О глупости, рассмотренной с патологической, фи-
лософской, исторической и юридической точек зрения».
Считается, что медикализация случая Жанны д’Арк на-
ходит своих продолжателей вплоть до Анатоля Франса.
Но в его тоне уже чувствуется некоторое уважение: меж-
ду 1840 и 1914 гг. статус Жанны полностью меняется. По-
зитивизм, далекий от того, чтобы оставить юную житель-
ницу Лотарингии эпохе теологов, уделил ей особое место
в своем календаре. Огюст Конт, повернувшийся спиной и
к церкви, и к Вольтеру, потребовал отдать должное «по-
истине несравненной девственнице, брошенной на произ-
вол судьбы беспомощностью теологов, которую даже в
самой Франции осмелился замарать метафизический ци
пизм»28.
Знаменательно, что первые аллюзии Огюста Конта,
связанные с Жанной д’Арк, сорвались с его пера еще в
1841 г., т. е. в том самом году, когда был опубликован
пятый том «Истории Франции» Мишле, в котором рас-
сказывается о правлении Карла VII и об эпопее Жанны.
Это — важнейший этап в истории памяти о Жанне д’Арк.
Базируясь на еще не вполне достоверных источниках —
поскольку важнейшая работа Кишра будет закончена
только в 1849 году — и используя в основном работы
де Л’Аверди, Мишле изменяет образ Орлеанской Девы,
чтобы превратить ее, соединив героизм и народный здра-
вый смысл, в зачинательницу национального чувства. Под
заглавием «Жанна д’Арк», автор объединил 130 страниц,
посвященных ей. Введение резюмирует его восторженный
взгляд на героиню:
«Впервые она (Франция) любима как личность. И она
м Comte A. Discours sur Гensemble du posilivisme ou Exposition sommaire de la
Doctrine philosophique el sociale propre a la grande Hepublique occidenlale. IV-e
partiei «L’Influence feminine du posilivisme», cite dans la brochure Jeanne
d'Arc, sd glorification sociale // ComLe A. Rio de Janeiro, Eglisc et Apostokit
positiviste du Bresil. 1910.
258
становится личностью с того самого дня, когда она стала
любима.
До сих пор существовало некое объединение провин-
ций, необъятный хаос феодов, великая страна без опре-
деленной общей идеи. Но с этого дня силой сердца она
стала Родиной. Прекрасное чудо! Трогательное, потряса-
ющее! Как смогла огромная и чистая любовь юного серд-
ца обнять весь мир, дать ему эту вторую жизнь, ту истин-
ную жизнь, которую способна дать только любовь!
Дитя, она любила всех вокруг — свидетельствуют ее
современники. Она любила все, даже животных, птички
слетались, чтобы поесть прямо из ее руки. Она любила
с воих друзей, родителей, но особенно бедняков. И, ко-
нечно, самым бедным из всех бедняков, самым несчаст-
ным и отверженным, но и самым достойным жалости в
гс дни была Франция.
Как она любила Францию! И растроганная Франция
сама начала любить себя.
Это все очевидно с самых первых дней, когда она по-
явилась перед Орлеаном. Народ забыл об опасностях: этот
восхитительный образ Родины, увиденный впервые, вдох-
новил его и увлек. Народ устремился за городские стены,
развернул свои знамена и предстал пред взором англи-
чан, которые не посмели даже высунуться из своих ук-
реплений.
Запомним навсегда, французы, что наша Родина роди-
лась из сердца женщины, из ее нежности, из ее слез, из
крови, которую она пролила за нас»29.
В рассказе Мишле Бог нс отрицается, а релятивизиру-
ется. Истинный двигатель истории назван — это Народ,
чьим возвышенным воплощением является Жанна. На-
род является основателем Родины, национальной общи-
ны, и Жанна д’Арк, эта бедная дочь труженика, стала
катализатором нового мира. «Эта последняя фигура про-
29 Michelet ]. Jeanne d'Arc. Paris, 1853. Цитируется здесь по переизда-
нию: Paris: Hachette, 1888.
259
шлого стала и первой фигурой того нового времени, ко
торое началось с тех пор. В ней сливаются воедино Свя-
тая Дева и то, что уже стало Родиной».
За что бы ни критиковали Мишле, за его неудержи-
мый лиризм, его экзальтированный стиль или за его до-
кументальные ошибки, его книга стала событием, рево-
люцией в представлениях о Жанне д’Арк и, безусловно,
импульсом для конструирования патриотического мифа,
в котором национализм превращается в карикатуру на
самого себя. Жюль Кишра, занявшийся кропотливой ра-
ботой по изданию судебных процессов, заявляет о влия-
нии, оказанном на него Мишле. И он сам поддерживает
идею о том, что Жанна является основательницей пат-
риотизма:
«Сердца переполняли чувства, однако эти сердца были
разобщены, но стоило слить их воедино, точно так же
как объединить разрозненные силы, существовавшие по
всей территории страны, чтобы случилось чудо, чтобы
создалась единая национальная сила. Именно эти две вещи
свершила во Франции Жанна д’Арк»30.
Другой поклонник Мишле, Анри Мартен, тоже будет
восхвалять «освободительницу Франции». Книга, которую
он посвятил ей в 1856 г., обнаруживает этнологическую
манию в его интерпретативной схеме31. Мартен, обвинив-
ший Карла VII в том, что он предал Жанну «в самом раз-
гаре ее миссии», увидел в ней кельтскую душу, которой
целая научная школа уже приписала демократический
дух minores в противовес духу германской pacer majores,
а именно знати, поверженной Революцией. Франция по
своей кельтской и галльской природе обнаруживает есте-
ственную склонность к свободе. Жанна выражает эту на-
ло Aper^us nouveaux...// Op. cit. Г 21.
31 Martin Н. Jeanne Darc el le ctmseil de Charles VII. Paris, 1856. C 1833 r.,
даты выхода в свет его «Истории Франции», он отошел от «левой»
интерпретации Жанны д’Арк, как это отмечает Г. Крюмеш.
260
циональпую сущность, особенно противостоящую римс-
кому духовенству, этим жалким узникам буквы.
Жанна д’Арк, дочь народа и девственная мать демо-
кратии, получила все свои республиканские атрибуты.
Многие авторы стали писать ее имя как Жанна Дарк, сле-
дуя за Валетом де Вирилем, протестовавшим против
«аристократической формы» патронима «этой славной
простолюдинки», поскольку это затемняло «истинный
облик персонажа». Непонятая, а после и осужденная цер-
ковью, брошенная королем, которого она восстановила
на престоле, Жанна была превращена в воплощение Ро-
дины, а Родина есть имя, которым называет себя Народ
тогда, когда он проникается чувством своей солидарнос-
ти, силы и величия. Изъясняясь еще старым языком, по-
вторяя унаследованные легенды, исполняя древние дея-
ния, она на самом деле символизирует будущее. Борец
против католической иерархии, член сопротивления про-
гив вражеской оккупации, храбрая до безумия, сочувству-
ющая всем угнетенным, светлая разумом без всякого об-
разования, она была героическим восхождением третье-
го сословия, подъемом из безвестности малых, и она пред-
восхищала победный клич Вальми: «Да здравствует На-
ция!». Жорж Гибаль сказал: «Память о ней принадлежит
Франции, всей Франции целиком, Франции обновленной
и освеженной великой Революцией 1789 года». Она, по
его словам, «поборола величайший грех средневековья —
инквизицию»32. Пьер Ларусс в своем «Большом Словаре
XIX века», вышедшем в 1870 г., представил в своей ста-
тье «Жанна д’Арк» точное резюме «левого взгляда». От-
веты, которые он дает в самом лапидарном стиле в своем
заключении на вопросы, оставшиеся для других загадкой,
не вызывают у него сомнений:
«1) Являлись ли Жанне д’Арк в самом деле видения?
(Нет.)
32 Guibal G. Histoire du sentiment national pendant la guerre de Cent Ans. Paris,
1875. P. 476.
261
2) Не являлся ли главным и самым несомненным побу-
дительным мотивом ее действий восторженный патрио-
тизм? (Да.)
3) Каковы были истинные чувства короля по отноше-
нию к ней? (Безразличие и предательство.)
4) Каково было во все времена истинное отношение
духовенства к Жанне? (Помешать ее миссии, погубить ее
и под предлогом реабилитации наводнить апокрифичес-
кими легендами память о ней.)»
Начало Третьей Республики увидело два типа респуб-
ликанского отношения к Жанне. Одно из них, рациона-
листическое и радикальное, в основном стремилось осво-
бодить память о патриотке из Лотарингии от Церкви и
монархии, а более центристское, более оппортунистское,
жаждало превратить Жанну д’Арк в примирительный
символ, возвышающийся над партийными распрями.
Проект учреждения национального праздника Жанны
д’Арк имел многочисленных сторонников. В 1880 г. был
создан комитет гражданского праздника Жанны д’Арк
под руководством Эмиля Антуана и доктора Робине, ко-
торый многократно пытался оказать давление на мини-
стерство образования. Не желая отдать Жанну католи-
кам, они выступили с разоблачением крестового похода,
«в котором знамя Жанны д’Арк развевается как знак по-
ражения Революции, как призыв заменить в обществе Пра-
ва человека властью Бога»33. Всякий мог вступить в коми-
тет доктора Робине при условии, что он является «рес-
публиканцем» и «признает естественную и человеческую
природу деяний Жанны д’Арк». Каждый год распростра-
нялся призыв среди руанцев устроить демонстрацию на
площади Сен-Куен:
«Как может быть не дорога республиканцам эта вели
кая гражданка, павшая жертвой того гнусного союза, ко-
33 Цит. по: Maniez Р. Jeanne. d'Arc: palriolisme el ruilionalisme mi XX-e siecle:
Memoire / InstiLut d’etudes politiques d'Aix-en-Provence. 1986. Dactylo-
graphie. P. 35.
262
горый стал навеки невозможным в результате отделения
церкви от государства? Жанна д’Арк и Республика слу-
жили одному делу, Родине, которая превыше всего, и
встретили общего врага, клерикализм, поставившего дух
касты священников и дворянства выше общественных
интересов»34.
Протестанты, бывшие зачастую вдохновителями рес-
публиканской партии, стремились со своей стороны пред-
ставить Жанну предшественницей Лютера и Кальвина. В
июне 1890 г. в связи с открытием памятника Жанне в
Нанси снова завязывается полемика между историком
Дебидуром, деканом филологического факультета, и мон-
сеньором Тир ина, возмущавшимся эпитетом «светская свя-
тая», который употребил первый. Протестантский пастор,
вмешавшись в спор, произнес в своей воскресной пропо-
веди следующее: «Рим всегда будет относиться к ней по-
дозрительно, и с ортодоксальной точки зрения не без при-
чины. Она была на самом деле столь истинно евангели-
ческой христианкой, что ее судьи нимало не ошиблись,
осудив ее как еретичку»35.
В 1889 г. конгресс свободных мыслителей, состоявший-
ся в Париже, уточнил смысл ежегодного праздника: толь-
ко Республика способна оценить по заслугам эту «несрав-
ненную женщину», явившую собой пример «потрясающе-
го патриотизма». Первый сильный социалистический го-
лос — а именно голос Люсьена Эрра — прозвучит в следу-
ющем году. Он, в свою очередь, заявит свои права на ге-
роиню под эксплицитным лозунгом «Наша Жанна д’Арк».
Библиотекарь Эколь Нормаль, близкий к тем, кто вско-
ре станет «германистами» (социалистами-республиканца-
ми, опиравшимися на идею Коммуны и всеобщей забас-
товки), отвергнет притязания церкви на культ той, кото-
рая была погублена церковниками. Нападая на книгу
34 Цит. по; Marot Р De la rehabilitation... 1* 152.
Ibid. Р 153.
263
Лесиня о «легенде» Жанны, опубликованную в предше-
ствующем году, которая уступала «славную жительницу
Лотарингии» клерикалам, Эрр заявил, на четыре года
опередив тем самым «Joanna nostra est» епископа Экса:
«Жанна из наших, она принадлежит нам, и мы не хотим,
чтобы на нее посягали другие»30. Каковы же были аргу-
менты этого социалиста? Она была выходцем из самого
бедного класса, она заботилась о своих брагьях-крестья-
нах, притесняемых шайками вооруженных людей, «опа
никогда не забывала, что она вышла из народа». Все пре-
дали ее: Карл VII, знать, политики, церковь, теологи инк-
визиции, но не народ. «Она не принадлежит ни монар-
хии, которая не вмешалась и позволила сжечь ее на кост-
ре, ни двору, который способствовал ее сожжению, ни
духовенству, которое сожгло бедную и безграмотную де-
вушку». Лишь народ неизменно верил в нес и она являет-
ся воплощением спасающего самого себя народа: «Пусть
церковь оставит ее нам. У нее есть свои святые, и этим
святым несть числа, и из них нам не нужен ни один».
Совершенно в другом духе молодой Шарль Пеги, тоже
социалист и тоже близкий к Люсьену Эрру, написал и
опубликовал в 1897 г. свою первую «Жанну д’Арк». Но в
этом случае речь идет о книге республиканца-социалис-
та, который вскоре посвятит весь свой энтузиазм битве
вокруг дела Дрейфуса. Посвящение весьма показатель-
но: «Всем тем женщинам и мужчинам, кто погибнет во
имя создания Всемирной социалистической республики»* * 37.
Тогда эта трилогия Пеги привлекла внимание лишь гор-
стки читателей, но она свидетельствует о привязанности
левых интеллектуалов к фигуре Жанны, которую пытал-
ся монополизировать нарождающийся национализм. На-
ционализм, о котором мы будем говорить ниже, не пол-
3(1 Под псевдонимом Пьер Бретон: Breton Р. Le Parti ouvrier. 14 inai.
1890.
37 Peguy C. Jeanne d'Arc, drame en trois pieces If Oeuvres poetiques completes.
Paris: Gallimard, Bibl. de la Pleiade, 1954.
264
костью преуспел в этом намерении, что хорошо видно на
примере тех страниц, которые Жорес посвятил Жанне
д’Арк, особенно в своей большой теоретической работе
«Новая армия», опубликованной в 1910 г. Социалистичес-
кий лидер привносит сюда новый нюанс: Жанна — это не
голос крестьянства: «В ее душе, в ее сознании не было
ничего локального, ничего местного, ее взор устремлен
далеко за пределы полей Лотарингии». При этом Жорес
отнюдь не скрывает религиозного аспекта ее побуждений:
«То, что подымалось в ней, не было возмущением кре-
стьянки. Она хотела освободить всю великую Францию,
чтобы вернуть ее в мир служения Богу, христианской веры
и справедливости. Ее намерения казались ей столь рели-
гиозными и столь великими, что она имела смелость ради
того, чтобы исполнить их, воспротивиться даже самой
церкви и опереться на высшее из всех откровений. Она
сказала докторам, которые заставляли ее подтвердить
истинность ее видений и се миссии святыми книгами: “В
книге Бога содержится больше, чем во всех ваших кни-
гах”. Выдающиеся слова, и они в чем-то противоречат кре-
стьянской душе, вера которой зиждется в основном на
традиции. Но сколь далеки мы здесь от неуверенного,
узкого и сурового патриотизма земельного собственника!
Из самых горних высей лучезарных и сладостных небес
слышала Жанна божественные голоса своего сердца»38.
Начиная с этого момента социалистический взгляд на
Жанну — взгляд Жореса — принимает экуменический, если
можно так выразиться, характер, столь близкий представ-
лениям основателей Третьей Республики. Часто приводят
слова Гамбетга: «Я истинный верующий в Жанну д’Арк».
Он видел в ней прежде всего символ патриотизма в час
вражеского нашествия. Два года спустя после смерти вдох-
новителя защиты отечества, Жозеф Фабр посвятил свою
книгу «Обвинительный процесс» памяти этого великого
w Jaiues J. ЕАттее nouvelle (1910). Paris: Ed. sociales, 1977. P. 325
265
человека. В том же 1884 г. Фабр, депутат-радикал от Авой
рона, возьмет на себя инициативу по созданию законо-
проекта, учреждающего ежегодный праздник Жанны
д’Арк — «праздник патриотизма». В объяснении своих
мотивов он отмечал, что Республика Соединенных Шта-
тов наряду с праздником Независимости имеет праздник
Вашингтона. Точно так же и Французская Республика мо-
жет праздновать наряду с 14 июля (днем, ставшим наци-
ональным праздником с 1880 г.) праздник Жанны д’Арк.
Он может происходить 8 мая, в годовщину освобожде-
ния Орлеана, что лучше, чем в день скорби 30 мая. К
тому же, пожалуй, этот день оказывается слишком бли-
зок к 14 июля. Совершенно сознательно проект выражал
идею национального примирения: «В этот день все фран-
цузы соединятся в благотворном объединяющем энтузи-
азме. Жанна не принадлежит никакой отдельной партии.
Она принадлежит Франции». 250 депутатов — представи-
телей разных политических течений, среди которых были
такие, как Сади Карно, Бароде, Поль Бер, Ран, Клони Юг
(автор сборника поэм, посвященных Жанне д’Арк), Фло-
ке, Аокруа, Камил Пелтан, Констан, Тони Ревийон — под-
писали этот проект. Другой гамбетист, поэт Поль Деру-
лед, который участвовал в основании Лиги Патриотов в
1882 г., поддержит эту идею в своей газете «Знамя» и в
своих гимнастических обществах. Республиканская прес-
са в целом оценила это предложение как хорошо проду-
манное. Но большинство депутатов не поддержало его из
страха, что предлагаемый праздник будет монополизи-
рован духовенством. Став сенатором в 1894 г., неутоми-
мый Жозеф Фабр снова выдвинул свое предложение о
национальном празднике, которое собрало более 120 под-
писей. Представляя проект сенаторам 8 июня 1894 г., пре-
зидент Совета Шарль Дюпюи защищал его в следующих
выражениях: «Праздник 14 июля — это праздник свобо-
ды. Праздник Жанны д’Арк господин Фабр назвал праз-
дником патриотизма. Но его можно было бы назвать и
266
праздником Независимости». Исполненное красноречия
выступление Шарля Дюпюи разоружило тех, кто пытал-
ся забаллотировать проект как недостаточно подготов-
ленный: текст был принят Сенатом. Но пришлось ждать
1920 г., пока Палата депутатов решится конкретизировать
идею национального праздника Жанны д’Арк39.
Итак, республиканская модель в том виде, в каком она
складывалась на протяжении XIX в., оказывается мно-
жественной. «Жесткая» версия радикально противостоит
католической версии: Жанна д’Арк принадлежит демо-
кратии еще до появления самой демократии в силу своей
принадлежности к народу и в силу предательства ее всей
знатью старого режима — и в первую очередь Церковью,
чьей жертвой в конце концов она становится40. Более чут-
кая к своей патриотической составляющей «центристская
версия» стремилась использовать память о Жанне д’Арк
как символический цемент нации, раздираемой нескон-
чаемыми распрями. Близкие к правительству республи-
канцы, старавшиеся в логике Гамбетта сделать режим при-
емлемым для всех, боялись использовать Жанну в анти-
клерикальной борьбе. «Новый дух», диагностированный
Столлером в начале 1890-х гг., атака католиков на Рес-
публику, на что так надеялся папа Лев ХШ, создали в это
время исключительные условия для прохождения закона
Фабра. Но голосование ограничило дело принятием зако-
на Сенатом, поскольку идеологический конфликт между
республиканцами и католиками оставался слишком глу-
боким. Вскоре дело Дрейфуса и его последствия покон-
чат с мечтой о национальном единстве. На сей раз новая
набирающая популярность сила, национализм, бросив вы-
зов парламентскому режиму, начнет усиленно использо-
19 Об этой песостоявшейся попытке Жозефа Фабра см.: Sanson R.
La «fete de Jeanne d'Arc» en 1894: Controverse el celebration//Revue d’ histoire
moderne et conternporainc, 1973. 1973, juillei-septembre.
Показательное название работы: Taxil L. Janne d'Arc, viclime des pretres.
Paris: Librairie anticlericale, 1880.
267
вать память и культ Жанны д’Арк в целях контрреволю-
ции. Миф приобретет исключительный, однозначный и
агрессивный характер: Жанна будет превращена в свя-
тую покровительницу ультраправых.
Националистическая модель
В 1890-х гг. два течения мысли сольются в великом по-
токе национализма, достигшего половодья во время дела
Дрейфуса: христианский патриотизм, исходящий от пра-
вых, и республиканский ревизионизм, сохранившийся от
буланжизма. Католицизм, долгое время приверженный
делу монархии, и, следовательно, полностью порвавший
связи с революционной Францией, относился подозритель-
но к националистическим страстям, которые в его глазах
были чистым продуктом 1789 или 1792 гг. «Патриоты»
той эпохи преследовали духовенство, сохранившее вер-
ность папе, конфисковывали церковное имущество, раз-
рушали или переделывали каменные изваяния Бога и
Девы Марии. Вместе с тем, в течение XIX в. националь-
ное чувство постепенно освобождается от своих изначаль-
ных истоков. Поражение 1871 г. оказало па это определя-
ющее влияние: французские католики, как и другие граж-
дане, разделяли реваншистские идеи. Политической на-
деждой — во всяком случае, для многих из них — остава-
лась реставрация монархии, но последней попыткой рес-
таврации оказался буланжизм, а в 1890 г. они остались
без программы и без единства. С одной стороны, Лев Х1П
убедил их начать атаку на республиканские институты
для того, чтобы изменить атмосферу внутри страны. С
другой стороны, пропасть между ними и революционной
традицией оставалась настолько глубинной, что многие
сочли невозможным примирение в рамках парламентс-
кой республики, полученной из рук франкмасонов. Во
всяком случае, в их глазах Жанна д’Арк стала не просто
фигурой-символом, олицетворяющим их церковь, фигу-
рой, канонизации которой они добивались с 1869 г. Она и
268
для них ci ала такой, какой ее сделал Мишле: святой по-
кровительницей Франции. Так, монсеньор Рикар в своей
книге 1894 г., уже цитированной здесь, воспроизводит сло-
ва отца Монсабре:
«Восславьте в лице Жанны христианский патриотизм
во имя того, чтобы охранить Францию от вооруженных
союзов, которые угрожают ей, во имя того, чтобы она,
памятуя о том, что Иисус Христос есть ее властелин и ее
истинный кормчий, как говорила сама Жанна, смогла,
следуя духу и добродетели этой блаженной и святой девы,
восстановить свои границы, занять надлежащее ей место
в мире и исполнить на ваших глазах свой долг старшей
дочери церкви».
В панегириках духовенства Жанна д’Арк вдвойне дос-
тойна славы как «самый точный образец сверхъестествен-
ного и патриотизма»41, что может быть выражено форму-
лой «Дева Мария дала Франции Жанну д’Арк». Целью
миссии Жанны стало нс только восстановление королев-
ства и мира: она получила национальное измерение.
Параллельно с эволюцией католического мира, часть
самых ярых республиканских патриотов, как известно,
оказалась неудовлетворенной правящим режимом, неспо-
собным довести до конца подготовку реванша. Жизнен-
ный путь Поля Дсруледа служит точной иллюстрацией
дрейфа всего левого национализма (который сам не ис-
пользовал это выражение) по направлению к правому
национализму (не стеснявшемуся так называть себя). Рес-
нубликанец-гамбетгист, вдохновитель Лиги Патриотов, он
убеждается к 1886 г. в том, что возвращение «потеряных
провинций» должно быть подготовлено внузренней по-
литикой. Следует заменить парламентский режим, за-
клейменный как бездеятельный и коррумпированный, ре-
жимом плебисцита, который передаст все свои полномо-
чия исполнительной власти, опирающейся на поддержку
2,1 Meresse Abbe. Em. Jeaniw d’Arc. Cambrai, 1892.
269
масс. Лига становится также одной из самых прочных
опор генерала Буланже. Он провалился на выборах в
1889 г., но на обломках буланжизма вырабатывается ле-
вое крыло того, что позднее станет антидрейфусским на-
ционализмом. К примеру, Морис Баррес в Палате депу-
татов, а затем на страницах «Кокарды», продолжает от-
стаивать идею смены режима во имя самих революцион-
ных традиций. Вспоминая прошлые революции, в том
числе и Коммуну, депутат от Нанси не упускает случая
восславить память о Жанне д’Арк — «святой для всех»,
страстным пропагандистом и адептом культа которой он
вскоре станет.
Французский национализм так никогда и не сможет
стать единым даже перед лицом своих противников-дрей-
фузаров. Сложившийся из разных течений, раздираемый
между сторонниками плебисцитной республики и неомо-
нархистами, обосновавшимися в «Аксьон Франсэз», он,
начиная с дела Дрейфуса и кончая Великой войной, так и
не сможет ни выработать общей линии, ни выдвинуть ха-
ризматического лидера. И все же он окажется способным
внедрить в сознание масс несколько общих клише. Сре-
ди них можно назвать постоянное разоблачение «жидо-
масонского заговора». Обвиняя с помощью представле-
ния об еврейском и масонском заговоре эту национальную
общину во всех несчастьях, националисты таким обра-
зом предлагали простое объяснение бедствиям времени,
способное прийтись по вкусу толпе, что, как они по край-
ней мере надеялись, должно укрепить социальное един-
ство общества и направить всю злобу, вызванную пора-
жениями и несбывшимися надеждами, на заранее вы-
бранную жертву. Антисемитская мифология, вульгари-
зированная Дюмоном в «Кресте» и воспринятая Рошфо-
ром, Жюлем Гереном и другими трибунами, придаст ис-
тинное идеологическое единство национализму в 1900 г.
В светской республике, запретившей конгрегацию иезуи-
тов, изгнавшей Бога из школ, католик мог легко распоз-
270
пать вынашиваемый на протяжении веков запоздалый акт
богоубийства. В режиме казнокрадов простой народ при-
вык видеть руку ростовщика, алчного богача, паука-Рот-
шильда, широко раскинувшего свою паутину. Ученые,
такие как когда-то Ваше де Аяпуж или позднее Жюль
Сури, обнаружили «научную» разгадку мировой истории:
никогда не было другой истории, кроме истории борьбы
рас, вечной борьбы семитов и ариев. Арийская Франция
оказалась под угрозой еврейского нашествия.
Иными словами, чем больше в этой мифологии, в со-
здании которой участвовали католики, социалисты, ан-
тропологи, биологи, приписывалась евреям сатанинская
роль, тем неразрывнее становилась связь светлой фигу-
ры Жанны д’Арк с солнечным светом. И чем больше ев-
рей становился воплощением всего иностранного, по сути
дела, анти-Францией, тем больше восхвалялась Жанна
д’Арк, не столько благодаря своим историческим деяни-
ям, сколько благодаря той французской сущности, кото-
рую она олицетворяла. Четыре главные типа противопос-
тавлений кажутся мне очевидными в различных текстах,
посвященных одновременно Жанне д’Арк и антисемитс-
кому мифу42:
1) Почвенническая природа Жанны, контрастирующая
с еврейским кочевничеством и его городской природой.
Жанна в этой конфигурации представляет собой кресть-
янскую укорененность — традицию, труд, народ, тогда как
еврей персонифицирует отсутствие корней, спекуляцию,
интеллектуальную неприкаянность. Дело Дрейфуса, вуль-
гаризировавшее термин «интеллектуал», который нацио-
налисты противопоставили инстинкту и здравому смыс-
лу, вызвало новое восхваление Жанны д’Арк, безграмот-
ной, но просветленной, подобной спонтанной мудрости
народа — о чем свидетельствуют также надписи на памят-
42 Я опираюсь здесь на мою работу: Jeanna d’Arc el les jufs // Edouard
Drumont et. CK'. Paris: Ed. du Seuil, 1982.
271
нике Анри43,— и в конце концов одерживающей победу
над претензиями Сорбонны. Непрерывность здесь поис
тине поразительная: Сорбонна поддерживала Кошона,
чтобы обвинить Жанну, точно так же, как университа
рии поддерживали Дрейфуса, чтобы обвинить армию.
2) Жанна — олицетворение Родины — является проти
воположностью анти-Франции. То, к чему она стреми
лась,— это национальное единство, тогда как еврей зани
мается развалом французского общества. Она верпа Ро
дине, он предатель. Она объединяет, он разъединяет. Опа
преодолевает противоречия, он их создает. Она защища
ет территорию, он готовит заговор ради завоевания мира.
Для нее — родина есть личность; для него — деньги не
пахнут. Фиксация на Англии конкретизирует антиномию
символов. Истинная жительница Лотарингии стремится
изгнать Англичанина, тогда как еврей несет в себе связь с
коварным Альбионом: начиная с Туссенеля известно, что
иудаизм и протестантизм имеют общую антикатоличес-
кую природу и вместе поклоняются Золотому тельцу44.
Англофобия, один из постоянных элементов французс-
кого национализма (именно 1940 год увидит его возрож
дение), не является ничем иным, как географическим вы-
ражением антисемитизма.
3) Далее, в образе Жанны сила души противопоставля
ется материализму. Как сказал отец Эроль, Жанна явля-
ется «кошмаром для рационализма и для свободомыслия».
Дрейфузарская республика, республика левого блока яв
ляется порождением франкмасонства, хотя и на ней са-
мой паразитирует «еврейство»45.
«Масонство,— пишет аббат Стефан Кубе в 1910 г.,—
полностью приняло наследство, завещанное Кошоном. Не
будучи способно еще раз сжечь Жанну д’Арк, оно стало
преследовать ее память.» Тот же автор, комментируя труд
43 Quiliard Р Le Monument Henry. Haris, 1899.
44 Toussenel. Les Juifs rois de Гёроцие. Paris, 1845.
45 Ayroles R. P. M. Thalanias centre Jeanne d’Arc. Paris, 1905.
272
некоего брата Луи Мартена «Ошибка Жанны д’Арк»
(1896), в котором тот сожалеет, что Жанна помешала ко-
ролю Англии окончательно стать королем Франции, за-
являет: «Этот тезис был благожелательно встречен в ма-
сонских ложах, он был поддержан масонами Мино, Бла-
нетом и Наке. Нечего удивляться, что именно маленький
отвратительный еврей нанес такое оскорбление патрио-
тизму»46. Относительно духовных качеств Жанны все ав-
торы настаивают на ее непорочности и девственности,
тогда как евреи, как говорит Дрюмон, поставляют самое
большое количество проституток в крупные города.
4) Наконец, Жанна — это цвет высшей расы, арийской
расы, практически кельтской по происхождению. Анри
Мартен, впрочем, без намеков на семитов, напишет хва-
лу галльской крови, текущей в жилах Жанны. Эту же
идею разделяет Агатон: «Потомок галльской крови», или
Дрюмон: «Это кельтка в Жанне д’Арк спасла Родину».
Восхищаются ее военной доблестью, тогда как сама воз-
можность сражаться в оружием в руках, повинуясь чув-
ству долга, не признается за евреями. «Только несколько
лет назад,— пишет тот же Дрюмон,— наконец стало ясно,
что еврей — это очень специфическое создание, организо-
ванное отличным от нас образом, функционирующее со-
вершенно не так, как мы, и чьи способности, концепции,
мозг абсолютно отличны от нашего»47.
Этнологическая ненависть конца XIX и начала XX в.
довела некоторых националистов до того, что они, как
Баррес, будучи убежденными расовыми детерминистами,
оказались вынуждены признать, что французы не состав-
ляют единой расы. Это ничуть не помешает мифологизи-
ровать французскую расу, галльскую по происхождению,
которую станет олицетворять собой Жанна, противопос-
тавленная всепроникающему еврейству. Так, Рауль Бер-
ЛЬЬё S. Coube, chanoine honoraire d'Orleans el de Cambrai, Jeanne d'Arc et la
France. Paris, 1910. E 157.
47 Циг. no: Winock Jeanne d'Arc et les juifs.
273
го, автор многочисленных работ, посвятил этой теме свое
исследование «Жанна д’Арк и современная история»,
вышедшее в 1913 г. Сознательно помещая свою работу в
антропологизирующий кадр открыто расистской истории,
он превращает Жанну в «представительницу чистой ав-
тохтонной расы галлов», что, конечно, не было новинкой,
как мы уже видели. Но это клише позволит Берго интер-
претировать «предательство» Кошона в терминах этого
расистского постулата. Для того, чтобы священнослужи-
тель из Бове смог выступить против Жанны, предать на-
циональное дело, послать Орлеанскую Деву на костер,
он должен был быть представителем другой сущности,
другой расы, и все становится на свои места в тот момент,
когда обнаруживается простая истина: «В жилах Кошона
текла еврейская кровь». Опираясь на сомнительные гене-
алогические разыскания, наш автор заключает: «Нена-
висть Кошона к Орлеанской Деве и его симпатия к англи-
чанам прекрасно объясняются: Кошон не предавал свою
родину. Он повиновался инстинкту своего происхожде-
ния. Прежде Родины человек обретает расу»48. Даже край-
не правым авторам пришлось ждать еще добрый десяток
лет, чтобы сделать такого рода заявление, но Берго осно-
вывал свою уверенность на недавних научных открыти-
ях: «Антропология показывает нам, что все наши нацио-
нальные или социальные поступки проистекают из этого
антагонизма между людьми, отличающимися противопо-
ложными инстинктами и являющимися представителями
различных и противостоящих друг другу рас».
Но не является ли реконструкцией историка это пред-
ставление о Жанне д’Арк как об антиподе евреям в мифе,
сфабрикованном антисемитами? Да, если вести речь об
эксплицитной формулировке. В действительности весь-
ма многочисленны такие проявления как общественной
жизни, так и дискурса, в которых националисты спонтан-
Bergoi R. Jeanne d'Arc el Г his Loire moderne. Paris, 1913. P. 87-88.
274
по объединяют в одно лозунги: «Да здравствует Жанна
д’Арк!» и «Долой евреев!». Как если бы эти лозунги явля-
лись взаимодополняющими, двумя сторонами одной ме-
дали49. Французский национализм при всех его смешан-
ных тенденциях разделяет две общие страсти: одну — не-
гативную — декларируемую ненависть к евреям как к «бак-
териологической» опасности, и другую — позитивную —
культ национальной святой в качестве национального
противоядия. То, что она исторически пала жертвой евре-
ев,— не больше, чем гипотеза, которую рискуют признать
лишь самые одержимые из них. Но онтологически в гла-
зах националистов Жанна д’Арк есть Франция, своего
рода соединение всех доблестей «расы», тогда как еврей
есть анти-Фрапция, в силу своей неспособности к укоре-
нению в мире как католическом, так и крестьянском.
Дело Талама в 1904 г. должно было превратиться в
высшую точку присвоения Жанны националистическим
движением50. «Героиня национальная и героиня христи-
анская» (по выражению Ауи Димье), святая Родины пре-
вратилась в знамя националистического натиска, соеди-
нив в своем облике католическую традицию с национали-
стическими страстями. Когда профессор читает лекцию
в лицее Кондорсе, в которой он ставит под вопрос роль
сверхъестественного в истории и объясняет смерть герои-
ни в терминах ментальности эпохи, вдохновители «Аксь-
он Франсез» и их союзники рассматривают это как пре-
красный повод для организации под предлогом патрио-
тического негодования кампании против блока левых сил,
находящегося у власти. 15 декабря 1904 г. по инициативе
«Аксьон Франсез» организуется собрание «против обид-
чиков Жанны д’Арк» в зале Садоводов, по адресу: улица
49 Ср.: Архивы префектуры полиции, уже цитированные (15 мая
1898).
50 См.: Sirinelli J.-F Un boursier conqueranl: Amedee Thtdamas// Bulletin du
centre d’histoire de la France contemporaine de I’Universite Paris-X. 1986.
N 7.
275
Гренель, Париж. Больной Эдуард Дрюмон не смог прий-
ти, но письмо, которое этот антисемит адресует организа-
торам собрания и которое зачитывается публично, ясно
показывает наличие структурного сходства между этими
двумя антагонистическими мифами: мифом о еврее-раз-
рушителе и мифом о Жанне-созидательнице:
«Вы знаете, каковы взгляды мои и моих друзей, и вы
знаете, кто скрывается под именем Врага, который при-
шел на смену захватчику — Англичанину XV в., который
стремится поработить нас разрушительной силой Золота
так же, как Англия стремилась поработить нас грубой
силой железа. Этого Врага мы называем Еврей и Франк-
масон.
Я не хочу сегодня останавливаться на этом, я хочу про-
сто воскликнуть вместе с вами: “Да здравствует Франция!
Слава Жанне д’Арк!”»51.
И участники этого собрания, призванного защитить
память Жанны д’Арк, отвечают на это криком: «Долой
евреев! Долой франкмасонов!». Память Жанны превра-
тилась в охотничье угодье для антидрейфузаров: «Этот'
факт,— писал антисемит Гастон Мери,— во всяком слу-
чае, заслуживает внимания, потому что только те авто-
ры, которые сегодня являются сторонниками английских
обвинений против Жанны д’Арк, являются одновремен-
но именитыми дрейфузарами»52.
Следуя этой логике, нечего удивляться тому, что с мо-
мента выхода в свет в 1910 г. книги «Таинство милосер-
дия Жанны д’Арк», единственной работы Пеги, которая
имела успех при его жизни, глашатаи антидрейфузарско-
го национализма стали создавать сомнительную славу ее
автору. Он сам, это правда, порвал со своими бывшими
друзьями-социалистами и стал ближе к католицизму,
и поэтому он может быть рассмотрен как переходная
51 Winock М. Op. cit.
52 Mery G. De Cauchon a Thalamus // La libre Parole. 1904. 2 decembre.
276
фигура, тем более значимая для партии, потерпевшей по-
ражение в деле Дрейфуса, что он сам был одним из наи-
более горячих сторонников дрейфузаров. 28 февраля
Морис Баррес задал эту тему в «Эхо Парижа». Дрюмон
15 дней спустя развил ту же тему в «Свободном слове» со
следующим выводом: «Итак, дети мои, разве мы не были
правы?». Жорж Сорель — бывший дрейфузар, перехо-
дящий к национализму, тоже придет к сходным выво-
дам: «Бывший дрейфузар отстаивает право патриоти-
ческих идей направлять современную мысль». Как будто
Пеги-дрейфузар не был патриотом! Как сказал Жорж
Ги Гран, противник национализма: «Эти “Таинства” бы-
ли превращены в предлог для того, чтобы объявить о
банкротстве гуманизма, дрейфузарства, демократии.
Слишком здорово. Ведь Пеги был патриотом и тогда,
когда он был дрейфузаром»53. Пеги сам чувствовал необ-
ходимость объясниться, что он и сделал в одной из самых
сильных своих работ «Наша юность», где он высоко и ярко
оценил «чудо» дрейфузаров, и где он создал замечатель-
ный портрет Бернара Лазара, неизвестного и бесстраш-
ного инициатора пересмотра дела. Благодаря Пеги и
Жоресу, этим братьям, ставшим врагами, но тем не ме-
нее единым в своей любви к человечеству, республиканс-
кий идеализм воспрепятствовал полному захвату памяти
о Жанне д’Арк антисемитским и антидрейфузарским на-
ционализмом.
Между 1840 и 1914 гг. три модели, три архетипа, три
конфигурации Жанны д’Арк обрели свои основные фор-
мы. В первый раз длительный конфликт между старой и
новой Францией, той, которая вышла из католической
монархии, и той, которая произошла из республиканской
демократии, противопоставил миф о посланнице Небес
53 По поводу комментариев, вызванных «Мистерией» Пеги, см.:
Laichter F. Peguy el ses Cahier de lei Quinzaine. Paris: Ed. de la Maison des
sciences de I’homme, 1985.
277
мифу о дочери народа, религию Церкви — религии Роди-
ны. Но при триумфальной Третьей республике эта светс-
кая составляющая претерпела серьезную трансформацию.
Новые правые, соединившие в своей идеологии католи-
ческое наследие и национальное мессианство, антисемит-
ский популизм, антипарламентаризм и антиинтеллектуа-
лизм, стремились, и в известной степени преуспели в этом,
монополизировать память о Жанне. Баррес, Морас, Дрю-
мон, Рошфор, Копе, Деметр и им подобные занялись пре-
вращением дела Жанны в их собственное дело. Их стрем-
ление, однако, не увенчалось полным успехом. Жанна со-
хранила для многих республиканцев-антидрейфузаров
другой смысл, и почтение, с которым они к ней относи-
лись, имело другие причины. XX век, открывшийся взры-
вом первой мировой войны, вновь показал многообразие
функций памяти о Жанне.
III. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ
Упоминание о Жанне д’Арк в XX в. редко бывает бес-
страстным. В то время как множились исторические ис-
следования, посвященные героине54 из Лотарингии и
ее эпохе, государственные мужи и политические партии
использовали память о ней в двух целях: для объедине-
ния французов или же, напротив, в партийном соперни-
честве.
Объединительная функция
Морис Баррес, в свою очередь предложивший в декаб-
ре 1914 г. законопроект, имевший целью установить на-
циональный праздник Жанны д’Арк, писал в своих «Час-
тных записках»: «Ее культ родился вместе с нашествием
на Родину, она является воплощением сопротивления
54 См. в особенное™ библиографию в: Pernoud R., Clin M.-V. Op. cit.;
Les Proces de Jeanne d’Arc / Presenles par Georges et Andree Duby. Paris:
Gallimard-Juillard, coll. «Archives», 1973.
278
против иноземщины»55. Война 1914-1918 гг. была тем са-
мым событием, которое превратило в единодушный по-
рыв поклонение стя1у Орлеанской Девы. Во времена на-
ционального согласия враг уже больше не принадлежал
к числу французов: на нем была остроконечная немец-
кая каска. В то время как пасторы вверяют Францию
покровительству Жанны («Ничто не потеряно, когда на
небесах есть заступница-освободительница, еще более мо-
гущественная там, чем на земле», по словам Стефана Ку-
бе), министры и глава правительства более светским язы-
ком ставят ее в пример как образец доблести и храброс-
ти. Победа 1918 г., за которой последовало присоедине-
ние восточных провинций, дала, наконец, блестящий по-
вод соединить Республику и Жанну д’Арк и реализовать
стремление Фабра, подхваченное Барресом. Депутат Па-
рижа и президент Лиги патриотов, объясняя 14 апреля
1920 г. мотивы представления своего законопроекта, ска-
зал своим коллегам следующее:
«Нет ни одного француза, к какой бы религиозной,
политической или философской конвенции он не принад-
лежал, в ком Жанна д’Арк не вызывала бы глубочайше-
го поклонения. Каждый из нас может персонифициро-
вать в ней свой идеал. Вы католик? Это святая и мучени-
ца, которую Церковь только что вознесла на свой алтарь.
Вы роялист? Это героиня, короновавшая сына Святого
Людовика галликанским помазанием в Реймсе. Вы отри-
цаете сверхъестественное? Ни один человек никогда не
был таким реалистом, как эта верующая: она практична,
критична по отношению к власти и насмешлива, как лю-
бой солдат наших походов. Для республиканцев это дитя
народа, превосходящая своим величием всякие пределы
величия. Наконец, социалисты не могут забыть, как она
говорила: “Я послана в утешение нищим и убогим”. Итак,
все партии MOiyr считать себя преемниками Жанны д’Арк.
5:> Foch М., Barres М. et.A. Jeanne d’Arc, Paris, 1929.
279
Но она не сводима ни к одной из них. И ни одна из них не
может целиком забрать ее себе. Поэтому сегодня вокруг
ее знамени может произойти, как и пять веков назад, чудо
национального объединения»56.
24 июня 1920 г. праздник Жанны стал официальным
государственным праздником: «Французская республика
ежегодно отмечает праздник Жанны д’Арк, праздник
патриотизма». И это несмотря на то, что папа Бенедикт XV
канонизировал Жанну д’Арк 16 мая того же года, в при-
сутствии 15 тыс. французских паломников, б французс-
ких кардиналов, 69 архиепископов и священников, тогда
как французское правительство было представлено чрез-
вычайным посланником в лице Габриеля Аното. Священ-
ный Союз, за которым последовала победа на выборах
1919 г. национального блока, сделал возможным это фран-
цузское объединение во имя уже точно ставшей святой
Жанны д’Арк.
В 1921 г. при председательстве з Государственном Со-
вете Аристида Бриана были возобновлены дипломатичес-
кие отношения между Францией и Ватиканом. Победа на
выборах в 1928 г. Национального Союза, возглавляемого
Раймоном Пуанкаре, обеспечила доброе согласие между
представителями государства и посланниками церкви для
празднования пятисотлетней годовпцшы со дня освобож-
дения Орлеана. В следующем году Гастон Думерг, при-
надлежавший к реформистской церкви, стал первым с
момента отделения церкви от государства главой фран-
цузского государства, который принял участие в офици-
альной мессе. Речи обеих сторон имплицитно подтверж-
дали это сближение церкви и государства. Габриель Ана-
то, историк Жанны д’Арк, извлек следующий урок из
праздничных церемоний в Орлеане: «В этот день нацио-
% Предложение о внесении законопроекта о создании националь-
ного праздника Жанны д’Арк — праздника патриотизма см.: Chambre
des deputes. Douzieme legislature. Session de 1920. Annexe au proces - verbal de
la 2e seance du 14 avril 1920//Journal officiel. 1920. N 699.
280
пального праздника все силы страны оказались представ-
лены. Вот вокруг Президента и правительства республи-
ки духовенство, вот армия, вот народ, вот представители
глав министерства обороны. Если Фош не присутствует
здесь, то он все равно участвует в этом: потому что идея
не умирает, душа бессмертна благодаря верности, патри-
отизму и вере». В 1931 г. на месте Старого рынка в Руане,
на сей раз по случаю пятисотлетия со дня смерти Жанны
д’Арк, Раймон Пуанкаре увидит в ней «образ живой Роди-
ны». Жанна д’Арк точно так же, как и перемирие! 1 ноя-
бря, превратится в одну из ключевых фигур риторики
соединения, союза, солидарности французов перед лицом
внешней опасности и вызова века.
Эта символика была призвана выйти за пределы узко
национального кадра. Сам Баррес писал в своих «Част-
ных записках» в 1920 г.: «Сегодня после войны стало по-
нятно, что эта девушка несет в себе эмбрион общества
объединенных наций, того патриотизма, который с ува-
жением относится к родине другого ради того, чтобы ува-
жали его собственную родину». Многие комментаторы
упоминают также об универсальном значении памяти Жан-
ны. Точнее, в 1970-х гг. ее имя будет использоваться для
создания европейского единства. Рожер Секретэн, мэр
Орлеана, напишет 8 мая 1977 г. в «Республике Центра»
следующее: «Сама того не ведая, Жанна д’Арк работала
для объединенной Европы, потому что она была объеди-
нительницей». В воскресенье 13 мая 1979 г. многие депу-
таты обратятся к Жанне за поддержкой общеевропейс-
кой идеи: «Жанна,— заявил сенатор от Вогезов Альберт
Вуалькен,— Жанна, которая помогла нам объединить
Францию, позволит нам создать завтрашнюю Европу».
Спустя 15 дней в Руане по случаю открытия Мемориала
Жанны д’Арк президент Жискар д’Эстен призовет моло-
дежь Франции «идти в мир, чтобы научиться распозна-
вать с помощью диалога и обмена общие истоки того, что
станет веком сосуществования». Больше нет пределов для
281
объединительной функции: Жанна д’Арк должна возгла-
вить объединение всей планеты.
Но весь этот транснациональный дискурс звучал очень
редко до 10 июня 1979 г., даты первых выборов в евро-
пейский парламент, имеющий целью создать всеобщее
единство. Объединительная функция стала сомнительной:
не находимся ли мы теперь в логике партийной инстру-
ментализации памяти Жанны? На это жалуется читатель
«Монда»: «Бедная Орлеанская Дева, бедная Жанна Фран
цузская, бедная Святая Жанна д’Арк, тебя используют
точно так же, как это делает мамаша Дениза при прода-
же своей стиральной машины,— для того, чтобы добиться
избрания максимума французских кандидатов по обще-
му списку на европейских выборах»57. На деле под мар-
кой единства после 1920 г. продолжалась мобилизация
воспоминаний о Жанне сторонниками лиг и партий. Да-
лекая от того, чтобы остаться геометрическим местом пат-
риотизма, как toi o хотел законодатель 1920 г., шпага Жан-
ны д’Арк продолжала участвовать в защите партийных
интересов.
Идентификационная функция
В период между двумя мировыми войнами из всех сло-
жившихся политических групп «Аксьон Франсез» стала
самой динамичной наследницей антидрейфузарского на-
ционализма. Жанна д’Арк была их коньком — анти-Ма-
риаппой par excellence. Моррас смог извлечь из ее исто-
рии тот политический урок, который озарил все его дви-
жение: позаботившись о коронации короля в Реймсе даже
до одержания победы над захватчиками в войне, она про-
демонстрировала справедливость железного закона «По-
57 Guggenheim J. Pauvre Jeanne И Le Monde. 1979. 27-28 mai. Эта цита-
та и две предшествующие являются выдержками из документов, опуб-
ликованных Грегоаром Мило в его дипломной работе па звание маги-
стра: Jeanne d'Arc est-elle de droile ou de gauche?/ Universite de Paris-1. Paris,
1986.
282
литика прежде всего!». Политическая конъюнктура дава-
ла много поводов монархистам и поборникам «Аксьон
Франсез» прибегнуть к кулакам, как это было во время
дела Талама. Во время праздников Жанны д’Арк в 1925
и 1926 гг. коалицией левых в Париже были запрещены
процессии, и потасовки у статуи на Площади Пирамид
свидетельствовали об актуальности этих запретов. Осуж-
дение идей Морраса папой Пием XI в 1926 г. должно было
положить предел той эксплуатации имени Жанны д’Арк
в «Аксьон Франсез», которая развивала тему «невинно
преданной». Две работы встали на защиту этой идеи про-
тив Рима: «Жанна, еретичка и святая» Жоржа Бернано
(1929) и «Размышления о политике Жанны д’Арк» Шар-
ля Морраса (1931). Жанна, как и «Аксьон Франсез», была
предана анафеме невежественной церковью. В ожидании
снятия запрета папой Пием XII в 1939 г. Жанна преврати-
лась в символ антиклерикальной независимости56 * 58.
Не было ни одной лиги, которая в период между дву-
мя мировыми войнами не заявляла бы о своем праве на
Жанну д’Арк. Так, Жорж Валуа, основатель движения
«Фасций», изобретатель французского фашизма, в 1925 г.
писал: «Если бы Жанна д’Арк вернулась, она пошла бы
войной на расхитителей народного добра и, наконец, при-
несла бы мир и справедливость труженикам. Справедли-
вую зарплату рабочим. И величие Франции»59. В поиске
политической формулы, которая могла бы соединить «со-
циальное» и «национальное», Валуа организовал 22 мая
1927 г. огромное собрание в Домреми: «Мы пришли в
Домреми,— напишет он в издаваемой им газете.— Это один
из лучших дней фашизма. Почему мы пришли в Домре-
ми? Чтобы выразить свою французскую волю королю Ан-
глии, британскому парламенту и манчестерским торгов-
56 См.: Hanna M. Iconology and ideology: images of Joan of Arc in the idiom of
the Action Francaise, 1908-1931 // French Historical Studies. 1985, automne.
Vol. XIV, N 2.
59 Valois G. Le Fascisms. Paris, 1927. P. 82.
283
цам. Чтобы подтвердить, что мы представляем собой ве-
ликое движение французского народа»60. В тридцатые
годы умножение лиг приводит к тому, что Жапне прихо-
дится расширять ряды своих протеже. Пьер Тэттингер
отдал под ее покровительство «Молодых патриотов».
«Огненный Крест», «Национальная солидарность» — ни
одно ультраправое движение не прошло мимо ее культа.
Она оказывалась во главе всех антипарламентских ше-
ствий, будь то роялисты, фашисты или национальные
волонтеры. В марте 1932 г. скульптор Максим Реаль дель
Сарт, инвалид войны, постановщик «Жанны на костре» в
Руане, последователь «Аксьон Франсез», задумал создать
«Ассоциацию соратников Жанны д’Арк», открытую для
разных политических тенденций. Кроме как по случаю
официальных государственных праздников, Святая ро-
дины перестала покидать пенаты ультраправых.
Со своей стороны католическая церковь, ободренная
канонизацией 1920 г., стремилась всячески защитить
Жанну от попыток официальной секуляризации. Церк-
ви, посвященные Святой Жанне д’Арк, множились. Ка-
толические благотворительные организации часто укра-
шаются ее именем. Развитие движения католических бой-
скаутов, начавшееся в 30-х гг., предоставило другую воз-
можность внедрить образ антилибералыюй Жанны д’Арк
в среду молодежи61. Ее использует отец Допкер, мечтаю-
щий о «духовном возрождении страны». 1930 год — ре-
кордный в использовании имени Жанны д’Арк в назва-
ниях бойскаутских организаций. В том же году тот же
священник основывает «Записки кружка Святой Иоанны»,
направленные на религиозное образование руководитель-
ниц движения. Но клерикальная вульгаризация стремит-
ся представить Жанну в розовом свете. Вот как это пере-
живает Робер Бразийак: «Мы умоляем французов не пре-
(i0 Idem. Notre slide. 1927. 29 mai.
GI Maniez P Op. cit. P 75 sq.
284
вращать самый высокий символ их расы в благонамерен-
ную героиню благотворительной организации»62.
Журналист газеты «Всюду я» имел возможность не-
однократно убеждаться в том, что Жанна и в эти предво-
енные годы продолжала питать антисемитские настрое-
ния и поддерживать ненависть к масонам. Вот, например,
два документа из Орлеана, в которых можно увидеть та-
кое же функционирование образа Жанны как инструмен-
та исключения, что и в период дела Дрейфуса. Листовка
1939 г. позволяет обнаружить кольчугу, скрытую под ее
одеждой («Та, которая персонифицирует Французскую
расу, выбрасывая Иноземца из Франции»). На ней в окру-
жении четырех шестиконечных звезд находится надпись:
«Армия: Генерал Блок, еврей. Правосудие: господин Се,
еврей. Парламент: Жан Зе, еврей. Муниципалитет: мэр
Леви, еврей». Комментарий: «В историческом граде ев-
реи, ставшие во главе армии, правосудия, парламента,
муниципалитета, впишут первую страницу упадка в нашу
историю». В том же году, незадолго до традиционных го-
родских праздников, когда под председательством Аль-
берта Лебрена должна была представляться работа Кло-
деля, афиша с подписью «Опутанная Франция» — назва-
ние антисемитского журнала Даркье де Пелльпуа — про-
возглашала: «После захвата Орлеана евреями, Жанны
д’Арк — еврейкой Идой Рубенштейн, гвоздем этих тор-
жеств является постановка “Жанна д’Арк” Поля Клоде-
ля, с участием еврейки Иды Рубенштейн, франкмасона
Жана Ев ре и с музыкальной композицией еврея Артура
Оннсгера»63.
Вторая мировая война, поражение и оккупация еще
больше вдохновили перо фашистского писателя: Жанна
была призвана ст ать оружием национальной революции,
не будучи при этом оставленной без внимания самыми
62 В г as il 1 ас h R. Pour ипе meditation sur la raison de Jeanne d'Arc // Jc suis
partout. 1938, 13 mai.
63 См. заключение в дипломной работе Манье. Maniez Р. Op. cit.
285
ярыми сторонниками коллаборации. Многие атрибуты
Жанны д’Арк позволяли превратить ее в идеологическую
патронессу французского государства. Доктрина «Возвра-
щения к земле» хорошо сочеталась с ее провинциальным
происхождением: «Это местная жительница, дочь крес-
тьянина,— писал А. де Сарро.— Она выросла крестьян-
кой, доброй крестьянкой Франции, жизнестойкой и прак-
тичной, с веселым юмором»64. Бразийак сам противопос-
тавил Жанну павшему жидомасонскому режиму: «Жан-
на не принадлежит власти денег, идеологам, ложным за-
щитникам разложившейся цивилизации, потому что она
принадлежит вечной юности и жизнетворной энергии».
Англофобия снова расцветает в самом сердце национа-
листических страстей: «Англичане еще больше, чем в
XV в. желают разрушить Францию как единую нацию,
великую и свободную». Дорсе, журналист из «Всюду я»,
выражающий эту ненависть к Англии в момент союзни-
ческих бомбардировок, предшествовавших Освобожде-
нию, приводит сравнение, кажущееся ему неизбежным,
между девой-спасительницей Родины в XV в. и марша-
лом, другим гением, дарованным Франции: «Та же мысль,
тот же инстинкт вели за собой эту совершенно юную и
совершенно простую крестьянку и великого старого сол-
дата к их общей исторической судьбе. Оба они обладали
чувством единства Франции»65. Тем чувством единства,
которое в вишистском случае заставило заочно пригово-
рить к смерти вождя Свободной Франции. Но достига-
лось это не без противоречий. Жанна д’Арк, благослов-
ляющая монту ар скос рукопожатие и укрепляющая анти-
семитизм пронацистского толка, переживала один из са-
мых мрачных периодов своей посмертной жизни. Прав-
да, что некоторые публицисты выволокли на свет леген-
64 Эта и последующие цитаты взяты из: Winock М. Op. cit.
65 Dorsay. Toule la France derriere Petain conlre Г Anglais // Je suis parout.
1944. 13 mai.
286
ду о Кошоне — «представителе еврейской расы»: Жанна
была убита евреями и англичанами, так что только спра-
ведливо, если опа поддерживает их противников! В куп-
летах против интеллектуалов тоже не было недостатка:
«Как голлисты сегодня,— писал Морис Пюйо в мае
1944 г.,— интеллектуалы Парижского университета той
эпохи все получали из Англии». Филипп Петен, которого
его положение заставляло быть более осторожным, удо-
вольствовался тем, что создал союз под эгидой Жанны
д’Арк и дал отпор сиренам с другого берега Ламанша:
«Заткните уши при звуке чужеземной пропаганды и ша-
гом марш за вашим командиром».
Сопротивление и Свободная Франция тоже использо-
вали имя святой воительницы. Но менее систематично.
Скорее уже в момент Освобождения и в последующие
годы де Голля буду сравнивать с Жанной. Листовки и
запрещенные журналы, как коммунистические, так и
христианские, тоже будут полны таких аллюзий. Клод
Верморель осуществил в 1942 г. постановку «Жанна д’Арк
с нами», которая была снова повторена в 1946 г. Поэзия
со своей стороны тоже приняла в этом участие, свиде-
тельством чему является поэма «1940» Жюля Сюпервьей-
ля, который закончил ее следующими словами:
Жанна, разве ты не знала, что Франция побеждена,
Что враг захватил ее большую часть,
Что это хуже времени, когда ты боролась с Англичанином,
Когда даже небо для нас закрыто и безысходно?
Победоносная, ты среди нас,
Неподвластная костру, который горит и сейчас,
Научи нас не сжигать себя каждый день
И не умереть от скорби быть в этом мире**.
Победа мая 1945 г. чудесно совпала с датами коммемо-
рации Жанны. Глава Временного правительства мог по-
ставить национальное примирение под штандарт Жанны.
66 Supervielle J. (1940)//Controverse sur le genie de La France, cinquietne
Cahier du Rhone. Neuchatel: La Baconniere, 1942.
287
Война в Алжире стала новым поводом для возобновле-
ния националистического функционирования образа Ор-
леанской Девы. В память о процессе реабилитации пре-
зидент Республики Рене Коти 24 июня 1956 г. произнес в
Руане важную речь, в которой он не замедлил подхва-
тить некоторые темы националистической традиции, по-
нося «утонченные словоблудия» «великих интеллектуа-
лов» и противопоставляя им «национальный инстинкт»
«бедной крестьянки из Лотарингии»'17. В январе 1957 г.
генерал Вейган, Леон Берар, Андре Фроссар, Гюстав Ти-
бон и некоторые другие дали жизнь «Альянсу Жанны
д’Арк». Его целью была борьба против «исторического
разделения», которое угрожало Франции: «При имени
Жанны д’Арк,— читаем в листовке этого движения,— аль-
янс под руководством генерала Вейгана решил вступить
в борьбу против всех видов вымысла, против идеологий,
разрушительных для человеческого достоинства, против
многочисленных принижений со стороны тех, кто спеку-
лирует на трудах и страданиях, из которых состоит фран-
цузское наследие». Мобилизация памяти об истинной жи-
тельнице Лотарингии в колониальной войне не была под-
держана французским духовенством. Пьер Гажак в жур-
нале «Католическая Франция» должен был констатиро-
вать, что, по мнению большинства пасторов и католиков,
«если бы она вернулась к нам, она была бы безусловно на
стороне восставших». Позднее, в 1981 г., Режип Перну,
одна из наиболее известных историков Жанны д’Арк, ос-
новательница центра в Орлеане, выразилась абсолютно
ясно: «Жанна д’Арк становится все более и более понят-
ной в наше время, в эпоху освобождения народов и кон-
ца колониализма» °8.
В то же самое время Жан-Мари Ле Пен, ветеран Индо-
китая и Алжира, бывший депутат пужадист, основатель
1,7 Coty R. Discours prononce a Rouen, le 24 juin /956//Memorial...
Maniez P. Op. cit.
288
и президент Национального фронта, занялся восстанов-
лением культа Жанны в крайне правой версии национа-
листической традиции. Начиная с 1979 г., он и его сторон-
ники возобновили шествия камелотов короля и других
довоенных лиг вокруг статуи Фермье, по улице Риволи и
площади Пирамид. Рост популярности движения, начи-
ная с 1984 г., придает ежегодному ритуалу агрессивный
характер и создает условия для возникновения новой пра-
вой и популистской риторики. На сей раз Жанна призва-
на спасти Францию от новых «захватчиков», а именно, от
эмигрантов. Вместе с ними принижаются политический
класс и официальная церковь и воссоздаются традиции
лиг и Виши:
«Вы были священной, простой, доброй женщиной! И
народ отважных борцов с оккупантами, каким является
наш народ с 1944 г., должен был бы (сегодня более, чем
когда бы то ни было, если бы он был этого достоин) уз-
нать себя в Вас! Вместо того, чтобы восхищаться снобис-
тски, тупо, ио-бараньи злобными гарпиями банды Бааде-
ра, красных бригад, прямого действия, этими гнусными
мегерами, которые хотели заставить содрогнуться все
человечество, чтобы выполнить волю Ада!
Но вы есть сама чистота, а этот век нечист. Но вы являе-
тесь символом патриотизма, и поэтому считается хоро-
шим тоном плевать на наше знамя. Но вы являетесь, пос-
ле Пресвятой Девы, второй покровительницей Франции,
и даже наши епископы больше не вспоминают об этом»69.
Но, как важно утверждают руководители Националь-
ного фронта, Спасителя надо ждать из самого сердца
разложения. Жан-Мари Ле Пен и есть тот, кто нам ну-
жен.
Итак, из трех моделей, возникших в XIX в., национа-
листический архетип является наиболее сильным. Като-
69 Domcnech G. Supplique a Jeanne d’Arc // National Hcbdo. 1987. 7 mai.
N 146.
289
лики, примирившись с республикой, сохраняют лишь не-
значительный культ Жанны, ничуть не более важный, чем
культ других святых. Левые республиканцы славят ее все-
гда, если представится случай: Франсуа Миттеран пред-
седательствовал на праздниках в Орлеане в 1982 г. («Ког-
да вырывается крик из застенка, из концентрационного
лагеря, из ссылки или крик нужды, его эхо разносится по
всей планете, и он горячо взывает к Жанне!»). Только на-
ционализм, возрождающийся в 1980-е гг., подхватил ста
рый захватнический лозунг: «Joanna nostra est!». Полити-
зация памяти о Жанне д’Арк практически не прекраща-
лась с 1431 г.
Идея Франции
Если память о Жанне в основном сохранялась благода-
ря распрям сторонников тех или иных политических те-
чений, которые могли деформировать историческую ре-
альность и даже превратить ее в карикатуру, в не мень-
шей степени правда и то, что независимо от полемики и
различных использований легенда об эпопее Жанны вне-
сла свой вклад в становление в сознании определенной
идеи Франции на полдороге между мифом и историчес-
кой истиной. Три элемента, всегда взаимосвязанные меж-
ду собой, формируют систему репрезентаций, в которой
история Жанны приобретает парадигматический харак-
тер:
1) Франция всегда была разобщена. Война между Арма-
ньяками и Бургиньонами есть не что иное, как отдален-
ный отголосок галльских противоречий во времена Цеза-
ря и Версингеторикса. Анархия является субстанциональ-
ным элементом Франции, какой бы она ни была — пле-
менной, феодальной, интеллектуальной или популист-
ской, правой или левой. Неистребимый индивидуализм —
как личности, так и группы — никогда не переставал ос-
лаблять защиту страны и ее социальное единство. Более
того, перманентное противостояние двух лагерей, двух ре-
290
лигий, двух партий не прекращалось ни при каком режи-
ме. Французы не любят друг друга. «Это королевство,—
сказал о Франции Мориак в 1968 г.,— никогда не переста-
нет противостоять самому себе»70. Франция — это граж-
данская война, иногда скрытая, иногда явная, но постоян-
ная.
2) История Франции - это чудо. Если несмотря на все
свои противоречия и противостояния, свои внутренние по-
стоянно возрождающиеся войны, Франция фигурирует в
числе тех наций, которые можно перечесть по пальцам и
которые правили миром всегда, с незапамятных времен
возникновения христианства, то это потому, что она на-
ходится под особым покровительством Провидения. Эта
«старшая дочь церкви» (для католиков), эта земля благо-
словенная богами (для язычников), это святилище Рево-
люции и Прав человека (для левых), эта королева и кре-
стная мать народов (для Мишле и Пеги) принадлежит к
сфере сакрального. Французы не любят друг друга, но
они любят Францию. «Со средневековья,— писал Курци-
ус в 1932 г.,— Франция для своих жителей является “ми-
лой Францией”, “красивой страной”, “самым прекрасным
королевством под небесами”. Почва родины является для
французов не только землей предков и матерью-корми-
лицей нации. Она является к тому же самой лучшей час-
тью света, избранной страной благодаря своей красоте,
мягкости и плодородности»71. Эта идея избранности Фран-
ции, избранности как божественной, так и природной,
находит свое дополнение в идее ее «вечности», ее непре-
ходящего характера, в ее незаменимости для остального
мира. Отсюда — два постоянных и одновременных дис-
курса: а) Франция находится в упадке (по причине своих
внутренних противоречий); 6) Францию спасет чудо. «То
была полнейшая анархия,— писал Леон Блуа,— с бесчис-
70 Mauriac F. Le. Dernier Bloc-notes, 1968-1970. Paris: Flammarion,1971.
P.69.
71 Curtins E.-R. Essais sur la France. Paris: B. Grassct,1932. P. 70.
291
ленными толпищами, всегда алчными и опасными, полны-
ми все новых монстров, злобе которых не могла противо
стоять никакая достойная сила». И вот появляется Жан
на: «Радостная, зрелая, великая душа! Удивление и недо-
умение англичан было несказанным. Франция казалась
им умирающим телом, если не вовсе уже умершим, и вот
какой она явилась вдруг, вся цветущая молодостью»72.
3) Человеку ниспосланный Провидением. Поскольку беды
Франции структурно предопределены, то спасения следу-
ет ждать от конъюнктуры. Эта последняя воплощается в
Спасителе, мужчине или женщине, которые остановят
страну на краю пропасти, куда она постоянно готова
упасть. «Этой особой привилегией Франции является
чудо,— писал опять же Блуа.— Каковы бы ни были ее пре-
дательства или преступления, она проходит по лезвию
ножа. Итак, смотрите и внимайте! У Бога есть только
Франция! Если она погибнет, Вера, может быть, и сохра-
нится где-то на другом краю света вместе с трепещущим
Милосердием, но больше нс будет Надежды!»73 Парал-
лельно можно вспомнить и революционную эсхатологию
левых, вечно ожидающих день Икс, точку магического «раз-
рыва», начиная с которого гармоничное общество станет
реальностью.
Мориак, искавший в течение многих лет того, кто смо-
жет спасти нацию от порчи, писал летом 1958 г.: «То, как
в прежние времена использовалось выражение “человек,
ниспосланный Провидением”, сделало это выражение
смешным. Это не мешает тому, что в определенные мо-
менты История всегда производила из себя самой, во зло
как и во благо человека, с помощью которого она может
воплотить себя»74. В определенный момент де Голль, ко-
72 Bloy L. Jeanne d'Arc el I’AUemagne. Paris, 1915. (Reed, in Oeuvres de
Leon Bloy) Paris: Mercure de France, 1969. Vol. IX. P. 175, 177.
73 Ibid. P. 178.
74 Matiriac F. Le Nouveau Bloc-noles, 1958-1960. Paris: Flanimarion, 1961.
P 105. Выделено нами.
292
торого часто сравнивают с Жанной д’Арк, должен был
выполнить эту миссию. В дни «великой печали» француз-
ского королевства, в глубокой ночи ее несчастья, когда
она была оккупирована, разделена, а ее государство раз-
рушено, добродетель Надежды принимает облик скром-
ной дочери труженика. Благодаря ей основы человечнос-
ти и идеал Франции будут восстановлены. Нация меняю-
щаяся, нация непостоянная, всегда на волоске от гибели,
всегда спасаемая чудесным вмешательством вдохновлен-
ной личности, которая убережет ее от катастрофы. Ожи-
дание Спасителя станет одной из привычек французских
граждан, часто неспособных коллективно найти выход
из своих бедствий и конфликтов. Французский анархизм
регулярно приводит к культу личности. Французы, это
правда, с давних пор превратили свою страну в личность:
«Возглас: “Да здравствует Франция”,— писал тот же Кур-
цус, - обращен не к государству, нации или стране, но к
живому существу, которое миллионы французов вскарм-
ливают своей кровью и мозгом, своим духом и своей во-
лей. Франция сумела создать этот миф о самой себе. В
этом секрет ее несравненной власти, которой она всегда
обладала над душами, во все эпохи своей истории, и осо-
бенно начиная с 1789 г.»75. Если их страна является лич-
ностью, то, повинуясь инверсии, живой миф, такой, как
миф о Жанне, должен был стать первым воплощением
Франции в человеке.
Кроме этого троичного сценария, память о Жанне об-
наруживает французскую реальность гораздо менее во-
ображаемого порядка. Если ее образ стал до такой степе-
ни предметом разногласий, то это потому, что она смогла
олицетворить две культуры, которые соревновались друг
с другом в попытках стать единственной идентичностью
Франции. Пеги, чье творчество само пронизано двойствен-
ной традицией — христианской и революционной, выра-
75 Curtius E.-R. Op. til. Р. 334.
293
зил это, пожалуй, лучше других: «Франция,— писал он в
1913 г.,— это не только старшая дочь церкви, она и в миру
имеет сходное, параллельное и уникальное призвание.
Несомненно, она является своего рода покровителем и
свидетелем (а часто и мучеником) борьбы за свободу во
всем мире»76.
Нет сомнений в том, что автор двух «Жанн д’Арк» —
социалистической трилогии 1897 г. и «Чуда» 1910 г. —
почувствовал и пережил эту двойственность. Между свет
ским человеком, каким он был, и католиком, которым
он стал, между дочерью народа и святой и, наконец, меж-
ду дрейфузарами и антидрейфузарами Пеги увидел
«непрерывность Франции», «двойную нагрузку», «двойную
защиту». С этой изощренной точки зрения память о
Жанне больше не представляет собой «французскость»
исключения и остракизма, но «французский гений»,
который Арагон определил с помощью выражения «союз
“и”»:
«Можно считать, что во Франции есть две великие тра-
диции: христианская и материалистическая. Но откуда
берется вывод, что они являются непримиримыми?
Не приходят ли они в согласие с того момента, когда в
игру вступает Франция? Я не могу себе представить, что
под предлогом того, что я принадлежу ко второй, мне
бы, например, захотелось напасть на нашу общую му-
ченицу Жанну д’Арк только потому, что она говорила,
что слышит голоса. Главным для меня в Жанне д’Арк,
героине Франции, оказывается не то, что ей являлся
святой Михаил, но то, что она спасла французское ко-
ролевство. И, напротив, мне кажется, что материализм
Дидро нисколько не мешает христианскому духу рас-
познать в Дидро то, что было в нем специфически фран-
76 Peguy С. 11 Argent (suite)// Oeuvresen prose, 1909-1914. Paris: Gallimard,
Bibl. de la P^iade, 1961. P. 1262. На тему «старшая дочь церкви» см.
здесь же статью Рене Ремона.
294
цузского и, следовательно, достойного защиты в нем
в той же степени, что и сама Франция»77.
Перефразируя Арагона, можно сказать: Франция — это
Жанна Мишле и Жанна Клоделя, это Жанна раннего и
Жанна позднего Пеги, это Жанна д’Арк Барреса и Жан-
на д’Арк Жореса. Это двойственная филиация, то расхо-
дящаяся, то сходящаяся. Жанна — это истинная житель-
ница Лотарингии, единая и множественная,
77 Aragon L. La amjondion ETII Controverse sur le genie de la Erance.
ПРОШЛОЕ КАК ВЫЗОВ ИСТОРИИ
Послесловие переводчика
«Я не могу удержаться от вопроса — каков Ваш следу-
ющий проект, господин Нора?» — так заканчивает свою
статью один из критиков «Мест памяти»1. Ирония этого
вопроса непосредственно направлена прогив монументаль-
ности и самодостаточности этого грандиозного и по сво-
им задачам, и по своему масштабу проекта, «нового Лавис-
са», как называют его некоторые. За иронией стоит уверен-
ность в бесконечности развития исторического знания, в
неразрывной связи истории со временем и времени с ис-
торией. Но стоит только предположить, что «время исто-
рии истекло», что развитие истории как интеллектуаль-
ного проекта (во всяком случае такого, каким он сложил-
ся в XIX в. и существует до наших дней) однажды может
закончиться — например, «Местами памяти», и что имен-
но этим объясняется их самодостаточность,— чтобы зало-
женная в этом вопросе ирония обрела свое полное звуча-
ние. «Места памяти» обозначают интеллектуальный пре-
дел развития исторической дисциплины, поставившей
время в центр своих размышлений и объявившей его сво-
ей «сущностью». Таков главный тезис этого послесловия.
В сердце всех современных попыток писать историю
1 Vale n si L. Hisloire nalwnale, hi.sloi.re monumental?. Les Lieux de me moire
(note critique) // Annales. Histoire, Sciences Sociales. 1995, novembre-
decembre. N 6. P. 1277.
296
оказывается время — орудие борьбы истории за выжива-
ние в последние полстолетия. Метаморфозы истории,
навязанные ей временем, находят свое разрешение в «Ме-
стах памяти». Проследить, какие трансформации про-
изошли со временем истории, какие интеллектуальные
проблемы они породили и почему «Места памяти» ставят
точку на попытках истории спасти свое время — таковы
задачи этого послесловия.
Оригинальность «Мест памяти» как интеллектуальной
и эстетической системы обычно связывают с двумя цент-
ральными элементами — новой концепцией исторической
памяти и новым подходом к проблематике национально-
го. Опираясь па идеи Мориса Альбвакса о том, что па-
мять по своей природе социальна и фундаментальна для
идентичности социальных групп2, Нора противопостав-
ляет естественной памяти социальных групп, и в особен-
ности крестьянской памяти, искусственную память исто-
рической пауки. Пережитое Европой в XX в., и прежде
всего — исчезновение крестьянства, бывшего «памятью по
преимуществу», приводит к исчезновению естественной
памяти «в огне истории» и к подмене ее «историей, всту-
пившей в свою историографическую пору». Новая кон-
цепция исторической памяти, созданная мэтром «Мест
памяти», рождается из радикального переосмысления не
только «национальной историографии», но и самого по-
нятия «нация».
Новый подход к понятию «нация» делает очевидными
несостоятельность и неадекватность в современном мире
тех ключевых понятий, па которые традиционно опирал-
ся национализм в конце XIX — начале XX в. Это позво-
ляет, лишив национализм привычного концептуального
кадра, интеллектуально обезоружить его. Новые понятия
призваны заменить собой «нацию Ренана», которая «мер-
тва и никогда не воскреснет», и предложить альтернатив-
2 М. Альбвакс был первым, кто сформулировал такое представле-
ние о памяти во французской традиции.
297
ный националистическому принцип национального объе-
динения. На смену расово-языковой общности приходит
идея культурного единства, «как если бы Франция пере-
стала быть историей, которая нас разделяет, чтобы стать
культурой, которая нас объединяет... Мы переходим от
одной модели нации к другой3. Из отрицания «патриотиз-
ма» — неизбежного спутника национализма — и из эстети-
ческого восхищения культурой и природой Франции рож-
дается (пусть хотя бы только как интеллектуальная воз-
можность) новое национальное чувство. Более не агрес-
сивное и воинственное, «оно стало соревновательным,
полностью инвестированным в культ индустриальных
достижений и спортивных рекордов... радостным, любо-
пытствующим»4. Так поиск принципа национального един-
ства в культуре приводит к созданию понятия «наследие»:
«Оно считалось принадлежащим нотариусам или мелким
рантье, но приобрело новые значения. Добро, передавае-
мое от отца к сыну, стало силой тяготения, которая стано-
вится вашими корнями и той связью, что связывает вас с
социальным целым, превращаясь в священный и бесцен-
ный залог, который следует передать потомкам. Оно со-
шло с небес соборов и замков, чтобы найти себе убежи-
ще в забытых обычаях и старинных умениях29, в бутыл-
ках доброго вина, в песнях и диалектных поговорках. Оно
вышло из национальных музеев, чтобы наводнить собой
зеленые долины и отпечататься на камнях старинных
улиц»5.
Но ни сложная эстетика национального, пи новая кон-
цепция исторической памяги, впрочем, подробно анали-
зируемая в трудах как последователей6, так и критиков
3 Нора П. Как писать историю Франции? (см. наст, изд., С. 90).
4 Там же. С. 92.
5 Нора П. Эра коммемораций. (см. наст, изд., С. 124).
6 О «Местах памяти» см.: La nouvelle histoire de France, Les Lieux de memoire
// Le Magazine liueraire. 1993, fevrier. N 103; Wood N. Memory’s Remains, Les
lieux de m£rnoire// His Lory and tnemory. 1994. Vol. 6/1. P 123-150; Hutton
P H. Pierre Nora, the archaeology of the French National Memory // History as an
298
Нора, не будут специально рассматриваться в этом пос-
лесловии. Нас будет интересовать вопрос о характерном
для «Мест памяти» восприятии времени и об особеннос-
тях нашей современности, сделавших такое восприятие
времени возможным. Ибо новое отношение ко времени
создает уникальность «Мест памяти» как по сравнению с
предшествующей историографической традицией, так и
по сравнению с сегодняшними поисками новых форм пи-
сания истории.
Вопрос «Возможна ли история без времени?» выгля-
ди!' парадоксом. Разве можно помыслить историю, «сущ-
ностью» которой не является время? Но одинаково ли
видят время представители разных историографических
течений сегодня? И можно ли рассмотреть современную
историографию как ответ историков на глобальные из-
менения в восприятии времени, как поиск новых форм
концептуализации времени?
Или, может быть, историкам вполне достаточно «ста-
рых форм»? Призыв вернуться к истории, верной заве-
там Ранке и Моно, восстановить облик позитивистской
истории в том виде, в каком она существовала в XIX в., в
последнее время приобретает все больше сторонников в
профессиональной среде. Ценность такой идеи очевидна:
она дает рядовому ист орику доступный аргумент, позволя-
ющий, наконец, «покончить» с кризисом исторического
знания, а следовательно, и с неуверенностью историка в
своей социальной полезности. В последнее время все чаще
эпистемологические проблемы, поставленные структура-
лизмом перед историческим знанием и получившие свое
полное развитие в философии постмодернизма, перефор-
мулируются историками как покушение на их професси-
ональную общину7. Профессиональная солидарность, по
.Art of Memory. Vermont, 1993. P. 147-154; Judt T A la recherche du temps
perdu //The New York Review of Books, 1998. Vol. XLV. N 19.
7 См., например: Noiriel G. Sur la «crise» de Uhistoire. Paris; Belin, 1996;
Stanford M. An Introduction to the Philosophy of History. Blackwell, 1988.
299
мнению приверженцев таких взглядов, должна помочь
историкам игнорировать философскую проблематику и
забыть о безысходном кризисе исторического знания, став-
шем общепризнанным фактом с конца 80-х.
В чем же поборники «нового историцизма»0 или «нор-
мализаторы»* 9 истории видят прибежище от нападок вся-
ких философов, антропологов и им подобным? Что бо-
лее всего дорого им в позитивистской и объективистской
истории, вскормленной идеями Просвещения? Главная
черта такой истории — это единство и непрерывность ис-
торического времени. Осознание бега времени может вы-
ступать в качестве доказательства реальности прошлого10,
оно же провозглашается «сутью» истории: «История — это
такой род деятельности, который помогает нам понять
человеческое бытие во временном измерении»11. Непре-
рывность истории человечества, непрерывность времени
мира, который населяют такие историки12, является для
них, наверное, самым дорогим в облике позитивистско-
объективистской истории. Плавное течение необратимо-
го исторического времени создает вечно обновляющуюся
историю-процесс, объективно познаваемую, поддающую-
ся осмыслению в терминах прогресса и благодаря этому
обнаруживающую свою социальную полезность. Такая ис-
тория была и остается «моральной наукой». Один из при-
верженцев «нормализации» истории подытожил этот об-
раз «определением истории, наиболее распространенным
в сообществе историков со времени Вильгельма фон Гум-
больдта» 13, а именно — знаменитой фразой великого про-
светителя: «История — это наука о людях во времени,
в Stanford М. Op. cit. Р. 237.
9 Noriel G. Op. cit. Р 34-35, 52, 175.
10 Stanford. М. Op. cit. P. 236.
11 Ibid. P. 256-257.
12 Ibid. P. 258.
13 Noiriel G. Op. cit. P. 177.
300
которой постоянно необходимо сочетать знание мертвых
со знанием живущих». Неспособность следовать этому
призыву можно с полным правом назвать главной про-
блемой истории наших дней. Европейская история пер-
вой половины XX в. наполнила сарказмом и саму эту
фразу, и заложенную в ней идею «моральной истории», и
неразрывно связанную с ней идею «научно познаваемого
и управляемого» прогресса.
Стоит ли напоминать обо всем многообразии критики,
обрушившейся на позитивистскую историю во второй
половине XX в., критики, которой эта история до сих пор
не смогла противопоставить ничего более убедительного,
чем приведенные выше аргументы интеллектуальных
консерваторов? С этой точки зрения для нас интересна
«история понятий» Р. Козеллека, поскольку критика объек-
тивистской историографии, исходящая из системы взгля-
дов, глубоко чуждых постмодернизму, приводит этого
автора к идее возрождения еще более древней формы
писания истории ради того, чтобы вернуть истории ее
время.
По мнению Р. Козеллека, объективистская история, не-
адекватная задачам исторического познания14 в силу ее
неразрывной связи с идеологией прогресса, присущей ей
каузальности и идеи исторической справедливости, дела-
ющей ее неотличимой от художественного вымысла, дол-
жна уступить место другой модели истории, двухтысяче-
летнее существование которой она прервала своим воз-
никновением, а именно Historia Magistra Vitae.
В чем же преимущества такой истории? В том, что она,
в отличие от своей предшественницы, позволяет «извле-
кать из прошлого уроки для будущего». Но история-учи-
тельница жизни приобретает такую педагогическую зна-
14 Koselieck R. The Futures Past: On the Semantics of Historical Time / Tran si.
by Keith Tribe. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 1985. P 18, 29,
33, 228, 253.
301
чимость, только если она «выводит урок не из отдельных
“историй”, а из “структурного развития нашей истории”»15.
В основу сравнимости событий прошлого и будущего ло-
жится постулат о повторяемости исторических событий
или хотя бы их констелляций16. Такое структурное сход-
ство обнаруживается благодаря формальной структуре
понятий и единству «формальной темпоральной структу-
ры событий и их серий» в истории17. Континуум, непре-
рывность исторического времени, рассматривается как
необходимое условие существования истории-учительни-
цы жизни18. Этот континуум был грубо нарушен «рево-
люционным разрывом» эпохи Просвещения и Французс-
кой революции, который, «порвав связь между прошлым
и будущим», «отделив горизонт экспектаций от традици-
онного пространства опыта», лишил историю ее дидакти-
ческой функции19. В наши дни задача Historia Magistra
Vitae — восстановить неразрывную связь между прошлым,
настоящим и будущим, уничтоженную «новым временем»
(Neuzeit) и позитивистской историей, и вернуть непрерыв-
ное время в центр истории. Единственным и главным спе-
цифическим предметом истории-учительницы жизни и
гарантом ее единства как науки объявляются непрерыв-
ность и необратимость исторического времени20. Не ка-
жется ли удивительным, что даже попытка возродить
столь архаичную форму писания истории заставляет на-
полнить ее временем, которого исторически она была
начисто лишена?
Представление о том, что прерывность времени может
быть рассмотрена как особенность определенного исто-
рического момента прошлого (и соответствующего ему
способа писать историю), по прошествии которого время
15 Ibid. Р 115.
Ifi Ibid. Р 98.
17 Ibid. Р. 107, 113.
Ibid. Р. 24.
19 Ibid. Р. 58.
20 Ibid. Р. 93, 94, 109.
302
снова навсегда станет непрерывным для того, чтобы лечь
в основу и исторического процесса, и истории как науч-
ной дисциплины, выглядит внутренне противоречивым.
Итак, общим в образе времени как позитивистской и
объективистской истории, так и противопоставляемой ей
истории-учительницы жизни оказывается ностальгия по
непрерывному бегу времени. Время объявляется «сущно-
стью» истории — и в этой связи трудно не вспомнить Поля
Рикера,— провозглашается основой истории, гарантирую-
щей ей ее единство и как предмета, и как дисциплины21.
Но ни позитивистская история, ни история-учительница
жизни не в состоянии вернуть такое время в историю.
Интеллектуальная невозможность таких попыток возрож-
дения «старых» форм истории проявляется в неспособно-
сти включить в себя историю (в том числе и интеллекту-
альную) современности так, чтобы она не вступала в про-
тиворечие с образом непрерывного и необратимого ли-
нейного времени, без которого они утрачивают свой
«смысл» и свою «суть».
Можно предположить, что прошлые модели истории
перестали работать из-за особенностей нашего времени,
и нужно искать новые модели писания истории22. Или,
может быть, особенность нашего времени как раз и со-
стоит в том, что время утратило способность служить ос-
новой исторической дисциплины? Иными словами, что в
нашем времени нет больше места истории, основанной
на непрерывности и необратимости времени?
Надо сказать, что поиск новых моделей писания исто-
рии был как никогда многообразен во второй половине
XX в. Но именно в этот период облик исторической дис-
циплины начинает драматически меняться. Уже в 50-
60-е гг., когда приверженцы социальной истории еще пы-
тались «непосредственно взять реальность прошлого», ста-
21 Ricocur Р. Temps el reciL Vol. 1-3. Paris: Ed. du Seuil, 1983-1985.
22 Hartog F. Time, History, and the Writing of History: The Order of Time //
KVHAA Konferenser 37. Stockholm, 1996. P. 111.
303
новится очевидным, что история больше не способна не
просто писать о времени так, как писали раньше, но вооб-
ще писать о времени. Изобретение «длительной протя-
женности», которая представляет собой самое главное
время истории, время, которое еще течет, но уже «очень
медленно», грозя совсем остановиться, и в конце концов
замирает на несколько веков в «неподвижной истории», в
высшей степени симптоматично для состояния дисципли-
ны. «Геологическое время» Броделя было лишь одним из
первых признаков остановки времени в истории. Остава-
лось совсем немного, чтобы и такая форма компромисса
истории со временем стала невозможной.
Означали ли эти, на первый взгляд парадоксальные для
историков, идеи признание в бессилии продолжать пи-
сать о времени и отказ от времени как основы истории?
Как раз напротив, идея «длительной протяженности» была
прямым ответом историка21 на вызов структурализма,
ответом, стремящимся развеять всякие сомнения в том,
что время было и остается особым предметом истории,
несмотря на то что само это время оказывается крайне
медленным и практически неуловимым. И если, с одной
стороны, длительная протяженность действительно раз-
била иллюзию гомогенности исторического времени, то,
с другой стороны, идея непрерывности и необратимости
истории-процесса только укрепилась благодаря ее изоб-
ретению. Не секрет, что то, что заставляло Броделя со-
хранять время истории, не в меньшей степени было выз-
вано потребностями его «академической стратегии», не-
жели интеллектуальными потребностями его истории: как
иначе, чем с помощью времени, мог он определить иден-
тичность истории, чтобы обосновать претензию истори-
ков превратить историю в полновластную «царицу паук о
человеке»? 23
23 Braudel Е LHistoire el sciences societies: Ui longue dur ее // Ann a les. 1958.
Vol. 17.
304
Действительно, что-то неладное случилось со временем
истории во второй половине XX в.: все замедляя свой бег,
оно в конце концов решительно отказалось «течь» и под
пером историков школы «Анналов», и в сочинениях ин-
теллектуальных консерваторов. Настоящее подчинило
себе все — и прошлое, и будущее, выдвинувшись в центр
исторических размышлений: «Итак, мы движемся из
футуризма в презентизм, и теперь мы населяем гипер-
трофированное настоящее, которое стремится стать сво-
им собственным горизонтом. В нем нет ни прошлого, ни
будущего, или же оно генерирует свое собственное буду-
щее и свое собственное прошлое»24. «Презентизм» мож-
но назвать своего рода апогеем разлада истории со време-
нем. Бесконечное настоящее, не имеющее ни прошлого,
ни будущего, но само создающее свое собственное про-
шлое и будущее, остается единственным «временем» ис-
тории.
На эту новую для них ситуацию историки реагируют
по-разному. Главным пафосом целого ряда новых совре-
менных направлений, многочисленность и несоотноси-
мость взглядов которых на историю заставляет сегодня
говорить о «распаде истории»25, стало стремление неза-
метно подменить прошлое настоящим, называемым раз-
ными именами. Либо настоящее превращают в главный
исторический источник, в своего рода «глас прошлого»,—
как это делает, например, устная история, либо его пыта-
ются подставить на место прошлого благодаря способно
сти понятия «повседневность» предстать в виде «вечного
настоящего» (таков до известной степени интеллектуаль-
ный демарш «истории повседневности»). Ряд подходов к
исторической памяти пьггается заменить прошлое нашей
сегодняшней памятью о прошлом и скрыть эту подмену
«объекта истории».
2,1 Hartog Е Op. cit. Р 108.
25 См., например: Dosse Е I'Hisloire еп mietles. Paris: La Decouverte, J 987.
305
Конечно, идея прерывности времени, столь шокирую-
щая для профессиональной общины еще десятилетие на-
зад, теперь воспринимается историками более терпимо, и
может лечь в основу рассуждений об истории, превра-
щая время «презентизма» — бесконечное настоящее — в
теоретическую рамку взглядов на историю26. Но эти раз-
мышления неизбежно ставят нас перед вопросом : что же
меняется в природе времени и истории, если из трех вре-
мен — Прошлое, Настоящее и Будущее — сохраняется одно
только Настоящее? И можно ли в таком случае продол-
жать считать историю «наукой о времени»?
Дискретное, нелинейное, всеобъемлющее настоящее,
являющееся своим собственным горизонтом,— что оста-
ется в нем от времени истории, кроме слова «настоящее»?
Ведь единственное, что по-прежнему роднит это время со
временем истории,— это представление о необратимости
времени, от которого не в силах отказаться даже самые
решительные из нетрадиционных историков. Необрати-
мость времени они хотят найти «прямо в материи»27 28. По-
чему же идея необратимости времени по-прежнему явля-
ется тем, пожалуй, единственным атрибутом времени ис-
тории, которым историки категорически отказываются по-
жертвовать? И почему историки чувствуют столь силь-
ную потребность продолжать говорить о времени исто-
рии?
Показательно, что именно тогда, когда на рубеже 80-
90-х гг. настоящее стало единственным и главным време-
нем истории, интерес ко времени у историков чрезвычай-
26 Ср. интересный обзор современного состояния истории: Mongin О.
Face аи sceplicisme (1976-1993). Paris: La Dccouverte, 1994. См. также:
Наг tog F. Temps el histoire: Comment ecrire histoire de France? // Anna les: Histoire,
Sciences Sociales. 1995, novembre-deceinbre. N 6; Passerini L. La lacune du
present // Ecrire histoire du temps present; Rioux J.-P. Peul-on faire hisloire du
temps present //Questions a histoire des temps presents. Bruxelles: Complexe.
1992.
28 Dosse F. EEmpire du sens: Ehumanisalimi des sciences humaines. Paris: La
Decouverte, 1995. P. 889.
306
но возрос. Время начинают отыскивать повсюду, в тот
момент когда даже само слово «время» постепенно усколь-
зает из исторического дискурса, оставляя после себя лишь
«темпоральное™». «История современности стремится
проникнуть в толщу временного измерения истории и за-
фиксировать настоящее, слишком часто переживаемое
как некая форма временной невесомости»28,— этот лихо-
радочный поиск времени истории звучит как судорож-
ное желание вернуть необратимое. Перефразируя Пьера
Нора, можно сказать, что сегодня о времени в истории
столько говорят только потому, что его больше нет.
Что же произошло с восприятаем времени? Современ-
ное состояние истории и в особенности переживаемый ею
сейчас «презентазм» могут быть рассмотрены как ответ —
пусть непоследовательный и не до конца осознанный —
на изменение способа конструирования времени в евро-
пейской культуре во второй половине XX в., когда пред-
ставление о непрерывности и необратимости линейного
времени — о неразрывности связи между Прошлым, На-
стоящим и Будущим — было подвергнуто радикальной
критике. Вехой этой критики становится «Археология
знания» Фуко.
Итак, рассмотрим «Археологию знания» как текст, от-
разивший изменения в восприятаи исторического време-
ни в послевоенный период. Взгляд на «Археологию зна-
ния» как па симптом нового восприятая времени, экспли-
цитно противопоставленного безвозвратно ушедшему
времени традиционной истории, позволяет в полной мере
оценить значимость одной из центральных идей Фуко:
«Ибо археологическое описание является как раз пренеб-
режением историей идей, систематическим отказом от ее
постулатов и ее процедур, стремлением создать совершен-
но иную историю того, что сказано людьми. То, что неко-
торые не в силах распознать в этом проекте историю, зна-
комую им с детства, которую они оплакивают и к кото- 28
28 Ibid. Р 379.
307
рой они продолжают взывать в эпоху, в которой больше
нет места этой огромной тени прошлого, безусловно, сви-
детельствует об их сильнейшей преданности ей. Но это
консервативное рвение только утверждает меня в моем
подходе и придает мне уверенность в том, что я хотел
сделать»29.
Рассмотрим, какие именно идеи традиционного воспри-
ятия времени истории превращаются в объект критики в
«Археологии знания». Прежде всего это — фундаменталь-
ное для исторического анализа стремление представить
временной континуум как единственно возможный спо-
соб рассуждать о времени, последовательно отрицая раз-
рыв «вплоть до достижения того идеального предела, ко-
торым является неразличимость совершенной непрерыв-
ности»30, тогда как «анализ высказываний» превращает
прерывность в главную категорию размышлений о вре-
мени и делает разрыв главным событием истории31. Но-
вый способ понимания истории состоит для Фуко в выяв-
лении прерывности внутри самой истории. Кажущаяся «ан-
тиинтуитивность» такой позиции, как показывает Фуко,
ничуть не более легитимна, чем ментальная привычка
историков к противоположной точке зрения, в пользу
которой говорит лишь тот факт, что она долго рассмат-
ривалась как единственно возможная32. По признанию
Фуко, одним из таких разрывов, размышления о кото-
ром предоставляют материал для «Археологии», являет-
ся то, что считалось историческим событием «по преиму-
ществу», событие, изучение которого заложило основы
исторической дисциплины XVIII-XIX вв. и продолжает
оставаться главным «полигоном» новых исторических ме-
тодов — Французская революция33. И применительно к
29 Foucault M. EArcheologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969. P 181.
30 Ibid. P. 223.
31 Ibid. P 159, 164, 231.
32 Ibid. P 221.
33 Ibid. P. 231.
308
этому событию становится возможной история, в кото-
рой нет ни «до», ни «после», нет последовательного и не-
прерывного времени, но в которой системы дискурсив-
ных практик превращают высказывания в вещи и в собы-
тия34.
Однако представление о разрыве не просто отрицает
непрерывность и линейность времени. Образ времени как
уникальной и единой гомогенной линии, направленной из
прошлого в будущее, сменяется множеством различных,
расходящихся темпоральных режимов прерывного вре-
мени «мутаций» и «трансформаций», «серий событий» и
«процессов»35. Главной временной категорией анализа ар-
хива, чтобы не сказать единственным «содержанием» вре-
мени «мутаций» и «трансформаций», не имеющих ни на-
чала в прошлом, ни конца в будущем, оказывается насто-
ящее. Превращение настоящего в главную составляющую
темпорального режима «Археологии», вопреки его обыч-
ному исчезновению между прошлым и будущим, экспли-
цитно формулируется Фуко36. Настоящее не просто со-
здает границу такого анализа. Оно ограничивает все по-
требности археологического анализа во времени и обра-
зует его самодостаточный предел: «Анализ архива пред-
ставляет собой, таким образом, совершенно особую тер-
риторию, одновременно близкую нам, но отличную от
нашей современности. Это — кромка нашего настоящего,
которая закрывает его в себе и определяет его своей от-
личностью. Это то, что, будучи вне нас, нас ограничива-
ет»37.
В известном смысле, конечно, это настоящее, поглотив-
шее и будущее, и прошлое и сведшее их к неразличимос-
ти единственного времени (где больше нет ни «до», ни
«после»), времени, динамизм которого обеспечивается
:м Ibid. Р. 169.
35 Ibid. Р. 99.
30 Ibid. Р. 220.
37 Ibid. Р. 172.
309
лишь благодаря наполненности этого прерывного насто-
ящего протеканием в нем отдельных, не связанных меж-
ду собой процесов мутаций и трансформаций,— такое
настоящее можно назвать особым темпоральным режи-
мом, особым «типом» времени. Именно такой аргумент
позволял Фуко, называя это безграничное пространство
«настоящим», отводить от себя обвинения в стремлении
«остановить время»3®. Но это время, лишенное самой идеи
временной триады, прерывное и не меняющее своих ка-
честв во всех своих направлениях, безусловно, является
способом отрицания таких неотъемлемых атрибутов вре-
мени истории38 39, как линейность, непрерывность, гомоген-
ность и даже необратимость. Напротив, «сутью» времени
становятся как раз те качества, которые можно назвать
противоположностью этих атрибутов,— его замкнутость
в самом себе — «аутизм»40 всепоглощающего настоящего,
неизменность его качества на всей его протяженности и
прерывность.
Отрицание линейного характера времени и идея его
прерывности в свою очередь оказываются чреваты для
представления о «порядке времени» или связи времен.
Проблематизация отношений между прошлым, настоя-
щим и будущим является одной из важнейших идей «ре-
волюции времени» Фуко41.Такое время больше не нужда-
ется для своего описания в категориях «прошлого» и бу-
дущего», они лишаются всякого смысла применительно к
«мутации» или «серии событий», ни начало, ни конец ко-
торых не могут быть определены. Оно отнимает у пери-
петий истории их кажущуюся «необходимость» именно в
силу того, что утрачивается направление непрерывного
времени, разрушается плавное перетекание прошлого в
38 Ibid. Р. 217-218.
39 Ibid. Р 170.
10 Rioux J.-P. Op. cit. Р. 50.
Foucault M. Op. cit. P. 193.
310
будущее, которое естественно упорядочивало их в при-
чинно-следственную связь.
Идея прерывности времени не может быть ограничена
констатацией «разрыва» внутри, например, настоящего
или прошлого. Она неизбежно ставит под вопрос априор-
ность однонаправленного «течения» времени из прошло-
го через настоящее в будущее. Прерывность времени с
необходимостью предполагает и разрыв связи между чле-
нами временной триады. Следовательно, время не толь-
ко перестает «течь», оно перестает «течь» в одном един-
ственном направлении, упорядочивая, как это было преж-
де, события и создавая этим идентичность истории. (В свою
очередь, разрушение связи времен — необходимого усло-
вия «исторического подхода» — делает иррелевантной для
«Археолшии» главную проблему исторического познания:
как и благодаря чему то или иное событие возникает в
определенный момент времени42.)
Исчезновение прошлого и будущего как категорий опи-
сания времени и проблематизация необратимого харак-
тера времени оборачиваются драматическими последстви-
ями для идентичности истории, которая утрачивает вся-
кий смысл, если утрачена связь прошлого, настоящего и
будущего. Распад идентичности истории является для
Фуко главной особенностью нашего времени, его диагно-
зом: «В этом смысле описание архива диагностирует нас.
Отнюдь не потому, что оно позволяет нам создать карти-
ну наших отличительных черт и набросать заранее кон-
туры того, чем мы станем в будущем. Но оно лишает нас
нашей непрерывности. Оно растворяет ту временную иден-
тичность, в которой мы так любим разглядывать себя,
скрывая разрывы истории. Оно разрывает нить трансцен-
дентальных телеологий, и там, где антропоцентрическая
мысль исследовала бытие человека или его субъектив-
ность, оно разрушает самую идею другого и внеположен-
42 Ibid. Р. 153.
311
ного. Диагноз, понятый таким образом, не определяет по-
стоянства нашей идентичности с помощью игры разли-
чий. Он устанавливает, что мы есть отличие, что наш ра-
зум — это различие дискурсов, наша история — различие
времен, наше “Я” — различие масок, что различие — это
рассеяние, дисперсия того, что мы есть и что мы соверша-
ем»43. Неспособность европейской цивилизации сохранять
свою идентичность в единстве прошлого, настоящего и
будущего, продолжать рассматривать себя в их неразрыв-
ном единстве изгоняет время из истории.
Радикальный разрыв с прошлым способом видеть вре-
мя и историю, запечатленный в «Археологии знания»,
выразил разделенный опыт послевоенной культуры в той
же мере, в какой сам этот текст является первым после-
довательным способом его выражения. Внятность для
читателей «Археологии» этого опыта обеспечила успех
такому «антиинтуитивному» восприятию времени, кото-
рое одновременно отрицает историю-процесс и историю-
прогресс, историю-континуум и бросает вызов истории как
интеллектуальной практике, вернее, делает ее продолже-
ние как науки о прошлом и времени невозможным. Па-
раллели «антиинтуитивному» видению времени, описан-
ному в «Археологии знания», обнаруживает дискурс да-
леких и от философии, и от истории людей — современ-
ников Фуко. Представители того же поколения, они ост-
ро пережили как индивидуальный повседневный опыт то,
что нашло свое выражение в философии деконструкти-
визма44 *: «Мы осиротели, лишившись истории, которая
даже не была нашей собственной историей. То, что за-
43 Ibid. Р 172.
44 Описание их восприятия времени психологом в научном, а нс
философском дискурсе снова подчеркивает их сходство: «T he past has
been utterly burnt away at the center of their lives... 1’hey feel their existence
as a sort of exile, not from a place in the present or future, but from a lime
now gone forever, which have been that of their identity itself». (Цит. no
рукописи: Spiegel G. Orations oj the Dead — Silences о/ the Living: The Sociology
of the Linguistic Turn. 1993).
312
ставляло нас страдать, было тем, чего мы не знали и не
могли знать, что мы не могли помнить, но что в то же
самое время было совершенно незаменимым для нашей
идентичности. Невозможно подчинить себе неизвестное —
и поэтому тот мир, из которого мы были выброшены ис-
торией, стал для нас местом отсутствующего происхож-
дения, в котором смерть личности была уже предопреде-
лена. Прошлое для нас — это чуждое место»45. Если вспом-
нить теперь время «презентизма» сегодняшних историков,
то можно ли не узнать его в зеркале «Археологии зна-
ния»?
Картина времени, описанная в «Археологии знания»,
диагностировала радикальный переворот в представле-
ниях европейской культуры о себе и о своих ценностях,
колоссальный слом в восприятии времени46 47. Голокост в
«Афинах Европы», повлекший за собой радикальное пе-
реосмысление ценностей европейской цивилизации, при-
вел к разрыву с прошлым, с наполнявшими его традици-
ями и послужил основой отрицания времени истории. Эта
взаимосвязь, имплицитная в работах Фуко, эксплициру-
ется Полем Вейном в книге «Как мы пишем Историю»,
46 Ibid. Р. 8.
47 Значение возникновения нового отношения к недавнему беспре-
цедентному прошлому как основы отрицания «старого времени» исто-
рии и исходного пункта для переосмысления ценностей европейской
культуры и мысли трудно переоценить (см. об этом в особенности
обзор: Mongin О. Op. cit. Р. 39-59; 157-167; а также Traverso Е. EHisloire
dechiree: Essais sur Auschwitz et les intellcctuels. Paris: CERF, 1997. P. 231ft.).
Разрыв — с прошлым, с наполнявшими его традициями и ценностями
— оказывается центром не только философии времени Фуко, но дс-
конструктивизма как течения в целом, что позволяет рассматривать
деконструктивизм как «а Post-Holocaust phenomenon». Не затрагивая
непосредственно тему изменения восприятия времени, Г. Шпигель по-
казывает, до какой степени изменения всей картины мира, такой, ка-
кой ее видит дсконструкгивизм, находят «свой отсутствующий четок»
в переживании опыта Голокоста, несмотря на то что ни Фуко, ни Дер-
рида прямо и эксплицитно не анализируют эту связь (Spiegel G. Op. cii.
P 3,5,6-10.).
313
интеллектуальное родство которой с «Археологией зна-
ния» не оставляет сомнений: «Мы видели, как националь-
ное унижение низвело до стадии крайнего и доселе не-
превзойденного варварства народ, на протяжении полу-
тора веков являвшийся Афинами Европы, и позволило
развязать мировую войну во имя достижения двух глав-
ных целей: уничтожение евреев, что можно рассматри
вать как форму истории идей, и захват новых сельскохо-
зяйственные угодий на Востоке: старое желание, пришед-
шее из прошлого аграрных обществ и из древней жажды
утолить “земельный голод”, выглядящее совершенно аб-
сурдным в индустриальный кинетический век. Отсутствие
постоянной иерархии причин и следствий ясно проступа-
ет, когда мы пытаемся вмешаться в ход событий. Самые
различные причины постепенно складываются в leader-
ship, из чего следует, что история не имеет ни смысла, ни
циклов, что она — открытая система. Из этого следует
также, что история как наука невозможна»47. И далее:
«Невозможно пытаться объяснить общество или срез ис
тории как организм. Существует только пыль событий —
коалиция 1936 г., рецессия 1937 г., падение черепицы с
крыши,— каждое из которых требует своего собственно-
го объяснения. Французское общество в 1936 г. — это но-
минальная реальность. Нет науки, способной объяснить
взаимосвязь всех своих элементов, точно так же как нет
науки, которая может объяснить весь ансамбль бесконеч-
ных психофизических факторов разного рода, происхо-
дящих каждую секунду внутри каждого случайно вы-
бранного среза событий на земной поверхности»1й.
Прошлое бросило вызов истории, превратившись из ее
покорного «предмета познания» в отрицание самой воз-
можности исторического знания, лишив ее смысла, един-
ства и непрерывности. «Эффект Солженицына» перенес 47
47 Veyne Р Comment <т ёстй I’histoire: Essai d’epistemologie. Paris: Scuil, 1971.
P 316-317.
Ibid. P 320.
314
концентрационную вселенную в будущее, похоронив под
собой все прогрессистские иллюзии. «Потому что то, что
обнаружилось, когда разбился революционный про-
ект, (...) было в той же степени идеей конца истории, сколь
и идеей радикального разрыва с прошлым. Не возвраще-
ние к конкретному отрезку прошлого, а исчезновение са-
мой организационной оси, стабильного кадра представ-
лений о прошлом.. .»4Е). «Утрата единого экспликативного
принципа низвергла нас во взорвавшуюся вселенную (...).
В прошлом мы знали, чьи мы были сыновья. Сегодня мы
знаем, что мы дети ничьи и всего мира»,— говори!' об этом
Пьер Нора49 50. Распад времени истории безусловно отно-
сится к тому же распаду фундаментальных очевиднос-
тей европейской культуры на рубеже 60-70-х гг.
Два собьггия-разрыва — Голокост как конец цивилиза-
ционного проекта и ГУЛАГ как конец проекта будущего,
уничтожаю!' картину мира, восходящую к идеалам эпо-
хи Просвещения, разрушив необратимость связи между
прошлым, настоящим и будущим. Время истории было
остановлено неспособностью совместить «прошедшие со-
бытия настоящего» с тем прошлым, которое осталось ды-
миться в Аушвице, и спроецировать продолжение собы-
тий настоящего на «грядущую катастрофу», возникшую
на месте крушения прогрессистской уверенности в буду-
щем.
«Места памяти» становятся первым историческим про-
ектом, принимающим вызов «нового времени». Интеллек-
туальная родственность между картиной времени Фуко и
видением времени Нора не превращает проект «Мест па-
мяти» в иллюстрацию к «Археологии знания» или в оче-
редную работу в русле «лингвистического поворота». Кар-
тина времени, описанная Фуко, позволяет П. Нора точно
диагностировать состояние исторической дисциплины.
49 Нора П. Эра коммемораций. С. 121-122,
50 Он же. Между памятью и историей. С. 37.
315
Осмысление всех последствий исхода времени истории
приводит к созданию модели писания истории, не нужда-
ющейся во времени.
Важнейшей категорией «Мест памяти» оказывается
многозначная категория разрыва. Это и цивилизованный
разрыв, и разрыв с прошлой историографической тради-
цией, превращающий «Места памяти», по замыслу их
мэтра, в манифест невозможности в наши дни продол-
жать писать историю так, как это делали раньше.
Другой смысл разрыва — это разрыв времени истории,
и прежде всего — связи с прошлым: «...конец обществ-
памятей, как и всех тех, кто осуществлял и гарантировал
сохранение и передачу ценностей, конец церкви или шко-
лы, семьи или государства; конец идеологий-памятей, как
и всего того, что осуществляло и гарантировало беспре-
пятственный переход от прошлого к будущему или отме-
чало в прошлом все то, что было необходимо взять из
него для изготовления будущего, будь то реакция, про-
гресс или даже революция»51. Прошлое отделено от нас
практически непреодолимым рубежом, это «тот мир, от
которого мы отрезаны навсегда», связь с которым безвоз-
вратно утрачена: «Теперь не оставалось ничего другого,
как распознавать через историю и воображение мир, ко-
торый был потерян всеми и навсегда. Потерянный, но
вместе с тем присутствующий, вызывающий ощущение
чуждости по отношению к себе самому, мир, окутанный
своей неясностью, мистерией и соблазном, вышедший из
непрерывности истории, чтобы пережить прерывность
памяти»52. Восприятие прошлого, основанное на прерыв-
ности времени, делает прерывным и само прошлое, глав-
ным качеством которого становится «неизвестность»,
прежде присущая — и то только до известной степени —
одному будущему: «Ничего не ведая о том, из чего будет
51 Там же. С. 18.
л Он же. Эра калшемраций. С. 119.
316
сконструировано прошлое, неуверенное беспокойство
превращает все в след, в возможный признак, в намек
истории, которой мы заражаем невинность вещей. Наше
восприятие прошлого — это страстное овладение тем, что
не принадлежит нам больше»53. Характер отношений с
прошлым тоже радикально меняется, становится «скорее
избирательным, чем императивным, открытым, пластич-
ным, живым, постоянно развивающимся».
Прерывность времени изменяет природу будущего,
которое тоже становится «непредсказуемым» и «непод-
властным»: «Чем более великим было происхождение, тем
больше оно возвеличивало нас. Ибо мы восхваляем себя,
восхваляя прошлое. Это соотношение распалось. Таким
же образом, как будущее, зримое, предсказуемое, управ-
ляемое, имеющее определенные границы, проекция на-
стоящего, превратилось в невидимое, непредсказуемое,
неподвластное, мы симметрично перешли от идеи види-
мого прошлого к идее невидимого прошлого, от прошло-
го устойчивого к прошлому, которое мы переживаем как
разрыв, от истории, искавшей себя в непрерывности па-
мяти, к памяти, спроецировавшей себя на прерывность
истории»54.
П. Нора настаивает на автономизации и атомизации
членов временной триады, приводящей к перемене во
взаимоотношениях между ними: «...растворение нацио-
нального мифа, который тесно связывал прошлое с буду-
щим, имело почти автоматическим следствием автономи-
зацию двух инстанций: будущего, представшего в своей
полной непредвиденности и одновременно превративше-
гося в манию; и прошлого, извлеченного из организую-
щей когерентности истории и в то же время полностью
ставшего наследием (...). Прошлое больше не является
гарантом будущего: в этом и состоит главная причина пре-
53 Он же. Между памятью и историей. С. 37.
54 Там же. С. 36.
317
вращения памяти в динамическое начало и в единствен-
ный залог непрерывности»55.
Настоящее тоже претерпевает изменения: оно стано
вится центральной категорией исторического восприятия,
«тяжелой категорией»: «Настоящее, которое чисто исто-
рическое сознание нации сделало прозрачным, неустой-
чивым и преходящим в полном смысле этого слова, ста-
ло тяжелой категорией, которую подавление будущего
заставляет наполнить тотальным прошлым»56. Это насто-
ящее, в котором прошлое и будущее утрачивают свои гра-
ницы, а прошлое наполнено «последовательной цепью
настоящих». Настоящее «Мест памяти» становится новой
сутью прошлого, чтобы не сказать — его единственным
содержанием: «Сама динамика коммеморации совершен-
но изменилась. Мемориальная модель возобладала над
исторической, что сделало новым — непредсказуемым и
капризным — обращение с прошлым. Прошлое утратило
свой органичный, безапелляционный и принудительный
характер. Имеет значение не то, что прошлое накладыва-
ет на нас, а лишь то, что в него вкладывают. Отсюда -
запутывание любого послания прошлого. Ведь это насто-
ящее создает свои инструменты коммемораций, едва по-
спевающие за датами и фигурами коммемораций, кото-
рые оно игнорирует или множит (...). История предпола-
гает, а настоящее располагает, и то, что происходит, регу-
лярно оказывается отличным от изначального намере-
ния»57.
Став «нашей категорией понимания самих себя», на-
стоящее полностью подчинило себе все пространство ис-
тории: «Такое предвосхищение будущего и собирание
прошлого формируется, грубо говоря, в соответствии с
тремя основополагающими экспликативными схемами:
55 Он же. Эра колылелюраций. С. 142-143.
56 Там же. С. 144.
57 Там же. С. 112.
318
вероятная реставрация (старого режима, стабильности
границ, наихристианпейшей Франции), вероятный про-
гресс (господство человека над природой и над самим
собой, прогресс организации) и желанная революция, т. е.
начало истории заново. Из этих трех схем страсти века
последовательно изгнали надежду и иллюзию. И между
подавляющим своей неопределенностью бесконечно от-
крытым и зачастую отсутствующим будущим и наполнен-
ным многообразием прошлым, вновь обретшим свою ту-
манность, настоящее превратилось в категорию нашего
понимания самих себя. Но это расширенное настоящее,
где изменение стало единственным способом существова-
ния непрерывности, не в состоянии ощутить себя иначе,
чем благодаря прошлому, окутываемому все новыми
мистериями и все новым очарованием, прошлому-убежи-
щу, более чем когда-либо хранилищу секретов того, что
является уже не только нашей “историей”, но и нашей
идентичностью»58.
Разрыв между прошлым, настоящим и будущим и ис-
чезновение априорной необратимости бега времени при-
водят создателя «Мест памяти» к идее прерывности иден-
тичности во времени и разрыва нашей идентичности, что
близко перекликается с идеями Фуко: «То же движение
исторического углубления и расширения (...) привело
науку и общественное сознание к пониманию дистанции
от нас до самих себя, к идее прерывности нашей идентич-
ности во времени, которую широкое распространение пси-
хоанализа сделало для нас и понятной, и знакомой»59.
Стремление обнаружить «внезапный отсвет неуловимой
идентичности» не мешает осознанию того, что «эра иден-
тичностей» закончена: «Историография, неизбежно всту-
пившая в свою эпистемологическую пору, с определенно-
стью завершает эру идентичности. Память неотвратимо
л Он же. Как писать историю Франции? С. 87-88.
59 Там же. С. 86.
319
схвачена историей. Больше нет человека-памяти, но в са-
мой его личности — место памяти»50.
Уникальность «Мест памяти» на фоне других совре-
менных поисков — это осознание конца необратимого вре-
мени истории. Осознание того, что время — в силу как
разрыва связи между членами триады и краха идеи не-
обратимости — больше не может быть главным структу-
рообразующим принципом истории, приводит к поиску
иного принципа, что как раз и обозначает интеллектуаль-
ный предел истории. Неспособность представить себе ис-
торию без времени и увидеть конец истории как науки о
времени и есть то главное, что всегда заставляло истори-
ков держаться за время истории. Необратимость време-
ни была справедливо понята ими как необходимое усло-
вие, главный рубеж, отход от которого подрывает самое
основание идентичности исторической дисциплины, пре-
тендующей на вечное развитие* 61.
*
Места памяти, loci memoria. Способ заучивания, при
котором место — комната, вещь — помогает оратору удер-
жать в памяти последовательность и содержание пасса-
жей речи. Место обрамляет воспоминание, пространство
несет в себе события памяти, останавливая время.
Места памяти становятся новой «категорией современ-
ного понимания истории», позволившей создать «широ-
кую типологию символического Франции».
«Понятие создано для того, чтобы объять одновремен-
но физические объекты и объекты символические на ос-
новании того, что между ними есть “нечто общее”. Это
w Нора П. Между памятью и историей. С. 39.
61 «Презентизм» заставляет вспомнить Ф. Кермодс с его определе-
нием «практики рассмотрения прошлого и будущего как особых слу-
чаев настоящего» как особенности современной фикции-согласия
(fiction of concord): Kermode E The sence of ending: Studies in the theory of
fiction. Oxford: Oxford Univ. Press, 1966. P 59.
320
«нечто общее» и является тем, в чем состоит суть дела.
Это то, что спонтанно и более или менее смутно распоз
нает в нем каждый (...). Итак, “место памяти” — всякое
значимое единство, материального или идеального поряд-
ка, которое воля людей или работа времени превратили
в символический элемент наследия памяти некоторой общ-
ности»62.
Момент «Мест памяти» — это момент' распада истории-
времени. Главным отличием мест памяти от всех других
концепций истории является то, что они не имеют рефе-
рента в реальности, а значит их судьба перестает зави-
сеть от времени истории: отказ от претензий истории по-
знать «реальность» прошлого высвобождает места памя-
ти из плена непрерывности необратимого времени. Их
организующим и объединяющим принципом становится
пространство. Это просгранство не гомогенно, места па-
мяти не складываются в непрерывную картину, это — пе-
ремежающаяся разрывами мозаика. «Их план покорился
специфике памяти, скопировав ее естественную органи-
зацию: ее изгибы, ее истинные или ложные континуумы
и, наконец, ее символические фиксации»63. Метафора со-
бора и лабиринта, столь любимая П. Нора, передает слож-
ность пространственного упорядочивания и взаимодей-
ствия мест памяти с их «панорамной и иерархизирован-
ной архитектурой». Места памяти знают непрерывность,
но это уже не хронологическая непрерывность, а непре-
рывность отдельно взятого места как символического про-
странства. Конечно, пространство мест, как любое симво-
лическое пространство, обладает материальным измере-
нием. Пространство мест замкнуто на самом себе, авто-
реферепциально и самодостаточно. Лакая «историяФран-
ции во второй степени» существует лишь постольку, по-
скольку «историк в состоянии “меморизировать место”».
ь2 Нора П. Как писать историю Франции. С. 78-79.
63 Там же. С. 74.
321
И в этом — в способности «Мест памяти» создать новую
форму истории в ответ на изменение способа восприятия
времени, в попытке пространственной концептуализации
истории — можно тоже увидеть одну из причин удиви-
тельной популярности этого понятия, мгновенно ставше-
го достоянием живого французского языка.
Над историей мест памяти время утрачивает свою дес-
потическую власть. Их «фундаментальное право на су-
ществование состоит в остановке времени», они — «мо-
менты истории, оторванные от течения истории». Точнее,
места памяти созданы остановкой истории. Но они и «воз-
вращены» истории потому, что являются предельным
способом ее переживания. Собор — вот подлинный сим-
вол времени «мест памяти» и единственная форма, в ко-
торой время сохраняется в них.
Но не только «место» в паре « место памяти» о трицает
время истории. «Память-дистанция» противопоставляет-
ся «культу непрерывности» истории, и в этом качестве
категория памяти обретает одно из своих важных значе-
ний для концепции «Мест памяти». «Места» становятся
«местами памяти» не в последнюю очередь в силу того,
что формой существования памяти в концепции Нора
является дискретное пространство, память предстает как
противоположность времени, тогда как время является
носителем истории: «Память укоренена в конкретном, в
пространстве, жесте, образе и объекте. История не при-
креплена ни к чему, кроме временных протяженностей,
эволюций и отношений вещей»64. Нора подчеркивает зна-
чение двойного разрыва в прерывности памяти. Прерван-
ность необратимости времени — разрыв с прошлым — до-
полняется разорванностью самой памяти. Именно поэто-
му «места памяти» — это останки, рожденные «из чувства
утраты и из-за этого отмеченные ностальгией по навсегда
умершим вещам», «убежища воспоминаний». Места — это
64 Он же. Между памятью и историей. С. 20.
322
убежища памяти, «которая мучит нас и которая не явля-
ется более нашей», они есть символическое Франции, но
в них самих лишь едва «прощупывается биение чего-то,
оставшегося от символической жизни».
Новый способ восприятия времени приводит к созда-
нию проекта истории, альтернативного истории—време-
ни и времени—истории. «Это история не детерминирую-
щих факторов, но их последствий, не актов мемориаль-
ных или даже коммемориальных, но их следов и игры,
не событий самих по себе, но их конструирования во вре-
мени, их уничтожения, воскрешения их значений, не про-
шлого, такого, каким оно прошло, по его постоянных и
новых переложений, его подлинного и извращенного ис-
пользования, его наполненности последовательной цепью
настоящих; история не традиции, но способа, которым
она создается и передается. Короче — это не воскреше-
ние, не реконструкция и даже не репрезентация — а реме-
морация (rememoration). Память — не воспоминание, но
общая экономия и управление прошлым в настоящем.
Итак, история Франции, но история Франции во второй
степени (au second degre)»05.
«Места памяти» — это способ писать историю, новым
принципом единства которой является пространство. Ме-
сто памяти и есть такое пространство и такой принцип
одновременно, это еще исторический проект, но уже не
история. Пространство мест в наши дни — это единствен-
ный способ бытия истории, которая утратила свое время.
Д. Хапаева
65 Он же. Как писать историю Франции? С. 84.
Приложение
«МЕСТА ПАМЯТИ»
План
Том ПЕРВЫЙ
Между памятью и историей (Пьер Нора).
Республика
Символы. Трикулер (Р. Жирар де).— Республиканский календарь
(Б. Баско).— Марсельеза (М. Вовель).
Памятники. Пантеон (М. Озуф).— Мэрия (М. Апольон).— Над-
гробные памятники (А. Прост).
Педагогия. «Большой словарь» Пьера Ларусса (II. Ори).— Ла-
висс, учитель нации (П. Нора). «Путешествие по Франции двух детей»
(Ж. Озуф, М. Озуф).— Библиотека друзей образования третьего окру-
га Парижа (П. Мари).— «Педагогический словарь» Фердинанда Бюис-
сона (П. Нора).
Коммеморации. Столетие Вольтера и столетие Руссо (Ж.-М. Гу-
лемо, Э. Вальтер).— 14 июля (К. Амальви).— Похороны Виктора Гюго
(А. Бен-Амос).— Столетие Французской революции (П. Ори).— Коло-
ниальная выставка 1931 года (Ш.-Р. Агерон).
Анти-память. Вандея, область-память (Ж.-К.Мартэн).—Стена
Коммунаров (М. Ребериу).
От республики к нации (П. Нора).
Том ВТОРОЙ
Нация
Книга 1
Наследство. Канцелярии и монастыри (Б. Гене).— Род. X—
XIII века (Ж. Дюби).— Королевские святилища (К. Бон).— Реймс, го-
род коронаций (Ж. Ле Гофф).
Историография. «Большие французские хроники» (Б. Генс).—
324
«Исследования Франции» Этьена Паскьс (К. Виванти) .—«Письма по
истории Фра! щи и» Огюстена Тьери (М. Гоше).— «История Франции»
Лависса (П. Нора).—Час «Анналов» (К. Помиан).
Пейзажи. Пейзаж живописца (Ф. Кашей).— Пейзаж ученого
(М. Ропкайоло).— Путеводители Жоанн (Д. Нордман).—«Картина гео-
графии Франции» Видаля де Ла Блаша (Ж.-И. Гийомар).
Книга 2
Территория. От феодальных рубежей до политических границ
(Б. Гене).— От границ государства до национальных границ (Д. Норд-
ман).— Память-граница: Эльзас (Ж.-М. Майер).— Гексагон (Э. Вебер).—
Север-Юг (Э. Лс Руа Лядюри).
Государство. Символика государства (А.-М. Лскок).—Версаль,
образ государя (Э. Поммье).—Версаль, функционирование и легенды
(Э. Имельфарб).—Гражданский кодекс (Ж. Карбонье).—Общая стати-
стика Франции(Э. Ле Бра).—Мемуары государственных мужей
(П. Нора).
Наследие. Понятие наследия (А. Шастель).— Рождение провин-
циального музея (Э. Поммье).—Александр Лепуар и музеи французс-
ких памятников (Д. Пуло).—Арсиз де Комон и научные общества
(Ф. Берсе).—Гизо и институты памяти (Л. Тейс).—Мериме и Инспек-
ция исторических памятников (А. Фермижье).—Виоллс ле Дюк и рес-
таврация (Б. Фук ар).
Книга 3
Слава. Умереть за родину (Ф. Контамин).— Солдат Шовен
(Ж. де Пюимеж).— Возвращение праха Наполеона (Ж. Тюлар).— Вер-
ден (Л. Прост).— Исторический музей Версаля (Т. М. Гэтжан).— Лувр
(Ж.- П. Бабелон).— Знаменитые усопшие (Ж. К. Бойне).— Статуи Па-
рижа ( Ж. Аргров).— Названия улиц (Д. Мило).
Слова. Куполь (М. Фюмароли).— Коллеж де Франс (К. Шарль).—
Кафедра, трибуна, адвокатура (Ж. Старобински).— Пале-Бурбон
(Ж.-П. Риу).— Школьная классика (Д. Мило).— Посещение великого
писателя (О. Нора).—Подготовительные классы Эколь Нормаль
(Ж.-Ф. Сиринели).— Сокровищница языка (А. Рей).
Нация-память (П. Нора).
Том ТРЕТИЙ
Франции
Как писать историю Франции? (П. Нора).
Книга 1. Конфликты и размежевания
Политические размежевания, Франки и галлы (К. Поми-
ан).— Старый порядок и Революция (Ф. Фюре).— Католики и певерую-
325
щие (К. Ланглуа).— Народ (Ж. Жюльяр).— Красные и белые
(Ж.-Л. Ормьер).— Французы и иностранцы (Ж. Нуарьсль).— Виши
(Ф. Бюррен).— Голлисты и коммунисты (П. Нора).— Правые и левые
(М. Гоше).
Религиозные меньшинства. Пор-Руаяль (К. Мэри).—Музей
Пустыни (Ф. Жутар).—Грегуар, Дрейфус, Драней и Коперник (II. Бирм-
баум).
Пространственно-временное деление. Побережье
(М. Молла дю Журден).— Лес (А. Корволь).— Линия Сен-Мало—Жене-
ва (Р. Шартье).— Париж — провинция {А. Корбеп).— Центр и перифе-
рия (М. Агюльон).— Район (Ж. Ревель).— Департамент (М. Ронкайо-
ло).— Поколение (П. Нора).
Книга 2. Традиции
Модели. Земля (А. Фремон).— Колокольня (Ф. Бугри).— Собор
(А.Воше).— Двор (Ж. Ревель).— Большие корпорации (К. Шарль).—
Гербы (Ж.Эли).— Свободные профессии: адвокат (Л. Карпик).— Пред-
приятие (Ф. Карон).— Ремесло (И. Лекэн).— «История французского
языка» Фердинанда Брюно (Ж.-К. Шевалье).
Истоки. Местное (Т. Ганье).— Барзаэ-Брейз (Ж.-И. Гиомар).—
Фелибриж (Ф. Мартель).— Пословицы, сказки и песни (Д. Фабр).—
«Учебник французского фольклора» Арнольда ван Геннепа (Д. Фабр).
Уникальности. Разговор (М. Фюмароли).—Галантность
(Н. Эпп).— Вино и виноградник (Ж. Дюран).—Гастрономия (П. Ори).—
Кафе (Б. Лекок).— Путешествие по Франции (Ж. Вигарелло).— «В по-
исках утраченного времени» Марселя Пруста (А. Компаньон).
Книга 3. От архива к эмблеме
Записи. Генеалогия (А. Бюргьср).— Нотариальная контора
(Ж.-П. Пуассон).— Жизнь рабочих (М. Перро).— Индустриальный век
(Л. Бержерон).— Архивы (К. Помиан).
Знаменитые места. Ласко (Ж.-П. Демуль) — Алезия (О. Бюш-
заншютц, А. Шнапп).— Везслс (Г. Лобришон).— Собор Парижской Бо-
гоматери (А. Эрланд-Бранденбург).— Замки Луары (Ж.-П. Бабелон).—
Сакре-Кер Монмартра (Ф. Луайе).— Эйфелева башня (А. Луарет).
Идентификации. Галльский петух (М. Пастуро).— Старшая
дочь церкви (Р. Ремоп).— Свобода, равенство, братство (М. Озуф).—
Карл Великий (Р. Мориссе).— Жанна д’Арк (М. Винок).— Декарт
(Ф. Азуви).— Король (А. Буро).— Государство (А. Гери).— Париж
(М. Агюльон).—Гений французского языка (М. Фюмароли).
Эра коммемораций (П. Нора).
СОДЕРЖАНИЕ
Нора П. Предисловие к русскому изданию
5
I
Пьер Нора.
МЕЖДУ ПАМЯТЬЮ И ИСТОРИЕЙ
Проблематика мест памяти
17
НАЦИЯ-ПАМЯТЬ
51
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ ФРАНЦИИ?
66
ЭРА КОММЕМОРАЦИЙ
95
11
Мона Озуф
ПАНТЕОН
Эколь Нормаль мертвых
151
Жерар де Пюимеж
СОЛДАТ ШОВЕН
186
Мишель Винок
ЖАННА д’АРК
225
Xanaeea Д ПРОШЛОЕ КАК ВЫЗОВ ИСТОРИИ
Послесловие переводчика
296
Приложение. «МЕСТА ПАМЯТИ». План
324
Научное издание
Пьер Нора
Мона Озуф * Жерар де Пюимеж * Мишель Винок
ФРАКЦИЯ-
ПАМЯТЬ
Перевод с французского Д. Лапаевой
Научный консультант перевода II. Копосов
Лицензия ЛР №> 040050 от 15.08.96.
Подписано в печать с оригипаламаксга 23.02.99.
Ф-т 84x108/32. Заказ № 72.
Издательство С.-Петербургского университета.
199034, С.-Петербург, Университетская наб., 7/9.
Типография Издательства С.-Петербургского университета.
199034, С.-Петербург, Университетская наб., 7/9.
Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де
Ф84 Пюимеж, М. Винок; Пер. с фр. Д. Хапаевой; Науч,
коне. пер. Н. Копосов. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-
та, 1999. — 328 с. — (Новая петербургская библиотека:
Коллекция «Память века»). — ISBN 5-288-02318-2
«Франция-память» — первый перевод
на русский язык основных текстов
«Мест памяти». В ней собраны важнейшие
статьи Пьера Нора, в которых
изложена теория «Мест памяти»,
а так же статьи М.Озуф, Ш.Пюимежа,
М.Винока, иллюстрирующие на конкретном
материале новый подход к истории Франции.
Пьер Нора (род. 1931 г.) — один из крупнейших
французских издателей и историков Франции.
Выпускник Эколь Нормаль, он преподавал
новейшую историю в Институте политических
исследований и в Школе высших социальных
исследований в Париже. Он является
редактором журнала «Дебаты», а также
руководителем ряда исторических серий
издательства «Галлимар» —
«Историческая библиотека»,
«Библиотека наук о человеке»,
«Библиотека идей» и др.