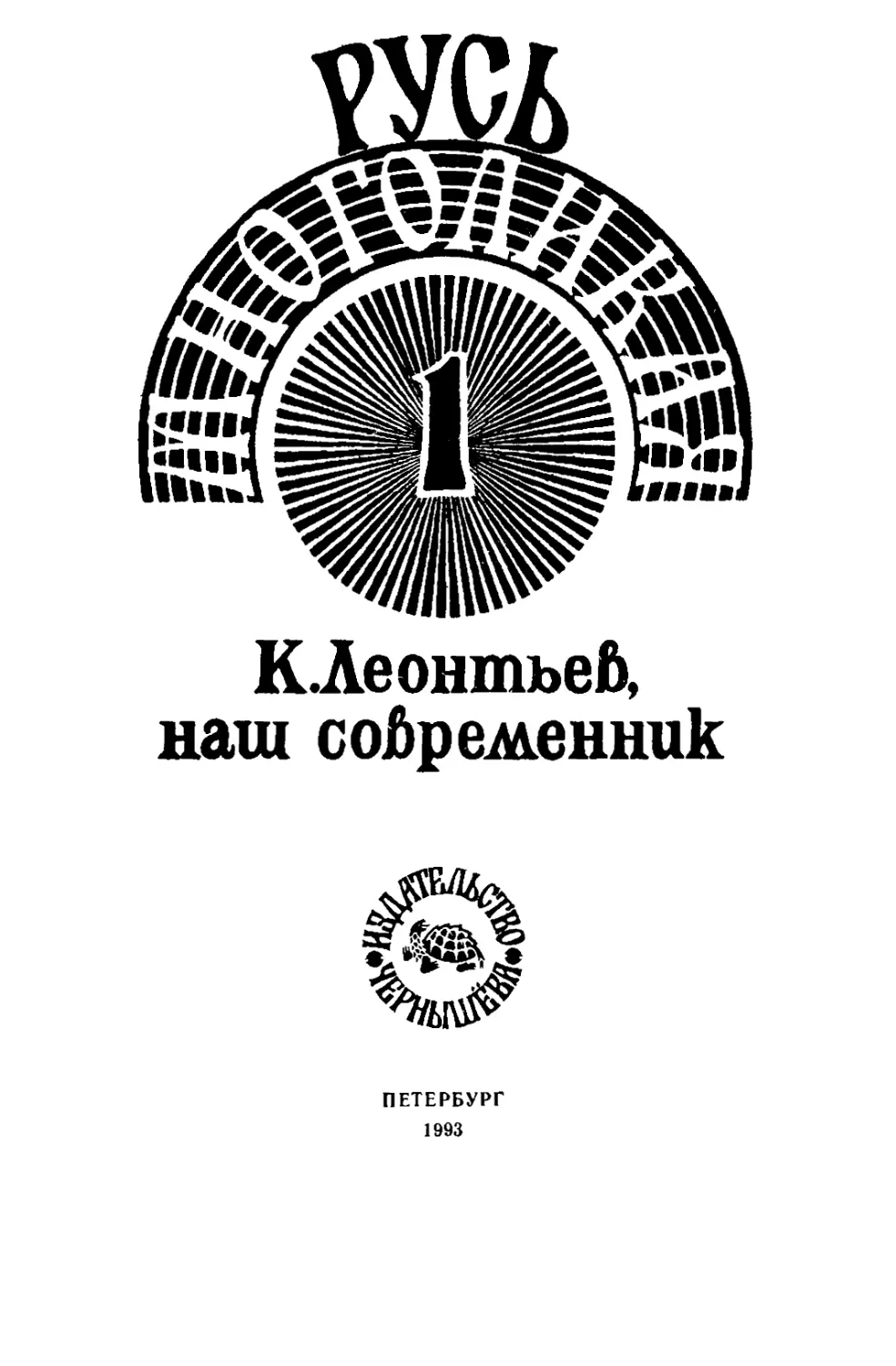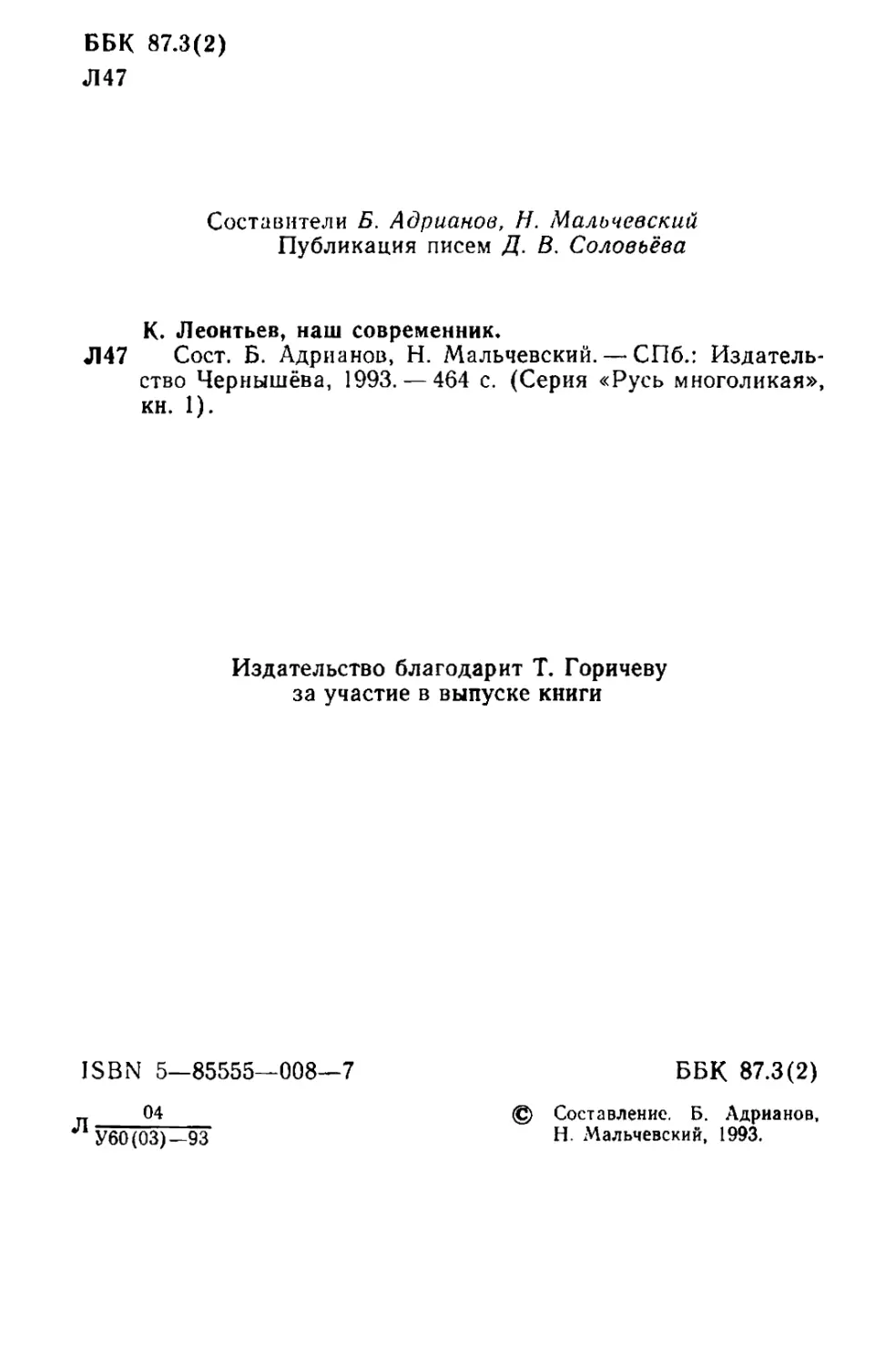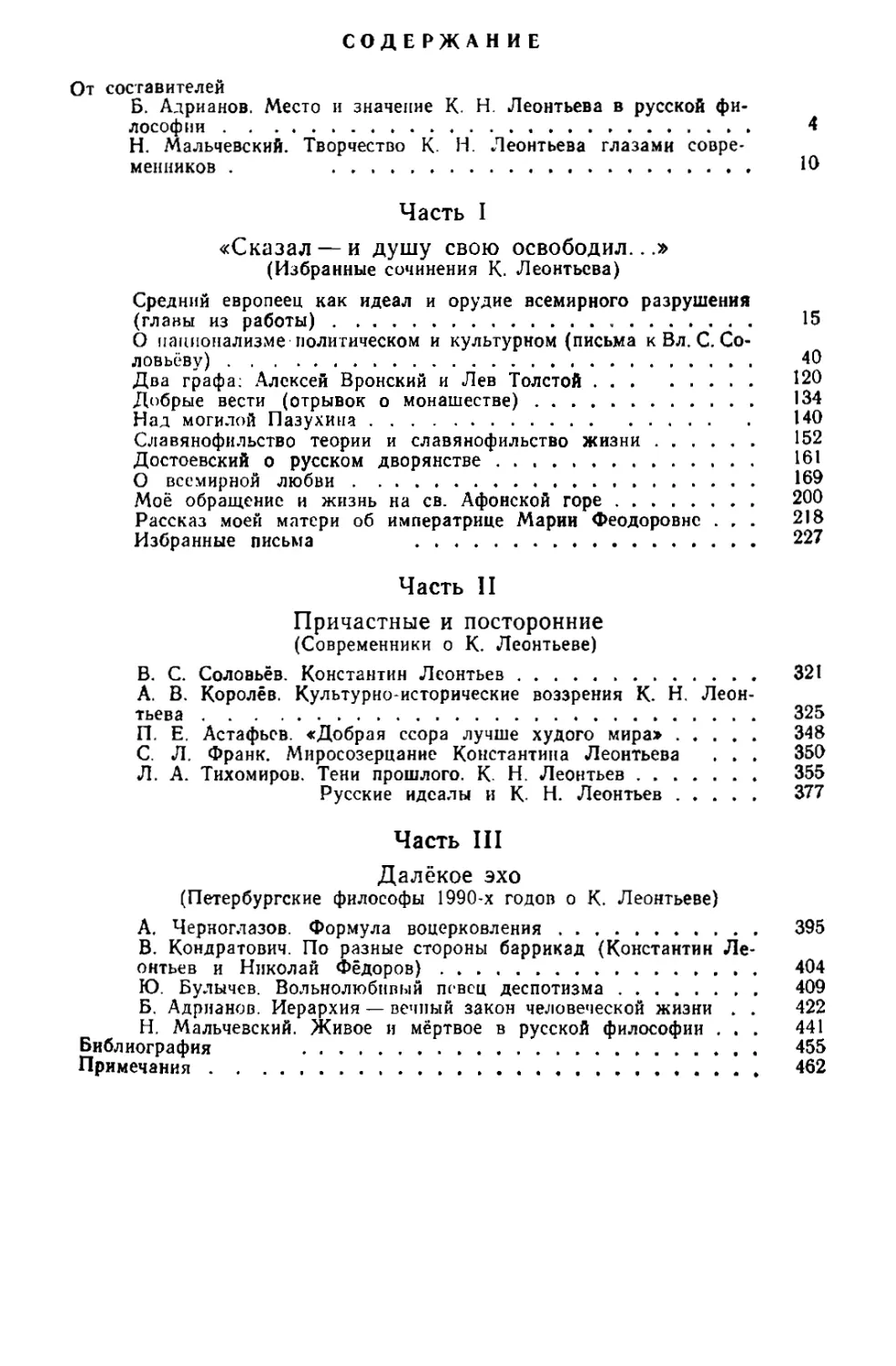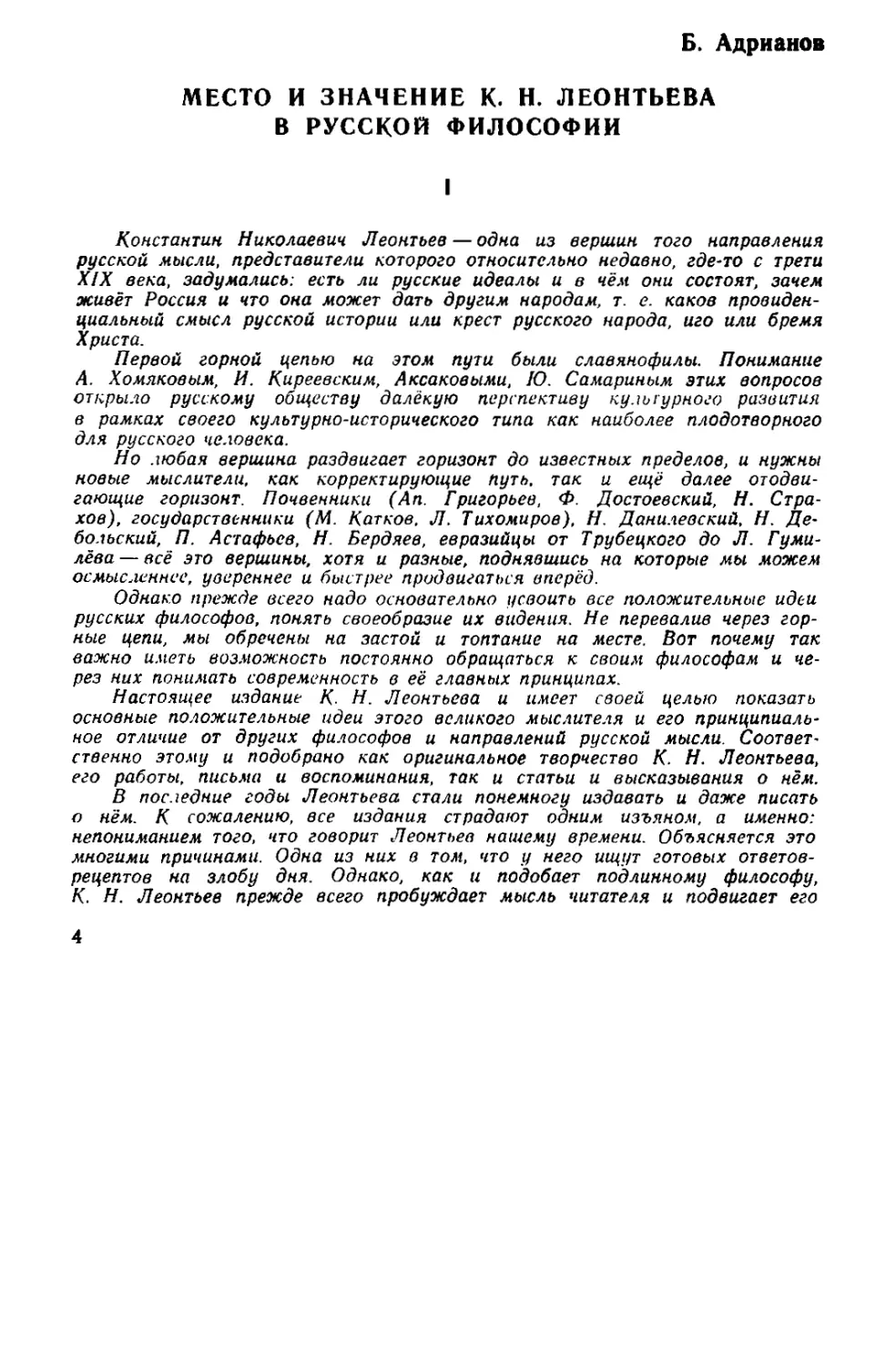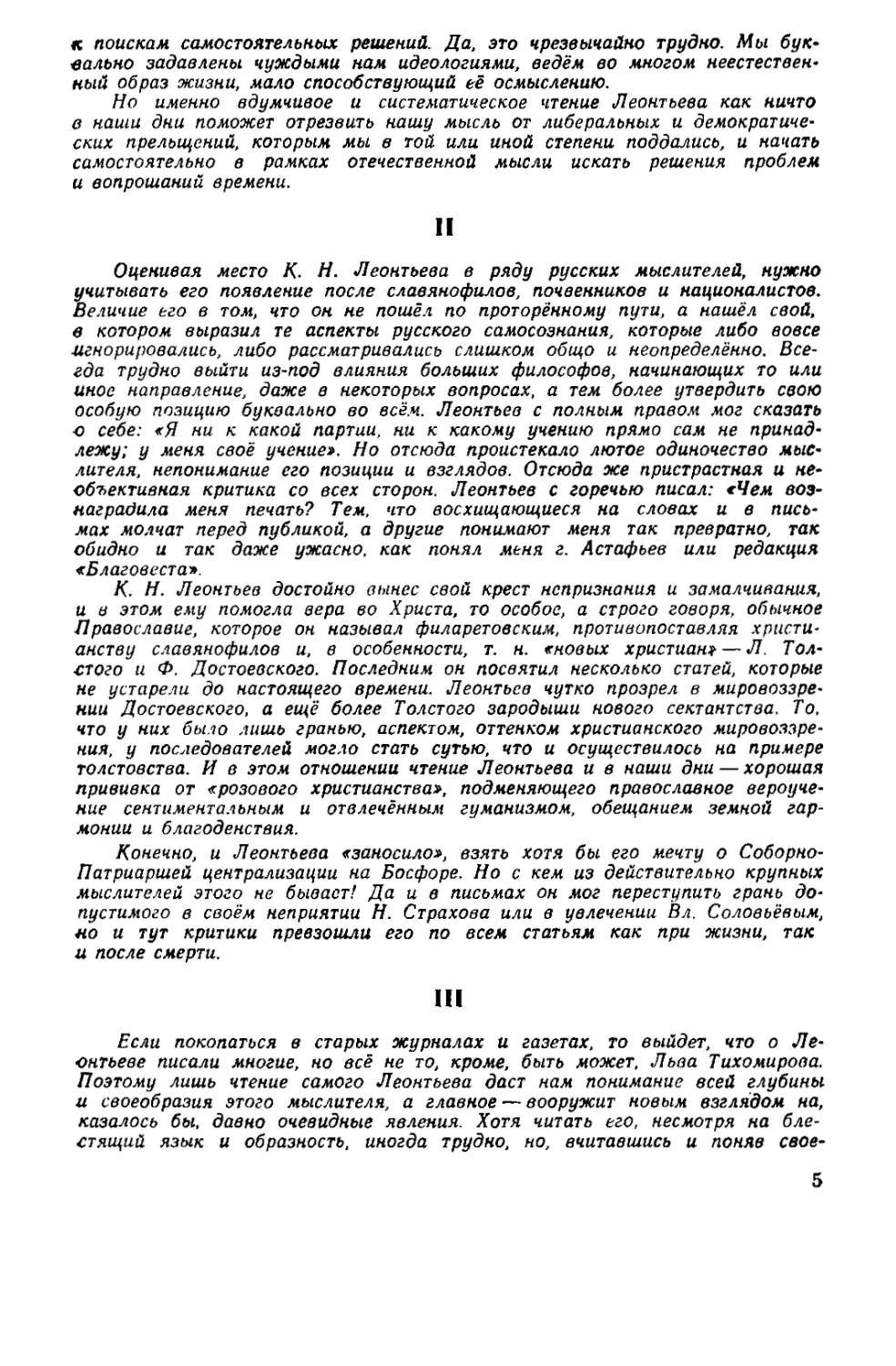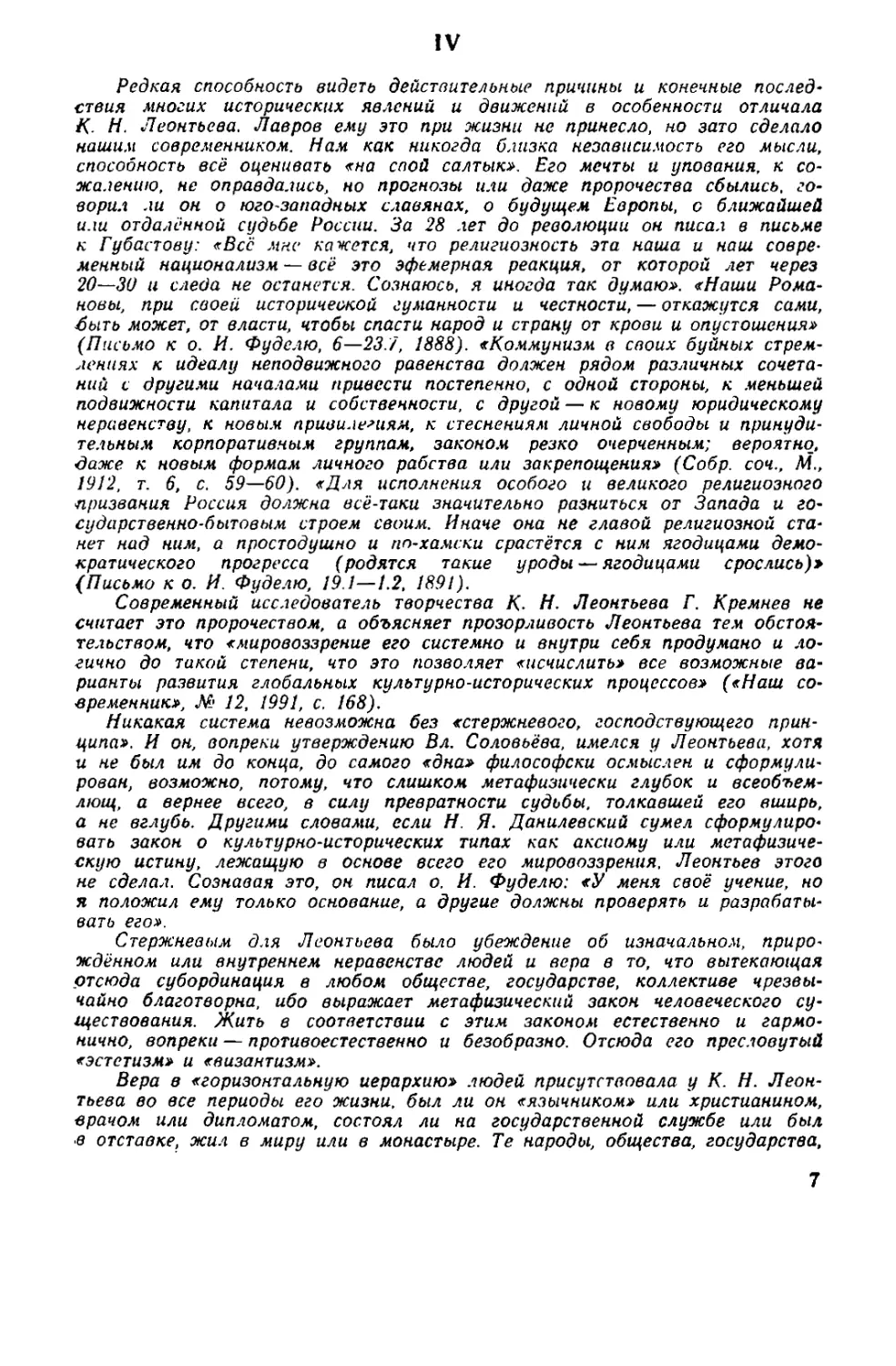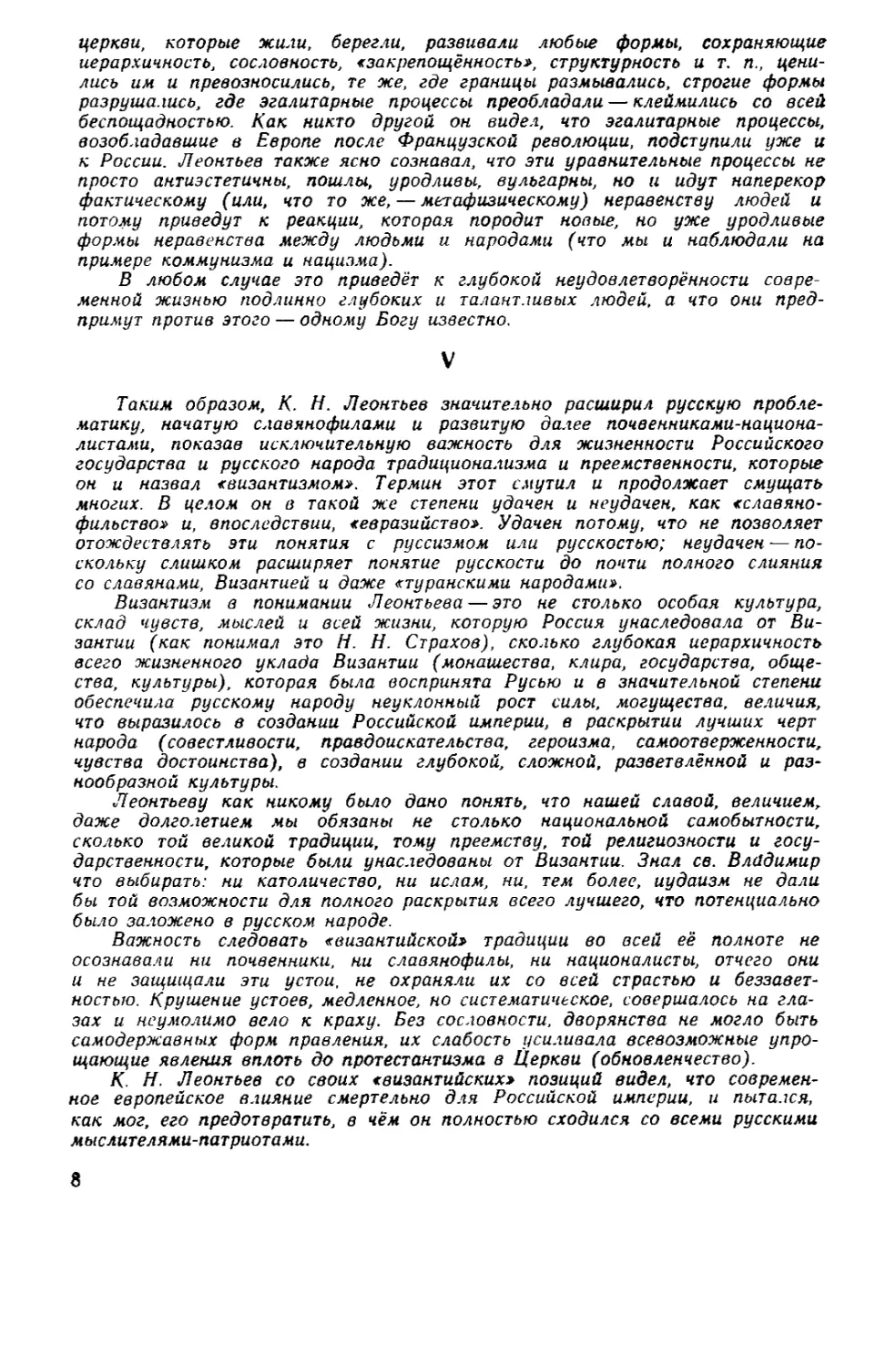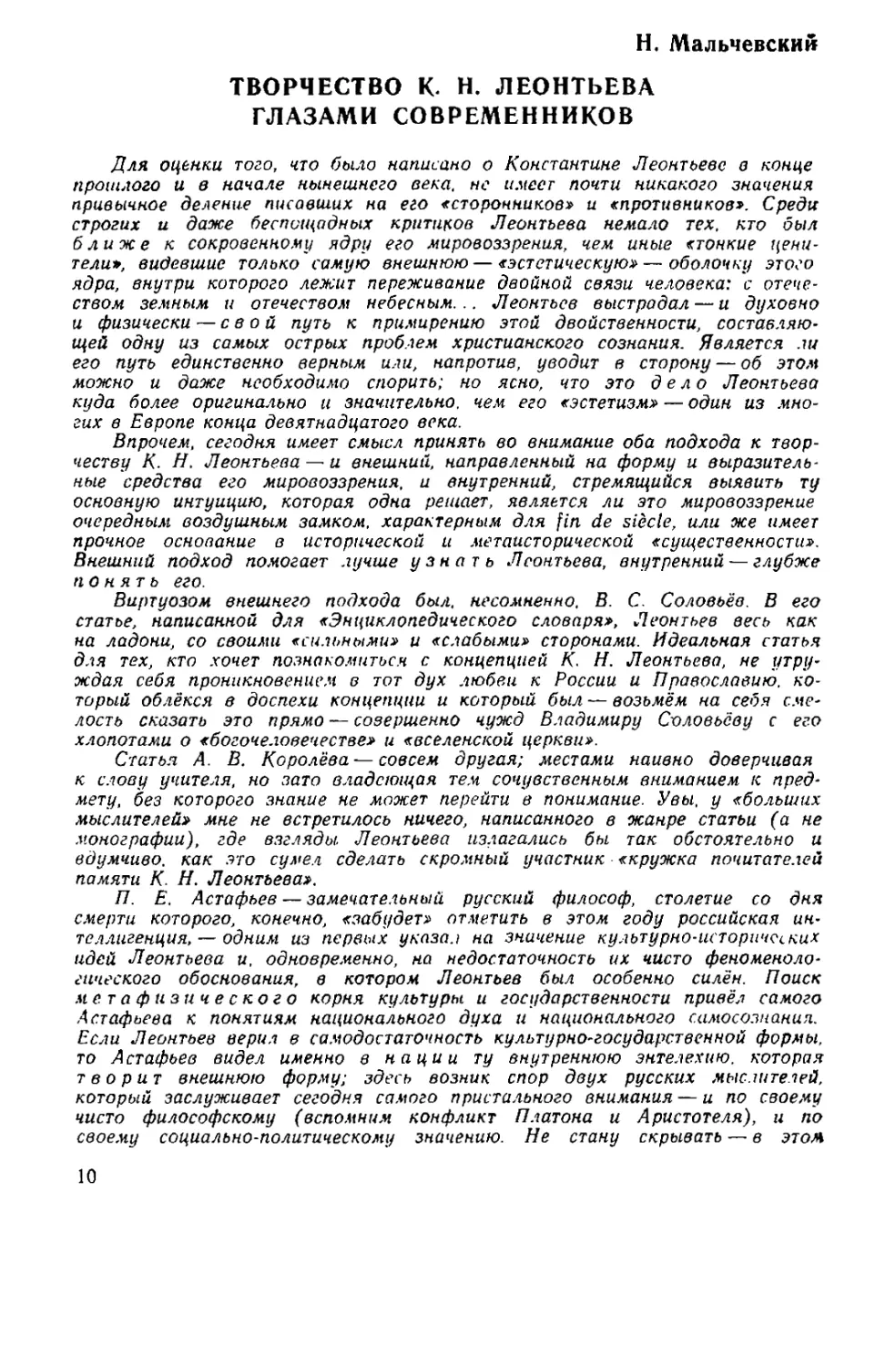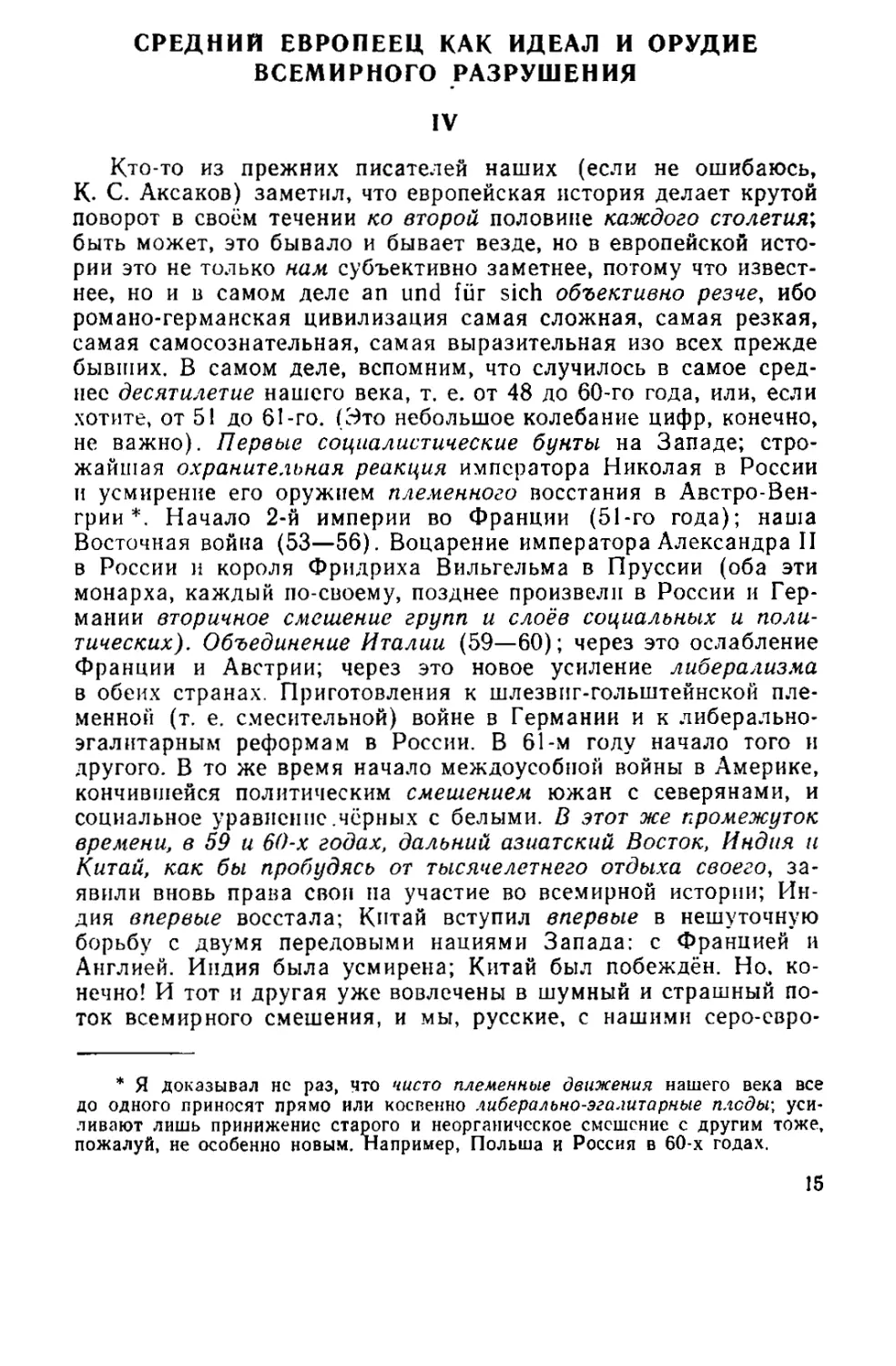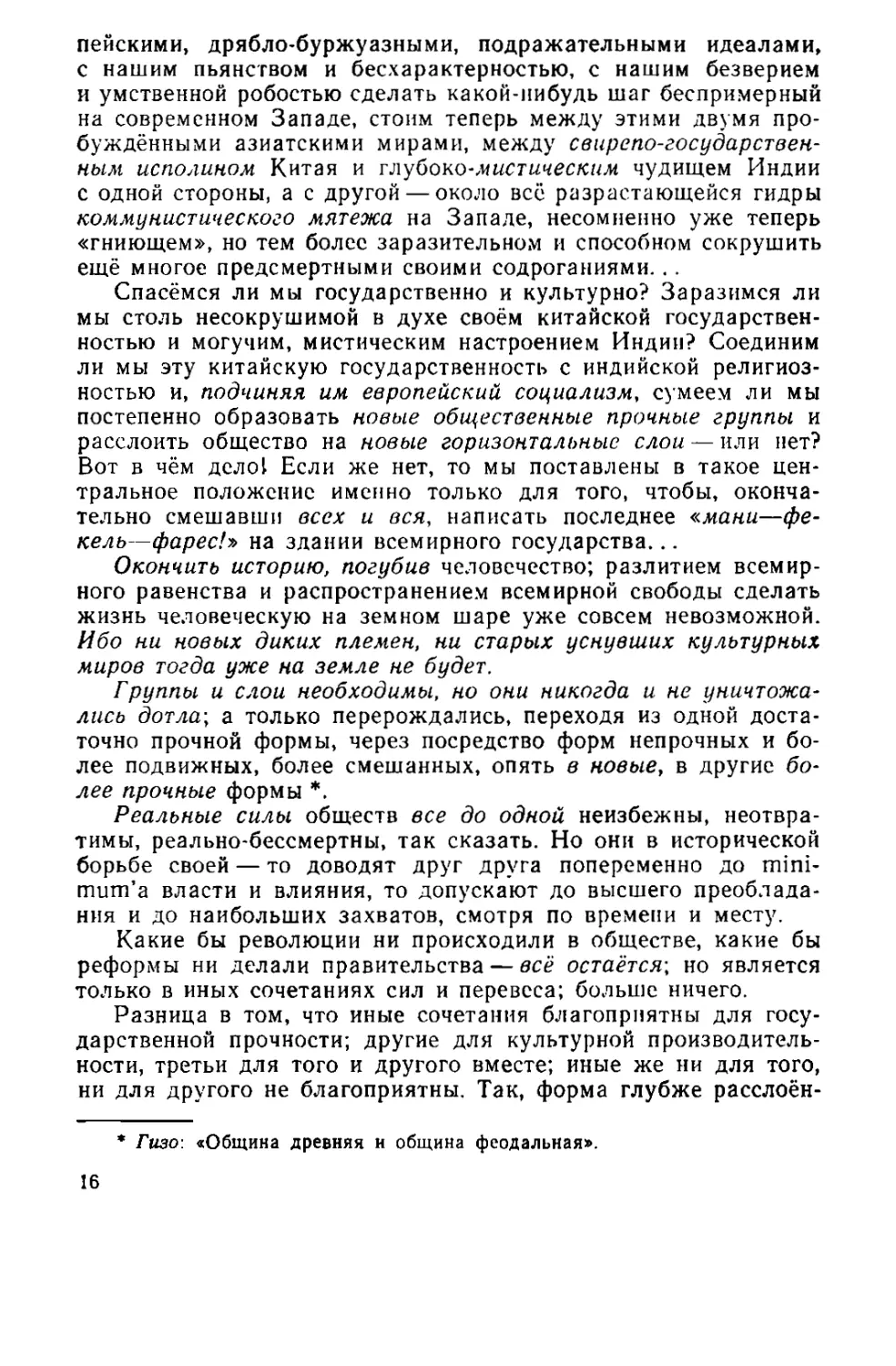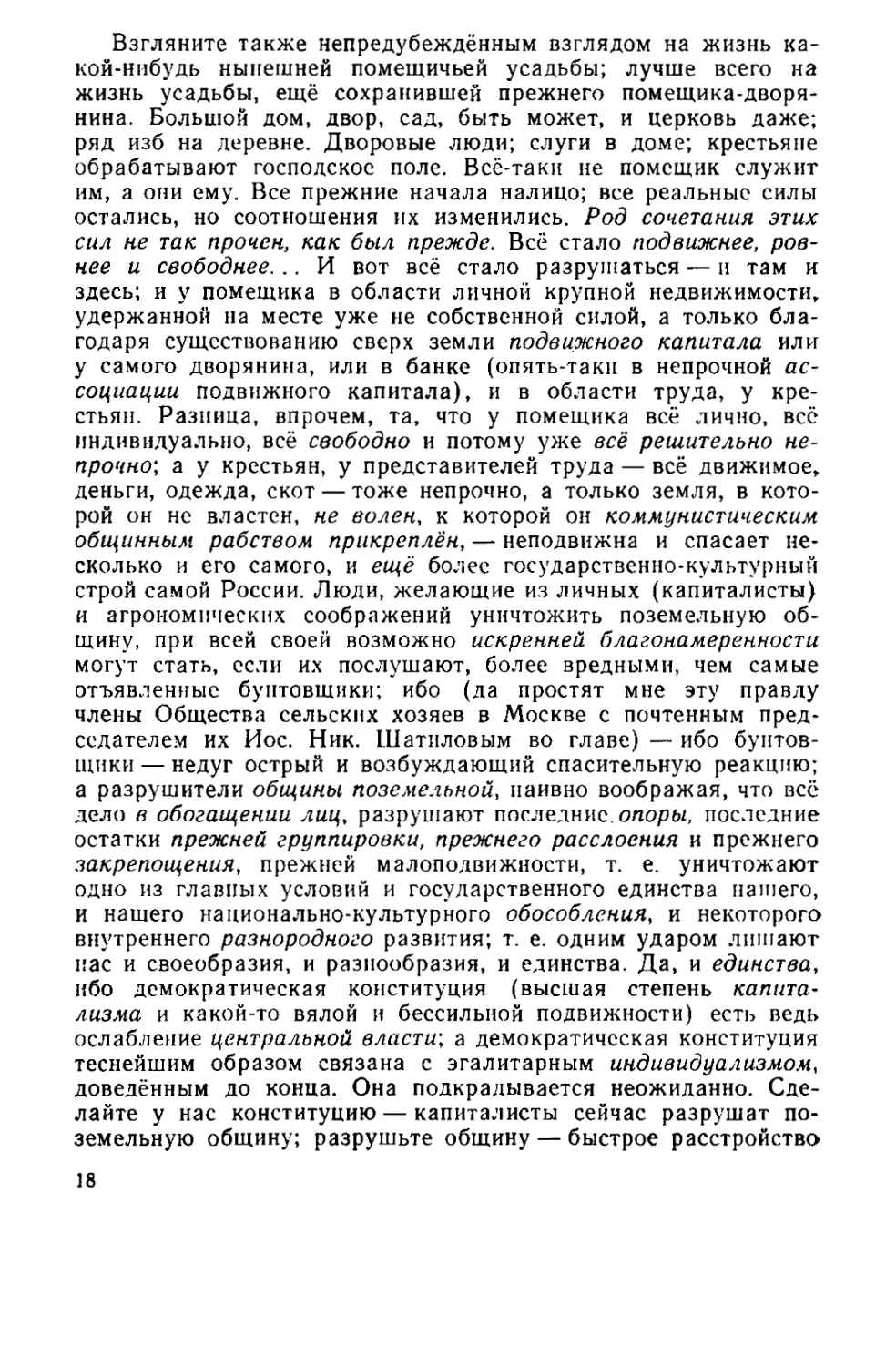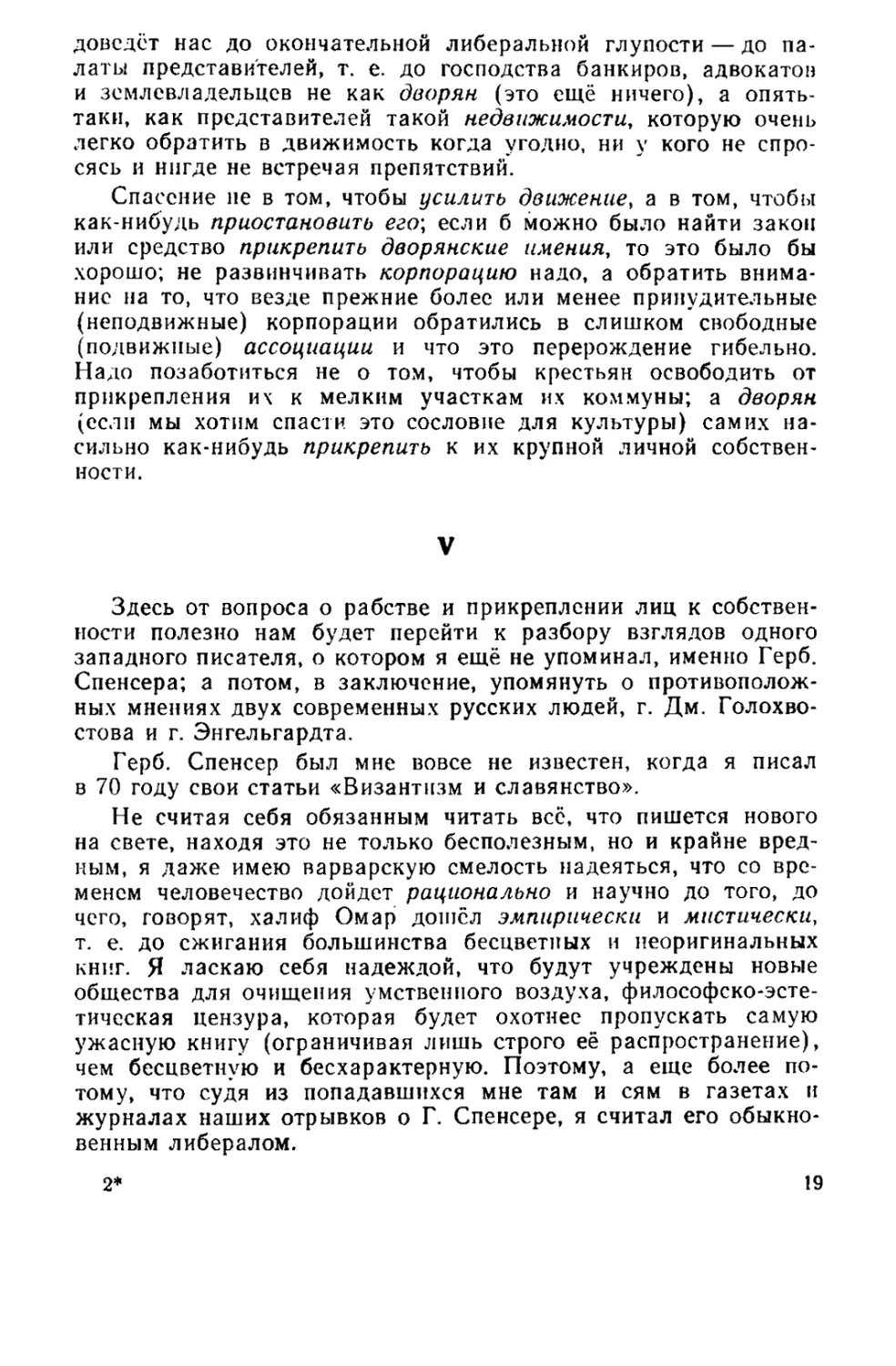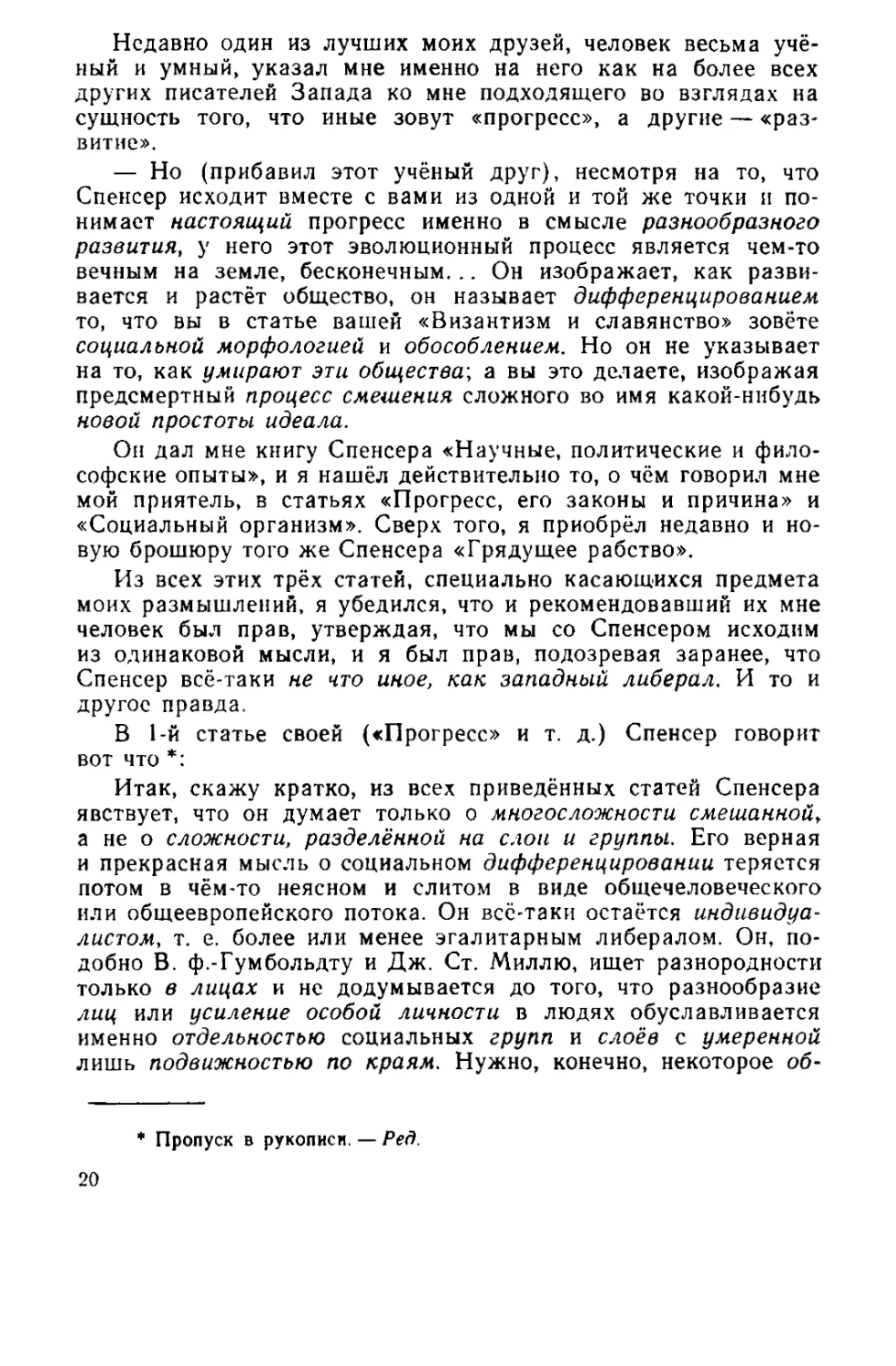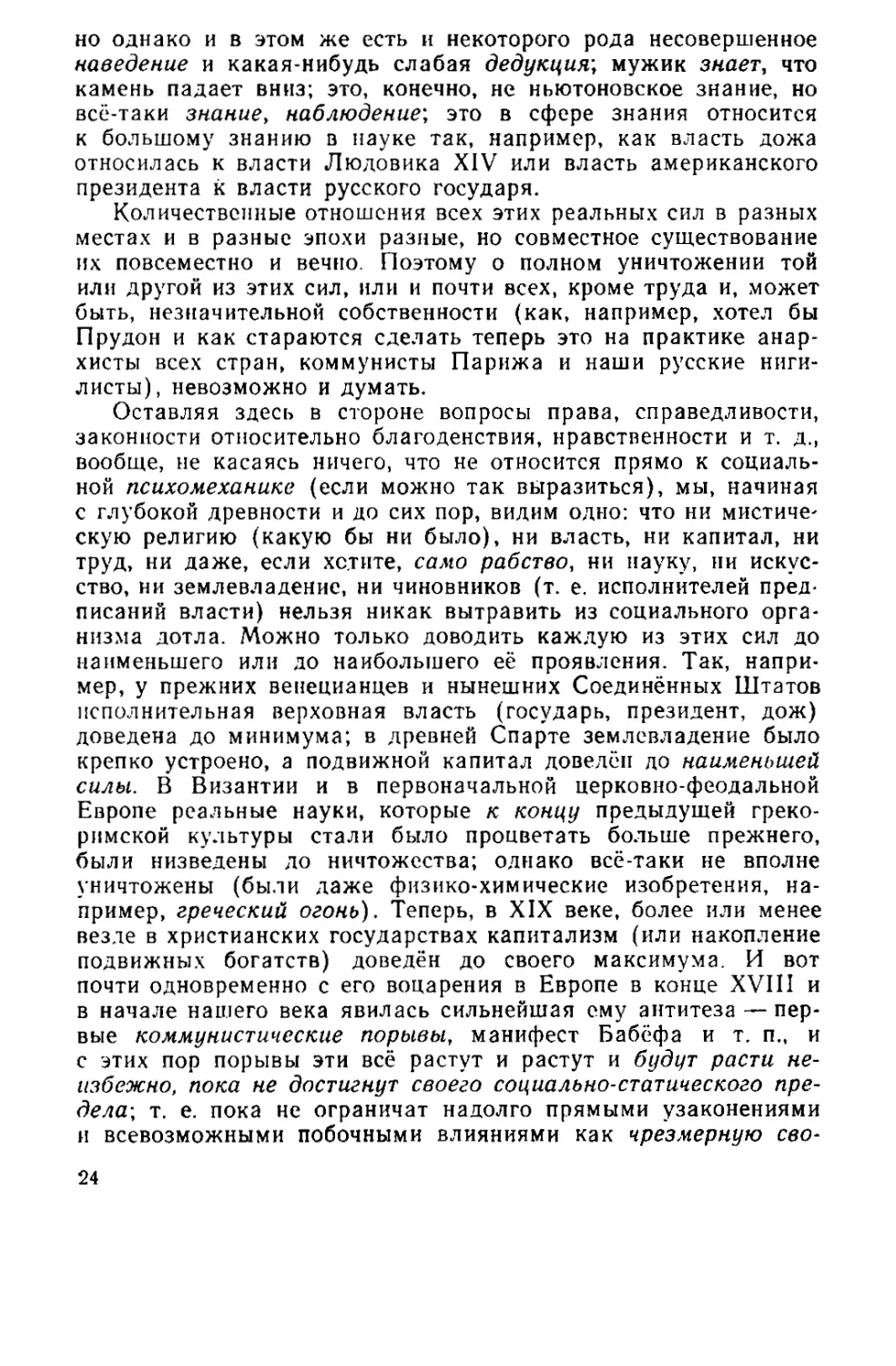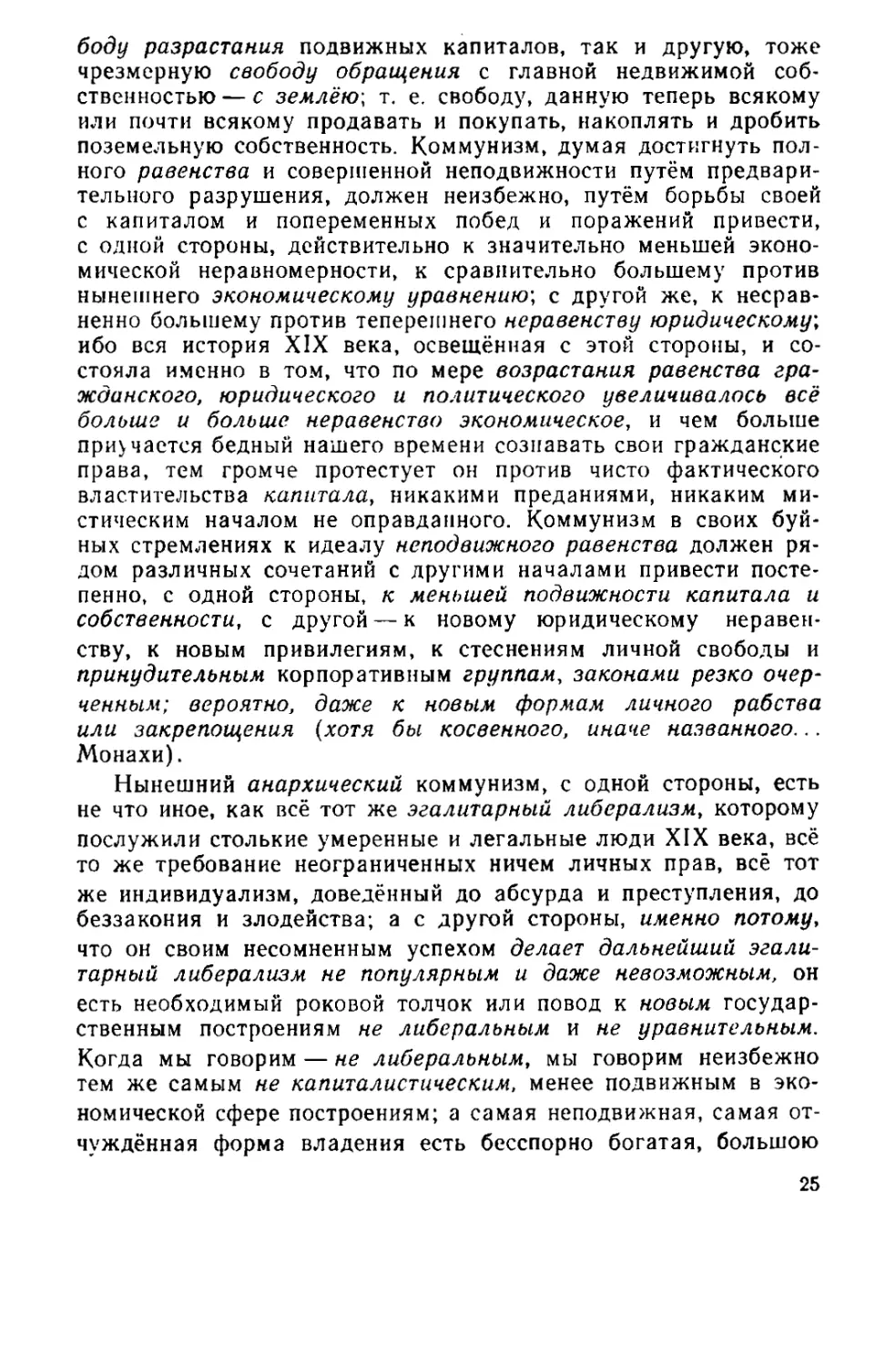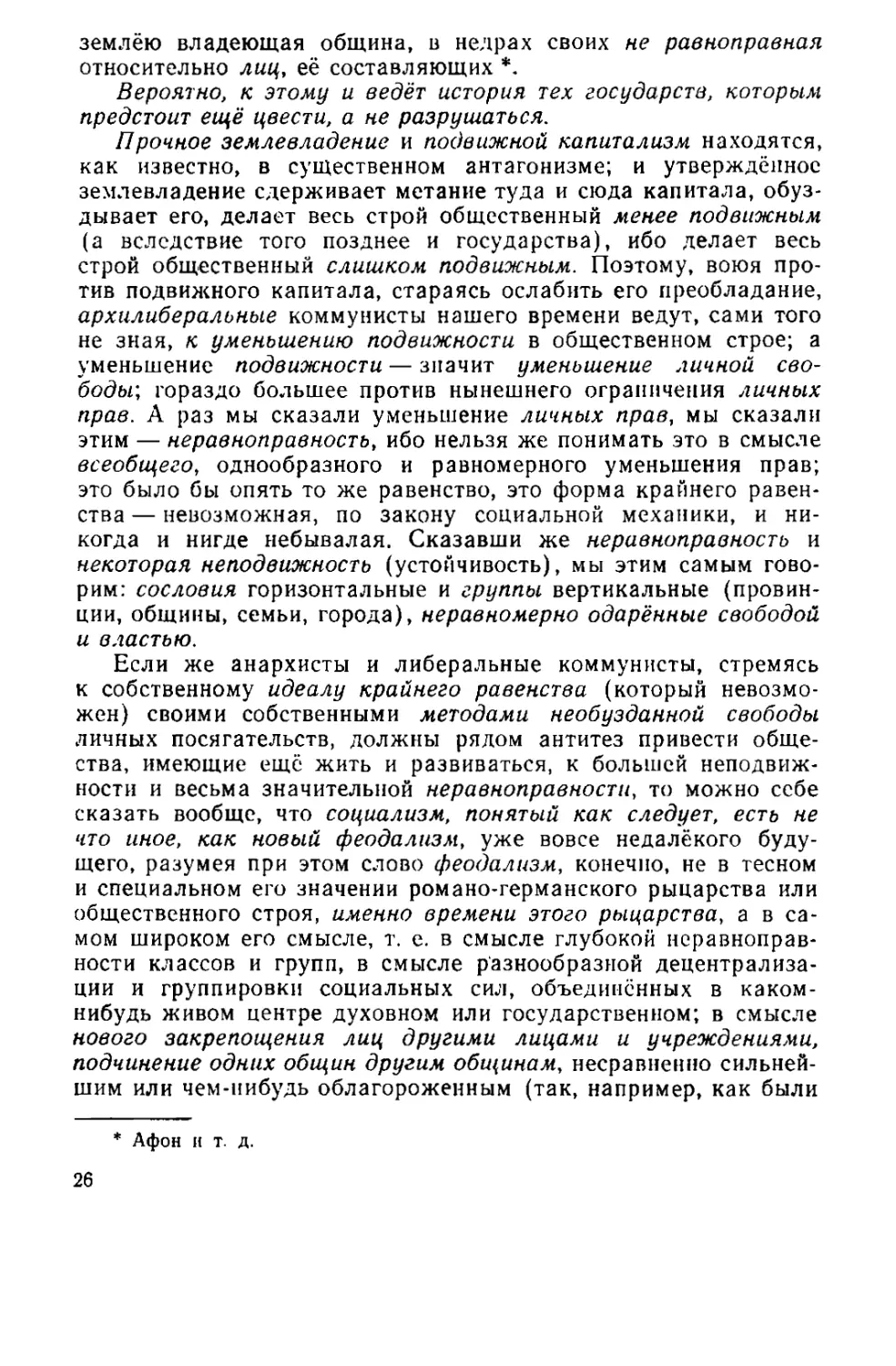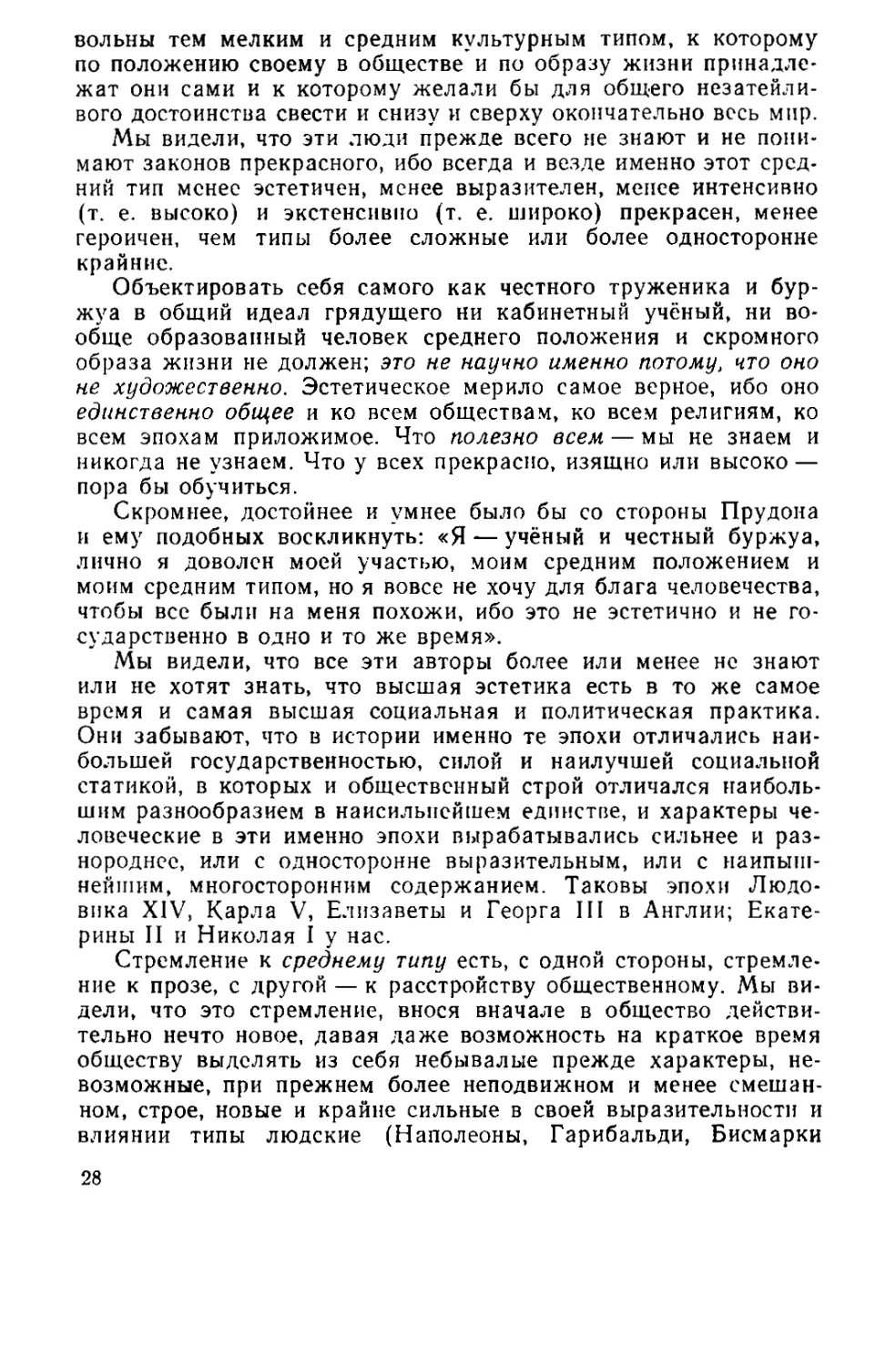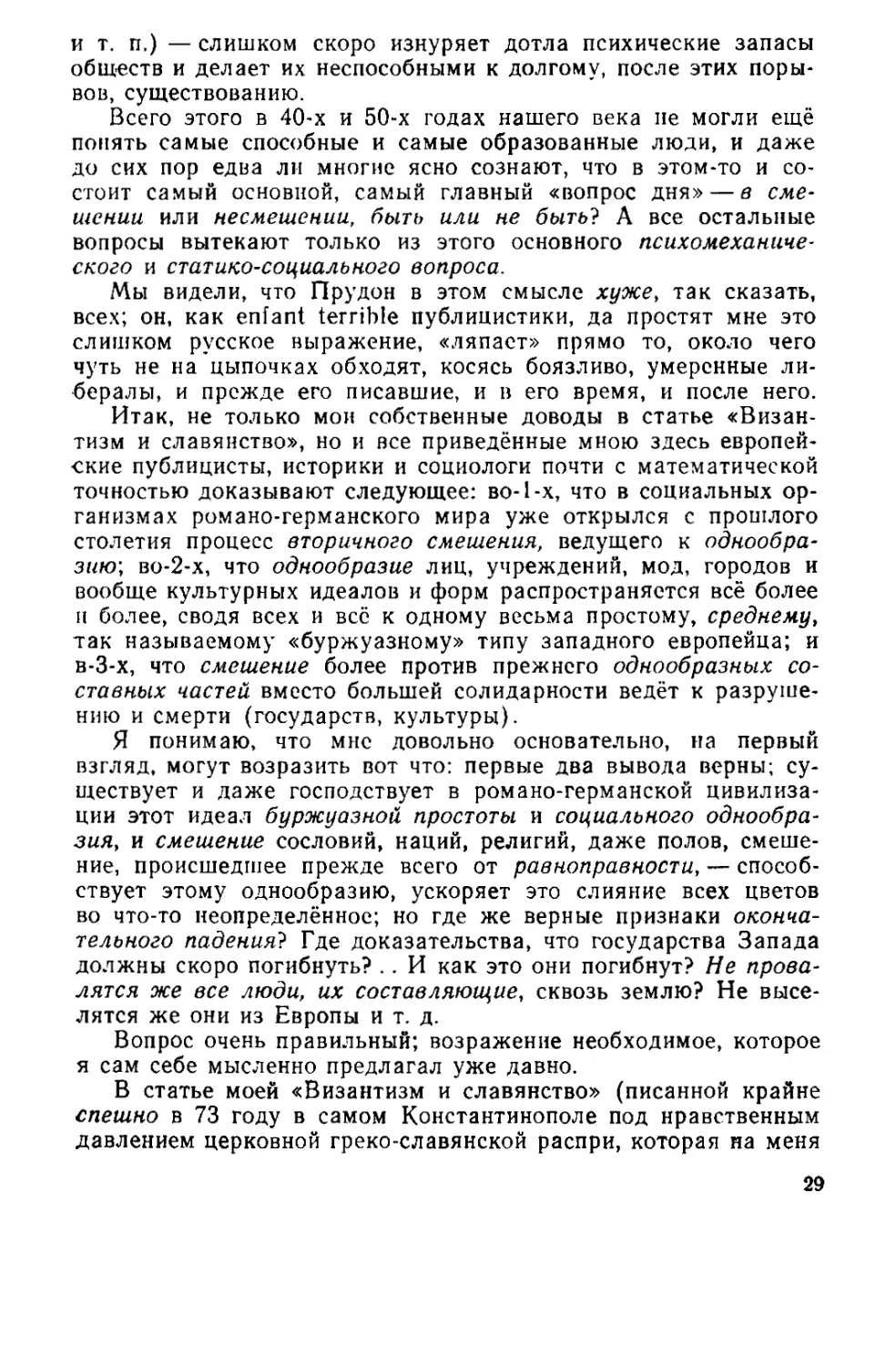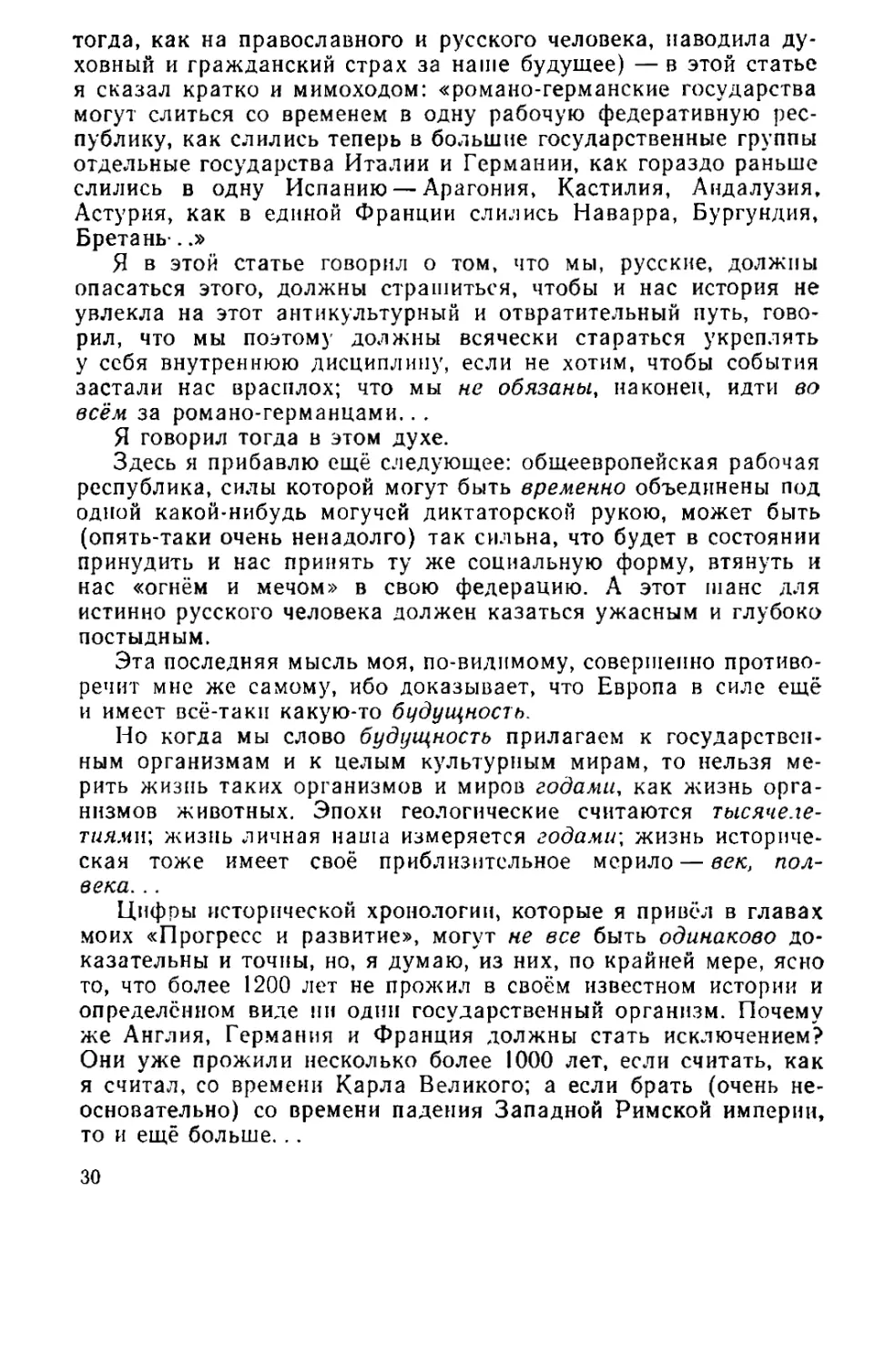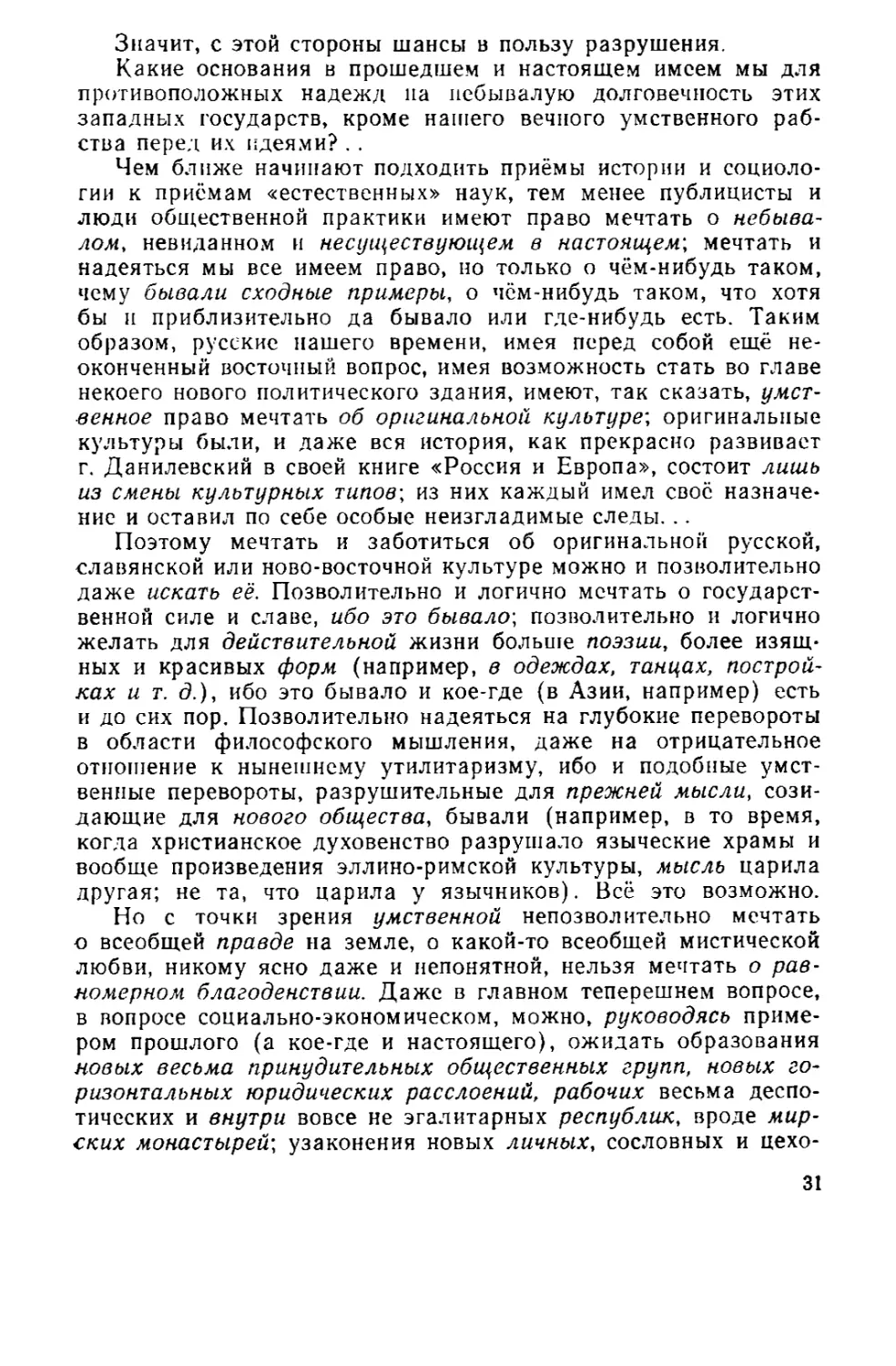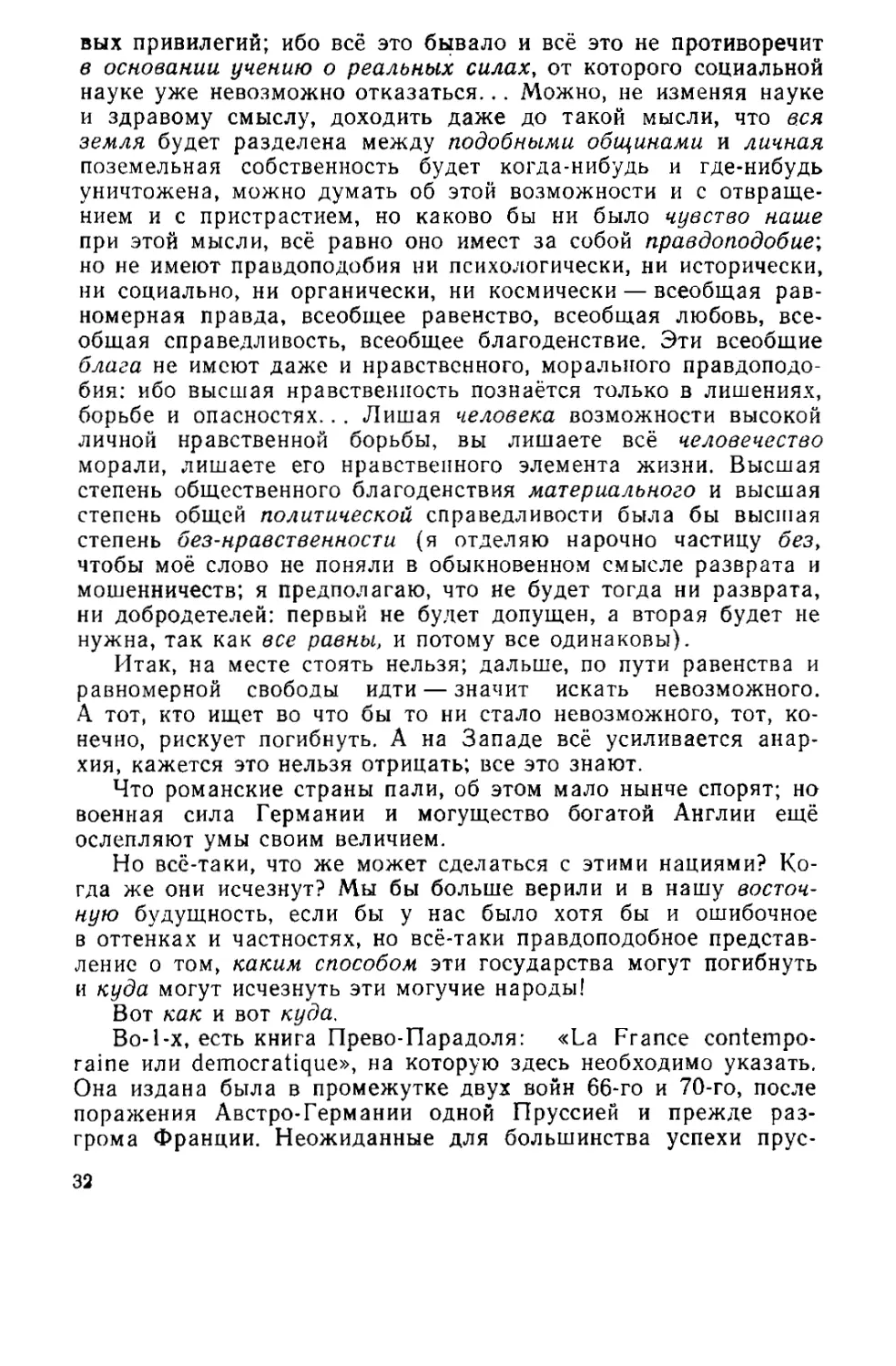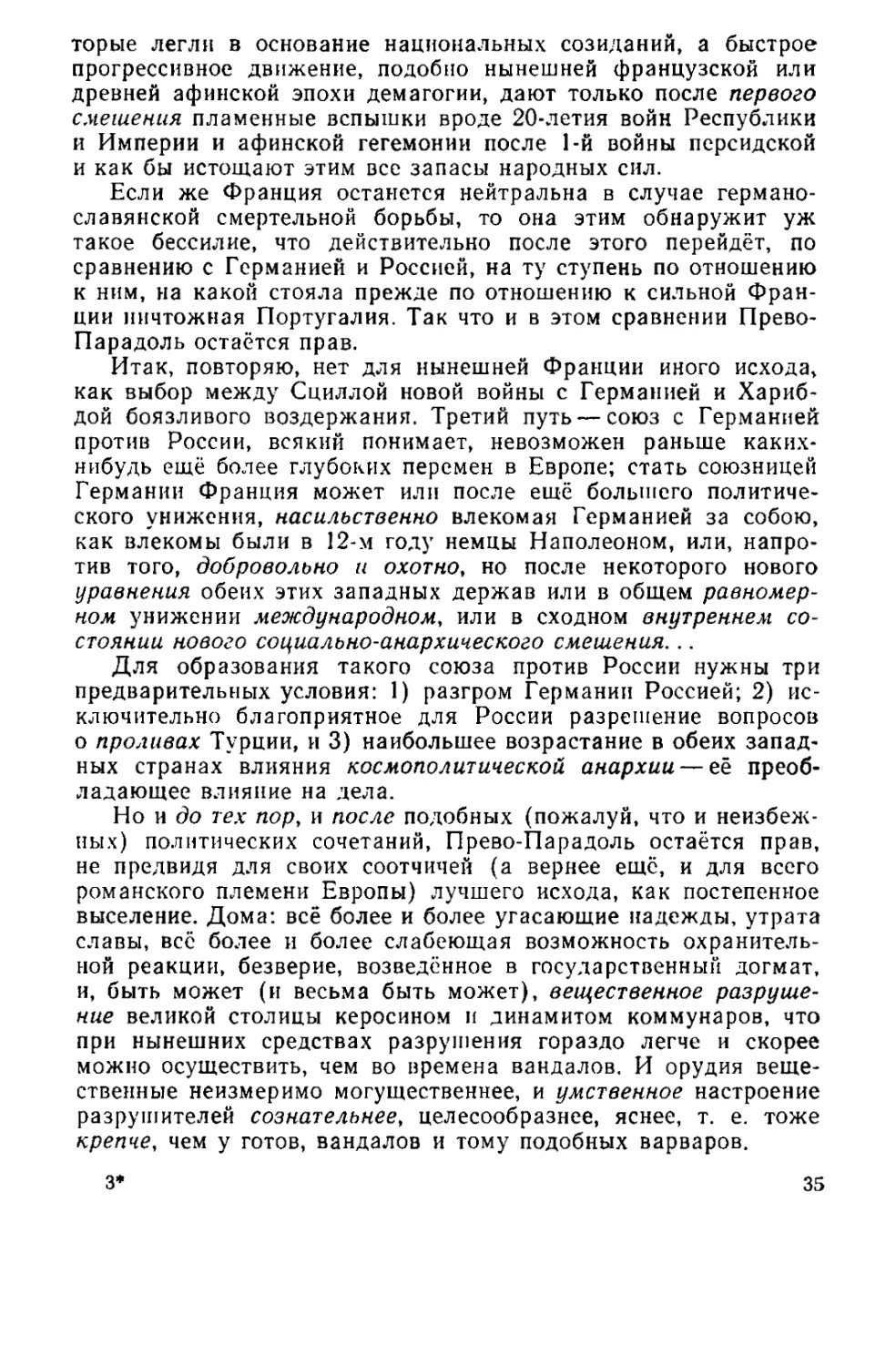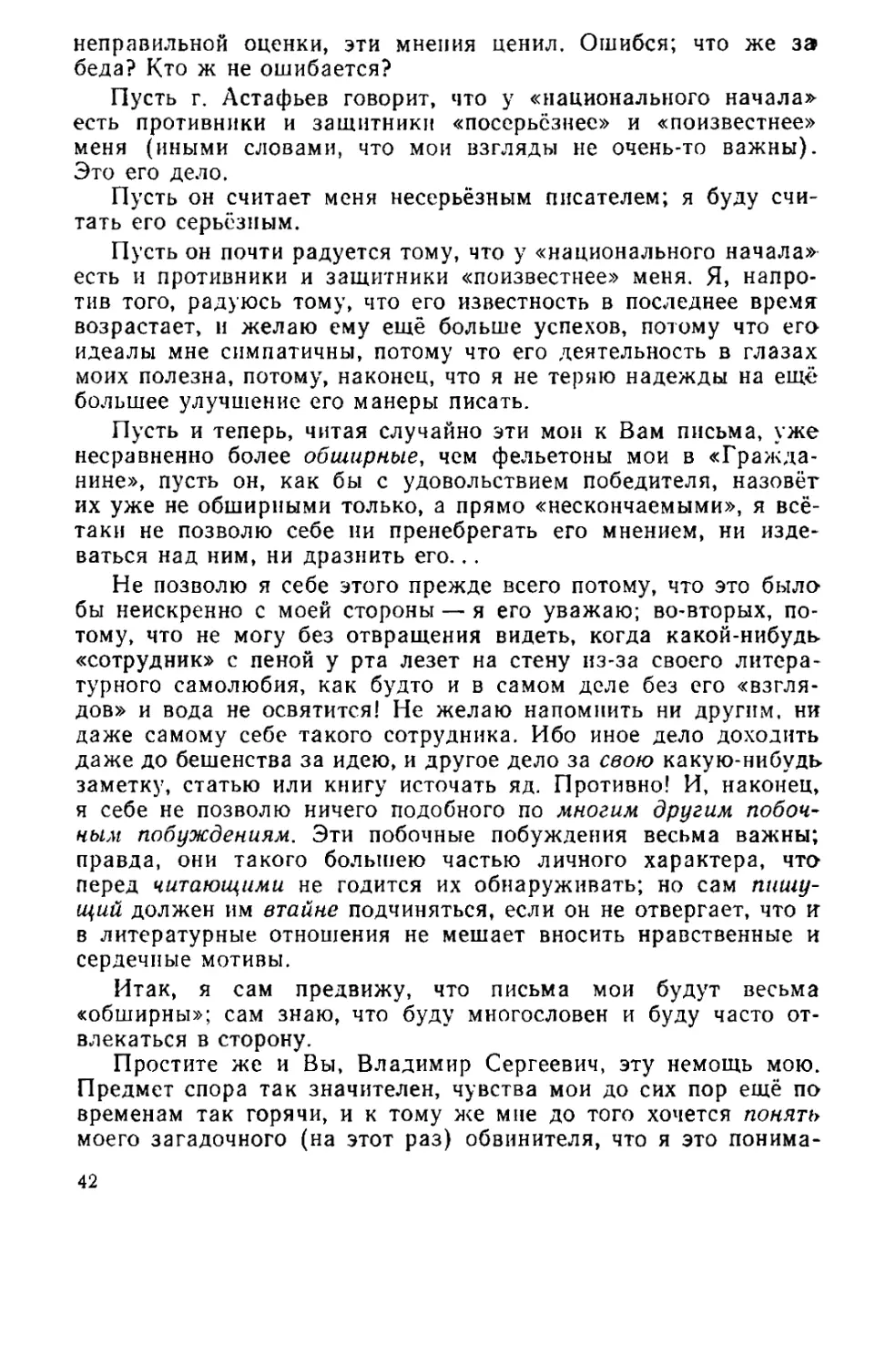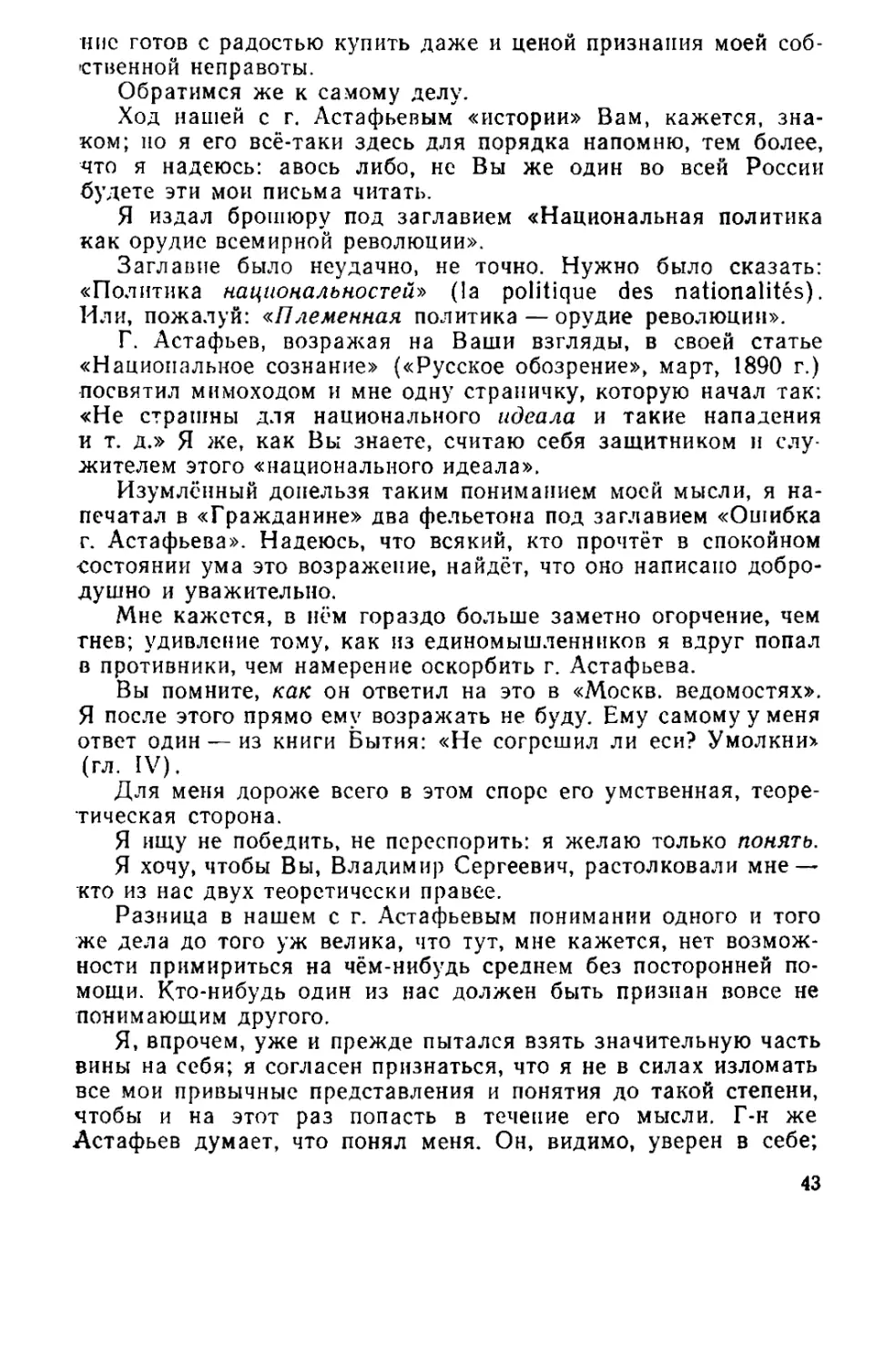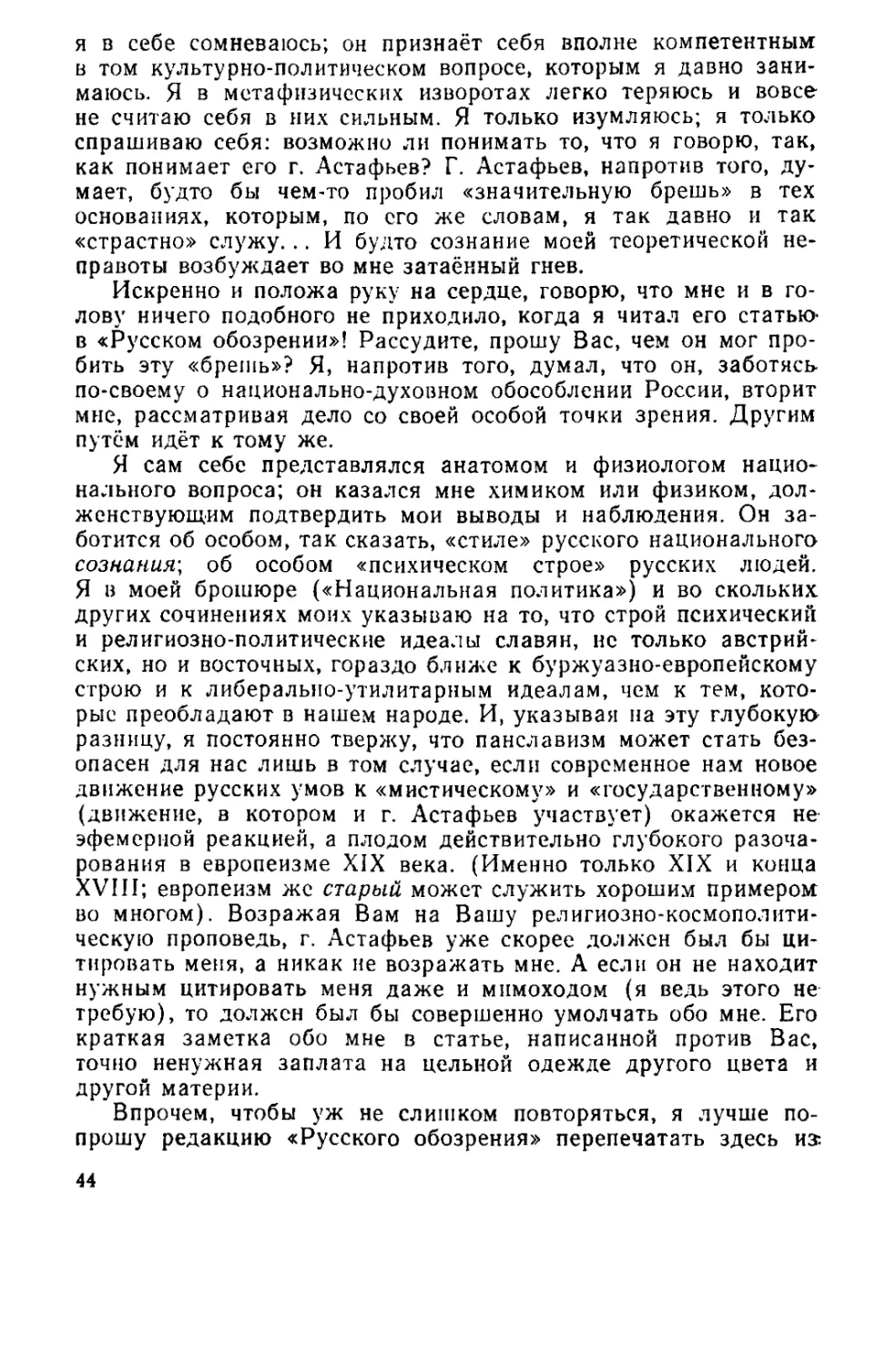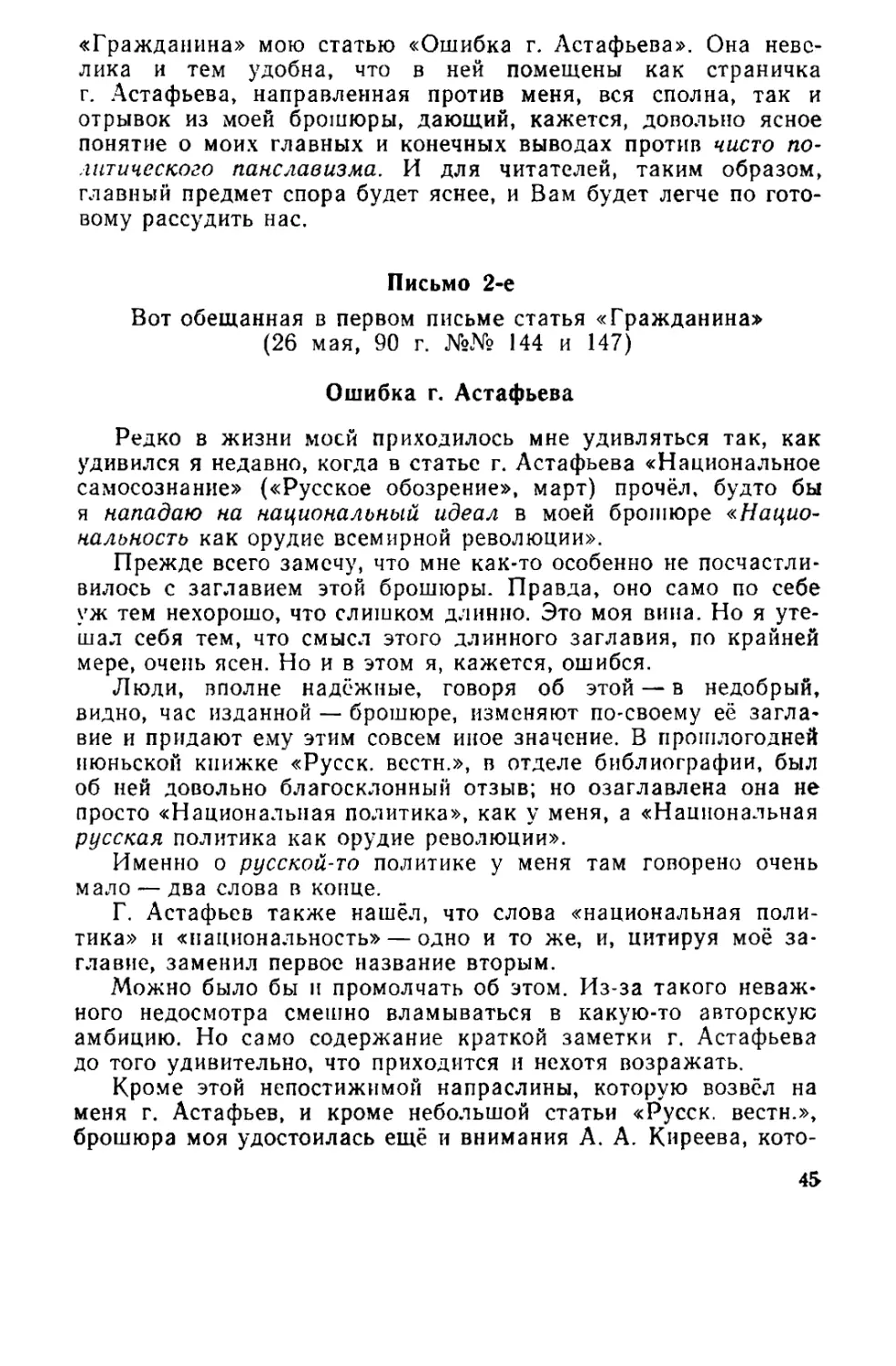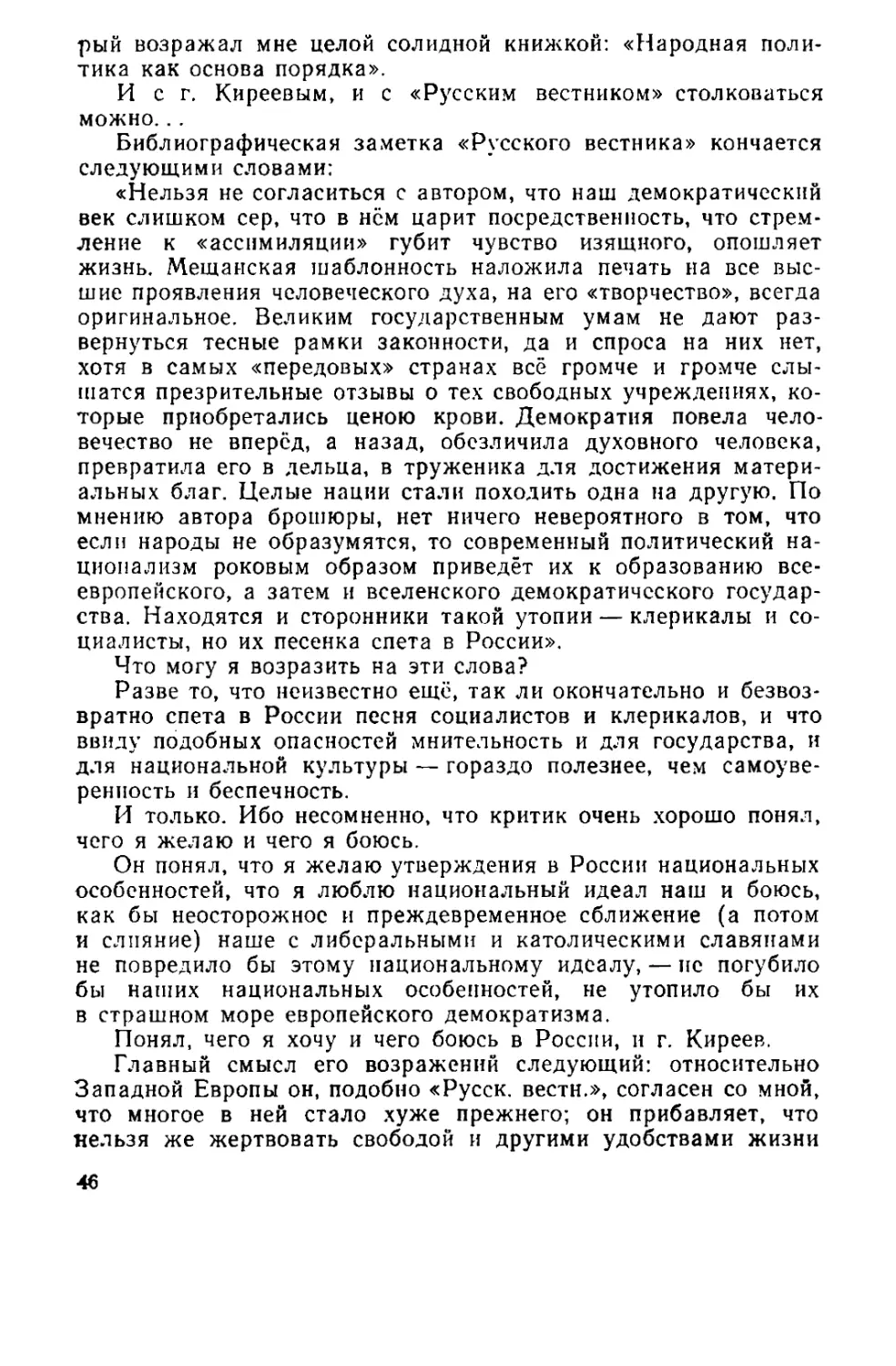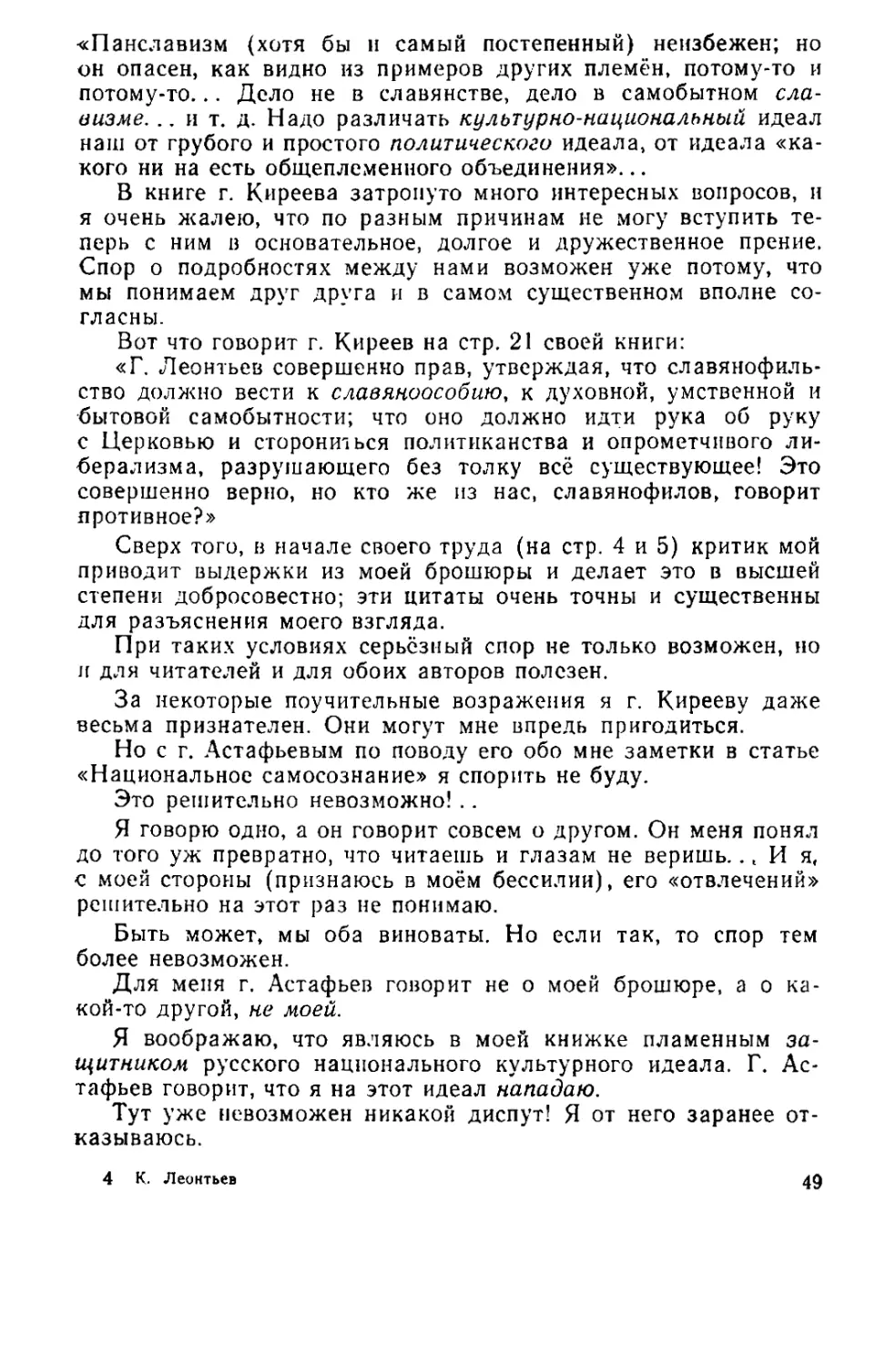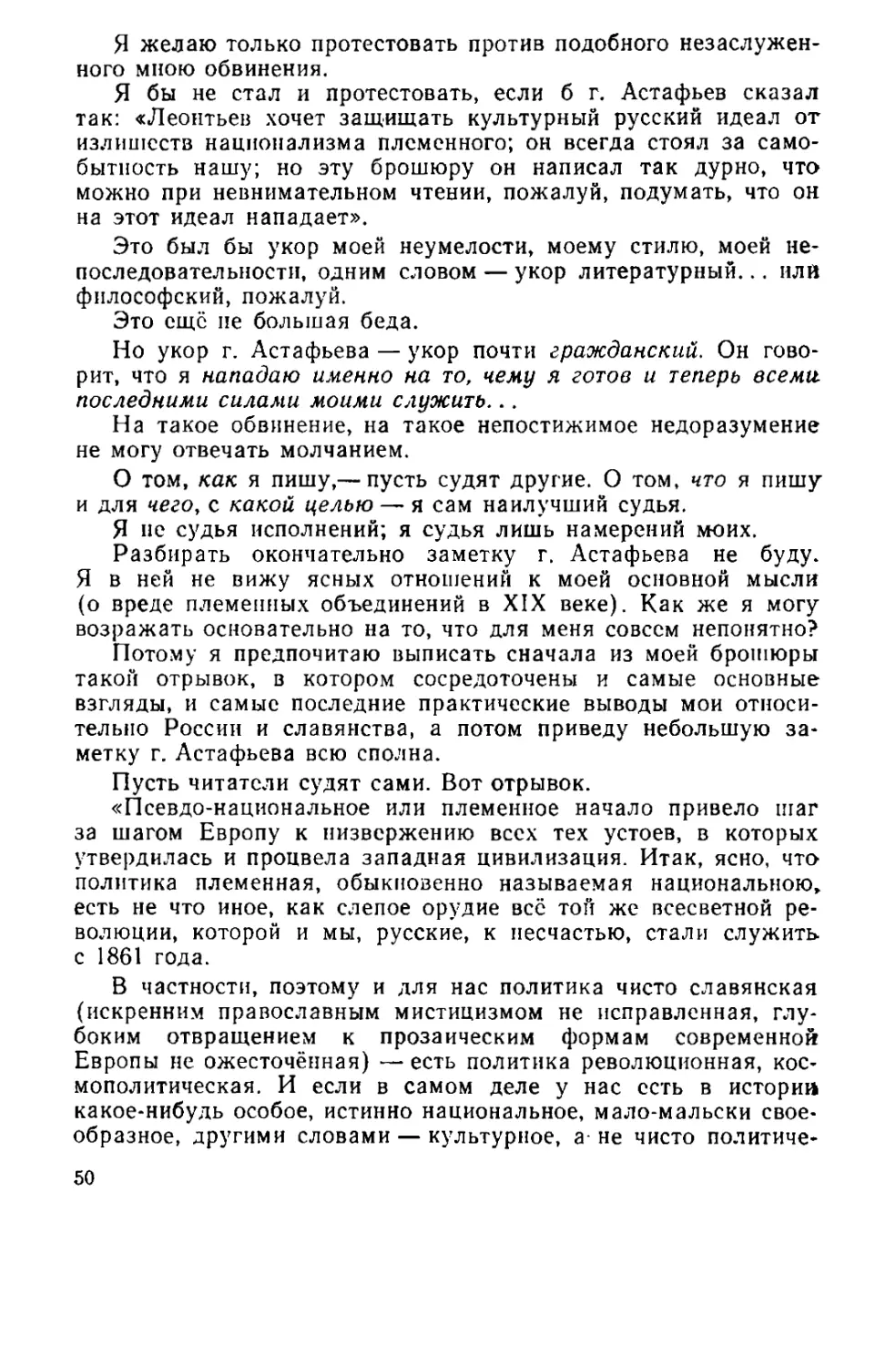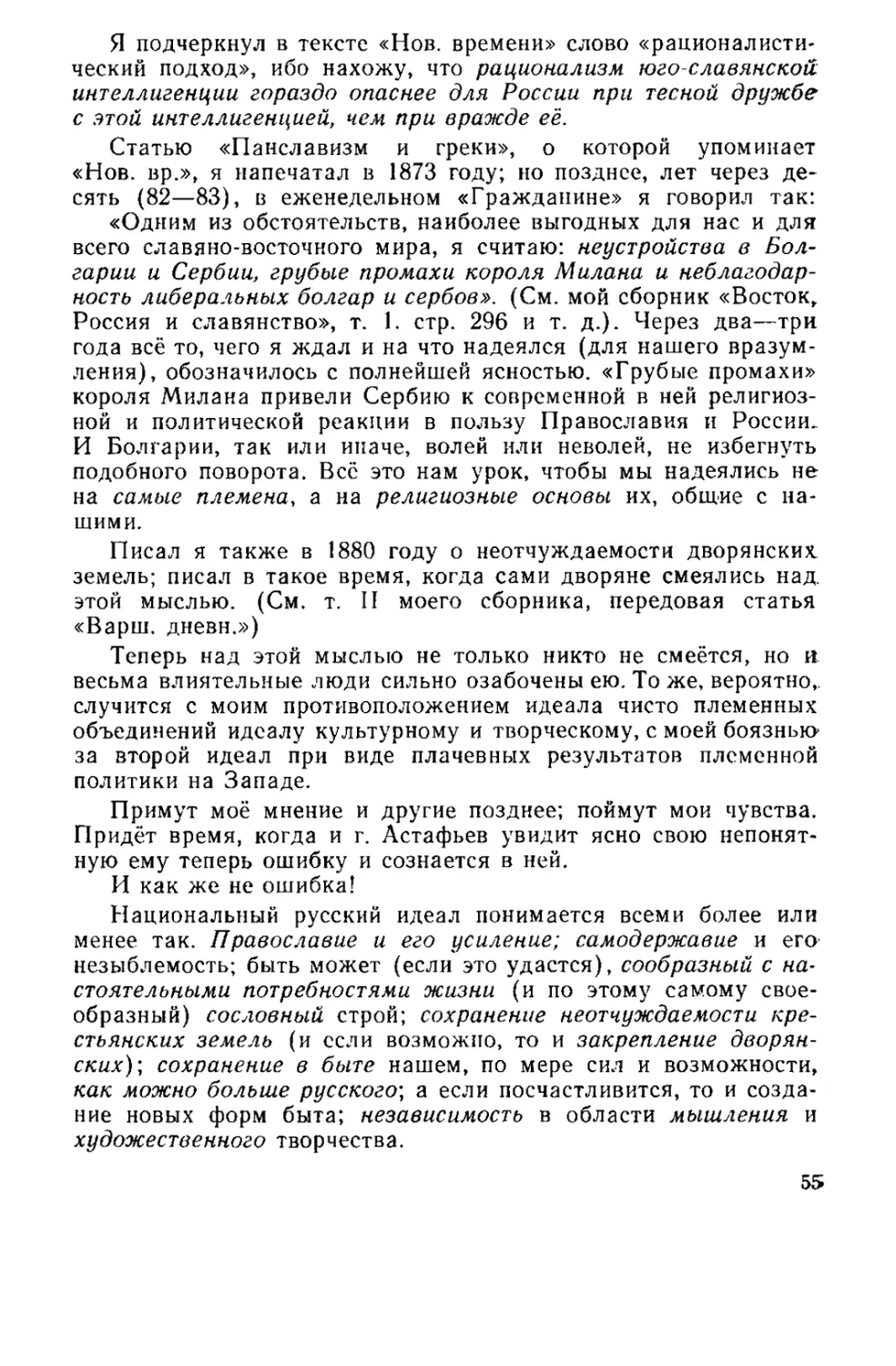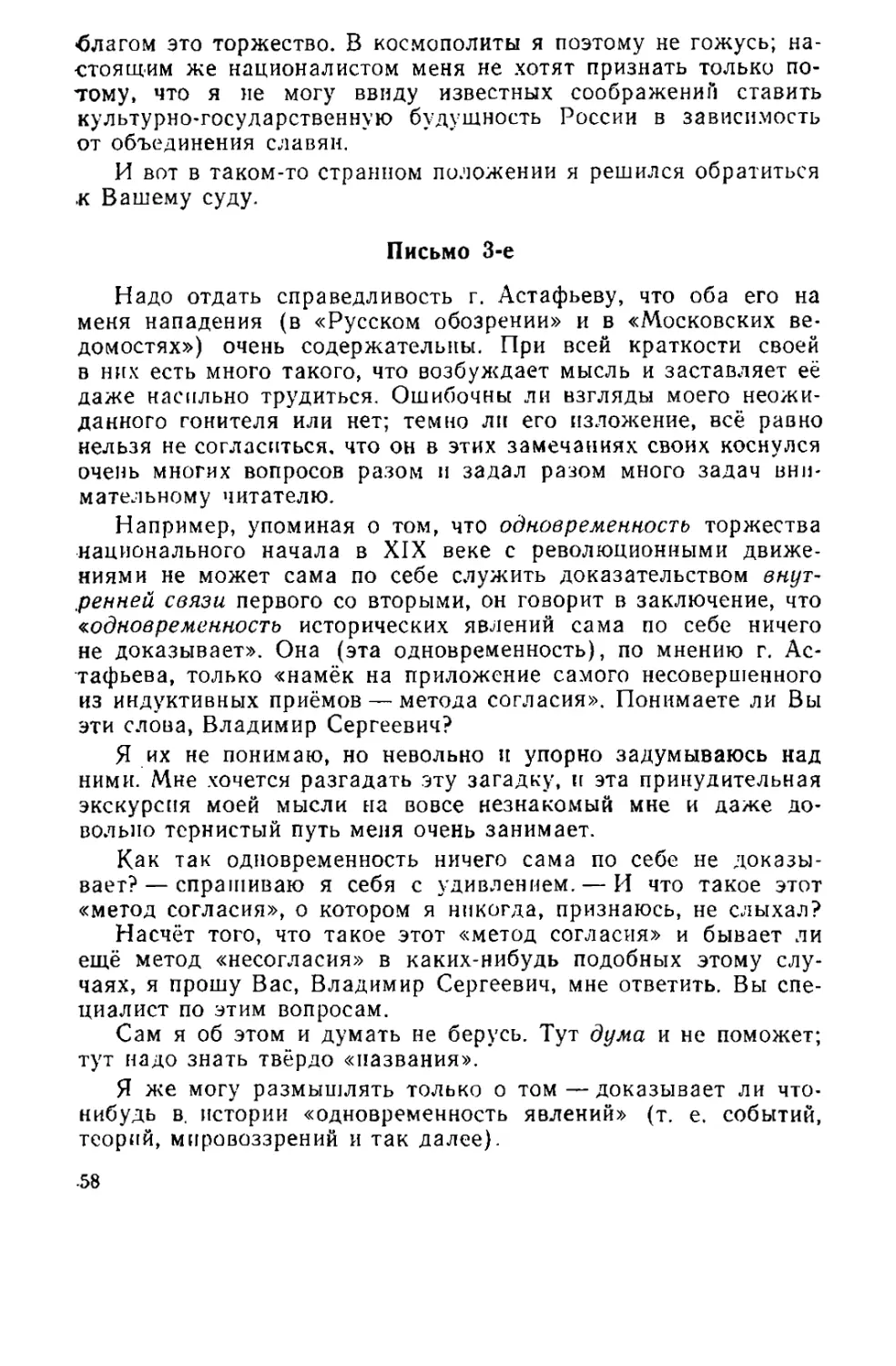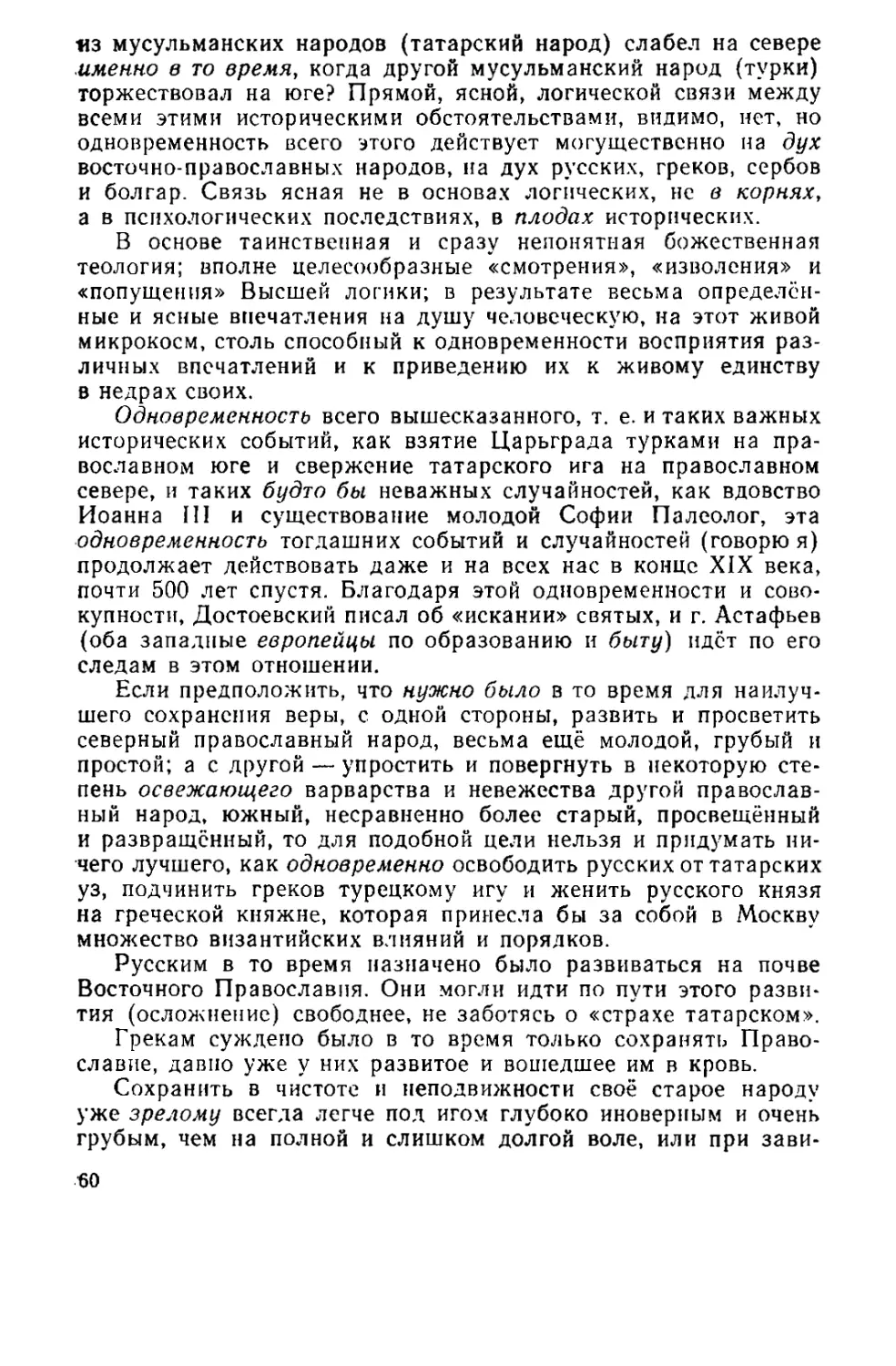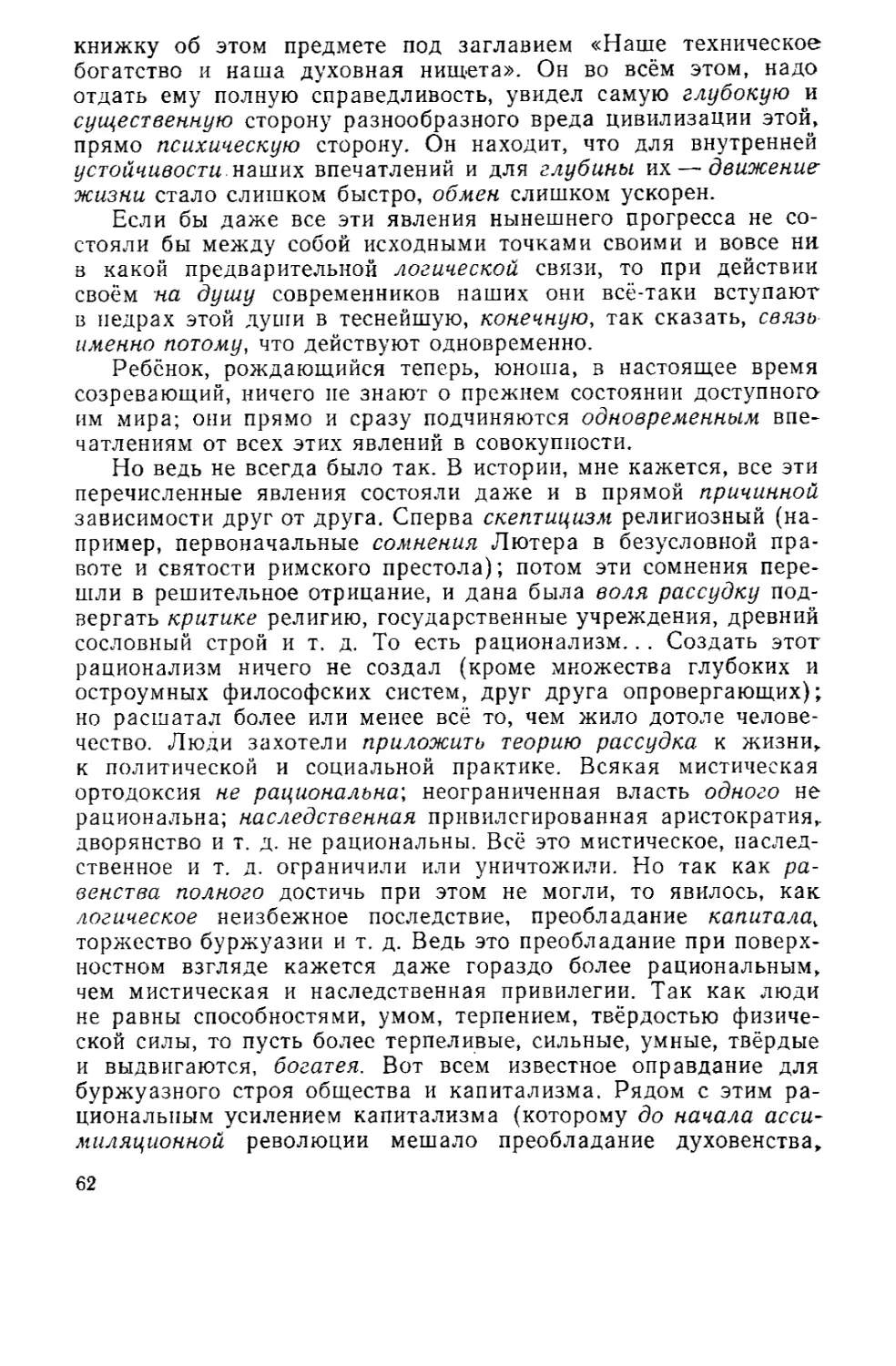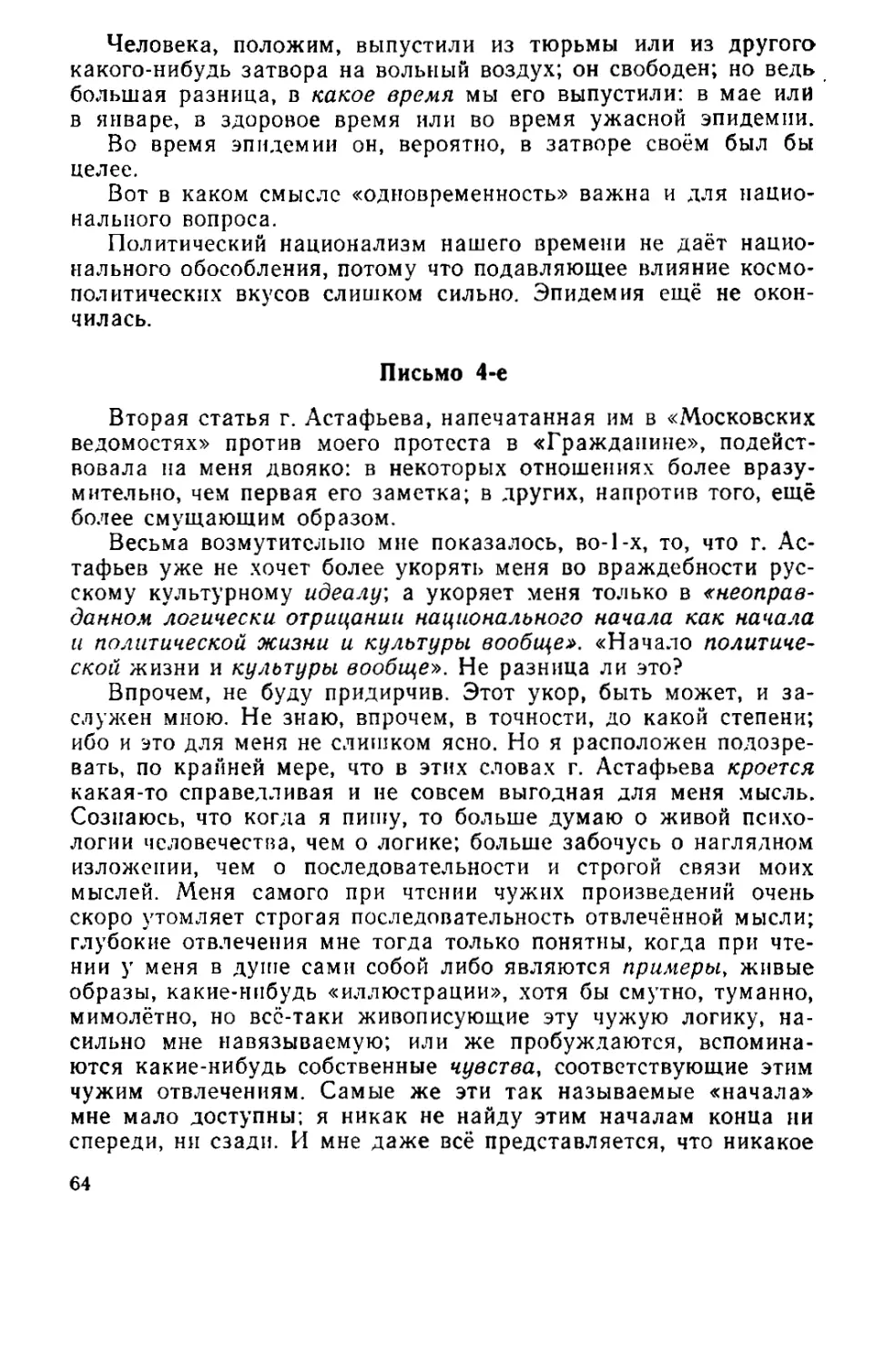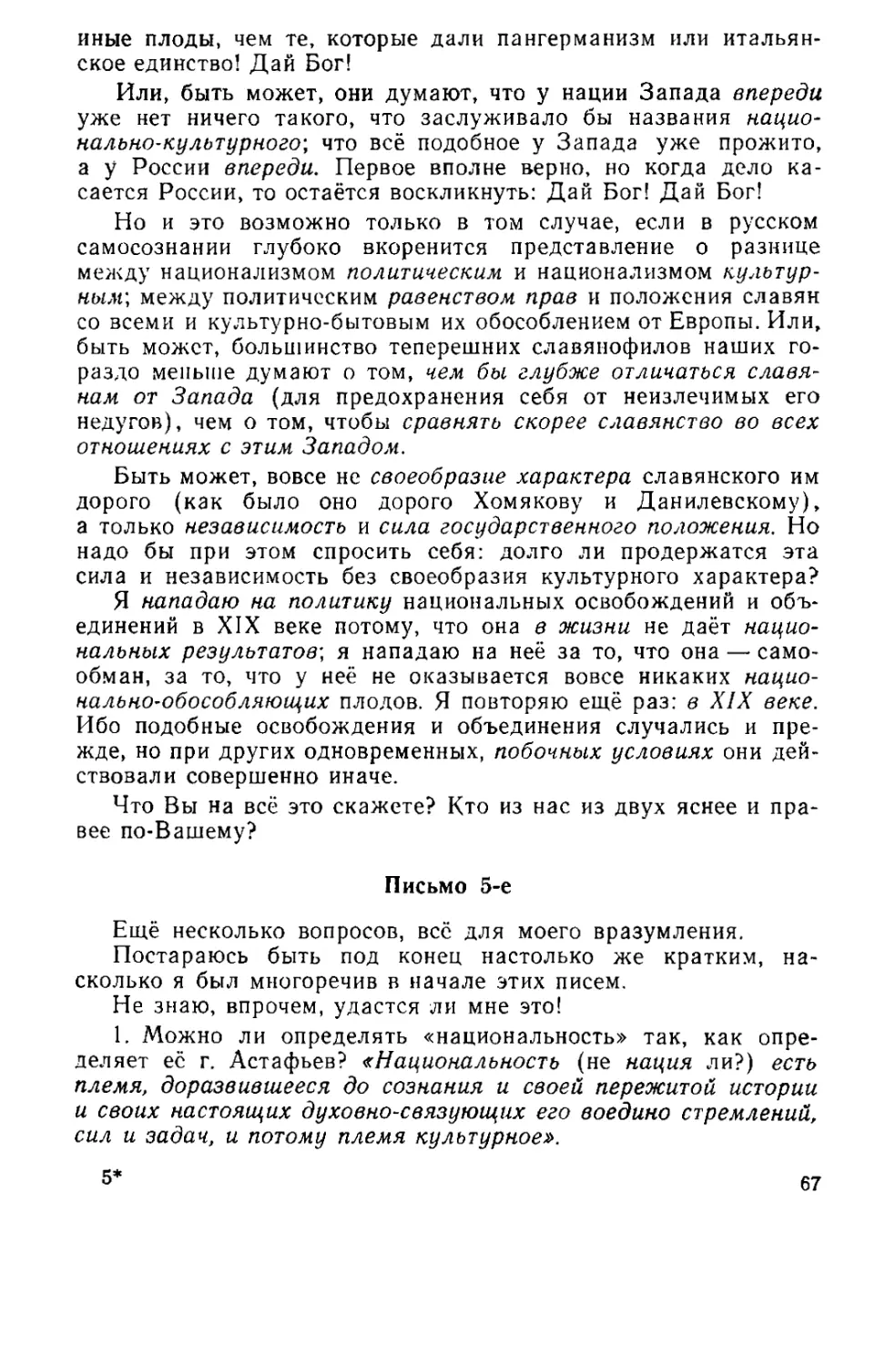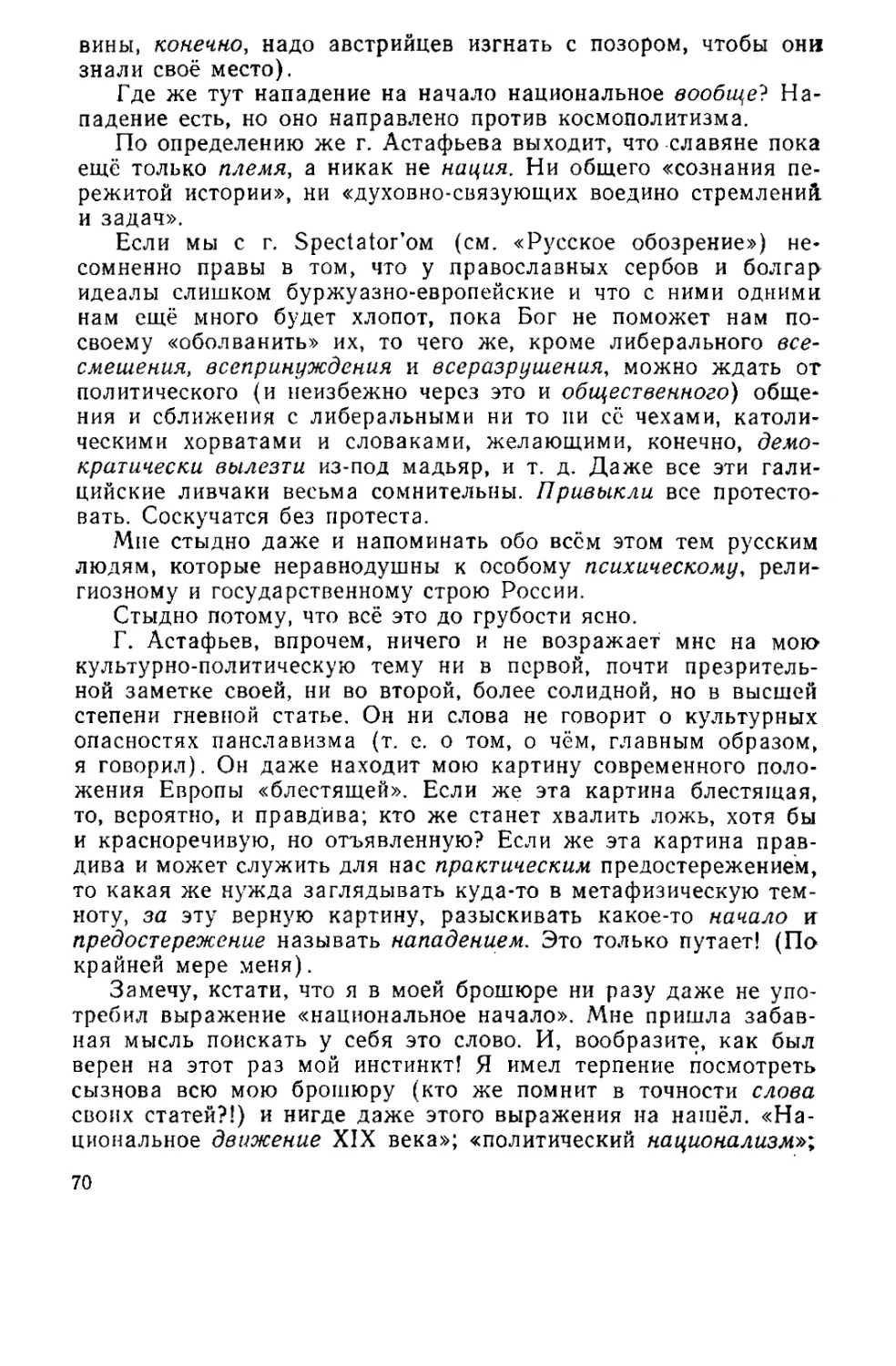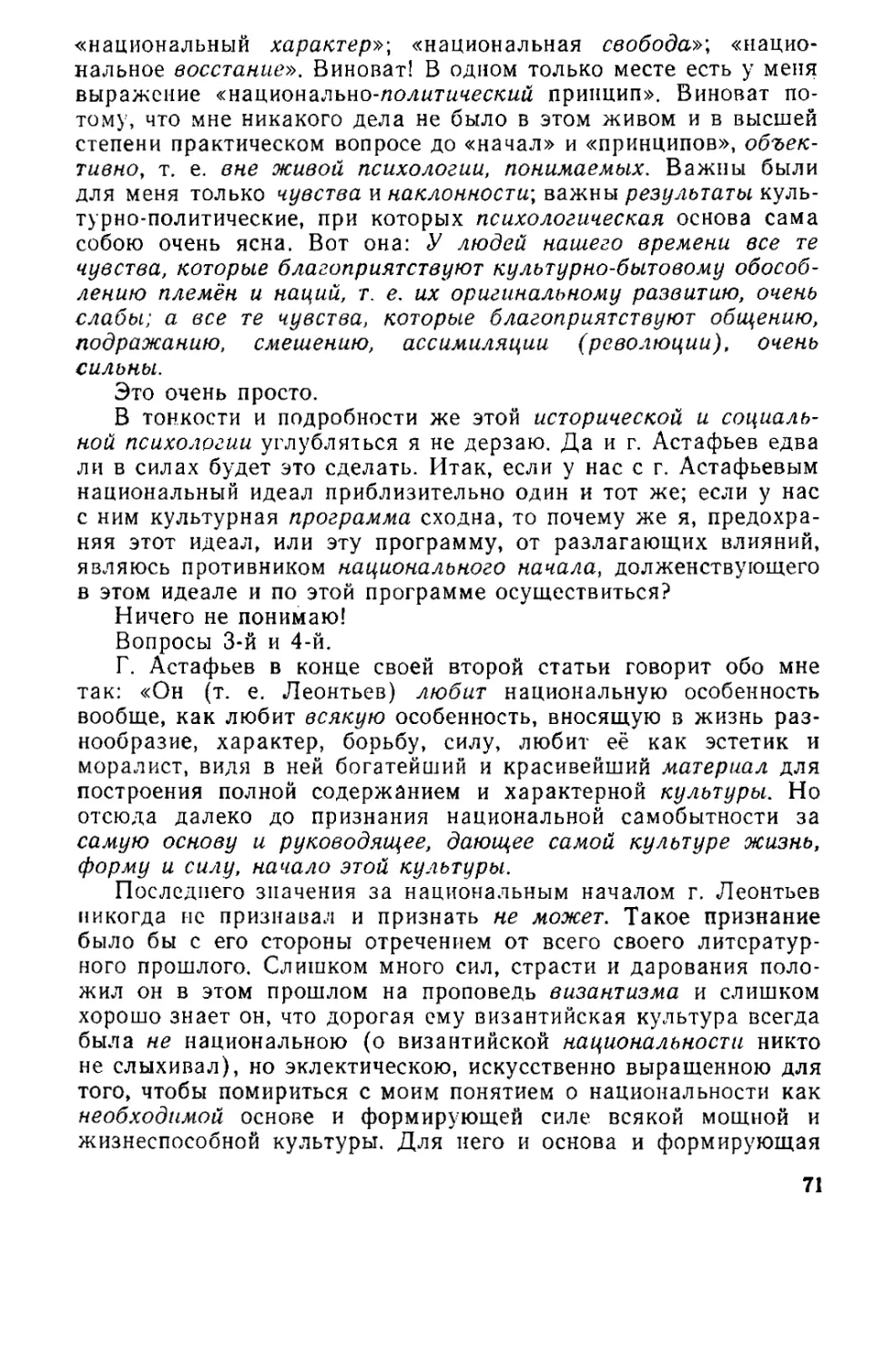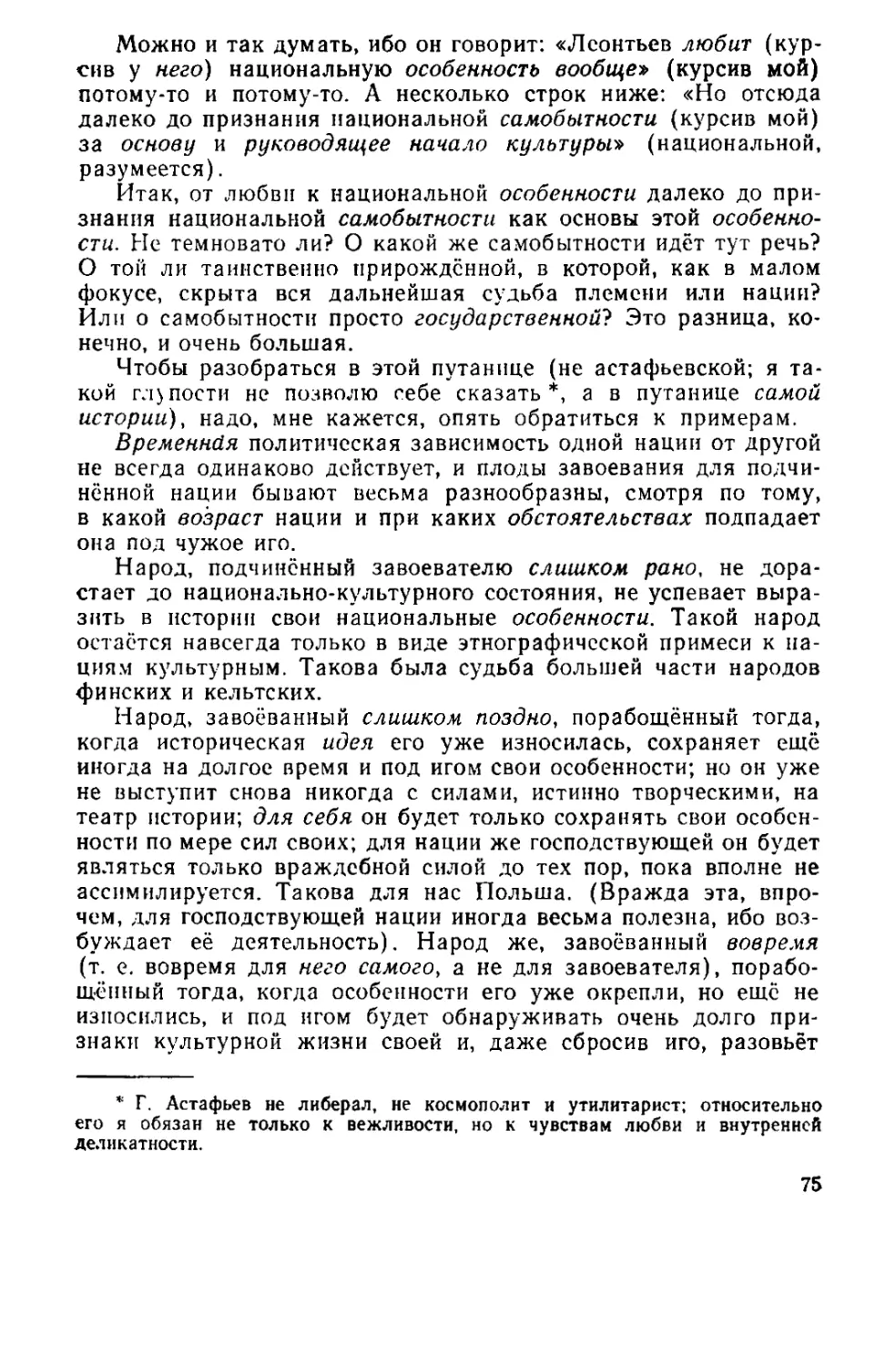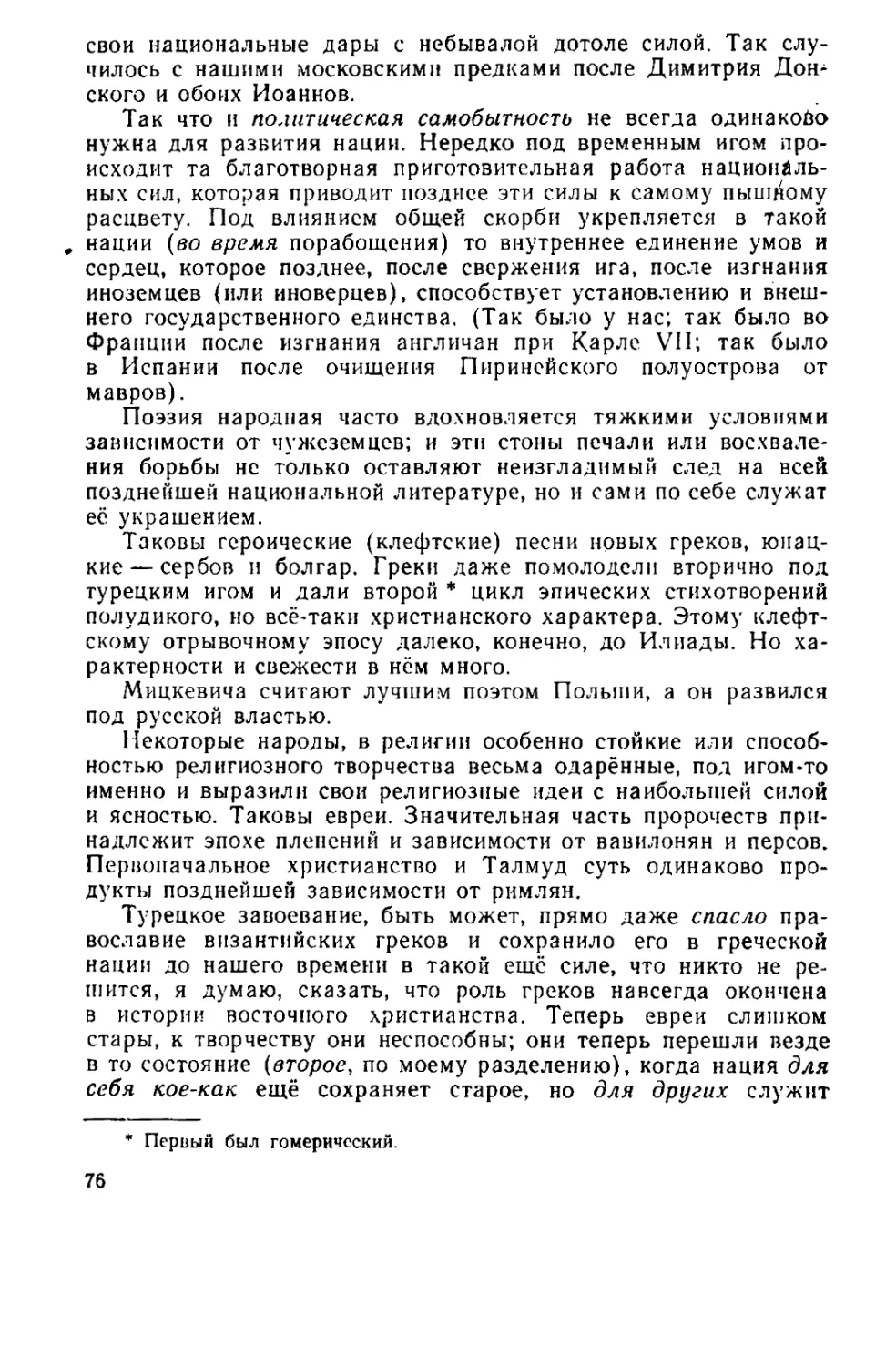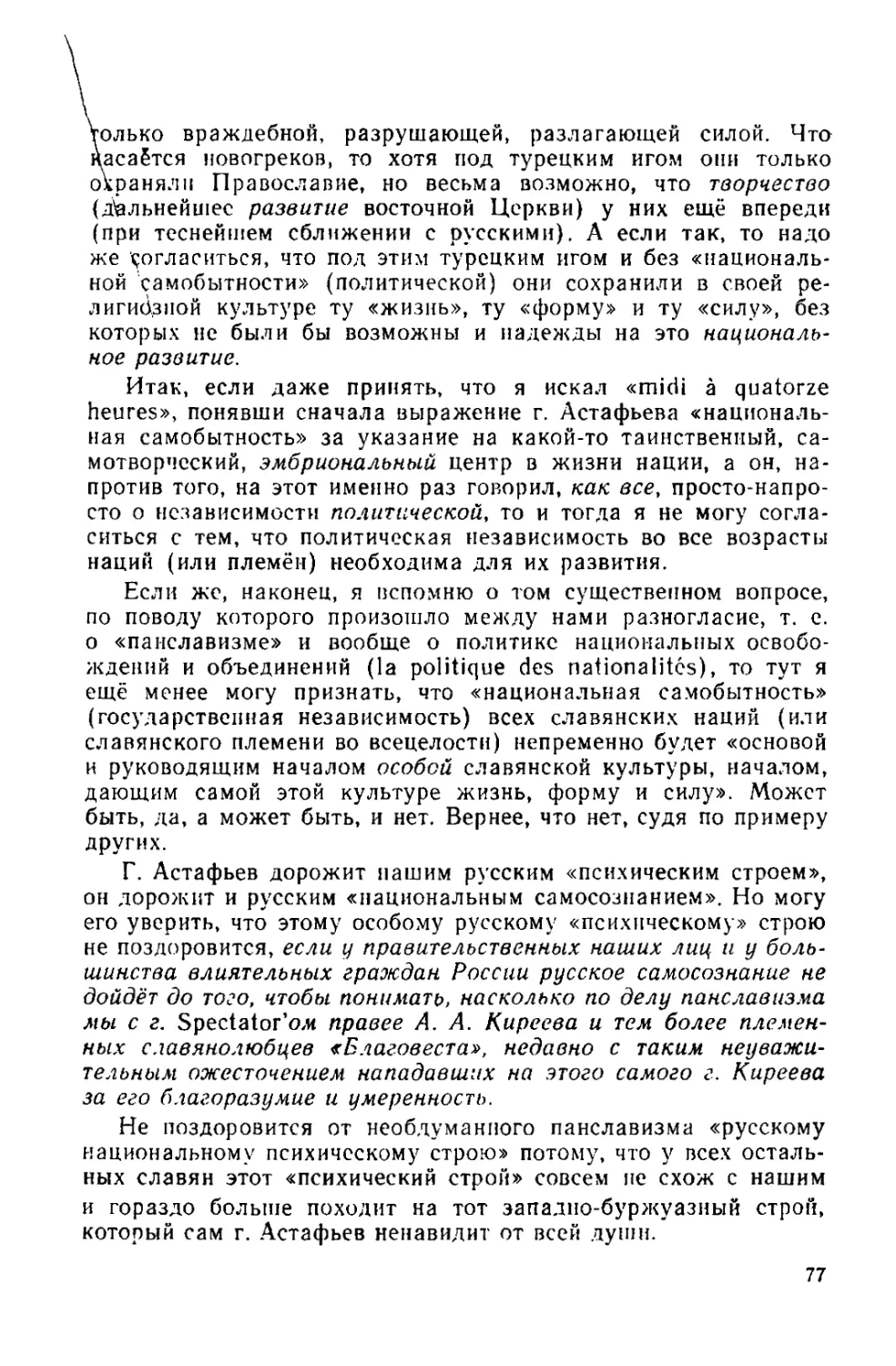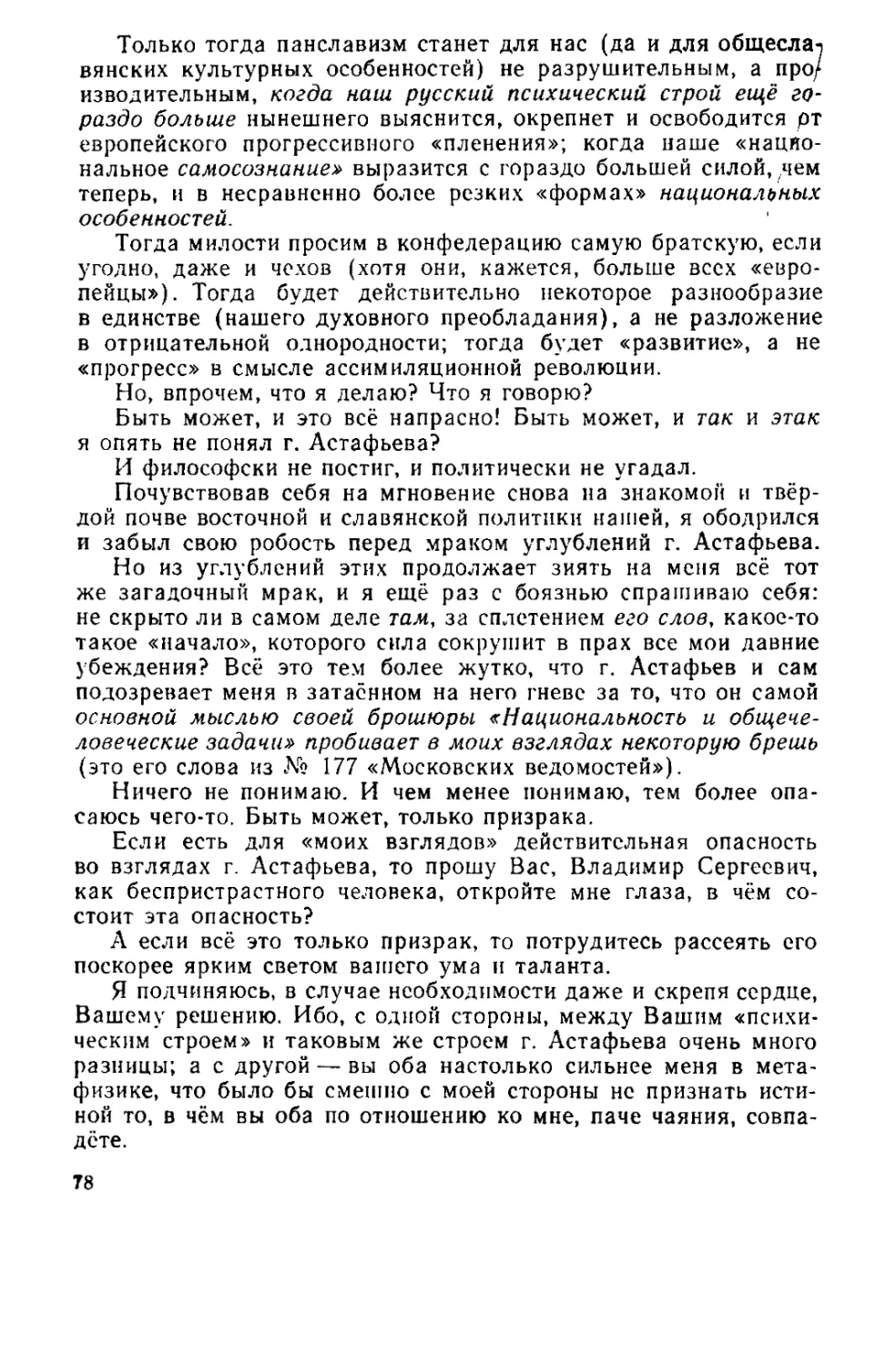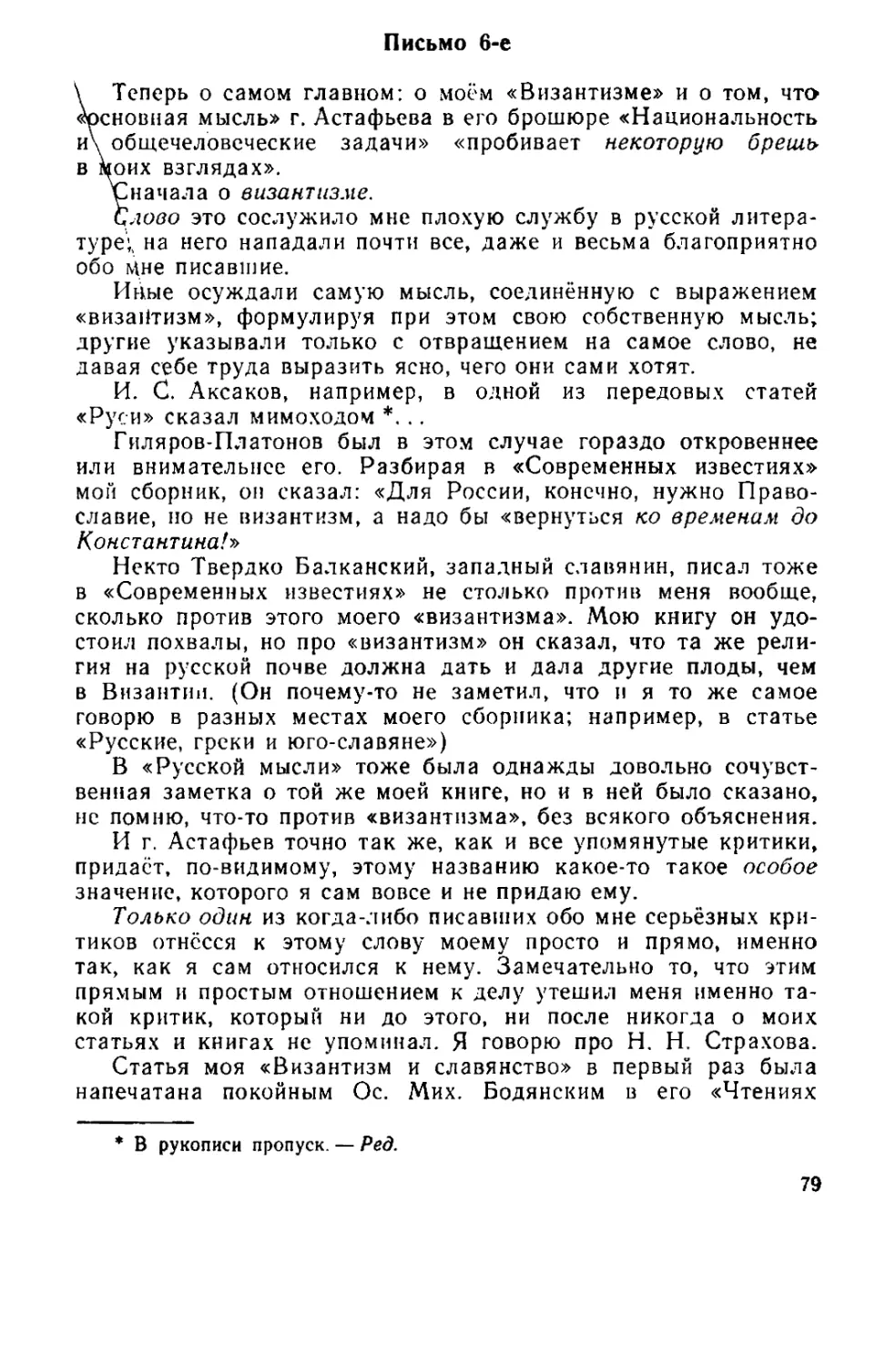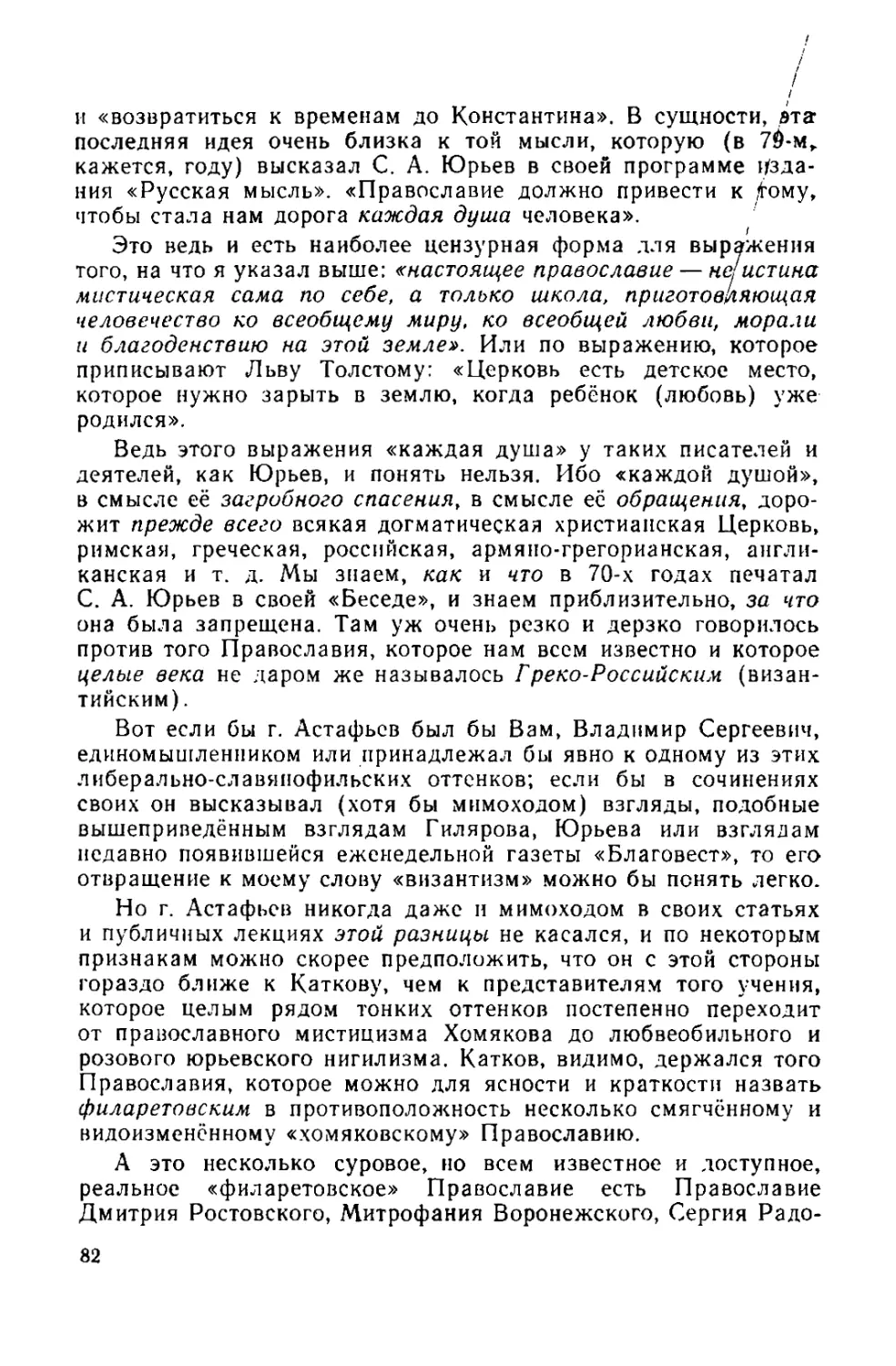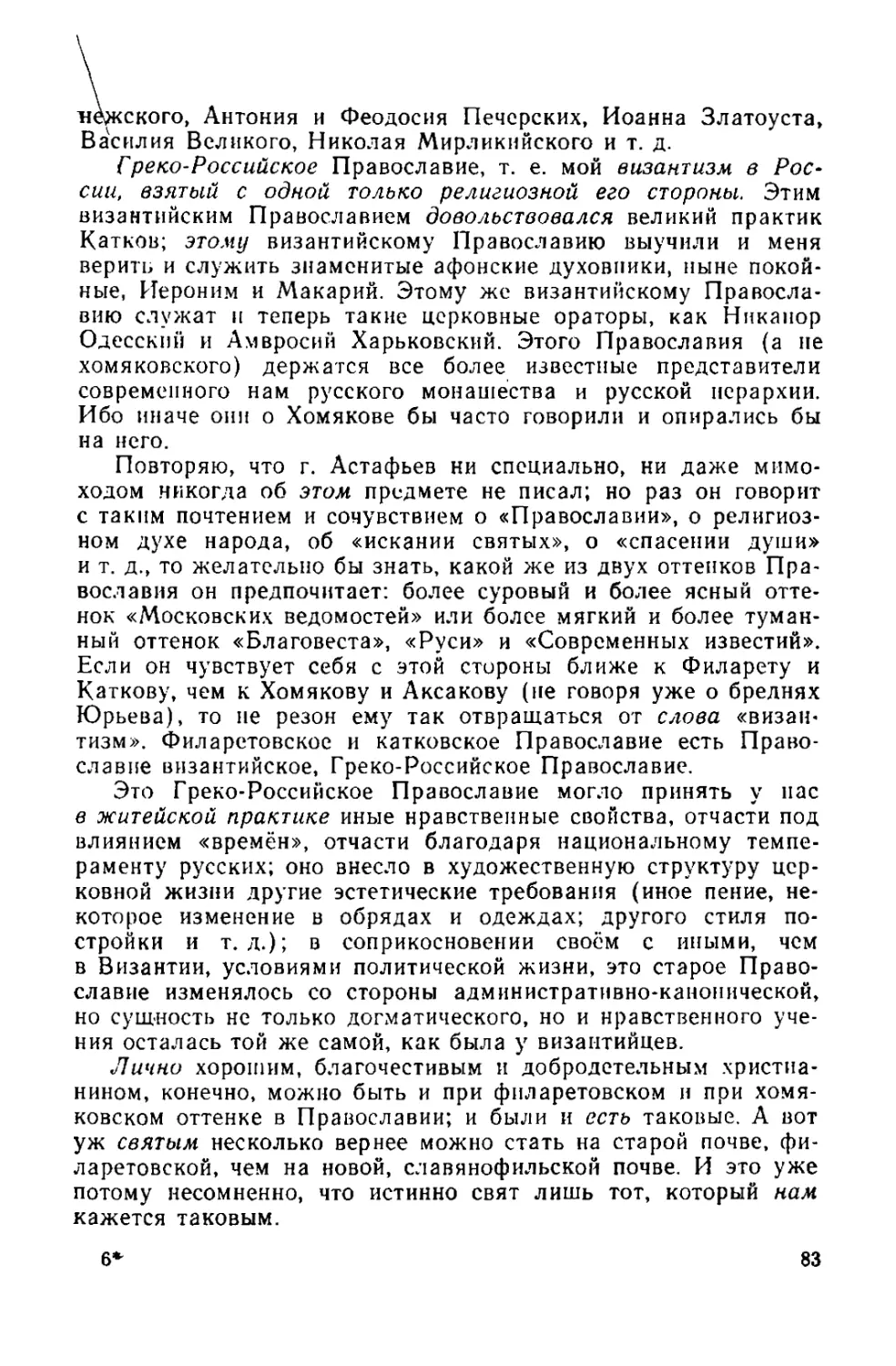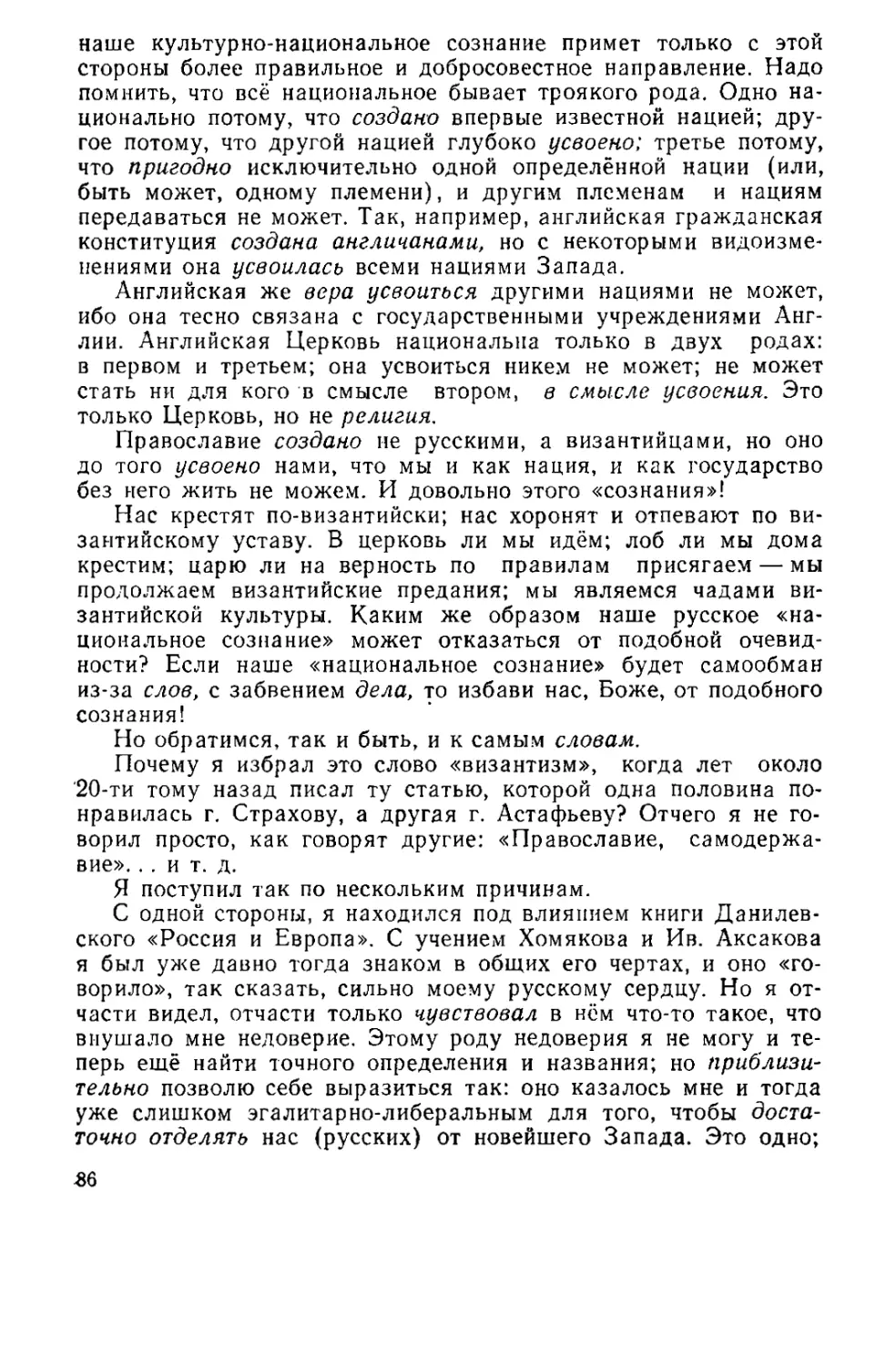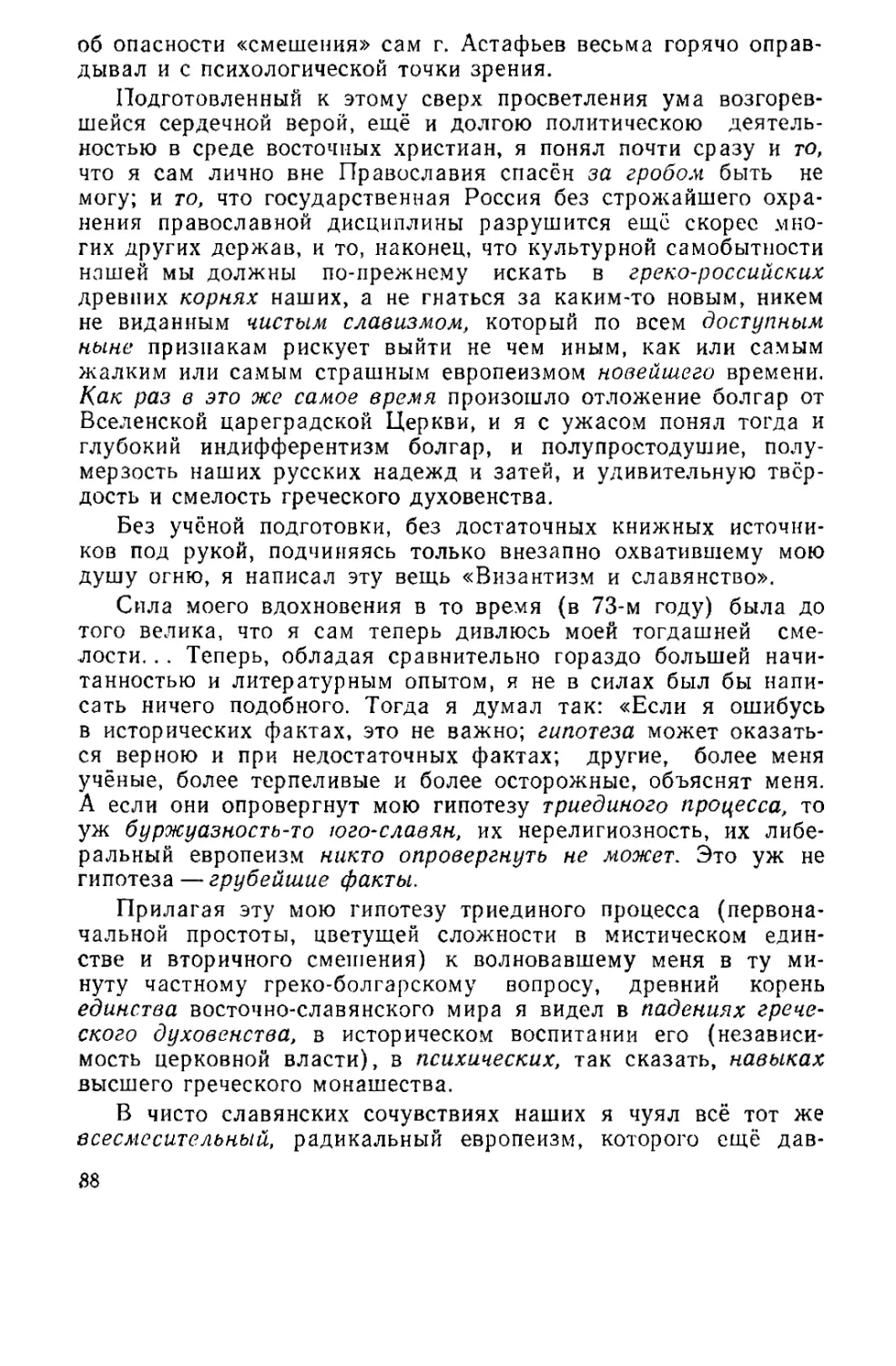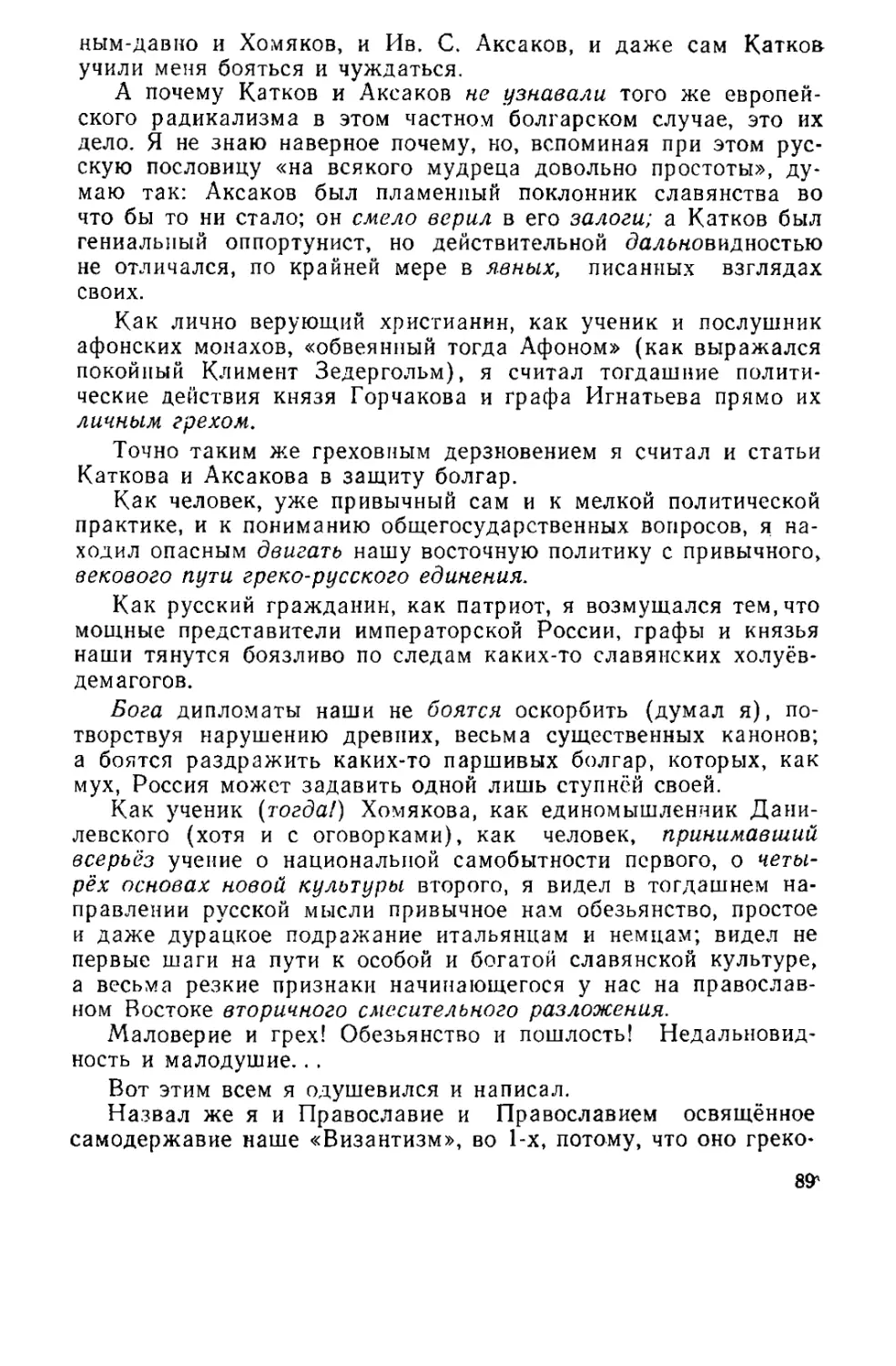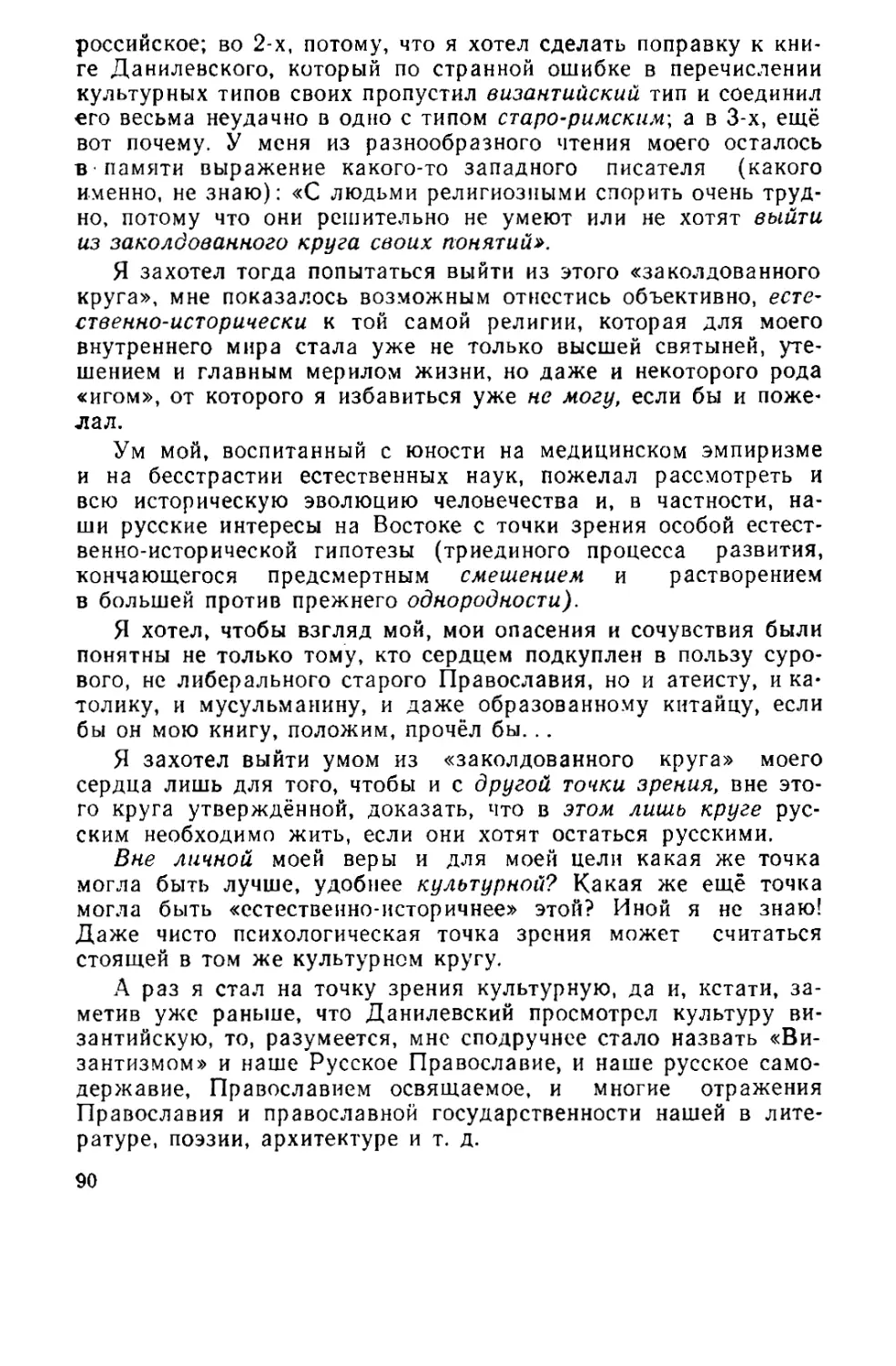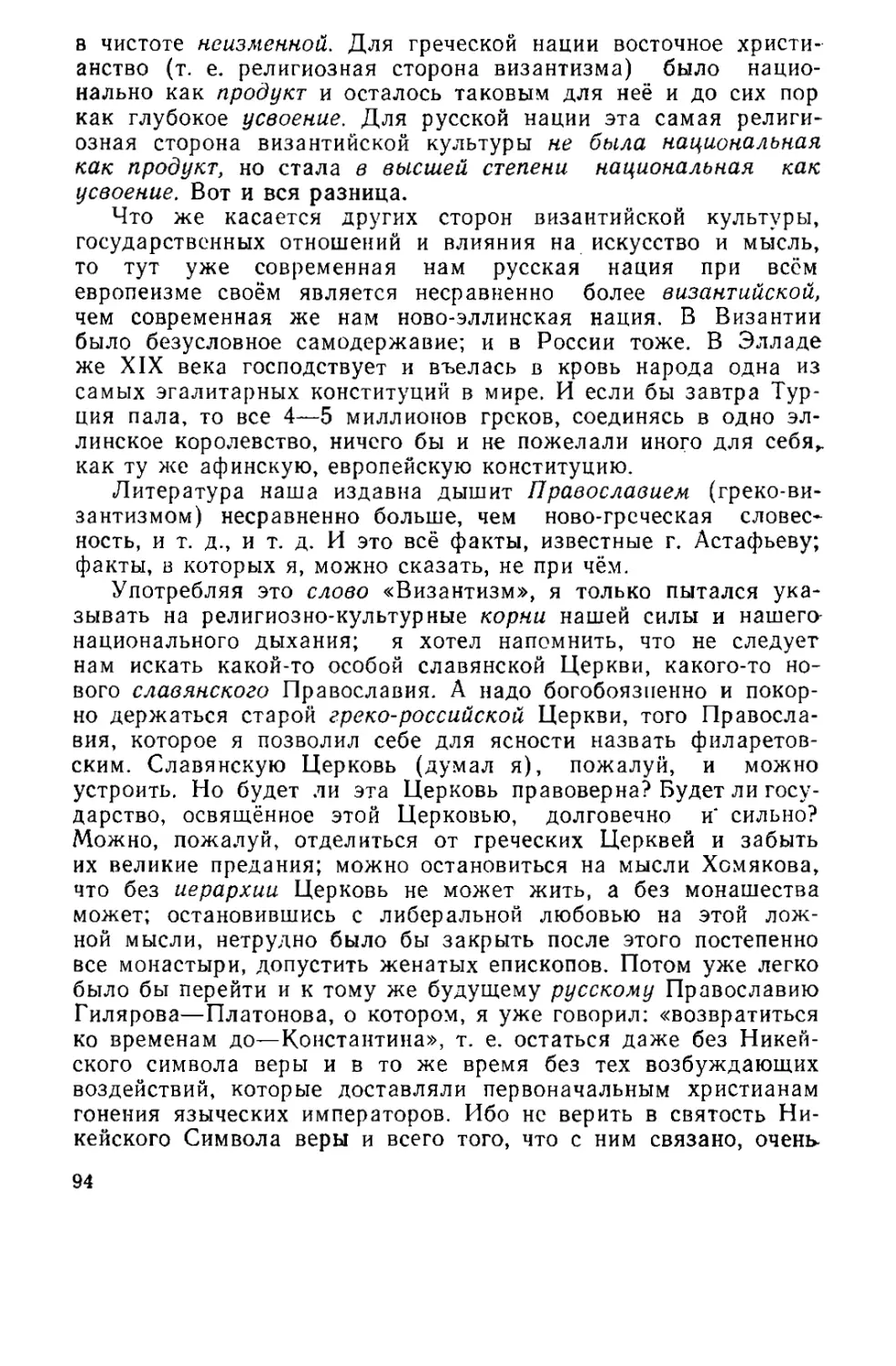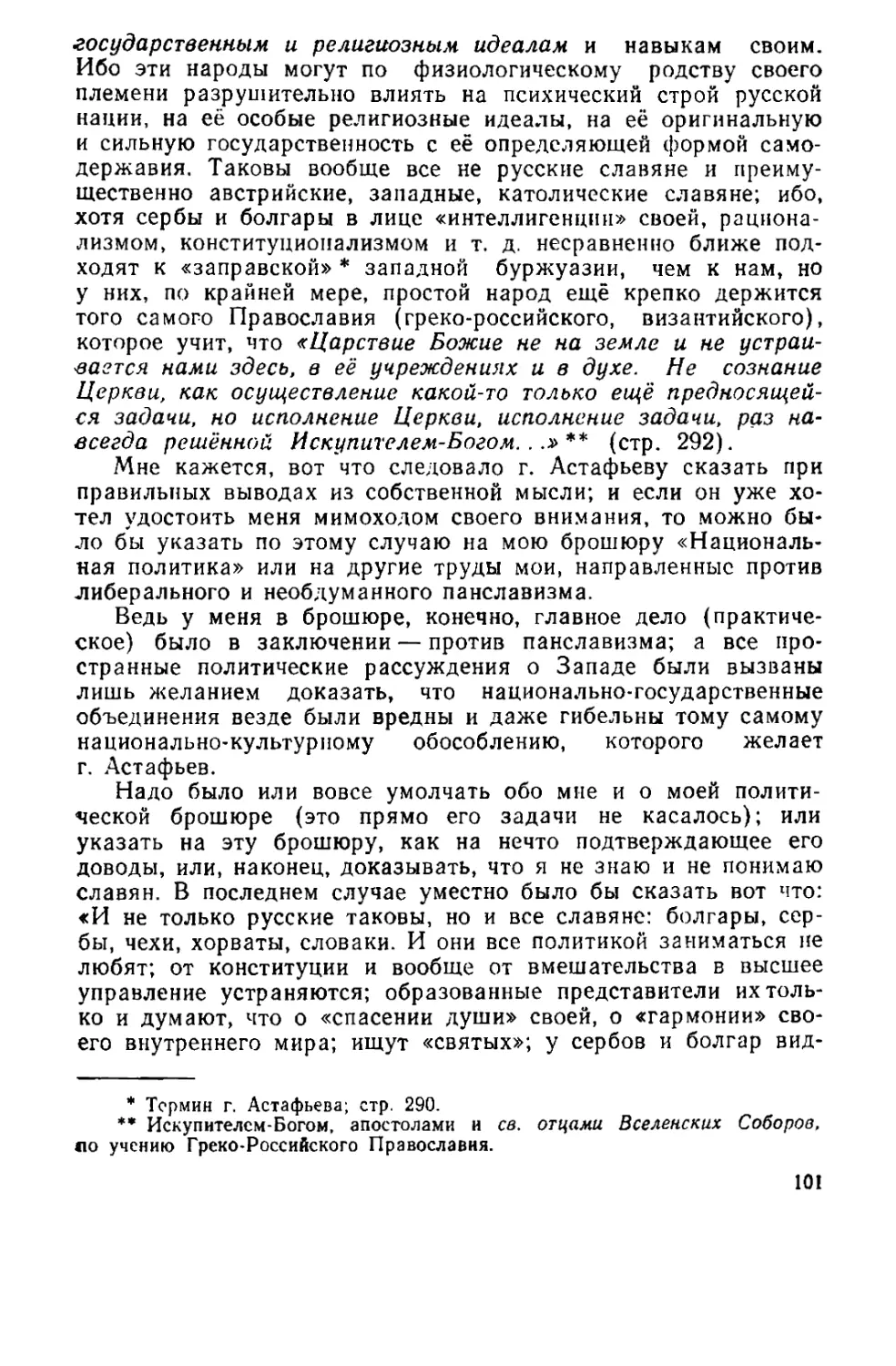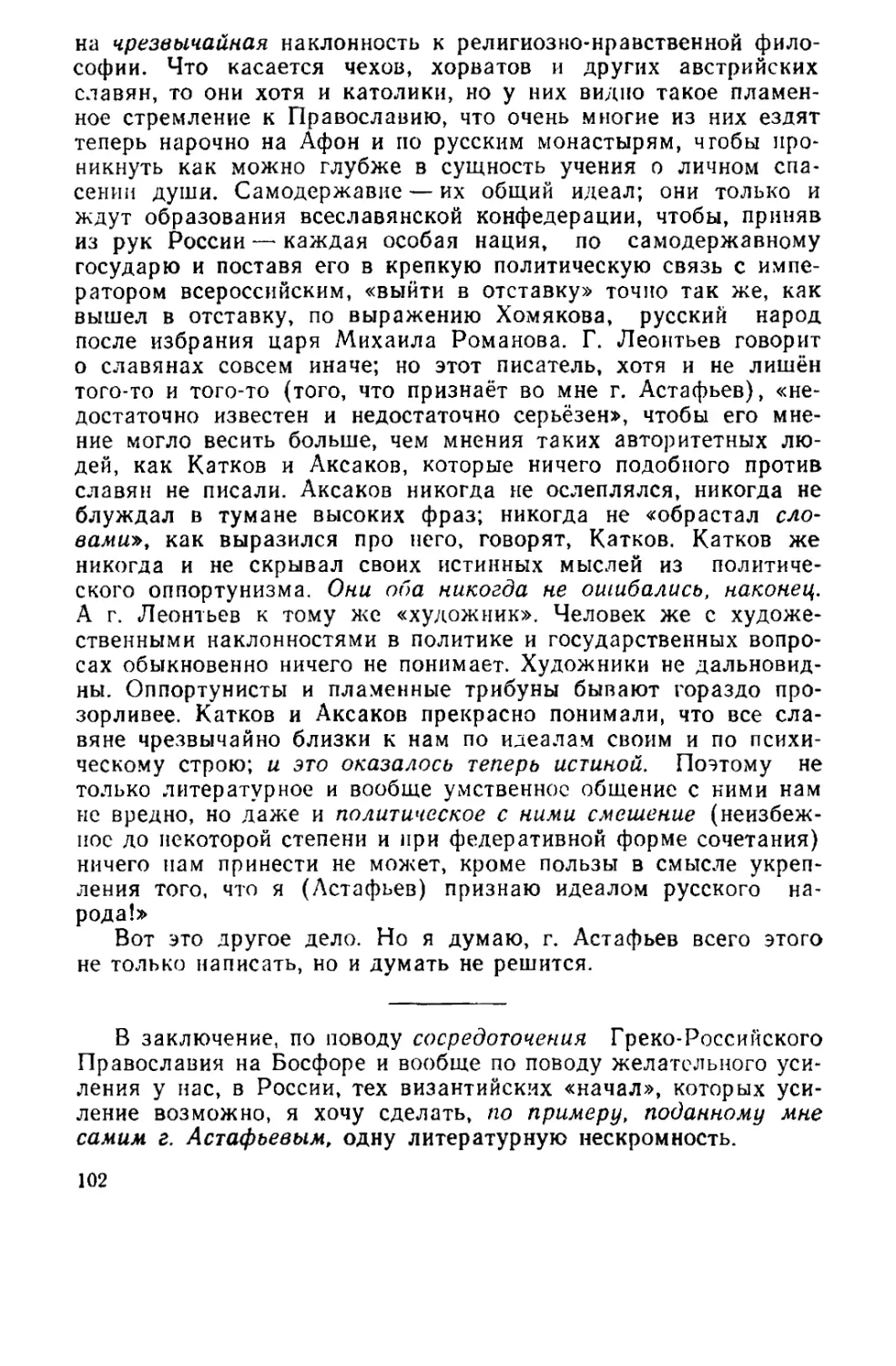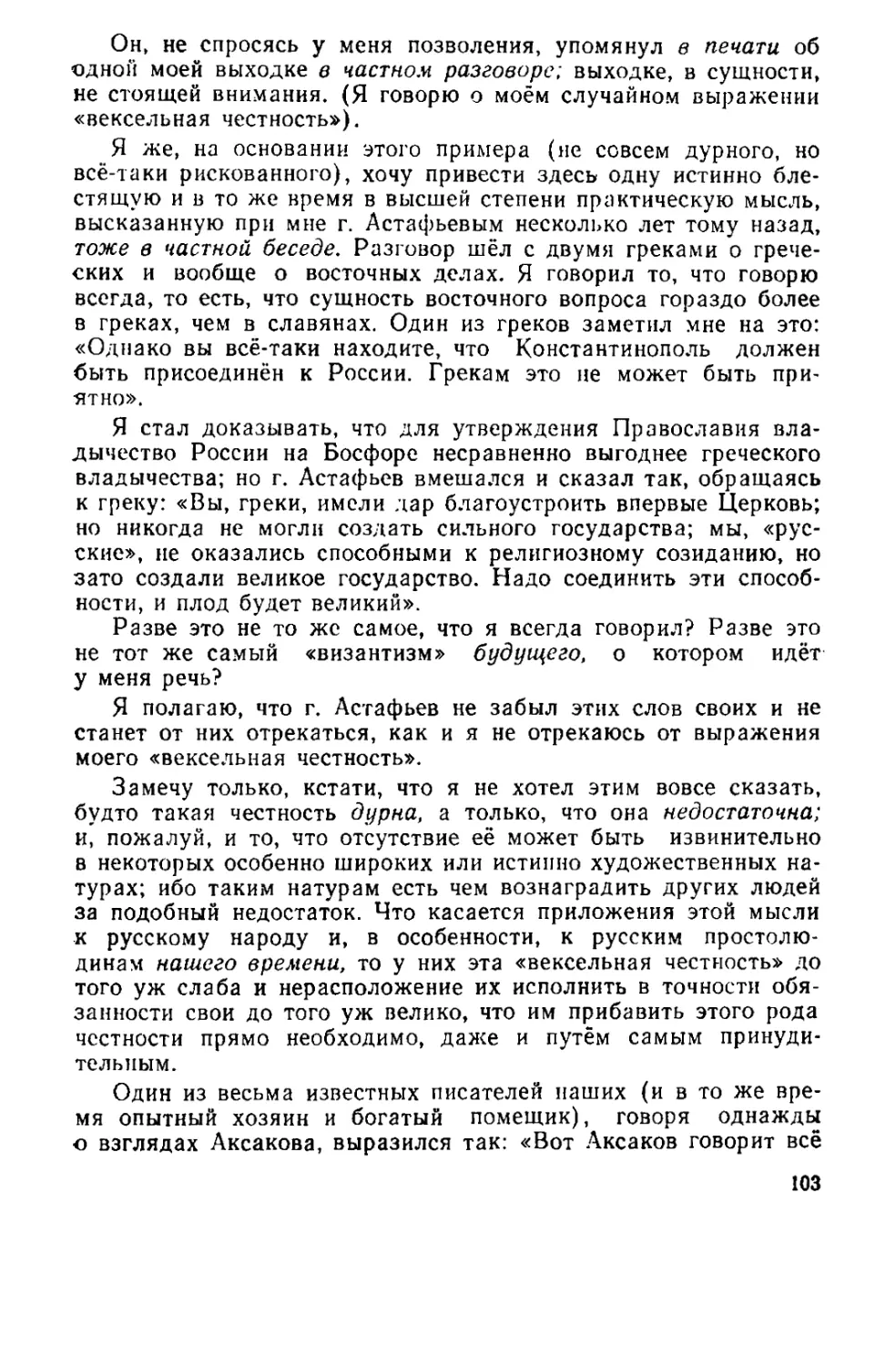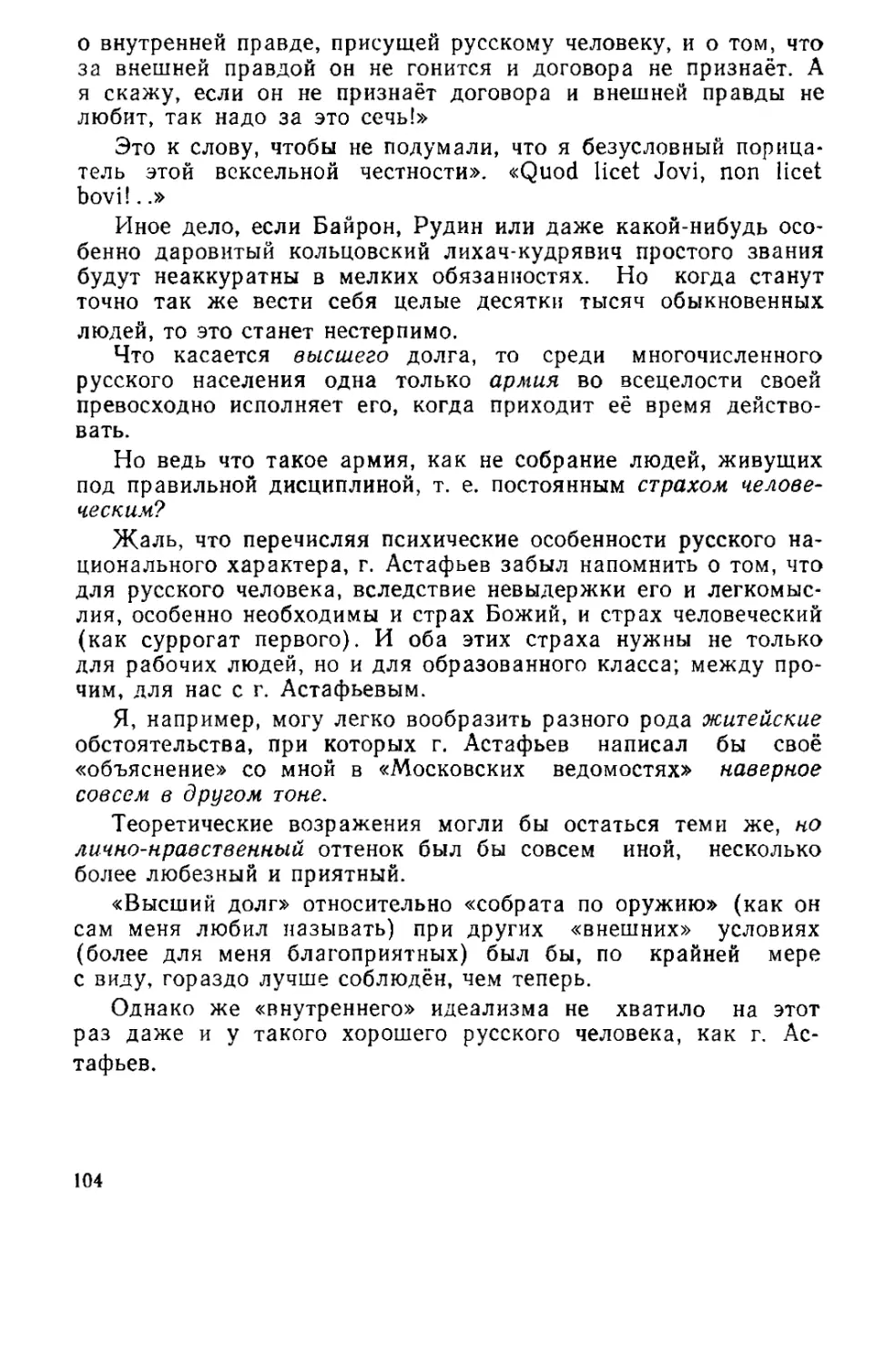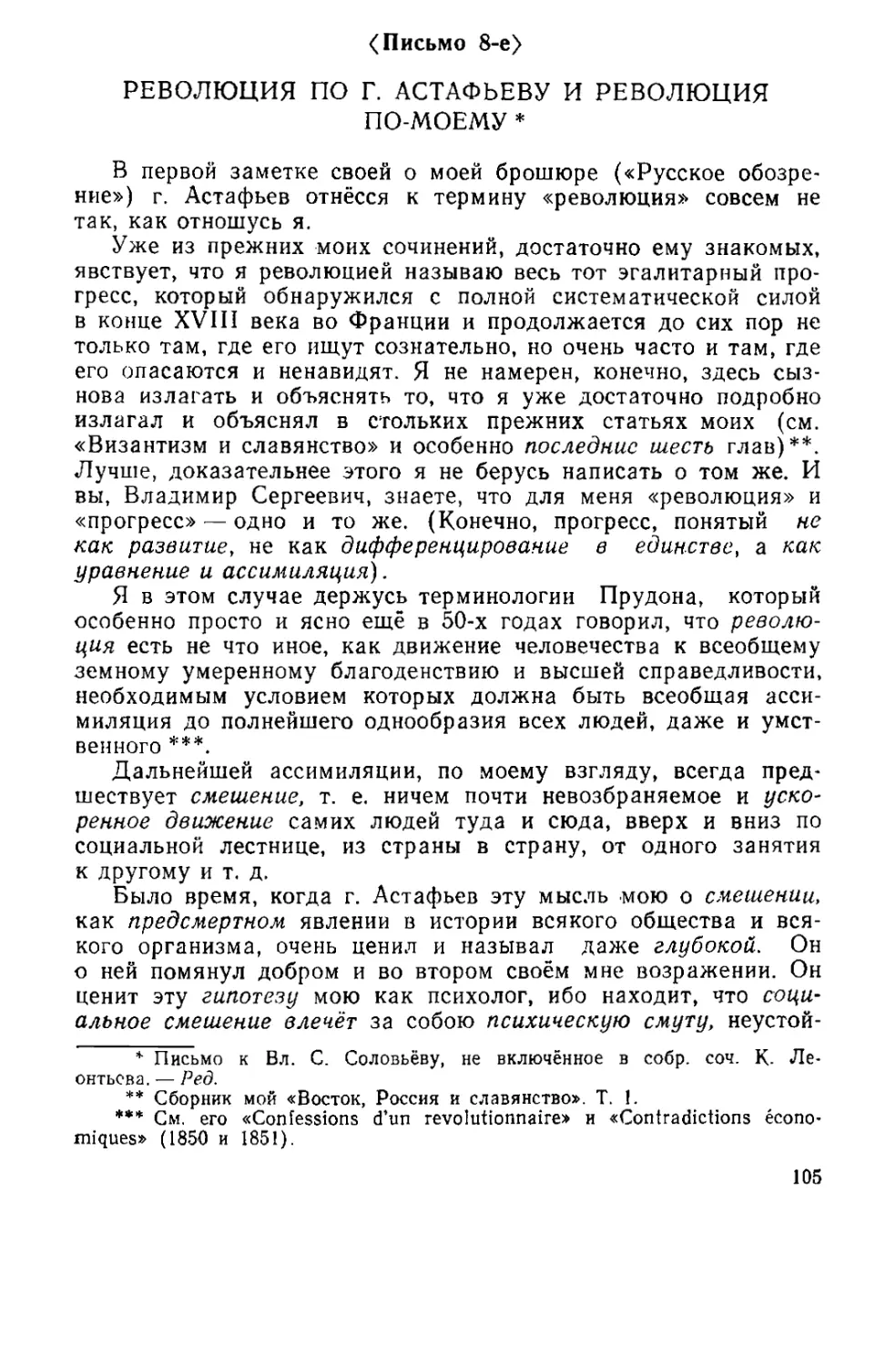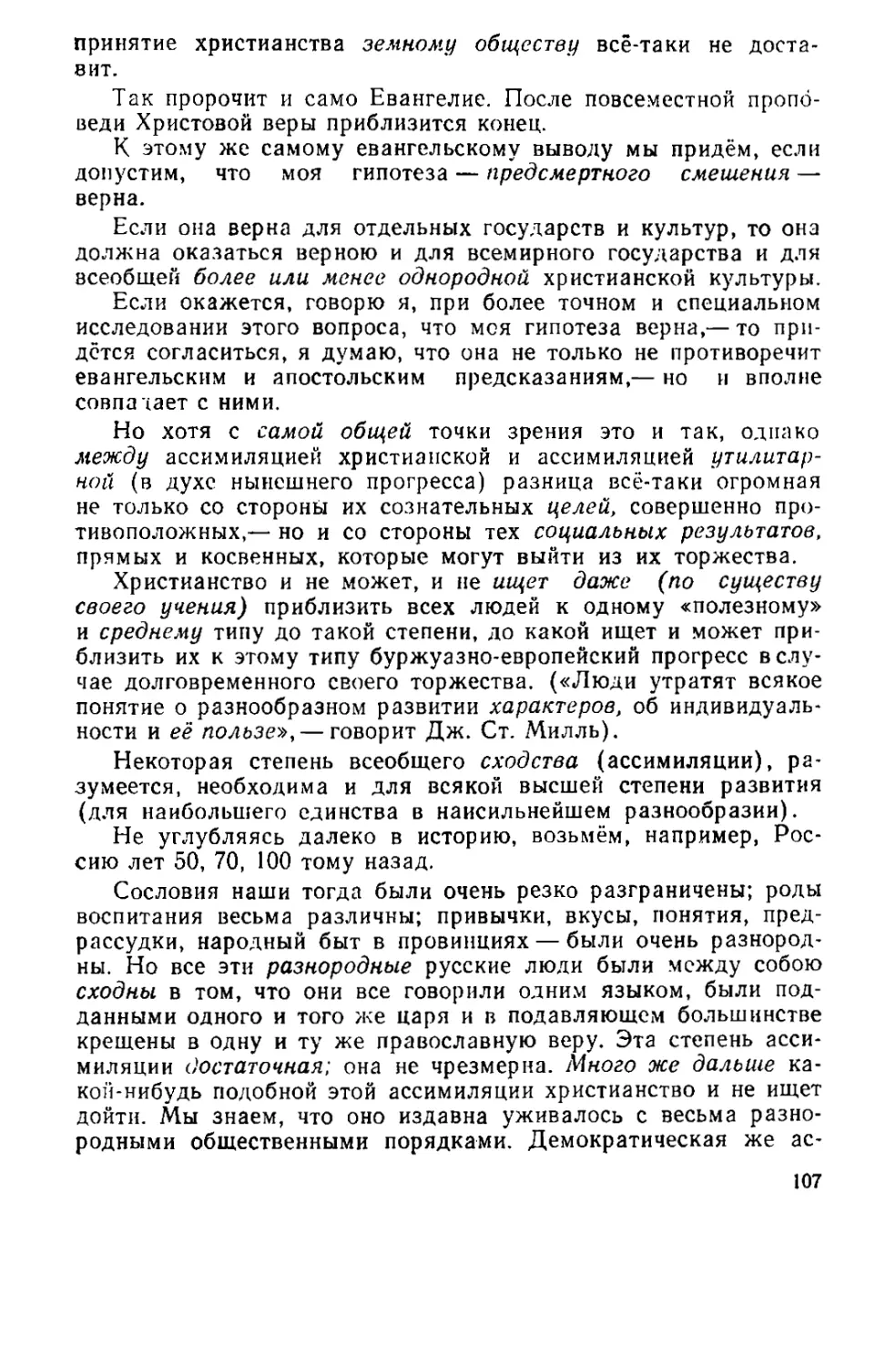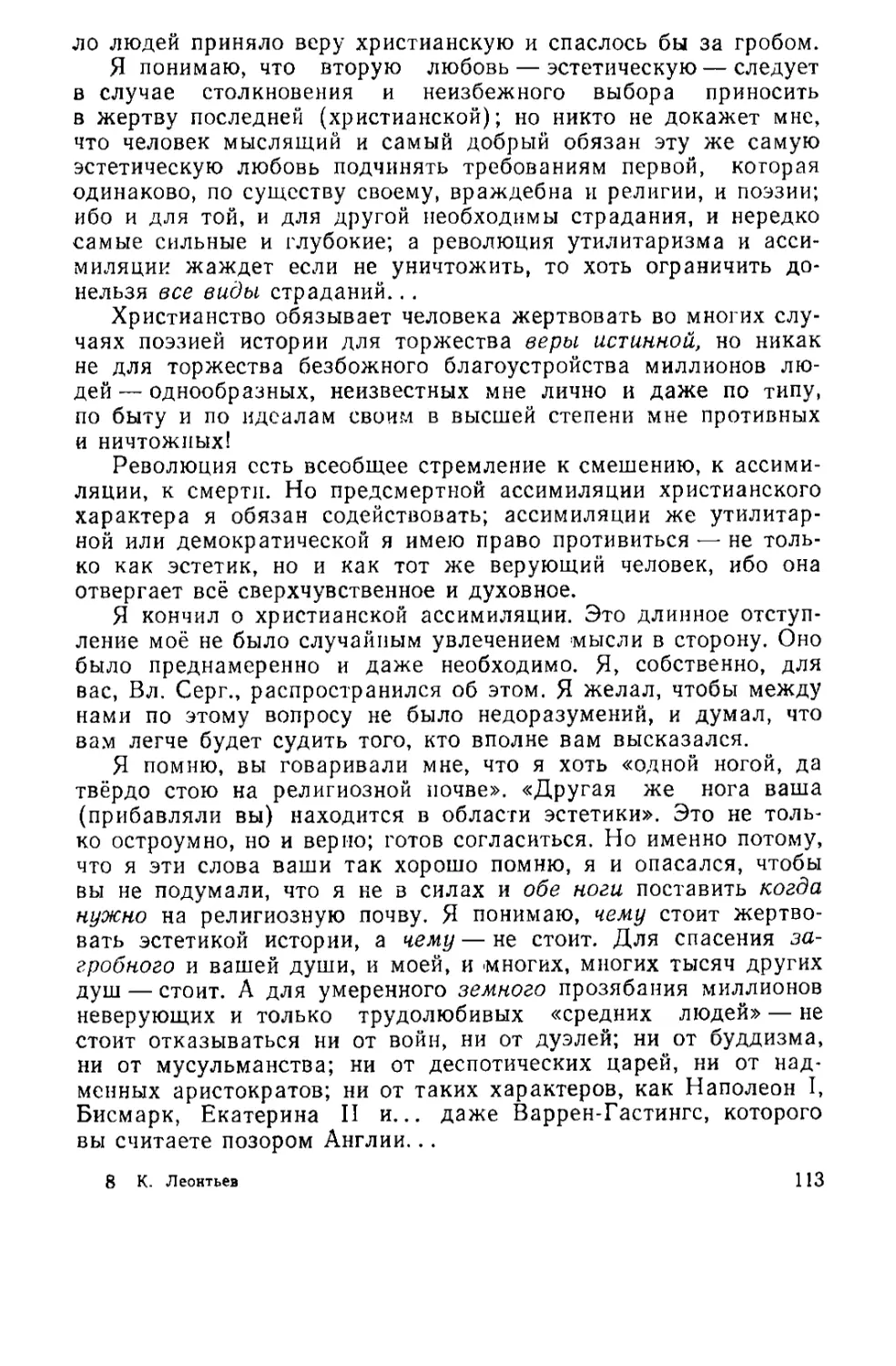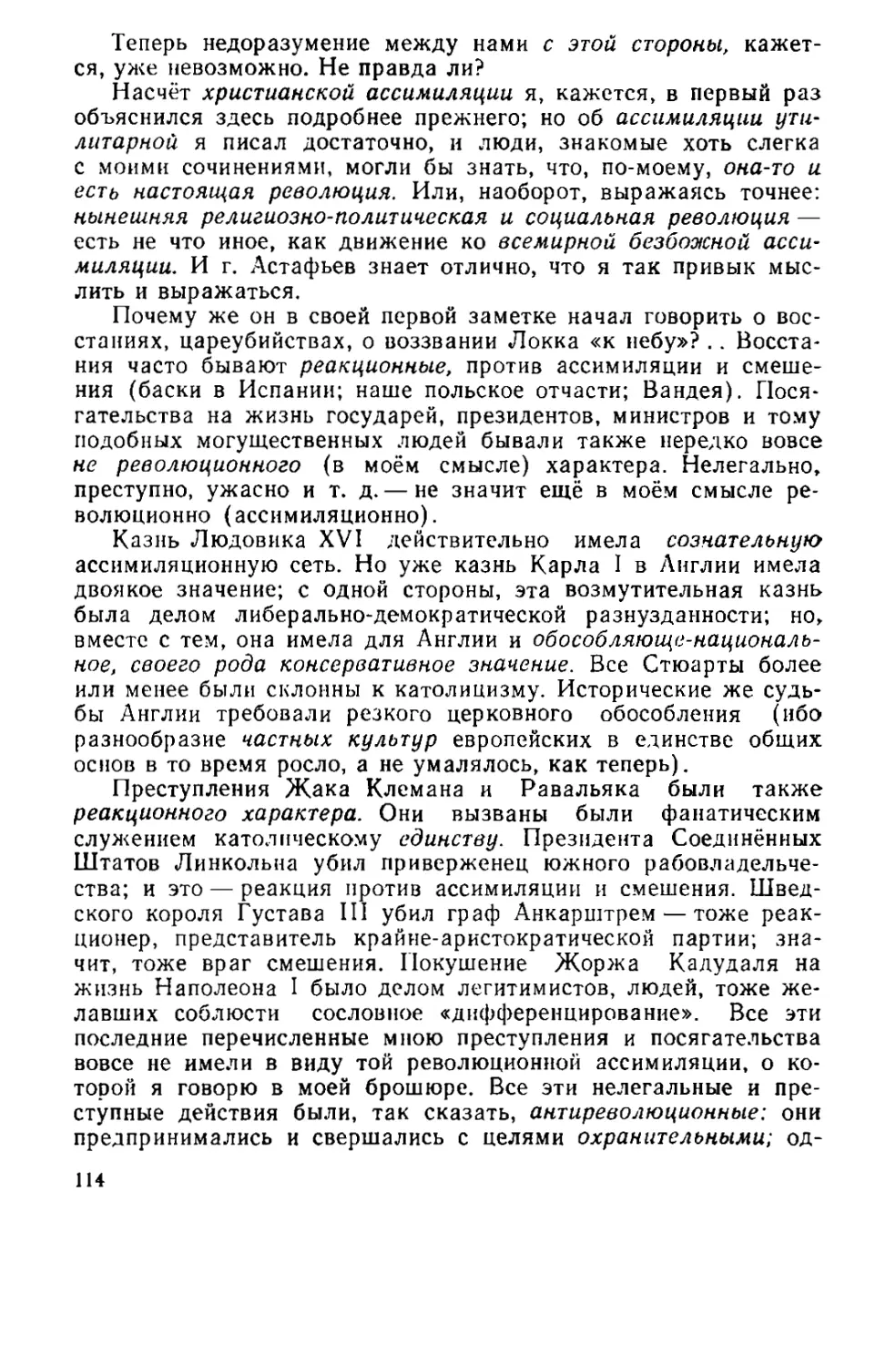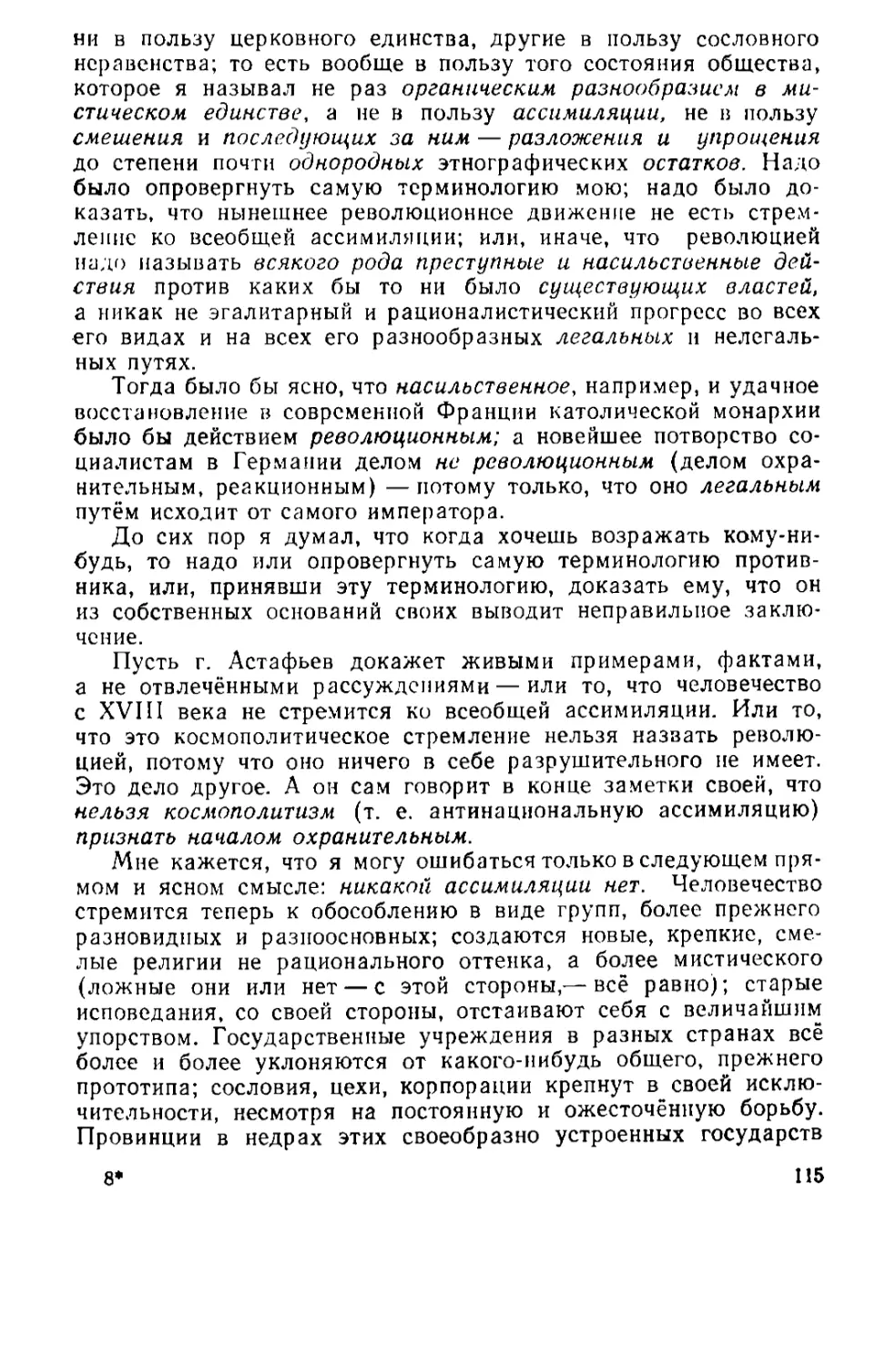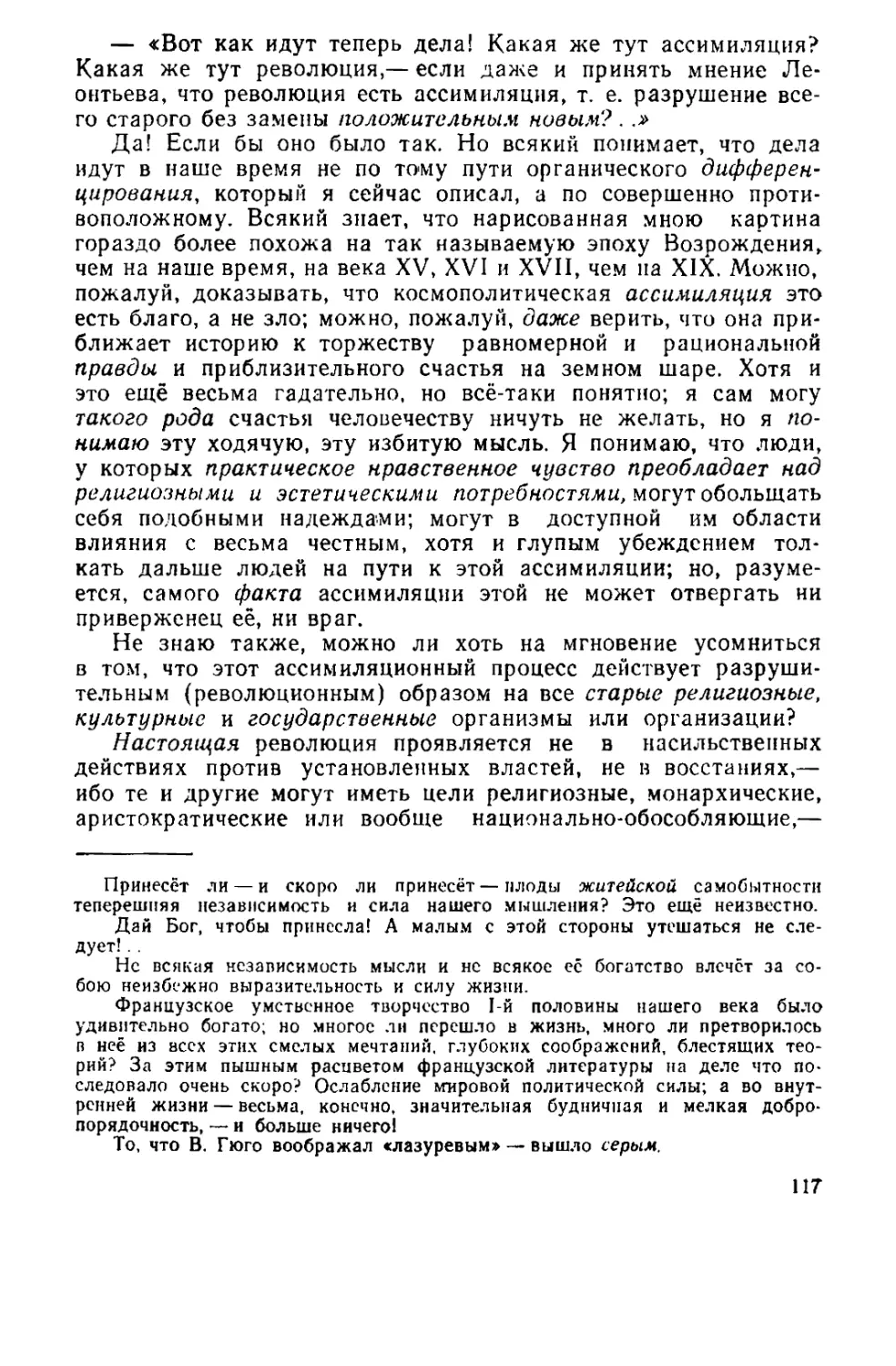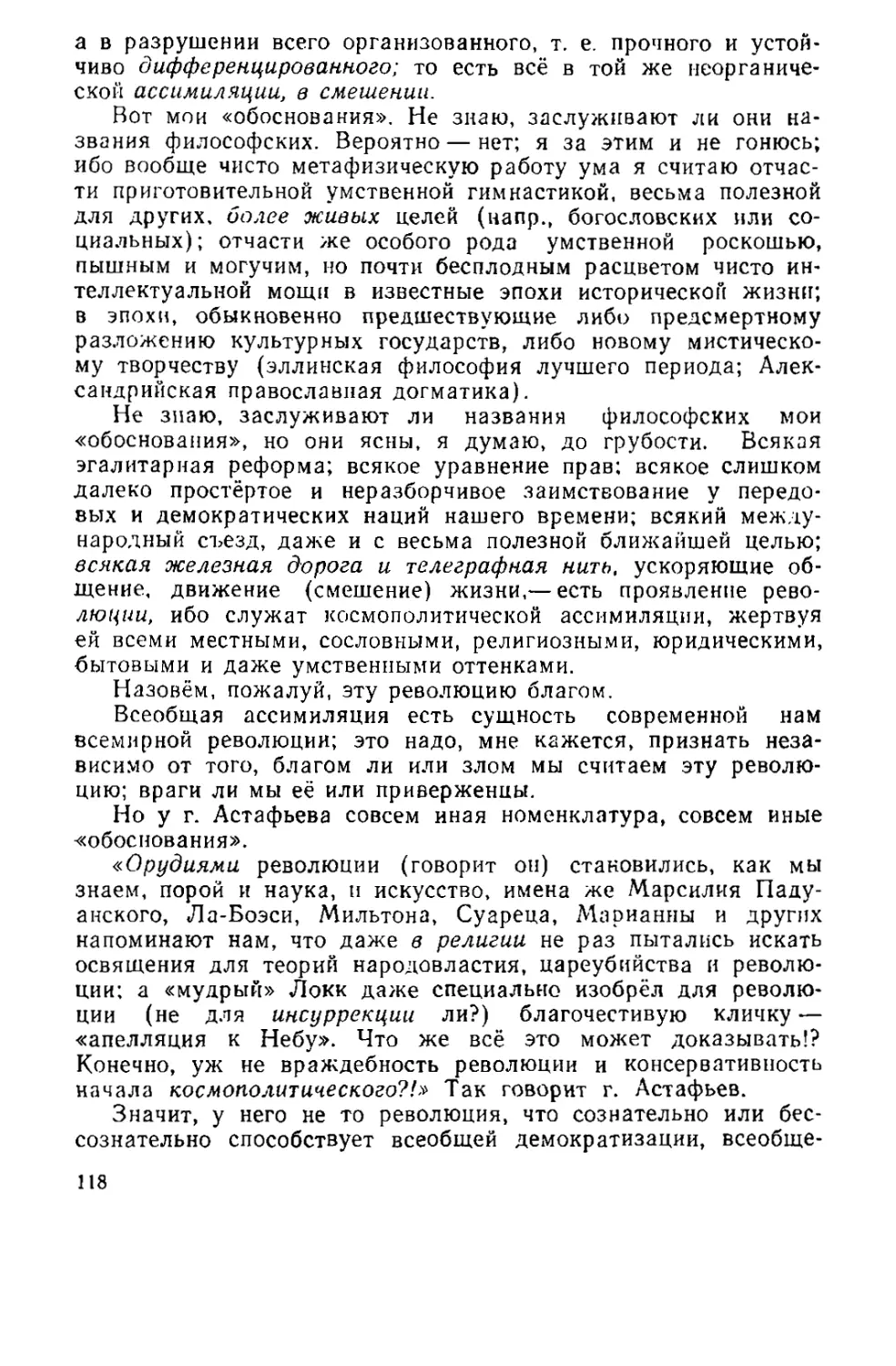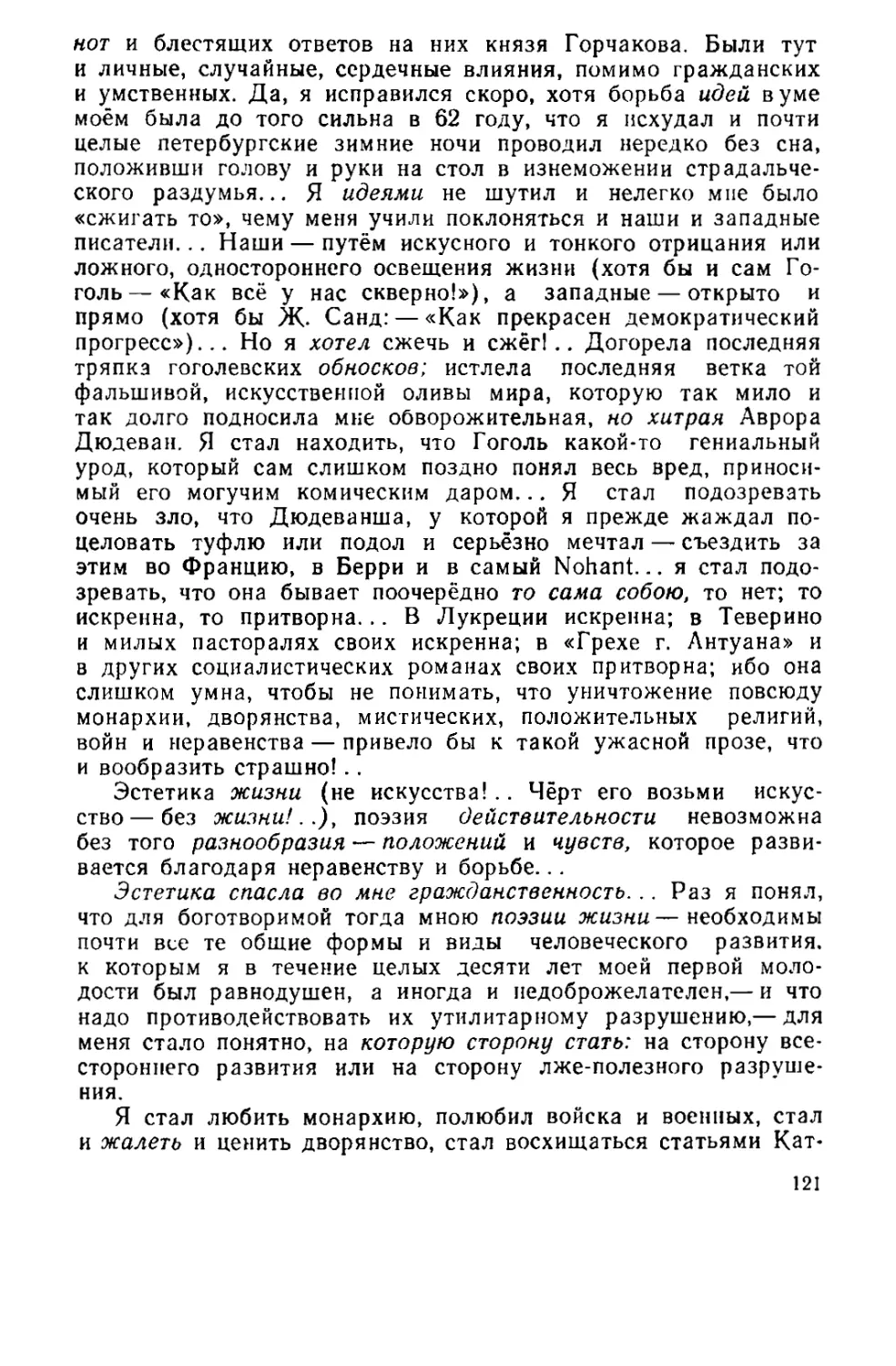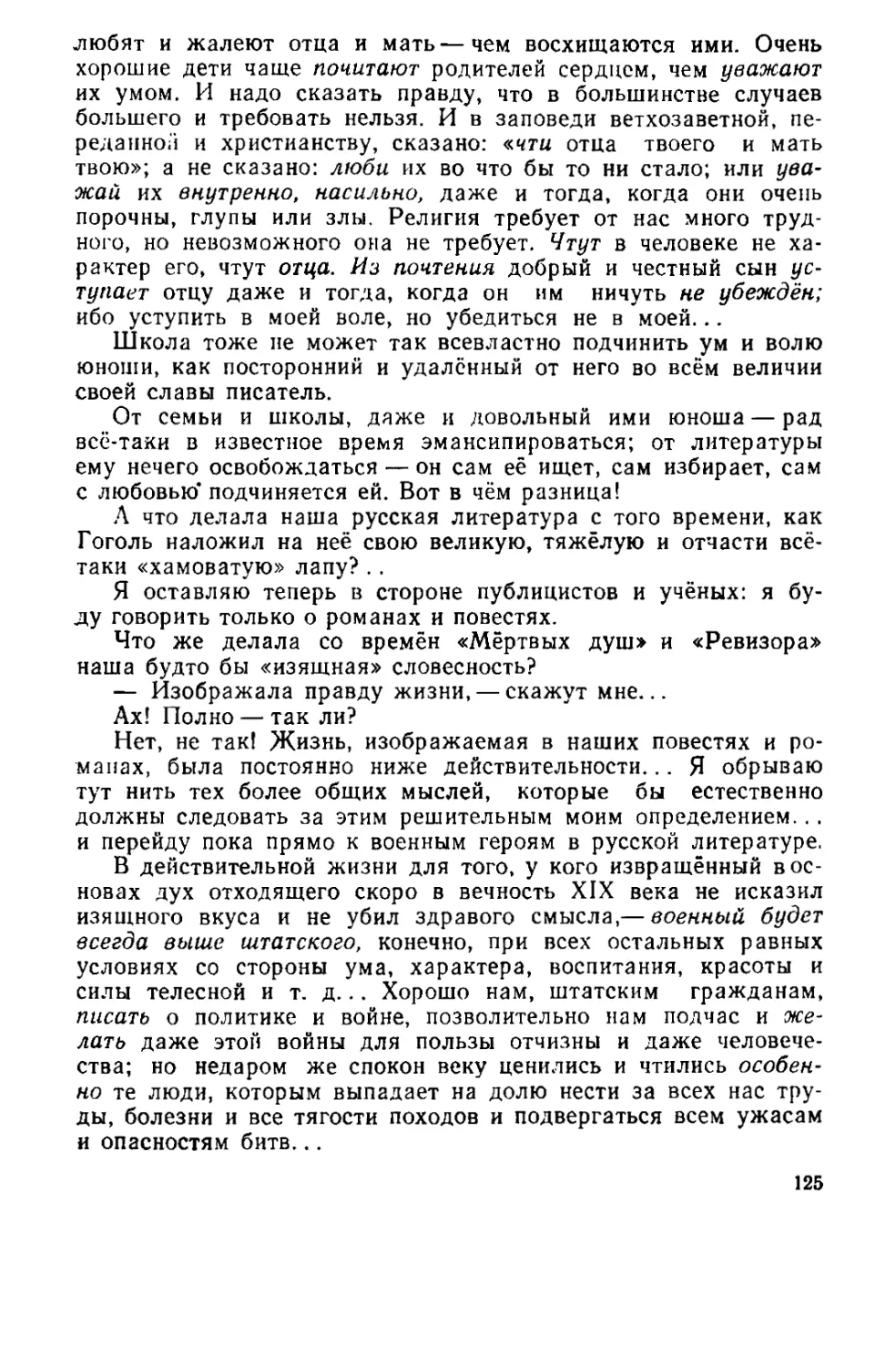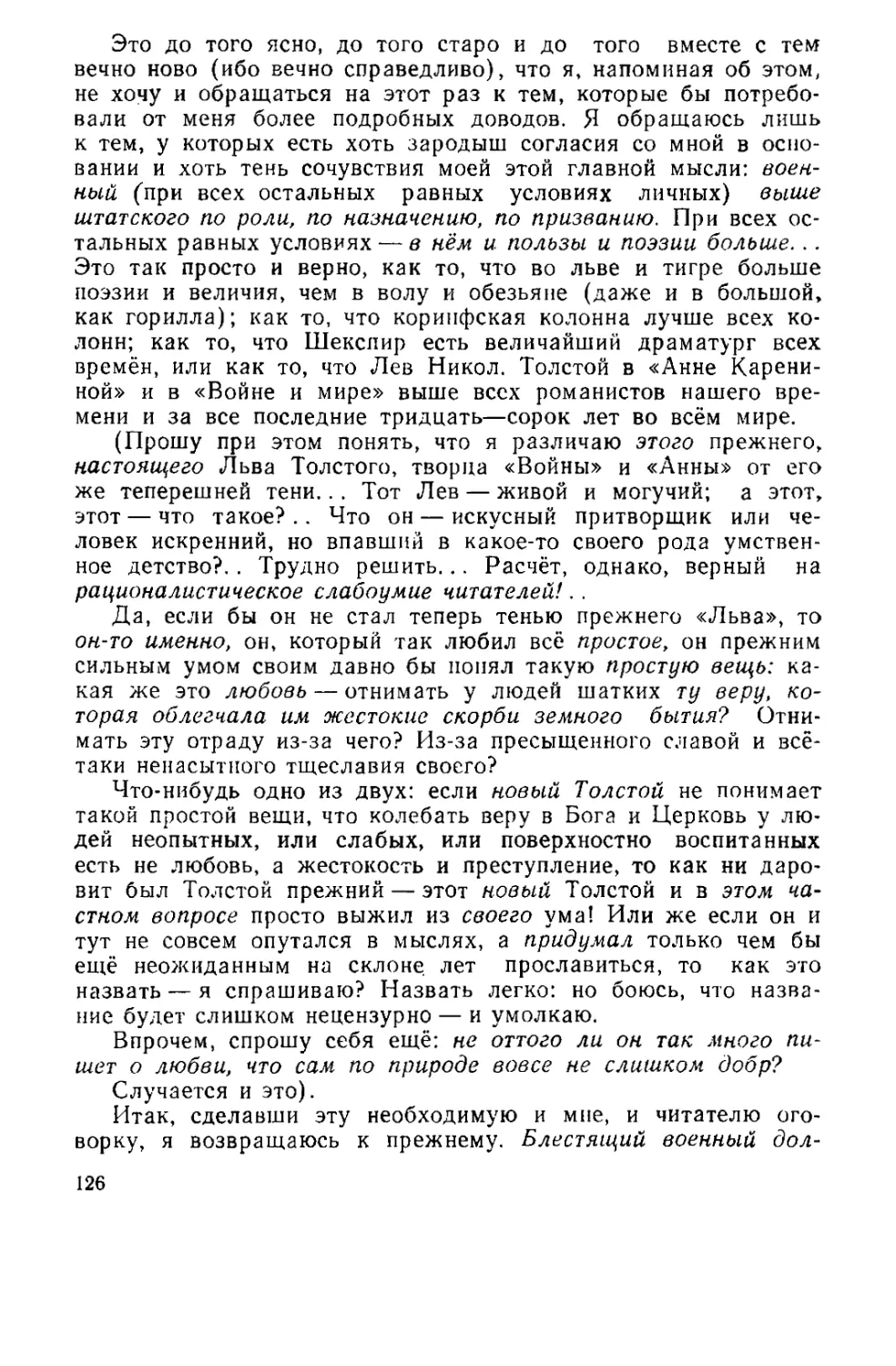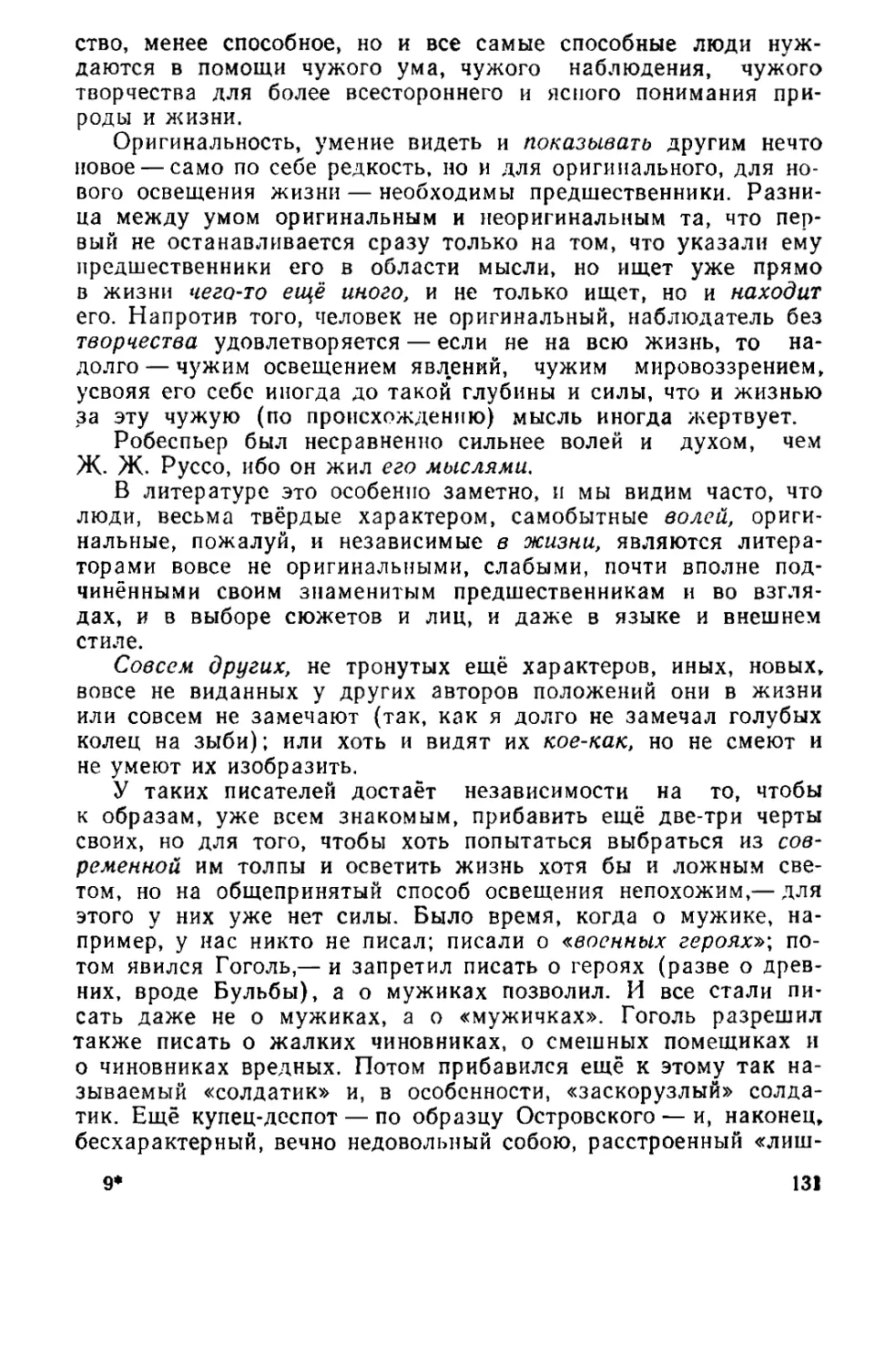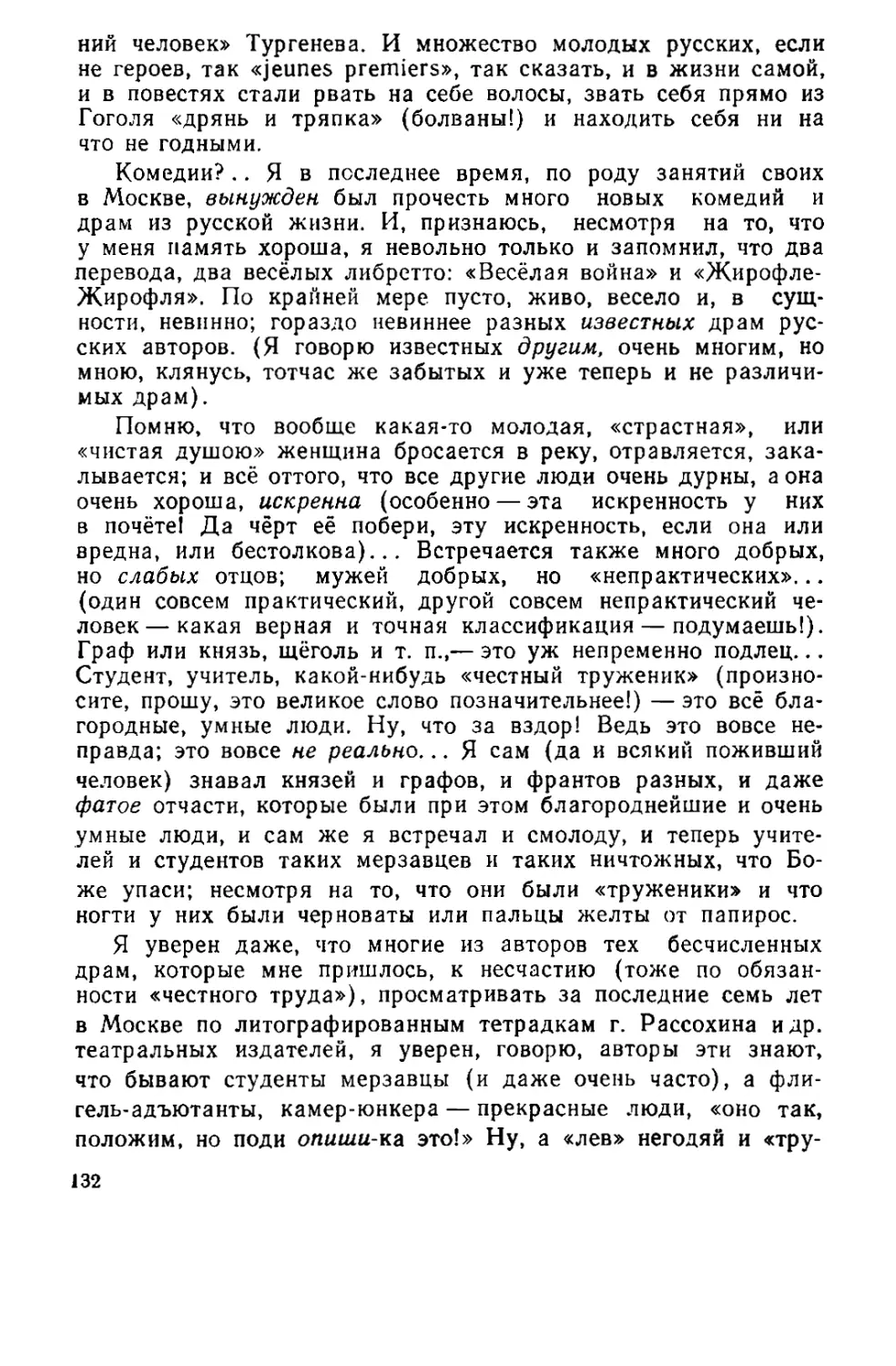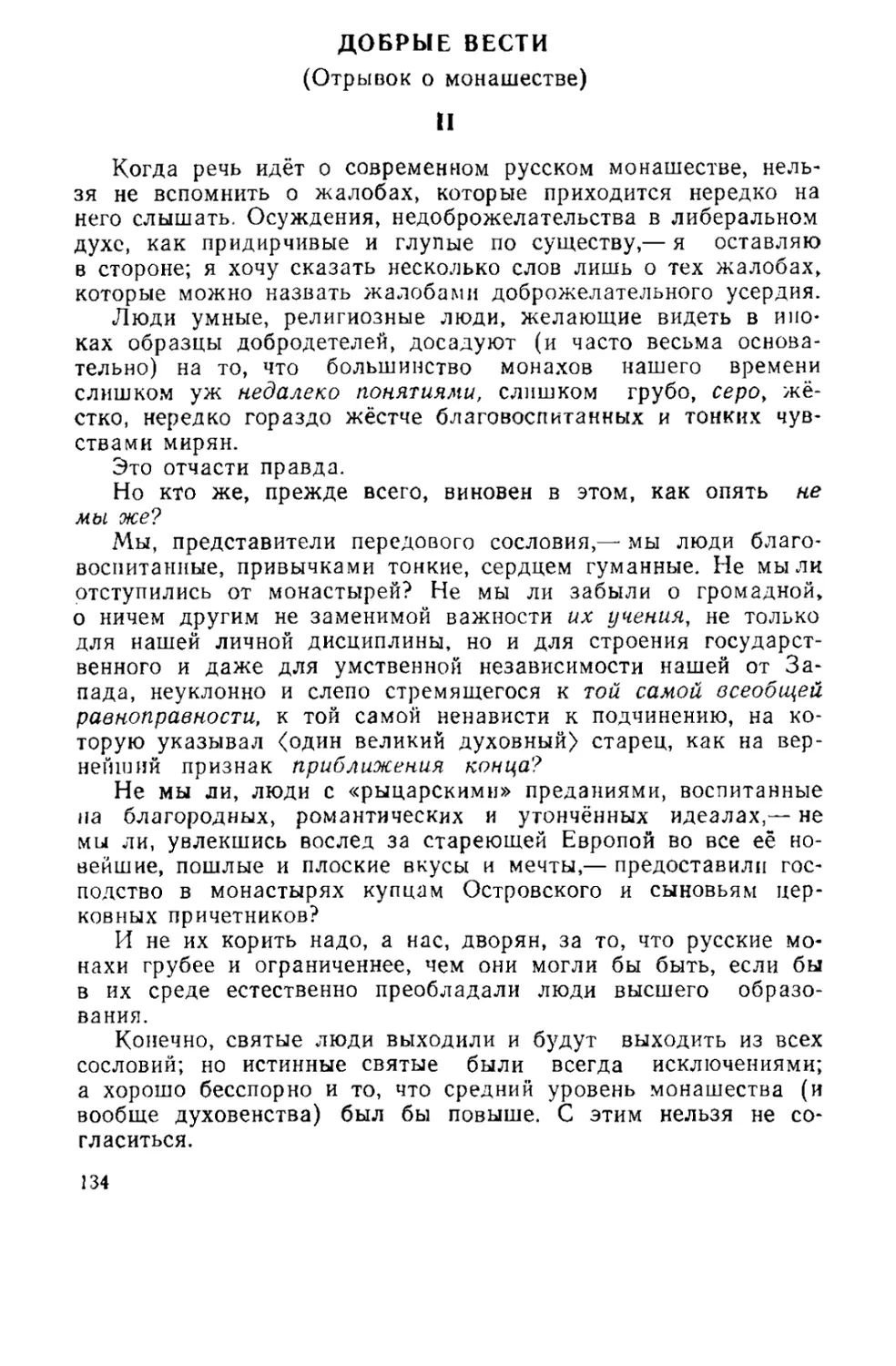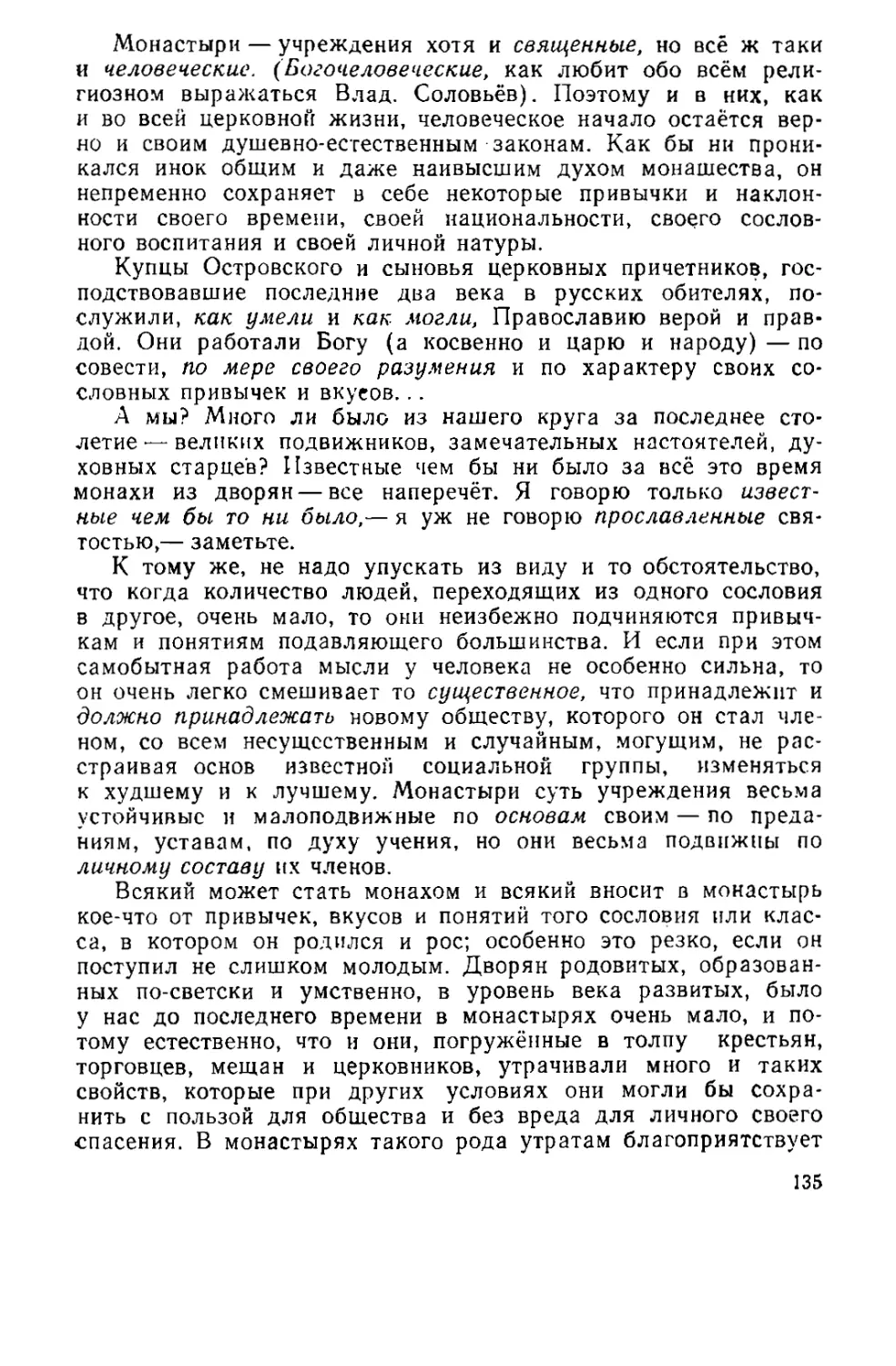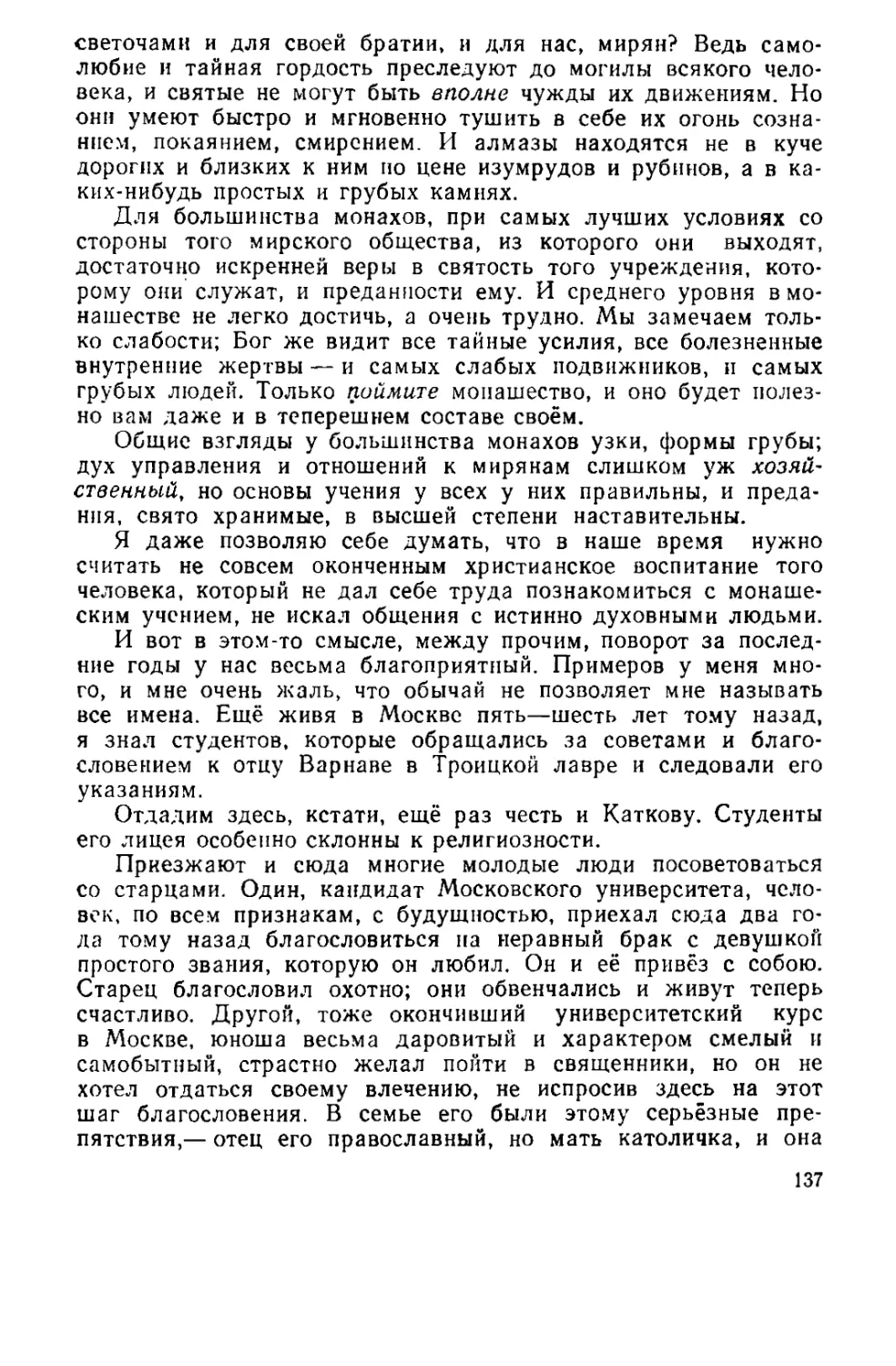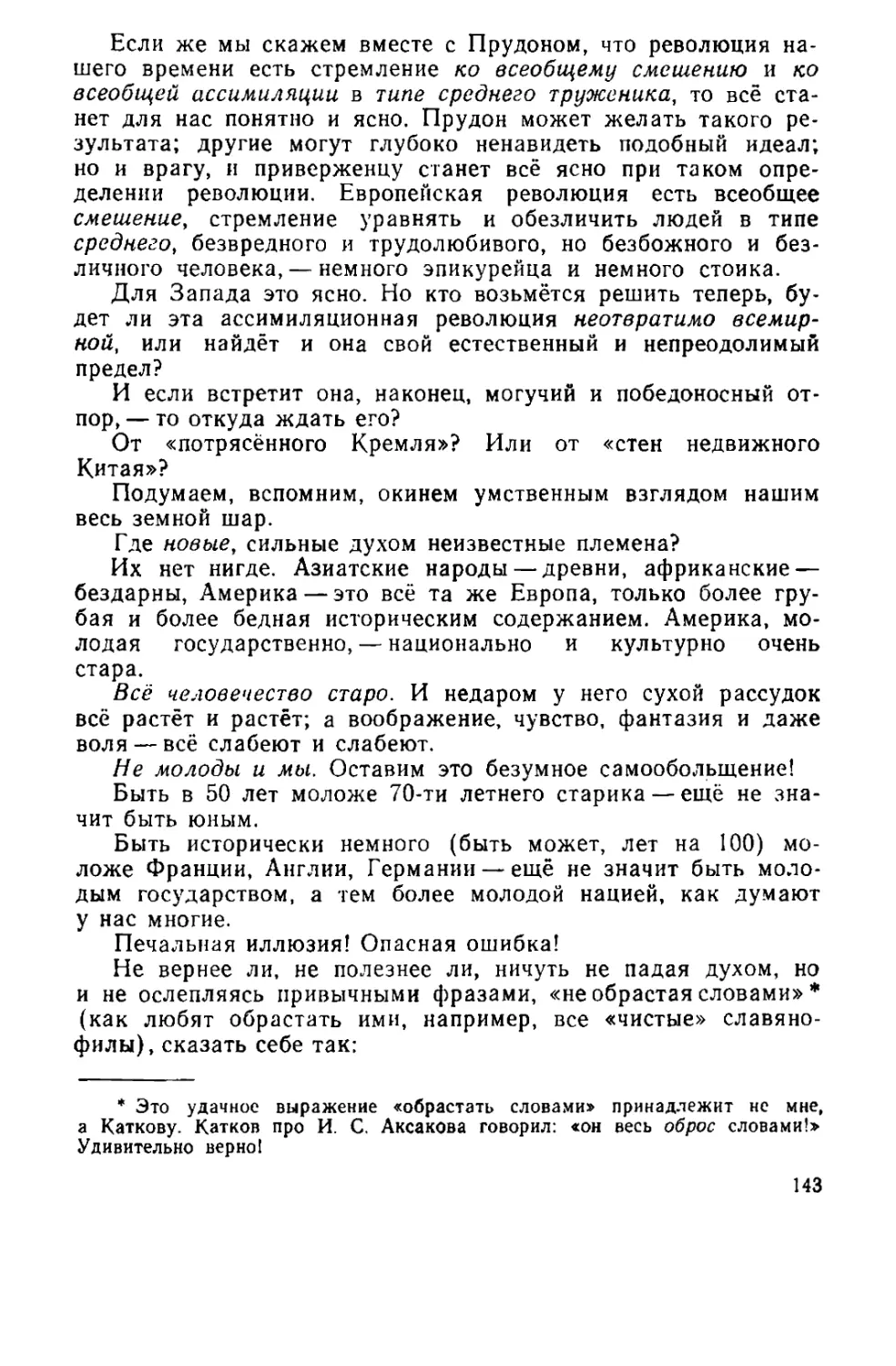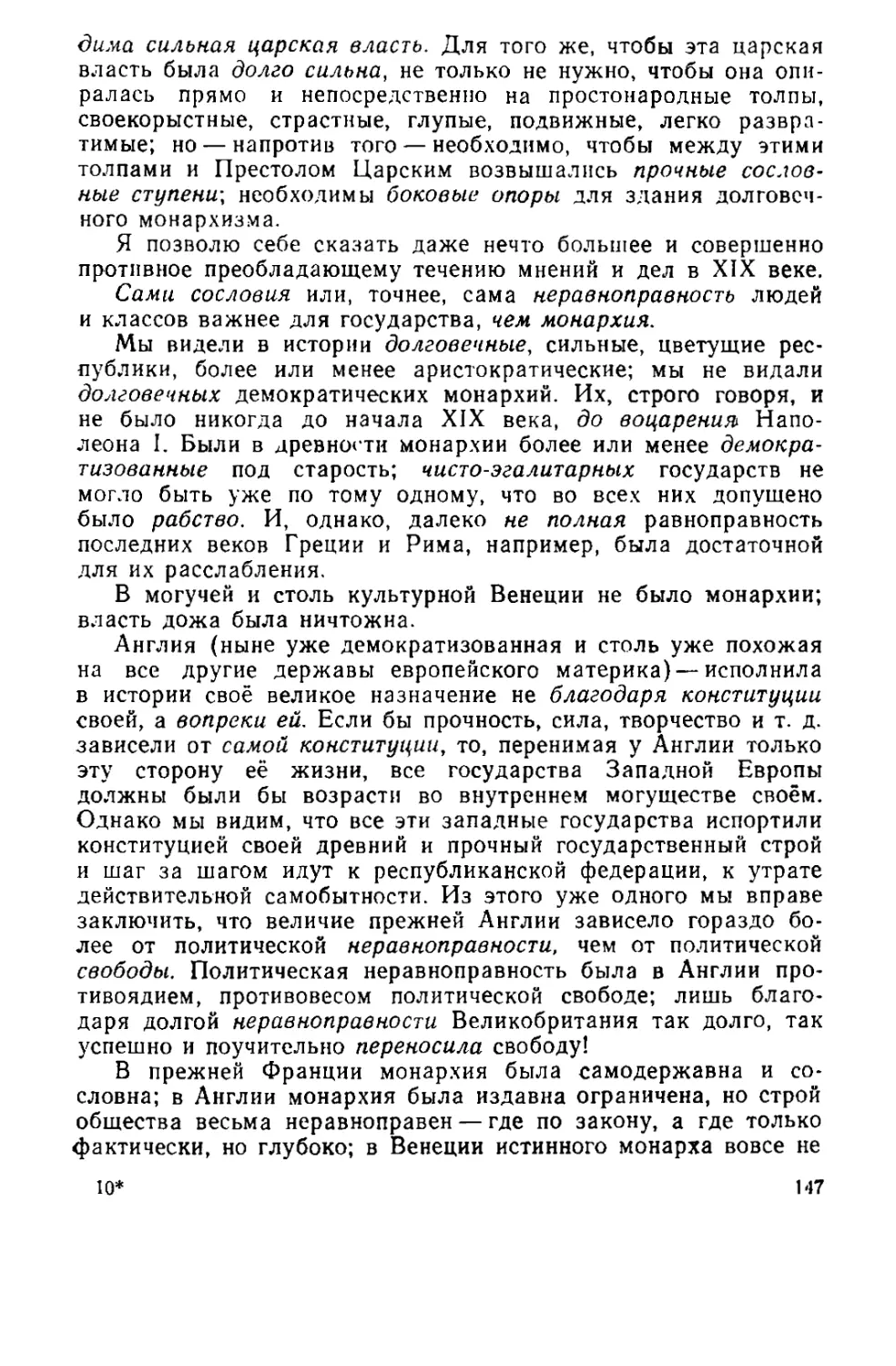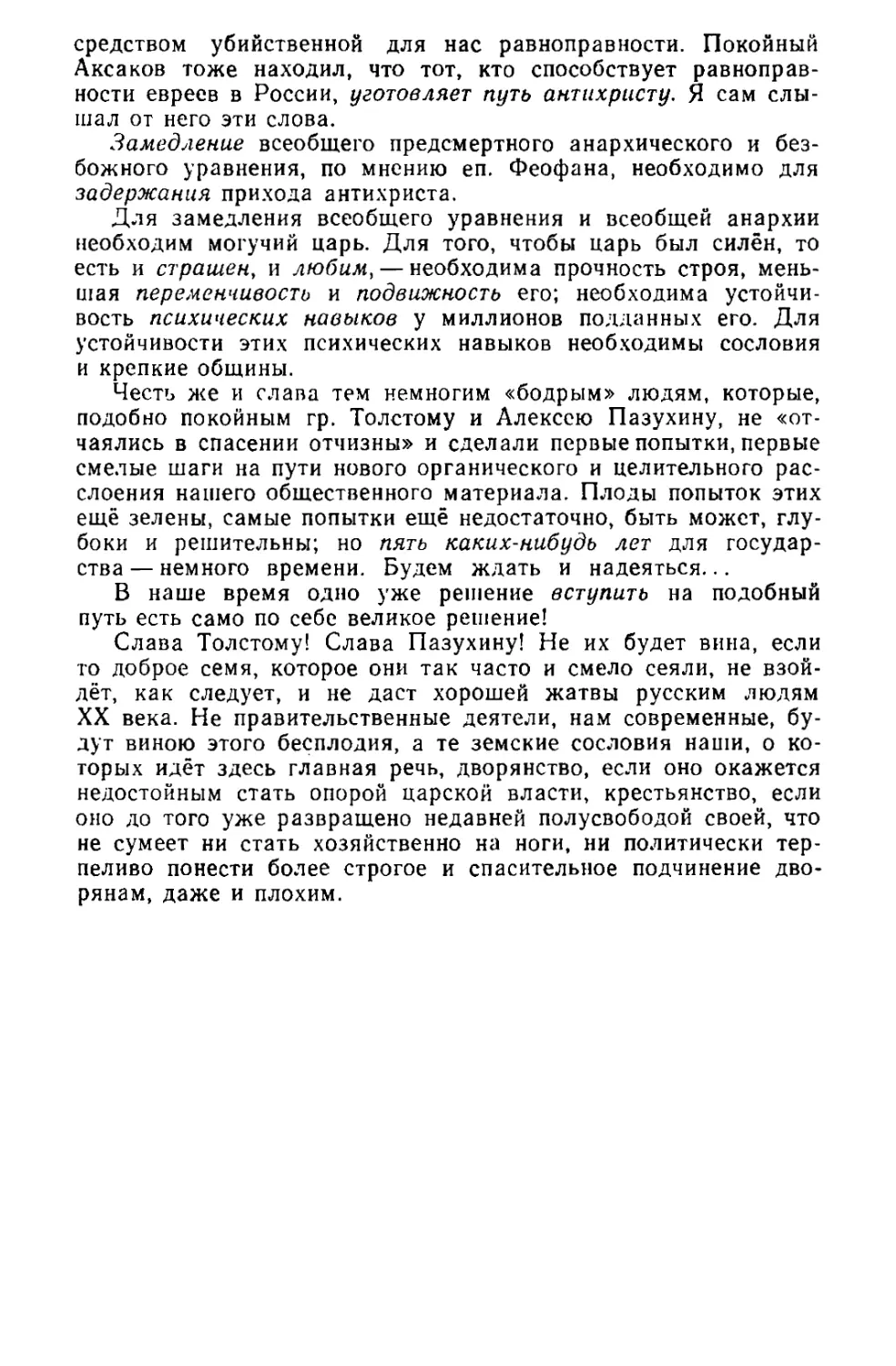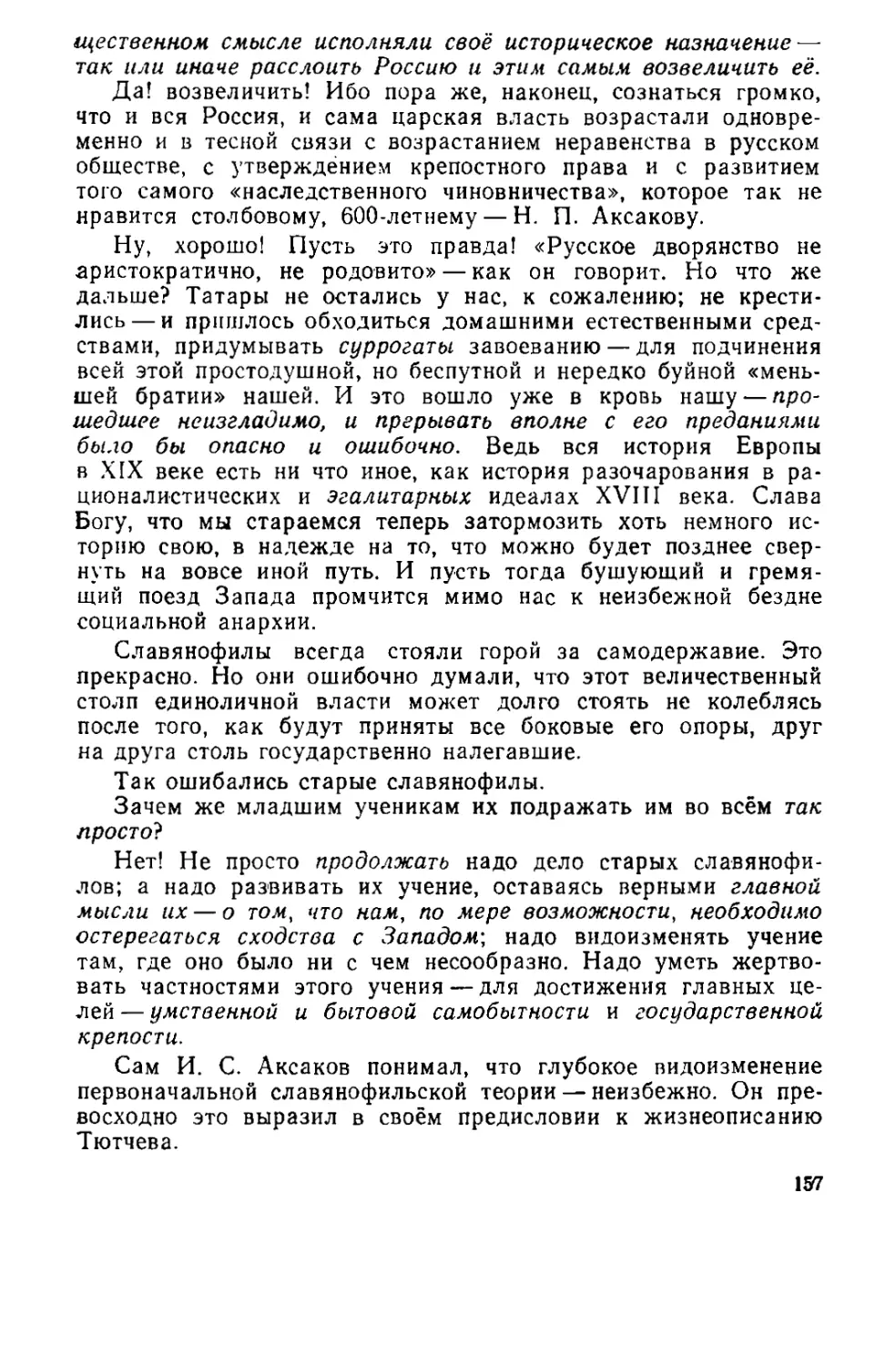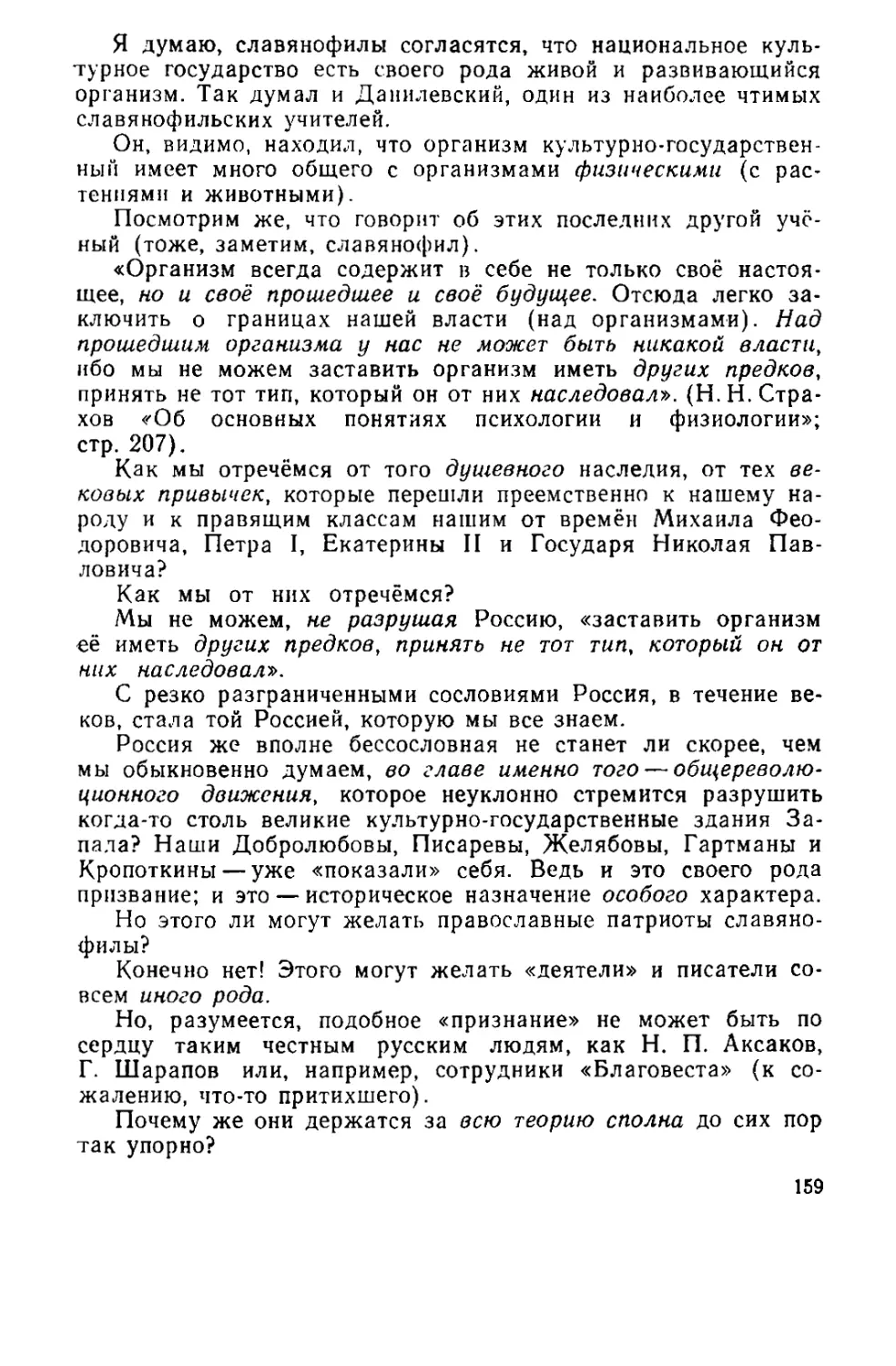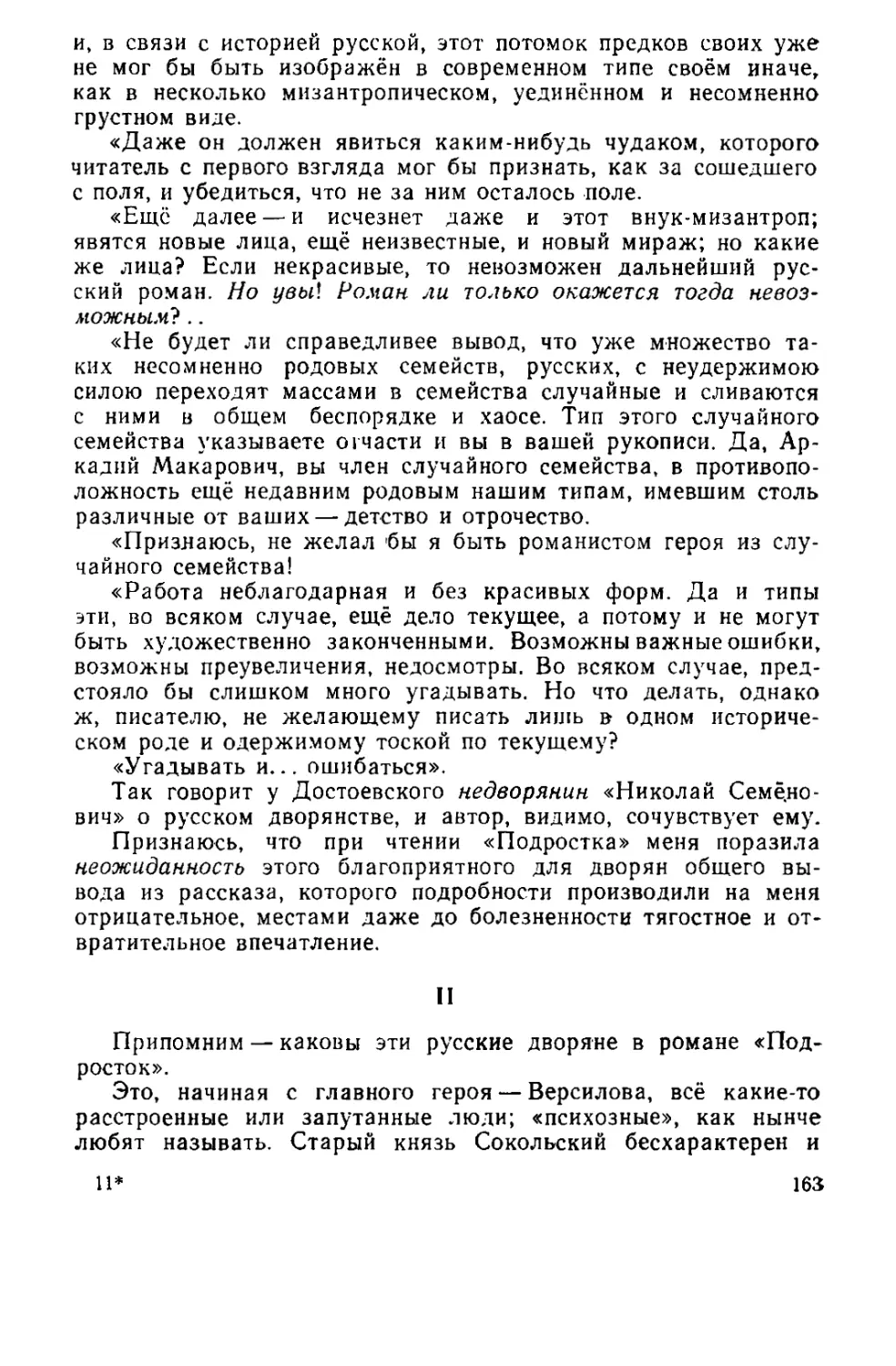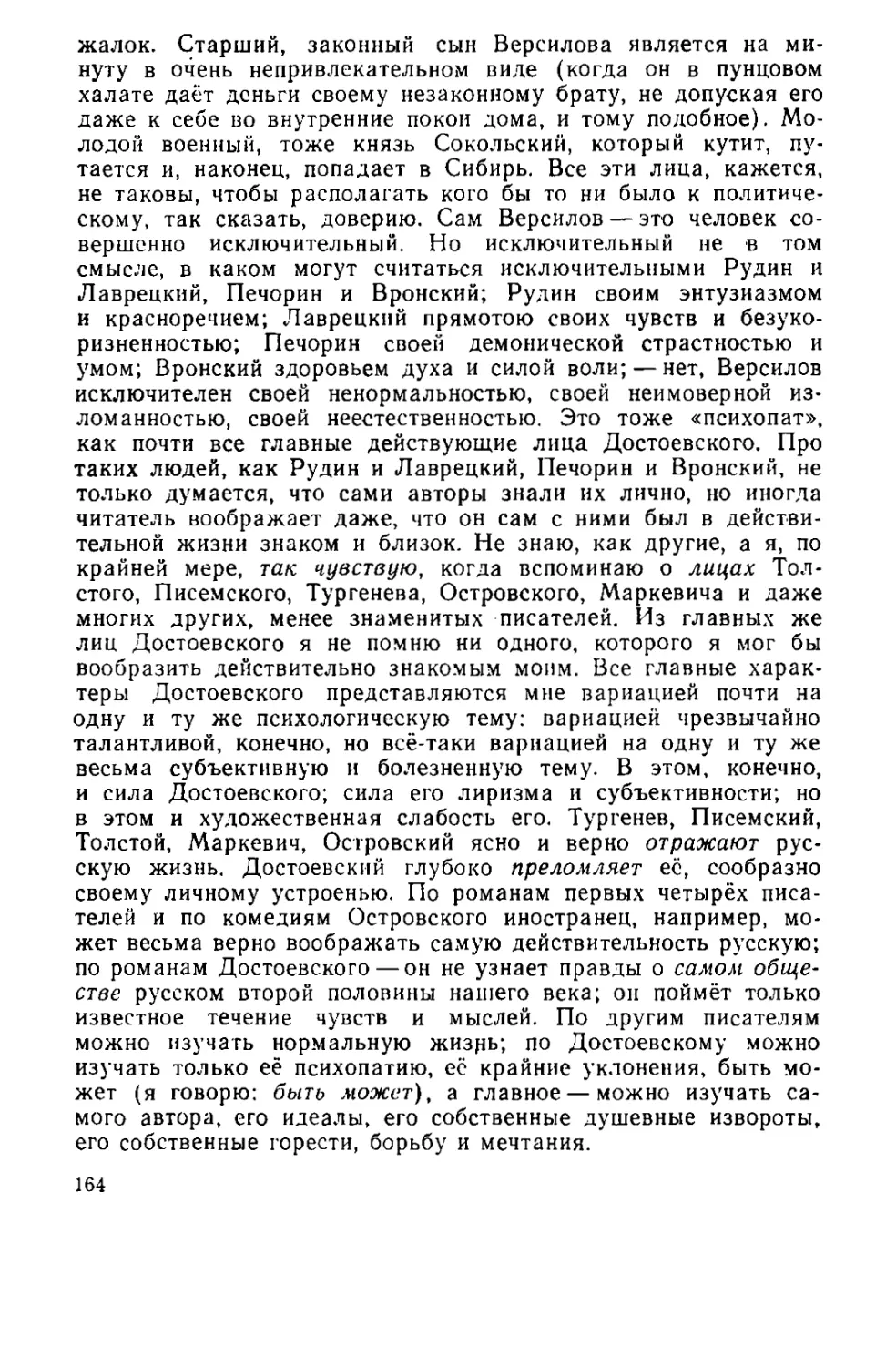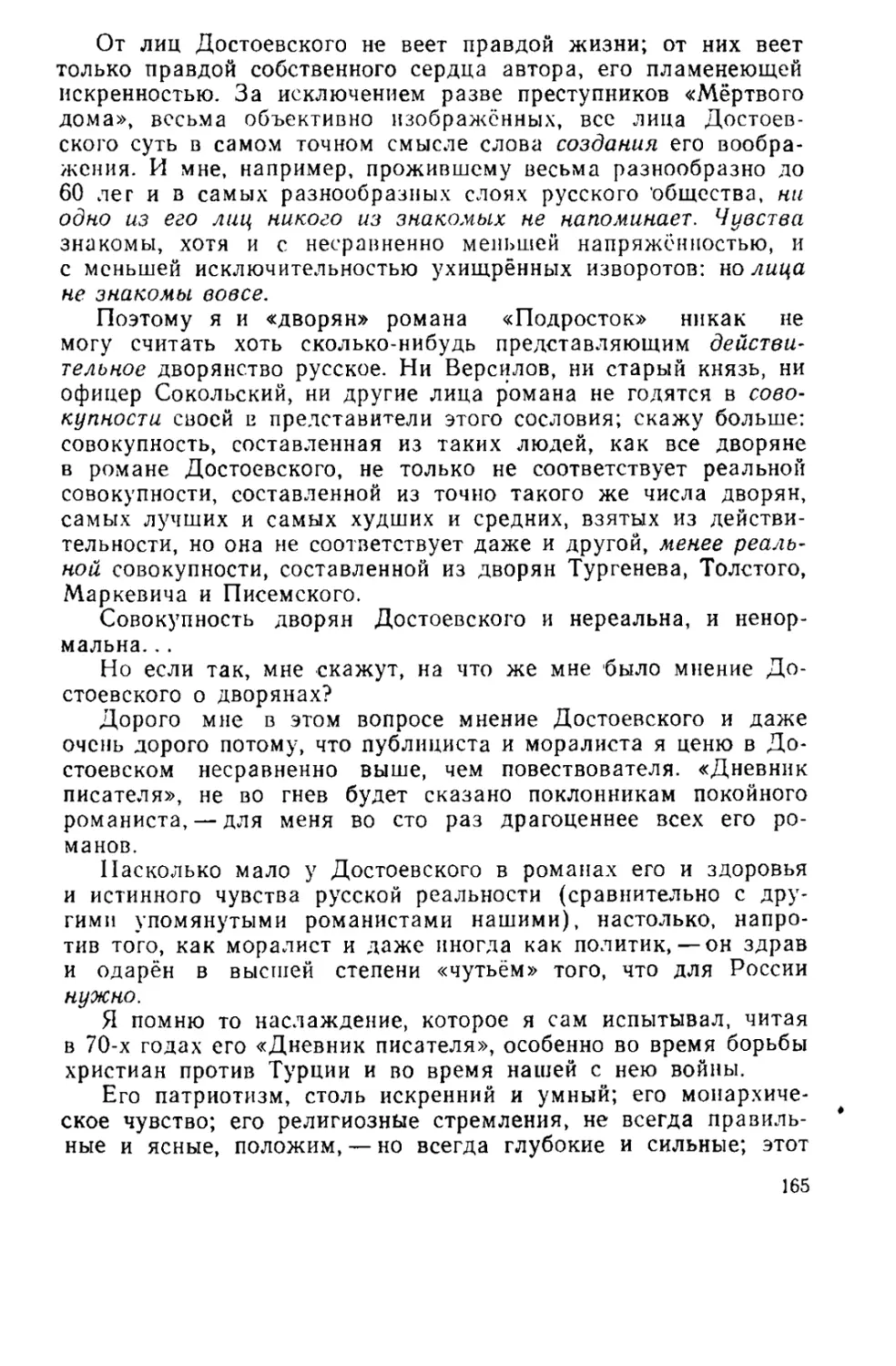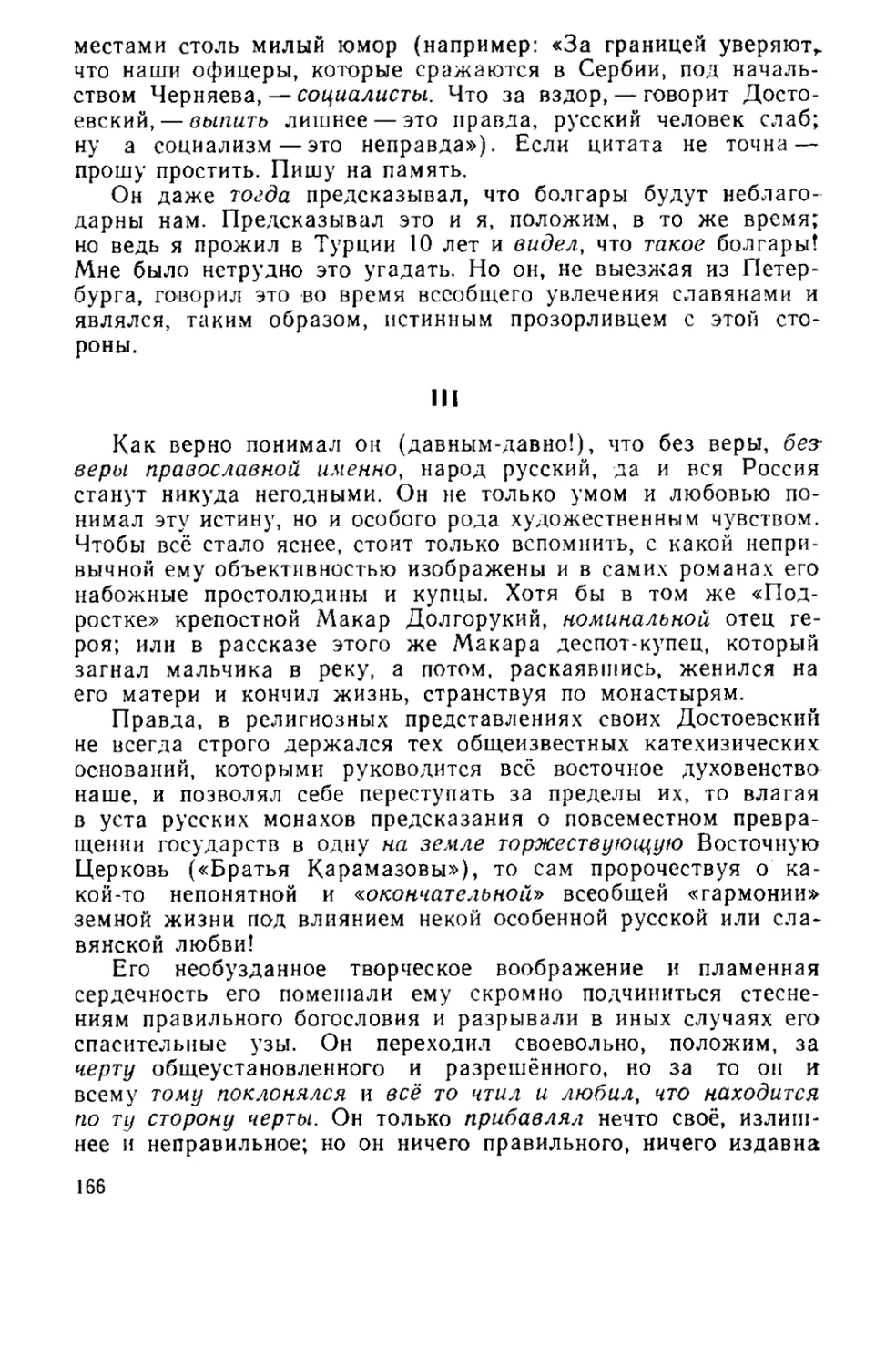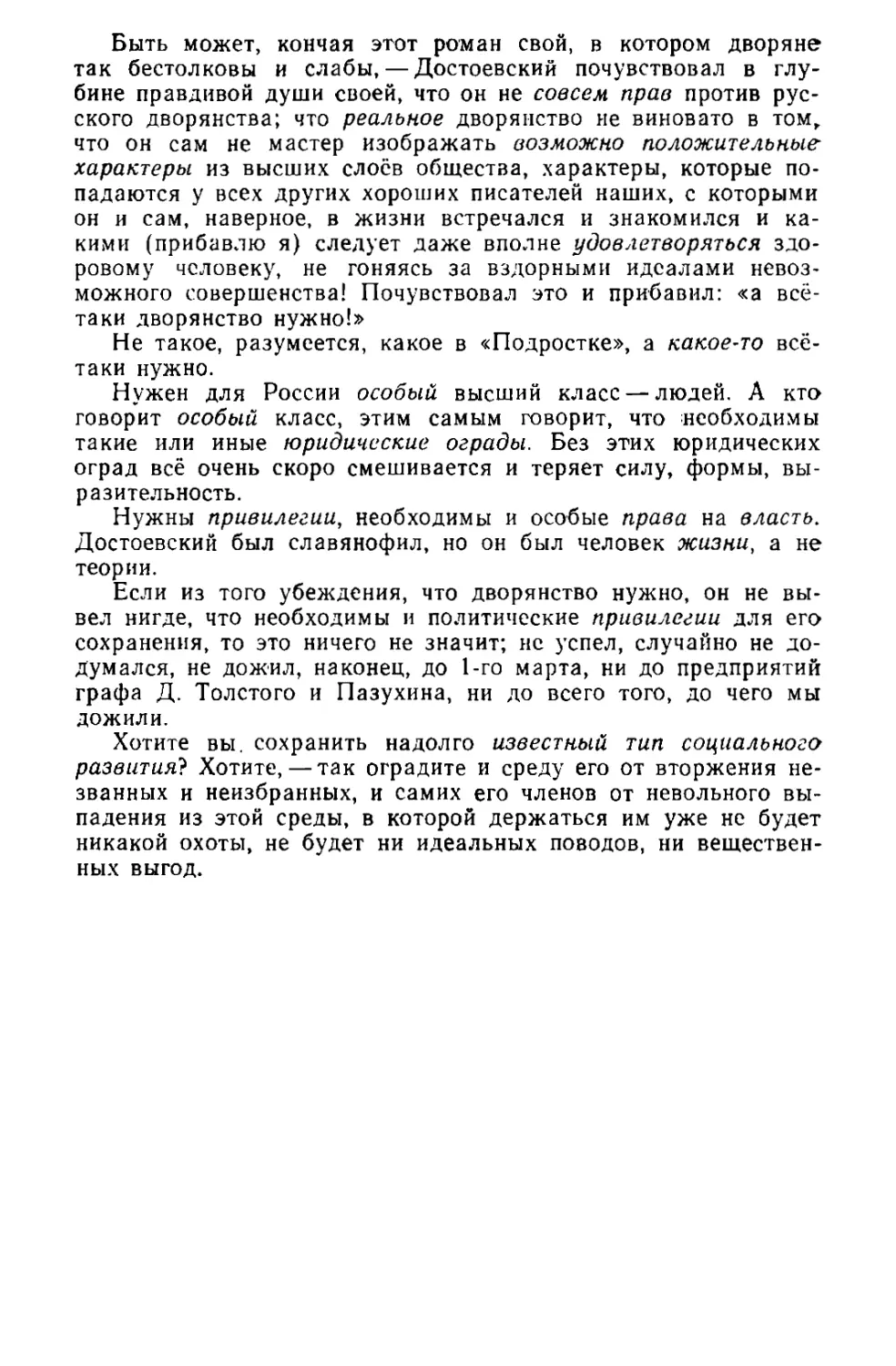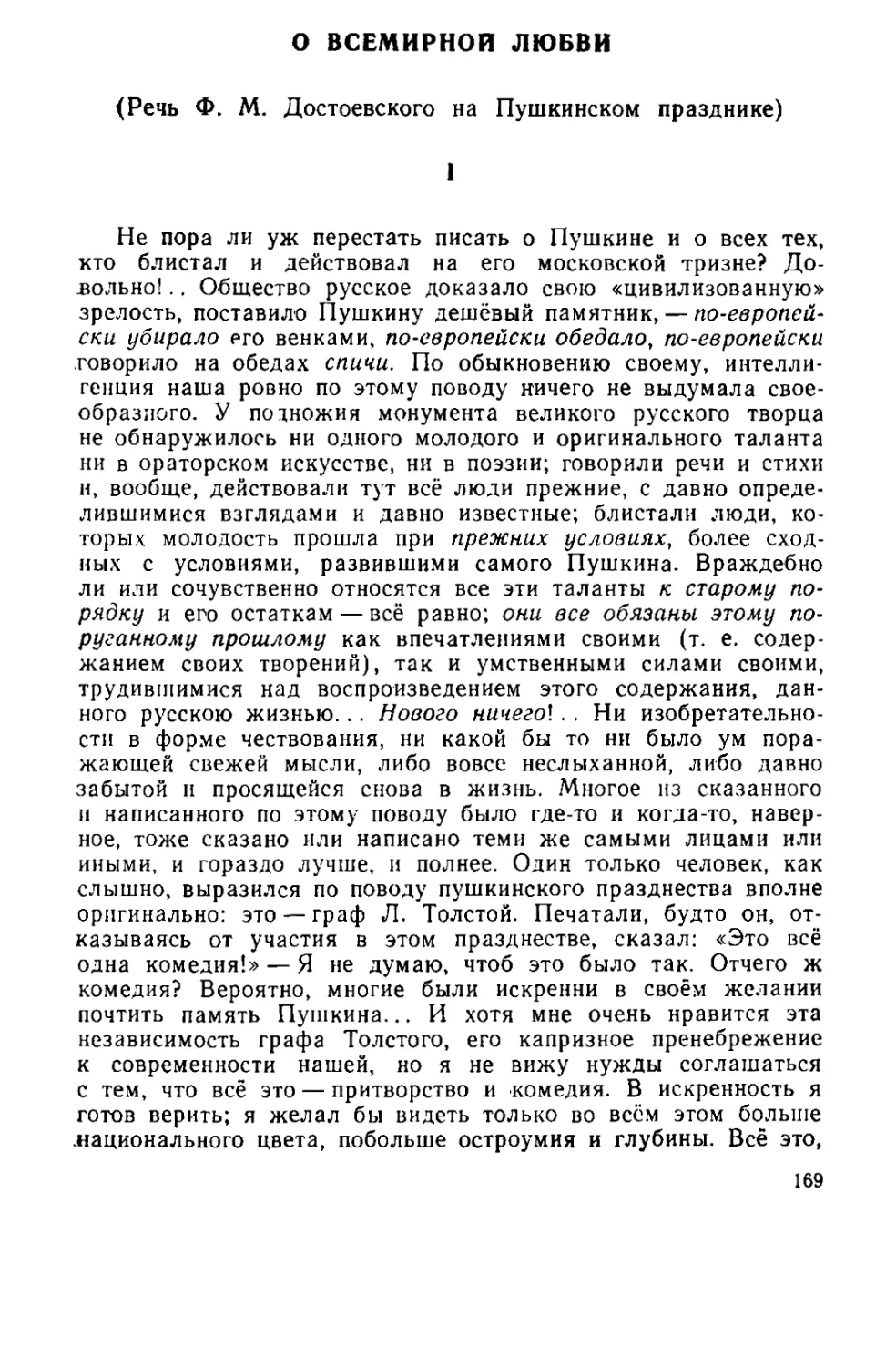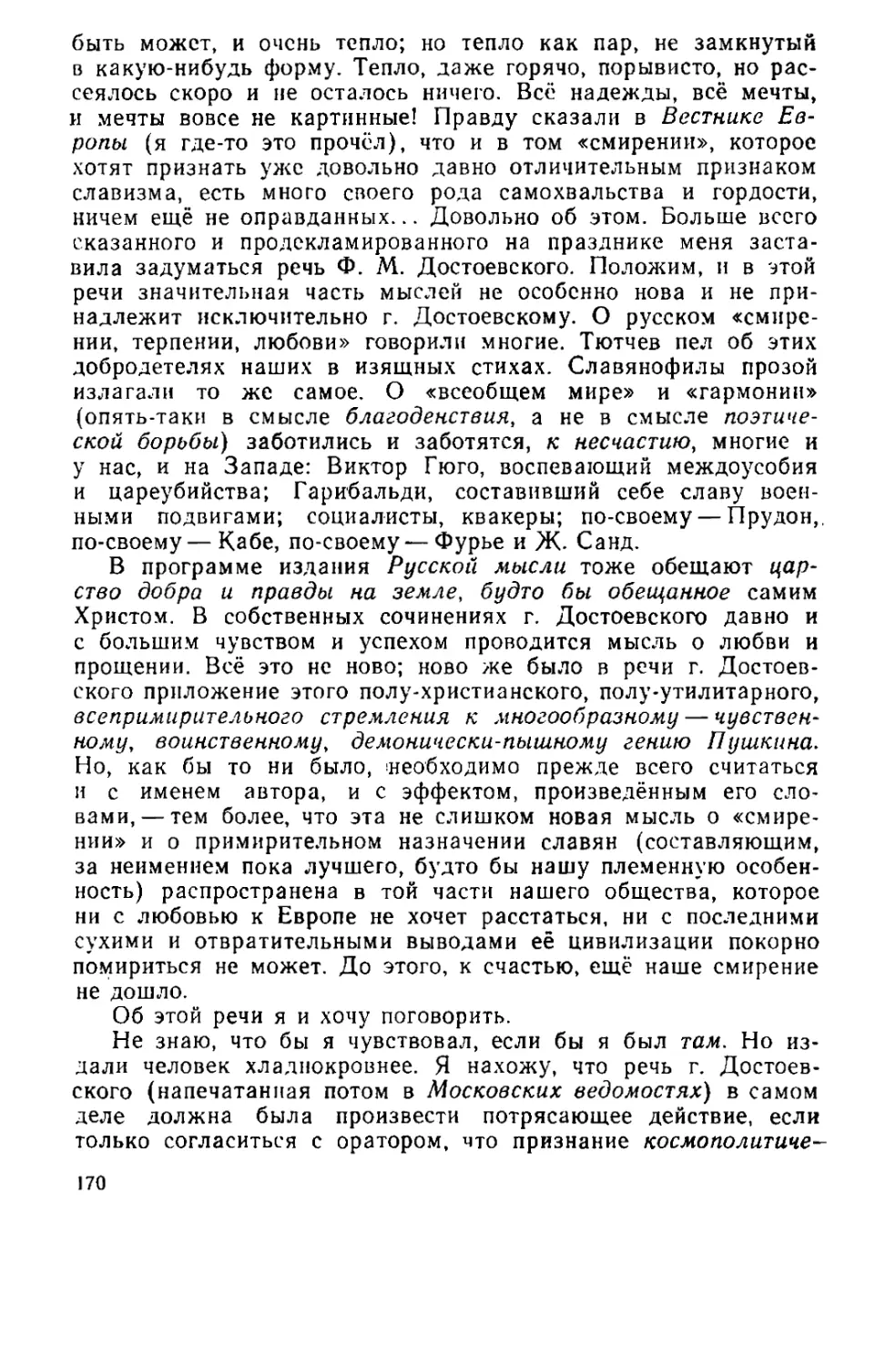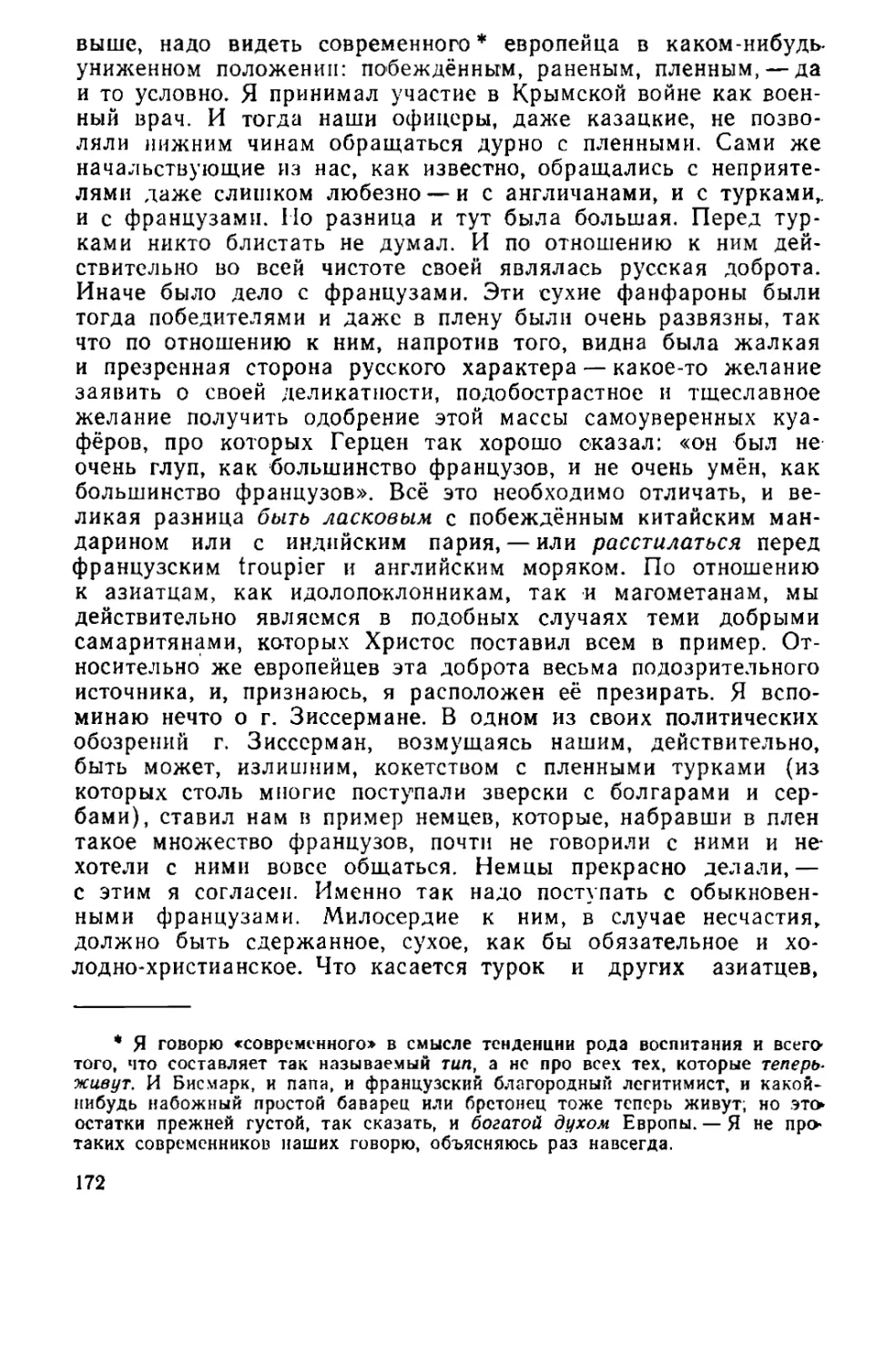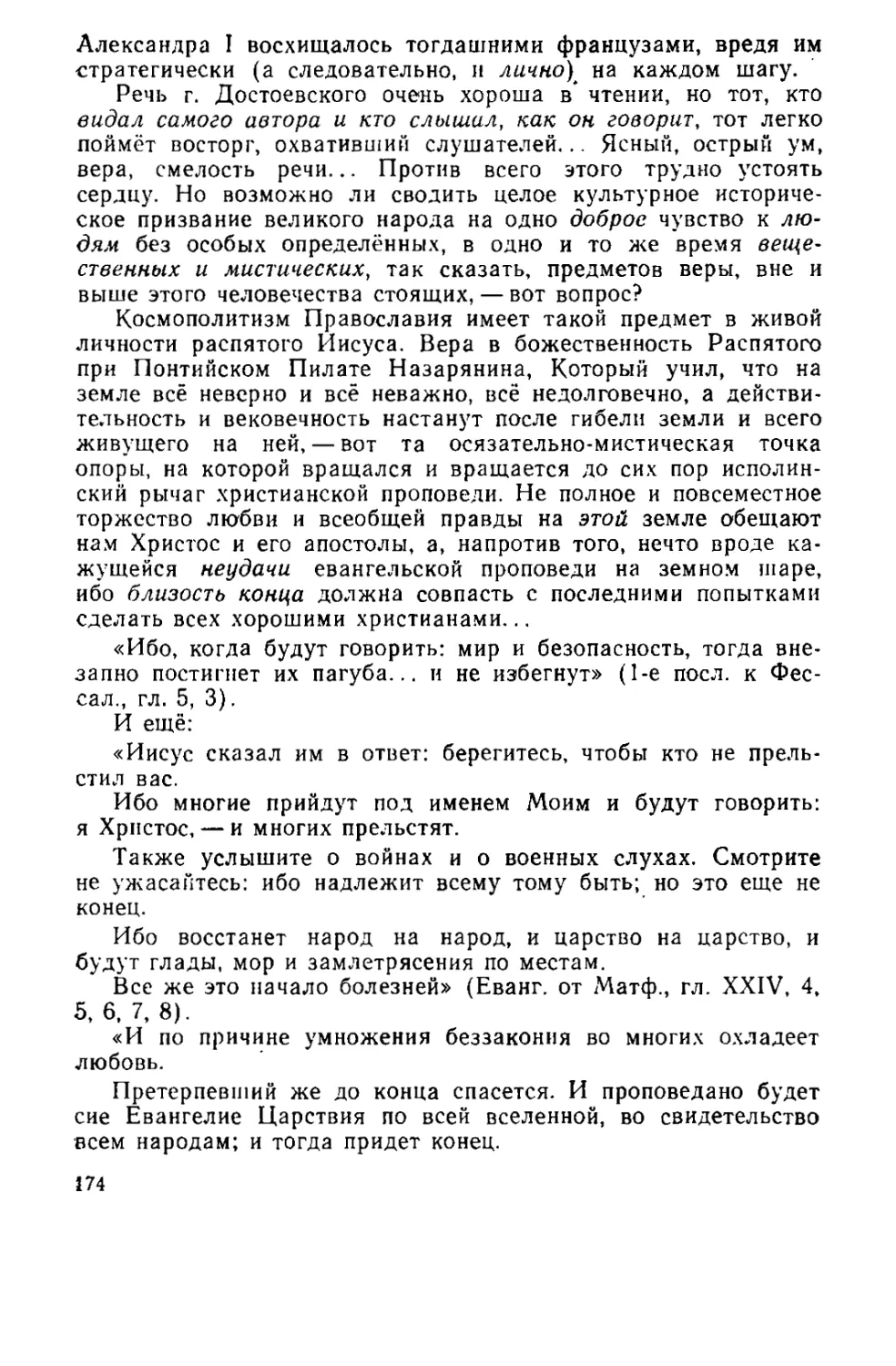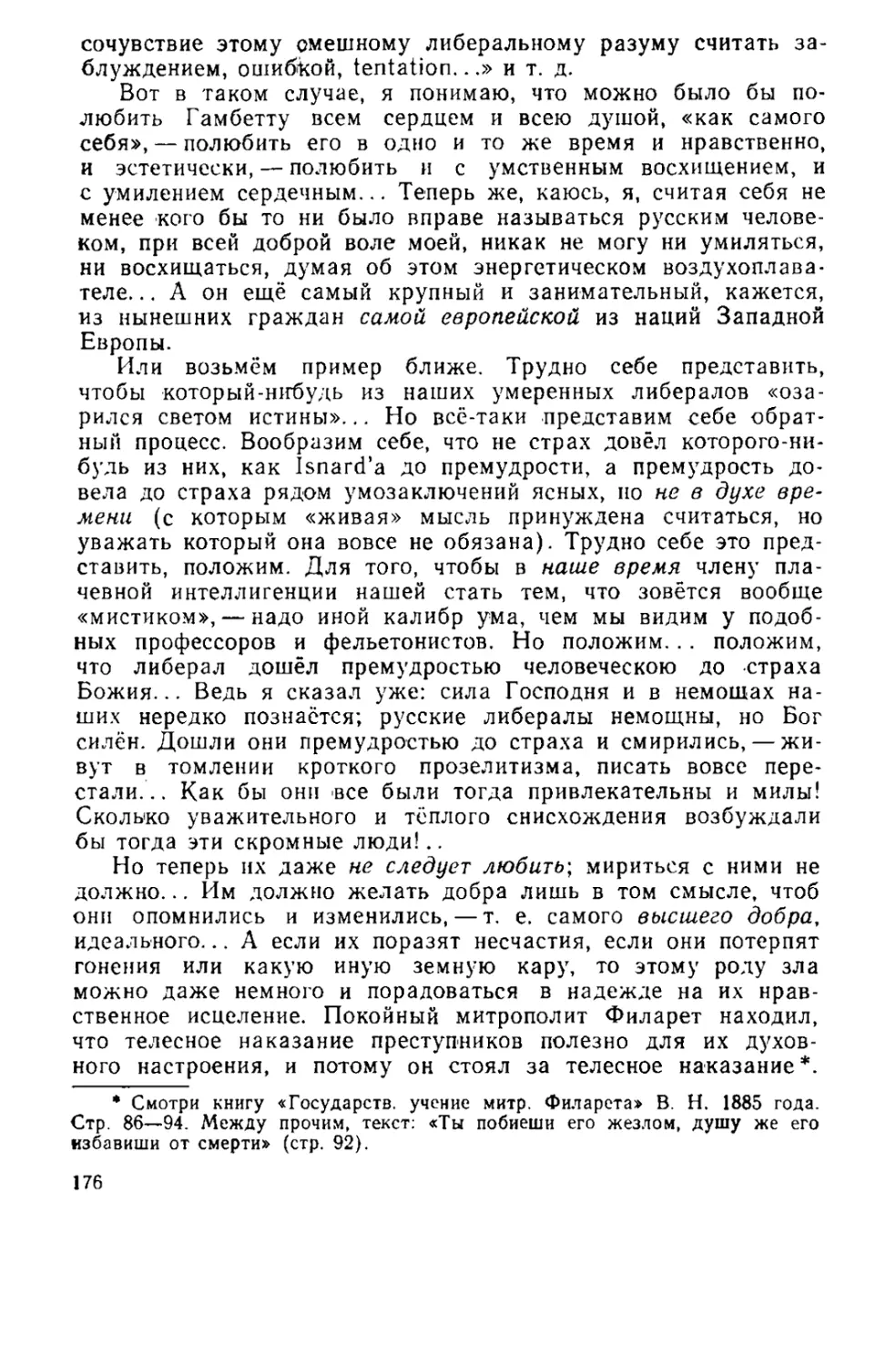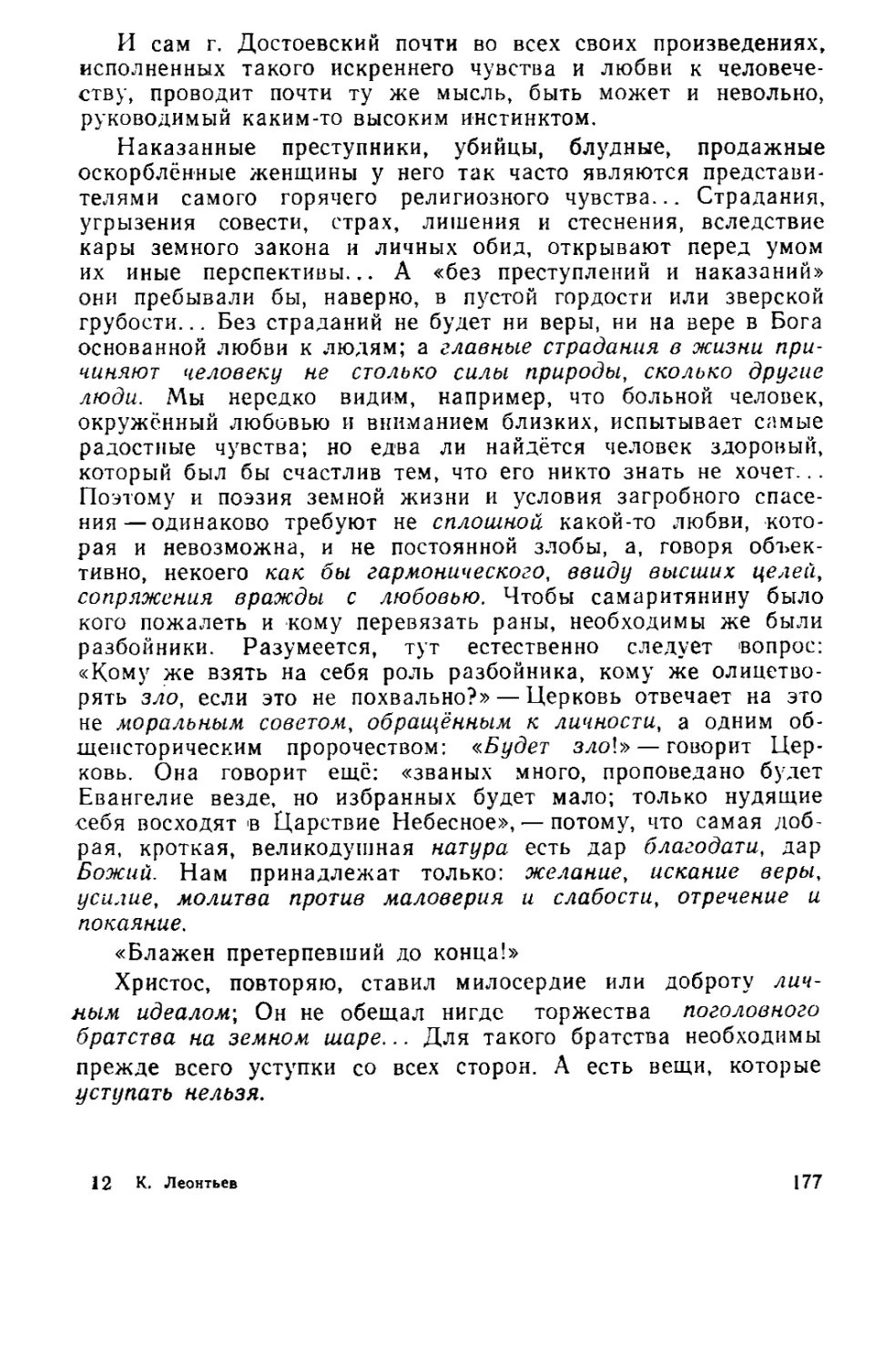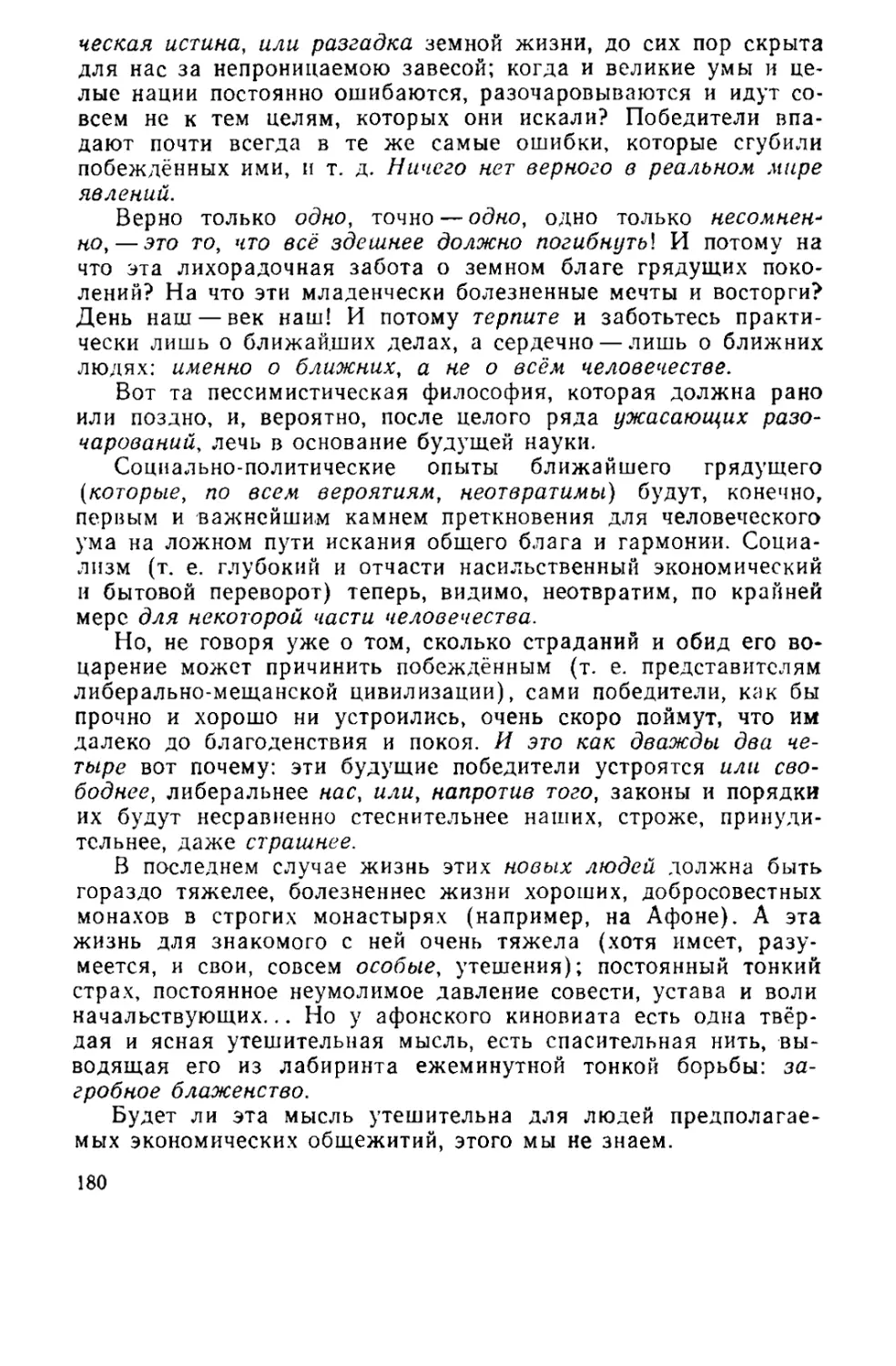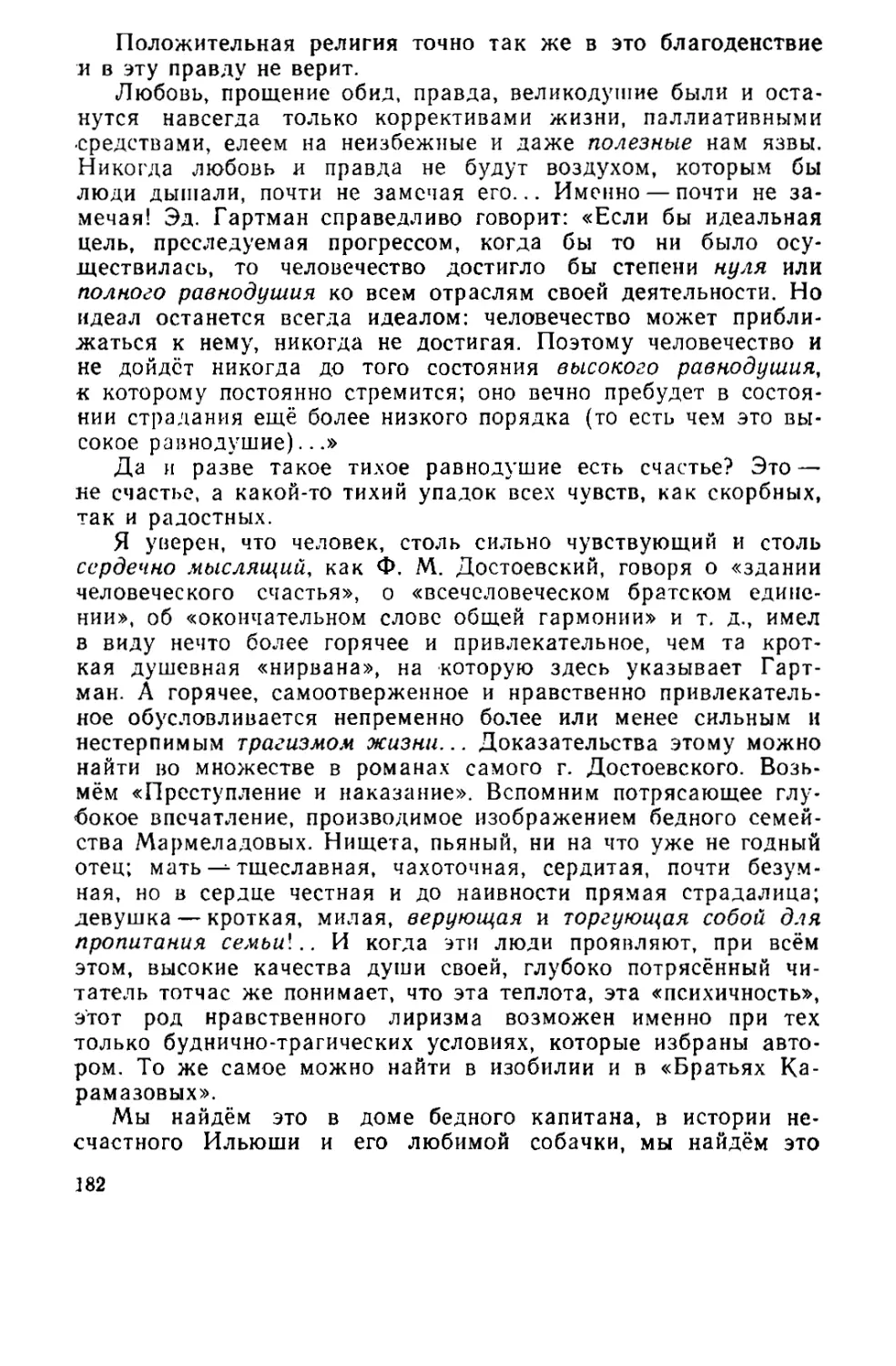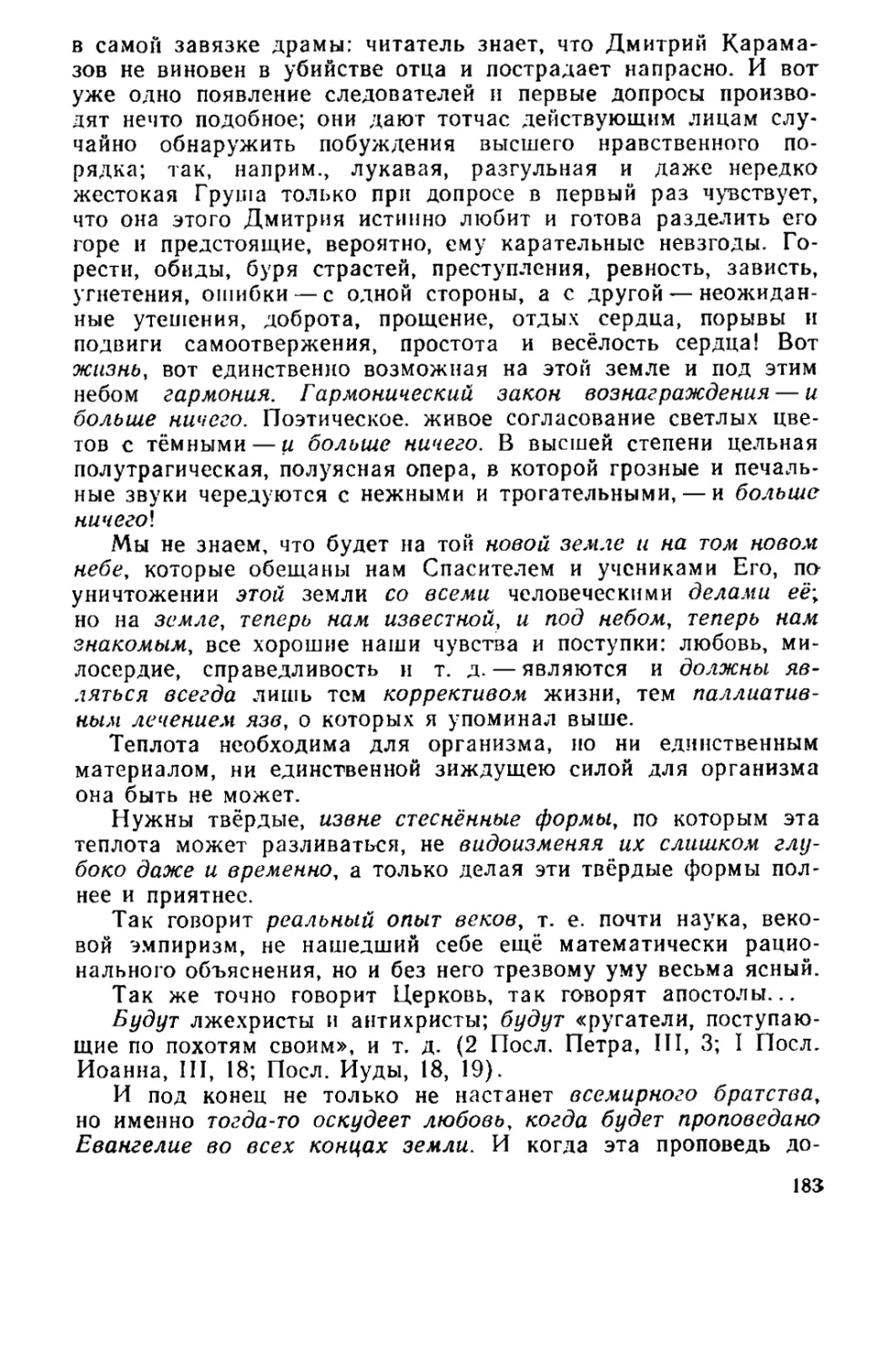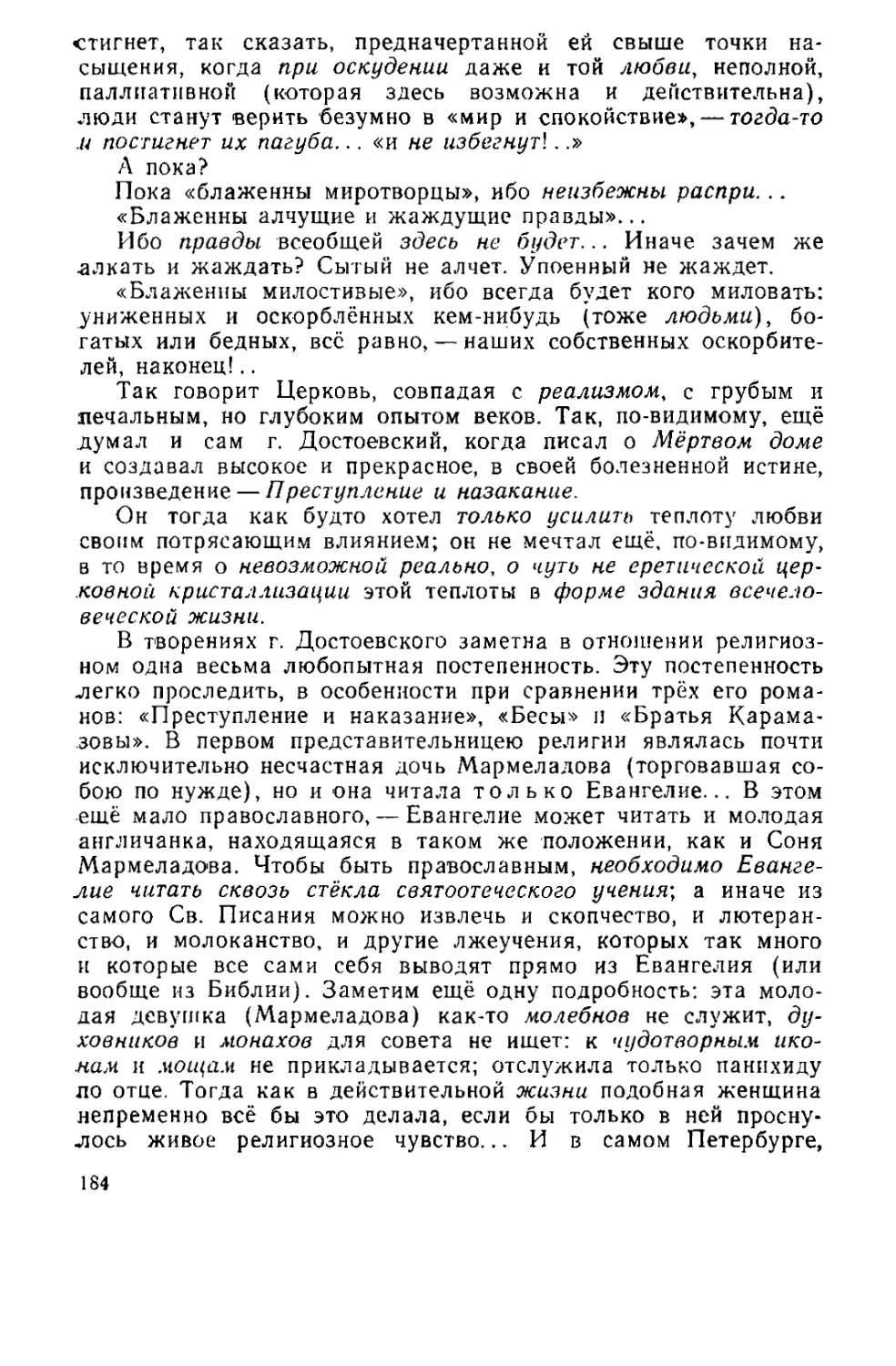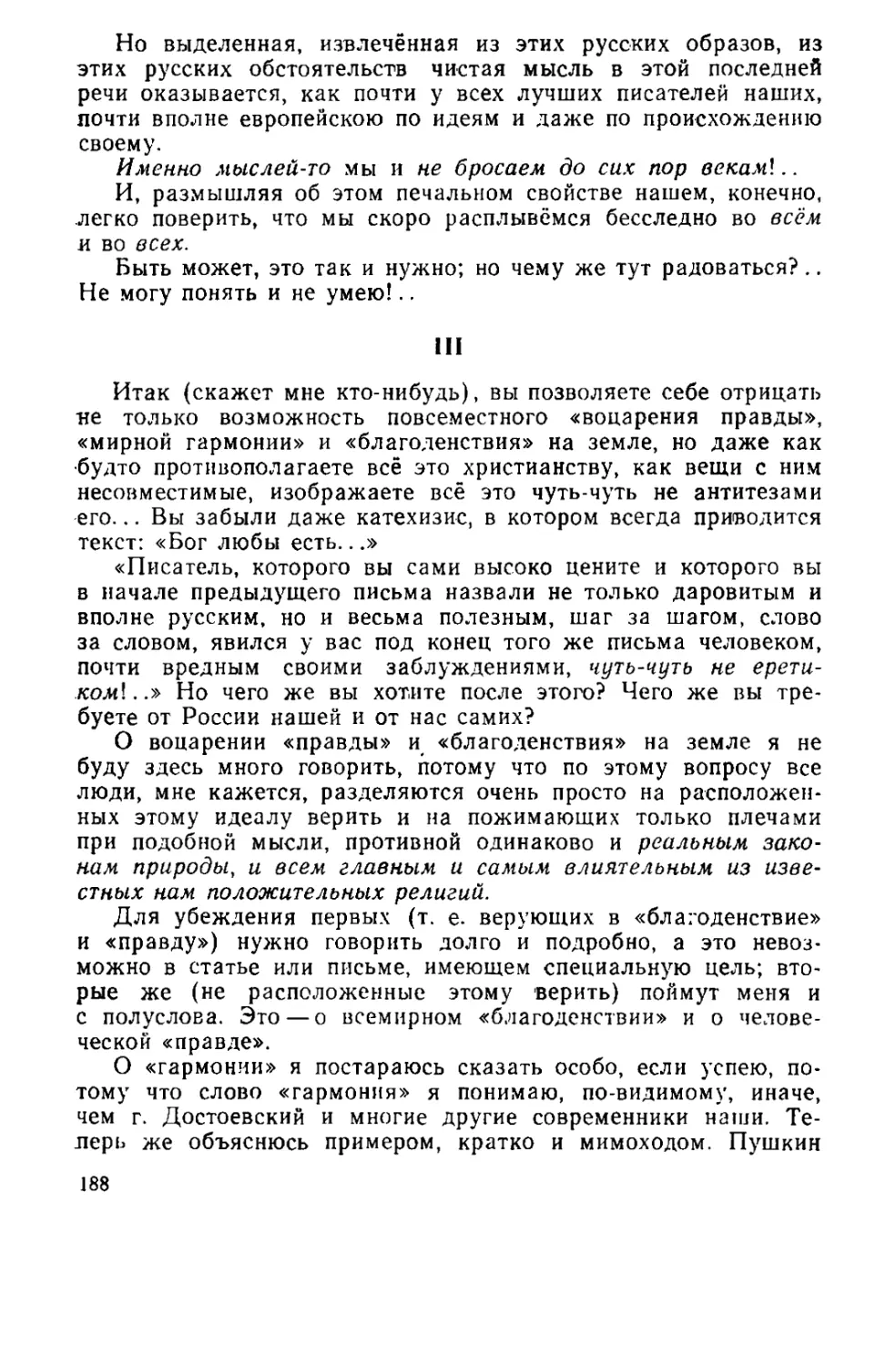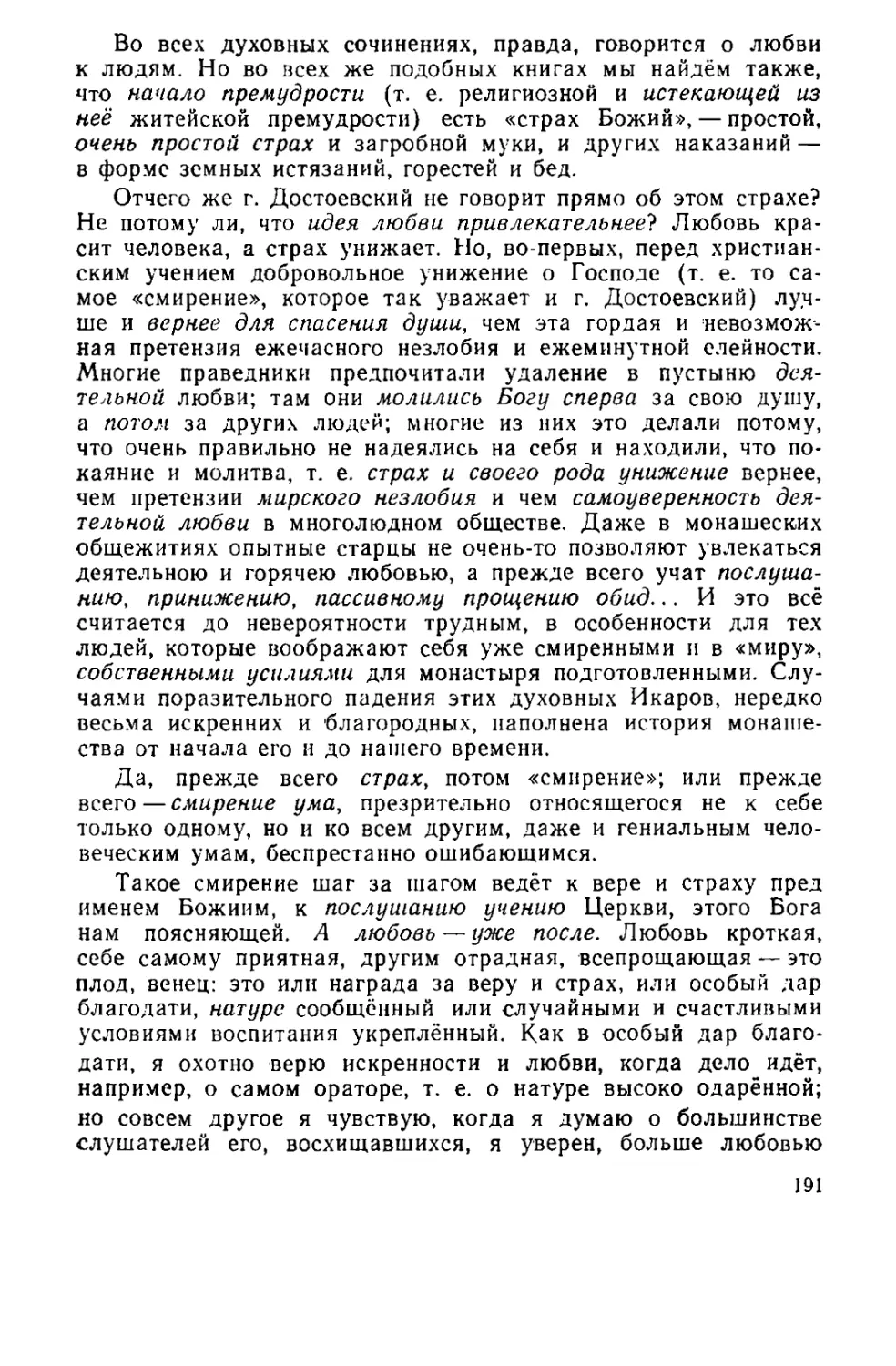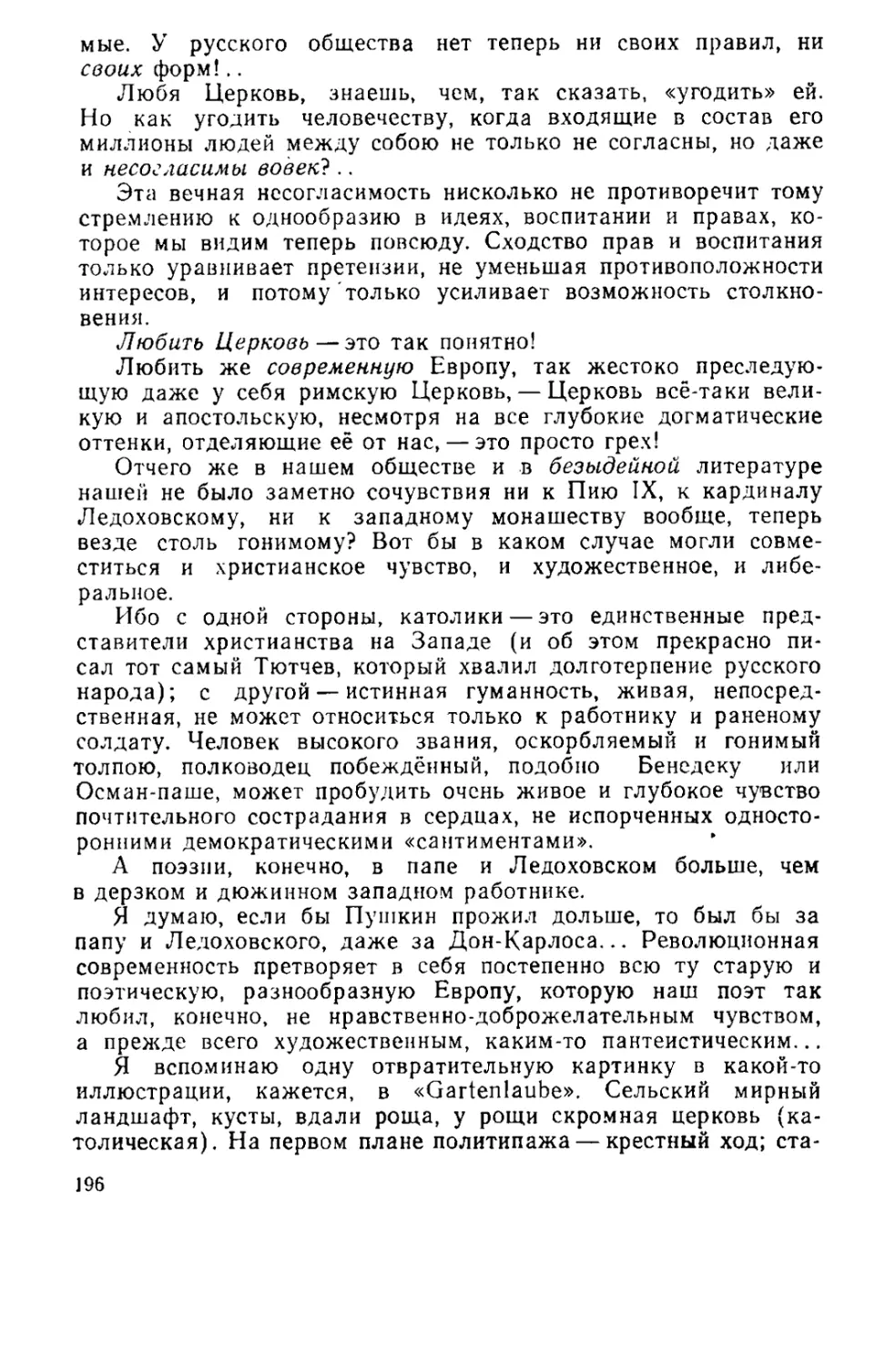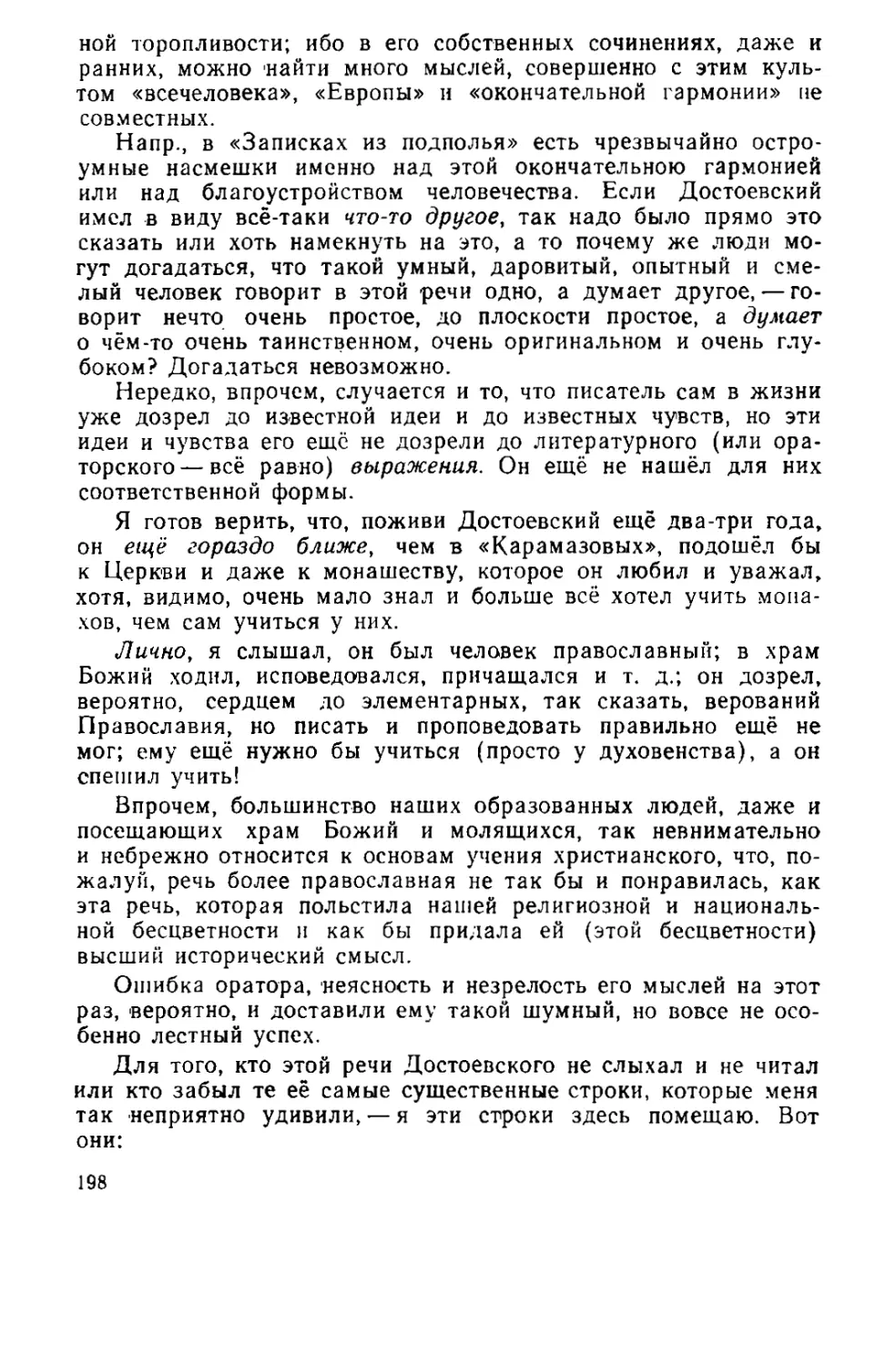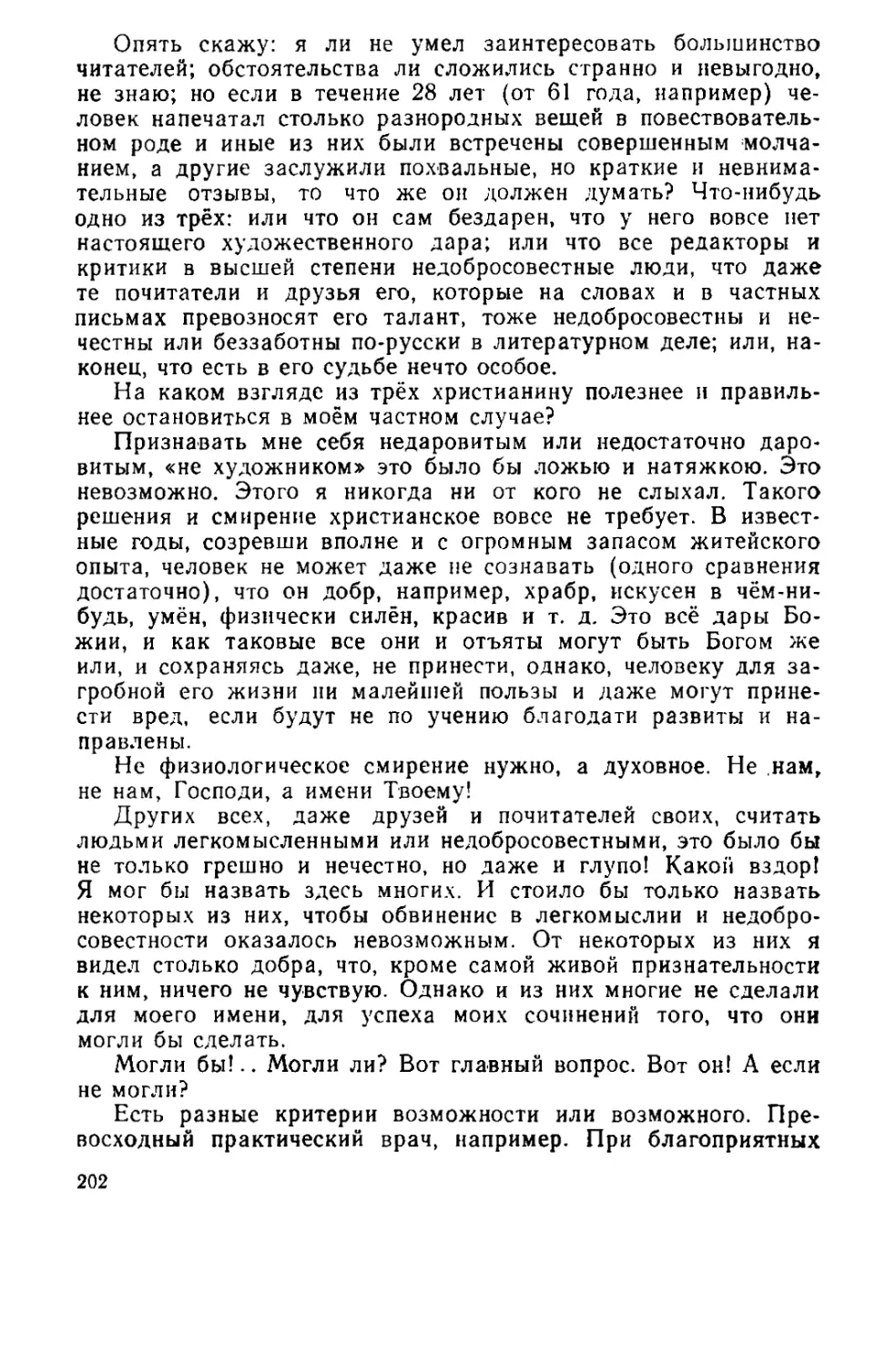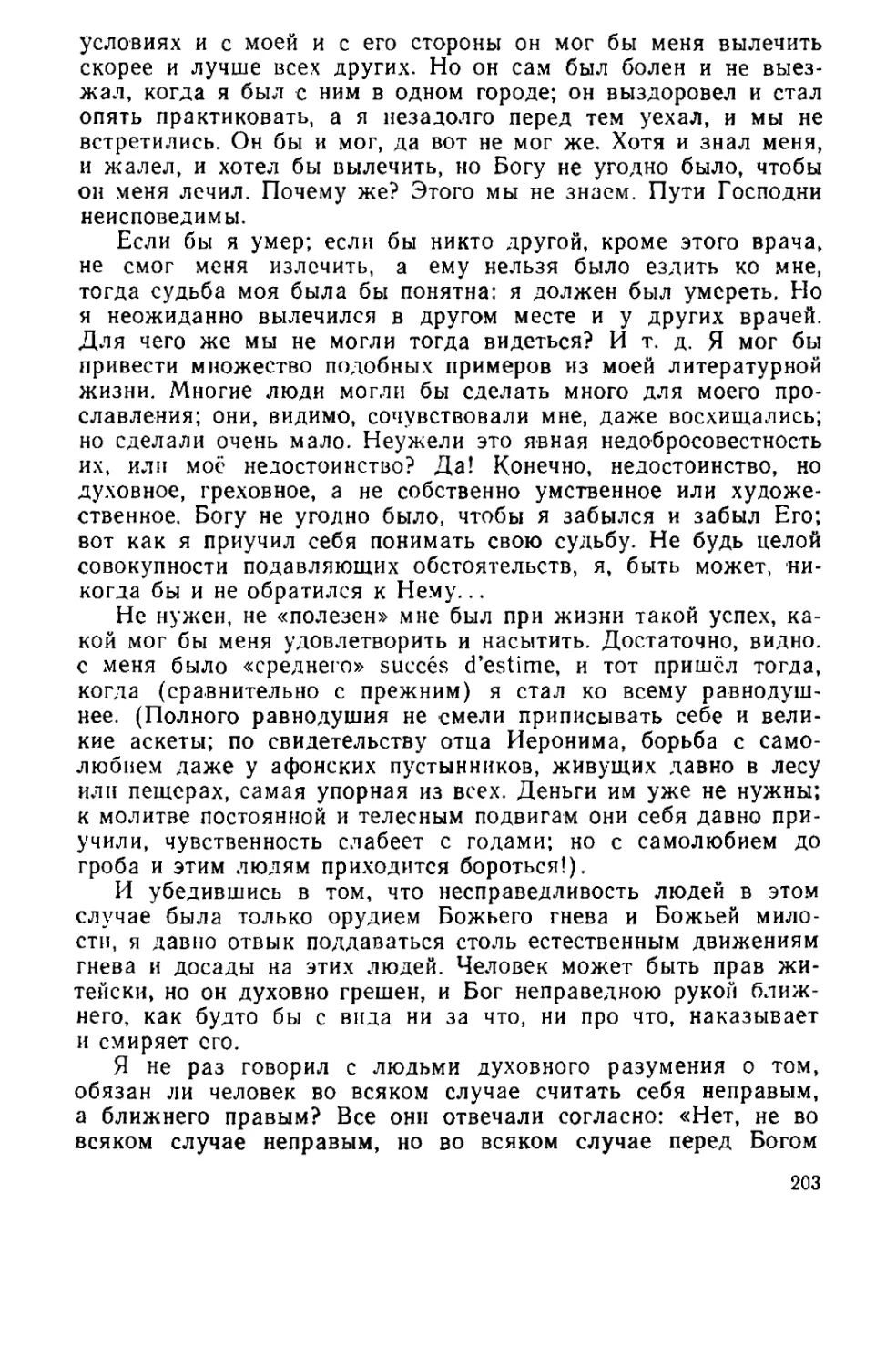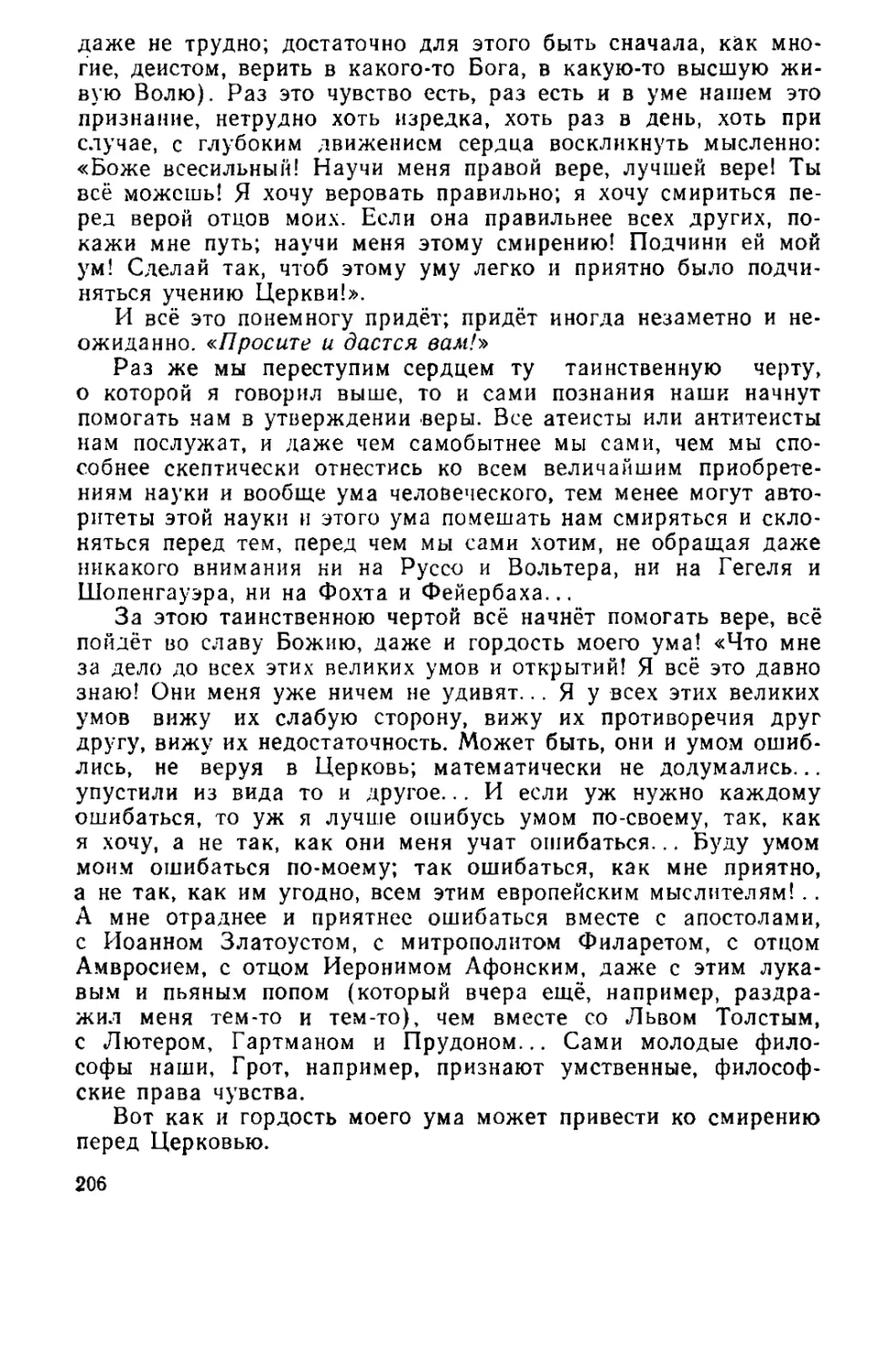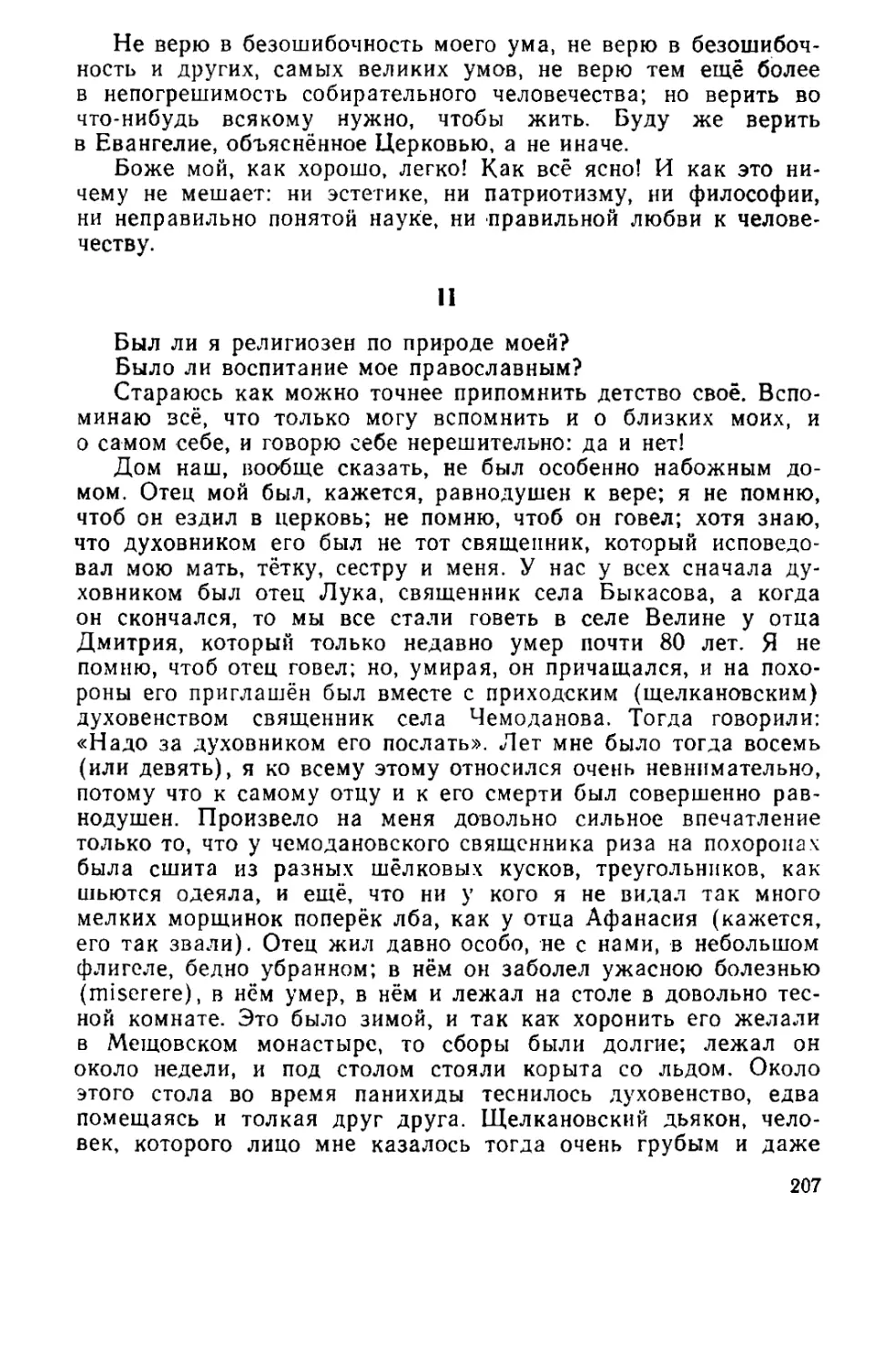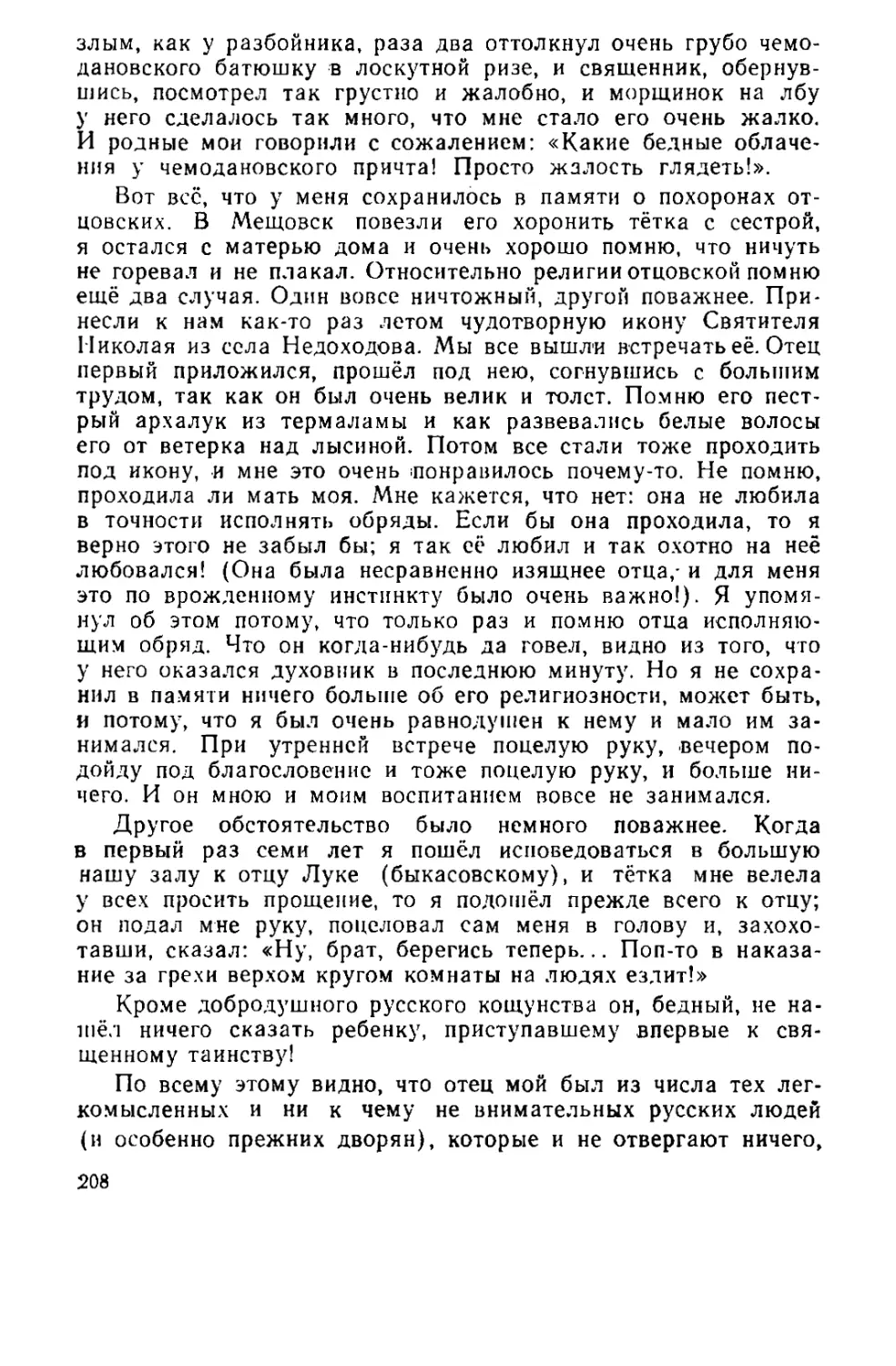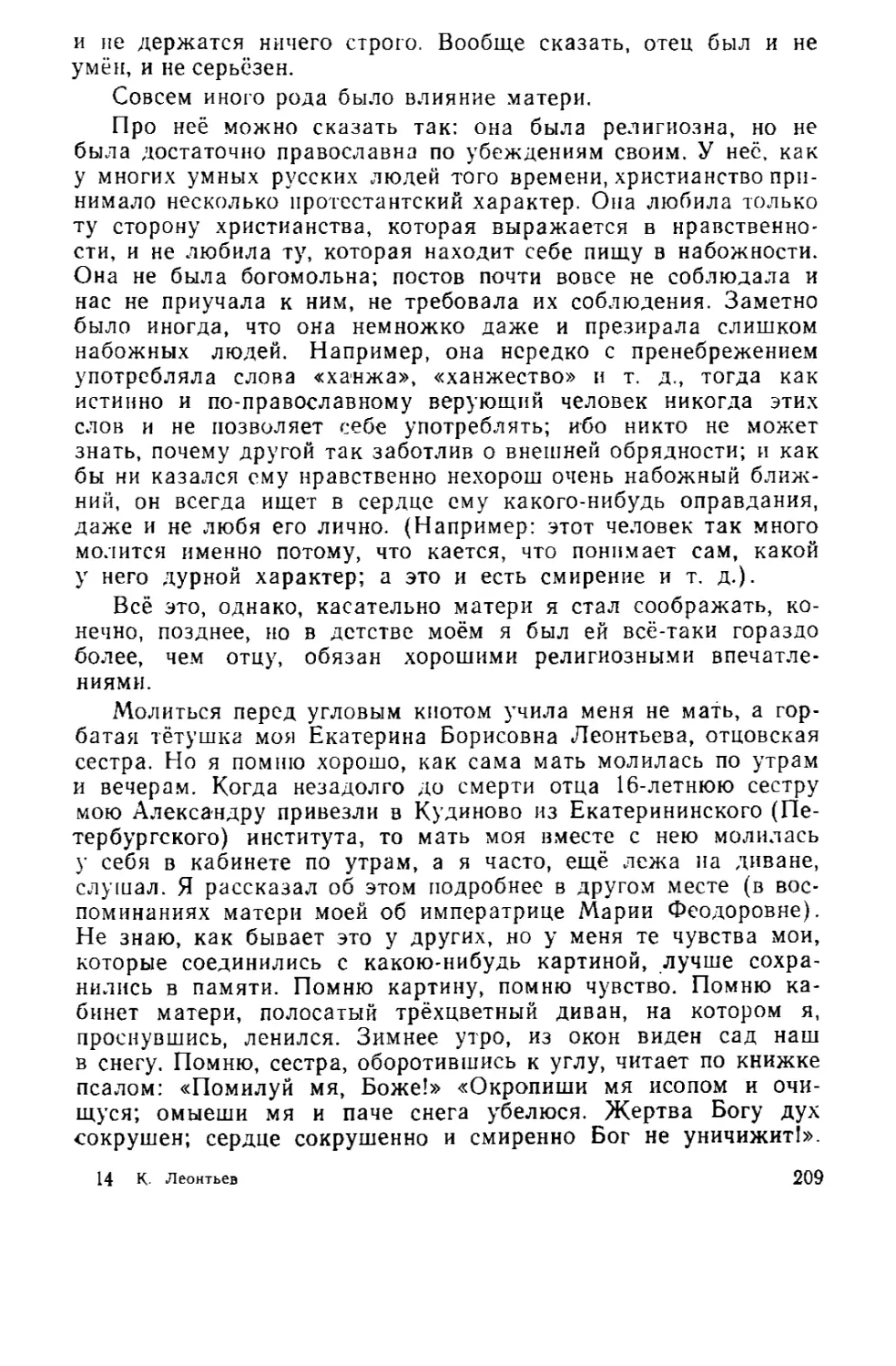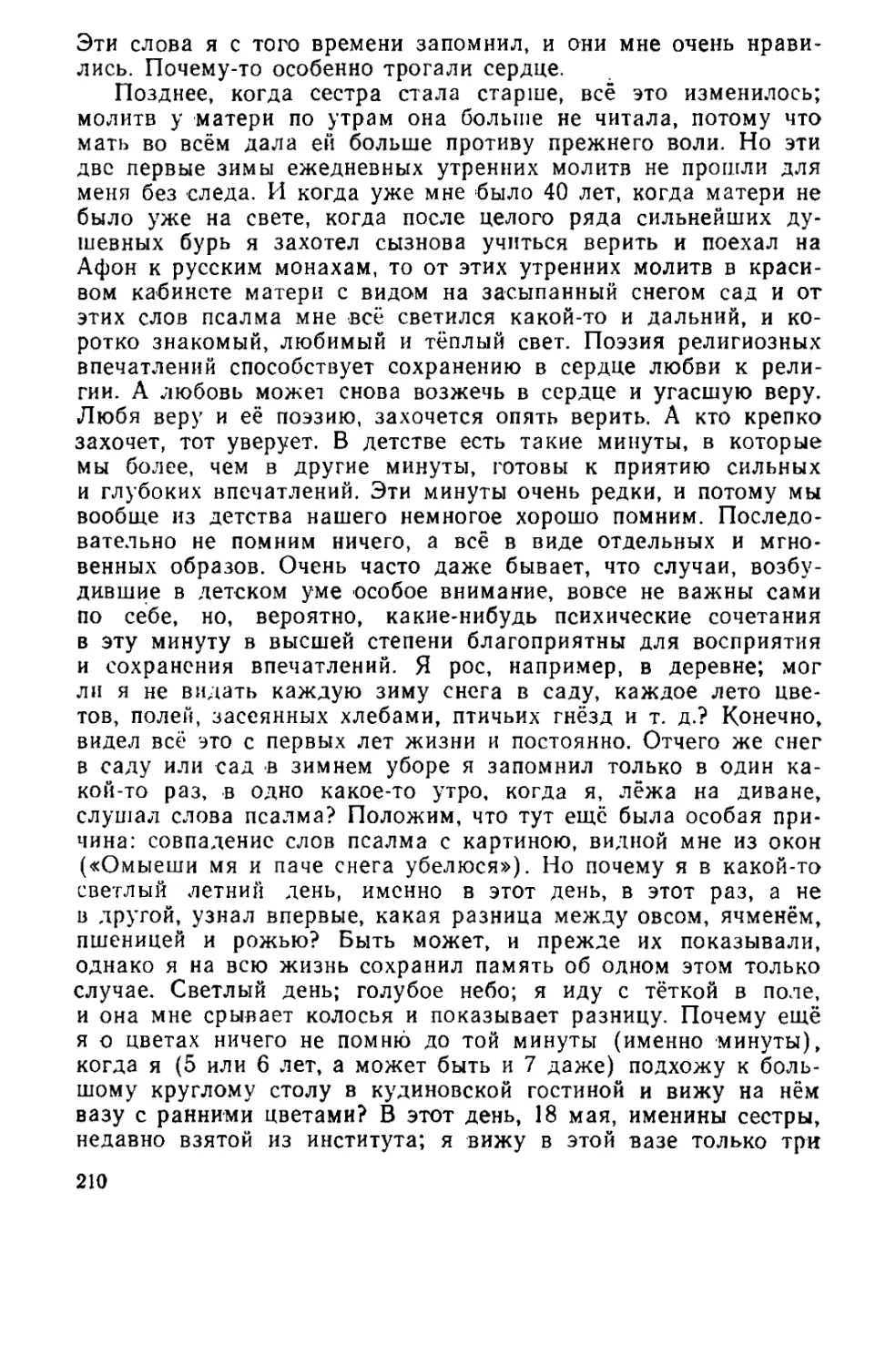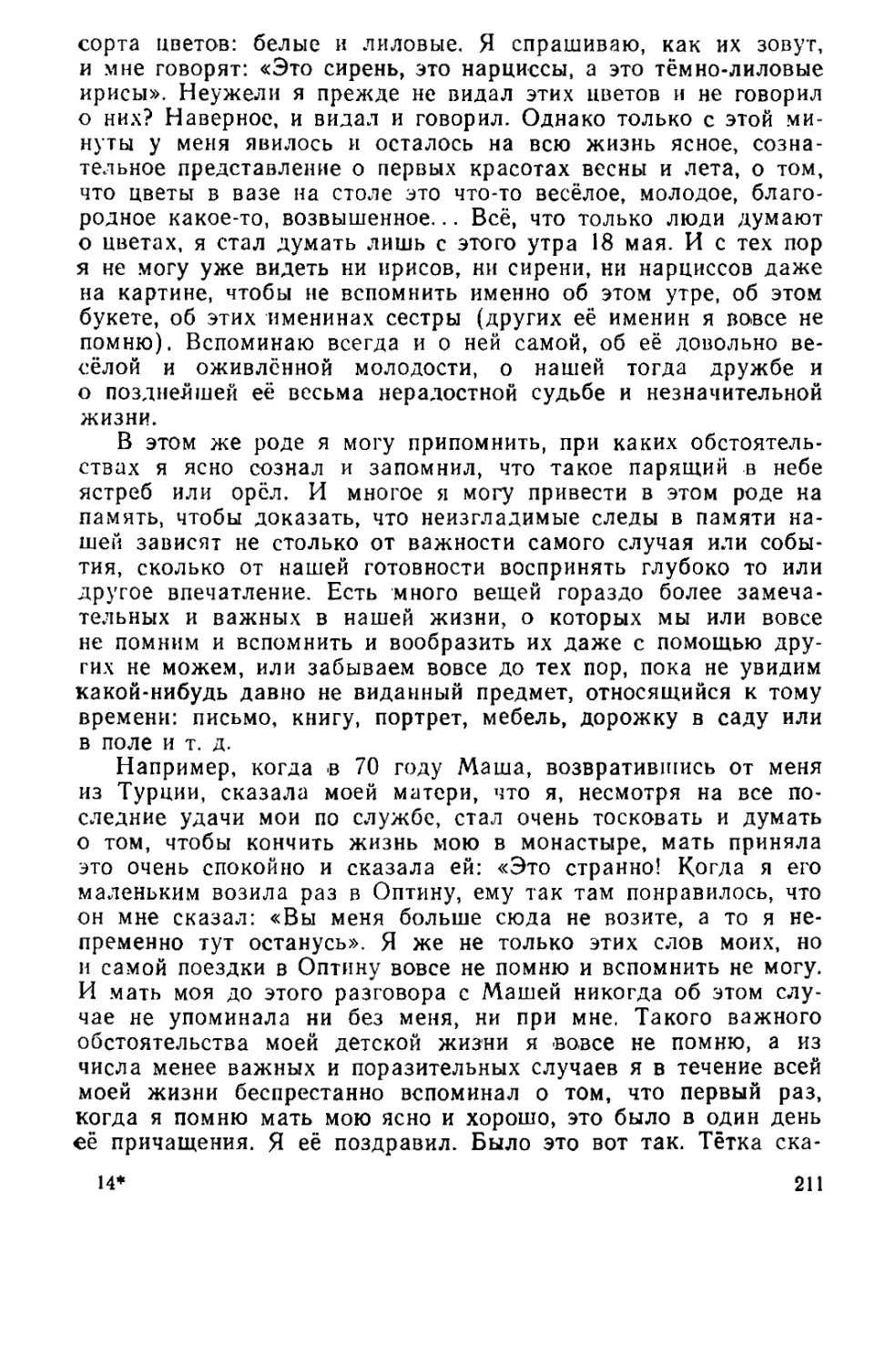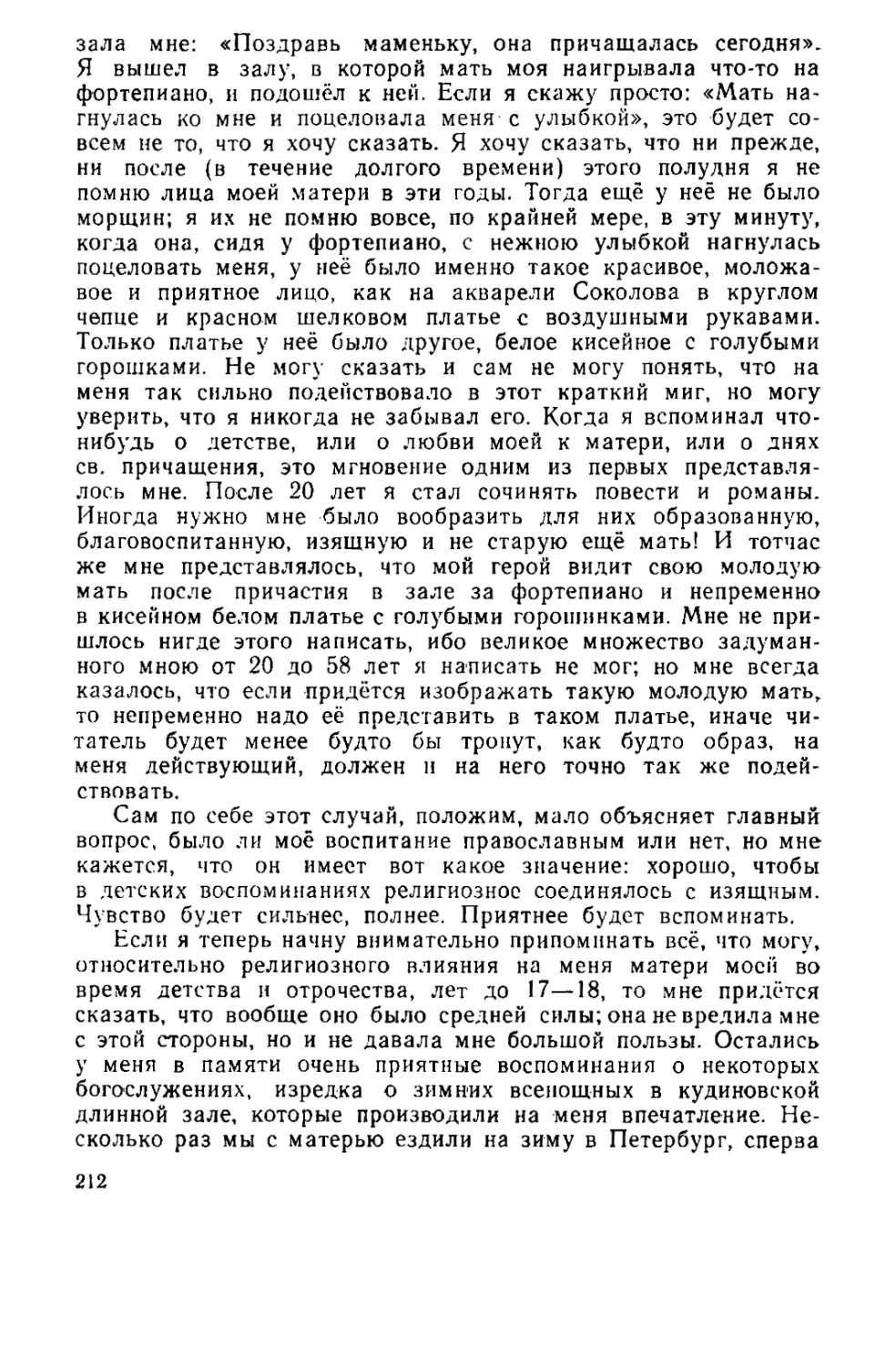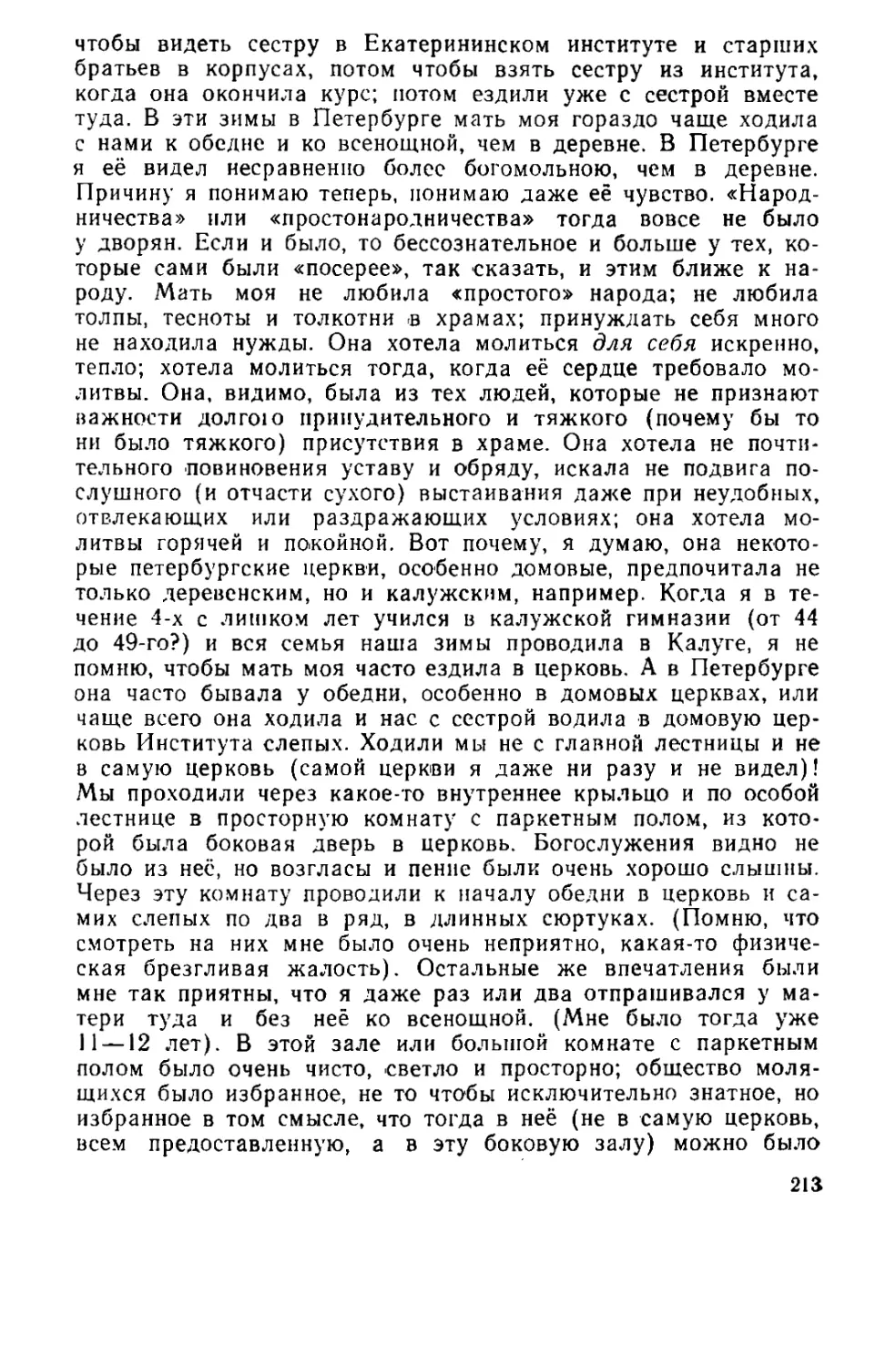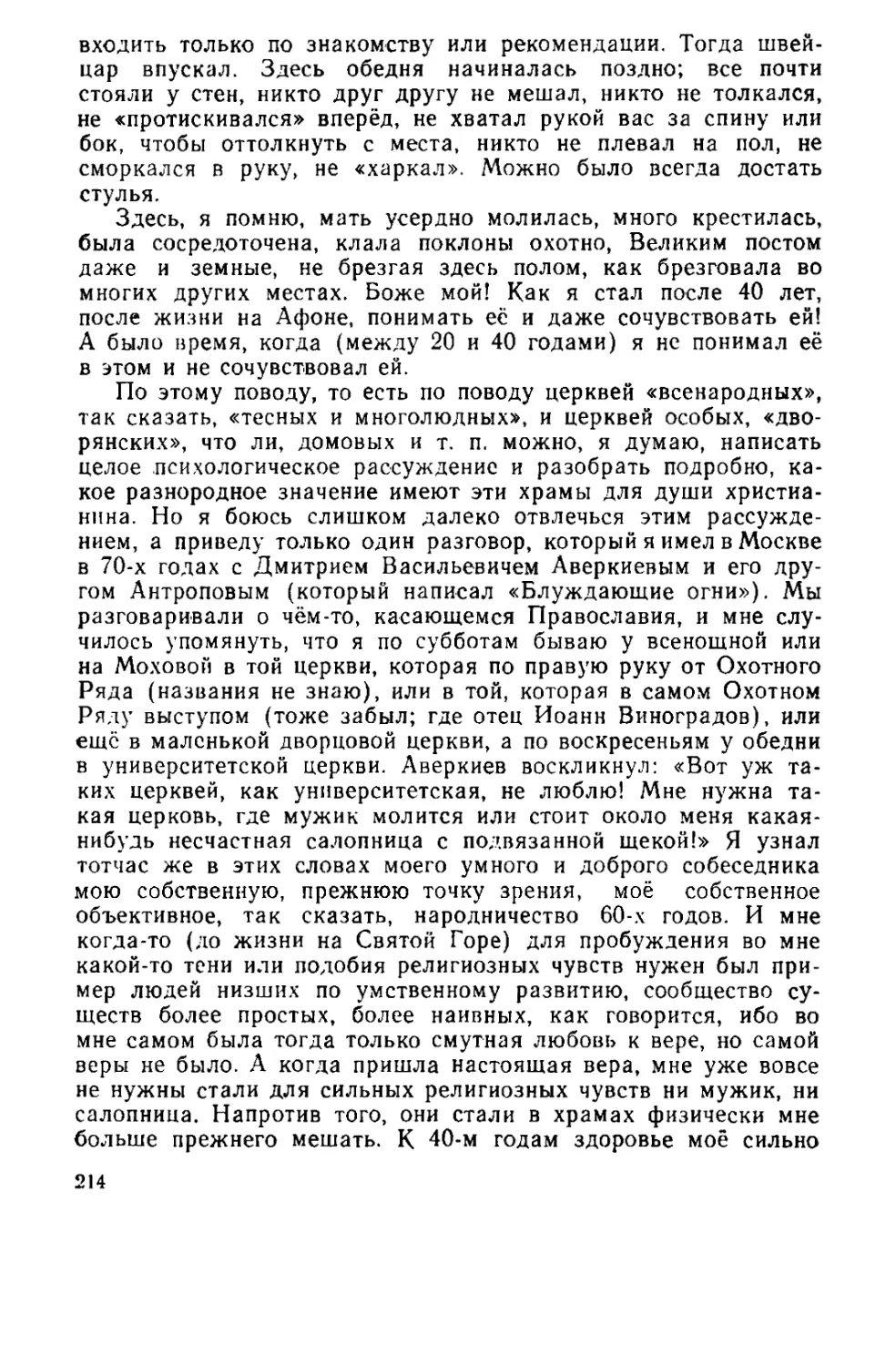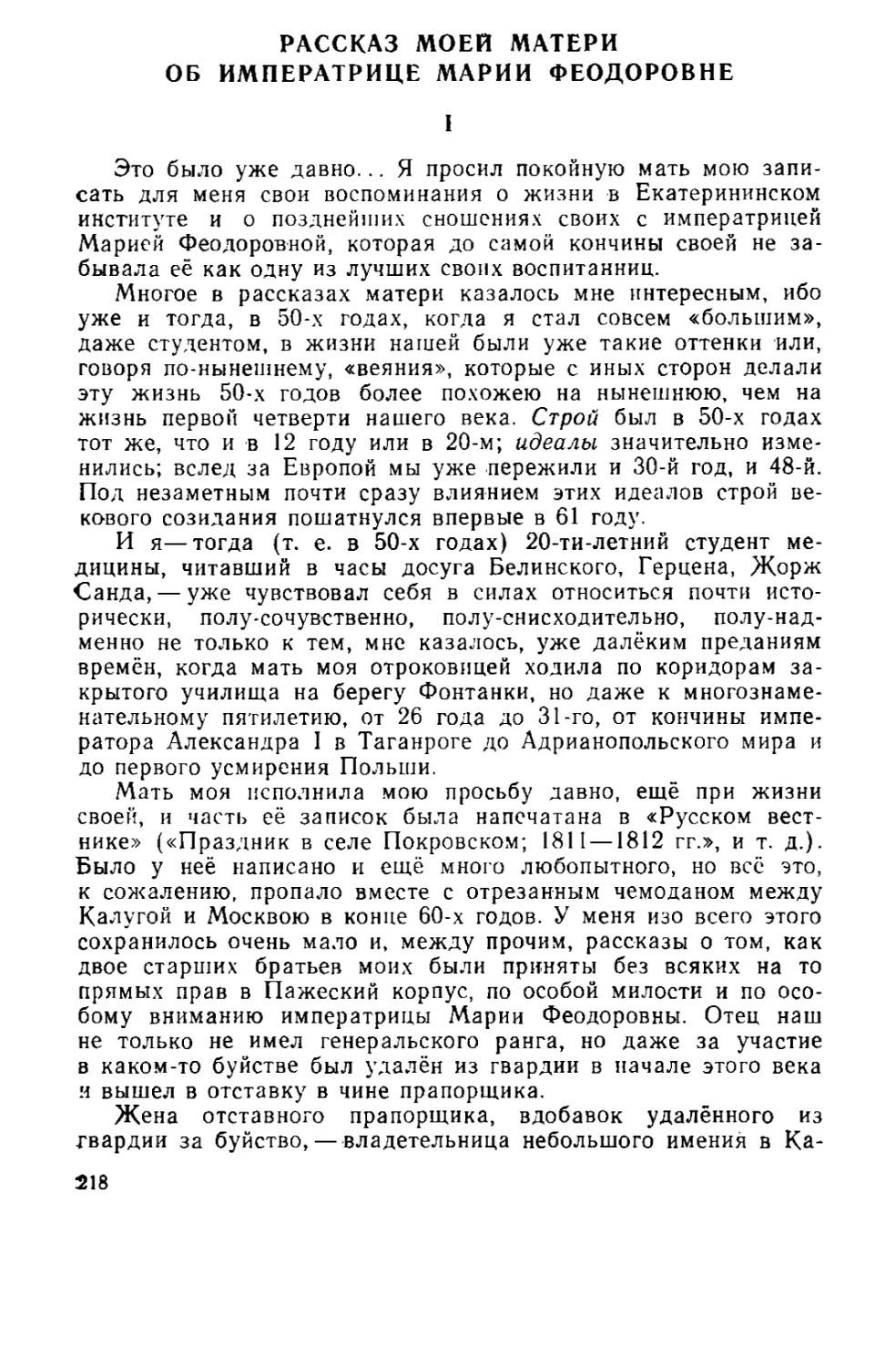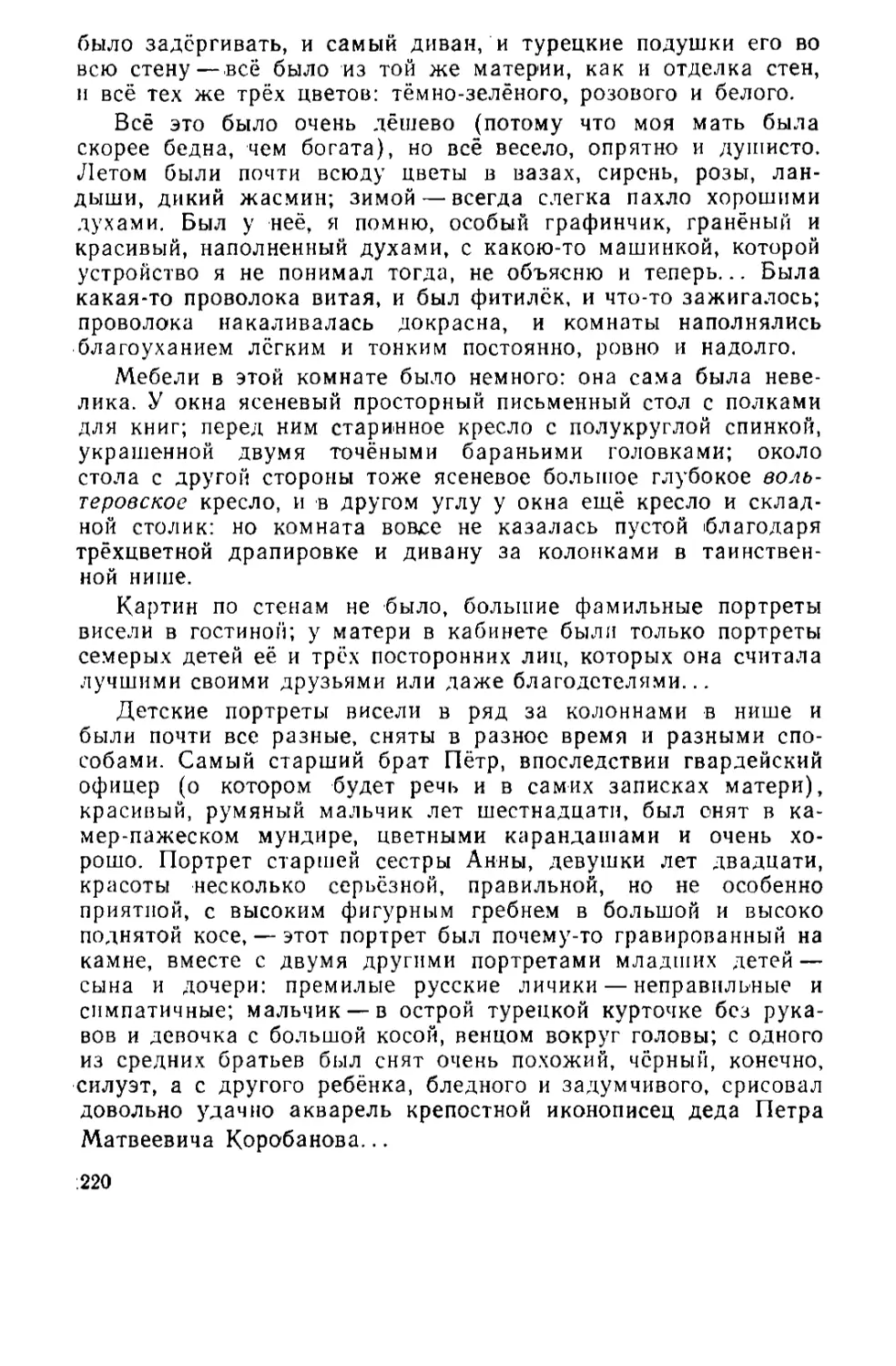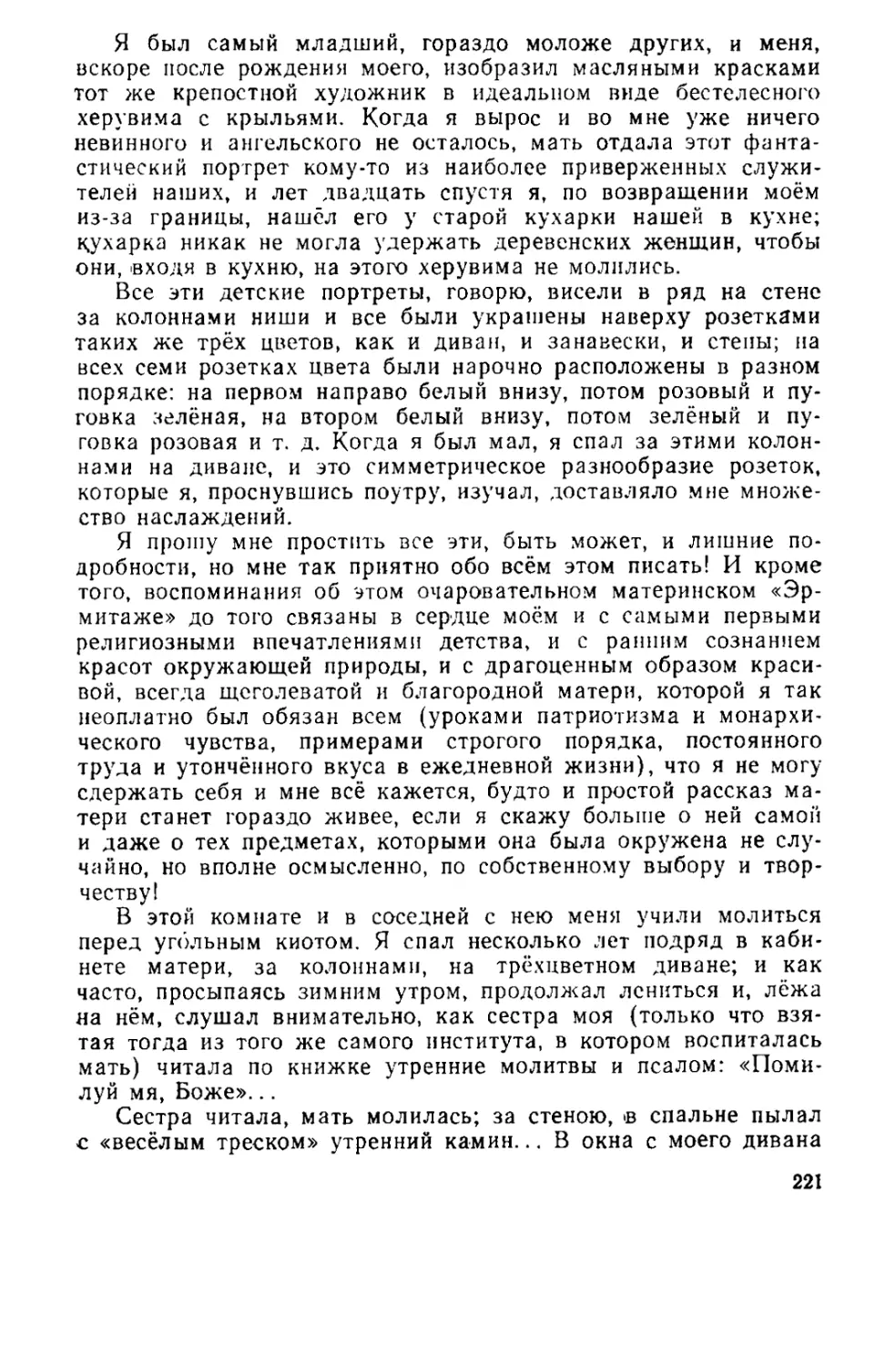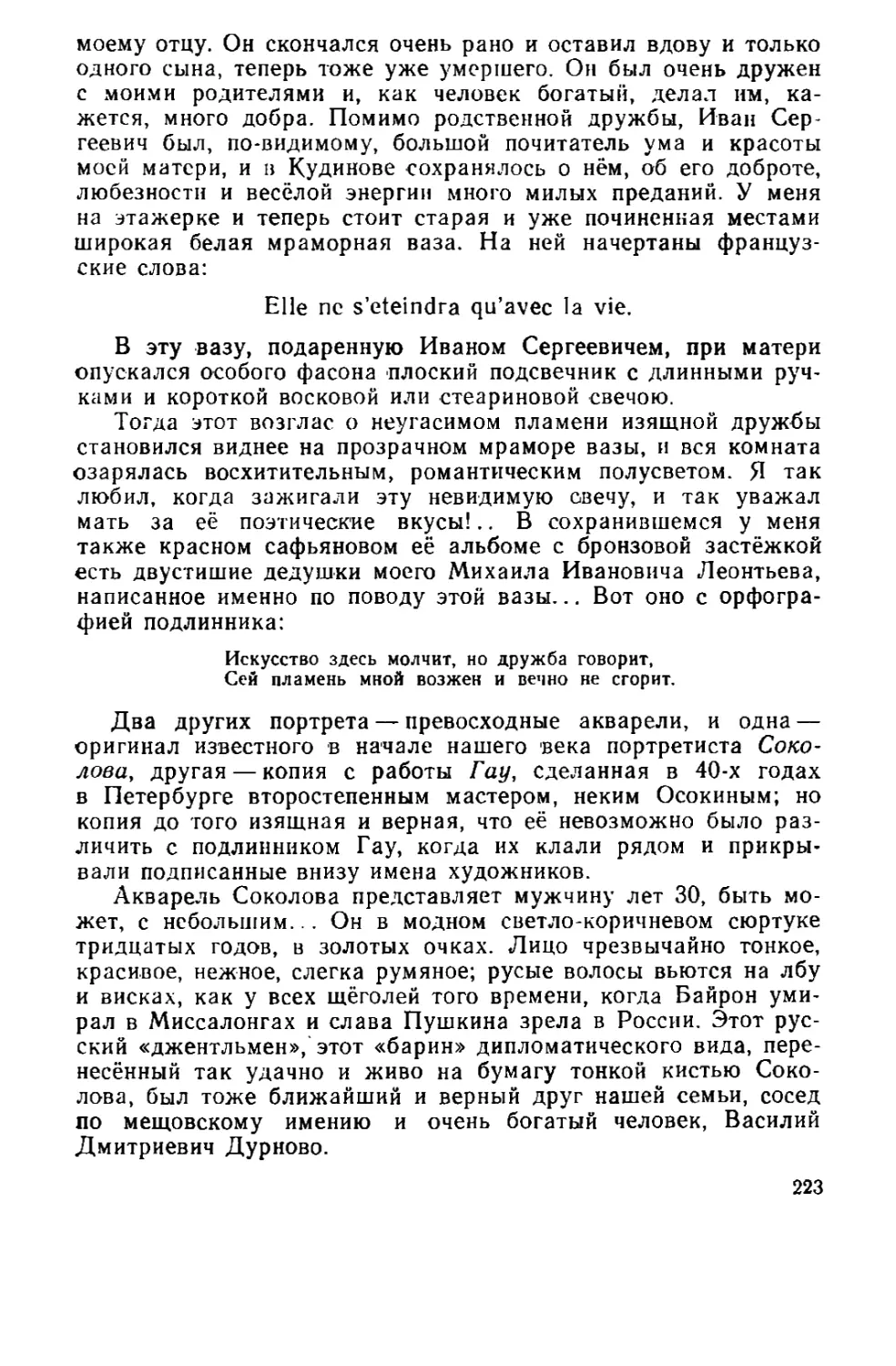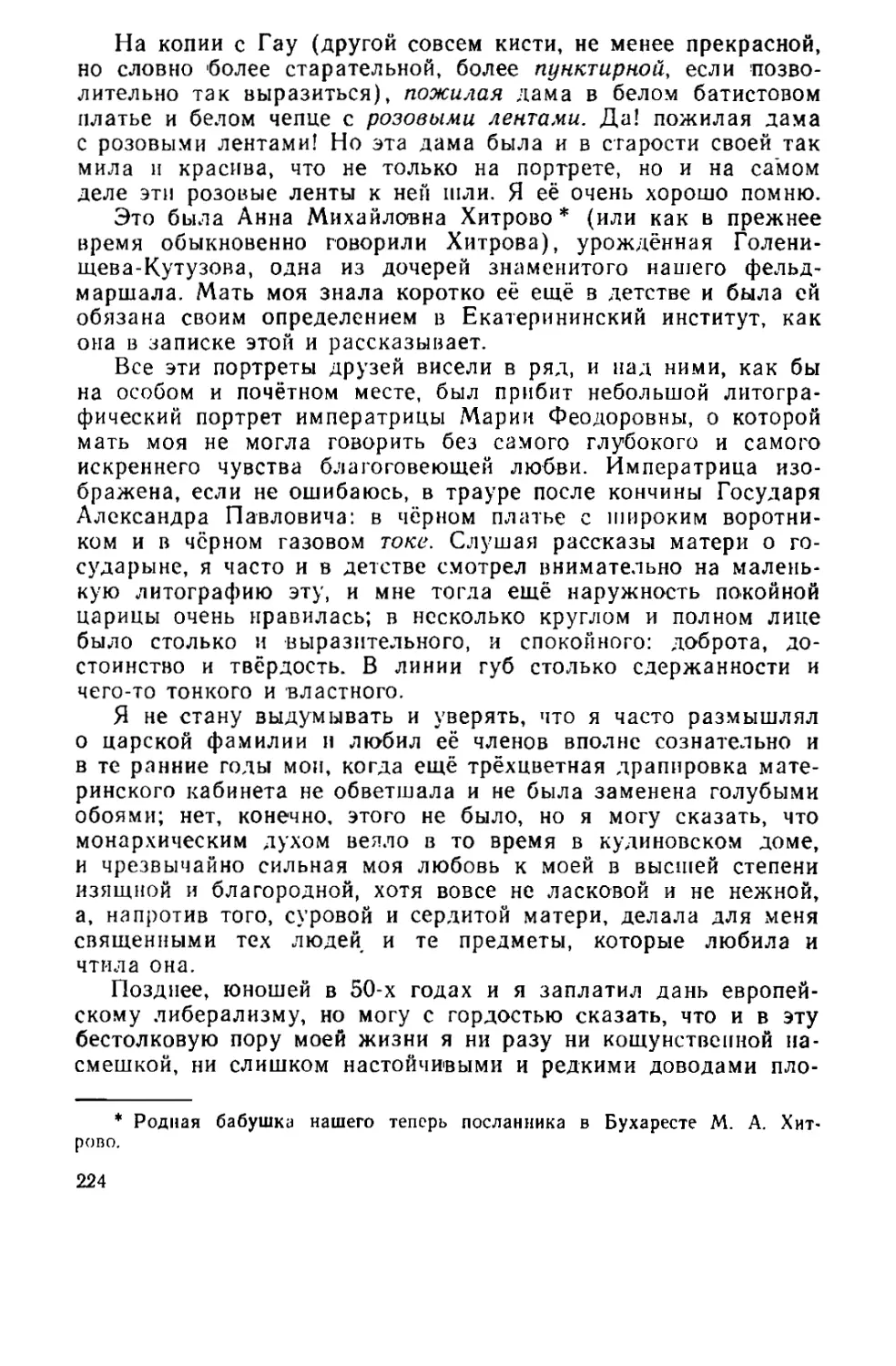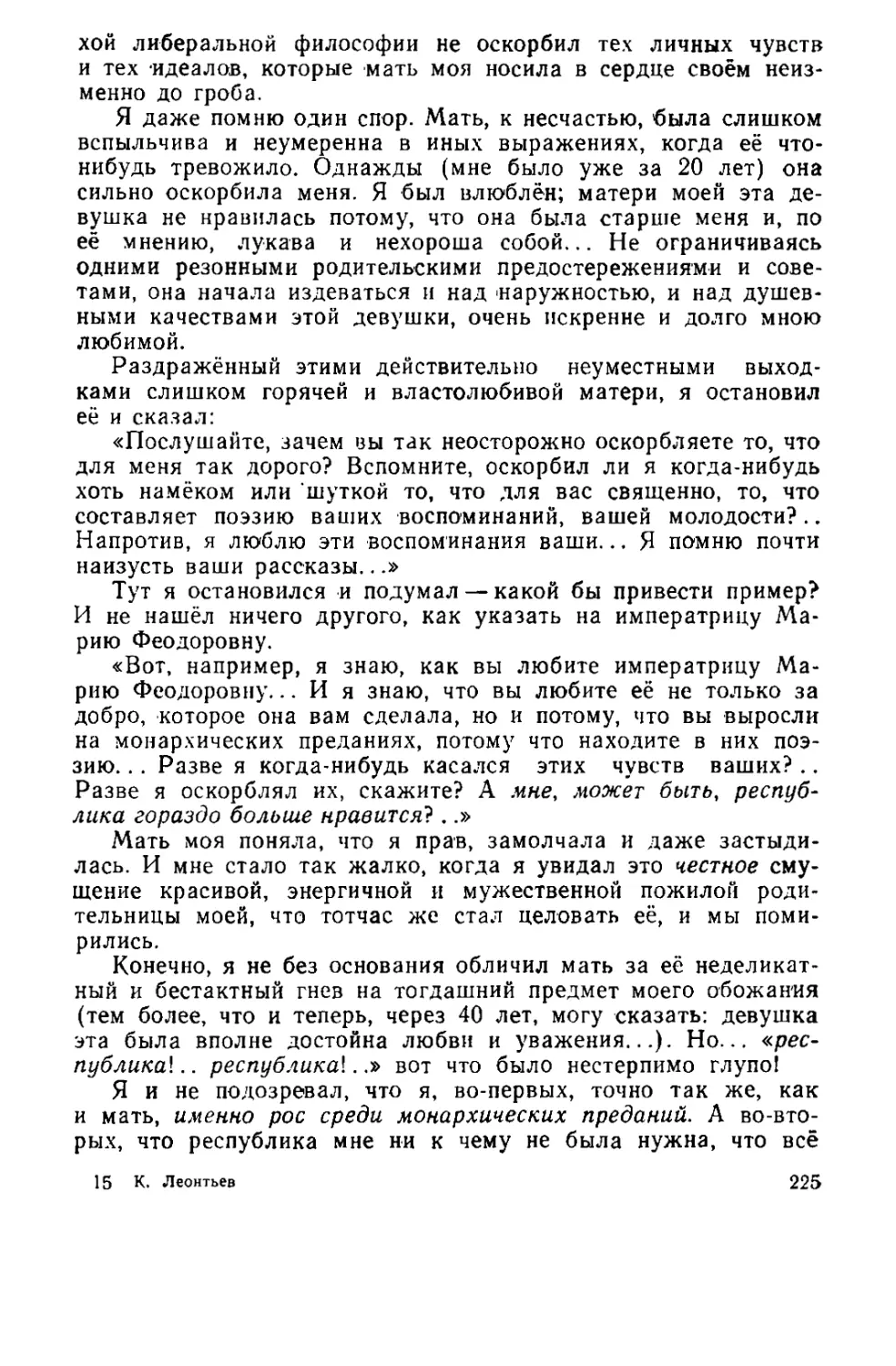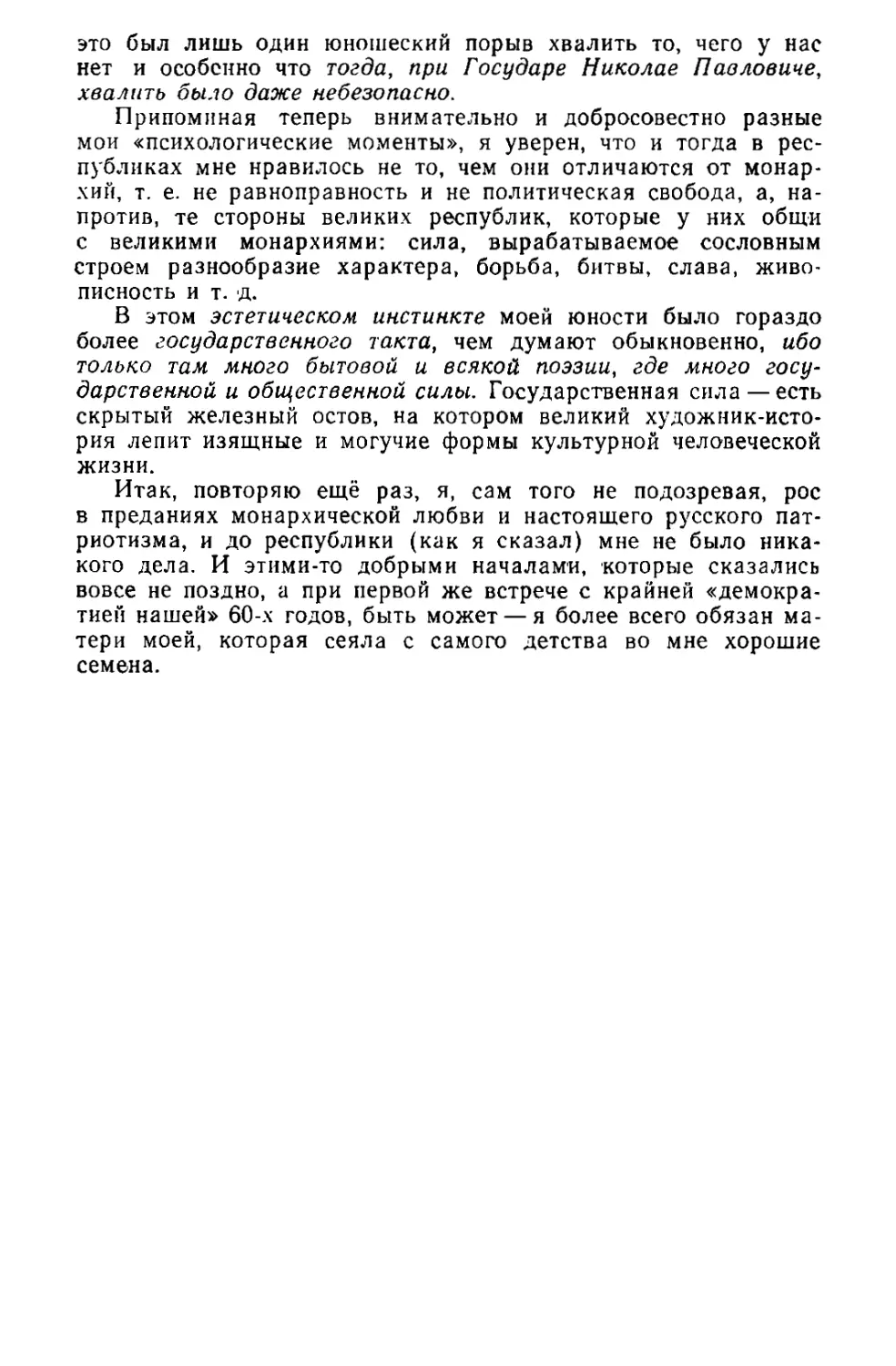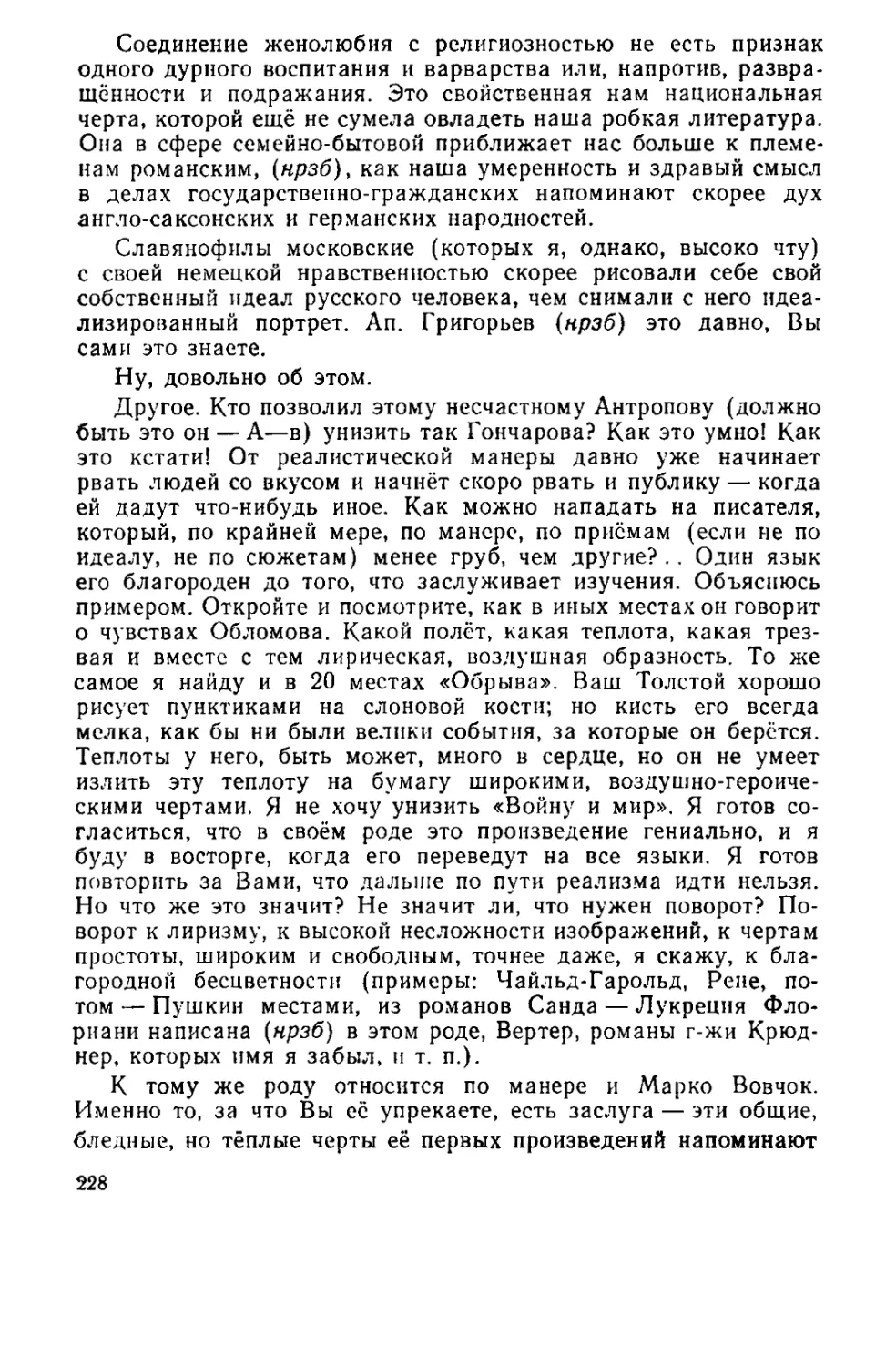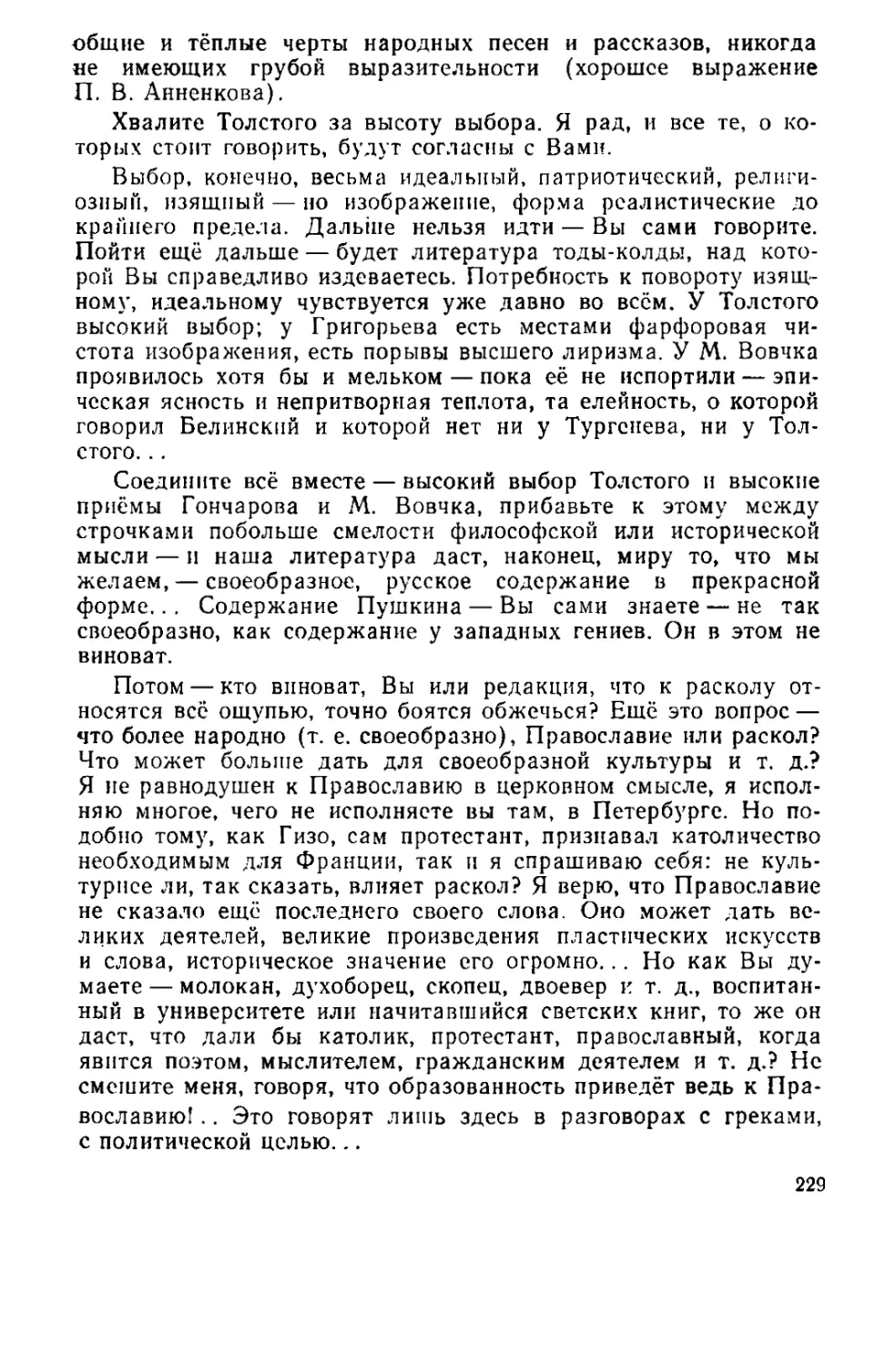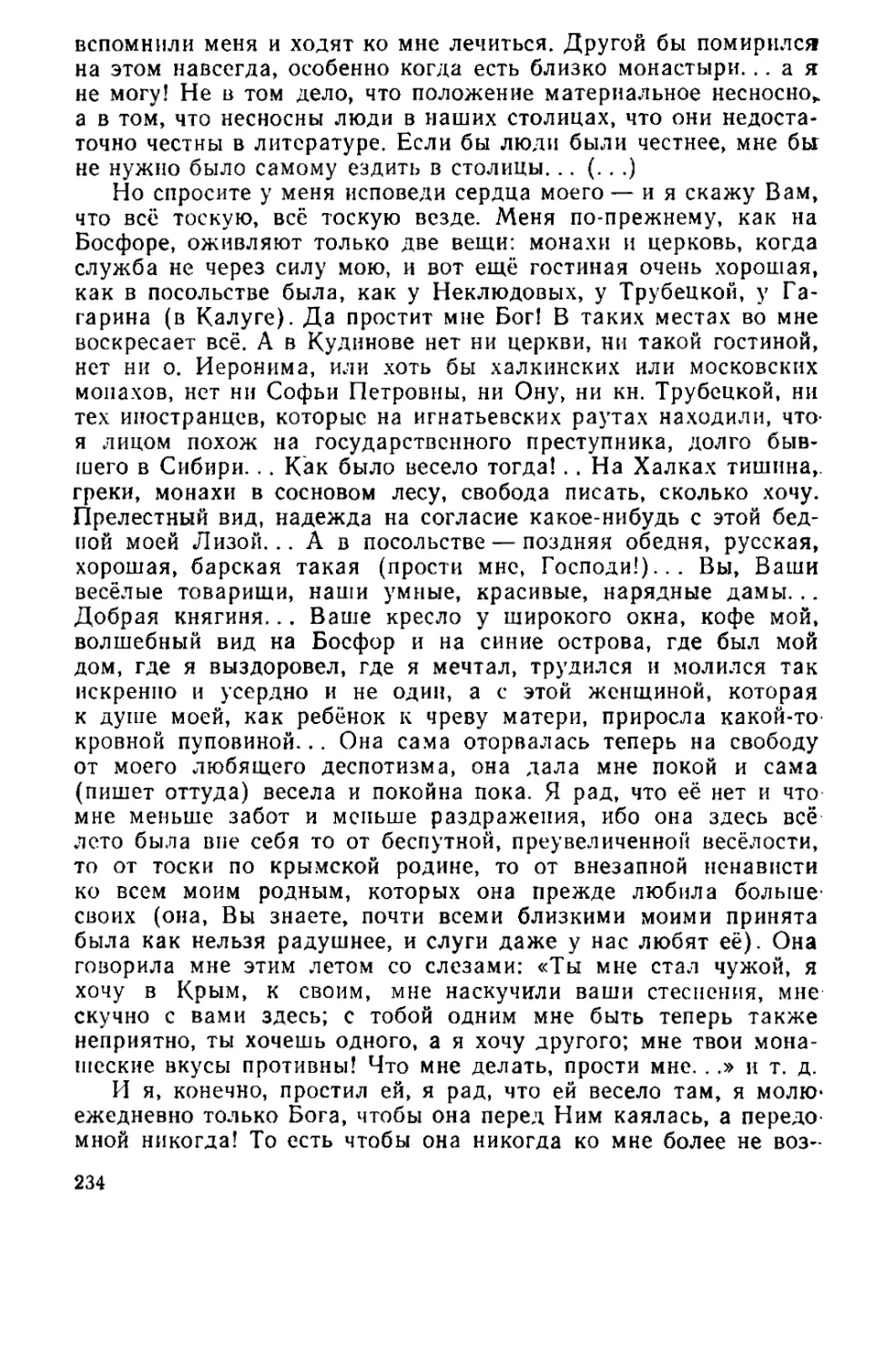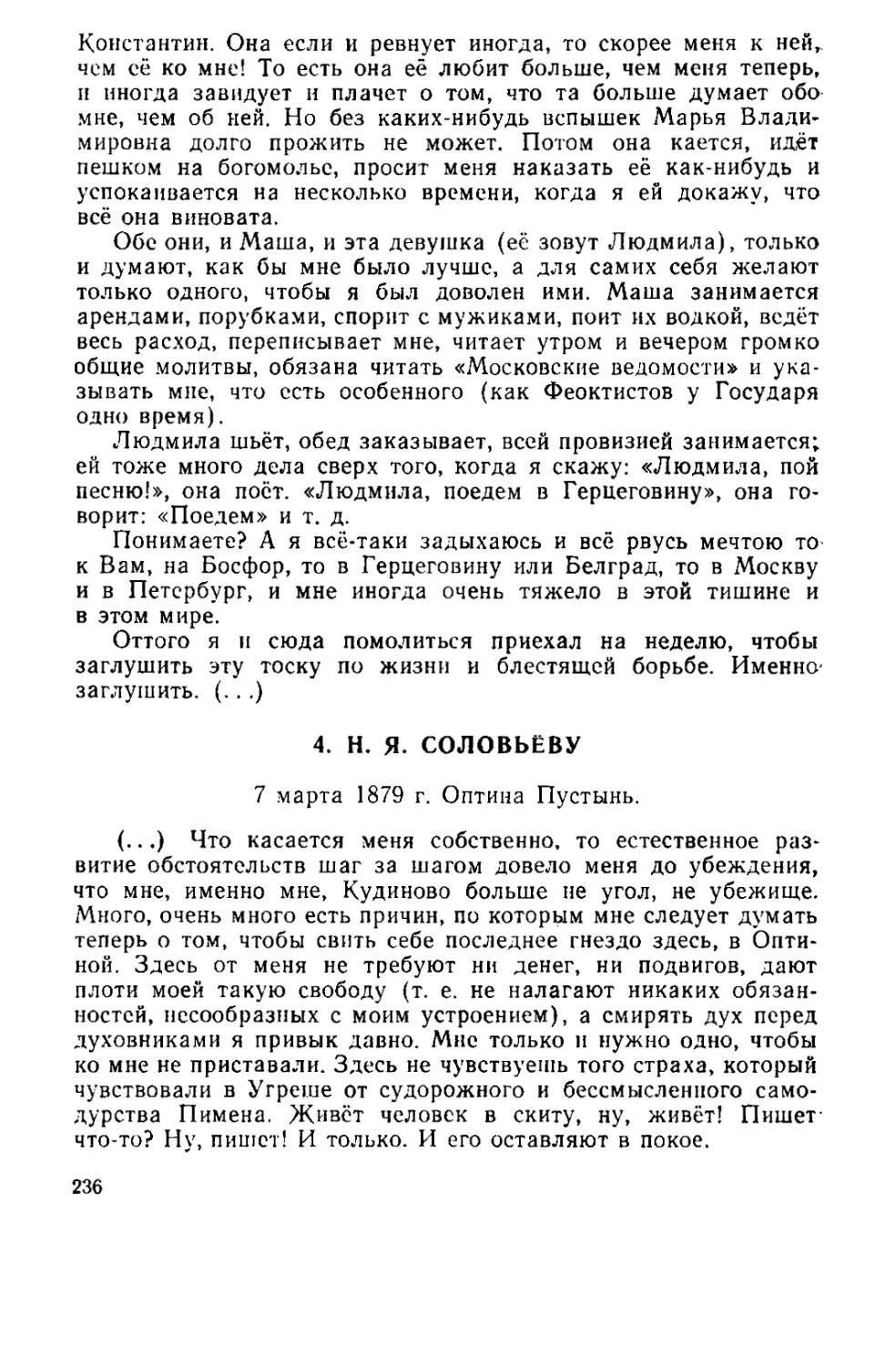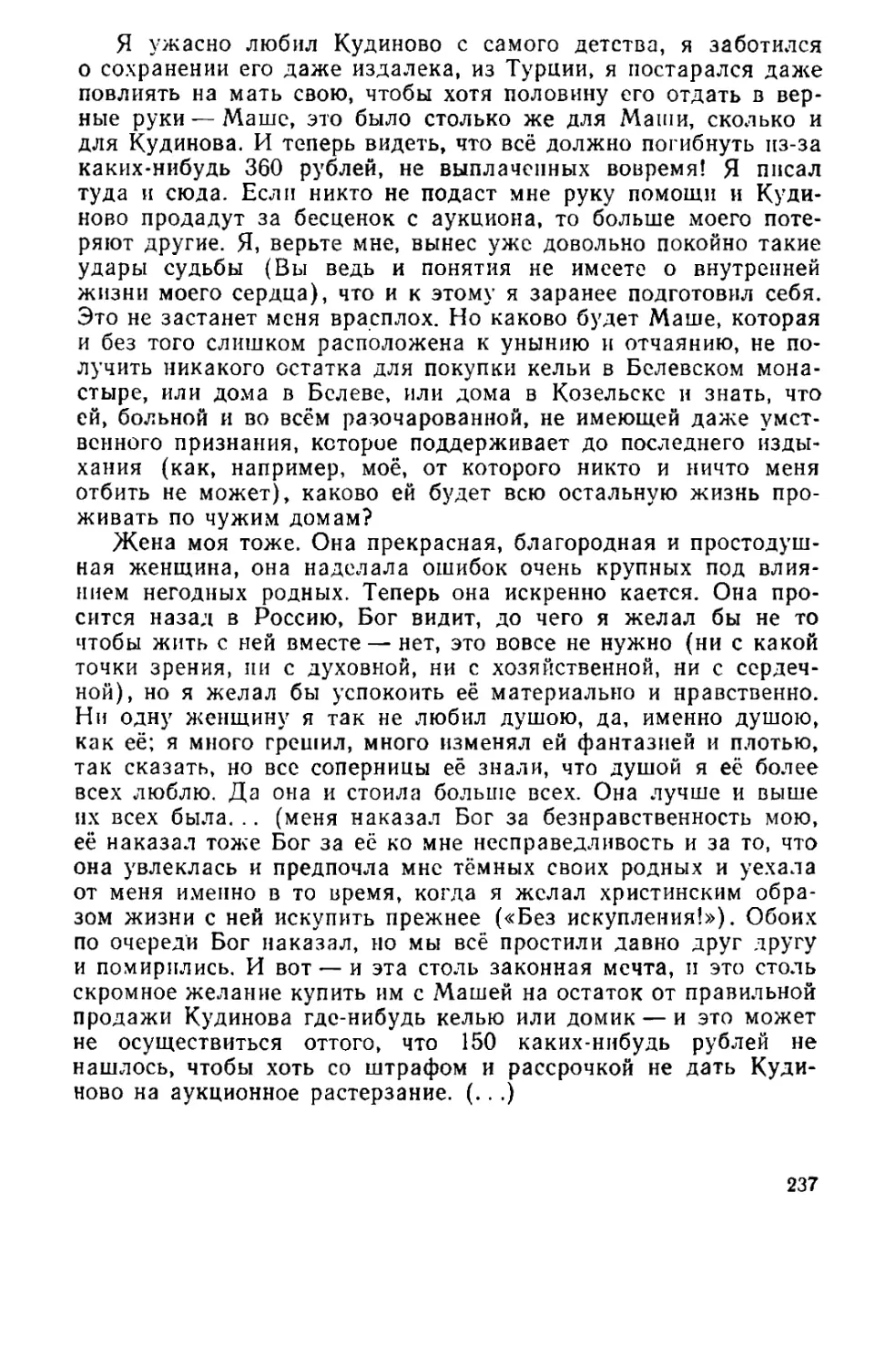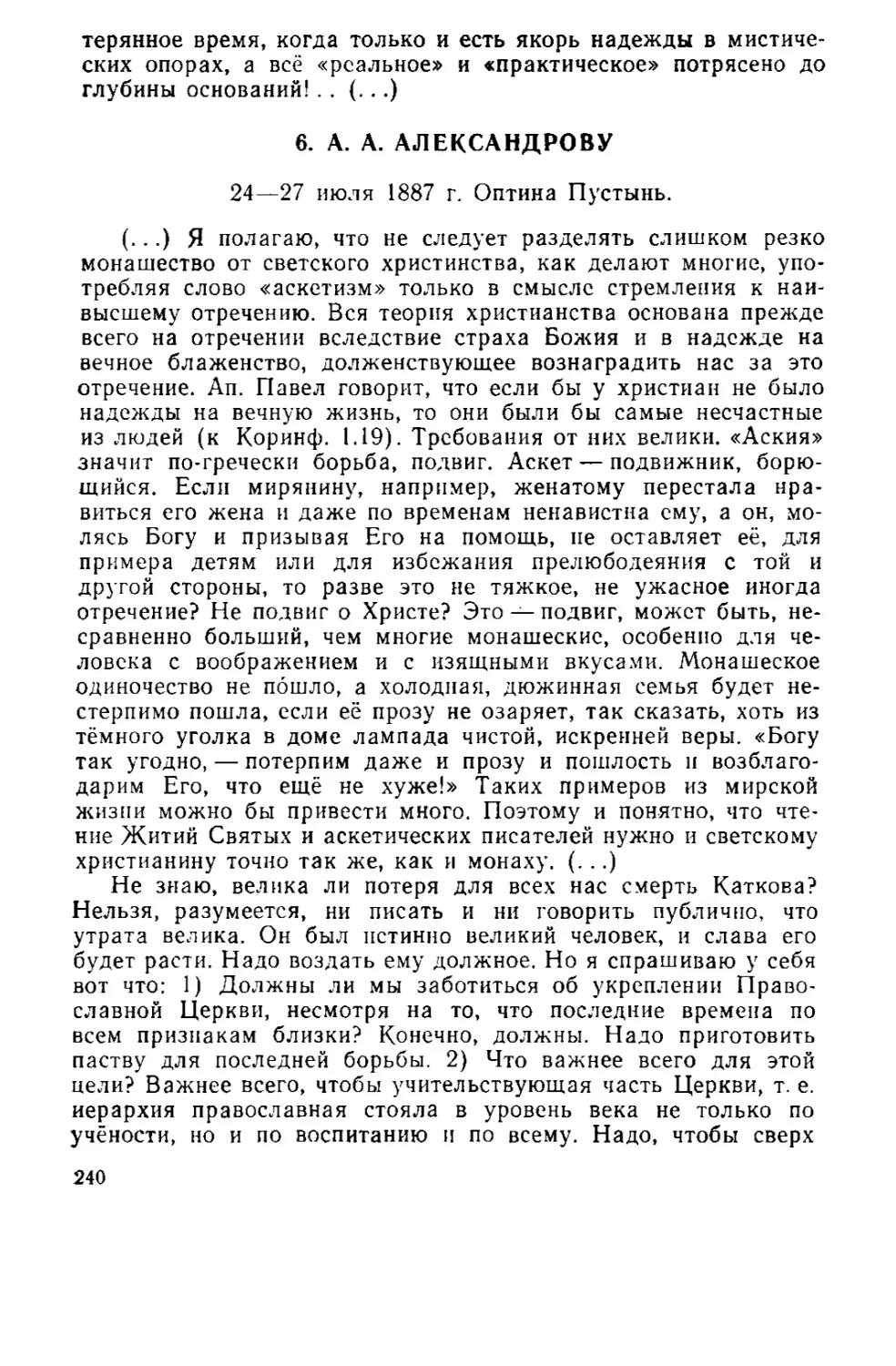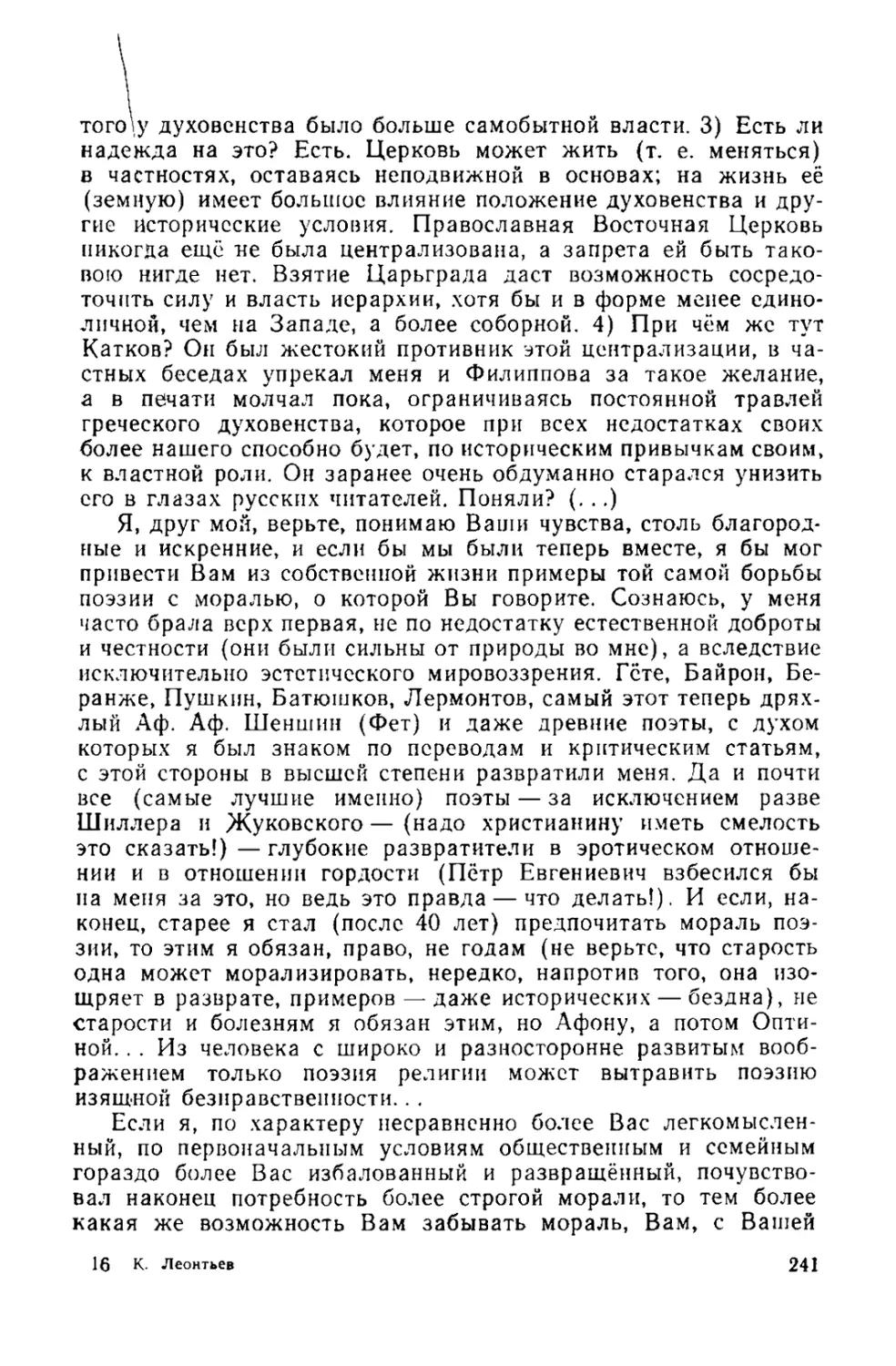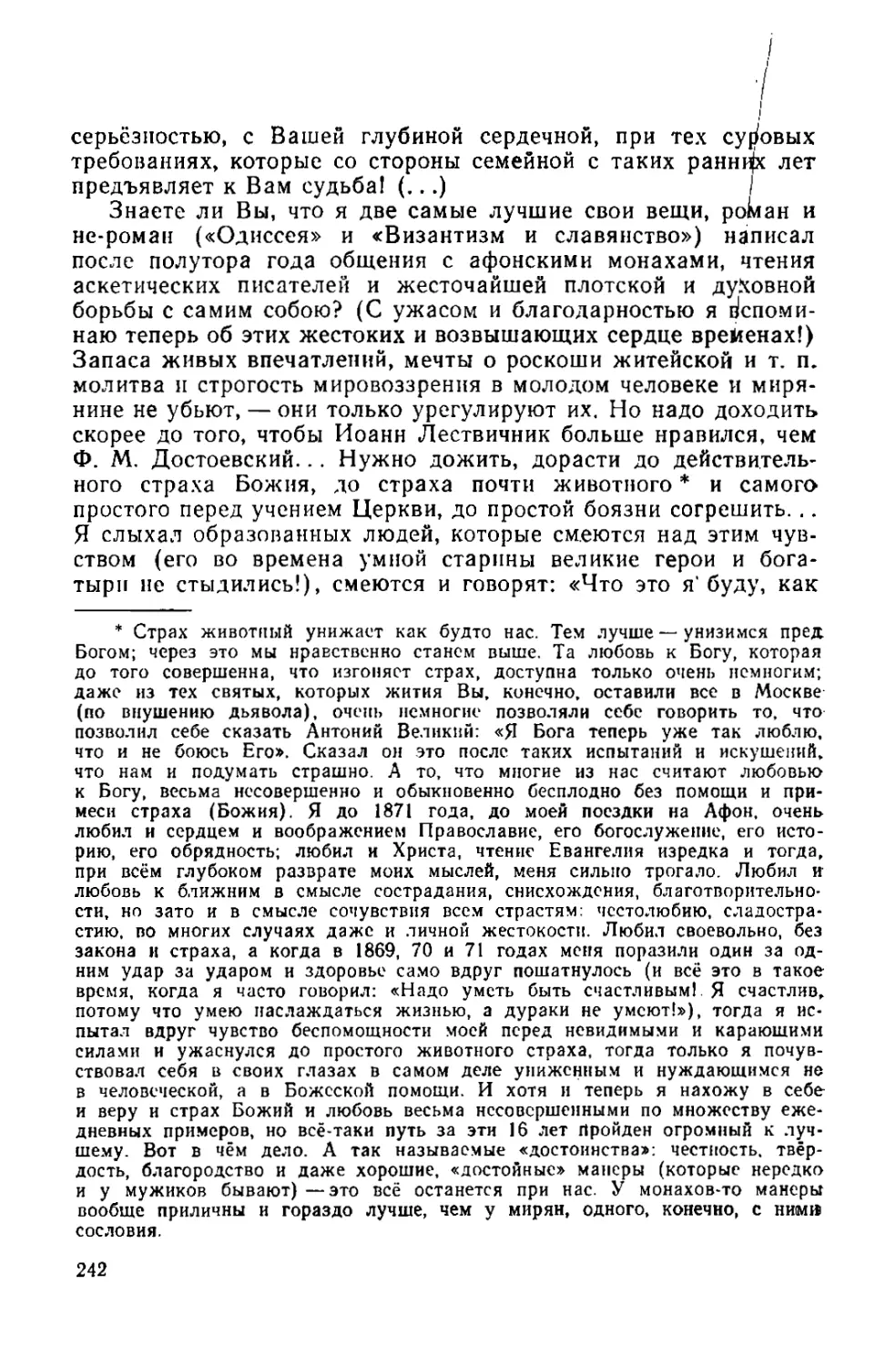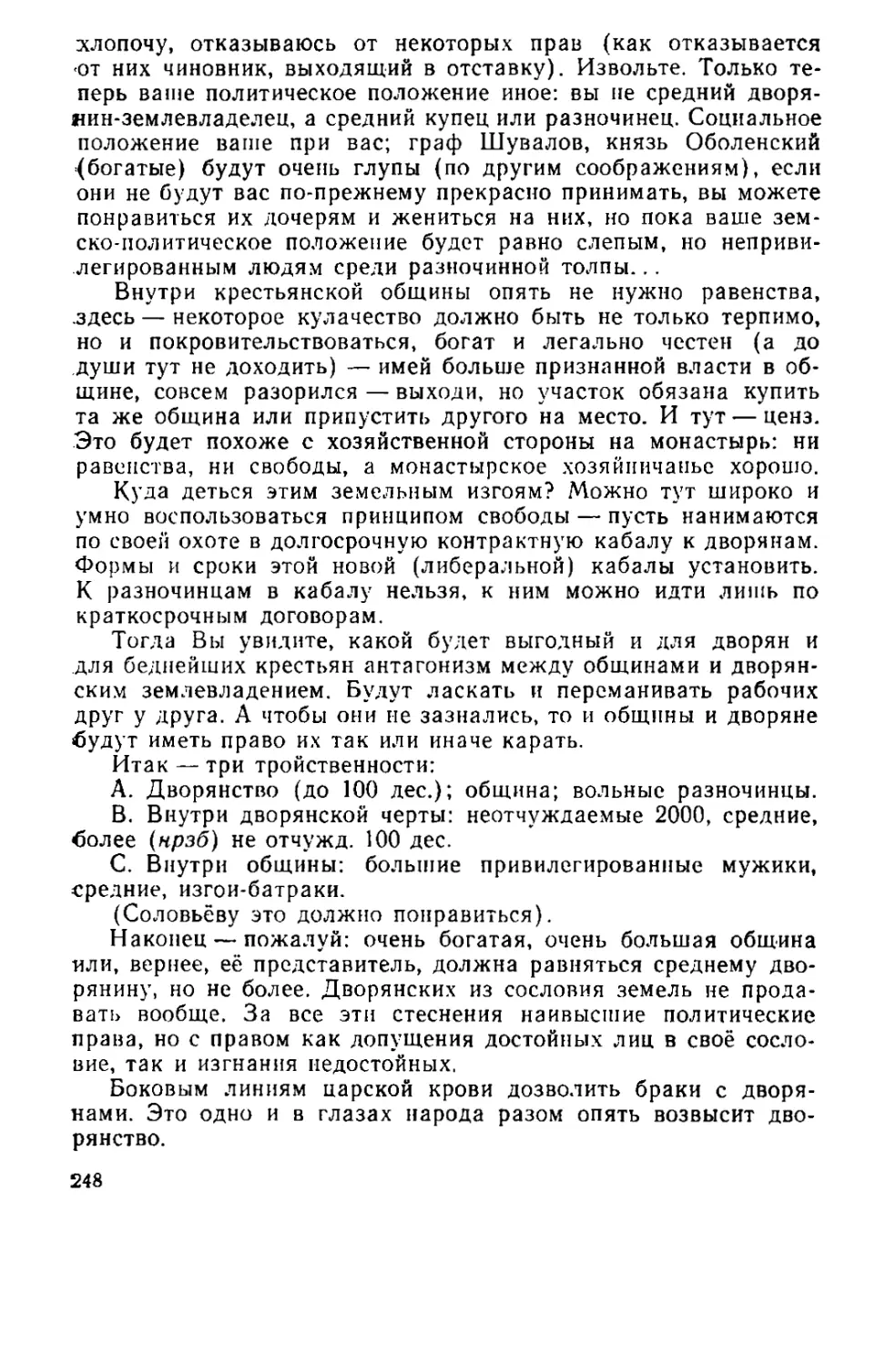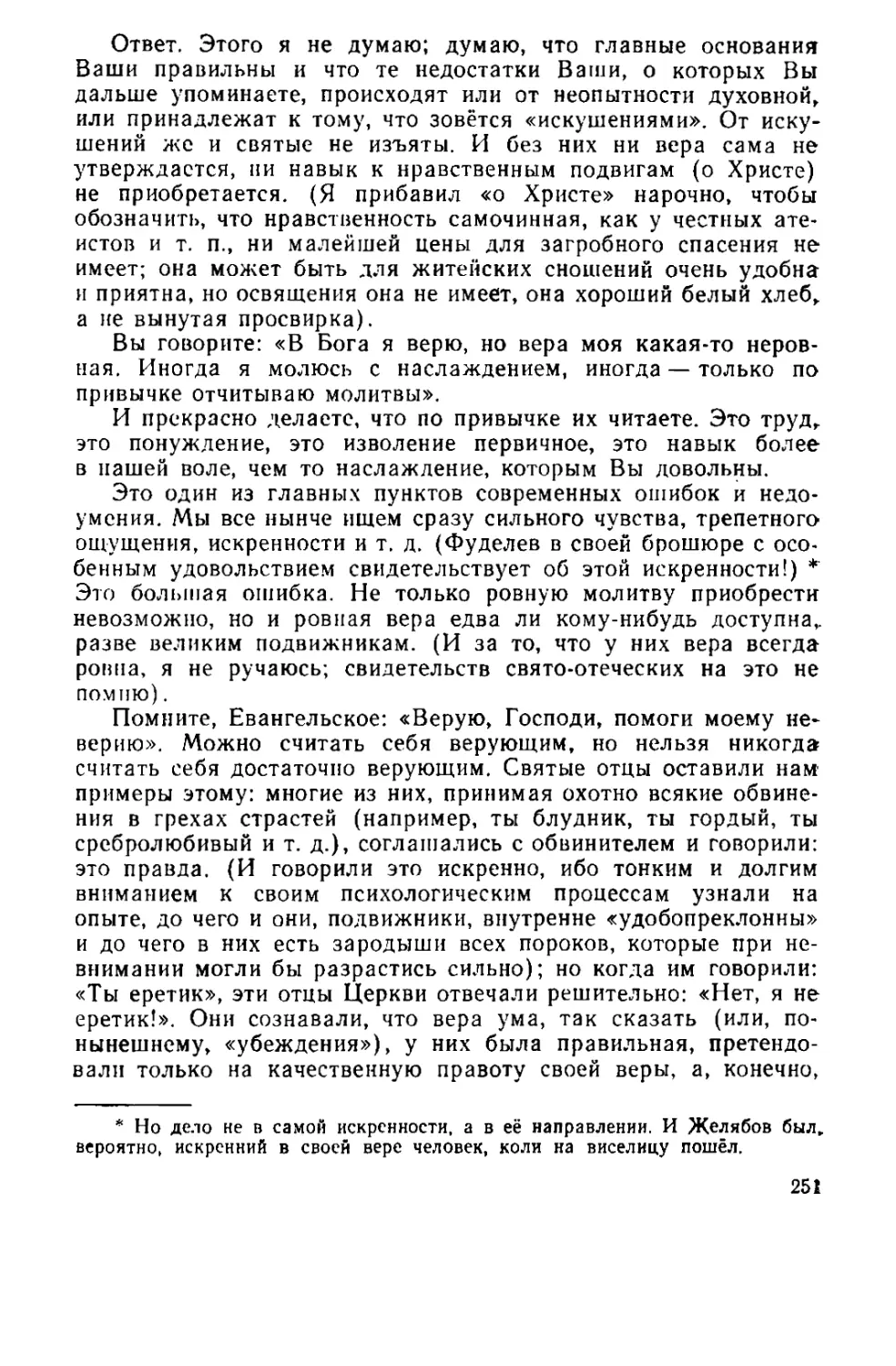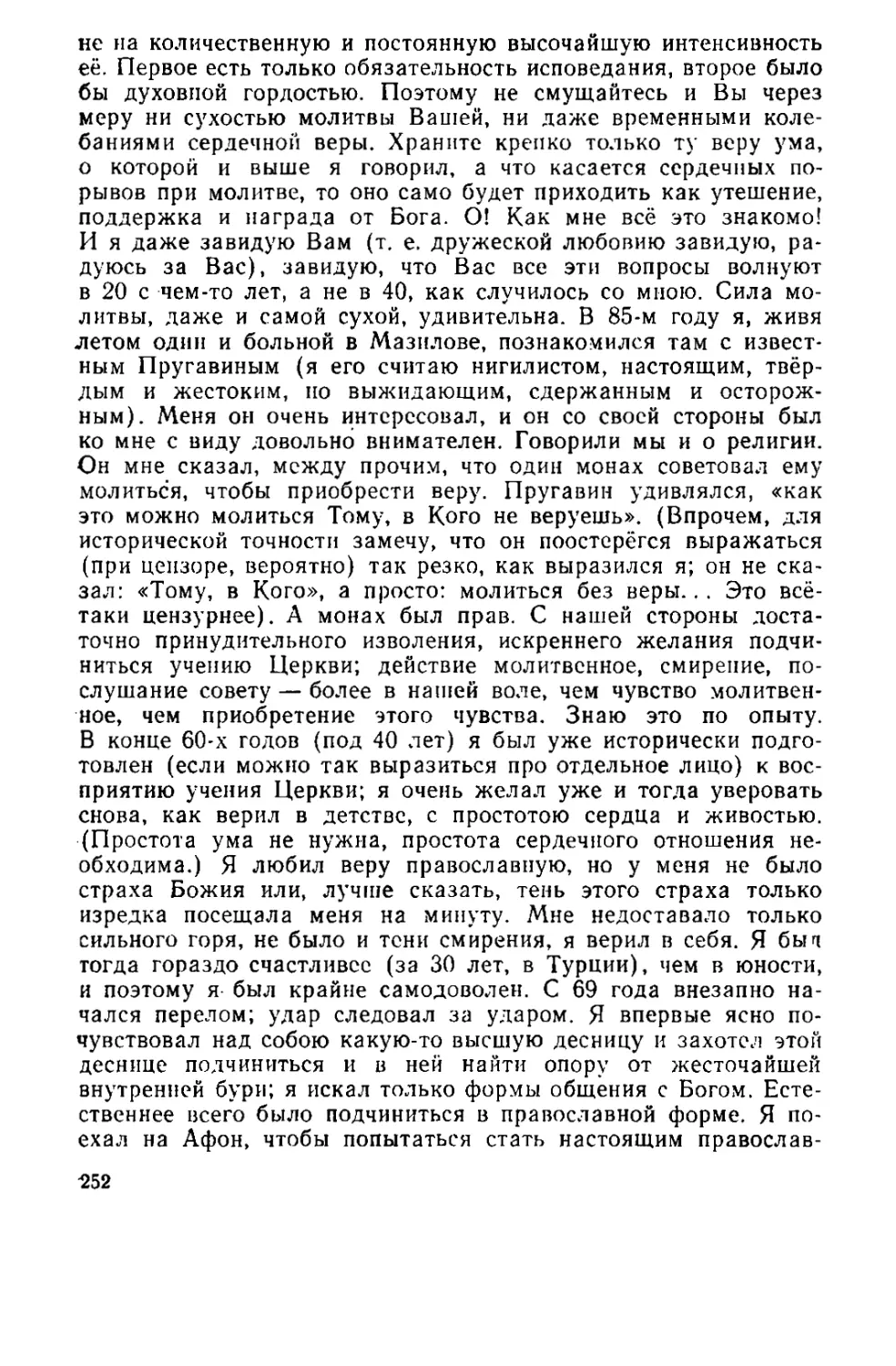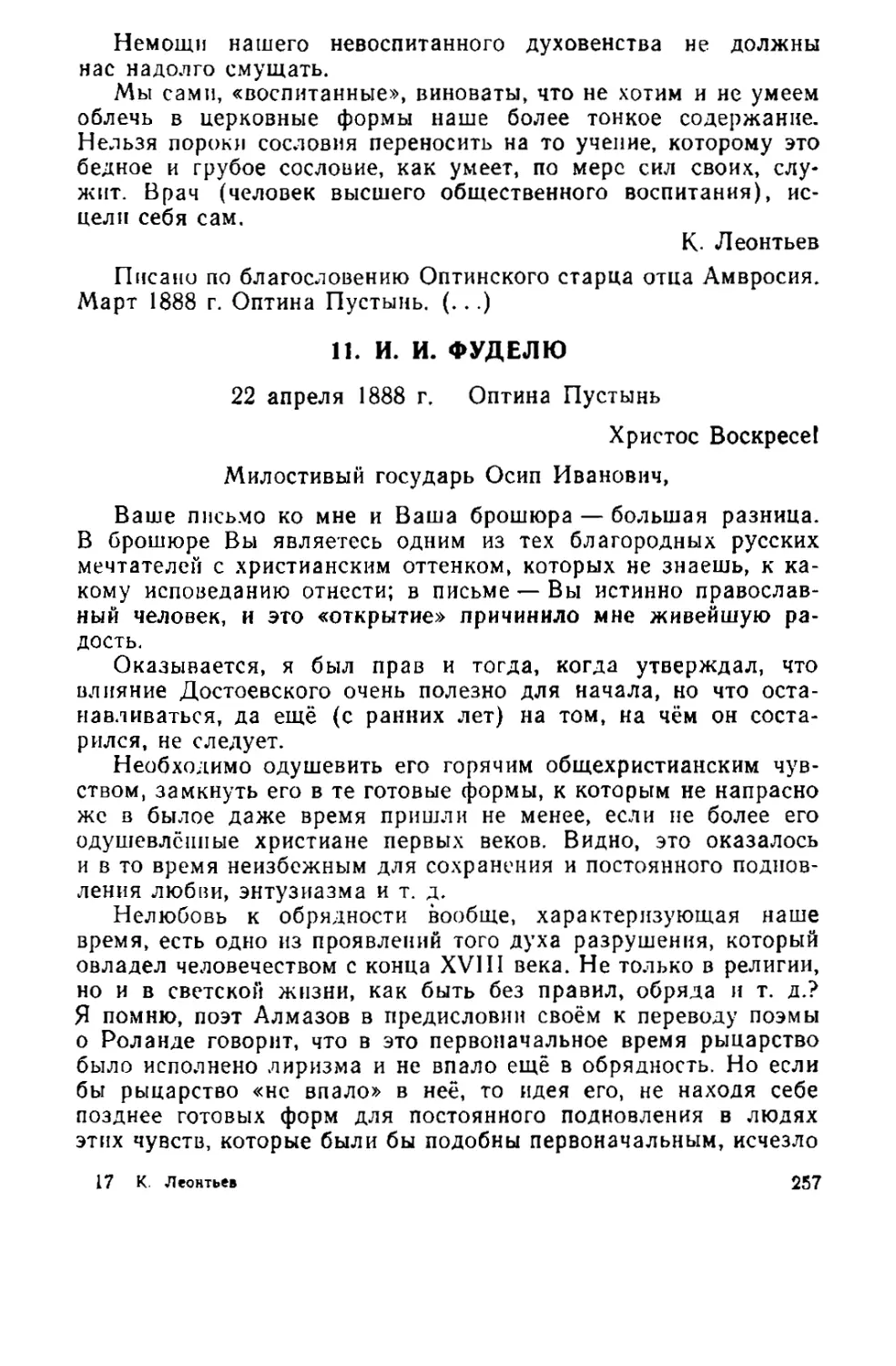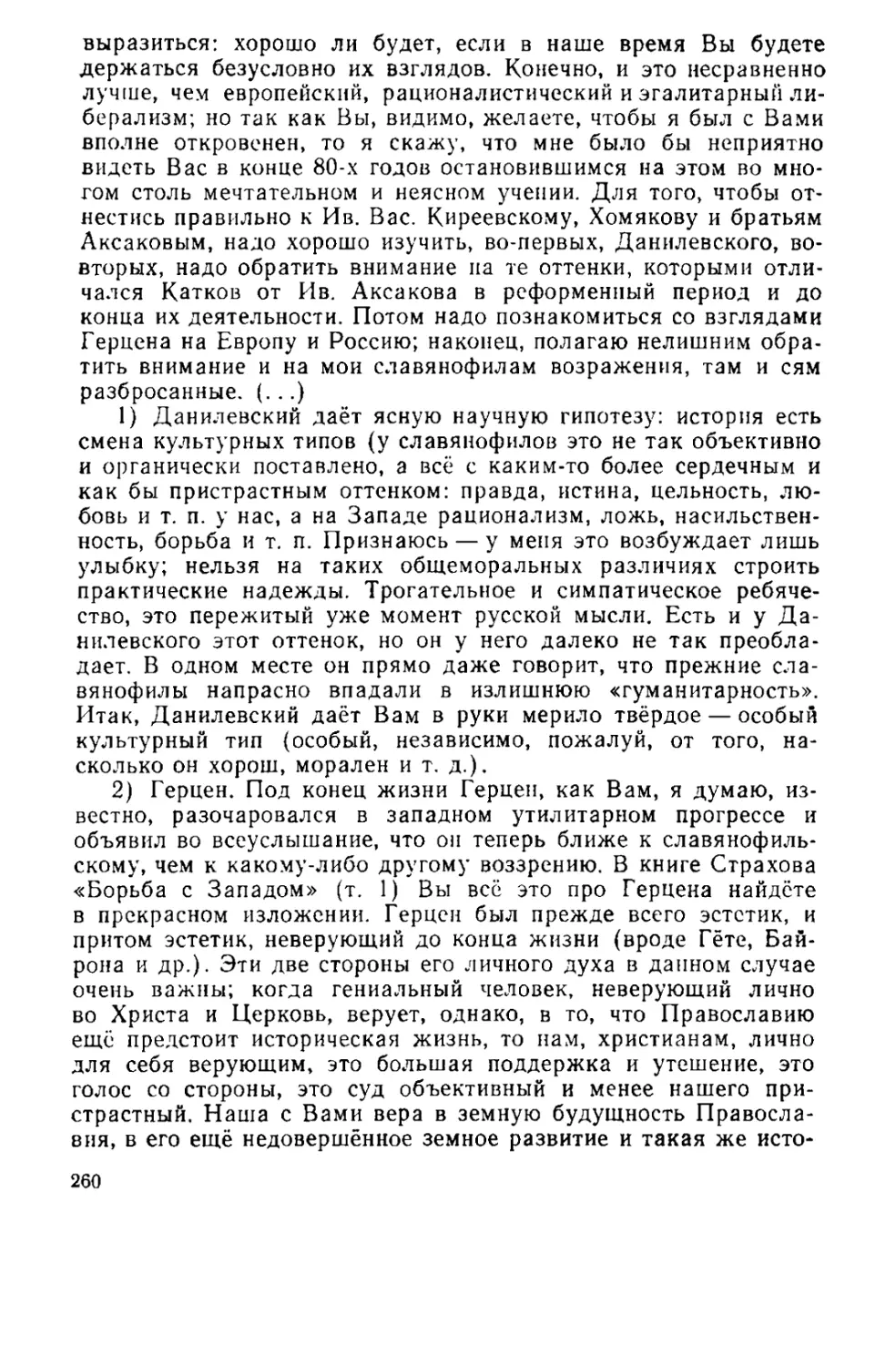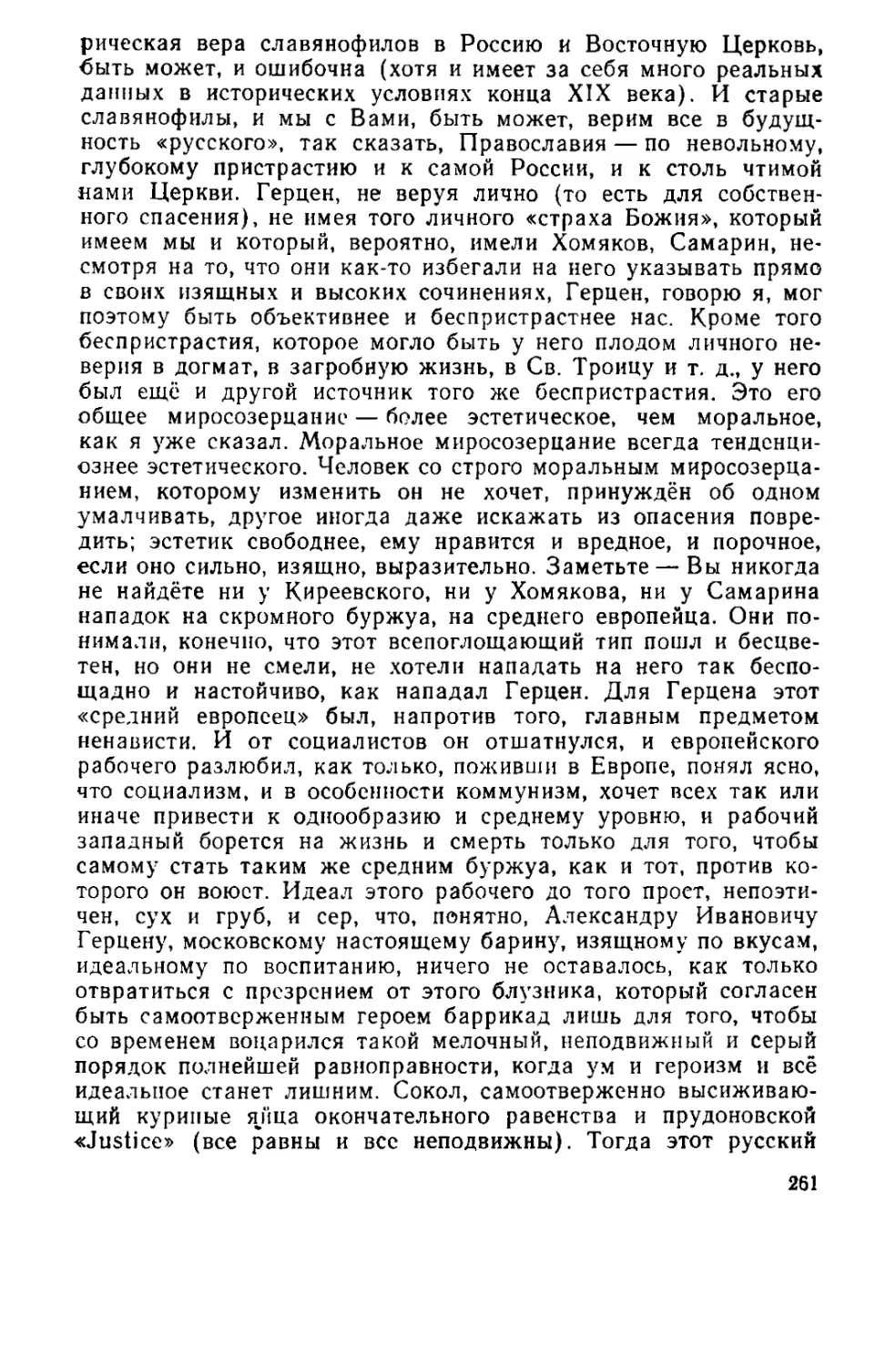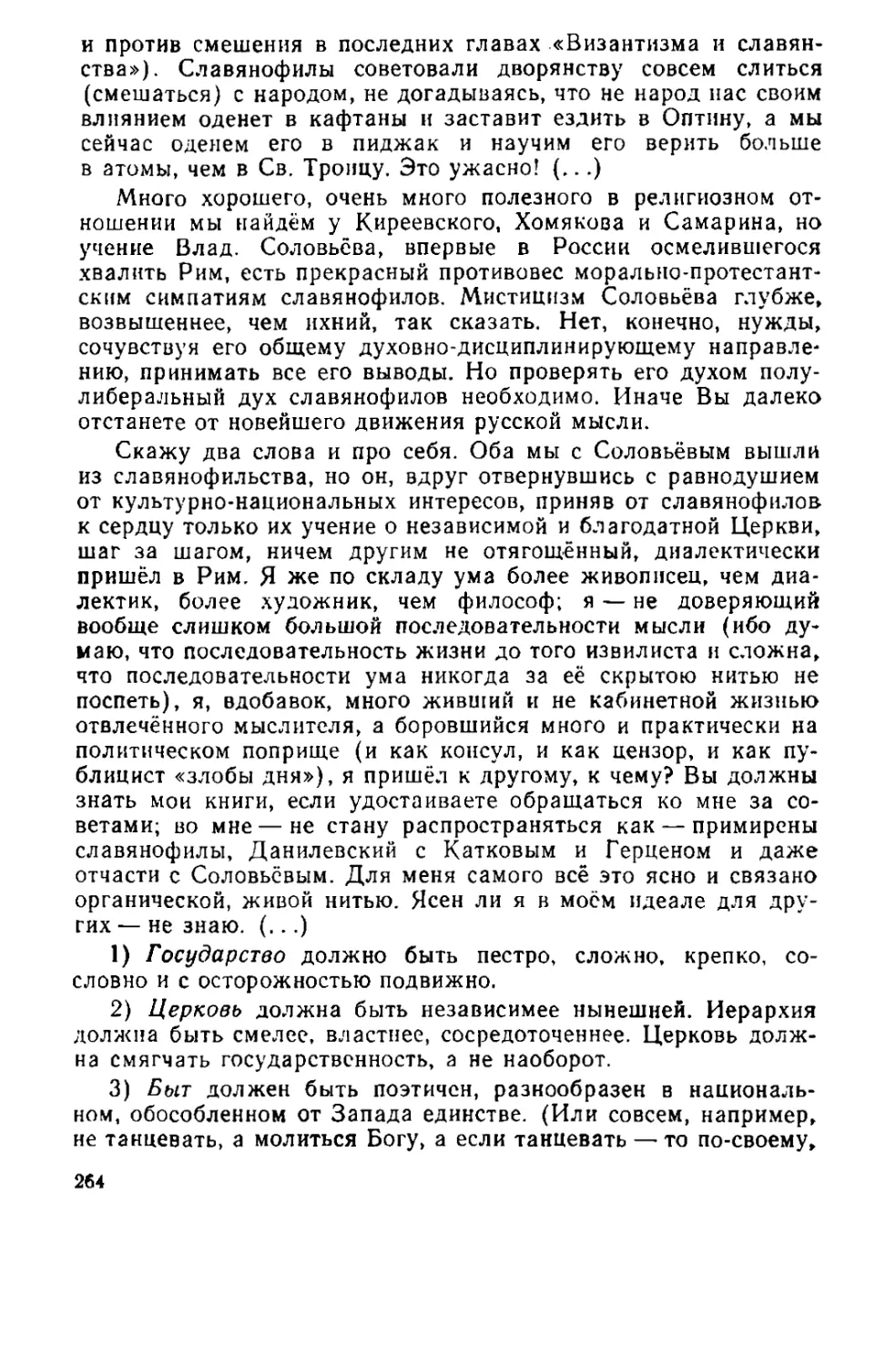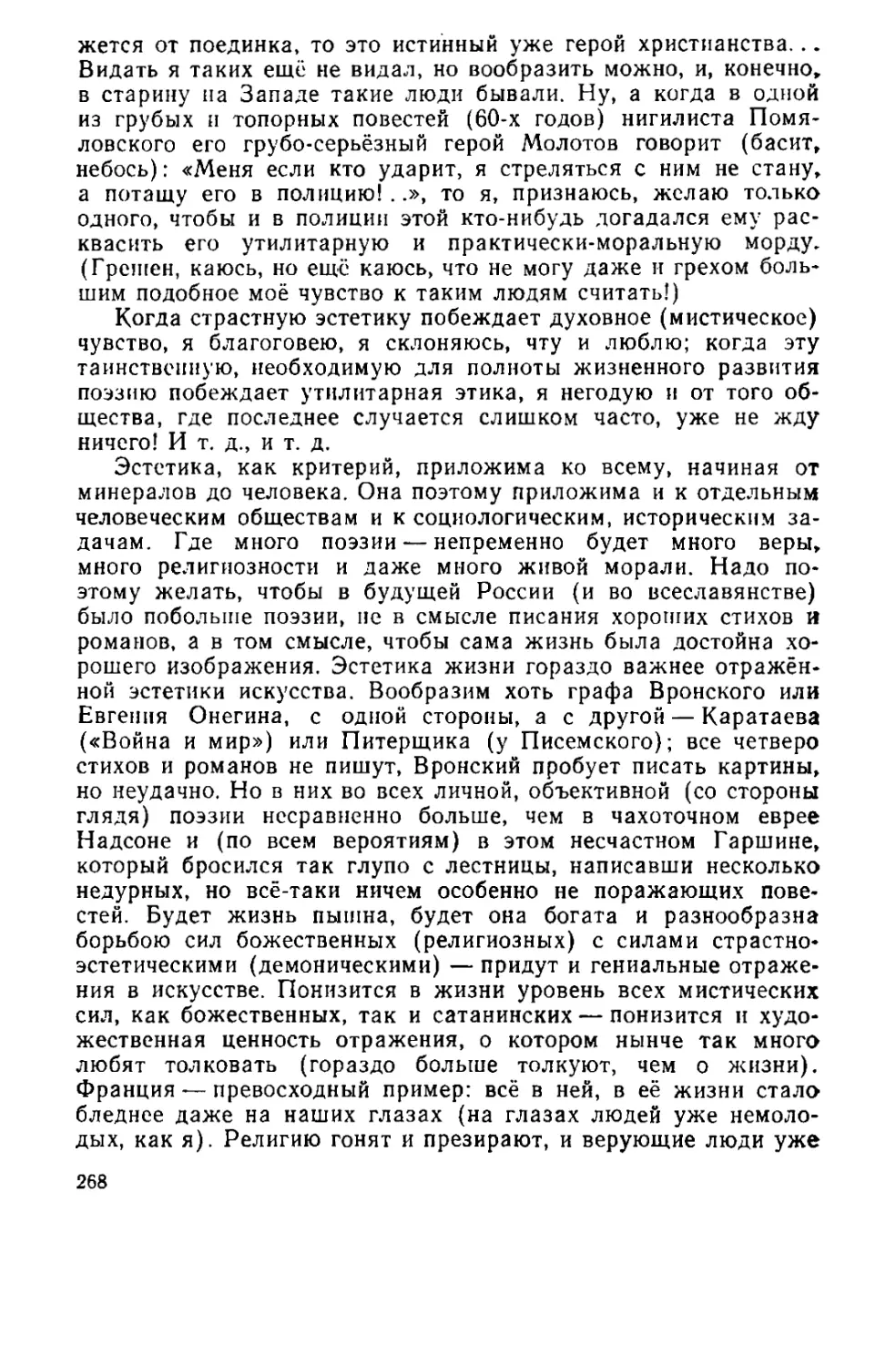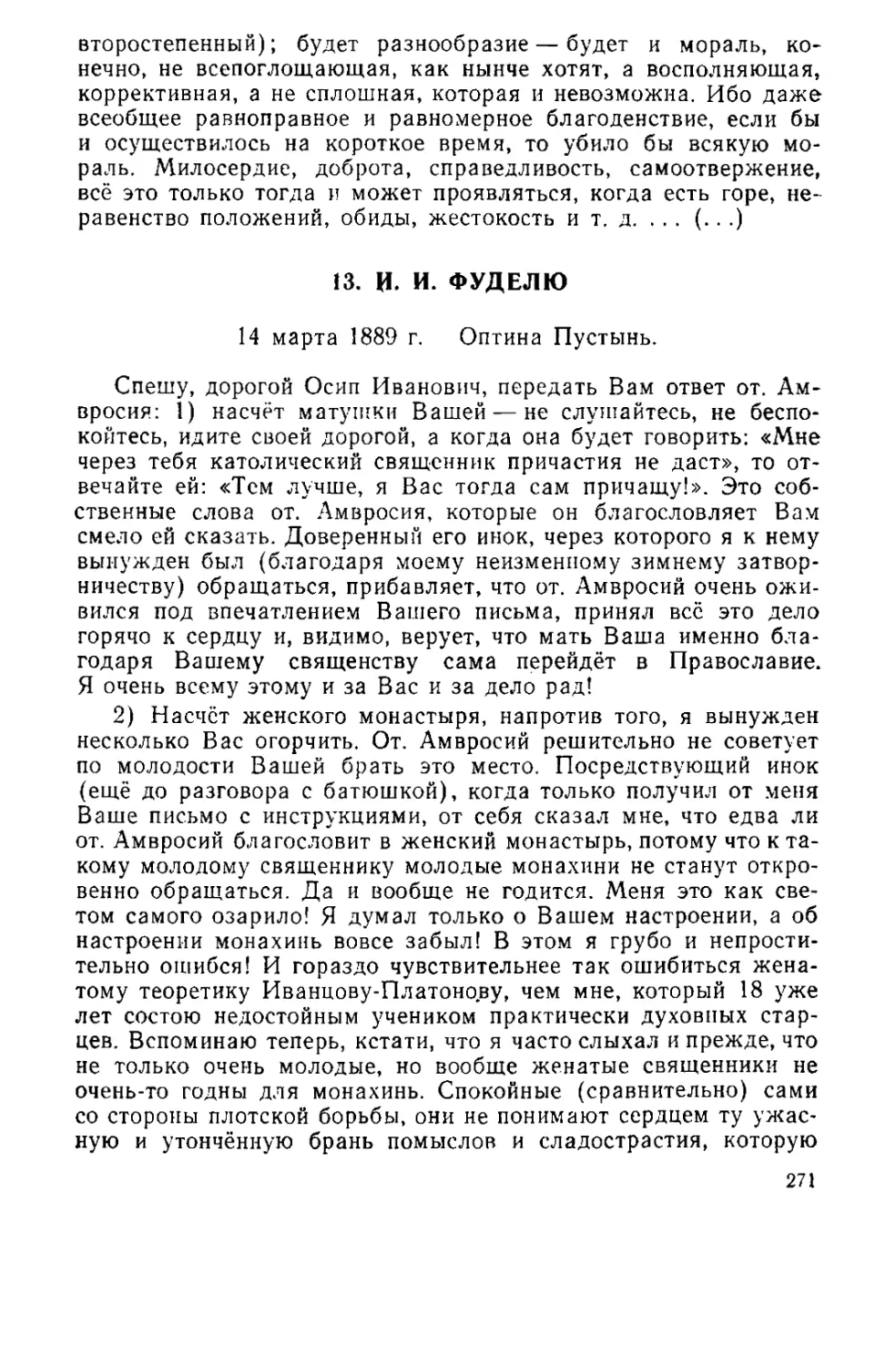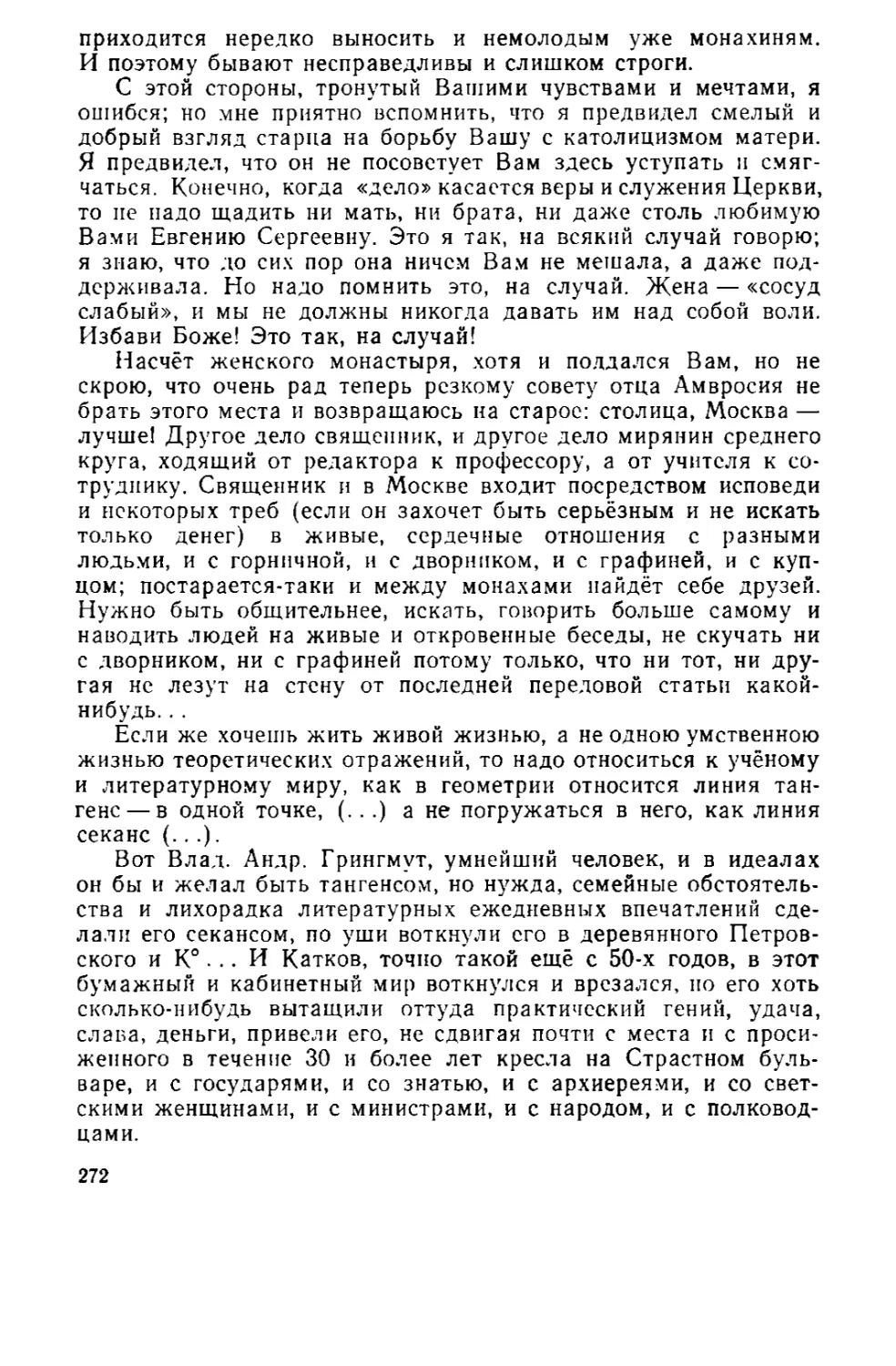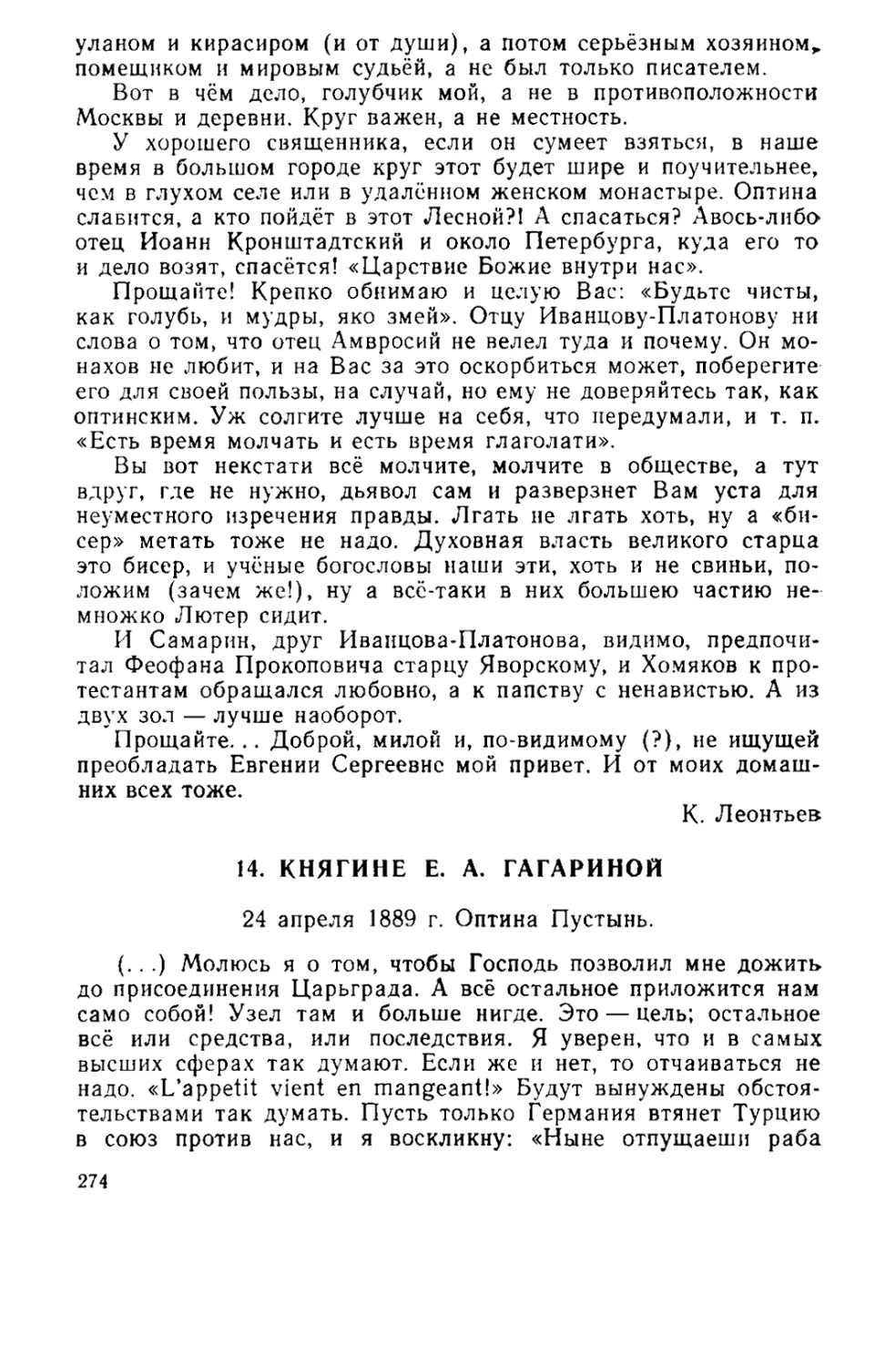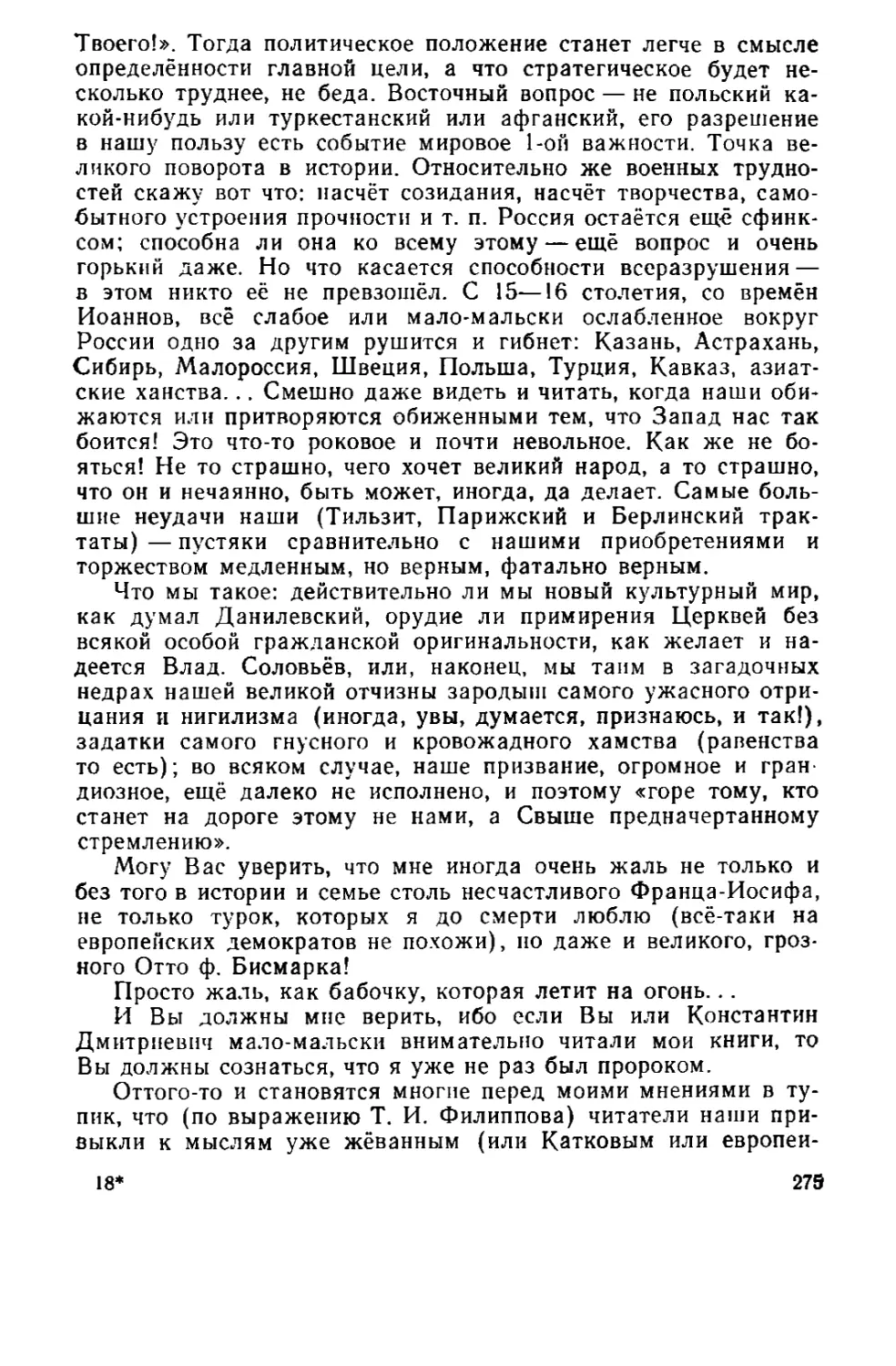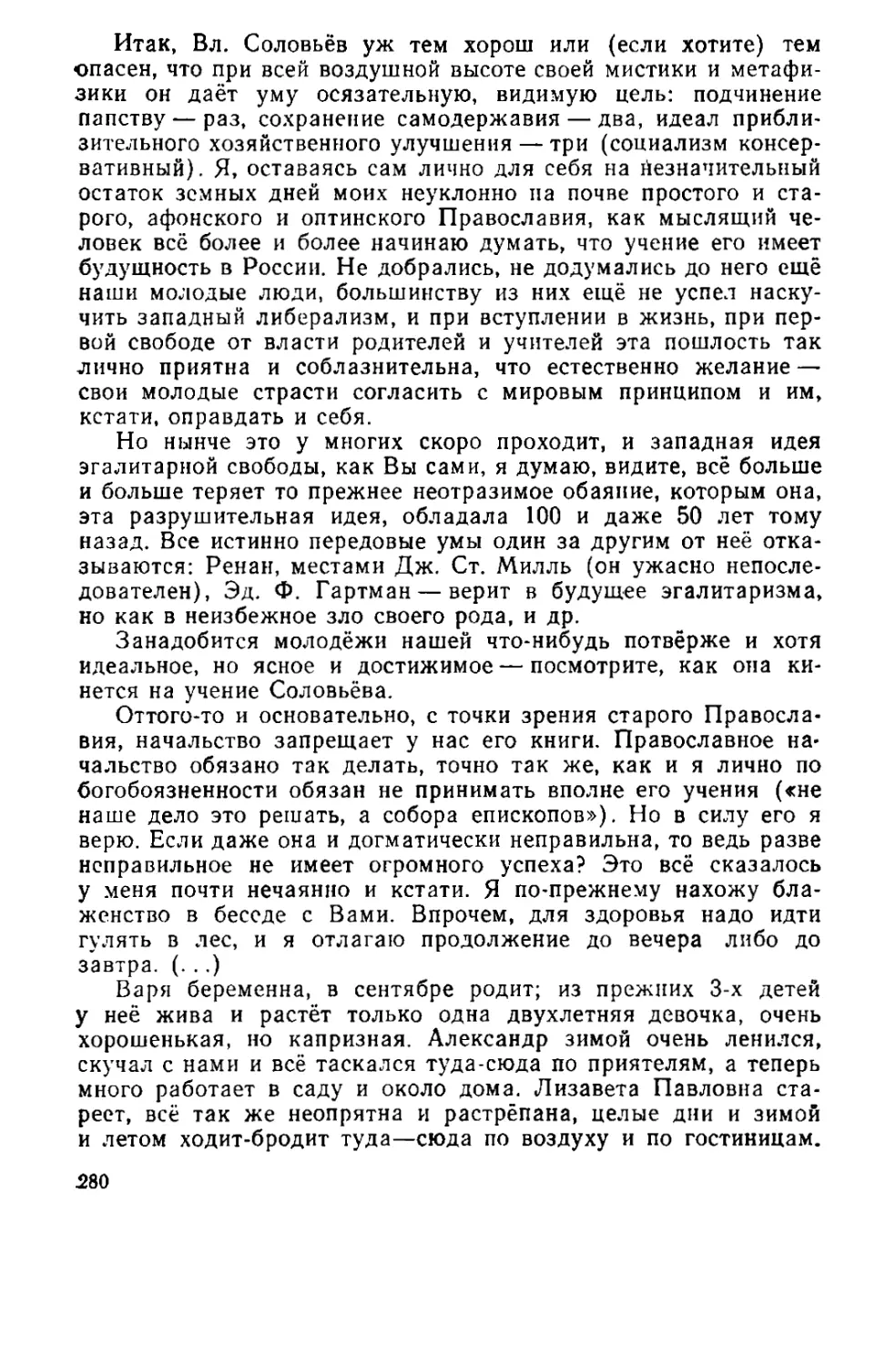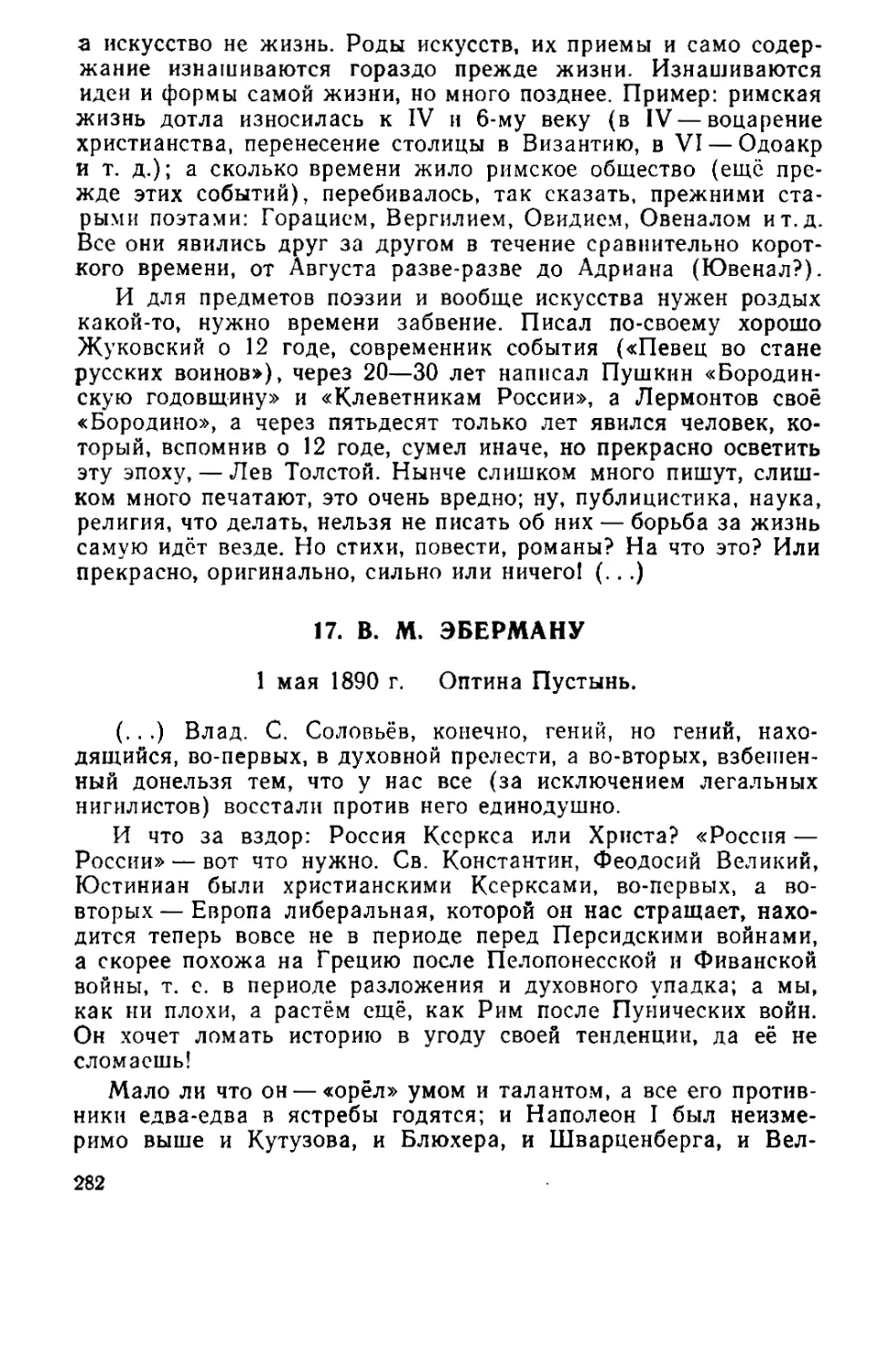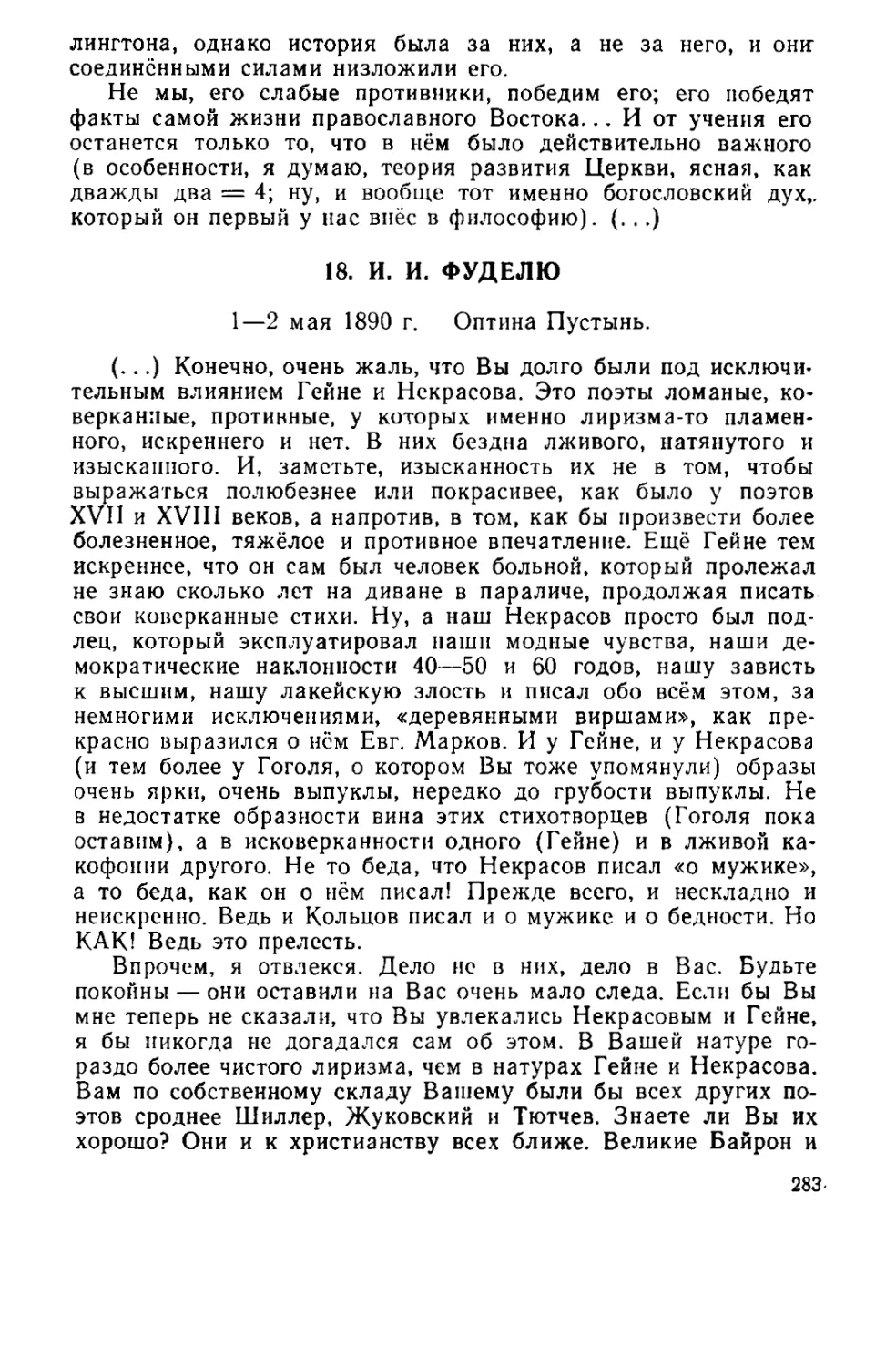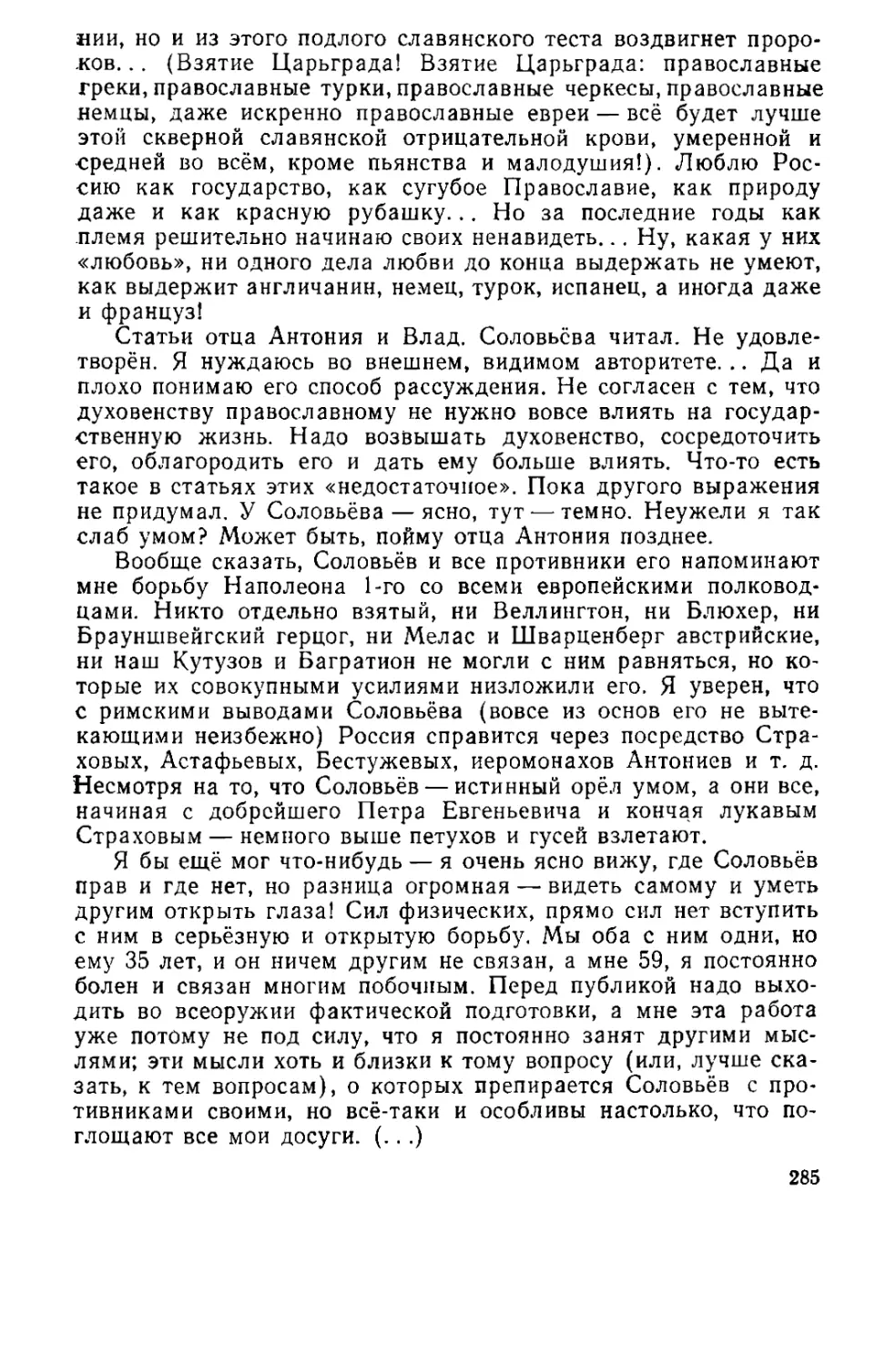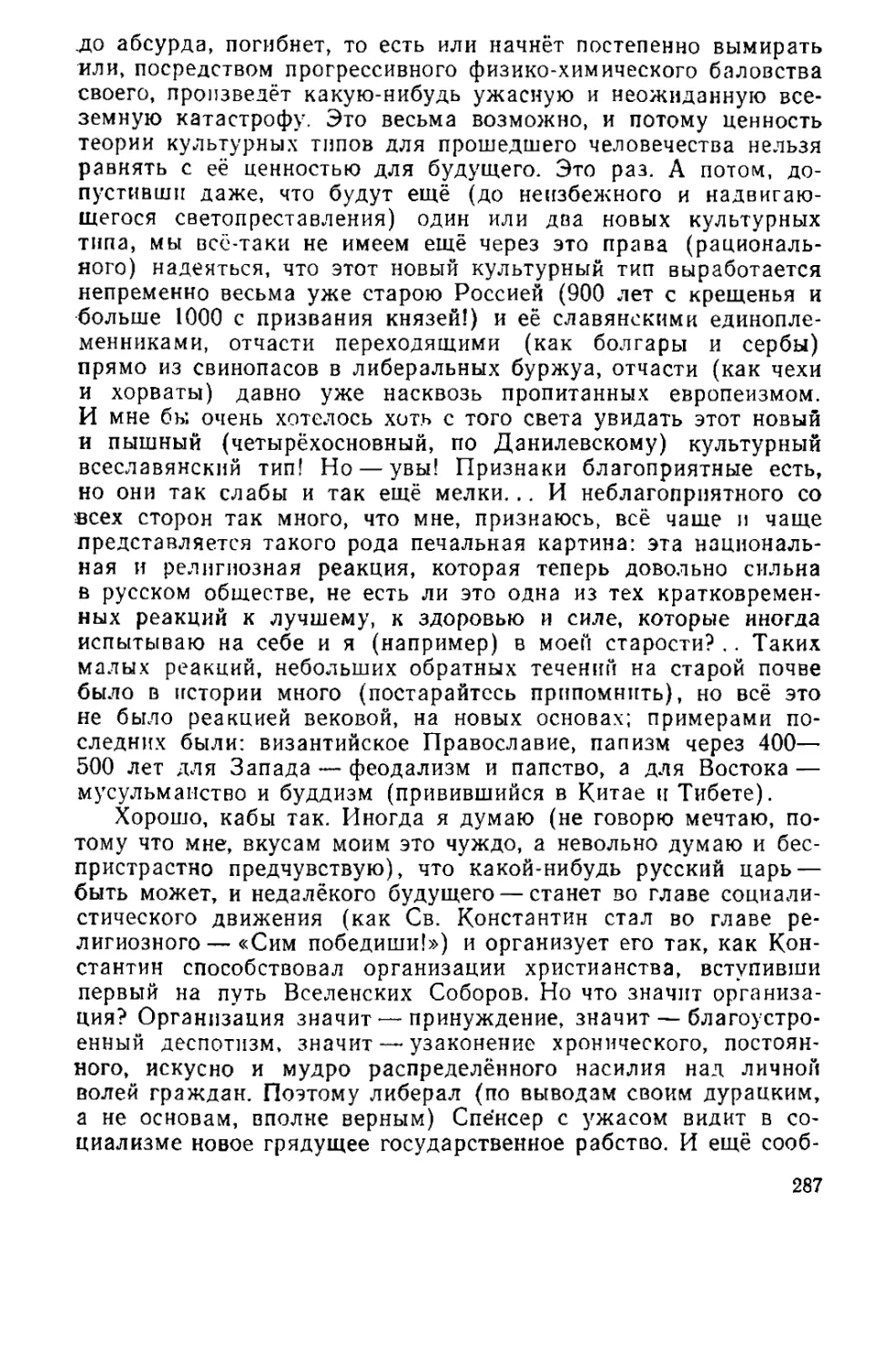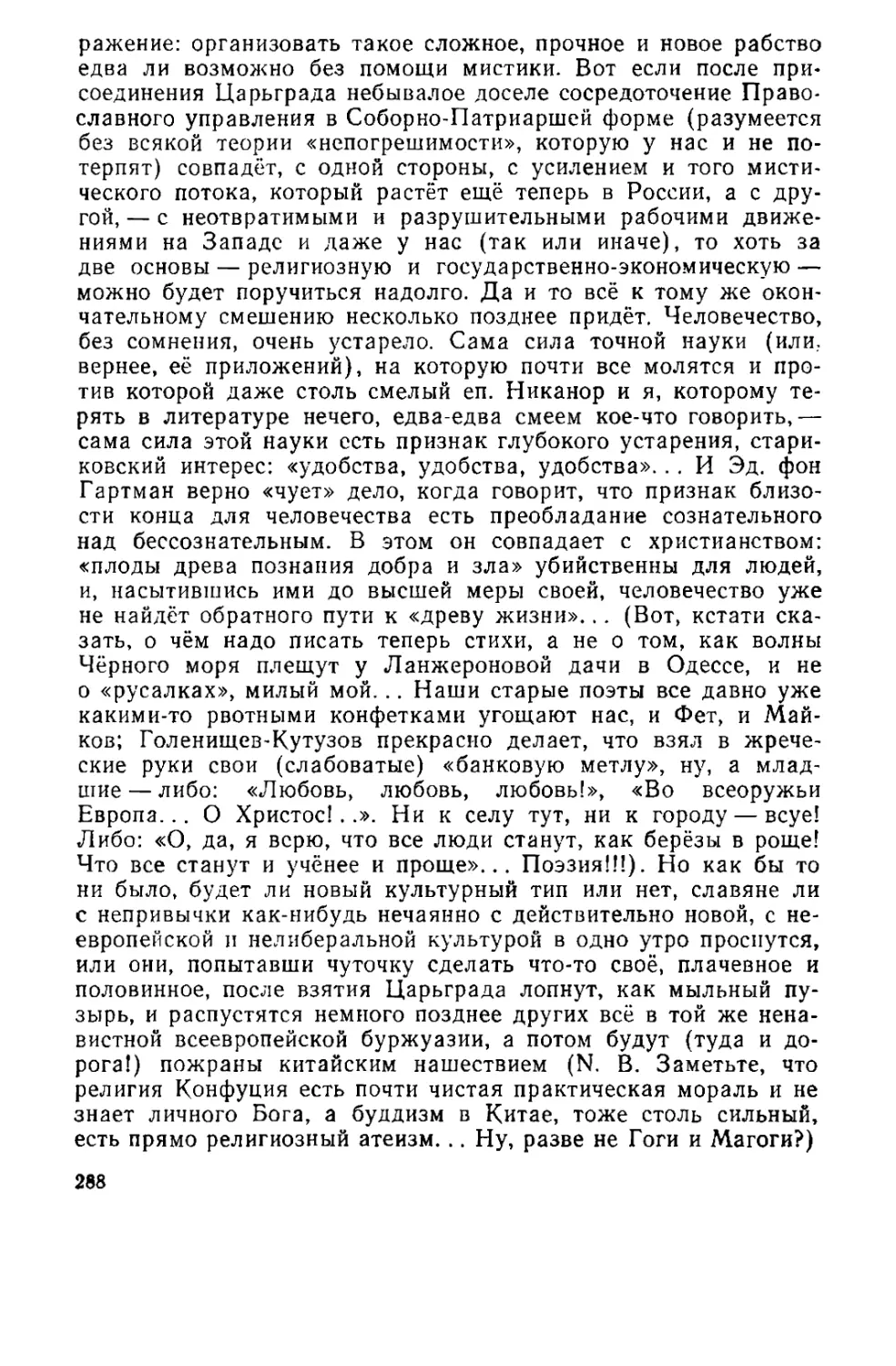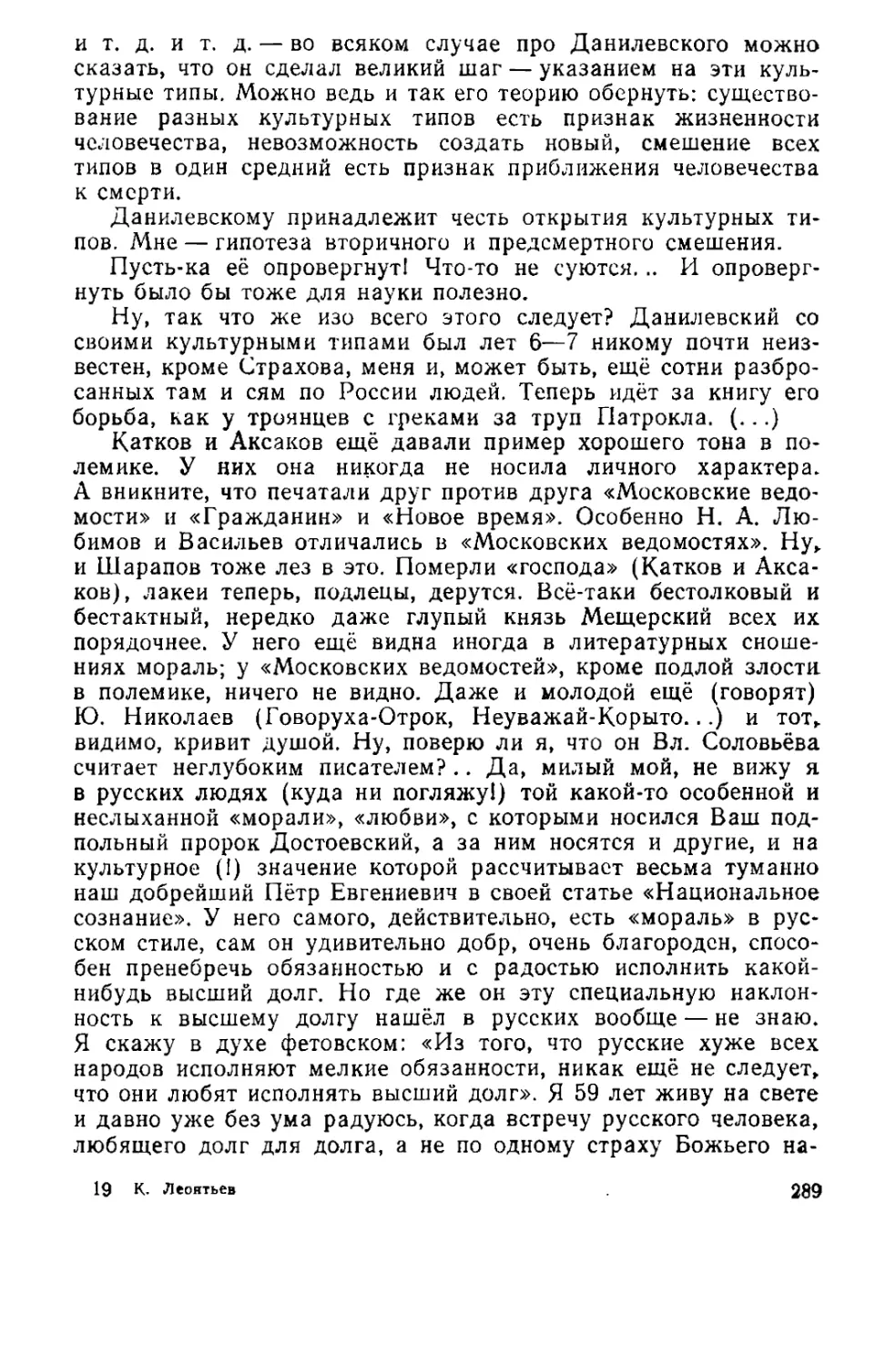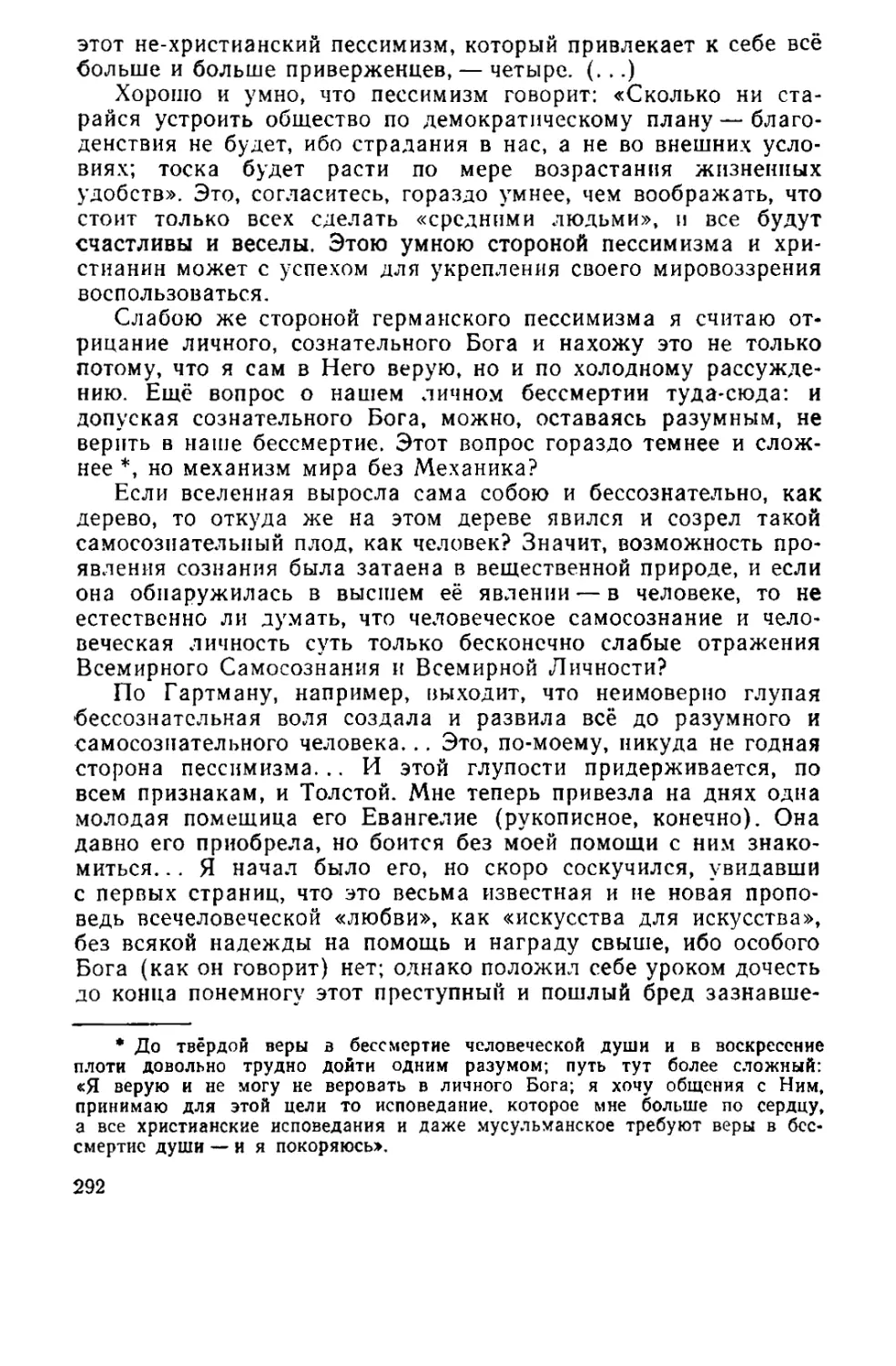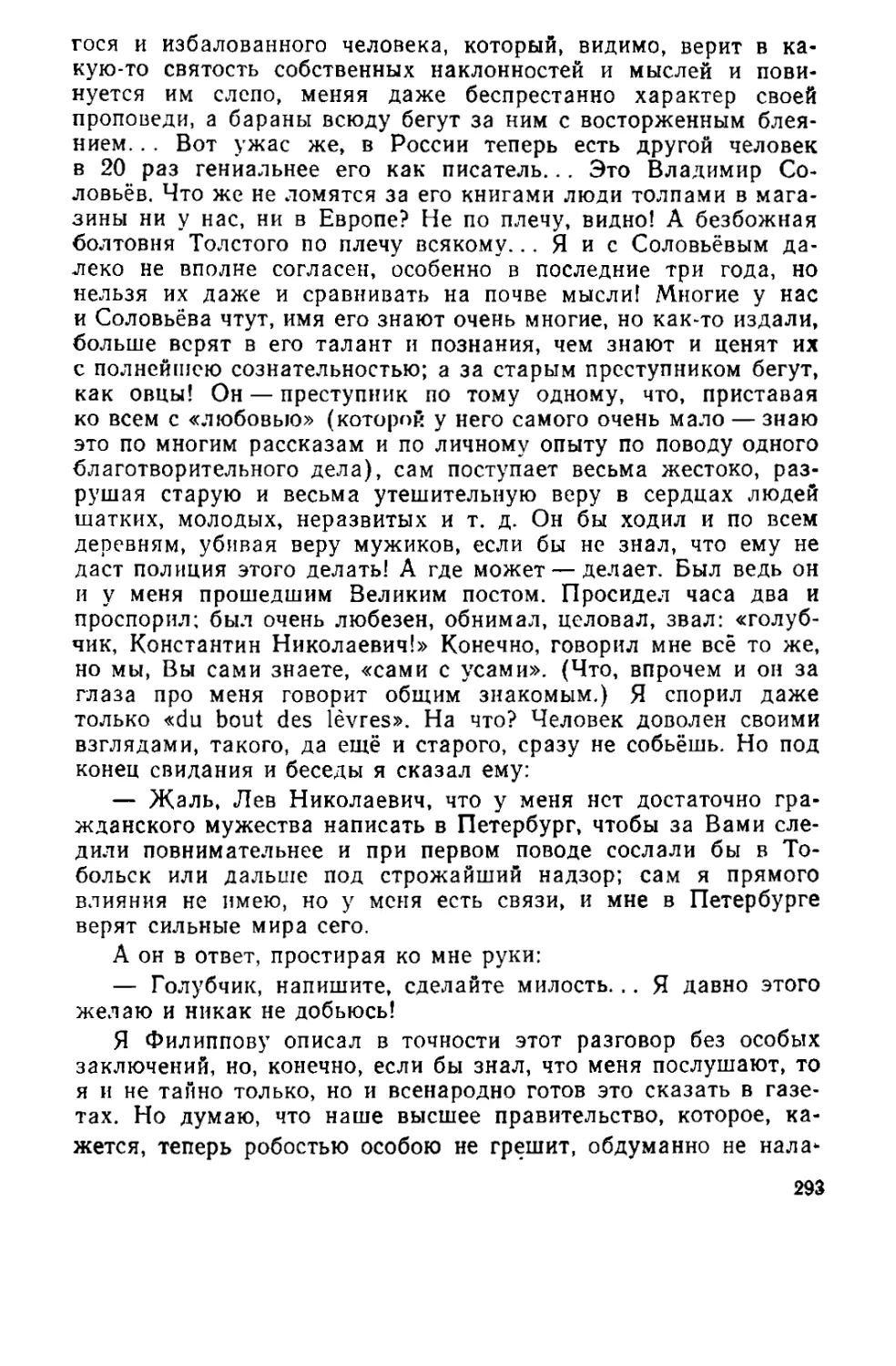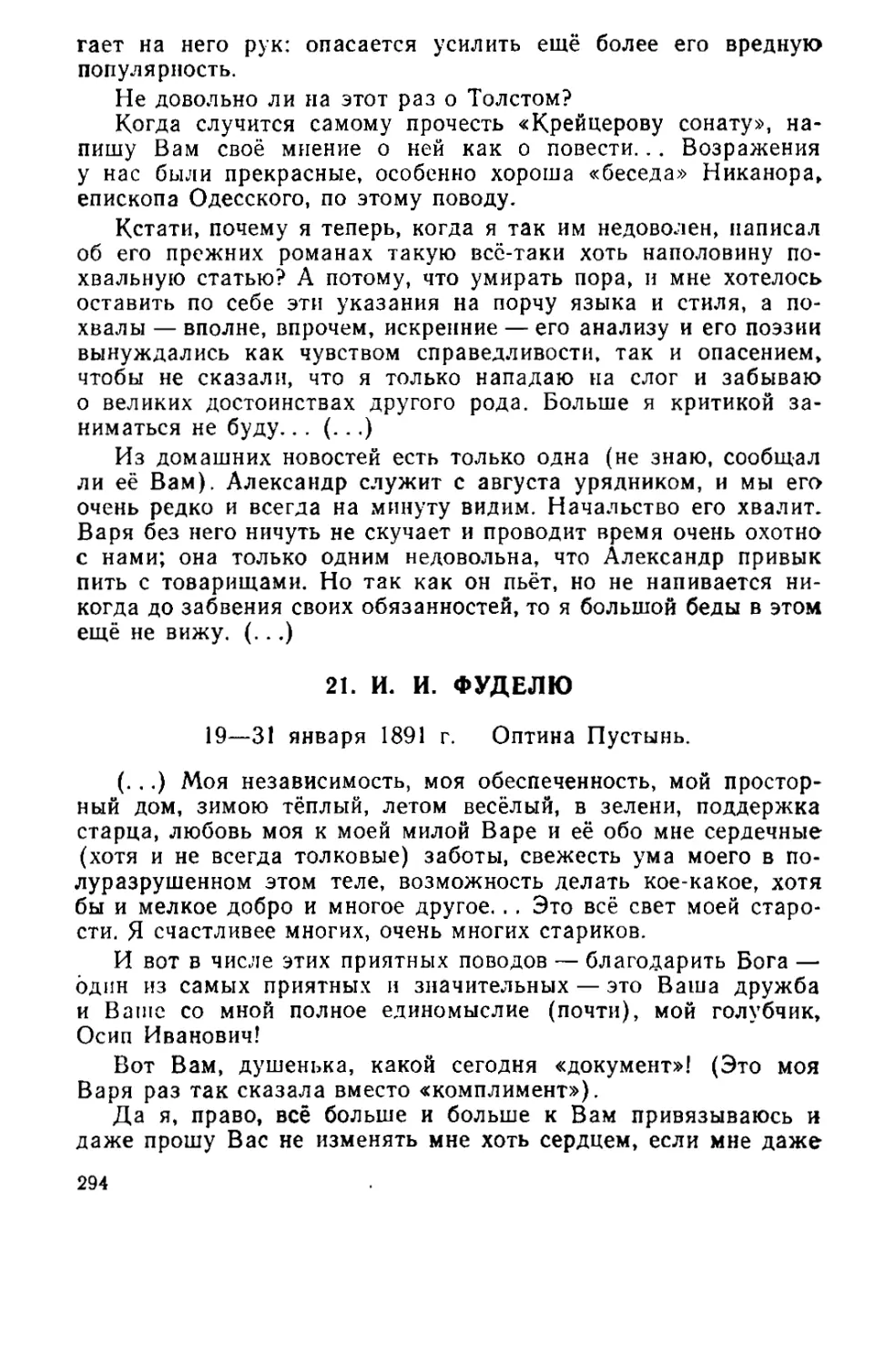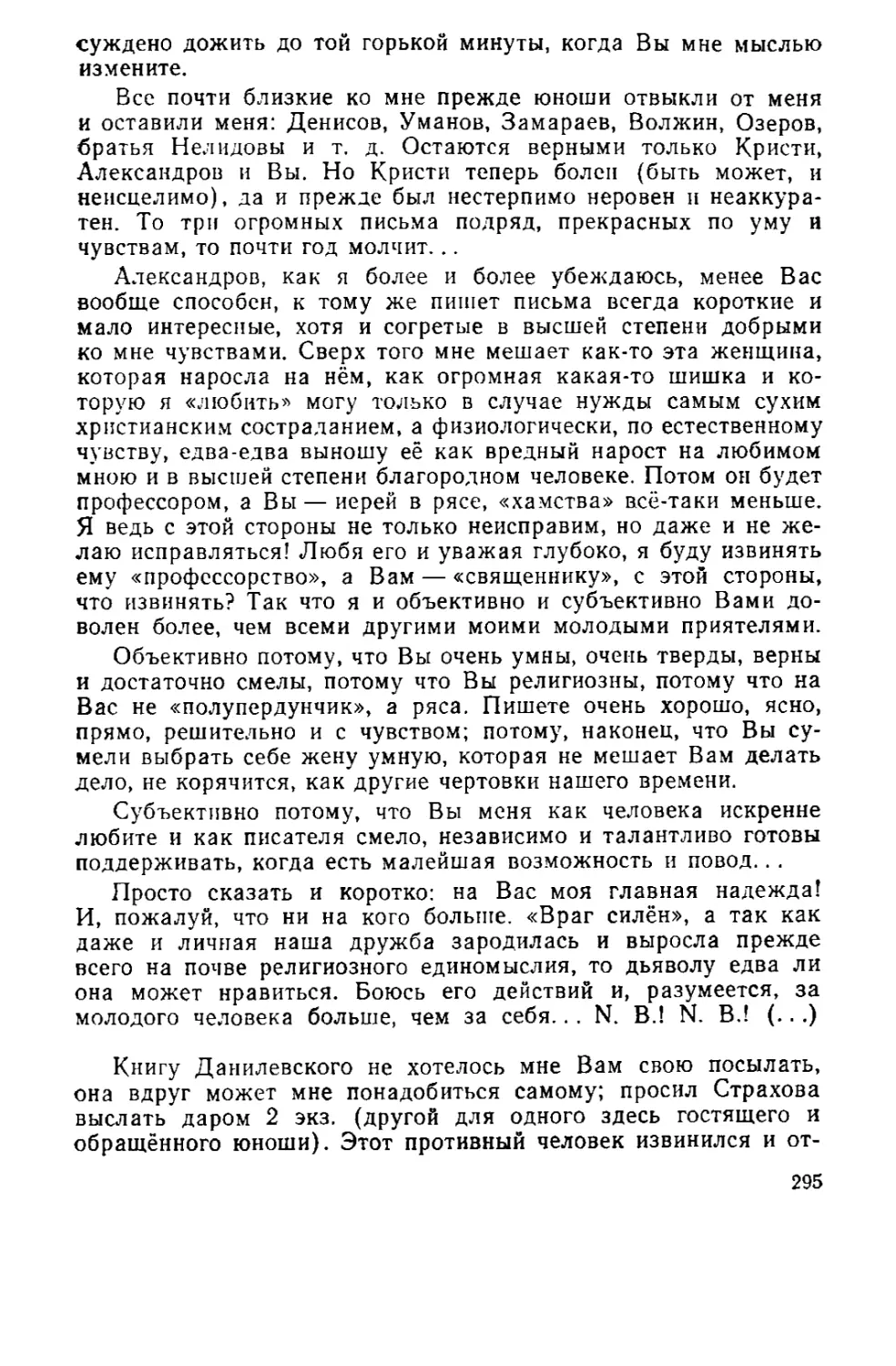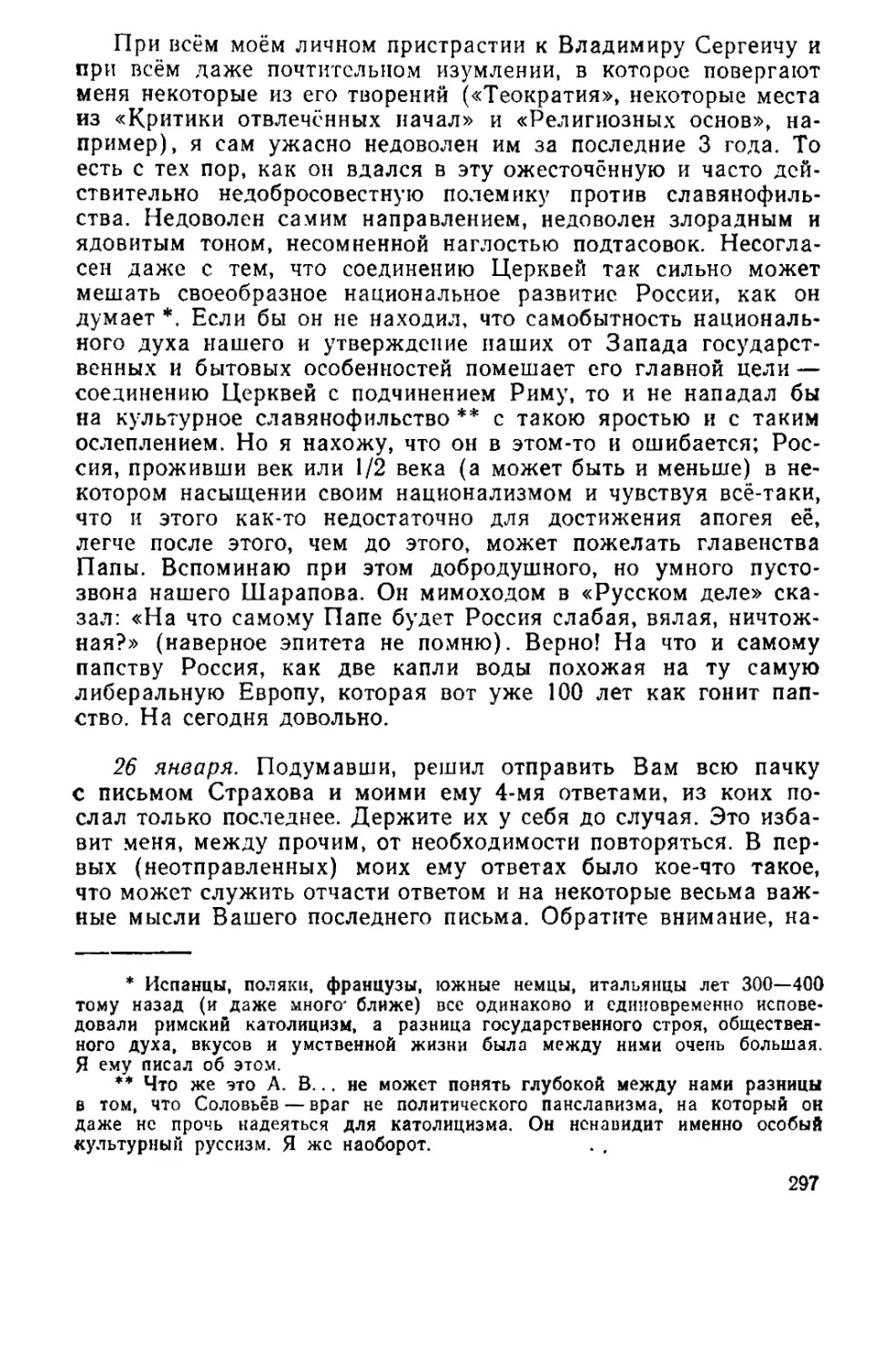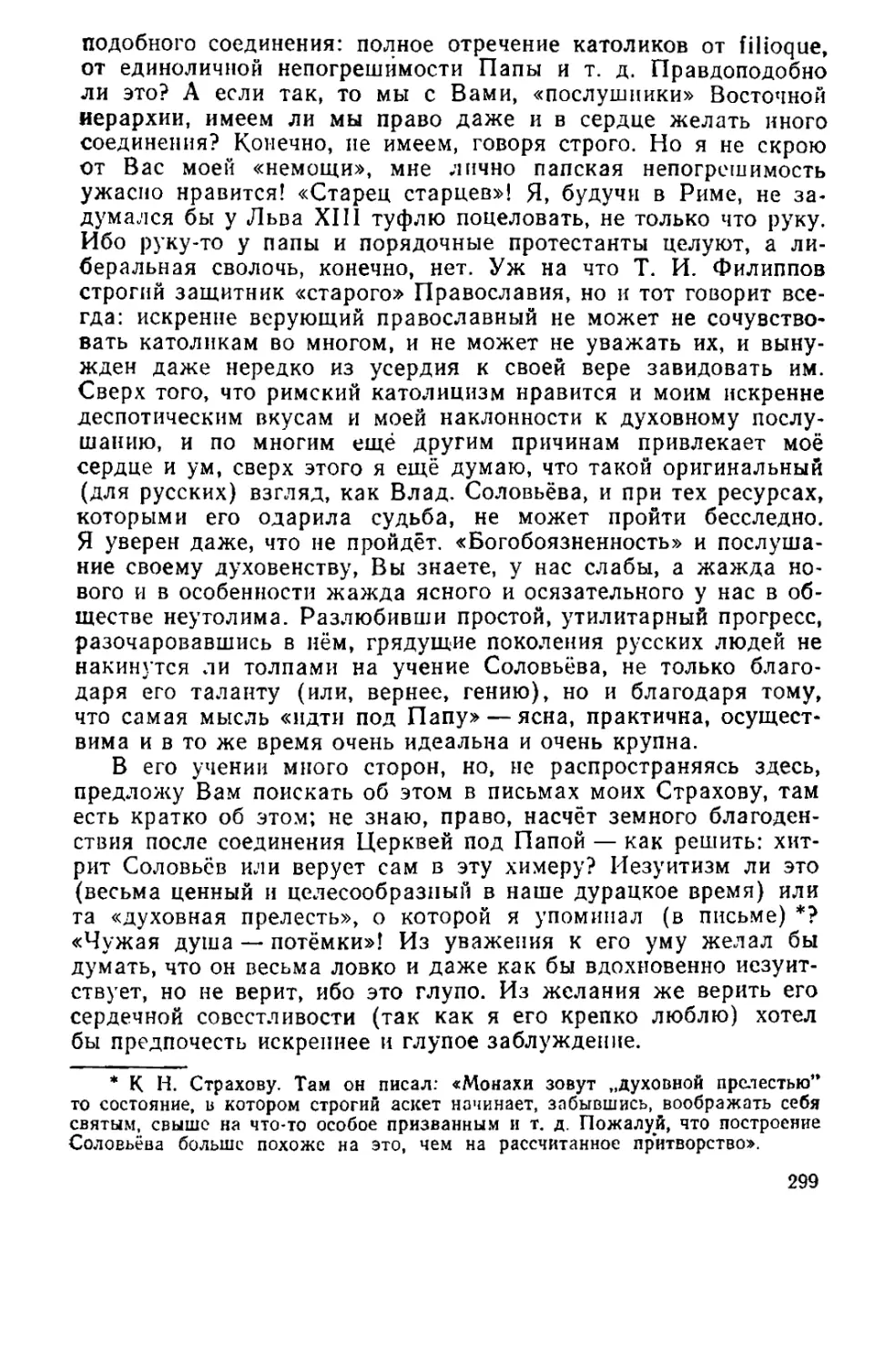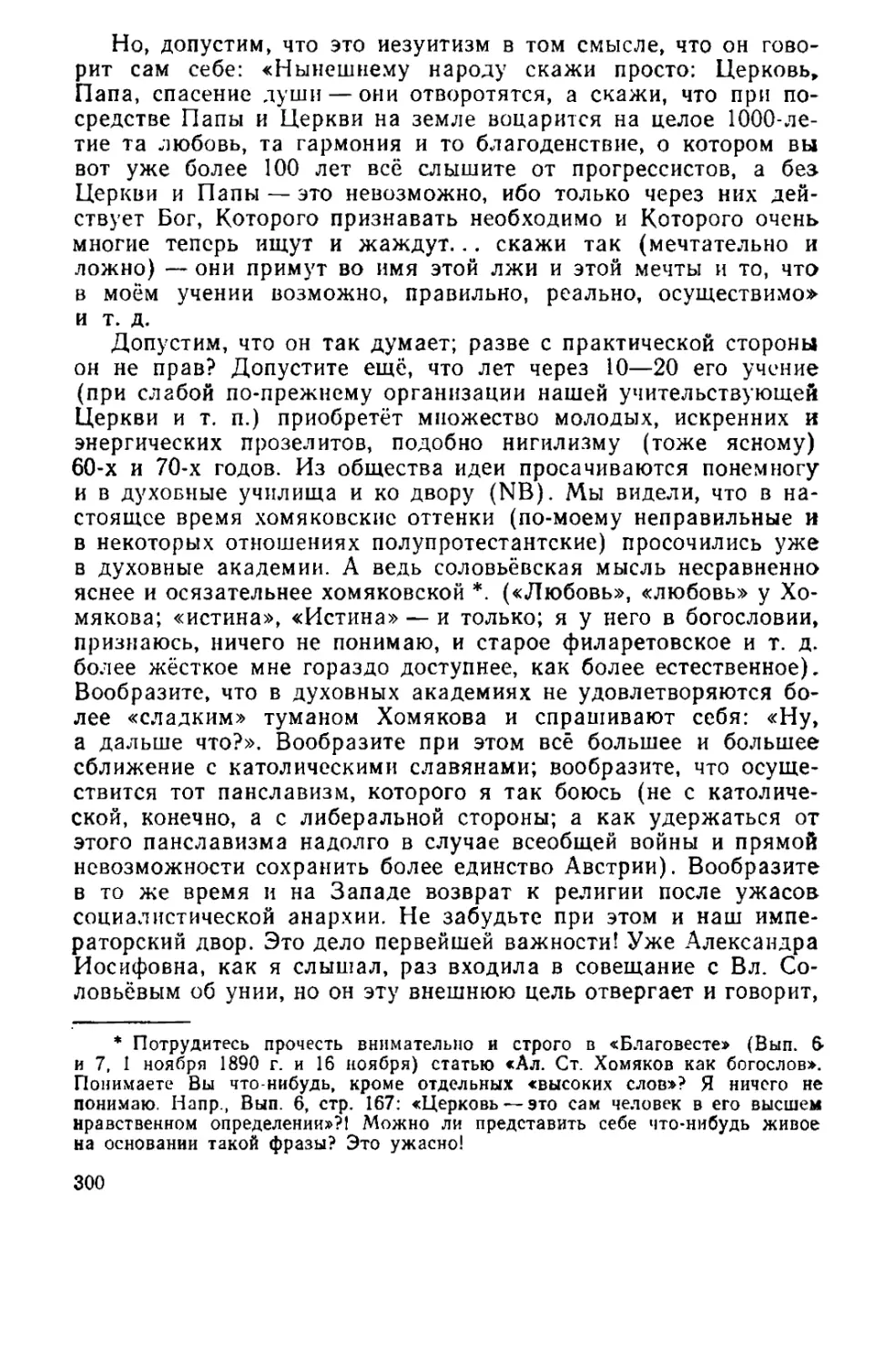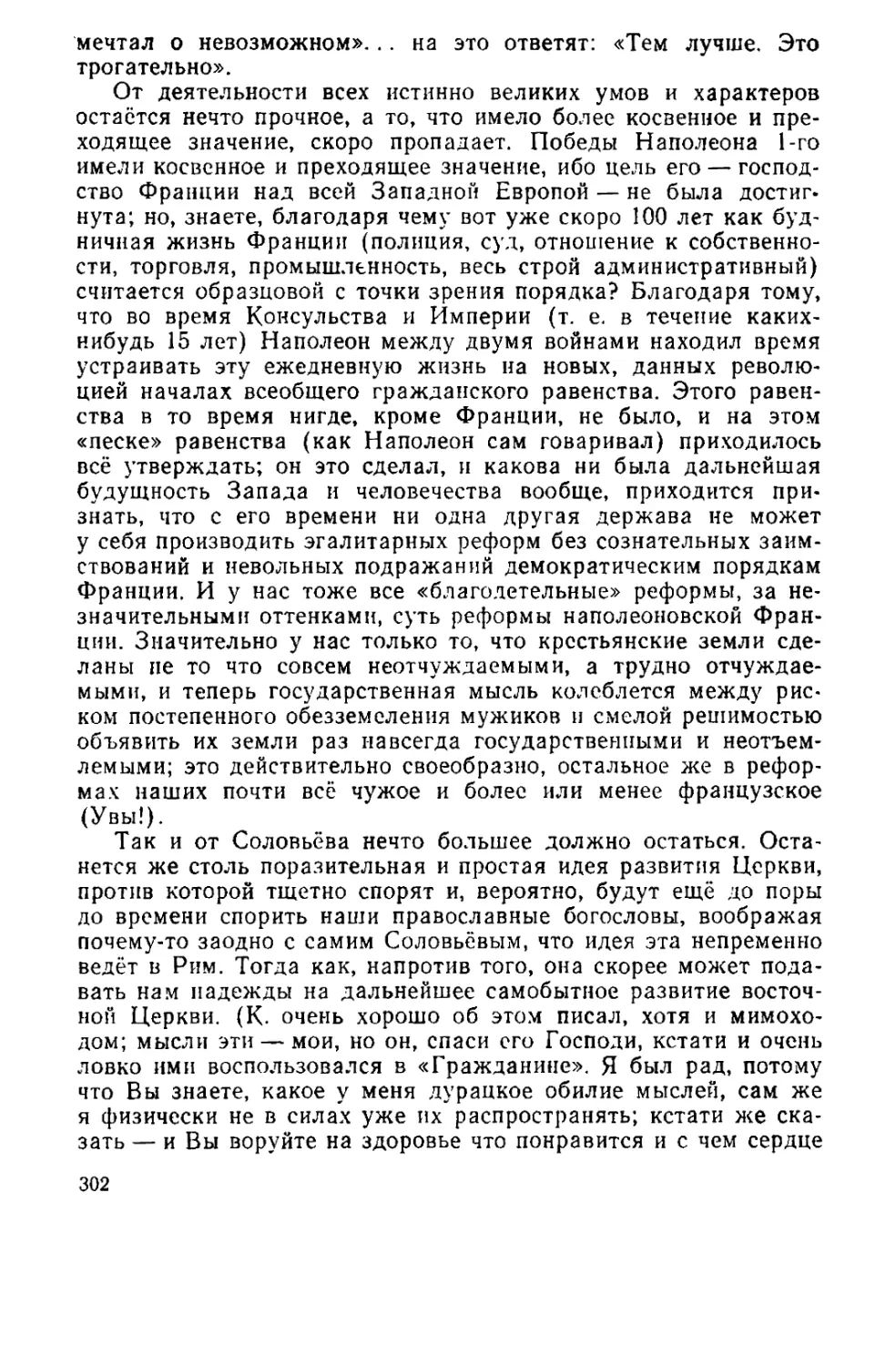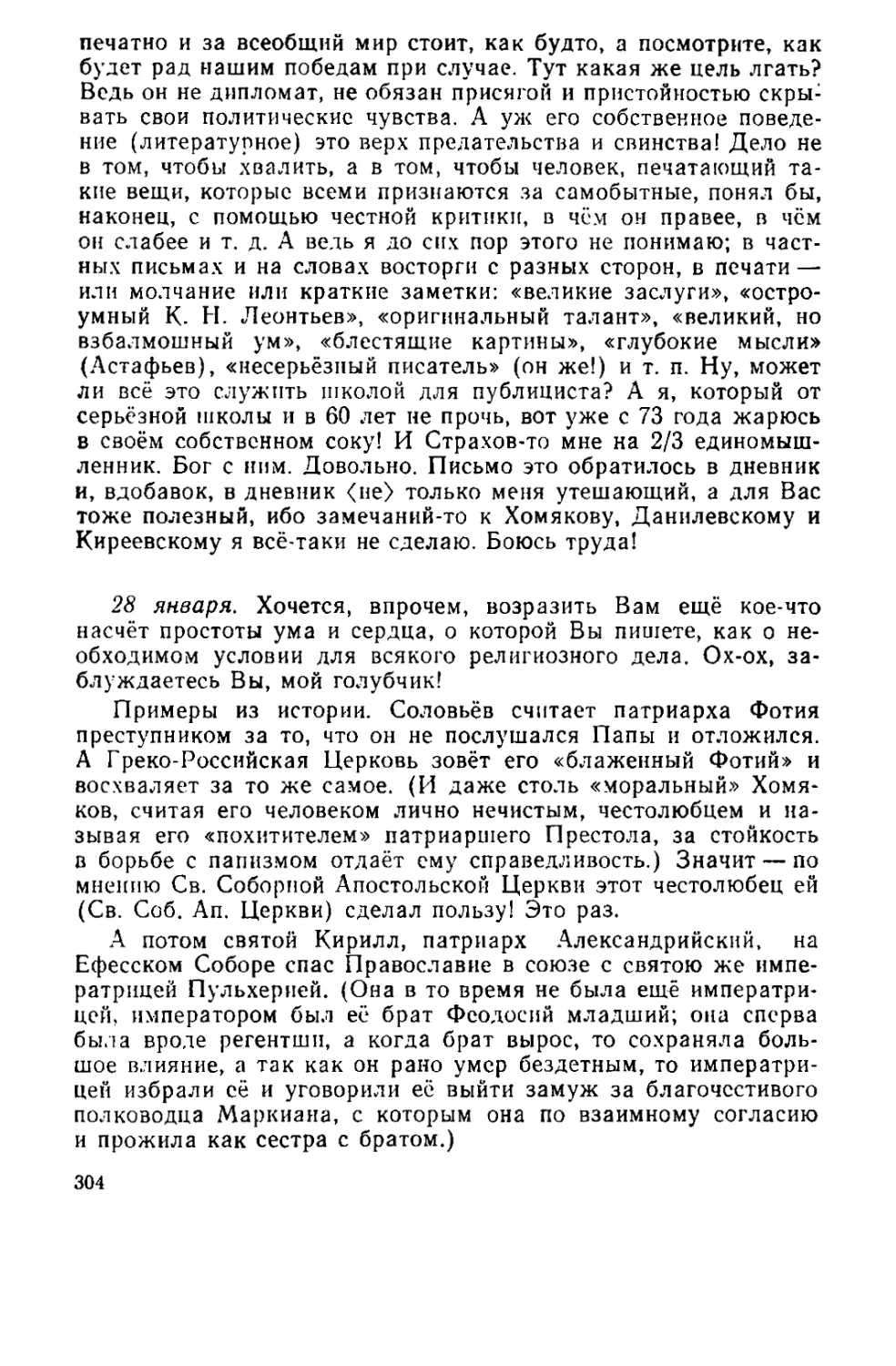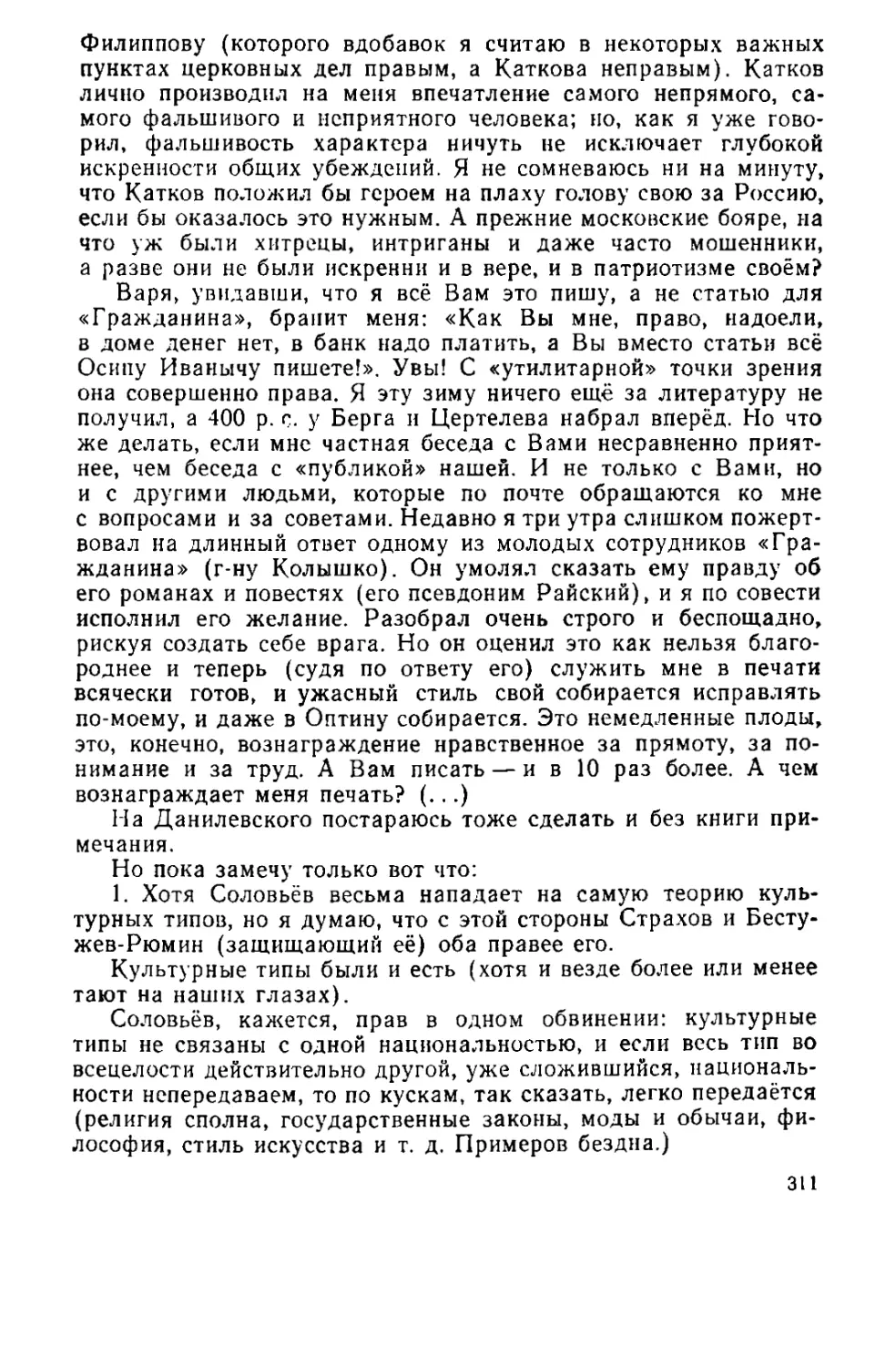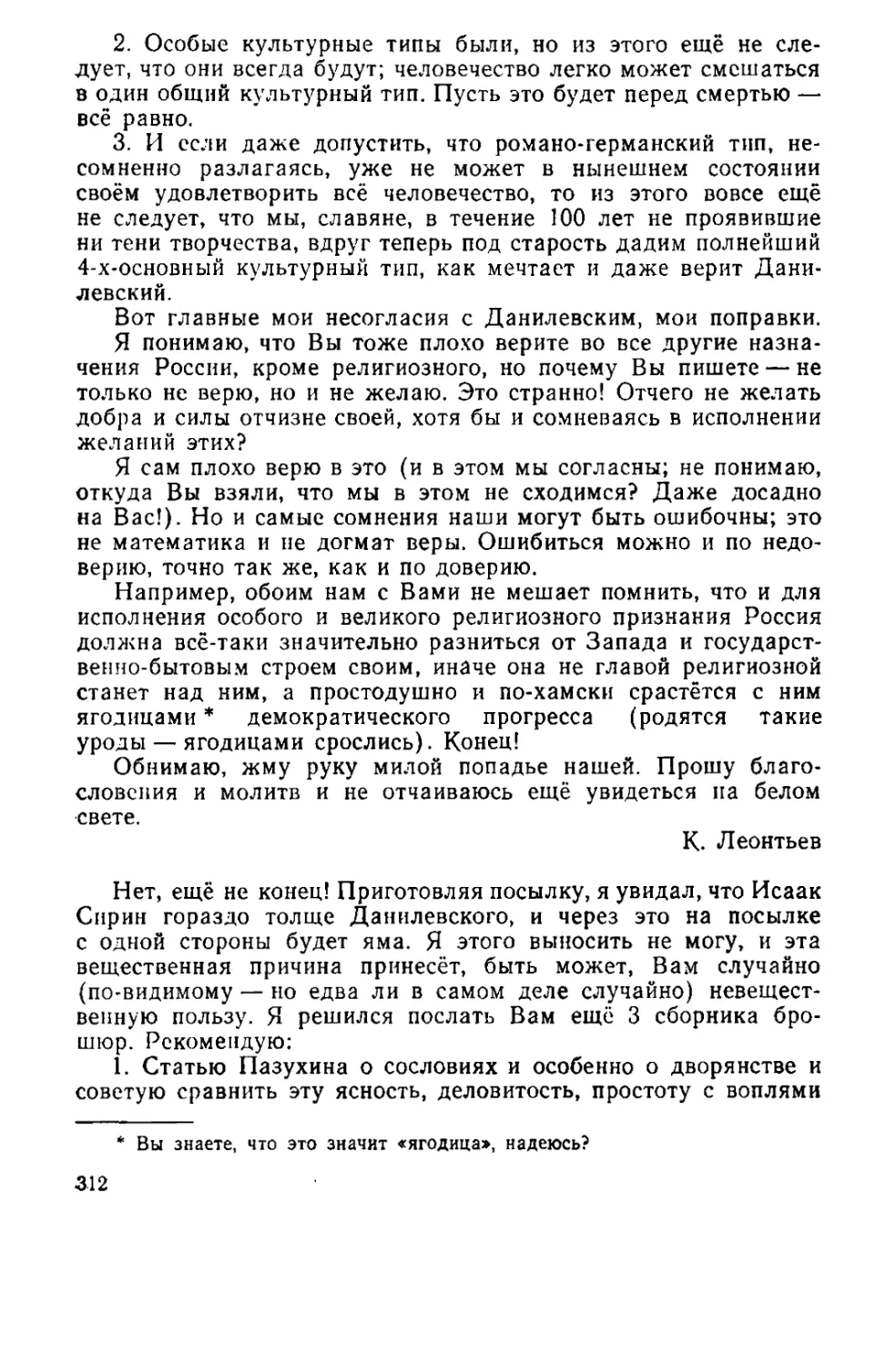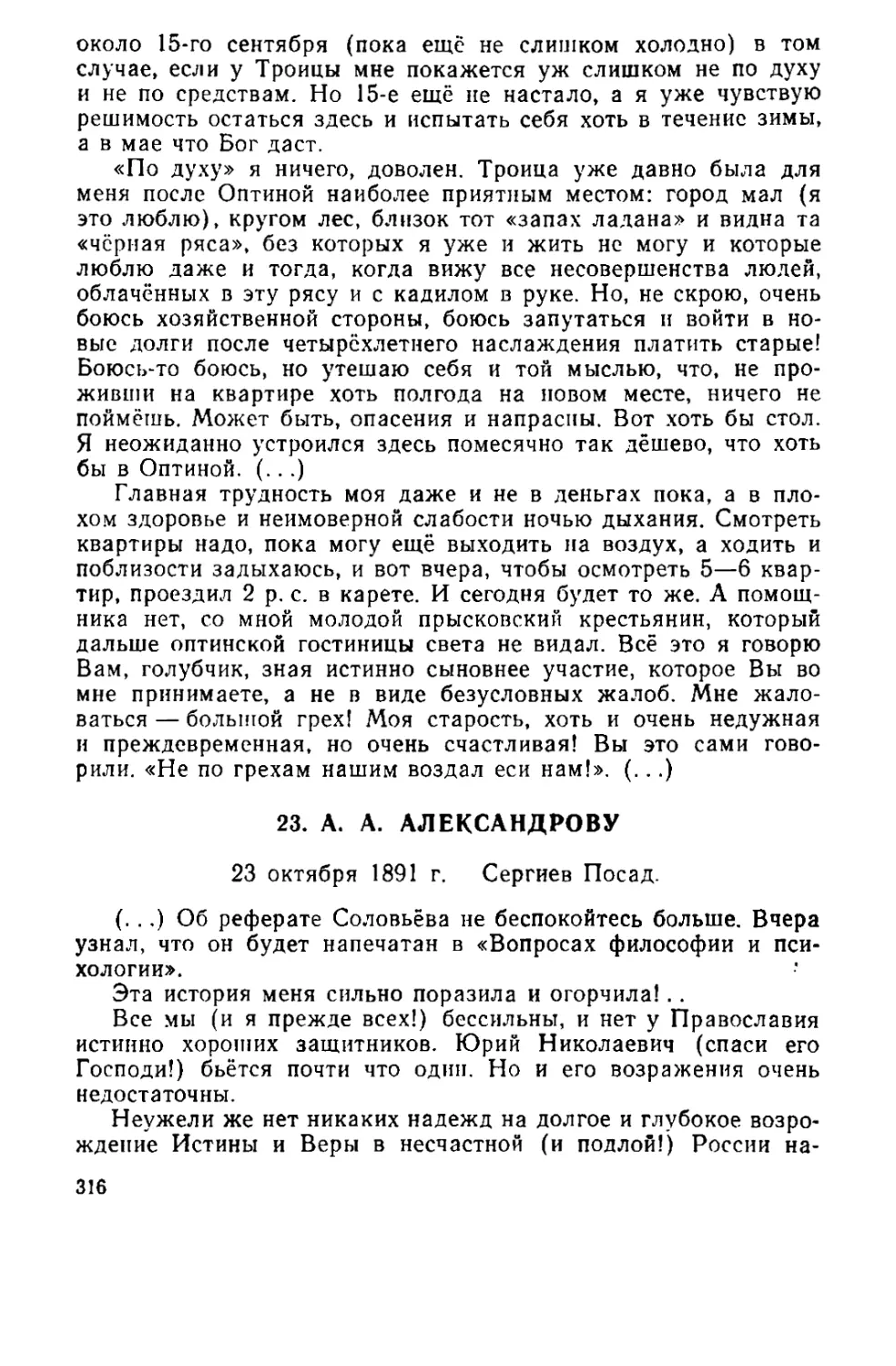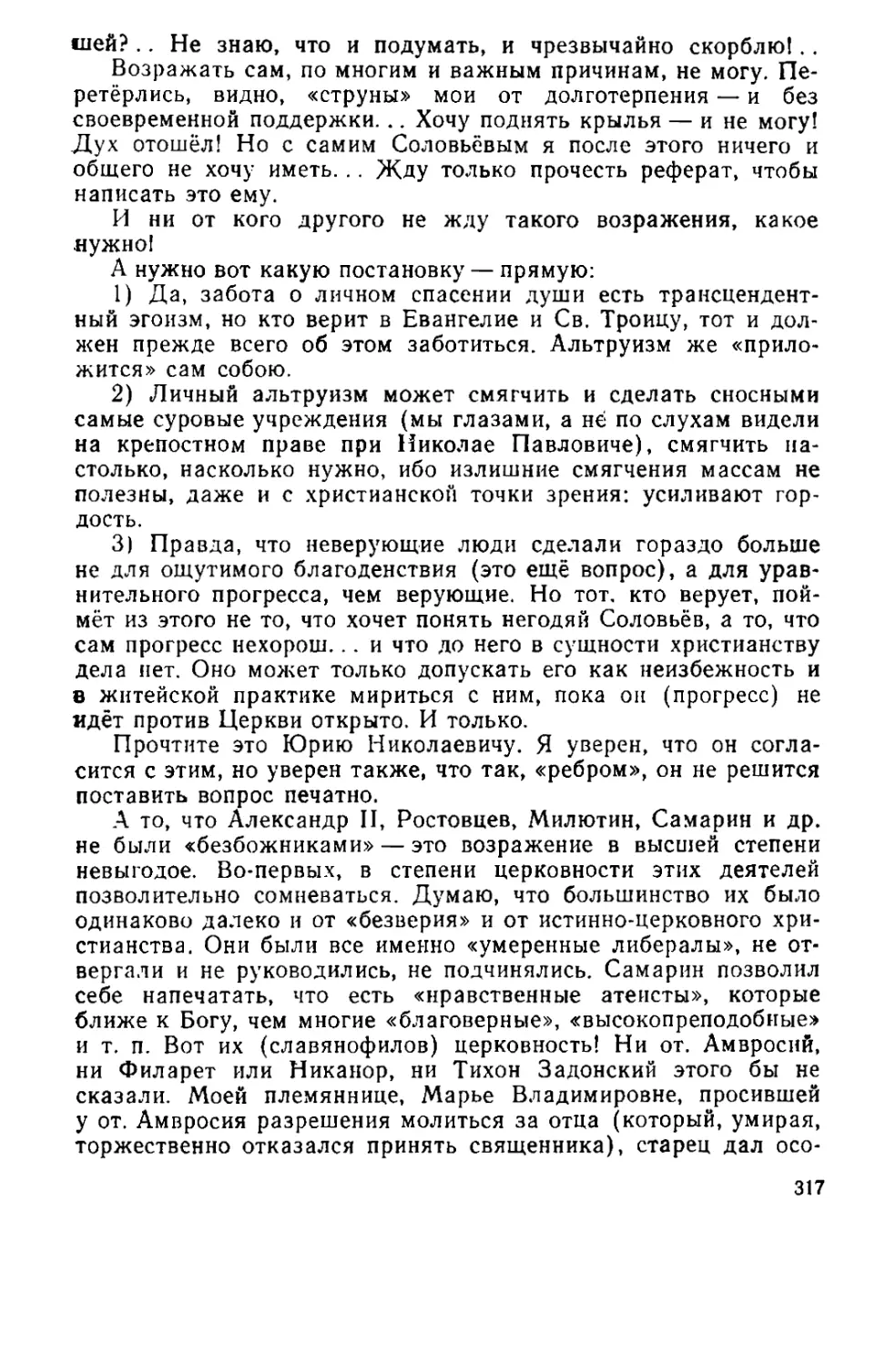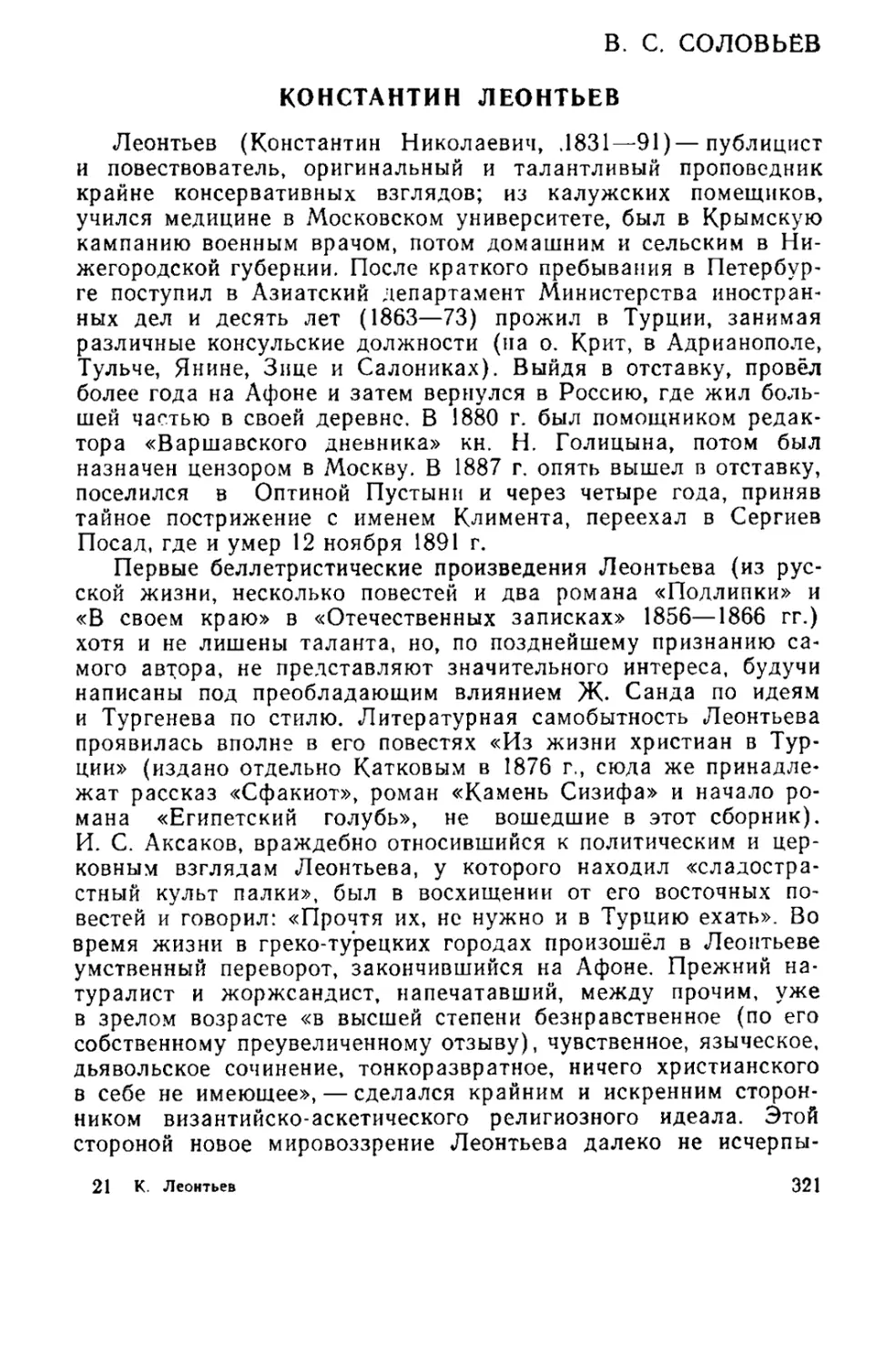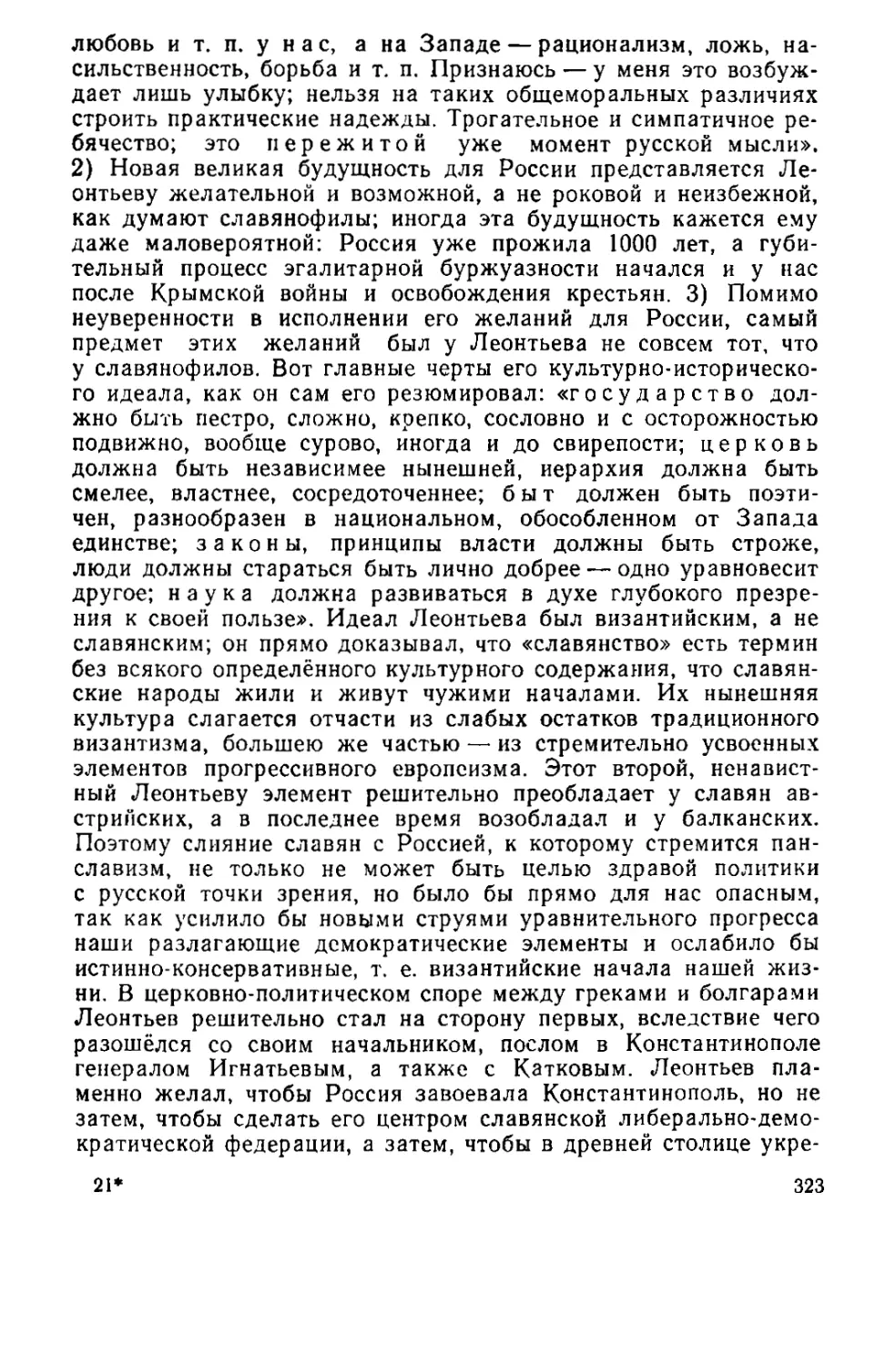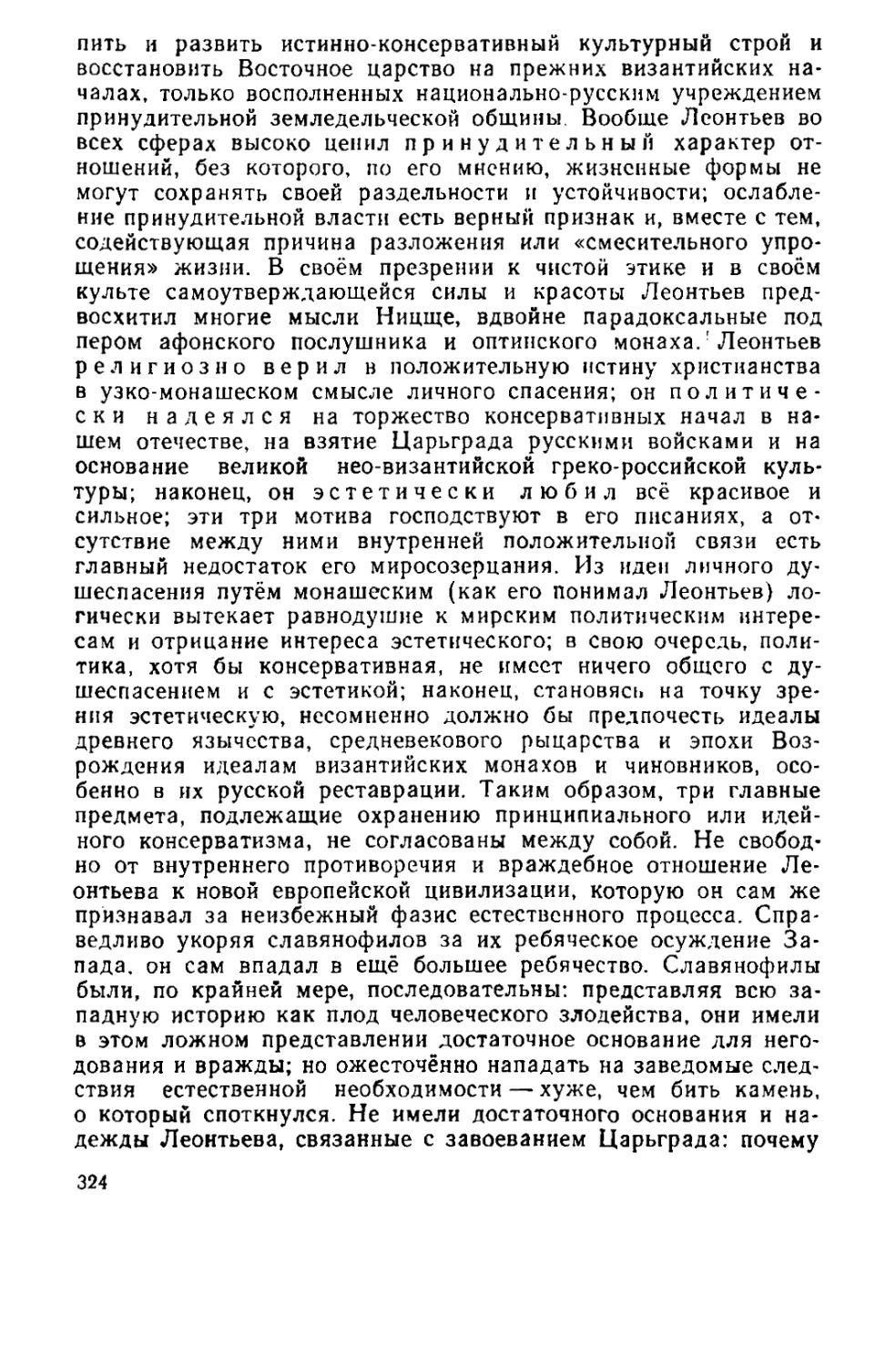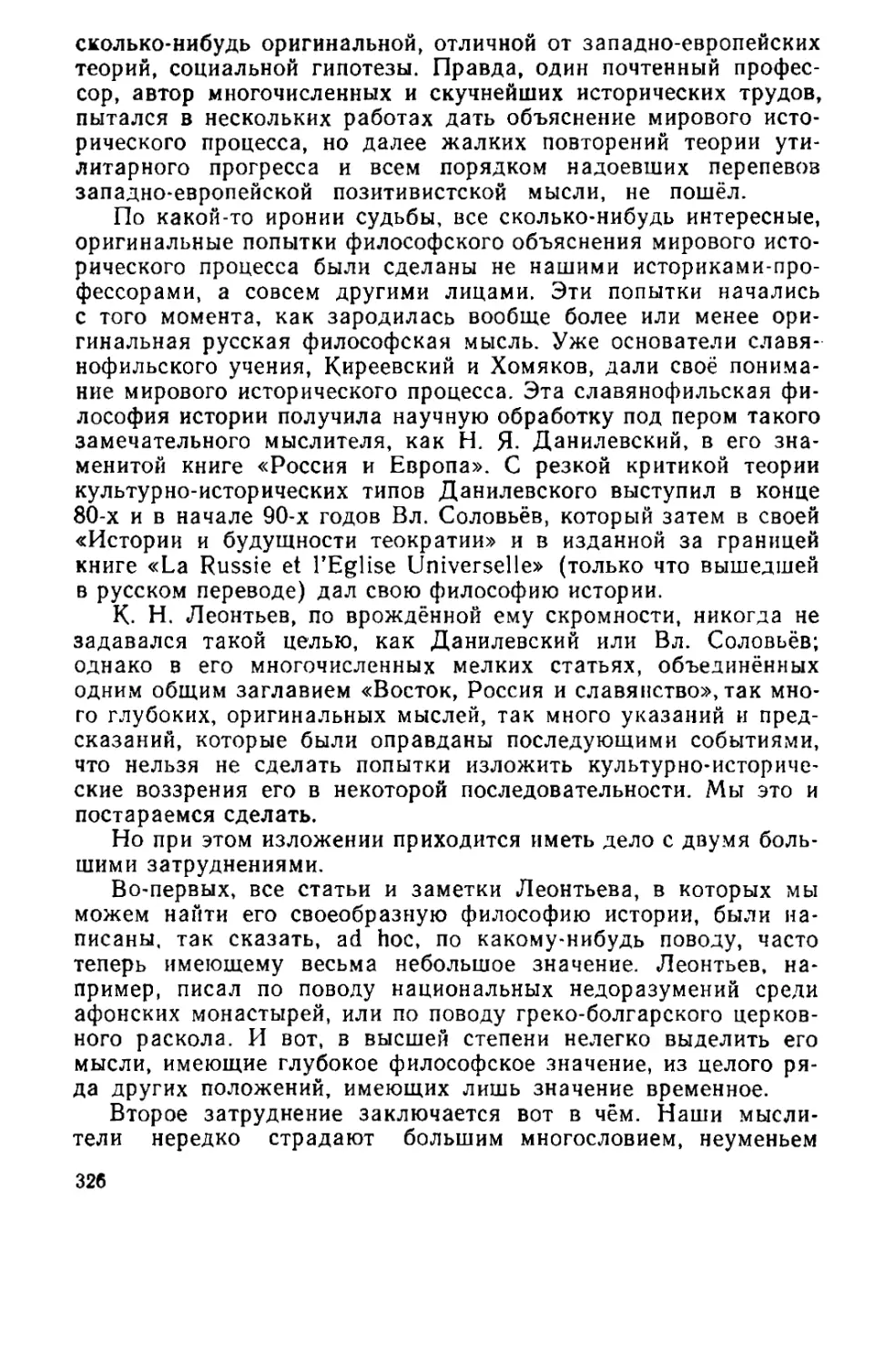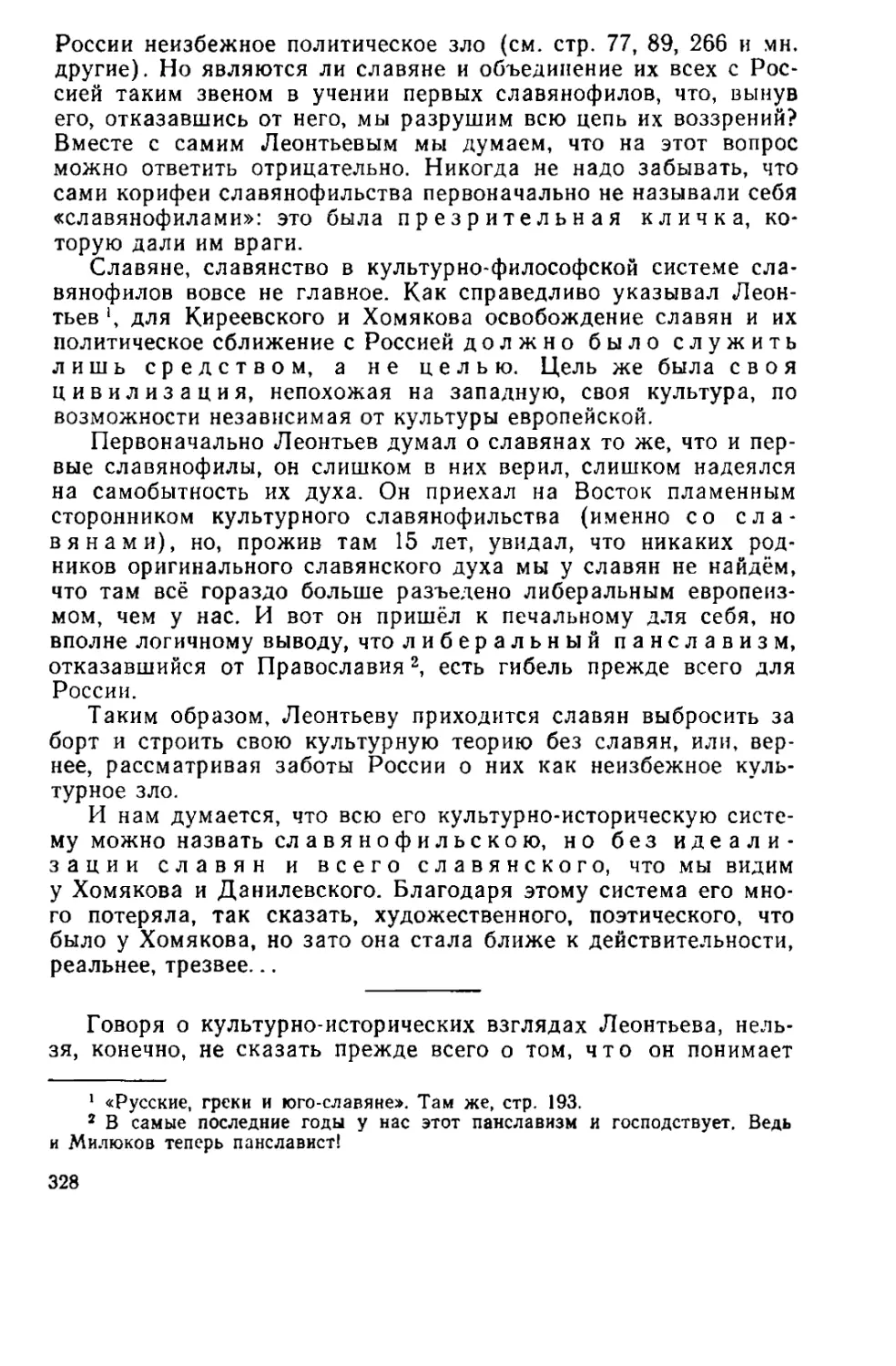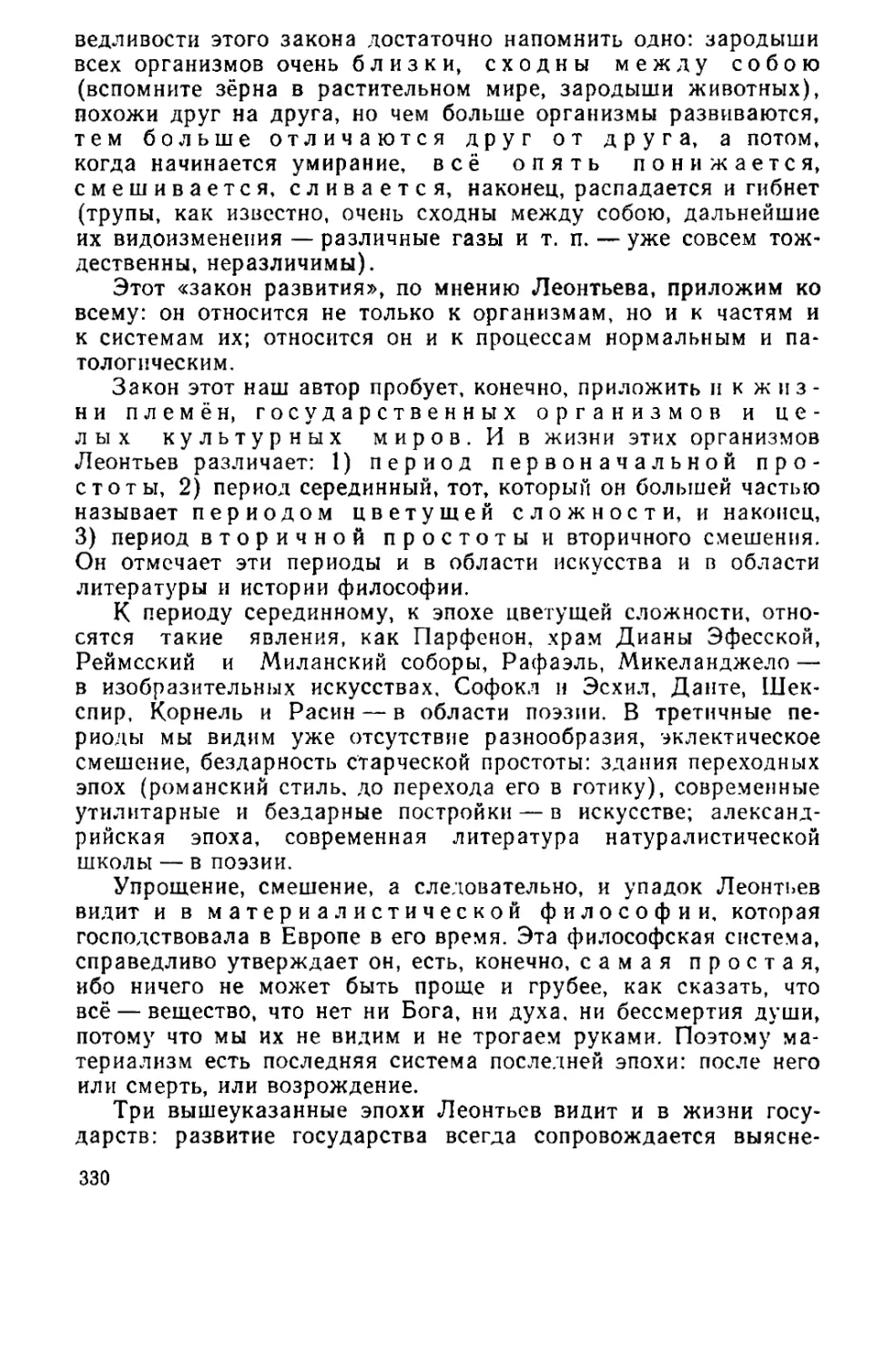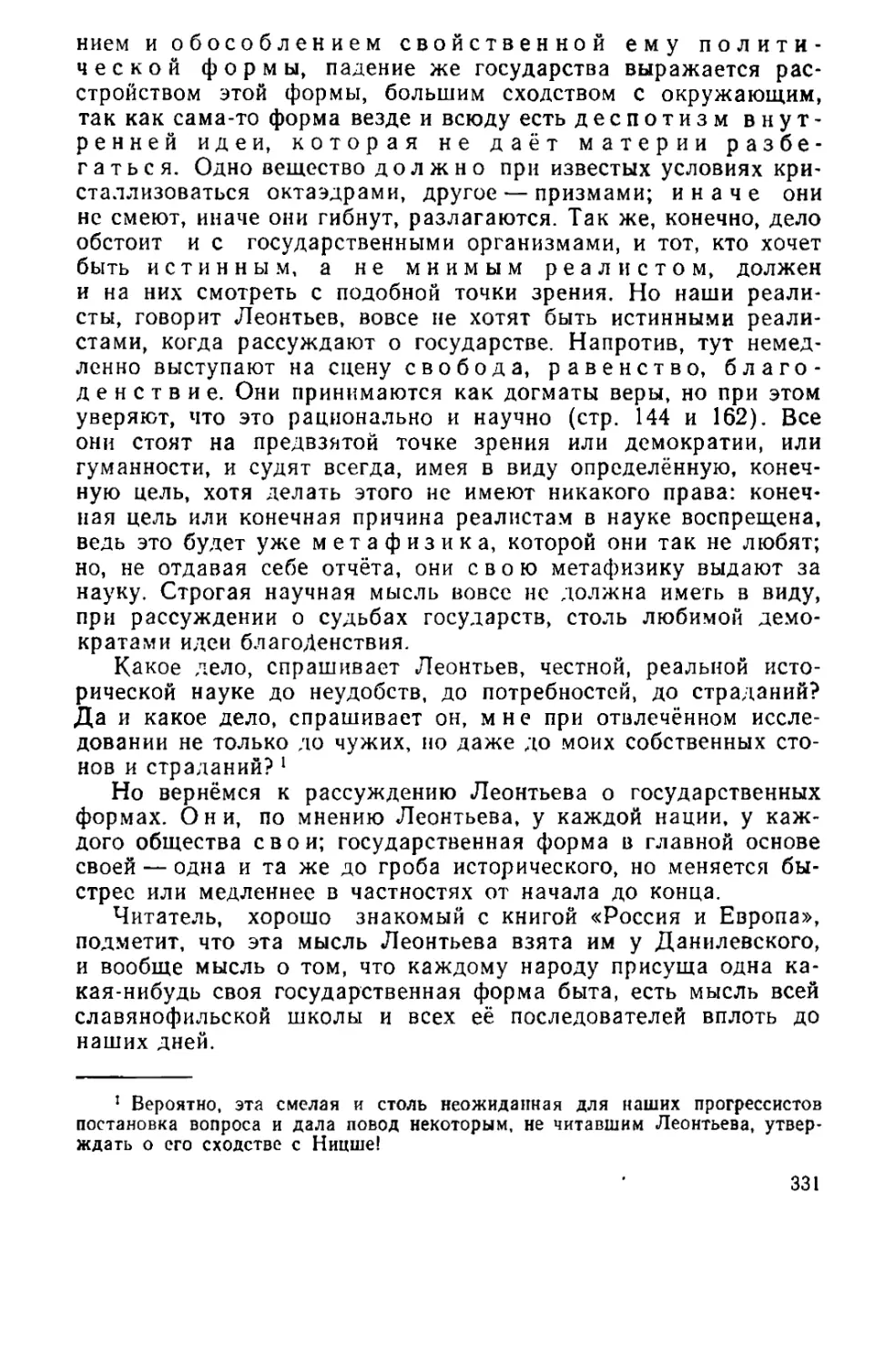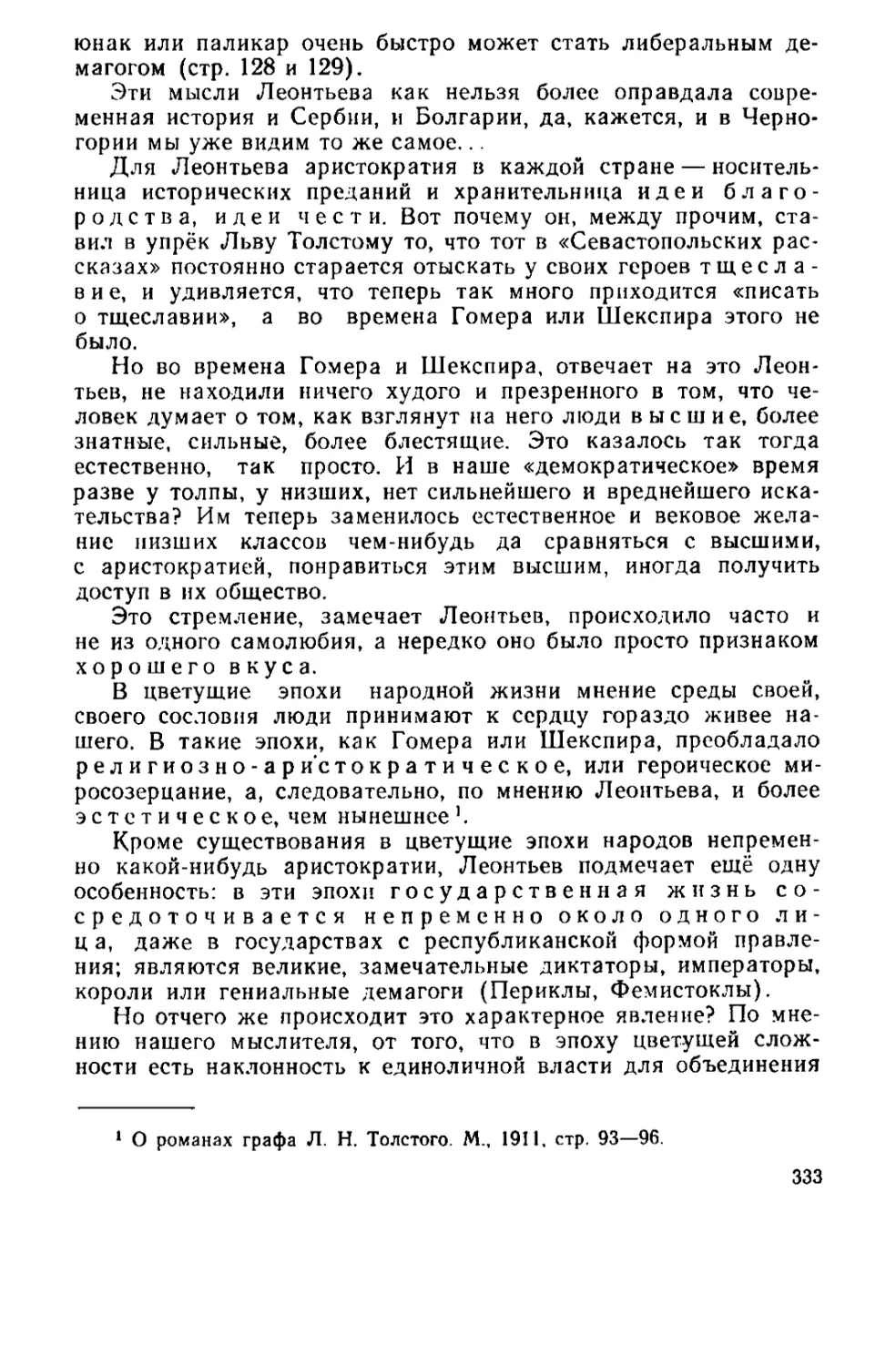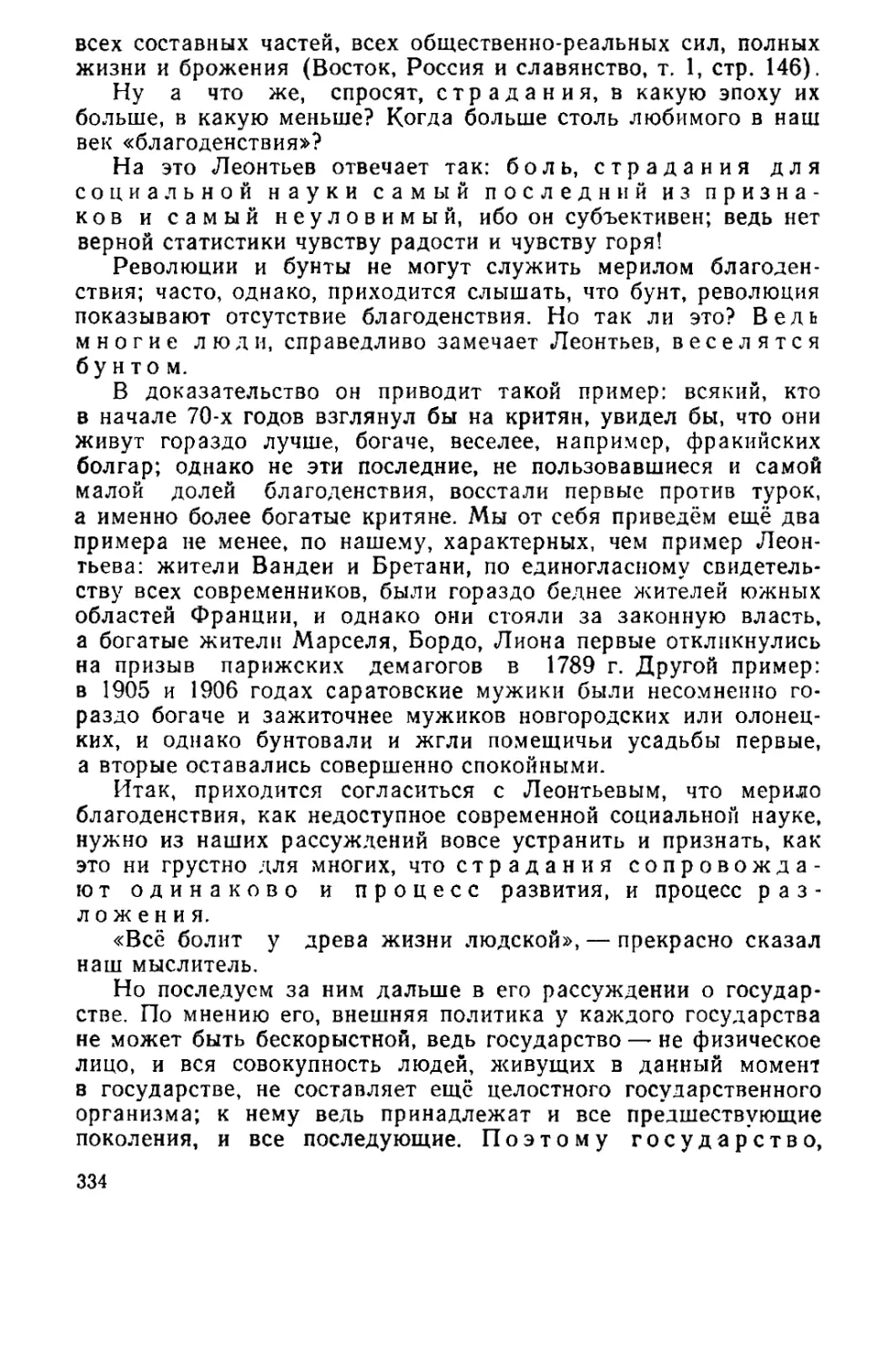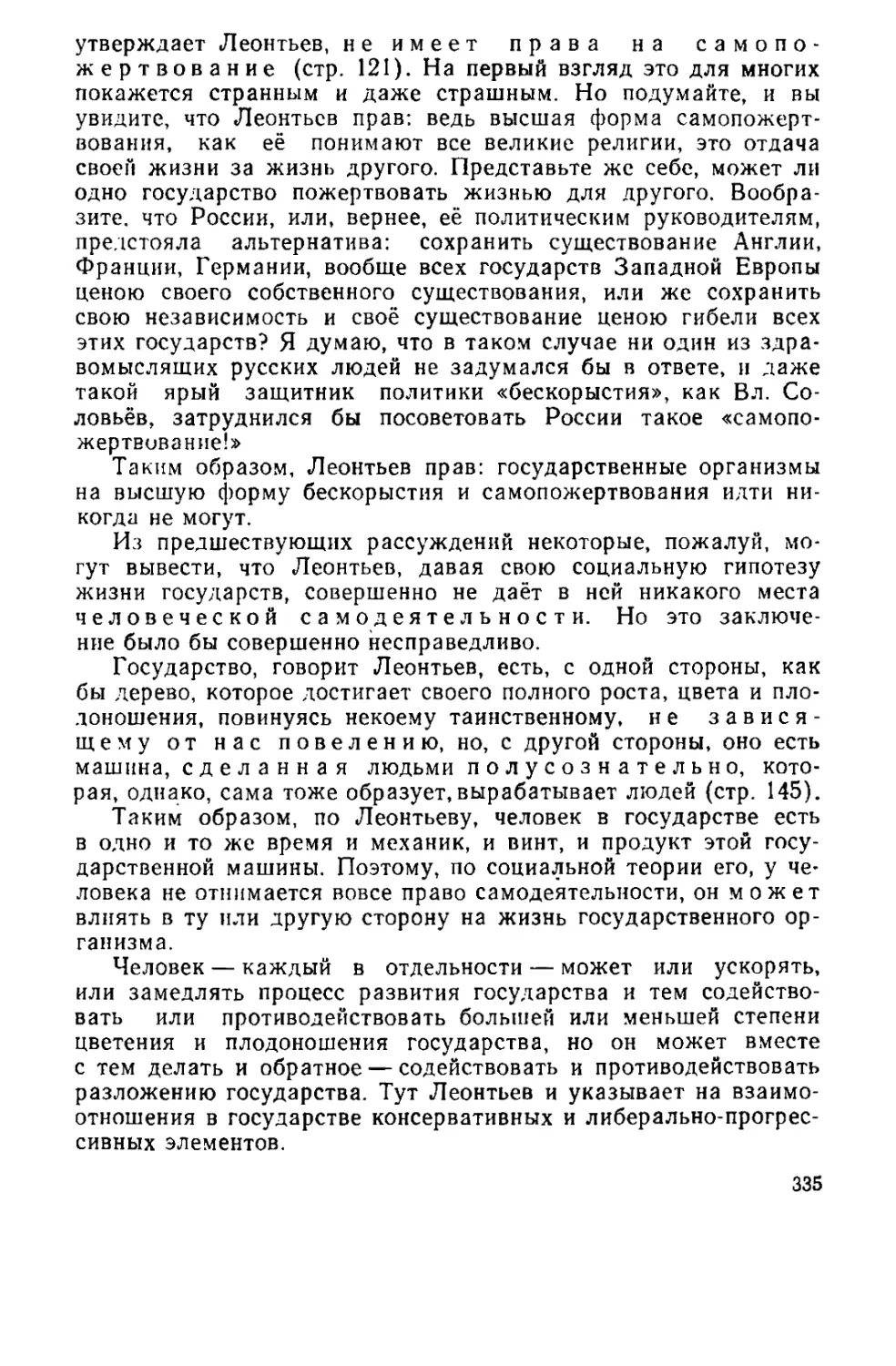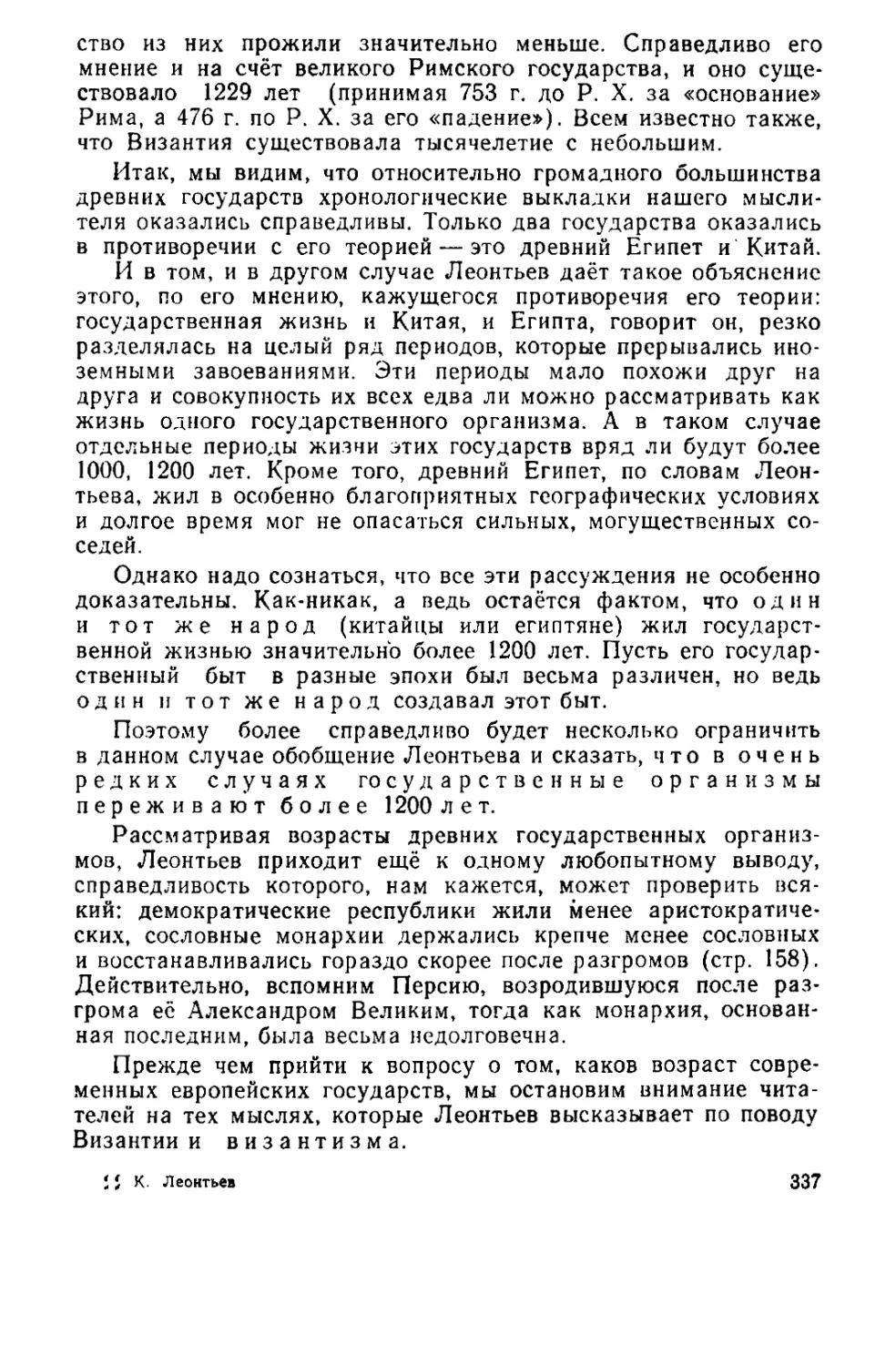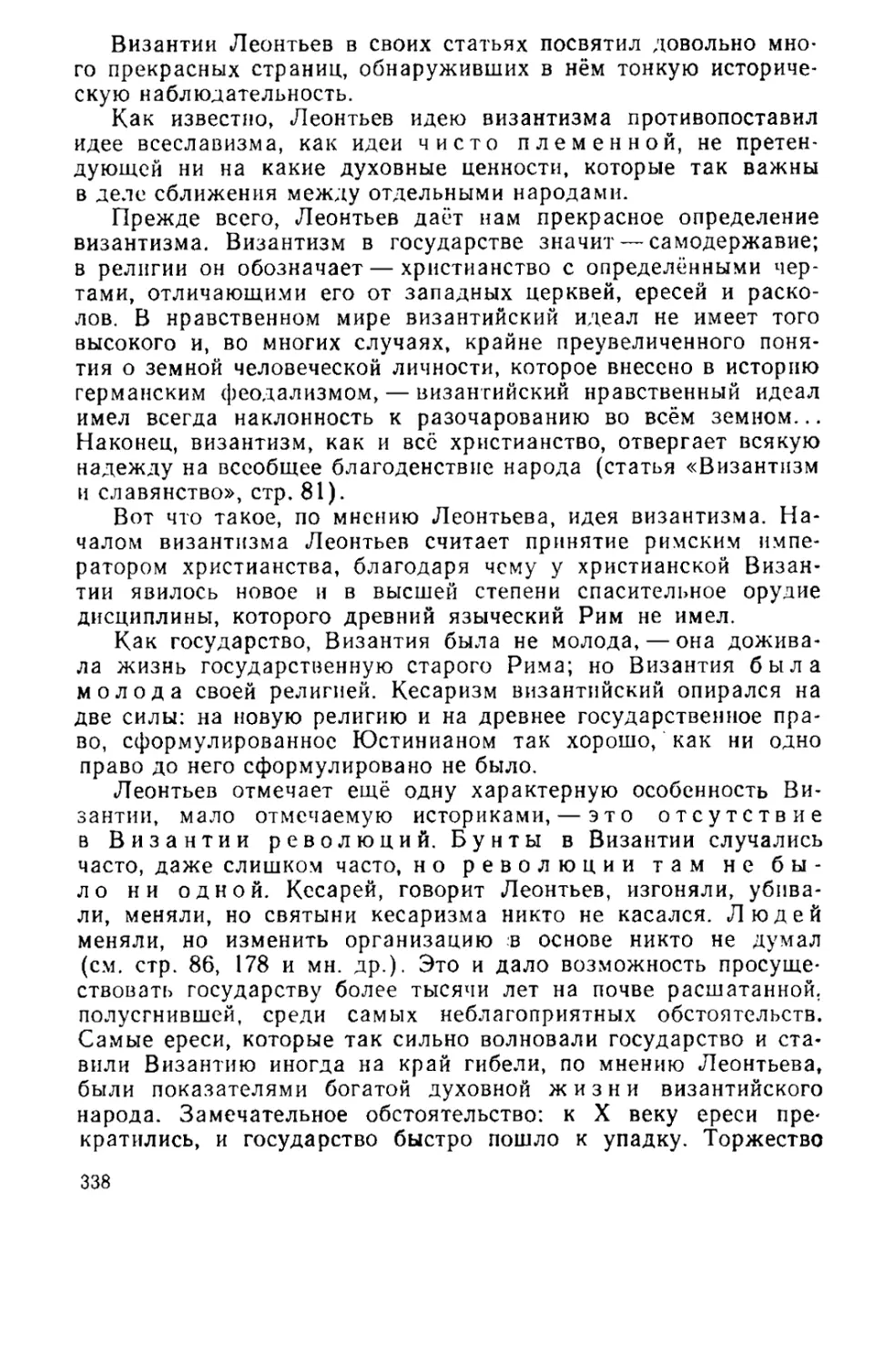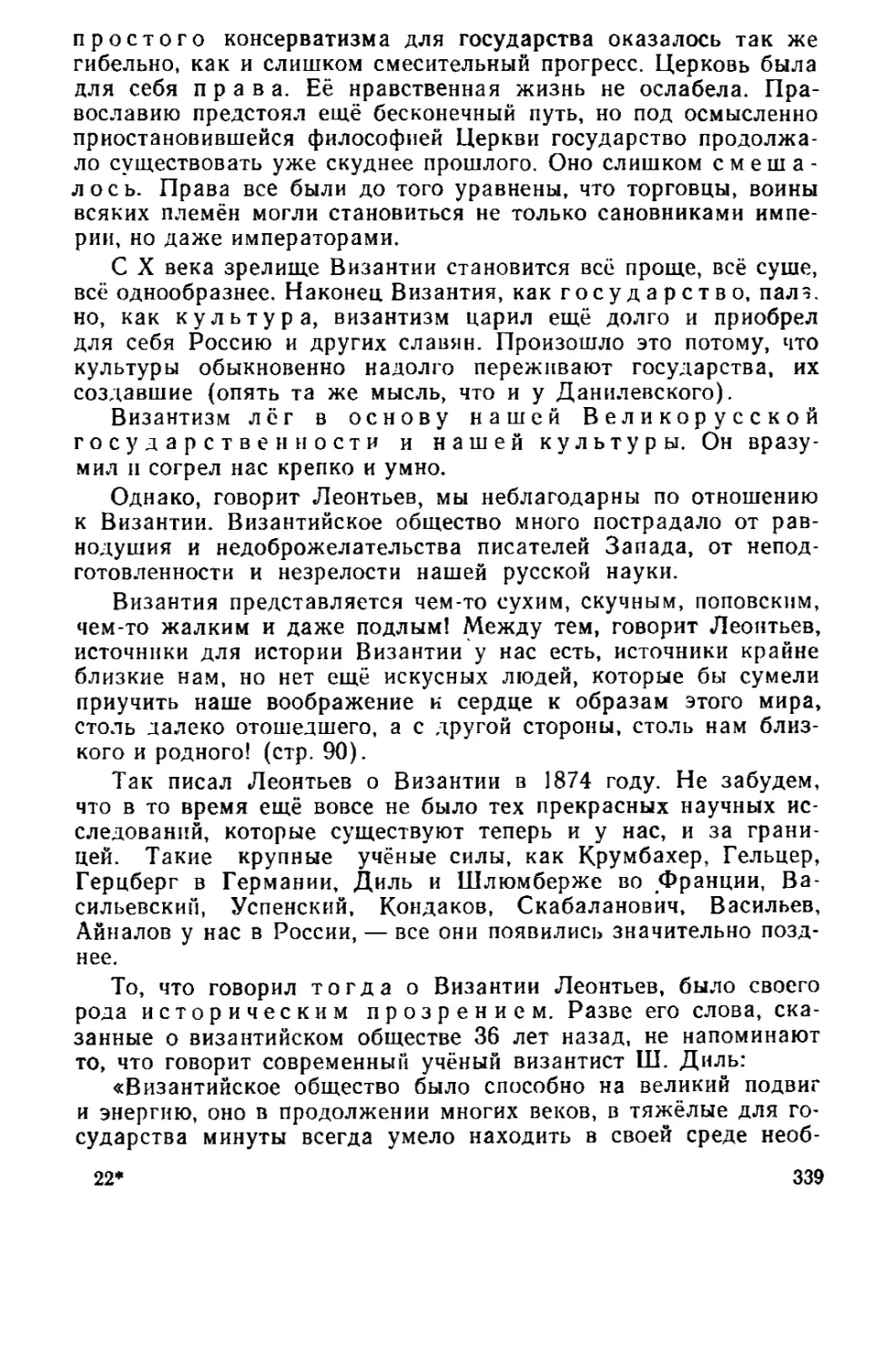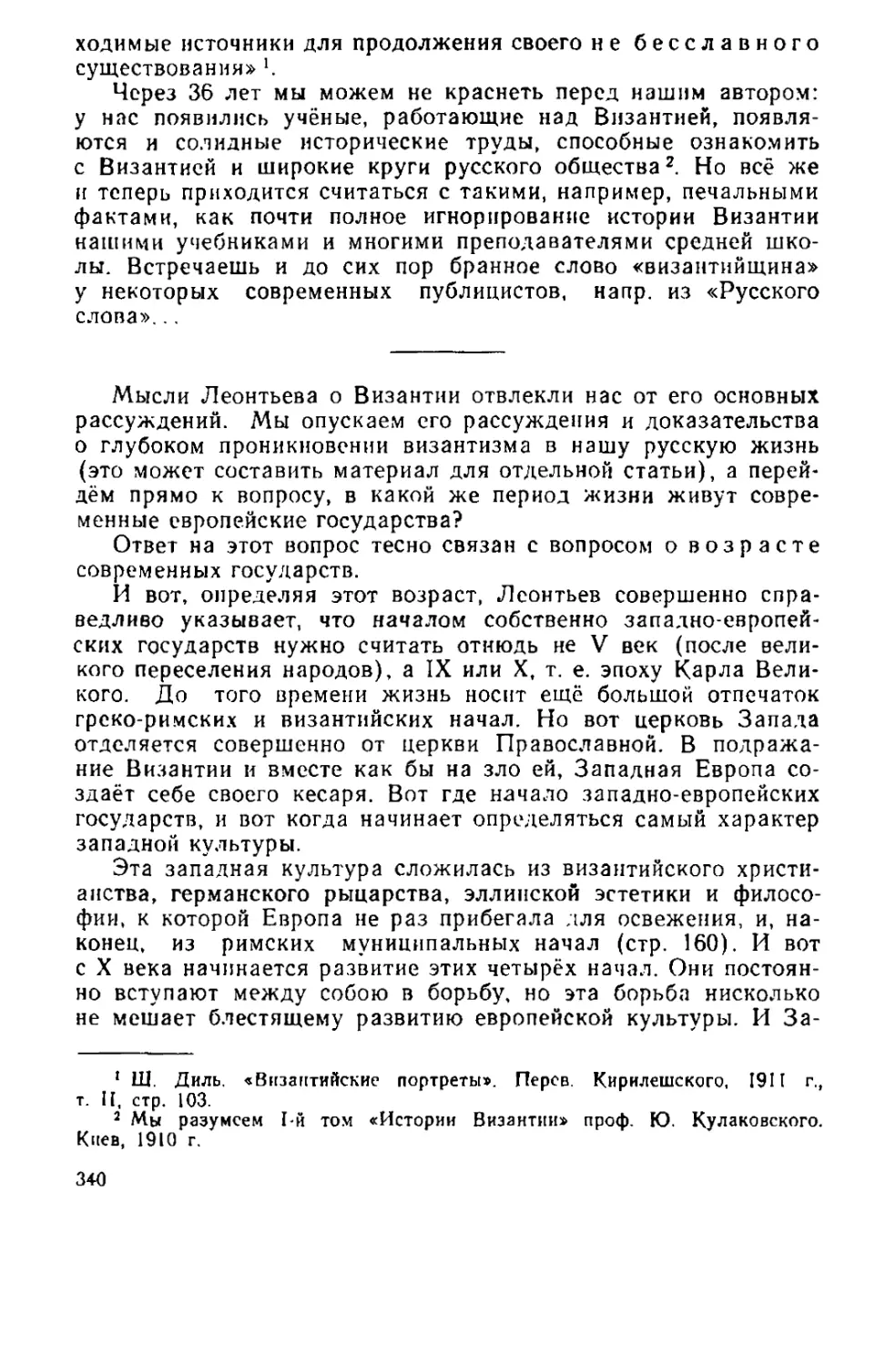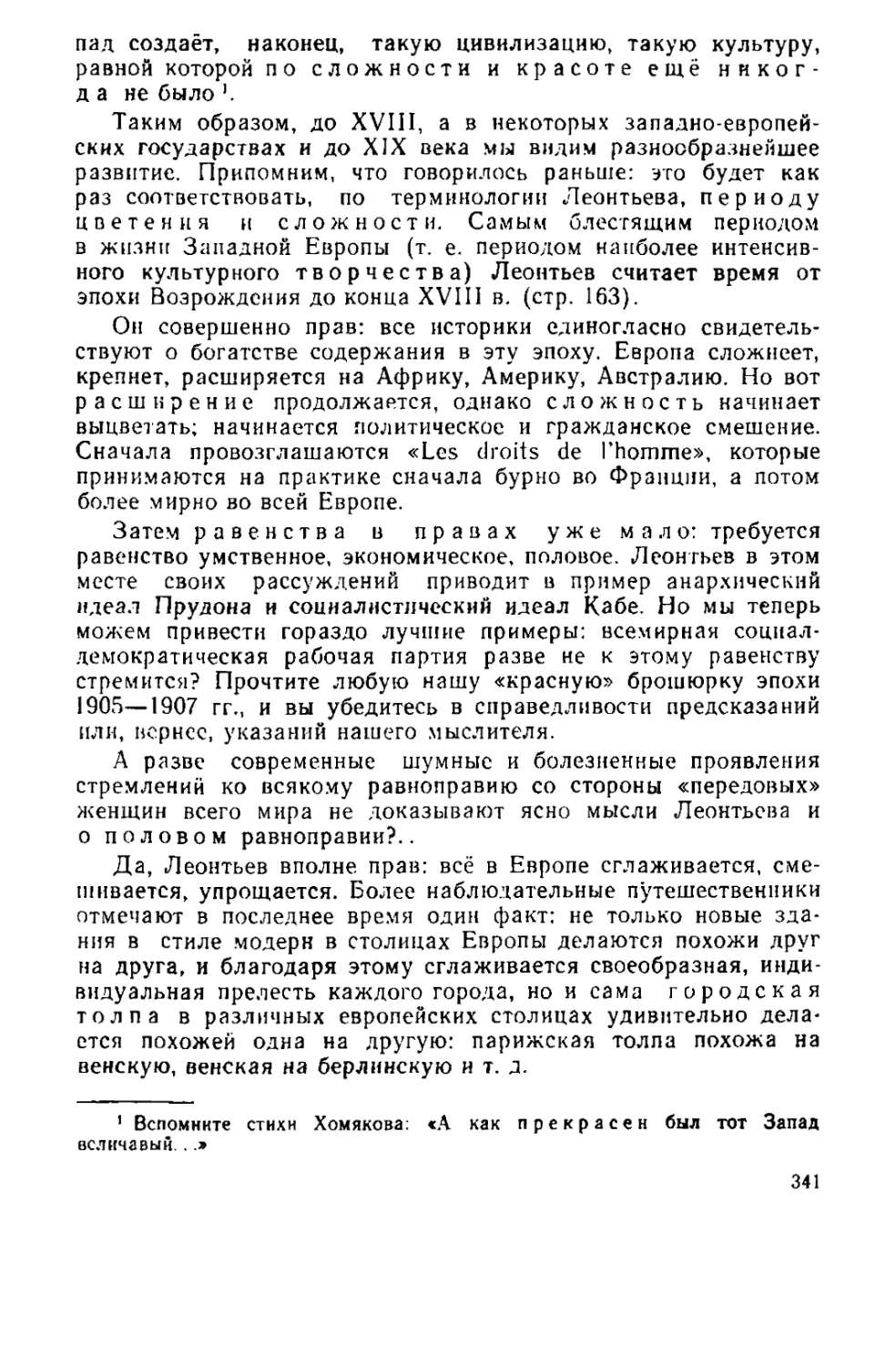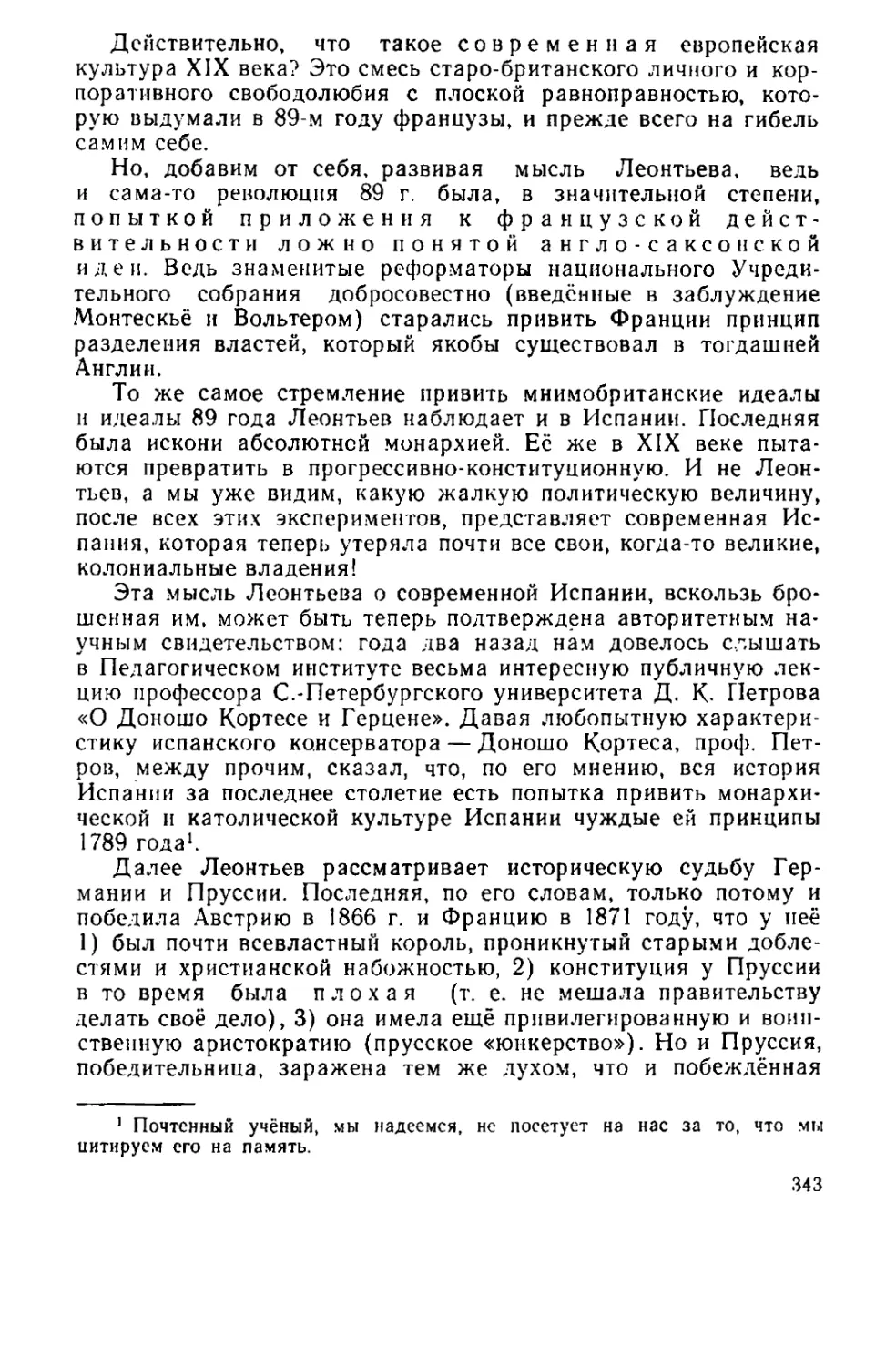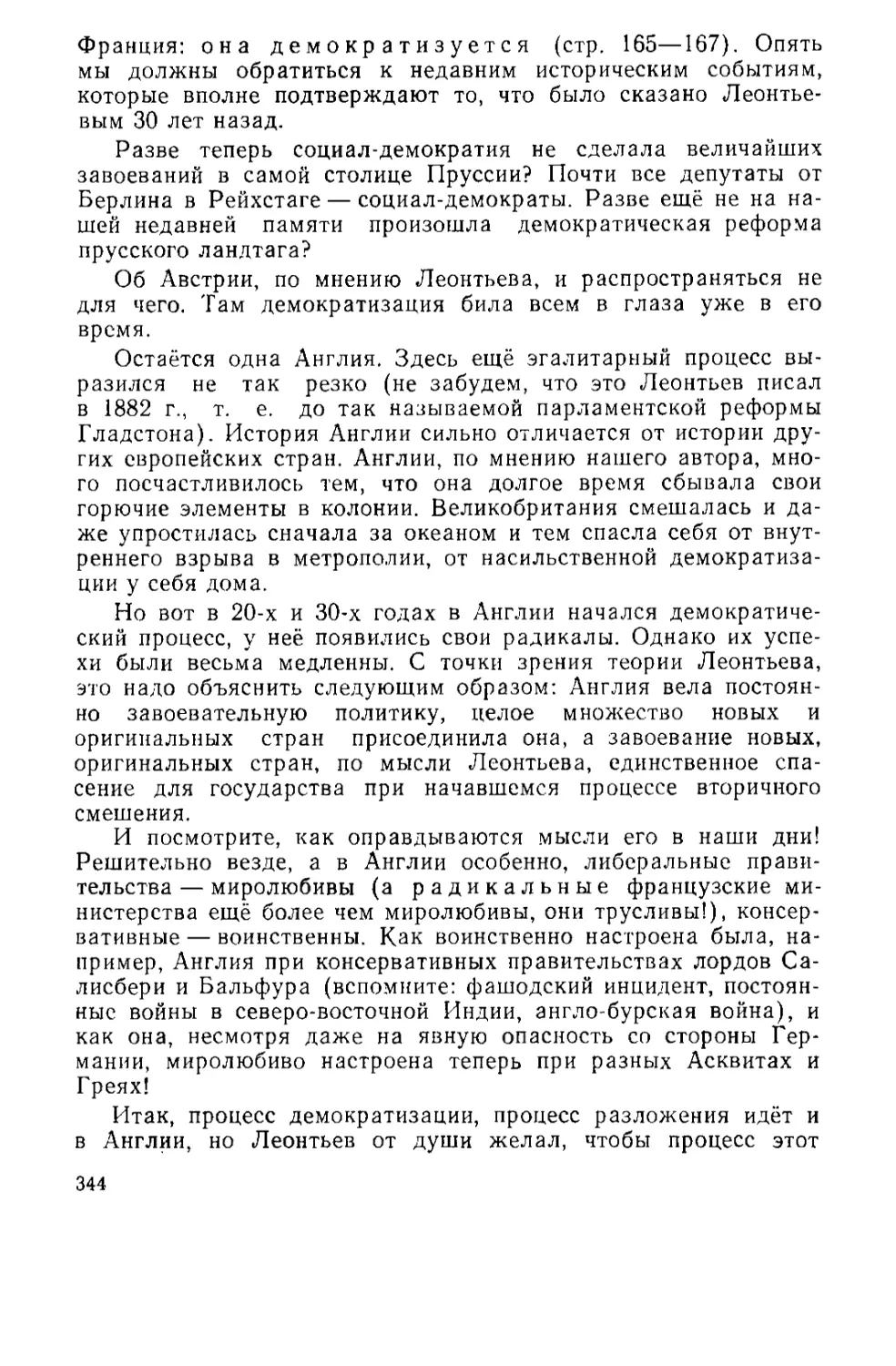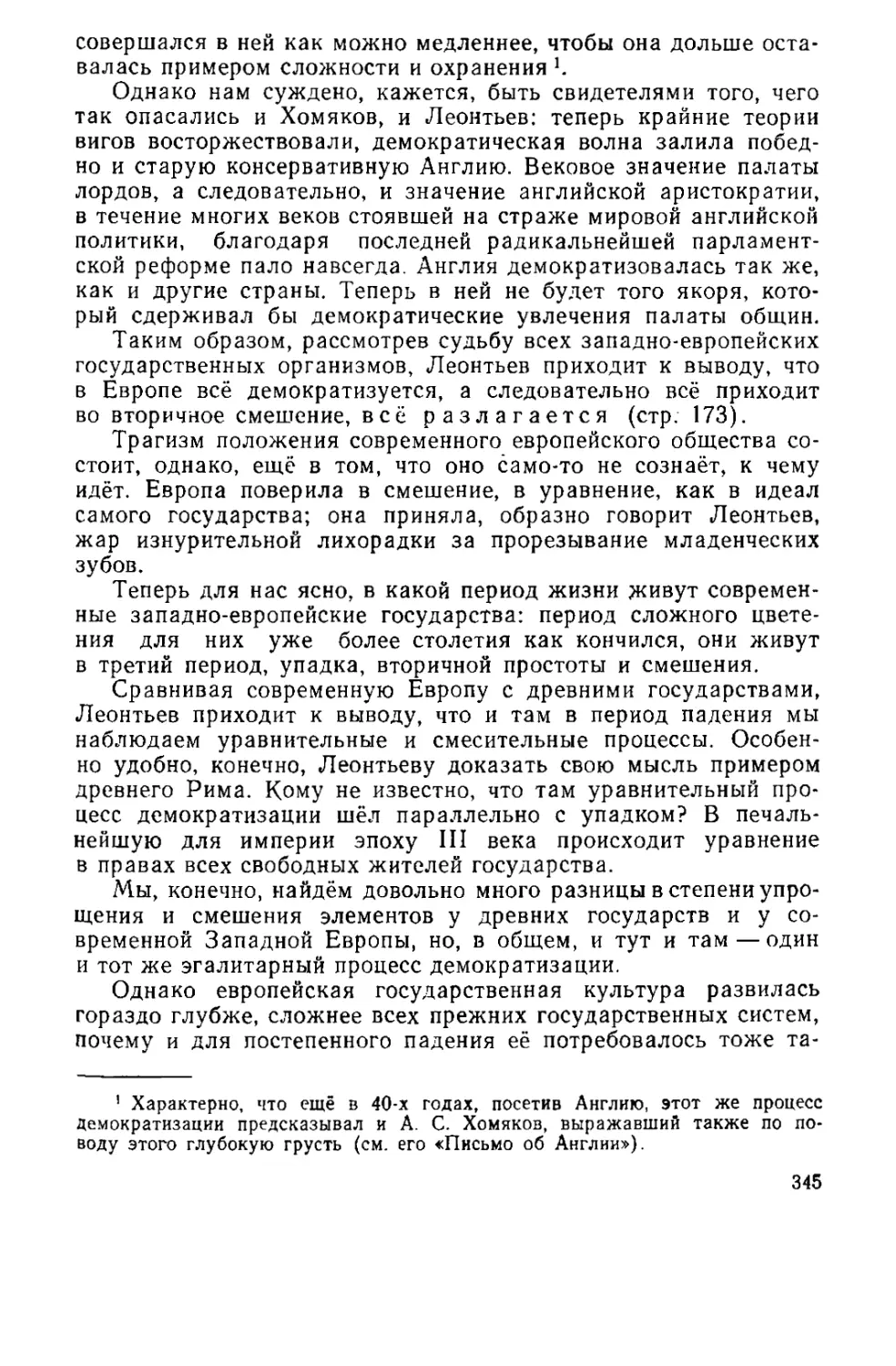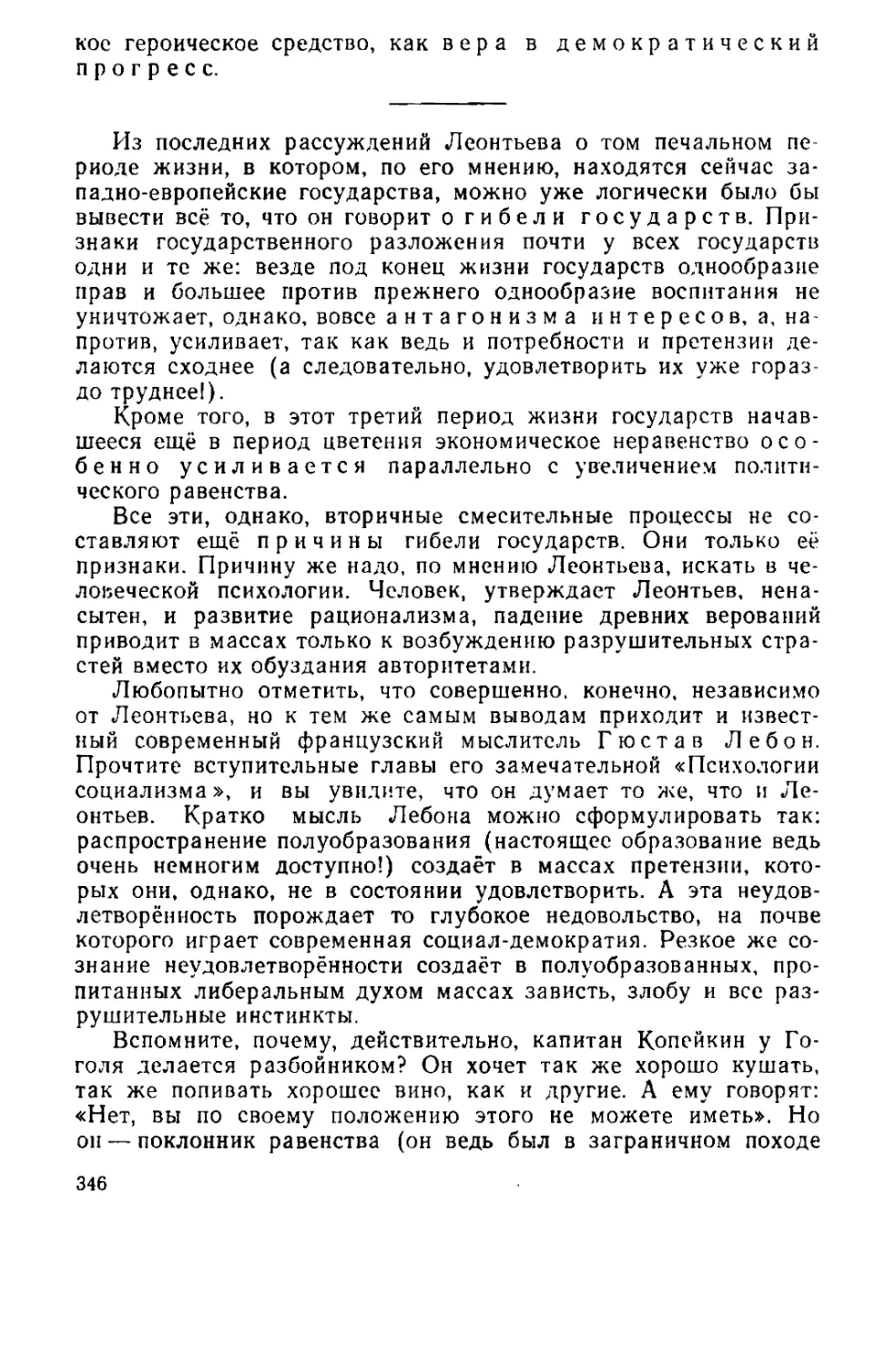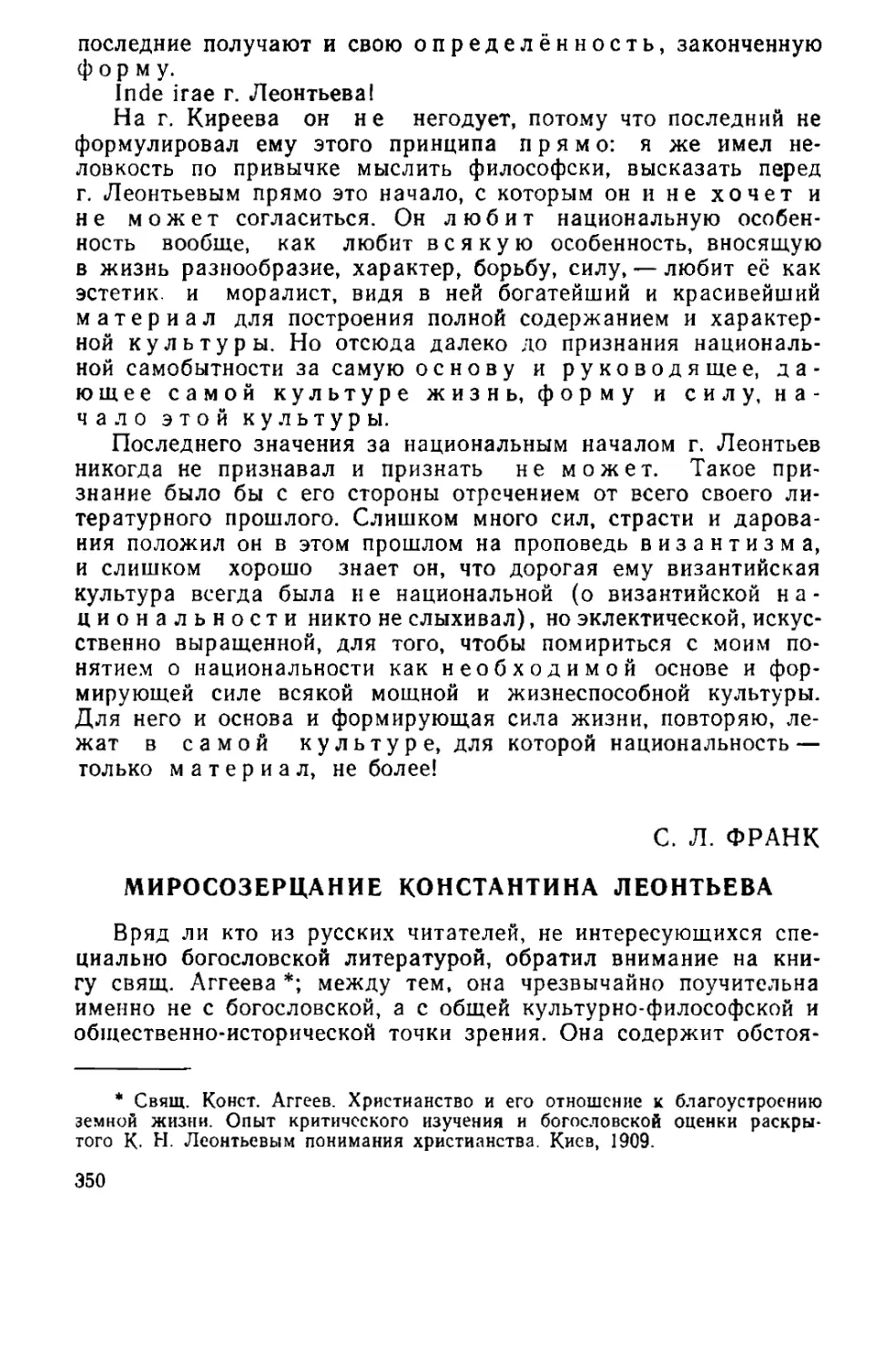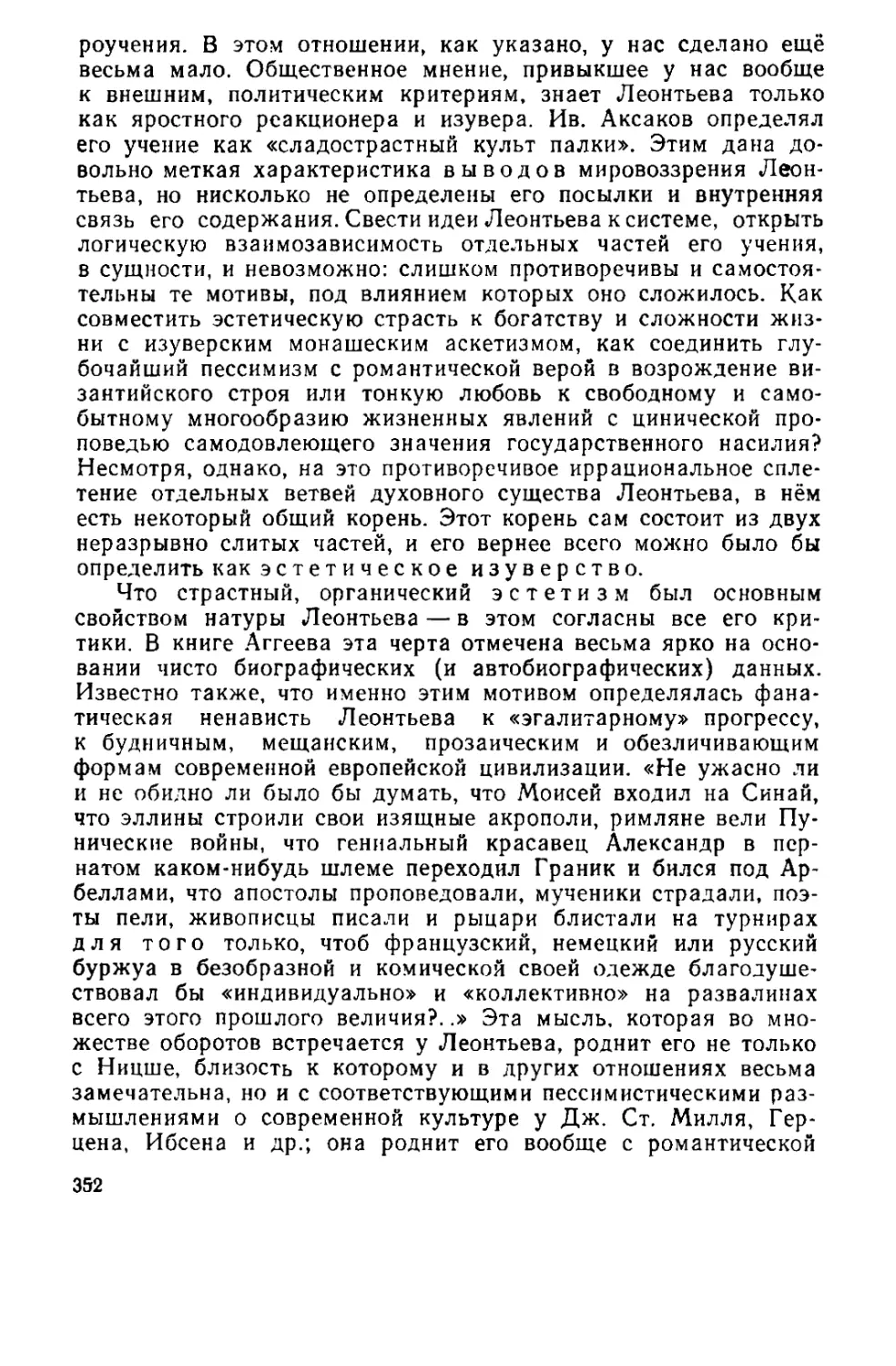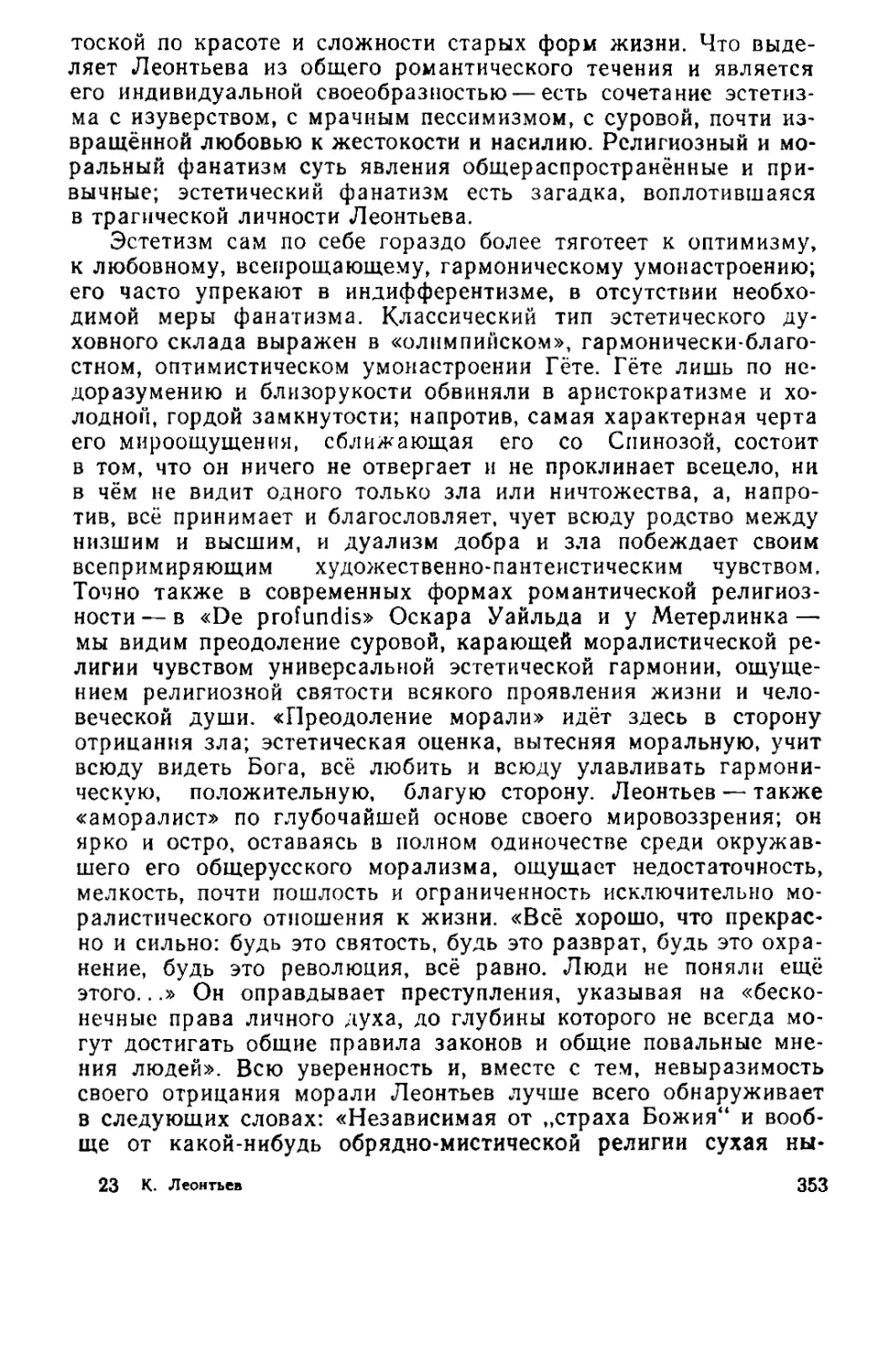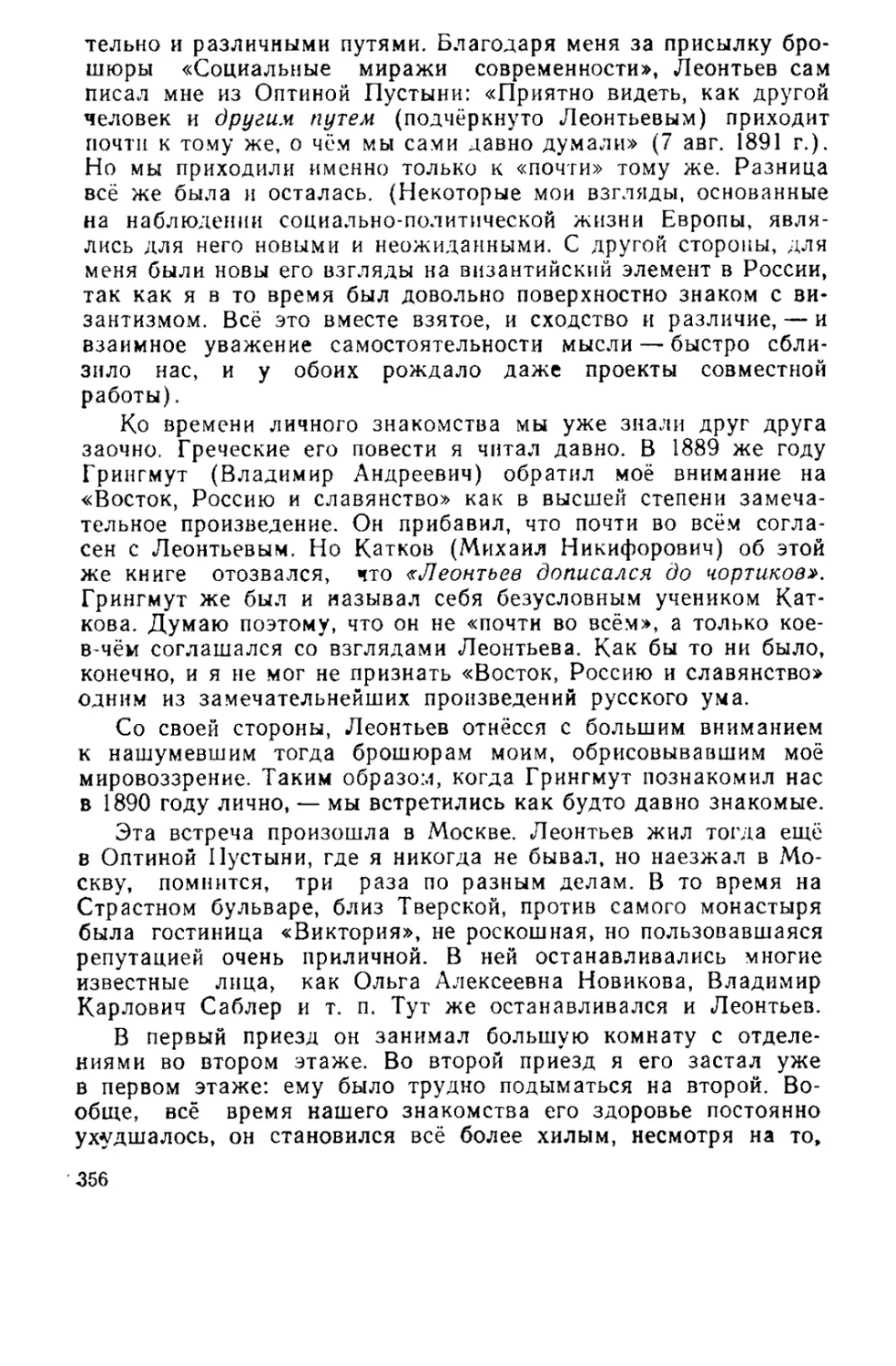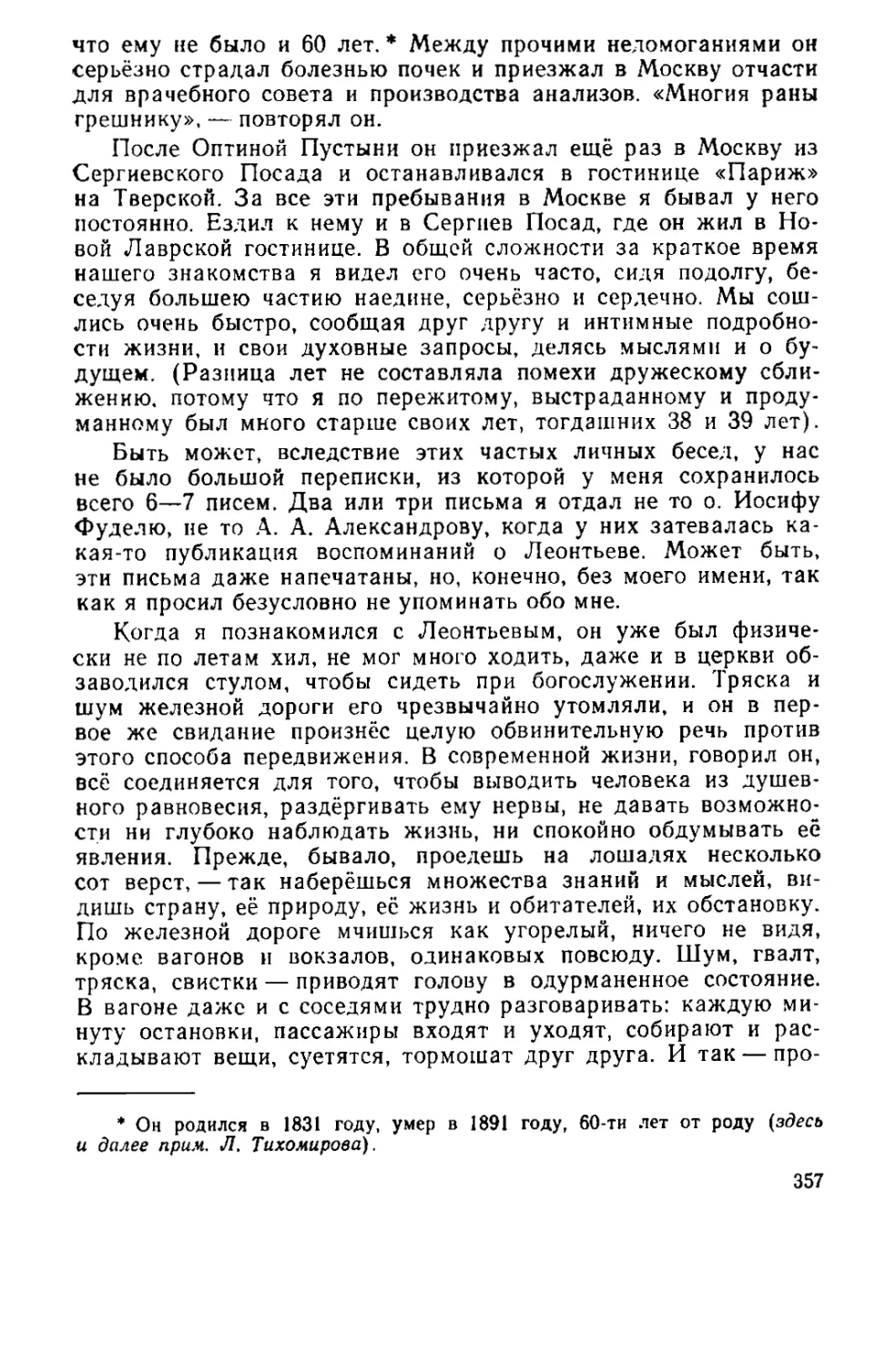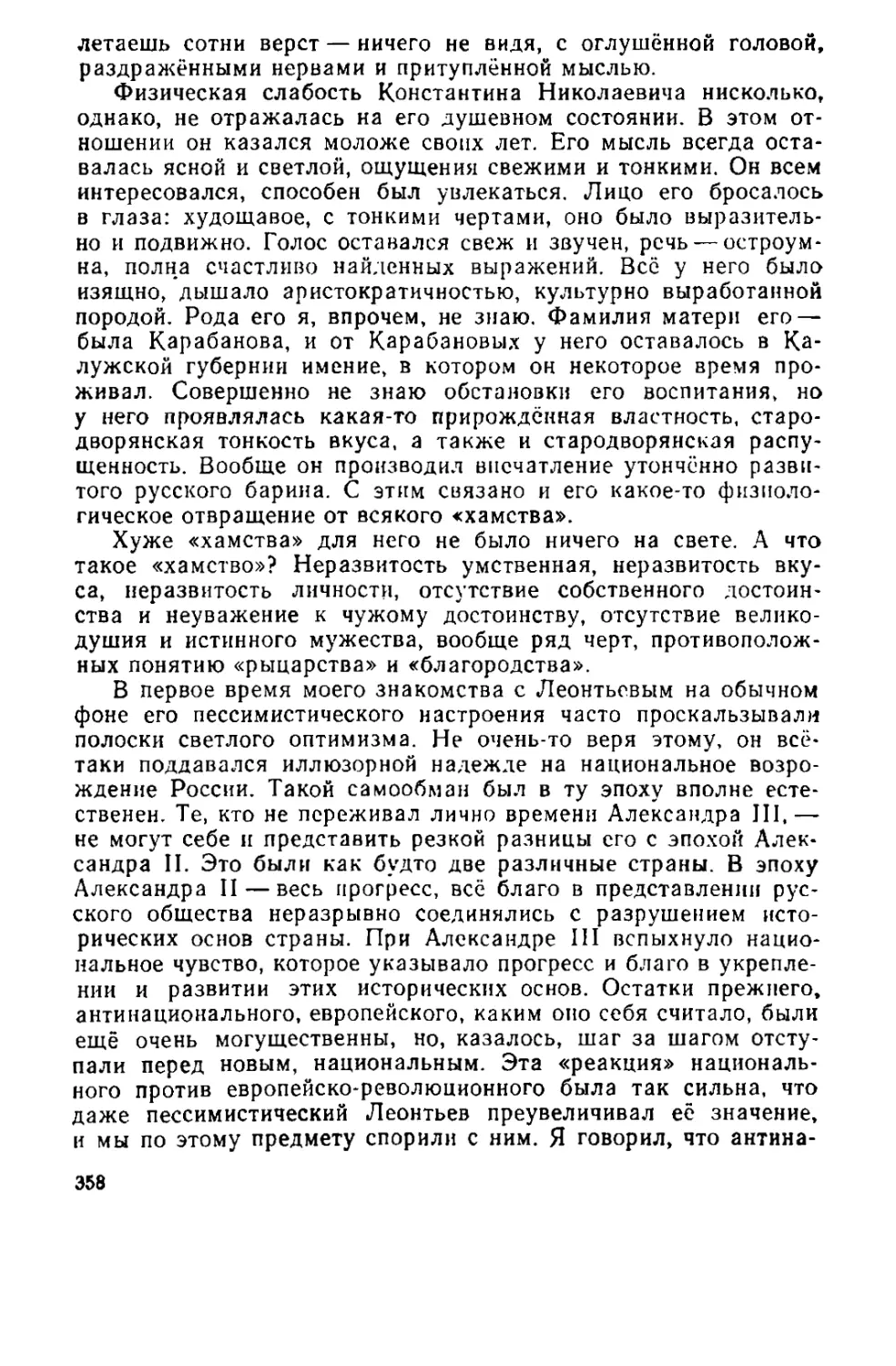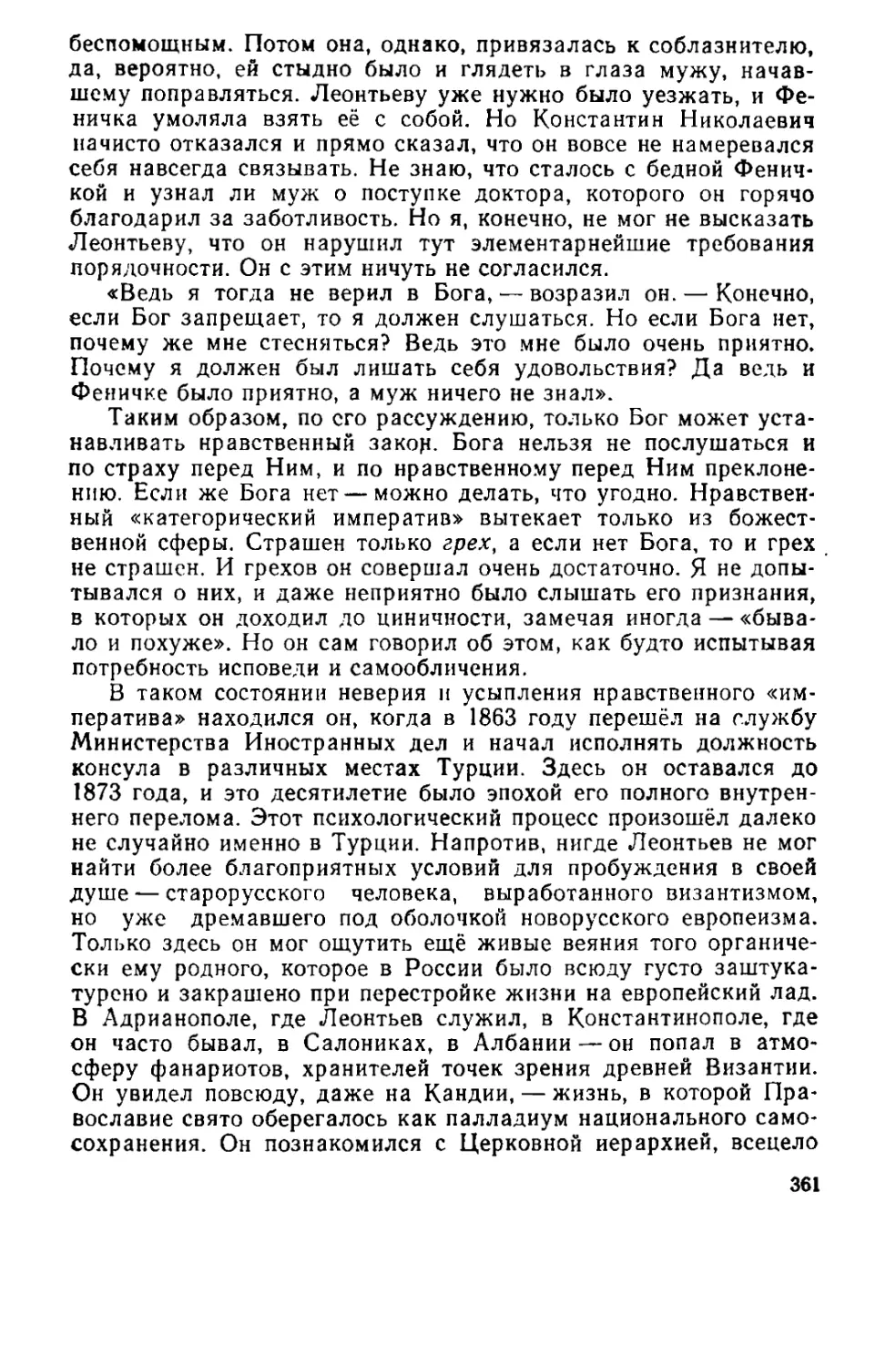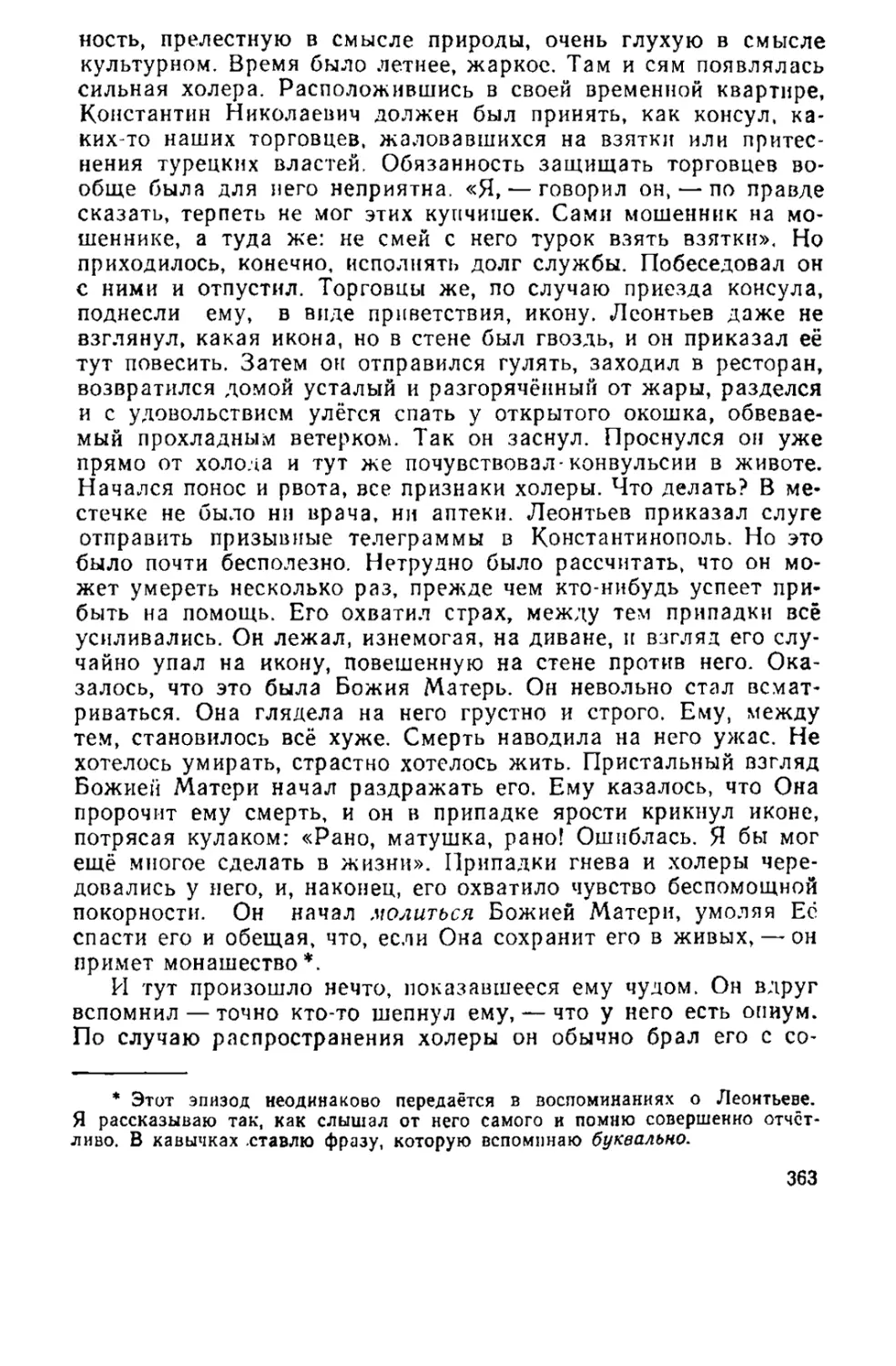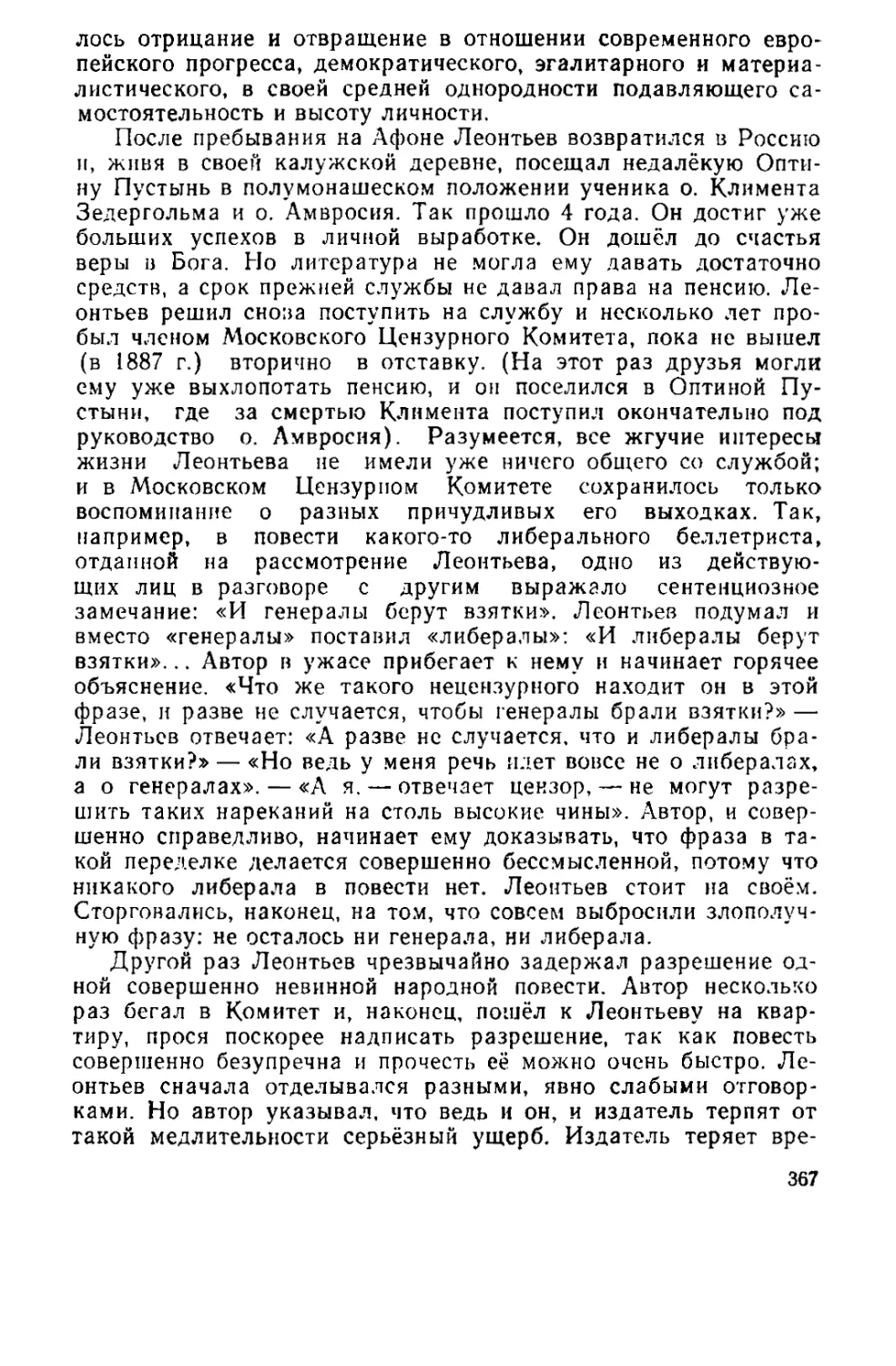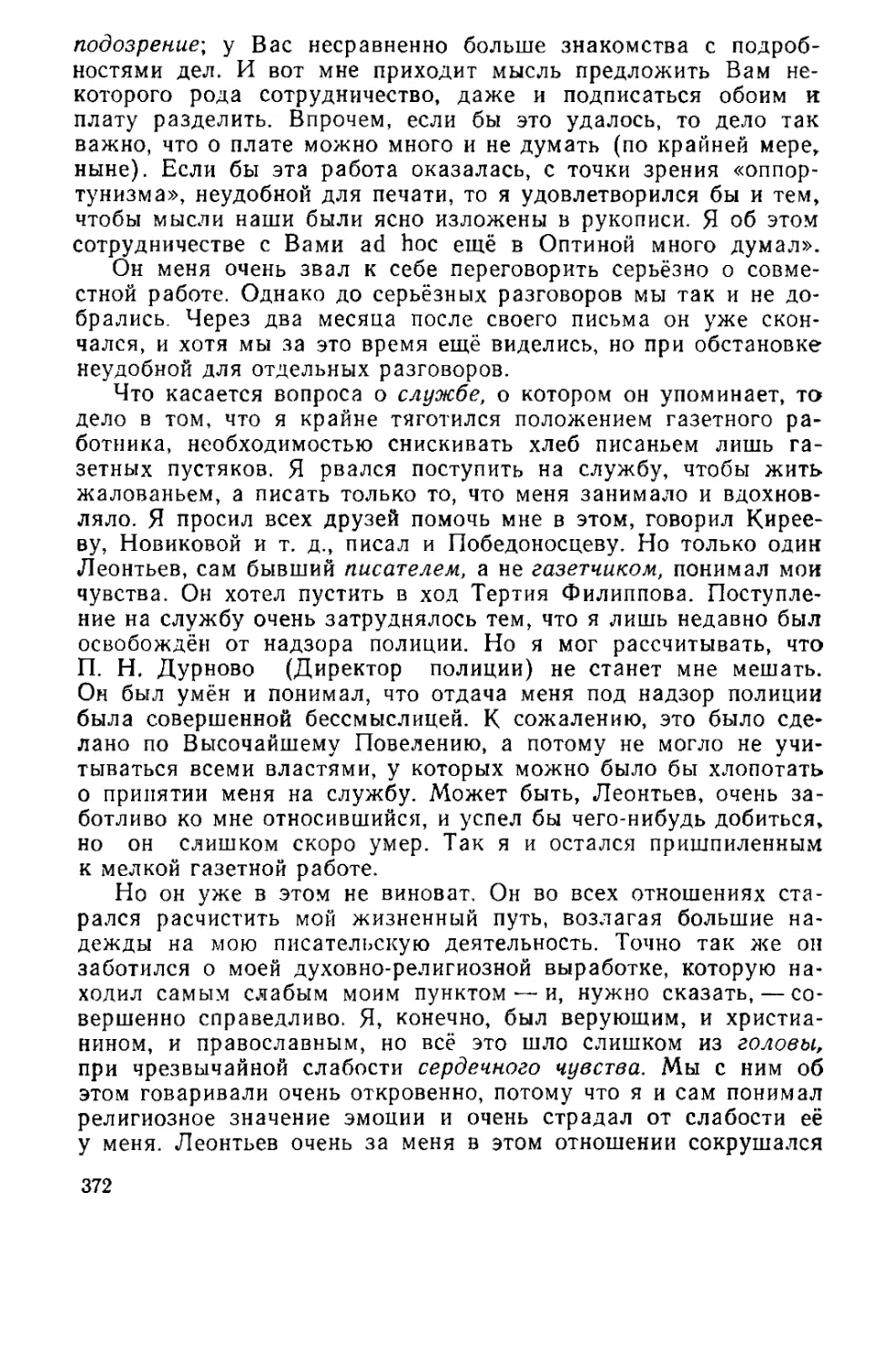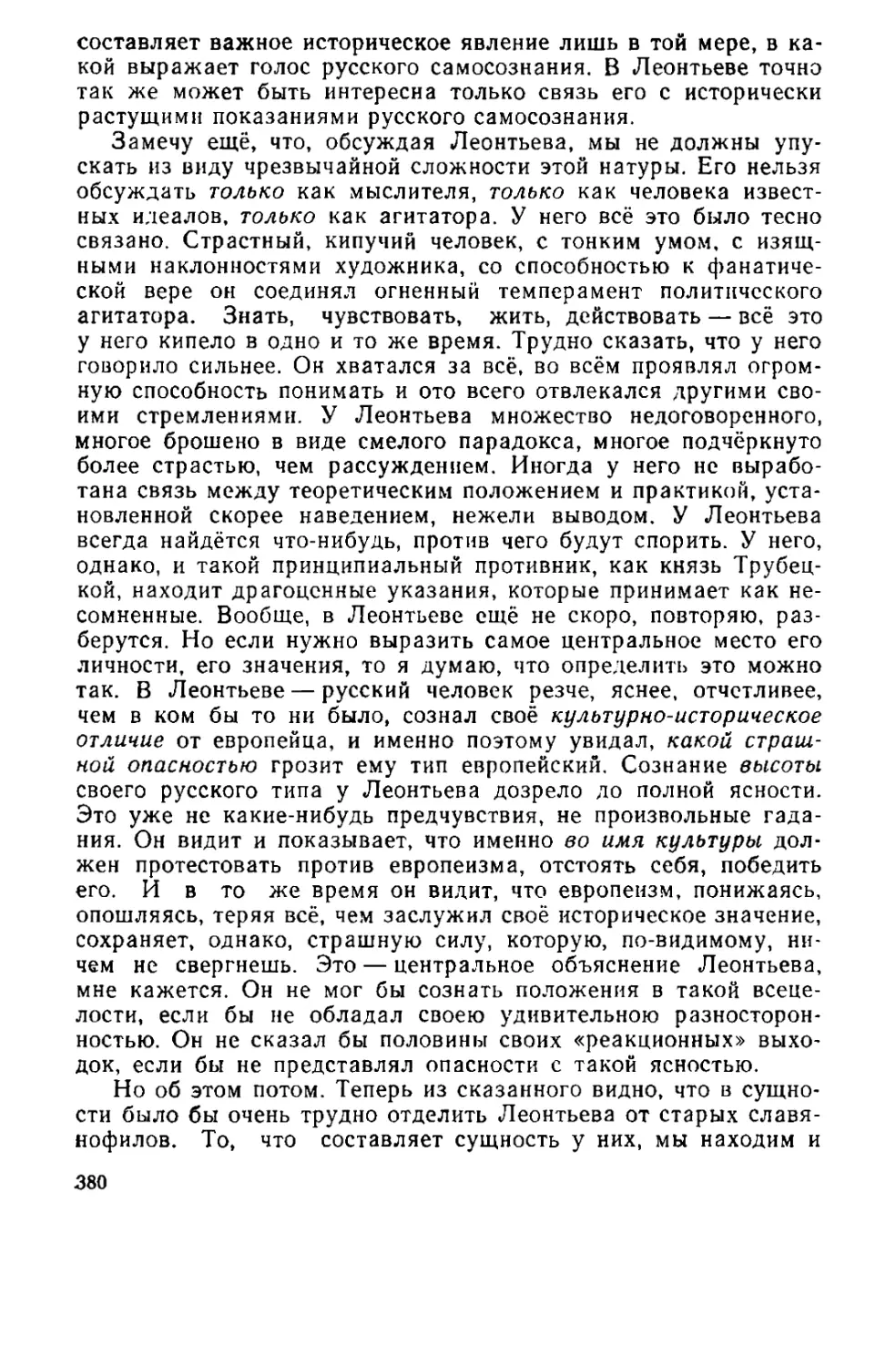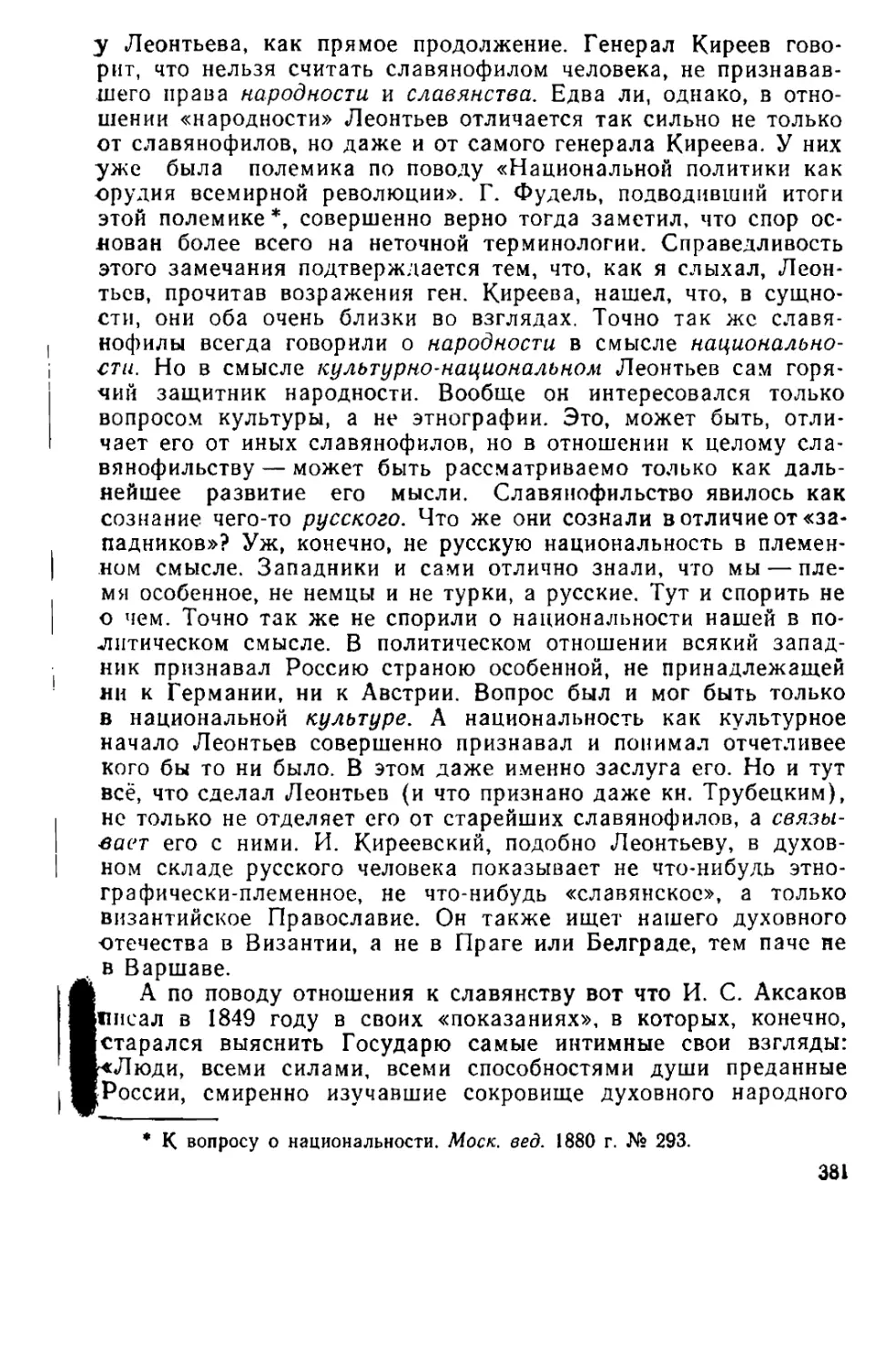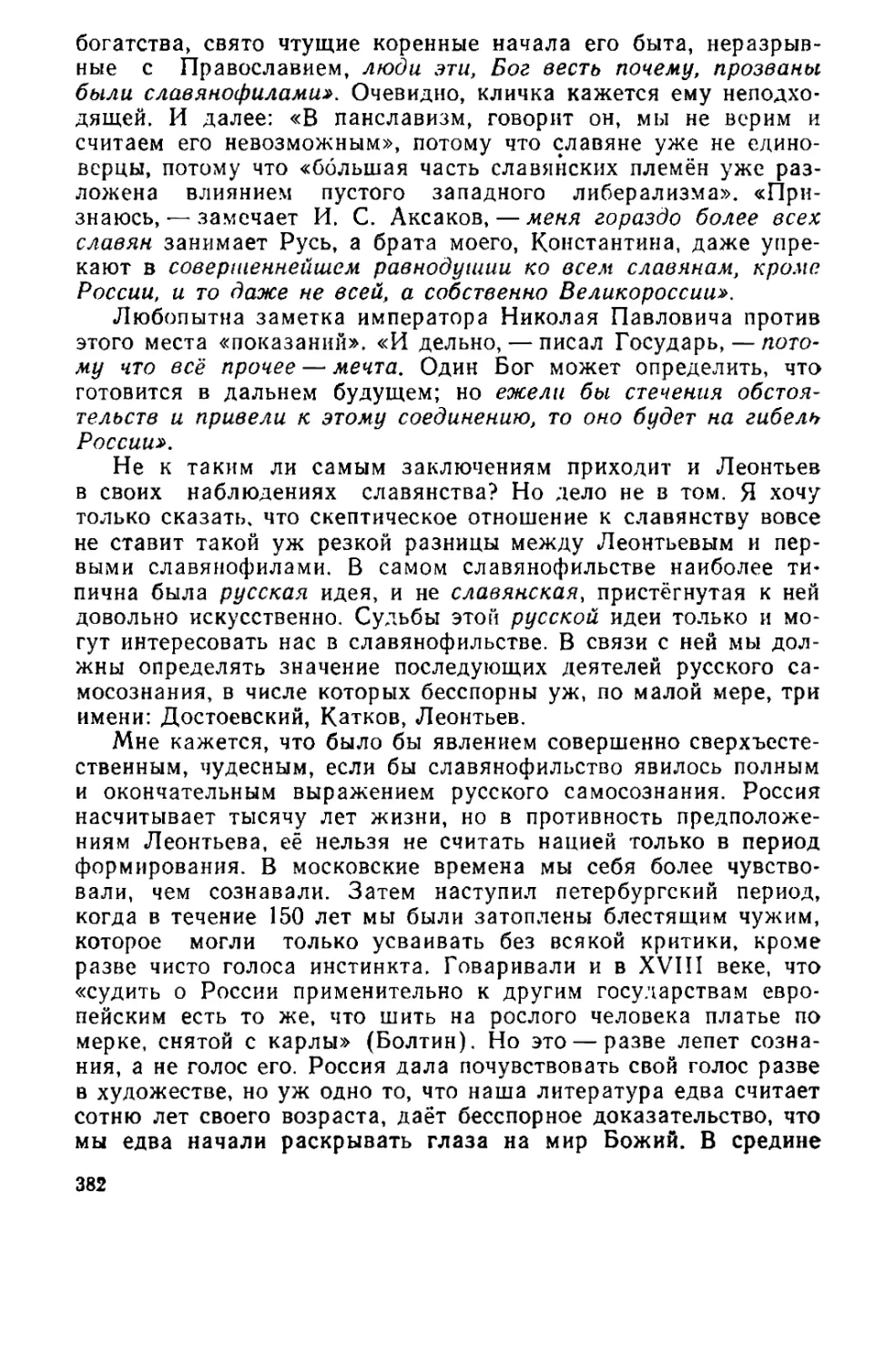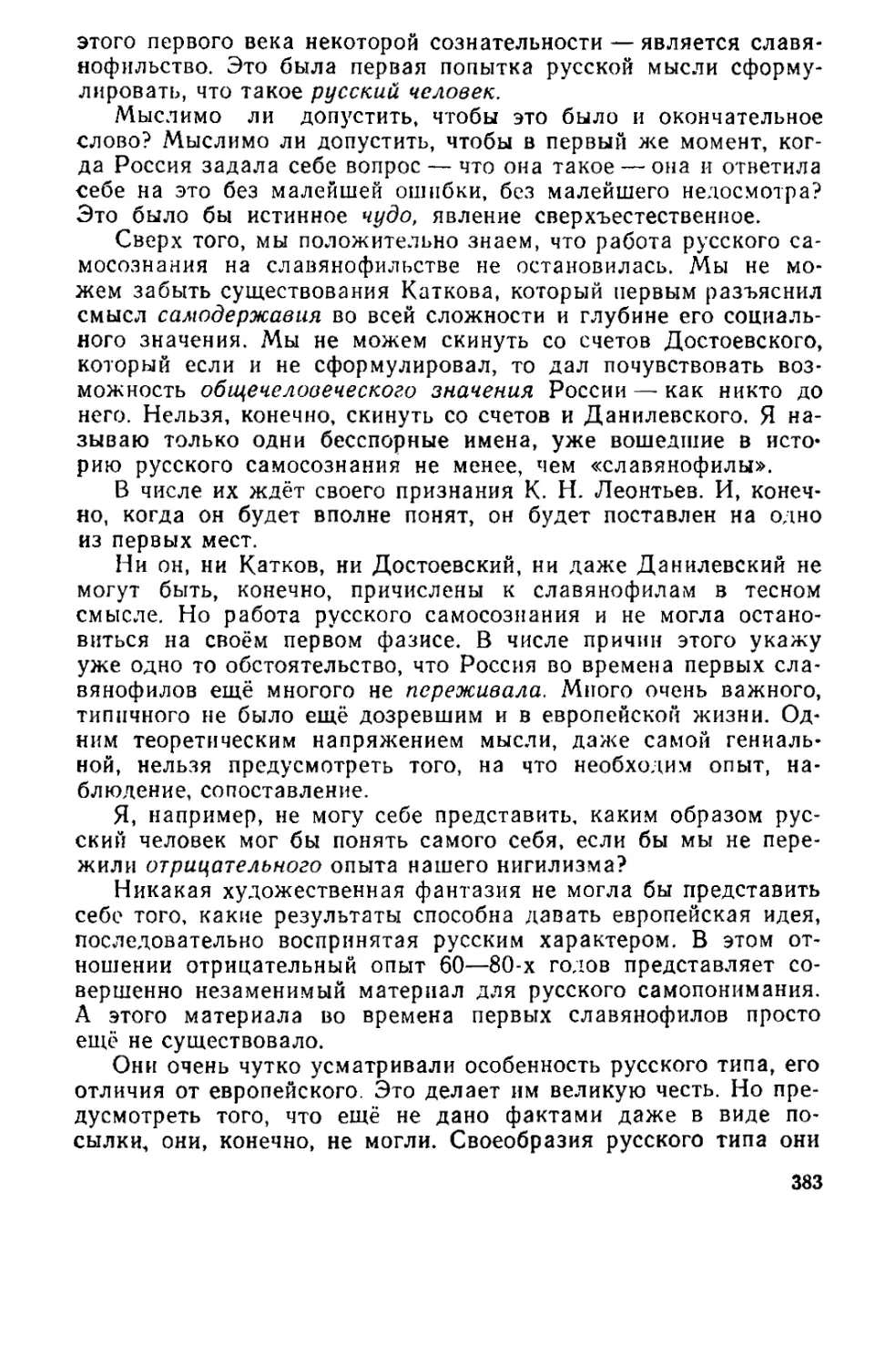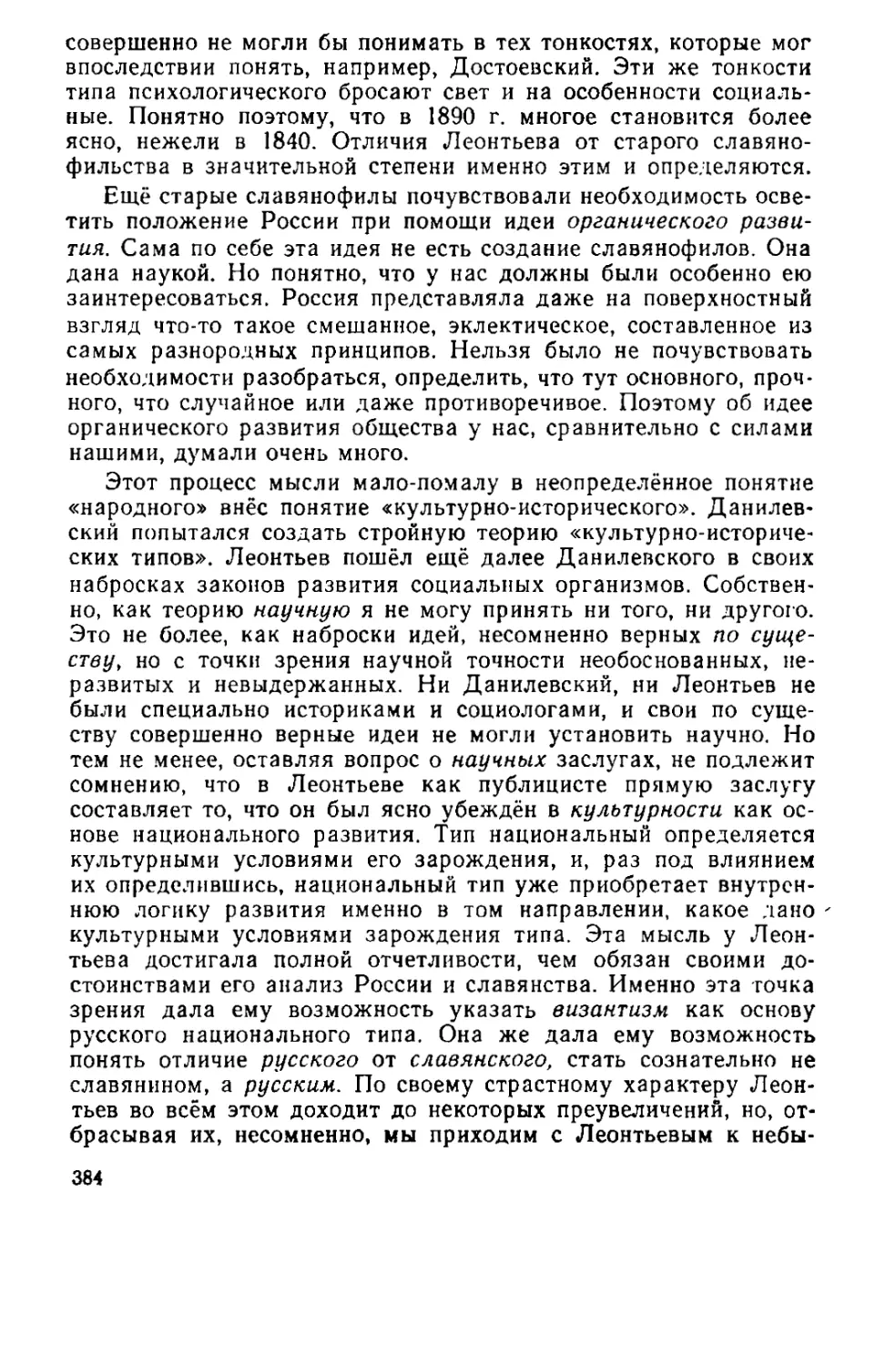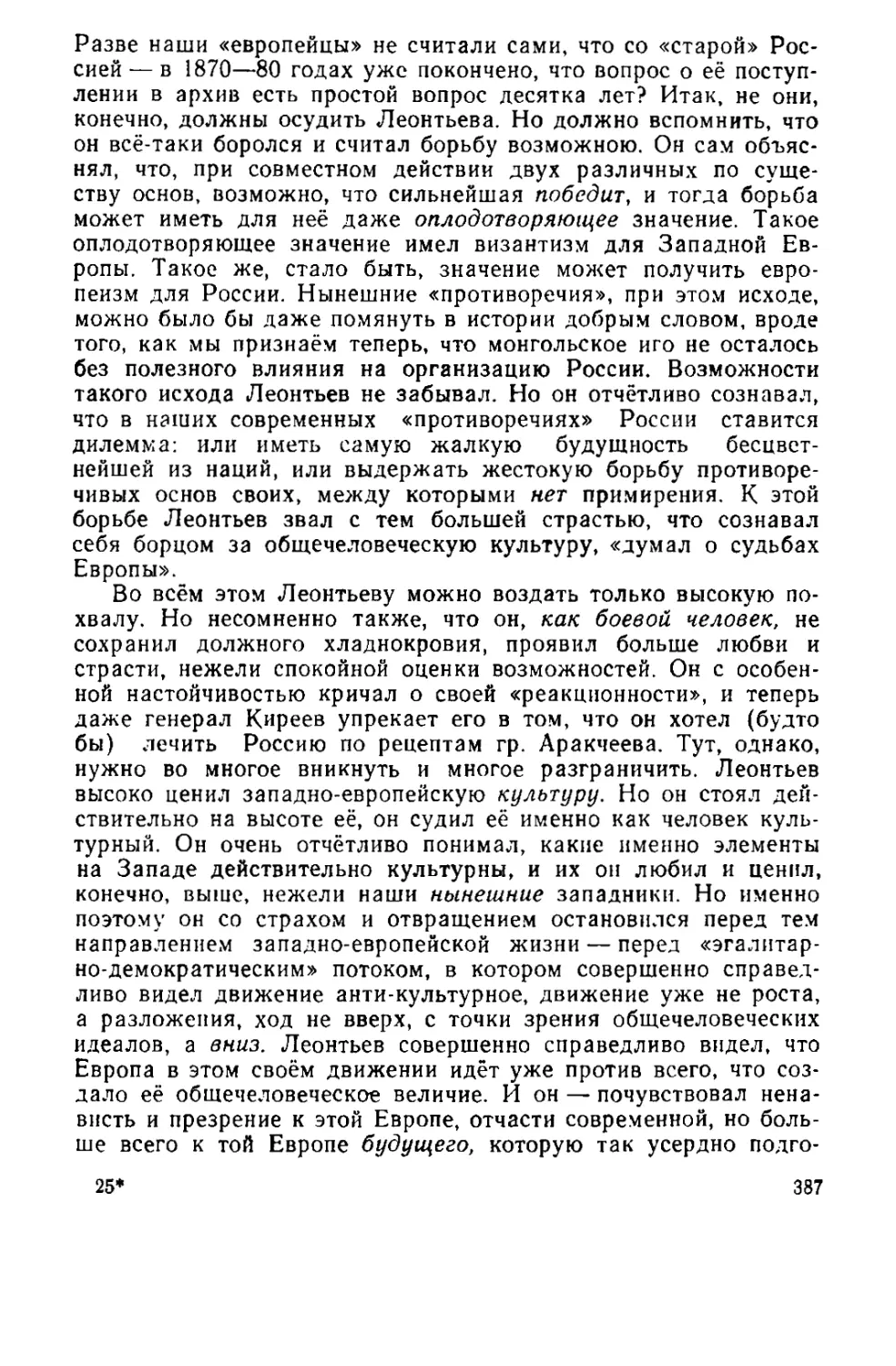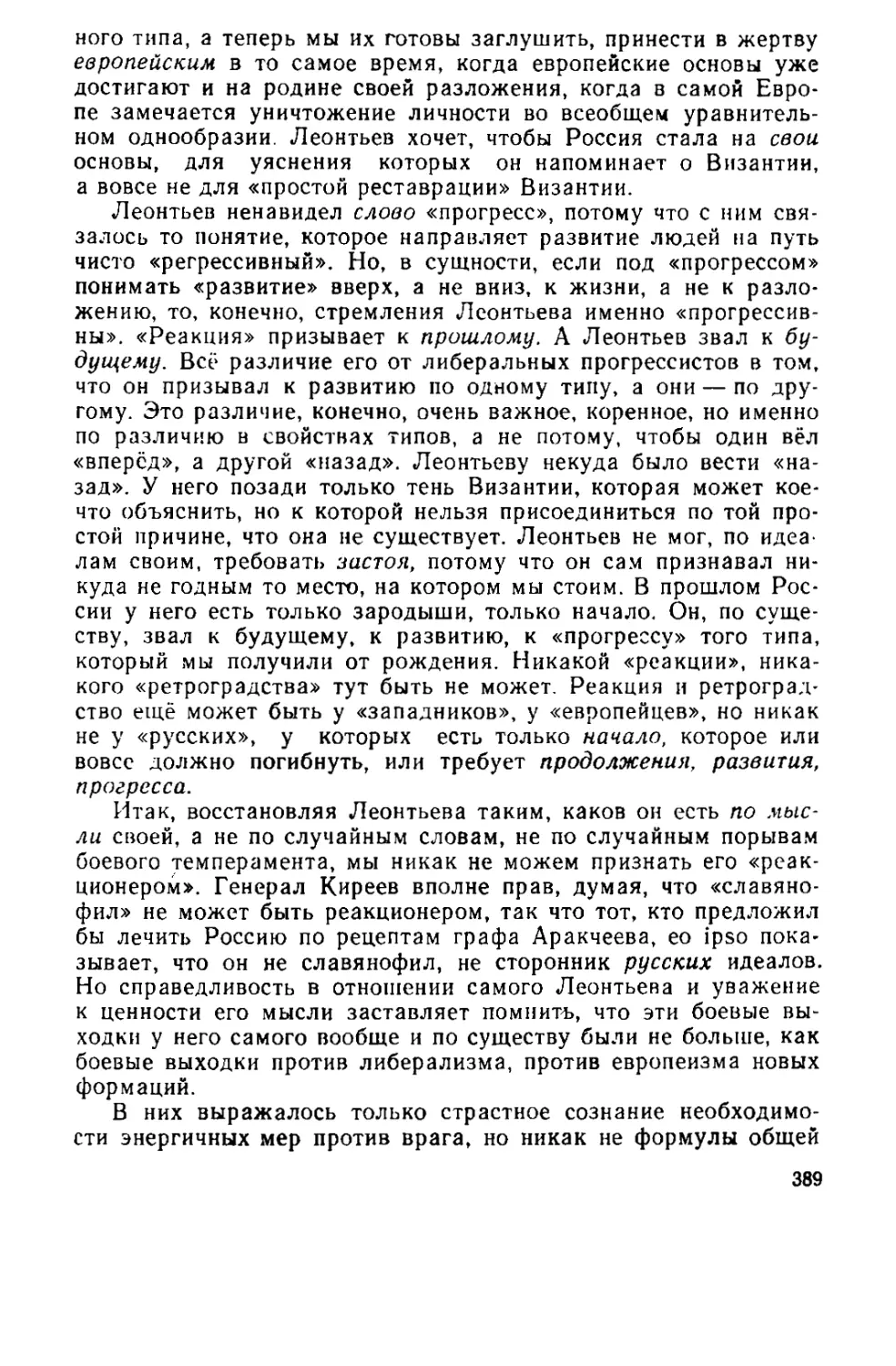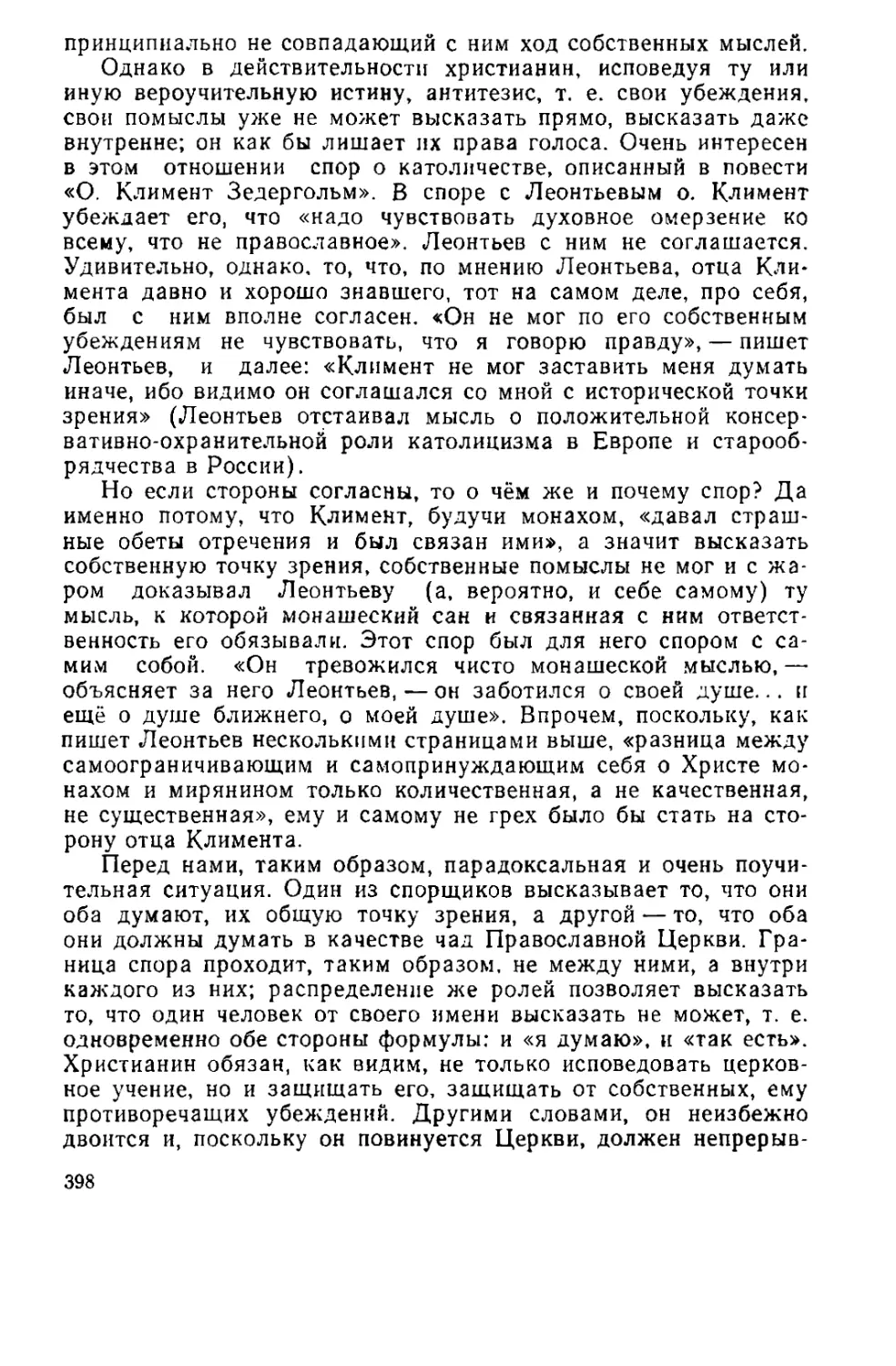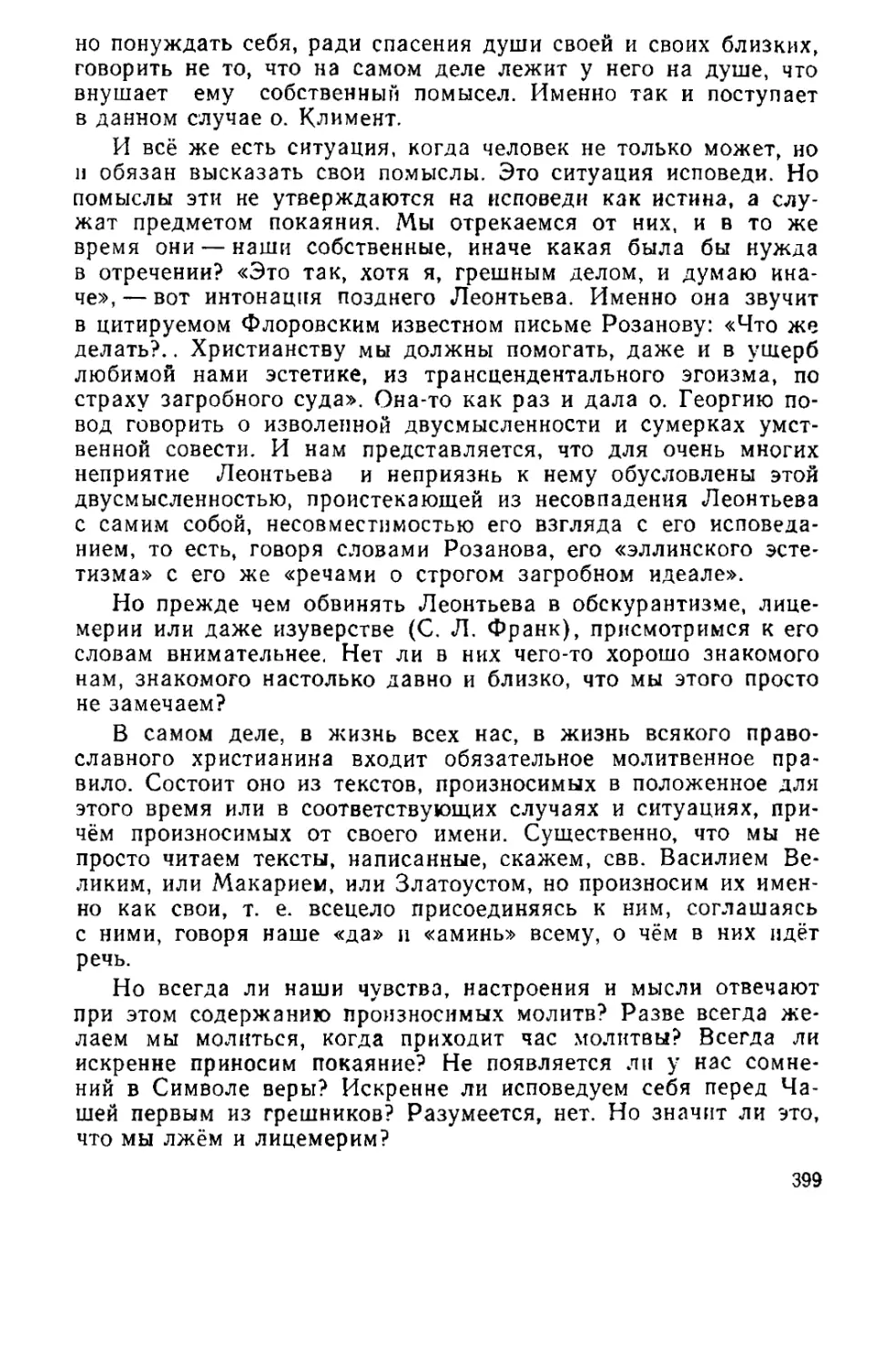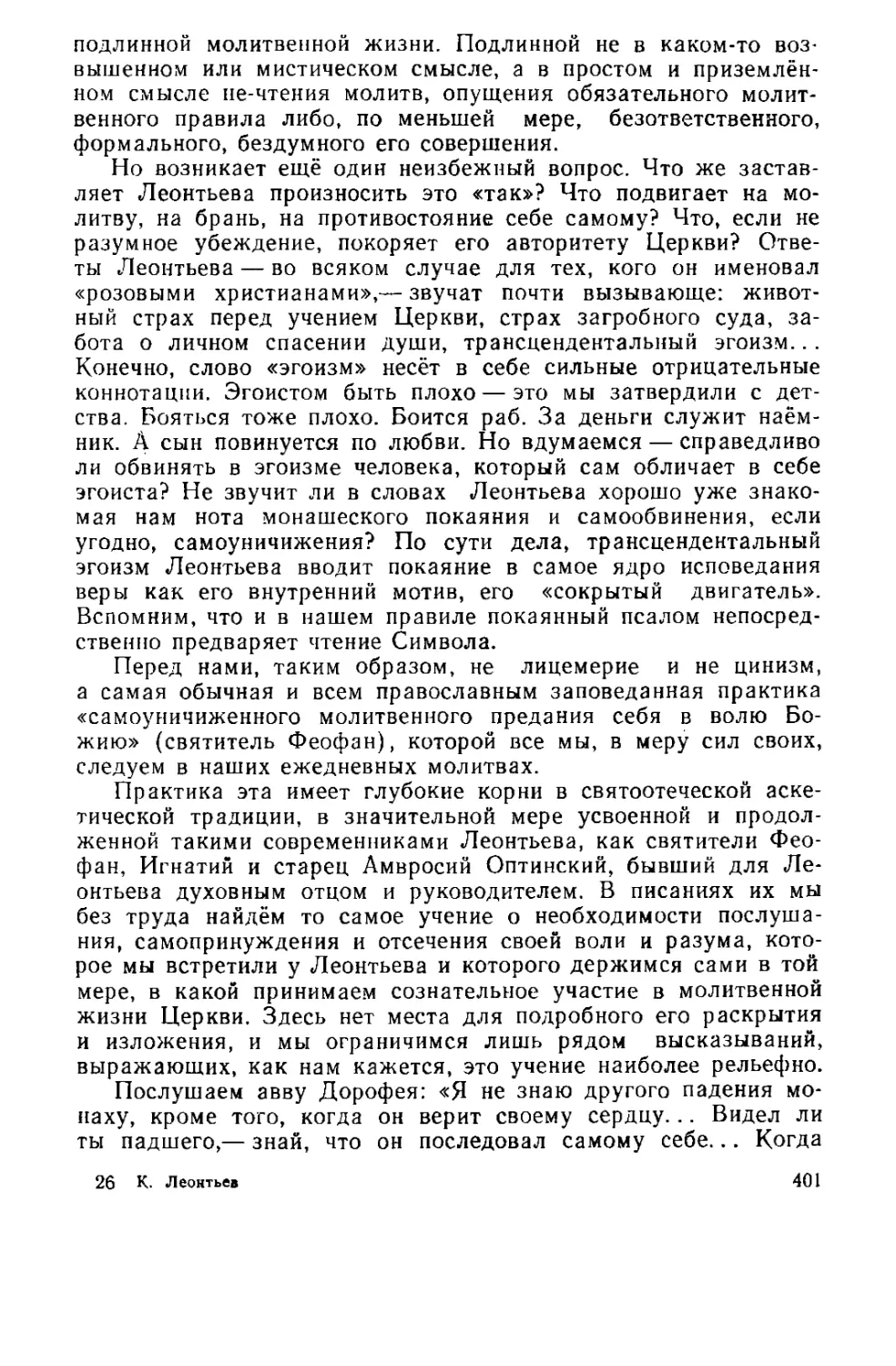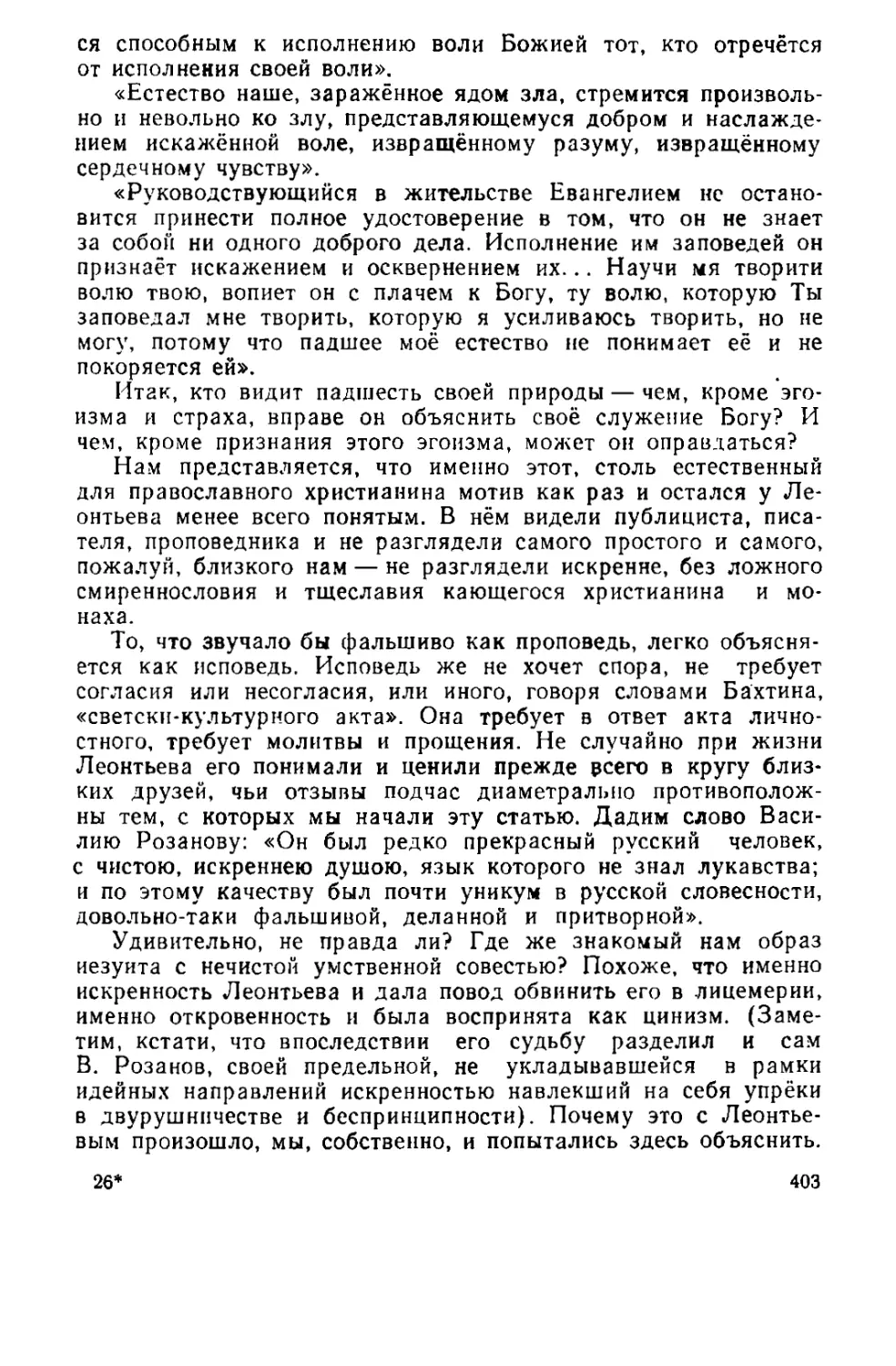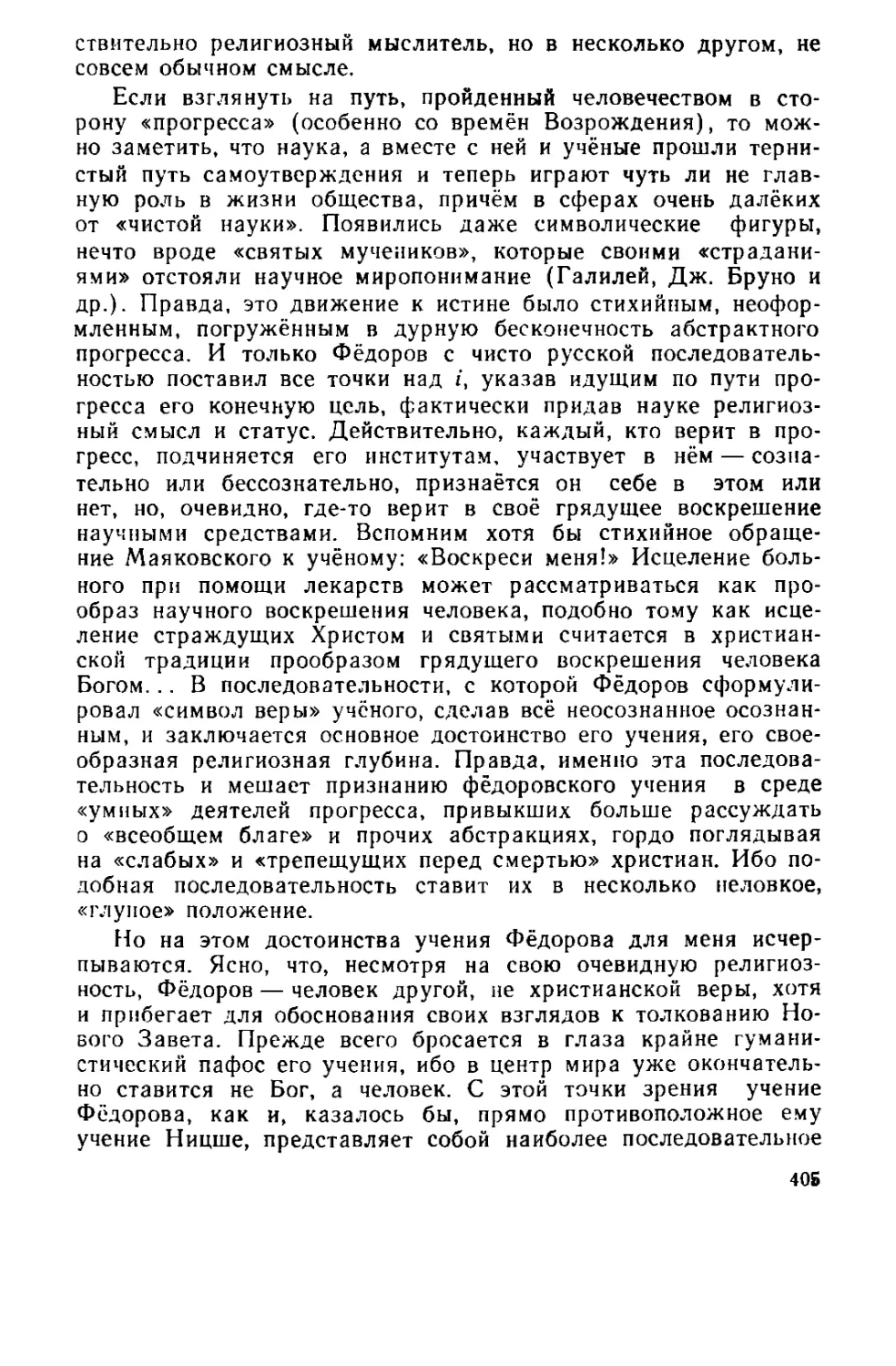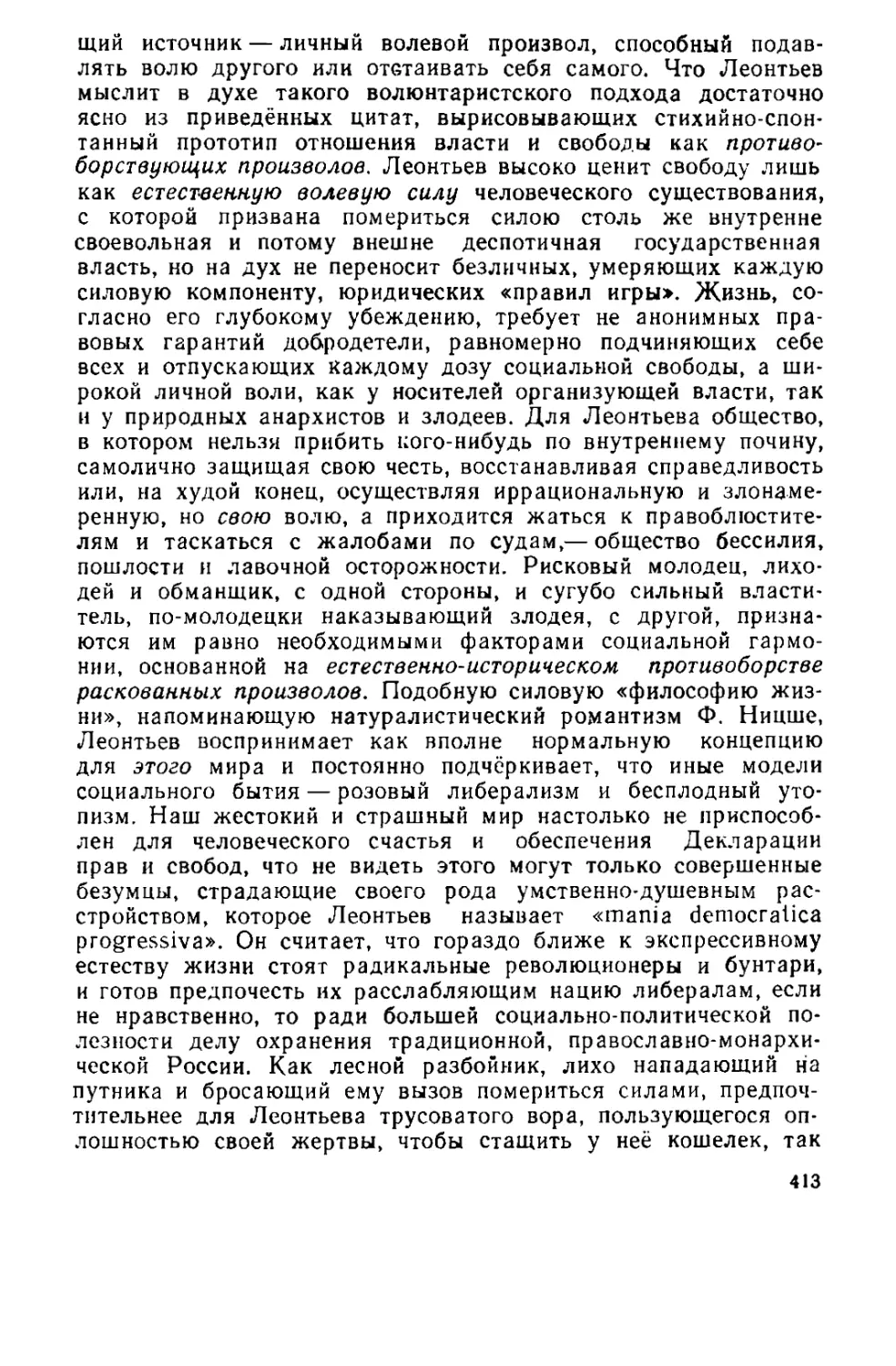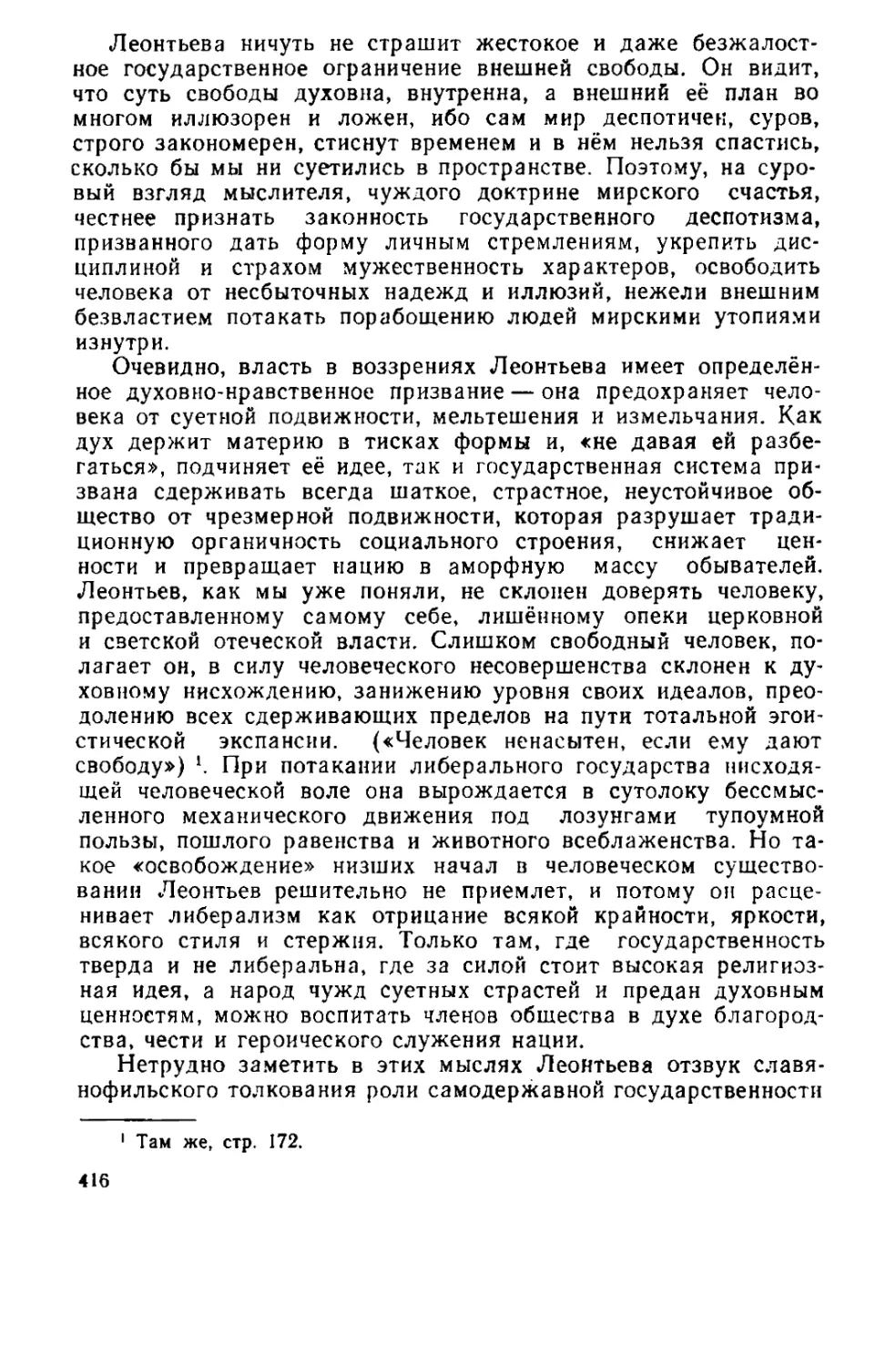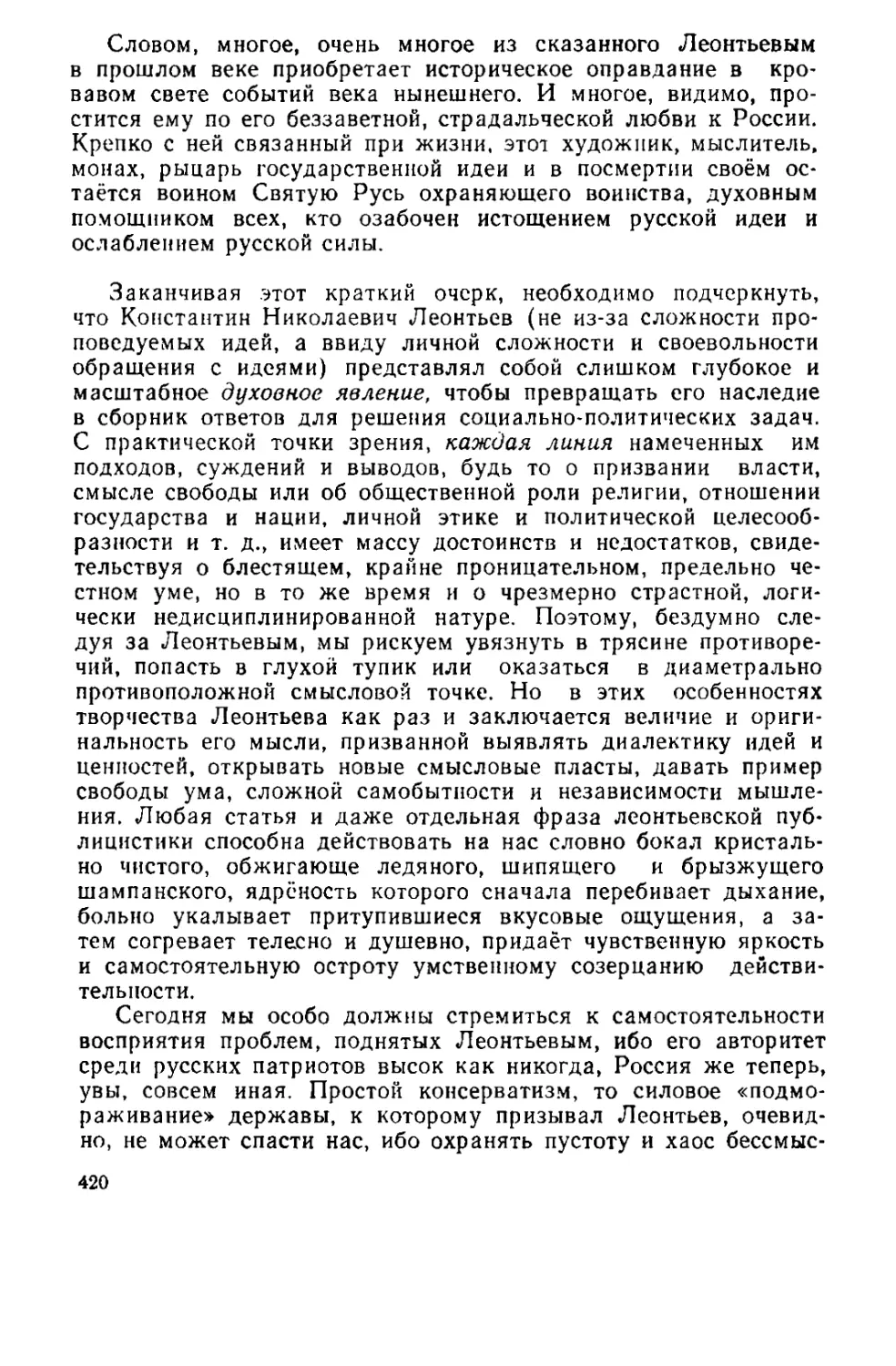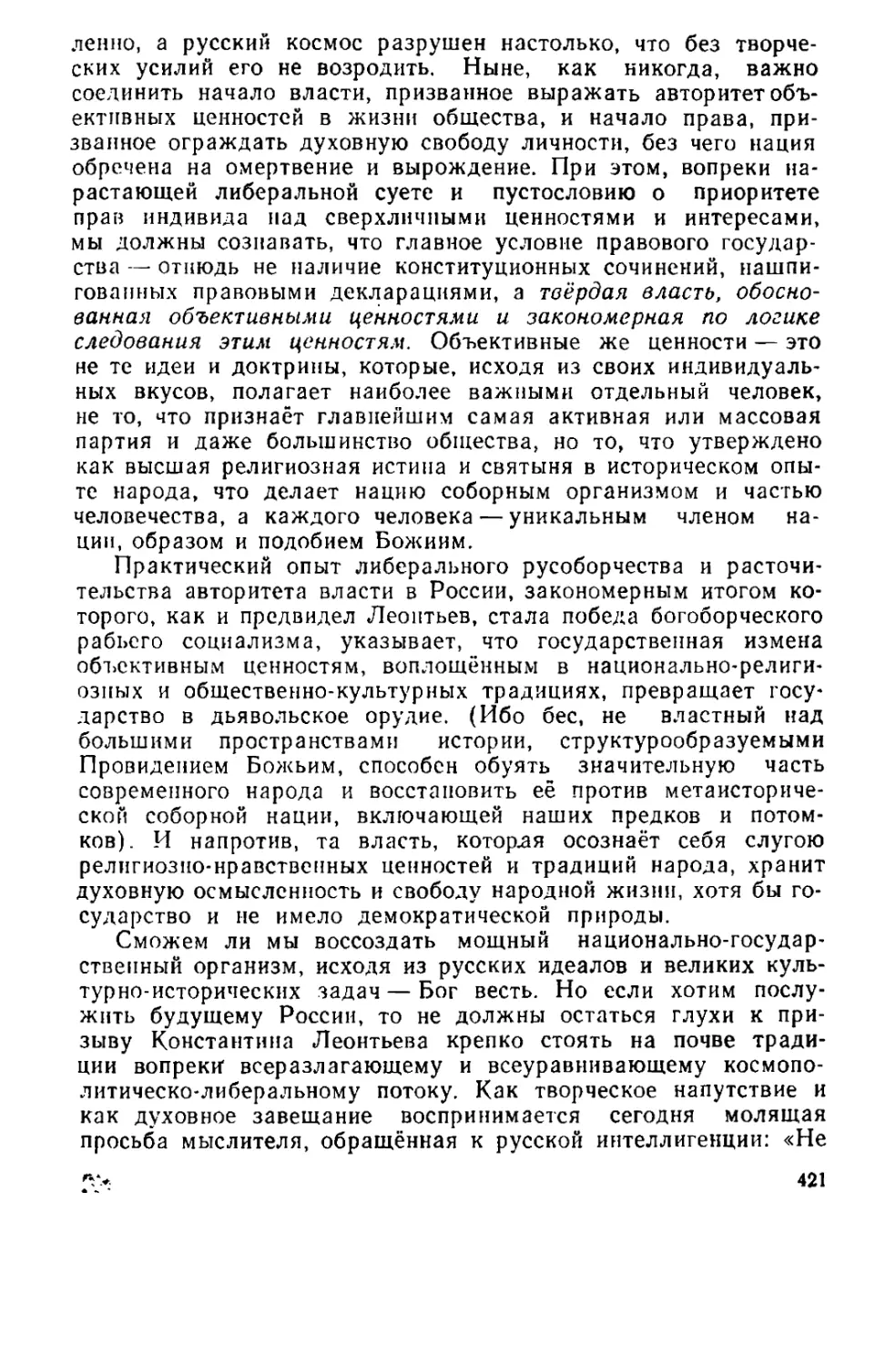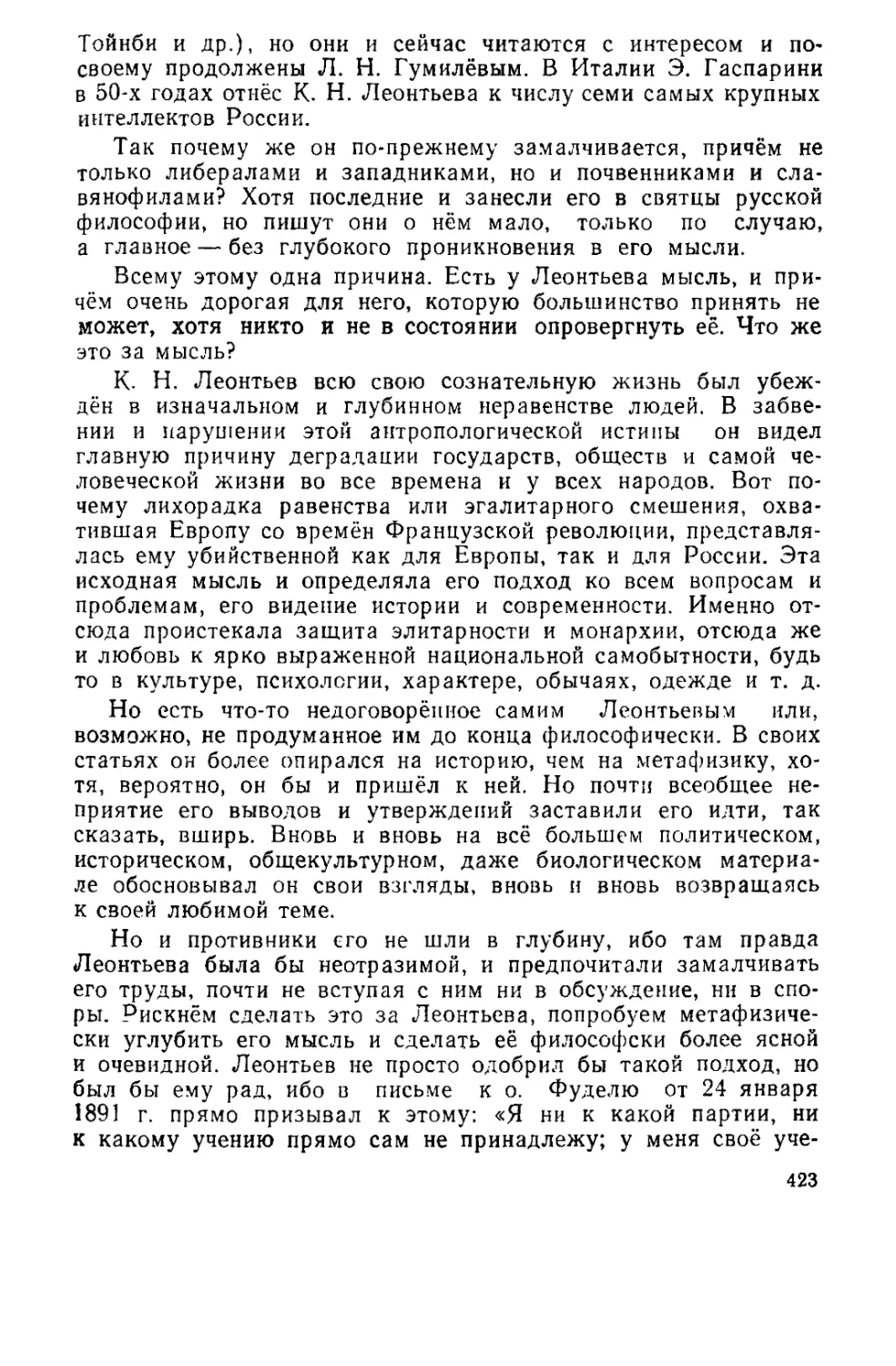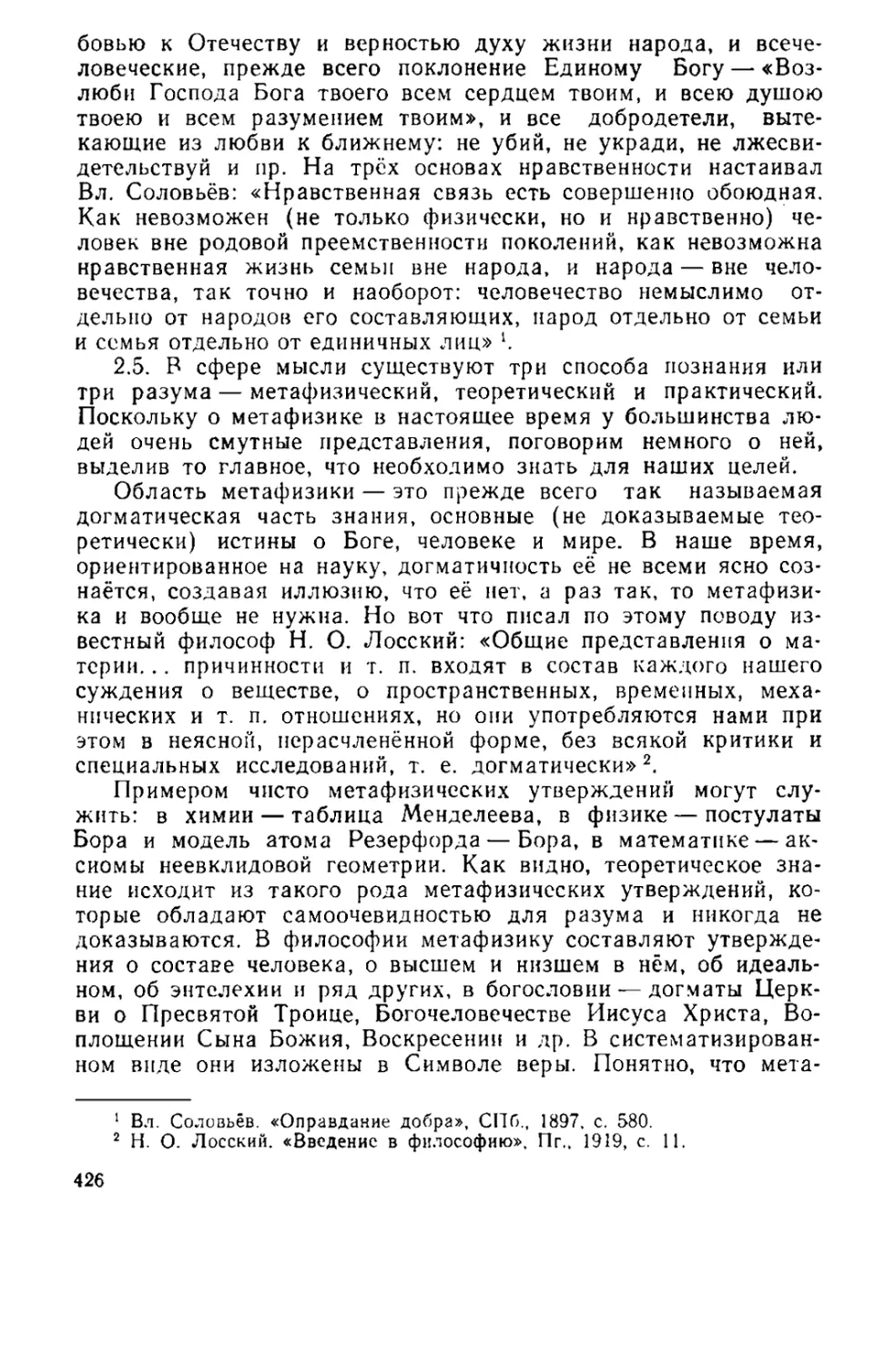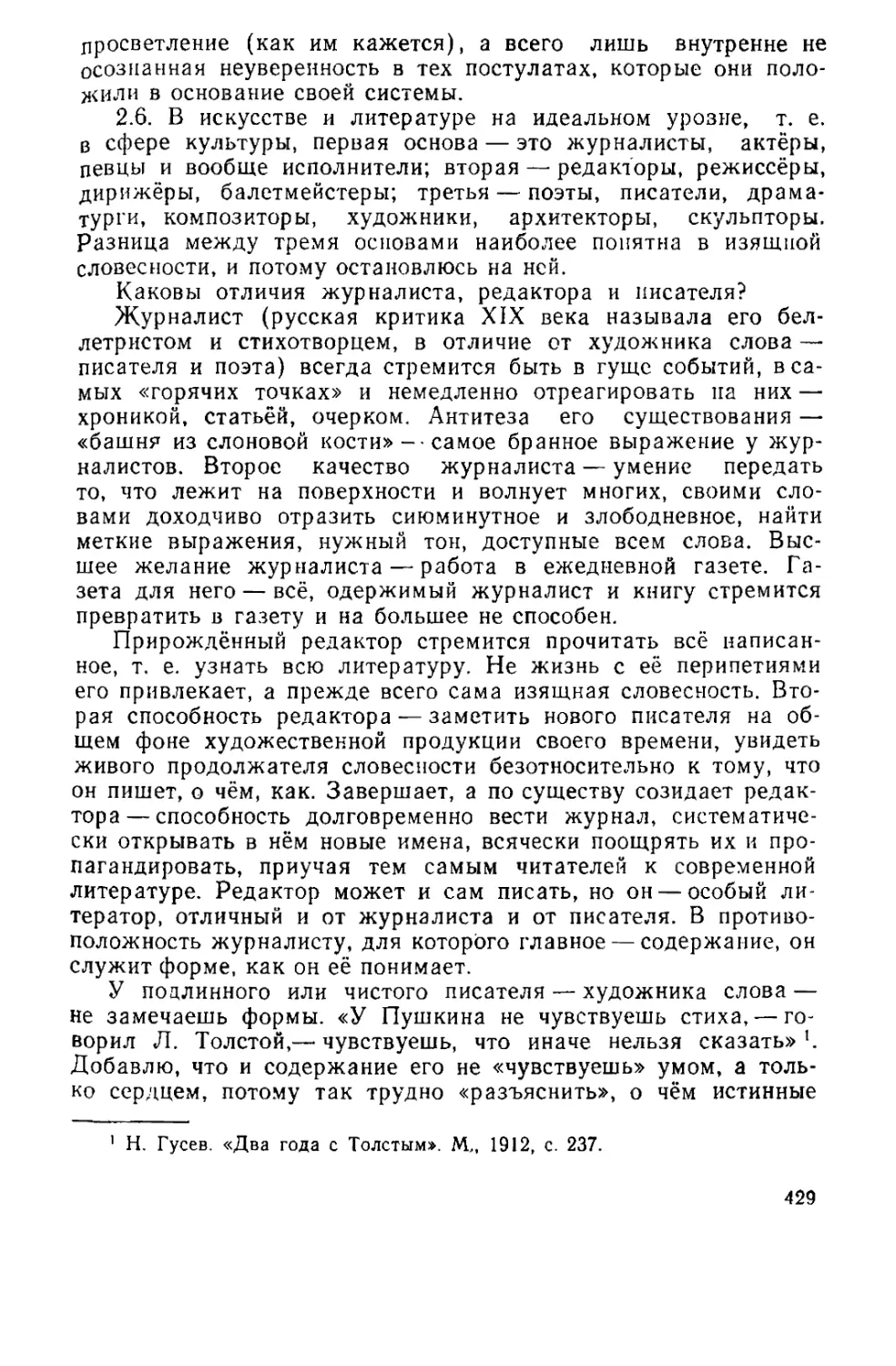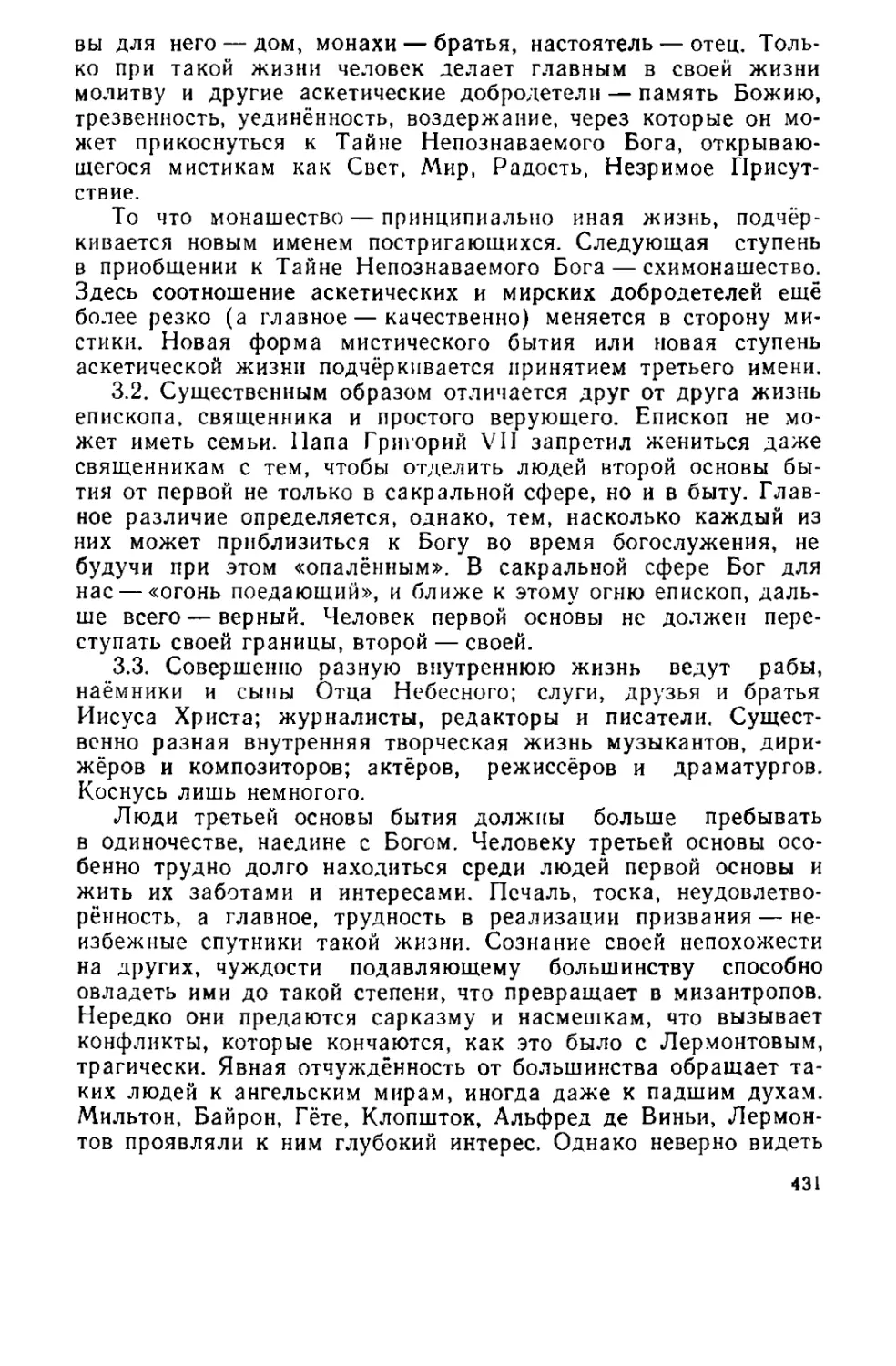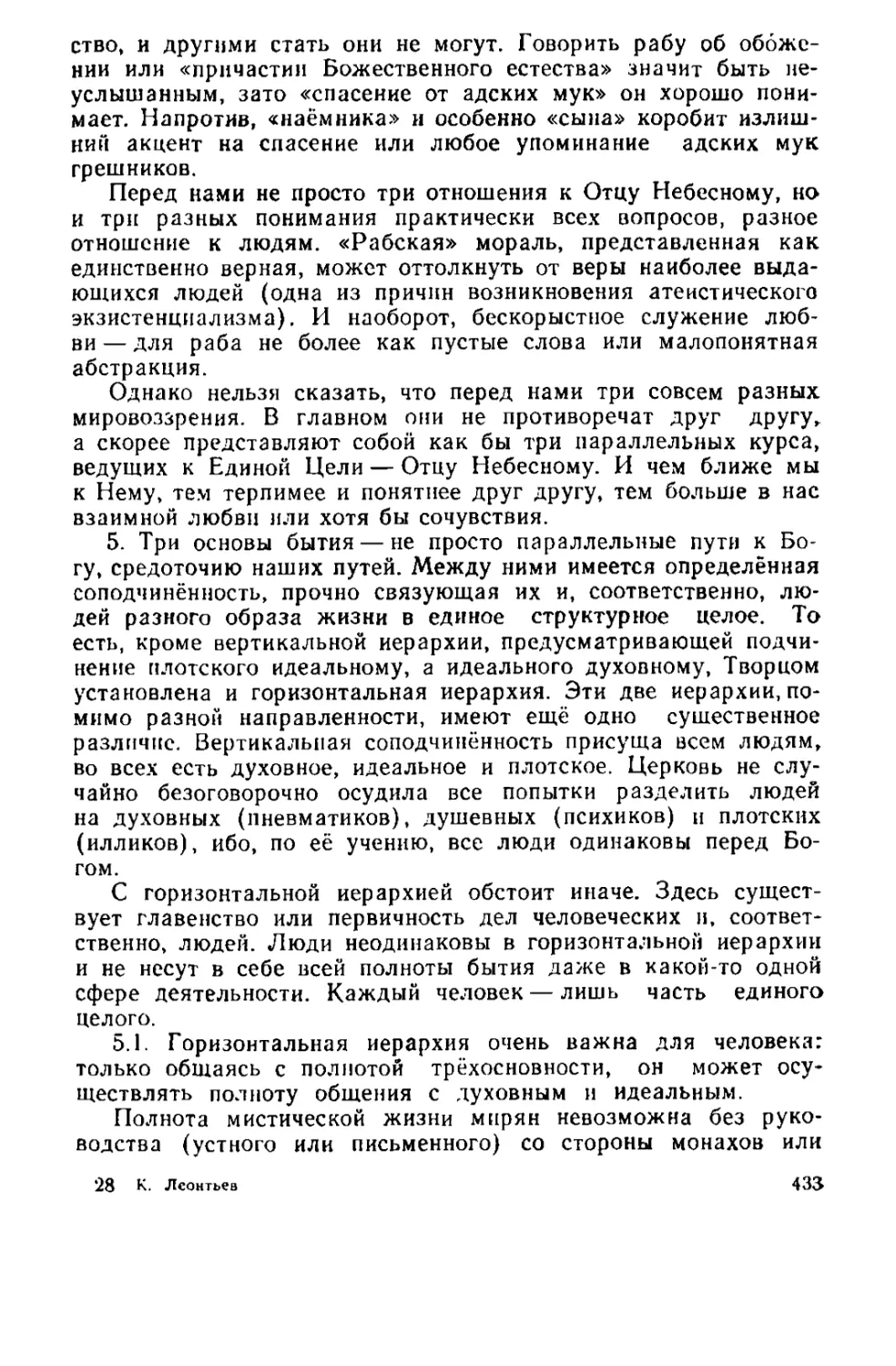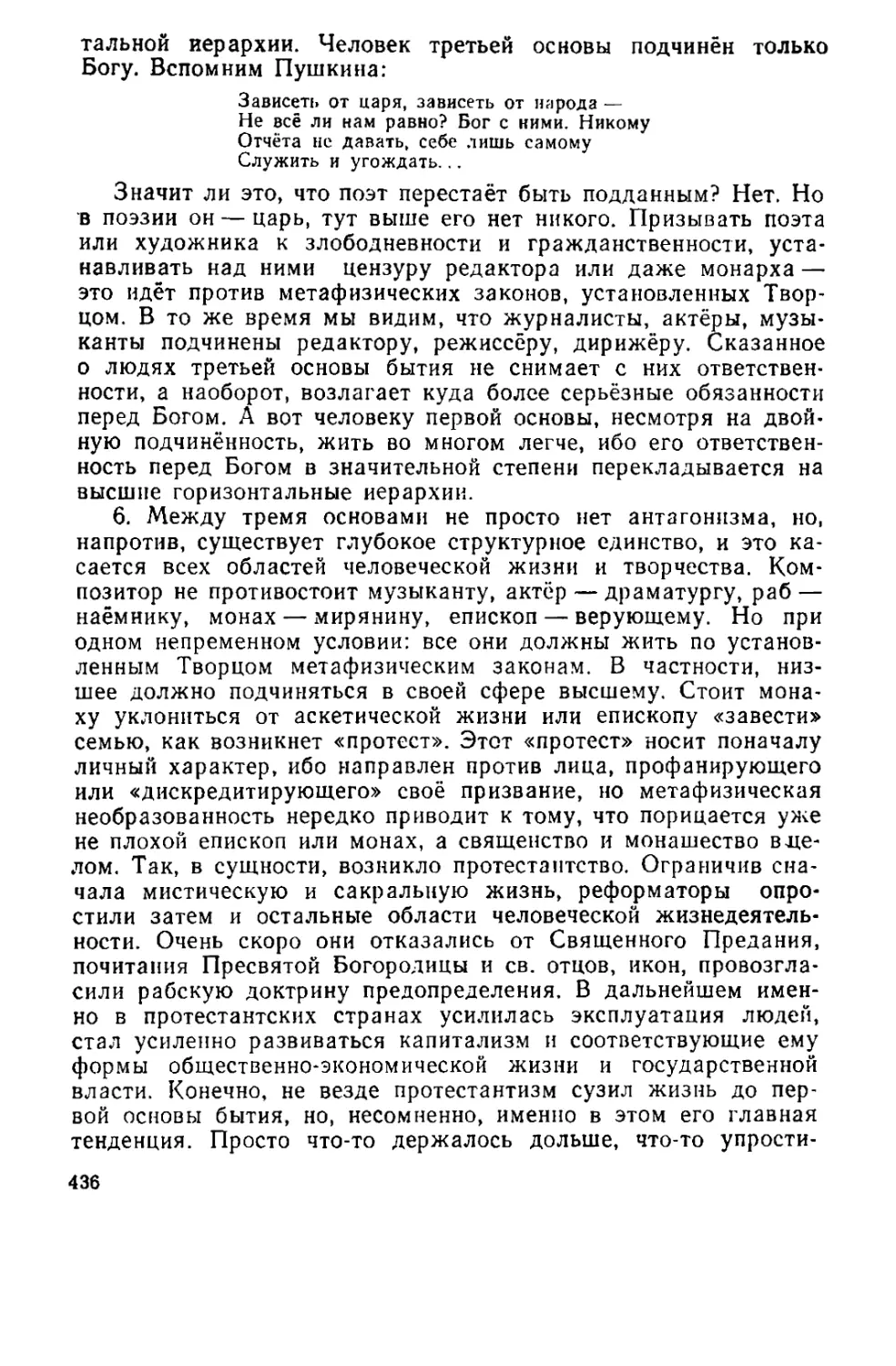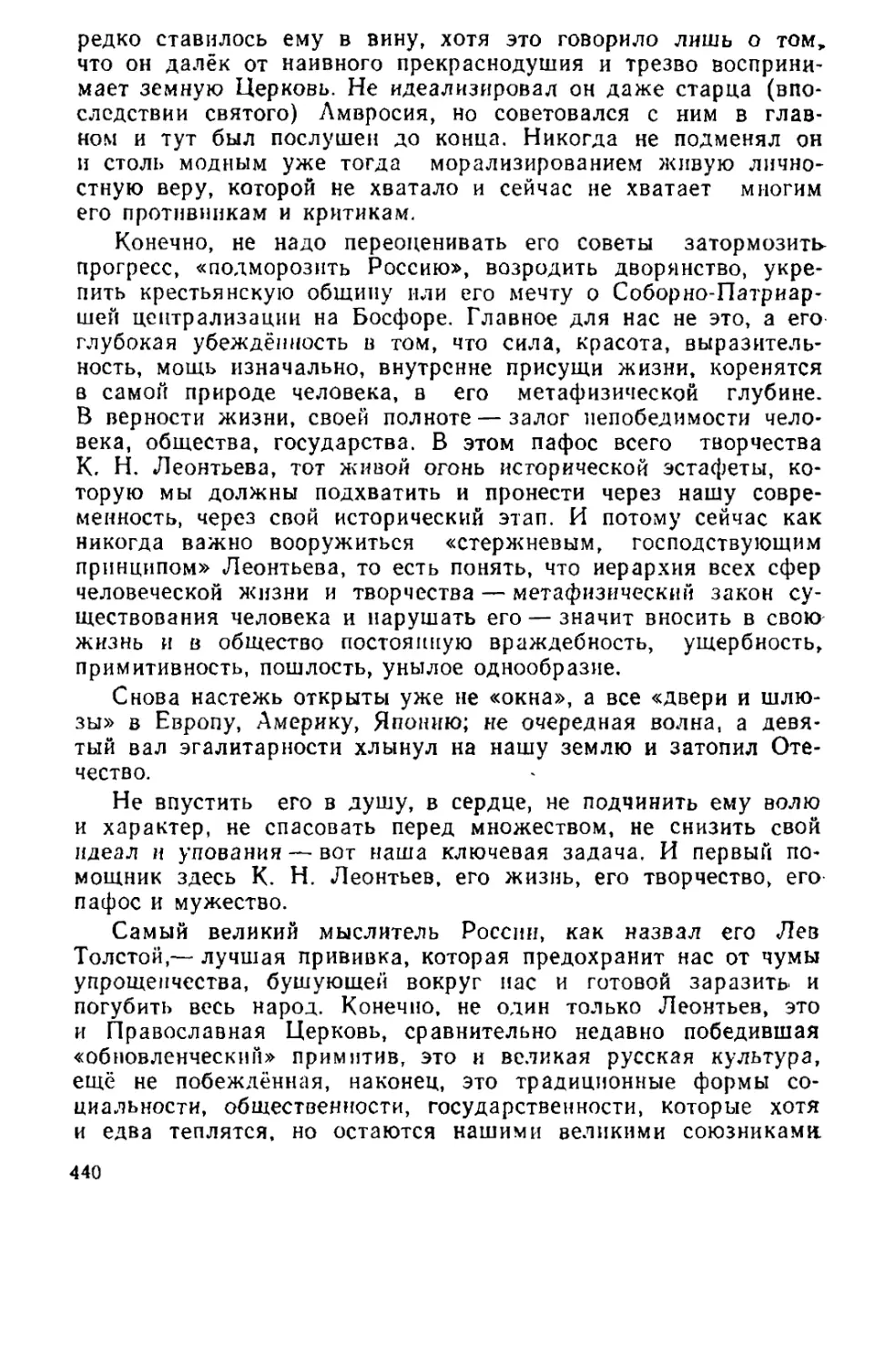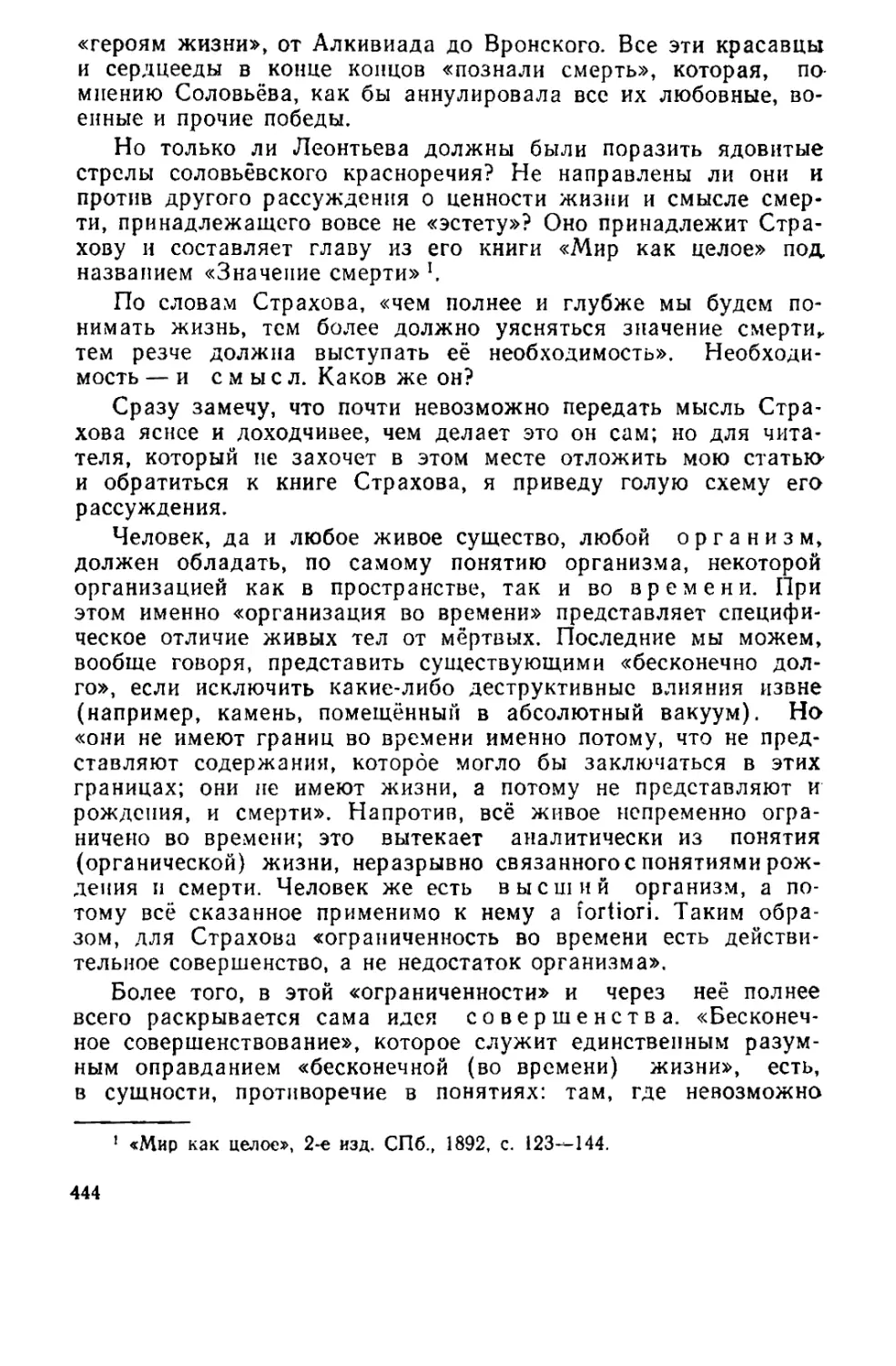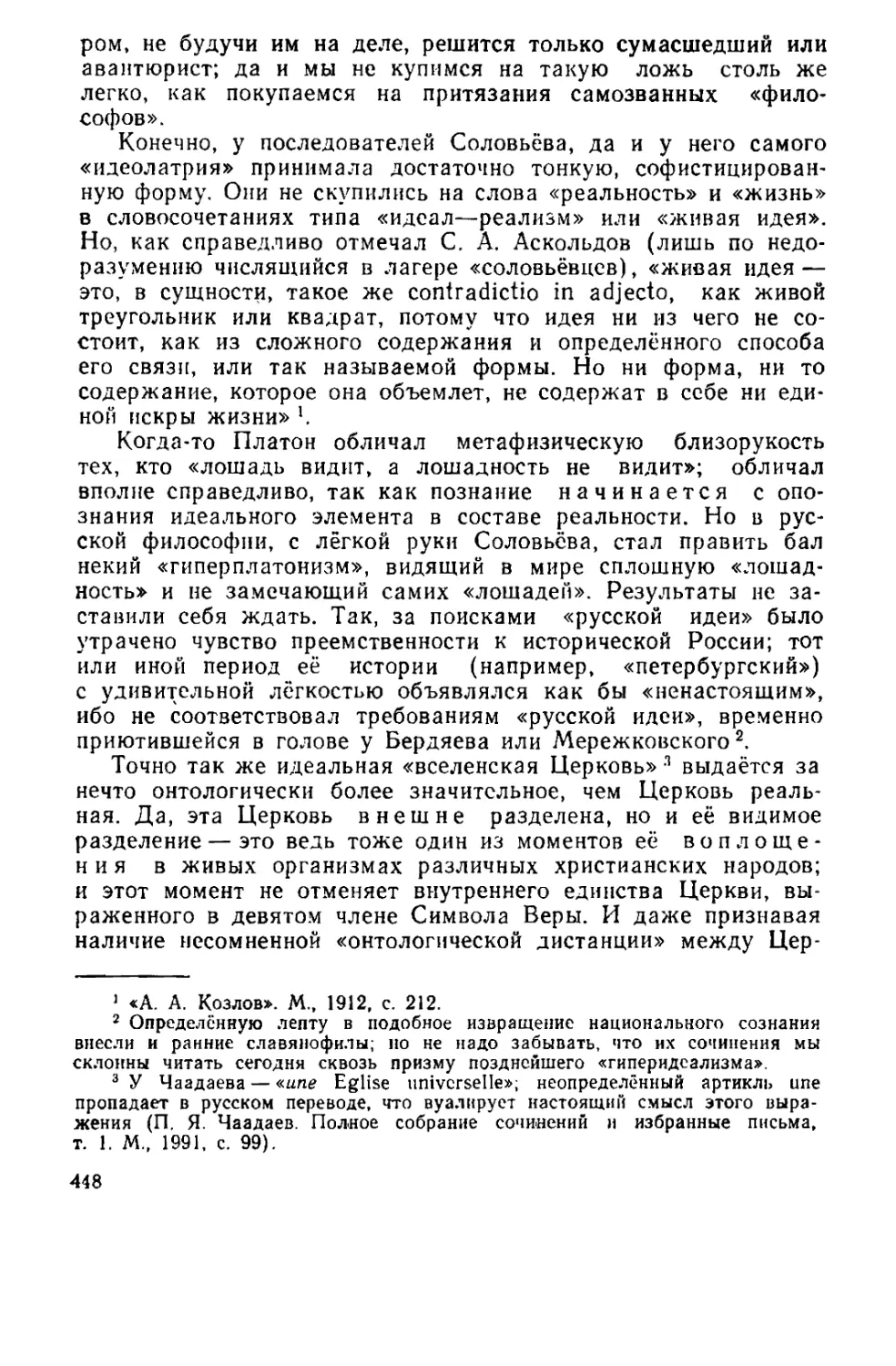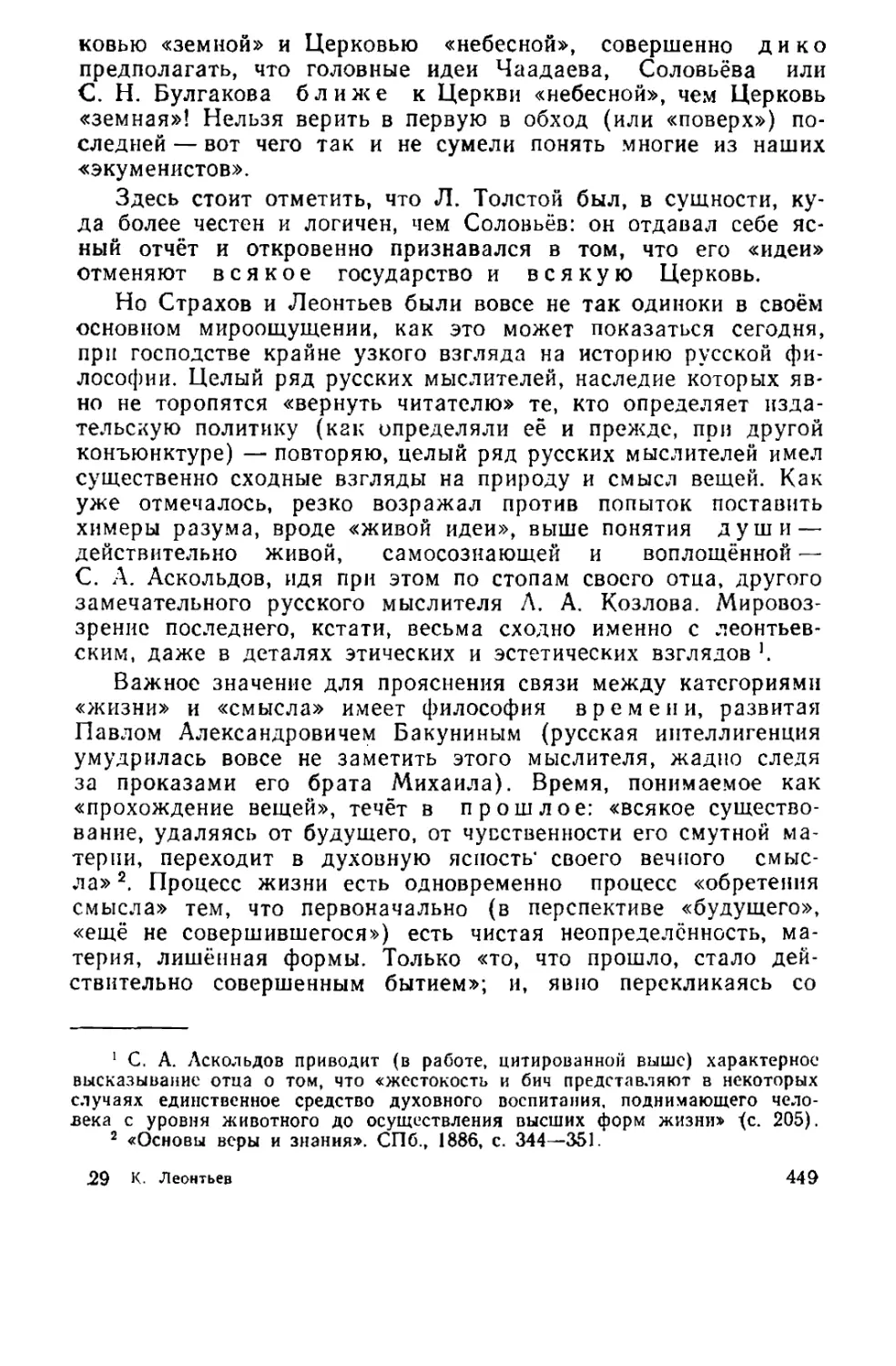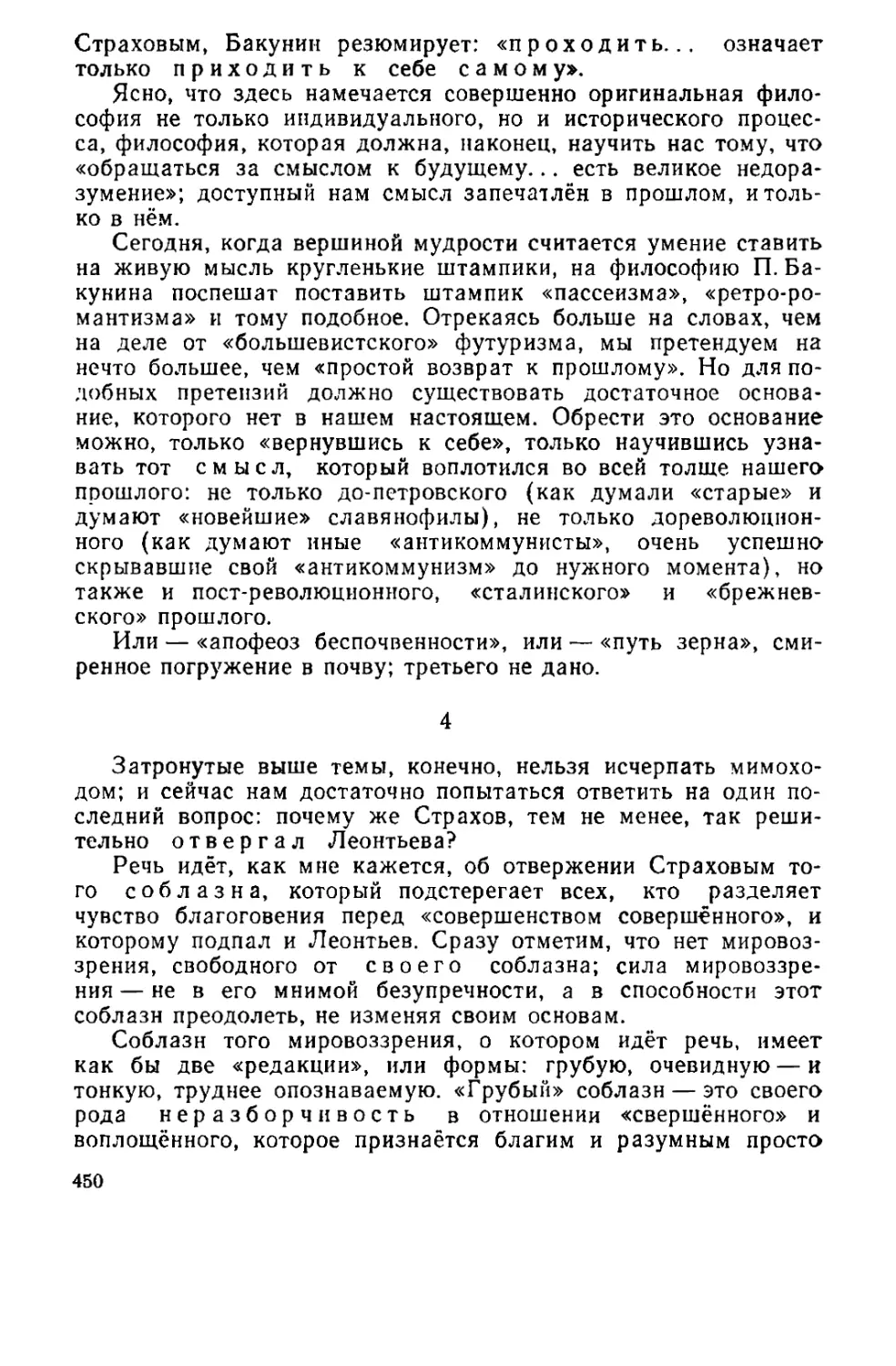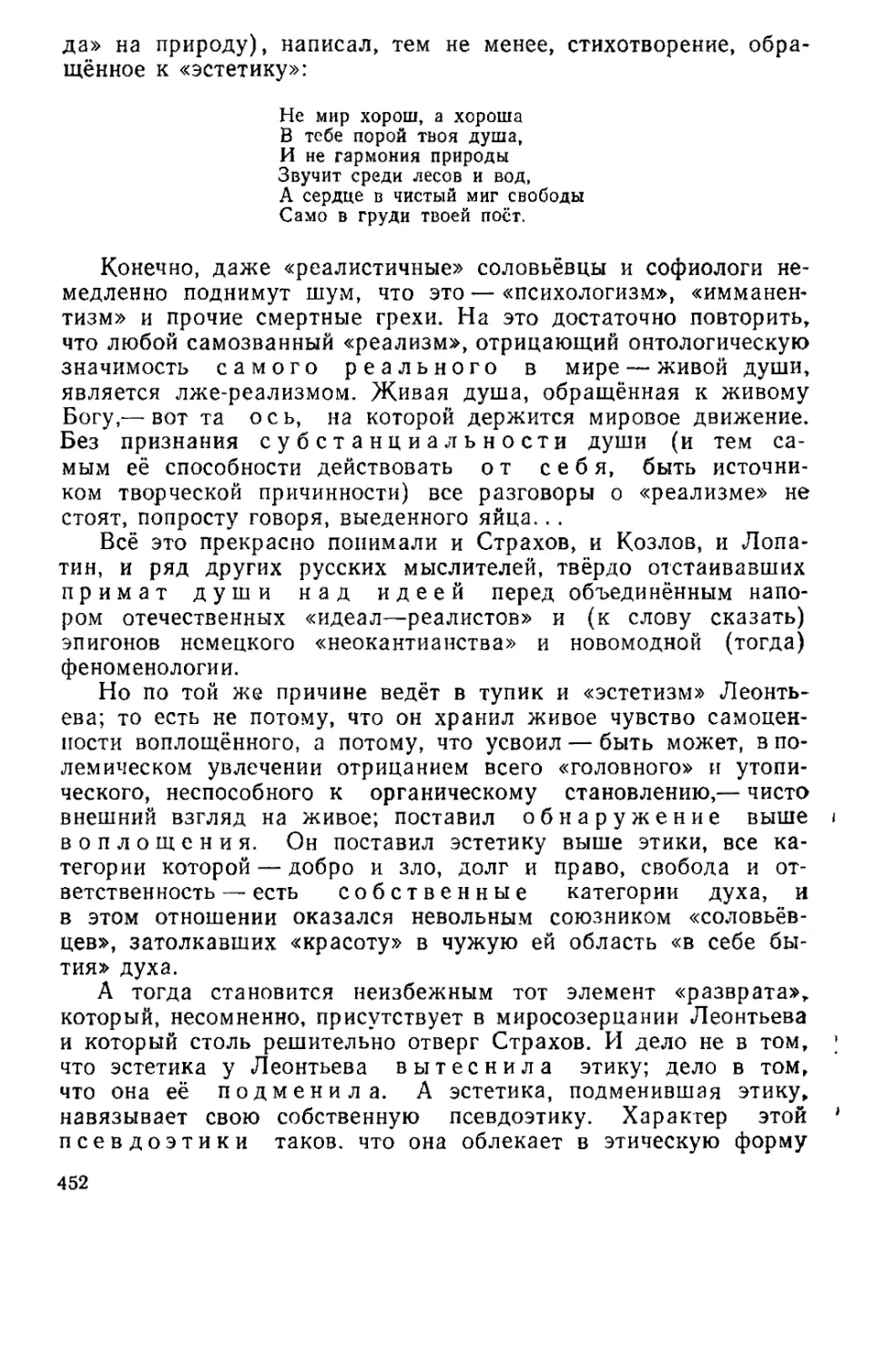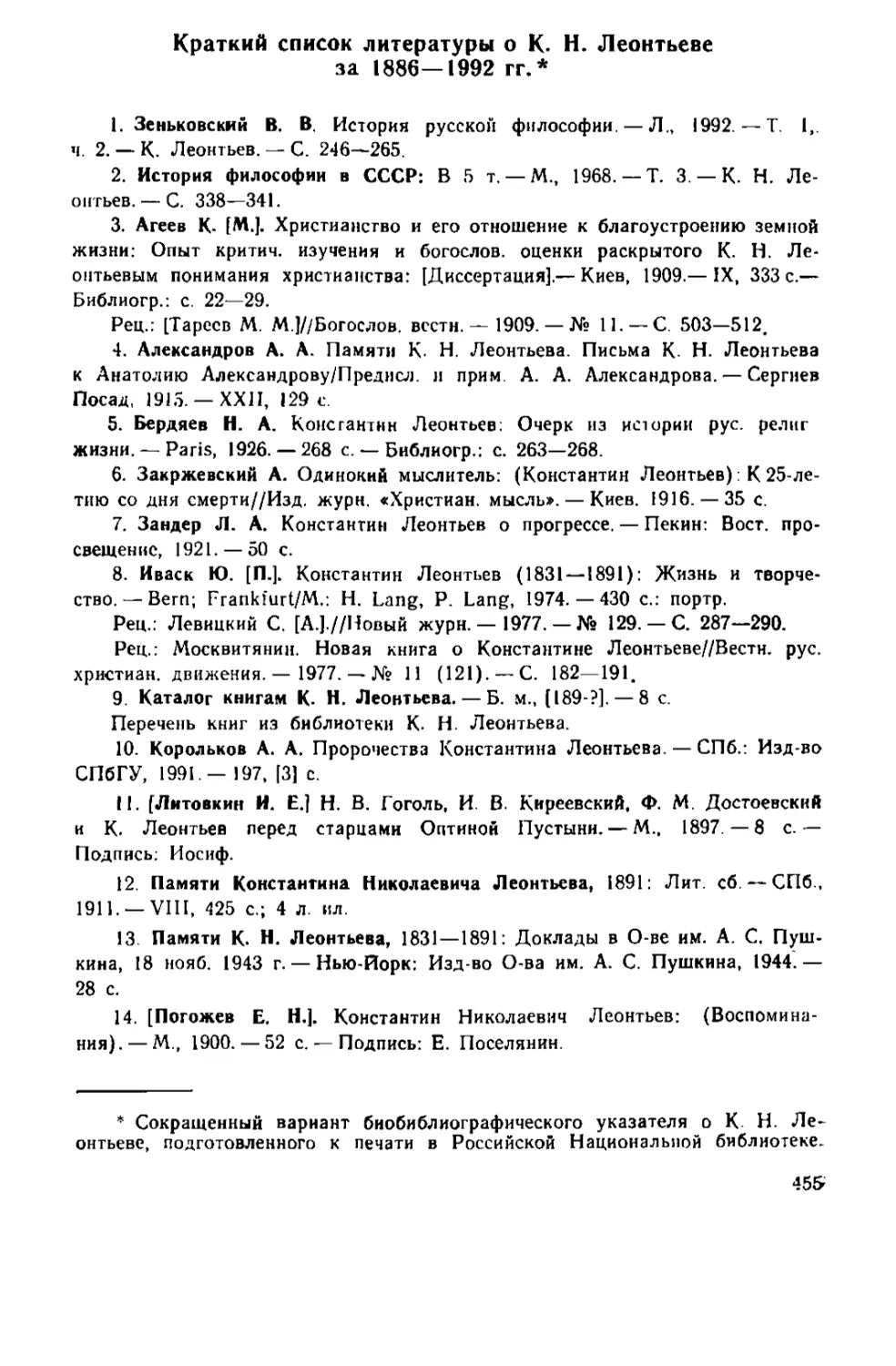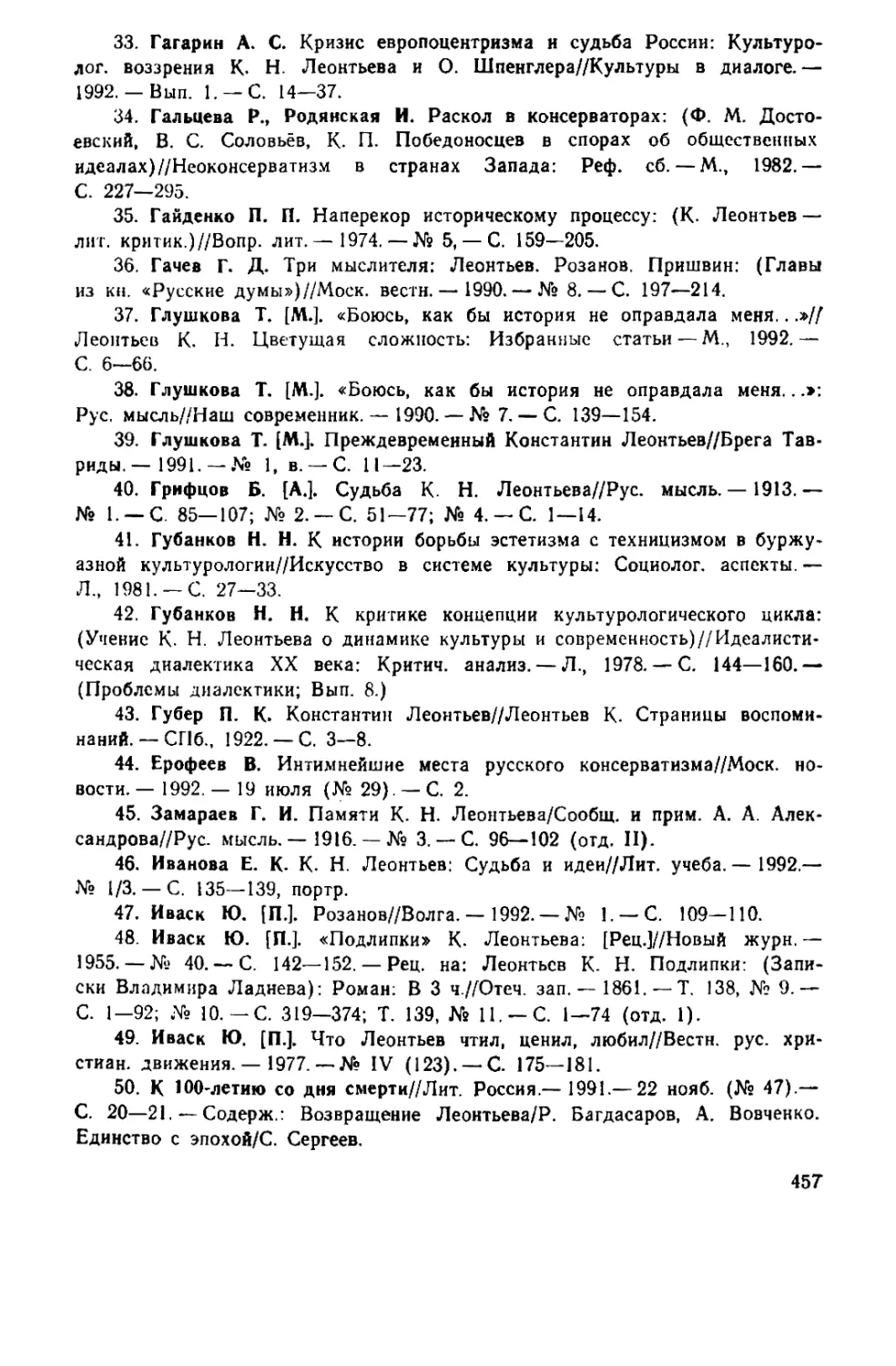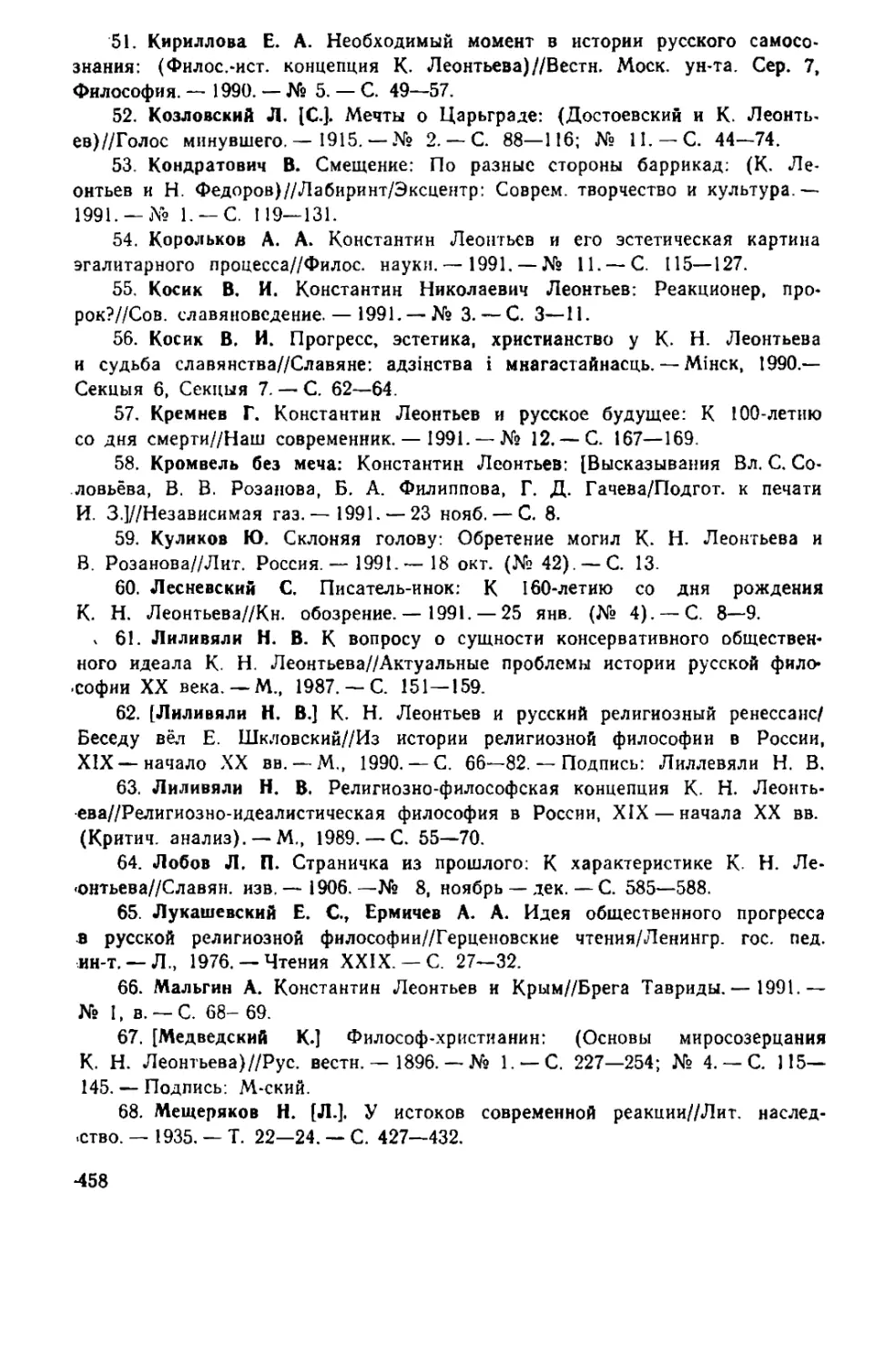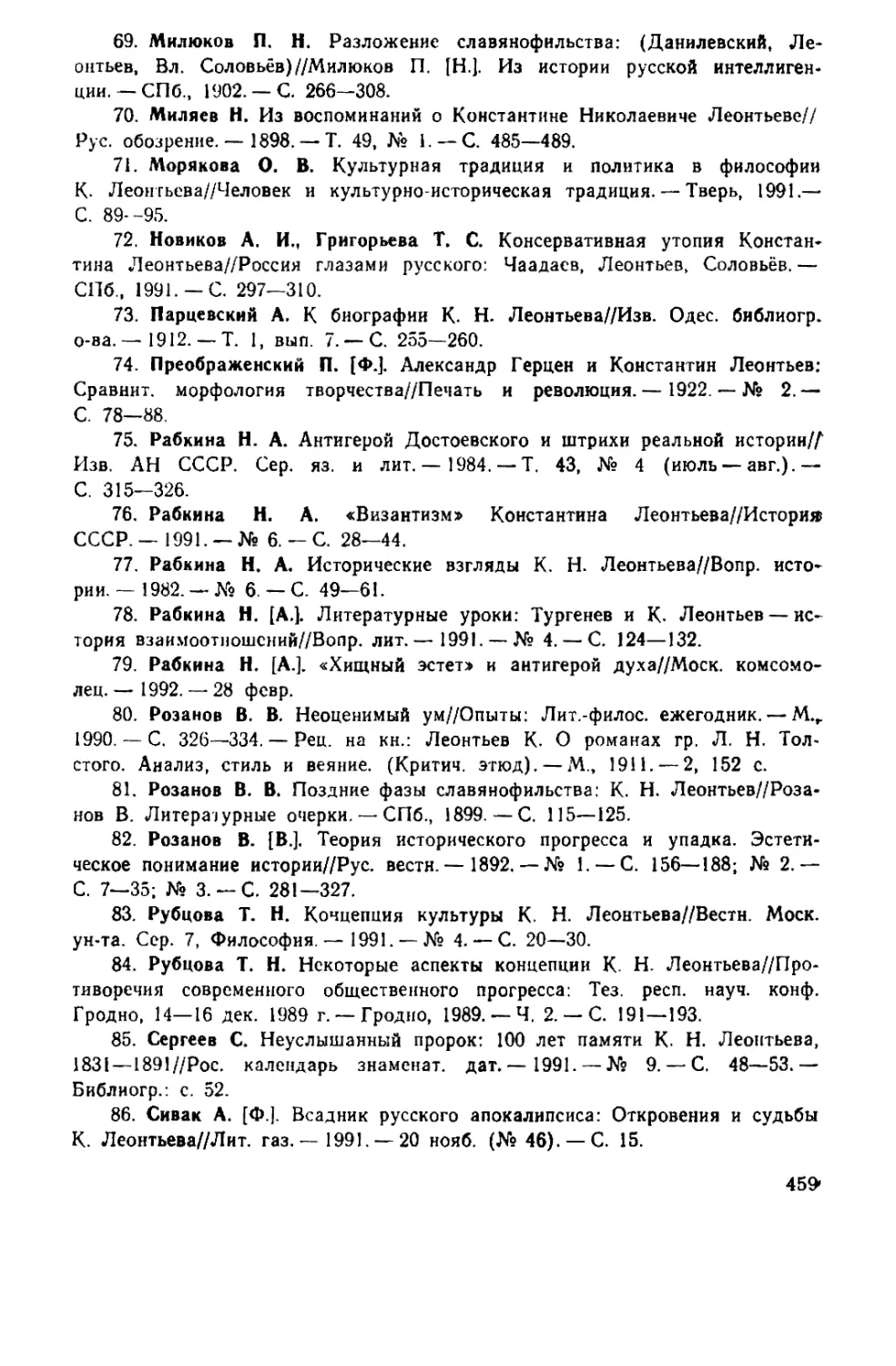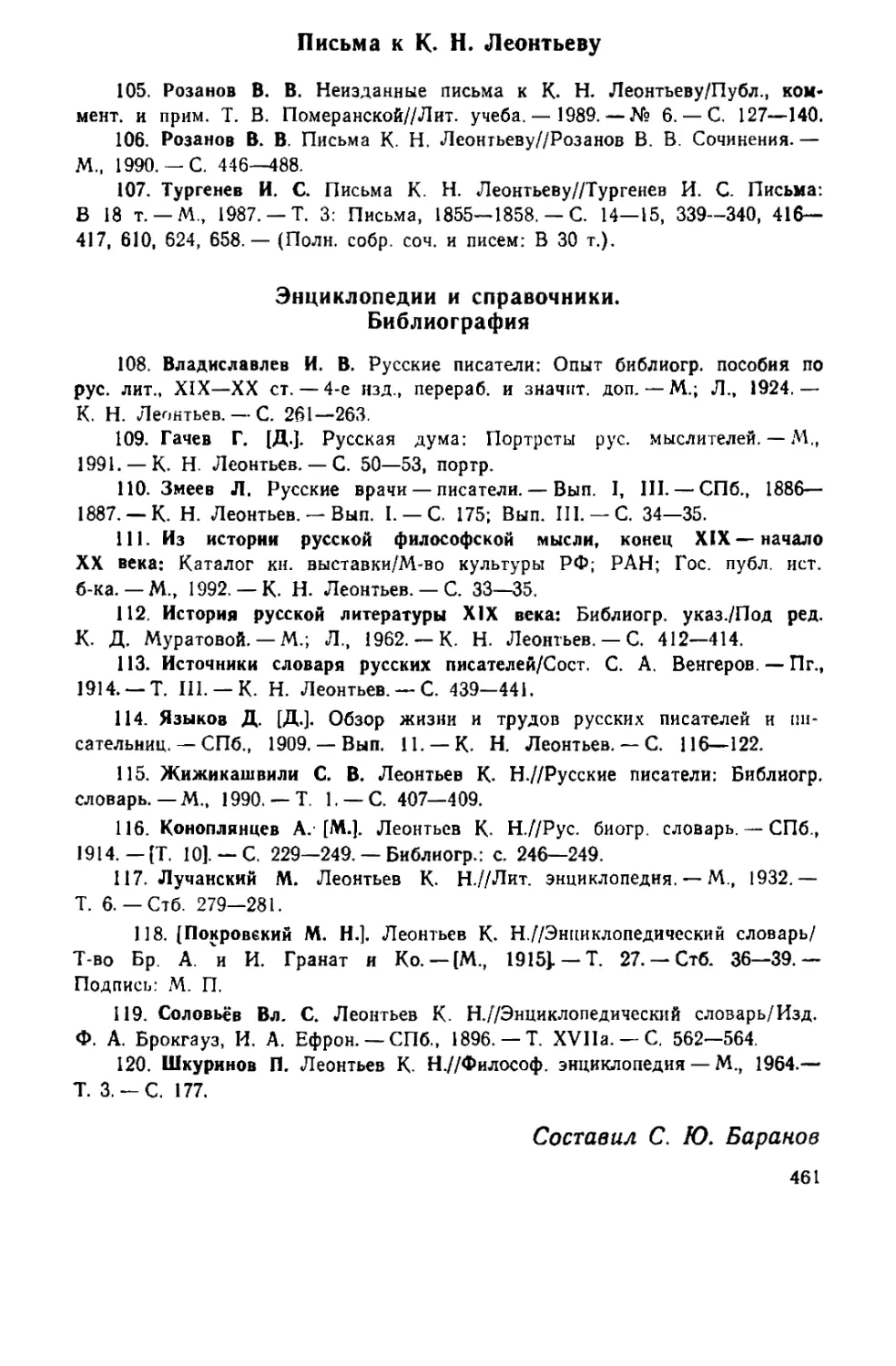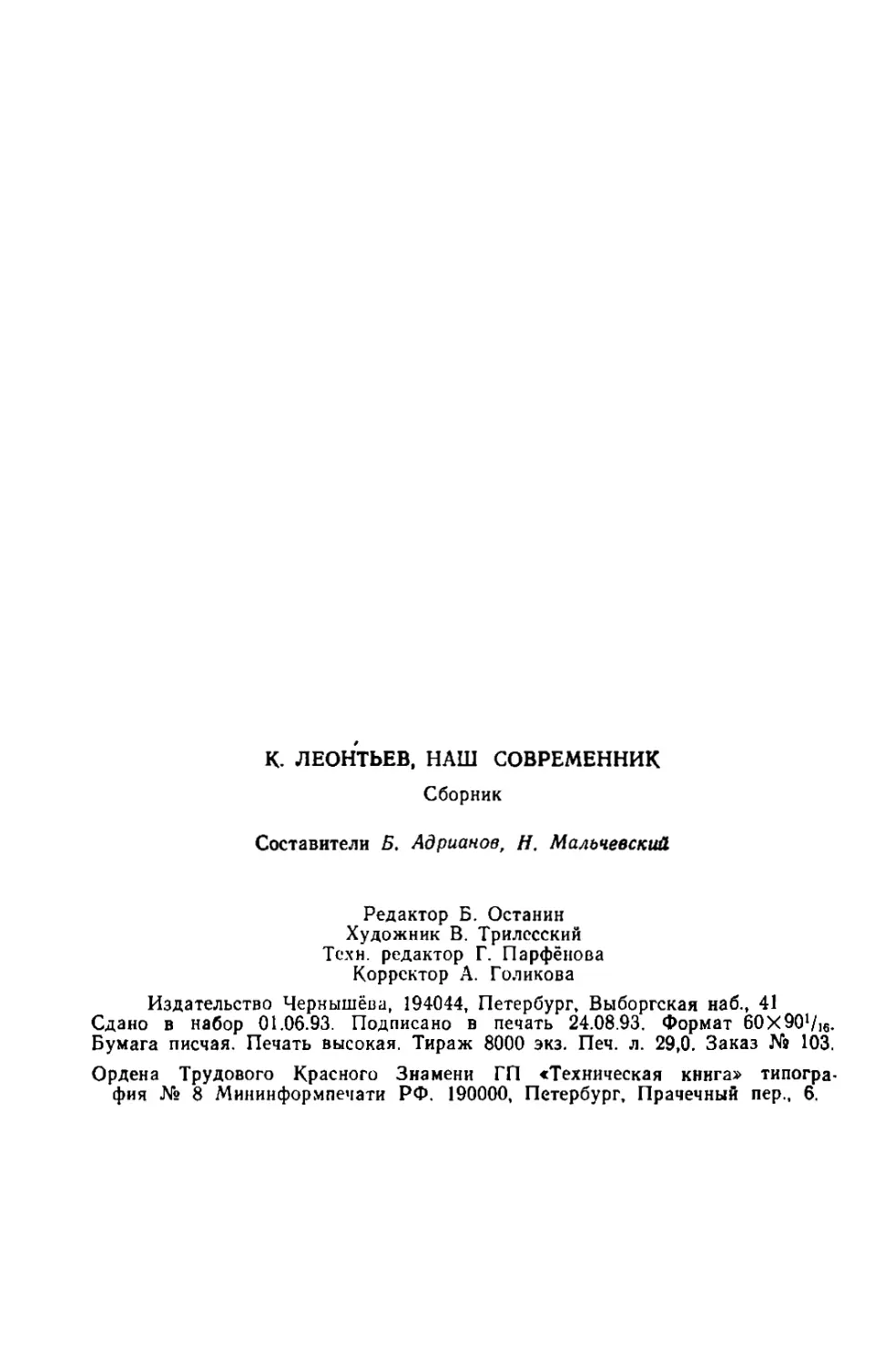Текст
К.Леонтьеб,
наш современник
ПЕТЕРБУРГ
1993
ББК 87.3(2)
Л47
Составители Б. Адрианов, И. Мальчевский
Публикация писем Д. В. Соловьёва
К. Леонтьев, наш современник»
J147 Сост. Б. Адрианов, Н. Мальчевский. — СПб.:
Издательство Чернышёва, 1993. — 464 с. (Серия «Русь многоликая»,
кн. 1).
Издательство благодарит Т. Горячеву
за участие в выпуске книги
ISBN 5—85555—008—7 ББК 87.3(2)
Л
04 © Составление. Б. Адрианов,
У60 (03)— 93 Н. Мальчевский, 1993.
СОДЕРЖАНИ Е
От составителей
Б. Адрианов. Место и значение К. Н. Леонтьева в русской
философии 4
Н. Мальчевский. Творчество К. Н. Леонтьева глазами
современников . Ю
Часть I
«Сказал — и душу свою освободил...»
(Избранные сочинения К. Леонтьева)
Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения
(гланы из работы) 15
О национализме политическом и культурном (письма к Вл. С.
Соловьёву) 40
Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой 120
Добрые вести (отрывок о монашестве) 134
Над могилой Пазухина 140
Славянофильство теории и славянофильство жизни 152
Достоевский о русском дворянстве 161
О всемирной любви 169
Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе 200
Рассказ моей матери об императрице Марии Феодоровнс . , . 218
Избранные письма 227
Часть II
Причастные и посторонние
(Современники о К. Леонтьеве)
B. С. Соловьёв. Константин Леонтьев 321
А. В. Королёв. Культурно-исторические воззрения К. Н,
Леонтьева 325
П. Е. Астафьев. «Добрая ссора лучше худого мира» 348
C. Л. Франк. Миросозерцание Константина Леонтьева . . . 350
Л. А. Тихомиров. Тени прошлого. К. Н. Леонтьев 355
Русские идеалы и К. Н. Леонтьев 377
Часть III
Далёкое эхо
(Петербургские философы 1990-х годов о К. Леонтьеве)
A. Черноглазое. Формула воцерковления ♦ . . . . 395
B. Кондратович. По разные стороны баррикад (Константин
Леонтьев и Николай Фёдоров) 404
Ю. Булычев. Вольнолюбивый певец деспотизма 409
Б, Адрианов. Иерархия — вечный закон человеческой жизни > . 422
Н. Мальчевский. Живое и мёртвое в русской философии ... 441
Библиография
Примечания .
Б. Адрианов
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
I
Константин Николаевич Леонтьев — одна из вершин того направления
русской мысли, представители которого относительно недавно, где-то с трети
XIX века, задумались: есть ли русские идеалы и в чём они состоят, зачем
живёт Россия и что она может дать другим народам, т. е. каков
провиденциальный смысл русской истории или крест русского народа, иго или бремя
Христа.
Первой горной цепью на этом пути были славянофилы. Понимание
А. Хомяковым, И. Киреевским, Аксаковыми, 10. Самариным этих вопросов
открыло русскому обществу далёкую перспективу культурного развития
в рамках своего культурно-исторического типа как наиболее плодотворного
для русского человека.
Но любая вершина раздвигает горизонт до известных пределов, и нужны
новые мыслители, как корректирующие путь, так и ещё далее
отодвигающие горизонт. Почвенники (An. Григорьев, Ф. Достоевский, Н.
Страхов), государственники (М. Катков. Л. Тихомиров). Н. Данилевский, Н. Де-
больский, /7. Астафьев, Н. Бердяев, евразийцы от Трубецкого до Л.
Гумилёва — всё это вершины, хотя и разные, поднявшись на которые мы можем
осмысленнее, увереннее и быстрее придвигаться вперёд.
Однако прежде всего надо основательно усвоить все положительные идеи
русских философов, понять своеобразие их видения. Не перевалив через
горные цепи, мы обречены на застой и топтание на месте. Вот почему так
важно иметь возможность постоянно обращаться к своим философам и
через них понимать современность в её главных принципах.
Настоящее издание К. Н. Леонтьева и имеет своей целью показать
основные положительные идеи этого великого мыслителя и его
принципиальное отличие от других философов и направлений русской мысли.
Соответственно этому и подобрано как оригинальное творчество К. Н. Леонтьева,
его работы, письма и воспоминания, так и статьи и высказывания о нём.
В последние годы Леонтьева стали понемногу издавать и даже писать
о нём. К сожалению, все издания страдают одним изъяном, а именно:
непониманием того, что говорит Леонтьев нашему времени. Объясняется это
многими причинами. Одна из них в том, что у него ищут готовых ответов-
рецептов на злобу дня. Однако, как и подобает подлинному философу,
К. Н. Леонтьев прежде всего пробуждает мысль читателя и подвигает его
4
к поискам самостоятельных решений. Да, это чрезвычайно трудно. Мы
буквально задавлены чуждыми нам идеологиями, ведём во многом неестествен*
ный образ жизни, мало способствующий её осмыслению.
Но именно вдумчивое и систематическое чтение Леонтьева как ничто
в наши дни поможет отрезвить нашу мысль от либеральных и
демократических прельщений, которым мы в той или иной степени поддались, и начать
самостоятельно в рамках отечественной мысли искать решения проблем
и вопрошаний времени.
II
Оценивая место /С. И. Леонтьева в ряду русских мыслителей, нужно
учитывать его появление после славянофилов, почвенников и националистов.
Величие его в том, что он не пошёл по проторённому пути, а нашёл свой,
в котором выразил те аспекты русского самосознания, которые либо вовсе
игнорировались, либо рассматривались слишком общо и неопределённо.
Всегда трудно выйти из-под влияния больших философов, начинающих то или
иное направление, даже в некоторых вопросах, а тем более утвердить свою
особую позицию буквально во всём. Леонтьев с полным правом мог сказать
о себе: «Я ни к какой партии, ни к какому учению прямо сам не
принадлежу; у меня своё учение». Но отсюда проистекало лютое одиночество
мыслителя, непонимание его позиции и взглядов. Отсюда же пристрастная и
необъективная критика со всех сторон. Леонтьев с горечью писал: €Чем
вознаградила меня печать? Тем, что восхищающиеся на словах и в
письмах молчат перед публикой, а другие понимают меня так превратно, так
обидно и так даже ужасно, как понял меня г. Астафьев или редакция
«Благовеста».
К. И. Леонтьев достойно вынес свой крест непризнания и замалчивания,
и в этом ему помогла вера во Христа, то особое, а строго говоря, обычное
Православие, которое он называл филаретовским, противопоставляя
христианству славянофилов и, в особенности, т. н. «новых христиан» — Л.
Толстого и Ф. Достоевского. Последним он посвятил несколько статей, которые
не устарели до настоящего времени. Леонтьев чутко прозрел в
мировоззрении Достоевского, а ещё более Толстого зародыши нового сектантства. То.
что у них было лишь гранью, аспектом, оттенком христианского
мировоззрения, у последователей могло стать сутью, что и осуществилось на примере
толстовства. И в этом отношении чтение Леонтьева и в наши дни — хорошая
прививка от «розового христианства», подменяющего православное
вероучение сентиментальным и отвлечённым гуманизмом, обещанием земной
гармонии и благоденствия.
Конечно, и Леонтьева «заносило», взять хотя бы его мечту о Соборно-
Патриаршей централизации на Босфоре. Но с кем из действительно крупных
мыслителей этого не бывает! Да и в письмах он мог переступить грань
допустимого в своём неприятии И. Страхова или в увлечении Вл. Соловьёвым,
но и тут критики превзошли его по всем статьям как при жизни, так
и после смерти.
III
Если покопаться в старых журналах и газетах, то выйдет, что о
Леонтьеве писали многие, но всё не то, кроме, быть может, Льва Тихомирова.
Поэтому лишь чтение самого Леонтьева даст нам понимание всей глубины
и своеобразия этого мыслителя, а главное — вооружит новым взглядом на,
казалось бы, давно очевидные явления. Хотя читать его, несмотря на
блестящий язык и образность, иногда трудно, но, вчитавшись и поняв свое-
5
образие его понимания, мы уже не сможем, как ранее, безоговорочно
одобрять или безоговорочно осуждать многие события. Какая-то новая глубина,
новые аспекты истины откроются нам.
Так, увидев в национальных движениях «слепое орудие всемирной
революции», мы сможем понять критику Леонтьевым панславизма и оценить
глубину его предостережения: «Идея православно-культурного руссизма
действительно оригинальна, высока, строга и государственна. Панславизм же
во что бы то ни стало — это подражание и больше ничего. Это идеал
современно европейский, унитарно-либеральный; это стремление быть как все.
Это всё та же общеевропейская революция. .. Русским в наше время надо
стремиться со страстью к самобытности духовной, умственной и бытовой...
и тогда и остальные славяне пойдут со временем по нашим стопам.. .»
Д. Бонхоффер писал из нацистской тюрьмы в праздничный для него
день Реформации: «Хотелось бы знать, как случилось, что результаты
деятельности Лютера прямо противоположны его намерениям и омрачили
последние годы его жизни и работы настолько, что он усомнился в пользе
всех своих начинаний... Со студенческих лет я помню спор между Холлом
и Гарнаком о том, что побеждает в любом движении, первичные или
вторичные причины. Тогда я думал, что прав Холл, который отдавал
предпочтение первым. Сейчас я уверен, что он ошибался».
Вот эти вторичные причины, которые и восторжествовали в результате
национальных революций в Европе XIX столетия, были увидены Леонтьевым
и определены как антигосударственные, противо религиозные и, в конечном
счёте, космополитические. Никто, кроме Леонтьева, не хотел этого признать,
более того, его работа «Племенная политика как орудие всемирной
революции» вызвала резкую критику со стороны славянофилов и
националистов.
Конечно, понимание К. Н. Леонтьевым национализма не несло в себе
всей полноты, но в главном он был прав. Никакого возрождения народной
жизни, расцвета национальной культуры не произошло, напротив,
национальное своеобразие даже там, где оно было, ослабло, что способствовало
уравнительному смешению и торжеству буржуазной пошлости и мещанства.
Оценивая леонтьевским взглядом современный «парад суверенитетов»,
можно с уверенностью предсказать, что и здесь победят вторичные причины
и вместо возрождения народной жизни и национальной культуры произойдёт
дальнейшая нивелировка и смешение и, в конечном итоге, восторжествует
космополитизм.
Не только нетерпение и жажда готовых рецептов не располагают к
пониманию Леонтьева, но и отсутствие собственной продуманной личностной
позиции, боязнь смелой нетрадиционной мысли, даже просто подхода,
взгляда.
Но как раз сейчас нам особенно не хватает такого неконформистского
отрезвляющего взгляда. Пусть мы не во всём или даже вовсе не
согласимся с Леонтьевым, но... задумаемся, и прежняя вера в безошибочность
и истинность наших верований и упований поколеблется. А что-то
представится нам иначе и если и не утешит, то уж наверняка излечит от изрядной
доли горечи, досады и разочарований.
Скептически относясь к юго-западным славянам, Леонтьев не ждал
ничего хорошего от союза с ними и публично и по службе предостерегал от
излишнего связывания с ними российских государственных и национальных
интересов. Его прогноз оказался верным, хотя в своё время понимания он
не встретил ни у кого. Обратимся теперь к современности. Может быть,
потеря части соотечественников т. н. ближнего зарубежья не так уж для нас
страшна, если и не прямо благотворна?
6
IV
Редкая способность видеть действительные причины и конечные послед*
ствия многих исторических явлений и движений в особенности отличала
Л". И. Леонтьева. Лавров ему это при жизни не принесло, но зато сделало
нашим современником. Нам как никогда близка независимость его мысли,
способность все оценивать «на спой салтык». Его мечты и упования, к со-
жалению, не оправдались, но прогнозы или даже пророчества сбылись, го-
ворил ли он о юго-западных славянах, о будущем Европы, о ближайшей
или отдаленной судьбе России. За 28 лет до революции он писал в письме
к Губастову: «Вес мне кажется, что религиозность эта наша и наш
современный национализм — всё это эфемерная реакция, от которой лет через
20—30 и следа не останется. Сознаюсь, я иногда так думаю». «Наши
Романовы, при своей историчеокой гуманности и честности, — откажутся сами,
быть может, от власти, чтобы спасти народ и страну от крови и опустошения»
(Письмо к о. И. Фу делю, 6—23.7, 1888). «Коммунизм в своих буйных
стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен рядом различных сонета-
ний с другими началами привести постепенно, с одной стороны, к меньшей
подвижности капитала и собственности, с другой — к новому юридическому
неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и
принудительным корпоративным группам, законом резко очерченным; вероятно,
даже к новым формам личного рабства или закрепощения» (Собр. соч., М.,
1912, т. 6, с. 59—60). «Для исполнения особого и великого религиозного
призвания Россия должна всё-таки значительно разниться от Запада и
государственно-бытовым строем своим. Иначе она не главой религиозной
станет над ним, а простодушно и по-хамски срастётся с ним ягодицами
демократического прогресса (родятся такие уроды — ягодицами срослись)»
(Письмо к о. И. Фуделю, 19.1—1.2, 1891).
Современный исследователь творчества /(. Н. Леонтьева Г. Кремнев не
считает это пророчеством, а объясняет прозорливость Леонтьева тем
обстоятельством, что «мировоззрение его системно и внутри себя продумано и
логично до такой степени, что это позволяет «исчислить» все возможные
варианты развития глобальных культурно-исторических процессов» («Наш
современник», № 12, 1991, с. 168),
Никакая система невозможна без «стержневого, господствующего
принципа». И он, вопреки утверждению В л. Соловьёва, имелся у Леонтьева, хотя
и не был им до конца, до самого «дна» философски осмыслен и
сформулирован, возможно, потому, что слишком метафизически глубок и
всеобъемлющ, а вернее всего, в силу превратности судьбы, толкавшей его вширь,
а не вглубь. Другими словами, если Н. #. Данилевский сумел
сформулировать закон о культурно-исторических типах как аксиому или
метафизическую истину, лежащую в основе всего его мировоззрения, Леонтьев этого
не сделал. Сознавая это, он писал о. И. Фуделю: «У меня своё учение, но
я положил ему только основание, а другие должны проверять и
разрабатывать его».
Стержневым для Леонтьева было убеждение об изначальном,
прирождённом или внутреннем неравенстве людей и вера в то, что вытекающая
отсюда субординация в любом обществе, государстве, коллективе
чрезвычайно благотворна, ибо выражает метафизический закон человеческого
существования. Жить в соответствии с этим законом естественно и
гармонично, вопреки — противоестественно и безобразно. Отсюда его пресловутый
«эстетизм» и «византизм».
Вера в «горизонтальную иерархию» людей присутствовала у К. Н.
Леонтьева во все периоды его жизни, был ли он «язычником» или христианином,
врачом или дипломатом, состоял ли на государственной службе или был
в отставке, жил в миру или в монастыре. Те народы, общества, государства,
7
церкви, которые жили, берегли, развивали любые формы, сохраняющие
иерархичность, сословность, «закрепощённость», структурность и т. п.,
ценились им и превозносились, те же, где границы размывались, строгие формы
разрушались, где эгалитарные процессы преобладали — клеймились со всей
беспощадностью. Как никто другой он видел, что эгалитарные процессы,
возобладавшие в Европе после Французской революции, подступили уже и
к России. Леонтьев также ясно сознавал, что эти уравнительные процессы не
просто антиэстетичны, пошлы, уродливы, вульгарны, но и идут наперекор
фактическому (или, что то же, — метафизическому) неравенству людей и
потому приведут к реакции, которая породит новые, но уже уродливые
формы неравенства между людьми и народами (что мы и наблюдали на
примере коммунизма и нацизма).
В любом случае это приведёт к глубокой неудовлетворённости
современной жизнью подлинно глубоких и талантливых людей, а что они
предпримут против этого — одному Богу известно,
V
Таким образом, /С И. Леонтьев значительно расширил русскую
проблематику, начатую славянофилами и развитую далее
почвенниками-националистами, показав исключительную важность для жизненности Российского
государства и русского народа традиционализма и преемственности, которьиг
он и назвал «византизмом». Термин этот смутил и продолжает смущать
многих. В целом он в такой же степени удачен и неудачен, как «славяно-
фильство» и, впоследствии, «евразийство*. Удачен потому, что не позволяет
отождествлять эти понятия с руссизмом или русскостью; неудачен
—поскольку слишком расширяет понятие русскости до почти полного слияния
со славянами, Византией и даже «туранскими народами».
Византизм в понимании Леонтьева — это не столько особая культура,
склад чувств, мыслей и всей жизни, которую Россия унаследовала от
Византии (как понимал это Н. Н. Страхов), сколько глубокая иерархичность
всего жизненного уклада Византии (монашества, клира, государства,
общества, культуры), которая была воспринята Русью и в значительной степени
обеспечила русскому народу неуклонный рост силы, могущества, величия,
что выразилось в создании Российской империи, в раскрытии лучших черт
народа (совестливости, правдоискательства, героизма, самоотверженности,
чувства достоинства), в создании глубокой, сложной, разветвлённой и раз-
нообразной культуры.
Леонтьеву как никому было дано понять, что нашей славой, величием,
даже долголетием мы обязаны не столько национальной самобытности,
сколько той великой традиции, тому преемству, той религиозности и
государственности, которые были унаследованы от Византии. Знал св. Владимир
что выбирать: ни католичество, ни ислам, ни, тем более, иудаизм не дали
бы той возможности для полного раскрытия всего лучшего, что потенциально
было заложено в русском народе.
Важность следовать «византийской» традиции во всей её полноте не
осознавали ни почвенники, ни славянофилы, ни националисты, отчего они
и не защищали эти устои, не охраняли их со всей страстью и
беззаветностью. Крушение устоев, медленное, но систематическое, совершалось на
глазах и неумолимо вело к краху. Без сословности, дворянства не могло быть
самодержавных форм правления, их слабость усиливала всевозможные
упрощающие явления вплоть до протестантизма в Церкви (обновленчество).
К. И. Леонтьев со своих «византийских» позиций видел, что
современное европейское влияние смертельно для Российской империи, и пытался,
как мог, его предотвратить, в чём он полностью сходился со всеми русскими
мыслителями-патриотами.
8
Таким образом, в Леонтьеве завершилось становление триединого или
всестороннего подхода к русской проблеме, к пониманию «особенной стати»
России, к уяснению провиденциального смысла русской истории и
существования русского народа. После него при решении этих вопросов уже нельзя
игнорировать правду славянофилов, почвенников-националистов и
«византийцев-государственников», но и нельзя зацикливаться только на них.
Триединый подход спасёт нас от крайностей узкого национализма,
абсолютизации государственности или народности, не позволит, как прежде,
придавать им самодовлеющее значение вне связи с другими факторами и в то
же время обяжет предусматривать их в качестве обязательных элементов
русского самосознания.
Отечество и нация, традиция и национальная самобытная культура —
вот те абсолютные ценности любого народа, которые он должен беречь
как зеницу ока, от которых он не должен никогда отказываться. Ни при
каких обстоятельствах, ни при каких условиях не может он разменивать их
ни на что относительное и преходящее.
Чтение, изучение, усвоение наследия Константина Николаевича
Леонтьева вольно или невольно пробуждает в русском человеке представителя
великого народа, который, очнувшись от дурмана обступивших его со всех
сторон демократических примитивов, поймёт крайнее убожество современной
буржуазной «цивилизации» и утвердится в сознании того, что русские —
великий народ, с великой культурой, великим государством, великой историей.
Н. Мальчевскик
ТВОРЧЕСТВО К. Н. ЛЕОНТЬЕВА
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
Для оценки того, что было написано о Константине Леонтьеве в конце
прошлого и в начале нынешнего века, не имеет почти никакого значения
привычное деление писавших на его «сторонников» и «противников*. Среди
строгих и даже беспощадных критиков Леонтьева немало тех, кто был
ближе к сокровенному ядру его мировоззрения, чем иные «тонкие
ценители», видевшие только самую внешнюю — «эстетическую»—оболочку этого
ядра, внутри которого лежит переживание двойной связи человека: с
отечеством земным и отечеством небесным. .. Леонтьев выстрадал — и духовно
и физически — свой путь к примирению этой двойственности,
составляющей одну из самых острых проблем христианского сознания. Является ли
его путь единственно верным или, напротив, уводит в сторону — об этом
можно и даже необходимо спорить; но ясно, что это дело Леонтьева
куда более оригинально и значительно, чем его «эстетизм» — один из
многих в Европе конца девятнадцатого века.
Впрочем, сегодня имеет смысл принять во внимание оба подхода к
творчеству К. Н. Леонтьева — и внешний, направленный на форму и выразитель-
ные средства его мировоззрения, и внутренний, стремящийся выявить ту
основную интуицию, которая одна решает, является ли это мировоззрение
очередным воздушным замком, характерным для fin de siecle, или же имеет
прочное основание в исторической и метаисторической «существенности».
Внешний подход помогает лучше узнать Леонтьева, внутренний — глубже
понять его.
Виртуозом внешнего подхода был, несомненно, В. С. Соловьёв. В его
статье, написанной для «Энциклопедического словаря», Леонтьев весь как
на ладони, со своими «сильными» и «слабыми» сторонами. Идеальная статья
для тех, кто хочет познакомиться с концепцией К. Н. Леонтьева, не
утруждая себя проникновением в тот дух любви к России и Православию,
который облёкся в доспехи концепции и который был — возьмём на себя
смелость сказать это прямо — совершенно чужд Владимиру Соловьеву с его
хлопотами о «богочеловечестве» и «вселенской церкви».
Статья А. В. Королёва — совсем другая; местами наивно доверчивая
к слову учителя, но зато владеющая тем сочувственным вниманием к
предмету, без которого знание не может перейти в понимание. Увы, у «больших
мыслителей» мне не встретилось ничего, написанного в жанре статьи (а не
монографии), где взгляды. Леонтьева излагались бы так обстоятельно и
вдумчиво, как это сумел сделать скромный участник «кружка почитателей
памяти К. Н. Леонтьева».
П. Е. Астафьев — замечательный русский философ, столетие со дня
смерти которого, конечно, «забудет» отметить в этом году российская
интеллигенция,— одним из первых указал на значение культурно-исторических
идей Леонтьева и, одновременно, на недостаточность их чисто
феноменологического обоснования, в котором Леонтьев был особенно силён. Поиск
метафизического корня культуры и государственности привёл самого
Астафьева к понятиям национального духа и национального самосознания.
Если Леонтьев верил в самодостаточность культурно-государственной формы,
то Астафьев видел именно в нации ту внутреннюю энтелехию, которая
творит внешнюю форму; здесь возник спор двух русских мыслителей,
который заслуживает сегодня самого пристального внимания — и по своему
чисто философскому (вспомним конфликт Платона и Аристотеля), и по
своему социально-политическому значению. Не стану скрывать — в этол
10
споре позиция Астафьева представляется мне более убедительной; но
читатель может сам решить, насколько сумел Леонтьев рассеять опасения своего
единомышленника (ибо в главном — в отношении к России и
Православию — эти мыслители стояли на одной почве), сравнив фрагмент ос-
тафьевской статьи с развёрнутым ответом Леонтьева в первой части
данного сборника («О национализме политическом и культурном»).
Но снова — взгляд внешний и, однако, очень характерный. Рассуждения
С. Л. Франка об «эстетическом изуверстве» Леонтьева, о его «эстетической
любви к насилию и трагизму» и т. д. типичны для всех «религиозных
философов» послесоловьёвской формации. Печально, косда нечто подобное
повторяется и сегодня как некий пароль «посвященных» в «загадки
Леонтьева». Вспомним, для сравнения, какая глубина понимания творчества
Фридриха Ницше достигнута в современной западной философии, где разговоры
об «эстетизме» и «имморализме» германского мыслителя уже давно звучат
тривиально, если не пошло. Не пора ли и нам преодолеть аналогичную
пошлость в отношении Константина Леонтьева?
Наконец, Л. А. Тихомиров. Именно он сумел, на мой взгляд, свести
воедино основные социально-философские идеи Данилевского, Леонтьева,
Астафьева, Каткова и других. Славянское и византийское, европейское и,
добавим, евразийское — только исторические метаморфозы, через которые
проходит и в которых сохраняется наша национальная субстанция, русское
начало как таковое. По мнению Тихомирова, Константин Леонтьев сумел,
как никто другой, изобразить русский этос во всей его особенности,
увидеть собственно русское в «русском вообще», наметить конкретную
систему русских идеалов. У Льва Тихомирова мы находим также один
из самых достоверных литературных портретов личности К. Н. Леонтьева,
написанный без стремления утрировать или, наоборот, затушевать
«демонические» и просто не слишком симпатичные черты прототипа...
К сожалению, многое важное и интересное из написанного о
Константине Леонтьеве осталось за пределами данной подборки: и оригинальный
этюд Б. В. Никольского (в сборнике 1911-го года), верно подметившего, что
мировоззрение Леонтьева, даже взятое с его внешней стороны, не столько
эстетическое, сколько героическое, выражающее идею жертвы и подвига;
и полемический очерк А. А. Киреева «Народная политика как основа
порядка», который полезно прочесть всем тем, кто пытается извлечь из
К. Н. Леонтьева аргументы в пользу растворения России и русского народа
во всевозможных «суперэтносах»; и другие работы, написанные теми, кто
и соглашался с Леонтьевым, и спорил с ним, но был причастен к тому,
о чём болела душа Константина Леонтьева, обронившего в одном из
последних писем: «Ничего не чувствую, кроме глубокой боязни
за Православную Церковь (земную, конечно) и за Россию!». Может быть,
не мешало бы расширить и список громких имён — но статьи В. В. Розанова
появились недавно в многочисленных изданиях, а написанное философами —
эпигонами Владимира Соловьева страдает, на мой взгляд, всё той же
поверхностностью, граничащей с пошлостью...
Впрочем, читатель, которого не удовлетворит мой выбор авторов —
а серьёзного читателя не может вполне удовлетворить чужой выбор —
имеет возможность воспользоваться библиографией, составленной для дан-
ного издания петербургским «леонтьевоведом» Сергеем Барановым, чтобы
найти свои ориентиры в творчестве замечательного русского мыслителя и
своеобразного русского человека — Константина Николаевича Леонтьева.
Часть I
«СКАЗАЛ - И ДУШУ СВОЮ ОСВОБОДИЛ...»
(Избранные сочинения К. Леонтьева)
средний европеец как идеал и орудие
всемирного разрушения
IV
Кто-то из прежних писателей наших (если не ошибаюсь,
К. С. Аксаков) заметил, что европейская история делает крутой
поворот в своём течении ко второй половине каждого столетия^
быть может, это бывало и бывает везде, но в европейской
истории это не только нам субъективно заметнее, потому что
известнее, но и в самом деле an und fur sich объективно резче, ибо
романо-германская цивилизация самая сложная, самая резкая,
самая самосознательная, самая выразительная изо всех прежде
бывших. В самом деле, вспомним, что случилось в самое
среднее десятилетие нашего века, т. е. от 48 до 60-го года, или, если
хотите, от 51 до 61-го. (Это небольшое колебание цифр, конечно,
не важно). Первые социалистические бунты на Западе;
строжайшая охранительная реакция императора Николая в России
и усмирение его оружием племенного восстания в
Австро-Венгрии *. Начало 2-й империи во Франции (51-го года); наша
Восточная война (53—56). Воцарение императора Александра II
в России и короля Фридриха Вильгельма в Пруссии (оба эти
монарха, каждый по-своему, позднее произвели в России и
Германии вторичное смешение групп и слоев социальных и
политических). Объединение Италии (59—60); через это ослабление
Франции и Австрии; через это новое усиление либерализма
в обеих странах. Приготовления к шлезвиг-голынтейнской
племенной (т. е. смесительной) войне в Германии и к либерально-
эгалитарным реформам в России. В 61-м году начало того и
другого. В то же время начало междоусобной войны в Америке,
кончившейся политическим смешением южан с северянами, и
социальное уравнение.чёрных с белыми. В этот же промежуток
времени, в 59 и 60-х годах, дальний азиатский Восток, Индия и
Китай, как бы пробудясь от тысячелетнего отдыха своего,
заявили вновь права свои па участие во всемирной истории;
Индия впервые восстала; Китай вступил впервые в нешуточную
борьбу с двумя передовыми нациями Запада: с Францией и
Англией. Индия была усмирена; Китай был побеждён. Но,
конечно! И тот и другая уже вовлечены в шумный и страшный
поток всемирного смешения, и мы, русские, с нашими серо-евро-
* Я доказывал не раз, что чисто племенные движения нашего века все
до одного приносят прямо или косвенно либерально-эгампарные пледы;
усиливают лишь принижение старого и неорганическое смешение с другим тоже,
пожалуй, не особенно новым. Например, Польша и Россия в 60-х годах.
15
пейскими, дрябло-буржуазными, подражательными идеалами,
с нашим пьянством и бесхарактерностью, с нашим безверием
и умственной робостью сделать какой-нибудь шаг беспримерный
на современном Западе, стоим теперь между этими двумя
пробуждёнными азиатскими мирами, между
свирепо-государственным исполином Китая и глубоко-мистическим чудищем Индии
с одной стороны, а с другой — около всё разрастающейся гидры
коммунистического мятежа на Западе, несомненно уже теперь
«гниющем», но тем более заразительном и способном сокрушить
ещё многое предсмертными своими содроганиями. . .
Спасёмся ли мы государственно и культурно? Заразимся ли
мы столь несокрушимой в духе своём китайской
государственностью и могучим, мистическим настроением Индии? Соединим
ли мы эту китайскую государственность с индийской
религиозностью и, подчиняя им европейский социализм, сумеем ли мы
постепенно образовать новые общественные прочные группы и
расслоить общество на новые горизонтальные слои — или нет?
Вот в чём дсло1 Если же нет, то мы поставлены в такое
центральное положение именно только для того, чтобы,
окончательно смешавши всех и вся, написать последнее «мани—фе-
кель—фаресЬ на здании всемирного государства...
Окончить историю, погубив человечество; разлитием
всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать
жизнь человеческую на земном шаре уже совсем невозможной.
Ибо ни новых диких племен, ни старых уснувших культурных
миров тогда уже на земле не будет.
Группы и слои необходимы, но они никогда и не
уничтожались дотла; а только перерождались, переходя из одной
достаточно прочной формы, через посредство форм непрочных и
более подвижных, более смешанных, опять в новые, в другие
более прочные формы *.
Реальные силы обществ все до одной неизбежны,
неотвратимы, реально-бессмертны, так сказать. Но они в исторической
борьбе своей — то доводят друг друга попеременно до rnini-
mum'a власти и влияния, то допускают до высшего
преобладания и до наибольших захватов, смотря по времени и месту.
Какие бы революции ни происходили в обществе, какие бы
реформы ни делали правительства — всё остаётся; но является
только в иных сочетаниях сил и перевеса; больше ничего.
Разница в том, что иные сочетания благоприятны для
государственной прочности; другие для культурной
производительности, третьи для того и другого вместе; иные же ни для того,
ни для другого не благоприятны. Так, форма глубже расслоён-
* Гизо: «Община древняя н община феодальная».
16
ная и разгруппированная и в то же время достаточно
сосредоточенная в чём-нибудь общем и высшем — есть самая прочная
и духовно производительная; а форма смешанная, уравненная
и несосредоточенная — самая непрочная и духовно бесплодная *.
Я сказал — всё остаётся; но иначе сочетается. Я приводил
примеры и сказал, между прочим, что даже и рабство никогда
не уничтожалось вполне и не только не уничтожится, но,
вероятно, вскоре возвратится к новым и, вероятно, более прочным
формам своим.
Говоря это, я, конечно, преднамеренно расширил понятие
этого слова «рабство». Иногда очень полезно расширять и
сужать таким образом терминологию, ибо и она от привычного
и частого употребления перестаёт действовать как должно на
ум наш. При таких мысленных растяжениях открываются
нередко для ума вовсе неожиданные перспективы. Рабство есть
и теперь при капиталистическом устройстве обществ; т. е. есть
порабощение голодающего труда многовластному капиталу.
Это говорили очень многие и прежде меня, это выражение не
ново. Говорили также не раз, что феодализм капитала заменил
собою феодализм дворянства.
Но насколько мне кажется, что первое выражение удачно,
т. е. что есть и теперь рабство, настолько приложение слова
феодализм к современному отношению капитала и труда не
совсем удачно.
Рабство есть; т. е. есть сильная невольная зависимость
рабочих людей от представителей подвижного капитала; велика
власть денег у богатых; и это так; но если сравнить прежнее
положение дел хоть у нас в России с нынешним, то мы увидим
то же, что и везде, где произошло сословное смешение, есть
власть у богатых; бедные зависят от них. Но и власть денег не
прочна, не узаконена крепко привилегией, слишком подвижна;
и зависимость труда тоже не прочна, слишком подвижна, не
прикреплена ни законом, ни даже свободным нравом какого-
нибудь очень долгого, вечного контракта. Вопрос — позволяет
ли хоть бы наш русский закон наняться в какую-либо 10—
15-летнюю кабалу? Не знаю. Я не юрист. Но кажется — не
позволяет. Пять лет — вот, если не ошибаюсь, законный срок.
Но я знаю, и всякий знает, что либеральный, современный
закон не даёт свободы человеку бедному, очень молодому,
например, или бесхарактерному, составляя договор с богатым
хозяином, дать последнему право телесного над собой наказания.
Суд не только не признает такого договора, но, пожалуй,
обвинительная власть начнёт за это преследовать хозяина.
* Прудон о Соединённых Штатах.
2 К. Леонтьев
17
Взгляните также непредубеждённым взглядом на жизнь
какой-нибудь нынешней помещичьей усадьбы; лучше всего на
жизнь усадьбы, ещё сохранившей прежнего
помещика-дворянина. Большой дом, двор, сад, быть может, и церковь даже;
ряд изб на деревне. Дворовые люди; слуги в доме; крестьяне
обрабатывают господское поле. Всё-таки не помещик служит
им, а они ему. Все прежние начала налицо; все реальные силы
остались, но соотношения их изменились. Род сочетания этих
сил не так прочен, как был прежде. Всё стало подвижнее,
ровнее и свободнее. .. И вот всё стало разрушаться — и там и
здесь; и у помещика в области личной крупной недвижимости,
удержанной на месте уже не собственной силой, а только
благодаря существованию сверх земли подвижного капитала или
у самого дворянина, или в банке (опять-таки в непрочной
ассоциации подвижного капитала), и в области труда, у
крестьян. Разница, впрочем, та, что у помещика всё лично, всё
индивидуально, всё свободно и потому уже всё решительно
непрочно; а у крестьян, у представителей труда — всё движимое,
деньги, одежда, скот — тоже непрочно, а только земля, в
которой он не властен, не волен, к которой он коммунистическим
общинным рабством прикреплён, — неподвижна и спасает
несколько и его самого, и ещё более государственно-культурный
строй самой России. Люди, желающие из личных (капиталисты)
и агрономических соображений уничтожить поземельную
общину, при всей своей возможно искренней благонамеренности
могут стать, если их послушают, более вредными, чем самые
отъявленные бунтовщики; ибо (да простят мне эту правду
члены Общества сельских хозяев в Москве с почтенным
председателем их Иос. Ник. Шатиловым во главе) — ибо
бунтовщики — недуг острый и возбуждающий спасительную реакцию;
а разрушители общины поземельной, наивно воображая, что всё
дело в обогащении лиц, разрушают последние, опоры, последние
остатки прежней группировки, прежнего расслоения и прежнего
закрепощения, прежней малоподвижности, т. е. уничтожают
одно из главных условий и государственного единства нашего,
и нашего национально-культурного обособления, и некоторого
внутреннего разнородного развития; т. е. одним ударом лишают
нас и своеобразия, и разнообразия, и единства. Да, и единства,
ибо демократическая конституция (высшая степень
капитализма и какой-то вялой и бессильной подвижности) есть ведь
ослабление центральной власти; а демократическая конституция
теснейшим образом связана с эгалитарным индивидуализмом,
доведённым до конца. Она подкрадывается неожиданно.
Сделайте у нас конституцию — капиталисты сейчас разрушат
поземельную общину; разрушьте общину — быстрое расстройства
18
доведёт нас до окончательной либеральной глупости — до
палаты представителей, т. е. до господства банкиров, адвокатов
и землевладельцев не как дворян (это ещё ничего), а опять-
таки, как представителей такой недвижимости, которую очень
легко обратить в движимость когда угодно, ни у кого не спро-
сясь и нигде не встречая препятствий.
Спасение не в том, чтобы усилить движение, а в том, чтобы
как-нибудь приостановить его\ если б можно было найти закон
или средство прикрепить дворянские имения, то это было бы
хорошо; не развинчивать корпорацию надо, а обратить
внимание на то, что везде прежние более или менее принудительные
(неподвижные) корпорации обратились в слишком свободные
(подвижные) ассоциации и что это перерождение гибельно.
Надо позаботиться не о том, чтобы крестьян освободить от
прикрепления их к мелким участкам их коммуны; а дворян
(если мы хотим спасти это сословие для культуры) самих
насильно как-нибудь прикрепить к их крупной личной
собственности.
V
Здесь от вопроса о рабстве и прикреплении лиц к
собственности полезно нам будет перейти к разбору взглядов одного
западного писателя, о котором я ещё не упоминал, именно Герб.
Спенсера; а потом, в заключение, упомянуть о
противоположных мнениях двух современных русских людей, г. Дм. Голохво-
стова и г. Энгельгардта.
Герб. Спенсер был мне вовсе не известен, когда я писал
в 70 году свои статьи «Византнзм и славянство».
Не считая себя обязанным читать вес, что пишется нового
на свете, находя это не только бесполезным, но и крайне
вредным, я даже имею варварскую смелость надеяться, что со
временем человечество дойдет рационально и научно до того, до
чего, говорят, халиф Омар дошёл эмпирически и мистически,
т. е. до сжигания большинства бесцветных и неоригинальных
книг. Я ласкаю себя надеждой, что будут учреждены новые
общества для очищения умственного воздуха, философско-эсте-
тическая цензура, которая будет охотнее пропускать самую
ужасную книгу (ограничивая лишь строго её распространение),
чем бесцветную и бесхарактерную. Поэтому, а еще более
потому, что судя из попадавшихся мне там и сям в газетах и
журналах наших отрывков о Г. Спенсере, я считал его
обыкновенным либералом.
2*
19
Недавно один из лучших моих друзей, человек весьма
учёный и умный, указал мне именно на него как на более всех
других писателей Запада ко мне подходящего во взглядах на
сущность того, что иные зовут «прогресс», а другие —
«развитие».
— Но (прибавил этот учёный друг), несмотря на то, что
Спенсер исходит вместе с вами из одной и той же точки и
понимает настоящий прогресс именно в смысле разнообразного
развития, у него этот эволюционный процесс является чем-то
вечным на земле, бесконечным... Он изображает, как
развивается и растёт общество, он называет дифференцированием
то, что вы в статье вашей «Византизм и славянство» зовёте
социальной морфологией и обособлением. Но он не указывает
на то, как умирают эти общества; а вы это делаете, изображая
предсмертный процесс смешения сложного во имя какой-нибудь
новой простоты идеала.
Он дал мне книгу Спенсера «Научные, политические и
философские опыты», и я нашёл действительно то, о чём говорил мне
мой приятель, в статьях «Прогресс, его законы и причина» и
«Социальный организм». Сверх того, я приобрёл недавно и
новую брошюру того же Спенсера «Грядущее рабство».
Из всех этих трёх статей, специально касающихся предмета
моих размышлений, я убедился, что и рекомендовавший их мне
человек был прав, утверждая, что мы со Спенсером исходим
из одинаковой мысли, и я был прав, подозревая заранее, что
Спенсер всё-таки не что иное, как западный либерал. И то и
другое правда.
В 1-й статье своей («Прогресс» и т. д.) Спенсер говорит
вот что *:
Итак, скажу кратко, из всех приведённых статей Спенсера
явствует, что он думает только о многосложности смешаннойу
а не о сложности, разделённой на слои и группы. Его верная
и прекрасная мысль о социальном дифференцировании теряется
потом в чём-то неясном и слитом в виде общечеловеческого
или общеевропейского потока. Он всё-таки остаётся
индивидуалистом, т. е. более или менее эгалитарным либералом. Он,
подобно В. ф.-Гумбольдту и Дж. Ст. Миллю, ищет разнородности
только в лицах и не додумывается до того, что разнообразие
лиц или усиление особой личности в людях обуславливается
именно отдельностью социальных групп и слоев с умеренной
лишь подвижностью по краям. Нужно, конечно, некоторое об-
* Пропуск в рукописи. — Ред.
20
щение, некоторая возможность перехода из группы в группу и
из слоя в слой, неизбежно взаимодействие (то дружественность,
то враждебность, то солидарность, то антагонизм) между этими
группами и слоями; но смешение и взаимное проникновение
содержимого этих групп и слоев есть не что иное, как близость
разложения *. На это есть прежде всего и психические
причины; люди самые твёрдые по природе связываются мелкой
сетью опутавшего их общества; они могут, быть может, делать
меньше зла, но зато и добро высшего порядка им уже не дают
более делать обстоятельства **. Когда же есть группы, есть
опоры; есть устойчивость психического типа, есть выработка
воли и т. д., есть определённые идеалы. Кто прост, кто не тре-
бователен, не гениален, кто не смел, не даровит, кто не носит
в личной натуре своей особых залогов для бесстрашной борьбы,
тот остаётся в своей среде, в пределах своей группы, в недрах
своего слоя и, не пытаясь выйти из них ни вверх, ни вниз,
сохраняет и на всей внешней особе своей и во внутреннем строе
души особенности более общие, особенности группы:
национальной, провинциальной, сословной и т. д.; если соединить черты
нескольких из этих групп, например, один человек:
мусульманин, суннит, подданный султана, босняк (славянин),
сараевский бей; или другой человек: мусульманин, русский
подданный, татарин, казанец, торговец материями, — это будет уже
большая разница. Это для натур обыкновенных. А для натур
особенных — Ломоносов: 1) славянин, 2) православный, 3)
русский, 4) великоросс, 5) архангельский мужик и рыбак, 6)
ученик Московского духовного училища, 7) германский студент,
8) член Петербургской Академии и т. д.; всё вместе произвело,
при известных данных натуры, великого человека, который
в силах был прорвать вширь и вверх пределы своей крепкой
крестьянской группы и своего слоя стеснённого давления сверху.
Положим, что прорывают иногда таким же образом свои группы
и слои и Пугачёвы. Но при глубоком расслоении и при резкой
группировке их действия оканчиваются скоро неудачей, и целое
после этого крепнет, А когда Мирабо (дворянин), Колло
д'Эрбуа (актер), гениальный расстрига Талейран прорывают
уже ослабевшие перегородки, то бывает иной результат. А при
большем смешении умственных даров и вообще натуры нужно
гораздо менее для окончательного разрушения; нужна только
в зачинщиках отчаянная смелость наших Желябовых или
немцев Рейнедорфов.
* Хаотическая разнородность—по Спенсеру (см. его Социология).
•• Гамбетта и Бисмарк.
21
VI
От рилевского взгляда на пользу оригинальных и друг от
друга по возможности удалённых общественных групп легко
перейти к учению о реальных силах общества.
Это до крайности простое в своих основаниях, но тем не
менее поразительное учение должно бы одно само по себе
нанести неисцелимый удар всем надеждам не только на полное
однообразие и безвластие а 1а Прудон, но и на что бы то ни
было приблизительное. Реальные силы — это очень просто. Во
всех государствах с самого начала исторической жизни и до
сих пор оказались неизбежными некоторые социальные эле-
менты, которые разнородными взаимодействиями своими,
борьбой и соглашением, властью и подчинением определяют
характер истории того или другого народа. Элементы эти, или вечные
и вездесущие реальные силы, следующие: религия или Церковь
с ее представителями; государь с войском и чиновниками',
различные общины (города,.села и т. п.); землевладение;
подвижной капитал', труд и масса его представителей; наука с её
деятелями и учреждениями; искусство с его представителями. Вот
они эти главные реальные силы обществ; это действительно
очень просто, и всякий как будто это знает; но именно как
будто. Тот только истинно и не бесполезно знает, у которого хоть
главные черты знаемого постоянно и почти бессознательно
готовы в уме при встрече с новыми частными явлениями и
вопросами.
Это почти до грубости простое напоминание об этих
реальных силах и об неизбежности попеременного антагонизма и
временной солидарности между ними служит ещё большим
подкреплением таким взглядам, каковы взгляды выше упомянутых
защитников разнообразия и разделения на группы.
Если не ошибаюсь, Роберт фон Моль первый ясно и
специально обратил внимание на эту старую истину, эмпирически
всем известную и смутно всеми чуемую, кроме таких людей,
которые, подобно Прудону и некоторым анархистам, безумно и
не научно, так сказать, верят в возможность безвластного,
сплошного и однородного общества, долженствующего своим
земным блаженством «закончить» историю или воспитание рода
человеческого. Правда! Жизнь рода человеческого на этой
земле — такое общество, осуществленное даже и
приблизительно, может поневоле окончить', погубить даже физически род
людской оно, конечно, может или посредством размножения и
безумия изобретений, или посредством тоски и скуки, равномерно
распределёнными в борьбе с мирными и мелкими, уже ни в
каком случае неотвратимыми препятствиями. Но остановиться не
22
только что навсегда, но даже и на короткое время не может
подобное общество, если бы даже оно и осуществилось когда-
нибудь в виде смешанного и однообразного всемирного
государства.
Некому будет завоевать ослабевшего и через меру
демократизированного соседа; соседей отдельных не будет тогда; сами
себя несомненно и даже вполне легально и весьма искусно
выучатся уничтожать.
Образование естественных органических групп и
надавливающих взаимно друг на друга слоев или классов и действие
друг на друга реальных этих, выше поименованных сил —
неизбежно; оно было всегда и есть теперь. Но, во-1-х,
распределение этих групп и слоев, род их соотношений были и суть
весьма различны в различных государствах и в разные эпохи;
а во-2-х, степень их обособленности природой, бытом и
законом не всегда и не везде одинаково резка; подвижность этих
групп и сила может быть слишком мала, или слишком велика,
или в меру сообразна со свойствами социального организма.
Государь или хоть слабое подобие государя, т. е. один
человек, облечённый известной высшей властью, есть и был всегда
и везде. Конечно, есть большая разница между высоким поло-
жением китайского императора и ничтожной ролью президента
Соединённых Штатов; большая разница была между
французским самодержцем — «l'Etat, e'est moi» и дожем Венеции;
между временным вождём народа в греческих республиках и
великим царём Персии. Однако всё-таки один человек;
в Спарте, положим, было два царя без особой власти и в Риме
два консула, но в этом отвращении от единовластия, в этом
двоевластии видна наклонность всё-таки к сосредоточению
некоторых атрибутов власти на возможно меньшее количество
лиц: к централизации власти. .. Рим недолго устоял в этом виде
и перешёл к единовластию; и маленькая Спарта, быть может,
обошлась без диктаторов только благодаря жестокому
деспотизму своего устройства, с одной стороны, коммунистическому,
а с другой, расслоённому аристократическому.
Великая разнородность, разумеется, существует во
взаимных отношениях подвижного капитала, труда и землевладения
в разных местах и в разные времена; но всегда эти
противоположные друг другу и в то же время друг для друга
необходимые реальные силы существовали одновременно и существовать
будут. Точно также и зародыши того, что мы называем наукой,
существовали всегда и существуют и теперь во многих местах
в виде зачаточном. Конечно, трудно назвать наукой различные
наблюдения диких и деревенских простолюдинов; наблюдения
метеорологические, нравственные, в виде пословиц и поговорок,
2$
но однако и в этом же есть и некоторого рода несовершенное
наведение и какая-нибудь слабая дедукция; мужик знает, что
камень падает вниз; это, конечно, не ньютоновское знание, но
всё-таки знаниеу наблюдение; это в сфере знания относится
к большому знанию в науке так, например, как власть дожа
относилась к власти Людовика XIV или власть американского
президента к власти русского государя.
Количественные отношения всех этих реальных сил в разных
местах и в разные эпохи разные, но совместное существование
их повсеместно и вечно. Поэтому о полном уничтожении той
или другой из этих сил, или и почти всех, кроме труда и, может
быть, незначительной собственности (как, например, хотел бы
Прудон и как стараются сделать теперь это на практике
анархисты всех стран, коммунисты Парижа и наши русские
нигилисты), невозможно и думать.
Оставляя здесь в стороне вопросы права, справедливости,
законности относительно благоденствия, нравственности и т. д.,
вообще, не касаясь ничего, что не относится прямо к
социальной психомеханике (если можно так выразиться), мы, начиная
с глубокой древности и до сих пор, видим одно: что ни
мистическую религию (какую бы ни было), ни власть, ни капитал, ни
труд, ни даже, если хотите, само рабство, ни науку, ни
искусство, ни землевладение, ни чиновников (т. е. исполнителей пред-
писаний власти) нельзя никак вытравить из социального
организма дотла. Можно только доводить каждую из этих сил до
наименьшего или до наибольшего её проявления. Так,
например, у прежних венецианцев и нынешних Соединённых Штатов
исполнительная верховная власть (государь, президент, дож)
доведена до минимума; в древней Спарте землевладение было
крепко устроено, а подвижной капитал доведён до наименьшей
силы. В Византии и в первоначальной церковно-феодальной
Европе реальные науки, которые к концу предыдущей греко-
римской культуры стали было процветать больше прежнего,
были низведены до ничтожества; однако всё-таки не вполне
уничтожены (были даже физико-химические изобретения,
например, греческий огонь). Теперь, в XIX веке, более или менее
везде в христианских государствах капитализм (или накопление
подвижных богатств) доведён до своего максимума. И вот
почти одновременно с его воцарения в Европе в конце XVIII и
в начале нашего века явилась сильнейшая ему антитеза —
первые коммунистические порывы, манифест Бабёфа и т. п., и
с этих пор порывы эти всё растут и растут и будут расти
неизбежно, пока не достигнут своего социально-статического
предела; т. е. пока не ограничат надолго прямыми узаконениями
и всевозможными побочными влияниями как чрезмерную сво-
24
боду разрастания подвижных капиталов, так и другую, тоже
чрезмерную свободу обращения с главной недвижимой
собственностью— с землёю; т. е. свободу, данную теперь всякому
или почти всякому продавать и покупать, накоплять и дробить
поземельную собственность. Коммунизм, думая достигнуть
полного равенства и совершенной неподвижности путём
предварительного разрушения, должен неизбежно, путём борьбы своей
с капиталом и попеременных побед и поражений привести,
с одной стороны, действительно к значительно меньшей
экономической неравномерности, к сравнительно большему против
нынешнего экономическому уравнению] с другой же, к
несравненно большему против теперешнего неравенству юридическому;
ибо вся история XIX века, освещенная с этой стороны, и
состояла именно в том, что по мере возрастания равенства
гражданского, юридического и политического увеличивалось всё
больше и больше неравенство экономическое, и чем больше
при>чается бедный нашего времени сознавать свои гражданские
права, тем громче протестует он против чисто фактического
властительства капитала, никакими преданиями, никаким
мистическим началом не оправданного. Коммунизм в своих
буйных стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен
рядом различных сочетаний с другими началами привести
постепенно, с одной стороны, к меньшей подвижности капитала и
собственности, с другой — к новому юридическому
неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и
принудительным корпоративным группам, законами резко
очерченным; вероятно, даже к новым формам личного рабства
или закрепощения (хотя бы косвенного, иначе названного...
Монахи).
Нынешний анархический коммунизм, с одной стороны, есть
не что иное, как всё тот же эгалитарный либерализм, которому
послужили столькие умеренные и легальные люди XIX века, всё
то же требование неограниченных ничем личных прав, всё тот
же индивидуализм, доведённый до абсурда и преступления, до
беззакония и злодейства; а с другой стороны, именно потому,
что он своим несомненным успехом делает дальнейший
эгалитарный либерализм не популярным и даже невозможным, он
есть необходимый роковой толчок или повод к новым
государственным построениям не либеральным и не уравнительным.
Когда мы говорим — не либеральным, мы говорим неизбежно
тем же самым не капиталистическим, менее подвижным в
экономической сфере построениям; а самая неподвижная, самая
отчуждённая форма владения есть бесспорно богатая, большою
25
землёю владеющая община, в недрах своих не равноправная
относительно лиц, её составляющих *.
Вероятно, к этому и ведёт история тех государств, которым
предстоит ещё цвести, а не разрушаться.
Прочное землевладение и подвижной капитализм находятся,
как известно, в существенном антагонизме; и утверждённое
землевладение сдерживает метание туда и сюда капитала,
обуздывает его, делает весь строй общественный менее подвижным
(а вследствие того позднее и государства), ибо делает весь
строй общественный слишком подвижным. Поэтому, воюя
против подвижного капитала, стараясь ослабить его преобладание,
архилиберальные коммунисты нашего времени ведут, сами того
не зная, к уменьшению подвижности в общественном строе; а
уменьшение подвижности — значит уменьшение личной
свободы; гораздо большее против нынешнего ограничения личных
прав. А раз мы сказали уменьшение личных прав, мы сказали
этим — неравноправность, ибо нельзя же понимать это в смысле
всеобщего, однообразного и равномерного уменьшения прав;
это было бы опять то же равенство, это форма крайнего
равенства— невозможная, по закону социальной механики, и
никогда и нигде небывалая. Сказавши же неравноправность и
некоторая неподвижность (устойчивость), мы этим самым
говорим: сословия горизонтальные и группы вертикальные
(провинции, общины, семьи, города), неравномерно одарённые свободой
и властью.
Если же анархисты и либеральные коммунисты, стремясь
к собственному идеалу крайнего равенства (который
невозможен) своими собственными методами необузданной свободы
личных посягательств, должны рядом антитез привести
общества, имеющие ещё жить и развиваться, к большей
неподвижности и весьма значительной неравноправности, то можно себе
сказать вообще, что социализм, понятый как следует, есть не
что иное, как новый феодализм, уже вовсе недалёкого
будущего, разумея при этом слово феодализм, конечно, не в тесном
и специальном его значении романо-германского рыцарства или
общественного строя, именно времени этого рыцарства, а в
самом широком его смысле, т. е. в смысле глубокой
неравноправности классов и групп, в смысле разнообразной
децентрализации и группировки социальных сил, объединенных в каком-
нибудь живом центре духовном или государственном; в смысле
нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями,
подчинение одних общин другим общинам, несравненно
сильнейшим или чем-нибудь облагороженным (так, например, как были
* Афон и т. д.
26
подчинены у нас в старину рабочие селения монастырям).
Теперь коммунисты (и, пожалуй, социалисты) являются в виде
самых крайних, до бунта и преступлений в принципе
неограниченных либералов; их необходимо казнить, но сколько бы мы
их ни казнили, по нашей прямой и современной обязанности,
они, доводя либерально-эгалитарный принцип в лице своем до
его крайности, обнажая, так сказать, его во всей наготе,
служат бессознательно службу реакционной организации
будущего. И в этом, пожалуй, их косвенная польза, даже и великая.
Я говорю только польза, а никак, конечно, не заслуга. Заслуга
должна быть сознательная; польза бывает часто нечаянная и
вполне бессознательная. Пожар может иногда принести ту
пользу, что новое здание будет лучше и красивее прежнего; но
нельзя же ставить это в заслугу ни неосторожному жильцу, ни
злонамеренному поджигателю. Поджигателя можно повесить;
неосторожному жильцу можно сделать выговор и даже чем-
нибудь тоже наказать его, но хвалить и награждать их не за
что. Так и в этом социальном вопросе. Крайних либералов,
положим, вешают, но либералам умеренным (т. е. неосторожным
поджигателям) ещё готовы во многих странах ставить
памятнике Это надо бы прекратить, и это прекратится само собою.
VII
Бросим ещё раз взгляд наш на пройденное нами, с
изложения прудоновского учения об эгалитарном прогрессе, или иначе
о революции, и до этих последних строк о неотстранимости
основных реальных сил общества и до неизбежности нового
социалистического феодализма.
У всех тех авторов, с которых я начал мой обзор, у Bastiat,
Абу, Бокля и Шлоссера, мы видим, что они ставят идеалом
будущего не рыцаря, не монаха, не воина, не священника, не
даже какого-нибудь дикого и свежего, не тронутого никакой
цивилизацией человека (как ставил Тацит в пример германца,
как ставила Византия и старая Московия святого монаха, как
прежняя Европа ставила и то и другое, и монаха и рыцаря,
заставляя последнего весьма рационально склоняться перед
первым; вещественную силу перед духовной *)— нет, они все ставят
идеалом будущего нечто, самим себе, т. е. этим авторам,
подобное — европейского буржуа. Нечто среднее; ни мужика, ни
барина, ни воина, ни жреца, ни бретонца или баска, ни тирольца
или черкеса, ни маркиза в бархате и перьях, ни трапписта во
власянице, ни прелата в парче... Нет, они ведь все очень до-
* Бокль.
27
вольны тем мелким и средним культурным типом, к которому
по положению своему в обществе и по образу жизни
принадлежат они сами и к которому желали бы для общего
незатейливого достоинства свести и снизу и сверху окончательно весь мир.
Мы видели, что эти люди прежде всего не знают и не
понимают законов прекрасного, ибо всегда и везде именно этот
средний тип менее эстетичен, менее выразителен, менее интенсивно
(т. е. высоко) и экстенсивно (т. е. широко) прекрасен, менее
героичен, чем типы более сложные или более односторонне
крайние.
Объектировать себя самого как честного труженика и
буржуа в общий идеал грядущего ни кабинетный учёный, ни
вообще образованный человек среднего положения и скромного
образа жизни не должен; это не научно именно потому, что оно
не художественно. Эстетическое мерило самое верное, ибо оно
единственно общее и ко всем обществам, ко всем религиям, ко
всем эпохам приложимое. Что полезно всем — мы не знаем и
никогда не узнаем. Что у всех прекрасно, изящно или высоко —
пора бы обучиться.
Скромнее, достойнее и умнее было бы со стороны Прудона
и ему подобных воскликнуть: «Я— учёный и честный буржуа,
лично я доволен моей участью, моим средним положением и
моим средним типом, но я вовсе не хочу для блага человечества,
чтобы все были на меня похожи, ибо это не эстетично и не
государственно в одно и то же время».
Мы видели, что все эти авторы более или менее не знают
или не хотят знать, что высшая эстетика есть в то же самое
время и самая высшая социальная и политическая практика.
Они забывают, что в истории именно те эпохи отличались
наибольшей государственностью, силой и наилучшей социальной
статикой, в которых и общественный строй отличался
наибольшим разнообразием в наисильиейшем единстве, и характеры
человеческие в эти именно эпохи вырабатывались сильнее и
разнороднее, или с односторонне выразительным, или с
наипышнейшим, многосторонним содержанием. Таковы эпохи
Людовика XIV, Карла V, Елизаветы и Георга III в Англии;
Екатерины II и Николая I у нас.
Стремление к среднему типу есть, с одной стороны,
стремление к прозе, с другой — к расстройству общественному. Мы
видели, что это стремление, внося вначале в общество
действительно нечто новое, давая даже возможность на краткое время
обществу выделять из себя небывалые прежде характеры,
невозможные, при прежнем более неподвижном и менее
смешанном, строе, новые и крайне сильные в своей выразительности и
влиянии типы людские (Наполеоны, Гарибальди, Бисмарки
28
и т. п.) — слишком скоро изнуряет дотла психические запасы
обществ и делает их неспособными к долгому, после этих
порывов, существованию.
Всего этого в 40-х и 50-х годах нашего века не могли ещё
понять самые способные и самые образованные люди, и даже
до сих пор едва ли многие ясно сознают, что в этом-то и со-
стоит самый основной, самый главный «вопрос дня» — в
смешении или несмешении, быть или не быть} А все остальные
вопросы вытекают только из этого основного психомеханиче-
ского и статико-социального вопроса.
Мы видели, что Прудон в этом смысле хуже, так сказать,
всех; он, как enfant terrible публицистики, да простят мне это
слишком русское выражение, «ляпает» прямо то, около чего
чуть не на цыпочках обходят, косясь боязливо, умеренные
либералы, и прежде его писавшие, и в его время, и после него.
Итак, не только мои собственные доводы в статье «Визан-
тизм и славянство», но и все приведённые мною здесь
европейские публицисты, историки и социологи почти с математической
точностью доказывают следующее: во-1-х, что в социальных
организмах романо-германского мира уже открылся с прошлого
столетия процесс вторичного смешения, ведущего к
однообразию-, во-2-х, что однообразие лиц, учреждений, мод, городов и
вообще культурных идеалов и форм распространяется всё более
и более, сводя всех и вес к одному весьма простому, среднему,
так называемому «буржуазному» типу западного европейца; и
в-3-х, что смешение более против прежнего однообразных
составных частей вместо большей солидарности ведёт к
разрушению и смерти (государств, культуры).
Я понимаю, что мне довольно основательно, иа первый
взгляд, могут возразить вот что: первые два вывода верны;
существует и даже господствует в романо-германской
цивилизации этот идеал буржуазной простоты и социального однообра-
зиЯу и смешение сословий, наций, религий, даже полов,
смешение, происшедшее прежде всего от равноправности, —
способствует этому однообразию, ускоряет это слияние всех цветов
во что-то неопределённое; но где же верные признаки
окончательного падения? Где доказательства, что государства Запада
должны скоро погибнуть? .. И как это они погибнут? Не
провалятся же все люди, их составляющие, сквозь землю? Не
выселятся же они из Европы и т. д.
Вопрос очень правильный; возражение необходимое, которое
я сам себе мысленно предлагал уже давно.
В статье моей «Византизм и славянство» (писанной крайне
спешно в 73 году в самом Константинополе под нравственным
давлением церковной греко-славянской распри, которая на меня
29
тогда, как на православного и русского человека, наводила
духовный и гражданский страх за наше будущее) — в этой статье
я сказал кратко и мимоходом: «ромаио-германские государства
могут слиться со временем в одну рабочую федеративную
республику, как слились теперь в большие государственные группы
отдельные государства Италии и Германии, как гораздо раньше
слились в одну Испанию — Арагония, Кастилия, Андалузия,
Астурия, как в единой Франции слились Наварра, Бургундия,
Бретань ..»
Я в этой статье говорил о том» что мы, русские, должны
опасаться этого, должны страшиться, чтобы и нас история не
увлекла на этот антикультурный и отвратительный путь,
говорил, что мы поэтому должны всячески стараться укреплять
у себя внутреннюю дисциплину, если не хотим, чтобы события
застали нас врасплох; что мы не обязаны, наконец, идти во
всём за романо-германцами.. ,
Я говорил тогда в этом духе.
Здесь я прибавлю ещё следующее: общеевропейская рабочая
республика, силы которой могут быть временно объединены под
одной какой-нибудь могучей диктаторской рукою, может быть
(опять-таки очень ненадолго) так сильна, что будет в состоянии
принудить и нас принять ту же социальную форму, втянуть и
нас «огнём и мечом» в свою федерацию. А этот шанс для
истинно русского человека должен казаться ужасным и глубоко
постыдным.
Эта последняя мысль моя, по-видимому, совершенно
противоречит мне же самому, ибо доказывает, что Европа в силе ещё
и имеет всё-таки какую-то будущность.
Но когда мы слово будущность прилагаем к
государственным организмам и к целым культурным мирам, то нельзя
мерить жизнь таких организмов и миров годами, как жизнь
организмов животных. Эпохи геологические считаются
тысячелетиям^ жизнь личная наша измеряется годами] жизнь
историческая тоже имеет своё приблизительное мерило — век,
полвека. ..
Цифры исторической хронологии, которые я привёл в главах
моих «Прогресс и развитие», могут не все быть одинаково
доказательны и точны, но, я думаю, из них, по крайней мере, ясно
то, что более 1200 лет не прожил в своём известном истории и
определённом виде ни один государственный организм. Почему
же Англия, Германия и Франция должны стать исключением?
Они уже прожили несколько более 1000 лет, если считать, как
я считал, со времени Карла Великого; а если брать (очень
неосновательно) со времени падения Западной Римской империи,
то и ещё больше. ..
30
Значит, с этой стороны шансы в пользу разрушения.
Какие основания в прошедшем и настоящем имеем мы для
противоположных надежд на небывалую долговечность этих
западных государств, кроме нашего вечного умственного
рабства перед их идеями? . .
Чем ближе начинают подходить приёмы истории и
социологии к приёмам «естественных» наук, тем менее публицисты и
люди общественной практики имеют право мечтать о
небывалом, невиданном и несуществующем в настоящем; мечтать и
надеяться мы все имеем право, но только о чём-нибудь таком,
чему бывали сходные примеры, о чём-нибудь таком, что хотя
бы и приблизительно да бывало или где-нибудь есть. Таким
образом, русские нашего времени, имея перед собой ещё
неоконченный восточный вопрос, имея возможность стать во главе
некоего нового политического здания, имеют, так сказать,
умственное право мечтать об оригинальной культуре; оригинальные
культуры были, и даже вся история, как прекрасно развивает
г. Данилевский в своей книге «Россия и Европа», состоит лишь
из смены культурных типов; из них каждый имел своё
назначение и оставил по себе особые неизгладимые следы. ..
Поэтому мечтать и заботиться об оригинальной русской,
славянской или ново-восточной культуре можно и позволительно
даже искать её. Позволительно и логично мечтать о
государственной силе и славе, ибо это бывало; позволительно и логично
желать для действительной жизни больше поэзии, более
изящных и красивых форм (например, в одеждах, танцах,
постройках и г. д.), ибо это бывало и кое-где (в Азии, например) есть
и до сих пор. Позволительно надеяться на глубокие перевороты
в области философского мышления, даже на отрицательное
отношение к нынешнему утилитаризму, ибо и подобные
умственные перевороты, разрушительные для прежней мысли,
созидающие для нового общества, бывали (например, в то время,
когда христианское духовенство разрушало языческие храмы и
вообще произведения эллино-римской культуры, мысль царила
другая; не та, что царила у язычников). Всё это возможно.
Но с точки зрения умственной непозволительно мечтать
о всеобщей правде на земле, о какой-то всеобщей мистической
любви, никому ясно даже и непонятной, нельзя мечтать о
равномерном благоденствии. Даже в главном теперешнем вопросе,
в вопросе социально-экономическом, можно, руководясь
примером прошлого (а кое-где и настоящего), ожидать образования
новых весьма принудительных общественных групп, новых
горизонтальных юридических расслоений, рабочих весьма
деспотических и внутри вовсе не эгалитарных республик, вроде
мирских монастырей; узаконения новых личных, сословных и цехо-
31
вых привилегий; ибо всё это бывало и всё это не противоречит
в основании учению о реальных силах, от которого социальной
науке уже невозможно отказаться... Можно, не изменяя науке
и здравому смыслу, доходить даже до такой мысли, что вся
земля будет разделена между подобными общинами и личная
поземельная собственность будет когда-нибудь и где-нибудь
уничтожена, можно думать об этой возможности и с
отвращением и с пристрастием, но каково бы ни было чувство наше
при этой мысли, всё равно оно имеет за собой правдоподобие;
но не имеют правдоподобия ни психологически, ни исторически,
ни социально, ни органически, ни космически — всеобщая
равномерная правда, всеобщее равенство, всеобщая любовь,
всеобщая справедливость, всеобщее благоденствие. Эти всеобщие
блага не имеют даже и нравственного, морального
правдоподобия: ибо высшая нравственность познаётся только в лишениях,
борьбе и опасностях.. . Лишая человека возможности высокой
личной нравственной борьбы, вы лишаете всё человечество
морали, лишаете его нравственного элемента жизни. Высшая
степень общественного благоденствия материального и высшая
степень общей политической справедливости была бы высшая
степень без-нравственности (я отделяю нарочно частицу без,
чтобы моё слово не поняли в обыкновенном смысле разврата и
мошенничеств; я предполагаю, что не будет тогда ни разврата,
ни добродетелей: первый не будет допущен, а вторая будет не
нужна, так как все равны, и потому все одинаковы).
Итак, на месте стоять нельзя; дальше, по пути равенства и
равномерной свободы идти — значит искать невозможного.
А тот, кто ищет во что бы то ни стало невозможного, тот,
конечно, рискует погибнуть. А на Западе всё усиливается
анархия, кажется это нельзя отрицать; все это знают.
Что романские страны пали, об этом мало нынче спорят; но
военная сила Германии и могущество богатой Англии ещё
ослепляют умы своим величием.
Но всё-таки, что же может сделаться с этими нациями?
Когда же они исчезнут? Мы бы больше верили и в нашу
восточную будущность, если бы у нас было хотя бы и ошибочное
в оттенках и частностях, но всё-таки правдоподобное
представление о том, каким способом эти государства могут погибнуть
и куда могут исчезнуть эти могучие народы!
Вот как и вот куда.
Во-1-х, есть книга Прево-Парадоля: «La France contempo-
raine или democratique», на которую здесь необходимо указать.
Она издана была в промежутке двух войн 66-го и 70-го, после
поражения Австро-Германии одной Пруссией и прежде
разгрома Франции. Неожиданные для большинства успехи прус-
32
ского оружия навели этого умного и дальновидного писателя
на печальные мысли о судьбах его собственной родины, недавно
ещё столь блестящей и великой. Он предвидел не только то,
чего после 66-го года и люксембургского эпизода ожидать стали
уже многие, т. е. скорого столкновения Франции с Германией,
но и прорекал победу последней. Он находил и тогда, что его
соотчичей нечем более воодушевить для истинно народной
борьбы; наилучшим средством для подобного воодушевления
он находит религию. «Dieu le veut! — говорит он, — понятно
всем; истинно государственные соображения доступны очень
немногим по своей сложности; а чувство чести, которое может,
конечно, располагать исполнять свой долг, господствует только-
в войске». Война 70-го года доказала очень скоро, как был прав
в своих предчувствиях Прево-Парадоль; и она не только
оправдала его пророчества, но и превзошла их своими мрачными для
Франции событиями.
Даже чувство чести в армии оказалось слабее, чем он
ожидал, и тотчас же после приостановки внешней войны вспыхнуло
ещё в виду неприятеля коммунистическое восстание.
Прево-Парадоль, несмотря на то, что он не предсказал ни
сдачи Меца, ни седанского позора, ни кровавой борьбы
буржуазии с коммуной (желающей только ещё большего смешения и.
однообразия — и больше ничего), однако имел печальную
смелость выразить, что политическое значение Франции близится
к своему концу и что, ввиду возрастания Германии и России,,
ей скоро придётся быть чем-то вроде таких держав, как
Португалия и ей подобные. Великая держава может безнаказанно
оскорблять их, нарушать по отношению к ним обычаи
международного права и т. д. Что же делать французам при таких
условиях?
— Переселяться постепенно в Африку! — говорит
Прево-Парадоль. Он, как француз, конечно, надеется при этом, что
Париж останется ещё надолго училищем вкуса и источником мод.
и обычаев для всего света, но ему этого мало, и он
справедливо, с точки зрения своего патриотизма, не может помириться
с мыслью о жалком прозябании и духовном медленном
вымирании французского народа на прежнем месте, видавшем
столько величия и заслуженной славы. Так думает этот
искренний и прозорливый патриот, и события, видимо, клонятся к тому,
чтобы в этом оправдать его. Уже и теперь, сознавая своё
второстепенное значение в Европе, понимая, что всё теперь в мире
зависит лишь от рода взаимных отношений между Германией
и Россией и больше ни от кого (ибо и сама Англия оказывается
совершенно бессильной против соглашения этих двух держав),
Франция спешит прокладывать себе новые исходные пути на
3 К. Леонтьев
33
дальнем юго-востоке, а на севере Африки она давно уже стала
довольно твёрдой ногой. Ещё одна неудачная война; ещё одно,
более прежнего, удачное восстание анархистов; ещё два—три
шага вниз; ещё какое-нибудь раздробление; потеря ещё одной
или двух провинций, и движение это неминуемо усилится. Что
и вторая война с Германией будет — это, я думаю, неизбежно;
случись война России с Германией — Франции предстоит два
исхода, оба невыгодные; третьего нет: война в отместку или
нейтралитет и подражание России и Австрии 70-х годов. Но
в случае подобной войны правительству Германии весьма
возможно будет составить против Франции союз из других
романских держав, соединить силы Италии, Испании и Бельгии,
обещая им в награду соседние провинции Франции и другие
выгоды, и, придавши им для смелости порядочный контингент
своего войска, наброситься почти всеми собственными силами
и силами Австрии на Россию.
Каков бы ни был исход подобной страшной борьбы на
восточном театре её, на западном он во всяком случае будет для
Франции не блестящ. «Cest TAutriche qui payera les pots
casses», — говорили прежде эти самые французы про Австрию,
ожидая какой-нибудь большой общеевропейской войны. Теперь
можно наверное предсказать, что в случае подобной войны за
«эти побитые горшки» заплатят и Франция и Австрия — обе\
Когда такие две силы, как нынешняя Россия и Германия,
вступят в решительную и открытую борьбу, то эта борьба будет,
конечно, так тягостна для обеих сторон и утомление при
окончании будет так велико, что не только побежденному, но и
победителю придётся поневоле так или иначе пожертвовать хотя
немного своими союзниками. И хотя бы Франция и защищалась
на этот раз гораздо лучше, чем защищалась она в 70-м году, но
политической судьбы своей она этим не поправит; ибо
внутренний строй окончательно испорчен слишком глубокой
демократизацией. И карфагеняне, представлявшие собой остаток
халдейской культуры, защищались в последний раз геройски,
однако Карфаген был взят, и республика их уничтожена; и послед-
ние бунты евреев против римлян были ужасны, однако Иудея
погибла; и даже пламенная народная война испанцев против
Франции в начале этого века не вывела уже Испании из её
международного ничтожества, не возвела её на прежний уровень
величия. Заметим, что эти три выбранные мною примера сверх
того для Франции самые невыгодные, ибо у всех трёх
помянутых наций падение было обусловлено не столько разлагающим
прогрессом новых идей, сколько застоем в идеях старых; застой
же в подобных случаях выгоднее чрезмерного движения; ибо
застой сохраняет хоть на время в народе запасы тех начал, ко-
34
торые легли в основание национальных созиданий, а быстрое
прогрессивное движение, подобно нынешней французской или
древней афинской эпохи демагогии, дают только после первого
смешения пламенные вспышки вроде 20-летия войн Республики
и Империи и афинской гегемонии после 1-й войны персидской
и как бы истощают этим все запасы народных сил.
Если же Франция останется нейтральна в случае германо-
славянской смертельной борьбы, то она этим обнаружит уж
такое бессилие, что действительно после этого перейдёт, по
сравнению с Германией и Россией, на ту ступень по отношению
к ним, на какой стояла прежде по отношению к сильной
Франции ничтожная Португалия. Так что и в этом сравнении Прево-
Парадоль остаётся прав.
Итак, повторяю, нет для нынешней Франции иного исхода,
как выбор между Сциллой новой войны с Германией и
Харибдой боязливого воздержания. Третий путь — союз с Германией
против России, всякий понимает, невозможен раньше каких-
нибудь ещё более глубоких перемен в Европе; стать союзницей
Германии Франция может или после ещё большего
политического унижения, насильственно влекомая Германией за собою,
как влекомы были в 12-м году немцы Наполеоном, или,
напротив того, добровольно и охотно, но после некоторого нового
уравнения обеих этих западных держав или в общем
равномерном унижении международном, или в сходном внутреннем
состоянии нового социально-анархического смешения...
Для образования такого союза против России нужны три
предварительных условия: 1) разгром Германии Россией; 2)
исключительно благоприятное для России разрешение вопросов
о проливах Турции, и 3) наибольшее возрастание в обеих
западных странах влияния космополитической анархии — её
преобладающее влияние на дела.
Но и до тех пор, и после подобных (пожалуй, что и
неизбежных) политических сочетаний, Прево-Парадоль остаётся прав,
не предвидя для своих соотчичей (а вернее еще, и для всего
романского племени Европы) лучшего исхода, как постепенное
выселение. Дома: всё более и более угасающие надежды, утрата
славы, всё более и более слабеющая возможность
охранительной реакции, безверие, возведённое в государственный догмат,
и, быть может (и весьма быть может), вещественное
разрушение великой столицы керосином и динамитом коммунаров, что
при нынешних средствах разрушения гораздо легче и скорее
можно осуществить, чем во времена вандалов. И орудия
вещественные неизмеримо могущественнее, и умственное настроение
разрушителей сознательнее, целесообразнее, яснее, т. е. тоже
крепче, чем у готов, вандалов и тому подобных варваров.
3*
35
Варвары разрушали, так сказать, только по страсти; у
нынешних анархистов эти страсти оправданы их разумом,
поддержаны теорией, сознательной системой разрушения. .. Вот что,
не только по моему мнению, а по мнению очень многих людей
весьма различного направления, может ожидать теперь
Францию. ..
Внутри все признаки разложения (ибо богатство нации одно
только само по себе менее всего может спасти нацию от
политической гибели), а извне неизбежное при таких условиях
давление немцев, которые при всём существенном сходстве
культурных начал своих с романскими, при одинаковых элементах
разложения, при одинаковом почти возрасте их
государственной жизни, всё-таки, положим, хоть на 25—50 лет в
историческом смысле моложе французов. Это очень малоу это почти
ничего для обихе-культурной судьбы; но для ближайших поли-
тических триумфов или вообще для переворота — очень много.
Двадцатилетней только деятельностью Наполеон I,
представитель централизованной демократии, обусловил дальнейшую
историю XIX века, в течение 20 тоже лет перенёс центр
политической тяжести на европейском материке из Парижа в
Берлин и граф Бисмарк (в сущности, представитель почти того же,
что и наполеониды, т. е. эгалитарного кесаризма, но, конечно,
со своим оттенком, и важным и неважным, смотря по точке
зрения; с общекультурной — ничтожным, с чисто
государственной— довольно важным и пока ещё выгодным для Германии).
В течение же 20-ти лет и Россия, увлекаемая западными
идеалами, поспешила обратиться из монархии сословной и
провинциально весьма разобщённой в монархию безусловную и более
прежнего однородно-либеральную по строю, по быту и духу,
качествам и порокам населения.. .
Двадцать, двадцать пять лет очень много значат в жизни
государственной (не культурной); и если Германия, как кажется,
хоть настолько или даже менее, хоть на пятнадцать лет моложе
Франции в исторических судьбах своих, то этого вполне
достаточно для ещё более выразительного приложения системы
давления на Запад, которым уже и без того столь явно заменила
Германия со времени Бисмарка свои прежние мечты о давлении
на Восток. Этот Drang nach Osten, положим, ещё продолжается,
но всякому понимающему этого рода дела ясно, что это
последние попытки, и, сравнительно с энергичным движением против
Запада, они очень уж ничтожны. Стоит только Франции быть
ещё раз побеждённой (а она будет и ещё раз), стоит ей
утратить ещё кусок своей территории, когда-то столь недоступной
врагам и «священной» («le sol sacre de la France»!); стоит,
с другой стороны, Германии присоединить себе Голландию и
36
восемь миллионов австрийских немцев; стоит при этом ещё и
России благоприятно решить восточный и славянский вопросы
(а она их решит\), и вот движение немцев к юго-западу» к
берегам Атлантического океана и Средиземного моря усилится,
Drang nach Westcn увеличится, и романскому племени волей-
неволей придётся или быть совсем завоёванным на месте, или
действовать по программе и пророчеству Прево-Парадоля —
заселять внутреннюю Африку и её северные берега.
Романцы выселяются и смешиваются с неграми, Париж
разрушенный, быть может, наконец, покинутый, как покинуты
были столькие столицы древности; германцы, отчасти тоже
выселяющиеся, отчасти теснимые объединёнными славянами с
Востока, придвигаются всё ближе и ближе к Атлантическому
приморью, смешиваясь теснее прежнего с остатками романского
племени... Неужели это одно уже само по себе взятое не есть
именно то, что называется разрушением прежних государств и
постепенным падением прежней культуры?
Если и это не гибель, если и это не уничтожение, если это
не перерождение даже и племенное, этнографическое, то я
должен сознаться, что я ничего не понимаю!
А для обнаружения этих последствий нужны только
следующие события: 1) более прежнего сильная вспышка анархизма
во Франции и вообще в романских странах и 2) утверждение
на турецких проливах по соглашению ли с Германией или
вопреки ей — всё равно.
А разве и то и другое не предчувствуется неким общим даже
историческим инстинктом? Везде, во всех странах теперь многие
и того и другого крайне опасаются, и очень многие и того и
другого крайне желают. Вернейший признак, что и то и
другое— и анархия во Франции, и взятие нами проливов — не
только сбыточно, но и неминуемо.
VIII
«Россия — глава мира возникающего; Франция —
представительница мира отходящего», сказал Н. Я. Данилевский; сказал
верно, просто и прекрасно.
«Россия глава мира возникающего»; «Россия не просто
европейское государство; она целый особый мир.. .» Да, это всё так,
и только не понимающий истории человек может не согласиться
с этим.
Но весь вопрос в том, что несёт в тайных недрах своих для
вселенной этот, правда ещё загадочный и для нас самих и для
иноземцев, колосс, которого ноги перестали на Западе считать
глиняными именно с тех пор, как они, вследствие эгалитарных
37
реформ по западным образцам, немного ослабели и размякли?
Что он несёт в своих недрах — этот колосс, доселе только
эклектический колосс, почти лишённый собственного стиля? Готовит
ли он миру действительно своеобразную культуру? Культуру
положительную, созидающую, в высшей степени новоединую и
новосложную, простирающуюся от Великого океана до
Средиземного моря и до западных окраин Азии, до этих ничтожных
тогда окраин Азии, которые зовутся теперь так торжественна
материком Европы; ибо всё тот же Н. Я. Данилевский доказал
(неопровержимо, по-моему), что, географически говоря, Европы
такой особой нет, а вся эта Европа есть лишь не что иное, как
атлантический берег великого азиатского материка; великий же
смысл слова Европа есть смысл исторический, т. е. место
развития или поприще особой, последней по очереди культуры,
сменившей древние предыдущие культуры, романо-германской.
Представим ли мы, загадочные славяно-туранцы,
удивлённому миру культурное здание, ещё небывалое по своей
обширности, по роскошной пестроте своей и по сложной гармонии
государственных линий, или мы восторжествуем над всеми только
для того, чтобы всех смешать и всех скорей погубить в общей
равноправной свободе и в общем неосуществимом идеале
всеобщего благоденствия — это покажет время, уже не так далё*
кое от нас.. .
Я повторю в заключение, быть может, уже в сотый раз:
благоприятное для нас разрешение восточного вопроса, или, еще
проще и яснее, завладение проливами (в какой бы это ни было
форме), тотчас же повлечёт за собой у нас такого рода
умственные изменения, которые скоро покажут, куда мы идём — к
начатию ли новой эры созидания на несколько веков или к
либеральному всеразрушению?
Признаки благие, обещающие созидание, есть как будто
у нас и теперь, ещё прежде подобного торжества; но они слабы,
неясны, ещё нерешительны, и я здесь не буду говорить о них.
Скажу только об одном чрезвычайно важном признаке, как
бы роковом и мистическом. Вот он: мы не присоединили Царь-
града в 1878 году; мы даже не вошли в него.
И это прекрасно, что нас туда и не допустили враги ли наши,
паши ли собственные соображения — всё равно. Ибо тогда мы
вступили бы в Царьград этот (во французском кепи) с
общеевропейской эгалитарностью в сердце и уме; а теперь мы
вступим в него (именно в такой шапке-мурмолке, над которой так
глупо смеялись наши западники); в сердце же и уме с кровавой
памятью об ужасном дне 1-го марта, когда на улицах нашей
европейской столицы либерализм анархический умертвил так
безжалостно самого могущественного в мире и по этому самому
38
самою искреннего представителя либерализма
государственного.
Среди столицы, построенной Петром, нашим домашним
европейским завоевателем, совершилось это преступление. . .
И свершители его, слепые орудия, быть может, не по их пути
ведущей нас судьбы, получили сами достойную мзду.
И не есть ли эта великая катастрофа явный признак, что
близится конец России собственно петровской и петербургской?!
Другими словами, что на началах исключительно европейских
нам, русским, нельзя уже жить!?
Неужели и это не ясно и это не поразительно? .. О, бедные,
бедные соотчичи мои — европейцы... Как бы можно было
презирать вас, если бы позволяло сердце забыть, что и вы носите
русские имена, и что и вы, даже и вы, защитники равенства и
свободы, исправимы при помощи Божией! ..
Да, заметьте, заметьте это; не только либерализм, но и кепи;
не только реакция, но и шапка-мурмолка. ..
Не смейтесь этому. .. не восклицайте: «Ах! кепи и баранья
шапка рядом с великими вопросами и трагическими
событиями. .. Ах! от великого до смешного всего один шаг! ..»
Не смейтесь этому; или смейтесь от радости, что я высказал
то, что вы сами, быть может, думали... Если так, то смеяться
вы можете. ..
Но если вы засмеётесь зло или презрительно, то вспомните
французскую поговорку: Rira bien qui rira le dernier...
Шапка-мурмолка, кепи и тому подобные вещи гораздо
важнее, чем вы думаете; внешние формы быта, одежды, обряды,
обычаи, моды, все эти разности и оттенки общественной
эстетики живой, не той, т. е. эстетики отражения или кладбища,
которой вы привыкли поклоняться, часто ничего не смысля,
в музеях и на выставках, все эти внешние формы, говорю я,
вовсе не причуда, не вздор, не чисто «внешние вещи», как
говорят глупцы; нет, они суть неизбежные последствия,
органически вытекающие из перемен в нашем внутреннем мире; это
неизбежные пластические символы идеалов, внутри нас
созревших или готовых созреть.. .
Конец петровской Руси близок... И слава Богу. Ей надо
воздвигнуть рукотворный памятник, и ещё скорее отойти от
него, отрясая романо-германский прах с наших азиатских
подошв! Надо, чтобы памятник «нерукотворный» в сердцах
наших, т. е. идеалы петербургского периода, поскорее в нас
вымерли.
Sapienti sat!
О НАЦИОНАЛИЗМЕ ПОЛИТИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ
(Письма к Вл. С. Соловьёву)
Письмо 1-е*
Грядущие судьбы России и сущность революционного
движения в XIX веке, Православие и всеславянский вопрос, «мир
всего мира» перед концом его и т. п. — вот те важные предметы
и великие вопросы, Владимир Сергеевич, о которых я
намереваюсь писать Вам по поводу не только малого и не важного, на
даже и вовсе неуместного столкновения нашего с г. Астафьевым
нынешним летом.
По этому случаю, весьма для меня прискорбному, я решаюсь-
на поступок, кажется, небывалый в нашей литературе, быть
может, даже и ни в какой. Сам я, по крайней мере, о подобном
деле не слыхивал.
Я ставлю Вас судьёй над самим собою и над другим
писателем, не справляясь даже с тем, признает ли он Вас со своей
стороны пригодным судьёй или пет.
Я хочу, чтобы Вы рассудили меня с г. Астафьевым,
обвинившим меня в нападении на национальный идеал вообще, только
потому, что я опасаюсь либерального всеславянства.
Я взялся за это дело (за дело суда) несколько поздно. Это
правда. И сверх того — работа моя запоздала ещё на целый
год по причинам, которые Вам известны и от меня вовсе не
зависели. Но правда и то, что национальный вопрос в России
в наше время до такой степени важен, что говорить о нём (даже
и по ничтожному поводу нашего с г. Астафьевым
недоразумения) никогда не поздно и всегда полезно.
Слишком поздно будет только тогда, когда, присоединивши
Царьград к русской короне и сделав на новой и родственной
нам почве православного Юго-Востока несколько неудачных
шагов по пути религиозного и культурно-государственного
обособления от Запада, мы увидим с горестью, что всё это одни
* Полемизируя с П. Е, Астафьевым по вопросу о национализме, К.
Леонтьев задумал изложить свой взгляд в ряде писем к В л. Соловьёву, прося
его быть в этой полемике как бы третейским судьёй. Письма были написаны
и посланы на имя Вл. Соловьёва, в Москву, в редакцию журнала «Русское
обозрение». К. Леонтьев рассчитывал, что они будут напечатаны там с
ответом Вл. Соловьёва. Но Вл. Соловьёв под каким-то предлогом уклонился
от роли судьи, и письма были возвращены обратно. Тогда К. Леонтьев, не
теряя надежды их напечатать, стал переделывать несколько их форму
(в виде писем к князю Д. Н. Цертслеву — редактору «Русского обозрения»),
но не успел этого докончить.
Здесь письма печатаются с рукописи в их первоначальной редакции
писем к Вл. Соловьёву. — Ред.
40
лишь мечтания и что нам предстоит только две дороги — обе
-бесповоротно европейские — или путь подчинения папству и
потом в союзе с ним борьба на жизнь и смерть с антихристом
демократии, или же путь этой самой демократии ко всеобщему
безверию и убийственному равенству.
Но пока мы всё ещё стоим на нашей старой русской почве,
и будущее России, даже и ближайшее, по-прежнему остаётся
загадкой.
И ввиду этой загадочности г. Астафьев вполне прав, говоря,
что нам необходимо вникнуть как можно сознательнее в наши
национальные задачи и разъяснить их друг другу. Гневаться
только при этих разъяснениях не надо друг на друга уж так
сильно, как прогневался он на меня в № 177 «Москов. ведом.».
Можно ли, например, рассудите по справедливости, укорять
■меня даже за то, что мои два фельетона, напечатанные в
«Гражданине» в ответ на его краткую и пренебрежительную заметку
в статье «Национальное сознание», были слишком «обширны»!
Ведь эта «обширность», «обширность», «обширность»,
которой он меня как бы дразнит, доказывает, что я очень дорожу
его мнением и больше ничего. Разве это обидно?
Нельзя мне и не дорожить его мнением. Человек казался
весьма близким ко мне по идеалам своим и недавно ещё
трудами моими не только не брезгал, но и весьма публично их
одобрял.
Сам по себе это сверх того писатель в высшей степени
серьёзный, умный, сведущий. Правда, многие укоряют его за то,
что, задумывая свои статьи всегда очень глубоко, он пишет не
всегда ясно и легко. Но и с этой стороны он с каждым годом
исправляется всё больше и больше. К тому же относительно
этой «темноты» я должен прибавить, что сам я давно уже стал
свыкаться с ней и, несмотря на весь дилетантизм и слабость
моего метафизического образования, выучился скоро понимать
по симпатии его чувства даже и тогда, когда плохо понимал его
слова и мысли. Потому-то, между прочим, что я всегда почти
умел видеть родственный мне свет сквозь дымку его изложения,
я и был так неприятно изумлён его заметкой в «Русском
обозрении».
Я прежде, хотя и не без напряжения, но всё-таки понимал
его; теперь решительно не понимаю, о чём он говорит! Значит,
на этот раз или он ошибся, или я в каком-то затмении. Вот что
я подумал.
Но одна невыгодная для меня ошибка другого писателя
(если и предположить, что я действительно правее его) ещё не
даёт мне права пренебрегать его мнениями, если я, до этой
41
неправильной оценки, эти мнения ценил. Ошибся; что же за
беда? Кто ж не ошибается?
Пусть г. Астафьев говорит, что у «национального начала»
есть противники и защитники «посерьезнее» и «поизвестнее»
меня (иными словами, что мои взгляды не очень-то важны).
Это его дело.
Пусть он считает меня несерьёзным писателем; я буду
считать его серьёзным.
Пусть он почти радуется тому, что у «национального начала»
есть и противники и защитники «поизвестнее» меня. Я,
напротив того, радуюсь тому, что его известность в последнее время
возрастает, и желаю ему ещё больше успехов, потому что его
идеалы мне симпатичны, потому что его деятельность в глазах
моих полезна, потому, наконец, что я не теряю надежды на ещё
большее улучшение его манеры писать.
Пусть и теперь, читая случайно эти мои к Вам письма, уже
несравненно более обширные, чем фельетоны мои в
«Гражданине», пусть он, как бы с удовольствием победителя, назовёт
их уже не обширными только, а прямо «нескончаемыми», я всё-
таки не позволю себе ни пренебрегать его мнением, ни
издеваться над ним, ни дразнить его...
Не позволю я себе этого прежде всего потому, что это было
бы неискренно с моей стороны — я его уважаю; во-вторых,
потому, что не могу без отвращения видеть, когда какой-нибудь
«сотрудник» с пеной у рта лезет на стену из-за своего
литературного самолюбия, как будто и в самом деле без его
«взглядов» и вода не освятится! Не желаю напомнить ни другим, ни
даже самому себе такого сотрудника. Ибо иное дело доходить
даже до бешенства за идею, и другое дело за свою какую-нибудь
заметку, статью или книгу источать яд. Противно! И, наконец,
я себе не позволю ничего подобного по многим другим
побочным побуждениям. Эти побочные побуждения весьма важны;
правда, они такого большею частью личного характера, что
перед читающими не годится их обнаруживать; но сам
пишущий должен им втайне подчиняться, если он не отвергает, что и
в литературные отношения не мешает вносить нравственные и
сердечные мотивы.
Итак, я сам предвижу, что письма мои будут весьма
«обширны»; сам знаю, что буду многословен и буду часто
отвлекаться в сторону.
Простите же и Вы, Владимир Сергеевич, эту немощь мою.
Предмет спора так значителен, чувства мои до сих пор ещё по
временам так горячи, и к тому же мне до того хочется понять
моего загадочного (на этот раз) обвинителя, что я это понима-
42
иис готов с радостью купить даже и ценой признания моей
собственной неправоты.
Обратимся же к самому делу.
Ход нашей с г. Астафьевым «истории» Вам, кажется,
знаком; но я его всё-таки здесь для порядка напомню, тем более,
что я надеюсь: авось либо, не Вы же один во всей России
будете эти мои письма читать.
Я издал брошюру под заглавием «Национальная политика
как орудие всемирной революции».
Заглавие было неудачно, не точно. Нужно было сказать:
«Политика национальностей» (la politique des nationalites).
Или, пожалуй: «Племенная политика — орудие революции».
Г. Астафьев, возражая на Ваши взгляды, в своей статье
«Национальное сознание» («Русское обозрение», март, 1890 г.)
посвятил мимоходом и мне одну страничку, которую начал так:
«Не страшны для национального идеала и такие нападения
н т. д.» Я же, как Вы знаете, считаю себя защитником и
служителем этого «национального идеала».
Изумлённый донельзя таким пониманием моей мысли, я
напечатал в «Гражданине» два фельетона под заглавием «Ошибка
г. Астафьева». Надеюсь, что всякий, кто прочтёт в спокойном
-состоянии ума это возражение, найдёт, что оно написано
добродушно и уважительно.
Мне кажется, в нём гораздо больше заметно огорчение, чем
тнев; удивление тому, как из единомышленников я вдруг попал
в противники, чем намерение оскорбить г. Астафьева.
Вы помните, как он ответил на это в «Москв. ведомостях».
Я после этого прямо ему возражать не буду. Ему самому у меня
ответ один — из книги Бытия: «Не согрешил ли еси? Умолкни*
(гл. IV).
Для меня дороже всего в этом споре его умственная,
теоретическая сторона.
Я ищу не победить, не переспорить: я желаю только понять.
Я хочу, чтобы Вы, Владимир Сергеевич, растолковали мне —
кто из нас двух теоретически правее.
Разница в нашем с г. Астафьевым понимании одного и того
же дела до того уж велика, что тут, мне кажется, нет
возможности примириться на чём-нибудь среднем без посторонней
помощи. Кто-нибудь один из нас должен быть признан вовсе не
понимающим другого.
Я, впрочем, уже и прежде пытался взять значительную часть
вины на себя; я согласен признаться, что я не в силах изломать
все мои привычные представления и понятия до такой степени,
чтобы и на этот раз попасть в течение его мысли. Г-н же
Астафьев думает, что понял меня. Он, видимо, уверен в себе;
43
я в себе сомневаюсь; он признаёт себя вполне компетентным
в том культурно-политическом вопросе, которым я давно
занимаюсь. Я в метафизических изворотах легко теряюсь и вовсе
не считаю себя в них сильным. Я только изумляюсь; я только
спрашиваю себя: возможно ли понимать то, что я говорю, так,
как понимает его г. Астафьев? Г. Астафьев, напротив того,
думает, будто бы чём-то пробил «значительную брешь» в тех
основаниях, которым, по его же словам, я так давно и так
«страстно» служу. .. И будто сознание моей теоретической
неправоты возбуждает во мне затаённый гнев.
Искренно и положа руку на сердце, говорю, что мне и в
голову ничего подобного не приходило, когда я читал его статью
в «Русском обозрении»! Рассудите, прошу Вас, чем он мог
пробить эту «брешь»? Я, напротив того, думал, что он, заботясь
по-своему о национально-духовном обособлении России, вторит
мне, рассматривая дело со своей особой точки зрения. Другим
путём идёт к тому же.
Я сам себе представлялся анатомом и физиологом
национального вопроса; он казался мне химиком или физиком,
долженствующим подтвердить мои выводы и наблюдения. Он
заботится об особом, так сказать, «стиле» русского национального
сознания^ об особом «психическом строе» русских людей.
Я в моей брошюре («Национальная политика») и во скольких
других сочинениях моих указываю на то, что строй психический
и религиозно-политические идеалы славян, не только
австрийских, но и восточных, гораздо ближе к буржуазно-европейскому
строю и к либерально-утилитарным идеалам, чем к тем,
которые преобладают в нашем народе. И, указывая на эту глубокую
разницу, я постоянно твержу, что панславизм может стать
безопасен для нас лишь в том случае, если современное нам новое
движение русских умов к «мистическому» и «государственному»
(движение, в котором и г. Астафьев участвует) окажется не
эфемерной реакцией, а плодом действительно глубокого
разочарования в европеизме XIX века. (Именно только XIX и конца
XVIII; европеизм же старый может служить хорошим примером:
во многом). Возражая Вам на Вашу
религиозно-космополитическую проповедь, г. Астафьев уже скорее должен был бы
цитировать меня, а никак не возражать мне. А если он не находит
нужным цитировать меня даже и мимоходом (я ведь этого не
требую), то должен был бы совершенно умолчать обо мне. Его
краткая заметка обо мне в статье, написанной против Вас,
точно ненужная заплата на цельной одежде другого цвета и
другой материи.
Впрочем, чтобы уж не слишком повторяться, я лучше
попрошу редакцию «Русского обозрения» перепечатать здесь из:
44
«Гражданина» мою статью «Ошибка г. Астафьева». Она
невелика и тем удобна, что в ней помещены как страничка
г. Астафьева, направленная против меня, вся сполна, так и
отрывок из моей брошюры, дающий, кажется, довольно ясное
понятие о моих главных и конечных выводах против чисто
политического панславизма. И для читателей, таким образом,
главный предмет спора будет яснее, и Вам будет легче по
готовому рассудить нас.
Письмо 2-е
Вот обещанная в первом письме статья «Гражданина»
(26 мая, 90 г. №№ 144 и 147)
Ошибка г. Астафьева
Редко в жизни моей приходилось мне удивляться так, как
удивился я недавно, когда в статье г. Астафьева «Национальное
самосознание» («Русское обозрение», март) прочёл, будто бы
я нападаю на национальный идеал в моей брошюре
«Национальность как орудие всемирной революции».
Прежде всего замечу, что мне как-то особенно не
посчастливилось с заглавием этой брошюры. Правда, оно само по себе
уж тем нехорошо, что слишком длинно. Это моя вина. Но я
утешал себя тем, что смысл этого длинного заглавия, по крайней
мере, очень ясен. Но и в этом я, кажется, ошибся.
Люди, вполне надёжные, говоря об этой — в недобрый,
видно, час изданной — брошюре, изменяют по-своему её
заглавие и придают ему этим совсем иное значение. В прошлогодней
июньской книжке «Русск. вестн.», в отделе библиографии, был
об ней довольно благосклонный отзыв; но озаглавлена она не
просто «Национальная политика», как у меня, а «Национальная
русская политика как орудие революции».
Именно о русской-то политике у меня там говорено очень
мало — два слова в конце.
Г. Астафьев также нашёл, что слова «национальная
политика» и «национальность» — одно и то же, и, цитируя моё
заглавие, заменил первое название вторым.
Можно было бы и промолчать об этом. Из-за такого
неважного недосмотра смешно вламываться в какую-то авторскую
амбицию. Но само содержание краткой заметки г. Астафьева
до того удивительно, что приходится и нехотя возражать.
Кроме этой непостижимой напраслины, которую возвёл на
меня г. Астафьев, и кроме небольшой статьи «Русск. вестн.»,
брошюра моя удостоилась ещё и внимания А. А. Киреева, кото-
4S
рый возражал мне целой солидной книжкой: «Народная
политика как основа порядка».
И с г. Киреевым, и с «Русским вестником» столковаться
можно.. .
Библиографическая заметка «Русского вестника» кончается
следующими словами:
«Нельзя не согласиться с автором, что наш демократический
век слишком сер, что в нем царит посредственность, что
стремление к «ассимиляции» губит чувство изящного, опошляет
жизнь. Мещанская шаблонность наложила печать на все
высшие проявления человеческого духа, на его «творчество», всегда
оригинальное. Великим государственным умам не дают
развернуться тесные рамки законности, да и спроса на них нет,
хотя в самых «передовых» странах всё громче и громче
слышатся презрительные отзывы о тех свободных учреждениях,
которые приобретались ценою крови. Демократия повела
человечество не вперед, а назад, обезличила духовного человека,
превратила его в дельца, в труженика для достижения
материальных благ. Целые нации стали походить одна на другую. По
мнению автора брошюры, нет ничего невероятного в том, что
если народы не образумятся, то современный политический
национализм роковым образом приведёт их к образованию
всеевропейского, а затем и вселенского демократического
государства. Находятся и сторонники такой утопии — клерикалы и
социалисты, но их песенка спета в России»,
Что могу я возразить на эти слова?
Разве то, что неизвестно ещё, так ли окончательно и
безвозвратно спета в России песня социалистов и клерикалов, и что
ввиду подобных опасностей мнительность и для государства, и
для национальной культуры — гораздо полезнее, чем
самоуверенность и беспечность.
И только. Ибо несомненно, что критик очень хорошо понял,
чего я желаю и чего я боюсь.
Он понял, что я желаю утверждения в России национальных
особенностей, что я люблю национальный идеал наш и боюсь,
как бы неосторожное и преждевременное сближение (а потом
и слияние) наше с либеральными и католическими славянами
не повредило бы этому национальному идеалу, — ис погубило
бы наших национальных особенностей, не утопило бы их
в страшном море европейского демократизма.
Понял, чего я хочу и чего боюсь в России, и г. Киреев.
Главный смысл его возражений следующий: относительно
Западной Европы он, подобно «Русск. вестн.», согласен со мной,
что многое в ней стало хуже прежнего; он прибавляет, что
нельзя же жертвовать свободой и другими удобствами жизни
46
для сохранения всего того, что могло быть в прежней жизни
величаво, живописно, симпатично и т. д.
Относительно положения дел на православном Востоке
г. Киреев старается прежде всего оправдать славянофилов: «не
славянофилы виноваты в том, что Болгарии навязали
учреждения в западном духе — не славянофилы, а западники в среде
нашей дипломатии и т. д.»
Кончает свою брошюру г. Киреев так:
«Нет, почтенный автор не остаётся верным избранному им
эпиграфу; его артистическая натура, его весьма законное
отвращение от «эгалитарной» пошлости довело его до самых
несправедливых обвинений, и не к нам, славянофилам, а напротив,
к нашим противникам должны быть направлены его укоры!»
«Простое восстановление старого порядка, простое к нему
возвращение, ежели бы и было возможно, не могло бы уже
помочь делу; не могло бы уже остановить западные государства
на пути к падению; не в этом следует им искать спасения от
угрожающей опасности. Что же касается национальной
политики, то она не только не представляет опасности, а
совершенно наоборот, ведёт к облагораживанию политических
идеалов и к установлению того порядка, к тому переустройству
Европы, которое одно способно гарантировать ей мирную
будущность и спокойное развитие её нравственных и даже
материальных сил».
Таково общее против меня заключение г. Киреева.
Положим, что человеку, подобно мне, претендующему давать
советы практической политики, не особенно лестно слышать, что
его честят «артистом». ..
Положим ещё, что можно бы напомнить г. Кирееву взгляд
Данилевского на прекрасное, выраженный им в следующей
краткой заметке:
«Красота есть единственная духовная сторона материи;
следовательно, красота есть единственная связь этих двух
основных начал мира». И ещё его же мысль: «Бог пожелал создать
красоту и для этого создал материю».
И, напомнив эти строки моему почтенному оппоненту, я могу
спросить его: «Неужели нельзя приложить этого взгляда и
к человеческим обществам? Жизнь человеческих обществ
(состоящую из жизни плоти и жизни духа) можно тоже
рассматривать и одновременно и попеременно (не впадая в
непримиримые противоречия), и с религиозной и с эстетической стороны.
Ибо, несмотря на то, что развитие прекрасного в жизни
сопряжено с многими скорбями, пороками и даже ужасами, — эта
эстетика жизни гораздо менее губительна для религиозных
начал, чем простая утилитарная мораль. Диоклетианы и даже
4Т
Борджиа были гораздо менее вредны для христианства, чем
многие очень скромные и честные бюргеры нашего времени.
Ослабеют все проявления героического, живописного,
трагического, демонического в жизни обществ, — иссякнут мало-помалу
в ней и все религиозные, и даже все
государственно-практические силы, разве за исключением одной индустрии, одного
утилитаризма (весьма, вдобавок, обманчивого). Сверх этого я мог
бы доказать г. Кирееву, что я вовсе не считаю славянофилов
виноватыми в современном положении дел на православном
Востоке; и в брошюре моей я этого именно нигде не говорил.
Да кстати сказать, я вовсе и не нахожу положения этих
восточных дел столь ужасным для нас. Если не слишком опоздаем
присоединить Царьград, то всё тотчас же исправится; а без
счастливой войны, разумеется, нельзя ничего сделать, и я, веря
в будущность России, верю и в близость этой счастливой войны.
Конечно, не славянофилы, а их противники виноваты в том, что
болгарам дали европейскую конституцию. Это верно; но когда
я говорю «эгалитарный либерализм» или просто «либерализм»,
я подразумеваю не одну только «конституцию», но и многое
другое: и гражданскую равноправность или бессословность,
которых славянофилы были всегда защитниками, и какой-то
немножко протестантский дух, которым веет от их богословских
трудов, и неканонические их сочувствия болгарским
рационалистам в церковной распре с патриархом и т. д., и т. д. Но я
никогда и нигде не говорил, что славянофилы «хотят отступить
от Церкви». Избави меня, Боже, от такой клеветы! Я могу
только опасаться, что, сочувствуя слишком безусловно племени,
можно повредить Церкви и нечаянно. О простом восстановлении
«старого порядка» на Западе, разумеется, нечего думать; на
самом Западе даже, по всем слухам и признакам, никто об этом
не думает. Да и признаюсь с полной откровенностью, что мне
никакого дела нет ни до «мирной будущности» современной
демократической Европы, ни до «спокойного развития её
нравственных и материальных сил». Я полагаю, что русскому
человеку, живущему в конце XIX века, всё это должно быть
важно только с одной точки зрения: с той, чтобы слишком
большое развитие этих нравственных (??) и материальных сил —
демократических и механических — не помешало бы нашему
самобытному развитию. Сама же по себе Европа не заслуживает
более серьёзного внимания; она пример для неподражания и
-больше ничего. В моей брошюре я говорил много о политической
патологии Запада; но ни о каких «лечениях» и восстановлениях
не только не думал, но не раз и прямо указывал, что они
невозможны. Мой медицинский эпиграф «qui bene distinguit bene
medetur» назначен был только для русских. Он значит вот что:
48
«Панславизм (хотя бы и самый постепенный) неизбежен; но
он опасен, как видно из примеров других племён» потому-то и
потому-то... Дело не в славянстве, дело в самобытном сла-
аизме. ..ит, д. Надо различать культурно-национальный идеал
наш от грубого и простого политического идеала, от идеала
«какого ни на есть общеплеменного объединения»...
В книге г. Киреева затронуто много интересных вопросов, и
я очень жалею, что по разным причинам не могу вступить
теперь с ним в основательное, долгое и дружественное прение.
Спор о подробностях между нами возможен уже потому, что
мы понимаем друг друга и в самом существенном вполне
согласны.
Вот что говорит г. Киреев на стр. 21 своей книги:
«Г. Леонтьев совершенно прав, утверждая, что
славянофильство должно вести к славяноособию, к духовной, умственной и
бытовой самобытности; что оно должно идти рука об руку
с Церковью и сторониться политиканства и опрометчивого
либерализма, разрушающего без толку всё существующее! Это
совершенно верно, но кто же из нас, славянофилов, говорит
противное?»
Сверх того, в начале своего труда (на стр. 4 и 5) критик мой
приводит выдержки из моей брошюры и делает это в высшей
степени добросовестно; эти цитаты очень точны и существенны
для разъяснения моего взгляда.
При таких условиях серьезный спор не только возможен, но
и для читателей и для обоих авторов полезен.
За некоторые поучительные возражения я г. Кирееву даже
весьма признателен. Они могут мне впредь пригодиться.
Но с г. Астафьевым по поводу его обо мне заметки в статье
«Национальное самосознание» я спорить не буду.
Это решительно невозможно! ..
Я говорю одно, а он говорит совсем о другом. Он меня понял
до того уж превратно, что читаешь и глазам не веришь. МИ я,
<: моей стороны (признаюсь в моём бессилии), его «отвлечений»
решительно на этот раз не понимаю.
Быть может, мы оба виноваты. Но если так, то спор тем
более невозможен.
Для меня г. Астафьев говорит не о моей брошюре, а о
какой-то другой, не моей.
Я воображаю, что являюсь в моей книжке пламенным
защитником русского национального культурного идеала. Г.
Астафьев говорит, что я на этот идеал нападаю.
Тут уже невозможен никакой диспут! Я от него заранее
отказываюсь.
4 К. Леонтьев
49
Я желаю только протестовать против подобного
незаслуженного мною обвинения.
Я бы не стал и протестовать, если б г. Астафьев сказал
так: «Леонтьев хочет защищать культурный русский идеал от
излишеств национализма племенного; он всегда стоял за
самобытность нашу; но эту брошюру он написал так дурно, что
можно при невнимательном чтении, пожалуй, подумать, что он
на этот идеал нападает».
Это был бы укор моей неумелости, моему стилю, моей
непоследовательности, одним словом — укор литературный... или
философский, пожалуй.
Это еще не большая беда.
Но укор г. Астафьева — укор почти гражданский. Он
говорит, что я нападаю именно на то, чему я готов и теперь всеми
последними силами моими служить...
На такое обвинение, на такое непостижимое недоразумение
не могу отвечать молчанием.
О том, как я пишу,— пусть судят другие. О том, что я пишу
и для чего, с какой целью — я сам наилучший судья.
Я не судья исполнений; я судья лишь намерений моих.
Разбирать окончательно заметку г. Астафьева не буду.
Я в ней не вижу ясных отношений к моей основной мысли
(о вреде племенных объединений в XIX веке). Как же я могу
возражать основательно на то, что для меня совсем непонятно?
Потому я предпочитаю выписать сначала из моей брошюры
такой отрывок, в котором сосредоточены и самые основные
взгляды, и самые последние практические выводы мои
относительно России и славянства, а потом приведу небольшую
заметку г. Астафьева всю сполна.
Пусть читатели судят сами. Вот отрывок.
«Псевдо-национальное или племенное начало привело шаг
за шагом Европу к низвержению всех тех устоев, в которых
утвердилась и процвела западная цивилизация. Итак, ясно, что
политика племенная, обыкновенно называемая национальною,
есть не что иное, как слепое орудие вес той же всесветной
революции, которой и мы, русские, к несчастью, стали служить
с 1861 года.
В частности, поэтому и для нас политика чисто славянская
(искренним православным мистицизмом не исправленная,
глубоким отвращением к прозаическим формам современной
Европы не ожесточённая) —есть политика революционная,
космополитическая. И если в самом деле у нас есть в историй
какое-нибудь особое, истинно национальное, мало-мальски
своеобразное, другими словами — культурное, а не чисто политиче-
50
ское призвание, то мы впредь должны смотреть на панславизм
как на дело весьма опасное, если не совсем губительное.
Истинное (то есть культурное, обособляющее нас в быте,
духе, учреждениях) славянофильство (или, точнее, культуро-
фильство) должно отныне стать жестоким противником
опрометчивого, чисто политического панславизма.
Если славянофилы-культуролюбцы не желают повторять
одни только ошибки Хомякова и Данилевского, если они не
хотят удовлетвориться одними только эмансипационными
заблуждениями своих знаменитых учителей, а намерены служить
их главному, высшему идеалу, то есть национализму
настоящему, обособляющему и утверждающему наш дух и бытовые
формы наши, то они должны впредь остерегаться слишком
быстрого разрешения всеславянского вопроса.
Идея православно-культурного руссизма действительно
оригинальна, высока, строга и государственна. Панславизм же во
что бы то ни стало — это подражание и больше ничего. Это
идеал современно-европейский, унитарно-либеральный, это —
стремление быть как все. Это всё та же общеевропейская рево»
люция.
Нужно теперь не славянолюбие, не славяиопотворство, не
славяноволие — нужно славяномыслие, славянотворчество, ела-
вяноособие — вот что нужно теперь! .. Пора образумиться!
Русским в наше время надо, ввиду всего перечисленного
мною прежде, стремиться со страстью к самобытности духовной,
умственной и бытовой.. . И тогда и остальные славяне пойдут
со временем по нашим стопам.
Эту мысль, простую и ясную до грубости, но почему-то у нас
столь немногим доступную, я бы желал подробнее развить
в особом роде писем об опасностях панславизма и о средствах
предотвратить эти опасности. Не знаю, успею ли.
Я полагаю, что одним из главных этих средств должно быть
по возможности долгое, очень долгое сохранение Австрии,
предварительно, конечно, жестоко проученной.
Воевать с Австрией желательно; изгнать её из Боснии,
Герцеговины и вообще из пределов Балканского полуострова
необходимо; но разрушать ее — избави нас, Боже. Она до поры,
до времени (до православно-культурного возрождения самой
России и восточных иноверцев её) — драгоценный нам карантин
от чехов и других уж слишком европейских славян». (См.
«Национальная политика как орудие всемирной революции»,
стр. 44—45).
Кажется — ясно.
4*
51
А вот заметка г. Астафьева о моём «нападении» на
«национальность», на «национальное начало», на «национальные
идеалы» и т. д.
«Не страшны для национального идеала и такие нападения,
как сделанное на него не так давно К. Н. Леонтьевым в
брошюре «Национальность как орудие всемирной революции»,
брошюре, замечательно талантливой по художественной яркости
нарисованной картины нашего века, но или ничего не
доказывающей против начала национальности, или доказывающей
гораздо больше, чем автору нужно. Ведь если пережитый нами
век революции был, вместе с тем, и веком пробудившегося
сознания и торжества национального начала, то был он также
веком и весьма многого другого, например: торжества
рационалистической философии, а затем материализма, скептицизма
и позитивизма, веком небывалых успехов техники и
промышленности, экономического развития, роста и торжества
космополитической буржуазии, парламентаризма и т. д., и т. д.!
Внутренняя связь всего этого «другого» с революцией, не более и не
менее связи её с национальным началом, доказывается простым
фактом одновременности всех этих явлений, которая вообще
нигде и ничего сама по себе не доказывает (как намёк только
на приложение самого несовершенного из индуктивных
приёмов— метода «согласия»). То же обстоятельство, что
национальным началом было возможно воспользоваться как орудием
революции, против этого начала решительно ничего не говорит
или же говорит против всех начал и сил жизни вообще, ибо все
они могут быть и бывали орудиями и революции, и эволюции.
Орудиями революции становились, как мы знаем, порой и наука,
и искусство, имена же Марсилия Падуанского, Ла-Боэси,
Мильтона, Суарэца, Марианны и других напоминают нам, что даже
в религии не раз пытались искать освящения для теорий
народовластия, цареубийства и революции, а «мудрый» Локк даже
специально изобрёл (в своих two treatises) для революции
благочестивую кличку «appeal to heaven» (апелляция к небу). Что
же все это может доказывать? . . Конечно, уж не враждебность
революции и консервативность начала космополитического». ..
(См. «Русское обозрение», март, «Национальное самосознание»,
стр. 277—278).
Прошу кого угодно решить, прав ли я или нет, говоря, что
здесь спор невозможен, а приличен только самый простой
протест, самое краткое оправдание?
Я не хотел нападать на тот русский (или даже
всеславянский) национальный идеал, который в духе Данилевского
должен воплощаться в самобытной культуре, самобытной жизни.
52
самобытном государственном строе и т. д. Я нападал только на
идеал чисто политического всеславянства. Да и то условно.
Я нападаю на идеал всеславянского объединения когда бы
то ни было и во что бы то ни стало; я считаю этот последний
идеал (чисто политический) для первого (для идеала
самобытности духовно-культурной) весьма опасным уже по одному
тому, что большинство образованных не русских славян
слишком привыкло к европейским формам свободы и равенства или
слишком предано им, не говоря уже об иноверии славян
австрийских.
И мне кажется, что ни из отрывка, приведённого здесь мною
в моё оправдание, ни из целой брошюры невозможно было
никак вывести, что я против этого второго (культурного) идеала.
Я бы не позволил себе сказать, что г. Астафьев не понимает
меня, если бы он возражал мне так, как возражали г. Киреев
и критик «Русского вестника».
Они оба, признавая меня ревностным защитником и
служителем национально-культурного идеала вообще, возражали —
один, указывая на излишние мои за этот идеал опасения,
другой — защищая славянофилов от обвинения в либерализме и
укоряя меня (слегка) за неразумную любовь мою ко всему
величавому и живописному в жизни и за равнодушие ко всем
бедам и скорбям, которые эта «эстетика» причиняет.
Ни о том, ни о другом из этих двух критиков моих я не
имею ни малейшего права сказать, что они не поняли моей
брошюры; я могу только сказать, что они не во всём согласны
со мной.
Не позволил бы я себе также обвинить г. Астафьева в
непонимании, если бы он (как я уже раз это говорил) признал
меня защитником и служителем национально-культурного
идеала, но до того (на этот, по крайней мере, раз) неумелым
и бестолковым, что, судя по брошюре моей, можно принять
меня, при некотором невнимании, за противника этого идеала,
за нападающего на него.
Если бы г. Астафьев вот так бы про меня сказал, то я бы
охотно промолчал, ибо ненавижу и презираю всякую полемику
не за общую идею, а за себя как литератора. Тогда мне
пришлось бы или признать этот строгий литературный суд
заслуженным, или утешаться надеждою, что вкусы бывают разные.
Ему не понравилось; другим, может быть, понравится моё
изложение, моя манера писать.
Но тут дело идёт не о манере, не об изложении, но о том, что-
зовётся гражданскими, или политическими, убеждениями
человека.
53
Я не желаю у чтобы меня считали противником культурного
национализма, — и потому молчать мне нельзя. Пусть считают
меня самым плохим, самым слабым, самым взбалмошным и
бесполезным поклонником и защитником этого идеала, но всё-
таки искренним защитником и пламенным поклонником его.
Доказать, что я сознательный противник культурного
национализма, никто не может\ могут доказать только, что я не умею
хорошо писать и рассуждаю до того непоследовательно и
неубеждённо, что даже и учёный ум г. Астафьева затмился под
влиянием моей неспособности.
Это быть может.. .
Хотя и тут выходит что-то загадочное.. . Даже и при
готовности смириться, всё-таки ещё раз невольно спрашиваешь себя:
«Отчего же не затмились умы г. Киреева и того человека,
который составил библиографическую заметку в июньской книжке
„Рус. вестн."?»
Они, видимо, находят, что у меня всё понятно, хотя далеко
не всё, по их мнению, основательно.
Это совсем другое дело, и против этого я спорить тоже не
буду, но — по другой причине.. .
Я уверен, что основательность моих взглядов оправдывается
самой историей. Другие люди немного позднее или сами собой
дойдут до этих взглядов или просто-напросто (т. е. тщательно
обо мне умалчивая) воспользуются моими мыслями и будут
распространять их гораздо удачнее моего; так уже случилось по
болгарским делам; и ещё недавно я имел утешение прочесть
в прошлогоднем «Новом времени» следующие строки: «Быть
может, в те времена болгары не успели ещё проявиться во всей
полноте своих хищнических инстинктов, но для тех, кто хотел
видеть, не могло быть сомнения и тогда, в чём заключались
действительные цели передовой Болгарии. Ещё в 1873 году
в «Русск. вестн.» К. Н. Леонтьев, долгое время служивший в
болгарских землях, метко очертил болгарское движение в статье,
озаглавленной «Панславизм и греки». Да болгары и не
скрывали своих планов; не Фанар и не Порта озабочивали их
предусмотрительность, а Россия, грядущая на востоке, которая,
опираясь на общность веры и племени, встретила бы сочувствие
в болгарском простом народе. Рационалистический подход
•болгарской интеллигенции против Фанара был ещё в большей
степени направлен против России. События, в настоящую
минуту совершающиеся в Болгарии, не более как продолжение
того, что четверть века тому назад устно и на столбцах газет
проповедовали болгарские народные «дейцы»: Христо Ботев,
Любен Каравелов и Раковский».
54
Я подчеркнул в тексте «Нов. времени» слово
«рационалистический подход», ибо нахожу, что рационализм юго-славянской
интеллигенции гораздо опаснее для России при тесной дружбе
с этой интеллигенцией, чем при вражде её.
Статью «Панславизм и греки», о которой упоминает
«Нов. вр.», я напечатал в 1873 году; но позднее, лет через
десять (82—83), в еженедельном «Гражданине» я говорил так:
«Одним из обстоятельств, наиболее выгодных для нас и для
всего славяно-восточного мира, я считаю: неустройства в Бол-
гарии и Сербии, грубые промахи короля Милана и
неблагодарность либеральных болгар и сербов». (См. мой сборник «Восток,
Россия и славянство», т. 1. стр. 296 и т. д.). Через два—три
года всё то, чего я ждал и на что надеялся (для нашего
вразумления), обозначилось с полнейшей ясностью. «Грубые промахи»
короля Милана привели Сербию к современной в ней
религиозной и политической реакции в пользу Православия и России.
И Болгарии, так или иначе, волей или неволей, не избегнуть
подобного поворота. Всё это нам урок, чтобы мы надеялись не
на самые племена, а на религиозные основы их, общие с
нашими.
Писал я также в 1880 году о неотчуждаемости дворянских,
земель; писал в такое время, когда сами дворяне смеялись над.
этой мыслью. (См. т. II моего сборника, передовая статья
«Варш. дневн.»)
Теперь над этой мыслью не только никто не смеётся, но и.
весьма влиятельные люди сильно озабочены ею. То же, вероятно,,
случится с моим противоположением идеала чисто племенных
объединений идеалу культурному и творческому, с моей боязнью
за второй идеал при виде плачевных результатов племенной
политики на Западе.
Примут моё мнение и другие позднее; поймут мои чувства.
Придёт время, когда и г. Астафьев увидит ясно свою
непонятную ему теперь ошибку и сознается в ней.
И как же не ошибка!
Национальный русский идеал понимается всеми более или
менее так. Православие и его усиление; самодержавие и его
незыблемость; быть может (если это удастся), сообразный с
настоятельными потребностями жизни (и по этому самому
своеобразный) сословный строй; сохранение неотчуждаемости
крестьянских земель (и если возможно, то и закрепление
дворянских); сохранение в быте нашем, по мере сил и возможности,
как можно больше русского; а если посчастливится, то и
создание новых форм быта; независимость в области мышления и
художественного творчества.
55
(И Данилевский всё это имел в виду, за исключением только
«одного—-прочного сословного переустройства, до которого он
случайно как-то не додумался.)
Этому самому национальному идеалу человек в течение два-
лдати с лишком лет служит, как умеет, пером своим. За этот
национальный идеал он боится, чтобы, при грозящих теперь
ежеминутно политических переворотах, не случилось почти
внезапного сближения и даже какого-нибудь смешения с
западными, слишком европейскими славянами.
Человек от избытка любви к этому русскому национальному
идеалу трепещет за него, быть может, и до недоразумения.
А другой человек, вдобавок весьма умный и учёный, называет
его противником этого идеала, уверяет и себя и других, что
боязнь, эта защита, этот патриотический трепет — называются
нападением.
Непостижимо!
Впрочем, и я не совсем прав. Я не так озаглавил мою
брошюру. Нужно было озаглавить её так:
«Культурный идеал и племенные объединения».
Это было бы точнее и яснее.
Что касается названия «Национальная политика», то это
одно из самых сбивчивых выражений нашего времени.
Под словами «национальная политика» подразумеваются
действия весьма различные и даже нередко
противоположные. Употребляя их по привычке, люди, даже и согласные со
всем главным, могут легко сбиться и в частностях не понять
друг друга.
Что-нибудь подобное случилось, вероятно, и у нас с г.
Астафьевым. Я, например, не только не «противник» ему, но,
напротив того, искренне сочувствую почти всем его мыслям,
выраженным в статье «Национальное самосознание». Да едва ли
он находит, что для удовольствия заключить поскорее в наши
братские объятия всех возможных чехов, словинцов и хорватов
стоит жертвовать и Православием, и самодержавием, и всеми
теми глубокими особенностями русского духа, которыми он так
дорожит?
Едва ли!
А если так, то в чём же наше разногласие?
И как это я нежданно-негаданно из союзников попал в
противники?
Удивительно!
На этот-то невинный вопль моего изумления и моей
непонятливости г. Астафьев ответил известной Вам, уничтожающей
56
меня статьей (№ 177, 90 г.). После этого второго его на меня
нападения вокруг меня всё стало ещё темнее. .. До статьи
«Моск. ведл> я не понимал только его; после неё я перестал и
сам себя понимать. . . Все многочисленные и ясные
представления мои омрачились; все понятия мои спутались...
Г. Астафьев, как сказочный волшебник, окутал и себя и меня
обманами философского тумана, в котором я ослеп; не узнаю»
сам себя и не знаю уже — куда я принадлежу. Я даже
спрашиваю себя наконец: А что если и в самом деле в этом тумане
скрыта какая-нибудь недоступная мне, подавляющая меня
истина, которой я только по недостаточности моих
метафизических сил понять не могу и видеть не умею? ,, Чем же он
виноват, если мой ум такой поверхностный, лёгкий, эмпирический
и даже беллетристический, что я за всеми изгибами его
философских «обоснований» проследить не в силах! . .
А если нет? .. Если я не так уж слаб умом и не так уж.
виноват, как с испуга это мне показалось?
Как это решить? Как же мне быть? Куда я принадлежу? Из-
националистов меня г. Астафьев выбросил; в космополиты я
никак не гожусь. ..
Ибо, если бы даже, при виде слишком глубокого
проникновения русской жизни западными началами, человек и перестал
бы зерить в возможность того культурного обособления России,,
о котором мечтал Данилевский * и которому этот человек сам
прежде пламенно сочувствовал, — то и от подобного
разочарования до настоящего космополитизма ещё очень далеко. Иное
дело верить в идеал и надеяться на его осуществление; и иное-
дело любить этот самый идеал. Можно любить и безнадёжно
больную мать; можно, даже и весьма страстно желая
культурного выздоровления России, — утратить, наконец, веру в это
выздоровление. Вот на основании подобных-то чувств и
наклонностей и я в космополиты не гожусь. Если бы я под какими-
нибудь подавляющими влияниями утратил бы окончательно-
веру в глубокие и разнородные особенности русского
национального призвания, то уж радоваться моему неверию я решительно
был бы пс в силах. Я был бы в таком случае похож на
христианина времён мусульманского торжества на Востоке.
Очевидность мешала ему в то время надеяться, что христианство и
духовно и вещественно отразит натиск исламизма в Сирии,
Персии, Египте; но ведь полюбить ислам и верить в него лично, как
во благо, он не мог. Так и я. Я могу поверить, наконец, в
торжество рационалистического космополитизма, но никогда не сочту
* В подробностях, впрочем, не совсем прозорливо, а местами и вовсе
ложно.
ЪТ
«благом зто торжество. В космополиты я поэтому не гожусь;
настоящим же националистом меня не хотят признать только
потому» что я не могу ввиду известных соображении ставить
культурно-государственную будущность России в зависимость
от объединения славян.
И вот в таком-то странном положении я решился обратиться
.к Вашему суду.
Письмо 3-е
Надо отдать справедливость г. Астафьеву, что оба его на
меня нападения (в «Русском обозрении» и в «Московских
ведомостях») очень содержательны. При всей краткости своей
в них есть много такого, что возбуждает мысль и заставляет её
даже насильно трудиться. Ошибочны ли взгляды моего
неожиданного гонителя или нет; темно ли его изложение, всё равно
нельзя не согласиться, что он в этих замечаниях своих коснулся
очень многих вопросов разом и задал разом много задач
внимательному читателю.
Например, упоминая о том, что одновременность торжества
национального начала в XIX веке с революционными
движениями не может сама по себе служить доказательством
внутренней связи первого со вторыми, он говорит в заключение, что
«одновременность исторических явлений сама по себе ничего
не доказывает». Она (эта одновременность), по мнению г.
Астафьева, только «намёк на приложение самого несовершенного
из индуктивных приёмов — метода согласия». Понимаете ли Вы
эти слона, Владимир Сергеевич?
Я их не понимаю, но невольно и упорно задумываюсь над
ними. Мне хочется разгадать эту загадку, и эта принудительная
экскурсия моей мысли на вовсе незнакомый мне и даже
довольно тернистый путь меня очень занимает.
Как так одновременность ничего сама по себе не
доказывает?— спрашиваю я себя с удивлением. — И что такое этот
«метод согласия», о котором я никогда, признаюсь, не слыхал?
Насчёт того, что такое этот «метод согласия» и бывает ли
ещё метод «несогласия» в каких-нибудь подобных этому
случаях, я прошу Вас, Владимир Сергеевич, мне ответить. Вы
специалист по этим вопросам.
Сам я об этом и думать не берусь. Тут дума и не поможет;
тут надо знать твёрдо «названия».
Я же могу размышлять только о том—доказывает ли что-
нибудь в. истории «одновременность явлений» (т. е. событий,
теорий, мировоззрений и так далее).
.58
Начну с того, что я не знаю, доказывает ли что-нибудь
одновременность эта или нет, но знаю наверное, что она действует
на людей очень сильно.
Не знаю, какую логическую ценность имеет одновременность
исторических явлений, но знаю, что психологическое значение
её огромное. Сверх того замечу ещё следующее. Высшая
сверхчеловеческая логика истории, её духовная телеология нередко
в том именно и видна, что для человеческой логики большинства
современников тех или других исторических явлений связи
прямой между этими явлениями не видно. Многими она узнаётся
поздно; немногими она открывается раньше. Но на души людей
эта невидимая телеологическая связь действует неотразимо
посредством совокупности весьма сложных влияний.
Возьмём европейцев XV века. В XV веке произошли почти
одновременно следующие общеизвестные события: открытие
Америки (1492 г.); изобретение книгопечатания (1455 г.);
взятие Константинополя турками (1456 г.).
Где прямая, видимая, ясная для современников связь между
этими тремя историческими явлениями?
Ещё между изобретением Гуттенберга и открытием Колумба
можно найти ту внутреннюю, предварительную (причинную)
связь, что умы в то время на Западе созрели и были
чрезвычайно деятельны. Европейцы в то время были исполнены
«искания» под влиянием известных накопившихся веками
впечатлений.
Но торжество полудикого племени турок на Востоке и
бегство образованных греков с древними рукописями на Запад —
это в какой логической связи стоит с книгопечатанием и
открытием Америки?
По-видимому, ни в какой. Логической связи не было, но была
одновременность и огромное психологическое действие всей этой
совокупности на европейцев XV века.
Была связь высшей телеологической логики, и нам теперь,
в XIX веке, эта внутренняя связь тогдашних событий ясна па
плодам своим.
Замечу мимоходом, что, не признавая подобной высшей,
прямо сказать, сознательно божественной телеологической связи
в исторических явлениях, нам придётся очень многое приписать
бессмысленной случайности; например, почему у Фомы Палео-
лога была молодая дочь именно в такое время, когда Иоанн III
овдовел и не успел ещё второй раз жениться? Почему он не
успел этого сделать? Почему бы изгнаннику Палеологу не быть
бездетным? Или иметь только сыновей? Или почему бы Софье
не быть замужем или до того перезрелой и некрасивой, что
московский князь не захотел бы на ней жениться? Почему один
5S
«з мусульманских народов (татарский народ) слабел на севере
именно в то время, когда другой мусульманский народ (турки)
торжествовал на юге? Прямой, ясной, логической связи между
всеми этими историческими обстоятельствами, видимо, нет, но
одновременность всего этого действует могущественно на дух
восточно-православных народов, на дух русских, греков, сербов
и болгар. Связь ясная не в основах логических, не в корнях,
а в психологических последствиях, в плодах исторических.
В основе таинственная и сразу непонятная божественная
теология; вполне целесообразные «смотрения», «изволения» и
«попущения» Высшей логики; в результате весьма
определённые и ясные впечатления на душу человеческую, на этот живой
микрокосм, столь способный к одновременности восприятия
различных впечатлений и к приведению их к живому единству
в недрах своих.
Одновременность всего вышесказанного, т. е. и таких важных
исторических событий, как взятие Царьграда турками на
православном юге и свержение татарского ига на православном
севере, и таких будто бы неважных случайностей, как вдовство
Иоанна III и существование молодой Софии Палеолог, эта
одновременность тогдашних событий и случайностей (говорю я)
продолжает действовать даже и на всех нас в конце XIX века,
почти 500 лет спустя. Благодаря этой одновременности и
совокупности, Достоевский писал об «искании» святых, и г. Астафьев
(оба западные европейцы по образованию и быту) идет по его
следам в этом отношении.
Если предположить, что нужно было в то время для
наилучшего сохранения веры, с одной стороны, развить и просветить
северный православный народ, весьма ещё молодой, грубый и
простой; а с другой — упростить и повергнуть в некоторую
степень освежающего варварства и невежества другой
православный народ, южный, несравненно более старый, просвещённый
и развращённый, то для подобной цели нельзя и придумать
ничего лучшего, как одновременно освободить русских от татарских
уз, подчинить греков турецкому игу и женить русского князя
на греческой княжне, которая принесла бы за собой в Москву
множество византийских влияний и порядков.
Русским в то время назначено было развиваться на почве
Восточного Православия. Они могли идти по пути этого
развития (осложнение) свободнее, не заботясь о «страхе татарском».
Грекам суждено было в то время только сохранять
Православие, давно уже у них развитое и вошедшее им в кровь.
Сохранить в чистоте и неподвижности своё старое народу
уже зрелому всегда легче под игом глубоко иноверным и очень
грубым, чем на полной и слишком долгой воле, или при зави-
60
симости от завоевателя, более общего по вере и менее грубого.
Не подчини тогда турки греков, эти последние, вес старея и
старея беспрепятственно, не только как государство, но и как
нация, и даже как ум, могли бы легко стать католиками,
протестантами или даже безбожниками. При турках было не до
этого; при турках греки помолодели на 400 лет и никакого нет
сомнения, что если восточный вопрос опять своевременно (т, е.
одновременно с другими благоприятными условиями) решится
в нашу пользу, то греки, так или иначе, но ещё скажут и теперь
слово в истории восточного христианства!
Это слово ещё остаётся за нами благодаря одновременности
перечисленных событий и случайностей в XV веке!
Вот что я думаю об одновременности. Не знаю, как
называется этот метод — «согласия» или «несогласия», но верно одно,
что это метод действительной жизни, о которой я в моих
политических статьях гораздо больше забочусь, чем об испускании
из себя, с непривычными для меня натугами, непрерывной ме-
тафизико-диалектической нити. И это всё ещё не главное.
Главного я ещё не касался.
Главное и ближайшее в этом вопросе — это вот что.
Г. Астафьев говорит: «Прожитый нами век революций был
веком торжества рационалистической философии, затем
материализма, скептицизма и позитивизма, веком небывалых
успехов техники и промышленности, экономического развития, роста
и торжества космополитической буржуазии, парламентаризма
и т. д., и т. д. Внутренняя связь всего этого «другого» с
революцией не более и не менее связи её с национальным началом
доказывается простым фактом одновременности всех этих
явлений и т. д.».
О какой это внутренней связи тут говорится, не знаю. Что
значит это слово «внутренняя», в данном случае не могу понять
отчётливо.
Я знаю наверное, и г. Астафьев это знает, что на внутренний
мир, на ум и душу людей, живущих в XIX веке, эта
одновременность действует так могущественно, что не только
сочувствующие рационализму, капитализму, индустрии, и т. д., но и
недовольные всем этим невольно всему этому подчиняются.
Я знал, например, таких инженеров, техников, железнодорожных
деятелей, которые считают, что в России, по крайней мере,
железные дороги сделали гораздо больше самого разнородного
вреда, чем пользы; но они не только вынуждены
обстоятельствами ездить по ним, но и служить по этой части, строить
мосты, рельсовые пути и т. д. То есть они не только пользуются
этими орудиями всесмешения, но и способствуют поневоле их
влиянию на других. Г. Астафьев сам даже читал лекции и издал
61
книжку об этом предмете под заглавием «Наше техническое
богатство и наша духовная нищета». Он во всём этом, надо
отдать ему полную справедливость, увидел самую глубокую и
существенную сторону разнообразного вреда цивилизации этой,
прямо психическую сторону. Он находит, что для внутренней
устойчивости наших впечатлений и для глубины их — движение-
жизни стало слишком быстро, обмен слишком ускорен.
Если бы даже все эти явления нынешнего прогресса не
состояли бы между собой исходными точками своими и вовсе ни
в какой предварительной логической связи, то при действии
своём па душу современников наших они всё-таки вступают
в недрах этой души в теснейшую, конечную, так сказать, связь
именно потому, что действуют одновременно.
Ребёнок, рождающийся теперь, юноша, в настоящее время
созревающий, ничего не знают о прежнем состоянии доступного
им мира; они прямо и сразу подчиняются одновременным
впечатлениям от всех этих явлений в совокупности.
Но ведь не всегда было так. В истории, мне кажется, все эти
перечисленные явления состояли даже и в прямой причинной
зависимости друг от друга. Сперва скептицизм религиозный
(например, первоначальные сомнения Лютера в безусловной
правоте и святости римского престола); потом эти сомнения
перешли в решительное отрицание, и дана была воля рассудку
подвергать критике религию, государственные учреждения, древний
сословный строй и т. д. То есть рационализм.. . Создать этот
рационализм ничего не создал (кроме множества глубоких и
остроумных философских систем, друг друга опровергающих);
но расшатал более или менее всё то, чем жило дотоле
человечество. Люди захотели приложить теорию рассудка к жизни,
к политической и социальной практике. Всякая мистическая
ортодоксия не рациональна', неограниченная власть одного не
рациональна; наследственная привилегированная аристократия,,
дворянство и т. д. не рациональны. Всё это мистическое,
наследственное и т. д. ограничили или уничтожили. Но так как
равенства полного достичь при этом не могли, то явилось, как
логическое неизбежное последствие, преобладание капитала^
торжество буржуазии и т. д. Ведь это преобладание при
поверхностном взгляде кажется даже гораздо более рациональным,
чем мистическая и наследственная привилегии. Так как люди
не равны способностями, умом, терпением, твёрдостью
физической силы, то пусть более терпеливые, сильные, умные, твёрдые
и выдвигаются, богатея. Вот всем известное оправдание для
буржуазного строя общества и капитализма. Рядом с этим
рациональным усилением капитализма (которому до начала
ассимиляционной революции мешало преобладание духовенства.
62
монархов, дворянства) стало возрастать и другое детище того
же рационализма — точная наука, механика, физика, химия,
техника. Рационализм точных прикладных знаний естественно
вступил в теснейший союз с рационализмом капитала.
Рационализм же навёл многих и на космополитические
мысли, вкусы и теории; механика, усовершенствование путей
сообщения и возрастание торгового обмена, выставки и т. п.
стали способствовать воплощению в жизнь этих теорий
рационального космополитизма. Ясно, что это всё «другое» состоит
в неразрывной связи между собою и с революцией вообще.
И с революцией, по моему понятию, в смысле всемирной, но не
всегда преднамеренной ассимиляции и в более обыкновенном
тесном смысле: в смысле прямого и преднамеренного
ослабления, ограничения власти, религии, привилегии, в смысле
мятежей и восстаний, наконец.
Всё это: скептицизм, рационализм, капитализм, техника
и т. д. — имеет космополитический характер-, всё это в высшей
степени заразительно и всем доступно, если не сразу, то
довольно всё-таки скоро доступно.
Национальное же «начало», напротив того, есть антитеза
космополитического, и г. Астафьев напрасно говорит, что связь
его (национального начала) с космополитической революцией
не больше и не меньше, чем связь всего этого «другого».
Это всё другое состоит с революцией (в наш век) в связи
неразрывной и прямо логической. Всё это «другое» лишь
частные проявления общего течения ко всемирной ассимиляции. Это
разные цвета одного и того же всепожирающего луча,
преломляющегося в спектре жизни. Это всё космополитизм.
Национализм же состоит со всем этим лишь в такой
антагонистической связи, в какой состоят свет и тени, жар и холод
и т. д. Это хорошо. Но несчастье в том (с моей точки зрения,
да, вероятно, и с точки зрения г. Астафьева), что в XIX веке
эта реакция против космополитизма до сих пор везде очень
слаба и жалка. И защитникам национализма не надо
подобными размерами этой реакции удовлетворяться. Слаба эта
реакция в наше время уже потому, что действие
противоположного начала, революционного космополитизма, слишком сильно.
Условия нынешней одновременности в высшей степени
неблагоприятны для подобной обособляющей национальной
реакции.
Нации, например, освобождаются из-под зависимости
иноверной или инородной.
Но, освободившись политически, они очень рады, в быту или
идеях, походить на всех других.
63
Человека, положим, выпустили из тюрьмы или из другого
какого-нибудь затвора на вольный воздух; он свободен; но ведь
большая разница, в какое время мы его выпустили: в мае или
в январе, в здоровое время или во время ужасной эпидемии.
Во время эпидемии он, вероятно, в затворе своём был бы
целее.
Вот в каком смысле «одновременность» важна и для
национального вопроса.
Политический национализм нашего времени не даёт
национального обособления, потому что подавляющее влияние
космополитических вкусов слишком сильно. Эпидемия ещё не
окончилась.
Письмо 4-е
Вторая статья г. Астафьева, напечатанная им в «Московских
ведомостях» против моего протеста в «Гражданине»,
подействовала на меня двояко: в некоторых отношениях более
вразумительно, чем первая его заметка; в других, напротив того, ещё
более смущающим образом.
Весьма возмутительно мне показалось, во-1-х, то, что г.
Астафьев уже не хочет более укорять меня во враждебности
русскому культурному идеалу; а укоряет меня только в
«неоправданном логически отрицании национального начала как начала
и политической жизни и культуры вообще». «Начало
политической жизни и культуры вообще». Не разница ли это?
Впрочем, не буду придирчив. Этот укор, быть может, и
заслужен мною. Не знаю, впрочем, в точности, до какой степени;
ибо и это для меня не слишком ясно. Но я расположен
подозревать, по крайней мере, что в этих словах г. Астафьева кроется
какая-то справедливая и не совсем выгодная для меня мысль.
Сознаюсь, что когда я пишу, то больше думаю о живой
психологии человечества, чем о логике; больше забочусь о наглядном
изложении, чем о последовательности и строгой связи моих
мыслей. Меня самого при чтении чужих произведений очень
скоро утомляет строгая последовательность отвлечённой мысли;
глубокие отвлечения мне тогда только понятны, когда при
чтении у меня в душе сами собой либо являются примеры, живые
образы, какие-нибудь «иллюстрации», хотя бы смутно, туманно,
мимолётно, но все-таки живописующие эту чужую логику,
насильно мне навязываемую; или же пробуждаются,
вспоминаются какие-нибудь собственные чувства, соответствующие этим
чужим отвлечениям. Самые же эти так называемые «начала»
мне мало доступны; я никак не найду этим началам конца ни
спереди, ни сзади. И мне даже всё представляется, что никакое
64
«начало» в жизни, на практике ничего не может и создать, если
у многих людей не будет соответственное ему чувство...
Когда мне говорят начало любви, я понимаю эти слова очень
смутно до тех пор, пока я не вспоминаю о разных живых
проявлениях чувства любви (сострадание, симпатия, привязанность,
восхищение и т. д.). Вот как я слаб в метафизике. Из этого
вовсе не следует, разумеется, что я не признаю метафизики.
Наше собственное слабое понимание какого-нибудь предмета,
конечно, не даёт нам права думать, что и все другие его не
понимают или что само по себе непонимаемое нами не ценно и
не высоко.
«Начала» эти не виноваты в том, что чувства и образы
доступнее их моим умственным силам.
Конечно, какое-нибудь такое «начало» существует, так как
люди очень умные и ученые говорят о них.
«Национальное начало»? «Национальное начало»? — Не
понимаю! Думаю, думаю и кончаю тем, что хватаюсь за что-
нибудь более конкретное, чтобы сквозь него как-нибудь
добраться до этого абстрактного; сквозь узоры и краски жизни
высмотреть хоть сколько-нибудь общую метафизическую основу
или канву. «Национальное государство». Ясно. Вот Франция
издавна была национальным государством. Австрия же никогда
не была таковым. «Национальная религия». Тоже ясно.
Армянское христианство есть религия общая для большинства
армянской нации, разделённой подданством по разным государствам.
Англиканское протестантство есть тоже национальная религия,
ибо оно тесно связано историей с государственными
учреждениями Англии и даже пригодно только для одной Англии; не
может быть во всецслости своей пропагандируемо иноземцам.
«Национальная поэзия» — это значит поэзия своеобразная,
в национальном духе или стиле развивавшаяся. Национальная
одежда, национальная пляска, национальный обычай; всё это
очень ясно и наглядно.
«Национальная политика» есть уже выражение несравненно
более сбивчивое (как я постараюсь доказать ниже), но всё ещё
понятное.
Что касается выражения национальное начало, то я, по
философскому малосилию моему, не умею постичь его иначе,
как воплощённым во всех этих частных перечисленных мною
разветвлениях его.
Возвращаюсь к исходной точке недоразумения или спора
нашего. Я нахожу, что это национальное «начало» выражается
при современных нам национальных и племенных объединениях
в высшей степени слабо. До того слабо, что все другие
противоположные ему «начала» подавляют его до неузнаваемости.
5 К. Леонтьев
65
Национальное начало есть такое начало жизни нашей,
которое располагает человечество распадаться, разделяться на
особые, культурно-племенные группы. Употребляя почти
машинально вслед за другими это чуждое мне слово «начало», я сам
про себя тотчас же думаю о «чувствах», вспоминаю примеры и
вижу, что все эти чувства и потребности, которые
благоприятствуют вышесказанному разделению на особые
культурно-племенные группы, в XIX веке очень слабы.
Господствуют теперь у всех европейских народов (не
исключая и славян) весьма сходные культурные идеалы и житейские
вкусы, и группировка новой Европы по племенным
государствам, равняя политическое положение племён и наций, ещё более
благоприятствует сходству их жизни.
Г. Астафьев говорит, что я в этой брошюре пытаюсь
«подорвать значение национального начала в политике и жизни».
Едва ли так! Значение этого национального начала в
политике, к сожалению, очень велико уже по тому одному, что оно
в наше время в высшей степени разрушительно; этого
революционного значения не подорвёшь какими-нибудь «статьями»; и
то слава Богу, если сумеем хоть немногим людям открыть глаза
на тот факт, что племенной национализм в политике
(освобождение и объединение славян, немцев, итальянцев) не даёт
никаких национальных плодов в жизни.
Значение этого начала подорвать нельзя. Значение это очень
велико; и не будь оно так велико, не нужно было бы и
опасаться его. Как можно подрывать значение эпидемии?
Достаточно только назвать эпидемию по имени её и указать на
предохранительные против неё меры.
В XIX веке племенные и национальные эмансипации и
объединения не только не приносят тех культурно-обособляющих
плодов, которые от них ждали многие (у нас в особенности
Данилевский), а, напротив того, усиливают культурно-бытовое
сходство, ускоряют в высшей степени всеобщую эмансипацию.
Группировка государств по чистым народностям ведёт
быстрыми шагами европейское человечество к государству
международности. По окончании всех этих племенных, народных счётов
и разграничений во всей силе своей поднимается всенародный
социальный вопрос. Чистые прогрессисты, демократы,
социалисты, нигилисты имеют право радоваться этому. Это понятно.
Но каким образом могут отрицать этот факт или мириться
с ним хотя бы многие из славянофилов наших — не понимаю!
Разве потому, что они находят исторические условия русской
жизни до того отличными, даже и в наше время, от условий
западной жизни, что у нас и панславизм должен дать совсем
66
иные плоды, чем те, которые дали пангерманизм или
итальянское единство! Дай Бог!
Или, быть может, они думают, что у нации Запада впереди
уже нет ничего такого, что заслуживало бы названия
национально-культурного-, что всё подобное у Запада уже прожито,
а у России впереди. Первое вполне верно, но когда дело
касается России, то остаётся воскликнуть: Дай Бог! Дай Бог!
Но и это возможно только в том случае, если в русском
самосознании глубоко вкоренится представление о разнице
между национализмом политическим и национализмом
культурным; между политическим равенством прав и положения славян
со всеми и культурно-бытовым их обособлением от Европы. Или,
быть может, большинство теперешних славянофилов наших
гораздо меньше думают о том, чем бы глубже отличаться
славянам от Запада (для предохранения себя от неизлечимых его
недугов), чем о том, чтобы сравнять скорее славянство во всех
отношениях с этим Западом.
Быть может, вовсе не своеобразие характера славянского им
дорого (как было оно дорого Хомякову и Данилевскому),
а только независимость и сила государственного положения. Но
надо бы при этом спросить себя: долго ли продержатся эта
сила и независимость без своеобразия культурного характера?
Я нападаю на политику национальных освобождений и
объединений в XIX веке потому, что она в жизни не даёт
национальных результатов; я нападаю на неё за то, что она —
самообман, за то, что у неё не оказывается вовсе никаких
национально-обособляющих плодов. Я повторяю ещё раз: в XIX веке.
Ибо подобные освобождения и объединения случались и
прежде, но при других одновременных, побочных условиях они
действовали совершенно иначе.
Что Вы на всё это скажете? Кто из нас из двух яснее и
правее по-Вашему?
Письмо 5-е
Ещё несколько вопросов, всё для моего вразумления.
Постараюсь быть под конец настолько же кратким,
насколько я был многоречив в начале этих писем.
Не знаю, впрочем, удастся ли мне это!
1. Можно ли определять «национальность» так, как
определяет её г. Астафьев? «Национальность (не нация ли?) есть
племя, доразвившееся до сознания и своей пережитой истории
и своих настоящих духовно-связующих его воедино стремлений,
сил и задач, и потому племя культурное».
5*
67
Как вы находите это определение? Мне оно что-то не
нравится; оно что-то слишком философское. Для проверки этого
инстинкта моего попробую обратиться к примерам. Во-1-х, со-
знание своей пережитой истории. Давно ли па Западе (не только
что у нас) стали люди знать и ясно сознавать свою
«пережитую» историю? Только в наш XIX век. Разве французы хорошо
знали и понимали свою прежнюю историю лет 100, 200, 300 тому
назад? А разве они тогда были ещё только племенем? Разве
они не были и тогда уже высоко культурной нацией?
Мне кажется, что они, будучи уже тогда (при
Людовиках XIII, XIV, XV и т. д.) вполне определившейся и культурно
обособленной нацией, делали свою современную историю
полусознательно и часто вовсе бессознательно; они творили её, а
сознавать ясно своё прошедшее они стали только тогда, когда
творить почти ничего уже им не осталось (т. е. в XIX веке).
Обыкновенно слово нация, насколько мне известно, понималось
просто как известная ветвь известного племени; ветвь, имеющая
особые отличительные признаки в племенном языке, в истории,
религии, обычаях и т. д. (Племя — славяне; нации: русские,
поляки, сербы, болгары и т. д.) Это этнографическое и простое
определение гораздо болыне удовлетворяет мой эмпирический
ум, чем философское и слишком углублённое в одну сторону
определение г. Астафьева.
Это во-1-х.
Потом ещё и это: сознание своих духовно-связующих
воедино стремлений, сил и задач и т. д.
Эти слова г, Астафьева тоже меня сбивают.
Современные русские, современные чехи, болгары, поляки —
все принадлежат к одному славянскому племени. Но
стремления и задачи у них у всех вовсе разные. Они теперь ещё не
составляют одной нации. Это так. Но ведь, с другой стороны,
вспомним о баварцах, пруссаках, австрийских немцах про-
шлого века. У них у всех задачи и стремления были разные, но
всё-таки они, взятые во всецелости, составляли нацию,
государственно лишь разделённую на особые группы. А голландцы и
датчане, принадлежа тоже к племени германскому, к нации
немецкой не относились и не относятся никем.
И ещё вопрос о том же: швейцарцев все привыкли называть
тоже нацией; а у них три языка, три крови и две религии.
Национальность их только общегосударственная, с теми оттенками
в понятиях и привычках, которые должны были развиться под
долгим давлением республиканских учреждений.
Вообще нацию определить в точности очень трудно.
Племя легче. Язык и кровь (признаки более
физиологические). Культуру тоже легче. Совокупность признаков более
68
идеальных, чем кровь и язык (уже сформированный) , т. е.
религия, род государственных учреждений, вкусы (обычаи, моды,
нравы домашние и общественные), характер экономической жизни.
Нация же выходит, мне кажется, из совокупности обеих этих
совокупностей идеальных и физиологических. Признаки особой
нации слагаются из признаков племенных и культурных.
Как вы скажете? Чьё определение яснее и вернее? Может
быть, оба хуже? Не знаю.
2-й вопрос.
Г. Астафьев признаёт во второй статье своей («Московские
ведомости», № 177, июнь), что национальный идеал для России
у нас с ним почти один; разница во второстепенных лишь
оттенках. «Программа», как выражается он в другом месте, у нас
одна.
А мои опасения за чистоту этого идеала в случае какого-
нибудь несчастного и преждевременного сближения, слияния,
смешения нашею даже и с западными славянами (с чехами,
хорватами, словаками, галицийскими руссинами), насквозь
пропитанными либеральным европеизмом, эти опасения он
называет нападением на национальное начало\
Я писал статью культурно-политическую; представлял факты
из новейшей истории Запада для устрашения тех русских,
которые, с одной стороны, боятся дальнейшего подражания Европе,
а с другой, видимо, думают, что скорое падение Австрии и
образование на её развалинах двух—трех славянских государств,
долженствующих вступить в братскую конфедерацию с
Россией, послужит к укреплению русских основ, к развитию и вьь
разительности русских национальных особенностей.
Я же нахожу желательным (и даже спасительным для
России) скорейшее окончание вопроса только восточного, но не
всеславянского. Всякий может легко понять, что это большая
разница! Окончание восточного вопроса значит: 1. Присоединение
Царьграда к России с подходящим округом в Малой Азии и
во Фракии. 2. Образование на развалинах Турции православной
(а не чисто славянской) конфедерации из четырёх
разноплеменных православных государств: Греции, Сербии, единой
Румынии и Болгарии и 3. (если возможно) то и присоединение
остатков Турции и всей Персии к этой конфедерации (англичан
из Египта, разумеется, желательно было бы удалить и отдать
Египет султану, как подручному нашему, в непосредственную
власть).
Что касается австрийских славян, то они могут и
подождать до тех пор, пока мы найдём их достойными и
безвредными. (В брошюре моей я говорил, что из Боснии и Герцего-
69
вины, конечно, надо австрийцев изгнать с позором, чтобы они
знали своё место).
Где же тут нападение на начало национальное вообще?
Нападение есть, но оно направлено против космополитизма.
По определению же г. Астафьева выходит, что славяне пока
ещё только племя, а никак не нация. Ни общего «сознания
пережитой истории», ни «духовно-связующих воедино стремлений
и задач».
Если мы с г. Spectator'oM (см. «Русское обозрение»)
несомненно правы в том, что у православных сербов и болгар
идеалы слишком буржуазно-европейские и что с ними одними
нам ещё много будет хлопот, пока Бог не поможет нам по-
своему «оболванить» их, то чего же, кроме либерального все-
смешения, всепринуждения и всеразрушения, можно ждать от
политического (и неизбежно через это и общественного)
общения и сближения с либеральными ни то ни сё чехами,
католическими хорватами и словаками, желающими, конечно,
демократически вылезти из-под мадьяр, и т. д. Даже все эти гали-
цийские ливчаки весьма сомнительны. Привыкли все
протестовать. Соскучатся без протеста.
Мне стыдно даже и напоминать обо всём этом тем русским
людям, которые неравнодушны к особому психическому,
религиозному и государственному строю России.
Стыдно потому, что всё это до грубости ясно.
Г. Астафьев, впрочем, ничего и не возражает мне на мою
культурно-политическую тему ни в первой, почти
презрительной заметке своей, ни во второй, более солидной, но в высшей
степени гневной статье. Он ни слова не говорит о культурных
опасностях панславизма (т. е. о том, о чём, главным образом,
я говорил). Он даже находит мою картину современного
положения Европы «блестящей». Если же эта картина блестящая,
то, вероятно, и правдива; кто же станет хвалить ложь, хотя бы
и красноречивую, но отъявленную? Если же эта картина
правдива и может служить для нас практическим предостережением,
то какая же нужда заглядывать куда-то в метафизическую
темноту, за эту верную картину, разыскивать какое-то начало н
предостережение называть нападением. Это только путает! (По
крайней мере меня).
Замечу, кстати, что я в моей брошюре ни разу даже не
употребил выражение «национальное начало». Мне пришла
забавная мысль поискать у себя это слово. И, вообразите, как был
верен на этот раз мой инстинкт! Я имел терпение посмотреть
сызнова всю мою брошюру (кто же помнит в точности слова
своих статей?!) и нигде даже этого выражения на нашёл.
«Национальное движение XIX века»; «политический национализм»!
70
«национальный характер»-, «национальная свобода»',
«национальное восстание». Виноват! В одном только месте есть у меня
выражение «национально-лол^т^ес/сш/ принцип». Виноват
потому, что мне никакого дела не было в этом живом и в высшей
степени практическом вопросе до «начал» и «принципов»,
объективно, т. е. вне живой психологии, понимаемых. Важны были
для меня только чувства и наклонности; важны результаты
культурно-политические, при которых психологическая основа сама
собою очень ясна. Вот она: У людей нашего времени все те
чувства, которые благоприятствуют культурно-бытовому
обособлению племён и наций, т. е. их оригинальному развитию, очень
слабы; а все те чувства, которые благоприятствуют общению,
подражанию, смешению, ассимиляции (революции), очень
сильны.
Это очень просто.
В тонкости и подробности же этой исторической и
социальной психологии углубляться я не дерзаю. Да и г. Астафьев едва
ли в силах будет это сделать. Итак, если у нас с г. Астафьевым
национальный идеал приблизительно один и тот же; если у нас
с ним культурная программа сходна, то почему же я,
предохраняя этот идеал, или эту программу, от разлагающих влияний,
являюсь противником национального начала, долженствующего
в этом идеале и по этой программе осуществиться?
Ничего не понимаю!
Вопросы 3-й и 4-й.
Г. Астафьев в конце своей второй статьи говорит обо мне
так: «Он (т. е. Леонтьев) любит национальную особенность
вообще, как любит всякую особенность, вносящую в жизнь
разнообразие, характер, борьбу, силу, любит её как эстетик и
моралист, видя в ней богатейший и красивейший материал для
построения полной содержанием и характерной культуры. Но
отсюда далеко до признания национальной самобытности за
самую основу и руководящее, дающее самой культуре жизнь,
форму и силу, начало этой культуры.
Последнего значения за национальным началом г. Леонтьев
никогда не признавал и признать не может. Такое признание
было бы с его стороны отречением от всего своего
литературного прошлого. Слишком много сил, страсти и дарования
положил он в этом прошлом на проповедь византизма и слишком
хорошо знает он, что дорогая ему византийская культура всегда
была не национальною (о византийской национальности никто
не слыхивал), но эклектическою, искусственно выращенною для
того, чтобы помириться с моим понятием о национальности как
необходимой основе и формирующей силе всякой мощной и
жизнеспособной культуры. Для него и основа и формирующая
71
сила жизни, повторяю, лежат в самой культуре, для которой
национальность только материал, не более!»
Сначала о выражении г. Астафьева «национальная
самобытность. .. как самая основа и руководящее начало культуры».
Опять я никакого ясного представления при чтении этих слов
не получаю. Где начинается это начало? В физиологии ли
народа или племени? В физическом ли темпераменте? (Пылкий
народ, хладнокровный и т. д.) В дальнем ли мраке
этнографического происхождения? (Сирийское племя, семитическое,
монгольская раса, кавказская.) В первоначальной ли истории
народа или племени? В том ли, например, как поступит этот народ
при начале своего исторического поприща?
Не знаю, не понимаю... И не верю даже, чтобы это
«начало» можно было в точности уловить!
Догадываюсь до известной степени, что г. Астафьев
расположен говорить не об историческом начале, т. е. не о
первоначальном возникновении особой народности. Догадываюсь, что
он говорит о начале философском, т. е. о какой-то движущей
силе, лежащей в основе народного бытия и развития; о такой
силе, которая заставит родоначальников народа поступить
именно так, а не иначе. Но что такое она сама, эта движущая
сила — не знаю; да едва ли он объяснить это может.
Ничуть не притворяясь только не понимающим, а в самом
деле не понимая, я прошу только указать, где и когда я
отрицал эту таинственную силу? Я о ней не писал и даже мало
о ней думал. Это правда. Но я никогда не отрицал её. Обо всём
думать с равной мерой внимания невозможно. Г. Астафьев,
например, ни о вреде, ни о пользе панславизма не пишет и,
вероятно, и не думает об этом так серьезно, как думает о
вопросах онтологии и отвлечённом психологии. Но из этого не следует,
что он не признаёт самого значения панславизма для России.
И я не искал непременно доходить до «начал», подобно тому,
как физиолог при изложении фактов сравнительной
физиологии или врач при описании известного класса болезней не
считает себя обязанным доходить всякий раз и до химии тканей,
крови, отделений и т. д.
Он прав, что мои сочинения имеют более семиологический,
чем этиологический характер, и когда-то (в эпоху «прекрасных
дней Лранжуеца») он отдавал публичную справедливость моей
скромности за то, что я сам давным-давно в этом признался.
(«Прогресс и развитие. Византизм и славянство».)
Есть, однако, небольшое доказательство тому, что, и не
занимаясь особенно этими таинственными «началами»
(предпочитая говорить о вещах более наглядных), я всё-таки чуял, так
сказать, их значение в истории.
72
В моей давней статье «Византизм и славянство» есть шесть
последних глав, которые не раз удостаивались в высшей степени
лестного одобрения г. Астафьева.
Разве здесь не слышно признания этой таинственной,
движущей силы, присущей не только обособленным нациям, но,
вероятно, и целым племенам с самых первых шагов их на пути
историческом?
Есть врачи и физиологи, которые думают, что уже в
зародыше, в самой утробной жизни заложены в человеке те
патологические или хоть, общее говоря, физиологические начала,
которые впоследствии обнаружатся вполне в виде определённых
болезней.
(Разумеется, что отсюда должны быть исключены все те
страдания, которые происходят от внешних причин: ожоги,
боевые раны и т. п.; хотя, с другой стороны, не следует забывать
и то, что эти повреждения одним человеком переносятся лучше,
а другим хуже, опять-таки от внутренних причин. Верить в такую
таинственную прирождённость можно; но проследить, как из
какой-то незримой точки развивается целая картина болезни,
кто возьмётся? А сама болезнь видна всякому.)
Я предпочитаю думать о подобных «картинах» жизни, чем
о незримых точках, Я понимаю, что другой человек, в высшей
степени, конечно, умный, может находить особого рода
наслаждение в том, чтобы выпускать из себя, как паук паутину,
непрерывную диалектическую нить, прикрепив её предварительно
в уме к какой-то невидимой и всегда произвольной точке. ..
Я даже не позволяю себе никак отвергать пользу этого
испускания философских нитей из умственных недр человека. Я не хочу
быть петухом, который «нашёл жемчужное зерно и говорит: на
что оно?» Но не завидую и «Метафизику» Хсмницера, который,
упавши в яму, думает о том, что такое верёвка? «Вервие ли оно
простое или нет»?
Я только сам не мастер испускать из себя эту паутину; да
и в чужой философской паутине скоро вязну и скучаю.
Совсем без философии, я знаю, нельзя; всякий мужик
философствует немного; и не только тогда, когда он говорит «Бог»,
«душа», «грех» и т. д., но и тогда, когда он говорит «стол»,
«шапка», «жена», «работа»; ибо и это всё отвлечения. Фейербах,
конечно, прав (реально), говоря, что «головы» вообще нет, а есть
«вот эта моя голова»; «жены» вообще нет, а есть «вот эта ваша
жена» и т. п. Но не только от такой элементарной, но и от
несравненно высшей философии в угоду фейербаховскому капризу
отказаться нельзя. Г. Астафьеву всё это известно гораздо лучше,
чем мне. Но есть французская старая и глупая песенка какая-
то: «Faut d'la vertu, pas trop n'en faut». Так и скажу: «faut de la
73
philosophic, pas trop n'en faut!», когда речь не о его философии,
но о делах политических и социальных.
Я и Ваш ум, Владимир Сергеевич, за то особенно ценю, что
Вы не в силах были остаться в вашей прекрасной и даже для
меня, при некотором терпении, понятной ткани «Отвлечённых
начал»; но очень скоро выпутались из неё и обратились к
живому и осязательному богословию. Богословие уже тем лучше,
что тут нить, о которой я говорил выше, не нужно привязывать
произвольно, где вздумается, у себя внутри к незримой точке;
а можно её прикрепить к Евангелию, к св. соборной,
апостольской Церкви, к папской непогрешимости и т. д. То есть всё
к вещам, вне нас стоящим, более зримым и осязаемым. Если
Вы с вашим истинно диалектическим талантом нашли более
удобным выйти на поприще более конкретных вопросов, то где
же уж мне, «художнику», как принято меня почему-то обзывать,
и отчасти, что гораздо мне лестнее, политику, где мне
углубляться в эти «начала» без концов.
Я их чую, положим; я даже готов пламенно веровать в их
существование, в их необходимость и только. Анатом и
физиолог не обязаны говорить всякий раз ни о химических элементах
и паях, ни об основных физических силах; они обязаны только
не отрицать и не игнорировать их.
И если под словами «основа» и «начало» г. Астафьев
разумеет здесь ту незримую, но одарённую самотворческой силой
точку, которая скрыта в каждой обособляющей ветви какого-
нибудь племени; ветви, долженствующей со временем возрасти
до полного национального цветения, то я счёл бы себя просто
глупым, если бы вздумал эту силу отрицать. Нельзя отрицать
вес таинственное; нельзя признавать одно только грубо
понятое. Крылась же какая-то особая, прирождённая, культурная
сила в «семени Авраамовом»; крылась она и в той
полупастушеской и полуразбойнической ассоциации, во главе которой
стали Ромул и Рем. Крылась же у наших предков способность,
не дожидаясь завоевания, самим призвать иностранцев. Не
знаю, впрочем, так ли я понял г. Астафьева и с этой стороны?
Не слишком ли я уж тоже далеко забрался вглубь?
Может быть и то, что я, по всегдашней моей наклонности
подозревать у г. Астафьева нечто затейливое, туманное и
непростое и мне, не-философу, мало доступное, стал в этом
случае делать то, что называют французы «chercher micH a quatorze
heures».
Г. же Астафьев, напротив того, на этот именно раз спустился
ниже и под словом «национальная самобытность» разумеет
просто-напросто политическую независимость целого племени
или отдельной ветви этого племени, особой нации.
74
Можно и так думать, ибо он говорит: «Леонтьев любит
(курсив у него) национальную особенность вообще» (курсив мой)
потому-то и потому-то. А несколько строк ниже: «Но отсюда
далеко до признания национальной самобытности (курсив мой)
за основу и руководящее начало культуры* (национальной,
разумеется).
Итак, от любви к национальной особенности далеко до
признания национальной самобытности как основы этой
особенности. Не темновато ли? О какой же самобытности идёт тут речь?
О той ли таинственно прирожденной, в которой, как в малом
фокусе, скрыта вся дальнейшая судьба племени или нации?
Или о самобытности просто государственной! Это разница,
конечно, и очень большая.
Чтобы разобраться в этой путанице (не астафьевской; я
такой глупости не позволю себе сказать*, а в путанице самой
истории), надо, мне кажется, опять обратиться к примерам.
Временнйя политическая зависимость одной нации от другой
не всегда одинаково действует, и плоды завоевания для
подчинённой нации бывают весьма разнообразны, смотря по тому,
в какой возраст нации и при каких обстоятельствах подпадает
она под чужое иго.
Народ, подчинённый завоевателю слишком рано, не
дорастает до национально-культурного состояния, не успевает
выразить в истории свои национальные особенности. Такой народ
остаётся навсегда только в виде этнографической примеси к
нациям культурным. Такова была судьба большей части народов
финских и кельтских.
Народ, завоёванный слишком поздно, порабощенный тогда,
когда историческая идея его уже износилась, сохраняет ещё
иногда на долгое время и под игом свои особенности; но он уже
не выступит снова никогда с силами, истинно творческими, на
театр истории; для себя он будет только сохранять свои
особенности по мере сил своих; для нации же господствующей он будет
являться только враждебной силой до тех пор, пока вполне не
ассимилируется. Такова для нас Польша. (Вражда эта,
впрочем, для господствующей нации иногда весьма полезна, ибо
возбуждает её деятельность). Народ же, завоёванный вовремя
(т. е. вовремя для него самого, а не для завоевателя),
порабощенный тогда, когда особенности его уже окрепли, но ещё не
износились, и под игом будет обнаруживать очень долго
признаки культурной жизни своей и, даже сбросив иго, разовьёт
* Г. Астафьев не либерал, не космополит и утилитарист; относительно
его я обязан не только к вежливости, но к чувствам любви и внутренней
деликатности.
75
свои национальные дары с небывалой дотоле силой. Так
случилось с нашими московскими предками после Димитрия
Донского и обоих Иоаннов.
Так что и политическая самобытность не всегда одинаково
нужна для развития нации. Нередко под временным игом
происходит та благотворная приготовительная работа
национальных сил, которая приводит позднее эти силы к самому пышному
расцвету. Под влиянием общей скорби укрепляется в такой
# нации (во время порабощения) то внутреннее единение умов и
сердец, которое позднее, после свержения ига, после изгнания
иноземцев (или иноверцев), способствует установлению и
внешнего государственного единства. (Так было у нас; так было во
Франции после изгнания англичан при Карле VII; так было
в Испании после очищения Пиринсйского полуострова от
мавров).
Поэзия народная часто вдохновляется тяжкими условиями
зависимости от чужеземцев; и эти стоны печали или
восхваления борьбы не только оставляют неизгладимый след на всей
позднейшей национальной литературе, но и сами по себе служат
её украшением.
Таковы героические (клефтские) песни новых греков,
юнацкие— сербов и болгар. Греки даже помолодели вторично под
турецким игом и дали второй * цикл эпических стихотворений
полудикого, но всё-таки христианского характера. Этому клефт-
скому отрывочному эпосу далеко, конечно, до Илиады. Но
характерности и свежести в нём много.
Мицкевича считают лучшим поэтом Польши, а он развился
под русской властью.
Некоторые народы, в религии особенно стойкие или
способностью религиозного творчества весьма одарённые, под игом-то
именно и выразили свои религиозные идеи с наибольшей силой
и ясностью. Таковы евреи. Значительная часть пророчеств
принадлежит эпохе пленений и зависимости от вавилонян и персов.
Первоначальное христианство и Талмуд суть одинаково
продукты позднейшей зависимости от римлян.
Турецкое завоевание, быть может, прямо даже спасло
православие византийских греков и сохранило его в греческой
нации до нашего времени в такой ещё силе, что никто не
решится, я думаю, сказать, что роль греков навсегда окончена
в истории восточного христианства. Теперь евреи слишком
стары, к творчеству они неспособны; они теперь перешли везде
в то состояние (второе, по моему разделению), когда нация для
себя кое-как ещё сохраняет старое, но для других служит
* Первый был гомерический.
76
только враждебной, разрушающей, разлагающей силой. Что
насаётся новогреков, то хотя под турецким игом они только
охраняли Православие, но весьма возможно, что творчество
{дальнейшее развитие восточной Церкви) у них ещё впереди
(при теснейшем сближении с русскими). А если так, то надо
же '^огласиться, что под этим турецким игом и без
«национальной самобытности» (политической) они сохранили в своей
религиозной культуре ту «жизнь», ту «форму» и ту «силу», без
которых не были бы возможны и надежды на это
национальное развитие.
Итак, если даже принять, что я искал «midi a quatorze
heures», понявши сначала выражение г. Астафьева
«национальная самобытность» за указание на какой-то таинственный,
самотворческий, эмбриональный центр в жизни нации, а он,
напротив того, на этот именно раз говорил, как все,
просто-напросто о независимости политической, то и тогда я не могу
согласиться с тем, что политическая независимость во все возрасты
наций (или племён) необходима для их развития.
Если же, наконец, я вспомню о том существенном вопросе,
по поводу которого произошло между нами разногласие, т. е.
о «панславизме» и вообще о политике национальных
освобождений и объединений (la politique des nationalites), то тут я
ещё менее могу признать, что «национальная самобытность»
(государственная независимость) всех славянских наций (или
славянского племени во всецелости) непременно будет «основой
и руководящим началом особой славянской культуры, началом,
дающим самой этой культуре жизнь, форму и силу». Может
быть, да, а может быть, и нет. Вернее, что нет, судя по примеру
других.
Г. Астафьев дорожит нашим русским «психическим строем»,
он дорожит и русским «национальным самосознанием». Но могу
его уверить, что этому особому русскому «психическому» строю
не поздоровится, если у правительственных наших лиц и у
большинства влиятельных граждан России русское самосознание не
дойдёт до того, чтобы понимать, насколько по делу панславизма
мы с г. Spectator1*™! правее А. А. Киреева и тем более
племенных славянолюбцев «Благовеста», недавно с таким
неуважительным ожесточением нападавших на этого самого г. Киреева
за его благоразумие и умеренность.
Не поздоровится от необдуманного панславизма «русскому
национальному психическому строю» потому, что у всех
остальных славян этот «психический строй» совсем не схож с нашим
и гораздо больше походит на тот западно-буржуазный строй,
который сам г. Астафьев ненавидит от всей души.
77
Только тогда панславизм станет для нас (да и для общеслач
вянских культурных особенностей) не разрушительным, а про/
изводительным, когда наш русский психический строй ещё
гораздо больше нынешнего выяснится, окрепнет и освободится рт
европейского прогрессивного «пленения»; когда наше
«национальное самосознание» выразится с гораздо большей силой, .чем
теперь, и в несравненно более резких «формах» национальных
особенностей.
Тогда милости просим в конфедерацию самую братскую, если
угодно, даже и чехов (хотя они, кажется, больше всех
«европейцы»). Тогда будет действительно некоторое разнообразие
в единстве (нашего духовного преобладания), а не разложение
в отрицательной однородности; тогда будет «развитие», а не
«прогресс» в смысле ассимиляционной революции.
Но, впрочем, что я делаю? Что я говорю?
Быть может, и это всё напрасно! Быть может, и так и этак
я опять не понял г. Астафьева?
И философски не постиг, и политически не угадал.
Почувствовав себя на мгновение снова на знакомой и
твёрдой почве восточной и славянской политики нашей, я ободрился
и забыл свою робость перед мраком углублений г. Астафьева.
Но из углублений этих продолжает зиять на меня всё тот
же загадочный мрак, и я ещё раз с боязнью спрашиваю себя:
не скрыто ли в самом деле там, за сплетением его слов, какое-то
такое «начало», которого сила сокрушит в прах все мои давние
убеждения? Всё это тем более жутко, что г. Астафьев и сам
подозревает меня в затаенном на него гневе за то, что он самой
основной мыслью своей брошюры «Национальность и
общечеловеческие задачи» пробивает в моих взглядах некоторую брешь
(это его слова из № 177 «Московских ведомостей»).
Ничего не понимаю. И чем менее понимаю, тем более
опасаюсь чего-то. Быть может, только призрака.
Если есть для «моих взглядов» действительная опасность
во взглядах г. Астафьева, то прошу Вас, Владимир Сергеевич,
как беспристрастного человека, откройте мне глаза, в чём
состоит эта опасность?
А если всё это только призрак, то потрудитесь рассеять его
поскорее ярким светом вашего ума и таланта.
Я подчиняюсь, в случае необходимости даже и скрепя сердце,
Вашему решению. Ибо, с одной стороны, между Вашим
«психическим строем» и таковым же строем г. Астафьева очень много
разницы; а с другой — вы оба настолько сильнее меня в
метафизике, что было бы смешно с моей стороны не признать
истиной то, в чём вы оба по отношению ко мне, паче чаяния,
совпадёте.
78
Письмо 6-е
\ Теперь о самом главном: о моём «Византизме» и о том, что
«основная мысль» г. Астафьева в его брошюре «Национальность
и\ общечеловеческие задачи» «пробивает некоторую брешь
в моих взглядах».
^Сначала о византизме.
Слово это сослужило мне плохую службу в русской
литературе; на него нападали почти все, даже и весьма благоприятно
обо мне писавшие.
Иные осуждали самую мысль, соединённую с выражением
«византизм», формулируя при этом свою собственную мысль;
другие указывали только с отвращением на самое слово, не
давая себе труда выразить ясно, чего они сами хотят.
И. С. Аксаков, например, в одной из передовых статей
«Руси» сказал мимоходом *. ..
Гиляров-Платонов был в этом случае гораздо откровеннее
или внимательнее его. Разбирая в «Современных известиях»
мой сборник, on сказал: «Для России, конечно, нужно
Православие, но не византизм, а надо бы «вернуться ко временам до
Константина!»
Некто Твердко Балканский, западный славянин, писал тоже
в «Современных известиях» не столько против меня вообще,
сколько против этого моего «византизма». Мою книгу он
удостоил похвалы, но про «византизм» он сказал, что та же
религия на русской почве должна дать и дала другие плоды, чем
в Византии. (Он почему-то не заметил, что и я то же самое
говорю в разных местах моего сборника; например, в статье
«Русские, греки и юго-славяне»)
В «Русской мысли» тоже была однажды довольно
сочувственная заметка о той же моей книге, но и в ней было сказано,
не помню, что-то против «византизма», без всякого объяснения.
И г. Астафьев точно так же, как и все упомянутые критики,
придаст, по-видимому, этому названию какое-то такое особое
значение, которого я сам вовсе и не придаю ему.
Только один из когда-либо писавших обо мне серьёзных
критиков отнесся к этому слову моему просто и прямо, именно
так, как я сам относился к нему. Замечательно то, что этим
прямым и простым отношением к делу утешил меня именно
такой критик, который ни до этого, ни после никогда о моих
статьях и книгах не упоминал. Я говорю про Н. К Страхова.
Статья моя «Византизм и славянство» в первый раз была
напечатана покойным Ос. Мих. Бодянским в его «Чтениях
* В рукописи пропуск. — Ред.
79
в Имп. Обществе истории и древн. российских», и, по обычакУ
этого специального издания» я получил в дар 300 экземпляров
отдельных брошюр. По поводу этой-то брошюры г. Страхов/И
написал в тогдашней петербургской консервативной газете
«Русский мир» статью, которая и до сих пор служит мне
Нередко отрадой и опорой среди недоброжелательства одних,
равнодушия других и непонимания большинства. /
Вот что говорит г. Страхов *. /
Я выписываю всё это из дорогой для меня статьи г.
/Страхова. . . Выписываю и дивлюсь.. . Зачем я это делаю? Дл^ кого?
Ведь и Вы, и г. Астафьев, оба хорошо знакомы с моим трудом
«Византизм и славянство». Я понимаю, впрочем, что /чувства
Ваши при чтении этого труда моего должны быть совершенно
противоположны чувствам г. Астафьева. Я понимаю, что Вам,
Владимир Сергеевич, успехи моей этой теории и ее
популяризация не могли бы быть приятны; ибо русский «византизм»
в религии есть не что иное, как то самое Восточное
Православие, которое вы в книге вашей: «La Russia el 1'Eglise Univer-
scllc» называете.. . и которого упорство может служить главной
помехой воссоединению Церквей. Единственно похвальное
в моей теории перед судом Вашим может быть только то, что
я религиозное дело ставлю выше национального; но и тут
одобрение Ваше должно, по духу сочинений Ваших, произноситься
с большими, я думаю, оговорками. Я понимаю также, что
мысль, заключённая в моём выражении «византизм», не может
нравиться славянофилам и патриотам того рода, для которых
всем известное, обыкновенное, древнее (святоотеческое)
Православие есть лишь нечто вроде приготовительной формы,
долженствующей разрешиться просто-напросто в царство всеобщей
любви и практической морали. Таково, по всем признакам, было
мнение любвеобильного и лично почтенного разрушителя
нашего покойного Сер. Андр. Юрьева; я понимаю, что в журнале,
им основанном (в «Русской мысли»), даже и благоприятный
мне библиограф счел нужным оговориться слегка насчёт «ви-
зантизма», не вдаваясь в щекотливые толкования. Сотрудники
этого рода более или менее осторожных органов выучились
давно писать между строчек.
* Самой выписки в рукописи не оказалось. Но, по-видимому, речь идёт
о статье Н. С. в «Русском мире» 1876 г. № 137 «О византизмс и
славянстве», где автор говорит о К. Леонтьеве: «Византизмом он называет ту
особую культуру, тот склад чувств, мыслей и всей жизни, который ведёт
своё начало от Византии. Автор доказывает, что такая культура существует,
что ее влияние гораздо шире, чем обыкновенно полагают, и что мы, русские,
должны признавать в ней ту культуру, в подчинении которой мы развились,
развиваемся теперь и должны развиваться впредь». — Ред.
80
\ Отчуждение Гилярова-Платонова от этого выражения менее
понятно; ибо он против догмата никогда, кажется, ничего не
шюал, даже и намёками; обрядовую же сторону Православия,
видимо, ценит. По каким побуждениям, не знаю наверное: по
национальным ли только и эстетическим; или и по настоящим
религиозным, т. е. по богобоязненности; думаю, что только по
двумт^срвым, а не по чисто религиозным; ибо очень немногие из
этих людей 40-х годов умели стать твёрдой ногой на лично
религиозную почву. О страхе Божием, например, ни один из них,
даже и\защищая веру, не позволит себе и заикнуться; а всё
только «метина» да «любовь»,— вещи столь ненадёжные и
подозрительные в своей туманности.
У ГиДярова-Платонова это враждебное отношение к слову
«византизм» объясняется прежде всего личным складом его
ума; тем, что он был мыслитель, вечно запутанный в тончайшей
ткани своих собственных илей, и руководящую нить в
разнообразном сплетении этих идей найти у него было очень трудно. То
вдруг ему, вчера ещё совсем восточно-православному человеку,
чем-то помешают все четыре восточных патриарха; и он
говорит, что эти престолы имели значение только при турках, и
находит, что их надо уничтожить в случае падения Турции.
Тогда как ему, человеку весьма учёному, было, разумеется,
известно, что ещё очень задолго до турецкого завоевания развитие
церковной жизни потребовало созидания этих престолов. То он
требует, чтобы духовное начальство наше разрешило
священникам полную свободу личной проповеди, воображая, вероятно,
при этом, что у многих священников найдётся запас каких-то
неслыханных идей и сил на службу Церкви; тогда как никакая
Церковь, ни восточная, ни западная, ни армяно-грегорианская,
допустить в собственных недрах своих подобной свободы не
имеет даже права. Да и сверх того, вообще надо сознаться, что
свобода сама по себе ещё никакого содержания не даёт.
Сегодня, бывало, он печатает в «Современных известиях» такую
статью или заметку, где видно большое уважение к монашеству;
а завтра он получает по почте самое что ни на есть
безграмотное письмо от неизвестного ему мещанина с жалобами и
пустыми доносами на один весьма почтенный монастырь и, на
основании подобного письма, позволяет своему фельетонисту-
протестанту (из жидов, кажется) печатать самую грубую
статью, в которой тот совершенно хамским слогом издевается
над игуменом и представляет его «в лицах», тогда как ни сам
Гиляров, ни фельетонист этого игумена не видали. И тому
подобное.
И в заключение эта мысль: Русское Православие должно
удаляться от впзантизма (который восхваляет, мол, Леонтьев)
б К. Леонтьев
81
/
и «возвратиться к временам до Константина». В сущности, эта*
последняя идея очень близка к той мысли, которую (в 7Й-м^
кажется, году) высказал С. А. Юрьев в своей программе
издания «Русская мысль». «Православие должно привести к /тому,
чтобы стала нам дорога каждая душа человека».
Это ведь и есть наиболее цензурная форма для выражения
того, на что я указал выше: «настоящее православие — не истина
мистическая сама по себе, а только школа, приготовляющая
человечество ко всеобщему миру, ко всеобщей любви, морали
и благоденствию на этой земле». Или по выражению, которое
приписывают Льву Толстому: «Церковь есть детское место,
которое нужно зарыть в землю, когда ребёнок (любовь) уже
родился».
Ведь этого выражения «каждая душа» у таких писателей и
деятелей, как Юрьев, и понять нельзя. Ибо «каждой душой»,
в смысле её загробного спасения, в смысле её обращения,
дорожит прежде всего всякая догматическая христианская Церковь,
римская, греческая, российская, армяно-грегорианская,
англиканская и т. д. Мы знаем, как и что в 70-х годах печатал
С. А. Юрьев в своей «Беседе», и знаем приблизительно, за что
она была запрещена. Там уж очень резко и дерзко говорилось
против того Православия, которое нам всем известно и которое
целые века не даром же называлось Греко-Российским
(византийским).
Вот если бы г. Астафьев был бы Вам, Владимир Сергеевич,
единомышленником или принадлежал бы явно к одному из этих
либерально-славянофильских оттенков; если бы в сочинениях
своих он высказывал (хотя бы мимоходом) взгляды, подобные
вышеприведённым взглядам Гилярова, Юрьева или взглядам
недавно появившейся еженедельной газеты «Благовест», то его
отвращение к моему слову «византизм» можно бы понять легко.
Но г. Астафьев никогда даже и мимоходом в своих статьях
и публичных лекциях этой разницы не касался, и по некоторым
признакам можно скорее предположить, что он с этой стороны
гораздо ближе к Каткову, чем к представителям того учения,
которое целым рядом тонких оттенков постепенно переходит
от православного мистицизма Хомякова до любвеобильного и
розового юрьевского нигилизма. Катков, видимо, держался того
Православия, которое можно для ясности и краткости назвать
филаретовским в противоположность несколько смягчённому и
видоизменённому «хомяковскому» Православию.
А это несколько суровое, но всем известное и доступное,
реальное «филаретовское» Православие есть Православие
Дмитрия Ростовского, Митрофания Воронежского, Сергия Радо-
82
иежского, Антония и Феодосия Печерских, Иоанна Златоуста,
Василия Великого, Николая Мирликийского и т. д.
Греко-Российское Православие, т. е. мой византизм в
России, взятый с одной только религиозной его стороны. Этим
византийским Православием довольствовался великий практик
Катков; этому византийскому Православию выучили и меня
верить и служить знаменитые афонские духовники, ныне
покойные, Иероним и Макарий. Этому же византийскому
Православию служат и теперь такие церковные ораторы, как Ннкаиор
Одесский и Амвросий Харьковский. Этого Православия (а не
хомяковского) держатся все более известные представители
современного нам русского монашества и русской иерархии.
Ибо иначе они о Хомякове бы часто говорили и опирались бы
на него.
Повторяю, что г. Астафьев ни специально, ни даже
мимоходом никогда об этом предмете не писал; но раз он говорит
с таким почтением и сочувствием о «Православии», о
религиозном духе народа, об «искании святых», о «спасении души»
и т. д., то желательно бы знать, какой же из двух оттенков
Православия он предпочитает: более суровый и более ясный
оттенок «Московских ведомостей» или более мягкий и более
туманный оттенок «Благовеста», «Руси» и «Современных известий».
Если он чувствует себя с этой стороны ближе к Филарету и
Каткову, чем к Хомякову и Аксакову (не говоря уже о бреднях
Юрьева), то не резон ему так отвращаться от слова
«византизм». Филаретовское и катковское Православие есть
Православие византийское, Греко-Российское Православие.
Это Греко-Российское Православие могло принять у пас
в житейской практике иные нравственные свойства, отчасти под
влиянием «времён», отчасти благодаря национальному
темпераменту русских; оно внесло в художественную структуру
церковной жизни другие эстетические требования (иное пение,
некоторое изменение в обрядах и одеждах; другого стиля
постройки и т.д.); в соприкосновении своём с иными, чем
в Византии, условиями политической жизни, это старое
Православие изменялось со стороны административно-канонической,
но сущность не только догматического, но и нравственного
учения осталась той же самой, как была у византийцев.
Лично хорошим, благочестивым и добродетельным
христианином, конечно, можно быть и при филаретовском и при хомя-
ковском оттенке в Православии; и были и есть таковые. А вот
уж святым несколько вернее можно стать на старой почве, фи-
ларетовской, чем на новой, славянофильской почве. И это уже
потому несомненно, что истинно свят лишь тот, который нам
кажется таковым.
6*
83
Когда человек, считающий себя православным, говорит про
уважаемого и любимого им духовного подвижника или вообще
про религиозно-добродетельного человека: «Это святой
человек», то он, чтобы не впасть в заблуждение, должен сознавать
и понимать, что он в этом случае говорит или иносказательно,
т. е. хочет сказать: «это в высшей степени религиозный человек»,
или просто сокращает свою речь; говорит: «святой человек»
вместо того, чтобы сказать: «не знаю, признает ли его Церковь
святым после его кончины, но я считаю его достойным этого».
Думая иначе, такой православный почитатель святого
рискует приблизиться в понимании «святости» к гениальной, но
весьма не канонической госпоже Ж. Санд, которая писывала:
«Святой Ж. Ж. Руссо».
От святого же Ж. Жака не очень далеко и до святого
Робеспьера или до св. Луизы Мишель.
Как думает хоть и об этом, например, г. Астафьев, я желал
бы знать?
Он сочувствует тому, что русские люди «ищут святых», и
даже ставит это особым отличительным признаком нашего
национального духа и «сознания».
Но откуда пошли эти примеры искания «святых», как не из
старо-византийских преданий?
Пусть г. Астафьев вспомнит только о Четь-Минеях нашего
русского «национального» (по крови) Димитрия Ростовского;
пусть слегка пересмотрит все двенадцать томов этого труда...
Я попрошу его обратить внимание не только на
подавляющее количество греко-византийских святых, но и на качество их,
на выразительность их характеров, на их
религиозно-психическое творчество и сравнить их с этой стороны с русскими
святыми.
Он увидит тогда, что византийской религиозной культуре
вообще принадлежат все главные типы той святости, которой
образцами впоследствии пользовались русские люди.
Столпники Симеон и Даниил; отшельники Антоний, Сысой и Онуфрий
Великий предшествовали нашим отшельникам. Пахомий
Великий первый основал общежительные монастыри (киновии)
в IV веке, когда о России ещё и помину не было. Литургию,
которую мы слушаем в русском храме, упорядочили раз навсегда
Василий Великий и Иоанн Златоуст. Равноапостольный царь
Константин предшествовал равноапостольному князю
Владимиру. Русскому князю мы обязаны только первым
распространением готового Православия в русской земле; византийскому
императору мы обязаны первым догматическим утверждением
Православия во вселенной. Афонская жизнь, созданная
творческим гением византийских греков, послужила образцом нашим
84
\
первым киевским угодникам Антонию и Феодосию Печерским,
И Зта афонская жизнь, дошедшая, слава Богу, и до нас в
живых, примерах удивительных отшельников и киновиатов
образцовой строгости, продолжает влиять до сих пор и на монастыри
наши' и на благочестивых русских мирян.
Все наши святые были только учениками, подражателями,
последователями византийских святых.
Степень самой святости может быть одинаково равна у
святых русских с византийскими святыми; слово святость есть
специфическое церковное слово; оно имеет не столько
нравственное, сколько мистическое значение; не всякий тот свят,
который всю жизнь или хоть значительную часть жизни провёл
добродетельно и даже весьма благочестиво; мы можем только-
надеяться, что он будет в раю, что он будет «спасён» (от ада)
за гробом; свят только тот, кто Церковью признан святым
после' его кончины. В этом случае, разумеется, русские святые
сани по себе, духовно, ничем не ниже древневизантийских. Но
жизнь Византии была несравненно самобытнее и богаче
разнообразием содержания, чем жизнь старой, полудикой и
однообразной Руси. При этой борьбе разнообразной и более
развитой жизни и само христианство (впервые догматизированное)
было ещё очень ново. Понятно, что при могучем действии
учения, ещё не вполне тогда нашедшего все свои формы или
только что нашедшего их, на почву, общественно давно уже
развитую, творчеству был великий простор. Византийские греки
создавали, русские только учились у них. «Dieu a voulu que le
christianisme fut eminement grec!» — сказал Vinet. Я, конечно,
могу, как верующий человек, с одинаковым чувством молиться
Сергию Радонежскому и Пахомию Великому; митрополиту
Филиппу Московскому и Василию Неокесарийскому; Тихону,
нашему калужскому затворнику, и Симеону Столпнику;
но вера мои в равномерную святость их и в равносильную
спасительность их молитв у Престола Господня не может
помешать мне видеть, что Пахомий, Василий и Симеон были
творцы, инициаторы; а Сергий, Филипп и Тихон — ученики и
подражатели.
Творчество и святость, я думаю, разница. Творчество может
быть всякое; оно может быть еретическое, преступное,
разбойничье, демоническое даже. Писатель, почитающий Православие
и защищающий его, хотя бы и преимущественно с
национальной точки зрения, должен это помнить. Ни святость, так
сказать, особенно Русского Православия, ни его великое значение
не уменьшатся от того, что мы будем помнить и сознавать, что
наше Православие есть Православие Греко-Российское
(византийское). Уменьшатся только наши лжеславянские претензии;
85
наше культурно-национальное сознание примет только с этой
стороны более правильное и добросовестное направление. Надо
помнить, что всё национальное бывает троякого рода. Одно
национально потому, что создано впервые известной нацией;
другое потому, что другой нацией глубоко усвоено; третье потому,
что пригодно исключительно одной определённой нации (или,
быть может, одному племени), и другим племенам и нациям
передаваться не может. Так, например, английская гражданская
конституция создана англичанами, но с некоторыми
видоизменениями она усвоилась всеми нациями Запада.
Английская же вера усвоиться другими нациями не может,
ибо она тесно связана с государственными учреждениями
Англии. Английская Церковь национальна только в двух родах:
в первом и третьем; она усвоиться никем не может; не может
стать ни для кого в смысле втором, в смысле усвоения. Это
только Церковь, но не религия.
Православие создано не русскими, а византийцами, но оно
до того усвоено нами, что мы и как нация, и как государство
без него жить не можем. И довольно этого «сознания»!
Нас крестят по-византийски; нас хоронят и отпевают по
византийскому уставу. В церковь ли мы идём; лоб ли мы дома
крестим; царю ли на верность по правилам присягаем — мы
продолжаем византийские предания; мы являемся чадами
византийской культуры. Каким же образом наше русское
«национальное сознание» может отказаться от подобной
очевидности? Если наше «национальное сознание» будет самообман
из-за слов, с забвением дела, то избави нас, Боже, от подобного
сознания!
Но обратимся, так и быть, и к самым словам.
Почему я избрал это слово «византизм», когда лет около
'20-ти тому назад писал ту статью, которой одна половина
понравилась г. Страхову, а другая г. Астафьеву? Отчего я не
говорил просто, как говорят другие: «Православие,
самодержавие». . . и т. д.
Я поступил так по нескольким причинам.
С одной стороны, я находился под влиянием книги
Данилевского «Россия и Европа». С учением Хомякова и Ив. Аксакова
я был уже давно тогда знаком в общих его чертах, и оно
«говорило», так сказать, сильно моему русскому сердцу. Но я
отчасти видел, отчасти только чувствовал в ном что-то такое, что
внушало мне недоверие. Этому роду недоверия я не могу и
теперь ещё найти точного определения и названия; но
приблизительно позволю себе выразиться так: оно казалось мне и тогда
уже слишком эгалитарно-либеральным для того, чтобы
достаточно отделять нас (русских) от новейшего Запада. Это одно;
S6
другая же сторона этого учения, внушившая мне недоверие и
тесно, впрочем, связанная с первой, была какая-то как бы
односторонняя моральность. Это учение казалось мне в одно и то
же время и не государственным и не эстетическим. Со стороны
государственности меня гораздо больше удовлетворял Катков,
уже тем одним, что не искал никогда, как Аксаков, чего-то
туманно возвышенного в политике, а пользовался теми силами,
которые находились у нас под рукою.
Со стороны же исторической и внешнежизненной эстетики
я чувствовал себя несравненно ближе к Герцену, чем к
настоящим славянофилам. Разумеется, я говорю не о Герцене
«Колокола»; этого Герцена я в начале 60-х годов ненавидел и
даже не уважал; но о том Герцене, который издевался над
буржуазностью и прозой новейшей Европы.
Читая только Хомякова, Аксакова (даже, скажу, и Каткова
отчасти), в голову бы не пришло ненавидеть всесветную
буржуазию (в которую, в сущности, стремится перейти и
работник западный); Герцен же издевался прямо над этим общим
и подавляющим типом человеческого развития. И последуя за
ним по сродству «природы», я придумал позднее и выражение
«средний человек, средний европеец» и т. д. Отклониться, по
возможности, от того пути, который ведёт к размножению этих
средних людей и к господству их; сохранить (а если можно, то
и создать) наиболее разнообразные пути для развития
человеческого: вот о чём я мечтал тогда для России; вот на чём я
остановился временно в конце 60-х годов. Одно из главных условий
этого разнообразия есть обособление национального типа (при
этом крепкое государство само собою разумеется); другое
условие, необходимое для внутреннего разнообразия этой
национальной жизни, для её содержательности, есть существование
сословных типов; своеобразных бытом и духом провинций и
окраин, и даже создание новых религий, ересей (не
рационально-нравственных, как молокане и штундисты, а мистических,
как скопцы, хлысты, мормоны и т. д.). Одним словом, я в
конце 60-х годов думал больше о разнообразии, чем об единстве.
Живое сердечное понимание «единства» стало доступно мне
единовременно с приятием личной веры, обладанием которой я
обязан афонским духовникам.
Я почти вдруг постиг, что и то реальное разнообразие
развития, которое я находил столь прекрасным и полезным в
земной жизни нашей, не может долго держаться без
формирующего, сдерживающего, ограничительного, мистического единства;
ибо при ослаблении стеснительного единства произойдёт скоро
то самое ассимиляционное смешение, которое я зову то
эгалитарным прогрессом, то всемирной революцией. Эту мою мысль
87
об опасности «смешения» сам г. Астафьев весьма горячо
оправдывал и с психологической точки зрения.
Подготовленный к этому сверх просветления ума
возгоревшейся сердечной верой, ещё и долгою политическою
деятельностью в среде восточных христиан, я понял почти сразу и то,
что я сам лично вне Православия спасён за гробом быть не
могу; и то, что государственная Россия без строжайшего
охранения православной дисциплины разрушится ещё скорее
многих других держав, и то, наконец, что культурной самобытности
нашей мы должны по-прежнему искать в греко-российских
древних корнях наших, а не гнаться за каким-то новым, никем
не виданным чистым славизмом, который по всем доступным
ныне признакам рискует выйти не чем иным, как или самым
жалким или самым страшным европеизмом новейшего времени.
Как раз в это же самое время произошло отложение болгар от
Вселенской цареградской Церкви, и я с ужасом понял тогда и
глубокий индифферентизм болгар, и полупростодушие,
полумерзость наших русских надежд и затей, и удивительную
твёрдость и смелость греческого духовенства.
Без учёной подготовки, без достаточных книжных
источников под рукой, подчиняясь только внезапно охватившему мою
душу огню, я написал эту вещь «Византизм и славянство».
Сила моего вдохновения в то время (в 73-м году) была до
того велика, что я сам теперь дивлюсь моей тогдашней
смелости. . . Теперь, обладая сравнительно гораздо большей
начитанностью и литературным опытом, я не в силах был бы
написать ничего подобного. Тогда я думал так: «Если я ошибусь
в исторических фактах, это не важно; гипотеза может
оказаться верною и при недостаточных фактах; другие, более меня
учёные, более терпеливые и более осторожные, объяснят меня.
А если они опровергнут мою гипотезу триединого процесса, то
уж буржуазность-то юго-славян, их нерелигиозность, их
либеральный европеизм никто опровергнуть не может. Это уж не
гипотеза—грубейшие факты.
Прилагая эту мою гипотезу триединого процесса
(первоначальной простоты, цветущей сложности в мистическом
единстве и вторичного смешения) к волновавшему меня в ту
минуту частному греко-болгарскому вопросу, древний корень
единства восточно-славянского мира я видел в падениях
греческого духовенства, в историческом воспитании его
(независимость церковной власти), в психических, так сказать, навыках
высшего греческого монашества.
В чисто славянских сочувствиях наших я чуял всё тот же
всесмесительный, радикальный европеизм, которого ещё
давав
ным-давно и Хомяков, и Ив. С. Аксаков, и даже сам Катков
учили меня бояться и чуждаться.
А почему Катков и Аксаков не узнавали того же
европейского радикализма в этом частном болгарском случае, это их
дело. Я не знаю наверное почему, но, вспоминая при этом
русскую пословицу «на всякого мудреца довольно простоты»,
думаю так: Аксаков был пламенный поклонник славянства во
что бы то ни стало; он смело верил в его залоги; а Катков был
гениальный оппортунист, но действительной дальновидностью
не отличался, по крайней мере в явных, писанных взглядах
своих.
Как лично верующий христианин, как ученик и послушник
афонских монахов, «обвеянный тогда Афоном» (как выражался
покойный Климент Зедергольм), я считал тогдашние
политические действия князя Горчакова и графа Игнатьева прямо их
личным грехом.
Точно таким же греховным дерзновением я считал и статьи
Каткова и Аксакова в защиту болгар.
Как человек, уже привычный сам и к мелкой политической
практике, и к пониманию общегосударственных вопросов, я
находил опасным двигать нашу восточную политику с привычного,
векового пути греко-русского единения.
Как русский гражданин, как патриот, я возмущался тем, что
мощные представители императорской России, графы и князья
наши тянутся боязливо по следам каких-то славянских холуев-
демагогов.
Бога дипломаты наши не боятся оскорбить (думал я),
потворствуя нарушению древних, весьма существенных канонов;
а боятся раздражить каких-то паршивых болгар, которых, как
мух, Россия может задавить одной лишь ступнёй своей.
Как ученик (тогда!) Хомякова, как единомышленник
Данилевского (хотя и с оговорками), как человек, принимавший
всерьёз учение о национальной самобытности первого, о
четырёх основах новой культуры второго, я видел в тогдашнем
направлении русской мысли привычное нам обезьянство, простое
и даже дурацкое подражание итальянцам и немцам; видел не
первые шаги на пути к особой и богатой славянской культуре,
а весьма резкие признаки начинающегося у нас на
православном Востоке вторичного смесительного разложения.
Маловерие и грех! Обезьянство и пошлость!
Недальновидность и малодушие...
Вот этим всем я одушевился и написал.
Назвал же я и Православие и Православием освящённое
самодержавие наше «Византизм», во 1-х, потому, что оно
Грекова
российское; во 2-х, потому, что я хотел сделать поправку к
книге Данилевского, который по странной ошибке в перечислении
культурных типов своих пропустил византийский тип и соединил
€го весьма неудачно в одно с типом старо-римским; а в 3-х, ещё
вот почему. У меня из разнообразного чтения моего осталось
в «памяти выражение какого-то западного писателя (какого
именно, не знаю): «С людьми религиозными спорить очень
трудно, потому что они решительно не умеют или не хотят выйти
из заколдованного круга своих понятий».
Я захотел тогда попытаться выйти из этого «заколдованного
круга», мне показалось возможным отнестись объективно,
естественно-исторически к той самой религии, которая для моего
внутреннего мира стала уже не только высшей святыней, уте-
шением и главным мерилом жизни, но даже и некоторого рода
«игом», от которого я избавиться уже не могу, если бы и
пожелал.
Ум мой, воспитанный с юности на медицинском эмпиризме
и на бесстрастии естественных наук, пожелал рассмотреть и
всю историческую эволюцию человечества и, в частности,
наши русские интересы на Востоке с точки зрения особой
естественно-исторической гипотезы (триединого процесса развития,
кончающегося предсмертным смешением и растворением
в большей против прежнего однородности).
Я хотел, чтобы взгляд мой, мои опасения и сочувствия были
понятны не только тому, кто сердцем подкуплен в пользу
сурового, не либерального старого Православия, но и атеисту, и
католику, и мусульманину, и даже образованному китайцу, если
бы он мою книгу, положим, прочёл бы. ..
Я захотел выйти умом из «заколдованного круга» моего
сердца лишь для того, чтобы и с другой точки зрения, вне
этого круга утверждённой, доказать, что в этом лишь круге
русским необходимо жить, если они хотят остаться русскими.
Вне личной моей веры и для моей цели какая же точка
могла быть лучше, удобнее культурной? Какая же ещё точка
могла быть «естественно-историчнее» этой? Иной я не знаю!
Даже чисто психологическая точка зрения может считаться
стоящей в том же культурном кругу.
А раз я стал на точку зрения культурную, да и, кстати,
заметив уже раньше, что Данилевский просмотрел культуру
византийскую, то, разумеется, мне сподручнее стало назвать «Ви-
зантизмом» и наше Русское Православие, и наше русское
самодержавие, Православием освящаемое, и многие отражения
Православия и православной государственности нашей в
литературе, поэзии, архитектуре и т. д.
90
Я называю наследием особой византийской культуры в
России то, что другие не решаются или даже обижаются так
называть. Вот и всё.
Наследие это усвоено нами так глубоко, что, и по мнению
г. Астафьева, оно есть самый существенный культурный
признак наш; а что мы видоизменяем его значительно в
лично-моральных и политических приложениях к жизни — это само
собою разумеется, и против этого кто же будет спорить.
Итальянцы, испанцы и французы лет 200, 300, 400 тому
назад были все более или менее ревностными католиками; но и
тогда, при одной и той же религиозной культуре, их нацио-
нальные темпераменты, их нравственные наклонности, их
государственные отношения и привычки были весьма различны,
несмотря даже на одновременность в истории. Тем более должно
быть, разумеется, физиологической и нравственной разницы
между русскими XIX века, подданными императора
Александра III, и византийцами, подданными Феодосиев, Ирины и
Юстиниана.
И только.
Вы, Владимир Сергеевич, в статьях Ваших против
Данилевского и Страхова выразились кратко и решительно так:
«Русская цивилизация — есть цивилизация европейская!»
И кончено.
Не оправдаете ли Вы и меня, если с моей стороны скажу
также решительно:
«Русское Православие — есть Православие византийское!»
И кончено.
Я думаю, что относительно прошедшего и настоящего мы
оба с Вами правы.
Принесёт ли нам будущее ту особую, богатую,
оригинальную, четырёхосновную, мировую культуру, которую сулит нам
Данилевский; видоизменятся ли в этом будущем основы
Православия в Вашу сторону (более ясную, хотя и вовсе уже не
обособляющую), или в сторону хомяковскую (более
обособляющую, но менее понятную)—это ещё неизвестно. Но пока
этого не случилось, должно быть, что мы оба с Вами правы
в наших самоуверенных восклицаниях:
— Русская цивилизация — есть цивилизация европейская!
— Русское Православие — есть Православие византийское!
(Прибавлю ещё, русская государственность помещается
между ними.)
Если же между этими двумя историческими тисками
остаётся мало простора чему-либо собственно своему
национальному, за исключением народного темперамента, действительно
91
тзесьма оригинального по психическому строю своему, то в этой
беде уже мы с Вами нисколько не повинны.
Оригинален наш русский психический строй, между прочим,
и тем, что до сих пор, кажется, в истории не было ещё народа
менее творческого, чем мы. Разве турки. Мы сами, люди
русские, действительно весьма оригинальны психическим
темпераментом нашим, но никогда ничего действительно
оригинального, поразительно-примерного вне себя создать до сих пор не
могли.
Правда, мы создали великое государство; но в этом Царстве
почти нет своей государственности; нет таких своеобразных и
на других влияющих своим примером внутренних политических
отношений, какие были в языческом Риме, в Византии, в
старой монархической (и даже наполеоновской) Франции и в Be*
ликобритании.
Была римская государственность; было римское право;
было византийское право, т. е. римское, видоизменённое
христианством; было и есть право французское; было и есть
англосаксонское.
Но где же своеобразное русское право? И нельзя ли тут
сказать:
Русское право в наше время есть право европейское, слегка
окрашенное византизмом там, где государственность
соприкасается с религией.
Очень грустно! Но что же делать?
Русское национальное сознание, чтобы быть сознанием
хорошим, должно быть прежде всего прямо и с самим собою
искренно. Европа — так Европа, византизм — так византизм! При
этой прямоте скорее не ошибёшься и в расчетах на будущее.
Письмо 7-е
Из того, что я проповедовал «Византизм», г. Астафьев
заключает, по-видимому, что я всегда был противником
национального «начала». Иначе ему и на ум не пришло бы
предполагать, что он своей статьёй «Национальное сознание» пробил
некую брешь в моих основаниях и этим будто бы раздражил
меня. «Ибо (говорит он) кто же слыхал когда-нибудь о
византийской национальности?»
Как кто? Все слышали.
Национальность эта была греческая. Особая и совершенно
в своё время новая религиозная византийская культура,
вытекавшие из неё государственные отношения и связанные с нею
эстетические и нравственные идеалы были продуктами грече-
92
ского гения по преимуществу. «Dteu a voulu, que le christia-
nisme fut eminement grec».
Неужели нам с г. Астафьевым нужно ещё рассуждать об
азбуке истории? О том, например, что, благодаря философской
мощи греческого ума, пластической наклонности греческого
воображения и благодаря греческим навыкам к
антропоморфизму, стала возможной глубокая разработка догмата, создалось
великолепное богослужение наше и самое, столь драгоценное
для нас, русских, иконопочитание восторжествовало над
иконоборческими стремлениями?
Только две нации во всемирной истории были так богаты
духом, что произвели две религиозные культуры, две
мистические цивилизации: индусы и греки.
Индусы произвели, сверх тесно национальной,
физиологически пламенной религии брамизма, ещё и буддизм, способный
к пропаганде.
Греки, проживши века в поклонении самому изящному и
самому человечному многобожию, подчинились позднее самому
высокому и самому сверхчеловеческому монотеизму и не
только подчинились его первоосиованиям (евангельским и
апостольским), но и развили их в строгую и сложную систему богопочи-
тания.
Разница между этими двумя великими нациями та, что
греки совершенно отказались от старой своей религии и предались
новой пламенно и твёрдо; а индусы, выделив буддизм из бра-
манства, в большинстве своём не захотели подчиниться ему,
вытеснили его из мест зарождения, и буддизм привился с
полнейшим успехом к жизни нации монгольского племени. В
смысле зарождения, в смысле создания и первоначального развития
буддизм принадлежит Индии; в этом смысле он национален
для индусов; точно так же, как православие национально для
греков. В смысле же глубокого усвоения буддизм стал
национален для китайцев и других ветвей монгольской расы; он усво-
ился ими точно так же, как греко-восточное христианство усвои-
лось русскими.
Не китайцы благоустроили, так сказать, буддизм, а индусы;
китайцы только приняли его, и теперь едва ли легко им будет
с ним расстаться. Он стал для большинства китайского народа
так же национален, как и само учение Конфуция, и, как
известно, даже прекрасно уживается с этим учением, не только
рядом в обществе, но и в личной совести граждан Небесной
империи.
Греки упорядочили более тысячи лет тому назад догматы,
нравственное учение и обрядность восточного христианства;
сами остались до сих пор ему верными и русским передали его
93
в чистоте неизменной. Для греческой нации восточное
христианство (т. е. религиозная сторона византизма) было
национально как продукт и осталось таковым для неё и до сих пор
как глубокое усвоение. Для русской нации эта самая
религиозная сторона византийской культуры не была национальная
как продукт, но стала в высшей степени национальная как
усвоение. Вот и вся разница.
Что же касается других сторон византийской культуры,
государственных отношений и влияния на искусство и мысль,
то тут уже современная нам русская нация при всем
европеизме своём является несравненно более византийской,
чем современная же нам ново-эллинская нация. В Византии
было безусловное самодержавие; и в России тоже. В Элладе
же XIX века господствует и въелась в кровь народа одна из
самых эгалитарных конституций в мире. И если бы завтра
Турция пала, то все 4—5 миллионов греков, соединясь в одно
эллинское королевство, ничего бы и не пожелали иного для себя,.
как ту же афинскую, европейскую конституцию.
Литература наша издавна дышит Православием (греко-ви-
зантизмом) несравненно больше, чем ново-греческая словес*
ность, и т. д., и т. д. И это всё факты, известные г. Астафьеву;
факты, в которых я, можно сказать, не при чём.
Употребляя это слово «Византизм», я только пытался
указывать на религиозно-культурные корни нашей силы и нашего-
национального дыхания; я хотел напомнить, что не следует
нам искать какой-то особой славянской Церкви, какого-то
нового славянского Православия. А надо богобоязненно и
покорно держаться старой греко-российской Церкви, того
Православия, которое я позволил себе для ясности назвать филаретов-
ским. Славянскую Церковь (думал я), пожалуй, и можно
устроить. Но будет ли эта Церковь правоверна? Будет ли
государство, освящённое этой Церковью, долговечно и* сильно?
Можно, пожалуй, отделиться от греческих Церквей и забыть
их великие предания; можно остановиться на мысли Хомякова,
что без иерархии Церковь не может жить, а без монашества
может; остановившись с либеральной любовью на этой
ложной мысли, нетрудно было бы закрыть после этого постепенно
все монастыри, допустить женатых епископов. Потом уже легко
было бы перейти и к тому же будущему русскому Православию
Гилярова—Платонова, о котором, я уже говорил: «возвратиться
ко временам до—Константина», т. е. остаться даже без Никей-
ского символа веры и в то же время без тех возбуждающих
воздействий, которые доставляли первоначальным христианам
гонения языческих императоров. Ибо не верить в святость Ни-
кейского Символа веры и всего того, что с ним связано, очень
94
легко в наше время; многие образованные люди, и из числа
посещающих храмы, не думают вовсе о Символе веры, о
вселенских соборах; о том, что сделал св. Константин и чего не
сделал; многие из них, прочтя в газете или книге что-нибудь
подобное выходке покойного Гилярова, не поймут даже, до чего
эта выходка безумна не в устах нигилиста; не поймут и
подумают, вздохнув: «Ах! да! первоначальное христианство было
так высоко и чисто!». А не подумают при этом ни о том, что
языческих гонений нельзя сочинить нарочно, когда сам государь
православный; ни о том, что, вместо какого-то удивительного
отроческого обновления, подобные порядки привели бы только
веру в Церковь в состояние старческого расслабления, и если
бы и явились гонители для возрождения мученичества, то
явились бы они в наше время не в лице каких-нибудь новых и
увлечённых верой мистиков, а в лице самых обыкновенных
эгалитарных нигилистов, достигших высшей власти по пути,
уготованному им этой самой либеральной славяно-русской
Церковью. . .
Это были бы монтаньяры, которые переказнили бы
«честных» и умеренных жирондистов подобного русского
полуправославия.
Вот что мелькало и мелькает у меня всегда на уме, когда
я читаю тех писателей наших, которые смотрят на дело это
(т. е. на Россию, на Церковь, на веру, на греко-болгарскую
распрю и т. д.) не совсем по-филаретовски, не совсем по-старому,
не совсем по-афонски, т.е. не совсем по-греко-российски.
И при всём искреннем уважении моём к старшим
славянофильским учителям: Хомякову, Самарину, Аксакову, я должен
признаться, что от их прекрасных трудов на меня нередко
веет чем-то подобным, т. е. сомнительным и... быть может, при
неосторожных дальнейших выводах, и весьма опасным.
Можно, осмеливаюсь думать, и развивать дальше
Православие, но только никак не в эту какую-то
национально-протестантскую сторону, а уж скорее в сторону противоположную, или
действительно сближаясь с Римом (по-Вашему, Владимир
Сергеевич), или, ещё лучше (по-моему), только поучалсь многому
у Рима так, как поучаются у противника, заимствуя только
силы, без единения интересов.
Вот всё, что я имел в виду, употребляя иногда выражение
«Византизм», и потому всякая защита русского национализма,
всякое правильное служение ему, хотя бы и на почве чисто
философской (каково служение ему г. Астафьева), есть в моих
глазах служение моему же идеалу, моему греко-россианству,
моему «Византизму».
95
Каким же образом может г. Астафьев «пробить некую
брешь» в моём учении» когда он, по моему мнению, ему же
служит и в статье «Национальное сознание»»
Иначе, что же значат эти «греко-российские» слова:
«искание святых», «спасение души»?
Разве мы с ним этими словами называем не одни и те же
вещи?
Г. Астафьев говорит, будто бы никто «не слыхал о
византийской национальности».
Напротив того, слыхали очень многие и беспрестанно
слышат. Не говорю уже о прекрасном изречении Vinet, которое я
повторил два раза и хотел бы повторить ещё раз сто, слово
«греческий», «греческая», «греческое» повторяется беспрестанно,
когда дело идёт о Византии и о Православии вообще.
«Восточно-греческое христианство», — говорят иные
историки. Говорят: «Греческая империя», «греко-византийские
порядки» и т. д.
«Le venerable rite grec»,— говорят нередко католики, когда
хотят сказать доброе слово о Православии.
«Un grec du Bas-Empire»,— восклицают европейцы, когда
желают сказать о Византии что-нибудь худое.
Очень недавно у меня была в руках статья известного Бюр-
нуфа «О произношении греческого языка». С первых же строк
Бюрнуф, знаток всего греческого, говоря о Византийской
империи и византийской цивилизации, называет её греческой.
И это всё иностранцы; а спросите самих греков о том,
какой нации принадлежит византийская культура во всецелости
своей, в главных произведениях своих? Что они вам скажут?
Дело ясно до грубости: никто не употребляет выражение
византийская национальность по двум причинам: во 1-х, потому,
что всякий знает, что преобладающая национальность в
Византии была греческая; а во 2-х, потому, что у греческой
нации было две цивилизации: древнеэллииская, классическая и
христиано-византийская. Если мы скажем «эллинская» или
«греческая», люди могут не понять, о которой из них мы
теперь говорим.
Надо же их различать.
Нет спора, разница между этими двумя цивилизациями та,
что языческая, классическая окрепла, развилась на более
чистой, народной, эллинской почве; а византийский грецизм
вырабатывался на почве более смешанной.
Во времена Перикла, Софокла и Платона не было у слабых
эллинских государств инородных примесей, не было
завоёванных стран с инокровным населением, ряспространение эллиниз-
96
ма началось уже гораздо позднее, когда характер древнеэллин-
ской культуры был вполне уже выработан и определён.
Выработка же и определение второй, новейшей греческой
культуры, христианской, начались в IV веке на почве
несравненно более смешанной предшествующими римскими
завоеваниями. Иноверцев было много; и даже многие из них были
святыми, были епископами, патриархами, императорами; это
правда. Но всё-таки характер, гений новой христианской
культуры и небывалой дотоле христианской государственности
принадлежал не исаврянам, не армянам, не славянам, не
итальянцам даже, а греческому национальному ядру; распространение
же было одновременно с утверждением основ. Пока не взялись
греки и преимущественно на греческом языке за догматические
определения и за выработку богослужения, христианство, хотя
и широко разлитое, оставалось ещё в весьма неопределённом
виде и могло (судя по-человечески) разбиться на ручьи и
иссякнуть.
Впрочем, и сам г. Астафьев признаёт эту
греко-византийскую национальность, о которой, по его мнению, никто не
слыхал. На стр. 269 «Русского обозрения», в своей статье
«Национальное сознание» он выражается так: «Этот именно строй
(органически-национальный), налагающий резкую,
отличительную печать на представителей разных исторических
национальных культур (грек*, римлянин, еврей, англичанин, француз, не-
мец, византиец и т. д.), своею органическою целостью даёт и
самим входящим в него общечеловеческим идеалам и
стремлениям не только особую национальную окраску, но и
политическую, и внутреннюю правду, и действенную силу».
Итак, и по г. Астафьеву византиец был тоже
представителем особой «национальной» культуры. Он дал
первоначальному, апостольскому христианству (общечеловеческим тогда
идеалам и стремлениям) «свою особую национальную окраску».
А если византиец был представителем какой-то тоже
национальной культуры, то надо же узнать, какая это именно
нация, главным образом, послужила «почвой» для этой особой
культуры?
Конечно, не армянская нация, не исавры, не сирийцы и
египтяне, даже и не итальянские римляне, а возрождённые
христианством греки.
Иначе, зачем же было г. Астафьеву ставить византийцев
в число представителей культурных национальностей? Если он
и в то время считал византийскую культуру не национально-
греческой, а какой-то «эклектической», как он говорит в своём
* Вероятно, древний, язычник.
7 К. Леонтьев
97
объяснении со мной, то не следовало и ставить «византийца»
в число представителей национальных культур. А раз он это
сделал в статье «Национальное сознание», не надо было (без
какой-нибудь особой оговорки) называть византийскую
цивилизацию «эклектической» в объяснении.
Да и нам ли, русским, так смело и пренебрежительно
говорить о культурном эклектизме?
Вера у нас греческая издавна; государственность со времени
Петра почти немецкая (см. жалобы славянофилов);
общественность французская; наука ло сих пор общеевропейского духа.
Своего остаётся у нас почти только один национальный
темперамент, чисто психический строй, да и тот действительно резок
только у настоящих великороссов, со всеми их пороками и
достоинствами. И малороссы и белорусы со стороны «натуры», со
стороны личных характеров гораздо менее выразительны.
Г. Астафьев, по-видимому, удовлетворён той степенью
национальных особенностей, которыми мы теперь обладаем. Я же
гораздо требовательнее его; я больше его националист!
Мне этого мало! Я таким состоянием ничуть не
удовлетворён. Я, подобно ему, жажду духовной и культурной
независимости для русской национальности, но не такой бледной и
слабой, какова эта независимость у нас теперь. Теперь я вижу
ещё только одни попытки; вижу нерешительную и слабую
реакцию против слишком уж одолевшей нас за последнюю
четверть века прогрессивной европеизации и больше ничего. Я не
вижу ещё того страстного и, вместе с тем, глубокомысленного
руссизма, которого желал бы видеть в жизни своих сограждан.
Мы всё-таки слишком европейцы «в душе»... У нас много
того патриотизма, который Аксаков так хорошо называл чисто
«государственным»; но у нас слишком ещё мало своих смелых
мыслей; своих оригинальных вкусов; своего творчества; своей,
скажем вообще, культуры. Мы даже охранители плохие до сих
пор. Тот же Аксаков сказал прекрасно: «Умирать (на поле
брани) мы умеем как русские; но мы не умеем жить как русские».
Очень может быть, что и вера Данилевского в столь
богатую и невиданную четырёхосновную славяно-русскую культуру
была верой напрасной и ни на чём не основанной; очень может
быть, что и мои прежние надежды на что-нибудь подобное
несбыточны. ..
Весьма возможно, что мы оба с Данилевским основывали
нашу веру и наши надежды на шатком основании наших
собственных вкусов, наших мечтаний, нашей любви.. . («Любовь»
эта, нынче столь модная, весьма обманчива!). Сам
Данилевский говорит в своей книге (в главе об искажении быта), что
первые славянофилы (Хомяков и К. Аксаков) были правы
98
в том, что сами надели особую не-европейскую одежду, но они
были неправы, думая, что все другие русские последуют их
примеру. Эту верпую мысль его можно приложить и к вопросу
о целой культуре, о всей исторической будущности России.
Прав теоретически тот русский, который желает наиболь-
шего, наивозможнейшего обособления русской жизни от жизни
новейшего демократического Запада; он верно судит о том, что
для России полезно и что для неё гибельно.
Но ведь разве правда всегда своевременно торжествует?
Что сделаешь у нас с этими тысячами по-европейски
воспитанных умов и сердец? Они предовольны своим умственным
состоянием! Много есть и таких, которые и не подозревают даже,
насколько они уже европейцы в идеалах и привычках своих, и
считают себя в высшей степени русскими только оттого, что
они искренне любят свою отчизну. Сверх патриотизма они
любят её и так, как любил Лермонтов: «За что, не знаю сам»...
А этого мало для нашего времени: теперь действительно нужно
«национальное сознание»!
Надо любить её и так и этак. И так, как Лермонтов любил,
и так, как любил Данилевский; и в этом смысле следует
сочувствовать г. Астафьеву. Лермонтов любил Россию в её
настоящем; любил простонародный быт и ту природу, с которой этот
быт так тесно связан; для Данилевского, для г. Астафьева и
для меня этого настоящего мало (да и оно со времени
Лермонтова много утратило своей характерности): мы все трое в
настоящем этом видим только залоги для дальнейшего развития
самобытности, возможность для приближения к высшему
идеалу руссизма.
Но много ли у нас настоящих, твёрдых единомышленников
в образованном классе? Прибавилось немного за последние
десять лет; но всего этого слишком, мне кажется, мало для
долгого пребывания в прежних надеждах. Сознаюсь, мои надежды
на культурное будущее России за последнее время стали всё
более и более колебаться; ибо, пока реакции национальной поч-
ти вовсе не было (в 70-х годах), всё казалось, что невозможно
нам, не губя России, идти дальше по пути западного
либерализма, западной эгалитарности, западного рационализма.
Казалось, что приостановка неизбежна, ибо не может же Россия
внезапно распасться!
Но теперь, когда эта реакционная приостановка настала,
когда в реакции этой живёшь и видишь всё-таки, до чего она
неглубока и нерешительна, поневоле усомнишься и скажешь
себе: «только-то?».
Возвращаюсь к г. Астафьеву. В моих о нем словах есть
как будто бы противоречие. Сначала я сказал, что он как бы
7*
99
удовлетворён степенью современного обособления России,
а потом, упомянувши о роде лермонтовского патриотизма,
прибавил, что г. Астафьев этим не удовлетворён и ищет для
России сознательного идеала. Противоречия, в сущности, тут нет.
Та пассивная, столь знакомая многим русским любовь к
родине, которую изобразил Лермонтов в этом стихотворении, теперь
недостаточна и не удовлетворяет ни меня, ни г. Астафьева (ни
Вас, Владимир Сергеевич). Но между мной и г. Астафьевым
разница в степени удовлетворения. Он находит в нас уже
достаточно своего психического и культурного строя; я нахожу,
что этого мало.
Г. Астафьев несколько больше моего оптимист в этом деле,
вот и всё.
И этот оптимизм его мне чрезвычайно нравится; он
действует в высшей степени ободрительно. «Вот, верят в нашу
самобытность и такие серьёзно мыслящие люди, как он!».
Так подействовала на меня и та самая статья его
«Национальное сознание», которой он, в минуту затмения, приписал
как бы разрушительное действие на мои «основы».
Я говорю, разумеется, о существенных сторонах его статьи,
написанной против Вас, Владимир Сергеевич, а не о «заплате»,
ни к селу, ни к городу налепленной на неё мне в укор.
Вся статья эта («Национальное сознание») меня ободряла
и утешала. Место же, касающееся моей брошюры, не
только изумило, но и оскорбило меня,— готов прямо сознаться
в этой слабости! (О роде оскорбления скажу после, а теперь
об изумлении).
Изумило меня это место потому, что, следуя правильно за
мыслями самого же г. Астафьева, надо было бы, по поводу
моей брошюры «Национальная политика», прийти к заключен
нию, совершенно противоположному; надо было сказать,
например, хоть так (словами самого г. Астафьева, стр. 288): «Но
если русский человек в ревнивом охранении чистоты, целокуп-
ности и свободы своего внутреннего нравственного мира доселе
по возможности отстранялся от деятельного участия в
несовместимых со всем этим для него драгоценнейшим политической
власти и задачах политики, так сказать, по возможности
отмежёвывался от этой области внешней и принудительной
организации жизни, дорожа своей оригинальностью и сильною
государственностью с её определяющей формой самодержавия
именно как оплотом такого размежевания и
нравственно-религиозного самосохранения, то он...» (отсюда и дальше мои слова)...
«то он (т. е, русский человек) должен более всего
опасаться смешения с такими народностями, которые, будучи
особенно близки ему по языку и крови, совершенно ему чужды по
100
государственным и религиозным идеалам и навыкам своим.
Ибо эти народы могут по физиологическому родству своего
племени разрушительно влиять на психический строй русской
нации, на её особые религиозные идеалы, на её оригинальную
и сильную государственность с её определяющей формой
самодержавия. Таковы вообще все не русские славяне и
преимущественно австрийские, западные, католические славяне; ибо,
хотя сербы и болгары в лице «интеллигенции» своей,
рационализмом, конституционализмом и т. д. несравненно ближе
подходят к «заправской» * западной буржуазии, чем к нам, но
у них, по крайней мере, простой народ ещё крепко держится
того самого Православия (греко-российского, византийского),
которое учит, что «Царствие Божие не на земле и не
устраивается нами здесь, в её учреждениях и в духе. Не сознание
Церкви, как осуществление какой-то только ещё
предносящейся задачи, но исполнение Церкви, исполнение задачи, раз
навсегда решённой Искупителем-Богом. . .»** (стр. 292).
Мне кажется, вот что следовало г. Астафьеву сказать при
правильных выводах из собственной мысли; и если он уже
хотел удостоить меня мимоходом своего внимания, то можно
было бы указать по этому случаю на мою брошюру
«Национальная политика» или на другие труды мои, направленные против
либерального и необдуманного панславизма.
Ведь у меня в брошюре, конечно, главное дело
(практическое) было в заключении — против панславизма; а все
пространные политические рассуждения о Западе были вызваны
лишь желанием доказать, что национально-государственные
объединения везде были вредны и даже гибельны тому самому
национально-культурному обособлению, которого желает
г. Астафьев.
Надо было или вовсе умолчать обо мне и о моей
политической брошюре (это прямо его задачи не касалось); или
указать на эту брошюру, как на нечто подтверждающее его
доводы, или, наконец, доказывать, что я не знаю и не понимаю
славян. В последнем случае уместно было бы сказать вот что:
«И не только русские таковы, но и все славяне: болгары,
сербы, чехи, хорваты, словаки. И они все политикой заниматься не
любят; от конституции и вообще от вмешательства в высшее
управление устраняются; образованные представители их
только и думают, что о «спасении души» своей, о «гармонии»
своего внутреннего мира; ищут «святых»; у сербов и болгар вид-
* Термин г. Астафьева; стр. 290.
** Искупителем-Богом, апостолами и св. отцами Вселенских Соборов,
яо учению Греко-Российского Православия.
101
на чрезвычайная наклонность к религиозно-нравственной
философии. Что касается чехов, хорватов и других австрийских
славян, то они хотя и католики, но у них видно такое
пламенное стремление к Православию, что очень многие из них ездят
теперь нарочно на Афон и по русским монастырям, чтобы
проникнуть как можно глубже в сущность учения о личном
спасении души. Самодержавие — их общий идеал; они только и
ждут образования всеславянской конфедерации, чтобы, приняв
из рук России — каждая особая нация, по самодержавному
государю и поставя его в крепкую политическую связь с
императором всероссийским, «выйти в отставку» точно так же, как
вышел в отставку, по выражению Хомякова, русский народ
после избрания царя Михаила Романова. Г. Леонтьев говорит
о славянах совсем иначе; но этот писатель, хотя и не лишён
того-то и того-то (того, что признаёт во мне г. Астафьев),
«недостаточно известен и недостаточно серьёзен», чтобы его
мнение могло весить больше, чем мнения таких авторитетных
людей, как Катков и Аксаков, которые ничего подобного против
славян не писали. Аксаков никогда не ослеплялся, никогда не
блуждал в тумане высоких фраз; никогда не «обрастал
словами», как выразился про него, говорят, Катков. Катков же
никогда и не скрывал своих истинных мыслей из
политического оппортунизма. Они оба никогда не ошибались, наконец.
А г. Леонтьев к тому же «художник». Человек же с
художественными наклонностями в политике и государственных
вопросах обыкновенно ничего не понимает. Художники не
дальновидны. Оппортунисты и пламенные трибуны бывают гораздо
прозорливее. Катков и Аксаков прекрасно понимали, что все
славяне чрезвычайно близки к нам по идеалам своим и по
психическому строю; и это оказалось теперь истиной. Поэтому не
только литературное и вообще умственное общение с ними нам
не вредно, но даже и политическое с ними смешение
(неизбежное до некоторой степени и при федеративной форме сочетания)
ничего нам принести не может, кроме пользы в смысле
укрепления того, что я (Астафьев) признаю идеалом русского
народа!»
Вот это другое дело. Но я думаю, г. Астафьев всего этого
не только написать, но и думать не решится.
В заключение, по поводу сосредоточения Греко-Российского
Православия на Босфоре и вообще по поводу желательного
усиления у нас, в России, тех византийских «начал», которых
усиление возможно, я хочу сделать, по примеру, поданному мне
самим г. Астафьевым, одну литературную нескромность.
102
Он, не спросясь у меня позволения, упомянул в печати об
одной моей выходке в частном разговоре; выходке, в сущности,
не стоящей внимания. (Я говорю о моём случайном выражении
«вексельная честность»).
Я же, на основании этого примера (не совсем дурного, но
всё-таки рискованного), хочу привести здесь одну истинно
блестящую и в то же время в высшей степени практическую мысль,
высказанную при мне г. Астафьевым несколько лет тому назад,
тоже в частной беседе. Разговор шёл с двумя греками о
греческих и вообще о восточных делах. Я говорил то, что говорю
всегда, то есть, что сущность восточного вопроса гораздо более
в греках, чем в славянах. Один из греков заметил мне на это:
«Однако вы всё-таки находите, что Константинополь должен
быть присоединён к России. Грекам это не может быть
приятно».
Я стал доказывать, что для утверждения Православия
владычество России на Босфоре несравненно выгоднее греческого
владычества; но г. Астафьев вмешался и сказал так, обращаясь
к греку: «Вы, греки, имели дар благоустроить впервые Церковь;
но никогда не могли создать сильного государства; мы,
«русские», не оказались способными к религиозному созиданию, но
зато создали великое государство. Надо соединить эти
способности, и плод будет великий».
Разве это не то же самое, что я всегда говорил? Разве это
не тот же самый «византизм» будущего, о котором идёт
у меня речь?
Я полагаю, что г. Астафьев не забыл этих слов своих и не
станет от них отрекаться, как и я не отрекаюсь от выражения
моего «вексельная честность».
Замечу только, кстати, что я не хотел этим вовсе сказать,
будто такая честность дурна, а только, что она недостаточна;
и, пожалуй, и то, что отсутствие её может быть извинительно
в некоторых особенно широких или истинно художественных
натурах; ибо таким натурам есть чем вознаградить других людей
за подобный недостаток. Что касается приложения этой мысли
к русскому народу и, в особенности, к русским
простолюдинам нашего времени, то у них эта «вексельная честность» до
того уж слаба и нерасположение их исполнить в точности
обязанности свои до того уж велико, что им прибавить этого рода
честности прямо необходимо, далее и путём самым
принудительным.
Один из весьма известных писателей наших (и в то же
время опытный хозяин и богатый помещик), говоря однажды
о взглядах Аксакова, выразился так: «Вот Аксаков говорит всё
103
о внутренней правде, присущей русскому человеку, и о том, что
за внешней правдой он не гонится и договора не признаёт. А
я скажу, если он не признаёт договора и внешней правды не
любит, так надо за это сечь!»
Это к слову, чтобы не подумали, что я безусловный
порицатель этой вексельной честности». «Quod licet Jovi, non licet
bovi!..»
Иное дело, если Байрон, Рудин или даже какой-нибудь
особенно даровитый кольцовский лихач-кудрявич простого звания
будут неаккуратны в мелких обязанностях. Но когда станут
точно так же вести себя целые десятки тысяч обыкновенных
людей, то это станет нестерпимо.
Что касается высшего долга, то среди многочисленного
русского населения одна только армия во всецелости своей
превосходно исполняет его, когда приходит её время
действовать.
Но ведь что такое армия, как не собрание людей, живущих
под правильной дисциплиной, т. е. постоянным страхом
человеческим?
Жаль, что перечисляя психические особенности русского
национального характера, г. Астафьев забыл напомнить о том, что
для русского человека, вследствие невыдержки его и
легкомыслия, особенно необходимы и страх Божий, и страх человеческий
(как суррогат первого). И оба этих страха нужны не только
для рабочих людей, но и для образованного класса; между
прочим, для нас с г. Астафьевым.
Я, например, могу легко вообразить разного рода житейские
обстоятельства, при которых г. Астафьев написал бы своё
«объяснение» со мной в «Московских ведомостях» наверное
совсем в другом тоне.
Теоретические возражения могли бы остаться теми же, но
лично-нравственный оттенок был бы совсем иной, несколько
более любезный и приятный.
«Высший долг» относительно «собрата по оружию» (как он
сам меня любил называть) при других «внешних» условиях
(более для меня благоприятных) был бы, по крайней мере
с виду, гораздо лучше соблюдён, чем теперь.
Однако же «внутреннего» идеализма не хватило на этот
раз даже и у такого хорошего русского человека, как г.
Астафьев.
104
(Письмо 8-е>
РЕВОЛЮЦИЯ ПО Г. АСТАФЬЕВУ И РЕВОЛЮЦИЯ
ПО-МОЕМУ *
В первой заметке своей о моей брошюре («Русское
обозрение») г. Астафьев отнёсся к термину «революция» совсем не
так, как отношусь я.
Уже из прежних моих сочинений, достаточно ему знакомых,
явствует, что я революцией называю весь тот эгалитарный
прогресс, который обнаружился с полной систематической силой
в конце XVIII века во Франции и продолжается до сих пор не
только там, где его ищут сознательно, но очень часто и там, где
его опасаются и ненавидят. Я не намерен, конечно, здесь
сызнова излагать и объяснять то, что я уже достаточно подробно
излагал и объяснял в стольких прежних статьях моих (см.
«Византизм и славянство» и особенно последние шесть глав)**.
Лучше, доказательнее этого я не берусь написать о том же. И
вы, Владимир Сергеевич, знаете, что для меня «революция» и
«прогресс» — одно и то же. (Конечно, прогресс, понятый не
как развитие, не как дифференцирование в единстве, а как
уравнение и ассимиляция).
Я в этом случае держусь терминологии Прудона, который
особенно просто и ясно ещё в 50-х годах говорил, что
революция есть не что иное, как движение человечества к всеобщему
земному умеренному благоденствию и высшей справедливости,
необходимым условием которых должна быть всеобщая
ассимиляция до полнейшего однообразия всех людей, даже и
умственного ***.
Дальнейшей ассимиляции, по моему взгляду, всегда пред*
шествует смешение, т. е. ничем почти невозбраняемое и
ускоренное движение самих людей туда и сюда, вверх и вниз по
социальной лестнице, из страны в страну, от одного занятия
к другому и т. д.
Было время, когда г. Астафьев эту мысль мою о смешении,
как предсмертном явлении в истории всякого общества и
всякого организма, очень ценил и называл даже глубокой. Он
о ней помянул добром и во втором своём мне возражении. Он
ценит эту гипотезу мою как психолог, ибо находит, что
социальное смешение влечёт за собою психическую смуту, неустой-
* Письмо к Вл. С. Соловьёву, не включённое в собр. соч. К-
Леонтьева. — Ред.
** Сборник мой «Восток, Россия и славянство». Т. 1.
*** См. его «Confessions (Tun revolutionnaire» и «Contradictions econo-
miques» (1850 и 1851).
105
чивость убеждений, смешение понятий, неясность или
неопределённость чувств и т. д. *
Революция, ассимиляция, эгалитарно-либеральный
прогресс— всё это для меня только разные названия одного и
того же процесса. Этот процесс, если он не приостановится и не
возбудит, наконец, крайностями своими глубочайшее себе
противодействие, должен рано или поздно не только разрушить
все ныне существующие особые ортодоксии, особые культуры
и отдельные государства,— но, вероятно, даже уничтожит и
само всечеловечество на земле, предварительно сливши,
смешавши его в более или менее однородную, более или менее
однообразную социальную единицу.
В однообразии — смерть.
Всё, что служит космополитизму, всё, что служит
всемирному ускоренному движению и общению, хотя бы самым
невинным и непреднамеренным образом,— служит поэтому всеобщему
разрушению жизни на этой земле.
Это моё мнение не противоречит ничуть потребностям
всемирной христианской проповеди, всеобщего христианского
общения и мысли о неизбежности при этом некоторого
однообразия в христианстве. Незадолго до конца исторической жизни
человечества на этой (старой) земле и под этим (старым)
небом — Евангелие должно быть проповедано повсюду,
И это есть, конечно, своего рода ассимиляция. И проповедь
всеобщего христианства есть проповедь разрушительная,
революционная, если хотите. Она революционна в двух отношениях.
Во-первых, проповедь христианства, в наше время столь
охранительная для обществ, на почве христианской выросших
и развившихся, будет разрушительна для стран мусульманских
и языческих, буддийских, конфуцианских и т. д.
Христианская проповедь в этих странах может послужить
и ниспровержению того векового строя, который основывался
на этих разнородных исповеданиях. Для этих стран — она
революционна.
Во-вторых, проповедь всеобщего христианства
революционна ещё и потому, что при успехе своём она в значительной мере
должна будет усилить общечеловеческое смешение, ослабить
ещё больше развивающее дифференцирование; приблизить
человечество к ещё большей противу теперешнего однородности;
послужить всеобщей ассимиляции жизни на земном шаре.
Стойкости же вечной, прочности незыблемой и всеобщее
* См. две брошюры г. Астафьева «Смысл истории. . .» и «Симптомы и
причины...», Москва, 1885
106
принятие христианства земному обществу всё-таки не
доставит.
Так пророчит и само Евангелие. После повсеместной
проповеди Христовой веры приблизится конец.
К этому же самому евангельскому выводу мы придём, если
допустим, что моя гипотеза — предсмертного смешения —
верна.
Если она верна для отдельных государств и культур, то она
должна оказаться верною и для всемирного государства и для
всеобщей более или менее однородной христианской культуры.
Если окажется, говорю я, при более точном и специальном
исследовании этого вопроса, что моя гипотеза верна,— то
придется согласиться, я думаю, что она не только не противоречит
евангельским и апостольским предсказаниям,— но и вполне
совпадает с ними.
Но хотя с самой общей точки зрения это и так, однако
между ассимиляцией христианской и ассимиляцией
утилитарной (в духе нынешнего прогресса) разница всё-таки огромная
не только со стороны их сознательных целей, совершенно
противоположных,— но и со стороны тех социальных результатов,
прямых и косвенных, которые могут выйти из их торжества.
Христианство и не может, и не ищет даже (по существу
своего учения) приблизить всех людей к одному «полезному»
и среднему типу до такой степени, до какой ищет и может
приблизить их к этому типу буржуазно-европейский прогресс в
случае долговременного своего торжества. («Люди утратят всякое
понятие о разнообразном развитии характеров, об
индивидуальности и её пользе», — говорит Дж. Ст. Милль).
Некоторая степень всеобщего сходства (ассимиляции),
разумеется, необходима и для всякой высшей степени развития
(для наибольшего единства в наисильнейшем разнообразии).
Не углубляясь далеко в историю, возьмём, например,
Россию лет 50, 70, 100 тому назад.
Сословия наши тогда были очень резко разграничены; роды
воспитания весьма различны; привычки, вкусы, понятия,
предрассудки, народный быт в провинциях — были очень
разнородны. Но все эти разнородные русские люди были между собою
сходны в том, что они все говорили одним языком, были
подданными одного и того же царя и в подавляющем большинстве
крещены в одну и ту же православную веру. Эта степень
ассимиляции достаточная; она не чрезмерна. Много же дальше
какой-нибудь подобной этой ассимиляции христианство и не ищет
дойти. Мы знаем, что оно издавна уживалось с весьма
разнородными общественными порядками. Демократическая же ас-
107
симиляция никакого иного порядка, кроме своего собственного,
признавать не хочет.
Ассимилируя людей более или менее настойчиво, более или
менее удачно со стороны исповедания, христианство всего
остального в жизни людей и не искало непременно в себя
претворить. Оно довольствовалось всегда ролью мозга и нервной
системы в живом организме,— не пытаясь обратить его в
бесформенную и однородную массу.
Дальше этой роли мистического единения в общественном и
племенном разнообразии христианство и не могло даже идти,
как я сказал, по существу своего учения.
Высший идеал его: святость, отречение, аскетизм,
самоотвержение во Христе — доступен немногим. Всем доступна только
самая низшая ступень — возможность посредством веры и
покаяния избавиться от адской муки за гробом. И больше ничего!
«Званых много, — но избранных мало»!
Прогресс же, со стороны личного идеала, удовлетворяется
очень малым — мелким стоицизмом в ежедневном труде, той
«вексельной честностью», о которой напомнил г. Астафьев,—
миролюбием, главным образом, поневоле, ибо отдельные люди
будут всё более и более опутываться мелкой сетью однородной
легальности и т. д.
Идеал общественной жизни по требованиям прогресса —
несравненно ниже, однороднее и ровнее, чем та картина жизни,
которая допускалась христианством с самого начала и
допускается им до сих пор.
Демократический или утилитарный прогресс (я не хочу
сказать прогресс рационалистический, ибо настоящий разум
совсем не за него!) не допускает ничего вне себя; он слишком сер
для этого. Христианство, допуская издавна вне себя многое,
отчасти преднамеренно, отчасти и невольно (по невозможности
вполне справиться), старается только всего этого —
внестоящего благотворно коснуться, старается всюду лишь протянуть
нити своего оживляющего влияния.
Сверх того, христианство не может существовать без мисти-
чески-освящённой иерархии. Вот и ещё причина неравенства и
несходства между людьми.
Прогресс же никакой своей иерархии не придумал; да и не
нуждается в ней.
По всем этим причинам даже и повсеместное, самое
искреннее и глубокое восприятие христианского учения (в форме
какой бы то ни было церковности) не грозит уравнять и
ассимилировать человечество до той убийственной однородности, до
какой может довести его современное учение прогресса при
долгом и беспрепятственном господстве.
108
Сверх всего этого не надо забывать и того, что от проповеди
учения евангельского всем и всюду до искреннего и глубокого
принятия его всеми и всюду ещё очень далеко!
Из всего сказанного, мне кажется, легко вывести ещё раз
и окончательно следующий вывод:
— всеобщая христианская ассимиляция человечества и по
сознательным (мистическим, духовным) целям своим, и по
возможному образу воздействий своих—как преднамеренных
так и невольных — на общественную жизнь ничуть не сходна
с утилитарной ассимиляцией «прогресса».
Для народов, на христианстве выросших, этого рода
ассимиляция — мистически-церковная — с какой бы стороны она
ни пришла, — есть и будет прежде всего явлением охраняющим,
зиждительным, а никак не революционным, подобно
ассимиляции утилитарной (свободно-равенственной).
Для миров же не христианских, для государств и культур,
возросших на мусульманстве, браманизме, буддизме и т. д.,
христианская ассимиляция, конечно, будет так же
разрушительна (революционна), как она была разрушительна для
древних языческих миров; но даже и для них, по всем выше
перечисленным причинам, этого рода ассимиляция не может
быть так полна и в историческом смысле убийственна, как
ассимиляция европейской эгалитарности.
Если «последние времена» — ещё не слишком близки, если
христианству предстоит в самом деле не одна только последняя
и неудачная проповедь, но и временное торжество
(воинствующей Церкви), то никакого нет сомнения, что это временное
торжество будет иметь больше характер всеобладания, чем
характер всесмешения и всепретворения.
Временное и высшее торжество земной, воинствующей
Церкви будет, вероятно, больше похоже на последнее и
сознательное единство в последнем организованном разнообразии,
чем на смешение в однородности.
Я говорю ещё раз — временное торжество, последнее
единство, последнее разнообразие потому, конечно, что и при этом
торжестве, и при этой наилучшей (положим) организации жиз~
ни нельзя ожидать ни вечного покоя сердец на этой земле, ни
вечной нерушимости общественного строя.
Нельзя этого ожидать ни по здравому смыслу, ни судя по
предсказаниям Св. Писания.
Вам, должно быть, лучше моего известно, что даже и те
мистические мыслители, которые думают, что перед конном
света пройдёт ещё на земле целое тысячелетие — мира, любви
и порядка,— и они всё-таки говорят: «перед концом», то есть
и они не решаются отрицать того, что когда-нибудь «прейдет»
169
окончательно «образ мира сего». Даже и это тысячелетнее
зсеобладанис Церкви, эта теократия будущего, это последнее
и высшее единство в кое-каком остаточном разнообразии — и
оно по разуму может, а по Евангелию даже должно
разрешиться опять тем же: все-смешением и всерасторжением
общественного материала, отступлением от единства и власти веры.
Помните пророчество Исайи (гл. 24): «Се Господь
рассыплет вселенную и опустошит ю.. .» «И будут людие аки жрец,
и раб аки господин, и раба аки госпожа; будет купуяй яко про-
даяй, и взаим емляй аки заимодавец, и должный аки ему же
есть должен. Тлением истлеет земля и расхищением расхищена
будет земля».
Но как бы то ни было, произойдёт или нет когда-нибудь
соединение Церквей; в Православие ли перейдут католики; или
православные подчинятся римскому единоначалию; настанет
ли — перед концом — такое тысячелетие мира и любви или уже
и теперь всё бесповоротно и быстро, с небольшими лишь
задержками, движется к этому концу*, во всяком случае —
ассимиляция христианская никогда не может быть сходна с
нынешней европейской, буржуазной ассимиляцией.
И из того, что человек опасается последней и ненавидит её,
вовсе не следует, чтобы он был врагом и все-христианской
ассимиляции.
Даже и не исповедуя лично в сердце своём ни одного из
христианских исповеданий, человек, ставший на почву моей
гипотезы, может легко различить и в будущем плоды религиозного
единения от результатов утилитарного уравнения.
Даже и не веруя лично, говорю я, человек, допустивший
верность моей гипотезы смешения и однородности, всегда
должен предпочесть без колебания первое — последнему.
Большего противу прежнего разнообразия исторической
жизни, увы, теперь уже нечего ждать впереди! Человечество
пережило его — оно уже перезрело. Новых племён, действительно
молодых народов негде искать. Всё известно; всё или
бездарно, как негры и краснокожие в Америке, или более или менее
старо — ив Китае, и в Индии, и в Европе; и даже в России. ..
Какая у нас молодость! Функции жизни становятся, правда,
* Так думают многие духовные люди наши; между прочим— затворник,
епископ Феофап. В небольшой заметке своей, озаглавленной «Отступление
в последние дни мира», он выражается так: «Приятно встречать у некоторых
писателей светлые изображения христианства в будущем: но нечем
оправдать их. Точно, благодатное Царство Христово расширяется, растёт и
полнеет, но не на Земле — видимо, а на небе — невидимо, из лиц, и там, и
здесь, в царствах земных, приготовляемых туда Спасительною Силою
Христовою». «На земле же господство зла и неверия расширяется видимо».
ПО
всё сложнее и сложнее; движение жизни всё ускореннее и
запутаннее; но формы или типы её развития — всё однороднее и
серее. Идеал человека — всё ниже и проще: не герой, не
полубог, не святой; не чудотворец; не рыцарь; а честный труженик.
Надо поэтому и с чисто рациональной точки зрения
предпочитать тот род ассимиляции, который обещает быть менее
всепоглощающим и всепретворяющим, то есть менее мертвящим,
менее убийственным.
И это ещё, я повторяю, не веруя лично, не исповедуя всем
сердцем Триединого Бога и не поклоняясь пламенно всему
тому, что из учения о Св. Троице истекает.. .
Если же к вышеуказанному рациональному предпочтению
у человека прибавится и личное христианское чувство, то,
конечно, отношения его к ассимиляции христианской и к
ассимиляции эгалитарно-европейской станут ещё более
противоположными.
Перед одной — благоговение; против другой — глубокая
ненависть!
При размышлениях о влиянии на историю все-христианской
ассимиляции у верующего человека является неизбежно
особого рода высшее соображение, которого у нас нет в виду при
мысли об ассимиляции утилитарной. Эстетика исторической
жизни у лично верующего христианина должна уступить место
вопросу о его же личном загробном спасении души.
Истинно верующий христианин не сомневается в том, что
ему самому, единолично, надо будет рано или поздно дать
ответ на Страшном Судище Христовом, и потому он не имеет
права простирать своё бескорыстное служение исторической
эстетике до степени принесения ему в жертву своего
индивидуального «Я» в загробной жизни. Если бы эстетика (разнообразие)
истории была бы ему в высшей степени дорога, он, в сфере
своего влияния, обязан приносить её в жертву в том случае,
когда она представляется ему помехой: как спасению его
собственной души, так и обращению наибольшего числа людей
в христианскую веру. Насколько эстетика жизни помеха
христианству, и даже помеха ли она ему; и не состоят ли все
жестокие стороны этой эстетики в глубокой и тайной органической
связи с процветанием христианства,— это ещё вопрос; я думаю,
что состоят; но здесь нет места и времени об этом
распространяться.
Каждый грамотный христианин из Катехизиса (а
неграмотный — по устному преданию) знает, что всякое расширение
христианской проповеди приближает человечество к тому
ужасному часу, когда всё на этой земле пройдёт и погибнет; но он
знает также, что ему сочтётся на Суде Божием всякое мельчай-
111
шее личное его действие для обращения людей в христианскую
веру или хоть для их в ней утверждения. Земное человечество
он от окончательной исторической гибели сласти не может; но
он может и должен стараться о личном своём спасении, о том,
чтобы быть в раю, а не в аду; и этому соображению он обязан
приносить в жертву даже все политические, культурные и
эстетические убеждения и вкусы свои.
Поэтому, если принять и само христианство за
смесительную, ассимиляционную (т. е. революционную) силу,
способную при повсеместном, даже и далеко не полном и
кратковременном торжестве своём всё-таки значительно уменьшить
разнообразие жизни и духа на земном шаре,— то и тогда человек,
лично верующий во Христа, Сына Божия («пришедшего в мир
грешныя спасти, из коих первый есмь аз!»), не может, не
должен, не имеет права противиться этого рода окончательной
революции. Он обязан даже содействовать ей, по мере сил
своих и в пределах своего влияния. И пусть гибнет и
ослабевает шаг за шагом та полнота и разноцветность жизни,
которую мы, люди конца XIX века, ещё застали на земле, несмотря
на все усилия и триумфы утилитарного европеизма. Пусть
гибнет этот turgor vitalis, пусть блёкнет всё больше и больше
тот пышный расцвет истории, в котором жили ещё не очень
дальние наши предки!
Всеобщему христианству я должен, если это окажется
необходимым, принести в жертву: и драгоценные мне национальные
особенности моей дорогой отчизны, и всё недавно столь
великолепное разнообразие исповеданий, бытовых форм,
государственных учреждений и даже, быть может, разнообразие самой
природы, ибо христианство роковым образом влечёт в наше
время за собой повсюду всю опустошительную, подавляющую
искусственность новейшей европейской жизни. За католическим
или протестантским проповедником следует французский или
английский инженер, противу ассимилирующего завоевания
которого не в силах уже устоять ни девственные леса, ни
песчаные степи!
Отклонюсь ещё на мгновение от главной темы моей — для
того, чтобы ещё больше разъяснить то побочное, что в этих
письмах моих несравненно важнее главного.
Есть, мне кажется, три рода любви к человечеству. Любовь
утилитарная; любовь эстетическая; любовь мистическая.
Первая желает, чтобы человечество было покойно, счастливо, и
считает нынешний прогресс наилучшим к тому путём; вторая —
желает, чтобы человечество было прекрасно, чтобы жизнь его
была драматична, разнообразна, полна, глубока по чувствам,
прекрасна по формам; третья — желает, чтобы наибольшее чис-
Н2
ло людей приняло веру христианскую и спаслось бы за гробом.
Я понимаю, что вторую любовь — эстетическую — следует
в случае столкновения и неизбежного выбора приносить
в жертву последней (христианской); но никто не докажет мне,
что человек мыслящий и самый добрый обязан эту же самую
эстетическую любовь подчинять требованиям первой, которая
одинаково, по существу своему, враждебна и религии, и поэзии;
ибо и для той, и для другой необходимы страдания, и нередко
самые сильные и глубокие; а революция утилитаризма и
ассимиляции жаждет если не уничтожить, то хоть ограничить
донельзя все виды страданий...
Христианство обязывает человека жертвовать во многих
случаях поэзией истории для торжества веры истинной, но никак
не для торжества безбожного благоустройства миллионов
людей— однообразных, неизвестных мне лично и даже по типу,
по быту и по идеалам своим в высшей степени мне противных
и ничтожных!
Революция есть всеобщее стремление к смешению, к
ассимиляции, к смерти. Но предсмертной ассимиляции христианского
характера я обязан содействовать; ассимиляции же
утилитарной или демократической я имею право противиться — не
только как эстетик, но и как тот же верующий человек, ибо она
отвергает всё сверхчувственное и духовное.
Я кончил о христианской ассимиляции. Это длинное
отступление моё не было случайным увлечением мысли в сторону. Оно
было преднамеренно и даже необходимо. Я, собственно, для
вас, Вл. Серг., распространился об этом. Я желал, чтобы между
нами по этому вопросу не было недоразумений, и думал, что
вам легче будет судить того, кто вполне вам высказался.
Я помню, вы говаривали мне, что я хоть «одной ногой, да
твёрдо стою на религиозной почве». «Другая же нога ваша
(прибавляли вы) находится в области эстетики». Это не
только остроумно, но и верно; готов согласиться. Но именно потому,
что я эти слова ваши так хорошо помню, я и опасался, чтобы
вы не подумали, что я не в силах и обе ноги поставить когда
нужно на религиозную почву. Я понимаю, чему стоит
жертвовать эстетикой истории, а чему — не стоит. Для спасения
загробного и вашей души, и моей, и многих, многих тысяч других
душ — стоит. А для умеренного земного прозябания миллионов
неверующих и только трудолюбивых «средних людей» — не
стоит отказываться ни от войн, ни от дуэлей; ни от буддизма,
ни от мусульманства; ни от деспотических царей, ни от
надменных аристократов; ни от таких характеров, как Наполеон I,
Бисмарк, Екатерина II и... даже Варрен-Гастингс, которого
вы считаете позором Англии...
8 К. Леонтьев
113
Теперь недоразумение между нами с этой стороны,
кажется, уже невозможно. Не правда ли?
Насчёт христианской ассимиляции я, кажется, в первый раз
объяснился здесь подробнее прежнего; но об ассимиляции
утилитарной я писал достаточно, и люди, знакомые хоть слегка
с моими сочинениями, могли бы знать, что, по-моему, она-то и
есть настоящая революция. Или, наоборот, выражаясь точнее:
нынешняя религиозно-политическая и социальная революция —
есть не что иное, как движение ко всемирной безбожной
ассимиляции. И г. Астафьев знает отлично, что я так привык
мыслить и выражаться.
Почему же он в своей первой заметке начал говорить о
восстаниях, цареубийствах, о воззвании Локка «к небу»? ..
Восстания часто бывают реакционные, против ассимиляции и
смешения (баски в Испании; наше польское отчасти; Вандея).
Посягательства на жизнь государей, президентов, министров и тому
подобных могущественных людей бывали также нередко вовсе
не революционного (в моём смысле) характера. Нелегально,
преступно, ужасно и т. д. — не значит ещё в моём смысле
революционно (ассимиляционно).
Казнь Людовика XVI действительно имела сознательную
ассимиляционную сеть. Но уже казнь Карла I в Англии имела
двоякое значение; с одной стороны, эта возмутительная казнь
была делом либерально-демократической разнузданности; но,
вместе с тем, она имела для Англии и обособляюще-националь-
ное, своего рода консервативное значение. Все Стюарты более
или менее были склонны к католицизму. Исторические же
судьбы Англии требовали резкого церковного обособления (ибо
разнообразие частных культур европейских в единстве общих
основ в то время росло, а не умалялось, как теперь).
Преступления Жака Клемана и Равальяка были также
реакционного характера. Они вызваны были фанатическим
служением католическому единству. Президента Соединённых
Штатов Линкольна убил приверженец южного рабовладельче-
ства; и это — реакция против ассимиляции и смешения.
Шведского короля Густава III убил граф Анкарштрем — тоже
реакционер, представитель крайне-аристократической партии;
значит, тоже враг смешения. Покушение Жоржа Кадудаля на
жизнь Наполеона I было делом легитимистов, людей, тоже
желавших соблюсти сословное «дифференцирование». Все эти
последние перечисленные мною преступления и посягательства
вовсе не имели в виду той революционной ассимиляции, о
которой я говорю в моей брошюре. Все эти нелегальные и
преступные действия были, так сказать, антиреволюционные: они
предпринимались и свершались с целями охранительными; од-
114
ни в пользу церковного единства, другие в пользу сословного
неравенства; то есть вообще в пользу того состояния общества,
которое я называл не раз органическим разнообразием в
мистическом единстве, а не в пользу ассимиляции, не в пользу
смешения и последующих за ним — разложения и упрощения
до степени почти однородных этнографических остатков. Надо
было опровергнуть самую терминологию мою; надо было
доказать, что нынешнее революционное движение не есть
стремление ко всеобщей ассимиляции; или, иначе, что революцией
надо называть всякого рода преступные и насильственные
действия против каких бы то ни было существующих властей,
а никак не эгалитарный и рационалистический прогресс во всех
его видах и на всех его разнообразных легальных и
нелегальных путях.
Тогда было бы ясно, что насильственное, например, и удачное
восстановление в современной Франции католической монархии
было бы действием революционным; а новейшее потворство
социалистам в Германии делом не революционным (делом
охранительным, реакционным) —потому только, что оно легальным
путём исходит от самого императора.
До сих пор я думал, что когда хочешь возражать
кому-нибудь, то надо или опровергнуть самую терминологию
противника, или, принявши эту терминологию, доказать ему, что он
из собственных оснований своих выводит неправильное
заключение.
Пусть г. Астафьев докажет живыми примерами, фактами,
а не отвлечёнными рассуждениями — или то, что человечество
с XVIII века не стремится ко всеобщей ассимиляции. Или то,
что это космополитическое стремление нельзя наззать
революцией, потому что оно ничего в себе разрушительного не имеет.
Это дело другое. А он сам говорит в конце заметки своей, что
нельзя космополитизм (т. е. антинациональную ассимиляцию)
признать началом охранительным.
Мне кажется, что я могу ошибаться только в следующем
прямом и ясном смысле: никакой ассимиляции нет. Человечество
стремится теперь к обособлению в виде групп, более прежнего
разновидных и разпоосновных; создаются новые, крепкие,
смелые религии не рационального оттенка, а более мистического
(ложные они или нет — с этой стороны,—всё равно); старые
исповедания, со своей стороны, отстаивают себя с величайшим
упорством. Государственные учреждения в разных странах всё
более и более уклоняются от какого-нибудь общего, прежнего
прототипа; сословия, цехи, корпорации крепнут в своей
исключительности, несмотря на постоянную и ожесточённую борьбу.
Провинции в недрах этих своеобразно устроенных государств
8*
115
соединены с метрополией своей в самых разнообразных
сочетаниях: начиная от совершенно рабского подчинения и до
полной автономии, почти до независимости. Что ни шаг, то новый,
невиданный в другом месте быт; недопустимые в другом
городе или в другой провинции вкусы, обычаи и моды; то, что
кажется в одном месте возмутительным и безнравственным,—
в другом представляется весьма естественным и даже очень
милым. Но при всём при этом человечество сознаёт, до
известной степени, своё единство не только физиологическое, но и
душевное, умственное. В некоторых, исключительно высших
слоях своих оно вступает и во взаимное общение не только
посредством насилия и войны (хотя и это случается часто), но и
в мирное, умственное общение. Это умственное общение
(чтение чужих, иноземных книг или покупка произведений
искусства, например), доступное в большинстве случаев лишь
избранным, правящим и самым богатым классам,— не может
уменьшить разнообразие развития духа и быта, ибо нации вступают
в общение только этими верхами своими; низшие же классы
остаются при своём неведении чужого, при своих верованиях
и суевериях, при своих уже вкоренившихся обычаях и
понятиях; а малочисленные высшие представители обеих стран или
наций, поставленные между двумя разнородными и могучими
влияниями — между влиянием чужой мысли и упругой
самобытностью своей народной почвы,— только глубже и
многостороннее развиваются; две-три яркие черты чужой окраски на густом
фоне своего национально-государственного воспитания —
делают их только более совершенными и содержательными. И
т. д. И т, д. (Таково было, например, высшее дворянство
русское при Екатерине II, Александре I и Николае Павловиче) *.
* Наши отцы и деды высшего круга тщетно старались походить на
иностранцев; а мы теперь пытаемся как бы стать независимыми. Но как ни
велико было прежнее рабство русской мысли, — строй русского общества
даже в 1-й половине XIX века был настолько ещё своеобразен, что в жизни,
на деле эти отцы и деды наши были людьми несравненно более русского
типа, чем мы.
Теперь теоретическая жизнь наша неизмеримо возросла: наша мысль
становится вес независимее и смелее; это правда. Но зато, с другой
стороны, общественный строй наш стал несравненно ближе к западному:
привычки и ходячие понятия сделались более европейскими. Прежние
заимствованные теории и вкусы теперь лишь принесли свои практические плоды.
Многие из нас (быть может, самые лучшие и способные) давно уже
возненавидели это подражание и стали стремиться к освобождению русской
мысли из западного пленения. Мысль эта стала действительно сильнее,
смелее, богаче; «национальное» сознание наше стало глубже и яснее (ведь и
вы, В. С., представитель особого рода национального сознания нашего). Всё
это так. Но сами-то мы... по всем въевшимся в кровь привычкам, — по всему
типу нашему стали гораздо более обыкновенными европейцами, чем были эти
отцы и деды, подражатели только в принципе...
116
— «Вот как идут теперь дела! Какая же тут ассимиляция?
Какая же тут революция,— если даже и принять мнение
Леонтьева, что революция есть ассимиляция, т. е. разрушение
всего старого без замены положительным новым?. .»
Да! Если бы оно было так. Но всякий понимает, что дела
идут в наше время не по тому пути органического
дифференцирования, который я сейчас описал, а по совершенно
противоположному. Всякий знает, что нарисованная мною картина
гораздо более похожа на так называемую эпоху Возрождения,
чем на наше время, на века XV, XVI и XVII, чем на XIX. Можно,
пожалуй, доказывать, что космополитическая ассимиляция это
есть благо, а не зло; можно, пожалуй, даже верить, что она
приближает историю к торжеству равномерной и рациональной
правды и приблизительного счастья на земном шаре. Хотя и
это ещё весьма гадательно, но всё-таки понятно; я сам могу
такого рода счастья человечеству ничуть не желать, но я
понимаю эту ходячую, эту избитую мысль. Я понимаю, что люди,
у которых практическое нравственное чувство преобладает над
религиозными и эстетическими потребностями, могут обольщать
себя подобными надеждами; могут в доступной им области
влияния с весьма честным, хотя и глупым убеждением
толкать дальше людей на пути к этой ассимиляции; но,
разумеется, самого факта ассимиляции этой не может отвергать ни
приверженец её, ни враг.
Не знаю также, можно ли хоть на мгновение усомниться
в том, что этот ассимиляционный процесс действует
разрушительным (революционным) образом на все старые религиозные,
культурные и государственные организмы или организации?
Настоящая революция проявляется не в насильственных
действиях против установленных властей, не в восстаниях,—
ибо те и другие могут иметь цели религиозные, монархические,
аристократические или вообще национально-обособляющие,—
Принесёт ли — и скоро ли принесёт—плоды житейской самобытности
теперешняя независимость и сила нашего мышления? Это ещё неизвестно.
Дай Бог, чтобы принесла! А малым с этой стороны утешаться не
следует! . .
Не всякая независимость мысли и не всякое ее богатство влечет за
собою неизбежно выразительность и силу жизни.
Французское умственное творчество 1-й половины нашего века было
удивительно богато; но многое ли перешло в жизнь, много ли претворилось
в неё из всех этих смелых мечтаний, глубоких соображений, блестящих
теорий? За этим пышным расцветом французской литературы на деле что
последовало очень скоро? Ослабление мировой политической силы; а во
внутренней жизни — весьма, конечно, значительная будничная и мелкая
добропорядочность, — и больше ничего!
То, что В. Гюго воображал слазуревым» — вышло серым.
117
а в разрушении всего организованного, т. е. прочного и
устойчиво дифференцированного; то есть всё в той же
неорганической ассимиляции, в смешении.
Вот мои «обоснования». Не знаю, заслуживают ли они
названия философских. Вероятно — нет; я за этим и не гонюсь;
ибо вообще чисто метафизическую работу ума я считаю
отчасти приготовительной умственной гимнастикой, весьма полезной
для других, более живых целей (напр., богословских или
социальных); отчасти же особого рода умственной роскошью,
пышным и могучим, но почти бесплодным расцветом чисто
интеллектуальной мощи в известные эпохи исторической жизни;
в эпохи, обыкновенно предшествующие либо предсмертному
разложению культурных государств, либо новому
мистическому творчеству (эллинская философия лучшего периода;
Александрийская православная догматика).
Не знаю, заслуживают ли названия философских мои
«обоснования», но они ясны, я думаю, до грубости. Всякая
эгалитарная реформа; всякое уравнение прав; всякое слишком
далеко простёртое и неразборчивое заимствование у
передовых и демократических наций нашего времени; всякий
международный съезд, даже и с весьма полезной ближайшей целью;
всякая железная дорога и телеграфная нить, ускоряющие
общение, движение (смешение) жизни,— есть проявление
революции, ибо служат космополитической ассимиляции, жертвуя
ей всеми местными, сословными, религиозными, юридическими,
бытовыми и даже умственными оттенками.
Назовём, пожалуй, эту революцию благом.
Всеобщая ассимиляция есть сущность современной нам
всемирной революции; это надо, мне кажется, признать
независимо от того, благом ли или злом мы считаем эту
революцию; враги ли мы её или приверженцы.
Но у г. Астафьева совсем иная номенклатура, совсем иные
«обоснования».
«Орудиями революции (говорит он) становились, как мы
знаем, порой и наука, и искусство, имена же Марсилия Паду-
анекого, Ла-Боэси, Мильтона, Суареца, Марианны и других
напоминают нам, что даже в религии не раз пытались искать
освящения для теорий народовластия, цареубийства и
революции; а «мудрый» Локк даже специально изобрёл для
революции (не для инсуррекции ли?) благочестивую кличку —
«апелляция к Небу». Что же всё это может доказывать!?
Конечно, уж не враждебность революции и консервативность
начала космополитического?!» Так говорит г. Астафьев.
Значит, у него не то революция, что сознательно или
бессознательно способствует всеобщей демократизации, всеобще-
118
му рационализму, всеобщей утилитарной ассимиляции; а всё
то, что действует нелегальным, преступным путём восстания
против установленных властей или посягательством на жизнь
людей власти и влияния.
Я этого вовсе не понимаю, и к тому вопросу, которым я
занимаюсь в моей брошюре («Национальная политика»), это
вовсе даже не относится.
По-моему, либерально-европейская конституция,
дарованная Болгарии совершенно легально русским правительством —
есть одно из весьма важных проявлений всеобщей революции;
ибо это дело ассимилировало болгар — со всеми другими
западными, либерально устроенными народами.
Л если бы теперь нашлась в Болгарии партия, достаточно
сильная и достаточно умная, чтобы, изгнав Кобурга и Стам-
булова, избрать па престол православного князя и
предоставить ему полнейшую сямодержавную власть, даже до
права учреждать в Болгарии привилегии, сословия и
неравноправность, то — пролейся тут хотя бы и потоки
крови в междуусобной борьбе,— я бы не счёл себя
вправе назвать эти события проявлением революции (или
ассимиляции). ..
А назвал бы это междоусобие, эту нелегальность
охранительными, реакционными, пожалуй, даже и творческими,
зиждительными, ибо сословий в Болгарии до сих пор никаких
не было.
Кто же из нас двух правее с национальной точки зрения?
Или, пожалуй, спрошу так: чей взгляд на сущность
революций всемирной — определённее, точнее?
Мой взгляд или взгляд г. Астафьева?
ДВА ГРАФА: АЛЕКСЕИ ВРОНСКИЙ И ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Было время, когда я не любил военных. Я был тогда очень
молод; но, к счастью, это длилось недолго!
Воспитанный на либерально-эстетической литературе 40-х
годов (особенно на Ж. Санд, Белинском и Тургеневе), я в
первой юности моей был в одно и то же время и романтик и
почти нигилист. Романтику нравилась война; нигилисту претили
военные.
Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в
неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения!
Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда очень хорошо и
нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей.
И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых
глупцов?
До этих людей теперь только дошло многое из того, что
нас (немногих в то время) волновало, утешало и раздражало
тридцать лет тому назад... Прогресс, напр. Какой именно
прогресс? .. Разве я понимал в 20—25 лет ясно — какой?
Прогресс, образованность, наука, равенство, свобода! Мне
казалось всё это тогда очень ясным; я даже, кажется, думал тогда,
что всё это одно и то же... Даже и революция мне нравилась;
но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что
мне в то время нравилась только романтическая, эстетическая
сторона этих революций: опасности, вооружённая борьба,
сражения и «баррикады» и т. п. О вреде или пользе революции,
о последствиях их я думал в те молодые годы гораздо меньше.
Почти совсем не думал.
Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах
их военную, боевую сторону, а никак не штатскую цель их...
Воинственные средства демократических движений нравились
моему сильному воображению и заставляли меня довольно
долго забывать о прозаических плодах этих опасных движений.
Я оказывался в глубине души моей гораздо более военным по
духу, чем мог того ожидать в то время, когда настоящих
военных не любил. Я сказал: — «довольно долго» воинственные
средства революции заставляли меня забывать — их
уравнительные пошлые цели. От досады на тогдашнюю путаницу моих
мыслей я сказал — «долго».— Но по сравнению со многими
другими людьми, пребывавшими, быть может, всю жизнь
в стремлении к всеобщему мирному и деревянному
преуспеянию,— я исправился скоро... Время счастливого для меня
перелома этого — была смутная эпоха польского восстания;
время господства ненавистного Добролюбова; пора европейских
120
нот и блестящих ответов на них князя Горчакова. Были тут
и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских
и умственных. Да, я исправился скоро, хотя борьба идей в уме
моём была до того сильна в 62 году, что я исхудал и почти
целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна,
положивши голову и руки на стол в изнеможении
страдальческого раздумья... Я идеями не шутил и нелегко мне было
«сжигать то», чему меня учили поклоняться и наши и западные
писатели... Наши — путём искусного и тонкого отрицания или
ложного, одностороннего освещения жизни (хотя бы и сам
Гоголь— «Как всё у нас скверно!»), а западные — открыто и
прямо (хотя бы Ж. Санд: — «Как прекрасен демократический
прогресс»)... Но я хотел сжечь и сжёг!.. Догорела последняя
тряпка гоголевских обносков; истлела последняя ветка той
фальшивой, искусственной оливы мира, которую так мило и
так долго подносила мне обворожительная, но хитрая Аврора
Дюдеван. Я стал находить, что Гоголь какой-то гениальный
урод, который сам слишком поздно понял весь вред,
приносимый его могучим комическим даром... Я стал подозревать
очень зло, что Дюдеванша, у которой я прежде жаждал
поцеловать туфлю или подол и серьёзно мечтал — съездить за
этим во Францию, в Берри и в самый Nohant... я стал
подозревать, что она бывает поочерёдно то сама собою, то нет; то
искренна, то притворна... В Лукреции искренна; в Теверино
и милых пасторалях своих искренна; в «Грехе г. Антуана» и
в других социалистических романах своих притворна; ибо она
слишком умна, чтобы не понимать, что уничтожение повсюду
монархии, дворянства, мистических, положительных религий,
войн и неравенства — привело бы к такой ужасной прозе, что
и вообразить страшно! ..
Эстетика жизни (не искусства! .. Чёрт его возьми
искусство— без жизни!..), поэзия действительности невозможна
без того разнообразия — положений и чувств, которое
развивается благодаря неравенству и борьбе...
Эстетика спасла во мне гражданственность. .. Раз я понял,
что для боготворимой тогда мною поэзии жизни—необходимы
почти все те общие формы и виды человеческого развития,
к которым я в течение целых десяти лет моей первой
молодости был равнодушен, а иногда и недоброжелателен,— и что
надо противодействовать их утилитарному разрушению,— для
меня стало понятно, на которую сторону стать: на сторону
всестороннего развития или на сторону лже-полезного
разрушения.
Я стал любить монархию, полюбил войска и военных, стал
и жалеть и ценить дворянство, стал восхищаться статьями Кат-
121
гава и Муравьёвым-Виленским; я поехал и сам на Восток
с величайшей радостью — защищать даже и Православие,
в котором к стыду моему, сознаюсь, я тогда ни бельмеса не
понимал, а только любил его воображением и сердцем.
Государство, монархию, «воинов» я понял раньше и оценил
скорее; Церковь, Православие, «жрецов» — так сказать — я
постиг и полюбил позднее; но всё-таки постиг; и они-то, эти
благодетели мои, открыли мне простую и великую вещь,— что
всякий может уверовать, если будет искренне, смиренно и
пламенно жаждать веры и просить у Бога о ниспослании её. И
я молился и уверовал. Уверовал слабо, недостойно, но
искренне.
С той поры я думаю, я верю, что благо тому государству,
где преобладают эти «жрецы и воины» (епископы, духовные
старцы и генералы меча), и горе тому обществу, в котором
первенствует «софист и ритор» (профессор и адвокат)...
Первые придают форму жизни; они способствуют её охранению;
они не допускают до расторжения во все стороны
общественный материал; вторые, по существу своего призвания,
наклонны способствовать этой гибели, этому плачевному всерас-
торжению...
С той поры я готов чтить и любить так называемую
«науку» только тогда, когда она свободно и охотно служит не
сама себе только и не демократии, а религии, как служит
самоотверженная и честная служанка царице; как служит, напри-
мер, и в наше время эта благородно-порабощенная вере наука
у еписк. Никанора в его книге «Позитивная философия» или
у Владимира Соловьёва в его «Критике отвлечённых начал»,
как служила она у Хомякова, хотя бы и несколько
своевольному, но всё-таки в основе глубоко-православному его чувству.
Я уважаю науку тогда, когда она посредством некоторого
самоотрицания, посредством частых сомнений в собственной
пользе и полезной силе, приготовляет просвещённый ум
человека к принятию положительных верований; то есть таких
верований, при которых духовные, таинственные (мистические)
начала не могут выразиться в одной отвлечённой и скучной
какой-то морали, но ищут воплотить себя даже и в
вещественных явлениях внешнего богопочитания. Пожалуй —я скажу,
если хотите, в том самом «ханжестве», которого почему-то
так боится г. Ф. Г-в, недавно негодовавший в «Моск. вод.» на
«обскурантизм» «Гражданина».
И что такое, в самом деле, это «ханжество»? Всякий, я
надеюсь, знает, что «ханжество» и «лицемерие» не одно и тоже.
«Ханжество», как слово порицательное, значит (в устах людей,
употребляющих его) излишняя, до мелочности доведённая пре-
122
данность всей совокупности церковного культа, а совсем не
притворство. Поклонение иконам и мощам, частое хождение
в храмы, молитвы «по правилу», а не но одному порыву;
исповедь и причащение; уважение к монашеству, даже и к
слабому {какое есть— что делать!) и т. д. Да ведь это и есть
Православие и больше ничего; один верующий может больше
проникнуться любовью к таинственным, духовным началам
христианства и чувствовать потребность чаще вступать с ними
в общение посредством вещественной, воплощённой, так
сказать, святыни; другой — поменьше; третий — изредка;
четвёртый— не только сам влечётся к этому всему, но и проповедует
всё это другим; положим, хоть так, как делал покойный Аско-
ченский. Я «Домашней беседы» никогда не читал, но если Ас-
коченский предпочёл христианскую набожность
общеевропейской учёности, то это делает ему великую честь, и тут нет
никакого «обскурантизма» (как это старо и глупо —
«обскурантизм»!), а напротив того, просветление русского ума,
свергнувшего с себя вериги чужого рационализма... Не знаю
наверное, кто это писал под этими буквами: Фита и Глаголь.
Боюсь догадаться! .. Мне стыдно за него, если
действительно, это тот, на кого я думаю. О, умный и почтенный друг
мой, прошу тебя, умный и добрый мой Ф..., не печатай ты
впредь такого легкомысленного вздора! .. В глазах истинного
христианина — обращение к Богу и Церкви, хотя бы и
вследствие страдания спинного мозга, как у Аскоченского, по словам
твоим, после страстно прожитой молодости — ничуть ведь
обратившегося не роняет. Пути у Бога разные. Энергический
натуралист Северцов стал молиться от страха в плену у ко-
канцсв; гениальный врач Пирогов — молился в горькие
минуты жизни, а потом уже нашёл, что не молиться в дни
спокойствия и радости—неблагодарно и низко. Тот стал молиться
потому, что потерял любимую женщину, с которой был
счастлив; другой оттого, напротив, что с женщиной — несчастлив;
третий стал пламенно-искренно набожен, потому что у него
у самого отвратительный нрав и его никто не любит, и никого
у него нет на свете, кроме Бога.. . С Ним он беседует в
храме, и один в комнате своей к Нему простирает руки и плачет
и говорит: «Боже, Боже мой! — я :жаю, как я несносен, как я
неуживчив, как я слаб и сердит; понимаю, что люди тяготятся
мною,— но Ты, Господи,— Ты пощади меня, подкрепи, и утешь,
и прости мне!» А людям он и не без основания противен. Быть
может, он даже и лукав по природе с людьми, но с Богом
нельзя ведь лукавить верующему в Него... И тут опять случается
ошибка; говорят, путая понятия и слова: «Ханжа, лицемер,
набожный и лукавый». Лукавый с людьми — не значит лице-
123
тяер перед Богом... Это значит только» что сила веры этого
человека недостаточна для одоления силы его враждебных и
приобретённых пороков... И только; а Господь на страшном
и справедливом суде своём, зная его врождённые свойства,
будет, вероятно, судить его, лукавого и несносного,
снисходительнее, чем многих из нас, и добрых, и любезных, и искренних
с людьми... Вес это «таланты» и «проценты» на них.. . Да,
«у Бога путей много!»... Tout chemin mene a Rome,— моя
почтенная и учёная Ф-а!.. И эту азбуку учёному русскому
человеку надо знать даже и в том случае, если он бесовщину спи*
ритизма предпочитает православной набожности. Довольно,
однако, об этом. Я отвлёкся.
Я думаю теперь о другом. ..
Теперь,— в уединении моём, уже близясь к могиле,—
успокоенный и, благодаря идеалам и утешениям этого самого
«ханжества» (московской Фите неприятного), гораздо более
счастливый, чем во дни моей мечтательной, тщеславной и
отвратительно-страдальческой юности, я стараюсь иногда
отдать себе отчёт, что портит больше и что воспитывает лучше
русских юношей: семья, школа или чтение... И мне опять
приходится немного разойтись с редактором «Гражданина»...
Или не то, чтобы совсем разойтись, а, быть может, к тому же
прийти, только более окольными путями. В области чувства и
действия я понимаю и люблю пути прямые: — в области
мысли я прямым путям не доверяю... «Гражданин» всё это
время говорил о школах; я хочу сказать несколько слов о
литературе по тому же самому поводу, по поводу влияния на
молодые умы.— По-моему так: семья сильнее школы; литература
гораздо сильнее и школы, и семьи.
В семье своей, как бы мы её ни любили, есть нечто
будничное и фамильярное; самая хорошая семья действует
больше на сердце, чем на ум; в семье мало для юноши того, что
зовётся «престижем». В многолюдном учебном заведении —
всегда есть много официального, неизбежно формального и
тоже — будничного.. .
И не может этого не быть... Поэзии {души-то этой) во
всякой большой школе мало... Самая стеснительность
неизбежной дисциплины; самая принудительность учения, столь
полезная для выработки терпения, воли и порядка, всё-таки
скучны; забывать этого не надо, когда судим об юности.
Только одна литература из всех этих трёх орудий влияния
всемогуща; только она одарена огромным «престижем»
важности, славы, свободы и удаления. Родители — свои люди,
в большинстве случаев весьма обыкновенные: их слабости, их
дурные привычки нам известны; и самые добрые юноши чаще
124
любят и жалеют отца и мать—чем восхищаются ими. Очень
хорошие дети чаще почитают родителей сердцем, чем уважают
их умом. И надо сказать правду, что в большинстве случаев
большего и требовать нельзя. И в заповеди ветхозаветной,
переданной и христианству, сказано: «чти отца твоего и мать
твою»; а не сказано: люби их во что бы то ни стало; или
уважай их внутренне, насильно, даже и тогда, когда они очень
порочны, глупы или злы. Религия требует от нас много
трудного, но невозможного она не требует. Чтут в человеке не
характер его, чтут отца. Из почтения добрый и честный сын
уступает отцу даже и тогда, когда он им ничуть не убеждён;
ибо уступить в моей воле, но убедиться не в моей...
Школа тоже не может так всевластно подчинить ум и волю
юноши, как посторонний и удаленный от него во всём величии
своей славы писатель.
От семьи и школы, даже и довольный ими юноша — рад
всё-таки в известное время эмансипироваться; от литературы
ему нечего освобождаться — он сам её ищет, сам избирает, сам
с любовью* подчиняется ей. Вот в чём разница!
Л что делала наша русская литература с того времени, как
Гоголь наложил на неё свою великую, тяжёлую и отчасти всё-
таки «хамоватую» лапу? . .
Я оставляю теперь в стороне публицистов и учёных: я
буду говорить только о романах и повестях.
Что же делала со времён «Мёртвых душ» и «Ревизора»
наша будто бы «изящная» словесность?
— Изображала правду жизни, — скажут мне...
Ах! Полно — так ли?
Нет, не так! Жизнь, изображаемая в наших повестях и
романах, была постоянно ниже действительности... Я обрываю
тут нить тех более общих мыслей, которые бы естественно
должны следовать за этим решительным моим определением.. .
и перейду пока прямо к военным героям в русской литературе,
В действительной жизни для того, у кого извращённый в
основах дух отходящего скоро в вечность XIX века не исказил
изящного вкуса и не убил здравого смысла,— военный будет
всегда выше штатского, конечно, при всех остальных равных
условиях со стороны ума, характера, воспитания, красоты и
силы телесной и т. д... Хорошо нам, штатским гражданам,
писать о политике и войне, позволительно нам подчас и
желать даже этой войны для пользы отчизны и даже
человечества; но недаром же спокон веку ценились и чтились
особенно те люди, которым выпадает на долю нести за всех нас
труды, болезни и все тягости походов и подвергаться всем ужасам
и опасностям битв...
125
Это до того ясно, до того старо и до того вместе с тем
вечно ново (ибо вечно справедливо), что я, напоминая об этом,
не хочу и обращаться на этот раз к тем, которые бы
потребовали от меня более подробных доводов. Я обращаюсь лишь
к тем, у которых есть хоть зародыш согласия со мной в
основании и хоть тень сочувствия моей этой главной мысли:
военный (при всех остальных равных условиях личных) выше
штатского по роли, по назначению, по призванию. При всех
остальных равных условиях — в нем и пользы и поэзии больше. ..
Это так просто и верно, как то, что во льве и тигре больше
поэзии и величия, чем в волу и обезьяне (даже и в большой,
как горилла); как то, что коринфская колонна лучше всех
колонн; как то, что Шекспир есть величайший драматург всех
времён, или как то, что Лев Никол. Толстой в «Анне
Карениной» и в «Войне и мире» выше всех романистов нашего
времени и за все последние тридцать—сорок лет во всём мире.
(Прошу при этом понять, что я различаю этого прежнего,
настоящего Льва Толстого, творца «Войны» и «Анны» от его
же теперешней тени.. . Тот Лев — живой и могучий; а этот,
этот — что такое? .. Что он — искусный притворщик или
человек искренний, но впавший в какое-то своего рода
умственное детство?. . Трудно решить... Расчёт, однако, верный на
рационалистическое слабоумие читателей!. .
Да, если бы он не стал теперь тенью прежнего «Льва», то
он-то именно, он, который так любил всё простое, он прежним
сильным умом своим давно бы понял такую простую вещь:
какая же это любовь — отнимать у людей шатких ту веру,
которая облегчала им жестокие скорби земного бытия?
Отнимать эту отраду из-за чего? Из-за пресыщенного славой и всё-
таки ненасытного тщеславия своего?
Что-нибудь одно из двух: если новый Толстой не понимает
такой простой вещи, что колебать веру в Бога и Церковь у
людей неопытных, или слабых, или поверхностно воспитанных
есть не любовь, а жестокость и преступление, то как ни
даровит был Толстой прежний — этот новый Толстой и в этом
частном вопросе просто выжил из своего ума! Или же если он и
тут не совсем опутался в мыслях, а придумал только чем бы
ещё неожиданным на склоне лет прославиться, то как это
назвать — я спрашиваю? Назвать легко: но боюсь, что
название будет слишком нецензурно — и умолкаю.
Впрочем, спрошу себя ещё: не оттого ли он так много
пишет о любви, что сам по природе вовсе не слишком добр?
Случается и это).
Итак, сделавши эту необходимую и мне, и читателю
оговорку, я возвращаюсь к прежнему. Блестящий военный дол-
126
жен быть, как он прежде и бывал, по преимуществу героем
романа. Во всей же нашей литературе — военный высшего
круга не был истинным героем романа со времени Лермонтова
и до больших сочинений Толстого.
Между «Героем нашего времени» и «Войною и миром»
прошло более тридцати лет. Между злым, но поэтическим
скептиком Печориным и спокойным, твёрдым и в то же время
страстным Вронским высится мрачный призрак Гоголя (не
Гоголя «Тараса Бульбы, Рима и Вакулы», а Гоголя «Мёртвых
душ» и «Ревизора»); призрак некрасивый,
злобно-насмешливый, уродливый, «выхолощенный» какой-то» но страшный по
своей всё принижающей силе.
Из этого серого мрака едва-едва высвобождаются (и то
не вдруг, а постепенно) — где Тургенев с честным Лаврецким
и энтузиастом Рудиным; где Писемский с благородным
масоном своим и привлекательными «людьми 40-х годов»; — где
Гончаров не с Обломовым, конечно, (ибо Обломов это тот же
Тентетников «Мёртвых душ» — только удачнее и симпатичнее
исполненный), а скорее уже с бессильным, но тонким и умным
Райским, Где — Достоевский с несколько бледным и далёким
сиянием христианского креста над клоакой окровавленного
гноища; а где и сам Толстой в своих первоначальных
повестях, как односторонний, ещё тогда не слишком самобытный
поклонник чрез меру потом прославленных «простых и
скромных» русских людей.
Больше всех от гоголевского одностороннего принижения
жизни освободился, я говорю всё-таки, он же — Лев Толстой —
и дорос сперва до военных героев 12-го года, а потом и просто-
напросто до современного нам флигель-адъютанта — Алексея
Кирилловича Вронского.
О Вронском-то я и хочу поговорить подробнее и, между
прочим, о том, почему нам Вронский гораздо нужнее и дороже
самого Льва Толстого.
Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно
и великому народу долго жить, а без Вронских мы не
проживём и полувека. Без них и писателей национальных не станет;
ибо не будет и самобытной нации.
Роман «Анна Каренина» имеет в себе такое множество
достоинств самого высшего разбора, что о нём стоит написать
целую особую книгу и даже большую, как и сделал недавно
умерший молодой и даровитый критик Громека. (Последние
произведения гр, Л. Н. Толстого, Москва, 1885 года).
Я не могу этим заняться; и если бы мог, то, конечно,
заключения мои были бы совсем иные, чем у Громеки. Во многих
отношениях они были бы даже совсем противоположны. (...)
127
У него Вронский назван «бессодержательным» человеком;
а на Левина он смотрит, как на некоего благодатного старца,
который может нам открыть даже и то, чего желает сам Бог!
«Раскройте нам тайны открывающейся вам новой,
величайшей области прекрасного! Говорите о Боге, о том, какие
законы оставил Он нам, и как их нам можно исполнить»...
Вот что восклицает под конец своего эпилога молодой и
восторженный критик! Левину присваивается какая-то уже не
только умственная или нравственная, но и мистическая сила.
Его изъяснение Закона Божия — есть новый катехизис,
пожалуй, даже и улучшенное очищенное Евангелие.
Да, можно сказать, «не поздоровится (духовно) от этаких
похвал!»
Легко Левину забыться, слыша подобные возгласы, и счесть
себя действительно священным сосудом нового откровения!
«Едва обретается человек, могий терпети честь (то есть
принимать почести, не повреждаясь от гордости), негли же
(а может быть) и отнюдь не обретается!» говорит Исаак
Сирийский в самом начале своего глубокомысленного творения:
«Слова духовно-подвижнические».
Но оставим пока Левина с его нравственными немощами (а
по предлагаемому мною эпилогу -ис религиозными
преступлениями) и обратимся к самому создателю его характера — графу
Толстому, к великим его эстетическим достоинствам и даже к
политическим (быть может, и нечаянным) заслугам его — в двух
больших его сочинениях «Войне и мире» и «Карениной».
Трудно решить, который из этих романов художественно
выше и который политически полезнее.
И тот и другой во всём так прекрасны; и тот и другой — хотя
и не во всём, но во многом так полезны, что не знаешь, которому
отдать предпочтение во всецелости его.
Я невольно останавливаюсь беспрестанно, и мысль моя,
подавленная обилием разнообразных достоинств Толстого в этих
трудах, недоумевает, с чего начинать!..
Положим — с эпохи. Великое время народной войны, эпоха,
неизгладимая из памяти русской... Конечно, задача выше,
содержание в этом смысле грандиознее, чем в «Карениной».
Так; но зато второй роман ближе к нам, и потому его красоты
могут иметь на нас, современников, более прямое влияние.
Хорошо чертами в одно и то же время крайне реальными,
внушающими полное доверие, и чувствами идеальными, нас
возбуждающими к лучшему, увековечить в памяти потомства годину
всенародного героизма; но чрезвычайно похвально и современнее
нам высшее русское общество изобразить наконец-то
по-человечески, то есть беспристрастно, а местами и с явной любовью...
128
Как не ценить этого после того, как в течение целых тридцати
и более лет никто не мог, не хотел и не умел за это взяться! Так
называемый «мужичок», «солдатик» раздражённый завистью
студент или разночинец, угнетённый чиновник Акакий Акакиевич,
или, напротив того, чиновник-грабитель Щедрина; Тит Титыч
Брусков, и в самом лучшем случае—благородный, но всё-таки
смешной Бородкин или некрасивый Каратаев Тургенева*,—
вот кто был почти исключительно вправе занимать собою
читателей в течение этих истекших тридцати или даже сорока
лет. Что касается людей более или менее
высокопоставленных или «благовоспитанных» (другого слова никак не
подыщу), то все подобные более изящные или более
привлекательные герои у Тургенева, у Гончарова и отчасти даже и у
Писемского— или нестерпимо бесхарактерны, или робки, или
крайне нерешительны, или во многих случаях даже низки (Ка-
линович), или не патриоты,-или неловки и ленивы до
карикатурности (Обломов), или физически слабы и не очень
красивы и т. д.
Скольким читателям, я уверен, в течение стольких лет
приходила на ум такая мысль:
— В частном случае, вот в том или этом, это, конечно,
правда и прекрасно изображено. Но что же мне делать, если
я в действительной жизни сам встречал нередко русских
людей и более твёрдых, и более смелых, и более красивых, и
блестящих, и более полезных государству и обществу, чем все эти
полуотрицательные герои... В частностях все эти романисты
правы, во всецелом отражении русской жизни — они не правы.
А прав был тот немецкий критик, который сказал про
героев Тургенева, кажется, так: «не думаю, чтобы все русские
мужчины были бы таковы»; — одна одиннадцатимесячная
осада Севастополя доказывает противное!
Было ли очень много у нас таких независимых и
прозорливых читателей — не знаю; но, разумеется, были и такие...
Не все очень умные люди пишут и печатают; и не все те
люди, которые пишут и печатают, настолько умны, чтобы
вовремя на всё это хорошо указать. Только у Толстого
действительность русская во всей полноте своей возвращает свои
права, утраченные со времён серых «Мёртвых душ» и серого
«Ревизора». Только его реализм (в этих двух больших
творениях, повторяю, а не в прежних более слабых повестях) —
только реализм Толстого есть реализм широкий и правдивый.
Только его творчество равняется русской жизни, а не стоит
много ниже её по содержанию и освещению, как у всех дру-
* Записки Охотника.
9 К. Леонтьев
129
гих. Справедливость требует, конечно, упомянуть здесь ещё
о «Четверти века...» и «Переломе» Маркевича... Но эти два,
тоже правдивые, тоже изящные и тоже весьма высокие романы
появились всё-таки позднее «Войны» и «Анны» Толстого, так
что инициатива восстановления, так сказать, эстетических прав
русского высшего общества всё-таки принадлежит не Марке-
вичу, а Толстому.
Искусство имеет свойство делать нам многое в жизни
яснее прежнего. Мы часто сами или вовсе не примечаем
чего-нибудь в действительности, или запоминаем явление только бес-
сознательными силами души, а художник более резким каким-
то выделением этого явления делает нам его иногда
неожиданно совершенно ясным, и мы сами дивимся, как мы прежде этого
не замечали.
Вспоминаю по этому поводу многое из моего личного
опыта. В Крыму, например, служа военным врачом во время
Севастопольской войны, я впервые увидал море. (В Петербурге
я даже и не желал никогда его видеть, забывал о нём).
«Я видел море, я измерил очами жадными его».,. Я видел
его тихим; видел в бурные дни, купался в нём, катался в
лодке, видел во время мелкой зыби; многие отливы цветов, много
красок я в нём сам сразу приметил; но никогда не замечал,
что во время мелкой зыби на верху каждой маленькой,
аквамариновой, зеленоватой волны образуется на мгновенье голу-
бой овальный кружок; появится, мелькнёт, исчезнет, и опять
появится, и опять исчезнет. .. Я и не замечал этого; но с тех
пор, как я увидел эти голубые кольца небесного отражения
уже не мелькающими, не рябящими в глазах моих, а
художественно-неподвижными на одном из морских видов
Айвазовского (и даже не на подлиннике, а на копии),— я стал видеть
их сам и в действительности, даже без всякого напряжения
внимания. Эти голубые кружки на зеленоватой зыби вошли
уже раз навсегда после этого в неизгладимый запас моей
психической жизни. То же было и с тенью на снегу в ясный
зимний день. Кто-то при мне сказал: «так нельзя писать снег; это
мел какой-то; у снега в солнечный день — тень
голубоватая», .. И вот я забыл даже, кто и где это сказал, а
голубоватую тень снега вижу с тех пор. ..
То же бывает и с хорошими портретами; мы лучше
понимаем даже своё собственное лицо, когда оно изображено
неизменно и удачно, хотя бы на хорошей, искусной фотографии,
не говоря уже о прекрасной акварели или талантливом
полотне. ..
То же и с характерами людскими. Давно сказано, что не
всякий умеет наблюдать то, что он видит. Не только большин-
130
ство, менее способное, но и все самые способные люди
нуждаются в помощи чужого ума, чужого наблюдения, чужого
творчества для более всестороннего и ясного понимания
природы и жизни.
Оригинальность, умение видеть и показывать другим нечто
новое — само по себе редкость, но и для оригинального, для
нового освещения жизни — необходимы предшественники.
Разница между умом оригинальным и неоригинальным та, что
первый не останавливается сразу только на том, что указали ему
предшественники его в области мысли, но ищет уже прямо
в жизни чего-то ещё иного, и не только ищет, но и находит
его. Напротив того, человек не оригинальный, наблюдатель без
творчества удовлетворяется — если не на всю жизнь, то
надолго— чужим освещением явлений, чужим мировоззрением,
усвояя его себе иногда до такой глубины и силы, что и жизнью
за эту чужую (по происхождению) мысль иногда жертвует.
Робеспьер был несравненно сильнее волей и духом, чем
Ж. Ж. Руссо, ибо он жил его мыслями,
В литературе это особенно заметно, и мы видим часто, что
люди, весьма твёрдые характером, самобытные волей,
оригинальные, пожалуй, и независимые в жизни, являются
литераторами вовсе не оригинальными, слабыми, почти вполне
подчинёнными своим знаменитым предшественникам и во
взглядах, и в выборе сюжетов и лиц, и даже в языке и внешнем
стиле.
Совсем других, не тронутых ещё характеров, иных, новых,
вовсе не виданных у других авторов положений они в жизни
или совсем не замечают (так, как я долго не замечал голубых
колец на зыби); или хоть и видят их кое-как, но не смеют и
не умеют их изобразить.
У таких писателей достаёт независимости на то, чтобы
к образам, уже всем знакомым, прибавить ещё две-три черты
своих, но для того, чтобы хоть попытаться выбраться из
современной им толпы и осветить жизнь хотя бы и ложным
светом, но на общепринятый способ освещения непохожим,— для
этого у них уже нет силы. Было время, когда о мужике,
например, у нас никто не писал; писали о «военных героях»;
потом явился Гоголь,— и запретил писать о героях (разве о
древних, вроде Бульбы), а о мужиках позволил. И все стали
писать даже не о мужиках, а о «мужичках». Гоголь разрешил
также писать о жалких чиновниках, о смешных помещиках и
о чиновниках вредных. Потом прибавился ещё к этому так
называемый «солдатик» и, в особенности, «заскорузлый»
солдатик. Ещё купец-деспот — по образцу Островского — и, наконец,
бесхарактерный, вечно недовольный собою, расстроенный «лиш-
9*
131
ний человек» Тургенева. И множество молодых русских, если
не героев, так «jeunes premiers», так сказать, и в жизни самой,
и в повестях стали рвать на себе волосы, звать себя прямо из
Гоголя «дрянь и тряпка» (болваны!) и находить себя ни на
что не годными.
Комедии? .. Я в последнее время, по роду занятий своих
в Москве, вынужден был прочесть много новых комедий и
драм из русской жизни. И, признаюсь, несмотря на то, что
у меня память хороша, я невольно только и запомнил, что два
перевода, два весёлых либретто: «Весёлая война» и «Жирофле-
Жирофля». По крайней мере пусто, живо, весело и, в
сущности, невинно; гораздо невиннее разных известных драм
русских авторов. (Я говорю известных другим, очень многим, но
мною, клянусь, тотчас же забытых и уже теперь и не
различимых драм).
Помню, что вообще какая-то молодая, «страстная», или
«чистая душою» женщина бросается в реку, отравляется,
закалывается; и всё оттого, что все другие люди очень дурны, а она
очень хороша, искренна (особенно — эта искренность у них
в почёте! Да чёрт её побери, эту искренность, если она или
вредна, или бестолкова)... Встречается также много добрых,
но слабых отцов; мужей добрых, но «непрактических»...
(один совсем практический, другой совсем непрактический
человек— какая верная и точная классификация — подумаешь!).
Граф или князь, щеголь и т. п.,— это уж непременно подлец...
Студент, учитель, какой-нибудь «честный труженик»
(произносите, прошу, это великое слово позначительнее!) — это всё
благородные, умные люди. Ну, что за вздор! Ведь это вовсе
неправда; это вовсе не реально... Я сам (да и всякий поживший
человек) знавал князей и графов, и франтов разных, и даже
фатое отчасти, которые были при этом благороднейшие и очень
умные люди, и сам же я встречал и смолоду, и теперь
учителей и студентов таких мерзавцев и таких ничтожных, что
Боже упаси; несмотря на то, что они были «труженики» и что
ногти у них были черноваты или пальцы желты от папирос.
Я уверен даже, что многие из авторов тех бесчисленных
драм, которые мне пришлось, к несчастию (тоже по
обязанности «честного труда»), просматривать за последние семь лет
в Москве по литографированным тетрадкам г. Рассохина и др.
театральных издателей, я уверен, говорю, авторы эти знают,
что бывают студенты мерзавцы (и даже очень часто), а
флигель-адъютанты, камер-юнкера — прекрасные люди, «оно так,
положим, но поди опиши-ка это!» Ну, а «лев» негодяй и «тру-
132
женик» благородный — это уж верный сбыт... Нужно только
две-три черты своих — и довольно!..
Впрочем, что и говорить о людях бездарных, когда даже и
у таких умных писателей, как Глеб Успенский, Немирович-
Данченко, искусственно прославленный некогда
«Современником» Помяловский и т. д.,— Гоголь так и дышит из каждой
строки! Всё не грубое, не толстое, не шероховатое, не
суковатое им не даётся. «Буржуй»,— «борода да копром», «прёт» и
т. д. Сами в жизни они, вероятно, слишком опытны и умны,
чтобы не видеть иногда и нечто другое, но как писатели —
как же могут они высвободиться из тисков той сильной, но
в своей силе неопрятной и жестокой руки Гоголя, о которой я
уже говорил, когда ни Достоевский, ни Тургенев, ни
Писемский, ни Гончаров не могли не подчиниться ей, один так,
другой иначе?
И у Льва Толстого можно найти даже в «Анне Карениной»
следы этой гоголевщины; конечно, не в мировоззрении общем,
не в избрании лиц и среды,— но в некоторых мелочах, в иных
выражениях, в иных подробностях, нужных Гоголю для его
целей, ему же, Толстому, вовсе ненужных. Я об этих весьма
характерных мелочах упомяну после и укажу на них тогда *.
* Дальнейшее развитие эти мысли получили в последующих статьях
автора: «Анна Каренина» и «Война и мир», вошедших потом целиком в
критический этюд его о романах гр. Л. Толстого «Анализ, стиль и веяние». —
Ред.
ДОБРЫЕ ВЕСТИ
(Отрывок о монашестве)
II
Когда речь идёт о современном русском монашестве,
нельзя не вспомнить о жалобах, которые приходится нередко на
него слышать. Осуждения, недоброжелательства в либеральном
духе, как придирчивые и глупые по существу,— я оставляю
в стороне; я хочу сказать несколько слов лишь о тех жалобах,
которые можно назвать жалобами доброжелательного усердия.
Люди умные, религиозные люди, желающие видеть в и но-
ках образцы добродетелей, досадуют (и часто весьма
основательно) на то, что большинство монахов нашего времени
слишком уж недалеко понятиями, слишком грубо, серо,
жёстко, нередко гораздо жёстче благовоспитанных и тонких
чувствами мирян.
Это отчасти правда.
Но кто же, прежде всего, виновен в этом, как опять не
мы же?
Мы, представители передового сословия,— мы люди
благовоспитанные, привычками тонкие, сердцем гуманные. Не мыли
отступились от монастырей? Не мы ли забыли о громадной,
о ничем другим не заменимой важности их учения, не только
для нашей личной дисциплины, но и для строения
государственного и даже для умственной независимости нашей от
Запада, неуклонно и слепо стремящегося к той самой всеобщей
равноправности, к той самой ненависти к подчинению, на
которую указывал <один великий духовный) старец, как на
вернейший признак приближения конца?
Не мы ли, люди с «рыцарскими» преданиями, воспитанные
на благородных, романтических и утончённых идеалах,— не
мы ли, увлекшись вослед за стареющей Европой во все её
новейшие, пошлые и плоские вкусы и мечты,— предоставили
господство в монастырях купцам Островского и сыновьям
церковных причетников?
И не их корить надо, а нас, дворян, за то, что русские
монахи грубее и ограниченнее, чем они могли бы быть, если бы
в их среде естественно преобладали люди высшего
образования.
Конечно, святые люди выходили и будут выходить из всех
сословий; но истинные святые были всегда исключениями;
а хорошо бесспорно и то, что средний уровень монашества (и
вообще духовенства) был бы повыше. С этим нельзя не
согласиться.
134
Монастыри — учреждения хотя и священные, но всё ж таки
и человеческие. (Богочеловеческие, как любит обо всём
религиозном выражаться Влад. Соловьёв). Поэтому и в них, как
и во всей церковной жизни, человеческое начало остаётся
верно и своим душевно-естественным законам. Как бы ни
проникался инок общим и даже наивысшим духом монашества, он
непременно сохраняет в себе некоторые привычки и
наклонности своего времени, своей национальности, своего
сословного воспитания и своей личной натуры.
Купцы Островского и сыновья церковных причетников,
господствовавшие последние два века в русских обителях,
послужили, как умели и как могли, Православию верой и
правдой. Они работали Богу (а косвенно и царю и народу) — по
совести, по мере своего разумения и по характеру своих
сословных привычек и вкусов...
А мы? Много ли было из нашего круга за последнее
столетие—великих подвижников, замечательных настоятелей,
духовных старцев? Известные чем бы ни было за всё это время
монахи из дворян — все наперечёт. Я говорю только
известные чем бы то ни было,— я уж не говорю прославленные
святостью,— заметьте.
К тому же, не надо упускать из виду и то обстоятельство,
что когда количество людей, переходящих из одного сословия
в другое, очень мало, то они неизбежно подчиняются
привычкам и понятиям подавляющего большинства. И если при этом
самобытная работа мысли у человека не особенно сильна, то
он очень легко смешивает то существенное, что принадлежит и
должно принадлежать новому обществу, которого он стал
членом, со всем несущественным и случайным, могущим, не
расстраивая основ известной социальной группы, изменяться
к худшему и к лучшему. Монастыри суть учреждения весьма
устойчивые и малоподвижные по основам своим — по
преданиям, уставам, по духу учения, но они весьма подвижны по
личному составу их членов.
Всякий может стать монахом и всякий вносит в монастырь
кое-что от привычек, вкусов и понятий того сословия или
класса, в котором он родился и рос; особенно это резко, если он
поступил не слишком молодым. Дворян родовитых,
образованных по-светски и умственно, в уровень века развитых, было
у нас до последнего времени в монастырях очень мало, и
потому естественно, что и они, погружённые в толпу крестьян,
торговцев, мещан и церковников, утрачивали много и таких
свойств, которые при других условиях они могли бы
сохранить с пользой для общества и без вреда для личного своего
спасения. В монастырях такого рода утратам благоприятствует
135
к тому же и само учение; надо отсекать волю донельзя, надо
повиноваться, надо смиряться. И вот, в среде преобладающих
и иначе воспитанных людей (вообще) посерее вместе с
плевелами личными выдёргивается и кое-что из той пшеницы, кото*
рую посеяло в людях более тонкое и высокое домашнее и
сословное воспитание.
А если бы дворян и вообще людей высшего образования
было бы в обителях наших больше и они заслугами своими
и подвигами удостаивались бы почаще начальствования, то,
конечно, это отразилось бы неизбежно на привычках целых
монашеских общин и на само мирское общество монастыря
имело бы больше влияния.
Мы, дворяне русские и представители высшего воспитания
в России,— мы более всех виноваты в том, что монашество
наше, руководимое или купцами старого закала (т. е. людьми
вовсе неучёными), или детьми церковников (людьми, пожалуй,
и учёными, но вовсе не благовоспитанными), серо, отстало,
грубовато и непонятливо.
Разумеется, средний уровень монашества нашего много бы
поднялся, если бы оно находилось под влиянием и
руководством людей, которые сами бы стояли на высшем
современном уровне и, совмещая в себе образованность и
благовоспитанность с искренней верой, смотрели бы на обе первые силы
свои лишь как на служебные — для второй, для веры.
Это, несомненно, так. Но при этом, однако, не надо забывать
и того общего правила, что монашество всегда было и будет
при самых лучших условиях всё-таки исполнено нравственных
несовершенств.
Оно было таковым ещё во времена святоотеческие, и мы
можем найти по этому поводу много поучительного не далее,
как в Житиях. (Напр., в Житии св. Пахомия Великого. См.
сон его — монахи, идущие изо рва в гору и падающие снова
вниз).
Несовершенство и греховность монашеского большинства
даже необходимы для высших целей иночества.
Если бы все монахи были ангелоподобными не только по
стремлению, по идеалу, но, так сказать, по достижению,— то
не могли бы вырабатываться в монастырях святые люди,
великие подвижники и старцы. К телесным понуждениям
человек привыкает скоро, особенно если он рано поступил в
обитель; но скорби душевные, несправедливости, насмешки,
клеветы и обиды — переносить очень трудно во все года. Если бы
в монастырях не было вовсе грубости, жёсткости, вражды и
обид, то как же бы вырабатывались примерные и мудрые
иноки, которые, достигши полной духовной зрелости своей, служат
136
светочами и для своей братии» и для нас, мирян? Ведь
самолюбие и тайная гордость преследуют до могилы всякого
человека, и святые не могут быть вполне чужды их движениям. Но
они умеют быстро и мгновенно тушить в себе их огонь
сознанием, покаянием, смирением. И алмазы находятся не в куче
дорогих и близких к ним но цене изумрудов и рубинов, а в
каких-нибудь простых и грубых камнях.
Для большинства монахов, при самых лучших условиях со
стороны того мирского общества, из которого они выходят,
достаточно искренней веры в святость того учреждения,
которому они служат, и преданности ему. И среднего уровня в
монашестве не легко достичь, а очень трудно. Мы замечаем
только слабости; Бог же видит все тайные усилия, все болезненные
внутренние жертвы — и самых слабых подвижников, и самых
грубых людей. Только поймите монашество, и оно будет
полезно вам даже и в теперешнем составе своём.
Общие взгляды у большинства монахов узки, формы грубы;
дух управления и отношений к мирянам слишком уж
хозяйственный, но основы учения у всех у них правильны, и
предания, свято хранимые, в высшей степени наставительны.
Я даже позволяю себе думать, что в наше время нужно
считать не совсем оконченным христианское воспитание того
человека, который не дал себе труда познакомиться с
монашеским учением, не искал общения с истинно духовными людьми.
И вот в этом-то смысле, между прочим, поворот за
последние годы у нас весьма благоприятный. Примеров у меня
много, и мне очень жаль, что обычай не позволяет мне называть
все имена. Ещё живя в Москве пять—шесть лет тому назад,
я знал студентов, которые обращались за советами и
благословением к отцу Варнаве в Троицкой лавре и следовали его
указаниям.
Отдадим здесь, кстати, ещё раз честь и Каткову. Студенты
его лицея особенно склонны к религиозности.
Приезжают и сюда многие молодые люди посоветоваться
со старцами. Один, кандидат Московского университета,
человек, по всем признакам, с будущностью, приехал сюда два
года тому назад благословиться па неравный брак с девушкой
простого звания, которую он любил. Он и её привёз с собою.
Старец благословил охотно; они обвенчались и живут теперь
счастливо. Другой, тоже окончивший университетский курс
в Москве, юноша весьма даровитый и характером смелый и
самобытный, страстно желал пойти в священники, но он не
хотел отдаться своему влечению, не испросив здесь на этот
шаг благословения. В семье его были этому серьёзные
препятствия,— отец его православный, но мать католичка, и она
137
приходила в ужас от мысли, что сын её будет схизматическим
священником. Она тревожила совесть религиозного сына
угрозой, что ей перед смертью ксёндзы не дадут причастия.
Старец сказал, чтобы он этого не боялся.
Теперь этот молодой человек уже скоро год как
священником в одном из значительных городов Западного края и
судьбой своей доволен.
Был недавно здесь ещё и третий юноша, тоже москвич,
студент первого курса, всего двадцати лет, из хорошей семьи,
видимо, со средствами и связями, живой, горячий, симпатичный,
собою красивый. Он тоже мечтает так или иначе послужить
Церкви — обдумывает проект общества для усиления
христианства в образованной среде и до того увлечён своими
широкими мечтами, что для пользы самого дела нужно его
немножко охлаждать и учить терпению.
Со всех сторон слышишь вести этого рода.
Тут — молодой ещё, богатый, блестящий и влиятельный
помещик, который даже и на Страстной неделе постоянно ел
мясо, с нынешнего года стал соблюдать посты, хоть на
рыбном.
Там—тридцатилетний богач-фабрикант весьма
известного имени, прекрасно образованный, служивший в ранней
молодости в лейб-гусарах, после почти случайного посещения
Оптиной и после двух-трёх уже решительно случайных встреч
хочет впервые вникнуть в смысл православного учения и
запасается богословскими книгами.
Один публицист из дворянского рода, человек тоже
средних лет, способный и увлекающийся, давно уже писал
пламенные статьи в духе славянофильства и Православия; сам же
до запрошлого года не только не соблюдал постов и в церкви
редко бывал, но даже пятнадцать лет подряд не говел. Один
из его знакомых вздумал показать ему письмо постороннего
лица. В этом письме шла речь о вере вообще и, между прочим,
и о нём самом, об этом публицисте. «Он пишет статьи в
защиту Православия,— это, конечно, хорошо (говорилось в
письме); это гораздо лучше, чем писать в ином духе. Но сам-то
он православен ли? Ведь он, я знаю, поступает так-то и так-то
(как выше сказано). Не подражай ему. Прежде же чем учить
других, учитесь сами быть православным» и т. д.
Нескромность знакомого, решившегося без спроса показать
писателю это чужое письмо, сделала пользу. Славянофил при-
нял всё это умно и добросовестно. Сознался в своей вине,
говел, исповедовался весьма серьёзно у одного из лучших
столичных священников и после этого даже обращался
письменно к старцам с вопросами по своим семейным делам.
138
Очень недавно, прошедшей осенью, приехал сюда из
другой губернии молодой пруссак-агроном,— очень развитой,
способный, а не какой-нибудь — «несчастный». Он управлял
имением у г. Б-ва и был принят дружески в его семье. Семья
религиозна и благовоспитанна. Пруссаку православие этой
семьи так понравилось, что он, по совету Б-ой, приехал сюда
надолго, почти каждый день ходил к старцу; читал книги,
указанные им, и принял Православие. Теперь он нашёл себе
в этой стороне хорошее место и задумал даже стать русским
подданным. Подозрительные люди есть везде,— и здесь
нашлись такие лукавствующие умы, которые не хотели отнестись
к этому случаю прямо и просто, а стали придумывать тайные
поводы и расчёты: говорили, что у него где-то есть невеста,
богатая русская барышня, которая согласна за него выйти, но
только в том случае, если он переменит веру. Оказалось, что
никакой подобной невесты у него нет. Я познакомился с ним,
и он производит на меня впечатление искреннего и очень
умного человека. Он говорил мне, между прочим, что приходское
наше духовенство никогда бы не могло обратить его: оно ему
очень не нравится; но подействовали на него прежде всего
люди прекрасной и набожной дворянской семьи, а потом — оп-
тинские старцы.
О пострижении в монахи на Кавказе князя Бориса
Петровича Туркестанова, ещё недавно полагавшего начало тоже
здесь, в скиту, в «Гражданине» печатали. Я и его знаю, конечно,—
и он тоже весьма образованный и умный молодой человек.
Прошлого года мне писали из Западного края, что там двое
гвардейских офицеров рукоположены во священники.
Теперь оттуда же сообщают, что один офицер инженерной
академии желает того же.
О враче Оболенском, который в Петербурге постригся в
монахи, я вчера прочёл в «Гражданине» (№ 54).
На днях здесь был еще один гвардеец. Он, как слышно,
советовался с духовником — тоже о принятии священства.
Прошлым летом здесь гостил с неделю и принимал участие
в соборном богослужении 20-летний священник от. Сергий Ве-
ригин (женатый на графине Мусиной-Пушкиной); он состоит
приходским в своём имении, Пензенской губ. Он посещал и
меня, и мы с ним не раз подолгу беседовали. Я был до
крайности утешен этим знакомством.
Один вид такого юноши в рясе, один вид такого изящного
иерея — русского — и тот донельзя приятен.
Разве это не добрые вести, если всё взять в совокупности?
139
НАД МОГИЛОЙ ПАЗУХИНА
Скольких бодрых жизнь поблёкла,
Скольких низких рок щадит!..
Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терзит!
(Жуковский, «Торжество победителей»).
Умер Пазухин, которого имя так неразрывно связано с
великим исправительным движением 80-х годов. Давно ли мы
погребали и гр. Дмитрия Толстого, который сумел оценить
Пазухина и избрал его себе в помощники в то время, когда
решился так смело и почти неожиданно приступить к
перестройке расшатанного эгалитаризмом российского
государственного здания?
Рухнули в вечность два столпа церкви русской — Алексий
и Никанор.
А «Вестник Европы» жив. Издаются по прежнему
«Новости», и вес тем же Нотовичем. Даже Шелгунов, и тот ещё
печатает свои творения.
И все эти русские и полу-русские Терзиты не только живы
и действуют, но даже за последние два года им
посчастливилось втянуть в свою заразительную трясину и такого Аякса
мистической и философской мысли, как Владимир Соловьёв!..
И старый безумец Лев Толстой продолжает безнаказанно
и беспрепятственно проповедовать, что Бога нет, что всякое
государство есть зло и, наконец, что пора прекратить
существование самого рода человеческого на земле.
И он не только жив и свободен, но и мы сами все, враги
его бредней, увеличиваем его преступную славу, возражая
ему!..
Как же быть? Что делать? Чему верить? На что нам
надеяться?
Разные течения жизни и мысли русской теперь так
противоположны и так сильны.
Начнешь думать, начнёшь вспоминать то, что видел, что
слышал, что читал за последние пять лет... И не знаешь —
какому чувству дать волю: радости или скорби за родину? —
надежде или унынию? — стыду или гордости? Правильные,
здравые, целительные русские чувства и понятия, правда,
растут, растут с давно неслыханною силой; но и силы
разрушительные, идеалы космополитической пошлости ничуть ещё
не хотят сдаваться... А в соседней и, к несчастью, уже столь
близкой нам по духу Европе, всё чаще и чаще слышны глухие
удары подземного огня.
НО
Медленно, но верно растёт вглубь и вширь сила последней
революции, неслыханной до нашего века в истории попытки
всё сравнять в однообразии «среднего» рабочего человека.
В Португалии, в Бельгии, в Италии, во Франции, в
Германии— везде, па глазах наших, всё зреет и зреет социальный
вопрос.
Религия везде почти в презрении или открыто гонимая.
В значение монархического начала для Европы XX века
(который всё ближе и ближе к нам с каждым днём) кто, по
совести говоря, может верить? Разве тот, кто не умеет читать
живую книгу современной истории...
Все западные континентальные державы на глазах наших
легко могут стать такими же умеренно-якобинскими
республиками, как Франция.
Даже лично все современные нам монархи Запада не
обещают ничего особенного; все они, за исключением
Вильгельма II, или бездарны, или малолетни, или бессильны. Ни об
одном из них не слышно ничего знаменательного.
Вот и мудрейшие из всех людей на Западе — представители
римского духовенства — и те, в лице кардинала Лавижери,
предлагают церкви своей примириться с республикой...
В Европе теперь единственная, пока ещё действительная,
монархическая сила видна только в положении германского
императора. И то благодаря лишь тому, что «военные лавры»
Гогенцоллернов ещё свежи и не помяты жёсткой рукой
исторического рока. Но император Вильгельм хочет мчаться «на
всех парах» к мечтательным целям, и пошатнись только он,
потерпи только он одно серьёзное поражение на поле
какой-нибудь битвы, — что останется тогда в разделённой
либерализмом Германии от монархии Гогенцоллернов, кроме исторической
памяти?
Да! Европа идёт всё быстрее и быстрее теперь к
осуществлению того идеала всеобщей «мещанской» республики, о
котором многие только мечтали и писали полвека тому назад.
Мне могут возразить, что социализм рабочих есть злейший
враг того капиталистического мещанства, которое
исключительно господствует в таких республиках, как нынешняя
французская и все без исключения республики Нового Света; и что,
признавая неотвратимый и непрерывный рост социализма,
нельзя верить в будущность того якобинизма, который по сию
сторону Атлантического океана осуществлён пока лишь в
одной Франции...
На это я отвечу так: конечно, повсеместное господство
мещанского капитализма может быть весьма непродолжительно.
Но пережить его придётся всей Европе неизбежно. С чистой
И1
повсеместной капиталистической и «рациональной»
республикой социализму, выждав своё время, гораздо легче будет
справиться, чем с таким более сложным обществом, в котором
Церковь, монархия и высшие сословия ещё не совсем
утратили своё влияние.
Окончательная победа социализма или совершенная его
негодность одинаково могут обнаружиться с полной ясностью
только тогда, когда, по выражению Карлейля, «голод и
дендизм (богатство, роскошь) станут лицом к лицу». Только тогда
возможно будет решение этой страшной тяжбы, когда, кроме
этих двух антагонистических сил, богатства и нужды, труда и
капитала, не будет уже никакой третьей, вне их и над ними
стоящей, регулирующей и примиряющей общественной силы.
Религия играет теперь везде на Западе второстепенную и
служебную роль; серьёзные привилегии сословий и общин
почти все давно уничтожены; ещё держится кое-как монархия.
Но и она должна погибнуть.
Ещё в 40-х годах большинство представителей
теоретического социализма утверждало, что демократическая
республика есть та политическая форма, при которой единственно
возможно осуществление социальных задач.
Вот почему я говорю, что мещанскую всеобщую и, быть
может, и федеративную (т. е. международную) республику
придётся Западу скоро переживать.
Слова Прудона, сказанные им в 51-м году, оказываются
теперь пророческими словами. «Церковь, — говорит он, — как
умирающая старая грешница, молит о примирении; боги ушли;
цари уходят; привилегии исчезают; все хотят быть
тружениками, «рабочими». С одной стороны — потребности удобств и
некоторогоо изящества отвращают в наше время уличную
толпу от прежнего грубого «санкюлотизма»; с другой —
аристократия, ужасаясь своей малочисленности, спешит укрыться
в рядах буржуазии. .. Франция, выражая всё более и более
свой истинный характер, даёт пример и толчок всему свету, и
революция торжествует, воплощённая в среднем сословии».
Я совершенно согласен с Прудоном. Революция XVIII и
XIX веков вовсе не значит террор какой-нибудь и казни
(террор может быть и «белый»); она не есть ряд периодических
восстаний (восстания Польши; восстания басков в Испании,
Вандея во Франции были реакционного, а не революционного,
не уравнительного характера); революция не есть какое-нибудь
вообще антилегальное движение (не всё легальное зижди-
тельно, и не всё с виду беззаконное разрушительно); такие
определения современного нам революционного движения одно-
сторонни, узки и сбивчивы.
142
Если же мы скажем вместе с Прудоном, что революция
нашего времени есть стремление ко всеобщему смешению и ко
всеобщей ассимиляции в типе среднего труженика, то всё
станет для нас понятно и ясно. Прудон может желать такого
результата; другие могут глубоко ненавидеть подобный идеал;
но и врагу, и приверженцу станет всё ясно при таком
определении революции. Европейская революция есть всеобщее
смешение, стремление уравнять и обезличить людей в типе
среднего, безвредного и трудолюбивого, но безбожного и
безличного человека, — немного эпикурейца и немного стоика.
Для Запада это ясно. Но кто возьмётся решить теперь,
будет ли эта ассимиляционная революция неотвратимо
всемирной, или найдёт и она свой естественный и непреодолимый
предел?
И если встретит она, наконец, могучий и победоносный
отпор,— то откуда ждать его?
От «потрясённого Кремля»? Или от «стен недвижного
Китая»?
Подумаем, вспомним, окинем умственным взглядом нашим
весь земной шар.
Где новые, сильные духом неизвестные племена?
Их нет нигде. Азиатские народы — древни, африканские —
бездарны, Америка — это всё та же Европа, только более
грубая и более бедная историческим содержанием. Америка,
молодая государственно, — национально и культурно очень
стара.
Всё человечество старо. И недаром у него сухой рассудок
всё растёт и растёт; а воображение, чувство, фантазия и даже
воля — всё слабеют и слабеют.
Не молоды и мы. Оставим это безумное самообольщение!
Быть в 50 лет моложе 70-ти летнего старика — ещё не
значит быть юным.
Быть исторически немного (быть может, лет на 100)
моложе Франции, Англии, Германии — ещё не значит быть
молодым государством, а тем более молодой нацией, как думают
у нас многие.
Печальная иллюзия! Опасная ошибка!
Не вернее ли, не полезнее ли, ничуть не падая духом, но
и не ослепляясь привычными фразами, «не обрастая словами» *
(как любят обрастать ими, например, все «чистые»
славянофилы), сказать себе так:
* Это удачное выражение «обрастать словами» принадлежит не мне,
а Каткову. Катков про И. С, Аксакова говорил: «он весь оброс слова ми !>
Удивительно верно!
143
— Нет, мы не молоды! В некоторых отношениях мы даже
дряхлы и не чужды всем тем недугам, которыми обыкновенно
страдают стареющие народы. Но есть старость — и старость.
Есть организмы, которые очень долго могут бороться с
одолевающими их недугами последнего разрушения, и есть другие,
которые не в силах вынести такой долгой борьбы. И мы не
молоды уже, но благодаря тому, что правительство наше не
отступалось от Церкви, и благодаря тому, что Церковь
Восточная всегда считала и считает монархическую форму правления
наилучшей формой для осуществления воли Божией на
земле, — мы ещё не скоро сдадимся. Мы не осуществили ещё
в истории назначения нашего; мы можем думать и мечтать об
этом назначении весьма различно. Но несомненно и то, что
мировое назначение у нас есть; ясно и то, что оно ещё не
исполнено. Мировое не значит — сразу и просто
космополитическое, т. е. к своему равнодушное и презрительное. Истинно
мировое есть прежде всего своё собственное, для себя
созданное, для себя утверждённое, для себя ревниво хранимое и
развиваемое, а когда чаша народного творчества или
хранения переполнится тем именно особым напитком,
которого нет у других народов и которого они ищут и жаждут,
тогда кто удержит этот драгоценный напиток в краях
национального сосуда!? — Он польётся сам через эти края
национализма, и все чужие люди будут утолять им жажду
свою.
Я говорю: важно и спасительно для стареющей России не
только то, что государство у нас не отступается от Церкви, но
и то, что Восточная Православная Церковь монархическую
форму правления вообще почитает за наилучшую для
задержания народов на пути безверия, для наиболее позднего
наступления последних времён. И это не только у нас, в России,
но и в среде восточных единоверцев наших так думали ещё
недавно все те люди, у которых религиозные чувства не были
подавлены и совращены с прямого пути эмансипированным
национализмом. Например, было время, когда именно самые
умные и самые религиозные из греков находили власть
султана более полезной для веры, чем власть афинского
парламента. Если всё это позднее значительно изменилось, то,
конечно, не по существу дела, но потому, что турки стали
теперь слишком современными «европейцами», в самом дурном,
антирелигиозном значении этого слова. Они стараются
ослабить веру своих православных подданных, чего в
старину они вовсе не имели в виду. В старину они угнетали их
самих, как людей, но их веры, их церковных порядков они не
касались.
144
Есть у меня небольшое поучение епископа и затворника
Феофана * под названием «Отступление в последние дни
мира».
Вот как понимает этот мыслящий аскет великое,
мистическое значение какой бы то ни было монархической власти,
а тем более, конечно, православной.
Изобразивши сначала, как будут возрастать всё больше
и больше и неверие, и разноверие, до того, что, наконец,
почти у каждого будет своя вера, преосвященный Феофан
продолжает так:
«Древние толковники св. Писания силою, удерживающею
явление антихриста, считали, между прочим, и римское
царство. В их время, когда римское царство ещё существовало,
можно было на него указывать, основываясь на пророчестве
Даниила. В наше время, если можно давать какой-нибудь вес
подобной мысли, то разве в том отношении, если под римским
царством будем разуметь царскую власть вообще. Царская
власть, имея в своих руках способ удерживать движения
народные и держась сама начал христианских, не попустит
народу уклониться от них, будет сдерживать его.
А так как антихрист главным делом своим будет иметь
отвлечение всех от Христа, то он и не явится, пока будет
в силе царская власть. Она не даст ему развернуться и
помешает ему действовать в его духе. Вот и это есть
удерживающее.
Когда же всюду заведут самоуправство, республики,
демократию, коммунизм, — тогда антихристу откроется простор для
действования. Сатане нетрудно будет подготовлять голоса
в пользу отречения от Христа, как это показал опыт во время
французской революции прошедшего и нынешнего столетия.
Некому будет сказать властное veto (не позволяю), а
смиренного заявления веры и слушать не станут. Вот когда заведутся
всюду такие порядки, благоприятствующие раскрытию анти-
христовских стремлений, тогда явится и антихрист. До того же
времени подождёт, удержится.
На*эту мысль наводят слова св. Златоуста, который в своё
время представлял царскую власть под видом римского
государства. «Когда, — говорит он, — прекратится существование
римского государства (т. е. царской власти), тогда придёт
антихрист; а до тех пор, пока он будет бояться этого
государства (т. е. царской власти), никто скоро не подчинится
антихристу. После же того, как оно будет разрушено и водворится
безначалие, — он устремится похитить власть и Божескую, и
Тамбовского или Воронежского — не помню.
10 К. Леонтьев
145
человеческую». Можно бы возразить при этом, что народ сам
будет блюсти свою веру. Но трудно допустить, чтобы вера
с течением времени возрастала в своей силе всё более и более.
Приятно встречать у некоторых писателей светлые
изображения христианства в будущем*, но нечем оправдать их. Точно,,
благодатное царство Христово расширяется, растёт и полнеет,
но не на земле — видимо, а на небе — невидимо, из лиц, и там,
и здесь, в царствах земных, приготовляемых туда
спасительною силою Христовою. На земле же Самим Спасителем
предречено господство зла и неверия\ оно и расширяется видимо*
и когда уже очень возобладает, тогда дело будет только за
почином\ подай только кто-либо влиятельный пример или
голос сильный, и отступление от веры начинается.
Этот почин и сделает антихрист. Отсюда можно заключить,
что удерживающее явление его есть ещё и то, что нет должной
подготовки к принятию его, еще не взяли перевес неверие и
нечестие, ещё много веры и добра в роде человеческом».
(Душеполезные размышления. Выпуск 7-й, 1881 г. «Отступление
в последние дни мира» — преосв. еп. Феофана, стр. 9—14). Так
думает еп. Феофан.
Что же следует из этого? Какое отношение имеет это
широкое, всемирное и печальное пророчество к тем скромным, по-
видимому, практическим и даже будничным задачам, которые
имели в виду граф Д. Толстой и Пазухин?
Отношение весьма тесное, по-моему.
Если стать на духовно-церковную точку зрения епископа
Феофана; если принять вместе с ним, что республика (в наше
время, конечно) неизбежно, через равномерную и слишком
большую личную свободу ведёт к безбожию, к торжеству
антихристианских начал, ибо при этой форме правления нет уже
никакой внешней силы, которая могла бы посредством
множества разнообразных мер ограждения задерживать ход
внутренней заразы, если вспомнить при этом о взглядах тех
государственных людей и мыслителей, которые не верили в
прочность монархий смешанных, бессословных, эгалитарных, то
станет ясно, что и с точки зрения истинного христианства,
духовно-церковного, именно в наше время неравноправность
политическая (и даже отчасти гражданская) в высшей степени
полезна и спасительна для самой личной веры.
Для задержания народов на пути антихристианского
прогресса, для удаления срока пришествия антихриста (т. е. того
могущественного человека, который возьмёт в свои руки всё
противохристианское, противоцерковное движение) необхо-
* Напр., у Достоевского и Влад. Соловьёва (Примеч. К. Леонтьева.)
146
дима сильная царская власть. Для того же, чтобы эта царская
власть была долго сильна, не только не нужно, чтобы она
опиралась прямо и непосредственно на простонародные толпы,
своекорыстные, страстные, глупые, подвижные, легко развра-
тимые; но — напротив того — необходимо, чтобы между этими
толпами и Престолом Царским возвышались прочные
сословные ступени; необходимы боковые опоры для здания
долговечного монархизма.
Я позволю себе сказать даже нечто большее и совершенно
противное преобладающему течению мнений и дел в XIX веке.
Сами сословия или, точнее, сама неравноправность людей
и классов важнее для государства, чем монархия.
Мы видели в истории долговечные, сильные, цветущие
республики, более или менее аристократические; мы не видали
долговечных демократических монархий. Их, строго говоря, и
не было никогда до начала XIX века, до воцарения
Наполеона I. Были в древности монархии более или менее демокра-
тизованные под старость; чисто-эгалитарных государств не
могло быть уже по тому одному, что во всех них допущено
было рабство. И, однако, далеко не полная равноправность
последних веков Греции и Рима, например, была достаточной
для их расслабления.
В могучей и столь культурной Венеции не было монархии;
власть дожа была ничтожна.
Англия (ныне уже демократизованная и столь уже похожая
на все другие державы европейского материка) —исполнила
в истории своё великое назначение не благодаря конституции
своей, а вопреки ей. Если бы прочность, сила, творчество и т. д.
зависели от самой конституции, то, перенимая у Англии только
эту сторону её жизни, все государства Западной Европы
должны были бы возрасти во внутреннем могуществе своём.
Однако мы видим, что все эти западные государства испортили
конституцией своей древний и прочный государственный строй
и шаг за шагом идут к республиканской федерации, к утрате
действительной самобытности. Из этого уже одного мы вправе
заключить, что величие прежней Англии зависело гораздо
более от политической неравноправности, чем от политической
свободы. Политическая неравноправность была в Англии
противоядием, противовесом политической свободе; лишь
благодаря долгой неравноправности Великобритания так долго, так
успешно и поучительно переносила свободу!
В прежней Франции монархия была самодержавна и со-
словна; в Англии монархия была издавна ограничена, но строй
общества весьма неравноправен — где по закону, а где только
фактически, но глубоко; в Венеции истинного монарха вовсе не
ю*
147
было, но была аристократия. И все три государства эти были
в своё время великими, не по боевой только силе, а
внутренне— могучие, своеобразные (т. е. культурные) государства.
Общая черта политической жизни у них была только
одна — неравноправность.
Вот прямая и откровенная постановка государственного
дела, без всяких лжегуманных жеманств.
Кто может отвергнуть такие грубые факты?
Сословная монархия, конечно, лучше и твёрже
аристократической республики, но аристократическая республика всё-
таки надёжнее эгалитарной монархии, воздвигнутой на
смешанной, зыбкой общественной почве.
Нация, когда-то сословная, нация, которая росла и
развивалась (то есть разнообразилась жизнью в возрастающем
единстве власти), может, конечно, доживать свой государственный
век в виде вовсе бессословной монархии; она, эта смешанная
и уравненная нация, может даже свершить ещё великие и
громкие деяния в последний период своего отдельного
существования. Прежнее долговременное сословное развитие,
разумеется, оставляет ещё на некоторое время множество таких
следов, таких душевных навыков, преданий, вкусов и даже
полезных предрассудков, что уничтожить все эти плоды
сословности не могут сразу новые впечатления и влияния
бессословности; но если бессословность зашла уже слишком далеко; если
привычки к ней вошли уже в кровь народа (а для этого
гибельного баловства времени много не надо), если никакая
реакция в пользу сословности уже не выносится, то
самодержавный монархизм, как бы он силён с виду ни казался, не
придаст один и сам по себе долговечной прочности
государственному строю. Этот строй будет слишком подвижен и
зыбок, Тьер уверяет, будто что ещё Наполеон I жаловался на то,
что эгалитарная почва Франции — песок, на котором ничего
прочного построить невозможно. Быть может, руководимый
гениальным инстинктом своим, он и к завоеваниям стремился
не для того только, чтобы прославить себя и славой укрепить
свою династию, но вместе с тем и для того, чтобы
неравноправностью национальной, внешней, провинциальной
возместить недостаток неравноправности внутренней, сословной,
горизонтальной. Французы, все политически и граждански между
собою равные, могли бы, в случае успеха, стать
привилегированными людьми в среде всех других покорённых наций.
Великие представители великих движений стремятся ко многому
и бессознательно повинуясь историческому инстинкту своему,
которому они сами нередко и настоящего названия не умеют
найти и в разговорах своих указывают на другие побуждения,
148
часто гораздо более узкие или низменные. Счастливо и не
совсем ещё дряхло то государство, где народные толпы ещё
могут терпеливо выносить неравноправность строя. Я даже готов
сказать и наоборот: счастливо то государство, где народные
толпы ещё не смеют, где они не в силах уничтожить эту
неравноправность, если бы и не желали её терпеливо выносить.
Самой земной Церкви, или, говоря прямее и точнее,
самому спасению наибольшего числа христианских душ, — по
мнению духовных мыслителей, подобных епископу Феофану,
нужен могучий царь, который в силах надолго задержать
народные толпы на (неизбежном, впрочем) пути к безверию и
разнородному своеверию. Чтобы этот царь, даже и
непреднамеренно, положим, мог таким косвенным путём способствовать
личному, загробному спасению многих душ, чтобы даже и
в том случае, когда он, заботясь прямо лишь о силе земного
христианского государства, мог этим самым косвенным
действием увеличивать число избранных и для небесного царства
(как говорит преосвещенный Феофан), ему необходима опора
неравноправного общественного строя. И потому всякий, кто
служит этой неравноправности здраво, то есть в пределах
возможного и доступного по обстоятельствам и духу времени,—
тот, даже и не заботясь ничуть о спасении хотя бы моей или
другой живой души христианской, а делая только своё, как бы
сухое и практическое дело, служит бессознательно, но
глубоко и этому спасению.
Прочны ли будут плоды теперешней исправительной
реакции нашей; окажется ли дворянство русское на высоте своего
не только национального, но, быть может, и мирового (по
дальнейшим последствиям) призвания,— мы этого не знаем.
Европеизм и либеральность сильно расшатали основы наши за
истекший период уравнительных реформ. В умах наших до сих
пор царит смута; в чувствах наших — усталость и
растерянность. Воля наша слаба; идеалы слишком неясны. Ближайшее
будущее Запада — загадочно и страшно... Народ наш пьян,
лжив, нечестен и успел уже привыкнуть, в течение 30 лет,
к ненужному своеволию и вредным претензиям. Сами мы
в большинстве случаев некстати мягки и жалостливы, и
невпопад сухи и жёстки. Мы не смеем ударить и выпороть мерзавца
и даём легально и спокойно десяткам добрых и честных
людей умирать в нужде и отчаянии. Из начальников наших
слишком многие робки, легально-церемонны и лишены горячих и
ясных убеждений. Духовенство наше пробуждается от своего
векового сна уж слишком нерешительно и медленно.
Приверженцев истинно-церковного, богобоязненного, прямого,
догматического христианства ещё слишком мало в среде нашего об-
14£
разованного общества; число их, правда, растёт и растёт... Но
желательно видеть нечто большее. Писатели наши, за
немногими исключениями, фарисействуют и лгут. Пишут одно, а
думают и делают другое.
Но сила Божия и в немощах наших может проявиться!
И недостатки народа, и даже грубые пороки его могут
пойти ему же косвенно впрок, служа к его исправлению, если
только Господь от него не отступится скоро.
Чтобы русскому народу действительно пребыть надолго тем
народом-«богоносцем», от которого ждал так много наш
пламенный народолюбец Достоевский, — он должен быть
ограничен, привинчен, отечески и совестливо стеснён. Не надо лишать
его тех внешних ограничений и узу которые так долго
утверждали и воспитывали в нём смирение и покорность. Эти
качества составляли его душевную красу и делали его истинно
великим и примерным народом. Чтобы продолжать быть и для
нас самих с этой стороны примером, он должен быть сызнова
и мудро стеснён в своей свободе; удержан свыше на скользком
пути эгалитарного своеволия. При меньшей свободе, при
меньших порывах к равенству прав будет больше серьёзности,
а при большей серьёзности будет гораздо больше и того
истинного достоинства в смирении, которое его так красит.
Иначе, через какие-нибудь полвека, не более, он из народа
«богоносца» станет мало-помалу, и сам того не замечая,
«народом-богоборцем», и даже скорее всякого другого народа,
быть может. Ибо, действительно, он способен во всём доходить
до крайностей... Евреи были гораздо более нас, в своё время,
избранным народом, ибо они тогда были одни во всём мире,
веровавшие в Единого Бога, и однако, они же распяли на
кресте Христа, Сына Божия, когда Он сошёл к ним на землю.
Без строгих и стройных ограничений, без нового и твёрдого
расслоения общества, без всех возможных настойчивых и
неустанных попыток к восстановлению расшатанного сословного
строя нашего, — русское общество, и без того довольно
эгалитарное по привычкам, помчится ещё быстрее всякого другого
по смертному пути всесмешения и — кто знает? — подобно
евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой
Веры,— и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из
наших государственных недр, сперва бессословных, а потом
безцерковных или уже слабо церковных, — родим только
самого антихриста, о котором говорит еп. Феофан вместе с
другими духовными писателями. Не надо забывать, что антихрист
должен быть еврей, что нигде нет такого множества евреев,
как в России, и что до сих пор ещё не замолкли у нас многие
даже и русские голоса, желающие смешать с нами евреев по-
150
средством убийственной для нас равноправности. Покойный
Аксаков тоже находил, что тот, кто способствует
равноправности евреев в России, уготовляет путь антихристу. Я сам
слышал от него эти слова.
Замедление всеобщего предсмертного анархического и
безбожного уравнения, по мнению еп. Феофана, необходимо для
задержания прихода антихриста.
Для замедления всеобщего уравнения и всеобщей анархии
необходим могучий царь. Для того, чтобы царь был силён, то
есть и страшен, и любим, — необходима прочность строя,
меньшая переменчивость и подвижность его; необходима
устойчивость психических навыков у миллионов подданных его. Для
устойчивости этих психических навыков необходимы сословия
и крепкие общины.
Честь же и слава тем немногим «бодрым» людям, которые,
подобно покойным гр. Толстому и Алексею Пазухину, не
«отчаялись в спасении отчизны» и сделали первые попытки, первые
смелые шаги на пути нового органического и целительного
расслоения нашего общественного материала. Плоды попыток этих
ещё зелены, самые попытки ещё недостаточно, быть может,
глубоки и решительны; но пять каких-нибудь лет для
государства — немного времени. Будем ждать и надеяться...
В наше время одно уже решение вступить на подобный
путь есть само по себе великое решение!
Слава Толстому! Слава Пазухину! Не их будет вина, если
то доброе семя, которое они так часто и смело сеяли, не
взойдёт, как следует, и не даст хорошей жатвы русским людям
XX века. Не правительственные деятели, нам современные,
будут виною этого бесплодия, а те земские сословия наши, о
которых идёт здесь главная речь, дворянство, если оно окажется
недостойным стать опорой царской власти, крестьянство, если
оно до того уже развращено недавней полусвободой своей, что
не сумеет ни стать хозяйственно на ноги, ни политически
терпеливо понести более строгое и спасительное подчинение
дворянам, даже и плохим.
СЛАВЯНОФИЛЬСТВО ТЕОРИИ
И СЛАВЯНОФИЛЬСТВО ЖИЗНИ
Думая всё это время о гр. Дмитрии Толстом, о Пазухине и
о попытках укрепить снова общественный строй наш, до сих
пор ещё не совсем расшатанный, я вспоминал не раз и о
славянофилах наших.
Я думал о взглядах Хомякова на дворянство и другие
сословия наши; о статьях И. С. Аксакова в «Руси», в которых
он признавал за дворянством нашим большое значение.
Вспомним и о том, что Достоевский (которого также нельзя
не причислить к славянофилам) говорил благоприятно об этом
самом дворянстве русском в своём романе «Подросток». Но
больше всего я думал о той «запальчивой» (по выражению
цензурного ведомства) статье Н. П. Аксакова, за которую
«Русское дело» г. Шарапова было надолго запрещено (в 89-м году,
если не ошибаюсь).
И я не только думал обо всём этом, но даже и сызнова
многое перечёл.
Хомякова надо оставить пока в стороне; всё, что он писал
о наших сословиях, «о служилых людях», о «дружине» и т. д.—
было высказано около полувека тому назад, при
существовании крепостного права и вообще при так называемых
«николаевских» порядках, которые в сущности были лишь твёрдым
охранением общественных устоев, заложенных ещё Петром I
и Екатериной II.
Хомяков был, бесспорно, человек и глубокомысленный, и
остроумный, и Россию в некоторых отношениях удивительно
понимавший. Понимавший её (в некоторых, повторяю,
отношениях) так, как никто, быть может, её тогда не понимал. Но
«му не суждено было видеть не только всех тех ядовитых и
гнилых плодов, которые принесли с собою новые порядки
(более европейские); но он не дожил даже и до удовольствия
полюбоваться на те первые всходы нашего либерализма,
которые, действительно, были свежи, благородны и прекрасны по
искренности и здравомыслию своему.
Размышляя о недавнем и нынешнем состоянии русского
общества и об истинно-спасительной дифференцирующей
реакции, на которую столь мужественно решилось вступить
правительство 80-х годов, на Хомякова оглядываться много — нет
повода.
Его богословские труды и его взгляды на общекультурные
отношения России к Западу несравненно важнее и жизненнее
его мнений по внутренним нашим делам. Мне кажется, что
некоторые стороны первых никогда не утратят своего значения
152
в истории русского сознания и во многих ещё случаях будут
служить опорой дальнейшему ходу как религиозного, так и
национального у нас мышления. Когда же дело идёт о наших
внутренних порядках и о нашем современном общественном
строе, то в его сочинениях мы найдём иногда полезные и
остроумные указания исторические, но не найдём никаких, даже и
отдалённых предчувствий того, что нам пришлось пережить со
дня его ранней кончины.
Совсем иное дело оба гг. Аксаковы — покойный Иван
Сергеевич и ныне живущий Николай Петрович.
Последний — человек ещё вовсе не старый и на реформенных
порядках возросший; Иван же Сергеевич лет тридцать до
смерти своей провёл в деятельной борьбе и в близком
соприкосновении с действительною жизнью либеральной эпохи.
Они оба должны были бы видеть бессословную (или почти
бессословную) жизнь России не из «прекрасного»
мечтательного и теоретического «далека», не сквозь искусственные
стёкла какой-то национальной археологии («изба воеводская»;
«изба земская»; «губные старосты»; «целовальники» и т. д...); —
а прямо таковою, какова она есть, т. е. раз и навсегда или
испорченною, или благоустроенную Петром Великим — в её
общественных основах.
С вековыми сословными преданиями надо считаться и надо
как можно более дорожить многими из тех именно
психических навыков, которые образуются у людей под влиянием
долго повторяющихся (и, быть может, даже наследственно
передающихся) впечатлений разнородного сословного
воспитания.
Дворянин, даже и не слишком «столбовой» — гораздо более
чем купец, церковник и разночинец, — привык начальствовать
над крестьянином; эта власть ему сродни и нередко даже
приятна; он не прочь так или иначе «командовать» над
мужиком; но всякий справедливый человек согласится с тем, что он
же, дворянин, — и пожалеет мужика, и заступится за него, и
даже иногда и побалует его гораздо охотнее, чем «коренной»
купец, разночинец, церковник и, в особенности, чем свой же
брат, разбогатевший мужик.
Мужик — привык испокон веку повиноваться «господам».
Купцы, церковники, разночинцы — со своей стороны — издавна
были привычны к мысли, что и они могут становиться
дворянами и пользоваться дворянскими преимуществами, — один,
достигая почётного гражданства, другой — государственной
выслуги, третий — учёными и художественными трудами. Даже
полководцы у нас при старых порядках бывали из «простых»;
153
граф Евдокимов был из простых казаков; Котляревский — «бич
Кавказа» — был сын неважного священника.
В настоящее же время и дети крестьян, освобождённых
(раз и навсегда, конечно!) от личной крепостной зависимости,
имеют возможность, подобно людям всех других классов,
достигать высших общественных положений, если только
выполнять необходимые для того образовательные условия.
И все русские люди, начиная от придворного сановника и
до последнего батрака, давно знали и знают теперь, что они
повинуются одному и тому же самодержавному Государю.
Что же тут худого?.. Это прекрасно, — это именно то, что
нужно для долговечности государства: разнообразие не
смешанное, но организованное в единстве; разнородность
положений и воспитания, поставленные в некоторые юридические
пределы для избежания разнородности хаотической, для
предотвращения слишком быстрого смешения социальных типов и
неопределённости, неустойчивости тех простых и основных
душевных навыков, которыми, главным образом, определяется
роль человека в жизни и сила его к ней приспособления...
(Например, навык смело и умело повелевать, охотнее или
неохотнее подчиняться; с любовью хозяйничать или торговать;
жить охотно в деревне или предпочитать город; служить
военным или по гражданской части и т. д.).
Были неудобства в старых (дореформенных) порядках;
некоторые тяготы их стали казаться чрезмерными и неудобоноси-
мыми; их изменили; изменили прежде всего для избежания
худшего; ибо уступки после какой-нибудь пугачёвщины, даже
с чисто политической точки зрения, конечно, несравненно хуже
тех эмансипационных мер, которые принимаются великодушно
и предупредительно с высоты Престола; первые унижают
власть в глазах народа и раз навсегда компрометируют её
престиж; последние же, независимо от непосредственных
плодов своих, уже тем спасительны, что, сохраняя этот престиж
и силу за верховной властью, дают ей возможность, ничем не
рискуя, приступить, когда нужно, и к исправлению того, что
было через край переделано в левую, слишком либеральную
или уравнительную сторону.
Были в дореформенном строе неудобства, были тяготы не-
удобоносимые («по духу времени» больше, чем по существу
самого дела), были несомненно опасности, — их постарались
устранить, предотвратить, обезвредить... Чего же больше?
Почему же новейшая сословная реакция так не нравится
«чистым славянофилам», «старым по духу», хотя и молодым по
годам?.. Славянофилы ведь всегда хотели независимости от
-Запада. «Запад гниёт». Согласен. Но почему же непременно
J 54
думать, что гниение это выражается только безбожием и
рационализмом; а бессословность и равенство самих
гражданских прав есть безусловное благо? Гниение это выражается и
тем, и другим: безверием и безбожием в области
философской; бессословным строем и спутанностью социальных типов
в деле государственном.
Итак — уже одно то, что современная Россия (Россия 80-х
годов) пытается и как бы инстинктивно стремится свернуть и
в деле привилегий и прав с общеевропейского пути, есть уже
само по себе — и в славянофильском смысле — хороший
признак; может быть, даже самый лучший, не во гнев
славянофилам будь сказано.
Славянофилы желают, чтобы русское государство было
прочно, долговечно. Сословный строй в десять раз прочнее
бессословного. При существовании крепких и самоуверенных
высших сословий, привычных к власти и не тяготящихся ею —
государства живут дольше. (Даже Турция, в которой, строго
говоря, сословий не было ни у мусульман, ни у христиан,
начала быстрее склоняться к упадку, как только права христиан
стали расширяться, а права мусульман, бывших чем-то вроде
иноверного дворянства, начали уменьшаться).
Славянофилы всегда хотели, чтобы Россия жила своим
умом, чтобы она была самобытна не только как сильное
государство, но как своеобразная государственность.
Разве не самобытно, разве не своеобразно решение
восстановить в новой форме сословия в то самое время, когда и
Германия значительно демократизована, благодаря соединению
своему, — и в самой Англии право первородства лордов едва-
едва держится? С этой стороны — с сословной — старые
славянофилы были и сами ничуть не оригинальны и для России не
умели видеть самобытность и умственную независимость там
именно, где она оказалась особенно нужной.
С этой стороны славянофилы представлялись мне всегда
людьми с самым обыкновенным европейским
умеренно-либеральным образом мыслей. И Государь Николай Павлович был
прав, подозревая постоянно, что под широким парчёвым
кафтаном из величавых «вещаний», незаметно для них самих,
скрыты узкие и скверные панталоны обыкновенной
европейской буржуазности *.
* См. Сообщения о взглядах И. С. Аксакова на идеалы первой
французской революции г-на Spectaior'a («Русское обозр.», 90 года, октябрь).
Я, со своей стороны, также могу (и готов при случае) рассказать о
некоторых в высшей степени «европейских» выходках знаменитого славянофила.
155
И ещё о самобытности. Николай Петрович Аксаков в своей,
к счастью*, не одобренной начальством статье («Русск. дело»,
89 г. № G) вознегодовал на сословную реформу графа
Дмитрия Андреевича Толстого.
«У нас не было настоящего дворянства, — говорил он. — Что
такое русское дворянство? Оно больше ничего, как
наследственное чиновничество». «Екатерина II только причислила
коренные древние роды к тем новым родам дворянским, которые
таковыми стали вследствие пожалования или выслуги».
«Моему роду (Аксаковых) 600 лет, а мне только позволено быть
наравне с Меншиковыми, Кутайсовыми» и т. д.
В том же почти роде описывал и И. С. Аксаков о
дворянстве. Статьи обоих Аксаковых очень хороши и с исторической
точки зрения, быть может, совершенно справедливы. Но с точки
зрения современной самобытности, что же за беда, что это всё
было так, а не иначе? Тем лучше, что история нашего
дворянства не похожа на историю западного; тем лучше, что оно
выросло органически, сообразно потребностям государственной
жизни. У нас завоевания иноземного не было. Татары не
остались жить между нашими предками, а ушли и брали дань.
Если бы они, во времена Батыя, ещё язычниками, расселились
бы между русскими густо и обрусели бы, приняв вместе с
ханом своим Православие, то по естественным социальным
законам у нас была бы, вероятно, аристократия более постояннаяу
более военная и по устройству своему более даже схожая
с западной, несмотря на азиатскую кровь завоевателей.
Но этого не случилось; а потребности расслоения и града-
тивной дисциплины существовали, как существуют они всегда
у растущего общества, как слабеют и пропадают они всегда
у общества стареющего.
В России лет 300, 200, 100 тому назад были две нестерпимо
сильные общественные потребности: потребность этой града-
тивной дисциплины, и с другой стороны, потребность освежать
верхний общественный слой притоком новых сил из других
сословий. И государи наши удовлетворяли этим двум
потребностям. Удовлетворяли они не всегда удачно; иногда слишком
пристрастно или жестоко; но ошибаясь (быть может, даже и
нередко) в частных случаях, — они, цари наши, в общем и су-
* Я говорю — «к счастью», не по враждебному какому-либо отношению
к пострадавшему «Русскому делу» или к самому г-ну Аксакову. Избави
Боже! Напротив того, я всегда ценил ум и учёность последнего; и «Русск.
делу», как изданию весьма живому, во многом сочувствовал, и до сих пор
жалею, что оно прекратилось. Я в своё время потому лишь порадовался
цензурной каре, что по строгости этой меры мог судить,—как мало
правительство расположено «шутить» дворянским вопросом.
156
щественном смысле исполняли своё историческое назначение —
так или иначе расслоить Россию и этим самым возвеличить её.
Да! возвеличить! Ибо пора же, наконец, сознаться громко,
что и вся Россия, и сама царская власть возрастали
одновременно и в тесной связи с возрастанием неравенства в русском
обществе, с утверждением крепостного права и с развитием
того самого «наследственного чиновничества», которое так не
нравится столбовому, 600-летнему — Н. П. Аксакову.
Ну, хорошо! Пусть это правда! «Русское дворянство не
аристократично, не родовито» — как он говорит. Но что же
дальше? Татары не остались у нас, к сожалению; не
крестились— и пришлось обходиться домашними естественными
средствами, придумывать суррогаты завоеванию — для подчинения
всей этой простодушной, но беспутной и нередко буйной
«меньшей братии» нашей. И это вошло уже в кровь нашу —
прошедшее неизгладимо, и прерывать вполне с его преданиями
было бы опасно и ошибочно. Ведь вся история Европы
в XIX веке есть ни что иное, как история разочарования в
рационалистических и эгалитарных идеалах XVIII века. Слава
Богу, что мы стараемся теперь затормозить хоть немного
историю свою, в надежде на то, что можно будет позднее
свернуть на вовсе иной путь. И пусть тогда бушующий и
гремящий поезд Запада промчится мимо нас к неизбежной бездне
социальной анархии.
Славянофилы всегда стояли горой за самодержавие. Это
прекрасно. Но они ошибочно думали, что этот величественный
столп единоличной власти может долго стоять не колеблясь
после того, как будут приняты все боковые его опоры, друг
на друга столь государственно налегавшие.
Так ошибались старые славянофилы.
Зачем же младшим ученикам их подражать им во всём так
просто?
Нет! Не просто продолжать надо дело старых
славянофилов; а надо развивать их учение, оставаясь верными главной
мысли их — о том, что нам, по мере возможности, необходимо
остерегаться сходства с Западом; надо видоизменять учение
там, где оно было ни с чем несообразно. Надо уметь
жертвовать частностями этого учения — для достижения главных
целей— умственной и бытовой самобытности и государственной
крепости.
Сам И. С. Аксаков понимал, что глубокое видоизменение
первоначальной славянофильской теории — неизбежно. Он
превосходно это выразил в своём предисловии к жизнеописанию
Тютчева.
1ЭТ
«Не как учение, воспринимаемое в полном объёме
послушными адептами (говорит он там), а как направление,
освобождающее русскую мысль из духовного рабства пред Западом
и призывающее русскую народность стать на степень
самостоятельного просветительного органа в человечестве,
славянофильство, можно сказать, уже одержало победу, т. е. заставило
даже и врагов своих признать себя весьма важным моментом
в ходе русской общественной мысли. Мы, со своей стороны,
думаем, что оно не только исторический момент, уже отжитый,
но и пребывает и пребудет в истории нашего дальнейшего
умственного развития как предъявленный неумолкающий
запрос». .. И далее: «Может потеряться из виду преемственная
духовная связь между первыми деятелями и новейшияи\
многое, совершающееся под общим воздействием, но
совершающееся в данную известную пору, при известных исторических
условиях, будет даже уклоняться, по-видимому, от чистоты и
строгости некоторых славянофильских идеалов», «Некоторые,
слишком поспешно определённые формулы *, в которых
представлялось иным славянофилам будущее историческое
осуществление их любимых мыслей и надежд, оказались или
окажутся— ошибочными, и история осуществит, может быть, те
же начала, но совсем в иных формах и совсем иными
неисповедимыми путями. Но тем не менее, раз возбуждённое
народное самосознание уже не может ни исчезнуть, ни прервать
начатой работы»... и т. д. (Ф. И. Тютчев; М., 74; стр. 77—78).
Какое верное, ясное понимание дальнейших судеб
славянофильского учения!
Почему же славянофилы младшие, новейшие, не хотят
узнавать той же теории русской самобытности — в расслояющих
и прикрепляющих к земле (дифференцирующих и
объединяющих) начинаниях 60-х годов?
Разве эти начинания, эти смелые и настойчивые усилия —
подражательны?
Разве они не вызваны неотложными практическими
потребностями самой будничной нашей действительности}
Разве они не связаны тесно с русской историей последних
двух веков?
Разве они не соответствуют тем исторически
приобретённым душевным навыкам населения, о которых я уже выше
говорил не раз?
* Как, например: либеральный панславизм — равенство прав и
бессословность; поддержка болгарских безбожников в их восстании против
церковных прав Вселенского Патриарха] свобода печати и т. д.
158
Я думаю, славянофилы согласятся, что национальное
культурное государство есть своего рода живой и развивающийся
организм. Так думал и Данилевский, один из наиболее чтимых
славянофильских учителей.
Он, видимо, находил, что организм
культурно-государственный имеет много общего с организмами физическими (с
растениями и животными).
Посмотрим же, что говорит об этих последних другой
учёный (тоже, заметим, славянофил).
«Организм всегда содержит в себе не только своё
настоящее, но и своё прошедшее и своё будущее. Отсюда легко
заключить о границах нашей власти (над организмами). Над
прошедшим организма у нас не может быть никакой власти,
ибо мы не можем заставить организм иметь других предков,
принять не тот тип, который он от них наследовал». (Н.Н.
Страхов <Юб основных понятиях психологии и физиологии»;
стр. 207).
Как мы отречёмся от того душевного наследия, от тех
вековых привычек, которые перешли преемственно к нашему
народу и к правящим классам нашим от времён Михаила Фео-
доровича, Петра I, Екатерины II и Государя Николая
Павловича?
Как мы от них отречёмся?
Мы не можем, не разрушая Россию, «заставить организм
её иметь других предков, принять не тот тип, который он от
них наследовал».
С резко разграниченными сословиями Россия, в течение
веков, стала той Россией, которую мы все знаем.
Россия же вполне бессословная не станет ли скорее, чем
мы обыкновенно думаем, во главе именно того —
общереволюционного движения, которое неуклонно стремится разрушить
когда-то столь великие культурно-государственные здания
Запала? Наши Добролюбовы, Писаревы, Желябовы, Гартманы и
Кропоткины — уже «показали» себя. Ведь и это своего рода
призвание; и это—историческое назначение особого характера.
Но этого ли могут желать православные патриоты
славянофилы?
Конечно нет! Этого могут желать «деятели» и писатели
совсем иного рода.
Но, разумеется, подобное «признание» не может быть по
сердцу таким честным русским людям, как Н. П. Аксаков,
Г. Шарапов или, например, сотрудники «Благовеста» (к
сожалению, что-то притихшего).
Почему же они держатся за всю теорию сполна до сих пор
так упорно?
159
Зачем они хотят быть только «послушными адептами»
учения о русской самобытности, такими адептами, какими не
быть, в случае нужды, разрешил, так сказать, и сам И. С.
Аксаков? ..
Что за неумение узнавать свой собственный идеал в иных
и неожиданных формах-, не в тех, к которым приучила их
заблаговременная теория!
«Истинная социальная политика есть та, которая не жизнь
развивает из учения, а учение из жизниъ.
Это сказал Риль в своей книге «Страна и люди» — Риль,
который своими «почвенными» наклонностями должен быть по
душе славянофилам.
ДОСТОЕВСКИП О РУССКОМ ДВОРЯНСТВЕ
I
В последний раз, рассуждая о славянофильстве и об
отношениях его представителей к русскому дворянству, я упомянул
о том, что Достоевский в своём романе «Подросток»
отозвался об этом высшем сословии нашем довольно
благоприятно.
Молодой герой его, незаконный сын помещика Версилова,
описавши все приключения отца своего и борьбу своих
собственных разнородных чувств, посылает свою рукопись в
Москву, к некоему Николаю Семёновичу на прочтение.
Я старательно искал в романе фамилию этого Николая
Семёновича и не нашёл её. Сказано просто (в конце): «Николай
Семёнович, бывший мой воспитатель в Москве, муж Марии
Ивановны»... и т. д.
Возвращая эти «Записки» молодому человеку с одобрением,
Николай Семёнович, между прочим, пишет ему вот что:
«Замечу кстати, что прежде, в довольно недавнее прошлое,
всего лишь поколение назад, этих интересных юношей (т. е.
подобных «подростку») можно было и не столь жалеть, ибо
в те времена они почти всегда кончали тем, что с успехом
примыкали, вспоследствии, к нашему высшему культурному слою
и сливались с ним в одно целое.
«И если, например, и сознавали в начале дороги всю
беспорядочность и случайность свою, всё отсутствие благородного
в их, хотя бы семейной, обстановке, отсутствие родового
предания и красивых законченных форм, то тем даже и лучше было,
ибо уже сознательно добивались того потом сами и тем самым
приучались его ценить. Ныне уже несколько иначе —именно
потому, что примкнуть почти не к чему.
«Разъясню сравнением или, так сказать, уподоблением.
Если бы я был русским романистом и имел талант, то
непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства,
потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей
возможен хоть вид красивого порядка и красивого
впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия
на читателя. Говоря так, вовсе не шучу, хотя сам я совершенно
не дворянин, что, впрочем, вам и самим известно.
«Ещё Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих
в «Преданиях русского семейства», и поверьте, что тут
действительно всё, что у нас было доселе красивого. По крайней
мере, тут всё, что было у нас хотя сколько-нибудь
завершённого.
11 К. Леонтьев
161
«Я не потому говорю, что так уж безусловно согласен
с правильностью и правдивостью красоты этой; но тут,
например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме
дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но
даже и нигде и не начато. Я говорю, как человек спокойный
и ищущий спокойствия.
«Там — хороша ли эта честь и верен ли долг — это вопрос
второй; но важнее для меня именно законченность форм и
хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а
самими, наконец-то, выжитый. Боже, да у нас именно важнее
всего хоть какой-нибудь да свой, наконец, порядок! В том
заключалась надежда и, так сказать, отдых: хоть что-нибудь,
наконец, построенное, а не вечная эта ломка, не летающие
повсюду щепки, не мусор и сор, из которого вот уже двести лет
всё ничего не выходит.
«Не обвините в славянофильстве; это я лишь так от
мизантропии, ибо тяжело на сердце! Ныне, с недавнего времени,
происходит у нас нечто, совсем обратное изображённому выше.
«Уже не сор прирастает к высшему слою людей, а
напротив, от красивого типа отрываются, с весёлою торопливостью,
куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядствующими
и завидующими. И далеко не единственный случай, что самые
отцы и родоначальники бывших культурных семейств смеются
уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы верить их
дети.
«Мало того, с увлечением не скрывают от детей своих свою
алчную радость о внезапном праве на бесчестье, которое они
вдруг из чего-то вывели целою массой.
«Но всё это философия; воротимся к воображаемому
романисту. Положение нашего романиста в таком случае было бы
совершенно определённое: он не мог бы описать в другом роде,
как в историческом, ибо красивого типа уже нет в наше время,
а если и остались остатки, то, по владычествующему теперь
мнению, не удержали красоты за собою. О, и в историческом
роде возможно изобразить множество ещё чрезвычайно
приятных и отрадных подробностей! Можно даже и до того увлечь
читателя, что он примет историческую картину за возможную
ещё и в настоящем.
«Такое произведение, при великом таланте, уже
принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской
истории. Это была бы картина, художественно законченная,
русского миража, но существующего действительно, пока не
догадались, что это мираж. Внук тех героев, которые были
изображены в картине, изображавшей русское семейство
средне-высшего культурного круга в течение трёх поколений сряду,
162
и, в связи с историей русской, этот потомок предков своих уже
не мог бы быть изображён в современном типе своём иначе,
как в несколько мизантропическом, уединённом и несомненно
грустном виде.
«Даже он должен явиться каким-нибудь чудаком, которого
читатель с первого взгляда мог бы признать, как за сошедшего
с поля, и убедиться, что не за ним осталось поле.
«Ещё далее — и исчезнет даже и этот внук-мизантроп;
явятся новые лица, ещё неизвестные, и новый мираж; но какие
же лица? Если некрасивые, то невозможен дальнейший
русский роман. Но увы\ Роман ли только окажется тогда
невозможным? ..
«Не будет ли справедливее вывод, что уже множество
таких несомненно родовых семейств, русских, с неудержимою
силою переходят массами в семейства случайные и сливаются
с ними в общем беспорядке и хаосе. Тип этого случайного
семейства указываете отчасти и вы в вашей рукописи. Да,
Аркадий Макарович, вы член случайного семейства, в
противоположность ещё недавним родовым нашим типам, имевшим столь
различные от ваших — детство и отрочество.
«Призлаюсь, не желал 'бы я быть романистом героя из
случайного семейства!
«Работа неблагодарная и без красивых форм. Да и типы
эти, во всяком случае, ещё дело текущее, а потому и не могут
быть художественно законченными. Возможны важные ошибки,
возможны преувеличения, недосмотры. Во всяком случае,
предстояло бы слишком много угадывать. Но что делать, однако
ж, писателю, не желающему писать лишь в одном
историческом роде и одержимому тоской по текущему?
«Угадывать и... ошибаться».
Так говорит у Достоевского недворянин «Николай
Семенович» о русском дворянстве, и автор, видимо, сочувствует ему.
Признаюсь, что при чтении «Подростка» меня поразила
неожиданность этого благоприятного для дворян общего
вывода из рассказа, которого подробности производили на меня
отрицательное, местами даже до болезненности тягостное и
отвратительное впечатление.
II
Припомним — каковы эти русские дворяне в романе
«Подросток».
Это, начиная с главного героя — Версилова, всё какие-то
расстроенные или запутанные люди; «психозные», как нынче
любят называть. Старый князь Сокольский бесхарактерен и
и*
163
жалок. Старший, законный сын Версилова является на
минуту в очень непривлекательном виде (когда он в пунцовом
халате даёт деньги своему незаконному брату, не допуская его
даже к себе во внутренние покои дома, и тому подобное).
Молодой военный, тоже князь Сокольский, который кутит,
путается и, наконец, попадает в Сибирь. Все эти лица, кажется,
не таковы, чтобы располагать кого бы то ни было к
политическому, так сказать, доверию. Сам Версилов — это человек
совершенно исключительный. Но исключительный не в том
смысле, в каком могут считаться исключительными Рудин и
Лаврецкий, Печорин и Вронский; Рудин своим энтузиазмом
и красноречием; Лаврецкий прямотою своих чувств и
безукоризненностью; Печорин своей демонической страстностью и
умом; Вронский здоровьем духа и силой воли; — нет, Версилов
исключителен своей ненормальностью, своей неимоверной
изломанностью, своей неестественностью. Это тоже «психопат»,
как почти все главные действующие лица Достоевского. Про
таких людей, как Рудин и Лаврецкий, Печорин и Вронский, не
только думается, что сами авторы знали их лично, но иногда
читатель воображает даже, что он сам с ними был в
действительной жизни знаком и близок. Не знаю, как другие, а я, по
крайней мере, так чувствую, когда вспоминаю о лицах
Толстого, Писемского, Тургенева, Островского, Маркевича и даже
многих других, менее знаменитых писателей. Из главных же
лиц Достоевского я не помню ни одного, которого я мог бы
вообразить действительно знакомым моим. Все главные
характеры Достоевского представляются мне вариацией почти на
одну и ту же психологическую тему: вариацией чрезвычайно
талантливой, конечно, но всё-таки вариацией на одну и ту же
весьма субъективную и болезненную тему. В этом, конечно,
и сила Достоевского; сила его лиризма и субъективности; но
в этом и художественная слабость его. Тургенев, Писемский,
Толстой, Маркевич, Островский ясно и верно отражают
русскую жизнь, Достоевский глубоко преломляет ее, сообразно
своему личному устроенью. По романам первых четырёх
писателей и по комедиям Островского иностранец, например,
может весьма верно воображать самую действительность русскую;
по романам Достоевского — он не узнает правды о самом обще-
стве русском второй половины нашего века; он поймёт только
известное течение чувств и мыслей. По другим писателям
можно изучать нормальную жизрь; по Достоевскому можно
изучать только её психопатию, её крайние уклонения, быть
может (я говорю: быть может), а главное — можно изучать
самого автора, его идеалы, его собственные душевные извороты,
его собственные горести, борьбу и мечтания.
164
От лиц Достоевского не веет правдой жизни; от них веет
только правдой собственного сердца автора, его пламенеющей
искренностью. За исключением разве преступников «Мёртвого
дома», весьма объективно изображенных, вес лица
Достоевского суть в самом точном смысле слова создания его
воображения. И мне, например, прожившему весьма разнообразно до
60 лег и в самых разнообразных слоях русского 'общества, ни
одно из его лиц никого из знакомых не напоминает. Чувства
знакомы, хотя и с несравненно меньшей напряженностью, и
с меньшей исключительностью ухищрённых изворотов: но лица
не знакомы вовсе.
Поэтому я и «дворян» романа «Подросток» никак не
могу считать хоть сколько-нибудь представляющим
действительное дворянство русское. Ни Версилов, ни старый князь, ни
офицер Сокольский, ни другие лица романа не годятся в
совокупности своей в представители этого сословия; скажу больше:
совокупность, составленная из таких людей, как все дворяне
в романе Достоевского, не только не соответствует реальной
совокупности, составленной из точно такого же числа дворян,
самых лучших и самых худших и средних, взятых из
действительности, но она не соответствует даже и другой, менее
реальной совокупности, составленной из дворян Тургенева, Толстого,
Маркевича и Писемского.
Совокупность дворян Достоевского и нереальна, и
ненормальна. ..
Но если так, мне скажут, на что же мне было мнение
Достоевского о дворянах?
Дорого мне в этом вопросе мнение Достоевского и даже
очень дорого потому, что публициста и моралиста я ценю в
Достоевском несравненно выше, чем повествователя. «Дневник
писателя», не во гнев будет сказано поклонникам покойного
романиста, — для меня во сто раз драгоценнее всех его
романов.
Насколько мало у Достоевского в романах его и здоровья
и истинного чувства русской реальности (сравнительно с
другими упомянутыми романистами нашими), настолько,
напротив того, как моралист и даже иногда как политик, — он здрав
и одарён в высшей степени «чутьём» того, что для России
нужно.
Я помню то наслаждение, которое я сам испытывал, читая
в 70-х годах его «Дневник писателя», особенно во время борьбы
христиан против Турции и во время нашей с нею войны.
Его патриотизм, столь искренний и умный; его
монархическое чувство; его религиозные стремления, не всегда
правильные и ясные, положим, — но всегда глубокие и сильные; этот
165
местами столь милый юмор (например: «За границей уверяют,.
что наши офицеры, которые сражаются в Сербии, под
начальством Черняева, — социалисты. Что за вздор, — говорит
Достоевский,— выпить лишнее — это правда, русский человек слаб;
ну а социализм — это неправда»). Если цитата не точна —
прошу простить. Пишу на память.
Он даже тогда предсказывал, что болгары будут
неблагодарны нам. Предсказывал это и я, положим, в то же время;
но ведь я прожил в Турции 10 лет и видел, что такое болгары!
Мне было нетрудно это угадать. Но он, не выезжая из
Петербурга, говорил это во время всеобщего увлечения славянами и
являлся, таким образом, истинным прозорливцем с этой
стороны.
III
Как верно понимал он (давным-давно!), что без веры, без-
веры православной именно, народ русский, да и вся Россия
станут никуда негодными. Он не только умом и любовью
понимал эту истину, но и особого рода художественным чувством.
Чтобы всё стало яснее, стоит только вспомнить, с какой
непривычной ему объективностью изображены и в самих романах его
набожные простолюдины и купцы. Хотя бы в том же
«Подростке» крепостной Макар Долгорукий, номинальной отец
героя; или в рассказе этого же Макара деспот-купец, который
загнал мальчика в реку, а потом, раскаявшись, женился на
его матери и кончил жизнь, странствуя по монастырям.
Правда, в религиозных представлениях своих Достоевский
не всегда строго держался тех общеизвестных катехизических
оснований, которыми руководится всё восточное духовенство'
наше, и позволял себе переступать за пределы их, то влагая
в уста русских монахов предсказания о повсеместном
превращении государств в одну на земле торжествующую Восточную
Церковь («Братья Карамазовы»), то сам пророчествуя о
какой-то непонятной и «окончательной» всеобщей «гармонии»
земной жизни под влиянием некой особенной русской или
славянской любви!
Его необузданное творческое воображение и пламенная
сердечность его помешали ему скромно подчиниться
стеснениям правильного богословия и разрывали в иных случаях его
спасительные узы. Он переходил своевольно, положим, за
черту общеустановленного и разрешённого, но за то он и
всему тому поклонялся и всё то чтил и любил, что находится
по ту сторону черты. Он только прибавлял нечто своё,
излишнее и неправильное; но он ничего правильного, ничего издавна
166
иерархией освященного не только не отвергал, но и готов был
всегда горой стоять за это правильное и освящённое.
Мужика он любил не потому только, что он мужик, не
потому, что он человек рабочий и небогатый; нет, — он любил
его ещё больше за то, что он русский мужик, за то, что
религиозен.
Он звал русский народ «народом-богоносцем»,
подразумевая, вероятно, под этим словом не одних простолюдинов, но
всех тех и «простых» и «непростых» русских людей, которые
искренно веруют во Христа.
«Народ-богоносец» это совсем не то, что «la sainte canaille»
(святая сволочь, святая толпа) французских демагогов; у них
уличная толпа свята по тому самому, что она — уличная толпа,
бедная, угнетённая и всегда будто бы правая. У Достоевского
народ хорош не потому только, что он простой народ и бедный
народ, а потому, что он народ верующий, православный.
И вот этот-то «народник» православного стиля, этот всеми
инстинктами своими столь русский человек в заключение
романа, исполненного дворянских слабостей и глупостей,
дворянского беспутства и дворянской непрактичности, дворянской
«психопатии», наконец, — говорит, что дворянство нужно и что
только у одних дворян в России есть истинное чувство чести.
Вот что мне дорого!
Как он извлёк это политическое нравоучение из этого
именно романа, — я понять не могу.
На даже и само недоумение это для моей главной мысли
выгодно.
Если из «Подростка» можно нечто подобное извлечь, то
тем более, я надеюсь, можно извлечь это из «Дворянского
гнезда», «Рудина», из «Войны и мира», «Карениной», из
«Масонов» Писемского или из «Перелома» Маркевича.
Если позволительно поставить подобный вывод в конце
такой истории, где все главные дворяне изломаны,
бесхарактерны и почти что ненормальны, то тем более это будет
уместно по прочтении других вышеперечисленных романов, где
мы встретили рядом со всякими дворянами и дворян
серьёзных, благородных, твёрдых, весьма образованных, честных и
смелых, а главное — нормальных и вполне правдоподобных
в изображеньи, почти лично знакомых каждому из нас.
Глубоко верный русский инстинкт подсказал Достоевскому, что
дворянство русское нужно, что нужен особый класс русских
людей, более других тонкий и властный, более других изящный
и рыцарственный («чувство чести»), более благовоспитанный,
чем специально учёный и т. д.
167
Быть может, кончая этот роман свой, в котором дворяне
так бестолковы и слабы, — Достоевский почувствовал в
глубине правдивой души своей, что он не совсем прав против
русского дворянства; что реальное дворянство не виновато в том„
что он сам не мастер изображать возможно положительные
характеры из высших слоев общества, характеры, которые
попадаются у всех других хороших писателей наших, с которыми
он и сам, наверное, в жизни встречался и знакомился и
какими (прибавлю я) следует даже вполне удовлетворяться
здоровому человеку, не гоняясь за вздорными идеалами
невозможного совершенства! Почувствовал это и прибавил: «а всё-
таки дворянство нужно!»
Не такое, разумеется, какое в «Подростке», а какое-то всё-
таки нужно.
Нужен для России особый высший класс — людей. А кто
говорит особый класс, этим самым говорит, что необходимы
такие или иные юридические ограды. Без этих юридических
оград всё очень скоро смешивается и теряет силу, формы,
выразительность.
Нужны привилегии, необходимы и особые права на власть.
Достоевский был славянофил, но он был человек жизни, а не
теории.
Если из того убеждения, что дворянство нужно, он не
вывел нигде, что необходимы и политические привилегии для его
сохранения, то это ничего не значит; не успел, случайно не
додумался, не дожил, наконец, до 1-го марта, ни до предприятий
графа Д. Толстого и Пазухина, ни до всего того, до чего мы
дожили.
Хотите вы. сохранить надолго известный тип социального
развития} Хотите, — так оградите и среду его от вторжения не-
званных и неизбранных, и самих его членов от невольного
выпадения из этой среды, в которой держаться им уже не будет
никакой охоты, не будет ни идеальных поводов, ни
вещественных выгод.
о всемирной любви
(Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике)
I
Не пора ли уж перестать писать о Пушкине и о всех тех,
кто блистал и действовал на его московской тризне?
Довольно! .. Общество русское доказало свою «цивилизованную»
зрелость, поставило Пушкину дешёвый памятник, —
по-европейски убирало его венками, по-европейски обедало, по-европейски
говорило на обедах спичи. По обыкновению своему,
интеллигенция наша ровно по этому поводу ничего не выдумала
своеобразного. У подножия монумента великого русского творца
не обнаружилось ни одного молодого и оригинального таланта
ни в ораторском искусстве, ни в поэзии; говорили речи и стихи
и, вообще, действовали тут всё люди прежние, с давно
определившимися взглядами и давно известные; блистали люди,
которых молодость прошла при прежних условиях, более
сходных с условиями, развившими самого Пушкина. Враждебно
ли или сочувственно относятся все эти таланты к старому
порядку и его остаткам — всё равно; они все обязаны этому
поруганному прошлому как впечатлениями своими (т. е.
содержанием своих творений), так и умственными силами своими,
трудившимися над воспроизведением этого содержания,
данного русскою жизнью... Нового ничего] . . Ни
изобретательности в форме чествования, ни какой бы то ни было ум
поражающей свежей мысли, либо вовсе неслыханной, либо давно
забытой и просящейся снова в жизнь. Многое из сказанного
и написанного по этому поводу было где-то и когда-то,
наверное, тоже сказано или написано теми же самыми лицами или
иными, и гораздо лучше, и полнее. Один только человек, как
слышно, выразился по поводу пушкинского празднества вполне
оригинально: это —граф Л. Толстой. Печатали, будто он,
отказываясь от участия в этом празднестве, сказал: «Это всё
одна комедия!» — Я не думаю, чтоб это было так. Отчего ж
комедия? Вероятно, многие были искренни в своём желании
почтить память Пушкина... И хотя мне очень нравится эта
независимость графа Толстого, его капризное пренебрежение
к современности нашей, но я не вижу нужды соглашаться
с тем, что всё это — притворство и комедия. В искренность я
готов верить; я желал бы видеть только во всём этом больше
.национального цвета, побольше остроумия и глубины. Всё это,
169
быть может, и очень тепло; но тепло как пар, не замкнутый
в какую-нибудь форму. Тепло, даже горячо, порывисто, но
рассеялось скоро и не осталось ничего. Вес надежды, всё мечты,
и мечты вовсе не картинные! Правду сказали в Вестнике
Европы (я где-то это прочёл), что и в том «смирении», которое
хотят признать уже довольно давно отличительным признаком
славизма, есть много своего рода самохвальства и гордости,
ничем ещё не оправданных... Довольно об этом. Больше всего
сказанного и продекламированного на празднике меня
заставила задуматься речь Ф. М. Достоевского. Положим, и в этой
речи значительная часть мыслей не особенно нова и не
принадлежит исключительно г. Достоевскому. О русском
«смирении, терпении, любови» говорили многие. Тютчев пел об этих
добродетелях наших в изящных стихах. Славянофилы прозой
излагали то же самое. О «всеобщем мире» и «гармонии»
(опять-таки в смысле благоденствия, а не в смысле
поэтической борьбы) заботились и заботятся, к несчастию, многие и
у нас, и на Западе: Виктор Гюго, воспевающий междоусобия
и цареубийства; Гарибальди, составивший себе славу
военными подвигами; социалисты, квакеры; по-своему — Прудон,.
по-своему — Кабе, по-своему—Фурье и Ж. Санд.
В программе издания Русской мысли тоже обещают
царство добро и правды на земле, будто бы обещанное самим
Христом. В собственных сочинениях г. Достоевского давно и
с большим чувством и успехом проводится мысль о любви и
прощении. Всё это не ново; ново же было в речи г.
Достоевского приложение этого полу-христианского, полу-утилитарного,
всепримирительного стремления к многообразному —
чувственному, воинственному, демонически-пышному гению Пушкина.
Но, как бы то ни было, необходимо прежде всего считаться
и с именем автора, и с эффектом, произведённым его
словами,— тем более, что эта не слишком новая мысль о
«смирении» и о примирительном назначении славян (составляющим,
за неимением пока лучшего, будто бы нашу племенную
особенность) распространена в той части нашего общества, которое
ни с любовью к Европе не хочет расстаться, ни с последними
сухими и отвратительными выводами её цивилизации покорно
помириться не может. До этого, к счастью, ещё наше смирение
не дошло.
Об этой речи я и хочу поговорить.
Не знаю, что бы я чувствовал, если бы я был там. Но
издали человек хладнокровнее. Я нахожу, что речь г.
Достоевского (напечатанная потом в Московских ведомостях) в самом
деле должна была произвести потрясающее действие, если
только согласиться с оратором, что признание космополитичен
170
ской любви, которое от считает уделом русского народа, есть
назначение благое и возвышенное. Но, признаюсь, я многого,
очень многого в этой идее постичь не могу. Это всеобщее
примирение, даже и в теории, со многим само по себе так
непримиримо1. ..
Во-первых, я постичь не могу, за что можно любить
современного европейца...
Во-вторых, любить и любить — разница... Как любить?
Есть любовь — милосердие, и есть любовь — восхищение4, есть
любовь моральная и любовь эстетическая. Даже и эти два
вовсе несхожие влечения нужно подразделить весьма
основательно на несколько родов. Любовь моральная, т. е. искреннее
желание блага, сострадание или радость на чужое счастье
и т. д., может быть религиозного происхождения и
происхождения естественного, т. е. производимая (без всякого влияния
религии) большою природною добротой или воспитанная
какими-нибудь гуманными убеждениями, Религиозного
происхождения нравственная любовь потому уже важнее естественной,
что естественная доступна не всякой натуре, а только
счастливо в этом отношении одарённой; а до религиозной любви,
или милосердия, может дойти и самая чёрствая душа долгими
усилиями аскетической борьбы против эгоизма своего и
страстей. На это можно привести довольно примеров и из
нынешней жизни. Но живые примеры и биографические подробности
заняли бы здесь много места. Больше я развивать эту тему и
подразделять чувства любви или симпатии не буду. Об этом
можно написать целую книгу. Я только хотел напомнить всё
это. Остановлюсь на грубом, можно сказать, различии между
.любовью моральной и любовью эстетической. Мы жалеем
человека или он нравится нам—это большая разница, хотя и
совмещаться эти два чувства иногда могут. Попробуем
приложить оба эти чувства к большинству современных европейцев.
Что же нам — жалеть их или восхищаться ими?.. Как их
жалеть?! Они так самоуверенны и надменны: у них так много
перед нами и перед азиатцами житейских и практических
преимуществ? Даже большинство бедных европейских рабочих
нашего времени так горды, смелы, так не смиренны, так много
думают о своём мнимом личном достоинстве, что сострадать
можно им никак не по первому невольному движению, а разве
по холодному размышлению, по натянутому воспоминанию о том,
что им в самом деле может быть в экономическом отношении
тяжело. Или ещё можно их жалеть «философски», то есть так,
как жалеют людей ограниченных и заблуждающихся. Мне
кажется, чтобы почувствовать невольный прилив к сердцу того
^милосердия, той нравственной любви, о которой я говорил
171
выше, надо видеть современного* европейца в каком-нибудь-
униженном положении: побеждённым, раненым, пленным, — да
и то условно. Я принимал участие в Крымской войне как
военный врач. И тогда наши офицеры, даже казацкие, не
позволяли нижним чинам обращаться дурно с пленными. Сами же
начальствующие из нас, как известно, обращались с
неприятелями даже слишком любезно — и с англичанами, и с турками,,
и с французами. Но разница и тут была большая. Перед
турками никто блистать не думал. И по отношению к ним
действительно во всей чистоте своей являлась русская доброта.
Иначе было дело с французами. Эти сухие фанфароны были
тогда победителями и даже в плену были очень развязны, так
что по отношению к ним, напротив того, видна была жалкая
и презренная сторона русского характера — какое-то желание
заявить о своей деликатности, подобострастное и тщеславное
желание получить одобрение этой массы самоуверенных
куафёров, про которых Герцен так хорошо оказал: «он был не
очень глуп, как большинство французов, и не очень умён, как
большинство французов». Всё это необходимо отличать, и
великая разница быть ласковым с побеждённым китайским
мандарином или с индийским пария, — или расстилаться перед
французским troupier и английским моряком. По отношению
к азиатцам, как идолопоклонникам, так и магометанам, мы
действительно являемся в подобных случаях теми добрыми
самаритянами, которых Христос поставил всем в пример.
Относительно же европейцев эта доброта весьма подозрительного
источника, и, признаюсь, я расположен её презирать. Я
вспоминаю нечто о г. Зиссермане. В одном из своих политических
обозрений г. Зисссрман, возмущаясь нашим, действительно,
быть может, излишним, кокетством с пленными турками (из
которых столь многие поступали зверски с болгарами и
сербами), ставил нам в пример немцев, которые, набравши в плен
такое множество французов, почти не говорили с ними и не*
хотели с ними вовсе общаться. Немцы прекрасно делали,—
с этим я согласен. Именно так надо поступать с
обыкновенными французами. Милосердие к ним, в случае несчастия,
должно быть сдержанное, сухое, как бы обязательное и
холодно-христианское. Что касается турок и других азиатцев,
* Я говорю «современного» в смысле тенденции рода воспитания и всего-
того, что составляет так называемый тип, а не про всех тех, которые теперь*
живут. И Бисмарк, и папа, и французский благородный легитимист, и какой-
нибудь набожный простой баварец или бретонец тоже теперь живут; но это
остатки прежней густой, так сказать, и богатой духом Европы. — Я не про
таких современников наших говорю, объясняюсь раз навсегда.
172
которых преходящая самоуверенность в наше время не
может в понимающем человеке возбуждать негодование, а скорее
какую-то жалость, то, не доходя, разумеется, до поднесения
букетов и тому подобных русских глупостей, конечно, в случае
унижения и несчастия с ними следует быть поласковее. Кстати»
о букетах. Когда русский мещанин, солдат или мужик ведёт
пленных турок и, вспоминая о жестокостях, совершённых их
соотечественниками, думает про себя: «а можег быть, эти
турки, которых я вижу, ничего такого не делали, — за что же
их оскорблять?» — то я верю в это православное русское
добродушие. Я понимаю, что та сторона учения Христова, которая
говорит о прощении, т. е. о самом высшем проявлении этой
нравственной любви, даётся русскому народу легче, чем
какому-нибудь другому племени. Положим, и к простолюдину
русскому можно здесь придраться: у одного — лень; у
другого— всё слабовато, в том числе и мстительность и гордость
не выразительны; третий — сам не знает, что ему нужно
делать; у четвёртого — равнодушное отношение ко всему, кроме
своих личных интересов. Но это уже тонкие психологические
оттенки. И распространению христианства служили не одни
только высокие побуждения, а всякие, ибо «сила Божия и
в немощах наших познаётся». Но когда наш харьковский
европеец или калужская француженка любезничают с унылым
угрюмым мусульманином, я впадаю в искушение... Я знаю,
этот европейский Пётр Иванович или эта французская Агафья
Сидоровна делают это не совсем спроста: боюсь до смерти,
что у них, хотя полусознательно, но мелькают в уме газеты,
западное общественное мнение, «вот мы какие милые и
цивилизованные!» Тогда как, по-настоящему, надобно сказать себе:
«какое нам дело до того, что о нас думает Европа?» — Когда
же мы это поймём?!
Итак, говорю я, любовь к людям может быть, прежде всего,
двоякая: нравственная, или сострадательная, и эстетическая,
или художественная. Нередко, я сказал, они действуют
смешанно. В речи г. Достоевского по поводу Пушкина эти два
чувства — совершенно разнородные и в жизненной практике
чрезвычайно легко отделимые — вовсе не различены. А это
очень важно. Лермонтов и другие кавказские офицеры,
сражаясь против черкесов и убивая их, восхищались ими и даже
нередко подражали им. Точно такое же отношение к горцам
мы видим и у староверов-казаков, описанных гр. Львом
Толстым. Этот же романист представил нам примеры подобных
двойственных отношений русского дворянства к французам
в эпоху наполеоновских войн. Черкесы эстетически нравились
русским, противникам своим. Русское дворянство времени
173
Александра I восхищалось тогдашними французами, вредя им
стратегически (а следовательно, и лично)^ на каждом шагу.
Речь г. Достоевского очень хороша в* чтении, но тот, кто
видал самого автора и кто слышал, как он говорит, тот легко
поймёт восторг, охвативший слушателей... Ясный, острый ум,
вера, смелость речи... Против всего этого трудно устоять
сердцу. Но возможно ли сводить целое культурное
историческое призвание великого народа на одно доброе чувство к
людям без особых определённых, в одно и то же время
вещественных и мистических, так сказать, предметов веры, вне и
выше этого человечества стоящих, — вот вопрос?
Космополитизм Православия имеет такой предмет в живой
личности распятого Иисуса. Вера в божественность Распятого
при Понтийском Пилате Назарянина, Который учил, что на
земле всё неверно и всё неважно, всё недолговечно, а
действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего
живущего на ней, — вот та осязательно-мистическая точка
опоры, на которой вращался и вращается до сих пор
исполинский рычаг христианской проповеди. Не полное и повсеместное
торжество любви и всеобщей правды на этой земле обещают
нам Христос и его апостолы, а, напротив того, нечто вроде
кажущейся неудачи евангельской проповеди на земном шаре,
ибо близость конца должна совпасть с последними попытками
сделать всех хорошими христианами...
«Ибо, когда будут говорить: мир и безопасность, тогда
внезапно постигнет их пагуба... и не избегнут» (1-е поел, к Фес-
сал., гл. 5, 3).
И ещё:
«Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас.
Ибо многие прийдут под именем Моим и будут говорить:
я Христос, — и многих прельстят.
Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите
не ужасайтесь: ибо надлежит всему тому быть; но это еще не
конец.
Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и
будут глады, мор и замлетрясения по местам.
Все же это начало болезней» (Еванг. от Матф., гл. XXIV, 4,
5, 6, 7, 8).
«И по причине умножения беззакония во многих охладеет
любовь.
Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет
сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство
всем народам; и тогда придет конец.
174
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через
пророка Даниила, стоящую на святом месте (читающий да
разумеет)...» (Еванг. от Матф., гл. XXIV, 12, 13, 14, 15).
И так далее.
Даже г. Градовский догадался упомянуть в своём слабом
возражении г. Достоевскому о пришествии антихриста и о том,
что Христос пророчествовал не гармонию всеобщую (мир
всеобщий), а всеобщее разрушение. Я очень обрадовался этому
замечанию нашего учёного либерала.
Хотя, видимо, г. Градовский писал это с улыбкой и хотел
напоминанием о «светопреставлении» уязвить христианство; но
это — как ему угодно, указание на эту существенную сторону
христианского учения здесь очень кстати.
Итак, пророчество всеобщего примирения людей о Христе
не есть православное пророчество, а какое-то
общегуманитарное. Церковь этого мира не обещает, а кто «преслушает,
Церковь, тебе, тот пусть будет как язычник и мытарь» (т. е.
чужд тебе как вредный своим примером человек; конечно, до
тех пор, пока он не исправится и не обратится).
Возвратимся к европейцам... Прежде, например, чем
полюбить кого-либо из европейских либералов и радикалов,
надо бояться Церкви.
Начало премудрости (т. е. настоящей веры) есть страх,
а любовь — только плод. Нельзя считать плод корнем, а
корень плодом. Тут даже, кстати, можно продолжить с успехом
именно это уподобление. Правда, плод или часть плода (семя)
зарывается в землю так, что оно становится невидимым и
перерождается в корень и другие части растения. В таком
смысле я могу, например, полюбить даже и самого Гамбетту!..
Каким образом? — Очень простым. Говорят, что один из самых
пылких и, конечно, не робких жирондистов (кажется, Isnard),
спасаясь от гильотины, пробыл несколько дней в
каменоломнях и от мучений страха стал христианином. Вот если бы Гам-
бетта, вследствие какого-нибудь подобного потрясения, захотел
«облечься во Христа», пошёл бы к священнику и сказал: «отец
мой, я понял, что республика — вздор, что свобода —
изношенная пошлость, что нация наша, прежде действительно великая,
теперь недостойна больше внимания, и сам себе я кажусь так
глуп и так низок, что умираю от стыда и тоски, — научите
меня... Обратите меня... Я знаю, что христианину необходимо
усилие воли и скромность ума перед вашим учением. Я
согласен принять всё, даже и то, что мне противно и с чем
отвратительная отупелость моего разума, воспитанного верой в
прогресс, согласиться не может. 5Г в принципе решаюсь всякое
175
сочувствие этому смешному либеральному разуму считать
заблуждением, ошибкой, tentation...» и т. д.
Вот в таком случае, я понимаю, что можно было бы
полюбить Гамбетту всем сердцем и всею душой, «как самого
себя», — полюбить его в одно и то же время и нравственно,
и эстетически, — полюбить и с умственным восхищением, и
с умилением сердечным... Теперь же, каюсь, я, считая себя не
менее кого бы то ни было вправе называться русским
человеком, при всей доброй воле моей, никак не могу ни умиляться,
ни восхищаться, думая об этом энергетическом
воздухоплавателе. .. А он ещё самый крупный и занимательный, кажется,
из нынешних граждан самой европейской из наций Западной
Европы.
Или возьмём пример ближе. Трудно себе представить,
чтобы который-шгбудь из наших умеренных либералов
«озарился светом истины»... Но всё-таки представим себе
обратный процесс. Вообразим себе, что не страх довёл
которого-нибудь из них, как Isnard'a до премудрости, а премудрость
довела до страха рядом умозаключений ясных, но не в духе ере-
мена (с которым «живая» мысль принуждена считаться, но
уважать который она вовсе не обязана). Трудно себе это
представить, положим. Для того, чтобы в наше время члену
плачевной интеллигенции нашей стать тем, что зовётся вообще
«мистиком», — надо иной калибр ума, чем мы видим у
подобных профессоров и фельетонистов. Но положим. . . положим,
что либерал дошёл премудростью человеческою до страха
Божия... Ведь я сказал уже: сила Господня и в немощах
наших нередко познаётся; русские либералы немощны, но Бог
силён. Дошли они премудростью до страха и смирились, —
живут в томлении кроткого прозелитизма, писать вовсе
перестали... Как бы они все были тогда привлекательны и милы!
Сколько уважительного и тёплого снисхождения возбуждали
бы тогда эти скромные люди!..
Но теперь их даже не следует любить; мириться с ними не
должно... Им должно желать добра лишь в том смысле, чтоб
они опомнились и изменились, — т. е. самого высшего добра,
идеального... А если их поразят несчастия, если они потерпят
гонения или какую иную земную кару, то этому роду зла
можно даже немного и порадоваться в надежде на их
нравственное исцеление. Покойный митрополит Филарет находил,
что телесное наказание преступников полезно для их
духовного настроения, и потому он стоял за телесное наказание*.
* Смотри книгу «Государств, учение митр. Филарета» В. Н. 1885 года.
Стр. 86—94. Между прочим, текст: «Ты побиеши его жезлом, душу же его
избавиши от смерти» (стр. 92).
176
И сам г. Достоевский почти во всех своих произведениях,
исполненных такого искреннего чувства и любви к
человечеству, проводит почти ту же мысль, быть может и невольно,
руководимый каким-то высоким инстинктом.
Наказанные преступники, убийцы, блудные, продажные
оскорблённые женщины у него так часто являются
представителями самого горячего религиозного чувства... Страдания,
угрызения совести, страх, лишения и стеснения, вследствие
кары земного закона и личных обид, открывают перед умом
их иные перспективы... А «без преступлений и наказаний»
они пребывали бы, наверно, в пустой гордости или зверской
грубости... Без страданий не будет ни веры, ни на вере в Бога
основанной любви к людям; а главные страдания в жизни
причиняют человеку не столько силы природы, сколько другие
люди. Мы нередко видим, например, что больной человек,
окружённый любовью и вниманием близких, испытывает самые
радостные чувства; но едва ли найдётся человек здоровый,
который был бы счастлив тем, что его никто знать не хочет...
Поэтому и поэзия земной жизни и условия загробного
спасения— одинаково требуют не сплошной какой-то любви,
которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря
объективно, некоего как бы гармонического, ввиду высших целей,
сопряжения вражды с любовью. Чтобы самаритянину было
кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были
разбойники. Разумеется, тут естественно следует вопрос:
«Кому же взять на себя роль разбойника, кому же
олицетворять зло, если это не похвально?» — Церковь отвечает на это
не моральным советом, обращенным к личности, а одним
общеисторическим пророчеством: «Будет зло\» — говорит
Церковь. Она говорит ещё: «званых много, проповедано будет
Евангелие везде, но избранных будет мало; только нудящие
себя восходят в Царствие Небесное», — потому, что самая
добрая, кроткая, великодушная натура есть дар благодати, дар
Божий. Нам принадлежат только: желание, искание веры,
усилие, молитва против маловерия и слабости, отречение и
покаяние,
«Блажен претерпевший до конца!»
Христос, повторяю, ставил милосердие или доброту
личным идеалом; Он не обещал нигде торжества поголовного
братства на земном шаре... Для такого братства необходимы
прежде всего уступки со всех сторон. А есть вещи, которые
уступать нельзя.
12 К. Леонтьев
177
II
Мнения Ф. М. Достоевского очень важны — не только по-
тому, что он писатель даровитый, но ещё более потому, что он
писатель весьма влиятельный и даже весьма полезный.
Его искренность, его порывистый пафос, полный доброты,
целомудрия и честности, его частые напоминания о
христианстве— всё это может в высшей степени благотворно
действовать (и действует) на читателя, особенно на молодых
русских читателей. Мы не можем, конечно, счесть, сколько
юношей и сколько молодых женщин он отклонил от сухой
политической злобы нигилизма и настроил ум и сердце совсем иначе;
но верно, что таких очень много.
Он как будто говорит им беспрестанно между строками,
говорит отчасти и прямо сам, повторяет устами своих
действующих лиц, изображает драмой своей; он внушает им: «Не будьте
злы и сухи! Не торопитесь перестраивать по-своему
гражданскую жизнь; займитесь прежде жизнью собственного сердца
вашего; не раздражайтесь; вы хороши и так, как есть;
старайтесь быть ещё добрее, любите, прощайте, жалейте, верьте
в Бога и Христа; молитесь и любите. Если сами люди будут
хороши, добры, благодарны и жалостливы, то и гражданская
жизнь станет несравненно сноснее и самые несправедливости
и тягости гражданской жизни смягчатся под целительным
влиянием личной теплоты».
Такое высокое настроение мысли, к тому же выражаемое
почти всегда с лиризмом глубокого убеждения, не может не
действовать на сердце. В этом отношении к г. Достоевскому
можно приложить одно название, вышедшее нынче почти из
употребления, — он замечательный моралист. Слово
«моралист» идёт к роду его деятельности и к характеру влияния
гораздо более, чем название публицист, даже и тогда, когда он
по способу изложения является не повествователем, а
мыслителем и наставником, как, например, в своём восхитительном
Дневнике писателя. Он занят гораздо более психическим
строем лиц, чем строем социальным, которым все нынче, к
сожалению, так озабочены. Человечество XIX века как будто
бы отчаялось совершенно в личной проповеди, в морализации
прямо сердечной и 'возложило все свои надежды на переделку
обществ, то есть на некоторую степень принудительности
исправления. Обстоятельства, давление закона, судов, новых
экономических условий принудят и приучат людей стать лучше...
«Христианство, — думают эти современники наши, — доказало
тщетными усилиями веков, что одна проповедь личного добра
не может исправить человечество и сделать земную жизнь по-
J 78
койною и для всех равно справедливою и приятною. Надо
изменить условия самой жизни; а сердца поневоле привыкнут
к добру, когда зло невозможно будет делать».
Вот та преобладающая мысль нашего века, которая везде
•слышится в воздухе. Верят в человечество, в человека не верят
больше.
Г. Достоевский, по-видимому, один и:* немногих мыслителей,
не утративших веру в самого человека.
Нельзя не согласиться, что в этом направлении много
независимости, а привлекательности ещё больше...
Таким представляется дело по сравнению с односторонним
и сухим социально-реформаторским духом времени.
Но то же самое представляется совершенно иначе по
отношению к христианству.
Демократический и либеральный прогресс верит больше
в принудительную и постепенную исправимость всецелого
человечества, чем в нравственную силу лица. Мыслители или
моралисты, подобные автору «Карамазовых», надеются,
по-видимому, больше на сердце человеческое, чем на переустройство
обществ. Христианство же не верит безусловно ни в то, ни
в другое — то есть ни в лучшую автономную мораль лица,
ни в разум собирательного человечества, долженствующий рано
или поздно создать рай на земле.
Вот разница. Впрочем, я» может быть, дурно выразился
словом разум... Чистый разум, или, пожалуй, наука,
в дальнейшем развитии своём, вероятно, скоро откажется от
той утилитарной и оптимистической тенденциозности, которая
сквозит между строками у большинства современных ученых,
и, оставив это утешительное ребячество, обратится к тому
суровому и печальному пессимизму, к тому мужественному
смирению с неисправимостью земной жизни, которое говорит:
«Терпите! Всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше,
другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести
и боли — вот единственно возможная на земле гармония]
И больше ничего не ждите. Помните и то, что всему бывает
конец; даже скалы гранитные выветриваются, подмываются;
даже исполинские тела небесные гибнут... Если же
человечество есть явление живое и органическое, то тем более ему
должен настать когда-нибудь конец. А если будет конец, то какая
нужда нам так заботиться о благе будущих, далеких, вовсе
даже непонятных нам поколений? Как мы можем мечтать
о благе правнуков, когда мы самое ближайшее к нам
поколение— сынов и дочерей — вразумить и успокоить действиями
разума не можем? Как можем мы надеяться на всеобщую
нравственную или практическую правду, когда самая теорети-
12*
179
ческая истина, или разгадка земной жизни, до сих пор скрыта
для нас за непроницаемою завесой; когда и великие умы и
целые нации постоянно ошибаются, разочаровываются и идут
совсем не к тем целям, которых они искали? Победители
впадают почти всегда в те же самые ошибки, которые сгубили
побеждённых ими, и т. д. Ничего нет верного в реальном мире
явлений.
Верно только одно, точно — одно, одно только
несомненно,— это то, что всё здешнее должно погибнуть] И потому на
что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих
поколений? На что эти младенчески болезненные мечты и восторги?
День наш — век наш! И потому терпите и заботьтесь
практически лишь о ближай.ших делах, а сердечно — лишь о ближних
людях: именно о ближних, а не о всём человечестве.
Вот та пессимистическая философия, которая должна рано
или поздно, и, вероятно, после целого ряда ужасающих
разочарований, лечь в основание будущей науки.
Социально-политические опыты ближайшего грядущего
(которые, по всем вероятиям, неотвратимы) будут, конечно,
первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого
ума на ложном пути искания общего блага и гармонии.
Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильственный экономический
и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней
мере для некоторой части человечества.
Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его
воцарение может причинить побеждённым (т. е. представителям
либерально-мещанской цивилизации), сами победители, как бы
прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им
далеко до благоденствия и покоя. И это как дважды два
четыре вот почему: эти будущие победители устроятся или
свободнее, либеральнее нас, или, напротив того, законы и порядки
их будут несравненно стеснительнее наших, строже, принуди-
тсльнее, даже страшнее.
В последнем случае жизнь этих новых людей должна быть
гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших, добросовестных
монахов в строгих монастырях (например, на Афоне). А эта
жизнь для знакомого с ней очень тяжела (хотя имеет,
разумеется, и свои, совсем особые, утешения); постоянный тонкий
страх, постоянное неумолимое давление совести, устава и воли
начальствующих... Но у афонского киновиата есть одна
твёрдая и ясная утешительная мысль, есть спасительная нить,
выводящая его из лабиринта ежеминутной тонкой борьбы:
загробное блаженство.
Будет ли эта мысль утешительна для людей
предполагаемых экономических общежитий, этого мы не знаем.
180
Если же та часть человечества, которая захочет испытать
на себе блаженство (?) вовсе новых общественных и
экономических условий, устроится свободнее нашего, то она будет
повержена в состояние как бы признанной в принципе и
узаконенной анархии, подобно южноамериканским республикам или
некоторым городским общинам древней Греции. Ибо
социальный переворот не станет ждать личного воспитания, личной
морализации всех членов будущего государства, а захватит
общество в том виде, в каком мы его знаем теперь. А в этом
виде, кажется, очень еще далеко до бесстрастия, до незлобия,
до общей любви и до правды — не законом навязанной, но
бьющей теплым ключом прямо из облагороженной души!.»
Пусть хоть в этой передовой стране, во Франции, коммунисты
подождали бы усиливаться до тех пор, пока все французы не
станут хоть такими добрыми, умными и благородными, как
герои Жорж Санд; однако они этого ждать не хотят. . .
Итак, испытавши все возможное, даже и горечь
социалистического устройства, передовое человечество должно будет
неизбежно впасть в глубочайшее разочарование; политическое
же состояние обществ всегда отзывается и на высшей
философии и на общем, полусознательном, в воздухе бродящем
миросозерцании; а философия высшая и философия инстинкта равно
отзываются, рано или поздно, и на самой науке.
Наука, поэтому должна будет неизбежно принять тогда
более разочарованный, пессимистический, как я сказал, характер.
И вот где её примирение с положительною религией, вот где её
теоретический триумф: в сознании своего практического
бессилия, в мужественном покаянии и смирении перед могуществом
и правотою сердечной мистики и веры.
Вот о чём славянам не мешало бы позаботиться\ Это не
противоречит прогрессу; напротив, если понимать прогресс
мысли не в духе непременно приятно эгалитарном и любезно
демократическом, а в значении усовершенствования самой
только мысли, то такое строгое и бесстрашное отношение науки
к жизни земной должно быть признано за огромный шаг
вперёд. .. «Ищите утешения в чём хотите; я Бога не навязываю
вам, — это не моё дело, — я только говорю вам: не ищите
утешения в моих прежних радикально-благотворительных
претензиях, столь глупо волновавших прошедший XIX век. Я могу
помогать вам только паллиативно». Вот что бы должна
говорить наука!
Верно понятый, не обманывающий себя неосновательными
надеждами реализм должен, рано или поздно, отказаться от
мечты о благоденствии земном и от искания идеала
нравственной правды в недрах самого человечества.
18Е
Положительная религия точно так же в это благоденствие
и в эту правду не верит.
Любовь, прощение обид, правда, великодушие были и
останутся навсегда только коррективами жизни, паллиативными
-средствами, елеем на неизбежные и даже полезные нам язвы.
Никогда любовь и правда не будут воздухом, которым бы
люди дышали, почти не замечая его... Именно — почти не
замечая! Эд. Гартман справедливо говорит: «Если бы идеальная
цель, преследуемая прогрессом, когда бы то ни было
осуществилась, то человечество достигло бы степени нуля или
полного равнодушия ко всем отраслям своей деятельности. Но
идеал останется всегда идеалом: человечество может
приближаться к нему, никогда не достигая. Поэтому человечество и
не дойдет никогда до того состояния высокого равнодушия,
к которому постоянно стремится; оно вечно пребудет в
состоянии страдания ещё более низкого порядка (то есть чем это
высокое равнодушие)...»
Да и разве такое тихое равнодушие есть счастье? Это —
ке счастье, а какой-то тихий упадок всех чувств, как скорбных,
так и радостных.
Я уверен, что человек, столь сильно чувствующий и столь
сердечно мыслящий, как Ф. М. Достоевский, говоря о «здании
человеческого счастья», о «всечеловеческом братском
единении», об «окончательном слове общей гармонии» и т. д., имел
в виду нечто более горячее и привлекательное, чем та крот-
кая душевная «нирвана», на которую здесь указывает
Гартман. А горячее, самоотверженное и нравственно
привлекательное обусловливается непременно более или менее сильным и
нестерпимым трагизмом жизни... Доказательства этому можно
найти во множестве в романах самого г. Достоевского.
Возьмём «Преступление и наказание». Вспомним потрясающее
глубокое впечатление, производимое изображением бедного
семейства Мармеладовых. Нищета, пьяный, ни на что уже не годный
отец; мать ^тщеславная, чахоточная, сердитая, почти
безумная, но в сердце честная и до наивности прямая страдалица;
девушка — кроткая, милая, верующая и торгующая собой для
пропитания семьи\.. И когда эти люди проявляют, при всём
этом, высокие качества души своей, глубоко потрясённый
читатель тотчас же понимает, что эта теплота, эта «психичность»,
этот род нравственного лиризма возможен именно при тех
только буднично-трагических условиях, которые избраны
автором. То же самое можно найти в изобилии и в «Братьях
Карамазовых».
Мы найдём это в доме бедного капитана, в истории
несчастного Ильюши и его любимой собачки, мы найдём это
Ш
в самой завязке драмы: читатель знает, что Дмитрий
Карамазов не виновен в убийстве отца и пострадает напрасно. И вот
уже одно появление следователей и первые допросы
производят нечто подобное; они дают тотчас действующим лицам
случайно обнаружить побуждения высшего нравственного
порядка; так, наприм., лукавая, разгульная и даже нередко
жестокая Груша только при допросе в первый раз чувствует,
что она этого Дмитрия истинно любит и готова разделить его
горе и предстоящие, вероятно, ему карательные невзгоды.
Горести, обиды, буря страстей, преступления, ревность, зависть,
угнетения, ошибки — с одной стороны, а с другой —
неожиданные утешения, доброта, прощение, отдых сердца, порывы и
подвиги самоотвержения, простота и весёлость сердца! Вот
жизнь, вот единственно возможная на этой земле и под этим
небом гармония. Гармонический закон вознаграждения — и
больше ничего. Поэтическое, живое согласование светлых
цветов с тёмными — и больше ничего. В высшей степени цельная
полутрагическая, полуясная опера, в которой грозные и
печальные звуки чередуются с нежными и трогательными, — и больше
ничего]
Мы не знаем, что будет на той новой земле и на том новом
небе, которые обещаны нам Спасителем и учениками Его, па
уничтожении этой земли со всеми человеческими делами её;
но на земле, теперь нам известной, и под небом, теперь нам
знакомым, все хорошие наши чувства и поступки: любовь,
милосердие, справедливость и т. д. — являются и должны
являться всегда лишь тем коррективом жизни, тем
паллиативным лечением язв, о которых я упоминал выше.
Теплота необходима для организма, но ни единственным
материалом, ни единственной зиждущею силой для организма
она быть не может.
Нужны твёрдые, извне стеснённые формы, по которым эта
теплота может разливаться, не видоизменяя их слишком
глубоко даже и временно, а только делая эти твёрдые формы
полнее и приятнее.
Так говорит реальный опыт веков, т. е. почти наука,
вековой эмпиризм, не нашедший себе ещё математически
рационального объяснения, но и без него трезвому уму весьма ясный.
Так же точно говорит Церковь, так говорят апостолы...
Будут лжехристы и антихристы; будут «ругатели,
поступающие по похотям своим», и т. д. (2 Поел. Петра, III, 3; I Поел,
Иоанна, III, 18; Поел. Иуды, 18, 19).
И под конец не только не настанет всемирного братства,
но именно тогда-то оскудеет любовь, когда будет проповедано
Евангелие во всех концах земли. И когда эта проповедь до-
183
стигнет, так сказать, предначертанной ей свыше точки
насыщения, когда при оскудении даже и той любви, неполной,
паллиативной (которая здесь возможна и действительна),
люди станут верить безумно в «мир и спокойствие», — тогда-то
и постигнет их пагуба... «и не избегнут]..»
А пока?
Пока «блаженны миротворцы», ибо неизбежны распри. ..
«Блаженны алчущие и жаждущие правды»...
Ибо правды всеобщей здесь не будет... Иначе зачем же
.алкать и жаждать? Сытый не алчет. Упоенный не жаждет.
«Блаженны милостивые», ибо всегда будет кого миловать:
униженных и оскорблённых кем-нибудь (тоже людьми),
богатых или бедных, вес равно, — наших собственных
оскорбителей, наконец!..
Так говорит Церковь, совпадая с реализмом, с грубым и
печальным, но глубоким опытом веков. Так, по-видимому, ещё
думал и сам г. Достоевский, когда писал о Мёртвом доме
и создавал высокое и прекрасное, в своей болезненной истине,
произведение — Преступление и назакание.
Он тогда как будто хотел только усилить теплоту любви
своим потрясающим влиянием; он не мечтал ещё, по-видимому,
в то время о невозможной реально, о чуть не еретической
церковной кристаллизации этой теплоты в форме здания
всечеловеческой жизни.
В творениях г. Достоевского заметна в отношении
религиозном одна весьма любопытная постепенность. Эту постепенность
легко проследить, в особенности при сравнении трёх его
романов: «Преступление и наказание», «Бесы» п «Братья
Карамазовы». В первом представительницею религии являлась почти
исключительно несчастная дочь Мармеладова (торговавшая
собою по нужде), но и она читала только Евангелие... В этом
ещё мало православного, — Евангелие может читать и молодая
англичанка, находящаяся в таком же положении, как и Соня
Мармеладова. Чтобы быть православным, необходимо
Евангелие читать сквозь стёкла святоотеческого учения; а иначе из
самого Св. Писания можно извлечь и скопчество, и
лютеранство, и молоканство, и другие лжеучения, которых так много
и которые все сами себя выводят прямо из Евангелия (или
вообще из Библии). Заметим ещё одну подробность: эта
молодая девушка (Мармеладова) как-то молебнов не служит,
духовников и монахов для совета не ищет: к чудотворным
иконам и мощам не прикладывается; отслужила только панихиду
ло отце. Тогда как в действительной жизни подобная женщина
непременно всё бы это делала, если бы только в ней
проснулось живое религиозное чувство... И в самом Петербурге,
184
и поблизости всё это можно ведь найти... И вероятнее даже,
что жития св. Феодоры, св. Марии Египетской, Таисии и
преподобной Аглаиды были 'бы в её руках гораздо чаше Евангелия.
Видно из этого, что г. Достоевский в то время, когда писал
«Преступление и наказание», очень мало о настоящем (т. е.
о церковном) христианстве думал. В «Бесах» немного получше.
Является перед читателем на площади икона, чтимая
«народом». Автор видимо негодует на нигилистов, позволивших себе
оскорбить эту народную святыню, — и только. Из высшего или
из образованного круга русских действующих лиц многие и
много говорят о Боге, о Христе («о Нём»), — говорят хорошо,
красноречиво, пламенно, с большою искренностью, но всё-таки
не совсем православно, не святоотечески, не по-церковному...
Вес эти речи с точки зрения религиозной не что иное, как
прекрасное, благоухающее «млеко», в высшей степени
полезное для начала тому, кто вовсе забыл думать о Боге и Христе;
но только «начало пути», только «млеко», а твёрдую и
настоящую пищу православного христианства человек познает
тогда, когда начнёт с трепетным и до сердечного, так сказать,,
своекорыстия живым интересом читать Иоанна Златоуста,
Филарета Московского, Жития святых, Варсонофия Великого,
Иоанна Лествичника, переписку Оптинских наставников, Ма-
кария и Антония, с их духовными детьми, мирянами и
монахами.
Правда, эпиграфом к роману «Бесы» выбран евангельский
рассказ об исцелении бесноватого, который, исцелившись, сел
у ног Христа, а бесы, бывшие в нём, вошли в свиней,
кинувшихся в море... «Бесноватый» олицетворяет в этом случае
у г. Достоевского Россию, которая тогда исцелится от всех
недугов своих, лично-нравственных и общественных, когда станет
более христианскою по духу своему нацией (разумеется, в лице
своих образованных представителей). Но и это весьма
неясно... Какое христианство: общеевангельское какое-то или
в самом деле православное, с верой в икону Иверской Божией
Матери, в мощи св. Сергия, в проповеди Тихона Задонского
и Филарета *... в прозорливость и святую жизнь некоторых и
ныне живущих монахов? ..
Какое же именно христианство спасёт будущую Россию:
первое, неопределённо-евангельское, которое непременно будет
искать форм, — или второе, с определёнными формами, всем,
* Даже и в его духовный авторитет по государственным вопросам. Ещё
раз позволяю себе обратить внимание читателей на ту весьма полезную
книгу, о которой я уже упоминал один раз: Государственное учение
Филарета, — вторым изданием вышедшую в Москве в нынешнем году.
185.
хотя бы с виду (если не по внутреннему смыслу), знакомыми? ..
На это мы в «Бесах» не найдём и тени ответа!
«Братья Карамазовы» уже гораздо ближе к делу. Видно,
что автор сам шёл хотя и несколько медленно, но всё-таки по
довольно правильному пути. Он приближался всё больше и
больше к Церкви.
В романе «Братья Карамазовы» весьма значительную роль
играют православные монахи: автор относится к ним с
любовью и глубоким уважением; некоторые из действующих лиц
высшего класса признают за ними особый духовный авторитет.
Старцу Зосиме присвоен даже мистический дар
«прозорливости» (в пророческом земном поклоне его Дмитрию Карамазову,
который должен в будущем быть по ошибке обвинён судом
в отцеубийстве) и т. д.
Правда, и в «Братьях Карамазовых» монахи говорят не
совсем то или, точнее выражаясь, совсем не то, что в
действительности говорят очень хорошие монахи и у нас, и на
Афонской горе, и русские монахи, и греческие, болгарские. Правда,
и тут как-то мало говорится о богослужении, о монастырских
послушаниях; ни одной церковной службы, ни одного
молебна... Отшельник и строгий постник, Ферапонт, мало до
людей касающийся, почему-то изображён неблагоприятно и
насмешливо. .. От тела скончавшегося старца Зосимы для чего-то
исходит тлетворный дух, и это смущает иноков, считавших его
святым.
Не так бы, положим, обо всём этом нужно было писать,
оставаясь, заметим, даже вполне на «почве действительности».
Положим, было бы гораздо лучше сочетать более сильное
мистическое чувство с- большею точностью реального
изображения: это было бы правдивее и полезнее, тогда как у г.
Достоевского и в этом романе собственно мистические чувства всё-
таки выражены слабо, а чувства гуманитарной идеализации
даже в речах иноков выражаются весьма пламенно и
пространно.
Всё это так. Однако, сравнивая «Братьев Карамазовых»
с прежними произведениями г. Достоевского, нельзя было не
радоваться, что такой русский человек, столь даровитый и
столь искренний, всё больше и больше пытается выйти на
настоящий церковный путь; нельзя было не радоваться тому,
что он, видимо, стремится замкнуть, наконец, в определенные
и священные для нас формы лиризм своей пламенной, но
своевольной и всё-таки неясной морали.
Ещё шаг, ещё два, и он мог бы одарить нас творением
истинно великим в своей поучительности.
186
И вдруг эта речь\ Опять эти «народы Европы»! Опять это
«последнее слово всеобщего примирения»!
Этот «всечеловек»!
— И ты тоже, Брут!
Увы, и ты тоже\ ,.
Из этой речи на празднике Пушкина для меня, по крайней
мере (признаюсь), совсем неожиданно оказалось, что г. До-
стоевский, подобно великому множеству европейцев и русских
всечсловеков, всё ещё верит в мирную и кроткую будущность
Европы и радуется тому, что нам, русским, быть может, и
скоро, придётся утонуть и расплыться бесследно в безличном
океане космополитизма.
Именно бесследно] Ибо что мы принесём на этот (по-моему,,
скучный до отвращения) пир всемирного однообразного
братства? Какой свой, ни на что чужое не похожий след оставим
мы в среде этих смешанных людей грядущего... «толпой»...
если не всегда «угрюмою»... то «скоро позабытой»...
Над миром мы пройдём без шума и следа,—
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда. ..
Было нашей нации поручено одно великое сокровище —
строгое и неуклонное церковное Православие; но наши лучшие
умы не хотят просто «смиряться» перед ним, перед его
«исключительностью» и перед тою кажущейся сухостью, которою
всегда веет на романтически воспитанные души от всего
установившегося, правильного и твёрдого. Они предпочитают
«смиряться» перед учениями антинационального эвдемонизма, в
которых по отношению к Европе даже и нового нет ничего.
Все эти надежды на земную любовь и на мир земной можно
найти и в песнях Беранже, и ещё больше у Ж. Санд, и у
многих других.
И не только имя Божие, но даже и Христово имя
упоминалось и на Западе по этому поводу не раз.
Слишком розовый оттенок, вносимый в христианство этою
речью г. Достоевского, есть новшество по отношению к Церкви,,
от человечества ничего особенно благотворного в будущем не
ждущей; но этот оттенок не имеет в себе ничего — ни особенно
русского, ни особенно нового по отношению к преобладающей
европейской мысли XVIII и XIX веков.
Пока г. Достоевский в своих романах говорит образами, то,
несмотря на некоторую личную примесь или лирическую
субъективность во всех этих образах, видно, что художник вполне
и более многих из нас—русский человек.
187
Но выделенная, извлечённая из этих русских образов, из
этих русских обстоятельств чистая мысль в этой последней
речи оказывается, как почти у всех лучших писателей наших,
почти вполне европейскою по идеям и даже по происхождению
своему.
Именно мыслей-то мы и не бросаем до сих пор векам\..
И, размышляя об этом печальном свойстве нашем, конечно,
легко поверить, что мы скоро расплывёмся бесследно во всём
и во всех.
Быть может, это так и нужно; но чему же тут радоваться?..
Не могу понять и не умею!..
III
Итак (скажет мне кто-нибудь), вы позволяете себе отрицать
-не только возможность повсеместного «воцарения правды»,
«мирной гармонии» и «благоденствия» на земле, но даже как
будто противополагаете всё это христианству, как вещи с ним
несовместимые, изображаете всё это чуть-чуть не антитезами
его... Вы забыли даже катехизис, в котором всегда приводится
текст: «Бог любы есть...»
«Писатель, которого вы сами высоко цените и которого вы
в начале предыдущего письма назвали не только даровитым и
вполне русским, но и весьма полезным, шаг за шагом, слово
за словом, явился у вас под конец того же письма человеком,
почти вредным своими заблуждениями, чуть-чуть не ерети-
ком\..» Но чего же вы хотите после этого? Чего же вы
требуете от России нашей и от нас самих?
О воцарении «правды» и «благоденствия» на земле я не
буду здесь много говорить, потому что по этому вопросу все
люди, мне кажется, разделяются очень просто на
расположенных этому идеалу верить и на пожимающих только плечами
при подобной мысли, противной одинаково и реальным
законам природы, и всем главным и самым влиятельным из
известных нам положительных религий.
Для убеждения первых (т. е. верующих в «благоденствие»
и «правду») нужно говорить долго и подробно, а это
невозможно в статье или письме, имеющем специальную цель;
вторые же (не расположенные этому верить) поймут меня и
с полуслова. Это — о всемирном «благоденствии» и о
человеческой «правде».
О «гармонии» я постараюсь сказать особо, если успею,
потому что слово «гармония» я понимаю, по-видимому, иначе,
чем г. Достоевский и многие другие современники наши.
Теперь же объяснюсь примером, кратко и мимоходом. Пушкин
188
сопровождает Паскевича на войну; присутствует при
сражениях. Много людей убито, ранено, огорчено и разорено.
Русские победители вступают в Эрзерум. Сам поэт испытывает,
конечно, за всё это время множество сильных и новых
ощущений. Природа Кавказа и азиатской Турции; вид убитых и
раненых; затруднения и усталость походной жизни;
возможность опасности, которую Пушкин так рыцарски любил;
удовольствия штабной жизни при торжествующем войске; даже
незнакомое ему дотоле наслаждение восточных бань в
Тифлисе... После всего этого, или под влиянием всего этого (в том
числе и под влиянием крови и тысячи смертей), Пушкин
пишет какие-нибудь прекрасные стихи в восточном стиле.
Вот это гармония, примирение антитез, но не в смысле
мирного и братского нравственного согласия, а в смысле
поэтического и взаимного восполнения противоположностей и
е жизни самой, и в искусстве.
Борьба двух великих армий, взятая отдельно от всего
побочного во всецелости своей, есть проявление
«реально-эстетической гармонии^...
А если бразильский император сидит в Петербурге за сто-
лом в обществе русских ориенталистов, до того уже всё
восточное давно утративших (положим), что их очень трудно
отличить со стороны от любого европейского бюргера, — то это не
столько гармония, сколько унисон, очень мирный унисон,
скучный, немного деревянный и очень бесплодный, т. е. на
нравы и понятия самих ориенталистов практически не
действующий, их более восточными и оригинальными людьми не
делающий. При таком понимании слова «гармония» я не могу
и говорить о ней в смысле гармонического или эстетического
братства однообразных народов будущего, если бы я даже
в это братство имел право верить и как реалист, и как
христианин.
В глазах реалиста, т. е. человека, не имеющего права
делать предсказания без предыдущих, даже и приблизительных
примеров, подобное благоденственное братство, доводящее
людей даже до субъективного постоянного удовольствия, не
согласуется ни с психологией, ни с социологией, ни с историческим
опытом. В глазах христианина подобная мечта противоречит
прямому и очень ясному пророчеству Евангелия об ухудшении
человеческих отношений под конец света.
Братство по возможности и гуманность действительно
рекомендуются Св. Писанием Нового Завета для загробного
спасения личной души; но в Св. Писании нигде не сказано, что
люди дойдут посредством этой гуманности до мира и
благоденствия. — Христос нам этого не обещал... Это неправда: Хри-
189
стос приказывает или советует всем любить во имя Бога; ног
с другой стороны, пророчествует, что Его многие не послушают.
Вот в каком смысле гуманность ново-европейская и
гуманность христианская являются несомненно антитезами, даже
очень трудно примиримыми (или примиримыми эстетически^
только в области поэзии, как жизненной, так и
художественной, т. е. в смысле увлекательной и многосложной борьбы).
Удивляться этому или ужасаться такой мысли не следует. Эта
очень понятно, хотя и печально. Гуманность есть идея
простая', христианство есть представление сложное. В
христианстве между многими другими сторонами есть и гуманность или
любовь к человечеству «о Христе», то есть не из нас прямо
истекающая, а Христом даруемая и Христа за ближним
провидящая,— от Христа и для Христа. Гуманность же простая,
«автоматическая», шаг за шагом, мысль за мыслью может
вести к тому сухому и самоуверенному утилитаризму, к тому
эпидемическому умопомешательству нашего времени, которое
можно психиатрически назвать mania democratica progressiva.
Всё дело в том, что мы претендуем сами по себе, без помощи
Божьей, быть или очень добрыми, или, что ещё ошибочнее,
быть полезными. Я говорю — ошибочнее, ибо доброту ещё
свою, порыв искренней любви и милосердия человек не может
не чувствовать, — это факт невольного сознания. Но как быть
уверенным в пользе не только всем, но и многим? Спасая
одного, я, может быть, врежу кому-нибудь другому.
Христианство мирит это легко именно тем, что, с одной стороны, не
верит в прочность и постоянство автоматических добродетелей
наших, а с другой—долгое благоденствие и покой души
считает вредным. Оскорбителю оно говорит: «Кайся: ты
согрешил». Оскорблённому внушает: «Эта обида тебе полезна:
рукой неправедного человека наказал тебя Бог; прости человеку
и кайся перед Богом».
Горе, страдание, разорение, обиду христианство зовёт даже
иногда посещением Божиим.
А гуманность простая хочет стереть с лица земли эти
полезные нам обиды, разорения и горести...
В этом отношении христианство и гуманность можно
уподобить двум сильным поездам железной дороги, вышедшим
сначала из одного пункта, но которые, вследствие постепенного
уклонения путей, должны не только удариться друг об друга,.
но даже и прийти в сокрушающее столкновение.*
* Уподобление это принадлежит не мне; но оно так прекрасно, что я
хотел непременно воспользоваться им. Оно принадлежит Прево-Парадолю,
застрелившемуся в Америке. Он прилагал его к Франции и Германии ещё
до войны 1870 года и предсказывал поражение своей отчизны.
190
Во всех духовных сочинениях, правда, говорится о любви
к людям. Но во всех же подобных книгах мы найдём также,
что начало премудрости (т. е. религиозной и истекающей из
неё житейской премудрости) есть «страх Божий», — простой,
очень простой страх и загробной муки, и других наказаний —
в форме земных истязаний, горестей и бед.
Отчего же г. Достоевский не говорит прямо об этом страхе?
Не потому ли, что идея любви привлекательнее? Любовь
красит человека, а страх унижает. Но, во-первых, перед
христианским учением добровольное унижение о Господе (т. е. то
самое «смирение», которое так уважает и г. Достоевский) лу#ч-
ше и вернее для спасения души, чем эта гордая и
невозможная претензия ежечасного незлобия и ежеминутной елейности.
Многие праведники предпочитали удаление в пустыню
деятельной любви; там они молились Богу сперва за свою душу,
а потом за других людей; многие из них это делали потому,
что очень правильно не надеялись на себя и находили, что
покаяние и молитва, т. е. страх и своего рода унижение вернее,
чем претензии мирского незлобия и чем самоуверенность
деятельной любви в многолюдном обществе. Даже в монашеских
общежитиях опытные старцы не очень-то позволяют увлекаться
деятельною и горячею любовью, а прежде всего учат
послушанию, принижению, пассивному прощению обид,.. И это всё
считается до невероятности трудным, в особенности для тех
людей, которые воображают себя уже смиренными и в «миру»,
собственными усилиями для монастыря подготовленными.
Случаями поразительного падения этих духовных Икаров, нередко
весьма искренних и благородных, наполнена история
монашества от начала его и до нашего времени.
Да, прежде всего страх, потом «смирение»; или прежде
всего — смирение ума, презрительно относящегося не к себе
только одному, но и ко всем другим, даже и гениальным
человеческим умам, беспрестанно ошибающимся.
Такое смирение шаг за шагом ведёт к вере и страху пред
именем Божиим, к послушанию учению Церкви, этого Бога
нам поясняющей. А любовь —уже после. Любовь кроткая,
себе самому приятная, другим отрадная, всепрощающая — это
плод, венец: это или награда за веру и страх, или особый дар
благодати, натуре сообщенный или случайными и счастливыми
условиями воспитания укреплённый. Как в особый дар
благодати, я охотно верю искренности и любви, когда дело идёт,
например, о самом ораторе, т. е. о натуре высоко одарённой;
но совсем другое я чувствую, когда я думаю о большинстве
слушателей его, восхищавшихся, я уверен, больше любовью
191
к Европе, чем любовью ко Христу и действительно к
ближнему. ..
Есть, однако, в числе разных многочисленных родов и
оттенков человеческой любви один особый род, который может
и неверующего и несмиренного человека своим путём привести
и к вере, и к смирению, а потом даже и к той любви
человечества о Боге, которой достигали столь немногие во все времена,
да и то приблизительно, подобно тому, как в квадратуре круга
приближается подвижной многоугольник к полному и
неподвижному кругу Божественной чистоты.
Но об этой любви я не стану говорить своими словами.
Прежде меня и лучше меня сказал о ней, почти в одно время
с г. Достоевским, другой русский христианин, в речи менее
прославленной, но в одном отношении более правильной, чем
речь г. Достоевского.
Я говорю о К. П. Победоносцеве. Почти в то самое время,
когда в Москве так шумно праздновали память Пушкина, ели,
пили, убирали памятник венками, рукоплескали, плакали и
даже падали в обморок, радуясь, что мы наконец-то «созрели»,
или, вернее, перезрели до того, что нам остаётся только
заклать себя на алтаре всечеловеческой (т. е. просто
европейской) демократии, этот русский христианин, о котором я
вспомнил, один, по должности своей, счастливо совпадающей с его
чувствами и призванием, посетил далёкую Ярославскую
епархию и там, на выпуске в училище для дочерей священно- и
церковнослужителей, состоявшем под покровительством в Бозе
почившей императрицы, сказал слово, которое Московские
ведомости по сраведливости назвали прекрасным и возвышенным
и которое я бы желал назвать благородно-смиренным.
Вот отрывки из этой речи. Сперва г. Победоносцев говорит
о том, как понимать покойную их покровительницу:
«Она сама завещала всем любящим её поминать её на
литургии, когда приносится бескровная Жертва на престоле
Господнем. ..»
«.. .До последних дней жизни она поминала с глубокою
признательностью тех, кто ввёл её в Церковь и показал ей
нашу церковную красоту. Любите вы выше всего на свете
нашу Церковь, так, как любит человек, однажды узнавши,
верховную красоту и ничего не хочет променять на неё...»
И ещё:
«Только через Церковь можете вы сойтись с народом просто
и свободно и войти в его доверие».
Потом:
«Одно прочно — простые дела милосердия: алчущего
напитать, жаждущего напоить, нагого одеть, а выше всего тёмную
192
душу осветить светом богопознания, холодную согреть огнём,
любви, — вот дела, которые пойдут вслед за нами».
В чём же разница между этими двумя речами, одинаково
прекрасными в ораторском отношении?
И там «Христос», и здесь «Божественный Учитель». И там,
и здесь — «любовь и милосердие». Не всё ли равно? — Нет,
разница большая, расстояние неизмеримое...
Во-первых, в речи г. Победоносцева Христос познаётся не
иначе, как через Церковь: «любите прежде всего Церковь».
В речи г. Достоевского Христос, по-видимому, по крайней мере,
до того помимо Церкви доступен всякому из нас, что мы
считаем себе вправе, даже не справясь с азбукой катехизиса, т. е.
с самыми существенными положениями и безусловными
требованиями Православного учения, приписывать Спасителю
никогда не высказанные им обещания «всеобщего братства
народов», «повсеместного мира» и «гармонии».
Во-вторых,—о «милосердии и любви». И тут для
внимательного ума большая разница. «Милосердие» г.
Победоносцева— это только личное милосердие, и «любовь» г.
Победоносцева— это именно та непритязательная любовь к
«ближнему»,— именно к ближнему, к ближайшему, к встречному,
к тому, кто под рукой, — милосердие к живому, реальному
человеку, которого слёзы мы видим, которого стоны и вздохи мы
слышим, которому руку мы можем пожать, действительно как
брату, в этот час. ..У г. Победоносцева нет и намёка на
собирательное и отвлечённое человечество, которого многообразные
желания, противоположные потребности, друг друга борющие
и исключающие, мы и представить себе не можем даже и
в настоящем, не только в лице грядущих поколений...
У г. Победоносцева это так ясно: любите Церковь, её
учение, ее уставы, обряды, даже догматы (да, даже сухие
догматы можно, благодаря вере, любить донельзя!). Будет
вам приятна церковь, или (скажем проще) понравится
вам ходить почаще к обедне или посещать внимательно
монастыри,— >вы захотите лучше понять учение; понявши учение,
будете, по мере сил вашей натуры, жить по-христиански, или,
по крайней мере, понимать всё по-христиански, как понимал
по-христиански столь бурно живший мытарь. Церковь скажет
вам вот что: «Не претендуйте постоянно пылать и пылать
любовью. .. Дело вовсе не в наших высоких порывах, которыми
вы восхищаетесь, — дело, напротив того, в покаянии и даже
в некотором унижении ума. Не берите на себя лишнего, не
возноситесь всё этими высокими и высокими порывами, © которых
кроется часто столько гордости, тщеславия, честолюбия. Будьте
свободолюбивы, если вам угодно, на почве политической (хотя
13 К. Леонтьев
193
и это не совсем правильно, ибо апостол говорит, что даже
иноверному и несправедливому начальству надобно повиноваться),
но, ради Бога, на почве религиозной учитесь скромно у Церкви
и, даже ещё проще и прямее говоря, учитесь у русского
духовенства, у этого сословия столь несовершенного и
нравственно, и умственно. Оно весьма несовершенно, это правда;
быть может, оно по условиям исторического воспитания вышло
несколько суше, несколько грубее нас, по-дворянски
воспитанных мирян, это правда... Но оно знает учение Церкви; и даже
(путей у Бога много!) сама эта сухость его могла
располагать его сопротивляться порывистым новшествам. И ещё: разве
для горячих порывов необходимы только новшества? Или разве
Православие ещё не достаточно у нас забыто и в светском
обществе, и в учёном, чтобы не иметь возможности стать опять
новым и увлекательным?.. Прекрасный сосуд не разбит ещё,
"не расплавлен дотла на пожирающем огне европейского
прогресса. Вливайте в него утешительный и укрепляющий
напиток вашей образованности, вашего ума, вашей личной доброты,
и только, — и вы будете правы.
По-видимому, в некоторых местах речи своей г.
Достоевский говорит почти в том же смысле, в исключительно личном.
В этих местах он является по-прежнему вполне
христианином,— только христианином, чего-то ясно и прямо не
договорившим и что-то другое лишнее, вместе с тем, пересказавшим.
Например:
«Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою
гордость! Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись
на родной «ниве»... Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди
себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь
правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем
где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над
собою. Победишь себя, усмиришь себя и — станешь свободен,
как никогда и не воображал себе, и начнёшь великое дело,
и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо
наполнится жизнь твоя, и поймёшь, наконец, народ свой и святую
правду его. Не у цыган и нигде — мировая гармония, если ты
первый сам её недостоин, злобен и горд и требуешь жизни
даром, даже и не предполагая, что за неё надобно заплатить».
Не договорено тут малости: не упомянуто о самом
существенном — о Церкви.
Пересказано лишнее — о какой-то окончательной^)
гармонии.
Но оставим эту гармонию, о которой я уже говорил и
которая испортила, по-моему, всё прекрасное дело Ф. М.
Достоевского. Посмотрим лучше, что такое это смирение перед «наро-
194
дом», перед «верой и правдой», которому и прежде многие нас
учили.
В этих словах: смирение перед народом (или как будто
перед мужиком в специальности) — есть нечто очень
сбивчивое и отчасти ложное. В чём же смиряться перед простым
народом, скажите? Уважать его телесный труд? — Нет; всякий
знает, что не об этом речь: это само собою разумеется, и это
умели понимать и прежде даже многие из рабовладельцев
наших. Подражать его нравственным качествам? — Есть, конечно,
очень хорошие. Но не думаю, чтобы семейные, общественные
и вообще личные, в тесном смысле, качества наших
простолюдинов были бы все уж так достойны подражания. Едва ли
нужно подражать их сухости в обращении со страдальцами и
больными, их немилосердной жестокости в гневе, их пьянству,
расположению столь многих из них к постоянному лукавству
и даже воровству... Конечно, не с этой стороны советуют нам
перед ним «смиряться». Надо учиться у него «смиряться»
умственно, философски смиряться, понять, что в его
мировоззрении больше истины, чем в нашем...
Уж одно то хорошо, что наш простолюдин Европы не знает
и о благоденствии общем не заботится: когда мы в стихах
Тютчева читаем о долготерпении русского народа и,
задумавшись внимательно, спрашиваем себя: «В чём же именно
выражается это долготерпение?» — то, разумеется, понимаем,
что не в одном физическом труде, к которому народ так
привык, что ему долго быть без него показалось бы и скучно (кто
из нас не встречал, например, работниц и кормилиц в городах,
скучающих по пашне и сенокосу?..). Значит, не в этом дело.
Долготерпение и смирение русского народа выражалось и
выражается отчасти в охотном повиновении властям, иногда
несправедливым и жестоким, как всякие земные власти,
отчасти— в преданности учению Церкви, её установлениям и
обрядам. Поэтому смирение перед народом для отдающего себе
ясный отчёт в своих чувствах есть не что иное, как смирение
перед тою самою Церковью, которую советует любить г.
Победоносцев.
И эта любовь гораздо осязательнее и понятнее, чем любовь
ко всему человеческому, ибо от нас зависит узнать, чего хочет
и что требует от нас эта Церковь. Но чего завтра пожелает не
только всё человечество, но хотя бы и наша Россия
(утрачивающая на наших глазах даже прославленный иностранцами
государственный инстинкт свой), этого мы понять не можем
наверно. У Церкви есть свои незыблемые правила и есть
внешние формы — тоже свои собственные, особые, ясные, види-
13*
195
мые. У русского общества нет теперь ни своих правил, ни
своих форм!..
Любя Церковь, знаешь, чем, так сказать, «угодить» ей.
Но как угодить человечеству, когда входящие в состав его
миллионы людей между собою не только не согласны, но даже
и несогласиям вовек? ..
Эта вечная несогласимость нисколько не противоречит тому
стремлению к однообразию в идеях, воспитании и правах,
которое мы видим теперь повсюду. Сходство прав и воспитания
только уравнивает претензии, не уменьшая противоположности
интересов, и потому только усиливает возможность
столкновения.
Любить Церковь—это так понятно!
Любить же современную Европу, так жестоко
преследующую даже у себя римскую Церковь, — Церковь всё-таки
великую и апостольскую, несмотря на все глубокие догматические
оттенки, отделяющие её от нас, — это просто грех!
Отчего же в нашем обществе и в безыдейной литературе
нашей не было заметно сочувствия ни к Пию IX, к кардиналу
Ледоховскому, ни к западному монашеству вообще, теперь
везде столь гонимому? Вот бы в каком случае могли
совместиться и христианское чувство, и художественное, и
либеральное.
Ибо с одной стороны, католики — это единственные
представители христианства на Западе (и об этом прекрасно
писал тот самый Тютчев, который хвалил долготерпение русского
народа); с другой — истинная гуманность, живая,
непосредственная, не может относиться только к работнику и раненому
солдату. Человек высокого звания, оскорбляемый и гонимый
толпою, полководец побеждённый, подобно Бенедеку или
Осман-паше, может пробудить очень живое и глубокое чувство
почтительного сострадания в сердцах, не испорченных
односторонними демократическими «сантиментами».
А поэзии, конечно, в папе и Ледоховском больше, чем
в дерзком и дюжинном западном работнике.
Я думаю, если бы Пушкин прожил дольше, то был бы за
папу и Ледоховского, даже за Дон-Карлоса... Революционная
современность претворяет в себя постепенно всю ту старую и
поэтическую, разнообразную Европу, которую наш поэт так
любил, конечно, не нравственно-доброжелательным чувством,
а прежде всего художественным, каким-то пантеистическим...
Я вспоминаю одну отвратительную картинку в какой-то
иллюстрации, кажется, в «Gartenlaube». Сельский мирный
ландшафт, кусты, вдали роща, у рощи скромная церковь
(католическая). На первом плане политипажа — крестный ход; ста-
J96
рушки набожные, крестьяне без шляп; в позах и на лицах
именно то «смирение», которое и в нашем простолюдине в
подобных случаях нас трогает. Впереди — сельское духовенство
с хоругвями. Но эти добрые, эти «смиренные перед Христом»
люди не могут дойти до Его храма. Поезд железной дороги
остановился зачем-то на рельсах, и шлагбаум закрыт. Им
нужно долго ждать или обходить далеко. Прямо в лицо
священникам, опершись на перила вагона, равнодушно глядит
какой-то бородатый блузник.
Политипаж был, видимо, составлен с насмешкой и
злорадством. ..
О, как ненавистно показалось мне спокойное и даже
красимое лицо этого блузника!
И как мне хочется теперь в ответ на странное восклицание
г. Достоевского: «О, народы Европы и не знают, как они нам
дороги!» — воскликнуть не от лица всей России, но гораздо
скромнее, прямо от моего лица и от лица немногих мне
сочувствующих:— «О, как мы ненавидим тебя, современная Европа,
за то, что ты погубила у себя самой всё великое, изящное и
святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько
драгоценного твоим заразительным дыханием! ..»
Если такого рода ненависть—«грех», то я согласен
остаться весь век при таком грехе, рождаемом любовью
к Церкви... Я говорю — «к Церкви», даже и католической, ибо
если б я не был православным, то желал бы, конечно, лучше
быть верующим католиком, чем эвдемонистом и
либерал-демократом!!! Уж это слишком мерзко!..
ПРИМЕЧАНИЕ 1885 ГОДА
Есть люди весьма почтенные, умные и Достоевского близко
знавшие, которые уверяют, что он этою речью имел в виду
выразить совсем не то, в чём я его обвиняю; они говорят, что
у него при этом были даже некие скрытые мечтания
апокалипсического характера. Я не знаю, что Ф. М. думал и что он
говорил в частных беседах с друзьями своими; это относится
к интимной биографии его, а не к публичной этой речи, в
которой и тени намёка нет на что-нибудь не только
«апокалипсическое» (т. е. дальше определённого учения Церкви идущее),
но и вообще очень мало истинно-религиозного — гораздо
меньше, чем в романе «Братья Карамазовы». Так как в недостатке
смелости и независимости Ф. М. Достоевского уж никак
обвинять нельзя, то эту речь надо, по моему мнению, считать
просто ошибкой, необдуманностью, промахом какой-то нервоз-
197
ной торопливости; ибо в его собственных сочинениях, даже и
ранних, можно 'найти много мыслей, совершенно с этим
культом «всечеловека», «Европы» и «окончательной гармонии» не
совместных.
Напр., в «Записках из подполья» есть чрезвычайно
остроумные насмешки именно над этой окончательною гармонией
или над благоустройством человечества. Если Достоевский
имел в виду всё-таки что-то другое, так надо было прямо это
сказать или хоть намекнуть на это, а то почему же люди
могут догадаться, что такой умный, даровитый, опытный и
смелый человек говорит в этой речи одно, а думает другое, —
говорит нечто очень простое, до плоскости простое, а думает
о чём-то очень таинственном, очень оригинальном и очень
глубоком? Догадаться невозможно.
Нередко, впрочем, случается и то, что писатель сам в жизни
уже дозрел до известной идеи и до известных чувств, но эти
идеи и чувства его еще не дозрели до литературного (или
ораторского— всё равно) выражения. Он ещё не нашёл для них
соответственной формы.
Я готов верить, что, поживи Достоевский ещё два-три года,
он ещё гораздо ближе, чем в «Карамазовых», подошёл бы
к Церкви и даже к монашеству, которое он любил и уважал,
хотя, видимо, очень мало знал и больше всё хотел учить
монахов, чем сам учиться у них.
Лично, я слышал, он был человек православный; в храм
Божий ходил, исповедовался, причащался и т. д.; он дозрел,
вероятно, сердцем до элементарных, так сказать, верований
Православия, но писать и проповедовать правильно ещё не
мог; ему ещё нужно бы учиться (просто у духовенства), а он
спешил учить!
Впрочем, большинство наших образованных людей, даже и
посещающих храм Божий и молящихся, так невнимательно
и небрежно относится к основам учения христианского, что,
пожалуй, речь более православная не так бы и понравилась, как
эта речь, которая польстила нашей религиозной и
национальной бесцветности и как бы придала ей (этой бесцветности)
высший исторический смысл.
Ошибка оратора, неясность и незрелость его мыслей на этот
раз, вероятно, и доставили ему такой шумный, но вовсе не
особенно лестный успех.
Для того, кто этой речи Достоевского не слыхал и не читал
или кто забыл те её самые существенные строки, которые меня
так неприятно удивили, — я эти строки здесь помещаю. Вот
они:
198
«Стать настоящим русским, стать вполне русским, может
быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать
братом всех людей, «всечеловеком», если хотите. И всё это
славянофильство и западничество наше есть одно только
великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое.
Для настоящего русского Европа и удел всего великого
арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел
своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность,
и не мечом приобретённая, а силой братства и братского
стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите
вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы
найдёте уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего,
если хотите, в характере общения нашего с европейскими
племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо что
делала Россия во все эти два века в своей политике, как не
служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой?
Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это
происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!
И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы,
а будущие грядущие русские люди, поймут уже все до единого,
что стать настоящим русским и будет именно значить:
стремиться внести примирение в европейские противоречия уже
окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской
душе всечеловечнои и всесоединяющеи, вместить в нес
с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов,
может быть, и изречь окончательное слово великой, общей
гармонии, братского окончательного согласия всех племён по
Христову евангельскому закону!»
(«Венок на памятник Пушкину». 1880, стран. 243—258).
Я спрашиваю по совести: можно ли догадаться, что здесь
подразумевается некая таинственная церковно-мистическая и
даже чуть ли не апокалипсическая мысль о земном назначении
России?
Что-нибудь одно из двух: или я прав в том, что эта речь—
промах для такого защитника и чтителя Церкви, каким желал
быть Ф. М. Достоевский, или я сам непроницателен в этом
случае до невероятной глупости. Пусть будет и так, если уж
покойного Достоевского во всём надо непременно оправдывать.
Я и на эту альтернативу соглашусь скорее, чем признать за
этой космополитической, весьма обычной по духу в России
выходкой какое-то особое значение!
МОЁ ОБРАЩЕНИЕ
И ЖИЗНЬ НА СВ. АФОНСКОЙ ГОРЕ
I
Однажды на Афоне я разговаривал с отцом Иеронимом
о тех неожиданных внутренних переменах, которые я в себе
ощущал по мере того, как вникал всё больше и больше в
учение Православной Церкви. Эти перемены и новые ощущения
удивляли и радовали меня. Разговаривая так, я дошёл до
мысли, что было бы полезно поделиться когда-нибудь с
другими этой историей моего «внутреннего перерождения». Отец
Иероним согласился, но прибавил: «При жизни вашей печатать
это не годится. Но оставить после себя рассказ о вашем
обращении— это очень хорошо. Многие могут получить пользу,
а вам уже тогда не может быть от этого никакого душевреди-
тельства». Потом он, весело и добродушно улыбаясь (что с ним
случалось редко), прибавил: «Вот, скажут, однако на Афоне
какие иезуиты: доктора, да ещё и литератора нынешнего
обратили».
Это о действительной, автобиографической моей исповеди.
Но, с другой стороны, он же находил, что можно написать и
роман в строго православном духе, в котором главный герой
будет испытывать в существенных чертах те же самые
духовные превращения, которые испытывал я. Роман такого рода
О'Н благословлял напечатать при жизни моей, потому что
многое во внешних условиях жизни было бы изменено и не было
бы ясно: я ли это или не я. Мысль эта пришла мне самому,
а не ему, но он её охотно одобрил, находя, что и эта форма,
как весьма популярная и занимательная, может принести
пользу как своего рода проповедь.
Эти беседы мои с великим афонским старцем происходили
в 72 или в 71 году. С тех пор в течение восемнадцати лет я
постоянно думал об этом художественно-православном труде,
восхищался теми богатыми сюжетами, которые создавало моё
воображение, надеялся на большой успех и (не скрою) даже
выгоды. Радостно мечтал о том, как могут повториться у
других людей те самые глубочайшие чувства, которые волновали
меня, и какая будет от этого им польза и духовная, и
национальная, и эстетическая. Все это я думал в течение 18 лет;
думал часто; думал страстно даже иногда; думал, не сделал.
Я ли сам виноват, обстоятельства ли (по воле Божией)
помешали, не знаю. «Искушение» ли это было или «смотрение
Господне», не могу решить. Мне приятнее, конечно, думать, что
это было «смотрение», двояко приятнее: во-первых, потому что
200
это меня несколько оправдывает в моих собственных глазах
(«Богу не угодно было»; «обстоятельства, видимо, помешали»);
приятно думать, что .хоть в этом не согрешил перед Богом и
перед людьми. И ещё приятно не по эгоистическому только
чувству, но и по той «любви» к людям, о которой я никогда не
проповедовал пером, предоставляя это стольким другим, но
искренним и горячим движениям которой я, кажется, никогда
не был чужд. Близкие мои знают это.
В чём же любовь? Хочется, чтоб и многие другие
образованные люди уверовали, читая о том, как я из
эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращённого, сладострастного
донельзя, до утончённости, стал верующим христианином и какую
я, грешный, пережил после этого долголетнюю и жесточайшую
борьбу, пока Господь не успокоил мою душу и не охладил мою
истинно-сатанинскую когда-то фантазию.
И победа духовного (мистического) рассуждения и чувства
над рассуждением рациональным, к которому приучили меня
и дух века, и в особенности медицинское воспитание, и моё
пристрастие смолоду к естественным наукам, эта победа тоже
стоит внимания.
Что может больше повлиять в этом смысле: хороший,
удачный роман или откровенная, внимательно написанная
автобиография?
Воображая себя на месте нетвёрдых в христианстве,
полуверующих читателей (это, кажется, самый верный прием),
думаю, что автобиография. Хороший, завлекательный роман,
идеалистический, высокий по замыслу и направлению, и вместе
с тем в подробностях реально написанный, может, конечно,
иметь большое влияние. И тем более, что у нас
истинно-православных художественных произведений вовсе нет. Считать
«Братьев Карамазовых» православным романом могут только
те, которые мало знакомы с истинным Православием, с
христианством Св. Отцов и старцев афонских и оптинских.
Но, во-первых, ещё вопрос: хорошо ли я написал бы его?
Хорошо ли в смысле доступности общему вкусу? Ни одна из
моих повестей, ни один из моих романов не только не имели
шумного успеха, но и не заслужили ни одной большой
журнальной основательной критической статьи (хотя все они, эти
романы и повести, были, по крайней мере, оригинальны, не
похожи ни на Тургенева, ни на Л. Толстого, ни, тем более, на
Достоевского). Все отзывы были краткие, как бы мимоходом;
даже и самые похвальные популярности моей не увеличивали.
Издавать их на свой страх никто не чувствовал особой охоты;
это было так постоянно, что и я давно совершенно охладел
к таким изданиям и мало думаю о них.
201
Опять скажу: я ли не умел заинтересовать большинство
читателей; обстоятельства ли сложились странно и невыгодно,
не знаю; но если в течение 28 лет (от 61 года, например)
человек напечатал столько разнородных вещей в
повествовательном роде и иные из них были встречены совершенным
молчанием, а другие заслужили похвальные, но краткие и
невнимательные отзывы, то что же он должен думать? Что-нибудь
одно из трёх: или что он сам бездарен, что у него вовсе нет
настоящего художественного дара; или что все редакторы и
критики в высшей степени недобросовестные люди, что даже
те почитатели и друзья его, которые на словах и в частных
письмах превозносят его талант, тоже недобросовестны и
нечестны или беззаботны по-русски в литературном деле; или,
наконец, что есть в его судьбе нечто особое.
На каком взгляде из трёх христианину полезнее и
правильнее остановиться в моём частном случае?
Признавать мне себя недаровитым или недостаточно
даровитым, «не художником» это было бы ложью и натяжкою. Это
невозможно. Этого я никогда ни от кого не слыхал. Такого
решения и смирение христианское вовсе не требует. В
известные годы, созревши вполне и с огромным запасом житейского
опыта, человек не может даже не сознавать (одного сравнения
достаточно), что он добр, например, храбр, искусен в
чём-нибудь, умён, физически силён, красив и т. д. Это всё дары
Божий, и как таковые все они и отъяты могут быть Богом же
или, и сохраняясь даже, не принести, однако, человеку для
загробной его жизни пи малейшей пользы и даже могут
принести вред, если будут не по учению благодати развиты и
направлены.
Не физиологическое смирение нужно, а духовное. Не нам,
не нам, Господи, а имени Твоему!
Других всех, даже друзей и почитателей своих, считать
людьми легкомысленными или недобросовестными, это было бы
не только грешно и нечестно, но даже и глупо! Какой вздор!
Я мог бы назвать здесь многих. И стоило бы только назвать
некоторых из них, чтобы обвинение в легкомыслии и
недобросовестности оказалось невозможным. От некоторых из них я
видел столько добра, что, кроме самой живой признательности
к ним, ничего не чувствую. Однако и из них многие не сделали
для моего имени, для успеха моих сочинений того, что они
могли бы сделать.
Могли бы!.. Могли ли? Вот главный вопрос. Вот он! А если
не могли?
Есть разные критерии возможности или возможного.
Превосходный практический врач, например. При благоприятных
202
условиях и с моей и с его стороны он мог бы меня вылечить
скорее и лучше всех других. Но он сам был болен и не
выезжал, когда я был с ним в одном городе; он выздоровел и стал
опять практиковать, а я незадолго перед тем уехал, и мы не
встретились. Он бы и мог, да вот не мог же. Хотя и знал меня,
и жалел, и хотел бы вылечить, но Богу не угодно было, чтобы
он меня лечил. Почему же? Этого мы не знаем. Пути Господни
неисповедимы.
Если бы я умер; если бы никто другой, кроме этого врача,
не смог меня излечить, а ему нельзя было ездить ко мне,
тогда судьба моя была бы понятна: я должен был умереть. Но
я неожиданно вылечился в другом месте и у других врачей.
Для чего же мы не могли тогда видеться? И т. д. Я мог бы
привести множество подобных примеров из моей литературной
жизни. Многие люди могли бы сделать много для моего
прославления; они, видимо, сочувствовали мне, даже восхищались;
но сделали очень мало. Неужели это явная недобросовестность
их, или моё недостоинство? Да! Конечно, недостоинство, но
духовное, греховное, а не собственно умственное или
художественное. Богу не угодно было, чтобы я забылся и забыл Его;
вот как я приучил себя понимать свою судьбу. Не будь целой
совокупности подавляющих обстоятельств, я, быть может,
'никогда бы и не обратился к Нему...
Не нужен, не «полезен» мне был при жизни такой успех,
какой мог бы меня удовлетворить и насытить. Достаточно, видно,
с меня было «среднего» succes d'estime, и тот пришел тогда,
когда (сравнительно с прежним) я стал ко всему
равнодушнее. (Полного равнодушия не смели приписывать себе и
великие аскеты; по свидетельству отца Иеронима, борьба с
самолюбием даже у афонских пустынников, живущих давно в лесу
или пещерах, самая упорная из всех. Деньги им уже не нужны;
к молитве постоянной и телесным подвигам они себя давно
приучили, чувственность слабеет с годами; но с самолюбием до
гроба и этим людям приходится бороться!).
И убедившись в том, что несправедливость людей в этом
случае была только орудием Божьего гнева и Божьей
милости, я давно отвык поддаваться столь естественным движениям
гнева и досады на этих людей. Человек может быть прав
житейски, но он духовно грешен, и Бог неправедною рукой
ближнего, как будто бы с вида ни за что, ни про что, наказывает
и смиряет его.
Я не раз говорил с людьми духовного разумения о том,
обязан ли человек во всяком случае считать себя неправым,
а ближнего правым? Все они отвечали согласно: «Нет, не во
всяком случае неправым, но во всяком случае перед Богом
203
чем-нибудь да грешным!». Итак, видимо, Богу было неугодно,
чтобы сочинения мои имели успех. С какою же целью в таком
случае я буду писать роман? Почему же я при таком
убеждении предпочту его посмертной автобиографии? При последнем
выборе есть ещё надежда на большой успех; на успех романа
нет у меня надежды, как бы он ни был хорош. Но на что же
мне этот посмертный успех? Мне, человеку верующему в
вечность небесного и бренность земного? Не для себя, а для
других. Ни избрание сердца, ни долг справедливости не запрещены
нам. (...)
Автобиографические, искренне написанные воспоминания
всегда внушают больше доверия, чем роман.
Романист может иногда, не веруя сам, превосходно
изобразить верования другого лица. Тургенев прекрасно изобразил
чувства Лизы Калнтиной (в «Дворянском гнезде»); Л. Толстой
истинно и правильно — религиозное настроение княжны Марии
(«Война и мир»); Эмиль Золя в «Проступке аббата Муре» до
того правильно и глубоко анализовал духовную борьбу
молодого священника, что если устранить из этого изображения
некоторые особые душевные оттенки, свойственные
исключительно католичеству, то в истории этой борьбы и
православный монах может при сходных условиях узнать самого себя.
Творчество Золя в этом случае гораздо ближе подходит к духу
истинного личного монашества, чем поверхностное и
сентиментальное сочинительство Достоевского в «Братьях Карамазовых».
Лично у меня нет никакого сомнения, что Достоевский в то
время, когда взялся писать «Карамазовых», гораздо ближе
начинал подходить по роду верований своих к церковно-право-
славному христианству, чем Золя в то время, когда он писал
свой роман. Золя настолько уже прославился, что если бы он
ходил на исповедь к патеру и причащался, то мы бы давно об
этом узнали, как узнали, что материалист Поль-Бер скончался
покаявшимся католиком. Про Достоевского же мы знаем, что
он говел и причащался; и хотя это ещё не вполне доказывает,
что человек действительно (наедине с самим собою и Богом)
чувствовал и думал о вере совершенно правильно, однако всё-
таки и это имеет некоторый вес.
Я хочу этим сказать, что художественное творчество может
быть обманчиво. Человек мог верить смолоду очень живо или
иметь поздние временные возвраты к Церкви, временные
колебания и теплые порывы к вере отцов. Он помнит прекрасно
все эти чувства свои; учение в общих его чертах он знает, он
дополнил чтением то, чего он не знал или о чём забыл. Он
был знаком в жизни с истинно-религиозными людьми,
беседовал, спорил с ними; не забыл их доводов, их возражений. Со-
204
вокупность этих впечатлений такова, что при некотором усилии
творческого воображения и неверующий романист может
чрезвычайно верно изобразить не только поступки или речи своего
религиозного героя, но и самую сокровенную
последовательность его помыслов.
Но внушает ли это ту степень фактического доверия, какую
желательно бы внушить неутверждённым людям? Конечно, не
внушает.
Надо, чтобы читающий верил, что я сам верю... Я
пишущий; я живой, реальный, современный ему человек, человек,
выросший в среде, сходной по воспитанию и впечатлениям со
средою самого читающего.
Искренность личной веры чрезвычайно заразительна. Я знаю
это по опыту, ибо и на меня в своё время имели другие
большое влияние этою искренностью.
Многие, конечно, не допускают и мысли, чтобы
образованный человек нашего времени мог так живо и так искренне
верить, как верит простолюдин по невежеству. Но это большая
ошибка! Образованный человек, раз только он перешел за
некоторую, ему понятную, но со стороны недоступную черту
и мысли, может веровать гораздо глубже и живее простого
человека, верующего отчасти по привычке (за другими),
отчасти потому, что его вере, его смутным религиозным идеям
никакие другие идеи не помешают.
Побеждать ему нечего; умственно не с кем бороться. Ему
в деле религии нужно побеждать не идеи, а только страсти,
чувства, привычки, гнев, грубость, злость, зависть, жадность,
пьянство, распутство, лень и т. п. Образованному же (а тем
более начитанному) человеку борьба предстоит гораздо более
тяжёлая и сложная, ему точно так же, как и простому
человеку, надо бороться со всеми этими перечисленными чувствами,
страстями и привычками, но, сверх того, ему нужно ещё и
гордость собственного ума сломить и подчинить его сознательно
учению Церкви; нужно и стольких великих мыслителей, ученых
и поэтов, которых мнения и сочувствия ему так коротко
знакомы и даже нередко близки, тоже повергнуть к стопам
Спасителя, апостолов, Св. Отцов и, наконец, дойти до того, чтобы,
даже и не колеблясь нимало, находить, что какой-нибудь самый
ограниченный приходский священник или самый грубый монах
в основе миросозерцания своего ближе к истияе, чем
Шопенгауэр, Гегель, Дж. Ст. Милль и Прудон... Конечно, до этого
дойти нелегко, но всё-таки возможно при помощи Божией.
Нужно только желать этого добиваться; мыслить в этом
направлении, молиться о полной вере ещё и тогда, когда вера не
полна. (По опыту говорю, что последнее очень возможно и
205
даже не трудно; достаточно для этого быть сначала, как
многие, деистом, верить в какого-то Бога, в какую-то высшую
живую Волю). Раз это чувство есть, раз есть и в уме нашем это
признание, нетрудно хоть изредка, хоть раз в день, хоть при
случае, с глубоким движением сердца воскликнуть мысленно:
«Боже всесильный! Научи меня правой вере, лучшей вере! Ты
всё можешь! Я хочу веровать правильно; я хочу смириться
перед верой отцов моих. Если она правильнее всех других,
покажи мне путь; научи меня этому смирению! Подчини ей мой
ум! Сделай так, чтоб этому уму легко и приятно было
подчиняться учению Церкви!».
И всё это понемногу придёт; придёт иногда незаметно и
неожиданно. «Просите и дастся вам!»
Раз же мы переступим сердцем ту таинственную черту,
о которой я говорил выше, то и сами познания наши начнут
помогать нам в утверждении веры. Все атеисты или антитеисты
нам послужат, и даже чем самобытнее мы сами, чем мы
способнее скептически отнестись ко всем величайшим
приобретениям науки и вообще ума человеческого, тем менее могут
авторитеты этой науки и этого ума помешать нам смиряться и
склоняться перед тем, перед чем мы сами хотим, не обращая даже
никакого внимания ни на Руссо и Вольтера, ни на Гегеля и
Шопенгауэра, ни на Фохта и Фейербаха..,
За этою таинственною чертой всё начнёт помогать вере, всё
пойдёт во славу Божию, даже и гордость моего ума! «Что мне
за дело до всех этих великих умов и открытий! Я всё это давно
знаю! Они меня уже ничем не удивят... Я у всех этих великих
умов вижу их слабую сторону, вижу их противоречия друг
другу, вижу их недостаточность. Может быть, они и умом
ошиблись, не веруя в Церковь; математически не додумались...
упустили из вида то и другое... И если уж нужно каждому
ошибаться, то уж я лучше ошибусь умом по-своему, так, как
я хочу, а не так, как они меня учат ошибаться... Буду умом
моим ошибаться по-моему; так ошибаться, как мне приятно,
а не так, как им угодно, всем этим европейским мыслителям! ..
А мне отраднее и приятнее ошибаться вместе с апостолами,
с Иоанном Златоустом, с митрополитом Филаретом, с отцом
Амвросием, с отцом Иеронимом Афонским, даже с этим
лукавым и пьяным попом (который вчера ещё, например,
раздражил меня тем-то и тем-то), чем вместе со Львом Толстым,
с Лютером, Гартманом и Прудоном... Сами молодые
философы наши, Грот, например, признают умственные,
философские права чувства.
Вот как и гордость моего ума может привести ко смирению
перед Церковью.
206
Не верю в безошибочность моего ума, не верю в
безошибочность и других, самых великих умов, не верю тем ещё более
в непогрешимость собирательного человечества; но верить во
что-нибудь всякому нужно, чтобы жить. Буду же верить
в Евангелие, объяснённое Церковью, а не иначе.
Боже мой, как хорошо, легко! Как всё ясно! И как это
ничему не мешает: ни эстетике, ни патриотизму, ни философии,
ни неправильно понятой науке, ни правильной любви к
человечеству.
II
Был ли я религиозен по природе моей?
Было ли воспитание мое православным?
Стараюсь как можно точнее припомнить детство своё.
Вспоминаю зсё, что только могу вспомнить и о близких моих, и
о самом себе, и говорю себе нерешительно: да и нет!
Дом наш, вообще сказать, не был особенно набожным
домом. Отец мой был, кажется, равнодушен к вере; я не помню,
чтоб он ездил в церковь; не помню, чтоб он говел; хотя знаю,
что духовником его был не тот священник, который
исповедовал мою мать, тётку, сестру и меня. У нас у всех сначала
духовником был отец Лука, священник села Быкасова, а когда
он скончался, то мы все стали говеть в селе Велине у отца
Дмитрия, который только недавно умер почти 80 лет. Я не
помню, чтоб отец говел; но, умирая, он причащался, и на
похороны его приглашён был вместе с приходским (щелкановским)
духовенством священник села Чемоданова. Тогда говорили:
«Надо за духовником его послать». Лет мне было тогда восемь
(или девять), я ко всему этому относился очень невнимательно,
потому что к самому отцу и к его смерти был совершенно
равнодушен. Произвело на меня довольно сильное впечатление
только то, что у чемодановского священника риза на похоронах
была сшита из разных шёлковых кусков, треугольников, как
шьются одеяла, и ещё, что ни у кого я не видал так много
мелких морщинок поперёк лба, как у отца Афанасия (кажется,
его так звали). Отец жил давно особо, не с нами, в небольшом
флигеле, бедно убранном; в нём он заболел ужасною болезнью
(miserere), в нём умер, в нём и лежал на столе в довольно
тесной комнате. Это было зимой, и так кате хоронить его желали
в Мещовском монастыре, то сборы были долгие; лежал он
около недели, и под столом стояли корыта со льдом. Около
этого стола во время панихиды теснилось духовенство, едва
помещаясь и толкая друг друга. Щелкановский дьякон,
человек, которого лицо мне казалось тогда очень грубым и даже
207
злым, как у разбойника, раза два оттолкнул очень грубо чемо-
дановского батюшку в лоскутной ризе, и священник,
обернувшись, посмотрел так грустно и жалобно, и морщинок на лбу
у него сделалось так много, что мне стало его очень жалко.
И родные мои говорили с сожалением: «Какие бедные облаче-
ния у чемодановского причта! Просто жалость глядеть!».
Вот вес, что у меня сохранилось в памяти о похоронах
отцовских. В Мещовск повезли его хоронить тётка с сестрой,
я остался с матерью дома и очень хорошо помню, что ничуть
не горевал и не плакал. Относительно религии отцовской помню
ещё два случая. Один вовсе ничтожный, другой поважнее.
Принесли к нам как-то раз летом чудотворную икону Святителя
Николая из села Недоходова. Мы все вышл'и встречать её. Отец
первый приложился, прошёл под нею, согнувшись с большим
трудом, так как он был очень велик и толст. Помню его пест-
рый архалук из термаламы и как развевались белые волосы
его от ветерка над лысиной. Потом все стали тоже проходить
под икону, и мне это очень понравилось почему-то. Не помню,
проходила ли мать моя. Мне кажется, что нет: она не любила
в точности исполнять обряды. Если бы она проходила, то я
верно этого не забыл бы; я так её любил и так охотно на неё
любовался! (Она была несравненно изящнее отца,- и для меня
это по врожденному инстинкту было очень важно!). Я
упомянул об этом потому, что только раз и помню отца
исполняющим обряд. Что он когда-нибудь да говел, видно из того, что
у него оказался духовник в последнюю минуту. Но я не
сохранил в памяти ничего больше об его религиозности, может быть,
и потому, что я был очень равнодушен к нему и мало им
занимался. При утренней встрече поцелую руку, вечером
подойду под благословение и тоже поцелую руку, и больше
ничего. И он мною и моим воспитанием вовсе не занимался.
Другое обстоятельство было немного поважнее. Когда
в первый раз семи лет я пошёл исповедоваться в большую
нашу залу к отцу Луке (быкасовскому), и тётка мне велела
у всех просить прощение, то я подошёл прежде всего к отцу;
он подал мне руку, поцеловал сам меня в голову и,
захохотавши, сказал: «Ну, брат, берегись теперь... Поп-то в
наказание за грехи верхом кругом комнаты на людях ездит!»
Кроме добродушного русского кощунства он, бедный, не
нашёл ничего сказать ребенку, приступавшему впервые к
священному таинству!
По всему этому видно, что отец мой был из числа тех
легкомысленных и ни к чему не внимательных русских людей
(и особенно прежних дворян), которые и не отвергают ничего,
208
и не держатся ничего строго. Вообще сказать, отец был и не
умён, и не серьёзен.
Совсем иного рода было влияние матери.
Про неё можно сказать так: она была религиозна, но не
была достаточно православна по убеждениям своим. У нес, как
у многих умных русских людей того времени, христианство
принимало несколько протестантский характер. Она любила только
ту сторону христианства, которая выражается в
нравственности, и не любила ту, которая находит себе пищу в набожности»
Она не была богомольна; постов почти вовсе не соблюдала и
нас не приучала к ним, не требовала их соблюдения. Заметно
было иногда, что она немножко даже и презирала слишком
набожных людей. Например, она нередко с пренебрежением
употребляла слова «ханжа», «ханжество» и т. д., тогда как
истинно и по-православному верующий человек никогда этих
слов и не позволяет себе употреблять; ибо никто не может
знать, почему другой так заботлив о внешней обрядности; и как
бы ни казался ему нравственно нехорош очень набожный
ближний, он всегда ищет в сердце ему какого-нибудь оправдания,
даже и не любя его лично. (Например: этот человек так много
молится именно потому, что кается, что понимает сам, какой
у него дурной характер; а это и есть смирение и т. д.)-
Всё это, однако, касательно матери я стал соображать,
конечно, позднее, но в детстве моём я был ей всё-таки гораздо
более, чем отцу, обязан хорошими религиозными
впечатлениями.
Молиться перед угловым киотом учила меня не мать, а
горбатая тётушка моя Екатерина Борисовна Леонтьева, отцовская
сестра. Но я помню хорошо, как сама мать молилась по утрам
и вечерам. Когда незадолго до смерти отца 16-летнюю сестру
мою Александру привезли в Кудиново из Екатерининского
(Петербургского) института, то мать моя вместе с нею молилась
у себя в кабинете по утрам, а я часто, ещё лежа на диване,
слушал. Я рассказал об этом подробнее в другом месте (в
воспоминаниях матери моей об императрице Марии Феодоровне).
Не знаю, как бывает это у других, но у меня те чувства мои,
которые соединились с какою-нибудь картиной, лучше
сохранились в памяти. Помню картину, помню чувство. Помню
кабинет матери, полосатый трёхцветный диван, на котором я,
проснувшись, ленился. Зимнее утро, из окон виден сад наш
в снегу. Помню, сестра, оборотившись к углу, читает по книжке
псалом: «Помилуй мя, Боже!» «Окропиши мя исопом и очи-
щуся; омыеши мя и паче снега убелюся. Жертва Богу дух
сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит!».
14 К- Леонтьев
209
Эти слова я с того времени запомнил, и они мне очень
нравились. Почему-то особенно трогали сердце.
Позднее, когда сестра стала старше, всё это изменилось;
молитв у матери по утрам она больше не читала, потому что
мать во всём дала ей больше противу прежнего воли. Но эти
две первые зимы ежедневных утренних молитв не прошли для
меня без следа. И когда уже мне было 40 лет, когда матери не
было уже на свете, когда после целого ряда сильнейших
душевных бурь я захотел сызнова учиться верить и поехал на
Афон к русским монахам, то от этих утренних молитв в
красивом кабинете матери с видом на засыпанный снегом сад и от
этих слов псалма мне всё светился какой-то и дальний, и
коротко знакомый, любимый и тёплый свет. Поэзия религиозных
впечатлений способствует сохранению в сердце любви к
религии. А любовь может снова возжечь в сердце и угасшую веру.
Любя веру и её поэзию, захочется опять верить. А кто крепко
захочет, тот уверует. В детстве есть такие минуты, в которые
мы более, чем в другие минуты, готовы к приятию сильных
и глубоких впечатлений. Эти минуты очень редки, и потому мы
вообще из детства нашего немногое хорошо помним.
Последовательно не помним ничего, а всё в виде отдельных и
мгновенных образов. Очень часто даже бывает, что случаи,
возбудившие в детском уме особое внимание, вовсе не важны сами
по себе, но, вероятно, какие-нибудь психические сочетания
в эту минуту в высшей степени благоприятны для восприятия
и сохранения впечатлений. Я рос, например, в деревне; мог
ли я не видать каждую зиму снега в саду, каждое лето
цветов, полей, засеянных хлебами, птичьих гнёзд и т. д.? Конечно,
видел всё это с первых лет жизни и постоянно. Отчего же снег
в саду или сад в зимнем уборе я запомнил только в один
какой-то раз, в одно какое-то утро, когда я, лёжа на диване,
слушал слова псалма? Положим, что тут ещё была особая
причина: совпадение слов псалма с картиною, видной мне из окон
(«Омыеши мя и паче снега убелюся»). Но почему я в какой-то
светлый летний день, именно в этот день, в этот раз, а не
в другой, узнал впервые, какая разница между овсом, ячменём,
пшеницей и рожью? Быть может, и прежде их показывали,
однако я на всю жизнь сохранил память об одном этом только
случае. Светлый день; голубое небо; я иду с тёткой в поле,
и она мне срывает колосья и показывает разницу. Почему ещё
я о цветах ничего не помню до той минуты (именно минуты),
когда я (5 или 6 лет, а может быть и 7 даже) подхожу к
большому круглому столу в кудиновской гостиной и вижу на нём
вазу с ранними цветами? В этот день, 18 мая, именины сестры,
недавно взятой из института; я вижу в этой вазе только три
210
сорта цветов: белые и лиловые. Я спрашиваю, как их зовут,
и мне говорят: «Это сирень, это нарциссы, а это тёмно-лиловые
ирисы». Неужели я прежде не видал этих цветов и не говорил
о них? Наверное, и видал и говорил. Однако только с этой
минуты у меня явилось и осталось на всю жизнь ясное,
сознательное представление о первых красотах весны и лета, о том,
что цветы в вазе на столе это что-то весёлое, молодое,
благородное какое-то, возвышенное... Всё, что только люди думают
о цветах, я стал думать лишь с этого утра 18 мая. И с тех пор
я не могу уже видеть ни ирисов, ни сирени, ни нарциссов даже
на картине, чтобы не вспомнить именно об этом утре, об этом
букете, об этих именинах сестры (других её именин я вовсе не
помню). Вспоминаю всегда и о ней самой, об её довольно
весёлой и оживлённой молодости, о нашей тогда дружбе и
о позднейшей её весьма нерадостной судьбе и незначительной
жизни.
В этом же роде я могу припомнить, при каких
обстоятельствах я ясно сознал и запомнил, что такое парящий в небе
ястреб или орёл, И многое я могу привести в этом роде на
память, чтобы доказать, что неизгладимые следы в памяти
нашей зависят не столько от важности самого случая или
события, сколько от нашей готовности воспринять глубоко то или
другое впечатление. Есть много вещей гораздо более
замечательных и важных в нашей жизни, о которых мы или вовсе
не помним и вспомнить и вообразить их даже с помощью
других не можем, или забываем вовсе до тех пор, пока не увидим
какой-нибудь давно не виданный предмет, относящийся к тому
времени: письмо, книгу, портрет, мебель, дорожку в саду или
в поле и т. д.
Например, когда -в 70 году Маша, возвратившись от меня
из Турции, сказала моей матери, что я, несмотря на все
последние удачи мои по службе, стал очень тосковать и думать
о том, чтобы кончить жизнь мою в монастыре, мать приняла
это очень спокойно и сказала ей: «Это странно! Когда я его
маленьким возила раз в Оптину, ему так там понравилось, что
он мне сказал: «Вы меня больше сюда не возите, а то я
непременно тут останусь». Я же не только этих слов моих, но
и самой поездки в Оптину вовсе не помню и вспомнить не могу.
И мать моя до этого разговора с Машей никогда об этом
случае не упоминала ни без меня, ни при мне. Такого важного
обстоятельства моей детской жизни я вовсе не помню, а из
числа менее важных и поразительных случаев я в течение всей
моей жизни беспрестанно вспоминал о том, что первый раз,
когда я помню мать мою ясно и хорошо, это было в один день
её причащения. Я её поздравил. Было это вот так. Тётка ска-
14+
211
зала мне: «Поздравь маменьку, она причащалась сегодня».
Я вышел в залу, в которой мать моя наигрывала что-то на
фортепиано, и подошёл к ней. Если я скажу просто: «Мать
нагнулась ко мне и поцеловала меня-с улыбкой», это будет
совсем не то, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что ни прежде,
ни после (в течение долгого времени) этого полудня я не
помню лица моей матери в эти годы. Тогда ещё у неё не было
морщин; я их не помню вовсе, по крайней мере, в эту минуту,
когда она, сидя у фортепиано, с нежною улыбкой нагнулась
поцеловать меня, у неё было именно такое красивое,
моложавое и приятное лицо, как на акварели Соколова в круглом
чепце и красном шелковом платье с воздушными рукавами.
Только платье у неё было другое, белое кисейное с голубыми
горошками. Не могу сказать и сам не могу понять, что на
меня так сильно подействовало в этот краткий миг, но могу
уверить, что я никогда не забывал его. Когда я вспоминал что-
нибудь о детстве, или о любви моей к матери, или о днях
св. причащения, это мгновение одним из первых
представлялось мне. После 20 лет я стал сочинять повести и романы.
Иногда нужно мне было вообразить для них образованную,
благовоспитанную, изящную и не старую ещё мать! И тотчас
же мне представлялось, что мой герой видит свою молодую
мать после причастия в зале за фортепиано и непременно
в кисейном белом платье с голубыми горошинками. Мне не
пришлось нигде этого написать, ибо великое множество
задуманного мною от 20 до 58 лет я написать не мог; но мне всегда
казалось, что если придётся изображать такую молодую мать,
то непременно надо её представить в таком платье, иначе
читатель будет менее будто бы тронут, как будто образ, на
меня действующий, должен и на него точно так же
подействовать.
Сам по себе этот случай, положим, мало объясняет главный
вопрос, было ли моё воспитание православным или нет, но мне
кажется, что он имеет вот какое значение: хорошо, чтобы
в детских воспоминаниях религиозное соединялось с изящным.
Чувство будет сильнее, полнее. Приятнее будет вспоминать.
Если я теперь начну внимательно припоминать всё, что могу,
относительно религиозного влияния на меня матери моей во
время детства и отрочества, лет до 17—18, то мне придётся
сказать, что вообще оно было средней силы; она не вредила мне
с этой стороны, но и не давала мне большой пользы. Остались
у меня в пахмяти очень приятные воспоминания о некоторых
богослужениях, изредка о зимних всенощных в кудиновской
длинной зале, которые производили на меня впечатление.
Несколько раз мы с матерью ездили на зиму в Петербург, сперва
212
чтобы видеть сестру в Екатерининском институте и старших
братьев в корпусах, потом чтобы взять сестру из института,
когда она окончила курс; йотом ездили уже с сестрой вместе
туда. В эти зимы в Петербурге мать моя гораздо чаще ходила
с нами к обедне и ко всенощной, чем в деревне. В Петербурге
я её видел несравненно более богомольною, чем в деревне.
Причину я понимаю теперь, понимаю даже её чувство.
«Народничества» или «лростонародничества» тогда вовсе не было
у дворян. Если и было, то бессознательное и больше у тех,
которые сами были «посерее», так сказать, и этим ближе к
народу. Мать моя не любила «простого» народа; не любила
толпы, тесноты и толкотни я храмах; принуждать себя много
не находила нужды. Она хотела молиться для себя искренно,
тепло; хотела молиться тогда, когда её сердце требовало
молитвы. Она, видимо, была из тех людей, которые не признают
важности долгою принудительного и тяжкого (почему бы то
ни было тяжкого) присутствия в храме. Она хотела не
почтительного повиновения уставу и обряду, искала не подвига
послушного (и отчасти сухого) выстаивания даже при неудобных,
отвлекающих или раздражающих условиях; она хотела
молитвы горячей и покойной. Вот почему, я думаю, она
некоторые петербургские церкви, особенно домовые, предпочитала не
только деревенским, но и калужским, например. Когда я в
течение 4-х с лишком лет учился в калужской гимназии (от 44
до 49-го?) и вся семья наша зимы проводила в Калуге, я не
помню, чтобы мать моя часто ездила в церковь. А в Петербурге
она часто бывала у обедни, особенно в домовых церквах, или
чаще всего она ходила и нас с сестрой водила в домовую
церковь Института слепых. Ходили мы не с главной лестницы и не
в самую церковь (самой церкви я даже ни разу и не видел)!
Мы проходили через какое-то внутреннее крыльцо и по особой
лестнице в просторную комнату с паркетным полом, из
которой была боковая дверь в церковь. Богослужения видно не
было из нес, но возгласы и пение были очень хорошо слышны.
Через эту комнату проводили к началу обедни в церковь и
самих слепых по два в ряд, в длинных сюртуках. (Помню, что
смотреть на них мне было очень неприятно, какая-то
физическая брезгливая жалость). Остальные же впечатления были
мне так приятны, что я даже раз или два отпрашивался у
матери туда и без неё ко всенощной. (Мне было тогда уже
11 —12 лет). В этой зале или большой комнате с паркетным
полом было очень чисто, светло и просторно; общество
молящихся было избранное, не то чтобы исключительно знатное, но
избранное в том смысле, что тогда в неё (не в самую церковь,
всем предоставленную, а в эту боковую залу) можно было
213
входить только по знакомству или рекомендации. Тогда
швейцар впускал. Здесь обедня начиналась поздно; все почти
стояли у стен, никто друг другу не мешал, никто не толкался,
не «протискивался» вперёд, не хватал рукой вас за спину или
бок, чтобы оттолкнуть с места» никто не плевал на пол, не
сморкался в руку, не «харкал». Можно было всегда достать
стулья.
Здесь, я помню, мать усердно молилась, много крестилась,
была сосредоточена, клала поклоны охотно, Великим постом
даже и земные, не брезгая здесь полом, как брезговала во
многих других местах. Боже мой! Как я стал после 40 лет,
после жизни на Афоне, понимать её и даже сочувствовать ей!
А было время, когда (между 20 и 40 годами) я не понимал её
в этом и не сочувствовал ей.
По этому поводу, то есть по поводу церквей «всенародных»,
так сказать, «тесных и многолюдных», и церквей особых,
«дворянских», что ли, домовых и т. п. можно, я думаю, написать
целое психологическое рассуждение и разобрать подробно,
какое разнородное значение имеют эти храмы для души
христианина. Но я боюсь слишком далеко отвлечься этим
рассуждением, а приведу только один разговор, который я имел в Москве
в 70-х годах с Дмитрием Васильевичем Аверкиевым и его
другом Антроповым (который написал «Блуждающие огни»). Мы
разговаривали о чём-то, касающемся Православия, и мне
случилось упомянуть, что я по субботам бываю у всенощной или
на Моховой в той церкви, которая по правую руку от Охотного
Ряда (названия не знаю), или в той, которая в самом Охотном
Ряду выступом (тоже забыл; где отец Иоанн Виноградов)» или
еще в маленькой дворцовой церкви, а по воскресеньям у обедни
в университетской церкви. Аверкиев воскликнул: «Вот уж
таких церквей, как университетская, не люблю! Мне нужна
такая церковь, где мужик молится или стоит около меня какая-
нибудь несчастная салопница с подвязанной щекой!» Я узнал
тотчас же в этих словах моего умного и доброго собеседника
мою собственную, прежнюю точку зрения, моё собственное
объективное, так сказать, народничество 60-х годов. И мне
когда-то (до жизни на Святой Горе) для пробуждения во мне
какой-то тени или подобия религиозных чувств нужен был
пример людей низших по умственному развитию, сообщество
существ более простых, более наивных, как говорится, ибо во
мне самом была тогда только смутная любовь к вере, но самой
веры не было. А когда пришла настоящая вера, мне уже вовсе
не нужны стали для сильных религиозных чувств ни мужик, ни
салопница. Напротив того, они стали в храмах физически мне
больше прежнего мешать. К 40-м годам здоровье моё сильно
214
расстроилось, и для бедной, немощной плоти моей теснота
в церкви стала слишком тяжела; толпа и теснота так
развлекают и тревожат телесно, что я мог выдержать их только как
подвиг, послушание, принуждение, а сосредоточиться уже не
мог так отрадно и усладительно, как сосредоточивался на
молитвенных и покаянных мыслях в такой церкви, где никто мне
не мешал, никто меня не толкал, не хватал руками за спину;
не сморкался около меня в руку и т. д.
Когда Аверкиев сказал мне о том, что он не любит таких
церквей, как университетская, я тотчас же вспомнил о бедной
(уже несколько лет до этого умершей) матери моей, вспомнил
об её брезгливости и нервности и о том «народничестве»,
которому я был так долго сам причастен и от которого более всего
освободил меня Афон. И, вспомнивши обо всем этом, сказал
Аверкиеву:
«Да, и я так думал и так чувствовал, пока сам не
уверовал. И даже, помню, осуждал несколько мать свою покойную
за её слишком брезгливую дворянскую веру. Она никогда почти
в обыкновенные приходские церкви не ходила и не ездила,
а выбирала всё такие, где было просторно, очень чисто и
покойно. И мне когда-то казалось, что те светские дамы и
образованные мужчины, которые ходят в такие «избранные» церкви,
не веруют так искренно, как веруют те мужики и салопницы,
о которых вы говорите. Но мне пришлось позднее сознать мою
ошибку. Когда я сам стал чувствовать сильную потребность
молитвы и присутствовать при совершении таинства, то мне для
души народ стал менее нужен. А для тела больного и усталого
стало нужнее спокойствие. Поверьте мне, Дмитрий Васильевич,
та вера ещё не настоящая, которая нуждается в этих
воздействиях «простых людей». Это чувство, «мужики и т. п.»,
чувство хорошее; в нём смешаны чувство эстетическое с гуманным
или со славянофильским, каким-то патриотическим, пожалуй, но
это не настоящее чисто-религиозное, которое заставляет
человека искать молитвы для себя и радоваться всему тому, что
устраняет рассеяние и раздражение. На что народ тому, кто
хочет для себя молиться? ..»
Аверкиева я находил всегда одним из самых
добросовестных (умственно) людей в России; он на это не отвечал ни
слова, и я видел по доброму и ясному выражению его лица, что
он понял, если ещё не опытом сердца, то умом, правду мою и
не находил нужным противоречить мне. Что касается
Антропова, то он прямо сказал: «Я думаю, что вы правы!».
Конечно, если человек болезненный или очень брезгливый,
подобно моей матери, понудит себя выстоять или даже
отчасти и высидеть всенощную или обедню в толпе и толкотне
215
ревностных, но грубых и часто неопрятных простолюдинов, это
будет с его стороны истинный подвиг, который ему и сочтётся
(ибо понуждение зависит от нас, а умиление и радость
молитвенная от Бога); можно похвалить его за это, поставить его
при случае в пример, но избави нас Боже осудить такого
человека за то, что он предпочитает домовые и просторные церкви
церквам тесным и менее опрятным. Такова немощь его,
зависящая от болезни, или от тонкого воспитания с ранних лет,
или от чего-нибудь другого. И совсем не следует думать так,
как думают многие, что вера простолюдина непременно лучше,
чище и сильнее нашей веры. Это просто вздор. Из того, что
один человек стоит около меня в старом зипуне и в лаптях
и молится, а другой стоит в дорогом сюртуке от Бургеса или
Lutun с Тверской, с хорошею тростью, и правою рукой
крестится, а в левой, на которой французская перчатка, держит
десятирублёвую шляпу, никак не следует, что вера первого
лучше, чище, сильнее. Это ужасный вздор и вздор даже в
высшей степени вредный, потому что такая точка зрения унижает
религию, а не возвышает её.
— Я не верю религии моих образованных знакомых, но
религии мужика, солдата, мещанки и простого монаха верю.
На это надо ответить так: в этом случае ваше самомнение,
ваша гордость берут верх над вашим умом. Это не мысль
хорошая, объективно беспристрастная; это дурное чувство. Вы
веру не ненавидите сами по себе. Вы ее даже уважаете и
любите. Но сами вы не умеете верить, и вам завидно, что
некоторые ваши знакомые умеют верить, дошли как-то до этого,
а вы со всем вашим умом никак до этого дойти не могли.
И вот вы допускаете, что те люди, которые не знают того, что
вы знаете, не читали того, что вы читали, не жили барином,
как вы жили, могут известным образом чувствовать, а люди,
схожие с вами по воспитанию, привычкам, образованности, не
могут иметь ни «страха Божия», ни веры в чудеса и таинства,
ни упования на загробную жизнь, а непременно должны
притворяться или обманывать самих себя, когда они ходят в
церковь, причащаются, постятся и т. д... Вам досадно, вам не
хочется признать, что эти люди, которых вы, может быть, не
желаете ни в чём счесть выше себя, сумели развить в себе
такие чувства, которые вам недоступны, и вы, вместо того,
чтобы обратиться к себе со строгим вопросом: «Всё ли я сделал,
чтобы добиться такой веры», предпочитаете признать их
какими-то притворщиками или фантазёрами от нечего делать.
Это гордость и зависть, и больше ничего.
Вот что надо ответить таким людям. Такой образ мыслей
допустим на время во всяком человеке, и умном, и хорошем,
216
но упорствовать в нём прежде всего не умно, не
глубокомысленно, не справедливо. Что за вера в своё рассуждение
безусловно! Проповедовать же всё подобное, как проповедует
гр. Л. Н. Толстой, это просто злодейство!
Что за ничтожная была бы вещь эта «религия», если бы она
решительно не могла устоять против образованности и
развитости ума!
РАССКАЗ МОЕЙ МАТЕРИ
ОБ ИМПЕРАТРИЦЕ МАРИИ ФЕОДОРОВНЕ
I
Это было уже давно... Я просил покойную мать мою
записать для меня свои воспоминания о жизни в Екатерининском
институте и о позднейших сношениях своих с императрицей
Марией Феодоровной, которая до самой кончины своей не
забывала её как одну из лучших своих воспитанниц.
Многое в рассказах матери казалось мне интересным, ибо
уже и тогда, в 50-х годах, когда я стал совсем «большим»,
даже студентом, в жизни нашей были уже такие оттенки или,
говоря по-нынешнему, «веяния», которые с иных сторон делали
эту жизнь 50-х годов более похожею на нынешнюю, чем на
жизнь первой четверти нашего века. Строй был в 50-х годах
тот же, что и в 12 году или в 20-м; идеалы значительно
изменились; вслед за Европой мы уже пережили и 30-й год, и 48-й.
Под незаметным почти сразу влиянием этих идеалов строй
векового созидания пошатнулся впервые в 61 году.
И я—тогда (т. е. в 50-х годах) 20-ти-летний студент
медицины, читавший в часы досуга Белинского, Герцена, Жорж
Санда, — уже чувствовал себя в силах относиться почти
исторически, полу-сочувственно, полу-снисходительно, полу-над-
менно не только к тем, мне казалось, уже далёким преданиям
времён, когда мать моя отроковицей ходила по коридорам
закрытого училища на берегу Фонтанки, но даже к
многознаменательному пятилетию, от 26 года до 31-го, от кончины
императора Александра I в Таганроге до Адрианопольского мира и
до первого усмирения Польши.
Мать моя исполнила мою просьбу давно, ещё при жизни
своей, и часть её записок была напечатана в «Русском
вестнике» («Праздник в селе Покровском; 1811 —1812 гг.», и т. д.).
Было у неё написано и ещё много любопытного, но всё это,
к сожалению, пропало вместе с отрезанным чемоданом между
Калугой и Москвою в конце 60-х годов. У меня изо всего этого
сохранилось очень мало и» между прочим, рассказы о том, как
двое старших братьев моих были приняты без всяких на то
прямых прав в Пажеский корпус, по особой милости и по
особому вниманию императрицы Марии Феодоровны. Отец наш
не только не имел генеральского ранга, но даже за участие
в каком-то буйстве был удалён из гвардии в начале этого века
м вышел в отставку в чине прапорщика.
Жена отставного прапорщика, вдобавок удалённого из
гвардии за буйство, — владетельница небольшого имения в Ка-
218
лужской губернии, —какие права имела моя мать на
помещение двух первых сыновей своих в Пажеский корпус? —
Конечно, никаких.
Но она ещё девочкой, ещё институткой, обратила на себя
внимание императрицы-матери, и государыня через пятнадцать
лет после её выхода из училища не забыла её и исполнила её
желание в год восшествия на престол Николая Павловича,
В нашем милом Кудинове, в нашем просторном и весёлом
доме, которого теперь нет и следов, была комната окнами на
запад, в тихий, густой и обширный сад. Везде у нас было
щеголевато и чисто, но эта комната казалась мне лучше всех;
в ней было нечто таинственное и мало доступное и для
прислуги, и для посторонних, и даже для своей семьи. Это был
кабинет моей матери... Проходить в него нужно было
длинным коридором, через уборную её и спальню, и вся эта
половина дома очень часто была заперта на ключ. Мать любила
уединение, тишину, чтение и строгий порядок в распределении
времени и занятий. Когда я был ребёнком, когда ещё «мне
были новы все впечатленья бытия...», я находил этот кабинет
прелестным.
И в самом деле, он был очень оригинален и мил. В то время
ещё не привыкли у нас обивать мебель пёстрыми ситцами,
и даже хорошего полосатого тика ярких цветов я в то время
не помню, хотя с раннего детства я не раз ездил с матерью
в столицы и очень многое внимательно замечал; но у матери
моей было сильное воображение и очень тонкий вкус, ей
хотелось устроить себе комнату в виде цветной палатки, и она
велела сшить широкими полосками какую-то бумажную
материю: тёмно-зелёную, ярко-розовую и белую, и декорировала
ею стены и потолок; потолок был собран посредине сборками
в большую розетку, в средине которой была вставлена такая
круглая бронзовая фигурка, какие употребляются для
закидывания занавесок около окон. Пол зимой был обит большим ковром,
белым, с бархатными тёмно-зелёными узорами, и это было очень
кстати и очень хорошо. Мать сумела извлечь пользу из
какого-то тёмного чулана; над этим чуланом была лестница на
антресоли: мать его уничтожила, отодвинув стену дальше в
коридор, поставила там деревянные колонки, обила их полотном;
велела выкрасить полотно белой масляной краской и обвила
их и оклеила спирально поверх полотна таким цветным
бордюром, каким оклеивают наверху обои, так что вместо тёмного
чулана для дров в коридоре образовалась за колонками в
кабинете какая-то ниша, чрезвычайно уютная и красивая. Она
была не широка и вся занята вплоть до колонн одним
турецким диваном; и стены этой ниши, и занавес, который можно
219
было задергивать, и самый диван,'и турецкие подушки его во
всю стену — всё было из той же материи, как и отделка стен,
и всё тех же трёх цветов: тёмно-зелёного, розового и белого.
Всё это было очень дёшево (потому что моя мать была
скорее бедна, чем богата), но всё весело, опрятно и душисто.
Летом были почти всюду цветы в вазах, сирень, розы,
ландыши, дикий жасмин; зимой — всегда слегка пахло хорошими
духами. Был у неё, я помню, особый графинчик, гранёный и
красивый, наполненный духами, с какою-то машинкой, которой
устройство я не понимал тогда, не объясню и теперь... Была
какая-то проволока витая, и был фитилёк, и что-то зажигалось;
проволока накаливалась докрасна, и комнаты наполнялись
благоуханием легким и тонким постоянно, ровно и надолго.
Мебели в этой комнате было немного: она сама была
невелика. У окна ясеневый просторный письменный стол с полками
для книг; перед ним старинное кресло с полукруглой спинкой,
украшенной двумя точёными бараньими головками; около
стола с другой стороны тоже ясеневое большое глубокое
вольтеровское кресло, и в другом углу у окна ещё кресло и
складной столик: но комната вовсе не казалась пустой благодаря
трёхцветной драпировке и дивану за колонками в
таинственной нише.
Картин по стенам не было, большие фамильные портреты
висели в гостиной; у матери в кабинете были только портреты
семерых детей её и трёх посторонних лиц, которых она считала
лучшими своими друзьями или даже благодетелями...
Детские портреты висели в ряд за колоннами в нише и
были почти все разные, сняты в разное время и разными
способами. Самый старший брат Пётр, впоследствии гвардейский
офицер (о котором будет речь и в самих записках матери),
красивый, румяный мальчик лет шестнадцати, был снят в ка-
мер-пажеском мундире, цветными карандашами и очень
хорошо. Портрет старшей сестры Анны, девушки лет двадцати,
красоты несколько серьёзной, правильной, но не особенно
приятной, с высоким фигурным гребнем в большой и высоко
поднятой косе, — этот портрет был почему-то гравированный на
камне, вместе с двумя другими портретами младших детей —
сына и дочери: премилые русские личики — неправильные и
симпатичные; мальчик — в острой турецкой курточке без
рукавов и девочка с большой косой, венцом вокруг головы; с одного
из средних братьев был снят очень похожий, чёрный, конечно,
силуэт, а с другого ребёнка, бледного и задумчивого, срисовал
довольно удачно акварель крепостной иконописец деда Петра
Матвеевича Коробанова...
220
Я был самый младший, гораздо моложе других, и меня,
вскоре после рождения моего, изобразил масляными красками
тот же крепостной художник в идеальном виде бестелесного
херувима с крыльями. Когда я вырос и во мне уже ничего
невинного и ангельского не осталось, мать отдала этот
фантастический портрет кому-то из наиболее приверженных
служителей наших, и лет двадцать спустя я, по возвращении моём
из-за границы, нашёл его у старой кухарки нашей в кухне;
кухарка никак не могла удержать деревенских женщин, чтобы
они, входя в кухню, на этого херувима не молились.
Все эти детские портреты, говорю, висели в ряд на стене
за колоннами ниши и все были украшены наверху розетками
таких же трёх цветов, как и диван, и занавески, и степы; на
всех семи розетках цвета были нарочно расположены в разном
порядке: на первом направо белый внизу, потом розовый и
пуговка зелёная, на втором белый внизу, потом зелёный и
пуговка розовая и т. д. Когда я был мал, я спал за этими
колоннами на диване, и это симметрическое разнообразие розеток,
которые я, проснувшись поутру, изучал, доставляло мне
множество наслаждений.
Я прошу мне простить все эти, быть может, и лишние
подробности, но мне так приятно обо всём этом писать! И кроме
того, воспоминания об этом очаровательном материнском
«Эрмитаже» до того связаны в сердце моём и с самыми первыми
религиозными впечатлениями детства, и с ранним сознанием
красот окружающей природы, и с драгоценным образом
красивой, всегда щеголеватой и благородной матери, которой я так
неоплатно был обязан всем (уроками патриотизма и
монархического чувства, примерами строгого порядка, постоянного
труда и утончённого вкуса в ежедневной жизни), что я не могу
сдержать себя и мне всё кажется, будто и простой рассказ
матери станет гораздо живее, если я скажу больше о ней самой
и даже о тех предметах, которыми она была окружена не
случайно, но вполне осмысленно, по собственному выбору и
творчеству!
В этой комнате и в соседней с нею меня учили молиться
перед угольным киотом. Я спал несколько лет подряд в
кабинете матери, за колоннами, на трёхцветном диване; и как
часто, просыпаясь зимним утром, продолжал лениться и, лёжа
на нём, слушал внимательно, как сестра моя (только что
взятая тогда из того же самого института, в котором воспиталась
мать) читала по книжке утренние молитвы и псалом:
«Помилуй мя, Боже»...
Сестра читала, мать молилась; за стеною, © спальне пылал
с «весёлым треском» утренний камин... В окна с моего дивана
221
я, не вставая, видел чистый снег куртины — безмолвную, мирную»
недвижимую зимнюю красу. Я видел прививки, обёрнутые
соломой, обнажённые яблони и большие липы двух прямых
аллей. Яблони эти «кудиновские», почти все на этой куртине перед
домом, как люди знакомые и памятные мне даже по
особенностям вида своего, давно помёрзли и погибли; мать и сестра
давно в могилах, а прекрасные липы, может быть, завтра
срубит на «луб» юхновский крестьянин Иван Климов, которому я,
подобно многим помещикам, вынужден был после долгой
борьбы продать всю эту мою родовую святыню!
Много лет прошло с тех зимних дней, когда я просыпался
на полосатом диване; много было и вовсе новых радостей и
неожиданного горя, но эти утренние молитвы всё так же живы
в памяти и сердце; много глубоких перемен совершалось
в моей жизни, были тяжкие переломы в образе мыслей моих,
но никогда и нигде я не забывал тех слов псалма, которые
меня тогда (почему? — не знаю сам) особенно поразили и
невыразимо тронули...
«Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно
Бог не уничижит». Я с тех пор никогда не могу вспомнить
о матери и родине, не вспомнивши и этих слов псалма; до
сих пор не могу их слышать, не вспоминая о матери, о
молодой сестре, о милом Кудинове нашем, о прекрасном обширном
саде и о виде из окон этой комнаты. Этот вид не только летом,
когда перед окнами цвело в круглых клумбах столько роз, но
и зимою был исполнен невыразимой, только близким людям
вполне понятной поэзии!..
В этой же самой комнате, выросши, я слышал от матери
столько рассказов о старине: о Людовике XIV и его столь
несхожих между собою возлюбленных; о кровавых деяниях
ненавистного Конвента; о борьбе нашей с Францией, об ужасах и
подвигах 12-го года; о Николае Павловиче, которого мать
боготворила; и отрывки из этого самого рассказа об императрице
Марии Феодоровне я слышал не раз на словах, прежде чем
видеть его написанным...
Я сказал уже, что кроме детских портретов мать допустила
в свой уединённый кабинет только четыре изображения и лишь
таких именно лиц, которых она почему-либо имела основание
считать самыми близкими друзьями или даже благодетелями
своими. Все эти портреты и теперь у меня и целы. Один —
литографический— изображает молодого генерала, в латах,
орденах и густых эполетах, лицо чрезвычайно энергичное и
приятное, усы и борода, обритые, как у всех военных первой
четверти этого века, и орлиный нос напоминает что-то римское —
это портрет Ивана Сергеевича Леонтьева, двоюродного брата
222
моему отцу. Он скончался очень рано и оставил вдову и только
одного сына, теперь тоже уже умершего. Он был очень дружен
с моими родителями и, как человек богатый, делал им,
кажется, много добра. Помимо родственной дружбы, Иван
Сергеевич был, по-видимому, большой почитатель ума и красоты
моей матери, и п Кудинове сохранялось о нём, об его доброте,
любезности и весёлой энергии много милых преданий. У меня
на этажерке и теперь стоит старая и уже починенная местами
широкая белая мраморная ваза. На ней начертаны
французские слова:
Elle nc s'eteindra qu'avec la vie.
В эту вазу, подаренную Иваном Сергеевичем, при матери
опускался особого фасона плоский подсвечник с длинными
ручками и короткой восковой или стеариновой свечою.
Тогда этот возглас о неугасимом пламени изящной дружбы
становился виднее на прозрачном мраморе вазы, и вся комната
озарялась восхитительным, романтическим полусветом. Я так
любил, когда зажигали эту невидимую свечу, и так уважал
мать за её поэтические вкусы!.. В сохранившемся у меня
также красном сафьяновом её альбоме с бронзовой застёжкой
есть двустишие дедушки моего Михаила Ивановича Леонтьева,
написанное именно по поводу этой вазы... Вот оно с
орфографией подлинника:
Искусство здесь молчит, но дружба говорит,
Сей пламень мной возжен и вечно не сгорит.
Два других портрета — превосходные акварели, и одна —
оригинал известного в начале нашего века портретиста
Соколова, другая — копия с работы Гау, сделанная в 40-х годах
в Петербурге второстепенным мастером, неким Осокиным; но
копия до того изящная и верная, что её невозможно было
различить с подлинником Гау, когда их клали рядом и
прикрывали подписанные внизу имена художников.
Акварель Соколова представляет мужчину лет 30, быть
может, с небольшим... Он в модном светло-коричневом сюртуке
тридцатых годов, в золотых очках. Лицо чрезвычайно тонкое,
красивое, нежное, слегка румяное; русые волосы вьются на лбу
и висках, как у всех щеголей того времени, когда Байрон
умирал в Миссалонгах и слава Пушкина зрела в России. Этот
русский «джентльмен», этот «барин» дипломатического вида,
перенесённый так удачно и живо на бумагу тонкой кистью
Соколова, был тоже ближайший и верный друг нашей семьи, сосед
по мещовскому имению и очень богатый человек, Василий
Дмитриевич Дурново.
223
На копии с Гау (другой совсем кисти, не менее прекрасной,
но словно более старательной, более пунктирной, если
позволительно так выразиться), пожилая дама в белом батистовом
платье и белом чепце с розовыми лентами. Да! пожилая дама
с розовыми лентами! Но эта дама была и в старости своей так
мила и красива, что не только на портрете, но и на самом
деле эти розовые ленты к ней шли. Я её очень хорошо помню.
Это была Анна Михайловна Хитрово* (или как в прежнее
время обыкновенно говорили Хитрова), урождённая Голени-
щева-Кутузова, одна из дочерей знаменитого нашего
фельдмаршала. Мать моя знала коротко её ещё в детстве и была ей
обязана своим определением в Екатерининский институт, как
она в записке этой и рассказывает.
Все эти портреты друзей висели в ряд, и над ними, как бы
на особом и почётном месте, был прибит небольшой
литографический портрет императрицы Марии Феодоровны, о которой
мать моя не могла говорить без самого глубокого и самого
искреннего чувства благоговеющей любви. Императрица
изображена, если не ошибаюсь, в трауре после кончины Государя
Александра Павловича: в чёрном платье с широким
воротником и в черном газовом токе. Слушая рассказы матери о
государыне, я часто и в детстве смотрел внимательно на
маленькую литографию эту, и мне тогда ещё наружность покойной
царицы очень нравилась; в несколько круглом и полном лине
было столько и выразительного, и спокойного: доброта,
достоинство и твёрдость. В линии губ столько сдержанности и
чего-то тонкого и властного.
Я не стану выдумывать и уверять, что я часто размышлял
о царской фамилии и любил её членов вполне сознательно и
в те ранние годы мои, когда ещё трёхцветная драпировка
материнского кабинета не обветшала и не была заменена голубыми
обоями; нет, конечно, этого не было, но я могу сказать, что
монархическим духом веяло в то время в кудиновском доме,
и чрезвычайно сильная моя любовь к моей в высшей степени
изящной и благородной, хотя вовсе не ласковой и не нежной,
а, напротив того, суровой и сердитой матери, делала для меня
священными тех людей и те предметы, которые любила и
чтила она.
Позднее, юношей в 50-х годах и я заплатил дань
европейскому либерализму, но могу с гордостью сказать, что и в эту
бестолковую пору моей жизни я ни разу ни кощунственной
насмешкой, ни слишком настойчивыми и редкими доводами пло-
* Родная бабушка нашего теперь посланника в Бухаресте М. А.
Хитрово.
224
хой либеральной философии не оскорбил тех личных чувств
и тех идеалов, которые мать моя носила в сердце своём
неизменно до гроба.
Я даже помню один спор. Мать, к несчастью, была слишком
вспыльчива и неумеренна в иных выражениях, когда её что-
нибудь тревожило. Однажды (мне было уже за 20 лет) она
сильно оскорбила меня. Я был влюблён; матери моей эта
девушка не нравилась потому, что она была старше меня и, по
её мнению, лукава и нехороша собой... Не ограничиваясь
одними резонными родительскими предостережениями и
советами, она начала издеваться и над наружностью, и над
душевными качествами этой девушки, очень искренне и долго мною
любимой.
Раздражённый этими действительно неуместными
выходками слишком горячей и властолюбивой матери, я остановил
её и сказал:
«Послушайте, зачем вы так неосторожно оскорбляете то, что
для меня так дорого? Вспомните, оскорбил ли я когда-нибудь
хоть намёком или 'шуткой то, что для вас священно, то, что
составляет поэзию ваших воспоминаний, вашей молодости?..
Напротив, я люблю эти воспоминания ваши... Я помню почти
наизусть ваши рассказы...»
Тут я остановился и подумал — какой бы привести пример?
И не нашёл ничего другого, как указать на императрицу
Марию Феодоровну.
«Вот, например, я знаю, как вы любите императрицу
Марию Феодоровну... И я знаю, что вы любите её не только за
добро, которое она вам сделала, но и потому, что вы выросли
на монархических преданиях, потому что находите в них
поэзию. .. Разве я когда-нибудь касался этих чувств ваших? ..
Разве я оскорблял их, скажите? А мне, может быть,
республика гораздо больше нравится?..»
Мать моя поняла, что я прав, замолчала и даже
застыдилась. И мне стало так жалко, когда я увидал это честное
смущение красивой, энергичной и мужественной пожилой
родительницы моей, что тотчас же стал целовать её, и мы
помирились.
Конечно, я не без основания обличил мать за её
неделикатный и бестактный гнев на тогдашний предмет моего обожания
(тем более, что и теперь, через 40 лет, могу сказать: девушка
эта была вполне достойна любви и уважения...). Но... «рее-
публика\.. республика*..» вот что было нестерпимо глупо!
Я и не подозревал, что я, во-первых, точно так же, как
и мать, именно рос среди монархических преданий. А
во-вторых, что республика мне ни к чему не была нужна, что всё
15 К. Леонтьев
225
это был лишь один юношеский порыв хвалить то, чего у нас
нет и особенно что тогда, при Государе Николае Павловиче,
хвалить было даже небезопасно.
Припоминая теперь внимательно и добросовестно разные
мои «психологические моменты», я уверен, что и тогда в
республиках мне нравилось не то, чем они отличаются от
монархий, т. е. не равноправность и не политическая свобода, а,
напротив, те стороны великих республик, которые у них общи
с великими монархиями: сила, вырабатываемое сословным
строем разнообразие характера, борьба, битвы, слава,
живописность и т. д.
В этом эстетическом инстинкте моей юности было гораздо
более государственного такта, чем думают обыкновенно, ибо
только там много бытовой и всякой поэзии, где много
государственной и общественной силы. Государственная сила — есть
скрытый железный остов, на котором великий
художник-история лепит изящные и могучие формы культурной человеческой
жизни.
Итак, повторяю ещё раз, я, сам того не подозревая, рос
в преданиях монархической любви и настоящего русского
патриотизма, и до республики (как я сказал) мне не было
никакого дела. И этими-то добрыми началами, которые сказались
вовсе не поздно, а при первой же встрече с крайней
«демократией нашей» 60-х годов, быть может — я более всего обязан
матери моей, которая сеяла с самого детства во мне хорошие
семена.
ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА
1. Н. Н. СТРАХОВУ
12 марта 1870 г. Янина.
Я долго ждал от Вас письма, добрейший Николай
Николаевич, и, наконец, понял, что жду напрасно. О чём, в самом деле,
Вам писать мне? Если бы я был Тургенев или что-нибудь в этом
роде, то, несмотря на вес пренебрежение, которое справедливо
возбуждают в Вас его последние выходки, Вы сочли бы,
конечно, долгом вежливости поспешить ответом. Но ведь я, слава
Богу, не Тургенев; мои мысли и произведения возбуждают
в Вас сочувствие, а не пренебрежение.. . Поэтому и молчание
Ваше я должен объяснять в хорошем смысле, в смысле
простительной небрежности и т. п. (...)
А «Заре» не мешало бы быть посмелее и посочнее. Хороша
она, не спорю, и так; после сухости «Русского вестника» от нее
и в таком виде, в каком она есть, веет свежим воздухом. Но,
во-1-х, хорошо ли Вы сделали, что сбились с пути Ап.
Григорьева на простое московское славянофильство? Хорошо ли Вы
сделали, что связали себе руки (нрзб) — немецким фамилизмом
и нравственностью? Зачем было нападать на идеи Авдеева,
вместо того, чтобы громить бездарность его, неумение его сделать
идеи привлекательными? Что это — французское, что ли?
Неправда. Многочисленных решений этому вопросу нет так же,
как и государственному. Разнообразие реальное в разных
нациях происходит не столько от разнообразного решения
вопросов в принципе, сколько от разнообразных сочетаний одного
житейского начала с житейскими началами, взятыми, так
сказать, из других сфер. Пример: грек и русский. Грек: демагог,
православный, экономен, непостоянен в делах гражданских,
постоянен в домашних, строг в семье, в литературе ритор, властей
не любит, религиозен без энтузиазма и без «искания».
Великоросс: властям покорствует охотно, расточителен и беспечен,
непостоянен в домашних делах, осторожен и скорее постоянен,
чем изменчив, в делах гражданских, в семье довольно распущен,
и не себе, и не другим. В литературе реалист, если религиозен,
то или с энтузиазмом или с «исканием», как замечали Кельсиев
и я у русских на Дунае, при сравнении их с другими
соседями их *.
* Таким образом,мы найдём, что у грека есть общие черты с русским,
с французом, а у француза с испанцем, с китайцем даже и т. д.
15*
227
Соединение женолюбия с религиозностью не есть признак
одного дурного воспитания и варварства или, напротив,
развращенности и подражания. Это свойственная нам национальная
черта, которой ещё не сумела овладеть наша робкая литература.
Она в сфере семейно-бытовой приближает нас больше к
племенам романским, (нрзб), как наша умеренность и здравый смысл
в делах государственно-гражданских напоминают скорее дух
англо-саксонских и германских народностей.
Славянофилы московские (которых я, однако, высоко чту)
с своей немецкой нравственностью скорее рисовали себе свой
собственный идеал русского человека, чем снимали с него
идеализированный портрет. Ап. Григорьев (нрзб) это давно, Вы
сами это знаете.
Ну, довольно об этом.
Другое. Кто позволил этому несчастному Антропову (должно
быть это он — А—в) унизить так Гончарова? Как это умно! Как
это кстати! От реалистической манеры давно уже начинает
рвать людей со вкусом и начнёт скоро рвать и публику — когда
ей дадут что-нибудь иное. Как можно нападать на писателя,
который, по крайней мере, по манере, по приёмам (если не по
идеалу, не по сюжетам) менее груб, чем другие?.. Один язык
его благороден до того, что заслуживает изучения. Объяснюсь
примером. Откройте и посмотрите, как в иных местах он говорит
о чувствах Обломова. Какой полёт, какая теплота, какая
трезвая и вместе с тем лирическая, воздушная образность. То же
самое я найду и в 20 местах «Обрыва». Ваш Толстой хорошо
рисует пунктиками на слоновой кости; но кисть его всегда
мелка, как бы ни были велики события, за которые он берётся.
Теплоты у него, быть может, много в сердце, но он не умеет
излить эту теплоту на бумагу широкими,
воздушно-героическими чертами. Я не хочу унизить «Войну и мир». Я готов
согласиться, что в своём роде это произведение гениально, и я
буду в восторге, когда его переведут на все языки. Я готов
повторить за Вами, что дальше по пути реализма идти нельзя.
Но что же это значит? Не значит ли, что нужен поворот?
Поворот к лиризму, к высокой несложности изображений, к чертам
простоты, широким и свободным, точнее даже, я скажу, к
благородной бесцветности (примеры: Чайльд-Гарольд, Репе,
потом— Пушкин местами, из романов Санда — Лукреция Фло-
риани написана (нрзб) в этом роде, Вертер, романы г-жи Крюд-
нер, которых имя я забыл, и т. п.).
К тому же роду относится по манере и Марко Вовчок.
Именно то, за что Вы её упрекаете, есть заслуга — эти общие,
бледные, но тёплые черты её первых произведений напоминают
228
общие и тёплые черты народных песен и рассказов, никогда
не имеющих грубой выразительности (хорошее выражение
П. В. Анненкова).
Хвалите Толстого за высоту выбора. Я рад, и все те, о
которых стоит говорить, будут согласны с Вами.
Выбор, конечно, весьма идеальный, патриотический,
религиозный, изящный — но изображение, форма реалистические до
крайнего предела. Дальше нельзя идти — Вы сами говорите.
Пойти ещё дальше — будет литература тоды-колды, над
которой Вы справедливо издеваетесь. Потребность к повороту
изящному, идеальному чувствуется уже давно во всем. У Толстого
высокий выбор; у Григорьева есть местами фарфоровая
чистота изображения, есть порывы высшего лиризма. У М. Вовчка
проявилось хотя бы и мельком — пока её не испортили —
эпическая ясность и непритворная теплота, та елейность, о которой
говорил Белинский и которой нет ни у Тургенева, ни у
Толстого. ..
Соедините всё вместе — высокий выбор Толстого и высокие
приёмы Гончарова и М. Вовчка, прибавьте к этому между
строчками побольше смелости философской или исторической
мысли — и наша литература даст, наконец, миру то, что мы
желаем, — своеобразное, русское содержание в прекрасной
форме.. . Содержание Пушкина — Вы сами знаете — не так
своеобразно, как содержание у западных гениев. Он в этом не
виноват.
Потом — кто виноват, Вы или редакция, что к расколу
относятся всё ощупью, точно боятся обжечься? Ещё это вопрос —
что более народно (т. е. своеобразно), Православие или раскол?
Что может больше дать для своеобразной культуры и т. д.?
Я не равнодушен к Православию в церковном смысле, я
исполняю многое, чего не исполняете вы там» в Петербурге. Но
подобно тому, как Гизо, сам протестант, признавал католичество
необходимым для Франции, так и я спрашиваю себя: не
культурнее ли, так сказать, влияет раскол? Я верю, что Православие
не сказало ещё последнего своего слова. Оно может дать
великих деятелей, великие произведения пластических искусств
и слова, историческое значение его огромно... Но как Вы
думаете— молокан, духоборец, скопец, двоевер к т. д.,
воспитанный в университете или начитавшийся светских книг, то же он
даст, что дали бы католик, протестант, православный, когда
явится поэтом, мыслителем, гражданским деятелем и т. д.? Не
смешите меня, говоря, что образованность приведёт ведь к
Православию! .. Это говорят лишь здесь в разговорах с греками,
с политической целью...
229
Всех, воспитанных с детства в разных религиях, может
объединить физически лишь равнодушие и безбожие. Пока
человек при всём своём образовании не безбожник и даже
скептицизм его огорчает, а не радует, как радует людей ничтожных,
он непременно внесёт в свою мысль, в своё творчество, в свою
гражданскую деятельность иные звуки, внушаемые ему
глубоким впечатлением первого воспитания... Раскол есть одно из.
величайших благ России. Мы желаем, не правда ли, чтобы
славянство было своеобразно, чтобы его культура разнилась от
Запада? Но согласитесь, что ни одна культура — для полного
развития которой нужны века—не была однообразна в своём
своеобразии. Иначе разные элементы объединялись в одной,
иначе в другой. Чем разнообразнее русский дух, тем лучше.
Довольно об этом.
Ещё. Отчего никто у вас не возьмётся возвести принцип
самодержавия в систему, оправдать его не только исторически,
но и философски, со всеми пособиями экономическими,
политическими и т, д.? Помните, я, было, хотел это сделать. Вы были
рады. Но после судьбы, постигшей статьи о женщинах и о
грамотности, я не хочу отрываться от повестей н романов, которые,
по крайней мере, печатаются. Жить остаётся немного — надо
спешить. К тому же в Петербурге вы имеете кругом себя людей
более, чем я, учёных по части государственных наук.
Статья Данилевского превосходна; я её прочёл раза три и
ещё буду читать; но нельзя же успокоиться на ней... «Твердите
истину ежедневно, ибо другие твердят ежедневно ложь». (. . .)
Главная заслуга Данилевского, кроме исчисленных Вами
в заметке против «Русского вестника», — это ещё то, что он
первый в печати смело поставил своеобразие культуры как цель.
Московские славянофилы всё как-то не договаривались до этого;
они вместо того, чтобы сказать, что без своей культуры и жить
России не стоит, говорят, что на Западе всё ложь, или что у нас
то или другое не привьётся, неудобно и т. п. натяжки. Раз
поставив это учение на основании «культура для культуры»,
славянофилы будут впредь твёрже на ногах и на вопрос: «А
общечеловеческое благоденствие?» могут ответить спокойно: «Да
кто вам сказал, что мы об нём забыли?!»
Ну, довольно об «Заре».
Я думаю, что племянница моя уже сказала Вам, что у меня
почти готов для «Зари» роман «Генерал Матвеев». Я нарочно*
так назвал, чтобы дураки нашего времени подумали: вот,
какие-нибудь насмешки! Открыли бы с радостью, а уж начнут —
так кончат и увидят, что смеюсь я не над генералом, а над.
ними. (...)
230
2. АРХИМАНДРИТУ ЛЕОНИДУ
8 июля 1873 г.
Остров Халки (близ Константинополя).
Ваше высокопреподобие, отец Леонид!
Может быть, припоминая по очереди имена тех русских
чиновников на Востоке, с которыми Вы встречались в
Константинопольском посольстве, Вы вспомните и меня — К- Леонтьева.
Я не раз в бытность мою (в 1867 г.) в Константинополе имел
счастье беседовать с Вами и поэтому решаюсь теперь обратиться
к Вам не только за советом, но и с почтительнейшею просьбой
войти по-христиански в моё нравственное положение и
помочь мне.
Вог в чём дело: я желаю жить при монастыре в России, и
особенно при одном из подмосковных.
Не стану теперь обременять Вас, высокопреподобный отец
мой, длинною повестью тех событий, которые постепенно
укрепили во мне это неизменное решение. Не забудьте, что я уже
не молод (мне 42 года), и, верьте, что решение это — плод почти
трёхлетних дум и испытаний. При свидании, в котором я,
с Божьей помощью, не отчаиваюсь, объяснения собственно
духовные и нравственные будут легче. Но здесь я скажу Вам
только вот что: я оставил службу, имею шестьсот рублей пенсии
и в ожидании отъезда моего в Россию живу в величайшем
уединении на известном, вероятно, Вам острове Халки.
Перед отставкой моей я был около полутора года консулом
в Солуне. Уже я и там давно думал о монашестве, но одно
неожиданное обстоятельство так поразило меня, что я поехал
на Афон с намерением даже и тайно и, не дожидаясь отставки,
постричься, если уговорю монахов. Наши русские монахи
отговорили меня спешить, но я, состоя ещё на службе, взял
отпуск и прожил около года на Афоне, изучая монашескую жизнь
и испытывая себя, и вот убедился, что на первый раз для меня
нет ничего лучшего, как пожить при хорошей обители и под
хорошим руководством — как бы это сказать — в виде
постоянного полумирского поклонника. Отец Исроним и отец Макарий,
известные Вам духовники Руссики, говорили, что мне нужно
духовное подчинение и вместе с тем некоторая телесная
свобода, потому что я болезнен, слишком привык к независимости
и к тому же занимаюсь литературой. В этом смысле афонская
келия в лесу и зависимость духовная от старца-руководителя
были бы как раз по мне для начала. Но оставаться на Афоне
231
по многим причинам теперь было бы неудобно. Упомяну только-
о политических обстоятельствах. Вы не поверите, какую бурю
и без того причинило в греческих и турецких газетах моё
временное поклонничество на Святой Горе! Игнатьев почти
вынудил меня уехать оттуда для успокоения умов. Мирские греки
образованного класса все очень нерелигиозны; у них нет, как
у нас, ни пламенных нигилистов, ни пламенных православных,
ни Нечаевых, желающих разрушить всё общество, ни
образованных дворян и богатых купцов, идущих в монахи. Где им
(т. е. и грекам, и болгарам одинаково) понять чувство русского
человека, пресыщенного западною мудростью, не верующего во*
вес прелести прогресса и его обещания; где им понять, что
русский человек, которого они считают дипломатом и писателем,.
предпочитает в горе и болезни Афон Бадсн-Бадену! (. . .)
И вот я, в ожидании отъезда моего на родину, нанял домик
на горе, в уединении, на о. Халки, и живу. Срок же моего
отъезда зависит от окончания некоторых сочинений о Востоке для
«Русского вестника». Быть может, я буду готов ехать этой
осенью. Но куда? Уверяю Вас, отец мой, что мне отвратительно
и страшно оставаться день один в гостинице, в многолюдном
городе. Я желаю приехать прямо в Новый Иерусалим или
в другую подмосковную обитель, если Ваш ответ будет
неблагоприятен. Не имея ответов от Вас или от другого игумена*
я не знаю, решусь ли ехать! В Москве я не хочу быть и дня
одного. Благословите ли Вы приехать прямо к Вам и поселиться
в виде опыта?
Скажу ещё два слова о моих обстоятельствах. Я женат,
детей у меня нет, с женой я брачно не живу уже около трёх лет,
впрочем, мы согласны, и она от всего сердца старается теперь
вступить на мой путь. Я имею от неё письменное дозволение на
пострижение, она дала мне его для Афона, ибо, как Вы знаете,
на Востоке этого достаточно; в России, я знаю, это иначе,
вследствие бюрократической премудрости, но духовный смысл
такая бумага будет иметь и у нас. О вещественном своём
положении скажу следующее: у меня 600 рублей пенсии, которая,
пока я явно не пострижен, неотъемлема; у меня в Калуге есть
имение, которое даст от 800 до 1000 рублей дохода; редакция
«Русского вестника» платит мне круглым числом окола
1800 рублей сер. в год, а по возвращении моём в Россию,
вероятно, и больше даст. Литературные мои труды последнего
времени благословлены духовниками. Если, с Божьей помощью, я
пристрою жену при каком-нибудь женском монастыре, то
имение хочу обратить как-нибудь на ту обитель, которая меня
приютит. Вот всё, что я имел сказать. Буду, батюшка, ждать
Вашего ответа и старческого благословения.
232
Остаюсь с глубочайшим почтением Вашего
высокопреподобия покорный слуга и послушник
К. Леонтьев
3. К. А. ГУБАСТОВУ
1 октября 1875 г.
Мещовский монастырь св. Георгия
Добрый, добрый, добрый мой Константин Аркадьевич!
Я в этом монастыре на неделю, а, может быть, и больше, если
деньги позволят. Приехал помолиться, попоститься,
познакомиться с монахами и погрустить как-нибудь на новый манер
(а то в Кудннове и всё приятное, и всё неприятное слишком уж
правильно и однообразно).
Это всего 35 вёрст от Кудннова. Монастырь бедный,
скромный, малолюдный, но игумен в нём прекрасный, ученик
знаменитой Козельско-Оптинской пустыни, в иолверсте от Мещовска;
гостиница маленькая, новенькая, в русском простом вкусе —
очаровательная! И вот, под влиянием уединения и какого-то
сердечного тихого умиления я сажусь вечером писать Вам это
письмо. (.. .)
Меня сокрушает одно теперь (да и то днями), это
чрезмерный покой и мирное однообразие нашей кудиновской жизни.
Есть дни и часы, в которые я задыхаюсь, в другие — ничего.
(...) Материальное положение моё в Кудиновс более чем
сносно. Жизнь наша проста и обходится очень недорого (рублей
пятьдесят в месяц, а иногда и менее). Мы с Марьей
Владимировной сумели отстоять от братьев это убежище. Сад наш
велик, тенист, живописен, хотя фруктов уже в нём нет, как было
лет 10—20 тому назад; рощи неоелики, но прекрасны (а через
десять лет они будут тысяч пять—семь с душой стоить на сруб).
У нас, как в скиту, — три маленьких флигеля особо, один —
мой, другой — для девиц, а третий — столовая. Все они убраны
так, что, верно, понравились бы Вам. Есть несколько коров,
собака даже и у неё щенок, есть и кошки, но лошадей нет;
фаэтончик очень покойный, много хороших книг, ещё от матери
и брата оставшихся. Есть по соседству церковь помолиться. Мы
постимся по уставу, часто ездим к обедне, бывают у нас и дома
заказные всенощные. У нас, при всей скудности наших средств,
есть ещё, слава Богу, возможность содержать трёх—четырёх
старых дворовых на пенсии кой-какой, завещанной матерью, и
^иногда купить лекарство бедному человеку. Крестьяне соседние
233
вспомнили меня и ходят ко мне лечиться. Другой бы помирился
на этом навсегда, особенно когда есть близко монастыри. .. а я
не могу! Не в том дело, что положение материальное несносно,,
а в том, что несносны люди в наших столицах, что они
недостаточно честны в литературе. Если бы люди были честнее, мне бы
не нужно было самому ездить в столицы... (...)
Но спросите у меня исповеди сердца моего — и я скажу Вам,
что всё тоскую, всё тоскую везде. Меня по-прежнему, как на
Босфоре, оживляют только две вещи: монахи и церковь, когда
служба не через силу мою, и вот ещё гостиная очень хорошая,
как в посольстве была, как у Неклюдовых, у Трубецкой, у
Гагарина (в Калуге). Да простит мне Бог! В таких местах во мне
воскресает всё. А в Кудинове нет ни церкви, ни такой гостиной,
нет ни о. Иеронима, или хоть бы халкинских или московских
монахов, нет ни Софьи Петровны, ни Ону, ни кн. Трубецкой, ни
тех иностранцев, которые на игнатьевских раутах находили, что-
я лицом похож на государственного преступника, долго
бывшего в Сибири... Как было весело тогда! . . На Халках тишина,
греки, монахи в сосновом лесу, свобода писать, сколько хочу.
Прелестный вид, надежда на согласие какое-нибудь с этой
бедной моей Лизой... А в посольстве — поздняя обедня, русская,
хорошая, барская такая (прости мне, Господи!)... Вы, Ваши
весёлые товарищи, наши умные, красивые, нарядные дамы. ..
Добрая княгиня... Ваше кресло у широкого окна, кофе мой,
волшебный вид на Босфор и на синие острова, где был мой
дом, где я выздоровел, где я мечтал, трудился и молился так
искренно и усердно и не один, а с этой женщиной, которая
к душе моей, как ребёнок к чреву матери, приросла какой-то-
кровной пуповиной... Она сама оторвалась теперь на свободу
от моего любящего деспотизма, она дала мне покой и сама
(пишет оттуда) весела и покойна пока. Я рад, что её нет и что
мне меньше забот и меньше раздражения, ибо она здесь всё
лето была вне себя то от беспутной, преувеличенной весёлости,
то от тоски по крымской родине, то от внезапной ненависти
ко всем моим родным, которых она прежде любила больше-
своих (она, Вы знаете, почти всеми близкими моими принята
была как нельзя радушнее, и слуги даже у нас любят её). Она
говорила мне этим летом со слезами: «Ты мне стал чужой, я
хочу в Крым, к своим, мне наскучили ваши стеснения, мне
скучно с вами здесь; с тобой одним мне быть теперь также
неприятно, ты хочешь одного, а я хочу другого; мне твои
монашеские вкусы противны! Что мне делать, прости мне. ..» и т. д.
И я, конечно, простил ей, я рад, что ей весело там, я молю»
ежедневно только Бога, чтобы она перед Ним каялась, а передо
мной никогда! То есть чтобы она никогда ко мне более не воз-
234
вращалась, и я ей это написал и прекратил переписку, посылаю
только деньги, что могу, и то с великою нуждою.
Вы понимаете всё или не совсем? Вообразите себя любящим
отцом, и Вы меня поймёте. Ваш сын может сокрушать и
оскорблять Вас ежедневно, Вы утомитесь наконец, Вы рады, что его
около Вас нет, но ужасное воспоминание об этом оторванном
от сердца сыне, об этой отчасти и по Вашим грехам
разрушенной любви, не пройдёт никогда. И вот тут-то дорого было бы
общество умное, живое, блестящее, где бы забывались такие
раны, общество, которое бы больше светило, чем горело. Такое
общество, такая жизнь была на Босфоре. В Кудинове же — иной
мир, здесь иное общество, оно исполнено любви,
самоотвержения, дружбы ко мне, но оно не светит и не возбуждает! Моё
общество Вы знаете какое: Марья Владимировна и та другая
девушка-соседка, дочь одного помещика, которая ушла от
матери прошлую зиму и поселилась у нас. Ей 24 года, она очень
мила: оригинальна, хитра, необыкновенно тверда и решительна,
поёт прекрасно русские песни, иностранных языков не знает,
прекрасная хозяйка и меня без ума любит. Она трудится, шьёт,
гладит сама. Она выучивает наизусть молитвы и целые псалмы,
только чтобы мне угодить и понравиться. Она с утра и до
вечера только и думает, чтобы ничто материальное меня не
потревожило и не помешало бы моим занятиям. Теперь у нас
горничная Лиза (Вы ведь её помните?) вернулась к нам, но
её целый год не было, она поссорилась с Машей, а теперь
покаялась и вернулась. Теперь она стучится в 8 часов в дверь
моего флигеля, она мне варит рано кофей. А пока её не было,
вообразите, эта молодая девушка всё лето вставала рано, чтобы
варить мне кофей, стучалась в дверь рано и потом просиживала,
пригорюнившись, на крыльце целый час в ожидании, когда я
встану и оденусь и отдёрну занавеску на окне и пущу её с
кофеем. И это она считала счастьем! И теперь бы считала, если
■бы я не запретил ей так трудиться, когда есть горничная. Из-за
чего же всё это? Из-за улыбки, из-за отеческой ласки изредка,
из-за шуток и дружбы, ибо больше я и не могу ей дать и не
хочу по теперешним правилам моим, но лицом нравится она
мне очень, в нес влюблены другие люди, и если бы не Бог и
не твёрдая решимость сначала не дать ни себе, ни ей воли,
конечно, соблазн был бы велик. Я и теперь, помня уроки старцев,
которые говорят, что даже они не застрахованы вполне от
всякого падения, ежеминутно слежу за собой. Конечно, теперь это
.легче, чем в былом времени! Она находит, что лучше так жить
и смотреть на меня, чем быть замужем.
Вы спросите, что же Маша при этом. Марья Владимировна
♦стала, слава Богу, гораздо больше мать Манефа, чем я брат
235
Константин. Она если и ревнует иногда, то скорее меня к ней,.
чем её ко мне! То есть она её любит больше, чем меня теперь,
и иногда завидует и плачет о том, что та больше думает обо
мне, чем об ней. Но без каких-нибудь вспышек Марья
Владимировна долго прожить не может. Потом она кается, идёт
пешком на богомолье, просит меня наказать её как-нибудь и
успокаивается на несколько времени, когда я ей докажу, что
всё она виновата.
Обе они, и Маша, и эта девушка (её зовут Людмила), только
и думают, как бы мне было лучше, а для самих себя желают
только одного, чтобы я был доволен ими. Маша занимается
арендами, порубками, спорит с мужиками, поит их водкой, ведёт
весь расход, переписывает мне, читает утром и вечером громко
общие молитвы, обязана читать «Московские ведомости» и
указывать мне, что есть особенного (как Феоктистов у Государя
одно время).
Людмила шьёт, обед заказывает, всей провизией занимается;
ей тоже много дела сверх того, когда я скажу: «Людмила, пой
песню!», она пост. «Людмила, поедем в Герцеговину», она
говорит: «Поедем» и т. д.
Понимаете? А я всё-таки задыхаюсь и всё рвусь мечтою то
к Вам, на Босфор, то в Герцеговину или Белград, то в Москву
и в Петербург, и мне иногда очень тяжело в этой тишине и
в этом мире.
Оттого я и сюда помолиться приехал на неделю, чтобы
заглушить эту тоску по жизни и блестящей борьбе. Именно
заглушить. (...)
4. Н, Я. СОЛОВЬЁВУ
7 марта 1879 г. Оптина Пустынь.
(...) Что касается меня собственно, то естественное
развитие обстоятельств шаг за шагом довело меня до убеждения,
что мне, именно мне, Кудиново больше не угол, не убежище.
Много, очень много есть причин, по которым мне следует думать
теперь о том, чтобы свить себе последнее гнездо здесь, в Опти-
ной. Здесь от меня не требуют ни денег, ни подвигов, дают
плоти моей такую свободу (т. е. не налагают никаких
обязанностей, несообразных с моим устроением), а смирять дух перед
духовниками я привык давно. Мне только и нужно одно, чтобы
ко мне не приставали. Здесь не чувствуешь того страха, который
чувствовали в Угреше от судорожного и бессмысленного
самодурства Пимена. Живёт человек в скиту, ну, живёт! Пишет
что-то? Ну, пишет! И только. И его оставляют в покое.
236
Я ужасно любил Кудиново с самого детства, я заботился
о сохранении его даже издалека, из Турции, я постарался даже
повлиять на мать свою, чтобы хотя половину его отдать в
верные руки — Маше, это было столько же для Маши, сколько и
для Кудинова. И теперь видеть, что всё должно погибнуть из-за
каких-нибудь 360 рублей, не выплаченных вовремя! Я писал
туда и сюда. Если никто не подаст мне руку помощи и
Кудиново продадут за бесценок с аукциона, то больше моего
потеряют другие. Я, верьте мне, вынес уже довольно покойно такие
удары судьбы (Вы ведь и понятия не имеете о внутренней
жизни моего сердца), что и к этому я заранее подготовил себя.
Это не застанет меня врасплох. Но каково будет Маше, которая
и без того слишком расположена к унынию и отчаянию, не
получить никакого остатка для покупки кельи в Белевском
монастыре, или дома в Бслеве, или дома в Козельске и знать, что
ей, больной и во всём разочарованной, не имеющей даже
умственного признания, которое поддерживает до последнего
издыхания (как, например, моё, от которого никто и ничто меня
отбить не может), каково ей будет всю остальную жизнь
проживать по чужим домам?
Жена моя тоже. Она прекрасная, благородная и
простодушная женщина, она наделала ошибок очень крупных под
влиянием негодных родных. Теперь она искренно кается. Она
просится назад в Россию, Бог видит, до чего я желал бы не то
чтобы жить с ней вместе — нет, это вовсе не нужно (ни с какой
точки зрения, ни с духовной, ни с хозяйственной, ни с
сердечной), но я желал бы успокоить её материально и нравственно.
Ни одну женщину я так не любил душою, да, именно душою,
как её; я много грешил, много изменял ей фантазией и плотью,
так сказать, но все соперницы её знали, что душой я её более
всех люблю. Да она и стоила больше всех. Она лучше и выше
их всех была. .. (меня наказал Бог за безнравственность мою,
её наказал тоже Бог за её ко мне несправедливость и за то, что
она увлеклась и предпочла мне тёмных своих родных и уехала
от меня именно в то время, когда я желал христинским
образом жизни с ней искупить прежнее («Без искупления!»). Обоих
по очереди Бог наказал, но мы всё простили давно друг другу
и помирились. И вот — и эта столь законная мечта, и это столь
скромное желание купить им с Машей на остаток от правильной
продажи Кудинова где-нибудь келью или домик — и это может
не осуществиться оттого, что 150 каких-нибудь рублей не
нашлось, чтобы хоть со штрафом и рассрочкой не дать
Кудиново на аукционное растерзание. (.. .)
237
5. К. А. ГУБАСТОВУ
15 марта 1887 г. Москва
(...) Теперь о Ваших планах: ради Бога, Губастов, не
женитесь; поверьте, вот случай заплатить Вам чуть не сторицей за
Ваше добро — отговорить Вас, если сумею. Не женились
раньше, нзбави Бог теперь. Ведь и Вы уже немолоды и не
моложавы (простите!). Известного рода «состоятельность» счастья
ведь и тени в эти годы не даст! Относительно русских девиц Вы
совершенно правы, и Вы, с некоторою подозрительностью
Вашею, с тем внутренним недоверием к себе, которые и я знаю и
в которых Вы сами не раз мне сознавались, с русскою женою
будете через два—три года самый несчастный и раздражённый
муж. Наши дамы до того избаловались, что ужас! . . Я не
говорю уже о «плотской» измене; я убежден, что умной и кроткой
жене с этой стороны пожилой и тоже умный «русский» муж
часто может многое простить; я говорю об их «правовом», так
сказать, «фырканье», об их крайне неделикатном отношении
к слабостям и недостаткам мужа, об их дурацком
воображении, что они, дуры, словно обязаны иметь свое мнение обо всём
и т. д.
Вспомните своеволие и неуважительность к мужу мад<ам>
Ону, ехидство Хитровой, грубое сердце «Вашей» Ольги (она
очень жестока и груба; я её жалел, Вы знаете, пока не узнал
случайно ближе), истинное зверство и подлость Марии
Николаевны Новиковой, более благородное, конечно, но очень
лукавое и несокрушимое своеволие Ольги Новиковой (относительно
мужа), вспомните, кстати, и ужасный характер моей Марьи
Владимировны (я ведь её знал с детства, да и то жестоко
ошибся в ней!). Ведь я ещё целую хартию имён напишу
подобных «козлиц» семейной жизни, и всё будет то же. Исключений
мало; Катерина Дмитриевна Тимофеева, которая, изменяя
мужу физически, никогда не пользовалась его недостатками,
а покрывала их всячески и никогда не оскорбляла
Николая Васильевича, несмотря даже на весь его идиотизм.
Игнатьева, быть может, но ведь она зато деревянная или
каменная, а Николая Павловича и пронять чем-нибудь трудно,
кроме его тщеславия и честолюбия, а в этом они с женой
солидарны.
Свой брак я не привожу в сравнение с прочими по многим
причинам: во-первых, Лиза — человек весьма уж
исключительный, её сердце, её душа до такой степени по природе были
выше и чище целых сотен русских девиц и женщин, начиная от
высшего круга и до крестьянок (которые тоже — не беспокой-
238
тесь — хороши!), что её и равнять с перечисленными дамами
(со стороны чистоты сердца и доброты) было бы ей
оскорблением. .. Жена моя — это «Божий человек», и, как Вы сами очень
хорошо знаете, если в течение 10 лет (от 70-го до 80-го, до её
возвращения из Крыма) у нас было расстройство, то виною
всего был я, я один, с моим тогда развращённым воображением,
с моей нехристианской философией, с моим эстетическим
тщеславием. .. Я её испортил, и Господь сперва жестоко и всячески
покарал меня, потом простил, и вот (теперь мы оба старые),
я — больной и вечно нуждающийся, она — впавшая в детское
слабоумие почти и до невменяемости, доживаем вместе и
неразлучно наш век в любви и мире душевном! .. (Это милость Бо-
жия просто удивительная, если бы я Вам некоторые
подробности рассказал!). Одним словом, моя жизнь сердечная
сложилась так: когда дело идёт о Лизе — я не умею ни в чём
почти себя оправдать, когда речь идёт об Машке — я не умею
себя почти ни в чём обвинить! Тут и христианство не помогает,
ибо христианин не обязан во всём себя прямо винить; он имеет
право в случаях слишком несомненных (как случай Марьи
Владимировны) сказать себе: «Господи! Понимаю, что её
гнусностями против меня я за другое, за иные грехи Твоею рукой
наказан!». «Les plus grandes injustices humaines ne sont fort
souvent que Гexpression de la plus haute justice divine!» —
сказал Жозеф де Местр. Простите, что невольно отвлёкся,
возвращаюсь к Вам. Если бы Вы, мой друг, ещё были бы настоящий
христианин (то есть читали бы Св. Отцов, содержали бы хоть
сколько есть сил посты, тяготились бы и скучали бы долго без
Церкви, ездили нарочно хоть изредка к строгим духовникам),
то тогда все мелочи неблагородные, тяготы семейной жизни
представлялись бы Вам неизбежным и душеспасительным
крестом, аскетизмом, в некоторых отношениях более тяжким, чем
аскетизм монастырской (со стороны самолюбия, например,—
со стороны изящества, стыдливости даже: «это, мол та
самая баба, с которой я законно сплю» и т. д.), то и невзгоды
и самые неожиданные горести могут стать сносны. . . Но ведь
до сих пор ещё, голубчик, Вы не настоящий христианин,
насколько я замечаю; и знаю, Вы и на меня смотрите
только так: «Вот-де, как разнообразно развиваются люди! Вот,
поди ты, какой любопытный перелом! Ну, положим, он
«оригинал» и «увлекающийся» человек и т. п.» А не то, чтобы
самому более или менее выйти на мою дорогу, «как вышли»
другие.
И при этом отсутствии настоящего христианского
мировоззрения Вы ещё хотите найти покой и утешение в такой
несносной вещи, как «жена и дети», — и в наше-то непокойное и рас-
239
терянное время, когда только и есть якорь надежды в
мистических опорах, а всё «реальное» и «практическое» потрясено до
глубины оснований! . . (...)
6. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ
24—27 июля 1887 г. Оптина Пустынь.
(...) Я полагаю, что не следует разделять слишком резко
монашество от светского христинства, как делают многие,
употребляя слово «аскетизм» только в смысле стремления к
наивысшему отречению. Вся теория христианства основана прежде
всего на отречении вследствие страха Божия и в надежде на
вечное блаженство, долженствующее вознаградить нас за это
отречение. Ап. Павел говорит, что если бы у христиан не было
надежды на вечную жизнь, то они были бы самые несчастные
из людей (к Коринф. 1.19). Требования от них велики. «Аския»
значит по-гречески борьба, подвиг. Аскет — подвижник,
борющийся. Если мирянину, например, женатому перестала
нравиться его жена и даже по временам ненавистна ему, а он,
молясь Богу и призывая Его на помощь, не оставляет её, для
примера детям или для избежания прелюбодеяния с той и
другой стороны, то разве это не тяжкое, не ужасное иногда
отречение? Не подвиг о Христе? Это — подвиг, может быть,
несравненно больший, чем многие монашеские, особенно для
человека с воображением и с изящными вкусами. Монашеское
одиночество не пошло, а холодная, дюжинная семья будет
нестерпимо пошла, если её прозу не озаряет, так сказать, хоть из
тёмного уголка в доме лампада чистой, искренней веры. «Богу
так угодно, — потерпим даже и прозу и пошлость п
возблагодарим Его, что ещё не хуже!» Таких примеров из мирской
жизни можно бы привести много. Поэтому и понятно, что
чтение Житий Святых и аскетических писателей нужно и светскому
христианину точно так же, как и монаху. (...)
Не знаю, велика ли потеря для всех нас смерть Каткова?
Нельзя, разумеется, ни писать и ни говорить публично, что
утрата велика. Он был истинно великий человек, и слава его
будет расти. Надо воздать ему должное. Но я спрашиваю у себя
вот что: 1) Должны ли мы заботиться об укреплении
Православной Церкви, несмотря на то, что последние времена по
всем признакам близки? Конечно, должны. Надо приготовить
паству для последней борьбы. 2) Что важнее всего для этой
цели? Важнее всего, чтобы учительствующая часть Церкви, т, е.
иерархия православная стояла в уровень века не только по
учёности, но и по воспитанию и по всему. Надо, чтобы сверх
240
того\у духовенства было больше самобытной власти. 3) Есть ли
надежда на это? Есть. Церковь может жить (т. е. меняться)
в частностях, оставаясь неподвижной в основах; на жизнь её
(земную) имеет большое влияние положение духовенства и
другие исторические условия. Православная Восточная Церковь
никогда ещё "не была централизована, а запрета ей быть
таковою нигде нет. Взятие Царьграда даст возможность
сосредоточить силу и власть иерархии, хотя бы и в форме менее
единоличной, чем на Западе, а более соборной. 4) При чём же тут
Катков? Он был жестокий противник этой централизации, в
частных беседах упрекал меня и Филиппова за такое желание,
а в печати молчал пока, ограничиваясь постоянной травлей
греческого духовенства, которое при всех недостатках своих
более нашего способно будет, по историческим привычкам своим,
к властной роли. Он заранее очень обдуманно старался унизить
его в глазах русских читателей. Поняли? (. ..)
Я, друг мой, верьте, понимаю Ваши чувства, столь
благородные и искренние, и если бы мы были теперь вместе, я бы мог
привести Вам из собственной жизни примеры той самой борьбы
поэзии с моралью, о которой Вы говорите. Сознаюсь, у меня
часто брала верх первая, не по недостатку естественной доброты
и честности (они были сильны от природы во мне), а вследствие
исключительно эстетического мировоззрения. Гёте, Байрон,
Беранже, Пушкин, Батюшков, Лермонтов, самый этот теперь
дряхлый Аф. Аф. Шеншин (Фет) и даже древние поэты, с духом
которых я был знаком по переводам и критическим статьям,
с этой стороны в высшей степени развратили меня. Да и почти
все (самые лучшие именно) поэты — за исключением разве
Шиллера и Жуковского—(надо христианину иметь смелость
это сказать!)—глубокие развратители в эротическом
отношении и в отношении гордости (Пётр Евгениевич взбесился бы
па меня за это, но ведь это правда — что делать!). И если,
наконец, старее я стал (после 40 лет) предпочитать мораль
поэзии, то этим я обязан, право, не годам (не верьте, что старость
одна может морализировать, нередко, напротив того, она
изощряет в разврате, примеров — даже исторических — бездна), не
старости и болезням я обязан этим, но Афону, а потом Опти-
ной.. . Из человека с широко и разносторонне развитым
воображением только поэзия религии может вытравить поэзию
изящной безнравственности.. .
Если я, по характеру несравненно более Вас
легкомысленный, по первоначальным условиям общественным и семейным
гораздо более Вас избалованный и развращённый,
почувствовал наконец потребность более строгой морали, то тем более
какая же возможность Вам забывать мораль, Вам, с Вашей
16 К. Леонтьев
241
/
•/
серьёзностью, с Вашей глубиной сердечной, при тех суровых
требованиях, которые со стороны семейной с таких ранни(х лет
предъявляет к Вам судьба! (...) I
Знаете ли Вы, что я две самые лучшие свои вещи, ро^лан и
не-роман («Одиссея» и «Византизм и славянство») написал
после полутора года общения с афонскими монахами, чтения
аскетических писателей и жесточайшей плотской и духовной
борьбы с самим собою? (С ужасом и благодарностью я
вспоминаю теперь об этих жестоких и возвышающих сердце временах!)
Запаса живых впечатлений, мечты о роскоши житейской и т. п.
молитва п строгость мировоззрения в молодом человеке и
мирянине не убьют, — они только урегулируют их. Но надо доходить
скорее до того, чтобы Иоанн Лествичник больше нравился, чем
Ф. М. Достоевский... Нужно дожить, дорасти до
действительного страха Божия, до страха почти животного * и самого
простого перед учением Церкви, до простой боязни согрешить. ..
Я слыхал образованных людей, которые см.еются над этим
чувством (его во времена умной старины великие герои и
богатыри не стыдились!), смеются и говорят: «Что это я'буду, как
* Страх животный унижает как будто нас. Тем лучше—унизимся пред
Богом; через это мы нравственно станем выше. Та любовь к Богу, которая
до того совершенна, что изгоняет страх, доступна только очень немногим;
даже из тех святых, которых жития Вы, конечно, оставили все в Москве
(по внушению дьявола), очень немногие позволяли себе говорить то, что
позволил себе сказать Антоний Великий: «Я Бога теперь уже так люблю,
что и не боюсь Его». Сказал он это после таких испытаний и искушений»
что нам и подумать страшно. А то, что многие из нас считают любовью
к Богу, весьма несовершенно и обыкновенно бесплодно без помощи и
примеси страха (Божия). Я до 1871 года, до моей поездки на Афон, очень
любил и сердцем и воображением Православие, его богослужение, его
историю, его обрядность; любил и Христа, чтение Евангелия изредка и тогда,
при всём глубоком разврате моих мыслей, меня сильно трогало. Любил и
любовь к ближним в смысле сострадания, снисхождения,
благотворительности, но зато и в смысле сочувствия всем страстям: честолюбию,
сладострастию, по многих случаях даже и личной жестокости. Любил своевольно, без
закона и страха, а когда в 1869, 70 и 71 годах меня поразили один за
одним удар за ударом и здоровье само вдруг пошатнулось (и всё это в такое
время, когда я часто говорил: «Надо уметь быть счастливым!. Я счастлив,
потому что умею наслаждаться жизнью, а дураки не умеют!»), тогда я
испытал вдруг чувство беспомощности моей перед невидимыми и карающими
силами и ужаснулся до простого животного страха, тогда только я
почувствовал себя в своих глазах в самом деле униженным и нуждающимся не
в человеческой, а в Божеской помощи. И хотя и теперь я нахожу в себе-
и веру и страх Божий и любовь весьма несовершенными по множеству
ежедневных примеров, но всё-таки путь за эти 16 лет Пройден огромный к
лучшему. Вот в чём дело. А так называемые «достоинства»: честность,
твёрдость, благородство и даже хорошие, «достойные» манеры (которые нередко
и у мужиков бывают) —это всё останется при нас. У монахов-то манеры
вообще приличны и гораздо лучше, чем у мирян, одного, конечно, с ними
сословия.
242
дитя! Ах! Боженька за это камушком побьёт!»... Да, побьёт!
И счастлив тот, кого побьёт. Я — счастливый, а Фет —
несчастный 4 своём атеистическом ослеплении! Или есть Бог личный,
Бог живой, — или нет Его. А если есть, так куда же и
Бисмарку, и Петру I, и кому бы то ни было меряться силами с Ним
и перед лицом Его помнить о каком-то достоинстве
человеческом! Ну, довольно, — Вы поняли меня. (. ..)
Кстати, Вы спрашиваете: что «Две избранницы»? что
«Египетский голубь»? Да ничего. Ни строки. И сундука с бумагами
не открывал, и подойти к нему боюсь. Ни тени охоты. В моём
«священном уединении», как Вы говорите, летом и так хорошо.
Нога болит, гулять далеко нет сил: сижу и два и три часа и
больше у себя в скиту, на крыльце, в тени, и по целым часам
образа человеческого иногда за яблонями и кустами не вижу.. .
Сосны, ели, птицы разные, изобилие плодов земных вокруг,
память смерти и в то же время некоторое кроткое умиление
покоем старости моей. . . Иногда вижу иных монахов и мирян
приезжих. Очень часто у о. Амвросия бывают в келий
домашние всенощные; почти всегда не выстаиваю, а высиживаю их
в креслах («Эпикурейская религия», как врёт Л. Н. Толстой
про образованных христиан, забывая, что мужик, в веру кото-
рого он верит, и без веры целый день с детства привык быть
на ногах, — а каково мне, например? О. Амвросий так иногда
и лежит даже от слабости во время службы).
Что же ещё Вам сказать?
Без Александра и Вари немножко скучно, но для службы
попался мне хороший и умный мальчик 16 лет.
Лизавета Павловна была со мною, но скоро соскучилась и
отпросилась к племяннику в Тулу. Я говорю ей на прощанье:
— И не жаль тебе старого мужа?
А она:
— Э! Довольно мы с тобой жили вместе. Теперь я к моське
хочу.
Моська — это собачка у племянника в Туле.
Я предпочитаю такую жену какой-нибудь помощнице в
трудах, которая сказала бы:
— Это совершенно верно, мой добрый друг; но вместе с тем
безразлично и даже немыслимо для высокоразвитой личности! . .
А я бы её в ухо за это! Вот тебе и «личность». . . (...)
На что только это сестрам Вашим высшее или даже среднее
образование? Просят.. . Мало ли что они просят! Какие цели
в жизни? 1) Хлеб насущный и вообще материальные блага.
'2) Спасение души, религиозное развитие сердца. 3) Эстетика,
личная поэзия, достоинство, что ли. И больше ничего. И то, и
другое, и третье — одинаково доступно на всех ступенях образо-
16*
243
/
вания. Материальные блага меряются привычкой и степенью
претензий. Для религии образование — обоюдоострое орудие;
или лучше, или хуже. А что касается эстетики, то
потрудитесь только вспомнить моего Александра — и громко
харкающего товарища Вашего П., или хоть мою Варю — и пискунью
М., так всё Вам станет ясно. То-то и беда, что в теории мы все
молодцы, всё поймём, а на практике идем большею час,тью за
другими... На что Вам принимать участие в размножении
«средних людей»? (...)
7. КНЯЗЮ К. Д. ГАГАРИНУ
7 ноября 1887 г. Оптина Пустынь.
Несравненный и глубокочтимый князь Константин
Дмитриевич, видите, как я строго выдержал моё обещание — дать Вам
отдохнуть до глубокой осени и от моих прошлогодних стонов
и от выражений признательности? Впрочем, слово моё могу
теперь сдержать только наполовину: стенать более не о чем, но
признательность Вам и Т. И. Филиппову поневоле будет
читаться между строчками, как только я начну рассказывать,
как мне здесь хорошо!
Слушайте: за Оптннской оградой есть большой каменный
двухэтажный дом, просторный, тёплый, удобный, одним
фасадом он обращен на те «широкие поля» с рощицами, строениями
и овражками, о которых я упоминал в первой статье в
«Гражданине» (читали?); другим — на монастырский лес и
небольшой сад, он принадлежит к этому дому и даже зимой красив,
и романтичен. Этот дом я нанял у монастыря за 400 р. с.
(33 с копейками с дровами (без счёта), с водой и даже с
молоком со скотного двора). Я отделал его заново по своему
вкусу, очень недорого, и всем нравится. Старая мебель
материнская (которую перевезли после продажи моего бедного Куди-
нова к одному знакомому помещику в 15 верстах от Оптиной)
привезена теперь ко мне опять и починена; портреты родных,
большей частью умерших, развешены и расставлены хорошо;
кабинет особо (с видом на поля), спальня большая особо и т.д.
Зала большая внизу, есть комнаты и для гостей; и я, хотя и
опять совсем больной, счастливее теперь и покойнее многих
здоровых. Правда, у меня открылись на ногах опять раны, и
кашель не даёт покойно спать; я не могу ни в церковь ходить,
ни к духовнику в скит съездить (он тоже уже около 20 лет
зимой из кельи не выходит и почти вес лежит), всё это так, но я
до того уже привык к болезням моим, что их (кроме некоторых
слишком тяжких дней) и страданиями почти не считаю. Чтобы
244
у меня что-нибудь и где-нибудь не болело хоть один день — этого
я давно уже не помню, а в особенности с 84 года. Но в этом-то
и видно милосердие Божие: не болей я беспрестанно, я бы по
живоети моего ума и лёгкости моего характера забывал бы
слишком часто о том, «что едино есть на потребу»; а с другой
стороны, если бы при этих неизлечимых и всё возрастающих
недугах, при этом почти всечасном ожидании последнего
расчёта с жизнью я был бы по-прежнему озабочен, необеспечен,
связан службою и т. д., то это было бы нестерпимо и ужасно.
Но я обеспечен (по здешнему месту) и с избытком, я
свободен, я теперь имею всё то, что мне привычно и дорого, —
монастырь близко, дома жизнь вроде помещичьей, всенощные
служат и часы читают в доме, монахи посещают, родина
(Калужская губ.), летом природа прекрасная, лес, река, луга
большие, вещи родовые кое-какие, а с ними и воспоминания... и,
наконец, возможность писать, что хочу (или почти что хочу)
в «Гражданине». Можно бы здесь повторить известную
поговорку: «Умирать не надо!». Но я скажу совсем другое: как
хорошо готовиться к смерти (более или менее всё-таки близкой)
при такой обеспеченности, при такой независимости, в такой
обстановке. .. «Благослови, душе моя, Господа и не забывай
всех воздаяний Его!»
Верьте, что редкий час я не повторяю себе этого, верьте и
читайте между строчками! (...)
8. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ
9 ноября 1887 г. Оптина Пустынь.
(...) Спешу Вас уведомить, что в Петербурге люди очень
надёжные и влиятельные взялись хлопотать о 600 руб. Вашей
стипендии. Я надеюсь на успех. Только уж если готовиться на
кафедру русской литературы, то ещё раз повторяю, надо внести
что-нибудь новое в критику Вашу. То есть надо с себя хотя бы
на время свергнуть иго гоголевской школы, от которой и Лев
Толстой освободиться не мог, по крайней мере — в отношении
формы и языка. С этой стороны его первые произведения,
например, громко читать несносно! Я здесь, в Оптиной, хотел
Александру и Варе прочесть громко «Поликушку», например,—
и не мог. До того наворочено подробностей, и всё в этом
слишком известном у нас роде. Постарайтесь достать «Лукрецию
Флориани» Жорж Санда (1848 или 1849 года) в переводе Кро-
неберга. Вот высокая простота рассказа! Вот поэзия! Хотя,
конечно, и совсем не христианская, но ведь и Венера Милосская
не была иконой Богоматери, однако, прекрасна.
245
Чтобы «выжить» из себя «вчерашнее», на котором мы все
выросли, надо углубляться во всё то, что на него не похоже.
В этом смысле хороши и Жорж Санд, и Байрон, и Жития
Святых, и народные песий, и С. Т. Аксаков (сравните простой и
здоровый его рассказ о детстве с ломаным и всё-таки довольно
•бесцветным хвалёным произведением Толстого «Детство и
отрочество»). Даже сам же Толстой в своих последних народных
рассказах может служить пособием против влияния «шершавой»
формы и кропотливого духа «Записок охотника» Тургенева или
самого Толстого «Военных рассказов», «Поликушки» и т. д.
Даже «Смерть Ивана Ильича» лучше всего этого. Тут есть
почти только то, что нужно, хотя содержанию невозможно
сочувствовать, потому что бывает и в наше время совсем другая
смерть, с иными чувствами, христианскими.
Впрочем, я об этом Вам 20 раз говорил! Сами знаете.
(Л. Толстого надо ценить как творца «Войны и мира» и «Анны
Карениной», всё остальное — приготовление к ним.) (...)
9. А. А. ФЕТУ
3 февраля 1888 г. Оптина Пустынь.
А что Вы скажете о моей проницательности, Афанасий
Афанасьевич, если я Вам побожусь, что, прочитавши в
«Московских ведомостях» заметку Сельского жителя, сейчас же
сказал себе: «Это Фет! Во-первых, эти нападки на историческое
во имя немедленной практической пользы, а, во-вторых, этот
пример собаки, которая счесть трёх бекасов не умеет, хотя
по-своему и умна. Это фетовский genre сравнения...» Подумал
и угадал. — Горжусь и хвастаюсь, но вместе с тем жалею, что
Вы своим этим уподоблением ставите меня (вообразите!) в
неловкое положение... Я хотел было возражать (при случае)
этому «Сельскому жителю», а теперь, благодаря этому смелому
и остроумному Вашему примеру, боюсь быть противу Вас
невежливым. Я было хотел, похваливши предварительно автора
за его остроумие, возразить, что есть различные «кабинетные»
измышления. Есть, например, такие глубокие и светлые, что
рано или поздно им придётся перейти в сознательную,
рациональную практику. Думаю, впрочем, что и Ваша милая и умная
собачка отчасти права, что эмпирически хватает только тех
бекасов, которых видит или чует обонянием; но прав и охотник,
который смотрел выше и рационально считал бекасов.
Кабинетные измышления бывают, я думаю, двух родов: одни
имеют непосредственную практическую частную цель, другие —
246
нечто общее и отдалённое, которое, однако, находит себе
применение и в частностях.
Я согласен, что в первом случае — кабинетное хуже простого
эмпирического. Но во втором — едва ли.. . Такова, например,
моя гипотеза о разрушительном смешении и об слишком
ускоренном движении жизни, собственности и т. д. Динамика
социальная чересчур в наше время взяла верх над социальной
статикой. Собственность, например, надо прикрепить законом
с двух концов: со стороны самой крупной и со стороны самой
мелкой. Со стороны дворянства и со стороны крестьянства; со
стороны привилегированного землевладения и со стороны снова
податного земледелия. И то и другое будет отпором
подвижному капитализму, одинаково враждебному и дворянству и
рабочим. Секите, наказывайте, управляйте даже и жестоко (если
это необходимо для государства и если теперь справитесь), но
исторической этой общины не трогайте, избавьте нас от
западной слишком простой ч подвижной и вследствие этого
неизбежно революционной антитезы — вольного, неприкреплённого
капитала (хотя бы и недвижимого, но вполне свободно
отчуждаемого) и вольного же батрачества. . .
Я бы, исходя из моей гипотезы о необходимости сложного и
более или менее утверждённого легальными стеснениями
расчленения общества, желал бы для России такого рода утройства:
1) Две схемы: богатое дворянское имение и с другого
конца — богатая, сытая община неотчуждаемых участков.
Между этими краеугольными скалами, во многих отношениях
привилегированными, дать больше воли и меньше привилегий —
собственности купцов и разночинцев (и тех дворян, которых
охранительные реакционные реформы застали не в дворянском
положении, вроде моего: столбовой без земли). В среде же
дворянства, оставшегося внутри черты новых привилегий, опять
устроить некоторую тройственность — меньше отчуждаемости
и больше привилегий (земских, судебных, полицейских и т. д.)
для самой крупной собственности, гораздо меньше привилегий
и строжайшая неотчуждаемость минимума (напр. 100 десят.).
Больше свободы и среднего преимущества для всех дворянских
земель, помещающихся между 1000 или 2000 десятин
(например) и 150 десятин. (Я думаю, впрочем, что минимум у меня
хорош, а максимум низок; не решаю, сознаю себя в этой
частности Вашей некомпетентной собакой).
Живой пример: у меня 300 дес, но я всё продаю и продаю,,
не умею хозяйничать или несчастлив в деле; остаётся 100 дес. —
хочу ещё 50 продать; местное дворянство всем сословием
ссужает меня ещё раз, за ним другие, личные достоинства — но
всё не впрок. Я подаю прошение (кому бы то ни было, не знаю),
247
хлопочу, отказываюсь от некоторых прав (как отказывается
от них чиновник, выходящий в отставку). Извольте. Только
теперь ваше политическое положение иное: вы не средний
дворянин-землевладелец, а средний купец или разночинец. Социальное
положение ваше при вас; граф Шувалов, князь Оболенский
(богатые) будут очень глупы (по другим соображениям)» если
они не будут вас по-прежнему прекрасно принимать, вы можете
понравиться их дочерям и жениться на них, но пока ваше зем-
ско-политическое положение будет равно слепым, но
непривилегированным людям среди разночинной толпы...
Внутри крестьянской общины опять не нужно равенства,
.здесь — некоторое кулачество должно быть не только терпимо,
но и покровительствоваться, богат и легально честен (а до
души тут не доходить) — имей больше признанной власти в
общине, совсем разорился — выходи, но участок обязана купить
та же община или припустить другого на место. И тут — ценз.
Это будет похоже с хозяйственной стороны на монастырь: ни
равенства, ни свободы, а монастырское хозяйничанье хорошо.
Куда деться этим земельным изгоям? Можно тут широко и
умно воспользоваться принципом свободы — пусть нанимаются
по своей охоте в долгосрочную контрактную кабалу к дворянам.
Формы и сроки этой новой (либеральной) кабалы установить.
К разночинцам в кабалу нельзя, к ним можно идти лишь по
краткосрочным договорам.
Тогда Вы увидите, какой будет выгодный и для дворян и
для беднейших крестьян антагонизм между общинами и
дворянским землевладением. Будут ласкать и переманивать рабочих
друг у друга. А чтобы они не зазнались, то и общины и дворяне
будут иметь право их так или иначе карать.
Итак — три тройственности:
A. Дворянство (до 100 дес.); община; вольные разночинцы.
B. Внутри дворянской черты: неотчуждаемые 2000, средние,
более (нрзб) не отчужд. 100 дес.
C. Внутри общины: большие привилегированные мужики,
средние, изгои-батраки.
(Соловьёву это должно понравиться).
Наконец — пожалуй: очень богатая, очень большая община
или, вернее, её представитель, должна равняться среднему
дворянину, но не более. Дворянских из сословия земель не
продавать вообще. За все эти стеснения наивысшие политические
права, но с правом как допущения достойных лиц в своё
сословие, так и изгнания недостойных.
Боковым линиям царской крови дозволить браки с
дворянами. Это одно и в глазах народа разом опять возвысит
дворянство.
248
Я убеждён, что я в этой грубой, но ясной схеме, второпях
изложенной, сказал много «физиологических», так сказать,
истин, которые обдумать пе мешало бы и почтенным эмпирикам
хозяйства и земельных дел. Всё моральное, «душевное» я
нарочно оставил тут в стороне; оно именно подразумевается, ибо
только страхом и только экономикой жить долго люди не могут.
Но это принадлежит к другой области: к религии, педагогике*
семейным влияниям, к литературе, наконец.. . Вообще надо,
чтобы и с этой стороны русская земля (о других я знать не
хочу) поменьше бы вращалась около своей оси и побольше бы
стой;]а на трех китах,
Я не хочу быть настолько компетентнее собаки, насколько
охотник компетентнее её, я довольствуюсь ролью ястреба,
который даже и глупее собаки во многом, но любит парить, хотя
случается нередко ему по нужде и на земле поклевать.
Подымусь и вижу всех трёх бекасов, которых чисто
кабинетный охотник за кустами не видит, а сеттер счесть не может...
«Таков, Фелица, я развратен» (в моей гипотетической
самоуверенности!). И, вообразите, даже думаю, что если чего-то
подобного нельзя будет устроить, то и Россия лет через сто, не
более, — пропала. Как испанские дворяне, когда уговаривались-
со своими королями, говорили: «Et si поп — поп!»
Довольно этого неожиданного для меня самого трактата.
В милом и дорогом письме Вашем Вы с удовольствием
вспоминаете моё соседство и мои беседы (я так понял это, ибо это
гораздо выгоднее для моего тщеславия, чем память об
аккуратном цензоре). Вот я и побеседовал очень длинно. Присылка
Ваших новых «Вечерних огней» была для меня высшей
степенью приятного сюрприза... Я и не знал об этом новом
издании — но мне попалось крупное объявление об «Энеиде» и
Шопенгауэре, и я, конечно, согрешил — подумал: вот Афанасий
Афанасьевич, как только я уехал, так он и знать меня не хочет,
книг своих не шлёт; а мне Шопенгауэр («Воля и
представление») страшно как нужен по-русски. И от «Энеиды» жду много
удовольствия. Я и Александрову писал, чтобы он Вам укорил.
Ваши поэтические «Вечерние огни» напомнили мне другие,
тоже вечерние огни, огни в окнах московских, когда я ехал,
бывало, с таким удовольствием на Плющиху. (Помню даже,
что я не раз, в санях сидя, думал: «Какое скверное имя
Плющиха, не поэтическое! Это Афанасий Афанасьевич, должно быть,
на ней купил дом нарочно, чтобы и этим доказать, до чего он
в практической жизни боится поэзии»; всё собирался Вам это
сказать, да забывал.)
24£
Доброту Марьи Петровны и её милые заботы о моих
физических немощах, о «прокормлении» моем в 10 часов вечера —
никогда не забуду! Дай Бог ей за это всего хорошего!
Мне здесь живётся очень хорошо. Слава Богу. Вещественная
моя жизнь понравилась бы Вам, я думаю, — особая усадьба,
сад, вид хороший, большой теплый дом, немного
фантастический внутри. Лошадь своя, корова и т. д.. . Пишу (в
«Гражданине», не удостоите ли взглянуть?), езжу по воздуху тихо,
но езжу. Следовало бы, по совести сказать, и молюсь, и с
духовником утешаюсь, но ведь Вы из таких людей, которые умеют
допускать и это, но сердцем сами не испытывают ничего
подобного, и поэтому об этом с Вами распространяться не следует.
Прибавлю, впрочем, без лести, я тем более ценю Вашу
благородную в этом вопросе деликатность, Вы никогда не
оскорбляете того, что для другого святыня. Это не то, что Лев
Николаевич Толстой. Он, говорят, дошёл даже до того, что
накидывается в глаза на образованных людей, когда они дерзают
«подымать Иверскую» и т. п.
Хороша «любовь» — отнимать у людей глубокое утешение!
Пусть это иллюзия наша, но она нам дорога и никому не
мешает. Из-за чего же он бьётся? Не ожидал от его ума (в сердце
его я, грешный, не очень верю). Это в наше время уже и старо
донельзя, и глупо, а уж что оно с людьми нетвёрдыми и
молодыми — подло, так это и говорить нечего. Сунулся бы со мной
потолковать об этом! Не ожидал от него такого свинства.
Ну, прощайте; крепко жму Вашу руку и даже, если
позволите, обнимаю Вас. Марье Петровне ещё раз привет
сердечный. .. Не забывайте.
К. Леонтьев
По ошибке остался листик. Утешьте Александрова, ободрите
его. Его Ф. Н. Берг огорчил не только отказом поместить его
стихи, но и тем ещё, что написал ему, «что не верит, чтобы
Фет и Леонтьев нашли у него талант».
Как же не видать этого, положим, ещё незрелого и не
определившегося, но всё-таки несомненного дара?
10. (СТУДЕНТУ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Март 1888 г. Оптина Пустынь.
О вере, молитве, о немощах духовенства и о самом себе
В. И. О. С. и Св. Д. А.
1. «Да (говорите Вы), я в глубине души отношусь к Церкви
не-только с наружной почтительностью, а со страхом и
трепетом, но не так, как повелевает нам закон».
Г250
Ответ. Этого я не думаю; думаю, что главные основания
Ваши правильны и что те недостатки Ваши, о которых Вы
дальше упоминаете, происходят или от неопытности духовной,
или принадлежат к тому, что зовётся «искушениями». От
искушений же и святые не изъяты. И без них ни вера сама не
утверждается, пи навык к нравственным подвигам (о Христе)
не приобретается. (Я прибавил «о Христе» нарочно, чтобы
обозначить, что нравственность самочинная, как у честных
атеистов и т. п., ни малейшей цены для загробного спасения не
имеет; она может быть для житейских сношений очень удобна
и приятна, но освящения она не имеет, она хороший белый хлеб,
а не вынутая просвирка).
Вы говорите: «В Бога я верю, но вера моя какая-то
неровная. Иногда я молюсь с наслаждением, иногда — только по
привычке отчитываю молитвы».
И прекрасно делаете, что по привычке их читаете. Это труд,.
это понуждение, это изволение первичное, это навык более
в нашей воле, чем то наслаждение, которым Вы довольны.
Это один из главных пунктов современных ошибок и
недоумения. Мы все нынче ищем сразу сильного чувства, трепетного
ощущения, искренности и т. д. (Фуделев в своей брошюре с
особенным удовольствием свидетельствует об этой искренности!) *'
Это большая ошибка. Не только ровную молитву приобрести
невозможно, но и ровная вера едва ли кому-нибудь доступна,.
разве великим подвижникам. (И за то, что у них вера всегда
ровна, я не ручаюсь; свидетельств свято-отеческих на это не
помню).
Помните, Евангельское: «Верую, Господи, помоги моему
неверию». Можно считать себя верующим, но нельзя никогда
считать себя достаточно верующим. Святые отцы оставили нам
примеры этому: многие из них, принимая охотно всякие
обвинения в грехах страстей (например, ты блудник, ты гордый, ты
сребролюбивый и т. д.), соглашались с обвинителем и говорили:
это правда. (И говорили это искренно, ибо тонким и долгим
вниманием к своим психологическим процессам узнали на
опыте, до чего и они, подвижники, внутренне «удобопреклонны»
и до чего в них есть зародыши всех пороков, которые при
невнимании могли бы разрастись сильно); но когда им говорили:
«Ты еретик», эти отцы Церкви отвечали решительно: «Нет, я не
еретик!». Они сознавали, что вера ума, так сказать (или, по-
нынешнему, «убеждения»), у них была правильная,
претендовали только на качественную правоту своей веры, а, конечно,
* Но дело не в самой искренности, а в её направлении. И Желябов был,
вероятно, искренний в своей вере человек, коли на виселицу пошёл.
251
не на количественную и постоянную высочайшую интенсивность
её. Первое есть только обязательность исповедания, второе было
бы духовной гордостью. Поэтому не смущайтесь и Вы через
меру ни сухостью молитвы Вашей, ни даже временными
колебаниями сердечной веры. Храните крепко только ту веру ума,
о которой и выше я говорил, а что касается сердечных
порывов при молитве, то оно само будет приходить как утешение,
поддержка и награда от Бога. О! Как мне всё это знакомо!
И я даже завидую Вам (т. е. дружеской любовию завидую,
радуюсь за Вас), завидую, что Вас все эти вопросы волнуют
в 20 с чем-то лет, а не в 40, как случилось со мною. Сила
молитвы, даже и самой сухой, удивительна. В 85-м году я, живя
летом один и больной в Мазилове, познакомился там с
известным Пругавиным (я его считаю нигилистом, настоящим,
твёрдым и жестоким, но выжидающим, сдержанным и
осторожным). Меня он очень интересовал, и он со своей стороны был
ко мне с виду довольно внимателен. Говорили мы и о религии.
Он мне сказал, между прочим, что один монах советовал ему
молиться, чтобы приобрести веру. Пругавин удивлялся, «как
это можно молиться Тому, в Кого не веруешь». (Впрочем, для
исторической точности замечу, что он поостерёгся выражаться
(при цензоре, вероятно) так резко, как выразился я; он не
сказал: «Тому, в Кого», а просто: молиться без веры... Это всё-
таки цензурнее). А монах был прав. С нашей стороны
достаточно принудительного изволения, искреннего желания
подчиниться учению Церкви; действие молитвенное, смирение,
послушание совету — более в нашей воле, чем чувство
молитвенное, чем приобретение этого чувства. Знаю это по опыту.
В конце 60-х годов (под 40 лет) я был уже исторически
подготовлен (если можно так выразиться про отдельное лицо) к
восприятию учения Церкви; я очень желал уже и тогда уверовать
снова, как верил в детстве, с простотою сердца и живостью.
(Простота ума не нужна, простота сердечного отношения
необходима.) Я любил веру православную, но у меня не было
страха Божия или, лучше сказать, тень этого страха только
изредка посещала меня на минуту. Мне недоставало только
сильного горя, не было и тени смирения, я верил в себя. Я быч
тогда гораздо счастливее (за 30 лет, в Турции), чем в юности,
и поэтому я был крайне самодоволен. С 69 года внезапно
начался перелом; удар следовал за ударом. Я впервые ясно
почувствовал над собою какую-то высшую десницу и захотел этой
деснице подчиниться и в ней найти опору от жесточайшей
внутренней бури; я искал только формы общения с Богом.
Естественнее всего было подчиниться в православной форме. Я
поехал на Афон, чтобы попытаться стать настоящим православ-
1252
ным, чтобы меня строгие монахи научили веровать. Я согласен
был им подчиниться умом и волей (и этому много помогала и
косвенно содействовала одна уже вовсе не личная, не сердечная
вещь, а объективная или философская, этому решению, этой
охоте подчиниться учению Церкви много содействовало
глубокое и давнее отвращение моё к современным прозаическим
формам прогресса, к равенству прав, к изобретениям, машинам,
сообщениям этим, к какому-то вообще «штатскому» и
практическому будто бы мировоззрению и т. д.)- Между тем удары
извне сами по себе продолжались всё более и более сильные,
почва душевная была готова, и пришла, наконец, неожиданно
минута, когда я, до тех пор вообще смелый, почувствовал
незнакомый мне дотоле ужас, а не просто страх. Этот ужас был
в одно и то же время и духовный и телесный одновременно, и
ужас греха и ужас смерти. А до этой минуты я ни того, ни
другого сильно не чувствовал Черта заветная была пройдена.
Я стал бояться Бога и Церкви (как Его выражения). С
течением времени физический страх опять прошёл, духовный же
остался и всё вырастал.
Было время (именно от 71-го до 73-го года на Афоне и
в Царьграде), когда я очень горячо и усердно молился о
прощении грехов и об отдыхе на земле, но о спасении души, о
загробной жизни просто и думать не хотел. Моя молитва и моя
вера были тогда с этой стороны какими-то «ветхозаветными».
Отец Иероним, великий афонский старец и наставник мой, как
нельзя проще посоветовал мне повторять только трижды в день:
«Господи, пошли мне веру в загробную жизнь и утверди её
в сердце моём». И послал Бог, и утвердил. А я твердил это чаще
сухо, невнимательно, формально (как нынче любят говорить,
забывая, что эта форма-то и есть выражение основной идеи —
покорности, послушания Церкви и т. п.). Сильно чувствовать
всякий раз при молитве невозможно, это не зависит от нас.
Взять книжку, прочесть, принудить себя, когда и не хочется,
понудить себя при этом к большей сосредоточенности мысли —
это всё мы можем. Да и что может быть благороднее,
возвышеннее, привлекательнее, почтеннее, когда видишь, что человек
сильный, по молодой ли энергии или по зрелому опыту жизни,
или умом высокообразованный, склоняется во прахе не только
перед невидимым Богом, но и перед обычаями веры, даже перед
представителями учительствующей Церкви Его, несмотря на
то, что они сами очень часто слабы и недостойны. «Не нам, не
нам, а имени Твоему».
От этого лёгок переход и ко второму Вашему сомнению.
2. Священник, о котором Вы говорите, дурной человек, Вы
это знаете, и Вас его плохая нравственность смущает при при-
253
нятии таинств. Не смущайтесь, это смущение есть действие
демонических начал. Я сказал — «не смущайтесь»... Я
выразился неточно. Смущались Вы невольно. Трудно не смущаться
при виде служителя алтаря Божия, который ведёт себя
неприлично. Преодолеть в себе это чувство вполне невозможно, да,
пожалуй что, и не всегда нужно. В этой досаде кроется и
доброе чувство уважения к его сану, к мистическому освященик>
его особы. (Просфора дурно испечена, но частица всё-таки из
неё вынута.) Досадовать можно (не злобствуя, а лишь скорбя)„
но не надо давать себе волю смущаться. Аскетические писатели
различают в деле греховной борьбы несколько степеней: 1.
Прилог. 2. Сосложсние и т. д. до настоящей страсти. Первый при-
лог не от нас, но от дьявола; человеку набожному встречается
молодая женщина, он обратил внимание на её красоту (при-
лог). Начинает он думать, с услаждением останавливается на
этом, мечтает — это сосложение. Незнающему — простительно,
знающий должен сделать усилие ума и воли, молитвой или
другим занятием отогнать прилог этой мысли и т. д. Тогда он
прав (хотя всё-таки и не безгрешен).
(Как это у Пушкина:
Напрасно я стремлюсь к сионским высотам,
Грех тяжкий гонится за мною по пятам
и т. д., твёрдо не помню.)
То, что я сказал о женщинах (о блуде), приложимо и к
гневному движению, и к зависти, и к корысти, и ко всем грехам.
Прилог, сосложение... и, наконец, страсть в полном развитии.
Приложимо оно и к Вашим чувствам. У Вас невольное
движение досады на неприличного священника (я говорю
неприличного, потому что не знаю, какие у него слабости, Вы не пишете;
предполагаю у русского священника пьянство и какое-нибудь
грубое, слишком уж откровенное, до цинизма искреннее
корыстолюбие). Умственный суд Ваш справедлив, нельзя
обманываться — он нехорошо ведёт себя. Вы судите без злорадства,
Вы готовы простить ему это (Вы, положим, никогда не
забываете правила «Возлюби ближнего твоего, но возненавидь грехи
его»). Вы только скорбите; пока это всё ещё не беда. Но вот
вдруг у Вас является мысль, что у него и Таинство совершиться
не может. Вопрос о личной и переменчивой нравственности
священника Вы совсем некстати вдруг переносите в область
догматической, основной, не подлежащей изменению мистики.
Это уже прилог. Эта мысль — прилог. Оставьте её без
внимания, отгоните её, как докучливую муху, скажите себе: «Какой
вздор! Боже, помоги моему маловерию!» И муха отлетит. Со-
сложения не произошло. Остановитесь на этой мысли, Вы сму-
254
тилнсь и само Св. Причастие приняли не совсем чисто и
спокойно. Но всё-таки лучше принять, чем сказать себе: «Ах, я
не достоин, я не могу причаститься» — и уйти. Мы всегда более
или менее недостойны. Если считать, что мы всегда одинаково
недостойны, то это смирение будет на границе отчаяния.
Средний путь, здравый, тот, что мы всегда недостойны, но в
неравной степени. Было бы легко вообразить, что степень Вашего
яедостоинства при подобном минутном смущении так же
велика, как недостоинство другого человека, который, может быть,
рядом с Вами причащается вовсе без веры, во-первых, а
потому, что того требуют какие-нибудь его практические дела
(служба, брак, угода сильному и т. д.), и вдобавок
причащается, не говевши, не готовясь, не постясь даже и ни дня, а после
ночи, проведённой с любовницей.
Вы обязаны знать при этом, что во всецелости жизни своей
этот, в данную минуту преступный человек, быть может, больше
Вашего угоден Богу, но в этом частном случае он, конечно,
недостойнее Вас.
Не знаю, хорошо ли я объясняю, но я передаю Вам то, чем
руковожусь в жизни сам. Так меня учили и древние
аскетические писатели и духовные старцы нашего времени.
Насчёт «белого духовенства», а иногда и монахов, я Вам
скажу, что эти чувства Ваши как нельзя более мне знакомы
по опыту. И после 17 лет моего близкого общения с монахами
(и православным учением вообще) не могу освободиться от
досады на грубость чувств и манер во многих духовных лицах
наших. Но виноваты не эти люди, или бедные, или вовсе
неблаговоспитанные, виновато дворянство русское. Оно так пошло
отбилось от религии и от Церкви, что само, лишившись её
утешений и ресурсов, её могучего мировоззрения, лишило, с другой
стороны, Церковь и Иерархию своей благовоспитанности, своих
тонких и сильных чувств, своего изящества, своей житейской
поэзии.
Что же никто из нас не идёт в монахи? Что же все стараются
только в священники? Я не говорю* в сельские непременно, не
надо возлагать на себя «бремена неудобоносимыс», а хоть
в соборные протопопы, и то хорошо... Один, другой, третий
и т. д. Это отразилось бы и на многих низших.
Молодые люди все хотят сразу наивысшего подвига и к тому
же вольного. А надо вспомнить две крайности: существующее
монашество, в котором зависимость от воли других тяжёлая, и
нигилистов. Отчего нигилисты тверды в достижении своих
преступных целей? Оттого что они жестоко друг от друга зависят
и боятся друг друга.
255
И «человечество» и отдельный человек вообще вовсе не так
высоки нравственно, как хотят их сделать иные идеалисты. Они
могут стать получше и похуже, но нельзя в идеале отказываться
ни для себя, ни для других от грубых основ психологических —
тонкого страха перед сильнейшими, самолюбия, вещественных
нужд и т. д. Величайшие христианские подвижники жестокими
усилиями над собою вырабатывали в себе большею частию
в поздние годы приблизительную только свободу от всего этого.
Они проходили прежде всего строгое послушание другим.
Пусть-ка дворяне и вообще молодые прежде вот на этом
поприще испытают себя, на поприще христианского
самоспасения, самоисправления, самоподчинения даже и плохому
духовенству. А потом уже народ учить... Благородны мысли Фу-
деля, например, и книжка его * очень симпатична, но содержит
ли он сам посты? Слушается ли Церкви? Если нет, и если он
при этом покоен совестью, то Боже избави нас от таких
народных учителей. Пусть лучше народ грамоты не знает вовсе, чем
видеть такие примеры в учителе. А притворяться только для
народа — куда же тогда мы денем ту искренность, которой они
(юноши) так гордятся?
Рачинский постится, Катков и Аксаков постились, Вл.
Соловьёв постится, и я пощусь, иногда по крайней слабости рыбу
ем, а уж мяса и молока постом есть не стану. Едва теперь
ноги таскаю, а уже не оскоромлюсь (разве в дороге, да и то
не Великим постом); а многие, считающие себя православными,
ведь в Страстную даже не могут без мяса продышать.
Уж не внешность ли это одна?
Нет, не внешность одна, а душевный и телесный подвиг.
Душевный в том, что я насильно, но с радостью исполняю
предписания Соборов. Телесный, конечно, в том, что постное
редко кто любит, и многие, от него (в начале особенно)
отвыкши, даже болеют. Какая же тут внешность? Внешность от
внутреннего побуждения любви к исполнению заповедей
Церкви. «Вера без дел мертва». Но дела не в одной
милостыне, как многие думают, и в любви к ближнему. Она и
в любви к Богу. Земное же, доступное нам, выражение любви
к Богу есть любовь к Его заповедям. Бог, Христос, Св.
Отеческая Церковь. Кто любит Высшего, тот Ему повинуется и
противу вкусов своих. Повинуюсь Св. Отеческому учению,
повинуюсь Христу, повинуюсь Богу.
Ясно, надо поститься, надо читать и насильно и сухо
молитвы, надо говеть и т. д.
* Письма о современной молодёжи и направлениях общественной
мысли».
256
Немощи нашего невоспитанного духовенства не должны
нас надолго смущать.
Мы сами, «воспитанные», виноваты, что не хотим и не умеем
облечь в церковные формы наше более тонкое содержание.
Нельзя пороки сословия переносить на то учение, которому это
бедное и грубое сословие, как умеет, по мерс сил своих,
служит. Врач (человек высшего общественного воспитания),
исцели себя сам.
К- Леонтьев
Писано по благословению Оптинского старца отца Амвросия.
Март 1888 г. Оптина Пустынь. (...)
11. И. И. ФУДЕЛЮ
22 апреля 1888 г. Оптина Пустынь
Христос Воскресе!
Милостивый государь Осип Иванович,
Ваше письмо ко мне и Ваша брошюра — большая разница.
В брошюре Вы являетесь одним из тех благородных русских
мечтателей с христианским оттенком, которых не знаешь, к
какому исповеданию отнести; в письме —Вы истинно
православный человек, и это «открытие» причинило мне живейшую
радость.
Оказывается, я был прав и тогда, когда утверждал, что
влияние Достоевского очень полезно для начала, но что
останавливаться, да ещё (с ранних лет) на том, на чём он
состарился, не следует.
Необходимо одушевить его горячим общехристианским
чувством, замкнуть его в те готовые формы, к которым не напрасно
же в былое даже время пришли не менее, если не более его
одушевлённые христиане первых веков. Видно, это оказалось
и в то время неизбежным для сохранения и постоянного
подновления любии, энтузиазма и т. д.
Нелюбовь к обрядности вообще, характеризующая наше
время, есть одно из проявлений того духа разрушения, который
овладел человечеством с конца XVIII века. Не только в религии,
но и в светской жизни, как быть без правил, обряда и т. д.?
Я помню, поэт Алмазов в предисловии своём к переводу поэмы
о Роланде говорит, что в это первоначальное время рыцарство
было исполнено лиризма и не впало ещё в обрядность. Но если
бы рыцарство «не впало» в неё, то идея его, не находя себе
позднее готовых форм для постоянного подновления в людях
этих чувств, которые были бы подобны первоначальным, исчезло
17 К. Леонтьев
257
бы через какие-нибудь сто лет после зарождения. А благодаря
тому, что обряды и формы, правила, рыцарские идеи жили на
Западе очень долго, при новых условиях жизни <они> перешли
отчасти к нам и живут даже до сих пор. Например, дуэль;
нельзя не уважать дуэли, это дело благородное и трагическое, и
у меня, например, сложилась издавна насчёт оскорблений такая
постепенность: лучше всего, конечно, «подставить ланиту» по-
евангельски оскорбителю (но и то при действительной вере);
потом дуэль; потом самому по-русски побить, если в силах; ну,
а уж мировому жаловаться, «в полицию тащить», как советует
Молотов у Помяловского, тут ни христианского, ни малодушного
ничего нет, а прямо хамство! И, конечно, многие будут и в наше
время со мной согласны. Это я говорю к тому, до чего
сохранение обычаев, правил и обрядов важно для долгой жизненности
чувств, их создавших. Первоначально идеи и чувства создают
формы; потом формы подновляют и охраняют эти же идеи и
чувства. Этому же условию надо приписать и то, что
протестантство, которое веками гораздо моложе католичества, одряхлело
несравненно больше его. (...)
Да и вообще в наше время спутанности и неясности понятий
без более короткого знакомства с монашеством трудно и
православным настоящим быть. Монашество наводит на сущность
дела: Бог и я, моё спасение, а потом уж что Бог даст, отречение
от жизни или христианское ей служение. Мария (хороший
монах) или Марфа (верующий добросовестный мирянин). Симеон
Столпник или Филарет Милостивый. Мария Египетская или
св. Олимпиада (она занималась благодеяниями).
Вы делаете мне два вопроса. Первый — почему я говорю,
что христианское учение есть учение прежде всего мистико-
материалистическое, а потом уже моральное. Потому,
во-первых, что христианин прежде всего отличается от людей других
исповеданий догматической стороной вышеуказанного характера
(Троица единствующая — таинство, рождение во плоти от девы
реальной, земной. Вообще воплощение, страдание, обыкновенная
смерть; воскресение в новой плоти; вода, хлеб, вино, мощи,
обряды, все 7 таинств полубожественны-полувещественны: елей,
болезнь, возложение рук, священство; венчание как освящение
простого телесного процесса; исповедь: один человек говорит
другому человеку, тот покрывает его эпитрахилем и т. д.
Наконец, воскресение тел и вечная жизнь этих тел после второго
пришествия. И страдания грешных и блаженства праведных
будут и телесные, хотя иного вида, чем известные нам).
Итак, кого мы имеем более права называть христианином —
изверга Иоанна IV или Роберта Оуэна, добродетельного
человека? Конечно, первого, а не второго. Первый был порочный,
258
безнравственный христианин, второй — добродетельный атеист.
Другое дело подражать в поведении, другое дело извращать
понятие. Определить эту простую разницу необходимо. Иначе
мы, как многие нынче, милосердие, воздержание,
справедливость станем называть христианством, тогда как есть и турки,
и буддисты, и даже атеисты, которых по поведению, по морали
можно ставить христианам в пример и в справедливый укор, но
нельзя назвать христианами. Это смещение понятий вредно не
только для ясности, но и для спасения души, ибо, называя
(т. е. считая) добродетельного атеиста или деиста христианином,
я могу начать не только соревновать ему в морали (это
хорошо), но и мало-помалу вослед за ним и учение Церкви
отвергать, как бесполезное излишнее бремя.
Ну, а как сам Господь будет судить Иоанна IV и Оуэна,
почти что известно. «Все грехи прощаются, кроме хулы на Духа
Святого». А какая же хула на Духа хуже той, которая совсем
Бога отвергает? За великих грешников, злодеев, преступников,
за самых жестоких и развратных «христиан» Церковь молится
в надежде на прощение их, а за явных атеистов она даже
запрещает молиться, независимо от их поведения. (...)
И я только приготовительная вторая ступень (после
Достоевского) к отцам Церкви, Амвросию, Иоанну Кронштадтскому,
к чтению Иоанна Лествичника, Варсонофня Великого, Аввы
Дорофея и т. д. И Евангелие надо сквозь их стёкла читать, а не
своё вовсе, как протестанты. (. . .)
Прощайте. Да поможет Вам Бог на Вашем прекрасном пути?
Вы даровиты и набожны, чего же лучше! Молитесь только,
чтобы «враг» не сбил Вас. Его действия утончённы, и он
пользуется тем, что в его личное существование нынче и многие
признающие Христа не хотят верить. «В Бога я верую, ну
а в дьявола ни за что не поверю!».
Какие же это христиане? Без дьявола зачем же воплощение,
распятие, крестная смерть и т. д.? Дьяволу это очень удобно,
что люди не хотят признать его догматического значения.
Зачем же нынче являться? J4e являясь, он действует вернее.
Явись он, пойдут и к Иверской.
Ваш К. Леонтьев
12. И. И. ФУДЕЛЮ
6 июля 1888 г.
(...) Намерение Ваше писать о прежних славянофилах —
очень хорошо; но, право, не знаю, как бы это точнее и яснее
17*
259
выразиться: хорошо ли будет, если в наше время Вы будете
держаться безусловно их взглядов. Конечно, и это несравненно
лучше, чем европейский, рационалистический и эгалитарный
либерализм; но так как Вы, видимо, желаете, чтобы я был с Вами
вполне откровенен, то я скажу, что мне было бы неприятно
видеть Вас в конце 80-х годов остановившимся на этом во
многом столь мечтательном и неясном учении. Для того, чтобы
отнестись правильно к Ив. Вас. Киреевскому, Хомякову и братьям
Аксаковым, надо хорошо изучить, во-первых, Данилевского, во-
вторых, надо обратить внимание иа те оттенки, которыми
отличался Катков от Ив. Аксакова в реформенный период и до
конца их деятельности. Потом надо познакомиться со взглядами
Герцена на Европу и Россию; наконец, полагаю нелишним
обратить внимание и на мои славянофилам возражения, там и сям
разбросанные. (. ..)
1) Данилевский даёт ясную научную гипотезу: история есть
смена культурных типов (у славянофилов это не так объективно
и органически поставлено, а всё с каким-то более сердечным и
как бы пристрастным оттенком: правда, истина, цельность,
любовь и т. п. у нас, а на Западе рационализм, ложь, насильствен-
ность, борьба и т. п. Признаюсь — у меня это возбуждает лишь
улыбку; нельзя на таких общеморальных различиях строить
практические надежды. Трогательное и симпатическое
ребячество, это пережитый уже момент русской мысли. Есть и у
Данилевского этот оттенок, но он у него далеко не так
преобладает. В одном месте он прямо даже говорит, что прежние
славянофилы напрасно впадали в излишнюю «гуманитарность».
Итак, Данилевский даёт Вам в руки мерило твёрдое — особый
культурный тип (особый, независимо, пожалуй, от того,
насколько он хорош, морален и т. д.).
2) Герцен. Под конец жизни Герцен, как Вам, я думаю,
известно, разочаровался в западном утилитарном прогрессе и
объявил во всеуслышание, что он теперь ближе к
славянофильскому, чем к какому-либо другому воззрению. В книге Страхова
«Борьба с Западом» (т. 1) Вы всё это про Герцена найдёте
в прекрасном изложении. Герцен был прежде всего эстетик, и
притом эстетик, неверующий до конца жизни (вроде Гёте,
Байрона и др.). Эти две стороны его личного духа в данном случае
очень важны; когда гениальный человек, неверующий лично
во Христа и Церковь, верует, однако, в то, что Православию
ещё предстоит историческая жизнь, то нам, христианам, лично
для себя верующим, это большая поддержка и утешение, это
голос со стороны, это суд объективный и менее нашего
пристрастный. Наша с Вами вера в земную будущность
Православия, в его ещё недовершённое земное развитие и такая же исто-
260
рическая вера славянофилов в Россию и Восточную Церковь,
быть может, и ошибочна (хотя и имеет за себя много реальных
данных в исторических условиях конца XIX века). И старые
славянофилы, и мы с Вами, быть может, верим все в
будущность «русского», так сказать, Православия — по невольному,
глубокому пристрастию и к самой России, и к столь чтимой
нами Церкви. Герцен, не веруя лично (то есть для
собственного спасения), не имея того личного «страха Божия», который
имеем мы и который, вероятно, имели Хомяков, Самарин,
несмотря на то, что они как-то избегали на него указывать прямо
в своих изящных и высоких сочинениях, Герцен, говорю я, мог
поэтому быть объективнее и беспристрастнее нас. Кроме того
беспристрастия, которое могло быть у него плодом личного
неверия в догмат, в загробную жизнь, в Св. Троицу и т. д., у него
был ещё и другой источник того же беспристрастия. Это его
общее миросозерцание — более эстетическое, чем моральное,
как я уже сказал. Моральное миросозерцание всегда
тенденциознее эстетического. Человек со строго моральным
миросозерцанием, которому изменить он не хочет, принуждён об одном
умалчивать, другое иногда даже искажать из опасения
повредить; эстетик свободнее, ему нравится и вредное, и порочное,
если оно сильно, изящно, выразительно. Заметьте — Вы никогда
не найдёте ни у Киреевского, ни у Хомякова, ни у Самарина
нападок на скромного буржуа, на среднего европейца. Они
понимали, конечно, что этот всепоглощающий тип пошл и
бесцветен, но они не смели, не хотели нападать на него так
беспощадно и настойчиво, как нападал Герцен. Для Герцена этот
«средний европеец» был, напротив того, главным предметом
ненависти. И от социалистов он отшатнулся, и европейского
рабочего разлюбил, как только, поживши в Европе, понял ясно,
что социализм, и в особенности коммунизм, хочет всех так или
иначе привести к однообразию и среднему уровню, и рабочий
западный борется на жизнь и смерть только для того, чтобы
самому стать таким же средним буржуа, как и тот, против
которого он воюет. Идеал этого рабочего до того прост,
непоэтичен, сух и груб, и сер, что, понятно, Александру Ивановичу
Герцену, московскому настоящему барину, изящному по вкусам,
идеальному по воспитанию, ничего не оставалось, как только
отвратиться с презрением от этого блузника, который согласен
быть самоотверженным героем баррикад лишь для того, чтобы
со временем воцарился такой мелочный, неподвижный и серый
порядок полнейшей равноправности, когда ум и героизм и всё
идеальное станет лишним. Сокол, самоотверженно
высиживающий куриные яйца окончательного равенства и прудоновской
«Justice» (все равны и все неподвижны). Тогда этот русский
261
ум, изящный и великий в своём только кажущемся
легкомыслии, отвернулся от этой средней Европы, сказав: «Здесь
чувствуешь, что стучишься головой о потолок мира завершённого»,
и, обратившись с надеждой к России, неожиданно для самого
себя понял, что он ближе к славянофилам, чем к западникам.
Его «эстетической» меркой также не мешает проверить
«моральных» славянофилов. Говоря о Герцене, я, разумеется,
различаю в нём резко две стороны: его натянутое под конец жизни
почти бессмысленное революционерство против русского
правительства я отличаю от его столь полезных и справедливых
нападок и насмешек над буржуазией западною. Вот эта-то
острая насмешка над либеральною Европой и есть его главная
заслуга, и этой заслуги у славянофилов нет, они этого не умели.
После Герцена надо подумать о Каткове и о том, чем он от
славянофилов отличался. Он отличался от них особенно тем,
что не ходил далеко за туманными идеалами, а брал то, что
есть под рукой. Не мечтал о «будущем», а с жаром в лучшее
время своей деятельности (с польского восстания 62—63 гг. и
до кончины) старался сделать пользу тому государственному
порядку, который есть. И. С. Аксаков был последовательнее и
неизменнее, его статьи возвышали помыслы, но всё то, что он
предлагал делать сейчас, было некстати. Катков менялся и
казался непоследовательнее, но у него было великое чутьё
времени и срока. Например, Аксаков был за большую свободу
печати, он воображал, что эта свобода имеет сама по себе нечто
целительное; это неправда. Вред от этой вольной болтовни
неимоверно сильнее пользы. Катков, сам вначале стоявший за
большую свободу печати, скоро отступился от неё, понял то„
чего Аксаков никак уже попять не мог, потому что взирал на
человечество и особенно на русское человечество слишком
морально. Он, видимо, слишком верил в хорошие качества
русского народа, русского племени, русского духа. Катков, видимо,
не очень-то в них верил (и был прав! Какая польза в приятном
самообмане на поприще политическом?). Катков верил в силу
и будущность государства русского и для укрепления его не
слишком разбирал средства (страх — так страх, насилие — так
насилие, цензура — так цензура, виселица — так виселица и т. д.).
Катков был похож на энергичного военачальника, знающего
удобопревратную натуру человека; начальник этот в виду
наступающего неприятеля не находит возможным «убеждать*
высокими речами заробевших и бунтующих солдат:
некогда! Он разбивает сам пулей голову одному, бьёт кулаком
по лицу другого, ругает третьего, ласково ободряет остальных
и кратко взывает к их патриотизму. И. С. Аксаков во время
пожара читает благородную лекцию о будущей пользе взаим-
262
ного страхования любви. Бог с ним в такую минуту. Я люблю
полицмейстера, который в такую минуту и меня самого съездит
по затылку, чтобы я не стоял, сложа руки. Катков в тяжёлые
дни своеволия и расстройства накидывался на «низших» (то
есть на обречённых самим Богом повиновению); Аксаков
либерально и некстати великодушно корил всегда «высших».
Катков не брезгал чиновником; Аксаков всегда бестолково (подобно
европейскому либералу) нападал прежде всего на чиновника.
Катков не щадил ни студентов, ни народ, ни земство, ни
общество и предпочитал (основательно) официальную, казённую
Россию, основательно, ибо даже и вера православная не только
пришла к нам по указу Владимира, но и въелась в нас
благодаря тому, что народ «загнали» в Днепр. И Катков понимал,
что одним «чиновником» дышать и развиваться нельзя нигде;
но что ж делать с неофициальною Россией, когда она слабее,
глупев, бесчестнее и несогласнее, пьянее, ленивее и бесплоднее
«казенной»? Катков на практике ежедневно служил
славянофильскому идеалу гораздо лучше, чем сами славянофилы. Он
видел жизнь, он понимал горькую правду нашей
действительности, пожалуй, и поэтической, но запутанной быстрыми
либерально-европейскими реформами. Что ж делать, если из двух
русских Европ, так сказать, наша «казённая» Европа
охранительнее, сильнее, надёжнее, государственнее и даже националь-
нее Европы либерально-русской? Государственность наша, даже
и полуевропейская, несравненно резче отделяет нас от Запада,
чем наша общественность, в которой за последние 30 лет
ничего бы уж не осталось своего, если бы не сильное
правительство. ..
Я, признаюсь, лично Каткова очень не любил. Но он был
истинно великий человек; он был и тем даже велик, что шаг
за шагом, не колеблясь, отступал от всех прежних (более
либеральных и европейских) убеждений своих, когда понял, что они
нам не «ко двору»! Когда понял и то, что русская нация
специально не создана для свободы, и то, что и на Западе всё
либеральное мало-помалу оказывается просто разрушительным.
Дайте нам могучесословное, малоподвижное земство, дайте нам
общество религиозное (хотя бы наполовину его членов —
притворно религиозное, так и быть, из политики. .. а хоть
наполовину искреннее), распространите некоторый фанатизм русских
вкусов, и тогда само собою охранение станет меньше нуждаться
в официальной помощи. Но где это теперь? Есть только мечты,
надежды, начинания.
Катков был за сословия; из его направления вышел Пазухин
(«Сословный вопрос в России»; его влияние, между прочим,
содействовало и мне, когда я писал о разнообразии в единстве
263
и против смешения в последних главах «Византизма и
славянства»). Славянофилы советовали дворянству совсем слиться
(смешаться) с народом, не догадываясь, что не народ нас своим
влиянием оденет в кафтаны и заставит ездить в Оптину, а мы
сейчас оденем его в пиджак и научим его верить больше
в атомы, чем в Св. Троицу. Это ужасно! (,..)
Много хорошего, очень много полезного в религиозном
отношении мы найдём у Киреевского, Хомякова и Самарина, но
учение Влад. Соловьева, впервые в России осмелившегося
хвалить Рим, есть прекрасный противовес
морально-протестантским симпатиям славянофилов. Мистицизм Соловьёва глубже,
возвышеннее, чем ихний, так сказать. Нет, конечно, нужды,
сочувствуя его общему духовно-дисциплинирующему
направлению, принимать все его выводы. Но проверять его духом
полулиберальный дух славянофилов необходимо. Иначе Вы далеко
отстанете от новейшего движения русской мысли.
Скажу два слова и про себя. Оба мы с Соловьёвым вышли
из славянофильства, но он, вдруг отвернувшись с равнодушием
от культурно-национальных интересов, приняв от славянофилов
к сердцу только их учение о независимой и благодатной Церкви,
шаг за шагом, ничем другим не отягощенный, диалектически
пришёл в Рим. Я же по складу ума более живописец, чем
диалектик, более художник, чем философ; я — не доверяющий
вообще слишком большой последовательности мысли (ибо
думаю, что последовательность жизни до того извилиста и сложна,
что последовательности ума никогда за её скрытою нитью не
поспеть), я, вдобавок, много живший и не кабинетной жизнью
отвлечённого мыслителя, а боровшийся много и практически на
политическом поприще (и как консул, и как цензор, и как
публицист «злобы дня»), я пришёл к другому, к чему? Вы должны
знать мои книги, если удостаиваете обращаться ко мне за
советами; во мне — не стану распространяться как — примирены
славянофилы, Данилевский с Катковым и Герценом и даже
отчасти с Соловьевым. Для меня самого всё это ясно и связано
органической, живой нитью. Ясен ли я в моём идеале для
других — не знаю. (...)
1) Государство должно быть пестро, сложно, крепко, со-
словно и с осторожностью подвижно.
2) Церковь должна быть независимее нынешней. Иерархия
должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее. Церковь
должна смягчать государственность, а не наоборот.
3) Быт должен быть поэтичен, разнообразен в
национальном, обособленном от Запада единстве. (Или совсем, например,
не танцевать, а молиться Богу, а если танцевать — то по-своему.
264
выдумать или развить народное до изящной утончённости
и т. п.)
4) Законы, принципы власти должны быть строже, люди
должны стараться быть лично добрее; одно уравновесит другое.
5) Наука должна развиваться в духе глубокого презрения
к своей пользе. (.. .)
Настоящий культурно-славянский идеал должен быть скорее
эстетического, чем нравственного характера. Ибо если
рассматривать дело с реалистической точки зрения, не увлекаясь
какою-нибудь добродушною верою в осуществление того, чего мы
сердцем желаем, то придётся согласиться, что эстетические
требования осуществимее, чем моральные. Надо и для своего
народа ждать чего-то такого, чему примеры бывали, а не такого,
чего никто не видывал. Можно предполагать, например, что
найдётся ещё где-нибудь такое оригинальное млекопитающее
животное, которое не будет похоже ни на одно из ныне известных,
но можно ли воображать, что у него не будет мозга, печени,
сердца и т. д.? Нет, нельзя, как нельзя вообразить себе будущее
только моральным, если же мы скажем — эстетическим, то этим
мы сказали всё, и слово только совсем тут и приставить нельзя.
Можно начертить такой приблизительно чертёж:
Мистика
1 (особенно
положительная религия)
Этнка и политика
Биология (физиология
человека, животных и
растений, медицина и т. д.)
Физика (т. е. химия, меха-
пика и т. д.) и эстетика
Как же Вы будете хоть бы с оптинской точки зрения судить,
например, знакомого Вам турка или буддиста? Что Вам грешно,
то ему не грешно, и наоборот. Только в самых общих
рассуждениях можно к чужим религиям относиться со своею религиозною
меркою — например, насколько в этих религиях, которые я
обязан считать ложными (даже и тогда, когда они мне объективно
нравятся), есть проблески того, что я должен считать истинным
(в мусульманстве — вечная жизнь, в буддизме — аскетизм и
милосердие). О своей религии я думаю и должен думать прежде
Критерий только для
единоверцев, ибо нельзя
христианина судить
по-мусульмански и наоборот.
Только для человечества.
Для всего органического
мира.
Для всего.
265
всего с точки зрения спасения моей души (а всё остальное и
польза ближних «приложится»); о чужой религии я могу только
судить с точки зрения исторической, политической, моральной и
эстетической, считая и турка и буддиста (китайца, положим)
одинаково не назначенными для того вечного блаженства,
которое мне обещано, если я последую за Христом, я могу
разбирать с успехом всё остальное в этих людях и судить о самом
воплощении их учения в нравственной, государственной и
эстетической жизни. Нельзя, например, уверить себя насильно, что
болгарин (особенно объевропеенный) нравственнее и поэтичнее
турка, потому что он нам единоверец. Пробовали у нас, и
выходило— противная ложь, натяжка грубая и разочарование одним,
и стыд другим. Есть истины реальные, от которых не надо
притворно и без пользы отворачиваться, раз они открылись уму.
Можно сказать, что самый очаровательный мусульманин не
получит вечного блаженства, а самый противный серб и болгарин,
покаявшись и помолясь, могут его получить, и только. Религии
разнообразны и потому исключительны. Практическая мораль
одна и ко всем приложима; это ничуть не может колебать на-*
ших духовных верований, если они у нас тверды и ясны.
Естественная (то есть тоже Богом данная) мораль одна, без таинств
религии — не душеспасительна; она очень приятна для
сношений земных, она иногда эстетична, она удобна, уважительна,
она может служить даже средством устыдить плохого
христианина— указанием, например, на доброго турка и т. д. Но как
не-христиан будет судить Бог, мы не знаем. А для нас есть хоть
общие правила.
Итак, мораль есть критерий для всего человечества; то же
самое можно сказать и о государственных делах, о политике.
Она — для всего человечества. Вы можете, как христианин,
знать, что митрополит Филипп святее, я не говорю уж Иоанна
Грозного, а хотя бы доброго Алексея Михайловича; но можете
ли Вы, оставаясь христианином, разобрать: кто больше угоден
Богу (нашему) или дьяволу — Будда или Магомет? Конечно,
нет. А их моральную и политическую (историческую) ценность
нам не возбранено разбирать.
Биология ещё шире. Питается (по-своему), дышит и растёт
всякая былинка, и умирает всякая инфузория, и самый святой
человек имеет подобные же с ними общие процессы. Иметь эти
общие биологические процессы удостоил и Сам воплотившийся
Господь: Он кушал, дышал, жаждал, уставал, отдыхал, страдал
и т. д.
Ещё шире два последних критерия — общефизический и
эстетический. И тот и другой приложимы ко всему, начиная от
минерала и до самого всесвятейшего человека. Минерал весит>
266
разбивается, плавится, уничтожается и т. д. И великий человек
тоже имеет вес, одарён механическими органами, в теле его
происходят, как и в неорганических веществах, химические
процессы и т. д. Это физика, И с другой стороны, с эстетической,
то же самое: красивы, прекрасны, привлекательны и т. п. могут
■быть одинаково какой-нибудь кристалл и Александр
Македонский, дерево и сидящий под ним аскет и т. д. Разница между
физикою и эстетикой при всей их одинаково всеобъемлющей
экстенсивности та, что как ни премудры и ни удивительны
законы физики, но они нам кажутся как бы на своём месте и
в уме нашем не приходят в столкновение с законами морали.
А в явлениях мировой эстетики есть нечто загадочное,
таинственное и как бы досадное потому, что человек, не желающий
себя обманывать, видит ясно, до чего часто эстетика и с
моралью и с видимой житейской пользой обречена вступать в
антагонизм и борьбу. Тот, кто старается уверить себя и других,
что всё неморальное — непрекрасно и наоборот, конечно, может
принести нередко отдельным лицам педагогическую пользу, но
едва ли польза эта может быть глубока и широка, ибо
поверивший ему вдруг вспомнит, что Юлий Цезарь был гораздо
безнравственнее Акакия Акакиевича, и даже Скобелев был
несравненно развратнее многих современных нам «честных
тружеников», и если у вспомнившего эти факты есть эстетическое
чувство, то что же ему делать, коли невозможно отвергнуть, что
в Цезаре и Скобелеве в тысячу раз больше поэзии, чем в
Акакии Акакиевиче и в самом добром и честном из тех самых
сельских учителей, которых Вы нам в Вашей брошюре
рекомендуете. .. Как быть? Возненавидеть эстетику? Притвориться из
нравственных мотивов, что не видишь ее? Презирать мораль?
Невозможно ни то, ни другое, ни третье... Вот тут-то
положительная религия вступает снова в свои всепобеждающие права.
Она не нуждается во лжи и притворстве: «Да, это изящно,
сильно, эстетично, но это не душеспасительно». Рыцарская
дуэль благородна, эстетична, но она не душеспасительна.
Человек, отказавшийся от поединка, видимо, не по страху Божию,
а лишь по страху телесному (предполагаю, что мы знаем его
характер и обстоятельства дела), производит на нас некрасивое
впечатление, хоть по собственной доброте мы и пожалели его
в его унижении. И, с другой стороны, кажется, трудно
вообразить себе борьбу более высокую и трогательную, как в подобном
случае борьба человека храброго и самолюбивого и в то же
время религиозного. И если желание «угодить Богу» победит
чувство чести, если смирение перед Церковью поборет гордость
перед людьми, если «святое» и «душеспасительное» подчинит
в нём благородное и эстетическое и он, ничуть не робея, отка-
267
жется от поединка, то это истинный уже герой христианства...
Видать я таких ещё не видал, но вообразить можно, и, конечно»
в старину на Западе такие люди бывали. Ну, а когда в одной
из грубых и топорных повестей (60-х годов) нигилиста
Помяловского его грубо-серьёзный герой Молотов говорит (басит,
небось): «Меня если кто ударит, я стреляться с ним не стану,
а потащу его в полицию!..», то я, признаюсь, желаю только
одного, чтобы и в полиции этой кто-нибудь догадался ему
расквасить его утилитарную и практически-моральную морду.
(Грешен, каюсь, но ещё каюсь, что не могу даже и грехом боль*
шим подобное моё чувство к таким людям считать!)
Когда страстную эстетику побеждает духовное (мистическое)
чувство, я благоговею, я склоняюсь, чту и люблю; когда эту
таинственную, необходимую для полноты жизненного развития
поэзию побеждает утилитарная этика, я негодую и от того
общества, где последнее случается слишком часто, уже не жду
ничего! И т. д., и т. д.
Эстетика, как критерий, приложима ко всему, начиная от
минералов до человека. Она поэтому приложима и к отдельным
человеческим обществам и к социологическим, историческим
задачам. Где много поэзии — непременно будет много веры,
много религиозности и даже много живой морали. Надо
поэтому желать, чтобы в будущей России (и во всеславянстве)
было побольше поэзии, не в смысле писания хороших стихов и
романов, а в том смысле, чтобы сама жизнь была достойна
хорошего изображения. Эстетика жизни гораздо важнее
отражённой эстетики искусства. Вообразим хоть графа Вронского или
Евгения Онегина, с одной стороны, а с другой — Каратаева
(«Война и мир») или Питерщика (у Писемского); все четверо
стихов и романов не пишут, Вронский пробует писать картины,
но неудачно. Но в них во всех личной, объективной (со стороны
глядя) поэзии несравненно больше, чем в чахоточном еврее
Надсоне и (по всем вероятиям) в этом несчастном Гаршине,
который бросился так глупо с лестницы, написавши несколько
недурных, но всё-таки ничем особенно не поражающих
повестей. Будет жизнь пышна, будет она богата и разнообразна
борьбою сил божественных (религиозных) с силами страстно*
эстетическими (демоническими) — придут и гениальные
отражения в искусстве. Понизится в жизни уровень всех мистических
сил, как божественных, так и сатанинских — понизится и
художественная ценность отражения, о котором нынче так много
любят толковать (гораздо больше толкуют, чем о жизни).
Франция — превосходный пример: всё в ней, в её жизни стало
бледнее даже на наших глазах (на глазах людей уже
немолодых, как я). Религию гонят и презирают, и верующие люди уже
268
не находят в себе сил для кровавого в пользу веры восстания,
пышности настоящей, аристократической, нет, есть
капиталистическая фальсификация барства. Монархия прочная, серьёзная,
требующая подчинения любви, уже неосуществима. И т. д.
И вот, хоть я признаю большой талант и у Золя, и у Доде, но
жизнь не возносит их дарований на ту высоту, на которую
возносила прежняя жизнь Франции дух Ж. Санда, В. Гюго,
Бальзака, Беранже, Шатобрпана, А. де Мюссе и стольких
других. На это есть прямо духовное, мистическое объяснение.
Однажды я спросил у одного весьма начитанного
духовника-монаха: отчего государственно-религиозное падение Рима при всех
ужасах Колизея, цареубийств, самоубийств и при утончённо-
сатанинском половом разврате имело в себе, однако, так много
неотразимой поэзии, а современное демократическое
разложение Европы так некрасиво, сухо, прозаично? Никогда не забуду,
как он восхитил и поразил меня своим ответом! — «Бог — это
свет, и духовный, и вещественный, свет чистейший и неизобра-
зимый... Есть и ложный свет, обманчивый. Это свет демонов,
существ, Богом же созданных, но уклонившихся, как вам
известно. Классический мир и во время падения своего
поклонялся хотя и ложному свету языческих божеств, но всё-таки
свету.. . А современная Европа даже и демонов не знает. Её
жизнь даже и ложным светом не освещается!». Вот что сказал
этот начитанный и мыслящий старец! Кстати напомнить — Вам,
вероятно, известно, что святоотеческое христианство признает
реальное существование языческих богов, но оно считает их
демонами, постоянно увлекающими человечество на свой
ложный путь! Боже, до чего совершенно, до чего ясно, до чего умно,
идеально и в то же время практично это учение! . . Чем больше
его узнаёшь, тем больше дивишься!
Итак, желать для своего отечества существования только
мирного, только морально-полезного, только
средне-утилитарного — значит желать сперва отвратительной прозы, а потом
ослабления «света», духа, поэзии и, наконец, разрушения.
Желать для него поэзии, искать идеала эстетического, хотя бы
с большими неизбежными пороками, страданиями, даже, волей-
неволей, и с грехами — значит желать не только более высокого
и более прочного (чем идеал утилитарно-моральный), но и даже
более душеспасительного. Ибо, раз прилагая это общее правило
в частности, например, к России, мы должны признать, что для
приблизительного достижения такого культурно-эстетического
идеала необходимо значительное усиление мистических чувств,
естественно-исторически присущих нашему культурному типу,
то есть усиление Православия. Если при этом будет по
греховному несовершенству нашему и много выразительных пороков
269
и, может быть, много и сект, то с этим мирятся не только поэзия
и национальное чувство, но и до некоторой степени и чувство
религиозное. Если я — верующий человек, я буду стараться сам
жить понепорочнее и верить как можно правильнее, но я, во-
первых, не буду слишком торопиться судить тех из моих
соотчичей, которые, не отвергая ни Бога, ни Церкви, увлечены
страстями — кто блудом, кто честолюбием, кто гневной борьбой за
существование и обогащение своё.. . ибо я смиренно знаю, что,
быть может, я сам завтра сорвусь хуже и непростительнее их,
они же могут внезапно исправиться, а во-вторых, я за
православную Родину меньше буду бояться с такими в некоторых
(а не во всех) отношениях безнравственными людьми, как
Скобелев, Лермонтов, Потёмкин Таврический, чем с такими,
пожалуй, и более нравственными, как Сади-Карно, Акакий
Акакиевич и даже Максим Максимыч (в «Герое нашего времени»).
Так же и секты: лучше борьба с упорными и возрождающимися
мистическими сектами (вроде скопцов, хлыстов, мормонов,
спиритов), чем мирная с виду (надолго ли?) жизнь слабо
верующих, но довольно честных граждан с другими тоже морально
сносными, но уже вовсе неверующими. Вообразим себе
нынешнюю Швейцарию и нынешнюю же одну русскую губернию или
две, хоть Калужскую и Тульскую вместе. В этих двух русских
губерниях ещё возможны и в наше время и отец Амвросий
Оптинский, и какой-нибудь блестящий воин, вроде хоть того же
Скобелева, и такой романист, как Лев Толстой; и пороков и
страстей очень много во всех классах. Мужики очень развратны,
хотя и религиозны. В Швейцарии же на такое почти население
морали средней, наверное, больше, но зато ни о. Амвросий, ни
Скобелев, ни Толстой уже невозможны. ..
В третьем, дополненном издании «России и Европы»
Данилевского есть прекрасное и глубокое замечание о том, что
«красота есть духовная сторона материи». Прочтите. Хотя и
«культура» и «государство» суть понятия как бы отвлечённые,
но в действительности отвлечениям этим соответствует
известная совокупность весьма реальных явлений, доступных нашим
чувствам: очень большое общество людей, города, сёла, здания,
семейные картины, придворные обычаи, богослужение,
междоусобия, войны, литературные произведения, одежды, изречения,
замечательные людские характеры, подвиги, страдания,
добродетели и низости и т. д. Все эти явления более или менее
вещественны, и культура тогда высока и влиятельна, когда
в этой развертывающейся перед нами исторической картине —
много красоты, поэзии. Основной же общий закон красоты есть,
как известно, разнообразие в единстве (добровольно или более
или менее насильственно — это при подобном взгляде вопрос
270
второстепенный); будет разнообразие — будет и мораль,
конечно, не всепоглощающая, как нынче хотят, а восполняющая,
коррективная, а не сплошная, которая и невозможна. Ибо даже
всеобщее равноправное и равномерное благоденствие, если бы
и осуществилось на короткое время, то убило бы всякую
мораль. Милосердие, доброта, справедливость, самоотвержение,
всё это только тогда и может проявляться, когда есть горе,
неравенство положений, обиды, жестокость и т. д. ... (...)
13. И. И. ФУДЕЛЮ
14 марта 1889 г. Оптина Пустынь.
Спешу, дорогой Осип Иванович, передать Вам ответ от.
Амвросия: 1) насчёт матушки Вашей — не слушайтесь, не
беспокойтесь, идите своей дорогой, а когда она будет говорить: «Мне
через тебя католический священник причастия не даст», то
отвечайте ей: «Тем лучше, я Вас тогда сам причащу!». Это
собственные слова от. Амвросия, которые он благословляет Вам
смело ей сказать. Доверенный его инок, через которого я к нему
вынужден был (благодаря моему неизменному зимнему
затворничеству) обращаться, прибавляет, что от. Амвросий очень
оживился под впечатлением Вашего письма, принял вес это дело
горячо к сердцу и, видимо, верует, что мать Ваша именно
благодаря Вашему священству сама перейдёт в Православие.
Я очень всему этому и за Вас и за дело рад!
2) Насчет женского монастыря, напротив того, я вынужден
несколько Вас огорчить. От. Амвросий решительно не советует
по молодости Вашей брать это место. Посредствующий инок
(ещё до разговора с батюшкой), когда только получил от меня
Ваше письмо с инструкциями, от себя сказал мне, что едва ли
от. Амвросий благословит в женский монастырь, потому что к
такому молодому священнику молодые монахини не станут
откровенно обращаться. Да и вообще не годится. Меня это как
светом самого озарило! Я думал только о Вашем настроении, а об
настроении монахинь вовсе забыл! В этом я грубо и
непростительно ошибся! И гораздо чувствительнее так ошибиться
женатому теоретику Иванцову-Платонову, чем мне, который 18 уже
лет состою недостойным учеником практически духовных
старцев. Вспоминаю теперь, кстати, что я часто слыхал и прежде, что
не только очень молодые, но вообще женатые священники не
очень-то годны для монахинь. Спокойные (сравнительно) сами
со стороны плотской борьбы, они не понимают сердцем ту
ужасную и утончённую брань помыслов и сладострастия, которую
271
приходится нередко выносить и немолодым уже монахиням.
И поэтому бывают несправедливы и слишком строги.
С этой стороны, тронутый Вашими чувствами и мечтами, я
ошибся; но мне приятно вспомнить, что я предвидел смелый и
добрый взгляд старца на борьбу Вашу с католицизмом матери.
Я предвидел, что он не посоветует Вам здесь уступать и
смягчаться. Конечно, когда «дело» касается веры и служения Церкви,
то не надо щадить ни мать, ни брата, ни даже столь любимую
Вами Евгению Сергеевну. Это я так, на всякий случай говорю;
я знаю, что до сих пор она ничем Вам не мешала, а даже
поддерживала. Но надо помнить это, на случай. Жена — «сосуд
слабый», и мы не должны никогда давать им над собой воли.
Избави Боже! Это так, на случай!
Насчёт женского монастыря, хотя и поддался Вам, но не
скрою, что очень рад теперь резкому совету отца Амвросия не
брать этого места и возвращаюсь на старое: столица, Москва —
лучше! Другое дело священник, и другое дело мирянин среднего
круга, ходящий от редактора к профессору, а от учителя к
сотруднику. Священник и в Москве входит посредством исповеди
и некоторых треб (если он захочет быть серьёзным и не искать
только денег) в живые, сердечные отношения с разными
людьми, и с горничной, и с дворником, и с графиней, и с
купцом; постарается-таки и между монахами найдёт себе друзей.
Нужно быть общительнее, искать, говорить больше самому и
наводить людей на живые и откровенные беседы, не скучать ни
с дворником, ни с графиней потому только, что ни тот, ни
другая не лезут на стену от последней передовой статьи какой-
нибудь. . .
Если же хочешь жить живой жизнью, а не одною умственною
жизнью теоретических отражений, то надо относиться к учёному
и литературному миру, как в геометрии относится линия
тангенс— в одной точке, (...) а не погружаться в него, как линия
секанс (...)•
Вот Влад. Андр. Грингмут, умнейший человек, и в идеалах
он бы и желал быть тангенсом, но нужда, семейные
обстоятельства и лихорадка литературных ежедневных впечатлений
сделали его секансом, по уши воткнули его в деревянного
Петровского и К°. .. И Катков, точно такой ещё с 50-х годов, в этот
бумажный и кабинетный мир воткнулся и врезался, по его хоть
сколько-нибудь вытащили оттуда практический гений, удача,
слава, деньги, привели его, не сдвигая почти с места и с
просиженного в течение 30 и более лет кресла на Страстном
бульваре, и с государями, и со знатью, и с архиереями, и со
светскими женщинами, и с министрами, и с народом, и с
полководцами.
272
Я не против Москвы, я только против постоянного и
неизбежного вращения в мире печатной бумаги, в кругу редакторов,
сотрудников, профессоров. Деятелю всякому, даже и духовному,
в наше время их нужно касаться с осторожностью и расчётом.
Не надо всасываться в этот круг исключительно.
Вы напрасно думаете, что я бежал из Москвы от московской
жизни. Я бы сумел жить в Москве сообразно моему возрасту,
личным вкусам и религиозным правилам. И жил-таки,
насколько позволяли разбитое здоровье и средства. Я понимаю и
испытал не раз одинокую жизнь в келье, но (нрзб) я хочу
простора, помещичьей, по крайней мере, если уж не богатой
обстановки. И теперь, если бы я имел больше средств и чуть-чуть
побольше сил телесных, я бы на три-четыре зимних месяца брал
бы болыпой № в «Славянском базаре» или дорогую квартиру
и ездил бы в Москву. Это была и мечта моя — большую часть
зимы в Москве, а от мая до ноября или декабря в Оптиной. Но
средства осуществить её не позволяют, и я предпочитаю жить
здесь безвыездно, но по-дворянски и поблизости отца Амвросия,
чем в Москве без него и скромным тружеником. Моё
воспитание, мои привычки другие, я избалован, испорчен даже, а Вы
нет. С этой стороны Вам лучше, и Вы сами лучше. Но одно тут
общее должно быть — не погружаться по уши в бумажный и
учёный мир, а быть искусным, расчётливым тангенсом, чтобы
Вас только не забывали в нём. Имея в жизни нечто другое *
(в Вашем случае прекрасное нечто — священство), никогда не
впадёшь в душевное рабство перед этим миром, будешь
покойнее и в самолюбии, будешь иметь другие утешения, другие
скорби, другую жизнь, другие радости, другую борьбу. У Льва
Толстого вот было имение родовое и любимое, хозяйство, война,
высший круг, охота, мужики, и поэтому в нём никогда не было
того до ребячества литературного исступления, которым страдал
Достоевский, принуждённый погрузиться в одну точку по
бедности и неимению ни службы и другой ещё карьеры, ни своей
любимой деревни, ни войны, ни высшего общества (только
Сибирь— одно живое воспоминание). Тургенев был богаче и
странствовал много, но и он был чувствительнее Толстого ко
всему бумажному, потому что мало другой жизни имел.
Достоинство, с которым всегда держал себя Фет, вопреки
грубейшей к нему несправедливости критики и дурацкой публики
нашей, значительно зависело от того", что он сперва был лихим
* У меня это другое было постоянно: сперва 8 лет практика
медицинская, военная жизнь в Крыму, связи в богатом кругу, потом Турция, служба,
Афон, своя деревня, опять цензорская служба, всё-таки власть, а не
теория, не мысль одна, теперь Оптина.
18 К. Леонтьев
273
уланом и кирасиром (и от души), а потом серьёзным хозяином,,
помещиком и мировым судьёй, а не был только писателем.
Вот в чём дело, голубчик мой, а не в противоположности
Москвы и деревни. Круг важен, а не местность.
У хорошего священника, если он сумеет взяться, в наше
время в большом городе круг этот будет шире и поучительнее,
чем в глухом селе или в удалённом женском монастыре. Оптина
славится, а кто пойдёт в этот Лесной?! А спасаться? Авось-либо
отец Иоанн Кронштадтский и около Петербурга, куда его то
и дело возят, спасётся! «Царствие Божие внутри нас».
Прощайте! Крепко обнимаю и целую Вас: «Будьте чисты,
как голубь, и мудры, яко змей». Отцу Иванцову-Платонову ни
слова о том, что отец Амвросий не велел туда и почему. Он
монахов не любит, и на Вас за это оскорбиться может, поберегите
его для своей пользы, на случай, но ему не доверяйтесь так, как
оптинским. Уж солгите лучше на себя, что передумали, и т. п.
«Есть время молчать и есть время глаголати».
Вы вот некстати всё молчите, молчите в обществе, а тут
вдруг, где не нужно, дьявол сам и разверзнет Вам уста для
неуместного изречения правды. Лгать не лгать хоть, ну а
«бисер» метать тоже не надо. Духовная власть великого старца
это бисер, и учёные богословы наши эти, хоть и не свиньи,
положим (зачем же!), ну а всё-таки в них большею частию
немножко Лютер сидит.
И Самарин, друг Иванцова-Платонова, видимо,
предпочитал Феофана Прокоповича старцу Яворскому, и Хомяков к
протестантам обращался любовно, а к папству с ненавистью. А из
двух зол — лучше наоборот.
Прощайте. .. Доброй, милой и, по-видимому (?), не ищущей
преобладать Евгении Сергеевне мой привет. И от моих
домашних всех тоже.
К. Леонтьев
14. КНЯГИНЕ Е. А. ГАГАРИНОЙ
24 апреля 1889 г. Оптина Пустынь.
(...) Молюсь я о том, чтобы Господь позволил мне дожить
до присоединения Царьграда. А всё остальное приложится нам
само собой! Узел там и больше нигде. Это — цель; остальное
всё или средства, или последствия. Я уверен, что и в самых
высших сферах так думают. Если же и нет, то отчаиваться не
надо. «L'appetit vient en mangeant!» Будут вынуждены
обстоятельствами так думать. Пусть только Германия втянет Турцию
в союз против нас, и я воскликну: «Ныне отпущаеши раба
274
Твоего!». Тогда политическое положение станет легче в смысле
определённости главной цели, а что стратегическое будет
несколько труднее, не беда. Восточный вопрос — не польский
какой-нибудь или туркестанский или афганский, его разрешение
в нашу пользу есть событие мировое 1-ой важности. Точка
великого поворота в истории. Относительно же военных
трудностей скажу вот что: насчёт созидания, насчёт творчества,
самобытного устроения прочности и т. п. Россия остаётся ещё
сфинксом; способна ли она ко всему этому — ещё вопрос и очень
горький даже. Но что касается способности всеразрушения —
в этом никто её не превзошёл. С 15—16 столетия, со времён
Иоаннов, всё слабое или мало-мальски ослабленное вокруг
России одно за другим рушится и гибнет: Казань, Астрахань,
Сибирь, Малороссия, Швеция, Польша, Турция, Кавказ,
азиатские ханства... Смешно даже видеть и читать, когда наши
обижаются или притворяются обиженными тем, что Запад нас так
боится! Это что-то роковое и почти невольное. Как же не
бояться! Не то страшно, чего хочет великий народ, а то страшно,
что он и нечаянно, быть может, иногда, да делает. Самые
большие неудачи наши (Тильзит, Парижский и Берлинский
трактаты)— пустяки сравнительно с нашими приобретениями и
торжеством медленным, но верным, фатально верным.
Что мы такое: действительно ли мы новый культурный мир,
как думал Данилевский, орудие ли примирения Церквей без
всякой особой гражданской оригинальности, как желает и
надеется Влад. Соловьёв, или, наконец, мы таим в загадочных
недрах нашей великой отчизны зародыш самого ужасного
отрицания и нигилизма (иногда, увы, думается, признаюсь, и так!),
задатки самого гнусного и кровожадного хамства (равенства
то есть); во всяком случае, наше призвание, огромное и гран
диозное, ещё далеко не исполнено, и поэтому «горе тому, кто
станет на дороге этому не нами, а Свыше предначертанному
стремлению».
Могу Вас уверить, что мне иногда очень жаль не только и
без того в истории и семье столь несчастливого Франца-Иосифа,
не только турок, которых я до смерти люблю (всё-таки на
европейских демократов не похожи), но даже и великого,
грозного Отто ф. Бисмарка!
Просто жаль, как бабочку, которая летит на огонь...
И Вы должны мне верить, ибо если Вы или Константин
Дмитриевич мало-мальски внимательно читали мои книги, то
Вы должны сознаться, что я уже не раз был пророком.
Оттого-то и становятся многие перед моими мнениями в
тупик, что (по выражению Т. И. Филиппова) читатели наши
привыкли к мыслям уже жёванным (или Катковым или европеи-
18*
275
стами или старо-славянофилами), а я даю новую и твёрдук>
пищу. Надо оспаривать или соглашаться. Первого не умеют,
второе обидно. Поэтому редакторы или молчат или без
доказательств зовут меня «психопатом», «фанатиком», «хищным
мистиком» или «умом великим, но взбалмошным или больным».
Не верьте им. Я умом здоров, а они умом слабы, и больше
ничего.
Что касается Франции, то сама по себе она, разумеется,
«un ramassis de goujats» и только; но, я думаю, Дерулед был
прав, говоря в Москве так: «Вы, русские, не обязаны пас
защищать, если на нас нападёт Германия; но мы — другое дело,
нам нужно возвратить провинции и смыть позор, поэтому мы
вынуждены будем вам помочь. И в тот день, когда у вас
произойдёт с Германией разрыв, у нас на восточной границе при
всяком правительстве ружья и пушки начнут сами палить!»
Sapienti sat!
Дай, Господи, князю побывать на Афоне и вернуться оттуда
не с одними впечатлениями «туриста», это для меня было бы
большим огорчением, а с тем страхом Божиим и с тою верою,
без которых не может быть истинно русский государственный
человек.
(Шувалов, например, был хорош тем, что он был не
либерал, но с религиозной стороны он был анафема и даже свинья.)
Графу Дмитр. Андр. Толстому относительно сословных его
реформ продолжаю горячо сочувствовать и очень рад, что он
берёт верх.
Прочно ли всё это только? Дворянство наше ужасно
легкомысленно, и русских настоящих в его среде очень мало.
Я думаю-таки, если новая сословность у нас утвердится хоть
на 100 лет, то прав до известной степени Данилевский: будет
своя цивилизация.
Если нет, и все усилия Толстого дадут плоды такие же
непрочные, как французская реакция 20-х годов, то наша
будущность пойдёт по разрешению Восточного вопроса очень быстро
или по пути Влад. Соловьёва (т. е. придётся искать другого
рода сильную дисциплину), или по пути самой крайней
революции. Qui vivra verra!
Господи, спаси Россию! (...)
15, К. А. ГУБАСТОВУ
5—7 июня 1889 г. Оптина Пустынь.
Друг мой, Константин Аркадьевич, за книги благодарю, я
получил их давно, не писал же Вам так долго об этом потому,
276
что не к спеху и были другие занятия. За сборник Гартмана
очень Вам благодарен, многое в нём мне нравится, даже и
некоторые из суждений его о России. Нордау был у меня и
прежде, по-немецки (Кристи из-за границы привёз), но
по-французски мне, конечно, ещё легче и приятнее было перечесть. Вы
правы относительно главы «Ложь политическая»; поместить её,
хотя отрывками, и у нас было бы очень полезно. Не знаю,
почему никто не догадается. Я теперь не могу этого сделать.
Вообще, надо признаться, что 2 книги Вашего выбора гораздо
больше удовлетворили меня, чем назначенные мною: Лассаль,
Луи-Блан п Папарригопуло. Меня уверили, что Лассаль
популяризировал идеи тяжёлого Карла Маркса, с которым я
несколько знаком. Мне хотелось получше познакомиться с
«последним словом» социализма (в будущность которого — весьма,
впрочем, нелиберальную — нельзя не верить; и Катков
сознавался, что верит в нес). Я ожидал встретить лёгкое, блестящее
и доступное изложение, что-то вроде Герцена, и вдруг увидел
на первых страницах такую «серьёзность», да ещё на немецком
языке, что испугался, и до сих пор оба тома стоят на полке,
разрезанные мальчиком моим, но не читанные. (...)
Если можете, на остальные 11 1/2 гульденов вышлите мне
тоже запрещённое у нас сочинение Владимира Соловьёва —
La Russie et l'Eglise Universelle; Paris, Nouvelle Libraire Pari-
sienne, rue Dronot; издатель Savine. В достоинствах этой
книги — как бы она ни противоречила с известной стороны моим
убеждениям — конечно, уж не ошибёшься. Можно не разделять
мнения автора, что центр Вселенской Церкви должен быть
непременно в Римском папстве *, но надо сознаться, что он самый
гениальный из современных нам мыслителей, точно так же, как
Лев Толстой (в «Войне и мире», в «Карениной») — самый
гениальный из нынешних романистов, Эд. Ф. Гартману — далеко
до него, во-первых, потому, что диалектика Соловьёва гораздо
увлекательнее и яснее, чем у него (его «История теократии
библейской» — верх блеска и ума!), а во-вторых, практический
выход в жизнь у них обоих — как небо от земли. У Гартмана —
буржуазный мелкий стоицизм, весьма и без того
распространённый на трудовом Западе, и в будущем всё большее и большее
уравнение, однообразная и безвыходная зависимость лиц от
общества, старческое торжество печального сознания над
бессознательным, то есть над всеми чувствами и страстями
(хорошими и порочными — всё равно), и, наконец, по достижении
доступного на земле совершенства* в этом сознании и познании
* А что оригинальности у нас никакой решительно не может быть и не
будет.
277
•и себя и мира — тоска, бесцветность и всеобщая жажда смерти
от скуки *. Ведь — иногда и теперь — нечто подобное
проглядывает, когда есть и неравенство, и войны, и азиатские «варвары»,
и много ещё простых и диких людей. (...)
Вообразите себе человека живого, молодого ещё и полного
силы, какие ещё есть теперь, слава Богу, — вообразите, что он
стал искренно и твёрдо на точку зрения Гартмана... Он только
что вступает в жизнь и хочет действовать — что же ему делать?
Что? Когда Гартман не даёт ему лаже того утешения, которое
доставляют своим последователям вожди и учителя социальной
революции; эти последние говорят: «Жертвуй собой, иди на
смерть; ты служишь постепенному водворению полного равен-
ства и рая на земле». Ученик Гартмана (понявший хорошо
сущность его учения) должен сказать себе: «Не всё ли равно?
Стоит ли чем-нибудь жертвовать для будущего человечества,
когда сам Гартман очень ясно доказывает, что оно
(человечество) тогда только поймёт вполне весь безвыходный ужас
своего положения, когда прогресс принесёт уже все доступные ему
плоды, ибо прогресс ведёт к тому, чтобы каждый человек
наименее зависел от природы (от сильного физического труда, от
болезней, от голода, от непогоды и урожаев) и как можно
больше от общества (от эгалитарного деспотизма всех над
каждым)». И тогда станет ясно, что корень страданий не вовне,
а в нас самих. Люди обеспеченные и не обуреваемые при этом
страстями нестерпимо скучают. Значит, на практике жизни,
человеку, последовательно исходящему из Гартмана, остаётся
жить без идеи, а только по личным наклонностям, вкусам и
выгодам. Можно и так, можно и этак. Ибо религии с их
загробной жизнью — детство и вздор. Благоденствия земного никогда
не будет, а разнообразного и пышного развития тоже теперь
уже ожидать трудно — всё идёт к одному знаменателю!
Вот правильный выход в жизнь из учения Гартмана. Что
касается Соловьёва, то он при всём своём высоком
метафизическом полёте даёт мистицизмом своим практическую
возможность выяснить путь жизни и для своей души и для
национального призвания. Примирение Церквей, подчинение Папе,
ограниченная только Церковью власть русского царя,
пекущегося о наилучшем материальном устройстве жизни
(охранительный социализм). Таким был его идеал года 2—3 тому назад.
Не знаю, что в этой последней книге. Оригинальную славянскую
культуру он считает и невозможною и даже вредною, как
помеху соединению Церквей. Сочувствовать, Вы понимаете, я
* Это ведь не мои предсказания, а самого Гартмана.
27S
этому не могу, но, сознаюсь Вам, что Соловьёв — единственный
и первый человек (или писатель, что ли), который с тех пор, как
я созрел, поколебал меня и насильно заставил думать в новом
направлении. Вы-то лучше других знаете, что ни Аксаков, ни
Хомяков, тем более ни Катков, ни даже Данилевский вполне
не удовлетворяли меня. Я чувствовал, что я перерос их моею
мыслью, и если я не сумел выразить её, эту мою мысль, в моих
сочинениях ни достаточно популярно, ни достаточно научно, ни
достаточно завлекательно, ни достаточно убедительно, то этот
сравнительный неуспех ни разу не колебал во мне внутренней
веры моей в особое культурное призвание России. В первый раз
Соловьёв заставил меня задуматься и поколебал меня.
Поколебал не личную и сердечную веру мою в духовную истину
Восточной Церкви, необходимую для спасения моей души за
гробом. (Он этого и не ищет; он также верит, что в
Православии можно спастись, точно так же, как и в католичестве: обе
вражлующие сестры-Церкви соединены, по его мнению,
внутренним единством благодати.)
Он поколебал, признаюсь, в самые последние 2—3 года мою
культурную веру в Россию, и я стал за ним с досадой, но
невольно думать, что, пожалуй, призвание-то России чисто
религиозное, . . и только! Ибо если даже и допустить, хотя бы и
с реалистической точки зрения, что перед концом света (земли
и человечества), всячески рано или поздно неизбежном,
воцарится на время то высшее материальное благоденствие с
нестерпимою душевною скукой, о которой пророчит Гартман
(весьма правдоподобно), то ведь всё-таки предварительной-то
борьбы, работы, побед, поражений, неожиданных, то приятных,
то ужасных открытий, стеснений и разделений предстоит ещё
столько (особенно если вспомнить, какие есть ещё миллионы
нехристиан на земле), что будет время и для России исполнить
какое-то (теперь ещё неясное и спорное), но во всяком случае
великое назначение.
Будет ли это та новая, пёстрая, своеобразная культура, о
которой мы с Данилевским мечтали (увы! едва ли!), или
исключительно соловьёвское религиозное призвание, последнее
возрождение вселенского христианства для последней отчаянной
борьбы с безверием (или антихристианством, анти-Христом),
или, наконец, то разрушительно-социалистическое назначение,
возможности которого на Западе с нашей стороны (не без
основания также) многие опасались и опасаются. Всё равно —
в исполинском каком-то назначении нашем теперь уже и
сомневаться нельзя. Припомните всё, от фаталистических
обстоятельств 1 марта до последнего тоста царского князю
черногорскому, и Вы, разумеется, согласитесь с этим.
279
Итак, Вл. Соловьёв уж тем хорош или (если хотите) тем
опасен, что при всей воздушной высоте своей мистики и
метафизики он даёт уму осязательную, видимую цель: подчинение
папству — раз, сохранение самодержавия — два, идеал
приблизительного хозяйственного улучшения — три (социализм
консервативный). Я, оставаясь сам лично для себя на йезначительный
остаток земных дней моих неуклонно па почве простого и
старого, афонского и оптинского Православия, как мыслящий
человек всё более и более начинаю думать, что учение его имеет
будущность в России. Не добрались, не додумались до него ещё
наши молодые люди, большинству из них ещё не успел
наскучить западный либерализм, и при вступлении в жизнь, при
первой свободе от власти родителей и учителей эта пошлость так
лично приятна и соблазнительна, что естественно желание —
свои молодые страсти согласить с мировым принципом и им,
кстати, оправдать и себя.
Но нынче это у многих скоро проходит, и западная идея
эгалитарной свободы, как Вы сами, я думаю, видите, всё больше
и больше теряет то прежнее неотразимое обаяние, которым она,
эта разрушительная идея, обладала 100 и даже 50 лет тому
назад. Все истинно передовые умы один за другим от неё
отказываются: Ренан, местами Дж. Ст. Милль (он ужасно
непоследователен), Эд. Ф. Гартман — верит в будущее эгалитаризма,
но как в неизбежное зло своего рода, и др.
Занадобится молодёжи нашей что-нибудь потвёрже и хотя
идеальное, но ясное и достижимое — посмотрите, как она
кинется на учение Соловьёва.
Оттого-то и основательно, с точки зрения старого
Православия, начальство запрещает у нас его книги. Православное
начальство обязано так делать, точно так же, как и я лично по
богобоязненности обязан не принимать вполне его учения («не
наше дело это решать, а собора епископов»). Но в силу его я
верю. Если даже она и догматически неправильна, то ведь разве
неправильное не имеет огромного успеха? Это всё сказалось
у меня почти нечаянно и кстати. Я по-прежнему нахожу
блаженство в беседе с Вами. Впрочем, для здоровья надо идти
гулять в лес, и я отлагаю продолжение до вечера либо до
завтра. (. ..)
Варя беременна, в сентябре родит; из прежних 3-х детей
у неё жива и растёт только одна двухлетняя девочка, очень
хорошенькая, но капризная. Александр зимой очень ленился,
скучал с нами и всё таскался туда-сюда по приятелям, а теперь
много работает в саду и около дома. Лизавета Павловна
стареет, всё так же неопрятна и растрёпана, целые дни и зимой
и летом ходит-бродит туда—сюда по воздуху и по гостиницам.
380
Во всех классах общества заводит знакомства и всё тщетно
просится в Крым или в Москву. Иногда мечтает выйти ещё
замуж; не так давно распустила сама слух, что она беременна
от одного монаха, так что пришлось ей даже притворно-строгий
выговор сделать (монах очень расстроился). Вообще, хотя она
стала веселее и менее дика, чем была вначале по возвращении
из Крыма, но всё-таки слабоумие её (dementia) уже вполне
неисправимо, и она минуты подряд не может держаться
правильного хода мыслей. Не знаю, как с ней будут без меня
справляться, часто об этом горюю. (...)
Марья Владимировна имеет хорошее место в Москве. Была
здесь прошлое лето в течение 2-х недель и запрошлое, будет
и этот год, но я для внутреннего мира души («Прочее время
живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим!»)
не пожелал встречаться. Зачем «тревожить язвы старых pan»t
Зажить они вполне у обоих не могут, и рубцы их всё будут
побаливать. Поэтому «вырви око», которое соблазняет тебя и
вводит в грех, и пробуждает невольно жестокие и лютые
воспоминания! (.. .)
16. И. И. ФУДЕЛЮ
15 марта 1890 г. Оптина Пустынь.
(...) Тот же, кто и чувствует сильно и форму эту личную
нашёл, тот наложит свою личную печать на произведение и
в том случае, если тема была уже испробована и прежде его
лучшими поэтами. Фет и Тютчев писали об осени после
Пушкина, и стихи их, несмотря на это, прекрасны. Вообще же и
темы лучше выбирать поновее. Я даже Александрову, у
которого несомненный лирический дар, говорил, чтобы он о природе
по возможности бросил писать, ибо после такого периода, как
наш русский стихотворный период от Батюшкова, Жуковского
и Пушкина до Фета, Полонского, Майкова, Тютчева, что можно
сказать о природе нового! Никакого нет сомнения, что и
содержание исчерпывается надолго после богатых периодов во
всяком роде литературы. Возьмём пример из другой сферы: что
можно теперь сказать нового в повестях и стихах о разных
«оскорблённых и угнетённых» после Гоголя, Достоевского,
Некрасова, отчасти и Тургенева? Уже и роман Достоевского
«Оскорблённые и униженные» в 62-м или 63 году показался и
мне и многим несносной старой песнею. И только страстная
тенденциозность Вл. Серг. Соловьёва могла побудить его
вспомнить через 20 лет в публичной речи об этом плохом
произведении писателя на столь избитую тему. Жизнь не искусство,
281
а искусство не жизнь. Роды искусств, их приемы и само
содержание изнашиваются гораздо прежде жизни. Изнашиваются
идеи и формы самой жизни, но много позднее. Пример: римская
жизнь дотла износилась к IV и 6-му веку (в IV — воцарение
христианства, перенесение столицы в Византию, в VI — Одоакр
и т. д.); а сколько времени жило римское общество (ещё
прежде этих событий), перебивалось, так сказать, прежними
старыми поэтами: Горацием, Вергилием, Овидием, Овеналом и т. д.
Все они явились друг за другом в течение сравнительно
короткого времени, от Августа разве-разве до Адриана (Ювенал?).
И для предметов поэзии и вообще искусства нужен роздых
какой-то, нужно времени забвение. Писал по-своему хорошо
Жуковский о 12 годе, современник события («Певец во стане
русских воинов»), через 20—30 лет написал Пушкин
«Бородинскую годовщину» и «Клеветникам России», а Лермонтов своё
«Бородино», а через пятьдесят только лет явился человек,
который, вспомнив о 12 годе, сумел иначе, но прекрасно осветить
эту эпоху, — Лев Толстой. Нынче слишком много пишут,
слишком много печатают, это очень вредно; ну, публицистика, наука,
религия, что делать, нельзя не писать об них — борьба за жизнь
самую идёт везде. Но стихи, повести, романы? На что это? Или
прекрасно, оригинально, сильно или ничего! (...)
17. В. М. ЭБЕРМАНУ
1 мая 1890 г. Оптина Пустынь.
(.. .) Влад. С. Соловьёв, конечно, гений, но гений,
находящийся, во-первых, в духовной прелести, а во-вторых,
взбешенный донельзя тем, что у нас все (за исключением легальных
нигилистов) восстали против него единодушно.
И что за вздор: Россия Ксеркса или Христа? «Россия —
России» — вот что нужно. Св. Константин, Феодосии Великий,
Юстиниан были христианскими Ксерксами, во-первых, а во-
вторых — Европа либеральная, которой он нас стращает,
находится теперь вовсе не в периоде перед Персидскими войнами,
а скорее похожа на Грецию после Пелопонесской и Фиванской
войны, т. е. в периоде разложения и духовного упадка; а мы,
как ни плохи, а растём ещё, как Рим после Пунических войн.
Он хочет ломать историю в угоду своей тенденции, да её не
сломаешь!
Мало ли что он — «орёл» умом и талантом, а все его
противники едва-едва в ястребы годятся; и Наполеон I был
неизмеримо выше и Кутузова, и Блюхера, и Шварценберга, и Вел-
282
лингтона, однако история была за них, а не за него, и они
соединенными силами низложили его.
Не мы, его слабые противники, победим его; его победят
факты самой жизни православного Востока... И от учения его
останется только то, что в нём было действительно важного
(в особенности, я думаю, теория развития Церкви, ясная, как
дважды два = 4; ну, и вообще тот именно богословский дух,,
который он первый у нас внёс в философию). (. ..)
18. И. И. ФУДЕЛЮ
1—2 мая 1890 г. Оптина Пустынь.
(...) Конечно, очень жаль, что Вы долго были под
исключительным влиянием Гейне и Некрасова. Это поэты ломаные, ко-
верканпые, противные, у которых именно лиризма-то
пламенного, искреннего и нет. В них бездна лживого, натянутого и
изысканного. И, заметьте, изысканность их не в том, чтобы
выражаться полюбезнее или покрасивее, как было у поэтов
XVII и XVIII веков, а напротив, в том, как бы произвести более
болезненное, тяжёлое и противное впечатление. Ещё Гейне тем
искреннее, что он сам был человек больной, который пролежал
не знаю сколько лет на диване в параличе, продолжая писать
свои коверканные стихи. Ну, а наш Некрасов просто был
подлец, который эксплуатировал наши модные чувства, наши
демократические наклонности 40—50 и 60 годов, нашу зависть
к высшим, нашу лакейскую злость и писал обо всём этом, за
немногими исключениями, «деревянными виршами», как
прекрасно выразился о нем Евг. Марков. И у Гейне, и у Некрасова
(и тем более у Гоголя, о котором Вы тоже упомянули) образы
очень ярки, очень выпуклы, нередко до грубости выпуклы. Не
в недостатке образности вина этих стихотворцев (Гоголя пока
оставим), а в исковерканности одного (Гейне) и в лживой
какофонии другого. Не то беда, что Некрасов писал «о мужике»,
а то беда, как он о нём писал! Прежде всего, и нескладно и
неискренно. Ведь и Кольцов писал и о мужике и о бедности. Но
КАК! Ведь это прелесть.
Впрочем, я отвлекся. Дело не в них, дело в Вас. Будьте
покойны — они оставили на Вас очень мало следа. Если бы Вы
мне теперь не сказали, что Вы увлекались Некрасовым и Гейне,
я бы никогда не догадался сам об этом. В Вашей натуре
гораздо более чистого лиризма, чем в натурах Гейне и Некрасова.
Вам по собственному складу Вашему были бы всех других
поэтов сроднее Шиллер, Жуковский и Тютчев. Знаете ли Вы их
хорошо? Они и к христианству всех ближе. Великие Байрон и
283-
Гёте * — оба глубоко развратны и в высшей степени чувственны
(особенно Гёте). Они оба на эстетическое чувство (в самой
жизни, на развитие истинно эстетического мировоззрения, а не
то что журнальной критики какой-нибудь!) действуют
неотразимо!
Гордость, отвага, страстность, сила воли, физическая кра*
сота и физическая сила, тонкое сладострастие, какое-то скрытое
во всём языческое богословие прекрасного в реальной жизни,
глубокий аристократизм мировоззрения — вот положительная
сторона у Гёте и Байрона. Это, конечно, гораздо лучше и выше
этой промозглой позднейшей музы «скорби и печали», столь
некрасивой и хамской (надо сознаться!), но и Гёте и Байрон для
христианства истинного очень вредны. Они могут, пожалуй,
к нему привести человека путём психических антитез, как
привела к нему языческая эстетика весь Рим и всю Грецию. Но не
иначе. Я знаю по опыту моего собственного многогрешного
сердца, каким горьким способом такая поэзия приводит к Богу
и Христу. (...)
Надо возражать, надо спорить. Иначе не разъяснится дело.
Спорить «хорошо» и небесплодно могут только те, которые
наполовину уже согласны. Иначе и не следует, ибо кроме гнева и
злобы из спора ничего не выйдет.
Вы говорите, что многие священники (из Академии) думают
всё только об общественной пользе, о любви и т. д. Я же Вам
скажу, что я со многими монахами воюю за то, что они зато
вовсе не хотят об этом думать. (Отец Амвросий думает, но он
«алмаз» среди грубых гранитов, по выражению Гоголя.) Да,
это беда наша русская, что одни создают свои общественные
христианские идеалы не на аскетической сущности, а другие,
служа лично по совести аскетическому идеалу, знать не хотят
общественной жизни. Знаете что? Я знал одну великую
игуменью (из дворянок), она 2 года тому назад умерла всего
43-х лет. Она говорила: «Нам нужны новые монашеские ордена,
которые бы могли больше влиять в мире. Единственный у нас
орден Св. Василия не должен быть «разжижаем» или
изменяем. Молитва, телесные подвиги в общежитии, богослужение,
вот назначение этого ордена. Избави Бог ослаблять его
разными тесными отношениями с миром; но и для мира женатое
духовенство недостаточно. Нужны новые ордена!». Великая
мысль, и я впервые от неё это услышал. Но ведь для этого
нужно «творчество»! А способна ли к нему русская и вообще
славянская кровь? Боюсь, что неспособна! А впрочем, Господь,
когда захочет, то не только «из камней», как сказано в Писа-
* Пушкин по духу — середина между ними.
284
нии, но и из этого подлого славянского теста воздвигнет
пророков... (Взятие Царьграда! Взятие Царьграда: православные
греки, православные турки, православные черкесы, православные
немцы, даже искренно православные евреи — всё будет лучше
этой скверной славянской отрицательной крови, умеренной и
средней во всём, кроме пьянства и малодушия!). Люблю
Россию как государство, как сугубое Православие, как природу
даже и как красную рубашку... Но за последние годы как
племя решительно начинаю своих ненавидеть... Ну, какая у них
«любовь», ни одного дела любви до конца выдержать не умеют,
как выдержит англичанин, немец, турок, испанец, а иногда даже
и француз!
Статьи отца Антония и Влад. Соловьева читал. Не
удовлетворён. Я нуждаюсь во внешнем, видимом авторитете. .. Да и
плохо понимаю его способ рассуждения. Не согласен с тем, что
духовенству православному не нужно вовсе влиять на
государственную жизнь. Надо возвышать духовенство, сосредоточить
его, облагородить его и дать ему больше влиять. Что-то есть
такое в статьях этих «недостаточное». Пока другого выражения
не придумал. У Соловьёва — ясно, тут — темно. Неужели я так
слаб умом? Может быть, пойму отца Антония позднее.
Вообще сказать, Соловьёв и все противники его напоминают
мне борьбу Наполеона 1-го со всеми европейскими
полководцами. Никто отдельно взятый, ни Веллингтон, ни Блюхер, ни
Брауншвейгский герцог, ни Мелас и Шварценберг австрийские,
ни наш Кутузов и Багратион не могли с ним равняться, но
которые их совокупными усилиями низложили его. Я уверен, что
с римскими выводами Соловьёва (вовсе из основ его не
вытекающими неизбежно) Россия справится через посредство
Страховых, Астафьевых, Бестужевых, иеромонахов Антониев и т. д.
Несмотря на то, что Соловьёв — истинный орёл умом, а они все,
начиная с добрейшего Петра Евгеньевича и кончая лукавым
Страховым — немного выше петухов и гусей взлетают.
Я бы ещё мог что-нибудь — я очень ясно вижу, где Соловьёв
прав и где нет, но разница огромная — видеть самому и уметь
другим открыть глаза! Сил физических, прямо сил нет вступить
с ним в серьёзную и открытую борьбу. Мы оба с ним одни, но
ему 35 лет, и он ничем другим не связан, а мне 59, я постоянно
болен и связан многим побочным. Перед публикой надо
выходить во всеоружии фактической подготовки, а мне эта работа
уже потому не под силу, что я постоянно занят другими
мыслями; эти мысли хоть и близки к тому вопросу (или, лучше
сказать, к тем вопросам), о которых препирается Соловьёв с
противниками своими, но всё-таки и особливы настолько, что
поглощают все мои досуги. (.. .)
285
19. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ
3 мая 1890 г. Оптина Пустынь.
(. . ) Чернова статья в сущности весьма бестолкова, не
только там, где он говорит собственно обо мне, но и почти во
всём остальном. Его лестные обо мне отзывы и тогда не
ослепили меня вполне, но я по немощи человеческой находил
удовольствие закрывать глаза, пока дело шло о прославлении
моего имени. Но когда он позднее прислал мне целую книжку
свою «Русский национальный дух при Александре III», я
увидал, что в других статьях этого «благонамеренного» сборника
он совсем сбился с толка, и понял, что не в моих выгодах и
поминать у нас о его лестном, но бестактном обо мне отзыве.
У нас моими сочинениями интересуются, дай Бог, 50 человек на
всю Россию, а он придаёт мне какое-то необыкновенное
значение. «Россия в миниатюре!» Шуточка это! Если бы даже
предположить, что есть и подобие правды в этом комплименте (т. е.
в том смысле, что я в мыслях переживаю на 10—15 лет ранее
других те фазисы, в которые позднее всякий раз вступает
передовая русская мысль вообще и даже само правительство), то
всё-таки надо говорить об этом доказательнее, чем делает
бедный мосье Портье! Спасибо ему. Но ведь и медведь хотел
услужить пустыннику.,. Конечно, успех — вещь приятная, но
что же делать: «habent sua fata libelli!» Я всё-таки и при жизни
уже гораздо счастливее Данилевского, моё имя всё-таки так или
иначе многие знают. О Данилевском же всего лет 5—6 тому
назад кто слышал? Начну я, бывало, говорить о нём... «Кто
такое? Что такое? Не знаем, не слыхали, не читали». А теперь,
видите, какая борьба, какая многозначительная, серьёзная
борьба поднялась над его могилой! И она ещё не скоро
кончится!.. А почему? Заблуждений (либеральных) у него очень
много, но он сказал только одно великое слово, сделал один
исполинский шаг в области исторической мысли: «Теория
культурных типов и смена их»!
Надо, конечно, различать в этом вопросе прошедшее
человечества от его будущего и, сверх того, собственно научную его
мысль от его же патриотических надежд и пристрастий. Яснее:
культурные типы были; теория этих типов — превосходна, она
лучше всяких других делений для понимания истории; но будут
ли ещё новые культурные типы, это — другой вопрос. Весьма
возможно, что и не будет их более, а что человечество после
целого периода кровопролитий и борьбы примет (вопреки
желаниям Данилевского и моим) известный всем нам
общеевропейский утилитарный характер и, дойдя на этом пути непременна
286
.до абсурда, погибнет, то есть или начнёт постепенно вымирать
или, посредством прогрессивного физико-химического баловства
своего, произведёт какую-нибудь ужасную и неожиданную все-
земную катастрофу. Это весьма возможно, и потому ценность
теории культурных типов для прошедшего человечества нельзя
равнять с её ценностью для будущего. Это раз. А потом,
допустивши даже, что будут ещё (до неизбежного и
надвигающегося светопреставления) один или два новых культурных
типа, мы всё-таки не имеем ещё через это права
(рационального) надеяться, что этот новый культурный тип выработается
непременно весьма уже старою Россией (900 лет с крещенья и
больше 1000 с призвания князей!) и её славянскими
единоплеменниками, отчасти переходящими (как болгары и сербы)
прямо из свинопасов в либеральных буржуа, отчасти (как чехи
и хорваты) давно уже насквозь пропитанных европеизмом.
И мне бь; очень хотелось хоть с того света увидать этот новый
и пышный (четырёхосновный, по Данилевскому) культурный
всеславянский тип! Но — увы! Признаки благоприятные есть,
но они так слабы и так ещё мелки... И неблагоприятного со
всех сторон так много, что мне, признаюсь, всё чаше и чаще
представляется такого рода печальная картина: эта
национальная и религиозная реакция, которая теперь довольно сильна
в русском обществе, не есть ли это одна из тех
кратковременных реакций к лучшему, к здоровью и силе, которые иногда
испытываю на себе и я (например) в моей старости? .. Таких
малых реакций, небольших обратных течении на старой почве
было в истории много (постарайтесь припомнить), но всё это
не было реакцией вековой, на новых основах; примерами
последних были: византийское Православие, папизм через 400—
500 лет для Запада — феодализм и папство, а для Востока —
мусульманство и буддизм (привившийся в Китае и Тибете).
Хорошо, кабы так. Иногда я думаю (не говорю мечтаю,
потому что мне, вкусам моим это чуждо, а невольно думаю и
беспристрастно предчувствую), что какой-нибудь русский царь —
быть может, и недалёкого будущего — станет во главе
социалистического движения (как Св. Константин стал во главе
религиозного— «Сим победиши!») и организует его так, как
Константин способствовал организации христианства, вступивши
первый на путь Вселенских Соборов. Но что значит
организация? Организация значит •—принуждение, значит —
благоустроенный деспотизм, значит — узаконение хронического,
постоянного, искусно и мудро распределённого насилия над личной
волей граждан. Поэтому либерал (по выводам своим дурацким,
а не основам, вполне верным) Спенсер с ужасом видит в со-
циализме новое грядущее государственное рабство. И ещё сооб-
287
ражение: организовать такое сложное, прочное и новое рабство
едва ли возможно без помощи мистики. Вот если после
присоединения Царьграда небывалое доселе сосредоточение
Православного управления в Соборно-Патриаршей форме (разумеется
без всякой теории «непогрешимости», которую у нас и не
потерпят) совпадёт, с одной стороны, с усилением и того
мистического потока, который растёт ещё теперь в России, а с
другой,— с неотвратимыми и разрушительными рабочими
движениями на Западе и даже у нас (так или иначе), то хоть за
две основы — религиозную и государственно-экономическую —
можно будет поручиться надолго. Да и то всё к тому же
окончательному смешению несколько позднее придёт. Человечество,
без сомнения, очень устарело. Сама сила точной науки (или.
вернее, её приложений), на которую почти все молятся и
против которой даже столь смелый еп. Никанор и я, которому
терять в литературе нечего, едва-едва смеем кое-что говорить,—
сама сила этой науки есть признак глубокого устарения,
стариковский интерес: «удобства, удобства, удобства». . . И Эд. фон
Гартман верно «чует» дело, когда говорит, что признак близо-
сти конца для человечества есть преобладание сознательного
над бессознательным. В этом он совпадает с христианством:
«плоды древа познания добра и зла» убийственны для людей,
и, насытившись ими до высшей меры своей, человечество уже
не найдёт обратного пути к «древу жизни»... (Вот, кстати
сказать, о чём надо писать теперь стихи, а не о том, как волны
Чёрного моря плещут у Ланжероновой дачи в Одессе, и не
о «русалках», милый мой. .. Наши старые поэты все давно уже
какими-то рвотными конфетками угощают нас, и Фет, и
Майков; Голенищев-Кутузов прекрасно делает, что взял в
жреческие руки свои (слабоватые) «банковую метлу», ну, а
младшие— либо: «Любовь, любовь, любовь!», «Во всеоружьи
Европа... О Христос!..». Ни к селу тут, ни к городу — всуе!
Либо: «О, да, я верю, что все люди станут, как берёзы в роще!
Что все станут и учёнее и проще»... Поэзия!!!). Но как бы то
ни было, будет ли новый культурный тип или нет, славяне ли
с непривычки как-нибудь нечаянно с действительно новой, с
неевропейской и нелиберальной культурой в одно утро проснутся,
или они, попытавши чуточку сделать что-то своё, плачевное и
половинное, после взятия Царьграда лопнут, как мыльный
пузырь, и распустятся немного позднее других всё в той же
ненавистной всеевропейской буржуазии, а потом будут (туда и
дорога!) пожраны китайским нашествием (N. В. Заметьте, что
религия Конфуция есть почти чистая практическая мораль и не
знает личного Бога, а буддизм в Китае, тоже столь сильный,
есть прямо религиозный атеизм. .. Ну, разве не Гоги и Магоги?)
288
и т. д. и т. д. — во всяком случае про Данилевского можно
сказать, что он сделал великий шаг — указанием на эти
культурные типы. Можно ведь и так его теорию обернуть:
существование разных культурных типов есть признак жизненности
человечества, невозможность создать новый, смешение всех
типов в один средний есть признак приближения человечества
к смерти.
Данилевскому принадлежит честь открытия культурных
типов. Мне — гипотеза вторичного и предсмертного смешения.
Пусть-ка её опровергнут! Что-то не суются. .. И
опровергнуть было бы тоже для науки полезно.
Ну, так что же изо всего этого следует? Данилевский со
своими культурными типами был лет 6—7 никому почти
неизвестен, кроме Страхова, меня и, может быть, ещё сотни
разбросанных там и сям по России людей. Теперь идёт за книгу его
борьба, как у троянцев с греками за труп Патрокла. (...)
Катков и Аксаков ещё давали пример хорошего тона в
полемике. У них она никогда не носила личного характера.
А вникните, что печатали друг против друга «Московские
ведомости» и «Гражданин» и «Новое время». Особенно Н. А.
Любимов и Васильев отличались в «Московских ведомостях». Ну>
и Шарапов тоже лез в это. Померли «господа» (Катков и
Аксаков), лакеи теперь, подлецы, дерутся. Всё-таки бестолковый и
бестактный, нередко даже глупый князь Мещерский всех их
порядочнее. У него ещё видна иногда в литературных
сношениях мораль; у «Московских ведомостей», кроме подлой злости
в полемике, ничего не видно. Даже и молодой ещё (говорят)
Ю. Николаев (Говоруха-Отрок, Неуважай-Корыто...) и тот,,
видимо, кривит душой. Ну, поверю ли я, что он Вл. Соловьёва
считает неглубоким писателем? .. Да, милый мой, не вижу я
в русских людях (куда ни погляжу!) той какой-то особенной и
неслыханной «морали», «любви», с которыми носился Ваш
подпольный пророк Достоевский, а за ним носятся и другие, и на
культурное (1) значение которой рассчитывает весьма туманно
наш добрейший Пётр Евгениевич в своей статье «Национальное
сознание». У него самого, действительно, есть «мораль» в
русском стиле, сам он удивительно добр, очень благороден,
способен пренебречь обязанностью и с радостью исполнить какой-
нибудь высший долг. Но где же он эту специальную
наклонность к высшему долгу нашёл в русских вообще — не знаю.
Я скажу в духе фетовском: «Из того, что русские хуже всех
народов исполняют мелкие обязанности, никак ещё не следует,
что они любят исполнять высший долг». Я 59 лет живу на свете
и давно уже без ума радуюсь, когда встречу русского человека,
любящего долг для долга, а не по одному страху Божьего на-
19 К. Леонтьев
289
казания. Положим, что для смирения это полезно, но во всём
же есть мера, нельзя же ставить идеалом своим старика Map-
мел адова.
«Самовар и раскаяние — вот русский девиз», — говорит
Рошфор. «Смирение и пьянство, смирение и бесхарактерность,
всепрощение и собственная вечная подлейшая невыдержка, даже
и в делах любви»... Некрасиво! Хотя, по пристрастию сердца
к России, я часто думаю, что все эти мерзкие личные пороки
наши очень полезны в культурном смысле, ибо они вызывают
потребность деспотизма, неравноправности и разной
дисциплины, духовной и физической; эти пороки делают нас мало
способными к той буржуазно-либеральной цивилизации, которая до
сих пор ещё так крепко держится в Европе.
Как племя, как мораль мы гораздо ниже европейцев, но так
как, и не преувеличивая (в патриотическом ослеплении)
молодость нашу, всё-таки надо признать, что мы хоть на один век
да моложе Европы, то и более бездарное и менее благородное
племя может в известный период стать лучше в культурном
отношении, чем более устаревшие, хотя и более одарённые
племена. . . Довольно об этом!
Что я делаю? Пишу всё о той же культуре. Очень слаб,
хожу, но плохо, гортань этой весной хуже. В доме пока всё
по-старому. Александр готовится к экзамену в урядники. А я
думаю о переходе в ограду, в скит или монастырь. (...)
20. К. А. ГУБАСТОВУ
10 декабря 1890 г. Оптина Пустынь.
Вы уже второй раз, дорогой и незабвенный Константин
Аркадьевич, спрашиваете моё мнение о «Крейцеровой сонате»
Толстого. Вообразите — я её не читал. У здешнего предводителя
кн. Оболенского она есть в рукописи, и он мне предлагал её,
предупреждая, что рукопись неразборчива. Я, уже будучи давно
крайне недоволен Толстым последнего периода (с 82—83 года),
отказался трудиться над чтением вещи, которая, вероятно
(думал я), меня только раздражит. Я читал только критики на неё
в наших консервативных газетах. Судя по этим-то критикам,
вижу, что я отчасти ошибся в своих предположениях, отчасти
же нет. Я думал: «Опять какая-то буржуазная мораль без
таинства, без религии!» Оказалось, что только отчасти так. Критик
«Московских ведомостей» Говоруха-Отрок (Юрий Николаев,
как он подписывается) — человек лет 35, не более — прямо
указывает на то, что исход из брачных затруднений и опасностей
290
должен быть старый: «Брак вовсе не осуществление идеальной
любви, а таинство; лучше этого ничего не придумаешь. Тогда и
проза брака и его тревоги могут озариться высшим смыслом,.
вне сердечного идеализма стоящим».
Я, конечно, совершенно согласен с ним (или, вернее сказать,
он—Говоруха-Отрок — со мной согласен, так как при первом
знакомстве со мной в нынешнем августе в Москве он
рекомендовался, как много обязанный мне «ученик», и мне другие люди
говорили, что он, ещё живя прежде в Харькове, после своего
обращения из нигилизма читал и даже выписывал мои книги).
Да! Идеализм сердечный один без помощи «страха Божия»
и веры в таинство, т. е. без помощи мистики христианской, не
может налагать узду на поведение наше в семье и после
охлаждения плотской страсти... Знаю это по горькому опыту!
Итак, я был прав, предполагая, что Толстой и знать не
хочет «таинства». Но я ошибся в другом: я воображал, что он
и в своей повести этой проповедует опять то же, что года 3—4
тому назад: «Надо без всякого таинства сойтись с одною
женщиной и быть ей всю жизнь верным; она же должна рожать
детей и сама кормить и растить, занимаясь хозяйством».
Оказывается (всё по критикам и рассказам), что он, напротив того,
теперь советует совсем воздерживаться от половых отношений
и таким образом постепенно прекратить существование рода
человеческого. Это в его устах для меня — новость. Этого я от
него никак не ожидал! Я ничуть не согласен с теми, которые
находят, что жизнь вообще до того нехороша, что лучше не
жить, и нахожу, что и в нынешней жизни ещё очень много
приятного (если только мириться в принципе с мыслью, что
страдания не только неизбежны, но и нужны), но это мой личный
взгляд на жизнь, который я (помните?) исповедовал и будучи
не-христианином, но которому и после обращения остался верен,
ибо христианство вовсе его не исключает. (Многие хорошие
афонские монахи очень веселы и даже часто смеются, как и
Н. Н. Страхов заметил в 1881 году). Это мой личный взгляд на
жизнь, субъективное мое к ней отношение. Но при общем и не
личном взгляде на то, как вообще в мире идут дела, я
убеждаюсь всё более и более в том, что человечество весьма
быстро стремится к тому, что попросту зовется
«светопреставлением». Я давно об этом начал думать (если помните?) и вижу
этому многие признаки; безумные — дерзновенные, быть может,
и в высшей степени рискованные — изобретения эти
(физические и технические) — раз; неудержимую повсюду потребность
равенства и даже сходства, а при таком строе трудно долго
прожить, ибо он противоестествен, — это два; последнюю
проповедь христианства даже в Японии и Китае — три; и, наконец,
19*
291
этот не-христианский пессимизм, который привлекает к себе всё
больше и больше приверженцев, — четыре. (...)
Хорошо и умно, что пессимизм говорит: «Сколько ни
старайся устроить общество по демократическому плану —
благоденствия не будет, ибо страдания в нас, а не во внешних
условиях; тоска будет расти по мере возрастания жизненных
удобств». Это, согласитесь, гораздо умнее, чем воображать, что
стоит только всех сделать «средними людьми», и все будут
счастливы и веселы. Этою умною стороной пессимизма и
христианин может с успехом для укрепления своего мировоззрения
воспользоваться.
Слабою же стороной германского пессимизма я считаю
отрицание личного, сознательного Бога и нахожу это не только
потому, что я сам в Него верую, но и по холодному
рассуждению. Ещё вопрос о нашем личном бессмертии туда-сюда: и
допуская сознательного Бога, можно, оставаясь разумным, не
верить в наше бессмертие. Этот вопрос гораздо темнее и
сложнее *, но механизм мира без Механика?
Если вселенная выросла сама собою и бессознательно, как
дерево, то откуда же на этом дереве явился и созрел такой
самосозиательный плод, как человек? Значит, возможность
проявления сознания была затаена в вещественной природе, и если
она обнаружилась в высшем её явлении — в человеке, то не
естественно ли думать, что человеческое самосознание и
человеческая личность суть только бесконечно слабые отражения
Всемирного Самосознания и Всемирной Личности?
По Гартману, например, выходит, что неимоверно глупая
бессознательная воля создала и развила всё до разумного и
самосознательного человека... Это, по-моему, никуда не годная
сторона пессимизма... И этой глупости придерживается, по
всем признакам, и Толстой. Мне теперь привезла на днях одна
молодая помещица его Евангелие (рукописное, конечно). Она
давно его приобрела, но боится без моей помощи с ним
знакомиться... Я начал было его, но скоро соскучился, увидавши
с первых страниц, что это весьма известная и не новая
проповедь всечеловеческой «любви», как «искусства для искусства»,
без всякой надежды на помощь и награду свыше, ибо особого
Бога (как он говорит) нет; однако положил себе уроком дочесть
до конца понемногу этот преступный и пошлый бред зазнавше-
* До твёрдой веры в бессмертие человеческой души и в воскресение
плоти довольно трудно дойти одним разумом; путь тут более сложный:
«Я верую и не могу не веровать в личного Бога; я хочу общения с Ним,
принимаю для этой цели то исповедание, которое мне больше по сердцу,
а все христианские исповедания и даже мусульманское требуют веры в
бессмертие души — и я покоряюсь».
292
гося и избалованного человека, который, видимо, верит в
какую-то святость собственных наклонностей и мыслей и
повинуется им слепо, меняя даже беспрестанно характер своей
проповеди, а бараны всюду бегут за ним с восторженным
блеянием. . . Вот ужас же, в России теперь есть другой человек
в 20 раз гениальнее его как писатель.. . Это Владимир
Соловьёв. Что же не ломятся за его книгами люди толпами в
магазины ни у нас, ни в Европе? Не по плечу, видно! А безбожная
болтовня Толстого по плечу всякому... Я и с Соловьёвым
далеко не вполне согласен, особенно в последние три года, но
нельзя их даже и сравнивать на почве мысли! Многие у нас
и Соловьёва чтут, имя его знают очень многие, но как-то издали,
больше верят в его талант и познания, чем знают и ценят их
с полнейшею сознательностью; а за старым преступником бегут,
как овцы! Он — преступник по тому одному, что, приставая
ко всем с «любовью» (которой у него самого очень мало — знаю
это по многим рассказам и по личному опыту по поводу одного
благотворительного дела), сам поступает весьма жестоко,
разрушая старую и весьма утешительную веру в сердцах людей
шатких, молодых, неразвитых и т. д. Он бы ходил и по всем
деревням, убивая веру мужиков, если бы не знал, что ему не
даст полиция этого делать! А где может — делает. Был ведь он
и у меня прошедшим Великим постом. Просидел часа два и
проспорил; был очень любезен, обнимал, целовал, звал:
«голубчик, Константин Николаевич!» Конечно, говорил мне всё то же,
но мы, Вы сами знаете, «сами с усами». (Что, впрочем и он за
глаза про меня говорит общим знакомым.) Я спорил даже
только «du bout des levres». На что? Человек доволен своими
взглядами, такого, да ещё и старого, сразу не собьёшь. Но под
конец свидания и беседы я сказал ему:
— Жаль, Лев Николаевич, что у меня нет достаточно
гражданского мужества написать в Петербург, чтобы за Вами
следили повнимательнее и при первом поводе сослали бы в
Тобольск или дальше под строжайший надзор; сам я прямого
влияния не имею, но у меня есть связи, и мне в Петербурге
верят сильные мира сего.
А он в ответ, простирая ко мне руки:
— Голубчик, напишите, сделайте милость. .. Я давно этого
желаю и никак не добьюсь!
Я Филиппову описал в точности этот разговор без особых
заключений, но, конечно, если бы знал, что меня послушают, то
я и не тайно только, но и всенародно готов это сказать в
газетах. Но думаю, что наше высшее правительство, которое,
кажется, теперь робостью особою не грешит, обдуманно не нала*
293
гает на него рук: опасается усилить ещё более его вредную
популярность.
Не довольно ли на этот раз о Толстом?
Когда случится самому прочесть «Крейцерову сонату»,
напишу Вам своё мнение о ней как о повести... Возражения
у нас были прекрасные, особенно хороша «беседа» Никанора,
епископа Одесского, по этому поводу.
Кстати, почему я теперь, когда я так им недоволен, написал
об его прежних романах такую всё-таки хоть наполовину
похвальную статью? А потому, что умирать пора, и мне хотелось
оставить по себе эти указания на порчу языка и стиля, а
похвалы — вполне, впрочем, искренние — его анализу и его поэзии
вынуждались как чувством справедливости, так и опасением,
чтобы не сказали, что я только нападаю на слог и забываю
о великих достоинствах другого рода. Больше я критикой
заниматься не буду.. . (...)
Из домашних новостей есть только одна (не знаю, сообщал
ли её Вам). Александр служит с августа урядником, и мы его
очень редко и всегда на минуту видим. Начальство его хвалит.
Варя без него ничуть не скучает и проводит время очень охотно
с нами; она только одним недовольна, что Александр привык
пить с товарищами. Но так как он пьёт, но не напивается
никогда до забвения своих обязанностей, то я большой беды в этом
ещё не вижу. (...)
21. И. И. ФУДЕЛЮ
19—31 января 1891 г. Оптина Пустынь.
(...) Моя независимость, моя обеспеченность, мой
просторный дом, зимою тёплый, летом весёлый, в зелени, поддержка
старца, любовь моя к моей милой Варе и её обо мне сердечные
(хотя и не всегда толковые) заботы, свежесть ума моего в
полуразрушенном этом теле, возможность делать кое-какое, хотя
бы и мелкое добро и многое другое. . . Это всё свет моей
старости. Я счастливее многих, очень многих стариков.
И вот в числе этих приятных поводов — благодарить Бога —
один из самых приятных и значительных — это Ваша дружба
и Ваше со мной полное единомыслие (почти), мой голубчик,
Осип Иванович!
Вот Вам, душенька, какой сегодня «документ»! (Это моя
Варя раз так сказала вместо «комплимент»).
Да я, право, всё больше и больше к Вам привязываюсь и
даже прошу Вас не изменять мне хоть сердцем, если мне даже
294
суждено дожить до той горькой минуты, когда Вы мне мыслью
измените.
Все почти близкие ко мне прежде юноши отвыкли от меня
и оставили меня: Денисов, Уманов, Замараев, Волжин, Озеров,
братья Нелидовы и т. д. Остаются верными только Кристи,
Александров и Вы. Но Кристи теперь болен (быть может, и
неисцелимо), да и прежде был нестерпимо неровен и
неаккуратен. То три огромных письма подряд, прекрасных по уму и
чувствам, то почти год молчит...
Александров, как я более и более убеждаюсь, менее Вас
вообще способен, к тому же пишет письма всегда короткие и
мало интересные, хотя и согретые в высшей степени добрыми
ко мне чувствами. Сверх того мне мешает как-то эта женщина,
которая наросла на нём, как огромная какая-то шишка и
которую я «любить» могу только в случае нужды самым сухим
христианским состраданием, а физиологически, по естественному
чувству, едва-едва выношу её как вредный нарост на любимом
мною и в высшей степени благородном человеке. Потом он будет
профессором, а Вы — иерей в рясе, «хамства» всё-таки меньше.
Я ведь с этой стороны не только неисправим, но даже и не
желаю исправляться! Любя его и уважая глубоко, я буду извинять
ему «профессорство», а Вам — «священнику», с этой стороны,
что извинять? Так что я и объективно и субъективно Вами
доволен более, чем всеми другими моими молодыми приятелями.
Объективно потому, что Вы очень умны, очень тверды, верны
и достаточно смелы, потому что Вы религиозны, потому что на
Вас не «полупердунчик», а ряса. Пишете очень хорошо, ясно,
прямо, решительно и с чувством; потому, наконец, что Вы
сумели выбрать себе жену умную, которая не мешает Вам делать
дело, не корячится, как другие чертовки нашего времени.
Субъективно потому, что Вы меня как человека искренне
любите и как писателя смело, независимо и талантливо готовы
поддерживать, когда есть малейшая возможность и повод.. .
Просто сказать и коротко: на Вас моя главная надежда!
И, пожалуй, что ни на кого больше. «Враг силён», а так как
даже и личная наша дружба зародилась и выросла прежде
всего на почве религиозного единомыслия, то дьяволу едва ли
она может нравиться. Боюсь его действий и, разумеется, за
молодого человека больше, чем за себя.. . N. В.! N. В.! (...)
Книгу Данилевского не хотелось мне Вам свою посылать,
она вдруг может мне понадобиться самому; просил Страхова
выслать даром 2 экз. (другой для одного здесь гостящего и
обращенного юноши). Этот противный человек извинился и от-
295
казал. И, вообразите, (не фатум ли опять?) — этот сравнительна
неважный случай будет, вероятно, причиной нашего
окончательного с ним разрыва. (Астафьев — раз, Страхов — два, пожалуй»
при некоторых условиях, которые я почти предвижу, и
Соловьёв. .. 91-й год).
При отказе Страхова прислать книги были в письме его
ещё и вопросы о том, что я думаю об его споре с В. Соловьёвым
и о том, кто из них двух правее, обвиняя друг друга в
фальшивости. Если бы Страхов не упомянул слово «фальшивость», то,
может быть, дело как-нибудь и обошлось; но тут моё чуть не
30-летнсе с ним (и с его противу меня прямо подлостью)
долготерпение не выдержало. И я после усердных молитв и
трёхдневной борьбы послал ему очень краткий ответ открытым
письмом. (...)
Прошу Вас вообразить, какую борьбу духовного чувства с
литературным самолюбием (по-«человечески» говоря, справедливо
оскорблённым) я пережил в эти несколько дней. Я принял очень
серьёзно к сердцу и то, и другое. Я написал ему три письма,
одно за другим, и всякий раз в усердной молитве с просьбой,
чтобы Господь наставил меня — как поступить? Дать ли волю
накопившемуся негодованию (у Соловьёва сучок видит, а у себя
бревна не видит!) или «положить дверь ограждения на уста
мои»? Варсонофий Великий учит в подобных трудных случаях
до трёх раз искренно помолиться и потом уже следовать туда,
куда после 3-ей молитвы склоняется сердце наше. Все три
первые письма были слишком откровенны, грубы и отчасти
длинны. Сверх того, я находил, что несколько унижаю себя тем,
что указываю ему слишком прямо на то, как я нуждался в его
отзывах, а бесполезное унижение своего достоинства перед кем
попало — вовсе не то духовное смирение, которое состоит в
ежеминутном сознании своей греховности, иногда даже едва-едва
уловимой. Вот и кончилась эта борьба тем, что я отправил ему
упомянутое открытое письмо, где только всё тонкие намёки на
«толстые обстоятельства» его против меня писательской
несправедливости, а прямого ничего нет. И теперь успокоился. Все
3 первых письма я не разорвал, а хочу сохранить вместе с его
письмом в особом конверте (есть и копия посланного
открытого). В сущности, я очень рад, что наши личные сношения
прекратятся. Эти сношения (личные) при всём том, что мы
с ним на две трети единомышленники, были издавна натянуты и
ложны. Если он вздумает мне ответить в конверте, то я,
конечно, не стану распечатывать, а верну в другом конверте.
Я уже это не раз в жизни делал с людьми, которых письма
меня тревожили, и таким путём заставлял их
замолчать. (...)
296
При всём моём личном пристрастии к Владимиру Сергеичу и
при всём даже почтительном изумлении, в которое повергают
меня некоторые из его творений («Теократия», некоторые места
из «Критики отвлеченных начал» и «Религиозных основ»,
например), я сам ужасно недоволен им за последние 3 года. То
есть с тех пор, как он вдался в эту ожесточенную и часто
действительно недобросовестную полемику против
славянофильства. Недоволен самим направлением, недоволен злорадным и
ядовитым тоном, несомненной наглостью подтасовок.
Несогласен даже с тем, что соединению Церквей так сильно может
мешать своеобразное национальное развитие России, как он
думает *. Если бы он не находил, что самобытность
национального духа нашего и утверждение наших от Запада
государственных и бытовых особенностей помешает его главной цели —
соединению Церквей с подчинением Риму, то и не нападал бы
на культурное славянофильство ** с такою яростью и с таким
ослеплением. Но я нахожу, что он в этом-то и ошибается;
Россия, проживши век или 1/2 века (а может быть и меньше) в
некотором насыщении своим национализмом и чувствуя всё-таки,
что и этого как-то недостаточно для достижения апогея её,
легче после этого, чем до этого, может пожелать главенства
Папы. Вспоминаю при этом добродушного, но умного
пустозвона нашего Шарапова. Он мимоходом в «Русском деле»
сказал: «На что самому Папе будет Россия слабая, вялая,
ничтожная?» (наверное эпитета не помню). Верно! На что и самому
папству Россия, как две капли воды похожая на ту самую
либеральную Европу, которая вот уже 100 лет как гонит
папство. На сегодня довольно.
26 января. Подумавши, решил отправить Вам всю пачку
с письмом Страхова и моими ему 4-мя ответами, из коих
послал только последнее. Держите их у себя до случая. Это
избавит меня, между прочим, от необходимости повторяться. В
первых (неотправленных) моих ему ответах было кое-что такое,
что может служить отчасти ответом и на некоторые весьма
важные мысли Вашего последнего письма. Обратите внимание, на-
* Испанцы, поляки, французы, южные немцы, итальянцы лет 300—400
тому назад (и даже много' ближе) все одинаково и единовременно
исповедовали римский католицизм, а разница государственного строя,
общественного духа, вкусов и умственной жизни была между ними очень большая.
Я ему писал об этом.
** Что же это А. В... не может понять глубокой между нами разницы
в том, что Соловьёв — враг не политического панславизма, на который он
даже не прочь надеяться для католицизма. Он ненавидит именно особый
культурный руссизм. Я же наоборот.
297
пример, на то место, где я говорил ему об императрице Ирине,
Да! Много в Четьи-Минеях Вы найдёте святых несравненно
более безукоризненных с «нынешней» точки зрения, но они не
сделали того для Церкви (и для нас с Вами лично), что сделала
эта великая женщина. Св. Олимпиада, ученица и друг Иоанна
Златоуста, всю жизнь свою посвящала благотворениям и была
безукоризненной личной жизни. Но всё-таки она сделала для
учения церковного меньше, чем эта Ирина, быть может, и
честолюбивая, желавшая сама царствовать женщина! (Я говорю,
заметьте, всё-таки «быть может», ибо если мы про знакомых и
близких говорим не без основания: «чужая душа — потёмки»,
то как браться 1000 лет спустя решить, что именно чувствовала
и какую борьбу переживала византийская царица, приступая
к низложению и ослеплению сына-иконоборца!)
«Дары» — разные, говорится; ну, и «заслуги» — разные.
Олимпиада — поучительный пример частной православной
жизни. Ирина — пример православной твёрдости на
государственном поприще и при тяжких условиях догматической
неурядицы. Благодаря низложению и ослеплению иконоборца царя
Константина стал возможен 7-й Вселенский Собор, на котором
иконопочитание возведено в догмат. Хороши бы мы были теперь
с Вами, мой друг, без икон и без всей той «внешности», в
которой до тонкости воплощены и догмат Восточной Церкви и вся
история правоверия от Адама до наших дней!
Вот, видите, как же быть-то? Так ли это, что только простые
умы и сердца могут осуществить такое великое дело, как
соединение Церквей? Я, заметьте, спорю об основной только мысли
Вашей (и Страхова тоже), что высшие религиозные плоды
даются только тем людям, которые кажутся нам добродетельными,
искренними или «простыми» (как Вы выражаетесь); прибавлю,
что это слово «простой» имеет в нашем языке такое множество-
значений, что его употреблять надо весьма осторожно, если
хочешь быть ясным; простой — значит: 1—глупый, 2 — щедрый,
3 — откровенный, 4 — доверчивый, 5 — необразованный, 6 —
прямой, 7 — наивный, 8—грубый, 9 — не гордый, 10 — хоть и
умный, да не хитрый. Изволь понять это словечко в точности!
За это я его не люблю.
Я спорю здесь только против основной мысли — об
исключительном призвании простых людей к решению великих
религиозных вопросов, а не о том, нужно ли соединение Церквей и
возможно ли оно. Надо на этот раз этот, собственно, более
частный вопрос по возможности устранить (как слишком
трудный и сложный для частного письма). Помнить только не
мешает, что пока всё наше восточное духовенство и все наши
известные богословы понимают и признают только один вид
298
подобного соединения: полное отречение католиков от filioque,
от единоличной непогрешимости Папы и т. д. Правдоподобно
ли это? А если так, то мы с Вами, «послушники» Восточной
иерархии, имеем ли мы право даже и в сердце желать иного
соединения? Конечно, не имеем, говоря строго. Но я не скрою
от Вас моей «немощи», мне лично папская непогрешимость
ужасно нравится! «Старец старцев»! Я, будучи в Риме, не
задумался бы у Льва XIII туфлю поцеловать, не только что руку.
Ибо руку-то у папы и порядочные протестанты целуют, а
либеральная сволочь, конечно, нет. Уж на что Т. И. Филиппов
строгий защитник «старого» Православия, но и тот говорит
всегда: искренне верующий православный не может не
сочувствовать католикам во многом, и не может не уважать их, и
вынужден даже нередко из усердия к своей вере завидовать им.
Сверх того, что римский католицизм нравится и моим искренне
деспотическим вкусам и моей наклонности к духовному
послушанию, и по многим ещё другим причинам привлекает моё
сердце и ум, сверх этого я ещё думаю, что такой оригинальный
(для русских) взгляд, как Влад. Соловьёва, и при тех ресурсах,
которыми его одарила судьба, не может пройти бесследно.
Я уверен даже, что не пройдёт. «Богобоязненность» и
послушание своему духовенству, Вы знаете, у нас слабы, а жажда но-
вого и в особенности жажда ясного и осязательного у нас в
обществе неутолима. Разлюбивши простой, утилитарный прогресс,
разочаровавшись в нём, грядущие поколения русских людей не
накинутся ли толпами на учение Соловьёва, не только
благодаря его таланту (или, вернее, гению), но и благодаря тому,
что самая мысль «идти под Папу» — ясна, практична,
осуществима и в то же время очень идеальна и очень крупна.
В его учении много сторон, но, не распространяясь здесь,
предложу Вам поискать об этом в письмах моих Страхову, там
есть кратко об этом; не знаю, право, насчёт земного
благоденствия после соединения Церквей под Папой — как решить:
хитрит Соловьев или верует сам в эту химеру? Иезуитизм ли это
(весьма ценный и целесообразный в наше дурацкое время) или
та «духовная прелесть», о которой я упоминал (в письме) *?
«Чужая душа — потёмки»! Из уважения к его уму желал бы
думать, что он весьма ловко и даже как бы вдохновенно
иезуитствует, но не верит, ибо это глупо. Из желания же верить его
сердечной совестливости (так как я его крепко люблю) хотел
бы предпочесть искреннее и глупое заблуждение.
* К Н. Страхову. Там он писал: «Монахи зовут „духовной прелестью"
то состояние, и котором строгий аскет начинает, забывшись, воображать себя
святым, свыше на что-то особое призванным и т. д. Пожалуй, что построение
Соловьёва больше похоже на это, чем на рассчитанное притворство».
299
Но, допустим, что это иезуитизм в том смысле, что он
говорит сам себе: «Нынешнему народу скажи просто: Церковь,
Папа, спасение души — они отворотятся, а скажи, что при
посредстве Папы и Церкви на земле воцарится на целое
1000-летие та любовь, та гармония и то благоденствие, о котором вы
вот уже более 100 лет всё слышите от прогрессистов, а без.
Церкви и Папы — это невозможно, ибо только через них
действует Бог, Которого признавать необходимо и Которого очень
многие теперь ищут и жаждут... скажи так (мечтательно и
ложно) — они примут во имя этой лжи и этой мечты и то, что
в моём учении возможно, правильно, реально, осуществимо»
и т. д.
Допустим, что он так думает; разве с практической стороны
он не прав? Допустите ещё, что лет через 10—20 его учение
(при слабой по-прежнему организации нашей учительствующей
Церкви и т. п.) приобретёт множество молодых, искренних и
энергических прозелитов, подобно нигилизму (тоже ясному)
60-х и 70-х годов. Из общества идеи просачиваются понемногу
и в духовные училища и ко двору (NB). Мы видели, что в
настоящее время хомяковскис оттенки (по-моему неправильные и
в некоторых отношениях полупротестантские) просочились уже
в духовные академии. А ведь соловьёвская мысль несравненно
яснее и осязательнее хомяковской *. («Любовь», «любовь» у
Хомякова; «истина», «Истина» — и только; я у него в богословии,
признаюсь, ничего не понимаю, и старое филаретовское и т. д.
более жёсткое мне гораздо доступнее, как более естественное).
Вообразите, что в духовных академиях не удовлетворяются
более «сладким» туманом Хомякова и спрашивают себя: «Ну,
а дальше что?». Вообразите при этом всё большее и большее
сближение с католическими славянами; вообразите, что
осуществится тот панславизм, которого я так боюсь (не с
католической, конечно, а с либеральной стороны; а как удержаться от
этого панславизма надолго в случае всеобщей войны и прямой
невозможности сохранить более единство Австрии). Вообразите
в то же время и на Западе возврат к религии после ужасов
социалистической анархии. Не забудьте при этом и наш
императорский двор. Это дело первейшей важности! Уже Александра
Иосифовна, как я слышал, раз входила в совещание с Вл.
Соловьёвым об унии, но он эту внешнюю цель отвергает и говорит,
* Потрудитесь прочесть внимательно и строго в «Благовесте» (Вып. 6>
и 7, 1 ноября 1890 г. и 16 ноября) статью «Ал. Ст. Хомяков как богослов».
Понимаете Вы что-нибудь, кроме отдельных «высоких слов»? Я ничего не
понимаю. Напр., Вып. 6, стр. 167: «Церковь — это сам человек в его высшем
нравственном определении»?! Можно ли представить себе что-нибудь живое
на основании такой фразы? Это ужасно!
300
что теперь нужно общественную почву только приготовлять.
А вот наш здешний предводитель Оболенский от сочинений
Вл. Серг. без ума. А младший его брат, Николай Дмитриевич,
избран Государем в спутники и товарищи путешествующему
ныне наследнику российского престола. Вообразите только как
пример передачу впечатлений и мыслей от брата к брату, а от
брата — спутнику молодому и т. д., и т. д., и т. д.
И если таким образом через 20—25 лет те семена, которые
он сеет теперь с такой борьбой, с такой, допустим, хитростью и
даже несимпатичной злобой, начнут приносить обильную жатву
(реальными и здоровыми сторонами учения), то разве не
простят ему все его извороты или его мечтательные бредни?
«Гармонии» а 1а Достоевский, «всеобщей любви», конечно,
не будет (для этого, как справедливо сказал в «Русском
обозрении^ Ионин и как я давно думал, надо нам «химически»*
переродиться); «молочные реки» и тогда не потекут в
«кисельных берегах» — это вес чушь, противная и здравому смыслу, и
Евангелию, и естественным наукам даже. И если совокупность
всех выше перечисленных условий приведёт (например, всё это)
к соединению Церквей под Папой, то скорее может случиться,
что русские, в одно и то же время столь расположенные к
мистическому подчинению и столь неудержимые в страсти
разрушать, столь бешеные, когда они одушевлены, скорее, говорю я,
может случиться, что эти русские паписты не только не будут
кротки, как советует им зря Владимир Сергеевич, а положат
лоском всю либеральную Европу к подножию папского
престола, дойдут до ступеней его через потоки европейской
крови. (. . .)
И тогда разве не простится ему и ложь его? Простится, мой
друг! Да ещё скажут: «Великий человек! Святой мудрец! Он
сулил журавля в небе, но он знал, что даст этим нам
возможную синицу в руки!». И если кто (предполагаем в случае
успеха) скажет тогда: «Он не хитрил, он сам заблуждался и
* Впрочем, Соловьёв, кажется, и до этого домечтался (или «дохитрил»—
не знаю). Астафьев ещё в 83 году рассказывал мне следующее. Он спросил
у Вл. Серг.: «Что такое будет у вас в вашем предполагаемом третьем
отделении, в „Теургии"». (Теософия, Теократия, Теургия; Богомудрие («Крит,
отвл. начал»), Боговластие, Боготворчество). Соловьёв отвечал: «Там будет
о семи Таинствах, под влиянием которых после примирения Церквей весь
мир переродится не только нравственно, но и физически и эстетически». Вот
как далеко он поднялся! Поэтому ему и известный Фурье нравится; у него
тоже предсказывается 40 000 лет апогея блаженства на земле под влиянием
приятной и любвеобильной организации общества не против страстей, а по
страстям и влечениям. Изменится даже вкус моря на приятный, разовьются
новые органы у людей и т. д. (Консидеран, ученик Фурье, продолжил эту
теорию в 40-х годах).
30!
мечтал о невозможном»... на это ответят: «Тем лучше. Это
трогательно».
От деятельности всех истинно великих умов и характеров
остаётся нечто прочное, а то, что имело более косвенное и
преходящее значение, скоро пропадает. Победы Наполеона 1-го
имели косвенное и преходящее значение, ибо цель его —
господство Франции над всей Западной Европой — не была
достигнута; но, знаете, благодаря чему вот уже скоро 100 лет как
будничная жизнь Франции (полиция, суд, отношение к
собственности, торговля, промышленность, весь строй административный)
считается образцовой с точки зрения порядка? Благодаря тому,
что во время Консульства и Империи (т. е. в течение каких-
нибудь 15 лет) Наполеон между двумя войнами находил время
устраивать эту ежедневную жизнь на новых, данных
революцией началах всеобщего гражданского равенства. Этого
равенства в то время нигде, кроме Франции, не было, и на этом
«песке» равенства (как Наполеон сам говаривал) приходилось
всё утверждать; он это сделал, и какова ни была дальнейшая
будущность Запада и человечества вообще, приходится
признать, что с его времени ни одна другая держава не может
у себя производить эгалитарных реформ без сознательных
заимствований и невольных подражаний демократическим порядкам
Франции. И у нас тоже все «благодетельные» реформы, за
незначительными оттенками, суть реформы наполеоновской
Франции. Значительно у нас только то, что крестьянские земли
сделаны не то что совсем неотчуждаемыми, а трудно
отчуждаемыми, и теперь государственная мысль колеблется между
риском постепенного обезземеления мужиков и смелой решимостью
объявить их земли раз навсегда государственными и
неотъемлемыми; это действительно своеобразно, остальное же в
реформах наших почти всё чужое и более или менее французское
(Увы!).
Так и от Соловьёва нечто большее должно остаться.
Останется же столь поразительная и простая идея развития Церкви,
против которой тщетно спорят и, вероятно, будут ещё до поры
до времени спорить наши православные богословы, воображая
почему-то заодно с самим Соловьёвым, что идея эта непременно
ведёт в Рим. Тогда как, напротив того, она скорее может
подавать нам надежды на дальнейшее самобытное развитие
восточной Церкви. (К. очень хорошо об этом писал, хотя и
мимоходом; мысли эти — мои, но он, спаси его Господи, кстати и очень
ловко ими воспользовался в «Гражданине». Я был рад, потому
что Вы знаете, какое у меня дурацкое обилие мыслей, сам же
я физически не в силах уже их распространять; кстати же
сказать — и Вы воруйте на здоровье что понравится и с чем сердце
302
Ваше согласится. Это мне будет лестно и только. Иначе ведь и*
нельзя развивать учение.)
Останется ли от Соловьёва только эта идея развития Церкви
или нечто ещё более общее — только истинно великий толчок,
данный \щ русской мысли в глубоко мистическую сторону, ибо
он, будучи несомненно самым блестящим, глубоким и ясным
философом-писателем в современной Европе, посвятил свой дар
религии, а не чему-нибудь другому? (Небывалый у нас пример,
да и нигде в XIX веке.) Или произойдёт действительное
соединение Церквей, под Папой ли или, напротив того, благодаря
Соборно-Патриаршей централизации, на Босфоре (причём
«кисельные берега» отвалятся сами собой и будет по-прежнему на
земле стон от скорбей, обид и лишений); как бы то ни было,
след будет великий...
Это конечно! А о том, прав ли он чисто догматически — что
сказать? Теперь, конечно, неправ, потому что всё восточное
духовенство с ним несогласно. Но вот в чём вопрос — всегда ли
он будет неправ? Всегда ли наше духовенство будет несогласно?
Ведь это правда, что католики не названы ещё еретиками ни
на каком Восточном Соборе. А раз этого не было, взгляд можно
изменить со временем, не впадая в прямое противоречие ни
с одним из 7 Вселенских Соборов. Есть большая разница между
взглядами восточных иерархов на Рим, католицизм. Греческие
патриархи считают его прямо ересью (хотя и Собора не было).
А у нас многие, подобно Филарету, не решаются считать их
таковыми, ибо только у одних католиков изо всех
отклонившихся от Греческого Православия не нарушены ни благодать
апостольского преемства в иерархии, ни предания Св. Отец, ни
учение о 7 таинствах. Вот и разберитесь, мой друг, во всём
этом. Другое дело теперь, и другое дело будущее.
Довольно бы о Соловьёве, я и так отвлёкся. Но в заключение
скажу: печатные политические воззрения его просто поражают
меня, не знаю только чем: ребячеством своим или наглым
притворством. «Никого не обижай, у поляков проси прощения,
евреям дай равноправность; Данилевский проповедовал
ненависть к Европе — он безнравственный писатель» и т. д. Боюсь,
что притворство. Ибо не далее как в последнее свидание со
мною он говорил мне: «Если для соединения Церквей
необходимо, чтобы Россия завоевала постепенно всю Европу и Азию —
я ничего против этого не имею». Отчего же не печатать этого?
А всё противоположное?
Вернее, что вы оба со Страховььм правы, обвиняя его во лжи
и иезуитизме; только, по-моему, иезуитизм с определённой
мировой целью гораздо понятнее и простительнее той личной и
ненужной фальшивости, которой дышит сам Страхов. Он тоже
303
печатно и за всеобщий мир стоит, как будто, а посмотрите, как
будет рад нашим победам при случае. Тут какая же цель лгать?
Ведь он не дипломат, не обязан присягой и пристойностью скры:
вать свои политические чувства. А уж его собственное
поведение (литературное) это верх предательства и свинства! Дело не
в том, чтобы хвалить, а в том, чтобы человек, печатающий
такие вещи, которые всеми признаются за самобытные, понял бы,
наконец, с помощью честной критики, в чём он правее, в чём
он слабее и т. д. А ведь я до сих пор этого не понимаю; в
частных письмах и на словах восторги с разных сторон, в печати —
или молчание или краткие заметки: «великие заслуги»,
«остроумный К. Н. Леонтьев», «оригинальный талант», «великий, но
взбалмошный ум», «блестящие картины», «глубокие мысли»
(Астафьев), «несерьёзный писатель» (он же!) и т. п. Ну, может
ли всё это служить школой для публициста? А я, который от
серьёзной школы и в 60 лет не прочь, вот уже с 73 года жарюсь
в своём собственном соку! И Страхов-то мне на 2/3
единомышленник. Бог с ним. Довольно. Письмо это обратилось в дневник
и, вдобавок, в дневник <не> только меня утешающий, а для Вас
тоже полезный, ибо замечаний-то к Хомякову, Данилевскому и
Киреевскому я всё-таки не сделаю. Боюсь труда!
28 января. Хочется, впрочем, возразить Вам ещё кое-что
насчёт простоты ума и сердца, о которой Вы пишете, как о
необходимом условии для всякого религиозного дела. Ох-ох,
заблуждаетесь Вы, мой голубчик!
Примеры из истории. Соловьёв считает патриарха Фотия
преступником за то, что он не послушался Папы и отложился.
А Греко-Российская Церковь зовёт его «блаженный Фотий» и
восхваляет за то же самое. (И даже столь «моральный»
Хомяков, считая его человеком лично нечистым, честолюбцем и
называя его «похитителем» патриаршего Престола, за стойкость
в борьбе с папизмом отдаёт ему справедливость.) Значит — по
мнению Св. Соборной Апостольской Церкви этот честолюбец ей
(Св. Соб. Ап. Церкви) сделал пользу! Это раз.
А потом святой Кирилл, патриарх Александрийский, на
Ефесском Соборе спас Православие в союзе с святою же
императрицей Пульхерней. (Она в то время не была ещё
императрицей, императором был её брат Феодосии младший; она сперва
была вроде регентши, а когда брат вырос, то сохраняла
большое влияние, а так как он рано умер бездетным, то
императрицей избрали сё и уговорили её выйти замуж за благочестивого
полководца Маркиана, с которым она по взаимному согласию
и прожила как сестра с братом.)
304
В то время ересь, вводимая Константинопольским
патриархом Несторием *, до того поколебала умы, что огромное
большинство духовенства и сам император Феодосии Младший были
на его стороне.
Вот если бы, мой друг, могли прочесть (по-французски,
перевода нет) «Историю» Амедея Тьерри об Ефесском Соборе,
Вы бы не стали больше никогда говорить об исключительной
ценности «простых» умов и «простых» сердец! Любя всей душой
Православие и веруя в него, как в святыню, Вы бы, читая этого
светского и даже легкого, но понимающего дело историка,
пришли бы в ужас за Церковь, когда увидели бы, в какие
крайности могли бы завести одинаково и умаление Божественности и
умаление человечности в Христе. Уменьшая Божественность
Христа, можно было шаг за шагом уничтожить в христианстве
«духовный страх» и почтение, умаляя же человечность Его (по
Евтихию) и сохраняя за Ним только божественность, можно
-было подсечь в корне ту любовь к человеку-Христу, которую мы
чувствуем теперь, веруя, что Он, как мы, алкал и жаждал,
уставал, спал, огорчался, даже смерти боялся в последние часы
(«моление о чаше» и т. п.).
Вы бы поняли, читая Амедея Тьерри, как нужен тут был
человек прежде всего энергичный и даже на средства
неразборчивый. ..
И этот человек нашёлся в лице крутого и неразборчивого
(по свидетельству светской истории) Кирилла
Александрийского. Ам. Тьерри говорит, что он набрал с собою на корабли
сверх лихих матросов ещё толпу полудиких египетских монахов
и много банщиков и, воспользовавшись попутным ветром,
прибыл в Ефес на день (или на два, не помню) раньше Иоанна,
патриарха Антиохийского, который был вождь евтихианцев
самый сильный, ибо его епархия в то время была очень обширна
и многолюдна, и сверх того имел за себя сочувствие императора
со множеством всегдашних человекоугодников. Св. Кирилл,
прибывши в Ефес и не дожидаясь Иоанна (что было, конечно,
весьма непростосердечно), быстро собрал всё бывшее налицо
духовенство хорошего направления и занял председательское
место на Соборе. Партизанов ереси было тоже в городе уже
немало, но, вероятно, не без согласия Кирилла матросы,
банщики, полунагие египетские монахи начали бегать по
городу и кричать: «Смерть несторианам!». Духовные лица,
бывшие на стороне новой ереси, испугались и не выходили из
жилищ своих. И ещё: для правильного открытия Собора нужен
* Он до некоторой степени продолжал дело Ария; как бы умалял бо-
жественость Христа и Богородицу даже называл «Христородицер,
20 К. Леонтьев
305
был особый указ императора; чиновник был уже прислан с
полномочиями, но этого особого указа ad hoc он ещё не получал.
Кирилл, воспользовавшись, видимо, некоторою неопытностью
тогдашнего «комиссара» и «действительного статского совет-
пика», сказал ему, что достаточно и полномочий (или, может
быть, просто декрета об его назначении в Ефес для Собора), и
самовольно открыл Собор.
Обсудили дело скоро и прокляли как раз ересь Нестория и
его самого и всех его сообщников. Через пять только дней
Иоанн (патриарх Антиохийский) въехал сухим путём в город
с огромной свитой духовенства. Но везде уже по городу висели
(или были наклеены, не знаю) воззвания Кирилла с Собором,
проклинавшие противников. И вот, несмотря на сопротивление
Иоанна со множеством влиятельных и властных пособников,
несмотря на сочувствие императора, несмотря ни на что,
правоверие восторжествовало, на этот раз вовсе не наивными, не
«любвеобильными», не «кроткими» и не «прямыми» средствами, как
видите. Ловкому и отважному Кириллу сочувствовала и
содействовала тайно, не забудьте, во всём этом деле
безукоризненная, честная девственница Пульхерия *.
И вот, когда мы с Вами теперь молимся на чудотворную
икону Иверской Божией Матери и с любовью глядим на
младенца Богочеловека на руках её, то этой возможностью, этим
утешением, этой простою и возвышенною радостью мы обязаны
в высшей степени двум людям, вовсе не простым ни умом, ни
сердцем: св. Ирине (иконозащитнице) и св. Кириллу
(восстановителю двух естеств во Христе). Нет, голубчик, не пытайтесь
«морализировать» историю Церкви больше, чем сама Церковь.
того требует! «Сила Божия и в немощах наших познаётся».
Церковное дело требует своего «домостроительства» (т. е.
политики), а домостроительству этому не довлеют в отдельности
своей ни одни чисто идеальные, ни одни грубо практические
средства. А смотря по обстоятельствам (точнее, смотря по
указанию и избранию Божию**). Жаль, что Вы не знакомы с тою
частью Теократии Соловьёва (изданной за границей), где он
объясняет, как характеры Авраама, Исаака и Иакова, так и
отношение Божьей воли к этим характерам их. (...) Я ничего
подобного не читал в этом роде! И до чего хомяковский туман
против этого слаб, я выразить не могу. Конечно, мораль Нового
Завета и мораль Ветхого — огромная разница, но Бог — всё
* Читал я это в 73 году, теперь книги не имею и могу ошибиться
в частностях, но за дух событий ручаюсь.
** Единство Божественной цели в разнообразии средств и путей. Или:
Единство Божьей благодати в разнообразии человеческих натур. (Моё
домашнее, для собственного употребления Богословие.)
306
Бог, и человек, сколько ни смягчайся нравами, всё-таки
человек! И если в Ветхом Завете Господь пользовался, так сказать,
разнообразными человеческими ресурсами для божественных
целей своих, то из того, что мораль Нового Завета неизмеримо
строже (к себе) и мягче (к другим), чем было в Ветхом, не
следует ещё, чтобы только одни «чистые сердца» и «добрые
люди» имели право и назначение служить дальнейшему делу
Церкви.
Факты церковной истории противоречат такому воззрению.
Ещё примеры: наш Владимир был, положим, простой и добрый
человек, но Константин, царь (которого дело как инициатора
в 100раз важнее, чем дело Владимира — только последователя),
разве не был прежде всего великий политик, который вовремя
понял, что сила политическая в империи начинает переходить
на сторону христиан? И какая же в этом беда? Это
соображение ничуть не исключает и сердечного влечения. Философия
греческая уже подготовила образованный класс и к
единобожию, и к метафизической троичности основ. Религия и грече*
екая и римская приучили, с другой стороны, людей к
антропоморфизму, т. е. не к чудовищному воплощению богов *, как
в других политеистических исповеданиях, а к человекообразной
их красоте и вообще к человекообразию. Христианство растёт
и растёт. Оно говорит: «Бог один, но троичен в лицах и явился
тогда-то и там-то в виде обыкновенного человека такого-то
и т. д. Константин всё это знает, всё это понимает и чувствует,
-его это привлекает; ни личное честолюбие или желание
утвердить свою власть на сочувствии христиан, ни сознание
государственного дела, требующего соображения с обстоятельствами, не
только не могли мешать этому естественному влечению, но,
напротив того, усиливали его. И вот он издал указ о прекращении
гонений и потом созвал 1-й Никейский Собор, с которого,
собственно, началось существование той самой Церкви, которой
мы с Вами повинуемся, поклоняемся и служим. А этот
равноапостольный царь пролил довольно много крови в междуусоб-
ных бранях и казнил ещё вдобавок жену свою и сына! ..
Значит, оказалось, что и вопреки немощам его, сила Божия
могла самым поразительным образом обнаружиться через него,
благодаря его дарованиям, его энергии, его уму и его (не без
Бога же) высокому положению. Поймите также, умоляю Вас,
раз навсегда, что ни жестокосердие, ни лукавство личной
натуры ничуть не исключают искренности убеждений и верований.
* Как у египтян, индусов и, вероятно, у ассириян, финикийцев и т. д.
Пол у быки, птичьи головы на человеческом туловище, полульвы, огромные
размеры, крооожадность и т. д.
20*
307
Другое дело мировоззрение, и другое дело характер.
Согласитесь с этим и не сбивайте сами себя вперёд смешением этих
двух сторон того человека, которого Вы судите.
Вы сами человек прямой, честный, искренний и меня,
грешного, считаете тоже таковым. Пусть будет по-вашему (я сам
думаю, что я до известной степени таков, за исключением
честности в деньгах, ибо как должник и заемщик я много и
сознательно даже в жизни нагрешил*). Хорошо, мы с Вами оба
довольно искренны и прямы (а Вы, по-видимому, вдобавок и
честны всячески); останемся таковыми, но не будем
пристрастны к тому психическому типу, к которому мы более или менее
принадлежим и которому, естественно, сочувствуем. Будем
пообъективнее в суде нашем и воздадим suum cuique... И для
высших целей нужны не только Св. Павел Препростой
(сподвижник Антония Великого), не только кроткая и невинная
Св. Олимпиада, не только простой сердцем и неучёный Св. Спи-
ридон, епископ Тримифунтский, не только мудрая, но честная и:
безукоризненная Св. Пульхерия—царица, но нужны и хитрый
политик и во многом жестокий Св. Константин, и Св. Кирилл*
столь страстный и столь изворотливый, и Св. Ирина, не
пожалевшая сына для Церкви. Пороки при них, и пусть их судит, как
Ему угодно, Господь: а исполинские их заслуги при нас
остались и в нас живут, ибо, благодаря им — мы то, что мы есмы
теперь — православные люди, верующие в Троицу, в богочело-
вечность Христа и в святость Икон.
А Филарет — светильник московский, разве был прост
умом (!!) и сердцем? Едва ли!
И почему Вы говорите, наконец, что от. Амвросий — человек
простой умом и сердцем? Вы упоминаете также по тому же
поводу имя от. Иоанна Кронштадтского. Его я лично не знаю,
в молитвенность великую и чудодействие его верю и даже
в 87 году из Москвы писал ему больной, прося молиться за раба
Божия Константина и получил очень скоро исцеление. Это
особый дар; а вот проповеди его из рук вон слабы и рутинны,
особенно если вспомнить о великолепных проповедях Амвросия
Харьковского и Никанора покойного (тоже не из «невинных»
был, кажется, покойник!). Судя по проповедям от. Иоанна, ума
в нём действительно особого не видно. Но что касается ума
от. Амвросия, то уж это мы знаем. Это удивительно тонкий ум
и именно в практическом направлении, а не в
собственно-мыслительном. Мудрость, скажу просто — даже ловкость батюшки
от. Амвросия, изумительны и в способе духовного руководства,
и в хозяйственных делах (например, создание Шамордина
* И только теперь стал исправляться.
308
в 4 с половиной года), и, наконец, и в политике даже, которую
он по своему положению и значению вынужден вести между
архиереями (которые всё меняются), между требованиями
разнообразной паствы своей, претензиями монахов и простодушной,
но жестокой тупостью от. архимандрита нашего и т. д. Это
удивительно. Какая тут простота ума! В высшей степени сложная
его (ума т. е.) изворотливость и быстрая находчивость!
Твёрдость характера, справедливость, прямота веры и добрых
целей— да! Чистота намерений — да! Простота же средств и
приемов— нет. Не могу признать этого.
Здесь были и есть духовники, которые проще его сердцем;
например, от. Анатолий, скитоначальник. Это, как зовёт его
один из его почитателей, — огромное дитя (сердцем,
характером). Увлекающийся, жалостливый, бесконечно добрый,
доверчивый до наивности, без всякой природной хитрости и ловкости,
при этом не только не глупый и даже не простой умом, но очень
мыслящий, любящий пофилософствовать и побогословствовать
серьёзно. Понимает прекрасно (по-моему, лучше от. Амвросия)*
теоретические вопросы вообще. Однако.. . однако. . . все мы
руководство практическое отца Амвросия несравненно
предпочитаем. А был ещё здесь ныне умерший от. Пимен, духовник же,
необычайный подвижник, простак, добряк, смиренный; сам
от. Амвросий очень любил и ценил его и всегда у него сам
исповедовался. Однако его детская простота, соединённая с резкой
грубостью, подчиняла больше всего деревенских баб, а мы все
уважали и любили его, а советоваться не к нему шли, а к
мудрому и вовсе не столь простому Амвросию... У монахов даже
есть особого рода отзыв про таких-то людей: «Свят, да не
искусен». То есть: для своего спасения хорош, а другим-то мало
полезен!
Да если я не остановлюсь, то я ещё несколько страниц
только примерами живыми испишу.
Всё это, повторяю, я написал не, собственно, с целью
защитить Влад. Соловьёва (которым, Вы знаете, я теперь очень
недоволен), а с целью горячо возразить Вам на Вашу
неосторожную, по-моему, теорию простоты и искренности. Искренность
есть большая и у врагов Церкви, у нигилистов и т. д.
Искренность искренности рознь; за другую искренность казнить
смертью нужно. И изворотливость изворотливости рознь; за
другую изворотливость прославлять следует. А Вы пишете, что
* Может быть, и потому только, что его практическое старчество
позднее расширилось, чем у от. Амвросия, и прежде он имел много времени для
постоянного чтения и рассуждения; а у от. Амвросия давно уже этого
времени нет. А может быть, и по природному более метафизическому складу
ума.
309
для Вас искренность важнее направления! Голубчик! Что
с Вами? . . Это проклятое студенчество Ваше в Вас «отрыгнуло»,
с позволения сказать, на минутку! Симпатично? В личном
отношении? И то не всегда! За другую искренность по морде
ударишь. Искренность -J- хорошее направление. Так скажите. Это
совсем другое дело. Вот мне вчера случайно попалась в
«Русском деле» 88 года горячая, искренняя статья
студента-юриста * (гм!) против военной дисциплины в Университете и вообще
против палки. Я ей обрадовался (по личной любви и даже
спрятал её)» головой покачал. Да разве в России можно без
принуждения и строгого даже что бы то ни было сделать и утвердить?
29 января. У нас что крепко стоит? Армия, монастыри,
чиновничество и, пожалуй, крестьянский мир. Всё принудительное.
Да и сам этот студент-юрист, недавно ещё поклонник и
приверженец неопределённого морального идеализма, теперь запрёгся
по своей охоте в оглобли и хомут строжайшей и очень
определённой спиритуалистической и обрядовой дисциплины... И
теперь, в случае нужды (по примеру самих Св. Отцов), конечно,
готов будет допустить даже и «палку», не какую-нибудь
аллегорическую, но настоящую деревянную палку. (Тоже некрасивое
средство для прекрасных нередко целей). Для юноши живого
и даровитого — 88-й год и 91-й — это 10 лет. На что же эта
студенческая «отрыжка» а 1а Достоевский, а 1а Лев Толстой
и т. п. «Простота ума и сердца!». «Искренность» дороже
направления и т. д.
И. С. Аксаков был гораздо прямее, искреннее и благороднее
Каткова. А кто из них больше сделал не только для
государства, но даже и для веры нашей? «Русь» Аксакова очень часто
(по признанию людей, достойных доверия) лежала
неразрезанной даже у единомышленников и друзей его, а «Московские
ведомости» читались с жадностью всеми добрыми и толковыми
гражданами России, начиная с Зимнего дворца и кончая оптин-
скими кельями, в которых имя его прославлялось до небес.
Архимандрит наш, который ничего современного не знает и не
читает, и тот, бывало, восклицал: «У нас только Катков и есть,
спаси его, Господи!» **.
Говорю всё это вопреки моему личному нерасположению
к покойному Каткову и вопреки моей личной же преданности
* Это была моя статья в «Русском деле» за подписью «студент-юрист».
И. Ф уде ль.
** А когда Тертий Ив. Филиппов сделал известный промах, т. е. на
другой день смерти Каткова напечатал в «Гражданине» неблагоприятный о нём
отзыв, то я сам слышал, как один здешний добродушный, почтенный и про-
стой иеромонах называл его за это «Чертий Иваныч».
310
Филиппову (которого вдобавок я считаю в некоторых важных
пунктах церковных дел правым, а Каткова неправым). Катков
лично производил на меня впечатление самого непрямого,
самого фальшивого и неприятного человека; но, как я уже
говорил, фальшивость характера ничуть не исключает глубокой
искренности общих убеждений. Я не сомневаюсь ни на минуту,
что Катков положил бы героем на плаху голову свою за Россию,
если бы оказалось это нужным. А прежние московские бояре, на
что уж были хитрецы, интриганы и даже часто мошенники,
а разве они не были искренни и в вере, и в патриотизме своём?
Варя, увидавши, что я всё Вам это пишу, а не статью для
«Гражданина», бранит меня: «Как Вы мне, право, надоели,
в доме денег нет, в банк надо платить, а Вы вместо статьи всё
Осипу Иванычу пишете!». Увы! С «утилитарной» точки зрения
она совершенно права. Я эту зиму ничего ещё за литературу не
получил, а 400 р. г. у Берга и Цертелева набрал вперёд. Но что
же делать, если мне частная беседа с Вами несравненно
приятнее, чем беседа с «публикой» нашей. И не только с Вами, но
и с другими людьми, которые по почте обращаются ко мне
с вопросами и за советами. Недавно я три утра слишком
пожертвовал на длинный ответ одному из молодых сотрудников
«Гражданина» (г-ну Колышко). Он умолял сказать ему правду об
его романах и повестях (его псевдоним Райский), и я по совести
исполнил его желание. Разобрал очень строго и беспощадно,
рискуя создать себе врага. Но он оценил это как нельзя
благороднее и теперь (судя по ответу его) служить мне в печати
всячески готов, и ужасный стиль свой собирается исправлять
по-моему, и даже в Оптину собирается. Это немедленные плоды,
это, конечно, вознаграждение нравственное за прямоту, за
понимание и за труд. А Вам писать — и в 10 раз более. А чем
вознаграждает меня печать? (...)
На Данилевского постараюсь тоже сделать и без книги
примечания.
Но пока замечу только вот что:
1. Хотя Соловьёв весьма нападает на самую теорию
культурных типов, но я думаю, что с этой стороны Страхов и
Бестужев-Рюмин (защищающий её) оба правее его.
Культурные типы были и есть (хотя и везде более или менее
тают на наших глазах).
Соловьёв, кажется, прав в одном обвинении: культурные
типы не связаны с одной национальностью, и если весь тип во
всецелости действительно другой, уже сложившийся,
национальности непередаваем, то по кускам, так сказать, легко передаётся
(религия сполна, государственные законы, моды и обычаи,
философия, стиль искусства и т. д. Примеров бездна.)
ЗП
2. Особые культурные типы были, но из этого ещё не
следует, что они всегда будут; человечество легко может смешаться
в один общий культурный тип. Пусть это будет перед смертью —
всё равно.
3. И если даже допустить, что романо-германский тип,
несомненно разлагаясь, уже не может в нынешнем состоянии
своём удовлетворить всё человечество, то из этого вовсе ещё
не следует, что мы, славяне, в течение 100 лет не проявившие
ни тени творчества, вдруг теперь под старость дадим полнейший
4-х-основный культурный тип, как мечтает и даже верит
Данилевский.
Вот главные мои несогласия с Данилевским, мои поправки.
Я понимаю, что Вы тоже плохо верите во все другие
назначения России, кроме религиозного, но почему Вы пишете — не
только не верю, но и не желаю. Это странно! Отчего не желать
добра и силы отчизне своей, хотя бы и сомневаясь в исполнении
желаний этих?
Я сам плохо верю в это (и в этом мы согласны; не понимаю,
откуда Вы взяли, что мы в этом не сходимся? Даже досадно
на Вас!). Но и самые сомнения наши могут быть ошибочны; это
не математика и не догмат веры. Ошибиться можно и по
недоверию, точно так же, как и по доверию.
Например, обоим нам с Вами не мешает помнить, что и для
исполнения особого и великого религиозного признания Россия
должна всё-таки значительно разниться от Запада и
государственно-бытовым строем своим, иначе она не главой религиозной
станет над ним, а простодушно и по-хамски срастётся с ним
ягодицами * демократического прогресса (родятся такие
уроды — ягодицами срослись). Конец!
Обнимаю, жму руку милой попадье нашей. Прошу
благословения и молитв и не отчаиваюсь ещё увидеться на белом
свете,
К. Леонтьев
Нет, ещё не конец! Приготовляя посылку, я увидал, что Исаак
Сирин гораздо толще Данилевского, и через это на посылке
с одной стороны будет яма. Я этого выносить не могу, и эта
вещественная причина принесёт, быть может, Вам случайно
(по-видимому — но едва ли в самом деле случайно)
невещественную пользу. Я решился послать Вам ещё 3 сборника
брошюр. Рекомендую:
1. Статью Пазухина о сословиях и особенно о дворянстве и
советую сравнить эту ясность, деловитость, простоту с воплями
* Вы знаете, что это значит «ягодица», надеюсь?
312
и туманными фразами Ник. Петр. Аксакова (в «Русском деле»
и «Благовесте»), с неопределённостью взглядов на дворянство
И. С. Аксакова и т. д.
Не мешает также вспомнить о своём смешении; сословные
перегородки — главное ему препятствие.
2. Вл. С. Соловьёва неосновательную защиту Достоевского
против меня, в конце 3-х речей о Достоевском. (Замечу, что я
после этой странной защиты издал 2-й том сборника моего,
после неё вставил в мою статью против речей Достоевского всё
то место, где говорю, что «иные видят в этой речи что-то
апокалипсическое (см. т. II, стр. 307—308) *.
3. Весьма полезно будет тотчас после уверений Достоевского
и Соловьёва, что «небесный Иерусалим» сойдёт на землю,
прочесть взгляды еп. Феофана («Отступление» и т. д.). Он говорит
совершенно другое, и, разумеется, под этими его рассуждениями
подписались бы как покойные еп. Алексей и Никанор и т. д.,
так и все оптинские и афонские старцы. А когда Достоевский
напечатал свои надежды на земное торжество христианства
в «Братьях Карамазовых», то оптинские иеромонахи, смеясь,
спрашивали друг у друга: «Уже не вы ли, отец такой-то, так
думаете?». Духовная же цензура наша прямо запретила особое
издание учения от. Зосимы, и нашей было предписано сделать
то же. («Ибо, — сказано было, — это может подать повод к
новой ереси».)
Вот в чем уже вовсе неправ Вл. Соловьёв (вместе с
Достоевским)— в этой явной ереси; а в стремлении к католичеству
гораздо меньше вины.
4. Советую также перечесть — «О развитии (догматическом)
Церкви» Соловьёва же. Вот тле его торжество! Это,
согласитесь, верх совершенства по силе, ясности и правде.
Католичество отличается достаточно от Православия количеством весьма
резких и известных признаков, и нет нужды докапываться до
какой-то особо общей сущности, ни по-славянофильски
натягивать всё на рационализм, ни по-стояновски лишать права
Православие на живое развитие.
(Может быть, не будет, а может быть, и будет; это другое
дело).
Весьма бы Вы хорошо сделали, если бы из этих 3-х брошюр
и изо всего того, что пришло еще на подержание, Вы не
поленились сами (или Евгению Сергеевну попросите) сделать
нужные выписки.
* Катков дал Достоевскому за помещение пушкинской речи в
«Московских ведомостях» 600 р. по назначению самого Достоевского, но близким
своим сказал: «Достоевский уверяет, что все называют его речь событием;
я никакого события в ней не вижу, а 600 р. — отчего же ему не дать*.
313
Весьма пригодится и избавит раз навсегда от новых
перечитываний и разыскиваний «текстов».
И Вы долго ещё не будете в силах покупать много книг, и
я всё не могу отдать Вам теперь, так как при всём моём
желании бросить моё неутешительное писательство — нельзя ещё
этого сделать.
Исходите всегда мыслью из идеи развития, осложнения и
смешения — и Вы редко будете ошибаться. Ибо это реальнее
всего и даёт мало простора пристрастиям и несбыточным
мечтам.
Как видите, идею эту можно с успехом и к религии
приложить, не рискуя ни погрешить, ни согрешить. Ибо и религия —
вещь вполне естественная.
22. И. И. ФУДЕЛЮ
5 сентября 1891 г. Троицкий Посад.
(Секретно).
Помните, дорогой и милый мой от. Иосиф, я говорил Вам
о моих роковых десятилетиях? В 1841 отдан в 1-й раз в
училище; в 50—51-м пять—шесть очень важных и тяжёлых
переломов*; в 1861 женюсь, испытываю первую жестокую неудачу
на литературном пути; в 60-м, начале 1861 решаюсь Оставить
практическую медицину и задумываю ехать в Турцию;
в 71-м году на Афон, вступаю навеки в духовную связь с
монашеством, начинаю думать об отставке и возвращении на
родину, здоровье моё, дотоле хорошее, решительно
расстраивается, в семейных делах тоже резкий перелом (я не развёлся,
например, с женой только потому, что боялся лишить её прав
на пенсию. Забота о куске хлеба этой доброй и когда-то столь
дорогой мне женщины заставила отказаться от полной свободы,
на которую, заметьте, даже и от. Иероним меня благословлял,
и нынешний посланник в Афинах Ону, в то время 1-й драгоман
посольства в Константинополе и мой личный друг, брался
выхлопотать мне без труда развод у Вселенского Патриарха).
В конце 1880-го (в конце декабря) вступаю цензором опять на
службу в Москве. В 1880 же привозят жену из Крыма,
совершенно помешанную и в ужасном виде! В 1880-м же и 1881
начинается первое улучшение моих литературных дел (передовые
статьи «Варшавского дневника» и т. д.). В домашних и сердеч-
* Первая серьезная любовь, впадение в атеизм, нестерпимая боль,
разного рода новые юношеские скорби и обиды, болезнь, знакомство с
Тургеневым и его одобрение и т. д.
314
ных делах тоже очень важные перемены и новости (помимо
отношений к жене, которая с этих же самых пор могла быть
только предметом сострадания и живым укором за мою прежнюю
в высшей степени нехристианскую жизнь и т. д.).
Теперь 1891-й. И что же? Опять несколько поворотных
пунктов разом. Во-первых, 18 августа совершилось надо мною то,
о чём я Вам говорил; с семьёй я во всяком месте решился жить
врозь; 16 августа появилась та статья Розанова, которая Вас
так утешила (она и меня до того успокоила, что московские
друзья, не зная другой причины (той!), заключили во мне что-то
особенно благодушное и приписали всё этой статье. Кстати
сказать, Юр. Николаев сознался Александрову, что после статьи
Розанова будет смелее обо мне писать, тоже перелом);
а 25-го августа я уехал из Оптиной с тем, чтобы поселиться
здесь навсегда, если возможно. Больше мне в жизни, конечно,
нечего ждать, и я молюсь лишь о христианской безболезненной
кончине живота и о том, чтобы «прочее время скончати в мире
и глубочайшем покаянии».
В Москве я пробыл всего 2 ]/2 суток, никуда вследствие
утомления и дурной погоды не выходил, но у меня были многие,,
и я был очень тронут всеобщей радостью меня видеть и
нелицемерным участием. Здесь я с 31-го августа, на гостинице и
весь погружён в хозяйственные заботы, нескончаемые и мелкие,
но в высшей степени важные даже по своим нравственным и
религиозным последствиям. От. Амвросий благословил мне
попытаться и в самую Лавру и в Гефсиманский Скит поступить,
но по всем наведённым здесь справкам об Лавре и думать
нельзя, как по недостатку помещения, так и потому, что
наместник терпеть не может допускать в ограду «мирян». Что касается
Гефсимании, то в этом истинно поэтическом и живописном
скиту было бы мне очень приятно жить, но люди,
заслуживающие полного доверия, предостерегают меня насчёт алчности и
дурного характера настоятеля от. Даниила, который достаточно
независим от наместника, чтобы притеснять из расчётов, если
вздумает и т. п. Поэтому я, быть может, не скоро ещё пойму,
где мне жить, на частной квартире или на гостинице, а также
и то, когда мне жену с Варей сюда выписать, в октябре или
по санному пути. Я беспрестанно сижу с карандашом в руке и
считаю, ибо здесь все условия для меня новы, и одна ошибка
в расчётах отзовётся после и на душевном настроении.
Уезжая, я благословился у старца возвратиться в Оптину *
* Замечу, однако, кстати, что старец как-то особенно настойчиво
выпроваживал меня к Троице. Почему — не понимаю. Явный повод, конечно,
близость специалистов по моей болезни, могущей причинить слишком лютую
смерть. Но что-то подозревается и тайное, а что — не знаю.
315-
около 15-го сентября (пока ещё не слишком холодно) в том
случае, если у Троицы мне покажется уж слишком не по духу
и не по средствам. Но 15-е ещё не настало, а я уже чувствую
решимость остаться здесь и испытать себя хоть в течение зимы,
а в мае что Бог даст.
«По духу» я ничего, доволен. Троица уже давно была для
меня после Оптиной наиболее приятным местом: город мал (я
это люблю), кругом лес, близок тот «запах ладана» и видна та
«черная ряса», без которых я уже и жить не могу и которые
люблю даже и тогда, когда вижу все несовершенства людей,
облачённых в эту рясу и с кадилом в руке. Но, не скрою, очень
боюсь хозяйственной стороны, боюсь запутаться и войти в
новые долги после четырехлетнего наслаждения платить старые!
Боюсь-то боюсь, но утешаю себя и той мыслью, что, не
проживши на квартире хоть полгода на новом месте, ничего не
поймёшь. Может быть, опасения и напрасны. Вот хоть бы стол.
Я неожиданно устроился здесь помесячно так дёшево, что хоть
бы в Оптиной. (...)
Главная трудность моя даже и не в деньгах пока, а в
плохом здоровье и неимоверной слабости ночью дыхания. Смотреть
квартиры надо, пока могу ещё выходить на воздух, а ходить и
поблизости задыхаюсь, и вот вчера, чтобы осмотреть 5—6
квартир, проездил 2 р. с. в карете. И сегодня будет то же. А
помощника нет, со мной молодой прысковский крестьянин, который
дальше оптинской гостиницы света не видал. Всё это я говорю
Вам, голубчик, зная истинно сыновнее участие, которое Вы во
мне принимаете, а не в виде безусловных жалоб. Мне
жаловаться — большой грех! Моя старость, хоть и очень недужная
и преждевременная, но очень счастливая! Вы это сами
говорили. «Не по грехам нашим воздал еси нам!». (...)
23. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ
23 октября 1891 г. Сергиев Посад.
(. ..) Об реферате Соловьёва не беспокойтесь больше. Вчера
узнал, что он будет напечатан в «Вопросах философии и
психологии».
Эта история меня сильно поразила и огорчила! . .
Все мы (и я прежде всех!) бессильны, и нет у Православия
истинно хороших защитников. Юрий Николаевич (спаси его
Господи!) бьётся почти что один. Но и его возражения очень
недостаточны.
Неужели же нет никаких надежд на долгое и глубокое
возрождение Истины и Веры в несчастной (и подлой!) России на-
316
шей? .. Не знаю, что и подумать, и чрезвычайно скорблю!..
Возражать сам, по многим и важным причинам, не могу.
Перетёрлись, видно, «струны» мои от долготерпения — и без
своевременной поддержки. .. Хочу поднять крылья — и не могу!
Дух отошёл! Но с самим Соловьёвым я после этого ничего и
общего не хочу иметь. .. Жду только прочесть реферат, чтобы
написать это ему.
И ни от кого другого не жду такого возражения, какое
нужно!
А нужно вот какую постановку — прямую:
1) Да, забота о личном спасении души есть
трансцендентный эгоизм, но кто верит в Евангелие и Св. Троицу, тот и
должен прежде всего об этом заботиться. Альтруизм же
«приложится» сам собою.
2) Личный альтруизм может смягчить и сделать сносными
самые суровые учреждения (мы глазами, а не по слухам видели
на крепостном праве при Николае Павловиче), смягчить
настолько, насколько нужно, ибо излишние смягчения массам не
полезны, даже и с христианской точки зрения: усиливают
гордость.
3) Правда, что неверующие люди сделали гораздо больше
не для ощутимого благоденствия (это ещё вопрос), а для
уравнительного прогресса, чем верующие. Но тот, кто верует,
поймёт из этого не то, что хочет понять негодяй Соловьёв, а то, что
сам прогресс нехорош... и что до него в сущности христианству
дела нет. Оно может только допускать его как неизбежность и
в житейской практике мириться с ним, пока он (прогресс) не
идёт против Церкви открыто. И только.
Прочтите это Юрию Николаевичу. Я уверен, что он
согласится с этим, но уверен также, что так, «ребром», он не решится
поставить вопрос печатно.
А то, что Александр II, Ростовцев, Милютин, Самарин и др.
не были «безбожниками» — это возражение в высшей степени
невыгодое. Во-первых, в степени церковности этих деятелей
позволительно сомневаться. Думаю, что большинство их было
одинаково далеко и от «безверия» и от истинно-церковного
христианства. Они были все именно «умеренные либералы», не
отвергали и не руководились, не подчинялись. Самарин позволил
себе напечатать, что есть «нравственные атеисты», которые
ближе к Богу, чем многие «благоверные», «высокопреподобиые»
и т. п. Вот их (славянофилов) церковность! Ни от. Амвросий,
ни Филарет или Никанор, ни Тихон Задонский этого бы не
сказали. Моей племяннице, Марье Владимировне, просившей
у от. Амвросия разрешения молиться за отца (который, умирая,
торжественно отказался принять священника), старец дал осо-
317
бую молитву, где испрашивается пощада у Бога в том, что онз«
по личному чувству дерзает за безбожника молиться... (...)
Господи! Зачем вы все так осторожны? Уж не
«практичность» ли какая-нибудь? Смотрите, пересолить недолго. Есть
всему время; иной раз и эта кажущаяся «практичность» бывает
в высшей степени непрактична.
Это отчасти и к Вам, мой добрый друг Анатолий
Александрович, отосится. Я помню и у Вас что-то: «Ангелы кротко»
и т. д.
Изгнать, изгнать Соловьёва из пределов империи нужно,
а не... И т. д.
Публикация Д. В. Соловьёва
Часть II
ПРИЧАСТНЫЕ И ПОСТОРОННИЕ
(Современники о К. Леонтьеве)
В. С. СОЛОВЬЕВ
КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ
Леонтьев (Константин Николаевич, .1831—91)—публицист
и повествователь, оригинальный и талантливый проповедник
крайне консервативных взглядов; из калужских помещиков,
учился медицине в Московском университете, был в Крымскую
кампанию военным врачом, потом домашним и сельским в
Нижегородской губернии. После краткого пребывания в
Петербурге поступил в Азиатский департамент Министерства
иностранных дел и десять лет (1863—73) прожил в Турции, занимая
различные консульские должности (па о. Крит, в Адрианополе,
Тульче, Янине, Зице и Салониках). Выйдя в отставку, провёл
более года на Афоне и затем вернулся в Россию, где жил
большей частью в своей деревне. В 1880 г. был помощником
редактора «Варшавского дневника» кн. Н. Голицына, потом был
назначен цензором в Москву. В 1887 г. опять вышел в отставку,
поселился в Оптиной Пустыни и через четыре года, приняв
тайное пострижение с именем Климента, переехал в Сергиев
Посад, где и умер 12 ноября 1891 г.
Первые беллетристические произведения Леонтьева (из
русской жизни, несколько повестей и два романа «Подлипки» и
«В своем краю» в «Отечественных записках» 1856—1866 гг.)
хотя и не лишены таланта, но, по позднейшему признанию
самого автора, не представляют значительного интереса, будучи
написаны под преобладающим влиянием Ж. Санда по идеям
и Тургенева по стилю. Литературная самобытность Леонтьева
проявилась вполне в его повестях «Из жизни христиан в
Турции» (издано отдельно Катковым в 1876 г., сюда же
принадлежат рассказ «Сфакиот», роман «Камень Сизифа» и начало
романа «Египетский голубь», не вошедшие в этот сборник).
И. С. Аксаков, враждебно относившийся к политическим и
церковным взглядам Леонтьева, у которого находил
«сладострастный культ палки», был в восхищении от его восточных
повестей и говорил: «Прочтя их, не нужно и в Турцию ехать». Во
время жизни в греко-турецких городах произошёл в Леонтьеве
умственный переворот, закончившийся на Афоне. Прежний
натуралист и жоржсандист, напечатавший, между прочим, уже
в зрелом возрасте «в высшей степени безнравственное (по его
собственному преувеличенному отзыву), чувственное, языческое,
дьявольское сочинение, тонкоразвратное, ничего христианского
в себе не имеющее», — сделался крайним и искренним
сторонником византийско-аскетического религиозного идеала. Этой
стороной новое мировоззрение Леонтьева далеко не исчерпы-
21 К. Леонтьев
321
вается. Оно было вообще лишено цельности; одного
срединного и господствующего принципа в нём не было, но отдельные
взгляды были весьма замечательны своей определённостью,
прямотой и смелой последовательностью. По своему отношению
к славянофильству, которое он называл «мечтательным и
неясным учением», Леонтьев представляет необходимый момент
в истории русского самосознания. Желая привести свои
пёстрые мысли и стремления к некоторому, хотя бы только
формальному единству, он называл себя принципиальным или идейным
консерватором (в противоположность грубо-практическому или
эмпирическому консерватизму). Дорогими, требующими и
достойными охранения он считал, главным образом: 1) реально-
мистическое, строго-церковное и монашеское христианство
византийского и, отчасти, римского типа, 2) крепкую,
сосредоточенную монархическую государственность и 3) красоту
жизни в самобытных национальных формах. Всё это нужно
охранять от одного общего врага — уравнительного буржуазного
прогресса, торжествующего в новейшей европейской истории.
Вражда к этому прогрессу составляла главный «пафос» в
писаниях Леонтьева, выработавшего особую теорию развития, где
он своеобразно варьировал идеи Гегеля, Сен-Симона, Огюста
Конта и Герберта Спенсера (которых, впрочем, не изучал
систематически). По Леонтьеву, человечество в целом и в частях
проходит через три последовательных состояния:
первоначальной простоты (подобно организму в зачаточном и незрелом,
младенческом периоде), затем положительного расчленения
(подобно развитому цветущему возрасту организма) и,
наконец, смесительного упрощения и уравнения, или вторичной
простоты (дряхлость, умирание и разложение организма). Так,
германцы в эпоху переселения народов представляли первичную
простоту быта, Европа средних и начала новых веков —
цветущее расчленение жизненных форм, а с «просветительного»
движения XVIII в. и Великой Французской революции
европейское человечество решительно входит в эпоху смесительного
упрощения и разложения. От названных европейских
мыслителей, которые также отмечали критический и отрицательный
характер новейшей истории, Леонтьев отличается тем, что
считает это разложение для Европы окончательным и ждёт нового
и положительного от России. В этом он сходится со
славянофилами, но тут же и расходится с ними в трёх существенных
пунктах. 1) Современное «разложение» Европы он считает
простым следствием общего естественного закона, а вовсе не
какого-нибудь порока в коренных началах её жизни, от которого
будто бы Россия свободна; эту славянофильскую точку зрения
Леонтьев так излагает и осмеивает: «Правда, истина, цельность,
322
любовь и т. п. у нас, а на Западе — рационализм» ложь, на-
сильственность, борьба и т. п. Признаюсь — у меня это
возбуждает лишь улыбку; нельзя на таких общеморальных различиях
строить практические надежды. Трогательное и симпатичное
ребячество; это пережитой уже момент русской мысли».
2) Новая великая будущность для России представляется
Леонтьеву желательной и возможной, а не роковой и неизбежной,
как думают славянофилы; иногда эта будущность кажется ему
даже маловероятной: Россия уже прожила 1000 лет, а
губительный процесс эгалитарной буржуазности начался и у нас
после Крымской войны и освобождения крестьян. 3) Помимо
неуверенности в исполнении его желаний для России, самый
предмет этих желаний был у Леонтьева не совсем тот, что
у славянофилов. Вот главные черты его
культурно-исторического идеала, как он сам его резюмировал: «государство
должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью
подвижно, вообще сурово, иногда и до свирепости; церковь
должна быть независимее нынешней, иерархия должна быть
смелее, властнее, сосредоточеннее; быт должен быть
поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном от Запада
единстве; законы, принципы власти должны быть строже,
люди должны стараться быть лично добрее — одно уравновесит
другое; наука должна развиваться в духе глубокого
презрения к своей пользе». Идеал Леонтьева был византийским, а не
славянским; он прямо доказывал, что «славянство» есть термин
без всякого определённого культурного содержания, что
славянские народы жили и живут чужими началами. Их нынешняя
культура слагается отчасти из слабых остатков традиционного
византизма, большею же частью — из стремительно усвоенных
элементов прогрессивного европеизма. Этот второй,
ненавистный Леонтьеву элемент решительно преобладает у славян
австрийских, а в последнее время возобладал и у балканских.
Поэтому слияние славян с Россией, к которому стремится
панславизм, не только не может быть целью здравой политики
с русской точки зрения, но было бы прямо для нас опасным,
так как усилило бы новыми струями уравнительного прогресса
наши разлагающие демократические элементы и ослабило бы
истинно-консервативные, т. е. византийские начала нашей
жизни. В церковно-политическом споре между греками и болгарами
Леонтьев решительно стал на сторону первых, вследствие чего
разошёлся со своим начальником, послом в Константинополе
генералом Игнатьевым, а также с Катковым. Леонтьев
пламенно желал, чтобы Россия завоевала Константинополь, но не
затем, чтобы сделать его центром славянской
либерально-демократической федерации, а затем, чтобы в древней столице укре-
21*
323
пить и развить истинно-консервативный культурный строй и
восстановить Восточное царство на прежних византийских
началах, только восполненных национально-русским учреждением
принудительной земледельческой общины Вообще Леонтьев во
всех сферах высоко ценил принудительный характер
отношений, без которого, по его мнению, жизненные формы не
могут сохранять своей раздельности и устойчивости;
ослабление принудительной власти есть верный признак и, вместе с тем,
содействующая причина разложения или «смесительного
упрощения» жизни. В своём презрении к чистой этике и в своем
культе самоутверждающейся силы и красоты Леонтьев
предвосхитил многие мысли Ницще, вдвойне парадоксальные под
пером афонского послушника и оптинского монаха.f Леонтьев
религиозно верил в положительную истину христианства
в узко-монашеском смысле личного спасения; он
политически надеялся на торжество консервативных начал в
нашем отечестве, на взятие Царьграда русскими войсками и на
основание великой нео-византийской греко-российской
культуры; наконец, он эстетически любил всё красивое и
сильное; эти три мотива господствуют в его писаниях, а
отсутствие между ними внутренней положительной связи есть
главный недостаток его миросозерцания. Из идеи личного ду-
шеспасения путём монашеским (как его понимал Леонтьев)
логически вытекает равнодушие к мирским политическим
интересам и отрицание интереса эстетического; в свою очередь,
политика, хотя бы консервативная, не имеет ничего общего с ду-
шеспасением и с эстетикой; наконец, становясь на точку
зрения эстетическую, несомненно должно бы предпочесть идеалы
древнего язычества, средневекового рыцарства и эпохи
Возрождения идеалам византийских монахов и чиновников,
особенно в их русской реставрации. Таким образом, три главные
предмета, подлежащие охранению принципиального или
идейного консерватизма, не согласованы между собой. Не
свободно от внутреннего противоречия и враждебное отношение
Леонтьева к новой европейской цивилизации, которую он сам же
признавал за неизбежный фазис естественного процесса.
Справедливо укоряя славянофилов за их ребяческое осуждение
Запада, он сам впадал в ещё большее ребячество. Славянофилы
были, по крайней мере, последовательны: представляя всю
западную историю как плод человеческого злодейства, они имели
в этом ложном представлении достаточное основание для него-
дования и вражды; но ожесточённо нападать на заведомые
следствия естественной необходимости — хуже, чем бить камень,
о который споткнулся. Не имели достаточного основания и
надежды Леонтьева, связанные с завоеванием Царьграда: почему
324
вступление русских солдат и чиновников на почву образован-
ности, давно умершей естественной смертью, должно
будет не только остановить уже начавшийся в России процесс
уравнительного смешения, но и создать ещё небывало-великую
консервативную культуру? Надежды и мечтания Леонтьева не
вытекали из христианства, которое он, однако, исповедовал как
безусловную истину. Ему оставалась неясной универсальная
природа этой истины и невозможность принимать её
наполовину. Но если главные мотивы, из которых слагалось
миросозерцание Леонтьева, не были им согласованы между собою, то
к каждому из них он относился серьёзно и с увлечением, как
свидетельствует вся его жизнь. Своим убеждениям он принёс
в жертву успешно начатую дипломатическую карьеру, вслед-
ствие чего семь лет терпел тяжёлую нужду. Свои крайние мне-
ния он без всяких оговорок высказывал и в такое время, когда
это не могло принести ему ничего, кроме общего презрения и
осмеяния. Большая часть политических и публицистических
произведений Леонтьева соединена в сборнике «Восток, Россия
и славянство» (М., 1885—1886). После этого он напечатал
в «Гражданине» ряд статей под общим заглавием «Записки
отшельника». Одна из них, «Национальная политика как
орудие всемирной революции», издана отдельной брошюрой (М.,
1889). При жизни Леонтьева на него мало обращали внимания
в литературе; можно назвать только статьи Н. С. Лескова
(«Голос», 1881, и «Новости», 1883) и Вл. Соловьёва («Русь», 1883).
После его смерти, кроме некрологов, появились следующие
статьи: В. Розанова в «Русском вестнике» (1892), А.
Александрова (там же), Влад. Соловьёва в «Русском обозрении» (1892),
кн. С. Трубецкого в «Вестнике Европы» (1892), П, Милюкова
в «Вопросах философии и психологии» (1893), Л. Тихомирова
в «Русском обозрении» (1894), свящ. И. Фуделя (там же, 1895).
По обилию материала для характеристики особенно важны
статьи о. Фуделя и г. Александрова.
А. В. КОРОЛЁВ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
К. Н. ЛЕОНТЬЕВА
Русская историческая наука в лице её, так сказать,
присяжных представителей — профессоров наших университетов,
несмотря на отдельные важные исторические труды, время от
времени у нас появляющиеся, не дала до сих пор не только ни од-
Hoff системы философии истории, но, кажется, даже ни одной
325
сколько-нибудь оригинальной, отличной от западно-европейских
теорий, социальной гипотезы. Правда, один почтенный
профессор, автор многочисленных и скучнейших исторических трудов,
пытался в нескольких работах дать объяснение мирового
исторического процесса, но далее жалких повторений теории
утилитарного прогресса и всем порядком надоевших перепевов
западно-европейской позитивистской мысли, не пошёл.
По какой-то иронии судьбы, все сколько-нибудь интересные,
оригинальные попытки философского объяснения мирового
исторического процесса были сделаны не нашими
историками-профессорами, а совсем другими лицами. Эти попытки начались
с того момента, как зародилась вообще более или менее
оригинальная русская философская мысль. Уже основатели
славянофильского учения, Киреевский и Хомяков, дали своё
понимание мирового исторического процесса. Эта славянофильская
философия истории получила научную обработку под пером такого
замечательного мыслителя, как Н. Я- Данилевский, в его
знаменитой книге «Россия и Европа». С резкой критикой теории
культурно-исторических типов Данилевского выступил в конце
80-х и в начале 90-х годов Вл. Соловьёв, который затем в своей
«Истории и будущности теократии» и в изданной за границей
книге «La Russie et TEglise Universelle» (только что вышедшей
в русском переводе) дал свою философию истории.
К. Н. Леонтьев, по врождённой ему скромности, никогда не
задавался такой целью, как Данилевский или Вл. Соловьёв;
однако в его многочисленных мелких статьях, объединённых
одним общим заглавием «Восток, Россия и славянство», так
много глубоких, оригинальных мыслей, так много указаний и
предсказаний, которые были оправданы последующими событиями,
что нельзя не сделать попытки изложить
культурно-исторические воззрения его в некоторой последовательности. Мы это и
постараемся сделать.
Но при этом изложении приходится иметь дело с двумя
большими затруднениями.
Во-первых, все статьи и заметки Леонтьева, в которых мы
можем найти его своеобразную философию истории, были
написаны, так сказать, ad hoc, по какому-нибудь поводу, часто
теперь имеющему весьма небольшое значение. Леонтьев,
например, писал по поводу национальных недоразумений среди
афонских монастырей, или по поводу греко-болгарского
церковного раскола. И вот, в высшей степени нелегко выделить его
мысли, имеющие глубокое философское значение, из целого
ряда других положений, имеющих лишь значение временное.
Второе затруднение заключается вот в чём. Наши
мыслители нередко страдают большим многословием, неуменьем
326
«в немногих словах мног разум умыкать». Напротив, Леонтьев
в своих фнлософско-исторических статьях поразительно краток,
немногословен; при чтении его сочинений испытываешь иногда
такое чувство: вот встретилась великолепная, глубокая,
светлая, как изумруд, мысль, ждёшь, как он разовьёт её далее, какие
выводы из нес сделает, — а он, глядишь, уже бросил её, уронил —
и прошёл мимо! Читатель даже способен негодовать на
Леонтьева в такую минуту! Как бы нарочно он заставляет побольше
думать самого читателя. Конечно, это одна из
привлекательнейших литературных сторон сочинении Леонтьева, но для
теоретического изложения его воззрений она создаёт значительные
затруднения.
Как в области философской мысли, так и во всяком другом
культурно-историческом явлении, ничего не является совершен-
но внезапно, напротив, уходит корнями в прошлое. Конечно,
и философия истории, данная нам Леонтьевым, несмотря на
всё сё своеобразие и оригинальность, имеет связь со взглядами
предшествующих ему русских мыслителей. Поэтому мы должны
указать, с какими мыслителями он более всего сродни и чьи
взгляды оказали на него особенное влияние.
По счастью, это сделать нетрудно, так как сам Леонтьев
всегда признавал свою связь с первыми
славянофилами и с автором книги «Россия и
Евро п а».
«Я был всегда ревностным учеником и последователем
оригинального и одиноко пока стоящего мыслителя Н. Я.
Данилевского»,— говорит он. Вместе со славянофилами он верил, что
Россия, имеющая стать во главе новой восточной
государственности, должна дать миру и новую культуру, которая
заменит отходящую цивилизацию романо-германской
Европы 1. Кроме того, нельзя не отметить, что у К. Н. Леонтьева и
у славянофилов одна общая мистическая основа — они все во
главу угла ставят Православное христианство. В этом
отношении у Леонтьева гораздо больше сходства со славянофилами,
чем у Вл. Соловьёва: у того вся, так сказать, подпочва его
воззрений тоже религиозная, мистическая, но не
православна я, а латинская, римско-католическая.
Итак, сходство воззрений Леонтьева со взглядами
славянофилов, указанное им самим, не подлежит никакому сомнению;
но как же, спросят нас, быть со славянами в таком случае?
Ведь Леонтьев чуть не во всех своих статьях утверждал, что
«в славян не верит», что все славяне, и южные и западные, для
1 «Дополнение к двум статьям о панславизме». Восток, Россия и
славянство, т. I, стр. 76 (где дальше указаны только страницы, там надо разуметь
этот 1-й том).
327
России неизбежное политическое зло (см. стр. 77, 89, 266 и мн.
другие). Но являются ли славяне и объединение их всех с
Россией таким звеном в учении первых славянофилов, что, вынув
его, отказавшись от него, мы разрушим всю цепь их воззрений?
Вместе с самим Леонтьевым мы думаем, что на этот вопрос
можно ответить отрицательно. Никогда не надо забывать, что
сами корифеи славянофильства первоначально не называли себя
«славянофилами»: это была презрительная кличка,
которую дали им враги.
Славяне, славянство в культурно-философской системе
славянофилов вовсе не главное. Как справедливо указывал
Леонтьев 1, для Киреевского и Хомякова освобождение славян и их
политическое сближение с Россией должно было служить
лишь средством, а не целью. Цель же была своя
цивилизация, непохожая на западную, своя культура, по
возможности независимая от культуры европейской.
Первоначально Леонтьев думал о славянах то же, что и
первые славянофилы, он слишком в них верил, слишком надеялся
на самобытность их духа. Он приехал на Восток пламенным
сторонником культурного славянофильства (именно со
славянами), но, прожив там 15 лет, увидал, что никаких
родников оригинального славянского духа мы у славян не найдём,
что там всё гораздо больше разъедено либеральным
европеизмом, чем у нас. И вот он пришёл к печальному для себя, но
вполне логичному выводу, что либеральный панславизм,
отказавшийся от Православия 2, есть гибель прежде всего для
России.
Таким образом, Леонтьеву приходится славян выбросить за
борт и строить свою культурную теорию без славян, или,
вернее, рассматривая заботы России о них как неизбежное
культурное зло.
И нам думается, что всю его культурно-историческую
систему можно назвать славянофильскою, но без
идеализации славян и всего славянского, что мы видим
у Хомякова и Данилевского. Благодаря этому система его
много потеряла, так сказать, художественного, поэтического, что
было у Хомякова, но зато она стала ближе к действительности,
реальнее, трезвее...
Говоря о культурно-исторических взглядах Леонтьева,
нельзя, конечно, не сказать прежде всего о том, что он понимает
1 «Русские, греки и юго-славяне». Там же, стр. 193.
2 В самые последние годы у нас этот панславизм и господствует. Ведь
и Милюков теперь панславист!
328
под словом «культура». Правда, слово это стало для нас
вполне обыденным, мы его употребляем постоянно, оно вошло
в учебники, однако это не значит, что, произнося слово
«культура», собеседники или спорщики всегда разумеют одно и то же
понятие. Поэтому точно условиться, что понимать под словом
«культура»,— необходимо. Как раз у нашего мыслителя мы и
находим прекрасное, исчерпывающее определение этого слова.
«Культура есть именно та сложная система идей
(религиозных, государственных, философских и художественных), которая
вырабатывается всей жизнью наций»... Культура, как продукт,
принадлежит народу и государству, её выработавшему, как до-
стояние же она принадлежит всему миру. Идеи, выработанные
жизнью той или другой нации, не должны, однако, быть
тождественны, тогда не будет своеобразия, а без него
невозможно и культурное творчество, потому что всё истинно
великое, высокое и прочное вырабатывается только благодаря
разнообразию положений, воспитания, впечатлений и прав (стр. 182,
96, 310 и др.).
Понимая культуру как проявление творческого духа нации
в самых разнообразных областях народной жизни, Леонтьев,
разумеется, не видел никакой логической необходимости
признавать шаблонную теорию утилитарного и
либерально-эгалитарного прогресса. Взамен этой теории, которую он считает
самообманом, ибо она вовсе не может быть научно доказана,
а есть лишь вера, ложно выдаваемая за знание, он выдвигает
свою глубоко интересную теорию развития
государственных организмов1.
Прежде всего он справедливо указывает, что и слово
развитие употребляется часто не точно; например, говорят:
развитие грамотности, между тем как можно говорить только:
распространение грамотности, распространение
пьянства, т. к. эти явления представляют нам разлитие чего-
то однородного и простого; идея же развития
соответствует некоему сложному процессу, нередко
противоположному с процессом распространения.
Под идеей развития наш мыслитель разумеет постепенный
ход от бесцветности, от простоты, к оригинальности и
сложности. Действительно, все органические явления,
развиваясь, количественно осложняются.
Леонтьев в подтверждение этого закона приводит ряд примеров,
преимущественно из столь близкой ему науки — медицины. Мы не
будем повторять всех этих примеров. Для доказательства спра-
1 См. гл. VI. Что такое процесс развития? в статье «Византизм и
славянство» (стр. 136—140).
329
ведливости этого закона достаточно напомнить одно: зародыши
всех организмов очень близки, сходны между собою
(вспомните зёрна в растительном мире, зародыши животных),
похожи друг на друга, но чем больше организмы развиваются,
тем больше отличаются друг от друга, а потом,
когда начинается умирание, всё опять понижается,
смешивается, сливается, наконец, распадается и гибнет
(трупы, как известно, очень сходны между собою, дальнейшие
их видоизменения — различные газы и т. п. — уже совсем
тождественны, неразличимы).
Этот «закон развития», по мнению Леонтьева, приложим ко
всему: он относится не только к организмам, но и к частям и
к системам их; относится он и к процессам нормальным и
патологическим.
Закон этот наш автор пробует, конечно, приложить и к
жизни племён, государственных организмов и
целых культурных миров. И в жизни этих организмов
Леонтьев различает: 1) период первоначальной
простоты, 2) период серединный, тот, который он большей частью
называет периодом цветущей сложности, и наконец,
3) период вторичной простоты и вторичного смешения.
Он отмечает эти периоды и в области искусства и в области
литературы и истории философии.
К периоду серединному, к эпохе цветущей сложности,
относятся такие явления, как Парфенон, храм Дианы Эфесской,
Реймсский и Миланский соборы, Рафаэль, Микеланджело —
в изобразительных искусствах, Софокл и Эсхил, Данте,
Шекспир, Корнель и Расин — в области поэзии. В третичные
периоды мы видим уже отсутствие разнообразия, эклектическое
смешение, бездарность старческой простоты: здания переходных
эпох (романский стиль, до перехода его в готику), современные
утилитарные и бездарные постройки — в искусстве;
александрийская эпоха, современная литература натуралистической
школы — в поэзии.
Упрощение, смешение, а следовательно, и упадок Леонтьев
видит и в материалистической философии, которая
господствовала в Европе в его время. Эта философская система,
справедливо утверждает он, есть, конечно, самая простая,
ибо ничего не может быть проще и грубее, как сказать, что
всё — вещество, что нет ни Бога, ни духа, ни бессмертия души,
потому что мы их не видим и не трогаем руками. Поэтому
материализм есть последняя система последней эпохи: после него
или смерть, или возрождение.
Три вышеуказанные эпохи Леонтьев видит и в жизни
государств: развитие государства всегда сопровождается выясне-
330
нием и обособлением свойственной ему
политической формы, падение же государства выражается
расстройством этой формы, большим сходством с окружающим,
так как сама-то форма везде и всюду есть деспотизм
внутренней идеи, которая не даёт материи
разбегаться. Одно вещество должно при известых условиях
кристаллизоваться октаэдрами, другое — призмами; иначе они
не смеют, иначе они гибнут, разлагаются. Так же, конечно, дело
обстоит и с государственными организмами, и тот, кто хочет
быть истинным, а не мнимым реалистом, должен
и на них смотреть с подобной точки зрения. Но наши
реалисты, говорит Леонтьев, вовсе не хотят быть истинными
реалистами, когда рассуждают о государстве. Напротив, тут
немедленно выступают на сцену свобода, равенство,
благоденствие. Они принимаются как догматы веры, но при этом
уверяют, что это рационально и научно (стр. 144 и 162). Все
они стоят на предвзятой точке зрения или демократии, или
гуманности, и судят всегда, имея в виду определённую,
конечную цель, хотя делать этого не имеют никакого права:
конечная цель или конечная причина реалистам в науке воспрещена,
ведь это будет уже метафизика, которой они так не любят;
но, не отдавая себе отчёта, они свою метафизику выдают за
науку. Строгая научная мысль вовсе не должна иметь в виду,
при рассуждении о судьбах государств, столь любимой
демократами идеи благоДенствия.
Какое дело, спрашивает Леонтьев, честной, реальной
исторической науке до неудобств, до потребностей, до страданий?
Да и какое дело, спрашивает он, мне при отвлечённом
исследовании не только до чужих, но даже до моих собственных
стонов и страданий?1
Но вернёмся к рассуждению Леонтьева о государственных
формах. Они, по мнению Леонтьева, у каждой нации, у
каждого общества свои; государственная форма в главной основе
своей — одна и та же до гроба исторического, но меняется
быстрее или медленнее в частностях от начала до конца.
Читатель, хорошо знакомый с книгой «Россия и Европа»,
подметит, что эта мысль Леонтьева взята им у Данилевского,
и вообще мысль о том, что каждому народу присуща одна
какая-нибудь своя государственная форма быта, есть мысль всей
славянофильской школы и всех её последователей вплоть до
наших дней.
1 Вероятно, эта смелая и столь неожиданная для наших прогрессистов
постановка вопроса и дала повод некоторым, не читавшим Леонтьева,
утверждать о его сходстве с Ницше!
331
Но когда же, в какую эпоху жизни народной эта
государственная форма, ей присущая, проявляется всего полней и
явственнее?
Ответ может быть, конечно, только один: эта
государственная форма яснее всего определяется в цветущую эпоху жизни
государства, в период «цветущей сложности».
Итак, формы государственной жизни у разных народов в
цветущие эпохи их существования будут особенно отличны.
Но нашему автору удалось подметить некоторые характерные
особенности у всех государств в цветущие эпохи. Сначала,
в первичный период, простота и однообразие, а затем мы видим
более или менее глубокое разделение сословий,
большее разнообразие бы таи большее или меньшее
укрепление власти. Вместе с тем, с одной стороны увеличивается
богатство, с другой — бедность; возрастают потребности, но
тонкость ощущений и потребностей порождает больше грусти,
больше страданий, но зато и больше великих дел, больше
подвигов, больше красоты.
Кроме того, в цветущие эпохи всегда есть какая-нибудь
аристократия, политическая или только бытовая, с
положением, без резких прав (стр. 145, 146). Вспомним эвпатридов
Афин, оптиматов Рима, воинов Египта, маркизов Франции,
лордов Англии, знатных дворян первой половины XIX в. России
и т. д. Это характерное явление, подмеченное Леонтьевым,
можно сформулировать таким образом: развитие
государства, а с ним вместе и расцвет культуры,
творчество культурное невозможны без образования
привилегированного и зажиточного класса,
имеющего большой досуг. Что бы ни говорили
современные социал-демократы, но это так. С уничтожением или
упадком аристократии народной быстро понижается и народная
культура.
Разве мыслимы Шекспир, Рафаэль, Софокл, Пушкин без
той аристократии, к которой они или принадлежали или
которая питала их вкусы и настроения?
Поэтому Леонтьев постоянно подчёркивает важность для
культуры аристократических преданий и
сословного воспитания, которые, по его мнению, дают крепость
монархии и всему государственному организму. Вот почему он
так скептически относился к будущему молодых славянских
государств: ни у южных, ни у западных славян нет никакого
прочного и национального привилегированного класса. Благодаря
этому славяне (и греки тоже!) очень легко из патриархального
своего быта переходят в либерально-буржуазный: вчерашний
332
юнак или паликар очень быстро может стать либеральным
демагогом (стр. 128 и 129).
Эти мысли Леонтьева как нельзя более оправдала
современная история и Сербии, и Болгарии, да, кажется, и в
Черногории мы уже видим то же самое...
Для Леонтьева аристократия в каждой стране —
носительница исторических преданий и хранительница идеи
благородства, идеи чести. Вот почему он, между прочим,
ставил в упрёк Льву Толстому то, что тот в «Севастопольских
рассказах» постоянно старается отыскать у своих героев
тщеславие, и удивляется, что теперь так много приходится «писать
о тщеславии», а во времена Гомера или Шекспира этого не
было.
Но во времена Гомера и Шекспира, отвечает на это
Леонтьев, не находили ничего худого и презренного в том, что
человек думает о том, как взглянут на него люди высшие, более
знатные, сильные, более блестящие. Это казалось так тогда
естественно, так просто. И в наше «демократическое» время
разве у толпы, у низших, нет сильнейшего и вреднейшего
искательства? Им теперь заменилось естественное и вековое
желание низших классов чем-нибудь да сравняться с высшими,
с аристократией, понравиться этим высшим, иногда получить
доступ в их общество.
Это стремление, замечает Леонтьев, происходило часто и
не из одного самолюбия, а нередко оно было просто признаком
хорошего вкуса.
В цветущие эпохи народной жизни мнение среды своей,
своего сословия люди принимают к сердцу гораздо живее
нашего. В такие эпохи, как Гомера или Шекспира, преобладало
религиозно-аристократическое, или героическое
миросозерцание, а, следовательно, по мнению Леонтьева, и более
эстетическое, чем нынешнее ].
Кроме существования в цветущие эпохи народов
непременно какой-нибудь аристократии, Леонтьев подмечает ещё одну
особенность: в эти эпохи государственная жизнь
сосредоточивается непременно около одного л и -
ц а, даже в государствах с республиканской формой
правления; являются великие, замечательные диктаторы, императоры,
короли или гениальные демагоги (Периклы, Фемистоклы).
Но отчего же происходит это характерное явление? По
мнению нашего мыслителя, от того, что в эпоху цветущей
сложности есть наклонность к единоличной власти для объединения
1 О романах графа Л. Н. Толстого. М., 1911, стр. 93—96.
333
всех составных частей, всех общественно-реальных сил, полных
жизни и брожения (Восток, Россия и славянство, т. 1, стр. 146).
Ну а что же, спросят, страдания, в какую эпоху их
больше, в какую меньше? Когда больше столь любимого в наш
век «благоденствия»?
На это Леонтьев отвечает так: боль, страдания для
социальной науки самый последний из
признаков и самый неуловимый, ибо он субъективен; ведь нет
верной статистики чувству радости и чувству горя!
Революции и бунты не могут служить мерилом
благоденствия; часто, однако, приходится слышать, что бунт, революция
показывают отсутствие благоденствия. Но так ли это? Ведь
многие люди, справедливо замечает Леонтьев, веселятся
бунтом.
В доказательство он приводит такой пример: всякий, кто
в начале 70-х годов взглянул бы на критян, увидел бы, что они
живут гораздо лучше, богаче, веселее, например, фракийских
болгар; однако не эти последние, не пользовавшиеся и самой
малой долей благоденствия, восстали первые против турок,
а именно более богатые критяне. Мы от себя приведём ещё два
примера не менее, по нашему, характерных, чем пример
Леонтьева: жители Вандеи и Бретани, по единогласному
свидетельству всех современников, были гораздо беднее жителей южных
областей Франции, и однако они стояли за законную власть,
а богатые жители Марселя, Бордо, Лиона первые откликнулись
на призыв парижских демагогов в 1789 г. Другой пример:
в 1905 и 1906 годах саратовские мужики были несомненно
гораздо богаче и зажиточнее мужиков новгородских или
олонецких, и однако бунтовали и жгли помещичьи усадьбы первые,
а вторые оставались совершенно спокойными.
Итак, приходится согласиться с Леонтьевым, что мерило
благоденствия, как недоступное современной социальной науке,
нужно из наших рассуждений вовсе устранить и признать, как
это ни грустно для многих, что страдания
сопровождают одинаково и процесс развития, и процесс
разложения.
«Всё болит у древа жизни людской», — прекрасно сказал
наш мыслитель.
Но последуем за ним дальше в его рассуждении о
государстве. По мнению его, внешняя политика у каждого государства
не может быть бескорыстной, ведь государство — не физическое
лицо, и вся совокупность людей, живущих в данный момент
в государстве, не составляет еще целостного государственного
организма; к нему ведь принадлежат и все предшествующие
поколения, и все последующие. Поэтому государство,
334
утверждает Леонтьев, не имеет права на
самопожертвование (стр. 121). На первый взгляд это для многих
покажется странным и даже страшным. Но подумайте, и вы
увидите, что Леонтьев прав: ведь высшая форма
самопожертвования, как её понимают все великие религии, это отдача
своей жизни за жизнь другого. Представьте же себе, может ли
одно государство пожертвовать жизнью для другого.
Вообразите, что России, или, вернее, её политическим руководителям,
предстояла альтернатива: сохранить существование Англии,
Франции, Германии, вообще всех государств Западной Европы
ценою своего собственного существования, или же сохранить
свою независимость и своё существование ценою гибели всех
этих государств? Я думаю, что в таком случае ни один из
здравомыслящих русских людей не задумался бы в ответе, и даже
такой ярый защитник политики «бескорыстия», как Вл.
Соловьёв, затруднился бы посоветовать России такое
«самопожертвование!»
Таким образом, Леонтьев прав: государственные организмы
на высшую форму бескорыстия и самопожертвования идти
никогда не могут.
Из предшествующих рассуждений некоторые, пожалуй,
могут вывести, что Леонтьев, давая свою социальную гипотезу
жизни государств, совершенно не даёт в ней никакого места
человеческой самодеятельности. Но это
заключение было бы совершенно несправедливо.
Государство, говорит Леонтьев, есть, с одной стороны, как
бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и
плодоношения, повинуясь некоему таинственному, не
зависящему от нас повелению, но, с другой стороны, оно есть
машина, сделанная людьми полусознательно,
которая, однако, сама тоже образует,вырабатывает людей (стр. 145).
Таким образом, по Леонтьеву, человек в государстве есть
в одно и то же время и механик, и винт, и продукт этой
государственной машины. Поэтому, по социальной теории его, у
человека не отнимается вовсе право самодеятельности, он может
влиять в ту или другую сторону на жизнь государственного
организма.
Человек — каждый в отдельности — может или ускорять,
или замедлять процесс развития государства и тем
содействовать или противодействовать большей или меньшей степени
цветения и плодоношения государства, но он может вместе
с тем делать и обратное — содействовать и противодействовать
разложению государства. Тут Леонтьев и указывает на
взаимоотношения в государстве консервативных и
либерально-прогрессивных элементов.
335
Когда правы прогрессисты и когда консерваторы?
До времён Цезаря, Перикла, Людовика XIV и т. п. (т, е. до
времён цветения, до цветущей эпохи) правы прогрессисты,
отвечает Леонтьев. Они в это время ведут государство к
цветению и росту. Но после цветущей и сложной эпохи, когда
начинается процесс вторичного смешения и упрощения, все
прогрессисты делаются неправы в теории, хотя они часто
торжествуют на практике; думая исправлять, они только
разрушают. Консерваторы в эту эпоху вполне правы: они хотят
лечить и укреплять государственный организм, они редко
торжествуют, но, сколько могут, замедляют разложение,
возвращая нацию, иногда и насильственно, к культу создавшей её
государственности.
До дня цветения, говорит Леонтьев (стр. 151), лучше
быть парусом или паровым котлом, после этого невозвратного
дня достойнее быть якорем или тормозом для народов,
стремящихся, часто весело, к своей гибели.
Как справедливы эти слова Леонтьева! Разве не веселились
в древнем Вавилоне накануне взятия его Киром? Разве не
веселились в Риме накануне разорения его Аларихом? Почитайте
у бл. Иеронима!
Но из всех этих рассуждений возникает один вопрос: как
же человеку определить, кем ему надо быть, — консерватором
или либералом? Ведь на этот вопрос, по теории Леонтьева,
сознательно можно ответить, только зная, в какую эпоху
государственной жизни мы живём, в эпоху цветения или разложения?
Но узнать это очень и очень трудно. Однако Леонтьев далее,
говоря о гибели государственных организмов, даёт некоторые
указания на те признаки, которые показывают нам, что процесс
сложного развития кончился и начался процесс распадения.
Но его рассуждения о гибели государств мы изложим в самом
конце, а теперь обратимся к другому вопросу, вопросу
о долговечности государственных
организмов, который весьма подробно рассматривается нашим
мыслителем.
Надо заметить, что* рассуждение о долговечности государств,
пожалуй, самое слабое место всей теории Леонтьева. Мысли
его об этом предмете возбуждают целый ряд вопросов и
недоумений.
Он определяет продолжительность жизни государственных
организмов в 1000, 1200 лет. Насчёт древней Персии,
Еврейского царства, Карфагена, греческих республик и
эллинистических государств его наблюдение оказывается вполне верным, —
все эти государства жили не более 1200, 1000 лет, а большин-
336
ство из них прожили значительно меньше. Справедливо его
мнение и на счёт великого Римского государства, и оно
существовало 1229 лет (принимая 753 г. до Р. X. за «основание»
Рима, а 476 г. по Р. X. за его «падение»). Всем известно также,
что Византия существовала тысячелетие с небольшим.
Итак, мы видим, что относительно громадного большинства
древних государств хронологические выкладки нашего
мыслителя оказались справедливы. Только два государства оказались
в противоречии с его теорией — это древний Египет и Китай.
И в том, и в другом случае Леонтьев даёт такое объяснение
этого, по его мнению, кажущегося противоречия его теории:
государственная жизнь и Китая, и Египта, говорит он, резко
разделялась на целый ряд периодов, которые прерывались
иноземными завоеваниями. Эти периоды мало похожи друг на
друга и совокупность их всех едва ли можно рассматривать как
жизнь одного государственного организма. А в таком случае
отдельные периоды жизни этих государств вряд ли будут более
1000, 1200 лет. Кроме того, древний Египет, по словам
Леонтьева, жил в особенно благоприятных географических условиях
и долгое время мог не опасаться сильных, могущественных
соседей.
Однако надо сознаться, что все эти рассуждения не особенно
доказательны. Как-никак, а ведь остаётся фактом, что один
и тот же народ (китайцы или египтяне) жил
государственной жизнью значительно более 1200 лет. Пусть его
государственный быт в разные эпохи был весьма различен, но ведь
один и тот же народ создавал этот быт.
Поэтому более справедливо будет несколько ограничить
в данном случае обобщение Леонтьева и сказать, что в очень
редких случаях го су дарственные организмы
переживают более 1200 лет.
Рассматривая возрасты древних государственных
организмов, Леонтьев приходит ещё к одному любопытному выводу,
справедливость которого, нам кажется, может проверить
всякий: демократические республики жили менее
аристократических, сословные монархии держались крепче менее сословных
и восстанавливались гораздо скорее после разгромов (стр. 158).
Действительно, вспомним Персию, возродившуюся после
разгрома её Александром Великим, тогда как монархия,
основанная последним, была весьма недолговечна.
Прежде чем прийти к вопросу о том, каков возраст
современных европейских государств, мы остановим внимание
читателей на тех мыслях, которые Леонтьев высказывает по поводу
Византии и византизма.
J J К. Леонтьев
337
Византии Леонтьев в своих статьях посвятил довольно
много прекрасных страниц, обнаруживших в нём тонкую
историческую наблюдательность.
Как известно, Леонтьев идею византизма противопоставил
идее всеславизма, как идеи чисто племенной, не
претендующей ни на какие духовные ценности, которые так важны
в деле сближения между отдельными народами.
Прежде всего, Леонтьев даёт нам прекрасное определение
византизма. Византизм в государстве значит —самодержавие;
в религии он обозначает — христианство с определёнными
чертами, отличающими его от западных церквей, ересей и
расколов. В нравственном мире византийский идеал не имеет того
высокого и, во многих случаях, крайне преувеличенного
понятия о земной человеческой личности, которое внесено в историю
германским феодализмом, — византийский нравственный идеал
имел всегда наклонность к разочарованию во всём земном...
Наконец, византизм, как и всё христианство, отвергает всякую
надежду на всеобщее благоденствие народа (статья «Византизм
и славянство», стр. 81).
Вот что такое, по мнению Леонтьева, идея византизма.
Началом византизма Леонтьев считает принятие римским
императором христианства, благодаря чему у христианской
Византии явилось новое и в высшей степени спасительное орудие
дисциплины, которого древний языческий Рим не имел.
Как государство, Византия была не молода, — она
доживала жизнь государственную старого Рима; но Византия была
молода своей религией. Кесаризм византийский опирался на
две силы: на новую религию и на древнее государственное
право, сформулированное Юстинианом так хорошо, как ни одно
право до него сформулировано не было.
Леонтьев отмечает ещё одну характерную особенность
Византии, мало отмечаемую историками, — это отсутствие
в Византии революций. Бунты в Византии случались
часто, даже слишком часто, но революции там не
было ни одной. Кесарей, говорит Леонтьев, изгоняли,
убивали, меняли, но святыни кесаризма никто не касался. Людей
меняли, но изменить организацию в основе никто не думал
(см. стр. 86, 178 и мн. др.)- Это и дало возможность
просуществовать государству более тысячи лет на почве расшатанной,
полусгнившей, среди самых неблагоприятных обстоятельств.
Самые ереси, которые так сильно волновали государство и
ставили Византию иногда на край гибели, по мнению Леонтьева»
были показателями богатой духовной жизни византийского
народа. Замечательное обстоятельство: к X веку ереси
прекратились, и государство быстро пошло к упадку. Торжество
338
простого консерватизма для государства оказалось так же
гибельно, как и слишком смесительный прогресс. Церковь была
для себя права. Её нравственная жизнь не ослабела.
Православию предстоял ещё бесконечный путь, но под осмысленно
приостановившейся философией Церкви государство
продолжало существовать уже скуднее прошлого. Оно слишком
смешалось- Права все были до того уравнены, что торговцы, воины
всяких племён могли становиться не только сановниками
империи, но даже императорами.
С X века зрелище Византии становится всё проще, всё суше,
всё однообразнее. Наконец Византия, как государство, палз.
но, как культура, византизм царил ещё долго и приобрел
для себя Россию и других славян. Произошло это потому, что
культуры обыкновенно надолго переживают государства, их
создавшие (опять та же мысль, что и у Данилевского).
Византизм лёг в основу нашей Великорусской
государственности и нашей культуры. Он
вразумил и согрел нас крепко и умно.
Однако, говорит Леонтьев, мы неблагодарны по отношению
к Византии. Византийское общество много пострадало от
равнодушия и недоброжелательства писателей Запада, от
неподготовленности и незрелости нашей русской науки.
Византия представляется чем-то сухим, скучным, поповским,
чем-то жалким и даже подлым! Между тем, говорит Леонтьев,
источники для истории Византии у нас есть, источники крайне
близкие нам, но нет ещё искусных людей, которые бы сумели
приучить наше воображение и сердце к образам этого мира,
столь далеко отошедшего, а с другой стороны, столь нам
близкого и родного! (стр. 90).
Так писал Леонтьев о Византии в 1874 году. Не забудем,
что в то время ещё вовсе не было тех прекрасных научных
исследований, которые существуют теперь и у нас, и за
границей. Такие крупные учёные силы, как Крумбахер, Гельцер,
Герцберг в Германии, Диль и Шлюмберже во Франции,
Васильевский, Успенский, Кондаков, Скабаланович, Васильев,
Айналов у нас в России, — все они появились значительно
позднее.
То, что говорил тогда о Византии Леонтьев, было своего
рода историческим прозрением. Разве его слова,
сказанные о византийском обществе 36 лет назад, не напоминают
то, что говорит современный учёный византист Ш. Диль:
«Византийское общество было способно на великий подвиг
и энергию, оно в продолжении многих веков, в тяжёлые для
государства минуты всегда умело находить в своей среде необ-
22*
339
ходимые источники для продолжения своего не бесславного
существования» К
Через 36 лет мы можем не краснеть перед нашим автором:
у нас появились учёные, работающие над Византией,
появляются и солидные исторические труды, способные ознакомить
с Византией и широкие круги русского общества2. Но всё же
и теперь приходится считаться с такими, например, печальными
фактами, как почти полное игнорирование истории Византии
нашими учебниками и многими преподавателями средней
школы. Встречаешь и до сих пор бранное слово «византийщина»
у некоторых современных публицистов, напр. из «Русского
слова»..,
Мысли Леонтьева о Византии отвлекли нас от его основных
рассуждений. Мы опускаем его рассуждения и доказательства
о глубоком проникновении византизма в нашу русскую жизнь
(это может составить материал для отдельной статьи), а
перейдём прямо к вопросу, в какой же период жизни живут
современные европейские государства?
Ответ на этот вопрос тесно связан с вопросом о возрасте
современных государств.
И вот, определяя этот возраст, Леонтьев совершенно
справедливо указывает, что началом собственно
западно-европейских государств нужно считать отнюдь не V век (после
великого переселения народов), а IX или X, т. е. эпоху Карла
Великого. До того времени жизнь носит ещё большой отпечаток
греко-римских и византийских начал. Но вот церковь Запада
отделяется совершенно от церкви Православной. В
подражание Византии и вместе как бы на зло ей, Западная Европа
создаёт себе своего кесаря. Вот где начало западно-европейских
государств, и вот когда начинает определяться самый характер
западной культуры.
Эта западная культура сложилась из византийского
христианства, германского рыцарства, эллинской эстетики и
философии, к которой Европа не раз прибегала для освежения, и,
наконец, из римских муниципальных начал (стр. 160). И вот
с X века начинается развитие этих четырёх начал. Они
постоянно вступают между собою в борьбу, но эта борьба нисколько
не мешает блестящему развитию европейской культуры. И За-
1 Ш. Диль. «Византийские портреты*. Персв. Кирилешского, 1911 г.,
т. II, стр. 103.
2 Мы разумеем 1-й том «Истории Византии» проф. Ю. Кулаковского.
Киев, 1910 г.
340
пад создаёт, наконец, такую цивилизацию, такую культуру,
равной которой по сложности и красоте ещё
никогда не было К
Таким образом, до XVIII, а в некоторых
западно-европейских государствах и до XIX века мы видим разнообразнейшее
развитие. Припомним, что говорилось раньше: это будет как
раз соответствовать, по терминологии Леонтьева, периоду
цветения и сложности. Самым блестящим периодом
в жизни Западной Европы (т. е. периодом наиболее
интенсивного культурного творчества) Леонтьев считает время от
эпохи Возрождения до конца XVIII в, (стр. 163).
Он совершенно прав: все историки единогласно
свидетельствуют о богатстве содержания в эту эпоху. Европа сложнеет,
крепнет, расширяется на Африку, Америку, Австралию. Но вот
расширение продолжается, однако сложность начинает
выцветать; начинается политическое и гражданское смешение.
Сначала провозглашаются «Les droits de Thomme», которые
принимаются на практике сначала бурно во Франции, а потом
более мирно во всей Европе.
Затем равенства в правах уже мало: требуется
равенство умственное, экономическое, половое. Леонтьев в этом
месте своих рассуждений приводит в пример анархический
идеал Прудона и социалистический идеал Кзбе. Но мы теперь
можем привести гораздо лучшие примеры: всемирная социал-
демократическая рабочая партия разве не к этому равенству
стремится? Прочтите любую нашу «красную» брошюрку эпохи
1905—1907 гг., и вы убедитесь в справедливости предсказаний
или, вернее, указаний нашего мыслителя.
А разве современные шумные и болезненные проявления
стремлений ко всякому равноправию со стороны «передовых»
женщин всего мира не доказывают ясно мысли Леонтьева и
о половом равноправии?..
Да, Леонтьев вполне прав: всё в Европе сглаживается,
смешивается, упрощается. Более наблюдательные путешественники
отмечают в последнее время один факт: не только новые
здания в стиле модерн в столицах Европы делаются похожи друг
на друга, и благодаря этому сглаживается своеобразная,
индивидуальная прелесть каждого города, но и сама городская
толпа в различных европейских столицах удивительно
делается похожей одна на другую: парижская толпа похожа на
венскую, венская на берлинскую и т. д.
1 Вспомните стихи Хомякова: «А как прекрасен был тот Запад
величавый...»
341
Всё это стирание индивидуальных отличий, это всеобщее
стремление к удовлетворению одних материальных
потребностей уничтожает всякую красоту1, всякое изящество, всякое
благородство и только подготовляет царство какого-нибудь со-
циал-демократического «Конвента» и то «равенство всеобщей
сытости», которым ещё недавно возмущался В. С. Соловьёв.
Современная Западная Европа представляется Леонтьеву
какой-то толчеёй, всех и всё толкущей в одной ступе псевдо-гу-
манной пошлости и прозы (стр. 164).
Приёмы этого нового уравнительного (эгалитарного)
прогресса, к которому идёт Европа, сложны, а цель груба. Цель
всего — средний человек, буржуа, спокойный среди
миллионов точно таких же спокойных людей. . .
Вот где точка соприкосновения нашего мыслителя с
гениальным безумцем немецкой философии! Ведь «средний человек»
всего более возмущал и Ницше, и тот, в противовес этому
идеалу, создал свой идеал «сверхчеловека». Но из этого
совпадения весьма неосторожно было бы выводить мысль о
сходстве вообще воззрений Леонтьева и Ницше.
У первого мы видим спокойное исследование, научный
анализ, никаких увлечений, никаких туманных блужданий. У него
всё до ясности просто.
Затем, неужели Леонтьева, этого ярого поклонника
аскетического христианского идеала, можно сравнивать с Ницше?
Последний вовсе не понимал христианства. Оно ему казалось
именно одной из причин того опошления, того уравнения,
которое он наблюдал в современной ему Европе. Леонтьев же
старался показать, что именно забвение аскетических
идеалов христианства и привело Запад к его современной
социал-демократической пошлости, от которой брезгливо
отвернулся даже такой мыслитель-реалист, как Герберт Спенсер
(вспомните его «Грядущее рабство»).
Всё несчастие европейского общества, по мнению Леонтьева,
и происходит потому, что оно высокий идеал аскетизма
заменило идеалом земного гуманизма и утилитаризма, а христианскую
любовь к Богу — заботами о всеобщем материальном благе
(стр. 161).
Но пойдём дальше за нашим мыслителем. По его глубокому
убеждению, нынешний, так называемый, европейский прогресс
вовсе не есть процесс развития, он есть процесс вторичного
смесительного упрощения, короче — процесс разложения.
1 «Теперь преобладает миросозерцание утилитарное с эгалитарной
наклонностью»,— пишет Леонтьев в 1890 г. в статье «О романах Толстого»,
стр. 97.
342
Действительно, что такое современная европейская
культура XIX века? Это смесь старо-британского личного и
корпоративного свободолюбия с плоской равноправностью,
которую выдумали в 89-м году французы, и прежде всего на гибель
самим себе.
Но, добавим от себя, развивая мысль Леонтьева, ведь
и сама-то революция 89 г. была, в значительной степени,
попыткой приложения к французской
действительности ложно понятой англо-саксонской
идеи. Ведь знаменитые реформаторы национального
Учредительного собрания добросовестно (введенные в заблуждение
Монтескье и Вольтером) старались привить Франции принцип
разделения властей, который якобы существовал в тогдашней
Англии.
То же самое стремление привить мнимобританские идеалы
и идеалы 89 года Леонтьев наблюдает и в Испании. Последняя
была искони абсолютной монархией. Её же в XIX веке
пытаются превратить в прогрессивно-конституционную. И не
Леонтьев, а мы уже видим, какую жалкую политическую величину,
после всех этих экспериментов, представляет современная
Испания, которая теперь утеряла почти все свои, когда-то великие,
колониальные владения!
Эта мысль Леонтьева о современной Испанки, вскользь
брошенная им, может быть теперь подтверждена авторитетным
научным свидетельством: года два назад нам довелось слышать
в Педагогическом институте весьма интересную публичную
лекцию профессора С.-Петербургского университета Д. К. Петрова
«О Доношо Кортесе и Герцене». Давая любопытную
характеристику испанского консерватора — Доношо Кортеса, проф.
Петров, между прочим, сказал, что, по его мнению, вся история
Испании за последнее столетие есть попытка привить
монархической и католической культуре Испании чуждые ей принципы
1789 года1.
Далее Леонтьев рассматривает историческую судьбу
Германии и Пруссии. Последняя, по его словам, только потому и
победила Австрию в 1866 г. и Францию в 1871 году, что у неё
1) был почти всевластный король, проникнутый старыми
доблестями и христианской набожностью, 2) конституция у Пруссии
в то время была плохая (т. е. не мешала правительству
делать своё дело), 3) она имела ещё привилегированную и
воинственную аристократию (прусское «юнкерство»). Но и Пруссия,
победительница, заражена тем же духом, что и побеждённая
1 Почтенный учёный, мы надеемся, не посетует на нас за то, что мы
цитируем его на память.
343
Франция: она д ем о кр а ти з у етс я (стр. 165—167). Опять
мы должны обратиться к недавним историческим событиям,
которые вполне подтверждают то, что было сказано
Леонтьевым 30 лет назад.
Разве теперь социал-демократия не сделала величайших
завоеваний в самой столице Пруссии? Почти все депутаты от
Берлина в Рейхстаге — социал-демократы. Разве ещё не на
нашей недавней памяти произошла демократическая реформа
прусского ландтага?
Об Австрии, по мнению Леонтьева, и распространяться не
для чего. Там демократизация била всем в глаза уже в его
время.
Остаётся одна Англия. Здесь ещё эгалитарный процесс
выразился не так резко (не забудем, что это Леонтьев писал
в 1882 г., т. е. до так называемой парламентской реформы
Гладстона). История Англии сильно отличается от истории
других европейских стран. Англии, по мнению нашего автора,
много посчастливилось тем, что она долгое время сбывала свои
горючие элементы в колонии. Великобритания смешалась и
даже упростилась сначала за океаном и тем спасла себя от
внутреннего взрыва в метрополии, от насильственной
демократизации у себя дома.
Но вот в 20-х и 30-х годах в Англии начался
демократический процесс, у неё появились свои радикалы. Однако их
успехи были весьма медленны. С точки зрения теории Леонтьева,
это надо объяснить следующим образом: Англия вела
постоянно завоевательную политику, целое множество новых и
оригинальных стран присоединила она, а завоевание новых,
оригинальных стран, по мысли Леонтьева, единственное
спасение для государства при начавшемся процессе вторичного
смешения.
И посмотрите, как оправдываются мысли его в наши дни!
Решительно везде, а в Англии особенно, либеральные
правительства— миролюбивы (а радикальные французские
министерства ещё более чем миролюбивы, они трусливы!),
консервативные— воинственны. Как воинственно настроена была,
например, Англия при консервативных правительствах лордов Са-
лисбери и Бальфура (вспомните: фашодский инцидент,
постоянные войны в северо-восточной Индии, англо-бурская война), и
как она, несмотря даже на явную опасность со стороны
Германии, миролюбиво настроена теперь при разных Асквитах и
Греях!
Итак, процесс демократизации, процесс разложения идёт и
в Англии, но Леонтьев от души желал, чтобы процесс этот
344
совершался в ней как можно медленнее, чтобы она дольше
оставалась примером сложности и охранения 1.
Однако нам суждено, кажется, быть свидетелями того, чего
так опасались и Хомяков, и Леонтьев: теперь крайние теории
вигов восторжествовали, демократическая волна залила
победно и старую консервативную Англию. Вековое значение палаты
лордов, а следовательно, и значение английской аристократии,
в течение многих веков стоявшей на страже мировой английской
политики, благодаря последней радикальнейшей
парламентской реформе пало навсегда. Англия демократизовалась так же,
как и другие страны. Теперь в ней не будет того якоря,
который сдерживал бы демократические увлечения палаты общин.
Таким образом, рассмотрев судьбу всех западно-европейских
государственных организмов, Леонтьев приходит к выводу, что
в Европе всё демократизуется, а следовательно всё приходит
во вторичное смешение, всё разлагается (стр. 173).
Трагизм положения современного европейского общества
состоит, однако, ещё в том, что оно само-то не сознаёт, к чему
идёт. Европа поверила в смешение, в уравнение, как в идеал
самого государства; она приняла, образно говорит Леонтьев,
жар изнурительной лихорадки за прорезывание младенческих
зубов.
Теперь для нас ясно, в какой период жизни живут
современные западно-европейские государства: период сложного
цветения для них уже более столетия как кончился, они живут
в третий период, упадка, вторичной простоты и смешения.
Сравнивая современную Европу с древними государствами,
Леонтьев приходит к выводу, что и там в период падения мы
наблюдаем уравнительные и смесительные процессы.
Особенно удобно, конечно, Леонтьеву доказать свою мысль примером
древнего Рима. Кому не известно, что там уравнительный
процесс демократизации шёл параллельно с упадком? В
печальнейшую для империи эпоху III века происходит уравнение
в правах всех свободных жителей государства.
Мы, конечно, найдём довольно много разницы в степени
упрощения и смешения элементов у древних государств и у
современной Западной Европы, но, в общем, и тут и там — один
и тот же эгалитарный процесс демократизации.
Однако европейская государственная культура развилась
гораздо глубже, сложнее всех прежних государственных систем,
почему и для постепенного падения её потребовалось тоже та-
1 Характерно, что ещё в 40-х годах, посетив Англию, этот же процесс
демократизации предсказывал и А. С. Хомяков, выражавший также по
поводу этого глубокую грусть (см. его «Письмо об Англии»).
345
кое героическое средство, как вера в демократический
прогресс.
Из последних рассуждений Леонтьева о том печальном
периоде жизни, в котором, по его мнению, находятся сейчас
западно-европейские государства, можно уже логически было бы
вывести всё то, что он говорит о гибели государств.
Признаки государственного разложения почти у всех государств
одни и те же: везде под конец жизни государств однообразие
прав и большее против прежнего однообразие воспитания не
уничтожает, однако, вовсе антагонизма интересов, а,
напротив, усиливает, так как ведь и потребности и претензии
делаются сходнее (а следовательно, удовлетворить их уже
гораздо труднее!).
Кроме того, в этот третий период жизни государств
начавшееся ещё в период цветения экономическое неравенство
особенно усиливается параллельно с увеличением
политического равенства.
Все эти, однако, вторичные смесительные процессы не
составляют ещё причины гибели государств. Они только её
признаки. Причину же надо, по мнению Леонтьева, искать в
человеческой психологии. Человек, утверждает Леонтьев,
ненасытен, и развитие рационализма, падение древних верований
приводит в массах только к возбуждению разрушительных
страстей вместо их обуздания авторитетами.
Любопытно отметить, что совершенно, конечно, независимо
от Леонтьева, но к тем же самым выводам приходит и
известный современный французский мыслитель Гюстав Лебон.
Прочтите вступительные главы его замечательной «Психологии
социализма», и вы увидите, что он думает то же, что и
Леонтьев. Кратко мысль Лебона можно сформулировать так:
распространение полуобразования (настоящее образование ведь
очень немногим доступно!) создаёт в массах претензии,
которых они, однако, не в состоянии удовлетворить. А эта
неудовлетворённость порождает то глубокое недовольство, на почве
которого играет современная социал-демократия. Резкое же
сознание неудовлетворённости создаёт в полуобразованных,
пропитанных либеральным духом массах зависть, злобу и все
разрушительные инстинкты.
Вспомните, почему, действительно, капитан Копейкин у
Гоголя делается разбойником? Он хочет так же хорошо кушать,
так же попивать хорошее вино, как и другие. А ему говорят:
«Нет, вы по своему положению этого не можете иметь». Но
он — поклонник равенства (он ведь был в заграничном походе
346
и, наверное, знаком с теорией egalitc!), он не может этого
вынести и... делается разбойником! Теперь бы, в наши дни,
капитан Копейкин, конечно, стал социал-демократом!
Как ни смехотворен последний пример, но он прекрасно
подтверждает мысль Леонтьева и Лебона. Разве современные
«пролетарии всех стран» не стали почти сплошь капитанами
Копейкиными? Разве, желая есть, пить и вообще жить так же,
как буржуа или аристократы, они не готовы на всякую
разбойничью проделку? Мы ещё хорошо помним наши
экспроприации и французские саботажи. Если они не смогут сделать всех
одинаково богатыми (что, конечно, невозможно), то они уж
постараются, по справедливому замечанию Лебона, сделать
всех одинаково бедными.
Социализм, пишет Леонтьев, пережил уже свой героический,
благородный период, но теперь, опошлившись, проникнув в
массы, он стал ещё более опасен. Он считает возможным, что
современные западно-европейские государства сольются когда-
нибудь в одну федеративную, грубо-рабочую республику.
И, конечно, такой переворот «будет подготовлен не на
розовой воде и сахаре, а предложен будет человечеству путём
железа, огня, крови и рыданий!» (стр. 182).
Что же тогда будет делать Россия? Ей представится только
два исхода: или 1) она в этом ужасном прогрессе должна будет
^подчиняться Европе, или 2) она должна устоять в своей
отдельности.
Конечно, для Леонтьева, как и для всякого русского
человека, у которого не атрофировано ещё совершенно чувство
любви к родине, возможно решение этого вопроса только в
последнем смысле.
Но для того, чтобы устоять в своей отдельности, чтобы не
испытать той печальной судьбы, которая грозит государствам
западно-европейским, мы, русские, по мнению Леонтьева,
должны меньше думать о благе, а больше о силе (стр. 183),
которая понадобится нам или для того, чтобы остановить натиск
на нас этой федеративной Европы, или для того, чтобы в эпоху
страшного переворота в ней спасти в ней самой то, что
останется у неё светлого и благородного...
Но изложение мыслей Леонтьева о том, что нужно делать
нам для того, чтобы иметь эту силу, или, иначе говоря, какова
должна быть внутренняя и внешняя политика России, — уже не
входит в нашу задачу.
Мы изложили в главнейших чертах общие
культурно-исторические воззрения Леонтьева. Социальные гипотезы его, по
347
нашему глубокому убеждению, не только не устарели, но,
напротив, благодаря им можно хорошо объяснить многие
явления современной нам европейской действительности.
П. Е. АСТАФЬЕВ
сДОБРАЯ ССОРА ЛУЧШЕ ХУДОГО МИРА»
... Почти но всём, что было мною до сего времени
напечатано, г. Леонтьев может найти метафизическое и
психологическое подтверждение и оправдание своих историко-публицнетн-
ческих симпатий и антипатий, которых сам он никогда научно
и систематически обосновывать не пытался, например,
оправдание его законной ненависти ко всеопошляющему и всемертвя-
щему смешению вообще, к космополитическим, унитарно и
эгалитарно-либеральным чаяниям и стремлениям нашего вре^
мени, к современному повальному, обезличивающему
утилитаризму и позитивизму и т. д. И всё то, что существенно в
нашем русском культурном идеале (православие,
самодержавие, отчуждённость от политиканства и филистерского са*
модовольства европейского буржуа и т. д.) нам обоим равно
дорого. Сам г. Леонтьев говорит, что «искренне сочувствует почти
всем мыслям», выраженным мною в статье «Национальное
самосознание». Да и мне никогда не приходило в голову укорять
г. Леонтьева во враждебности русскому культурному
идеалу, против чего он, однако, по изумительному
недоразумению в своих сбивчивых фельетонах так страстно протестует.
Укорял я его и теперь продолжаю укорять в неоправданном
логически отрицании национального начала как
начала и политической жизни и культуры во-
обще...
Можно соглашаться насчёт свойств и значения русского
культурного идеала, вовсе не касаясь вопроса о
принципиальном признании или непризнании значения
национального начала вообще, и если бы г. Леонтьев на
этой нефилософской, не затрагивающей принципов, но
легкопублицистической почве оставался, то никакого серьёзного
спора между нами и не было бы. Но, любовно относясь к
русскому культурному идеалу, до того любовно, что это
его вводит даже в далеко не философское и не этическое
ослепление насчёт Запада, который по его мнению заслуживает
внимания лишь как пример неподражания —г. Леонтьев
отрицает общее принципиальное значение
национального начала вообще, вступая уже в область прин-
348
ципов философии, а не публицистических мудрствований
только. И здесь спор между нами и неизбежен, и серьёзен: спор
о том, в каком отношении стоит культура к
национальности, иначе — возможна ли и желательна ли
прочная культура вне национальности, на
ненациональной почве? Я это последнее решительно отрицаю и во
всей статье моей «Национальное самосознание», и в некоторых
других брошюрах (например, «Смысл истории и идеалы
прогресса»); г. Леонтьев столь же решительно признаёт это и
в брошюре своей «Национальная политика», и в «Византизме
и славянстве», и во многих статьях своего Сборника.
В этом принципиальном вопросе наше непримиримое
разногласие, а вовсе не в вопросе о том, каков русский
культурный идеал и как должно к нему относиться, о чём
исключительно желает, по-видимому, говорить г. Леонтьев.
Относительно последнего, повторяю, между нами разногласие только
во второстепенных подробностях. Так, например, избегая
смешения в одной куче существенного и несущественного, я, ко-
нечно, поостерёгся бы назвать в числе характерных черт
русского культурного идеала неотчуждаемость крестьян*
ских земель и сословный строй. Признавая и то и
другое весьма сообразными с потребностями современной
жизни и достойными сочувствия политическими мерами, я
отнюдь не подумал бы связывать их с существом более
глубоко коренящегося «национального русского идеала»; особенно
не связывал бы с ним сословного строя. Г. Леонтьев не
стесняется делать это, хотя и упоминает («Гражданин», № 144),
что «славянофилы всегда были сторонниками бессословности»
(почему бы это?!), что, впрочем, не мешает ему утверждать
опять в № 147, что славянофил Данилевский только как-то
случайно не додумался до сословного строя! Всё это,
повторяем, не важно, тем более, что и систематичность в
развитии мысли и строгая точность в определении понятий,
обязательные для философского рассуждения, в полухудожественных,
полупублицистических, но всегда эмпирических (не
этиологических, но семиологических) рассуждениях, каковы все
работы г. Леонтьева, не очень требуется.
Иное дело в вопросе не о программе (вопрос,
поглощающий всё внимание г. Леонтьева), а о самом принципе
национальности. Свой взгляд на национальный дух и его
отношения к культуре я сформулировал совершенно точно,
признав, что «национальный дух составляет ту незаменимую
личной мыслью почву, на которой развиваются и из которой
получают свою мощь, жизнеспособность и глубину самые
общечеловеческие (культурные) идеалы; от него же
349
последние получают и свою определённость, законченную
форму.
Inde irae г. Леонтьева!
На г. Киреева он не негодует, потому что последний не
формулировал ему этого принципа прямо: я же имел
неловкость по привычке мыслить философски, высказать перед
г. Леонтьевым прямо это начало, с которым онинехочети
не может согласиться. Он любит национальную
особенность вообще, как любит всякую особенность, вносящую
в жизнь разнообразие, характер, борьбу, силу, — любит её как
эстетик, и моралист, видя в ней богатейший и красивейший
материал для построения полной содержанием и
характерной культуры. Но отсюда далеко до признания
национальной самобытности за самую основу и руководящее,
дающее самой культуре жизнь, форму и силу,
начало этой культуры.
Последнего значения за национальным началом г. Леонтьев
никогда не признавал и признать не может. Такое
признание было бы с его стороны отречением от всего своего
литературного прошлого. Слишком много сил, страсти и
дарования положил он в этом прошлом на проповедь византизма,
и слишком хорошо знает он, что дорогая ему византийская
культура всегда была не национальной (о византийской
национальности никто не слыхивал), но эклектической,
искусственно выращенной, для того, чтобы помириться с моим
понятием о национальности как необходимой основе и
формирующей силе всякой мощной и жизнеспособной культуры.
Для него и основа и формирующая сила жизни, повторяю,
лежат в самой культуре, для которой национальность —
только материал, не более!
С. Л. ФРАНК
МИРОСОЗЕРЦАНИЕ КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА
Вряд ли кто из русских читателей, не интересующихся
специально богословской литературой, обратил внимание на
книгу свящ. Аггеева *; между тем, она чрезвычайно поучительна
именно не с богословской, а с общей культурно-философской и
общественно-исторической точки зрения. Она содержит обстоя-
* Свящ. Конст. Аггеев. Христианство и его отношение к благоустроснию
земной жизни. Опыт критического изучения и богословской оценки
раскрытого К- Н. Леонтьевым понимания христианства. Киев, 1909.
350
тельное изложение жизни и учения малоизвестного, к
сожалению, но выдающегося русского мыслителя Константина
Леонтьева. Автор использовал для своей книги отчасти совершенно
новый материал — рукописные тетради Леонтьева, содержащие
критические заметки последнего о печатных оценках его
произведений. Литература о Леонтьеве невелика, собственные его
сочинения (за исключением двухтомного сборника статей
«Восток, Россия и славянство») разбросаны по старым журналам
и почти недоступны; Леонтьева мало знают и ещё меньше
понимают. Если не считать более старых критических отзывов
о Леонтьеве, то единственными источниками ознакомления
с ним могли служить только заметка Вл. Соловьёва в
«Энциклопедическом словаре» (перепечатана в IX томе Собрания
сочинений) и статья Н. А. Бердяева (в его книге «Sub specie
aeternitatis»). Книга К- М. Аггеева пополняет, таким образом,
существенный пробел в литературе. Леонтьев, во всяком случае,
заслуживает, чтобы его знали и с ним считались. Лишь для
непосвящённых или крайне нечутких людей покажется
парадоксальным утверждение, что по силе, глубине и богатству
духа — правда, духа больного, несчастного, в корне
раздираемого внутренней дисгармонией, — Леонтьев представлял
совершенно исключительное явление. По нашему личному мнению,
Леонтьев в качестве религиозного мыслителя — вернее сказать,
в качестве «философа» в ницшевском смысле, т. е.
«законодателя и судьи ценностей», превосходит в среде русских писателей
и Вл. Соловьёва, и Толстого, и уступает только
Достоевскому.
Мы не берёмся судить о Леонтьеве с той точки зрения, с
которой его преимущественно оценивает К. М. Аггеев: мы не
решаемся дать определённый ответ на вопрос, в какой мере идеи
Леонтьева действительно соответствовали христианству и, в
частности, православному мировоззрению (на что претендовал сам
Леонтьев). Мы чувствуем себя лично совершенно
некомпетентными к тому и — независимо от этого — опасаемся, что вопрос
этот в известной мере и не допускает вполне объективного
решения: слишком уж широко понятие христианства и слишком
много иногда противоположных мировоззрений оно исторически
обнимало собой. В общем, вероятно, тезис почтенного автора
рассматриваемой книги придётся признать бесспорным:
миросозерцание Леонтьева есть, во всяком случае, чрезвычайно
одностороннее и в высшей степени своеобразное христианство —
уже потому, что сама духовная личность Леонтьева была
совершенно самобытной.
Гораздо важнее для нас общая оценка мировоззрения
Леонтьева вне отношения к догматической системе какого-либо ве-
351
роучения. В этом отношении, как указано, у нас сделано ещё
весьма мало. Общественное мнение, привыкшее у нас вообще
к внешним, политическим критериям, знает Леонтьева только
как яростного реакционера и изувера. Ив. Аксаков определял
его учение как «сладострастный культ палки». Этим дана
довольно меткая характеристика выводов мировоззрения
Леонтьева, но нисколько не определены его посылки и внутренняя
связь его содержания. Свести идеи Леонтьева к системе, открыть
логическую взаимозависимость отдельных частей его учения,
в сущности, и невозможно: слишком противоречивы и
самостоятельны те мотивы, под влиянием которых оно сложилось. Как
совместить эстетическую страсть к богатству и сложности
жизни с изуверским монашеским аскетизмом, как соединить
глубочайший пессимизм с романтической верой в возрождение
византийского строя или тонкую любовь к свободному и
самобытному многообразию жизненных явлений с цинической
проповедью самодовлеющего значения государственного насилия?
Несмотря, однако, на это противоречивое иррациональное
сплетение отдельных ветвей духовного существа Леонтьева, в нём
есть некоторый общий корень. Этот корень сам состоит из двух
неразрывно слитых частей, и его вернее всего можно было бы
определить как эстетическое изуверство.
Что страстный, органический эстетизм был основным
свойством натуры Леонтьева — в этом согласны все его
критики. В книге Аггеева эта черта отмечена весьма ярко на
основании чисто биографических (и автобиографических) данных.
Известно также, что именно этим мотивом определялась
фанатическая ненависть Леонтьева к «эгалитарному» прогрессу,
к будничным, мещанским, прозаическим и обезличивающим
формам современной европейской цивилизации. «Не ужасно ли
и не обидно ли было бы думать, что Моисей входил на Синай,
что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели
Пунические войны, что гениальный красавец Александр в
пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Ар-
беллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали,
поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах
для того только, чтоб французский, немецкий или русский
буржуа в безобразной и комической своей одежде
благодушествовал бы «индивидуально» и «коллективно» на развалинах
всего этого прошлого величия?..» Эта мысль, которая во
множестве оборотов встречается у Леонтьева, роднит его не только
с Ницше, близость к которому и в других отношениях весьма
замечательна, но и с соответствующими пессимистическими
размышлениями о современной культуре у Дж. Ст. Милля,
Герцена, Ибсена и др.; она роднит его вообще с романтической
352
тоской по красоте и сложности старых форм жизни. Что
выделяет Леонтьева из общего романтического течения и является
его индивидуальной своеобразностью — есть сочетание
эстетизма с изуверством, с мрачным пессимизмом, с суровой, почти
извращённой любовью к жестокости и насилию. Религиозный и
моральный фанатизм суть явления общераспространённые и
привычные; эстетический фанатизм есть загадка, воплотившаяся
в трагической личности Леонтьева.
Эстетизм сам по себе гораздо более тяготеет к оптимизму,
к любовному, всепрощающему, гармоническому умонастроению;
его часто упрекают в индифферентизме, в отсутствии
необходимой меры фанатизма. Классический тип эстетического
духовного склада выражен в «олимпийском»,
гармонически-благостном, оптимистическом умонастроении Гёте. Гёте лишь по
недоразумению и близорукости обвиняли в аристократизме и
холодной, гордой замкнутости; напротив, самая характерная черта
его мироощущения, сближающая его со Спинозой, состоит
в том, что он ничего не отвергает и не проклинает всецело, ни
в чём не видит одного только зла или ничтожества, а,
напротив, всё принимает и благословляет, чует всюду родство между
низшим и высшим, и дуализм добра и зла побеждает своим
всепримиряющим художественно-пантеистическим чувством.
Точно также в современных формах романтической
религиозности— в «De profundis» Оскара Уайльда и у Метерлинка —
мы видим преодоление суровой, карающей моралистической
религии чувством универсальной эстетической гармонии,
ощущением религиозной святости всякого проявления жизни и
человеческой души. «Преодоление морали» идёт здесь в сторону
отрицания зла; эстетическая оценка, вытесняя моральную, учит
всюду видеть Бога, всё любить и всюду улавливать
гармоническую, положительную, благую сторону. Леонтьев — также
«аморалист» по глубочайшей основе своего мировоззрения; он
ярко и остро, оставаясь в полном одиночестве среди
окружавшего его общерусского морализма, ощущает недостаточность,
мелкость, почти пошлость и ограниченность исключительно
моралистического отношения к жизни. «Всё хорошо, что
прекрасно и сильно: будь это святость, будь это разврат, будь это
охранение, будь это революция, всё равно. Люди не поняли ещё
этого...» Он оправдывает преступления, указывая на
«бесконечные права личного духа, до глубины которого не всегда
могут достигать общие правила законов и общие повальные
мнения людей». Всю уверенность и, вместе с тем, невыразимость
своего отрицания морали Леонтьев лучше всего обнаруживает
в следующих словах: «Независимая от „страха Божия" и
вообще от какой-нибудь обрядно-мистической религии сухая ны-
23 К. Леонтьев
353
нешняя мораль, сознаюсь, мне просто ненавистна по причинам,
объяснения которых для людей простоватых должны быть очень
пространными и потому здесь неуместны, а умные и так
согласятся со мной».
Но эстетический аморализм Леонтьева имеет не
оптимистическую, а ярко пессимистическую окраску; он направлен не
на преодоление самого понятия зла, а скорее на признание
прав зла как такового. Сходно с Ницше и Бодлером, но,
пожалуй, ещё сильнее их, Леонтьев ощущает красоту всего
трагического и демонического; болезненная острота этой любви к
трагическому граничит у Леонтьева почти с садизмом. Где нет зла и
насилия, порождающих трагедию, там для Леонтьева жизнь
скучна и пошла; всякое благополучие, всякая спокойная
добродетельность есть начало духовного разложения и смерти. «Что
лучше — кровавая, но пышная духовно эпоха Возрождения или
какая-нибудь нынешняя Дания, Голландия, Швейцария —
смирная, зажиточная, умеренная?..» Леонтьев был смел духом
.и не боялся выводов; свою любовь к трагедии и к злу он
исповедовал ие отвлечённо или теоретически, а клал в основу своей
практической общественной программы. В пору всеобщего
негодования на турецкие зверства мнимый «славянофил»
Леонтьев бестрепетно выступил с принципиальной защитой их во
имя красоты героизма. «С отупением турецкого меча, — говорит
он, — стало глохнуть религиозное чувство... Пока было жить
-страшно, пока турки' насиловали, грабили, убивали, казнили,
пока во храм Божий нужно было ходить ночью, пока
христианин был собака, он был более человек, т. е. был
идеальнее» *.
Это демоническое ощущение красоты зла и насилия в
конечном счёте определило всё миросозерцание Леонтьева. Оно
привело его к фанатической проповеди двух основных типов
насилия— внешнего и внутреннего, государственного деспотизма
и религиозно-аскетического самоистязания. Особенно интересно,
как этот мотив доводит эстета Леонтьева до религиозного
изуверства. Его религия и с объективной, и с субъективной её
стороны, — и как богопознание, и как идеал душевного
настроения— всецело обусловлена этой эстетической любовью к
насилию и трагизму. Бог есть для него только грозный властитель
и мстительный судья, а практическое значение религиозности
сводится к жёсткому аскетизму, к душевной борьбе и
принудительному истреблению всех естественных побуждений. Во внеш-
* Брандес передаёт аналогичную мысль Ибсена. «Что за чудесная
страна— Россия!—заметил он как-то. — Людей там бьют, и они вырастают
героями!»
354
ней и внутренней жизни Леонтьев требовал только бича и
узды для воспитания той душевной тревоги и напряжённости,
той мрачной энергии отчаяния и неудовлетворённости, в которой
выражается красота трагедии. Эта беспредельная любовь к
трагическому, в конечном счёте, направилась против своего
собственного источника: эстетическая жажда широты и
многообразия жизненных форм, признание «бесконечных прав духа»
были отданы в жертву всепорабощающему государственному
деспотизму и религиозному аскетизму, н прирождённый язычник
стал афонским монахом, не переставам, однако, до конца
жизни страдать от этой непреодолённой двойственности.
К Леонтьеву mutatis mutandis применимы слова, некогда
сказанные о Гоббсе: он был революционером в услужении
реакции. Весь радикализм его исконно мятежного духа, глубина
и богатство его несомненно болезненной и заблудшей мысли по
сравнению с обыденным морализмом и социальным
оптимизмом начинают уясняться нам только теперь, после Бодлера,
Ницше, Ибсена. Среди наших русских мыслителей, теперь уже
относящихся к прошлому, Леонтьев, бесспорно, один из самых
интересных и своевременных, несмотря на некоторые явные
уродства его умонастроения. Быть может, большинство ещё и
теперь обратит внимание лишь на общественные и моральные
заблуждения Леонтьева и увидит в примере Леонтьева только
предостережение против всяких новых исканий, против всяких
попыток переоценки традиционных политических и
нравственных ценностей. Таким духовно консервативным прогрессистам
мы лично открыто предпочитаем духовно прогрессивного
реакционера Леонтьева. Надвигающаяся неотложная задача
перестройки и углубления наших культурных идеалов требует, чтобы
общественная мысль перестала только шокироваться
политической «неблагонамеренностью» Леонтьева и игнорировать его
за неё, а отнеслась к нему беспристрастно и с полной духовной
свободой.
Л. А. ТИХОМИРОВ
ТЕНИ ПРОШЛОГО. К.Н.ЛЕОНТЬЕВ
Моё знакомство с Константином Николаевичем Леонтьевым
относится к двум последним годам его жизни, 1890 и 1891. Сам
я в это время был уже человеком вполне сложившимся,
выработавшим все основы своего миросозерцания. Мы встретились
как люди умственно равноправные, и то, что оказалось у нас
сходным и родственным, — было каждым выработано самостоя-
33*
355
тельно и различными путями. Благодаря меня за присылку
брошюры «Социальные миражи современности», Леонтьев сам
писал мне из Оптиной Пустыни: «Приятно видеть, как другой
человек и другим путем (подчёркнуто Леонтьевым) приходит
почти к тому же, о чём мы сами давно думали» (7 авг. 1891 г.).
Но мы приходили именно только к «почти» тому же. Разница
всё же была и осталась. (Некоторые мои взгляды, основанные
на наблюдении социально-политической жизни Европы,
являлись для него новыми и неожиданными. С другой стороны, для
меня были новы его взгляды на византийский элемент в России,
так как я в то время был довольно поверхностно знаком с ви-
зантизмом. Всё это вместе взятое, и сходство и различие, — и
взаимное уважение самостоятельности мысли — быстро
сблизило нас, и у обоих рождало даже проекты совместной
работы).
Ко времени личного знакомства мы уже знали друг друга
заочно. Греческие его повести я читал давно. В 1889 же году
Грингмут (Владимир Андреевич) обратил моё внимание на
«Восток, Россию и славянство» как в высшей степени
замечательное произведение. Он прибавил, что почти во всём
согласен с Леонтьевым. Но Катков (Михаил Никифорович) об этой
же книге отозвался, что «Леонтьев дописался до портиков».
Грингмут же был и называл себя безусловным учеником
Каткова. Думаю поэтому, что он не «почти во всём», а только кое-
в-чём соглашался со взглядами Леонтьева. Как бы то ни было,
конечно, и я не мог не признать «Восток, Россию и славянство»
одним из замечательнейших произведений русского ума.
Со своей стороны, Леонтьев отнёсся с большим вниманием
к нашумевшим тогда брошюрам моим, обрисовывавшим моё
мировоззрение. Таким образом, когда Грингмут познакомил нас
в 1890 году лично, — мы встретились как будто давно знакомые.
Эта встреча произошла в Москве. Леонтьев жил тогда ещё
в Оптиной Пустыни, где я никогда не бывал, но наезжал в
Москву, помнится, три раза по разным делам. В то время на
Страстном бульваре, близ Тверской, против самого монастыря
была гостиница «Виктория», не роскошная, но пользовавшаяся
репутацией очень приличной. В ней останавливались многие
известные лица, как Ольга Алексеевна Новикова, Владимир
Карлович Саблер и т. п. Тут же останавливался и Леонтьев.
В первый приезд он занимал большую комнату с
отделениями во втором этаже. Во второй приезд я его застал уже
в первом этаже: ему было трудно подыматься на второй.
Вообще, всё время нашего знакомства его здоровье постоянно
ухудшалось, он становился всё более хилым, несмотря на то,
356
что ему не было и 60 лет. * Между прочими недомоганиями он
серьёзно страдал болезнью почек и приезжал в Москву отчасти
для врачебного совета и производства анализов. «Многия раны
грешнику», — повторял он.
После Оптиной Пустыни он приезжал ещё раз в Москву из
Сергиевского Посада и останавливался в гостинице «Париж»
на Тверской. За все эти пребывания в Москве я бывал у него
постоянно. Ездил к нему и в Сергиев Посад, где он жил в
Новой Лаврской гостинице. В общей сложности за краткое время
нашего знакомства я видел его очень часто, сидя подолгу,
беседуя большею частию наедине, серьёзно и сердечно. Мы
сошлись очень быстро, сообщая друг другу и интимные
подробности жизни, и свои духовные запросы, делясь мыслями и о
будущем. (Разница лет не составляла помехи дружескому
сближению, потому что я по пережитому, выстраданному и
продуманному был много старше своих лет, тогдашних 38 и 39 лет).
Быть может, вследствие этих частых личных бесед, у нас
не было большой переписки, из которой у меня сохранилось
всего 6—7 писем. Два или три письма я отдал не то о. Иосифу
Фуделю, не то А. А. Александрову, когда у них затевалась
какая-то публикация воспоминаний о Леонтьеве. Может быть,
эти письма даже напечатаны, но, конечно, без моего имени, так
как я просил безусловно не упоминать обо мне.
Когда я познакомился с Леонтьевым, он уже был
физически не по летам хил, не мог много ходить, даже и в церкви
обзаводился стулом, чтобы сидеть при богослужении. Тряска и
шум железной дороги его чрезвычайно утомляли, и он в
первое же свидание произнёс целую обвинительную речь против
этого способа передвижения. В современной жизни, говорил он,
всё соединяется для того, чтобы выводить человека из
душевного равновесия, раздёргивать ему нервы, не давать
возможности ни глубоко наблюдать жизнь, ни спокойно обдумывать её
явления. Прежде, бывало, проедешь на лошадях несколько
сот верст, — так наберёшься множества знаний и мыслей,
видишь страну, её природу, её жизнь и обитателей, их обстановку.
По железной дороге мчишься как угорелый, ничего не видя,
кроме вагонов и вокзалов, одинаковых повсюду. Шум, гвалт,
тряска, свистки — приводят голову в одурманенное состояние.
В вагоне даже и с соседями трудно разговаривать: каждую
минуту остановки, пассажиры входят и уходят, собирают и
раскладывают вещи, суетятся, тормошат друг друга. И так — про-
* Он родился в 1831 году, умер в 1891 году, 60-ти лет от роду {здесь
и далее прим. Л, Тихомирова).
357
летаешь сотни верст — ничего не видя, с оглушённой головой,
раздражёнными нервами и притуплённой мыслью.
Физическая слабость Константина Николаевича нисколько,
однако, не отражалась на его душевном состоянии. В этом
отношении он казался моложе своих лет. Его мысль всегда
оставалась ясной и светлой, ощущения свежими и тонкими. Он всем
интересовался, способен был увлекаться. Лицо его бросалось
в глаза: худощавое, с тонкими чертами, оно было
выразительно и подвижно. Голос оставался свеж и звучен, речь —
остроумна, полна счастливо найденных выражений. Всё у него было
изящно, дышало аристократичностью, культурно выработанной
породой. Рода его я, впрочем, не знаю. Фамилия матери его —
была Карабанова, и от Карабановых у него оставалось в
Калужской губернии имение, в котором он некоторое время
проживал. Совершенно не знаю обстановки его воспитания, но
у него проявлялась какая-то прирождённая властность,
стародворянская тонкость вкуса, а также и стародворянская
распущенность. Вообще он производил впечатление утонченно
развитого русского барина. С этим связано и его какое-то
физиологическое отвращение от всякого «хамства».
Хуже «хамства» для него не было ничего на свете. А что
такое «хамство»? Неразвитость умственная, неразвитость
вкуса, неразвитость личности, отсутствие собственного
достоинства и неуважение к чужому достоинству, отсутствие
великодушия и истинного мужества, вообще ряд черт,
противоположных понятию «рыцарства» и «благородства».
В первое время моего знакомства с Леонтьевым на обычном
фоне его пессимистического настроения часто проскальзывали
полоски светлого оптимизма. Не очень-то веря этому, он всё-
таки поддавался иллюзорной надежде на национальное
возрождение России. Такой самообман был в ту эпоху вполне
естественен. Те, кто не переживал лично времени Александра III,—
не могут себе и представить резкой разницы его с эпохой
Александра II. Это были как будто две различные страны. В эпоху
Александра II — весь прогресс, всё благо в представлении
русского общества неразрывно соединялись с разрушением
исторических основ страны. При Александре III вспыхнуло
национальное чувство, которое указывало прогресс и благо в
укреплении и развитии этих исторических основ. Остатки прежнего,
антинационального, европейского, каким оно себя считало, были
ещё очень могущественны, но, казалось, шаг за шагом
отступали перед новым, национальным. Эта «реакция»
национального против европейско-революиионного была так сильна, что
даже пессимистический Леонтьев преувеличивал её значение,
и мы по этому предмету спорили с ним. Я говорил, что антина-
Э58
ционалыю-революционное движение у нас непременно скоро
возобновится. Леонтьев же полагал, что национальная «реакция»
продолжится ещё много времени и успеет развить большие силы
для противодействия антинациональному. «Сколько времени, по
Вашему мнению, может длиться эта реакция?» — спрашивал
он. Я отвечал: «Лет пять-шесть»... Он только плечами вздёр*
нул. «Что Вы! Уж, по крайней мере, лет 25». Мой глазомер
оказался вернее, и вспышка прежнего
антинационально-революционного настроения произошла у нас немедленно с началом
нового царствования Николая II. Леонтьеву, однако, этого уже
не довелось увидеть, и он последние годы жизни провёл в
надежде, что в России в широком национальном масштабе может
повториться тот же процесс возрождения, который он пережил
в самом себе.
Ему казалось, что он замечает это и по своей личном судьбе.
До тех пор непризнаваемый, отрицаемый и более всего
игнорируемый родной страной, он теперь почувствовал как будто
некоторое признание. О нём там-сям заговорили, стали искать
знакомства с ним. В сущности, таких людей было очень
немного, но на Константина Николаевича, по сравнению с прежним,
и это производило впечатление. В Москве у него тогда бывали
Грингмут, Говоруха-Отрок, цензор Залетов, некто Чуффрин,
студент Погожев (Евгений Николаевич, писавший под
псевдонимом Евгений Поселянин), студент Духовн. Академии Попов
(Иван Васильевич, впоследствии профессор); бывали, конечно,
Александров (Анатолий Александрович) и тогдашний редактор
«Русск. обозрения» ки. Цертелев (Дмитрий Николаевич).
Бывал, конечно, я. Священник Фудель в это время находился
в провинции. Думаю, что я перечислил чуть ли не всех его
посетителей. Число небольшое. Все они, конечно, уважали его
и ценили, и Константин Николаевич имел вид патриарха этого
маленького круга националистов. Это его утешало и окрыляло
надеждами; он начинал думать, что в России есть ещё над чем
работать, и планы работ начинали роиться в его голове.
Вообще, ему дано было провести конец жизни в относительно
светлом настроении. Он мог думать, что он не изгой в своей родине,
а первая ласточка той весны, которая изукрасит свежими
цветами Россию, совсем было посеревшую в пыли своего
псевдоевропеизма.
Аналогия между своими личными переживаниями и
возможной эволюцией России легко могла представляться уму
Леонтьева, потому что в пережитом им переломе было не
появление чего-либо безусловно нового, а возрождение старого. Он
был глубоко русский тип как до своего перелома, так и в
самом переломе и после него. Он в самом себе нёс ту двойствен-
359
ность, которая раздирает современную русскую душу,
совмещающую две противоположные основы жизни и эволюции. Их
борьба и составила психологическую драму, пережитую
Леонтьевым.
Душа его всегда хранила в подсознательной области
старорусский тип строителей Земли Русской. Воспитание сделало из
него «интеллигента» новой России, отрицателя органических
основ своей страны и потому глубокого «нигилиста». Нигилизм
косматый, неумытый, в нечищенных сапогах — претил
брезгливости тонко развитого эстетического дворянства. Но сущность
нигилизма порождалась самой же дворянской культурой по
мере того, как высший образованный класс отрешался от
исторических основ, делаясь нечувствительным к их
«категорическим императивам». Это совершалось под знаменем европейской
культуры, но из чужой культуры можно брать, в лучшем случае,
только плоды её, а не те корни, которые порождают эти плоды.
Отрешаясь от своих корней и не имея возможности прирасти
к чужим, —мы обрекались на господство отрицания над
положительным творчеством. Такова и была участь исторической
работы нашей интеллигенции.
Её очень характеристическую черту составляет уничтожение
веры в Бога, вследствие чего личность человека остаётся без
всяких директив, без всяких сдержек. Она может дерзать на
всё, чего захочет, на овладение чем хватает её силы. Это —
основа нигилизма, как вульгарного, так и утонченного,
ницшеанского, который даёт разрешение на такое дерзание не каждому
первому встречному, а натуре высшей, «сверхчеловеческой»»
У Леонтьева, с его дворянским презрением к мелкой сошке, с его
утончённой мыслью и эстетизмом, и были черты ницшеанские.
Когда у него не было Бога, он мог дерзать на всё. Конечно, он
не делал ничего, относящегося к категории презираемого им
«хамства», но там, где его соблазняло эстетическое сластёнство,
у него были поступки прямо безобразные, вроде истории с Фе-
ничкой, о которой он многим рассказывал.
Леонтьев по специальности был врачом, кончил курс в
Москве и состоял сначала врачом на службе. В одном глухом углу
хозяин, где он проживал, опасно заболел, и Леонтьев очень
внимательно ухаживал за ним. Хорошенькая Феничка, жена
больного, очень любившая мужа, не знала, как и угодить доброму
доктору. Но на беду у него зашевелилась эстетическая
чувственность, и он стал соблазнять Феничку. «Эх, Феничка, вы мне
всё предлагаете разные угощения, а мне нужно только одно»,
т. е. её саму. Он ей так прямо и сказал, и она отдалась ему.
Леонтьев не подумал даже о том, что сначала это могло
случиться просто из страха рассердить доктора и оставить мужа
360
беспомощным. Потом она, однако, привязалась к соблазнителю,
да, вероятно, ей стыдно было и глядеть в глаза мужу,
начавшему поправляться. Леонтьеву уже нужно было уезжать, и Фе-
ничка умоляла взять её с собой. Но Константин Николаевич
начисто отказался и прямо сказал, что он вовсе не намеревался
себя навсегда связывать. Не знаю, что сталось с бедной Фенич-
кой и узнал ли муж о поступке доктора, которого он горячо
благодарил за заботливость. Но я, конечно, не мог не высказать
Леонтьеву, что он нарушил тут элементарнейшие требования
порядочности. Он с этим ничуть не согласился.
«Ведь я тогда не верил в Бога, — возразил он. — Конечно,
если Бог запрещает, то я должен слушаться. Но если Бога нет,
почему же мне стесняться? Ведь это мне было очень приятно»
Почему я должен был лишать себя удовольствия? Да ведь и
Феничке было приятно, а муж ничего не знал».
Таким образом, по его рассуждению, только Бог может
устанавливать нравственный закон. Бога нельзя не послушаться и
по страху перед Ним, и по нравственному перед Ним
преклонению. Если же Бога нет — можно делать, что угодно.
Нравственный «категорический императив» вытекает только из
божественной сферы. Страшен только грех, а если нет Бога, то и грех
не страшен. И грехов он совершал очень достаточно. Я не
допытывался о них, и даже неприятно было слышать его признания,
в которых он доходил до циничности, замечая иногда —
«бывало и похуже». Но он сам говорил об этом, как будто испытывая
потребность исповеди и самообличения.
В таком состоянии неверия и усыпления нравственного
«императива» находился он, когда в 1863 году перешёл на службу
Министерства Иностранных дел и начал исполнять должность
консула в различных местах Турции. Здесь он оставался до
1873 года, и это десятилетие было эпохой его полного
внутреннего перелома. Этот психологический процесс произошёл далеко
не случайно именно в Турции. Напротив, нигде Леонтьев не мог
найти более благоприятных условий для пробуждения в своей
душе — старорусского человека, выработанного византизмом,
но уже дремавшего под оболочкой новорусского европеизма.
Только здесь он мог ощутить ещё живые веяния того
органически ему родного, которое в России было всюду густо
заштукатурено и закрашено при перестройке жизни на европейский лад.
В Адрианополе, где Леонтьев служил, в Константинополе, где
он часто бывал, в Салониках, в Албании — он попал в
атмосферу фанариотов, хранителей точек зрения древней Византии.
Он увидел повсюду, даже на Кандии, — жизнь, в которой
Православие свято оберегалось как палладиум национального
самосохранения. Он познакомился с Церковной иерархией, всецело
361
проникнутою тем же внзантизмом. Даже в турецкой
мусульманской среде весь быт строился на религиозной дисциплине.
Религиозно-социальная жизнь, так сильно потускневшая в
России, здесь охватывала Леонтьева во всей своей свежести и
поэтической красоте. Для эстетика эта красота имела огромное
значение. Она приковывала чувство его к тому, на чём мысль
без посредства чувства не остановилась бы так легко.
Леонтьев жил до тех пор без веры в Бога и на всей свободе
побуждений своей автономной личности, не признающей над
собою никакого владыки. Эта автономность, конечно, давала
ему легкий доступ к наслаждению, но я полагаю, что она не
давала ему счастья. Он делал всё, что хотел, но ощущал свою
жизнь пустою, без глубокого содержания, не связанную ничем,
но зато и не связанную ни с чем великим в мире.
Беспочвенная автономность вытекала у Константина Николаевича не из
существа его души, а из интеллигентного воспитания, из
внешней коры, которая облекла существо души. Существо же это —
наследие органической национальной жизни, было, наоборот,
проникнуто потребностью живого единения с тем, что составляет
величайшую основную силу бытия, и такого же единения с
какой-либо великой социальной коллективностью. Пусть такое
единение связывает свободу, но только оно одно даёт полноту
жизни, а потому и счастье. Здесь» в атмосфере византийских
преданий, Леонтьев почуял родной голос, открывающий ему
эту психологическую истину, родной, п. ч. это был тот самый
голос, который говорил в благочестивых строителях старой
Русской земли. От них была рождена душа Леонтьева, и здесь,
на почве древней Византии, ощутила своё истинное содержание,
сознала себя. Не сразу это, конечно, совершилось. Но
внутренний человек, пробуждаясь в Леонтьеве, начал пробиваться
сквозь внешнюю кору, в которую был закутан воспитанием,
рвал нити, связывающие его с наносным европеизмом,
срастался снова с древними корнями, от которых был оторван. Этот
процесс завершился, наконец, «переломом», возрождением в
Леонтьеве его основного, органического типа и презрительным
отбросом маски европеизированного типа. Константин Николае*
вич, конечно, и сам не мог бы сказать, с какого времени в нём
стал пробуждаться внутренний человек, но ясно, что это не
могло произойти сразу и что у него был более или менее долгий
период, в течение которого назревала повелительная
потребность прийти к Богу.
Внешне заметным, даже драматическим образом этот
перелом проявился в 1870 году (а может быть, и в 1869). Леонтьев
по делам службы, а отчасти просто для удовольствия, приехал
куда-то в довольно далекую от Константинополя дачную мест-
362
ность, прелестную в смысле природы, очень глухую в смысле
культурном. Время было летнее, жаркое. Там и сям появлялась
сильная холера. Расположившись в своей временной квартире,
Константин Николаевич должен был принять, как консул,
каких-то наших торговцев, жаловавшихся на взятки или
притеснения турецких властей. Обязанность защищать торговцев
вообще была для него неприятна. «Я, — говорил он, — по правде
сказать, терпеть не мог этих купчишек. Сами мошенник на
мошеннике, а туда же: не смей с него турок взять взятки», Но
приходилось, конечно, исполнять долг службы. Побеседовал он
с ними и отпустил. Торговцы же, по случаю приезда консула,
поднесли ему, в виде приветствия, икону. Леонтьев даже не
взглянул, какая икона, но в стене был гвоздь, и он приказал её
тут повесить. Затем он отправился гулять, заходил в ресторан,
возвратился домой усталый и разгорячённый от жары, разделся
и с удовольствием улёгся спать у открытого окошка,
обвеваемый прохладным ветерком. Так он заснул. Проснулся он уже
прямо от холода и тут же почувствовал-конвульсии в животе.
Начался понос и рвота, все признаки холеры. Что делать? В ме*
стечке не было ни врача, ни аптеки. Леонтьев приказал слуге
отправить призывные телеграммы в Константинополь. Но это
было почти бесполезно. Нетрудно было рассчитать, что он
может умереть несколько раз, прежде чем кто-нибудь успеет
прибыть на помощь. Его охватил страх, между тем припадки всё
усиливались. Он лежал, изнемогая, на диване, и взгляд его
случайно упал на икону, повешенную на стене против него.
Оказалось, что это была Божия Матерь. Он невольно стал
всматриваться. Она глядела на него грустно и строго. Ему, между
тем, становилось всё хуже. Смерть наводила на него ужас. Не
хотелось умирать, страстно хотелось жить. Пристальный взгляд
Божией Матери начал раздражать его. Ему казалось, что Она
пророчит ему смерть, и он в припадке ярости крикнул иконе,
потрясая кулаком: «Рано, матушка, рано! Ошиблась. Я бы мог
ещё многое сделать в жизни». Припадки гнева и холеры
чередовались у него, и, наконец, его охватило чувство беспомощной
покорности. Он начал молиться Божией Матери, умоляя Ее
спасти его и обещая, что, если Она сохранит его в живых, — он
примет монашество*.
И тут произошло нечто, показавшееся ему чудом. Он вдруг
вспомнил — точно кто-то шепнул ему, — что у него есть опиум.
По случаю распространения холеры он обычно брал его с со-
* Этот эпизод неодинаково передаётся в воспоминаниях о Леонтьеве.
Я рассказываю так, как слышал от него самого и помню совершенно
отчетливо. В кавычках >ставлю фразу, которую вспоминаю буквально.
363
бой при поездках. Как он мог забыть это? Он бросился к
чемодану и действительно нашёл драгоценный пузырёк. Леонтьев,
как врач, хорошо знал дозировку и проглотил максимальную
порцию опиума, не опасную для жизни. Лекарство быстро
подействовало, он впал в забытье, крепко заснул и спал чуть не
целые сутки. Проснулся он — здоровый, холерические припадки
исчезли. Прибывший со всей возможной поспешностью врач
оказался уже не нужен.
Так совершилось первое проявление перелома в душе
Леонтьева. Но состояние его чувства и сознания оставалось смутно
и хаотично. В Бога он всё-таки не верил, а Божию Матерь
сознавал как живое существо, полное благости. Он чувствовал
к Ней глубокую благодарность, а в то же время и страх.
Нарушить данное Ей обещание он считал совершенно
невозможным, но и исполнение его, при более хладнокровном
размышлении, оказывалось чем-то фантастическим. Нужно было
оставить службу, разрушить все планы жизни — и всё это при
отсутствии веры в Бога. Об этих сложностях не с кем было даже
посоветоваться, не возбуждая толков, что он просто сходит
с ума.
Среди таких недоумений он решил поехать на Афон, где
в русском Пантелеимоновском монастыре тогда славился отец
Иероним, как «старец» великой духовной мудрости. Нетрудно
было придумать для поездки служебный предлог, и Леонтьев
отправился на монашеский полуостров, «удел Божией Матери»,
во всём консульском величии. В то время консул на Ближнем
Востоке представлял совсем не ту скромную величину, как в
государствах Западной Европы. Это было лицо очень важное,
с большими полномочиями и влиянием. Для произведения
должного впечатления на восточные умы он окружался и пышным
церемониалом. И теперь Константин Николаевич ехал к месту
смиренного покаяния на превосходном коне, с эскортом
вооружённых кавасов в живописных костюмах. По дороге его
встречали колокольным звоном, а русский монастырь принял
представителя России ещё более торжественно. Настоятель со всей
братией вышел к Святым воротам, приветствовал именитого
посетителя соответственным словом, потом пригласил в церковь,,
потом следовало угощенье. Наконец, нужно было бы и
отдохнуть, но Леонтьев заявил, что ему необходимо переговорить
с о. Иеронимом, и желание его было немедленно исполнено.
И вот именитый посетитель, которого о. Иероним только что
встречал с таким почётом, оставшись с ним наедине, бросается
ему в ноги и умоляет немедленно постричь его в монашество.
При этом он сознаётся, что в Бога не верит. Нервный и
взволнованный вид Леонтьева ещё более поразил о. Иеронима. Он
364
старался его успокоить, начал объяснять, что невозможно так
сразу постригаться, необходимо сначала устроить свои дела
в миру, чтобы быть свободным, необходимо подготовиться,
пройти послушание и т. д. Да и как же, не веря в Бога, идти в
монахи? Много пришлось о. Иерониму за несколько свиданий
толковать с мудрёным посетителем о Боге, вере и неверии, о
монашестве и т. д. Хотя отсрочки крайне огорчали Константина
Николаевича, но эти беседы осветили предстоящий ему путь
жизни, и поездка на Афон оказалась плодотворною.
Препятствий для пострига оказывалось и долго оставалось
очень много. Не знаю, когда женился Константин Николаевич,
но, во всяком случае, уже это одно составляло большое
препятствие, тем более что брак этот явился тяжким крестом
в жизни Леонтьева. Он был страстно влюблён в жену свою,
которую описывал как редкую красавицу, но затем её постигла
неизлечимая душевная болезнь. Она тяжёлым бременем лежала
на его руках, на его попечении, покинуть её было невозможно.
Но и помимо больной жены, трудно было махнуть рукой на свои
литературно-публицистические работы, которые теперь более,
чем когда-либо, являлись в его глазах служением людям и
Церкви. Наконец, нужно было иметь и средства к
существованию. Среди всех этих усложнений исполнение обета
пострижения постепенно затянулось у Леонтьева почти на 20 лет и
совершилось только в последний год его жизни.
Но подготовка к этому и работа над собой началась у него
немедленно. Он вышел в отставку и прожил на Афоне целый
год под руководством о. Иеронима. Это было в 1871/72 году.
О. Иеронима он любил и чтил как никого и ставил выше отца
Амвросия Оптинского, под руководством которого находился
позднее. У меня сохранилось письмо Леонтьева, в котором он
их сравнивает. Говоря о том, что для духовной жизни
необходим и катехизатор (учитель теории), и старец (руководитель
самой жизни, в её частностях), он поясняет:
«Для меня отец Иероним Афонский был и катехизатор, и
старец (в 1871/72 году), но в Оптиной (с 74 до 78 года) дело
слагалось иначе. Мне нужно ещё тогда было кое-чему
доучиваться, но после Иеронима отец Амвросий ничуть не
удовлетворял меня. Слова его, всегда очень краткие, спешные,
элементарные, на меня мало действовали. У него, вследствие жизни
среди мира, а не в Афонском удалении, и паства была
несравненно многолюднее, чем у Иеронима*. Кроме того, — он уже
и в 1874 году был гораздо слабее Иеронима, и, наконец, у него
видимо не было тех философских и богословских наклонностей,
* Почему он мог уделять Леонтьеву гораздо меньше времени.
365
которые были в высшей степени сильны у Иеронима... Иероним
сам находил удовольствие по целым часам спорить и
рассуждать со мной о вере, о монашестве, загробной жизни, о днаволе
и т. п. Он и о своей молодости и прошлой жизни охотно
рассказывал мне... (О. Амвросий ничего не рассуждал, всё
торопился, всё просил говорить короче и уходить скорее...) К тому
же я невольно видел разницу в размерах дарований,—не
духовных, эти могли быть равны, а природных. У Иеронима были
оба ума, и теоретический, и практический; он и рассуждал
замечательно, и делал дело превосходно. И учил общему, и
руководил частностями. В от. Амвросии я нашёл только
практический ум, только руководителя. К тому же, почти неожиданно
обращенный незадолго до того Иеронимом к самому
существенному—к «страху греха», которого до 72 года у меня уже
с юности не было, — влюблённый даже в него*, как женщина,
всюду преследуемый его величественной, весьма суровой и
обожаемой тенью, я беспрестанно и невольно сравнивал их, и
(увы!) к невыгоде моего нового пастыря. Не к нравственной
невыгоде! О нет! Они оба нравственно были очень высоки, оба
жизнью святы... скорее уж к эстетической, что ли, невыгоде.
От. Иероним никогда не смеялся, улыбался по два-три раза
в год, никогда не шутил. От. Амвросий всегда был весел, часто
шутил, любил разные поговорки и рифмы в народном вкусе,
и мне вначале это ужасно не нравилось. От. Иероним способен
был сказать о чувстве изящного так: «Да! Что делать! У кого
это чувство сильно, тот от него не отделается. Надо стараться
дать ему только более безгрешное направление». От. Амвросий
ничего такого мне не говорил. От. Иероним (самоучка из старо-
оскольских купцов 20—30-х годов) читал с удовольствием
Хомякова и Герцена и рассуждал со мною об них. От. Амвросий
давно уже почти ничего не читал... И если бы не Климент, то
не знаю, к чему бы привели меня поездки в Оптину» **.
Эти объяснения Леонтьева достаточно показывают, какое
значение в его развитии имело пребывание на Афоне и
руководство о. Иеронима. Недаром его воспоминания об Афоне дышат
таким светлым чувством. Впрочем, то же светлое чувство
охватывало для него и всю жизнь Ближнего Востока, на котором он
ощутил свою старо-русскую, византийско-русскую душу,
аскетически религиозную, социально дисциплинированную,
проникнутую иерархичностью, а в бытовом отношении полную
самобытной красотою. Параллельно с этим у него всё более развива-
* То есть в Иеронима.
** О. Климент (Зедергольм) сделался катехизатором Леонтьева, а о.
Амвросий — старцем. На Афоне то и другое соединялось в Иерониме.
366
лось отрицание и отвращение в отношении современного
европейского прогресса, демократического, эгалитарного и
материалистического, в своей средней однородности подавляющего
самостоятельность и высоту личности.
После пребывания на Афоне Леонтьев возвратился в Россию
и, живя в своей калужской деревне, посещал недалёкую Опти-
ну Пустынь в полумонашеском положении ученика о. Климента
Зедергольма и о. Амвросия. Так прошло 4 года. Он достиг уже
больших успехов в личной выработке. Он дошёл до счастья
веры н Бога. Но литература не могла ему давать достаточно
средств, а срок прежней службы не давал права на пенсию.
Леонтьев решил сно;*а поступить на службу и несколько лет
пробыл членом Московского Цензурного Комитета, пока не вышел
(в 1887 г.) вторично в отставку. (На этот раз друзья могли
ему уже выхлопотать пенсию, и он поселился в Оптиной
Пустыни, где за смертью Климента поступил окончательно под
руководство о. Амвросия). Разумеется, все жгучие интересы
жизни Леонтьева не имели уже ничего общего со службой;
и в Московском Цензурном Комитете сохранилось только
воспоминание о разных причудливых его выходках. Так,
например, в повести какого-то либерального беллетриста,
отданной на рассмотрение Леонтьева, одно из
действующих лиц в разговоре с другим выражало сентенциозное
замечание: «И генералы берут взятки». Леонтьев подумал и
вместо «генералы» поставил «либералы»: «И либералы берут
взятки»... Автор в ужасе прибегает к нему и начинает горячее
объяснение. «Что же такого нецензурного находит он в этой
фразе, и разве не случается, чтобы генералы брали взятки?» —
Леонтьев отвечает: «А разве не случается, что и либералы
брали взятки?» — «Но ведь у меня речь идет вовсе не о либералах,
а о генералах». — «А я. — отвечает цензор, — не могут
разрешить таких нареканий на столь высокие чины». Автор, и
совершенно справедливо, начинает ему доказывать, что фраза в
такой переделке делается совершенно бессмысленной, потому что
никакого либерала в повести нет. Леонтьев стоит на своём.
Сторговались, наконец, на том, что совсем выбросили
злополучную фразу: не осталось ни генерала, ни либерала.
Другой раз Леонтьев чрезвычайно задержал разрешение
одной совершенно невинной народной повести. Автор несколько
раз бегал в Комитет и, наконец, пошёл к Леонтьеву на
квартиру, прося поскорее надписать разрешение, так как повесть
совершенно безупречна и прочесть её можно очень быстро.
Леонтьев сначала отделывался разными, явно слабыми
отговорками. Но автор указывал, что ведь и он, и издатель терпят от
такой медлительности серьёзный ущерб. Издатель теряет вре-
367
мя публикации, автор не получает гонорара. Леонтьев,
прижатый к стене, наконец, раскрыл свой секрет.
— Да что же мне делать, когда он всё не удосуживается
прочесть Вашей повести!
— Кто такой «он»? — спросил удивлённый автор.
— Да мой Федька...
Что же оказалось? Леонтьев сам не рассматривал книжек
для народа, а отдавал своему лакею Фёдору. Как будто просто
почитать для развлечения. Когда Фёдор приносил её обратно,
он его расспрашивал:
— Ну что ж, понравилась книжка?
— Хорошая книжка, занятная.
— А может быть, там есть что-нибудь против Бога, против
святыни?
— Как можно-с! Ничего такого нет...
— Ну это хорошо. А то иной раз Бог знает что пишут...
Вот тоже против Царя пишут. ♦.
— Ни-ни. Ничего против Государя нет. Книжка очень
занимательная.
Тогда Леонтьев, без дальнейших размышлений, надписывал:
«Печать разрешается». На этот раз Федька почему-то
заленился прочесть повестушку.
Эту историю рассказывал мне в Петербурге сослуживец по
Главному Управлению Садовский, бывший при Леонтьеве в
Московском Цензурном Комитете. Леонтьев тогда объяснял в
Комитете причину такого своеобразного рассмотрения народных
книг. Авторы, говорил он, обыкновенно либеральничают и
стараются провести какую-нибудь «тенденцию», а в то же время
желают и спрятать её от внимания цензуры. Но если Леонтьев
сам начнёт читать, то хитрости автора тотчас обнаружатся для
него, и он принуждён будет запретить книжку. Между тем,
авторы так усердно затушёвывают свою тенденцию, что народ,
может совсем не заметить её. Тогда, значит, книжка безвредна,
и её можно печатать. Поэтому он и даёт её прочитать Федьке.
Если он ничего не заметит, то, следовательно, и прочие,
подобные ему читатели никаких вредных влияний не восприимут.
Когда Леонтьев окончательно оставил службу, его
влиятельные друзья, кажется, главным образом, Тертий Иванович
Филиппов, уже могли выхлопотать ему пенсию, и он поселился
в Оптиной Пустыни. Жил он в полумонашеском положении, на
собственной квартире, под духовным руководством отца
Амвросия, к которому успел «приучиться». Не знаю, почему о.
Амвросий всё оттягивал постриг, который совершился, да и то тайный,
лишь в 1891 году, перед отъездом в Сергиево. Причины тайного
пострига понятны. Монах лишается пенсии, а Леонтьеву нужно
368
было и самому жить, да ещё содержать и других лиц. Но
почему тайный постриг не совершился раньше — это уже дело ду-
ховнических соображений отца Амвросия.
Что касается Тертия Филиппова — они с Леонтьевым были
близкие друзья, на «ты», постоянно поддерживали переписку,
обменивались мыслями и планами. Филиппов навещал
Леонтьева и в Оптиной Пустыни. Константин Николаевич по этому
поводу рассказывал забавный анекдот. Приехал Филиппов и, не
застав Леонтьева дома, отправился в гостиницу, приказав
лакею: «Скажи барину, что Тертий приехал». Слуга переврал
поручение и доложил Леонтьеву: «Заходил тут один господин и
велел сказать, что черти приехали». Леонтьев рассмеялся:
«Черти приехали? Где же они остановились?»
О Филиппове он рассказывал не один раз. Их сближали и
вкусы, и сходство мировоззрений, иногда и совместная
деятельность. Филиппов был большой поклонник Греческой Церкви.
В то время шла борьба болгар против Константинопольской
Патриархии за свою автокефальность, раздутую до
антиканоничности. Наша Церковь или, точнее сказать, Правительство
(в лиие обер-прокуроров гр. Дмитрия Андреевича Толстого и
Победоносцева) сочувствовало болгарам и молчаливо смотрело
на подрыв прав и интересов Константинополя. Леонтьев, будучи
очень невысокого мнения о славянах и во всех отношениях
предпочитая греков, об руку с Филипповым ратовал за
Константинопольскую Патриархию. Его статьи, относящиеся к
этому делу, горячи и очень сильны. Вообще, Леонтьев, кажется,
всегда являлся единомышленным с Филипповым. Их связывали
даже вкусы, как, например, к русской народной песне, и
вообще — бытовому художественному творчеству народа. У Тертия
Ивановича, как известно, было немало даже учёных трудов по
народной песне, а что касается плясок, то он, когда был
помоложе, хотя уже в чинах, любил лично участвовать в них в
деревне и даже славился у девушек как хороводчик. Это мне
рассказывал сам Леонтьев о своём друге. Нужно заметить, что
Тертий Иванович в более молодые годы славился также своим
голосом и был превосходный певец. В свои студенческие
времена (в Московском Университете) он раз, не думая об этом,
сорвал сходку. Сходка, очень оживлённая, собралась в Новом
Университете, но в разгар её вдруг послышались крики:
«Господа, Тертий поёт в саду» (Старого Университета), и студенты
один за другим стали уходить послушать Тертия, так что
сходка уничтожилась.
Разумеется, Леонтьев и Филиппов постоянно обменивались
мыслями и о серьёзных вопросах.
24 К. Леонтьев
369
Ко времени нашего знакомства бурная жизнь Константина
Николаевича уже совершенно улеглась и вошла в правильное
русло. Его мировоззрение вполне определилось. Его
религиозные убеждения и личные верования стали уже тверды и
устойчивы. Все прежние сомнения и колебания сделались
воспоминанием далёкого прошлого. И хотя он чувствовал себя усталым,
однако ещё не собирался умирать, а думал о новой работе,
новой борьбе. Во мне он предполагал во многих отношениях
соратника и не только интересовался обменом мыслей, но даже
очень заботился о том, чтобы мы спелись и в отношении
практической работы. Очень характерна была его мысль о
нашей совместной работе по выяснению социализма.
Дело это возникло так. Когда он ещё жил в Оптиной
Пустыни, я написал статью «Социальные миражи современности»
(которая потом вышла и отдельным изданием) и в ней
доказывал, что коммунистическое общество должно явиться очень
деспотическим, но фактически не эгалитарным, а расслоенным,
при очень сильном и властном верхнем правящем слое. Эта
статья возбудила чрезвычайное внимание Леонтьева, но совсем
не в том смысле, как можно было бы думать. Он из неё вывел
заключение не против коммунизма, а за него, пришёл почти
в восторг. Когда он приехал в Москву, он с живейшим
интересом стал меня расспрашивать о подробных основаниях моего
мнения и говорил, что если так, — то коммунизм будет, стало
быть, явлением очень полезным. Рассказал мне, между
прочим, что уже поделился своими впечатлениями с Тертием
Ивановичем и писал ему, что Тихомиров указывает в социализме
совершенно необыкновенные стороны; мы боялись социализма,
а оказывается, что он восстановит в обществе дисциплину.
«Странно некако влагаеши ты мне в ушеса», — отвечал Тертий.
Рассказывая об этом, Леонтьев шутливо нарисовал сценку из
будущего социалистического строя:
«Представьте себе. Сидит в своём кабинете
коммунистический действительный Тайный Советник (как он будет тогда
называться—это безразлично) и слушает доклад о соблюдении
народом постных дней... Ведь религия у них будет непременна
восстановлена — без этого нельзя поддержать в народе
дисциплину... И вот чиновник докладывает, что на предстоящую
пятницу испрашивается в таком-то округе столько-то тысяч
разрешений на получение постных обедов. Генерал недовольно
хмурится:
— Опять! Это, наконец, нестерпимо. Ведь надо же
озаботиться поддержанием физической силы народа. Разве мы можем
дать им питательную постную пищу? Отказать половине!
370
Докладчик сгибается в дугу.
— Ваше Высокопревосходительство (или как у них там
будут титуловать!), это совершенно справедливо» но осмелюсь
доложить. Ваше Высокопревосходительство циркулярно
разъяснили начальникам округов, как опасно подрывать и ослаблять
привычную религиозную дисциплину в народных массах.
Начнут покидать обрядность, и где они остановятся? Осмелюсь
доложить...
Генерал задумывается.
— Да... конечно... Не знаешь, как и быть с этим народом...
Ну — давайте доклад.
И он надписывает: «Разрешается удовлетворить
ходатайства:».
Он обрисовал эту гипотетическую сценку будущего живо и
весело, гораздо интереснее, чем я теперь умею передать.
Разумеется, говорилось это шутливо, но в Леонтьеве на эту тему
зашевелилась серьезная философская социальная мысль,
связанная с теми общими законами развития и упадка
человеческих обществ, которые он излагает в «Востоке, России и
славянстве». Он об этом серьёзно задумался, ища места
коммунизма в общей схеме развития, и ему начинало казаться, что роль
коммунизма окажется исторически не отрицательною, а
положительною. Он думал, что вопрос этот важно было бы
обстоятельно разработать, но для этого у него не хватало
практических знаний по социализму и коммунизму, вследствие чего и
явилась мысль — разработать вопрос совместно со мной. Вот
что он мне писал по этому поводу уже из Сергиевского Посада
20 сентября 1891 года, настойчиво приглашая приехать к нему:
«Кроме разговоров о службе, я имею в виду переговорить
с Вами о другом деле, не знаю — важном или не важном — я
на него смотрю так или этак, смотря по личному настроению.
Желал бы знать, что Вы скажете о нем. Я имею некий особый
взгляд на коммунизм и социализм, который можно
сформулировать двояко: во-1-х, так — либерализм есть революция
(смешение, ассимиляция); социализм есть деспотическая
организация (будущего); и иначе: осуществление социализма в жизни
будет выражением потребности приостановить излишнюю под-
вижность жизни (с 89 года XVIII столетия).
Сравните кое-какие места в моих книгах с теми местами
Вашей последней статьи, где Вы говорите о неизбежности
неравноправности при новой организации труда, — и Вам станет
понятным главный пункт нашего соприкосновения. Я об этом
давно думал и не раз принимался писать, но, боясь своего
невежества по этой части, всякий раз бросал работу неоконченной.
У меня есть гипотеза или, по крайней мере, довольно смелое
24*
371
подозрение; у Вас несравненно больше знакомства с
подробностями дел. И вот мне приходит мысль предложить Вам
некоторого рода сотрудничество, даже и подписаться обоим и
плату разделить. Впрочем, если бы это удалось, то дело так
важно, что о плате можно много и не думать (по крайней мере,
ныне). Если бы эта работа оказалась, с точки зрения
«оппортунизма», неудобной для печати, то я удовлетворился бы и тем,
чтобы мысли наши были ясно изложены в рукописи. Я об этом
сотрудничестве с Вами ad hoc ещё в Оптиной много думал».
Он меня очень звал к себе переговорить серьёзно о
совместной работе. Однако до серьёзных разговоров мы так и не
добрались. Через два месяца после своего письма он уже
скончался, и хотя мы за это время ещё виделись, но при обстановке
неудобной для отдельных разговоров.
Что касается вопроса о службе, о котором он упоминает, то
дело в том, что я крайне тяготился положением газетного
работника, необходимостью снискивать хлеб писаньем лишь
газетных пустяков. Я рвался поступить на службу, чтобы жить
жалованьем, а писать только то, что меня занимало и
вдохновляло. Я просил всех друзей помочь мне в этом, говорил Кирее-
ву, Новиковой и т. д., писал и Победоносцеву. Но только один
Леонтьев, сам бывший писателем, а не газетчиком, понимал мои
чувства. Он хотел пустить в ход Тертия Филиппова.
Поступление на службу очень затруднялось тем, что я лишь недавно был
освобождён от надзора полиции. Но я мог рассчитывать, что
П. Н. Дурново (Директор полиции) не станет мне мешать.
Он был умён и понимал, что отдача меня под надзор полиции
была совершенной бессмыслицей. К сожалению, это было
сделано по Высочайшему Повелению, а потому не могло не
учитываться всеми властями, у которых можно было бы хлопотать
о принятии меня на службу. Может быть, Леонтьев, очень
заботливо ко мне относившийся, и успел бы чего-нибудь добиться»
но он слишком скоро умер. Так я и остался пришпиленным
к мелкой газетной работе.
Но он уже в этом не виноват. Он во всех отношениях
старался расчистить мой жизненный путь, возлагая большие
надежды на мою писательскую деятельность. Точно так же он
заботился о моей духовно-религиозной выработке, которую
находил самым слабым моим пунктом — и, нужно сказать, —
совершенно справедливо. Я, конечно, был верующим, и
христианином, и православным, но всё это шло слишком из головы,
при чрезвычайной слабости сердечного чувства. Мы с ним об
этом говаривали очень откровенно, потому что я и сам понимал
религиозное значение эмоции и очень страдал от слабости её
у меня. Леонтьев очень за меня в этом отношении сокрушался
372
и старался помочь мне. Помню ту грусть, с которой он
заговорил об этом со мною в первый раз.
«Лев Александрович, дорогой, да почему же — когда у Вас
разум так ясно говорит о вере, почему сердце холодно? Как же
у Вас это так выходит?» Он как-то пригнулся ко мне, голос
понизился, принял какие-то нежные интонации. Казалось, он
так и хотел бы перелить в меня свою сердечную веру... У него
в это время религиозное состояние достигло уже полного
расцвета. Он, бывший атеист, приобрёл именно горячую сердечную-
веру, которая оставалась непоколебимой даже в такие минуты,
когда в разуме появлялись облачка каких-то сомнений. А это
у него всё-таки бывало.
Раз он говорил со мной о прозорливости, о таинственном
влиянии, проявляющихся у старцев, вроде Иеронима Афонского,
Амвросия Оптинского, Варнаввы и т. п. Потом вдруг запнулся
и неожиданно заметил:
— Да это наш христианский гипнотизм... Признаюсь, меня
смущают явления гипнотизма. Я стараюсь об этом не думать,..
Почему он смущался? Вера хотела видеть чудо в
прозорливости и духовном влиянии, видеть действие особых
божественных сил. А разум медика и естественника задавал лукавый
вопрос: какая же объективная разница между гипнотизмом
«христианским» и обыкновенным? Леонтьев не умел определить
разницы и «старался не думать» о неприятном вопросе.
Впрочем, вера его не подрывалась такими недоумениями. Он
давно жил в атмосфере уверенности, что во всём, великом и
малом, мистическом и естественном, совершается воля Божия,
без которой ничего не может с ним случиться, ни приятного, ни
скорбного. Это налагало печать на всю его обыденную жизнь.
Помню, раз я зашёл к нему в его отсутствие. Сел
подождать. Прибыл он страшно утомлённый, сбросил верхнее платье
и оказался в подряснике. Не здороваясь со мной, он прежде
всего обратился к образам и начал молиться, отвешивая
низкие поясные поклоны. Молился довольно долго, минуты три.
Потом поздоровался со мной, позвонил и заказал подать чаю,
а сам тяжело опустился в кресло.
— Совсем замучился, изморился. Тело плохо служит.
Многие раны грешнику.
Принесли чай, он пил с видимым наслаждением. Душистый
горячий напиток освежил его, и он, повеселевши, обратился ко
мне:
— Вот, Лев Александрович, видите, как нужно понимать
дары Божий, милость Божию. Так у нас, в монастырях, пони-.
мается попечение Божие. Вы думаете — только в великих
делах? Нет, во всём, самом даже малом. Вот я был уставши, те-
373
перь с удовольствием напился чаю, и стало мне так легко и
хорошо. Это милость Божия, это Бог послал, и я Его
благодарю. Он добр, всякое утешение посылает. Как же не любить
Его!
А если посылает Бог «многие раны грешнику» — всё равно:
и в этом Его благость, Его любовь к нам. Нужно грешника
вразумить, очистить. Бог делает это по милосердию. Как же не
благодарить Его, как не любить такого доброго, попечительного
Господа! Эти точки зрения христианской философии перешли
уже у Леонтьева в состояние сердечной веры, которая
соединена с постоянной любовью к Богу и даёт человеку счастье.
Леонтьев очень настойчиво проповедовал страх Божий, но
собственно потому, что в этом чувстве проявляется полное
убеждение в реальности бытия Бога, а потому и сознание, что
возбудить Его гнев — очень опасно. Конечный же результат веры —
это любовь. Леонтьев уже имел её, и потому ему было жаль
меня, для которого, при сухости сердечной веры, недоступно
оставалось счастье, ею даваемое. Он и старался мне всячески
помочь и, можно сказать, не оставлял меня в покое
настояниями, чтобы я пошёл в духовной жизни таким путем, который
приводит к сердечной вере. Для этого нужно прежде всего
руководство «старца».
У меня сохранилось письмо его по этому поводу (то же, где
он проводит сравнение между о. Иеронимом и о. Амвросием):
«В Вас, — писал он, — я вижу нечто такое, что меня за Вас
тревожит. Боюсь быть откровенным, боюсь оскорбить
как-нибудь, боюсь лишиться Вашего доброго расположения. Но в
надежде на то, что Господь расположит сердце Ваше принять
слова мои так же искренне и просто, как я их говорю, — буду
откровенен. Вы на прекрасном пути, Вы ищете именно того, что
нужно искать, но я замечаю в Вас какую-то нерешительность
и вредную медленность. В чём же? Да хоть бы и в том,
например, что Вы, вероятно, и могли бы побывать в Оптиной и
видеть От. Амвросия... но откладывали и теперь жалеете. И ещё,
Вы чувствуете потребность найти духовника и говорите, что
«страшно». Почему же страшно? Во-1-х, наши русские
духовники и даже знаменитые старцы скорее слишком
снисходительны, чем чересчур строги в своих требованиях. Или потому
страшно, что вдруг он, духовник, не понравится, а менять
нехорошо? Так ли? Или ещё что-нибудь, чего я не придумаю?
Многое, многое можно по этому поводу Вам сказать. Но вот
что: сделайте опыт послушания (т. е. против воли, против
расположения). Послушайтесь для опыта меня, окаянного и
многогрешного, только один раз, не по убеждению практического
разума, а по другому чувству. Во едину из следующих суббот
374
приезжайте ко мне без К°, в половину третьего, что ли; ночуйте
у меня, у меня теперь квартира просторная, расхода кроме
вагона и извозчиков не будет*. Пробудете у меня всё воскресенье
до последнего вечернего поезда. Поговорим. Часов около 12
в воскресенье Вы съездите к отцу Варнавве, а то и я за ним
могу коляску послать; он бодр и деятелен: приедет. Хотя, по
правде сказать, я думаю, что Вам пока нужнее катехизатор
(учитель теории), чем старец (руководитель жизни самой в её
частностях). В старцы я, разумеется, не гожусь, и смешно даже
мне и думать об этом! Но катехизатором, не лишённым
пригодности, сам От. Амвросий удостоивал меня признавать. Для
старчества нужна особая благодатная сила. Для проповеди и
обучения теории достаточно искренней собственной веры и
некоторых умственных способностей. Иногда эти свойства
соединяются в одном лице, иногда они раздельны». Говоря затем
о своём личном духовном воспитании у о. Иеронима, о.
Амвросия и о. Климента Зедергольма, он продолжает:
«Климент все-таки приучил меня к От. Амвросию, да и я
сам уже привык постепенно к тому духовному понуждению,
которого Вы напрасно боитесь и называете ложью (точно
Л. Н. Толстой)! Не знаю, гг. умные люди, как вас избавить от
Ваших чрезмерных от себя требований. Вы хотите сейчас
глубоко чувствовать, а если суховато, то сейчас — «это ложь»!
А Спаситель сказал: «Нудящие себя восхищают Царство
Небесное». И в вере полезно постепенное понуждение.
... Ну прощайте. Помолитесь-ка Богу, чтобы Он по
милосердию Своему помог мне приучить Вас хотя бы к От. Варнавве
так, как меня Климент приучил к От. Амвросию. А главное, не
думайте, что нужны какие-нибудь необычайные молитвы, а очень
просто: Господи, помоги мне приобрести то-то и то-то, укажи
мне путь Твой».
С сердечной благодарностью вспоминаю я и теперь об этой
доброй заботливости Константина Николаевича. Но не
воспользовался я ею, не умел отказаться от своей воли. Да и его
жизнь была уже на исходе, и не имел бы он времени «приучить»
меня к о. Варнавве, у которого я не раз бывал, подобно
сотням прочих богомольцев, но к руководству которого ни разу
не обращался.
Вообще, пока Леонтьев жил в Оптиной и только изредка
наезжал в Москву, трудно было что-нибудь совместно делать.
А пребывание его в Сергиевском Посаде продолжалось всего
три месяца, так что ни одного возникавшего плана не было
* Он постоянно заботился о расходах моих, потому что я тогда
зарабатывал очень мало и весьма нуждался.
375
времени осуществить. Такова была участь и ещё одного
проекта, о котором мы заговорили чуть ли не в 1890 г. и к которому
несколько раз возвращались в беседах, но не успели оформить
даже в предположениях своих.
Дело касалось организации особого общества, которое
Леонтьев в шутку прозвал «Иезуитским Орденом». «Ну что жег
Лев Александрович, — спрашивал он, — когда же мы
приступим к учреждению своего Иезуитского Ордена?» Но к этой
сложной задаче мы даже и близко не подошли.
Конечно, тут дело касалось вовсе не какого-нибудь
Иезуитского Ордена, а мысли наши бродили вот над чем. Борьба за
наши идеалы встречает организационное противодействие
враждебных партий. Мы все являемся разрозненными.
Правительственная поддержка скорее вредна, чем полезна, тем более, что
власть, как государственная, так и церковная, — не даёт
свободы действия и навязывает свои казённые рамки, которые
сами по себе стесняют всякое личное соображение. Необходимо
поэтому образовать особое Общество, которое бы поддерживало
людей нашего образа мыслей — повсюду, в печати, на службе,
в частной деятельности, всюду выдвигая более способных и
энергичных. Очень важное и трудное условие составляет то,
чтобы Общество было неведомо для противников, а
следовательно, ему приходится и вообще быть тайным, т. е., другими
словами, — нелегальным. Это главное условие его силы, хотя,
конечно, создаёт для него постоянный риск правительственного
преследования. Для ослабления ударов с этой стороны — в
случае расследования — Общество должно иметь такой вид, что
оно не «общество», а просто случайное единение знакомых
между собою единомысленных людей. Следовательно, в Обществе
этом не должно быть никаких внешних признаков организации,
как, например, устав, печати, списки членов, протоколы
заседаний и т. п. Трудности на этом пути предвиделись огромные, но
только тайное общество давало бы возможность сильного
действия. Как всё это устроить? Каких людей привлекать? Каков
должен быть не писанный, а устный устав? Ничего этого мы ни
разу не обсуждали. Только в одном пункте мы, кажется, были
с первого слова единомысленны: что Общество нужно и что оно,
по необходимости, должно быть секретным, тайным. Поэтому-то
Леонтьев и шутил, что мы затеваем «иезуитский орден». Но
основание нашего Общества было потруднее, чем учреждение
Иезуитского Ордена, всё-таки не тайного, а только имеющего
тайны, как выражаются о своих ложах франк-масоны. Если бы
мы с Константином Николаевичем дошли до серьёзного
обсуждения этого плана, то нет сомнения, что я бы и предложил
поставить Общество на двойном уставе: один явный, безобид-
376
ный, преследующий какие-нибудь банальные цели — научные-
или благотворительные, для отвода глаз, а другой тайный,
содержащий действительные цели организации. Но, повторяю,,
этот план остался у нас в зародыше, заглавием ненаписанного
романа. Последний месяц жизни Леонтьева нам мешало
серьёзно поговорить об этом уже одно то, что мы оба в это время
особенно горячо углубились в заботу о моих «духовных
запросах». Они и для меня, и для него составляли более неотложную
«злобу дня». О них Леонтьев упоминает даже в последнем ко
мне коротеньком письме 4 ноября 1891 г., которое
заканчивается словами: «Простите, больше ни слова не скажу. Была
лихорадка, ослабел, принял 12 гр. хинина. Теперь голова плоха».
Но его 12 гр. хинина не помогли, и через восемь дней, 12
ноября, он уже скончался от инфлюенцы (воспаление легких),
припадком которой, конечно, и была упоминаемая им
«лихорадка».
Его схоронили у Черниговской Божией Матери около Гефси-
манского скита, поблизости кельи о. Варнаввы. Я не
присутствовал ни при кончине его, ни на погребении. Но более 20 лет
ни разу не был у Черниговской Божией Матери без того, чтобы
не посетить его могилу. Над ней возвышалась небольшая
чугунная часовенка с неугасимой лампадой, кротко мерцавшей,
как тихий свет веры, выращенной, наконец, Константином
Николаевичем в своей душе, страдающей и бурной. Теперь,
вероятно, угасла в бурях времени эта лампадка, но теплится,
конечно, лампада просветлённого сердца его там, где нет ни болезни,,
ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.
Л. А. ТИХОМИРОВ.
РУССКИЕ ИДЕАЛЫ И К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
Среди наших выдающихся публицистов нет ни одного,
которого бы при жизни так упорно замалчивали, как
Константина Николаевича Леонтьева. Быть может, его крайняя резкость,
его призывы к «реакции», которую «пора научиться делать»,
его советы «подморозить Россию» и т. п., — быть может, всё
это смущало даже людей, высоко ценивших положительную
мысль его. Что касается противников, они, без сомнения,
находили более удобным бороться с Леонтьевым «замалчиваньем»
его, нежели попытками полемики, в которой, при блестящем
таланте покойного, трудно было рассчитывать на большие успехи.
Как бы то ни было, он при жизни представлял очень
своеобразное зрелище человека редкого таланта, пользующегося
37Г
огромным уважением в весьма значительном слое писателей,
имеющего сильное влияние на их мысль и в то же время для
большой публики, благодаря фатальному общему молчанию,
почти неизвестного. Не много случаев ему выпало слышать
даже возражения.
В 1891 году, 12 ноября, эта кипучая мыслью и страстью
жизнь наконец погасла. Смерть разрушила заколдованное
молчание. О Леонтьеве заговорили. Началась критика, явилась и
кое-какая защита. Значение его стало понемногу выясняться и
для той публики, которая до сих пор не слыхала даже имени
покойного и не имела понятия о его сочинениях. Это
подведение итогов Леонтьеву находится лишь в самом начале, и едва
ли наша печать скоро разберётся в отчаянном «реакционере»,
который в то же время — несомненно, человек, забежавший
очень далеко «вперёд», в такое будущее, что средний глаз
плохо его даже схватывает.
Эта невыясненность Леонтьева делает не излишним слово
каждого, кто вдумывался в его писания и в значение той
непрерывной борьбы, которую представляла публицистическая
жизнь покойного.
Наша печать, заговорив о Леонтьеве, сразу стала
обсуждать его как славянофила. Мы имеем образчик этого в
полемике кн. С. Трубецкого и генерала А. А. Киреева, которые,
заговорив о славянофильстве, приходят к спору о Леонтьеве и,
споря о Леонтьеве, принуждены выяснять, что такое
славянофильство. В конце концов, оба противника соглашаются
исключить Леонтьева из числа славянофилов. Но этим, полагаю,
вопрос о собственно Леонтьеве не кончается, а только становится
перед нами. Ибо если не славянофил, то что же он такое?
Напомню слегка факты полемики. Кн. С. Трубецкой
характеризовал Леонтьева как «Разочарованного славянофила»
(Русская мысль, 1892., окт.). Подвергнув критике основания
славянофильства и отбросив их за внутренней несостоятельностью,
Леонтьев, говорит он, логически пришёл к идеям застоя и
реакции. В нём кн. С. Трубецкой, вместе с г. Милюковым, видел N
разложение славянофильства.
Генерал Киреев возразил кн. Трубецкому в речи «Наши
противники и наши союзники» (произнесённой 19-го дек. 1S93 г.
и напечатанном в начале 1894 г. в «Протоколах» Слав. Благ.
Общества). В ней оратор заявил, что славянофильство не
разлагалось по той простой причине, что даже и не изменялось.
Его формула всё та же, что прежде: «Православие.
Самодержавие, Народность». Противники славянофильства видят при- :
знаки его разложения в идеях г. Владимира Соловьёва и
К- Н. Леонтьева. Но, говорит А. А. Киреев, очевидно, только
378
по недоразумению можно причислить к славянофилам г.
Леонтьева, не признававшего прав народности и славянства и
намеревавшегося пас лечить по рецепту графа Аракчеева, и г.
Соловьёва, забывшего силу Православия и предлагавшего нам
лечиться по рецепту Пия IX. Если же ни Леонтьев, ни
Соловьёв не могут быть причисленными к славянофилам,,
то и все толки о «разложении» славянофильства,
основанные на анализе идей этих писателей, падают сами собой.
Кн. С. Трубецкой даёт теперь свой ответ в статье
«Противоречия нашей культуры» (Вестник Европы, 1894 г., август). Он
говорит: «Признаюсь, уже одно отречение от Леонтьева,
высказанное в весьма резкой и решительной форме, меня крайне
порадовало. Я никогда не считал Леонтьева истинным
славянофилом». И далее: «Я, со своей стороны, думаю, что
славянофилы 50—60-х годов могли бы только с отвращением
протестовать против цинической проповеди Леонтьева». Старые
славянофилы, «разумеется, могли бы обличить нравственную ложь
и противоречия его собственного учения».
Итак, оба полемиста не видят в Леонтьеве славянофила или,
по крайней мере, «истинного» славянофила. В числе мотивов
такого исключения у генерала Киреева отмечу «аракчеевские
рецепты» Леонтьева. Тут есть нечто весьма верное, так же как
и очень ошибочное. Что касается князя Трубецкого, то он уже
ставит «реакционность» Леонтьева на самое видное место,
говорит даже о «цинизме» его проповеди, возбуждающей
«отвращение» и исполненной «нравственной лжи». Тем не менее, князь
Трубецкой признаёт проницательность критики Леонтьева и
считает её настолько окончательной, что и он, и г. Милюков-
прямо пользуются аргументацией Леонтьева. Наконец, в
заключение* князь Трубецкой принимает даже, что византизм
действительно составляет одну из основ «противоречивой нашей,
русской культуры». Это, стало быть, признание, что русская
культура всё-таки представляет нечто своеобразное, нечто, имеющее
задачи, отличные от задач Западной Европы.
Признание имеет свою цену и может быть поставлено на
«кредит» Леонтьева. Но вообще нельзя не сказать, что,
определяя его значение, должно стать на гораздо более широкую
точку зрения, чем толки о «реакционности» или даже об
«истинном» или «не истинном» славянофильстве К. Н. Леонтьева.
Что, собственно, для нас, для русских каких бы то ни было
направлений, может быть жгуче интересно в вопросе о
славянофильстве? Только то — есть ли русские идеалы и в чём
именно они состоят? Что говорит нам русское самосознание по
вопросу—зачем живёт на свете Россия и что она может дать
другим народам? Вот что интересно в славянофильстве. Оно
37*
составляет важное историческое явление лишь в той мере, в
какой выражает голос русского самосознания. В Леонтьеве точно
так же может быть интересна только связь его с исторически
растущими показаниями русского самосознания.
Замечу ещё, что, обсуждая Леонтьева, мы не должны
упускать из виду чрезвычайной сложности этой натуры. Его нельзя
обсуждать только как мыслителя, только как человека
известных идеалов, только как агитатора. У него всё это было тесно
связано. Страстный, кипучий человек, с тонким умом, с
изящными наклонностями художника, со способностью к
фанатической вере он соединял огненный темперамент политического
агитатора. Знать, чувствовать, жить, действовать — всё это
у него кипело в одно и то же время. Трудно сказать, что у него
говорило сильнее. Он хватался за всё, во всём проявлял
огромную способность понимать и ото всего отвлекался другими
своими стремлениями. У Леонтьева множество недоговоренного,
многое брошено в виде смелого парадокса, многое подчёркнуто
более страстью, чем рассуждением. Иногда у него не
выработана связь между теоретическим положением и практикой,
установленной скорее наведением, нежели выводом. У Леонтьева
всегда найдётся что-нибудь, против чего будут спорить. У него,
однако, и такой принципиальный противник, как князь
Трубецкой, находит драгоценные указания, которые принимает как
несомненные. Вообще, в Леонтьеве ещё не скоро, повторяю,
разберутся. Но если нужно выразить самое центральное место его
личности, его значения, то я думаю, что определить это можно
так. В Леонтьеве — русский человек резче, яснее, отчетливее,
чем в ком бы то ни было, сознал своё культурно-историческое
отличие от европейца, и именно поэтому увидал, какой
страшной опасностью грозит ему тип европейский. Сознание высоты
своего русского типа у Леонтьева дозрело до полной ясности.
Это уже не какие-нибудь предчувствия, не произвольные
гадания. Он видит и показывает, что именно во имя культуры
должен протестовать против европеизма, отстоять себя, победить
его. И в то же время он видит, что европеизм, понижаясь,
опошляясь, теряя всё, чем заслужил своё историческое значение,
сохраняет, однако, страшную силу, которую, по-видимому,
ничем не свергнешь. Это — центральное объяснение Леонтьева,
мне кажется. Он не мог бы сознать положения в такой всеце-
лости, если бы не обладал своею удивительною
разносторонностью. Он не сказал бы половины своих «реакционных»
выходок, если бы не представлял опасности с такой ясностью.
Но об этом потом. Теперь из сказанного видно, что в
сущности было бы очень трудно отделить Леонтьева от старых
славянофилов. То, что составляет сущность у них, мы находим и
380
у Леонтьева, как прямое продолжение. Генерал Киреев
говорит, что нельзя считать славянофилом человека, не
признававшего нрава народности и славянства. Едва ли, однако, в
отношении «народности» Леонтьев отличается так сильно не только
от славянофилов, но даже и от самого генерала Киреева. У них
уже была полемика по поводу «Национальной политики как
орудия всемирной революции». Г. Фудель, подводивший итоги
этой полемике*, совершенно верно тогда заметил, что спор
основан более всего на неточной терминологии. Справедливость
этого замечания подтверждается тем, что, как я слыхал,
Леонтьев, прочитав возражения ген. Киреева, нашел, что, в
сущности, они оба очень близки во взглядах. Точно так же
славянофилы всегда говорили о народности в смысле
национальности. Но в смысле культурно-национальном Леонтьев сам
горячий защитник народности. Вообще он интересовался только
вопросом культуры, а не этнографии. Это, может быть,
отличает его от иных славянофилов, но в отношении к целому
славянофильству — может быть рассматриваемо только как
дальнейшее развитие его мысли. Славянофильство явилось как
сознание чего-то русского. Что же они сознали в отличие от
«западников»? Уж, конечно, не русскую национальность в
племенном смысле. Западники и сами отлично знали, что мы —
племя особенное, не немцы и не турки, а русские. Тут и спорить не
о чем. Точно так же не спорили о национальности нашей в
политическом смысле. В политическом отношении всякий
западник признавал Россию страною особенной, не принадлежащей
ни к Германии, ни к Австрии. Вопрос был и мог быть только
в национальной культуре. А национальность как культурное
начало Леонтьев совершенно признавал и понимал отчетливее
кого бы то ни было. В этом даже именно заслуга его. Но и тут
всё, что сделал Леонтьев (и что признано даже кн. Трубецким),
не только не отделяет его от старейших славянофилов, а
связывает его с ними. И. Киреевский, подобно Леонтьеву, в
духовном складе русского человека показывает не что-нибудь
этнографически-племенное, не что-нибудь «славянское», а только
византийское Православие. Он также ищет нашего духовного
отечества в Византии, а не в Праге или Белграде, тем паче не
в Варшаве.
А по поводу отношения к славянству вот что И. С. Аксаков
писал в 1849 году в своих «показаниях», в которых, конечно,
старался выяснить Государю самые интимные свои взгляды:
Люди, всеми силами, всеми способностями души преданные
России, смиренно изучавшие сокровище духовного народного
* К вопросу о национальности. Моск. вед. 1880 г. № 293.
381
богатства, свято чтущие коренные начала его быта,
неразрывные с Православием, люди эти, Бог весть почему, прозваны
были славянофилами». Очевидно, кличка кажется ему
неподходящей. И далее: «В панславизм, говорит он, мы не верим и
считаем его невозможным», потому что славяне уже не
единоверцы, потому что «большая часть славянских племён уже
разложена влиянием пустого западного либерализма».
«Признаюсь, — замечает И. С. Аксаков, — меня гораздо более всех
славян занимает Русь, а брата моего, Константина, даже
упрекают в совершеннейшем равнодушии ко всем славянам, кроме
России, и то даже не всей, а собственно Великороссии».
Любопытна заметка императора Николая Павловича против
этого места «показаний». «И дельно, — писал Государь, —
потому что всё прочее — мечта. Один Бог может определить, что
готовится в дальнем будущем; но ежели бы стечения
обстоятельств и привели к этому соединению, то оно будет на гибель
России».
Не к таким ли самым заключениям приходит и Леонтьев
в своих наблюдениях славянства? Но дело не в том. Я хочу
только сказать, что скептическое отношение к славянству вовсе
не ставит такой уж резкой разницы между Леонтьевым и
первыми славянофилами, В самом славянофильстве наиболее
типична была русская идея, и не славянская, пристёгнутая к ней
довольно искусственно. Судьбы этой русской идеи только и
могут интересовать нас в славянофильстве. В связи с ней мы
должны определять значение последующих деятелей русского
самосознания, в числе которых бесспорны уж, по малой мере, три
имени: Достоевский, Катков, Леонтьев.
Мне кажется, что было бы явлением совершенно
сверхъестественным, чудесным, если бы славянофильство явилось полным
и окончательным выражением русского самосознания. Россия
насчитывает тысячу лет жизни, но в противность
предположениям Леонтьева, её нельзя не считать нацией только в период
формирования. В московские времена мы себя более
чувствовали, чем сознавали. Затем наступил петербургский период,
когда в течение 150 лет мы были затоплены блестящим чужим,
которое могли только усваивать без всякой критики, кроме
разве чисто голоса инстинкта. Говаривали и в XVIII веке, что
«судить о России применительно к другим государствам
европейским есть то же, что шить на рослого человека платье по
мерке, снятой с карлы» (Болтин). Но это — разве лепет
сознания, а не голос его. Россия дала почувствовать свой голос разве
в художестве» но уж одно то, что наша литература едва считает
сотню лет своего возраста, даёт бесспорное доказательство, что
мы едва начали раскрывать глаза на мир Божий. В средине
382
этого первого века некоторой сознательности — является
славянофильство. Это была первая попытка русской мысли
сформулировать, что такое русский человек.
Мыслимо ли допустить, чтобы это было и окончательное
слово? Мыслимо ли допустить, чтобы в первый же момент,
когда Россия задала себе вопрос — что она такое — она и ответила
себе на это без малейшей ошибки, без малейшего недосмотра?
Это было бы истинное чудо, явление сверхъестественное.
Сверх того, мы положительно знаем, что работа русского
самосознания на славянофильстве не остановилась. Мы не
можем забыть существования Каткова, который первым разъяснил
смысл самодержавия во всей сложности и глубине его
социального значения. Мы не можем скинуть со счетов Достоевского,
который если и не сформулировал, то дал почувствовать
возможность общечеловеческого значения России — как никто до
него. Нельзя, конечно, скинуть со счетов и Данилевского. Я
называю только одни бесспорные имена, уже вошедшие в
историю русского самосознания не менее, чем «славянофилы».
В числе их ждёт своего признания К. Н. Леонтьев. И,
конечно, когда он будет вполне понят, он будет поставлен на одно
из первых мест.
Ни он, ни Катков, ни Достоевский, ни даже Данилевский не
могут быть, конечно, причислены к славянофилам в тесном
смысле. Но работа русского самосознания и не могла
остановиться на своём первом фазисе. В числе причин этого укажу
уже одно то обстоятельство, что Россия во времена первых
славянофилов ещё многого не переживала. Много очень важного,
типичного не было ещё дозревшим и в европейской жизни. Од*
ним теоретическим напряжением мысли, даже самой
гениальной, нельзя предусмотреть того, на что необходим опыт,
наблюдение, сопоставление.
Я, например, не могу себе представить, каким образом
русский человек мог бы понять самого себя, если бы мы не
пережили отрицательного опыта нашего нигилизма?
Никакая художественная фантазия не могла бы представить
себе того, какие результаты способна давать европейская идея,
последовательно воспринятая русским характером. В этом
отношении отрицательный опыт 60—80-х годов представляет
совершенно незаменимый материал для русского самопонимания.
А этого материала во времена первых славянофилов просто
ещё не существовало.
Они очень чутко усматривали особенность русского типа, его
отличия от европейского. Это делает им великую честь. Но
предусмотреть того, что ещё не дано фактами даже в виде
посылки, они, конечно, не могли. Своеобразия русского типа они
383
совершенно не могли бы понимать в тех тонкостях, которые мог
впоследствии понять, например, Достоевский. Эти же тонкости
типа психологического бросают свет и на особенности
социальные. Понятно поэтому, что в 1890 г. многое становится более
ясно, нежели в 1840. Отличия Леонтьева от старого
славянофильства в значительной степени именно этим и определяются.
Ещё старые славянофилы почувствовали необходимость
осветить положение России при помощи идеи органического
развития. Сама по себе эта идея не есть создание славянофилов. Она
дана наукой. Но понятно, что у нас должны были особенно ею
заинтересоваться. Россия представляла даже на поверхностный
взгляд что-то такое смешанное, эклектическое, составленное из
самых разнородных принципов. Нельзя было не почувствовать
необходимости разобраться, определить, что тут основного,
прочного, что случайное или даже противоречивое. Поэтому об идее
органического развития общества у нас, сравнительно с силами
нашими, думали очень много.
Этот процесс мысли мало-помалу в неопределённое понятие
«народного» внёс понятие «культурно-исторического».
Данилевский попытался создать стройную теорию
«культурно-исторических типов». Леонтьев пошёл ещё далее Данилевского в своих
набросках законов развития социальных организмов.
Собственно, как теорию научную я не могу принять ни того, ни другого.
Это не более, как наброски идей, несомненно верных по
существу, но с точки зрения научной точности необоснованных,
неразвитых и невыдержанных. Ни Данилевский, ни Леонтьев не
были специально историками и социологами, и свои по
существу совершенно верные идеи не могли установить научно. Но
тем не менее, оставляя вопрос о научных заслугах, не подлежит
сомнению, что в Леонтьеве как публицисте прямую заслугу
составляет то, что он был ясно убеждён в культурности как
основе национального развития. Тип национальный определяется
культурными условиями его зарождения, и, раз под влиянием
их определившись, национальный тип уже приобретает
внутреннюю логику развития именно в том направлении, какое дано -
культурными условиями зарождения типа. Эта мысль у
Леонтьева достигала полной отчетливости, чем обязан своими
достоинствами его анализ России и славянства. Именно эта точка
зрения дала ему возможность указать византизм как основу
русского национального типа. Она же дала ему возможность
понять отличие русского от славянского, стать сознательно не
славянином, а русским. По своему страстному характеру
Леонтьев во всём этом доходит до некоторых преувеличений, но,
отбрасывая их, несомненно, мы приходим с Леонтьевым к небы-
384
валой до него определённости понимания нашего
национального «я».
При этом, однако, «противоречия культуры», о которых
теперь говорит сам князь С. Трубецкой, подымаются перед нами,
без сомнения, во весь рост. Их никто не охватывал с такою
отчётливостью, как Леонтьев. Только он испытывал при этом
совсем не те чувства, как кн. С. Трубецкой, принимающий анализ
Леонтьева, но относящийся к констатированному положению
с замечательным благодушием, тогда как Леонтьев по тому же
поводу — рвёт и мечет, кипит всею страстью гражданина,
видящего отечество в опасности, и горестью культурного человека,
видящего, что его лучшим идеалам грозит искажение и гибель.
Посмотрим, кто прав. Вот как наше положение определяет
сам князь Трубецкой:
«Не подлежит сомнению, что византийские идеалы, которыми
жила до-петровская Русь и на которые не думала посягать
петровская реформа, отличны по существу от
западно-европейских начал». Это для князя Трубецкого «несомненно», как и для
Леонтьева. Далее, говорит он однако, «византийская культура
оказалась недоступной для успешного разрешения
государственных и экономических задач России». «Потребовалось для её
восполнения усвоение европейской образованности». Таким
образом, «современная русская культура смешанная и
соединяет в себе внешним образом два различные, отчасти
противоположные начала: византийское и европейское. И между тем,
эти два начала в равной степени исторически необходимы; ни
от одного из них Россия не хочет и не может отречься, не
отрекаясь от самой себя». «В этом вся оригинальность, всё
трагическое своеобразие настоящего положения». Князь Трубецкой
понимает даже невозможность оставаться в таком положении,
и сам ставит вопрос: «Как уничтожить роковой антагонизм
культурных начал современной России?»
Что же он отвечает на вопрос? Ошибка Леонтьева, думает
он, в том, что он будто бы «помышлял о простой реставрации
древнееизантийской империи». «Ошибка славянофилов состояла
в бессознательном эклектизме. Вместо того, чтобы понять
целостное единство, универсальность и необходимость европейской
цивилизации и стремиться к органическому соединению ft
примирению своих религиозных и национальных идеалов с её
началами, они восстали против устоев западной культуры».
Кн. С. Трубецкой приглашает поэтому «примириться с
западничеством принципиально».
Вот как наши исторические задачи решают люди, созданные
«противоречиями» нашей культуры! Я нароч-но привёл эти
строки, чтобы показать читателям, что вовсе не по малодушию Ле-
25 К. Леонтьев
385
онтьев приходил иногда в отчаяние за будущность России. В
самом деле, как это всё оказывается просто. «Органически слить»
«начала», «по существу» различные и даже «противоположные»!
Кн. Трубецкой должен бы сначала дать нам особое
философское исследование о законах таких «органических» слияний.
Оно, конечно, должно выйти весьма оригинально, но едва ли
принесёт ему лавры учёной славы...
Само собою, — такой исход, такое «примирение» наших
противоречий — не могли представляться уму Леонтьева в виде
чего-нибудь желательного. Он видел их возможность, но от этого
и приходил в отчаяние. Он понимал, что совместное действие
двух начал, устоев по существу различных, может кончиться
или тем, что одно вытеснит другое, — или, если этого нет, — то
лишь взаимною парализацией, обесцвечением, разложением.
Никакого органического слияния тут быть не может. Это и
логический, и исторический nonsens. He органическое слияние,
а разложение в некоторую социальную протоплазму — только
и может предвидеться. Конечно, из этой бессвязной массы
может опять со временем что-нибудь вырасти, но только в том
случае, если явится опять откуда-нибудь какая-нибудь целая
идея, которая оживит «социальную протоплазму», завяжет
в ней какой-нибудь центр органического роста. Но это уже
выходило бы из пределов нашей истории. Это была бы какая-то
иная история, история тех, кто дал бы новый организационный
центр бесформенной массе, в которую мы превратились. Наша-
то участь, во всяком случае, была бы участью римлян во
времена падения Империи. Конечно, такая перспектива не могла
утешать Леонтьева. Он слишком чувствовал жизненность своего
типа, он не хотел умирать и звал на борьбу, чем возбуждает
«отвращение» благодушного кн. Трубецкого и его обвинение
в каком-то «цинизме».
Это «отвращение» смерти к жизни. Но Леонтьева ли
обвиним мы за то, что в нём кипело отвращение к смерти и
разложению?
Леонтьев звал на борьбу, во-первых, потому, что в нём
русский тип сознавал себя живущим, вовсе не желающим умирать.
Во-вторых, эта борьба, при временных припадках уныния и
отчаяния, вовсе не представлялась Леонтьеву невозможной.
В-третьих, это для него была борьба за высший культурный
тип против низшего. На это обстоятельство позволю себе
обратить особливое внимание как вообще читателей, так и наших
«европейцев», в частности. Но сначала — несколько слов о
трудностях и возможности борьбы.
Нужно вспомнить время, пережитое Леонтьевым, для того,
чтобы не обвинить его в малодушии за припадки его отчаяния.
386
Разве наши «европейцы» не считали сами, что со «старой»
Россией — в 1870—80 годах уже покончено, что вопрос о её
поступлении в архив есть простой вопрос десятка лет? Итак, не они,
конечно, должны осудить Леонтьева. Но должно вспомнить, что
он всё-таки боролся и считал борьбу возможною. Он сам
объяснял, что, при совместном действии двух различных по
существу основ, возможно, что сильнейшая победит, и тогда борьба
может иметь для неё даже оплодотворяющее значение. Такое
оплодотворяющее значение имел византизм для Западной
Европы. Такое же, стало быть, значение может получить
европеизм для России. Нынешние «противоречия», при этом исходе,
можно было бы даже помянуть в истории добрым словом, вроде
того, как мы признаём теперь, что монгольское иго не осталось
без полезного влияния на организацию России. Возможности
такого исхода Леонтьев не забывал. Но он отчётливо сознавал,
что в наших современных «противоречиях» России ставится
дилемма: или иметь самую жалкую будущность
бесцветнейшей из наций, или выдержать жестокую борьбу
противоречивых основ своих, между которыми нет примирения. К этой
борьбе Леонтьев звал с тем большей страстью, что сознавал
себя борцом за общечеловеческую культуру, «думал о судьбах
Европы».
Во всём этом Леонтьеву можно воздать только высокую
похвалу. Но несомненно также, что он, как боевой человек, не
сохранил должного хладнокровия, проявил больше любви и
страсти, нежели спокойной оценки возможностей. Он с
особенной настойчивостью кричал о своей «реакционности», и теперь
даже генерал Киреев упрекает его в том, что он хотел (будто
бы) лечить Россию по рецептам гр. Аракчеева. Тут, однако,
нужно во многое вникнуть и многое разграничить. Леонтьев
высоко ценил западно-европейскую культуру. Но он стоял
действительно на высоте её, он судил её именно как человек
культурный. Он очень отчётливо понимал, какие именно элементы
на Западе действительно культурны, и их он любил и ценил,
конечно, выше, нежели наши нынешние западники. Но именно
поэтому он со страхом и отвращением остановился перед тем
направлениехМ западно-европейской жизни — перед
«эгалитарно-демократическим» потоком, в котором совершенно
справедливо видел движение анти-культурное, движение уже не роста,
а разложения, ход не вверх, с точки зрения общечеловеческих
идеалов, а вниз. Леонтьев совершенно справедливо видел, что
Европа в этом своём движении идёт уже против всего, что
создало её общечеловеческое величие. И он — почувствовал
ненависть и презрение к этой Европе, отчасти современной, но
больше всего к той Европе будущего, которую так усердно подго-
25*
387
товляет современная Европа. Он объявил себя за прошлое,
объявил себя реакционером. Он даже пытался создать себе
общую теорию того, до какого фазиса развития страны человек
полезный должен быть прогрессистом и когда он должен стать
систематическим консерватором... Всё это, однако, лишь одна
сторона дела, где Леонтьев логически прав перед самим собой.
Но вопрос усложняется, когда дело подходит к России.
Он видит, что к нам надвигается, нами завладевает эта
Европа, в которой культурный человек должен стать
«реакционером», должен только охранять культуру от падения и
разложения, ибо развития для неё уже нет, и все предстоящие
изменения status quo ведут только к худшему, к понижению. Лично я
не согласен с такой политикой даже и для Европы. По-моему,
если цивилизация, среди которой я живу, уже пошла на
упадок, то я не посвящу своих сил на простое замедление её
упадка. Я буду искать её возрождения, буду искать нового
центра, около которого вечные основы культуры могут быть
снова приведены в состояние активное. Простое задержание
смерти того, что несомненно уже гибнет, по-моему, не есть
задача серьёзной общественной политики. Но допустим. Во
всяком случае, такая политика консерватизма и реакции имела бы
смысл только в Западной Европе. Но в России эта борьба,
к которой призывал Леонтьев, никоим образом не могла
подходить к понятию реакции, и это слово лишь мешает России
понять истинную мысль самого Леонтьева.
Собственно, по идеалам своим, по тому положительному, во
что он верил, что любил и что видел в русском типе, и что
хотел поддержать борьбой против европейского — Леонтьев не
только не реакционер, но даже реакция, логически рассуждая,
не могла бы быть для него действительно целесообразным
средством. Князь С. Трубецкой ошибается, будто бы Леонтьев
помышлял о простой реставрации Византийской империи. Ничего
подобного у Леонтьева нет. Совершенно напротив, он сам
указывает, что византийские основы не могли в Византии так
развиться, как в России, Он очень ясно говорит о том, что русский
гораздо более проникнут настоящим православным
религиозным чувством, нежели грек. Он прямо указывает, что только
у нас византийский кесаризм мог развиться в самодержавие.
Вообще он не смотрит на Россию, как на какую-то копию
Византии, а как на страну, в которой византийские основы
послужили условием зарождения её типа. Эти основы Леонтьев
считал наиболее высокими, созданными самым высоким
состоянием человеческой мысли. В них глубже всего выразилось
понимание условий, в которых развивается личность и общество.
Эти основы были нам даны при зарождении нашего националь-
388
ного типа, а теперь мы их готовы заглушить, принести в жертву
европейским в то самое время, когда европейские основы уже
достигают и на родине своей разложения, когда в самой
Европе замечается уничтожение личности во всеобщем
уравнительном однообразии. Леонтьев хочет, чтобы Россия стала на свои
основы, для уяснения которых он напоминает о Византии,
а вовсе не для «простой реставрации» Византии.
Леонтьев ненавидел слово «прогресс», потому что с ним
связалось то понятие, которое направляет развитие людей на путь
чисто «регрессивный». Но, в сущности, если под «прогрессом»
понимать «развитие» вверх, а не вниз, к жизни, а не к
разложению, то, конечно, стремления Леонтьева именно
«прогрессивны». «Реакция» призывает к прошлому. А Леонтьев звал к
будущему. Всё различие его от либеральных прогрессистов в том,
что он призывал к развитию по одному типу, а они — по
другому. Это различие, конечно, очень важное, коренное, но именно
по различию в свойствах типов, а не потому, чтобы один вёл
«вперед», а другой «назад». Леонтьеву некуда было вести
«назад». У него позади только тень Византии, которая может кое-
что объяснить, но к которой нельзя присоединиться по той
простой причине, что она не существует. Леонтьев не мог, по идеа
лам своим, требовать застоя, потому что он сам признавал
никуда не годным то место, на котором мы стоим. В прошлом
России у него есть только зародыши, только начало. Он, по
существу, звал к будущему, к развитию, к «прогрессу» того типа,
который мы получили от рождения. Никакой «реакции»,
никакого «ретроградства» тут быть не может. Реакция и ретроград-
ство ещё может быть у «западников», у «европейцев», но никак
не у «русских», у которых есть только начало, которое или
вовсе должно погибнуть, или требует продолжения, развития,
прогресса.
Итак, восстановляя Леонтьева таким, каков он есть по
мысли своей, а не по случайным словам, не по случайным порывам
боевого темперамента, мы никак не можем признать его
«реакционером». Генерал Киреев вполне прав, думая, что
«славянофил» не может быть реакционером, так что тот, кто предложил
бы лечить Россию по рецептам графа Аракчеева, ео ipso
показывает, что он не славянофил, не сторонник русских идеалов.
Но справедливость в отношении самого Леонтьева и уважение
к ценности его мысли заставляет помнить, что эти боевые
выходки у него самого вообще и по существу были не больше, как
боевые выходки против либерализма, против европеизма новых
формаций.
В них выражалось только страстное сознание
необходимости энергичных мер против врага, но никак не формулы общей
389
русской политики. Леонтьев в них скорее напоминает якобинца
1793 г., чем гр. Аракчеева. Ни по существу своих идеалов, ни
по действительному смыслу своих боевых криков он не есть
«реакционер».
Несомненно, что Леонтьев звал Россию не к прошлому,
а к будущему. С точки зрения всемирной культуры — можно
ставить лишь один вопрос: указывал ли он для будущего более
высокие основы, нежели те, которые старался искоренить
в крайнем случае даже «аракчеевскими» мерами? В ответ на
этот вопрос мы должны взвесить различие тех «типов», борьбу
которых Леонтьев видел у нас и в истории. Собственно
современное состояние «западного» человека и западных «устоев»
никто не обрисовывает так зло, как Леонтьев. Но дело этим не
исчерпывается. Вопрос всё-таки в том, обещает ли лучшее тот
«тип», который, зародившись в Византии и завещанный ею
нам, — до сих пор остаётся типом «будущего»? Другой вопрос:
сделал ли что-нибудь Леонтьев для выяснения этого типа? На
оба вопроса можно ответить только утвердительно. Как
всегда, — культурный тип в своих первоосновах определён той или
иной религией. Наш «культурный тип» есть создание собствен-
но православного миросозерцания. Собственно Леонтьев, как
проповедник и, надеюсь, пророк нашего будущего, имеет то
достоинство, что глубоко понял Православие. Он не был
богословом, но учился Православию на Афоне у замечательнейших
«старцев». Это, без сомнения, и помогло Леонтьеву понять, что
выше ни одного типа ничто не давало человечеству.
Чрезвычайно полное, необычайно реальное понимание жизни этого
миросозерцания, во-первых, создаёт превосходнейшие условия
для воспитания и развития личности, а за сим столь же удачно,
без всякой односторонности, отводит личности место в
обществе, откуда вытекает очень прочный общественный строй,
обусловливаемый православными отношениями Церкви и
государства. Культурный тип, возникающий на основах Православия, —
конечно, потенциально выше даже прежнего западного, не
говоря уже о новейшем, возникшем от разложения старого. Без
сомнения, Леонтьев был совершенно прав, угадывая, что его
стремления культурного человека получают своё осуществление
в наибольшей полноте именно в таком типе развития. Наши
«западники» новейших формаций этого не замечают только
потому, что в них чувство «западного» человека говорит сильнее,
нежели чувство «культурного» человека. Вся жизнь Леонтьева
есть сплошное доказательство того, как трудно этому
пониманию пробиваться сквозь каменистую кору того плохенького
«просвещения», которую дал нам наш период ученичества у
Европы. Здесь заключаются наибольшие опасности для разви-
390
тия России. Но та же личность, та же деятельность Леонтьева
составляют также доказательство, что русское самосознание
всё-таки развивается, идёт вперед. Оно, конечно, не
остановится и на Леонтьеве. Но можно сказать, что, во всяком
случае, по отчётливости своего русского сознания, — Леонтьев
также отметит собою второй фазис его развития, как
славянофилы отметили первый фазис его пробуждения.
Часть III
ДАЛЁКОЕ ЭХО
(Петербургские философы 1990-х годов о К. Леонтьеве)
А. ЧЕРНОГЛАЗОВ
ФОРМУЛА ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ
О Православии Константина Леонтьева
Среди русских писателей и литераторов прошлого века,
обратившихся в своей жизни и творчестве к христианству, Леон-
тьев стоит несколько особняком. Но из множества черт,
характеризующих эту крупную и самобытную фигуру, нам хотелось
бы остановиться сейчас лишь на одной. Черта эта—его
подчёркнутая, декларируемая даже церковность, принятие учения
Церкви как безусловного авторитета и безоговорочное
послушание ему. «Я Православию подчиняюсь, — пишет Леонтьев,—
вполне. Я признаю в нём не только то, что в нём убедительно
для моего разума и сердца, но и то, что мне претит...».
Авторитет и святость этого учения в его глазах настолько
непререкаемы, что вместо «страха Божия» он неоднократно говорит
о страхе перед учением Церкви, ср.: «Нужно дожить, дорасти
до действительного страха Божия, до страха почти животного
и самого простого перед учением Церкви». И в другом месте:
«Начало премудрости — страх Божий (или страх перед
учением Церкви), это всё равно». Недостоинство православного
духовенства, вполне признаваемое Леонтьевым, столь же мало
может, по его мнению, повлиять на авторитет Церкви, сколь
плохое качество хлеба на святость испечённой из него и
освящённой просфоры.
Казалось бы, такая преданность учению Церкви, да ещё
на фоне господствовавших в обществе резко антиклерикальных
настроений, должна была вызвать в Церкви единодушное
одобрение. Одобрения этого, однако, не последовало. Суждение
наиболее авторитетных представителей русской церковной
мысли — причём разных, подчас противоположных её
направлений— было, скорее, отрицательным. Так, митрополит Антоний
Храповицкий говорил о «лже-аскетизме» Леонтьева, о. Павел
Флоренский — о «безблагодатном эстетизме», а о. Георгий Фло-
ровский обвинил его в «изволенной двусмысленности» и
«сумерках умственной совести». Не вдаваясь подробно в анализ этих
суждений, нам хотелось бы показать лишь следующие два факта.
Во-первых, отношение Леонтьева к церковному авторитету
действительно имеет, по выражению Флоровского, «постоянный
привкус двусмысленности», который для поверхностного,
нецерковного сознания даёт повод подозревать Леонтьева в
интеллектуальной нечестности и лицемерии. Во-вторых, пресловутая
двусмысленность и интеллектуальная нечестность не только не ста-
395
вит под сомнение искренность православия Леонтьева, но,
напротив, о ней свидетельствует и даже удостоверяет её. Чтобы
пояснить эту мысль, придётся рассмотреть отношение Леонтьева
к церковному авторитету несколько подробнее.
Краеугольным камнем этики Леонтьева является
принуждение. «В основании своём христианство есть безустанное
понуждение о Христе; и все наши добрые качества, облегчающие нам
от времени и до времени эту борьбу духа и плоти, суть не что
иное как дары Божий. Заслуга только в понуждении, в
покаянии и в смирении, если не можешь принудить себя; всё невольно
хорошее в нас, всё естественно доброе есть дар благодати для
облегчения борьбы». Таким образом, для Леонтьева существенно
не качество, не содержание поступка; один и тот же поступок
может быть хорош, если совершается по сознательному
послушанию, самопринуждению, и, наоборот, не иметь никакой цены,
если он совершён по естественному побуждению, самочинно.
«Нравственность самочинная, как у честных атеистов и т. п., ни
малейшей цены для загробного спасения не имеет; она может
быть очень удобна и приятна, но освящения не имеет, она
хороший белый хлеб, а не вынутая просфора».
Этот же принцип распространяется Леонтьевым и на
молитвенную жизнь, на действие молитвенное. Молитва совершается
по предписанию, по послушанию. Об отце Клименте из Оптиной
Пустыни Леонтьев с одобрением говорит, что тот без
благословения своего духовного отца и единой молитвы не решится
прибавить к своему правилу. Молитва принудительная и есть
настоящая молитва. «Когда вопреки сухости сердца и
равнодушию ума идёт христианин в церковь или становится на
принудительную молитву, это выше с точки зрения личной заслуги,
чем молитва лёгкая, радостная, умилительная, горячая». Более
того, молитва не следует из веры, а предшествует ей. «Один
монах советовал молиться, чтобы приобрести веру... Как можно
молиться тому, кому не веруешь?.. А монах был прав. С нашей
стороны достаточно принципиального изволения, искреннего
желания подчиниться учению Церкви: действие молитвенное...
более в нашей власти, чем чувство молитвенное, чем
приобретение этого чувства».
Итак, одна и та же молитва, как и любой другой поступок,
может быть для души бесполезна (если она представляет собой
лишь естественное «молитвенное чувство») или даже вредна
(если она совершена «самочинно») и, наоборот, принести
великую пользу, если основана на желании и готовности
подчиниться учению Церкви. Если считать, что «молитвенное чувство»
пропорционально силе веры, собственно, и есть вера, то
оказывается, что заслуга «молитвенного действия», т. е. молитвы, об-
396
ратно пропорциональна вере. Это значит, что подлинное
«молитвенное делание» совершается не «из себя», а «проти'в себя» и
исходит не от человека, а от Церкви, которой человек в этом
делании повинуется.
Но чтобы повиновение человека Церкви было полным,
учению Церкви должна следовать и повиноваться сама мысль его.
Принуждение распространяется и на неё. Конечно же, это
связано и с тем, что Церковь непогрешима, а человеческий разум,
связанный грехом, подвержен заблуждениям и иллюзиям.
«Я не верю вполне и постоянно по долгу христианского
смирения одной моей совести, — пишет Леонтьев, — ибо это
свидетельство основано прежде всего на гордости моего разума».
Но дело не только в этом. Т. е. не только в том, что учение
Церкви истинно. Или иначе: оно спасительно не только потому,
что истинно, но ещё и потому, что имеет форму авторитета,
неприемлемую для разума и требующую подвига веры, который
в другом месте Леонтьев более прозаически и точно именует
«обязанностью исповедания».
Этот авторитет должен существовать именно как авторитет,
не совпадая с естественной логикой, с естественным течением
мысли. Стоит же истине быть усвоенной разумом, как она —
оставшись, разумеется, истиной — потеряет в религиозном
отношении всякую цену. «Чужая мысль поразила меня своей
истиной? Что же за диво принять её? Ей подчиняешься
невольно, и только удивляешься, как она не пришла на ум раньше.
Но, веруя в духовный авторитет, подчиниться ему против
знания и вкусов, подчинить себя произвольно и насильственно,
вопреки целой буре внутренних помыслов, мне кажется, что это
и есть настоящая вера».
Авторитет в качестве «обязанности исповедания»
сосуществует в христианине с его убеждениями и с этими убеждениями
не совпадает, причём несовпадение это принципиальное.
«Можно считать себя верующим, и даже правильно в основаниях
верующим, но никогда нельзя считать себя достаточно
верующим... Первое есть только обязанность исповедания, второе
было бы духовной гордостью». Итак, самоуверенная претензия
на совпадение своих убеждений со своим же исповеданием есть
духовная гордость. Быть искренним — цель христианина,
проповедовать искренность — его долг, но объявлять себя
искренним, притязать на искренность (как, впрочем, и на любую иную
добродетель)—непростительный грех. Сознание христианина
можно, таким образом, выразить парадоксальной формулой
«это так, хотя я думаю иначе» (над её осмысленностью много
спорили уже в нашем веке английские логики), где «это так»
есть утверждаемый, исповедуемый авторитет, а «я думаю» —
397
принципиально не совпадающий с ним ход собственных мыслей.
Однако в действительности христианин, исповедуя ту или
иную вероучительную истину, антитезис, т. е. свои убеждения,
свои помыслы уже не может высказать прямо, высказать даже
внутренне; он как бы лишает их права голоса. Очень интересен
в этом отношении спор о католичестве, описанный в повести
«О. Климент Зедергольм». В споре с Леонтьевым о. Климент
убеждает его, что «надо чувствовать духовное омерзение ко
всему, что не православное». Леонтьев с ним не соглашается.
Удивительно, однако, то, что, по мнению Леонтьева, отца
Климента давно и хорошо знавшего, тот на самом деле, про себя,
был с ним вполне согласен. «Он не мог по его собственным
убеждениям не чувствовать, что я говорю правду», — пишет
Леонтьев, и далее: «Климент не мог заставить меня думать
иначе, ибо видимо он соглашался со мной с исторической точки
зрения» (Леонтьев отстаивал мысль о положительной
консервативно-охранительной роли католицизма в Европе и
старообрядчества в России).
Но если стороны согласны, то о чём же и почему спор? Да
именно потому, что Климент, будучи монахом, «давал страш-
ные обеты отречения и был связан ими», а значит высказать
собственную точку зрения, собственные помыслы не мог и с
жаром доказывал Леонтьеву (а, вероятно, и себе самому) ту
мысль, к которой монашеский сан и связанная с ним
ответственность его обязывали. Этот спор был для него спором с
самим собой. «Он тревожился чисто монашеской мыслью,—
объясняет за него Леонтьев, — он заботился о своей душе... и
ещё о душе ближнего, о моей душе». Впрочем, поскольку, как
пишет Леонтьев несколькими страницами выше, «разница между
самоограничивающим и самопринуждающим себя о Христе
монахом и мирянином только количественная, а не качественная,
не существенная», ему и самому не грех было бы стать на
сторону отца Климента.
Перед нами, таким образом, парадоксальная и очень
поучительная ситуация. Один из спорщиков высказывает то, что они
оба думают, их общую точку зрения, а другой — то, что оба
они должны думать в качестве чад Православной Церкви.
Граница спора проходит, таким образом, не между ними, а внутри
каждого из них; распределение же ролей позволяет высказать
то, что один человек от своего имени высказать не может, т. е.
одновременно обе стороны формулы: и «я думаю», и «так есть».
Христианин обязан, как видим, не только исповедовать
церковное учение, но и защищать его, защищать от собственных, ему
противоречащих убеждений. Другими словами, он неизбежно
двоится и, поскольку он повинуется Церкви, должен непрерыв-
398
но понуждать себя, ради спасения души своей и своих близких,
говорить не то, что на самом деле лежит у него на душе, что
внушает ему собственный помысел. Именно так и поступает
в данном случае о. Климент.
И всё же есть ситуация, когда человек не только может, но
п обязан высказать свои помыслы. Это ситуация исповеди. Но
помыслы эти не утверждаются на исповеди как истина, а
служат предметом покаяния. Мы отрекаемся от них, и в то же
время они — наши собственные, иначе какая была бы нужда
в отречении? «Это так, хотя я, грешным делом, и думаю
иначе»,— вот интонация позднего Леонтьева. Именно она звучит
в цитируемом Флоровским известном письме Розанову: «Что же
делать?.. Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб
любимой нами эстетике, из трансцендентального эгоизма, по
страху загробного суда». Она-то как раз и дала о. Георгию
повод говорить о изволеиной двусмысленности и сумерках
умственной совести. И нам представляется, что для очень многих
неприятие Леонтьева и неприязнь к нему обусловлены этой
двусмысленностью, проистекающей из несовпадения Леонтьева
с самим собой, несовместимостью его взгляда с его
исповеданием, то есть, говоря словами Розанова, его «эллинского
эстетизма» с его же «речами о строгом загробном идеале».
Но прежде чем обвинять Леонтьева в обскурантизме,
лицемерии или даже изуверстве (С. Л. Франк), присмотримся к его
словам внимательнее. Нет ли в них чего-то хорошо знакомого
нам, знакомого настолько давно и близко, что мы этого просто
не замечаем?
В самом деле, в жизнь всех нас, в жизнь всякого
православного христианина входит обязательное молитвенное
правило. Состоит оно из текстов, произносимых в положенное для
этого время или в соответствующих случаях и ситуациях,
причём произносимых от своего имени. Существенно, что мы не
просто читаем тексты, написанные, скажем, свв. Василием
Великим, или Макарием, или Златоустом, но произносим их
именно как свои, т. е. всецело присоединяясь к ним, соглашаясь
с ними, говоря наше «да» и «аминь» всему, о чём в них идёт
речь.
Но всегда ли наши чувства, настроения и мысли отвечают
при этом содержанию произносимых молитв? Разве всегда
желаем мы молиться, когда приходит час молитвы? Всегда ли
искренне приносим покаяние? Не появляется ли у нас
сомнений в Символе веры? Искренне ли исповедуем себя перед
Чашей первым из грешников? Разумеется, нет. Но значит ли это,
что мы лжём и лицемерим?
399
Конечно, собственные мысли и чувства наши не совпадают
с теми, что мы находим в молитвах. Но ведь само
несовпадение это, само недостоинство и двоедушие наше в этих
молитвах предвосхищается. «Пред дверьми храма Твоего предстою
и окаянных помышлений не отступаю», «каюся трепеща
неужели Господь поразит мя и по часе паки таяжде творю», «не
попущай, пречистая, воле моей совершатися, неугодна
бо есть», «аще хощу, аще не хощу, спаси мя, понеже
аз яко кал любовещный греховную скверну желаю», «да не
оставиши меня последовать хотению моему лукавому»,—
примеров можно найти великое множество. Предвосхищение это
указывает, что несовпадение не случайно, что оно как бы
задано, запрограммировано падшестью нашей. Произнесение
правила открывает нам глаза на это несовпадение и тем самым
видимо обличает наше греховное недостоинство. Наши мысли
и чувства как бы лишаются при чтении молитвы права голоса,
всецело этой молитве отданного, и становятся «помыслами»,
симптомами нашей греховности. Благодаря принудительной
молитве в нас видимо вселяется «ум Христов», который
становится судией собственных помыслов и переживаний наших.
«Молитва истинно молящемуся есть суд, судилище и престол
Судии прежде страшного суда»,— пишет св. Иоанн Лествичник.
В молитве помыслы наши отчуждаются, отторгаются нами и
обращаются в предмет покаяния.
Таким образом, наша повседневная молитвенная жизнь
описывается знакомой формулой: «Это так, хотя, каюсь, я так не
думаю». И необходимость её, т. е. необходимость в данном
случае совершения принудительного молитвенного правила,
совершенно ясна: несовпадение между «я думаю» и «это так», его
преодолевающим, служит пружиной нашего внутреннего роста,
определяет динамику внутренней жизни. Не будь этого
несовпадения, этого неравенства самому себе, не было бы и
движения покаяния, стремящегося его снять, не было бы той
внутренней брани, которая составляет суть христианского подвига.
Итак, формула «это так, хотя, каюсь, я так не думаю»,
выражающая отношение Леонтьева к учению Церкви, есть
одновременно и формула нашей повседневной молитвы. Весь строй
переживаний Леонтьева, в котором «эстетизм» (в его случае)
противостоит «строгому загробному идеалу», выступающему
как воплощённый в ежедневной молитве церковный
авторитет, не только не содержит ничего эпатирующего или
исключительного, но, напротив, близок и знаком всякому, кто
пытается по мере сил своих жить православной молитвенной
жизнью. И наоборот, за неприятием такого строя переживаний,
неприятием авторитета Церкви может скрываться отсутствие
400
подлинной молитвенной жизни. Подлинной не в каком-то
возвышенном или мистическом смысле, а в простом и приземлён-
ном смысле не-чтения молитв, опущения обязательного
молитвенного правила либо, по меньшей мере, безответственного,
формального, бездумного его совершения.
Но возникает ещё один неизбежный вопрос. Что же
заставляет Леонтьева произносить это «так»? Что подвигает на
молитву, на брань, на противостояние себе самому? Что, если не
разумное убеждение, покоряет его авторитету Церкви?
Ответы Леонтьева — во всяком случае для тех, кого он именовал
«розовыми христианами»,— звучат почти вызывающе:
животный страх перед учением Церкви, страх загробного суда,
забота о личном спасении души, трансцендентальный эгоизм.. .
Конечно, слово «эгоизм» несёт в себе сильные отрицательные
коннотации. Эгоистом быть плохо — это мы затвердили с
детства. Бояться тоже плохо. Боится раб. За деньги служит
наёмник. А сын повинуется по любви. Но вдумаемся — справедливо
ли обвинять в эгоизме человека, который сам обличает в себе
эгоиста? Не звучит ли в словах Леонтьева хорошо уже
знакомая нам нота монашеского покаяния и самообвинения, если
угодно, самоуничижения? По сути дела, трансцендентальный
эгоизм Леонтьева вводит покаяние в самое ядро исповедания
веры как его внутренний мотив, его «сокрытый двигатель».
Вспомним, что и в нашем правиле покаянный псалом
непосредственно предваряет чтение Символа.
Перед нами, таким образом, не лицемерие и не цинизм,
а самая обычная и всем православным заповеданная практика
«самоуничиженного молитвенного предания себя в волю Бо-
жию» (святитель Феофан), которой все мы, в меру сил своих,
следуем в наших ежедневных молитвах.
Практика эта имеет глубокие корни в святоотеческой
аскетической традиции, в значительной мере усвоенной и
продолженной такими современниками Леонтьева, как святители
Феофан, Игнатий и старец Амвросий Оптинский, бывший для
Леонтьева духовным отцом и руководителем. В писаниях их мы
без труда найдём то самое учение о необходимости
послушания, самопринуждения и отсечения своей воли и разума,
которое мы встретили у Леонтьева и которого держимся сами в той
мере, в какой принимаем сознательное участие в молитвенной
жизни Церкви. Здесь нет места для подробного его раскрытия
и изложения, и мы ограничимся лишь рядом высказываний,
выражающих, как нам кажется, это учение наиболее рельефно.
Послушаем авву Дорофея: «Я не знаю другого падения
монаху, кроме того, когда он верит своему сердцу... Видел ли
ты падшего,— знай, что он последовал самому себе... Когда
26 К. Леонтьев
401
я был в общежитии, я открывал все свои помыслы старцу
авве Иоанну и никогда, как сказал, не решался сделать что-
либо без его совета. И иногда говорил мне помысел: «Не то
же ли самое скажет тебе старец? Зачем ты хочешь беспокоить
его?» А я отвечал помыслу: анафема тебе и рассуждению
твоему, и разуму твоему, и ведению твоему, и мудрованию
твоему, ибо что ты знаешь, ты знаешь от демонов. И так я шёл
и вопрошал старца. И случалось иногда, что он отвечал мне
то самое, что у меня было на уме. Тогда помысел говорил
мне: «Ну что же? Видишь, это то самое, что я говорил тебе:
не напрасно ли беспокоил ты старца?» И я отвечал помыслу:
«Теперь оно хорошо, теперь оно от Духа Святого; твоё же
внушение лукаво, от демонов, и было делом страстного
устроения души».
А вот св. Иоанн Кассиан: «...надлежит в простоте сердца
и без всякого притворства воспринять иго послушания и
подчинения. >. что никем не может быть соблюдаемо кроме того,
кто не только возымел себя мёртвым для мира сего, но и
почитает неразумным и глупым, и без всякого размышления
исполняет всё, что ни прикажут старцы, по вере, что всё то
священно и от Самого Бога возвещается».
Обратимся и к нашим отечественным подвижникам. Вот
святитель Феофан: «Естественные совершенства и вообще не
имеют цены нравственной, потому что они не наше
приобретение, а дарованы нам Богом; тем паче в христианстве всё
естественное не ценно, по причине порчи естества в падении».
Ему вторит старец Амвросий Оптинский: «Знайте, что
характеры имеют значение только на суде человеческом и
потому или похваляются или порицаются; но на суде Божием
характеры как природные свойства ни одобряются, ни
порицаются. Господь взирает на благое намерение и понуждение
к добру и ценит сопротивление страстям, хотя бы человек
иногда от немощи и побеждался чем».
В заключение приведём несколько высказываний
святителя Игнатия: «Грех столько усвоился нам при посредстве
падения, что все свойства, все движения души пропитаны им.
Отвержение греха, сроднившегося душе, соделалось отвержением
души... Пища, отравленная ядом, по всей справедливости и
сама называется ядом».
«Чтобы последовать Христу, предварительно отречёмся от
своего разума и своей воли. И разум и воля падшего естества
вполне повреждены грехом; они никак не примирятся с
разумом и волею Божиими. Соделывается способным к усвоению
себе разума Божия тот, кто отвергнет свой разум; соделывает-
402
ся способным к исполнению воли Божией тот, кто отречётся
от исполнения своей воли».
«Естество наше, заражённое ядом зла, стремится
произвольно и невольно ко злу, представляющемуся добром и
наслаждением искажённой воле, извращённому разуму, извращённому
сердечному чувству».
«Руководствующийся в жительстве Евангелием не
остановится принести полное удостоверение в том, что он не знает
за собой ни одного доброго дела. Исполнение им заповедей он
признаёт искажением и осквернением их... Научи мя творити
волю твою, вопиет он с плачем к Богу, ту волю, которую Ты
заповедал мне творить, которую я усиливаюсь творить, но не
могу, потому что падшее моё естество не понимает её и не
покоряется ей».
Итак, кто видит падшесть своей природы — чем, кроме
эгоизма и страха, вправе он объяснить своё служение Богу? И
чем, кроме признания этого эгоизма, может он оправдаться?
Нам представляется, что именно этот, столь естественный
для православного христианина мотив как раз и остался у
Леонтьева менее всего понятым. В нём видели публициста,
писателя, проповедника и не разглядели самого простого и самого,
пожалуй, близкого нам — не разглядели искренне, без ложного
смиреннословия и тщеславия кающегося христианина и
монаха.
То, что звучало бы фальшиво как проповедь, легко
объясняется как исповедь. Исповедь же не хочет спора, не требует
согласия или несогласия, или иного, говоря словами Бахтина,
«светски-культурного акта». Она требует в ответ акта
личностного, требует молитвы и прощения. Не случайно при жизни
Леонтьева его понимали и ценили прежде рсего в кругу
близких друзей, чьи отзывы подчас диаметрально
противоположны тем, с которых мы начали эту статью. Дадим слово
Василию Розанову: «Он был редко прекрасный русский человек,
с чистою, искреннею душою, язык которого не знал лукавства;
и по этому качеству был почти уникум в русской словесности,
довольно-таки фальшивой, деланной и притворной».
Удивительно, не правда ли? Где же знакомый нам образ
иезуита с нечистой умственной совестью? Похоже, что именно
искренность Леонтьева и дала повод обвинить его в лицемерии,
именно откровенность и была воспринята как цинизм.
(Заметим, кстати, что впоследствии его судьбу разделил и сам
В. Розанов, своей предельной, не укладывавшейся в рамки
идейных направлений искренностью навлекший на себя упрёки
в двурушничестве и беспринципности). Почему это с
Леонтьевым произошло, мы, собственно, и попытались здесь объяснить.
26*
403
Итак, подведём итоги. Логика мышления Леонтьева,
которую мы попытались выразить формулой «это так, хотя, каюсь,
я так не думаю»,— это не логика лицемерной проповеди, за
которую её часто принимали, а логика нелицемерной исповеди,
логика приносимого всеми нами Церковного покаяния, логика
нашего воцерковления — та самая логика, которая определяет
повседневную молитвенную жизнь в Православии. В своих
письмах Леонтьев предстоит нам не мудрецом, философом или
проповедником, а одним из тех кающихся и погибающих, из
которых и состоит, по слову ев, Ефрема Сирина, Церковь. И
если не удалось ему до конца покаяться, до конца подчинить
Церкви свои вкусы и помыслы, до конца воцерковить свою
жизнь и творчество, пусть те, кому это удалось, бросят в него
камень первыми.
В. КОНДРАТОВИЧ
ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ БАРРИКАД
(КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ И НИКОЛАИ ФЁДОРОВ)
На закате XIX века в России появился странный человек,
«загадочный старик». Служил библиотекарем. Добрый,
отзывчивый, скромный, тихий. . . Всем своим обликом и праведной,
правильной жизнью он даже напоминал христианского святого.
Это был Николай Фёдорович Фёдоров, автор учения, о
котором Владимир Соловьёв сказал, что «со времён Иисуса
Христа в лице Фёдорова человечество сделало первый
заслуживающий внимания шаг». Об этом учении было сказано уже
достаточно много. Но мне кажется, что наша недавняя история
даёт повод ещё раз задуматься над тем, что же это за
«заслуживающий внимания шаг» и в какую сторону он был сделан.
В учении Фёдорова есть и рассуждения о соборности, о
почитании предков, и скорбь по поводу утраченных родственных,
братских отношений между людьми... Но главное, на чём
основывается эта соборность, от чего должны возродиться
братские отношения,— это «общее дело», которое должно всех
объединить, придать конечный смысл человеческому
существованию и истории. С точки зрения Фёдорова, все средства, все
достижения человеческой мысли, всё должно быть подчинено
одной цели — научному воскрешению умерших предков. В этом
смысле он трактует Ветхий и Новый Завет, в связи с чем его
часто и называют религиозным мыслителем. По-моему, он дей-
404
ствмтельно религиозный мыслитель, но в несколько другом, не
совсем обычном смысле.
Если взглянуть на путь, пройденный человечеством в
сторону «прогресса» (особенно со времён Возрождения), то
можно заметить, что наука, а вместе с ней и учёные прошли
тернистый путь самоутверждения и теперь играют чуть ли не
главную роль в жизни общества, причём в сферах очень далёких
от «чистой науки». Появились даже символические фигуры,
нечто вроде «святых мучеников», которые своими
«страданиями» отстояли научное миропонимание (Галилей, Дж. Бруно и
др.). Правда, это движение к истине было стихийным,
неоформленным, погружённым в дурную бесконечность абстрактного
прогресса. И только Фёдоров с чисто русской
последовательностью поставил все точки над /, указав идущим по пути
прогресса его конечную цель, фактически придав науке
религиозный смысл и статус. Действительно, каждый, кто верит в
прогресс, подчиняется его институтам, участвует в нём —
сознательно или бессознательно, признаётся он себе в этом или
нет, но, очевидно, где-то верит в своё грядущее воскрешение
научными средствами. Вспомним хотя бы стихийное
обращение Маяковского к учёному: «Воскреси меня!» Исцеление
больного при помощи лекарств может рассматриваться как
прообраз научного воскрешения человека, подобно тому как
исцеление страждущих Христом и святыми считается в
христианской традиции прообразом грядущего воскрешения человека
Богом. .. В последовательности, с которой Фёдоров
сформулировал «символ веры» учёного, сделав всё неосознанное
осознанным, и заключается основное достоинство его учения, его
своеобразная религиозная глубина. Правда, именно эта
последовательность и мешает признанию фёдоровского учения в среде
«умных» деятелей прогресса, привыкших больше рассуждать
о «всеобщем благе» и прочих абстракциях, гордо поглядывая
на «слабых» и «трепещущих перед смертью» христиан. Ибо
подобная последовательность ставит их в несколько неловкое,
«глупое» положение.
Но на этом достоинства учения Фёдорова для меня
исчерпываются. Ясно, что, несмотря на свою очевидную
религиозность, Фёдоров — человек другой, не христианской веры, хотя
и прибегает для обоснования своих взглядов к толкованию
Нового Завета. Прежде всего бросается в глаза крайне
гуманистический пафос его учения, ибо в центр мира уже
окончательно ставится не Бог, а человек. С этой точки зрения учение
Фёдорова, как и, казалось бы, прямо противоположное ему
учение Ницше, представляет собой наиболее последовательное
405
и предельное выражение духа гуманизма Нового Времени *.
Но гуманизм Фёдорова уже не предполагает ни греха, ни
соблазна, ни подвига веры, ни аскетики, ни трагизма
одиночества и богооставленности, а только «серьёзную
исследовательскую работу» специалистов и пассивное ожидание остальных.
Смерть — не следствие греха, а лишь следствие временного
незнания, вполне разрешимая научная проблема. И ситуация
«больной — врач» здесь достаточно характерна, ибо уже не
«вера спасла тебя», а лекарства, в принципе доступные
каждому. . . Поэтому торжество веры в возможность научного
воскрешения человека с неизбежностью означало бы его полную
духовную деградацию, чего только и можно ждать от
неизбежной при этом утраты страха смерти, а следовательно, и страха
Божьего. Не случайно лозунг Антихриста «Всем дать всё»,
которым, так или иначе, движима наука, находит в фёдоровском
учении своё почти абсолютное воплощение.
Во второй половине прошлого века жил другой русский
мыслитель, чей образ жизни, внешний облик и, наконец,
взгляды разительно расходились со всем тем, что мы находим у
Фёдорова. Над именем этого мыслителя, по словам Розанова,
«витает ангел забвения»,— и по сей день оно большинству
мало известно или вообще ничего не говорит. Имя этого
человека — Константин Николаевич Леонтьев.
Если Фёдоров придаёт науке законченный религиозный
статус, то трудно, наверное, отыскать более последовательного и
непримиримого её противника, чем Константин Леонтьев.
В письме к одному своему знакомому **, находясь уже не на
эстетских, как в молодости, а на ортодоксально-церковных
позициях, он презрительно описывает заседание учёных, где все
почему-то «в серых пиджаках», перечисляет темы диссертаций,
посвященных исследованию «образа жизни дождевого червя»
и т. п., недоумевает, как всем этим можно всерьёз заниматься,
и приходит к заключению, что, пожалуй, взвод конных
кирасиров стоит всей этой науки... Сегодня, перечитывая это письмо,
невольно поражаешься его актуальности. И вообще Леонтьев
на протяжении всей своей жизни неоднократно («некстати и
кстати») обрушивался на позитивистские идеалы, отмечая, что
наука, в конечном счёте, тоже держится на вере, только на
вере в прогресс, разум, пользу и прочие неопределённые, а
потому малопонятные и неприемлемые для него вещи.
* Именно поэтому в личностях этих двух мыслителей я гзижу разгадку
большинства парадоксов господствующего ныне миропонимания.
** «Некстати и кстати» (Письмо к Фету: «Гражданин», 1889 г.).
406
Сам облик Леонтьева» образ его жизни никак не вяжутся
с внешне броской «святостью» Фёдорова. Говорят, в молодости
Леонтьев часто изменял жене, подробно рассказывая ей о своих
изменах, что, возможно, и привело её к безумию.. . Но именно
этот человек кончил свою жизнь в монастыре, исповедуя самую
глубокую и искреннюю веру в Христа, и, может быть, как
никто другой приблизился в своём творчестве к суровому
аскетическому духу первых веков христианства. Он был
сторонником сильной церковной и монархической власти, смирение и
страх Божий ставил прежде любви, говорил О неизбежности и
даже необходимости страданий, отрицал возможность
установления всеобщей гармонии на земле и даже Достоевского
критиковал за либерализм и «розовое христианство»... Вряд ли
он пришёл бы в восторг от перспективы воцарения всеобщего
братства под антихристовым лозунгом, хотя специальных вы-
сказыЕаний в адрес Фёдорова мне у Леонтьева не попадалось.
Вместе с тем, крайняя «гуманность» и внешняя
чувствительность (до слезливости) фёдоровского учения (хотя невольно
и ассоциируется с одним из высших дарований христианской
святости—дарованием слёз), по сути, являет собой
поразительный в своей абсолютной зеркальной перевёрнутости
образ холодного ницшеанского смеха жрецов «весёлой науки».
Именно поэтому стоит привести фразу, как-то оброненную
Леонтьевым и свидетельствующую о колоссальной внутренней
чуткости этого человека: «Гуманизм и христианство — это два
поезда, которые когда-то вышли из одной точки, но
постепенно пути их настолько разошлись, что они неизбежно должны
столкнуться».
Революция 1917 года отделяет от нас имена этих, столь не
похожих друг на друга мыслителей, но она же позволяет нам
лучше понять особенности их миропонимании и даёт основание
для их прямого сопоставления. В то время столкнулись силы,
куда более скрытые, чем те, что были движимы внешними
лозунгами, выявились противоречия куда более вечные, чем те,
о которых принято говорить. И может быть, именно Леонтьева
и Фёдорова можно считать подлинными выразителями наиболее
глубоких интенций и намерений сил, оказавшихся в то время
«по разные стороны баррикад».
Все революционеры, от Кропоткина до марксистов, помимо
веры в осуществимость социальных идеалов и утопий,
основывали своё мировоззрение на вере в человеческий разум, науку,
прогресс. И если Леонтьев не только идейно перекликается
с идеологами белого движения, сражавшегося «за Царя, за
Родину, за Веру», но и как бы является характерной фигурой
407
этого движения (со всеми своими достоинствами и
недостатками)» то даже в самом примитивном пропагандистском
фильме о революции «развращённому» аристократу непременно
противостоит не большевик или рабочий, а «добрый, хороший,
умный» учёный, интеллигент («Депутат Балтики» и т. п.),
носитель «положительных идеалов светлого будущего» *. У
Василия Чекрыгина, художника, находившегося под сильным
влиянием фёдоровских идей, даже были задуманы фрески под
характерным названием «Восстание и вознесение» **. И не
случайно вся интеллигенция, принявшая революцию не
«вульгарно-социологически», а глубоко, всерьёз и последовательно,
оказалась под воздействием идей не Маркса, а именно Фёдорова.
Кроме Чекрыгина можно вспомнить Циолковского, Филонова,
Хлебникова, Заболоцкого, Платонова... Всё это — пусть не
признанные ещё до конца, но «стоящие по эту сторону
баррикад» люди, в своём роде «святые от социализма».
Если бы меня попросили выразить различие между
Леонтьевым и Фёдоровым образно, то я бы сказал, что они
отличаются друг от друга примерно так же, как дистиллированная
вода — от вина. Тот, кто хоть раз был в православной церкви
у причастия, поймёт меня.. . Но я не берусь кому-нибудь
навязывать свои вкусы, помня слова Киркегора: «Если я попрошу
стакан воды, а мне принесут вина, я не буду благодарен».
Всему своё время.
И всё-таки, несмотря на победу «прогрессивных» сил,
несмотря на то, что признание многих последователей Фёдорова
ещё впереди, несмотря на то, что людей, подобных
Константину Леонтьеву, вроде бы уже нет, и он часто воспринимается
только как экзотический представитель навсегда ушедшего
прошлого — рост алкоголизма, наркомании, психических
заболеваний... говорит мне о том, что далеко не все могут
удовлетворить свою жажду водой...
* Последовавшие затем гонения на генетику и т. п. нельзя признать
«гонением на интеллигенцию» (как об этом обычно говорят), ибо
мировоззрение Лысенко и ему подобных не менее наукообразно, чем мировоззрение
его оппонентов. Скорее, здесь можно говорить о столкновениях различных
научных течений, имеющих гораздо более локальный характер, чем те, что
происходили во время революции.
** Об этом упоминает в своих воспоминаниях о Филонове («Тревогой
и пламенем») О. В. Покровский. Хотя, как известно, сам Фёдоров
употреблял слово «востание» (с одним «с»). Но в любом случае речь идёт о
физическом, при помощи научных средств, вознесении человека в космос.
408
Ю. БУЛЫЧЕВ
ВОЛЬНОЛЮБИВЫЙ ПЕВЕЦ ДЕСПОТИЗМА
(О предназначении власти и смысле свободы
в воззрениях К. Н. Леонтьева)
Багровые лучи заката государства Российского очерчивают
сумрачную фигуру Константина Николаевича Леонтьева в её
истинной величине. Пророческий смысл суждений Леонтьева
заставляет ныне с вниманием вдумываться в каждое слово,
даже недоговорённое или невзначай оброненное плохо понятым
при жизни мыслителем. Впрочем, большую часть того, о чём
он думал, что предчувствовал, чего опасался, Константин
Леонтьев выговорил ясно, твёрдо и бесстрашно, сколь бы
вопиюще оно не противоречило убеждениям интеллигентской
публики, воспитанной на лозунгах Французской революции и
социалистических снах Веры Павловны. Леонтьев горячо любил
жизнь, а не сны, будучи по натуре мыслителем сильным,
предметным, размашистым, предпочитавшим крепкий умственный
труд над реальными, порой грубыми проблемами бытия
народа и государства расслабляющему мыслеплаванью в сферах,
удалённых от жизни с её роковыми, часто жестокими
вопросами. Он думал как муж — воитель, строитель, хранитель, а не
как утончённый рафинированный интеллектуал, для которого
великий, прекрасный и страшный мир природы и истории —
лишь подсобный фон самовыражения и объект
распредмечивания в мареве произвольных дефиниций, субъективных
ассоциаций, расплывчатых реминисценций. Леонтьев в своей
личности и мировоззрении воплощал силу и энергию, исходящую
из волевых глубин страстно чувствующей души, а не начало
анализа, не равнодушно-логическую способность сознания.
Медик по образованию, он не был чужд ни логики, ни научности,
подчас склоняясь к естествоиспытательскому воззрению на
социально-исторический процесс, однако альфа и омега его
суждений определялись не логикой и фактом, но страстью и
натурой, капризно организующими рассматриваемый материал
в прихотливые идейные формы, совершенно не подвластные
однозначной классификации. По одной весьма выразительной
и очень верной характеристике, «его порывистая, страстная
душа, его стремительный причудливый ум сливались, как
несродные стихии, море и тучи, в ураган противоречий, в ревущий,
сверкающий и сокрушительный смерч. Он был какою-то
бурею, разом мечущейся во всех направлениях, одновременно и
славословя и разрушая одно и то же, существуя тем раздо-
409
ром несогласных стремлений, который явился бы концом и
гибелью для прямолинейно веющего духа» ].
Трудно сомневаться в том, что Константин Леонтьев был
личностью глубоко своенравной, своевольной, внутренне
свободной. Только такой человек, находясь на дипломатической
службе в Турции, мог позволить себе проучить хлыстом
французского консула, оскорбительно высказавшегося о России, и всю
жизнь гордиться своим поступком. Очевидно, из-за этой же
внутренней независимости и цельности самобытного характера
Леонтьев терпеть не мог интернациональной стандартности
европейской одежды2 и ненавидел железнодорожный транспорт.
Последний был противен ему именно духом подневольности.
Ведь если ямщика можно остановить где угодно и по своей
воле, то железная дорога, ворчал Леонтьев, заставляет бежать
в вагон по свисткам «всякого станционного дурака» да сидеть
там целыми сутками с первыми попавшимися «рожами».
Соответственно, и резкая критика расхожих либеральных
доктрин, принесшая Леонтьеву славу отчаянного реакционера,
объясняется в значительной степени его несгибаемым
противостоянием социальному давлению со стороны преобладающих
идей, мнений, вкусов, настроений. Отчасти именно в силу своей
личной суверенности, идеологически столь высоко ценимой в
либеральном лагере, этот «реакционер» и обрушивался на культ
всевозможных прав и свобод, проповедуемый либералами
отнюдь не по причине собственной независимости и внутренней
свободы, а напротив — из уравнительного желания быть «как
все» (как «вся Европа» и все просвещённые люди на свете),
прогрессивными и общечеловечными. Плотная массовость
идейного движения — для мыслителя верный признак культурно
бесплодного, разлагающего процесса. Самостоятельно
мыслящий, эстетически чуткий человек, по твёрдому убеждению
Леонтьева, должен всякий раз сам определять свою политическую
позицию в зависимости от того, на какой стадии, в каком
состоянии находится культура и общественно-государственный
организм. Если она пребывает в стадии цветения, лучше быть
парусом или паровым котлом, если скатывается к упрощению
и усреднению, резонно стать якорем, тормозящим её упадок.
Эстетику приличествует либерализм при господстве рабства,
аристократизм при демократии, набожность при безбожии. Ле-
1 Б. В. Никольский. К характеристике К. Н. Леонтьева, в кн. Памяти
К. Н. Леонтьева, СПб., 1911, стр. 367.
2 Уйдя в отставку, он немедленно снял ненавистный сюртук, облачив-
шись^ в специально для себя изобретённое платье — нечто среднее между
поддёвкой и подрясником.
410
онтьев не прочь быть либералом в 30—40-е годы XIX в.—
тогда либерализм являлся признаком мужества и великодушия,
но в 80-е годы, когда, по его словам, «либералами заборы
подпирают», он желает стать консерватором и даже делать
реакцию, уравновешивая крайности радикализма и тем самым
способствуя общественному прогрессу.
Теперь мы поймём, отчего в сочинениях Леонтьева
признание ценности личности и свободы переплетается с критикой
либерализма и проповедью крепкой государственной (даже
деспотической) власти.
«Главный элемент разнообразия есть личность, она выше
своих произведений...— говорит, к примеру, Милькеев,
выражающий авторские мысли герой романа Леонтьева «В своём
краю».— Многосторонняя сила личности или односторонняя
доблесть её — вот более других ясная цель истории; будут
истинные люди, будут и произведения!»
«Свобода и сознание,— продолжает другой персонаж этого
романа, также близкий авторской точке зрения,— лак, от
которого все черты становятся глубже и все краски ярче. Свобода
и сознание только могут нам дать то внутреннее единство,
которого нам недостаёт; без этого народного единства одни
живут без свободы и сознания, другие довольно свободно и
крайне сознательно носятся по воздуху...»
Отдельные монологи Милькеева приобретают смысл прямо-
таки апофеоза раздольной свободы:
«Нация та велика, в которой добро и зло велико. Дайте и
злу и добру свободно расширить крылья, дайте простор... Не
в том дело, поймите, не в том дело, чтобы отеческими
заботами предупредить возможность всякого зла... А в том,
чтобы усилить творчество добра. Отворяйте ворота: вот вам —
создавайте; вольно и смело... Растопчут кого-нибудь в дверях —
туда и дорога! Меня — так меня, вас — так вас... Вот что
нужно, что было во все великие эпохи. Зла бояться! О Боже! Да
зло на просторе родит добро! Не то нужно, чтобы никто не
был ранен, но чтобы были раненому койки, доктор и сестра
милосердия... Не в том дело, чтобы никто не был обманут,
но в том, чтобы был защитник и судья для обманутого; пусть
и обманщик существует, но чтобы он был молодец, да и по-
молодецки был бы наказан. Если для того, чтобы на одном
конце существовала Корделия, необходима леди Макбет,
давайте её сюда, но избавьте нас от бессилия, сна, равнодушия,
пошлости и лавочной осторожности».
Наряду с этими филиппиками в пользу свободы у
Леонтьева, особенно в более поздних текстах, можно без труда сыскать
много страниц, направленных против неё, да к тому же пронизан-
411
ных пафосом самого настоящего государственного деспотизма.
Деспотизма не временного, вызванного внешними причинами,
а понятого как фундаментальное условие существования
нации, как «постоянная и привычная принудительность всего
строя жизни» !. Власть и сила сплошь и рядом
расцениваются Леонтьевым как самодовлеющие ценности, а свобода — как
абстрактный, пустой, тлетворный и даже разрушительный
фактор общественного бытия. Он призывает уважать власть за
то, что она — власть, считая законным и благим всё, что
верховной власти угодно. В одном из писем В. С. Карцовой
мыслитель расценивает свободу личности (в той мере, в какой она
отрицает принуждение и насилие в социально-исторической
жизни) как худшее зло, чем социализм. «В социализме,—
замечает он,— есть идея серьёзная: пища и здоровье. А свобода!
Нельзя прибить кого-нибудь. Нет, нет, вывести насилие из
исторической жизни — это то же, что претендовать выбросить
один из основных цветов радуги из жизни космической. Этот
цвет, эта великая категория жизни придёт в новой и
сильнейшей форме. Чума почти исчезнет, чтобы дать место холере»2.
Разумеется, в свете сказанного о натуре Леонтьева должно
быть ясно, что его мало заботило логическое согласование
своих пристрастий. Вольнолюбивый певец деспотизма был
настолько непосредственен и внутренне неподвластен формальной
логике, что мог позволить себе какие угодно теоретические
пробелы и диссонансы. Однако мы с вами, если желаем
поглубже понять воззрения замечательного" человека и извлечь из
них пользу, обязаны разобраться в хитросплетениях леонтьев-
ской мысли, тем более в вопросе о власти и свободе, который
во все времена, а сегодня особенно, имеет жизненно важное
значение.
Не мудрствуя лукаво, не погоняя читателя жёсткой
логикой аргументов- по стезе искусно подобранных цитат, сразу
скажу, в чём усматриваю принципиальную основу очерченного
выше леонтьевского парадокса.
Постоянно допуская свободу как личный произвол,
мыслитель столь же постоянно отрицает её социально
организованное, правовое воплощение, а потому склоняется к оправданию
деспотизма, культу силы в социальной жизни на базе своего
понимания свободы. Ведь способность властвовать,
ограничивая права людей, и возможность пользоваться правами, пусть
даже вопреки запретам конкретной власти, имеют один об-
1 К- Н. Леонтьев. Восток, Россия и славянство, сборник статей, т. I,
М., 1885, стр. 288.
2 Письма Е. С. Карцовсй, в кн. Памяти К. Н. Леонтьева, стр. 275.
412
щий источник — личный волевой произвол, способный
подавлять волю другого или отстаивать себя самого. Что Леонтьев
мыслит в духе такого волюнтаристского подхода достаточно
ясно из приведённых цитат, вырисовывающих
стихийно-спонтанный прототип отношения власти и свободы как
противоборствующих произволов. Леонтьев высоко ценит свободу лишь
как естественную волевую силу человеческого существования,
с которой призвана помериться силою столь же внутренне
своевольная и потому внешне деспотичная государственная
власть, но на дух не переносит безличных, умеряющих каждую
силовую компоненту, юридических «правил игры». Жизнь,
согласно его глубокому убеждению, требует не анонимных
правовых гарантий добродетели, равномерно подчиняющих себе
всех и отпускающих каждому дозу социальной свободы, а
широкой личной воли, как у носителей организующей власти, так
и у природных анархистов и злодеев. Для Леонтьева общество,
в котором нельзя прибить кого-нибудь по внутреннему почину,
самолично защищая свою честь, восстанавливая справедливость
или, на худой конец, осуществляя иррациональную и
злонамеренную, но свою волю, а приходится жаться к правоблюстите-
лям и таскаться с жалобами по судам,— общество бессилия,
пошлости и лавочной осторожности. Рисковый молодец,
лиходей и обманщик, с одной стороны, и сугубо сильный
властитель, по-молодецки наказывающий злодея, с другой,
признаются им равно необходимыми факторами социальной
гармонии, основанной на естественно-историческом противоборстве
раскованных произволов. Подобную силовую «философию
жизни», напоминающую натуралистический романтизм Ф. Ницше,
Леонтьев воспринимает как вполне нормальную концепцию
для этого мира и постоянно подчёркивает, что иные модели
социального бытия — розовый либерализм и бесплодный
утопизм. Наш жестокий и страшный мир настолько не
приспособлен для человеческого счастья и обеспечения Декларации
прав и свобод, что не видеть этого могут только совершенные
безумцы, страдающие своего рода умственно-душевным
расстройством, которое Леонтьев называет «mania democraiica
progressiva». Он считает, что гораздо ближе к экспрессивному
естеству жизни стоят радикальные революционеры и бунтари,
и готов предпочесть их расслабляющим нацию либералам, если
не нравственно, то ради большей социально-политической
полезности делу охранения традиционной,
православно-монархической России. Как лесной разбойник, лихо нападающий на
путника и бросающий ему вызов помериться силами,
предпочтительнее для Леонтьева трусоватого вора, пользующегося
оплошностью своей жертвы, чтобы стащить у неё кошелек, так
413
и революционеры, готовые к открытому бою с
представителями государственного порядка, на его взгляд, стимулируют
отпор и мобилизуют охранительные возможности. Либералы же,
напротив, пользуясь своей безобидной умеренностью,
усыпляют бдительность охранения, разворовывают запас
авторитетов и властности, накопленный государством, и делают его
беззащитным перед натиском идущих следом революционных
отрядов, несущих гибель как старой власти, так и либерализму,
чревоточцу, незаметно изъевшему её устои.
Нетрудно заметить, что при таком подходе к пониманию
политических проблем логика власти в борьбе с её
оппонентами легко сводима к принципам «сила солому ломит» и
«с волками жить — по-волчьи выть». Склонность к подобным
императивам можно обнаружить в сочинениях Леонтьева, где
он пишет, что сердечными верованиями власть должна
пользоваться как орудиями (ибо чем искреннее мистицизм многих,
тем удобнее лукавая политика целого), что добро может быть
и подневольным, когда зла нельзя будет делать, или что
надобно желать уничтожения Франции и разрушения Парижа
ради оздоровления русской интеллигенции и торжества
русских идеалов.
Конечно, как христианин, Леонтьев не мог не отдавать отчёт
в бессодержательности самодовлеющей свободы лица и
государственной власти, основанной исключительно на произволе.
Он чувствует, что власть и свободу, авторитарность и право
можно укрепить и примирить посредством
религиозно-нравственного идеала, обусловливающего определённые (а не
беспредельные) прерогативы власти, с одной стороны, и
добровольное ограничение свободы личности, с другой. «Религия...
вот краеугольный камень охранения прочного и
действительного. Когда веришь, тогда знаешь, во имя чего стесняешься» 1,—
подчёркивает Леонтьев.
Однако он не развивает своих мыслей в этом
политико-этическом направлении, не смягчает противоречий в своих
суждениях о власти и свободе. Возможно, совсем иная проблема,
иная задача волнует и вдохновляет его. Поэтому, высоко
оценивая свободу в экзистенциальном и эстетическом смысле, он
столь же постоянно борется с нею как с социальным явлением,
самой этой борьбой являя живой пример верховенства идеи
властного произвола в своих воззрениях. В его настойчивой
защите права власти на насилие и отказе принять правовой
смысл свободы, как свободы лица от произвола власти, сквозит
1 Восток, Россия и славянство, т. 2. М., 1886, стр. 44.
414
бунт против нравственного ограничения произвола ценностями.
Леонтьев странным образом нечуток к тому, что только в
условиях общественной свободы способен проявляться свободный,
самообоснованный характер ценностей и тем самым создавать-
ся нравственный авторитет власти, необходимый для прочного
государственного союза. Когда же право на свободу лица в
обществе не предусмотрено, неизбежно происходит
отождествление авторитета силы и силы авторитета, так что власть
рискует стать институтом насилия, а нация — объектом
принуждения до тех пор, пока не пересилит власть имущих.
Но, с точки зрения Леонтьева, не столько внутренне
свободное, этическое самоограничение личности в свете ценностей,
освящающих власть, сколько давление страха перед самой
властью, священный ужас перед авторитетом и силою, перед
известными идеями, лицами, предметами, в лучшем же случае
смесь страха и любви в сердцах является прочной основой
государственного и национального бытия. Раз так, то ослабление
власти, а не разложение её этических основ в первую очередь
вызывает озабоченность мыслителя. «Надо крепить себя,—
призывает он русских правителей и подданных,— меньше думать
о благе и больше о силе. Будет сила, будет и кой-какое благо,
возможное» !.
Социальное предназначение власти Леонтьев видит в
создании и поддержании извне стеснительных, жёстких форм
общественной жизни (по которым человеческая мягкость и теплота
может разливаться, не видоизменяя их глубоко, но делая
полнее и приятнее). При понижении уровня требовательности
к подданным, при чрезмерном распространении гуманности,
терпимости, свободы, считает мыслитель, эти качества станут
неощутимыми и, более того, разлагающими, ибо мир жесток и не
способен служить счастью и удовольствию людей. Должна быть
мера нравственной мягкости любого общества, за пределами
которой его ждёт ослабление жизненных инстинктов, силы
человеческих характеров, творческой самобытности и
своевольности людей. Избыток мягкости, терпимости и свободы
расценивается, таким образом, как признак старения, одряхления,
разложения общественного организма, сопутствующий
выравниванию общественно-культурных форм и человеческих типов.
Эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу
развития, замечает Леонтьев. «Гибнущее становится и
однообразнее внутренно, и ближе к окружающему миру, и сходнее с
родственными, близкими ему явлениями (т. е. свободнее) 2.
1 Восток, Россия и славянство, т. I, стр. 183.
2 Там же, стр. 139.
415
Леонтьева ничуть не страшит жестокое и даже
безжалостное государственное ограничение внешней свободы. Он видит,
что суть свободы духовна, внутренна, а внешний её план во
многом иллюзорен и ложен, ибо сам мир деспотичен, суров,
строго закономерен, стиснут временем и в нём нельзя спастись,
сколько бы мы ни суетились в пространстве. Поэтому, на
суровый взгляд мыслителя, чуждого доктрине мирского счастья,
честнее признать законность государственного деспотизма,
призванного дать форму личным стремлениям, укрепить
дисциплиной и страхом мужественность характеров, освободить
человека от несбыточных надежд и иллюзий, нежели внешним
безвластием потакать порабощению людей мирскими утопиями
изнутри.
Очевидно, власть в воззрениях Леонтьева имеет
определённое духовно-нравственное призвание — она предохраняет
человека от суетной подвижности, мельтешения и измельчания. Как
дух держит материю в тисках формы и, «не давая ей
разбегаться», подчиняет её идее, так и государственная система
призвана сдерживать всегда шаткое, страстное, неустойчивое
общество от чрезмерной подвижности, которая разрушает
традиционную органичность социального строения, снижает
ценности и превращает нацию в аморфную массу обывателей.
Леонтьев, как мы уже поняли, не склонен доверять человеку,
предоставленному самому себе, лишённому опеки церковной
и светской отеческой власти. Слишком свободный человек,
полагает он, в силу человеческого несовершенства склонен к
духовному нисхождению, занижению уровня своих идеалов,
преодолению всех сдерживающих пределов на пути тотальной
эгоистической экспансии. («Человек ненасытен, если ему дают
свободу») *. При потакании либерального государства
нисходящей человеческой воле она вырождается в сутолоку
бессмысленного механического движения под лозунгами тупоумной
пользы, пошлого равенства и животного всеблаженства. Но
такое «освобождение» низших начал в человеческом
существовании Леонтьев решительно не приемлет, и потому он
расценивает либерализм как отрицание всякой крайности, яркости,
всякого стиля и стержня. Только там, где государственность
тверда и не либеральна, где за силой стоит высокая
религиозная идея, а народ чужд суетных страстей и предан духовным
ценностям, можно воспитать членов общества в духе
благородства, чести и героического служения нации.
Нетрудно заметить в этих мыслях Леонтьева отзвук
славянофильского толкования роли самодержавной государственности
1 Там же, стр. 172.
416
как средства ограждения православного народа от
политической суеты и защиты его стремления к жизни нравственно-
духовной. Однако между воззрениями славянофилов и Леон*
тьева существует принципиальное различие. Если первые
вводили в состав своего консерватизма либеральный компонент,
отстаивая нравственную необходимость свободы мнения, слова,
печати, то второй склоняется к полному перекрытию
гражданских прав обязанностями подданных перед государством. Чтобы
обнаружить концептуальный источник этого различия, стоит
сравнить понимание самодержавной монархии Леонтьевым со
взглядами Л. Тихомирова, политически прояснившим и
развившим славянофильские идеи.
Тихомиров, напомню, видит в самодержавии итог
национального творчества русского народа, который в более чистой
и полной форме, сравнительно с Византией, воплотил идею
монархического государства как верховной власти
религиозно-нравственного идеала. Только вследствие полной
самоотдачи Богу, указывал Тихомиров, русский народ безусловно
подчиняется и царю, видит в нём слугу Божьего, призванного,
служа Богу, служить людям на самом ответственном и душе-
опасном земном поприще. И чтобы религиозно-нравственный
(т. е. по идее и способу действия глубоко личностный) идеал,
лежащий в основе монархического государства, мог достаточно
свободно и адекватно проявлять себя, внося единство смысла
в деятельность верховной власти и ограничивая её произвол,
необходима определённая гражданская автономность общества
в государстве. Без этого окажется невозможной свобода мнения
и слова народного, свободное общение подданных и царя 1.
Для Леонтьева же русская монархия, при всех
признаваемых им национально-исторических особенностях
самодержавия,— важнейший элемент унаследованного Россией «внзантиз-
ма» (понятого как суровый православно-самодержавный
идеологический комплексу чуждый идеям прав личности и мирского
счастья). Этот комплекс играет в воззрениях Леонтьева роль
внешнего средства обуздания и дисциплинирования чересчур
подвижного и женственного славянского характера, которому
мыслитель не доверяет самому по себе, взятому вне
организующей государственной и церковной формы. Он считает, что
всё оригинальное и значительное у нас принадлежит Византии,
а не создано нами самими и что русский народ твёрд в
обычаях и полон смирения, покуда над ним свистит
государственный бич.
1 Л. Тихомиров. Монархическая государственность, часть I. M., 1905,
стр. 111—113.
27 К. Леонтьев 417
Поскольку «византизм» крепко и умно «высворил» русскую
нацию, то лишь покорность исторической власти является, по
логике рассуждений Леонтьева, залогом спасения России от
всевозможных бед, в том числе от разлагающего влияния ме-
щанско-либеральной Европы. По сравнению со
славянофильским, религиозно-нравственным и национально-духовным
восприятием монархии, общины, Православной Церкви Леонтьеву
присущ более внешний, политико-идеологической подход
к этим коренным основам русского бытия. Он слабо
чувствовал и вряд ли глубоко уважал (даже если и отдавал ему
идейную дань по логике культурологических рассуждений) лично-
стное существо в человеке и нации, требующее права на
нравственный суверенитет в общественно-государственной жизни,
который составляет основу основ все^ прав и свобод.
Мыслитель любил и уважал, прежде всего, определённые культурно-
исторические типы людей, особенно представителей
традиционной Руси — царя, монаха, священника, воина, купца, мужика.
Он восхищался и силою волнующихся народных масс, пусть
даже текущих по демократическому руслу, однако, как верно
заметил В. Розанов, за натуралистическими стадами
«человеческих голов» утерял из поля зрения святой образ, который
ведёт эти толпы к раскрытым вратам храма. «Слепой к
родникам этических движений, как бы атрофированный к ним, он
не ощущал вкуса и к человеку — иного, чем какой мог
ощутить к его одежде, к красоте его движений...» {.
Отмеченные особенности миросозерцания и стиля мышления
Леонтьева легко объяснить, вслед за многими авторами, его
патологическим эстетизмом, врачебным натурализмом,
барским воспитанием, романтической страстностью.. . Однако мы
поняли бы духовный мир мыслителя слишком формально, если
бы за суммой обусловливающих факторов потеряли самый
сильный, на мой взгляд, мотив публицистического творчества
Леонтьева — его горячую любовь к исторической,
государственно-национальной России, тягостное опасение за будущее
отечества и жгучую тоску от предчувствия грядущей
катастрофы.
При всём своём недоверии к славянской этнической основе
Леонтьев высоко ценил и, можно сказать, обожал Россию как
особый государственно-культурный организм, глубоко
самобытный и по отношению к Западу, и к Востоку, и ко всему
остальному славянству. Он нимало не сомневался во всемирном
призвании России, в великой нравственной значимости её буду-
1 В. Розанов. Поздние фазы славянофильства. Сочинения. М:, 1990,
стр. 200.
418
щего, хотя бы и страшного для нас самих и других народов.
Поэтому мыслитель на редкость остро сознавал враждебность
всеунифицирующего и всеизмельчающего либерализма
государственно-национальным устоям русского народа. Наблюдая
неуклонное просачивание либеральной вялости, равнодушия и
аморфности во все поры общественного и государственного
организма, ясно предвидя за политическим торжеством
либеральности неминуемую победу «аграрно-рабьего» движения,
несущего безжалостную диктатуру и тотальное закрепощение
общества, по сравнению с которым православно-монархическая
система покажется ласково-отеческим попечительством, а не
деспотизмом, Леонтьев готов был любой ценой отстоять
историческую Россию от разрушительных процессов. Никакой
другой, обновлённой России он знать и принять не желал, в
возможность сохранить эту, царскую, верил слабо и оттого-то
в бессильной тоске доходил подчас до проповеди политического
лицемерия, жестокости и коварства. Ради спасения самой
возможности быть этому народу и этой стране такими, какими
сотворил их Господь и история, он настойчиво подчёркивает,
что государственная власть даже в христианской стране не
может подчиняться принципам личной морали, не вправе
позволить себе самопожертвования, гуманизма и прямолинейного
следования евангельскому духу. Вполне сознательно (как это
и вытекает из его концепции свободного политического
самоопределения личности в эпохе) Леонтьев берёт на себя крест
служить не парусом прогресса, а якорем охранения. Не
потому ли он столь решительно жертвует нравственностью ради
национальной сплочённости, гражданскими правами ради
обязанностей, свободой подданных ради властной цельности
царства? Для России Константин Леонтьев, очевидно, готов был
пожертвовать не только свободой и жизнью, но и самой душою*
И в этом также содержится моральное долженствование, хотя
бы подобный выбор формально противоречил требованиям
этики. Разве можно нравственно оправдать иную линию
поведения при свойственном Леонтьеву понимании объективной
ценности России, величия её мирового призвания, глубины
самобытности, масштабности и разрушительности грозящей ей
катастрофы? Разве не к жестокости власти, не к ограничению
прав призывали даже либеральные деятели, подобно Б.
Чичерину, например, ужаснувшемуся после 1 марта 1881 г.
террористическим последствиям разнуздания русских душ и умов? И
разве те из нас, кто любит Россию, кто знает, как и во что
превратили её совокупные усилия либеральных и радикальных
сообщников, разве не поддержали бы они в роковое время
последних решений карающий меч русской власти?
27*
419
Словом, многое, очень многое из сказанного Леонтьевым
в прошлом веке приобретает историческое оправдание в
кровавом свете событий века нынешнего. И многое, видимо,
простится ему по его беззаветной, страдальческой любви к России.
Крепко с ней связанный при жизни, этот художник, мыслитель,
монах, рыцарь государственной идеи и в посмертии своём
остаётся воином Святую Русь охраняющего воинства, духовным
помощником всех, кто озабочен истощением русской идеи и
ослаблением русской силы.
Заканчивая этот краткий очерк, необходимо подчеркнуть,
что Константин Николаевич Леонтьев (не из-за сложности
проповедуемых идей, а ввиду личной сложности и своевольности
обращения с идеями) представлял собой слишком глубокое и
масштабное духовное явление, чтобы превращать его наследие
в сборник ответов для решения социально-политических задач.
С практической точки зрения, каждая линия намеченных им
подходов, суждений и выводов, будь то о призвании власти,
смысле свободы или об общественной роли религии, отношении
государства и нации, личной этике и политической
целесообразности и т. д., имеет массу достоинств и недостатков,
свидетельствуя о блестящем, крайне проницательном, предельно
честном уме, но в то же время и о чрезмерно страстной,
логически недисциплинированной натуре. Поэтому, бездумно
следуя за Леонтьевым, мы рискуем увязнуть в трясине
противоречий, попасть в глухой тупик или оказаться в диаметрально
противоположной смысловой точке. Но в этих особенностях
творчества Леонтьева как раз и заключается величие и
оригинальность его мысли, призванной выявлять диалектику идей и
ценностей, открывать новые смысловые пласты, давать пример
свободы ума, сложной самобытности и независимости
мышления. Любая статья и даже отдельная фраза леонтьевской
публицистики способна действовать на нас словно бокал
кристально чистого, обжигающе ледяного, шипящего и брызжущего
шампанского, ядрёность которого сначала перебивает дыхание,
больно укалывает притупившиеся вкусовые ощущения, а
затем согревает телесно и душевно, придаёт чувственную яркость
и самостоятельную остроту умственному созерцанию
действительности.
Сегодня мы особо должны стремиться к самостоятельности
восприятия проблем, поднятых Леонтьевым, ибо его авторитет
среди русских патриотов высок как никогда, Россия же теперь,
увы, совсем иная. Простой консерватизм, то силовое
«подмораживание» державы, к которому призывал Леонтьев,
очевидно, не может спасти нас, ибо охранять пустоту и хаос бессмыс-
420
ленно, а русский космос разрушен настолько, что без
творческих усилий его не возродить. Ныне, как никогда, важно
соединить начало власти, призванное выражать авторитет
объективных ценностей в жизни общества, и начало права,
призванное ограждать духовную свободу личности, без чего нация
обречена на омертвение и вырождение. При этом, вопреки
нарастающей либеральной суете и пустословию о приоритете
прав индивида над сверхличпыми ценностями и интересами,
мы должны сознавать, что главное условие правового
государства — отнюдь не наличие конституционных сочинений,
нашпигованных правовыми декларациями, а твёрдая власть,
обоснованная объективными ценностями и закономерная по логике
следования этим ценностям. Объективные же ценности — это
не те идеи и доктрины, которые, исходя из своих
индивидуальных вкусов, полагает наиболее важными отдельный человек,
не то, что признаёт главнейшим самая активная или массовая
партия и даже большинство общества, но то, что утверждено
как высшая религиозная истина и святыня в историческом
опыте народа, что делает нацию соборным организмом и частью
человечества, а каждого человека — уникальным членом
нации, образом и подобием Божиим.
Практический опыт либерального русоборчества и
расточительства авторитета власти в России, закономерным итогом
которого, как и предвидел Леонтьев, стала победа богоборческого
рабьего социализма, указывает, что государственная измена
объективным ценностям, воплощённым в
национально-религиозных и общественно-культурных традициях, превращает
государство в дьявольское орудие. (Ибо бес, не властный над
большими пространствами истории, структурообразуемыми
Провидением Божьим, способен обуять значительную часть
современного народа и восстановить её против метаисториче-
ской соборной нации, включающей наших предков и
потомков). И напротив, та власть, которля осознаёт себя слугою
религиозно-нравственных ценностей и традиций народа, хранит
духовную осмысленность и свободу народной жизни, хотя бы
государство и не имело демократической природы.
Сможем ли мы воссоздать мощный
национально-государственный организм, исходя из русских идеалов и великих
культурно-исторических задач — Бог весть. Но если хотим
послужить будущему России, то не должны остаться глухи к
призыву Константина Леонтьева крепко стоять на почве
традиции вопреки" всеразлагающему и всеуравнивающему космопо-
литическо-либеральному потоку. Как творческое напутствие и
как духовное завещание воспринимается сегодня молящая
просьба мыслителя, обращенная к русской интеллигенции: «Не
421
берите на себя лишнего, не возноситесь все этими высокими
и высокими порывами, в которых кроется часто столько
гордости, тщеславия, честолюбия. Будьте свободолюбивы, если
вам угодно, на почве политической. .. но ради Бога, на почве
религиозной учитесь скромно у Церкви... учитесь у русского
духовенства»... Вливайте в сосуд Православия «утешительный
и укрепляющий напиток вашей образованности, вашего ума,
вашей личной доброты, и только,— и вы будете празы» К
Б. АДРИАНОВ
ИЕРАРХИЯ —ВЕЧНЫЙ ЗАКОН ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
(Стержневой, господствующий принцип К. Н. Леонтьева)
«Леонтьев стоял головой выше всех
русских мыслителей».
Лев Толстой.
1. Недавно прошли два юбилея К. Н. Леонтьева: 160 лет со
дня рождения (январь 1831 г.) и в ноябре 1991 г.— 100 лет со
дня кончины. Они ознаменовались скромным переизданием
некоторых его трудов, редкими статьями в периодике и
несколькими собраниями. И при жизни философа не баловали
признанием. К, Н. Леонтьев — один из самых, если не самый
замалчиваемый мыслитель, хотя ни одна история русской
философии не обходится без его имени и многие мыслители
специально писали о нём (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков,
С. Л. Франк, Л. А. Тихомиров, Вл. С. Соловьёв, С. Н.
Трубецкой, В. В. Розанов, Н. Н. Страхов).
Может быть, он устарел и просто неинтересен? Нет! Общим
местом друзей и недругов стало утверждение, что история
России развивалась не по рецептам розовых оптимистов,
прижизненных его хулителей и критиков, коих было большинство,
а скорее по Леонтьеву. Только он писал о грядущих ужасах,
которые ожидают нас, если мы не одумаемся, что и
осуществилось: «Рабство вскоре возвратится к новым и, вероятно, более
прочным формам своим». Политические прогнозы Леонтьева
о юго-западных славянах подтвердились ещё при жизни
философа, опять же вопреки общественному мнению. Его глубокие
и оригинальные мысли о цикличности исторического развития
расцвели собственным цветом в Европе в XX веке (Шпенглер,
1 Восток, Россия и славянство, т. 2, стр. 304.
422
Тойнби и др.), но они и сейчас читаются с интересом и по-
своему продолжены Л. Н. Гумилёвым. В Италии Э. Гаспарини
в 50-х годах отнёс К. Н. Леонтьева к числу семи самых крупных
интеллектов России.
Так почему же он по-прежнему замалчивается, причём не
только либералами и западниками, но и почвенниками и
славянофилами? Хотя последние и занесли его в святцы русской
философии, но пишут они о нём мало, только по случаю,
а главное — без глубокого проникновения в его мысли.
Всему этому одна причина. Есть у Леонтьева мысль, и
причём очень дорогая для него, которую большинство принять не
может, хотя никто и не в состоянии опровергнуть её. Что же
это за мысль?
К. Н. Леонтьев всю свою сознательную жизнь был
убеждён в изначальном и глубинном неравенстве людей. В
забвении и нарушении этой антропологической истины он видел
главную причину деградации государств, обществ и самой
человеческой жизни во все времена и у всех народов. Вот
почему лихорадка равенства или эгалитарного смешения,
охватившая Европу со времён Французской революции,
представлялась ему убийственной как для Европы, так и для России. Эта
исходная мысль и определяла его подход ко всем вопросам и
проблемам, его видение истории и современности. Именно
отсюда проистекала защита элитарности и монархии, отсюда же
и любовь к ярко выраженной национальной самобытности, будь
то в культуре, психологии, характере, обычаях, одежде и т. д.
Но есть что-то недоговорённое самим Леонтьевым или,
возможно, не продуманное им до конца философически. В своих
статьях он более опирался на историю, чем на метафизику,
хотя, вероятно, он бы и пришёл к ней. Но почти всеобщее
неприятие его выводов и утверждений заставили его идти, так
сказать, вширь. Вновь и вновь на всё большем политическом,
историческом, общекультурном, даже биологическом
материале обосновывал он свои взгляды, вновь и вновь возвращаясь
к своей любимой теме.
Но и противники его не шли в глубину, ибо там правда
Леонтьева была бы неотразимой, и предпочитали замалчивать
его труды, почти не вступая с ним ни в обсуждение, ни в
споры. Рискнём сделать это за Леонтьева, попробуем
метафизически углубить его мысль и сделать её философски более ясной
и очевидной. Леонтьев не просто одобрил бы такой подход, но
был бы ему рад, ибо в письме к о. Фуделю от 24 января
1891 г. прямо призывал к этому: «Я ни к какой партии, ни
к какому учению прямо сам не принадлежу; у меня своё уче-
423
ние, но я положил ему только основание, а другие должны
проверять и разрабатывать его».
Сформулирую вначале главную, господствующую,
стержневую мысль Леонтьева, ту аксиому, из которой он исходил и
которая определяла его подход к решению многих вопросов, его,
если можно так выразиться, основную метафизическую
интуицию о горизонтальной иерархии человеческого бытия:
«Во всех областях человеческой деятельности и творчества
существуют три основы жизни. В соответствии с ними
наличествуют три группы или три формы жизни и деятельности
людей, обеспечивающие наибольшую полноту проявления
заложенных в человеке сил и способностей.
Три основы бытия, являясь параллельными путями к Богу,
имеют внутри себя естественную соподчинёиность, образуя
единое структурное целое или горизонтальную иерархию Церкви
и человеческого общества в целом.
Между тремя основами бытия не существует врождённого
антагонизма, напротив, лишь находясь в трёхосновном
единстве, человек может осуществить всю полноту общения с
духовным и идеальным во всех областях жизни и творчества.
Трёхосновность человека и человеческого общества — залог
неисчерпаемого и цветущего разнообразия человеческой жизни
и творчества. Искусственный отказ от горизонтальной
иерархии примитивизирует жизнь и вносит в нес элемент
неизбежной вражды и ненависти к другим, не таким, как мы».
2. Поскольку господствующая мысль Леонтьева о
врождённом неравенстве людей большинству наших современников ма«
лопонятна хотя бы потому, что они никогда об этом всерьез
не задумывались и к тому же воспитывались в «уравнительном»
духе, я обращусь к разным областям человеческой жизни и
творчества и покажу существование в них иерархического
принципа или трёх метафизических основ. Думаю, что после
этого усвоение наследия К. Н. Леонтьева станет естественнее и
плодотворнее.
2.1. В сакральной сфере бытия три основы посвящения
это — верный (крещённый), священник и епископ. На первую
ступень посвящения человек восходит, получив Духа Святого
в таинстве миропомазания. Потому обо всех христианах ап.
Пётр говорит, что они есть «царственное священство» (I Пётр.
2, 5), т. е. посвященные. Это звание даёт право верующему
в особых обстоятельствах совершать таинство крещения, а
также принимать Св. Дары — Тело и Кровь Иисуса Христа (у
католиков только Тело). Вторая ступень посвящения —
священники. Они имеют право совершать таинство исповеди,
миропомазания, евхаристии, брака, а у католиков — причащаться
424
Кровью Иисуса Христа. Третья ступень — епископы. Только
они могут рукополагать в священники и соборно в епископы,
возглавлять епархии и патриархии.
2.2. Если взять личностное начало, то здесь известны три
способа служения Богу: «Отцы и подвижники Церкви
многократно указывали,— пишет еп. Михаил (Мудьюгин),— что
духовная жизнь христиан, их личное спасение протекают на
разных уровнях духовности, причем разным уровням
соответствуют, различные побуждения к добродетели: одним
достаточно указания на любовь Божию, прощающую, помогающую
и спасающую, другим необходимо обещание награды,
третьим — также и угроза наказания. Св. Григорий Богослов
пишет: «Если ты раб, бойся побоев; если наёмник, одно имей
в виду: получишь; если стоишь выше раба и наёмника, даже
сын ты, стыдись Бога как Отца, делай добро потому, что
хорошо повиноваться Отцу. Хотя бы ничего не надеялся ты
получить, угодить Отцу само по себе награда». Всё это не только
педагогические приёмы, ибо за наказанием, обетованием и
наградами стоит реальность их осуществления во всей полноте,
притом как положительных, так и отрицательных, вплоть до
вечной гибели грешников. Спасение возможно на любом из
отмеченных уровней духовной жизни...» Далее он пишет:
«Священное Писание Нового Завета изобилует столь яркими
угрозами за совершённые грехи и тем более категорическими обе-
тованиями за всякое, даже внешне незначительное содеянное
добро, что отрицание законности ожидания того и другого
логически приводит к отрицанию истинности самого слова Божия.
Соответствующие тексты (Мф. 5, 12; 10, 4; 25, 31—46; Лк. 12,
47—48; 2 Пётр. 2, 13; Евр. 10, 33—36) недвусмысленно имеют
в виду в одних случаях устрашить угрозой наказания, в
других — поощрить обещанием награды» К
2.3. В своём отношении к Иисусу Христу христиане тоже
делятся на три группы: рабы (слуги), друзья и братья.
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что
делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что
сказал вам всё, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15, 15). «Иисус
говорит ей: .. .иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к
Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему»
(Ин. 20, 17). «Кто будет исполнять волю Отца Моего
небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мф. 12, 50).
2.4. Нравственность человека знает три рода добродетелей:
семейные — «почитай отца твоего и мать твою», «не
прелюбодействуй» и др., национальные (народные), связанные с лю-
1 Богословские труды, 1982, № 10, с. 172.
425
бовью к Отечеству и верностью духу жизни народа, и
всечеловеческие, прежде всего поклонение Единому Богу —
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою
твоею и всем разумением твоим», и все добродетели,
вытекающие из любви к ближнему: не убий, не укради, не
лжесвидетельствуй и пр. На трёх основах нравственности настаивал
Вл. Соловьёв: «Нравственная связь есть совершенно обоюдная.
Как невозможен (не только физически, но и нравственно)
человек вне родовой преемственности поколений, как невозможна
нравственная жизнь семьи вне народа, и народа — вне
человечества, так точно и наоборот: человечество немыслимо
отдельно от народов его составляющих, народ отдельно от семьи
и семья отдельно от единичных лиц» К
2.5. В сфере мысли существуют три способа познания или
три разума — метафизический, теоретический и практический.
Поскольку о метафизике в настоящее время у большинства
людей очень смутные представления, поговорим немного о ней,
выделив то главное, что необходимо знать для наших целей.
Область метафизики — это прежде всего так называемая
догматическая часть знания, основные (не доказываемые
теоретически) истины о Боге, человеке и мире. В наше время,
ориентированное на науку, догматичность её не всеми ясно
сознаётся, создавая иллюзию, что её нет, а раз так, то
метафизика и вообще не нужна. Но вот что писал по этому поводу
известный философ Н. О. Лосский: «Общие представления о
материи. .. причинности и т. п. входят в состав каждого нашего
суждения о веществе, о пространственных, временных,
механических и т. п. отношениях, но они употребляются нами при
этом в неясной, нерасчленённой форме, без всякой критики и
специальных исследований, т. е. догматически»2.
Примером чисто метафизических утверждений могут
служить: в химии — таблица Менделеева, в физике—постулаты
Бора и модель атома Резерфорда — Бора, в математике —
аксиомы неевклидовой геометрии. Как видно, теоретическое
знание исходит из такого рода метафизических утверждений,
которые обладают самоочевидностью для разума и никогда не
доказываются. В философии метафизику составляют
утверждения о составе человека, о высшем и низшем в нём, об
идеальном, об энтелехии и ряд других, в богословии — догматы
Церкви о Пресвятой Троице, Богочеловечестве Иисуса Христа,
Воплощении Сына Божия, Воскресении и др. В
систематизированном виде они изложены в Символе веры. Понятно, что мета-
1 Вл. Соловьёв. «Оправдание добра», СПГ)., 1897, с. 580.
2 Н. О. Лосский. «Введение в философию», Пг.> 1919, с. 11.
426
физический разум может ошибаться точно так же, как
практический и теоретический, но эти заблуждения —
метафизические и называются в богословии ересями о Боге и Церкви.
Метафизическому разуму присуще понимание наличия
чего-то, что существует до теоретических разделений на объект
и субъект, вечное и временное, бесконечное и конечное и т. Д.»
т. е, понимание единой и цельной реальности, первичной по
отношению к ним.
Известный русский философ С. А. Аскольдов так
определял метафизическое и теоретическое познание, естественно,
называя их по-своему: «Мы выводим всё познание из двух
источников: 1 — из непосредственного сознания, которое и есть
самая первейшая для нас действительность, дающая нашему
познанию необходимый базис и точку отправления, и 2 — из
мышления». «Познание начинается не с познавательного
отношения, а с того, что первоначальнее всякого познания,— с
действительности, т. е. того, что ещё чуждо всякого
гносеологического подразделения на субъект и предмет познания» К
Метафизическому и теоретическому разуму свойственны
свои, присущие только им методы познания Бога, человека и
мира. Для метафизики характерен апофатизм или сознательный
отказ от всевозможных теоретических понятий и рассуждений,
отказ от множественности и сведение бытия путём созерцания
и экстаза к максимально возможной простоте.
Теоретический разум тяготеет к рационалистическому
понятийному познанию как в философии и науке, так и в
богословии. Основной упор он делает на отвлечённое или чисто
рационалистическое богословствование, на образование
всевозможных понятий о Боге (то же о человеке и мире), на
доказательства Его существования, различные рассуждения о Его
свойствах и т. п. Для него очень важны обоснованность и
основательность всех утверждений, логичность, доказательность и
т. п. Понятийный анализ теоретического разума никогда,
однако, не может исчерпать всего содержания объектов нашего
восприятия, всегда остается некий иррациональный «остаток»,
который ускользает от анализа и понятиями выражен быть не
может. Собственно, это и показал Кант и много раньше его
св. отцы и учителя Церкви. Так, св. Василий Великий
утверждал, что «не только Сущность Божественная, но и сущности
тварные не могут быть выражены понятиями»2.
Эта непознаваемая для теоретического разума основа
вещей доступна для познания разуму метафизическому. Послед-
1 С. А. Аскольдов. Мысль и действительность. СПб., с. 116. 130.
2 Богословские труды. М., 1972, с. 22.
427
ний в своём постижении опирается на Богооткровение,
озарение, интуицию, вследствие чего его утверждения носят не
апостериорный, а априорный характер и зачастую имеют форму
антиномий.
Однако, как пишет В. Н. Лосский, «апофатизм не есть
обязательно богословие экстаза; это прежде всего
расположенность ума, отказывающегося от составления понятий о Боге
(а также о человеке и мире — Б. А.); при такой установке
решительно исключается всякое абстрактное и чисто
рационалистическое богословствование, желающее приспособить к
человеческому мышлению тайны Божественной Премудрости, «это
вовсе не абстрактное богословие, оперирующее понятиями, но
богословие созерцательное, возвышающее ум к реальностям умо-
превосходящим» \ Сказанное определяет то, что
метафизическое познание называют ещё мистическим («Мистическое
богословие» В. Н. Лосского и, конечно же, знаменитое сочинение
Дионисия Ареопагита «О мистическом богословии»).
Люди с атрофированным метафизическим разумом обычно
создают псевдометафизику, т. е. абсолютизируют те или иные
положения теоретического разума (Гегель, например, поставил
вместо метафизики диалектику).
Таким образом, те, кто отвергает догматы Церкви или
метафизику в философии, не перестают мыслить догматически,
только догмы у них свои: первичность материи, сенсуализм,
механичность мира, эволюция, прогресс, случайное
возникновение человека, полное небытие после смерти и т. д.
Итак, метафизический разум ищет фундаментальные
основополагающие истины, на которых и строит (с помощью
теоретического и даже практического разума) всеобъемлющую
систему знания. Вместе с тем, сознательный или
бессознательный отказ от метафизики и опора исключительно на
теоретический разум обрекают человека на постоянный пересмотр
более или менее произвольно выбранных основ. Убеждённые
в первенстве и даже единственности теоретического разума
выдают его неполноту и необходимость постоянного «круговорота
мысли» (выражение Гегеля) за обязательное условие
философствования. Метафизику они объявляют при этом либо
пройденным этапом, либо беспочвенным модернизмом. «В
философии движение вперёд есть скорее возвращение назад... в
основание, к* первоначальному и истинному» 2,— утверждал
Гегель, а вместе с ним и все чистые теоретики. Но это совсем не
испытание выбранных начал, не их постоянное углубление и
1 Там же, с. 25.
2 Гегель. «Наука логики», т. J. M., 1970, с. 127.
428
просветление (как им кажется), а всего лишь внутренне не
осознанная неуверенность в тех постулатах, которые они
положили в основание своей системы.
2.6. В искусстве и литературе на идеальном урозне, т. е.
в сфере культуры, первая основа — это журналисты, актёры,
певцы и вообще исполнители; вторая — редакюры, режиссёры,
дирижёры, балетмейстеры; третья — поэты, писатели,
драматурги, композиторы, художники, архитекторы, скульпторы.
Разница между тремя основами наиболее понятна в изящной
словесности, и потому остановлюсь на ней.
Каковы отличия журналиста, редактора и писателя?
Журналист (русская критика XIX века называла его
беллетристом и стихотворцем, в отличие от художника слова —
писателя и поэта) всегда стремится быть в гуще событий, в
самых «горячих точках» и немедленно отреагировать на них —
хроникой, статьёй, очерком. Антитеза его существования —
«башня из слоновой кости»-• самое бранное выражение у
журналистов. Второе качество журналиста — умение передать
то, что лежит на поверхности и волнует многих, своими
словами доходчиво отразить сиюминутное и злободневное, найти
меткие выражения, нужный тон, доступные всем слова.
Высшее желание журналиста — работа в ежедневной газете.
Газета для него — всё, одержимый журналист и книгу стремится
превратить в газету и на большее не способен.
Прирождённый редактор стремится прочитать всё
написанное, т. е. узнать всю литературу. Не жизнь с её перипетиями
его привлекает, а прежде всего сама изящная словесность.
Вторая способность редактора — заметить нового писателя на
общем фоне художественной продукции своего времени, увидеть
живого продолжателя словесности безотносительно к тому, что
он пишет, о чём, как. Завершает, а по существу созидает
редактора— способность долговременно вести журнал,
систематически открывать в нём новые имена, всячески поощрять их и
пропагандировать, приучая тем самым читателей к современной
литературе. Редактор может и сам писать, но он — особый
литератор, отличный и от журналиста и от писателя. В
противоположность журналисту, для которого главное — содержание, он
служит форме, как он её понимает.
У подлинного или чистого писателя — художника слова —
не замечаешь формы. «У Пушкина не чувствуешь стиха, —
говорил Л. Толстой,— чувствуешь, что иначе нельзя сказать»1.
Добавлю, что и содержание его не «чувствуешь» умом, а
только сердцем, потому так трудно «разъяснить», о чём истинные
1 Н. Гусев. «Два года с Толстым». М„ 1912, с. 237.
429
стихи и высокая литература. Подлинный писатель начинается
с неудовлетворённости всем написанным до него, которое он
ощущает не соответствующим сегодняшней жизни. Отсюда его
художественная открытость (своего рода апофатизм) как из-
начальная творческая установка. Больше всего его отталкивает
подражательность и эпигонство, хотя «выбросить» классику на
свалку с «парохода современности» и начать всё с нуля он
тоже не собирается. Подлинный художник слова больше чем
кто-либо ценит у предшественников всё великое. Вспомним
знаменитую речь Достоевского о Пушкине, статьи Бунина о
Чехове и Толстом, что не исключает внутренней полемики с
классиками: Достоевского с Гоголем, Булгакова с Достоевским
и т. п.
Апофатизм писателя — причина того, что через него
начинает говорить жизнь, прорывается «немота» глубинного бытия,
а не суетное слово поверхности жизни, где обитает журналист.
Способность выразить эту «немоту» в слове, метафоре,
образе, «сочинить» подлинную жизнь — второе важнейшее
качество писателя (Хомяков называл её «стихией вымысла»,
Набоков— «даром выдумщика»). Отсюда и название писателя —
сочинитель, исключительно точно передающее смысл.
Сочинение— не отражение существующего на поверхности, не
художественная иллюстрация идей и событий, а рождение новой
жизни.
Итак, журналист служит сиюминутному, преходящему,
слово у него всегда вторично; писатель-редактор преклоняется пред
формой как таковой, жертвуя для неё всем; у подлинного
писателя слово само говорит через него, и потому форма и
содержание гармонически сопряжены, они рождаются и живут
вместе.
3. Троякое отношение к Отцу Небесному и Иисусу Христу,
три рода познания, три ступени посвящения, троякий
характер служения музам раскрывают трехосновность, присущую
каждой области человеческого существования.
На этих трёх основах зиждутся разные формы жизни и
деятельности человека, которые позволяют ему полностью
проявить заложенные в нём силы и способности.
3.1. Потребность в аскетике второй и третьей основы
привела к тому, что прирождённые мистики оставили привычную
мирскую семейную жизнь и создали новую форму
аскетической жизни — монашество. Жизнь простого верующего и
монаха различается в существенных чертах. Монах порывает
с миром и порывает навсегда. Он берёт на себя обеты
целомудрия, бедности, послушания. Отныне монастырь со своими
правилами жизни, распорядком сна и бдения, труда и молит-
430
вы для него — дом, монахи — братья, настоятель — отец.
Только при такой жизни человек делает главным в своей жизни
молитву и другие аскетические добродетели — память Божию,
трезвенность, уединённость, воздержание, через которые он
может прикоснуться к Тайне Непознаваемого Бога,
открывающегося мистикам как Свет, Мир, Радость, Незримое
Присутствие.
То что монашество — принципиально иная жизнь,
подчёркивается новым именем постригающихся. Следующая ступень
в приобщении к Тайне Непознаваемого Бога — схимонашество.
Здесь соотношение аскетических и мирских добродетелей ещё
более резко (а главное — качественно) меняется в сторону
мистики. Новая форма мистического бытия или новая ступень
аскетической жизни подчёркивается принятием третьего имени.
3.2. Существенным образом отличается друг от друга жизнь
епископа, священника и простого верующего. Епископ не
может иметь семьи. Папа Григорий VII запретил жениться даже
священникам с тем, чтобы отделить людей второй основы
бытия от первой не только в сакральной сфере, но и в быту.
Главное различие определяется, однако, тем, насколько каждый из
них может приблизиться к Богу во время богослужения, не
будучи при этом «опалённым». В сакральной сфере Бог для
нас — «огонь поедающий», и ближе к этому огню епископ,
дальше всего — верный. Человек первой основы не должен
переступать своей границы, второй — своей.
3.3. Совершенно разную внутреннюю жизнь ведут рабы,
наёмники и сыны Отца Небесного; слуги, друзья и братья
Иисуса Христа; журналисты, редакторы и писатели.
Существенно разная внутренняя творческая жизнь музыкантов,
дирижёров и композиторов; актёров, режиссёров и драматургов.
Коснусь лишь немногого.
Люди третьей основы бытия должны больше пребывать
в одиночестве, наедине с Богом. Человеку третьей основы
особенно трудно долго находиться среди людей первой основы и
жить их заботами и интересами. Печаль, тоска,
неудовлетворённость, а главное, трудность в реализации призвания —
неизбежные спутники такой жизни. Сознание своей непохожести
на других, чуждости подавляющему большинству способно
овладеть ими до такой степени, что превращает в мизантропов.
Нередко они предаются сарказму и насмешкам, что вызывает
конфликты, которые кончаются, как это было с Лермонтовым,
трагически. Явная отчуждённость от большинства обращает
таких людей к ангельским мирам, иногда даже к падшим духам.
Мильтон, Байрон, Гёте, Клопшток, Альфред де Виньи,
Лермонтов проявляли к ним глубокий интерес. Однако неверно видеть
431
в этом, как это делал Вл. Соловьёв в отношении Лермонтова,
скрытый демонизм.
II в своём отечестве, и в своей семье людям третьей основы
приходится несладко, далеко не всегда их понимают и ценят,
и недаром сказал Иисус Христос: «Не бывает пророк без
чести, разве только в отечестве своем и в доме своем» (Мф. 13,
57). Нередки случаи, когда братия и настоятель или
епархиальное начальство не понимали и препятствовали угодникам
Божиим вести уединенную жизнь мистика третьей основы.
Испытал такое непонимание, в частности, прп. Серафим
Саровский. Первому старцу Оптиной Пустыни о. Льву запрещено
было даже носить схимническое одеяние.
Людям второй и, тем более, первой основы бытия
одиночество, напротив, противопоказано. Людей второй основы тянет
друг к другу в своего рода клубы или творческие союзы. В них
возникает своеобразная «братия», частое общение с которой
благотворно сказывается на продуктивности их работы.
4. Трёхосновность—главная причина неравенства людей,
неравенства внутреннего и врождённого. Исторические формы
этого неравенства далеко не всегда соответствуют внутренним
границам разделённое™ людей и нередко становятся
препятствиями для раскрытия их призвания.
Великие монархи хорошо это понимали и неустанно
стремились к тому, чтобы к управлению государством были
причастны подлинно выдающиеся люди из разных сословий.
Таковы были Генрих IV и молодой Людовик XIV, который
привлёк, например, на службу Кольбера, сына простого купца.
У Петра Великого уличный пирожник Александр Меншиков
стоял рядом с графом Шереметевым, а заезжие иноземцы
Лефорт и Брюс служили с князьями Репниным и Яковом
Долгоруким. Фридрих II прямо указывал: «Великий человек не
нуждается в предках».
Во всех областях человеческой жизни неодинаковость
людей разделяет их на три группы, не столько внешне, сколько
внутренне. Таковыми нас создал Творец, и закон нашего бытия
отменить мы не в силах. В то же время уяснение этой
метафизической истины помогает нам лучше понять себя и других и
не делать из неодинаковости людей выводы о болезненности и
изломанности людей третьей основы бытия или о ничтожестве
людей первой основы.
От наёмника, тем более от раба, нельзя требовать любви
к врагам, последней рубашки или подставления правой щеки.
Более того, эти требования дискредитируют в их глазах
христианское вероучение. Таких людей — подавляющее больший-
432
ство, и другими стать они не могут. Говорить рабу об обожс-
нии или «причастии Божественного естества» значит быть
неуслышанным, зато «спасение от адских мук» он хорошо
понимает. Напротив, «наёмника» и особенно «сына» коробит
излишний акцент на спасение или любое упоминание адских мук
грешников.
Перед нами не просто три отношения к Отцу Небесному, но
и три разных понимания практически всех вопросов, разное
отношение к людям. «Рабская» мораль, представленная как
единственно верная, может оттолкнуть от веры наиболее
выдающихся людей (одна из причин возникновения атеистического
экзистенциализма). И наоборот, бескорыстное служение
любви— для раба не более как пустые слова или малопонятная
абстракция.
Однако нельзя сказать, что перед нами три совсем разных
мировоззрения. В главном они не противоречат друг другу„
а скорее представляют собой как бы три параллельных курса,
ведущих к Единой Цели — Отцу Небесному. И чем ближе мы
к Нему, тем терпимее и понятнее друг другу, тем больше в нас
взаимной любви или хотя бы сочувствия.
5. Три основы бытия — не просто параллельные пути к
Богу, средоточию наших путей. Между ними имеется определённая
соподчинённость, прочно связующая их и, соответственно,
людей разного образа жизни в единое структурное целое. То
есть, кроме вертикальной иерархии, предусматривающей
подчинение плотского идеальному, а идеального духовному, Творцом
установлена и горизонтальная иерархия. Эти две
иерархии,помимо разной направленности, имеют ещё одно существенное
различие. Вертикальная соподчинённость присуща всем людям,
во всех есть духовное, идеальное и плотское. Церковь не
случайно безоговорочно осудила все попытки разделить людей
на духовных (пневматиков), душевных (психиков) и плотских
(илликов), ибо, по её учению, все люди одинаковы перед
Богом.
С горизонтальной иерархией обстоит иначе. Здесь
существует главенство или первичность дел человеческих и,
соответственно, людей. Люди неодинаковы в горизонтальной иерархии
и не несут в себе всей полноты бытия даже в какой-то одной
сфере деятельности. Каждый человек — лишь часть единого
целого.
5.1. Горизонтальная иерархия очень важна для человека:
только общаясь с полнотой трёхосновности, он может
осуществлять полноту общения с духовным и идеальным.
Полнота мистической жизни мирян невозможна без
руководства (устного или письменного) со стороны монахов или
28 К. Леонтьев
433
схимонахов, как полнота сакральной жизни немыслима без
священников, а они, в свою очередь,— без епископов. В
идеальной сфере бытия — актёры, танцоры, музыканты — без
режиссёров, балетмейстеров, дирижёров не смогут добиться
совершенного исполнения драм, балетов, симфоний и т. д. и т. п.
Не боеспособны армии без полководцев, создающих искусство
побеждать. У людей всегда имеются учителя, наставники,
какие-то авторитеты, личные приметы доблести, чести и героизма,
на которые они ориентируются в своей жизни. В любом
коллективе есть лидеры, руководители, организаторы и рядовые
работники. Естественно, что люди первого образа жизни
тянутся к людям, превосходящим их в горизонтальной иерархии.
Выражаясь языком политическим, одного равенства людям
мало, нужна ещё и иерархия. Однако «аристократы», или
люди второго образа жизни, не способны полностью осуществить
своё призвание без людей третьего образа жизни, монахам
нужны схимонахи, священникам — епископы, дирижёрам —
композиторы, редакторам — писатели, теоретикам —
метафизики.
5.2. Люди третьего образа жизни («сыны» или «цари»)
занимают в обществе особое место. С одной стороны, им дано
больше, чем остальным. Иисус сказал: «Вам дано знать тайны
Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не
видят и слыша не разумеют» (Лк. 8, 10). С другой стороны,
с них и спрос больше — к ним предъявляются порой
предельные для человека требования. «От всякого кому дано много,
много и потребуется, и кому много вверено, с того больше
взыщут» (Лк. 12, 48). «Если хочешь быть совершенным, пойди
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною» (Мф. 19, 21).
«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и
матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и
самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником»
(Лк. 14,26).
Всё это объясняется тем, что Бог в Своём
домостроительстве или в Своих промыслительных заботах о мире чаще
всего обращается к «сынам». Через Ноя Бог призвал его
современников к покаянию, через Авраама заключил За&ет веры,
через Моисея дал Синайское законодательство, в т. ч. десять
заповедей. Апостолы распространили Благую весть по всему
миру, мученики утвердили её, учителя Церкви сделали
понятной большинству. Равноапостольные цари и князья привели
к истинной вере свои народы, утвердили христианскую
нравственность и христианский уклад жизни.
434
История, какую бы великую страну мы ни взяли,
немыслима без таких людей. Св. Ольга, святой равноапостольный
великий князь Владимир, прп. Антоний и Феодосии Печерские,
основатели монашества у нас; святой и благоверный великий
князь Александр Невский, прп. Сергий Радонежский, прп.
Дмитрий Донской и так далее вплоть до прп. Серафима Саровского,
прп. Иоанна Кронштадтского и новомучеников Российских.
И всё это — люди третьей основы бытия.
Для успешного выполнения своего служения людям третьей
основы нужны помощники, в первую очередь — люди второй
основы. И не только потому, что самим им везде не поспеть,
но и чтобы сделаться остальным более доступными.
«Косноязычие» Моисея в этом отношении глубоко символично,
потому Бог и дал ему в помощь Аарона. Круг замыкается, и
«цари», «аристократы» и «демократы» (народ) связываются
между собой особым иерархическим единством.
5.3. Сказанное не умаляет значения людей первой основы
бытия. Во-первых, практически нет людей, которые были бы
во всём людьми третьей или второй основы. Так, безусловно
величайший император Пётр I гордился тем, что умеет
плотничать, имел диплом бомбардира, любил сам рвать зубы у
приближённых, очень плохо разбирался в искусстве. Всё это
ничуть не умаляет его государственного величия. Даже у святых
мы находим слабости и ограниченность суждений в той или
иной сфере бытия. Другими словами, нет чистых «царей» или
«сынов», «аристократов» и «наёмников». Первая основа
бытия — это тот минимум, который доступен всем. Мы не можем
все стать апостолами или учителями, но каждый может быть
крёстным хотя бы одного человека. Мы не можем все стать
мучениками и исповедниками, но вести повседневную
христианскую жизнь и стойко сносить лишения можем и более того —
должны. Мало кто из нас способен продать своё имущество и,
раздав деньги нищим, уйти в монастырь, но никого не
осуждать, быть доброжелательными, милосердными и добрыми
мы можем.
Итак, внутренняя структура человека — одна и та же для
всех и не зависит от социальных или исторических условий.
Горизонтальное неравенство — метафизический факт, и никакие
теоретические рассуждения не могут ни поколебать, ни тем
более отменить его. Человек должен не искоренять
неравенство, а найти своё положение в горизонтальной иерархии и
стремиться не на место других, а к высшему для себя.
Конечно, ответственность людей разной основы бытия
существенно разная. Человек первой основы ответственен перед
Богом (точнее, подчинён Ему), но также и старшему в горизон-
28*
435
тальной иерархии. Человек третьей основы подчинён только
Богу. Вспомним Пушкина:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчёта не давать, себе лишь самому
Служить и угождать...
Значит ли это, что поэт перестаёт быть подданным? Нет. Но
в поэзии он — царь, тут выше его нет никого. Призывать поэта
или художника к злободневности и гражданственности,
устанавливать над ними цензуру редактора или даже монарха —
это идёт против метафизических законов, установленных
Творцом. В то же время мы видим, что журналисты, актёры,
музыканты подчинены редактору, режиссёру, дирижёру. Сказанное
о людях третьей основы бытия не снимает с них
ответственности, а наоборот, возлагает куда более серьёзные обязанности
перед Богом. А вот человеку первой основы, несмотря на
двойную подчинённость, жить во многом легче, ибо его
ответственность перед Богом в значительной степени перекладывается на
высшие горизонтальные иерархии.
6. Между тремя основами не просто нет антагонизма, но,
напротив, существует глубокое структурное единство, и это
касается всех областей человеческой жизни и творчества.
Композитор не противостоит музыканту, актёр — драматургу, раб —
наёмнику, монах — мирянину, епископ — верующему. Но при
одном непременном условии: все они должны жить по
установленным Творцом метафизическим законам. В частности,
низшее должно подчиняться в своей сфере высшему. Стоит
монаху уклониться от аскетической жизни или епископу «завести»
семью, как возникнет «протест». Этот «протест» носит поначалу
личный характер, ибо направлен против лица, профанирующего
или «дискредитирующего» своё призвание, но метафизическая
необразованность нередко приводит к тому, что порицается уже
не плохой епископ или монах, а священство и монашество в
целом. Так, в сущности, возникло протестантство. Ограничив
сначала мистическую и сакральную жизнь, реформаторы
опростили затем и остальные области человеческой
жизнедеятельности. Очень скоро они отказались от Священного Предания,
почитания Пресвятой Богородицы и св. отцов, икон,
провозгласили рабскую доктрину предопределения. В дальнейшем
именно в протестантских странах усилилась эксплуатация людей,
стал усиленно развиваться капитализм и соответствующие ему
формы общественно-экономической жизни и государственной
власти. Конечно, не везде протестантизм сузил жизнь до
первой основы бытия, но, несомненно, именно в этом его главная
тенденция. Просто что-то держалось дольше, что-то упрости-
436
лось сразу. Под сомнение была поставлена и метафизика
(Кант), и необходимость многих существенно важных для
христианства положений. Баптисты отказались, например, от
особой религиозной музыки и стали использовать в своих
«богослужениях» светские мелодии.
Три вида бытия во всех сферах человеческой жизни и
творчества создают цветущее разнообразие человеческой жизни,
о котором так восторженно писал К. Н. Леонтьев и которое
•он ценил везде: в Византии, Персии, средневековой Европе,
Китае, Турции.
Как три основных цвета создают все остальные, так три
образа жизни человека красочно разнообразят мир, позволяя
«расцвести» всем без исключения людям. Поэтому
трёхосновное™ человека и человеческого общества — залог их
неисчерпаемости. Упрощённые одноосновные ответы на все вопроша-
ния жизни не могут быть ответами по существу. Но главное,
они — не для всех. Кому-то придутся по душе одни, другим —
другие, третьим — третьи. Исходя из одноосновной позиции,
люди никогда не сумеют понять друг друга и объединиться
для достижения общей цели.
История протестантизма хорошо иллюстрирует сказанное.
Сделавшись по преимуществу одноосновным вероисповеданием,
он стал дробиться на множество осколочных сект, групп,
партий, продолжающих деление и поныне. Некоторые из них
вообще утратили христианский характер (субботники,
мормоны), а то и веру в Бога, хотя убеждены в своей правоте,
а свою истину считают единственной и обязательной для всех.
В этих группах естественным образом усиливается фанатизм.
Чем меньше группа, чем одноцветнее тон, тем яростнее она
борется за своё, тем безжалостнее ко всем остальным. Никогда
трёхосновные церкви, государства и общества не проявляли
такого яростного и всепроникающего фанатизма, как малые и
малейшие секты, группы, партии или одноосновные общества.
Отсюда внутренняя напряжённость автократий, олигархий и
чистых демократий и, как следствие, их историческая
недолговечность. Только трёхосновные империи достигали тысячелетнего
возраста.
7. Итак, горизонтальная иерархия — это важнейший
метафизический закон существования человека и человеческого
общества; тройственная основа бытия имеет место во всех
областях жизни и деятельности людей, во всех материальных,
культурных и духовных его проявлениях.
Сила и красота жизни, выразительность и мощь истории,
глубина и разнообразие культуры, величие героев и обаяние
талантов, наконец, жизнеспособность народов и государств са-
437
мым прямым и непосредственным образом связаны с
функционированием в обществе, государстве, Церкви горизонтальной
иерархии. Она выражает трёхосновность человека как его
внутреннюю метафизическую суть, как один из основополагающих
антропологических законов, установленных Творцом и
формирующих жизнь человечества на протяжении всей его истории.
Нарушая горизонтальную иерархию, нивелируя её основы или
придерживаясь лишь одной из них, мы не только вульгаризируем
и обесцениваем нашу жизнь, но и вносим в неё элемент
вражды и ненависти к не таким, как мы. Ложная направленность
этой борьбы заставляет нас впустую тратить силы,
существенно ограничивая нашу устремлённость вверх, наше
совершенствование в том, чем Бог нас одарил, там, где пролегает
наш собственный путь к Господу.
Выдержать полноту и напряжённость трёхосновной жизни
призваны все народы, все культуры, все государства, наконец,
в той или иной степени каждый человек, особенно тот, кто
наделён каким-либо талантом.
Ниспадать в демократию и анархию в политике и
государственности, в прагматизм в философии и науке, в
исполнительство в искусстве, в журнализм в литературе, в протестантство
в христианстве, в какую-либо другую одноосновность — для
человека значит капитулировать в схватке с демонами
пошлости и ничтожества, а для народов и государств деградировать
и распылиться, т. е. закончить свой исторический путь в
качестве самостоятельного народа и особой культуры.
8. Таким образом, борьба с примитивизмом в настоящее
время — одна из главнейших для человека, который
буквально задыхается среди вульгарности и упрощений, властно
требующих от него безоговорочного послушания. Громко вопия
о несовершенстве, уродстве, бесчеловечности противоположной
одноосновности, примитивы требуют самозабвенного и
жертвенного служения себе. «Чума на оба ваши дома». Все
примитивы — наши враги, никто не союзник, даже не попутчик.
Однако мы должны быть реалистами и сознавать, что одно-
основность пустила в нас глубокие корни, а в некоторых
областях жизни стала даже нормой. Не в наше время это началось
и имеет уже давние традиции. Через «окно» в Европу она
хлынула в Россию со времён Петра и не сразу была
воспринята как зло. Осознали это и по-своему боролись с ней
славянофилы, но далеко не на всех фронтах. И только Леонтьев
противостоял одноосновности во всём, ибо ясно видел корень зла.
Всю силу своего таланта он направил на разоблачение
эгалитарности и был не только самым непримиримым, стойким
и последовательным противником эгалитарности, но и обладал
438
редкой способностью увидеть её во всём,— и в так
называемых национальных (а в сущности, космополитических)
революциях, охвативших Европу в XIX веке, и в размывании
крестьянских общин и сословности вообще, и в проповеди т. н.
«розового» христианства Л. Толстого и Ф. Достоевского, и
в огульном распространении грамотности, и в обличительном
пафосе русской литературы, и в отказе от культурной
самобытности и народных обычаев.
В свете сказанного выше хорошо видна недостаточность и
даже убогость его критиков, даже если это были большие умы
и личности. Всем их обвинениям в «сумерках умственной
совести», «привкусе двусмысленности», «безблагодатном
эстетизме», «лжеаскетизме», «изуверстве» и т. п. не доставало
элементарного понимания сложности человека как образа и
подобия Божия, его метафизической глубины, величия
исторических форм жизни Визапчии, Европы, России. Эта их
самоуверенная односторонность особенно заметна теперь, все эти
хлёсткие фразы, ярлыки, афоризмы и одновременно явное
бессилие перед новой и яркой мыслью, перед гениальным
философом, жизнью исповедующим свою философию.
Да, в его «филаретовском» православии было что-то и от
психологии раба, но разве это исключало православия
«наёмников» и «сынов»? «Начало премудрости — страх Божий», и
лишь очень немногие дорастают до любви, а чаще
ограничиваются разговорами или сентенциями о ней, очень далекими
от подлинного чувства.
Никакое государство не может строиться и существовать
исключительно на любви и согласии, игнорируя «священный»
ужас перед авторитетом и силою власти; не может общество
состоять только из «сынов» и «наёмников», более того, «рабы»
будут всегда составлять большинство и потому «вывести
насилие из исторической жизни, это то же, что претендовать
выбросить один из основных цветов радуги из жизни космической».
В любом обществе должна существовать мера нравственной
мягкости, за пределами которой его ждёт не только
ослабление собственной жизненности, но и оскудение человеческих
характеров и творческой самобытности народа. Однако это
вовсе не исключает личной свободы и достоинства для
«наёмников» и «сынов». И нет тут ни двусмысленности, ни
противоречий, ни «сумерков умственной совести», ни «ницшеанства»,
ни многого другого, в чём обвиняли Леонтьева жестокие и
несправедливые критики и оппоненты.
Откровенные и честные признания Леонтьева, что не всё
в Православии убедительно для его разума и сердца, но что
он признаёт в нём всё, в том числе и то, что претит ему,— не-
439
редко ставилось ему в вину, хотя это говорило лишь о том,
что он далёк от наивного прекраснодушия и трезво
воспринимает земную Церковь. Не идеализировал он даже старца
(впоследствии святого) Амвросия, но советовался с ним в
главном и тут был послушен до конца. Никогда не подменял он
и столь модным уже тогда морализированием живую
личностную веру, которой не хватало и сейчас не хватает многим
его противникам и критикам.
Конечно, не надо переоценивать его советы затормозить
прогресс, «подморозить Россию», возродить дворянство,
укрепить крестьянскую общину или его мечту о Соборно-Патриар-
шей централизации на Босфоре. Главное для нас не это, а его
глубокая убеждённость в том, что сила, красота,
выразительность, мощь изначально, внутренне присущи жизни, коренятся
в самой природе человека, в его метафизической глубине.
В верности жизни, своей полноте — залог непобедимости
человека, общества, государства. В этом пафос всего творчества
К. Н. Леонтьева, тот живой огонь исторической эстафеты,
которую мы должны подхватить и пронести через нашу
современность, через свой исторический этап. И потому сейчас как
никогда важно вооружиться «стержневым, господствующим
принципом» Леонтьева, то есть понять, что иерархия всех сфер
человеческой жизни и творчества — метафизический закон
существования человека и нарушать его — значит вносить в свою
жизнь и в общество постоянную враждебность, ущербность,
примитивность, пошлость, унылое однообразие.
Снова настежь открыты уже не «окна», а все «двери и
шлюзы» в Европу, Америку, Японию; не очередная волна, а
девятый вал эгалитарности хлынул на нашу землю и затопил
Отечество.
Не впустить его в душу, в сердце, не подчинить ему волю
и характер, не спасовать перед множеством, не снизить свой
идеал и упования —вот наша ключевая задача, И первый
помощник здесь К. Н. Леонтьев, его жизнь, его творчество, его
пафос и мужество.
Самый великий мыслитель России, как назвал его Лев
Толстой,— лучшая прививка, которая предохранит нас от чумы
упрощенчества, бушующей вокруг нас и готовой заразить и
погубить весь народ. Конечно, не один только Леонтьев, это
и Православная Церковь, сравнительно недавно победившая
«обновленческий» примитив, это и великая русская культура,
ещё не побеждённая, наконец, это традиционные формы
социальности, общественности, государственности, которые хотя
и едва теплятся, но остаются нашими великими союзниками.
440
в очередном противостоянии примитивистским соблазнам XX
века. В безусловной верности им — условие нашей
непобедимости сейчас и окончательной победы в будущем.
Н. МАЛЬЧЕВСКИЙ
ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
I
«Вот он Вас обольстил своим умом и своей эстетичностью;
между тем это одно из самых отвратительных явлений»,—
пишет Н. Н. Страхов весной 1892 года В. В. Розанову; речь
идёт о Константине Леонтьеве, Сдержанный даже в полемике
с Вл. Соловьёвым (где последний не гнушался любой
возможностью уязвить, выставить в смешном виде своего оппонента),
Страхов нарушает здесь элементарный принцип «de mor-
tuis...» (Леонтьев умер поздней осенью 1891 года) и вовсе
не делает попытки (столь для него характерной) отыскать
какие-то «светлые стороны» в мировоззрении Леонтьева. И даже
если относить эпитет «отвратительный» не к самому Леонтьеву,
но к феномену «эстетичности» — когда» по словам Страхова,
«религия, искусство, наука, патриотизм — самые высокие
предметы вдруг подчиняются самым низким стремлениям,
развратной жажде наслаждения и услаждения себя»1 — это не
смягчит беспощадность и явную несправедливость его оценки.
Невольно закрадывается мысль: так резко мы обычно осуждаем
то, что как-то очень близко касается пас самих, затрагивает
какое-то больное место нашего собственного духа...
А двадцать лет спустя (в мае 1912 года) Розанов напишет:
«Как я любил и люблю Страхова, любил и люблю К.
Леонтьева». Страхов и Леонтьев оказались — вопреки явно
выраженной воле первого — рядом в представлении Розанова; по
другую же сторону водораздела он поместил Вл. Соловьёва и
Льва Толстого: «Последняя собака, раздавленная трамваем,
вызывает большее движение души, чем их философия и
публицистика» 2. Что это? Произвол любящего, проявление
пресловутого «бабьего» в Розанове — или всё-таки ещё и
догадка о каком-то глубинном внутреннем сродстве и внутренней
несовместимости мыслителей, совсем иначе распределивших
1 В. В. Розанов. «Литературные изгнанники», т. 1. СПб., 1913, с. 324—326.
2 В. В. Розанов. Сочинения. Л., 1990, с. 112.
441
при жизни свои симпатии и антипатии? Страхов, как известно,
ценил и защищал Л. Толстого, притом не только как великого
художника, но и как «христианского нравоучителя»; Леонтьев,
в свою очередь, видел в Соловьёве «несомненного гения» и
даже связывал с ним «земное будущее» Православия —
позднейший разрыв (после соловьёвского реферата «Об упадке
средневекового миросозерцания») произошёл буквально за недели
до смерти Леонтьева, что тоже знаменательно... Напротив,
полемика Страхова с Соловьёвым и «атаки» Леонтьева на Тол-
стого были постоянными компонентами их творчества; поэтому
представляется куда естественней объединить Леонтьева и
Соловьева на одной «стороне» (как «религиозных мыслителей»
с явно выраженным «эстетизмом»), а Страхова и Л. Толстого —
на другой (как убеждённых «рационалистов» и «моралистов»),
А вот для Розанова, по его чувству, всё иначе: Страхов и
Леонтьев против Соловьёва и Толстого...
Если бы всё сводилось к «субъективным» оценкам
Розанова, то вряд ли имело бы смысл выискивать некую «историко-
философскую проблему» (хотя, если на то пошло, к Розанову
стоит прислушиваться особенно там, где речь идёт о вещах
«субъективных» — он, как никто другой, умел найти в них
сугубо «объективное» зерно). Но я попытаюсь показать, что
такая проблема здесь действительно есть, и разобраться в ней
было бы совсем не лишним сегодня, когда мы заново
определяем «путеводные звёзды» на небосклоне русской философии.
Отметим для начала, что Розанов оказался прав и в одном
вполне объективном отношении, хотя и выразил его,
опять-таки, весьма своеобразно, заявив (там же в «Опавших листьях») *
что Соловьёв и Толстой «давили» других, а Страхов и
Леонтьев были сами «раздавлены». Раздавлены, очевидно, не
двумя первыми (спор с каждым из них они вели достаточна
успешно и до конца твёрдо), а всем ходом русской культуры,,
которая породила столько «толстовцев» и «соловьёвцев»
(почти все видные философы «начала века»), но не только не
произвела «леонтьевцев» и «страховцев», а даже ничего не
восприняла ни от Страхова, ни от Леонтьева! При этом в «тол-
стовстве» победило вовсе не то, что Страхов ценил в Толстом,—
там вовсе не состоялся «поворот всей человеческой души к
вечности», а восторжествовал чистый нигилизм и некий новый,,
внецерковный «обряд», под стать иудейскому; в «соловьёвцах»
начала века (и периода эмиграции) проступает не та «ясная
дисциплина духовная», которую Леонтьев приписывал их
вдохновителю, но скорее упоение освобождением от всяких оков
«отвлечённых начал», возможностью придавать
«онтологический статус» своим самым необузданным фантазиям.
442
Г Короче, победил некий «дух», действительно общий
Соловьёву и Толстому, хотя и трудно уловимый в ограниченном
контексте их творчества; победил, ибо оказался сродни духу
времени, «духу», который влёк и русскую интеллигенцию и
■нацию в целом к катастрофе и падению. Сегодня мы
располагаем возможностью — не благодаря нашей особой
проницательности, но в силу наличия «исторической перспективы» (или,
точнее, «ретроспективы») — определить и этот «дух», и то, что
соединяло Страхова и Леонтьева, превратив их в
изгнанников, отлучённых от предсмертного пиршества русской
культуры, пиршества, на котором до конца присутствовали
в качестве, так сказать, «почётных теней» и «моралист» Тол*
«стой, и «эстет» Соловьёв.
2
Конечно, сам В. С. Соловьёв отклонил бы с негодованием
кличку «эстета». Он решительно протестовал против попыток
«эстетического оправдания жизни» — и прежде всего потому,
что жизнь, эта земная жизнь, вообще не может быть
оправдана, в глазах Соловьёва, через самое себя. Он провозглашает,
© качестве своего рода категорического императива, что
«человек не хочет и не может быть только человеком»; если бы
человек смирился со «своим собственным определением и своей
собственной формой бытия, то это было бы для него
равносильно смерти» К
А смерть — не «метафизическая», а обыденная, земная
смерть — представляется Соловьёву концентрированным
выражением всего, что есть бессмысленного и безобразного.
Издеваясь над «злополучным Ницше», Соловьёв восклицает:
«Разве сила, бессильная перед смертью, есть в самом деле
сила? Разве разлагающийся труп есть красота? Древний пред*
ставитель силы и красоты умер и истлел не иначе, как самая
бессильная и безобразная тварь, а новейший поклонник силы
и красоты заживо превратился в умственный труп... И кто же
станет поклоняться божеству, не спасающему свои воплощения
и своих поклонников?» 2.
Нетрудно догадаться, что всё, сказанное Соловьёвым в
адрес Ницше, относилось и к К. Леонтьеву с его поклонением
1 «Критика отвлечённых начал», Собрание сочинений, т. 2, с. 153.
2 «Оправдание добра», 2-е изд. М., 1899, с. 7. Под «древним
представителем силы и красоты» имеется в виду Александр Македонский. Соловьёв
повторяет «резюме» его жизни в 1-й книге Маккавеев: «И посем паде на
ложе и позна яко умирает».
443
«героям жизни», от Алкивиада до Вронского. Все эти красавцы
и сердцееды в конце концов «познали смерть», которая, по
мнению Соловьёва, как бы аннулировала все их любовные,
военные и прочие победы.
Но только ли Леонтьева должны были поразить ядовитые
стрелы соловьёвского красноречия? Не направлены ли они и
против другого рассуждения о ценности жизни и смысле
смерти, принадлежащего вовсе не «эстету»? Оно принадлежит
Страхову и составляет главу из его книги «Мир как целое» под
названием «Значение смерти» 1.
По словам Страхова, «чем полнее и глубже мы будем
понимать жизнь, тем более должно уясняться значение смерти,.
тем резче должна выступать её необходимость».
Необходимость — и смысл. Каков же он?
Сразу замечу, что почти невозможно передать мысль
Страхова яснее и доходчивее, чем делает это он сам; но для
читателя, который не захочет в этом месте отложить мою статью-
и обратиться к книге Страхова, я приведу голую схему его
рассуждения.
Человек, да и любое живое существо, любой организм,
должен обладать, по самому понятию организма, некоторой
организацией как в пространстве, так и во времени. При
этом именно «организация во времени» представляет
специфическое отличие живых тел от мёртвых. Последние мы можем,
вообще говоря, представить существующими «бесконечно
долго», если исключить какие-либо деструктивные влияния извне
(например, камень, помещённый в абсолютный вакуум). Но
«они не имеют границ во времени именно потому, что не
представляют содержания, которое могло бы заключаться в этих
границах; они не имеют жизни, а потому не представляют и
рождения, и смерти». Напротив, всё живое непременно
ограничено во времени; это вытекает аналитически из понятия
(органической) жизни, неразрывно связанного с понятиями
рождения и смерти. Человек же есть высший организм, а
потому всё сказанное применимо к нему a fortiori. Таким
образом, для Страхова «ограниченность во времени есть
действительное совершенство, а не недостаток организма».
Более того, в этой «ограниченности» и через неё полнее
всего раскрывается сама идея совершенства.
«Бесконечное совершенствование», которое служит единственным
разумным оправданием «бесконечной (во времени) жизни», есть,
в сущности, противоречие в понятиях: там, где невозможно
1 «Мир как целое», 2-е изд. СПб., 1892, с. 123—144.
444
достигнуть совершенства, «самое понятие о
совершенствовании разрушится и исчезнет».
А потому «для каждого организма есть эпоха
совершенства, эпоха достижения того идеала, к которому идёт
совершенствование организма». Это — эпоха зрелости; и
логически неизбежно ей предшествует эпоха взросления и
созревания, а за нею следует период дряхления и умирания.
Ничто в организме, тем более в высшем организме, не может
продолжаться «вечно» — понятие смерти вытекает из понятия
жизни. Страхов говорит о ней словами, которые вполне могли
бы быть произнесены Леонтьевым:
«Смерть — это финал оперы, последняя сцена драмы; как
художественное произведение не может тянуться без конца, но
само собою обособляется и находит свои границы, так и жизнь
организмов имеет пределы. В этом выражается их глубокая
сущность, гармония и красота, свойственная их жизни».
Всё сказанное н е предрешает ответа на вопрос о том, что
происходит с человеком после смерти; оно только
раскрывает ту имманентную логику, которая присуща жизни и
в соответствии с которой смерть не сводится к бессмыслице
«разлагающегося трупа»; смерть значительна именно
потому, что имеет значение, или смысл.
Соловьёв видел этот смысл только в связи с тем, что
происходит с нами после смерти; Страхов понимал его
фундаментальную связь и с тем, что ей предшествует. Думаю,
что осмысление смерти, проделанное в XX веке Зиммелем \
Хайдеггером и другими, шло по пути, намеченному у Страхова,
но не у Соловьёва.
Кстати, отвращение к покойнику, признание его останков
чем-то нечистым абсолютно чуждо и христианству,
выразителем которого мнил себя Вл. Соловьёв; напротив» оно
весьма характерно для иудаизма, как, впрочем, и для некоторых
форм языческого миросозерцания...
И ещё: как ни странно, в «Оправдании добра» Соловьёв не
заметил того, что он сам указал на нечто более страшное,
чем «разлагающийся труп» — в своём «тонком намёке» на
Ницше, превратившегося до смерти в «живой труп».
«Живой труп» страшнее «мёртвого трупа». Это — зрелище
человека, вполне исчерпавшего сроки и смысл жизни, но
почему-то пребывающего в ней. «С этой точки зрения,— закан-
1 В какой степени статья Г. Зиммсля «К вопросу о метафизике смерти»
перекликается с размышлением Страхова (написанным на полвека (!)
раньше), можно убедиться, обратившись к её русскому переводу в «Логосе»,
кн. 2, 1910 г.
445
чивает Страхов своё письмо о «значении смерти»,— смерть есть
великое благо. Жизнь наша ограничена именно потому, что
мы способны дожить до чего-нибудь, что можем стать
вполне человеком; смерть же не даёт нам пережить
•себя».
3
Не ясно ли, что в своих размышлениях о жизни и смерти
Страхов не только противоположен Соловьёву, но и глубоко
созвучен Леонтьеву? «Органологическое» понимание структуры
индивидуального времени у Страхова является необходимой
предпосылкой леонтьевской концепции «социального времени».
Удивительно сходны самые тональности их
мышления— трагическая и героическая нота у Страхова хоть и
звучит более сдержанно и приглушённо, чем у Леонтьева, но от
этого скорее выигрывает — по крайней мере в моём
восприятии— в своей достоверности... Но отметить только это —
значит отметить лишь внешнее сходство; нам же важнее понять
смысл и характер внутреннего единства их метафизических
«установок». И, возможно, не только их одних, но и целого ряда
русских мыслителей, о которых сегодня или не вспоминают
вовсе, или изображают гениальными чудаками и уникумами (как
того же Розанова), или причисляют к внутренне чуждому им
направлению «соловьёвцев».
Самые «леонтьевские» строки у Страхова встретились мне
не в его философских и литературно-критических
произведениях, но в одном из его немногочисленных стихотворений,
опубликованных им, кажется, только в книге с непритязательным
названием «Воспоминания и отрывки»:
И дивно, и страшно
Свершается жизнь предо мной...
Здесь, как и во всём, что писал Страхов, неслучайно каждое
слово. А всё вместе выражает то основное
мироощущение, которое объединяло, как мне кажется, Страхова и
Леонтьева: благоговейное внимание к совершенству
свершившегося, то есть того, что естественно и
органически воплощается в многообразных формах жизни.
Чтобы яснее понять настоящий смысл этого мироощущения,
надо назвать настоящим именем мироощущение
противоположное, то, которое исповедовали и Толстой, и Соловьёв. Это —
благоговение перед идеями, перед тем, что успело
«свершиться» не в жизни, не в мире, а разве что в их собственных
головах. Толстой всё-таки «изменял» этой идеолатрии
как художник; Соловьёв был до конца верен ей и как мысли-
446
тель, и как поэт; всё живое, конкретное, воплощённое —
«только отблеск, только тени от незримого очами», симфония
жизни— лишь «житейский шум трескучий»... За всем этим ему
чудилось нечто «незримое очами», источник «торжествующих
созвучий», которые дано услышать лишь «пророкам,
мыслителям и поэтам».
Иным представлялся мир и Страхову, и Леонтьеву. Было
бы верно лишь отчасти сказать, что они ставили «факты»
выше «идей», хотя трезвое чувство реальности было присуще и
первому, знавшему естествознание не понаслышке, и второму,
побывавшему в «шкуре» сначала военного, а потом сельского
врача. Их внимание к «фактам» было мыслящим
вниманием, то есть вниманием, обращенным на суть происходящего;
но при этом они сознавали главное — «дивную и страшную»
тайну бытия, тайну свершения, воплощения, реализации
«идей», и человеческих, и божественных. Для Соловьёва и со-
ловьёвцев идея была, в сущности, синонимом совершенства;
воплощение означало для них лишь унижение идеи, её
«кенозис», превращение в нечто «тварное». Этот момент кено-
зиса, кстати, несомненен; но подобно тому, как кенозис
Бога—Слова составляет основание нашего спасения и,
одновременно, исполнение самого назначения Логоса, так и
воплощение любых идей, «сиерматических логосов» и тому подобного
есть их подлинное оправдание, без которого они
оставались бы лишь призрачным «царством идей», утопией
в буквальном смысле слова.
Осмелюсь заметить, кстати, что и В. В. Розанов не понял
в Леонтьеве главного, заявив, что тот «имел неслыханную
дерзость.. . выразиться принципиально против коренного,
самого главного начала, Христом принесённого на землю,—
против кротости»1. Не против «кротости» был Леонтьев — то
есть не против кротости живого перед лицом Творца и
перед лицом другого живого. Он был против кротости
живого по отношению к «идейному», свершённого и
свершаемого по органическим законам бытия — по отношению к тому,
что только притязает на воплощение, не имея для этого
достаточных органических предпосылок. Он был против
наглости головных идей и наглости «носителей» этих
идей, не понимающих, какая это «дивная и страшная» тайна:
воплотиться, реализоваться, свершиться. И в этой своей
обиде за живое, естественное, органическое он «дерзко»
ставил офицера выше философа, потому что и полный дурак
может выставлять себя философом, выставлять же себя офице-
1 В. В. Розанов. Сочинения. М., 1990, с. 214.
447
ром» не будучи им на деле, решится только сумасшедший или
авантюрист; да и мы не купимся на такую ложь столь же
легко, как покупаемся на притязания самозванных
«философов».
Конечно, у последователей Соловьёва, да и у него самого
«идеолатрия» принимала достаточно тонкую, софистицировань
ную форму. Они не скупились на слова «реальность» и «жизнь»
в словосочетаниях типа «идеал—реализм» или «живая идея».
Но, как справедливо отмечал С. А. Аскольдов (лишь по
недоразумению числящийся в лагере «соловьёвцев), «живая идея —
это, в сущности, такое же contradictio in adjecto, как живой
треугольник или квадрат, потому что идея ни из чего не
состоит, как из сложного содержания и определённого способа
его связи, или так называемой формы. Но ни форма, ни то
содержание, которое она объемлет, не содержат в себе ни
единой искры жизни» К
Когда-то Платон обличал метафизическую близорукость
тех, кто «лошадь видит, а лошадность не видит»; обличал
вполне справедливо, так как познание начинается с
опознания идеального элемента в составе реальности. Но в
русской философии, с лёгкой руки Соловьёва, стал править бал
некий «гиперплатонизм», видящий в мире сплошную
«лошадность» и не замечающий самих «лошадей». Результаты не
заставили себя ждать. Так, за поисками «русской идеи» было
утрачено чувство преемственности к исторической России; тот
или иной период её истории (например, «петербургский»)
с удивительной лёгкостью объявлялся как бы «ненастоящим»,
ибо не соответствовал требованиям «русской идеи», временно
приютившейся в голове у Бердяева или Мережковского2.
Точно так же идеальная «вселенская Церковь» я выдаётся за
нечто онтологически более значительное, чем Церковь
реальная. Да, эта Церковь внешне разделена, но и её видимое
разделение — это ведь тоже один из моментов её
воплощения в живых организмах различных христианских народов;
и этот момент не отменяет внутреннего единства Церкви,
выраженного в девятом члене Символа Веры. И даже признавая
наличие несомненной «онтологической дистанции» между Цер-
J «А. А. Козлов». М., 1912, с. 212.
2 Определённую лепту в подобное извращение национального сознания
внесли и ранние славянофилы; но не надо забывать, что их сочинения мы
склонны читать сегодня сквозь призму позднейшего «гиперидсализма».
3 У Чаадаева — «ипе Eglise univcrselle»; неопределённый артикль une
пропадает в русском переводе, что вуалирует настоящий смысл этого
выражения (П. Я. Чаадаев. Полное собрание сочинений и избранные письма,
т. 1. М., 1991, с. 99).
448
ковью «земной» и Церковью «небесной», совершенно дико
предполагать, что головные идеи Чаадаева, Соловьёва или
С. Н. Булгакова ближе к Церкви «небесной», чем Церковь
«земная»! Нельзя верить в первую в обход (или «поверх»)
последней — вот чего так и не сумели понять многие из наших
«экуменистов».
Здесь стоит отметить, что Л. Толстой был, в сущности,
куда более честен и логичен, чем Соловьёв: он отдавал себе
ясный отчёт и откровенно признавался в том, что его «идеи»
отменяют всякое государство и всякую Церковь.
Но Страхов и Леонтьев были вовсе не так одиноки в своём
основном мироощущении, как это может показаться сегодня,
при господстве крайне узкого взгляда на историю русской
философии. Целый ряд русских мыслителей, наследие которых
явно не торопятся «вернуть читателю» те, кто определяет
издательскую политику (как определяли её и прежде, при другой
конъюнктуре) — повторяю, целый ряд русских мыслителей имел
существенно сходные взгляды на природу и смысл вещей. Как
уже отмечалось, резко возражал против попыток поставить
химеры разума, вроде «живой идеи», выше понятия души —
действительно живой, самосознающей и воплощённой —
С. А. Аскольдов, идя при этом по стопам своего отца, другого
замечательного русского мыслителя Л. А. Козлова.
Мировоззрение последнего, кстати, весьма сходно именно с леонтьев-
ским, даже в деталях этических и эстетических взглядов ].
Важное значение для прояснения связи между категориями
«жизни» и «смысла» имеет философия времени, развитая
Павлом Александровичем Бакуниным (русская интеллигенция
умудрилась вовсе не заметить этого мыслителя, жадно следя
за проказами его брата Михаила). Время, понимаемое как
«прохождение вещей», течёт в прошлое: «всякое
существование, удаляясь от будущего, от чувственности его смутной
материи, переходит в духовную ясность' своего вечного
смысла» 2. Процесс жизни есть одновременно процесс «обретения
смысла» тем, что первоначально (в перспективе «будущего»,
«ещё не совершившегося») есть чистая неопределенность,
материя, лишённая формы. Только «то, что прошло, стало
действительно совершенным бытием»; и, явно перекликаясь со
1 С. А. Лскольдов приводит (в работе» цитированной выше) характерное
высказывание отца о том, что «жестокость и бич представляют в некоторых
случаях единственное средство духовного воспитания, поднимающего
человека с уровня животного до осуществления высших форм жизни» \с. 205).
2 «Основы веры и знания». СПб., 1886, с. 344—351.
29 К. Леонтьев
449
Страховым, Бакунин резюмирует: «проходить... означает
только приходить к себе самому».
Ясно, что здесь намечается совершенно оригинальная
философия не только индивидуального, но и исторического
процесса, философия, которая должна, наконец, научить нас тому, что
«обращаться за смыслом к будущему... есть великое
недоразумение»; доступный нам смысл запёчатлён в прошлом, и
только в нём.
Сегодня, когда вершиной мудрости считается умение ставить
на живую мысль кругленькие штампики, на философию
П.Бакунина поспешат поставить штампик «пассеизма»,
«ретро-романтизма» и тому подобное. Отрекаясь больше на словах, чем
на деле от «большевистского» футуризма, мы претендуем на
нечто большее, чем «простой возврат к прошлому». Но для
подобных претензий должно существовать достаточное
основание, которого нет в нашем настоящем. Обрести это основание
можно, только «вернувшись к себе», только научившись
узнавать тот смысл, который воплотился во всей толще нашего
прошлого: не только до-петровского (как думали «старые» и
думают «новейшие» славянофилы), не только
дореволюционного (как думают иные «антикоммунисты», очень успешно-
скрывавшие свой «антикоммунизм» до нужного момента), но
также и пост-революционного, «сталинского» и
«брежневского» прошлого.
Или — «апофеоз беспочвенности», или — «путь зерна»,
смиренное погружение в почву; третьего не дано.
4
Затронутые выше темы, конечно, нельзя исчерпать
мимоходом; и сейчас нам достаточно попытаться ответить на один
последний вопрос: почему же Страхов, тем не менее, так
решительно отвергал Леонтьева?
Речь идёт, как мне кажется, об отвержении Страховым
того соблазна, который подстерегает всех, кто разделяет
чувство благоговения перед «совершенством совершенного», и
которому подпал и Леонтьев. Сразу отметим, что нет
мировоззрения, свободного от своего соблазна; сила
мировоззрения — не в его мнимой безупречности, а в способности этот
соблазн преодолеть, не изменяя своим основам.
Соблазн того мировоззрения, о котором идёт речь, имеет
как бы две «редакции», или формы: грубую, очевидную — и
тонкую, труднее опознаваемую. «Грубый» соблазн — это своего
рода неразборчивость в отношении «свершённого» и
воплощённого, которое признаётся благим и разумным проста
450
в силу своей (упрощённо трактуемой) реальности. Этот
соблазн преодолевается ясной идеей иерархии реального,
наличия в нём строгой ценностной градации. Необходимость
«принципа иерархии» для правильного взгляда на мир ясно
понимал Страхов, отмечавший, что «части и явления мира не
просто связаны, а соподчинены, представляют
правильную лестницу, пирамиду, всего лучше сказать — иерархию
существ и явлений» 1.
Нет нужды доказывать, что столь же ясно и даже более
напряжённо ощущал иерархичность бытия Леонтьев. Но вот
тут-то и начинается соблазн более «тонкий»: Леонтьев явно
подпал под обаяние иерархичности мира в её внешней
стройности и красоте, увидел в этой красоте нечто
самодовлеющее.
А «в красоте» означает, собственно,— в
материальности. Как обронил однажды Н. Я. Данилевский, «требование
красоты есть единственная потребность духа, которую может
удовлетворить только материя»2. Соловьёв и соловьёвцы
страшно запутали простую, в сущности, «проблему красоты»,
превратив красоту в некую собственную категорию ду-
х а, каковой красота ни в коем случае не является. В духе
есть «потребность» красоты, но удовлетворить эту потребность
может только материя. Но это, как говорится, их
проблема. Проблема же Леонтьева в том, что для него эта
«несобственная» категория (содержание которой он понимал
совершенно правильно, не изобретая «внутренней», «духовной»
красоты и тому подобных признаков) определила
преимущественно внешний взгляд на дух, явно в ущерб взгляду
внутреннем у, единственно адекватному сущности духа.
Замечу, что я не исповедую какой-либо категорический
дуализм духа и материи; с определёнными оговорками я
готов принять» наприхмер, утверждение Аскольдова, что
«материя есть дух, рассматриваемый извне, дух — материя в её
внутреннем самочувствии, в её «в себе бытии» 3. Но надо ясно
понимать, что именно момент «в себе бытия» является
определяющим, «фундирующим» моментом единства духа и
материи.
Именно это Леонтьев понимал явно хуже, чем Страхов; не
случайно последний, как бы утрируя собственную позицию
(отнюдь не исключавшую законности и ценности «внешнего взгля-
1 «Мир как целое», с. VII.
2 «Россия и Европа», 5-е изд. СПб., 1895, с. XXXI.
3 «Мысль и действительность». М., 1914, с. 280.
29* 451
да» на природу), написал, тем не менее, стихотворение,
обращенное к «эстетику»:
Не мир хорош, а хороша
В тебе порой твоя душа,
И не гармония природы
Звучит среди лесов и вод,
А сердце в чистый миг свободы
Само в груди твоей пост.
Конечно, даже «реалистичные» соловьёвцы и софиологи
немедленно поднимут шум, что это — «психологизм», «имманен-
тизм» и прочие смертные грехи. На это достаточно повторить,
что любой самозванный «реализм», отрицающий онтологическую
значимость самого реального в мире — живой души,
является лже-реализмом. Живая душа, обращенная к живому
Богу,— вот та ось, на которой держится мировое движение.
Без признания субстанциальности души (и тем
самым её способности действовать от себя, быть
источником творческой причинности) все разговоры о «реализме» не
стоят, попросту говоря, выеденного яйца.. .
Всё это прекрасно понимали и Страхов, и Козлов, и
Лопатин, и ряд других русских мыслителей, твёрдо отстаивавших
примат души над идеей перед объединённым
напором отечественных «идеал—реалистов» и (к слову сказать)
эпигонов немецкого «неокантианства» и новомодной (тогда)
феноменологии.
Но по той же причине ведёт в тупик и «эстетизм»
Леонтьева; то есть не потому, что он хранил живое чувство
самоценности воплощённого, а потому, что усвоил — быть может, в
полемическом увлечении отрицанием всего «головного» и
утопического, неспособного к органическому становлению,— чисто
внешний взгляд на живое; поставил обнаружение выше i
воплощения. Он поставил эстетику выше этики, все
категории которой — добро и зло, долг и право, свобода и
ответственность— есть собственные категории духа, и
в этом отношении оказался невольным союзником «соловьёв-
цев», затолкавших «красоту» в чужую ей область «в себе
бытия» духа.
А тогда становится неизбежным тот элемент «разврата»,,
который, несомненно, присутствует в миросозерцании Леонтьева
и который столь решительно отверг Страхов. И дело не в том, ;
что эстетика у Леонтьева вытеснила этику; дело в том,
что она её подменила. А эстетика, подменившая этику,
навязывает свою собственную псевдоэтику. Характер этой '
псевдоэтики таков, что она облекает в этическую форму
452
содержание, чуждое именно этой форме. В
религиозно-фантастическом романе К. Льюиса «Переландра» Сатана пытается
соблазнить инопланетную Еву, живущую в мире, не
испытавшем грехопадения. Он не обещает ей большего, чем сейчас,
блаженства и счастья, но — рассказывая о последствиях
грехопадения на Земле — обращается именно к её способности
почувствовать трагическую красоту земной истории,
рисует перед ней образы земных женщин — любящих,
страдающих, верных своему назначению, приносящих себя в жертву
ради мужей и детей. Парадоксальным образом он соблазняет
её (и почти достигает успеха) именно картинами Смерти
и Страдания, Подвига и Жертвы... Вот это и есть
«практическая псевдоэтика», возникающая как паразитический нарост
там, где отвергается изначально нравственное
отношение между человеком и Богом — отношение, в котором и
страдание, и подвиг, и жертва есть лишь средство, а не цель,
путь, не назначение.
Но, повторяю, нет мировоззрения, гарантирующего человеку
иммунитет к соблазнам. Важно другое — насколько сильна
в мировоззрении его живое здоровое начало, соответствующее
основному строению бытия, а не головным, хотя бы
«стройным», химерам. Мировоззрение, которое можно определить
как духовный реализм, представляется мне наиболее
адекватным именно основному строению бытия. В этом
строении отчётливо проступают (уже для непредвзятого
до-философского сознания) три «типа» или «ступени» реальности:
реальность мира, реальность человека, реальность Бога — или,.
что то же самое, реальность вещей, реальность душ,
реальность абсолютного духа. То, что называется «смыслами»,
«идеями» и так далее, есть только способы осознания
человеком той связи, которая соединяет его с миром и с
Богом; «их ценность и значение не превосходит ценности и
значения того бытия, которое их порождает, хранит
и производит»1 — не превосходит ценности человеческой
души.
На исходе XX века пора понять, что гениальный образ
платоновской пещеры следует понимать прямо противоположно
тому, как понимал его сам Платон, Идеи и есть те тени,
которые отбрасывает на вещи живой огонь духа.
Оторванные и от вещей, и от духа, эти тени превращаются в
«царство мёртвых». Мертва и философия, полагающая это царства
теней в основание бытия. А философия, превращающая цар-
1 Там же, с. 371.
45а
'Ство теней в «четвёртую ипостась» Святой Троицы,— не просто
мертва, но смердит ересью и «последним» соблазном.
К счастью, в русской философии есть то живое,
которое я пытался опознать, только опознать, разбирая связь
творчества Страхова с творчеством К. Леонтьева. И сегодня
«ам особенно важно узнать это живое во всём многообразии
*го лиц и учений. Без этого мы обречены снова откапывать
и заново хоронить мертвецов.
Краткий список литературы о К. Н. Леонтьеве
за 1886—1992 гг.*
1. Зсньковский В. В. История русской философии. —Л„ 1992. — Т. 1,
ч. 2.— К. Леонтьев. —С. 246—265.
2. История философии в СССР: В 5 т. — М., 1968.— Т. 3. — К. Н.
Леонтьев. — С. 338^341.
3. Агеев К- [М.]. Христианство и его отношение к благоустроению земной
жизни: Опыт критич. изучения и богослов, оценки раскрытого К. Н.
Леонтьевым понимания христианства: [Диссертация].—Киев, 1909.—IX, 333 с—
Библиогр.: с. 22^29.
Рец.: [Таресв М. М.1//Богослов. вести. — 1909. — № П. —С. 503—512.
4. Александров А. А. Памяти К. Н. Леонтьева. Письма К- Н. Леонтьева
к Анатолию Александрову/Предисл. и прим. А. А. Александрова. — Сергиев
Посад, 1915. — XX J I, 129 с
5. Бердяев Н. А. Константин Леонтьев: Очерк из истории рус. рели г
жизни. —Paris, 1926.— 268 с. — Библиогр.: с. 263—268.
6. Закржевский А. Одинокий мыслитель: (Константин Леонтьев): К
25-летию со дня смерти//Изд. жури. «Христиан, мысль». — Киев. 1916. — 35 с.
7. Зандер Л. А. Константин Леонтьев о прогрессе. — Пекин: Вост.
просвещение, 1921. —50 с.
8. Иваск Ю. [П.]. Константин Леонтьев (1831—1891): Жизнь и
творчество.—Bern; Frankfurt/M.: H. Lang, P. Lang, 1974. — 430 с: портр.
Рец.: Левицкий С. [А.].//Нооый журн. — 1977. — № 129. —С. 287—290.
Рец.: Москвитянин. Новая книга о Константине Леонтьеве//Вестн. рус.
христиан, движения. — 1977. — № 11 (121). —С. 182—191.
9. Каталог книгам К. Н. Леонтьева. — Б. м., [189-?]. —8 с.
Перечень книг из библиотеки К. Н. Леонтьева.
10. Корольков А. А. Пророчества Константина Леонтьева. — СПб.: Изд-во
СПбГУ, 1991.—197, [3] с.
11. [Литовкин И. E.J Н. В. Гоголь, И В. Киреевский, Ф. М. Достоевский
и К. Леонтьев перед старцами Оптиной Пустыни. — М., 1897.— 8 с.—
Подпись: Иосиф.
12. Памяти Константина Николаевича Леонтьева, 1891: Лит. сб. — СПб.,
1911. —VIII, 425 с; 4 л. ил.
13 Памяти К. Н. Леонтьева, 1831—1891: Доклады в О-ве им. А. С.
Пушкина, 18 нояб. 1943 г.— Нью-Йорк: Изд-во О-ва им. А. С. Пушкина, 1944.—
28 с
14. [Погожев Е. H.j. Константин Николаевич Леонтьев:
(Воспоминания).— М., 1900.— 52 с —Подпись: Е. Поселянин.
* Сокращенный вариант биобиблиографического указателя о К Н.
Леонтьеве, подготовленного к печати в Российской Национальной библиотеке
45S
15. Сивак А. Ф, Константин Леонтьев. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. —88 с—
(MP: Мыслители России).
16. Тихомиров Л. А. Монархическая государственность/Рос имперский
союз-орден. — СПб., 1992. — КН. Леонтьев. — С. 324—328.
17. Абрамов А. И. Культурно-историческая концепция русской
цивилизации К- Н. Леонтьева//Цивилизация: Прошлое» настоящее и будущее
человека. — М., 1988.— С. 48—61.
18. Авдеева Л. Р. К. Н. Леонтьев: Пророк или «одинокий мыслитель»//
Социал.-полит. журн. — 1992. — № 8. — С. 85—91.
19. Авдеева Л. Р. Проблема государства в русской религиозной мысли
последней трети XIX — начала XX вв.//Вести. Моск. ун-та. Сер. 12, Теория
науч. коммунизма. — 1982. — № 5. — С. 85—94.
20. Авдеева Л. Р. Проблема «Россия и Европа» в воззрениях Н. Я. Да*
нилевского и К. Н. Леонтьева//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. —
1982. — № 3. —С. 74—86.
21. Авдеева Л. Р. Философско-методологические аспекты
консервативной социологии К. Леоитьева//Актуальные проблемы истории философии
народов СССР. —М., 1981. — Вып. 9. —С. 71—78.
22. Александров A. [AJ. К. Н. Леонтьев: (По поводу ст. о нем в «La
Nouvelle Revue»)//Pyc. вестн. — 1892. — № 4. — С. 250—285.
23. Апокриф Н. Вера и современная мысль. Гл. 1: К. Леонтьев и
гр. Л. Толстой//Русь. — 1903, — Вып. 1. —С. 96—141.
24. Бажов С. И. Некоторые аспекты проблемы культурно-исторического
самоопределения России в творчестве К- Н. Леонтьева//Актуальные
проблемы истории русской философии XX века. — М., 1987. — С. 131—150.
25. Бердяев Н. А. К. Леонтьев — философ реакционной
романтика/Бердяев Н. A. Sub specie aeternitatis: Опыт филос, социальные и лит. — Пб.:
1907. —С. 302—333.
26. Бибихин В. Из истории русской философской мысли: Константин
Николаевич Леонтьев//Лит. газ.— 1989. — 5 апр. (№ 14). — С. 5.
27. Бочаров С. [Г.]. «Ум мой упростить я не могу»//Лит. газ. — 1991.—
18 дек. (№ 50). —С. П.
28. Бочаров С. Г. Эстетический трактат Константина Леонтьева//Вопр.
лит. — 1988. — N* 12.— С. 188—200.
29. Бочаров С. Г. «Эстетическое охранение» в литературной критике:
(К. Леонтьев в рус. лит.)//Контекст, 1977. —М., 1978.— С. 142—193.
30. Буданова Н. Ф. Достоевский и Константин Леонтьев//Достоевский:
Материалы и исслед. — Л., 1991. — № 9. — С. 199—222.
31. Булгаков С. Н. Победитель — побеждённый: (Судьба К. Н.
Леонтьева)//Булгаков С. Тихие думы: Из ст. 1911—1915 гг.—М., 1918.—С. 115—134.
32. Волков Б. Неузнанный феномен//Учит. газ.— 1991. — 26 нояб.—
3 дек. (№ 48). —С. 11.
456
33. Гагарин А- С. Кризис европоцентризма и судьба России:
Культуролог, воззрения К. Н. Леонтьева и О. Шпенглера//Культуры в диалоге.—
1992.— Вып. 1. — С. 14—37.
34. Гальцева Р., Родянская И. Раскол в консерваторах: (Ф. М.
Достоевский, В. С. Соловьёв, К. П. Победоносцев в спорах об общественных
идеалах) //Неоконсерватизм в странах Запада: Реф. сб. — М., 1982. —
С. 227—295.
35. Гайденко П. П. Наперекор историческому процессу: (К. Леонтьев —
лит. критик.)//Вопр. лит.— 1974. — № 5, — С. 159—205.
36. Гачев Г. Д. Три мыслителя: Леонтьев. Розанов. Пришвин: (Главы
из кн. «Русские думы»)//Моск. вестн.— 1990. — № 8. — С. 197—214.
37. Глушкова Т. [MJ. «Боюсь, как бы история не оправдала меня...»//
Леонтьев К. Н. Цветущая сложность: Избранные статьи — М., 1992.—
С. 6—66.
38. Глушкова Т. [М.]. «Боюсь, как бы история не оправдала меня...»:
Рус. мысль//Наш современник.— 1990. — № 7. — С. 139—154.
39. Глушкова Т. [М.]. Преждевременный Константин Леонтьев//Брега
Тавриды.—1991.—Дй 1, в. —С. 11—23.
40. Грифцов Б. [А.]. Судьба К. Н. Леонтьева//Рус. мысль. — 1913. —
Ко 1. —С. 85—107; № 2. —С. 51-77; № 4. — С. 1—14.
41. Губанков Н. Н« К истории борьбы эстетизма с техницизмом в
буржуазной культурологии//Искусство в системе культуры: Социолог, аспекты. —
Л., 1981. —С. 27—33.
42. Губанков Н. Н. К критике концепции культурологического цикла:
(Учение К. Н. Леонтьева о динамике культуры и
современность)//Идеалистическая диалектика XX века: Критич. анализ. — Л., 1978.— С. 144—160.—
(Проблемы диалектики; Вып. 8.)
43. Губер П. К. Константин Леонтьев//Леонтьев К. Страницы
воспоминаний. — СПб., 1922. —С. 3—8.
44. Ерофеев В. Интимнейшие места русского консерватизма//Моск.
новости. — 1992. — 19 июля (№ 29). — С. 2.
45. Замараев Г. И. Памяти К. Н. Леонтьева/Сообщ. и прим. А. А. Алек-
сандрова//Рус. мысль. — 1916. — № 3. — С. 96—102 (отд. II).
46. Иванова Е. К. К. Н. Леонтьев: Судьба и идеи//Лит. учеба. — 1992 —
№ 1/3. —С. 135—139, портр.
47. Иваск Ю. [П.]. Розанов//Волга. — 1992. —№ 1. —С. 109—110.
48. Иваск Ю. [П.]. «Подлипки» К. Леонтьева: [Рец.]//Новый журн. —
1955. —№ 40.— С. 142—152. — Рец. на: Леонтьев К. Н. Подлипки:
(Записки Владимира Ладнева): Роман: В 3 ч.//Отеч. зап. — 1861.—Т. 138, № 9.—
С. 1-92; № Ю.-С. 319-374; Т. 139, № 11. -С. 1-74 (отд. 1).
49. Иваск Ю. [П.]. Что Леонтьев чтил, ценил, любил//Вестн. рус.
христиан, движения. — 1977. — № IV (123). —С. 175—181.
50. К ЮО-летию со дня смерти//Лит. Россия — 1991.—22 нояб. (№ 47).—
С. 20—21. — Содерж.: Возвращение Леонтьева/Р. Багдасаров, А. Вовченко.
Единство с эпохой/С. Сергеев.
457
51. Кириллова Е. А. Необходимый момент в истории русского
самосознания: (Филос.-ист. концепция К. Леонтьева)//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7,
Философия. — 1990. — № 5. — С. 49—57.
52. Козловский Л. (С]. Мечты о Царьграде: (Достоевский и К. Леонть^
ев)//Голос минувшего,— 1915. — № 2. — С 88—116; № П. —С. 44—74.
53. Кондратович В. Смещение: По разные стороны баррикад: (К.
Леонтьев и Н. Федоров)//Лабиринт/Эксцентр: Соврем, творчество и культура.—
1991. —Ло К —С. 119—131.
54. Корольков А. А. Константин Леонтьев и его эстетическая картина
эгалитарного процесса//Филос. науки.— 1991. — № 11. — С. 115—127.
55. Косик В. И. Константин Николаевич Леонтьев: Реакционер, про-
рок?//Сов. славяноведение. — 1991. — № 3. — С. 3—11.
56. Косик В. И. Прогресс, эстетика, христианство у К. Н. Леонтьева
и судьба славянства//Славяне: адзшетва i мнагастайнасць. — Мшск, 1990.—
Секцыя 6, Секцыя 7. — С. 62—64.
57. Кремнев Г. Константин Леонтьев и русское будущее: К 100-летию
со дня смерти//Наш современник. — 1991. — № 12. — С. 167—169.
58. Кромвель без меча: Константин Леонтьев: [Высказывания Вл. С.
Соловьёва, В. В. Розанова, Б. А. Филиппова, Г. Д. Гачева/Подгот. к печати
И. 3.]//Независимая газ. — 1991.— 23 нояб. — С. 8.
59. Куликов Ю. Склоняя голову: Обретение могил К. Н. Леонтьева и
В. Розанова//Лит. Россия. — 1991. — 18 окт. (№ 42). —С. 13.
60. Лесневский С. Писатель-инок: К 160-летию со дня рождения
К. Н. Леонтьева//Кн. обозрение. — 1991.— 25 янв. (№ 4). —С. 8—9.
v 61. Лиливяли Н. В. К вопросу о сущности консервативного
общественного идеала К. Н. Леонтьева//Актуальные проблемы истории русской фило»
.софии XX века. —М., 1987. — С. 151—159.
62. [Лиливяли Н. В.] К. Н. Леонтьев и русский религиозный ренессанс/
Беседу вёл Е. Шкловский//Из истории религиозной философии в России,
XIX—начало XX вв. — М., 1990.— С. 66—82. — Подпись: Лиллевяли Н. В.
63. Лиливяли Н. В. Религиозно-философская концепция К. Н. Леонть-
■ева//Религиозно-идеалистическая философия в России, XIX — начала XX вв.
(Критич. анализ). —М„ 1989.— С. 55—70.
64. Лобов Л. П. Страничка из прошлого: К характеристике К. Н. Ле-
«онтьева//Славян. изв. — 1906. —№ 8, ноябрь — дек. — С. 585—588.
65. Лукашевский Е. С, Ермичев А. А. Идея общественного прогресса
в русской религиозной философии//Герценовские чтения/Ленингр. гос. пед.
ин-т.— Л., 1976. —Чтения XXIX. —С. 27—32.
66. Мальгин А. Константин Леонтьев и Крым//Брега Тавриды.— 1991.—
№ I, в. —С. 68-69.
67. [Медведский К.] Философ-христианин: (Основы миросозерцания
К. Н. Леонтьева)//Рус. вестн. — 1896. — JVb 1. —С. 227—254; № 4. — С 115—
145. — Подпись: М-ский.
68. Мещеряков Н. [Л.]. У истоков современной реакции//Лит.
наследство. — 1935. — Т. 22—24. — С. 427—432.
458
69. Милюков П. Н. Разложение славянофильства: (Данилевский,
Леонтьев, Вл. Соловьёв)//Милюков П. [Н.]. Из истории русской
интеллигенции.—СПб., 1902. —С. 266—308.
70. Миляев Н. Из воспоминаний о Константине Николаевиче Леонтьеве//
Рус. обозрение. —1898. —Т. 49, № 1. —С. 485—489.
71. Морякова О. В. Культурная традиция и политика в философии
К. Леонтьева//Человек и культурно-историческая традиция. — Тверь, 1991.—
С. 89- -95.
72. Новиков А. И., Григорьева Т. С. Консервативная утопия
Константина Леонтьева//Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьёв. —
СПб., 1991. —С. 297—310.
73. Парцевский А. К биографии К. Н. Леонтьева//Изв. Одес. библиогр.
о-ва.—1912.— Т. 1, вып. 7. —С. 255—260.
74. Преображенский П. [Ф.]. Александр Герцен и Константин Леонтьев;
Сравнит, морфология творчества//Печать и революция. — 1922. — № 2. —
С. 78—88.
75. Рабкина Н. А. Антигерой Достоевского и штрихи реальной истории//1
Изв. АН СССР. Сер. яз. и лит. — 1984.— Т. 43, № 4 (июль —авг.). —
С. 315—326.
76. Рабкина Н. А. «Византизм» Константина Леонтьева//История
СССР.—1991. —№ 6.— С 28—44.
77. Рабкина Н. А. Исторические взгляды К. Н. Леонтьева//Вопр.
истории. — 1982. — Ко 6. —С 49—61.
78. Рабкина Н. [А.]. Литературные уроки: Тургенев и К. Леонтьев —
история взаимоотиошсний//Вопр. лит.— 1991. — № 4. — С. 124—132.
79. Рабкина Н. [А.]. «Хищный эстет» и антигерой духа//Моск.
комсомолец. — 1992.— 28 фсвр.
80. Розанов В. В. Неоценимый ум//Опыты: Лит.-филос. ежегодник. — М.г
1990.— С. 326—334. — Рец. на кн.: Леонтьев К. О романах гр. Л. Н.
Толстого. Анализ, стиль и веяние. (Критич. этюд). — М., 1911. — 2, 152 с.
81. Розанов В. В. Поздние фазы славянофильства: К. Н. Леонтьев//Роза-
нов В. Литературные очерки. — СПб., 1899.—С. 115—125.
82. Розанов В. [В.]. Теория исторического прогресса и упадка.
Эстетическое понимание истории//Рус. вестн.— 1892. — № 1. — С. 156—188; № 2.—
С. 7—35; N° 3. —С. 281—327.
83. Рубцова Т. Н. Концепция культуры К. Н. Леонтьева//Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 7, Философия. — 1991. — № 4. — С. 20—30.
84. Рубцова Т. Н. Некоторые аспекты концепции К. Н. Леонтьева//Про-
тиворечия современного общественного прогресса: Тез. респ. науч. конф.
Гродно, 14—16 дек. 1989 г. —Гродно, 1989. —Ч. 2. — С. 191—193.
85. Сергеев С. Неуслышанный пророк: 100 лет памяти К. Н. Леонтьева,
1831—1891 //Рос. календарь знаменат. дат.— 1991. — № 9. — С. 48—53.—
Библиогр.: с. 52.
86. Сивак А. [Ф.]. Всадник русского апокалипсиса: Откровения и судьбы
К. Леонтьева//Лит. газ,— 1991. —20 нояб. (№ 46). —С. 15.
459»
87. Слесарева Г. Ф. Константин Николаевич Леонтьев, (1831—1891):
К 100-летию со дня смерти//Филос. науки.—1991. —№ П. —С 105—114.
88. Соловьёв Вл. С. Замечания на лекцию П. Н. Милюкова//Вопр.
философии и психологии. — 1893.—№ 3, май. — С. 46—96.
89. Соловьёв Вс. [С]. К. Н. Леонтьев: [Некролог]//Рус. вестн. — 1891.—
№ 12.--С. 281—287.
90. Тихомиров Л. А. Русские идеалы и К Н. Леонтьев/Публ. и коммент,
Е. Ивановой//Лит. учеба. — 1992. — № 1/3.— С. 152—159» портр.
91. Тихомиров Л. А. Тени прошлого: К. Н. Леонтьев: [Гл. из мемуаров]/
Публ. н коммент. Е. Ивановой//Литературная учеба — 1992. — № 1/3 —
С. 140—151.
92. Трубецкой С. [Н.]. Противоречия нашей культуры//Вестн. Европы. —
1894. —№ 8. —С. 510—526.
93. Трубецкой С. (HJ. Разочарованный славянофил//Вестн. Европы. —
1892. — Ко 10. —С. 772—810.
94. Филиппов Б. А. Непонятый: К 150-летию со дня рождения
Константина Леонтьева (13/25 января 1831)//Леонтьев К. Письма к Василию
Розанову. — London, 1981. —С. 5—19.
95. Франк С. [Л.]. Миросозерцание Константина Леонтьева//Критич.
обозрение. — 1909. — JSfe 11. — С. 79—85.
96. Фудель И. [И.]. К. Леонтьев. Предисловие редактора/ДПеонтьев К.
Собр. соч. —М., 1912. —Т. 1. —С. 1—XI.
97. Фудель И. [И.]. К. Леонтьев и Вл. Соловьёв в их взаимных отноше-
ниях//Рус. мысль—1917.—№ 11—12. —С. 17—32 (отд. II).
98. Фудель И. [И.]. Культурный идеал К. Н. Леонтьева/Публ. и коммент.
Е. Ивановой/АПит. учеба.—1992. —№ 1/3. —С. 160—171, портр.
99. Чалмаев В. Неизбежность//Мол. гвардия. — 1968. — № 9. — С. 259—
289.
100. Янов А. Л. Славянофилы и Константин Леонтьев: Рус.
консерватив. мысль XIX в. и ее интерпретаторы//Вопр. философии.— 1969. — № 8.—
С. 97—106.
101. Янов А. Л. Трагедия великого мыслителя: (По материалам
дискуссии 1890*х п\)//Вопр. философии. — 1992. — № I. —С. 61—88.
102. Янов А. [Л.]. Три утопии: (М. Бакунин, Ф. Достоевский и К.
Леонтьев) //Искусство кино. — 1992. — № 9. —С. 3—10.
Авторефераты
103. Авдеева Л. Р. Религиозно-консервативная социология К. Н.
Леонтьева: Автореф. дис. ... канд. философ. наук/МГУ им. М. В.
Ломоносова.—М.: Изд-во МГУТ 1983. —21, [I) с —Библногр.: с. [1].
104. Янов А. Л. Славянофилы и Константин Леонтьев: (Буржуаз. миф
о «пророчестве Константина Леонтьева» и рус. консерватив. мысль XIX
столетия): Автореф. дис. канд. философ, наук. — М., 1970. — 20 с.
460
Письма к К. Н. Леонтьеву
105. Розанов В. В. Неизданные письма к К. Н. Леонтьеву/Публ., ком*
мент, и прим. Т. В. Померанской//Лит. учеба. — 1989. — № 6. — С. 127—140.
106. Розанов В. В. Письма К. Н. Леонтьеву//Розанов В. В. Сочинения. —
М.. 1990. —С 446—488.
107. Тургенев И. С. Письма К. Н. Леонтьеву//Тургенев И. С. Письма:
В 18 т. —М., 1987, —Т. 3: Письма, 1855—1858. — С. 14—15, 339—340, 416—
417, 610, 624, 658,— (Поли. собр. соч. и писем: В 30 т.).
Энциклопедии и справочники.
Библиография
108. Владиславлев И. В. Русские писатели: Опыт библиогр. пособия по
рус. лит., XIX—XX ст. — 4-е изд., перераб. и значит, доп. — М.; Л., 1924. —
К. Н. Леонтьев. —С. 261—263.
109. Гачев Г. [Д.]. Русская дума: Портреты рус. мыслителей. — М„
1991. —К. Н. Леонтьев.— С. 50—53, портр.
ПО. Змеев Л. Русские врачи — писателн. — Вып. I, III. —СПб., 1886—
1887. —К. Н. Леонтьев. — Вып. I. — С. 175; Вып. III. —С. 34—35.
111. Из истории русской философской мысли, конец XIX— начало
XX века: Каталог кн. выставки/М-во культуры РФ; РАН; Гос. публ. ист.
б-ка. — М., 1992. — К. Н. Леонтьев. — С. 33—35.
112. История русской литературы XIX века: Библиогр. указ./Под ред.
К. Д. Муратовой. — М.; Л., 1962. —К. Н. Леонтьев. — С. 412—414.
113. Источники словаря русских писателей/Сост. С. А. Венгеров. — Пг.,
1914. — Т. III. —К. Н. Леонтьев. —С. 439—441.
114. Языков Д. [Д.]« Обзор жизни и трудов русских писателей и
писательниц. — СПб., 1909, —Вып, 11. —К. Н. Леонтьев.— С. 116—122.
115. Жижикашвили С. В. Леонтьев К. Н.//Русские писатели: Библиогр.
словарь. — М., 1990.— Т. 1. —С. 407—409.
116. Коноплянцев А. [М.]. Леонтьев К. Н.//Рус. биогр. словарь. — СПб.,
1914.—[Т. 10]. —С. 229—249. —Библиогр.: с. 246—249.
117. Лучанский М. Леонтьев К. Н.//Лит. энциклопедия. — М., 1932.—
Т. 6. — Стб. 279—281.
118. [Покровский М. Н.]. Леонтьев К- Н.//Энциклопедический словарь/
Т-во Бр. А. "и И. Гранат и Ко. —[М., 1915]. —Т. 27. — Стб. 36—39.—
Подпись: М. П.
119. Соловьёв Вл. С. Леонтьев К. Н.//Энциклопедический словарь/Изд.
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. —СПб., 1896. —Т. XVIIa. —С. 562—564.
120. Шкуринов П. Леонтьев К- Н.//Философ. энциклопедия — М., 1964.—
Т. 3. —С. 177.
Составил С. Я). Баранов
461
ПРИМЕЧАНИЯ
10 — Конец века *.
15 — В себе и для себя (нем,).
23 — Государство — это я.
29 — Жуткое дитя.
32 — «Современная Франция» или «Демократическая Франция».
33 — Этого хочет Бог!
34 — За разбитые горшки заплатит Австрия.
36 — Бросок на Восток (нем.).
— Священная французская земля.
37 — Бросок на Запад (нем.).
39 — Смеётся тот, кто смеётся последним.
— Умному достаточно (лат,).
48 — Кто хорошо различает, тот хорошо мыслит (лат.).
52 — Два трактата (англ.).
73 — Нет девичьей чести, но это не потеря.
— Нет философии, но это не потеря.
74 — Поздно спохватиться.
77 — Политика национальностей.
80 — «Россия и Вселенская Церковь».
85 — Бог захотел, чтобы христианство было по преимуществу греческим.
96 — Досточтимый греческий обряд.
— Византийский грек.
104 — Что позволено Юпитеру, не позволено быку (лит.).
105 — «Исповедь революционера».
— «Экономические противоречия».
112 — Здесь: жизненная мощь (лат,).
123 — Все дороги ведут в Рим.
132 — «Первые любовники» (театр, амплуа).
]72 — Парикмахеры (искаж. франц,).
— Солдат.
176 — Искушение.
190 — Прогрессирующая одержимость демократией (лат.).
203 — Умеренный успех.
207 — Здесь: закупорка кишечника (лат.).
223 — Она погаснет только вместе с жизнью.
239 — Самые большие человеческие несправедливости — нередко лишь
воплощение наивысшей Божественной правды.
246 — Род.
249 — И если нет — нет!
250 — Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь.
261 — «Справедливость».
274 — Аппетит приходит во время еды.
* Здесь и далее при переводе с французского язык оригинала не
указывается.
Надеемся, что наш опыт ограничения примечаний переводами
иноязычных выражений не обескуражит образованного читателя. Большинство
упомянутых в сборнике имён и понятий ему известны, остальные легко
проясняются из контекста. Тех, кого наша оговорка не убедит, отсылаем к
литературе, указанной в Библиографии, к всевозможным энциклопедиям и,
наконец, к примечаниям в вышедших в 1991—92 гг. леоктьевских сборниках
«Египетский голубь», «Цветущая сложность», «Записки отшельника» и др. —
Ред.
462
.276 — Сборище хамов.
— Поживём — увидим!
586 — У книг свои судьбы (лат.).
293 — Нехотя.
299 — «И от Сына» (лат.) — часть католического Символа Веры.
-306 — Для этого случая (лат.).
308—Каждому своё (лат.).
341—Права человека.
347 — Равенство.
351—«С точки зрения вечности» (лат.).
355 — С известными оговорками (лат.).
386 —Абсурд (лат.).
•448 — Противоречие в определении (лат.).
К. ЛЕОНТЬЕВ, НАШ СОВРЕМЕННИК
Сборник
Составители £. Адрианов, И. Мальчевский
Редактор Б. Останин
Художник В. Трилссский
Техн. редактор Г. Парфёнова
Корректор А. Голикова
Издательство Чернышёва, 194044т Петербург» Выборгская наб., 41
Сдано в набор 01.06.93. Подписано в печать 24.08.93. Формат бОХЭО1/^-
Бумага писчая. Печать высокая. Тираж 8000 экз. Печ. л. 29,0. Заказ № 103.
Ордена Трудового Красного Знамени ГП сТехническая книга»
типография № 8 Мининформпечати РФ. 190000, Петербург, Прачечный пер., 6.